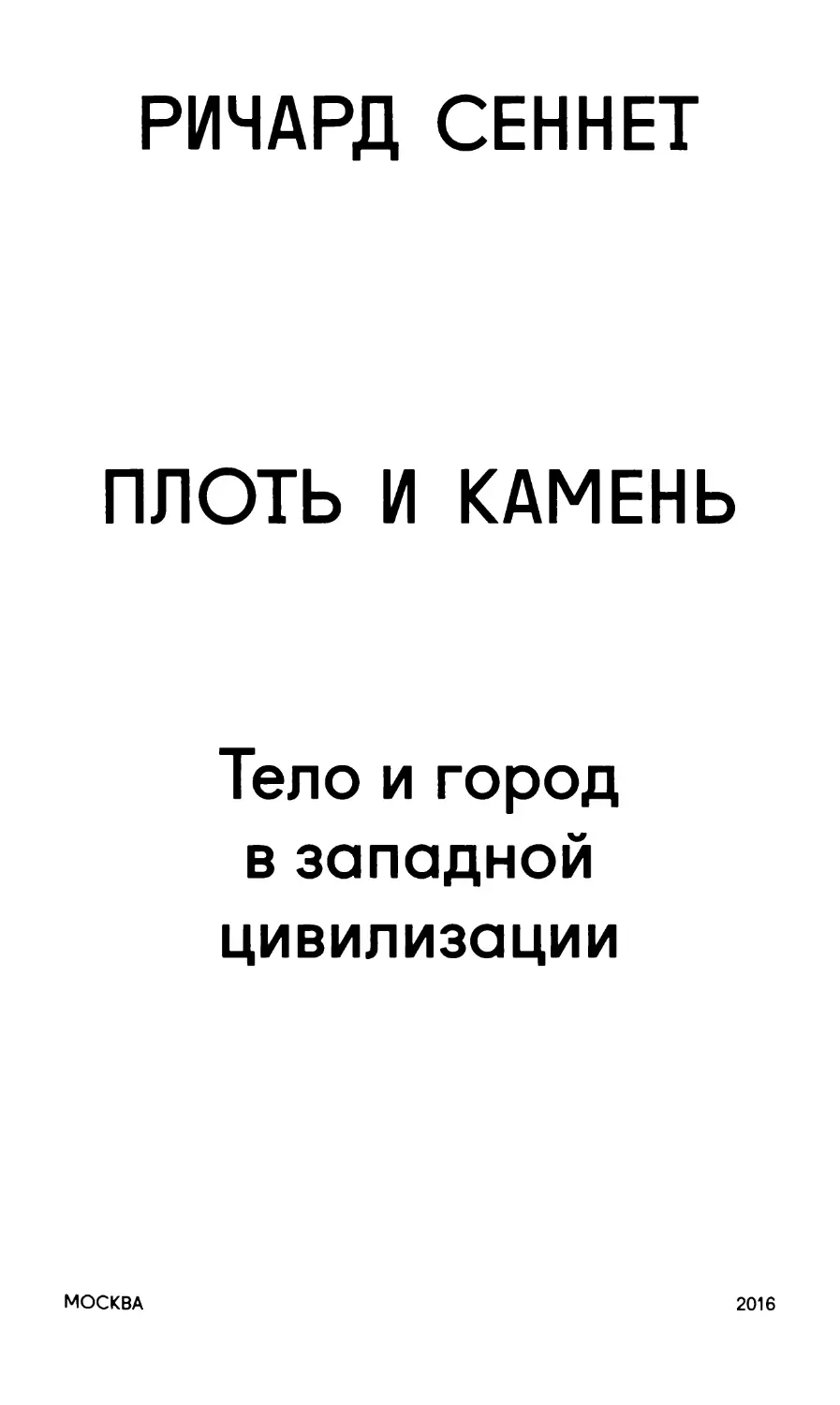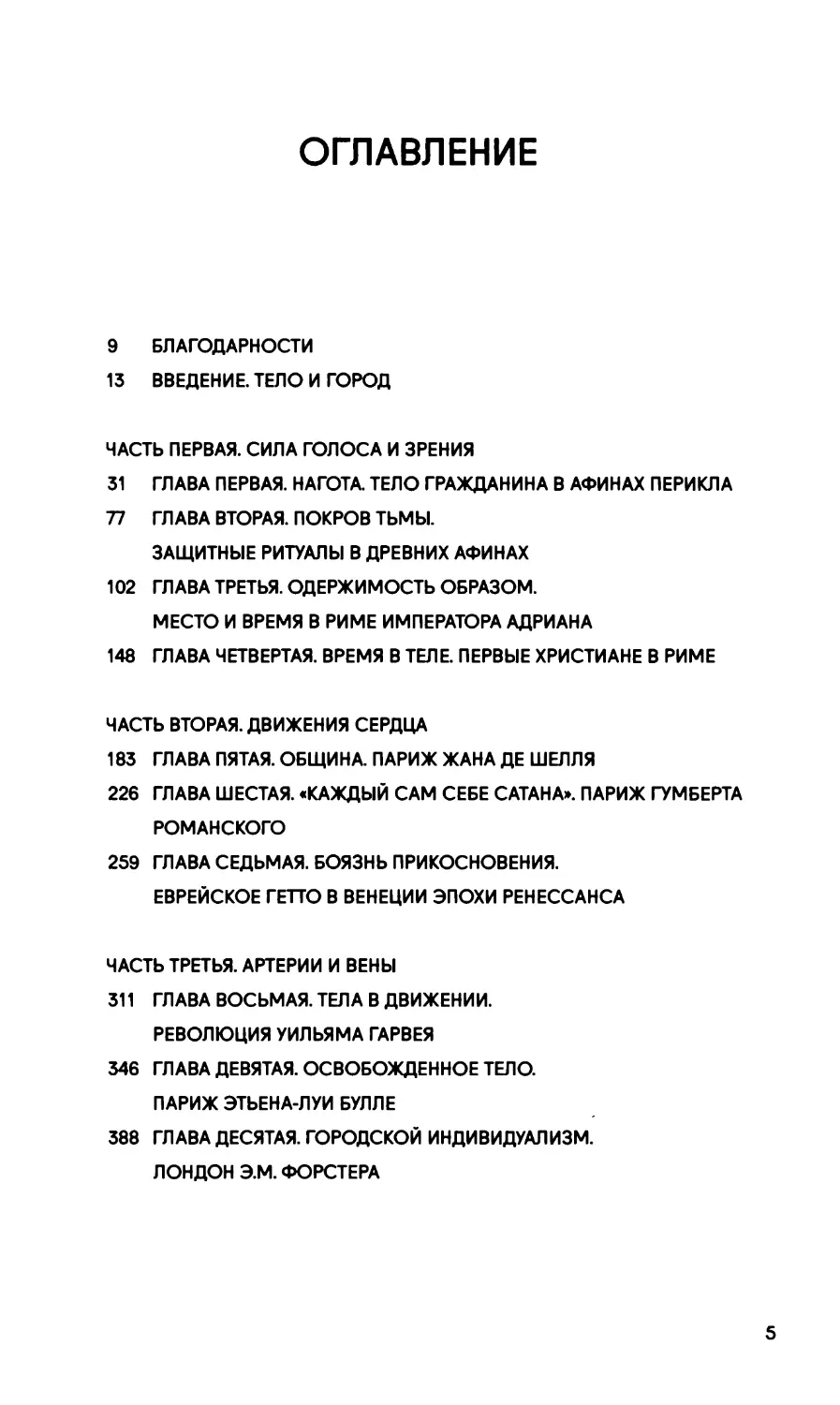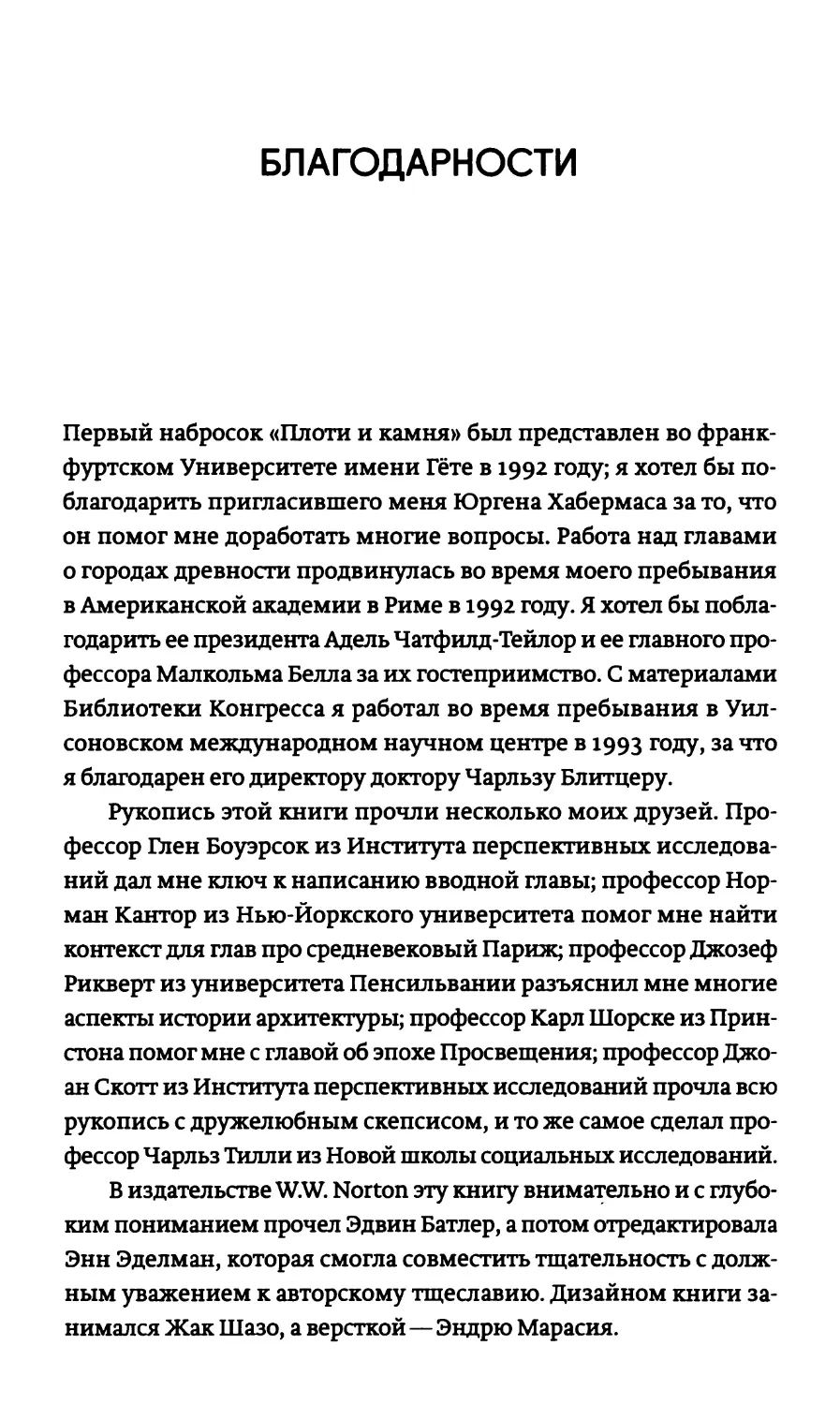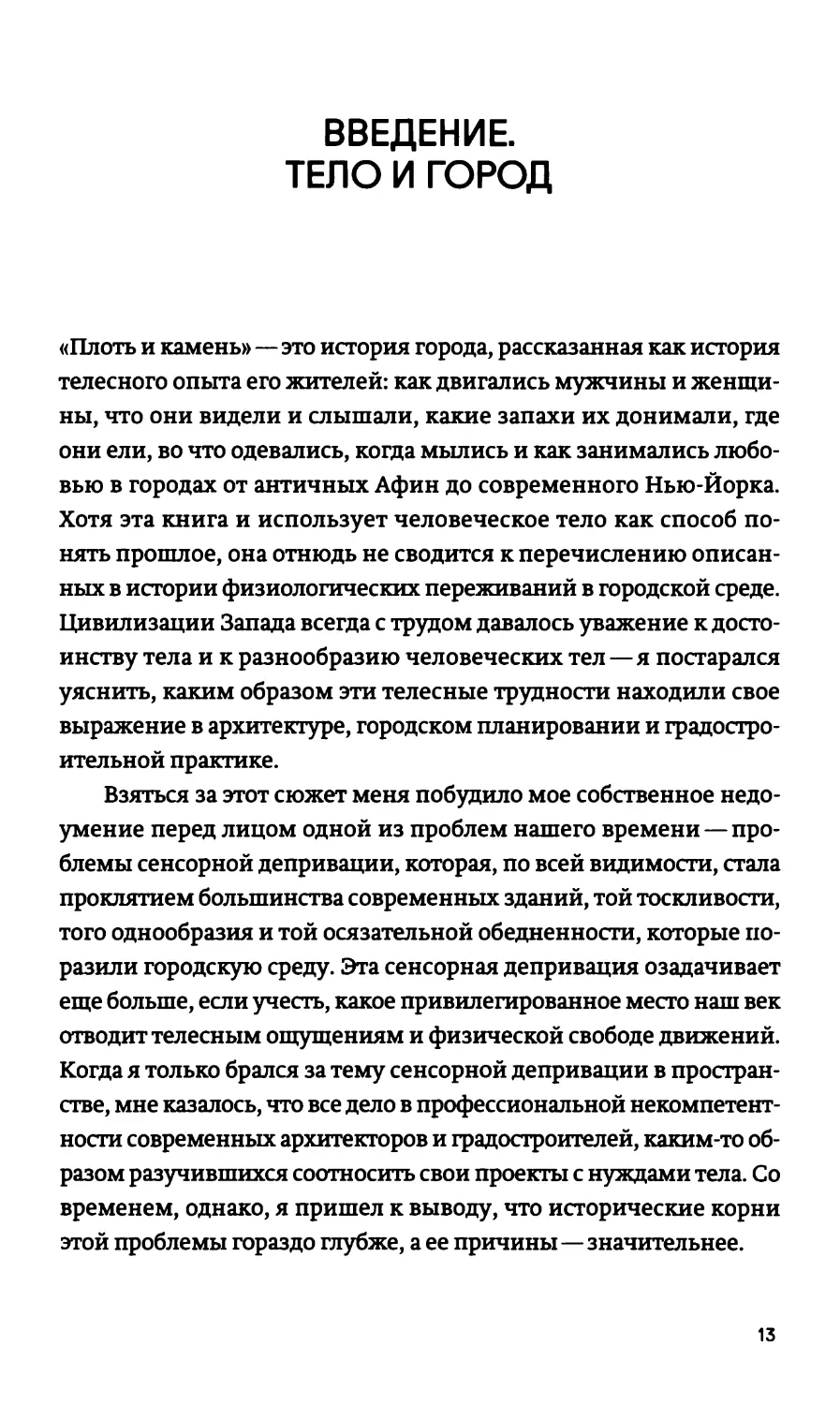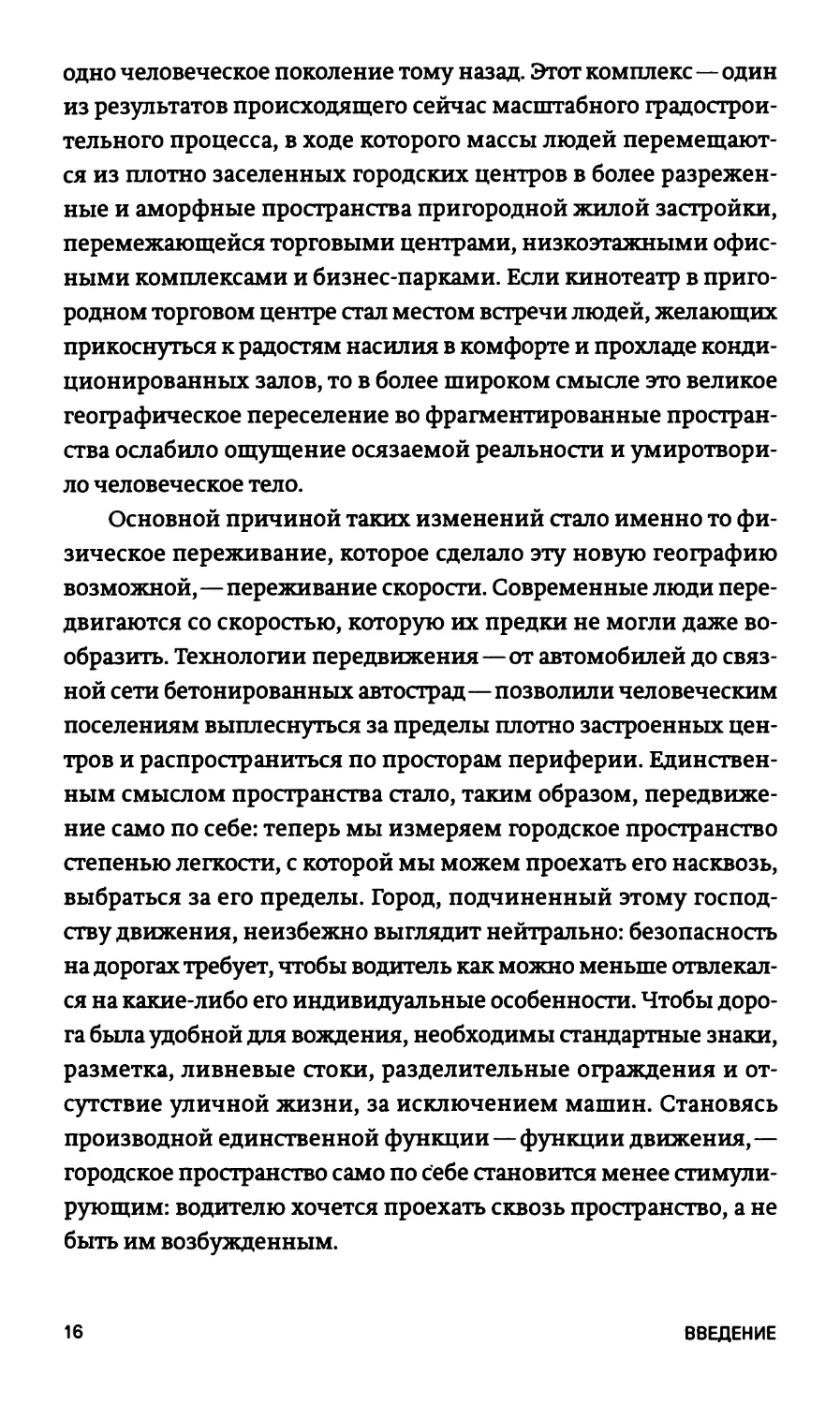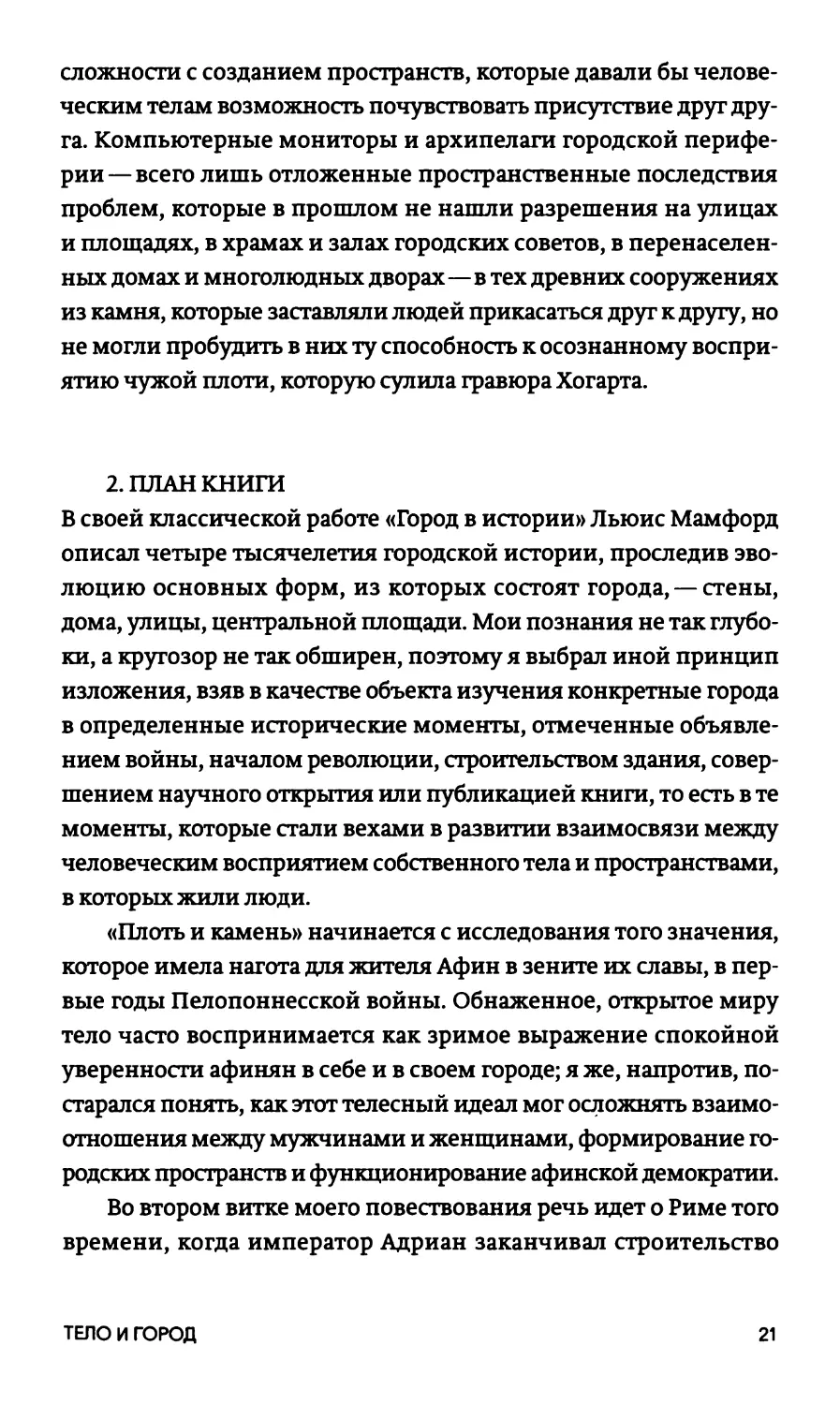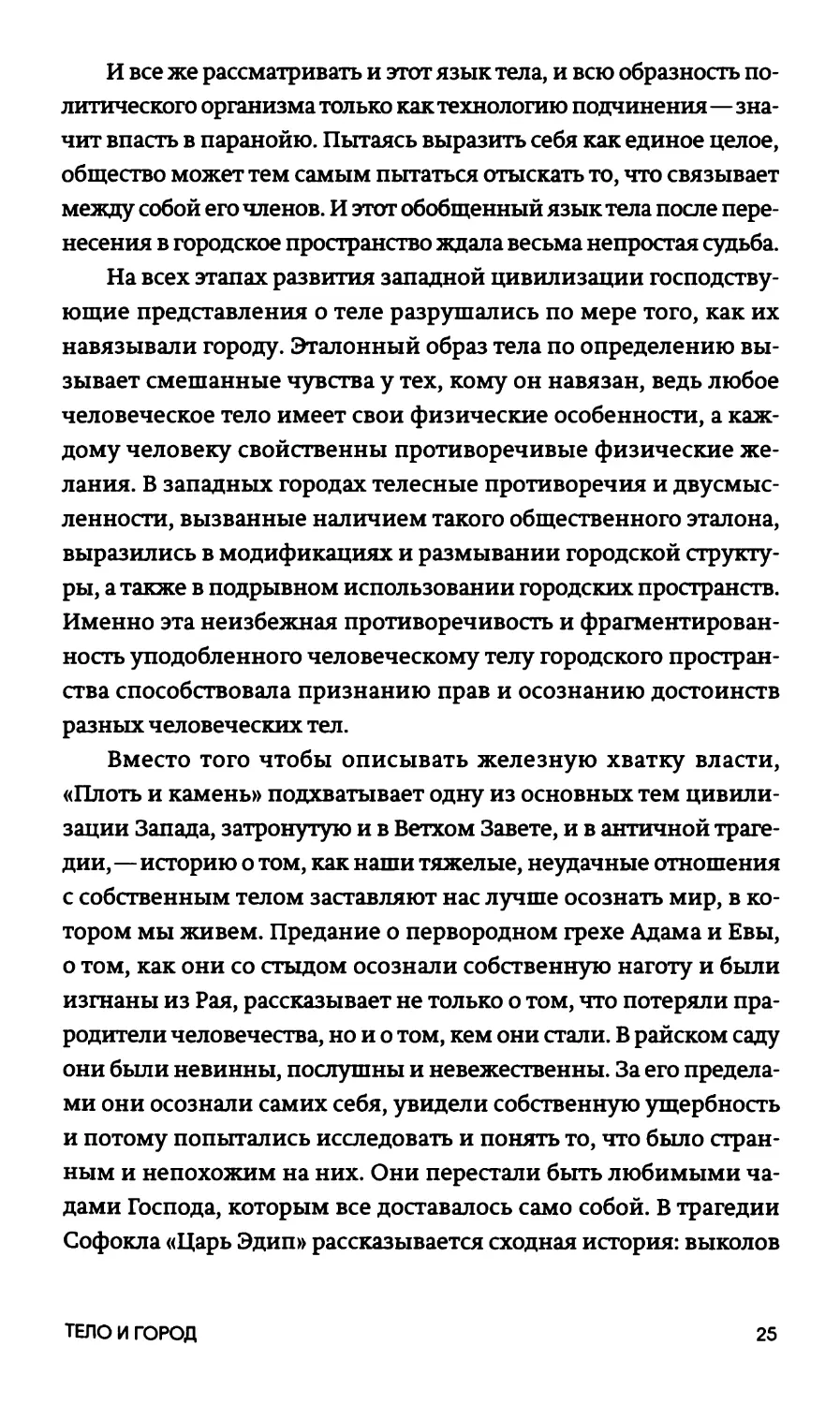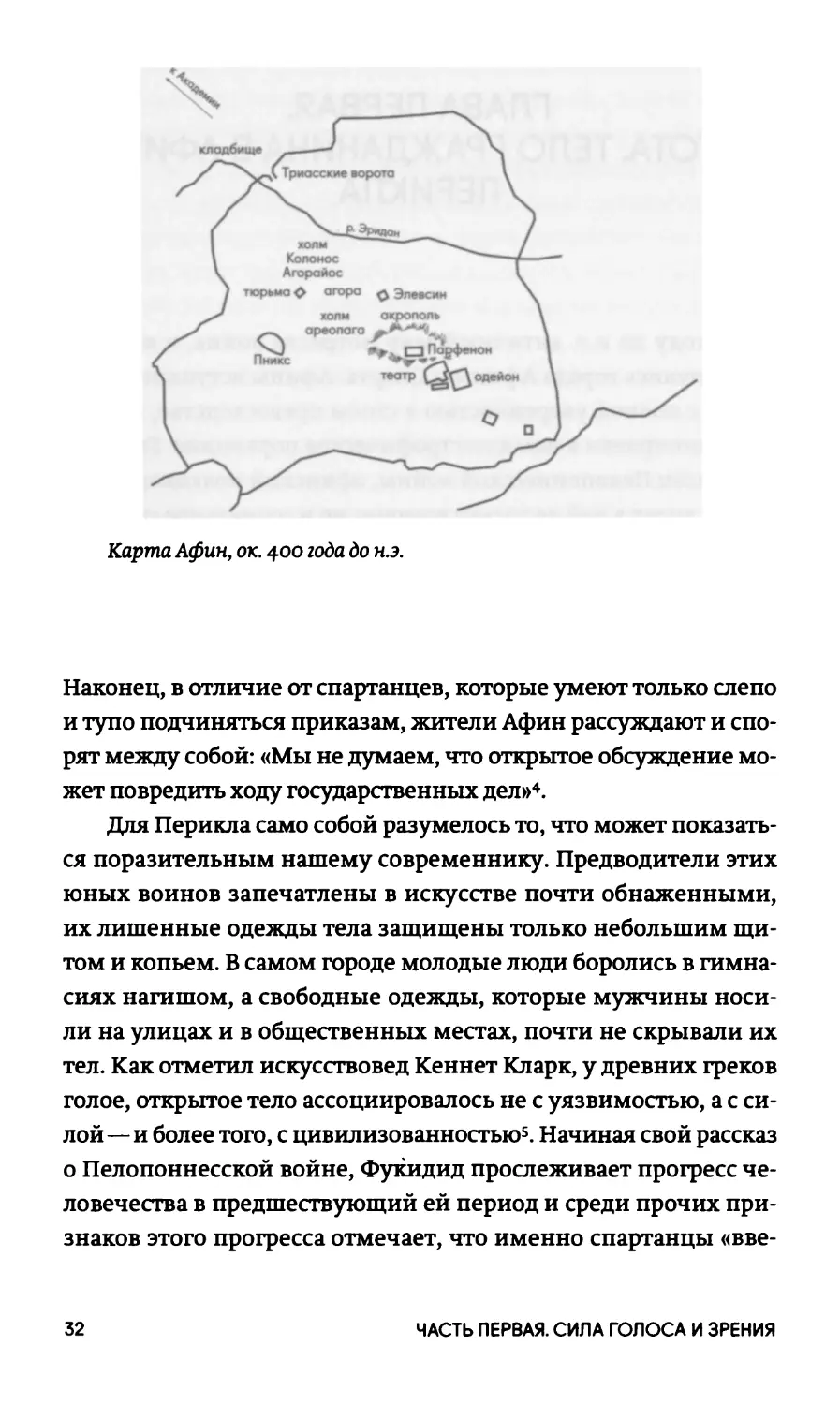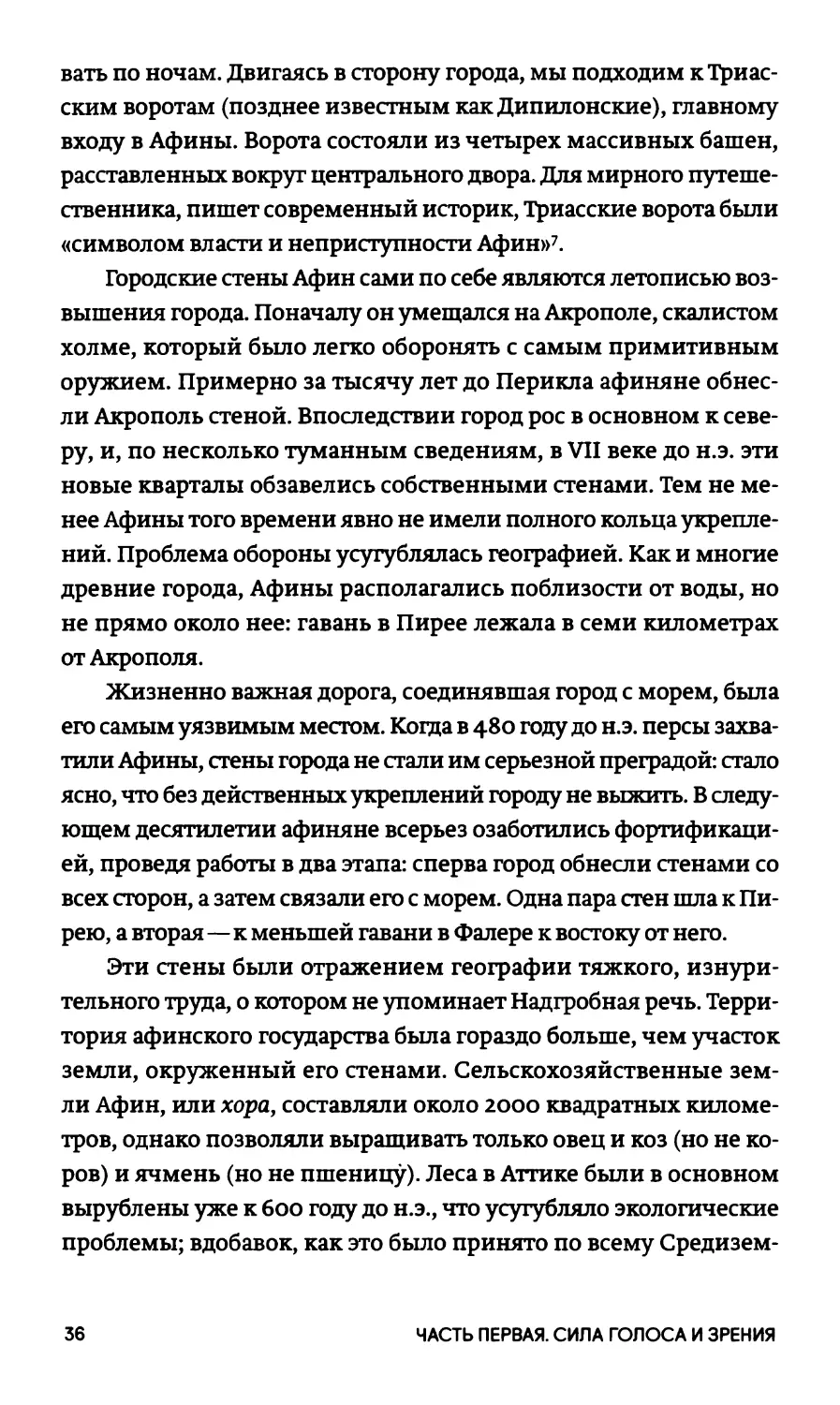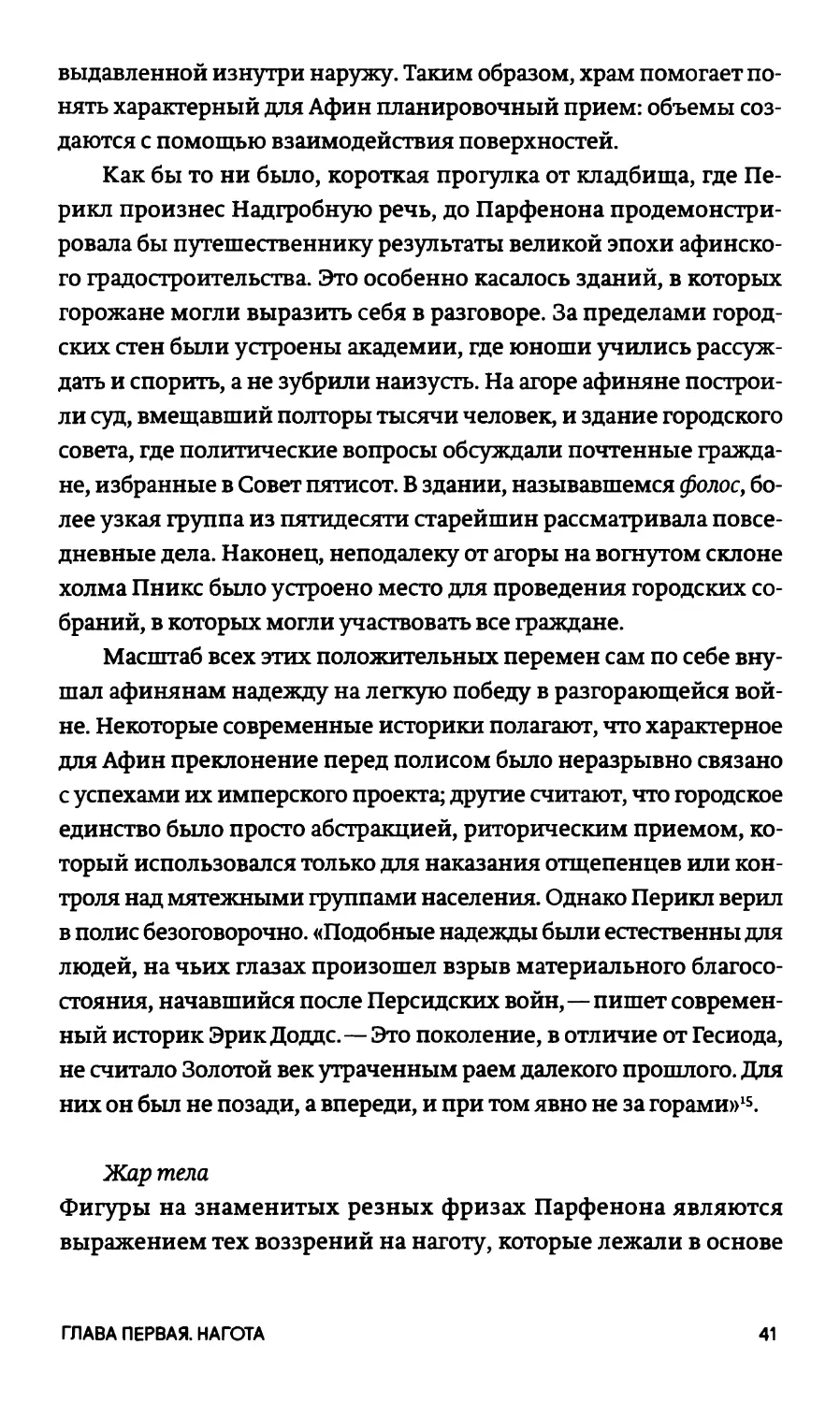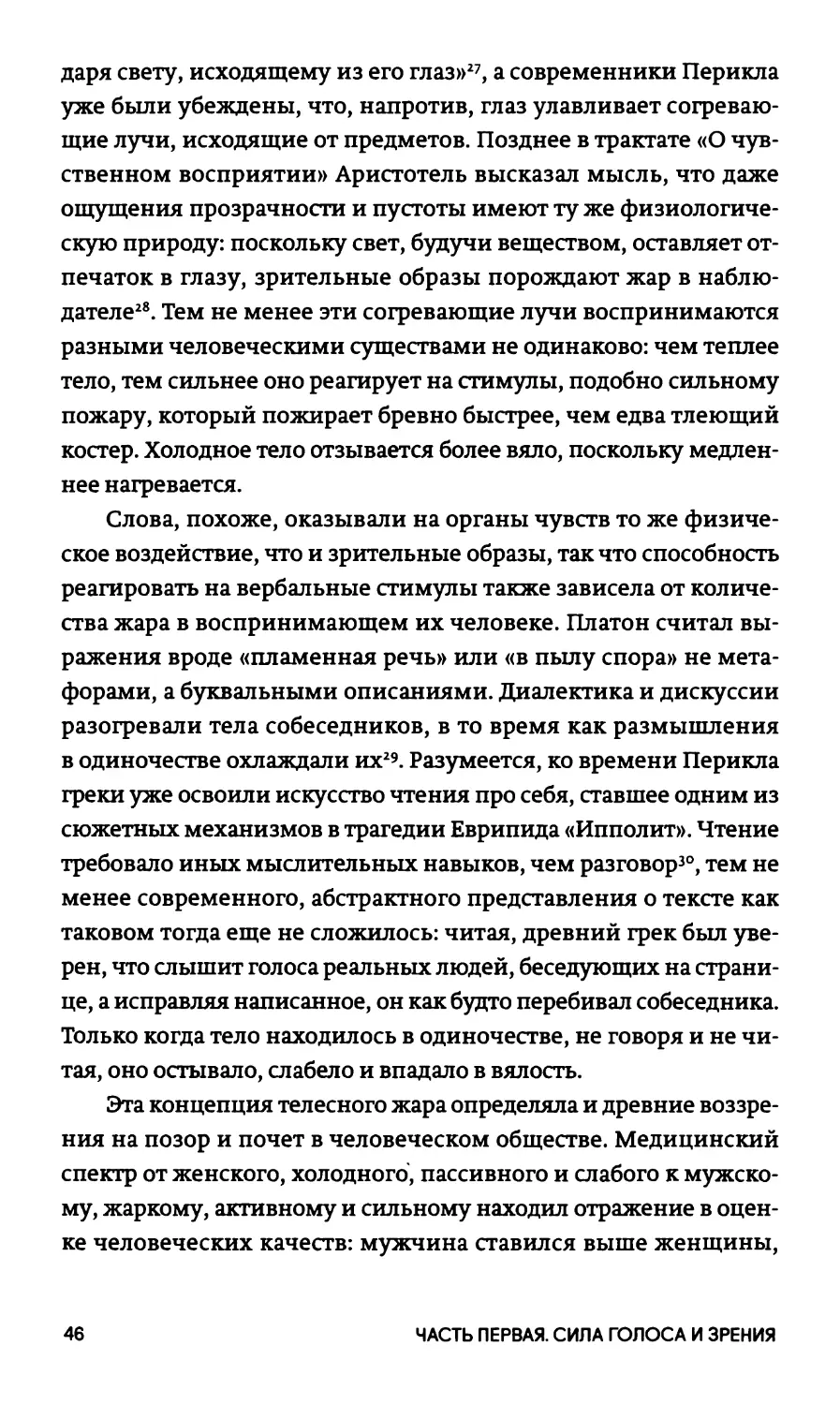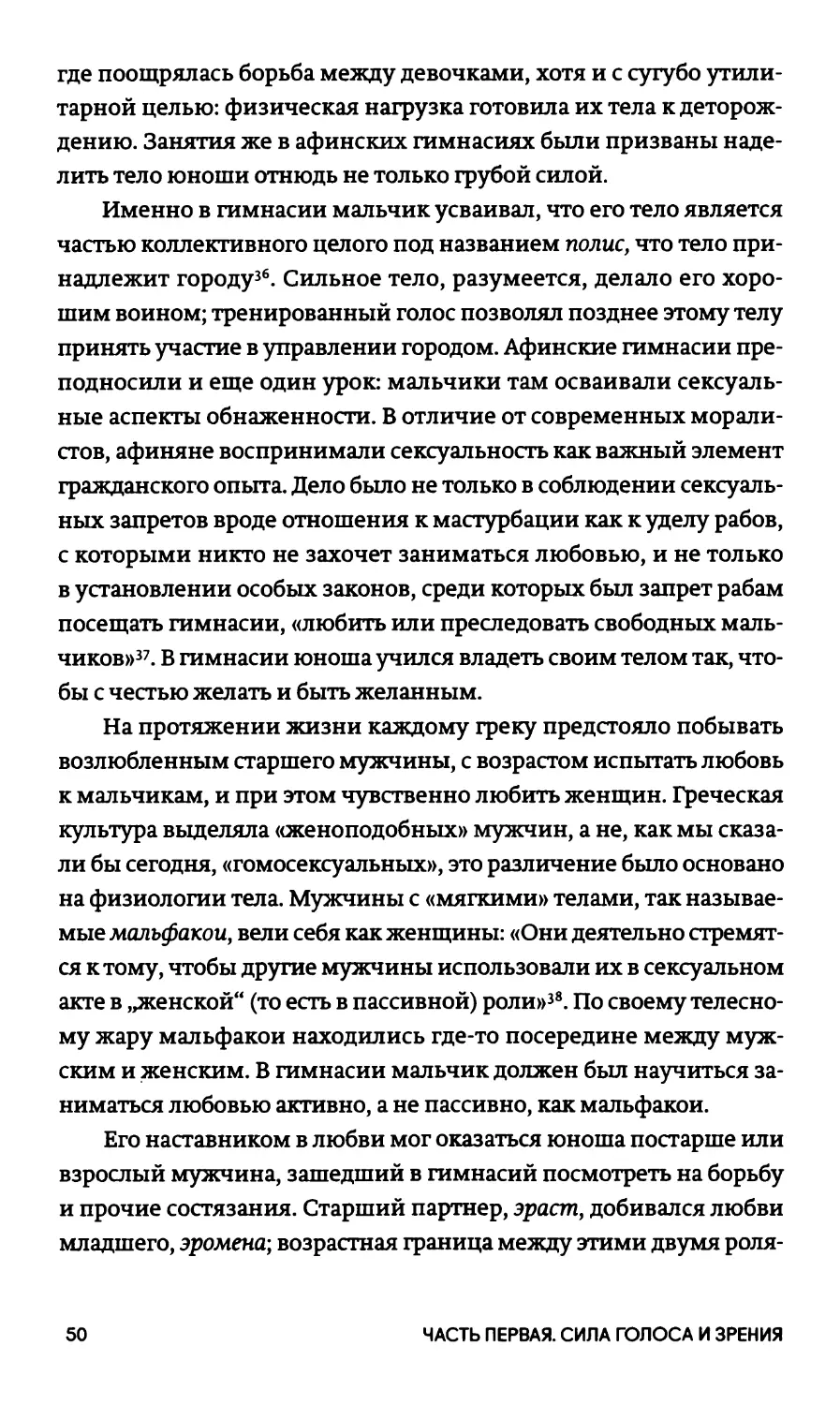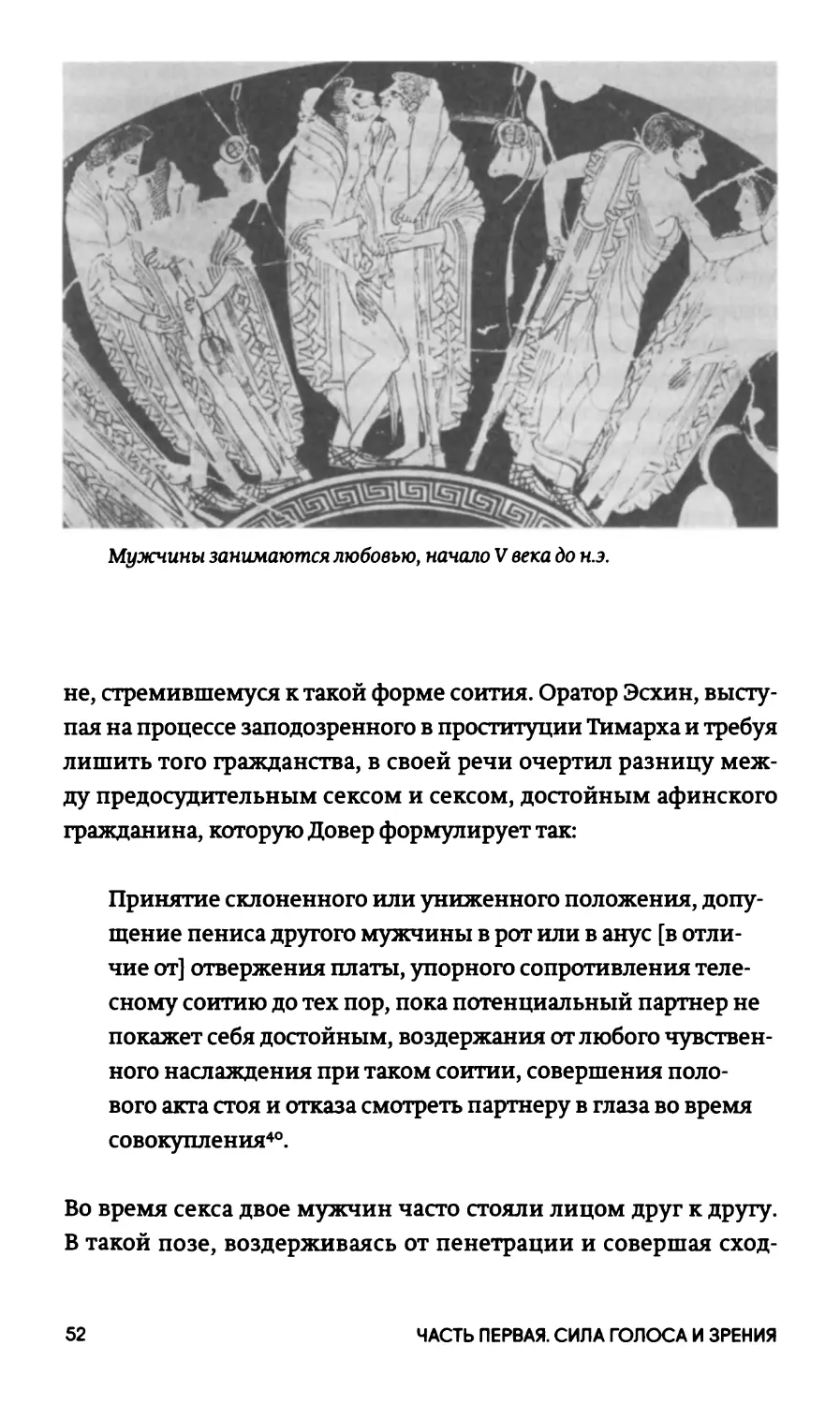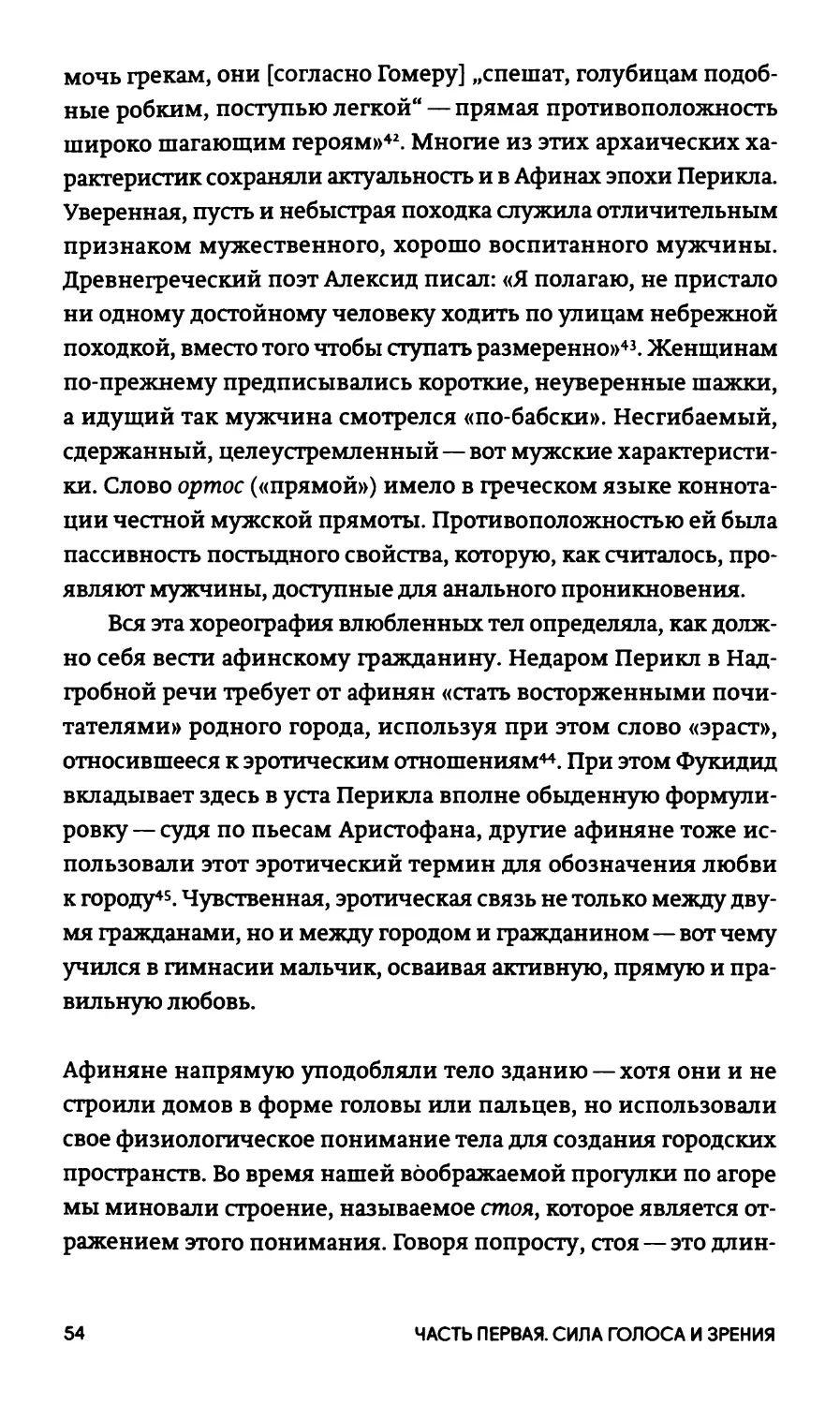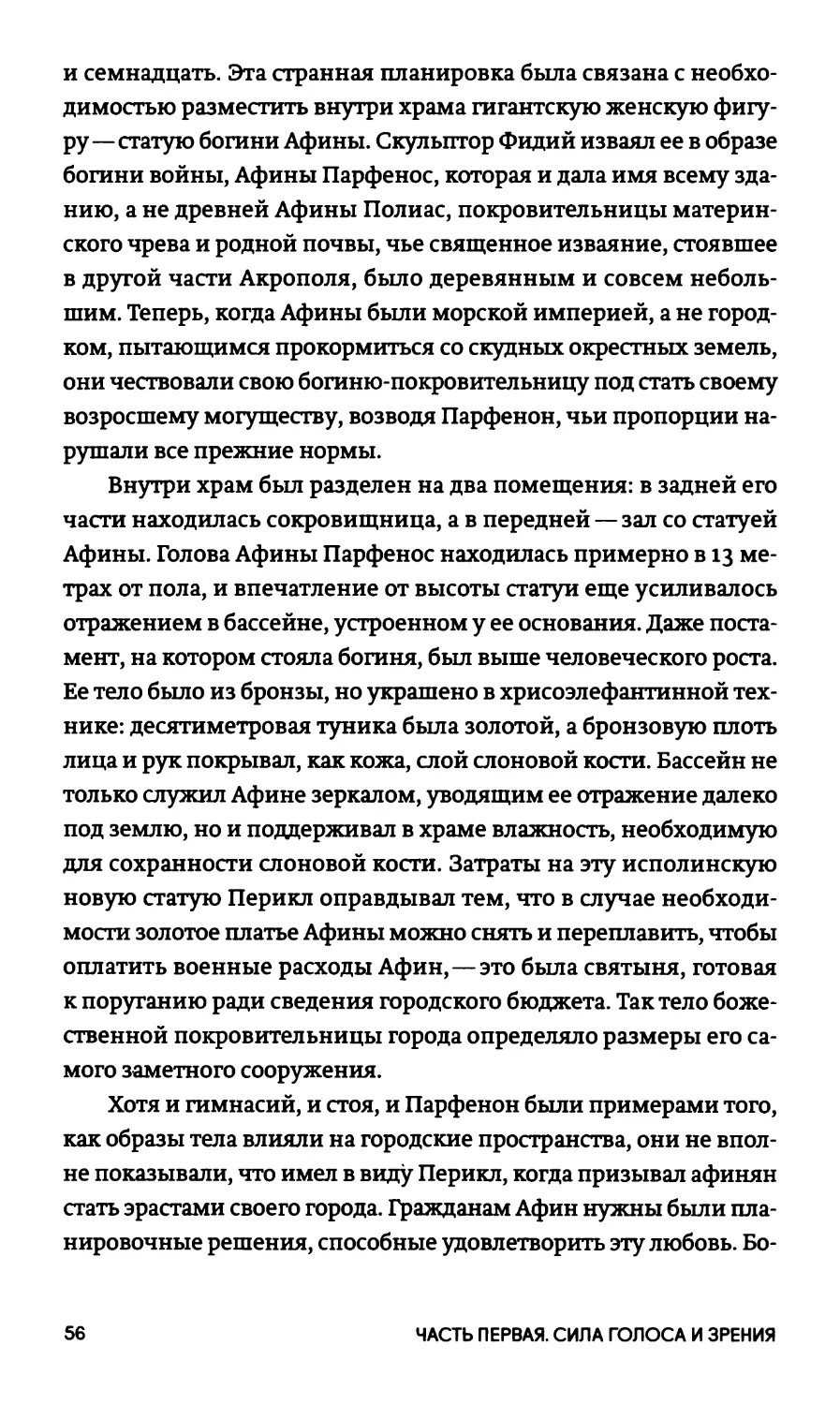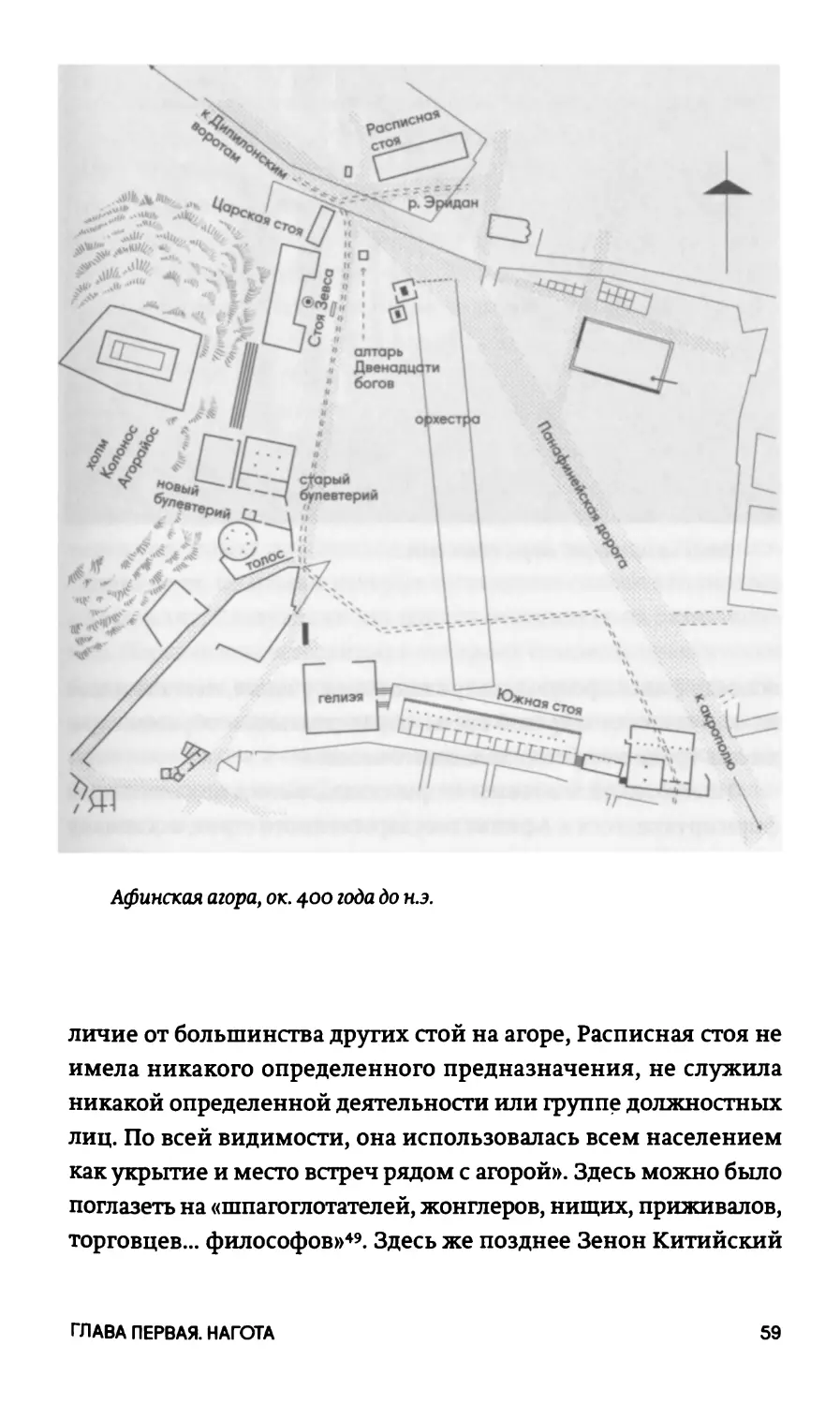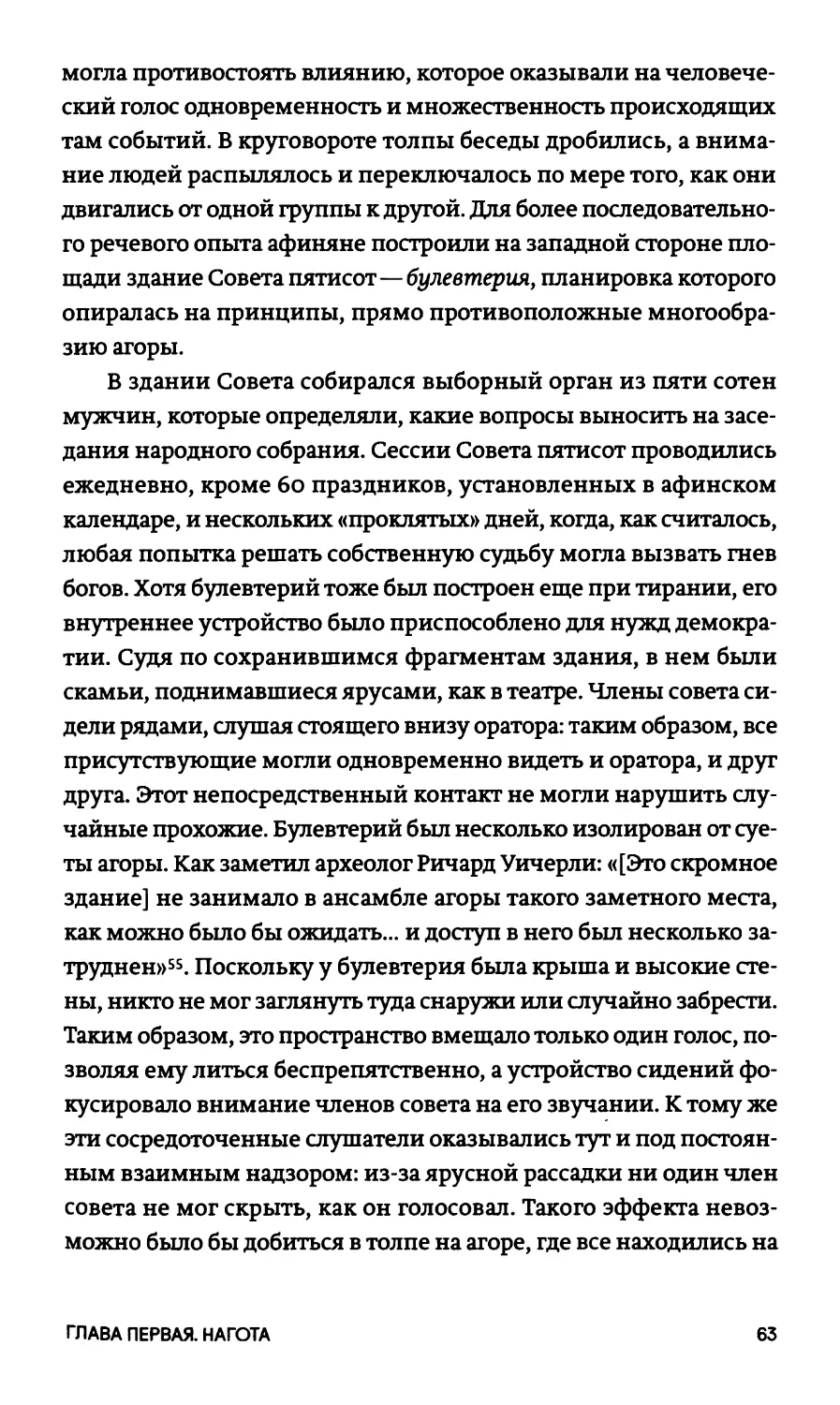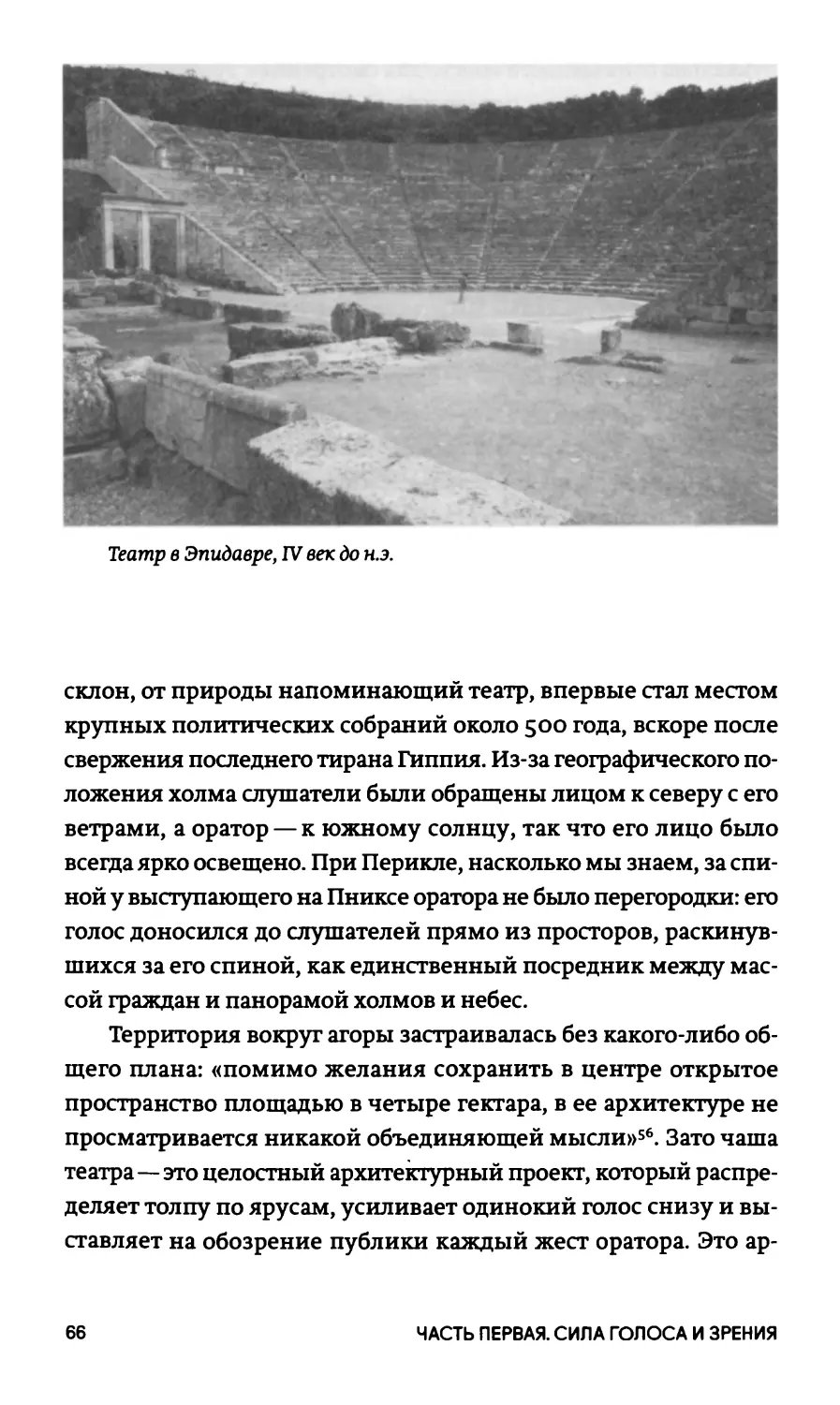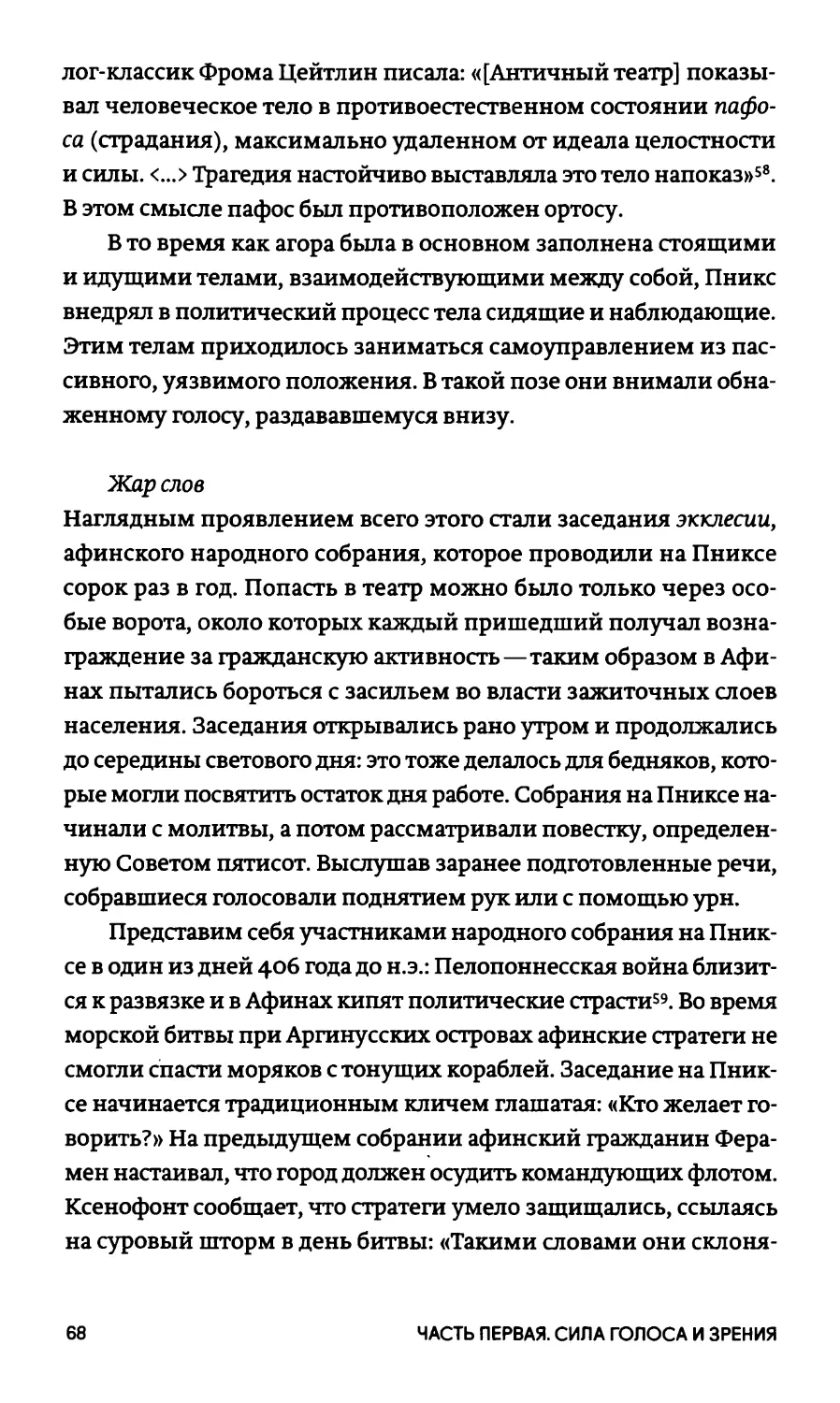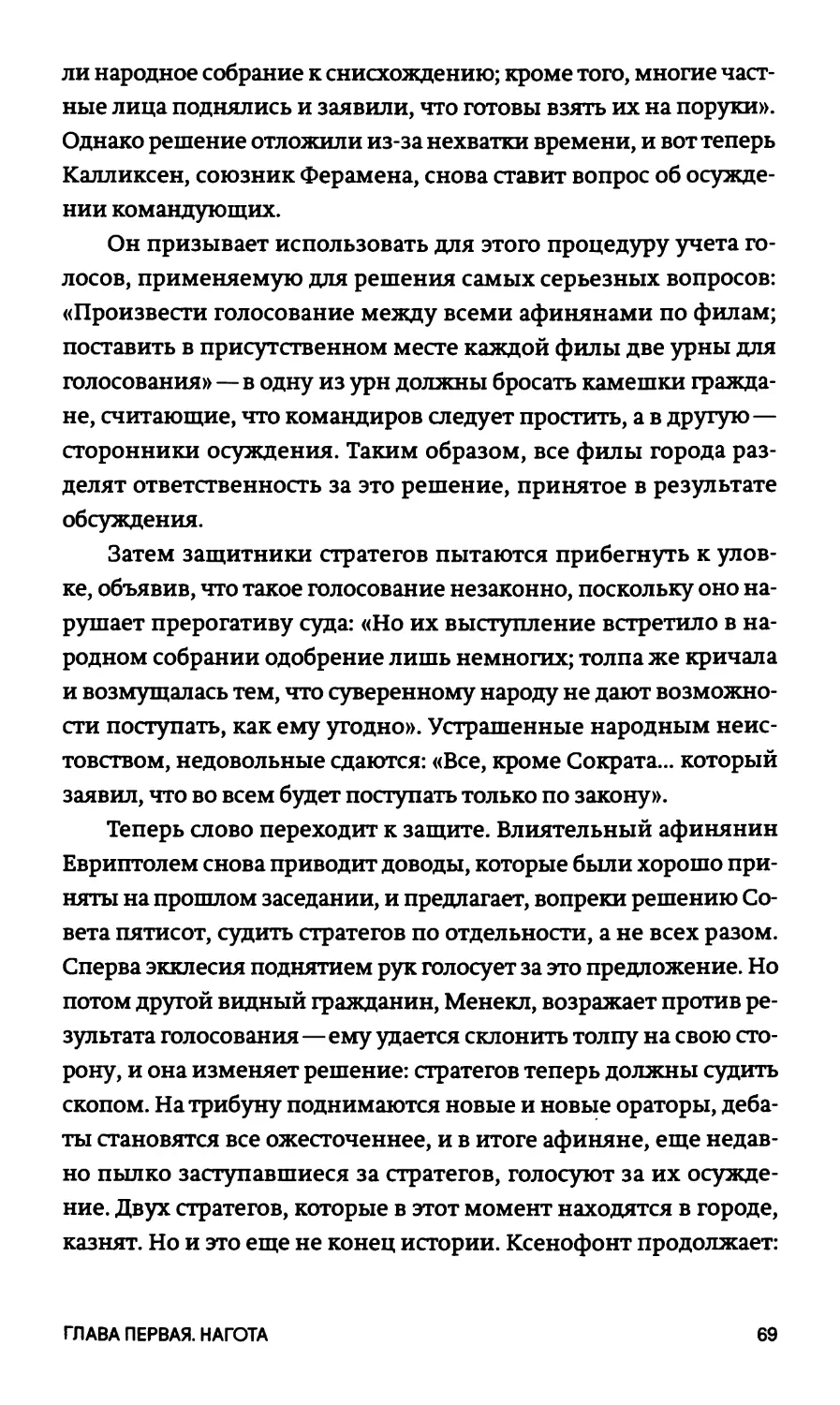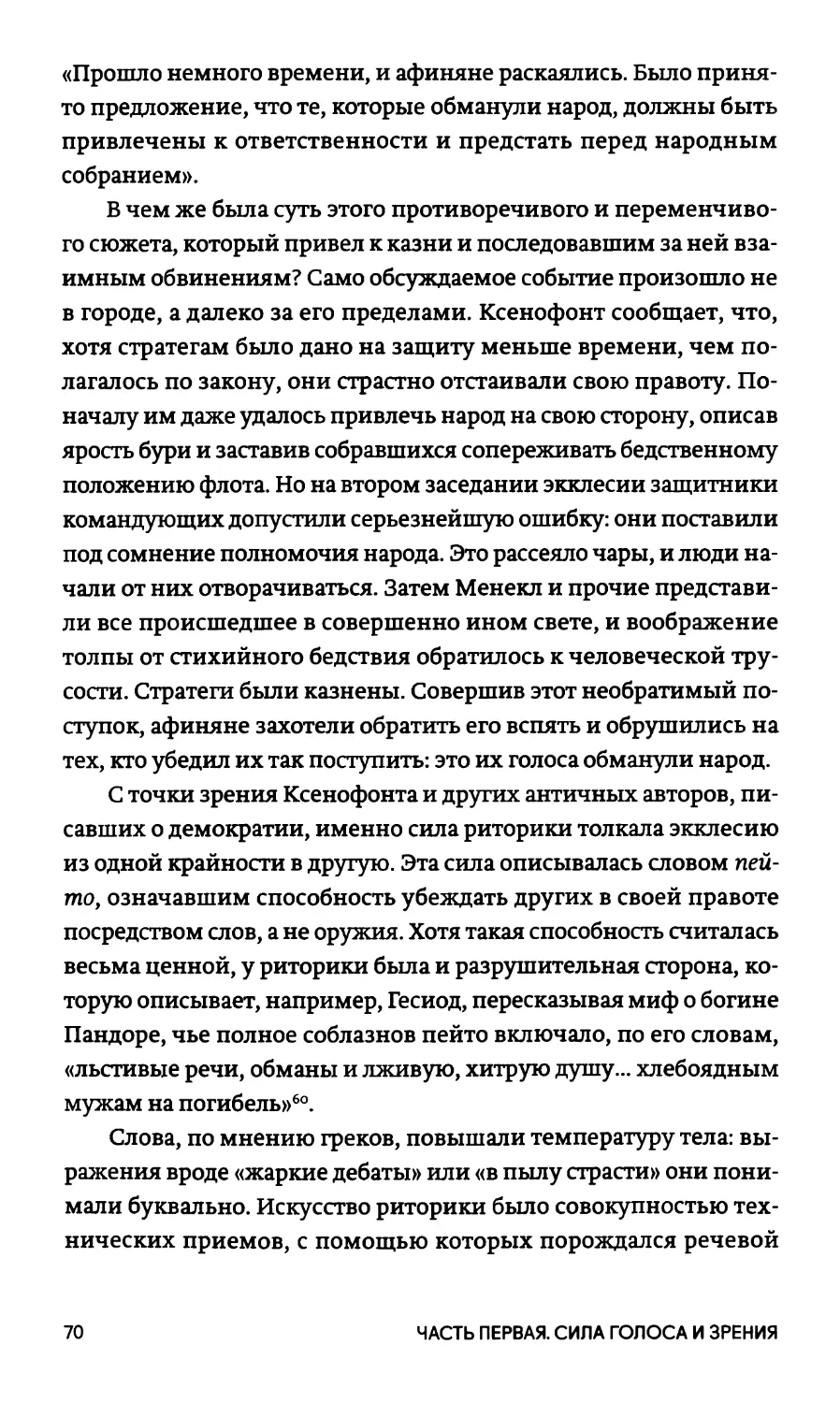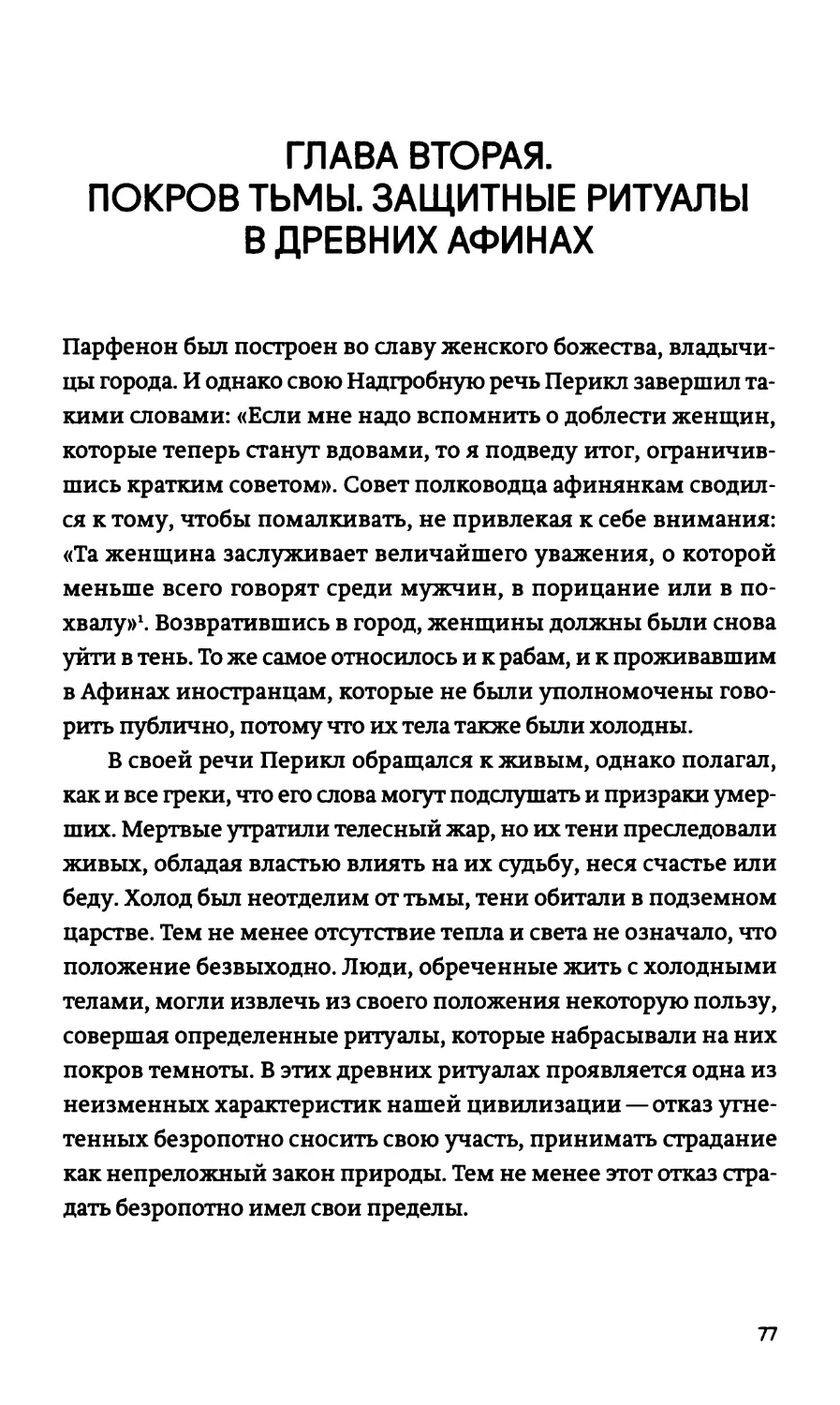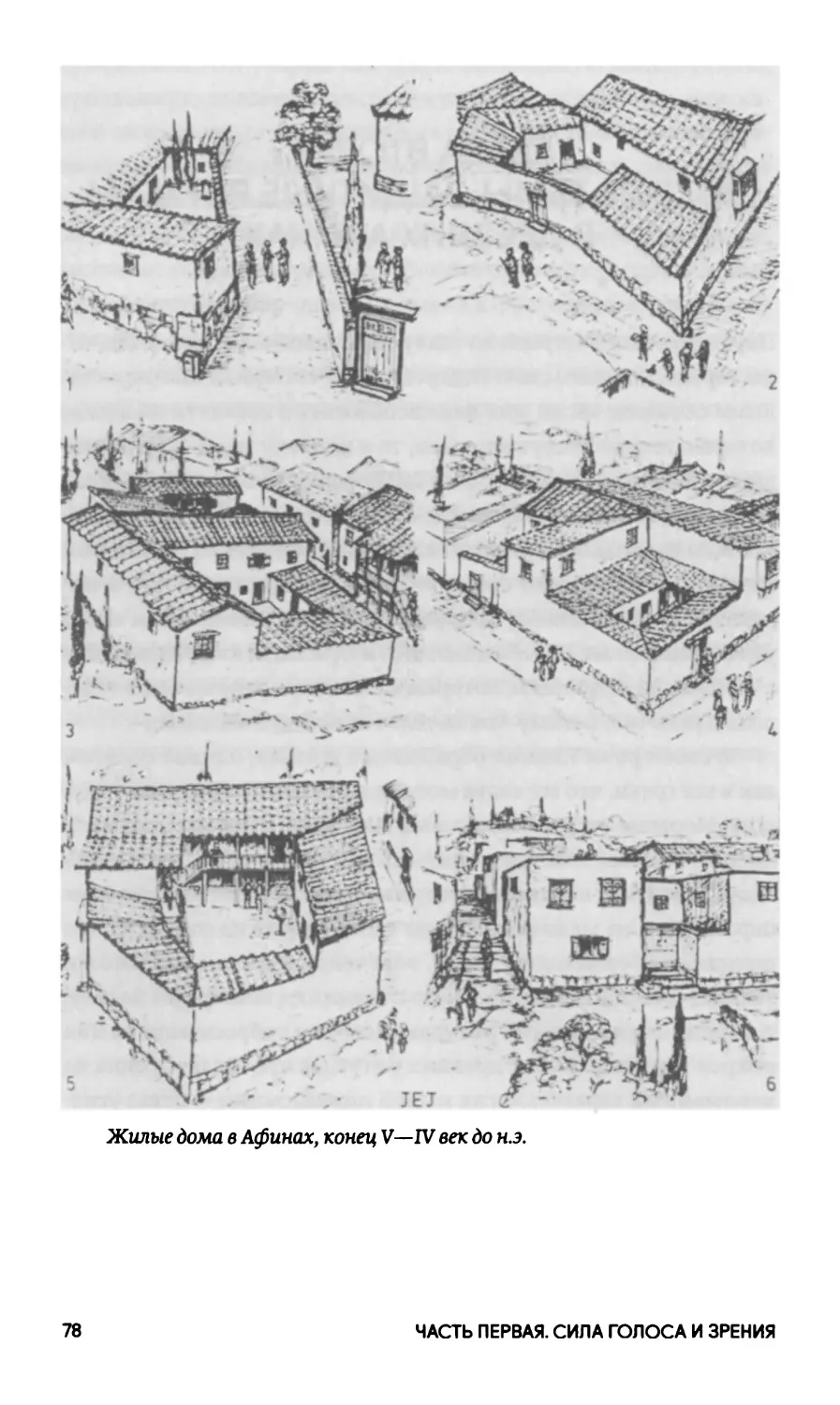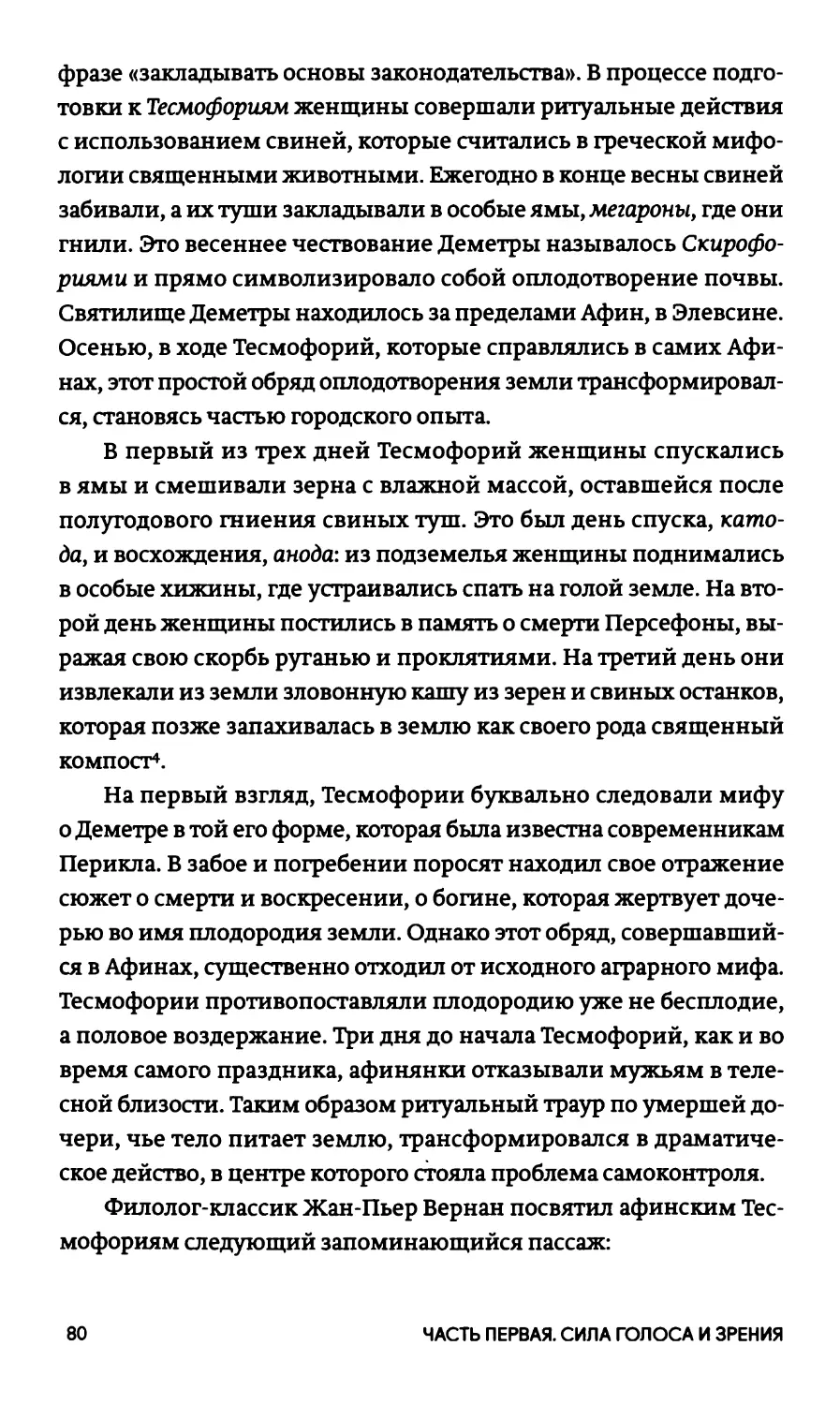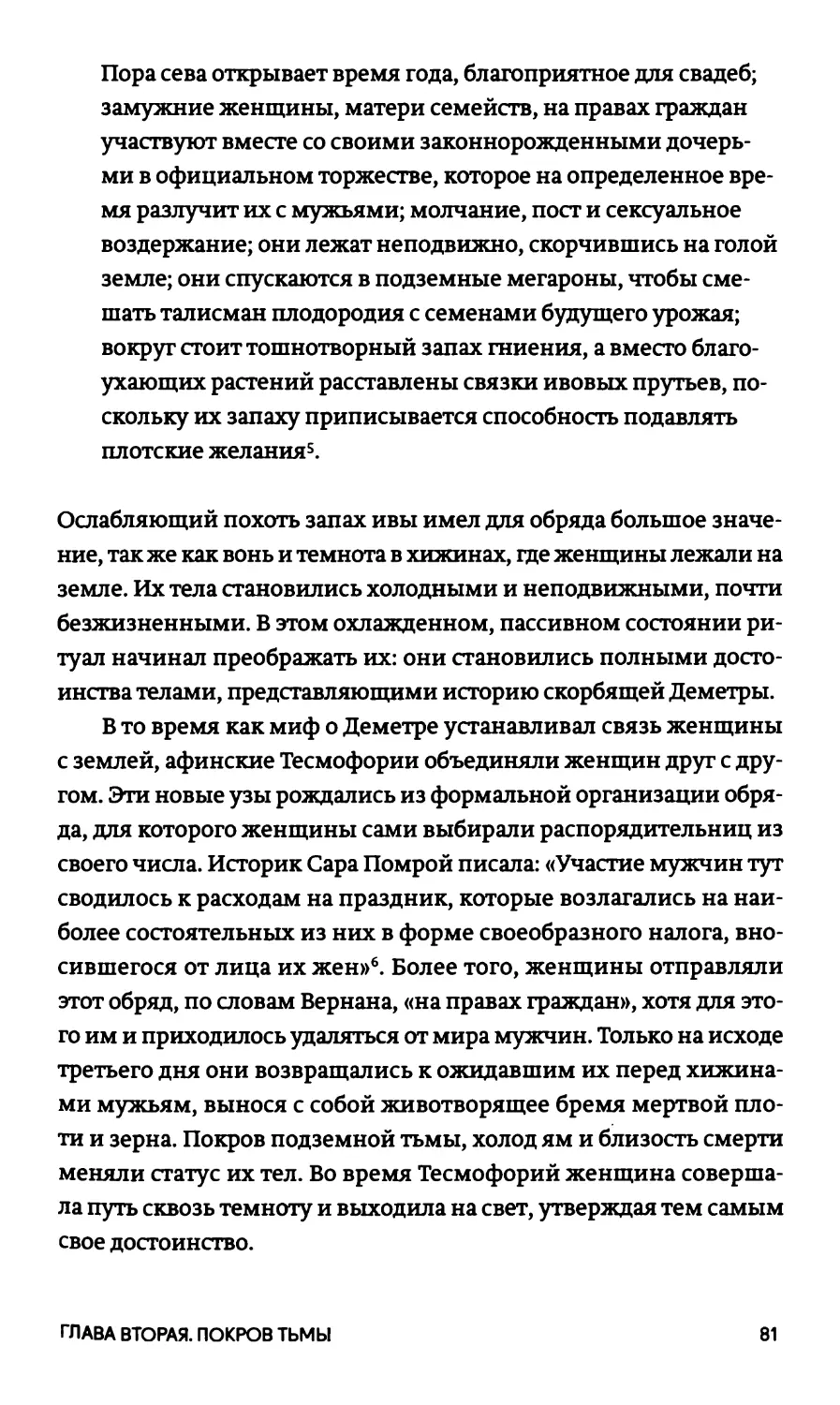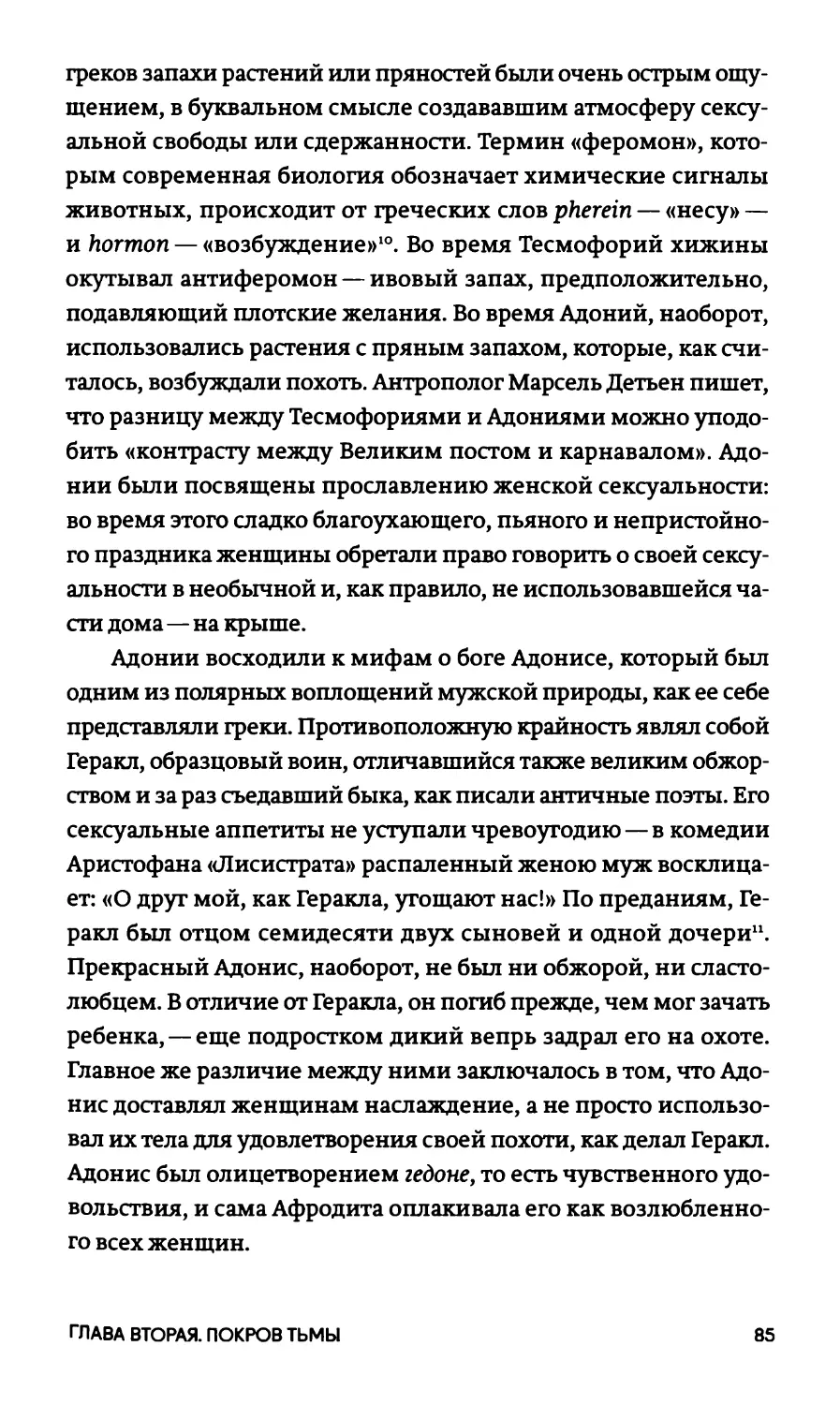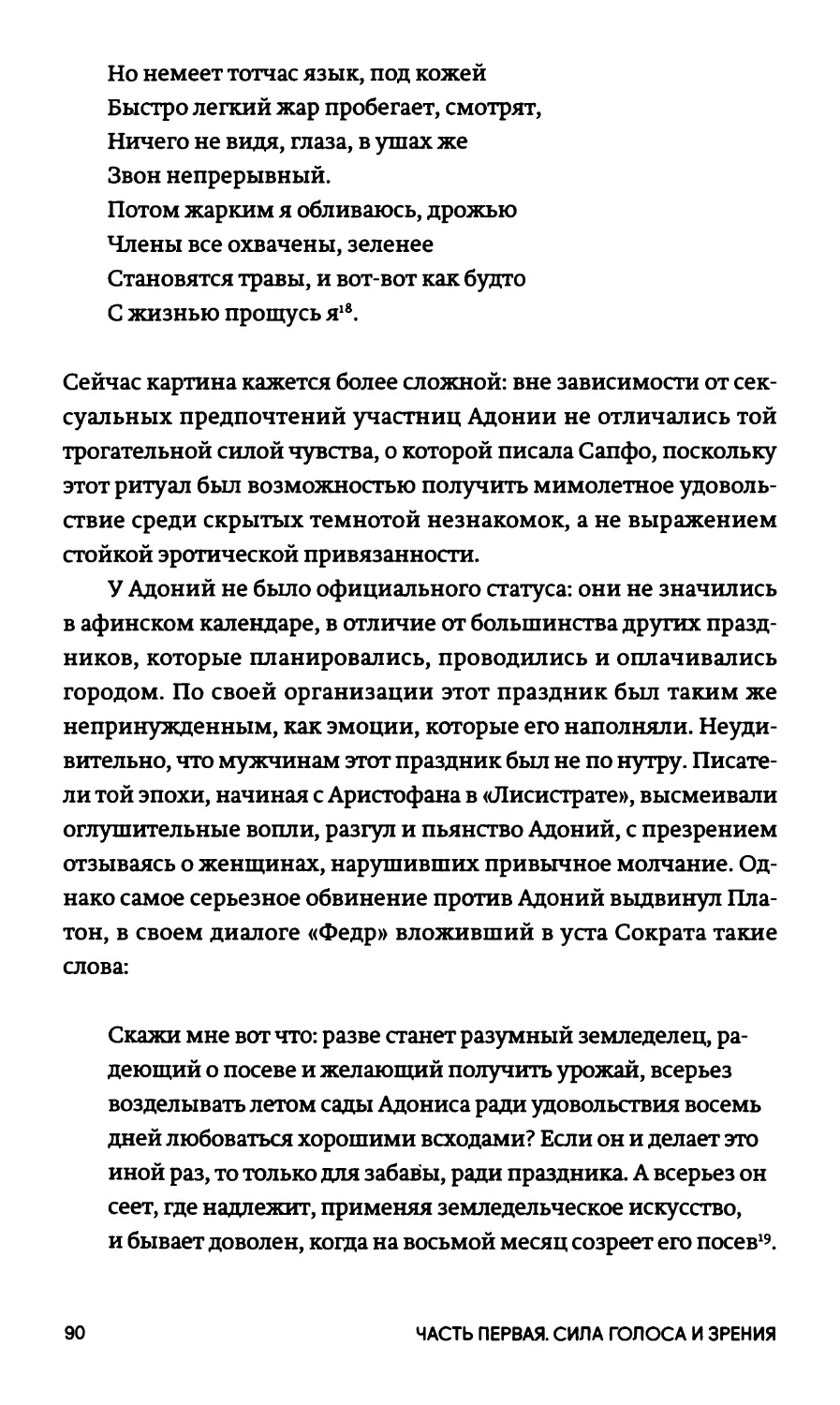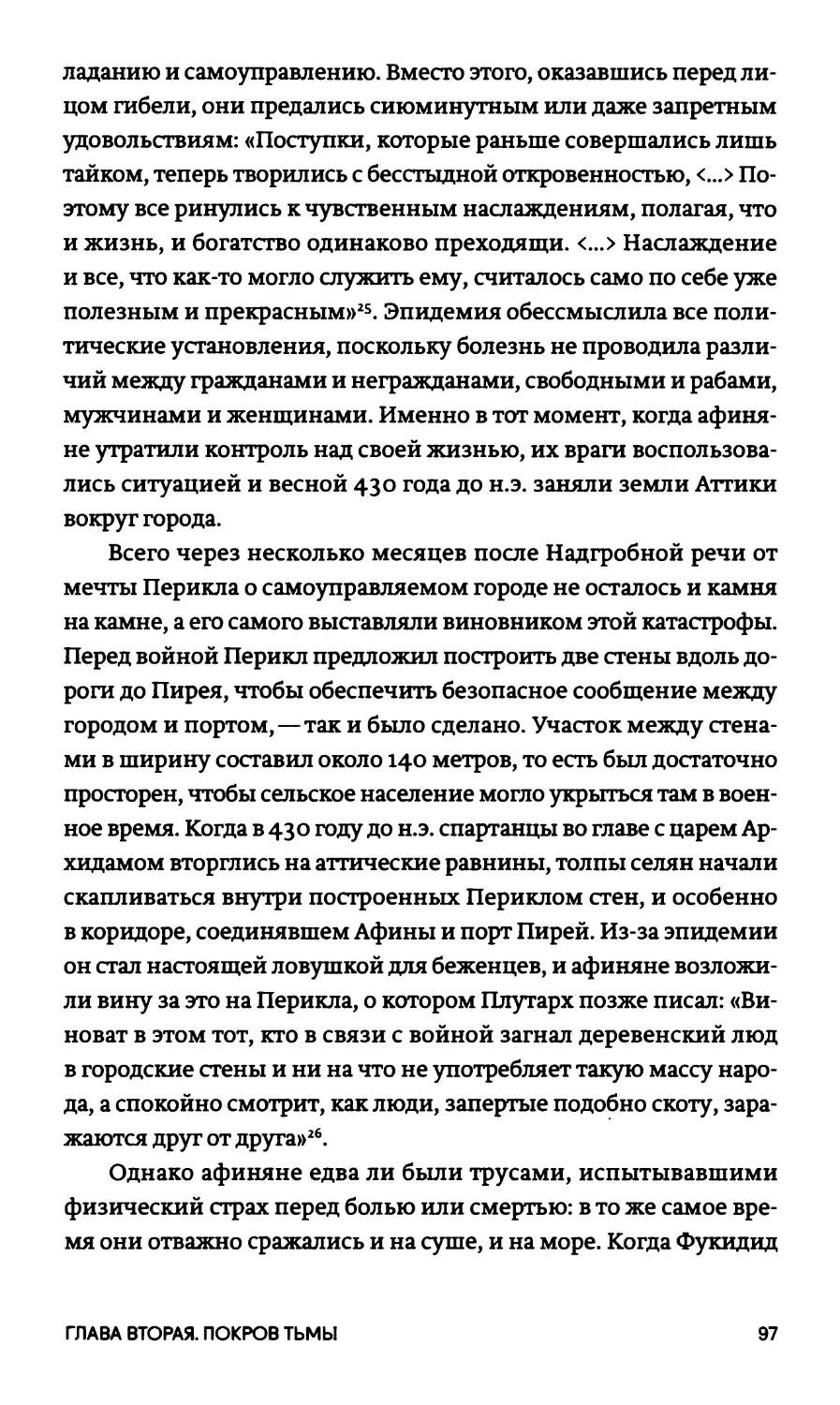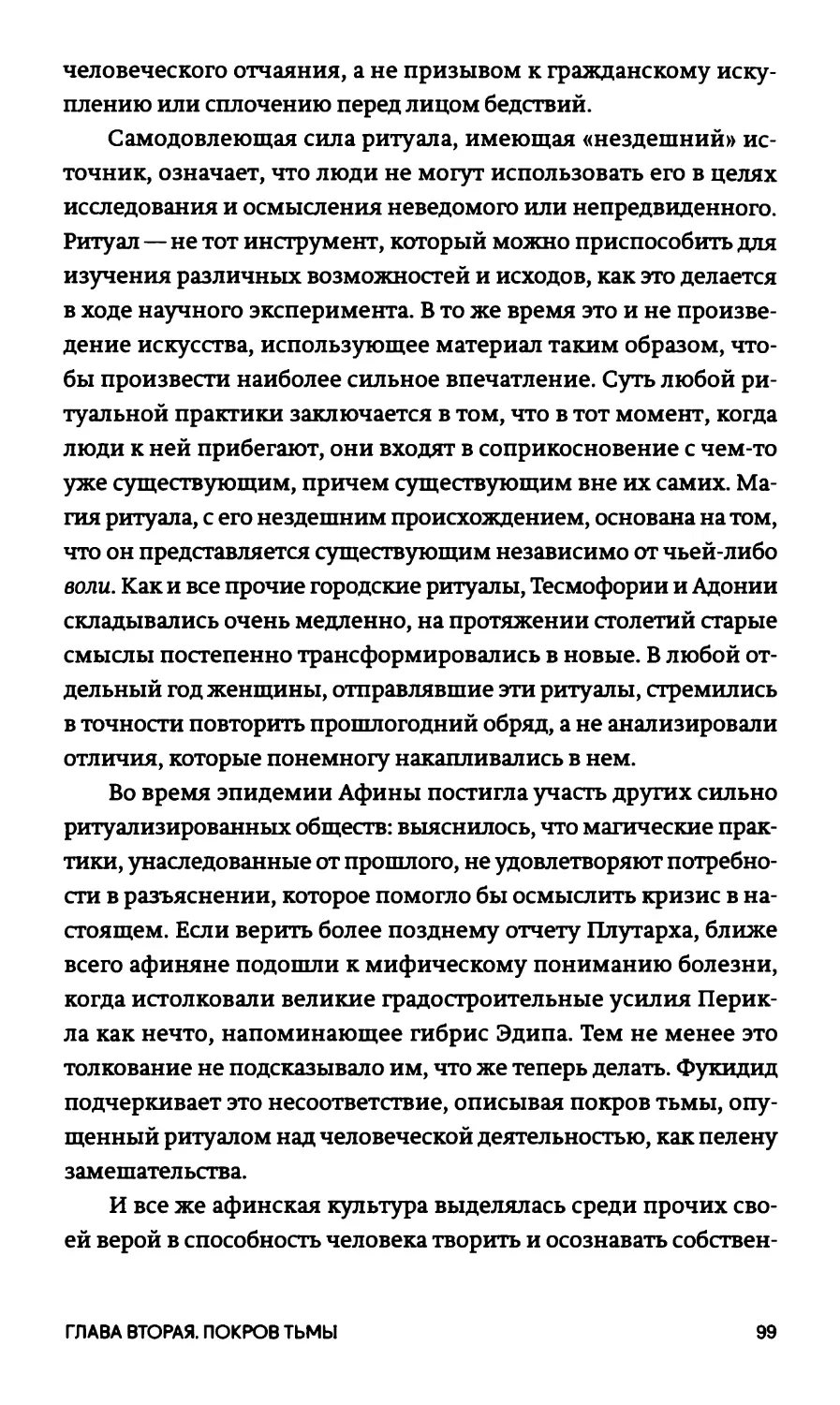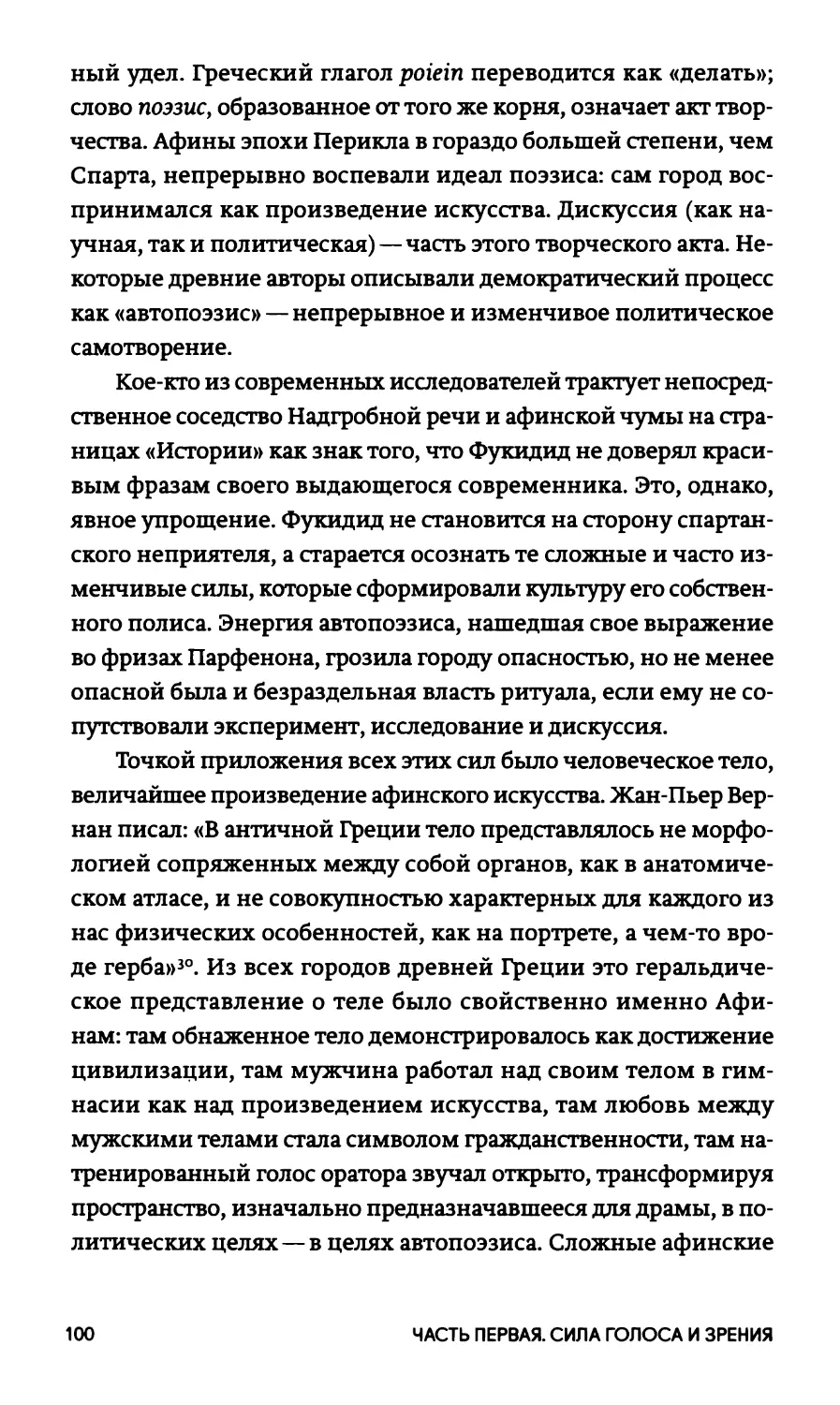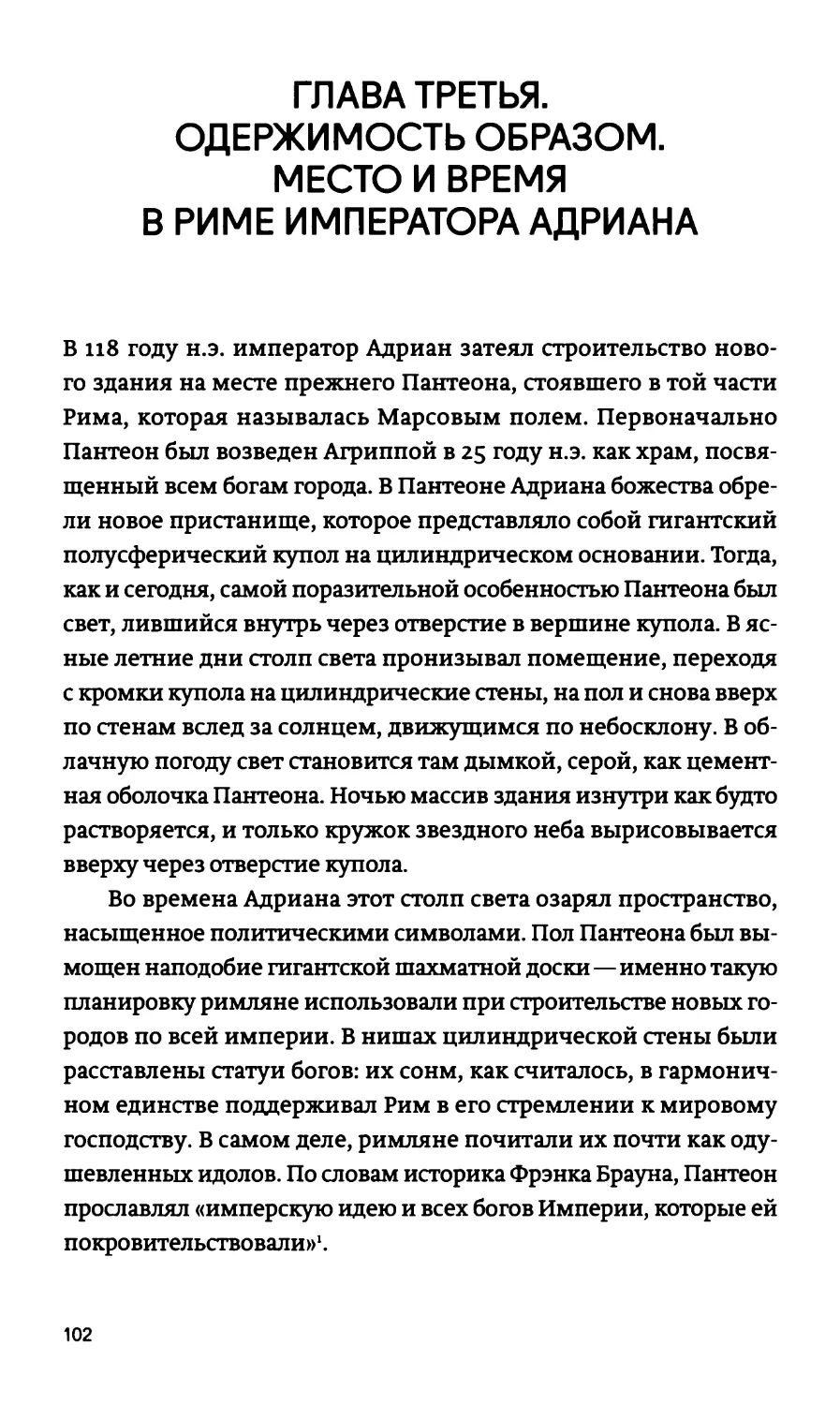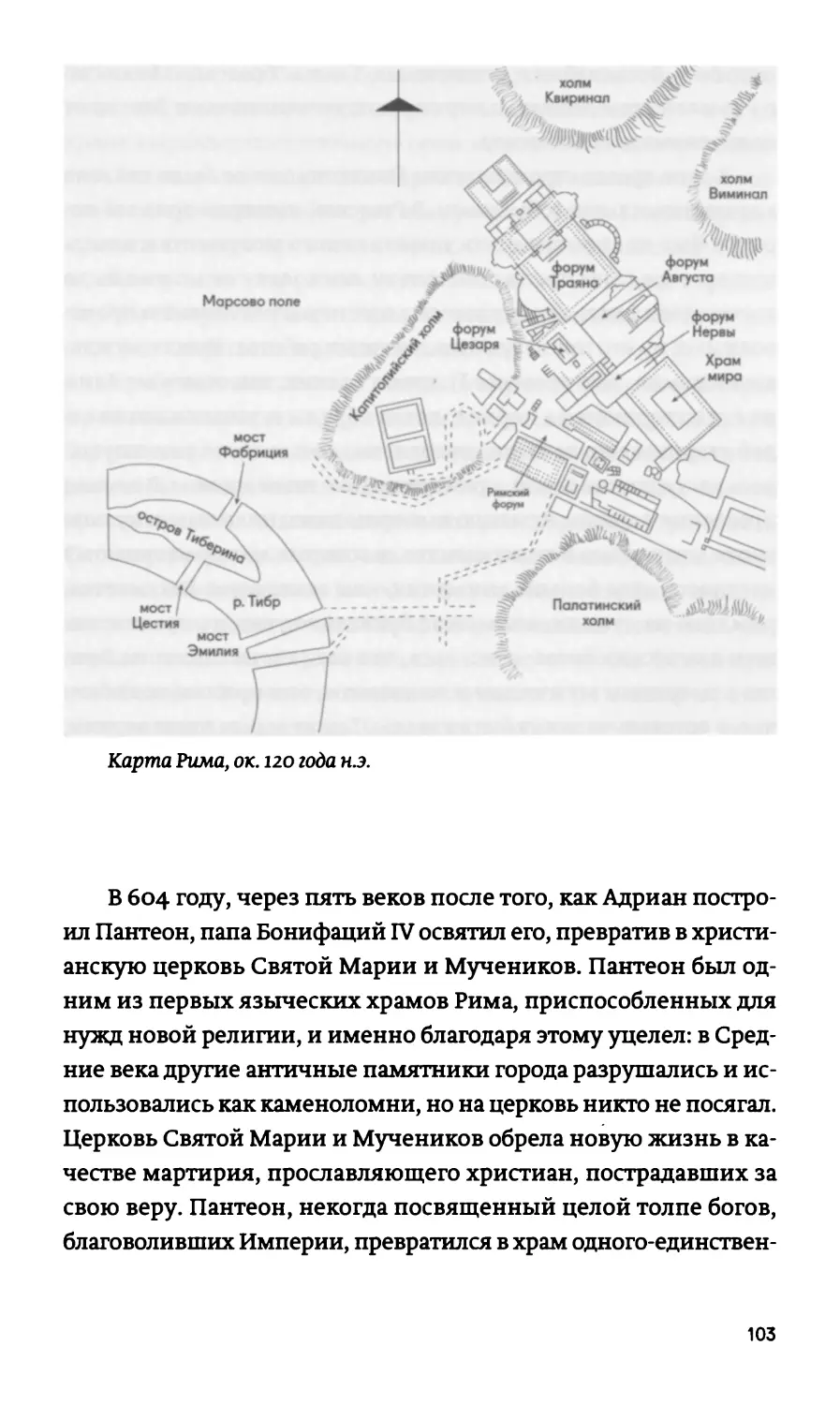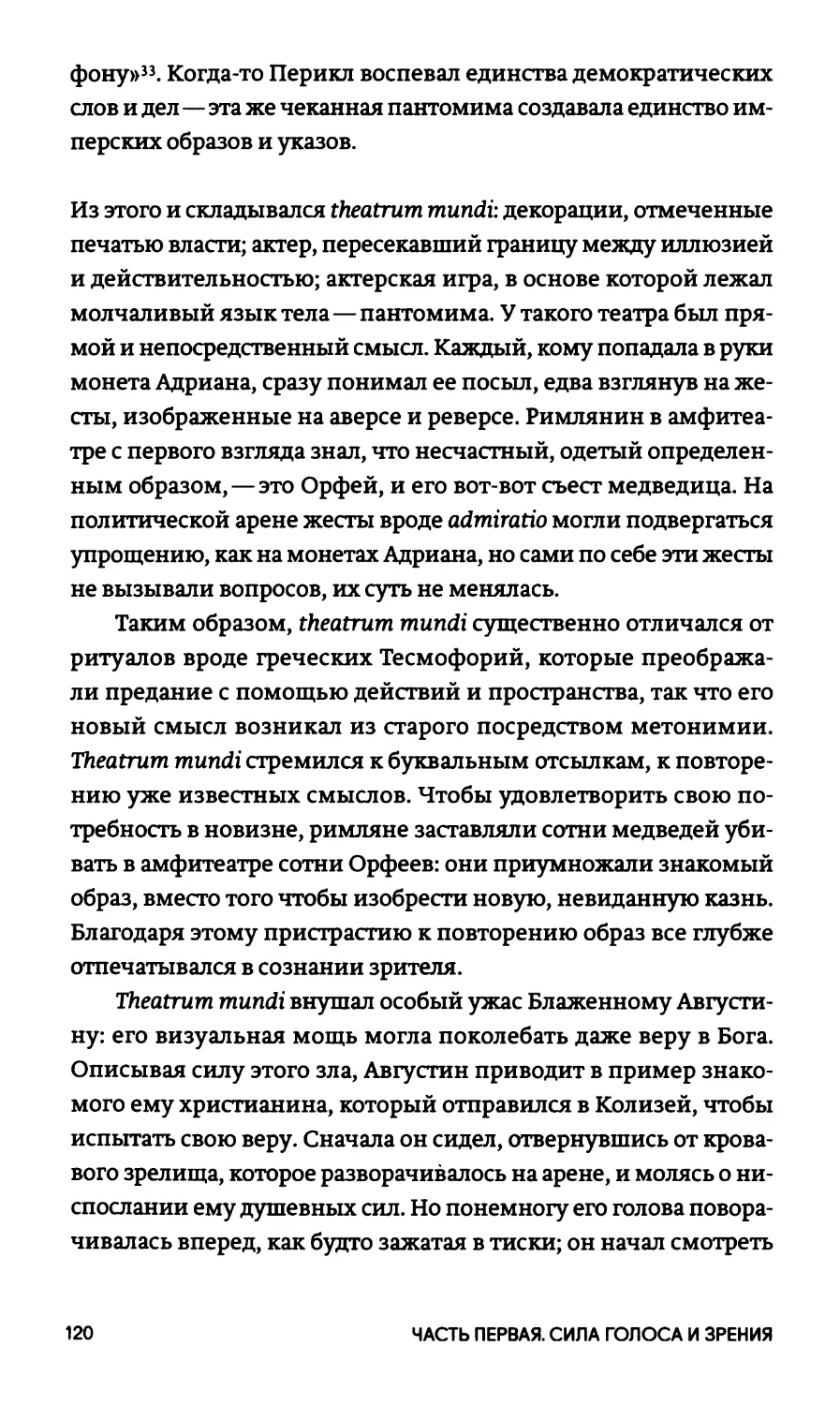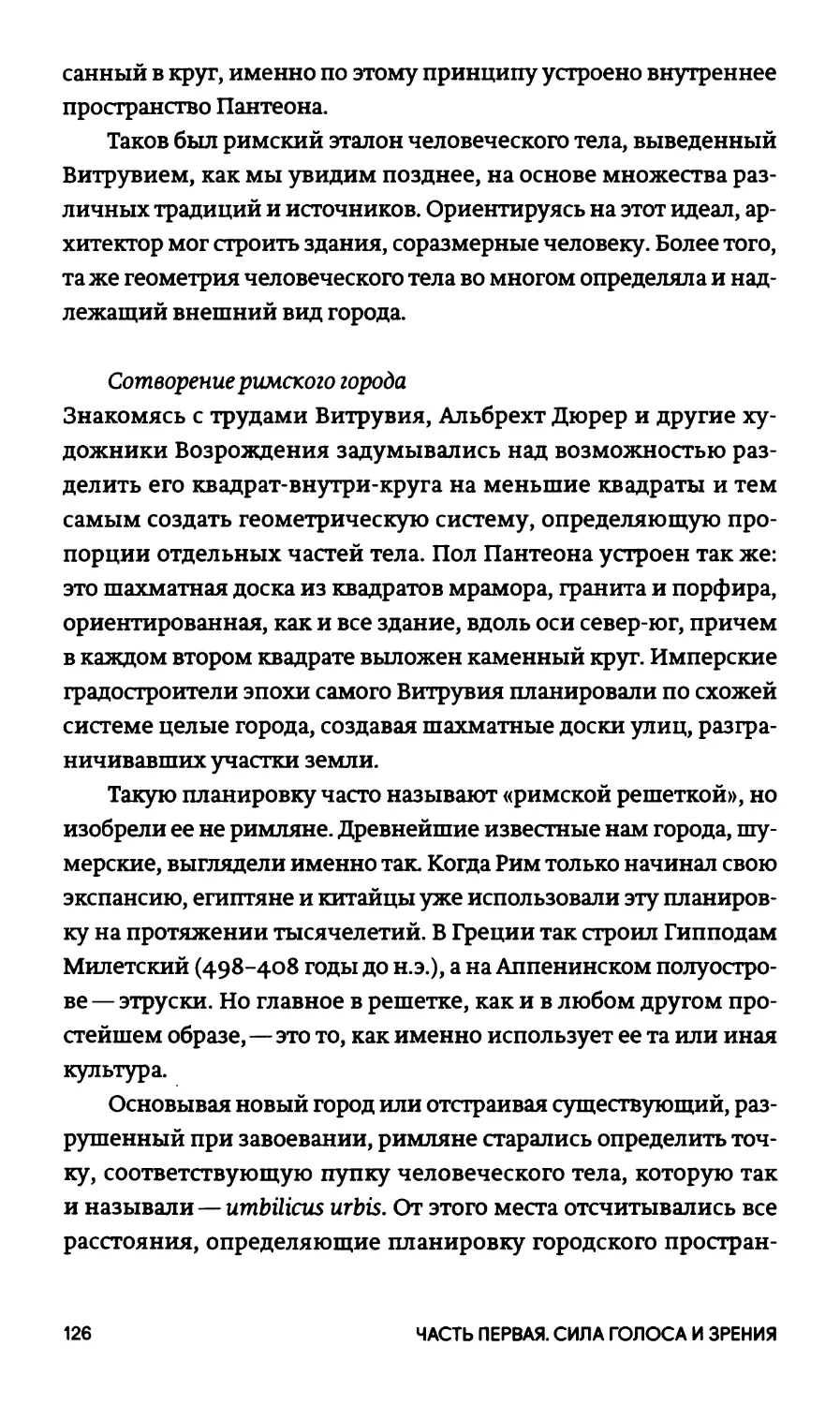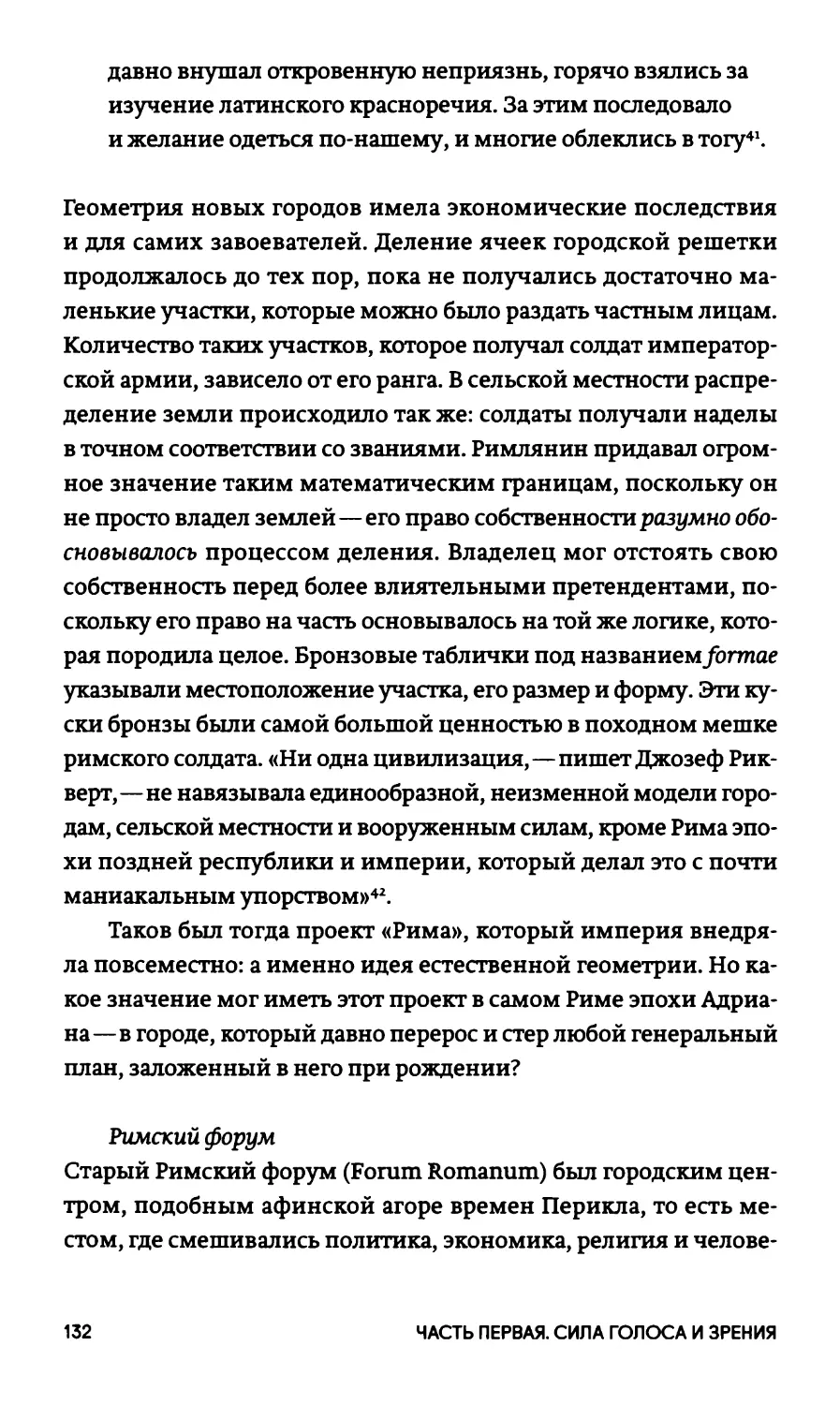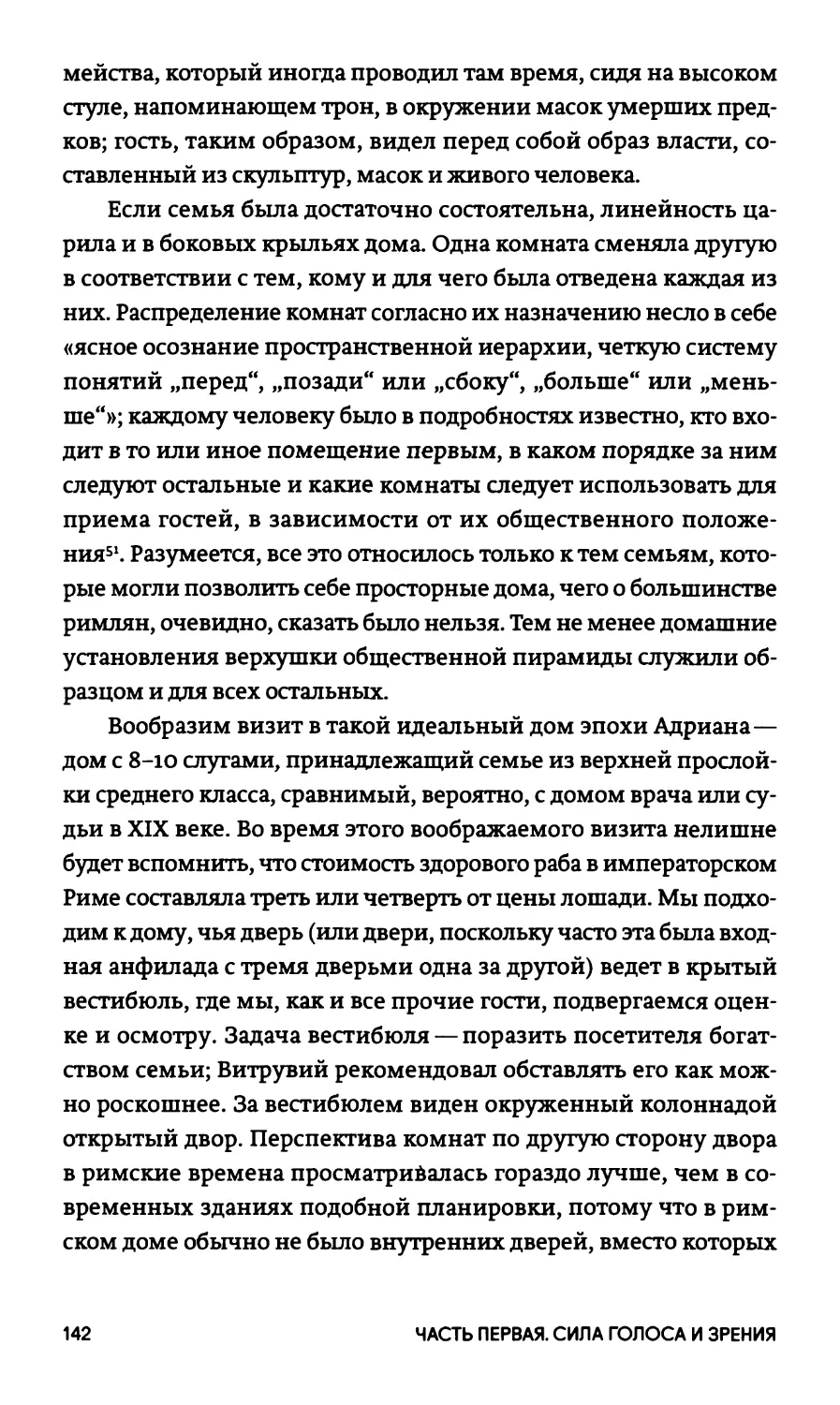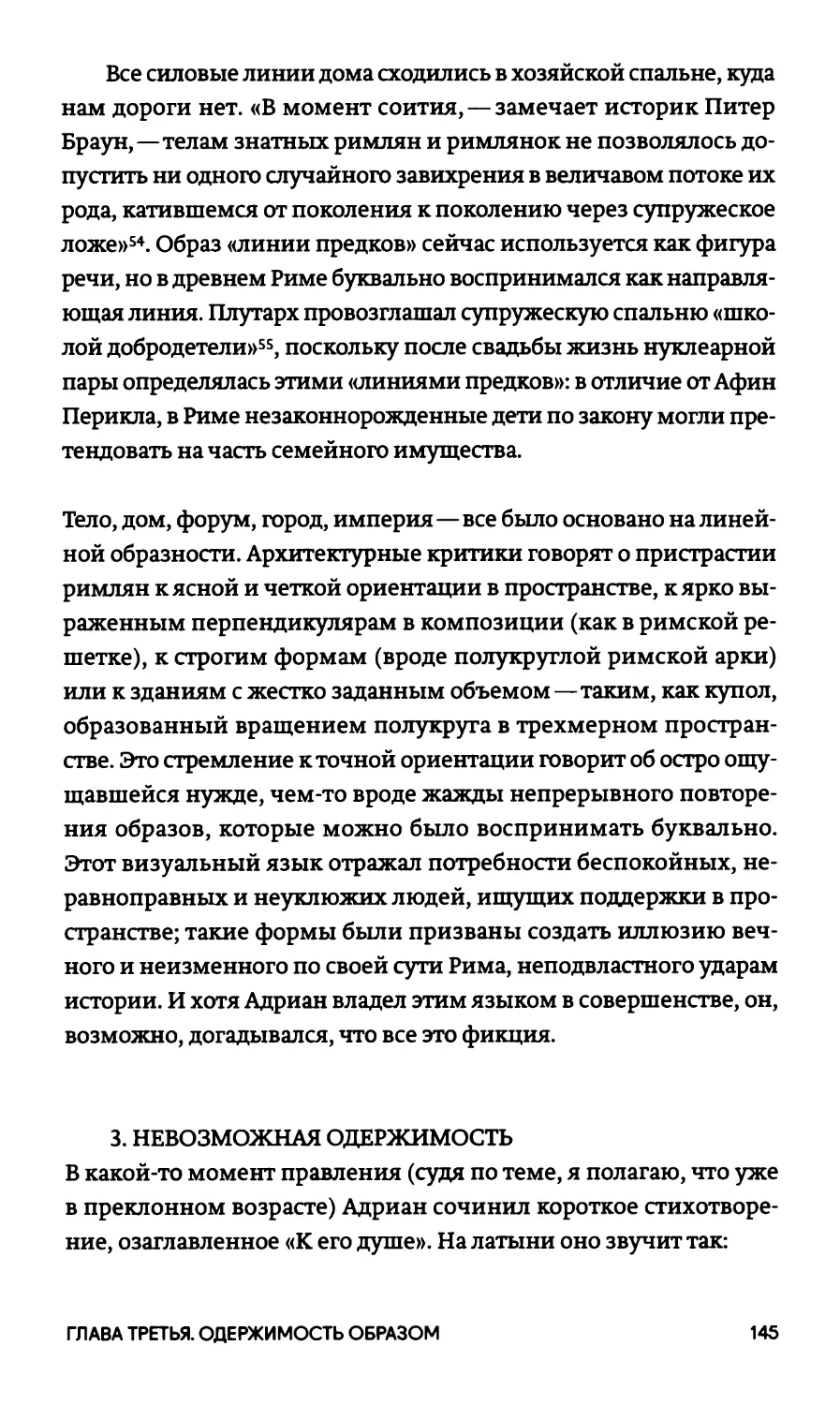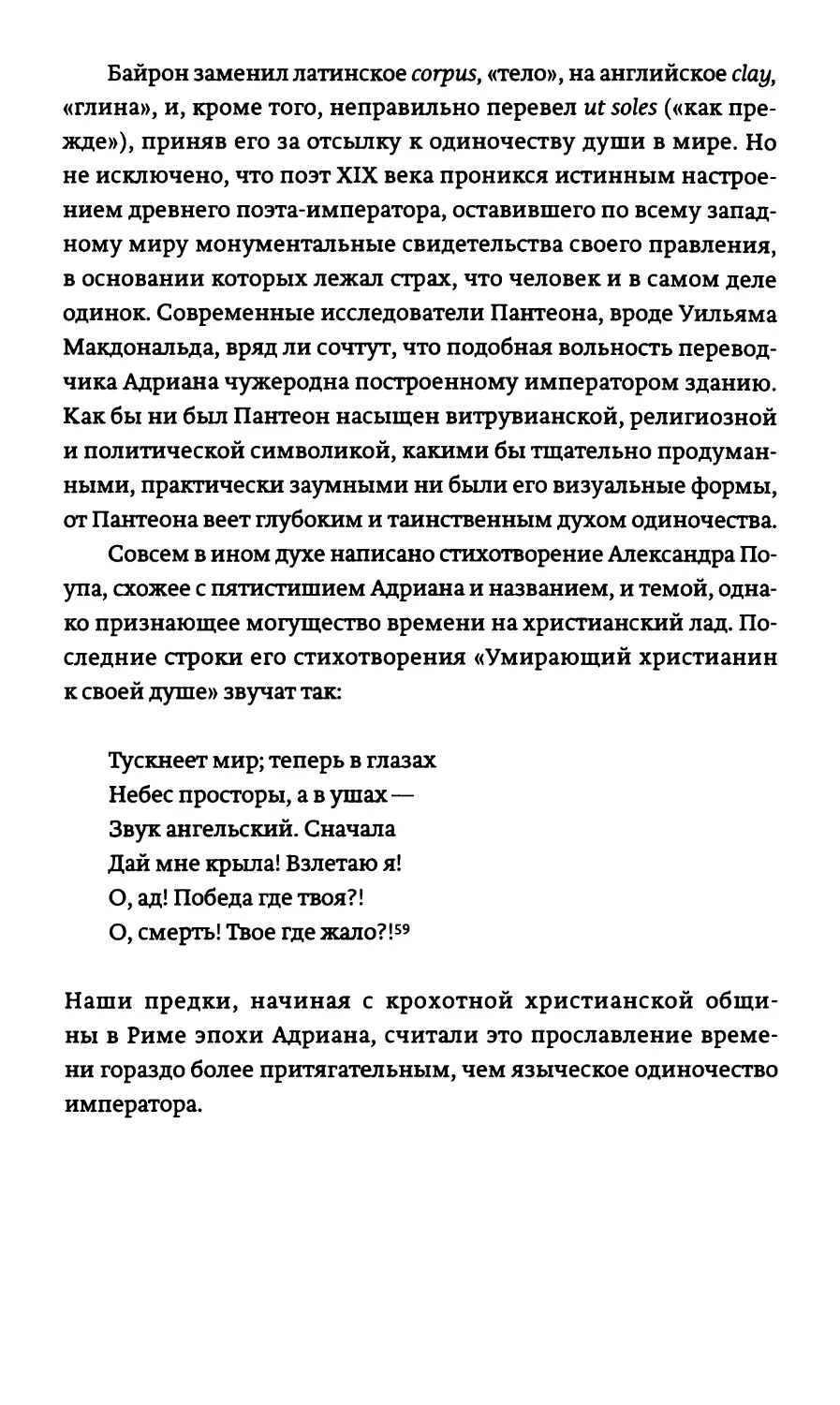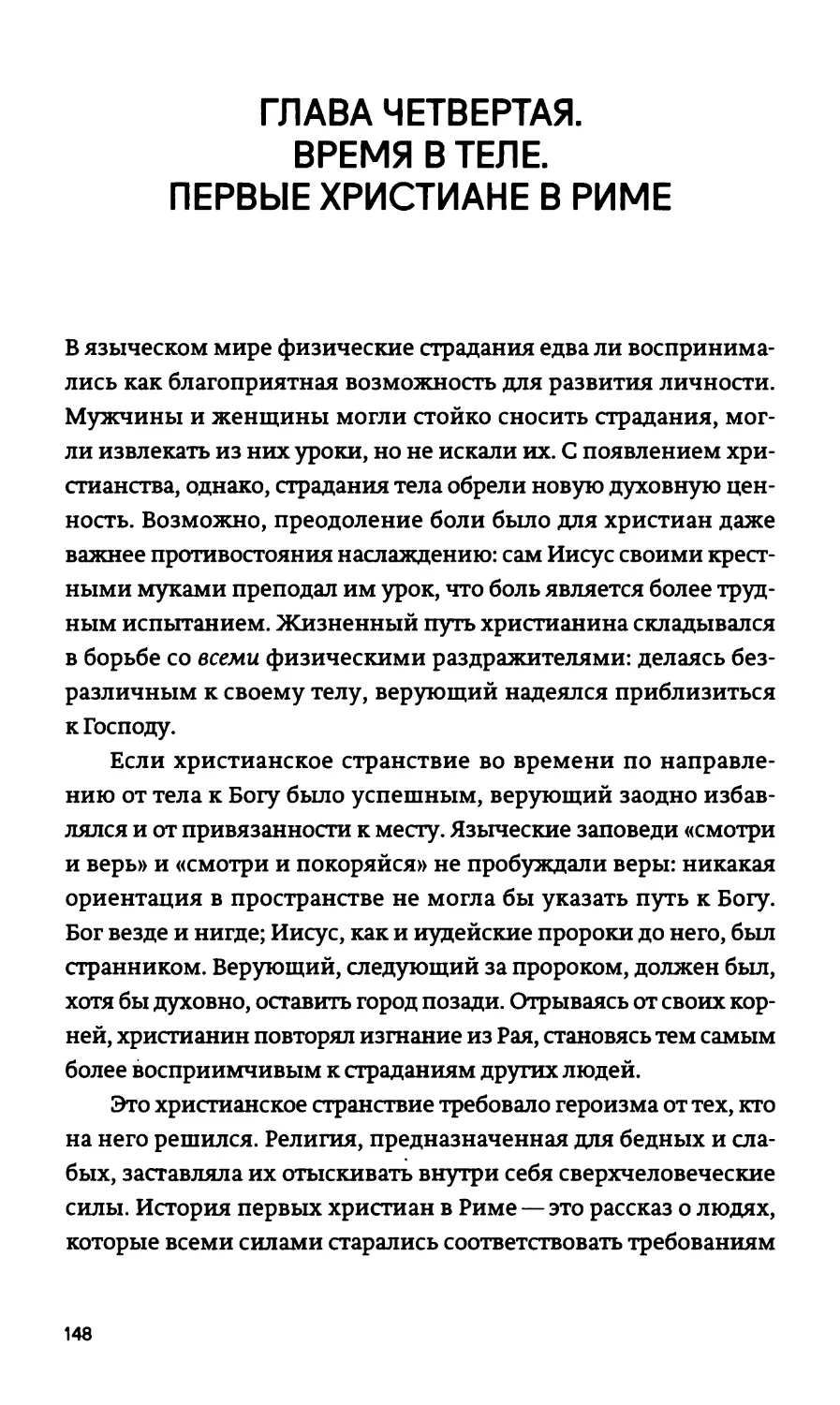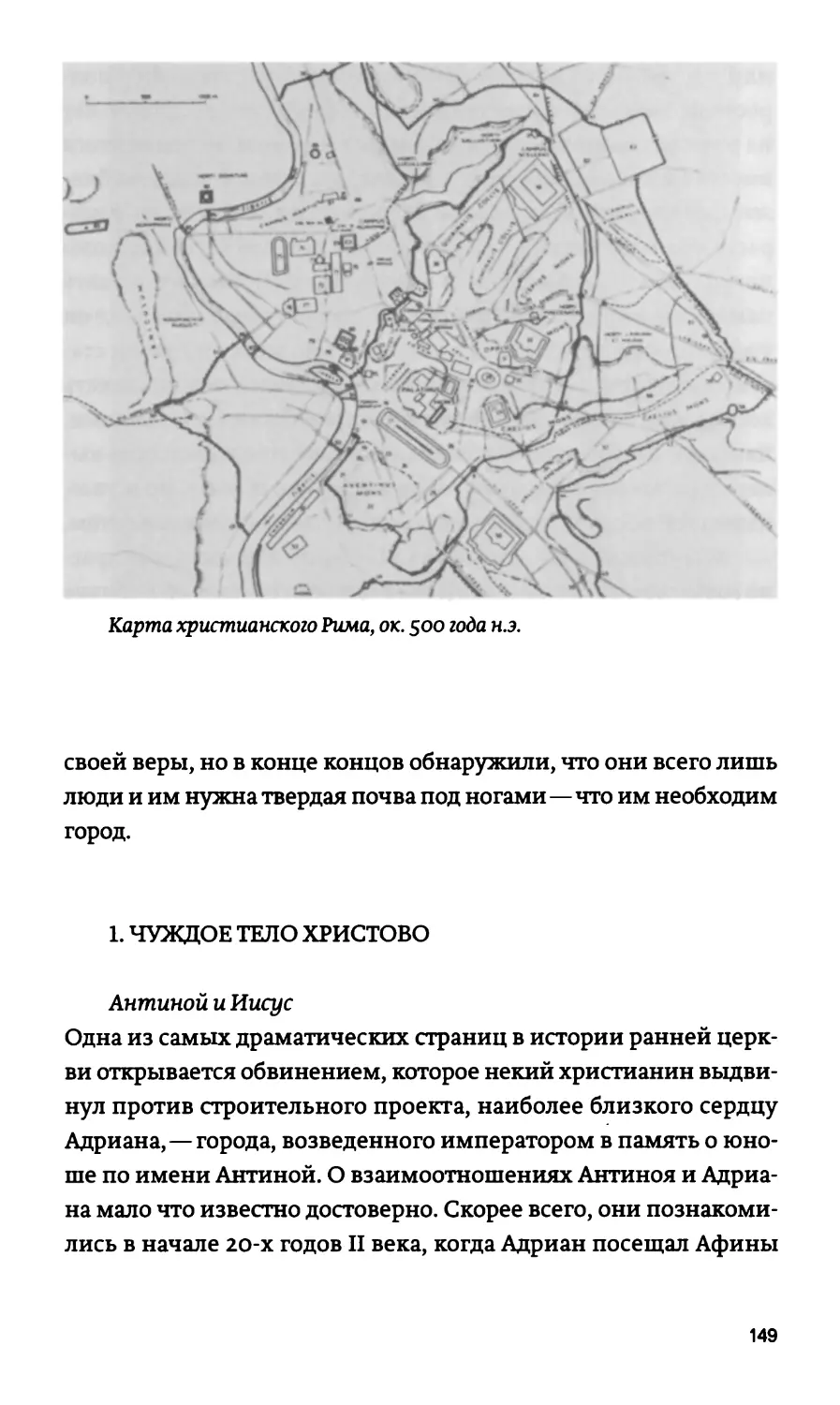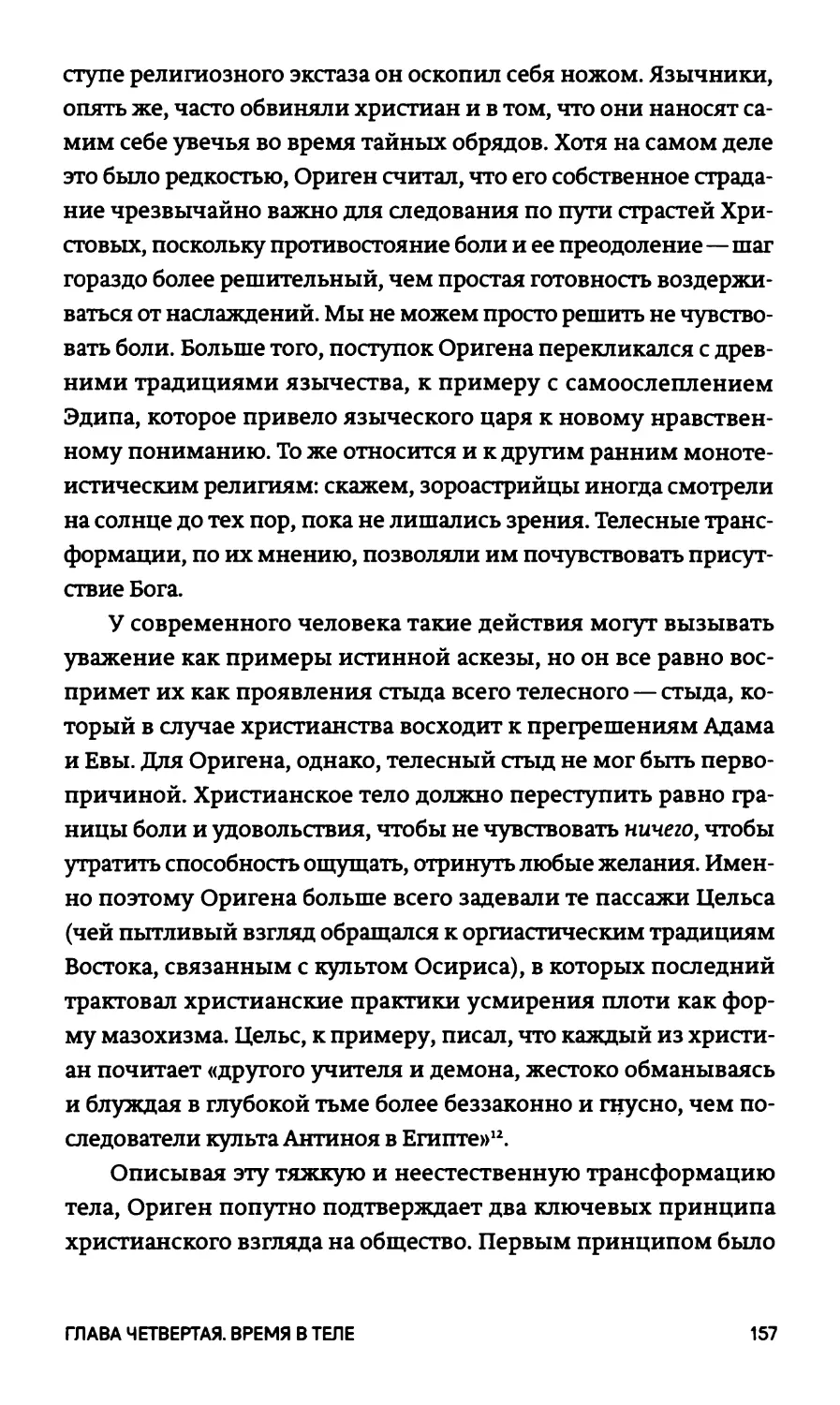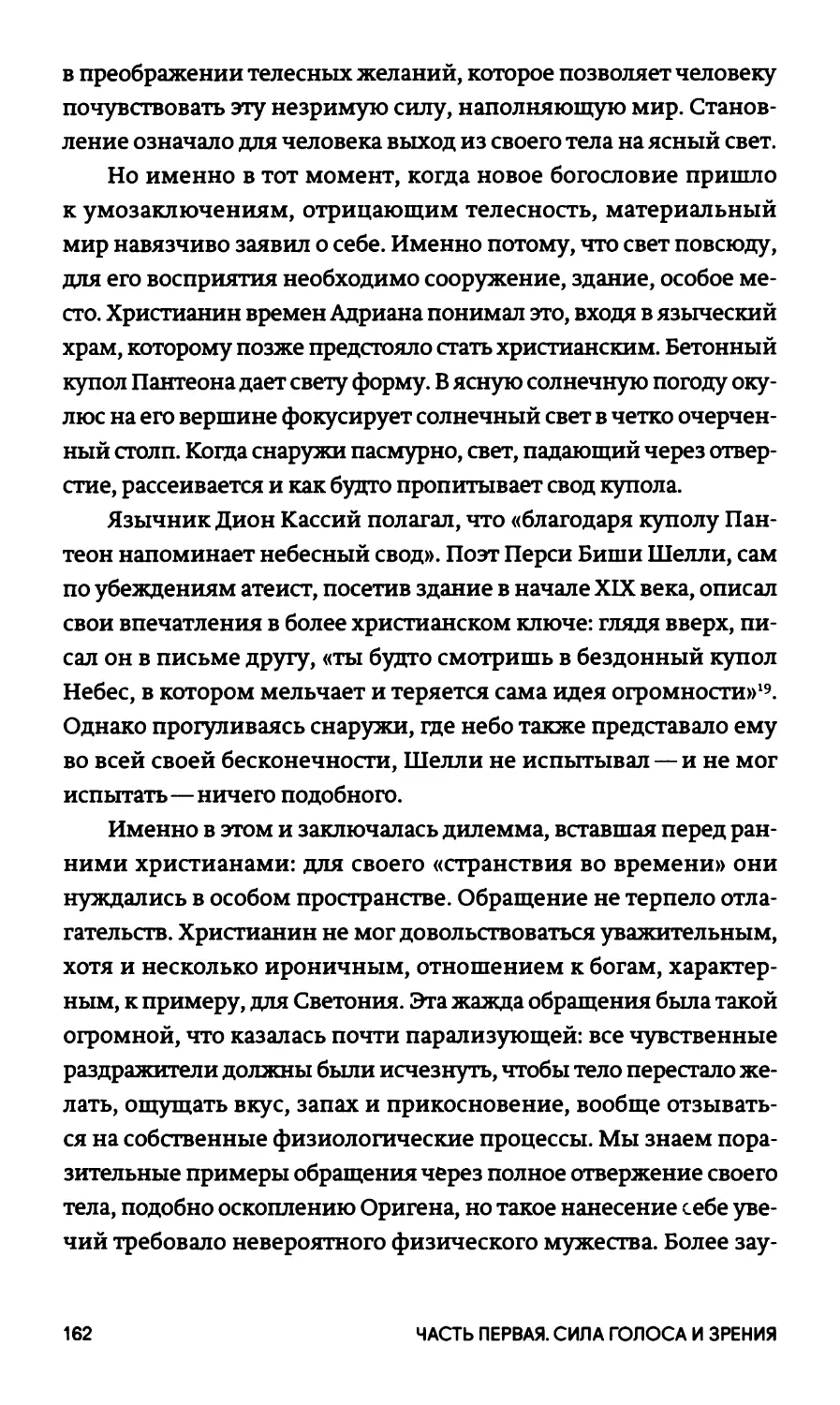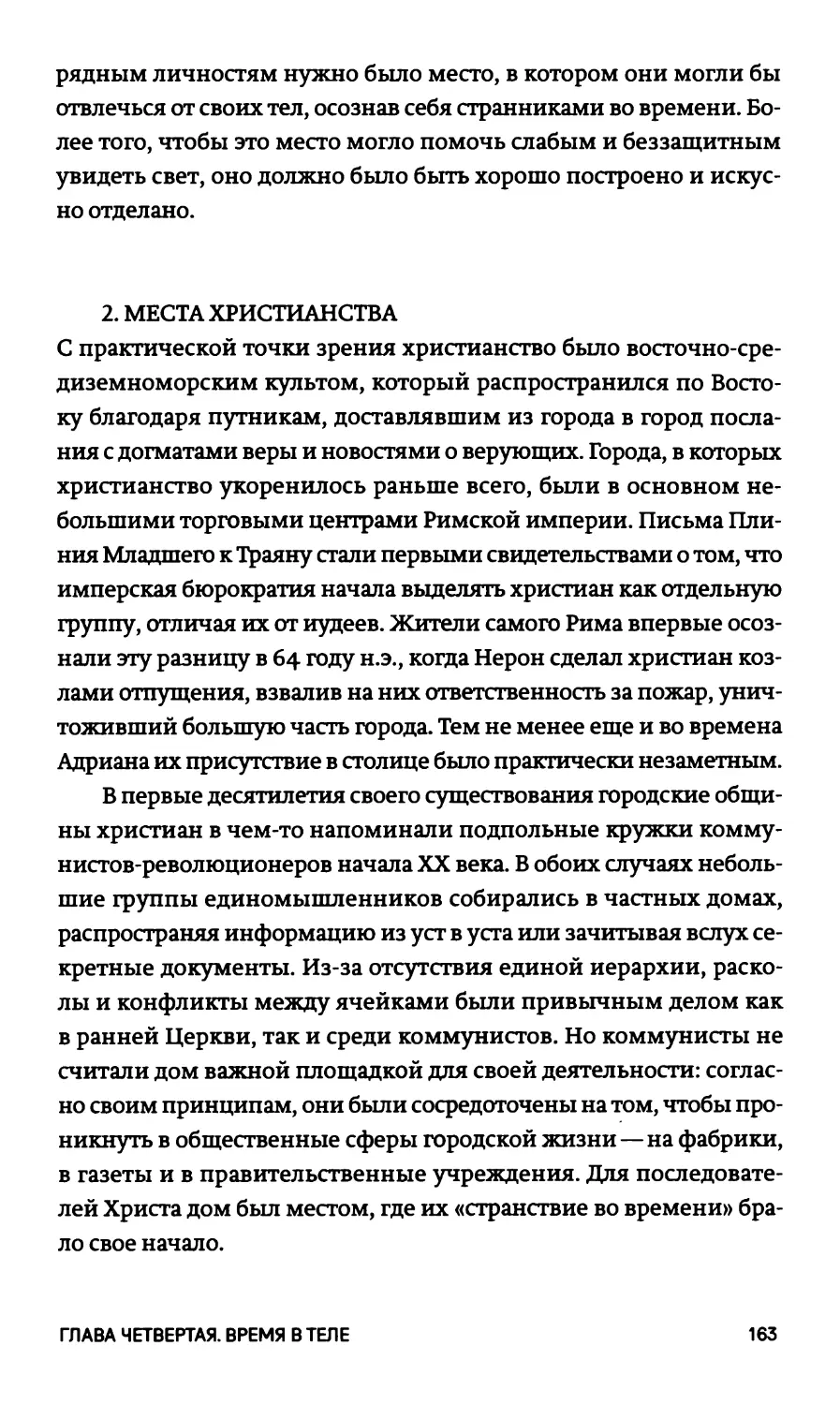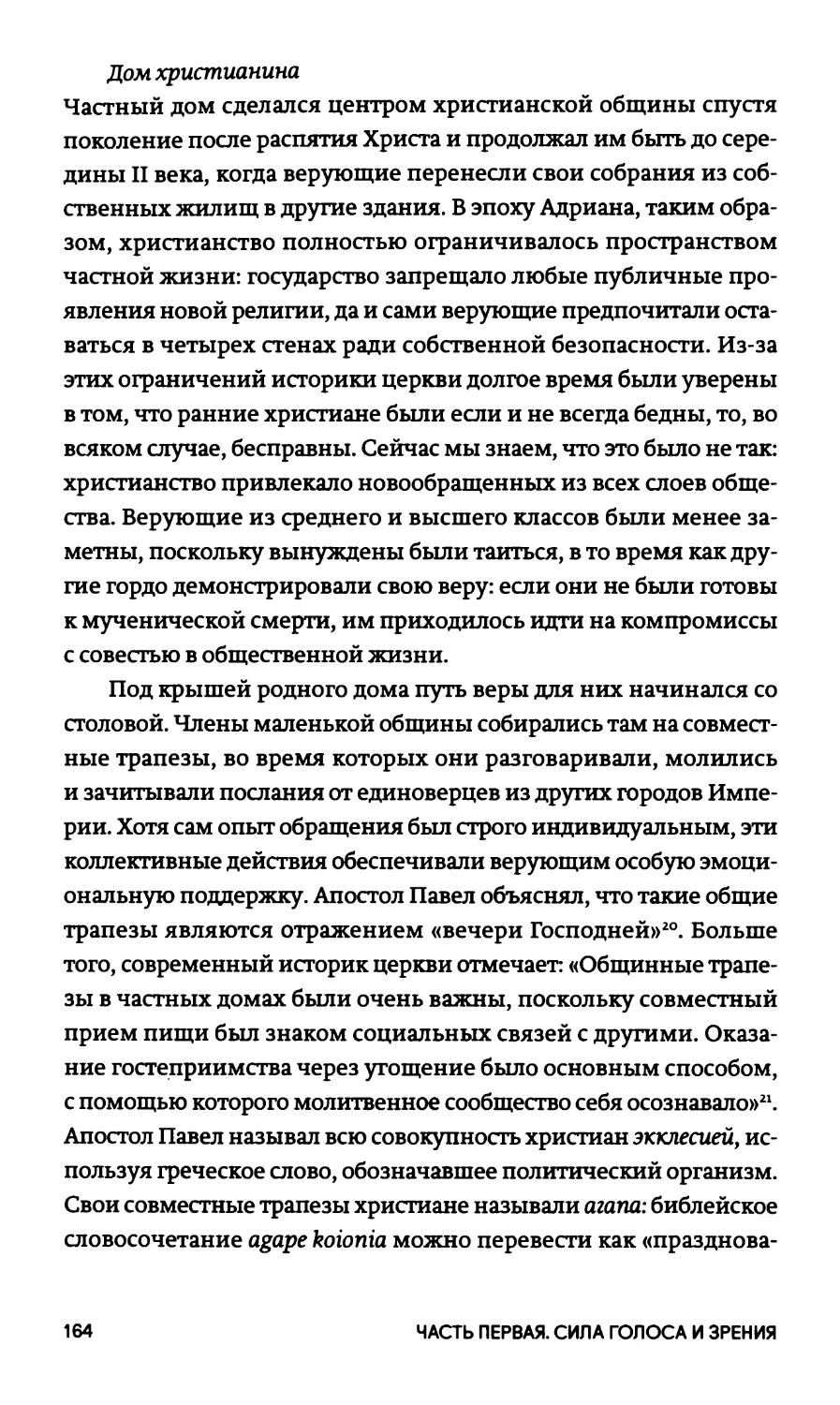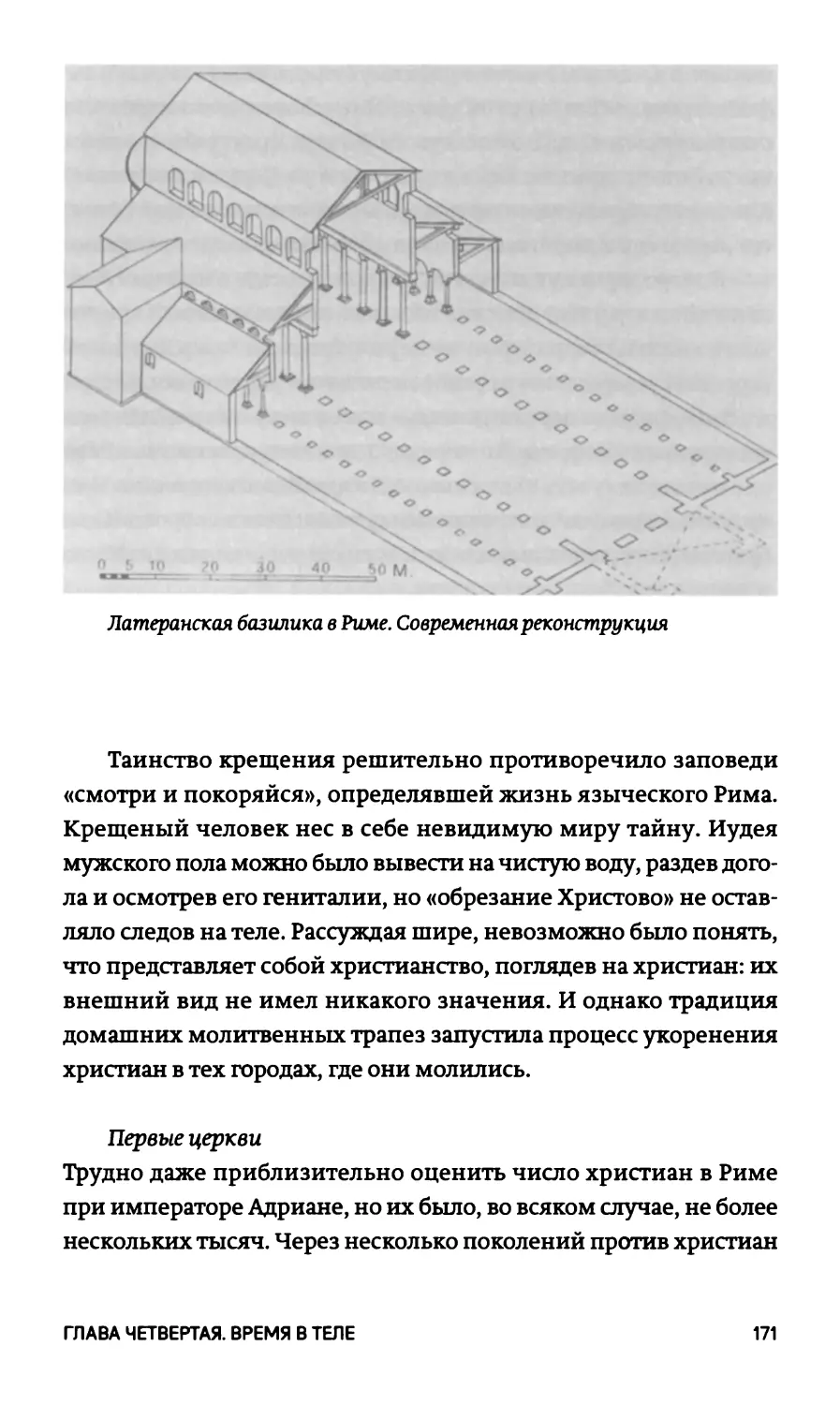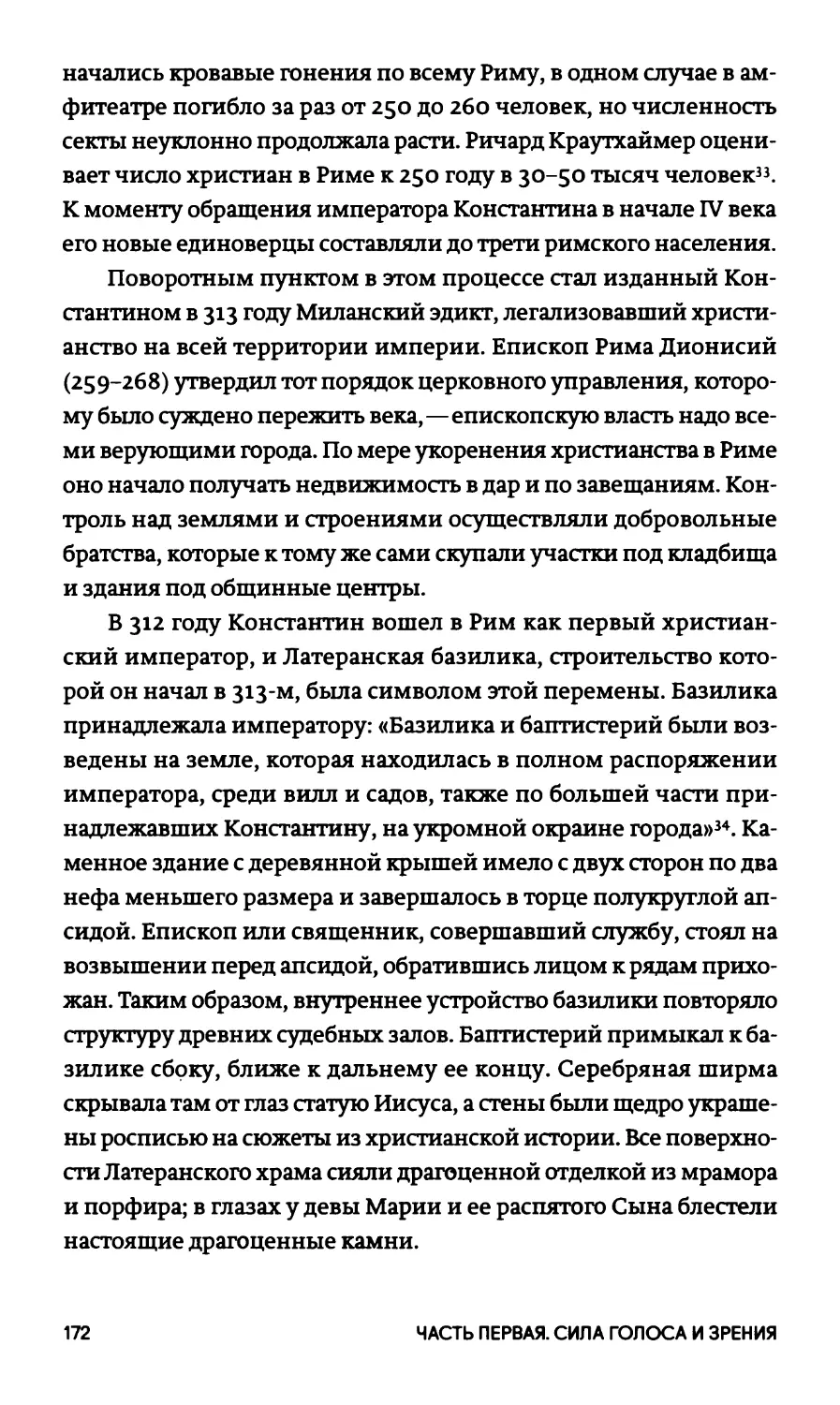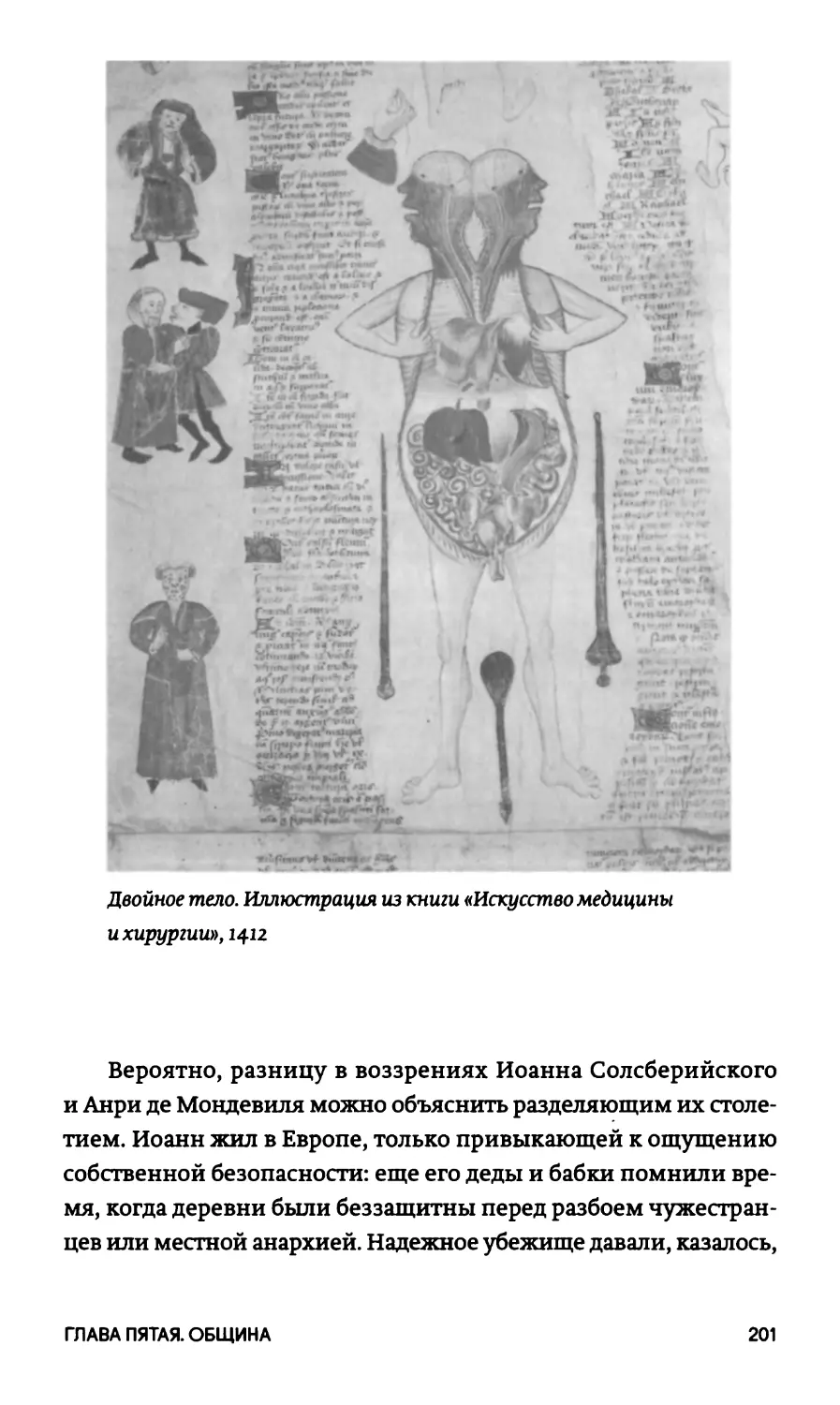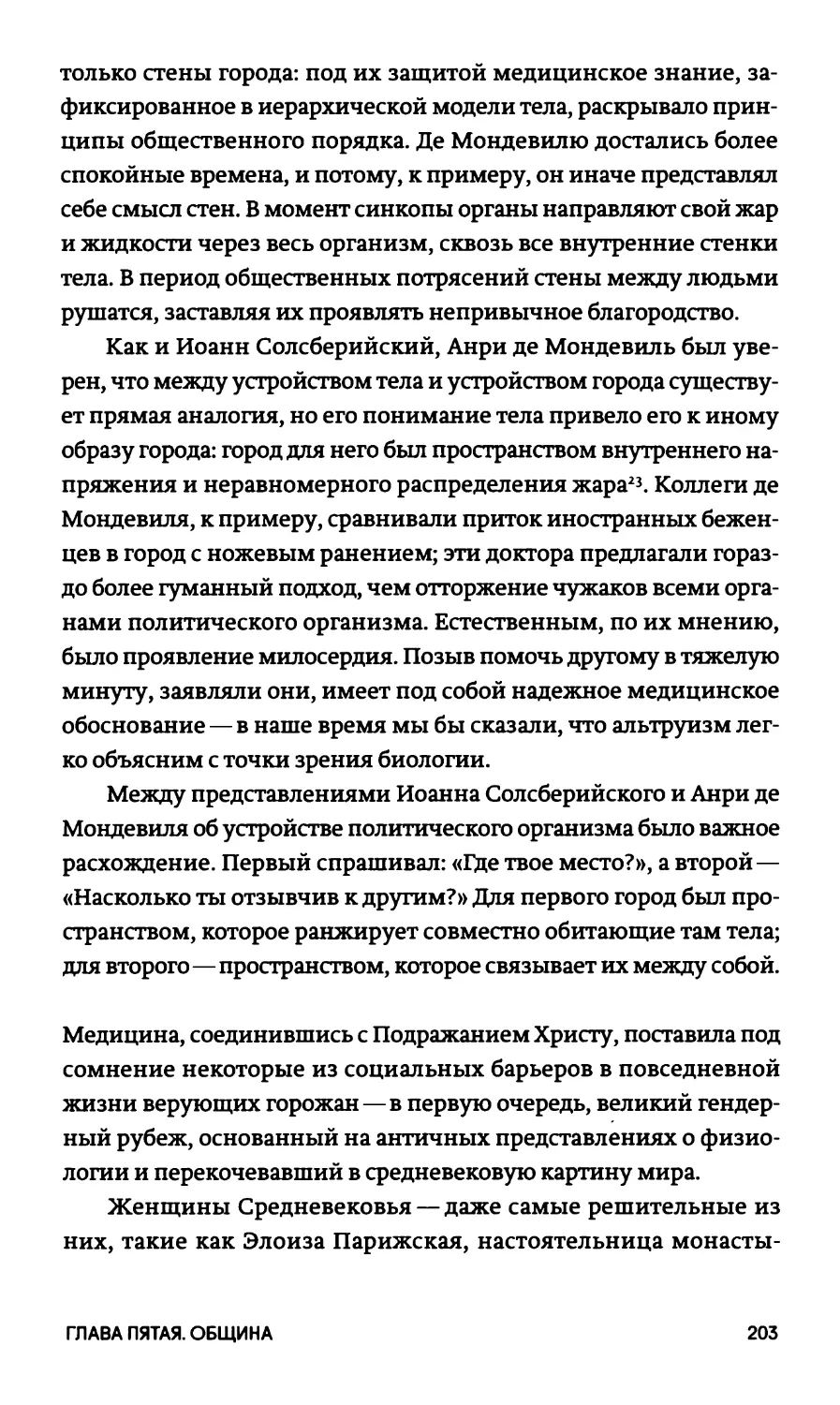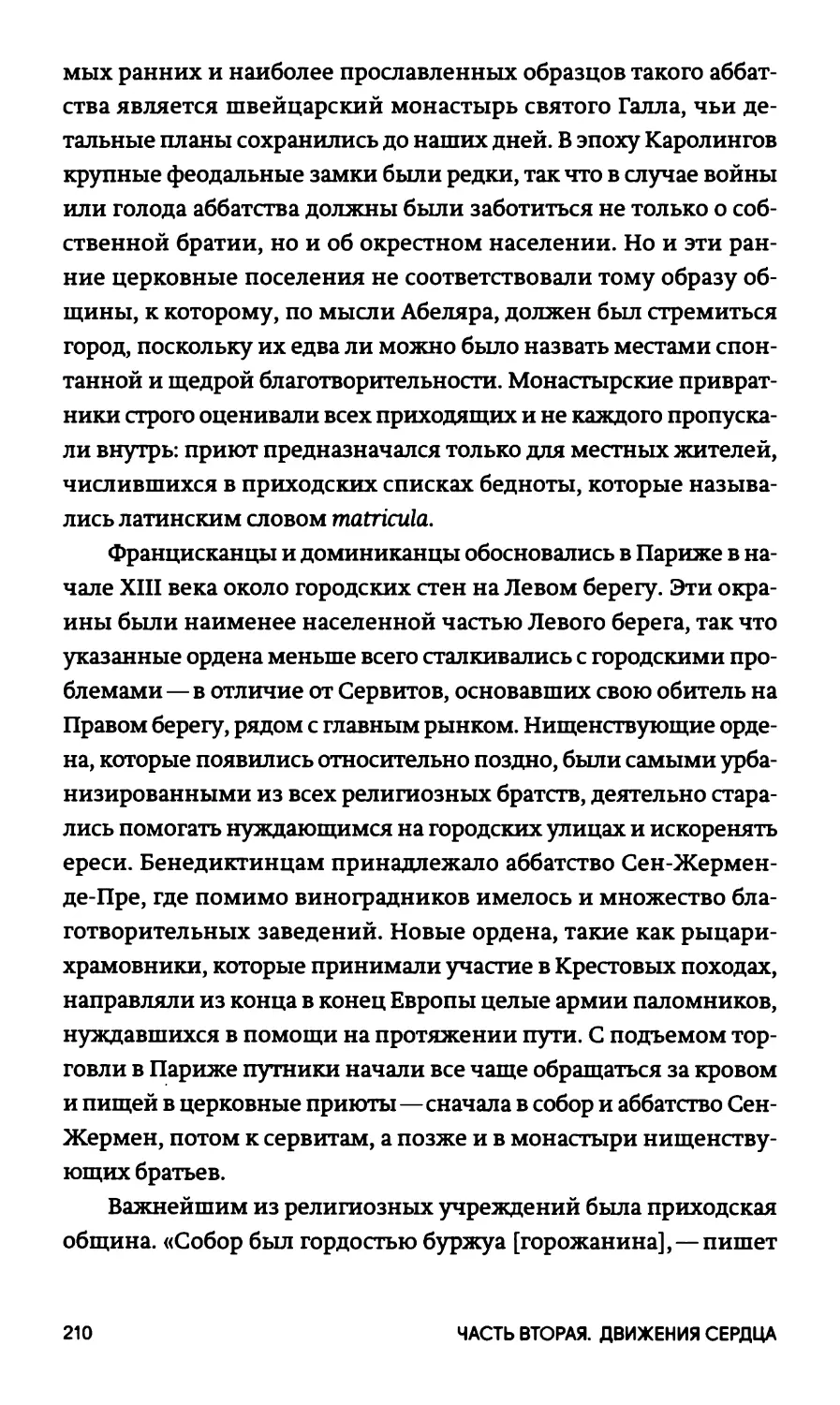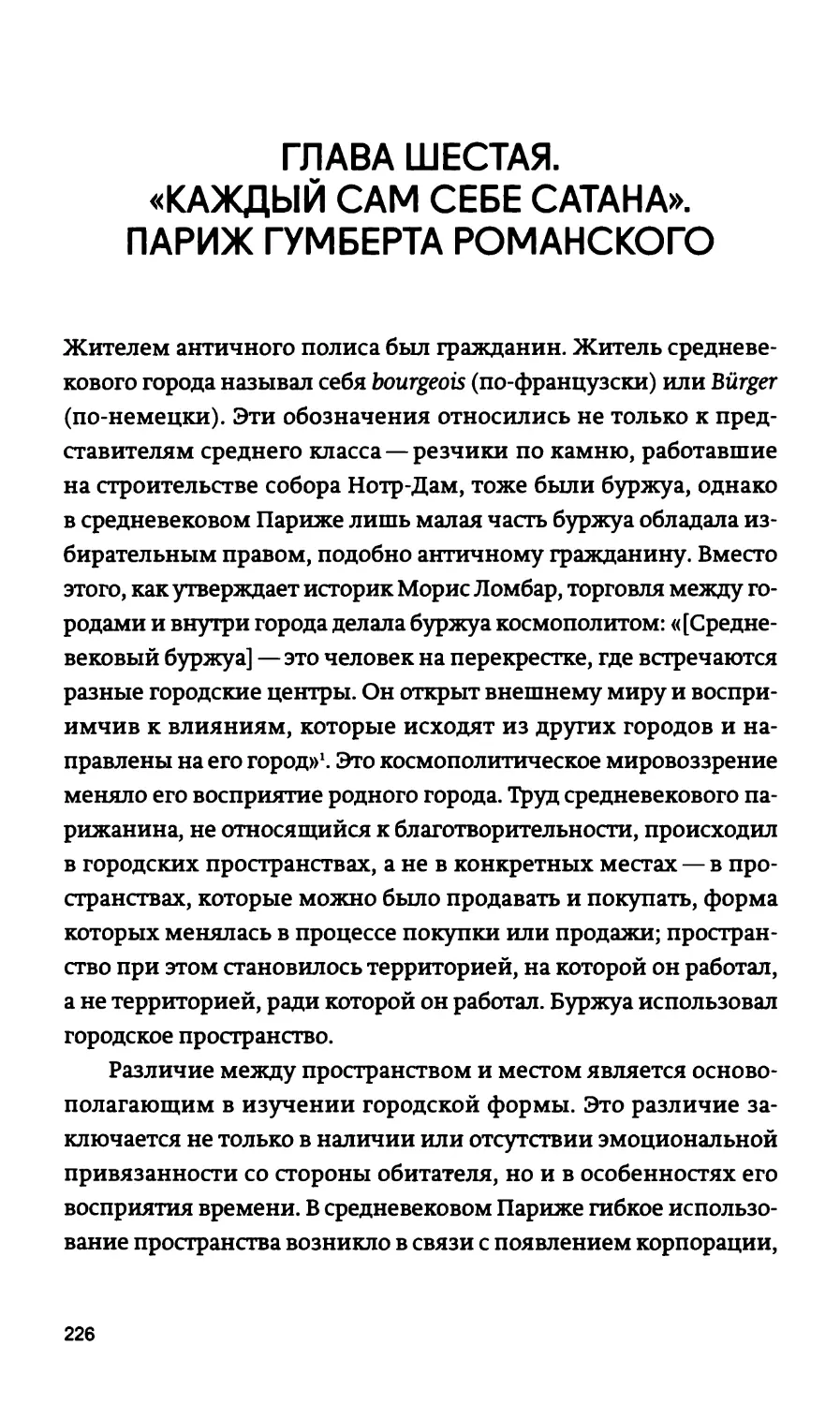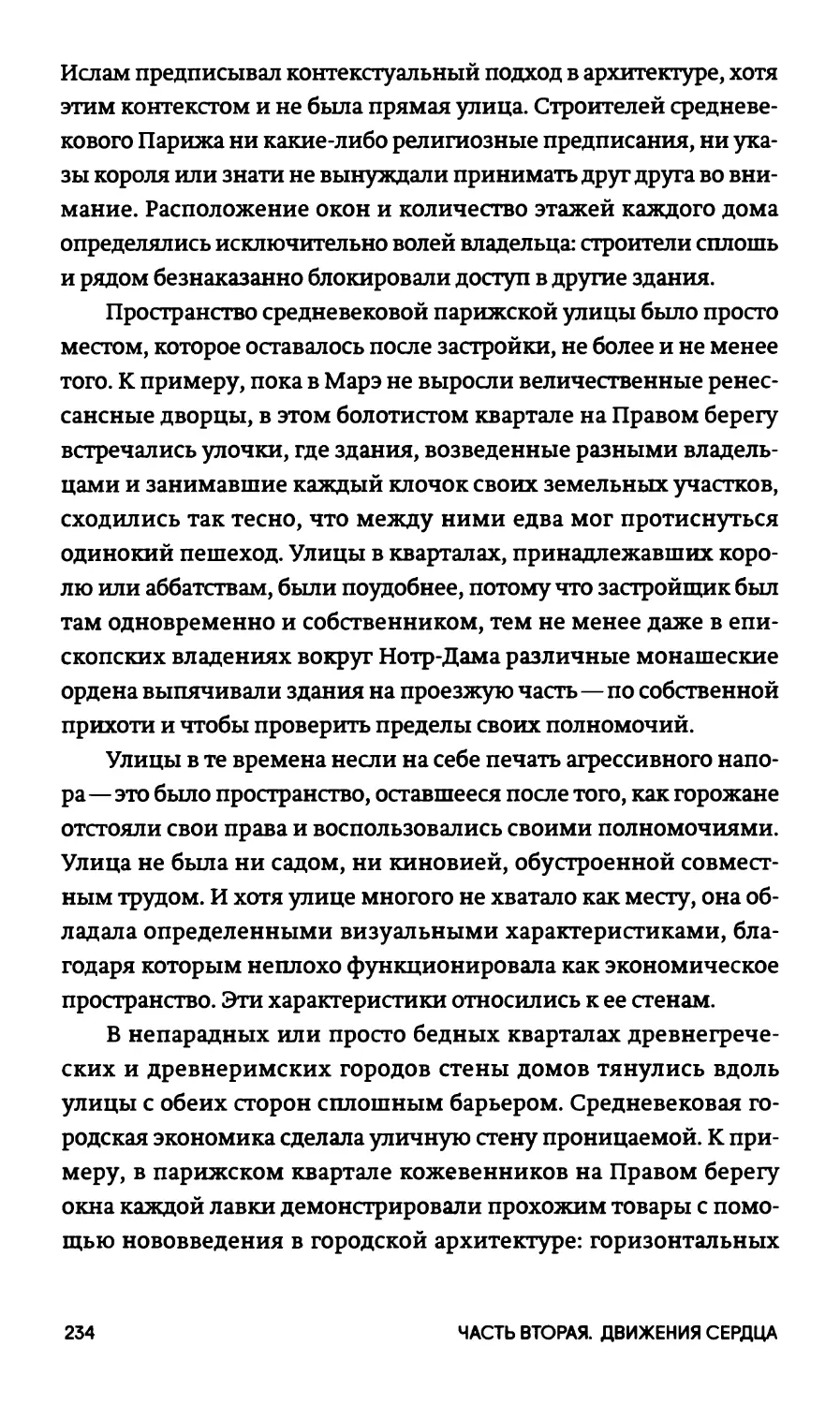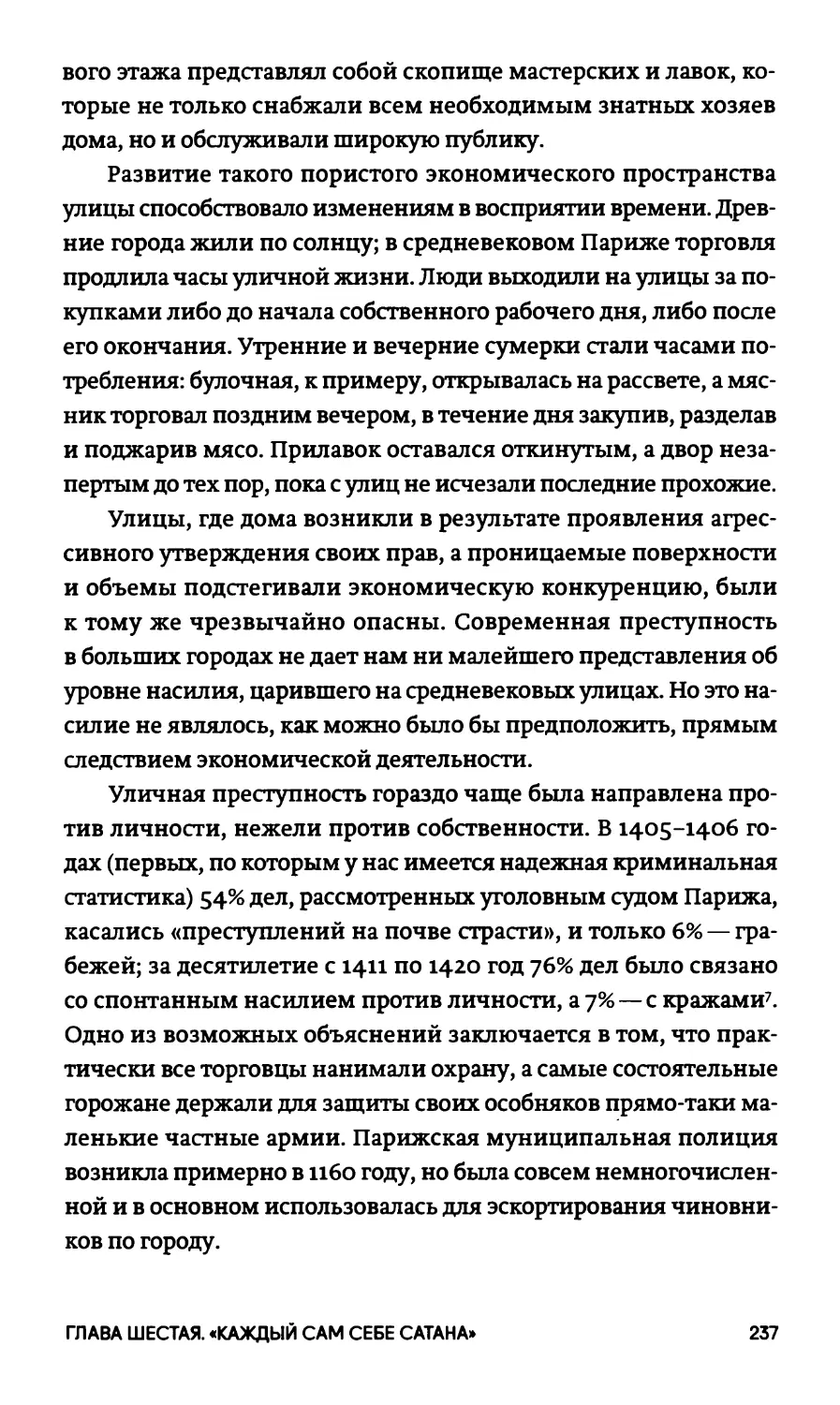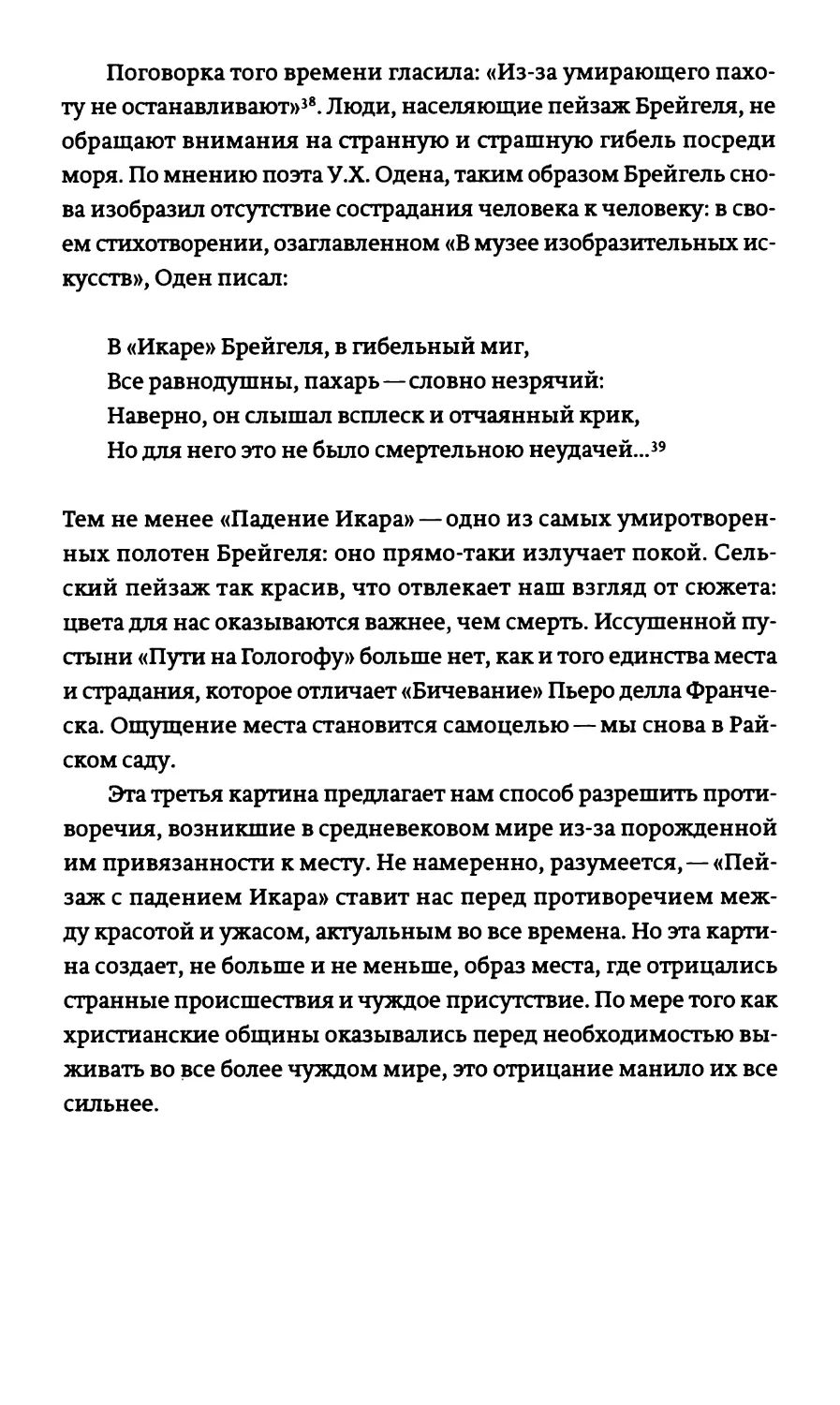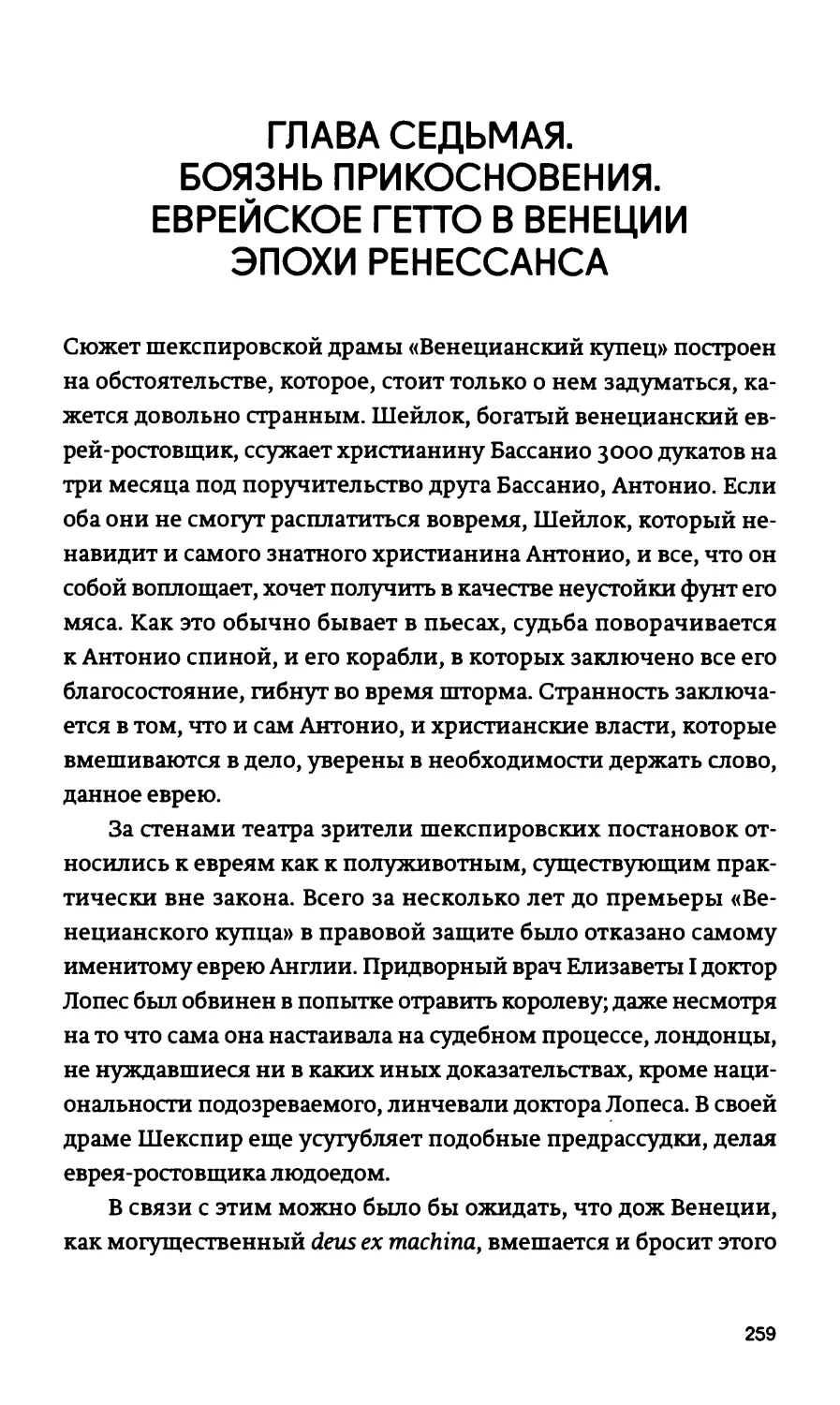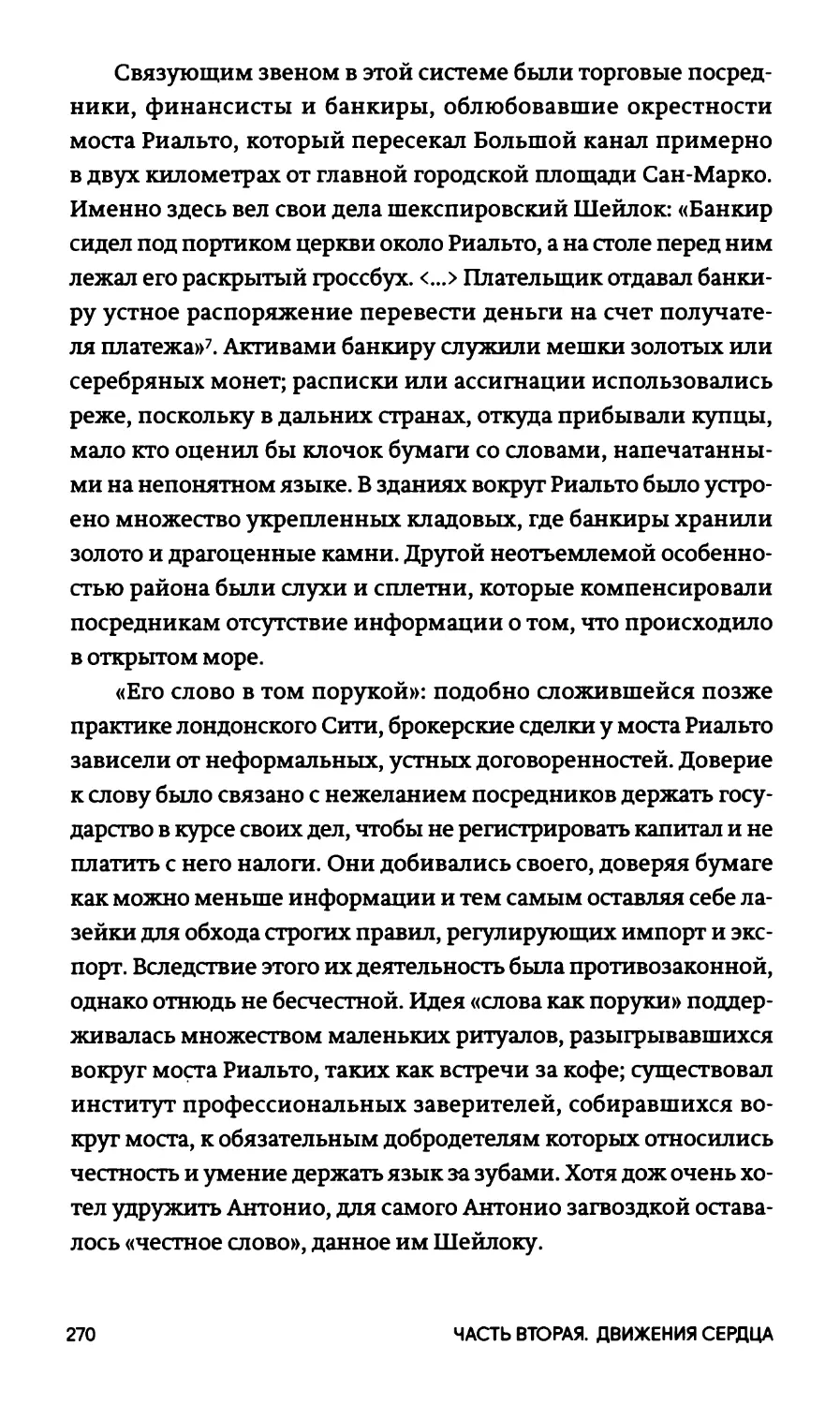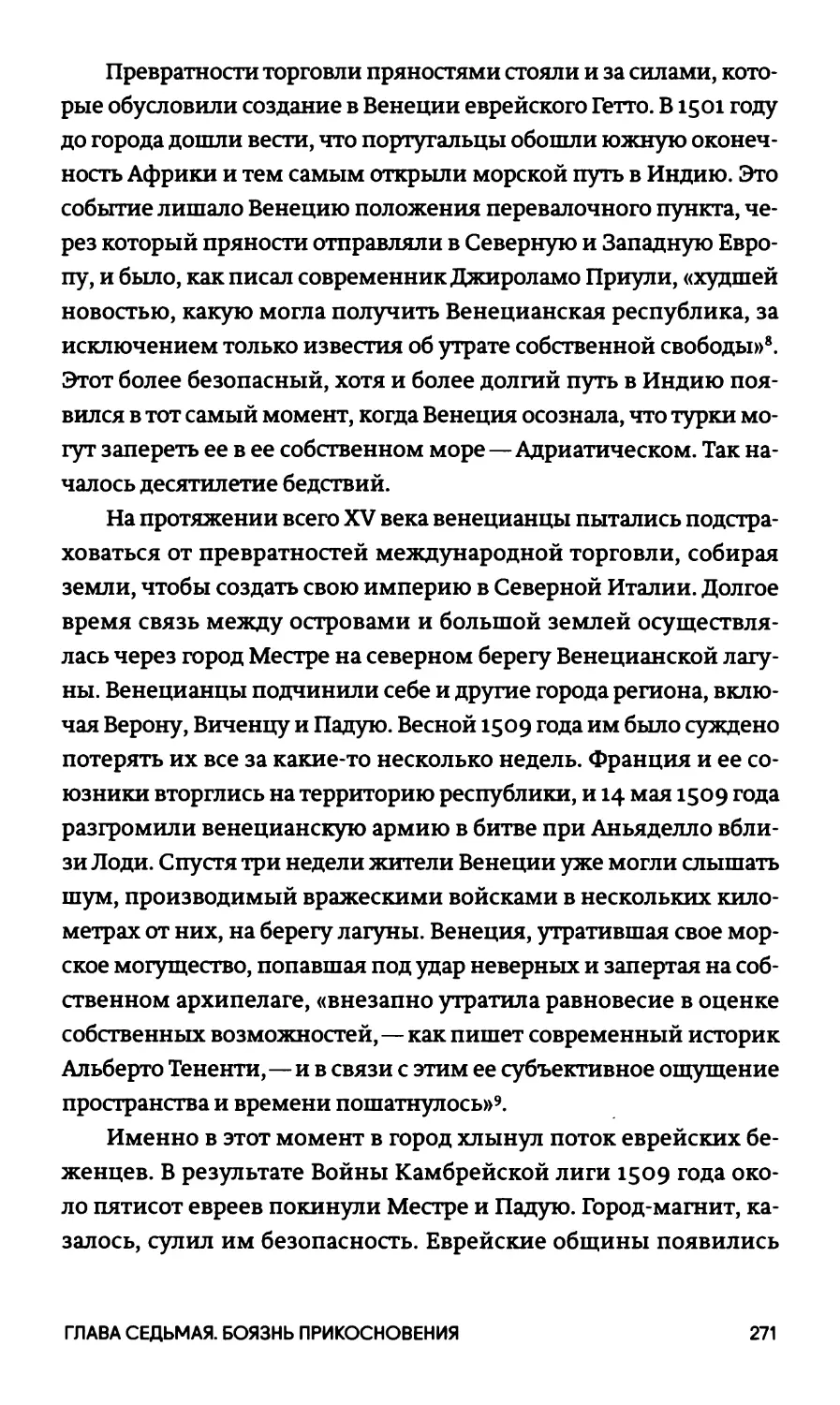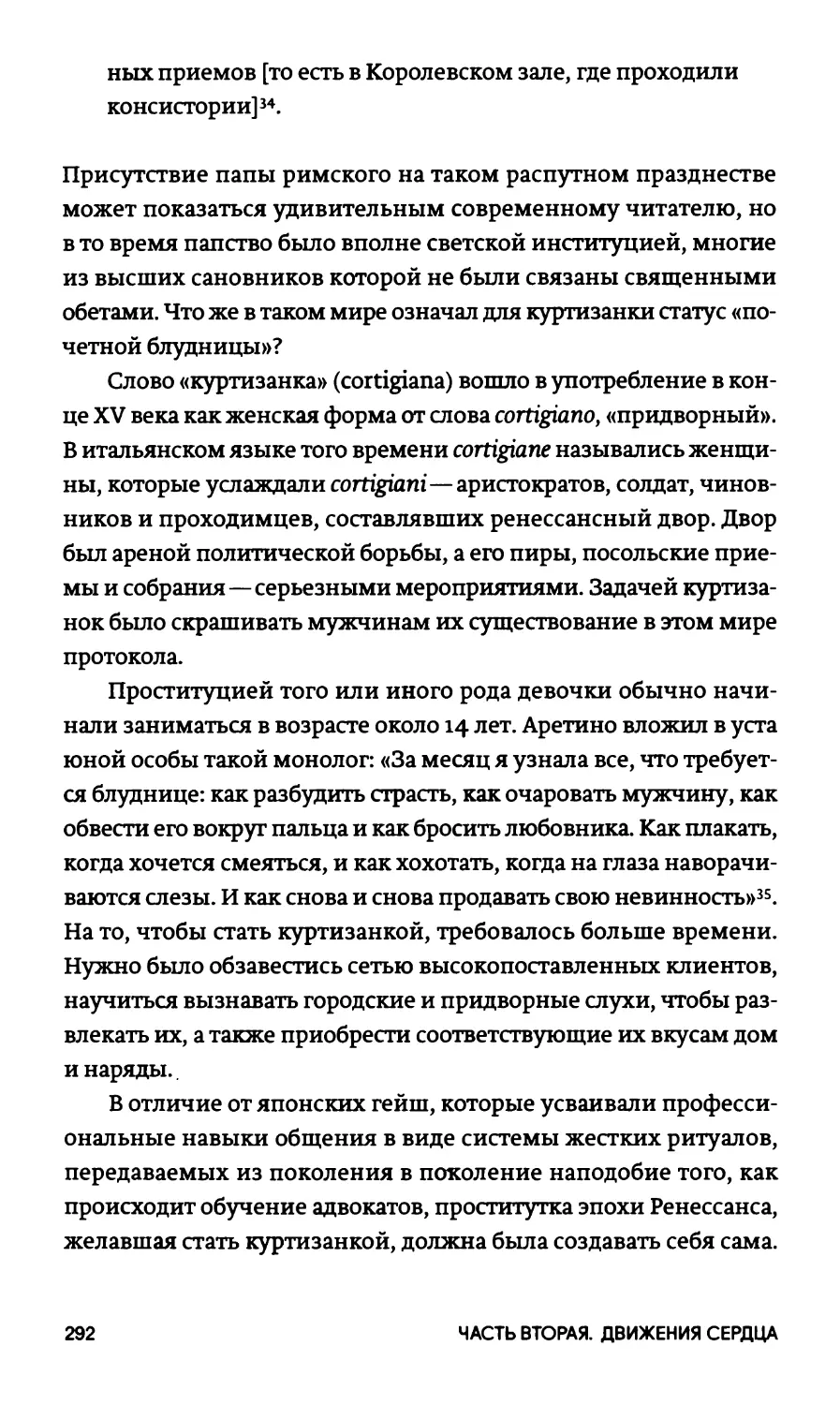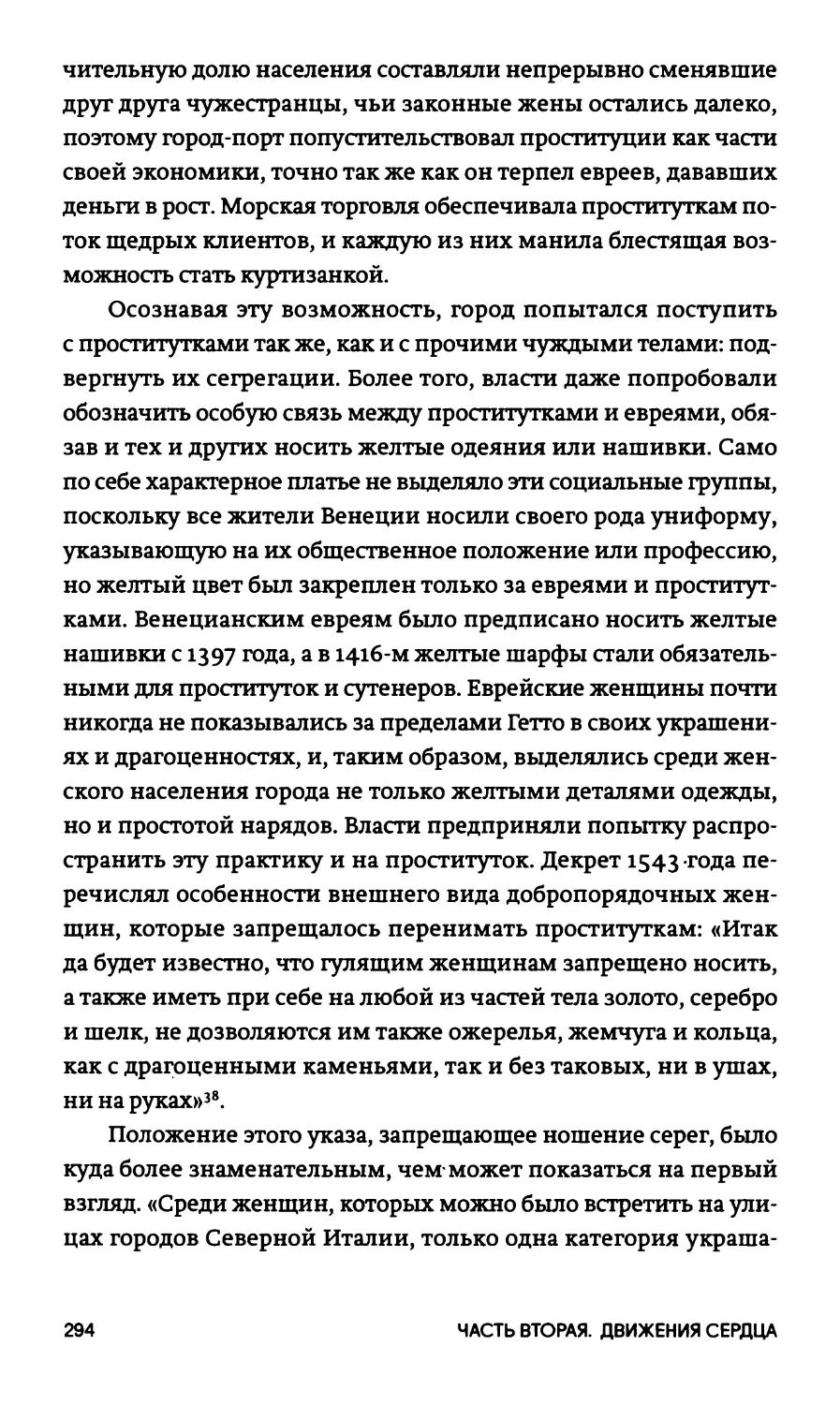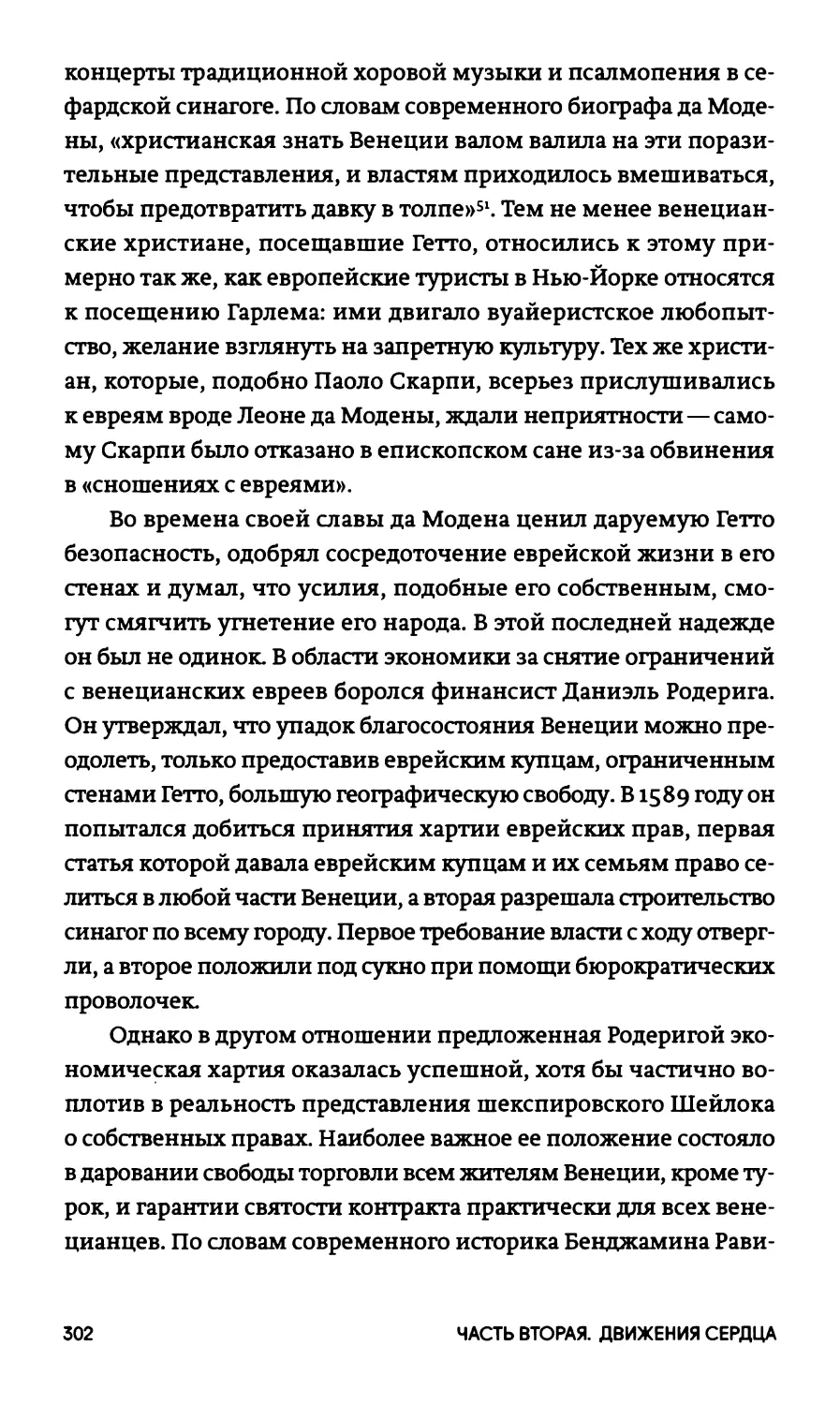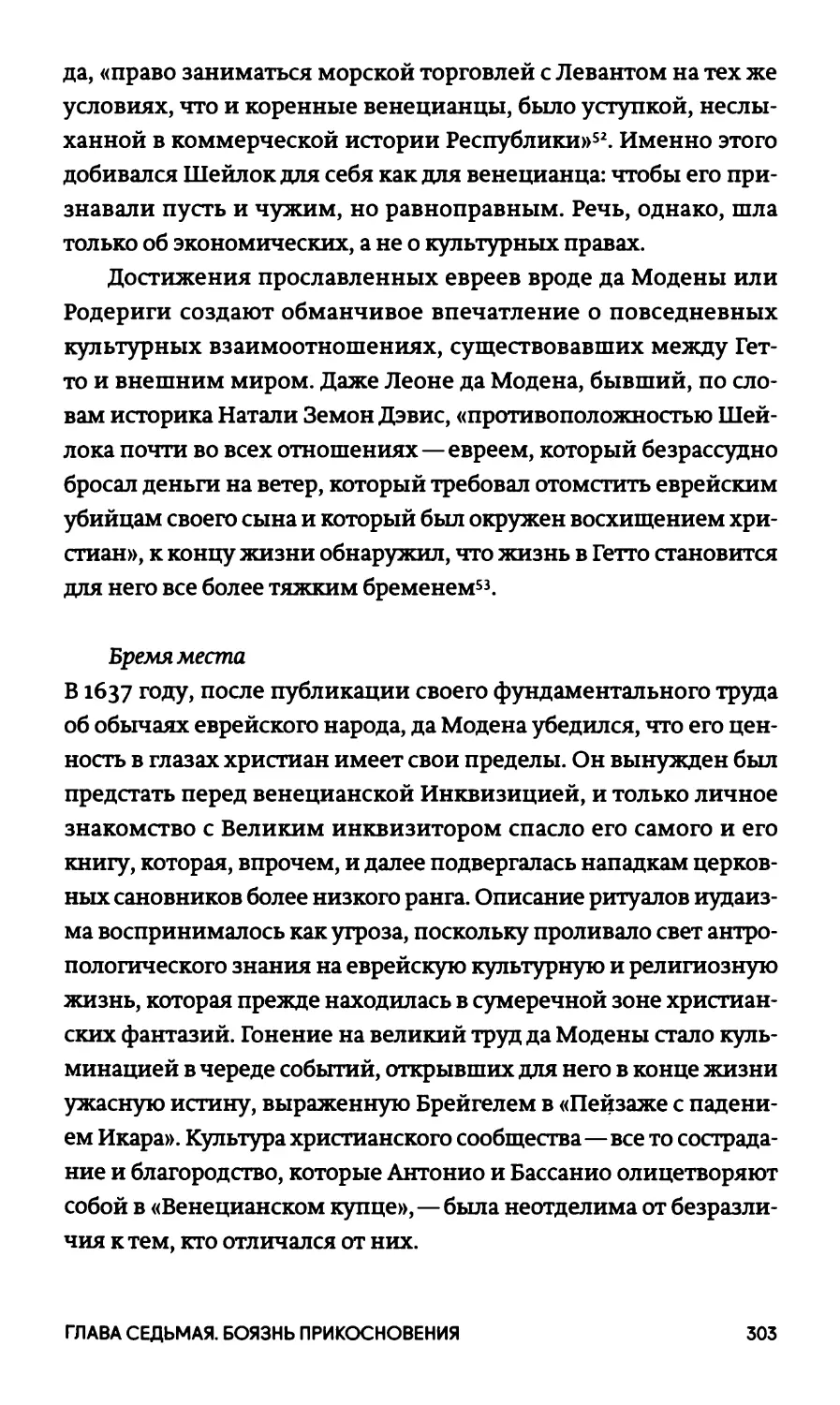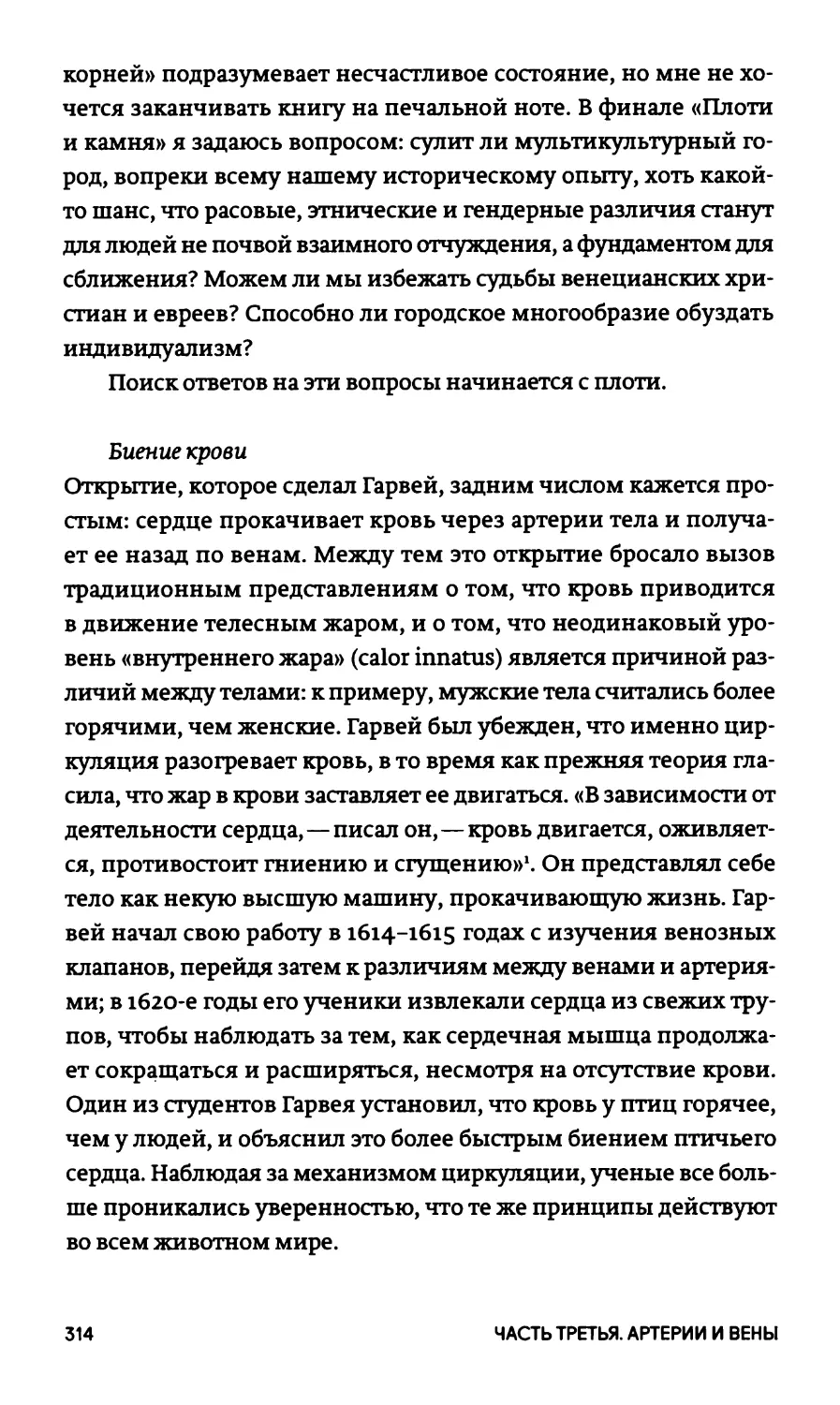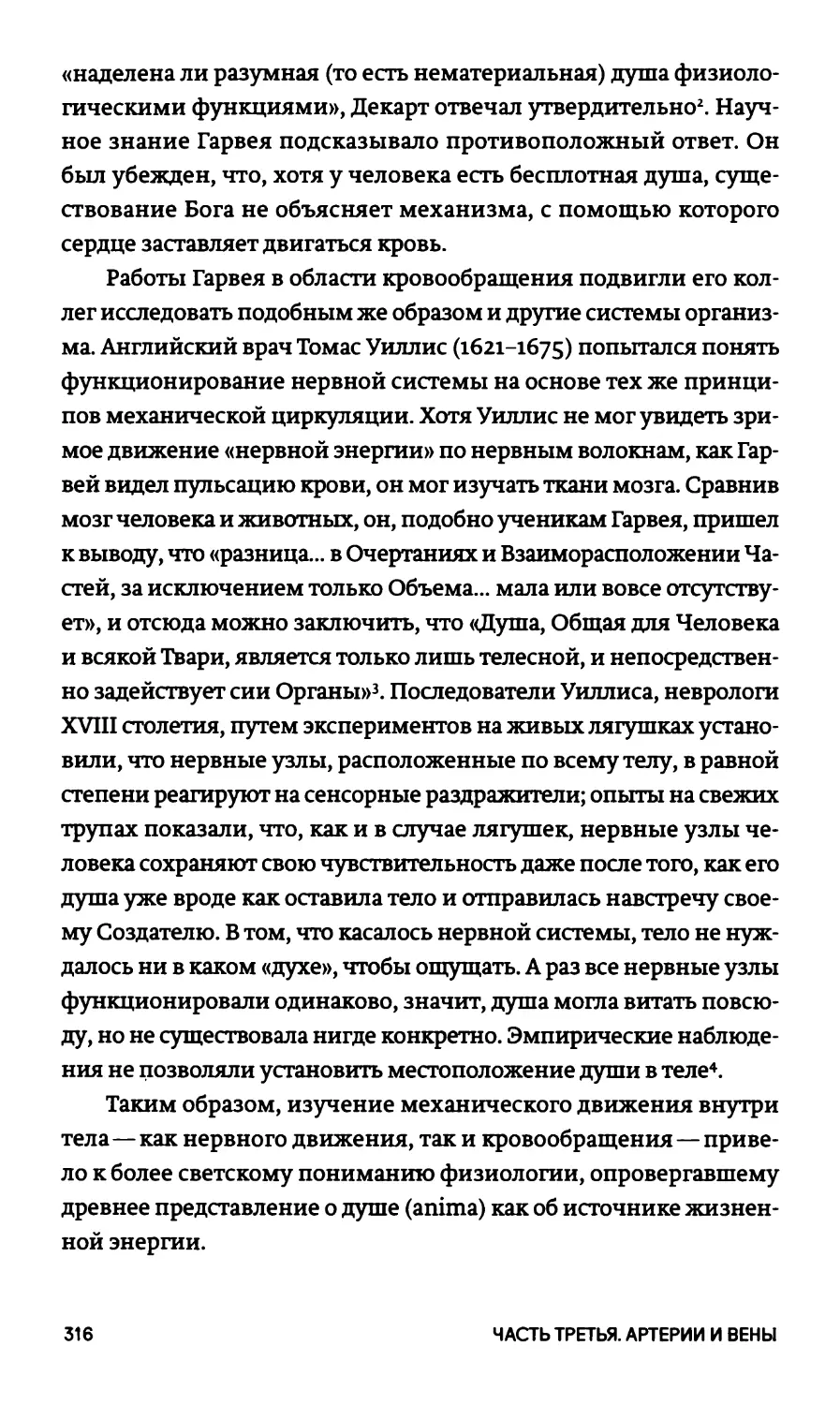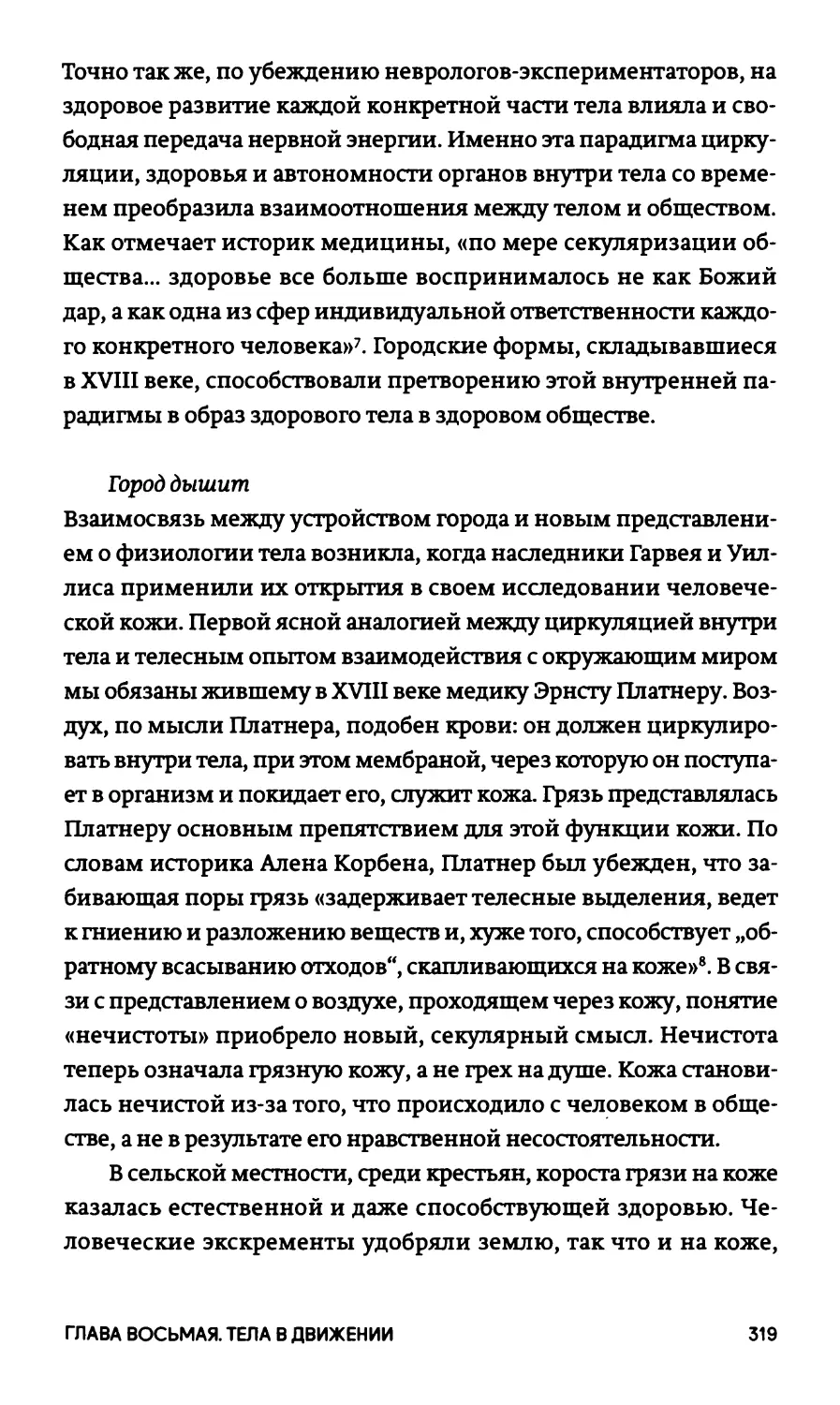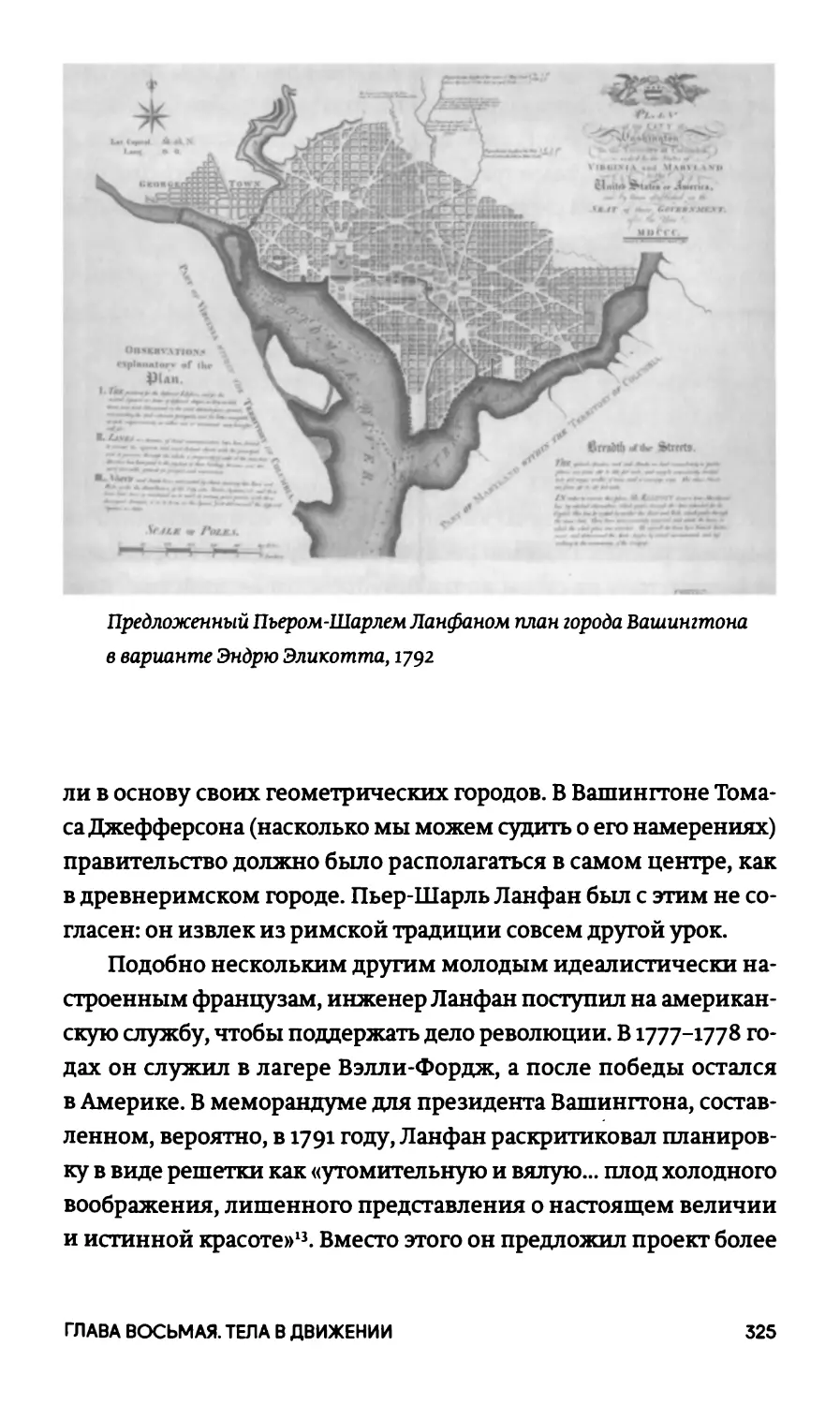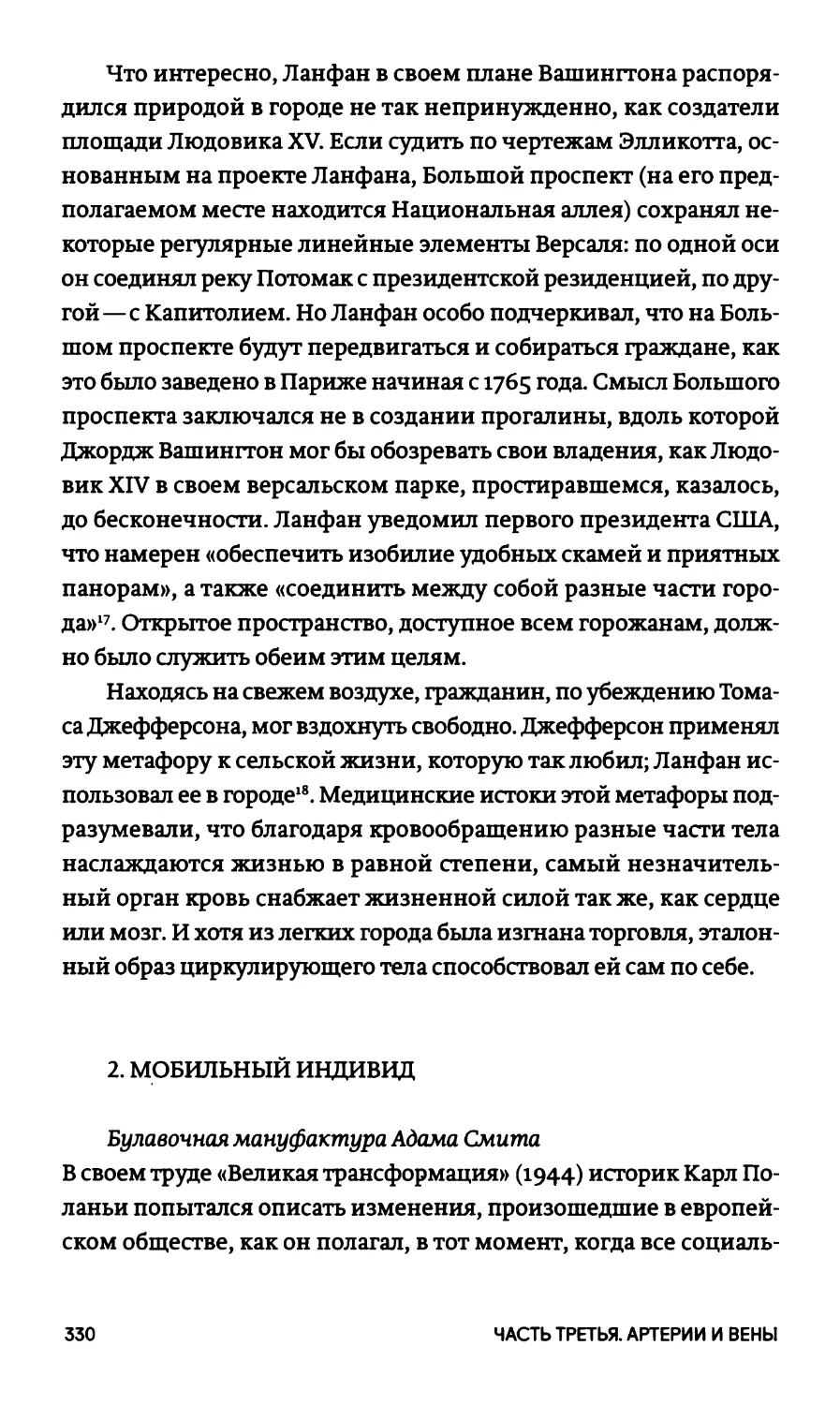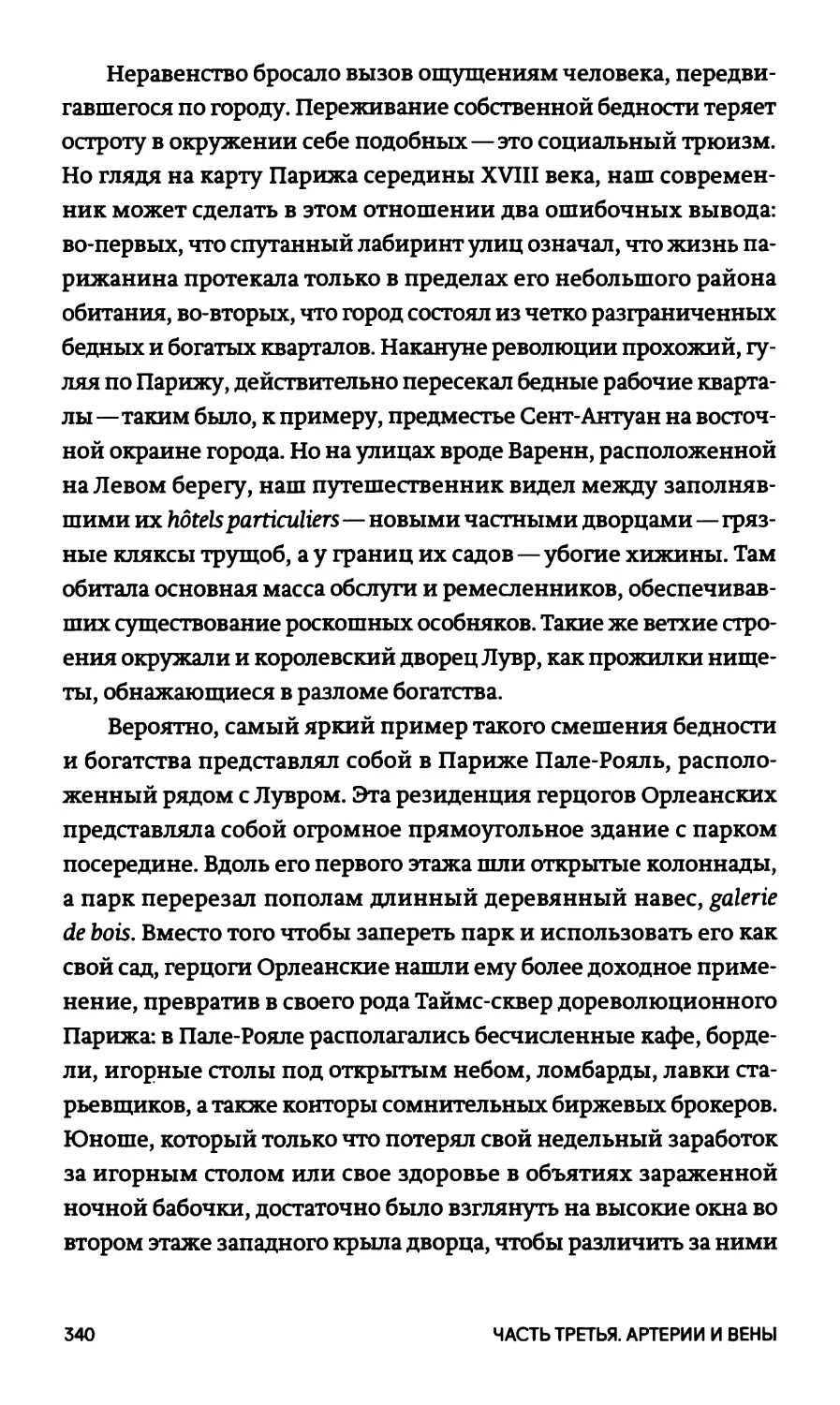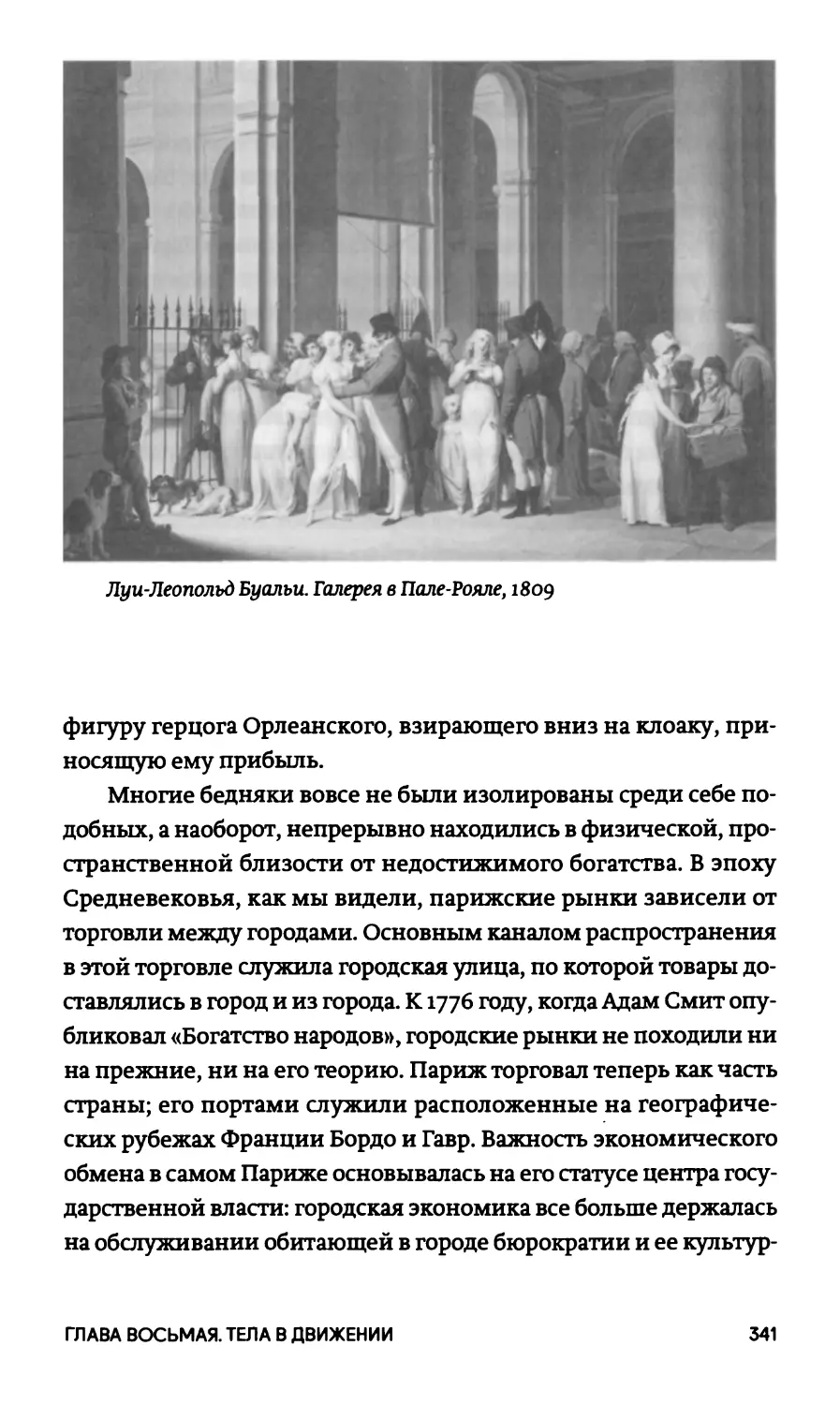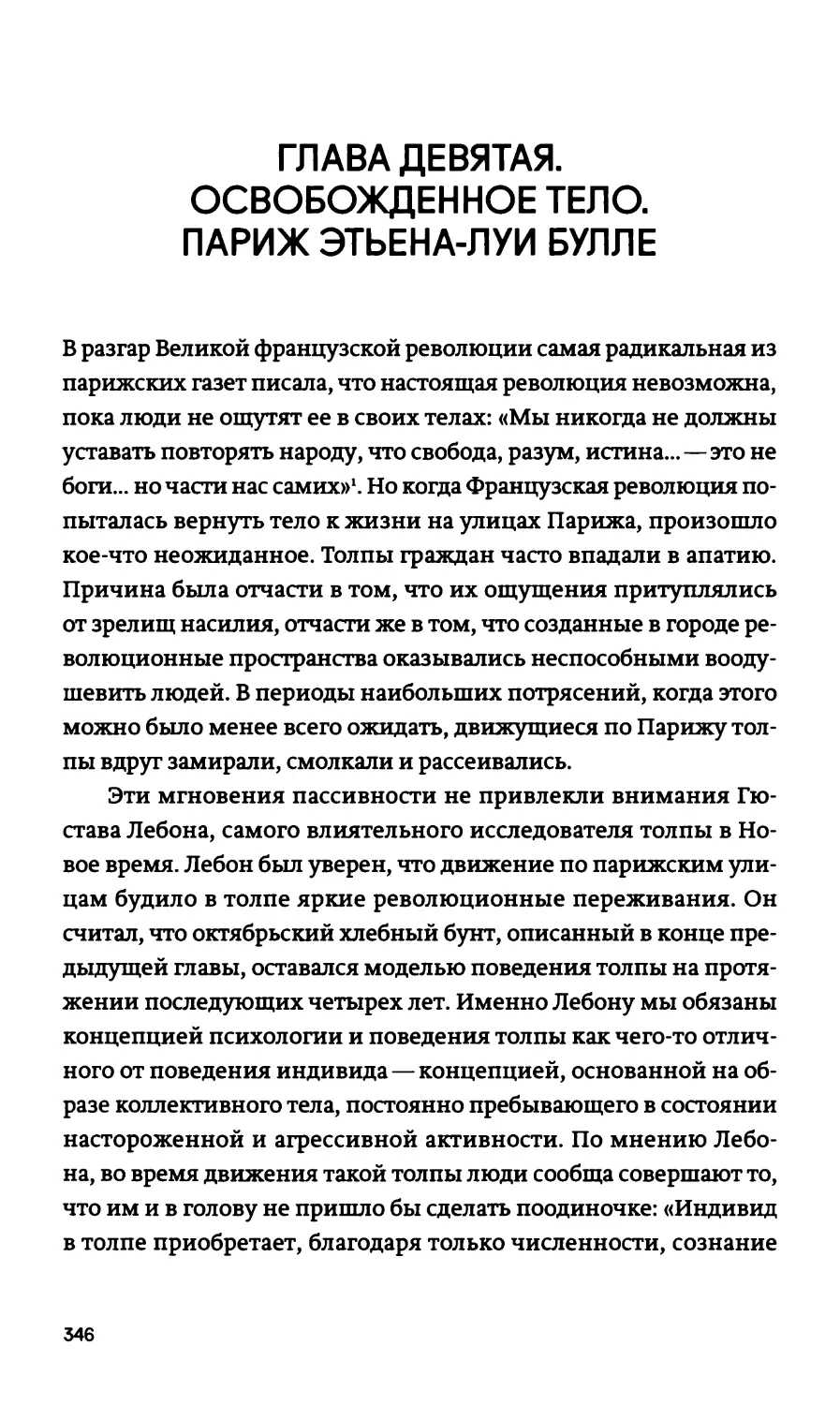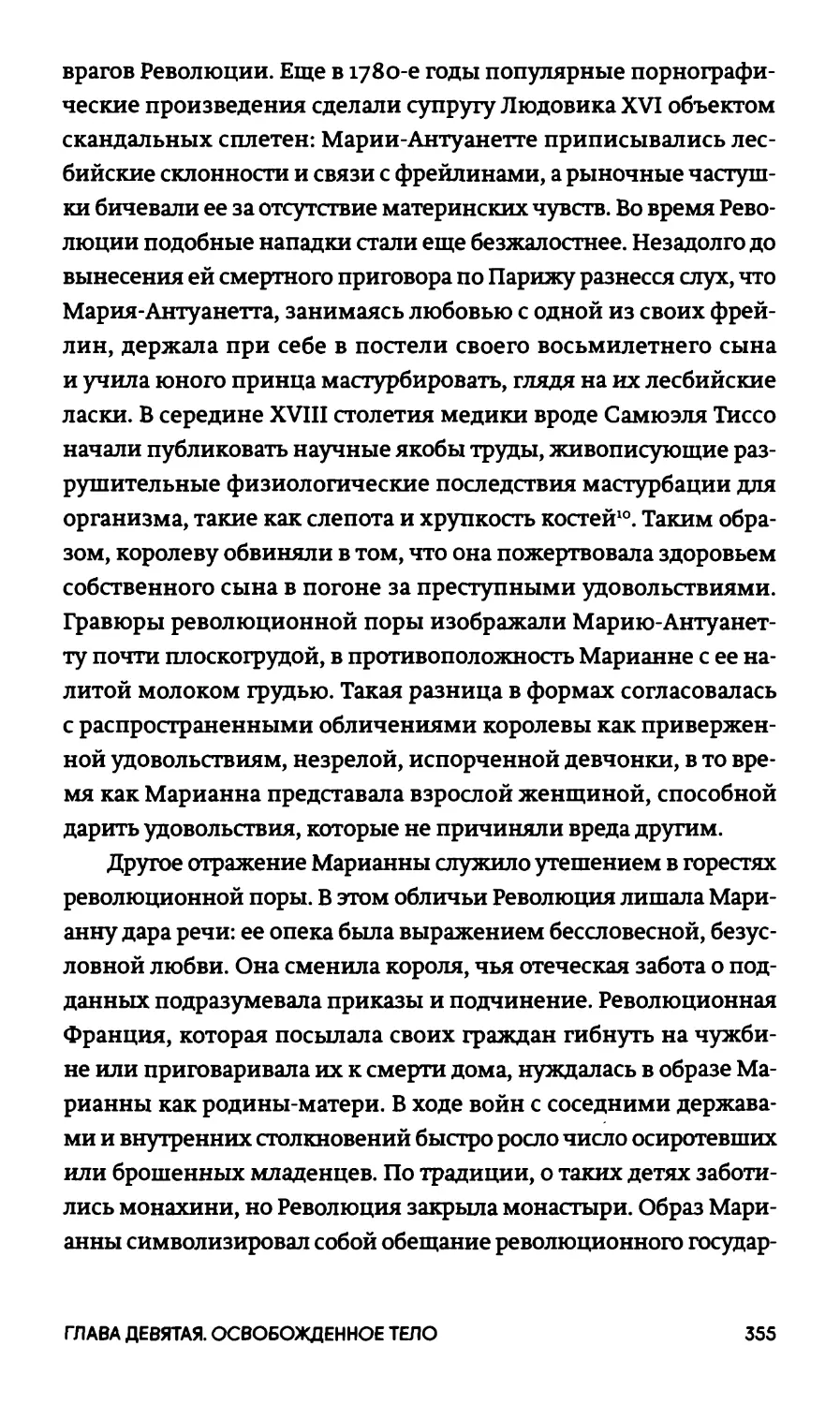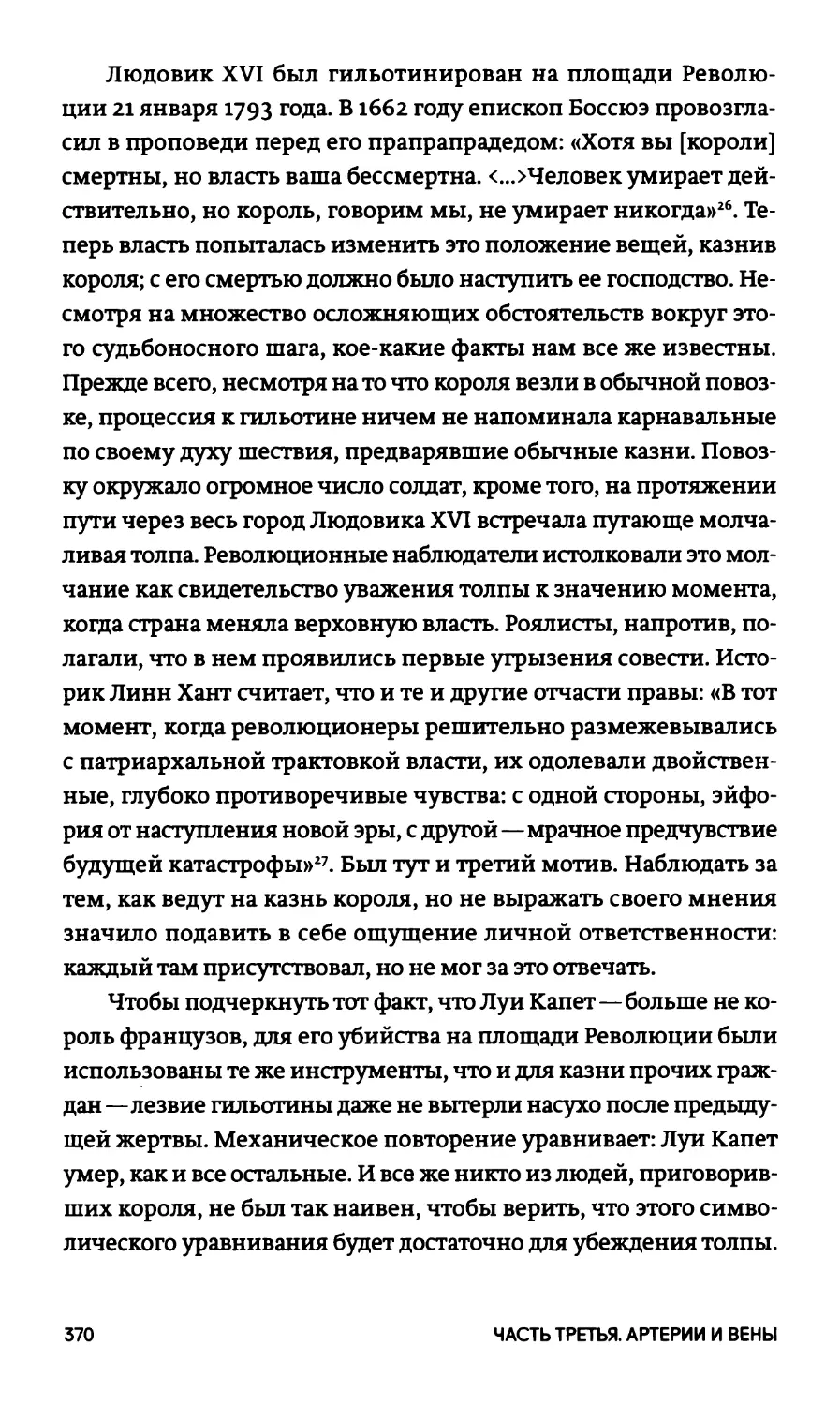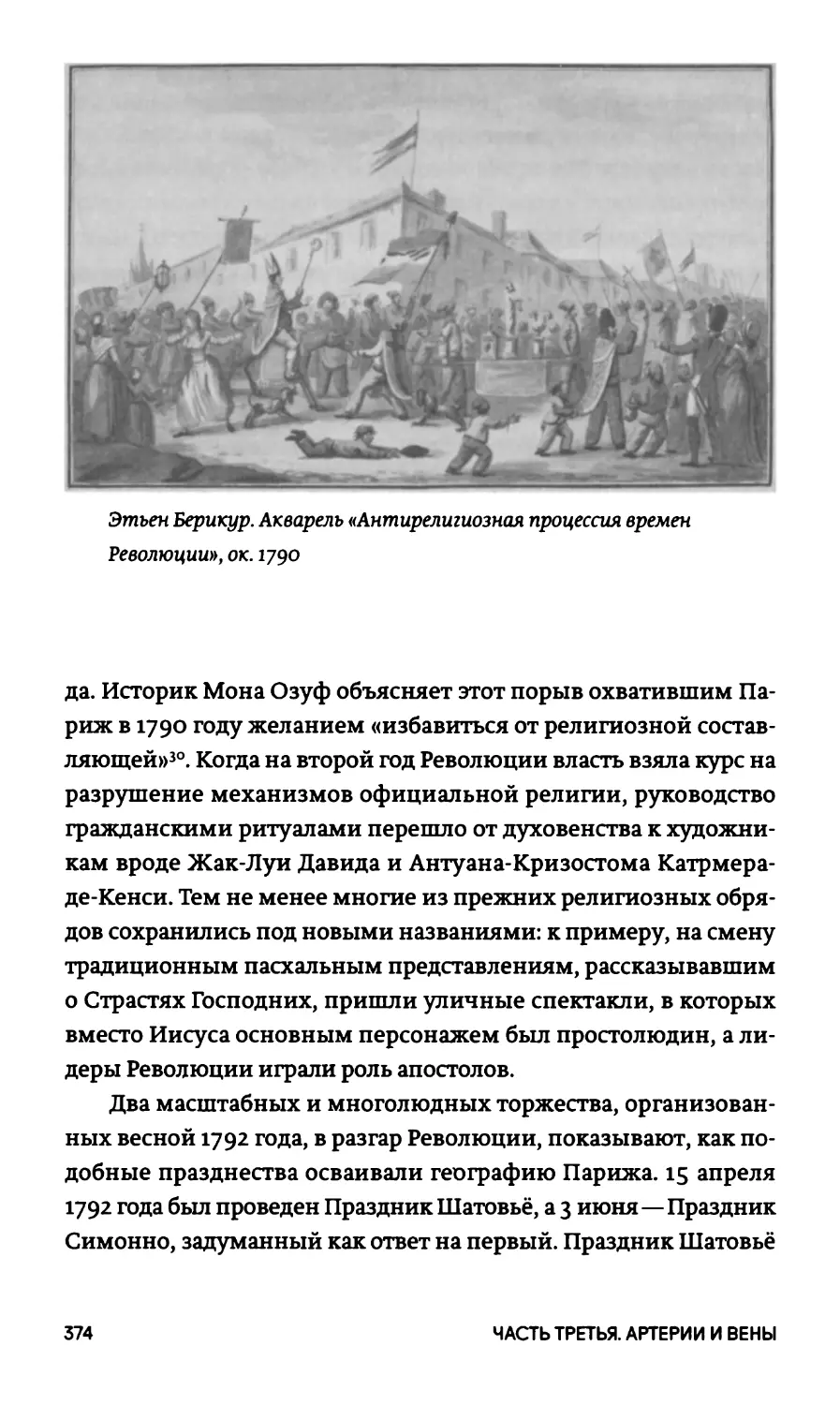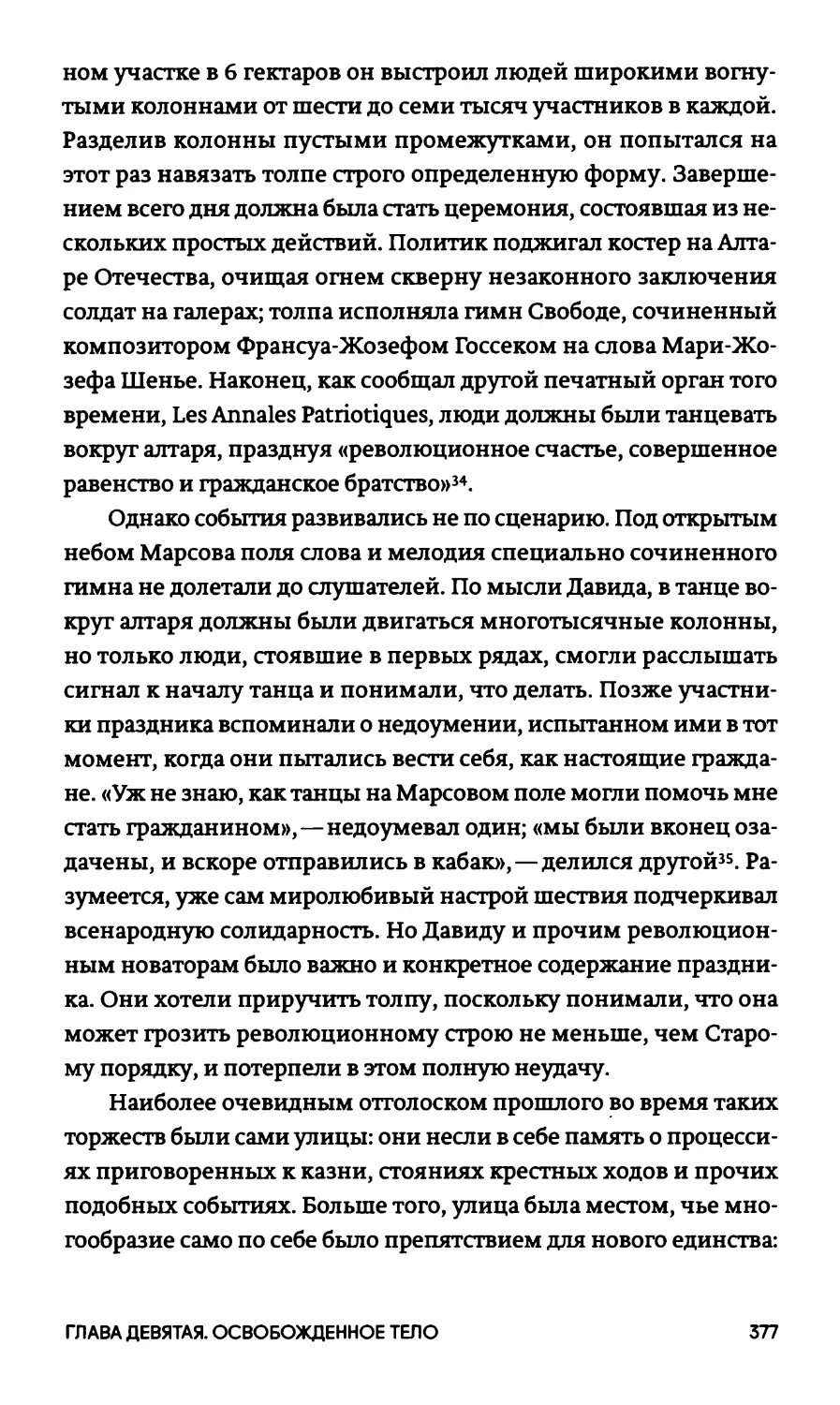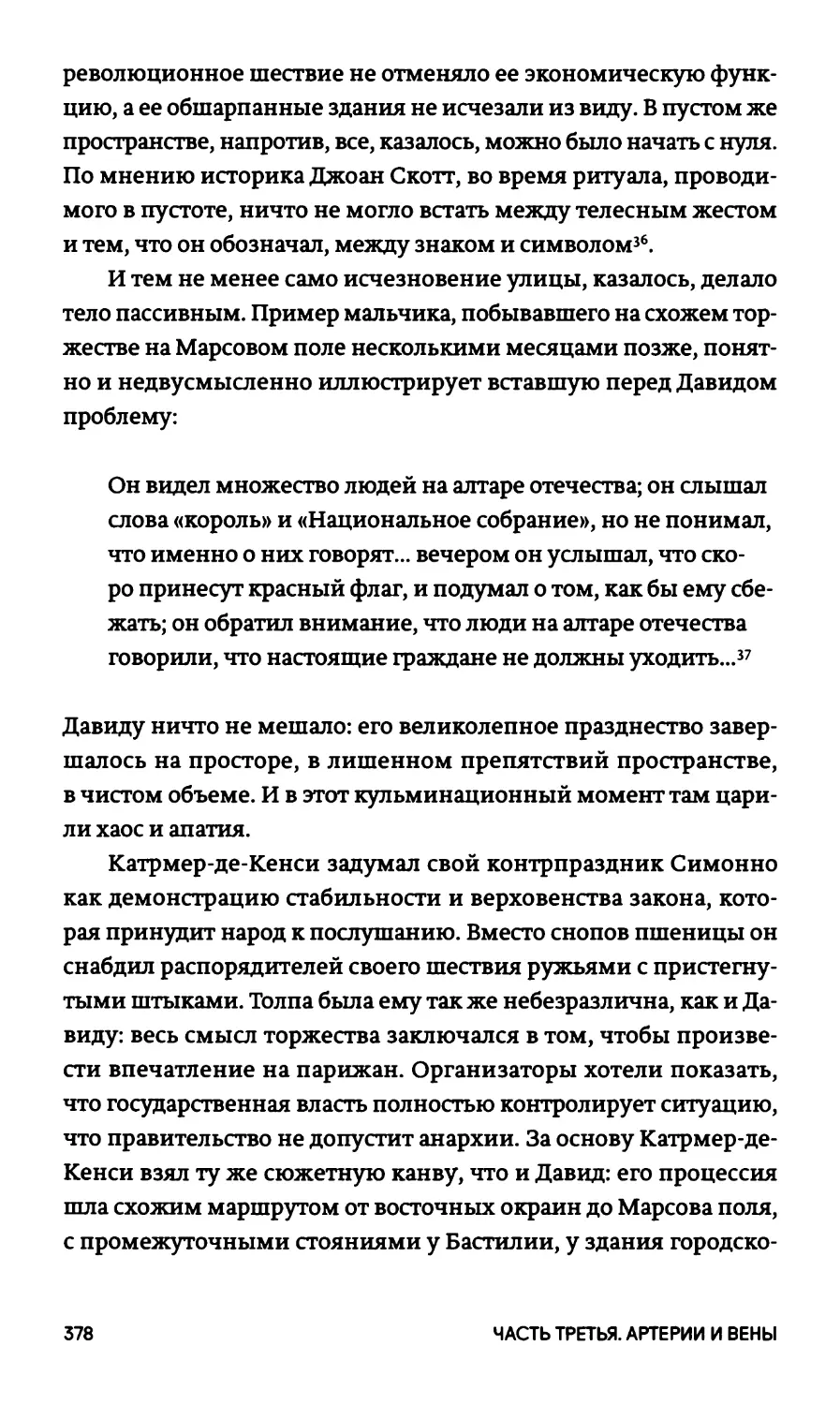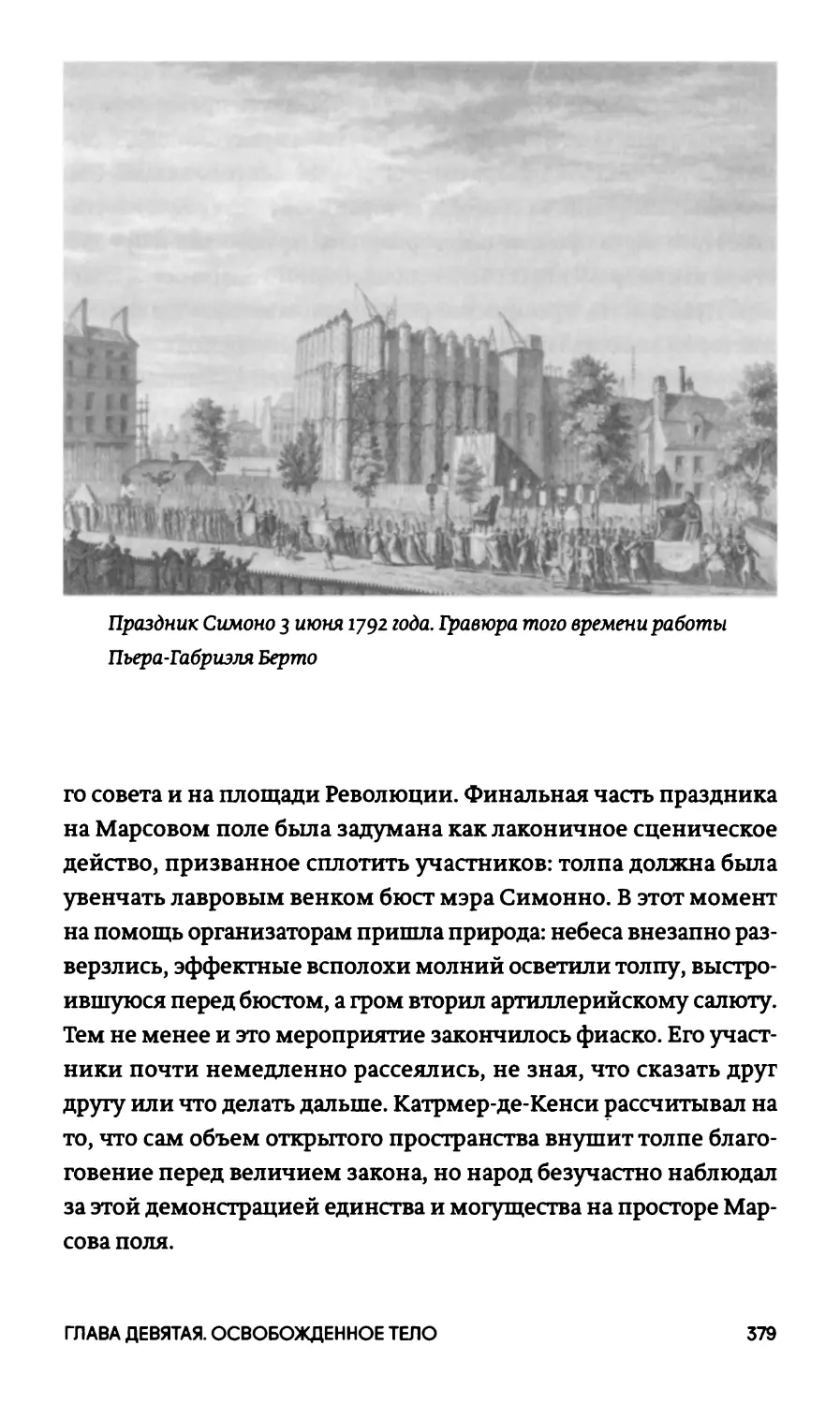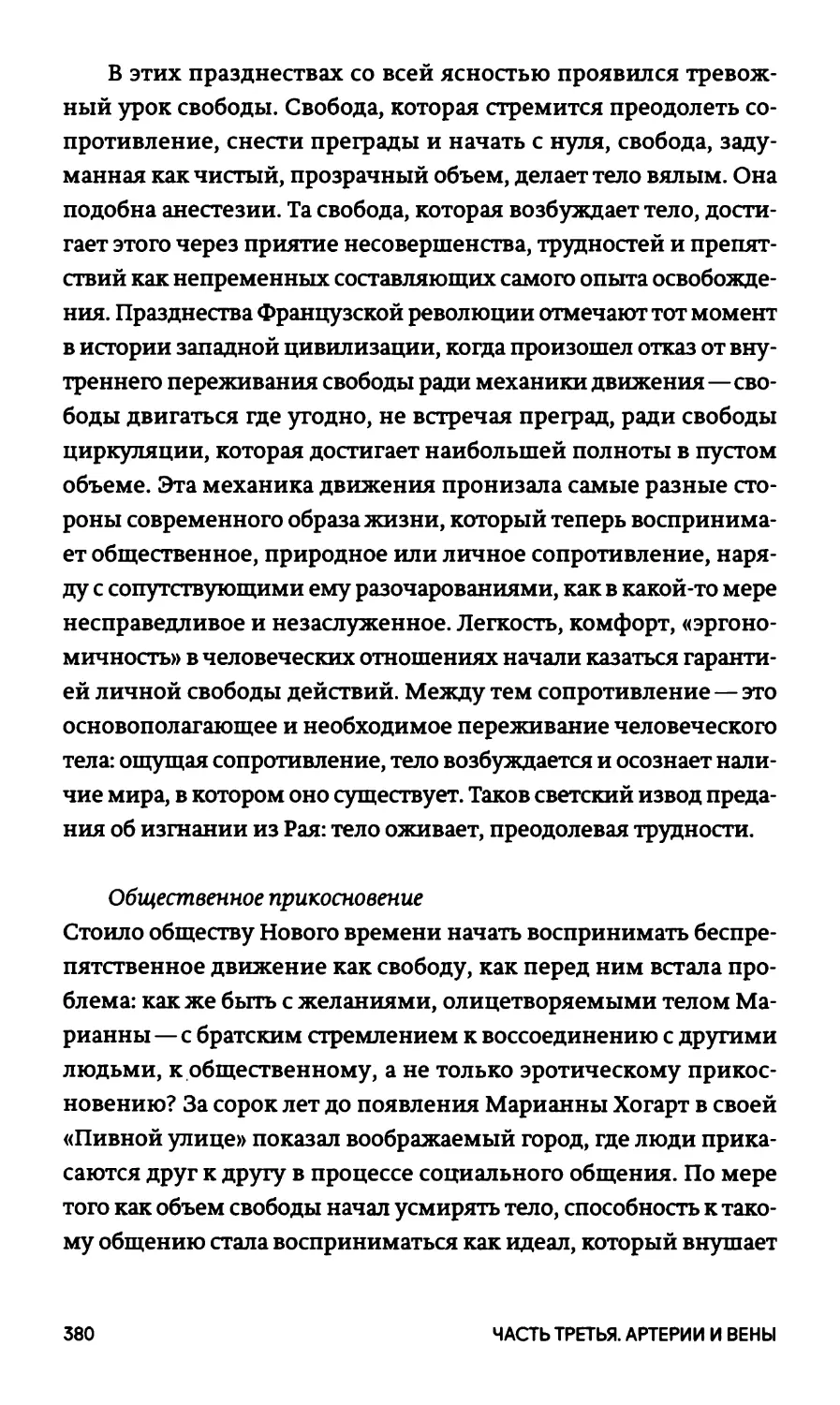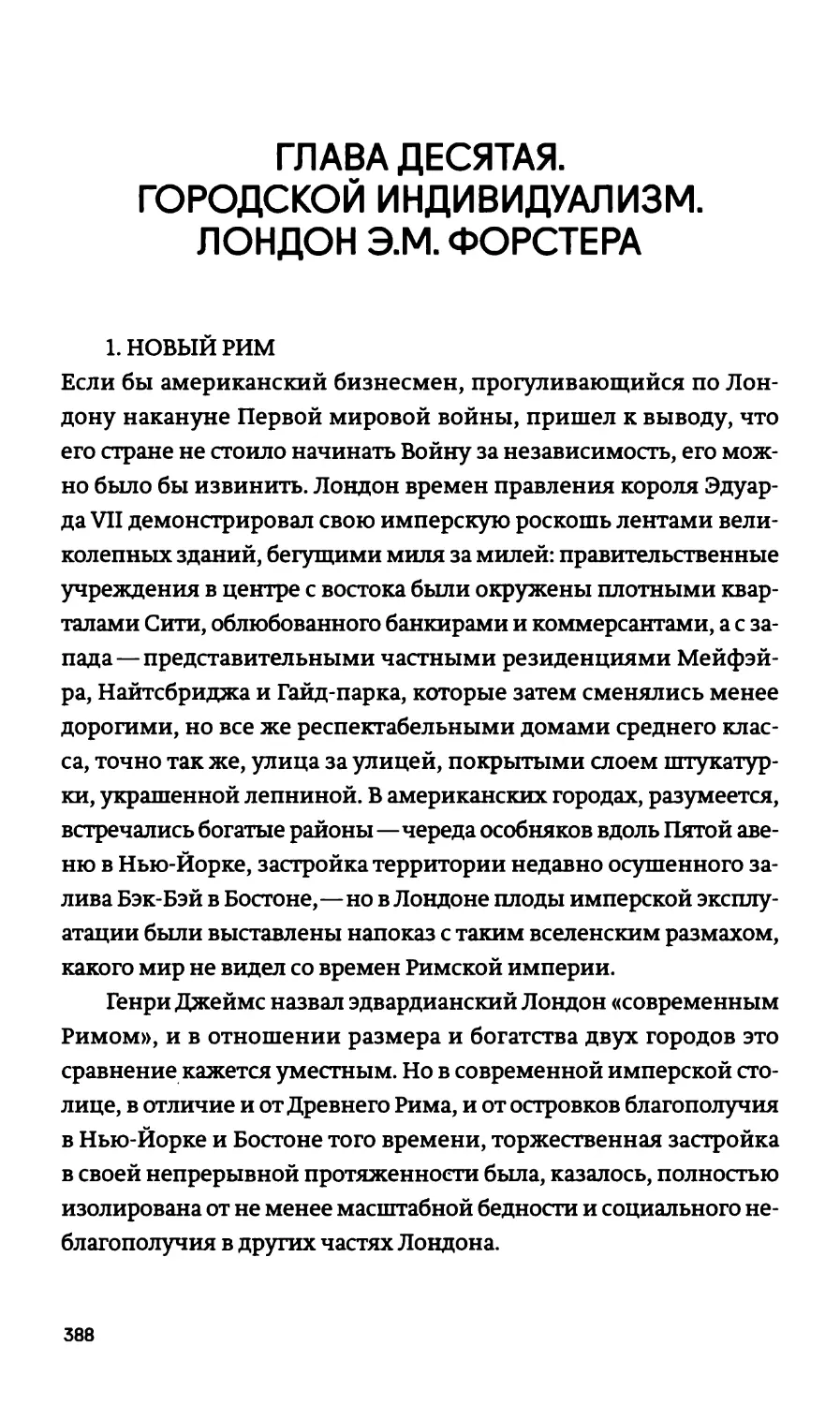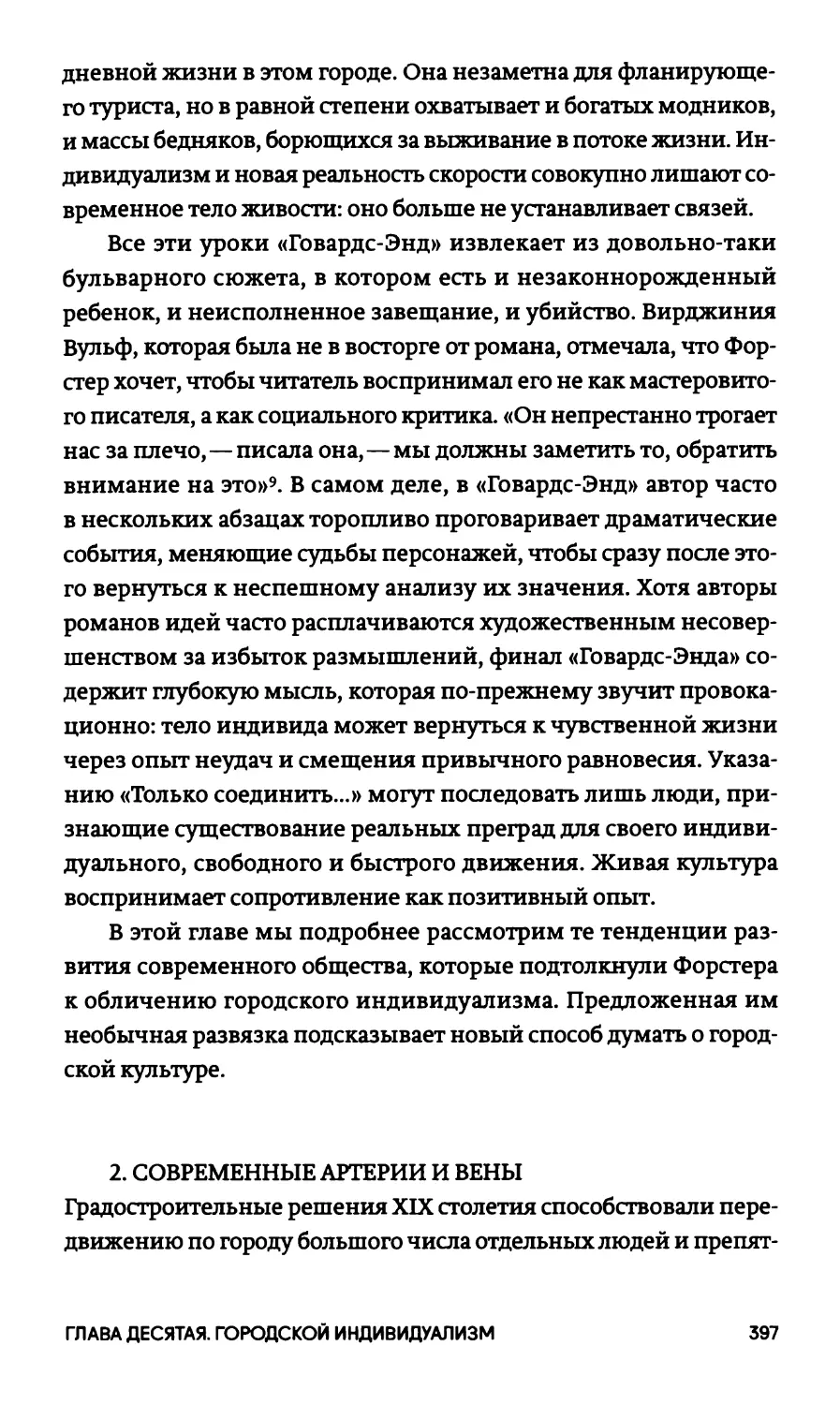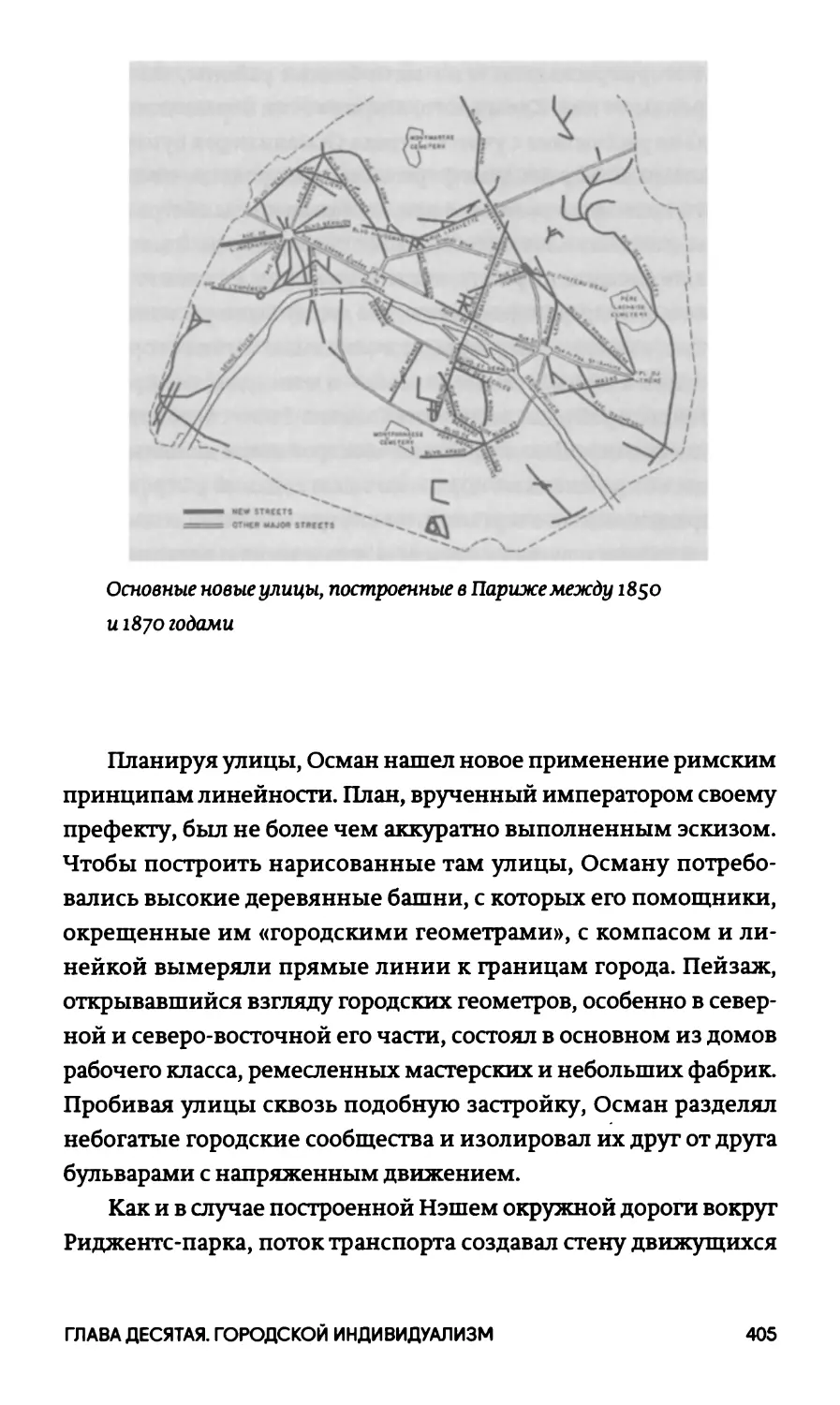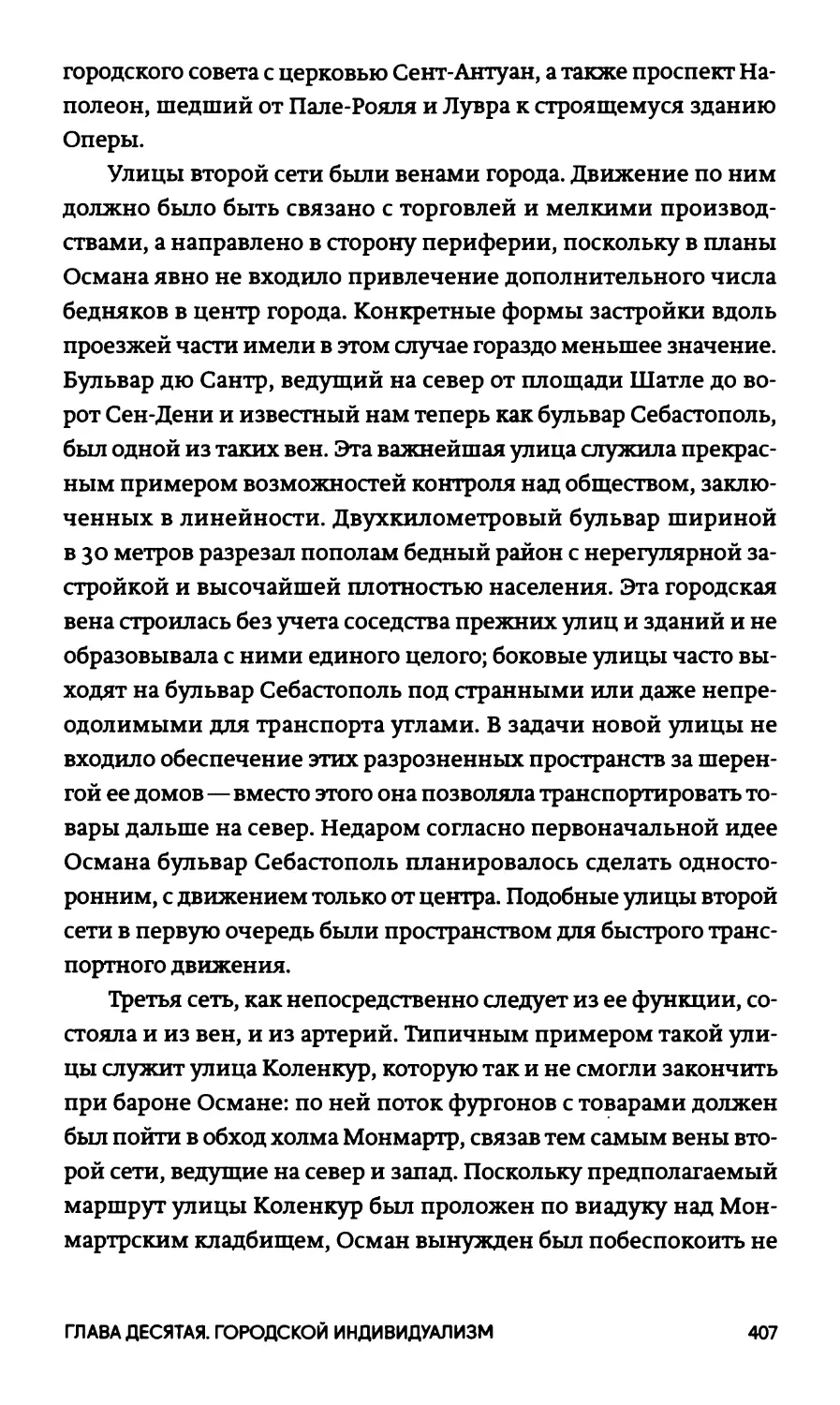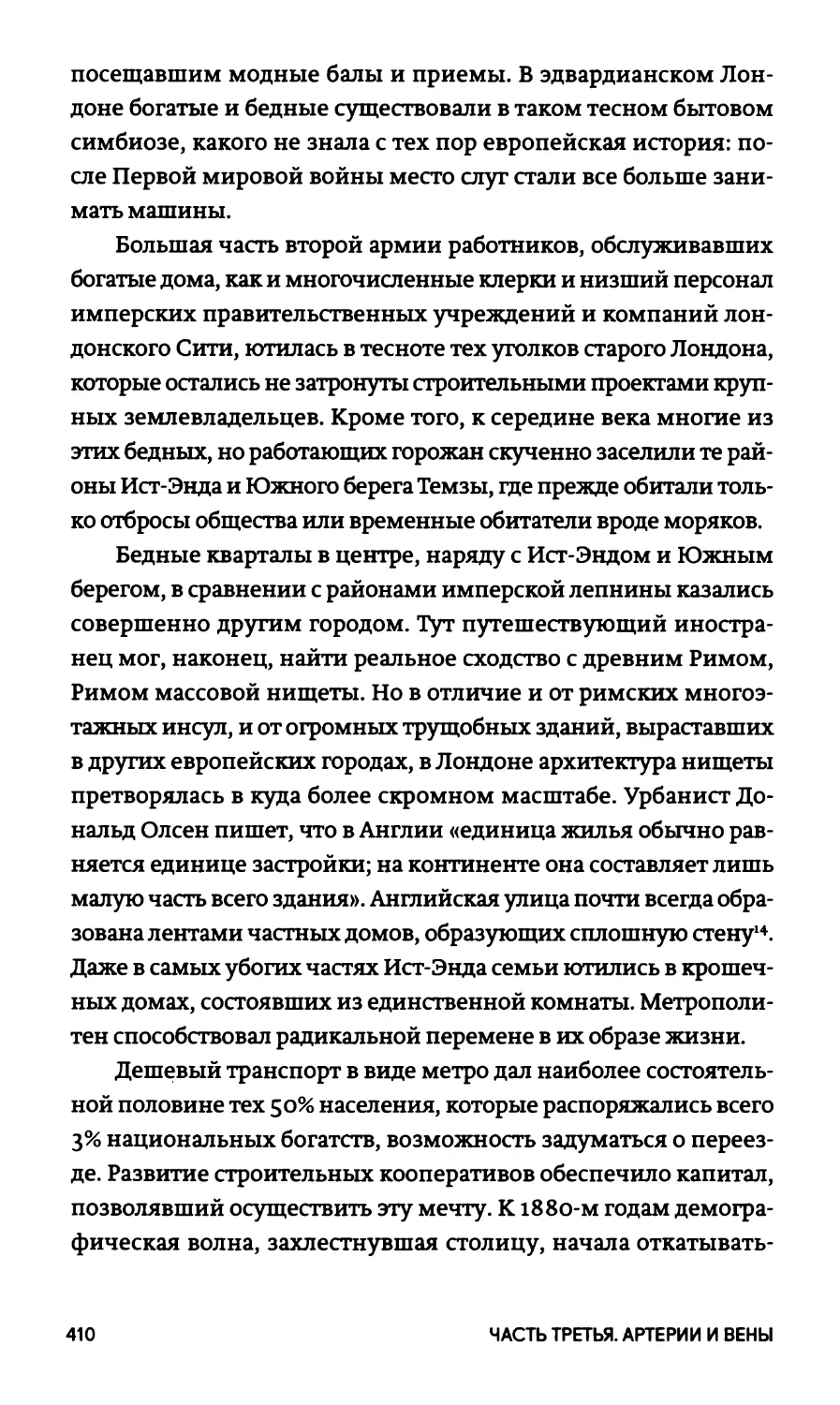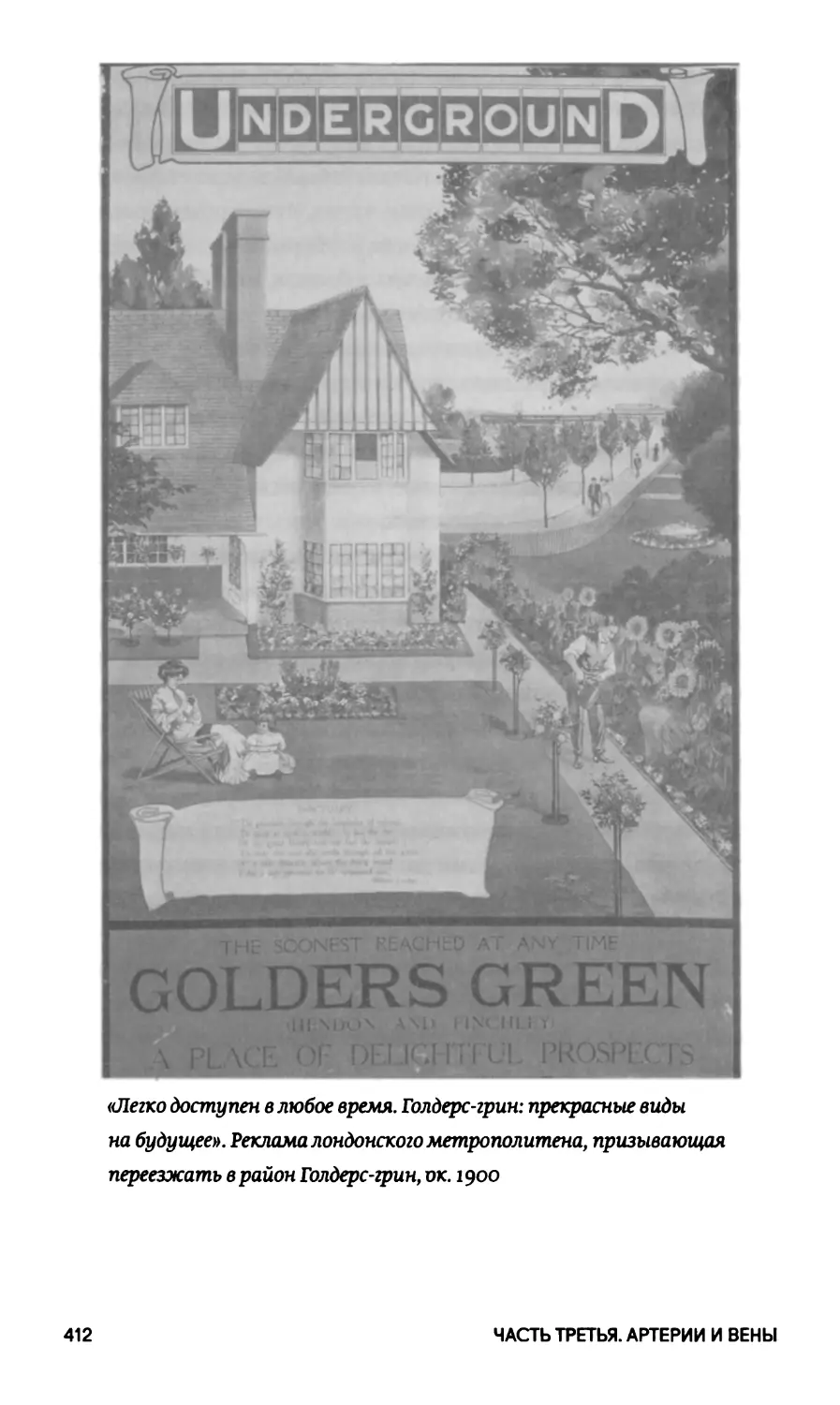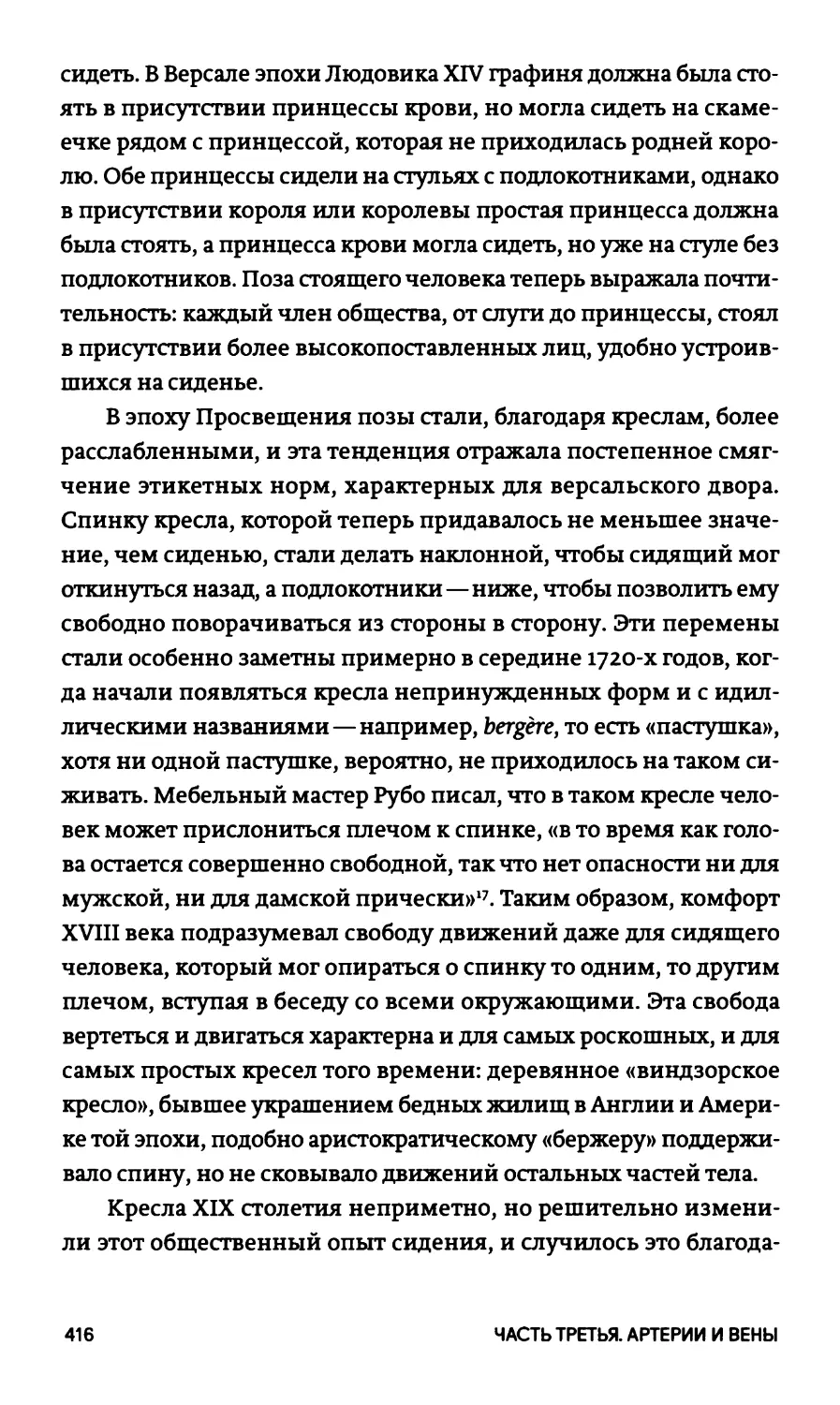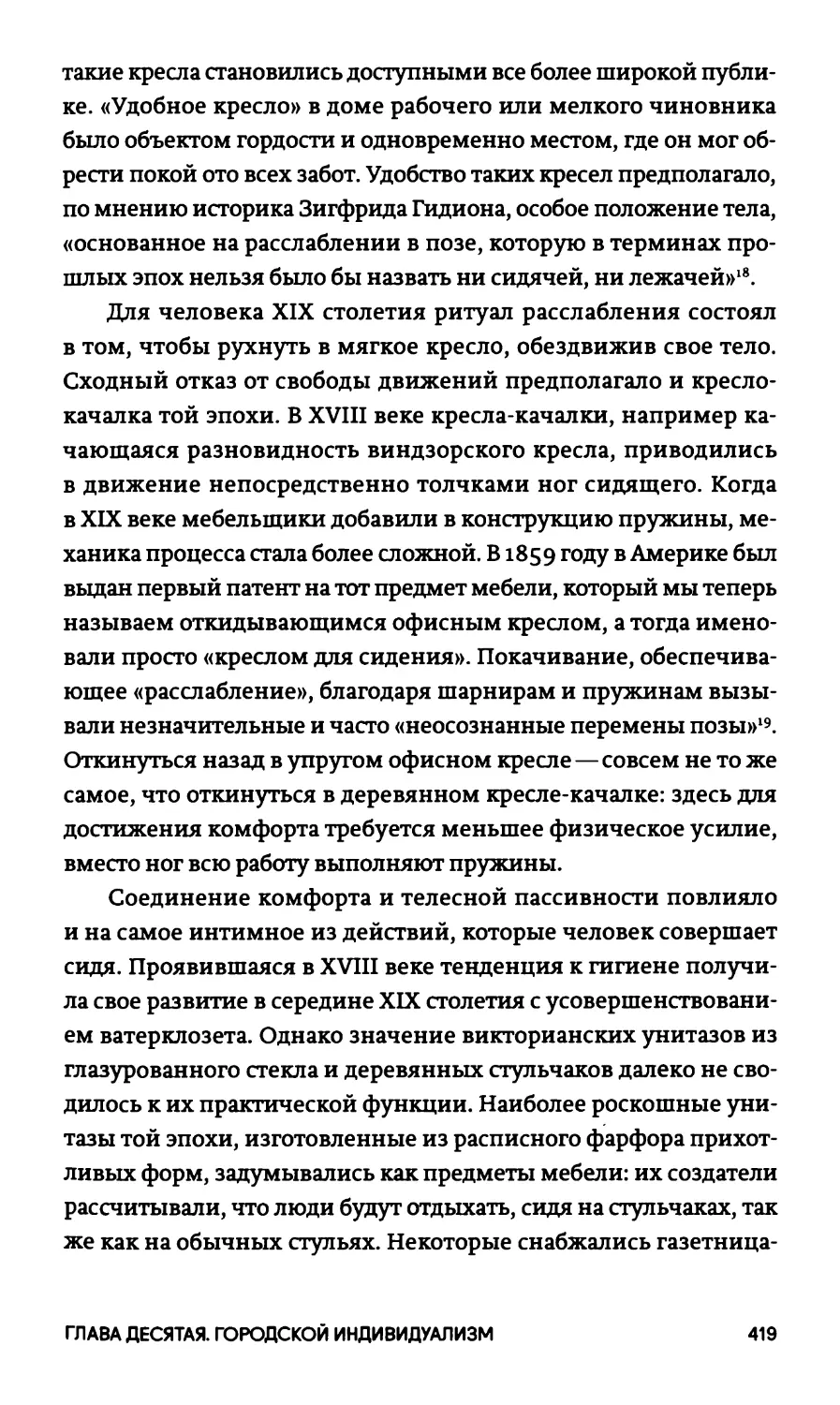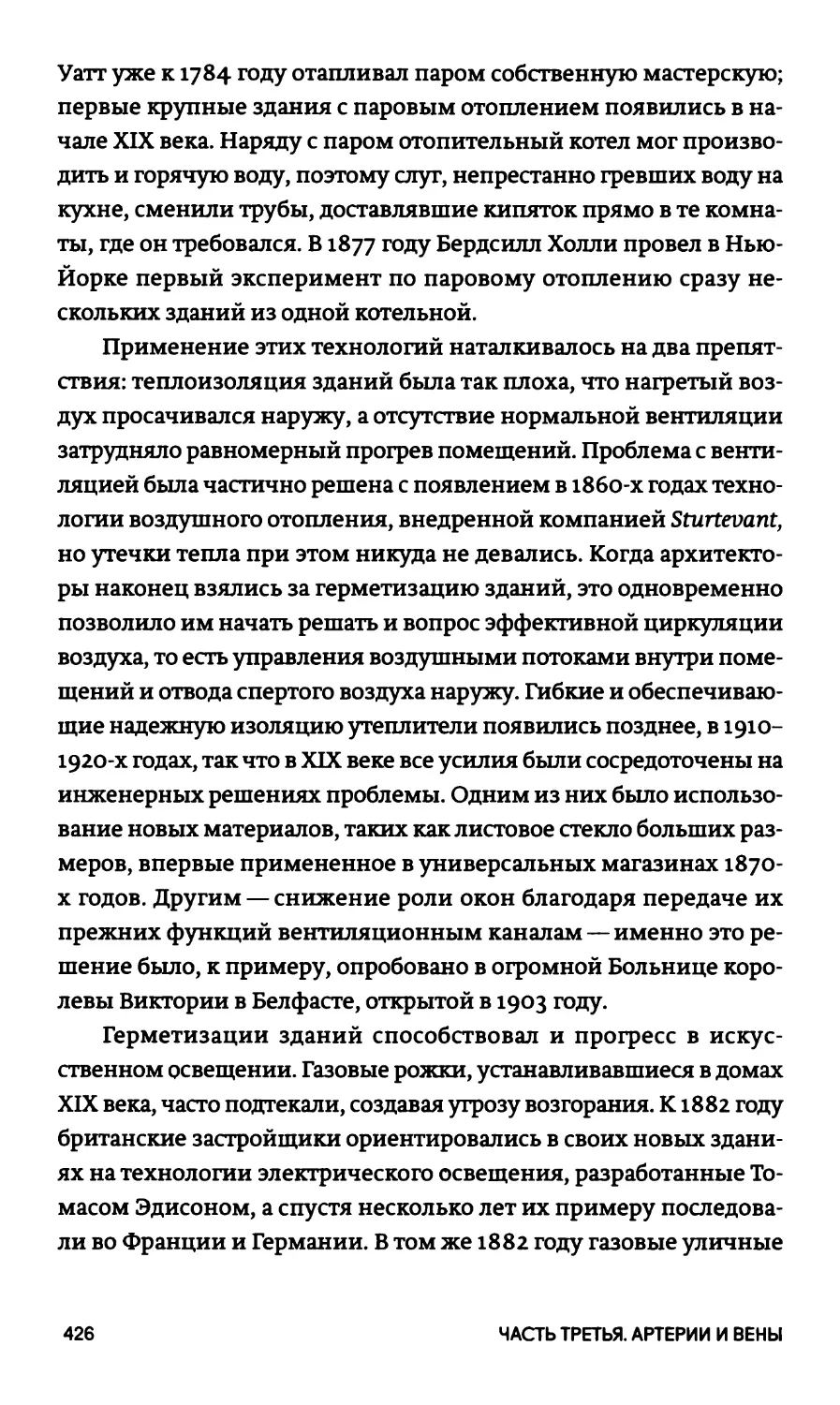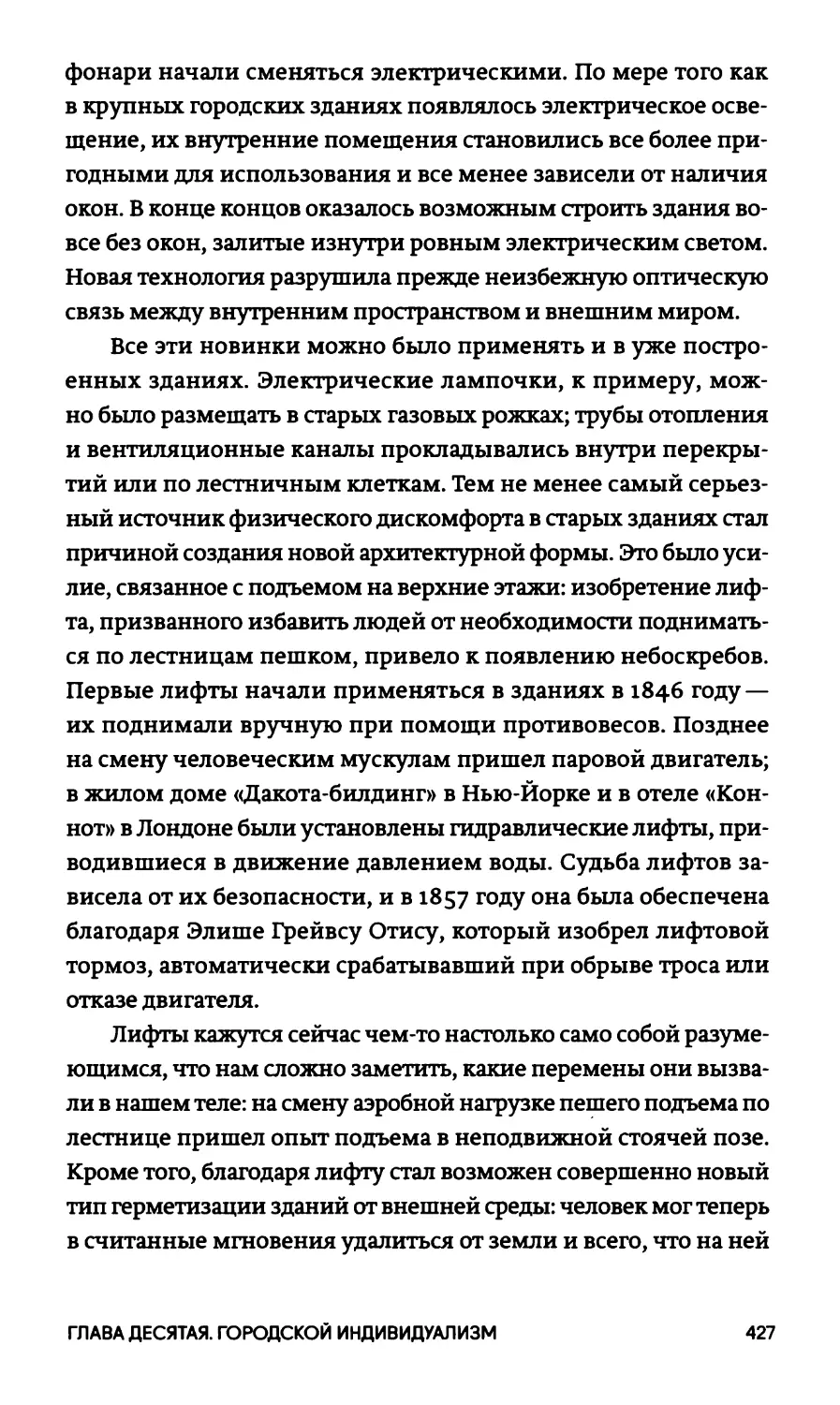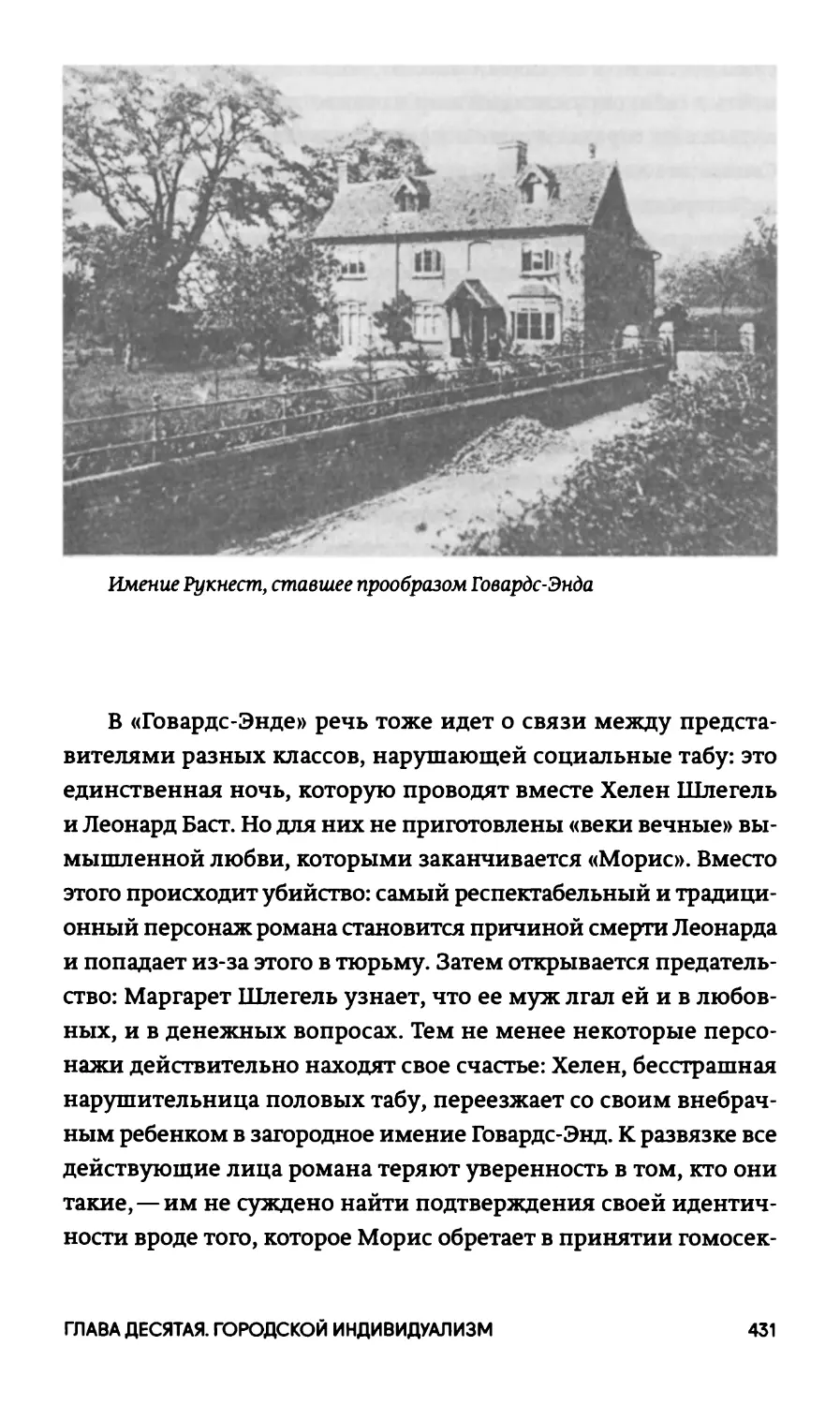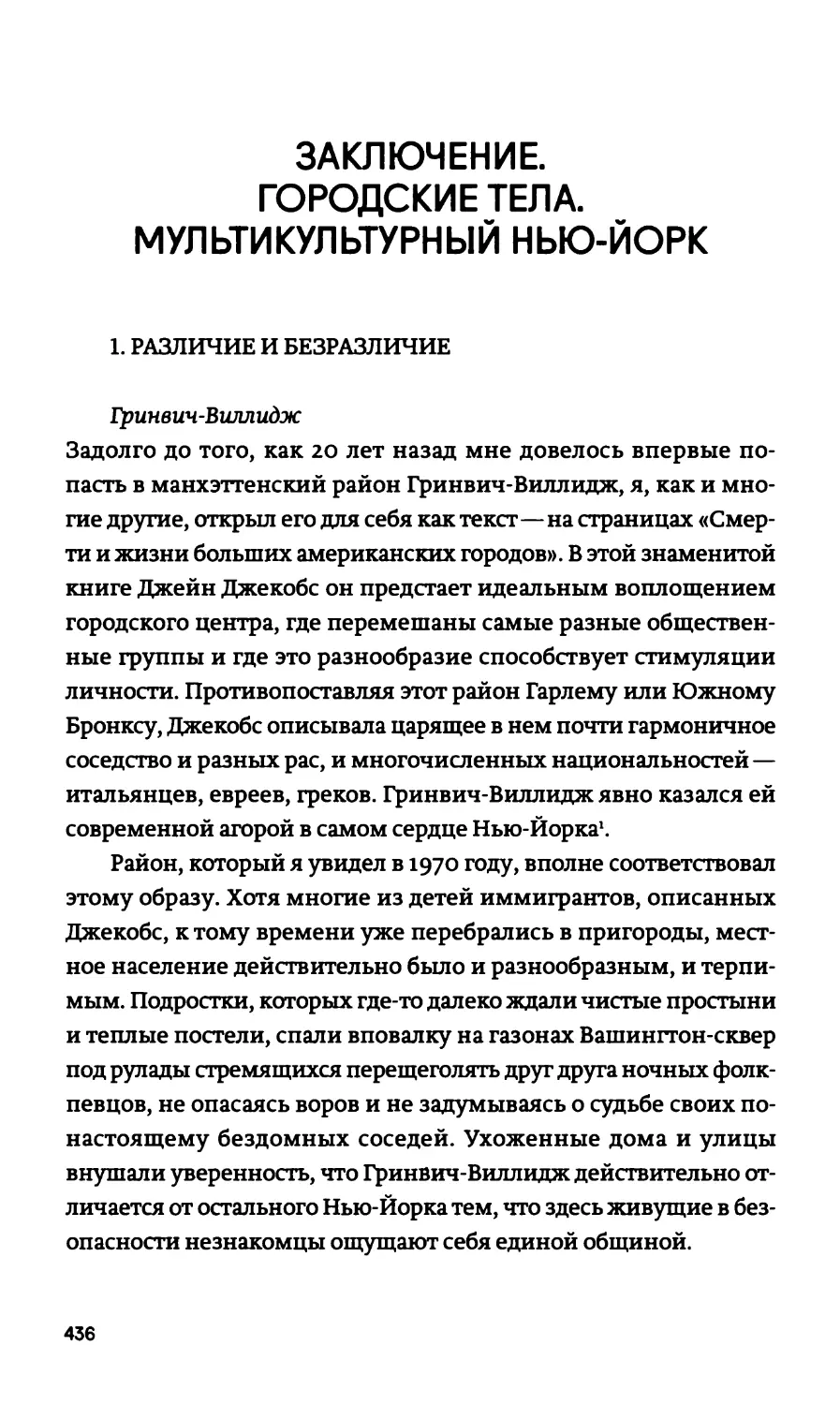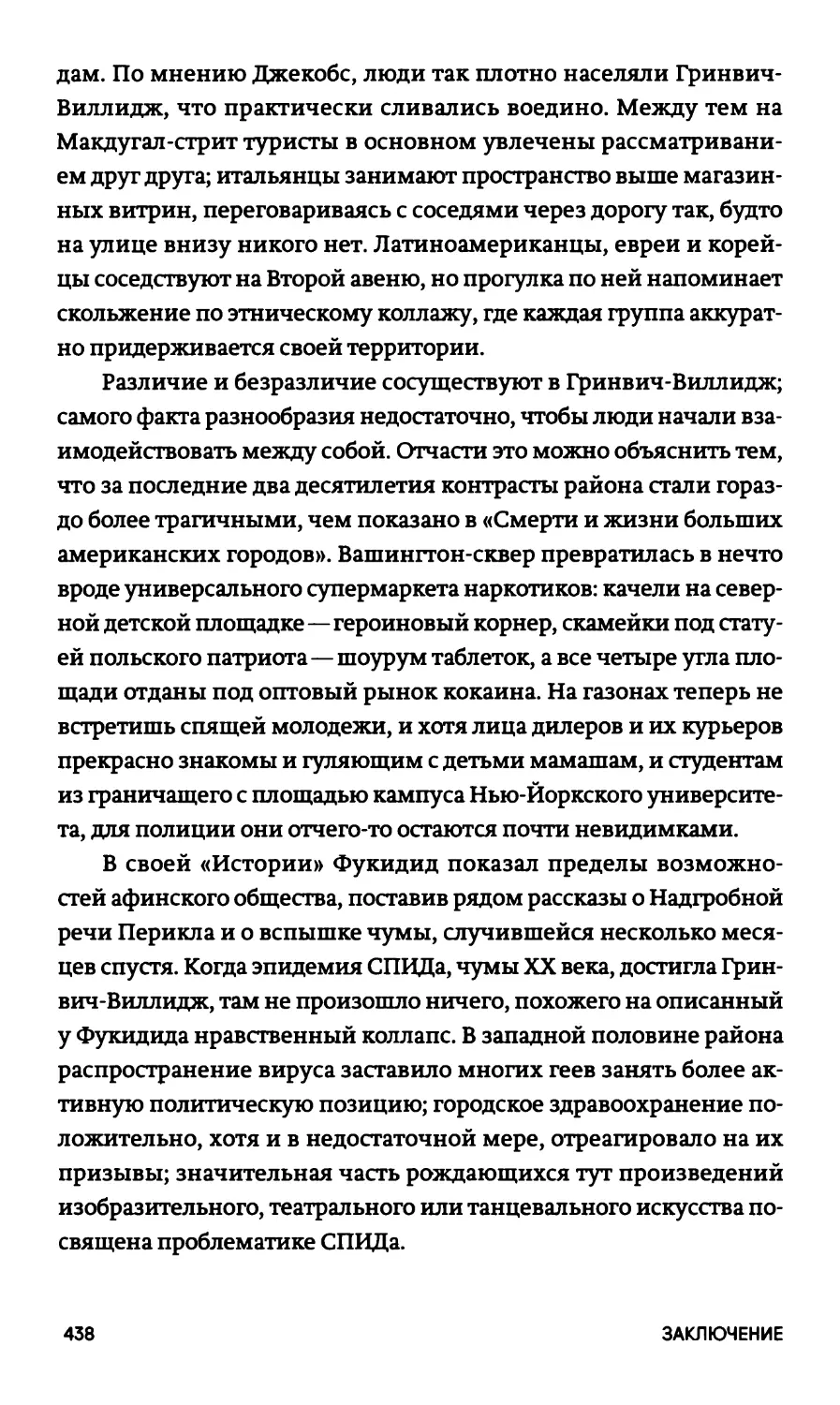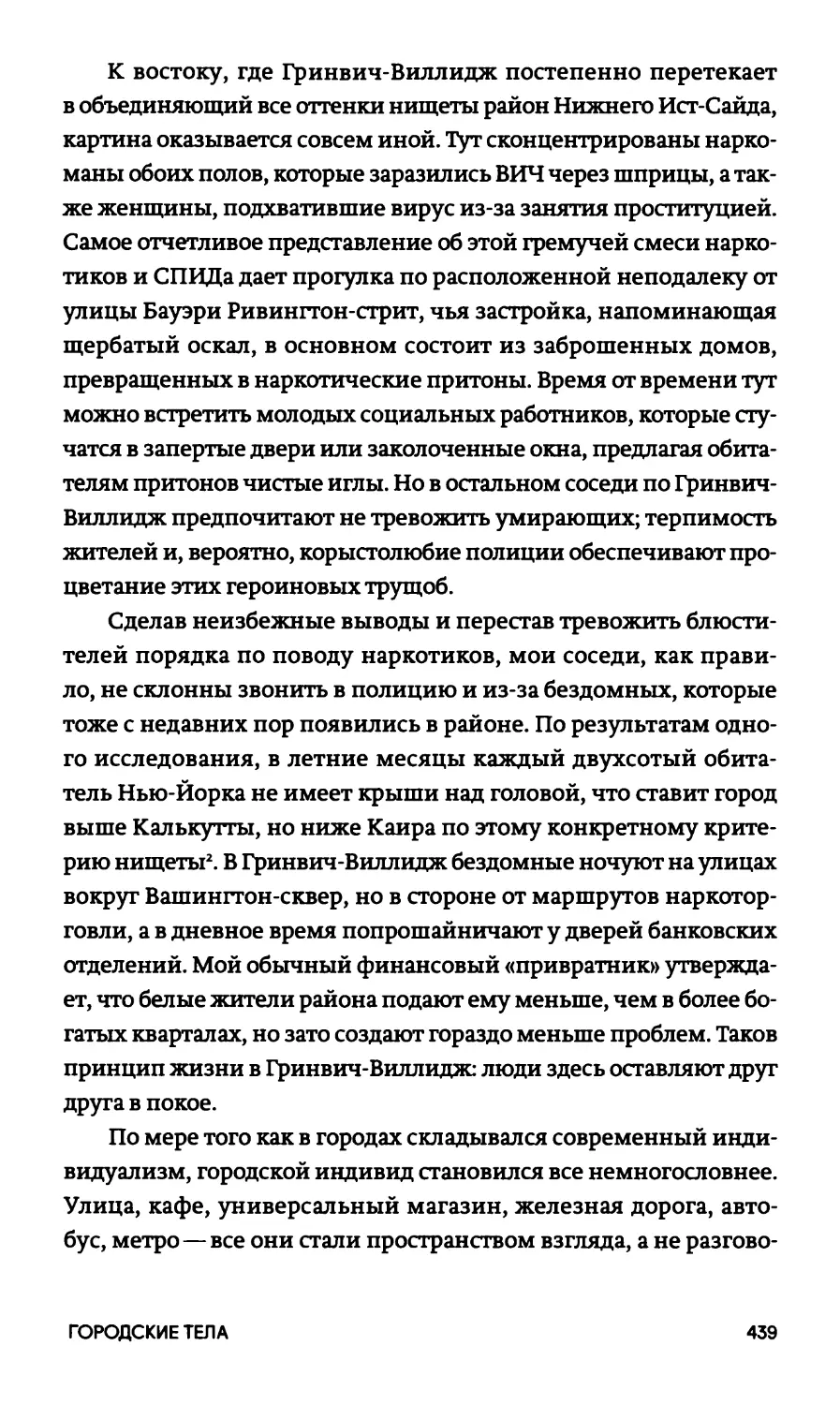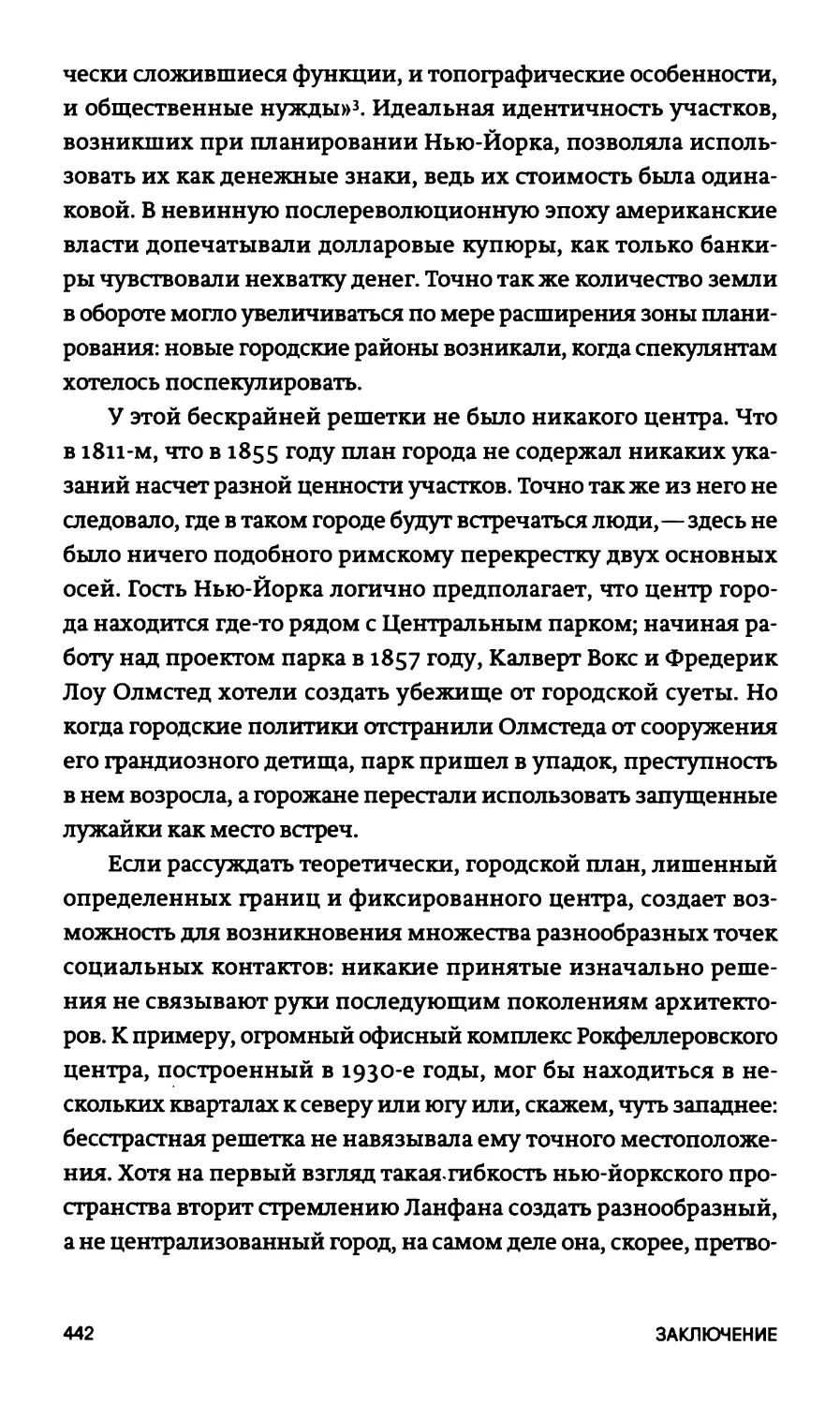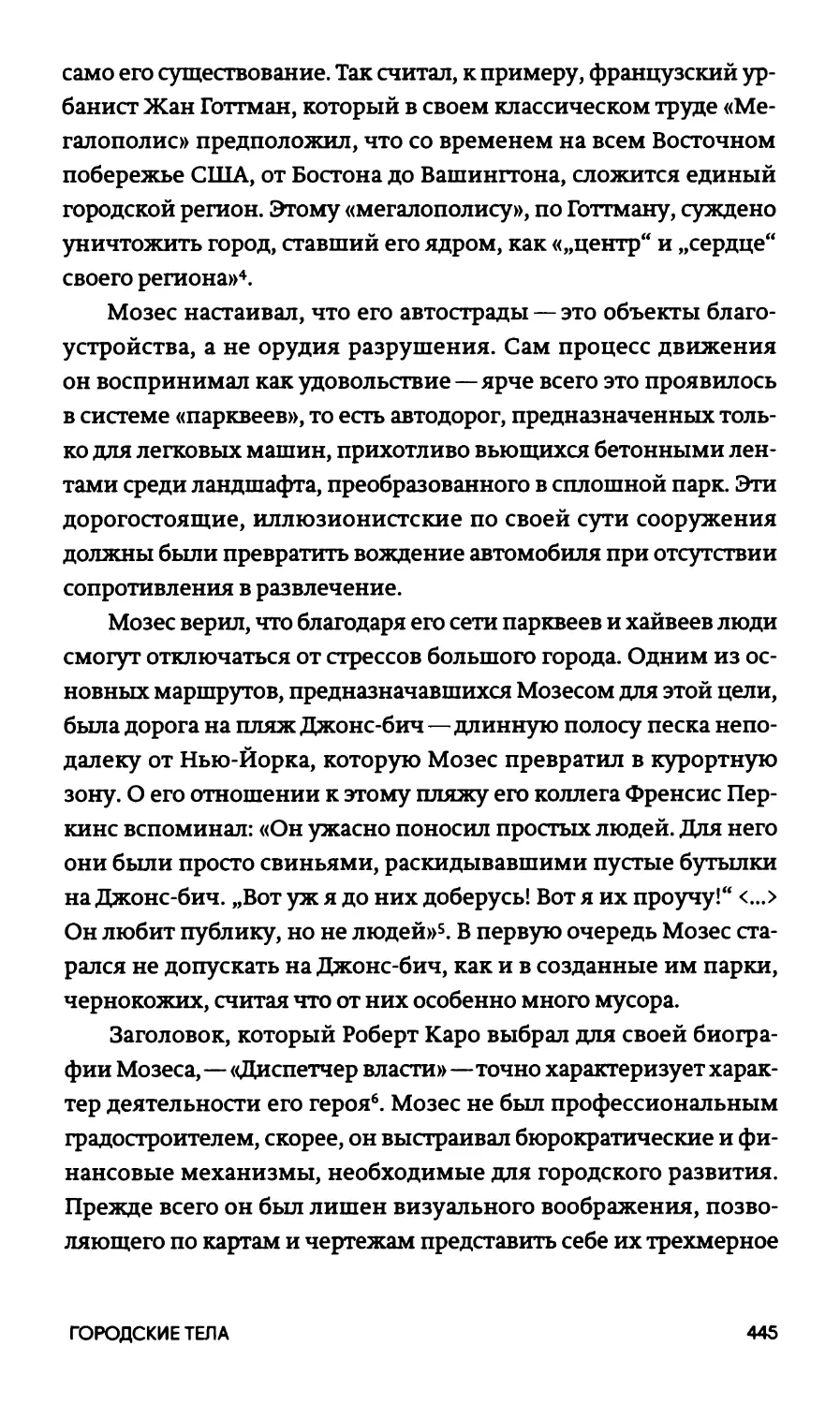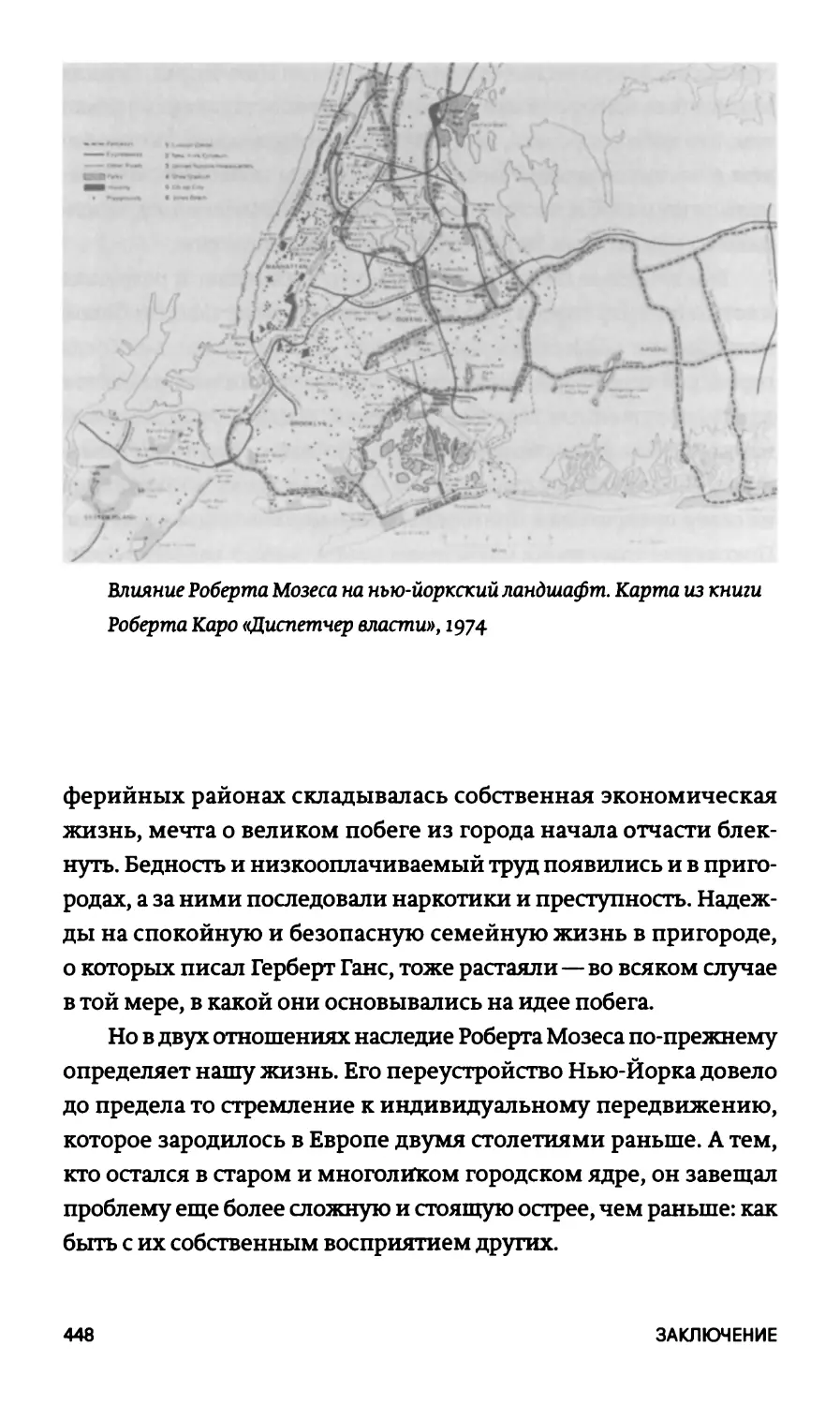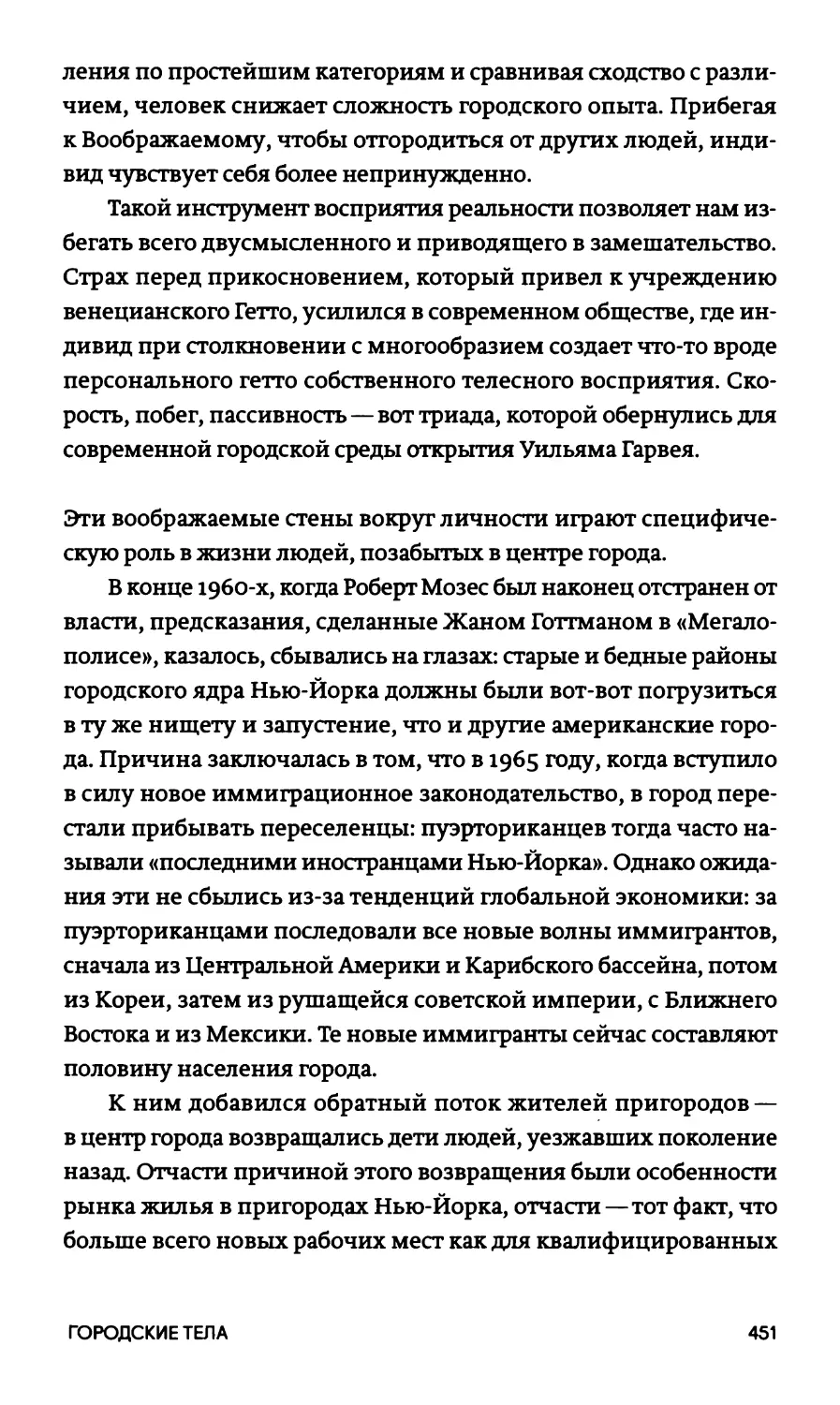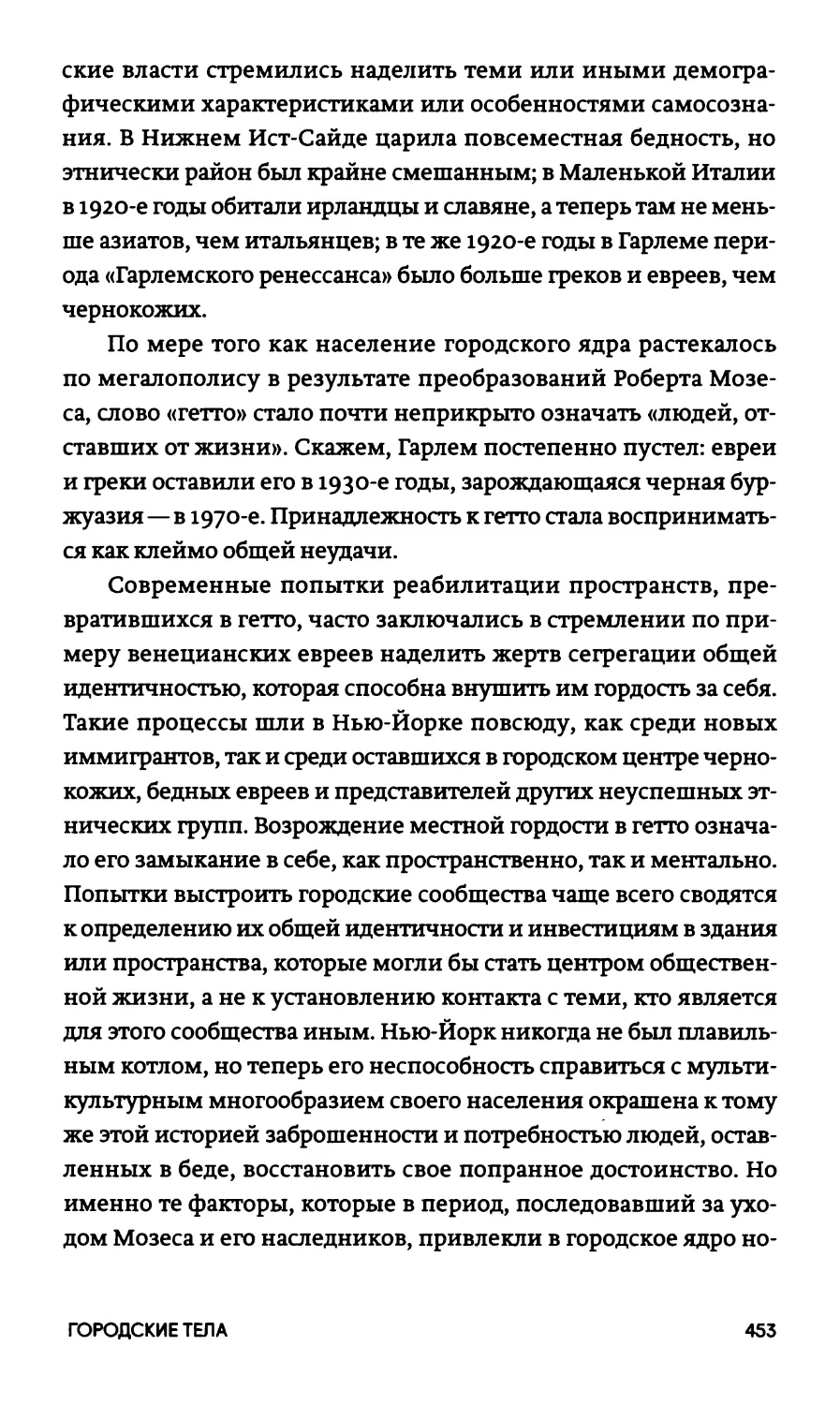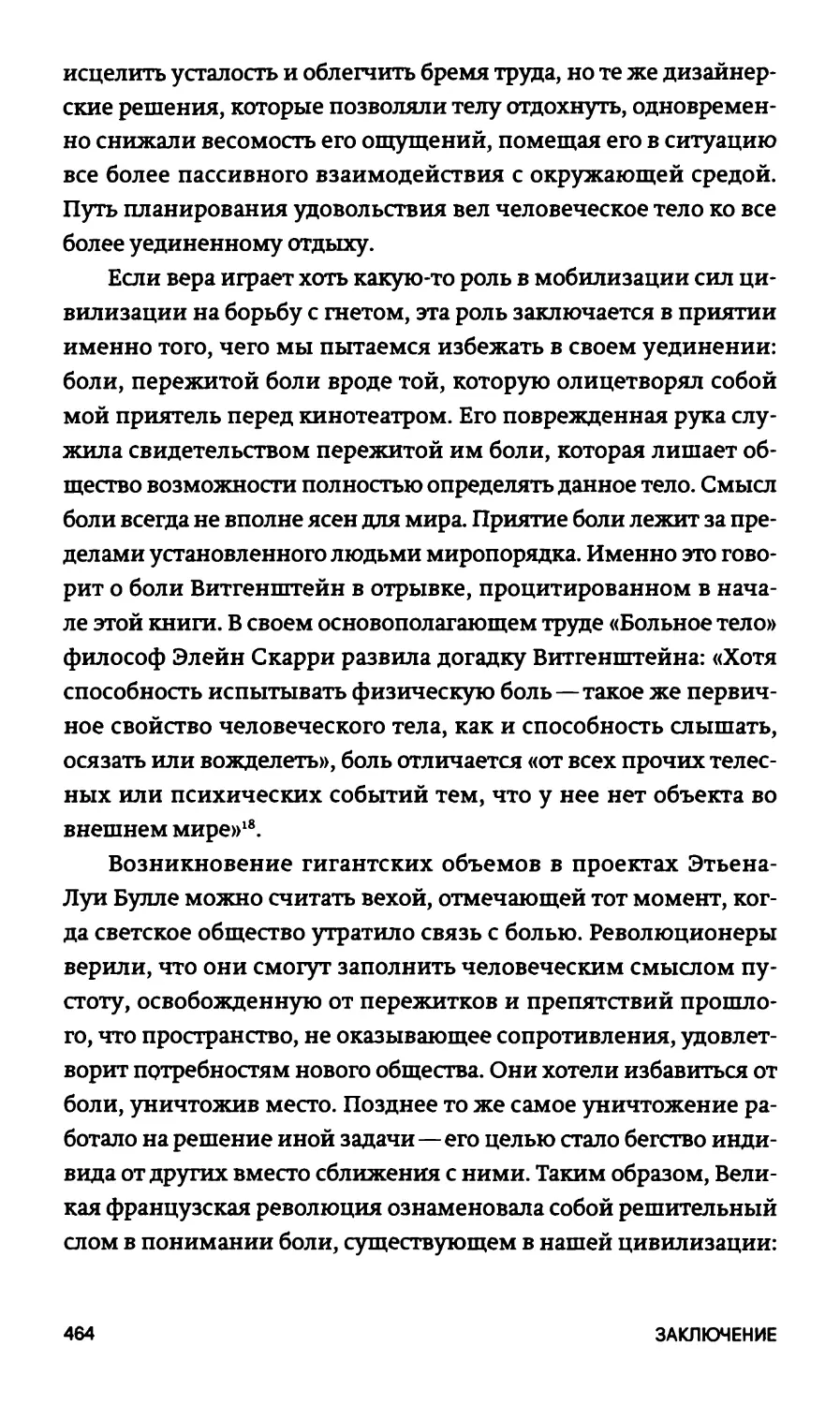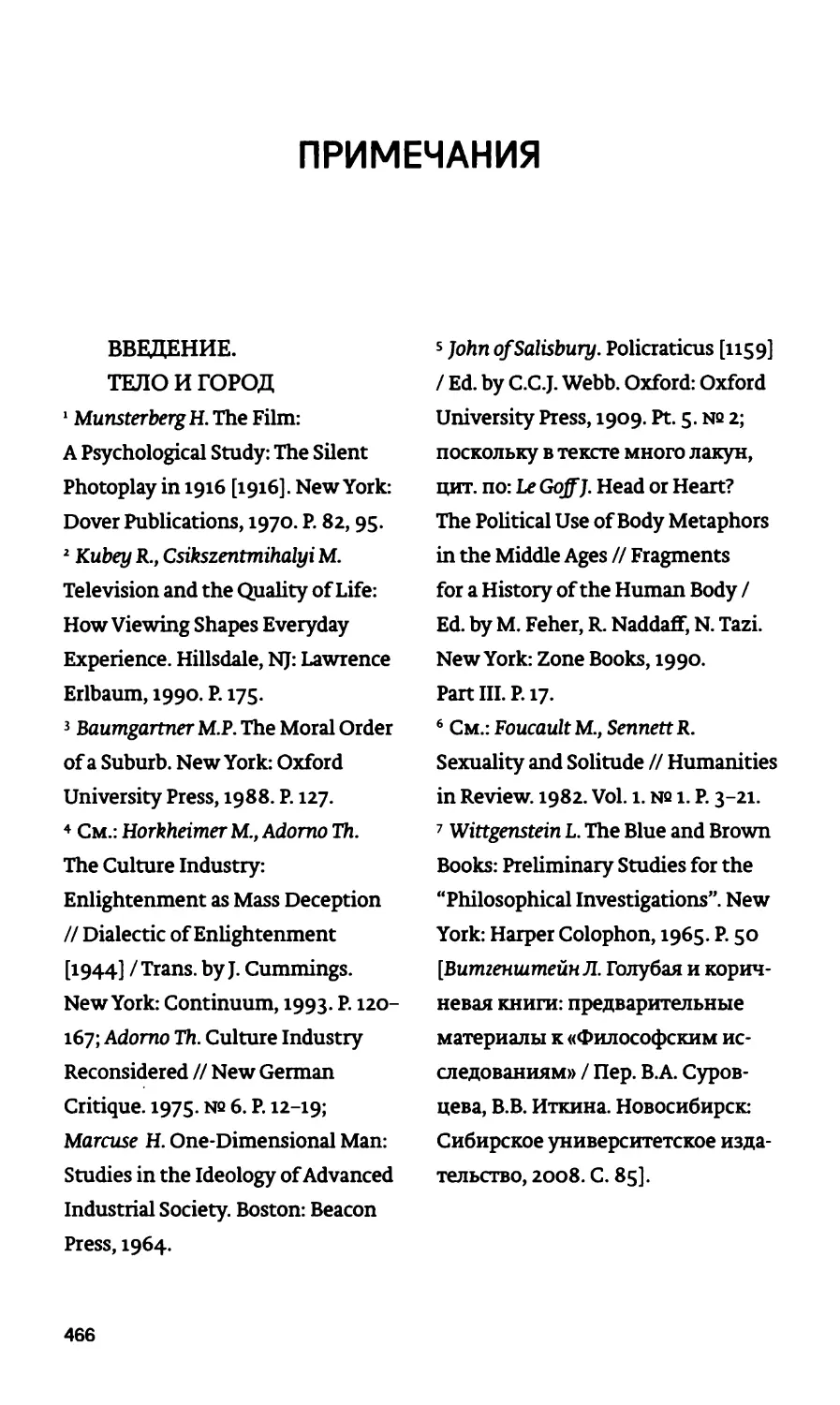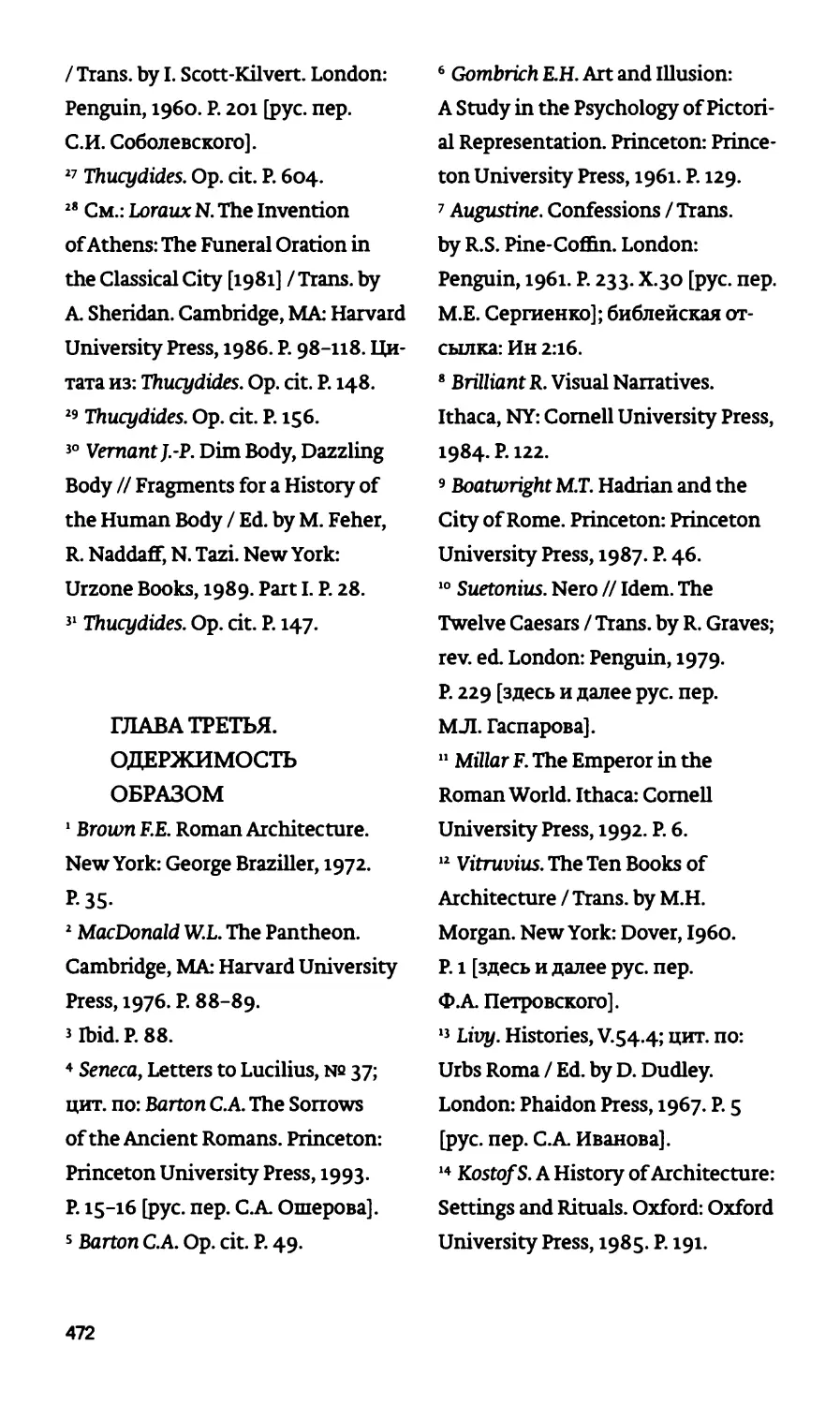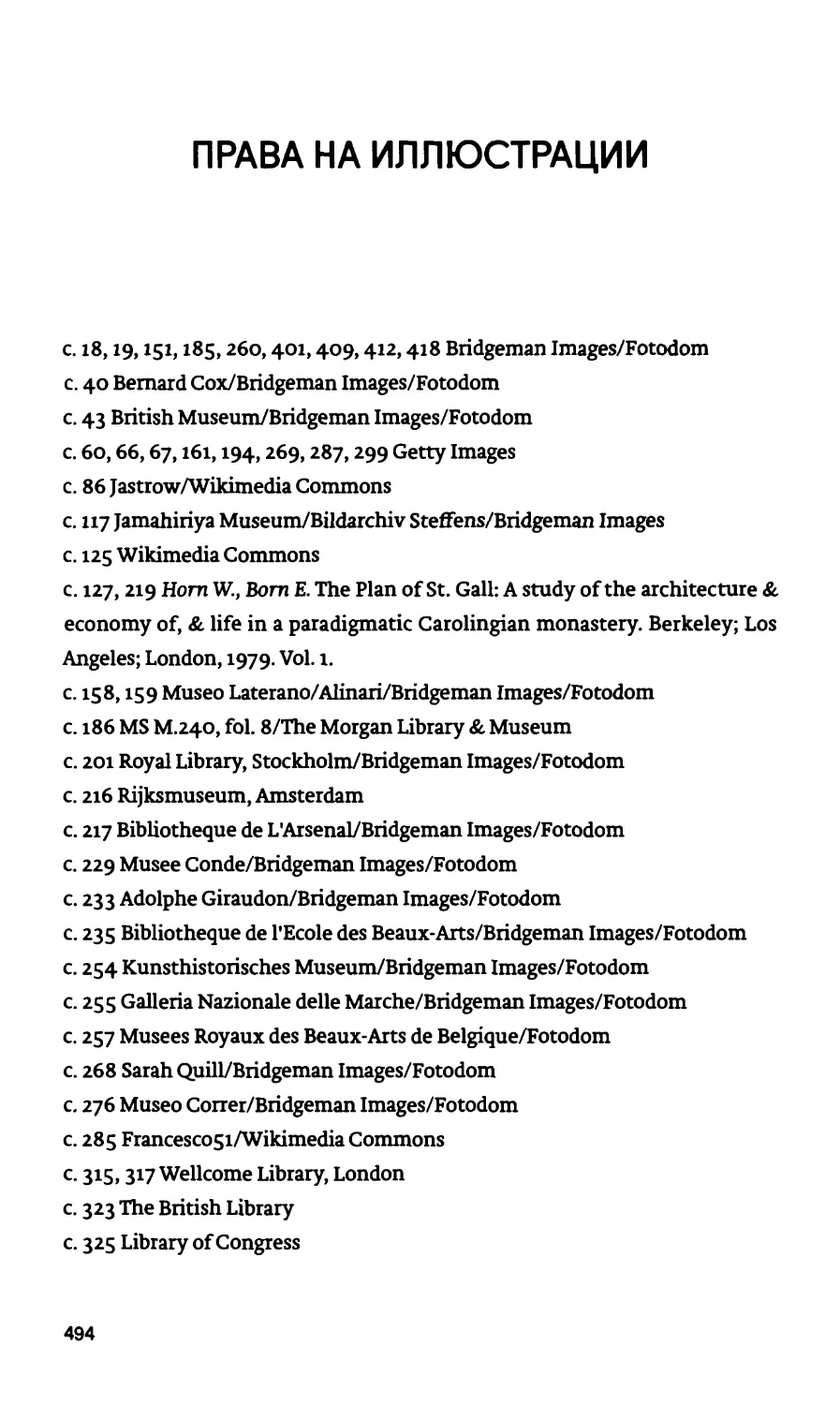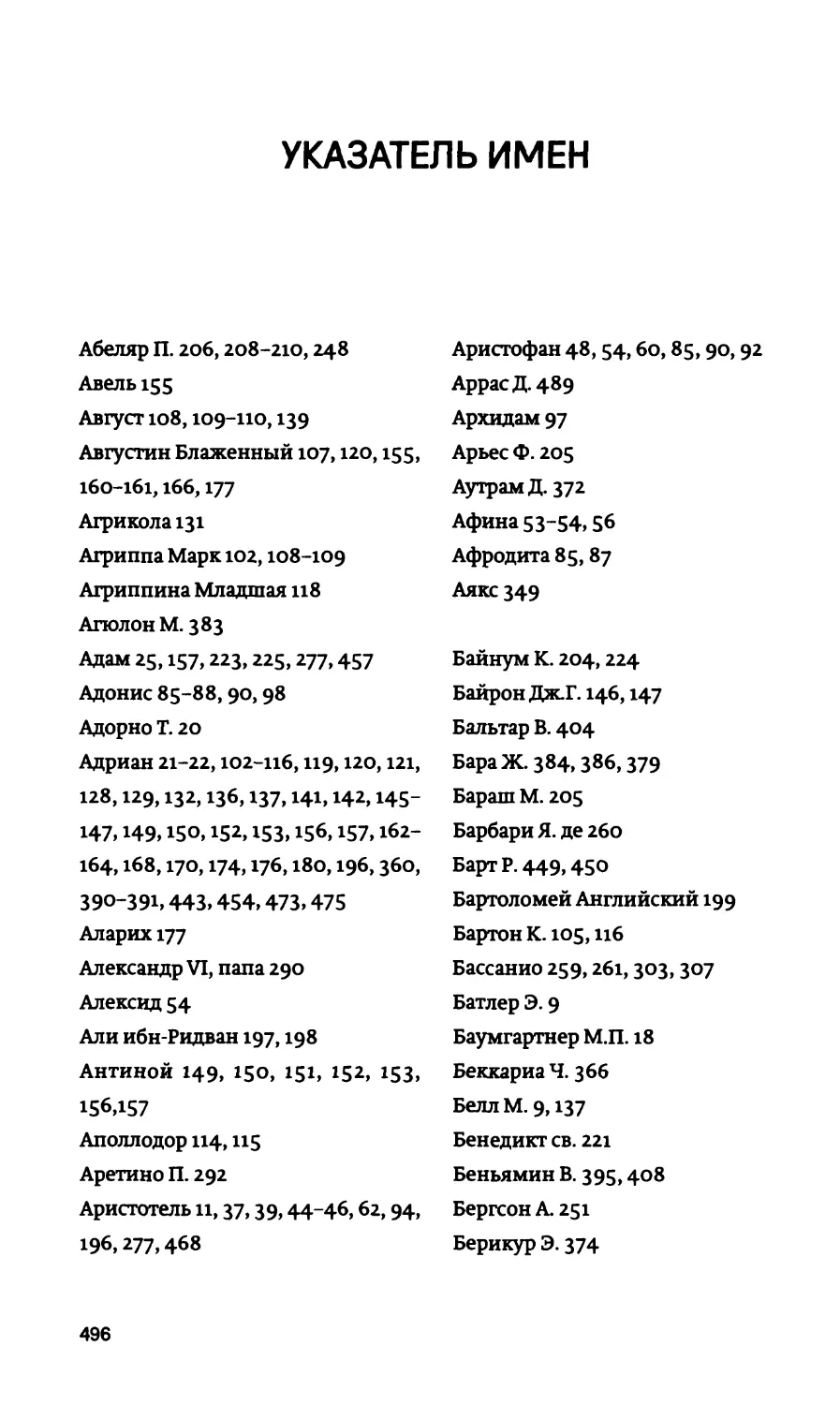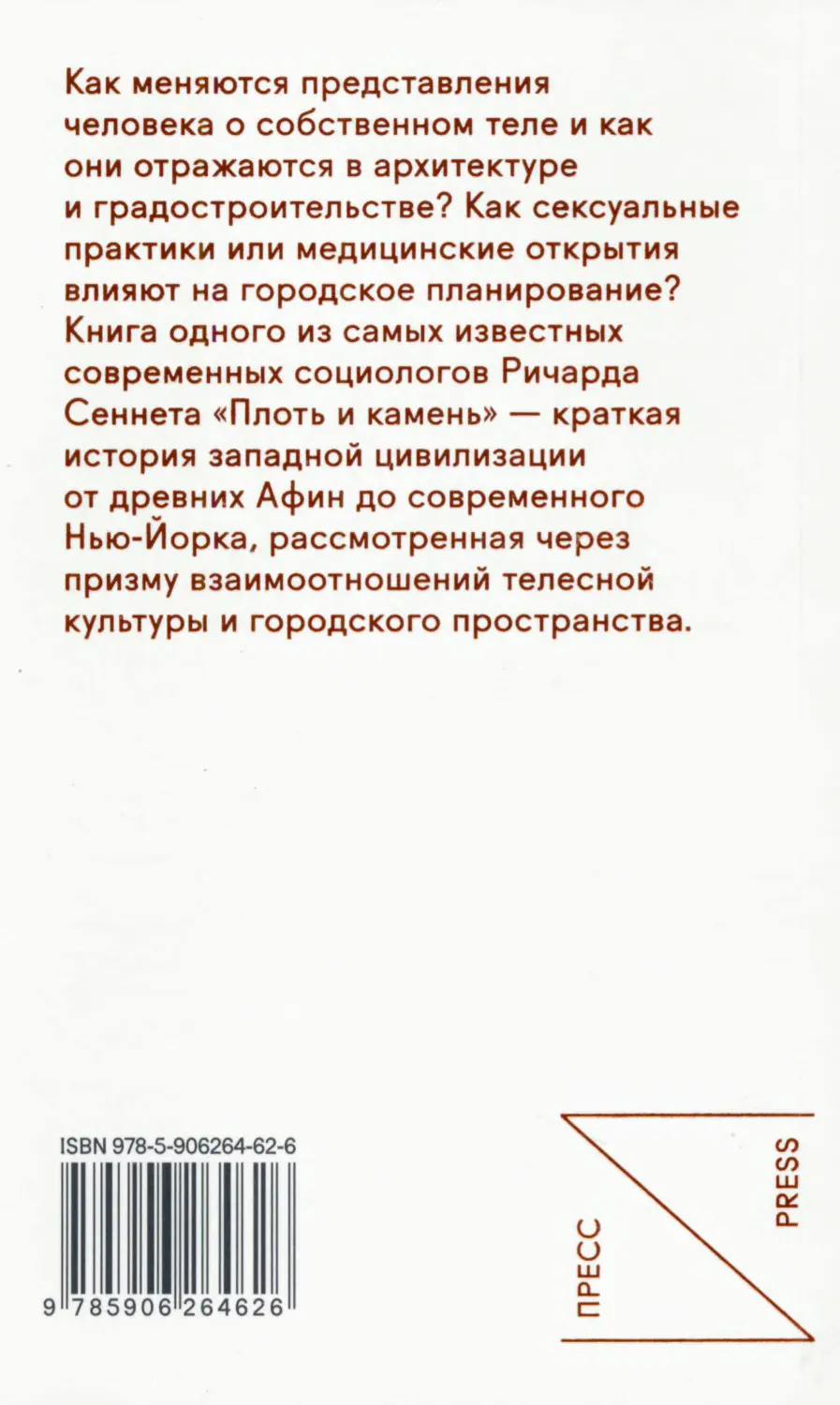Автор: Сеннет Р.
Теги: общественная жизнь высшего общества жизнь народа повседневная жизнь придворная жизнь жизнь улицы теория культуры культурология архитектура история архитектуры
ISBN: 978-5-906264-62-6
Год: 2016
RICHARD SENNETT
FLESH AND STONE
The Body and the City in Western Civilization
РИЧАРД СЕННЕТ
ПЛОТЬ И КАМЕНЬ
Тело и город
в западной
цивилизации
МОСКВА
2016
УДК 394.014
ББК 71.05
С31
Перевод с английского Петр Фаворов
Редактор Варвара Бабицкая
Дизайн Дарья Яржамбек, Юрий Остроменцкий
Сеннет Р.
С31 Плоть и камень: Тело и город в западной цивилизации /
Пер. с англ. — М.: Strelka Press, 2016. — 504 с.
ISBN 978-5-906264-62-6
Как меняются представления человека о собственном теле и как они отражаются
в архитектуре и градостроительстве? Как сексуальные практики или медицинские
открытия влияют на городское планирование? Книга одного из самых известных
современных социологов Ричарда Сеннета «Плоть и камень» — краткая
история западной цивилизации от древних Афин до современного Нью-Йорка,
рассмотренная через призму взаимоотношений телесной культуры и городского
пространства.
ISBN 978-5-906264-62-6 УДК 394.014
ББК 71.05
© 1994 by Richard Sennett
© Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», 2016
ОГЛАВЛЕНИЕ
9 БЛАГОДАРНОСТИ
13 ВВЕДЕНИЕ. ТЕЛО И ГОРОД
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
31 ГЛАВА ПЕРВАЯ. НАГОТА. ТЕЛО ГРАЖДАНИНА В АФИНАХ ПЕРИКЛА
77 ГЛАВА ВТОРАЯ. ПОКРОВ ТЬМЫ.
ЗАЩИТНЫЕ РИТУАЛЫ В ДРЕВНИХ АФИНАХ
102 ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ОДЕРЖИМОСТЬ ОБРАЗОМ.
МЕСТО И ВРЕМЯ В РИМЕ ИМПЕРАТОРА АДРИАНА
148 ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ВРЕМЯ В ТЕЛЕ. ПЕРВЫЕ ХРИСТИАНЕ В РИМЕ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДВИЖЕНИЯ СЕРДЦА
183 ГЛАВА ПЯТАЯ. ОБЩИНА. ПАРИЖ ЖАНА ДЕ ШЕЛЛЯ
226 ГЛАВА ШЕСТАЯ. «КАЖДЫЙ САМ СЕБЕ САТАНА». ПАРИЖ ГУМБЕРТА
РОМАНСКОГО
259 ГЛАВА СЕДЬМАЯ. БОЯЗНЬ ПРИКОСНОВЕНИЯ.
ЕВРЕЙСКОЕ ГЕТТО В ВЕНЕЦИИ ЭПОХИ РЕНЕССАНСА
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. АРТЕРИИ И ВЕНЫ
311 ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ТЕЛ А В ДВИЖЕНИИ.
РЕВОЛЮЦИЯ УИЛЬЯМА ГАРВЕЯ
346 ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. ОСВОБОЖДЕННОЕ ТЕЛО.
ПАРИЖ ЭТЬЕНА-ЛУИ БУЛЛЕ
388 ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. ГОРОДСКОЙ ИНДИВИДУАЛИЗМ.
ЛОНДОН Э.М. ФОРСТЕРА
5
436 ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ГОРОДСКИЕ ТЕЛА. МУЛЬТИКУЛЬТУРНЫИ НЬЮ-ЙОРК
466 ПРИМЕЧАНИЯ
494 ПРАВА НА ИЛЛЮСТРАЦИИ
496 УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Хилари
БЛАГОДАРНОСТИ
Первый набросок «Плоти и камня» был представлен во
франкфуртском Университете имени Гёте в 1992 году; я хотел бы
поблагодарить пригласившего меня Юргена Хабермаса за то, что
он помог мне доработать многие вопросы. Работа над главами
о городах древности продвинулась во время моего пребывания
в Американской академии в Риме в 1992 году. Я хотел бы
поблагодарить ее президента Адель Чатфилд-Тейлор и ее главного
профессора Малкольма Белла за их гостеприимство. С материалами
Библиотеки Конгресса я работал во время пребывания в Уил-
соновском международном научном центре в 1993 году, за что
я благодарен его директору доктору Чарльзу Блитцеру.
Рукопись этой книги прочли несколько моих друзей.
Профессор Елен Боуэрсок из Института перспективных
исследований дал мне ключ к написанию вводной главы; профессор
Норман Кантор из Нью-Йоркского университета помог мне найти
контекст для глав про средневековый Париж; профессор Джозеф
Рикверт из университета Пенсильвании разъяснил мне многие
аспекты истории архитектуры; профессор Карл Шорске из Прин-
стона помог мне с главой об эпохе Просвещения; профессор
Джоан Скотт из Института перспективных исследований прочла всю
рукопись с дружелюбным скепсисом, и то же самое сделал
профессор Чарльз Тилли из Новой школы социальных исследований.
В издательстве W.W. Norton эту книгу внимательно и с
глубоким пониманием прочел Эдвин Батлер, а потом отредактировала
Энн Эделман, которая смогла совместить тщательность с
должным уважением к авторскому тщеславию. Дизайном книги
занимался Жак Шазо, а версткой—Эндрю Марасия.
Подспорьем в работе были доброта и комментарии моих
друзей Питера Брукса и Джерролда Зигеля, которые сделали
писательский труд менее одиноким; то же относится и к моей жене
Саскии Сассен, моему не знающему покоя спутнику в
жизненном приключении. Эта книга посвящена нашему сыну, который
рос вместе с ней и чье взросление было нашей главной радостью
в это время.
Я в особом долгу у студентов, работавших со мной в
последние несколько лет. Молли Макгарри изучила источники по
зданиям, картам и образам тела; Джозеф Финна помог разобраться
в устройстве гильотины и разрешил использовать его тексты для
этой книги; Анн-София Серизола помогла с французскими
переводами и примечаниями. Я не смог бы написать эту книгу без
моего ассистента Дэвида Слокума, который без устали работал
с источниками и внимательнейшим образом просматривал
бесчисленные черновики книги.
Наконец, в самом большом долгу я перед моим другом
Мишелем Фуко, вместе с которым 15 лет назад мы занялись
изучением истории тела. После его смерти я отложил первые
наброски книги, чтобы спустя несколько лет взяться за тему с совсем
другим настроем. Мне кажется, «Плоть и камень» — не та
книга, которая понравилась бы молодому Фуко; как я объясняю во
введении, иной способ рассказать этот сюжет подсказали мне
последние годы его собственной жизни.
В состав государства не только входят отдельные
многочисленные люди, но они еще и различаются
между собой по своим качествам (eidei), ведь элементы,
образующие государство, не могут быть одинаковы.
Аристотель, «Политика»
ВВЕДЕНИЕ.
ТЕЛО И ГОРОД
«Плоть и камень»—это история города, рассказанная как история
телесного опыта его жителей: как двигались мужчины и
женщины, что они видели и слышали, какие запахи их донимали, где
они ели, во что одевались, когда мылись и как занимались
любовью в городах от античных Афин до современного Нью-Йорка.
Хотя эта книга и использует человеческое тело как способ
понять прошлое, она отнюдь не сводится к перечислению
описанных в истории физиологических переживаний в городской среде.
Цивилизации Запада всегда с трудом давалось уважение к
достоинству тела и к разнообразию человеческих тел—я постарался
уяснить, каким образом эти телесные трудности находили свое
выражение в архитектуре, городском планировании и
градостроительной практике.
Взяться за этот сюжет меня побудило мое собственное
недоумение перед лицом одной из проблем нашего времени —
проблемы сенсорной депривации, которая, по всей видимости, стала
проклятием большинства современных зданий, той тоскливости,
того однообразия и той осязательной обедненности, которые
поразили городскую среду. Эта сенсорная депривация озадачивает
еще больше, если учесть, какое привилегированное место наш век
отводит телесным ощущениям и физической свободе движений.
Когда я только брался за тему сенсорной депривации в
пространстве, мне казалось, что все дело в профессиональной
некомпетентности современных архитекторов и градостроителей, каким-то
образом разучившихся соотносить свои проекты с нуждами тела. Со
временем, однако, я пришел к выводу, что исторические корни
этой проблемы гораздо глубже, а ее причины—значительнее.
13
1. ПАССИВНОЕ ТЕЛО
Несколько лет назад я вместе с приятелем отправился в
кинотеатр, расположенный в пригородном торговом центре
неподалеку от Нью-Йорка. Во время Вьетнамской войны пуля
раздробила моему спутнику левую руку, и военным хирургам пришлось
ампутировать ее выше запястья. Теперь он носит механическое
приспособление с металлическими пальцами, позволяющее ему
держать вилку и пользоваться компьютером. Фильм, на который
мы пришли, оказался особенно натуралистичным военным
эпосом, который мой приятель флегматично высидел, иногда
отпуская технические комментарии. После сеанса мы остановились
покурить перед выходом из здания, ожидая еще каких-то
знакомых. Приятель зажег сигарету и медленно, почти горделиво
поднимал ее ко рту своей клешней. Люди, окружавшие нас,
только что на протяжении двух часов в мельчайших подробностях
наблюдали разрушение человеческих тел, аплодируя особенно
удачным моментам и вообще всячески наслаждаясь
кровопролитием. Теперь же они огибали нас, неловко косясь на
металлический протез; вскоре мы оказались одиноким островком в
людском потоке.
Когда психолог Гуго Мюнстерберг в 1911 году впервые
увидел немой фильм, он решил, что это новое изобретение
должно притуплять остроту чувств. В кино «огромный внешний мир
утрачивает весомость,—писал он, — избавляясь от причинно-
следственных связей и категорий пространства и времени». Его
опасение состояло в том, что «движущиеся картины <...>
окончательно отрываются от действительности»1. Редкий ветеран
получает удовольствие, глядя, как разрываются в клочья тела на
экране; точно так же кинематографическая эротика имеет мало
общего с реальными сексуальными переживаниями. В фильмах
редко увидишь двух голых пожилых людей, занимающихся
любовью, или голых толстяков, и дело у кинозвезд всегда идет как
по маслу, стоит им лечь в постель. В средствах массовой
информации между изображаемым и реальным опытом образуется
пропасть.
14
ВВЕДЕНИЕ
Последователи Мюнстерберга, искавшие объяснение этой
пропасти, изучали воздействие, которое массмедиа оказывают
на публику, и их технические приемы. Процесс смотрения
умиротворяет. Возможно, несколько человек из тех миллионов, что
привыкли смотреть на экранное насилие, сами в результате
станут садистами или насильниками, но отношение толпы к
металлическому протезу моего приятеля свидетельствует о другой,
несомненно, куда более распространенной реакции:
опосредованное переживание насилия снижает восприимчивость к
чужому страданию в реальном мире. К примеру, психологи Роберт
Кьюби и Михай Чиксентмихайи, проводя исследование среди
телезрителей, обнаружили, что «люди неизменно описывают
свое взаимодействие с телевидением как пассивное,
расслабляющее и не требующее особой сосредоточенности»2.
Злоупотребление имитацией боли, как и имитацией секса, приводит к
притуплению способности нашего тела ощущать реальность.
Несмотря на то что наши взгляды на телесный опыт куда
смелее, а наши разговоры о нем куда откровеннее, чем у наших
прадедов и прабабок, наша физическая свобода, возможно, не
так велика, как кажется; хотя бы из-за массмедиа мы
воспринимаем свои тела гораздо более пассивно, чем наши предки,
которые так боялись собственных чувств. Но что же тогда поможет
телу достичь более моральной, более прочувствованной жизни?
Что позволит современным людям лучше понять друг друга, что
сделает их физически более чуткими?
Пространственные соотношения человеческих тел очевидно
оказывают огромное влияние на то, как люди взаимодействуют
между собой, как они видят и слышат друг друга,
дотрагиваются ли они друг до друга или сохраняют дистанцию. К примеру,
место, где мы с приятелем смотрели кино про войну, во
многом определяло пассивную реакцию окружающих на его протез.
Это был огромный торговый центр на северной окраине Нью-
Йорка. В нем нет ничего особенного—просто комплекс из трех
десятков магазинов и кинотеатра в окружении обширной
беспорядочной парковки, построенный возле автострады примерно
ТЕЛО И ГОРОД
15
одно человеческое поколение тому назад. Этот комплекс—один
из результатов происходящего сейчас масштабного
градостроительного процесса, в ходе которого массы людей
перемещаются из плотно заселенных городских центров в более
разреженные и аморфные пространства пригородной жилой застройки,
перемежающейся торговыми центрами, низкоэтажными
офисными комплексами и бизнес-парками. Если кинотеатр в
пригородном торговом центре стал местом встречи людей, желающих
прикоснуться к радостям насилия в комфорте и прохладе
кондиционированных залов, то в более широком смысле это великое
географическое переселение во фрагментированные
пространства ослабило ощущение осязаемой реальности и
умиротворило человеческое тело.
Основной причиной таких изменений стало именно то
физическое переживание, которое сделало эту новую географию
возможной,—переживание скорости. Современные люди
передвигаются со скоростью, которую их предки не могли даже
вообразить. Технологии передвижения—от автомобилей до
связной сети бетонированных автострад—позволили человеческим
поселениям выплеснуться за пределы плотно застроенных
центров и распространиться по просторам периферии.
Единственным смыслом пространства стало, таким образом,
передвижение само по себе: теперь мы измеряем городское пространство
степенью легкости, с которой мы можем проехать его насквозь,
выбраться за его пределы. Город, подчиненный этому
господству движения, неизбежно выглядит нейтрально: безопасность
на дорогах требует, чтобы водитель как можно меньше
отвлекался на какие-либо его индивидуальные особенности. Чтобы
дорога была удобной для вождения, необходимы стандартные знаки,
разметка, ливневые стоки, разделительные ограждения и
отсутствие уличной жизни, за исключением машин. Становясь
производной единственной функции—функции движения,—
городское пространство само по себе становится менее
стимулирующим: водителю хочется проехать сквозь пространство, а не
быть им возбужденным.
16
ВВЕДЕНИЕ
Физиологическое состояние двигающегося тела
усиливает это чувство оторванности от пространства. Скорость сама по
себе затрудняет концентрацию внимания на пролетающих мимо
картинах. В дополнение к этому, движения, из которых состоит
процесс вождения автомобиля (плавные нажатия на педали газа
и тормоза, быстрые взгляды в зеркало заднего вида),
оказываются микроскопическими по сравнению с тяжелыми физическими
усилиями, необходимыми, чтобы править упряжью лошадей.
Освоение географии современного общества требует
пренебрежимо малого физического напряжения, а значит, и
вовлеченности. По мере того как улицы становятся все более прямыми
и тщательно обустроенными, путешественнику приходится
обращать все меньше внимания на людей и здания по их сторонам,
перемещаясь при помощи мельчайших телодвижений во все
менее сложной среде. Таким образом, новая география действует
заодно с массмедиа. Водитель, как и телезритель, воспринимает
мир как сновидение: его тело перемещается в пространстве
пассивно, его органы чувств почти не задействованы, а пункты
назначения разбросаны по фрагментированной и разобщенной
городской среде.
И проектировщик автодорог, и телевизионный продюсер
создают то, что можно назвать «свободой от сопротивления».
Инженер-дорожник разрабатывает способы передвижения без
препятствий, усилий и вовлеченности в процесс; продюсер
изыскивает для людей способы смотреть на что угодно, не
испытывая при этом особой неловкости. Глядя, как публика после
фильма огибает моего приятеля, я осознал, что люди воспринимают
его как угрозу—не столько из-за его увечного тела, сколько из-за
тела активного, отмеченного пережитым опытом, который
наложил на это тело свои ограничения.
Желание освободить тело от сопротивления
накладывается на страх прикосновения, ясно проявляющийся в
современной планировочной практике. К примеру, проектируя
автостраду, градостроители часто прокладывают ее таким образом, чтобы
изолировать жилой район от коммерческого или рассечь ткань
тело и ГОРОД
17
Уильям Хогарт. Пивная улица, 175*
жилой застройки на бедные и богатые кварталы или части с
разным этническим составом. Развивая местную инфраструктуру,
власти скорее разместят новую школу или жилое здание в
центре сложившегося района, чем на его окраине, где люди могут
столкнуться с чужаками. Охраняемые жилые комплексы за
высокими заборами все чаще подаются потенциальным
покупателям как идеал домашней жизни. Учитывая все это, едва ли
приходится удивляться, что, изучая пригород неподалеку от того
самого торгового центра, где мы смотрели военный фильм,
социолог Мэри Пэт Баумгартнер пришла к такому заключению:
«Повседневная жизнь там заполнена усилиями по отрицанию,
минимизации, ограничению и избеганию конфликтов. Люди
18
ВВЕДЕНИЕ
Уильям Хогарт. Переулок джина, 1751
сторонятся прямых столкновений и демонстрируют явное
неодобрение по отношению к любым попыткам восстановить
справедливость или обличить нарушителя»3. Любое
соприкосновение чревато чувством, что что-то или кто-то является для нас
чуждым. Современные технологии позволяют нам избегать
этого риска.
В результате знаменитый диптих Уильяма Хогарта,
созданный им в 1751 году, на современный взгляд кажется довольно
странным. На гравюрах «Пивная улица» и «Переулок джина»
художник стремился дать собирательные образы порядка и
беспорядка в Лондоне того времени. На переднем плане «Пивной
улицы» показана группа людей, пьющих пиво; мужчины нежно
тело и ГОРОД
19
обнимают женщин за плечи. Для Хогарта соприкосновение тел
обозначало общественные связи и упорядоченность жизни, во
многом так же, как и для нынешнего обитателя небольшого
городка в Южной Италии, где человек возьмет вас за локоть,
подчеркивая серьезность предстоящей беседы. Изрядно
набравшиеся персонажи «Переулка джина», напротив, замкнуты в себе и не
ощущают телесного присутствия друг друга, ступеней, скамеек
или зданий вокруг. Это отсутствие физического контакта
выражало для Хогарта беспорядок в городской среде. Представления
Хогарта сильно отличались от тех, которые застройщик
охраняемого коттеджного поселка внушает своим запуганным толпами
клиентам. Сегодня порядок означает отсутствие контакта.
Рассматривая такие тенденции, как растягивание географии
современного города и использование новейших технологий для
притупления чувствительности человеческого тела, многие
критики современной культуры делают вывод о глубокой пропасти,
которая отделяет настоящее от прошлого. Реальность ощущений
и телесная активность деградировали до такой степени, что
современное общество кажется им невиданным прежде
историческим феноменом. Индикатором этого исторического сдвига
может служить, по мнению этих критиков, изменившийся
характер городской толпы. Из плотной массы человеческих тел,
скопившихся в центре города, она превратилась в куда более
разреженную группу посетителей, собравшихся в торговых центрах
ради потребления—задачи попроще, чем общественное
единение или осуществление политической власти. Телесное
присутствие других человеческих существ в современной толпе
каждому из них представляется угрозой. В социальной теории эту
позицию отстаивали такие критики массового общества, как
Теодор Адорно и Герберт Маркузе4.
Тем не менее именно это представление о разрыве между
прошлым и настоящим я хочу поставить под сомнение. И география
современного города, и современные технологии лишь выводят
на первый план глубоко укорененные в западной цивилизации
20
ВВЕДЕНИЕ
сложности с созданием пространств, которые давали бы
человеческим телам возможность почувствовать присутствие друг
друга. Компьютерные мониторы и архипелаги городской
периферии — всего лишь отложенные пространственные последствия
проблем, которые в прошлом не нашли разрешения на улицах
и площадях, в храмах и залах городских советов, в
перенаселенных домах и многолюдных дворах—в тех древних сооружениях
из камня, которые заставляли людей прикасаться друг к другу, но
не могли пробудить в них ту способность к осознанному
восприятию чужой плоти, которую сулила гравюра Хогарта.
2. ПЛАН КНИГИ
В своей классической работе «Город в истории» Льюис Мамфорд
описал четыре тысячелетия городской истории, проследив
эволюцию основных форм, из которых состоят города, — стены,
дома, улицы, центральной площади. Мои познания не так
глубоки, а кругозор не так обширен, поэтому я выбрал иной принцип
изложения, взяв в качестве объекта изучения конкретные города
в определенные исторические моменты, отмеченные
объявлением войны, началом революции, строительством здания,
совершением научного открытия или публикацией книги, то есть в те
моменты, которые стали вехами в развитии взаимосвязи между
человеческим восприятием собственного тела и пространствами,
в которых жили люди.
«Плоть и камень» начинается с исследования того значения,
которое имела нагота для жителя Афин в зените их славы, в
первые годы Пелопоннесской войны. Обнаженное, открытое миру
тело часто воспринимается как зримое выражение спокойной
уверенности афинян в себе и в своем городе; я же, напротив,
постарался понять, как этот телесный идеал мог осложнять
взаимоотношения между мужчинами и женщинами, формирование
городских пространств и функционирование афинской демократии.
Во втором витке моего повествования речь идет о Риме того
времени, когда император Адриан заканчивал строительство
тело и ГОРОД
21
Пантеона. Здесь предметом моего исследования стала римская
склонность доверять зрительным образам, особенно их
одержимость геометрией тела и стремление перенести принципы этой
геометрии на градостроительство и практику управления
империей. Возможности глаза буквально зачаровывали римских
язычников, притупляя их чувственное восприятие, и именно
эти чары начали ставить под сомнение христиане времен
правления Адриана. Первые пространства, которые были созданы
уже специально для христианских тел, я попытался рассмотреть
в момент возвращения христианского императора Константина
в Рим и строительства им Латеранской базилики.
После этого я обратился к тому, как христианские
представления о теле определяли градостроительную практику Высокого
Средневековья и Раннего Ренессанса. В период около 1250 года,
когда была создана рукописная Библия святого Людовика,
физические страдания распятого Христа давали средневековому
парижанину язык для размышлений о пространствах милосердия
и безопасности в собственном городе; этим пространствам,
однако, приходилось с трудом отыскивать себе место в гуще улиц,
на которых с зарождением рыночной экономики воцарилась
физическая агрессия. К началу Возрождения христианам,
живущим в европейских городах, казалось, что их идеалу общежития
угрожают иноверцы и инородцы, вовлеченные в орбиту
европейской городской экономики. Я рассмотрел одно из
выражений этого опасного конфликта—создание еврейского Гетто в
Венеции в 1516 году.
Заключительная часть «Плоти и камня» посвящена
переменам в городском пространстве, случившимся после того, как
прогресс в понимании человеческого тела современной наукой
покончил с прежними медицинскими постулатами. Эта
революция началась в первой трети XVII века, когда Уильям Гарвей
опубликовал трактат «De motu cordis» [«О движении сердца»],
в котором заложил основы современных представлений о
кровообращении. Новый образ тела как системы циркуляции дал
толчок характерному для XVIII века стремлению к свободно-
22
ВВЕДЕНИЕ
му обращению тел внутри города. В Париже времен Великой
французской революции эти образы телесной свободы пришли
в столкновение с нуждой в общественных пространствах и
общественных ритуалах—тогда впервые дала о себе знать
чувственная недостаточность, характерная для всей последующей эпохи.
Триумф индивидуального передвижения в ходе формирования
огромных городов XIX века привел к практической дилемме,
характеризующей и нашу современную жизнь: свободно
передвигающемуся человеческому телу не хватает навыков физического
восприятия других человеческих существ. Психологические
издержки этой ситуации в случае эдвардианского Лондона раскрыл
писатель Э.М. Форстер, а ее социальные последствия очевидны
в мультикультурном Нью-Йорке нашего времени.
Ни одному человеку не под силу быть специалистом в таком
широком круге тем. Я писал эту книгу как увлеченный любитель
и надеюсь, что читатель проследует по моим стопам со схожим
настроем. Но именно такое краткое изложение особенно
настоятельно требует определиться, о чьем именно теле идет речь:
понятие «человеческое тело» включает бесчисленные комбинации
возраста, тендера и расы, и каждому из этих различных тел
отведены свои особые пространства и в городах прошлого, и в
городах настоящего. Вместо того чтобы каталогизировать частные
случаи, я стремился разобраться, как в разные исторические
эпохи использовались обобщенные, универсальные образы
«человеческого тела». Такие эталонные представления о «теле» часто
подавляют способность к взаимному чувственному восприятию,
особенно среди тех, кто им не соответствует. Когда общество или
политический режим говорят о «теле» вообще, они склонны
отрицать нужды тел, не соответствующих их стандарту.
Один из запросов, которые призван удовлетворить такой
обобщенный образ тела, отражен в словосочетании
«политический организм»: это запрос на социальный порядок. Самое
буквальное определение политического организма дал,
вероятно, Иоанн Солсберийский, который в 1159 Г°ДУ прямо писал,
что «государство (res publica) есть тело». Он считал, что прави-
тело и ГОРОД
23
тель выполняет в обществе функцию мозга, его советники
служат сердцем, купцы—желудком, солдаты—руками, а крестьяне
и прислуга—ногами5. Это был иерархический образ: отправной
точкой социального порядка был мозг, орган правителя. Вслед за
этим Иоанн Солсберийский уподоблял строению человеческого
тела устройство города: дворец или собор мыслился им как
голова, рынок как чрево, дома — как руки и ноги. А следовательно,
писал он, в соборе люди должны двигаться размеренно,
поскольку мозг есть орган размышления, на рынке же, напротив,
следует торопиться, ведь пищеварение происходит в желудке
стремительно, как пожар.
Подход Иоанна Солсберийского был вполне научным: он
считал, что изучение работы мозга может подсказать королю,
как устанавливать законы. В том, что касается постановки
задачи, современная социобиология не так уж отличается от этой
средневековой учености: она также пытается вывести
оптимальные механизмы работы общества, опираясь на предполагаемые
законы природы.
Хоть Иоанн Солсберийский и отличался особенной
прямолинейностью в сопоставлении телесного и социального
строения, на протяжении всей истории городского планирования
переосмыслявшиеся эталонные образы тела сплошь и рядом
использовались как руководство к сооружению зданий или целых
городов. Древние афиняне, которые превозносили наготу
человеческого тела, стремились придать ей материальный смысл
в гимнасиях и метафорический—в политических пространствах
города, однако обобщенный образ тела, к которому они
стремились, был исключительно мужским, и более того, образом
идеализированного юноши. Когда венецианцы эпохи Ренессанса
говорили о достоинстве «тела» в своем городе, они имели в виду
только христианские тела, что делало логичным изоляцию по-
лучеловеческих-полуживотных тел евреев. Такими способами
политический организм осуществляет свою власть и формирует
городскую среду, говоря на том обобщенном языке, который
угнетает посредством исключения.
24
ВВЕДЕНИЕ
И все же рассматривать и этот язык тела, и всю образность
политического организма только как технологию
подчинения—значит впасть в паранойю. Пытаясь выразить себя как единое целое,
общество может тем самым пытаться отыскать то, что связывает
между собой его членов. И этот обобщенный язык тела после
перенесения в городское пространство ждала весьма непростая судьба.
На всех этапах развития западной цивилизации
господствующие представления о теле разрушались по мере того, как их
навязывали городу. Эталонный образ тела по определению
вызывает смешанные чувства у тех, кому он навязан, ведь любое
человеческое тело имеет свои физические особенности, а
каждому человеку свойственны противоречивые физические
желания. В западных городах телесные противоречия и
двусмысленности, вызванные наличием такого общественного эталона,
выразились в модификациях и размывании городской
структуры, а также в подрывном использовании городских пространств.
Именно эта неизбежная противоречивость и фрагментирован-
ность уподобленного человеческому телу городского
пространства способствовала признанию прав и осознанию достоинств
разных человеческих тел.
Вместо того чтобы описывать железную хватку власти,
«Плоть и камень» подхватывает одну из основных тем
цивилизации Запада, затронутую и в Ветхом Завете, и в античной
трагедии,—историю о том, как наши тяжелые, неудачные отношения
с собственным телом заставляют нас лучше осознать мир, в
котором мы живем. Предание о первородном грехе Адама и Евы,
о том, как они со стыдом осознали собственную наготу и были
изгнаны из Рая, рассказывает не только о том, что потеряли
прародители человечества, но и о том, кем они стали. В райском саду
они были невинны, послушны и невежественны. За его
пределами они осознали самих себя, увидели собственную ущербность
и потому попытались исследовать и понять то, что было
странным и непохожим на них. Они перестали быть любимыми
чадами Господа, которым все доставалось само собой. В трагедии
Софокла «Царь Эдип» рассказывается сходная история: выколов
тело и ГОРОД
25
себе глаза, Эдип отправляется в странствие, по-новому осознавая
мир, который он больше не может видеть. Познав смирение, он
становится ближе к богам.
Наша цивилизация с самого своего возникновения с трудом
справлялась с проблемой телесной боли. Мы не могли просто
принять страдание как явление неизбежное и неодолимое, как
само собой разумеющийся опыт. Загадки телесной боли
заложены и в греческие трагедии, и в раннехристианские попытки
постичь Сына Божия. Не менее глубоко укоренен в нашей
цивилизации вопрос телесной пассивности и пассивной реакции тел
друг на друга. Стоики учили пассивному отношению и к боли,
и к наслаждению, в то время как их христианские преемники
старались совместить безразличие к собственным чувственным
ощущениям с деятельным сочувствием к страданиям
ближнего. Западная цивилизация отказалась признать страдание
естественной частью нашей природы, пытаясь то подчинить боль
общественному контролю, то принять ее силой разума как часть
возвышенной ментальной конструкции. Я отнюдь не предлагаю
воспринимать древних как наших современников, и все же эти
мотивы, все в новых формах и изводах, постоянно возникают
в истории Запада, как призрак, не находящий успокоения.
Эталонные образы тела, господствовавшие на протяжении
нашей истории, мешали нам познать свое тело за пределами Рая.
Ведь они стремились представить тело как самодостаточную
систему, существующую в единстве с подчиненной ему
окружающей средой. Целостность, тождество, последовательность—вот
ключевые слова в лексиконе власти. Этому языку господства
наша цивилизация противопоставила более возвышенный
образ—сакральный образ тела, находящегося в состоянии борьбы
с самим собой, тела как источника страдания и несчастья. Люди,
способные признать в самих себе этот разлад и
непоследовательность, не повелевают миром, в котором они живут, но понимают
его. Таков священный обет, данный в нашей культуре.
В «Плоти и камне» я задаюсь целью понять, как этот обет был
дан и нарушен в одном конкретном месте — в городе. Город слу-
26
ВВЕДЕНИЕ
жил средоточием власти, его пространства обретали целостность
и согласованность по образу и подобию самого человека. Но в
городе же эти эталонные образы и разрушались. Город соединяет
самых разных людей, он усложняет устройство общественной
жизни, заставляет нас воспринимать друг друга как чужаков. Все
эти особенности городского опыта — разнообразие, сложность,
чуждость — позволяют сопротивляться любому господству.
Неровная, трудная городская география несет в себе определенный
нравственный потенциал: город может стать домом для тех, кто
внутренне принял свое изгнание из райского сада.
3. ЛИЧНОЕ ПОЯСНЕНИЕ
Впервые историей тела я занялся еще в начале семидесятых,
одновременно и в сотрудничестве с покойным Мишелем Фуко6.
Влияние моего коллеги и друга заметно повсюду в книге. Тем не
менее, когда я возобновил работу над этой темой спустя
несколько лет после его смерти, я пошел по пути, отличному от того, что
мы наметили ранее.
В книгах, которые принесли ему наибольшую известность,
таких как «Надзирать и наказывать», Фуко описывал
человеческое тело, почти задыхающееся в путах общественной власти. По
мере того как слабело его собственное тело, он стремился
ослабить эти путы: в третьем томе «Истории сексуальности»,
последнем из опубликованных при его жизни, и еще более заметно—
в набросках к последующим томам, которые ему не довелось
завершить, он попытался исследовать телесные удовольствия,
которые не закабалены обществом. Несколько параноидальные
мысли о контроле, характерные для него на протяжении
большей части жизни, отступили с приближением смерти.
То, как он умирал, не только поставило передо мной
обычные вопросы, которые смерть ставит перед остающимся в
живых, но и навело на размышления об одном замечании
Витгенштейна. Тот оспаривал представление о важности рукотворного
пространства для пораженного болью тела. «Знаем ли мы место
тело и ГОРОД
27
боли в евклидовом пространстве,—спрашивает Витгенштейн,—
так что, когда мы знаем, где у нас болит, мы знаем, насколько
далеко от двух стен этой комнаты и от пола? Когда у меня болит
кончик пальца и я касаюсь им своего зуба, является ли теперь
моя боль как зубной болью, так и болью в моем пальце?
Является ли причиной, по которой в этом случае ошибочно говорить,
что у меня болит зуб, то обстоятельство, что для того, чтобы быть
в зубе, боль должна быть удалена на одну шестнадцатую дюйма
от кончика моего пальца?»7
Работая над «Плотью и камнем», я хотел воздать должное
достоинству, проявленному моим другом перед лицом смерти,
когда он согласился с тем, что страдающее тело—и его
собственное, и те языческие тела, о которых он писал в последние месяцы
жизни,—существует вне пределов досягаемости для подобных
расчетов. Именно по этой причине я оставил нашу прежнюю
мысль исследовать положение тела в обществе исключительно
через призму сексуальности. Освобождение тела от
викторианских сексуальных предрассудков стало значительным событием
в современной культуре, но одновременно сузило диапазон
физической чувственности до сексуального влечения. Хотя в этой
книге я и попытался включить вопросы сексуальности в
более широкий сюжет нашего телесного взаимодействия с
другими людьми, осознание боли было для меня не менее важным,
чем обещания наслаждения. Такой подход соответствует иудео-
христианской вере в то, что тело позволяет нам обрести
духовное знание, а я писал эту книгу именно как человек верующий.
Я стремился показать, как те, кто был изгнан из Рая, могут
найти себе дом в городе.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ.
НАГОТА. ТЕЛО ГРАЖДАНИНА В АФИНАХ
ПЕРИКЛА
В 43! Г°ДУ Д° нэ· античный мир потрясла война, в которой
схлестнулись города Афины и Спарта. Афины вступили в
конфликт с полной уверенностью в своем превосходстве, а через
27 лет потерпели в нем катастрофическое поражение. Главный
летописец Пелопоннесской войны, афинский полководец Фу-
кидид, видел в ней не только военное, но и социальное
столкновение — схватку между устроенной по армейскому принципу
Спартой и Афинами с их открытым обществом. Ценности своей
стороны Фукидид передает в Надгробной речи, которую Перикл,
предводитель афинских граждан, произнес зимой 431/43° г°Да
до н.э. в память о соотечественниках, павших в первый год
войны. Насколько точно запись Фукидида соответствует словам Пе-
рикла, мы не знаем, но с течением веков этот текст стал
восприниматься как отражение взглядов своего времени.
По словам современного историка Николь Лоро, целью
Надгробной речи было «преобразить родительское горе в гордость»1.
Похоронный кортеж, за которым следовала огромная толпа
скорбящих, доставил кипарисовые гробы с выбеленными
костями погибших юношей на кладбище за городскими стенами, где
опавшая с пиний хвоя толстым одеялом укрывала могилы давно
умерших афинян. Именно тут Перикл почтил память павших,
воздав хвалу их родному городу: «У нас городом управляет не
горсть людей, а большинство народа,—заявил он. — В частных
делах все пользуются одинаковыми правами по законам»2.
Греческое слово «демократия» (demokratia) означает, что «народ»
(demos) и есть «власть» (kratos) в государстве. Афиняне терпимы
и космополитичны: «Мы всем разрешаем посещать наш город»3.
31
Карта Афин, ок. 400 года до н.э.
Наконец, в отличие от спартанцев, которые умеют только слепо
и тупо подчиняться приказам, жители Афин рассуждают и
спорят между собой: «Мы не думаем, что открытое обсуждение
может повредить ходу государственных дел»4.
Для Перикла само собой разумелось то, что может
показаться поразительным нашему современнику. Предводители этих
юных воинов запечатлены в искусстве почти обнаженными,
их лишенные одежды тела защищены только небольшим
щитом и копьем. В самом городе молодые люди боролись в гимна-
сиях нагишом, а свободные одежды, которые мужчины
носили на улицах и в общественных местах, почти не скрывали их
тел. Как отметил искусствовед Кеннет Кларк, у древних греков
голое, открытое тело ассоциировалось не с уязвимостью, а с
силой—и более того, с цивилизованностью5. Начиная свой рассказ
о Пелопоннесской войне, Фукидид прослеживает прогресс
человечества в предшествующий ей период и среди прочих
признаков этого прогресса отмечает, что именно спартанцы «вве-
32
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
ли в обычаи открыто обнажаться и натирать тело маслом, делая
телесные упражнения»; в то же время среди современных ему
barbaroi многие по-прежнему упорно прикрывали гениталии во
время состязаний (слово barbaroi можно перевести и как
«иноземцы», и как «варвары»)6. Цивилизованные греки сделали
обнаженное тело предметом восхищения.
Выставляя тело напоказ, афинянин подчеркивал свой
статус свободного гражданина. Афинская демократия высоко
ценила в своих гражданах открытое выражение мыслей, которое
уподоблялось демонстрации мужской наготы. Эти проявления
взаимной откровенности были призваны теснее сплотить
сограждан. Афиняне воспринимали то, что мы можем назвать
«узами дружбы», вполне буквально, как связку между людьми.
В древнегреческом языке слова, описывающие эротическое
влечение одного мужчины к другому, использовались и для
выражения любви к родному городу. Афинские политики
стремились предстать в образе любовника или воина.
Это стремление к демонстрации, обнажению и
раскрытию наложило отпечаток на афинскую архитектуру. Храм
Парфенон, величайшее сооружение эпохи Перикла, поставлен на
возвышенности, открытый взглядам из любой точки
раскинувшегося внизу города. На агоре, главной площади Афин, почти
не было мест, закрытых для общего доступа, подобно
современной частной собственности. В пространствах, устроенных
для нужд афинской демократии (прежде всего в
расположенном на склоне холма Пникс театре, где проводились
общегородские народные собрания), способы организации толпы и
правила голосования были направлены на то, чтобы отдельные
граждане или небольшие их группы изъявляли свою волю на
глазах у всех. Нагота может казаться нам знаком, что люди
чувствовали себя в городе как дома: там они могли существовать
в счастливой открытости, в отличие от бесцельно скитающихся
по миру варваров, лишенных защиты городских стен. Перикл
прославляет Афины как город, где между плотью и камнем
царит гармония.
ГЛАВА ПЕРВАЯ. НАГОТА
33
Важность наготы для греков эпохи Перикла отчасти
коренилась в их представлении о внутреннем устройстве тела. Телесный
жар считался ключевым элементом физиологии человека: те,
кто умел накапливать жар и управлять им, не нуждались в
одежде. Более того, горячее тело откликалось на нужды других
лучше, чем холодное и вялое. Горячие тела были сильными, их жара
хватало на то, чтобы действовать и взаимодействовать. Эти
физиологические представления распространялись и на
использование языка. Считалось, что когда человек слушает, произносит
или читает слова, температура его тела повышается, а вслед за
ней растет и желание действовать—именно это рассуждение
лежало в основе убеждения Перикла в том, что речи и дела едины.
Греческое понимание физиологии сделало идеализацию
наготы куда более сложной конструкцией, чем проводимое Фуки-
дидом жесткое противопоставление между греком, гордящимся
свои телом и своим городом, и варваром, одетым в драные
шкуры и живущим в лесу или на болоте. В соответствии с этим
пониманием, телам с разным количеством жара полагались
разные права и отводились разные городские пространства. Прежде
всего этот контраст проявлялся в различиях между полами,
поскольку женщина считалась более холодным вариантом
мужчины. Женщины не демонстрировали в городе свою наготу, более
того, основным местом их пребывания был дом, как будто
сумрачные помещения лучше подходили их телесной конституции,
чем солнечные открытые пространства. Дома они носили легкие
туники до колен, но на улицу выходили в одеяниях из грубого,
непрозрачного полотна, закрывавших ноги по щиколотку.
Отношение к рабам также определялось убеждением, что суровые
условия неволи снижают телесный жар порабощенного: даже
человек благородного происхождения в плену тупел, немел,
утрачивал человеческий облик, становился пригоден только для
тяжкого физического труда, которого, собственно, и требовали
от него хозяева. Воспетое Периклом единство слова и действия
было уделом исключительно мужчин-граждан,
предназначенных для этого самой своей «природой». Учение о телесном жаре,
34
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
таким образом, служило грекам обоснованием для норм
подчинения и господства.
И такое нормативное представление о теле, и основанное на
нем неравенство между людьми, и организация пространства
в соответствии с ним не были уникальными афинскими
явлениями. Но Афины времен Перикла кажутся нам ближе и понятнее,
чем, к примеру, Спарта, возможно, потому, что в Афинах этот
эталонный образ тела стал предвестником кризиса городской
демократии. В своей «Истории» Фукидид раз за разом
возвращается к мотивам Надгробной речи: уверенность Перикла в
мудрости государственного устройства Афин страшит его. В
противовес этой уверенности Фукидид показывает, как в переломные
моменты истории самоуверенность героев вела к их поражению,
и, более того, как страдающие тела афинян не находили
облегчения в родном городе. Нагота не могла стать лекарством от боли.
Фукидид рассказывает поучительную историю о дерзкой
попытке выставить себя напоказ, предпринятой на заре нашей
цивилизации. В этой главе мы вслед за ним проследим, как это
самолюбование было уничтожено жаром слов, пламенной
риторикой. В следующей главе мы рассмотрим обратную сторону
медали: как те, чьи тела были холодны, отказывались страдать
молча и вместо этого старались придать своей холодности смысл
в пределах города.
1. ТЕЛО ГРАЖДАНИНА
Афины Перикла
Чтобы понять, что за город так превозносил Перикл, давайте
вообразим прогулку по Афинам первого года войны и начнем
на том самом кладбище, где он, вероятно, произнес свою речь.
Кладбище лежит за городскими стенами, на северо-западной
окраине Афин. Такое расположение объясняется тем, что греки
боялись мертвецов: от тех, кто умер не своей смертью, исходили
опасные испарения, и все покойники имели привычку расхажи-
ГЛАВА ПЕРВАЯ. НАГОТА
35
вать по ночам. Двигаясь в сторону города, мы подходим к Триас-
ским воротам (позднее известным как Дипилонские), главному
входу в Афины. Ворота состояли из четырех массивных башен,
расставленных вокруг центрального двора. Для мирного
путешественника, пишет современный историк, Триасские ворота были
«символом власти и неприступности Афин»7.
Городские стены Афин сами по себе являются летописью
возвышения города. Поначалу он умещался на Акрополе, скалистом
холме, который было легко оборонять с самым примитивным
оружием. Примерно за тысячу лет до Перикла афиняне
обнесли Акрополь стеной. Впоследствии город рос в основном к
северу, и, по несколько туманным сведениям, в VII веке до н.э. эти
новые кварталы обзавелись собственными стенами. Тем не
менее Афины того времени явно не имели полного кольца
укреплений. Проблема обороны усугублялась географией. Как и многие
древние города, Афины располагались поблизости от воды, но
не прямо около нее: гавань в Пирее лежала в семи километрах
от Акрополя.
Жизненно важная дорога, соединявшая город с морем, была
его самым уязвимым местом. Когда в 480 году до н.э. персы
захватили Афины, стены города не стали им серьезной преградой: стало
ясно, что без действенных укреплений городу не выжить. В
следующем десятилетии афиняне всерьез озаботились
фортификацией, проведя работы в два этапа: сперва город обнесли стенами со
всех сторон, а затем связали его с морем. Одна пара стен шла к Пи-
рею, а вторая—к меньшей гавани в Фалере к востоку от него.
Эти стены были отражением географии тяжкого,
изнурительного труда, о котором не упоминает Надгробная речь.
Территория афинского государства была гораздо больше, чем участок
земли, окруженный его стенами. Сельскохозяйственные
земли Афин, или хора, составляли около 2θθθ квадратных
километров, однако позволяли выращивать только овец и коз (но не
коров) и ячмень (но не пшеницу). Леса в Аттике были в основном
вырублены уже к боо году до н.э., что усугубляло экологические
проблемы; вдобавок, как это было принято по всему Средизем-
36
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
номорью, греческие крестьяне, ухаживая за своими оливами
и виноградниками, сильно обрезали им ветви, тем самым еще
больше обнажая выжженную солнцем почву. Урожаи были
настолько скудны, что две трети необходимого Афинам зерна
приходилось импортировать. Правда, на территории хоры имелись
залежи серебра, а после сооружения стен там началась активная
добыча мрамора. Но в целом основным типом хозяйствования
там оставалась мелкая ферма, на которой землевладелец
трудился сам вместе с одним-двумя рабами. Древний мир был главным
образом миром крестьянским: историк Линн Уайт писала, что по
самым сдержанным оценкам, «даже в самых зажиточных
регионах, чтобы прокормить одного человека, живущего не на земле,
требовался труд более десятка земледельцев»8.
Аристотелю, как и прочим грекам, и вообще всем
представителям западных элит вплоть до Нового времени, физическая
борьба за существование представлялась чем-то унизительным.
Недаром, как давно замечено, в древнегреческой культуре не
было ни слова для обобщенного понятия «труд», ни самой
концепции труда как «основной общественной функции»9.
Возможно, причиной этого была острая, всепоглощающая
необходимость трудиться, до такой степени ставшая условием
выживания, что труд оказывался неотличим от самой жизни.
Раннеантичный поэт Гесиод писал в «Трудах и днях»:
Землю теперь населяют железные люди. Не будет
Им передышки ни ночью, ни днем от труда и от горя...10
Только благодаря этой хозяйственной деятельности на пределе
сил могла существовать городская цивилизация. Это
придавало горький привкус самим словам «городской» (asteios) и
«сельский» (agroikos): по-древнегречески они могли также означать
«остроумный» и «тупой»11.
Внутри стен город оборачивался к путнику менее суровой
стороной. Прямо за Триасскими воротами начинался квартал гонча-
ГЛАВА ПЕРВАЯ. НАГОТА
37
ров—Керамик. Гончары селились поблизости от древних могил,
находившихся внутри стен, и новых кладбищ снаружи,
поскольку погребальная урна была непременным атрибутом похорон.
От Триасских ворот к центру города шла дорога, проложенная по
меньшей мере за пятьсот лет до Перикла. Изначально ее
украшали огромные вазы, но около VI века до н.э. их сменили
небольшие мраморные степы, свидетельствовавшие об успехах афинян
в искусстве резьбы по камню. В том же столетии по обеим
сторонам улицы начали развиваться другие виды ремесел и торговли.
Эта главная улица была известна как Дромос, или Панафи-
нейский путь. Идя по ней, мы доходим до Эридана, небольшой
речки, которая протекает через северную часть города; затем
дорога огибает холм Колонос Агорайос и выводит нас на агору,
главную площадь Афин. До персидской оккупации большинство
зданий агоры были сосредоточены со стороны Колонос Агорайос,
с них же началось и восстановление города после катастрофы.
Перед ними расположено открытое пространство в форме
ромба площадью около четырех гектаров. Тут, на агоре, афиняне
торговались и давали деньги в рост, плели политические интриги
и прославляли богов.
Если бы турист свернул прочь с Панафинейского пути, он
оказался бы в совсем непохожем городе. Неровное
шестикилометровое кольцо афинских стен с их пятнадцатью воротами
окружало город, в основном состоявший из тесно сбившихся
приземистых домов и узких улочек. Во времена Перикла самой
плотной была застройка в районе Койле, расположенном в юго-
западном углу Афин. Городские дома чаще всего были
одноэтажными и строились из камня или обожженного кирпича. Если
семья была побогаче, комнаты выходили во внутренний дворик,
а иногда добавлялся второй этаж. В большинстве домов жилые
помещения соседствовали с рабочими—лавкой или мастерской.
В городе были особые кварталы для тех, кто делал или продавал
горшки, зерно, масло, серебро или мраморные статуи, а также
главный рынок вокруг агоры. На этих улицах, пропахших мочой
и подгоревшим маслом, среди глухих обшарпанных стен «вели-
38
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
колепие Греции», о котором писал Эдгар Аллан По, отнюдь не
бросалось в глаза.
Следуя дальше по Панафинейскому пути и оставив агору
позади, мы снова начинаем подъем, постепенно приближаясь
с северо-запада к стенам Акрополя, пока не достигнем
Пропилеи, его главного входа. Хотя изначально Акрополь был
крепостью, к раннеклассическому периоду он имел уже
исключительно культовое назначение, представляя собой заповедную зону
религиозности над бурлящим на агоре многообразием жизни.
Аристотель видел в этом пространственном контрасте
выражение политического развития города. В «Политике» он писал:
«Акрополь [то есть замок на возвышенности] подходит для
олигархии и монархии, одинаковая укрепленность [то есть
горизонтальное расположение] всех частей—для демократии»12.
Философ предлагал гражданам оставаться на одном уровне. И тем не
менее Парфенон, самое поразительное здание Акрополя,
символизировал славу самого города.
Строительство Парфенона на месте какого-то более древнего
храма началось в 447 Г°ДУ Д° нэ·и завершилось, вероятно,
около 43 ! года. Для Перикла, который принимал деятельное участие
в этом процессе, возведение нового Парфенона было
выражением афинских добродетелей, поскольку объединяло граждан
в коллективном усилии. Пелопоннесские враги города, заявил
он в своей еще довоенной речи, «земледельцы и живут от трудов
рук своих», и это вызывало у него только презрение:
«Земледельцы, живущие своим трудом, готовы на войне скорее рисковать
жизнью, чем своим добром». В отличие от афинян, «на коротких
совещаниях у них редко обсуждаются общесоюзные дела, а
большей частью—только частные дела отдельных городов». Афины
превосходят пелопоннесцев мощью, поскольку «каждый [из
врагов] считает, что его собственное нерадение не принесет вреда
и что об общем благе позаботится вместо него кто-нибудь
другой»13. Греческое слово полис, то есть город, для афинянина вроде
Перикла означало не просто точку на карте, а нечто гораздо
большее —место, где люди обретали единство.
ГЛАВА ПЕРВАЯ. НАГОТА
39
Афинский Акрополь, V век до н.э.
Расположение Парфенона в городе подчеркивало его
общегражданское значение. Этот сияющий на солнце символ
единства одинаково хорошо был виден со всего города — из новых
растущих районов и из старых кварталов в центре. Историк сэр
Мозес Финли метко описал эту способность Парфенона
выставлять себя напоказ, быть объектом рассматривания,
неологизмом «снаружность» (out-of-doorness). Он писал: «В этом смысле
нет ничего более обманчивого, чем наше нынешнее
впечатление: мы видим руины, мы смотрим сквозь них, мы
прогуливаемся внутри Парфенона. <...> То, что видели греки, было
физически совершенно иным»14. Внешний вид здания был важен сам
по себе: подобно обнаженной коже, он представлял собой
непрерывную, самодостаточную, притягательную поверхность. В
архитектуре поверхность отличается от фасада: к примеру, фасад
собора Нотр-Дам оставляет ощущение, что внутреннее
устройство здания породило его внешний облик, в то время как
оболочка Парфенона—его колонны и крыша—не кажется формой,
40
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
выдавленной изнутри наружу. Таким образом, храм помогает
понять характерный для Афин планировочный прием: объемы
создаются с помощью взаимодействия поверхностей.
Как бы то ни было, короткая прогулка от кладбища, где
Перикл произнес Надгробную речь, до Парфенона
продемонстрировала бы путешественнику результаты великой эпохи
афинского градостроительства. Это особенно касалось зданий, в которых
горожане могли выразить себя в разговоре. За пределами
городских стен были устроены академии, где юноши учились
рассуждать и спорить, а не зубрили наизусть. На агоре афиняне
построили суд, вмещавший полторы тысячи человек, и здание городского
совета, где политические вопросы обсуждали почтенные
граждане, избранные в Совет пятисот. В здании, называвшемся фолос,
более узкая группа из пятидесяти старейшин рассматривала
повседневные дела. Наконец, неподалеку от агоры на вогнутом склоне
холма Пникс было устроено место для проведения городских
собраний, в которых могли участвовать все граждане.
Масштаб всех этих положительных перемен сам по себе
внушал афинянам надежду на легкую победу в разгорающейся
войне. Некоторые современные историки полагают, что характерное
для Афин преклонение перед полисом было неразрывно связано
с успехами их имперского проекта; другие считают, что городское
единство было просто абстракцией, риторическим приемом,
который использовался только для наказания отщепенцев или
контроля над мятежными группами населения. Однако Перикл верил
в полис безоговорочно. «Подобные надежды были естественны для
людей, на чьих глазах произошел взрыв материального
благосостояния, начавшийся после Персидских войн,—пишет
современный историк Эрик Доддс.—Это поколение, в отличие от Гесиода,
не считало Золотой век утраченным раем далекого прошлого. Для
них он был не позади, а впереди, и при том явно не за горами»15.
Жар тела
Фигуры на знаменитых резных фризах Парфенона являются
выражением тех воззрений на наготу, которые лежали в основе
ГЛАВА ПЕРВАЯ. НАГОТА
41
и этих планировочных приемов, и этих надежд. Эти фризы,
выставленные сейчас в Британском музее, в наше время получили
название «мраморов Элгина», в честь английского аристократа,
который вывез их из Афин в Лондон в XIX веке. Часть их
скульптурных композиций изображает Панафинейское шествие: эта
торжественная процессия ежегодно следовала по пройденному
нами от кладбища до Акрополя маршруту, прославляя
основание города и его богов. Основание города приравнивалось к
победе самой цивилизации над варварством — как замечает
историк Эвелин Харрисон, «каждый афинянин, разумеется, считал,
что его город играет в этой борьбе главную роль»16. На переднем
фронтоне Парфенона было изображено рождение богини
Афины, с другой стороны — спор Афины и Посейдона за право
покровительствовать городу. На метопах лапифы сражались с
кентаврами, а олимпийские боги—с гигантами.
Мраморы Элгина необычны для своей эпохи тем, что
соединяют изображения людских толп участников Панафиней-
ского шествия со сценами из жизни богов. Скульптор Фидий по-
особому показывал человеческие тела—прежде всего фигуры
куда сильнее выступают над плоскостью камня, чем у его
современников: такая глубокая резьба наделяла их достаточной
выразительностью, чтобы позволить им соседствовать с богами.
На фризах Парфенона смертные выглядят рядом с
олимпийцами куда увереннее, чем, к примеру, на фризах храма в Дельфах.
Дельфийский скульптор подчеркивал контраст между людьми
и богами, а Фидия в его афинской работе увлекала, по словам
историка и художника Филиппа Феля, «тончайшая связь между
мирами людей и богов, которая здесь каким-то образом
выглядит необходимой и неизбежной»17.
Все человеческие тела на фризах Парфенона юны,
совершенны и полностью обнажены в своем совершенстве. Их лица
неизменно безмятежны вне зависимости от того, пасут ли они
быков или укрощают норовистых лошадей. Это обобщенные
человеческие образы, в отличие, к примеру, от скульптуры
Зевса в Олимпии, созданной несколькими годами ранее: тело бога
42
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
Фриз Парфенона: всадники готовятся оседлать коней,
конецУвекадонз.
там наделено большим количеством индивидуальных
характеристик, по его мускулатуре видно, что он немолод, а на его лице
можно различить тень страха. Критик Джон Бордман отметил:
«Образ человеческого тела на фризах Парфенона скорее идеален,
чем индивидуален... не от мира сего; [никогда еще]
божественное не было таким человеческим, а человеческое—настолько
божественным»18. Идеальные юные обнаженные тела были
символом такого человеческого могущества, которое ставило под
сомнение пропасть между богами и людьми, — греки, однако,
знали, что это сомнение может привести к трагическим
последствиям. Возлюбив свои тела, афиняне рисковали впасть в
трагический порок, обозначавшийся термином гибрис, то есть в
гордыню, ведущую к смерти19.
Гордость своим телом брала начало в представлениях о
телесном жаре, который направлял процесс формирования
человека. Считалось, что зародыши, которые хорошо обогреваются во
чреве матери на ранних стадиях беременности, становятся маль-
ГЛАВА ПЕРВАЯ. НАГОТА
43
чиками; в противном случае получалась девочка. Чрево,
которому недоставало жара, рождало существо «более мягкое,
влажное, холодное и в целом более бесформеннее, чем мужчина»20.
Первым греком, провозгласившим это неравенство жара, был
Диоген Аполлониискии, а Аристотель продолжил и развил его
воззрения, в частности, в трактате «О возникновении
животных». Аристотель, к примеру, объединял менструальную кровь
и сперму: первая, по его мнению, была кровью холодной, а
вторая —кровью прогретой. Сперму он ставил выше, поскольку она
порождала новую жизнь, в то время как менструальная кровь
оставалась безжизненной. Аристотель полагал, что мужчина
заключает в себе «начало движения и возникновения», а
женщина— «материальное начало», являя собой пример контраста
между активными и пассивными телесными силами21.
Античный врач Гиппократ рассуждал по-другому, но приходил к тому
же выводу. Он считал, что существует два типа спермы, сильная
и слабая, и оба содержатся и в семенных, и во влагалищных
выделениях человека. Американский историк и сексолог Томас Ла-
кер так излагает теорию Гиппократа: «Если сперма у обоих
партнеров сильна, рождается мальчик, если слаба—девочка. Если
же в одном партнере верх взяла сильная сперма, а в другом
слабая, то пол ребенка определяется той, которой оказалось
больше»22. По этой версии, мужской зародыш снова оказывался
горячее, чем женский.
Греки не первыми выдвинули концепцию телесного жара,
и даже его связь с полом не была их изобретением. Точно так
же понимали тело египтяне и, возможно, даже шумеры.
Египетский папирус Жюмильяк приписывает «мужское начало
костям, а женское — плоти», причем костный мозг образуется из
семени, а жир в мягких тканях—из холодной женской крови23.
Греки доработали египетские воззрения на медицину:
Аристотель считал, что жар спермы попадает в плоть через кровь —
мужские тела, таким образом/оказываются теплее и менее
восприимчивы к холоду. По его мнению, мужские мышцы были
крепче женских опять-таки из-за того, что ткани мужчин теп-
44
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
лее24. Вследствие этого, по мнению Аристотеля, мужчина мог
выдержать неприкрытую наготу, в то время как женщине это
было не по силам.
Для греков «мужское» и «женское» были двумя крайними
точками непрерывного телесного градиента, в то время как,
скажем, викторианцы считали менструацию и менопаузу
настолько загадочными силами женской природы, что мужчины
и женщины казались им чуть ли не представителями разных
биологических видов. Лакер излагает эти греческие воззрения
так: «По меньшей мере два тендера соответствовали одному-
единственному полу, так что разница между мужчиной и
женщиной была количественной, а не качественной... тело было
однополым»25. Плохо прогретый мужской зародыш
превращался в женоподобного мужчину, а женский зародыш, прогретый
сверх меры, развивался в мужеподобную женщину. Из этого
представления о физиологии репродукции вытекали и
взгляды греков на анатомию мужских и женских гениталий, которые
они считали разными формами одного и того же органа. Гален
из Пергама предлагал своим ученикам-медикам провести такой
мысленный эксперимент: «Выверни наружу органы женщины
или выверни и сложи внутрь таковые мужчины, и ты увидишь,
что все они совершенно сходны друг с другом»26. Взгляды Гале-
на, перенятые у античного Запада арабскими врачами, а от
последних перешедшие в средневековую медицину и пережившие
эпоху Ренессанса, считались научной истиной почти два
тысячелетия, вплоть до XVII века.
Таким образом, на протяжении большей части истории
Запада медицина рассуждала о «теле» вообще — едином теле,
физиология которого менялась от очень холодной к очень
горячей, от крайне женской к крайне мужской. Телесный жар, как
считалось, определял способность людей видеть, слышать,
действовать, реагировать и даже разговаривать. Во времена Перик-
ла на этой основе начал складываться дискурс тела,
отвечающего на внешние раздражители. Двумя поколениями ранее люди
сплошь и рядом считали, например, что «человек видит благо-
ГЛАВА ПЕРВАЯ. НАГОТА
45
даря свету, исходящему из его глаз»27, а современники Перикла
уже были убеждены, что, напротив, глаз улавливает
согревающие лучи, исходящие от предметов. Позднее в трактате «О
чувственном восприятии» Аристотель высказал мысль, что даже
ощущения прозрачности и пустоты имеют ту же
физиологическую природу: поскольку свет, будучи веществом, оставляет
отпечаток в глазу, зрительные образы порождают жар в
наблюдателе28. Тем не менее эти согревающие лучи воспринимаются
разными человеческими существами не одинаково: чем теплее
тело, тем сильнее оно реагирует на стимулы, подобно сильному
пожару, который пожирает бревно быстрее, чем едва тлеющий
костер. Холодное тело отзывается более вяло, поскольку
медленнее нагревается.
Слова, похоже, оказывали на органы чувств то же
физическое воздействие, что и зрительные образы, так что способность
реагировать на вербальные стимулы также зависела от
количества жара в воспринимающем их человеке. Платон считал
выражения вроде «пламенная речь» или «в пылу спора» не
метафорами, а буквальными описаниями. Диалектика и дискуссии
разогревали тела собеседников, в то время как размышления
в одиночестве охлаждали их29. Разумеется, ко времени Перикла
греки уже освоили искусство чтения про себя, ставшее одним из
сюжетных механизмов в трагедии Еврипида «Ипполит». Чтение
требовало иных мыслительных навыков, чем разговор30, тем не
менее современного, абстрактного представления о тексте как
таковом тогда еще не сложилось: читая, древний грек был
уверен, что слышит голоса реальных людей, беседующих на
странице, а исправляя написанное, он как будто перебивал собеседника.
Только когда тело находилось в одиночестве, не говоря и не
читая, оно остывало, слабело и впадало в вялость.
Эта концепция телесного жара определяла и древние
воззрения на позор и почет в человеческом обществе. Медицинский
спектр от женского, холодного, пассивного и слабого к
мужскому, жаркому, активному и сильному находил отражение в
оценке человеческих качеств: мужчина ставился выше женщины,
46
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
хотя состоял из той же материи. Современный историк Джулия
Сисса замечает: «Когда женщины оказывались в одном контексте
с мужчинами... результатом становилось не признание их
равенства, но выражение пренебрежения к женскому полу как к
„очевидно" низшему по отношению к мужскому»31. Тот же
медицинский спектр позволял противопоставить свободного гражданина
и раба: на одном его конце было тело невольника, вялое и
остывшее из-за невозможности высказаться, а на другом—тело
гражданина, разгоряченного дебатами в народном собрании. Полнота
существования, безмятежность и достоинство обнаженных
людей, изображенных на парфенонских фризах, были неотделимы
от презрения к менее совершенным телам. Позор и почет в
городе основывались на греческом понимании физиологии человека.
Чтобы мобилизовать способности, заложенные в обнаженном
теле мальчика, старшие посылали его в гимнасии. Современное
слово «гимназия» происходит от греческого gumnoi, что означает
«совершенно нагой»32. Прекрасное обнаженное тело кажется нам
даром природы, но мы помним, что Фукидид писал о наготе как
о достижении цивилизации. В гимнасии юные афиняне учились
быть обнаженными. Всего в городе было три гимнасия,
важнейшим из которых была Академия—через несколько поколений
после Перикла ей было суждено стать школой Платона. Чтобы
посетить ее в ходе нашей воображаемой прогулки, нам пришлось
бы снова выйти из города через Триасские ворота и пройти около
полутора километров на северо-запад по широкой пешеходной
тропе, обсаженной деревьями.
Ученики не жили в Академии, а приходили туда каждый
день из города. Прежде тут располагались святилища, но в эпоху
расцвета демократии эта территория превратилась в «некое
подобие пригородного парка»33. В центре ее стояла палестра,
прямоугольное сооружение с колоннадами, где были выделены
пространства для занятия борьбой и прочих физических
упражнений, а также помещения для возлияний и бесед. В некоторых
других гимнасиях борьбой занимались в отдельном здании. В ко-
ГЛАВА ПЕРВАЯ. НАГОТА
47
медии «Облака» Аристофан рисует будни гимнасия в
идиллическом свете, противопоставляя здоровые юношеские забавы
утонченной болтовне бледных завсегдатаев агоры:
Цветущим, блистающим
жизнь проводить ты в гимнасии будешь.
Ты не станешь на рынке, как нынче народ,
кувыркаться в словах, и кривляться34.
Задачей гимнасия было формирование юношеского тела в тот
период среднего и позднего отрочества, когда мышцы уже
просматриваются под кожей, но вторичные половые признаки,
в особенности усы и борода, еще не появились. Эти годы
считались ключевыми для насыщения мужской мускулатуры
телесным жаром, чтобы он остался там на всю жизнь. Поднимая
товарищей во время борьбы, юноша наращивал мышцы спины
и плеч, а сгибая и поворачивая корпус, приобретал узкую талию.
Метание копья и диска разрабатывало руки, бег тренировал ноги
и укреплял ягодицы. Поскольку перед борьбой мальчики
смазывали тело оливковым маслом, оно становилось скользким и
неуловимым: попытки ухватить друг друга тренировали кисти рук
и пальцы. Борьба сулила общую физиологическую пользу еще
и потому, что взаимное трение тел повышало их температуру.
Гимнасии формировал не только мужскую мускулатуру, но
и мужской голос: юноши состязались во владении словом,
приобретая навык, необходимый для участия в органах городской
демократии. Во времена Перикла учебные дебаты помогали
проводить обычные граждане, которые специально
отправлялись для этого в гимнасии. Для начала мальчику показывали, как
направлять голос и внятно произносить слова. Затем его учили
даже в пылу спора использовать слова с той же сдержанностью
и осмотрительностью, которые он усвоил во время занятий
борьбой. Школы времен Перикла отказались от зубрежки более
ранней эпохи: дух соперничества пришел на смену механическому
заучиванию. Тем не менее мальчиков заставляли запоминать
48
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
..... /' "PtRIPATOÎX •oy"e**T «
! ACADEMY
%Jy «Су * ο·ογ«.
4'
°т О
V vT
K.OUONOS 'Ί2\ϊ
А.ЗОЧАЮ5 ■- ·'
Северо-западные предместья Афин: дорога к Академии, IV век до н.э.
пространные отрывки из «Илиады» и «Одиссеи», которые
следовало цитировать в этих дебатах.
В Спарте гимнасии тренировали только тело, поскольку
умение говорить и спорить не считалось там важным навыком
гражданина. Мало того, их единственной задачей было развить
в юноше способность наносить телесные повреждения.
Гимнасии в Спарте, к примеру, были окружены рвами: «Юные
спартанцы яростно боролись между собой и сбрасывали друг друга
в воду»35. Кроме того, Спарта была одним из немногих городов,
ГЛАВА ПЕРВАЯ. НАГОТА
49
где поощрялась борьба между девочками, хотя и с сугубо
утилитарной целью: физическая нагрузка готовила их тела к
деторождению. Занятия же в афинских гимнасиях были призваны
наделить тело юноши отнюдь не только грубой силой.
Именно в гимнасии мальчик усваивал, что его тело является
частью коллективного целого под названием полис, что тело
принадлежит городу36. Сильное тело, разумеется, делало его
хорошим воином; тренированный голос позволял позднее этому телу
принять участие в управлении городом. Афинские гимнасии
преподносили и еще один урок: мальчики там осваивали
сексуальные аспекты обнаженности. В отличие от современных
моралистов, афиняне воспринимали сексуальность как важный элемент
гражданского опыта. Дело было не только в соблюдении
сексуальных запретов вроде отношения к мастурбации как к уделу рабов,
с которыми никто не захочет заниматься любовью, и не только
в установлении особых законов, среди которых был запрет рабам
посещать гимнасии, «любить или преследовать свободных
мальчиков»37. В гимнасии юноша учился владеть своим телом так,
чтобы с честью желать и быть желанным.
На протяжении жизни каждому греку предстояло побывать
возлюбленным старшего мужчины, с возрастом испытать любовь
к мальчикам, и при этом чувственно любить женщин. Греческая
культура выделяла «женоподобных» мужчин, а не, как мы
сказали бы сегодня, «гомосексуальных», это различение было основано
на физиологии тела. Мужчины с «мягкими» телами, так
называемые малъфакои, вели себя как женщины: «Они деятельно
стремятся к тому, чтобы другие мужчины использовали их в сексуальном
акте в „женской" (то есть в пассивной) роли»38. По своему
телесному жару мальфакои находились где-то посередине между
мужским и женским. В гимнасии мальчик должен был научиться
заниматься любовью активно, а не пассивно, как мальфакои.
Его наставником в любви мог оказаться юноша постарше или
взрослый мужчина, зашедший в гимнасии посмотреть на борьбу
и прочие состязания. Старший партнер, эраст, добивался любви
младшего, эромена; возрастная граница между этими двумя роля-
50
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
ми определялась формированием вторичных половых
признаков, прежде всего растительности на теле и лице, хотя для того,
чтобы считаться достаточно взрослым для роли эромена, юноша
должен был достичь нормального мужского роста. Сократ еще
и на седьмом десятке заводил юных любовников, и все же, как
правило, эрастом был молодой мужчина, холостой или
женившийся недавно. Эраст делал эромену комплименты, дарил ему
подарки и искал случая его приласкать. Общие помещения гим-
насия не предназначались для секса. Там налаживались
отношения, а когда оба партнера убеждались во взаимной симпатии,
они уединялись в окружавших гимнасий садах или назначали
вечернее свидание где-нибудь в городе.
На этом этапе, согласно сексуальным нормам, не
допускалась пенетрация ни в какие отверстия, то есть ни оральное, ни
анальное соитие. Вместо этого юноша и мужчина зажимали
половые члены друг друга между бедрами и начинали совершать
ритмичные движения. Считалось, что такое трение
повышает температуру их тел, и именно этот жар, порождаемый
фрикциями, а не семяизвержение, был кульминацией полового акта
между мужчинами. Фрикции, являющиеся частью
гетеросексуального полового сношения, также воспринимались как способ
повысить температуру женского тела, в результате чего оно было
способно произвести соки, из которых возникала новая жизнь.
Во время совокупления мужчины и женщины партнерша
часто наклонялась вперед, подставляя ягодицы стоящему за ней
(на ногах или на коленях) партнеру. Проанализировав
изображения на античных вазах, филолог-классик Кеннет Довер
сделал вывод, что в этой позиции «вне всякого сомнения, пенетра-
ции [часто] подвергался анус женщины, а не ее вагина»39. Греки,
как и представители многих других культур, считали анальный
секс не только особым удовольствием, но и простым, надежным
методом контрацепции. Тем не менее в этой позиции было
заложено и выражение общественной иерархии: ложась на живот
или наклоняясь вперед, женщина признавала свое подчиненное
положение. То же самое относилось и к женоподобному мужчи-
ГЛАВА ПЕРВАЯ. НАГОТА
51
Мужнины занимаются любовью, начало V века до н.э.
не, стремившемуся к такой форме соития. Оратор Эсхин,
выступая на процессе заподозренного в проституции Тимарха и требуя
лишить того гражданства, в своей речи очертил разницу
между предосудительным сексом и сексом, достойным афинского
гражданина, которую Довер формулирует так:
Принятие склоненного или униженного положения,
допущение пениса другого мужчины в рот или в анус [в
отличие от] отвержения платы, упорного сопротивления
телесному соитию до тех пор, пока потенциальный партнер не
покажет себя достойным, воздержания от любого
чувственного наслаждения при таком соитии, совершения
полового акта стоя и отказа смотреть партнеру в глаза во время
совокупления40.
Во время секса двое мужчин часто стояли лицом друг к другу.
В такой позе, воздерживаясь от пенетрации и совершая сход-
52 ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
Анальный секс мужнины и женщины, начало V века до н.э.
ные движения, любовники оказываются равными, несмотря
на разницу в возрасте. Они занимаются любовью, как
подобает гражданам. Акт любви протекает на поверхности тела, по
своей ценности подобной поверхностям, образующим городское
пространство.
В греческой культуре походка и манера держаться
считались отражением моральных качеств. Мужчинам подобало
ходить широким шагом; Гомер с восхищением описывал Гектора
так: «Предводил, широко выступая, Гектор герой»41. В то же
время, «Когда богини Гера и Афина являются перед Троей, чтобы по-
ГЛАВА ПЕРВАЯ. НАГОТА 53
мочь грекам, они [согласно Гомеру] „спешат, голубицам
подобные робким, поступью легкой" — прямая противоположность
широко шагающим героям»42. Многие из этих архаических
характеристик сохраняли актуальность и в Афинах эпохи Перикла.
Уверенная, пусть и небыстрая походка служила отличительным
признаком мужественного, хорошо воспитанного мужчины.
Древнегреческий поэт Алексид писал: «Я полагаю, не пристало
ни одному достойному человеку ходить по улицам небрежной
походкой, вместо того чтобы ступать размеренно»43. Женщинам
по-прежнему предписывались короткие, неуверенные шажки,
а идущий так мужчина смотрелся «по-бабски». Несгибаемый,
сдержанный, целеустремленный — вот мужские
характеристики. Слово ортос («прямой») имело в греческом языке
коннотации честной мужской прямоты. Противоположностью ей была
пассивность постыдного свойства, которую, как считалось,
проявляют мужчины, доступные для анального проникновения.
Вся эта хореография влюбленных тел определяла, как
должно себя вести афинскому гражданину. Недаром Перикл в
Надгробной речи требует от афинян «стать восторженными
почитателями» родного города, используя при этом слово «эраст»,
относившееся к эротическим отношениям44. При этом Фукидид
вкладывает здесь в уста Перикла вполне обыденную
формулировку — судя по пьесам Аристофана, другие афиняне тоже
использовали этот эротический термин для обозначения любви
к городу45. Чувственная, эротическая связь не только между
двумя гражданами, но и между городом и гражданином—вот чему
учился в гимнасии мальчик, осваивая активную, прямую и
правильную любовь.
Афиняне напрямую уподобляли тело зданию — хотя они и не
строили домов в форме головы или пальцев, но использовали
свое физиологическое понимание тела для создания городских
пространств. Во время нашей воображаемой прогулки по агоре
мы миновали строение, называемое стоя, которое является
отражением этого понимания. Говоря попросту, стоя — это длин-
54
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
ный навес, она соединяла в себе тепло и холод, зоны открытости
и защищенности. Сзади стоя была обнесена стеной, а спереди
открывалась в пространство агоры колоннадой. Хотя стой и были
отдельно стоящими зданиями, во времена Перикла они
воспринимались не как самостоятельные сооружения, а как
обрамление этого открытого пространства. Вдоль задней стены
мужчины собирались небольшими группами для бесед, деловых
переговоров и дружеских пирушек. Обеденные залы в
общественных зданиях походили по своему устройству на столовые
в частных домах. Мужчинам нравилось есть и пить под защитой
стен, и потому они «предпочитали не возлежать за столом
спиной к колоннаде»46. В любом случае, прохожие никогда не
тревожили обедающих, хотя прекрасно их видели. Только когда
мужчина выходил вперед, к колоннам, его было вежливо заметить
и вовлечь в разговор—теперь он находился на «мужской
стороне, стороне открытости»47.
Архитектура также усвоила открытие, сделанное в гимна-
сии: над телом мальчика, оказывается, можно работать как над
произведением искусства, относясь к его физиологии просто как
к исходному сырью. Пока фризы Парфенона оставались на
своем месте, изображенные на них композиции эффектно
сработанных тел привлекали внимание к мастерству скульптора и, по
выражению современного критика, «позволяли ваятелю бросить
вызов [драматическому] поэту»48. Но сами размеры и форма
Парфенона были даже более наглядным и общественно значимым
примером того влияния, которое концепция человеческого тела
как произведения искусства оказывала на архитектуру.
Парфенон, построенный в эпоху Перикла, отличался от
других греческих храмов. Длина его сторон равнялась примерно
70 и зо метрам, таким образом, их соотношение было
приблизительно 9 к 4· Эта пропорция, которая определила и
планировку многих внутренних пространств, была новой для греческой
храмовой архитектуры. Непривычным было и число колонн по
периметру. Чаще всего встречались храмы с шестью
колоннами поперек и тринадцатью вдоль, у Парфенона их было восемь
ГЛАВА ПЕРВАЯ. НАГОТА
55
и семнадцать. Эта странная планировка была связана с
необходимостью разместить внутри храма гигантскую женскую
фигуру—статую богини Афины. Скульптор Фидий изваял ее в образе
богини войны, Афины Парфенос, которая и дала имя всему
зданию, а не древней Афины Полиас, покровительницы
материнского чрева и родной почвы, чье священное изваяние, стоявшее
в другой части Акрополя, было деревянным и совсем
небольшим. Теперь, когда Афины были морской империей, а не
городком, пытающимся прокормиться со скудных окрестных земель,
они чествовали свою богиню-покровительницу под стать своему
возросшему могуществу, возводя Парфенон, чьи пропорции
нарушали все прежние нормы.
Внутри храм был разделен на два помещения: в задней его
части находилась сокровищница, а в передней —зал со статуей
Афины. Голова Афины Парфенос находилась примерно в 13
метрах от пола, и впечатление от высоты статуи еще усиливалось
отражением в бассейне, устроенном у ее основания. Даже
постамент, на котором стояла богиня, был выше человеческого роста.
Ее тело было из бронзы, но украшено в хрисоэлефантинной
технике: десятиметровая туника была золотой, а бронзовую плоть
лица и рук покрывал, как кожа, слой слоновой кости. Бассейн не
только служил Афине зеркалом, уводящим ее отражение далеко
под землю, но и поддерживал в храме влажность, необходимую
для сохранности слоновой кости. Затраты на эту исполинскую
новую статую Перикл оправдывал тем, что в случае
необходимости золотое платье Афины можно снять и переплавить, чтобы
оплатить военные расходы Афин,—это была святыня, готовая
к поруганию ради сведения городского бюджета. Так тело
божественной покровительницы города определяло размеры его
самого заметного сооружения.
Хотя и гимнасий, и стоя, и Парфенон были примерами того,
как образы тела влияли на городские пространства, они не
вполне показывали, что имел в виду Перикл, когда призывал афинян
стать эрастами своего города. Гражданам Афин нужны были
планировочные решения, способные удовлетворить эту любовь. Бо-
56
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
лее того, в своей Надгробной речи Перикл воспел афинскую
демократию, основанную на силе человеческого голоса. Афиняне
стремились создать для речи такие пространства, которые
усиливали бы ее физическое воздействие, наделяя одинокий,
несмолкающий, нетаящийся голос благородными свойствами телесной
наготы. Однако эти городские пространства часто не
оправдывали возлагаемых на них надежд: обнаженный голос оказывался
орудием анархии и раздора.
2. ГОЛОС ГРАЖДАНИНА
В Афинах было два типа пространств, где тела сгущались в
толпу, чтобы пережить особый опыт говорения. На агоре
одновременно происходило множество событий, люди перемещались от
одной группы собеседников к другой, причем в каждой
обсуждалось что-то свое. Ни один голос чаще всего не перекрывал там
все остальные. В театрах древнего города, напротив, люди
сидели на своих местах и слушали один несмолкающий голос. Оба
эти пространства, однако, представляли опасность для
человеческой речи. В многообразной, переменчивой деятельности агоры
разноголосица часто заглушала слова, так что в массе
движущихся тел можно было расслышать только обрывки связных
высказываний. В театре солирующий голос с помощью отработанных
ораторских навыков превращался в произведение искусства,
а пространство было организовано так, что слушатели часто
становились жертвами риторики, парализовавшей и унижавшей их
своим потоком.
Пространства речи
Хотя агора была одинаково открыта для богатых и бедных
граждан, но на происходившие там церемонии и политические
мероприятия чаще всего не допускались рабы и иностранцы—ме-
тэкиу которые составляли огромную долю населения города
и основу его экономики. По одной из оценок, в IV веке до н.э.
гражданами полиса были только от 2θ до 30 тысяч из 150-250
ГЛАВА ПЕРВАЯ. НАГОТА
57
тысяч афинских жителей; на протяжении всей классической
эпохи доля граждан определенно никогда не превышала 15-20%
населения, или половины всех взрослых мужчин. При этом
только немногие из граждан — примерно 5~ю% — могли позволить
себе жить в праздности, проводя часы и дни в беседах и дебатах
с согражданами. Чтобы стать членом этого
привилегированного класса, гражданину нужно было иметь состояние по меньшей
мере в один талант, то есть бооо драхм, в то время как
квалифицированный работник зарабатывал драхму в день.
Мало того, для постоянного участия в разнообразной и
напряженной жизни агоры гражданин должен был иметь дом где-
то неподалеку. Но обширная прослойка граждан этого города-
государства обитала за городскими стенами, в хоре: к концу
V века около 40% граждан жили более чем в 25 километрах от
центра. Это означало, что от агоры их отделяло по меньшей мере
четырехчасовое пешее путешествие по крутым и неровным
тропам нелюбимой афинянами сельской местности.
Тех, кто все-таки мог себе позволить проводить время на
агоре, ждал там не полный хаос, а множество отдельных и
различных событий, происходивших в одно и то же время. Под
ритуальные пляски был отведен особый участок разровненной земли,
называемый орхестра; менялы и ростовщики ждали клиентов
за столами, расставленными в солнечном углу площади.
Религиозные торжества афиняне справляли в особых святилищах
под открытым небом вроде алтаря Двенадцати богов, который
стоял к северу от орхестры. Местом для торговли, пиров,
сплетен и частных религиозных обрядов были стой, которые в эпоху
Перикла ограничивали агору с севера и запада. Стой на северной
стороне площади были особенно удобны зимой, когда их задняя
стена защищала находящихся внутри от холодных ветров, а
через открытую к югу колоннаду пригревало солнце.
Самая знаменитая стоя — Пойкиле, или Расписной
портик,—построенная около 460 года до н.э. на северной стороне
агоры, была обращена к Панафинейскому пути и
возвышающемуся за ним Акрополю. Археолог Джон Кэмп отмечает: «В от-
58
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
Афинская агора, ок. 400 года до н.э.
личие от большинства других стой на агоре, Расписная стоя не
имела никакого определенного предназначения, не служила
никакой определенной деятельности или группе должностных
лиц. По всей видимости, она использовалась всем населением
как укрытие и место встреч рядом с агорой». Здесь можно было
поглазеть на «шпагоглотателей, жонглеров, нищих, приживалов,
торговцев... философов»49. Здесь же позднее Зенон Китайский
ГЛАВА ПЕРВАЯ. НАГОТА
59
Стоя на афинской агоре, IV век до н.э.
основал философскую школу стоицизма: учение, настаивавшее
на отречении от мирской суеты, парадоксальным образом
зародилось среди пестрого площадного веселья.
Поверхности и объемы агоры складывались под влиянием
формирующегося в Афинах государственного строя, поскольку
общественное пространство, которое обеспечивало свободное
перемещение людей и одновременность различных событий,
прекрасно отвечало нуждам прямой демократии. Переходя от
группы к группе, гражданин мог разузнать и обсудить все
городские новости. Кроме того, открытое пространство агоры
поощряло любого прохожего к участию в судебных разбирательствах.
Афиняне периода демократии славились своей любовью к
сутяжничеству. В «Облаках» Аристофана персонаж указывает на
карту мира со словами: «Вот Афины. Видишь?» И слышит ответ:
«Пустяки, не верю я: / Судейских здесь не видно заседателей»50.
Хотя археологические свидетельства неоднозначны, похоже, что
верховный народный суд—гелиэя—находился в юго-западном
60
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
углу агоры: здание было построено в более ранний период
тирании, но как нельзя лучше подошло для организации телесных
потоков демократической агоры. Помещение суда представляло
собой огромный открытый двор, вмещавший до полутора тысяч
человек («коллегия присяжных» состояла в Афинах как
минимум из 201 человека, чаще насчитывала soi, а иногда доходила
и до 1500). Огораживающие его стены были невысоки, вероятно
чуть менее метра. Таким образом, снаружи было отлично видно,
что происходит внутри, и проходившие мимо граждане могли
обсудить с заседателями аргументы сторон.
Тут же, на открытом пространстве агоры, афиняне
принимали и самое важное политическое решение: предавали сограждан
остракизму, то есть изгоняли их из города. Раз в год народное
собрание обсуждало, не стал ли кто-нибудь из граждан так
влиятелен, что может попытаться восстановить тиранию.
Произносились речи, по итогам которых составлялся список кандидатов
на высылку. Следующие два месяца отводились на
размышления. Перспектива остракизма в это время создавала практически
безграничные возможности для подкупа, сплетен, клеветы,
переговоров за накрытым столом — грязной пены политических
приливов, снова и снова омывавших агору. Затем горожане
собирались снова: любой человек, получивший более бооо
голосов, отправлялся в изгнание на десять лет.
Ортос определял телесное поведение на агоре. Гражданин
стремился двигаться сквозь водоворот других тел так быстро
и целеустремленно, как только мог, а остановившись, смотрел
незнакомцам прямо в глаза. Его походка, позы и язык тела
призваны были выразить собранность и уверенность в себе.
Историк искусства Иоганн Винкельман сказал, что группа таких тел
на агоре представляла собой живой образ физического порядка
посреди многообразия51.
Как выглядела толпа в шесть тысяч человек на афинской
агоре? По современным меркам такое скопление людей на
площади в четыре гектара оценивается как толпа средней или
высокой плотности—посвободнее, чем на стадионе, поплотнее, чем
ГЛАВА ПЕРВАЯ. НАГОТА
61
в среднем торговом центре, примерно как на главной площади
сегодняшней Сиены в полдень. Современная толпа такого
размера обычно начинает разбиваться на группы по 30-50 человек,
причем каждая группа поворачивается спинами наружу и
пытается отстраниться от соседних. Таким образом, толпа становится
множеством толп, которые как будто прячут внутри себя
отдельные тела. Как мы знаем, афиняне обнаружили, что
собравшаяся на агоре толпа в шесть тысяч человек не может действовать
оперативно, и постарались преодолеть это затруднение с
помощью особых зданий. Примером такого здания был фолос, в
котором заседал исполнительный орган города—пятьдесят
периодически сменявшихся советников. Этот орган заседал день и ночь
круглый год: в любой момент в фолосе присутствовали
семнадцать из пятидесяти его членов, с тем чтобы Афины никогда не
оставались без руководства, готового отреагировать на
чрезвычайную ситуацию.
Нам также известно, что многообразие агоры не
соответствовало представлениям более поздних античных наблюдателей
о благопристойности и степенности, которая пристала
политическому процессу. Аристотель, к примеру, настаивал в «Политике»:
«Торговая площадь должна быть отделена от [агоры] и
расположена отдельно»52. При этом Аристотель не был врагом
разнообразия, в том же трактате он писал: «Город состоит из самых разных
людей; одинаковым людям не создать города»53. Не походил он
и на современного консерватора, утверждающего, что
государство не должно вмешиваться в рыночные механизмы. Наоборот,
ему казалось, что соседство политики и экономики унижает
политику, особенно ту ее область, что связана с отправлением
правосудия. Другие поздние комментаторы тоже настаивали, что
«величие закона» должно утверждаться в особых пространствах,
но прибегали для этого к лексике ортоса: судьи должны
представать перед народом во всем своем благородном достоинстве, а не
теряться в давке54.
Но особенно хорошо нам известно, что даже если манера
держаться и привносила на агору порядок, сама по себе она не
62
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
могла противостоять влиянию, которое оказывали на
человеческий голос одновременность и множественность происходящих
там событий. В круговороте толпы беседы дробились, а
внимание людей распылялось и переключалось по мере того, как они
двигались от одной группы к другой. Для более
последовательного речевого опыта афиняне построили на западной стороне
площади здание Совета пятисот—булевтерия, планировка которого
опиралась на принципы, прямо противоположные
многообразию агоры.
В здании Совета собирался выборный орган из пяти сотен
мужчин, которые определяли, какие вопросы выносить на
заседания народного собрания. Сессии Совета пятисот проводились
ежедневно, кроме 6о праздников, установленных в афинском
календаре, и нескольких «проклятых» дней, когда, как считалось,
любая попытка решать собственную судьбу могла вызвать гнев
богов. Хотя булевтерий тоже был построен еще при тирании, его
внутреннее устройство было приспособлено для нужд
демократии. Судя по сохранившимся фрагментам здания, в нем были
скамьи, поднимавшиеся ярусами, как в театре. Члены совета
сидели рядами, слушая стоящего внизу оратора: таким образом, все
присутствующие могли одновременно видеть и оратора, и друг
друга. Этот непосредственный контакт не могли нарушить
случайные прохожие. Булевтерий был несколько изолирован от
суеты агоры. Как заметил археолог Ричард Уичерли: «[Это скромное
здание] не занимало в ансамбле агоры такого заметного места,
как можно было бы ожидать... и доступ в него был несколько
затруднен»55. Поскольку у булевтерия была крыша и высокие
стены, никто не мог заглянуть туда снаружи или случайно забрести.
Таким образом, это пространство вмещало только один голос,
позволяя ему литься беспрепятственно, а устройство сидений
фокусировало внимание членов совета на его звучании. К тому же
эти сосредоточенные слушатели оказывались тут и под
постоянным взаимным надзором: из-за ярусной рассадки ни один член
совета не мог скрыть, как он голосовал. Такого эффекта
невозможно было бы добиться в толпе на агоре, где все находились на
ГЛАВА ПЕРВАЯ. НАГОТА
63
одном уровне земли и любой был способен разглядеть разве что
реакцию ближайших соседей.
В 510 году до н.э., на исходе эпохи тирании, почти все слова,
адресованные одним афинянином другому, могли быть
сказаны на агоре. К 400 году, когда демократия окрепла, а все
соблазны тирании были преодолены, пространства речи оказались
разбросаны по разным концам города. В середине V века до н.э. агора
утратила монополию на театральность. Прежде город возводил
на орхестре посреди агоры деревянные трибуны, где
представлялись новые драматические произведения. Около 45° г°Да эти
трибуны обрушились во время одного из праздников, и в южном
склоне Акрополя был вырублен новый постоянный театр —
каменная получаша с поднимающимися рядами сидений, у
подножия которых выступали танцоры и актеры. Примерно тогда
же большая часть музыкальных представлений была
перенесена с агоры в одейощ особый крытый зал для состязаний в
исполнительском мастерстве. Нельзя сказать, что агора пришла
в упадок—там по-прежнему возводились все новые стой и
храмы. Народное собрание продолжало собираться там, чтобы
придать кого-либо из граждан остракизму; в судах было не
протолкнуться; рынок выплескивался с агоры все дальше на окрестные
улицы. Однако теперь агора уже не была главным в городе
пространством голоса, в частности, при всем своем многообразии,
она теперь не полностью вмещала в себя голос власти.
Ранние греческие театры были просто холмами, на которых
достаточно было соорудить несколько уступов, чтобы
получились места, откуда люди могли наблюдать за танцорами,
поэтами или атлетами. При таком устройстве то, что происходит перед
зрителем, гораздо важнее для него, чем происходящее по
сторонам или сзади. Изначально на уступах ставили деревянные
скамьи; со временем театры превратились в системы узких лент
каменных сидений, разделенных широкими проходами. Это
давало человеку возможность не тревожить окружающих своим
приходом и уходом, отвлекая их внимание от происходящего
перед ними. Само слово «театр» происходит от греческого theatron,
64
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
буквально означающего «место для смотрения». Родственное
существительное theoros переводится не только как «зритель», но
и как «посол»—театр действительно в некоторой степени
представляет собой посольство, доносящее историю из иных времен
или стран до ушей и глаз зрителей.
В новом театре орхестрой, то есть местом для танцев,
назывался круг утоптанной земли у подножия склона с сиденьями.
За орхестрой театральные архитекторы со временем установили
скену—перегородку, которая поначалу делалась из холстины,
потом из дерева, а еще позже из камня. В эпоху Перикла действие
пьесы разворачивалось перед деревянной или холщовой ске-
ной, а актеры готовились к выходу позади нее. Скена помогала
направлять голос актера в сторону зрителей, но еще большую
физическую мощь он приобретал благодаря раструбу
расположенных ярусами сидений. Из-за акустических свойств такого
пространства голос актера звучал в нем в два или три раза громче,
чем на ровной местности, поскольку склон не давал звуку
рассеиваться. Разумеется, ярусная структура к тому же позволяла
зрителям в толпе лучше видеть актеров через головы соседей, но тут
важно отметить, что ярусы, в отличие от кинокамеры, не
приближают изображение. В древнем театре ясная видимость
далекой фигуры накладывалась на слышимость голоса, звучавшего
гораздо ближе, чем можно было ожидать, исходя из расстояния
до его источника.
Увеличенная мощность актерского голоса, как и ракурс, в
котором видела актера публика, создавали разрыв между зрителем
и актером античного театра. Причиной этого разрыва была
акустика: голос, звучащий где-нибудь на верхних ярусах такого
театра, рассеивается по мере спуска к сцене и кажется тише, чем на
ровном месте. Кроме того, ко временам Перикла актерское
мастерство владения голосом достигло впечатляющих высот.
Этот разрыв оказался очень важным в театральных
пространствах, которые использовались для политических нужд.
В Афинах V века до н.э. такое пространство находилось на холме
Пникс в десяти минутах ходьбы к юго-западу от агоры. Вогнутый
ГЛАВА ПЕРВАЯ. НАГОТА
65
Театр в Эпидавре, IV век до н.э.
склон, от природы напоминающий театр, впервые стал местом
крупных политических собраний около 500 года, вскоре после
свержения последнего тирана Гиппия. Из-за географического
положения холма слушатели были обращены лицом к северу с его
ветрами, а оратор — к южному солнцу, так что его лицо было
всегда ярко освещено. При Перикле, насколько мы знаем, за
спиной у выступающего на Пниксе оратора не было перегородки: его
голос доносился до слушателей прямо из просторов,
раскинувшихся за его спиной, как единственный посредник между
массой граждан и панорамой холмов и небес.
Территория вокруг агоры застраивалась без какого-либо
общего плана: «помимо желания сохранить в центре открытое
пространство площадью в четыре гектара, в ее архитектуре не
просматривается никакой объединяющей мысли»56. Зато чаша
театра—это целостный архитектурный проект, который
распределяет толпу по ярусам, усиливает одинокий голос снизу и
выставляет на обозрение публики каждый жест оратора. Это ар-
66
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
Театр в Дельфах, IV век до н.э.
хитектура, выставляющая напоказ личность. Более того, такое
устройство меняло и самовосприятие сидящих зрителей. Как
отмечает историк Ян Бреммер, поза сидящего человека имела
в греческой культуре не меньшее значение, чем вертикальное
положение тела или ходьба, но воспринималось куда более
неоднозначно. К эпохе Перикла боги часто изображались
сидящими — например, во время пира на Олимпе. Но в то же время
сидящий человек находился в позе подчинения: например, когда
мужчина впервые приводил в дом молодую жену, новобрачная
в знак подчинения его власти в первый раз ритуально
присаживалась у его очага. Вазовые росписи изображают городских
рабов, выполняющих свои обязанности, либо согбенными, либо
сидящими57. Эти коннотации процесса сидения использовались
и в театре, особенно трагическом: сидящим зрителям было
проще в буквальном смысле слова войти в положение страдающих
персонажей, поскольку их тела, как и тела актеров, находились
в «положении смиренного подчинения высшим силам». Фило-
ГЛАВА ПЕРВАЯ. НАГОТА
67
лог-классик Фрома Цейтлин писала: «[Античный театр]
показывал человеческое тело в противоестественном состоянии
пафоса (страдания), максимально удаленном от идеала целостности
и силы. <...> Трагедия настойчиво выставляла это тело напоказ»58.
В этом смысле пафос был противоположен ортосу.
В то время как агора была в основном заполнена стоящими
и идущими телами, взаимодействующими между собой, Пникс
внедрял в политический процесс тела сидящие и наблюдающие.
Этим телам приходилось заниматься самоуправлением из
пассивного, уязвимого положения. В такой позе они внимали
обнаженному голосу, раздававшемуся внизу.
Жар слов
Наглядным проявлением всего этого стали заседания экклесии,
афинского народного собрания, которое проводили на Пниксе
сорок раз в год. Попасть в театр можно было только через
особые ворота, около которых каждый пришедший получал
вознаграждение за гражданскую активность—таким образом в
Афинах пытались бороться с засильем во власти зажиточных слоев
населения. Заседания открывались рано утром и продолжались
до середины светового дня: это тоже делалось для бедняков,
которые могли посвятить остаток дня работе. Собрания на Пниксе
начинали с молитвы, а потом рассматривали повестку,
определенную Советом пятисот. Выслушав заранее подготовленные речи,
собравшиеся голосовали поднятием рук или с помощью урн.
Представим себя участниками народного собрания на
Пниксе в один из дней 406 года до н.э.: Пелопоннесская война
близится к развязке и в Афинах кипят политические страсти59. Во время
морской битвы при Аргинусских островах афинские стратеги не
смогли спасти моряков с тонущих кораблей. Заседание на
Пниксе начинается традиционным кличем глашатая: «Кто желает
говорить?» На предыдущем собрании афинский гражданин Фера-
мен настаивал, что город должен осудить командующих флотом.
Ксенофонт сообщает, что стратеги умело защищались, ссылаясь
на суровый шторм в день битвы: «Такими словами они склоня-
68
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
ли народное собрание к снисхождению; кроме того, многие
частные лица поднялись и заявили, что готовы взять их на поруки».
Однако решение отложили из-за нехватки времени, и вот теперь
Калликсен, союзник Ферамена, снова ставит вопрос об
осуждении командующих.
Он призывает использовать для этого процедуру учета
голосов, применяемую для решения самых серьезных вопросов:
«Произвести голосование между всеми афинянами по филам;
поставить в присутственном месте каждой филы две урны для
голосования»—в одну из урн должны бросать камешки
граждане, считающие, что командиров следует простить, а в другую—
сторонники осуждения. Таким образом, все филы города
разделят ответственность за это решение, принятое в результате
обсуждения.
Затем защитники стратегов пытаются прибегнуть к
уловке, объявив, что такое голосование незаконно, поскольку оно
нарушает прерогативу суда: «Но их выступление встретило в
народном собрании одобрение лишь немногих; толпа же кричала
и возмущалась тем, что суверенному народу не дают
возможности поступать, как ему угодно». Устрашенные народным
неистовством, недовольные сдаются: «Все, кроме Сократа... который
заявил, что во всем будет поступать только по закону».
Теперь слово переходит к защите. Влиятельный афинянин
Евриптолем снова приводит доводы, которые были хорошо
приняты на прошлом заседании, и предлагает, вопреки решению
Совета пятисот, судить стратегов по отдельности, а не всех разом.
Сперва экклесия поднятием рук голосует за это предложение. Но
потом другой видный гражданин, Менекл, возражает против
результата голосования—ему удается склонить толпу на свою
сторону, и она изменяет решение: стратегов теперь должны судить
скопом. На трибуну поднимаются новые и новые ораторы,
дебаты становятся все ожесточеннее, и в итоге афиняне, еще
недавно пылко заступавшиеся за стратегов, голосуют за их
осуждение. Двух стратегов, которые в этот момент находятся в городе,
казнят. Но и это еще не конец истории. Ксенофонт продолжает:
ГЛАВА ПЕРВАЯ. НАГОТА
69
«Прошло немного времени, и афиняне раскаялись. Было
принято предложение, что те, которые обманули народ, должны быть
привлечены к ответственности и предстать перед народным
собранием».
В чем же была суть этого противоречивого и
переменчивого сюжета, который привел к казни и последовавшим за ней
взаимным обвинениям? Само обсуждаемое событие произошло не
в городе, а далеко за его пределами. Ксенофонт сообщает, что,
хотя стратегам было дано на защиту меньше времени, чем
полагалось по закону, они страстно отстаивали свою правоту.
Поначалу им даже удалось привлечь народ на свою сторону, описав
ярость бури и заставив собравшихся сопереживать бедственному
положению флота. Но на втором заседании экклесии защитники
командующих допустили серьезнейшую ошибку: они поставили
под сомнение полномочия народа. Это рассеяло чары, и люди
начали от них отворачиваться. Затем Менекл и прочие
представили все происшедшее в совершенно ином свете, и воображение
толпы от стихийного бедствия обратилось к человеческой
трусости. Стратеги были казнены. Совершив этот необратимый
поступок, афиняне захотели обратить его вспять и обрушились на
тех, кто убедил их так поступить: это их голоса обманули народ.
С точки зрения Ксенофонта и других античных авторов,
писавших о демократии, именно сила риторики толкала экклесию
из одной крайности в другую. Эта сила описывалась словом пей-
то, означавшим способность убеждать других в своей правоте
посредством слов, а не оружия. Хотя такая способность считалась
весьма ценной, у риторики была и разрушительная сторона,
которую описывает, например, Гесиод, пересказывая миф о богине
Пандоре, чье полное соблазнов пейто включало, по его словам,
«льстивые речи, обманы и лживую, хитрую душу... хлебоядным
мужам на погибель»60.
Слова, по мнению греков, повышали температуру тела:
выражения вроде «жаркие дебаты» или «в пылу страсти» они
понимали буквально. Искусство риторики было совокупностью
технических приемов, с помощью которых порождался речевой
70
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
жар. Страх Гесиода перед «льстивыми речами и обманами»
риторики показывал способность этого искусства влиять на
человеческий организм. Умелый оратор использовал тропы, то есть
фигуры речи, чтобы возбудить людскую массу. Тропы греческой
политической риторики во многом черпались из гомеровской
поэзии, и если оратор надеялся увлечь за собой толпу, ему
надлежало знать «Илиаду» и «Одиссею» назубок. Многие греки (к
примеру, Платон) боялись этих чар и считали их
порочными—прежде всего потому, что оратор часто симулировал пыл страсти,
чтобы стимулировать его в своих слушателях.
Подобно актеру, оратор создает иллюзии, но иллюзия
в политике значит совсем не то же, что в театре. Перед началом
«Царя Эдипа» Софокла один зритель мог сказать другому: «Эдип
ослепит себя, потому что он убил своего отца и женился на
матери»; узнав все это, сосед не подумал бы встать и уйти. Это
краткое изложение сюжета—информация, а не опыт. Во время
театрального представления зритель отдается во власть речевого
переживания, складывающегося из столкновений характеров,
превратностей судьбы и неожиданных поворотов. Смысл
накапливается шаг за шагом: понемногу мы начинаем понимать
(причем наше понимание выходит далеко за пределы сюжетной
канвы), что расплата Эдипа будет ужасна и что никакие уловки
не помогут ему уйти от судьбы.
Во время дебатов об участи афинских стратегов ораторам
неизбежно приходилось создавать в своих речах иллюзии, ведь
обсуждаемые события случились в другом месте и все их
свидетели, кроме самих обвиняемых, были мертвы. Но в движении от
одного риторического высказывания к другому не происходило
никакого накопления смысла. Эта нехватка смысла была видна
в том, как экклесия, судившая командующих, металась из
стороны в сторону: сначала стратегов казнили, а потом народ захотел
обратить вспять необратимое и принялся винить тех, кто на него
повлиял. Во всем этом не было ни развития нарратива, ни
сюжетной логики. Вместо этого каждый новый оратор заставлял
слушателей увидеть тонущих моряков по-новому, рисуя в их вообра-
ГЛАВА ПЕРВАЯ. НАГОТА
71
жении угодную именно ему картину происшедшего. Чем лучше
говорящий владел риторикой, тем менее он был склонен к
обсуждению доводов своих оппонентов—вместо этого он создавал
иллюзию, заставляя собравшихся чувствовать так, как ему
хотелось. В политической риторике одинокий голос захватывал
аудиторию, в то время как в театральном представлении накопление
смысла происходит именно за счет того, что персонажи
попадают во все большую зависимость друг от друга, даже когда
находятся в состоянии конфликта.
Афиняне хорошо знали силу одинокого уверенного голоса,
вооруженного риторическими навыками, и боялись ее: «В судах,
как и в народном собрании, тон задавала утонченная риторика,
которая, как признавали афиняне, могла стать разрушительной
для механизма государственного управления»61. Граждане
понимали, что политик, владеющий риторикой, может ими
манипулировать, и со временем, как указывает Джосайя Обер, умелые
ораторы (обычно — высокообразованные люди, которые
зачитывали речи, сочиненные специально нанятыми
профессионалами) научились усыплять этот страх слушателей, чтобы они не
мешали манипуляциям. Они, к примеру, старались предстать
в образе человека из народа, не привыкшего выступать на
публике: запинались поначалу или теряли нужное место в записях.
Обнаженные воины, высеченные на фризах Парфенона,
оставляли ощущение абсолютной безмятежности. Публичная
речь оказывала совсем иное действие: умелый оратор часто сеял
смятение в умах попавших под его влияние слушателей. Его
слова подогревали неразбериху. Возможно, самой показательной
деталью суда над стратегами был гнев, охвативший граждан
после того, как они сами проголосовали за казнь восьми
командующих. Как это было принято в случае государственных убийств,
стратегов казнили в тайном месте. Эта развязка лишила народ
новых переживаний—две основные вспышки народного
возмущения в этой истории произошли, когда люди почувствовали, что
им пытаются отказать в праве выслушать аргументы сторон, и на
следующий день, когда все дальнейшие аргументы стали уже
72
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
бессмысленными. После этого коренного перелома люди
попытались отменить свое решение, рассуждая о том, кто их обманул,
как будто казнь была каким-то трюком. Для афинской демократии
эта схема была типична: одно голосование отменяло другое, слова
претворялись в действия с нерешительностью и непостоянством,
даже когда действия, как в данном случае, были необратимы.
Таким образом, процесс принятия политических решений на
Пниксе отнюдь не всегда оправдывал веру Перикла в то, что речи
не вредны для дела. Телесный идеал, подразумевающий мощный
внутренний жар, гордость своей наготой и уверенность в себе,
не вел к коллективному самообладанию политического
организма. Афиняне и в самом деле пали жертвами гибриса, то есть
гордыни, когда их телесные притязания вышли за пределы
общественного контроля. Анализируя ситуацию в общем, Фукидид
писал: «Истинным поводом к войне, по моему убеждению, был
страх лакедемонян перед растущим могуществом Афин»,
причем могущество это далеко превысило то влияние, которое
соответствовало бы численности населения, богатству или
формальному статусу города62. Не скрылось от историка и то, что в основе
афинского гибриса лежала, возможно, сила риторики. Крушение
надежд Перикла стало очевидно еще в 427 году, когда весь
античный мир, казалось, сотрясался от громогласных речей. Описывая
ужасы военного времени, Фукидид замечал: «Изменилось даже
привычное значение слов. <...> Благоразумная осмотрительность
[считалась теперь] замаскированной трусостью, умеренность—
личиной малодушия, всестороннее обсуждение — совершенной
бездеятельностью». Накал риторики возрос настолько, что
«человек, поносящий других и вечно всем недовольный,
пользовался доверием, а его противник, напротив, вызывал подозрения»63.
Жар слов лишил воюющие стороны способности действовать
разумно.
Могут ли камни помочь человеку обуздать жар собственной
плоти? Можно ли встроить способность к рассуждению в
планировку города? Афиняне с переменным успехом пытались найти
ГЛАВА ПЕРВАЯ. НАГОТА
73
ответы на эти вопросы, проектируя пространства, в которых
свободно лился поток слов.
Чтобы действовать разумно, человек должен нести
ответственность за свои действия. В маленьком булевтерии
голосующих было легко узнать в лицо, и каждого можно было призвать
к ответу за его решение. Обустраивая Пникс, афиняне
попытались воспроизвести этот эффект в гораздо большем масштабе.
Ясная планировка театра с его расходящимися ярусами сидений,
уступами и проходами, расположенными через равные
промежутки, давала присутствующим возможность видеть, как другие
голосуют или реагируют на речи ораторов. В этом состояло
отличие Пникса от зрительной сумятицы агоры, где человек мог
разглядеть разве что нескольких ближайших соседей.
Более того, в театре на Пниксе граждане рассаживались
более или менее упорядоченно. Подробности этой системы нам не
ясны, но многие историки аргументированно доказывают, что
в основе ее лежало разделение на филы, то есть родовые
общины. Изначально в городе было десять фил, потом двенадцать или
тринадцать, но так или иначе, Пникс всегда разделялся на
сектора, каждый из которых отводился одной филе64. Когда
голосование проводилось посредством баллотировки, каждая фила65 (или
меньшая муниципальная единица, дема) опускала бюллетени,
которыми служили камешки, в свои особые урны—результаты
голосования подсчитывались и объявлялись тоже по филам.
В демократии ответственность и самообладание —
коллективные свойства, проявляемые всенародно. Когда в 508 году
до н.э. Клисфен провел в Афинах демократические реформы,
он провозгласил, что народ обладает правом исегории—это
слово можно перевести как «равенство на агоре»66. Исегория, в свою
очередь, вела к свободе высказывания, которую афиняне
называли парресией. Сама по себе, однако, эта свобода не была залогом
демократии, неся в себе риск риторического переизбытка.
Предотвратить эту опасность должна была другая реформа Клисфе-
на—коллективная ответственность всех групп граждан за
принимаемые ими решения. К какому бы мнению ни склонялись
74
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
разные группы под напором слов, все они вместе несли
ответственность за принятое решение (даже если та или иная фила
была убеждена, что это решение неверно), поскольку
принималось оно в результате процесса, в котором все они участвовали
в равной степени. На практике это означало, что после
голосования общегородское знание о том, как именно голосовала та или
иная фила, могло быть использовано против нее: ей могли
отказать в деньгах, в каких-либо услугах или даже вынести
порицание в суде. Цель реформ Клисфена заключалась в том, чтобы не
только отдельные граждане, но и народ в целом нес
ответственность за работу речевых механизмов демократии.
Тем не менее Пникс с его ясной планировкой,
подчеркивающей, что выслушивание речей—дело серьезное, буквально
помещал людей в уязвимое положение. Для того чтобы нести
ответственность за свои действия, они должны были оставаться
на месте, но эта неподвижность делала их невольниками
единственного голоса, звучавшего снизу. Эталонный образ телесной
мощи не создавал гражданской солидарности: сексуальные
нормы, подразумевавшие равенство, гармонию и взаимную
честность, невозможно было распространить на политику. Вместо
этого тело гражданина в его политической ипостаси оказалось
обнаженным перед силой голоса—в том смысле, в котором мы
иногда воспринимаем голого человека как беззащитного.
Именно из этой политической двойственности возникал «пафос»
сидящего человека, о котором писала Фрома Цейтлин, то есть
страдание пассивного тела, одолеваемого жаром страсти.
Смысл рассказанной мной здесь истории не в том, что
афинская демократия не смогла соответствовать собственному
идеалу. Скорее, меня интересовали противоречия и испытания,
которые переживали люди в условиях демократии, особым образом
превозносившей человеческое тело. Эталон обнаженного тела не
выдержал столкновения с камнем; уверенный голос обернулся
в городском пространстве стимулом к разобщению.
История демократии в Афинах иногда излагается в
терминах разрыва между разумом и телом. В наши дни мы часто вос-
ГЛАВА ПЕРВАЯ. НАГОТА
75
принимаем этот разрыв как сухую ментальную конструкцию,
призванную подавить чувственную телесность. Но на заре
нашей цивилизации ситуация была обратной: тело
доминировало над духом, подавляя в людях способность жить разумно, то
есть в единстве слов и дел, которое воспел Перикл в Надгробной
речи. Жар тела, проявляющийся в демократической риторике,
заставлял спорящих граждан забывать о доводах рассудка; кроме
того, в политике жар слов был лишен нарративной логики,
свойственной ему в театре. Афиняне не сумели исправить
положение с помощью архитектуры: пространство Пникса возлагало на
людей ответственность за их действия, но не могло научить их
владеть собой.
Хотя соотношение между духом и телом поменялось за
прошедшие тысячелетия, однако сам их разрыв, возникший
вместе с человеческим родом, никуда не делся: за словом «человек»
в нашей истории всегда стоят противоречивые и непримиримые
силы. С возникновением христианства этот конфликт станет
казаться необходимым и неизбежным, а человек — существом,
пребывающим в состоянии борьбы с самим собой из-за
грехопадения и изгнания из райского сада. В эпоху Античности
греки пытались осознать эту данность иным путем, через
переживание городских ритуалов.
ГЛАВА ВТОРАЯ.
ПОКРОВ ТЬМЫ. ЗАЩИТНЫЕ РИТУАЛЫ
В ДРЕВНИХ АФИНАХ
Парфенон был построен во славу женского божества,
владычицы города. И однако свою Надгробную речь Перикл завершил
такими словами: «Если мне надо вспомнить о доблести женщин,
которые теперь станут вдовами, то я подведу итог,
ограничившись кратким советом». Совет полководца афинянкам
сводился к тому, чтобы помалкивать, не привлекая к себе внимания:
«Та женщина заслуживает величайшего уважения, о которой
меньше всего говорят среди мужчин, в порицание или в
похвалу»1. Возвратившись в город, женщины должны были снова
уйти в тень. То же самое относилось и к рабам, и к проживавшим
в Афинах иностранцам, которые не были уполномочены
говорить публично, потому что их тела также были холодны.
В своей речи Перикл обращался к живым, однако полагал,
как и все греки, что его слова могут подслушать и призраки
умерших. Мертвые утратили телесный жар, но их тени преследовали
живых, обладая властью влиять на их судьбу, неся счастье или
беду. Холод был неотделим от тьмы, тени обитали в подземном
царстве. Тем не менее отсутствие тепла и света не означало, что
положение безвыходно. Люди, обреченные жить с холодными
телами, могли извлечь из своего положения некоторую пользу,
совершая определенные ритуалы, которые набрасывали на них
покров темноты. В этих древних ритуалах проявляется одна из
неизменных характеристик нашей цивилизации — отказ
угнетенных безропотно сносить свою участь, принимать страдание
как непреложный закон природы. Тем не менее этот отказ
страдать безропотно имел свои пределы.
77
, .[Я
Жилые дома в Афинах, конец V—IV век до н.э.
78
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
1. СИЛА ХОЛОДНЫХ ТЕЛ
В своей Надгробной речи Перикл говорит о городских ритуалах
на удивление легкомысленно: «Мы ввели много разнообразных
развлечений для отдохновения души от трудов и забот, из года
в год у нас повторяются игры и празднества»2. Как отметил
современный историк, это «крайне прагматичный взгляд на
религиозную жизнь сообщества»: слушатели Перикла, скорее всего,
воспринимали годовой цикл культовых торжеств как хребет
своей гражданской жизни, а не как способ «организации досуга»3.
Нам ритуал может казаться статичным усилием, способом
сохранить память прошлого через постоянное повторение одних
и тех же слов и жестов. Однако в древнем мире ритуалы
варьировались: старые формы приспосабливались для новых
потребностей. Обряды, которые некогда закрепляли место женщины
в древнем аграрном обществе, со временем видоизменились,
чтобы снять с горожанки клеймо телесной неполноценности.
Переход от крестьянского мифа к городскому ритуалу не
попирал память прошлого, и женщины не пытались с его помощью
восстать против мужчин. Хотя в Панафинеях, главном афинском
празднестве, участвовали и мужчины и женщины, ярче всего эта
способность приспосабливать прошлое к настоящему
проявлялась в чисто женских ритуалах. Одним из таких ритуалов были
Тесмофории, которые возвеличивали холодные женские тела,
другим — Адонии, в ходе которых афинянки возвращали себе
право говорить и чувствовать, в котором отказывал им Перикл
в своей Надгробной речи.
Тесмофории
Тесмофории восходят к догомеровскому обряду плодородия,
который женщины справляли поздней осенью, накануне нового
посева. Обряд был посвящен Деметре, богине земли, и сюжет-
но воспроизводил миф о том, как Деметра хоронит и оплакивает
свою дочь Персефону, а его название отсылало к основному
действию участниц—заложению чего-либо в землю: слово thesmoi
означает по-гречески «закладывать» в широком смысле, как во
ГЛАВА ВТОРАЯ. ПОКРОВ ТЬМЫ
79
фразе «закладывать основы законодательства». В процессе
подготовки к Тесмофориям женщины совершали ритуальные действия
с использованием свиней, которые считались в греческой
мифологии священными животными. Ежегодно в конце весны свиней
забивали, а их туши закладывали в особые ямы, мегароны, где они
гнили. Это весеннее чествование Деметры называлось Скирофо-
риями и прямо символизировало собой оплодотворение почвы.
Святилище Деметры находилось за пределами Афин, в Элевсине.
Осенью, в ходе Тесмофорий, которые справлялись в самих
Афинах, этот простой обряд оплодотворения земли
трансформировался, становясь частью городского опыта.
В первый из трех дней Тесмофорий женщины спускались
в ямы и смешивали зерна с влажной массой, оставшейся после
полугодового гниения свиных туш. Это был день спуска,
катода, и восхождения, анода: из подземелья женщины поднимались
в особые хижины, где устраивались спать на голой земле. На
второй день женщины постились в память о смерти Персефоны,
выражая свою скорбь руганью и проклятиями. На третий день они
извлекали из земли зловонную кашу из зерен и свиных останков,
которая позже запахивалась в землю как своего рода священный
компост4.
На первый взгляд, Тесмофорий буквально следовали мифу
о Деметре в той его форме, которая была известна современникам
Перикла. В забое и погребении поросят находил свое отражение
сюжет о смерти и воскресении, о богине, которая жертвует
дочерью во имя плодородия земли. Однако этот обряд,
совершавшийся в Афинах, существенно отходил от исходного аграрного мифа.
Тесмофорий противопоставляли плодородию уже не бесплодие,
а половое воздержание. Три дня до начала Тесмофорий, как и во
время самого праздника, афинянки отказывали мужьям в
телесной близости. Таким образом ритуальный траур по умершей
дочери, чье тело питает землю, трансформировался в
драматическое действо, в центре которого стояла проблема самоконтроля.
Филолог-классик Жан-Пьер Верная посвятил афинским
Тесмофориям следующий запоминающийся пассаж:
80
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
Пора сева открывает время года, благоприятное для свадеб;
замужние женщины, матери семейств, на правах граждан
участвуют вместе со своими законнорожденными
дочерьми в официальном торжестве, которое на определенное
время разлучит их с мужьями; молчание, пост и сексуальное
воздержание; они лежат неподвижно, скорчившись на голой
земле; они спускаются в подземные мегароны, чтобы
смешать талисман плодородия с семенами будущего урожая;
вокруг стоит тошнотворный запах гниения, а вместо
благоухающих растений расставлены связки ивовых прутьев,
поскольку их запаху приписывается способность подавлять
плотские желания5.
Ослабляющий похоть запах ивы имел для обряда большое
значение, так же как вонь и темнота в хижинах, где женщины лежали на
земле. Их тела становились холодными и неподвижными, почти
безжизненными. В этом охлажденном, пассивном состоянии
ритуал начинал преображать их: они становились полными
достоинства телами, представляющими историю скорбящей Деметры.
В то время как миф о Деметре устанавливал связь женщины
с землей, афинские Тесмофории объединяли женщин друг с
другом. Эти новые узы рождались из формальной организации
обряда, для которого женщины сами выбирали распорядительниц из
своего числа. Историк Сара Помрой писала: «Участие мужчин тут
сводилось к расходам на праздник, которые возлагались на
наиболее состоятельных из них в форме своеобразного налога,
вносившегося от лица их жен»6. Более того, женщины отправляли
этот обряд, по словам Вернана, «на правах граждан», хотя для
этого им и приходилось удаляться от мира мужчин. Только на исходе
третьего дня они возвращались к ожидавшим их перед
хижинами мужьям, вынося с собой животворящее бремя мертвой
плоти и зерна. Покров подземной тьмы, холод ям и близость смерти
меняли статус их тел. Во время Тесмофории женщина
совершала путь сквозь темноту и выходила на свет, утверждая тем самым
свое достоинство.
ГЛАВА ВТОРАЯ. ПОКРОВ ТЬМЫ
81
Разумеется, подобные метаморфозы претерпели и многие
другие ритуалы, из сельских ставшие городскими, поскольку
весь календарь афинских праздников изначально был
привязан к смене времен года и циклу земледельческих работ.
Однако преображение мифа о Деметре в городской ритуал имело
для афинских женщин особое значение, поскольку Тесмофории
происходили в очень особенном месте. По косвенным и
фрагментарным свидетельствам можно заключить, что
изначально поросят закладывали в землю в пещерах естественного
происхождения. Археологу Гомеру Томпсону удалось установить,
куда именно в городе был позднее перенесен этот
неолитический ритуал. Ямы и хижины были устроены на склоне холма
Пникс, позади скамей, на которых мужчины Афин восседали во
время экклесии. Таким образом, благодаря Тесмофориям
женщины обретали собственное общественное пространство в
непосредственной близости от центра власти, принадлежавшего
мужчинам.
Те перемены, которые случились с Тесмофориями,
описываются термином метонимия: этим словом греки называли
один из приемов риторики. В метонимии одно слово
заменяется другим: матросов, к примеру, можно назвать акулами или
буревестниками, в зависимости от того впечатления, которое
хочет произвести оратор или писатель. Каждая такая замена
служит объяснением: называя матроса акулой, мы мгновенно
проясняем порочность его действий; называя буревестником,
указываем на отвагу, с которой он взмывает, как чайка, над
волнующимся морем7. Метонимия как будто набрасывает покров
на исходные понятия, преображая их с помощью ассоциаций.
Из всех инструментов, имеющихся в арсенале поэта,
метонимия более всего служит разнообразию языка, преобразуя
значение слова и уводя его все дальше от исходного.
За три дня Тесмофории женщины, пропахшие смрадом
гнилой свинины и ивовыми прутьями, скорчившись на земле,
переживали ритуальное преображение благодаря могуществу
метонимии. Понятия «холодность» и «неподвижность» на вто-
82
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
рой день обретали значение самообладания и стойкости,
вместо принятых во все остальные периоды года значений слабости
и ущербности. Эти перемены достигали кульминации на
третий день, когда женщины выходили на свет. Они не
становились подобными мужчинам. Их тела, озаренные светом, были
преображены таинственным, неведомым мужчинам обрядом,
который каким-то образом сообщал этим телам достоинство.
Ритуальная метонимия, в отличие от поэтической,
производит такую замену, используя пространства. Эти пространства
изменяют состояние тел, вступающих в магический круг
обряда. Именно это происходило во время Тесмофорий:
ритуальная яма, холодная и темная, наделяла новым гражданским
достоинством холодные тела женщин, которых Перикл наставлял
не привлекать к себе внимания. Благодаря устройству хижин,
в них скапливался ивовый дым, который способствовал этому
преображению женщин, подавляя их плотское желание. Само
расположение хижин в структуре города подчеркивало тесную
связь этого облагораживающего места с пространством, где
мужчины осуществляли свое гражданское право на самоуправление.
Адонии
Праздник Адоний был аграрным ритуалом, связанным со
смертью. В их городском перерождении Адонии справляли в
замкнутом пространстве частного дома. Греческие женщины были
привязаны к дому по причине своей предполагаемой
физиологической ущербности; историк Геродот противопоставлял
здравый смысл, который проявляла в этом вопросе его собственная
цивилизация, причудам египтян: «Нравы и обычаи египтян
почти во всех отношениях противоположны нравам и
обычаям остальных народов. Так, например, у них женщины ходят
на рынок и торгуют, а мужчины сидят дома и ткут»8. В
«Домострое» Ксенофонта муж так наставляет супругу: «Конечно, тебе
надо будет сидеть дома»9.
Стены древнегреческого дома были высокими, а окон
в них мало; если позволял достаток, его комнаты группирова-
ГЛАВА ВТОРАЯ. ПОКРОВ ТЬМЫ
83
План афинских жилых зданий на Дилосе, V век до н.э.
лись вокруг внутреннего дворика. Внутри дома царила система,
напоминавшая традиционное затворничество мусульманок на
своей женской половине. Замужние женщины никогда не
заходили в андрон—комнату для приема гостей. На застольях с
возлияниями, проходивших в андроне, женский пол представляли
только рабыни, проститутки или иностранки. Жены и дочери
обитали в комнате или комнатах, называемых гинекеем: если
дом был достаточно богатым, гинекей занимал второй этаж, то
есть был огражден от вторжений извне еще надежнее, чем
внутренний двор.
Адонии трансформировали эту норму, изолировавшую
женщин в стенах дома, используя для этого восприятие запахов. Для
84
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
греков запахи растений или пряностей были очень острым
ощущением, в буквальном смысле создававшим атмосферу
сексуальной свободы или сдержанности. Термин «феромон»,
которым современная биология обозначает химические сигналы
животных, происходит от греческих слов pherein — «несу» —
и Hormon — «возбуждение»10. Во время Тесмофорий хижины
окутывал антиферомон — ивовый запах, предположительно,
подавляющий плотские желания. Во время Адоний, наоборот,
использовались растения с пряным запахом, которые, как
считалось, возбуждали похоть. Антрополог Марсель Детьен пишет,
что разницу между Тесмофориями и Адониями можно
уподобить «контрасту между Великим постом и карнавалом».
Адоний были посвящены прославлению женской сексуальности:
во время этого сладко благоухающего, пьяного и
непристойного праздника женщины обретали право говорить о своей
сексуальности в необычной и, как правило, не использовавшейся
части дома—на крыше.
Адоний восходили к мифам о боге Адонисе, который был
одним из полярных воплощений мужской природы, как ее себе
представляли греки. Противоположную крайность являл собой
Геракл, образцовый воин, отличавшийся также великим
обжорством и за раз съедавший быка, как писали античные поэты. Его
сексуальные аппетиты не уступали чревоугодию — в комедии
Аристофана «Лисистрата» распаленный женою муж
восклицает: «О друг мой, как Геракла, угощают нас!» По преданиям,
Геракл был отцом семидесяти двух сыновей и одной дочери11.
Прекрасный Адонис, наоборот, не был ни обжорой, ни
сластолюбцем. В отличие от Геракла, он погиб прежде, чем мог зачать
ребенка, — еще подростком дикий вепрь задрал его на охоте.
Главное же различие между ними заключалось в том, что
Адонис доставлял женщинам наслаждение, а не просто
использовал их тела для удовлетворения своей похоти, как делал Геракл.
Адонис был олицетворением гедоне, то есть чувственного
удовольствия, и сама Афродита оплакивала его как
возлюбленного всех женщин.
ГЛАВА ВТОРАЯ. ПОКРОВ ТЬМЫ
85
Девушки изображают оплакивание Адониса во время Адоний
В обрядах Адоний афинянки обращались к этим преданиям,
оплакивая гибель юноши, который знал, как усладить
женщину. За неделю до начала празднества, справлявшегося ежегодно
в июле, они высаживали семена латука в небольших горшках,
которые расставляли на крышах своих домов. Салат всходит быстро,
к тому же женщины обильно поливали и удобряли почву до тех
пор, пока не появлялись зеленые ростки. С этого момента,
однако, они лишали растения воды. Когда ростки начинали увядать,
наступало время празднества. Горшки на крышах называли
«садиками Адониса»: засохшие растения символизировали его смерть.
Можно было бы предположить, что этот ритуал точно
повторял в своем развитии сюжет мифа, ведь июль, с его палящим
86
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
солнцем, как нельзя лучше отвечает символизму умирающего
сада. Однако обряд, который проводили женщины Афин, был
погребальным только по названию. Вместо того чтобы
горевать, они вместе пели, пили и плясали всю ночь напролет.
Бросая в кадильницы шарики мирры и других благовоний (Адонис
был сыном Мирры, нимфы, превратившейся в мирровое
дерево), они приводили себя в состояние сексуального
возбуждения. Адонии славились непристойными шутками и случайным
сексом. В сочиненном несколько столетий спустя
художественном тексте куртизанка пишет подруге: «Мы собираемся
устроить пир [в честь Адонии] в доме у любовника Фессалы. <...> Не
забудь принести садик и статуэтку. И обязательно захвати
своего Адониса [вероятно, фаллоимитатор], которого ты осыпаешь
поцелуями. Мы напьемся со всеми нашими любовниками»12.
Даже растения, которые женщины высаживали в своих
крохотных «садиках Адониса», подчеркивали это торжество
сексуальности. Поэтесса Сапфо писала, что после гибели Адониса от
клыков вепря Афродита возложила его тело на поляну латука.
Нам этот образ может показаться странным, но для греков,
которые считали латук мощным антиафродизиаком, он был
совершенно прозрачен. Античный фармаколог и натуралист Дио-
скорид писал: «Сок латука поможет тем, кто подвержен ночным
семяизвержениям, и отвлечет мужчин от похотливых
мыслей»13. Латук упоминается в греческих источниках как символ
импотенции и в целом гибельной «нехватки жизненных сил»14.
Считалось даже, что он произрастает в царстве теней и что его
едят умершие матери. Во время Адонии женщины начинали
праздновать, когда листья салата увядали, коричневели и
съеживались в горшках с пересохшей землей. По сути, они
отмечали гибель растения, сок которого, согласно поверью, убивал
живые плотские желания.
Судя по всему, во время Адонии торжествовали те
желания, которые в остальное время не находили выхода в жизни
греческой женщины. Причиной этой сексуальной
неудовлетворенности не была одержимость мужчин юношами, готовив-
ГЛАВА ВТОРАЯ. ПОКРОВ ТЬМЫ
87
шимися стать гражданами: предположить подобное значило
бы перенести в древность современную модель
гомосексуальности, где один тип эротического влечения исключает другой.
Как замечает специалистка по античному праву Ева Кантарел-
ла, «настоящую конкуренцию женам составляли... другие
„порядочные" женщины, которые могли склонить их мужей к
разводу»15. Растения и благовония Адоний помогали афинянкам
справиться с более фундаментальной проблемой:
удовлетворение их желаний было неразрывно связано с их подчинением
мужской воле. Ароматы Адоний сулили им возможность
свободно вздохнуть, ненадолго избавившись от этого ярма.
Подобно Тесмофориям, Адоний превращали
земледельческий ритуал в элемент городского опыта. Древний миф,
согласно которому пролитая кровь Адониса увлажнила землю,
связывал гибель наслаждения с плодородием почвы: это
означало, что земля удобряется человеческим страданием. В
городском ритуале, напротив, иссушение земли и увядание растений
возвращает к жизни чувственную телесность. Именно для того,
чтобы приспособить древний обряд к этой новой цели,
женщины преображали пространство собственного дома.
Адоний принципиально отличались от симпосиев,
мужских ритуализованных пиршеств, которые круглый год
проходили под крышей андрона. В любом зажиточном доме эта
комната, обычно квадратная, была обставлена семью ложами—по
три у боковых стен и одно в торце. На них умещалось
четырнадцать сотрапезников, которые ели, пили и ласкали
продажных женщин и юношей. Во время симпосия мужчины имели
возможность расслабиться и предаться буйному веселью,
«диаметрально противоположному тем [нормам
благопристойности], которые определяли остальную жизнь в полисе»16. Луиджи
Росси описывал симпосий как «спектакль в себе», в ходе
которого мужчины напивались, флиртовали, разговаривали и
хвастались, но в одном отношении этот спектакль придерживался
правил телесного поведения, принятых за стенами андрона17.
Также как и в гимнасии, взаимоотношения мужчин были тут
88
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
построены на соревновании. Участники заранее готовили
стихи, шутки и байки, чтобы блеснуть талантами во время
застолья. Равновесие между духом соперничества и духом
товарищества удавалось сохранить не всегда, так что симпосии время
от времени оборачивались яростной потасовкой.
На крыше во время Адоний творилось подобное же
непотребство, но женщины не соревновались между собой и не
готовили шутки впрок. Кроме того, Адоний не имели того частного
и закрытого характера, которым отличался симпосии.
Женщины слонялись в темноте из квартала в квартал, а заслышав
голоса, окликавшие их сверху, забирались по приставным
лестницам на крыши, чтобы поболтать с незнакомками. В античном
городе крыши обычно были пустыми. Более того, праздник
этот разворачивался ночью в жилых кварталах, лишенных
уличного освещения. Главные общественные пространства
Афин — агора, гимнасий, Акрополь, Пникс—были рассчитаны
на яркий свет дня. В свете редких свечей, горевших на крышах
во время Адоний, участницам трудно было разглядеть даже тех,
кто сидел рядом с ними, не говоря уже о прохожих внизу.
Таким образом, преображенные пространства дома были скрыты
под покровом темноты. Темная крыша, звенящая смехом,
становилась территорией дружелюбной анонимности.
Именно там, под покровом тьмы, женщины вновь
обретали способность говорить и выражать свои желания. Подобно
тому, как Тесмофории преображали понятие «холод», Адоний
делали это с понятием «жар»: горячие солнечные лучи
оказывались губительными для ростков латука, а темнота дарила
женщинам свободу.
До самого недавнего времени ученые считали Адоний
лесбийским обрядом, просто исходя из предположения, что
женщины, собравшиеся, чтобы самостоятельно получить
удовольствие, наверняка должны были вовлекать друг друга
в сексуальные забавы. Применительно к Адониям часто
цитировалось знаменитое любовное стихотворение Сапфо,
обращенное к подруге:
ГЛАВА ВТОРАЯ. ПОКРОВ ТЬМЫ
89
Но немеет тотчас язык, под кожей
Быстро легкий жар пробегает, смотрят,
Ничего не видя, глаза, в ушах же
Звон непрерывный.
Потом жарким я обливаюсь, дрожью
Члены все охвачены, зеленее
Становятся травы, и вот-вот как будто
С жизнью прошусь я18.
Сейчас картина кажется более сложной: вне зависимости от
сексуальных предпочтений участниц Адонии не отличались той
трогательной силой чувства, о которой писала Сапфо, поскольку
этот ритуал был возможностью получить мимолетное
удовольствие среди скрытых темнотой незнакомок, а не выражением
стойкой эротической привязанности.
У Адоний не было официального статуса: они не значились
в афинском календаре, в отличие от большинства других
праздников, которые планировались, проводились и оплачивались
городом. По своей организации этот праздник был таким же
непринужденным, как эмоции, которые его наполняли.
Неудивительно, что мужчинам этот праздник был не по нутру.
Писатели той эпохи, начиная с Аристофана в «Лисистрате», высмеивали
оглушительные вопли, разгул и пьянство Адоний, с презрением
отзываясь о женщинах, нарушивших привычное молчание.
Однако самое серьезное обвинение против Адоний выдвинул
Платон, в своем диалоге «Федр» вложивший в уста Сократа такие
слова:
Скажи мне вот что: разве станет разумный земледелец,
радеющий о посеве и желающий получить урожай, всерьез
возделывать летом сады Адониса ради удовольствия восемь
дней любоваться хорошими всходами? Если он и делает это
иной раз, то только для забавы, ради праздника. А всерьез он
сеет, где надлежит, применяя земледельческое искусство,
и бывает доволен, когда на восьмой месяц созреет его посев19.
90
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
Платон видел в Адониях пример бесплодности
сиюминутного наслаждения, противопоставляя ему древний аграрный
сюжет о земле, удобренной страданием. Само по себе вожделение
бесплодно.
На это Платону можно было бы возразить, что, хотя Адонии
и возвращали женщинам способность выражать свои желания,
это происходило особым путем. Как Тесмофории, этот ритуал
использовал —не в словесной, а в пространственной форме—один
из поэтических приемов. Адонии прибегали к силе метафоры.
Метафора соединяет в едином образе разные предметы, как,
например, в выражении «розовоперстая заря». Смысл целого
превышает в метафоре сумму смыслов слагаемых. В этом отличие
метафоры от метонимии: в метонимии слово «матрос» можно
заменить разными словами — «акула», «буревестник», «дельфин»
или «альбатрос», но когда слова «розовоперстая» и «заря»
соединяются в одно целое, они обретают новые свойства, которые не
исчерпываются сходством составляющих, «розовых пальцев»
и «зари». Более того, сильная метафора противится буквальному
толкованию. Если вы скажете, что словосочетание
«розовоперстая заря» означает розовые, по форме напоминающие пальцы
облака, которые появляются в небе на закате, вы потеряете всю
выразительность поэтического образа, который гибнет при
попытке объяснения.
Во время Адонии метафора работала в пространстве. В
обычной ситуации женская сексуальность оправдывалась
деторождением. То обстоятельство, что июльская ночь, крыша и увядшие
растения вокруг давали женщине полную волю обсуждать с
незнакомками свои потаенные желания, в самом деле было немного
странным: в сочетании этих неожиданных элементов и
проявлялась пространственная сила метафоры. Применительно к
ритуалу выражение «пространство метафоры» описывает место, где
люди могут соединять неожиданные элементы, причем для
этого они используют свои тела, а не объясняют свои мотивы. Танцы
и выпивка заменяют в Адониях жалобы на судьбу или
обсуждение положения женщин в Афинах. Этим объясняется определен-
ГЛАВА ВТОРАЯ. ПОКРОВ ТЬМЫ
91
ная озадаченность Аристофана и Платона, неспособных понять
смысл происходящего на крышах: ритуал не поддается
аналитическому осмыслению.
Филолог-классик Джон Уинклер дал Адониям
запоминающееся определение: «смех угнетенных»20. Однако этот ритуал
не отвечал «нет» на мужское «да». Он не подталкивал женщин
захватить на одну ночь агору, Пникс или любой другой оплот
мужского владычества. Крыша не была очагом восстания: она
была пространством, позволявшим женщинам ненадолго
физически выйти за рамки ограничений, которые накладывали на
них афинские порядки. Мужья или власти полиса легко могли
бы запретить Адонии, но никто никогда не пытался помешать
женщинам отправлять ритуал. Возможно, это тоже объясняется
метафорической природой праздника непослушания, который
был слишком причудлив, чтобы навлечь на себя прямые
санкции. Если Тесмофории узаконивали присутствие холодного тела
среди городских камней, то Адонии на несколько ночей
ослабляли их гнет.
Логосимифос
Два древних празднества, описанные выше, иллюстрируют
собой простую общественную истину: ритуал лечит. Ритуал —
это один из способов, которыми угнетенные, как мужчины, так
и женщины, могут отреагировать на унижение и презрение,
которым они подвергаются в обществе во все остальное время. В
более широком смысле ритуалы делают муки жизни и умирания
выносимыми. Ритуал—это общественная форма, с помощью
которой люди пытаются справиться с лишениями как активные
действующие лица, а не пассивные жертвы.
Тем не менее цивилизация Запада всегда относилась к этим
возможностям ритуала неоднозначно. Разум и наука, казалось,
сулили победу над человеческим страданием, а не просто
активное взаимодействие с ним, которое предлагал ритуал. Кроме
того, тот тип мышления, который сформировал нашу культуру,
всегда с подозрением относился к основополагающим принци-
92
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
пам ритуала, к его пространственным метонимиям и
метафорам, к его телесным практикам, не поддававшимся логическому
оправданию или объяснению.
Эти неоднозначные взаимоотношения между разумом и
ритуалом, характерные для Запада, уходят корнями в Античность.
Впервые они проявились в том различии, которое греки
проводили между логосом и мифосом. Религиовед Вальтер Буркерт
кратко сформулировал суть этого противопоставления так:
Мифос против логоса: логос—от legem,
«собирать»—означает сбор разрозненных крупиц свидетельств, доказуемых
фактов. Logon didonai—давать отчет недоверчивым,
критично настроенным слушателям. Мифос означает такой
рассказ, при котором рассказчик складывает с себя
ответственность: ouk emos ho mythos—это история не моя, я
слышал ее от других21.
Язык логоса связывает понятия. Понятие logon didonai задает
условия человеку, который устанавливает эту связь: аудитория
взвешивает доводы оратора, и она настроена недоверчиво. Логос
может стать вредоносным, как это случилось во время
обсуждения участи афинских стратегов: оратор может возбудить
сочувствие и заставить слушателей встать на свою точку зрения, по-
своему изображая отдельные факты, людей или события. Эти
образы текут один за другим, словесная картина кажется
связной и целостной, но не выдерживает тщательной поверки
чистым дедуктивным анализом.
Во всех формах логоса, однако, говорящий отождествлен со
своими словами: они принадлежат ему, и он за них в ответе.
Греческая политическая мысль выработала идеи демократии на
основе определенных свойств логоса. Сам Клисфен первым указал
на то, что свобода высказывания и дискуссии имеет смысл
только в том случае, если люди несут ответственность за свои слова,
иначе доводы не имеют веса, а слова не важны. Пространство
Пникса обеспечивало работу логоса в этом отношении: каждый
ГЛАВА ВТОРАЯ. ПОКРОВ ТЬМЫ
93
мог видеть и слышать, кто рукоплещет речи, а кто освистывает
ее, замечать, кто как голосует.
В мифосе говорящий не несет ответственности за свои
слова. Язык мифоса зависим от веры, воплощенной в греческой
присказке «это история не моя, я слышал ее от других».
Большая часть мифов, и греческие тут уж точно не исключение,
повествует о деяниях магических существ или богов, так что
кажется вполне осмысленным предположение, что и сложили эти
истории боги, а не мужчины и женщины, пересказывающие их
другим. Следовательно, аудитория относится к человеку,
пересказывающему миф, без той подозрительности, которую может
вызывать у нее оратор в политическом собрании, ручающийся
за свои слова. Антрополог Мейер Фортес писал о мифе именно
в этом ключе, как о «подтверждении общественных связей»22.
Можно вспомнить и Аристотеля, который определил трагедию
как «добровольный отказ от недоверия» (willing suspension of
disbelief)*; миф, от которого брала свое начало драматургия,
задает истинный контекст для этого высказывания. Мифос
подразумевает доверие к словам как таковым.
Различие между логосом и мифосом несет в себе суровую
мораль. Слова, ответственность за которые берут на себя сами
люди, сеют взаимные подозрения, которые приходится
отклонять или использовать в своих целях. В свете этой горькой
истины убеждение Клисфена, что люди вольны выражать свое
мнение, но должны нести за него ответственность, выглядит жутко.
Демократия — это политика взаимного недоверия. Те же слова,
за которые говорящий не отвечает, связывают людей узами
доверия. Доверие возникает только между людьми, находящимися
во власти мифа, во власти языка, внешнего по отношению к
оратору, как в гимнах Деметре, которые возносили в хижинах на
Пниксе, или Адонису, которого славили на афинских крышах.
* Сеннет использует формулу СТ. Кольриджа, которой тот описывает принцип
художественной правды (см: «Biographia Literaria», гл. XTV [1817]). Ср. рассуждения
Аристотеля об историческом и мифическом элементах в драме (Поэтика, IX, 1077-1078).
(Здесь и далее подстрочные примечания принадлежат редактору.)
94
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
В обоих случаях покров тьмы усиливал безличный, внушавший
доверие характер слов, поскольку произносившего их
человека трудно было разглядеть — слова доносились из темноты.
Такие пространства ритуала создавали волшебные зоны взаимного
признания. Все эти свойства мифоса воздействовали на тело
человека, справлявшего обряд, наделяя его новым смыслом. В
ритуалах слова скрепляются физическими действиями:
совместный танец, попойка или сон на голой земле становятся знаками
взаимного доверия, эти действия устанавливают между людьми
глубокую связь. Ритуал скрывал под покровом тьмы все те
подозрения, которые жители древнего города могли питать
относительно друг друга, в то время как демонстративное обнажение,
напротив, вызывало смесь восхищения и недоверия.
Таким образом, афинская культура выработала ряд
параллельных противопоставлений: жаркие и холодные тела;
обнаженные мужчины и укутанные женщины; светлые,
«наружные» пространства и затемненные пространства священных ям
или ночных крыш; уязвимость открытого логоса и целительный
покров мифоса; наконец, тело, наделенное властью, часто
теряющее самоконтроль под влиянием собственных слов, и
угнетенные тела, объединенные ритуалом, пусть даже эти узы
невозможно было ни выразить словами, ни оправдать, ни объяснить.
Однако Фукидид не позволяет нам удовольствоваться этим
описанием — по крайней мере, применительно к тем Афинам,
которые он знал. У разума были основания не доверять ритуалу,
потому что ритуал, призванный объединять людей, содержал
в себе гибельный изъян. Фукидид рассказывает, как в годину
великих потрясений ритуал оказался неспособен обеспечить
афинянам должное понимание, почему им выпало страдать; без
этого же понимания их общему существованию грозил крах.
2. СТРАДАЮЩЕЕ ТЕЛО
Надгробная речь Перикла закрывает одну страницу в «Истории»
Фукидида; следующая открывается рассказом о страшном море,
ГЛАВА ВТОРАЯ. ПОКРОВ ТЬМЫ
95
охватившем Афины зимой и весной 43° года до н.э. Перед лицом
эпидемии люди своими поступками опровергли те блестящие
надежды, которые с такой уверенностью прозвучали в
Надгробной речи: демократические институты утратили
работоспособность, узы, создаваемые ритуалом, распались между больными
телами горожан, а сам Перикл погиб.
Медики древних Афин почти ничего не могли
противопоставить тому, что, скорее всего, было сильнейшей вспышкой
холеры, и Фукидид описывает симптомы болезни с недоумением
и ужасом:
...Без всякой внешней причины вдруг появлялся сильный
жар в голове, покраснение и воспаление глаз. Внутри же
глотка и язык тотчас становились кроваво-красными, а
дыхание—прерывистым и зловонным. <...> Большинство
больных страдало от мучительного позыва на икоту,
вызывавшего сильные судороги. <...> Птицы и четвероногие
животные, питающиеся человеческими трупами, вовсе не
касались трупов (хотя много покойников оставалось
непогребенными) или, прикоснувшись к ним, погибали23.
Первым и самым страшным ударом, который мор нанес по
общественной ткани города, стало разрушение ритуалов, чтивших
святость смерти. Греки опустились до надругательств над
чужими покойниками: «Иные складывали своих покойников на
чужие костры и поджигали их, прежде чем люди, поставившие
костры, успевали подойти; другие же наваливали принесенные
с собой тела поверх уже горевших костров, а сами уходили». Хотя
некоторые горожане вели себя благородно, заботясь о больных и,
вследствие этого, заражаясь сами, бедствие было таким
сокрушительным, что «сломленные несчастьем, люди, не зная, что им
делать, теряли уважение к божеским и человеческим законам»24.
Вслед за ритуалом мор охватил и политику: «Никто не был
уверен, что доживет до той поры, когда за преступления понесет
наказание по закону». Афиняне утратили способность к самооб-
96
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
ладанию и самоуправлению. Вместо этого, оказавшись перед
лицом гибели, они предались сиюминутным или даже запретным
удовольствиям: «Поступки, которые раньше совершались лишь
тайком, теперь творились с бесстыдной откровенностью, <...>
Поэтому все ринулись к чувственным наслаждениям, полагая, что
и жизнь, и богатство одинаково преходящи. <...> Наслаждение
и все, что как-то могло служить ему, считалось само по себе уже
полезным и прекрасным»25. Эпидемия обессмыслила все
политические установления, поскольку болезнь не проводила
различий между гражданами и негражданами, свободными и рабами,
мужчинами и женщинами. Именно в тот момент, когда
афиняне утратили контроль над своей жизнью, их враги
воспользовались ситуацией и весной 43° г°Да Д° нэ· заняли земли Аттики
вокруг города.
Всего через несколько месяцев после Надгробной речи от
мечты Перикла о самоуправляемом городе не осталось и камня
на камне, а его самого выставляли виновником этой катастрофы.
Перед войной Перикл предложил построить две стены вдоль
дороги до Пирея, чтобы обеспечить безопасное сообщение между
городом и портом,—так и было сделано. Участок между
стенами в ширину составил около 140 метров, то есть был достаточно
просторен, чтобы сельское население могло укрыться там в
военное время. Когда в 43° Г0ЛУ Д° нэ· спартанцы во главе с царем Ар-
хидамом вторглись на аттические равнины, толпы селян начали
скапливаться внутри построенных Периклом стен, и особенно
в коридоре, соединявшем Афины и порт Пирей. Из-за эпидемии
он стал настоящей ловушкой для беженцев, и афиняне
возложили вину за это на Перикла, о котором Плутарх позже писал:
«Виноват в этом тот, кто в связи с войной загнал деревенский люд
в городские стены и ни на что не употребляет такую массу
народа, а спокойно смотрит, как люди, запертые подобно скоту,
заражаются друг от друга»26.
Однако афиняне едва ли были трусами, испытывавшими
физический страх перед болью или смертью: в то же самое
время они отважно сражались и на суше, и на море. Когда Фукидид
ГЛАВА ВТОРАЯ. ПОКРОВ ТЬМЫ
97
в своем повествовании доходит до морской битвы при Киноссе-
ме в 411 году до н.э., он описывает измученных, ослабевших
воинов, которые тем не менее доблестно сражаются и не теряют
веры в себя: «Теперь положение не казалось им безнадежным,
и они надеялись, что, действуя энергично, еще смогут выиграть
войну»27.
Ритуалы должны были бы удержать город от распада.
Ритуал имеет «нездешнее» происхождение, и этим «не здесь» часто
является обитель мертвых. Тесмофории и Адонии были
подобны другим городским обрядам в том, что их мифологическую
основу составляли мотивы смерти, погребения и оплакивания,
тем самым они устанавливали связь между живыми и
мертвыми. Как замечает Николь Лоро, в Надгробной речи Перикл
стремился убедить своих слушателей в том, что павшие воины
приняли «прекрасный конец», поскольку исполнили свой долг перед
родным городом, и утверждал, что «и среди оставшихся в
живых каждый, несомненно, с радостью пострадает за него»28.
Подобным же образом Тесмофории и Адонии убеждали женщин,
что Персефона и Адонис погибли «прекрасной смертью»,
которая послужила во благо всех афинянок. Софокл в «Царе Эдипе»,
опять же, рассказывает историю о чуме, и в развязке царь
ослепляет себя, чтобы прекратить мор и спасти город. Аудитория того
времени видела в этой истории самопожертвования гражданское
значение, а не фрейдистские мотивы запретной страсти и вины.
Афинская эпидемия не давала подобной возможности
проявить гражданскую доблесть. Фукидид сообщает, что это бедствие
побудило и афинян, и жителей других городов вспомнить
древние предсказания оракула, но смысл их был туманным. Самое
ясное из них не сулило афинянам утешения, потому что оракул
предрек спартанцам, что если те «будут вести войну всеми
силами, то победят», а бог «сам будет на их стороне»29. Разумеется, как
и все люди древности, афиняне были проникнуты глубоким
сознанием незначительности, ограниченности и
невежественности человека перед лицом космоса; многие из их ритуалов
подчеркивали именно это. Но эти ритуалы служили выражением
98
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
человеческого отчаяния, а не призывом к гражданскому
искуплению или сплочению перед лицом бедствий.
Самодовлеющая сила ритуала, имеющая «нездешний»
источник, означает, что люди не могут использовать его в целях
исследования и осмысления неведомого или непредвиденного.
Ритуал — не тот инструмент, который можно приспособить для
изучения различных возможностей и исходов, как это делается
в ходе научного эксперимента. В то же время это и не
произведение искусства, использующее материал таким образом,
чтобы произвести наиболее сильное впечатление. Суть любой
ритуальной практики заключается в том, что в тот момент, когда
люди к ней прибегают, они входят в соприкосновение с чем-то
уже существующим, причем существующим вне их самих.
Магия ритуала, с его нездешним происхождением, основана на том,
что он представляется существующим независимо от чьей-либо
воли. Как и все прочие городские ритуалы, Тесмофории и Адонии
складывались очень медленно, на протяжении столетий старые
смыслы постепенно трансформировались в новые. В любой
отдельный год женщины, отправлявшие эти ритуалы, стремились
в точности повторить прошлогодний обряд, а не анализировали
отличия, которые понемногу накапливались в нем.
Во время эпидемии Афины постигла участь других сильно
ритуализированных обществ: выяснилось, что магические
практики, унаследованные от прошлого, не удовлетворяют
потребности в разъяснении, которое помогло бы осмыслить кризис в
настоящем. Если верить более позднему отчету Плутарха, ближе
всего афиняне подошли к мифическому пониманию болезни,
когда истолковали великие градостроительные усилия Перик-
ла как нечто, напоминающее гибрис Эдипа. Тем не менее это
толкование не подсказывало им, что же теперь делать. Фукидид
подчеркивает это несоответствие, описывая покров тьмы,
опущенный ритуалом над человеческой деятельностью, как пелену
замешательства.
И все же афинская культура выделялась среди прочих
своей верой в способность человека творить и осознавать собствен-
ГЛАВА ВТОРАЯ. ПОКРОВ ТЬМЫ
99
ный удел. Греческий глагол poiein переводится как «делать»;
слово поэзис, образованное от того же корня, означает акт
творчества. Афины эпохи Перикла в гораздо большей степени, чем
Спарта, непрерывно воспевали идеал поэзиса: сам город
воспринимался как произведение искусства. Дискуссия (как
научная, так и политическая)—часть этого творческого акта.
Некоторые древние авторы описывали демократический процесс
как «автопоэзис» — непрерывное и изменчивое политическое
самотворение.
Кое-кто из современных исследователей трактует
непосредственное соседство Надгробной речи и афинской чумы на
страницах «Истории» как знак того, что Фукидид не доверял
красивым фразам своего выдающегося современника. Это, однако,
явное упрощение. Фукидид не становится на сторону
спартанского неприятеля, а старается осознать те сложные и часто
изменчивые силы, которые сформировали культуру его
собственного полиса. Энергия автопоэзиса, нашедшая свое выражение
во фризах Парфенона, грозила городу опасностью, но не менее
опасной была и безраздельная власть ритуала, если ему не
сопутствовали эксперимент, исследование и дискуссия.
Точкой приложения всех этих сил было человеческое тело,
величайшее произведение афинского искусства. Жан-Пьер
Верная писал: «В античной Греции тело представлялось не
морфологией сопряженных между собой органов, как в
анатомическом атласе, и не совокупностью характерных для каждого из
нас физических особенностей, как на портрете, а чем-то
вроде герба»30. Из всех городов древней Греции это
геральдическое представление о теле было свойственно именно
Афинам: там обнаженное тело демонстрировалось как достижение
цивилизации, там мужчина работал над своим телом в гим-
насии как над произведением искусства, там любовь между
мужскими телами стала символом гражданственности, там
натренированный голос оратора звучал открыто, трансформируя
пространство, изначально предназначавшееся для драмы, в
политических целях—в целях автопоэзиса. Сложные афинские
100
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
ритуалы основывались на поэтической силе метафоры и
метонимии, нашедших выражение в человеческом теле и городском
пространстве.
Перикл без лишней скромности заявлял: «Город
наш—школа всей Эллады»31. Наследие Афин эпохи Перикла содержит,
среди прочего, и мрачные уроки, которые можно извлечь из
бедствий этого политического организма. Афинское искусство тела
стало одним из источников преследующего цивилизацию
Запада разрыва между интеллектуальной и телесной свободой и
обозначило те пределы, в которых ритуал способен сплотить и
исцелить общество в момент кризиса.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
ОДЕРЖИМОСТЬ ОБРАЗОМ.
МЕСТО И ВРЕМЯ
В РИМЕ ИМПЕРАТОРА АДРИАНА
В и8 году н.э. император Адриан затеял строительство
нового здания на месте прежнего Пантеона, стоявшего в той части
Рима, которая называлась Марсовым полем. Первоначально
Пантеон был возведен Агриппой в 25 году н.э. как храм,
посвященный всем богам города. В Пантеоне Адриана божества
обрели новое пристанище, которое представляло собой гигантский
полусферический купол на цилиндрическом основании. Тогда,
как и сегодня, самой поразительной особенностью Пантеона был
свет, лившийся внутрь через отверстие в вершине купола. В
ясные летние дни столп света пронизывал помещение, переходя
с кромки купола на цилиндрические стены, на пол и снова вверх
по стенам вслед за солнцем, движущимся по небосклону. В
облачную погоду свет становится там дымкой, серой, как
цементная оболочка Пантеона. Ночью массив здания изнутри как будто
растворяется, и только кружок звездного неба вырисовывается
вверху через отверстие купола.
Во времена Адриана этот столп света озарял пространство,
насыщенное политическими символами. Пол Пантеона был
вымощен наподобие гигантской шахматной доски—именно такую
планировку римляне использовали при строительстве новых
городов по всей империи. В нишах цилиндрической стены были
расставлены статуи богов: их сонм, как считалось, в
гармоничном единстве поддерживал Рим в его стремлении к мировому
господству. В самом деле, римляне почитали их почти как
одушевленных идолов. По словам историка Фрэнка Брауна, Пантеон
прославлял «имперскую идею и всех богов Империи, которые ей
покровительствовали»1.
102
Карта Рима, ок. но года н.э.
В 6θ4 году, через пять веков после того, как Адриан
построил Пантеон, папа Бонифаций IV освятил его, превратив в
христианскую церковь Святой Марии и Мучеников. Пантеон был
одним из первых языческих храмов Рима, приспособленных для
нужд новой религии, и именно благодаря этому уцелел: в
Средние века другие античные памятники города разрушались и
использовались как каменоломни, но на церковь никто не посягал.
Церковь Святой Марии и Мучеников обрела новую жизнь в
качестве мартирия, прославляющего христиан, пострадавших за
свою веру. Пантеон, некогда посвященный целой толпе богов,
благоволивших Империи, превратился в храм одного-единствен-
103
ного бога, бога слабых и угнетенных. Таким образом, здание
стало памятником эпохальному переходу цивилизации Запада от
политеизма к монотеизму.
В свое время строительство Пантеона также было связано
с драматическими событиями. В Римской империи зримый
порядок был неотделим от государственного могущества: власть
императора была крепка постольку, поскольку ее можно было
воочию наблюдать в сооружаемых при нем памятниках и
производимых по его приказу общественных работах. Власть
нуждалась в камне. Тем не менее Пантеон возник, как отмечает один
из его историков, «в период, когда обряды и установления
седой старины еще не были отвергнуты, но в воздухе уже
ощущалось наступление новой, принципиально иной эпохи»2. В период
правления Адриана Римскую империю наводнили новые культы
вроде митраизма и христианства, в которых «миру незримому
уделялось куда больше внимания, чем земному»3. Разумеется,
римляне не думали, что можно буквально увидеть правивших
ими языческих богов; считалось, что когда боги сходят на
Землю к смертным мужчинам и женщинам, они принимают
обличья, в которых не могут быть узнаны. Тем не менее люди верили,
что боги повсюду оставляют зримые знаки своего присутствия,
и властители Рима использовали эту веру, чтобы оправдать
и упрочить свое правление, именем богов возводя по всему
Западному миру памятники империи. В самом Риме таким
памятником стал Пантеон, который был призван заставить мужчин
и женщин узреть, поверить и покориться.
Непростые взаимоотношения между видимым и
невидимым в Риме эпохи Адриана были проявлением более глубокой
тревоги, связанной с человеческим телом. Хотя афинянам было
известно, как мрачна и хрупка человеческая жизнь, они
воспевали силу мышц и костей как таковую. К тому времени, когда
Адриан начал строительство Пантеона, могучий римлянин сошел со
сцены. Гладиаторы приносили присягу, которая заканчивалась
такими словами: «Что с того, проживу ли я еще несколько дней или
несколько лет? Мы приходим в мир, в котором нам нет пощады».
104
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
Римский писатель Сенека провозглашал, что клятва
эта—«обязательство самое позорное» (turpissimum auctoramentum)—в то же
время выражает почетнейшую связь между воинами и
гражданами4. Латинское слово gravitas переводится как «достоинство» и
означает также тяжелую, непреклонную решимость. Гладиаторская
присяга, которую приносили люди, клявшиеся убивать друг
друга, подчеркивает эту решимость с помощью пугающего
парадокса: «Мы обязуемся умереть стоя, непобежденными». Физическая
сила была окрашена тьмой и отчаянием.
Пробуждение плотских желаний внушало одинаковый страх
и римским язычникам, и римским христианам. Историк Карлин
Бартон пишет: «Вожделение и его ужасные последствия пугали
римлян не меньше, чем надежда, отнимающая силы». Однако
христиане и язычники боялись похоти по разным причинам.
С точки зрения христиан, она означала погибель души; по
мнению язычников, влекла за собой «глумление над
общественными устоями, разрушение иерархии, смешение понятий...
наступление хаоса, мировой пожар, universus iteritus [всеобщую
погибель]»5. В зримом порядке нуждался не только
правитель, но и его подданные. В этом зловещем мире темной силы
и неуправляемых страстей язычник искал успокоения,
заставляя себя верить тому, что он видел на улицах и форумах города,
в его банях и амфитеатрах. Не останавливаясь на этом, он
испытывал потребность верить в каменных идолов, живописные
образы и театральные костюмы буквально, как будто они были
реальностью. Он жаждал смотреть и верить.
Римская одержимость образами касалась визуального
порядка особого рода. Это был порядок геометрический, причем
принципы этой успокоительной геометрии римлянин осмыслял не
столько на бумаге, сколько через собственное тело. Более чем за
век до Адриана архитектор Витрувий показал, что устройство
человеческого тела определяется геометрическими
соотношениями— прежде всего зеркальной симметрией мускулов, костей,
глаз и ушей. Анализируя эти соотношения, Витрувий
продемонстрировал, как устройство тела можно перенести на архитекту-
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ОДЕРЖИМОСТЬ ОБРАЗОМ
105
ру храма. Другие римляне применяли схожие геометрические
представления в градостроении, разрабатывая план города в
соответствии с правилами зеркальной симметрии и уделяя
наибольшее внимание тому, как она зрительно воспринимается
вдоль главных осей. Линейка геометра порождала Линию:
линии тел, храмов и городов отражали для римлян принципы
идеального общественного порядка.
В отличие от живописного изображения исторического
события, абстрактный геометрический узор не несет в себе
ощущения времени. Этот вневременной характер геометрии помогал
римлянам обрести уверенность относительно времен, в
которые им выпало жить. К примеру, основывая в империи новые
города, они стремились измерить и разметить захваченную
территорию, чтобы немедленно подчинить ее римской городской
планировке. Это геометрическое клеймо, часто требовавшее
разрушения прежних храмов, улиц и общественных сооружений,
перечеркивало историю покоренных Римом народов.
Историк искусства Эрнст Гомбрих совершенно верно
заметил, что и греки, и римляне, в противоположность известному
им египетскому искусству, в своем монументальном искусстве
стремились рассказывать истории6. Но римлянам особенно
нравилось рассматривать образы, которые подчеркивали
неизменность их города, долговечность и преемственность самой его
сути. Римские визуальные нарративы снова и снова повторяют
один и тот же сюжет: описанные в них государственные смуты
или бедствия неизменно разрешаются с появлением
выдающегося сенатора, полководца или императора.
Римлянин смотрел и верил, смотрел и подчинялся
непреходящему порядку. Долговечность Рима шла вразрез со
временем, в котором существовало человеческое тело, — временем
роста и угасания, неудавшихся или позабытых замыслов, лиц,
понемногу стираемых из памяти старостью или отчаянием. Сам
Адриан в одном из своих стихотворений признавал, что
телесный опыт римлянина входит в противоречие с вымышленным
местом, имя которому «Рим».
106
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
В противоположность этому римские христиане, как это
свойственно христианам, стремились утвердить особое
ощущение течения времени в собственном теле, преображающемся по
мере взросления. Христиане надеялись, что обращение в
истинную веру избавит их от хаоса телесных страстей, что бремя плоти
станет легче, а сам верующий воссоединится с высшей,
нематериальной Силой. Чая этой перемены, христиане вроде
Блаженного Августина придавали особое значение тому ужасу, который
св. Иоанн Богослов выражал перед «похотью очей»:
привлекательные зрительные образы привязывали их к миру7.
Христианская визуальная образность формировалась вокруг переживания
света, Света Господня, который ослепляет смотрящего, лишая его
возможности видеть мир или глядеться в зеркало.
Первые христиане полагали, что по мере того, как в них
крепнет вера в Бога, слабеет их привязанность к тем местам, где
они обитают. В этом они опирались на давнюю иудейскую
традицию обездоленности, в соответствии с которой евреи
рассматривали себя как духовных странников—в этом мире, но не от мира
сего. Тем не менее со временем странствие набожных
христиан завершилось, и они пришли молиться в храм, построенный
Адрианом. Вымышленный город, имя которому «Рим», возник
снова, как пишет историк искусств Ричард Бриллиант, «старое
стало новым, а прошлое — настоящим»8. С возрождением этого
ощущения места христиане перестали испытывать такую
настоятельную потребность в преображении тел.
Таким образом, переход от политеизма к монотеизму
выявил драматический конфликт между телом, местом и
временем. К эпохе Адриана пылкая любовь к своему полису,
отличавшая греков, уже уступила место более тревожному стремлению
к безопасности и беспокойной одержимости образами, которые
владели народом, не уверенным в своих традиционных богах
и в своем месте под солнцем. Переход к монотеизму
ознаменовал переключение внимания с городской преемственности на
внутренние изменения, отныне главное значение придавалось
уже не гражданской принадлежности, а частной судьбе человека.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ОДЕРЖИМОСТЬ ОБРАЗОМ
107
Однако если язычник не мог преодолеть неотступные сомнения,
отдаваясь царству камня, то христианин не мог уже безоглядно
вверить Богу свое тело.
1. СМОТРИ И ВЕРЬ
Страхи императора
Над входом в римский Пантеон можно прочитать: «M. Agrippa L.
F. cos. Ill fecit», то есть: «Марк Агриппа, сын Люция, избранный
консулом в третий раз, построил это здание». Эта надпись
озадачивает современного посетителя, поскольку император
Адриан высек на своем храме имя строителя предыдущего Пантеона,
возведенного на полтора столетия раньше. Между тем она
объясняет потребность самого Адриана в вымышленном городе, имя
которому «Рим».
Адриан взошел на императорский трон при двусмысленных
обстоятельствах. Не было точных доказательств, что его
предшественник Траян действительно усыновил Адриана и
назначил его своим наследником в соответствии с обычной
практикой передачи власти в империи. На молодого правителя давила
огромная популярность Траяна, которого римский народ
удостоил титула «лучшего императора» (optimus princeps). В самом
начале своего правления Адриан подстроил убийство четырех
влиятельных сенаторов, которых считал своими соперниками.
В и8 году н.э., через год после своего прихода к власти, он
попытался перевернуть эту мрачную страницу: принес сенату что-то
вроде извинений за убийства, раздавал гражданам золото и
простил их долги государству, устроив огромный костер из
долговых расписок. Вместо того чтобы бороться с народной памятью
о Траяне, Адриан пытался присвоить эти воспоминания,
похоронив покойного, согласно его желанию, у подножия колонны,
носившей имя Траяна и украшенной барельефными
изображениями побед optimus pnnceps. Более того, Адриан стремился создать
себе образ преемника первого императора, божественного Авгу-
108
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
ста: на монетах, которые чеканились при Адриане, был
изображен феникс, восстающий из праха, символ восстановления
порядка и единства в Риме эпохи Августа. Оступившись в самом
начале, новый император хотел всеми своими действиями
сгладить ощущение перемен, подчеркнуть, что прошлое продолжит
свое мерное течение. С тем же намерением Адриан приступил
и к перестройке Пантеона.
Пантеон выражал идею преемственности множеством
разных способов. С двух сторон от входа Адриан поместил статуи
Августа, первого императора, и Агриппы, архитектора времен
Республики. Подобно Августу, он попросил сенат быть
официальным дарителем сооруженного им храма городу. Это было чистой
формальностью, вымыслом, призванным создать видимость
сохранения республиканских ценностей и институтов, до
основания разрушенных за 130 лет императорского строя, однако на том
этапе жизни Адриана этот вымысел был ему на руку. Адриан
следовал по пути наименьшего сопротивления на протяжении всего
своего правления; скажем, в своей градостроительной
деятельности он предпочитал не сносить прежние здания, а по мере
возможности использовать пустующие городские земли.
Если как правитель он хотел успокоить подданных, то
художник, живший в душе императора, вероятно, совершил
ошибку, поскольку Пантеон представляет собой в высшей степени
поразительный объект. Купола не были в новинку для римлян, но
этот купол был исключительным по своему размеру и
инженерному совершенству. Один из критиков отмечает: «Судя по
всему, здесь были предприняты усилия, чтобы спереди
необычность этого детища Адриана не бросалась в глаза»9. Совершенно
обычную площадь перед Пантеоном дополняли традиционные
очертания пронаоса—передней храмовой пристройки, которая
была приставлена к цилиндрическому объему в качестве
входной группы. С противоположной, восточной стороны Пантеон
подпирало другое приземистое прямоугольное здание —
септа Юлия. В результате Пантеон отнюдь не представал взглядам
во всей своей округлости, а напоминал цилиндр, зажатый в ти-
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ОДЕРЖИМОСТЬ ОБРАЗОМ
109
сках. Более того, Пантеон занимал в Риме принципиально иное
положение, чем, скажем, Парфенон в Афинах. Парфенон стоял
особняком, гордо открытый всем взглядам. Пантеон был
встроен в плотную ткань окрестных зданий; прохожий вдруг
натыкался на него, свернув по одной из улиц.
В римлянах старшего поколения были живы болезненные
воспоминания о том, как император-строитель может
надругаться над городом. Так поступил, например, Нерон со своим
«Золотым домом», DomusAurea, который был задуман как его
новый дворец. В архитектурном отношении это огромное
сводчатое здание, возведенное за два поколения до Адриана,
затмевало купол Пантеона; ради строительства «Золотого дома» была
разрушена немалая часть города, а его сады, обнесенные
стенами и тщательно охранявшиеся, перегородили простым
горожанам их привычные маршруты в центре Рима. Римлян возмущала
вдохновенная мегаломания Нерона: его зб-метровый памятник
самому себе, двухкилометровая галерея, окружавшая его сады,
тонны золота, украшавшие крышу дворца. Поколением позже
Светоний писал: «И когда такой дворец был закончен и освящен,
Нерон только и сказал ему в похвалу, что теперь, наконец, он
будет жить по-человечески»10. В конце концов Нерон вынужден
был бежать из «Золотого дома» и закончил свое царствование
еще довольно молодым человеком, бросившись на меч в убогом
пристанище в предместье Рима в 68 году н.э.
В наследство от Нерона Адриану досталась поучительная
история о судьбе правителя, который выставляет свое
могущество напоказ. Тем не менее, как выразился историк Ферпос Мил-
лар, «император был тем, что император делал»11. Возведение
ошеломительных, необыкновенных зданий было одним из
самых важных деяний императора, поднимавших и его
собственный престиж, и престиж империи: такими зданиями
императоры в буквальном смысле слова выстраивали свою легитимность
в глазах подданных. Римский архитектор Витрувий писал,
обращаясь к Августу: «Величие империи приумножается
возведением великолепных общественных зданий»12.
110
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
Макет квартала вокруг римского Пантеона, ок. зоо года н.э.
Адриан должен был строить, при этом Адриан должен был
оставаться скромным; подобно другим успешным императорам,
он разрешал эту проблему с помощью вымысла, согласно
которому умножение городских памятников раскрывало
неизменную суть «Рима». Пусть народ бунтовал, сенаторы развязывали
гражданские войны, а императоры узурпировали власть:
великолепие архитектуры зримо воплощало важнейшие свойства
города, присущие ему с самого основания. Вымысел о «неизменной
сути» Рима был основан как раз на мифе о несравненных
достоинствах города на момент его зарождения. Ливии хвастался: «Не
без веских причин боги и люди выбрали именно это место для
основания города: тут есть и благодатные холмы, и удобная река.
<...> Есть тут и море, оно достаточно близко, чтобы пользоваться
его выгодами, но все же и достаточно далеко, чтобы не
подвергать нас опасности со стороны чужеземных кораблей»13. В
фактическом отношении Ливии был недалек от истины. Река Тибр,
протекающая через город, «отличается устойчивой дельтой,
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ОДЕРЖИМОСТЬ ОБРАЗОМ
111
которую легко было превратить в порт», как отмечает
современный урбанист Спиро Костоф: «Это обстоятельство, наряду
с беспрепятственным проходом для судов выше по течению...
гарантировало морское могущество Рима»14.
Вера в некую неизменную римскую суть оказалась еще
более востребованной, когда власть Рима распространилась по
миру. Овидий писал: «Земли народов других ограничены
твердым пределом; / Риму предельная грань та же, что миру дана»
(Romanae spatium est urbis et orbis idem)»15. По словам историка
Лидии Маццолани, в своей «Энеиде» Вергилий стремился
обосновать «право Рима на всемирное владычество, которое
столетиями подготавливалось на небесах»16. Эта похвальба
предполагала совсем иные последствия, чем прозвучавшее пятью
столетиями ранее притязание Перикла: «Город наш — школа
всей Эллады». Афины вовсе не собирались делать из
покоренных народов афинян. Рим был полон решимости превратить их
в римлян.
Город как магнитом притягивал всех, над кем властвовал,
его переполняли иммигранты, стремившиеся подобраться как
можно ближе к центру власти и богатства. Если не считать
евреев, которых он безжалостно преследовал, Адриан проявлял
терпимость в отношении бесконечно разнообразных племен
и верований, как на просторах империи, так и в своем городе.
Именно при нем понятие «Рим» стало распространяться на
завоеванные земли, которые рассматривались как члены
«содружества, в котором каждая провинция или народность гордо
блюла свои традиции»17. К тому времени, когда Адриан взошел
на престол, в Риме проживало около миллиона человек,
большая часть которых обитала в скученных условиях,
напоминающих бедные кварталы современного Бомбея. Этот могучий
приток людей искажал городскую планировку, потому что
новые постройки перегораживали улицы или даже заполняли их
полностью. Перенаселенность давила на малоимущих римлян
не только по горизонтали, но и по вертикали, загоняя их в ин-
супы—первые в истории многоквартирные дома, которые бес-
112
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
порядочно росли этаж за этажом, со временем иногда достигая
в высоту зо метров.
Как и в Афинах Перикла, подавляющее большинство
населения в Риме Адриана составляла беднота. В отличие от Афин,
римским рабам было несколько проще обрести свободу, получив ее
в дар от хозяина или выкупив, что создавало новый источник
общественного разнообразия. В бедных кварталах обитали и
солдаты императорской армии, которые получали довольствие,
только когда сражались на границах государства. Этот контингент не
отличался миролюбием—по ночам в неосвещенном городе
царило насилие. Сама экономическая модель империализма
делала город нестабильным.
По оценке историка Майкла Гранта, «торговля и
промышленность всей империи вместе взятые, вероятно, никогда не
приносили более одной десятой ее доходов»18. Производство в империи
было местным, как и торговля зерном и прочими продуктами
питания; топлива не хватало. Источником благосостояния были
завоевания. Большинство римлян выживало за счет сложной
системы отношений, связывавшей их с влиятельными
покровителями. Эта сеть обеспечивала распределение военных трофеев,
однако легко рвалась в моменты государственных потрясений.
Старший слуга покровительствовал младшим слугам, лавочник
окружал себя свитой старших слуг, мелкий чиновник—свитой
лавочников, и так далее. Обычный римлянин ежедневно и
неоднократно посещал тех, от кого он зависел, приветствуя их при
пробуждении и в приемные часы, льстя покровителям,
исполняя их поручения, получая подачки и заключая небольшие
сделки.
По всем вышеописанным причинам вымысел об
идеальной и неизменной сути Рима был необходим римлянам: этот
вымысел поддерживал в них уверенность, что за тревогами,
невзгодами и унижениями будней скрываются вечные ценности.
Тем не менее просто объявить Рим «Вечным» было явно
недостаточно: огромный город с его предместьями совсем не
походил на деревню, некогда возникшую на берегах Тибра, а
полиглава ТРЕТЬЯ. ОДЕРЖИМОСТЬ ОБРАЗОМ
113
тическая история Рима уже никак не соотносилась с идеей
сохранения и преемственности. Чтобы придать правдоподобие
вымыслу о «Вечном городе», император должен был обыгрывать
свою власть определенным образом, а его подданным
следовало воспринимать городскую жизнь как своего рода театральное
представление.
Адриан расправляется с Аполлодором
Императору могли сойти с рук военное поражение, голод и даже
слабоумие. Но разрабатывая сценографию тех подмостков
славы и сумасбродства, имя которым было «Рим», он должен был
действовать железной и умелой рукой. Туг он не мог
допустить ни одного промаха, как наглядно показывает, скорее
всего, лживая, но часто повторяемая история о казненном
Адрианом архитекторе.
К тому времени, когда в середине своего правления Адриан
взялся за украшение Римского форума, его территория была уже
плотно застроена памятниками, прославляющими прежних
императоров. В противовес этим династическим святилищам
Адриан построил у восточного окончания Forum Romanum храм
Венеры и Ромы, вставший на месте, где прежде располагалась часть
злополучного «Золотого дома», и нависший надо всем форумом.
По замыслу Адриана, этот храм должен был стать местом
гражданского поклонения самому городу: «Новый храм (и культ)
Венеры и Ромы, созданный Адрианом... возносил могущество
и происхождение Рима и римского народа выше, чем историю
конкретной семьи»19. В самом начале своего правления Адриан
заявил: «Populi rem esse, non propriam» — «Государство
принадлежит народу, а не мне». Храм Венеры и Ромы был знаком, что
император держит свое слово20.
По преданию, Адриан послал свои чертежи будущего
храма профессиональному архитектору — Аполлодору. Аполло-
дор, один из величайших зодчих императорского Рима, служил
еще Траяну и знал Адриана пару десятков лет; по описанию
современного историка Уильяма Макдональда, он был «человеком
114
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
очень влиятельным, писателем и космополитом»21. Получив от
Адриана проект, Аполлодор раскритиковал технические
решения и пропорции как самого здания, так и его статуй. Если
верить позднейшим слухам, в отместку за это Адриан приказал его
казнить.
Некоторые полагали, что Адриан позавидовал
архитектору, так же как прежде завидовал Траяну. Этого мнения
держался и Дион Кассий, век спустя изложивший этот сюжет в своей
«Римской истории». Однако Дион упоминает и другое
распространенное объяснение этой казни: «После того как он [Аполлодор]
с такой прямотой написал Адриану, того одновременно охватили
и злость на Аполлодора, и досада на то, что он сам допустил такую
непоправимую ошибку, и, не совладав ни с гневом, ни с
огорчением, он предал смерти этого мужа»22. Вторая версия
представляется логичной, если принять во внимание максиму «император
был тем, что император делал». Здания, которые возводил
император, служили доказательствами его легитимности. Аполлодор
заявил Адриану, что его храм Венеры и Ромы, призванный
выразить единство императора с римским народом, никуда не
годится. Адриан не просто допустил архитектурную ошибку: тем
самым он разрушил важнейшую связь со своими подданными.
Поэтому не было ничего непоследовательного в решении
императора защитить эту связь, расправившись с критиком своего
проекта.
Народ также оказывался в выигрыше, веря в абсолютную
непогрешимость правителя во всех его строительных начинаниях.
Именно римлянам мы обязаны выражением theatrum mundi,
которое Шекспир позже перевел как «Весь мир — театр». Чтобы
римляне могли полностью отдаться тому добровольному
отказу от недоверия, который составляет суть театра, власть должна
была заверить их, что спектакль жизни разыгрывается на
правильных, соответствующих этой цели подмостках.
Нагромождение одобренных свыше камней в их городе в буквальном
смысле служило декорацией, которая позволяла римлянам верить
своим глазам.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ОДЕРЖИМОСТЬ ОБРАЗОМ
115
Theatrum mundi
Римское переживание theatrum mundi основывалось на доверии
к видимости, которое нашим современникам может
показаться абсурдным в своем буквализме. Плиний Старший, к
примеру, приводит в «Естествознании» такой знаменитый анекдот про
двух художников:
Передают, что Паррасий выступил на состязание с Зевкси-
дом, и тогда как Зевксид представил картину с написанным
на ней виноградом, выполненную настолько удачно, что на
сцену стали прилетать птицы, он представил картину с
написанным на ней полотном, воспроизведенным с такой
верностью, что Зевксид, возгордившись судом птиц,
потребовал убрать наконец полотно и показать [его собственную]
картину23.
Современный читатель может решить, что эта история
иллюстрирует способность художника создавать иллюзию. Однако
с точки зрения римлянина, речь тут шла о связи искусства и
действительности: собственная картина стала для Зевксида еще
более реальной благодаря внесенным Паррасием дополнениям.
Такое буквалистское отношение к зрелищу было характерно и для
другой стороны римской жизни, которая также может
показаться нам максимально далекой от храма Адриана—гладиаторских
боев в амфитеатре.
Римский амфитеатр по форме представлял собой как бы два
греческих полукруглых театра, составленных вместе, таким
образом, его пространство было ограничено со всех сторон. В этих
обширных круглых или овальных сооружениях римляне
веками любовались смертельными поединками гладиаторов,
наблюдали, как львы, медведи и слоны рвут на части друг друга или
людей, наслаждались казнями преступников, еретиков и
дезертиров, которых пытали, распинали или сжигали живьем. По
оценке Карлин Бартон, каждый раз, когда тренированный
гладиатор выходил на арену, его шансы погибнуть составляли ι из ю,
116
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
Гладиаторы и дикие звери на арене амфитеатра. Мозаика из развалин
виллы вблизи Лептис-Магны на территории современной Ливии
в то время как рабы, преступники и христиане почти наверняка
не переживали первой же схватки. Ставки возрастали, когда
императоры организовывали «потешные» битвы, во время которых
в амфитеатре сходились целые армии гладиаторов; Траян
однажды выставил десять тысяч человек биться на смерть на
протяжении четырех месяцев24.
Театр жестокости был не просто садистским увеселением.
Как показал историк Кит Хопкинс, подобные представления
давали римлянам привычку к кровопролитию, необходимую для
имперских завоеваний25. Больше того, в амфитеатрах по воле
римлян происходило зримое явление богов, воплощениями
которых поневоле становились живые люди. Писатель Марци-
ал описывал одну из таких инсценировок: «Орфей появляется
в дикой, но величественной местности. Он в одиночестве,
прикрыт только набедренной повязкой из звериной шкуры, в его
руках лира. Внезапно он падает, растерзанный медведицей, ко-
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ОДЕРЖИМОСТЬ ОБРАЗОМ
117
торую „вдруг земля на Орфея исторгла" — на самом деле зверь
вырывается из люка, ведущего в подвалы под ареной»26. В
стороне стояли наготове служители с раскаленными прутьями и
хлыстами, следившие, чтобы несчастный приговоренный до конца
сыграл свою роль. Раннехристианский теолог Тертуллиан
свидетельствовал: «Мы видели, как человек, игравший роль Атиса,
Пессинунтского бога, сделан был евнухом на театре; как
представлявший Геркулеса испустил дух в пламени»27. Гладиаторы
и мученики утверждали в амфитеатре буквальную реальность
зрелища, точно так же как художник Зевксид делал это в своем
искусстве. Марциал провозглашал: «Все, что преданье поет, есть
на арене»; как замечает Кэтрин Уэлч, «римляне
„усовершенствовали" миф, претворяя его на деле»28.
В театрализованных гладиаторских представлениях эта
страсть к буквализму принимала заранее определенные формы,
так же как в пантомиме, построенной на немых образах.
Римляне особенно любили пантомиму за то, что в ней беспрерывно
делались буквальные намеки на реальные события. К примеру,
римский историк Светоний в своем жизнеописании Нерона
упоминает такую выходку мима:
Дат, актер... в одной песенке при словах «Будь здоров, отец,
будь здорова, мать» показал движениями, будто он пьет
и плывет, заведомо намекая этим на гибель Клавдия
[который был отравлен] и Агриппины [которая утонула], а при
заключительных словах—«К смерти путь ваш лежит!» —
показал рукою на сенат [членов которого Нерон собирался
отправить на тот свет]29.
Пантомима показывала, что случилось с предками императора
и что, скорее всего, случится с его врагами. Увидев это
представление, Нерон, судя по всему, решил, что с сенаторами и впрямь
пора кончать. В широком смысле император, который сам играл
на сцене, верил, так же как и мим, что всякая власть—явление
по сути театральное. Светоний утверждает даже, что на пороге
118
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
своей неприглядной смерти Нерон сперва некоторое время
принимал позы, усвоенные им во время выступления в
пантомимах, а готовясь пронзить себя мечом, «всхлипывал и все время
повторял: „Какой великий артист погибает!"»30 Мимические
пародии на политических деятелей стали оказывать такое влияние,
что ранний император Домициан запретил их. Траян, однако,
«снова дозволил пантомимы около юо года н.э., а его преемник
Адриан, питавший особенное пристрастие к театру и актерам,
объявил всех мимов, игравших при дворе, государственными
служащими»31.
В мире настоящей политики пантомима находила выход
в виде жестов и поз. Простертая рука, указующий перст,
повернутый торс составляли отработанный язык тела. Вот, например,
как римский оратор Квинтилиан в своих «Риторических
наставлениях» рекомендовал изображать admiratio (это слово означает
одновременно изумление и восхищение): «Следует медленно
приподнять правую ладонь и по одному загнуть пальцы,
начиная с мизинца; затем разжать их в обратном порядке,
перевернуть руку ладонью книзу и опустить». Сожаление выражалось
более простым жестом: следовало прижать к груди сжатый
кулак32. Оратор, как и мученик, игравший роль оскопленного Ати-
са, должен был совершить ряд определенных телодвижений —
без них его словам не хватало веса.
Эта политическая жестикуляция стала проще и
выразительнее в эпоху Адриана, как позволяют увидеть римские монеты.
На обширных просторах империи монеты играли важную роль,
поскольку несли на себе отчеканенные единицы информации;
искусство пантомимы помогало сделать их красноречивее.
Историк Ричард Бриллиант обратил внимание, что в правление
Траяна образ императора, отчеканенный на монетах, представал
«в отрыве от обстоятельств, в которых проявлялось его
могущество». На монетах же Адриана жестикуляция императора
изображалась «в упрощенной... и сокращенной форме». Одна из монет,
изображающая императора, отдающего приказ,
«противопоставляет строгую четкость его фигуры гладкому металлическому
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ОДЕРЖИМОСТЬ ОБРАЗОМ
119
фону»33. Когда-то Перикл воспевал единства демократических
слов и дел—эта же чеканная пантомима создавала единство
имперских образов и указов.
Из этого и складывался theatrum mundi: декорации, отмеченные
печатью власти; актер, пересекавший границу между иллюзией
и действительностью; актерская игра, в основе которой лежал
молчаливый язык тела—пантомима. У такого театра был
прямой и непосредственный смысл. Каждый, кому попадала в руки
монета Адриана, сразу понимал ее посыл, едва взглянув на
жесты, изображенные на аверсе и реверсе. Римлянин в
амфитеатре с первого взгляда знал, что несчастный, одетый
определенным образом, —это Орфей, и его вот-вот съест медведица. На
политической арене жесты вроде admiratio могли подвергаться
упрощению, как на монетах Адриана, но сами по себе эти жесты
не вызывали вопросов, их суть не менялась.
Таким образом, theatrum mundi существенно отличался от
ритуалов вроде греческих Тесмофорий, которые
преображали предание с помощью действий и пространства, так что его
новый смысл возникал из старого посредством метонимии.
Theatrum mundi стремился к буквальным отсылкам, к
повторению уже известных смыслов. Чтобы удовлетворить свою
потребность в новизне, римляне заставляли сотни медведей
убивать в амфитеатре сотни Орфеев: они приумножали знакомый
образ, вместо того чтобы изобрести новую, невиданную казнь.
Благодаря этому пристрастию к повторению образ все глубже
отпечатывался в сознании зрителя.
Theatrum mundi внушал особый ужас Блаженному
Августину: его визуальная мощь могла поколебать даже веру в Бога.
Описывая силу этого зла, Августин приводит в пример
знакомого ему христианина, который отправился в Колизей, чтобы
испытать свою веру. Сначала он сидел, отвернувшись от
кровавого зрелища, которое разворачивалось на арене, и молясь о
ниспослании ему душевных сил. Но понемногу его голова
поворачивалась вперед, как будто зажатая в тиски; он начал смотреть
120
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
представление и отдаваться ему, и наконец, захваченный
кровавыми образами, уже кричал и неистовствовал вместе с
окружавшей его толпой. В визуальной тюрьме, созданной
языческим миром, христианская воля ослабевала и сдавалась на волю
образов.
Некоторые современные исследователи полагают, что раз
римляне воспринимали мир так буквально, они, скорее
всего, страдали от недостатка образного воображения34.
Вероятнее, однако, что они страдали от его избытка. Одержимые
тревогой из-за мрачных предчувствий, выраженных в гладиаторской
присяге, жившие в обществе, где власть плодила хаос, в городе,
задыхающемся от собственных размеров, современники
Адриана уходили в «добровольный отказ от недоверия» при помощи
собственных глаз.
2. СМОТРИ И ПОДЧИНЯЙСЯ
Обычно нам не приходит в голову, что профессии актера и
геометра схожи между собой. И однако телодвижения в
пантомиме были основаны на более общей образной системе симметрии
и визуального равновесия, которую римлянам, по их мнению,
удалось обнаружить в человеческом теле. Эту же
анатомическую геометрию они применяли для того, чтобы упорядочить
мир, который завоевывали и застраивали городами. Таким
образом, стремление смотреть и верить соединялось у римлян с
требованием смотреть и подчиняться.
Геометрия тела
Пантеон может немало рассказать об этой особенности римлян.
Его устройство полностью подчинено симметрии.
Внутреннее пространство здания складывается из трех составляющих:
круглого пола, цилиндрических стен и полусферического
купола, причем горизонтальный диаметр Пантеона почти в
точности равен его высоте. Если двигаться снаружи внутрь, Пантеон
поделен на три зоны—типичную для храмов переднюю часть,
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ОДЕРЖИМОСТЬ ОБРАЗОМ
121
π η
Пантеон в Риме, современный план
промежуточный переход и внутреннее пространство. Попав
в промежуточный проход, посетитель видит под ногами
выложенные в полу прямые линии, указывающие ему направление
движения и приковывающие его взор к нише в дальней стене
прямо напротив входа, где установлена важнейшая статуя
всего здания. Хотя геометрия тут совершенно абстрактна, некото-
122
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
рые авторы писали о центральных линиях пола как о «хребте»
Пантеона, а о главной нише — как о его «голове». Другие,
осматривая здание от пола до потолка, прибегали к сравнению с
римским бюстом, согласно которому нижний цилиндр
соответствует торсу какого-нибудь полководца, статуи в нишах —резным
украшениям на доспехах, а купол—его голове. Этот образ,
впрочем, несколько хромает, поскольку отверстие в вершине
купола— окулюс—буквально самим своим названием означает глаз
здания.
Тем не менее геометрия подсказывала подобные
биологические аналогии совсем небезосновательно. Несмотря на огромные
размеры Пантеона, невозможно отделаться от чувства, что
здание является продолжением человеческого тела. Симметричная
игра его квадратов и окружностей особенно напоминает
знаменитые рисунки эпохи Ренессанса, созданные Леонардо да Винчи
и Себастьяно Серлио. На этих рисунках изображен обнаженный
мужчина с широко разведенными руками и ногами. В своем
варианте (около 1490 года) Леонардо прочертил по крайним
точкам конечностей идеальную окружность с центром в пупке
мужской фигуры, а затем, изменив ее позу, вписал ее в квадрат.
В первой главе третьей из своих «Десяти книг об
архитектуре», озаглавленной «О соразмерности в храмах и в человеческом
теле», Витрувии прямо связывал пропорции человеческого тела
с надлежащими соотношениями элементов храмовой
архитектуры: «Природа сложила человеческое тело так, что его члены по
своим пропорциям соответствуют внешнему его очертанию»35,
пишет он, и этому отношению круга и квадрата должен
подражать зодчий:
Итак, если... существует соответствие между отдельными
членами и общим видом всего тела... нам остается с
уважением отнестись к тем, кто и при постройке храмов
бессмертных богов произвел такое членение в своих работах,
что и отдельные части и общее целое находятся в
надлежащих пропорциях и соразмерности36.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ОДЕРЖИМОСТЬ ОБРАЗОМ
123
Себастъяно Серлио. Рисунок мужского тела
Противолежащие части храма должны быть равны, как стороны
тела. В случае прямоугольного здания это само собой
разумеется, но римляне были мастерами арок и куполов. Гениальная
находка Пантеона была в том, что здесь принципу двусторонней
симметрии подчинено сферическое пространство: к примеру,
две ниши по сторонам от главной, расположенной напротив
входа, зеркально симметричны. Мало того, Витрувий был убежден,
что масштаб и пропорции здания должны основываться на
масштабе и пропорциях частей тела. По его мысли, руки и ноги
человека были связаны через пупок, а следовательно, и пуповину,
124
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
I
Леонардо да Винчи. Витрувианский человек, 1485-1490
источник жизни. Если положить человека навзничь с
распростертыми руками и ногами, а потом прочертить линии через
противолежащие руки и ноги, точкой пересечения
полученных прямых станет пупок. Линии между кончиками пальцев
рук и ног при этом образуют квадрат. Это и есть «витрувианское
тело», позже запечатленное Леонардо и Серлио: квадрат, впи-
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ОДЕРЖИМОСТЬ ОБРАЗОМ
125
санный в круг, именно по этому принципу устроено внутреннее
пространство Пантеона.
Таков был римский эталон человеческого тела, выведенный
Витрувием, как мы увидим позднее, на основе множества
различных традиций и источников. Ориентируясь на этот идеал,
архитектор мог строить здания, соразмерные человеку. Более того,
та же геометрия человеческого тела во многом определяла и
надлежащий внешний вид города.
Сотворение римского города
Знакомясь с трудами Витрувия, Альбрехт Дюрер и другие
художники Возрождения задумывались над возможностью
разделить его квадрат-внутри-круга на меньшие квадраты и тем
самым создать геометрическую систему, определяющую
пропорции отдельных частей тела. Пол Пантеона устроен так же:
это шахматная доска из квадратов мрамора, гранита и порфира,
ориентированная, как и все здание, вдоль оси север-юг, причем
в каждом втором квадрате выложен каменный круг. Имперские
градостроители эпохи самого Витрувия планировали по схожей
системе целые города, создавая шахматные доски улиц,
разграничивавших участки земли.
Такую планировку часто называют «римской решеткой», но
изобрели ее не римляне. Древнейшие известные нам города,
шумерские, выглядели именно так. Когда Рим только начинал свою
экспансию, египтяне и китайцы уже использовали эту
планировку на протяжении тысячелетий. В Греции так строил Гипподам
Милетский (498-408 годы до н.э.), а на Аппенинском
полуострове — этруски. Но главное в решетке, как и в любом другом
простейшем образе,—это то, как именно использует ее та или иная
культура.
Основывая новый город или отстраивая существующий,
разрушенный при завоевании, римляне старались определить
точку, соответствующую пупку человеческого тела, которую так
и называли — umbilicus urbis. От этого места отсчитывались все
расстояния, определяющие планировку городского простран-
126
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
4
è
PORTA FKAi'TCRTA
ê*rt\ or mtsonrj
Je/'Hie wa.1l
PORTA
SINISTRA
?
ГаЫо or via
prêeiorjltuLÏ * J
га
Ж.
=D
PO UTA
DIXTRA
PORÏAOirm.lAKA
Ρ χ, Α ν ;
lARADlOMATld АКЯАХ,;:
a ком a:;
План римского военного поселения (каструма),
рисунок монахов аббатства Святого Галла
ства. Умбиликус имеется и на полу в Пантеоне. Центральный
квадрат в полу Пантеона имеет такое же стратегическое значение,
как центральная часть доски при игре в шашки или в шахматы:
он лежит точно под окулюсом купола, через который снизу
виден небосвод.
В своих поисках пупа города градостроители тоже
ориентировались на небо. Проходя по небосводу, солнце делило его
пополам; определенные отрезки между звездами ночью как бы
рассекали эту дугу под прямым углом, деля небесный купол на
четыре равные доли. Чтобы основать город, нужно было
отыскать на земле точку, точно соответствующую той, в которой
сходились четыре небесные доли, как будто карта неба отражалась
на земной поверхности. Зная местонахождение центра, можно
было определить и границы: вокруг будущего города пропахи-
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ОДЕРЖИМОСТЬ ОБРАЗОМ
127
валась борозда, называвшаяся померий, которая служила его
священным пределом. Нарушить померий, по мнению Ливия, было
все равно что обезобразить человеческое тело, слишком сильно
его растянув. Разобравшись с центром и границами, строители
прочерчивали две главные улицы, которые под прямым углом
пересекались в умбиликусе: они назывались ДекуманусМаксимус
и Кардо Максимус. Эти улицы делили город на четыре части,
каждую из которых землемеры делили еще на четыре, получая в
результате шестнадцать. По мере повторения этого процесса город
начинал напоминать каменный узор на полу Пантеона.
Умбиликус обладал огромным религиозным значением.
Внизу под этой точкой, по убеждению римлян, город был связан
с богами подземного царства; вверху над ней — с небесными
богами света, определявшими людские судьбы. Неподалеку от ум-
биликуса градостроители вырывали в земле углубление под
названием мундус—«камеру, или две камеры одна над другой...
посвященные богам преисподней» глубоко под земной
поверхностью37. Это была в прямом смысле слова адская прорва.
Основывая город, первопоселенцы совершали ритуал умиротворения
«богов ада»: закладывали в мундус фрукты и прочие
подношения, заваливали отверстие квадратным камнем и разжигали на
нем огонь. Теперь город считался «рожденным». За триста лет до
Адриана историк Полибий писал, что римский военный лагерь
«имеет вид равностороннего четырехугольника, а проложенные
в нем улицы и прочее устройство уподобляют его городу»38;
целью завоевания было именно такое рождение.
Витрувий считал, что руки и ноги соединяются в
человеческом теле через пупок; в рассуждениях об архитектуре он
придавал пуповине большее символическое значение, чем
гениталиям. Точно так же умбиликус города был точкой отсчета для всех
геометрических вычислений при его планировании. Но в то же
время пупок был и символом рождения, несущим огромный
эмоциональный заряд. Обряды основания римского города
воздавали должное ужасающему могуществу подземных богов,
которых строители старались умилостивить прямо под будущим
128
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
центром. Ужас, связанный с рождением города, нашел свое
отражение и в истории основания самого Рима.
По одному из преданий, Ромул основал Рим 21 апреля
753 года до н.э., вырыв мундус на Палатинском холме. Культ огня
существовал на Палатине с древнейших времен; его святилищем
был первый, круглый, храм Весты, куда, как и в подземелье мун-
дуса, складывались съестные припасы. Позднее храм Весты был
перенесен на римский форум, и девы-весталки должны были
вечно поддерживать там священный огонь, за исключением
одного дня в году. Если бы огонь остался потушен на более долгий
срок, Риму пришел бы конец—такова была страшная сила богов,
обитавших под городом. Ужас перед незримыми силами,
который до такой степени характеризовал эпоху Адриана, уходил
своими корнями глубоко к истокам римской культуры, лежавшим
под самым центром города.
В связи со всем этим едва ли приходится удивляться, что
рациональная на первый взгляд геометрия, увязывавшая
строение тела и устройство города, на поверку была не такой уж
рациональной. Римские авторы, писавшие об освоении завоеванных
территорий, давали крайне прозаические инструкции: город
нужно основывать там, где есть удобная гавань, оживленный
рынок, выгодные условия для обороны и так далее. Тем не менее
градостроители сплошь и рядом не следовали этим указаниям.
К примеру, в 15 километрах севернее Нима на территории
римской Галлии (современной Франции) есть возвышенность,
которая благодаря отвесным скалам представляет собой прекрасную
естественную крепость. Ко времени появления римлян здесь
процветала торговля, тем не менее завоеватели выбрали более
уязвимое и менее экономически перспективное место дальше
к югу, поскольку там можно было вырыть глубокий мундус и
забить его большим количеством продовольствия, чтобы удержать
подземных богов на расстоянии.
Подобно присяге гладиаторов, градостроительный план
соединял в себе ужас и решимость. Мундус посреди нового
пограничного города был знаком, что в этом месте римская цивили-
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ОДЕРЖИМОСТЬ ОБРАЗОМ
129
зация родится вновь; непреклонное и систематическое насилие,
которое чинили римские легионы, уравновешивало страхи,
выражением которых была яма, которую победители рыли, чтобы
задобрить богов преисподней. Поскольку римляне в своих
новых городах раз за разом использовали одни и те же
геометрические принципы, историк Джойс Рейнольде обвинила их в том,
что «они упорно цеплялись за образ мышления, подходивший
для Рима, несмотря на все возраставшую неуместность этой
градостроительной парадигмы в новых условиях имперской
экспансии»39. Тем не менее это градостроительное однообразие
было и следствием, и отражением одного из важнейших
аспектов римской культуры: theatrum mundi.
В Риме народ следил, как гладиаторы и мученики убивают
или гибнут в навязчиво повторяющейся пантомиме; на
границах империи войска наблюдали, как землемеры совершают для
них сложную церемонию, определяя расположение умбилику-
са, откапывая мундус и пропахивая померий будущего города.
Ритуал этот повторялся везде, куда доходили римские легионы:
в Галлии, на Дунае или в Британии одни и те же слова и действия
создавали один и тот же образ места.
Подобно театральному режиссеру, римский градостроитель
работал с заранее определенными образами. Целью
имперского планирования было создание города в один прием, так, чтобы
римская география немедленно вступала в свои права на только
что завоеванной территории. Городская решетка способствовала
этому, поскольку подобные геометрические образы имеют
вневременной характер. Тем не менее подобное планирование
предполагало, что прежде «там» ничего не было. Римским
завоевателям в самом деле казалось, что они маршируют сквозь пустоту,
даже если в действительности покоренные земли были
испещрены селениями. Римский поэт Овидий писал в изгнании:
Как посмотрю я вокруг—унылая местность, навряд ли
В мире найдется еще столь же безрадостный край.
А на людей погляжу—людьми назовешь их едва ли.
130
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
Злобны все как один, зверствуют хуже волков.
В стужу им мало тепла от просторных штанин и овчины,
Страшные лица у них волосом сплошь заросли40.
Хотя и в походах римляне оставались римлянами, пребывая во
власти навязчивого повторения, между Римом и пограничными
областями все же существовала огромная разница: на краю
мировой империи эта пантомима основания Рима грозила гибелью
покоренным народам.
Разумеется, жители завоеванных территорий редко
соответствуют стереотипу дикарей, лишенных истории и морали.
Коренные племена Галлии и Британии часто и сами строили
города, и римское видение городской планировки могло
сосуществовать с продолжавшимся ростом местного типа: к примеру,
центр города романизирован, а в жилых районах и на торговых
окраинах развиваются прежние традиции. В греческих городах-
государствах, завоеванных римлянами, эти предрассудки и вовсе
выглядели смехотворно, поскольку высокая римская культура
в огромной степени имела греческое происхождение.
Навязывание идеи «Рима» больше походило на память о «доме»,
подмененную в целях легитимизации своего правления.
Завоеватели рассчитывали, что городская структура поможет
варварам быстрее усвоить римские нормы. Древнеримский
историк Тацит описывает, как это происходило, когда Агрикола
правил в Британии:
Он частным образом, и вместе с тем оказывая поддержку из
государственных средств, превознося похвалами усердных
и порицая мешкотных, настойчиво побуждал британцев
к сооружению храмов, форумов и домов, и соревнование
в стремлении отличиться заменило собой принуждение.
Больше того, юношей из знатных семейств он стал обучать
свободным наукам... и те, кому латинский язык совсем не-
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ОДЕРЖИМОСТЬ ОБРАЗОМ
131
давно внушал откровенную неприязнь, горячо взялись за
изучение латинского красноречия. За этим последовало
и желание одеться по-нашему, и многие облеклись в тогу41.
Геометрия новых городов имела экономические последствия
и для самих завоевателей. Деление ячеек городской решетки
продолжалось до тех пор, пока не получались достаточно
маленькие участки, которые можно было раздать частным лицам.
Количество таких участков, которое получал солдат
императорской армии, зависело от его ранга. В сельской местности
распределение земли происходило так же: солдаты получали наделы
в точном соответствии со званиями. Римлянин придавал
огромное значение таким математическим границам, поскольку он
не просто владел землей—его право собственности разумно
обосновывалось процессом деления. Владелец мог отстоять свою
собственность перед более влиятельными претендентами,
поскольку его право на часть основывалось на той же логике,
которая породила целое. Бронзовые таблички под названием^Ьгтае
указывали местоположение участка, его размер и форму. Эти
куски бронзы были самой большой ценностью в походном мешке
римского солдата. «Ни одна цивилизация,—пишет Джозеф Рик-
верт,—не навязывала единообразной, неизменной модели
городам, сельской местности и вооруженным силам, кроме Рима
эпохи поздней республики и империи, который делал это с почти
маниакальным упорством»42.
Таков был тогда проект «Рима», который империя
внедряла повсеместно: а именно идея естественной геометрии. Но
какое значение мог иметь этот проект в самом Риме эпохи
Адриана—в городе, который давно перерос и стер любой генеральный
план, заложенный в него при рождении?
Римский форум
Старый Римский форум (Forum Romanum) был городским
центром, подобным афинской агоре времен Перикла, то есть
местом, где смешивались политика, экономика, религия и челове-
132
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
ческое общение. У каждой из обособленных групп, составлявших
его бурлящую толпу, была собственная территория. Римский
драматург Плавт сардонически классифицировал разные части
форума в начале II века до н.э. согласно дурным наклонностям
их обитателей:
Дармотрателей богатых под Базиликой найдешь;
Там же выцветшие девки, на все руки мастера;
Сотрапезники-кутилы—возле рынка Рыбного,
А на Нижнем рынке ходят—с состояньем, важные;
А на Среднем, у Канала,—баскалыги явные;
В Старом ряде же—дающие и берущие деньги в рост;
Дальше же, в квартале Тускском,—продавцы самих себя...43
Отличие форума от агоры заключалось в его более правильной
прямоугольной форме: площадь, вмещавшая всю эту пеструю
толпу, со всех четырех сторон была обрамлена зданиями.
Особенно важную роль играло здание культового назначения —
Портик двенадцати богов, примыкавший к старому форуму у
основания Капитолийского холма. В то время как греческие боги
непрерывно сражались друг с другом, здесь, в своего рода
раннем пантеоне, божества уживались мирно. Двенадцать богов
были известны как Di Consentes et Complices—согласные и
единодушные. Римляне раннего периода были убеждены, что на небе
и в подземном царстве действует «условленная иерархия
сверхъестественного могущества»44. Этот же образ богов,
выстроившихся в надлежащем порядке, подсказывал модель, которую
римляне хотели создать на земле, на форуме.
Римляне стремились придать своей архитектуре все
большую согласованность, гармонию и прямолинейность, разработав
для этого две новые формы—перистиль и базилику. В
сегодняшнем понимании этих терминов перистиль—это длинная
колоннада, окружающая центральный двор или соединяющая стро-
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ОДЕРЖИМОСТЬ ОБРАЗОМ
133
Римский форум, IV век до нз.
ения, а базилика—это прямоугольное здание, в которое люди
заходят с одного конца и движутся к противоположному. Однако
в своих изначальных римских версиях эти архитектурные
формы далеко не имели таких четких определений. Римляне
стремились создать пространство, в котором человек должен был
двигаться вперед, а не отвлекаться на движение из стороны в
сторону; у римского пространства был хребет. Так функционировал
и первый музей в современном смысле этого слова. В 318 году
до н.э. поверх ряда лавок на одной из сторон форума город
надстроил длинный второй этаж (Мениану), где в хронологическом
порядке были выставлены римские военные трофеи. Двигаясь
134
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
вдоль хребта форума, посетитель знакомился с историей побед
римского оружия.
«Базилика была всего лишь большим залом для собраний»45.
Эта архитектурная форма зародилась в Древней Греции как зал
судебных заседаний: судья восседал в дальнем его конце. В
римскую эпоху базилики представляли собой длинные, высокие
сооружения, часто подпертые по бокам такими же вытянутыми
пристройками с более низкой кровлей. Центральное
пространство освещалось с обоих концов, а также через боковые окна,
расположенные выше линий соединения пристроек с основной
частью здания. Базилика вмещала сотни, а иногда и тысячи людей,
движущихся из конца в конец вдоль ее хребта. Первая
документально подтвержденная базилика появилась на Римском форуме
в 184 году до н.э. После этого римляне возводили там даже более
крупные сооружения, основанные на том же
принципе—огромные однонаправленные коробки.
Современный историк так описывает впечатление, которое
эти здания могли производить на римлянина, стоящего под
открытым небом посреди Римского форума: «По обе стороны вы
видели бы колоннады и портики храмов и базилик, чья
перспектива замыкалась бы в дальнем конце фасадом храма Кон-
кордии»46. Но вы, будучи римлянином, не стали бы праздно
слоняться вокруг. Грандиозные здания как будто повелевали вам
встать прямо перед фасадом.
Как мы помним, поверхности афинского Парфенона
задумывались с расчетом на то, что на них будут смотреть из самых
разных точек города, и взгляд наблюдателя мог охватить здание
со всех сторон. В отличие от него, ранний римский храм
предполагал, что наблюдатель расположен только спереди от него. Его
кровля по бокам продолжалась карнизами; все культовые
украшения группировались на фасаде; мостовая и посадки вокруг
также были рассчитаны только на фронтальный взгляд47.
Внутри планировка храма тоже указывала: смотри только вперед,
двигайся только вперед. Эти коробки с их безапелляционными
командами стоят у истоков тех визуальных указаний, которые
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ОДЕРЖИМОСТЬ ОБРАЗОМ
135
были заложены в Пантеон императора Адриана с помощью
хребта и двусторонней симметрии пола и стен.
Геометрия римского пространства упорядочивала
движение тела и тем самым отдавала приказ: смотри и подчиняйся.
Приказ этот частично совпадал с другим римским изречением:
«смотри и верь», например, в один из знаменитых поворотных
моментов римской истории. Ведя войну в Галлии, Юлий Цезарь
решил напомнить римлянам о своем существовании, создав
новый форум прямо под Капитолием, к западу от Forum Romanum.
На словах целью этого строительства было обеспечение
дополнительных площадей для судебных органов Республики, но на
деле Цезарь хотел, чтобы римляне в буквальном смысле
взглянули в лицо его могуществу, пока он в отлучке. На своем
форуме он распорядился построить храм Венеры-Прародительницы
(Venus Genetrix). Поскольку Венера, по преданию, была
прародительницей рода Юлиев, проект Цезаря «по сути был храмом
в честь его собственной семьи»48. Именно этот храм занимал
господствующее положение в архитектурном ансамбле форума:
все остальные сооружения и стены расходились от него,
создавая зеркальную симметрию вдоль длинных сторон
прямоугольника. Помещая наблюдателя прямо перед храмом Юлиев, как
перед святилищем богов, Цезарь стремился подчеркнуть
божественное происхождение своей семьи и тем самым напомнить
о собственном впечатляющем могуществе.
Как и в провинциальных городах, геометрия власти в центре
Рима вытравляла проявления людского разнообразия. По мере
того как планировка Римского форума становилась все более
упорядоченной, мясники, зеленщики, рыбники и купцы
перебирались в другие части города, и к закату Республики торговля
оставила форум, оказавшийся в полном распоряжении
адвокатов и бюрократов. Затем, по мере того как императоры
строили собственные форумы, эти вечные прихлебатели власти
следовали за своими повелителями в новые пространства. Здания
Римского форума становились, если пользоваться современным
жаргоном, все более монофункциональными и к эпохе Адриана
136
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
практически опустели. Археолог Малколм Белл пишет:
«Большинство видов политической и экономической деятельности,
нуждавшихся в свободном пространстве агоры, оказались
вытесненными на периферию. В этом тщательно упорядоченном
мире... не было места неоднозначным ценностям стой»49.
По мере того как церемониал вытеснял в центре Рима
разнообразие, Римский форум становился местом, где власть
принимала внушающую доверие личину пантомимы. К примеру,
ориентировочно до 150 года до н.э. суды присяжных и
определенные голосования граждан происходили в комиции—здании
на одной из сторон Римского форума. По мере того как на
форуме стихали призывы попробовать сладких абрикосов из
Смирны или купить по дешевке бычьи яйца, голосования и
политические дискуссии переносились на свежий воздух. Ораторы
увещевали толпу с ростры, изначально—изогнутого балкона на
здании комиция, сплошные каменные стены которого
отражали и направляли голос говорящего. Когда Юлий Цезарь перенес
ростру на новое место в северо-западном конце Римского
форума, он уже предназначал эту трибуну для церемониальной
декламации, а не для политики в условиях прямой демократии.
Оратор больше не был окружен публикой с трех сторон — он
располагался по отношению к слушателям, как судья в ранних
базиликах. На открытом пространстве его голос при этом был
едва слышен, но это никого не волновало. Оратору теперь
полагалось выступать, грозить пальцем, хвататься за сердце,
разводить руками: он должен был выглядеть государственным
деятелем с точки зрения толпы, которая не могла его расслышать
и которая в любом случае давно утратила власть претворять его
слова в реальность.
Зримый порядок играл все большую роль и в зданиях
римского сената, пока эта высшая институция республики
превращалась в церемониальный орган по мере укрепления
императорской власти. Почти до самого конца Республики сенат
заседал в курии Гостилия, гордо смотрящей прямо на форум.
Три сотни сенаторов размещались тут в здании, ступенями ухо-
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ОДЕРЖИМОСТЬ ОБРАЗОМ
137
Римский форум, I век н.э.
дящем от площади вверх. Юлий Цезарь вытеснил сенат с
Римского форума, построив на месте старой курии новую —курию
Юлия, которая оказалась скрыта позади другого большого
здания, базилики Эмилия. В курии Юлия от входа к подиуму для
предводителей сената вел проход, а перпендикулярно этому
хребту стояли ряды скамей для сенаторов. Места тут
распределялись по рангу: старшие сидели спереди, младшие сзади.
Голосование проходило не так, как на греческом Пниксе: сенаторы,
оставаясь в ряду, соответствующем их рангу, перебирались с
одной стороны прохода на другую, а председательствующий объяв-
138
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
лял то или иное решение в зависимости от того, с какой стороны
видел больше людей. Плотные шеренги божественной иерархии
нашли таким образом свое отражение в сенате, все менее
способном контролировать государственные дела.
Известный политический подхалим Веллей Патеркул так
подвел итог этим визуальным переменам, восхваляя тем самым
первого императора—Августа:
На форум призвано доверие, с форума удален мятеж, с Мар-
сова поля—домогательства, из курии—раздоры, и
возвращены государству одряхлевшие от долгого бездействия
и погребенные правосудие, справедливость, энергия; к
магистратам пришел авторитет, к сенату—величие, к
судьям—вескость; подавлен театральный мятеж; всем
внушено желание или вменено в обязанность поступать
правильно50.
Римский форум — величавое церемониальное пространство,
очищенное от деловой суеты, сексуального непотребства и
простого человеческого общения — ко времени Адриана стал еще
более мертвенным: древний центр городской жизни стал, по
красноречивому выражению Веллея Патеркула, местом, где
«всем внушено желание или вменено в обязанность поступать
правильно».
История Римского форума предвосхищала судьбу череды
других форумов, сооруженных разными императорами. К концу
эпохи империи они представляли собой гигантские ритуальные
пространства, где римляне двигались вдоль хребта к
подавляюще огромным строениям, воплощавшим величие живых богов,
которые управляли их жизнями. За этим не стоял какой-то
изощренный Верховный математик, который определил бы участь
Римского форума, появление форума Юлия и рост
императорских форумов, делая эти пространства все более устрашающими
по мере того, как слабели голоса граждан. Все дело было в том,
что методы визуального контроля, разработанные римлянами
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ОДЕРЖИМОСТЬ ОБРАЗОМ
139
Императорские форумы в Риме, ок. но года н.э.
140
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
для строительства городов на дальних границах, в конце концов
эхом вернулись в породивший их Рим. Как бы космополитичные
римляне не презирали провинциалов, к эпохе Адриана
визуальный порядок, навязанный ими покоренным народам, определял
и их собственные жизни.
Больше того, к эпохе Адриана геометрия власти
господствовала не только в общественных, но и в частных пространствах.
Римский дом
Римский дом служил приютом семьям, которые в одном
отношении принципиально отличались от греческих: женщины
и мужчины занимали в них куда более равноправное
положение. Жена могла распоряжаться собственным имуществом, если
выходила замуж sine manu (буквально «без руки»), то есть не
принимала над собой полной власти (manus) супруга. Определенные
типы наследства делились между сыновьями и дочерьми.
Мужчины и женщины обедали вместе: в первые века римской
истории мужчины возлежали, а женщины стояли, но ко временам
Адриана супруги устраивались на ложах бок о бок—зрелище,
которое потрясло бы грека эпохи Перикла. Разумеется, в семье
царил строго иерархический, патриархальный порядок, и вся
власть находилась руках старейшего мужчины. Тем не менее
более сложные взаимоотношения между полами показывали, как
римское домохозяйство, domus, было отражением города в
целом. Геометрия дома была осмыслением класса, возраста, места
в отношениях клиентелы и достатка каждого из его обитателей.
Снаружи старинный римский дом не отличался от
афинского жилища времен Перикла—те же глухие стены. Внутреннее
устройство — комнаты, расположенные вокруг открытого
двора,—тоже может поначалу показаться знакомым, однако здесь
с самого начала все определял принцип линейности. Войдя в
такой старинный дом через вестибюль и оказавшись в открытом
атриуме, посетитель видел по бокам спальни и кладовые, а
прямо перед собой, по другую сторону бассейна или фонтана —
нишу со статуями богов-покровителей. Это было место отца се-
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ОДЕРЖИМОСТЬ ОБРАЗОМ
141
мейства, который иногда проводил там время, сидя на высоком
стуле, напоминающем трон, в окружении масок умерших
предков; гость, таким образом, видел перед собой образ власти,
составленный из скульптур, масок и живого человека.
Если семья была достаточно состоятельна, линейность
царила и в боковых крыльях дома. Одна комната сменяла другую
в соответствии с тем, кому и для чего была отведена каждая из
них. Распределение комнат согласно их назначению несло в себе
«ясное осознание пространственной иерархии, четкую систему
понятий „перед", „позади" или „сбоку", „больше" или
„меньше"»; каждому человеку было в подробностях известно, кто
входит в то или иное помещение первым, в каком порядке за ним
следуют остальные и какие комнаты следует использовать для
приема гостей, в зависимости от их общественного
положения51. Разумеется, все это относилось только к тем семьям,
которые могли позволить себе просторные дома, чего о большинстве
римлян, очевидно, сказать было нельзя. Тем не менее домашние
установления верхушки общественной пирамиды служили
образцом и для всех остальных.
Вообразим визит в такой идеальный дом эпохи Адриана—
дом с 8-ю слугами, принадлежащий семье из верхней
прослойки среднего класса, сравнимый, вероятно, с домом врача или
судьи в XIX веке. Во время этого воображаемого визита нелишне
будет вспомнить, что стоимость здорового раба в императорском
Риме составляла треть или четверть от цены лошади. Мы
подходим к дому, чья дверь (или двери, поскольку часто эта была
входная анфилада с тремя дверьми одна за другой) ведет в крытый
вестибюль, где мы, как и все прочие гости, подвергаемся
оценке и осмотру. Задача вестибюля — поразить посетителя
богатством семьи; Витрувий рекомендовал обставлять его как
можно роскошнее. За вестибюлем виден окруженный колоннадой
открытый двор. Перспектива комнат по другую сторону двора
в римские времена просматриЕалась гораздо лучше, чем в
современных зданиях подобной планировки, потому что в
римском доме обычно не было внутренних дверей, вместо которых
142
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
План Дома Нептуна в Ахолле в современном Тунисе: гостиная (ой-
кос) на западе, столовая (триклиний) на юге и спальни, соединенные
прихожей или коридором, в юго-западном углу
использовали занавеси. Откидывая то или иное число занавесей,
старший слуга дает нам понять, насколько далеко мы имеем
право проникнуть в дом.
Потом мы выходим во внутренний двор и замираем в
ожидании у кромки бассейна. В чем-то такой двор напоминал по
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ОДЕРЖИМОСТЬ ОБРАЗОМ
143
своим функциям агору: «Это было пространство для самых
разных занятий, от уединенных размышлений до многолюдных
пиршеств, соответствовавших высокому общественному
положению хозяина дома. Кроме того, тут вечно сновали слуги, для
которых перистиль был основным рабочим местом, главным
путем сообщения между частями дома, а также источником
воды»52. Но в других отношениях двор скорее походил на форум:
здесь толпящиеся вокруг нас гости рассортировываются по
важности, согласно которой хозяин принимает их во внутренних
покоях. Те, кого проводят в самые дальние комнаты дома,
обычно имеют куда более тесные связи с семьей, чем те, кто остается
в перистиле под открытым небом. Все тут подчинено
последовательности и порядку. В самых богатых домах главный двор
открывается в следующие, меньшие перистили, от которых, в свою
очередь, тоже расходятся анфилады комнат. Место, где нас
принимает определенный член семьи, отражает не только наш
статус, но и его. Частью этой иерархии были и слуги, которые,
примерно как в английских загородных поместьях XIX века,
контролировали определенные части дома—собственный кабинет
управляющего, столовую, где царили экономка и старший слуга,
и другие помещения53.
В столовой (триклинии) социальная жизнь также
определяется прямыми линиями. Если бы мы удостоились
приглашения на обед, мы бы увидели, как обитатели дома занимают
места на ложах в зависимости от своего положения, образуя вдоль
стен иерархическую последовательность, в вершине которой
находится хозяин, возлежащий на правом конце главного ложа.
Замужние женщины располагаются каждая на своей стороне ложа
рядом с мужчинами, но обстановку едва ли назовешь
непринужденной. Ювенал ругал напыщенность этих обедов, где отец
семейства читал сотрапезникам нотации, а те лебезили перед ним
тем униженнее, чем дальше от него располагались за столом. Но
тот же Ювенал, римлянин до корней волос, не преминул в
точности описать общественное положение каждого домочадца в
соответствии с отведенным ему местом.
144
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
Все силовые линии дома сходились в хозяйской спальне, куда
нам дороги нет. «В момент соития, — замечает историк Питер
Браун,—телам знатных римлян и римлянок не позволялось
допустить ни одного случайного завихрения в величавом потоке их
рода, катившемся от поколения к поколению через супружеское
ложе»54. Образ «линии предков» сейчас используется как фигура
речи, но в древнем Риме буквально воспринимался как
направляющая линия. Плутарх провозглашал супружескую спальню
«школой добродетели»55, поскольку после свадьбы жизнь нуклеарной
пары определялась этими «линиями предков»: в отличие от Афин
Перикла, в Риме незаконнорожденные дети по закону могли
претендовать на часть семейного имущества.
Тело, дом, форум, город, империя—все было основано на
линейной образности. Архитектурные критики говорят о пристрастии
римлян к ясной и четкой ориентации в пространстве, к ярко
выраженным перпендикулярам в композиции (как в римской
решетке), к строгим формам (вроде полукруглой римской арки)
или к зданиям с жестко заданным объемом—таким, как купол,
образованный вращением полукруга в трехмерном
пространстве. Это стремление к точной ориентации говорит об остро
ощущавшейся нужде, чем-то вроде жажды непрерывного
повторения образов, которые можно было воспринимать буквально.
Этот визуальный язык отражал потребности беспокойных,
неравноправных и неуклюжих людей, ищущих поддержки в
пространстве; такие формы были призваны создать иллюзию
вечного и неизменного по своей сути Рима, неподвластного ударам
истории. И хотя Адриан владел этим языком в совершенстве, он,
возможно, догадывался, что все это фикция.
3. НЕВОЗМОЖНАЯ ОДЕРЖИМОСТЬ
В какой-то момент правления (судя по теме, я полагаю, что уже
в преклонном возрасте) Адриан сочинил короткое
стихотворение, озаглавленное «К его душе». На латыни оно звучит так:
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ОДЕРЖИМОСТЬ ОБРАЗОМ
145
Animula, vagula, blandula
Hospes comesque corporis
Quae nunc abibis in loca
Pallidula, rigida, nudula,
Nee, ut soles, dabis iocos.
Что в переводе значит:
Душа моя, шаткая, ласковая,
тела и гостья и спутница,
в какие места отправляешься,
застылая, бледная, голая,
и не пошутишь, как любишь?*
Юный Байрон так переложил его на английский:
Ah! gentle, fleeting, wav'ring Sprite,
Friend and associate of this clay!
To what unknown region borne,
Wilt thou, now, wing thy distant flight?
No more with wonted humour gay,
But pallid, cheerless, and forlorn56.
В этих строках Адриан, неутомимый созидатель пространств,
склоняет голову перед сокрушительной силой времени. Историк Глен
Боуэрсок считает, однако, что в этом отрывке прочитывается не
отчаяние, а, скорее, светлая грусть, указывая на его непринужденный
тон и задушевный выбор слов57. Пятистишие можно прочесть и так,
как это сделала писательница Маргерит Юрсенар, оттолкнувшаяся
от фразы, найденной ею в переписке Флобера: «Богов уже не было,
Христа еще не было—настало исключительное время, от Цицерона
до Марка Аврелия, когда только человек и существовал»58. В любом
случае, стихотворение Адриана никак не назовешь бахвальством.
* Пер. Г.М. Дашевского.
146
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
Байрон заменил латинское corpus, «тело», на английское clay,
«глина», и, кроме того, неправильно перевел ut soles («как
прежде»), приняв его за отсылку к одиночеству души в мире. Но
не исключено, что поэт XIX века проникся истинным
настроением древнего поэта-императора, оставившего по всему
западному миру монументальные свидетельства своего правления,
в основании которых лежал страх, что человек и в самом деле
одинок. Современные исследователи Пантеона, вроде Уильяма
Макдональда, вряд ли сочтут, что подобная вольность
переводчика Адриана чужеродна построенному императором зданию.
Как бы ни был Пантеон насыщен витрувианской, религиозной
и политической символикой, какими бы тщательно
продуманными, практически заумными ни были его визуальные формы,
от Пантеона веет глубоким и таинственным духом одиночества.
Совсем в ином духе написано стихотворение Александра
Поупа, схожее с пятистишием Адриана и названием, и темой,
однако признающее могущество времени на христианский лад.
Последние строки его стихотворения «Умирающий христианин
к своей душе» звучат так:
Тускнеет мир; теперь в глазах
Небес просторы, а в ушах—
Звук ангельский. Сначала
Дай мне крыла! Взлетаю я!
О, ад! Победа где твоя?!
О, смерть! Твое где жало?!59
Наши предки, начиная с крохотной христианской
общины в Риме эпохи Адриана, считали это прославление
времени гораздо более притягательным, чем языческое одиночество
императора.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
ВРЕМЯ В ТЕЛЕ.
ПЕРВЫЕ ХРИСТИАНЕ В РИМЕ
В языческом мире физические страдания едва ли
воспринимались как благоприятная возможность для развития личности.
Мужчины и женщины могли стойко сносить страдания,
могли извлекать из них уроки, но не искали их. С появлением
христианства, однако, страдания тела обрели новую духовную
ценность. Возможно, преодоление боли было для христиан даже
важнее противостояния наслаждению: сам Иисус своими
крестными муками преподал им урок, что боль является более
трудным испытанием. Жизненный путь христианина складывался
в борьбе со всеми физическими раздражителями: делаясь
безразличным к своему телу, верующий надеялся приблизиться
к Господу.
Если христианское странствие во времени по
направлению от тела к Богу было успешным, верующий заодно
избавлялся и от привязанности к месту. Языческие заповеди «смотри
и верь» и «смотри и покоряйся» не пробуждали веры: никакая
ориентация в пространстве не могла бы указать путь к Богу.
Бог везде и нигде; Иисус, как и иудейские пророки до него, был
странником. Верующий, следующий за пророком, должен был,
хотя бы духовно, оставить город позади. Отрываясь от своих
корней, христианин повторял изгнание из Рая, становясь тем самым
более восприимчивым к страданиям других людей.
Это христианское странствие требовало героизма от тех, кто
на него решился. Религия, предназначенная для бедных и
слабых, заставляла их отыскивать внутри себя сверхчеловеческие
силы. История первых христиан в Риме — это рассказ о людях,
которые всеми силами старались соответствовать требованиям
148
своей веры, но в конце концов обнаружили, что они всего лишь
люди и им нужна твердая почва под ногами—что им необходим
город.
1. ЧУЖДОЕ ТЕЛО ХРИСТОВО
Антиной и Huqjc
Одна из самых драматических страниц в истории ранней
церкви открывается обвинением, которое некий христианин
выдвинул против строительного проекта, наиболее близкого сердцу
Адриана,—города, возведенного императором в память о
юноше по имени Антиной. О взаимоотношениях Антиноя и
Адриана мало что известно достоверно. Скорее всего, они
познакомились в начале 2θ-χ годов II века, когда Адриан посещал Афины
149
или другой эллинистический город; Антиной тогда был
подростком двенадцати или тринадцати лет. Спустя несколько лет
на римских монетах уже изображали Антиноя, охотившегося
вместе с императором, то есть к этому времени он входил в
ближайшее окружение Адриана. В конце того же десятилетия, в
возрасте восемнадцати или девятнадцати лет, Антиной внезапно
погиб — его тело обнаружили в водах Нила. Чтобы увековечить
память о юноше, Адриан построил на берегу возле места, где он
утонул, город Антинополь и уставил свою виллу в Тиволи
статуями Антиноя. Из этих обрывочных сведений можно сделать
логический вывод, что Адриан и Антиной были любовниками.
Любовь к Антиною могла бы объяснить не только желание
императора построить целый город в память о юноше, но и указ,
изданный после его гибели и провозглашавший Антиноя богом.
Французская писательница Маргерит Юрсенар,
прекрасно разбиравшаяся в античной литературе, написала об Адриане
и Антиное роман «Воспоминания Адриана», выстроенный
вокруг тайны гибели юноши. Она отвергла существовавшие
викторианские трактовки этого события, которые либо
замалчивали любовь между мужчинами (Антиной утонул случайно),
либо делали эту любовь причиной трагедии (Адриан убил
Антиноя за неверность). Юрсенар предпочла иное объяснение,
одновременно и менее ханжеское, и более достоверное в
историческом плане: Адриан у нее размышляет, не совершил ли Антиной
самоубийство. В восточном Средиземноморье тех времен было
широко распространено поверье, что, покончив с собой в
соответствии с определенным ритуалом, можно спасти любимого
человека: жизненные силы в таком случае перейдут от
мертвого к живому. Незадолго до гибели Антиноя Адриан тяжело
болел, и Юрсенар предположила, что юноша пожертвовал собой,
чтобы сохранить жизнь императору. Недаром после 130 года
Антиноя начинают почитать как нового Осириса, юного
египетского бога-целителя, чья смерть дарила жизнь другим.
Поскольку культ Антиноя оказался связан с почитанием
Осириса, некоторые римляне сравнивали юношу и с другими
150
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
Антиной из Элефсиса
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ВРЕМЯ В ТЕЛЕ
151
богами, принесшими себя в жертву ради людей. Самое
знаменитое подобное сравнение было выдвинуто римским
писателем Цельсом, жившим через два поколения после Адриана,
в последней трети II века: он уподобил Антиноя Христу. В не
дошедшем до нас труде, вероятно написанном между 177 и ι8ο
годами, Цельс заявил, что, поскольку самоубийство Антиноя
имело целью спасение жизни Адриана, его можно сравнить
с крестной жертвой Иисуса. Это мнение нам известно в
изложении Оригена, одного из первых выдающихся христианских
интеллектуалов, родившегося еще поколением позже,
который излагает его так: «Цельс переходит к любимцу императора
Адриана,—к юноше Антиною — и говорит о том почитании,
какое ему оказывают египтяне в городе Антинополе; причем
полагает, что это почитание ничем не отличается от того, какое
мы воздаем Исусу»1.
Ориген наносит встречный удар, пороча мужскую любовь
как слабую и изменчивую: «Что общего может быть между
жизнью Адриановского любимца, удовлетворяющего
противоестественные вожделения Адриана, и нами почитаемого Исуса?»2
Однако, отвечая Цельсу и оспаривая его уподобление Антиноя
Христу, Ориген преследовал и иную, куда более глубокую, цель:
он хотел показать, что тело Христа отличалось от обычного
человеческого тела.
Как утверждает Ориген, не в пример Антиною, против
Иисуса «Его бесчисленные обличители, все Его столь
многочисленные лжесвидетели—и то не могли выставить даже тени упрека
в невоздержании». Христос —не языческое божество со
своими страстями и плотскими желаниями3. Римские боги эпохи
Адриана представлялись усовершенствованными людьми,
одаренными сверхъестественными способностями и бессмертием.
Они были не чужды наслаждению и страху, ревности и гневу,
многие из них были чудовищными эгоцентриками. Иисус,
пишет Ориген, был совсем не таков: Он не знал похоти и перенес
крестные муки только из сострадания к Своим земным
последователям. С точки зрения язычника, Иисус странен, поскольку не
152
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
испытывает телесных ощущений, но это именно потому, что Он
Бог: Его тело—чуждое тело, непостижимое для человека.
Ориген пренебрежительно отзывался о чудотворной силе,
приписываемой покойному Антиною, как о «волхвовании и
чародействе египтян» и высмеивал решение Адриана построить
Антинополь, заявляя, что между всем этим «и тем, что
составляет достояние Иисуса, громадная разница». Тут Ориген совершил
следующий, невероятно смелый шаг—он провозгласил, что вера
в Христа не может быть создана государством: «Ведь не толпа
каких-нибудь негодяев, заискивающих только благосклонности
повелевающего ими царя или игемона, занесла Его в число богов»4.
Божества в нишах Пантеона свидетельствовали об имперских
победах точно так же, как за четыре столетия до того в «согласии
и единодушии» благословляли удачи Рима под Портиком
двенадцати богов—религия была неотделима от политики. Теперь
же государство не могло указом предписать людям веру, и все его
храмы и монументы оказались пустыми оболочками.
Ранние христиане не столько публично оспаривали
контролируемые государством формы обрядности, сколько
испытывали к ним личное отвращение. Тем не менее молодая религия все
же накладывала на них определенные ограничения, переступить
через которые не мог даже самый терпимый и космополитичный
верующий. Историк Артур Дарби Нок пишет, что каноны
обязывали каждого члена общины «отвергать государственный культ
императора». Это означало, что христианин не мог «клясться
гением императора, то есть духом-хранителем его рода; не имел права
участвовать в праздновании дней рождения и воцарения
императора; будучи военным или муниципальным служащим, должен
был избегать публичных молебнов, посещение которых входило
в его должностные обязанности»5. Причиной подобного
разделения общественной жизни и веры была сама концепция времени,
характерная для начальных стадий развития христианства.
Вероучение это заключалось в том, что христианами не
рождаются, но становятся, и это преображение человек должен
совершать сам, а не следовать приказам. Вера должна была созидать-
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ВРЕМЯ В ТЕЛЕ
153
ся в течение всей человеческой жизни, а обращение не могло
случиться в один момент: раз начавшись, оно никогда не
прекращалось. На теологическом языке выражением этого
духовного времени было утверждение, что вера есть становление.
Обращение уводит человека все дальше от подчинения
господствующему порядку и, таким образом, вбивает клин между
государством и религией.
Когда Уильям Джеймс писал об этом психологическом
аспекте обращения в своем труде «Многообразие религиозного
опыта», он отметил, что обращение может происходить в двух
формах. При первой форме обратившийся человек
психологически сохраняет «хладнокровие», примерно как при смене
политических взглядов. Он вполне может сохранить
приверженность отдельным фрагментам прежней системы верований, как
и определенную долю отстраненности в отношении новопри-
обретенной. Обращенный не теряет при этом представления
о своем месте в мире, такая перемена носит обычно
отвлеченный характер и происходит одномоментно. Джеймс приводит
в пример жителей Новой Англии, перешедших в унитариан-
ство; возможно, в качестве иллюстрации годится и
реформистский иудаизм.
Для второй формы обращения, как утверждал Джеймс,
характерна куда большая пылкость. В его основе лежит ощущение
человеком полной ошибочности своего жизненного пути и
необходимости радикальной перемены. Джеймс пишет: «В душе
человека... живут два чувства: с одной стороны—чувство
своего несовершенства, „греха", от которого он хочет освободиться;
с другой—жажда приблизиться к тому идеалу, который царит
над ним. Но... чувство своего несовершенства гораздо ярче, чем
представление о положительном идеале». Артур Дарби Нок
определил такое состояние как «в такой же степени отторжение чего-
либо, как и стремление к чему-то»6. Поскольку такое обращение
ничем не напоминает смену политических взглядов, оно
продолжается всю жизнь и завершается только со смертью. Ранние
154
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
христиане приходили к вере именно вторым путем, посредством
отторжения. В языческом мире тело принадлежало городу—куда
было податься человеку, скинувшему с себя это ярмо?7 На такой
случай не было ясных ориентиров, а все указания мирской власти
были бесполезны. И это замешательство становления было
особенно сильным среди первых христиан, поскольку в иудейской
традиции, которая лежала в основе их мировоззрения, праведник
представал странником, нигде не пускающим корней8.
Народ Ветхого Завета в собственном представлении был
кочевым, да и сам Ягве с его переносным Ковчегом был
странствующим Богом. Американский богослов Харви Кокс пишет: «Когда
Ковчег в конце концов был захвачен филистимлянами, евреи
начали понимать, что Ягве не обитает даже там. <...> Ягве не может
быть привязан к какой-либо определенной географической
точке. Он странствует повсюду со Своим народом»9. Ягве был богом
времени, а не места, и в награду за горестные скитания сулил
своим последователям высший смысл.
Первые христиане усвоили эти ветхозаветные ценности.
В эпоху максимального могущества Римской империи автор
«Послания к Диогнету», к примеру, заявлял:
Христиане не различаются от прочих людей ни страною,
ни языком, ни житейскими обычаями. Они не населяют
где-либо особенных городов... и ведут жизнь ничем не
отличную от других. <...> Живут они в своем отечестве, но как
пришельцы. <...> Для них всякая чужая страна есть
отечество, и всякое отечество—чужая страна10.
Даже если христианин не странствует физически, он должен
избавиться от привязанности к месту своего обитания. Блаженный
Августин в своем трактате «О граде Божьем» выразил это
требование как обязанность христианина «странствовать по времени»:
Итак, о Каине написано, что «построил он город»; Авель же,
как странник, города не построил. Ибо град святых есть град
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ВРЕМЯ В ТЕЛЕ
155
вышний, хотя он и здесь рождает своих граждан, в лице
которых странствует, пока не наступит время его царства,
когда соберет он всех воскресших с их телами и когда
последним дано будет обетованное Царство, в котором они будут
со своим Главою и Царем царствовать вовеки11.
Долг христианина «странствовать» во времени, а не хранить
преданность конкретным местам, основывался и на запрете
Иисуса сооружать себе памятники, и на Его обещании разрушить
Иерусалимский храм. Гражданская активность и вовлеченность
в окружающую жизнь противоречили вере в мир иной. Ради
собственного духовного благополучия человеку следовало разорвать
все эмоциональные связи с местом.
Эта работа начиналась с собственного тела человека.
Критика, с которой Ориген обрушился на Цельса, Антиноя и
Адриана, была призвана показать, что христианство в корне
пересмотрело языческое восприятие тела. Ориген стремился воплотить
этот переворот как в своей полемике с Цельсом, так и в
собственной жизни. Он писал, что обращение может быть начато силой
разума, и его отправной точкой могут стать размышления о том,
как бесконечно отличается тело Христово от наших
собственных тел. Обдумывая это, новообращенный учится не уподоблять
свои страдания крестным мукам Христа и не воображать, что
божественная любовь походит на человеческую страсть. Таким
образом, грех Адриана, обожествившего Антиноя, и грех Антиноя,
умершего за Адриана, заключался в том, что оба они
связывали физическую страсть с божественными материями. Римским
язычникам, вроде Цельса, все эти тонкости были непонятны,
и потому они были уверены, что тайна, которой христиане
окружали свои богослужения, объяснялась тем, что они устраивали
тайные оргии—последнее, впрочем, считалось совершенно
допустимым времяпрепровождением, которым порой не
гнушались и сами боги.
Следующий шаг христианина на пути обращения мог быть
более решительным, и Ориген впал тут в самую крайность. В при-
156
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
ступе религиозного экстаза он оскопил себя ножом. Язычники,
опять же, часто обвиняли христиан и в том, что они наносят
самим себе увечья во время тайных обрядов. Хотя на самом деле
это было редкостью, Ориген считал, что его собственное
страдание чрезвычайно важно для следования по пути страстей
Христовых, поскольку противостояние боли и ее преодоление—шаг
гораздо более решительный, чем простая готовность
воздерживаться от наслаждений. Мы не можем просто решить не
чувствовать боли. Больше того, поступок Оригена перекликался с
древними традициями язычества, к примеру с самоослеплением
Эдипа, которое привело языческого царя к новому
нравственному пониманию. То же относится и к другим ранним
монотеистическим религиям: скажем, зороастрийцы иногда смотрели
на солнце до тех пор, пока не лишались зрения. Телесные
трансформации, по их мнению, позволяли им почувствовать
присутствие Бога.
У современного человека такие действия могут вызывать
уважение как примеры истинной аскезы, но он все равно
воспримет их как проявления стыда всего телесного — стыда,
который в случае христианства восходит к прегрешениям Адама
и Евы. Для Оригена, однако, телесный стыд не мог быть
первопричиной. Христианское тело должно переступить равно
границы боли и удовольствия, чтобы не чувствовать ничего, чтобы
утратить способность ощущать, отринуть любые желания.
Именно поэтому Оригена больше всего задевали те пассажи Цельса
(чей пытливый взгляд обращался к оргиастическим традициям
Востока, связанным с культом Осириса), в которых последний
трактовал христианские практики усмирения плоти как
форму мазохизма. Цельс, к примеру, писал, что каждый из
христиан почитает «другого учителя и демона, жестоко обманываясь
и блуждая в глубокой тьме более беззаконно и гнусно, чем
последователи культа Антиноя в Египте»12.
Описывая эту тяжкую и неестественную трансформацию
тела, Ориген попутно подтверждает два ключевых принципа
христианского взгляда на общество. Первым принципом было
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ВРЕМЯ В ТЕЛЕ
157
В духе Евангелия от Иоанна Страсти Господни оборачиваются
триумфом: крест становится частью победоносного штандарта
Константина, а терновый венец сменяется лавровым венком
равенство между всеми человеческими существами. Перед
лицом Господа все людские тела одинаковы — не красивы и не
уродливы, не хороши и не плохи. Образы и видимости больше
не имеют значения. Тем самым христианство противоречило
и греческому преклонению перед наготой, и римским максимам
«смотри и верь» и «смотри и подчиняйся». Более того, хотя
христианство еще долго держалось за древнюю идею телесного жара
как основы физиологии, его ранние последователи решительно
отказались от вывода, что из этой физиологии следует
неравенство мужчин и женщин. Разнополые тела равноценны, среди ве-
158 ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
рующих больше не должно быть ни «мужеского пола, ни
женского». Апостол Павел в Первом послании к Коринфянам настаивал
на неукоснительном соблюдении в одежде норм,
подчеркивающих различия между полами; но он же настаивал, что в
пророчествующих мужчинах и женщинах говорит «Дух один и тот же»,
и в этом смысле они бесполы13. Благодаря чуждому,
переворачивавшему все мироздание телу Христа, Его последователи
высвобождались из плена мирских условностей пола, богатства или
любых других внешних, видимых признаков. Все это ничего не
стоило в религии Иного.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ВРЕМЯ В ТЕЛЕ
159
Второй принцип состоял в том, что этически христианство
вставало на сторону бедных, слабых и угнетенных, то есть на
сторону тех, чьи тела были наиболее уязвимы. Иоанн Златоуст
говорил о проститутках: «Не говори, что обнажена блудница,
потому что один пол и одно тело как у блудницы, так и у
благородной женщины»14. Акцент, который христианство делало
на равноправии смиренных и силе бедности, прямо вытекал
из сформулированного последователями Христа понимания
Его тела. Поскольку сам Он воспринимался другими как
слабый человек низкого происхождения, Его мученичество
отчасти призвано было восстановить уважение к тем, кто более
всего напоминал Его земное воплощение. Историк Питер Браун
так выразил эту взаимосвязь между уязвимым телом Иисуса
и телами угнетенных: «Две важнейшие темы — сексуальность
и бедность — часто оказывались объединены в рассуждениях
Иоанна и многих других христиан. Обе они сводились ко
всесторонней уязвимости тела, которой были подвержены все
мужчины и женщины вне зависимости от их благосостояния
и общественного положения»15.
Логос есть Свет
«Как же мне познать бога? И как я узнаю путь к нему? Ведь
ты расстилаешь тьму перед глазами, и я ничего отчетливо не
вижу» — вопрошал язычник Цельс, на что христианин Ориген
отвечал ему: «Творец всему есть... Свет»16. Пытаясь разъяснить
процесс становления, христиане прибегали к образу света. Они
описывали обращение как Просвещение: в иудео-христианской
традиции Логос, божественная связь между словами, означает
слова, на которые пролился свет. Ориген заявлял, что свет
являет собой Христа «каким он был до того, как стал плотью» и после
того, как Он эту плоть покинул17.
Свет, ясный свет, божественный свет не являет собой
никакого образа. Именно поэтому Блаженный Августин «осуждал
астрономов за их попытки овладеть тайнами звезд... и
предлагал аналогию с пауком, опутывающим жертву своей паутиной,
160
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
Интерьер римского Пантеона
называя [такое] любопытство „похотью очей"»18. Царствие
Небесное невозможно разглядеть на небосклоне.
Свет вездесущ. С теологической точки зрения это означает,
что бестелесный Бог также вездесущ —невидимый, но всегда
присутствующий. Процесс становления для Оригена, как и для
евангелиста Матфея и для Блаженного Августина, заключался
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ВРЕМЯ В ТЕЛЕ
161
в преображении телесных желаний, которое позволяет человеку
почувствовать эту незримую силу, наполняющую мир.
Становление означало для человека выход из своего тела на ясный свет.
Но именно в тот момент, когда новое богословие пришло
к умозаключениям, отрицающим телесность, материальный
мир навязчиво заявил о себе. Именно потому, что свет повсюду,
для его восприятия необходимо сооружение, здание, особое
место. Христианин времен Адриана понимал это, входя в языческий
храм, которому позже предстояло стать христианским. Бетонный
купол Пантеона дает свету форму. В ясную солнечную погоду оку-
люс на его вершине фокусирует солнечный свет в четко
очерченный столп. Когда снаружи пасмурно, свет, падающий через
отверстие, рассеивается и как будто пропитывает свод купола.
Язычник Дион Кассий полагал, что «благодаря куполу
Пантеон напоминает небесный свод». Поэт Перси Биши Шелли, сам
по убеждениям атеист, посетив здание в начале XIX века, описал
свои впечатления в более христианском ключе: глядя вверх,
писал он в письме другу, «ты будто смотришь в бездонный купол
Небес, в котором мельчает и теряется сама идея огромности»19.
Однако прогуливаясь снаружи, где небо также представало ему
во всей своей бесконечности, Шелли не испытывал — и не мог
испытать—ничего подобного.
Именно в этом и заключалась дилемма, вставшая перед
ранними христианами: для своего «странствия во времени» они
нуждались в особом пространстве. Обращение не терпело
отлагательств. Христианин не мог довольствоваться уважительным,
хотя и несколько ироничным, отношением к богам,
характерным, к примеру, для Светония. Эта жажда обращения была такой
огромной, что казалась почти парализующей: все чувственные
раздражители должны были исчезнуть, чтобы тело перестало
желать, ощущать вкус, запах и прикосновение, вообще
отзываться на собственные физиологические процессы. Мы знаем
поразительные примеры обращения через полное отвержение своего
тела, подобно оскоплению Оригена, но такое нанесение себе
увечий требовало невероятного физического мужества. Более зау-
162
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
рядным личностям нужно было место, в котором они могли бы
отвлечься от своих тел, осознав себя странниками во времени.
Более того, чтобы это место могло помочь слабым и беззащитным
увидеть свет, оно должно было быть хорошо построено и
искусно отделано.
2. МЕСТА ХРИСТИАНСТВА
С практической точки зрения христианство было
восточно-средиземноморским культом, который распространился по
Востоку благодаря путникам, доставлявшим из города в город
послания с догматами веры и новостями о верующих. Города, в которых
христианство укоренилось раньше всего, были в основном
небольшими торговыми центрами Римской империи. Письма
Плиния Младшего к Траяну стали первыми свидетельствами о том, что
имперская бюрократия начала выделять христиан как отдельную
группу, отличая их от иудеев. Жители самого Рима впервые
осознали эту разницу в 64 году н.э., когда Нерон сделал христиан
козлами отпущения, взвалив на них ответственность за пожар,
уничтоживший большую часть города. Тем не менее еще и во времена
Адриана их присутствие в столице было практически незаметным.
В первые десятилетия своего существования городские
общины христиан в чем-то напоминали подпольные кружки
коммунистов-революционеров начала XX века. В обоих случаях
небольшие группы единомышленников собирались в частных домах,
распространяя информацию из уст в уста или зачитывая вслух
секретные документы. Из-за отсутствия единой иерархии,
расколы и конфликты между ячейками были привычным делом как
в ранней Церкви, так и среди коммунистов. Но коммунисты не
считали дом важной площадкой для своей деятельности:
согласно своим принципам, они были сосредоточены на том, чтобы
проникнуть в общественные сферы городской жизни—на фабрики,
в газеты и в правительственные учреждения. Для
последователей Христа дом был местом, где их «странствие во времени»
брало свое начало.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ВРЕМЯ В ТЕЛЕ
163
Дам христианина
Частный дом сделался центром христианской общины спустя
поколение после распятия Христа и продолжал им быть до
середины II века, когда верующие перенесли свои собрания из
собственных жилищ в другие здания. В эпоху Адриана, таким
образом, христианство полностью ограничивалось пространством
частной жизни: государство запрещало любые публичные
проявления новой религии, да и сами верующие предпочитали
оставаться в четырех стенах ради собственной безопасности. Из-за
этих ограничений историки церкви долгое время были уверены
в том, что ранние христиане были если и не всегда бедны, то, во
всяком случае, бесправны. Сейчас мы знаем, что это было не так:
христианство привлекало новообращенных из всех слоев
общества. Верующие из среднего и высшего классов были менее
заметны, поскольку вынуждены были таиться, в то время как
другие гордо демонстрировали свою веру: если они не были готовы
к мученической смерти, им приходилось идти на компромиссы
с совестью в общественной жизни.
Под крышей родного дома путь веры для них начинался со
столовой. Члены маленькой общины собирались там на
совместные трапезы, во время которых они разговаривали, молились
и зачитывали послания от единоверцев из других городов
Империи. Хотя сам опыт обращения был строго индивидуальным, эти
коллективные действия обеспечивали верующим особую
эмоциональную поддержку. Апостол Павел объяснял, что такие общие
трапезы являются отражением «вечери Господней»20. Больше
того, современный историк церкви отмечает: «Общинные
трапезы в частных домах были очень важны, поскольку совместный
прием пищи был знаком социальных связей с другими.
Оказание гостеприимства через угощение было основным способом,
с помощью которого молитвенное сообщество себя осознавало»21.
Апостол Павел называл всю совокупность христиан экклесией,
используя греческое слово, обозначавшее политический организм.
Свои совместные трапезы христиане называли агапа: библейское
словосочетание agape koionia можно перевести как «празднова-
164
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
ние содружества», но слово агапэ обозначало также и глубокую,
сильную любовь — именно поэтому язычники, слыша о
застольях под таким названием, воображали себе тайные оргии.
Христианские трапезы были призваны порвать с теми
традициями языческого общества, которые в почти
карикатурно-преувеличенном виде вывел в своем «Сатириконе» Петроний
Арбитр. Среди прочего Петроний описывает пир, который задает
Тримальхион—невероятно разбогатевший вольноотпущенник,
который почти погребает своих гостей под курганами
невероятных деликатесов и едва ли не топит их в дорогом вине. После
нескольких перемен блюд пирующие впадают в оцепенение, в то
время как неутомимый Тримальхион ни на секунду не
замолкает. Обед оборачивается представлением своеобразного театра
жестокости: гости пускают ветры, блюют и давятся едой, чтобы
выдержать до конца вечера. В отличие от греческих симпосиев
с их духом товарищества, пир Тримальхиона дает пример
подавления окружающих одним человеком. Вместо соперничества
равных здесь показан деятельный хозяин и пассивные,
раболепные гости. Однако гости Тримальхиона не были
подневольными жертвами: в желудках у них всегда оставался уголок для еще
одной порции улиток с серебряных сковородок, а рукам хватало
сил подставить кубок виночерпию. Пусть даже абсолютно все на
этом пиру подчеркивало богатство и могущество Тримальхиона,
а роскошь, окружавшая гостей, в буквальном смысле
овладевала их телами, однако они возвращались за добавкой, снова и
снова отдавая свои тела насыщающему их хозяину, подчиняясь ему
в процессе еды.
Смыслом агапы был отказ от этого порыва к подчинению.
Трапеза, на которой все равны, должна была подчеркнуть, что
«нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет
мужеского пола, ни женского»22. В то время как на языческие пиры
гости обычно приходили по приглашению, здесь за столом с
распростертыми объятиями ожидали незнакомцев, приносивших
новости из других христианских общин. Именно жителям
столицы, собравшимся за подобным столом, апостол Павел адре-
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ВРЕМЯ В ТЕЛЕ
165
совал свое великое Послание к Римлянам, в котором он
сформулировал принципы, позже определившие структуру Церкви.
Оно датируется примерно 6о годом н.э., то есть периодом, когда
в Риме проповедовал и апостол Петр. Диаконисса Фива,
помощница Павла, обходила с посланием домашние общины Рима,
зачитывая верующим вслух пожелания Павла, а те, в свою
очередь, обсуждали и разбирали и послание, и аргументы тех, кто
уже выслушал его текст раньше. В отличие от пира Тримальхи-
она, в этих дискуссиях ни один голос не заглушал остальные на
правах хозяина.
С самых ранних домашних трапез христианский этос по-
новому распределил места за столом. Римская традиция
линейной рассадки помещала самую важную персону во главе стола,
а остальных — по обе руки от нее в порядке понижения
общественного положения. Христиане отказались от этого обычая,
вместо этого рассаживая присутствующих в соответствии с
силой их веры. Новиции, то есть люди, заинтересовавшиеся
христианским учением, но еще не христиане, и оглашенные, то есть
те, кто уже обратился, но пока не был крещен, стояли у входа или
вдоль стен столовой, в то время как верные—христиане,
принявшие крещение,—рассаживались вокруг стола. Хотя дошедшие до
нас сведения весьма отрывочны, судя по всему, в ключевые
моменты трапезы все верующие занимали равноправные места за
столом — по крайней мере, до начала III века, когда
неформальную общую трапезу вытеснили установившиеся обряды.
«Плоть желает противного духу, а дух — противного
плоти»,— Блаженный Августин цитирует Послание к Галатам (5:17)
в своей «Исповеди», где рассказывает среди прочего и о том, как
во время трапезы вкус еды и вино, разогревшее кровь,
возбудили его23. «Я борюсь с этой усладой, чтобы не попасть к ней в плен:
я веду с ней ежедневную войну постом и частым „порабощением
тела", и муки мои изгоняются удовольствием [от еды и питья]»24.
Августин искал поддержки в словах евангелиста (Лк. 2i:34):
«Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объ-
ядением и пьянством и заботами житейскими». И тем не менее
166
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
агапа стала для него испытанием, которое впервые заставило его
осознать значение «чуждого тела Христова».
И чувство общности, и испытание достигали апофеоза в
момент Евхаристии, когда верующие принимали хлеб и вино,
которые символизировали тело и кровь Иисуса. К тому времени,
когда Павел написал свое Первое послание к Коринфянам, это
таинство уже сложилось в той форме, в какой оно дошло и до нас:
«Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и,
возблагодарив, преломил и сказал: приимите, ядите, сие есть Тело Мое,
за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание. Также и чашу
после вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет в Моей Крови;
сие творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание»25.
Оттенок каннибализма в таинстве Святого причастия
объединял раннее христианство со многими культами, которые также
практиковали поедание своих богов. Тем не менее христианин,
который «причастился» божественной плоти и крови, не
чувствовал в себе божественного могущества, как это
происходило с ацтекским жрецом, выпившим кровь человека,
принесенного в жертву. Испытание заключалось в подавлении всплеска
телесной энергии, вызванного хлебом и вином. Как учил Ори-
ген, душа торжествовала, когда тело не ощущало ничего. Таким
образом, пишет историк церкви Уэйн Микс, Евхаристия
наделяла ритуальным смыслом библейское указание жить
«совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового»—то
есть Христа26.
**♦
Таинство крещения было вторым способом, к которому
прибегали христиане в своем доме, чтобы «совлечь ветхого человека»
и «облечься в нового... по образу Создавшего его». В этом случае,
как и во время общей трапезы, они снова решительно отвергали
языческие нормы поведения в обществе. Значение крещения
заключалось в том вызове, который оно бросало одной из
основополагающих гражданских практик Рима—практике
совместного купания.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ВРЕМЯ В ТЕЛЕ
167
К эпохе Адриана Рим полнился частными и
общественными купальнями; бани представляли собой огромные сводчатые
здания с крытыми бассейнами и залами для физических
упражнений. В отличие от греческих гимнасиев, это были заведения,
которые посещали — обычно группами — равно все римляне:
мужчины и женщины, старики и молодежь. До того как Адриан
повелел женщинам посещать бани до мужчин, представители
обоих полов использовали их одновременно. Купаниям
отводилась вторая половина дня и ранний вечер, по завершении визитов
и прочих повседневных дел. У самых богатых были свои
собственные частные бани, и в общественных они появлялись только ради
показного эффекта, когда им нужно было подольститься к
народу. Сам Адриан часто купался вместе со своими подданными, чем
снискал невероятную популярность. Беднота же околачивалась
в банях до самого их закрытия на закате, отдыхая там от
убожества своих жилищ.
Языческая процедура омовения представляла собой
определенную последовательность действий. Заплатив небольшую
мзду и раздевшись в общей зале, известной как аподитерий,
посетитель сначала оказывался в бассейне с горячей водой,
называемом калъдарий, где растирал истекающие потом поры костяным
сребком. Дальше он переходил в теплый бассейн—тепидарий—
и, наконец, нырял в прохладный фршидарий. Совсем как наши
современники в плавательных бассейнах, римляне проводили
время у кромки воды, болтая, флиртуя и хвастаясь.
Сенека презирал баню как подмостки, на которых люди
шумно привлекали внимание к себе, поминая, к примеру, «вспомни
про выщипывателя волос, который, чтобы его заметили,
извлекает из гортани особенно пронзительный визг и умолкает,
только когда выщипывает кому-нибудь подмышки, заставляя другого
кричать за себя. К тому же есть еще и пирожники, и колбасники,
и торговцы сладостями и всякими кушаньями, каждый на свой
лад выкликающие товар»27. Сутенеры со своими подопечными
обоих полов также не обходили бани вниманием: в целом эти
учреждения дарили горожанину послабление от суровости жизни
168
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
Термы Каракаллы в Риме. Современная реконструкция
за их стенами. Римская поговорка гласила: «Бани, вино и любовь
губят наши тела, зато рождают жизнь»28.
Однако в то же время римляне полагали, что купание
облагораживает их тела; описания варваров в латинской литературе
навязчиво создают стереотип немытого иностранца. Поддержание
чистоплотности было совместным городским опытом, и
правитель не мог затеять более популярного строительства, чем новые
бани. В этих зданиях в общей наготе сходилось вместе все
бескрайнее разнообразие города.
Христиане посещали общественные бани, как и все прочие
римляне. Но их ритуальное погружение в воду имело личное
и религиозное, а не социальное значение. Крещение в воде было
для верующего выражением внутреннего ощущения, что он до-
глава ЧЕТВЕРТАЯ. ВРЕМЯ В ТЕЛЕ
169
статочно преуспел в борьбе с телесными страстями, чтобы
заявить о своей приверженности Христу на всю жизнь. В домах
ранних христиан это происходило так: человек, который чувствовал
себя готовым к крещению, раздевался догола в помещении,
отделенном от места ритуальной трапезы, и окунался в купель с
водой. После этого новокрещенный одевался с ног до головы в
новую одежду в знак того, что теперь он стал совершенно новым
человеком. «Купель [становилась] рубежом, отделявшим
сообщество „чистых" от „грязного" мира»29.
Этот водный ритуал помогал христианам провести черту
также и между собой и своими еврейскими предками. Современный
иудаизм, как и древний, предписывает женщинам совершать
омовения в бассейне-микве в целях символического очищения,
особенно от менструальной крови. Однако миква, как замечает
исследователь иудаизма Яков Невзнер, не имела коннотации смывания
грехов; это был ритуал очищения, но не преображения30.
Женщина не выходила из миквы новым человеком—просто ее тело было
готово к участию в последующих ритуалах. Крещение же как раз
становилось порогом, который верующий переступал, когда
осознавал бесповоротность своего обращения. Очистившееся и
преображенное тело христианина как бы воспроизводило историю
смерти и воскресения самого Христа: в Послании к Римлянам
Павел писал, что мы «в смерть Его крестились»31.
В ранней Церкви крестили не младенцев, а взрослых:
крещение детей не имело никакого смысла, так как это таинство
подразумевало осознанное решение, самое важное в человеческой
жизни. По этой же причине первые христиане отказались от
иудейского обряда обрезания. Один из текстов Нового Завета
говорит о крещении как об «обрезании Христовом», но при таком
«обрезании» крайняя плоть остается на своем месте32. Апостол
Павел, выступая против обрезания, стремился избавиться от
любого телесного предиката, любого признака, отмечающего людей,
от рождения автоматически включенных в круг верующих. Отказ
от обрезания также возникает из раннехристианского убеждения,
что люди не рождаются, а становятся христианами.
170
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
Латеранская базилика в Риме. Современная реконструкция
Таинство крещения решительно противоречило заповеди
«смотри и покоряйся», определявшей жизнь языческого Рима.
Крещеный человек нес в себе невидимую миру тайну. Иудея
мужского пола можно было вывести на чистую воду, раздев
догола и осмотрев его гениталии, но «обрезание Христово» не
оставляло следов на теле. Рассуждая шире, невозможно было понять,
что представляет собой христианство, поглядев на христиан: их
внешний вид не имел никакого значения. И однако традиция
домашних молитвенных трапез запустила процесс укоренения
христиан в тех городах, где они молились.
Первые церкви
Трудно даже приблизительно оценить число христиан в Риме
при императоре Адриане, но их было, во всяком случае, не более
нескольких тысяч. Через несколько поколений против христиан
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ВРЕМЯ В ТЕЛЕ
171
начались кровавые гонения по всему Риму, в одном случае в
амфитеатре погибло за раз от 250 до 2бо человек, но численность
секты неуклонно продолжала расти. Ричард Краутхаймер
оценивает число христиан в Риме к 250 году в 30-50 тысяч человек33.
К моменту обращения императора Константина в начале IV века
его новые единоверцы составляли до трети римского населения.
Поворотным пунктом в этом процессе стал изданный
Константином в 313 Г°ДУ Миланский эдикт, легализовавший
христианство на всей территории империи. Епископ Рима Дионисий
(259-268) утвердил тот порядок церковного управления,
которому было суждено пережить века,—епископскую власть надо
всеми верующими города. По мере укоренения христианства в Риме
оно начало получать недвижимость в дар и по завещаниям.
Контроль над землями и строениями осуществляли добровольные
братства, которые к тому же сами скупали участки под кладбища
и здания под общинные центры.
В 312 году Константин вошел в Рим как первый
христианский император, и Латеранская базилика, строительство
которой он начал в 313~м> была символом этой перемены. Базилика
принадлежала императору: «Базилика и баптистерий были
возведены на земле, которая находилась в полном распоряжении
императора, среди вилл и садов, также по большей части
принадлежавших Константину, на укромной окраине города»34.
Каменное здание с деревянной крышей имело с двух сторон по два
нефа меньшего размера и завершалось в торце полукруглой
апсидой. Епископ или священник, совершавший службу, стоял на
возвышении перед апсидой, обратившись лицом к рядам
прихожан. Таким образом, внутреннее устройство базилики повторяло
структуру древних судебных залов. Баптистерий примыкал к
базилике сбоку, ближе к дальнему ее концу. Серебряная ширма
скрывала там от глаз статую Иисуса, а стены были щедро
украшены росписью на сюжеты из христианской истории. Все
поверхности Латеранского храма сияли драгоценной отделкой из мрамора
и порфира; в глазах у девы Марии и ее распятого Сына блестели
настоящие драгоценные камни.
172
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
Развитие христианства как общественной силы в
определенной мере поменяло образ Христа: «Теперь Христос уже не был
в первую очередь богом сирых и убогих, чудотворцем и
спасителем. Поскольку Константин считал себя наместником Бога на
земле, Бог постепенно начинал восприниматься как небесный
император»35. Современный ученый Томас Мэтьюз убежден, что
Иисус не стал просто новым воплощением императорской
власти, что Он оставался невиданным чудотворцем и волшебником.
Но те пространства, в которых теперь открыто молились новому
богу, втягивали христианство в орбиту прежних форм
религиозности36. Линейность и осевая симметрия римской базилики, ее
чувственное и роскошное убранство теперь формировали
имперское восприятие Иисуса Христа.
Под стать новым зданиям изменились и церковные
порядки. Между князьями Церкви и простыми верующими теперь
пролегала пропасть. Епископ носил одеяния римского
сановника и вел себя соответствующим образом: входил в Латеранскую
базилику в окружении свиты менее высокопоставленных
служителей, торжественно шествовал по центральному проходу
под взглядами прихожан (женщины с одной стороны, мужчины
с другой) и усаживался на трон перед апсидой лицом к пастве.
Церковная иерархия определяла и порядок самой службы: за
Литургией оглашенных, содержавшей общие молитвы, следовало
чтение отрывка из Писания, а затем Литургия верных. Эта
последняя начиналась с того, что крещеные члены общины
торжественно подносили восседающему на троне епископу подарки,
которые они складывали у его ног. После угощения просфорой
и вином, Плотью и Кровью, и чтения благодарственной
молитвы епископ сходил со своего престола и покидал базилику,
оставляя за собой почтительно молчащих прихожан. Так Церковь
возвращалась в мир.
По мнению некоторых исследователей, пространственные
решения, воплощенные в Латеранской базилике, складывались
на протяжении долгого времени. В соответствии с этой точкой
зрения (которая основана на изучении синагог, не в Риме, а в си-
глава ЧЕТВЕРТАЯ. ВРЕМЯ В ТЕЛЕ
173
рийском античном городе Дура-Европос), процесс сегрегации
начался в христианских общинах уже в эпоху Адриана:
возникло отдельное, уединенное помещение для крещения, а
трапезная увеличилась за счет сноса одной из стен, что позволило
прихожанам сидеть рядами лицом к алтарю. Эти изменения могли
быть продиктованы как ростом численности общины, так и
отделением таинства Евхаристии от общей молитвы*?. В Латеранском
баптистерии эти изменения, если они действительно имели
место, воплотились как памятник, оставленный
императором-христианином. Это было пространство, отмеченное печатью «Рима»,
целью которого было заставить римских христиан смотреть
и покоряться.
Разумеется, в Латеранской базилике взгляд получал
приказы, отличные от тех, которые отдавались в языческих храмах
времен правления Адриана. Для начала христианские базилики
собирали людскую массу внутри, а не снаружи. Пантеон был
исключением среди языческих храмов в том смысле, что внутри
него могло поместиться множество людей: прочие святилища,
такие как храм Венеры-Прародительницы, подразумевали, что
толпа находится перед зданием и смотрит на него снаружи. Ла-
теранская же базилика выставляла могущество напоказ только
внутри, снаружи представляя собой неинтересную, лишенную
каких-либо украшений суровую груду кирпича и бетона.
Хотя материальная роскошь и эротизированные образы,
скрытые внутри Латеранской базилики, противоречили
раннехристианскому порыву преодолеть власть чувственного мира,
верующие пытались сохранить связь с этой изначальной
традицией в пространстве иного типа, предназначенном для более
индивидуальных религиозных переживаний. Это был мартирий,
особое место, отливающее в форму свет.
По причине Распятия Христа огромную роль в христианской
теологии всегда играла смерть. В эпоху Константина христиане
стремились быть похороненными поблизости от могил святых
мучеников. В ходе прилежных, хотя подчас и сомнительных ар-
174
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
хеологических изысканий они находили захоронения жертв
прежних гонений на веру и прорывали к ним шахты,
называемые катарактами, куда вливали как подношение вино и
насыщенное благовониями оливковое масло—примерно также, как
римские язычники, кормившие богов подземного мира через
мундус. Исходно мартирий был местом захоронения христиан
поблизости от катаракты какого-нибудь мученика. Его
первоначальной архитектурной формой был просторный
прямоугольный навес, пристроенный к базилике—так возник, к примеру,
собор св. Петра в Риме, основанный на том месте, где, по
преданию, был похоронен апостол. Со временем, однако, мартирий
превратился в цилиндрическое или восьмиугольное здание
с могилой святого или другой почитаемой личности в центре.
В символическом смысле любой алтарь является могилой
Христа, и пять крестов на алтаре означают пять Его ран.
Римская церковь (или, как принято ее называть,
мавзолей) Святой Констанции, которая сохранилась до сих пор, хоть
и в перестроенном виде, была таким мартирием, построенным
около 350 года над саркофагом Констанции, дочери
императора Константина. По форме мавзолей представляет собой два
цилиндра, один в другом, меньший из которых покоится на
двенадцати двойных колоннах. Ее убранство, изобиловавшее
статуями и драгоценными камнями, когда-то не уступало в
роскоши Латеранскому баптистерию, но акцент тут приходился
на погребальные, а не на триумфальные мотивы. В других, не
настолько богато украшенных мартириях, в центре на полу
ставилась крестильная купель, на которую падал свет из-под
купола, в то время как люди передвигались вокруг нее в
относительной тени. Вне зависимости от роскоши их интерьера мартирий
были созерцательными пространствами, предназначенными
для уединенных размышлений о житии мучеников,
пострадавших за веру.
Мавзолей Святой Констанции предвосхищал
превращение Пантеона в мартирий Святой Марии и Мучеников. В
центральной точке Пантеона, в его мундусе, разместился алтарь—
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ВРЕМЯ В ТЕЛЕ
175
круг стен концентрировал на нем внимание скорбящих, взгляд
поднимался при этом снизу вверх, от уровня земного страдания
к свету. Даже само название храма, возведенного Адрианом,—
Пантеон — приобрело новое значение. До IV века римляне
воспринимали свой город как место встречи всех богов империи.
Христиане «позаимствовали этот миф: подобно языческому
Риму, который коллекционировал богов завоеванных народов,
как талисманы, они убедили себя, что апостолы Петр и Павел
прибыли в столицу с Востока, чтобы упокоить свои святые тела
в римской земле»38. Христианское название Пантеона, церковь
Святой Марии и Мучеников, продолжало эту традицию
собирательного поклонения: оно предполагало, что все святые,
пострадавшие за веру, собрались тут перед девой Марией.
Освещение в мартириях было продумано таким образом,
чтобы символически намечать определенные этапы пути
христианина. В церкви Святой Констанции двенадцать окон в
верхнем цилиндре заливали светом центральную часть, оставляя во
тьме окружающий ее амбулаторий. Считалось, что тень
является отличительной чертой пространства для самоуглубленных
размышлений. Взгляд, устремленный из тьмы к свету,
соответствовал нарративу обращения, поскольку лица при этом
оставались неосвещенными, а окружающие детали неразличимыми.
В церкви Святой Марии и Мучеников эта игра света и тени
производила наиболее сильное впечатление именно в те дни, когда
снаружи ярче всего светило солнце: столп света опускался из-под
купола как луч прожектора, непрерывно перемещаясь с места на
место и нигде не останавливаясь. Здесь человек мог смотреть
и верить, как христианин.
Базилика и мартирий стали символами двух сторон
христианства: религии Христа—Царя небесного—и религии Христа—
Спасителя мучеников и угнетенных. Но в то же время и
базилика, и мартирий были результатами непростого приспособления
христиан к тому месту, где они жили, то есть к городу, и в
особенности —к Риму. Христианизация Рима происходила
одновременно с упадком имперской столицы. Язычники трактовали этот
176
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
параллелизм как причину и следствие. Когда готский вождь Ала-
рих разграбил Рим в 410 году, одной из причин падения
города язычники посчитали христианское безразличие к мирским
делам. В своем трактате «О граде Божьем» Блаженный Августин
стремится опровергнуть обвинения в том, что христианство
ослабило империю. Христианин — в то же время и римлянин,—
утверждал он,—и следует всем законам этого города до тех пор,
пока они не противоречат принципам веры; верующие
римляне обороняли свой город от Алариха, а вовсе не распахнули
перед ним ворота изнутри. По словам Питера Брауна,
противопоставление Града Божьего и Града Земного, которое проводил
Августин, служило «универсальным объяснением побуждений,
движущих людьми... любой эпохи, констатацией
основополагающего конфликта» между странствием во времени и
преданностью конкретному месту, а вовсе не отречением от
собственного города39.
В определенной мере аргументы Августина согласуются с
самыми ранними христианскими принципами, поскольку Град
Божий не является местом. Разницу между двумя этими
городами Августин описывает так:
Хотя такое множество столь многочисленных народов,
живущих на земле каждый по особым уставам и обычаям,
и отличается друг от друга разнообразием языков, оружия,
утвари, одежд, тем не менее существовало всегда не более
как два рода человеческого общения, которые мы, следуя
Писаниям своим, можем назвать двумя градами40.
Латеранский баптистерий наглядно свидетельствовал о том, что
проводить это различие стало уже невозможно. Когда Церковь
обрела могущество и организованную структуру, ее
изначальный аскетизм оказалось непросто увязать с новым положением.
Власти нужно было место. Но мартирий воплощал собой иную
тенденцию в христианской традиции—тенденцию к
реабилитации места, поскольку только в определенных местах, тщательно
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ВРЕМЯ В ТЕЛЕ
177
и искусно выстроенных, суть обращения можно было увидеть.
Здесь христиане отрекались от плоти, но возвращали ценность
камню.
3. ЯГНЯТА И КОРШУНЫ ФРИДРИХА НИЦШЕ
Из всех авторов Нового времени, размышлявших над
стремлением раннего христианства преодолеть и плоть, и камень,
наибольшее отторжение оно вызывало у молодого Ницше. Он разоблачал
это стремление как уловку, как тактику подавления. Лучше
всего его убеждение в лживости христианства выражено, вероятно,
в его труде «К генеалогии морали», опубликованном в 1887 году.
Там он предлагает параболу про ягнят и пожирающих их
«крупных хищных птиц»41. Ницше выбрал этих животных не
случайно: ягненок—это, разумеется, агнец, то есть христианский
символ, а орлы и коршуны обычно возникают в его трудах как
специфически римские, имперские птицы—Ницше считал, что
римляне парили над миром, охотясь и повелевая везде, где
только находили себе добычу.
Он начинает свою параболу с объяснения, почему
хищные птицы сильнее ягнят. Их сила заключена не только в когтях
и клювах—они сильны, потому что не осознают своих
возможностей. Они не решают убить ягненка, а просто добывают себе
мясо, когда хотят есть. Точно так же жадные до жизни люди не
обдумывают, не выпить ли им, не убить ли, не предаться ли
любви: они просто делают это. Вслед за Шопенгауэром Ницше считал,
что сильное тело слепо к самому себе, не отягощено
самосознанием или разумом. С философской точки зрения это означает, что
для человека сильных ощущений «не существует никакого
„бытия", скрытого за поступком, действованием, становлением»42.
Такой человек не оценивает свое поведение, не сдерживает себя,
думая о других, не учитывает, что его желания могут принести
страдания ягнятам (как животным, так и людям).
Единственная защита, доступная слабым, состоит в том,
чтобы «вменять в вину хищной птице то, что она — хищная пти-
178
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЛА ГОЛОСА И ЗРЕНИЯ
ца»43. Люди-ягнята (то есть слабые) оплетают сильное тело
сетью общественных связей и моральных суждений, отягощая его
сомнениями и нерешительностью. Причина, по которой
Ницше презирает слабых, не их слабость, а их ложь. Вместо того
чтобы признаться: «Я боюсь», ягненок блеет: «У меня есть душа».
Все христианские разговоры о душе — о том, как ужасно хотеть
есть или заниматься любовью свободно и как прекрасен
человек, одержимый сомнениями и сожалениями относительно
своих телесных желаний. Таким образом, заключает Ницше,
догмат о душе «должно быть, оттого и был доселе лучшим
догматом веры на земле, что он давал большинству смертных,
слабым и угнетенным всякого рода, возможность утонченного
самообмана—толковать саму слабость как свободу»44. Христиане
нуждались в этой лжи для того, чтобы кроткие и в самом деле
наследовали землю.
В этой параболе о христианских ягнятах и языческих
коршунах Ницше не стремился ни к справедливости, ни к
исторической точности. Она не объясняла ни ту смесь решимости и
отчаяния, которая отличала гладиатора, ни физическую смелость
кастрирующего себя христианина. Да и разделение тела и души
вовсе не было христианским нововведением. Как мы уже знаем,
истоки этого разделения могут быть возведены к обнаженным
грекам, которых Ницше воспевал как истинно свободных людей.
Однако ошибка Ницше не в этом, а в его неверном понимании
природы власти. Он не осознает, что одной только грубой силы
мало для установления господства. Если бы ее было
достаточно, сильные не стремились бы легитимизировать свою власть,
ведь легитимность—это язык самооправдания, не обращенный
к сильным, но используемый ими самими. Вдобавок, парабола
Ницше игнорирует поведение слабых, которые ведут себя совсем
не как ягнята; слабые люди стараются научиться контролировать
собственные тела, чтобы оказать сопротивление сильным.
История человеческого тела в пространствах языческого
города, в частности Афин и Рима, противоречит параболе Ницше,
написанной от имени «язычника». Идеализированное тело эпо-
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ВРЕМЯ В ТЕЛЕ
179
хи Перикла оказалось уязвимым перед силой собственного
голоса. Ритуалы афинских женщин противостояли господствующему
порядку, используя их способность как к половому
воздержанию, так и к сексуальному влечению. Визуальный порядок,
заложенный в витрувианском теле и воплощенный в Риме Адриана,
сделал римлян пленниками видимости. Сопротивление этому
порядку дало христианам силы покончить с укорененностью
в одном месте и отправиться в странствие во времени — силы,
которые они черпали в презрении к собственной плоти. В
античном мире ягненок был не жертвой коршуна, а его двойником.
Христианство не разрушило «естественного» человека, а дало
людям иное утешение в тех противоречиях, которыми была
полна их жизнь. Рассуждая о происхождении религий, антрополог
Луи Дюмон отмечал, что последние способны дать людям
ощущение собственной состоятельности как в собственном мире, так
и вне его45. Пантеон императора Адриана сулил первое, церковь
Святой Марии и Мучеников—второе. Когда монотеизм занял
господствующее положение в цивилизации Запада, он
решительно порвал с тем восприятием тела, которое было характерно для
языческого, пантеистического прошлого, но не смог полностью
расстаться с пространствами пантеизма, как минимум в их
римском изводе. Ягненок, как оказалось, тоже не мог обойтись без
коршуна, душа не могла избавиться от необходимости иметь
собственное место в мире.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
ДВИЖЕНИЯ СЕРДЦА
ГЛАВА ПЯТАЯ.
ОБЩИНА.
ПАРИЖ ЖАНА ДЕ ШЕЛЛЯ
1. «STADTLUET MACHT FREI»
На протяжении примерно пяти столетий, с 500 до юоо года н.э.,
великие города Римской империи находились в упадке. Большая
часть Европы вернулась к примитивному натуральному
хозяйству; простые мужчины и женщины влачили существование на
грани голода, непрерывно подвергаясь нападениям со стороны
воинственных кочевых племен, против которых у большинства
земледельцев не было никакой защиты. Только высокие стены
монастырей и аббатств, разбросанных по континенту, сулили
убежище тем немногим, кому удавалось добраться до них при
приближении опасности. Только к концу X века в этом
всеевропейском пейзаже страха и скудости начали появляться первые
зеленые побеги. Сельская местность, где обитало большинство
населения, становилась безопаснее благодаря установлению
феодального строя и строительству замков, владельцы которых
обеспечивали своим подданным определенную военную
защиту в обмен на вечную зависимость. Начали расти и
средневековые города; хотя там жила только малая доля европейцев, в их
стенах в результате торговли скапливались съестные припасы,
ткани и предметы роскоши.
В средневековом Париже приметами этого оживления стали
два события, произошедшие в 1250 году. Именно тогда под
руководством Жана де Шелля начался последний этап
строительства собора Нотр-Дам. Эта высокая гора изящно обработанного
камня, выросшая на восточной оконечности острова Сите в
самом центре города и окруженная с трех сторон рукавами Сены,
олицетворяла могущество христианства в этом новом центре
183
——— Ограда территории
соборного капитула
Карта прихода собора Нотр-Дам, ок. 1300
западной цивилизации. Тем не менее парижане отметили
сооружение Нотр-Дама иначе, чем римляне, освящавшие на Ла-
теранском холме базилику, построенную Константином. Хотя
и король Франции, и епископ Парижский, представлявшие на
торжестве Церковь и Государство, принимали почести по
поводу этого события, на этот раз горожане прославляли новый собор
еще и как шедевр строительного мастерства, чествуя резчиков
по камню, стеклодувов, ткачей и плотников, которые потруди-
184
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДВИЖЕНИЯ СЕРДЦА
Южный (садовый) фасад собора Нотр-Дам,
современный вид
лись над зданием, а также банкиров, которые дали на него
деньги. Третья сила, Экономика, заняла свое место на подмостках
цивилизации.
В том же 1250 году по заказу короля, вошедшего в историю
под именем Людовика Святого, в Париже была изготовлена
величайшая рукописная Библия Средневековья. По своему мно-
гоцветию и изяществу письма этот манускрипт был объектом
в своем роде таким же чувственным, как Латеранская базили-
ГЛАВА ПЯТАЯ. ОБЩИНА
185
Библия святого Людовика, ок. 1250
ка. И здесь дело не обошлось без той же третьей силы. Во
многом благодаря подъему торговли, в Париж устремились толпы
студентов со всей Европы. Историк Жорж Дюби писал:
«Благодаря движению, уводившему школьную жизнь от [сельского]
монастыря к собору, в центрах городов возникали основные очаги
художественного творчества»1. Профессиональная работа по
редактированию и оформлению Библии Людовика Святого была
бы невозможна, если бы не близость крупного, процветающего
университета. Это выдающееся произведение искусства стало за-
186 ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДВИЖЕНИЯ СЕРДЦА
вершающим звеном в цепи событий, начало которой следует
искать на зерновых и рыбных рынках, расположившихся по
берегам Сены.
Древний мир не уделял должного внимания экономическим
основам цивилизации: и торговля, и ручной труд казались
удручающими занятиями, почти уделом животного. Средневековый
город превратил это животное в человека: по мнению Макса Ве-
бера, «средневековый горожанин уже начал превращаться в
человека экономического, в то время как античный гражданин был
человеком политическим»2. Помимо материального
благополучия, стихия экономики сулила тем, кто жил внутри городских
стен, две особых свободы. Еще и сегодня турист может
разглядеть над древними воротами городов, принадлежавших к
средневековому торговому объединению, называвшемуся
Ганзейским союзом, девиз «Stadtluft macht frei» («Городской воздух
делает свободным»). Как и в городах Ганзы, в Париже
экономика освобождала горожан от наследственной зависимости,
выраженной в феодальных повинностях. Кроме того, города
гарантировали жителям новое право частной собственности; в середине
XIII века доминиканец Иоанн Парижский утверждал, что
человек «имеет право на свое имущество, которого безнаказанно его
не может лишить никакая власть, потому что оно было нажито
его собственным трудом»3.
Сосуществование экономики, государства и религии в
средневековом обществе нельзя было назвать безмятежным, и ни
триумф собора Нотр-Дам, возведенного Жаном де Шеллем, ни
появление на свет Библии святого Людовика не могли отменить
напряжения, существовавшего между этими могучими силами.
Власть Людовика Святого в большой степени основывалась на
феодальных повинностях, которые он налагал на своих вассалов,
представителей владетельной знати; Церковь часто не
проводила различия между самостоятельностью в мыслях или
осуществлением своих прав и ересью. Вдобавок носители
экономического влияния в лице городских купцов и банкиров сплошь и рядом
не щадили чувств своих партнеров.
ГЛАВА ПЯТАЯ. ОБЩИНА
187
На 1250 год пришелся апогей того периода, который
историк Р.У. Саузерн окрестил «научным гуманизмом». На
протяжении столетия средневековые мыслители пытались
систематически применять накопленные ими знания для решения проблем
человеческого общества. Св. Фома Аквинский полагал, что весь
мир можно упорядочить в виде логической системы. Образ
«политического организма» как раз выражал такую
упорядоченность, объединяя в себе биологию и политику. Но экономику
было не так легко включить в конструкцию научного
гуманизма того времени.
Как мы помним, описывая политический организм в своем
«Поликратике», Иоанн Солсберийский уподоблял купцов
желудку общества. Жадная часть тела соответствовала жадной части
политического организма. Иоанн писал: «Если они
[состоятельные люди] обогатились с помощью чрезмерной корысти и если
они слишком упорно держатся за накопленное имущество, они
становятся причиной многочисленных и неизбывных хворей,
так что их пороки могут вызвать гибель всего тела»4. Проблема,
однако, заключалась не просто в жадности: тот факт, что
купцы самостоятельно заработали свои привилегии, ставил под
вопрос само понятие иерархии, в соответствии с которым во главе
политического организма помещались короли и епископы. По
словам историка Вальтера Ульмана, Иоанн Солсберийский
считал, что «положение любого члена общества должно
определяться его официальным статусом или должностными
обязанностями», а не индивидуальными способностями; в его картине мира
чем выше формальное звание человека, «чем шире его влияние,
чем весомее его слово, тем больше ему положено прав»5.
Образ жадного дельца возник задолго до того, как его
использовал Иоанн Солсберийский. Но весь «Поликратик»
пронизан иным, куда более отчетливым недоумением: Иоанну
Солсберийскому, который из всех средневековых авторов в
наибольшей степени был одержим географией, не удавалось
описать желудок общества. Разумеется, купцы торгуют на рынках
и ярмарках, но вернись туда через месяц,—замечал он,—и уже
188
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДВИЖЕНИЯ СЕРДЦА
не встретишь ни привычных лиц, ни прежних товаров. Если год
за годом осматривать набережные Сены, замечаешь, как купцы
и товары пропадают без следа и появляются ниоткуда. Желудок
политического организма, судя по всему, непрестанно менял
свой рацион. Не будучи сведущ в эконометрике, Иоанн Солсбе-
рийский не мог, как ни старался, объяснить, отчего
экономическая свобода не терпит однообразного, раз и навсегда
заведенного порядка.
Оглядываясь на средневековые города, Макс Вебер
утверждал, что «политическая автономия их общин» существовала
благодаря рынку, что именно торговля давала городам
экономическую власть, возможность избегать внешнего вмешательства
в свои дела6. На взгляд Иоанна Солсберийского, наоборот, власть
зажиточных горожан не сулила «сообществу» никакого
устойчивого правления. Эта точка зрения казалась небезосновательной
и французскому историку-урбанисту Анри Пиренну, который
был на поколение младше Вебера. Пиренн стремился
скрупулезно показать, что залогом оживления каждого из городов
становилась торговля между ними—средневековые города были не
автономны, а взаимозависимы, и от средневековых купцов
требовалась изрядная гибкость. Он писал:
Под влиянием торговли ожили старые римские города,
вновь были заселены, или торговые группы образовали
поселения около военных бургов, или основывали города на
морских берегах, на реках, при их слиянии, при скрещении
естественных путей сообщения. Каждый из них создавал
рынок, который притягивал, пропорционально своей
значительности, окружающую страну или распространял свое
влияние далеко за нее7.
Такую торговую сеть представляла собой Ганза,
распространявшая товары по всей Северной Европе. Ганзейский союз,
образовавшийся в ιι6ι году, занимался морской торговлей: корабли из
Генуи и Венеции, зайдя по пути в Лондон и Голландию, разгру-
ГЛАВА ПЯТАЯ. ОБЩИНА
189
жались в северогерманских портах, откуда товары развозились
вглубь континента. К XII веку Париж обзавелся собственной
торговой сетью, которая тянулась на восток и на запад вдоль Сены,
а с севера на юг охватывала территории от Фландрии до Марселя.
Современный историк был, однако, менее категоричен в
суждениях, чем средневековый богослов. Пиренн утверждал, что хотя
средневековый горожанин имел очень прочные связи с
родным городом, последние часто входили в противоречие с его
экономическими интересами, которые заставляли его быть
более мобильным и принимать во внимание более обширную
географию. Прибыль ждала его на горизонте возможного, в краю
вечного «авось», куда он отправлялся так часто, как только мог,
и откуда иногда не возвращался. Риск и удача выводили
экономику за пределы тесного и логичного мира научного гуманизма.
В своей теологии христианская вера была обращена ко всему
миру, однако она способствовала развитию местных
привязанностей. Узы, которые связывали верующего с Парижем,
представляли собой завершение коренного поворота, начавшегося,
когда ранние христиане примирились с Римом. По мере того как
средневековые города оживали под эгидой христианства, камни
их церквей и соборов становились материальным выражением
той страстной пожизненной привязанности, которую
христиане питали к родным местам. Так же как исполинские,
взмывающие в небо церкви, появлявшиеся даже в небольших
городках, эту привязанность к месту выражала и свойственная теперь
христианам потребность в общине. Эта потребность
сформировалась под влиянием нового понимания христианского тела.
«Чуждое тело Христово» к Высокому Средневековью
воспринималось уже иначе, превратившись в тело, чье страдание простые
люди могли постичь и с которым они могли отождествиться;
это единство человеческого и божественного страдания нашло
свое выражение в средневековых религиозных движениях,
основанных на Подражании Христу. Эти движения вдохнули
новую жизнь в христианское переживание сострадания к
ближнего
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДВИЖЕНИЯ СЕРДЦА
му—переживание, в основе которого лежит восприятие чужих
страданий как собственных. Средневековые врачи считали, что
нашли медицинское объяснение состраданию, наблюдая за
реакцией всех органов человеческого тела на разрез или удаление
одного из них во время хирургической операции,—эту реакцию
они называли «синкопой». В определенной мере это новое
понимание тела согласовалось с более широкой научной парадигмой
того времени, поскольку такие явления, как синкопа, казалось,
конкретно показывали, что человеческий организм
представляет собой взаимосвязанную и взаимозависимую систему органов.
Однако Подражание Христу было чем-то гораздо большим, чем
просто интеллектуальное движение.
По мере того как плотские страдания Иисуса становились все
более постижимыми для простых людей, проявления
народного религиозного пыла приобретали все более широкий масштаб.
Возможно, Жорж Дюби перегнул палку, когда заявил, что до
эпохи Жана де Шелля «в Европе существовала только видимость
христианства». Он писал: «Лишь очень немногие
действительно жили в соответствии с учением Христа. С кардинальным
изменением отношения к миру христианство становится народной
религией»8. Но великое религиозное возрождение, принявшее
форму Подражания Христу, изменило отношения между
верующими в Церкви, преобразило переживание исповеди и
практику благотворительности. Эти перемены затронули женские
и мужские монастыри, больницы и приюты, приходские
церкви и соборы. Особенное значение они имели для христиан,
живших в крупных городах.
Слово «община» в его обычном употреблении означает
место, где люди проявляют заботу о знакомых или соседях.
Когда христианские общины впервые складывались в самые
черные дни Темных веков, они функционировали именно так, но
в средневековом Париже сочетание религиозного пыла и
быстрого роста городского населения придало слову «община»
несколько иное значение. В крупном городе приюты, больницы
и монастыри охотнее, чем в сельской местности, распахивали
ГЛАВА ПЯТАЯ. ОБЩИНА
191
свои двери перед незнакомцами — путниками, бездомными,
сиротами, больными или безумными. Религиозная община не
подразумевала тут всего города, а, скорее, служила точкой
отсчета в вопросах морали: приют, приходская церковь, больница или
епископский сад были теми образцами, с которыми можно было
сравнивать ситуацию в других частях города, особенно на
рынках или на заваленных товарами пристанях по берегам Сены, где
царила безжалостная экономическая конкуренция.
Таким образом, хотя Париж наводняли толпы чужаков, на
улицах бушевало беспричинное насилие, а экономика
перемещала людей из города в город с такой же легкостью, как товары,
столица все же поддавалась описанию в категориях
определенной моральной географии. Для тех, кто разделял новые
религиозные ценности, храм был средоточием общины — местом,
где узы сострадания связывали чужаков между собой. В
Париже Жана де Шелля ощущение христианской общины
обновило и жизнь местных приходов: и приходская церковь, и великая
епархиальная община, образовавшаяся вокруг Нотр-Дама, были
священными убежищами внутри города.
В своем развитии средневековая экономика и
средневековая религиозность толкали ощущение места в
противоположных направлениях—отзвуки этого диссонанса различимы еще
и в наше время. Экономика города дарила людям
индивидуальную свободу действий, немыслимую в других местах,
религия создавала в городе места, где люди заботились друг о друге.
Принцип «Stadtluft macht frei» противоречил Подражанию
Христу. Результатом этого сильнейшего напряжения между
экономикой и религией стали первые приметы той двойственности,
которая характеризует современный город: с одной стороны,
желание избавиться от налагаемых обществом ограничений во имя
индивидуальной свободы, с другой — стремление найти место,
где люди заботятся друг о друге.
Фома Аквинский попытался разрешить эти противоречия
в своей «Сумме теологии» через эталонный образ Христа,
Существа, включающего в себя все сущее в мире. Его современникам
192
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДВИЖЕНИЯ СЕРДЦА
это единство было не более очевидно, чем нам сегодня—способ
установить равновесие между экономическим индивидуализмом
и интересами общества.
В этой главе исследуются воззрения, которые лежали в
основе формирования христианских общин в средневековом Париже,
и особенности функционирования этих общин. Следующая глава
описывает те экономические пространства города, которые
бросали вызов христианскому ощущению места. Одним из последствий
этого конфликта стал мрачный эпизод в истории Венеции,
крупнейшего центра торговли эпохи Ренессанса: христианская
культура попыталась там примирить личное богатство и общественную
мораль с помощью репрессий против тех, кто не соответствовал
эталонному образу христианина. Венецианское государство
прибегло к репрессиям как к средству облегчения своих внутренних
противоречий, изолировав еврейское население в стенах гетто.
2. СОСТРАДАЮЩЕЕ ТЕЛО
Сегодняшний посетитель собора Нотр-Дам видит перед собой
изваяния человеческих фигур, обрамляющие главный портал; по
своему размеру эти статуи лишь немногим выше человека. Хотя
они и кажутся из-за этого крохотными по сравнению с огромным
зданием собора, выбор такого масштаба был проявлением веры.
Начиная с XI века строители церквей предпочитали скульптуры
в человеческий рост, показывающие, по выражению
современного историка, «связь между человеческими ценностями и
ценностями, изначально присущими миру»9. Такие изваяния прямо
призывали зрителя воспринимать себя как часть церкви — это
был акт вовлечения, начало которому было положено веком
ранее с проповедью святого Франциска Ассизского, обратившегося
к обычному христианину напрямик, на понятном ему простом
языке. К тому моменту, как Жан де Шелль приступил к
завершению собора Нотр-Дам, это единство плоти и камня еще
упрочилось, потому что христиане начали соотносить свои собственные
страдания со страданиями Иисуса Христа.
ГЛАВА ПЯТАЯ. ОБЩИНА
193
Западный портал собора Нотр-Дам, ок. 1250
Христа «как бы протомили, изжарили и пропарили, дабы
спасти нас»—утешает читателя Жан Бертелеми в своей
«Книге страха любовного» («Le Livre de Crainte Amoureuse»)10. Такой
приземленный, домашний образ превращал Распятие в опыт,
постижимый в рамках повседневной жизни. Теперь люди
отождествлялись не с Иисусом, царем небесным, а с «Христом-стра-
194
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДВИЖЕНИЯ СЕРДЦА
дальцем, Христом Голгофы и страстей Господних. Распятие...
изображали все чаще и все более реалистично»11. Это движение
страстного самоотождествления с телесными муками Сына
Божьего получило известность как Подражание Христу — просто
потому, что страдания человеческого тела, казалось, вторили
крестным мукам. Это не было случайной фигурой речи.
Образность такого подражания решительно опровергала убеждение
Оригена в том, что тело Христово чуждо нашему собственному.
Святой Франциск Ассизский наставлял своих последователей,
что если они задумаются о своих повседневных заботах и
ощущениях, об окружающем мире, то поймут, что есть Бог. С
точки зрения теологии Франциск вернул христианству Природу: Бог
существует в нашем мире, Бог—не только Свет, но и Плоть.
Сострадая другим людям, мы воспроизводим собственные
религиозные переживания по поводу распятого Христа: святой
Франциск возродил то отождествление с бедняками и изгоями,
которое было свойственно раннему христианству. С
социологической точки зрения это можно было сравнить со взрывом
бомбы. Он учил, что в наших собственных телах содержится
этическая мера, позволяющая нам судить о принятых в обществе
правилах, правах и привилегиях: чем больше они причиняют
боли, тем яснее тело осознает, что они несправедливы. Вернув
плоть религии, Подражание Христу тем самым сделало плоть
судией надо всем общественным устройством. Кроме того, такой
религиозный подход противопоставлял связи между теми, кто
сострадает друг другу, общественным отношениям вроде
торговли, где любви к ближнему может и вовсе не быть места.
Разумеется, средневековый человек практиковал пытки
и прочие телесные жестокости с самозабвением, которому
позавидовали бы и римляне, расправлявшиеся с христианами в
Колизее. Но эта новая этическая установка на сострадание
породила хотя бы зачаточные представления об уважении к чужой боли
во время истязаний. К примеру, начиная примерно с 1250 года
публичные пытки людей, одержимых бесами, уже не
воспринимались в Париже так легкомысленно, как прежде: палачи до-
ГЛАВА ПЯТАЯ. ОБЩИНА
195
бивались от Церкви официального заверения, что они
причиняют страдания именно бесам, а не людям, в чьи тела эти бесы
вселились.
По самой своей природе Подражание Христу ободряло
массы в их борьбе с привилегиями элиты. И тем не менее его
поддерживали и даже провозглашали определенные представители
средневековой науки, поскольку эта концепция согласовывалась
с убеждениями, которых образованные мужчины и женщины
держались по поводу собственного тела.
Гален и его «Ars medica»
«Средневековые мыслители перенимали медицинские и
научные представления Античности, практически не ставя их под
сомнение»,—утверждает историк медицины Берн Буллоу12.
Древние представления о телесном жаре, сперме, менструальной
крови и общем строении тела в самом деле перекочевали в
средневековое мировоззрение на правах неоспоримых истин,
однако при этом они видоизменялись, часто неосознанно, чтобы
отвечать потребностям христианского общества, которое получило
их спустя тысячелетие.
Одним из основных средств распространения античной
медицины в Средневековье стала публикация трактата римского
врача Галена «Ars medica» [«Искусство врачевания»]. Впервые этот
текст появился в Салерно на рубеже ΧΙΠ века, затем был заново
переведен в Кремоне, и уже к 1280 году широко преподавался в
Париже и других европейских центрах просвещения. Гален
родился при Адриане, скорее всего, около 130 года н.э., а умер примерно
в 200 году. Его собственное медицинское образование
основывалось на идеях Аристотеля и Гиппократа, а его труды привлекли
внимание христианского мира, поскольку он демонстрировал
известную симпатию к христианам (хоть и не был верующим), а
также благодаря ходившему про него в Высокое Средневековье
преданию, что он никогда не брал с больных платы за свои услуги.
Изначально Гален писал по-гречески, но то издание
«Медицинского искусства», которое читали средневековые европейцы,
196
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДВИЖЕНИЯ СЕРДЦА
представляло собой перевод с арабского на латынь, поскольку
ученые раннего исламского мира сохранили множество
античных текстов и обогатили унаследованную ими европейскую
медицинскую традицию. Выдающийся мусульманский врач Али
ибн Ридван снабдил «Ars medica» комментариями, которые
позже дополняли многочисленные европейские переводчики
трактата. Вследствие этого он читается скорее как краткое изложение
всей суммы общепринятых на тот момент представлений, чем
как труд одного автора.
В этом тексте Гален определяет медицину как «знание о том,
что есть здорово, болезненно или нейтрально» — знание,
основанное на понимании принципов взаимодействия телесного
жара и жидкостей в важнейших органах: мозге, сердце, печени
и яичках (женские гениталии, как мы помним, в Античности
считались другой формой мужских, вывернутых наизнанку)13.
По Галену, телесный жар повышался постепенно, по
скользящей шкале; жидкости, однако, подразделялись на четыре типа
или «жизненных сока»: кровь, флегму, желтую желчь и
черную желчь. Разные сочетания жара и жидкостей в свою очередь
давали четыре психологических состояния тела, или
«темперамента», как называл их Гален вслед за Гиппократом:
сангвинический, флегматический, холерический и
меланхолический. В отличие от современных психологов, Гален утверждал,
что темперамент человека зависит от того, насколько холодным
или горячим, влажным или сухим является его тело в данный
момент, от того, какие жизненные соки струятся по телу
сильным горячим потоком, а какие текут холодной тонкой струйкой.
С точки зрения Галена, этическое поведение, такое как
агрессия или сострадание, зависело от темперамента, и
соответственно, от жара и жидкостей тела. Вот, к примеру, как он описывал
холерика, обладателя горячего и сухого сердца:
Его пульс размашистый, жесткий, быстрый и частый,
дыхание глубокое, быстрое и частое. <...> У него самая волосатая
грудь из всех. <...> Он всегда готов действовать, смел, быстр,
ГЛАВА ПЯТАЯ. ОБЩИНА
197
неистов, не осмотрителен и не рассудителен. Ему
свойственны наклонности тирана, поскольку его легко
разгневать и сложно успокоить14.
Какие бы возражения ни вызывала у нас взаимосвязь между
волосатой грудью и тираническим характером, эта всеохватность
составляла саму суть учения Галена и во многом была причиной его
притягательности для средневекового читателя, находившегося
под влиянием научного гуманизма. Она увязывала тело с душой.
Спаситель и комментатор трактата Галена, Али ибн Ридван,
провел параллель между четырьмя темпераментами и четырьмя
общественными ролями: описанный выше холерический
темперамент свойственен воину, сангвинический соответствует
государственному мужу, флегматический характерен для ученого,
а меланхолический преобладает в мужчинах и женщинах,
преисполненных религиозных чувств15. В этой типологии, как и в
европейских комментариях к «Ars medica», отсутствует торговец,
и это важное упущение: агрессию, необходимую для
коммерческого успеха, не отнесешь ни к героическим порывам воина, ни
к уравновешенным побуждениям правителя. Человек,
жалеющий ближних, находится в меланхолическом состоянии,
сострадание переполняет сердце горячей черной желчью—вот
физиология тела, переживающего Подражание Христу.
Здоровым Галену представлялось хорошо уравновешенное
тело, то есть такое, в котором жар и жидкости сбалансированы
в четырех главных органах. Значило ли это, что религиозное
сострадание —это нездоровое состояние, а то и болезнь? Мы можем
сделать такой вывод, но средневековые читатели «Медицинского
искусства» подходили к вопросу иначе. Они усматривали пример
сочувственной меланхолии в том, как человеческие тела
проявляли себя под ножом хирурга.
Анри де Мондевиль открывает синкопу
В начале XIV века парижский хирург Анри де Мондевиль решил,
что экспериментально обнаружил механизм сострадания внутри
198
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДВИЖЕНИЯ СЕРДЦА
человеческого тела, наблюдая, каким образом тело распределяет
жар и жидкости в момент кризиса. Медицинские воззрения де
Мондевиля, которые он впервые опубликовал в 1314 году16, в
основном восходили к постулатам Галена, однако де Мондевиль
особым образом представлял архитектуру организма17. Де
Мондевиль разделял тело на две большие части: благородную область
головы и сердца и производящую область желудка, и каждая из
них имела собственную физиологическую «печь». Болезнь
возникала, когда температуры двух этих зон не совпадали, выводя
тем самым из равновесия жизненные соки тела.
Де Мондевиль заметил, что во время и после хирургической
операции один орган обыкновенно компенсирует слабость
другого; он писал, что в ходе вмешательства «прочие члены
сожалеют о страданиях [поврежденного органа], и дабы облегчить
их, посылают к нему все свои жизненные силы и тепло». В
терминах притока горячей крови к поврежденному органу
объяснял это физиологическое сострадание и другой ученый,
Бартоломей Английский: «Так велика любовь между [членами тела],
что один жалеет другой. Это означает, что тот, который
страдает меньше, жалеет тот, который страдает больше;
следовательно, когда один из членов поврежден, кровь от других [членов]
немедленно приливает к нему, чтобы оказать ему помощь»18.
Де Мондевиль назвал эту сострадательную реакцию «синкопой»
(в современной медицине это слово приобрело совсем иное
значение).
Затем де Мондевиль попытался описать синкопу у людей,
наблюдающих за хирургической операцией (которая в то время
проводилась без обезболивания и скальпелем не острее
современного хлебного ножа), чтобы показать, что та же реакция на
страдание, которая происходит внутри тела, происходит точно
так же и между разными телами. Он писал:
Когда здоровые люди наблюдают за ужасной
хирургической операцией, синкопа происходит так: страх,
испытываемый ими, вызывает боль в сердце; их души собирают-
ГЛАВА ПЯТАЯ. ОБЩИНА
199
ся вместе на своего рода общий капитул, таким образом, что
их соединение и взаимная стимуляция поддерживают
жизненные силы сердца19.
Де Мондевиль тщательно выбрал и особо выделил слово
«капитул» для описания группы людей, собравшихся, чтобы
наблюдать за операцией. Капитулом назывался религиозный орган
или собрание членов гильдии. Таким образом, с его точки
зрения, истокам общины можно было найти объяснение в
физиологической реакции, которую вызывают у людей чужие страдания
во время операции. Автор опубликованной в XIV веке книги по
домоводству «Le Ménagier de Paris» [«Парижский домохозяин»]
подобным же образом утверждал, что человек «испытывает
такую же приязнь к ближнему своему, как к собственным членам,
поскольку все мы члены Господа, который есть тело»20. Хирургия
обнажала физическую реальность Страстей и Распятия,
преподавая урок нравственного пробуждения через страдание.
Хотя «средневековая религиозность всегда стремилась
укрепить и дополнить душевные порывы телесным участием»21,
открытие синкопы добавляло к этой конструкции еще и
социальные отношения, рисуя общественный ландшафт,
пронизанный меланхолией. В «Поликратике» Иоанн Солсберийский
утверждал: «Когда властитель [potestas] не может
милосердной рукой спасти жизни своих подданных... он с праведной
жестокостью искореняет зло, пока не обеспечит безопасность
добродетельных»22. Если кто-либо восстает против собственного
места в иерархии, правитель знает, что ему делать: изгнать или
умертвить непокорного, подобно тому, как хирург удаляет
больной орган. Христианское милосердие не играет большой роли
в «Поликратике». Де Мондевилю жесткость Иоанна Солсберий-
ского представлялась чрезмерной. При хирургическом
вмешательстве здоровые органы приходят на помощь больным частям
тела, способствуя их выздоровлению. Также и общественные
потрясения несут в себе позитивный потенциал: именно в такие
моменты люди сильнее всего сострадают друг другу.
200
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДВИЖЕНИЯ СЕРДЦА
Двойное тело. Иллюстрация из книги «Искусство медицины
и хирургии», 14-12
Вероятно, разницу в воззрениях Иоанна Солсберийского
и Анри де Мондевиля можно объяснить разделяющим их
столетием. Иоанн жил в Европе, только привыкающей к ощущению
собственной безопасности: еще его деды и бабки помнили
время, когда деревни были беззащитны перед разбоем
чужестранцев или местной анархией. Надежное убежище давали, казалось,
ГЛАВА ПЯТАЯ. ОБЩИНА
201
щ Лги»
«Политический организм» Иоанна Солсберийского; изображение
общественной иерархии. Иллюстрация к рукописи, XIII век
202
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДВИЖЕНИЯ СЕРДЦА
только стены города: под их защитой медицинское знание,
зафиксированное в иерархической модели тела, раскрывало
принципы общественного порядка. Де Мондевилю достались более
спокойные времена, и потому, к примеру, он иначе представлял
себе смысл стен. В момент синкопы органы направляют свой жар
и жидкости через весь организм, сквозь все внутренние стенки
тела. В период общественных потрясений стены между людьми
рушатся, заставляя их проявлять непривычное благородство.
Как и Иоанн Солсберийский, Анри де Мондевиль был
уверен, что между устройством тела и устройством города
существует прямая аналогия, но его понимание тела привело его к иному
образу города: город для него был пространством внутреннего
напряжения и неравномерного распределения жара23. Коллеги де
Мондевиля, к примеру, сравнивали приток иностранных
беженцев в город с ножевым ранением; эти доктора предлагали
гораздо более гуманный подход, чем отторжение чужаков всеми
органами политического организма. Естественным, по их мнению,
было проявление милосердия. Позыв помочь другому в тяжелую
минуту, заявляли они, имеет под собой надежное медицинское
обоснование — в наше время мы бы сказали, что альтруизм
легко объясним с точки зрения биологии.
Между представлениями Иоанна Солсберийского и Анри де
Мондевиля об устройстве политического организма было важное
расхождение. Первый спрашивал: «Еде твое место?», а второй—
«Насколько ты отзывчив к другим?» Для первого город был
пространством, которое ранжирует совместно обитающие там тела;
для второго—пространством, которое связывает их между собой.
Медицина, соединившись с Подражанием Христу, поставила под
сомнение некоторые из социальных барьеров в повседневной
жизни верующих горожан—в первую очередь, великий
тендерный рубеж, основанный на античных представлениях о
физиологии и перекочевавший в средневековую картину мира.
Женщины Средневековья — даже самые решительные из
них, такие как Элоиза Парижская, настоятельница монасты-
ГЛАВА ПЯТАЯ. ОБЩИНА
203
ря Параклет, — по всей видимости, безоговорочно
признавали свою предполагаемую биологическую слабость в сравнении
с мужчинами. Согласно Иоанну Солсберийскому, в сердце
политического организма находились мужчины, государственные
мужи. Между тем, как доказала историк Кэролайн Байнум,
сторонники Подражания Христу начали воспринимать сердце,
наполняющую его кровь и его положение рядом с грудями как ан-
дрогинную, если и вовсе не женскую область, тесно связанную
с образом Девы Марии24. Тендерная принадлежность самого
Христа тоже представлялась не вполне определенной: многие
средневековые клирики и мыслители обращались к нему как к
матери25. Святой Ансельм вопрошал: «Но разве ты, Иисусе, также и не
мать? Разве ты не та мать, что, как наседка, собирает под крылья
своих цыплят? Воистину, Господи, ты мать»26.
Это размывание тендера Иисуса, наряду с развитием
культа Богородицы и прославлением ее связи с человеческим телом,
ставило акцент на вскармливании, то есть на милосердии,
выраженном в образах материнства. Эту милосердную, материнскую
ипостась Христа особенно подчеркивал Бернард Клервоский:
«Для Бернарда этот материнский образ [означал]... не столько
рождение или даже зачатие или вынашивание плода во чреве,
сколько вскармливание, особенно кормление грудью»27.
Достоинство, которое было признано теперь за женским телом,
позволило женщинам XII столетия занять гораздо более заметное
место в церковных делах—это показывает расцвет
многочисленных женских монастырей, таких как Параклет, имевших
образованных настоятельниц и ставивших перед собой серьезные
духовные задачи.
Но стремление к вскармливанию не очень согласовывалось
с меланхолическим темпераментом тела. Как заметил историк
Раймонд Клибански, из всех четырех темпераментов
меланхолия в наибольшей степени побуждает человека погрузиться
в себя. Под ее влиянием человек стремился постичь тайну
собственной души, а не исследовал проблемы окружающего мира,
как это делал наделенный более научным складом ума флегма-
204
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДВИЖЕНИЯ СЕРДЦА
тик28. Меланхолия вела к размышлениям о тайне Божественной
благодати и о зле как причине людских страданий.
Традиционными пространствами меланхолии были, таким образом,
клуатры, кельи и сады, огороженные высокими стенами.
Современная медицина часто путает меланхолию с
клинической депрессией. Поведение средневекового меланхолика
мало напоминало замедленные движения, притуплённую
реакцию на окружающих и болезненную вялость человека,
страдающего депрессией. Возможность для наиболее активного
проявления заботы и милосердия давал меланхоликам средневековый
церемониал смерти. Перед собором Нотр-Дам горожане
наблюдали за мистериями о Страстях Христовых, которые
изображались там с суровым реализмом — актера, игравшего Христа,
часто бичевали до крови. Эти крайне физиологичные сцены
способствовали сближению зрителей со страданиями Иисуса как
такого же человеческого существа. Внутри собора новое, народное
благочестие предписывало на время пасхального богослужения
отказ от «любой ограды или перегородки». Каждый из
присутствующих, где бы он ни находился, должен был иметь
возможность «отовсюду слышать проповедь, видеть Тело Христово»29.
Точно такое же яркое и открытое переживание чужих страданий
лежало в основе ритуалов, сопровождавших последние
мгновения жизни обычного человека. В Афинах времен Перикла, как
мы видели, «люди боялись мертвых и держались от них на
расстоянии»30. В Средние века, напротив, комната умирающего
становилась местом «публичной церемонии. <...> Присутствие
родственников, друзей и соседей считалось обязательным»,—писал
историк Филипп Арьес31. Дошедшие до нас изображения сцен
у смертного одра включают множество людей, которые не
только молятся, но и болтают, едят и выпивают: умирающие
нуждались в компании.
Как должен был реагировать умирающий, ободряемый
таким образом? По словам Арьеса, ему полагалось отходить в мир
иной «в церемонной манере... но без театральных излишеств, не
слишком проявляя эмоции»32. Моше Бараш, написавший иссле-
ГЛАВА ПЯТАЯ. ОБЩИНА
205
дование о жестах отчаяния в изобразительном искусстве,
замечает: «Художники позднего Средневековья по-разному
передавали скорбь Девы Марии, держащей на коленях тело мертвого
Христа, но как правило избегали исступленной жестикуляции
как средства выражения ее муки»33. Из-за этой сдержанности
в движениях тело Богородицы выражало величавую
меланхолию. Умереть по всем правилам приличия означало
поприветствовать каждого из присутствующих словом или хотя бы
движением руки или глаз, но не перегибать палку. В жизни, как
и в искусстве, момент смерти следовало посвятить
размышлениям, а не депрессии.
Чтобы соответствовать этой христианской двойственности
сострадания и самоуглубленности в городе, среди живых,
подобной телесной благопристойности было уже недостаточно. Идеал
вскармливающего пространства впервые возник в XII веке в
трудах парижского философа Петра Абеляра: «Города—это
„монастыри" для семейных людей. <...> Они связаны воедино узами
милосердия. Каждый город — братство»34. Тут требовалось
новое восприятие и новое применение монастырей, аббатств и
священных садов—традиционных пространств меланхолии.
3. ХРИСТИАНСКАЯ ОБЩИНА
Теперь мы можем рассмотреть, как именно средневековый
Париж был поделен между Церковью и Государством. Никакого
четкого географического разделения, разумеется, не было,
поскольку государственное и религиозное было тесно
переплетено между собой. Когда в соборе короновали короля, «этот
обряд духовно преображал его, превращая в Christus Domini, то есть
не просто в лицо епископского достоинства, но и в образ
самого Христа», писал Отто фон Зимзон35. Как Christus Domini, то есть
помазанник Божий, средневековый король был подобен
римскому императору, представавшему живым богом. Сходным
образом статус епископа Парижского был не ниже, чем
положение «графов, герцогов и самого короля», как сообщает другой
206
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДВИЖЕНИЯ СЕРДЦА
историк: «Его обслуживают те же должностные лица, великие
и малые, у него есть свой сенешаль, или стольник, свой
виночерпий, маршал, эконом (или казначей), свой конюший, хлебодар,
свои клирики-писцы, капелланы, не считая низшего
персонала— привратников, каменщиков, кучеров и т.д.»36 В течение XI
века епископ ослабил свою феодальную зависимость от короля:
теперь он приносил только клятву верности, но не присягу
вассала— в ту иерархическую эпоху эти понятия разделяла
огромная пропасть.
Дворец, собор и аббатство
Париж на протяжении столетий был королевским городом, но
ко времени Жана де Шелля значение королевской территории
изменилось. До периода бурного роста городов в XII веке
король и двор непрерывно перемещались по стране,
останавливаясь в замках знатнейших феодалов. Таким образом король
подтверждал свою суверенную власть над этими землями: его
личное присутствие помогало определить границы его
державы. По мере развития городов путешествия французского
короля становились все реже. Дворец на острове Сите в Париже
постепенно становился символическим вместилищем его правления:
монархия была теперь не только суммой географических
владений, но и сооружением из камня, и в этом король тоже
напоминал римского императора.
Филипп II, чаще называемый Филиппом Августом (1165-
1223), обитал во дворце на острове Сите в непосредственной
близости от комплекса церковных зданий, окружавших
собор Нотр-Дам на восточной оконечности острова. Придворная
знать того времени застраивала дворцами земли к югу от
острова, на Левом берегу Сены, принадлежавшие аббатствам.
Позднее Карл V (1364-1380) вывел пространство королевской власти
из этого уединения, построив первый из Луврских дворцов
непосредственно перед стеной Филиппа Августа. Этот ранний Лувр
представлял собой квадратный замок с донжоном посередине,
с огромным открытым парадным залом, под полом которого
нагл aba пятая, община
207
холились темницы и оружейные хранилища, и помещениями
для короля и двора во всех четырех крыльях. Лувр Карла V стал
одним из первых зданий, в котором оборонительные
укрепления скорее были архитектурным символом, чем отвечали
военной необходимости. Четыре высокие сторожевые башни по
углам луврского донжона напоминали парижанам о
королевском могуществе, в то время как реальную защиту
обеспечивали новые городские стены за территорией дворца.
Во времена Филиппа Августа городские усадьбы
аристократии мало отличались от загородных: в садах там, например,
выращивали виноград, а также разные фрукты и овощи. Теперь же
эти сады все больше утрачивали сельскохозяйственное значение
и приобретали декоративное. И если соседями Филиппа Августа
были сироты, студенты и клирики, то Лувр вскоре после своего
возникновения оказался плотно окружен дворцами виднейших
придворных вельмож, выросшими на месте современной улицы
Риволи, и каждый из этих дворцов мог похвастаться
собственными башнями, садами и парадными залами. Со своих городских
башен вельможа уже не высматривал приближение неприятеля,
а интересовался, кого пригласили на обед к соседу. Королевский
двор таким образом стал отдельным сообществом внутри города,
но едва ли подобная община заслужила бы одобрение Петра
Абеляра. Кольцо аристократических дворцов все плотнее сжималось
вокруг Лувра, образуя огромные, плотные соты, кишащие
придворными интригами.
В то же время Париж был еще и центром епархии, местом
сосредоточения богатства, власти и культуры Церкви, которые
служили противовесом могуществу королевского дворца. Епископ
Парижский по площади своих городских владений мог
соперничать с королем—ему принадлежали весь остров Сен-Луи, земли
вокруг его кафедрального собора Нотр-Дам и множество других
участков по всему городу. Когда в ибо году Морис де Сюлли
начал строительство собора Нотр-Дам, под «собором» понималось
не только огромное здание самой церкви, но и целый комплекс
208
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДВИЖЕНИЯ СЕРДЦА
относившихся к ней построек—корпуса для монахов, больница,
склады и обширные сады. У частных пристаней соборного
комплекса швартовались лодки, снабжавшие причт всем
необходимым—чаще всего они приходили из аббатства Сен-Жермен
и других монастырей, каждый из которых имел свои сады и
погреба. В начале XIII века Левый берег оставался более сельским
по характеру, чем Правый: к примеру, аббатство Сен-Жермен
было окружено сплошными виноградниками.
К125 о году, когда Жан де Шелль приступил к последнему
этапу строительства Нотр-Дама, этот церковный анклав внутри
города раздирали внутренние противоречия. «Епархиальный
центр был поделен на части не вполне
рационально,—замечает историк Аллан Темко с достойной восхищения
сдержанностью.— Внутри собора и за его пределами территорию Церкви
разделяли любопытные феодальные границы»37. Епископ
контролировал часовни за алтарем и некоторые из соборных
нефов, а капитул братьев-каноников, номинально подчиненный
епископу, распоряжался остальными частями здания:
«Владения капитула тянулись на юг до самого порога епископского
дворца... а юрисдикция епископа простиралась на север, по
некоторым улицам доходя до самого монастырского комплекса
и образуя внутри его отдельные островки»38. Контроль над
различными зонами собора Нотр-Дам определял степень влияния
той или иной группы в рамках церковной иерархии. Более того,
соблазны большого города проникали в четыре десятка зданий
капитула, сгрудившиеся вокруг собора: короли, папы и
епископы безуспешно пытались обуздать буйство и разврат, которым
предавались многие каноники. Эта ситуация, опять же, мало
походила на мечту Абеляра.
Слово «аббатство» имело как узкое значение места,
управляемого конкретным церковным функционером, аббатом или
аббатисой, так и более расширительный смысл, охватывавший
весь комплекс строений, образующих «дом церковный».
Помимо церкви, аббатство могло включать в себя жилые помещения
братьев или сестер, больницу, богадельню и сад. Одним из са-
ГЛАВА ПЯТАЯ. ОБЩИНА
209
мых ранних и наиболее прославленных образцов такого
аббатства является швейцарский монастырь святого Галла, чьи
детальные планы сохранились до наших дней. В эпоху Каролингов
крупные феодальные замки были редки, так что в случае войны
или голода аббатства должны были заботиться не только о
собственной братии, но и об окрестном населении. Но и эти
ранние церковные поселения не соответствовали тому образу
общины, к которому, по мысли Абеляра, должен был стремиться
город, поскольку их едва ли можно было назвать местами
спонтанной и щедрой благотворительности. Монастырские
привратники строго оценивали всех приходящих и не каждого
пропускали внутрь: приют предназначался только для местных жителей,
числившихся в приходских списках бедноты, которые
назывались латинским словом matncula.
Францисканцы и доминиканцы обосновались в Париже в
начале XIII века около городских стен на Левом берегу. Эти
окраины были наименее населенной частью Левого берега, так что
указанные ордена меньше всего сталкивались с городскими
проблемами—в отличие от Сервитов, основавших свою обитель на
Правом берегу, рядом с главным рынком. Нищенствующие
ордена, которые появились относительно поздно, были самыми
урбанизированными из всех религиозных братств, деятельно
старались помогать нуждающимся на городских улицах и искоренять
ереси. Бенедиктинцам принадлежало аббатство Сен-Жермен-
де-Пре, где помимо виноградников имелось и множество
благотворительных заведений. Новые ордена, такие как рыцари-
храмовники, которые принимали участие в Крестовых походах,
направляли из конца в конец Европы целые армии паломников,
нуждавшихся в помощи на протяжении пути. С подъемом
торговли в Париже путники начали все чаще обращаться за кровом
и пищей в церковные приюты—сначала в собор и аббатство Сен-
Жермен, потом к сервитам, а позже и в монастыри
нищенствующих братьев.
Важнейшим из религиозных учреждений была приходская
община. «Собор был гордостью буржуа [горожанина], —пишет
210
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДВИЖЕНИЯ СЕРДЦА
урбанист Говард Заалман, — но его рождение, жизнь и смерть,
сама его идентичность были неразрывно связаны с приходом»39.
Все юридические документы основывались на приходских
записях; ярмарки зарождались близ приходских церквей;
человек в нужде ожидал помощи прежде всего от своего прихода.
Но из-за притока в Париж все новых людей приходы больше
не справлялись с местными нуждами, так что каноники более
крупных церковных учреждений взяли на себя многие
благотворительные функции, прежде выполнявшиеся приходскими
старостами. Прежние больницы и приюты для бедных
расширялись; новые заведения по всему городу основывались
церковными властями по инициативе епископа: «Они строились
вблизи домов каноников или епископского дворца, так что их
преемников — к примеру, современные религиозные
больницы Парижа — можно по-прежнему обнаружить рядом с
древними соборами»40. К1328 году в городе было около 6о больниц,
сосредоточенных в основном на острове Сите и на Правом
берегу Сены; крупнейшей из них была больница Отель-Дьё рядом
с собором Нотр-Дам. Кроме того, церковные власти открывали
по всему городу все больше благотворительных заведений, где
специальные служители—альмонарии — раздавали милостыню
бедным.
Но несмотря на то что масштаб подобной деятельности
возрастал, приобретая уже общегородской, а не местный характер,
благодаря религиозному возрождению эта церковная
благотворительность приобрела характер личного участия, а не холодной
бюрократической системы. Чтобы разобраться, как это
произошло, давайте взглянем на труд духовника, альмонария и
садовника в Париже времен Жана де Шелля.
Духовник, альмонарии и садовник
В эпоху раннего Средневековья исповедь воспринималась
как дело довольно будничное. Исповедующийся
обстоятельно рассказывал о своих проступках, а духовник налагал на него
(или на нее) епитимью или наставлял впредь вести себя иначе.
ГЛАВА ПЯТАЯ. ОБЩИНА
211
В XII веке, на волне религиозного возрождения, исповедь
превратилась в гораздо более личный и эмоционально насыщенный
диалог. Физически пространство исповедальни осталось тем же,
что и раньше, то есть закрытым ящиком, разделенным
перегородкой, чтобы священник и прихожанин не могли видеть друг
друга. Но внутри этого пространства «монахи нищенствующих
орденов ввели новый подход к исповеди и епитимье»: если
прежде духовник просто назначал наказание в соответствии с
отвлеченным перечнем грехов, теперь он «охотно вступал в беседу
с исповедующимся, чтобы с помощью обстоятельных
вопросов и ответов определить относительную серьезность проступка
и соответствующую ему суровость наказания»41. Такой обмен
вопросами и признаниями во время исповеди создавал более
личные отношения между духовником и прихожанином.
Что касается духовника, он больше не мог изъясняться
формальным языком обязанностей и предписаний—теперь он
должен был гораздо внимательнее прислушиваться к
исповедующемуся, чтобы понять его. Исповедь превратилась в повествование,
смысл которого был поначалу неясен ни рассказчику, ни
слушателю. Как только священник начинал понимать, что именно
произошло с кающимся, ему следовало выразить сострадание к его
прегрешениям. Таинство исповеди было проникнуто
меланхолией в ее средневековом понимании: оно требовало
откровенности между духовником и исповедующимся, а также
самоуглубленности, необходимой исповедующемуся для того, чтобы
разобраться в своих проступках. Поскольку прихожанин теперь
не просто обозначал грехи условными формулами, а прояснял
с помощью священника именно свою личную историю, такие
меланхолические беседы наделяли его новым статусом. Теперь
он воспринимался как лицо, способное к активному участию
в актах веры.
Католическая жизнь была пронизана Подражанием Христу
как в столичном соборе, так и в глухом сельском монастыре.
Вообще, представление о городском характере Северной Европы
в Средневековье может быть обманчивым, поскольку доля го-
212
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДВИЖЕНИЯ СЕРДЦА
рожан в то время была очень мала: к примеру, население
Парижа составляло около \% от общего числа людей, живших на
территории, соответствующей современной Франции. Тем не менее
сама практика исповеди нового образца имела один чисто
городской аспект. Условием исповеди была полная анонимность.
Однако деревенский священник, скорее всего, узнавал голоса всех
своих прихожан, знал описываемые ими жизненные
обстоятельства и неизбежно исходил из этой внешней информации
в своих суждениях и советах. В крупном городе эта мнимая
анонимность исповеди становилась социальной реальностью.
Слова, произносимые в городской исповедальне, сами по себе
значили куда больше, чем то, что говорилось в деревне или маленьком
городке. Духовник вынужден был относиться к ним со всем
вниманием, как к истории незнакомца, от которой он не мог
отмахнуться заученными фразами. В Париже времен Жана де Шелля
это в особенности относилось к исповедальням собора Нотр-Дам
и аббатства Сен-Жермен-де-Пре, поскольку поток желающих
причаститься стекался туда из всех приходов города. Для
нищенствующих орденов, окормлявших бедных и больных, до
которых не было дела остальным, навык внимательно выслушивать
незнакомцев оказался еще более важен, поскольку у их
«прихожан» не было никакого прихода. Религиозное возрождение
привило клирику склонность слушать; город сделал это его
обязанностью, поставив его перед лицом неизвестности.
С альмонарием, то есть раздатчиком подаяния, произошло
примерно то же, что и с духовником. Хотя отождествление с
бедными всегда было важной частью христианского учения,
благотворительность раннего Средневековья не основывалась на
личном сострадании им. Раздавая милостыню, альмонарий
выполнял указания вышестоящих; акты милосердия входили в его
должностные обязанности и не зависели от личных
склонностей. Парижский богослов XII века Гумберт Романский изложил
этот традиционный взгляд на благотворительность в проповеди,
произнесенной им перед служителями больницы для бедноты:
ГЛАВА ПЯТАЯ. ОБЩИНА
213
милосердие есть деятельность «во исполнение воли Создателя»,
и эмоции христианина не должны влиять на исполнение этого
долга42. Сострадание не обязательно двигало и теми, кто
жертвовал ранним монастырям средства на уход за бедными и
больными. Такие дары приносили почет благотворителям—больше
того, таким образом жертвователи искали расположения
монахов, поскольку «лучшим из всех доступных способов обеспечить
спасение души было монашеское заступничество за живых и
поминовение мертвых»43.
Религиозное возрождение изменило и внутреннюю
сущность, и внешние проявления городской благотворительности.
Францисканцы и доминиканцы настаивали на вовлеченности
в дела мира, а не на духовном уединении. Помогая другим,
христианин очищал свою душу. Подражание Христу усиливало эту
вовлеченность. По мнению одного из историков, в
средневековом Париже благотворительность, совершаемая из сострадания
к несчастным, служила среди прочего «этическим оправданием
как самого городского общества, так и образа жизни,
характерного для его наиболее влиятельных членов»44. Разумеется, город
притягивал к себе нуждающихся, но это оправдание выразилось
и в более конкретной перемене. В середине XIII века община сер-
витов, обосновавшаяся около главного городского рынка на
Правом берегу Сены, начала широко использовать в качестве
раздатчиков подаяния мирян. Тот факт, что в благотворительности,
прежде бывшей привилегией (и источником незаконного
обогащения) клириков, теперь зачастую участвовали и светские люди,
означал, что горожане заняли важное место в структуре
управления Церковью.
Работа средневекового альмонария мало походила на
деятельность современного чиновника социальных служб, для которого
помощь нуждающимся сводится к заполнению бесчисленных
форм и анкет. По мере того как богоугодные заведения
множились по всему городу и перенимали опыт сервитов, раздатчики
подаяния все чаще выходили на улицы, руководствуясь
отчетами приходских священников или городскими слухами: подобно
214
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДВИЖЕНИЯ СЕРДЦА
монахам нищенствующих орденов, альмонарии из мирян
старались изолировать прокаженного, разыскать брошенного
близкими умирающего или доставить недужного в больницу. Работа на
улицах требовала активной вовлеченности в жизнь людей без
оглядки на границы приходов и отличалась от пассивной
местной благотворительности прежнего периода, которая
регулировалась допуском в церковные двери или отказом в нем. Появление
на улицах альмонариев-мирян, а потом и нищенствующих
братьев, в свою очередь, побуждало нуждающихся горожан
приходить в церкви, которые, по их ощущению, уже не ограничивались
в своей отзывчивости формальным следованием букве закона.
Это единение общества в благотворительности до некоторой
степени изменило внешний вид окрестностей собора Нотр-Дам.
Стена, которой Жан де Шелль окружил большой сад,
примыкавший к собору с юга, была невысока — по некоторым оценкам,
она не достигала и метра. Такая низкая стена, лишенная к тому
же запирающихся ворот, позволяла любому легко попасть в сад.
Вследствие возросшей отзывчивости Церкви к нуждам народа
этот сад полнился брошенными младенцами, бездомными,
прокаженными и умирающими: днем они ожидали появления
монахов с подаянием, а ночью спали на соломенных подстилках,
расстеленных прямо на земле. Однако помимо этого,
монастырские сады были призваны также поощрять людей задумываться
о состоянии своих душ. Сад Нотр-Дама служил примером
истинно меланхолического пространства: открытого, наполненного
страданием, но и располагающего к размышлениям.
К1250 году сложилась уже долгая традиция, определявшая,
как именно должен быть разбит сад, чтобы побуждать
посетителя к меланхолическим размышлениям. К сожалению, почти
все сведения о конкретных растениях, высаженных в саду Нотр-
Дама в Средние века, утеряны, однако нам, во всяком случае,
известны правила, которыми руководствовались в своей работе
садовники Жана де Шелля.
Городские замки с декоративными садами начали
появляться во Франции в конце IX века. В самом Париже следы крупных
ГЛАВА ПЯТАЯ. ОБЩИНА
215
Христианское милосердие в городе. Миниатюра «Добрые дела», ок. 1500
216
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДВИЖЕНИЯ СЕРДЦА
Городской сад. Миниатюра из «Книги о выгодах сельского хозяйства»
Петра Кресценция, XV век
декоративных садов, относившихся не к монастырям, а к
частным домам, или расположенных особняком,
прослеживаются на южной стороне острова Сите с X века. Изначально
городские сады служили источником зелени, фруктов и овощей для
города. К125 о-м годам было уже гораздо выгоднее застраивать
городскую землю, а не возделывать ее, соответственно, еду ста-
ГЛАВА ПЯТАЯ. ОБЩИНА 217
ло дешевле привозить, а не выращивать на месте. Плодовые
сады, в ибо году окружавшие Нотр-Дам, к 1250 году
значительно сократились.
Теперь парижане посещали сады Нотр-Дама как место, где
можно было передохнуть от того огромного напряжения,
которое создавала перенаселенность, царившая на улицах и в домах
города. Внутри дома, как и вне его, люди существовали в
условиях постоянной скученности. Комнаты городского дома
функционировали как улицы, где люди сновали в любое время суток:
«Скученность, теснота, иногда сутолока—в больших домах
феодальной эпохи никогда не предусматривалось места, где человек
мог бы остаться наедине с собой»45. Средневековому
парижанину незнакомо было понятие собственной комнаты, отведенной
конкретному человеку. В садах Нотр-Дама тоже было
многолюдно, но особенности планировки позволяли посетителю найти там
если и не уединение, то по крайней мере тишину и покой.
Три элемента средневековой садовой архитектуры, как
считалось, способствовали самоуглубленности: беседка, лабиринт
и искусственный водоем. Беседка была просто местом, где
можно было посидеть в тени. Древние садовники строили беседки,
возводя над скамейками деревянные навесы или
решетки-шпалеры. Их средневековые последователи начали высаживать
около решеток вьющиеся растения, чаще всего розы и жимолость,
создававшие густую изгородь из листьев и цветов, за которыми
человек мог сидеть, невидимый снаружи.
Лабиринт—еще одно древнее изобретение—средневековые
садовники тоже приспособили для удовлетворения потребности
в отдыхе от суеты. Греки устраивали лабиринты из низких
кустарников, высаживая лаванду, мирт и сантолину по кругу: там был
ясно обозначенный центр и многочисленные, хотя и запутанные
пути к выходу. Гуляющий мог просто перешагнуть через стенку
такого лабиринта, если не удавалось отыскать правильный
маршрут. В средневековом лабиринте, наоборот, «тропинки были
разделены изгородями выше человеческого роста, так что
заплутавший посетитель не мог оглядеться вокруг и найти нужный
218
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДВИЖЕНИЯ СЕРДЦА
Аббатство святого Галла, вид с высоты птичьего полета.
Современная реконструкция Карла Грубера по планам 8ι6 и Siy годов
поворот»46. Для создания таких искусственных дебрей обычно
использовался самшит или самшит вместе с тисом, как в
знаменитом средневековом лабиринте, росшем в саду королевского
дворца Турнель. До нас дошли отрывочные свидетельства, что Жан де
Шелль распорядился высадить в монастырском саду Нотр-Дама
высокий лабиринт, имевший, по непонятным сейчас причинам,
форму шестиконечной звезды Давида. В раннем Средневековье
лабиринты символизировали стремление человека отыскать Бога
в самой глубине своей души, но в большом городе они служили
и более приземленной цели. Как только человек запоминал
расположение проходов, он получал возможность укрыться в центре
лабиринта, не опасаясь, что его быстро отыщут другие.
Искусственный водоем в саду служил зеркалом, отражающей
поверхностью для заглядывающего в него человека. На каждой
парижской улице был колодец; чтобы защитить воду от запол-
ГЛАВА ПЯТАЯ. ОБЩИНА
219
Парижский особняк Клюни, построенный в 1485-1498 годах,
окончательно превращает военную архитектуру в форму городского декора
нявших мостовые нечистот и отбросов, строители окружали
колодцы стенками около метра высотой. Во времена Жана де Шел-
ля некоторые (хотя и не очень многие) уличные колодцы были
украшены декоративными фонтанами. Благодаря
относительной защищенности монастырского сада, там стенки колодца
могли быть ниже—больше того, мастер дважды подумал бы, прежде
чем оснастить водоем фонтаном, поскольку его струя
нарушила бы водную гладь. Пруд в монастырском саду должен был
служить жидким зеркалом для стоящего над ним человека,
располагая его к самосозерцанию.
Растения в саду тоже были призваны создавать атмосферу
покоя. Ризничий украшал в церкви срезанными розами те алтари,
возле которых верующим полагалось хранить молчание, а во
время чумы ставил под статуями Богоматери ветви сирени, чей
запах считался успокоительным. По парижским улицам горожане
ходили с маленькими пучками ароматных трав, которые частень-
220
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДВИЖЕНИЯ СЕРДЦА
ко прижимали к носу, чтобы перебить неприятные запахи; в
монастырском саду эти же травы и исцеляли, и способствовали
самоуглублению. На Рождество аромат сухой мирры, как считалось,
напоминал каждому и о его собственном рождении, и о
рождении Иисуса, а во время Великого поста ризничий воскурял
благовония из сушеного бергамота—его запах, как тогда полагали,
усмирял гнев, особенно одолевавший людей в это время года.
Мы можем только гадать, что испытывал человек, сидевший
в увитой розами беседке рядом с собором Нотр-Дам, внезапно
обнаружив рядом с собой прокаженного с телом, покрытым
гноящимися язвами. Едва ли только удивление — ведь теперь
традиционное пространство меланхолии было открыто городу: если
надежды Анри де Мондевиля были не беспочвенны, за
потрясением мог следовать всплеск человеколюбия. С большей
уверенностью можно сказать, что чувствовал садовник, глядя на
результат своих трудов. Самим своим достоинством его
работа контрастировала с усилиями тех, кто занимался торговлей
и ремеслами.
Христианский труд
Мечта человека найти убежище от мира стара, как сам мир. В «Ге-
оргиках» римлянин Вергилий писал:
Сама, вдалеке от военных усобиц,
Им изливает земля справедливая легкую пищу <...>
Верен зато их покой, их жизнь не знает ошибок <...>
Он собирает плоды, которые ветви и нивы
Сами дают...47
Раннехристианские аскеты, особенно на Востоке, искали
духовного убежища в отшельничестве. Более поздние представления
западного христианства об убежище, напротив, основывались на
«киновии», общежительности, предписывающей людям жить
в монастыре совместно. Святой Бенедикт, придавший идее
убежища эту общинную форму, привязанную к конкретному месту,
ГЛАВА ПЯТАЯ. ОБЩИНА
221
Сад как земной рай, где нет места миру со всеми его тяготами.
Неизвестный мастер. Гравюра «Монастырский сад», 1519
установил принцип, в соответствии с которым должна была
протекать совместная жизнь монахов: laborare et orare, то есть в
труде и молитве. И средоточием этого труда был прежде всего сад48.
Христианский труд всегда был призван создавать
убежище от греховного мира. К началу периода расцвета монастырей
222
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДВИЖЕНИЯ СЕРДЦА
в сельской Франции, то есть к концу IX—X веку, в качестве
таких убежищ в церкви воспринимались помещения двух типов:
во-первых, небольшие часовни, примыкавшие к основному
объему церкви, во-вторых, клуатры, то есть закрытые, обнесенные
галереей дворы, пристроенные к церковному зданию. Убежище
в часовне служило для поклонения определенному святому.
Убежище клуатра в символическом и практическом плане было
связано с поклонением Природе—конкретно это выражалось в
создании сада в стенах клуатра и в уходе за ним. Отправной точкой
для благочестивых размышлений в монастырском саду
становился образ Райского сада, который создавал канву для мыслей
о саморазрушительных свойствах человеческой натуры,
ставших причиной изгнания Адама и Евы. Для монахов, которые
прежде жили в сельской обители, уход за садом означал своего
рода восстановительную деятельность, христианскую
компенсацию за изгнание прародителей из Рая. Николай Клервоский
«разделял все творение на пять областей: мир, чистилище, ад,
небеса и paradüus claustralis»*9. Монастырский сад, названный в этом
списке последним, призван был стать раем, обретенным на
земле. Трудиться там означало вернуть себе достоинство.
Монастырский paradisus claustralis радикально отличался
в этом от мусульманских «райских садов», описанных в
Коране и разбивавшихся в городах вроде Кордовы. Мусульманский
сад был по своему назначению местом отдыха от трудов; Вильям
Мальмсберийский описывает сады в английском аббатстве Тор-
ни совсем иначе: «Ни клочка земли не оставлено тут под паром.
<...> Искусство земледелия соперничает в этих местах с
природой; о чем бы ни позабыла последняя, то немедля производит
первое»50.
Преобразователи западного монашества полагали, что
работа в саду не только возвращает работника в райский Сад, но и
способствует духовной дисциплине—чем тяжелее труд, тем больше
его нравственная ценность. Особенно на этом настаивали
цистерцианцы, которые с помощью труда старались победить
леность и развращенность, охватившие многие монашеские орде-
ГЛАВА ПЯТАЯ. ОБЩИНА
223
на. В том числе и по этой причине монахи стали трудиться в саду
в полном молчании—это правило соблюдали и францисканцы,
и цистерцианцы, и многие бенедиктинцы. Принцип laborare et
orare показывает, как, с точки зрения средневекового
христианина, труд, обустраивая место, в то же время облагораживал тело.
В эпоху Высокого Средневековья связь между страданиями
человека и страстями Христовыми сообщила труду еще большее
достоинство, поскольку христианин, совершавший физические
усилия, в новом свете видел взаимосвязь между плотью и
душой. Разумеется, как указывает Кэролайн Байнум, это
ощущение личного приобретения, достигавшееся через труд, «не было
„индивидуальным" в нашем сегодняшнем понимании»—монах
трудился ради общины51.
Насельники монастыря Святого Галла или Клерво трудились
в пространстве, защищенном от внешнего мира. Крупный город
помещал физический труд в менее контролируемые
обстоятельства: его достоинство и его унижение переплетались в городской
ткани. Камни собора Нотр-Дам соседствовали с камнями
набережных Сены. Устремленные к небесам башни собора
указывали нуждающимся путь к месту, где они могли получить помощь,
к убежищу от мирской суеты набережных, улиц и городских
трущоб. И все же чествование ремесленников, построивших Нотр-
Дам, в 1250 году свидетельствовало о том, что принцип laborare
et orare вышел за ограду сада и распространился на город: к
садовнику теперь присоединились каменщик, стеклодув и плотник.
Хотя купцов, внесших денежный вклад в строительство,
тоже чествовали в 1250-м, их заслуги внушали меньшую
уверенность, а их достоинство оставалось под вопросом. Торговля
в средневековом понимании не была меланхолическим трудом,
она не предполагала самоуглубленного усилия. На самом деле,
самих торговцев торговля озадачивала ничуть не меньше, чем
Бернарда Клевосского в его клуатре или Иоанна Солсберийского
в его кабинете. Поговорка «Stadtluft macht frei», казалось,
освобождала их от эмоциональных привязанностей, к которым они
стремились как христиане. Хотя христианский сад средневеково-
224
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДВИЖЕНИЯ СЕРДЦА
го Парижа был призван вернуть человечество в благословенную
эпоху до грехопадения и хотя под его сенью трудились люди,
постигшие уроки страданий, неведомые Адаму и Еве, однако те, кто
работал за пределами этого убежища, казалось, блуждали в
бесплодной городской пустыне.
ГЛАВА ШЕСТАЯ.
«КАЖДЫЙ САМ СЕБЕ САТАНА».
ПАРИЖ ГУМБЕРТА РОМАНСКОГО
Жителем античного полиса был гражданин. Житель
средневекового города называл себя bourgeois (по-французски) или Bürger
(по-немецки). Эти обозначения относились не только к
представителям среднего класса — резчики по камню, работавшие
на строительстве собора Нотр-Дам, тоже были буржуа, однако
в средневековом Париже лишь малая часть буржуа обладала
избирательным правом, подобно античному гражданину. Вместо
этого, как утверждает историк Морис Ломбар, торговля между
городами и внутри города делала буржуа космополитом:
«[Средневековый буржуа] — это человек на перекрестке, где встречаются
разные городские центры. Он открыт внешнему миру и
восприимчив к влияниям, которые исходят из других городов и
направлены на его город»1. Это космополитическое мировоззрение
меняло его восприятие родного города. Труд средневекового
парижанина, не относящийся к благотворительности, происходил
в городских пространствах, а не в конкретных местах — в
пространствах, которые можно было продавать и покупать, форма
которых менялась в процессе покупки или продажи;
пространство при этом становилось территорией, на которой он работал,
а не территорией, ради которой он работал. Буржуа использовал
городское пространство.
Различие между пространством и местом является
основополагающим в изучении городской формы. Это различие
заключается не только в наличии или отсутствии эмоциональной
привязанности со стороны обитателя, но и в особенностях его
восприятия времени. В средневековом Париже гибкое
использование пространства возникло в связи с появлением корпорации,
226
Карта средневекового Парижа, ок. 1300
227
института, наделенного правом менять со временем род своей
деятельности. Экономическое время шло вперед благодаря
ухваченным перспективам и непредвиденным обстоятельствам,
которые удалось использовать в своих интересах. Экономика
породила сочетание функционального отношения к пространству
и перспективного отношения ко времени—прямой
противоположности христианской концепции времени, которая была
основана на истории земного существования Иисуса, известной
каждому наизусть. Религия внушала эмоциональную привязанность
к месту наряду с ощущением времени как повествования,
неизменного и не вызывающего сомнений.
Когда ранний христианин «отрешался от мира», он
чувствовал себя переполненным грядущими переменами, но
лишенным своего места: обращение не давало ему никаких
указаний о путях достижения его цели. Теперь у христианина было
и место в мире, и ясный путь перед глазами, но
предпринимательские амбиции грозили лишить его и того и другого. В этом
конфликте между религией и экономикой оказалось
замешано и восприятие людьми собственного тела. Христианское
время и место были построены на способности человеческого тела
к состраданию, а экономическое время и пространство—на его
способности к агрессии. Эти противоречия между местом и
пространством, возможностью и определенностью, состраданием
и агрессией раздирали изнутри каждого буржуа, который
стремился и верить, и обогащаться.
1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
Cité, bourg, commune
Географию средневекового Парижа и других крупных городов той
эпохи составляли три типа земельной собственности. К первому
относились земли, обнесенные постоянными стенами и
принадлежавшие внутри этих стен определенной силе. В Париже, к
примеру, каменные стены окружали остров Сите, защищенный,
кроме того, рукавами Сены, которые образовали естественный ров;
228
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДВИЖЕНИЯ СЕРДЦА
Крестьянский труд у стен сите. Фрагмент миниатюры «Июнь» из
«Роскошного часослова герцога Беррийского» братьев Лимбург, ок. щгб
почти вся территория острова принадлежала либо королю, либо
Церкви. Такие земли по-французски назывались cité.
Второй тип земельной собственности не имел стен, но все
равно принадлежал определенной значительной силе—он
обозначался словом bourg. Старейший парижский бург Сен-Жермен
ГЛАВА ШЕСТАЯ. «КАЖДЫЙ САМ СЕБЕ САТАНА»
229
находился на Левом берегу Сены. Внешне он представлял собой
плотно застроенную деревню, но вся земля принадлежала там
четырем церквям прихода Сен-Жермен — крупнейшая из них
стояла там, где сейчас находится церковь Сен Сюльпис. Весь бург
не обязательно находился в одних руках. На Правом берегу
напротив Нотр-Дама к 1250 году вырос новый квартал,
объединявший в себе порт и рынок: один мелкий аристократ
контролировал порт, а другой—рынок.
Третий тип густо населенной территории не имел ни
постоянных стен, ни ясно определенных владельцев. Французы
называли такие земли commune. Коммуны были разбросаны по
периферии Парижа и представляли собой деревни без хозяина,
состоявшие из отдельных мелких землевладений.
Возрождение Парижа в ходе Средних веков изменило
статус бургов и коммун, поскольку новые городские стены
окружали все большие территории. Расширение стен происходило в два
этапа. В начале XIII века Филипп Август возвел стены на Правом
и Левом берегах Сены, укрепив тем самым районы, бурно
развивавшиеся на протяжении предыдущего столетия. К 1350-м годам
Карл V существенно расширил территорию под защитой стен,
но только на Правом берегу. В результате этих перемен на месте
прежнего, маленького и изолированного сите, его бургов и его
коммун возникло то, что мы называем городом; король даровал
экономические привилегии тем бургам и коммунам, которые
оказались внутри стен.
Мерой развития города служило для парижан количество
каменных зданий. Жак Ле Гофф указывал, что «Начавшийся
с XI века мощный подъем строительства — важнейший
феномен экономического развития в Средние века — состоял очень
часто в замене деревянной постройки каменной;
перестраивались церкви, мосты, дома»2. Стремление инвестировать в
каменное строительство было одинаково характерно как для
государства, так и для частных лиц. Широкое применение камня, в свою
очередь, способствовало развитию других ремесел. К примеру,
заключительная стадия работ в Нотр-Даме, которой руководил
230
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДВИЖЕНИЯ СЕРДЦА
Жан де Шелль, вызвала в Париже бурное развитие торговли
стеклом, ювелирными изделиями и гобеленами-шпалерами.
Тем не менее объединение сите, бургов и коммун не сделало
географию Парижа более понятной или логичной.
Улица
Разумно было бы ожидать, что в крупном торговом центре
вроде Парижа будут отличные дороги, приспособленные для
транспортировки товаров через город. И они действительно
существовали вдоль Сены: в период между поо и ΐ2θθ годами берега реки
были одеты в каменные набережные, обеспечившие более
эффективное движение грузов в районе пристаней. Но вглубь от
Сены рост Парижа не сопровождался созданием дорожной сети,
удобной для транспорта. Ле Гофф отмечает в это время
«плохое состояние дорог, ограниченное число телег и повозок...
дороговизну гужевого транспорта»; даже обыкновенная тачка
появилась на парижских улицах только к концу Средних веков3.
Римский город с его тщательно спроектированными
многослойными мостовыми был теперь только баснословным чудом
далекого прошлого.
Беспорядочная планировка средневековой улицы, как и ее
плачевное материальное состояние, объяснялась самим
характером городского роста. Дороги одной коммуны редко
прокладывались с учетом необходимости соединения с дорогами соседней,
поскольку границей коммуны изначально была околица
обращенной внутрь себя деревни. То же самое относилось и к бургам.
Кроме того, хаотичная планировка улиц объяснялась тем, как
собственники распоряжались своими землями.
Большая часть участков сите или бургов использовалась
частными лицами, которые либо арендовали их, либо выкупили
у владельцев право их застройки. Эти застройщики имели право
возводить на землях, принадлежавших крупным институциям
вроде Короны или Церкви, все, что им было угодно. Больше того,
разные этажи одного здания, а иногда и разные части одного
этажа, могли принадлежать разным людям и перестраиваться по от-
ГЛАВА ШЕСТАЯ. «КАЖДЫЙ САМ СЕБЕ САТАНА»
231
дельности. Урбанист Жак Эре пишет о «настоящей колонизации
пригодной для застройки земли внутри города и в его
ближайших окрестностях»4. Землевладелец почти никогда не
пытался повлиять на застройщика из соображений городского
планирования; на чисто экономическом уровне король или епископ
могли конфисковать здание или обязать владельца продать его
кому-то еще только в исключительных случаях. В Париже
корона и Церковь прибегали к «принудительному отчуждению
собственности» в основном для расширения дворцов или храмов.
Четкую планировку улиц или единый градостроительный
замысел могли иметь только города, основанные римлянами, да
и там, за считанными исключениями вроде Трира или Милана,
римская решетка в процессе городского роста оказывалась
раздроблена на не связанные между собой фрагменты. Ни король,
ни епископ, ни буржуа не держали в голове никакого образа
города как единого целого. «Общественная сфера урезана,
фрагментарна: это естественное проявление в топографии города
постоянной скудности государственных средств, ресурсов и
амбиций»,—утверждает один историк5. Застройщики выжимали
из своих участков все, что могли, соседи заваливали друг друга
судебными исками, а еще чаще нанимали банды молодчиков,
которые просто разрушали постройки, ставшие причиной
конфликта. В этой атмосфере агрессии складывалась городская ткань
Парижа: «Достаточно вспомнить городские улицы, до такой
степени узкие, что дорога в шесть или семь метров шириной
поражала своими размерами, петляющие проходы, множество дворов
и тупиков, тесные перекрестки, постоянную толкотню на
мостовых, редкость проспектов и почти полное отсутствие свободного
пространства»6.
Очень показательна разница между средневековым
Каиром и средневековым Парижем, хотя на современный взгляд их
устройство может показаться одинаково беспорядочным. В
Коране содержатся точные указания насчет расположения дверей
в доме и их соотношения в пространстве с окнами. В
средневековом Каире любой земельный участок, принадлежавший му-
232
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДВИЖЕНИЯ СЕРДЦА
Сохранившаяся улица среаневекового Парижа, конец XIX века
сульманину, должен был застраиваться в соответствии с этими
нормами, за соблюдением которых следили специальные
общественные организации. Больше того, такое здание должно было
сочетаться по форме с соседними и учитывать их планировку: не
разрешалось, к примеру, перекрывать проход к соседской двери.
ГЛАВА ШЕСТАЯ. «КАЖДЫЙ САМ СЕБЕ САТАНА» 233
Ислам предписывал контекстуальный подход в архитектуре, хотя
этим контекстом и не была прямая улица. Строителей
средневекового Парижа ни какие-либо религиозные предписания, ни
указы короля или знати не вынуждали принимать друг друга во
внимание. Расположение окон и количество этажей каждого дома
определялись исключительно волей владельца: строители сплошь
и рядом безнаказанно блокировали доступ в другие здания.
Пространство средневековой парижской улицы было просто
местом, которое оставалось после застройки, не более и не менее
того. К примеру, пока в Марэ не выросли величественные ренес-
сансные дворцы, в этом болотистом квартале на Правом берегу
встречались улочки, где здания, возведенные разными
владельцами и занимавшие каждый клочок своих земельных участков,
сходились так тесно, что между ними едва мог протиснуться
одинокий пешеход. Улицы в кварталах, принадлежавших
королю или аббатствам, были поудобнее, потому что застройщик был
там одновременно и собственником, тем не менее даже в
епископских владениях вокруг Нотр-Дама различные монашеские
ордена выпячивали здания на проезжую часть—по собственной
прихоти и чтобы проверить пределы своих полномочий.
Улицы в те времена несли на себе печать агрессивного
напора—это было пространство, оставшееся после того, как горожане
отстояли свои права и воспользовались своими полномочиями.
Улица не была ни садом, ни киновией, обустроенной
совместным трудом. И хотя улице многого не хватало как месту, она
обладала определенными визуальными характеристиками,
благодаря которым неплохо функционировала как экономическое
пространство. Эти характеристики относились к ее стенам.
В непарадных или просто бедных кварталах
древнегреческих и древнеримских городов стены домов тянулись вдоль
улицы с обеих сторон сплошным барьером. Средневековая
городская экономика сделала уличную стену проницаемой. К
примеру, в парижском квартале кожевенников на Правом берегу
окна каждой лавки демонстрировали прохожим товары с
помощью нововведения в городской архитектуре: горизонтальных
234
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДВИЖЕНИЯ СЕРДЦА
Жан Бурдишон. Миниатюра «Мастерская ремесленника-горожанина»,
конец XV века
ГЛАВА ШЕСТАЯ. «КАЖДЫЙ САМ СЕБЕ САТАНА»
235
Схематическое изображение средневековой уличной лавки в Париже
деревянных ставней, которые откидывались, образуя прилавки.
Первое известное нам здание с такими окнами датируется
примерно 1100 годом. Используя стены таким образом, купцы
уделяли особое внимание демонстрации своего товара, чтобы
внушить прохожему мысль, что внутри лавки тоже может найтись
кое-что достойное внимания. Идя по улице, покупатель теперь
смотрел на стены, поверхность которых превратилась в рабочую
зону экономических интересов.
Таким же точно образом в уличную экономическую
деятельность оказался вовлечен и средневековый двор. Теперь он
служил не только мастерской, но и демонстрационным залом,
а вход в него постепенно расширялся, чтобы прохожие прямо
с улицы могли видеть, что происходит внутри. Даже в самых
роскошных дворцах Марэ вплоть до XVI века двор на уровне пер-
236
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДВИЖЕНИЯ СЕРДЦА
вого этажа представлял собой скопище мастерских и лавок,
которые не только снабжали всем необходимым знатных хозяев
дома, но и обслуживали широкую публику.
Развитие такого пористого экономического пространства
улицы способствовало изменениям в восприятии времени.
Древние города жили по солнцу; в средневековом Париже торговля
продлила часы уличной жизни. Люди выходили на улицы за
покупками либо до начала собственного рабочего дня, либо после
его окончания. Утренние и вечерние сумерки стали часами
потребления: булочная, к примеру, открывалась на рассвете, а
мясник торговал поздним вечером, в течение дня закупив, разделав
и поджарив мясо. Прилавок оставался откинутым, а двор
незапертым до тех пор, пока с улиц не исчезали последние прохожие.
Улицы, где дома возникли в результате проявления
агрессивного утверждения своих прав, а проницаемые поверхности
и объемы подстегивали экономическую конкуренцию, были
к тому же чрезвычайно опасны. Современная преступность
в больших городах не дает нам ни малейшего представления об
уровне насилия, царившего на средневековых улицах. Но это
насилие не являлось, как можно было бы предположить, прямым
следствием экономической деятельности.
Уличная преступность гораздо чаще была направлена
против личности, нежели против собственности. В 1405-1406
годах (первых, по которым у нас имеется надежная криминальная
статистика) 54% Дел, рассмотренных уголовным судом Парижа,
касались «преступлений на почве страсти», и только 6% —
грабежей; за десятилетие с 1411 по 1420 год 76% дел было связано
со спонтанным насилием против личности, a η% — с кражами7.
Одно из возможных объяснений заключается в том, что
практически все торговцы нанимали охрану, а самые состоятельные
горожане держали для защиты своих особняков прямо-таки
маленькие частные армии. Парижская муниципальная полиция
возникла примерно в ибо году, но была совсем
немногочисленной и в основном использовалась для эскортирования
чиновников по городу.
ГЛАВА ШЕСТАЯ. «КАЖДЫЙ САМ СЕБЕ САТАНА»
237
Средневековая криминальная статистика очень
несовершенна и не позволяет нам выяснить, кем были жертвы
преступников — их знакомыми и родственниками или случайными
прохожими. Наличие такого количества стражников и солдат
у представителей привилегированных сословий позволяет
предположить, что жертвами насилия со стороны бедняков обычно
становились такие же бедняки. Однако нам известна одна из
основных причин насилия: пьянство.
С алкоголем было связано около 35% случаев убийств или
нанесения тяжких телесных повреждений в аграрной французской
провинции Турень. В Париже эта доля была еще выше,
поскольку там люди выпивали не только по домам, где опьянев могли
просто лечь спать, но и в общественных кабаках и погребах,
которыми полнились городские улицы8. Компании горожан
напивались там сообща, а поздно ночью высыпали на улицы, ища
повода затеять драку.
Желание выпить имело под собой серьезные основания: его
порождала потребность в телесном жаре. В этом северном
городе вино согревало тела людей в домах, где не было
нормального отопления: камин у отражающей тепло стены, с дымоходом,
ведущим к наружной трубе, появился только в XV веке. До
этого здания обогревались жаровнями или очагами,
разжигавшимися прямо на полу, и дым от них вынуждал людей держаться
на расстоянии. Хуже того, тепло быстро рассеивалось,
поскольку в обычных городских домах окна редко бывали застеклены.
Помимо этого, вино служило наркотиком, притуплявшим боль.
Крепленое вино было в Средние века примерно тем же, чем в
современных городах является героин или кокаин, со своей особой
наркотической культурой, в основном складывавшейся вокруг
винных погребов и кабаков.
Разумеется, в Париже, как и в прочих городах средневековой
Европы, уличное насилие могло приобретать и политический
характер. «Городские бунты зарождались, разрастались и
усугублялись на улицах»9. У бунтов обычно существовали объективные
238
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДВИЖЕНИЯ СЕРДЦА
причины, вроде вороватых чиновников, отвечавших за
распределение хлеба, но в Париже королевские и епископские
стражники быстро подавляли подобные восстания,
продолжавшиеся по большей части всего несколько часов, в крайнем случае
несколько дней. Гораздо чаще физическое насилие, с которым
люди сталкивались на улицах, было непредсказуемым —
беспричинный удар ножом или кулаком в живот от шатавшегося
рядом мертвецки пьяного незнакомца. Таким образом, нужно
представить себе улицу, отмеченную разными, но
перемежающимися формами агрессии: целеустремленной экономической
конкуренцией и спонтанным насилием, не имеющим
отношения к экономике.
Словесные нападки играли важную роль в деловой
конкуренции, но редко перерастали в насильственные действия.
Кредиторы являлись домой к должникам, чтобы безудержно
осыпать их и их семьи самыми изощренными угрозами. Некоторые
историки полагают, что жестокость языка, принятого в таких
случаях, служила эмоциональным клапаном, позволявшим
соперникам проявлять агрессию, не переходя к рукопашной. Так
или иначе, светские и церковные власти города не проявляли
особого стремления наказывать торговцев, которые грозились
избить, а то и зарезать покупателя, отказывавшегося платить,
или запугивали конкурентов.
Низкий уровень преступлений против собственности
свидетельствовал о том, что в городском пространстве царил
устойчивый, хотя и специфический порядок. Житель средневекового
Каира, где торговля подчинялась неприкрытому диктату религии,
мог его и не заметить. В Ветхом и Новом Заветах не содержалось
никаких указаний насчет экономического поведения, помимо
осуждения воровства и ростовщичества. Возможно, именно
поэтому Иоанну Солсберийскому не давалось описание торговца.
Конкуренция не была холерической деятельностью в том
смысле, который подразумевал трактат «Искусство врачевания», где
описывалась легко вскипающая желчь воина. Она ничем не
напоминала ни сангвиническую рассудительность правителя, ни
ГЛАВА ШЕСТАЯ. «КАЖДЫЙ САМ СЕБЕ САТАНА»
239
флегматическую обстоятельность ученого. Конкуренция
определенно не была и меланхолической, как и вскармливающей
деятельностью. Нам станет чуть понятнее, кем же был этот
экономический субъект, когда мы рассмотрим устройство ярмарок
и рынков — пространств, подчиненных более строгому
контролю со стороны города, чем улицы.
Ярмарки и рынки
Средневековый город являл собой пример того, что сегодня мы
назвали бы смешанной государственно-рыночной экономикой
японского типа. Представление о том, как работала эта
комбинация, дает способ, которым использовалась в Париже той эпохи
река Сена10.
Предположим, некий купец привел в Париж корабль с
товаром из другого порта на Сене. По прибытии он должен был
уплатить пошлину около Большого моста, а его товар подлежал
регистрации в местной корпорации под названием marchands de Геаи,
то есть «речные купцы». Если корабль привозил вино,
составлявшее одну из важнейших статей парижского импорта, то его
разгрузкой могли заниматься только парижане, а время его стоянки
с товаром у городской пристани было ограничено тремя днями.
Эти правила обеспечивали высокий оборот грузов в порту, но
из-за них купец-импортер вынужден был торговать в огромной
спешке. Поэтому на набережных кипела лихорадочная
деятельность, каждая минута была на счету.
На рубеже XII и XIII веков Сену пересекали всего два
крупных моста: Большой и Малый. Оба они были застроены
частными домами и лавками представителей определенных ремесел:
к примеру, аптекари с Малого моста готовили снадобья из
пряностей, которые доставлялись к находившимся внизу
пристаням. Городские власти строго следили за чистотой
ингредиентов и концентрацией лекарственных средств. Даже рыболовство
в реке «регулировалось короной, канониками собора Нотр-Дам
и аббатством Сен-Жермен-де-Пре,—пишет историк.—Прежде
чем получить трехлетнюю лицензию на лов, рыбак должен был
240
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДВИЖЕНИЯ СЕРДЦА
поклясться на Библии, что не станет брать карпов, щук и угрей,
не достигших определенного размера»11.
Приобретя товары на пристанях и мостах, купцы
транспортировали их на ярмарочные площади — пространства,
предназначенные для торговли в больших масштабах, чем на городских
улицах. После продажи часть товаров возвращалась с ярмарок на
пристани, чтобы продолжить путь в другие города, а часть
попадала в оборот местной уличной торговли. Важнейшей ярмаркой
средневекового Парижа была ярмарка Ланди, ежегодно
проходившая на особом поле рядом с городом и ведущая свою историю
из самой глубины Темных веков, с VII столетия. В эпоху упадка
европейских городов сделки на ярмарках такого рода носили
местный характер и обычно сводились к натуральному
товарообмену без использования денег, только изредка в них
оказывался задействован профессиональный посредник. Тем не менее
ярмарки формировали первые торговые сети между городами,
связывая один рынок с другим.
К Высокому Средневековью эти смотры товаров
превратились в масштабные, сложно устроенные пышные зрелища.
Крупные ярмарки уже не проходили на прилавках под открытым
небом или в шатрах. Как пишет специалист по истории экономики
Роберт Лопез, «теперь каждой отрасли или виду товара отводился
свой величественный зал, крытый двор или сводчатый пассаж»12.
Прилавки были украшены флагами и эмблемами, в проходах
накрывались длинные столы, где ели, пили и заключали сделки.
Торжественность происходящего подчеркивали изваяния и
живописные изображения святых, ведь ярмарки приурочивались
к религиозным праздникам, когда у купцов и их клиентов было
достаточно свободного времени для переговоров. Эта связь
между ярмарками и церковными обрядами способствовала
поклонению все большему количеству святых из-за желания продлить
время торгов. Хотя этот обычай по виду освящал торговлю,
многих клириков возмущало такое сближение, из-за которого
святых вынуждали благословлять сделки, связанные с
благовониями, специями или вином.
ГЛАВА ШЕСТАЯ. «КАЖДЫЙ САМ СЕБЕ САТАНА»
241
Современного наблюдателя могло бы обмануть
великолепие средневековых ярмарок, скрывавших за своей роскошью
трагическую иронию. По мере того как подпитываемая
ярмарками городская экономика росла, сами ярмарки слабели.
Ярмарка Ланди, к примеру, к XII веку давала парижским ювелирам
и ткачам возможность продать свою продукцию. С годами
парижане заключали сделки со все большим числом клиентов из
все более далеких мест, и, разумеется, все стороны хотели
торговать с партнерами, найденными на ярмарках, круглый год, а не
только в определенные недели. В результате, «хотя общий
объем торговли непрерывно рос в ходе Коммерческой революции,
доля в нем ярмарок неумолимо сокращалась»13. Экономическое
развитие делало все менее выгодным сосредоточение торговой
деятельности в единственном и контролируемом месте.
Ювелиры и ткачи принялись торговать с покупателями, изначально
найденными на ярмарках, круглогодично—теперь уже прямо
на улицах, где находились их лавки и мастерские.
«Хотя слова „рынок" и „ярмарка" часто используются без
разбору, их значение совершенно различно» — писал в
середине XIII века доминиканец Гумберт Романский. В особенности он
имел в виду те рынки, которые еженедельно проводились на
улицах города и часто выплескивались из этого проницаемого
пространства во дворы и даже на разбросанные по городу маленькие
церковные кладбища. На протяжении XII века на этих уличных
рынках неделя за неделей продолжалась торговля, начало
которой было положено на ежегодных ярмарках: там выставлялись
напоказ товары кожевенников, оружейников и ювелиров, там за
полотняной занавеской под открытым небом можно было
получить финансовые услуги или привлечь капитал, хотя золото
банкиров было припрятано вдалеке от уличной суеты.
Пространство таких рынков существенно подрывало
способность государства регулировать торговлю. Купец, которому
досаждали ограничения на одном уличном рынке, просто
переходил на другой. Больше того, рынки нарушали даже те
немногочисленные религиозные запреты, которые существовали
242
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДВИЖЕНИЯ СЕРДЦА
на ярмарке — торговля не прекращалась по воскресеньям,
ростовщичество процветало. Возможно, именно по причине
необузданности рынка и средневековым, и более поздним авторам он
представлялся гораздо более агрессивным экономическим
пространством, чем ярмарка или улица в нерыночные дни. «В
моральном отношении рынки обычно хуже ярмарок», заявлял Гум-
берт, развивая это противопоставление так:
Они работают в праздничные дни, из-за чего христиане
пропускают церковные службы. <...> Иногда они
устраиваются на кладбищах и в иных освященных местах. Сплошь
и рядом там можно услышать, как люди клянутся: «Клянусь
Богом, ты запрашиваешь слишком много» или «Богом
клянусь, я тебе не дам за это такой цены». <...> Иногда, кроме
того, сеньор не досчитывается причитающейся ему с
рынков пошлины, что есть вероломство и измена... случаются
ссоры. <...> Нередко и пьянство14.
Чтобы проиллюстрировать нравственную пропасть между
рынком и ярмаркой, Гумберт приводит притчу о человеке, который,
войдя в монастырь, завидел в клуатре множество бесов, но
выйдя на рынок, нашел там лишь одного, да и тот сидел на
высоком столбе. Это изрядно удивило его. Но ему
объяснили, что в клуатре все устроено так, чтобы привлечь души
к Богу, и потому множеству бесов приходится трудиться,
чтобы сбить монахов с истинного пути. На рынке же, где
каждый сам себе сатана, достаточно и одного беса15.
Особенно любопытна здесь фраза о том, что на рынке «каждый
сам себе сатана». Можно понять, почему экономика делает
человека сатаной для других, но для себя? На ум приходит,
разумеется, религиозное толкование: бес агрессивной конкуренции
заставляет человека забыть о лучшем в себе—о своей способности
сострадать. Но не меньшее распространение получила и другая,
ГЛАВА ШЕСТАЯ. «КАЖДЫЙ САМ СЕБЕ САТАНА» 243
более приземленная трактовка: необузданная экономическая
конкуренция может оказаться саморазрушительной.
Расправляясь в своем стремлении к выгоде с устоявшимися учреждениями
вроде ярмарки, человек экономический на самом деле рисковал
остаться в убытке. Это был просто вопрос времени.
2. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ
Гильдия и корпорация
Средневековая гильдия возникла как институция, призванная
служить защитой от такого экономического саморазрушения.
Она объединяла всех работников, занимавшихся одним
ремеслом, в единую организацию, в рамках которой мастера
определяли обязанности, статус и доход квалифицированных
ремесленников и подмастерьев. От этого договора с гильдией зависел
весь профессиональный путь ее члена; кроме того, гильдия была
общиной, которая заботилась о здоровье ремесленника, а после
его смерти—о его вдове и сиротах. Лопез описывает гильдию как
«федерацию независимых мастерских, чьи владельцы (мастера)
обычно принимали все решения и определяли набор требований
для продвижения квалифицированных ремесленников, или
нанятых работников, и подмастерьев по профессиональной
лестнице. Внутренние конфликты обычно сводились к минимуму
благодаря обшей заинтересованности в процветании отрасли»16.
По-французски ремесленная гильдия называлась corps de métier;
составленная в 1268 году «Livre des métiers» («Книга ремесел»)
«перечисляла примерно сотню имевшихся в Париже
организованных ремесел, подразделявшихся на семь групп:
продовольствие; ювелирное дело и изящные искусства; металл; текстиль
и одежда; меха и кожа; строительство; прочие ремесла»17. Хотя
в теории гильдия была независимой организацией, на деле ее
функции определяли королевские сановники посредством
учредительной хартии, которую они составляли сами, лишь в
лучшем случае учитывая мнение мастеров.
244
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДВИЖЕНИЯ СЕРДЦА
Многие из таких хартий парижских ремесел содержали
тщательно проработанные правила конкуренции внутри
каждой отрасли: к примеру, мясниками строго запрещалось
оскорблять друг друга, а двум торговцам одеждой нельзя было
одновременно привлекать криком внимание одной группы
потенциальных покупателей на улице. Еще важнее было то, что
ранние хартии стремились стандартизировать продукт и тем
самым установить коллективный контроль за отраслью: в
хартии оговаривалось количество материалов, идущих на одно
изделие, его вес и, главное, цена. К1300 году парижские гильдии
определили, к примеру, «обычную буханку» хлеба—это
означало, что его стоимость теперь определялась не рынком, а весом
буханки и сортом использованного при ее изготовлении зерна.
Гильдии прекрасно осознавали разрушительные
экономические последствия необузданной конкуренции. Помимо контроля
за ценами, они старались ограничивать объемы производимой
мастерскими продукции, чтобы конкуренция сосредотачивалась
на качестве ремесленной работы. Так, «гильдии обычно
запрещали внеурочную работу после наступления темноты и иногда
ограничивали число работников, которых мог нанять мастер»18.
Стремление гильдий к упорядочиванию конкуренции
проявлялось и в их отношениях с ярмарками, где они устанавливали
единые цены и определяли количество выставленного на продажу
товара. Тем не менее контроль над конкуренцией не делал
гильдии сильнее.
Для начала интересы разных гильдий не всегда совпадали.
Историк экономики Джеральд Ходжетт отмечал, что в тех
городах, где производители продовольствия пользовались
большим влиянием, «попытки сдерживания цен были менее
успешными, чем в тех городах, где купеческие гильдии стремились
минимизировать стоимость еды»; купцы были более
заинтересованы в низких ценах на продовольствие, поскольку это
означало более низкие оклады работников, а значит,
удешевляло товары, идущие на экспорт19. Кроме того, несмотря на то что
в теории правила становились все строже, на практике гильдии
ГЛАВА ШЕСТАЯ. «КАЖДЫЙ САМ СЕБЕ САТАНА»
245
не могли справиться с переменами и сдвигами, которые с
течением времени вызывал экономический рост.
Гильдиям, которые занимались дальней торговлей,
приходилось постоянно вести дела с иностранцами, и отдельные
члены гильдий часто пытались провернуть с этими чужаками,
не являвшимися частью местной экономической структуры,
какие-то собственные сделки; если подобные нарушения
сходили с рук нескольким, остальные немедленно следовали их
примеру. В XII веке под ударом оказалась и стандартизация,
поскольку из-за жесткой конкуренции отдельные члены гильдий
искали свободные рыночные ниши: в Париже, к примеру,
мясники начали по-разному разделывать туши. В некоторых
отраслях по прежнему удавалось избегать разрушительного влияния
рынка: скажем, конкуренция не играла большой роли в
торговле предметами роскоши вроде драгоценных камней, в которой
кредитные договоренности между продавцом и покупателем
значили не меньше, чем сами товары. Обозревая
средневековые гильдии в целом, можно сказать, что хотя в теории их
члены были обязаны соблюдать строгий свод правил на
протяжении всей своей жизни, на практике это было скорее показным
церемониалом, чем реальным положением дел.
По мере того как влияние гильдий слабело, они все
больше стремились подчеркнуть свою значимость и освященный
временем авторитет, оттачивая ритуалы и выставляя напоказ
образцы продукции, характерные для их давно прошедших
славных дней. На ярмарке в середине 1250-х годов, к примеру,
парижская гильдия оружейников продемонстрировала
тяжелые и неудобные доспехи, давно вышедшие из употребления,
а вовсе не то вооружение, которым она день за днем
торговала со всей Европой. Пройдет еще какое-то время, и членство
в гильдии станет означать немногим больше, чем возможность
в пышном костюме со старинными цепями и печатями
посетить парадный обед в компании людей, которые теперь
воспринимали друг друга в основном как угрозу собственному
благополучию.
246
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДВИЖЕНИЯ СЕРДЦА
Гильдии были только одним из типов корпорации, и пока
гильдии слабели, начался расцвет других корпораций, лучше
приспосабливавшихся к переменам. Средневековая корпорация
представляла собой университет—не больше и не меньше. В то время
слово «университет» не имело жесткой связи с образованием:
«оно обозначало любой корпоративный институт или группу
с независимым юридическим статусом»20. Университет являлся
корпорацией, поскольку ему была дарована уставная хартия.
Такая хартия определяла права и привилегии определенной
группы; она не была ни конституцией в современном понимании, ни
даже общей социальной хартией вроде английской Великой
хартии вольностей. Вообще, Средневековье, по словам одного
историка права, рассуждало в терминах «хартии вольностей, а не
хартии вольности»21. У любой группы имелись коллективные права,
которые могли быть записаны и, что более важно, переписаны.
Этим университет отличался от средневекового сельского/eudum
(феодального контракта), который воспринимался как вечный,
или от отношений с гильдией, прекращавшихся только со
смертью ее члена. Хартии университетов легко могли быть
исправлены и часто исправлялись, в соответствии с изменяющимися
обстоятельствами заново определяя, чем занимается корпорация
и где она это делает; университеты были экономическими
механизмами, существующими во времени.
Феодализм «обеспечил массам определенную безопасность,
ставшую основой для относительного благополучия»22.
Университет мог показаться нестабильным, но на деле право
переписывать свою хартию и реорганизовываться только придавало ему
устойчивости. Историк Эрнст Канторович упоминает
средневековую догму тех qui nunquam montur («король, который не
умирает никогда), объясняя, почему, когда в государстве умирает
конкретный король, королевский сан не умирает вместе с ним:
доктрина «двух тел короля» подразумевала, что существует
вечный король, олицетворение королевской власти, которая
последовательно воплощается в бесконечной череде природных тел
королей23. Ситуация с университетской хартией была во многом
ГЛАВА ШЕСТАЯ. «КАЖДЫЙ САМ СЕБЕ САТАНА»
247
схожа: университет продолжал работать, несмотря на то что его
основатели давно умерли, природа его деятельности
изменилась, да и сам он переехал на новое место.
Таким образом, те средневековые корпорации, которые
и в самом деле занимались образованием, состояли из
учителей, а не из зданий. Университет как образовательное
учреждение начался с того, что наставники давали уроки в
арендованных залах или церквях; первое время у него вообще не было
собственной недвижимости. В1222 году ученые покинули
Болонью, чтобы основать университет в Падуе, точно так же в 1209-
м профессора Оксфорда переехали в Кембридж. «Это отсутствие
собственности парадоксальным образом наделило
университеты их самой важной способностью: оно дало им полную
свободу передвижения»24. Автономия корпорации освободила ее от
зависимости и от места, и от собственного прошлого.
На практике хартии объединяли мир экономики и мир
образования, поскольку для изменения хартии требовались люди,
мастерски владевшие языком. Такие лингвистические навыки
возникали в образовательных корпорациях. В Парижском
университете начала XII века Петр Абеляр преподавал студентам
теологию с помощью диспутов—этот процесс
интеллектуального соревнования (disputatio) радикально отличался от
прежнего метода обучения (lectio), при котором преподаватель
зачитывал вслух и толковал фразы Священного писания, а студенты
записывали его слова. Диспут начинался с исходного
предположения и вносил в него изменения, как вариации в
музыкальную тему, в ходе диалога между учителем и учеником. Хотя
метод disputatio возбуждал ненависть у большинства
представителей церковной иерархии, которым казалось, что он
угрожает самому постоянству мироздания, он чрезвычайно
привлекал студентов по понятной практической причине: диспут
давал им навыки, необходимые для успешной конкуренции во
взрослой жизни.
В средневековый период решение о том, когда и как та или
иная корпорация может переписать свою хартию, принимало
248
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДВИЖЕНИЯ СЕРДЦА
государство. К примеру, в третьем десятилетии XIII века четверо
парижских аристократов приняли решение на собственные
средства обустроить северный берег Сены напротив острова Сен-Луи.
Король пообещал им, что в таком случае он гарантирует их
арендаторам в других частях города право прекратить свои прежние
контракты и переехать в эти новые и более удобные дома. Нам
такая возможность кажется чем-то очевидным, однако это было
эпохальное событие: экономические перемены стали правом,
гарантированным государством.
Таким образом, полномочия менять с течением времени
свои уставные документы впервые определили современное
понятие корпорации. Если хартию можно переписать, это означает,
что учрежденная ею корпорация имеет структуру, которая
важнее, чем ее функция в данный момент времени. К примеру, если
Парижский университет исключал из программы один из
предметов, или если его преподаватели перебирались в другое место,
ему не приходилось прекращать свое существование —точно
также как современная корпорация с названием типа
«Всемирная стекольная компания» может давным-давно не производить
стекло. Корпоративная структура, которая не сводится к
определенным неизменным функциям, может извлекать выгоду из
изменения условий на рынке, появления новых товаров или
удачного стечения обстоятельств. Компания может изменяться и при
этом продолжать существовать.
Происхождение корпорации придает иной смысл
любимому Максом Вебером термину «автономия». Автономия
означает способность меняться; для достижения автономии нужно
иметь право меняться. Эта формула, которая сегодня кажется
такой очевидной, означала настоящую революцию в понимании
времени.
Экономическое время и христианское время
В1284 году король Филипп Красивый выяснил, что процентные
ставки в его королевстве иногда достигают 266% в год, а обычно
составляют от 12 до 33%· Такие цифры казались насмешкой над
ГЛАВА ШЕСТАЯ. «КАЖДЫЙ САМ СЕБЕ САТАНА»
249
временем. Гильом Оссерский в своем трактате «Summa aurea»,
написанном между i2io и 1220 годами, заявил, что
ростовщик «продает время»25. Анонимная рукопись XIII века «Tabula
Exemplorum» также утверждает, что ростовщики «не
продают ничего другого, кроме ожидания денег, то есть времени,
они продают дни и ночи»26. Гильом Оссерский пояснял свою
мысль, ссылаясь на заложенную в Подражании Христу
способность к состраданию и добрососедским чувствам: «Все
создания должны приносить себя в дар. Солнце должно приносить
себя в дар, чтобы было светло; земля также должна приносить
в дар то, что она производит». Ростовщик же лишает человека
возможности дарить себя другим, лишает его средств вносить
свою лепту в жизнь общины. Должник оказывается не
способен принимать участие в христианской истории27. Это
объяснение покажется нам более вразумительным, если учесть,
что с точки зрения большинства средневековых людей Второе
пришествие Христа могло случиться в любой момент. Те, кто
не вносит свой христианский вклад в жизнь общины, не
спасутся в Судный день, до которого оставались считанные годы,
а то и месяцы28. Однако, чтобы заметить пропасть,
разделявшую христианское понимание времени и экономическое
время, не обязательно было дожидаться конца света или
размышлять именно о ростовщиках.
Корпорация могла вымарать прошлое одним росчерком
пера. Ее время было произвольным и, как отметил Жак Ле Гофф,
преимущественно городским: «...крестьянин... в своей
профессиональной деятельности зависит от погодных условий, от
чередования времен года и от природных катаклизмов», тогда как
на бирже «минуты и секунды будут создавать или разрушать
целые состояния», так же как на парижских пристанях29. У этого
городского экономического времени была оборотная сторона.
Время стало товаром, измеряемым количеством отработанных
часов, за которые причиталась фиксированная плата. Это
отмеряемое время впервые дало о себе знать как раз в гильдиях
эпохи Гумберта Романского, особенно в тех, что объединяли произ-
250
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДВИЖЕНИЯ СЕРДЦА
водителей: правила таких гильдий предписывали определенную
продолжительность рабочего дня и рассчитывали оклады
именно исходя из нее, а не сдельно, то есть по количеству
законченных работником изделий30. Время, исчислявшееся переменами,
и время, которое отсчитывали часы, были двумя ликами
экономического Януса. Это экономическое время обладало
способностью распадаться и способностью ставить пределы, но было
лишено нарратива—оно не разворачивало никакой истории.
Между тем богослов Гуго Сен-Викторский провозглашал,
что христианская «история — это повествовательное тело»31.
Говоря так, он имел в виду, что все вехи в жизненном цикле
христианина упорядочены повествованием о жизни Христа. Чем
ближе верующий подходит к Иисусу, тем яснее для него
становится значение всех тех событий, которые иначе кажутся
бессмысленными или просто случайными. Вера в то, что
христианская история представляет собой повествование, основана на
стремлении к Подражанию Христу. Его тело говорит не о
посторонних, чуждых событиях и не о том, что случилось когда-то:
этот рассказ всегда современен. Стоит приблизиться к Нему, как
направление, в котором указывает стрела времени, становится
очевидным.
Христианское время не признавало личной автономии в том
смысле, в каком ее определяла корпорация. Действия человека
должны были быть не автономны, а подчинены Подражанию
Христу, и от этого образца нельзя было отступать ни на шаг,
потому что в жизни Христа не было случайностей. Больше того,
христианское время имело мало общего со временем, которое
отсчитывали часы. Продолжительность исповеди, к примеру, мало
что говорила о ее ценности: к Высокому Средневековью
прежнее механическое перечисление грехов уступило место тому,
что современный философ Анри Бергсон называет la durée,
длительностью, «бытием во времени», в котором между духовником
и исповедующимся возникала эмоциональная связь. А длится ли
это бытие во времени секунду или час—неважно: главное,
чтобы оно случилось.
ГЛАВА ШЕСТАЯ. «КАЖДЫЙ САМ СЕБЕ САТАНА»
251
Homo economicus
В свете всего вышесказанного становится понятнее, отчего Гум-
берт Романский считал, что на рынке «каждый сам себе сатана».
Средой обитания Homo economicus—человека экономического—
было не место, а пространство. Корпорация, чей расцвет
начался с Коммерческой революции, обращалась со временем также,
как с пространством. Это была организация с гибкой формой, она
выживала, поскольку умела меняться. Неизменным в ней было
только количество рабочего времени, которым она
распоряжалась, оплачивая работу поденно или по часам. Ни ее автономия,
ни имевшийся у нее запас рабочего времени не согласовывались
с повествовательным временем христианской веры. Как
торговец, разоряющий своих конкурентов, ростовщик, наниматель
или игрок, ставящий на кон чужие жизни, Homo economicus,
возможно, был сатаной для других, но сатаной для себя он был
потому, что рисковал саморазрушением: те самые институции, с
помощью которых он надеялся преуспеть, ставили под угрозу его
спасение в Судный день. Экономическому времени и
пространству не доставало чувства долга.
В той версии возникновения Homo economicus, которой
придерживается историк экономики Альберт Хиршман,
разрушительным тенденциям раннего капитализма не находится места.
Для Хиршмана экономическая деятельность была занятием
умиротворяющим по сравнению с «погоней за честью и славой,
превозносимой средневековым рыцарским этосом»32. Хотя в своей
книге «Страсти и интересы» Хиршман в основном касался более
позднего периода, тут он, возможно, опирался на мнение
средневекового автора Гильома Конхезия, восхвалявшего одно
качество, которого был лишен и холерический рыцарь-крестоносец,
и апокалиптически настроенный верующий. Это качество —
modestia (скромность); Гильом определял ее как «добродетель,
которая удерживает наши манеры, движения и все наши
действия между недостаточным и чрезмерным»33. Сам святой
Людовик «и соблюдал, и восхвалял juste milieu („золотую середину") во
всем—в одежде, в еде, в набожности и в войне. Идеалом для него
252
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДВИЖЕНИЯ СЕРДЦА
был prudhomme, благоразумный, рассудительный человек,
отличающийся от храброго рыцаря тем, что доблесть для него
связана с мудростью и мерой»**. Однако Homo economicus был
безрассуден по самой своей природе.
Груз экономического индивидуализма лежит на
современном обществе таким тяжким бременем, что мы уже не можем
воспринимать сострадание и альтруизм как жизненно
необходимые качества. Средневековые люди были на это способны
благодаря своей вере. Отсутствие попечения о собственной душе
казалось им неблагоразумным и даже безрассудным поведением.
Утратить свое место в христианской общине означало
опуститься до состояния животного. Средневековый человек
небезосновательно воспринимал экономический индивидуализм как
духовное искушение, ведь что могло удержать людей в общине
в случае его победы? Этот конфликт между местом и
пространством, впервые проявившийся в Париже в Высокое
Средневековье, можно проиллюстрировать тремя картинами, созданными
в других городах Европы на исходе Средних веков.
3. ГИБЕЛЬ ИКАРА
Первая из них пересказывает хорошо знакомый сюжет.
В1564 году Питер Брейгель Старший создал свое самое большое
полотно, в котором рассказывает мрачную историю при помощи
едва заметной детали. «Путь на Голгофу» заполнен множеством
фигур, рассеянных по холмистому ландшафту под темнеющим
небом с плотными облаками. От переднего плана к заднему
картина разделена на три зоны: сначала небольшая группа
скорбящих на скалистом плато, потом огромная толпа, движущаяся
через поле к холму, и, наконец, пасмурное небо, смыкающееся
с холмом на горизонте.
Группа скорбящих впереди — это семья и ученики Христа:
в центре—Богородица со склоненной головой, ее глаза закрыты,
а тело поникло. Эти фигуры Брейгель выписал тщательно и
подробно, так что их четкость резко контрастирует с невнятной су-
ГЛАВА ШЕСТАЯ. «КАЖДЫЙ САМ СЕБЕ САТАНА»
253
Питер Брейгель Старший. Путь на Голгофу, 1564
етой на среднем плане. Там мы видим процессию персонажей,
написанных крупными мазками и цветовыми пятнами, и
визуальную упорядоченность привносит только красная линия,
образованная мундирами растянувшихся вереницей конников.
В середине этого шествия и точно в центре картины находится
мужчина в сером, который упал, перегородив человеческий
поток; он уронил какой-то предмет, который зритель едва может
различить, поскольку он написан почти тем же светло-желтым
цветом, что и голая земля под ним. Это крест.
Брейгель спрятал Иисуса в гуще толпы, которая, кажется,
вот-вот затопчет это серо-желтое пятнышко в своем
неуправляемом движении вдоль красной линии. Миниатюризируя
евангельскую драму, художник превращает трагедию во
второстепенную деталь. Тем самым Брейгель как нельзя более
традиционным способом передает идею пропасти между священным
и мирским. По выражению современного биографа Брейгеля,
254
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДВИЖЕНИЯ СЕРДЦА
Пьеро делла Франческа. Бичевание, 1455_1460
«Чем меньше заметен Христос... тем больше остается места для
изображения безразличия обычного человека»35. В этой версии
древней христианской истории людской пейзаж предстает
иссушенной и холодной пустыней. Тем не менее в своей композиции
Брейгель подчеркивает и исконно христианский
мотив—необходимость сплоченного отклика на страдание. Тщательно
выписанная группа на переднем плане показывает нам людей,
объединенных страданием Христа, но они находятся в пустыне.
«Бичевание», картина Пьеро делла Франчески, написанная
около 1455_14бо годов для часовни герцогского дворца в Урби-
но, создает ощущение христианского места в отчетливо
городской обстановке. Пьеро разделяет свое небольшое полотно (51 на
8ι сантиметр) на две сложно устроенные части. Слева в
глубине комнаты изображен привязанный к колонне Иисус, которого
бичует палач; за пыткой наблюдают две стоящие фигуры и
сидящий в кресле человек на заднем плане. Правая половина кар-
ГЛАВА ШЕСТАЯ. «КАЖДЫЙ САМ СЕБЕ САТАНА»
255
тины изображает, на первый взгляд, не связанную с
бичеванием городскую сценку под открытым небом. Перед комплексом
зданий стоят три человека: двое мужчин в летах и юноша между
ними. Единственная непосредственная связь между двумя
частями картины—белые полосы на земле, которые слева
представляют собой мозаичный пол, а справа продолжаются как мостовая.
Благодаря работам современных искусствоведов мы
знаем, что во времена делла Франчески обе половины полотна
воспринимались как единое целое, хотя о сути их единства
исследователи договориться не могут. По мнению Мэрилин Лавин,
объяснение состоит в том, что двое зрелых мужчин на
городской площади недавно потеряли сыновей — один из-за чумы,
другой из-за туберкулеза. Эти события «объединили двух отцов
и были причиной, по которой они заказали картину Пьеро»;
стоящий между ними юноша «олицетворяет идею
„возлюбленного сына"»36. В таком случае современник Пьеро делла Франчески
при взгляде на полотно видел связь между страданием Сына
Человеческого внутри здания и утратой сыновей, объединившей
отцов снаружи.
Кроме того, две половины картины объединены и чисто
визуально. Делла Франческа был знатоком перспективы, и пытка
в глубине здания идеально соотносится с группой на переднем
плане. Две части «Бичевания» настолько соразмерны, как будто
художник сначала выстроил это здание, а потом написал его с
натуры. Современный художник Филип Густон так толкует эту
загадочную сцену: «Композиция рассечена почти посередине, но
обе части взаимодействуют друг с другом, притягивая и
отталкивая, впитывая и увеличивая одна другую»37. Зритель, стоящий,
подобно самому Пьеро, прямо перед картиной, ощущает сложное
пространственное единство картины, описанное Гастоном, но эти
визуальные качества неотделимы от ее религиозного
содержания. Обратившись к теме утешения скорбящих отцов, чья боль
повторяется, преображается и искупается болью самого Христа,
художник создал в городе место, которое объединяет. Эта
картина является выражением Подражания Христу в условиях города.
256
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДВИЖЕНИЯ СЕРДЦА
Питер Брейгель Старший. Пейзаж с падением Икара, 1558(?)
«Пейзаж с падением Икара», написанный Брейгелем за шесть
лет до «Пути на Голгофу», изображает сюжет из античной
мифологии, который сулит третью возможность. Композиция тут так
же основана на изображении страдания через деталь. Брейгель не
показывает ни молодого человека, взлетающего к солнцу на
скрепленных воском крыльях, ни тот момент, когда воск тает и Икар
начинает падать с небес. На картине видны только две
крошечные ноги, бултыхающиеся в воде посреди идиллического
приморского ландшафта, где смерть—лишь незначительная деталь.
Даже цвета скрывают происшедшее: Брейгель написал ноги
Икара голубовато-белыми, так что они сливаются с сине-зеленой
морской водой. И наоборот, идущего за плугом крестьянина,
пастуха, пасущего овец, и рыбака, забросившего удочку, художник
изобразил в выразительных позах и ярких красках. Брейгель
фокусирует внимание зрителя не на ногах, торчащих из воды, а на
корабле, который направляется к голландскому городу далеко на
горизонте.
ГЛАВА ШЕСТАЯ. «КАЖДЫЙ САМ СЕБЕ САТАНА»
257
Поговорка того времени гласила: «Из-за умирающего
пахоту не останавливают»38. Люди, населяющие пейзаж Брейгеля, не
обращают внимания на странную и страшную гибель посреди
моря. По мнению поэта У.Х. Одена, таким образом Брейгель
снова изобразил отсутствие сострадания человека к человеку: в
своем стихотворении, озаглавленном «В музее изобразительных
искусств», Оден писал:
В «Икаре» Брейгеля, в гибельный миг,
Все равнодушны, пахарь—словно незрячий:
Наверно, он слышал всплеск и отчаянный крик,
Но для него это не было смертельною неудачей...39
Тем не менее «Падение Икара» — одно из самых
умиротворенных полотен Брейгеля: оно прямо-таки излучает покой.
Сельский пейзаж так красив, что отвлекает наш взгляд от сюжета:
цвета для нас оказываются важнее, чем смерть. Иссушенной
пустыни «Пути на Гологофу» больше нет, как и того единства места
и страдания, которое отличает «Бичевание» Пьеро делла
Франческа. Ощущение места становится самоцелью —мы снова в
Райском саду.
Эта третья картина предлагает нам способ разрешить
противоречия, возникшие в средневековом мире из-за порожденной
им привязанности к месту. Не намеренно,
разумеется,—«Пейзаж с падением Икара» ставит нас перед противоречием
между красотой и ужасом, актуальным во все времена. Но эта
картина создает, не больше и не меньше, образ места, где отрицались
странные происшествия и чуждое присутствие. По мере того как
христианские общины оказывались перед необходимостью
выживать во все более чуждом мире, это отрицание манило их все
сильнее.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
БОЯЗНЬ ПРИКОСНОВЕНИЯ.
ЕВРЕЙСКОЕ ГЕТТО В ВЕНЕЦИИ
ЭПОХИ РЕНЕССАНСА
Сюжет шекспировской драмы «Венецианский купец» построен
на обстоятельстве, которое, стоит только о нем задуматься,
кажется довольно странным. Шейлок, богатый венецианский
еврей-ростовщик, ссужает христианину Бассанио зооо дукатов на
три месяца под поручительство друга Бассанио, Антонио. Если
оба они не смогут расплатиться вовремя, Шейлок, который
ненавидит и самого знатного христианина Антонио, и все, что он
собой воплощает, хочет получить в качестве неустойки фунт его
мяса. Как это обычно бывает в пьесах, судьба поворачивается
к Антонио спиной, и его корабли, в которых заключено все его
благосостояние, гибнут во время шторма. Странность
заключается в том, что и сам Антонио, и христианские власти, которые
вмешиваются в дело, уверены в необходимости держать слово,
данное еврею.
За стенами театра зрители шекспировских постановок
относились к евреям как к полуживотным, существующим
практически вне закона. Всего за несколько лет до премьеры
«Венецианского купца» в правовой защите было отказано самому
именитому еврею Англии. Придворный врач Елизаветы I доктор
Лопес был обвинен в попытке отравить королеву; даже несмотря
на то что сама она настаивала на судебном процессе, лондонцы,
не нуждавшиеся ни в каких иных доказательствах, кроме
национальности подозреваемого, линчевали доктора Лопеса. В своей
драме Шекспир еще усугубляет подобные предрассудки, делая
еврея-ростовщика людоедом.
В связи с этим можно было бы ожидать, что дож Венеции,
как могущественный deus ex machina, вмешается и бросит этого
259
Якопо de Барбари. Гравюра по дереву, изображающая венецианское
Гетто, 1500
людоеда в темницу или хотя бы объявит сделку
безнравственной, а потому недействительной. Тем не менее когда один из
второстепенных персонажей выражает уверенность, что дож
наверняка поступит именно так, Антонио отвечает: «Не может
дож законы нарушать»1. Власть, которую Шеилок получил над
260
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДВИЖЕНИЯ СЕРДЦА
Антонио,—это власть контракта: после того как стороны
добровольно его заключили, все остальное не имеет значения. Дож
и сам признает это при встрече с Шейлоком: он лишь
уговаривает ростовщика, а тот, будучи уверен в своих правах, остается глух
к просьбам верховного властителя города. Порция, женщина,
которой в итоге удается разрубить этот гордиев узел,
провозглашает: «В Венеции нет власти, чтоб изменить уставленный закон»2.
Коллизия «Венецианского купца», по всей видимости,
показывает могущество экономических сил, изначально
сформированных средневековыми университетами и прочими
корпорациями. Финансовые права Шейлока неоспоримы, государство
против них бессильно. Пьеса показывает новообретенную власть
экономики, которая проявляется, помимо прочего, в
непреложной силе контракта после того, как две стороны (в данном случае
Шейлок и Антонио) добровольно его подписали.
Больше того, экономическая агрессия Шейлока угрожает
христианской общине загнанных в угол шекспировских
венецианцев. Антонио великодушно согласился помочь своему
другу Бассанио. В отличие от Шейлока, он не требует ничего
взамен, а просто проявляет сострадание к трудностям ближнего.
Шекспировские венецианцы — это английские джентльмены,
занявшиеся торговлей. Такие воображаемые венецианцы под
разными личинами появляются и в других пьесах Шекспира,
например в комедии «Сон в летнюю ночь», где все проблемы в
конце концов разрешаются благодаря христианскому состраданию.
Но Венеция имела для драматурга и его современников особое
значение.
Благодаря своим торговым связям Венеция была,
несомненно, самым интернациональным городом эпохи Ренессанса,
воротами, соединявшими Европу с Востоком и Африкой.
Англичане и жители континентальной Европы надеялись построить
флот под стать венецианскому и таким образом подключиться
к этой международной торговле. Хотя в 1590-е годы, когда
Шекспир писал «Венецианского купца», богатство Венеции на
самом деле уже шло на убыль, по всей Европе она воспринималась
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. БОЯЗНЬ ПРИКОСНОВЕНИЯ
261
как роскошный, раззолоченный порт. Этот образ Венеции
Шекспир мог почерпнуть из книг, таких как «Мир слов» Джона Фло-
рио (сына итальянского эмигранта), или из музыки—например,
из мадригалов другого осевшего в Англии итальянца, Альфонсо
Феррабоско; чуть позже шекспировская публика
опосредованно познакомится с творчеством великого венецианского
архитектора Палладио благодаря зданиям его последователя Иниго
Джонса.
Венеция казалась городом чужаков, обществом, состоящим
из бесчисленных и постоянно сменяющих друг друга
иноземцев. В воображении елизаветинцев Венеция представала
средоточием немыслимых богатств, накопленных благодаря
контактам с этими язычниками и неверными, ее благополучие было
результатом сделки с Иным. Но в отличие от древнего Рима,
Венеция не коллекционировала территории: наводнявшие ее
иноземцы не были подданными какой-либо одной империи или
национального государства. Поселившиеся в городе чужестранные
купцы—немцы, греки, турки, далматинцы или евреи—не
имели возможности получить местное гражданство и жили на
правах вечных иммигрантов. Ключом к богатству в этом городе
чужаков был контракт. Как объяснял Антонио,
Не может дож законы нарушать:
Ведь он, отняв у чужестранцев льготы,
В Венеции им данные, доверье
К законам государства подорвет;
А наши и торговля и доходы —
В руках всех наций3.
В настоящей Венеции значительная часть шекспировского
сюжета была бы, однако, просто невозможной. В какой-то момент
Антонио приглашает Шеилока на обед. В пьесе еврей отказывается
прийти, но в реальности у него просто не было бы такой
возможности. Реальный венецианский еврей-ростовщик жил в Гетто,
которое было построено в течение XVI столетия и располагалось
262
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДВИЖЕНИЯ СЕРДЦА
на окраине. На рассвете он мог покинуть его пределы и
направиться в финансовый квартал у Риальто — деревянного моста
в центре города. К закату всем евреям предписывалось
вернуться в тесноту Гетто; с наступлением темноты ворота запирались,
а ставни всех окон, выходивших наружу, захлопывались,
периметр района патрулировали стражники. Средневековая
поговорка «Stadtluft macht frei» звучала для еврея горькой насмешкой,
поскольку данное ему право вести в городе дела не влекло за
собой никакой свободы в более широком смысле. Заключая сделки
как равный, еврей жил как человек второго сорта.
В этой реальной Венеции стремление к христианской
общине было чем-то средним между мечтой и одержимостью.
Разнообразие воспринималось как дефект и внушало страх:
албанцам, туркам, грекам и западным христианам вроде
немцев были отведены особые тщательно охраняемые здания или
кварталы. Разнообразие казалось пугающим, но одновременно
и соблазнительным.
Сгоняя евреев в Гетто, венецианцы искренне верили, что
таким образом локализуют недуг, поразивший христианскую
общину: именно евреев они в наибольшей степени отождествляли
с вредоносными телесными пороками. Христиане боялись
прикасаться к евреям: еврейские тела считались разносчиками
венерических заболеваний и вместилищами некоей более
таинственной скверны. Еврейское тело было нечистым. Эта боязнь
прикосновения ярко проявлялась в одной детали делового
этикета: в то время как сделка между христианами скреплялась
поцелуем или рукопожатием, с евреями в этом случае было принято
раскланиваться, чтобы избежать телесного контакта. Сами
условия ссуды, которые Шейлок поставил Антонио,—расплата
плотью — были выражением страха, что еврей осквернит тело
христианина, прибегнув к могуществу денег.
В эпоху Средневековья Подражание Христу сделало людей
более чуткими и внимательными к телу, особенно к телу
страдающему. Страх перед прикосновением к еврею обозначал
границы этого представления об общем теле: за этим рубежом таилась
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. БОЯЗНЬ ПРИКОСНОВЕНИЯ
263
опасность, вдвойне пугающая, поскольку нечистота
чуждого тела, не скованного христианской моралью,
ассоциировалась с манящей чувственностью Востока. Прикосновение еврея
оскверняет и в то же время соблазняет. Изолированное
пространство Гетто было выражением компромисса между
экономической нуждой в евреях и отвращением к ним, между
практической необходимостью и физиологическим страхом.
Создание Гетто пришлось на переломный для Венеции
момент. Всего за несколько лет до этого первые лица города
потеряли важнейшее торговое преимущество и потерпели
сокрушительное военное поражение. Основной причиной этого было
объявлено состояние нравственности в
городе—распространение телесных пороков, вызванное тем самым богатством,
которое теперь ускользало из рук. Результатом этой кампании за
моральные преобразования и стало появление Гетто. Изолируя
чужаков, избавляясь от необходимости видеть их и прикасаться
к ним, отцы города рассчитывали вернуть в Венецию мир и
благолепие. Это была местная версия того безмятежного пейзажа-
мечты, который Брейгель создал в «Падении Икара».
Сегодня у нас легко может сложиться впечатление, что
европейские евреи всегда жили в гетто. В самом деле,
христианская Европа стремилась изолировать евреев от основной
массы населения начиная с Латеранского собора 1179 года. Во всех
европейских городах, где были крупные еврейские колонии,—
Лондоне, Франкфурте, Риме — их вынуждали жить особняком.
Прекрасной иллюстрацией проблем, связанных с
претворением в жизнь постановлений Третьего Латеранского собора,
служит Рим. То, что сейчас называется римским гетто, существует
с раннего Средневековья; несколько улиц в еврейском квартале
средневекового Рима даже имели запирающиеся ворота,
однако городская ткань была слишком хаотичной, чтобы полностью
изолировать евреев от христиан. Географические особенности
Венеции сделали наконец возможным буквальное выполнение
решений Латеранского собора—в городе, построенном на воде,
каналы заменяют улицы, превращая кварталы в острова обшир-
264
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДВИЖЕНИЯ СЕРДЦА
ного архипелага. Создавая венецианское Гетто, городские власти
поставили воду на службу сегрегации: Гетто представляло собой
группу островов, каналы вокруг которых стали играть роль
заградительных рвов.
Хотя венецианские евреи и оказались пострадавшими в
процессе подчинения экономической мозаики принципам
христианской общины, они вовсе не были пассивными жертвами.
История венецианского Гетто — это история о людях, которые
подверглись сегрегации, но воспользовались самой этой
сегрегацией для создания новых форм общественной жизни: евреи
ренессансной Венеции добились определенной степени
самоуправления в пределах Гетто. Более того, пока чужаки — евреи
или турки — находились в отведенном им пространстве, город
защищал их от христианских погромов во время Великого поста
или в другие периоды обострения религиозного рвения.
Сегрегация подчеркнула инаковость евреев в повседневной
жизни, скрыв от городских властей жизнь иноверцев за стенами
Гетто. Самих евреев Гетто заставило менее охотно
контактировать с христианами, поскольку их еврейская идентичность
оказывалась под угрозой, стоило им покинуть его пределы. Больше
трех тысячелетий вера позволяла евреям выживать маленькими
группами прямо в гуще своих преследователей, независимо от
того, где они оказывались. Теперь же религиозные узы,
объединявшие Народ Слова, стали все больше зависеть от их
собственного места обитания—места, где евреи могли оставаться собой.
Так община оказалась связана с угнетением: из страха перед
прикосновением к чуждому и соблазнительному телу христиане
Венеции попытались создать христианскую общину путем
изоляции чужаков. Идентичность евреев оказалась поставлена в
зависимость от той же географии угнетения.
1. ВЕНЕЦИЯ КАК МАГНИТ
Анри Пиренн критиковал Макса Вебера за то, что тот
недооценивал средневековые города как проницаемые места торговли
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. БОЯЗНЬ ПРИКОСНОВЕНИЯ
265
со всей той неоднозначностью и пестротой, которую привносит
в жизнь города международная коммерция. Венеция могла бы
послужить Пиренну идеальным примером такого
города-магнита. Образцом коммерческой деятельности, которая обогатила
Венецию, но одновременно привлекла в город евреев и прочих
чужеземцев, была торговля пряностями.
Первой специей, рынок которой стала контролировать
Венеция, была соль, простейшее средство консервирования
продуктов. В раннем Средневековье венецианцы добывали соль
на прибрежных солончаковых болотах, а потом продавали ее
окрестным жителям, и для этого требовался контроль над
территориями. Гораздо больше денег принесла Венеции
торговля пряностями вроде шафрана, которые, подобно тканям или
золоту, нужно было везти издалека. Местный спрос на шафран
был невелик, но общеевропейский — поистине огромен.
Торговля товарами этого типа зависела от морского могущества, а не от
территориальных владений. Шафран, зира и можжевельник
произрастали в Индии и других странах Востока, так что Венеция,
доставлявшая их на Запад, служила, по выражению Уильяма Мак-
нилла, «поворотной осью Европы»4.
Уже к 1000 году Венеция добилась господства по всему
Адриатическому морю, которое было одним из путей к
Иерусалиму—таким образом, город, помимо всего прочего, стал отправной
точкой для крестовых походов в Палестину. После Третьего
крестового похода Венеция получила исключительное право
торговать со странами Востока, которое она использовала для импорта
пряностей: перца, который ввозился частично из Индии, а
частично с восточного побережья Африки через Александрию,
мускатного ореха и шафрана из Индии, корицы с Цейлона. Крестоносцы
возвращались домой с Востока, пристрастившись к ароматам
восточной кухни, и внедрение пряностей совершило настоящий
переворот в рационе европейцев. Торговля специями играла такую
важную роль в экономике Венеции, что для ее регулирования
возникли специальные бюрократические структуры — к
примеру, Шафрановая канцелярия. В1277 году соперница Венеции—Ге-
266
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДВИЖЕНИЯ СЕРДЦА
нуя—начала ежегодно высылать морские караваны с восточными
товарами в Брюгге и другие европейские порты Северного моря.
Венецианцы, которые контролировали ввоз многих из этих
товаров с Востока, вскоре последовали примеру генуэзцев и начали
собственную североевропейскую торговлю через Англию.
Венецианская торговля была организована как
сотрудничество между отдельными купеческими семьями и государством.
«Такие совместные предприятия были гораздо менее
постоянны, чем современные корпорации, и имели очень
ограниченные задачи,—замечает современный историк Фредерик Лэйн.—
Срок их существования определялся только продолжительностью
морского похода или скоростью продажи привезенного груза»5.
Управляли такими совместными предприятиями считанные
влиятельные семьи: к примеру, в один из годов на долю семьи Грима-
ни пришлась пятая часть всего торгового дохода Венеции—около
40 ооо дукатов6. В самом городе производились главным образом
корабли для этих морских экспедиций.
Пряности и прочие товары доставлялись особыми
торговыми галерами, которые шли под парусом только в открытом море,
а вдоль берегов передвигались за счет работы двух сотен гребцов.
Такие галеры, длиннее и шире военных, ходили караванами,
которые обозначались словом muda. Суда принадлежали
венецианскому государству, у которого их арендовали купцы вроде Гримани,
в свою очередь по частям сдававшие их гигантские трюмы более
мелким торговцам. Караваны таких галер иногда собирали грузы
с южного берега Средиземного моря, но из-за своего устройства
и стоимости эти огромные суда приносили больше выгоды, когда
отправлялись в дальние путешествия через Босфор в восточную
часть Черного моря. Там они загружали на борт пряности,
доставленные по суше из Индии и с Цейлона, а потом возвращались
обратно, представляя собой заманчивую добычу. В XIV веке, до
возвышения Османской империи, главной опасностью на обратном
пути были пираты, позже корабли с драгоценным грузом
должны были отбиваться по дороге еще и от турок. Сюжетные
перипетии шескпировской драмы имели под собой реальную подоплеку.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. БОЯЗНЬ ПРИКОСНОВЕНИЯ
267
Старая таможня в Венеции
Если кораблю удавалось избежать опасностей в открытом
море, он поднимался по Адриатике, миновал песчаные косы,
образующие вход в Венецианскую лагуну, и входил в город. Лагуна
и косы были самой надежной стеной, защищавшей Венецию от
чужеземного вторжения, поскольку они позволяли жестко
контролировать доступ кораблей в городскую акваторию. Собор
Святого Марка на одноименной площади служил ориентиром
возвращающимся судам; когда конвой приближался к Венеции,
навстречу ему выходили суда таможни, и таможенные офицеры
поднимались на борт. Из-за своего размера торговые галеры не
могли далеко заходить по главной водной артерии города,
Большому каналу, поэтому грузы переносились на более мелкие суда,
которые развозили его по городским пристаням.
Стоило кораблю благополучно вернуться в порт, он
оказывался предметом внимания многочисленных городских
чиновников, которые проводили учет товара и облагали его пошлиной.
Жесткий контроль за товарооборотом был смыслом и способом
268
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДВИЖЕНИЯ СЕРДЦА
Еврей-ростовщик. Иллюстрация Яна ван Гревенброка из рукописи
«Костюмы венецианцев», конец XVIII века
существования венецианского порта, и сама топография города
давала многочисленные возможности для такого надзора. Узкий
вход в лагуну, расположение таможни на мысу, широкое устье
Большого канала —все это позволяло правительству
осуществлять не только законодательный, но и чисто визуальный
надзор. Точно также власти контролировали и облагали пошлинами
экспорт, когда вновь погруженные на корабли пряности
отправлялись через Гибралтарский пролив в Португалию, Францию,
Англию и страны Северной Европы.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. БОЯЗНЬ ПРИКОСНОВЕНИЯ 269
Связующим звеном в этой системе были торговые
посредники, финансисты и банкиры, облюбовавшие окрестности
моста Риальто, который пересекал Большой канал примерно
в двух километрах от главной городской площади Сан-Марко.
Именно здесь вел свои дела шекспировский Шейлок: «Банкир
сидел под портиком церкви около Риальто, а на столе перед ним
лежал его раскрытый гроссбух. <...> Плательщик отдавал
банкиру устное распоряжение перевести деньги на счет
получателя платежа»7. Активами банкиру служили мешки золотых или
серебряных монет; расписки или ассигнации использовались
реже, поскольку в дальних странах, откуда прибывали купцы,
мало кто оценил бы клочок бумаги со словами,
напечатанными на непонятном языке. В зданиях вокруг Риальто было
устроено множество укрепленных кладовых, где банкиры хранили
золото и драгоценные камни. Другой неотъемлемой
особенностью района были слухи и сплетни, которые компенсировали
посредникам отсутствие информации о том, что происходило
в открытом море.
«Его слово в том порукой»: подобно сложившейся позже
практике лондонского Сити, брокерские сделки у моста Риальто
зависели от неформальных, устных договоренностей. Доверие
к слову было связано с нежеланием посредников держать
государство в курсе своих дел, чтобы не регистрировать капитал и не
платить с него налоги. Они добивались своего, доверяя бумаге
как можно меньше информации и тем самым оставляя себе
лазейки для обхода строгих правил, регулирующих импорт и
экспорт. Вследствие этого их деятельность была противозаконной,
однако отнюдь не бесчестной. Идея «слова как поруки»
поддерживалась множеством маленьких ритуалов, разыгрывавшихся
вокруг моста Риальто, таких как встречи за кофе; существовал
институт профессиональных заверителей, собиравшихся
вокруг моста, к обязательным добродетелям которых относились
честность и умение держать язык за зубами. Хотя дож очень
хотел удружить Антонио, для самого Антонио загвоздкой
оставалось «честное слово», данное им Шейлоку.
270
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДВИЖЕНИЯ СЕРДЦА
Превратности торговли пряностями стояли и за силами,
которые обусловили создание в Венеции еврейского Гетто. В1501 году
до города дошли вести, что португальцы обошли южную
оконечность Африки и тем самым открыли морской путь в Индию. Это
событие лишало Венецию положения перевалочного пункта,
через который пряности отправляли в Северную и Западную
Европу, и было, как писал современник Джироламо Приули, «худшей
новостью, какую могла получить Венецианская республика, за
исключением только известия об утрате собственной свободы»8.
Этот более безопасный, хотя и более долгий путь в Индию
появился в тот самый момент, когда Венеция осознала, что турки
могут запереть ее в ее собственном море—Адриатическом. Так
началось десятилетие бедствий.
На протяжении всего XV века венецианцы пытались
подстраховаться от превратностей международной торговли, собирая
земли, чтобы создать свою империю в Северной Италии. Долгое
время связь между островами и большой землей
осуществлялась через город Местре на северном берегу Венецианской
лагуны. Венецианцы подчинили себе и другие города региона,
включая Верону, Виченцу и Падую. Весной 1509 года им было суждено
потерять их все за какие-то несколько недель. Франция и ее
союзники вторглись на территорию республики, и щ мая 1509 года
разгромили венецианскую армию в битве при Аньяделло
вблизи Лоди. Спустя три недели жители Венеции уже могли слышать
шум, производимый вражескими войсками в нескольких
километрах от них, на берегу лагуны. Венеция, утратившая свое
морское могущество, попавшая под удар неверных и запертая на
собственном архипелаге, «внезапно утратила равновесие в оценке
собственных возможностей,—как пишет современный историк
Альберто Тененти,—и в связи с этим ее субъективное ощущение
пространства и времени пошатнулось»9.
Именно в этот момент в город хлынул поток еврейских
беженцев. В результате Войны Камбрейской лиги 1509 года
около пятисот евреев покинули Местре и Падую. Город-магнит,
казалось, сулил им безопасность. Еврейские общины появились
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. БОЯЗНЬ ПРИКОСНОВЕНИЯ
271
в Северной Италии вскоре после 1300 года, когда жестокие
погромы в Германии вынудили евреев бежать в Падую и Верону,
а небольшое их количество оказалось и в самой Венеции. Евреи-
ашкенази жили в Венеции начиная с 1190 года; после 1492 года
их число умножили изгнанные из Испании сефарды. Эти
средневековые евреи чаще всего были бедняками—уличными
торговцами или старьевщиками. Единственной свободной
профессией, открытой для них, была медицина; совсем немногие из
них были ростовщиками — во времена, предшествовавшие
катастрофе, банковской деятельностью занимались в основном
венецианцы или иностранцы-христиане. Однако среди тех евреев,
которые нашли убежище в Венеции после битвы при Аньядел-
ло, многие сколотили состояния на ростовщичестве и привезли
с собой свои бриллианты, золото и серебро. Кроме того, тогда же
в Венецию прибыла небольшая, но именитая группа еврейских
врачей. Эти ростовщики и медики, занимавшие высокое
общественное положение, были гораздо заметнее в городе, чем
прочие беженцы, поскольку их жизнь была гораздо теснее связана
с жизнью христианской общины.
2. СТЕНЫ ГЕТТО
Порченые тела
Семилетний период между катастрофой при Аньяделло и
созданием первого еврейского гетто был отмечен не только
вспышкой ненависти из-за возраставшего еврейского присутствия, но
и кампанией за нравственное очищение Венеции, как будто ее
внешнеполитические провалы объяснялись моральным
разложением. Среди главных обличителей евреев был некий брат
Ловато из Падуи. Именно его красноречие подвигло
венецианцев на погром 1511 года, когда были разрушены еврейские дома
вблизи площади Сан-Паоло; двумя годами раньше он выступал
за то, чтобы изъять у ростовщиков все их деньги, «лишив их
любых средств к существованию»10. В то же время, замечает исто-
272
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДВИЖЕНИЯ СЕРДЦА
рик Феликс Гилберт, «точку зрения, согласно которой упадок
Венеции объяснялся в первую очередь засильем порока, выражали
не только частные лица—такова была официально признанная
и насаждавшаяся доктрина»11.
Чувственность была определяющей чертой и в том образе
Венеции, который бытовал в Европе, и в представлении
венецианцев о самих себе. Яркие цвета роскошных дворцовых
фасадов отражались в колышущейся воде Большого канала; фасады
эти различались между собой, однако все здания имели
строго одинаковую высоту, образуя тем самым вдоль улицы
сплошную красочную стену, украшенную орнаментом. Сам канал был
заполнен гондолами, которые в эпоху Ренессанса часто
раскрашивались в яркие цвета—красный, синий, желтый
(неизменно черными они сделались позднее) — и украшались флагами
и шпалерами золотого и серебряного шитья.
Ограничения, накладываемые христианством на плотские
наслаждения, ослабли в период венецианского благоденствия.
В городе процветала гомосексуальная субкультура травести:
в гондолах красовались юноши, облаченные только в женские
ювелирные украшения. Репутации Венеции как чувственного
города способствовала и сама торговля пряностями, поскольку
шафран и куркума, к примеру, считались не только
приправами, способными вернуть вкус несвежей, прогорклой или
протухшей еде, но и афродизиаками для человеческого тела. Но
главное, в порту процветала проституция.
Именно проститутки распространяли новую страшную
болезнь — сифилис, впервые зафиксированный в Италии
в 1494 году. Практически с первого дня возникновения сифилис
погубил множество людей, как мужчин, так и женщин. Для
безымянной пока болезни не было ни диагностики, ни лечения—
хотя уже было известно, что сифилис передается половым
путем, физиология его распространения казалась совершенно
загадочной. Как пишет историк Анна Фоа, к концу 1530-х годов
европейцы пришли к выводу, что появление сифилиса в Старом
Свете как-то связано с открытием Нового Света, и возложили от-
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. БОЯЗНЬ ПРИКОСНОВЕНИЯ
273
ветственность за его распространение на американских
индейцев, взяв за точку отсчета экспедицию Колумба12. Но поколением
раньше наиболее распространенное объяснение состояло в том,
что сифилис разнесли по Европе евреи, изгнанные из Испании
в переломном 1494 году.
Считалось, что из-за особых религиозных практик тела
евреев становятся вместилищем множества болезней. Не позднее
1512 года Сигизмондо де Конти связал сифилис с иудаизмом
через предрасположенность евреев к проказе: во-первых, писал он,
«поскольку евреи не едят свинину, они чаще других народов
болеют проказой»; во-вторых, «в Святом Писании ясно указано, что
проказа является лишь внешним проявлением еще более
ужасной невоздержанности; известно, что прежде всего проказа
поражает гениталии»; ergo, «разносчиками этой болезни [сифилиса]
являются marrani», то есть изгнанные из Испании евреи13.
Объединение сифилиса и проказы в подобных объяснениях имело
для первого поколения сифилитиков особое значение,
ускользающее от современного читателя. Поскольку считалось, что
человек может заразиться проказой, дотронувшись до язв
прокаженного, значит, и сифилисом тоже можно было заболеть вовсе не
только переспав с проституткой: достаточно было прикоснуться
к телу еврея.
13 марта 1512 года венецианский сенат одобрил предложенный
Джованни Сануто декрет, которым, «чтобы смягчить гнев
нашего Господа», горожанам предписывалось прекратить
«неумеренные и излишние траты». Нравственные преобразования
определялись в этом документе через новую телесную дисциплину.
Декрет был призван положить конец безудержной
демонстрации чувственности. Для женщин и мужчин вводились
правила ношения ювелирных украшений. «Прозрачные ткани и
кружева оказывались под запретом [для женщин]. Мужчинам были
запрещены любые наряды, подчеркивавшие физическую
привлекательность. Рубашки должны были полностью закрывать
верхнюю часть тела и плотно смыкаться вокруг шеи»14.
274
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДВИЖЕНИЯ СЕРДЦА
За is лет до того, как венецианцы приняли законы
против чувственности, монах Джироламо Савонарола возглавил
схожее движение против «тщеславия» во Флоренции, которая
в 1494 Г°ДУ также пережила поражение в борьбе с враждебной
державой. Во Флоренции, как позже и в Венеции, «унизительный
разгром и необъяснимые перемены неизбежно воспринимались
как знаки гнева Господня»15. Как и Сануто, Савонарола требовал
введения строгих ограничений в сексуальной жизни, а также
отказа от украшений, благовоний и шелковых одеяний — все эти
меры должны были вернуть благоденствие городу. Однако
Савонарола, ополчившись на радости плоти, подразумевал
восстановление суровой добродетели, которая, как считалось, была
свойственна ранней Флорентийской республике; внезапное
отвращение к телесной чувственности, которым воспылали
венецианцы, никак не могло быть представлено подобным образом.
Возвышение Венеции было неотделимо от наслаждений, кроме
того, многие из тел, пораженных порчей, были телами
язычников или неверных, которым ни при каких условиях не было
места в христианской общине.
Преследование венецианских евреев было тесно связано
с этим отвержением чувственности. Сифилис стал одним из
поводов для гонений, но не менее враждебное внимание привлекал
и источник происхождения еврейских богатств. Евреи
зарабатывали ростовщичеством, а ростовщичество прямо
ассоциировалось с плотскими пороками.
В Венеции начиная с XII века ростовщичество
предполагало выдачу денег в долг под 15-20% годовых — это было в целом
меньше, чем, например, в Париже эпохи позднего
Средневековья. Ростовщичество противопоставлялось честной ссуде,
процент по которой был ниже и мог меняться в зависимости от
ситуации. Больше того, честный заимодавец не должен был требовать
залога, если это грозило заемщику разорением. Вместо этого
взыскание просроченных долгов подразумевало, подобно
современной процедуре банкротства, поиск новых взаимоприемлемых
условий в переговорах между кредитором и должником.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. БОЯЗНЬ ПРИКОСНОВЕНИЯ
275
Врач-еврей, облаченный в защитный костюм для лечения жертв чумы.
Такое одеяние должно было оберегать его самого от болезнетворных
испарений, защищать других от его-дыхания и подчеркивать его
нечеловеческие черты. Иллюстрация Яна ван Гревенброка из альбома
«Костюмы венецианцев», конец XVIII века
276
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДВИЖЕНИЯ СЕРДЦА
Средневековому человеку ростовщичество представлялось
«кражей времени». Против ростовщичества выдвигалось и
другое, более древнее обвинение: его связь с сексом. В «Политике»
Аристотель осуждает ростовщичество, «так как оно ведет именно
к росту денег»; проценты, как некие плодящиеся животные,
«являются денежными знаками, происшедшими от денежных же
знаков»16. Социолог Бенджамин Нельсон писал, что «на
протяжении XIII и XIV веков складывался образ ростовщичества, в основе
которого лежала аналогия с проституткой в публичном доме»17.
В книге «Семь смертных грехов Лондона» современник
Шекспира провозглашал: «Ростовщик живет за счет денежного
распутства, он—сводник для своей мошны»18. Все евреи, дававшие
деньги в долг, считались ростовщиками и, следовательно,
уподоблялись проституткам; другой христианский обличитель евреев
писал, что ростовщик «принуждает свои деньги к
противоестественному воспроизводству»19. Дело усугублялось тем, что евреи
не могли очиститься от греховной практики ростовщичества
через исповедь. И вот теперь этот экономический стереотип
накладывался в Венеции на усилия этого города-государства по
возрождению собственного величия через очищение тел своих граждан.
Еще более непосредственным раздражителем для
венецианских христиан были евреи-медики, нашедшие убежище в городе.
Телесный опыт прикосновения имеет глубокие символические
корни в христианской культуре. По мнению историка Сендера
Гилмана, «прикосновение фигурирует во всех эротических
образах Библии, от прикосновения Евы к Адаму и соблазнения Вир-
савии до исцеляющего прикосновения Иисуса, которое изгнало
бесов из Марии Магдалины»20. Для святого Фомы Аквинского
осязание, чувство прикосновения, было самым низменным из всех
чувств21. Хотя из-за укоренившейся в общественном сознании
связи евреев с распространением сифилиса их прикосновение
воспринималось как заразное и порочное, одновременно
еврейские врачи призывались для лечения этого заболевания.
Национальность лекаря оказывалась в представлении людей
неотделимой от самого недуга. В1520 году Парацельс обличал тех евреев,
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. БОЯЗНЬ ПРИКОСНОВЕНИЯ
277
что «пичкают [сифилитиков] слабительными, обмазывают их
мазями, обмывают их и прибегают к прочим нечестивым уловкам».
Для него еврейская скверна также оказывалась связанной с
проказой: «Евреи подвержены [проказе] больше других народов...
поскольку они не используют постельного белья и не принимают
дома ванну. Эти люди настолько пренебрегают чистоплотностью
и благопристойностью, что их законодателям пришлось
установить особые правила, чтобы заставить их хотя бы мыть руки»22.
Вот как опасно было лечиться у еврейского врача—человека,
постоянно подверженного риску венерических болезней, медика,
который мыл руки не иначе как из-под палки.
Изучая религиозные предрассудки, не следует искать в них
здравый смысл. По версии антрополога Мэри Дуглас, в
стремлении к чистоте выражаются страхи общества; в частности,
испытываемое группой отвращение к себе может быть перенесено на
другую группу, которая объявляется нечистой23. Именно такой
перенос произошел в Венеции после поражения при Аньяделло.
Венецианцы прониклись уверенностью, что их собственная
чувственность грозит городу упадком, и перенесли это отвращение
к себе на евреев.
У этого переноса был и классовый аспект — в том
понимании классов, которое существовало в ренессансной Венеции.
Город был разделен на три слоя: аристократов (nobili), богатых
буржуа (cittadini) и простых горожане (populani). Объектом
гонений на чувственность стали в основном аристократы, которые
в 1500 году составляли около 5% от общего населения в ΐ2θ ооо
человек, а также часть молодежи из богатых купеческих семей,
составлявших еще 5%. Возмущение роскошью было
неотделимо от возмущения знатью: распущенность богатых
бездельников навлекла гнев Божий на трудолюбивый город. Евреев на
тот момент было в Венеции всего от полутора до двух тысяч
человек. Таким образом, репрессии были направлены на две
узкие группы в вершине общественной пирамиды и на кучку
сомнительных элементов у ее основания: хотя еврейские доктора
и ростовщики были важны в практическом и экономическом
278
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДВИЖЕНИЯ СЕРДЦА
отношениях, культура ставила их ниже простонародного
христианского большинства. Как часто бывает во время репрессий,
в символическом плане меньшинства оказались гораздо больше
и заметнее, чем предполагала их реальная численность.
Эта символическая заметность спровоцировала взрыв
в Страстную пятницу 6 апреля 1515 года. В Великий пост евреи
обычно старались не показываться на глаза христианам. В том
году Страстная Пятница была вдвойне скорбной из-за
венецианских поражений, но некоторые представители
немногочисленного еврейского населения все же отважились покинуть
свои дома. У одного из венецианцев сложилось впечатление,
что «со вчерашнего дня они повсюду, и это невыносимо, но
никто не может им и слова сказать, потому что из-за войны без них
не обойтись, вот они и распоясались»24. Не заставили себя ждать
призывы к экспроприации еврейской собственности для
финансирования новой военной компании и к изгнанию евреев из
города. Тем не менее изгнать евреев было
невозможно—экономические интересы Венеции не позволяли это сделать. По словам
одного из самых уважаемых горожан, «евреи нужны городу еще
больше, чем банкиры, а особенно этому городу»25. Венеции были
необходимы даже бедные евреи вроде старьевщиков (в 1515 году
городские власти выдали разрешение на работу девяти таким
еврейским лавкам). Все они платили высокие налоги.
Принимая во внимание эти практические обстоятельства,
Венеция попыталась найти пространственное решение
проблемы нечистых, но таких нужных еврейских тел. Историк Брайан
Пуллан пишет, что она выбрала путь «сегрегации, но не
изгнания еврейской общины»26. Чистоту большинства должна была
обеспечить изоляция меньшинства. Таким образом впервые
проявилась одна из отличительных черт современного
урбанистического общества. Понятие «город» отныне обозначало
юридическую, экономическую и общественную сущность, которая
была слишком велика и разнообразна, чтобы объединять людей.
Для существования «общины» с эмоционально значимыми
взаимосвязями теперь требовалось разделить город на части. Чтобы
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. БОЯЗНЬ ПРИКОСНОВЕНИЯ
279
Места сосредоточения иностранцев в Венеции около гвоо года
удовлетворить это разъединяющее стремление к жизни в
общине, венецианцы воспользовались особенностями островной
географии своего города.
Презерватив для города
Евреи не были первой группой чужаков, запертых
венецианцами в особом пространстве в профилактических целях: то же
самое ранее произошло с греками, турками и
представителями других наций. Возможно, наименее одиозными из
сегрегированных прежде чужаков были немцы, которые, в конце
концов, были братьями во Христе. Для англичанина Шекспира связь
между Венецией и Германией была очевидной—в одной из сцен
«Венецианского купца» Шейлок восклицает: «Пропал брильянт,
за который я заплатил во Франкфурте две тысячи дукатов!»27
К шекспировским временам торговля с Германией
имела для Венеции огромное значение. Немцы прибывали в город
280
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДВИЖЕНИЯ СЕРДЦА
Район вокруг моста Риальто. В большом квадратном здании в эпоху
Возрождения размещалась Немецкая фактория
и как продавцы, и как покупатели. В1314 году венецианские
власти решили собрать немецких купцов в одном здании, чтобы
они не могли уклоняться от уплаты налогов и пошлин. В Fondaco
dei Tedeschi («Немецком подворье») германские гости и жили,
и работали, регистрировались сами и регистрировали свои
грузы. Изначально Фондако деи Тедески было просто очень
сильно увеличенным средневековым домом, все обитатели которого
были немцами. Это здание стало образцом для более
репрессивных пространственных форм сегрегации, возникших позднее.
В своем первоначальном виде Фондако деи Тедески служило
не только домом для местных немцев, но и центром приема
важных иностранных гостей. Хотя в теории никто не мог покидать
здание после заката, на деле ночь была временем наибольшей
активности для немцев, которые вносили и выносили товары
под покровом темноты, чтобы избежать таможенных поборов.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. БОЯЗНЬ ПРИКОСНОВЕНИЯ
281
В1479 Г0ЛУ правительство предприняло шаги к тому, чтобы
превратить сегрегацию в настоящую изоляцию: по специальному
указу с наступлением сумерек окна здания закрывались
ставнями, а вход в Фондако деи Тедески запирался—причем снаружи.
Изнутри это здание также превратилось в пространство
подавления: его немецкие обитатели стали объектом
неусыпного наблюдения со стороны венецианцев. «Городские власти
позаботились обо всем, — пишет историк Хью Онор. — Все слуги
и должностные лица назначались ими. Немецким купцам
дозволялось заключать сделки только с урожденными
венецианцами и только при посредничестве приставленных к ним брокеров,
взимавших процент от каждой сделки»28. Дошедшее до нас
здание Фондако деи Тедески было построено в 1505 году. Его
огромные размеры свидетельствуют о благосостоянии венецианских
немцев, но в самой его планировке заложены принципы
ограничения и изоляции, сформировавшие характер использования
прежнего здания. Новое Фондако деи Тедески, в котором в наше
время расположен городской почтамт, представляет собой
приземистое, единообразное здание с внутренним двором
посередине. Во двор со всех сторон выходят открытые галереи, идущие
вдоль каждого этажа, которые патрулировались венецианцами,
имевшими, таким образом, возможность приглядывать за
своими северными «гостями» днем и ночью.
Немцы, разумеется, были христианами, и надзор за ними
возник как исключительно экономическая мера. Однако в
десятилетия, последовавшие за разгромом Венеции в Войне Кам-
брейской лиги, до венецианцев — добрых католиков —
начали доходить слухи о движении Реформации, набиравшем силу
в Германии и прочих странах Северной Европы. Тогда
государственный контроль за немцами стал постепенно приобретать,
помимо чисто экономического, еще и культурное направление.
В этот момент заявили о себе образы, связанные с телесностью.
Власти желали воспрепятствовать распространению
«протестантской заразы», а еретические принципы Реформации
воспринимались как потворство собственным желаниям, уже не
282
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДВИЖЕНИЯ СЕРДЦА
сдерживаемое священниками и ведущее к прегрешениям вроде
лености и роскоши. В воображении католика немец-протестант
все меньше отличался от еврея29. До 1531 года некоторые немцы,
обычно самые богатые, имели возможность откупиться от
необходимости жить в Фондако деи Тедески. В1531 году город раз
и навсегда постановил, что все немцы должны жить в этом
здании, куда, помимо стражников, были внедрены шпионы, чтобы
выискивать признаки религиозной ереси.
В результате сегрегации эти согнанные вместе и
изолированные иноземцы начали по-новому ощущать единство между
собой. Хотя внутри здания имели место резкие разногласия между
католиками и протестантами, в отношениях с итальянцами
немцы теперь выступали единым фронтом. Пространство
подавления стало неотделимо от их собственного ощущения общности.
Именно такое будущее ждало и евреев.
В1515 году венецианцы начали рассматривать возможность
использовать Новое гетто для изоляции еврейского населения.
Итальянское слово Ghetto изначально означало литейную мастерскую
(от глагола gettare—«отливать»). Новое гетто, вместе с
расположенным по соседству Старым гетто, когда-то образовывало центр
венецианского литейного производства, но к 1500 году оба
квартала, находящиеся вдали от официального центра города, уже
уступили эту производственную роль Арсеналу. Новое гетто
представляло собой ромбовидный участок земли, со всех сторон
окруженный водой; здания образовывали сплошную стену по его
краям, с открытым пространством в середине. С другими частями
города его связывали только два моста. Достаточно было
перекрыть их, чтобы Новое гетто оказалось запечатано.
В период, когда началось преобразование Нового гетто,
венецианские «улицы, площади и дворы еще не были, как теперь,
замощены четырехугольными плитами вулканического трахита,—
пишет исследователь.—Многие улицы и дворы совсем не имели
твердого покрытия... а на площадях мостовая часто покрывала
только участки, примыкавшие к отдельным зданиям»30. В тече-
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. БОЯЗНЬ ПРИКОСНОВЕНИЯ
283
План венецианского Гетто, ι. Итальянская синагога. 2. Синагога
Кантон, з. Большая немецкая синагога. 4- Левантийская синагога.
5- Испанская синагога.
ние столетия перед тем, как евреи были заточены в Новое гетто,
город начал постепенно укреплять берега каналов, превращая их
в отвесные склоны. Это способствовало быстрому течению воды
и тем самым предотвращало заиливание каналов. Кроме того,
такие укрепленные берега впервые давали возможность проложить
284
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДВИЖЕНИЯ СЕРДЦА
Арка sotoportegho, ведущая в Новое гетто
вдоль каналов тротуары с причалами, спускающимися в воду, так
называемыеJbndamente. Большая часть района Каннареджо тоже
была благоустроена таким образом, но обоих Гетто,
находившихся поблизости, это не коснулось: Новое и Старое гетто,
покинутые промышленностью и малонаселенные, представляли собой
острова внутри города и в географическом, и в экономическом
отношении. Те несколько мостов, которые связывали оба Гетто
с другими кварталами, выходили в sotoportegho — характерный
тип старинной венецианской арки, низкой и сырой, поскольку ее
устраивали прямо внутри свайного фундамента стоящего над ней
здания. В дальнем конце такого прохода устанавливались
запирающиеся ворота. В таком месте сложно было представить себе бо-
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. БОЯЗНЬ ПРИКОСНОВЕНИЯ
285
гатых юнцов в драгоценностях на голое тело, скользивших в
гондолах по Гранд-каналу мимо Ка' д'Оро.
Первым использовать Новое гетто предложил в 1515 Г°ДУ За-
кария Дольфин. Его план еврейской сегрегации звучал так:
Сослать их всех жить в Новое гетто, которое подобно замку,
устроить подъемные мосты, окружить Гетто стеной и
оставить лишь одни ворота, которые будут удерживать их
внутри. Также пусть две лодки Совета Десяти еженощно
сторожат их за их же счет и ради их же безопасности31.
Это предложение имеет одно коренное отличие от концепции
сегрегации, выраженной в планировке Фондако деи Тедески:
в еврейском Гетто не предполагалось внутреннего надзора.
Внешнее наблюдение должно было осуществляться с лодок, ночь
напролет круживших вокруг Гетто, однако заключенные внутри
евреи оказывались предоставлены сами себе.
План Дольфина стал претворяться в жизнь с 1516 года.
Евреев сгоняли в Новое гетто со всех концов города, но особенно
с острова Джудекка, где они жили с конца XI века. Тем не менее
это касалось не всех евреев. Евреям-сефардам, которые после
изгнания из Испании в 1492 Г°ДУ обосновались небольшой
колонией у кладбища для казненных преступников, было дозволено
остаться на месте, как и левантийским евреям, жившим в разных
частях города и сновавшим туда-сюда между Адриатическим
побережьем и Ближним Востоком. Кроме того, в истории
венецианского Гетто была и еще одна важная подробность: чтобы не
оказаться там, многие евреи предпочли покинуть город.
Сперва, в 1516 году, в Гетто были сосланы примерно семьсот
евреев, в основном ашкеназского происхождения. Изначально
жилой фонд Гетто составлял всего 2θ зданий, которые
принадлежали христианам, поскольку в Венеции (как и в любом другом
месте) евреи не имели права владеть недвижимостью и могли
только арендовать ее, возобновляя контракт каждый год. По мере
того как все большее количество домов приводилось в жилое со-
286
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДВИЖЕНИЯ СЕРДЦА
Новое гетто в Венеции
стояние, арендная плата стремительно росла; как отмечает
Брайан Пуллан, «цены на жилье в тесных домах Гетто в три раза
превышали плату, которая взималась за жизнь в сходных скученных
условиях в христианских районах»32. Здания в Гетто постепенно
надстраивались, достигая иногда шести или семи этажей и часто
накреняясь, поскольку вбитые в болотистую почву сваи
фундаментов не были рассчитаны на такую нагрузку.
По утрам разводные мосты опускались, и некоторые евреи
расходились по городу, в основном направляясь к мосту Риаль-
то, где они смешивались с обычной толпой. Христиане также
заходили в Гетто, чтобы занимать деньги, продавать
продовольствие и вести прочие дела. На закате, однако, все евреи обязаны
были вернуться в Гетто, а все христиане — покинуть его; мосты
разводились. Более того, ставни на окнах Гетто, выходивших на
каналы, на ночь плотно закрывались. Поскольку все балконы на
внешних стенах Гетто были демонтированы, они и в самом деле
напоминали в темноте отвесные стены замка.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. БОЯЗНЬ ПРИКОСНОВЕНИЯ
287
Таков был первый этап сегрегации евреев. На втором этапе,
в 1541 году, к еврейскому кварталу было присоединено и Старое
гетто, бывший район литейщиков. К этому времени
финансовое положение Венеции стало еще более тяжелым: ее
таможенные пошлины повышались, в сравнении с другими портами,
и товарооборот неуклонно снижался. Долгие сумерки
Венецианской республики, которых со страхом ожидали с момента
обнаружения морского пути на Восток, начались. Когда в 1520-е годы
городские власти все-таки снизили таможенные сборы, это
решение привело среди прочего к тому, что левантийские евреи,
в основном происходившие из городов на территории
современных Румынии и Сирии, начали все дольше задерживаться
в Венеции. Эти люди представляли собой нечто среднее
между странствующими торговцами и респектабельными
предпринимателями: они были готовы сбыть все, что попадало к ним
в руки. Джованни Сануто емко сформулировал отношение своих
сограждан к этим еврейским дельцам: «Наши соотечественники
никогда не желали, чтобы евреи обосновались в городе и
держали здесь лавки — пусть бы они покупали, продавали и уезжали
восвояси»33. Но теперь левантийцы никуда не уезжали: они
хотели остаться в Венеции и готовы были заплатить за это право.
Чтобы разместить их, Старое гетто было перестроено на
манер Нового: внешние стены объединили и укрепили,
балконы сняли. Но в отличие от Нового гетто, в этом была маленькая
центральная площадь и множество узких улочек, вместо
мостовых — грязь, а сваи так небрежно вколочены в почву, что дома
Старого гетто стали проседать сразу после постройки. Еще век
спустя, в 1бзз году, возникло Ghetto Nuovissiomo, то есть
Новейшее гетто, участок меньшего размера с застройкой несколько
более высокого качества, который также был устроен
наподобие городского замка со рвом. К тому времени, когда и третье
Гетто заполнилось обитателями, плотность населения в
еврейском квартале примерно в три раза превышала среднюю по
городу. Из-за таких условий существования Гетто стало настоящим
рассадником чумы. Евреи старались обезопасить себя, обраща-
288
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДВИЖЕНИЯ СЕРДЦА
ясь к врачам-единоверцам, но медицина была бессильна перед
состоянием почвы и зданий и непрерывно растущей
скученностью. Когда в Гетто начиналась вспышка чумы, его ворота
закрывались уже не только на ночь, но и на большую часть дня.
После переселения евреев в Гетто венецианские власти
больше не предпринимали никаких попыток поменять их обычаи,
поскольку вообще не испытывали желания вовлекать евреев
в жизнь города. В этом смысле изоляция, осуществленная в
венецианском Гетто, принципиально отличалась по духу от той,
которую чуть позже проводил в ренессансном Риме папа Павел IV.
Основанное им в 1555 году римское гетто задумывалось
именно как пространство для перевоспитания евреев. Павел IV
задумал собрать всех евреев Рима в одном месте, с тем чтобы
христианские священники могли систематически их обращать, обходя
дом за домом и вынуждая евреев выслушивать слово Божье.
Этот проект потерпел полное фиаско — из всего
четырехтысячного населения римского гетто в новую веру обращалось не
более двух десятков евреев в год.
Другое отличие римского гетто от венецианского
заключалось в том, что оно занимало чрезвычайно заметное положение
в центре города. Его стены прорезали посередине торговый
район, который прежде контролировали несколько видных римских
купеческих семей, в свою очередь связанных тесными
деловыми отношениями с местной еврейской общиной. Выделив
территорию римского гетто для нужд обращения евреев в
христианство, папа стремился урезать пространство, контролируемое этой
старинной прослойкой купцов-христиан, ослабив ее влияние на
городские дела. Разумеется, даже несмотря на присутствие
папства, Рим того времени был местом куда более обособленным,
чем Венеция. Там обитало гораздо меньше иностранцев, а
чужаки, прибывавшие к папскому двору, обычно были
церковниками, послами или иными дипломатами. Венеция представляла
собой интернациональный город совсем другого рода, и
наполнявшие ее чужестранцы были довольно подозрительными
личностями.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. БОЯЗНЬ ПРИКОСНОВЕНИЯ
289
Уверенная в себе морализаторская сила обычно бросает
вызов нравственной «мерзости» и искореняет ее—так поступило
папство. Глубоко неуверенное в себе общество, которое
представляла собой Венеция того времени, опасается, что ему не хватит
сопротивляемости. Его преследует страх, что при физическом
соприкосновении с Иным оно само не устоит. Зараза и соблазн
неотделимы друг от друга. После Аньяделло венецианские
моралисты боялись, что многотысячный город не выдержит
контакта с несколькими сотнями, и при этом не проводили большой
разницы между евреями с их денежными мешками и
обнаженными юношами, скользящими в гондолах по каналам;
ростовщичество для них окрашивалось порочными прелестями
проституции. Венецианская риторика, в которой прикосновение
таило в себе смертельную угрозу, в чем-то перекликается с мора-
лизаторским подтекстом современных дискуссий о СПИДе, в
которых соблазн и зараза также представляются неразделимыми.
Оглядываясь назад, можно описать Гетто как нечто вроде
презерватива для целого города.
Тема ростовщичества объединяла евреев и проституток. Но
разница в восприятии венецианцами этих двух типов
презираемых тел позволяет проследить, что этот страх перед еврейским
прикосновением означал для самих евреев.
Евреи и куртизанки
31 октября 1501 года герцог Валентинуа устроил в Ватикане
знаменитый прием с проститутками, который посетил и папа
Александр VI:
Вечером происходил пир у герцога Валентинуа в папском
дворце. В нем приняли участие пятьдесят почетных
блудниц, обычно называемых куртизанками. После пиршества
они плясали с услужающими и другими там
присутствовавшими —сначала в своем одеянии, а затем нагие. После
обеда свечи в серебряных подсвечниках со стола были
поставлены на пол, между ними были разбросаны каштаны,
290
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДВИЖЕНИЯ СЕРДЦА
Венецианская куртизанка. Иллюстрация Яна ван Гревенброка
из альбома «Костюмы венецианцев», конец XVIII века
и блудницы, нагие, на руках и ногах, переступая
подсвечники, подбирали каштаны. Папа, герцог, его сестра донна
Лукреция присутствовали при сем и наблюдали сие.
Наконец, были выложены подарки, шелковые плащи, обувь,
береты и другие вещи, которые обещаны были тем, кто более
других познает плотски названных блудниц. Затем
присутствовавшие при сем, в качестве судей, роздали
подарки победителям. Все это происходило в зале для обществен-
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. БОЯЗНЬ ПРИКОСНОВЕНИЯ
291
ных приемов [то есть в Королевском зале, где проходили
консистории]34.
Присутствие папы римского на таком распутном празднестве
может показаться удивительным современному читателю, но
в то время папство было вполне светской институцией, многие
из высших сановников которой не были связаны священными
обетами. Что же в таком мире означал для куртизанки статус
«почетной блудницы»?
Слово «куртизанка» (cortigiana) вошло в употребление в
конце XV века как женская форма от слова cortigiano, «придворный».
В итальянском языке того времени cortigiane назывались
женщины, которые услаждали cortigiani—аристократов, солдат,
чиновников и проходимцев, составлявших ренессансный двор. Двор
был ареной политической борьбы, а его пиры, посольские
приемы и собрания—серьезными мероприятиями. Задачей
куртизанок было скрашивать мужчинам их существование в этом мире
протокола.
Проституцией того или иного рода девочки обычно
начинали заниматься в возрасте около 14 лет. Аретино вложил в уста
юной особы такой монолог: «За месяц я узнала все, что
требуется блуднице: как разбудить страсть, как очаровать мужчину, как
обвести его вокруг пальца и как бросить любовника. Как плакать,
когда хочется смеяться, и как хохотать, когда на глаза
наворачиваются слезы. И как снова и снова продавать свою невинность»35.
На то, чтобы стать куртизанкой, требовалось больше времени.
Нужно было обзавестись сетью высокопоставленных клиентов,
научиться вызнавать городские и придворные слухи, чтобы
развлекать их, а также приобрести соответствующие их вкусам дом
и наряды.
В отличие от японских гейш, которые усваивали
профессиональные навыки общения в виде системы жестких ритуалов,
передаваемых из поколения в поколение наподобие того, как
происходит обучение адвокатов, проститутка эпохи Ренессанса,
желавшая стать куртизанкой, должна была создавать себя сама.
292
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДВИЖЕНИЯ СЕРДЦА
В этом смысле ее задача была немного схожа с задачей
мужчины-придворного, которому требовались пособия по поведению,
вроде трактата Бальдассаре Кастильоне «О придворном», чтобы
научиться ориентироваться в космополитической обстановке.
Существовало множество малопристойных сочинений,
созданных с претензией на подобное же наставление начинающих
куртизанок, но на деле лучшей школой для них было подражание
женщинам высшего света в манере одеваться, говорить и писать.
Сдав свой «экзамен», куртизанка ставила общество перед
необычной проблемой: если она добивалась успеха в
мимикрии, это распахивало перед ней любые двери. Проблема была
не столько в том, что она могла смешаться с добродетельными
дамами, сколько в том, что она была способна заменить их,
говоря и выглядя, как они, но помимо этого удовлетворяя
чувственные потребности их мужей. Именно поэтому куртизанка
воспринималась как особая угроза—она была распутной
женщиной, неотличимой от любой другой. В декрете 1543 г°Да
венецианское правительство заявляло, что проститутки появляются «на
улицах, в церквях и повсюду в столь роскошных нарядах и
драгоценностях, что весьма часто за них принимают знатных дам
и почтенных горожанок, поскольку в их убранстве нет
никакого отличия от вышепоименованных женщин, причем отнюдь не
только иностранцы, но и сами венецианцы, неспособные
отличить добродетель от порока»36.
Ко временам Шекспира в Венеции уже многие века
существовал обширный контингент проституток, живших за счет
спроса со стороны приезжих моряков и купцов. Больше того,
объем денежных средств, обращавшихся в венецианской «секс-
индустрии» эпохи Ренессанса, был таков, что постепенно эта
отрасль сделалась «допустимым источником доходов для
благородных предпринимателей из хороших семей»37. Поскольку
Венеция была портовым городом, секс и власть находились тут
совсем в иных отношениях, чем в Риме. Там стоило появиться
высоконравственному папе, чтобы куртизанки могли быть
мгновенно и полностью удалены от папского двора. В Венеции же зна-
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. БОЯЗНЬ ПРИКОСНОВЕНИЯ
293
чительную долю населения составляли непрерывно сменявшие
друг друга чужестранцы, чьи законные жены остались далеко,
поэтому город-порт попустительствовал проституции как части
своей экономики, точно так же как он терпел евреев, дававших
деньги в рост. Морская торговля обеспечивала проституткам
поток щедрых клиентов, и каждую из них манила блестящая
возможность стать куртизанкой.
Осознавая эту возможность, город попытался поступить
с проститутками так же, как и с прочими чуждыми телами:
подвергнуть их сегрегации. Более того, власти даже попробовали
обозначить особую связь между проститутками и евреями,
обязав и тех и других носить желтые одеяния или нашивки. Само
по себе характерное платье не выделяло эти социальные группы,
поскольку все жители Венеции носили своего рода униформу,
указывающую на их общественное положение или профессию,
но желтый цвет был закреплен только за евреями и
проститутками. Венецианским евреям было предписано носить желтые
нашивки с 1397 года, а в 1416-м желтые шарфы стали
обязательными для проституток и сутенеров. Еврейские женщины почти
никогда не показывались за пределами Гетто в своих
украшениях и драгоценностях, и, таким образом, выделялись среди
женского населения города не только желтыми деталями одежды,
но и простотой нарядов. Власти предприняли попытку
распространить эту практику и на проституток. Декрет 1543 года
перечислял особенности внешнего вида добропорядочных
женщин, которые запрещалось перенимать проституткам: «Итак
да будет известно, что гулящим женщинам запрещено носить,
а также иметь при себе на любой из частей тела золото, серебро
и шелк, не дозволяются им также ожерелья, жемчуга и кольца,
как с драгоценными каменьями, так и без таковых, ни в ушах,
ни на руках»38.
Положение этого указа, запрещающее ношение серег, было
куда более знаменательным, чем-может показаться на первый
взгляд. «Среди женщин, которых можно было встретить на
улицах городов Северной Италии, только одна категория украша-
294
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДВИЖЕНИЯ СЕРДЦА
ла уши серьгами, — пишет Диана Оуэн Хьюз, — а именно
еврейки»39. До изоляции евреев в Гетто серьги были приметой,
позволявшей выделить в толпе еврейскую женщину: ее
проколотые мочки был знаком, подобно обрезанной крайней плоти.
Кое-где законы официально уравнивали евреек со шлюхами,
но другие города просто делали ношение серег обязательным,
поскольку, «хотя это было не таким явным знаком унижения...
серьги одновременно передавали идею плотской порочности...
серьги соблазняли»40. Они были характерным признаком
блудливого тела. Запретив ношение серег, венецианцы отдали
предпочтение подавлению сексуальности, но взамен были
вынуждены смириться с невозможностью отличать порочных женщин
в уличной толпе.
Для ограничения деятельности проституток венецианские
власти поначалу планировали что-то вроде сети
государственных борделей и даже приобрели с этой целью два здания. Но
проститутки считали более выгодной частную практику через
сутенеров, которые отыскивали клиентов по всему городу и либо
предоставляли им собственные помещения, либо
организовывали тайные публичные дома, ускользавшие от надзора властей.
Эти нелегальные заведения для запретного секса позволяли
избегать налогов, которые предполагалось скрупулезно уплачивать
с каждого соития. Проект государственных борделей провалился,
но желание изолировать проституток никуда не делось. Был
принят закон, запрещавший им селиться в зданиях вдоль
Большого канала, благо их баснословные прибыли позволяли им такую
роскошь, однако запрет привел лишь к тому, что проститутки
стали тратить свои деньги на проникновение в другие
престижные районы. Попытки маркировать их одежду также ни к чему
не привели. Декреты запрещали им носить белый шелк,
предназначавшийся только для знатных незамужних девушек и
монахинь некоторых орденов, и украшать пальцы кольцами, подобно
замужним женщинам. Тем не менее с той же легкостью, с какой
куртизанки преодолевали положенные им законом
географические пределы, их тела продолжали мимикрировать.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. БОЯЗНЬ ПРИКОСНОВЕНИЯ
295
Поскольку изоляция или специальная маркировка были
совершенно невыгодны куртизанкам, они сопротивлялись
сегрегации всеми способами, какими располагали. Евреи, однако,
находились в куда более сложном положении.
3. ЩИТ, НО НЕ МЕЧ
Кадош
Проект еврейского Гетто, предложенный Закарией Дольфином,
заканчивался предложением, чтобы «две лодки Совета
Десяти еженощно сторожили их за их же счет и ради их же
безопасности»41. Эта фраза указывает на определенное преимущество,
которое получали евреи, подчиняясь подобной сегрегации.
В обмен на изолированное существование они получали
физическую безопасность в пределах Гетто. Сторожевые лодки
охраняли их от толп, которые ежегодно с криками устремлялись к Гетто
во время Великого поста, когда христианскому населению
напоминали древнее предание о том, что евреи распяли Христа. В
делах, касавшихся иноплеменных общин, город-государство
охотно преследовал судебным порядком венецианцев, прибегавших
к насилию, при условии что иноплеменники пребывали в
отведенных им кварталах. Такую же защиту по географическому
принципу получили и евреи. Стены Гетто спасли их, к примеру,
во время таких великопостных волнений 1534 года: подъемные
мосты были разведены, ставни закрыты, и толпе христианских
фанатиков не удалось проникнуть внутрь.
В то время как куртизанке государство не могло предложить
никаких выгод, чтобы убедить ее носить желтый платок,
евреям, поселившимся в Гетто, оно предлагало нечто даже более
ценное, чем безопасность: там было позволено строить синагоги. На
протяжении большей части еврейской истории верующие
собирались в частных домах, подобно тому как это делали ранние
христиане. Евреи никогда не были в полном смысле слова
владельцами своих синагог, поскольку не имели права владеть
землей: они просто занимали и освящали здания, предоставленные
296
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДВИЖЕНИЯ СЕРДЦА
им местными городскими властями. Венецианское Гетто давало
евреям шанс превратить синагоги в учреждения, связующие
воедино закрытую общину, находящуюся под защитой
христианского города-государства. Религиозные братства использовали
синагоги для наблюдения за повседневной жизнью членов общины.
Вскоре в Гетто появились синагоги разных конфессиональных
групп, и сефардов, и ашкенази. К эпохе Средневековья синагоги
в двух отношениях больше походили на мусульманские мечети,
чем христианские церкви. Во-первых, «большинство синагог и все
мечети примерно с конца VIII века запрещали изображения
человека»42. Во-вторых, и в мечетях, и в синагогах мужские и женские
тела были пространственно разделены. К примеру, в Большой
немецкой синагоге женщинам была отведена овальная галерея,
нависавшая над молельным залом на уровне второго этажа—такое
расположение позволяло им видеть все, что делали мужчины
внизу. Помимо прочего, в этом религиозном пространстве женщины
пользовались законным правом проявлять чувственность своих
тел. Английский путешественник Томас Коризт, посетивший
Венецию во времена Шекспира, так описывал происходившее на
галерее:
Я увидел множество евреек, из которых многие были
прекраснее любой когда-либо виденной мною женщины, и так
роскошно одеты, в золотых цепях и кольцах с
драгоценными каменьями, что иным из наших английских графинь
едва ли удалось бы превзойти этих женщин с их
великолепными длинными шлейфами, достойными принцесс,
нести которые поручалось специально приставленным к тому
служанкам43.
За пределами Гетто подобная демонстрация богатства
смотрелась бы как наглая провокация, дающая пищу всем христианским
стереотипам о еврейской жадности. В ренессансной Венеции это
было бы воспринято особенно остро, поскольку государство
прикладывало огромные усилия для подавления любых чувствен-
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. БОЯЗНЬ ПРИКОСНОВЕНИЯ
297
ных проявлений со стороны чуждых тел, от иноземцев до
куртизанок. Но здесь, в защищенном пространстве Гетто, эти
презираемые женщины могли с гордостью демонстрировать
свою красоту.
Кадош (qadosh) — фундаментальное понятие в
древнееврейском языке. Как пишет Кеннет Стоу, кадош «буквально
обозначает отдельное или отделенное. Таков его исходный,
библейский смысл». В определенной мере оно свидетельствовало
о том, что еврейская традиция редко ставила перед собой цель
обращения в иудаизм представителей других народов. В еще
более важном своем значении это слово включает в себя понятие
святости. «Его связь с благочестием описана в книге Левит:
„святы (Qedoshim) будьте, ибо свят (Qadosh) Я Господь, Бог ваш"44.
Кроме того, разные значения слова кадош могли сочетаться,
подобно тому как в церковной латыни есть лексическая связь
между sanctus („святой") и sacer („проклятый"). Одну из
трактовок того значения, которое имело для венецианских евреев
наличие синагог в Гетто, можно сформулировать так: проклятое
пространство стало святым местом»45.
Вследствие этого Гетто создавало для венецианских евреев
гораздо более сложно устроенную религиозную среду, чем та,
к которой они привыкли в разбросанных по городу крохотных
общинах. Иудаизм эпохи Ренессанса был сплетением многих
течений, к которым принадлежали люди разного
социального происхождения; у сефардов и ашкенази были разные
культурные традиции. Их общим литературным языком был
древнееврейский, но в быту сефарды пользовались ладино, смесью
испанского и древнееврейского с арабским. Внутри Гетто евреи
разного происхождения теснились в едином, густонаселенном,
ограниченном пространстве, и это укрепляло их единственную
общую особенность—их «еврейство», точно так же как в Фон-
дако деи Тедески на смену конфессиональным различиям
пришло общее понятие «немцев».
Пространственное формирование новой идентичности
имело вполне конкретные проявления, как масштабные, так
298
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДВИЖЕНИЯ СЕРДЦА
Большая немецкая синагога в Венеции, интерьер
и малозаметные. Евреи разного происхождения сотрудничали
ради защиты своих интересов, создавая органы коллективного
представительства, которые общались с внешним миром от лица
«евреев» вообще. В венецианском Гетто, также как и в римском
немного позднее, евреи объединились в братства, которые
собирались в синагогах, но решали сугубо мирские проблемы
общины. В особой культуре венецианского Гетто нашла свое
отражение общая экономика города, основанная на торговле специями.
По традиции, евреи позднего Средневековья обычно отводили
молитве и изучению Торы утренние часы. Широкое
распространение кофе, который в Венеции был общедоступен, позволило
евреям найти особенное применение своей пространственной
сегрегации. Благодаря кофе, они бодрствовали в ночные часы,
когда Гетто превращалось в запертую крепость; именно ночь
стала для них обычным временем молитвы и учения46.
Изоляция обеспечивала безопасность, изоляция
сплачивала угнетенную общину, но изоляция, кроме того, заставляла уг-
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. БОЯЗНЬ ПРИКОСНОВЕНИЯ
299
нетенного по-новому уйти в себя. По словам одного историка,
«Еврей, покидавший Гетто и погружавшийся на день или на
неделю в иноверческую среду ради заработка, чувствовал, что он
оставляет свой естественный жизненный ареал и оказывается
в совершенно чужом мире»47. К концу XVI века раввинские суды
начали запрещать еврейкам танцевать с христианами; страх
добровольного обращения достиг в этих судах почти уровня
одержимости, хотя случаи ненасильственного перехода в
христианство по-прежнему были крайне редкими, статистика оставалась
такой же, как в римском гетто пятьюдесятью годами ранее. В
связи с этим распространение практики гетто совпало с
исчезновением из повседневного еврейского мышления проблематики
взаимодействия религии с внешним миром. Эпоха гетто
воскресила средневековые представления о том, что между иудаизмом
и всеми прочими «народами» лежит непреодолимая пропасть,
хотя на заре Ренессанса богословы исследовали точки
соприкосновения между иудейским и христианским учениями. Теперь
христианин стал для еврея совершенно чуждым Иным.
Современный историк еврейства Яаков Кац писал, что такое
обыденное равнодушие «представляется особенно неожиданным в
свете тех кардинальных изменений, как раз тогда происшедших
в христианстве под влиянием Реформации,—изменений,
которые на первый взгляд давали иудаизму возможность, да,
пожалуй, и требовали заново сформулировать свое отношение к
претерпевающей метаморфозу религии-сопернице»48.
Это суровый вердикт, и он не вполне точен. Справедливее
было бы сказать, что пространственная изоляция стала частью
более общей формулы, определяющей, что значит «быть
евреем». Географическое измерение идентичности приводило в
замешательство одного из самых прославленных евреев
Ренессанса. Леоне да Модена, он же Иегуда Арье Ми-Модена (1571-1648),
был переписчиком, поэтом, раввином, музыкантом, политиком,
знатоком латыни, греческого, французского и английского
языков, а также, на удивление, неисправимым игроком; заглавие его
автобиографии «Жизнь Иегуды» представляет собой игру слов,
зоо
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДВИЖЕНИЯ СЕРДЦА
поскольку пристрастие к азартным играм считалось грехом
евангельского Иуды. Леоне да Модена родился за пределами Венеции
и переехал в город в 1590 году, девятнадцати лет от роду; три года
спустя, уже женившись, он принял решение стать раввином. На
достижение этой цели ему понадобилось два десятилетия, на
протяжении которых он вел очень неустроенную жизнь: много
писал, много путешествовал, но нигде не чувствовал себя на
своем месте, как легендарный Вечный Жид, и обрел покой только
в замкнутом мирке венецианского Гетто, в окружении евреев
самого разного происхождения, живущих бурной общественной
жизнью. После того как в 1609 году он наконец стал раввином,
его деятельность была связана исключительно с Гетто. Как и
подобало раввину, он посещал синагогу трижды в день, «чтобы
проводить службы, молиться о больных и почивших, проповедовать
по утрам в Шаббат перед тем, как свиток Торы доставали из
ковчега для чтения, а по понедельникам и четвергам разъяснять
два или три правила после того, как чтение Торы заканчивалось
и свиток возвращался в ковчег»49.
В начале XVII века иные образованные христиане
обращались в своих размышлениях к евреям — не только в Италии, но
и в Северной Европе: антисемитские убеждения Мартина
Лютера уравновешивались большей терпимостью Жана Кальвина,
а в Англии — широкими взглядами таких ученых, как лорд
Герберт Чербери. Леоне да Модена был, в свою очередь,
представителем встречной тенденции в среде ученых евреев: участвовать
в культурной жизни за рамками еврейской общины,
придерживаясь своей веры и религиозных практик50.
Благодаря тонкому уму и писательской плодовитости да Мо-
дены, его проповеди приобрели международную славу, и
христиане начали стекаться в Гетто, чтобы его послушать.
Таланты да Модены стали своего рода прецедентом, показывавшим,
до какой степени выдающийся человек мог преодолеть
изоляцию Гетто. Его слава росла на протяжении всех 1620-х годов,
достигнув апогея в 1628-м, когда он возглавил Еврейскую
музыкальную академию (I/Accademia degrimpediti) и начал давать
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. БОЯЗНЬ ПРИКОСНОВЕНИЯ
301
концерты традиционной хоровой музыки и псалмопения в се-
фардской синагоге. По словам современного биографа да Моде-
ны, «христианская знать Венеции валом валила на эти
поразительные представления, и властям приходилось вмешиваться,
чтобы предотвратить давку в толпе»51. Тем не менее
венецианские христиане, посещавшие Гетто, относились к этому
примерно также, как европейские туристы в Нью-Йорке относятся
к посещению Гарлема: ими двигало вуайеристское
любопытство, желание взглянуть на запретную культуру. Тех же
христиан, которые, подобно Паоло Скарпи, всерьез прислушивались
к евреям вроде Леоне да Модены, ждали
неприятности—самому Скарпи было отказано в епископском сане из-за обвинения
в «сношениях с евреями».
Во времена своей славы да Молена ценил даруемую Гетто
безопасность, одобрял сосредоточение еврейской жизни в его
стенах и думал, что усилия, подобные его собственным,
смогут смягчить угнетение его народа. В этой последней надежде
он был не одинок. В области экономики за снятие ограничений
с венецианских евреев боролся финансист Даниэль Родерига.
Он утверждал, что упадок благосостояния Венеции можно
преодолеть, только предоставив еврейским купцам, ограниченным
стенами Гетто, большую географическую свободу. В1589 году он
попытался добиться принятия хартии еврейских прав, первая
статья которой давала еврейским купцам и их семьям право
селиться в любой части Венеции, а вторая разрешала строительство
синагог по всему городу. Первое требование власти с ходу
отвергли, а второе положили под сукно при помощи бюрократических
проволочек.
Однако в другом отношении предложенная Родеригой
экономическая хартия оказалась успешной, хотя бы частично
воплотив в реальность представления шекспировского Шейлока
о собственных правах. Наиболее важное ее положение состояло
в даровании свободы торговли всем жителям Венеции, кроме
турок, и гарантии святости контракта практически для всех
венецианцев. По словам современного историка Бенджамина Рави-
302
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДВИЖЕНИЯ СЕРДЦА
да, «право заниматься морской торговлей с Левантом на тех же
условиях, что и коренные венецианцы, было уступкой,
неслыханной в коммерческой истории Республики»52. Именно этого
добивался Шейлок для себя как для венецианца: чтобы его
признавали пусть и чужим, но равноправным. Речь, однако, шла
только об экономических, а не о культурных правах.
Достижения прославленных евреев вроде да Молены или
Родериги создают обманчивое впечатление о повседневных
культурных взаимоотношениях, существовавших между
Гетто и внешним миром. Даже Леоне да Модена, бывший, по
словам историка Натали Земон Дэвис, «противоположностью Шей-
лока почти во всех отношениях—евреем, который безрассудно
бросал деньги на ветер, который требовал отомстить еврейским
убийцам своего сына и который был окружен восхищением
христиан», к концу жизни обнаружил, что жизнь в Гетто становится
для него все более тяжким бременем53.
Бремя места
В1637 году, после публикации своего фундаментального труда
об обычаях еврейского народа, да Модена убедился, что его
ценность в глазах христиан имеет свои пределы. Он вынужден был
предстать перед венецианской Инквизицией, и только личное
знакомство с Великим инквизитором спасло его самого и его
книгу, которая, впрочем, и далее подвергалась нападкам
церковных сановников более низкого ранга. Описание ритуалов
иудаизма воспринималось как угроза, поскольку проливало свет
антропологического знания на еврейскую культурную и религиозную
жизнь, которая прежде находилась в сумеречной зоне
христианских фантазий. Гонение на великий труд да Модены стало
кульминацией в череде событий, открывших для него в конце жизни
ужасную истину, выраженную Брейгелем в «Пейзаже с
падением Икара». Культура христианского сообщества—все то
сострадание и благородство, которые Антонио и Бассанио олицетворяют
собой в «Венецианском купце»,—была неотделима от
безразличия к тем, кто отличался от них.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. БОЯЗНЬ ПРИКОСНОВЕНИЯ
303
Эту горькую правду да Модене пришлось обнаружить во
время эпидемии чумы, свирепствовавшей в Венеции с 1629 по
1631 год. Несмотря на многочисленные петиции евреев, законы,
предписывавшие им находиться в пределах Гетто, не были
смягчены даже в продолжение кризиса, касавшегося всех жителей
города. Евреям не было дозволено хотя бы на время перебраться
в более санитарно благополучные районы, так что духовные чада
да Модены стали особенно легкой добычей для болезни. Пятью
годами позже ему пришлось столкнуться уже не просто с
христианским безразличием к страданиям евреев, но и с более
определенным желанием навредить им, вызванным как раз
последствиями сегрегации.
К середине 1630-х годов, если не считать отдельные связи
в высших слоях общества, обитатели Гетто представляли собой
полную загадку для своих христианских современников,
которые, как правило, больше не видели евреев в своей среде.
Стены Гетто возбуждали фантазии о том, что евреи делали и как они
жили; слухи, не поддающиеся проверке, безудержно плодились.
Скрытность с древности воспринималась как свойство
еврейского тела как такового. Как мы видели в четвертой главе,
изначально ранние христиане отказались от обрезания для того, чтобы
сделать все тела одинаково пригодными для обращения; к эпохе
Ренессанса обрезание начало восприниматься как тайный акт
самокалечения, связанный с другими садистскими сексуальными
практиками, тщательно скрываемыми евреями от посторонних.
Обрезание «ассоциировалось с кастрацией, с превращением
человека из мужчины в еврея через уподобление его женщине»54.
Авторы позднего Средневековья, такие как Фома из Кантимпре,
делали отсюда вывод, что еврейские мужчины менструируют:
в каталоге «еврейских недугов», выпущенном Франко да Пья-
ченцой в 1630 году, это подавалось как «научно установленный
факт». Пространство Гетто способствовало распространению
подобных верований о еврейском теле: считалось, что отрезанная
от солнца и воды жизнь за разведенными мостами и плотно
захлопнутыми ставнями плодит преступность и идолопоклонство.
304
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДВИЖЕНИЯ СЕРДЦА
Все эти фантазии о еврейской скрытности достигли
критической точки в марте 1636 года, когда группа евреев
спрятала в Гетто товары, украденные где-то в городе. Предрассудок,
что все еврейское население занимается скупкой краденого,
в считанные дни превратился в непоколебимое убеждение
венецианских христиан. От воровства их фантазия быстро
перешла к иным преступлениям вроде похищения христианских
младенцев или оргий с обрезанием. Да Модена описал
полицейский рейд в поисках похищенного шелка, шелковых
нарядов и золота: «В день Пурима все выходы из Гетто были
перекрыты, и стражники в великой спешке начали осматривать дом
за домом»; для этого достаточно было просто поднять
несколько мостов и запереть несколько дверей55. Да Модена был
возмущен тем, что, «когда один человек совершает преступление,
они [христиане] ополчаются на целую общину»; причиной
обвинений, которые христиане возводили на всех евреев разом,
он считал их уверенность в том, что «Гетто скрывает в себе
всяческую преступность»56. В течение следующих нескольких дней
волна слухов ширилась, и это привело к одному из самых
жестоких погромов в истории европейских евреев. Толпы
христиан ворвались в Гетто, сожгли или похитили священные книги
и другие святыни в синагогах и подпалили множество домов.
Поскольку евреи были собраны в одном месте, их можно было
перебить, как скот в загоне.
После погрома 1636 года Леоне да Модена, бывший Вечный
Жид и образцовый космополит, начал горько сожалеть о
выбранной им оседлой жизни. Его зять Яков, который был ему
очень близок, был изгнан в Феррару в ходе повальных
репрессий, которые обрушились на евреев в 1636 году. В1643 Г0ДУ ста-
рый и больной Леоне да Модена обратился к властям с
ходатайством о возвращении Якова. Ему было отказано — ненависть,
ставшая причиной великой расправы, оставалась прежней.
Отчаяние, которое испытывал да Модена к концу жизни,
прорывается в его воспоминаниях страшным признанием в
собственной беспомощности:
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. БОЯЗНЬ ПРИКОСНОВЕНИЯ
305
Кто вложит в мои уста те слова жалобы, горя и стенания,
которыми я мог бы выразить в книге, насколько тяжелее всех
прочих оказалась выпавшая мне участь? Я должен сносить
и претерпевать то, что принесло мне несчастье в день, когда
я родился, и продолжает приносить его вот уже семьдесят
шесть полных лет57.
В этой жалобе можно расслышать нечто большее, чем трагедию
одного отдельного человека. Групповая идентичность,
сложившаяся под влиянием угнетения, остается во власти угнетателя.
Пространственная сегрегация означает, что чужак навсегда
оказывается как будто вымышленным персонажем жизненного
пейзажа—подобно Икару, чье падение осталось незамеченным
и неоплаканным. И тем не менее евреи прижились в этом
враждебном пейзаже—он стал частью их самих. Не в упрек им будет
сказано, что они сами внутренне уподобились своему
угнетателю, превращая пространство угнетения в общину. Однако жизнь
в этой общине на поверку оказалась, в лучшем случае, щитом—
но не мечом.
4. ЧУДЕСНАЯ ЛЕГКОСТЬ СВОБОДЫ
«Венецианский купец» составляет резкий контраст пьесе
«Мальтийский еврей» Кристофера Марло, опубликованной в 1633 году.
Марло представляет еврея Варавву комическим персонажем,
достойным презрения из-за своей жадности. Шейлок—герой по-
человечески гораздо более сложный, поскольку в нем жадность
переплетается с оправданным гневом. Возможно, самый
великий монолог «Венецианского купца» — это речь Шейлока о
всеобщем достоинстве человеческого тела:
Да разве у жида нет глаз? Разве у жида нет рук, органов,
членов тела, чувств, привязанностей, страстей? Разве не та же
самая пища насыщает его, разве не то же оружие ранит его,
разве он не подвержен тем же недугам, разве не те же ле-
306
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДВИЖЕНИЯ СЕРДЦА
карства исцеляют его, разве не согревают и не студят его те
же лето и зима, как и христианина? Если нас
уколоть—разве у нас не идет кровь? Если нас пощекотать—разве мы не
смеемся? Если нас отравить—разве мы не умираем? А если
нас оскорбляют—разве мы не должны мстить? Если мы во
всем похожи на вас, то мы хотим походить и в этом58.
Именно в этом достоинстве отказывали Шеилоку христиане,
которые снисходили до его денег. Но этот монолог—не просто
прием драматурга, стремящегося придать объем всем своим
персонажам, даже злодеям: для этого он слишком значителен.
Обвинения, выдвинутые Шейлоком против христиан,
отражаются в сюжете пьесы, причем весьма неожиданным образом.
К началу четвертого акта Шекспир постепенно создает огромное
драматическое напряжение между честью благородных
христиан вроде Антонио и Бассанио и правами, которые дает Шеилоку
контракт. Христиане умоляют Шейлока, дож произносит
трогательную речь, но еврей остается непреклонен. Кажется, что все
потеряно,—и вдруг в четвертом акте Шекспир разом
перечеркивает все это.
В качестве посредника на сцену выходит Порция,
переодетая доктором права, и заверяет Шейлока, что закон на его
стороне, но что он должен буквально выполнить условия векселя:
взять у Антонио ровно фунт мяса, ни унцией больше или
меньше, и не пролить при этом ни капли крови, о которой в
контракте ничего не сказано. Поскольку Шейлок не может быть
настолько изощренным людоедом, его игра проиграна. Он сдувается, как
лопнувший воздушный шар. Способ, которым Порция
разрубает гордиев узел контракта, не назовешь нравственным решением
проблемы: своими юридическими уловками она просто обходит
все серьезные вопросы, и многие критики сочли такую развязку
неудовлетворительной. Создается впечатление, что победить
сатану можно только его же методами.
Такая развязка подчеркивает двусмысленность всей пьесы:
что это, трагедия или комедия? Христианские персонажи, не-
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. БОЯЗНЬ ПРИКОСНОВЕНИЯ
307
смотря на всю свою добродетель, кажутся легковеснее Шейло-
ка—их место скорее в комедии, и «Венецианский купец» часто
ставится именно в таком ключе. Банальная развязка готовит
зрителя к многочисленным комическим интригам,
разрешающимся в пятом акте. Христиане торжествуют, Порция спасает Анто-
нио, и «Венецианский купец» становится комедией нравов.
Между тем на наших глазах происходит что-то непонятное.
Еще перед развязкой мы сталкиваемся с этой загадкой в
побочной линии дочери Шейлока, Джессики. Стоит ей полюбить
христианина, она бросает своего отца, свой дом и свою веру. Она
на удивление мало сожалеет о покинутом мире своего отца —
а также о том, что грабит Шейлока, унося с собой
франкфуртские бриллианты, чтобы оплатить ими радости медового
месяца. В таком изложении Джессика кажется воплощением низости,
но в пьесе она изображена совершенно очаровательным
созданием. Для этой девушки, которая живет вовсе не в Гетто,
«еврейство» оказывается чем-то вроде платья, которое можно скинуть,
если случилось, к примеру, влюбиться. Непоследовательность
человеческого опыта показана и в другой побочной линии,
связанной с любовными играми: в заключительном акте женщины
уловками вынуждают своих любовников заключить с ними
нечто вроде эротического контракта. В конечном счете значения не
имеют ни телесные страдания, ни телесные страсти—одни
только деловые отношения. Кто же тут торжествует?
Текст «Венецианского купца» может быть безо всяких
натяжек прочитан как предостережение. Шекспир показывает на
сцене мир, в котором община благородных христиан становится
бесполезной или неуместной. Их свобода облегчает бремя
культуры, в отличие от тел обитателей Гетто, по-прежнему
отягощенных культурой. Свобода избавляет от тягостных жизненных
обязательств: в финале пьесы мы оказываемся в современном мире.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.
АРТЕРИИ И ВЕНЫ
ГЛАВА ВОСЬМАЯ.
ТЕЛА В ДВИЖЕНИИ.
РЕВОЛЮЦИЯ УИЛЬЯМА ГАРВЕЯ
1. КРОВООБРАЩЕНИЕ И ДЫХАНИЕ
На протяжении более чем двух тысячелетий медицинская наука
придерживалась тех же древних представлений о телесном жаре,
что царили в Афинах времен Перикла. Авторитет давней
традиции не позволял сомневаться, что внутренний жар тела
объясняет разницу как между мужчинами и женщинами, так и между
людьми и животными. С выходом в свет в 1628 году труда
Уильяма Гарвея «De motu cordis» [«О движении сердца»] эта
уверенность пошатнулась. Своими открытиями в области
кровообращения Гарвей заложил основы научной революции в понимании
тела—его устройства, его здорового состояния и его
соотношения с душой. Начал складываться новый эталонный образ
человеческого тела.
Эти перемены в понимании тела совпали по времени с
зарождением современного капитализма и поспособствовали
грандиозному социальному нововведению, которое мы обозначаем
словом «индивидуализм». Современный индивид — это
прежде всего человек подвижный. Первым последствия открытий
Гарвея в этой области описал в своем «Исследовании о природе
и причинах богатства народов» Адам Смит, во многом
представлявший себе свободный рынок труда и товаров как
беспрепятственную циркуляцию крови в теле—и по его механике, и по его
живительным результатам. Наблюдая за лихорадочной деловой
активностью своих современников, Смит смог разглядеть
управляющие ею закономерности. Обращение товаров и денег,
оказывается, сулило куда больший доход, чем неизменное и
постоянное обладание ими. Собственность была лишь предпосылкой для
311
обмена—по крайней мере для тех, кто стремился к улучшению
своего положения в мире. Однако Смит понимал: для того
чтобы извлекать выгоду из экономики свободной циркуляции,
людям придется отказаться от старых привязанностей. Такой
подвижный экономический субъект должен был к тому же освоить
специализированные, индивидуальные навыки, чтобы иметь
возможность предложить нечто уникальное. Освободившись от
обязательств и став узким специалистом, Homo economicus мог
теперь передвигаться внутри общества, извлекая выгоду из своей
собственности и квалификации в зависимости от конъюнктуры
рынка, но эта возможность доставалась ему дорогой ценой.
Свободное передвижение притупляет остроту ощущений,
вызванных местами и обитающими в этих местах людьми.
Любая сильная внутренняя привязанность к окружающей среде
грозит ограничить свободу передвижения индивида. Именно
в этом и заключается предостережение, которое прочитывается
в финале «Венецианского купца»: чтобы перемещаться
свободно, нельзя чувствовать слишком сильно. Сегодня, когда
стремление к свободе передвижения одержало решительную победу
над сенсорными притязаниями пространства, в котором
движется тело, современный мобильный индивид переживает что-
то вроде кризиса осязания: движение лишило тело ощущений.
Этот базовый принцип на наших глазах реализуется в городах,
подчиненных требованиям транспортных потоков и быстрого
индивидуального передвижения,—городах, заполненных
нейтральными пространствами, павших жертвой одной главной
ценности: циркуляции.
Революция Гарвея способствовала изменениям и в
требованиях, предъявляемых жителями к городу, и в характере
городского планирования. Его открытия в области физиологии
кровообращения и дыхания привели к возникновению новых
представлений об общественном здоровье, а в XVIII веке
градостроители эпохи Просвещения применили эти представления
на практике. Они стремились сделать город местом, где люди
могут свободно передвигаться и дышать полной грудью; их иде-
312
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. АРТЕРИИ И ВЕНЫ
алом был город артерий и вен, по которым жители свободно
текли бы подобно здоровым кровяным тельцам. В результате
медицинской революции мерилом человеческого счастья для этих
прикладных социологов стала уже не мораль, а здоровье,
которое определялось движением и циркуляцией.
Таким образом, открытия Гарвея, касавшиеся здорового
кровообращения в человеческом теле, вкупе с новыми
капиталистическими представлениями о социальной мобильности
индивида, всего лишь на новый лад поставили перед западной
цивилизацией вечную проблему: как в обществе, и особенно
в городе, найти осязаемый дом для чутких тел—тел, которые
теперь не знали покоя, однако были одиноки. Важность, которую
придавали циркуляции медицина и экономика, породила
этику безразличия. Странствующему христианскому телу,
изгнанному из Рая, было дано по крайней мере обетование, что со
временем оно станет лучше чувствовать окружающий мир и других
таких же изгнанников. Именно так описывал историю
грехопадения, например, современник Гарвея Джон Мильтон в
«Потерянном рае». Нерелигиозное тело в бесконечном движении
рискует так и не узнать этой истории, вместо этого утратив связь
с другими людьми и с местами, через которые оно движется.
В этой главе мы проследим связь между медицинскими
открытиями Гарвея и градостроительной практикой XVIII века,
а также рассмотрим значение циркуляции для индивидуумов
и для групп в городах эпохи Просвещения. Следующая глава
посвящена тем проблемам с ощущением места, которые
вызвала циркуляция в Париже времен Великой французской
революции. Из этого конфликта возникли в XIX столетии городские
пространства, предназначенные для передвижения индивидов,
а не толп. В предпоследней главе мы проследим эту эволюцию
и ее психологические последствия, описанные в эдвардианском
Лондоне Э.М. Форстером в его романе «Говардс-Энд». В
заключительной главе мы обратимся к современному Нью-Йорку, муль-
тикультурному городу, в котором живут люди со всего света,
оторванные от своих корней. Выражение «оторванные от своих
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ТЕЛА В ДВИЖЕНИИ
313
корней» подразумевает несчастливое состояние, но мне не
хочется заканчивать книгу на печальной ноте. В финале «Плоти
и камня» я задаюсь вопросом: сулит ли мультикультурный
город, вопреки всему нашему историческому опыту, хоть какой-
то шанс, что расовые, этнические и тендерные различия станут
для людей не почвой взаимного отчуждения, а фундаментом для
сближения? Можем ли мы избежать судьбы венецианских
христиан и евреев? Способно ли городское многообразие обуздать
индивидуализм?
Поиск ответов на эти вопросы начинается с плоти.
Биение крови
Открытие, которое сделал Гарвей, задним числом кажется
простым: сердце прокачивает кровь через артерии тела и
получает ее назад по венам. Между тем это открытие бросало вызов
традиционным представлениям о том, что кровь приводится
в движение телесным жаром, и о том, что неодинаковый
уровень «внутреннего жара» (calor innatus) является причиной
различий между телами: к примеру, мужские тела считались более
горячими, чем женские. Гарвей был убежден, что именно
циркуляция разогревает кровь, в то время как прежняя теория
гласила, что жар в крови заставляет ее двигаться. «В зависимости от
деятельности сердца,—писал он,—кровь двигается,
оживляется, противостоит гниению и сгущению»1. Он представлял себе
тело как некую высшую машину, прокачивающую жизнь.
Гарвей начал свою работу в 1614-1615 годах с изучения венозных
клапанов, перейдя затем к различиям между венами и
артериями; в 1620-е годы его ученики извлекали сердца из свежих
трупов, чтобы наблюдать за тем, как сердечная мышца
продолжает сокращаться и расширяться, несмотря на отсутствие крови.
Один из студентов Гарвея установил, что кровь у птиц горячее,
чем у людей, и объяснил это более быстрым биением птичьего
сердца. Наблюдая за механизмом циркуляции, ученые все
больше проникались уверенностью, что те же принципы действуют
во всем животном мире.
314
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. АРТЕРИИ И ВЕНЫ
Кровеносные сосуды руки. Иллюстрация из книги Уильяма Гарвея
«О движении сердца», 1628
Вплоть до XVIII века христианские врачи горячо спорили
о местонахождении души внутри тела—о том, соприкасаются
ли душа и тело в сердце или в мозге, являются ли сердце и мозг
«двойственными» органами, которые содержат и телесную
материю, и духовную сущность. Хотя в своем трактате Гарвей
упорно придерживался средневекового христианского представления
о сердце как органе сострадания, ко времени публикации
своего труда он уже понимал, что сердце — это еще и машина.
Научное знание, добытое путем собственных наблюдений и
эксперимента, он решительно предпочитал рассуждениям, основанным
на абстрактных принципах. Некоторые оппоненты Гарвея, и
среди них Декарт, были готовы принять концепцию тела как
машины —в той же мере, в какой и сам Бог мог управлять
мирозданием с помощью своего рода небесной механики. На вопрос о том,
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ТЕЛА В ДВИЖЕНИИ
315
«наделена ли разумная (то есть нематериальная) душа
физиологическими функциями», Декарт отвечал утвердительно2.
Научное знание Гарвея подсказывало противоположный ответ. Он
был убежден, что, хотя у человека есть бесплотная душа,
существование Бога не объясняет механизма, с помощью которого
сердце заставляет двигаться кровь.
Работы Гарвея в области кровообращения подвигли его
коллег исследовать подобным же образом и другие системы
организма. Английский врач Томас Уиллис (1621-1675) попытался понять
функционирование нервной системы на основе тех же
принципов механической циркуляции. Хотя Уиллис не мог увидеть
зримое движение «нервной энергии» по нервным волокнам, как Гар-
вей видел пульсацию крови, он мог изучать ткани мозга. Сравнив
мозг человека и животных, он, подобно ученикам Гарвея, пришел
к выводу, что «разница... в Очертаниях и Взаиморасположении
Частей, за исключением только Объема... мала или вовсе
отсутствует», и отсюда можно заключить, что «Душа, Общая для Человека
и всякой Твари, является только лишь телесной, и
непосредственно задействует сии Органы»3. Последователи Уиллиса, неврологи
XVIII столетия, путем экспериментов на живых лягушках
установили, что нервные узлы, расположенные по всему телу, в равной
степени реагируют на сенсорные раздражители; опыты на свежих
трупах показали, что, как и в случае лягушек, нервные узлы
человека сохраняют свою чувствительность даже после того, как его
душа уже вроде как оставила тело и отправилась навстречу
своему Создателю. В том, что касалось нервной системы, тело не
нуждалось ни в каком «духе», чтобы ощущать. А раз все нервные узлы
функционировали одинаково, значит, душа могла витать
повсюду, но не существовала нигде конкретно. Эмпирические
наблюдения не позволяли установить местоположение души в теле4.
Таким образом, изучение механического движения внутри
тела—как нервного движения, так и
кровообращения—привело к более светскому пониманию физиологии, опровергавшему
древнее представление о душе (anima) как об источнике
жизненной энергии.
316
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. АРТЕРИИ И ВЕНЫ
^Paj j.г
Кровеносные сосуды как побеги, растущие из человеческого тела.
Иллюстрация из «Анатомического компендиума» Джона Кеиза, 1696
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ТЕЛА В ДВИЖЕНИИ
317
Этот сдвиг заставил ученых поставить под сомнение
иерархический образ тела, которым руководствовались средневековые
мыслители вроде Иоанна Солсберийского. Задолго до того, как
движения между нервными окончаниями были
идентифицированы как электрические импульсы, докторам XVIII века уже
было ясно, что нервная система—это нечто большее, чем
простые отростки мозга. Физиолог Альбрехт фон Галлер в первой
части своего восьмитомного труда «Элементы физиологии
человеческого тела», публиковавшегося с 1757 по 1766 год, утверждал,
что нервная система приводится в движение
непроизвольными ощущениями, которые отчасти минуют мозг и определенно
не подчинены контролю сознания; при ушибе пальца ноги
нервы каким-то образом передавали болевое ощущение от ступни
в запястье, так что оба эти члена дергались одновременно. Боль,
как казалось, циркулировала по телу, подобно крови. Как пишет
историк Барбара Стаффорд, доктора предались настоящей оргии
жестокости, пытаясь с помощью экспериментов на животных
доказать, что нервной ткани присуща жизнь, «отличная от
жизни сознающего разума или высшей души». По ее словам, «пока
животные извивались и дергались, врачи вырывали их еще
бьющиеся сердца, потрошили их и вскрывали им трахеи, чтобы не
слышать визга испуганных, страдающих зверей»5.
Сердцу тоже не удалось удержаться на почетном месте,
отведенном ему Анри де Мондевилем. Хотя Гарвей и называл сердце
«основой жизни», кровь была для него «началом жизни»6.
Сердце—всего лишь машина, обеспечивающая кровообращение.
Таким образом, научное учение о циркуляции обосновывало
взаимную независимость частей человеческого тела.
Вместо загадок соотношения души и тела эта новая наука
сосредоточилась на здоровье тела, определяемом его механикой.
Гален понимал здоровье как равновесие телесного жара и
основных жидкостей; теперь же здоровье стало для медицины
вопросом свободного движения и циркуляции крови и нервной
энергии. Беспрепятственное кровообращение, как представлялось,
способствовало здоровому росту отдельных тканей и органов.
318
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. АРТЕРИИ И ВЕНЫ
Точно также, по убеждению неврологов-экспериментаторов, на
здоровое развитие каждой конкретной части тела влияла и
свободная передача нервной энергии. Именно эта парадигма
циркуляции, здоровья и автономности органов внутри тела со
временем преобразила взаимоотношения между телом и обществом.
Как отмечает историк медицины, «по мере секуляризации
общества... здоровье все больше воспринималось не как Божий
дар, а как одна из сфер индивидуальной ответственности
каждого конкретного человека»7. Городские формы, складывавшиеся
в XVIII веке, способствовали претворению этой внутренней
парадигмы в образ здорового тела в здоровом обществе.
Город дышит
Взаимосвязь между устройством города и новым
представлением о физиологии тела возникла, когда наследники Гарвея и Уил-
лиса применили их открытия в своем исследовании
человеческой кожи. Первой ясной аналогией между циркуляцией внутри
тела и телесным опытом взаимодействия с окружающим миром
мы обязаны жившему в XVIII веке медику Эрнсту Платнеру.
Воздух, по мысли Платнера, подобен крови: он должен
циркулировать внутри тела, при этом мембраной, через которую он
поступает в организм и покидает его, служит кожа. Грязь представлялась
Платнеру основным препятствием для этой функции кожи. По
словам историка Алена Корбена, Платнер был убежден, что
забивающая поры грязь «задерживает телесные выделения, ведет
к гниению и разложению веществ и, хуже того, способствует
„обратному всасыванию отходов", скапливающихся на коже»8. В
связи с представлением о воздухе, проходящем через кожу, понятие
«нечистоты» приобрело новый, секулярный смысл. Нечистота
теперь означала грязную кожу, а не грех на душе. Кожа
становилась нечистой из-за того, что происходило с человеком в
обществе, а не в результате его нравственной несостоятельности.
В сельской местности, среди крестьян, короста грязи на коже
казалась естественной и даже способствующей здоровью.
Человеческие экскременты удобряли землю, так что и на коже,
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ТЕЛА В ДВИЖЕНИИ
319
особенно младенческой, они, как было принято думать, также
образовывали питательный слой. Деревенские жители
придерживались мнения, что «не следует мыться слишком часто...
поскольку корка засохшей мочи и фекалий на коже является
частью организма и выполняет защитную функцию, особенно
у [спеленатых] младенцев»9.
Тщательное очищение тела от экскрементов стало
практикой, характерной именно для городского среднего класса.
В 175°_х годах в его обиход вошла специальная бумага, которой
после дефекации протирался анус; к этому же времени ночные
горшки стало принято опорожнять каждый день. Сам страх
прикосновения к экскрементам был городским явлением,
зародившимся под влиянием новых медицинских представлений о
нечистотах, закупоривающих кожу. Кроме того, распространители
научного знания обитали в городах. Историк Доринда Отрам
пишет, что «врачи и крестьяне были буквально не в состоянии
понять друг друга в рамках общепринятых в обеих группах
представлений о теле и здоровье». Единственными служителями
науки, которых встречали крестьяне, были цирюльники,
которые помимо этого выполняли обязанности деревенских
хирургов. Во Франции в 1789 году на тысячу жителей приходился один
такой цирюльник-лекарь, в то время как дипломированных
врачей было в десять раз меньше и жили они в основном в городах10.
Подобная вера в важность «дыхания» для кожи
способствовала перемене в манере одеваться, которая прослеживается
уже в 173°~е годы. Женские платья стали легче за счет
использования муслина, хлопчатобумажных и полушелковых тканей
и свободнее благодаря менее облегающему крою. Хотя
мужчины продолжали носить сложные парики, которые на
протяжении XVIII века даже становились все изощреннее, ниже ворота
и они стремились облегчить свою одежду и ослабить ее давление
на тело. Свободно дышащее тело было здоровее, поскольку ему
было проще избавляться от вредоносных испарений.
Более того, чтобы дать коже дышать, людям приходилось
мыться чаще, чем прежде. Римский обычай ежедневного мы-
320
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. АРТЕРИИ И ВЕНЫ
тья исчез к началу Средневековья; некоторые доктора той
эпохи даже считали мытье опасным, поскольку оно резко нарушало
баланс температуры тела. Но теперь легко одетым и часто
мывшимся людям больше не приходилось прибегать к резким
парфюмерным ароматам, чтобы скрыть запах пота,—женские духи
и мужские одеколоны XVI-XVII веков смешивались на основе
масел, которые часто вызывали кожные раздражения, так что за
благоухающие тела мужчинам и женщинам приходилось
платить прыщавой кожей.
Стремление жить в соответствии со здоровыми принципами
циркуляции и свободного дыхания меняло не только городские
телесные практики, но и внешний вид самих городов. Начиная
с 174°_х годов европейские города начали вычищать грязь со
своих улиц, осушая ямы и низины, заполненные
нечистотами, и отводя сточные воды в проложенную под землей
канализацию. В ходе этой борьбы изменилась и сама поверхность
городских улиц. Средневековые мостовые состояли из округлых
булыжников, в щелях между которыми скапливались
испражнения людей и животных. В середине XVIII века Лондон начали
мостить заново, используя для этого плоские прямоугольные
плиты гранита, плотно прилегавшие друг к другу; в Париже
такие мостовые появились впервые в 1780-х годах, вокруг нового
театра «Одеон». Вследствие этого появилась возможность
очищать улицы более тщательно: проложенные под ними
городские «вены» канализационных труб, пришедшие на смену
неглубоким сточным ямам, уносили нечистоты и грязную воду
к новым подземным коллекторам.
Эти перемены легко проследить по ряду парижских
муниципальных постановлений в области общественного здоровья.
В175о Г°ДУ городские власти обязали парижан убирать
фекалии и помои перед их домами; в том же году была введена
поливка основных дорог и мостов. В1764 году были предприняты
шаги для очистки забитых или не справляющихся с нагрузкой
стоков по всему городу. В 1780-м парижанам было запрещено
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ТЕЛА В ДВИЖЕНИИ
321
опорожнять ночные горшки на мостовые. В интерьерах домов
парижские архитекторы стали использовать в тех же целях
гладкую штукатурку, которая герметизировала поверхность стены,
облегчая ее очистку.
Градостроители эпохи Просвещения хотели, чтобы сама
структура города позволяла ему функционировать как
здоровому телу со свободной циркуляцией и чистой кожей. Начиная
с периода барокко архитекторы стали смотреть на городское
планирование с точки зрения обеспечения эффективного
круговорота людей на главных улицах. Например, когда папа Сикст V
перестраивал Рим, он соединил основные католические святыни
широкими прямыми дорогами, облегчив тем самым
перемещения паломникам. Медицинский образ циркуляции, дарующей
жизнь, придал новый смысл тому акценту, который в барокко
делался на движении. Если барочный архитектор проектировал
улицы для церемониальных шествий, двигавшихся к
определенному объекту, то для градостроителей эпохи Просвещения
движение было самоцелью. Барокко делало упор на
продвижение по направлению к монументу, Просвещение—на путь как
таковой. В представлении просветителей улица была важным
городским пространством, вне зависимости от того, пролегала ли
она в жилом районе или в парадном центре города.
Желая уподобить уличную сеть кровеносной системе тела
архитекторы XVIII века начали применять термины «артерия»
и «вена» для описания городских улиц. Французские
урбанисты вроде Пьера Патта прибегали к сравнению улиц с артериями
и венами, чтобы обосновать принцип одностороннего движения.
И во французских, и в немецких городских планах,
уподобленных кровеносной системе, замок правителя представляет собой
сердце, однако улицы часто не подходили к этому сердцу
города, вместо этого соединяясь между собой напрямую. Хотя с
анатомической точки зрения это было неверно, такая
градостроительная практика согласовывалась с логикой кровообращения:
считалось, что если заблокировать в любой точке уличное
движение, коллективное тело города переживает кризис циркуляции,
322
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. АРТЕРИИ И ВЕНЫ
Λ \M Ι Ίι / S
1 5-"""^***^^
Ö
Карлсруэ в XVIII веке. Ранний пример городского плана, основанного
на циркуляции
подобный апоплексическому удару, который возникает в
отдельном человеческом теле при закупорке артерии. Как заметил один
историк, «из открытия Гарвея и его модели кровообращения
родилась потребность в поддержании непрерывной циркуляции
воздуха, воды и продуктов [жизнедеятельности]». Обеспечение
такой непрерывной циркуляции в городе требовало
тщательного планирования: беспорядочный рост города мог только
усугубить состояние его запутанной, закрытой и нездоровой ткани
прошлых эпох".
Представление о том, как эти принципы циркуляции
претворялись на практике, дает проект города Вашингтона, строившегося
сразу после Войны за независимость. В результате пересечения
интересов разных групп влияния в молодой республике градо-
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ТЕЛА В ДВИЖЕНИИ
323
строителям пришлось возвести федеральную столицу посреди
субтропических болот, вместо того чтобы разместить органы
власти в уже сложившемся городе или построить новый в более
благоприятной открытой местности в 2θθ километрах к северу. Этот
проект Вашингтона, как и его частичная реализация в
современном нам городе, наглядно выражает убеждения просветителей,
согласно которым всестороннее и продуманное городское
планирование позволяет создавать здоровую среду обитания. Кроме
того, этот градостроительный план отражает те социальные и
политические взгляды, которые были заложены в образе
«здорового» города со свободно дышащими жителями.
В этом месте, избранном для столицы, строители
Вашингтона стремились возродить древние добродетели Римской
республики, прибегая с этой целью к римским градостроительным
решениям и заимствуя римскую топонимику. Американским
«Тибром» стал, к примеру, кишащий москитами ручей посреди
болота; воссоздать римские холмы можно было, однако,
только силой воображения. Из образцов, более близких по
времени, в своем видении новой столицы три главных создателя
проекта — Томас Джефферсон, Джордж Вашингтон и Пьер-Шарль
Ланфан — вдохновлялись, судя по всему, масштабными
перспективами Версаля, Карлсруэ и Потсдама, получивших свои
величественные открытые пространства росчерком
монаршего пера. «Величайшая ирония заключалась в том,—пишет
историк,—что планировочные решения, изначально создававшиеся
для прославления деспотов, королей и императоров, были
использованы как национальный символ страны, чья философия
так глубоко укоренена в идее демократического равенства»12.
Однако конечный результат оказался несколько иным:
сказалась перекличка Америки с Древним Римом. В конце 1780-х
годов Томас Джефферсон предложил для национальной столицы
планировку улиц, основанную на схеме межевания
сельскохозяйственных земель, которую ой хотел применить по всему
континенту: по его замыслу, и очертания столицы, и очертания всей
страны восходили к той древней решетке, которую римляне кла-
324
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. АРТЕРИИ И ВЕНЫ
Предложенный Пъером-ШарлемЛанфаном план города Вашингтона
в варианте Эндрю Эликотта, 1792
ли в основу своих геометрических городов. В Вашингтоне
Томаса Джефферсона (насколько мы можем судить о его намерениях)
правительство должно было располагаться в самом центре, как
в древнеримском городе. Пьер-Шарль Ланфан был с этим не
согласен: он извлек из римской традиции совсем другой урок.
Подобно нескольким другим молодым идеалистически
настроенным французам, инженер Ланфан поступил на
американскую службу, чтобы поддержать дело революции. В \ηηη-\ηη%
годах он служил в лагере Вэлли-Фордж, а после победы остался
в Америке. В меморандуме для президента Вашингтона,
составленном, вероятно, в 1791 году, Ланфан раскритиковал
планировку в виде решетки как «утомительную и вялую... плод холодного
воображения, лишенного представления о настоящем величии
и истинной красоте»13. Вместо этого он предложил проект более
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ТЕЛА В ДВИЖЕНИИ
325
демократичного пространства: его «Пунктирный план» 1791 года,
легший в основу более проработанного «Плана города
Вашингтона», который составил годом позже Эндрю Элликотт,
изображает город с несколькими транспортными узлами и центрами,
связанными сложной системой диагональных улиц, прорезающих
прямоугольные кварталы решетки. К примеру, проект Л анфана
предусматривал на пересечении двух важных улиц, Виргиния-
авеню и Мэриленд-авеню, обширную площадь, которая никак не
соотносилась с расположенными рядом центрами федерального
правительства—президентской резиденцией и зданием
Капитолия, где заседал Конгресс. Не все узловые точки города
оказывались узлами государственной власти.
Более того, Ланфан стремился совместить в пространстве
общественные и политические функции, как это происходило на
форумах ранней Римской республики. Обращаясь к
президенту Вашингтону на своем почти безупречном английском,
Ланфан писал в 1791 году, что Капитолий станет «местом всеобщего
досуга, вдоль сторон которого могут расположиться
театральные залы, клубы, аккадемии [sic] и любые подобные заведения,
способные привлекать людей образованных и развлекать
людей праздных»14. Ланфан предложил истинно республиканскую
концепцию национальной столицы: пространство, в котором
великая власть вплетена в ткань полицентричного,
многофункционального города. Джефферсон немедленно распознал и
одобрил эту политическую образность и дал ход проекту молодого
француза.
Республиканский Вашингтон Пьера-Шарля Л анфана,
лишенный единого центра и многофункциональный, был
выражением скорее просветительского, а не барочного взгляда на
значение циркуляции для города. Болотистая почва и отвратительный
в летние месяцы климат Вашингтона заставили Ланфана
озаботиться созданием городских «легких». Решая эту задачу, он
опирался на опыт своей родины, в частности на планировку
знаменитой площади Людовика XV в центре Парижа. Эта площадь,
расположенная на берегу Сены у края регулярного сада Тюиль-
326
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. АРТЕРИИ И ВЕНЫ
Площадь Людовика XV в Париже. Картина предположительно
Жан-Батиста Лепранса, ок. 1750
ри, разбитого перед Луврским дворцом, служила
растительными легкими французской столицы.
Не только для Ланфана, но и для всех градостроителей эпохи
Просвещения образ легких был не менее важен, чем образ
сердца. В Париже XVIII века, к примеру, не было ничего более
поразительного, чем обширная площадь Людовика XV: несмотря на
свое расположение в самом центре города, она была
превращена в свободно растущий сад. Современники Ланфана не имели
представления о фотосинтезе, но чувствовали, что в
результате им дышится легче. Площади Людовика XV позволили
превратиться в настоящие городские джунгли, куда люди
углублялись, когда хотели прочистить себе легкие. Благодаря этому сад,
расположенный в самом центре столицы, казался удаленным от
жизни парижских улиц: «Площадь Людовика XV... как
представлялось даже горячим поклонникам ее архитектурного облика,
находилась словно бы вне Парижа»15.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ТЕЛА В ДВИЖЕНИИ
327
Район площади Людовика XV на «Плане Тюрю», выполненном
Луи Бретезом в 1734_1739 годах
Больше того, это центральное легкое входило в
противоречие с логикой власти, которой были подчинены открытые
пространства загородных королевских парков, таких как Версаль
Людовика XIV или Сан-Суси Фридриха Великого. В садах
Версаля, разбитых в середине XVII века, ровные ряды деревьев,
дорожек и водоемов образовали бесконечную перспективу, сходясь
в точку где-то на горизонте: король повелевал природой. Другой
тип открытого пространства возник в английском ландшафтном
проектировании в первой половине XVIII века: «бескрайний сад»,
у которого, по выражению Роберта Харбисона, «не было явного
начала или конца... а границы были размыты со всех сторон»16.
Английский парк поражал воображение посетителя, который
328
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. АРТЕРИИ И ВЕНЫ
Площадь Людовика XV в Париже. Общий план местности
из проекта нового моста через Сену, выполненного Жан-Родолъфом
Перроне βιγ8γ году
окидывал его взглядом или перемещался в нем физически, своим
пространством, лишенным ясной структуры и полным
неожиданностей: это было место пышного и ничем не сдерживаемого роста.
Однако поколение, к которому принадлежал Ланфан,
стремилось придать городским легким более определенную
визуальную форму. В1765 году власти Парижа прорабатывали
различные планы, желая сделать сад на площади Людовика XV более
доступным для жителей столицы, прогуливающихся как
пешком, так и в каретах, превратить его в легкие Парижа, через
которые должны устремиться в поисках свежести потоки горожан.
Эти дорожки и тропы образовали обширную брешь в более
старой городской ткани: на них запрещались любые коммерческие
сношения. Общаться тут следовало только с воздухом, с зеленью
и друг с другом — движение сквозь городские легкие должно
было все же оставаться социальным опытом.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ТЕЛА В ДВИЖЕНИИ
329
Что интересно, Ланфан в своем плане Вашингтона
распорядился природой в городе не так непринужденно, как создатели
площади Людовика XV. Если судить по чертежам Элликотта,
основанным на проекте Ланфана, Большой проспект (на его
предполагаемом месте находится Национальная аллея) сохранял
некоторые регулярные линейные элементы Версаля: по одной оси
он соединял реку Потомак с президентской резиденцией, по
другой — с Капитолием. Но Ланфан особо подчеркивал, что на
Большом проспекте будут передвигаться и собираться граждане, как
это было заведено в Париже начиная с 1765 года. Смысл Большого
проспекта заключался не в создании прогалины, вдоль которой
Джордж Вашингтон мог бы обозревать свои владения, как
Людовик XIV в своем версальском парке, простиравшемся, казалось,
до бесконечности. Ланфан уведомил первого президента США,
что намерен «обеспечить изобилие удобных скамей и приятных
панорам», а также «соединить между собой разные части
города»17. Открытое пространство, доступное всем горожанам,
должно было служить обеим этим целям.
Находясь на свежем воздухе, гражданин, по убеждению
Томаса Джефферсона, мог вздохнуть свободно. Джефферсон применял
эту метафору к сельской жизни, которую так любил; Ланфан
использовал ее в городе18. Медицинские истоки этой метафоры
подразумевали, что благодаря кровообращению разные части тела
наслаждаются жизнью в равной степени, самый
незначительный орган кровь снабжает жизненной силой так же, как сердце
или мозг. И хотя из легких города была изгнана торговля,
эталонный образ циркулирующего тела способствовал ей сам по себе.
2. МОБИЛЬНЫЙ ИНДИВИД
Булавочная мануфактура Адама Смита
В своем труде «Великая трансформация» (1944) историк Карл По-
ланьи попытался описать изменения, произошедшие в
европейском обществе, как он полагал, в тот момент, когда все социаль-
ззо
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. АРТЕРИИ И ВЕНЫ
11 «-ι ι>» I oris M
I» .!.< ..я К.и
Жорж-Луи Ле Руж. Площадь Людовика XV в Париже, ок. 1791
ные отношения стали строиться по модели рыночного обмена.
Разумеется, Поланьи не отрицал, что в средневековой и ренес-
сансной Европе рынок также играл важную роль, однако полагал,
что именно в XVII и XVIII веках принцип «не навредив другому,
сам не наживешься» подчинил себе не только экономические, но
и социальные, и культурные связи, постепенно вытеснив
христианскую веру в необходимость сострадания и
альтруистических порывов. Читая «Великую трансформацию», можно
прийти к выводу, что Шейлок в конце концов одержал решительную
победу и что жизнь общества повсеместно свелась к расчетам
и взысканию фунтов человеческой плоти19.
В действительности авторы, которые проповедовали
в XVIII веке ценности свободного рынка, крайне болезненно
реагировали на обвинения в человеческой алчности. Одной из их
линий защиты была апелляция к новейшим научным взглядам
на физиологию тела и на пространство, в котором оно обитает.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ТЕЛА В ДВИЖЕНИИ
331
Сторонники рыночной экономики в ту эпоху прямо связывали
свободный оборот труда и капитала в обществе с
кровообращением и круговоротом нервной энергии в теле. Коллеги Адама
Смита рассуждали об экономическом здоровье в тех же терминах,
в которых доктора говорили о здоровье телесном, используя
такие образы, как «товарное дыхание», «нагрузка на капитал» или
рыночная «стимуляция рабочей силы». Они полагали, что
экономическая циркуляция питает всех членов общества так же, как
кровообращение питает все ткани тела.
Отчасти это было, конечно, бессмыслицей, продиктованной
личной корыстью: ни один покупатель, внезапно
столкнувшийся с необходимостью платить за хлеб или уголь вдвое, не
согласится с тем, что эта цена его «стимулирует». Но экономист Адам
Смит дополнил избитые представления о свободном рынке
собственной догадкой, смысл которой не смогли в полной мере
осознать его современники и благодаря которой этот
биоэкономический жаргон стал не просто прикрытием для алчности,
а чем-то большим. Смит попытался показать, как люди,
вовлеченные в рыночные механизмы, обретают все более отчетливую
индивидуальность как субъекты экономической деятельности,
а происходило это, по его мнению, благодаря разделению труда,
вдохновленному рынком.
Смит с элегантной простотой обосновывает эту точку
зрения в самом начале своего «Исследования о природе и причинах
богатства народов». В пример он приводит десять рабочих
булавочной мануфактуры. Если бы каждый из них выполнял все
операции, необходимые для изготовления булавки, за день он едва
смог бы изготовить одну булавку и уж точно не более двадцати,
а все рабочие вместе — 2θθ булавок. Разделив между собой
стадии производственного процесса, десять рабочих изготовят за
день 48 ооо булавок20. Что может подтолкнуть их к такому
разделению труда? По мысли Смита—рыночный спрос на их
продукцию: «Когда рынок незначителен, ни у кого не может быть
побуждения посвятить себя целиком какому-либо одному
занятию ввиду невозможности обменять весь излишек продукта сво-
332
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. АРТЕРИИ И ВЕНЫ
его труда на необходимые продукты труда других людей»21.
Обширный и активный рынок поощряет работника производить
излишки. Таким образом, разделение труда возникает в
результате «склонности к торговле, к обмену одного предмета на
другой»22. Чем выше уровень циркуляции в экономике, тем более
специализированным становится труд, тем выше степень
индивидуальности субъекта.
Смит неспроста выбрал в качестве примера булавочную
мануфактуру. Прежде всего он хотел проиллюстрировать самый
общий принцип политической экономии самым заурядным,
рутинным типом труда. В античном мире, как мы помним,
обыденный труд казался презренным занятием, достойным скорее
животного, чем человека. Благородство труда средневекового
монаха проистекало из его духовной дисциплины и
благотворительных целей. Смит же распространил достоинство труда
на всякого работника, который мог свободно обменивать
плоды своих трудов и тем самым совершенствовать навык
выполнения определенной операции. Навык облагораживал труд, а
свободный рынок способствовал развитию навыков. В этом вопросе
точка зрения Смита вторила знаменитой «Энциклопедии»,
выпущенной в середине XVIII века под руководством Дени Дидро.
Тщательно проработанные иллюстрации и подробнейшие
тексты «Энциклопедии» в деталях описывали навыки,
необходимые для того, чтобы изготовить плетеный стул или зажарить
утку; наделенный такими навыками ремесленник или слуга
представал на страницах этих томов куда более ценным членом
общества, чем господа, умеющие только потреблять.
Булавочная мануфактура, описанная Смитом, была
пространством городским. «Богатство народов» вообще изображало
взаимоотношения города и деревни необычным для своей
эпохи образом. Начиная со средневековых мыслителей, таких как
Гумберт Романский, и далее европейские интеллектуалы обычно
считали, что благосостояние города обеспечивается за счет
сельской местности. Адам Смит, напротив, утверждал, что развитие
городов стимулирует сельскую экономику, создавая рыночный
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ТЕЛА В ДВИЖЕНИИ
333
спрос на сельскохозяйственную продукцию. Он был убежден,
что крестьянам следует, подобно рабочим булавочной
мануфактуры, стремиться к узкой специализации, производя продукцию
на продажу, а не к самодостаточности, своими силами
обеспечивая себя всем необходимым23. Достоинства циркуляции, таким
образом, сплачивают город и деревню, способствуя
повсеместному развитию специализированного труда.
Такое восприятие города и деревни иллюстрирует самый
оптимистичный и при этом типично просветительский аспект
мировоззрения Адама Смита: его отношение к индивидуальному
субъекту экономики как к существу общественному, а не
отчужденному или алчному. В условиях разделения труда каждая
отдельная личность нуждалась во всех остальных для выполнения
своей работы. Хотя Карл Поланьи и другие современные
критики Адама Смита считают его апологетом антагонистической
игры, в которой выигрыш одного означает проигрыш другого,
людям своего времени он казался выразителем взглядов
одновременно и научных, и гуманных. В обороте труда и капитала он
обнаружил силу, которая облагораживала самую заурядную
работу и примиряла независимость и взаимозависимость.
Таков был один из ответов той эпохи на вопрос, как могут
функционировать города, спланированные Пьером-Шарлем
Ланфаном, Пьером Паттом или Марком-Антуаном Ложье. Пока
урбанисты XVIII века корпели над чертежами городов,
основанных на принципах циркуляции, Адаму Смиту удалось выявить
и обосновать те типы экономической деятельности, которые
подходили для таких городов. Это, в свою очередь, сулило еще
более соблазнительную перспективу индивидуальной свободы.
Гёте бежит на юг
Свобода, обещанная движущемуся индивиду, возникает в одном
из самых примечательных документов XVIII века, созданном
накануне Французской революции. Это было «Итальянское
путешествие» Гёте, книга, в которой описывалось предпринятое им
в 1786 году бегство от идиллического двора маленького немец-
334
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. АРТЕРИИ И ВЕНЫ
кого княжества в зловонные итальянские города—бегство,
которое, по убеждению самого поэта, вернуло к жизни его тело.
Больше десяти лет Гёте исполнял обязанности
администратора, казначея и куратора правительственных работ при дворе
веймарского герцога Карла-Августа. Год за годом Гёте работал на
износ, приводя в порядок герцогские финансы или надзирая за
осушением его лугов, и писал из-за этого все меньше и
меньше. Поразительные достижения его молодости — стихи, роман
«Страдания юного Вертера», пьеса «Гёц фон Берлихинген» —
грозили остаться напоминаниями об угасшем таланте.
Наконец, он сбежал на юг.
В «Итальянском путешествии» Гёте описаны итальянские
города, усеянные разрушенным, расколотым или
награбленным камнем, потоки нечистот, стекающие по улицам, но поэт-
беглец бродил среди всех этих руин в счастливом благоговении,
ίο ноября 1786 года он писал из Рима: «Я никогда не оценивал
вещи этого мира так правильно, как сейчас»24. Шестью
неделями ранее в письме подруге он сообщал: «Я живу весьма
умеренно и веду спокойный образ жизни, чтобы образцы не находили
возвышенную душу, но сами бы ее возвышали»25. Гёте
обнаружил, что хождение в толпе иностранцев обостряет его
чувственное восприятие, ощущение собственной индивидуальности.
«Теперь я могу вполне насладиться одиночеством, о котором
часто так страстно вздыхал: ведь нигде не чувствуешь себя более
одиноким, чем в толкотне, сквозь которую продираешься,
никому не знакомый»,—так он описывает свои ощущения на
переполненной народом площади Сан-Марко в Венеции26. Один из
прекраснейших пассажей в «Итальянском путешествии»,
датированный 17 марта 1787 года, выражает внутренний покой,
снизошедший на поэта посреди шумной и необузданной
неаполитанской толпы:
Я испытывал странное и благотворное чувство,
пробираясь сквозь эту несметную и неутомимо движущуюся
толпу. Все сливается в общий поток, и все же каждый находит
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ТЕЛА В ДВИЖЕНИИ
335
свой путь и свою цель! Среди большого общества и
движения я наконец нахожу подлинную тишину и одиночество.
Чем сильнее бушуют улицы, тем я спокойнее27.
Отчего посреди толпы Гёте острее ощущал себя как
отдельного индивида? ίο ноября он записывал: «Тот, кто серьезно
присматривается здесь к окружающему и имеет глаза, чтобы
видеть, должен стать устойчивым, он должен получить понятие об
устойчивости, которого никогда еще не чувствовал так живо»28.
Неуклюжая на первый взгляд фраза «стать устойчивым» (по-
немецки —solid werden) отражает, как ни парадоксально,
реакцию Гёте на «бушующие улицы»: круговорот толпы заставляет
его конкретизировать свои впечатления29. В Риме Гёте,
обращаясь к читателю, увещевает самого себя: «Так дайте же мне
жадно поглощать все, что попадется на моем пути,—порядок
приложится после»30.
Сравнение впервые опубликованного в 1776 году «Богатства
народов» Адама Смита и «Итальянского путешествия»—книги,
появившейся десятилетием позже*,—может показаться
странной затеей, но эти два текста перекликаются между собой: в
обоих движение определяет человеческий опыт, сообщая ему
более конкретный, индивидуальный характер. Последствия этого
процесса постепенно проявляются не только в самом
«Итальянском путешествии», но и в стихах, которые Гёте писал в этот
период. Тридцати восьми лет от роду Гёте затеял в Риме роман
с женщиной моложе себя, и любовь к конкретным «вещам этого
мира» слилась для него с этой чувственной любовью. В
последней из своих «Римских элегий», любовном стихотворении,
обращенном к возлюбленной, он описывает метаморфозу, которую
претерпевает растение, причем постепенное развитие чувства
представляет с той же конкретностью, что и созревание плода.
Гёте осознавал, что по мере своих странствий он становится все
восприимчивее к конкретным эстетическим переживаниям.
• Собственно «Итальянское путешествие» было опубликовано лишь в 1817 году, спустя
тридцать лет после путевых дневников, которые Гёте вел в Италии в 1786-1788 годах.
336
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. АРТЕРИИ И ВЕНЫ
Путешествие поэта в Италию было единственным в своем
роде, однако уверенность в том, что движение, странствие,
исследование обогащает мир человеческих ощущений, внушала
страсть к путешествиям многим европейцам XVIII века.
Конечно, некоторые формы путешествий по-прежнему сулили им
собственническое удовлетворение в виде коллекции впечатлений
от дальних и необыкновенных стран. Но странствие Гёте не
предполагало такого рода туризма: отправляясь в Италию, он не
искал неизведанного или первобытного, а, скорее, чувствовал
потребность сдвинуться с места самому, столкнуть себя с мертвой
точки. Его путешествие больше напоминало сложившуюся в ту
же эпоху практику VJanderjahre, то есть года, в течение которого
юноши и девушки с благословения старшего поколения
отправлялись странствовать перед тем, как остепениться. В культуре
Просвещения люди стремились к движению ради укрепления
организма и прояснения ума. Эти надежды, порожденные
научным прогрессом, выражались и в планировании внешней среды,
и в экономических реформах, и даже в формировании
поэтической образности.
Тем не менее «Итальянское путешествие» показывает и
ограничения, свойственные просветительскому мировосприятию.
Гёте редко описывает итальянские толпы, сквозь которые он
движется, с тем же вниманием к деталям, с каким он
рассказывает о себе. Подобным же образом Адам Смит, описывая
населяющие город массы, чувствует побуждение подразделить их на
отдельные категории и типажи, а не рассматривает их в
общечеловеческом единстве. В своих рассуждениях об общественном
здоровье городские реформаторы воспринимали массу горожан
как болезнетворную клоаку, которую следовало вычистить,
превратив толпу в отдельных индивидов, рассеянных по всему
городу. Страх Джефферсона перед городской толпой широко
известен, а Л анфан относился к ней двойственно: он надеялся, что его
проект предотвратит «сгущение» толп на вашингтонских улицах.
Планы переустройства парижской площади Людовика XV
подразумевали сооружение дорог, подходящих для движения от-
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ТЕЛА В ДВИЖЕНИИ
337
дельных пешеходов или всадников, но не почтовых карет или
других крупных транспортных средств.
Причиной такой неспособности принимать в расчет
городскую толпу и мириться с ней как с единым целым были,
разумеется, люди, из которых она состояла, то есть преимущественно
бедняки. Однако опыт движения в городе, доступный бедноте,
выходил далеко за пределы подобных предрассудков.
Воплощением этого опыта было то значение, которое приобретали для
бедных движения рынка: разницу между выживанием и
голодной смертью они измеряли в считанных пенни или су, на
которые колебались цены на хлеб. Городским толпам хотелось видеть
поменьше рыночной активности и побольше государственного
регулирования, стабильности и безопасности. От физического
перемещения по городу только усиливалась голодная резь в
животе. Наиболее отчетливо эта уязвимость, порожденная
движением, проявилась в самой вызывающей из европейских
столиц — в Париже—накануне Французской революции.
3. ТОЛПА НАЧИНАЕТ ДВИЖЕНИЕ
По оценке историка Леона Каэна, на момент восхождения на
престол Людовика XVI в Париже насчитывалось около ю
тысяч представителей духовенства, 5 тысяч дворян и 40 тысяч
буржуа —зажиточных торговцев, владельцев мануфактур, докторов
и юристов; остальные горожане, числом примерно боо тысяч,
существовали на грани нищеты31. По современным меркам,
суммарная численность среднего и высшего классов в so тысяч
кажется низкой для города с населением в боо тысяч. В
исторической перспективе эта пропорция была, однако,
высока—гораздо выше, чем в эпоху Людовика XIV, когда король контролировал
все финансовые и государственные рычаги из загородной
резиденции в Версале. В самом деле, на протяжении всего XVIII века,
пока Париж богател, королевские владения в Версале
становились все беднее: с первыми сложностями бюджет
короля столкнулся после французских авантюр в Северной Амери-
338
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. АРТЕРИИ И ВЕНЫ
ке, предпринятых в середине столетия, а инвестиции Франции
в Американскую революцию сделали ситуацию
катастрофической. Истощение Версаля Людовика XIV объяснялось еще и тем,
что духовенство и аристократия сами включились в
производство новых богатств в Париже, действуя теми же методами, что
и торговая буржуазия: продавая землю, инвестируя в
предпринимательскую деятельность и проявляя иные формы рыночной
активности.
Париж был не только местом, в котором создавалось новое
благосостояние, но и центром демонстративного престижного
потребления. Его каменными символами стали просторные
новые особняки предместья Сент-Оноре. Джордж Рюде полагает,
основываясь на данных летописца Парижа XVIII века
Луи-Себастьяна Мерсье, что к последнему десятилетию
дореволюционного периода в Париже было построено около ю тысяч зданий —
примерно треть нынешнего города. Сам Мерсье поразительно
живо рисует прелесть жизни в новом Париже: все более
праздное светское общество проводит дни за чаепитиями, чтением
и поеданием тепличных фруктов в хорошо натопленных домах,
где можно ходить в простой, естественной одежде, а вечерами
переезжает в каретах из театра в театр, что теперь не составляет
труда благодаря все лучше замощенным улицам.
Чтобы этот обаятельный образ жизни стал возможным,
требовалось все больше ремесленников, слуг, приказчиков и
строительных рабочих; достойно оплачивать их труд при этом не
требовалось — и этого не делали. Теоретик свободного рынка
предположил бы, что по мере роста спроса на предметы
роскоши доходы работников индустрии обслуживания вроде портных
должны расти, на деле же их заработки падали с 1712 до 1789 года,
поскольку предложение на рынке труда росло еще быстрее, чем
спрос, выливаясь в падение доходов в растущей отрасли
экономики. В общем, товары и услуги свободно циркулировали в
неуклонно богатеющем Париже XVIII века, но это новое богатство,
пропитывавшее всю физическую ткань города, не достигало
основной массы населения.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ТЕЛА В ДВИЖЕНИИ
339
Неравенство бросало вызов ощущениям человека,
передвигавшегося по городу. Переживание собственной бедности теряет
остроту в окружении себе подобных—это социальный трюизм.
Но глядя на карту Парижа середины XVIII века, наш
современник может сделать в этом отношении два ошибочных вывода:
во-первых, что спутанный лабиринт улиц означал, что жизнь
парижанина протекала только в пределах его небольшого района
обитания, во-вторых, что город состоял из четко разграниченных
бедных и богатых кварталов. Накануне революции прохожий,
гуляя по Парижу, действительно пересекал бедные рабочие
кварталы—таким было, к примеру, предместье Сент-Антуан на
восточной окраине города. Но на улицах вроде Варенн, расположенной
на Левом берегу, наш путешественник видел между
заполнявшими их hôtels particuliers—новыми частными
дворцами—грязные кляксы трущоб, а у границ их садов—убогие хижины. Там
обитала основная масса обслуги и ремесленников,
обеспечивавших существование роскошных особняков. Такие же ветхие
строения окружали и королевский дворец Лувр, как прожилки
нищеты, обнажающиеся в разломе богатства.
Вероятно, самый яркий пример такого смешения бедности
и богатства представлял собой в Париже Пале-Рояль,
расположенный рядом с Лувром. Эта резиденция герцогов Орлеанских
представляла собой огромное прямоугольное здание с парком
посередине. Вдоль его первого этажа шли открытые колоннады,
а парк перерезал пополам длинный деревянный навес, galerie
de bois. Вместо того чтобы запереть парк и использовать его как
свой сад, герцоги Орлеанские нашли ему более доходное
применение, превратив в своего рода Таймс-сквер дореволюционного
Парижа: в Пале-Рояле располагались бесчисленные кафе,
бордели, игорные столы под открытым небом, ломбарды, лавки
старьевщиков, а также конторы сомнительных биржевых брокеров.
Юноше, который только что потерял свой недельный заработок
за игорным столом или свое здоровье в объятиях зараженной
ночной бабочки, достаточно было взглянуть на высокие окна во
втором этаже западного крыла дворца, чтобы различить за ними
340
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. АРТЕРИИ И ВЕНЫ
Луи-Леополъд Буалъи. Галерея в Пале-Рояле, 1809
фигуру герцога Орлеанского, взирающего вниз на клоаку,
приносящую ему прибыль.
Многие бедняки вовсе не были изолированы среди себе
подобных, а наоборот, непрерывно находились в физической,
пространственной близости от недостижимого богатства. В эпоху
Средневековья, как мы видели, парижские рынки зависели от
торговли между городами. Основным каналом распространения
в этой торговле служила городская улица, по которой товары
доставлялись в город и из города. К1776 году, когда Адам Смит
опубликовал «Богатство народов», городские рынки не походили ни
на прежние, ни на его теорию. Париж торговал теперь как часть
страны; его портами служили расположенные на
географических рубежах Франции Бордо и Гавр. Важность экономического
обмена в самом Париже основывалась на его статусе центра
государственной власти: городская экономика все больше держалась
на обслуживании обитающей в городе бюрократии и ее культур-
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ТЕЛА В ДВИЖЕНИИ
341
ных запросов. Именно поэтому, когда неравенство в городе
становилось нестерпимым для простых жителей, они искали
избавления не в рыночной стихии, не в свободной циркуляции труда
и капитала, а у государства как залога стабильности.
Центральной проблемой в этих отношениях была цена на хлеб.
Неквалифицированный рабочий зарабатывал в Париже
около з о су в день, квалифицированный—до 50 су. Половина этого
дохода уходила на хлеб, составлявший основу рациона:
четырехфунтовая буханка стоила 8-9 су, семье рабочего в день
требовалось от двух до трех таких буханок. Еще пятая часть дохода шла
на овощи, вино, обрезки мяса и жира. Потратив львиную долю
заработка на пропитание, рабочий, рассчитывая траты до
сантима, распределял оставшиеся средства на покупку одежды,
топлива, свечей и прочих предметов первой необходимости. Джордж
Рюде отмечал, что если рыночная цена на хлеб, «как это часто
бывало, взлетала до 12-15 (а то и 2θ) су, большинство поденных
работников оказывалось перед лицом неминуемой катастрофы»32.
И до, и во время Революции бунты гораздо чаще вспыхивали
из-за цены на хлеб, чем из-за уровня оплаты труда. К примеру, во
время «Мучной войны» 1775 г°Да парижане, оказавшиеся на
грани голода, стремились поставить цену на муку в зависимость от
своей платежеспособности, а не от ее рыночной стоимости.
Историк Чарльз Тилли описывает, как парижская беднота вломилась
в лавку торговца зерном: толпа, в основном состоявшая из
женщин и детей, «осторожно обходила стороной все товары, кроме
хлеба, и по крайней мере некоторые из них настаивали на том,
чтобы расплатиться за хлеб по цене два су за фунт, что
составляло около трех пятых тогдашней рыночной стоимости»33.
Поскольку рынок простые люди контролировать не могли,
все их внимание было сконцентрировано на государстве, и
особенно это касалось вопроса хлебных цен. В теории правительство
устанавливало фиксированную стоимость хлеба, но на
практике рынок игнорировал или прямо нарушал эти решения. Когда
цена пропитания вызывала народное возмущение, люди
обращали свои протесты к единственной явной силе — правитель-
342
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. АРТЕРИИ И ВЕНЫ
ству — и мерой успеха или провала своих требований
считали падение или рост одной-единственной цифры. Рассмотрим
один важный случай, когда физическое движение толпы в
поисках хлеба привело ее прямиком к вратам государства.
Парижские хлебные бунты октября 1789 года начались
утром пятого числа в двух местах одновременно — в
предместье Сент-Антуан и в центре, у съестных торговых рядов.
Начало бунту положили женщины, которые отказались платить за
буханку по 16 су—рыночную цену, взлетевшую в тот момент
по причине недостатка зерна в столице. К мятежной толпе
стали затем присоединяться все новые парижанки, вынужденные
тщательно высчитывать, какая еда им по карману.
В предместье Сент-Антуан женщины заставили
пономаря церкви святой Маргариты бить в набат, подавая сигнал
бедствия, который заставил всех жителей высыпать на улицы.
Весть о бунте из уст в уста распространилась по соседним
кварталам, и толпы двинулись к зданию Отель-де-Виль, то есть
парижской ратуши, находившейся в центре города. Примерно
шеститысячная толпа, вооруженная пиками и дубинами,
взяла здание приступом—но внутри не оказалось никого, кто мог
бы удовлетворить ее требования: как было сказано
бунтовщикам, спрос тут был только с короля и его администрации,
потому что парижская казна была пуста. После полудня уже
десятитысячная толпа женщин, к которой теперь присоединились
мужчины, прошла через весь центр города и направилась в
сторону Версаля по улице Вожирар. Историк Джоан Ландес
пишет: «Судьбоносный поход женщин на Версаль был
отражением долгой традиции женского участия в народных протестах,
особенно в моменты нехватки продовольствия»34. До Версаля
они добрались уже в сумерках и поначалу направились к
зданию Национального собрания, где их вожак Станислав Майяр
«обильно цитировал новый популярный памфлет,
озаглавленный „Когда же у нас будет хлеб?" [Quand aurons-nous du pain?],
в котором ответственность за дефицит возлагалась не на
хлеботорговцев, а на власти»35.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ТЕЛА В ДВИЖЕНИИ
343
На рассвете толпа, переночевавшая под открытым небом,
вступила в схватку с охраной Версальского дворца, убила
двоих королевских гвардейцев и вздела их отрезанные головы на
пики. Но дворцовые ворота оставались неприступными;
толпа топталась на одном месте, разрастаясь по мере того, как все
новые группы парижан добирались до королевской
резиденции. Наконец, днем 6-го числа король и королева показались
на балконе дворца и были встречены оглушительными
криками: «В Париж!» Тем же вечером победоносная толпа, теперь
насчитывавшая до 6о тысяч человек, торжественно
препроводила покорившихся монархов в город. На следующий день королю
показали бочки с мукой, кишащей пыльной вошью, которые
после этого были сброшены в Сену не унимавшейся толпой.
Волнения, вспыхнувшие 5 октября, привели, во-первых,
к усилению присутствия в городе правительственных войск
для предотвращения новых бунтов, а во-вторых—к введению
фиксированной цены хлеба в 12 су. Кроме того, правительство
гарантировало своевременную доставку в Париж зерна из
собственных амбаров, где хранилась пшеница отличного качества.
В городе воцарились мир и эйфория. Мария-Антуанетта
писала австрийскому посланнику Флоримону де Мерси-Арджанто:
Я разговариваю с народом, с ополченцами и
рыночными торговками. Все они тянут ко мне руки, и я
протягиваю им свои. Меня очень хорошо принимают в городе.
Этим утром люди умоляли нас остаться. Я ответила им,
что в том, что касается пребывания в Париже Его
Величества и меня самой, все зависит только от них,
поскольку мы нуждаемся лишь в том, чтобы прекратилась всякая
вражда36.
На тот момент королева не обманывалась, говоря о внезапном
взрыве народной симпатии. Распевавшиеся тогда на рынках
куплеты выражали уверенность простых женщин в том, что их
мечта о попечении властей наконец осуществилась:
344
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. АРТЕРИИ И ВЕНЫ
На Версаль как фанфароны
Мы под ружьями тащились.
И хоть мы простые тетки,
Смелости нам всем хватило.
Хорошо, теперь не нужно
Нам в такую даль тащиться.
Короля мы любим нежно,
Коли он живет в столице37.
Таким образом, городская толпа двинулась совсем не туда, куда
предсказывал Адам Смит. Историк Л инн Хант считает, что
события, подобные октябрьскому хлебному бунту, показывают
самую суть патерналистских взаимоотношений между монархом
и его «детьми», основанных на доверии, стабильности и
неизменности38. Гарвей в своей парадигме стремился уравнять
между собой отдельные органы внутри тела и показать, что они
зависят друг от друга из-за циркуляции крови. Рыночная модель
Адама Смита также подчеркивала равнозначность и
взаимозависимость всех участников экономической деятельности,
которые при этом все больше различались между собой в
результате разделения труда. Но толпа, выступившая за хлебом в октябре
1789 года, представляла собой нечто большее, чем множество
индивидов, занятых товарным обменом между собой. У нее были
групповые экономические интересы, и ее групповая
идентичность не равнялась сумме индивидуальных идентичностей
составлявших ее людей. Само слово «движение» приобрело
значение коллективного действия — значение, которому
предстояло пройти проверку огнем и кровопролитием Французской
революции.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.
ОСВОБОЖДЕННОЕ ТЕЛО.
ПАРИЖ ЭТЬЕНА-ЛУИ БУЛЛЕ
В разгар Великой французской революции самая радикальная из
парижских газет писала, что настоящая революция невозможна,
пока люди не ощутят ее в своих телах: «Мы никогда не должны
уставать повторять народу, что свобода, разум, истина...—это не
боги... но части нас самих»1. Но когда Французская революция
попыталась вернуть тело к жизни на улицах Парижа, произошло
кое-что неожиданное. Толпы граждан часто впадали в апатию.
Причина была отчасти в том, что их ощущения притуплялись
от зрелищ насилия, отчасти же в том, что созданные в городе
революционные пространства оказывались неспособными
воодушевить людей. В периоды наибольших потрясений, когда этого
можно было менее всего ожидать, движущиеся по Парижу
толпы вдруг замирали, смолкали и рассеивались.
Эти мгновения пассивности не привлекли внимания Гю-
става Лебона, самого влиятельного исследователя толпы в
Новое время. Лебон был уверен, что движение по парижским
улицам будило в толпе яркие революционные переживания. Он
считал, что октябрьский хлебный бунт, описанный в конце
предыдущей главы, оставался моделью поведения толпы на
протяжении последующих четырех лет. Именно Лебону мы обязаны
концепцией психологии и поведения толпы как чего-то
отличного от поведения индивида—концепцией, основанной на
образе коллективного тела, постоянно пребывающего в состоянии
настороженной и агрессивной активности. По мнению
Лебона, во время движения такой толпы люди сообща совершают то,
что им и в голову не пришло бы сделать поодиночке: «Индивид
в толпе приобретает, благодаря только численности, сознание
346
Приблизительный маршрут кольца бульваров
на месте прежних городских стен
Карта революционного Парижа, ок. 1794
347
непреодолимой силы, и это сознание дозволяет ему
поддаваться таким инстинктам, которым он никогда не дает волю, когда
бывает один»2. Изолированный индивид, «быть может, был бы
культурным человеком; в толпе — это варвар, то есть существо
инстинктивное»3.
Хотя, как указывал Лебон, эта трансформация происходит
в любой плотной группе движущихся сообща людей,
Французская революция стала поворотной точкой в истории: именно
Революция узаконила стихийное насилие толпы как
политическую самоцель. Лебон писал о лидерах революции:
Члены Конвента, взятые отдельно, были просвещенными
буржуа, имевшими мирные привычки. Но, соединившись
в толпу, они уже без всякого колебания принимали самые
свирепые предложения и отсылали на гильотину людей,
совершенно невинных; в довершение они отказались от своей
неприкосновенности, вопреки своим собственным
интересам, и сами себя наказывали4.
Воззрения Лебона на толпу очень привлекали Фрейда, который
позже использовал их в своих собственных трудах о
«первобытных ордах» и других толпах, отбрасывающих ограничения,
свойственные отдельной личности. Современному читателю труды
Лебона представляются еще более убедительными, поскольку
они, по видимости, могут объяснить, каким образом достойные
и гуманные во всех прочих отношениях люди могли активно
участвовать в преступном насилии — например, в составе
фашистских или нацистских толп.
Но второй тип поведения парижской толпы был
предвестником некоего особого опыта современности. Пассивность
и бесчувственность современного индивида в городском
пространстве впервые дали о себе знать в коллективной форме,
и произошло это именно на улицах революционного Парижа.
Революция не смогла удовлетворить нужду в коллективной жизни
толпы, заявившую о себе во время хлебного бунта.
348
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. АРТЕРИИ И ВЕНЫ
1. СВОБОДА В ТЕЛЕ И В ПРОСТРАНСТВЕ
Историк Франсуа Фюре отметил, что Революция стремилась
«перестроить по какому-то воображаемому плану расколотое на
куски социальное целое»5. Революция должна была изобрести
облик некоего «гражданина». Но это изобретение нового человека
силой воображения было непростым делом: «гражданин»
должен был каким-то образом походить сразу на всех членов
общества, в котором социальные различия оставляли глубокий
отпечаток на людях—на том, как они одевались,
жестикулировали, пахли и двигались. Больше того, в этом образе
«гражданина» каждый, смотрящий на него, должен был увидеть не
просто самого себя, но себя, рожденного заново. По мнению одного
историка, эта потребность в изобретении универсальной
фигуры означала, что в идеале этот «гражданин» должен был быть
мужчиной, учитывая предрассудки того времени об
иррациональности женщин: <«Революционеры> искали бесстрастного
субъекта... способного подчинить... личные порывы и интересы
господству разума. Только мужское тело удовлетворяло
идеальным требованиям такой ограниченной формы субъектности»6.
Даже такая убежденная феминистка того времени, как Олимпия
де Гуж, считала, что эмоциональная физиология женщин
располагает их к патерналистскому порядку прошлого,
опиравшемуся на эмоции, а не к новому механистическому порядку
будущего7. Революция, несомненно, воспроизводила эти предрассудки
в своей системе образов, точно так же как она подавила к 1792
году любую организованную деятельность тех самых женщин,
которые во время хлебного бунта в октябре 1789-го помогли
поднять общество на борьбу.
Тем не менее из всех символов Революции —
бесчисленных бюстов Геркулеса, Цицерона, Аякса и Катона, усеивавших
революционный ландшафт,—привлекательнее прочих для
народа оказался тот образ идеального гражданина, который
получил известность под именем «Марианны». Где только ни
появлялись изображения Марианны—в газетных гравюрах, на монетах
и в виде статуй, которые сменили бюсты королей, пап и аристо-
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. ОСВОБОЖДЕННОЕ ТЕЛО
349
Вооруженная санкюлотка. Раскрашенная гравюра неизвестного
художника, ок. 1792
кратов. Ее образ покорил народное воображение, поскольку он
придавал новое, коллективное значение идеям движения,
потока и изменений внутри человеческого тела: текущее и
освобождающее движение вскармливало теперь новую жизнь.
350
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. АРТЕРИИ И ВЕНЫ
( f/r/mt/Zht ' Α/// ν/rv.i /Ç,> /}/////<//.>.
Марианна. Гравюра no картине Александра Клемана, 1792
Грудь Марианны
Лицо для Марианны Революция позаимствовала у молодой
греческой богини: прямой нос, высокий лоб и хорошо очерченный
подбородок; тело же ее скорее напоминало о дородных, уютных
формах молодой матери. Иногда Марианна изображалась в
развевающихся античных одеяниях, плотно облегавших ее грудь
и бедра, иногда Революция облачала ее в платье своего
времени, но с обнаженной грудью. В 1792 году революционный
художник Александр Клеман выпустил гравюру, на которой эта
богиня была изображена именно так: ее груди пышны и упруги,
а соски четко прорисованы; свою версию Марианны Клеман на-
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. ОСВОБОЖДЕННОЕ ТЕЛО
351
звал «Республиканская Франция распахивает грудь перед всеми
французами». И в прозрачной тунике, и обнаженная, Марианна
не имела ни малейшего сходства со сладострастной блудницей,
выставляющей себя напоказ: отчасти это объяснялось тем, что
к концу эпохи Просвещения женская грудь представлялась в той
же мере добродетельной, в какой и эрогенной областью тела.
Обнаженная грудь символизировала живительную силу
кормящей матери. В трактовке Клемана к полным грудям
Марианны должны были припасть все граждане Франции. Этот
образ кормящей Революции подчеркивало необычное украшение:
свисающий между сосков на трехцветной ленте строительный
уровень, который обозначал равный доступ всех французов к ее
груди. Работа Клемана показывает основное свойство, которому
образ Марианны обязан своей привлекательностью: ее равную
заботу о каждом.
Это почитание материнской фигуры напоминало
католический культ Девы Марии: многие комментаторы отмечали само
созвучие имен религиозной и революционной героинь. Но даже
если популярность Марианны и основывалась на глубине
народной любви к Богородице, то для ее почитателей грудное
вскармливание имело вполне конкретное историческое значение.
Ко времени Революции грудное вскармливание стало для
женщин сложным переживанием. До начала XVIII века семьи
всех социальных слоев, кроме самых бедных, пользовались
услугами кормилиц, которые нередко относились к младенцам
с полным безразличием. До Революции люди часто не особенно
заботились о младенцах и маленьких детях, которые даже в
богатых домах носили лохмотья и питались объедками со стола
прислуги. Такое отношение было не преднамеренной жестокостью,
а отражением суровых биологических реалий эпохи, которая
характеризовалась очень высокой детской смертностью: любящая
мать, скорее всего, непрерывно оплакивала бы того или иного
умершего ребенка.
Тем не менее семейная жизнь, хотя и очень постепенно
и неравномерно, все больше сосредотачивалась на детях. В свя-
352
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. АРТЕРИИ И ВЕНЫ
зи с прогрессом общественного здравоохранения к 1730-м годам
детская смертность снизилась, особенно в городах. Примерно
в это же время матери, особенно женщины из широко
понимаемого среднего класса, начали проявлять новообретенную
нежность к своим отпрыскам, самостоятельно выкармливая их
грудью. Книга Жан-Жака Руссо «Эмиль, или О воспитании» (1762)
способствовала формированию такого идеала материнства с
помощью образа Софии, главного нравственного персонажа
романа. Описывая Софию, Руссо указывал на ее полную грудь как
на признак добродетельности. Тем не менее он провозглашал:
«Нам [мужчинам] легче было бы существовать без них, чем им
без нас. <...> Они зависят от наших чувствований, от цены,
которую мы придаем их заслугам, от того, насколько мы дорожим их
прелестями и добродетелями»8. Как вскоре заметили Мэри Уол-
стонкрафт и другие поклонники Руссо, этот переворот в
материнстве приковал женщину к домашнему очагу: будучи вольна
любить своих детей, Софи, однако, была лишена гражданских
свобод. Критик Питер Брукс отмечает: «Республика добродетели
не предполагала присутствия женщин в общественной сфере.
<...> Женские добродетели были домашними, частными,
непритязательными»9. И задачей Марианны было не совсем
освобождение Софии.
Когда животворные добродетели Марианны стали
предметом политического культа, ее материнское тело стало
предназначаться не только для детей, но и для взрослых мужчин. В теории
ее тело служило политической метафорой, объединяющей в себе
все присущее обществу разнообразие несхожих человеческих
тел. Но на деле Революция использовала Марианну как
метонимический прием: глядя на нее, Революция видела, как в
волшебном зеркале, не единый собственный образ, но ряд
сменяющихся отражений.
Щедрое, обильное и плодовитое женское тело прежде всего
служило символом разрыва добродетельного настоящего с
пороками Старого порядка. Ее образ контрастировал с ищущими
удовольствий и, как считалось, ненасытно похотливыми телами
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. ОСВОБОЖДЕННОЕ ТЕЛО
353
Мария-Антуанетта с любовницей и сыном. Иллюстрация
из «Философии в будуаре» маркиза де Сада, 1795
354
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. АРТЕРИИ И ВЕНЫ
врагов Революции. Еще в 1780-е годы популярные
порнографические произведения сделали супругу Людовика XVI объектом
скандальных сплетен: Марии-Антуанетте приписывались
лесбийские склонности и связи с фрейлинами, а рыночные
частушки бичевали ее за отсутствие материнских чувств. Во время
Революции подобные нападки стали еще безжалостнее. Незадолго до
вынесения ей смертного приговора по Парижу разнесся слух, что
Мария-Антуанетта, занимаясь любовью с одной из своих
фрейлин, держала при себе в постели своего восьмилетнего сына
и учила юного принца мастурбировать, глядя на их лесбийские
ласки. В середине XVIII столетия медики вроде Самюэля Тиссо
начали публиковать научные якобы труды, живописующие
разрушительные физиологические последствия мастурбации для
организма, такие как слепота и хрупкость костей10. Таким
образом, королеву обвиняли в том, что она пожертвовала здоровьем
собственного сына в погоне за преступными удовольствиями.
Гравюры революционной поры изображали
Марию-Антуанетту почти плоскогрудой, в противоположность Марианне с ее
налитой молоком грудью. Такая разница в формах согласовалась
с распространенными обличениями королевы как
приверженной удовольствиям, незрелой, испорченной девчонки, в то
время как Марианна представала взрослой женщиной, способной
дарить удовольствия, которые не причиняли вреда другим.
Другое отражение Марианны служило утешением в горестях
революционной поры. В этом обличьи Революция лишала
Марианну дара речи: ее опека была выражением бессловесной,
безусловной любви. Она сменила короля, чья отеческая забота о
подданных подразумевала приказы и подчинение. Революционная
Франция, которая посылала своих граждан гибнуть на
чужбине или приговаривала их к смерти дома, нуждалась в образе
Марианны как родины-матери. В ходе войн с соседними
державами и внутренних столкновений быстро росло число осиротевших
или брошенных младенцев. По традиции, о таких детях
заботились монахини, но Революция закрыла монастыри. Образ
Марианны символизировал собой обещание революционного государ-
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. ОСВОБОЖДЕННОЕ ТЕЛО
355
ства исполнить патриотический долг, позаботившись о сиротах.
Историк Олвен Хафтон отмечает, что младенцы, нуждавшиеся
в грудном вскармливании, «попадали в общую категорию enfants de
la patrie (детей отчизны) и воспринимались как ценнейший
источник будущих воинов и матерей»11. Кормилиц, в свою очередь,
Революция производила в ранг citoyennes précieuses (ценных гражданок).
Революции обычно не слишком забавны, но фигура
Марианны служила мишенью определенного галльского остроумия.
Одна примечательная гравюра неизвестного автора
изображает Марианну с ангельскими крыльями, порхающую над улицей
Пантеон: одной рукой она держит у рта горн, а второй прижимает
такой же горн к анусу, одновременно трубя сигнал к свободе
легкими и задним отверстием12. (Можно ли представить себе
Джорджа Вашингтона, вовлеченного в дело свободы так всесторонне?)
Юмор приходил гражданам на выручку, когда, глядя по
сторонам и друг на друга, они задавались вопросом: «Как же выглядит
братство?»
Источающая молоко грудь Марианны прежде всего
подразумевала, что братство—не абстрактное понятие, а чувственный
телесный опыт. Памфлет того времени провозглашал: «Сосцы не
источают молока, пока не почувствуют прикосновения рта
голодного младенца. Точно также и те, кто поставлен стражами нации,
не могут дать ничего, не ощутив на себе народного поцелуя.
Только тогда не подверженное порче молоко Революции дарит людям
жизнь»13. Грудное вскармливание становится в революционной
листовке образом взаимного возбуждения, объединяющего мать
и дитя, правительство и народ, граждан между собой. А образ «не
подверженного порче молока» для народа гораздо прочнее
связывал идею братства с родственными чувствами, чем
рациональный мотив взаимной выгоды, предложенный британскими
вигами или физиократами, которые в лучшем случае видели в первых
месяцах Революции возможность укрепить механизмы
свободного рынка.
Все эти отражения объединял лежащий в их основе образ
тела, переполненного внутренней жидкостью. В этом собиратель-
356
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. АРТЕРИИ И ВЕНЫ
ном образе нового гражданина, пришедшем на смену
концепции Гарвея, молоко заменило кровь, а лактация—дыхание, но
принципы свободы передвижения и циркуляции по-прежнему
составляли основу жизни. Этот образ выражал явный
переизбыток циркуляции. И Марианна нуждалась в пространстве для
движения точно так же, как индивид Гарвея. В этом заключалась
одна из величайших драм Французской революции: хотя
Революция смогла увидеть Марианну, она не смогла найти для нее
места. Революция пыталась отыскать пространства, в которых
граждане могли бы выразить свое освобождение, — городские
пространства, где могли бы ожить присущие Марианне
добродетели свободы, равенства и братства; но свобода, выражаемая
в пространстве, противоречила свободе, выраженной в теле.
Объем свободы
Революционное представление о свободе в пространстве
сводилось к чистому объему, объему без ограничений и пределов,
в котором все было, по выражению критика Жана Старобинско-
го, «прозрачным», все на виду14. Революционеры претворили
в жизнь свою фантазию о свободном пространстве в 1791 году,
когда мэрия Парижа начала вырубать сады на площади
Людовика XV и заменять их сплошной мостовой, то есть опустошать этот
участок земли, превращая его в открытый, порожний объем. Все
выдвигавшиеся проекты переустройства центра города
подразумевали сохранение этой обширной, вымощенной от края до
края площади, свободной от растительности и других
препятствий. По предложению Шарля де Вайи бывшая площадь
Людовика XV (переименованная в площадь Революции в тот
период, когда там была установлена гильотина) должна была обрести
упорядоченную симметрию благодаря одинаковым зданиям,
обрамляющим с четырех сторон огромное пустое пространство, не
перерезанное никакими дорогами или тротуарами. Бернар Пойе
в своем проекте предлагал убрать с прилегающих мостов через
Сену богато украшенные киоски, которые затрудняли вход и
выход с площади15. В других точках города, к примеру на Марсовом
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. ОСВОБОЖДЕННОЕ ТЕЛО
357
поле, градостроители эпохи Революции также стремились
создавать открытые объемы, лишенные всех естественных преград
для движения и обзора.
Подразумевалось, что все эти пустые объемы должны были
стать домом для свободно одаривающего всех тела Марианны. Во
время гражданских празднеств она представала в виде
колоссальной фигуры, расположенной под открытым небом, а не скрытой
внутри церковного здания, как статуи Святой Девы.
Нововведенные ритуалы, происходившие вокруг изваяний Марианны,
выражали идею взаимной открытости и прозрачности, братства
людей, которым нечего скрывать. Кроме того, эти объемы
свободы доводили до логического завершения характерную для
Просвещения веру в свободу передвижения: абсолютно пустое
пространство логически было следующим шагом после улиц,
лишенных преград, и площадей, превращенных в свободно
дышащие легкие города.
Тем не менее, какой бы логичной ни представлялась
абстрактная связь между щедрым, свободно движущимся телом
и пустым пространством, более конкретный образ женщины,
кормящей младенца посреди пустоты, лишенной любых других
признаков жизни, оказывается довольно странным. Эту
странность парижане эпохи Революции могли воочию наблюдать на
улицах своего города.
Возникновение объемов свободы объясняется не только
идеализмом, но и стремлением к контролю: такие пустые
пространства обеспечивали полный полицейский надзор за толпами. Тем
не менее, по словам Франсуа Фюре, революционное
мировоззрение стремилось и к этому диссонансу—диссонансу, который
создавало провозглашение нового человеческого порядка в
полной пустоте. Полнее всех эту веру в освобождающие свойства
открытого пространства выразил архитектор Этьен-Луи Булле,
который родился в Париже в 1728 году и прожил там до самой
своей смерти в 1799~Μ· Булле, скромный в частной жизни,
спокойно относившийся к почестям, оказанным ему при Старом
порядке (в 1780 году он стал членом Французской академии), а во
358
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. АРТЕРИИ И ВЕНЫ
время Революции приветствовавший реформы, но не
кровопролитие, был идеальным примером цивилизованного француза
эпохи Просвещения. Его творчество было в основном бумажной
архитектурой, тесно связанной с его критической и
теоретической деятельностью. В своих книгах Булле уподоблял устройство
тела устройству пространства, подобно Витрувию, а его
архитектурные проекты отсылали к Пантеону и другим памятникам
античного Рима.
Тем не менее, несмотря на свое глубокое понимание
архитектуры прошлого, Булле был в полной мере человеком своего
времени — настоящим революционером пространства. Фурии
власти причудливым образом воздали должное его
прозорливости: 8 апреля 1794 г°Да он ЧУТЬ не был арестован по характерным
для периода Террора противоречивым
обвинениям—развешанные по всему Парижу прокламации клеймили его как одного из
«архитектурных безумцев», «врага художников» и
общественного нахлебника, который при этом выступает с
«соблазнительными предложениями»16. Соблазнительные предложения Булле,
в частности, состояли в сооружении в качестве символов
свободы гигантских объемов, образованных лаконически решенными
стенами и оконными проемами.
Самым прославленным из дореволюционных проектов
Булле был кенотаф Исаака Ньютона—огромное здание,
сформированное вокруг сферического центрального зала, который
должен был служить, подобно современным планетариям, образом
небосвода. Проектируя этот просторный сферический зал,
Булле, как он сам писал, хотел напомнить о величественной
пустоте природы, открытой, по его мнению, Ньютоном. В планетарии
Булле этой цели должна была служить новаторская система
освещения: «Освещение внутри памятника, которое должно
напоминать о ясной ночи, исходит от звезд и планет, украшающих
небесный свод». Добиться этого эффекта Булле планировал, пробив
в толще купола «узкие скважины»: «Через эти отверстия
солнечные лучи проникают снаружи в сумрак внутреннего
пространства и ярким, сияющим светом обрисовывают все предметы под
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. ОСВОБОЖДЕННОЕ ТЕЛО
359
Этъен-Луи Булле. Кенотаф Исаака Ньютона в разрезе, вид днем, 1784
куполом»17. Зритель должен был попадать в здание по внешнему
переходу, расположенному глубоко под сферой, а потом
подниматься по лестнице к нижней точке зала; бросив взгляд на
небеса, он снова спускался вниз и выходил наружу с другой стороны
здания. «Мы видим лишь непрерывную поверхность без конца
и начала,—писал Булле,—и чем дольше мы на нее смотрим, тем
огромнее она нам представляется»18.
Пантеон императора Адриана, который французский
архитектор взял за образец для своего планетария, почти навязчиво
задавал посетителю определенное направление. Однако человек,
вглядывающийся в искусственное небо в сферическом зале
Булле, не имел бы ни малейшего представления о том, где он сейчас
находится. Ничто в интерьере не помогает телу
сориентироваться в пространстве — более того, на планах здания в разрезе,
вычерченных Булле, люди почти неразличимы в гигантской сфере:
ее высота в 36 раз превышает высоту крошечных человеческих
фигур, изображенных в самом низу. Безграничное пространство
внутри кенотафа должно было стать переживанием само по себе,
как и пространство небес снаружи.
360
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. АРТЕРИИ И ВЕНЫ
Этъен-Луи Булле. Храм Природы и Разума, ок. 1793
В1793 Г°ДУ Булле создал — опять-таки только на бумаге —
свой, возможно, самый радикальный проект: «Храм Природы
и Разума». В нем он снова использовал сферу, предложив
выдолбить почву, чтобы сформировать ее нижнюю
половину—половину, посвященную Природе, вступающую в диалог с верхним
полушарием «Разума», образованным четким, идеально
отшлифованным архитектурным куполом. Входящие в храм люди
оказываются под колоннадой, где встречаются земля и архитектура,
Разум и Природа. Глядя вверх на купол Разума посетитель
видит только гладкую, лишенную всяких отличительных черт
поверхность. Внизу ей отвечает схожий по очертаниям, но
скалистый кратер. С уровня колоннады невозможно спуститься вниз,
к Природе, да ни одному прихожанину этого храма Природы
и не придет в голову припасть к земле: Булле изобразил
стенки кратера крутыми и неровными, а его дно пронзает, как
ударом кинжала, расселина, уходящая вниз в непроглядную
темноту. На таком дне негде пристроиться человеку. Людям не место
в этом пугающем святилище, посвященном единству
абстрактных категорий.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. ОСВОБОЖДЕННОЕ ТЕЛО
361
iioBKiW'iKKRH,guillotinant U% bourrau л|ич'5а\ч>и· lint emllot' ums Im Prancui
Л /г АоНГ/ЧЧШ . H // It'/ni/f <Ù· S.lttll t'll/'ftcX b fi'tltlti' <L Jtll./f (fi-n'-niff. \) /f Tnf'Ull.llRfl'./l,
К Дм .г,н.>/чп.г. V A\r î4»,{iciift.<, G /,:r Лп.г.п'Пш, M fmtmliu. I /%///><>//«.·, К / ЪлЬфЬ**,I, //,■'/·,
* le.t Sohlet ft елrlWi: lui,,,.,, О /л. Iпч11ш,1.<, Лштш г/ ΜιφηΦ,Ψ 1,-л ,!'.</,/.//.. ,ι
rrmmr,Q /л< /ешетШ (кммЬмг.1 Л/ Гимнами ХпЫ>м/.·, ,· Лм .»«>,у,-л·.! /5yW./.
«Гильотинировав всех французов, Робеспьер гильотинирует палача».
Анонимная гравюра, ок. 1793
362
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. АРТЕРИИ И ВЕНЫ
В своих трудах по градостроительству Булле настаивал, что
улицы должны иметь такие же пространственные
особенности, как его планетарий и его храм, то есть не иметь ни начала,
ни конца. «Продлевая улицу до той степени, что ее конец
скрывается за горизонтом, мы за счет законов оптики и принципа
перспективы создаем впечатление беспредельности»,— писал
он19. Чистый объем: пространство, свободное от спутанных улиц
и беспорядочных наслоений, скопившихся за века на зданиях;
пространство, не обезображенное следами повреждений,
нанесенных ему людьми прошлых эпох. Булле провозглашал:
«Архитектору надлежит изучать теорию объемов и анализировать их,
одновременно пытаясь понять их свойства, их влияние на наши
ощущения, а также их сходство с человеческим организмом»20.
Историк Энтони Видлер называет подобные проекты
«архитектурой зловещего», подразумевая под этим, что их
величественность вызывает одновременно восхищение, беспокойство
и внутреннюю тревогу. Первоисточником этого термина
являются архитектурные рассуждения Гегеля, использовавшего в этом
контексте немецкое слово unheimlich, которое среди прочего
может означать «неуютное», «недомашнее»21. Именно поэтому
кенотаф Ньютона или храм Природы и Разума кажутся такими
неподходящими прибежищами для Марианны, место которой—
у домашнего очага, поскольку она символизирует успокаивающее
единство семьи и государства. В противовес желанию единства
и олицетворенному Марианной идеалу материнства-братства
в этих проектах проявилось иное революционное стремление—
начать с чистого листа, искоренить прошлое, покинуть родной
дом. Образ братства в человеческих взаимоотношениях
выражался через прикосновение одной плоти к другой; образ свободы
в пространстве и времени находил выражение в пустом объеме.
Вероятно, мечта о свободном объединении людей между
собой всегда вступает в конфликт с мечтой о новом начале и
избавлении от всего, что сдерживало нас в прошлом. Но Французская
революция продемонстрировала более конкретный и более
неожиданный итог этого противоречия между двумя принципа-
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. ОСВОБОЖДЕННОЕ ТЕЛО
363
ми свободы. Вместо привидевшегося Гюставу Лебону кошмара,
в котором орды человеческих тел безудержно носились по
пространству, лишенному разграничений, Революция показала
толпы граждан, которые становились все спокойнее в тех огромных
открытых пространствах, где происходили важнейшие
революционные мероприятия. Пространство свободы усмиряло
революционное тело.
2. МЕРТВОЕ ПРОСТРАНСТВО
«Прежде чем Французская революция приступила к созданию
новой цивилизации, ее охватили конвульсии разрушения
прежней»22. Самым печально знаменитым проявлением этих
конвульсий стало разрушение человеческих тел с помощью
гильотины. Мрачный процесс убийства людей на гильотине был частью
того, что искусствовед Линда Нохлин назвала «революционным
расчленением»: в нем выражалась уверенность в том, что с
представителями Старого порядка нужно расправляться строго
определенным методом, что врагов Революции следует буквально
разрушать, чтобы их смерть становилась уроком. Пространства,
в которых преподавался этот урок, не возбуждали той
кровожадности, которую живописал Лебон, а вместо этого приводили
в оцепенение толпу, наблюдавшую за убийством.
Гильотина—простое устройство. Она состоит из крупного
тяжелого лезвия, скользящего вверх и вниз между двух
деревянных направляющих. Палач поднимает лезвие примерно на три
метра с помощью веревки, наматываемой на ворот, а потом
отпускает его. Лезвие обрушивается вниз, перерубая шею жертвы,
которая привязана к специальному помосту внизу. Хотя во время
Французской революции гильотину и прозвали rasoir national, то
есть «национальной бритвой», ее падающее лезвие умерщвляет
в той же мере благодаря своему весу, перебивая шейные
позвонки, что и благодаря своей остроте, отрубая голову.
Доктор Жозеф-Игнас Гильотен, родившийся в 1738 году и
доживший до 1814-го, на самом деле не был изобретателем гильо-
364
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. АРТЕРИИ И ВЕНЫ
тины. Машины, отрубавшие людям головы при падении
тяжелого лезвия, существовали еще в эпоху Возрождения, а с 1564 года
подобная машина, прозванная «шотландской девой»,
использовалась в Эдинбурге. На гравюре Лукаса Кранаха Старшего
«Усекновение главы апостола Матфея» изображено устройство,
практически неотличимое от «национальной бритвы». Но в
дореволюционной Франции такие устройства для обезглавливания
применялись редко, поскольку они убивали слишком быстро
и тем самым, как считалось, лишали публичную казнь ее
ритуальной стороны, составлявшей важную часть наказания. При
Старом порядке толпы народа собирались на главных площадях всех
городов, чтобы лицезреть представления театра боли, более того,
публичные казни часто приобретали характер праздничного
действа, поскольку дни, когда они проводились, были выходными,
в дополнение к церковным праздникам. Мадам де Севинье
описывает такую увеселительную поездку из Версаля в Париж, чтобы
посмотреть на колесование и повешение трех преступников—это
зрелище позволило ей немного отвлечься от придворных забот.
Как и древнеримские распятия, христианские казни
должны были наглядно демонстрировать право государства
причинять боль своим подданным. Использовавшиеся в то время
приспособления для убийства вроде колеса или дыбы растягивали
смерть как можно дольше, чтобы собравшаяся публика могла
видеть, как рвутся мышцы жертвы, и слышать ее крики. Отличие от
античного распятия заключалось в том, что христианские власти
стремились продлить боль, чтобы подтолкнуть жертву к
раскаянию в своих тяжких грехах перед тем, как превратиться
практически в кусок мяса. Пытка имела религиозное и в определенной
мере милосердное назначение: она давала преступнику
последний шанс избежать геенны огненной посредством покаяния.
Доктор Гильотен решительно отвергал подобные
соображения. Он указывал, что большинство преступников теряет
сознание или сходит с ума при первых же поворотах колеса и потому
не имеет возможности осознанно раскаяться. Больше того, он
был убежден, что даже самый закоренелый преступник наделен
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. ОСВОБОЖДЕННОЕ ТЕЛО
365
определенными телесными правами, которые правосудие не
может нарушать. Основываясь на авторитетном в эпоху
Просвещения трактате Чезаре Беккариа «О преступлениях и наказаниях»,
Гильотен отстаивал точку зрения, что государство, казнящее
преступника, должно выказывать максимальное уважение к
уничтожаемому им телу, обеспечив ему быструю смерть без лишних
страданий. Именно так государство показывает свое
превосходство над обычным убийцей.
Таким образом, Гильотен преследовал сугубо гуманитарные
цели. Кроме того, он полагал, что освободил смерть от
нерациональности, свойственной христианским обрядам вроде
покаяния в грехах. Впервые он выступил со своим предложением
о смерти, достойной эпохи Просвещения и свободной от
ритуалов, еще в самом начале Революции, в декабре 1789 года, но
Национальное собрание одобрило применение гильотины только
в марте 1792_го. Спустя месяц под ее лезвием умер первый
уголовник, а 21 августа 1792 года гильотина была впервые
использована для политической казни—тогда был обезглавлен роялист
Луи Коллено-Д'Огреман.
Поскольку целью использования гильотины было отделение
наказания от религиозного ритуала, ее первые сторонники
полагали, что применять ее нужно в нейтральном пространстве за
городом. Гравюра начала 1792 года помещает эту бесстрастную
процедуру в лесистую местность, лишенную отличительных черт,
а в пояснении специально оговаривается, что «во время казни
особые ограждения будут препятствовать публике подходить
к устройству»23. При первых казнях через гильотинирование
власти стремились сделать кару невидимой. Стоило, однако,
гильотине вернуться в город, как демонстрация смерти, которой так
опасался доктор Гильотен, возобновилась с новой силой.
Шествие от тюрьмы до места казни выставляло
приговоренного напоказ перед всем городом. Обычно процессия долго, на
протяжении примерно двух часов, двигалась по главной улице
мимо толпы, теснившейся по обеим сторонам дороги в десять
или двенадцать рядов. Такой кортеж приговоренного преступ-
366
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. АРТЕРИИ И ВЕНЫ
ника был непременным элементом казни при Старом порядке:
зрители были частью процессии в той же мере, в какой они
участвовали в прежних обрядах экзекуции или городских
религиозных шествиях. Зеваки выкрикивали оскорбления или, наоборот,
слова поддержки, а приговоренные отвечали им со своей телеги.
Пока процессия медленно двигалась вперед, преступник мог
начать поносить толпу. Настроение толпы могло меняться по ходу
движения, и из дружелюбной она превращалась во враждебную,
или наоборот. Часто люди, следовавшие за повозками, меняли
свое мнение. Из всех событий революционной эпохи шествия
к гильотине больше всего напоминали те яркие и спонтанные
проявления жизни толпы, которые французы описывают
словом carnavalesque—карнавальный.
Стоило, однако, процессии достичь места казни, как эта
активная толпа внезапно замирала. У подножия гильотины не
было места традиционным формам ритуального наказания.
В этот момент тело приговоренного попадало в очищенное от
препятствий пространство, в пустой объем.
Поначалу машина доктора Гильотена была установлена в
Париже на Гревской площади, на Правом берегу Сены. Это было
открытое пространство среднего размера, где могли разместиться
от двух до трех тысяч человек, желающих посмотреть на новый
способ казни уголовников. В августе 1792 года, вскоре после
начала политических казней, городские власти перенесли
гильотину ближе к центру Парижа, на более просторную и более
важную в политическом отношении площадь Каррузель,
расположенную между боковыми крыльями Луврского дворца. Там
казнь важных преступников могли посетить уже от 12 до 2θ
тысяч человек. Когда очередь дошла до самого Людовика XVI,
гильотина снова переехала туда, где было больше места—в конец
парка Тюильри, в самый центр города. Эта площадь, прежде
носившая имя Людовика XV, получила название площади
Революции, а в наше время известна как площадь Согласия. Таким
образом, чем глубже гильотина вонзалась в сердце Старого порядка,
тем более просторное городское пространство она занимала.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. ОСВОБОЖДЕННОЕ ТЕЛО
367
Ни одна из трех площадей, отведенных гильотине, не была
расположена на склоне, как афинский Пникс, там не было
ярусного размещения зрителей, которое обеспечило бы
наилучший обзор казни. Эшафот был невысок, так что происходящее
на нем на всех трех площадях можно было разглядеть с
расстояния не более 30 метров. Этого было едва достаточно для Грев-
ской площади и совсем недостаточно в двух других, более
крупных пространствах. К тому же во время политических казней
территорию непосредственно вокруг эшафота занимали ряды
войск—в самых ответственных случаях гильотину охраняло до
5 тысяч солдат. Таким образом, более обширные открытые
пространства нарушали и телесный, и визуальный контакт
приговоренного с толпой.
Сама гильотина также делала процесс умирания
практически незаметным. Ее лезвие опускалось так быстро, что в один
момент зрители видели живого человека, привязанного к
помосту, а в следующий—уже бездыханный труп. Переход от
одного состояния к другому обозначал только фонтан крови из
перерубленной шеи, но он бил совсем недолго, после чего кровь
из раны начинала сочиться, как из протекающей трубы. Вот что
происходило с телом мадам Ролан сразу после того, как
сработала гильотина:
Когда лезвие отсекло ей голову, из изувеченного тела
выплеснулись две сильнейших струи крови, что случается
нечасто: обычно упавшая голова бывала бледна, а кровь,
отступившая из-за переживаний этого ужасного момента
прямо к сердцу, текла весьма слабо, капля за каплей24.
Из-за перемен в технологии смерти действующим лицам
этого представления пришлось сменить отведенные им прежде
роли. Газетные отчеты того времени «не указывали личности
приговоренного и не уделяли внимания действиям палача: все
внимание было теперь сосредоточено на работе машины»25.
При Старом порядке палач был чем-то вроде распорядителя
368
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. АРТЕРИИ И ВЕНЫ
церемонии: он демонстрировал толпе новые приемы и
реагировал на ее просьбы об очередном повороте колеса или
дополнительном раскаленном пруте. Теперь же палач выполнял
единственное и почти незаметное действие — он должен был
отпустить веревку, удерживающую лезвие. Только при
считанных казнях революционной эпохи палачу и толпе были
отведены более деятельные роли. Одним из таких исключений
была казнь Жак-Рене Эбера. Толпа настояла, чтобы лезвие
сначала было опущено прямо к шее предателя и он почувствовал
стекающие по стали капли крови предыдущей жертвы;
заслышав его полные ужаса крики, огромная толпа на площади Кар-
рузель принялась размахивать головными уборами и
скандировать: «Да здравствует Республика!» Такие случаи активного
участия палача и толпы в процессе казни считались, однако,
прискорбными нарушениями революционной дисциплины
и повторялись редко.
Жертве обычно не позволялось обратиться к толпе перед
тем, как лечь на помост под лезвием,—власти боялись пылких
речей, призывающих толпу к бунту, и вообще драматичных
сцен благородной смерти вроде тех, что описаны в
бесчисленных роялистских памфлетах или у Диккенса в «Повести о двух
городах». Но на самом деле опасность была гораздо меньше,
чем чудилось правительству, поскольку сам объем
пространства способствовал бесстрастности механизированной
смерти. Когда жертве все же удавалось заговорить, народные массы
иногда могли уловить ее жестикуляцию, но единственными,
кто был способен расслышать слова, обычно оказывались
солдаты. Приговоренный, связанный по рукам и ногам, лежащий
лицом вниз, с шеей, тщательно обритой, чтобы ничто не
мешало движению лезвия, не мог пошевелиться, не видел
приближения смерти и не успевал почувствовать боли; идея доктора
Гильотена о «гуманной смерти» привела к полной пассивности
тела в этот главный момент человеческой судьбы. Палачу
нужно было лишь немного разжать руку, чтобы убить, от жертвы
требовалось только лежать неподвижно, чтобы умереть.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. ОСВОБОЖДЕННОЕ ТЕЛО
369
Людовик XVI был гильотинирован на площади
Революции 21 января 1793 года. В 1бб2 году епископ Боссюэ
провозгласил в проповеди перед его прапрапрадедом: «Хотя вы [короли]
смертны, но власть ваша бессмертна. <...>Человек умирает
действительно, но король, говорим мы, не умирает никогда»26.
Теперь власть попыталась изменить это положение вещей, казнив
короля; с его смертью должно было наступить ее господство.
Несмотря на множество осложняющих обстоятельств вокруг
этого судьбоносного шага, кое-какие факты нам все же известны.
Прежде всего, несмотря на то что короля везли в обычной
повозке, процессия к гильотине ничем не напоминала карнавальные
по своему духу шествия, предварявшие обычные казни.
Повозку окружало огромное число солдат, кроме того, на протяжении
пути через весь город Людовика XVI встречала пугающе
молчаливая толпа. Революционные наблюдатели истолковали это
молчание как свидетельство уважения толпы к значению момента,
когда страна меняла верховную власть. Роялисты, напротив,
полагали, что в нем проявились первые угрызения совести.
Историк Линн Хант считает, что и те и другие отчасти правы: «В тот
момент, когда революционеры решительно размежевывались
с патриархальной трактовкой власти, их одолевали
двойственные, глубоко противоречивые чувства: с одной стороны,
эйфория от наступления новой эры, с другой—мрачное предчувствие
будущей катастрофы»27. Был тут и третий мотив. Наблюдать за
тем, как ведут на казнь короля, но не выражать своего мнения
значило подавить в себе ощущение личной ответственности:
каждый там присутствовал, но не мог за это отвечать.
Чтобы подчеркнуть тот факт, что Луи Капет—больше не
король французов, для его убийства на площади Революции были
использованы те же инструменты, что и для казни прочих
граждан—лезвие гильотины даже не вытерли насухо после
предыдущей жертвы. Механическое повторение уравнивает: Луи Капет
умер, как и все остальные. И все же никто из людей,
приговоривших короля, не был так наивен, чтобы верить, что этого
символического уравнивания будет достаточно для убеждения толпы.
370
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. АРТЕРИИ И ВЕНЫ
Казнь Людовика XVI ζι января 1793 ζ°άα
Многие из организаторов казни опасались, что отрубленная
голова короля заговорит, что король и в самом деле никогда не
умирает. На более рациональном уровне они боялись, что он
произнесет с эшафота слишком трогательные предсмертные слова.
В связи с этим они постарались сделать обстоятельства его
смерти как можно более бесстрастными. Эшафот окружили 15 тысяч
солдат, выстроенных в огромное каре; лица их были повернуты
внутрь, к гильотине, а не наружу, в сторону толпы. Они
образовали изолирующий слой толщиной около зоо метров, из-за
которого толпа не могла ни расслышать какие-либо слова Людовика,
ни разглядеть его жестикуляцию или выражение лица: «По всем
гравюрам того времени совершенно понятно, что толпе было бы
очень непросто хоть что-нибудь разглядеть во время казни»28.
Отсутствие какой-либо ритуальной составляющей в процессе
казни, которое кажется таким странным, объясняется все тем же
стремлением к бесстрастности. Ни один из убийц короля не взо-
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. ОСВОБОЖДЕННОЕ ТЕЛО 371
шел с ним на эшафот, чтобы обратиться к толпе, никто не взял
на себя роль распорядителя церемонии. Королю, как и большей
части других политических узников, не дали превратить
эшафот в трибуну—если он и произнес какие-то последние слова,
их расслышали только ближние ряды солдат у подножия
гильотины. Государственный палач Шарль-Анри Сансон выполнил
свою заключительную обязанность, продемонстрировав толпе
отрубленную голову, но при таком количестве военных мало
кто из зрителей смог ее разглядеть. Таким образом, убийцы
короля обеспечивали свою безопасность, создавая во время казни
иллюзию, что они только пассивные свидетели этого события,
винтики в неумолимой машине обстоятельств.
По замечанию Доринды Аутрам, в воспоминаниях
очевидцев самых бурных событий Революции «часто
подчеркивается апатия толпы»; «образ кровожадной толпы вокруг
эшафота» в эпоху Террора создает неверное представление, в то время
как «описания пассивной толпы оказываются куда ближе к
истине»29. Смерть как не-событие, смерть, настигающая
пассивное тело, смерть как продукт индустриального производства,
смерть в пустоте—таковы временные и пространственные
ассоциации, связанные с казнью короля и тысяч других жертв.
Характер работы гильотины будет понятен любому, кто
имел дело с государственной бюрократией. Бесстрастность
позволяет властям избежать ответственности. Пустой объем был
подходящим пространством для такого уклончивого
осуществления власти. Постольку, поскольку революционные толпы
испытывали смешанные чувства, которые приписывает им Линн
Хант, пустые пространства, созданные Булле и его коллегами,
служили той же цели. В них толпа избавлялась от
ответственности—подобное пространство снимало с нее внутренний груз
соучастия. Толпа становилась коллективным вуайеристом.
Но задача Революции не сводилась к навязыванию новой
власти: она стремилась сформировать нового гражданина.
Перед людьми, охваченными революционным пылом, встала
проблема, которая заключалась в необходимости каким-то образом
372
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. АРТЕРИИ И ВЕНЫ
наполнить пустой объем человеческим смыслом. Создавая новые
празднества и ритуалы, организаторы Революции стремились
заполнить эту городскую пустоту.
3. ПРАЗДНУЮЩИЕ ТЕЛА
В первые годы Революции парижские улицы были постоянно
заполнены народными шествиями. «Маскарады» того
времени, к примеру, представляли собой компании людей,
изображавших священников или аристократов: они наряжались в
краденые костюмы, гарцевали на ослах и всячески издевались над
своими прежними властителями. Улицы также
функционировали как общественное пространство для истинно
революционных тел—санкюлотов (голодных бедняков, у которых не хватало
денег на шелковые штаны-кюлоты) и их одетых в драные
холщовые платья подруг. По мере развития Революции маскарады
стали представлять угрозу для тех, кого она вынесла на вершину
власти, поэтому режим начал предпринимать попытки упорядочить
уличную жизнь. Да и санкюлотам хотелось увидеть не просто
самих себя, взявшихся за оружие, а нечто большее: они, знавшие
в прежней жизни только страдания и пренебрежение, требовали
показать им, как выглядит настоящий революционер после
завершения Революции.
Именно поэтому сменявшие друг друга революционные
правительства пытались учредить официальные празднества,
которые определяли бы приличествующую толпе граждан манеру
одеваться, двигаться и вести себя и тем самым выражали бы
отвлеченные понятия посредством человеческого тела. Тем не
менее французские гражданские торжества попали в ту же
ловушку, что и казни врагов нации: их ритуалы часто приводили к тому,
что тела граждан становились пассивными и бесстрастными.
Отмена сопротивления
Только на второй год Революции организаторы революционных
торжеств всерьез взялись за незастроенные пространства горо-
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. ОСВОБОЖДЕННОЕ ТЕЛО
373
Этьен Берикур. Акварель «Антирелигиозная процессия времен
Революции», ок. 1790
да. Историк Мона Озуф объясняет этот порыв охватившим
Париж в 179° Г°ДУ желанием «избавиться от религиозной
составляющей»30. Когда на второй год Революции власть взяла курс на
разрушение механизмов официальной религии, руководство
гражданскими ритуалами перешло от духовенства к
художникам вроде Жак-Луи Давида и Антуана-Кризостома Катрмера-
де-Кенси. Тем не менее многие из прежних религиозных
обрядов сохранились под новыми названиями: к примеру, на смену
традиционным пасхальным представлениям, рассказывавшим
о Страстях Господних, пришли уличные спектакли, в которых
вместо Иисуса основным персонажем был простолюдин, а
лидеры Революции играли роль апостолов.
Два масштабных и многолюдных торжества,
организованных весной 1792 года, в разгар Революции, показывают, как
подобные празднества осваивали географию Парижа. 15 апреля
1792 года был проведен Праздник Шатовьё, а з июня—Праздник
Симонно, задуманный как ответ на первый. Праздник Шатовьё
374
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. АРТЕРИИ И ВЕНЫ
Праздник Шатовье is апреля 1792 года. Гравюра того времени работы
Пъера-Габриэля Берто
был, по описанию Моны Озуф, устроен «в честь солдат и
офицеров швейцарского полка Шатовье, замешанных в нансииских
беспорядках августа 1790 года, но затем возвращенных с
каторжных работ на галерах. <...> Таким образом, речь идет о
реабилитации бунтовщиков, а быть может—даже о прославлении бунта».
Праздник Симонно, в отличие от него, «призван был почтить
память мэра... города Этамп: он погиб в ходе народных волнений,
пытаясь призвать жителей города к соблюдению закона о ценах
на продовольствие. Следовательно, в данном случае почести
воздаются жертве бунта»31. Организацией Праздника Шатовье
руководил художник-революционер Давид; Праздник Симонно был
детищем архитектурного теоретика и писателя Катрмера-де-
Кенси. В обоих проявилось гнетущее влияние объема свободы.
Праздник Давида начался в ю утра, в том же предместье
Сент-Антуан, что и хлебный бунт 1790 года. Избранный
маршрут начинался в рабочих пригородах на восточной окраине
и пролегал через весь Париж до обширного пространства Мар-
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. ОСВОБОЖДЕННОЕ ТЕЛО 375
сова поля. Следуя традициям религиозной процессии, Давид
запланировал на этом пути «стояния», или символические
остановки: местом первого крупного стояния была Бастилия, где
толпа торжественно открыла статую Свободы, второе
произошло у здания городского совета на Гревской площади, где к
толпе присоединились политические лидеры вроде Дантона и
Робеспьера, третье—на площади Революции в центре города. Тут
сценограф торжества распорядился завязать глаза статуе
Людовика XV, нависавшей над площадью, и надеть ей на голову
красный фригийский колпак—это должно было означать, что
королевское правосудие будет теперь беспристрастным и что
королевская власть отныне облачена в новые одежды гражданской
Франции. До точки финального стояния на Марсовом поле
толпа в го или зо тысяч человек добралась уже в сумерках, через 12
часов после начала шествия.
Один из самых ярких символов, придуманных Давидом для
Праздника Шатовьё, был призван привлечь к участию в шествии
максимальное количество людей: «Все обратили внимание на
то, что вместо городской стражи с обычными для нее дубинками
охрана шествия была поручена особым распорядителям, чьим
поэтическим оружием служили снопы пшеницы»32. Символизм
зерна переворачивал с ног на голову символизм голодных
бунтов: в этом ритуале хлеб был налицо, означая изобилие, а не
нехватку. Не представляющие никакой угрозы, дарующие жизнь
снопы побуждали людей во время шествия почувствовать
отсутствие разделяющих их барьеров; газета Révolutions de Paris
писала, что хотя «Колонны, составлявшие процессию, многократно
рассыпались... но зрители тут же заполняли образовавшиеся
пустоты: всем хотелось участвовать в празднике свободы»33.
Толпа продвигалась вперед в дружелюбном расположении
духа, но без малейшего представлении о смысле своих действий:
основной массе участников не было видно ни придуманных
Давидом костюмов, ни церемониальных платформ. Художник
предвидел эту уличную неразбериху и попытался
компенсировать ее кульминацией праздника на Марсовом поле. На простор-
376
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. АРТЕРИИ И ВЕНЫ
ном участке в 6 гектаров он выстроил людей широкими
вогнутыми колоннами от шести до семи тысяч участников в каждой.
Разделив колонны пустыми промежутками, он попытался на
этот раз навязать толпе строго определенную форму.
Завершением всего дня должна была стать церемония, состоявшая из
нескольких простых действий. Политик поджигал костер на
Алтаре Отечества, очищая огнем скверну незаконного заключения
солдат на галерах; толпа исполняла гимн Свободе, сочиненный
композитором Франсуа-Жозефом Госсеком на слова Мари-Жо-
зефа Шенье. Наконец, как сообщал другой печатный орган того
времени, Les Annales Patriotiques, люди должны были танцевать
вокруг алтаря, празднуя «революционное счастье, совершенное
равенство и гражданское братство»34.
Однако события развивались не по сценарию. Под открытым
небом Марсова поля слова и мелодия специально сочиненного
гимна не долетали до слушателей. По мысли Давида, в танце
вокруг алтаря должны были двигаться многотысячные колонны,
но только люди, стоявшие в первых рядах, смогли расслышать
сигнал к началу танца и понимали, что делать. Позже
участники праздника вспоминали о недоумении, испытанном ими в тот
момент, когда они пытались вести себя, как настоящие
граждане. «Уж не знаю, как танцы на Марсовом поле могли помочь мне
стать гражданином»,—недоумевал один; «мы были вконец
озадачены, и вскоре отправились в кабак»,—делился другой35.
Разумеется, уже сам миролюбивый настрой шествия подчеркивал
всенародную солидарность. Но Давиду и прочим
революционным новаторам было важно и конкретное содержание
праздника. Они хотели приручить толпу, поскольку понимали, что она
может грозить революционному строю не меньше, чем
Старому порядку, и потерпели в этом полную неудачу.
Наиболее очевидным отголоском прошлого во время таких
торжеств были сами улицы: они несли в себе память о
процессиях приговоренных к казни, стояниях крестных ходов и прочих
подобных событиях. Больше того, улица была местом, чье
многообразие само по себе было препятствием для нового единства:
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. ОСВОБОЖДЕННОЕ ТЕЛО
377
революционное шествие не отменяло ее экономическую
функцию, а ее обшарпанные здания не исчезали из виду. В пустом же
пространстве, напротив, все, казалось, можно было начать с нуля.
По мнению историка Джоан Скотт, во время ритуала,
проводимого в пустоте, ничто не могло встать между телесным жестом
и тем, что он обозначал, между знаком и символом36.
И тем не менее само исчезновение улицы, казалось, делало
тело пассивным. Пример мальчика, побывавшего на схожем
торжестве на Марсовом поле несколькими месяцами позже,
понятно и недвусмысленно иллюстрирует вставшую перед Давидом
проблему:
Он видел множество людей на алтаре отечества; он слышал
слова «король» и «Национальное собрание», но не понимал,
что именно о них говорят... вечером он услышал, что
скоро принесут красный флаг, и подумал о том, как бы ему
сбежать; он обратил внимание, что люди на алтаре отечества
говорили, что настоящие граждане не должны уходить...37
Давиду ничто не мешало: его великолепное празднество
завершалось на просторе, в лишенном препятствий пространстве,
в чистом объеме. И в этот кульминационный момент там
царили хаос и апатия.
Катрмер-де-Кенси задумал свой контрпраздник Симонно
как демонстрацию стабильности и верховенства закона,
которая принудит народ к послушанию. Вместо снопов пшеницы он
снабдил распорядителей своего шествия ружьями с
пристегнутыми штыками. Толпа была ему так же небезразлична, как и
Давиду: весь смысл торжества заключался в том, чтобы
произвести впечатление на парижан. Организаторы хотели показать,
что государственная власть полностью контролирует ситуацию,
что правительство не допустит анархии. За основу Катрмер-де-
Кенси взял ту же сюжетную канву, что и Давид: его процессия
шла схожим маршрутом от восточных окраин до Марсова поля,
с промежуточными стояниями у Бастилии, у здания городско-
378
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. АРТЕРИИ И ВЕНЫ
Праздник Симоно з июня ιη^ι года. Гравюра того времени работы
Пьера-Габриэля Берто
го совета и на площади Революции. Финальная часть праздника
на Марсовом поле была задумана как лаконичное сценическое
действо, призванное сплотить участников: толпа должна была
увенчать лавровым венком бюст мэра Симонно. В этот момент
на помощь организаторам пришла природа: небеса внезапно
разверзлись, эффектные всполохи молний осветили толпу,
выстроившуюся перед бюстом, а гром вторил артиллерийскому салюту.
Тем не менее и это мероприятие закончилось фиаско. Его
участники почти немедленно рассеялись, не зная, что сказать друг
другу или что делать дальше. Катрмер-де-Кенси рассчитывал на
то, что сам объем открытого пространства внушит толпе
благоговение перед величием закона, но народ безучастно наблюдал
за этой демонстрацией единства и могущества на просторе Мар-
сова поля.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. ОСВОБОЖДЕННОЕ ТЕЛО
379
В этих празднествах со всей ясностью проявился
тревожный урок свободы. Свобода, которая стремится преодолеть
сопротивление, снести преграды и начать с нуля, свобода,
задуманная как чистый, прозрачный объем, делает тело вялым. Она
подобна анестезии. Та свобода, которая возбуждает тело,
достигает этого через приятие несовершенства, трудностей и
препятствий как непременных составляющих самого опыта
освобождения. Празднества Французской революции отмечают тот момент
в истории западной цивилизации, когда произошел отказ от
внутреннего переживания свободы ради механики
движения—свободы двигаться где угодно, не встречая преград, ради свободы
циркуляции, которая достигает наибольшей полноты в пустом
объеме. Эта механика движения пронизала самые разные
стороны современного образа жизни, который теперь
воспринимает общественное, природное или личное сопротивление,
наряду с сопутствующими ему разочарованиями, как в какой-то мере
несправедливое и незаслуженное. Легкость, комфорт, «эргоно-
мичность» в человеческих отношениях начали казаться
гарантией личной свободы действий. Между тем сопротивление — это
основополагающее и необходимое переживание человеческого
тела: ощущая сопротивление, тело возбуждается и осознает
наличие мира, в котором оно существует. Таков светский извод
предания об изгнании из Рая: тело оживает, преодолевая трудности.
Общественное прикосновение
Стоило обществу Нового времени начать воспринимать
беспрепятственное движение как свободу, как перед ним встала
проблема: как же быть с желаниями, олицетворяемыми телом
Марианны — с братским стремлением к воссоединению с другими
людьми, к общественному, а не только эротическому
прикосновению? За сорок лет до появления Марианны Хогарт в своей
«Пивной улице» показал воображаемый город, где люди
прикасаются друг к другу в процессе социального общения. По мере
того как объем свободы начал усмирять тело, способность к
такому общению стала восприниматься как идеал, который внушает
380
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. АРТЕРИИ И ВЕНЫ
вежливое, но абстрактное почтение — примерно как памятник,
мимо которого пробегаешь каждый день по пути на работу.
Во время торжества, устроенного ю августа 1793 года, таким
памятником стала и сама Марианна. В рамках Праздника
единства и неделимости Республики была сооружена огромная
скульптура восседающей на постаменте обнаженной женщины с
древнеегипетской прической, в грудях которой скрывались сопла
водяного фонтана высокого напора. Эта богиня, названная
«Фонтаном возрождения», изливала из своих набухших сосцов две
струи воды, подкрашенной в белый цвет. Участники торжества
собирали жидкость в чаши и пили ее: это символизировало их
выкармливание «не подверженным порче молоком» Революции.
В начале церемонии председатель Конвента обратился к
собравшимся с «речью, объясняющей, что природа создала всех
людей равными (очевидно, в смысле их доступа к груди), а
надпись на фонтане гласила: «Nous sommes tous ses enfants» («Мы
все ее дети»)»38. Тем не менее глотнуть не подверженного
порче молока дозволялось только политическому руководству.
Организаторы праздника объясняли эту дискриминацию
желанием сделать церемонию простой и доступной для обозрения всем
собравшимся. В любом случае, дошедшие до нас изображения
фонтана показывают, что мало кто из публики обратил
внимание на это эгоистичное действо. На рисунке Шарля Моне
толпа вокруг фонтана, поставленного на месте разрушенной
Бастилии, запечатлена в том же состоянии неразберихи, в каком
оказались посетители Марсова поля во время празднеств Шато-
вьё и Симонно39.
Как отмечала историк Мари-Элен Уе, «превратить народ
в зрителя — значит подвергнуть его отчуждению, которое есть
настоящая форма власти»40. Как будто нарочно, чтобы
подтвердить истинность ее слов, приобщение к телу Марианны
служило в день Праздника единства и неделимости Республики
только прологом к следующему «стоянию»: от фонтана Возрождения
толпа направилась к наделенному огромным мускулистым
торсом изваянию Геркулеса с мечом в правой руке, чтобы перед ним
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. ОСВОБОЖДЕННОЕ ТЕЛО
381
loniaitie Ж /a JRéféneratiûn еИсоа
sur /егЯшпе Ль/л* Bastiffe ·
Фонтан Возрождения на Празднике единства и неделимости
Республики ю августа 1793 г°аа
принести клятву верности Революции. Отзываясь на его тело,
толпа должна была сплотить свои ряды, выстроившись в
армейское каре. Таким образом, сценарий подразумевал движение от
женского к мужскому, от домашнего к военному, от общения
к подчинению.
382
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. АРТЕРИИ И ВЕНЫ
По мере ожесточения Революции Геракл (или, в римском
варианте, Геркулес), идеальный мужчина-воин, все больше
занимал место Марианны. Современный историк Морис Аполон
проследил, как с 1790 по 1794 Г°Д Марианну начинают
изображать все более пассивной Богиней свободы, не устремляющейся
в бой воительницей, а сидящей женщиной: черты лица
смягчаются, тело теряет мускулистость, а поза становится все более
спокойной и расслабленной. Эти перемены в образе Марианны шли
параллельно с переменами в формах женского участия в
Революции: француженки, которые с самого начала служили
источником энергии для всего революционного процесса,
объединяясь в собственные клубы и массовые движения, с наступлением
в 1793 Г°ДУ периода Террора были полностью отстранены от
политики группами радикально настроенных мужчин. Сравнивая
роли, отведенные Геркулесу и Марианне на Празднике единства
и неделимости Республики, историки Мэри Джейкобус и Линн
Хант пришли к одному и тому же выводу: «Вытеснение Свободы,
она же „Марианна", этим безоговорочно маскулинным образом
национального могущества... отчасти было реакцией на рост
вовлеченности женщин в политический процесс»41.
И все же от Марианны было не так просто избавиться: она
была символом желания прикасаться и ощущать на себе чужие
прикосновения, желания, которое иначе называется доверием.
Будучи новым отражением древнего религиозного образа
Девы-матери, Марианна олицетворяла собой сострадание и заботу
о страждущих. Но в том революционном пространстве, о
котором мечтал Булле и которое воплощал на практике Давид,
Марианна становилась недоступной. К ней нельзя было
прикоснуться, и сама она никого не могла тронуть.
Любопытная и волнующая трактовка этих тем принадлежит
одному из революционных художников празднующего тела,
Жаку-Луи Давиду. Как указывает Линн Хант, «героями Революции
были не живые руководители, а погибшие мученики»42. Как же
Революция могла воздать должное их страданиям? Давид
попытался добиться этого в двух своих знаменитых портретах муче-
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. ОСВОБОЖДЕННОЕ ТЕЛО
383
ников Революции—Жан-Поля Марата, убитого в собственной
ванной комнате 13 июля 1793 года, и тринадцатилетнего Жозе-
фа Бара, погибшего в декабре того же года от рук
контрреволюционеров в глухой провинции. В обоих произведениях пустой
объем приобретает трагический смысл.
В случае «Смерти Марата» стремление Давида наделить
объем этим трагическим смыслом стало, вероятно, менее
очевидным с течением времени, поскольку художник взял за
основу обстановку, в которой был вынужден жить его персонаж,
и преобразил ее. Марат страдал от тяжелого кожного
заболевания и только погружение в холодную воду на время облегчало
его состояние. Большую часть дня он проводил в ванне: прямо
в ней принимал посетителей и писал на доске, положенной на
бортики. Будучи состоятельным человеком, Марат превратил
свою ванную комнату в комфортабельный кабинет—она была
оклеена светлыми обоями с изображениями античных колонн,
а на стене за спиной хозяина висела огромная карта. Некоторые
художники того времени, изображая сцену гибели журналиста
и революционера от руки роялистки Шарлотты Корде, пытались
во всех подробностях воспроизвести этот реальный интерьер.
Другие украшали тело умирающего символами добродетели: на
одной подобной гравюре он сидит в ванне в лавровом венке, на
другой каким-то непостижимым образом купается прямо в тоге.
Давид не нуждался ни в венке, ни в тоге, ни в деталях
интерьера. Он заполняет верхнюю половину холста пустым
пространством, созданным с помощью нейтрального
зеленовато-бурого фона. Нижнюю часть он отводит изображению
умирающего Марата в его ванне: в одной руке, лежащей на
письменной доске, тот держит письмо от Шарлотты Корде с
просьбой принять ее, другая, сжимающая перо, бессильно
свешивается к полу. Обнаженное тело Марата ничем не прикрыто, но и тут
Давид стремится к чистой поверхности: на белой, гладкой и
лишенной растительности коже не видно ни фурункулов, ни
струпьев. Единственные цветовые акценты на ней — капли крови,
сочащейся из крошечного надреза там, где кинжал Корде вошел
384
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. АРТЕРИИ И ВЕНЫ
Жак-Луи Давид. Смерть Марата, 1793
в грудь жертвы. Перед ванной стоит пьедестал, на котором
находятся чернильница, еще одно перо и лист бумаги: эти детали
Давид трактует, по выражению одного историка искусства, как
отдельный натюрморт «в манере Шардена»43. Покой и пустота
характеризуют эту сцену жесткого убийства; эту пустоту
отмечал Бодлер, глядя на картину полвека спустя: «в холодном
пространстве этой комнаты, меж этих холодных стен, над холодной
зловещей ванной» зритель осознает героизм Марата44. Но
Бодлера, как и многих других, поражала отстраненность этой
картины. Показывая героический сюжет, она не замечает человече-
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. ОСВОБОЖДЕННОЕ ТЕЛО
385
Жак-Луи Давид. Смерть Жозефа Бара, 1794
ской боли Марата. Состраданию нет места в этом бесстрастном
пустом пространстве.
Портрет Жозефа Бара представляет мученичество в схожем
пустом пространстве, но на этот раз композиция переполнена
состраданием. Давид не закончил эту картину, и очень вероятно,
что из-за особенностей художественного замысла она и не
могла быть закончена. Подросток, убитый в Вандее во время
обороны аванпоста революционных войск, изображен совершенно
нагим; мертвое тело показано на таком же нейтральном фоне, как
и в «Смерти Марата», хотя его пустота еще более радикальна,
поскольку тут нет никаких деталей, проясняющих сюжет картины.
Картина, оставленная художником в таком
маловыразительном состоянии, приковывает внимание зрителя к самому телу.
Смерть, изничтожение, пустота—таковы отметины,
оставляемые на теле Революцией.
386 ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. АРТЕРИИ И ВЕНЫ
Тем не менее художник превратил Жозефа Бара в фигуру
неоднозначной половой принадлежности. У мальчика широкие
бедра и изящные маленькие ступни. Давид развернул его торс
к зрителю, так что нам прекрасно видна область гениталий: на
лобке почти нет растительности, а пенис зажат между ног.
Волосы юного Жозефа спадают на шею локонами, как рассыпавшаяся
девичья прическа. Однако неверно было бы утверждать вслед за
искусствоведом Уорреном Робертсом, что Давид создал образ ан-
дрогина45. Не является этот портрет мученика Революции и
«переосмыслением женственности». Бара на нем выглядит полной
противоположностью мужественным, героическим юношам
с полотен Давида дореволюционных лет, таких как «Клятвы Го-
рациев», поскольку смерть лишила его тело сексуального
начала. Детская невинность и готовность к самопожертвованию
переносят его образ в область тех надежд, которые были связаны
с фигурой Марианны. Жозеф Бара, последний герой революции,
вернулся к Марианне: он—ее дитя и, быть может, ее отмщение.
«Смерть Бара» составляет резкий контраст с «Бичеванием
Христа» Пьеро делла Франчески. Пьеро создал выдающийся
образ места, образ сострадания, считываемого в городской среде.
Давид изображает сострадание в пустом пространстве. В эпоху
Французской революции сострадание можно было выразить
через тело, но не в виде места. Нравственный разрыв между
плотью и камнем стал одной из отличительных черт секуляризации
общества.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.
ГОРОДСКОЙ ИНДИВИДУАЛИЗМ.
ЛОНДОН Э.М. ФОРСТЕРА
1. НОВЫЙ РИМ
Если бы американский бизнесмен, прогуливающийся по
Лондону накануне Первой мировой войны, пришел к выводу, что
его стране не стоило начинать Войну за независимость, его
можно было бы извинить. Лондон времен правления короля
Эдуарда VII демонстрировал свою имперскую роскошь лентами
великолепных зданий, бегущими миля за милей: правительственные
учреждения в центре с востока были окружены плотными
кварталами Сити, облюбованного банкирами и коммерсантами, а с
запада— представительными частными резиденциями Мейфэй-
ра, Найтсбриджа и Гайд-парка, которые затем сменялись менее
дорогими, но все же респектабельными домами среднего
класса, точно так же, улица за улицей, покрытыми слоем
штукатурки, украшенной лепниной. В американских городах, разумеется,
встречались богатые районы—череда особняков вдоль Пятой
авеню в Нью-Йорке, застройка территории недавно осушенного
залива Бэк-Бэй в Бостоне,—но в Лондоне плоды имперской
эксплуатации были выставлены напоказ с таким вселенским размахом,
какого мир не видел со времен Римской империи.
Генри Джеймс назвал эдвардианский Лондон «современным
Римом», и в отношении размера и богатства двух городов это
сравнение кажется уместным. Но в современной имперской
столице, в отличие и от Древнего Рима, и от островков благополучия
в Нью-Йорке и Бостоне того времени, торжественная застройка
в своей непрерывной протяженности была, казалось, полностью
изолирована от не менее масштабной бедности и социального
неблагополучия в других частях Лондона.
388
Рост Лондона. Застроенная территория города в 17&4> 1862,1914
и 1980 годах
Какой-нибудь французский политик тоже мог
позавидовать Лондону, но по другой причине. Хотя постоянное
проживание там было бы немыслимым из-за английской кухни,
француза, отважившегося посетить британскую столицу, поражал
уровень царившего там общего законопослушания: классовая
зависть, казалось, пересиливала в англичанах классовую борьбу,
389
и в повседневной жизни привилегированные классы ожидали
и добивались почтения со стороны простого народа. Многие
путешественники из континентальной Европы отмечали
поразительную вежливость, которую английский рабочий класс
проявлял по отношению к незнакомцам и иностранцам, несмотря
на все стереотипы о Джоне Булле, презирающем «заграницу».
Заезжий парижанин мог мысленно противопоставлять
Лондон, не знавший революций, своему родному городу, еще
помнившему потрясения 1789» ^З0» 1848 и 1870 годов. К примеру,
молодой Жорж Клемансо, который, несмотря на
гастрономические муки, бродил по Лондону в состоянии восхищенного
социологического транса, связывал упорядоченность лондонской
жизни с успехами британского империализма. Этот
невообразимо богатый город, считал Клемансо, покупал лояльность
своей бедноты на средства, выкачанные из завоеванных земель.
Разумеется, первые впечатления о благополучии городов
(как и о счастье людей) часто бывают обманчивы, и именно
по этой причине приятны; но эти неверные впечатления тем
не менее говорят о многом. Рассмотрим, к примеру, сравнение
Лондона с Римом.
Рим времен Адриана располагался в центре империи,
которая в физическом и общественном отношении была связана
воедино сетью дорог, построенной императорскими
инженерами; в смысле благосостояния столица и провинции
зависели друг от друга. Взаимосвязь между эдвардианским Лондоном
и остальной территорией страны была совсем иной. По мере
того как Лондон и другие британские города росли в конце
XIX века, сельская Англия быстро пустела из-за кризиса,
вызванного развитием международной торговли: городское
население все в большей степени питалось американским зерном,
а одевалось в австралийскую шерсть и индийский или
египетский хлопок. Этот разрыв возник очень быстро, на памяти
одного поколения эдвардианской эпохи. «Еще в 1871 году более
50% британцев жило в деревнях или небольших городах с
населением до 20 тысяч человек,—пишет один историк.—Толь-
390
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. АРТЕРИИ И ВЕНЫ
ко 25% жило в крупных городах, которыми в рамках этого
исследования считаются города с населением свыше юо тысяч»1.
4-0 годами позже, к тому времени, когда Э.М. Форстер
опубликовал свой роман «Говардс-Энд», в крупных городах жили уже
три четверти британцев, причем четверть перебралась в
Лондон и его окрестности. Позади все они оставляли неухоженные
поля и опустевшие деревни. Хотя население столицы
императора Адриана примерно равнялось населению столицы короля
Эдуарда VII, чтобы превратиться в город такого масштаба, Риму
потребовалось шесть веков.
Схожая географическая трансформация происходила во
второй половине XIX века во всех странах Запада. В1850 году
Франция, Германия и США были, как и Британия,
преимущественно аграрными обществами; столетие спустя
урбанизация там уже в основном завершилась, и их население оказалось
сконцентрировано в зоне основных городских агломераций.
Берлин и Нью-Йорк росли примерно с той же
головокружительной скоростью, что и Лондон, и тоже на фоне стремительного
упадка окрестных сельских районов из-за развития
международной торговли. Век, уместившийся между 1848 и 1945
годами, не зря назвали эпохой «городской революции».
Такую быструю урбанизацию, однако, невозможно
объяснить только за счет свободного рынка и роста производства,
описанных Адамом Смитом. Как и Нью-Йорк, Париж и Берлин,
Лондон не был крупным промышленным городом—стоимость
земли была там для этого слишком высока. Не являлись эти
города и центрами свободного рынка—скорее, местами, откуда
правительства, крупные банки и корпорации пытались
контролировать внутренний и международный рынки товаров и услуг.
Кроме того, города росли не только за счет притока жертв
сельскохозяйственных катастроф, политических конфликтов и
религиозных преследований. Хотя подобных вынужденных
переселенцев хватало, в город по собственному желанию приезжало
множество одиноких молодых людей—предприимчивых
хозяев собственной жизни, которых не пугало ни отсутствие капи-
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. ГОРОДСКОЙ ИНДИВИДУАЛИЗМ
391
тала, ни отсутствие работы. «Городская революция», как и
большинство других резких перемен в обществе, была событием
сверхдетерминированным, то есть была вызвана множеством
причин, любой из которых было бы достаточно,
современниками же она воспринималась как практически бессмысленное
разрастание городов. Лондон служил идеальным примером
этого внезапного и стремительного роста, наблюдавшегося
повсюду в Западном мире, и одновременно внушал надежду, что этот
процесс не обязательно должен обернуться катастрофой.
Второе отличие имперского Лондона от имперского Рима
заключалось в том, что на протяжении всей эпохи своего
могущества Рим служил образцом для других городов, в то
время как Лондон в период резкой урбанизации конца XIX века
начал, наоборот, все больше отличаться от прочих крупнейших
городов Британии, и в частности от промышленных центров
Северной и Центральной Англии, таких как Манчестер и
Бирмингем. У Клемансо сложилось впечатление, что благодаря
развитию производства английский город стал оплотом
стабильности, средоточием людей, крепко держащихся за отведенное
им в жизни место, однако его представления, скорее, отвечали
не лондонским реалиям, а положению подобных
промышленных городов с их фабриками, заводами и верфями. Столичная
экономика соединяла в себе судоходство, кустарные
производства, тяжелую промышленность и управление империей и
финансами, а также огромную по объему торговлю предметами
роскоши. Социолог культуры Реймонд Уильяме пишет в связи
с этим, что «общественные взаимоотношения там... были
гораздо сложнее и туманнее», чем на севере Англии2. В своем
романе «Говардс-Энд» Форстер описывает Лондон сходным образом:
«Деньги тратились и появлялись снова, репутации
зарабатывались и утрачивались, и сам город, символ их жизни, вздымался
и падал вниз в постоянном потоке»3.
Надуманное сравнение с Римом могло внушить
путешественнику, пораженному великолепием Лондона, мысль, что
сильное правительство жестко контролирует население. В конце
392
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. АРТЕРИИ И ВЕНЫ
концов, именно к такому жесткому контролю стремились
родные города этих иностранцев: после потрясений эпохи
Коммуны 1871 года парижские власти в совершенстве отладили методы
централизованного управления городом; после разгона «шайки
Твида» в Нью-Йорке реформаторы работали там над созданием
рационально выстроенной системы общественного надзора.
Однако в отличие от Парижа и Нью-Йорка, в Лондоне не
было единой структуры управления. До 1888 года в английской
столице «не существовало никакой муниципальной власти, за
исключением Лондонской комиссии по строительству,
десятков крохотных приходов и 48 попечительских советов»4.
Органы центральной городской власти оставались в Лондоне
сравнительно слабыми и после реформы ι888 года. Однако это не
значило, что в городе отсутствовала центральная власть как
таковая: она находилась в руках крупных землевладельцев,
которые частным образом распоряжались большими участками по
всему городу.
Начиная с первых площадей района Блумсбери,
сооруженных в XVIII веке, городская застройка Лондона неизменно
стирала с лица земли жилища и коммерческие площади, занятые
самыми бедными слоями населения, чтобы воздвигнуть на их
месте дома для среднего или высшего класса. Такие внезапные
трансформации могли происходить почти без
общественного обсуждения или законодательного регулирования благодаря
тому, что обширные городские территории находились в руках
крупных наследственных землевладельцев. Эти аристократы-
землевладельцы строили в своих владениях что хотели, и их
проекты городского «обновления» приводили ко все более
высокой концентрации бедноты в отдельных районах города: с
каждым новым переселением люди жили все теснее. Королевская
комиссия, изучавшая в 1885 году жилищные условия рабочего
класса, писала в своем заключении:
Снос трущоб приносит огромную санитарную и
общественную пользу окрестным районам, но взамен бедноте не
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. ГОРОДСКОЙ ИНДИВИДУАЛИЗМ
393
предлагается никаких новых жилищ. <...> В результате
семьи, лишившиеся крова, сразу после начала работ
скапливаются в домах на соседних улицах, а когда строительство
оказывается завершено, для ослабления этой скученности
не делается практически ничего5.
В течение всего XIX века проекты городского переустройства
вытесняли бедных жителей Лондона к востоку от Сити, на Южный
берег Темзы и в районы к северу от Риджентс-парка. Там, где
нищета сохранилась в самом центре, она была сосредоточена в
малозаметных уголках, скрытая от глаз лепниной новых домов.
Лондон раньше, чем Париж, и более последовательно, чем Нью-
Йорк, был превращен в город, состоящий из социально
однородных районов, почти не связанных между собой.
Эти особенности устройства Лондона отражали ситуацию
и на остальной территории Англии, Шотландии и Уэльса, для
которых было характерно огромное неравенство в распределении
материальных благ. В1910 году ю% богатейших семей
Великобритании владели 90% национального богатства, причем 70%
богатства приходились на долю одного только процента самых
богатых. Пусть и в новых условиях, урбанизированное общество
сохраняло разрыв между богатыми и бедными, характерный
для доиндустриальной эпохи: в ι8ο6 году эти цифры
составляли соответственно 85 и 65%. За сотню лет некоторые
представители земельной аристократии обеднели, а на их место в тонком
верхнем слое богатейших британцев пришли промышленники,
а также предприниматели из колоний. В то же время половина
населения страны выживала на доходы, которые в сумме
составляли всего з% от национального богатства, и лишь очень
немногим лондонцам удавалось вырваться из нищеты6. В этом смысле
теория Клемансо оказывается абсолютно неверной: деньги,
выкачанные из завоеванных земель, до беднейших слоев просто не
доходили.
Как же эти реалии современного имперского мегаполиса
сочетались с тем ощущением изобилия и общественного порядка,
394
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. АРТЕРИИ И ВЕНЫ
которое испытывал в Лондоне заграничный гость? Хотя
социальная напряженность, вне всякого сомнения, давала о себе знать,
многие лондонцы и сами поражались, что их городу удается
пожинать плоды капитализма, избегая при этом революционных
потрясений. Причиной этой стабильности определенно не могло
быть безразличие англичан к классовой системе. Хотя, по
выражению критика Альфреда Кейзина, «классовая борьба едва ли
является прерогативой англичан», они гораздо более
чувствительны к проблемам класса, чем немцы или американцы. В пример
Кейзин приводит цитату из написанного Джорджем Оруэллом
в 1937 году автобиографического романа «Дорога на Уиган-Пирс»:
«Какие пути ни изыскивай, проклятие классовых различий
встает между вами каменной стеной. Ладно, пускай не каменной
стеной—тонкой стеклянной стенкой аквариума»7.
Судя по всему, от настоящей революции этот огромный,
полный неравенства город удерживали совсем иные силы.
Вальтер Беньямин назвал «столицей XIX века» Париж, благодаря его
культуре, служившей для всего мира образцом. Лондон тоже
можно считать столицей XIX века, поскольку он показывал миру
пример индивидуализма. В самом деле, XIX столетие часто
называли «эрой индивидуализма» — первым это выражение
употребил Алексис де Токвиль в своем труде «Демократия в
Америке». Светлой стороной индивидуализма можно считать опору
на собственные силы, но де Токвиль видел и более печальный
его аспект, который он описывал как своего рода гражданское
одиночество:
Каждый из них, взятый в отдельности, безразличен к
судьбе всех прочих: его дети и наиболее близкие из друзей и
составляют для него весь род людской. Что же касается
других сограждан, то он находится рядом с ними, но не видит
их; он задевает их, но не ощущает; он существует лишь сам
по себе и только для себя. И если у него еще сохраняется
семья, то уже можно по крайней мере сказать, что отечества
у него нет8.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. ГОРОДСКОЙ ИНДИВИДУАЛИЗМ
395
По мнению де Токвиля, индивидуализм такого рода может
обеспечить определенный общественный порядок—спокойное
сосуществование углубленных в себя людей, терпимых друг к
другу по причине взаимного безразличия. Такой индивидуализм
особым образом выражался в городском пространстве.
Проектировщики городов XIX века стремились создать толпу
свободно перемещающихся индивидов и препятствовали движению
по городу организованных групп. Передвигаясь по городскому
пространству, отдельные тела постепенно теряют связь и с
самим пространством, в котором они движутся, и с теми людьми,
которые обитают там вместе с ними. По мере того как
пространство обесценивается из-за подобного движения, индивиды
утрачивают ощущение своей общей судьбы.
Именно триумф индивидуализма, описанного де Токви-
лем, тревожил Э.М. Форстера, когда он в 1910 году писал свой
роман «Говардс-Энд». Книга начинается со знаменитого эпиграфа
«Только соединить...» — это не только психологическая, но и
социологическая установка. Форстер показывает читателю город,
который удерживается от общественного распада только
благодаря тому, что между его жителями нет личных связей: они
проживают свои разрозненные жизни во взаимном безразличии
и тем самым обеспечивают безрадостное равновесие в обществе.
В своем романе Форстер размышляет об исключительно
быстрых переменах, которые произошли в Лондоне во время
охватившей Запад городской революции. Как и многим его
современникам, ключевым фактором этой новой реальности Форстеру
казалась скорость. Темп изменений задало, по ощущению
писателя, появление автомобиля, и анафема этим новым механизмам
провозглашается в его романе снова и снова. В том, как Форстер
описывает эдвардианский Лондон, звучат мотивы де
Токвиля: он показывает мертвый, хотя и бьющийся в истерике
перемен город; хотя Лондон, по его словам,—это место «телеграмм
и гневных попреков», в то же время в нем царит тупая вялость
ощущений. Форстер стремится показать всепроникающую, хотя
и скрытую апатию чувств, возникающую как следствие повсе-
396
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. АРТЕРИИ И ВЕНЫ
дневной жизни в этом городе. Она незаметна для
фланирующего туриста, но в равной степени охватывает и богатых модников,
и массы бедняков, борющихся за выживание в потоке жизни.
Индивидуализм и новая реальность скорости совокупно лишают
современное тело живости: оно больше не устанавливает связей.
Все эти уроки «Говардс-Энд» извлекает из довольно-таки
бульварного сюжета, в котором есть и незаконнорожденный
ребенок, и неисполненное завещание, и убийство. Вирджиния
Вульф, которая была не в восторге от романа, отмечала, что
Форстер хочет, чтобы читатель воспринимал его не как
мастеровитого писателя, а как социального критика. «Он непрестанно трогает
нас за плечо,—писала она,—мы должны заметить то, обратить
внимание на это»9. В самом деле, в «Говардс-Энд» автор часто
в нескольких абзацах торопливо проговаривает драматические
события, меняющие судьбы персонажей, чтобы сразу после
этого вернуться к неспешному анализу их значения. Хотя авторы
романов идей часто расплачиваются художественным
несовершенством за избыток размышлений, финал «Говардс-Энда»
содержит глубокую мысль, которая по-прежнему звучит
провокационно: тело индивида может вернуться к чувственной жизни
через опыт неудач и смещения привычного равновесия.
Указанию «Только соединить...» могут последовать лишь люди,
признающие существование реальных преград для своего
индивидуального, свободного и быстрого движения. Живая культура
воспринимает сопротивление как позитивный опыт.
В этой главе мы подробнее рассмотрим те тенденции
развития современного общества, которые подтолкнули Форстера
к обличению городского индивидуализма. Предложенная им
необычная развязка подсказывает новый способ думать о
городской культуре.
2. СОВРЕМЕННЫЕ АРТЕРИИ И ВЕНЫ
Градостроительные решения XIX столетия способствовали
передвижению по городу большого числа отдельных людей и препят-
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. ГОРОДСКОЙ ИНДИВИДУАЛИЗМ
397
ствовали передвижению групп угрожающего свойства,
подобных тем, которые появились во время Французской революции.
Планировщики XIX века опирались на труды своих
предшественников эпохи Просвещения, воспринимавших город как
совокупность артерий и вен для движения, но использовали этот
образ с совсем другими целями. Градостроитель эпохи
Просвещения мечтал об индивидууме, возбужденном своим
движением сквозь городские толпы; век спустя основной задачей стала
защита индивидуума от толпы с помощью движения. Вехами этой
трансформации, происходившей на протяжении всего XIX
столетия, стали три важнейших строительных проекта:
строительство Риджентс-парка и Риджент-стрит в Лондоне в начале века,
переустройство парижских улиц под руководством барона
Османа в середине и строительство лондонского метро в конце. Все
три проекта были грандиозными предприятиями, но здесь мы
рассмотрим только способы движения, к которым они
приучали горожан.
Риджентс-парк
В XVIII веке и парижские, и лондонские градостроители
создавали парки как городские легкие, а не как убежища посреди города,
какими были сады Средних веков. Это концепция «парка как
легких» делала обязательной охрану растительности. В i75°"e годы
власти Парижа огородили прежде общедоступный
королевский парк Тюильри, чтобы обезопасить деревья, дающие
городу целительный воздух. Знаменитые лондонские площади,
сооружение которых началось в XVIII веке, к началу следующего
столетия тоже были обнесены оградами. По мнению урбаниста
Брюно Фортье, аналогия между парком и легкими была прямой
и очевидной: текущий по улицам-артериям поток людей
циркулировал вокруг этих огороженных парков, насыщаясь свежим
воздухом, точно так же как кровь освежается внутри легких.
Архитекторы XVIII века опирались на постулат современной им
медицинской науки, который в изложении Фортье звучит так:
«То, что подвижно и образует сплошную массу, не может подвер-
398
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. АРТЕРИИ И ВЕНЫ
Джон Нэш. Проект Риджентс-парка, i8u
гнуться порче»10. Обустройство Риджентс-парка и строительство
Риджент-стрит, предпринятое в начале XIX века архитектором
Джоном Нэшем по указанию будущего короля Георга IV, было
самым масштабным из всех лондонских градостроительных
проектов; в его основе лежал все тот же принцип «парка как легких»,
хотя и приспособленный для города, где были возможны
гораздо более высокие скорости.
Риджентс-парк, созданный из прежнего Мэрилебон-парка,
занимает огромную площадь. Нэш решил выровнять всю эту
территорию и превратить ее в городские легкие не столько за счет
деревьев, сколько за счет травы. Большая часть тех древесных
посадок, которые мы видим сегодня,—к примеру, роща вокруг
Розового сада королевы Мэри — появилась гораздо позже. Мож-
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. ГОРОДСКОЙ ИНДИВИДУАЛИЗМ
399
но подумать, что просторное, абсолютно плоское пространство,
сплошь засаженное травой, как будто специально создано для
организованных групп, которые действительно время от
времени пользовались им в период правления королевы Виктории. Но
проект Нэша препятствовал такому применению открытого
пространства, поскольку парк оказался окружен стеной быстро
движущегося транспорта. Дорога, проложенная снаружи вдоль
ограды Риджентс-парка, служила окружной магистралью с огромной
транспортной нагрузкой. При ее сооружении было убрано
множество деревьев и объектов стихийной застройки, чтобы
обеспечить беспрепятственный проезд карет; в конце концов, даже
русло пересекающего парк канала было изменено так, чтобы не
мешать движению. Диккенс сравнивал эту кольцевую дорогу
вокруг парка с ипподромом. Некоторые из дорог внутри его также
предназначались для большого транспортного потока и были
вымощены с таким расчетом, чтобы кареты могли двигаться по
ним с максимальной скоростью.
Хотя для Лондона Джона Нэша и были характерны высокие
скорости, он отнюдь не выглядел как пространство, идеально
приспособленное для нужд индивидуума. Городские площади,
возникшие в XVIII веке, были призваны всячески замаскировать
тот факт, что большую часть лондонской застройки составляли
отдельные частные дома. Великолепные резиденции,
выходившие на площади, строились группами по 15-20 зданий и должны
были производить впечатление полной монолитности:
лондонские строительные регламенты того времени, особенно закон
1774 года, запрещали любые опознавательные знаки и внешние
различия на фасадах. В Блумсбери монотонность застройки
контрастировала с многообразной растительностью парков,
расположенных в центрах площадей: кроме всего прочего, такой
контраст создавал четкую границу между домом и городом, между
частным и публичным пространствами.
Хотя Риджентс-парк гораздо-обширнее этих более ранних
площадей, строения, смотрящие на него через запруженную
транспортом улицу, были спроектированы Нэшем так, как буд-
400
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. АРТЕРИИ И ВЕНЫ
то все они были одинаковы: особняки, окружавшие парк, он
объединил в сплошные террасы с помощью щедрого применения
лепнины. Лепная штукатурка—это инструмент, с помощью
которого архитектор создает иллюзии: во влажном состоянии ей
легко придать вид массивного руста, как на ренессансном
дворце, или изящных, тщательно проработанных колонн. Покрыв
лепниной фасады террасных домов Риджентс-парка, Нэш
объединил эти огромные здания, задав богатым орнаментом общий
ритм, продолжающийся от дома к дому.
Но этот же материал может обозначать и социальную
разобщенность. Особняки, выстроившиеся в шеренгу вокруг парка,
почти кичились своим великолепием. Самой своей
утонченностью они как будто прочерчивали границу между пространством
парка и расположенной за его пределами городской тканью,
фрагментированной, нищей и беспорядочной. Преобразования
Нэша вытеснили бедноту, прежде обитавшую в некоторых
частях парка, к северу, в районы Чок-фарм и Кэмден-таун. И
поток транспорта, и линия богатых домов, превращенных
лепниной в сплошную стену, и сама огромная площадь парка делали
его пространство практически неприступным. Неудивительно,
что в первые годы своего существования Риджентс-парк по
большей части пустовал. Нэшу удалось соединить быстрое движение
с тем, что градостроители окрестили удобным термином
«разуплотнение». Более того, это быстрое движение было движением
индивидуального транспорта, частных экипажей и карет.
По плану Джона Нэша транспортный поток должен был
направляться в парк не из тех кварталов, лежавших сразу за
великолепными стенами, чьи обитатели вряд ли могли позволить себе
карету, а из центра города. Южная оконечность Риджентс-парка
переходила в Риджент-стрит—широкий бульвар, также
спроектированный Нэшем. При проектировании этого бульвара Нэшу
пришлось преодолеть немало сложностей вроде церкви,
которую никак нельзя было снести, и прочих не подлежащих
переносу препятствий. Архитектор нашел решение, проложив улицу
таким образом, чтобы она огибала все то, что нельзя было разру-
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. ГОРОДСКОЙ ИНДИВИДУАЛИЗМ
401
Ансамбль Ольстер-террас в Риджентс-парке, построенный в 1824- году
шить. Риджент-стрит также задумывалась как артерия для
огромного движущегося потока, но в этом случае он состоял не только
из карет, но и из пешеходов. По ее сторонам также выстроились
шеренги масштабных одинаковых зданий, но здесь они были
наделены новой коммерческой функцией: все первые этажи Нэш
спланировал как сплошную линию торговых помещений, в то
время как в более старых городских домах лавки всегда
беспорядочно переделывались из жилых комнат. Взяв за основу
принцип лондонского торгового пассажа—перекрытой стеклянной
крышей базилики, вдоль оси которой выстраивались
магазины, — Нэш приспособил его к пространству улицы.
Риджент-стрит стала важнейшей вехой в
градостроительстве. Она соединила постоянный ή напряженный поток
движения с единой функцией на уровне первого этажа. Такая
структура создала разрыв между самой улицей и кварталами позади ее
402
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. АРТЕРИИ И ВЕНЫ
зданий, подобный тому, что наблюдался чуть севернее, в
спроектированном Нэшем парке. Торговля не распространялась по
боковым улицам: покупателям было не проехать в каретах по
старинному лабиринту проулков, а поток пешеходов, как и в
базилике, был сориентирован вдоль оси улицы, а не
перпендикулярно ей. Наличие у улицы единственной функции создавало
пространственное разделение, напоминающее разделение
труда: магазины, выходившие на Риджент-стрит, предлагали
предметы роскоши состоятельным клиентам, а в помещениях чуть
в стороне находились конторы и ремесленные мастерские,
работа которых вовсе не обязательно имела какое-то отношение
к жизни улицы.
Ансамбль Риджентс-парка и Риджент-стрит придал
движению новое общественное значение. Использование
транспортного потока в качестве подвижного ограждения Риджентс-парка,
сокращавшего количество его посетителей, позволило
предотвратить скапливание на его территории толп, сплоченных общей
целью. Прямолинейное движение пешеходов по Риджент-стрит
создавало и по-прежнему создает давление, из-за которого там
сложно собрать неподвижную толпу—скажем, для того, чтобы
произнести перед ней речь. Вместо этого и парк, и улица
обеспечивали преимущество отдельному движущемуся телу.
Разумеется, Риджент-стрит никак не назовешь безжизненной—и прежде,
и сейчас. Более того, Джон Нэш не оставил никаких письменных
свидетельств, что такие социальные последствия входили в его
намерения. Как и многие другие английские архитекторы, он
презирал теоретизирование, которым был так увлечен Булле.
Тем не менее напряженное движение на монофункциональной
улице было необходимым первым шагом к тому, чтобы
спешащий по своим делам индивид получил преимущество в
городской толпе.
Три сети барона Османа
Проекты, осуществленные в Лондоне Джоном Нэшем,
предвосхищали реконструкцию Парижа, которую провели двумя поко-
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. ГОРОДСКОЙ ИНДИВИДУАЛИЗМ
403
лениями позже император Наполеон III и его главный
специалист по городскому планированию барон Жорж-Эжен Осман.
Движение масс неотступно занимало умы этих государственных
мужей, лично переживших революции 1830 и 1848 годов и
отлично представлявших себе события Великой французской
революции, свидетелями которой были их деды и отцы. В отличие
от Нэша, чьи мотивы нам мало известны, Наполеоном III и
Османом двигало осознанное желание обеспечить приоритет
движению индивида, чтобы городским массам не удалось
организоваться в движущуюся толпу.
План, по которому в 1850-1860-х годах перестраивался
Париж, был намечен самим Наполеоном III. Историк Дэвид Пинк-
ни пишет:
В тот день [1853 года], когда Осман принес присягу как
префект департамента Сена, Наполеон вручил ему карту
Парижа, на которой четырьмя разными цветами
(обозначавшими срочность выполнения каждого проекта) были
нанесены улицы, которые требовалось построить. Эта карта,
собственноручное творение Луи Наполеона, легла в основу
преображения города в последующие два десятилетия11.
Ориентируясь на этот план, Осман осуществил самую
масштабную программу городских преобразований Нового времени. Он
стер с лица земли значительную часть средневекового и ренес-
сансного Парижа и выстроил на ее месте непроницаемые и
подчиненные единому плану стены домов, проложив между ними
новые прямые улицы, которые направляли огромный поток
конного транспорта из центра на окраины и обратно. Он полностью
перестроил главный парижский рынок, применив в новом
здании передовую строительную технологию — чугунное литье.
Своему архитектору Виктору Бальтару он кричал: «Чугун! Чугун!
Только чугун!»12 При нем были построены великолепные здания,
такие как Парижская опера, заново обустроены городские парки
и создана подземная сеть гигантских сточных каналов.
404
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. АРТЕРИИ И ВЕНЫ
Основные новые улицы, построенные в Париже между 1850
и 1870 годами
Планируя улицы, Осман нашел новое применение римским
принципам линейности. План, врученный императором своему
префекту, был не более чем аккуратно выполненным эскизом.
Чтобы построить нарисованные там улицы, Осману
потребовались высокие деревянные башни, с которых его помощники,
окрещенные им «городскими геометрами», с компасом и
линейкой вымеряли прямые линии к границам города. Пейзаж,
открывавшийся взгляду городских геометров, особенно в
северной и северо-восточной его части, состоял в основном из домов
рабочего класса, ремесленных мастерских и небольших фабрик.
Пробивая улицы сквозь подобную застройку, Осман разделял
небогатые городские сообщества и изолировал их друг от друга
бульварами с напряженным движением.
Как и в случае построенной Нэшем окружной дороги вокруг
Риджентс-парка, поток транспорта создавал стену движущихся
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. ГОРОДСКОЙ ИНДИВИДУАЛИЗМ 405
карет, которая раскалывала на части бедные районы, лежавшие
по сторонам от нее. Кроме того, ширина этих новых улиц была
тщательно рассчитана с учетом страха Османа перед
бунтующими толпами. Два армейских фургона могли проехать по ним
рядом, что позволяло военным при необходимости обстреливать
районы, лежавшие за линией домов с обеих сторон. Здания,
выходившие фасадом на улицу, как и дома вокруг Риджентс-парка,
сливались в непрерывные ленты, где внизу были расположены
магазины, а выше—квартиры, причем самые богатые горожане
жили ближе к земле, а самые бедные—в мансардах под крышей.
В беднейших районах внимание Османа было сосредоточено
почти исключительно на фасадах: «Застройщики должны были
соблюдать определенные нормы по высоте зданий и строить
фасады предписанных очертаний, но внутри они были вольны
сооружать тесные и душные трущобы, что многие и делали»13.
Карта города, разработанная Османом и его геометрами,
включала три «сети» новых улиц. Задачей первой сети было
преодоление затруднений, возникавших из-за лабиринта улиц
средневекового города, — Осман стремился прорезать
кварталы и спрямить улицы на территории, прилегающей к Сене,
чтобы сделать старую часть города доступной для карет. Вторая сеть
состояла из улиц, связывавших центр города и периферийные
районы за линией таможенных застав, называемой «Стеной
генеральных откупщиков»; по мере сооружения таких улиц,
центральные парижские власти включали эти районы в границы
города. Третья сеть была менее упорядоченной и состояла из улиц,
соединявших основные радиальные направления, а также
улицы первой и второй сетей.
По замыслу Османа, улицы первой сети должны были стать
городскими артериями, подобными тем, что Ланфан уже
проложил в Вашингтоне. В этом случае соотношение застройки и
движущегося тела играло важную роль, поскольку церкви,
памятники и прочие сооружения служили ориентирами для пешеходов
и пассажиров транспортных средств. К подобным артериям
первой сети относились, например, улица Риволи, связавшая здание
406
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. АРТЕРИИ И ВЕНЫ
городского совета с церковью Сент-Антуан, а также проспект
Наполеон, шедший от Пале-Рояля и Лувра к строящемуся зданию
Оперы.
Улицы второй сети были венами города. Движение по ним
должно было быть связано с торговлей и мелкими
производствами, а направлено в сторону периферии, поскольку в планы
Османа явно не входило привлечение дополнительного числа
бедняков в центр города. Конкретные формы застройки вдоль
проезжей части имели в этом случае гораздо меньшее значение.
Бульвар дю Сантр, ведущий на север от площади Шатле до
ворот Сен-Дени и известный нам теперь как бульвар Севастополь,
был одной из таких вен. Эта важнейшая улица служила
прекрасным примером возможностей контроля над обществом,
заключенных в линейности. Двухкилометровый бульвар шириной
в зо метров разрезал пополам бедный район с нерегулярной
застройкой и высочайшей плотностью населения. Эта городская
вена строилась без учета соседства прежних улиц и зданий и не
образовывала с ними единого целого; боковые улицы часто
выходят на бульвар Себастополь под странными или даже
непреодолимыми для транспорта углами. В задачи новой улицы не
входило обеспечение этих разрозненных пространств за
шеренгой ее домов—вместо этого она позволяла транспортировать
товары дальше на север. Недаром согласно первоначальной идее
Османа бульвар Себастополь планировалось сделать
односторонним, с движением только от центра. Подобные улицы второй
сети в первую очередь были пространством для быстрого
транспортного движения.
Третья сеть, как непосредственно следует из ее функции,
состояла и из вен, и из артерий. Типичным примером такой
улицы служит улица Коленкур, которую так и не смогли закончить
при бароне Османе: по ней поток фургонов с товарами должен
был пойти в обход холма Монмартр, связав тем самым вены
второй сети, ведущие на север и запад. Поскольку предполагаемый
маршрут улицы Коленкур был проложен по виадуку над Мон-
мартрским кладбищем, Осман вынужден был побеспокоить не
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. ГОРОДСКОЙ ИНДИВИДУАЛИЗМ
407
живых, а мертвых—это обстоятельство заставило его увязнуть
в бесконечных судах с потомками покойников, в
неподражаемом французском духе торговавшимися из-за прав на
воздушное пространство над могилами предков. Проект улицы Колен-
кур вызвал и более серьезное противодействие, поскольку ярко
продемонстрировал, насколько бесцеремонно новая география
подвижности вмешивается во все стороны жизни города.
Вальтер Беньямин в своем выдающемся исследовании
парижской культуры XIX века называет торговые пассажи,
перекрытые стеклянными крышами, «капиллярами города»: все
движение, обеспечивавшее биение городской жизни, было
сконцентрировано в этих узких галереях с их
узкоспециализированными магазинами, крохотными кафе и пульсирующими
сгустками толпы. На бульваре Севастополь можно было
наблюдать движение иного рода: разделяющий порыв в одном
направлении, слишком быстрый и слишком спрессованный, чтобы
взаимодействовать с такими завихрениями городской жизни.
Подобно Риджент-стрит, в XIX веке бульвар Себастополь был
пространством, полным жизни. Рассеивая городскую толпу как
политически активную группу, он создавал при этом почти
безумный вихрь из индивидов в каретах, на повозках и пешком.
Но как тип городской планировки бульвар Себастополь также не
предвещал ничего хорошего. В этом проекте были заложены два
новых решения, обеспечивающих преимущество движения за
счет интересов людей. С одной стороны, планировка уличных
потоков была отделена от архитектуры выстроившихся вдоль
улицы зданий, за исключением внешнего вида фасадов. С
другой — превратившись в городскую вену, улица стала способом
покинуть центр города, а не жить в нем.
Лондонское метро
Пытаясь сформулировать суть общественного переворота,
вызванного появлением лондонского метрополитена, историки
обычно говорят, что он привел людей в город. Но создатели
лондонской подземки прекрасно усвоили уроки османовских пре-
408
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. АРТЕРИИ И ВЕНЫ
«Лондонская подземная железная дорога»,
журнал Universal Illustrated, 1867
образований: они старались не только привезти людей в город,
но и увезти их оттуда. Движение от центра имело ярко
выраженный классовый характер, который одобрил бы даже фланер,
ценивший разнообразие городских улиц.
В конце XIX века самой большой группой работающей
бедноты в Мейфэйре, Найтстбридже, Бэйзуотере и прочих
зажиточных районах Лондона (так же как и в Париже, Берлине или
Нью-Йорке) была домашняя прислуга. С этой группой была
тесно связана вторая армия вспомогательных работников,
занимавшихся домашней починкой, продававших товары для дома,
ухаживавших за лошадьми, поддерживавших в порядке кареты
и так далее. Слуги, жившие в домах своих нанимателей,
становились свидетелями самых интимных сторон их семейной
жизни; во время великосветского сезона, продолжавшегося в
Лондоне ежегодно с мая по август, в город из провинции прибывала
третья армия, состоявшая примерно из 2θ тысяч девушек,
которые помогали с нарядами и прическами своим юным хозяйкам,
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. ГОРОДСКОЙ ИНДИВИДУАЛИЗМ
409
посещавшим модные балы и приемы. В эдвардианском
Лондоне богатые и бедные существовали в таком тесном бытовом
симбиозе, какого не знала с тех пор европейская история:
после Первой мировой войны место слуг стали все больше
занимать машины.
Большая часть второй армии работников, обслуживавших
богатые дома, как и многочисленные клерки и низший персонал
имперских правительственных учреждений и компаний
лондонского Сити, ютилась в тесноте тех уголков старого Лондона,
которые остались не затронуты строительными проектами
крупных землевладельцев. Кроме того, к середине века многие из
этих бедных, но работающих горожан скученно заселили те
районы Ист-Энда и Южного берега Темзы, где прежде обитали
только отбросы общества или временные обитатели вроде моряков.
Бедные кварталы в центре, наряду с Ист-Эндом и Южным
берегом, в сравнении с районами имперской лепнины казались
совершенно другим городом. Туг путешествующий
иностранец мог, наконец, найти реальное сходство с древним Римом,
Римом массовой нищеты. Но в отличие и от римских
многоэтажных инсул, и от огромных трущобных зданий, выраставших
в других европейских городах, в Лондоне архитектура нищеты
претворялась в куда более скромном масштабе. Урбанист
Дональд Олсен пишет, что в Англии «единица жилья обычно
равняется единице застройки; на континенте она составляет лишь
малую часть всего здания». Английская улица почти всегда
образована лентами частных домов, образующих сплошную стену14.
Даже в самых убогих частях Ист-Энда семьи ютились в
крошечных домах, состоявших из единственной комнаты.
Метрополитен способствовал радикальной перемене в их образе жизни.
Дешевый транспорт в виде метро дал наиболее
состоятельной половине тех 50% населения, которые распоряжались всего
3% национальных богатств, возможность задуматься о
переезде. Развитие строительных кооперативов обеспечило капитал,
позволявший осуществить эту мечту. К i88o-m годам
демографическая волна, захлестнувшая столицу, начала откатывать-
410
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. АРТЕРИИ И ВЕНЫ
ся назад. Теперь, благодаря развитию общественного
транспорта, работающие бедняки, которым удавалось наскрести нужную
сумму, могли переехать в собственные дома подальше от
центра; новая террасная застройка начала появляться к северу и югу
от центра в районах вроде Кэмден-тауна. Эти скромные
жилища с отдельными садиками и уличной уборной на задах
образовывали сплошные ряды идентичных блоков, подобно
резиденциям богачей. Форстеру и его современникам сходного достатка
уровень такого жилья казался ужасающим: архитектура
наводила тоску, качество строительства не выдерживало никакой
критики, в комнатах царила сырость, а уборные сильно пахли. Но
самим рабочим эти дома представлялись огромным шагом вперед:
теперь они спали на одном этаже, а обедали на другом; внутри
больше не воняло испражнениями.
Надо признать, что метро было и веной, и артерией. Оно
способствовало раскрытию центра Лондона, особенно в смысле
массового потребления в новых универсальных магазинах, которые
постепенно обрели свою форму в i88o-e и 1890-е годы. До
этого момента состоятельный горожанин мог существовать в
своем Вест-Энде в полной изоляции от бедняков Ист-Энда, не
относившихся к числу прислуги. Но с конца ι88ο-χ годов, по словам
историка Джудит Уолковиц, «преобладающей формой
воображаемого ландшафта Лондона стала не географическая
разграниченность, а чреватая опасностями ситуация непрерывного
нарушения границ»15. Нарушители, однако, гораздо чаще оказывались
покупателями, чем грабителями.
Хотя такая система подземных артерий и вен и
способствовала возникновению более смешанного города, у этого
смешения были жесткие временные рамки. Днем людской кровоток
устремлялся под землей к сердцу города, под вечер, когда
метро развозило лондонцев по домам, эти подземные сосуды
превращались в вены, отводившие людские массы от центра. С
появлением систем внеуличного общественного транспорта типа
лондонского метро сложилась география времени, характерная
для современных городских центров: плотность и многообразие
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. ГОРОДСКОЙ ИНДИВИДУАЛИЗМ
411
Il] ι, щи π,г ι 'ДН
■IlUNDERCROUNnil
"Ш
Jm JT ^
r^jpfe
^B, *<^|f
Îgoldei
M—IffllUI »un
£v·^^ /-'
■*äW'\*>- ι
ЩУ
Х^Д
ι ниши iiiii ιιιιιιιιμεηηημηιημηΙ
GREEN
«Легко доступен в любое время. Голдерс-грин: прекрасные виды
на будущее». Реклама лондонского метрополитена, призывающая
переезжать в район Толдерс-грин, ок. 1900
412
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. АРТЕРИИ И ВЕНЫ
днем, пустота и однообразие ночью. При этом дневное состояние
не подразумевало тесного человеческого контакта между
представителями разных классов: люди работали, ходили по
магазинам, а потом отправлялись домой.
3. КОМФОРТ
Бодлер в своих стихах изображал скорость как исступленное
переживание, а спешащего горожанина—как существо на грани
истерики. Однако в действительности в XIX веке скорость стала
выглядеть совсем по-другому благодаря техническому прогрессу
средств передвижения, который обеспечил движущемуся телу
удобство. Понятие удобства мы связываем с отдыхом и
пассивностью. Технологии XIX столетия понемногу превратили
передвижение в пассивный телесный опыт. Чем удобнее становилось
движущемуся телу, тем больше оно отдалялось от общества,
путешествуя в тишине и одиночестве.
Разумеется, комфорт—легкая мишень для презрения. Тем
не менее стремление к удобству имеет достойный
первоисточник—желание дать отдых телу, утомленному работой. В первые
десятилетия индустриальной эры, пришедшиеся на середину
XIX века, рабочих заставляли трудиться весь день без
перерыва, до тех пор, пока они могли стоять или двигаться. Но уже
ближе к концу столетия выяснилось, что производительность такого
подневольного труда резко падает в течение дня.
Промышленные аналитики заметили, что английский рабочий, смена
которого продолжалась к тому моменту около ю часов, в пересчете на
час рабочего времени успевает гораздо больше, чем его
немецкий или французский собрат, трудившийся по 12-14 часов
кряду. Схожая разница в производительности наблюдалась между
теми, кто работал всю неделю, и теми, кто отдыхал по
воскресеньям: после выходного рабочие упорнее трудились остальные
шесть дней.
Следуя логике рынка, капиталисты-хищники вроде
Генри Клэя Фрика считали «образцовыми работниками» тех, кто
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. ГОРОДСКОЙ ИНДИВИДУАЛИЗМ
413
стремился работать непрерывно, в ком возможность до
предела напрячь свое тело ради заработка пробуждала энергию. Но
на практике переутомление диктовало иную экономическую
арифметику. В1891 году итальянский физиолог Анджел о Мос-
со смог объяснить взаимосвязь между усталостью и
производительностью. В свой книге, озаглавленной «Усталость», он
доказал, что люди чувствуют себя утомленными задолго до того, как
у них заканчиваются физические силы: усталость—это
защитный механизм, с помощью которого тело контролирует расход
энергии, оберегая себя от ущерба, причиной которого могла бы
стать «меньшая чувствительность»16. Запуск этого защитного
механизма и обозначает тот момент, когда начинает падать
производительность труда.
Чтобы правильно понять стремление к комфорту в XIX веке,
следует учитывать этот контекст. Комфортабельный транспорт,
удобная мебель и места для отдыха исходно способствовали
восстановлению тела после перенапряжения, вызывавшего
ощущение усталости. Тем не менее с самого начала у удобства был
и другой смысл, благодаря которому оно постепенно стало
синонимом индивидуального комфорта. Снижая уровень
чувствительности и восприимчивости тела, удобство также могло
способствовать отстранению отдыхающего индивида от других людей.
Кресло и вагон
Древний грек в своем андроне или римская чета в триклинии
либо возлежали на боку, либо стояли, и обе эти позы были
формой общения. Социальное значение тела в положении покоя
контрастировало с «пафосом» и уязвимостью тела, сидящего,
к примеру, в театре. В эпоху Средневековья положение сидя,
почти на корточках, тоже приобрело общественный характер, но
он зависел от статуса сидящего человека. Самым
распространенным предметом мебели для отдыха была тогда низкая скамья без
спинки, или же низкий сундук; стулья со спинками
предназначались только для людей высокопоставленных. К XVII веку
сложился сложный этикет, определявший, кто, когда и при ком мог
414
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. АРТЕРИИ И ВЕНЫ
Распределение бедного населения в Лондоне около 1890 года.
Указана доля бедных домохозяйств
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. ГОРОДСКОЙ ИНДИВИДУАЛИЗМ
415
сидеть. В Версале эпохи Людовика XIV графиня должна была
стоять в присутствии принцессы крови, но могла сидеть на
скамеечке рядом с принцессой, которая не приходилась родней
королю. Обе принцессы сидели на стульях с подлокотниками, однако
в присутствии короля или королевы простая принцесса должна
была стоять, а принцесса крови могла сидеть, но уже на стуле без
подлокотников. Поза стоящего человека теперь выражала
почтительность: каждый член общества, от слуги до принцессы, стоял
в присутствии более высокопоставленных лиц, удобно
устроившихся на сиденье.
В эпоху Просвещения позы стали, благодаря креслам, более
расслабленными, и эта тенденция отражала постепенное
смягчение этикетных норм, характерных для версальского двора.
Спинку кресла, которой теперь придавалось не меньшее
значение, чем сиденью, стали делать наклонной, чтобы сидящий мог
откинуться назад, а подлокотники—ниже, чтобы позволить ему
свободно поворачиваться из стороны в сторону. Эти перемены
стали особенно заметны примерно в середине 1720-х годов,
когда начали появляться кресла непринужденных форм и с
идиллическими названиями — например, bergère, то есть «пастушка»,
хотя ни одной пастушке, вероятно, не приходилось на таком
сиживать. Мебельный мастер Рубо писал, что в таком кресле
человек может прислониться плечом к спинке, «в то время как
голова остается совершенно свободной, так что нет опасности ни для
мужской, ни для дамской прически»17. Таким образом, комфорт
XVIII века подразумевал свободу движений даже для сидящего
человека, который мог опираться о спинку то одним, то другим
плечом, вступая в беседу со всеми окружающими. Эта свобода
вертеться и двигаться характерна и для самых роскошных, и для
самых простых кресел того времени: деревянное «виндзорское
кресло», бывшее украшением бедных жилищ в Англии и
Америке той эпохи, подобно аристократическому «бержеру»
поддерживало спину, но не сковывало движений остальных частей тела.
Кресла XIX столетия неприметно, но решительно
изменили этот общественный опыт сидения, и случилось это благода-
416
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. АРТЕРИИ И ВЕНЫ
Парадное кресло, конец XVIII века
ря нововведениям в искусстве изготовления мягкой мебели.
К 1830-м годам мастера начали использовать пружины под
сиденьями и в спинках кресел; поверх пружин теперь укладывались
толстые подушки, набитые крученым конским волосом или
гребенной шерстью, которая была побочным продуктом новых
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. ГОРОДСКОЙ ИНДИВИДУАЛИЗМ 417
Кресло-«комфортаблъ», середина XIX века
шерстопрядильных машин. Кресла, диваны и козетки
неимоверно увеличились в размерах, целенаправленно раздувшись и
располнев. Французский мастер Дервилье, который начал делать
такие кресла в 1838 году, окрестил их «комфортаблями». В
последующие десятилетия он разработал множество новых моделей,
вроде «сенаторского комфортабля» 1863 года или «комфортабля-
гондолы» 1869-го—это кресло и вправду напоминало
наклоненную лодку, в которую человек опускался через бортик. В любом
из таких комфортаблей тело утопало в мягкой обволакивающей
обивке, вязло в ней, теряя способность свободно двигаться. По
мере развития индустриальных методов производства, особенно
в том, что касалось машинного изготовления обивочных тканей,
418
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. АРТЕРИИ И ВЕНЫ
такие кресла становились доступными все более широкой
публике. «Удобное кресло» в доме рабочего или мелкого чиновника
было объектом гордости и одновременно местом, где он мог
обрести покой ото всех забот. Удобство таких кресел предполагало,
по мнению историка Зигфрида Гидиона, особое положение тела,
«основанное на расслаблении в позе, которую в терминах
прошлых эпох нельзя было бы назвать ни сидячей, ни лежачей»18.
Для человека XIX столетия ритуал расслабления состоял
в том, чтобы рухнуть в мягкое кресло, обездвижив свое тело.
Сходный отказ от свободы движений предполагало и кресло-
качалка той эпохи. В XVIII веке кресла-качалки, например
качающаяся разновидность виндзорского кресла, приводились
в движение непосредственно толчками ног сидящего. Когда
в XIX веке мебельщики добавили в конструкцию пружины,
механика процесса стала более сложной. В1859 Г°ДУ в Америке был
выдан первый патент на тот предмет мебели, который мы теперь
называем откидывающимся офисным креслом, а тогда
именовали просто «креслом для сидения». Покачивание,
обеспечивающее «расслабление», благодаря шарнирам и пружинам
вызывали незначительные и часто «неосознанные перемены позы»19.
Откинуться назад в упругом офисном кресле — совсем не то же
самое, что откинуться в деревянном кресле-качалке: здесь для
достижения комфорта требуется меньшее физическое усилие,
вместо ног всю работу выполняют пружины.
Соединение комфорта и телесной пассивности повлияло
и на самое интимное из действий, которые человек совершает
сидя. Проявившаяся в XVIII веке тенденция к гигиене
получила свое развитие в середине XIX столетия с
усовершенствованием ватерклозета. Однако значение викторианских унитазов из
глазурованного стекла и деревянных стульчаков далеко не
сводилось к их практической функции. Наиболее роскошные
унитазы той эпохи, изготовленные из расписного фарфора
прихотливых форм, задумывались как предметы мебели: их создатели
рассчитывали, что люди будут отдыхать, сидя на стульчаках, так
же как на обычных стульях. Некоторые снабжались газетница-
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. ГОРОДСКОЙ ИНДИВИДУАЛИЗМ
419
Мужское отделение в американском железнодорожном вагоне, 1847
ми, другие—подставками для тарелок и стаканов. В путешествие
по бурным волнам викторианской торговли отправился даже
затейливый унитаз-качалка, по фамилии своего изобретателя
названный «качающимся Крэппером»*.
В XIX веке дефекация стала процессом, требующим
уединения, в то время как столетием раньше люди привычно
болтали с приятелями, сидя на chaise percée (то есть «стуле с дыркой»),
внутри которого устанавливался ночной горшок. В
помещении, где теперь размещались унитаз, раковина и ванна,
человек мог спокойно посидеть, подумать, возможно, почитать или
выпить, и при этом испытать облегчение в буквальном смысле
слова, пока его никто не тревожил. Подобное же уединение да-
* Игра слов: фамилию Сгаррег можно перевести как «толчок»; to crap
(англ.) — испражняться.
420 ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. АРТЕРИИ И ВЕНЫ
вали и удобные кресла в менее приватных уголках дома:
человек, уставший после работы, имел право рассчитывать, что там
его не побеспокоят.
Сиденья в транспорте также менялись в сторону
индивидуализированного комфорта. Приемы обивки мягкой мебели,
разработанные Дервилье, быстро нашли применение в интерьере
карет, а рессорная подвеска все лучше сглаживала дорожную
тряску. Эти удобства помогали пассажирам карет выносить гораздо
более высокие скорости, поскольку в старых экипажах хуже
всего им приходилось при быстрой езде.
Такие перемены влияли и на социальный опыт
путешественников. В европейских вагонах XIX века пассажиры размещались
по шесть-восемь человек в купе, где они ехали лицом друг к
другу,—такую схему железнодорожный транспорт позаимствовал
у конных дилижансов предыдущей эпохи. Историк культуры
Вольфганг Шивельбуш писал, что, когда такая рассадка в вагонах
была впервые введена, она вызвала у пассажиров чувство
«неловкости из-за необходимости смотреть друг на друга в полной
тишине», поскольку исчез отвлекающий внимание грохот
колес кареты по мостовой20. С другой стороны, плавный,
комфортабельный ход железнодорожного транспорта позволил людям
углубиться в чтение.
Появление вагона, заполненного тесно сидевшими людьми,
которые читали или молча смотрели в окно, стало вехой в
важном общественном перевороте, который произошел в XIX веке:
тишина стала использоваться для защиты частного пространства
индивида. На улицах, как и в вагонах, люди начали исходить из
того, что они имеют право не общаться с незнакомцами и
воспринимать обращение к себе как нарушение этого права. В
Лондоне Уильяма Хогарта или в Париже Жак-Луи Давида обращение
на улице к незнакомому прохожему не считалось вторжением
в его частную жизнь: находясь в общественном месте, люди
считали нормальным разговаривать друг с другом.
Американские железнодорожные вагоны в том виде, какой
они приобрели в 1840-е годы, практически гарантировали пасса-
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. ГОРОДСКОЙ ИНДИВИДУАЛИЗМ
421
жирам, что их никто не побеспокоит с расспросами. Там не было
купе, а все пассажиры сидели лицом по ходу движения, глядя
друг другу в спины. Американские поезда часто преодолевали
огромные (по европейским меркам) расстояния, и посетителей
из Старого Света поражало, что таким образом можно пересечь
весь североамериканский континент, не обменявшись ни с кем
словом, несмотря на то что между пассажирами не было
никакой физической преграды. Социолог Георг Зиммель отмечал, что
до наступления эры массового общественного транспорта людям
редко приходилось долго сидеть в тишине, просто глазея друг на
друга. Такой «американский» способ рассадки в транспорте
вскоре отразился и на поведении европейцев, а именно на том, как
они стали садиться в кафе и пабах.
Кафе и паб
Кафе континентальной Европы произошли от английской
кофейни начала XVIII столетия. Некоторые кофейни изначально
были просто придатками почтовых станций, другие сразу
открылись как самостоятельные заведения. Страховой рынок Ллойд
в Лондоне возник как кофейня, и его правила отражали
общественный характер большинства других городских пространств:
заплатив за кружку кофе, посетитель получал право общаться со
всеми, кто присутствовал в зале Ллойда21.
Разговаривать друг с другом в кофейне незнакомцев
заставляла не простая болтливость. Общение было важнейшим
источником сведений о ситуации на дороге, в городе или на
рынке. Хотя различия в социальном положении были очевидны
и по одежде, и по выговору, собутыльники пренебрегали ими
ради необходимости в свободном общении. Появление позднее
в XVIII веке газет в их современном виде только обострило
желание поговорить: газеты, разложенные в кофейнях,
подсказывали темы для обсуждения — письменное слово казалось ничуть
не более достоверным, чем устное.
Французское кафе эпохи Старого порядка
позаимствовало у английской кофейни не только название, но и нормы пове-
422
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. АРТЕРИИ И ВЕНЫ
дения: незнакомцы там спорили, сплетничали и обменивались
информацией. В годы, предшествовавшие Революции, такие
беседы в кафе нередко приводили к созданию политических
группировок. Какое-то время разные группировки встречались в
одних и тех же кафе, например в первом «Кафе Прокоп» на Левом
берегу. К началу Революции, однако, каждая из
соперничающих групп облюбовала свое особое заведение. Во время и после
Революции самое большое скопление кафе было в Пале-Рояле,
и именно тут в начале XIX века было опробовано нововведение,
которому оказалось суждено преобразить кафе как
общественный институт. Это нововведение заключалось просто-напросто
в том, что несколько столиков вынесли из центральной галереи
Пале-Рояля на свежий воздух. За такими столиками
политическим группировкам не хватало ощущения замкнутого
пространства: здесь сидели клиенты, которым нравилось не плести
заговоры, а смотреть на текущую мимо толпу.
Переустройство Парижа, затеянное бароном Османом,
особенно строительство улиц второй сети, способствовало такому
использованию открытого пространства: на широких тротуарах
парижским кафе было где развернуться. Помимо улиц второй
сети, в столице Наполеона III было два центра сосредоточения
кафе: один находился в районе Оперы, где были расположены
«Гран Кафе», «Кафе де ла Пе» и «Кафе Англе»; другой—в
Латинском квартале, где самыми прославленными были «Кафе
Вольтер», «Солей д'Ор» и «Франсуа Премье». Клиентами этих крупных
кафе в XIX веке были в основном представители среднего и
высшего классов, поскольку цена напитков отпугивала менее
состоятельных посетителей. Мало того, в этих обширных заведениях
парижане вели себя примерно как американцы в своих поездах:
посетитель тут был уверен в своем праве побыть в одиночестве.
Тишина, царившая в подобных заведениях, оказалась не по нраву
рабочему классу, который предпочитал компанейскую
атмосферу café intimes, то есть маленьких кафе в боковых улочках.
Посетителю, расположившемуся на террасе большого кафе,
полагалось спокойно сидеть на своем месте; желающие перехо-
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. ГОРОДСКОЙ ИНДИВИДУАЛИЗМ
423
дить от компании к компании стояли у бара. Со временем эти
неподвижные тела начали обслуживаться медленнее, чем стоячие
клиенты. К 1870-м годам, например, уличные столики обычно
поручали самым пожилым официантам заведения, но их
медлительность не была недостатком в глазах клиентов. Посетители
террас обычно молча глядели на проходящую мимо публику—
они сидели как индивиды, каждый был глубоко погружен в
собственные мысли.
К эпохе Форстера несколько крупных кафе в парижском духе
открылось в районе лондонской площади Пиккадилли, но
гораздо более распространенным питейным заведением в городе был,
разумеется, паб. При всем своем уюте эдвардианские пабы
Лондона усвоили кое-какие общественные нормы континентальных
кафе: хотя посетители свободно общались у бара, за столами они
могли посидеть в тишине и одиночестве. Чаще всего кафе в
Париже были такими же локальными заведениями, как и
лондонские пабы: «На бульваре, в кафе Опера и кафе Латинского
квартала основой торговли был завсегдатай, а не турист или щеголь
с дамой полусвета»22. Конечно, паб, в отличие от кафе, в
пространственном отношении не был связан с улицей: он
представлялся убежищем, благоухающим привычным букетом ароматов
мочи, пива и сосисок. Но парижанин, бездельничающий на
террасе кафе, также был отделен от улицы: он напоминал пассажира
американского железнодорожного вагона, молча пересекающего
континент, воспринимая прохожих как пейзаж или участников
спектакля. Путешественник Огастес Хэйр писал: «Полчаса,
проведенные на бульваре или на одном из стульев в саду Тюильри,
оказывают такое же действие, как невероятно увлекательное
театральное представление»23. В то же время и в пабе, и в кафе это
представление могло разыгрываться и в театре воображения
сидящего посетителя.
Превратившись в зрелище, толпа на улице уже не грозила
обратиться в бушующую революционную массу, а прохожие не
приставали к посетителю, сидевшему над кружкой пива или
чашечкой кофе. В ι8ο8 году парижская полиция потратила нема-
424
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. АРТЕРИИ И ВЕНЫ
ло усилий, внедряя своих шпионов в среду завсегдатаев кафе;
в 1891 году это подразделение было распущено. И в Париже,
и в Лондоне публичное пространство, заполненное
движущимися и глазеющими индивидами, более не играло никакой
политической роли.
Как и кресло, кафе стало пространством комфорта, в
котором пассивность соединялась с индивидуализмом. Тем не менее
кафе было и остается пространством городским и даже светским.
Человек тут окружен жизнью, хотя и отделен от нее. Следующая
стадия самоизоляции пространства комфорта наступила в тот
момент, когда городская архитектура начала стремиться к
физической герметичности.
Герметичное пространство
Градостроители XVIII века стремились построить здоровый
город, взяв за образец здоровое тело. По замечанию Рейнера Бэне-
ма, строительные технологии той поры совершенно не
соответствовали этой задаче: в домах одновременно царили сквозняки
и духота, движение воздуха было не продумано, а потери тепла
(там, где вообще было отопление) были совершенно
непомерными24. В конце XIX века люди наконец начали решать проблемы,
связанные с дыханием внутри каменных оболочек.
Появление центрального отопления, как и изобретение
мягкой мебели, кажется не самой значительной вехой в истории
западной цивилизации. Тем не менее такое отопление, наряду
с достигнутым позже прогрессом в искусственном освещении,
кондиционировании воздуха и вывозе мусора, позволило создать
здание, соответствующее сформулированному в эпоху
Просвещения идеалу здоровой среды обитания,—хотя и ценой
определенного ущерба для общества. Дело в том, что все эти
усовершенствования изолировали здания от городского пространства.
Идея, что отапливать помещения можно не открытым
огнем, а теплом, исходящим от нагретых предметов,
принадлежит Бенджамину Франклину. Свою первую «печь Франклина»
он создал в 1742 году. Изобретатель парового двигателя Джеймс
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. ГОРОДСКОЙ ИНДИВИДУАЛИЗМ
425
Уатт уже к 1784 году отапливал паром собственную мастерскую;
первые крупные здания с паровым отоплением появились в
начале XIX века. Наряду с паром отопительный котел мог
производить и горячую воду, поэтому слуг, непрестанно гревших воду на
кухне, сменили трубы, доставлявшие кипяток прямо в те
комнаты, где он требовался. В1877 году Бердсилл Холли провел в Нью-
Йорке первый эксперимент по паровому отоплению сразу
нескольких зданий из одной котельной.
Применение этих технологий наталкивалось на два
препятствия: теплоизоляция зданий была так плоха, что нагретый
воздух просачивался наружу, а отсутствие нормальной вентиляции
затрудняло равномерный прогрев помещений. Проблема с
вентиляцией была частично решена с появлением в ι86ο-χ годах
технологии воздушного отопления, внедренной компанией Sturtevant,
но утечки тепла при этом никуда не девались. Когда
архитекторы наконец взялись за герметизацию зданий, это одновременно
позволило им начать решать и вопрос эффективной циркуляции
воздуха, то есть управления воздушными потоками внутри
помещений и отвода спертого воздуха наружу. Гибкие и
обеспечивающие надежную изоляцию утеплители появились позднее, в 1910-
1920-х годах, так что в XIX веке все усилия были сосредоточены на
инженерных решениях проблемы. Одним из них было
использование новых материалов, таких как листовое стекло больших
размеров, впервые примененное в универсальных магазинах 1870-
х годов. Другим — снижение роли окон благодаря передаче их
прежних функций вентиляционным каналам — именно это
решение было, к примеру, опробовано в огромной Больнице
королевы Виктории в Белфасте, открытой в 1903 году.
Герметизации зданий способствовал и прогресс в
искусственном освещении. Газовые рожки, устанавливавшиеся в домах
XIX века, часто подтекали, создавая угрозу возгорания. К1882 году
британские застройщики ориентировались в своих новых
зданиях на технологии электрического освещения, разработанные
Томасом Эдисоном, а спустя несколько лет их примеру
последовали во Франции и Германии. В том же 1882 году газовые уличные
426
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. АРТЕРИИ И ВЕНЫ
фонари начали сменяться электрическими. По мере того как
в крупных городских зданиях появлялось электрическое
освещение, их внутренние помещения становились все более
пригодными для использования и все менее зависели от наличия
окон. В конце концов оказалось возможным строить здания
вовсе без окон, залитые изнутри ровным электрическим светом.
Новая технология разрушила прежде неизбежную оптическую
связь между внутренним пространством и внешним миром.
Все эти новинки можно было применять и в уже
построенных зданиях. Электрические лампочки, к примеру,
можно было размещать в старых газовых рожках; трубы отопления
и вентиляционные каналы прокладывались внутри
перекрытий или по лестничным клеткам. Тем не менее самый
серьезный источник физического дискомфорта в старых зданиях стал
причиной создания новой архитектурной формы. Это было
усилие, связанное с подъемом на верхние этажи: изобретение
лифта, призванного избавить людей от необходимости
подниматься по лестницам пешком, привело к появлению небоскребов.
Первые лифты начали применяться в зданиях в 1846 году —
их поднимали вручную при помощи противовесов. Позднее
на смену человеческим мускулам пришел паровой двигатель;
в жилом доме «Дакота-билдинг» в Нью-Йорке и в отеле «Кон-
нот» в Лондоне были установлены гидравлические лифты,
приводившиеся в движение давлением воды. Судьба лифтов
зависела от их безопасности, и в 1857 году она была обеспечена
благодаря Элише Грейвсу Отису, который изобрел лифтовой
тормоз, автоматически срабатывавший при обрыве троса или
отказе двигателя.
Лифты кажутся сейчас чем-то настолько само собой
разумеющимся, что нам сложно заметить, какие перемены они
вызвали в нашем теле: на смену аэробной нагрузке пешего подъема по
лестнице пришел опыт подъема в неподвижной стоячей позе.
Кроме того, благодаря лифту стал возможен совершенно новый
тип герметизации зданий от внешней среды: человек мог теперь
в считанные мгновения удалиться от земли и всего, что на ней
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. ГОРОДСКОЙ ИНДИВИДУАЛИЗМ
427
расположено. В современных домах, где лифт ведет прямо в
подземный гараж, пассивно движущееся тело может существовать,
вообще никак физически не контактируя с внешним миром.
Так география скорости и поиск комфорта подталкивали
человека к тому изолированному состоянию, которое Алексис де Ток-
виль называл «индивидуализмом». Тем не менее в наше время,
когда знаковым произведением архитектуры считается
терминал аэропорта, пешеход на перегруженных декором улицах эд-
вардианского Лондона едва ли подумает: «Какая скука!» Более
того, пространства и технологии комфорта привели к
некоторым вполне реальным улучшениям в современном городе.
Жители Нью-Йорка могут вспомнить, например, любимое всеми
здание, построенное спустя 15 лет после публикации «Говардс-
Энда»,—башню Ритц-тауэр на северо-восточном углу
перекрестка Парк-авеню и 57~й улицы. 41-этажное здание, снабженное
центральными системами отопления и кондиционирования
воздуха, стало в 1925 году первым небоскребом, полностью
состоящим из квартир и высочайшим жилым зданием Запада.
В соответствии с градостроительными нормативами 1916 года
здание построено уступами, создающими высоко в небе что-то
вроде висячих садов Вавилона, откуда звуки улиц едва слышны,
а вид в свое время открывался на практически пустое
пространство. Историк культуры Элизабет Хоуз пишет: «Сужающийся
силуэт [башни] выглядел как олицетворение самой вертикали, как
телескоп, уходящий уступами в облака»25.
Небоскреб Ритц-тауэр был зданием не только
эффектным, но и эффективным: системы теплоснабжения и
вентиляции, созданные архитектором Эмери Ротом, были безупречны
и по своему замыслу, и по своему исполнению, так что жильцы
в этом смысле больше не зависели от окон. Даже теперь, когда
Ритц-тауэр со всех сторон зажат другими небоскребами, а Парк-
авеню в этом месте вечно стоит в ужасных пробках, человека,
входящего внутрь здания, которое стоит в сердце самого
невротического города планеты, охватывает чувство покоя и безмя-
428
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. АРТЕРИИ И ВЕНЫ
тежности. К чему тут сопротивление? Один из возможных
ответов на этот вопрос содержится в романе «Говардс-Энд».
4. БЛАГОТВОРНОЕ ДЕЙСТВИЕ СМЕЩЕНИЯ
В противовес общественному укладу скорости, удобства и
эффективности Э.М. Форстер настаивал на благотворном влиянии
иного, более психологичного типа движения: движения, которое
смещает людей за пределы их безопасной зоны. Форстер может
показаться неподходящим апологетом такого взгляда—писатель,
который призывал «Только соединить...», также заявлял в своем
эссе «Да здравствует демократия!»: «Я терпеть не могу, когда что-
то делают „во имя", и если бы мне пришлось выбирать между
необходимостью предать свою страну или предать своего друга,
надеюсь, у меня бы хватило духу предать свою страну»26. Героиня
«Говардс-Энда» рассуждает: «Творить добро для всего
человечества бессмысленно: такие пестрые усилия неизбежно
расползутся по огромной площади, подобно пленке, и в результате
покроют единым серым цветом все вокруг. Сделать благое дело одному
человеку или, как в данном случае, нескольким—вот тот предел,
на который она осмеливалась надеяться»27. Художественный мир
Форстера кажется уютным и частным, но в этом укромном
уголке тем не менее личный комфорт сталкивается с масштабными
вызовами. Форстер доказывает нам, что эти вызовы необходимы.
В романе описаны три семьи, судьбы которых
пересекаются в небольшом загородном имении Говардс-Энд. Для Уилкоксов
смыслом существования являются в основном деньги и
общественное положение, но зато они решительны и энергичны—это
новая городская элита эдвардианской Англии. Семья Шлегель—
Маргарет, Хелен и Тибби, две сестры и их младший брат,
унаследовавшие от покойных родителей умеренное
состояние,—живет ради искусства и высоких человеческих отношений. Третья
семья стоит на социальной лестнице гораздо ниже и Уилкоксов,
и Шлегелей—это конторский служащий Леонард Бает и его
любовница, которая впоследствии становится его женой.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. ГОРОДСКОЙ ИНДИВИДУАЛИЗМ
429
Форстер был не силен в выстраивании сюжетов, так что его
истории напоминают абстрактные, идеально сходящиеся
кроссворды. У Хелен Шлегель и младшего сына мистера Уилкокса
случается короткий, но тяжелый роман. Миссис Уилкокс
умирает; ее муж женится на старшей из сестер Шлегель, Маргарет;
и Хелен, и все дети мистера Уилкокса не одобряют этот брак.
Хелен знакомится с Леонардом Бастом, выходцем из низов, и
вступает с ним в короткую связь; вульгарная жена Баста
оказывается бывшей любовницей мистера Уилкокса, с которой он изменял
первой миссис Уилкокс. Кульминация всех этих конфликтов
происходит в Говардс-Энде, где старший сын Уилкоксов
нападает на Леонарда Баста, явившегося туда в поисках Хелен. Леонард
внезапно умирает; его обидчик попадает в тюрьму по
обвинению в непреднамеренном убийстве. В результате этой
катастрофы между Маргарет и мистером Уилкоксом происходит
примирение; Хелен и ее внебрачный ребенок от Леонарда переезжают
жить в Говардс-Энд.
Роман выручают все те смещения, к которым приводят его
сюжетные повороты и которые Форстер описывает с
практически хирургической скрупулезностью. Чтобы разобраться в них,
на «Говардс-Энд» полезно взглянуть как на часть более
крупного замысла: этот роман тесно связан со следующим, к работе над
которым Форстер приступил практически сразу после
публикации «Говардс-Энда» в 1910 году. «Морис» рассказывает о
гомосексуальной любви между биржевым брокером из верхнего
слоя среднего класса и малограмотным егерем. Сюжет, который
нарушает и сексуальные, и классовые нормы, по понятиям того
времени должен был закончиться трагедией. Вместо этого
Форстер сочиняет для «Мориса» развязку, в которой заурядный во
всех прочих отношения и чтящий классовые барьеры брокер
находит счастье в объятиях слуги. Форстер писал: «Счастливый
конец являлся непременным условием. <...> Я придерживался того
мнения, что хотя бы в художественной прозе двое мужчин
должны влюбиться друг в друга и сохранить свою любовь на веки
вечные, что художественная проза вполне позволяет»28.
430
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. АРТЕРИИ И ВЕНЫ
Имение Рукнест, ставшее прообразом Говардс-Энда
В «Говардс-Энде» речь тоже идет о связи между
представителями разных классов, нарушающей социальные табу: это
единственная ночь, которую проводят вместе Хелен Шлегель
и Леонард Бает. Но для них не приготовлены «веки вечные»
вымышленной любви, которыми заканчивается «Морис». Вместо
этого происходит убийство: самый респектабельный и
традиционный персонаж романа становится причиной смерти Леонарда
и попадает из-за этого в тюрьму. Затем открывается
предательство: Маргарет Шлегель узнает, что ее муж лгал ей и в
любовных, и в денежных вопросах. Тем не менее некоторые
персонажи действительно находят свое счастье: Хелен, бесстрашная
нарушительница половых табу, переезжает со своим
внебрачным ребенком в загородное имение Говардс-Энд. К развязке все
действующие лица романа теряют уверенность в том, кто они
такие, — им не суждено найти подтверждения своей
идентичности вроде того, которое Морис обретает в принятии гомосек-
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. ГОРОДСКОЙ ИНДИВИДУАЛИЗМ
431
суальности. Но в тот самый момент, когда герои теряют
уверенность в себе, окружающий мир начинает возбуждать их тела,
а сами они гораздо лучше осознают переживания друг друга.
Смещение для Форстера — примерно то же, чем для Мильтона
в «Потерянном рае» было изгнание из райского сада. В его
романе личное смещение ведет к четко обозначенным
общественным переменам.
Современникам Форстера поначалу могло показаться, что
им даже слишком знаком тот типаж, к которому относятся
сестры Шлегель: они очень напоминали тех эмансипированных
молодых женщин, которых с 1888 года начали выводить на
страницах журнала Macmillan's Magazine под ярлыком «достохваль-
ных старых дев». Macmillan's описывал достохвальную старую
деву со смесью восхищения и иронии: она не желала влачить
существование «в зависимом или подчиненном положении», она
привыкла «извлекать максимальное количество удовольствий из
каждого шиллинга», она стремилась «найти счастье и
интеллектуальное удовлетворение и не зависеть при этом от своего
общественного окружения»29. За свою свободу нестарая дева
расплачивалась отказом от сексуальности и от материнства.
По мере развития романного сюжета Маргарет и Хелен
Шлегель, каждая по своему, подрывают этот образ достохвальной
старой девы. Маргарет достигает сексуальной самореализации со
старшим мистером Уилкоксом, сохраняя при этом и
независимость от мужа, и способность трезво его оценивать. Хелен
действует еще более радикально, становясь счастливой матерью-
одиночкой. Тем не менее сестры не вполне осознают, чего они
добились, и к концу романа оставляют попытки разобраться
в себе или друг в друге.
В «Говардс-Энде» привлекает внимание необычная
настойчивость, с которой его герои пытаются выразить себя через вид,
запах или тактильные характеристики окружающих их
предметов. Со временем рассыпаются не только сексуальные, но и
пространственные стереотипы. К примеру, когда Маргарет
Шлегель впервые оказывается в низких комнатах Говардс-Энда с их
432
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. АРТЕРИИ И ВЕНЫ
массивными потолочными балками, ей кажется, что здесь она
обрела Покой и Невинность: «Гостиная, столовая, холл. <...> Это
были просто три комнаты, в которых могли играть дети, а
друзья—укрыться от дождя»30. Им она противопоставляет
«иллюзию огромности, которую так поддерживает Лондон» и которая
«была навсегда рассеяна, когда она прошла из холла Говардс-Энда
на кухню и услышала, как струи дождя льются, разделившись, по
обеим сторонам крыши»31. К концу романа эти стереотипы
больше не работают.
Форстер подготавливает эту перемену в той сцене, где
сломленный собственными неудачами и дознанием в отношении
своего сына мистер Уилкокс признается: «Не знаю, что делать...
что делать... Я раздавлен. Я уничтожен». В этот момент роман мог
бы погрузиться в сентиментальную напыщенность, но Форстер
не допускает этого благодаря реакции Маргарет: «В Маргарет не
проснулось ни капли нежности. <...> Она не обняла страдальца.
<...> Он приплелся к ней и попросил... чтобы она делала с ним что
хочет. И она сделала то, что казалось самым простым,—увезла
его в Говардс-Энд»32. Хотя ее муж сломлен, ее собственная
полноценная и независимая жизнь начинается здесь и сейчас. Чтобы
оправиться, мистер Уилкокс должен научиться жить без всех тех
избитых представлений о добродетели, которые определяли его
прошлое,—ему приходится принять и «падшую» сестру своей
жены, и ее собственную силу и независимость. Говардс-Энд
становится местом, где ему предстоит измениться и пройти
испытание. Возможно, самое тонкое наблюдение во всем романе
делает Маргарет, когда говорит сестре, что они должны вести «битву
против единообразия». Смысл этой борьбы составляют
«различия — вечные различия, поселенные Господом Богом в одну
семью, так чтобы всегда был заметен какой-то цвет—возможно,
печали, —но цвет на фоне будничной серости»33. Загородный
дом теперь наполнен неопределенностью и соблазнами яркой
жизни.
Этот меняющийся смысл места не менее важен для автора,
чем для любого из его персонажей. Образцом для Говардс-Эн-
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. ГОРОДСКОЙ ИНДИВИДУАЛИЗМ
433
да Форстеру послужил дом, в котором он прожил с четырех до
четырнадцати лет, пока им с матерью не пришлось переехать.
Тем не менее, оглядываясь на этот опыт изгнания из дома
своего детства, он считал его ниспосланным судьбой: «Если бы
сельская местность была тогда добра ко мне, консервативная
сторона моей натуры навсегда подавила бы либеральную». На закате
жизни он формулировал это еще жестче: «Усвоенные мною
тогда впечатления... все еще теплятся. Они определили мои
взгляды на общество и историю. Это взгляды представителя среднего
класса... но их уравновесили мои соприкосновения с теми, у кого
никогда не было дома в [этом] смысле, и кто никогда не желал
его иметь»34.
Таким образом, смещение становится в этом романе чем-то
принципиально отличным от обычного перемещения, от того
презренного, бессмысленного движения, воплощением
которого был для Форстера автомобиль. Смещение призвано
побуждать людей задуматься друг о друге и об окружающем мире.
Именно поэтому возможность такого благотворного смещения
проявляется у Форстера даже в описаниях Лондона — скажем,
в тот момент, когда Шлегели теряют свой родной дом в городе,
подобно тому как юный Форстер утратил его за городом.
Описывая это событие, писатель делает более общее наблюдение:
«Лондонцы редко понимают свой город, пока тот не сорвет их с якоря,
вот и глаза Маргарет открылись только тогда, когда истек срок
аренды дома на Уикем-плейс»35.
Рассуждая о себе, Форстер однажды заметил своему другу
Форресту Рейду: «Я постарался соединить все те фрагменты, что
достались мне при рождении, и найти каждому применение»36.
Тем же самым заняты и персонажи его романов. Но места, где
разворачивается действие романов Форстера, лишены того
«простого единства» вещей, которым Мартин Хайдеггер наделял
долговечный крестьянский дом в немецком Шварцвальде, где «под
одной крышей» умещаются «пути движения сменяющих друг
друга поколений сквозь время»37. Говардс-Энд—это место, где
отсутствие преемственности становится достоинством.
434
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. АРТЕРИИ И ВЕНЫ
Как формулирует Альфред Кейзин, в «Говардс-Энде»
Форстер надеется, что «одержимое классовой гордостью,
классовой чистотой и классовой горечью общество еще сможет
обратиться к более глубокому и более древнему „товариществу" как
к одному из своих основополагающих принципов»38. И в
«Морисе», и в «Говардс-Энде» Форстер стремится выразить эту
надежду через преодоление классовых и сексуальных предрассудков.
Но в «Говардс-Энде» он, помимо этого, задается вопросом о
значении места в современном мире. По его ощущению, место —
это не убежище, а, напротив, сцена, на которой люди оживают
и где они обнажают, признают и анализируют несогласованные
фрагменты самих себя и друг друга.
Что же все это может означать для нас, жителей
несогласованных городов, переполненных различиями — различными
расами, народностями, тендерами, классами, возрастами? Как
мультикультурному обществу может пригодиться смещение,
а не удобство и безопасность?
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
ГОРОДСКИЕ ТЕЛА.
МУЛЬТИКУЛЬТУРНЫЙ НЬЮ-ЙОРК
1. РАЗЛИЧИЕ И БЕЗРАЗЛИЧИЕ
Гринвич-Виллидж
Задолго до того, как 2θ лет назад мне довелось впервые
попасть в манхэттенский район Гринвич-Виллидж, я, как и
многие другие, открыл его для себя как текст—на страницах
«Смерти и жизни больших американских городов». В этой знаменитой
книге Джейн Джекобе он предстает идеальным воплощением
городского центра, где перемешаны самые разные
общественные группы и где это разнообразие способствует стимуляции
личности. Противопоставляя этот район Гарлему или Южному
Бронксу, Джекобе описывала царящее в нем почти гармоничное
соседство и разных рас, и многочисленных национальностей —
итальянцев, евреев, греков. Гринвич-Виллидж явно казался ей
современной агорой в самом сердце Нью-Йорка1.
Район, который я увидел в 1970 году, вполне соответствовал
этому образу. Хотя многие из детей иммигрантов, описанных
Джекобе, к тому времени уже перебрались в пригороды,
местное население действительно было и разнообразным, и
терпимым. Подростки, которых где-то далеко ждали чистые простыни
и теплые постели, спали вповалку на газонах Вашингтон-сквер
под рулады стремящихся перещеголять друг друга ночных фолк-
певцов, не опасаясь воров и не задумываясь о судьбе своих по-
настоящему бездомных соседей. Ухоженные дома и улицы
внушали уверенность, что Гринвич-Виллидж действительно
отличается от остального Нью-Йорка тем, что здесь живущие в
безопасности незнакомцы ощущают себя единой общиной.
436
M "
Этнические и политические характеристики районов Нью-Йорка.
Крупнейшие группы: негры, латиноамериканцы, прочие меньшинства,
белые католики, белые либералы, евреи
Район и сегодня представляет собой пространство различий.
На Макдугал-стрит в море туристов можно отыскать уцелевшие
островки, населенные итальянскими семьями. В симпатичных
домах округи среди более молодых и состоятельных
пришельцев по-прежнему попадаются пенсионеры, сумевшие сохранить
свое жилье с низкими арендными ставками, регулируемыми
городом. Со времен Джекобе на западной окраине Гринвич-Вил-
лидж успела сформироваться большая гомосексуальная община,
члены которой страдают от излишнего внимания зевак, но живут
в относительном мире со своими непосредственными соседями.
Остающиеся еще тут писатели и художники, как и я сам,
перебрались в район в эпоху дешевой аренды; нас, стареющих богемных
буржуа, чудесным образом молодит пестрота окружения.
Тем не менее, оценивая на глаз такую характеристику
общества, как многообразие, часто приходишь к неверным выво-
437
дам. По мнению Джекобе, люди так плотно населяли Гринвич-
Виллидж, что практически сливались воедино. Между тем на
Макдугал-стрит туристы в основном увлечены
рассматриванием друг друга; итальянцы занимают пространство выше
магазинных витрин, переговариваясь с соседями через дорогу так, будто
на улице внизу никого нет. Латиноамериканцы, евреи и
корейцы соседствуют на Второй авеню, но прогулка по ней напоминает
скольжение по этническому коллажу, где каждая группа
аккуратно придерживается своей территории.
Различие и безразличие сосуществуют в Гринвич-Виллидж;
самого факта разнообразия недостаточно, чтобы люди начали
взаимодействовать между собой. Отчасти это можно объяснить тем,
что за последние два десятилетия контрасты района стали
гораздо более трагичными, чем показано в «Смерти и жизни больших
американских городов». Вашингтон-сквер превратилась в нечто
вроде универсального супермаркета наркотиков: качели на
северной детской площадке—героиновый корнер, скамейки под
статуей польского патриота—шоурум таблеток, а все четыре угла
площади отданы под оптовый рынок кокаина. На газонах теперь не
встретишь спящей молодежи, и хотя лица дилеров и их курьеров
прекрасно знакомы и гуляющим с детьми мамашам, и студентам
из граничащего с площадью кампуса Нью-Йоркского
университета, для полиции они отчего-то остаются почти невидимками.
В своей «Истории» Фукидид показал пределы
возможностей афинского общества, поставив рядом рассказы о Надгробной
речи Перикла и о вспышке чумы, случившейся несколько
месяцев спустя. Когда эпидемия СПИДа, чумы XX века, достигла
Гринвич-Виллидж, там не произошло ничего, похожего на описанный
у Фукидида нравственный коллапс. В западной половине района
распространение вируса заставило многих геев занять более
активную политическую позицию; городское здравоохранение
положительно, хотя и в недостаточной мере, отреагировало на их
призывы; значительная часть рождающихся тут произведений
изобразительного, театрального или танцевального искусства
посвящена проблематике СПИДа.
438
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К востоку, где Гринвич-Виллидж постепенно перетекает
в объединяющий все оттенки нищеты район Нижнего Ист-Сайда,
картина оказывается совсем иной. Тут сконцентрированы
наркоманы обоих полов, которые заразились ВИЧ через шприцы, а
также женщины, подхватившие вирус из-за занятия проституцией.
Самое отчетливое представление об этой гремучей смеси
наркотиков и СПИДа дает прогулка по расположенной неподалеку от
улицы Бауэри Ривингтон-стрит, чья застройка, напоминающая
щербатый оскал, в основном состоит из заброшенных домов,
превращенных в наркотические притоны. Время от времени тут
можно встретить молодых социальных работников, которые
стучатся в запертые двери или заколоченные окна, предлагая
обитателям притонов чистые иглы. Но в остальном соседи по Гринвич-
Виллидж предпочитают не тревожить умирающих; терпимость
жителей и, вероятно, корыстолюбие полиции обеспечивают
процветание этих героиновых трущоб.
Сделав неизбежные выводы и перестав тревожить
блюстителей порядка по поводу наркотиков, мои соседи, как
правило, не склонны звонить в полицию и из-за бездомных, которые
тоже с недавних пор появились в районе. По результатам
одного исследования, в летние месяцы каждый двухсотый
обитатель Нью-Йорка не имеет крыши над головой, что ставит город
выше Калькутты, но ниже Каира по этому конкретному
критерию нищеты2. В Гринвич-Виллидж бездомные ночуют на улицах
вокруг Вашингтон-сквер, но в стороне от маршрутов
наркоторговли, а в дневное время попрошайничают у дверей банковских
отделений. Мой обычный финансовый «привратник»
утверждает, что белые жители района подают ему меньше, чем в более
богатых кварталах, но зато создают гораздо меньше проблем. Таков
принцип жизни в Гринвич-Виллидж: люди здесь оставляют друг
друга в покое.
По мере того как в городах складывался современный
индивидуализм, городской индивид становился все немногословнее.
Улица, кафе, универсальный магазин, железная дорога,
автобус, метро—все они стали пространством взгляда, а не разгово-
ГОРОДСКИЕТЕЛА
439
pa. Чем сложнее в современном мегаполисе добиться
продолжительной устной коммуникации между незнакомцами, тем более
мимолетными становятся порывы сопереживания, которые
горожанин способен испытывать при наблюдении за
окружающим миром и которые превращаются в секундную реакцию при
взгляде на стоп-кадр жизни.
Именно так в Гринвич-Виллидж функционирует
разнообразие: наша агора—чисто визуальная. На улицах вроде Второй
авеню не предусмотрено мест, где люди могли бы обсудить
увиденное или сообща переработать свои зрительные впечатления
в общегородской нарратив. Что еще важнее, нет там и убежищ,
где можно передохнуть от болезненного кошмара Ривингтон-
стрит. Разумеется, как и в любом другом районе Нью-Йорка,
у местных жителей есть множество формальных возможностей
подать жалобу или высказать возмущение. Но политические
механизмы не находят выражения в будничной практике
общества— более того, они не способны сплотить многочисленные
культуры города ради какой-либо общей цели.
Возможно, современная социология и считает
неоспоримым утверждение, что люди не приемлют различий, что
различия ведут к враждебности и что максимум, на который можно
рассчитывать в отношениях между людьми,—это терпимость
в повседневной жизни. Отсюда должно, вроде бы, следовать,
что возбуждающие личные переживания вроде тех, что
описаны в романе «Говардс-Энд», невозможно распространить на все
общество в целом. Но Нью-Йорк уже более ста лет
представляет собой город, полный самых разнообразных культур, иные из
которых подвергаются преследованиям не меньше, чем евреи
в Венеции эпохи Возрождения. Согласиться, что различия
неизбежно ведут к взаимной отстраненности,—значит смириться
с тем, что такой мультикультурный город обречен не иметь
общей гражданской культуры,—это значит встать на сторону
венецианских христиан, для которых гражданская культура была
возможна только среди людей, схожих между собой. Больше того,
принять это — значит отказаться от более глубокого источника
440
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
иудеохристианской веры, от сострадания, как будто это
одухотворяющая способность нашей религиозной традиции просто
растворилась в мультикультурном море.
В то время как вся история Нью-Йорка ставит перед нами
глобальный вопрос о возможности создать гражданскую
культуру на основе человеческих различий, проблема Гринвич-Вил-
лидж гораздо конкретнее: каким образом жители могут ощутить
подобную гражданскую культуру многообразия как органичную
часть самих себя.
Центр и периферия
История и география Нью-Йорка усугубляют характерные для
мультикультурного общества проблемы с внутренним
переживанием возбуждения.
Планировка Нью-Йорка—это практически идеальное
воплощение идеи решетки как бесконечной геометрии одинаковых
элементов. Но это совсем не та решетка, которую
использовали римляне: в Нью-Йорке у нее нет ни центра, ни четко
определенной границы. Римские градостроители обращались к
небесам, чтобы найти подходящее место для земного города, а потом
прочерчивали его рубежи, определяя тем самым городскую
структуру. Создатели современного Нью-Йорка воспринимали
решетку улиц как непрерывно расширяющуюся шахматную
доску: в ι8ιι году прямоугольный план был наложен на всю
территорию Манхэтгена к северу от Гринвич-Вилл идж, а в i855_M он
был расширен на север, в Бронкс, и на восток, в Квинс.
Как и в случае новых римских городов, планировка Нью-
Йорка охватывала в основном пустующие земли: это был
город, спланированный до того, как в нем появилось население.
Но если римляне при застройке руководствовались знаками
небес, то американцы ждали рекомендаций от банков. Льюис
Мамфорд, рассуждая о современных решетчатых планировках
вообще, писал: «Набирающий силу капитализм XVII века
воспринимал отдельный участок и квартал, улицу и авеню, как
абстрактные единицы для купли и продажи, игнорируя и истори-
ГОРОДСКИЕТЕЛА
441
чески сложившиеся функции, и топографические особенности,
и общественные нужды»3. Идеальная идентичность участков,
возникших при планировании Нью-Йорка, позволяла
использовать их как денежные знаки, ведь их стоимость была
одинаковой. В невинную послереволюционную эпоху американские
власти допечатывали долларовые купюры, как только
банкиры чувствовали нехватку денег. Точно так же количество земли
в обороте могло увеличиваться по мере расширения зоны
планирования: новые городские районы возникали, когда спекулянтам
хотелось поспекулировать.
У этой бескрайней решетки не было никакого центра. Что
в 1811-м, что в 1855 году план города не содержал никаких
указаний насчет разной ценности участков. Точно так же из него не
следовало, где в таком городе будут встречаться люди,—здесь не
было ничего подобного римскому перекрестку двух основных
осей. Гость Нью-Йорка логично предполагает, что центр
города находится где-то рядом с Центральным парком; начиная
работу над проектом парка в 1857 году, Калверт Вокс и Фредерик
Лоу Олмстед хотели создать убежище от городской суеты. Но
когда городские политики отстранили Олмстеда от сооружения
его грандиозного детища, парк пришел в упадок, преступность
в нем возросла, а горожане перестали использовать запущенные
лужайки как место встреч.
Если рассуждать теоретически, городской план, лишенный
определенных границ и фиксированного центра, создает
возможность для возникновения множества разнообразных точек
социальных контактов: никакие принятые изначально
решения не связывают руки последующим поколениям
архитекторов. К примеру, огромный офисный комплекс Рокфеллеровского
центра, построенный в 1930-е годы, мог бы находиться в
нескольких кварталах к северу или югу или, скажем, чуть западнее:
бесстрастная решетка не навязывала ему точного
местоположения. Хотя на первый взгляд такая, гибкость нью-йоркского
пространства вторит стремлению Ланфана создать разнообразный,
а не централизованный город, на самом деле она, скорее, претво-
442
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ряет в жизнь намерения градостроителей эпохи Французской
революции. Отсутствие каких-либо ограничений в плане Нью-
Йорка означало, что городское пространство можно было легко
очищать от любых нагроможденных в прошлом препятствий из
камня, стекла и стали.
До самого недавнего времени исчезновение совершенно
пригодных для использования зданий было в Нью-Йорке таким
же обычным делом, как и их появление. Например, роскошные
особняки, стоявшие некогда вдоль Пятой авеню от Гринвич-Вил-
лидж до северной границы Центрального парка, были построены,
обжиты и снесены, чтобы уступить место более высоким
зданиям, всего за шесть десятков лет. Даже сегодня, при наличии норм
об охране памятников, новые нью-йоркские небоскребы
строятся с расчетным сроком службы в полвека, и их бюджет
планируется соответственно, хотя как инженерные объекты они могли бы
простоять гораздо дольше. Из всех городов мира Нью-Йорк
больше всего привык расти, разрушая сам себя: через сто лет у
человечества останется больше зримых свидетельств существования
Рима эпохи Адриана, чем Нью-Йорка эпохи оптоволокна.
Эта характерная для городской ткани способность к
мимикрии оказала огромное влияние на судьбу мультикультурализма
в Нью-Йорке. Когда после Гражданской войны между Севером
и Югом Нью-Йорк впервые стал международным городом,
прибывающие туда иммигранты теснились в огромных
лабиринтах нищеты—в основном в манхэттенском Нижнем Ист-Сайде,
но кроме того, и вдоль всей линии доков на западном побережье
Манхэттена, и на восточном краю Бруклина. Средоточием
многонациональных горестей стали тут так называемые «Дома
Нового закона», многоквартирные здания, выстроенные по
городским нормативам 1901 года. Целью нововведений того времени
было обеспечение обитателей массового жилья достаточным
количеством дневного света и свежего воздуха, но благим
намерениям законодателей и архитекторов было не суждено
осуществиться из-за жадности арендодателей, набивавших в свои дома
немыслимое количество жильцов.
ГОРОДСКИЕ ТЕЛА
443
В первые десятилетия XX века дети иммигрантов по мере
роста своих материальных возможностей начали покидать
городской центр, подобно преуспевшим представителям английского
рабочего класса, которые в свое время воспользовались новым
метрополитеном для переезда в Северный Лондон. Некоторые
из них сначала перебирались в Гарлем, другие сразу
отправлялись в менее плотно застроенные части города за пределами
Манхэттена. Самые успешные обзаводились частными домами,
просто успешные селились в новых многоквартирных домах,
чья планировка ничем не напоминала тесноту трущоб старого
Нью-Йорка. На пути у этого потока, направленного из центра,
было два препятствия: во-первых, рабочие места были по
большей части по-прежнему сконцентрированы в старом ядре
города, во-вторых, пригороды Нью-Йорка были лишены плотной
сети городских артерий и вен.
После Второй мировой войны новый исход из города стал
возможен в основном благодаря трудам одного
человека—Роберта Мозеса. Масштаб его деятельности, начатой еще в 1920-
1930-е годы, непросто даже вообразить—в этом Мозес походил
на барона Османа. Он строил мосты и порты, разбивал парки,
укреплял пляжи и прокладывал автострады. Опять-таки,
подобно Осману, а до него — Булле и де Вайи, Роберт Мозес
воспринимал существующую застройку своего города как случайную
и считал, что она не накладывает на него никаких обязательств
по части сохранения и поддержания в порядке наследия его
предшественников.
Грандиозная транспортная сеть, построенная Мозесом
в Нью-Йорке, наконец воплотила зародившуюся в эпоху
Просвещения мечту о городе для движущегося тела. Хотя к тому
времени, как он приступил к делу, в Нью-Йорке уже функционировала
самая протяженная в мире система внеуличного
общественного транспорта, сам Мозес был сторонником индивидуального
передвижения на автомобиле. По мнению других
градостроителей, эта масштабная система автодорог не расширяла доступ
к уже сложившемуся городскому центру, но ставила под вопрос
444
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
само его существование. Так считал, к примеру, французский
урбанист Жан Готтман, который в своем классическом труде «Ме-
галополис» предположил, что со временем на всем Восточном
побережье США, от Бостона до Вашингтона, сложится единый
городской регион. Этому «мегалополису», по Готтману, суждено
уничтожить город, ставший его ядром, как «„центр" и „сердце"
своего региона»4.
Мозес настаивал, что его автострады — это объекты
благоустройства, а не орудия разрушения. Сам процесс движения
он воспринимал как удовольствие—ярче всего это проявилось
в системе «парквеев», то есть автодорог, предназначенных
только для легковых машин, прихотливо вьющихся бетонными
лентами среди ландшафта, преобразованного в сплошной парк. Эти
дорогостоящие, иллюзионистские по своей сути сооружения
должны были превратить вождение автомобиля при отсутствии
сопротивления в развлечение.
Мозес верил, что благодаря его сети парквеев и хайвеев люди
смогут отключаться от стрессов большого города. Одним из
основных маршрутов, предназначавшихся Мозесом для этой цели,
была дорога на пляж Джонс-бич—длинную полосу песка
неподалеку от Нью-Йорка, которую Мозес превратил в курортную
зону. О его отношении к этому пляжу его коллега Френсис Пер-
кинс вспоминал: «Он ужасно поносил простых людей. Для него
они были просто свиньями, раскидывавшими пустые бутылки
на Джонс-бич. „Вот уж я до них доберусь! Вот я их проучу!" <...>
Он любит публику, но не людей»5. В первую очередь Мозес
старался не допускать на Джонс-бич, как и в созданные им парки,
чернокожих, считая что от них особенно много мусора.
Заголовок, который Роберт Каро выбрал для своей
биографии Мозеса,—«Диспетчер власти»—точно характеризует
характер деятельности его героя6. Мозес не был профессиональным
градостроителем, скорее, он выстраивал бюрократические и
финансовые механизмы, необходимые для городского развития.
Прежде всего он был лишен визуального воображения,
позволяющего по картам и чертежам представить себе их трехмерное
ГОРОДСКИЕ ТЕЛА
445
Перспективная схема региональных автострад в районе
Нью-Йорка, 1929
воплощение. Его часто изображают дьяволом от
градостроительства, в действительности же он являл собой нечто еще более
пугающее — человека, наделенного огромными полномочиями,
который при этом часто сам не ведал, что творил. Однако, как
показывает пример Джонс-бич, его общественные задачи были
довольно прозрачны.
Целью его планировочных решений было уничтожение
разнообразия. Плотная городская масса представлялась ему
скальной породой, которую необходимо расколоть, а путь к «обще-
446
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ственному благу» он видел во фрагментации Нью-Йорка. Подход
Мозеса был выборочным: пути отхода предоставлялись только
тем, кто добился успеха, достаточного, чтобы владеть
автомобилем и частным домом: мосты и автострады позволяли им
сбежать от шума забастовщиков, попрошаек и обездоленных,
заполнявших улицы Нью-Йорка в годы Великой депрессии.
Тем не менее следует отметить, что хотя Мозес и разрушал
плотный центр города, его вмешательство отвечало глубокой
потребности общества в нормальном семейном жилье. Когда
городская территория Нью-Йорка распространилась на восток
вдоль сооруженных Мозесом хайвееев, после Второй мировой
войны девелоперы смогли застроить жильем обширные
поместья и картофельные фермы Лонг-Айленда; такая же экспансия
на север превратила в пригороды более мелкие землевладения.
Поколение тому назад изучением новых жилых районов Лонг-
Айленда, возникших благодаря автострадам Мозеса, занялся
Герберт Ганс; он пришел к выводу, что такое скопление частных
домов, рассчитанных на одну семью, обеспечивает «более тесные
семейные связи и значительное улучшение морального
климата» в каждом из них7. Ганс справедливо высмеивал снобов,
свысока глядевших на такой тип застройки; получив возможность
покинуть слишком тесные для семейной жизни городские
квартиры, люди ценили свои новые жилища, потому что «желали
иметь собственный отдельный дом»8.
Однако Мозесу оказалось непросто осознать, что он создал
новую экономическую территорию. Разрастание нью-йоркской
периферии по времени совпало с увеличением числа офисного
и обслуживающего персонала, чья деятельность благодаря
электронным средствам связи уже не должна была
сосредотачиваться в плотно застроенном ядре города, где аренда была высокой.
Одновременно на окраинах развивалась и промышленность.
Женщины все чаще находили работу прямо на периферии, как
в сфере обслуживания, так и на мелких вспомогательных
производствах: таким образом они могли трудиться рядом с домом,
хотя зарабатывали меньше мужчин9. По мере того как в пери-
ГОРОДСКИЕТЕЛА
447
Влияние Роберта Мозеса на нью-йоркский ландшафт. Карта из книги
Роберта Каро «Диспетчер власти», 1974
ферийных районах складывалась собственная экономическая
жизнь, мечта о великом побеге из города начала отчасти
блекнуть. Бедность и низкооплачиваемый труд появились и в
пригородах, а за ними последовали наркотики и преступность.
Надежды на спокойную и безопасную семейную жизнь в пригороде,
о которых писал Герберт Ганс, тоже растаяли—во всяком случае
в той мере, в какой они основывались на идее побега.
Но в двух отношениях наследие Роберта Мозеса по-прежнему
определяет нашу жизнь. Его переустройство Нью-Йорка довело
до предела то стремление к индивидуальному передвижению,
которое зародилось в Европе двумя столетиями раньше. А тем,
кто остался в старом и многоликом городском ядре, он завещал
проблему еще более сложную и стоящую острее, чем раньше: как
быть с их собственным восприятием других.
448
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Телесное движение впервые обрело то важное значение,
которым оно наделено сейчас как новый принцип биологической
активности. Медицинские представления о кровообращении,
дыхательном цикле в легких и электрических импульсах в
нервной системе привели к возникновению нового образа
здорового тела—тела, в котором свобода движения ведет к повышению
активности организма. Отсюда, в свою очередь, следовало, что
пространство должно быть спланировано так, чтобы
способствовать телесному движению и связанным с ним процессам
дыхания; к этим выводам о свойствах пространства первыми
пришли в XVIII веке градостроители эпохи Просвещения. В результате
переживания такой физической свободы движущийся человек
чувствовал себя более самостоятельной, отдельной личностью.
В наше время люди двигаются с высокой скоростью,
особенно по направлению к периферийной зоне, фрагменты которой
связаны только автомобильным сообщением, а также внутри
этой зоны. Но сама организация скорости отделяет тело от
пространств, сквозь которые оно движется: хотя бы из соображений
безопасности проектировщики автострад стремятся обезличить
и стандартизировать территории, мимо которых на высокой
скорости пролетают машины. Процесс вождения, фиксирующий
тело в одном положении и требующий только минимальных
движений, физически способствует пассивности водителя. Во
времена Гарвея движение воспринималось как возбуждающее—
в Нью-Йорке Роберта Мозеса оно стало монотонным.
Начиная с XIX века разработка приспособлений и для
сидения, и для движения оказалась тесно связана с технологиями,
обеспечивающими удобство отдельно взятого тела. Комфорт
снижает и количество, и интенсивность возбуждающих стимулов, он
тоже способствует монотонности. Стремление к более удобному
и менее сильному внешнему воздействию напрямую определяет
нашу реакцию на те тревожные переживания, которыми чревата
жизнь в разнообразном мультикультурном сообществе.
Первым внимание к этой взаимосвязи привлек Ролан Барт,
написав об использовании «Воображаемого» в ситуации, ког-
ГОРОДСКИЕТЕЛА
449
да человек впервые видит незнакомца10. Стремясь уяснить для
себя сложную или непривычную ситуацию, индивид
пытается как можно скорее категоризировать ее с помощью простых
и обобщенных образов, основанных на социальных стереотипах.
Встречая на улице чернокожего или араба, представитель белой
расы отмечает наличие угрозы и не затрудняет себя более
внимательным анализом. Как отмечает Барт, заключение делается
мгновенно, и это приводит к неожиданному результату:
благодаря классифицирующей способности Воображаемого, человек
блокирует дальнейшие внешние раздражители. Столкновение
с различием делает его пассивным.
Урбанист Кевин Линч показал, что понятие Воображаемого
можно подобным же образом использовать и для интерпретации
географии города. В сознании каждого горожанина, утверждает
Линч, существует образ «родного места»; исследователь
обнаружил, что, попав в новую обстановку, его подопытные
сравнивали ее с этим психологическим моментальным снимком, и чем
меньше было сходство, тем более безразлично они относились
к тому месту, где оказались. Быстрое движение, например на
автомобиле, располагает к применению Воображаемого—этой
склонности мгновенно классифицировать и выносить
суждения. Такое же воздействие оказывает и фрагментация
территории, поскольку на периферии каждый фрагмент наделен своей
особой функцией, будь то жилье, работа, торговля или
образование, и отделен от других фрагментов пустыми промежутками.
Следовательно, совсем несложно мгновенно вынести суждение,
что некто является чужаком или ведет себя неподобающим для
этого конкретного места образом.
В схожем исследовании социолог Ирвинг Гоффман
попытался показать, как в случае, когда человек все же идет пешком,
«защитная дестимуляция» определяет его телесное поведение на
улицах: обменявшись первыми оценивающими взглядами,
прохожие рассчитывают свои движения так, чтобы свести риск
физического контакта к минимуму11. Воспринимая окружающую
среду через призму Воображаемого, сортируя наблюдаемые яв-
450
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ления по простейшим категориям и сравнивая сходство с
различием, человек снижает сложность городского опыта. Прибегая
к Воображаемому, чтобы отгородиться от других людей,
индивид чувствует себя более непринужденно.
Такой инструмент восприятия реальности позволяет нам
избегать всего двусмысленного и приводящего в замешательство.
Страх перед прикосновением, который привел к учреждению
венецианского Гетто, усилился в современном обществе, где
индивид при столкновении с многообразием создает что-то вроде
персонального гетто собственного телесного восприятия.
Скорость, побег, пассивность—вот триада, которой обернулись для
современной городской среды открытия Уильяма Гарвея.
Эти воображаемые стены вокруг личности играют
специфическую роль в жизни людей, позабытых в центре города.
В конце 1960-х, когда Роберт Мозес был наконец отстранен от
власти, предсказания, сделанные Жаном Готтманом в «Мегало-
полисе», казалось, сбывались на глазах: старые и бедные районы
городского ядра Нью-Йорка должны были вот-вот погрузиться
в ту же нищету и запустение, что и другие американские
города. Причина заключалась в том, что в 1965 году, когда вступило
в силу новое иммиграционное законодательство, в город
перестали прибывать переселенцы: пуэрториканцев тогда часто
называли «последними иностранцами Нью-Йорка». Однако
ожидания эти не сбылись из-за тенденций глобальной экономики: за
пуэрториканцами последовали все новые волны иммигрантов,
сначала из Центральной Америки и Карибского бассейна, потом
из Кореи, затем из рушащейся советской империи, с Ближнего
Востока и из Мексики. Те новые иммигранты сейчас составляют
половину населения города.
К ним добавился обратный поток жителей пригородов —
в центр города возвращались дети людей, уезжавших поколение
назад. Отчасти причиной этого возвращения были особенности
рынка жилья в пригородах Нью-Йорка, отчасти—тот факт, что
больше всего новых рабочих мест как для квалифицированных
ГОРОДСКИЕ ТЕЛА
451
профессионалов, так и для обслуживающего персонала
возникало в расположенных на Манхэттене штаб-квартирах крупных
корпораций. Но эти местные факторы накладывались на более
общее стремление значительной части молодежи вернуться или
впервые перебраться в крупный город —из тех, кто ежегодно
прибывает в Нью-Йорк, самую значительную группу
неизменно составляют белые американцы от 18 до з 5 лет·
Этим новым жителям Нью-Йорка пришлось
соприкоснуться с непростым существованием тех, кто никогда не покидал
города. В послевоенные годы в Нью-Йорке происходило что-то
вроде сортировки семей и сообществ: преуспевшие евреи,
греки, итальянцы и ирландцы переезжали в пригороды, а их
менее удачливые собратья оставались в центре. Многие пожилые
люди тоже предпочли остаться там, где они в поте лица
выстраивали свою новую жизнь. К примеру, одной из потаенных нью-
йоркских драм последних пятидесяти лет была история
еврейской бедности в центре города. Стереотипное представление
о евреях Нью-Йорка как о крайне успешной этнической
группе мешало заметить десятки тысяч небогатых евреев Нижнего
Ист-Сайда, Верхнего Вест-Сайда и Флэтбуша, которые с трудом
сводили концы с концами, занимаясь тем же мелким
предпринимательством, с которого начинали в Америке почти все
еврейские семьи. Социальная мобильность и разрыв между
поколениями стали причиной сходных историй предательства
и заброшенности и в других общинах, начинавших свой путь
с самого низа,—например, отчуждения между успешными
чернокожими из пригородов, пробившимися в средний класс, и их
прозябающими в нищете братьями и сестрами, оставшимися
в центре города.
Однородность гетто всегда требует открытой установки на
сегрегацию вроде тех норм, которые некогда обязывали
венецианских евреев селиться в одном месте или в современном
Нью-Йорке препятствуют выдавать кредиты чернокожим. Нью-
йоркские гетто в той форме, в какой они возникли в XIX веке,
были скорее ареалами расселения, чем зонами, которые город-
452
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ские власти стремились наделить теми или иными
демографическими характеристиками или особенностями
самосознания. В Нижнем Ист-Сайде царила повсеместная бедность, но
этнически район был крайне смешанным; в Маленькой Италии
в 1920-е годы обитали ирландцы и славяне, а теперь там не
меньше азиатов, чем итальянцев; в те же 1920-е годы в Гарлеме
периода «Гарлемского ренессанса» было больше греков и евреев, чем
чернокожих.
По мере того как население городского ядра растекалось
по мегалополису в результате преобразований Роберта
Мозеса, слово «гетто» стало почти неприкрыто означать «людей,
отставших от жизни». Скажем, Гарлем постепенно пустел: евреи
и греки оставили его в i93°'e годы, зарождающаяся черная
буржуазия —в 1970-е. Принадлежность к гетто стала
восприниматься как клеймо общей неудачи.
Современные попытки реабилитации пространств,
превратившихся в гетто, часто заключались в стремлении по
примеру венецианских евреев наделить жертв сегрегации общей
идентичностью, которая способна внушить им гордость за себя.
Такие процессы шли в Нью-Йорке повсюду, как среди новых
иммигрантов, так и среди оставшихся в городском центре
чернокожих, бедных евреев и представителей других неуспешных
этнических групп. Возрождение местной гордости в гетто
означало его замыкание в себе, как пространственно, так и ментально.
Попытки выстроить городские сообщества чаще всего сводятся
к определению их общей идентичности и инвестициям в здания
или пространства, которые могли бы стать центром
общественной жизни, а не к установлению контакта с теми, кто является
для этого сообщества иным. Нью-Йорк никогда не был
плавильным котлом, но теперь его неспособность справиться с мульти-
культурным многообразием своего населения окрашена к тому
же этой историей заброшенности и потребностью людей,
оставленных в беде, восстановить свое попранное достоинство. Но
именно те факторы, которые в период, последовавший за
уходом Мозеса и его наследников, привлекли в городское ядро но-
ГОРОДСКИЕТЕЛА
453
вых жителей, не позволяют сообществам, очутившимся в гетто,
замкнуться в себе и подобно венецианским евреям обрести
собственную гордость в изолированном пространстве.
С демографической точки зрения единственным
доступным для Нью-Йорка способом размещения новых волн
мигрантов оказалось обратное заселение старых гетто. В бедных районах
к северо-востоку от Уолл-стрит теперь, к примеру, обитает ночная
армия уборщиков, печатников, курьеров и обслуживающего
персонала храмов оптоволоконных финансов. Выходцы из
Сальвадора, Гаити и Доминиканской республики постепенно заполняют
еще пригодные для жизни дома в северо-западном углу
Гарлема. В бруклинских кварталах, покинутых прежними
поколениями еврейских иммигрантов, теперь живут русские евреи, хасиды
и сирийцы. Наконец, по всему городскому центру в пространства,
освободившиеся после отъезда представителей среднего класса,
устремился неослабевающий поток молодых белых американцев.
Больше того, сама городская экономика мешает гетто
замкнуться в себе. Крупные торговые сети заменили большинство
местных лавок; мелкие предприятия, остающиеся пока на
плаву, предоставляют услуги, которые в основном рассчитаны не на
местный, а на общегородской спрос—от ремонта скрипок до
художественной печати. Сегодня, как и прежде, такие мелкие,
необычные и узкоспециализированные предприятия позволяют
многим иммигрантам сделать свой первый шаг вверх по
общественной лестнице. Вектор новейшей истории мультикультур-
ного Нью-Йорка направлен в сторону самоизоляции общин, но
хотя бы в экономическом плане такой этнический сепаратизм
представляет собой тупик.
От Афин Перикла до Парижа Жак-Луи Давида в понятие
«городской» вкладывался смысл сплетения судеб, общей участи. Для
афинянина времен Перикла или римлянина-язычника времен
Адриана его частной судьбы не существовало в отрыве от судеб
родного города. Хотя ранние христиане и верили, что их удел
заключен в них самих, со временем эта внутренняя жизнь со-
454
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
единилась с теми мирскими превратностями судьбы, которые
они делили с другими. Средневековая корпорация, на первый
взгляд, была отходом от этого принципа общей участи,
поскольку она могла принять решение измениться и, подобно
университету Болоньи, порвать со своим прежним состоянием.
Однако корпорация была коллективным органом: отдельные люди
были в буквальном смысле слова инкорпорированы в единую
юридическую сущность, имевшую собственную, более
масштабную судьбу. Трагическая история венецианского Гетто тоже
повествует об общей участи — венецианцы-католики знали, что
неразрывно связаны с заключенными внутри их города евреями,
а евреи понимали, что им никуда не деться от своих угнетателей.
Хлебный бунт, поднятый парижанками на заре Французской
революции, также был направлен на то, чтобы соединить их
собственную судьбу с будущим носителей высшей власти.
В современном мире вера в общую судьбу претерпела
любопытное раздвоение. Националистические и
революционные идеологии утверждали, что каждый народ или класс
объединен своим общим будущим, в то же время город учил прямо
противоположному. На протяжении всего XIX столетия
градостроители использовали технологии скоростного движения,
общественного здоровья, частного комфорта и свободного рынка,
планировку улиц, парков и площадей, стремясь противостоять
требованиям толпы и удовлетворить потребности индивидов.
Эти индивиды, по замечанию де Токвиля, чувствуют себя
«безразличными к судьбе всех прочих». Подобно другим
наблюдателям, следившим за развитием индивидуализма, де Токвиль
осознавал его глубокую связь с материализмом — с тем
«благопристойным материализмом», который, по его словам, «не
развращая людских душ, тем не менее сделает их более
изнеженными и в конце концов незаметно вызовет у людей полный упадок
душевных сил»12. Отказавшись от общей жизни, индивиду было
суждено утратить жизнь как таковую.
Клокочущая энергия, разрушавшая и заново отстраивавшая
в Нью-Йорке конторские небоскребы, многоквартирные здания
ГОРОДСКИЕ ТЕЛА
455
и частные дома, лишала время влияния на городскую культуру.
Траектории, берущие начало в центре Нью-Йорка, в социальном
плане напоминали маршруты исхода из Лондона и других
городов, которые обрели свою нынешнюю форму благодаря
движению, выделяющему индивида из толпы. В основе любого такого
движения лежит отрицание общей судьбы.
В то же время если белые американцы, перебиравшиеся
после Второй мировой войны на Лонг-Айленд, полностью
отрицали свою общую судьбу с оставляемыми позади белыми и
неграми, схожее отрицание у других слоев населения было гораздо
более богато нюансами. Оставшиеся не признавали общности
своей участи с уехавшими ради сохранения самоуважения.
Благополучные защищались от бедных точно так же, как от
внешних раздражителей; бедные облачались в похожую броню, но она
удерживала на расстоянии только от тех, в ком они сами
нуждались. Вероятно, уклад жизни в Гринвич-Виллидж—лучший
результат, какого нам пока удалось достичь: местные обитатели
согласились сосуществовать с различиями, но отрицают, что такое
сосуществование подразумевает наличие общей судьбы.
2. ГОРОДСКИЕ ТЕЛА
В самом начале книги я оговорил, что писал ее как человек
верующий, и теперь, подойдя к концу, я хотел бы объяснить,
почему. «Плоть и камень» — книга о том, что устройство городского
пространства в значительной мере определяется человеческим
восприятием собственного тела. Для того чтобы жители муль-
тикультурного города не были безразличны друг к другу, нам,
по моему глубокому убеждению, необходимо изменить
понимание своего тела. Мы ни за что не прочувствуем отличности
других до тех пор, пока не признаем собственной телесной
недостаточности. Сострадание между горожанами возникает из
такого физического осознания своей ущербности, а не из
гражданских принципов или волевого решения творить добро. Если
эти выкладки кажутся далекими от политических реалий совре-
456
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
менного Нью-Йорка, возможно, это только показывает глубину
расхождения между опытом городской жизни и религиозным
мировоззрением.
Уроки, которые нам может преподать тело, представляют
собой один из краеугольных камней иудеохристианской
традиции. В основе этой традиции лежит грехопадение Адама и Евы,
их стыд собственной наготы и их изгнание из райского сада, с
которого начинается история о том, кем стали первые люди и чего
они лишились. В Эдеме они были невинны, невежественны и
послушны. За его пределами к ним пришло осознание: они поняли,
что они несовершенные существа, и потому принялись
исследовать окружающий мир, стремясь понять все необычное и
незнакомое; они больше не были детьми Божиими, которым все
давалось готовым. Ветхий Завет снова и снова рассказывает истории
о людях, которые вслед за прародителями переживают это
горестное пробуждение: они преступают божественные заповеди
из-за плотских желаний, подвергаются каре Господней, а потом
пробуждаются, как Адам и Ева, изгнанные из Рая. Схожий сюжет
первые христиане видели и в земном пути Иисуса: распятый за
грехи человечества, Он подарил мужчинам и женщинам
осознание ущербности собственной плоти. Чем меньше удовольствия
получают Его последователи от собственного тела, тем сильнее
они любят друг друга.
Языческая версия этой древней истины звучит как история
телесных переживаний в городе. Агора и Пникс в Афинах были
городскими пространствами, где граждане ощущали свою
телесную ущербность. Древняя агора физически возбуждала людей,
которые платили за это возможностью вести связную беседу
друг с другом; Пникс обеспечивал непрерывность речи и тем
самым приучал сообщество к нарративной логике, но делал это
ценой беззащитности людей перед риторической силой слов.
Камни агоры и Пникса ставили афинян в неустойчивое положение:
каждый из этих центров был источником
неудовлетворенности, которую второй мог разрешить, но лишь вызывая чувство
неудовлетворенности в свою очередь. В этом бицентричном го-
ГОРОДСКИЕТЕЛА
457
роде люди на своем телесном опыте убеждались в собственной
ущербности. Тем не менее ни один народ в истории не
осознавал значение городской культуры так ясно, как афиняне:
понятия «человеческий» и «городской» были для них
взаимозаменяемыми. Прочные связи между горожанами возникали из самого
такого смещения: люди заботились друг о друге в пространствах,
которые не полностью удовлетворяли их телесные
потребности, — исповедующий иудаизм современник, пожалуй, сказал
бы—потому что эти пространства не полностью удовлетворяли
их телесные потребности. Тем не менее сам по себе древний
город не отличался стабильностью. Его единства не мог
гарантировать даже самый мощный из связующих людей актов—ритуал.
Наши современники привыкли думать о нестабильности
общества и ущербности личности как о чисто отрицательных
факторах. Общей целью формирования современного
индивидуализма было достижение самодостаточности личности,
превращение ее из незаконченной в законченную. Психология
рассуждает в терминах поиска людьми центра собственной
личности, анализируя их стремление к целостности и
всестороннему развитию. Общественные движения нашего времени говорят
на сходном языке, как будто социальные группы, как и
индивиды, обязаны быть последовательными и непротиворечивыми.
В Нью-Йорке этот личностно-общественный язык
видоизменился из-за травм людей, которые потерпели неудачу или оказались
брошены на произвол судьбы: чтобы обрести единство и тем
самым залечить свои раны, расовые, этнические и социальные
группы замыкаются в себе. Психологический опыт смещения
и противоречивости —область сознания, которую
психоаналитик Роберт Джей Лифтон называет «протеическим
Я»,—показался бы здесь только способом усугубить социальные язвы13.
Тем не менее в отсутствие значительного опыта смещения
общественные контрасты постепенно обостряются, поскольку
интерес к Другому ослабевает. Фрейд указал на телесную
природу этой социологической истины в своем коротком эссе «По ту
сторону принципа удовольствия», опубликованном в 1920 году.
458
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Он противопоставляет телесное удовольствие, получаемое от
целостности и уравновешенности, более реалистическому
телесному опыту, который выходит за пределы этого удовольствия.
Фрейд писал, что удовольствие неизменно возбуждается
«связанным с неудовольствием напряжением», и принимает затем
«направление, совпадающее в конечном счете с уменьшением этого
напряжения»14. Удовольствие, таким образом, отличается от
сексуального возбуждения, связанного с напряжением чувств;
целью удовольствия является возврат в состояние, которое Фрейд
представлял как комфорт плода в материнской утробе,
неколебимый и лишенный представления о внешнем мире. Под властью
принципа удовольствия человек желает отгородиться от мира.
Фрейд выступал с позиции светского реалиста, а не
религиозного аскета, поскольку он понимал, что человеческая жажда
комфорта выражает глубокую биологическую потребность. Он
писал: «Для живого организма такая защита от раздражений
является, пожалуй, более важной задачей, чем восприятие
раздражения»15. Но если защита беспредельна, если тело не
переживает периодических кризисов, рано или поздно организм начинает
страдать от недостатка внешнего раздражения. По убеждению
Фрейда, характерное для современного человека стремление
к комфорту таит в себе огромную опасность; трудности, которых
мы стремимся избежать, от этого никуда не исчезают.
Как же побороть эту склонность замыкаться внутри
удовольствия? В своей работе «По ту сторону принципа удовольствия»
Фрейд указывает два возможных пути. Один из них он назвал
«принципом реальности»: человек берется за решение
внутренних или внешних проблем чистым усилием воли. Он
решает «посредством принципа реальности достигнуть
примирения с существующим неудовольствием»16. Такое «примирение
с неудовольствием» в повседневной жизни требует смелости.
Но Фрейд был реалистом еще и потому, что понимал: принцип
реальности — не самый мощный фактор, поскольку смелость
встречается редко. Гораздо более верную и долговременную
победу над удовольствием сулит другой путь. В жизни каждой
ГОРОДСКИЕ ТЕЛА
459
личности, писал Фрейд, «постоянно случается так, что
отдельные влечения или их компоненты оказываются
несовместимыми с другими в своих целях или требованиях»17. Тело
оказывается в состоянии войны с самим собой: возбуждаясь, оно чувствует
дискомфорт, но противоречия между желаниями слишком
велики, и их невозможно ни разрешить, ни игнорировать.
В этом и заключается роль цивилизации: человеку во всей
его уязвимости она навязывает противоречивые
переживания, от которых тот не может уклониться и которые
заставляют его ощущать собственную неполноту. Именно в этом
состоянии «когнитивного диссонанса» (термин, предложенный
более поздним критиком) человек обращается к той сфере, где
удовольствие целостности невозможно,—замечает ее, изучает
и начинает с ней взаимодействовать. История западных городов
повествует нам о долгом конфликте между этим цивилизаци-
онным процессом и попытками конструировать и власть, и
удовольствие с помощью эталонных образов целостности. В
городском пространстве эталонные образы «тела» работали на власть.
Именно так их использовали афинские и римские язычники.
В ходе эволюции иудеохристианской традиции духовный
странник вернулся обратно в город, где его страдающее тело стало
причиной подчинения и смирения; духовное тело таким образом
превратилось в плоть и камень. На заре современной научной
эры город подчинился новому эталонному образу «тела» как
системы циркуляции, в которой центр был прокачивающим кровь
сердцем и подающими воздух легкими. Этот научный образ тела
стал использоваться в обществе как оправдание идеи
преимущества интересов индивида перед требованиями толпы.
И все же, как я постарался показать, все эти исторические
процессы несли в себе напряжение и внутренние
противоречия. В Афинах эталонный образ мужской наготы не мог ни
полностью подчинить себе, ни описать одетое женское тело. Центр
Рима выступал как мифическое средоточие вымысла о
преемственности и целостности римской истории; зрительные образы,
которые выражали эту целостность, стали инструментами вла-
460
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ста. В демократическом центре Афин гражданин становился
рабом голоса, в имперском центре Рима—рабом образа.
Когда раннее христианство укоренилось в городах, оно
примирилось с этой визуальной и географической тиранией,
несмотря на все ее противоречие духовному настрою кочевого
племени иудеохристианского Слова и Света. Христианство достигло
этого примирения с силами, царившими в городском центре,
разделив свои визуальные представления на две части: внутреннюю
и внешнюю, на дух и власть. Внешнее царство города не могло
полностью подавить стремление к вере во внутреннем городе
души. В христианских городах Средневековья это разделение
сохранялось, запечатленное в камне и воспринимаемое теперь как
контраст между улицей и священным убежищем сада или
церкви. Но даже само тело Христово, подражание которому должно
было править христианским городом, не могло обуздать улицу.
Не спасали городской центр и акты очищения. Стремление
к искупительному очищению оскверненного христианского
тела, которое лежало в основе сегрегации евреев и других
нечистых тел в ренессансной Венеции, не привело к восстановлению
духовного ядра города. То же самое можно сказать и о попытках
сплотить город церемониями революции. Желание
избавиться от препятствий и создать прозрачное пространство свободы
в центре революционного Парижа привело к образованию
пустоты и наступлению апатии, поставив крест на церемониях,
призванных вызвать устойчивое гражданское перерождение.
Использование отдельного, индивидуального тела как эталонного
образа современной эпохи едва ли увенчалось триумфом. Его
результатом стала пассивность.
Трещины и противоречия эталонных образов тела в
пространстве на короткие мгновения давали людям возможность
сопротивления. Возвращающее достоинство сопротивление Тес-
мофорий и Адоний, традиции общих обедов и омовений у
первых христиан, ритуалы ночного Гетто — все они не
разрушали господствующий порядок, но обогащали существование тех
тел, которые этот порядок стремился переделать по своему обра-
ГОРОДСКИЕТЕЛА
461
зу и подобию. На протяжении всей нашей истории сложные
взаимоотношения между телом и городом переносили людей, по
формулировке Фрейда, по ту сторону принципа удовольствия:
это случалось с неблагополучными телами, телами, не
знавшими покоя и возбужденными потрясениями. Сколько тревоги
и разлада в силах вынести люди? За две тысячи лет им немало
пришлось вынести в тех местах, к которым они были пылко
привязаны. Эту хронику активной телесной жизни в неустойчивом
центре можно считать одним из инструментов, позволяющих
понять наше нынешнее положение.
В конце концов это вечное соперничество между гнетом
и цивилизацией ставит перед нами вопрос о нашем
собственном будущем. Как нам избавиться от нашей телесной
пассивности? lue прореха в системе, выстроенной нами самими? Откуда
нам ждать избавления? Я настаиваю на том, что в мультикуль-
турном городе этот вопрос стоит особенно остро, несмотря на то
что он не затрагивается в сегодняшних спорах о групповых
травмах и правах меньшинств. Дело в том, что если не вывести наши
представления о самих себе из состояния покоя, ничто не
заставит большинство из нас (за исключением редких героев,
стучащихся в двери героиновых притонов) повернуться наружу, друг
навстречу другу, и открыть для себя Другого.
Любому обществу необходимы жесткие моральные установки,
если оно хочет заставить людей терпимо, а тем более
положительно относиться к двойственности, неполноте и инаковости.
В цивилизации Запада такие моральные установки возникли
благодаря религии. По выражению Питера Брауна, религиозные
ритуалы связывали тело и город: языческие обряды, такие как
Тесмофории, достигали этого результата, буквально выталкивая
женщин за пределы их домов в Пространство ритуала, где они,
как и мужчины, сталкивались с тендерными
двусмысленностями в понимании своего гражданского статуса.
Было бы упрощением сказать, что из практических
соображений нам снова необходим религиозный ритуал, который за-
462
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ставит людей развернуться наружу, тем более что история
ритуального пространства в городе не дает никаких оснований
рассчитывать на успех такого утилитарного подхода. С
исчезновением мира античного язычества, христиане нашли новый
духовный смысл в создании ритуальных пространств—путь труда
и самоограничения, который сначала преобразил сельское
убежище, а со временем наложил свой отпечаток и на город.
Значение подобных ритуальных пространств заключалось в заботе
о страдающих телах, и признание человеческого страдания
стало неотъемлемой частью христианского этоса. По трагической
иронии судьбы, когда христианские общины оказались перед
необходимостью сосуществовать с теми, кто не был похож на их
членов, они навязали эту связь между местом и бременем
страдающего тела тем, кого они притесняли,—например,
венецианским евреям.
Великая французская революция стала повторением этого
христианского конфликта, и все же не совсем. Физическое
окружение, в котором Революция сеяла страдания и в котором сами
революционеры стремились вдохнуть новую жизнь в
материнский образ, воплощающий и преображающий их страдания,
утратило своеобразие и плотность, которые характеризуют
место. Теперь страдающее тело выставляло себя напоказ в пустом
пространстве, в пространстве, где присутствовала абстрактная
свобода, но отсутствовали прочные связи между людьми.
Сюжет революционных обрядов вторил и языческой драме,
глубоко укорененному в античном мире стремлению направлять
ритуал, поставить его на службу угнетенным и отвергнутым. На
Марсовом поле в Париже такие попытки сконструировать
ритуал тоже потерпели фиаско: древнее убеждение о нездешней
природе ритуала теперь, казалось, означало, что воздействие ритуала
вообще лежит за пределами человеческих замыслов, поскольку
его вдохновляют силы, не подвластные гуманному и
цивилизованному обществу.
Вместо этого люди начали конструировать удовольствие,
которое обрело форму комфорта. Изначально это делалось, чтобы
ГОРОДСКИЕ ТЕЛА
463
исцелить усталость и облегчить бремя труда, но те же
дизайнерские решения, которые позволяли телу отдохнуть,
одновременно снижали весомость его ощущений, помещая его в ситуацию
все более пассивного взаимодействия с окружающей средой.
Путь планирования удовольствия вел человеческое тело ко все
более уединенному отдыху.
Если вера играет хоть какую-то роль в мобилизации сил
цивилизации на борьбу с гнетом, эта роль заключается в приятии
именно того, чего мы пытаемся избежать в своем уединении:
боли, пережитой боли вроде той, которую олицетворял собой
мой приятель перед кинотеатром. Его поврежденная рука
служила свидетельством пережитой им боли, которая лишает
общество возможности полностью определять данное тело. Смысл
боли всегда не вполне ясен для мира. Приятие боли лежит за
пределами установленного людьми миропорядка. Именно это
говорит о боли Витгенштейн в отрывке, процитированном в
начале этой книги. В своем основополагающем труде «Больное тело»
философ Элейн Скарри развила догадку Витгенштейна: «Хотя
способность испытывать физическую боль—такое же
первичное свойство человеческого тела, как и способность слышать,
осязать или вожделеть», боль отличается «от всех прочих
телесных или психических событий тем, что у нее нет объекта во
внешнем мире»18.
Возникновение гигантских объемов в проектах Этьена-
Луи Булле можно считать вехой, отмечающей тот момент,
когда светское общество утратило связь с болью. Революционеры
верили, что они смогут заполнить человеческим смыслом
пустоту, освобожденную от пережитков и препятствий
прошлого, что пространство, не оказывающее сопротивления,
удовлетворит потребностям нового общества. Они хотели избавиться от
боли, уничтожив место. Позднее то же самое уничтожение
работало на решение иной задачи—его целью стало бегство
индивида от других вместо сближения с ними. Таким образом,
Великая французская революция ознаменовала собой решительный
слом в понимании боли, существующем в нашей цивилизации:
464
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Давид поместил страдающее тело в то же пустое, бесприютное
пространство, где обитала Марианна, тело осталось наедине со
своей болью—а это совершенно невыносимое положение.
В гуще гражданских неурядиц мультикультурного города
кроется этическая проблема: как вызвать симпатию к Другим?
Я убежден, что этого можно добиться, только поняв, почему
телесная боль нуждается в месте, где она будет признана и где ее
трансцендентная природа станет очевидной. Такая боль имеет
особое предназначение в рамках человеческого опыта. Она
дезориентирует личность, делает ее ущербной и подавляет ее
стремление к целостности. Тело, принявшее боль, готово стать
городским телом, чутким к чужой боли, к общей боли людей на улице,
к боли, которая становится наконец переносимой,—даже
несмотря на то что в мире, полном различий, никто из нас не
способен объяснить другому, ни что он чувствует, ни кем является. Но
тело способно последовать этому городскому предназначению
только признав, что никакие ухищрения общества не могут
избавить его от страдания, что его несчастья не от мира сего и что его
корень боли—в Господней заповеди жить в изгнании сообща.
ПРИМЕЧАНИЯ
ВВЕДЕНИЕ.
ТЕЛО И ГОРОД
1 Munsterberg H. The Film:
A Psychological Study: The Silent
Photoplay in 1916 [1916]. New York:
Dover Publications, 1970. P. 82,95.
2 Kubey R., Csikszentmihalyi M.
Television and the Quality of Life:
How Viewing Shapes Everyday
Experience. Hillsdale, NJ: Lawrence
Erlbaum, 1990. P. 175.
3 Baumgartner M.P. The Moral Order
of a Suburb. New York: Oxford
University Press, 1988. P. 127.
4 См.: Horkheimer M., Adorno Th.
The Culture Industry:
Enlightenment as Mass Deception
// Dialectic of Enlightenment
[1944] /Trans, by J. Cummings.
New York: Continuum, 1993. P. 120-
167; Adorno Th. Culture Industry
Reconsidered // New German
Critique. 1975. № 6. P. 12-19;
Marcuse H. One-Dimensional Man:
Studies in the Ideology of Advanced
Industrial Society. Boston: Beacon
Press, 1964.
5 John of Salisbury. Policraticus [1159]
/ Ed. by C.C.J. Webb. Oxford: Oxford
University Press, 1909. Pt. 5. № 2;
поскольку в тексте много лакун,
цит. по: Le GoffJ. Head or Heart?
The Political Use of Body Metaphors
in the Middle Ages // Fragments
for a History of the Human Body /
Ed. by M. Feher, R. NaddafT, N. Tazi.
New York: Zone Books, 1990.
Part III. P. 17.
6 См.: Foucault M., SennettR.
Sexuality and Solitude // Humanities
in Review. 1982. Vol. 1. № 1. P. 3-21.
7 Wittgenstein L. The Blue and Brown
Books: Preliminary Studies for the
"Philosophical Investigations". New
York: Harper Colophon, 1965. P. 50
[Витгенштейн Л. Голубая и
коричневая книги: предварительные
материалы к «Философским
исследованиям» / Пер. В.А.
Суровцева, В.В. Иткина. Новосибирск
Сибирское университетское
издательство, 2008. С. 85].
466
ГЛАВА ПЕРВАЯ.
НАГОТА
1 Loraux N. The Invention of Athens:
The Funeral Oration in the Classical
City [1981] /Trans, by A. Sheridan.
Cambridge, MA: Harvard University
Press, 1986. P. 113.
2 Thucydides. History of the
Peloponnesian War / Trans, by
R. Warner. London: Penguin, 1954.
P. 145 [здесь и далее рус. пер.
Г. А. Стратановского].
3 Ibid. Р. 146.
4 Ibid. Р. 147·
s См.: Clark К. The Nude: A Study
in Ideal Form. Princeton: Princeton
University Press, 1956.
6 Thucydides. Op. cit. P. 38.
7 Wycherley R.E. The Stones of
Athens. Princeton: Princeton
University Press, 1978. P. 19.
8 Цит. no: Cipolla CM. Economic
History of Europe. London: Fontana,
1972. Vol. I. P. 144-145.
9 Finley M.I. The Ancient Economy
/ 2nd ed. London: Hogarth Press,
1985. P. 81.
10 Hesiod, Works and Days, 176-178;
цит. no: Ibid. P. 81 [здесь и далее
рус. пер. В.В. Вересаева].
11 Roberts J.W. City of Sokrates: An
Introduction to Classical Athens.
London; New York: Routledge &
Kegan Paul, 1984. P. 10-11.
12 Aristotle. Politics / Ed. by
R. McKeon, trans, by B. Jowett.
New York: Random House, 1968.
VII, 1330b [здесь и далее рус. пер.
САЖебелева].
13 Thucydides. Op. cit. P. 120.
14 Finley M.I. The Ancient Greeks:
An Introduction to Their Life and
Thought. London: Penguin, 1963.
P. 137.
15 Dodds E.R. The Greeks and the
Irrational. Berkeley: University
of California Press, 1951. P. 183.
16 Harrison E.B. Athena and Athens
in the East Pediment of the
Parthenon [1967] //The Parthenon /
Ed. by V.J. Bruno. New York: Norton,
1974. P. 226.
17 Fehl Ph. Gods and Men in the
Parthenon Frieze [1961] // Ibid. P. 321.
18 BoardmanJ. Greek Art and
Architecture // The Oxford
History of the Classical World / Ed.
by J. Boardman, J. Griffin, O. Murray.
New York: Oxford University Press,
1986. P. 291.
19 См.: Clark K. Op. cit. P. 3,23-24.
20 Brown P. The Body and Society:
Men, Women, and Sexual
Renunciation in Early Christianity.
New York: Columbia University
Press, 1988. P. 10.
21 Aristotle. On the Generation
of Animals / Trans, by A.L. Peck.
Cambridge, MA Harvard University
Press, 1953 (Loeb Classical Library).
ПРИМЕЧАНИЯ К ПЕРВОЙ ГЛАВЕ
467
P. il. Il.i, 716a, 5 [здесь и далее рус.
пер. В.П. Карпова].
22 LaqueurTh. Making Sex: Body
and Gender from the Greeks
to Freud. Cambridge: Harvard
University Press, 1990. P. 39.
23 Henner-Auge F. Semen and Blood:
Some Ancient Theories Concerning
Their Genesis and Relationship
// Fragments for a History of the
Human Body / Ed. by M. Feher,
R. Naddaff, N. Tazi. New York: Zone
Books, 1990. Part III. P. 171.
24 Aristotle. On the Generation of
Animals. P. 133. Il.i, 732a, 22-23.
25 LaqueurTh. Op. cit P. 25.
26 Цит. no: Ibid. P. 25 [рус. пер.
СП. Кондратьева].
27 См. критику Эмпедокла
Аристотелем (Aristotle. On Sense and
Sensible Objects // Idem. On the
Soul, Parva Naturalia, On Breath
/ Trans, by W.S. Hett. Cambridge,
MA: Harvard University Press, 1964
(Loeb Classical Library). P. 223.
437b, 25 [здесь и далее рус. пер.
Е.В. Алымовой]).
28 Ibid. Р. 22$. 438Ь.
29 См., напр., обсуждение Тирании
в Книге VIII в «Государстве» (Plato.
The Republic / Trans, by D. Lee /
2nd ed. New York: Penguin, 1974.
p. 381-398).
з° См.: Knox B.M.W. Silent Reading
in Antiquity // Greek, Roman, and
Byzantine Studies. 1968. № 9. P. 421-
435; SvenbroJ. La voix intérieure
// Phrasikleia: anthropologie de la
lecture en Grèce ancienne. Paris:
Editions la Découverte, 1988.
P. 178-206.
31 Sissa G. The Sexual Philosophies
of Plato and Aristotle // A History
of Women in the West / Ed. by
P.S. Pantel, trans, by A. Goldhammer.
Cambridge, MA: Harvard University
Press, 1992. Vol. I: From Ancient
Goddesses to Christian Saints.
P. 80-81.
32 The World of Athens: An
Introduction to Classical Athenian Culture /
Joint Association of Classical
Teachers. Cambridge, UK: Cambridge
University Press, 1984. P. 174.
33 Wycherky R.E. The Stones of
Athens. P. 219.
34 Aristophanes, The Clouds,
1005 ff; перефразировано: Ibid.
P. 220 [здесь и далее рус. пер.
А.И. Пиотровского].
35 Wycherley R.E. How the Greeks
Built Cities / 2nd ed. New York:
Norton, 1976. P. 146.
36 См.: Brown P. Body and City //
Idem. The Body and Society. P. 5-32.
37 Aiskhines, Prosecution of
Timarkhus, 138 ff; цит. no: Dover К.
Greek Homosexuality. Cambridge,
MA: Harvard University Press, 1989
[рус. пер. ЭД. Фролова].
468
38 Halpenn DM. One Hundred
Years of Homosexuality. London:
Routledge, 1990. P. 22.
39 Dover K. Op. cit. P. 100.
4° Цит. no: Ibid. P. 106.
41 Homer. Iliad / Trans, by
A.T. Murray. Cambridge, MA:
Harvard University Press, 1963 (Loeb
Classical Library). Vol. II. P. 129.
15.306-10 [здесь и далее рус. пер.
Н.И. Гнедича].
«2 BremmerJ. Walking, Standing,
and Sitting in Ancient Greek Culture
// A Cultural History of Gesture /
Ed. by J. Bremmer, H. Roodenburg.
Ithaca, NY: Cornell University Press,
1991. P. 20. Гомеровская цитата из
«Илиады»: 5778.
43 См. отрывок 2бз (Kock Т.
Comicorum Atticorum fragmenta /
Trans, by C.B. Gulick. Leipzig, 1880-
1888; цит. no: BremmerJ. Walking,
Standing, and Sitting in Greek
Culture. P. 19).
44 Thucydides. Op. cit. P. 149.
45 Благодарю проф. Г.У. Боуэрсока
за это наблюдение.
46 BergquistB. Sympotic Space:
A Functional Aspect of Greek
Dining-Rooms // Sympotica:
A Symposium on the Symposion /
Ed. by O. Murray. Oxford: Clarendon
Press, 1990. P. 54.
47 Camp JM. The Athenian Agora:
Excavations in the Heart of Classical
Athens. London: Thames & Hudson,
1986.
48 Bruno V.J. The Parthenon and
the Theory of Classical Form //
The Parthenon. P. 95.
49 CampJM. Op. cit. P. 72.
50 Aristophanes, The Clouds, 207;
цит. no: Wycherley R.E. The Stones
of Athens. P. 53.
51 См.: WinckelmannJ.J. History of
Ancient Art / Trans, by J.G. Herder.
New York: Ungar, 1969.
52 Aristotle, Politics, 1331b.
53 Ibid.
54 См. обсуждение: Ober J. Mass
and Elite in Democratic Athens:
Rhetoric, Ideology, and the Power
of the People. Princeton: Princeton
University Press, 1989. P. 299-304.
55 Wycherley R.E. How the Greeks
Built Cities. P. 130.
56 Finley All. The Ancient Greeks.
P. 134.
57 BremmerJ. Walking, Standing,
and Sitting in Ancient Greek Culture.
P. 25-26.
58 Zeitlin F. Playing the Other //
Nothing to Do with Dionysos? / Ed. by
J.J. Winkler, F. Zeitlin. Princeton:
Princeton University Press, 1990. P. 72.
59 Это описание взято из: Xenophon.
Hellenika / Trans, by P. Krentz.
Warminster, UK: Aris & Phillips,
1989. P. 59-67.1-II.3.10 [здесь и
далее рус. пер. С.Я. Лурье].
ПРИМЕЧАНИЯ К ПЕРВОЙ ГЛАВЕ
469
60 Hesiod. Op. cit., 43; цит. по:
The World of Athens. P. 95.
61 Ober J. Op. cit. P. 175-176.
62 Thucydides. Op. cit. P. 49.
63 Ibid. P. 242; курсив мой.
64 Winkler J.J. The Ephebes' Song
// Nothing to Do with Dionysos?
P. 40-41.
65 Для более подробного
изучения этого вопроса см.: Stanton G.R.,
Bicknell P.J. Voting in Tribal Groups in
the Athenian Assembly // Greek,
Roman, and Byzantine Studies. 1987.
№ 28. P. 51-92; Hansen M. The
Athenian Ekklesia and the Assembly
Place on the Pnyx // Ibid. 1982. № 23.
P. 241-249.
66 Loraux N. The Invention of Athens.
P. 175. См. также: Will E. Bulletin
historique // Revue Historique. 1967.
№ 238. P. 396-397.
ГЛАВА ВТОРАЯ.
ПОКРОВ ТЬМЫ
1 Thuqjdides. History of the
Peloponnesian War / Trans, by
R. Warner. London: Penguin,
1954. P. 151 [здесь и далее пер.
Г. А. Стратановского].
2 Ibid. P. 146.
3 Roberts J.W. City of Sokrates: An
Introduction to Classical Athens.
London; New York: Routledge &
Kegan Paul, 1984. P. 128.
4 Simon E. Festivals of Attica:
An Archaeological Commentary.
Madison: University of Wisconsin
Press, 1983. P. 18-22.
5 VernantJ.-P. Introduction //
Détienne M. The Gardens of
Adonis / Trans, by J. Lloyd. Atlantic
Highlands, NJ: The Humanities
Press, 1977. P. xvii-xviii.
6 Pomeroy S. Goddesses, Whores,
Wives, and Slaves: Women in
Classical Antiquity. New York:
Schocken Books, 1975. P. 78.
7 См.: Jakobson R. Two Types of
Language and Two Types of Aphasie
Disturbances // Fundamentals of
Language / Ed. by R. Jakobson,
M. Halle. The Hague: Mouton, 1956;
Brooks P. Reading for the Plot. New
York: Knopf, 1984. Ch. 1.
8 Herodotus, History, II, 35; цит.
no: Lissarrague F. Figures of
Women // A History of Women
in the West / Ed. by P.S. Pantel.
Vol. 1: From Ancient Goddesses to
Christian Saints. P. 194 [рус. пер.
Г. А. Стратановского].
9 Xenophon, Oikonomikos, 7,35;
цит. no: The World of Athens: An
Introduction to Classical Athenian
Culture / Joint Association of
Classical Teachers. Cambridge,
UK: Cambridge University
Press, 1984. P. 168 [рус. пер.
СИ. Соболевского].
470
10 Le GeurerA. Scent /Trans, by
R. Miller. New York: Random House,
1992. P. 8.
11 Aristophanes, Lysistrata, 928;
цит. no: Loraux N. Herakles:
The Super- Male and the
Feminine // Before Sexuality: The
Construction of Erotic Experience
in the Ancient Greek World /
Ed. by D. Halperin, J.J. Winkler,
F.I. Zeitlin. Princeton: Princeton
University Press, 1990. P. 31 [рус.
пер. А.И. Пиотровского].
12 Maphron, Letters, IV, 14; цит. по:
Denenne M. Op. cit. P. 65.
13 Dioscondes. Materia Medica,
11.136.1-3; цит. no: Ibid. P. 68.
* Ibid.
15 Cantarella E. Bisexuality in
the Ancient World / Trans, by
С. O'Cuilleanain. New Haven: Yale
University Press, 1992. P. 90.
16 Murray O. Sympotic History //
Sympotica: A Symposium on the
Symposion / Ed. by O. Murray.
Oxford: Clarendon Press, 1990. P. 7.
17 Rossi LE. II simposio greco
arcaico e classico; цит. no: PellizerE.
Sympotic Entertainment / Trans, by
C. McLaughlin // Ibid. P. 183.
18 Sappho. Greek Lyrics / Trans, by
D.A. Campbell. Cambridge: Harvard
University Press, 1982 (Loeb
Classical Library). Vol. 1. P. 79-80
[рус. пер. B.B. Вересаева].
19 Plato, Phaedrus, 276b (Plato.
Phaedrus and Letters VII and VIII
/Trans, by W. Hamilton. London:
Penguin, 1973. P. 98 [рус. пер.
A.H. Егунова]).
20 См.: Winkler J.J. The Laughter of the
Oppressed: Demeter and the Gardens
of Adonis // The Constraints of
Desire: The Anthropology of Sex and
Gender in Ancient Greece. New York:
Routledge, Chapman & Hall, 1990.
21 Burkert W. Structure and History
in Greek Mythology and Ritual.
Berkeley: University of California
Press, 1979. P. 3. «Ouk emos ho
mythos» первоначально
встречается у Еврипида, фрагмент 484.
Различие проводится далее у
Платона в «Пире» (Plato. Symposium /
Trans, by A. Nehamas, P. Woodruff.
Indianapolis: Hackett Publishing,
1989. P. 7.177a) и в «Горгии» (Idem.
Gorgias / Trans, by W. Hamilton.
London: Penguin, I960. P. 142-143,
148-149.5233,5273).
22 Portas M. Ritual and Office //
Essays on the Ritual of Social
Relations / Ed. by M. Gluckman.
Manchester: Manchester University
Press, 1962. P. 86.
23 Thucydides. Op. cit. P. 152-153.
* Ibid. P. 155.
2s Ibid.
26 Plutarch. Perikles // Idem. The Rise
and Fall of Athens: Nine Greek Lives
ПРИМЕЧАНИЯ К ВТОРОЙ ГЛАВЕ
471
/ Trans, by I. Scott-Kilvert. London:
Penguin, i960. P. 201 [рус. пер.
СИ. Соболевского].
27 Thucydides. Op. cit. P. 604.
28 См.: Lorawc N. The Invention
of Athens: The Funeral Oration in
the Classical City [1981] / Trans, by
A. Sheridan. Cambridge, MA: Harvard
University Press, 1986. P. 98-118.
Цитата из: Thucydides. Op. cit. P. 148.
29 Thucydides. Op. cit. P. 156.
30 VernantJ.-P. Dim Body, Dazzling
Body // Fragments for a History of
the Human Body / Ed. by M. Feher,
R. Naddaff, N. Tazi. New York:
Urzone Books, 1989. Part I. P. 28.
31 Thucydides. Op. cit. P. 147.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
ОДЕРЖИМОСТЬ
ОБРАЗОМ
1 Brown F.E. Roman Architecture.
New York: George Braziller, 1972.
P. 35.
2 MacDonaM W.L. The Pantheon.
Cambridge, MA: Harvard University
Press, 1976. P. 88-89.
3 Ibid. P. 88.
4 Seneca, Letters to Lucilius, № 37;
цит. no: Barton C.A. The Sorrows
of the Ancient Romans. Princeton:
Princeton University Press, 1993.
P. 15-16 [рус. пер. CA. Ошерова].
s Barton CA. Op. cit. P. 49.
6 Gombrich E.H. Art and Illusion:
A Study in the Psychology of
Pictorial Representation. Princeton:
Princeton University Press, 1961. P. 129.
7 Augustine. Confessions /Trans,
by R.S. Pine-Coffin. London:
Penguin, 1961. P. 233. X.30 [рус. пер.
M.E. Сергиенко]; библейская
отсылка: Ин 2:ι6.
8 Bnlliant R. Visual Narratives.
Ithaca, NY: Cornell University Press,
1984. P. 122.
9 Boatwnght M.T. Hadrian and the
City of Rome. Princeton: Princeton
University Press, 1987. P. 46.
10 Suetonius. Nero // Idem. The
Twelve Caesars / Trans, by R. Graves;
rev. ed. London: Penguin, 1979.
P. 229 [здесь и далее рус. пер.
МЛ. Гаспарова].
11 Millar F. The Emperor in the
Roman World. Ithaca: Cornell
University Press, 1992. P. 6.
12 Vitruvius. The Ten Books of
Architecture / Trans, by M.H.
Morgan. New York: Dover, I960.
P. 1 [здесь и далее рус. пер.
Ф.А. Петровского].
13 Livy.Histories,V.544;Цит-по:
Urbs Roma / Ed. by D. Dudley.
London: Phaidon Press, 1967. P. 5
[рус. пер. CA. Иванова].
14 KostofS. A History of Architecture:
Settings and Rituals. Oxford: Oxford
University Press, 1985. P. 191.
472
15 Ovid. Fasti / Trans, by J.G. Frazer.
Cambridge, MA: Harvard University
Press, 1976 (Loeb Classical Library).
P. 107. II.683-684 [рус. пер.
Ф.А. Петровского].
16 Цит. по: Mazzolani L. The Idea of
the City in Roman Thought / Trans,
by S. O'Donnell. London: Hollis and
Carter, 1970. P. 175.
17 Grant M. History of Rome. New
York: Scribners, 1978. P. 302.
18 Ibid. P. 266.
19 Boatwnght M.T. Op. cit. P. 132.
20 Scriptores Historiae Augustae,
Hadriani 8.3; цит. no: Ibid. P. 133 [cp.
рус. пер.: «И на сходках, и в
сенате он часто говорил, что будет
вести государственные дела, не
забывая о том, что это—дела народа,
а не его собственные»
(Властелины Рима: Биографии римских
императоров от Адриана до
Диоклетиана / Пер. СП. Кондратьева под
ред. А.И. Доватура. М.: Наука, 1992·
Сю)].
21 MacDonald W.L. The Architecture
of the Roman Empire. New Haven:
Yale University Press, 1982. Vol. I:
An Introductory Study. P. 129.
22 Dio Cassius. Roman History / Trans,
by E. Cary. Cambridge, MA: Harvard
University Press, 1925 (Loeb Classical
Library). Vol. 8. P. 433. LXIX, 4.6
[рус. пер. A.B. Махлаюка].
23 Pliny, Natural History, XXXV, 64-
ПРИМЕЧАНИЯ К ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ
66; цит. по: Bryson N. Vision
and Painting. New Haven: Yale
University Press, 1983. P. 1
[рус. пер. Г. А. Тароняна].
24 Barton CA. Op. cit. P. 13.
25 См.: Hopkins К. Murderous Games
// Death and Renewal. New York:
Cambridge University Press, 1983.
P. 1-30.
26 Цит. no: Welch K. The Roman
Amphitheater After Golvin / New
York University, Institute of Fine
Arts. P. 23. Рукопись [здесь и далее
рус. пер. Ф.А. Петровского].
Благодарю доктора Уэлч за этот и прочие
материалы по теме амфитеатра.
27 Tertullian. Apology // Apologetical
Works / Trans, by R. Arbesmann,
E.J. Daly, E.A. Quain. Washington,
D.C.: Catholic University of America
Press, 1950 (= Fathers of the Church
Series. Vol. 10). P. 48 [рус. пер.
Е.В.Карнеева].
28 Welch К. Op. cit. P. 23.
29 Suetonius. Op. cit. P. 39.
30 Ibid.
31 Beacham R.C. The Roman Theater
and Its Audience. Cambridge, MA:
Harvard University Press, 1992.
P. 152.
32 Quintilian, Institutio Oratoria,
100; цит. no: Graf F. Gestures
and Conventions: The Gestures
of Roman Actors and Orators //
A Cultural History of Gesture /
473
Ed. by J. Bremmer, H. Roodenburg.
Ithaca, NY: Cornell University Press,
1991. P. 41.
33 Brilliant R. Gesture and Rank
in Roman Art. New Haven:
Connecticut Academy of Arts
and Sciences, 1963. P. 129-130.
34 См.: AuguetR. Cruelty and
Civilization: The Roman Games.
London: Allen & Unwin, 1972.
35 Vitruvius. Op. cit. P. 73.
36 Ibid. P. 75.
37 RykwertJ. The Idea of a Town.
Cambridge, MA: MIT Press, 1988.
P. 59-
38 Polybius, Histories, VI, 31; цит.
no: KostofS. The City Shaped:
Urban Patterns and Meanings
Through History. London: Thames
& Hudson, 1991. P. 108 [рус. пер.
Ф.С.Мищенко].
39 Reynolds]. Cities //The
Administration of the Roman
Empire / Ed. by D. Braund. Exeter:
University of Exeter Press, 1988.
P. 17.
40 Ovid. Tristia, V, 7.42-46,49-52 //
Ovid in Six Volumes / Trans, by
A.L. Wheeler, rev. G.P. Gould /
2nd ed. Cambridge, MA: Harvard
University Press, 1988 (Loeb
Classical Library). Vol. VI. P. 239
[рус. пер. СВ. Шервинского].
41 Tacitus. Agricola, Germania,
Dialogus / Trans, by M. Hutton,
rev. R.M. Ogilvie. Cambridge,
MA: Harvard University Press, 1980
(Loeb Classical Library). P. 67 [рус.
пер. A.C. Бобовича].
42 RykwertJ. Op. cit. P. 62.
43 Plautus. Curculio // Plautus in
Five Volumes / Trans, by P. Nixon.
Cambridge, MA: Harvard University
Press, 1977 (Loeb Classical
Library). Vol. И. P. 239· 466-482
[рус. пер. Ф.А. Петровского,
СВ. Шервинского].
44 МасМыИеп R. Paganism in the
Roman Empire. New Haven: Yale
University Press, 1981. P. 80.
45 KrautheimerR. Early Christian
and Byzantine Architecture / 4th ed.
New York: Viking-Penguin, 1986.
P. 42.
46 Stambaugh J.E. The Ancient Roman
City. Baltimore: The Johns Hopkins
University Press, 1988. P. 119.
47 Brown F.E. Op. cit. P. 13-14.
48 Stambaugh J.E. Op. cit. P. 44.
49 Bell M. Some Observations on
Western Greek Stoas / American
Academy of Rome, 1992. Рукопись.
P. 19-20; см. также: Détienne M.
En Grèce archaïque: Géométrie
Politique et Société // Annales ESC.
1965. Vol. 20. P. 425-442.
50 VelleiusPaterculus. Compendium
of Roman History / Trans, by
F.W. Shipley. London: Heinemann,
1924. IL P. XX, CXXVI, 2-5
474
[рус. пер. А.И. Немировского,
М.Ф.Дашковой],
s» Brown F.E. Op. cit. P. 14.
s2 Thebert Y. Private Life and
Domestic Architecture in Roman
Africa // A History of Private
Life / Ed. by P. Veyne, trans, by
A. Goldhammer. Cambridge,
MA: Harvard University Press,
1990. Vol. I: From Pagan Rome
to Byzantium. P. 363.
53 См.: Girouard M. Life in the
English Country House: A Social
and Architectural History. New
Haven: Yale University Press, 1978.
54 Brown P. The Body and Society:
Men, Women, and Sexual
Renunciation in Early Christianity.
New York: Columbia University
Press, 1988. P. 21.
55 Plutarch, Praecepta conjugalia,
47.144 f; цит. no: Brown P. Op. cit.
P. 21 [рус. пер. Э.Г. Юнца].
56 Оба текста цит. по: The
Oxford Book of Latin Verse / Ed.
by H.W. Garrod. Oxford: Oxford
University Press, 1944. P. 349
(латинский оригинал), 500
(английский перевод).
57 Еще раз благодарю проф. Г.У. Бо-
уерсока за ценное наблюдение.
58 Yourcenar M. Memoirs of Hadrian /
Trans, by G. Frick. New York: Farrar,
Straus, & Giroux, 1954. P. 319-
320 [Юрсенар M. Заметки к
роману «Воспоминания Адриана» //
Она же. Избранные сочинения:
В з т. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха,
2004Т.2.С.284].
S9 Г.У. Гаррод проводит эту
параллель, но считает, что
стихотворение Поупа вдохновлено
стихотворением Адриана. См.: The Oxford
Book of Latin Verse. P. 500-501. Мне
такая прямая связь
представляется маловероятной.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
ВРЕМЯ В ТЕЛЕ
1 Ongen. Contra Celsum / Trans,
and ed. by H. Chadwick / Rev
ed. Cambridge, UK: Cambridge
University Press, 1965. P. 152 [здесь
и далее рус. пер. Л.И. Писарева].
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Nock A.D. Conversion. Oxford:
Oxford University Press, 1969. P. 227.
6 Оба текста см.: Ibid. P. 8. Нок
цитирует книгу Джеймса
«Многообразие религиозного опыта».
7 См.: Brown P. The Body and
Society: Men, Women, and Sexual
Renunciation in Early Christianity.
New York: Columbia University
Press, 1988. P. 5-32.
8 Следующие два абзаца в
переработанном виде позаимствованы
ПРИМЕЧАНИЯ К ЧЕТВЕРТОЙ ГЛАВЕ
475
из моей более ранней книги «The
Conscience of the Eye» (New York:
Norton, 1992. P. 5-6).
9 Cox H. The Secular City:
Secularization and the Urbanization
in Theological Perspective / Rev. ed.
New York: Macmillan, 1966. P. 49
[КоксХ. Мирской град:
Секуляризация и урбанизация в
теологическом аспекте / Пер. К.Н.
Туровской. М.: Восточная литература
РАН, 1995· С. 70].
ю Epistle to Diognatus, 7.5; Цит-
по: Pelikan J. Jesus Through the
Centuries. New Haven: Yale
University Press, 1985. P. 49-50
[рус. пер. ILA. Преображенского].
11 Augustine. The City of God / Trans,
by G.G. Walsh et al. Washington,
D.C.: Catholic University of America
Press, 1950 (= Fathers of the Church
Series. Vol. 14). Vol. 2. P. 415. XV.i
[рус. пер. M.E. Сергиенко].
12 Ongen. Op. cit. P. 313.
13 См.: ι Кор ιι:2-ι6,12:4-13.
14 John Chrysostom, Homiliae
in Matthaeum, 6.8:72; цит. no:
Brown P. The Body and Society.
P. 315-317 [«Толкование на
святого Матфея» Иоанна Златоуста цит.
в пер. Санкт-Петербургской
Духовной академии].
15 Brown P. Op. cit. Р. 316.
16 Ongen. Op. cit. P. 381.
* Ibid. P. 382.
18 Schwanz R. Rethinking Voyeurism
and Patriarchy: The Case of Paradise
Lost // Representations. 1991.
Vol. 34. P. 87.
19 Dio Cassius. Roman History /
Trans, by E. Сагу. Cambridge, MA:
Harvard University Press, 1917 (Loeb
Classical Library). Vol. VI. P. 263.
LIII.27.2; цит. no: MacDonald W.L.
The Pantheon. Cambridge, MA:
Harvard University Press, 1976.
P. 76. Письмо Шелли см.: Letters
of Percy Bysshe Shelley / Ed. by
F.L. Jones. Oxford: Oxford University
Press, 1964. Vol. 2. P. 87-88; цит. no:
MacDonald W.L. Op. cit. P. 92.
20 1 Kop 11:20,12-14.
21 White L.M. Building God's House
in the Roman World: Architectural
Adaptation Among Pagans, Jews,
and Christians. Baltimore: Johns
Hopkins University Press, 1990.
P. 107,109.
22 Гал з:28.
23 Augustine. Confessions / Trans,
by R.S. Pine-Coffin. London:
Penguin, 1961. P. 229. X.30 [рус. пер.
M.E. Сергиенко].
^Ibid.
251 Кор 11:24-25.
26 Цит. по: Meefes W.A. The Moral
World of the First Christians.
Philadelphia: Westminster Press,
1986. P. 113; библейская отсылка:
Кол 3:9-11; Эф 4:22-24.
476
27 Seneca. Moral Epistles, LVI, 1-2;
цит. no: Roman Civilization / 3rd
ed.; ed. by N. Lewis, M. Reinhold.
New York: Columbia University
Press, 1990. Vol. II: The Empire.
P. 142 [рус. пер. CA. Ошерова].
28 CarcopinoJ. Daily Life in Ancient
Rome / Trans, by E.O. Lorimer. New
Haven: Yale University Press, 1968.
P. 263 [КаркопиноЖ.
Повседневная жизнь Древнего Рима.
Апогей Империи. М.: Молодая
гвардия; Палимпсест, 2008. С. 363]·
Латинский оригинал см.: Corpus
Inscriptionum Latinarum. Vol. VI.
15258.
29 Meeks W.A. The First Urban
Christians. New Haven: Yale
University Press, 1983. P. 153.
30 NeusnerJ. A History of the
Mishnaic Law of Purities. Leiden:
Brill, 1977 (Studies in Judaism in
Late Antiquity). Vol. 6. Pt 22: The
Mishnaic System of Uncleanness.
P. 83-87.
31 Рим 6:3.
32 КОЛ 2:11-12.
33 KrautheimerR. Early Christian
and Byzantine Architecture / 4th ed.
New York: Viking-Penguin, 1986.
P. 24-25.
34 KrautheimerR. Rome: Profile
of a City, 312-1308. Princeton:
Princeton University Press, 1983.
P. 24.
35 KrautheimerR. Early Christian
and Byzantine Architecture. P. 40.
36 См.: White L.M. Op. cit. P. 102-123.
" Ibid.
38 Brown P. Augustine of Hippo.
Berkeley: University of California
Press, 1967. P. 289.
39 Ibid. P. 321.
40 Augustine. The City of God. P. 347.
XIV. 1 [рус. пер. M.E. Сергиенко].
41 См.: Nietzsche F. On the Genealogy
of Morals / Trans, by W. Kaufmann,
R.J. Hollingdale. New York: Vintage
Books, 1967. P. 44-46 [здесь и далее
рус. пер. К. А. Свасьяна].
42 Ibid. Р. 45·
43 Ibid.; выделение в оригинале.
44 Ibid Р. 46.
45 См.: DumontL. Homo Hierarchies:
Essai sur le système des castes. Paris:
Gallimard, 1967.
ГЛАВА ПЯТАЯ. ОБЩИНА
1 Duby G. The Age of the Cathedrals:
Art and Society, 980-1420 / Trans,
by E. Levieux, B. Thompson.
Chicago: University of Chicago Press,
1981. P. 112 \Дюби Ж. Время
соборов: Искусство и общество, 980-
1420 / Пер. М.Ю. Рожновой. М.:
Ладомир, 2002. С. 138].
2 Weber M. The City / Trans, by
D. Martingale, G. Neuwirth. New
York: Macmillan, 1958. P. 212-213.
ПРИМЕЧАНИЯ К ПЯТОЙ ГЛАВЕ
477
3 Ullmann W. The Individual
and Society in the Middle Ages.
Baltimore: Johns Hopkins University
Press, 1966. P. 132.
4 Цит. no: Le Goff. Head or Heart?
The Political Use of Body Metaphors
in the Middle Ages // Fragments for
a History of the Human Body / Ed.
by M. Feher, R. NaddafT, N. Tazi. New
York: Zone Books, 1990. Pt. III. P. 17.
5 Ullmann W. Op. cit. P. 17.
6 Weber M. Op. cit. P. 181-183.
7 Pirenne H. Medieval Cities / Trans,
by F. Halsey. Princeton: Princeton
University Press, 1946. P. 102 [Пи-
ренн А. Средневековые города
и возрождение торговли / Пер.
СИ. Архангельского. Горький:
Изд. Горьковского пед. института,
1941. С. 56].
8 Duty G. Op. cit. P. 221 \Дюби Ж.
Указ. соч. С. 246]; выделение мое.
9 GnnnellR. The Theoretical Attitude
Towards Space in the Middle Ages
// Speculum. 1946 (April). Vol. XXI.
№ 2. P. 148.
10 Berthelemy J. Le Livre de Crainte
Amoureuse; цит. по: HuizingaJ.
The Waning of the Middle Ages /
Trans, by F. Hopman. New York:
St. Martin's Press, 1954. P. 199 [Хёй-
зинга Й. Осень средневековья /
Пер. Д.В. Сильвестрова. СПб.:
Издательство Ивана Лимбаха, 2θΐι.
С 339].
11 Le Goff J. Medieval Civilization,
400-1500 / Trans, by J. Burrows.
Cambridge, MA: Basil Blackwell,
1988. P. 158 [ЛеГоффЖ.
Цивилизация средневекового Запада / Пер.
Ю.П. Малинина. Екатеринбург:
У-Фактория, 2005- С. 192].
12 Bullough V. Medieval Medical and
Scientific Views of Women // Viator.
1973. №4. P. 486.
13 См. предисловие; цит. по: Tem-
kin О. Galenism: Rise and Decline
of a Medical Philosophy. Ithaca, NY:
Cornell University Press, 1973. P. 102.
14 Ibid. P. 103.
15 Благодарю доктора Чарльза Ma-
лека за перевод этих сведений.
16 Последующее описание
основано на сведениях из книги:
PoucheUe M.-Ch. The Body and Surgery
in the Middle Ages / Trans, by R.
Morris. New Brunswick, NJ: Rutgers
University Press, 1990; Paris, 1983.
17 См. также описание: Duty G.
The Emergence of the Individual;
Solitude: Eleventh to Thirteenth
Century // A History of Private Life
/ Ed. by Ph. Aries, G. Duby, trans,
by A. Goldhammer. Cambridge, MA:
Harvard University Press, 1988. Vol.
II: Revelations of the Medieval World.
P. 522. ЩюбиЖ. Рождение
индивида // История частной жизни / Под
общей ред. Ф. Арьеса и Ж. Дюби;
пер. Е.Решетниковой, П. Каштано-
478
ва. M.: Новое литературное
обозрение, 2015- Т. 2: Европа от
феодализма до Ренессанса. С. 627-628].
18 MondevüleH. de. Chirurgie [of
Ε. Nicaise], 243; Barthelmey l'Anglais,
Grand Propriétaire, fxxvj; оба
текста цит. по: Pouchelle M.-Ch. Op. cit.
P. 115.
l* Ibid.
20 Le Ménagier de Paris, I; цит. по:
Pouchelle M.-Ch. Op. cit. P. 116.
21 Duby G. The Age of the Cathedrals.
P. 233 \Дюби Ж. Время соборов.
С. 259]·
22 John of Salisbury, Policraticus,
IV. 8, "De moderatiore justitiae
et elemendae principis"; цит. no:
Pouchelle M.-Ch. Op. cit. P. 203.
23 Высказанная де Мондевилем
идея внутренне проницаемого
города перекликается с более
поздними итальянскими
представлениями о городе; см.: Choay F.
La ville et le domaine bâti comme
corps dans les textes des architectes-
théoriciens de la première
Renaissance italienne // Nouvelle
Revue de Psychanalyse. 1974. № 9.
24 См.: Bynum C.W. Jesus as Mother:
Studies in the Spirituality of the High
Middle Ages. Berkeley: University of
California Press, 1982. P. 110-125.
25 См.: Bynum C.W. The Female
Body and Religious Practice in the
Later Middle Ages // Fragments for
a History of the Human Body. Pt. I.
P. 176-188.
26 Anseim, prayer 10 to St. Paul, Opera
omnia; цит. no: Bynum C.W. Jesus as
Mother. P. 114; библейская отсылка:
Мф 23:37.
27 Bynum C.W. Jesus as Mother. P. 115.
28 Цит. no: Luscombe D. City and
Politics Before the Coming of
the Politics: Some Illustrations //
Church and City, 1000-1500: Essays
in Honour of Christopher Brooke
/ Ed. by D. Abulafia, M. Franklin,
M. Rubin. Cambridge, UK: Cambridge
University Press, 1992. P. 47.
29 См.: Klibansky R. Melancholy
in the System of the Four
Temperaments // Saturn and
Melancholia / Ed. by R. Klibansky,
E. Panofsky, F. Saxl. New York: Basic
Books, 1964. P. 97-123.
30 Duby G. The Age of the Cathedrals.
P. 228 \ДюбиЖ. Время соборов.
С. 253].
31 Anes Ph. Western Attitudes Toward
Death: From the Middle Ages to
the Present / Trans, by P. Ranum.
Baltimore: Johns Hopkins University
Press, 1974. P. 15.
32 Ibid. P. 12.
33 Ibid. P. 12-13.
34 Barasch M. Gestures of Despair
in Medieval and Early Renaissance
Art. New York: New York University
Press, 1976. P. 58.
ПРИМЕЧАНИЯ К ПЯТОЙ ГЛАВЕ
479
35 Simson О. von. The Gothic
Cathedral / 3rd ed. Princeton:
Princeton University Press, 1988
(Bollingen Series XLVIII). P. 138.
36 LuchaireA. Social France at the
Time of Philip Augustus / Trans, by
E. Krehbiel. London: John Murray,
1912. P. 145 [ЛюшерА. Французское
общество времен Филиппа
Августа / Пер. Г.Ф. Цыбулько. СПб.:
Евразия, 1999· С- !36]·
37 Temko A. Notre-Dame of Paris.
New York: Viking Press, 1955. P. 249.
38 Ibid. P. 250.
39 Saalman H. Medieval Cities. New
York: George Braziller, 1968. P. 38.
40 Mollat M. The Poor in the Middle
Ages / Trans, by A. Goldhammer.
New Haven: Yale University Press,
1986. P. 41.
41 Little L.K. Religious Poverty and
the Profit Economy in Medieval
Europe. London: Paul Elek, 1978. P. 199.
42 Humbert de Romans, Sermons, XI.
475-476; цит. no: JarrettB. Social
Theories of the Middle Ages, 1200-
1500. New York: Frederick Ungar,
1966. P. 222.
43 Little LK. Op. cit. P. 67.
44 Ibid. P. 173.
45 Duty G. The Emergence of the
Individual. P. 509 {ДюбиЖ.
Рождение индивида. С. 6n].
46 Gothein M.L. A History of Garden
Art / Trans, by M. Archer-Hind. New
York: Hacker, 1966; Heidelberg, 1913.
Vol. I. P. 188.
47 Virgil's Works / Trans, by
J.W. Mackail, intro. Ch. Durham.
New York: Modern Library, 1934.
P. 291 [рус. пер. СВ. Шервинского].
48 Saalman H. Medieval Cities.
P. 119, η. ι6.
49 Comito T. The Idea of the Garden
in the Renaissance. New Brunswick,
NJ: Rutgers University Press, 1978.
P. 41.
50 Цит. no: Ibid. P. 43.
51 Bynum C.W. Jesus as Mother. P. 87.
ГЛАВА ШЕСТАЯ.
«КАЖДЫЙ CAM
СЕБЕ САТАНА»
1 Цит. по: Le GoffJ. Introduction
Histoire de la France urbaine / Ed. by
A. Chedeville, J. Le Goflf, J. Rossiaud.
Paris: Le Seuil, 1980. Vol. II: La Ville
Médiévale. P. 22. [ЛеГоффЖ.
Рождение Европы / Пер. А.И.
Поповой. СПб.: Александрия, 2008.
С. 172-173].
2 Le GoffJ. Medieval Civilization,
400-1500 /Trans, by J. Burrows.
Cambridge, MA: Basil Blackwell,
1988. P. 207 [ЛеГоффЖ.
Цивилизация средневекового Запада /
Пер. В.И. Раицеса. Екатеринбург:
У-Фактория, 2005. С. 252].
3 Ibid. Р. 215 [Там же. С. 263].
480
4 Heers J. La Ville au Moyen Age.
Paris: Fayard, 1990. P. 189.
5 Contamine Ph. Peasant Hearth to
Papal Palace: The Fourteenth and
Fifteenth Centuries // A History of
Private Life / Ed. by Ph. Aries, G. Duby,
trans, by A. Goldhammer. Cambridge,
MA· Harvard University Press, 1988.
Vol. II: Revelations of the Medieval
World. P. 439 [Контамин Φ.
Устройство личного пространства //
История частной жизни / Под общей
ред. Ф. Арьеса и Ж. Дюби; пер. Е.
Решетниковой, П. Каштанова. Т. 2:
Европа от феодализма до Ренессанса.
М.: Новое литературное обозрение,
2015.С.535]·
6 Ibid. [Там же].
7 Leguay J.-P. La rue au Moyen Age.
Rennes: Editions Ouest-France,
1984. P. 156-157.
8 Ibid. P. 155.
9 Ibid. P. 198.
10 См.: Egbert V.W. On the Bridges
of Medieval Paris: A Record of
Fourteenth-Century Life. Princeton:
Princeton University Press, 1974.
11 Ibid. P. 26.
12 Lopez R.S. The Commercial
Revolution of the Middle Ages, 930-
1350. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-
Hall, 1971. P. 88.
« Ibid. P. 89.
14 Humbert de Romans, Sermons,
xcii // Merchatis. P. 562; цит. no:
JarrettB. Social Theories of the
Middle Ages, 1200-1500. New York:
Frederick Ungar, 1966. P. 164.
« Ibid.
16 Lopez R.S. Op. cit. P. 127.
17 Baldwin S. Business in the Middle
Ages. New York: Cooper Square
Press, 1968. P. 58.
18 Lopez R.S. Op. cit. P. 127.
19 Hodgett G. A Social and Economic
History of Medieval Europe. London:
Methuen, 1972. P. 58.
20 LeffG. Paris and Oxford
Universities in the Thirteenth
and Fourteenth Centuries: An
Institutional and Intellectual
History. New York: John Wiley &
Sons, 1968. P. 16-17.
21 JarrettB. P. 95.
22 Le GoffJ. Your Money or Your Life:
Economy and Religion in the Middle
Ages / Trans, by P. Ranum. New York:
Zone, 1988. P. 67.
23 Kantorowicz E. The King's Two
Bodies: A Study in Medieval Political
Theology. Princeton: Princeton
University Press, 1981. P. 316
[Канторович Э. Два тела короля.
Исследование по средневековой
политической теологии / Пер.
АЛО. Серегиной. М.: Изд-во
Института Гайдара, 2015. С. 428].
24 LeffG. Op. cit. P. 8.
25 Guillaume d'Auxerre, Summa aurea,
III, 21; оригинал в библиотеке
ПРИМЕЧАНИЯ К ШЕСТОЙ ГЛАВЕ
481
Санта-Кроче во Флоренции.
Перевод цитат мой, по
транскрипции, опубликованной в статье: Le
GoffJ. Temps de l'Eglise et temps du
marchand //Annales. Économies,
Sociétés, Civilisations, i960. № 15.
P. 417 [ЛеГоффЖ. Средневековье
и деньги: очерк исторической
антропологии / Пер. М.Ю.
Некрасова. СПб.: ЕВРАЗИЯ, 20Ю. С. 87].
26 Bourbon Ε. de. Tabula Exemplorum
/ Trans., ed. by J.T. Welter. 1926.
P. 139 [цит. по: Там же].
27 Guillaume d'Auxerre. Op. cit.;
цит. по: Le GoffJ. Temps de
l'Eglise et temps du marchand.
P. 417 [Ле Тофф Ж. Другое
Средневековье: Время, труд
и культура Запада / Пер. СВ.
Чистяковой под ред. В.А. Бабинцева.
Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та,
2000. С. 263].
28 См.: Conn N. The Pursuit of
the Millennium: Revolutionary
Millenanans and Mystical Anarchists
of the Middle Ages / Rev. ed. New
York: Oxford University Press, 1972.
29 Le GoffJ. Temps de l'Eglise et temps
du marchand P. 424-425
[Ле Тофф Ж. Другое
Средневековье. С. 41_42]·
30 См.: Landes D. Revolution in
Time: Clocks and the Making of the
Modern World. Cambridge, MA:
Belknap Press, 1983.
31 Цит. no: Chenu M.-D. La théologie
au Xll-me siècle. Paris: J. Vrin, 1976.
P. 66.
32 Hirschmann A. The Passions and
the Interests: Political Arguments
for Capitalism Before Its Triumph.
Princeton: Princeton University
Press, 1977. P. 10-11.
33 William of Conches. Moralis
philosophia, PL. 171.1034-1035;
цит. no: Schmitt J.-C. The Ethics of
Gesture // Fragments for a History
of the Human Body / Ed. by
M. Feher, R. Naddaff, N. Tazi. New
York: Zone Books, 1989. Pt. 2. P. 139.
34 Le GoffJ. Your Money or Your Life.
P. 73-
35 StechowW. Breughel. New York:
Abrams, 1990. P. 80.
36 Lavin M.A. Piero della Francesca:
The Flagellation. New York: Viking
Press, 1972. P. 71.
37 Guston Ph. Piero della Francesca:
The Impossibility of Painting // Art
News. 1965. № 64. P. 39.
38 Цит. no: Stechow W. Op. cit. P. 51.
39 Auden W.H. Musée des Beaux
Arts // Collected Poems / Ed. by
E. Mendelson. New York: Random
House, 1976. P. 146-147 [рус. пер.
П.М. Грушко].
482
ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
СТРАХ ПРИКОСНОВЕНИЯ
1 Shakespeare W. The Merchant of
Venice / Ed. by W.M. Merchant.
London: Penguin, 1967. III.3.26
[здесь и далее рус. пер.
ТЛ. Щепкиной-Куперник].
2 Ibid., IV.1.215-216.
3 Ibid., Ш.3.27-31.
♦ См.: McNeül W.H. Venice, The Hinge
of Europe, 1081-1797. Chicago:
University of Chicago Press, 1974.
5 Lane F.C. Family Partnerships
and Joint Ventures in the Venetian
Republic // Journal of Economic
History. 1944. Vol. IV. P. 178.
6 Расчеты приводятся no: Tuen U.
The Psychology of the Venetian
Merchant in the Sixteenth Century
// Renaissance Venice / Ed. by J. Hale.
Totowa, NJ: Rowman & Littlefield,
1973· p 352.
7 Lane F. Venice: A Maritime
Republic. Baltimore: Johns Hopkins
University Press, 1973. P. 147.
8 Цит. no: Tenenti A. The Sense of
Space and Time in the Venetian
World // Renaissance Venice. P. 30.
9 Ibid. P. 27.
10 Цит. no: Pullan B. Rich and Poor
in Renaissance Venice. Oxford: Basil
Blackwell, 1971. P. 484.
11 Gilbert F. Venice in the Crisis of the
League of Cambrai // Renaissance
Venice. P. 277.
12 Foa A. The New and the Old: The
Spread of Syphilis, 1494-1530 // Sex
and Gender in Historical Perspective
/ Ed. by E. Muir, G. Ruggiero.
Baltimore: Johns Hopkins University
Press, 1990. P. 29-34.
13 Conti da Foligno S. La Storie dei suoi
tempi dal 1475 al 1510. Rome, 1883.
Vol. 2. P. 271-272; цит. no: Foa A. Op.
cit. P. 36.
14 Gilbert F. Op. cit. P. 279.
15 Finlay R. The Foundation of the
Ghetto: Venice, the Jews, and the
War of the League of Cambrai
// Proceedings of the American
Philosophical Society. 1982. Vol. 126.
P. 144.
16 См.: Aristotle. Politics / Ed. by
R. McKeon, trans, by B. Jowett. New
York: Random House, 1968.1,1258b
[рус. пер. CA. Жебелева].
17 Ne/son B.N. The Usurer and
the Merchant Prince: Italian
Businessmen and the Ecclesiastical
Law of Restitution, 1100-1500 //
Journal of Economic History. 1947.
Vol. VII. P. 108.
18 Dekker Th. The Seven Deadly Sins
of London. London, 1606; цит. no:
Knights L.C. Drama and Society in
the Age of Jonson. London: Chatto &
Windus, 1962. P. 165.
19 Sir Thomas Overbury, A Devilish
Usurer (Characters, 1614); цит. no:
Knights L.C. Op. cit. P. 165.
ПРИМЕЧАНИЯ К СЕДЬМОЙ ГЛАВЕ
483
20 Gilman S.L. Sexuality. New York:
John Wiley & Sons, 1989. P. 31.
21 Le GeurerA. Scent / Trans, by
R. Miller. New York: Random House,
1992. P. 153,159.
22 Цит. no: Gilman S.L. Op. cit. P. 86,
87.
23 См.: Douglas M. Purity and Danger:
An Analysis of Concepts of Pollution
and Taboo. London: Routledge &
Kegan Paul, 1978.
24 Sanuto M. I Diarii di Marino Sanuto
/ Ed. by R. Fulin et al. Venice, 1887.
Vol. 20. P. 98; цит. no: Finlay R. Op.
cit. P. 146.
25 Цит. no: Pullan B. Rich and Poor
in Renaissance Venice. Oxford: Basil
Blackwell, 1971. P. 495.
26 Ibid. P. 486.
27 Shakespeare W. The Merchant of
Venice, III.i.
28 Honour H. Venice. London: Collins,
1990. P. 189.
29 См. «Чистоту и опасность»
Дуглас, где убедительно
показывается, как аскеза может
«превратиться» в чувственность в глазах
тех, кому она угрожает (Douglas M.
Op. cit.).
30 Huse Ν., Wolters W. The Art of
Renaissance Venice: Architecture,
Sculpture, and Painting, 1460-1590
/ Trans, by E. Jephcott. Chicago:
University of Chicago Press, 1990.
P. 8.
31 Цит. no: Ravid B. The Religious,
Economic, and Social Background
and Context of the Establishment
of the Ghetti of Venice [1983] // Gli
Ebrei e Venezia / A cura di G. Cozzi.
Milano: Edizioni di Communita,
1987. P. 215.
32 Pullan B.S. The Jews of Europe
and the Inquisition of Venice, 1550-
1670. Totowa, NJ: Barnes & Noble,
1983. p. 157-158.
33 Цит. no: Ibid. P. 158.
34 BurchardJ. Liber Notarum.
Cita di Castello, n.p.L, 1906. Цит.
no: Masson G. Courtesans of the
Italian Renaissance. New York:
St. Martin's Press, 1975. P. 8 [Бур-
хард И. Дневники // Инфессура С,
Бурхард И. Документы по
истории папства XV-XVI вв. / Пер.
ДД. Шамрая, И.П. Мурзина. М.:
Государственное антирелигиозное
издательство, 193 9· С. 213].
35 Arenno P. Ragionamenti; цит. по:
Masson G. Op. cit. P. 24 [Аретино П.
Рассуждения / Пер. С.К. Бупгуе-
вой. СПб.: Инапресс, 1995·с· И2!·
36 Цит. по: Ibid. Р. 152.
37 Ruggiero G. The Boundaries of
Eros: Sex Crime and Sexuality in
Renaissance Venice. New York:
Oxford University Press, 1985. P. 9.
38 Цит. no: Masson G. Op. cit. P. 152.
39 Hughes D.O. Earrings for
Circumcision: Distinction
484
and Purification in the Italian
Renaissance City // Persons
in Groups / Ed. by R. Trexler.
Binghamton, NY: Medieval and
Renaissance Texts and Studies,
1985. P. 157.
40 Ibid. P. 163,165.
41 Цит. no: Ravid B. Op. cit. P. 215.
42 Knnsky C.H. Synagogues of
Europe: Architecture, History,
Meaning. New York: The
Architectural History Foundation
and MIT Press, 1985. P. 18.
43 CoryatTh. Coryat's Crudities.
Glasgow, 1905. Vol. I. P. 372-373.
44 Stow K.R. Sanctity and the
Construction of Space: The Roman
Ghetto as Sacred Space // Jewish
Assimilation, Acculturation and
Accommodation: Past Traditions,
Current Issues and Future Prospects
/ Ed. by M. Мог. Lanham, NE:
University Press of America, 1989.
P. 54-
45 Благодарю Джозефа Рикверта
за это наблюдение.
46 См.: Horowitz Ε. Coffee,
Coffeehouses, and the Nocturnal
Rituals of Early Modern Jewry //
Association for Jewish Studies. 1988.
Vol. 14. P. 17-46.
47 Katz J. Exclusiveness and
Tolerance: Studies in Jewish-Gentile
Relations in Medieval and Modern
Times. Oxford: Oxford University
Press, 1961. P. 133 [КацЯ. Евреи
в средневековой Европе:
Замкнутость и толерантность / Пер. С. Ру-
зера. Иерусалим: Библиотека-
Алия, 1992. С. 200].
48 Ibid. Р. 138 [Там же. С. 2io].
49 Adelman Η. Leon Modena: The
Autobiography and the Man // The
Autobiography of a Seventeenth-
Century Rabbi: Leon Modena's "Life
of Judah" / Ed. by M.R. Cohen.
Princeton: Princeton University
Press, 1988. P. 28.
50 См.: Manuel F. The Broken Staff:
Judaism Through Christian Eyes.
Cambridge, MA: Harvard University
Press, 1992.
51 Adelman H. Op. cit. P. 31.
52 Ravid B.C.I. The First Charter of
the Jewish Merchants of Venice,
1589 // Association for Jewish
Studies Review. 1976. Vol. I. P. 207.
53 Davis N.Z. Fame and Secrecy: Leon
Modena's "Life" as an Early Modern
Autobiography // The Autobiography
of a Seventeenth-Century Venetian
Rabbi. P. 68.
54 Gilman S.L. Op. cit. P. 41.
55 Modena L. Life of Judah // The
Autobiography of a Seventeenth-
Century Venetian Rabbi. P. 144.
*6 Ibid.
57 Ibid. P. 162.
58 Shakespeare W. The Merchant
of Venice, III. 1.53-62.
ПРИМЕЧАНИЯ К СЕДЬМОЙ ГЛАВЕ
485
ГЛАВА ВОСЬМАЯ.
ТЕЛА В ДВИЖЕНИИ
1 Harvey W. De motu cordis.
Frankfurt, 1628. P. 165; цит. no: Toell-
nerR. Logical and Psychological
Aspects of the Discovery of the
Circulation of the Blood // On
Scientific Discovery / Ed. by M. Grmek,
R. Cohen, G. Cimino. Boston: Re-
idel, 1980. P. 245 [Гарвей В.
Анатомическое исследование о
движении сердца и крови у животных
/ Пер. K.M. Быкова. М.: АН СССР,
1948. С. 58].
2 Цит. по: Bynum W. The Anatomical
Method, Natural Theology, and the
Functions of the Brain // Isis. 1973.
Vol. 64. № 4. P. 453.
3 Willis Th. Two Discourses
Concerning the Soul of Brutes. London,
1684. P. 44; цит. no: Bynum W. Op.
cit. P. 453.
4 См.: Carlson E.T., Simpson M.
Models of the Nervous System in
Eighteenth-Century Neurophysiology
and Medical Psychology // Bulletin
of the History of Medicine. 1969.
№ 44. P. 101-115.
5 Stafford B.M. Body Criticism:
Imaging the Unseen in Enlightenment
Art and Medicine. Cambridge: MIT
Press, 1991. P. 409.
6 Harvey W. Op. cit. P. 165; цит. no:
Toellner R. Op. cit. P. 245 [Гарвей В.
Указ. соч. С. 58].
7 Outram D. The Body and the
French Revolution: Sex, Class and
Political Culture. New Haven: Yale
University Press, 1989. P. 48.
8 CorbinA. The Foul and the
Fragrant: Odor and the French
Social Imagination. New York: Berg,
1986; Paris, 1982. P. 71.
9 Morel M.-F. Ville et campagne dans
le discours medical sur la petite
enfance au XVIII siècle // Annales.
Économies, Sociétés, Civilisations.
1977. № 32. P. 1013.
10 Outram D. Op. cit. P. 59.
11 CorbinA. P. 91.
12 RepsJ.W. Monumental
Washington. Princeton: Princeton
University Press, 1967. P. 21.
13 Цит. по: Kite E.S. L'Enfant and
Washington. Baltimore: Johns
Hopkins University Press, 1929.
P. 48.
14 Меморандум Ланфана см.:
CaemmererKP. The Life of Pierre
Charles L'Enfant. New York: Da
Capo, 1970. P. 151-154; цитата на
с. 153.
15 OzoufM. Festivals of the French
Revolution [1976] /Trans, by
A. Sheridan. Cambridge, MA:
Harvard University Press, 1988.
P. 148 [ОзуфМ.
Революционный праздник, 1789-1799 / Пер.
Е.Э. Ляминой. М.: Языки
славянской КуЛЬТурЫ, 2003- С. 207].
486
16 Harbison R. Eccentric Spaces.
Boston: Godine, 1988. P. 5.
17 L'Enfant. Memorandum //
Caemmerer H.P. Op. cit. P. 151.
18 См., напр.: Query VI: Productions
Mineral, Vegetable and Animal //
Jefferson Th. Notes on the State of
Virginia / Ed. with an introduction
by W. Peden. Chapel Hill: University
of North Carolina Press, 1955. P. 26-
72 [Вопрос VI: Полезные
ископаемые, растительный и животный
мир // Джефферсон Т.
Автобиография. Заметки о штате Виргиния.
Л.: Наука, 199°·с· П9-1б°]·
*9 См.: Polanyi К. The Great
Transformation: The Political and
Economic Origins of Our Time.
Boston: Beacon Hill Press, 1957.
20 Smith A. The Wealth of Nations.
New York: Everyman's Library,
Knopf, 1991. P. 4 [Смит А.
Исследование о природе и
причинах богатства народов / Пер.
B.C. Афанасьева. М.: Издательство
социально-экономической
литературы, 19б2. С. 21-22].
21 Ibid. Р. 15 [Там же. С. зо].
22 Ibid. Р. 12 [Там же. С. 27].
23 См.: Smith A. How Commerce
of the Towns Contributed to the
Improvement of the Country (Ibid.
P. 362-374 [Там же. С. 300-314]).
24 Goethe J.W. Italian Journey /
Trans, by W.H. Auden, E. Mayer.
New York: Pantheon, 1962. P. 124
[Гёте И.В. Итальянское
путешествие / Пер. H.A. Холодковского.
M.: Б.С.Г.-Пресс, 2013. С. 141].
25 Goethe J.W. Diary of the Journey
from Karlsbad to Rome, September
24,1786; цит. no: Reed T.J. Goethe.
Oxford: Oxford University Press,
1984. P. 35. [КонрадиК.О. Гёте:
Жизнь и творчество / Пер. В.
Болотникова. М.: Радуга, 1987. Т. I:
Половина жизни. С. 4721-
26 Goethe J.W. Italian Journey. P. 58
[Гёте И.В. Указ. соч. С. 67-68].
27 Ibid. P. 202 [Там же. С. 224-225].
28 Ibid. P. 124 [Там же. С. 141].
29 Обсуждение этого странного
словоупотребления см.: Reed T.J.
Op. cit. P. 35.
30 Goethe J.W. Italian Journey. P. 124
[Гёте И.В. Указ. соч. С. 142].
31 Cahen L. La Population parisienne
au milieu du XVIIIme siècle //
La Revue de Paris. 1919. Sept.
P. 146-170.
32 Rude G. The Crowd in the French
Revolution. Oxford: Oxford
University Press, 1959. P. 21-22.
33 Tilly Ch. The Contentious French.
Cambridge, MA: Harvard University
Press, 1986. P. 222.
34 Landes J. Women and the Public
Sphere in the Age of the French
Revolution. Ithaca: Cornell
University Press, 1988. P. 109.
ПРИМЕЧАНИЯ К ВОСЬМОЙ ГЛАВЕ
487
35 Rude G. Op. cit. P. 75-76.
36 Письмо Марии-Антуанетты
к де Мерси-Арджанто от ю
октября 1789 года; цит. по: Schama S.
Citizens. New York: Knopf, 1989.
P. 469.
37 Ibid. P. 470.
38 См.: Hunt L. The Family Romance
of the French Revolution. Berkeley:
University of California Press, 1992.
Особенно главы ι и 2.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.
ОСВОБОЖДЕННОЕ ТЕЛО
1 Les Revolutions de Paris. Vol. 17.
№ 215 (23-30 brumaire an II).
2 Le Bon G. The Crowd / Intro, by
R.K. Merton. New York: Viking, i960.
P. 33 [Лебон Г. Психология толп /
Пер. А. Фридмана, Э. Пименовой.
М.: Институт психологии РАН;
Издательство КСП+, 1998. С. 135].
3 Ibid. Р. зо [Там же. С. 137]·
4 Ibid. Р. 32 [Там же. С. 137]·
5 Furet F. Penser la Revolution
Frangaise. Paris: Gallimard, 1978.
P. 48-49 [Фюре Φ. Постижение
Французской революции / Пер.
Д.В. Соловьева. СПб.: Инапресс,
1998. С 34].
6 Landes]. The Performance of
Citizenship: Democracy, Gender and
Difference in the French Revolution.
Неопубликованный доклад на
Конференции по изучению
политической мысли, Йельский
университет, апрель 1993 года.
7 См.: Scott J.W. "A Woman Who Has
Only Paradoxes to Offer": Olympe
de Gouges Claims Rights for Women
// Rebel Daughters: Women and the
French Revolution / Ed. by S.E. Mel-
zer, L.W. Rabine. New York: Oxford
University Press, 1992. P. 102-120.
8 Rousseau J.-J. Emile. Paris; Pleiades,
1971. Book V. P. 247. [Руссо Ж.-Ж.
Эмиль, или О воспитании // Он
же. Избранные сочинения: В з т.
М.: Государственное
издательство художественной литературы,
1961. Т. 1.С. 555]·
9- Brooks P. BodyWork: Objects
of Desire in Modern Narrative.
Cambridge, MA: Harvard University
Press, 1993. P. 59.
10 См.: Foucault M.t SennettR.
Sexuality and Solitude // Humanities
in Revue. 1982. Vol. 1. № 1. P. 3-21.
11 Hufton O. Women and the Limits
of Citizenship in the French
Revolution. Toronto: University
Press, 1992. P. 64.
12 Vovelle M. La Revolution Française:
Images et recits. Paris: Editions
Messidor (Livre Club Diderot), 1986.
Vol. 2. P. 139.
13 Sirel E. Les Lèvres de la Nation.
Paris, 1792. P. 6 (революционная
газета).
488
14 См.: StarobinskiJ. Jean-Jacques
Rousseau, la transparence et
l'obstacle: Suivi de sept essais sur
Rousseau. Paris: Gallimard, 1971.
15 План де Вайи см.: Vovelle M. Op.
cit. Vol. 4. P. 264; план Пойе см.: Les
Architectes de la Liberté, 1789-1799.
Paris: Ecole Nationale Supérieure des
Beaux Arts de Paris; Ministère de la
Culture et de la Communication, des
Grands Travaux et du Bicentenaire,
1789. P. 216. Fig. 154.
16 Цит. по: Rosenau H. Boullee and
Visionary Architecture. New York:
Harmony Books, 1976. P. 8.
17 Boullee E.-L. Architecture, An Essay
on Art / Trans, by Sh. de Valle //
Rosenau H. Op. cit. P. 107.
Оригинал: Bibliothèque Nationale, Paris.
MS Francais 9153.
18 Ibid.
19 Ibid. P. 91.
20 Ibid. P. 82.
21 VidlerA. The Architectural
Uncanny: Essays in the Modem
Unhomely. Cambridge, MA: MIT
Press, 1992. Я также в долгу перед
профессором Видлером за его
глубокий анализ творчества Булле.
22 Kennedy Ε. A Cultural History of
the French Revolution. New Haven:
Yale University Press, 1989. P. 197.
23 Анонимная гравюра «Machine
proposée à l'Assemblée Nationale
pour le Supplice des Criminelles par
M. Guillotin» [«Машина для
казни преступников, предложенная
Национальному собранию месье
Гильотеном»]. Musée Carnavalet.
№ 10-63; воспроизведена: Gerould D.
Guillotine: Its Legend and Lore. New
York: Blast Books, 1992. P. 14.
24 Dauban G. Madame Roland et son
temps [1819]. Paris, 1864. P. 263.
Современные историки вроде
Даниэля Арраса используют
искаженную версию этого текста;
оригинал —одно из величайших
свидетельств Революции.
25 Arasse D. The Guillotine and the
Terror / Trans, by Ch. Miller. London:
Allen Lane, 1989. P. 28.
26 BossuetJ.-B. Œuvres oratoires /
Ed. by J. Lebourg. Lille and Paris,
1892. Vol. 4. P. 256; цит. no:
Kantorowicz E. The lung's Two
Bodies: A Study in Medieval Political
Theology. Princeton: Princeton
University Press, 1981. P. 319
[Канторович Э. Два тела короля.
Исследование по средневековой
политической теологии / Пер.
АЛО. Серегиной. М.: Изд-во
Института Гайдара, 2015. С. 533]·
27 HuntL. Politics, Culture, and Class
in the French Revolution. Berkeley:
University of California Press, 1984.
P. 32.
28 Outram D. The Body and the
French Revolution: Sex, Class and
ПРИМЕЧАНИЯ К ДЕВЯТОЙ ГЛАВЕ
489
Political Culture. New Haven: Yale
University Press, 1989. P. 115.
29 Ibid.
30 OzoufM. Festivals of the French
Revolution [1976] /Trans, by
A. Sheridan. Cambridge, MA:
Harvard University Press, 1988. P. 79
[Озуф M. Революционный
праздник, 1789-1799 / ПеР· Е-э- Лями-
ной. М.: Языки славянской
культуры, 2003- С. 109].
31 Ibid. Р. 66 [Там же. С. 93]·
32 Dowd D.L. Pageant-Master of the
Republic: Jacques-Louis David and
the French Revolution. Lincoln:
University of Nebraska Press, 1948. P. 61.
33 Les Révolutions de Paris; цит. по:
OzoufM. Op. cit. P. 67 [Озуф M. Указ.
соч. С. 95].
34 Annales Patriotiques. 1792. № 108.
April 17. P. 478. Доуд переводит это
место не совсем точно (Dowd D.L.
Op. cit. P. 61).
35 Constantin Ε. Le Livre des
Heureux. Paris, 1810. P. 226.
36 Я в долгу y профессора Скотт
за это наблюдение.
37 A Boy's Testimony Concerning
an Illiterate Woman Signing
the Petition at the Champ de
Mars, July 17,1791 // Women in
Revolutionary Paris, 1789-1795
/ Ed. by D.G. Levy et al. Chicago:
University of Illinois Press, 1980.
P. 83-84.
38 Jacobus M. Incorruptible Milk:
Breast-feeding and the French
Revolution // Rebel Daughters:
Women and the French Revolution
/ Ed. by S. Melzer, L. Rabine. New
York: Oxford University Press, 1992.
P. 65.
39 Гравюра И. Эльмана по рисунку
Ш. Моне «Фонтан Возрождения на
развалинах Бастилии, ι о августа
1793»; воспроизведена: VovelleM.
Op. cit. Vol. 4. P. 142.
40 Huet M.-H. Rehearsing the
Revolution: The Staging of
Marat's Death, 1793-1797. Berkeley:
University of California Press, 1983.
P. 35-
41 Jacobus M. Op. cit. P. 65; см. также:
HuntL. Politics, Culture, and Class in
the French Revolution. P. 94-98.
42 Hunt L. The Family Romance of
the French Revolution. Berkeley:
University of California Press, 1992.
P. 80.
43 BrooknerA. Jacques-Louis David.
London: Thames & Hudson, 1980.
P. 114.
44 Цит. no: Wüdenstein D.,
Wildenstein G. David: Documents
supplémentaires au catalogue
complet de l'oeuvre. Paris:
Fondation Wildenstein, 1973; вос-
призведено: BrooknerD. Op. cit.
P. 116 [рус. пер. Н.И. Столяровой,
ЛД.Липман].
490
45 См.: Roberts W. David's "Вага"
and the Burdens of the French
Revolution // Revolutionary
Europe, 1750-1850. Tallahassee, FL:
Conference Proceedings, 1990.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.
ГОРОДСКОЙ
ИНДИВИДУАЛИЗМ
1 Williams R. The Country and the
City. New York: Oxford University
Press, 1973. P. 217.
1 Ibid. P. 220.
3 Forster EM. Howards End. New
York: Vintage Books, 1989 [1910].
P. 112 [Форстер Э.М. Говардс-Энд
/ Пер. H.M. Жутовской. M.: ACT,
2014. С. 263].
4 Wolfowitz J.R. City of Dreadful
Delight: Narratives of Sexual Danger in
Late-Victorian London. Chicago:
University of Chicago Press, 1992. P. 25.
5 Housing of the Working Classes.
Royal Commission Report 4402
(1884-85.XXX). P. 19-20; пит. no:
Olsen D. Town Planning in London:
The Eighteenth and Nineteenth
Centuries / 2nd ed. New Haven: Yale
University Press, 1982. P. 208.
6 См. таблицу распределения
национальных богатств по
данным, полученным из
статистики налогов на наследство в книге:
Thompson P. The Edwardians: The
Remaking of British Society / 2nd ed.
New York: Routledge, 1992. P. 286.
7 KazinA. Howards End Revisited
// Partisan Review. 1992.
Vol. LIX. № 1. P. 30,31 [рус. пер.
B.M. Домитеевой].
8 См.: Tocqueville A. de. Democracy in
America / Trans, by Η. Reeve; 4th ed.
New York: H.G. Langley, 1845. Vol. II
[Токвилъ А. де. Демократия в
Америке / Пер. Б.Н. Ворожцова. М.:
Прогресс, 1992· С. 497]·
9 WoolfV. The Novels of Ε. M. Forster
// WoolfV., Woolf L. The Death of
the Moth and Other Essays. New
York: Harcourt, Brace, 1970. P. 172.
10 FortierB. La Politique de l'Espace
parisien // La Politique de l'espace
parisien à la fin de l'Ancien Regime
/ Ed. by В. Fortier. Paris: Editions
Fortier, 1975. P. 59.
11 Pinckney D. Napoleon III and
the Rebuilding of Paris. Princeton:
Princeton University Press, 1958.
P. 25.
12 См.: Haussmann G.E. Mémoires.
Paris, 1893. Vol. 3. P. 478-483; цит.
no: Pinckney D. Op. cit. P. 78.
13 Pinckney D. Op. cit. P. 93.
14 Oben D. The City as a Work of Art:
London, Paris, Vienna. New Haven:
Yale University Press, 1986. P. 92.
15 WalkowitzJ.R. Op. cit. P. 29.
16 MassoA. Fatigue / Trans, by M.
and W.B. Drummond. London, 1906.
ПРИМЕЧАНИЯ К ДЕСЯТОЙ ГЛАВЕ
491
P. 156; цит. no: RabinbachA. The
Human Motor: Energy, Fatigue, and
the Origins of Modernity. New York:
Basic Books, 1990. P. 136.
17 Цит. no: Giedion S. Mechanization
Takes Command. New York: Oxford
University Press, 1948. P. 313.
18 Ibid. P. 396.
19 Ibid. P. 404.
20 Schivelbusch W. The Railway
Journey. Berkeley: University of
California Press, 1986. P. 75.
21 См.: SennettR. The Fall of Public
Man. New York: W.W. Norton, 1992
[1976]. P. 81 [Сеннет P. Падение
публичного человека. M.: Логос,
2002. С. 93].
22 Ibid. P. 216 [Там же. С. 243].
23 HareAJ.C. Paris. London: Smith;
Elder, 1887. P. 5; цит. по: Olsen D.
The City as a Work of Art. P. 217.
24 См.: Banham R. The Well-
Tempered Environment / 2nd ed.
Chicago: University of Chicago Press,
1984. P. 18-44.
25 Hawes E. New York, New York:
How the Apartment House
Transjarmed the Life of the City,
1869-1930. New York: Knopf, 1993.
P. 231.
26 Forster EM. Two Cheers for
Democracy. London: Edward Arnold,
1972. P. 66.
27 Forster EM. Howards End. P. 134
[Форстер ЭМ. Говардс-Энд. С. 313].
28 Forster EM. Maurice. New York:
W.W. Norton, 1993. P. 250
[Форстер ЭМ. Морис / Пер. А.И.
Куприна. M.: Глагол, 2θθθ. С. 510].
29 Anonymous. The Glorified Spinster
// Macmillan's Magazine. 1888.
Vol. 58. P. 371,374·
30 Forster EM. Howards End. P. 209-
210 [Форстер ЭМ. Говардс-Энд.
С. 492].
31 Ibid. P. 210 [Там же. С. 493]·
32 Ibid. P. 350 [Там же. С. 818-819].
33 Ibid. Р. 353-354 [Тамже. С. 827].
34 Оба замечания цит. по:
Duckworth AM. Howards End:
E.M. Forster's House of Fiction. New
York: Twayne; Macmillan, 1992.
P. 62.
35 Forster EM. Howards End. P. 113
[Форстер ЭМ. Говардс-Энд. С. 265].
36 Письмо Форресту
Рейду от 13 марта 1915 года цит.
по: Furbank P.N. E.M. Forster:
A Life. New York: Harcourt Brace
Jovanovich, 1978. Vol. И. P. 14.
37 HeideggerM. Building Dwelling
Thinking // Idem. Poetry,
Language, Thought / Intro, trans,
by A. Hofstadter. New York: Harper
& Row, 1975. P. 160. [Хайдеггер M.
Строить, обитать, мыслить /
Пер. С.А. Ромашко // ПРОЕКТ
International. 2008. № 20. С. 17-18].
38 Kazin A. Op. cit. Р. 32.
492
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
ГОРОДСКИЕ ТЕЛА
1 См.: Jacobs J. The Death and Life
of Great American Cities. New York:
Random House, 1963.
2 Статистические данные по
количеству бездомных так же
подвижны, как и люди, судьбу
которых они описывают. Тем не
менее, в последние годы для
летнего Манхэттена называлось
число около зо ооо человек, а для
зимнего—ίο 000-12 ооо.
Большая часть из них—одинокие.
В окраинных районах города
бездомных меньше, а доля
бездомных семей гораздо выше.
3 Mumford L. The City in History.
New York: Harcourt Brace
Jovanovich, 1961. P. 421.
4 Gottmann J. Megalopolis. New
York: Twentieth Century Fund,
1961. P. 736.
5 Цит. no: Caro R. The Power Broker.
New York: Knopf, 1974. P. 318.
6 См.: Ibid.
7 Gans H. The Levittowners. New
York: Pantheon, 1967. P. 220.
8 Ibid. P. 32.
9 Краткое изложение этих
перемен см.: Webber MM. Revolution
in Urban Development // Housing:
Symbol, Structure, Site / Ed. by
L. Taylor. New York: Rizzoli, 1982.
P. 64-65.
10 См., напр.: Barthes R.
A Lover's Discourse / Trans, by
R. Howard. New York: Hill & Wang,
1978.
11 См.: Lynch K. The Image of the
City. Cambridge, MA: MIT Press,
i960; Goffmann E. Relations in
Public: Microstudies of the Public
Order. New York: Basic Books, 1971.
12 TocquevüleA. de. Democracy in
America / Trans, by E. Reeve. New
York: Vintage Books, 1963. Vol. 2.
P. 141 [Токвиль А. де. Демократия
в Америке / Пер. Б.Н. Ворожцова.
М.: Прогресс, 1992. С. 392].
* См.: Lifton R.J. The Protean Self:
Human Resilience in an Age of
Fragmentation. New York: Basic
Books, 1993.
14 Freud S. Beyond the Pleasure
Principle / Trans, by J. Strachey.
New York: W.W. Norton, 1961. P. 1
[Фрейд 3. По ту сторону принципа
удовольствия / Пер. A.A. Гугнина.
М.: Прогресс, 1992· С. 2].
15 Ibid. P. 21 [Там же. С. 49];
выделение в оригинале.
16 Ibid. Р. 4 [Там же. С. 32].
17 Ibid. Р. 5- [Там же. С. ю].
18 Scarry Ε. The Body in Pain: The
Making and Unmaking of the World.
New York: Oxford University Press,
1985. P. 161.
ПРАВА НА ИЛЛЮСТРАЦИИ
с. 18,19,151, ι85> 2бо, 401,409,412,418 Bridgeman Images/Fotodom
с. 40 Bernard Cox/Bridgeman Images/Fotodom
с. 43 British Museum/Bridgeman Images/Fotodom
с. 6o, 66,67,161,194,269,287,299 Getty Images
с. 86 Jastrow/Wikimedia Commons
с. 117 Jamahiriya Museum/Bildarchiv StefTens/Bridgeman Images
с. 125 Wikimedia Commons
с. 127,219 Horn W., Born Ε. The Plan of St. Gall: A study of the architecture &
economy of, & life in a paradigmatic Carolingian monastery. Berkeley; Los
Angeles; London, 1979. Vol. 1.
с 158,159 Museo Laterano/Alinari/Bridgeman Images/Fotodom
с i86 MS M.240, fol. 8/The Morgan Library & Museum
с. 201 Royal Library, Stockholm/Bridgeman Images/Fotodom
с 2i6 Rijksmuseum, Amsterdam
с 217 Bibliothèque de L'Arsenal/Bridgeman Images/Fotodom
с. 229 Musée Conde/Bridgeman Images/Fotodom
с. 233 Adolphe Giraudon/Bridgeman Images/Fotodom
с 235 Bibliothèque de l'Ecole des Beaux-Arts/Bridgeman Images/Fotodom
с 254 Kunsthistorisches Museum/Bridgeman Images/Fotodom
с 255 Galleria Nazionale delle Marche/Bridgeman Images/Fotodom
с 257 Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique/Fotodom
с. 268 Sarah Quill/Bridgeman Images/Fotodom
с. 276 Museo Correr/Bridgeman Images/Fotodom
с 285 Francesco5i/Wikimedia Commons
с. 315,317 Wellcome Library, London
с 323 The British Library
с 325 Library of Congress
494
с. 327, 3^5 Musée des Beaux-Arts et d'Archeologie/Bridgeman Images/
Fotodom
с 328 Kyoto University Library/Wikimedia Commons
с 350, 351, 362 Musée de la Ville de Paris, Musée Carnavalet/Archives
Charmet/Bridgeman Images/Fotodom
с 354,360,371,375,379 Bibliothèque nationale de France
с 386 Musée Calvet/Peter Willi/Bridgeman Images/Fotodom
с. 402 Ham/Wikimedia Commons
с. 437 MollenkopfJ.H. A Phoenix in the Ashes: The Rise and Fall of the Koch
Coalition in New York City Politics. Princeton, 1994.
с 446 Adams Th., Delano F.A. New York, Regional plan of New York and its
environs. New York, 1929
с 49,52,53,78,84, m, 122,124,134,138, НЗ, H9,169,171,202,220,222,236,
281,284,291,329,331,341,361,382,389,405,417,418,420,431,448
Предоставлено автором
с. 32,59, юз, НО, 184,227,280,347,4*5 Карты Аллы Швыдкой
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
АбеЛЯр П. 20б, 208-210, 248
Авель 155
Август ю8,109-110,139
Августин Блаженный 107, ΐ2θ, 155,
160-161,166,177
Агрикола 131
Агриппа Марк Ю2,108-109
Агриппина Младшая и8
АполонМ. 383
Адам 25,157,223,225,277,457
Адонис 85-88,90,98
Адорно Т. 20
Адриан 21-22,102-116,119,120,121,
128,129,132,136,137,141,14*. Н5"
147,149,150,152,153,156,157,1б2-
1б4,168,170,174,176, ι8ο, 196,360,
390-391,443,454,473,475
Аларих 177
Александр VI, папа 290
Алексид 54
Али ибн-Ридван 197,198
Антиной 149, 150, 151, 152, 153,
156Д57
Аполлодор 114,115
Аретино П. 292
Аристотель и, 37,39,44~4б, 62,94,
196,277,468
Аристофан 48,54,6о, 85,90,92
АррасД.489
Архидам 97
Арьес Ф. 205
АутрамД. 372
Афина 53-54,56
Афродита 85,87
Аяксз49
Байнум К. 204,224
Байрон Дж.Г. 146,147
Бальтар В. 404
БараЖ.384,386,379
Бараш М. 205
Барбари Я. де 2бо
Барт Р. 449,450
Бартоломей Английский 199
Бартон К. 105, иб
Бассанио 259,26ι, 303,307
Батлер Э. 9
Баумгартнер М.П. 18
БеккариаЧ. збб
Белл М. 9,137
Бенедикт св. 221
Беньямин В. 395,4о8
Бергсон А. 251
Берикур Э. 374
496
Бернард Клервоский 204,224
Бертелли Ж. 194
БертоП.-Г.375,379
Блитцер Ч. 9
Бодлер Ш. 385,413
Бонифаций IV, папа юз
Борджиа Л. 291
Борджиа Ч. (герцог Валентинуа)
290-291
БордманДж.43
Боссюэ Ж.-Б. 370
Боуэрсок Г. 9,146,469
Браун П. 145,1бо, 177,462
Браун Ф. 102
Брейгель Старший П. 253-255,
257-258,264,303
Бреммер Я. 67
БретезЛ. 328
Бриллиант Р. 107, И9
Брукс П. ю, 353
БуальиЛ.-Л. 341
Булле Э.-Л. 346, 358-361, 363, 372,
383,403,444,464,488
Бурдишон Ж. 235
БуркертВ.93
Бэнем Р. 425
Вайи Ш.де 357,444
Варавва зоб
Вашингтон Дж. 324-326,330,356
Вебер М. 187,189,249,265
Веллей Патеркул 139
Венера 114, И5,136,174
ВерГИЛИЙ 221
Верная Ж.-П. 8о, 8ι
Видлер Э. 363,488
Виктория, королева 400,426
Вильям Мальмсберийский 223
Винкельман И. 61
Вирсавия 277
Витгенштейн Л. 27-28,464
Витрувий 105, по, 123-124, 126,
128,142,359
Вокс К. 442
ВульфВ. 397
Гален 45,196,197,198,199
Галл св. 127,210,219,224
Галлер А. фон 318
Ганс Г. 447,448
Гарвей У. 22, 311-ЗН, 3ΐ6,318-319,
323,345,449,451
ГарродГ.У.475
Гастон Ф. 256
Гегель Г.В.Ф.363
Гектор 53
Георг IV 399
Гера 53
Геракл (Геркулес) 85, п8,349,38ι,
383
Геродот 8з
Гесиод 37,41,70,71
Гёте И.В. 334-337
Гидион 3.419
Гилман С. 277
Гильом Оссерский 250
Гильотен Ж.-И. 364, Зб5, 366,367,
369,489
Гиппий 66
Гипподам Милетский 126
497
Гиппократ 44» 196, 197
Гомбрих Э. юб
Гомер 53,54
Госсек Ф.-Ж. 377
Готтман Ж. 445,451
Гоффман И. 450
Грант М. из
Гуж О. де 349
Гумберт Романский 213, 226, 242,
243,250,252,333
ДоудДЛ.490
Дуглас М. 278
Дюби Ж186,191
Дюмон Л. ι8ο
Дюрер А. 126
Ева 25,157,223,225,277,457
Еврипид 46,471
Евриптолем 69
Елизавета I Тюдор 259
Давид Ж-Л. 219,374,375"378,383-
387,421,454,465
Дантон Ж.-Ж376
Декарт Р. 315,3i6
Деметра79,81,82,94
Дервилье, мебельный мастер 418,
421
Детьен М. 85
Джейкобус М. 383
Джеймс Г. 388
Джеймс У. 154,475
Джекобе Дж. 436,437,438
Джефферсон Т. 324-326, ЗЗО, 337
Джонс И. 262
Дидро Д. 333
Диккенс Ч. 369,400
Диоген Аполлонийский 44
Диоклетиан 473
Дион Кассий 115,1б2
Диоскорид 87
Довер К. 51,52
Доддс Э. 41
Дольфин 3.286,296
Домициан 119
Зевксид иб, и 8
Земон Дэвис Н. з оз
Зенон Китийский 59
ЗигельДжю
Зимзон О. фон 20б
Зиммель Г. 422
Икар 253,257-258,264,303, Зоб
Иоанн св. 158
Иоанн Богослов 107
Иоанн Златоуст ι6ο
Иоанн Парижский 187
Иоанн Солсберийский 23,24,188-
204, 224,239,318
Иуда 301
Каин 155
Калликсен 69
Кальвин Ж 301
Кантарелла Е. 88
Кантор Н. 9
Канторович Э. 247
Карл Август 335
Карл V 207,208,208
498
Kapo P. 445,448
Кастильоне Б. 293
Катон 349
Катрмер-де-Кенси А.-К. 374,
37»,379
КацЯ. зоо
Казн Л. 33»
Квинтилиан 119
КейзДж.317
КейзинА.395,435
Клавдий Нерон и8
Кларк К. 32
Клеман А. 351/352
Клемансо Ж. 390,392,394
Клибански P. 204
Клисфен74~75,93,94
Кокс X. 155
Коллено-Д'Огреман Л. 366
Колумб X. 274
Кольридж СТ. 94
Константин Великий 22,158,
175,184
Конти С. де 274
Корбен А. 319
КордеШ. 384
КориэтТ. 297
КОСТОф С. 112
Кранах Старший Л. 365
Краутхаймер Р. 172
Ксенофонт 68,69,70,8з
Кьюби Р. 15
КэмпДж.5»
Лавин М. 256
Лакер Т. 44,45
ЛандесДж.343
Ланфан П.-Ш. 324-327, 329-330,
334,337,406,442,486
;, Ле Гофф Ж 230,231,250
ЛеРужЖ.-Л. 331
Лебон Г. 346,348,3^3,3^4
Леонардо да Винчи 123,125
Лепранс Ж.-Б. 327
Лимбург П., Лимбург Э.,
ЛимбургЖ. (бр. Лимбург) 229
Линч К. 450
Лисистрата 85,9°
Лифтон РДж. 458
Ложье М.-А. 334
Ломбар М. 229
Лопез Р. 241,244
Лопес Р. 259
Лоро Н. 31,98
Лэйн Ф. 267
Людовик XV 326-329,331,337,357,
- 367,376
Людовик IX 22,185,186,187,253
ЛюдовикХ1У 328, ЗЗО, 338,339,4i6
Людовик XVI338, Зб7,370,371
Лютер М. 301
Майар С. 343
Макгарри Μ. ι о
Макдональд У. 114,147
Макнилл У. 266
Малек Ч. 478
Мамфорд Л. 21,441
Марасия Э. 9
Марат Ж.-П. 384-385
Марианна 349, 351-353, 355"358,
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
499
363,380-381,383,387,465
Мария св. (Дева Мария) 172,175»
176, ι8ο, 204,206,220,352
Мария-Антуанетта 344» 354» 355»
488
Мария Магдалина 277
Марк св. 266
Марк Аврелий 146
Маркузе Г. го
Марло К. зоб
Марциал 117, и8
Матфей св. ι6ι, 365
МаццоланиЛ. 112
Менекл 69,70
Мерси-Арджанто Ф. де 344» 488
МерсьеЛ.-С. 339
Микс У. 167
Миллар Ф. но
Мильтон Дж. 313» 432
Модена Л. да (Иегуда Арье Ми-
Модена) зоо, 301,302,303,304,305
Мозес Р. 444-449,451,453
Мондевиль А. де 198,199,2θθ, 2θΐ,
203,221,318,479
МонеШ. 381
Моссо А. 414
Мэтью Т. 173
Мюнстерберг Г. 14,15
Наполеон Бонапарт 407
Наполеон III404,43*
Невзнер Я. 143
Нельсон Б. 277
Нерон но, и8,119,163
Николай Клервоский 223
Ницше Ф. 178,179
НокАД. 153-154,475
НохлинЛ. 364
Ньютон И. 359-360,363
НэшДж. 399-405
ОберДж.72
Овидий 112,130
ОденУ.Х.258
ОзуфМ.374,375
Олмстед Φ Л. 442
ОлсенД.410
Онор X. 282
Ориген 152,153» 156»157» 1бо, 167
ОруэллДж.395
Орфей 117, и8, ΐ2θ
Осирис 149» 152» 157
Осман Ж.-Э. 398, 403, 404» 405»
406,407,423,444
Отис Э.-Г. 427
Отрам Д. 320
Оуэн-ХьюзД.295
Павел св. 159,164,1^5, ι66,167,170,
176
Павел IV, папа 289
Палладио А. 2б2
Парацельс 278
Паррасий пб
Патт П. 322,334
Перикл 31-36,38-39,41,45,46-48,
54-58,65-67,73,76-77,79~8о, 83,
95-101, U2-113,132, Hi» Н5, ι8ο,
311,438,454
Перкинс Ф. 445
500
Перроне Ж.-Р. 329
Персефона 79,98
Петр св. 175,*7б
Петр Кресценций 217
Петроний Арбитр 165
Пинкни Д. 404
Пиренн А. 189, ΐ9θ, 265,266
Плакпзз
Платон 46,47,71,90,91,92,471
Платнер Э. 319
Плиний Младший 163
Плиний Старший и6
Плутарх 97,99, HS
По Э. А. 39
Пойе Б. 357
Поланьи К. ззо, 331,334
Полибий 128
Помрой С. 8ι
Поуп А. 147,475
ПриулиДж.271
Пуллан Б. 279,287
Пьеро делла Франческа 255, 256,
258,387
Пьяченца Ф. да 304
Рабютен-Шанталь М.-Ш. (Мадам
де Севинье) 365
Равид Б. 302, зоз
Рейд Ф. 434
Рейнольде Дж. 130
Рикверт Дж. 9,132,485
Роберте У. 387
Робеспьер М. 362,376
РодеригаД. 302,303
Ролан М.Ж. з68
Рома 114,115
Ромул 129
РоссиЛ. 88
Рубо Б. 416
Руссо Ж.-Ж. 353
РюдеДж.339,342
Савонарола Дж. 275
Сансон Ш-А. 372
Сануто Дж 274,274,288
Сапфо 87,89
Сассен С. ю
Саузерн Р.У. 188
Светоний но, и8,1б2
Сенека 105, ι68
Серизола А.-С. ю
Серлио С. 123,124,125
СикстУ, папа 322
Симонно Ж.А. 375
СиссаДж47
Скарпи П. 302
Скарри Э. 464
Скотт Дж. 9,378,490
СлокумД. ю
СмитА. зп, 312, ззо, 332,333,334,
336,337,341,345,391
Сократ 51,69,9°
Софокл 25,71,98
СтаробинскиЖ. 357
Стаффорд Б. 318
СтоуК.298
Сюлли М. де 2о8
Тацит 131
Твид У.М. 393
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
501
Телеко Α. 209
Тененти Α. 271
Тертуллиан и8
Тилли Ч. 9,342
Тимарх 52
Тиссо С. 355
Тит Ливии 111
Токвиль А. де 395» 396,428,455
Траян ю8,114, И5, Н7, И9,163
Тримальхион 165, ι66
Уайт Л. 37
УаттДж. 425-426
УеМ.-Э.з81
Уиллис Т. 316,319
УинклерДж.92
Уичерли Р. 6з
Ульман В. 188
УолковицДж.411
Уолстонкрафт М. 353
Уэлч К. и8,473
Фель Ф. 42
Ферамен 68,69
Фива 166
Фидий 42,56
Филипп И 207, 2о8,230
Филипп Красивый 248
Финна Дж. ю
Финки М. 40
ФЛ0рИ0Дж.2б2
ФоаА.273
Фома Аквинский 18 8,192,277
Фома из Кантимпре 304
Форстер Э.М. 23,313» 388,391» 392,
396,397,411,324,429,430-435
Фортье Б. 398
Франклин Б. 425
Франциск Ассизский 193,194,195
Фрейд 3.348,458,459,4бо, 462
Фридрих Великий 328
Фрик Г.К. 413
Фукидид 31, 32, 34, 35, 47, 73, 95,
97,98,99,юо,438
Фуко М. 10, 27
ФюреФ. 349,358
Хабермас Ю. 9
Хайдеггер М. 434
ХантЛ.345,370,372,383
Харбисон Р. 328
Харрисон Э. 42
Хафтон 0.356
Хиршман А. 252
ХогартУ. 18-21,380,421
ХоджетДж.245
Холли Б. 426
Хопкинс К. 117
Хоуз Э. 428
Христос 22,146,148,149,152-153,
156,159, !бо, 163,167,170-176,190-
195,198, 203-205, 212, 214, 221, 224,
228, 250, 251, 253-256, 2бз, 277,
280,374,387,461
Хэйр 0.424
Цейтлин Ф. 68,75
Цельс 152,156,157
Цицерон 146,349
502
Чатфилд-Тейлор Α. 9
Чиксентмихаии M. 15
ШазоЖ.9
ШарденЖ.-Б.С. 385
Шекспир У. us, 259, 26ι, 2б2, 277,
28о, 293,297,307, Зо8
Шелли П. Б. 162
Шелль Ж. де 183,187,191,192,193,
207, 209, 211, 213, 215, 219, 220, 231
Шенье М.-Ж. 377
Шопенгауэр Ф. 178
Шорске К. 9
ЭберЖ.-Р.зб9
Эделман Э. 9
Эдип 25,26,71,157
Эдисон Т. 426
ЭдуардУ11з88,391
Элгин Б.-Г. 42
Эликотт Э. 325,326,33°
Элоиза Парижская 203
Эмпедокл 468
Эре Ж. 232
Эсхин 52,98,99
Ювенал 144
Юлий Цезарь 136,137,139
Юрсенар М. 146,150
РИЧАРД СЕННЕТ
ПЛОТЬ И КАМЕНЬ
ТЕЛО И ГОРОД В ЗАПАДНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Выпускающий редактор Татьяна Григорьева
Корректоры Мария Смирнова, Светлана Крючкова
Верстка Алексей Тубольцев
Производство Агата Чачко
Strelka Press
Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка»
119072, Москва, Берсеневская набережная, дом 14, строение 5а
Телефон: +7 (495) 268 0619
e-mail: more@strellca.com
www.strelka.com
Подписано в печать 30 сентября 2016 года
Формат 84 χ 108/32. Гарнитуры Brioni, Fugue
Объем 26,88 усл. печ. л. Бумага офсетная. Печать офсетная
Заказ № 3426/16. Тираж 5000 экземпляров
Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт»
170546, Тверская область. Промышленная зона Боровлево-1,
комплекс № ЗА, www.pareto-print.ru