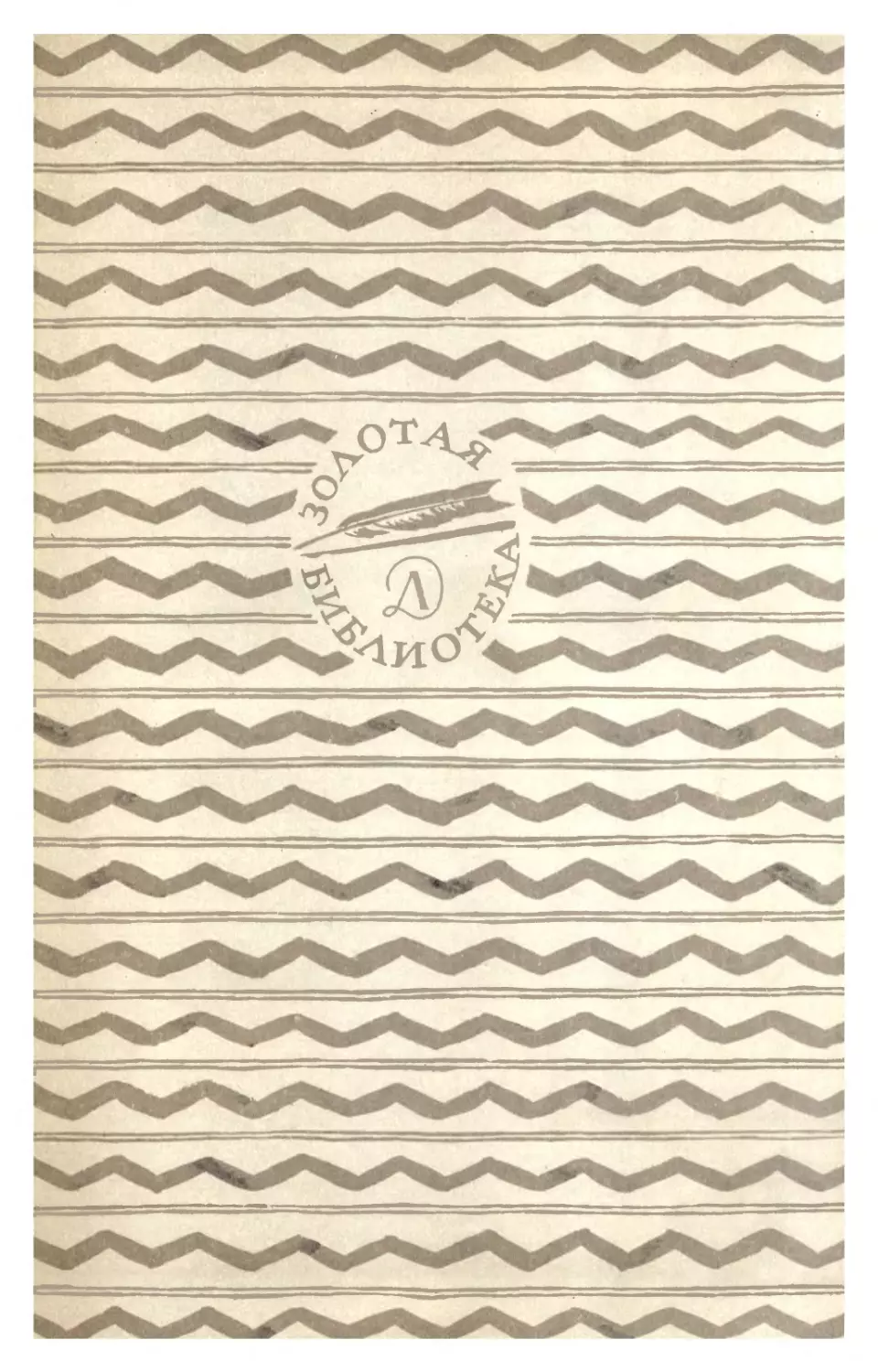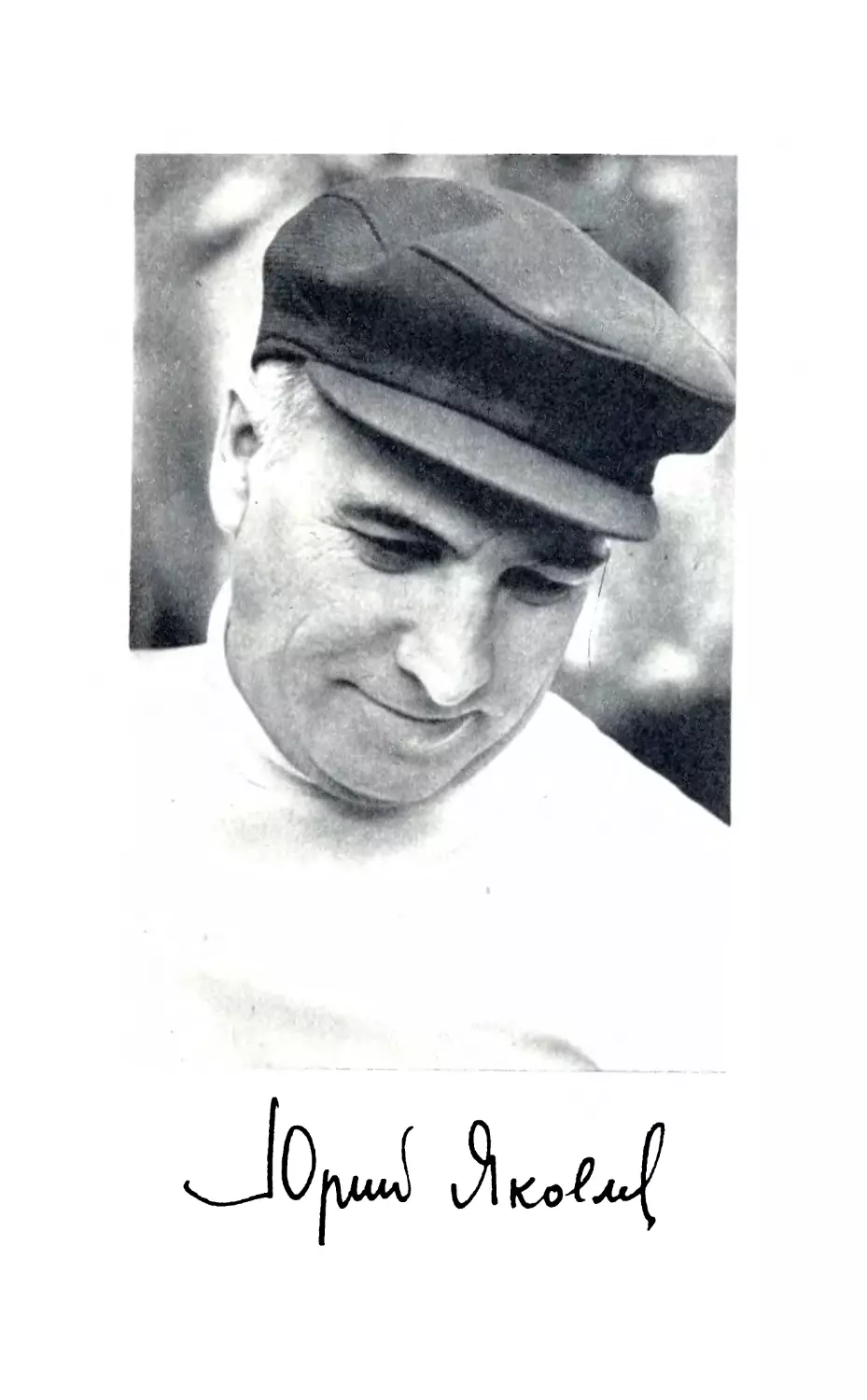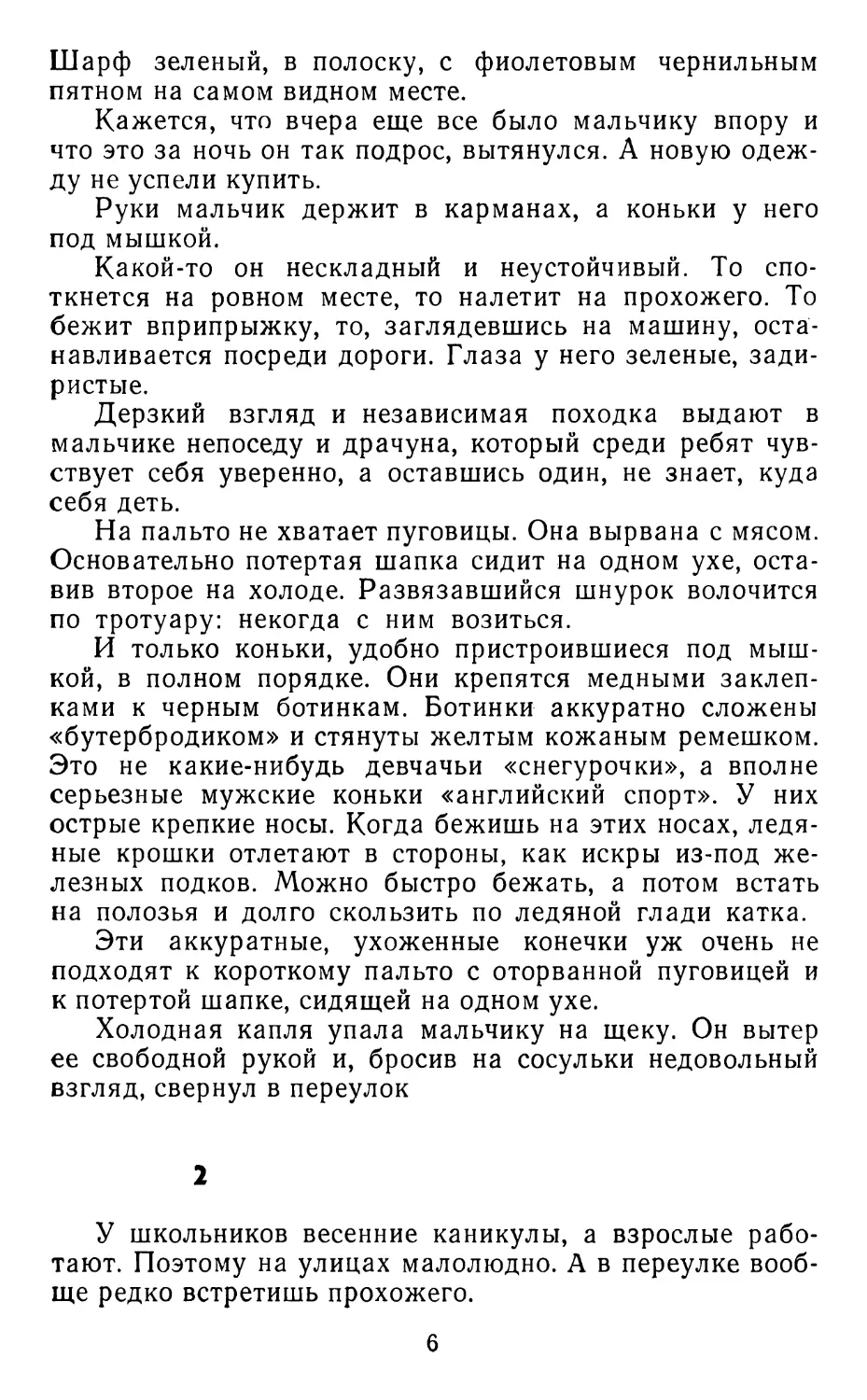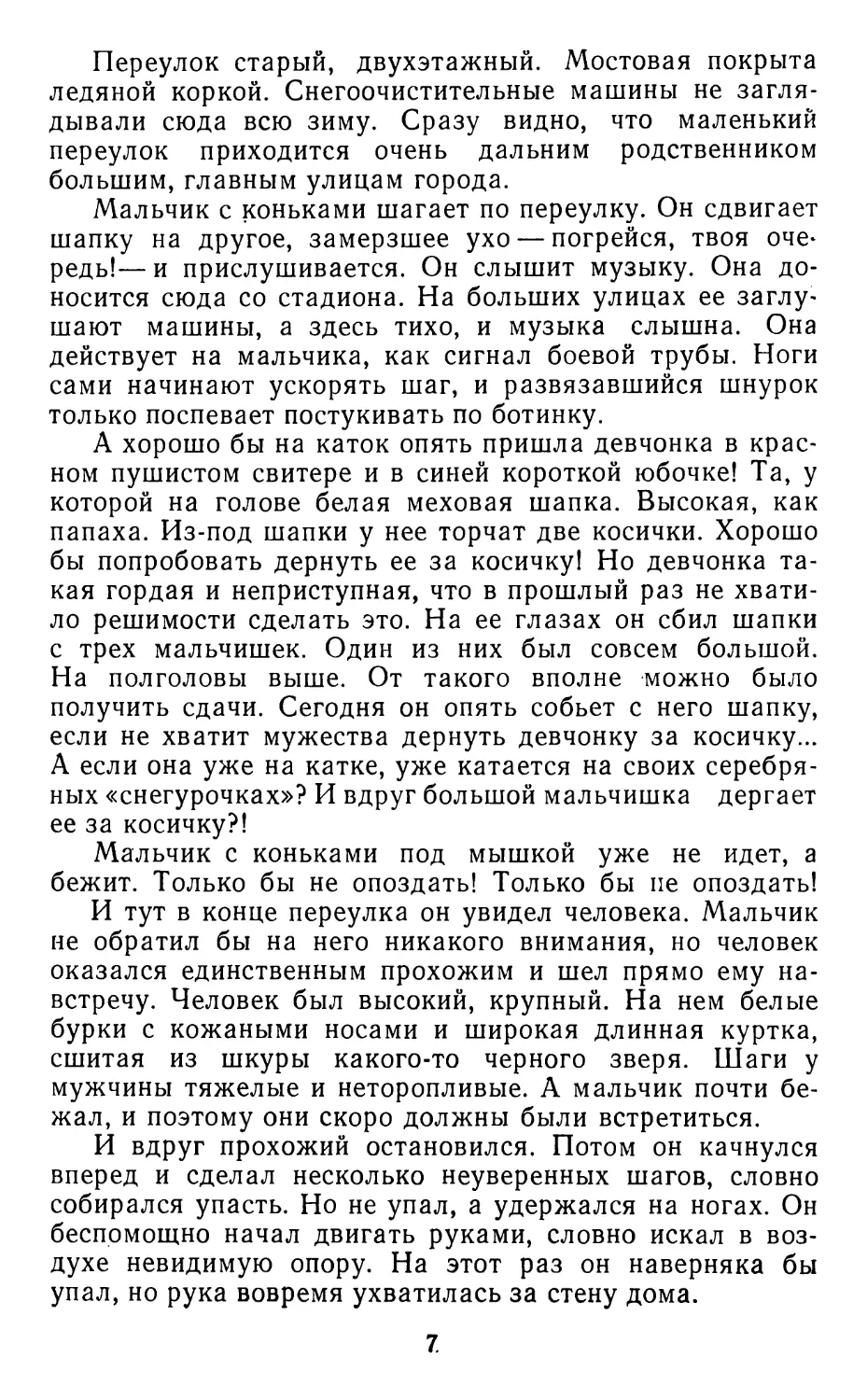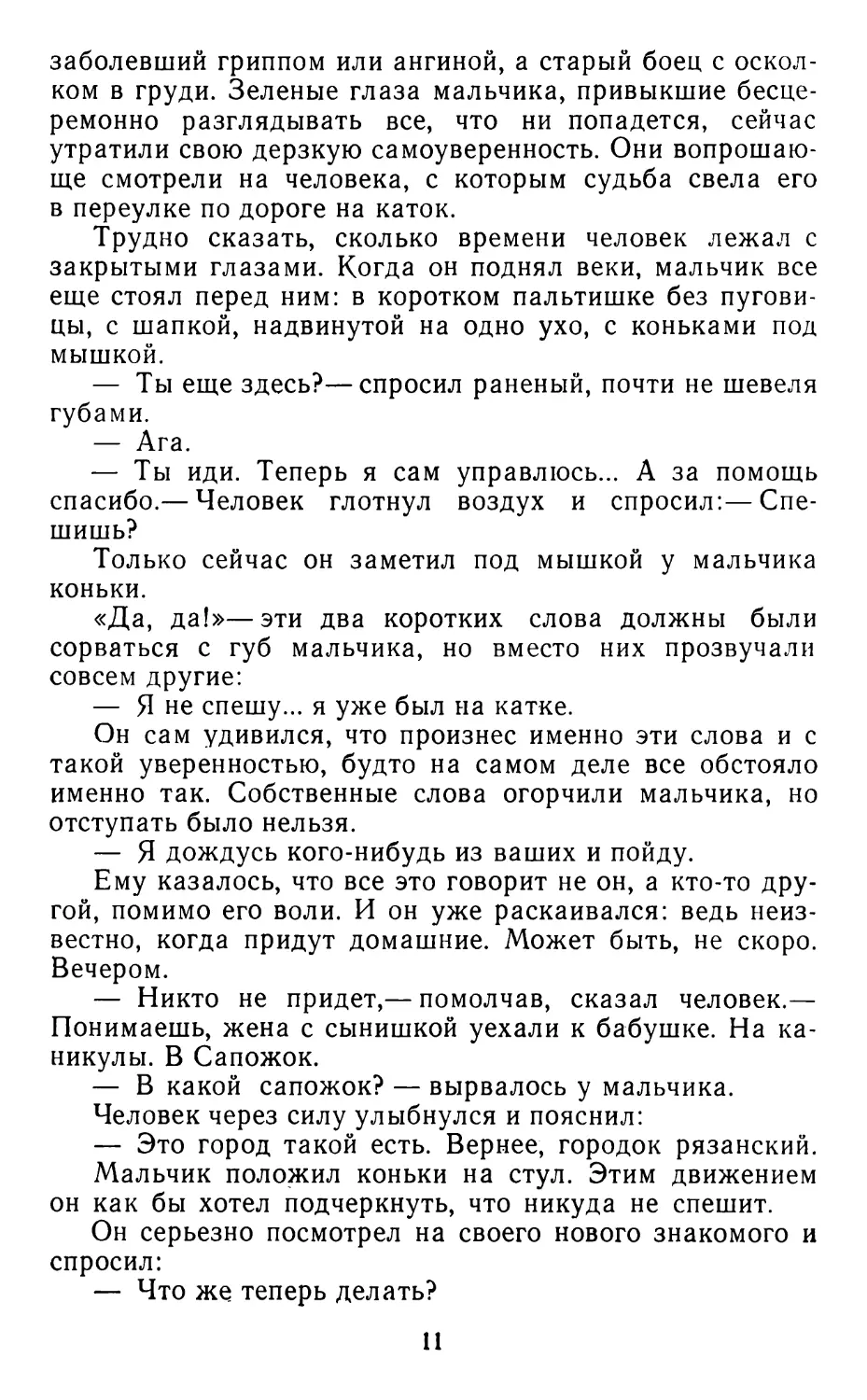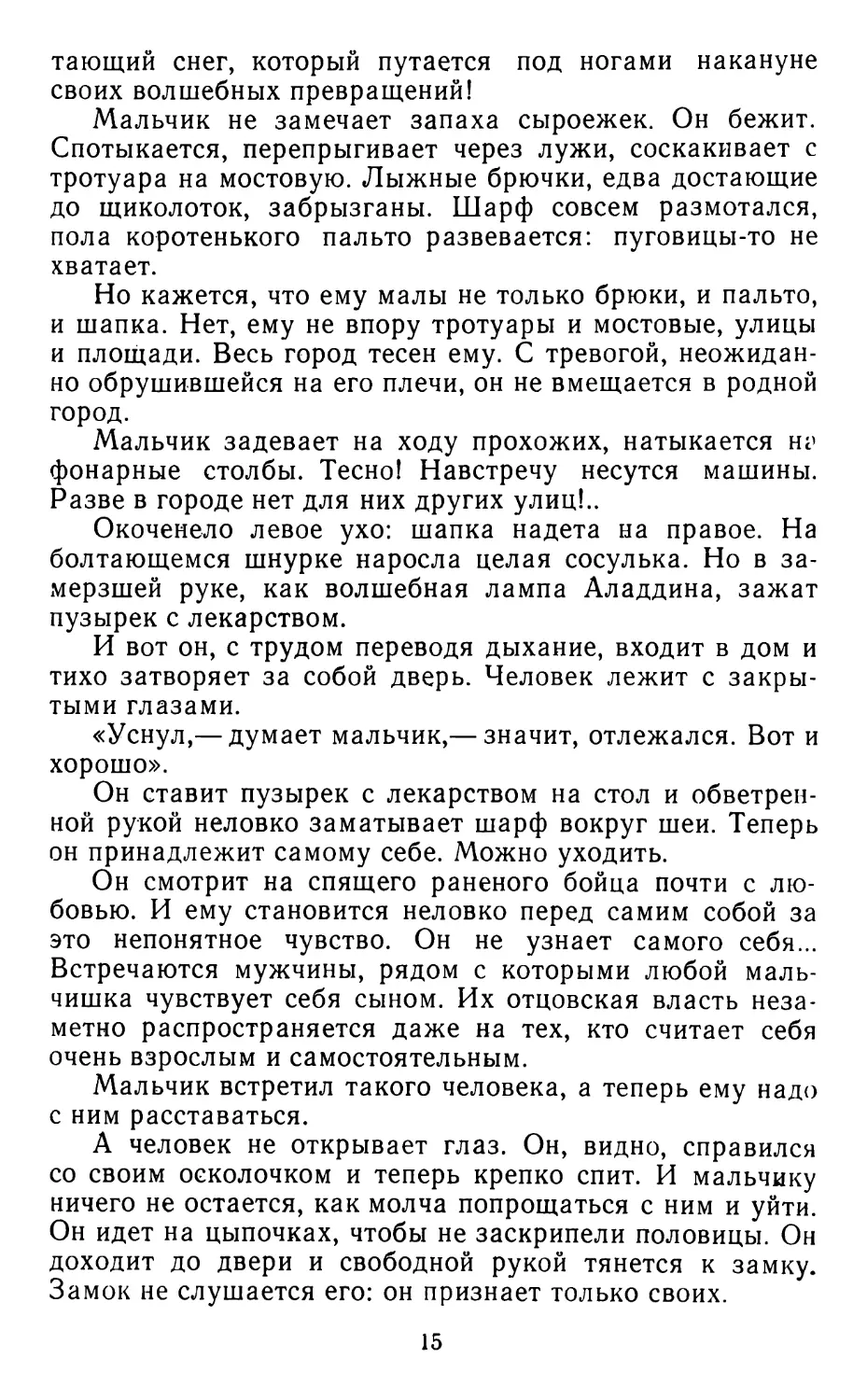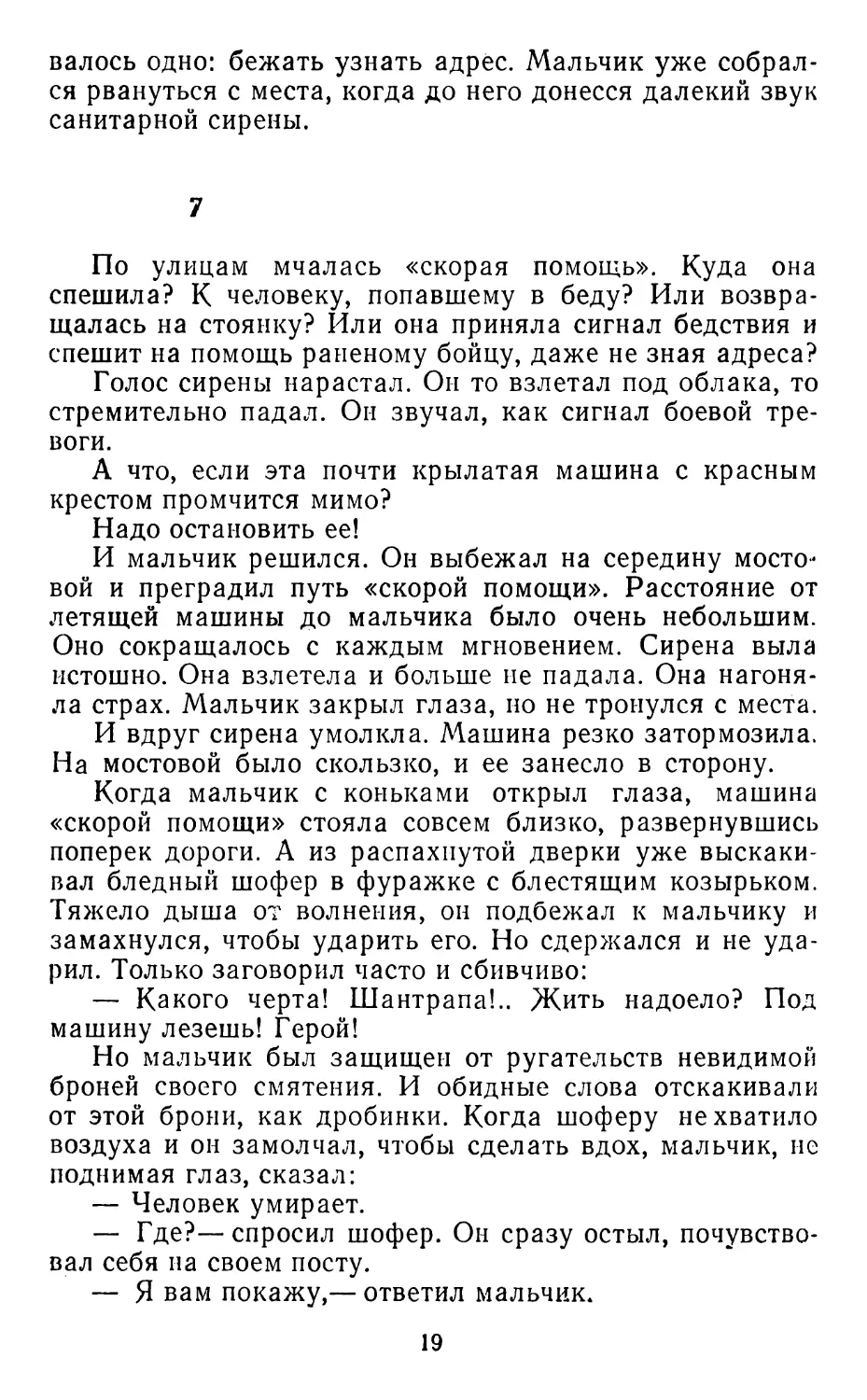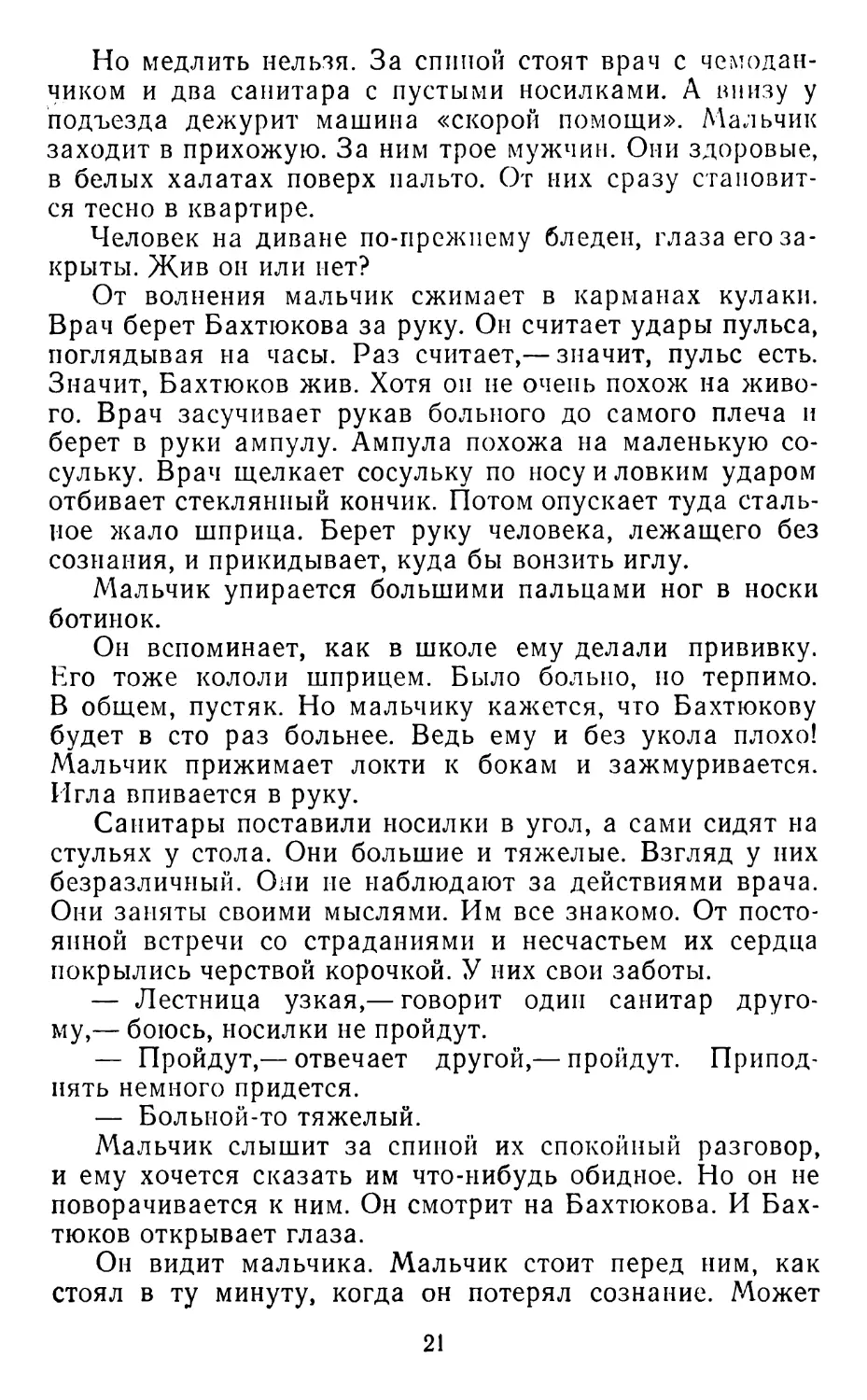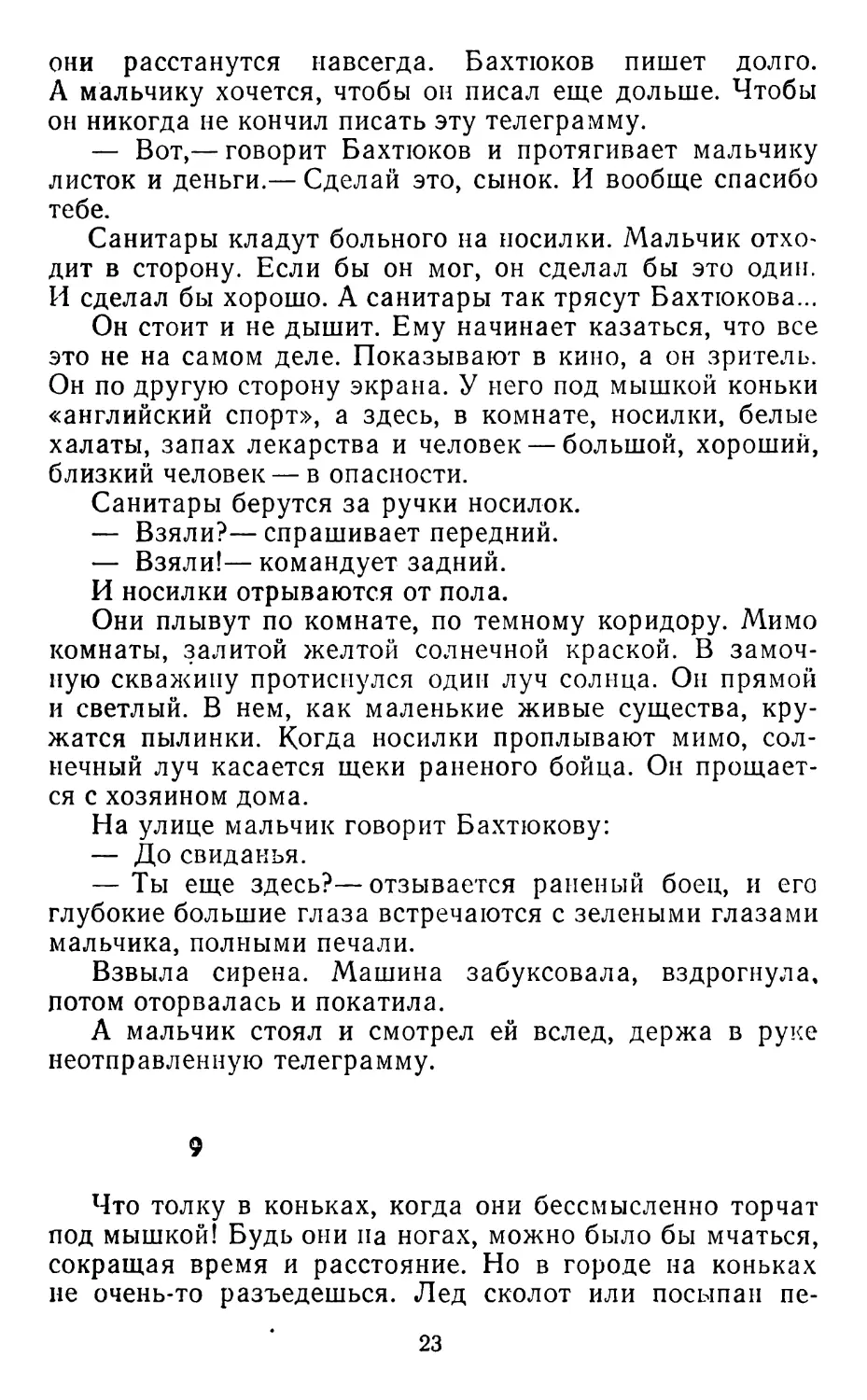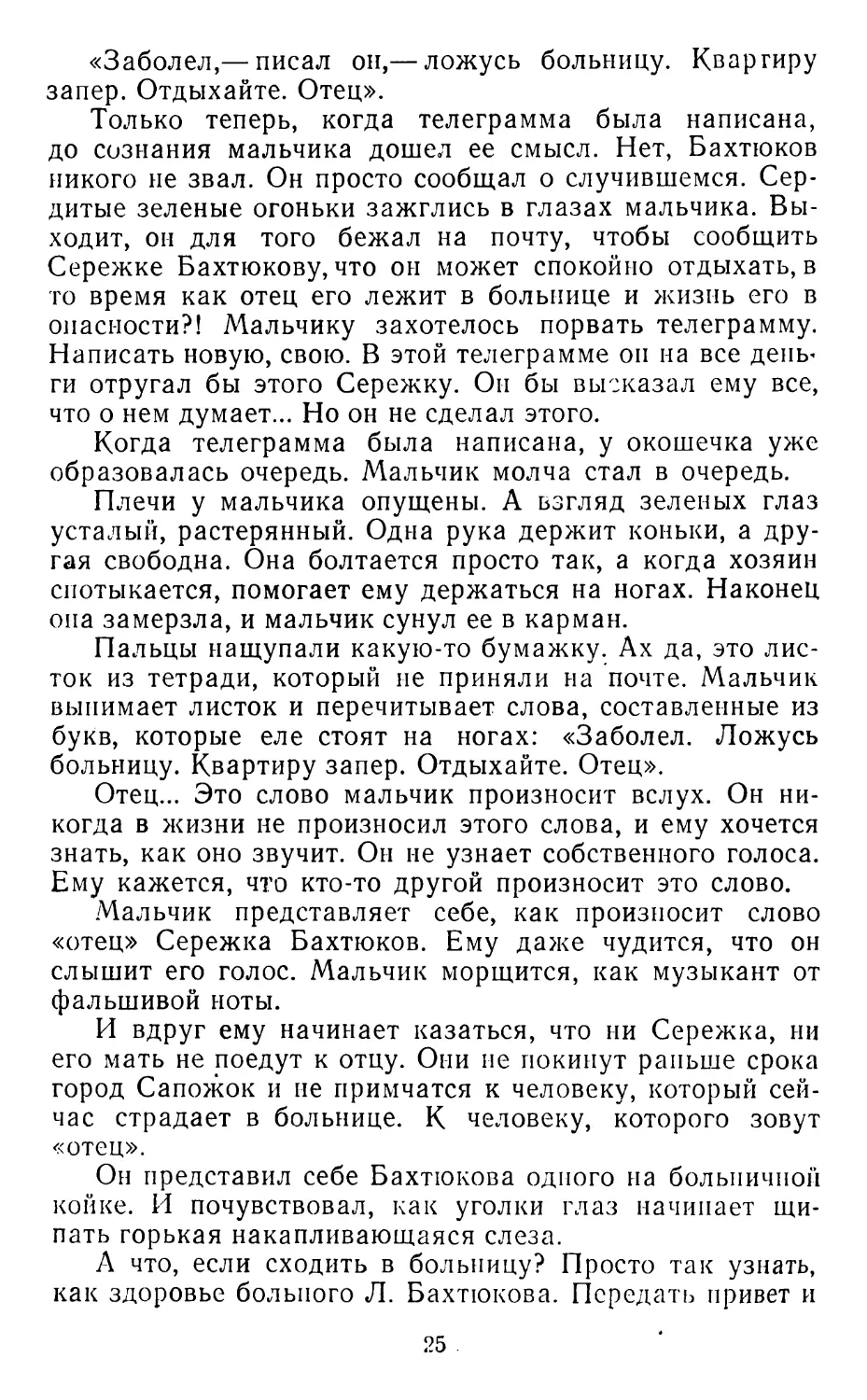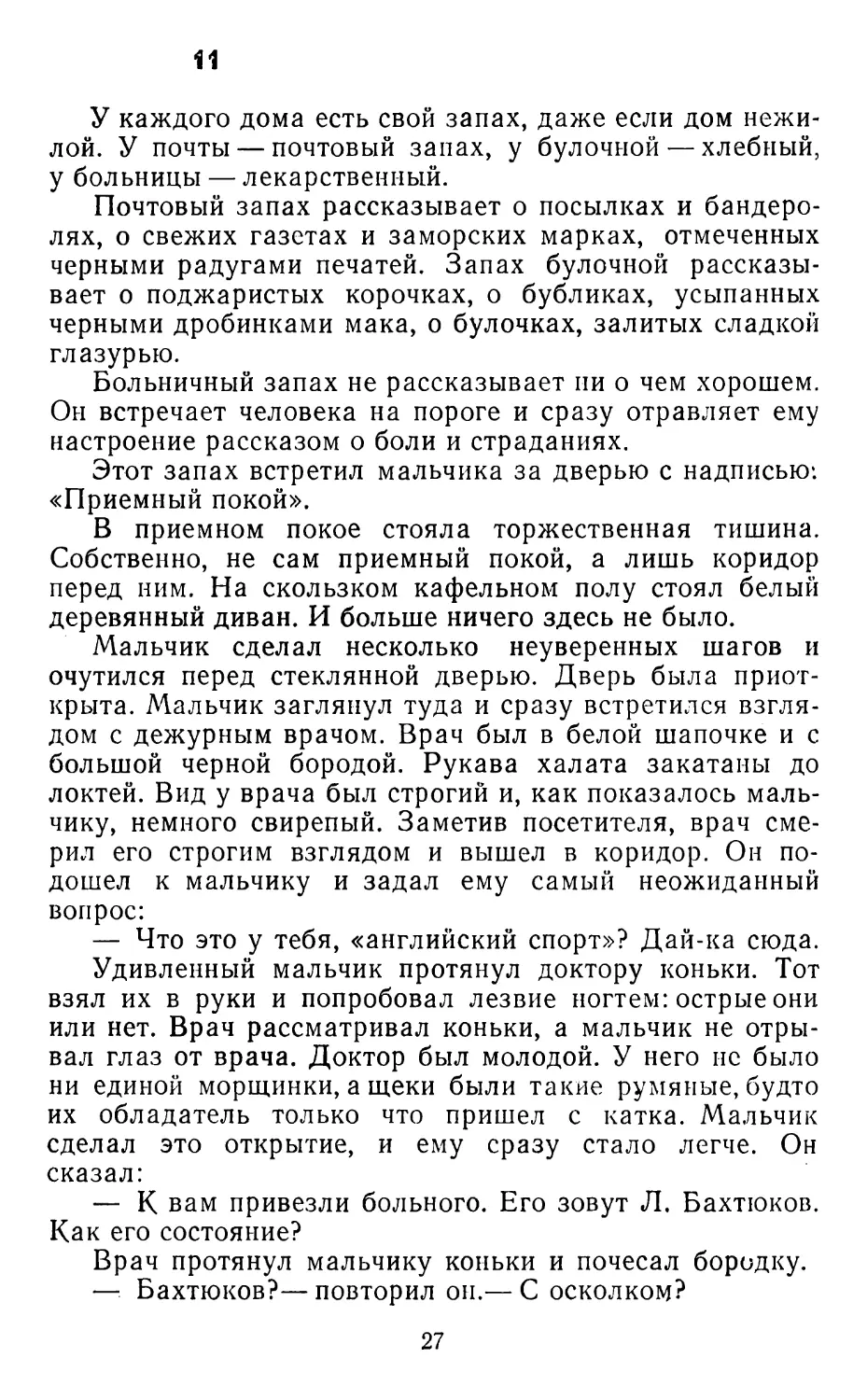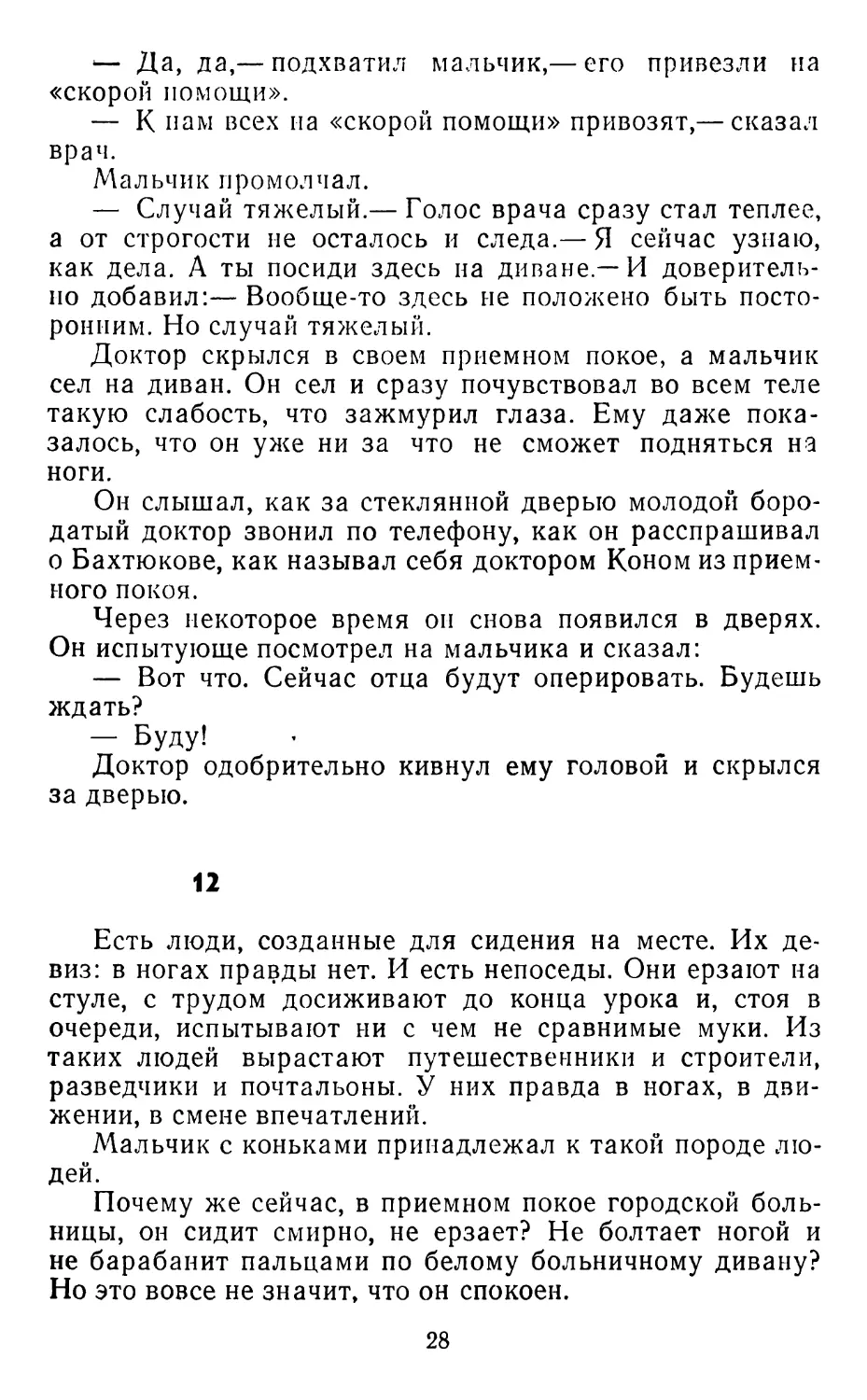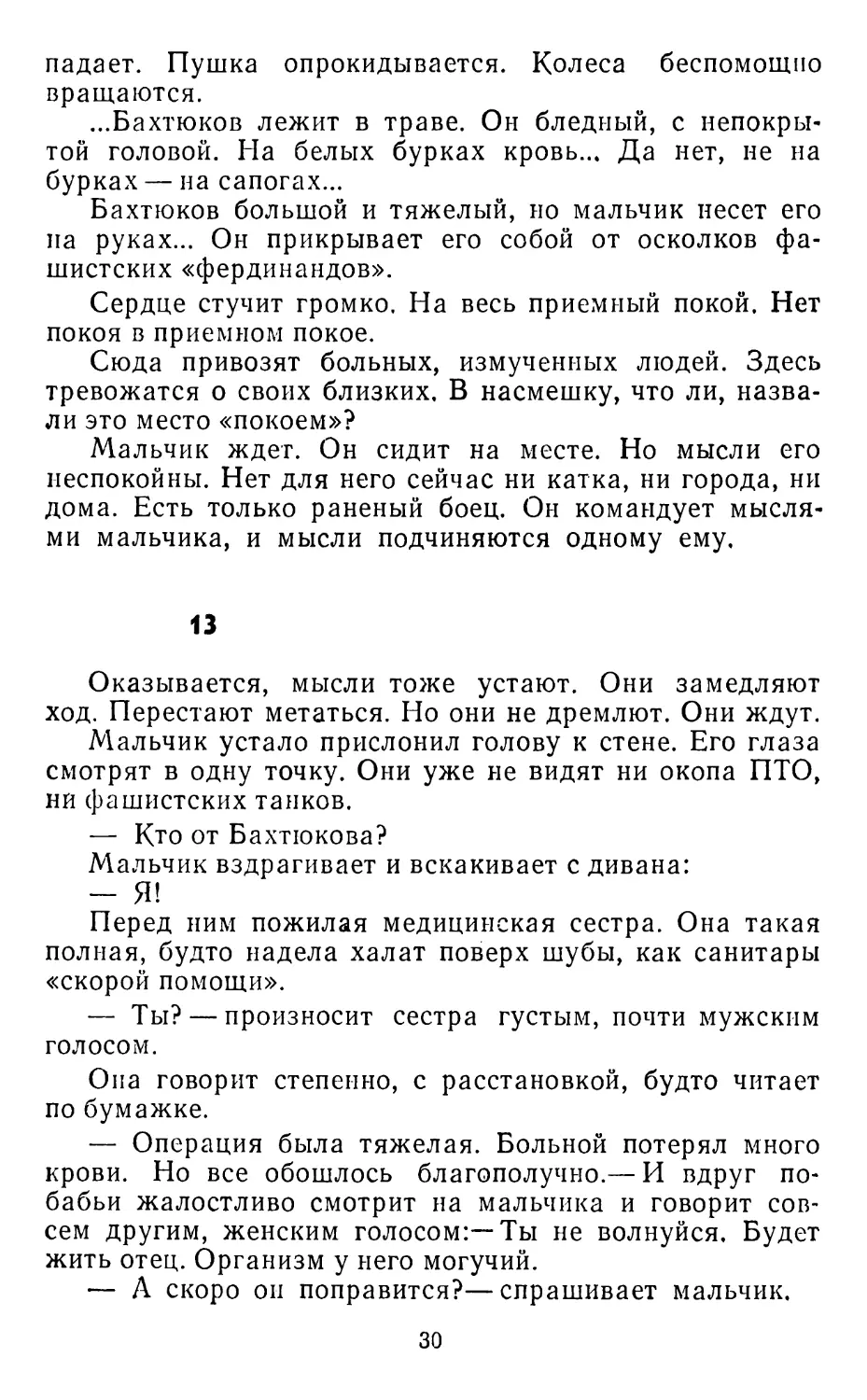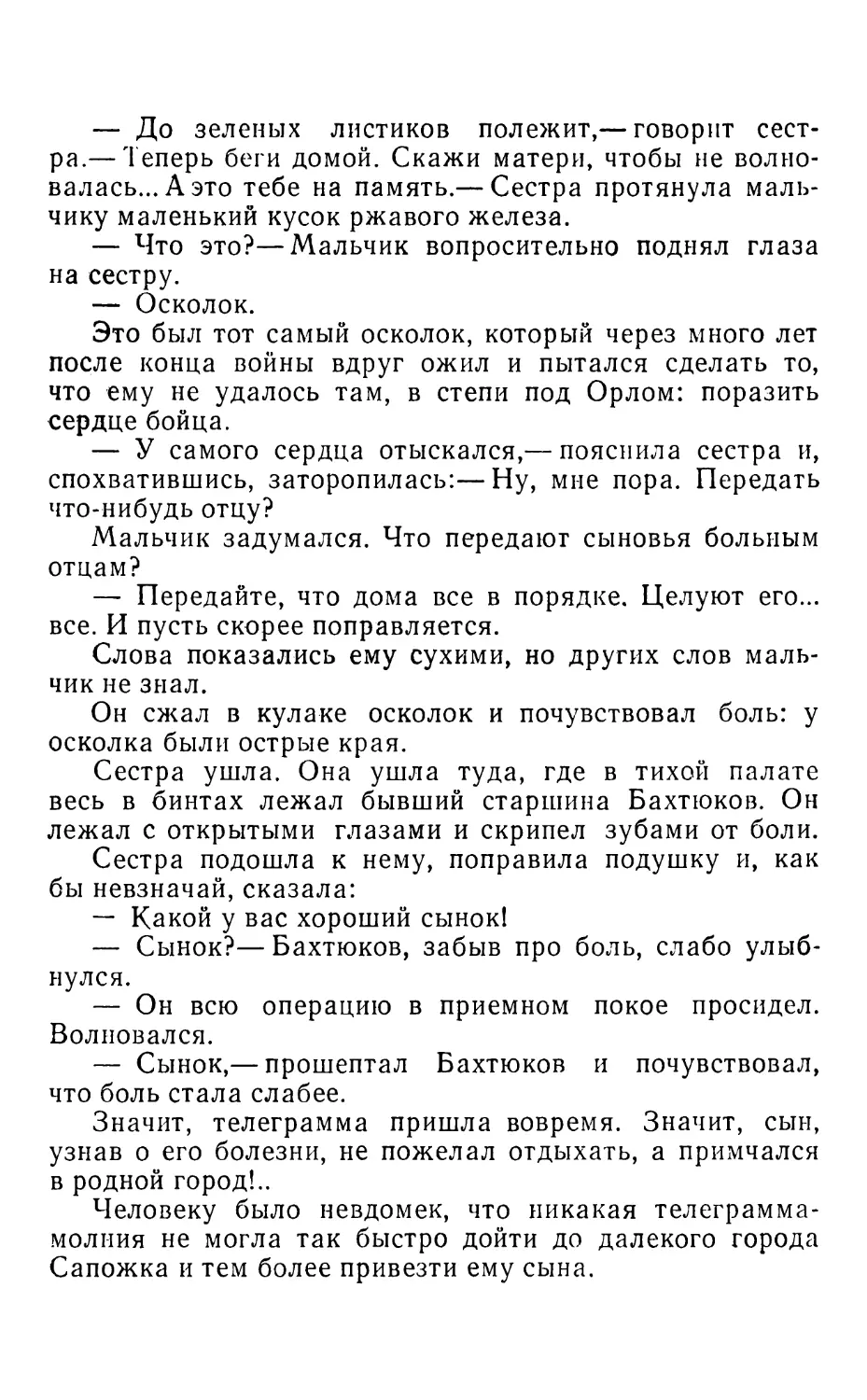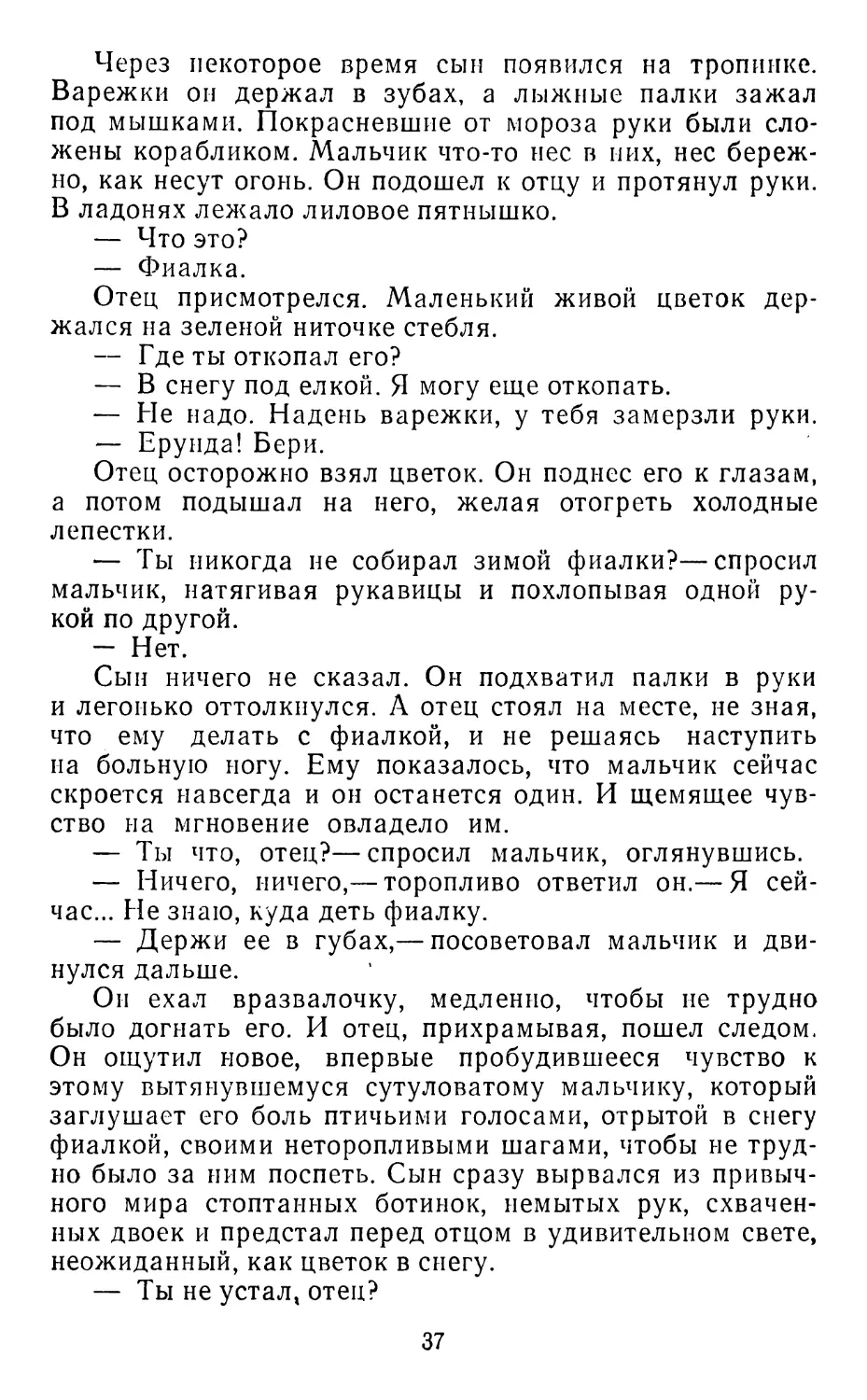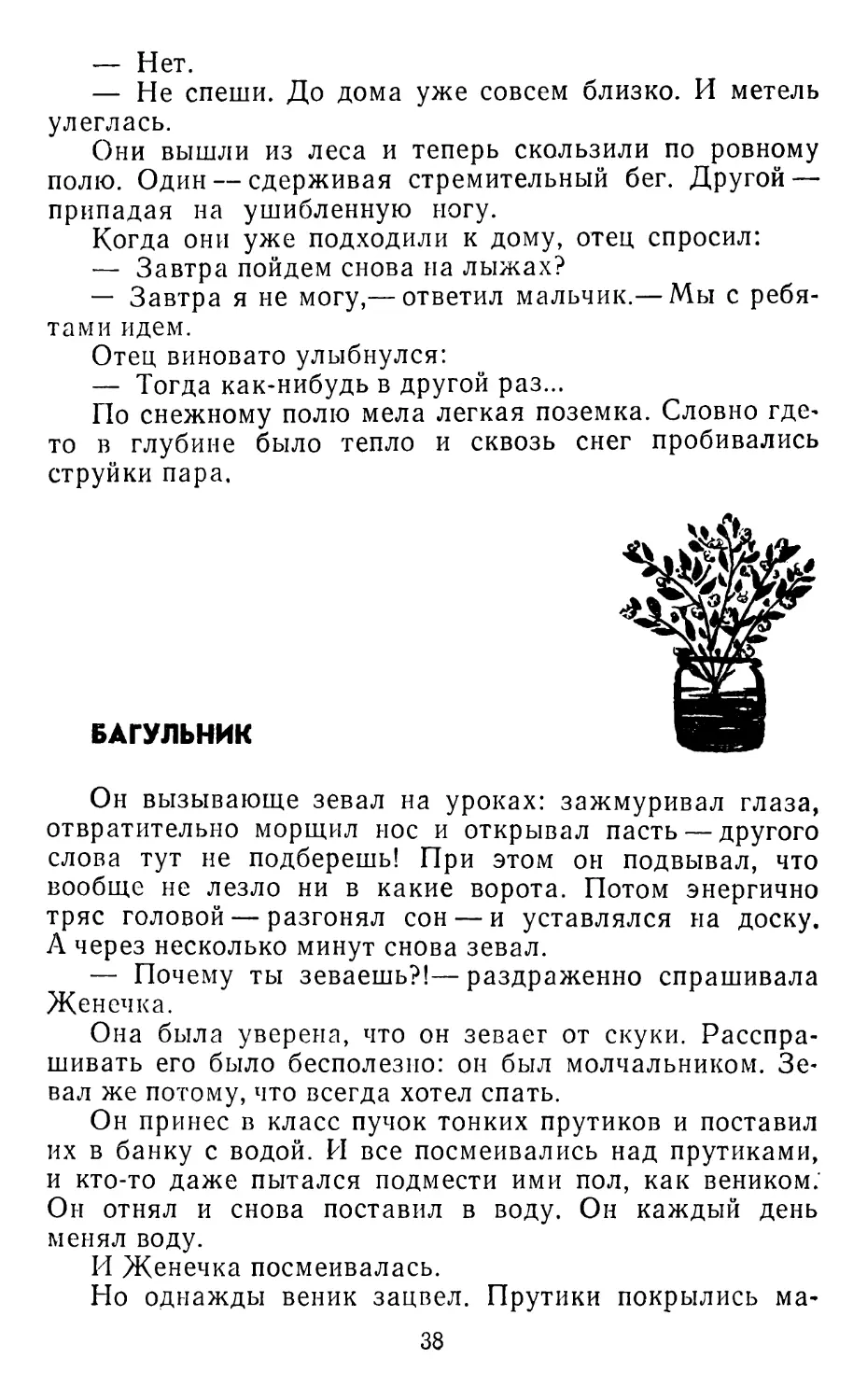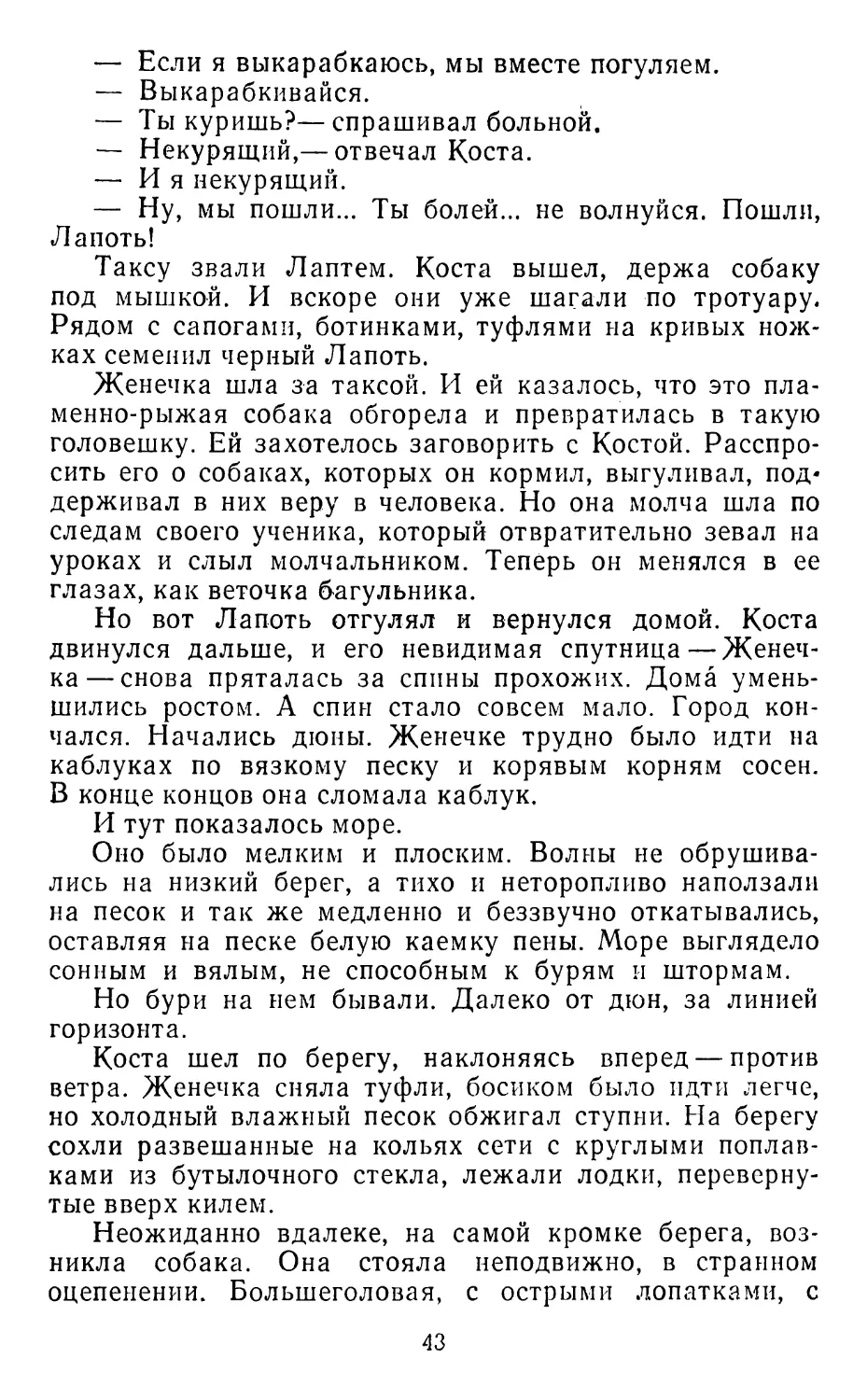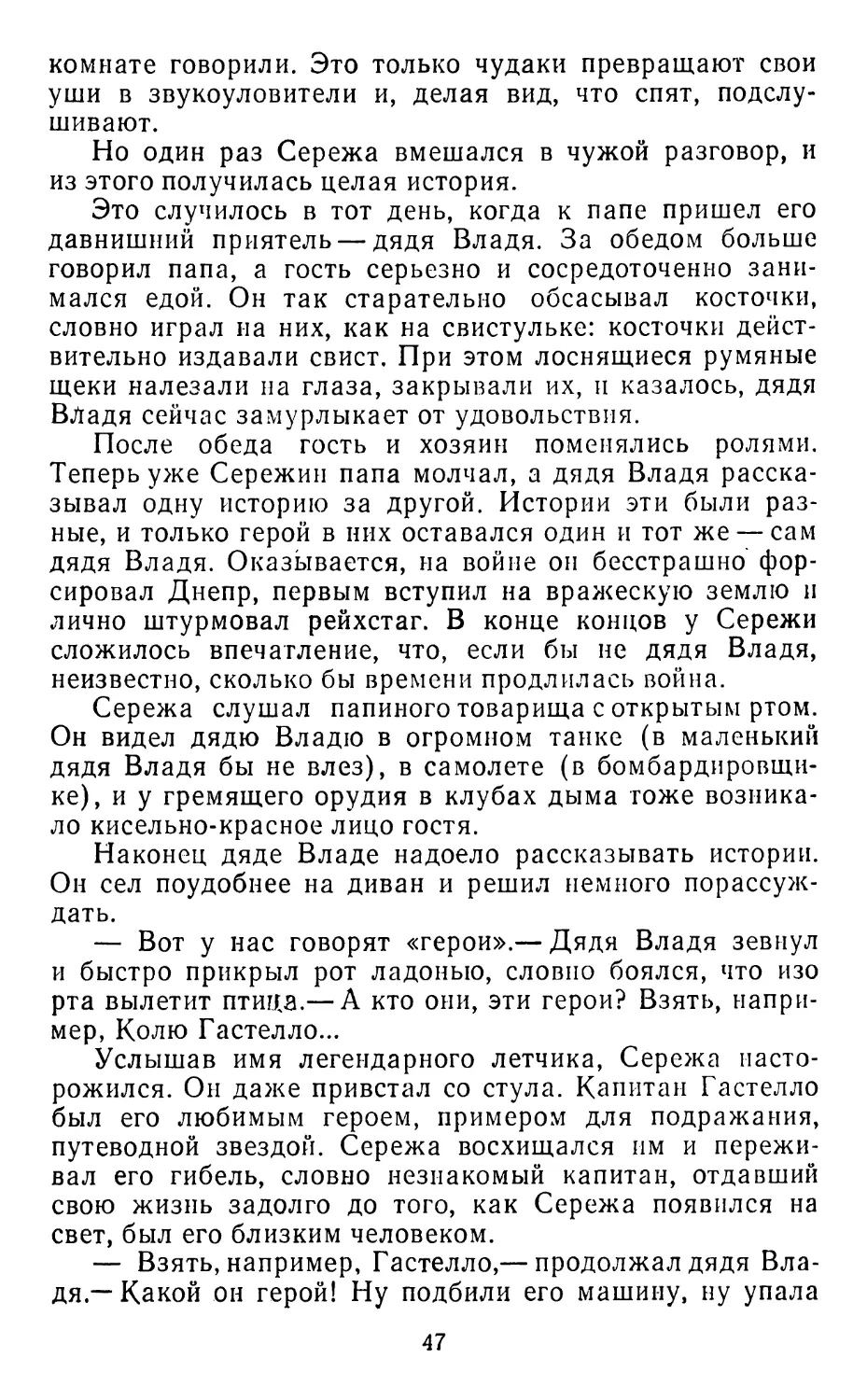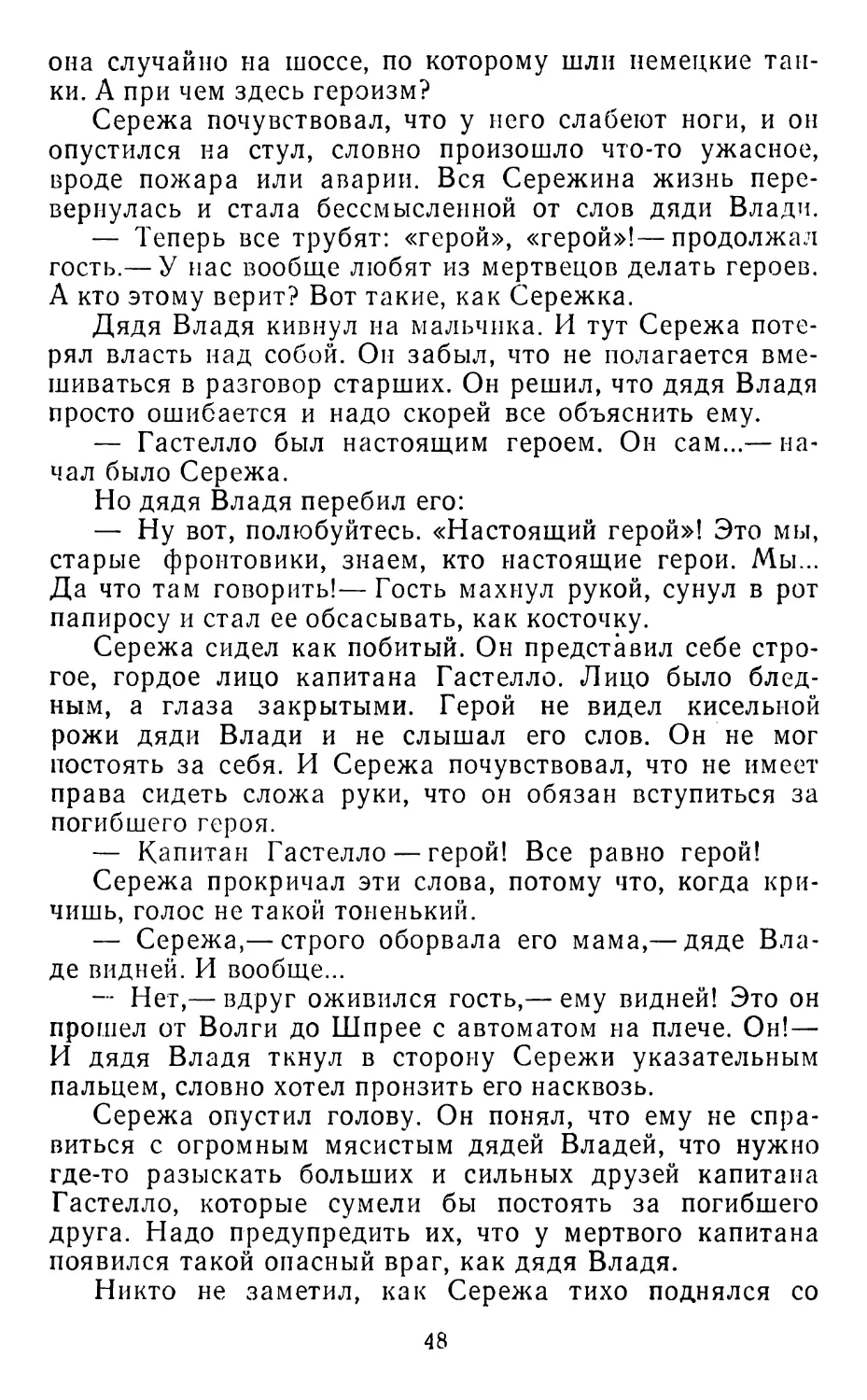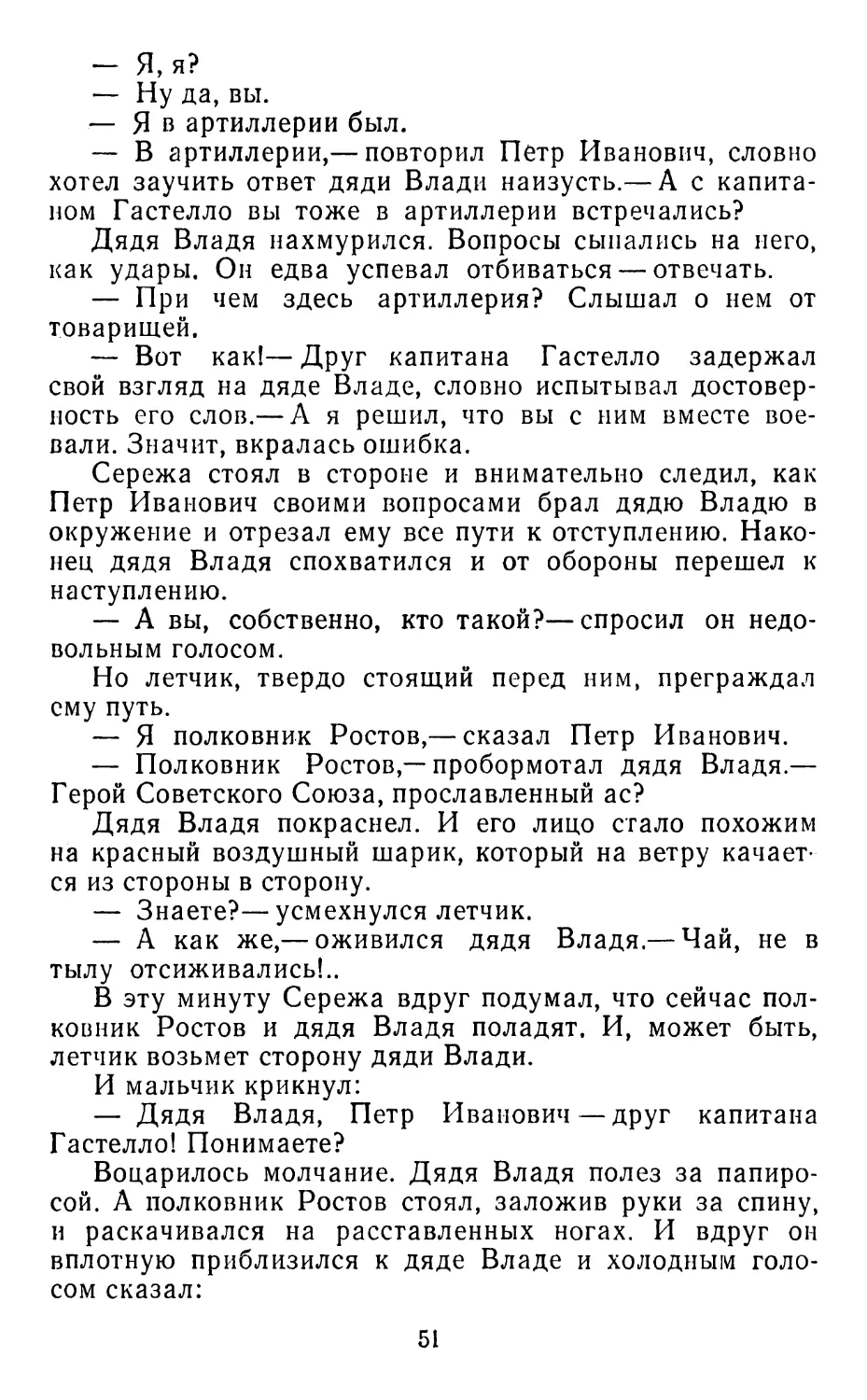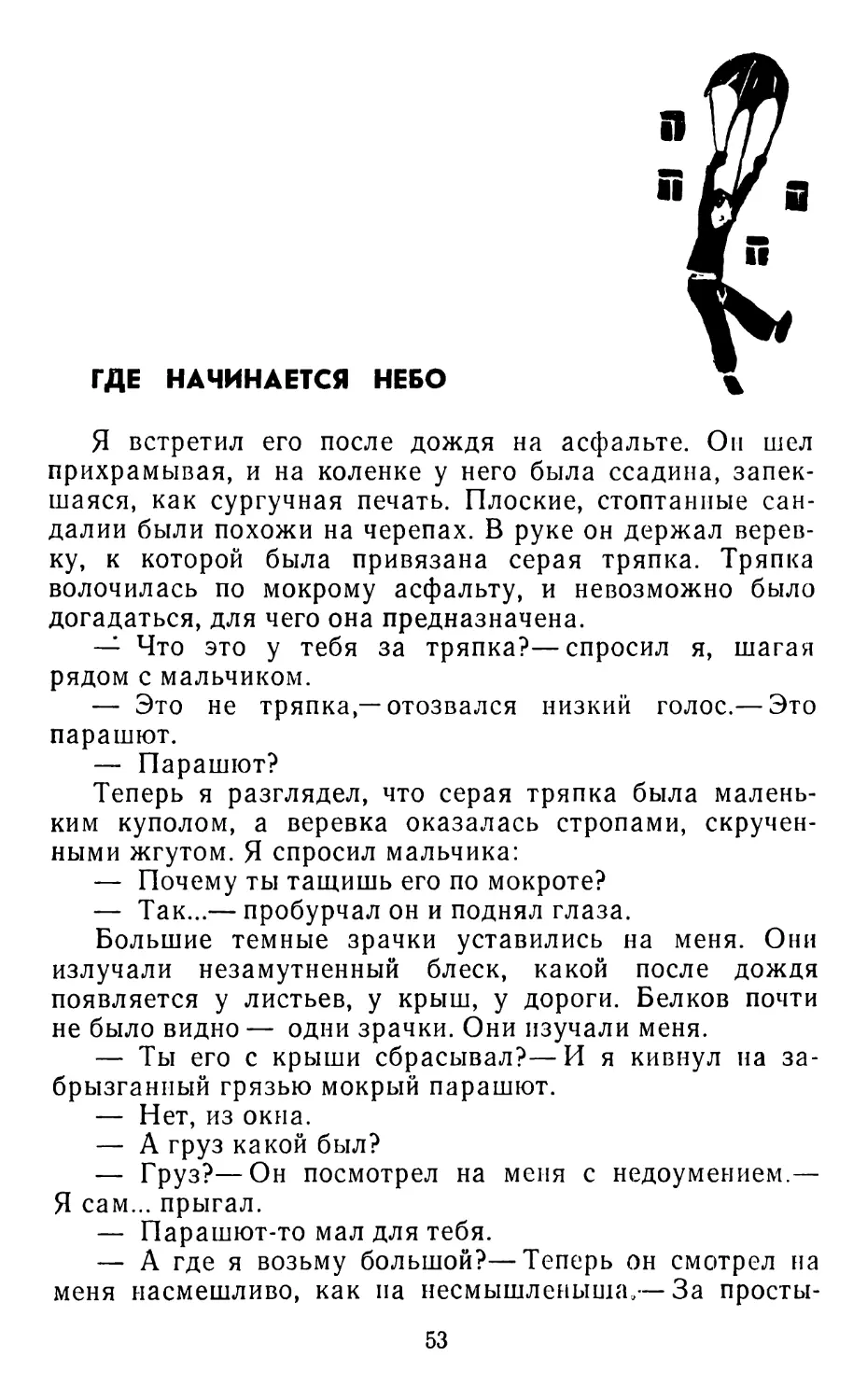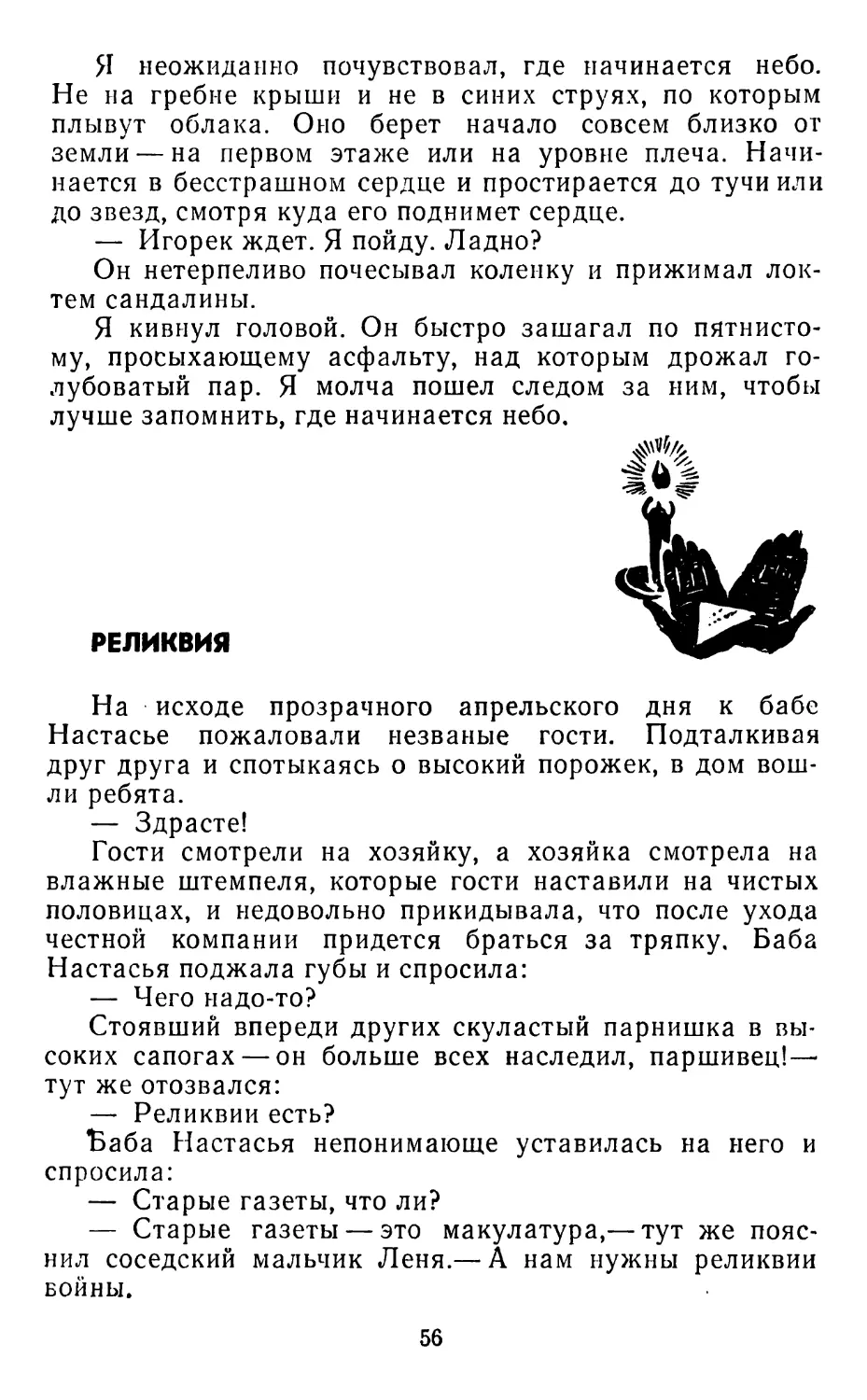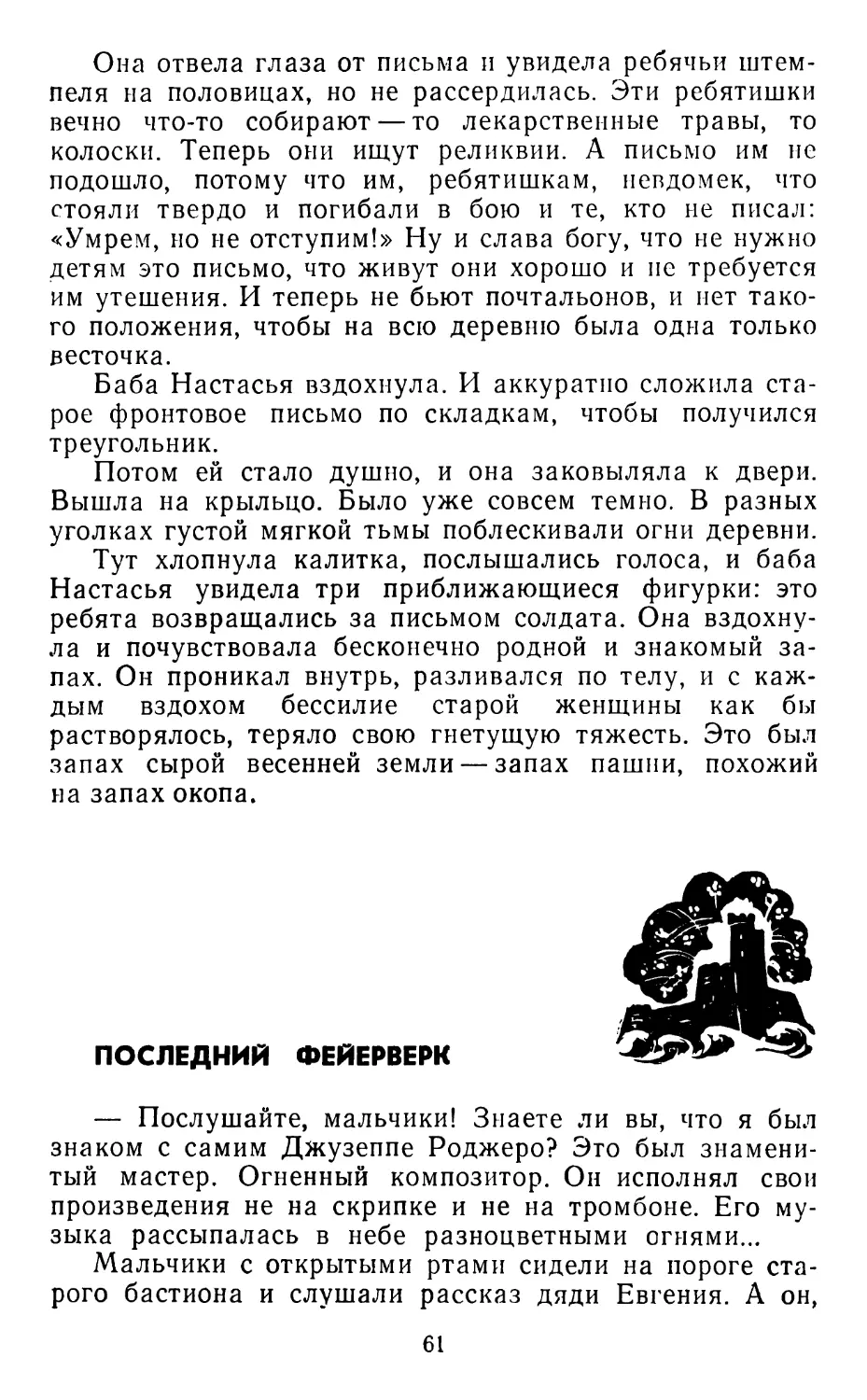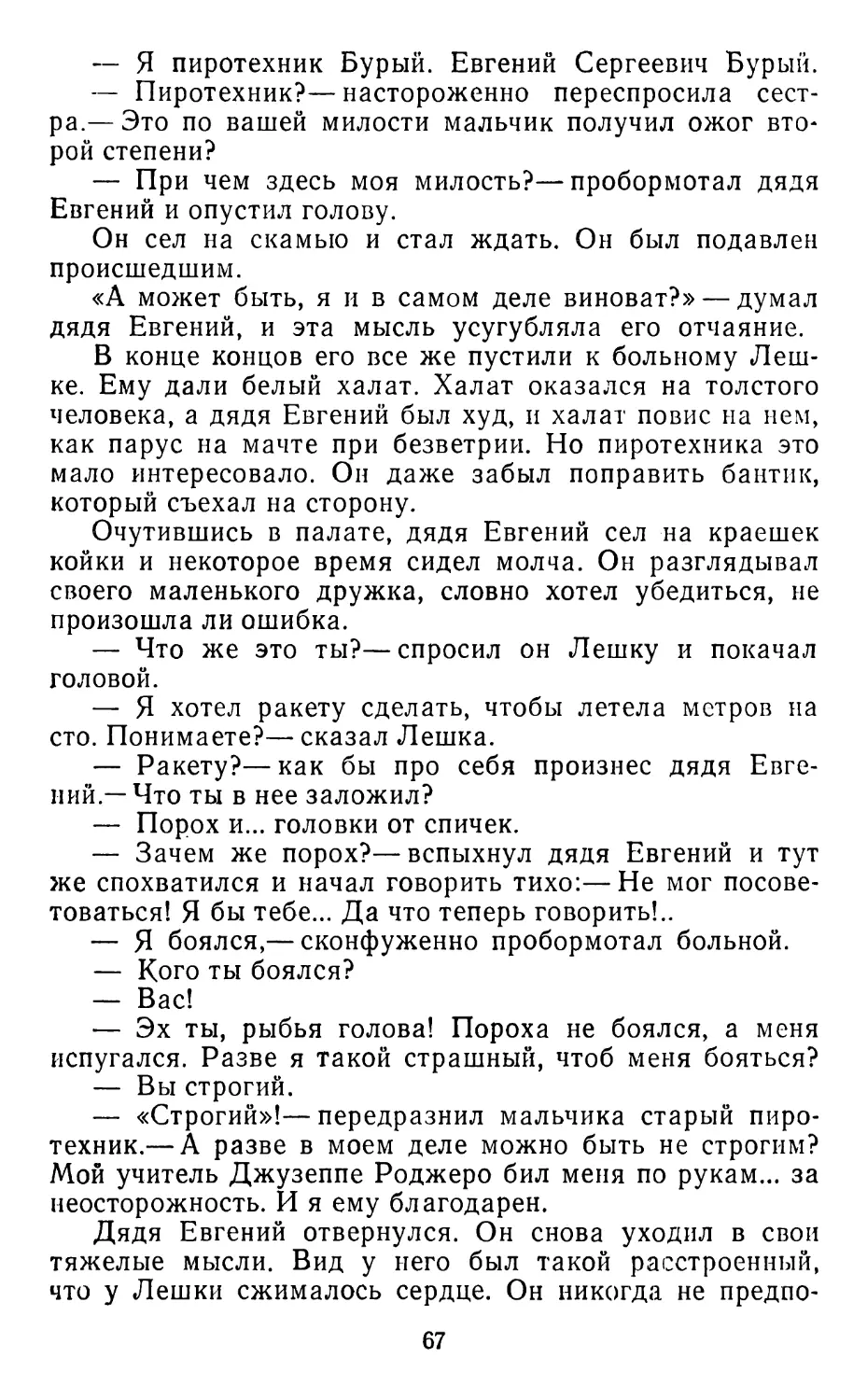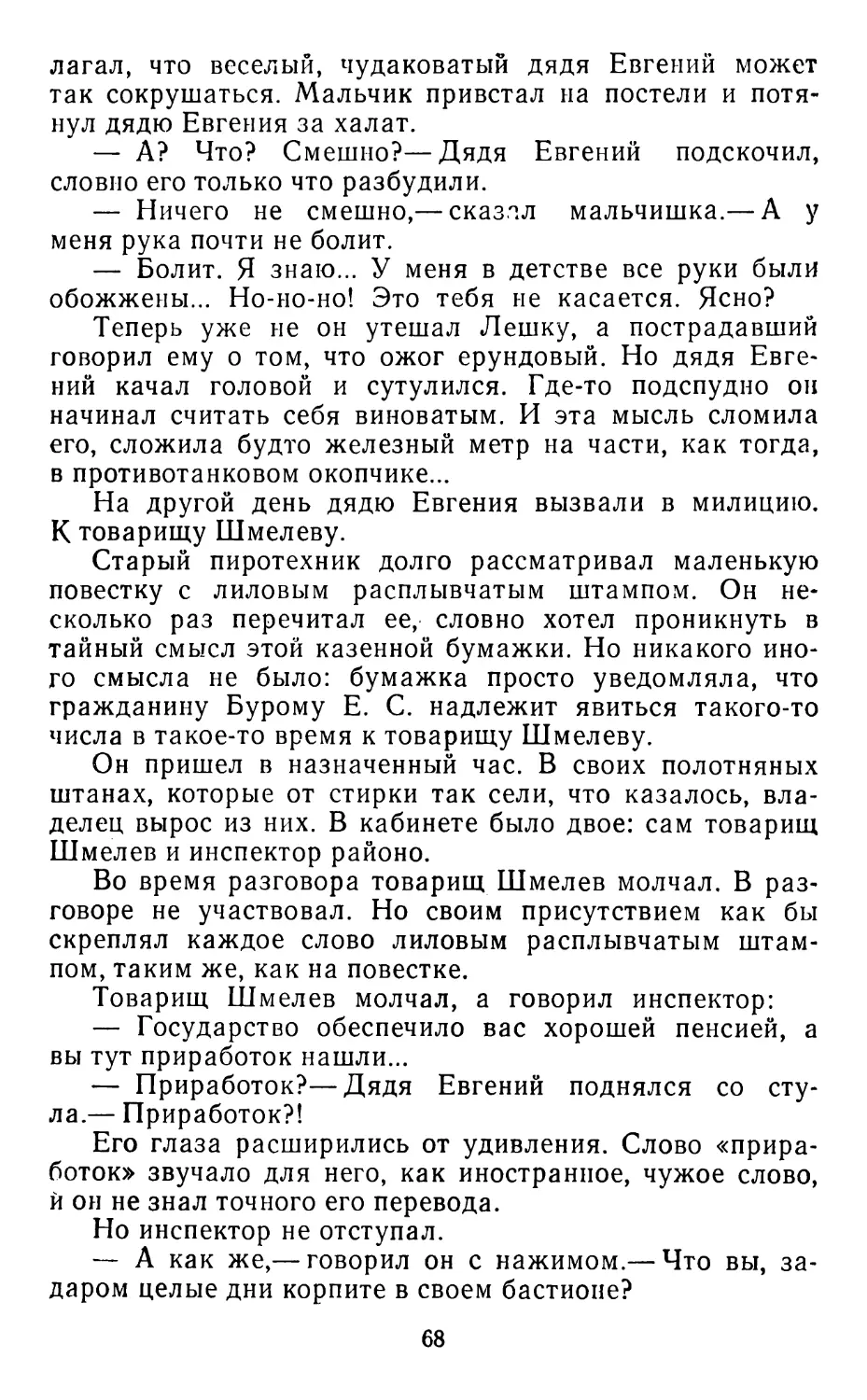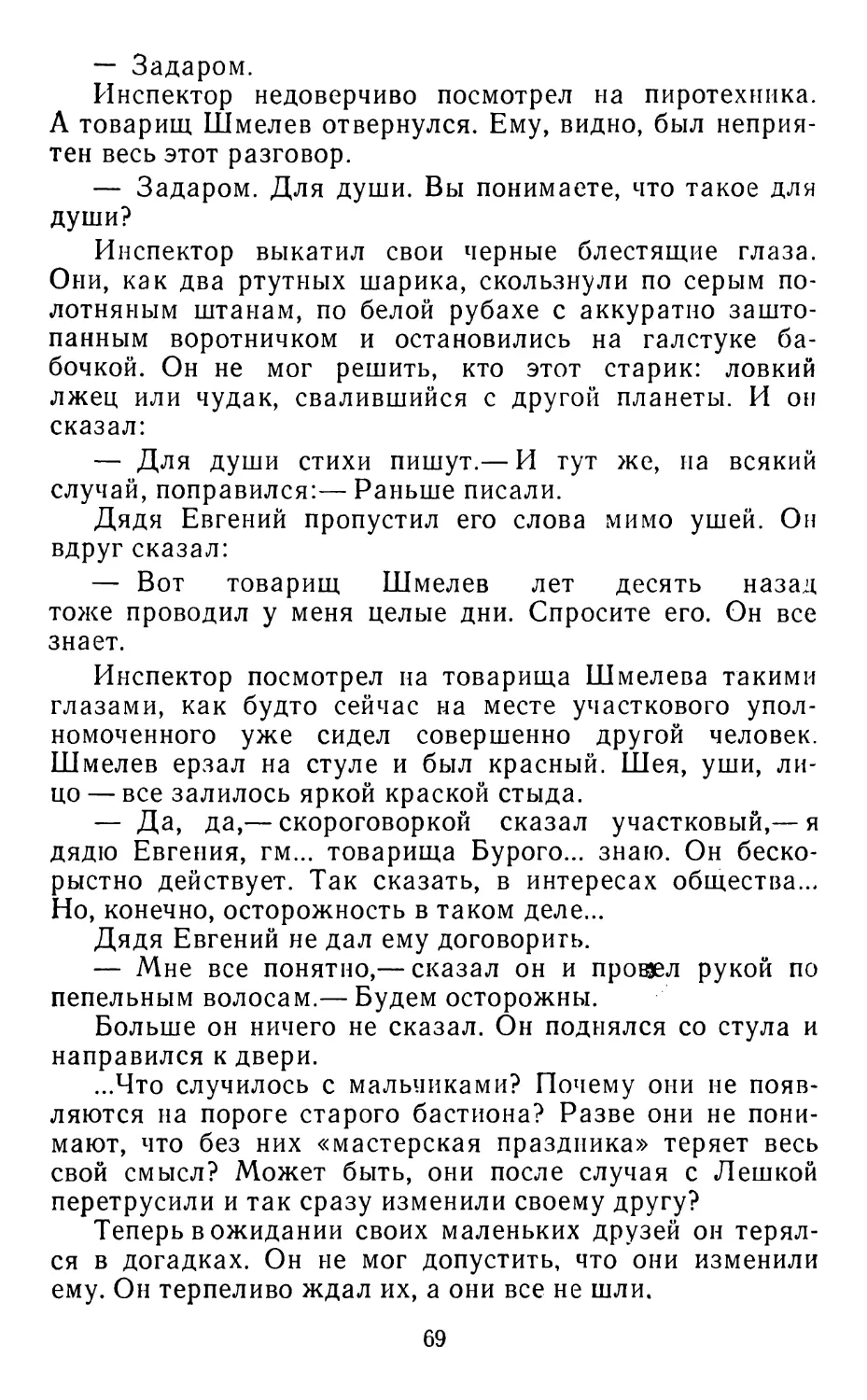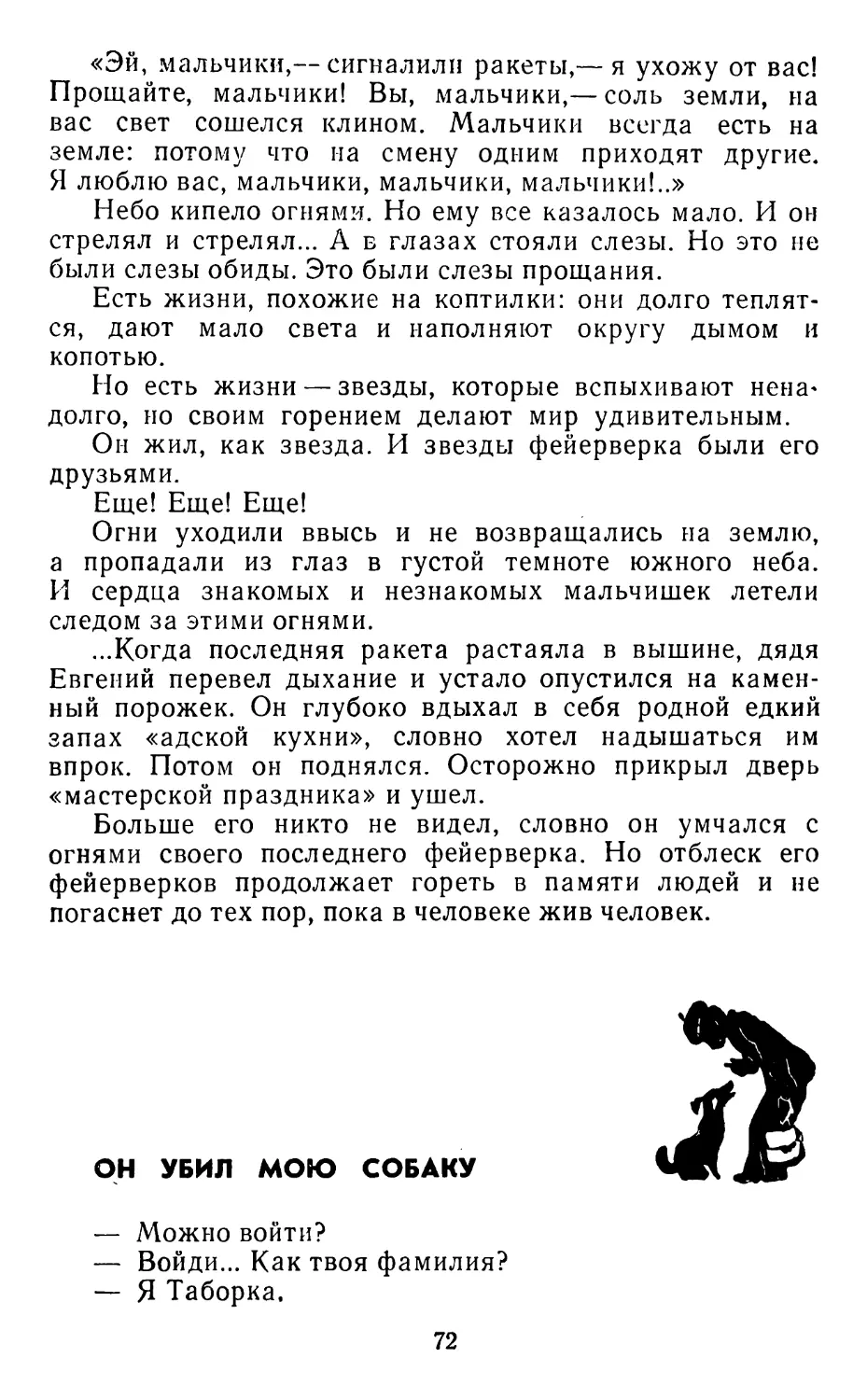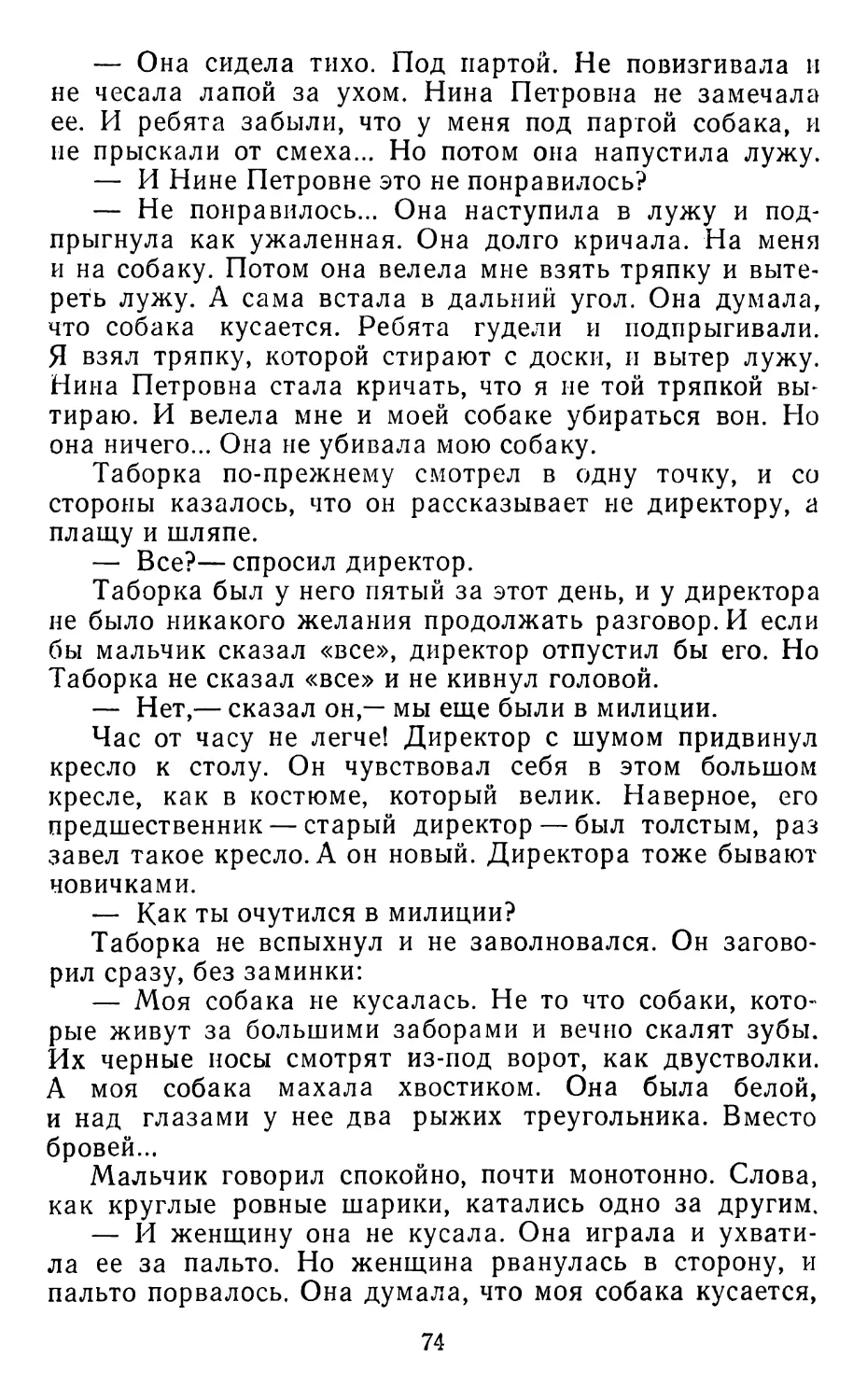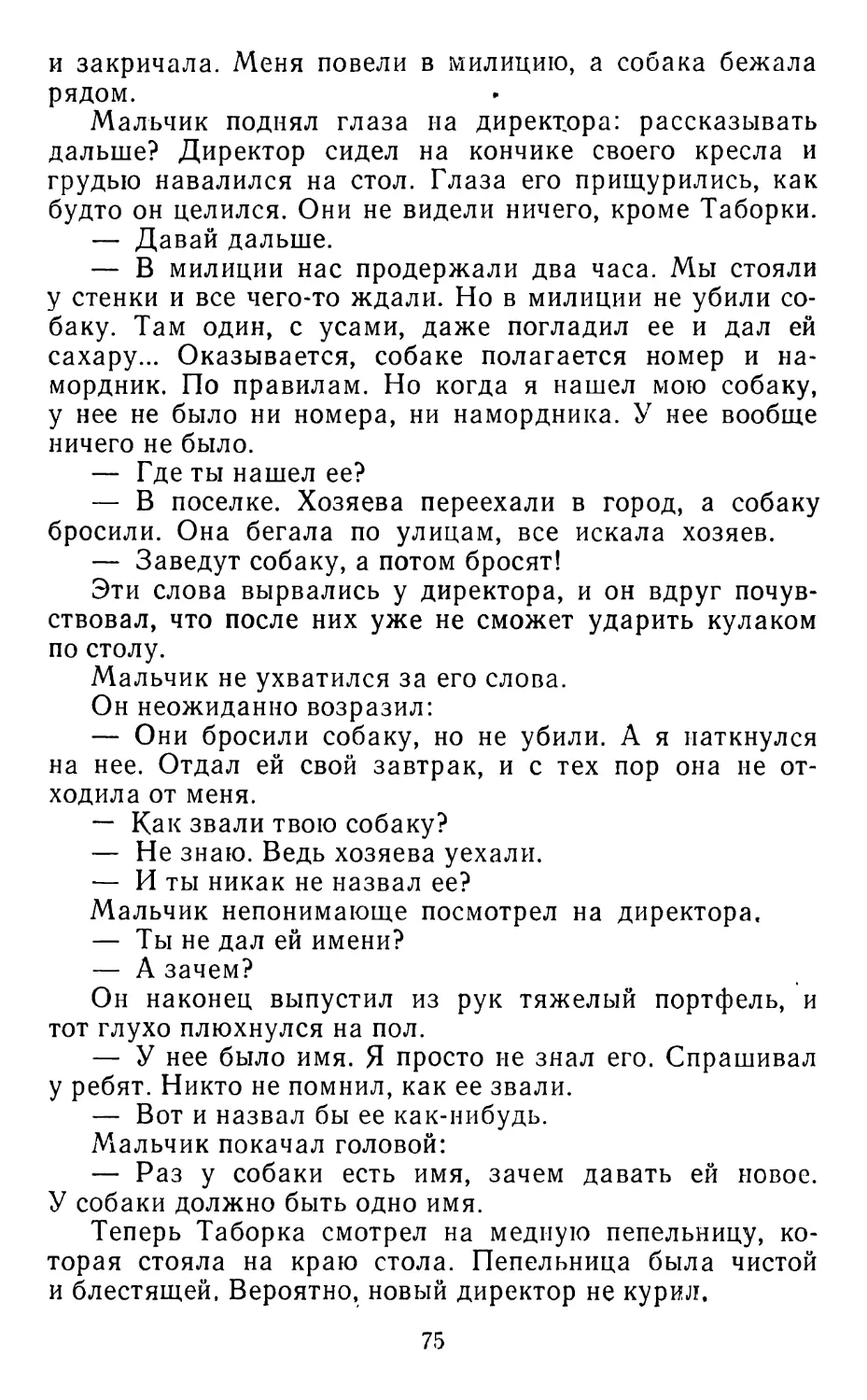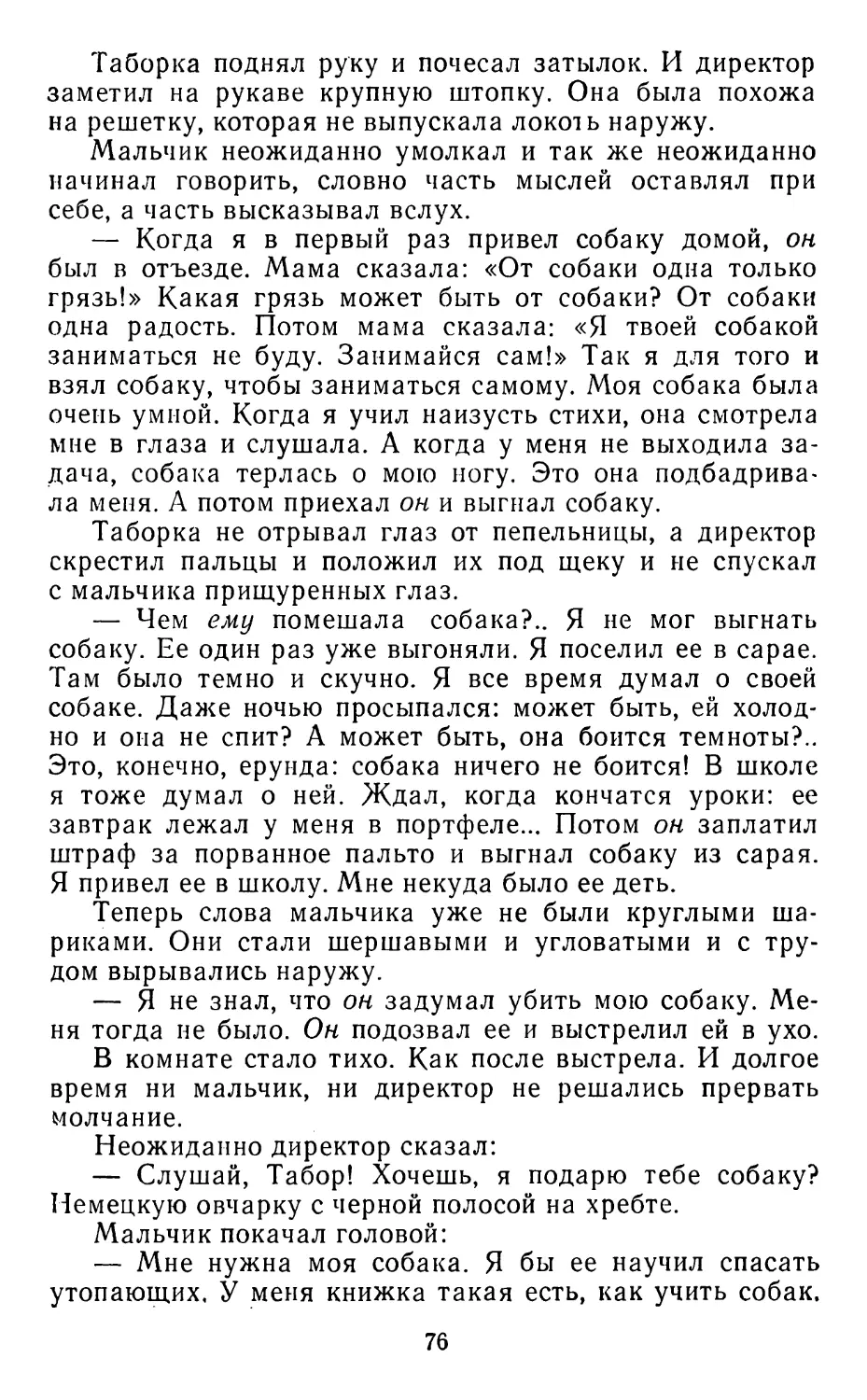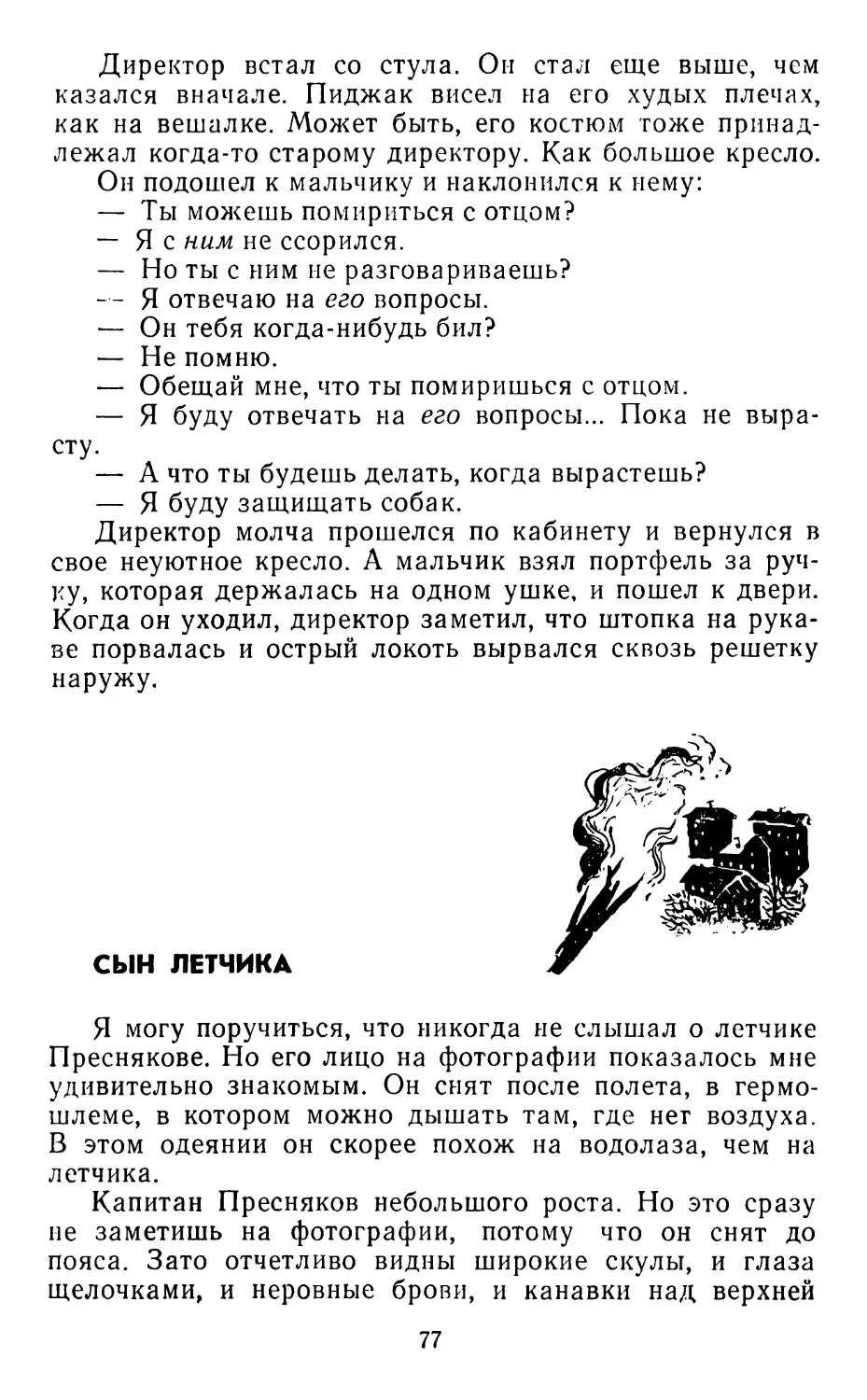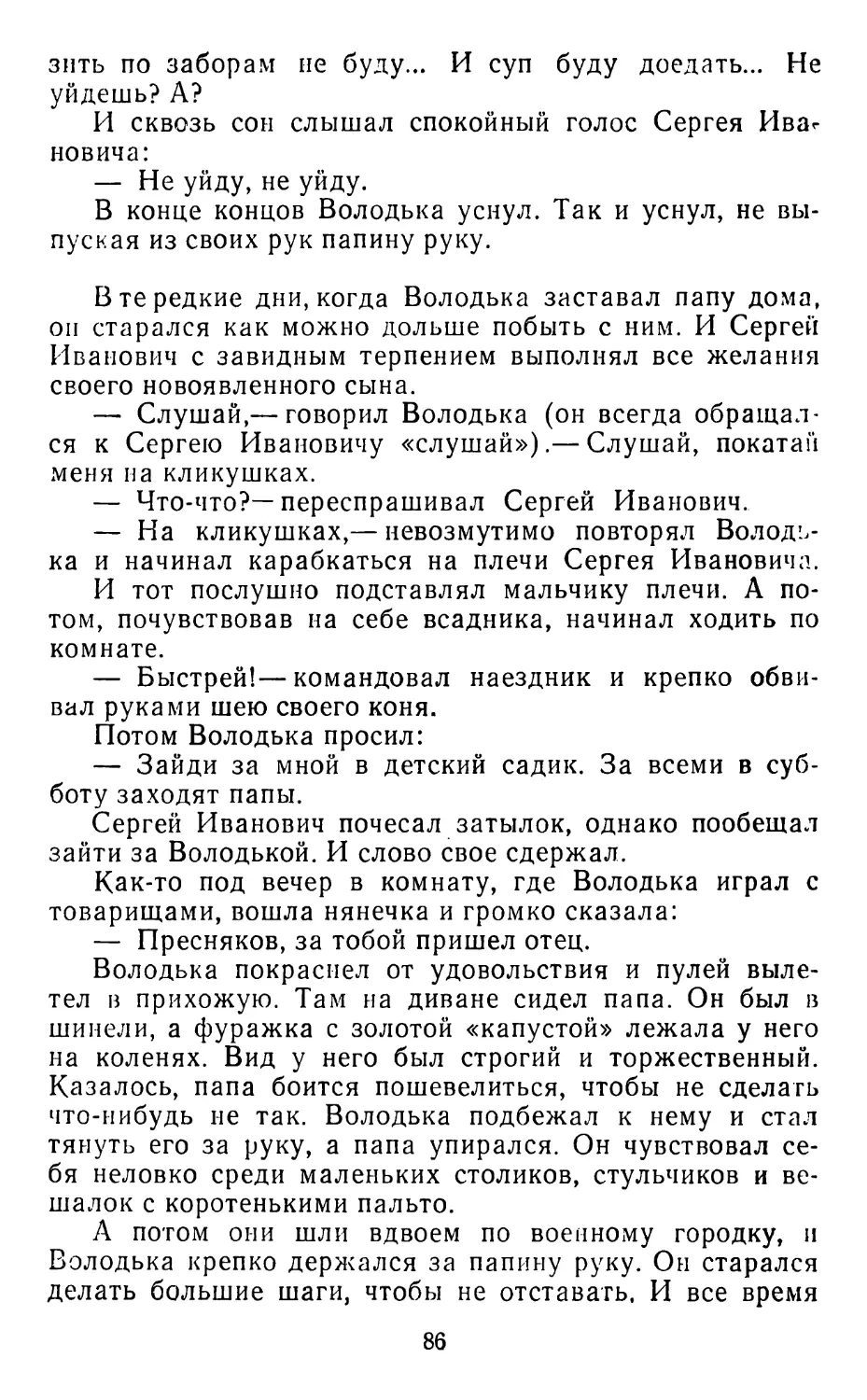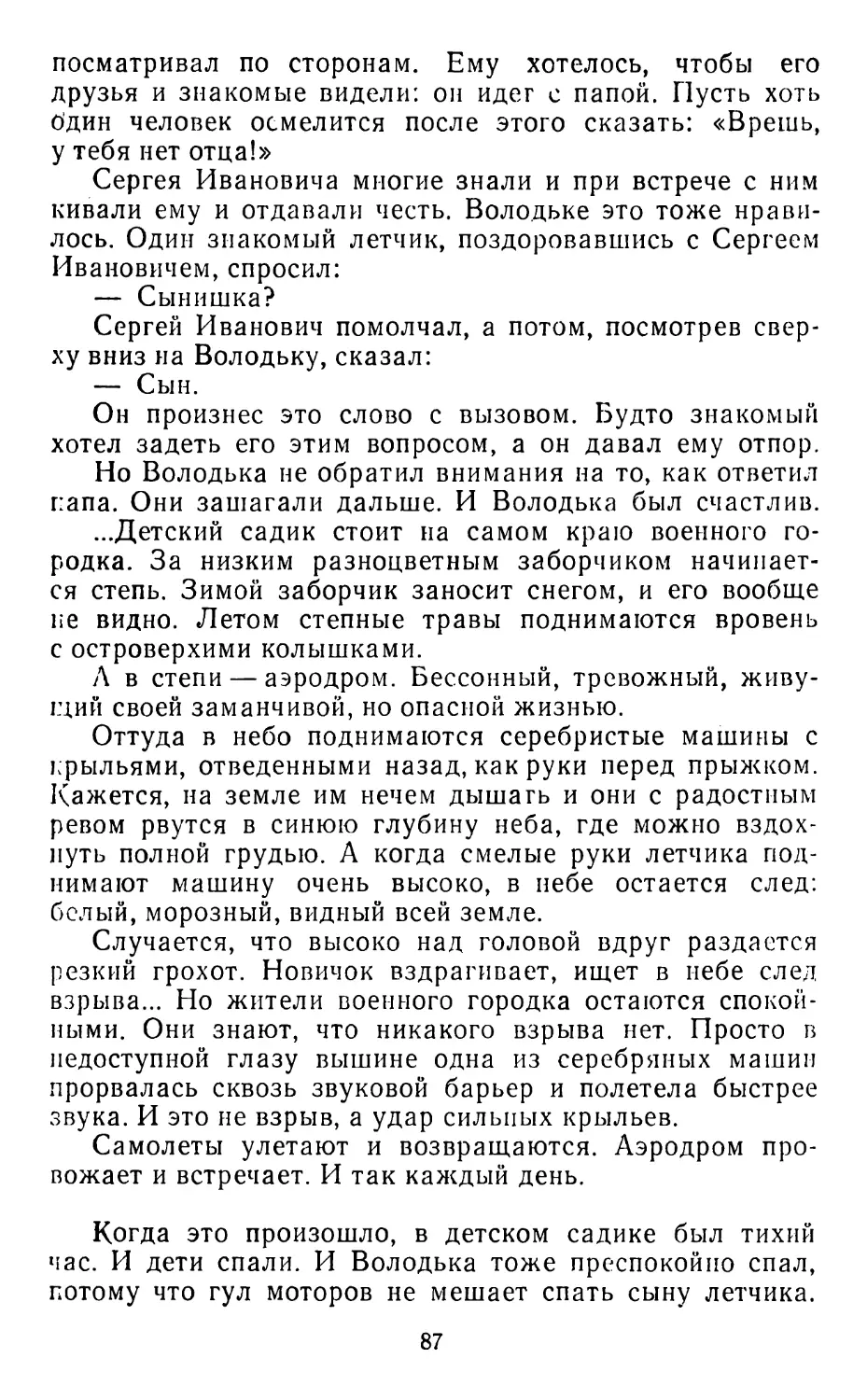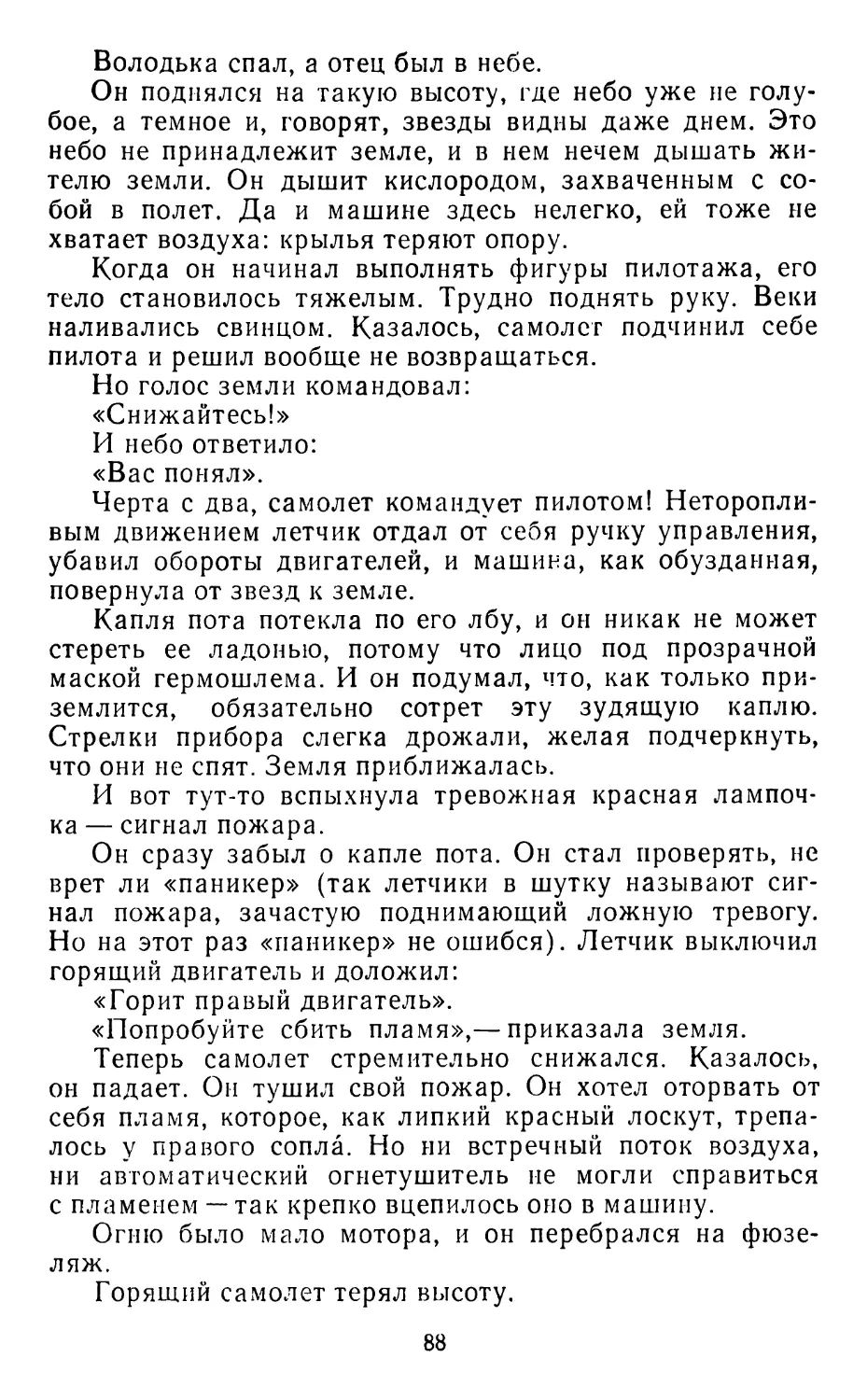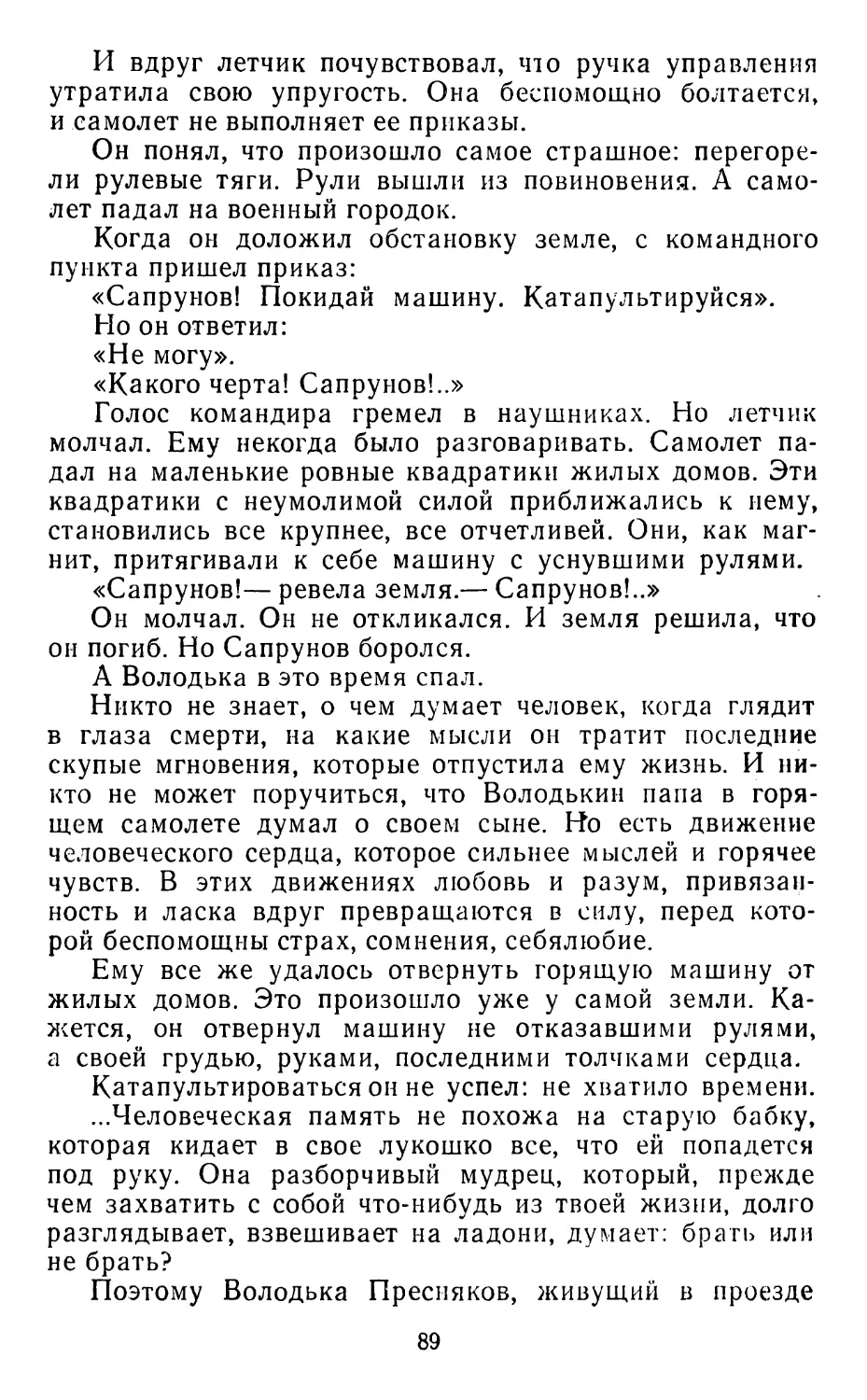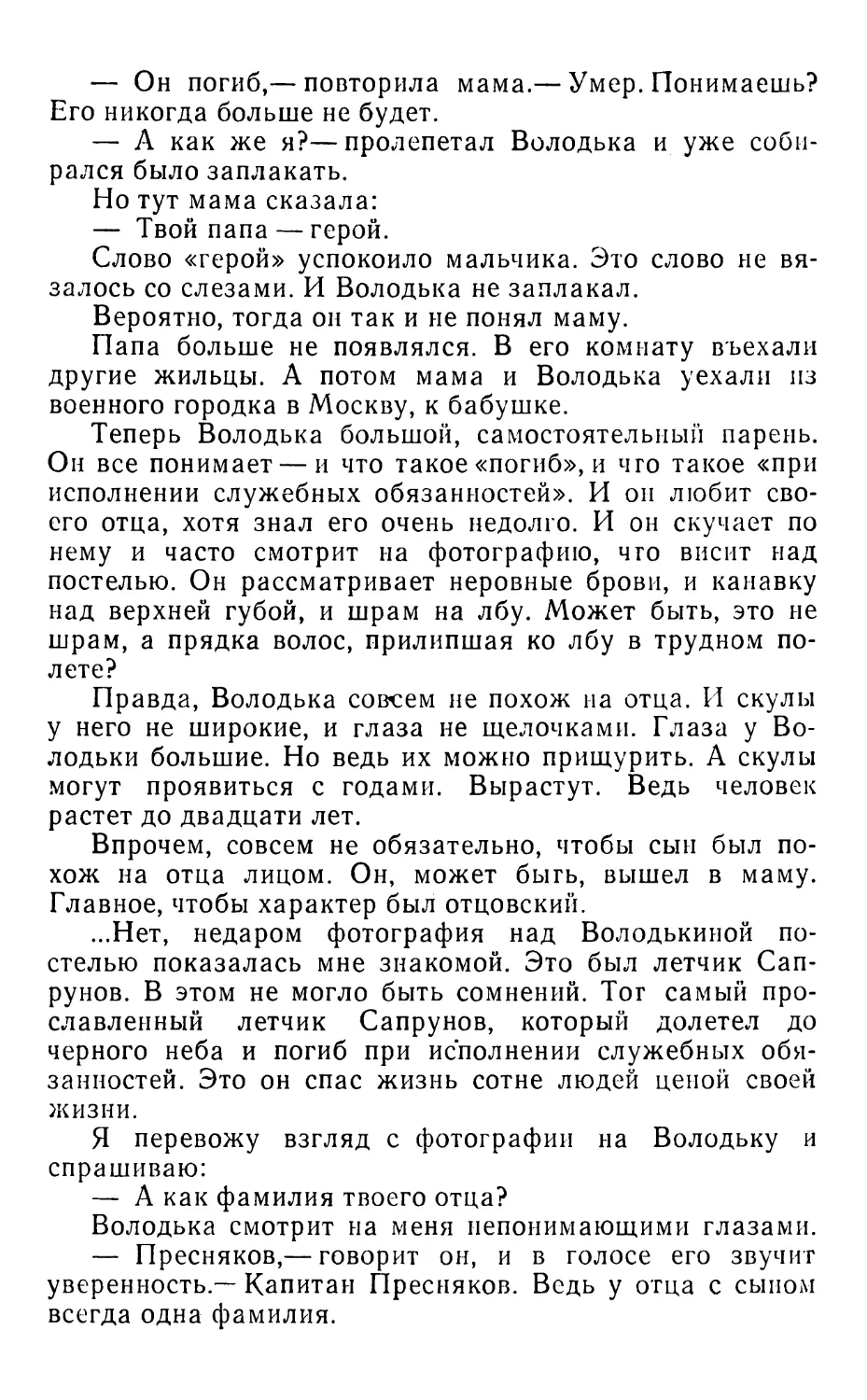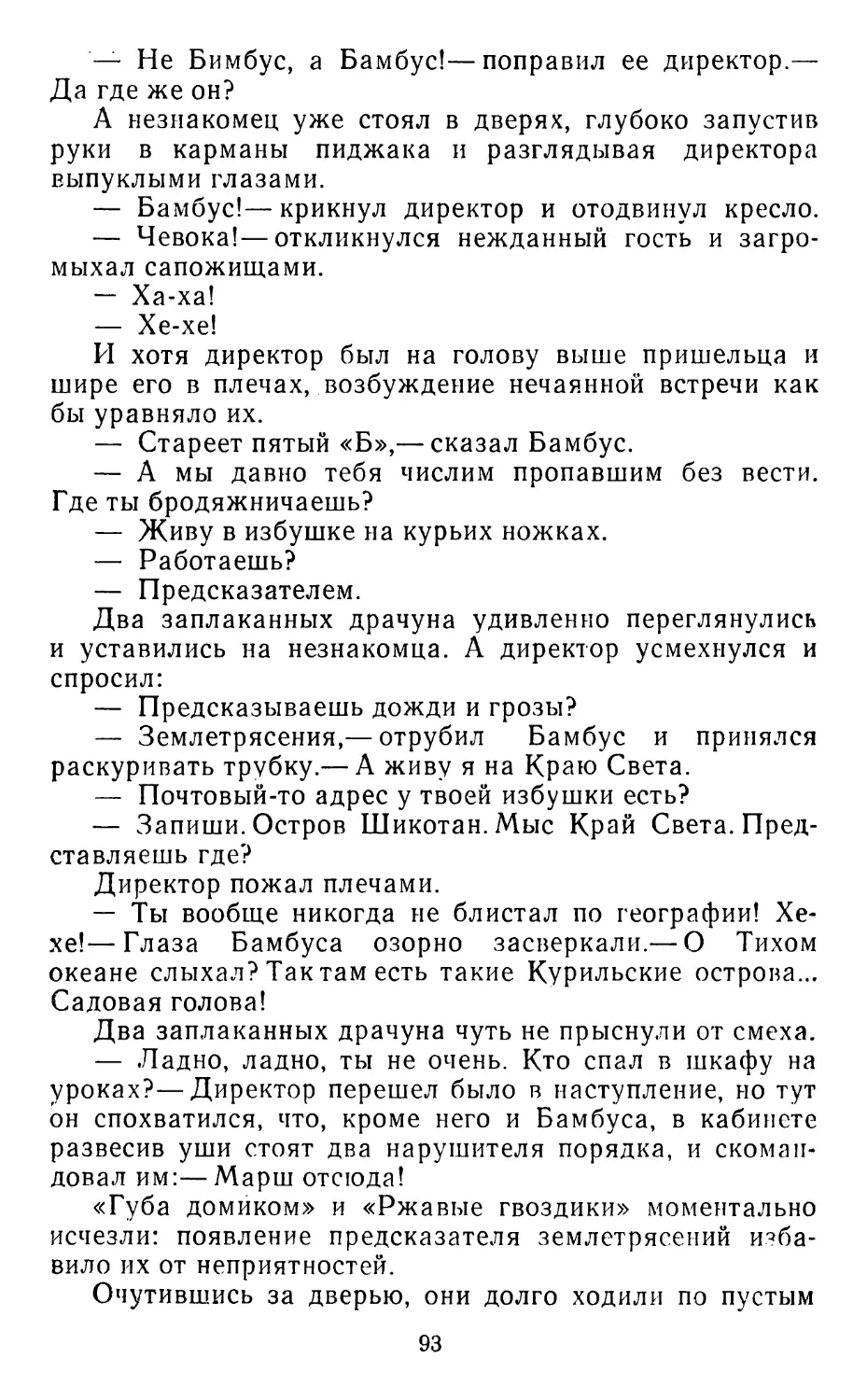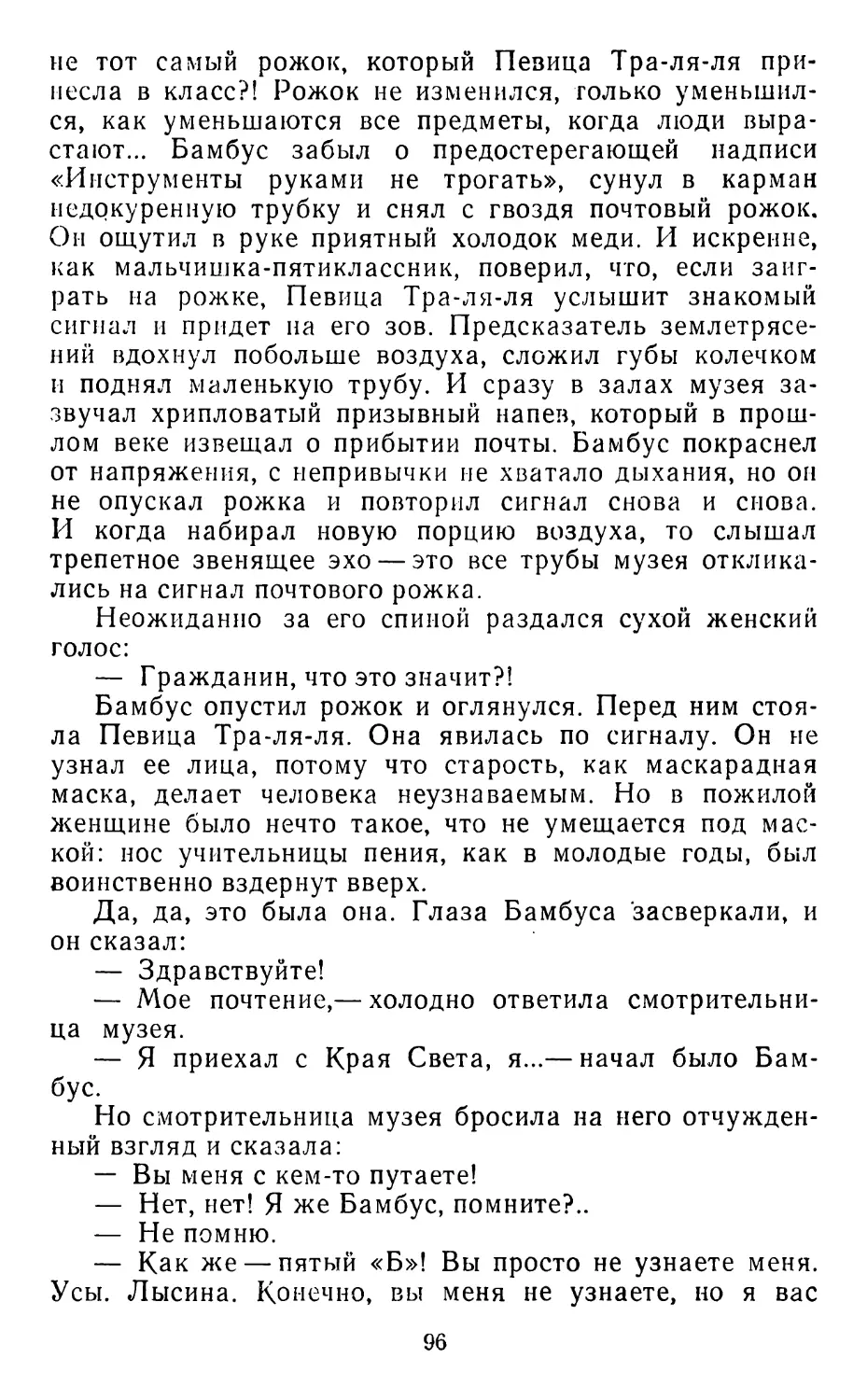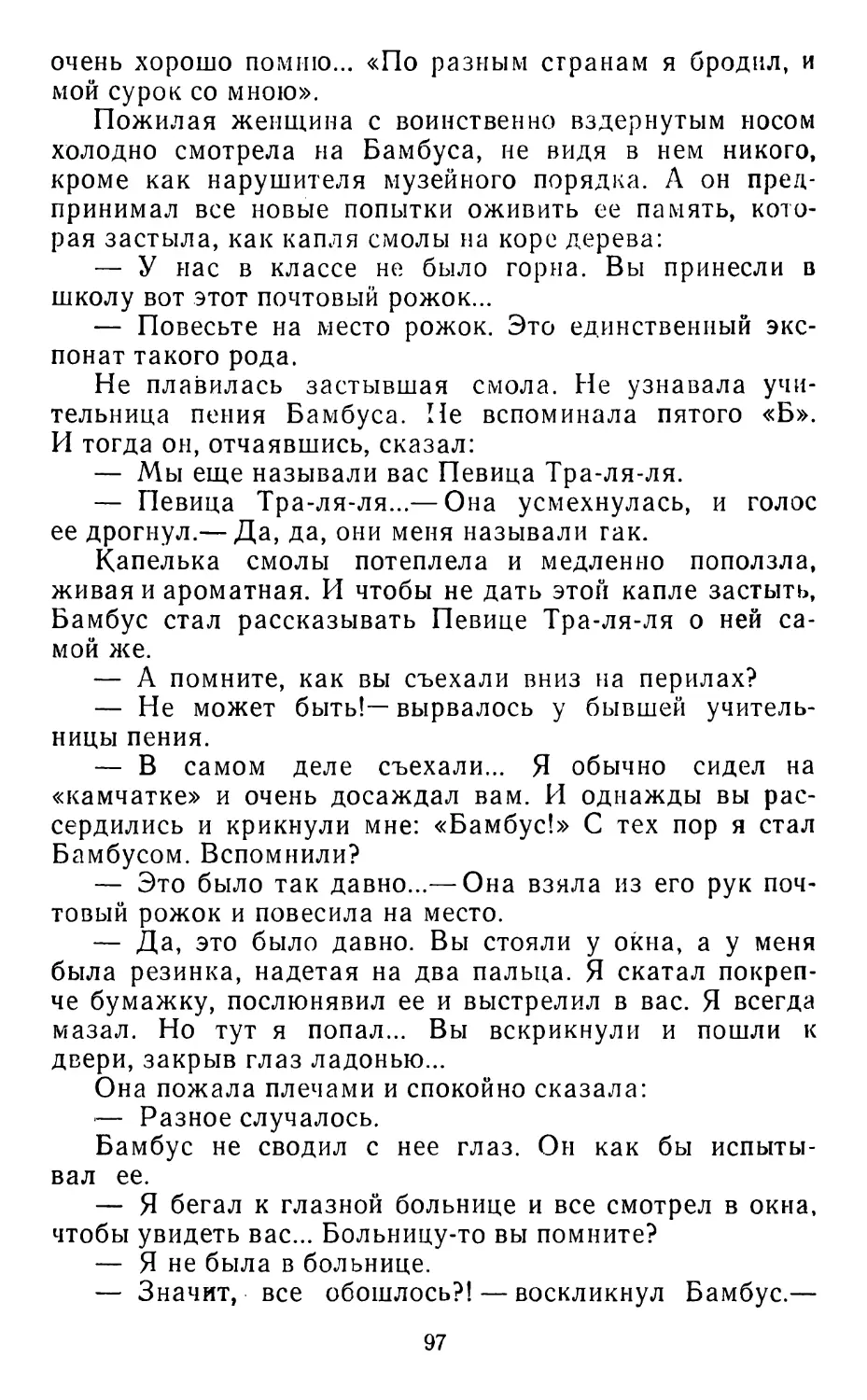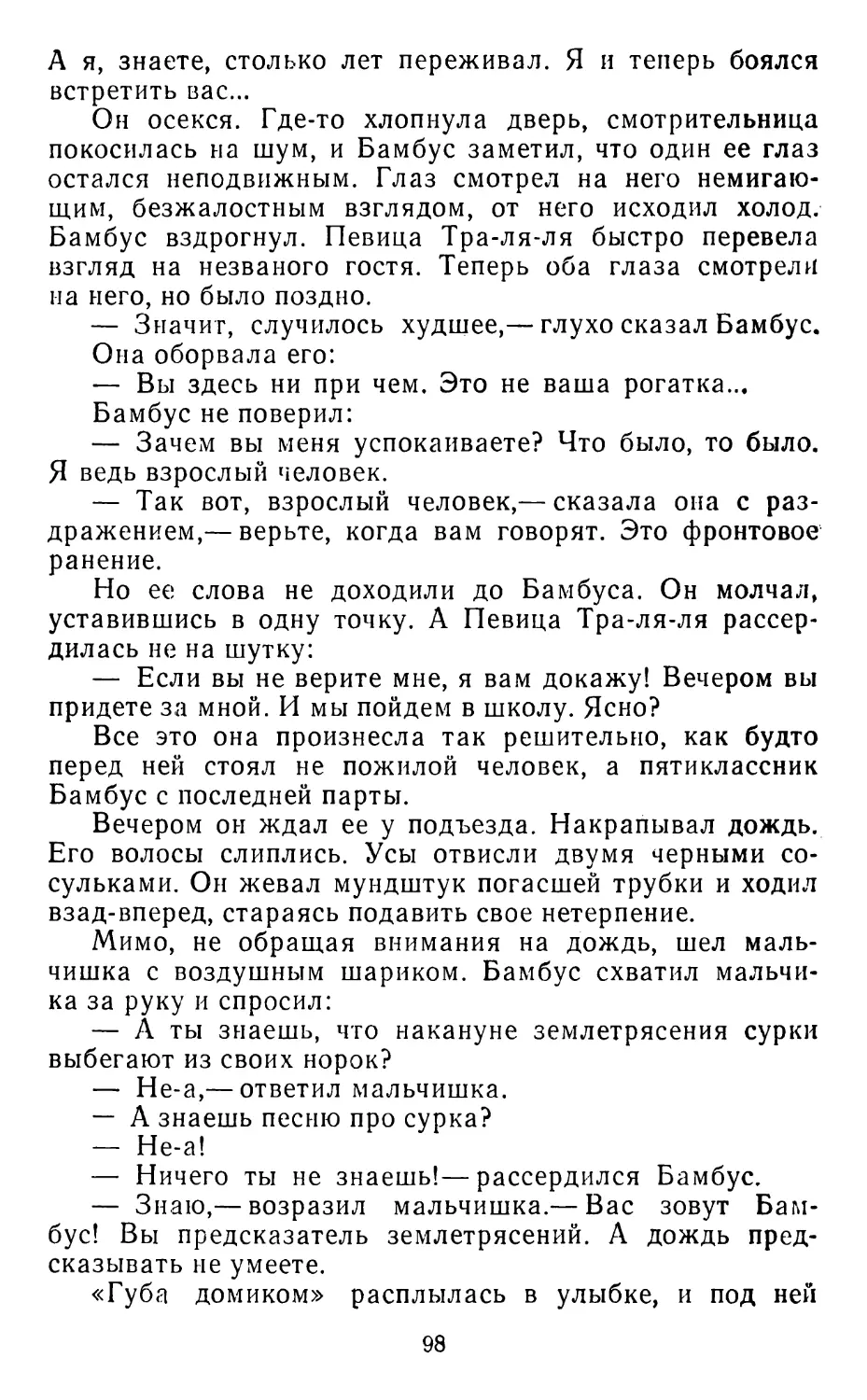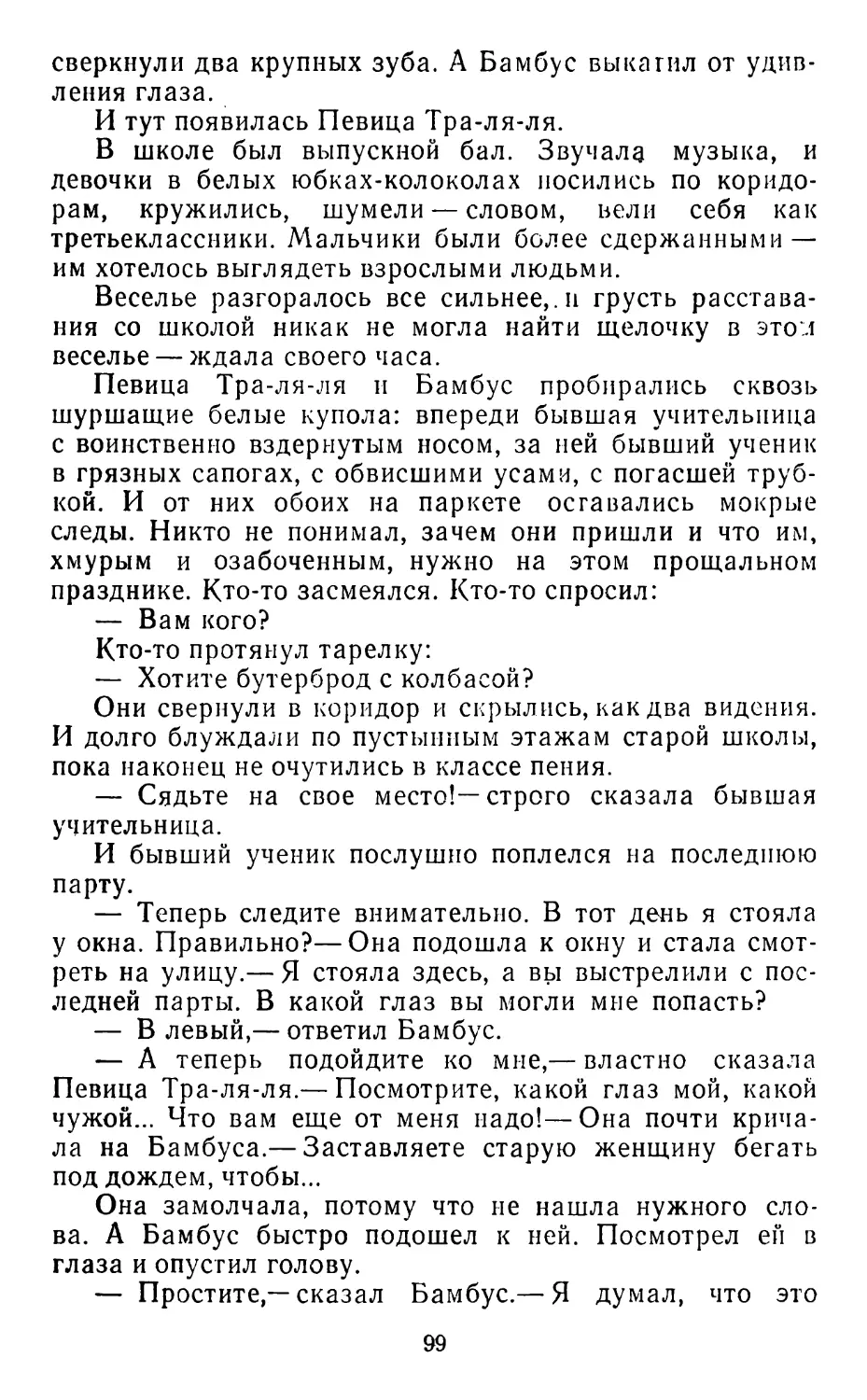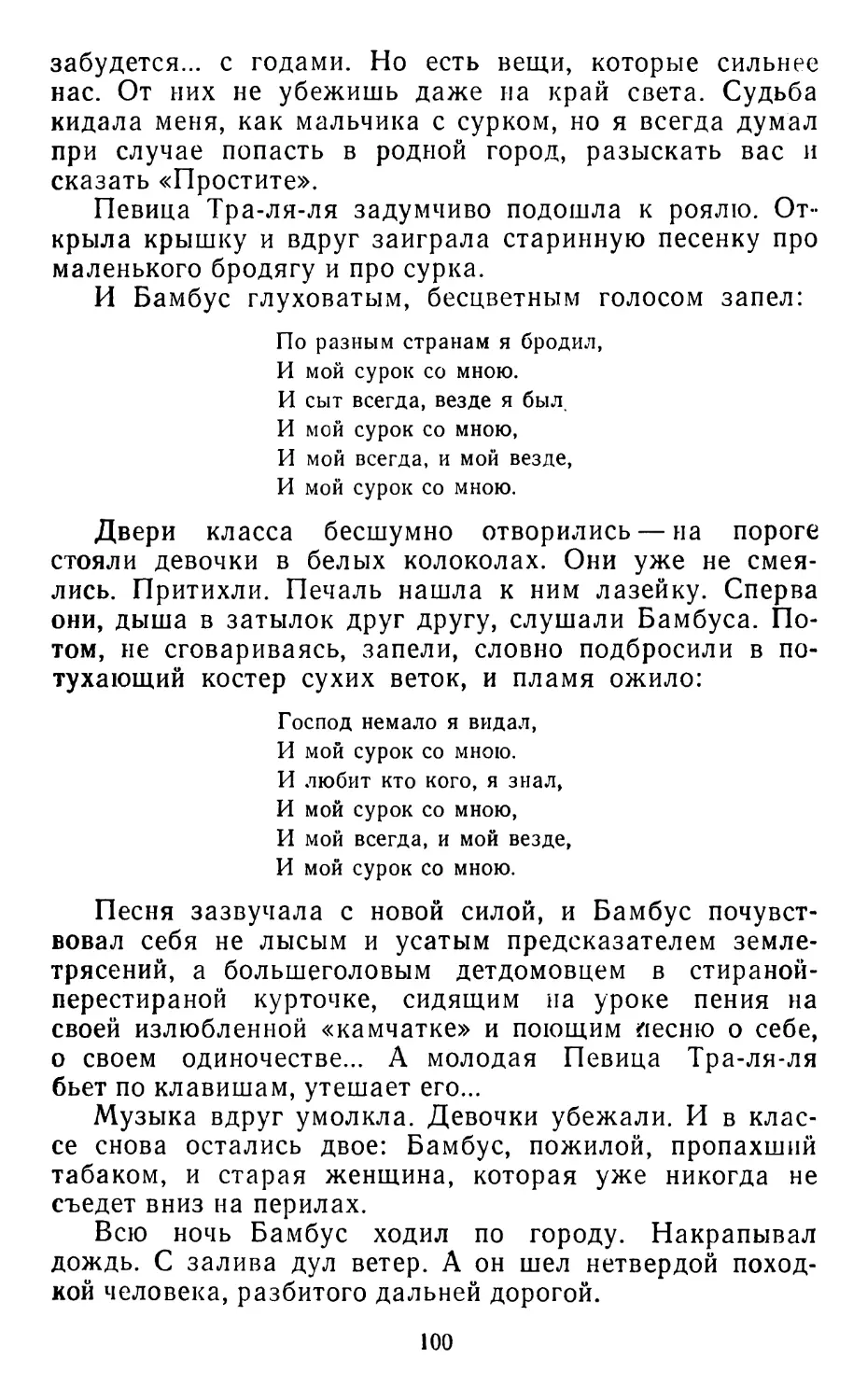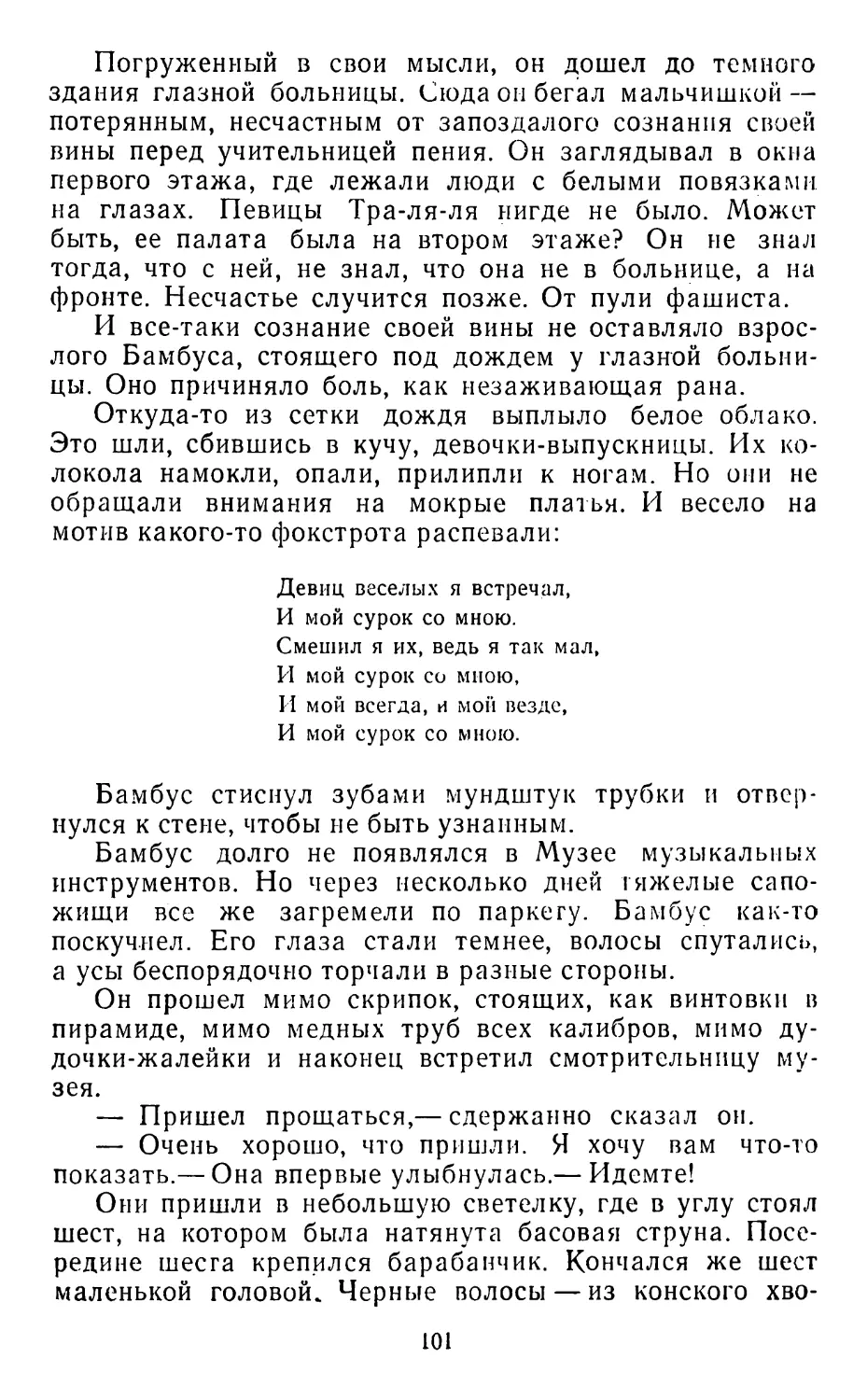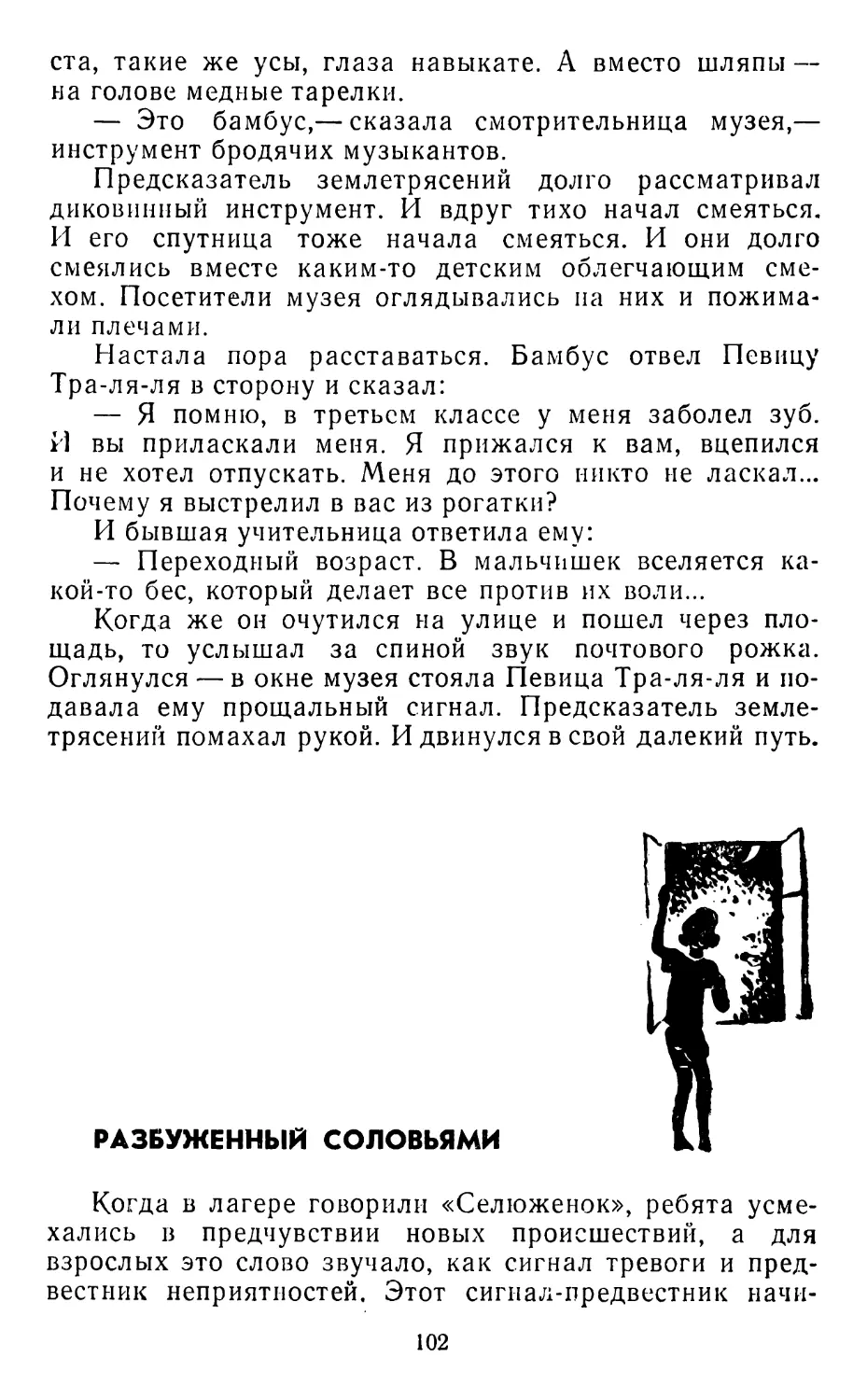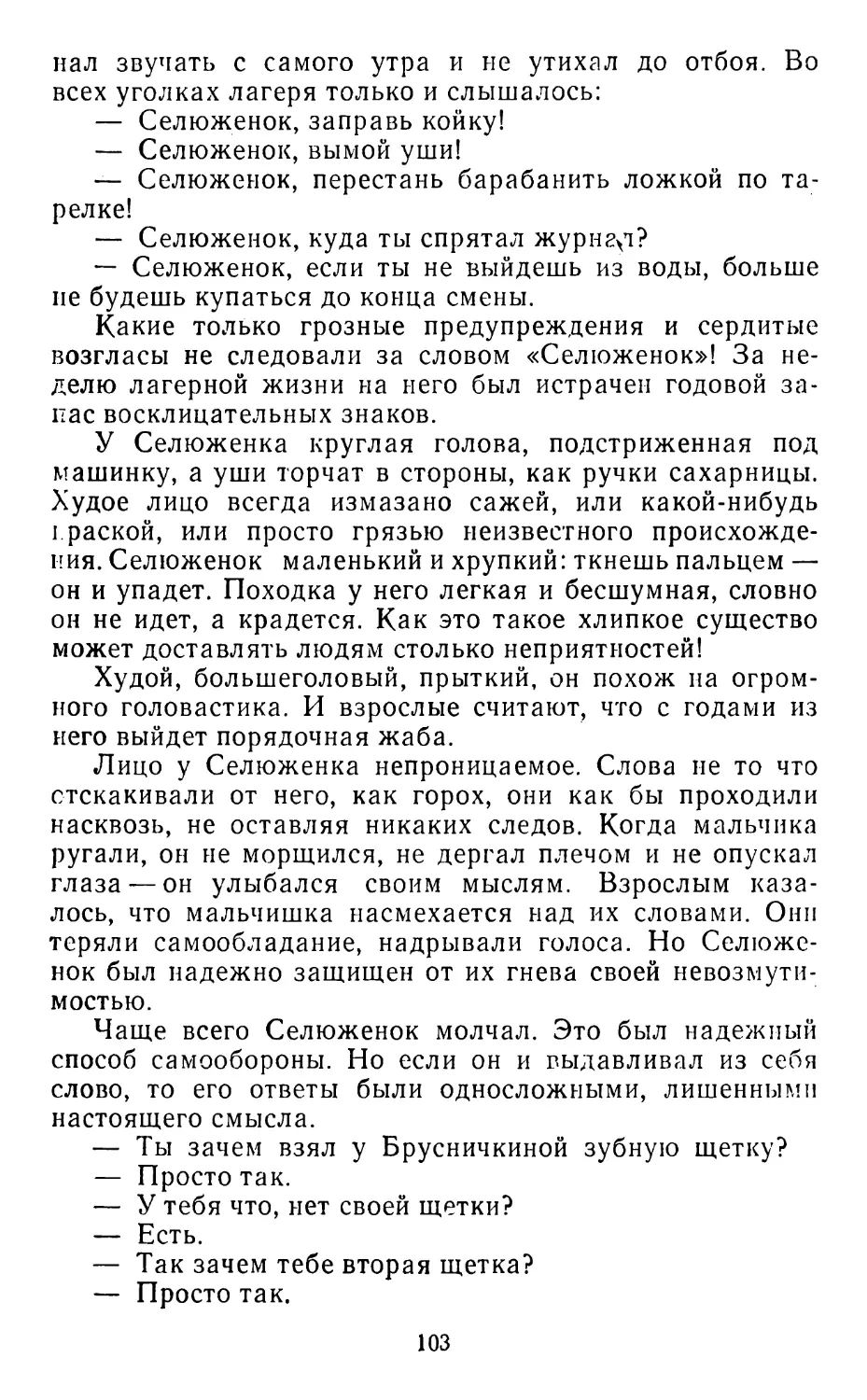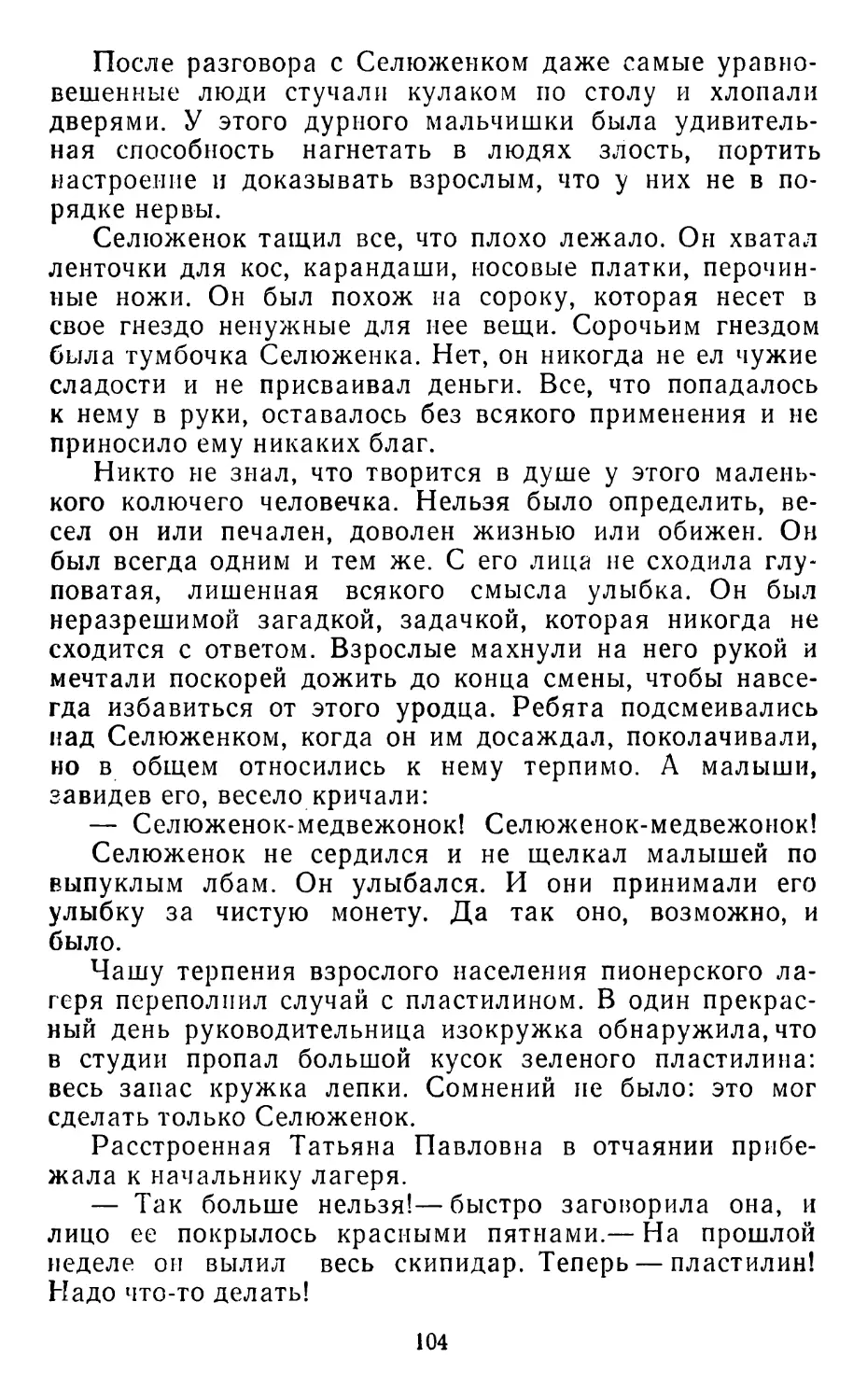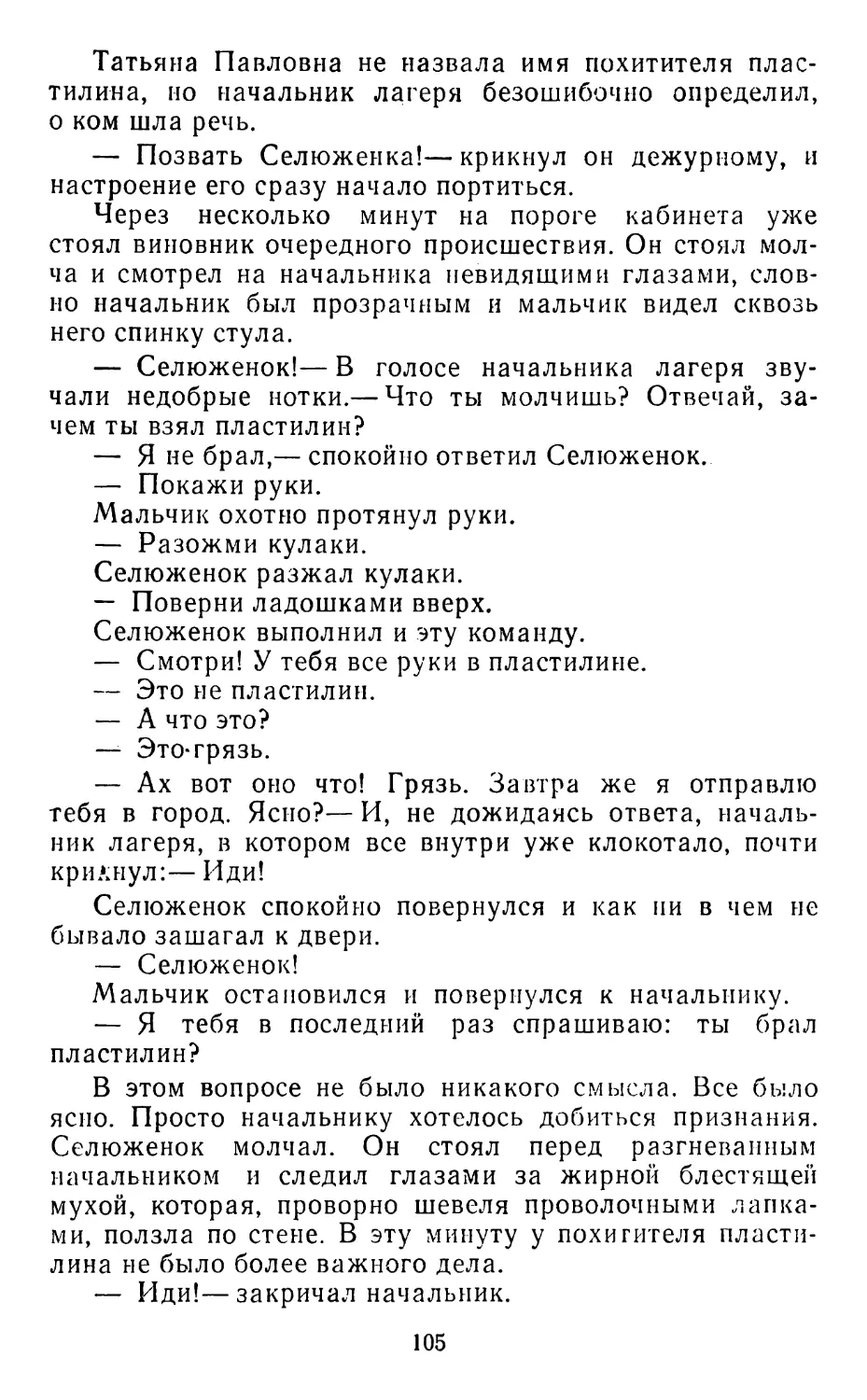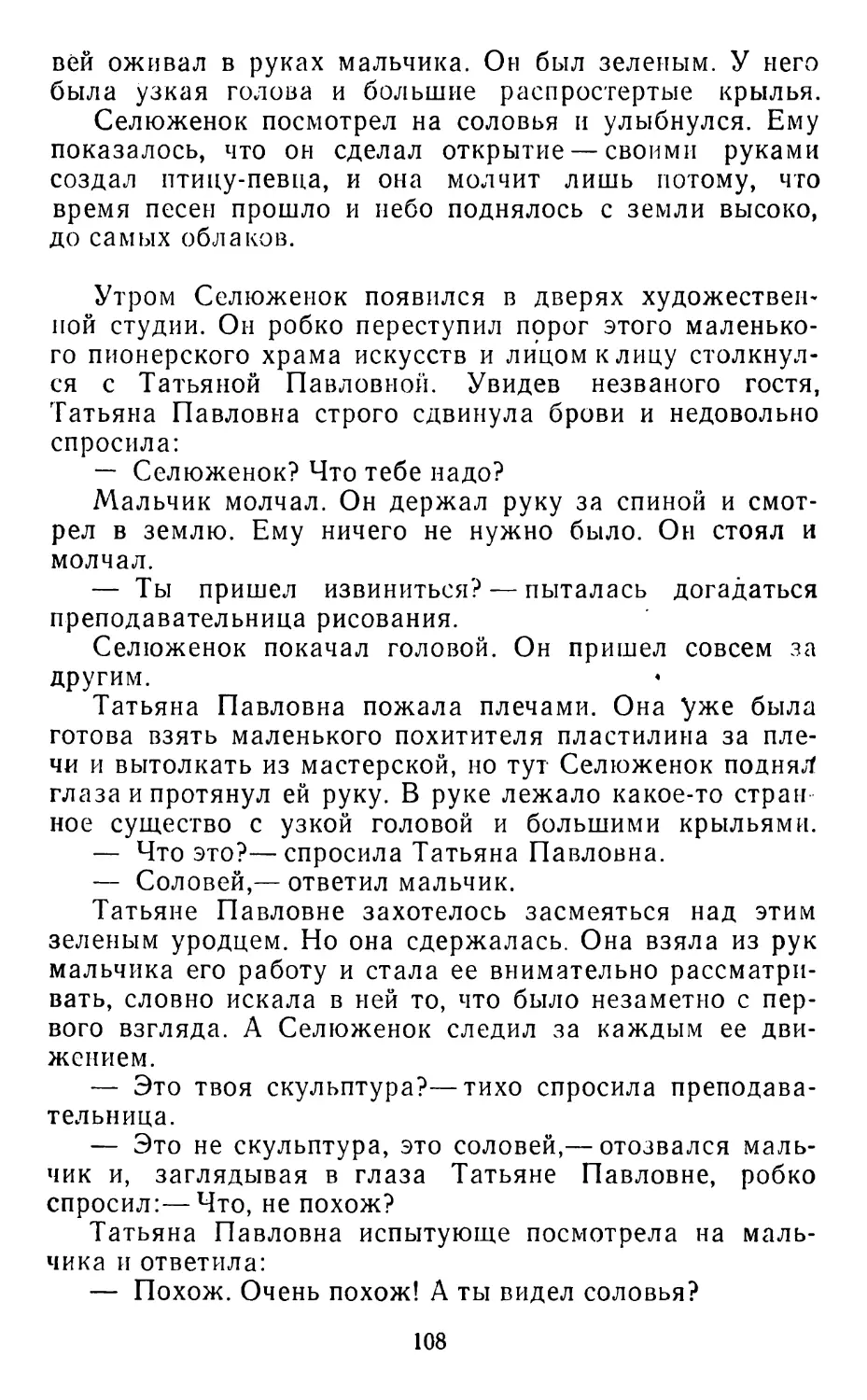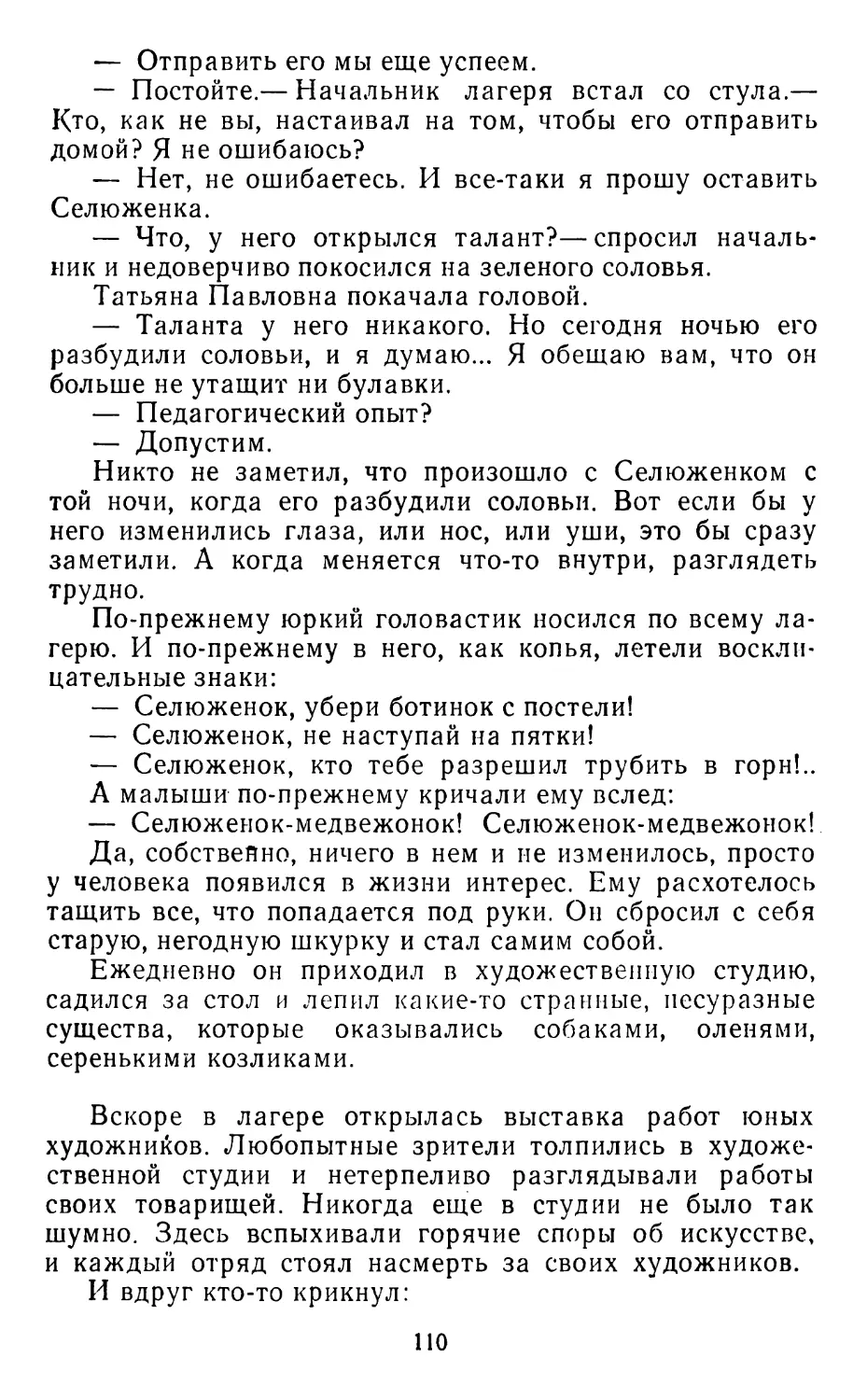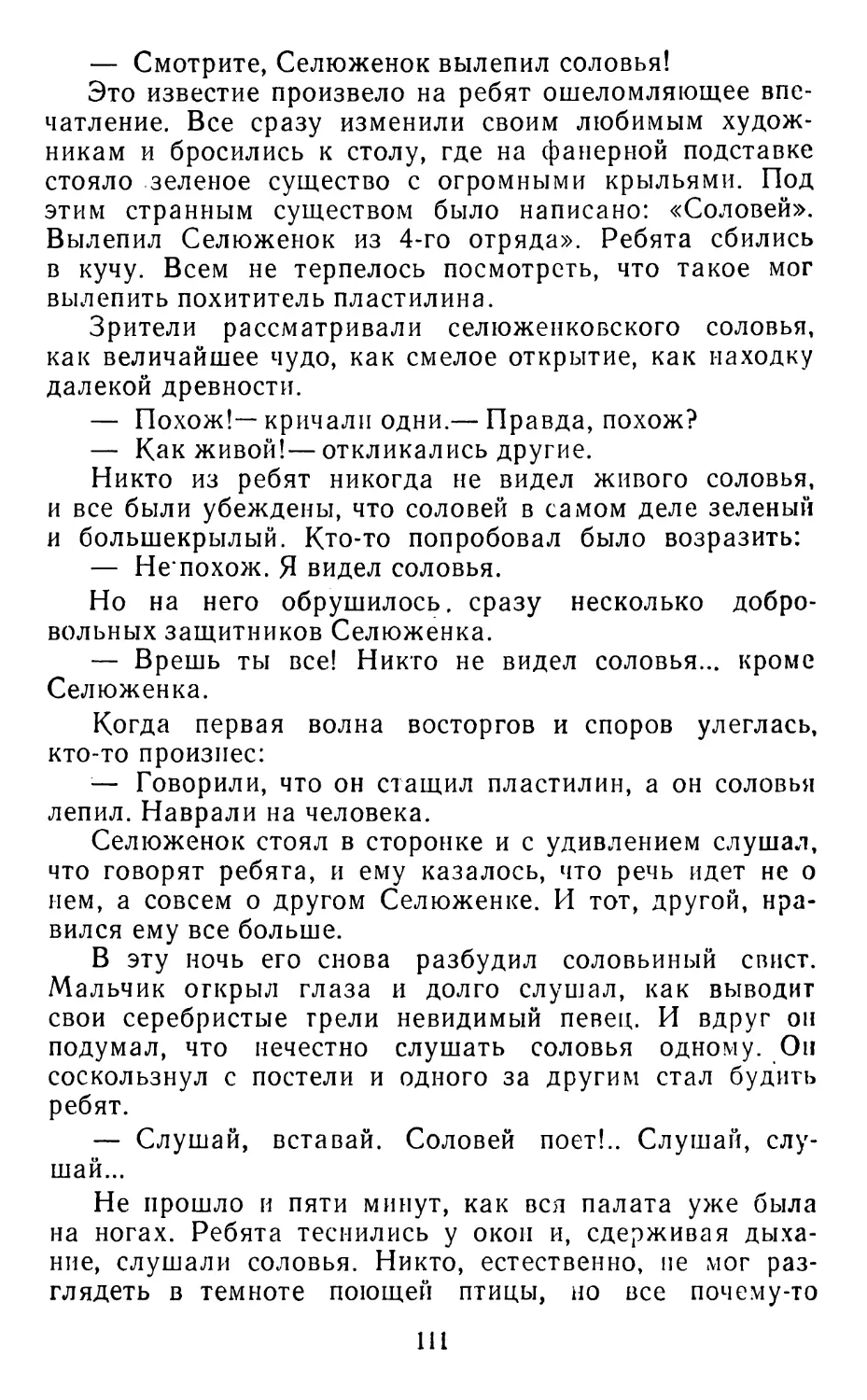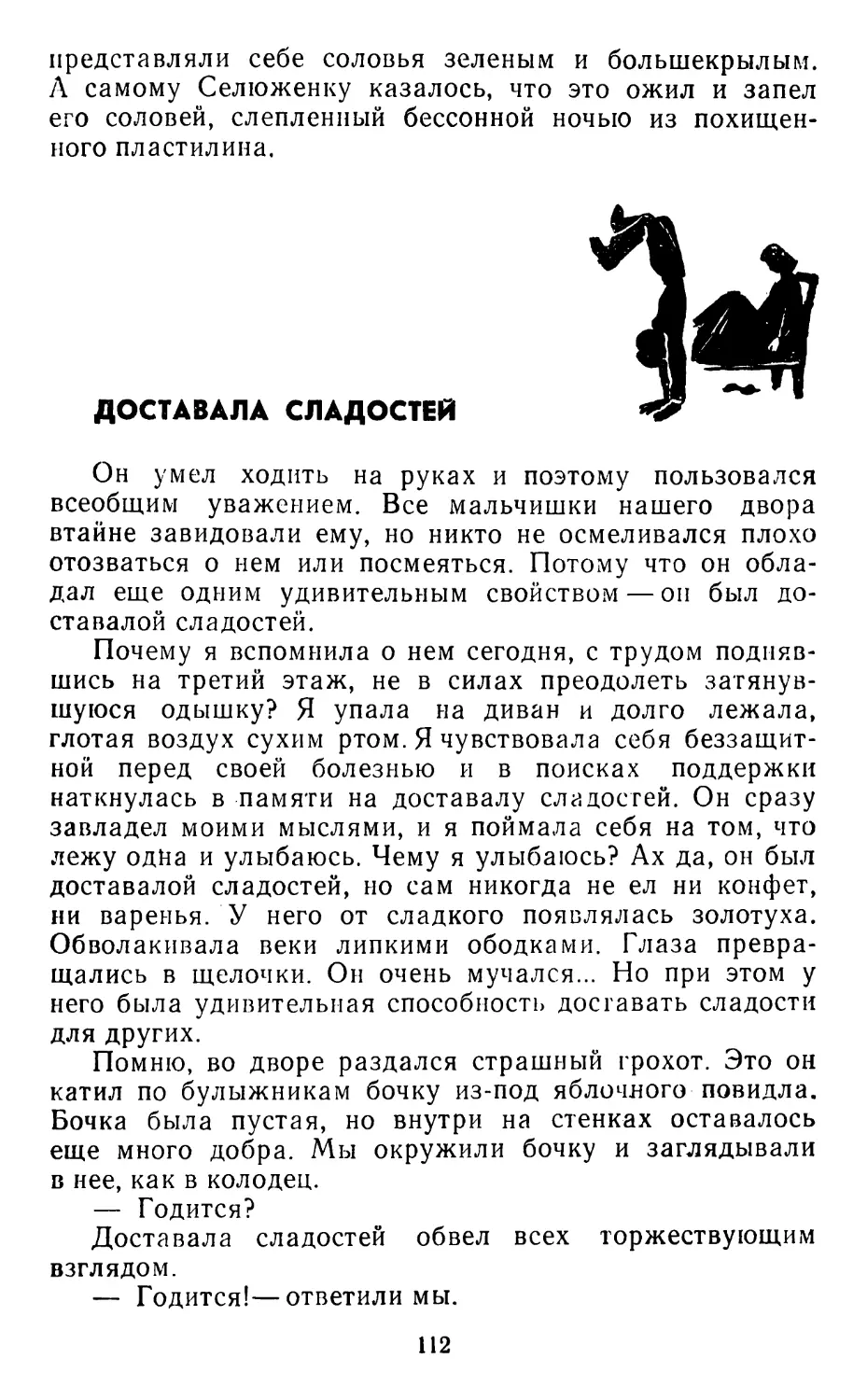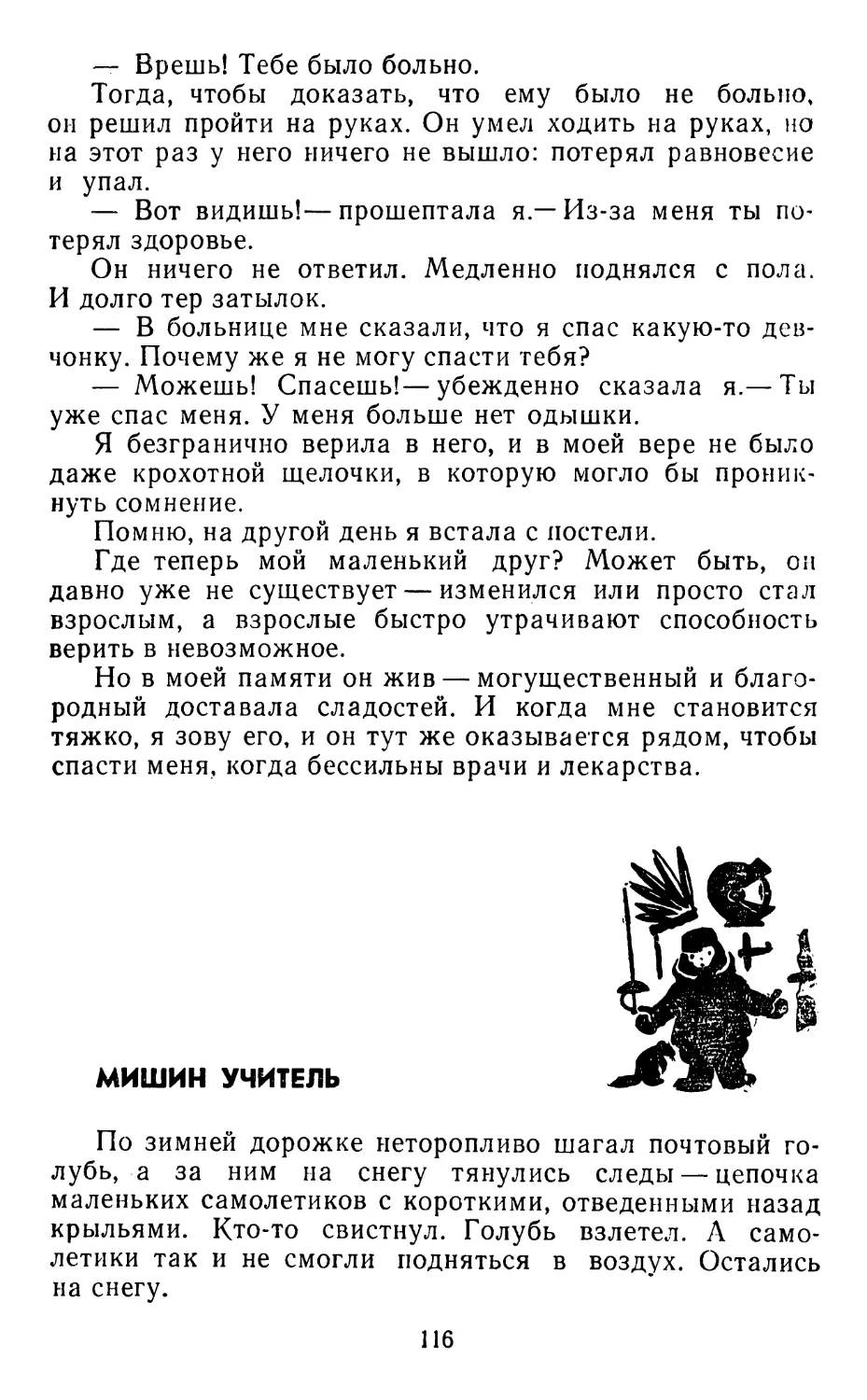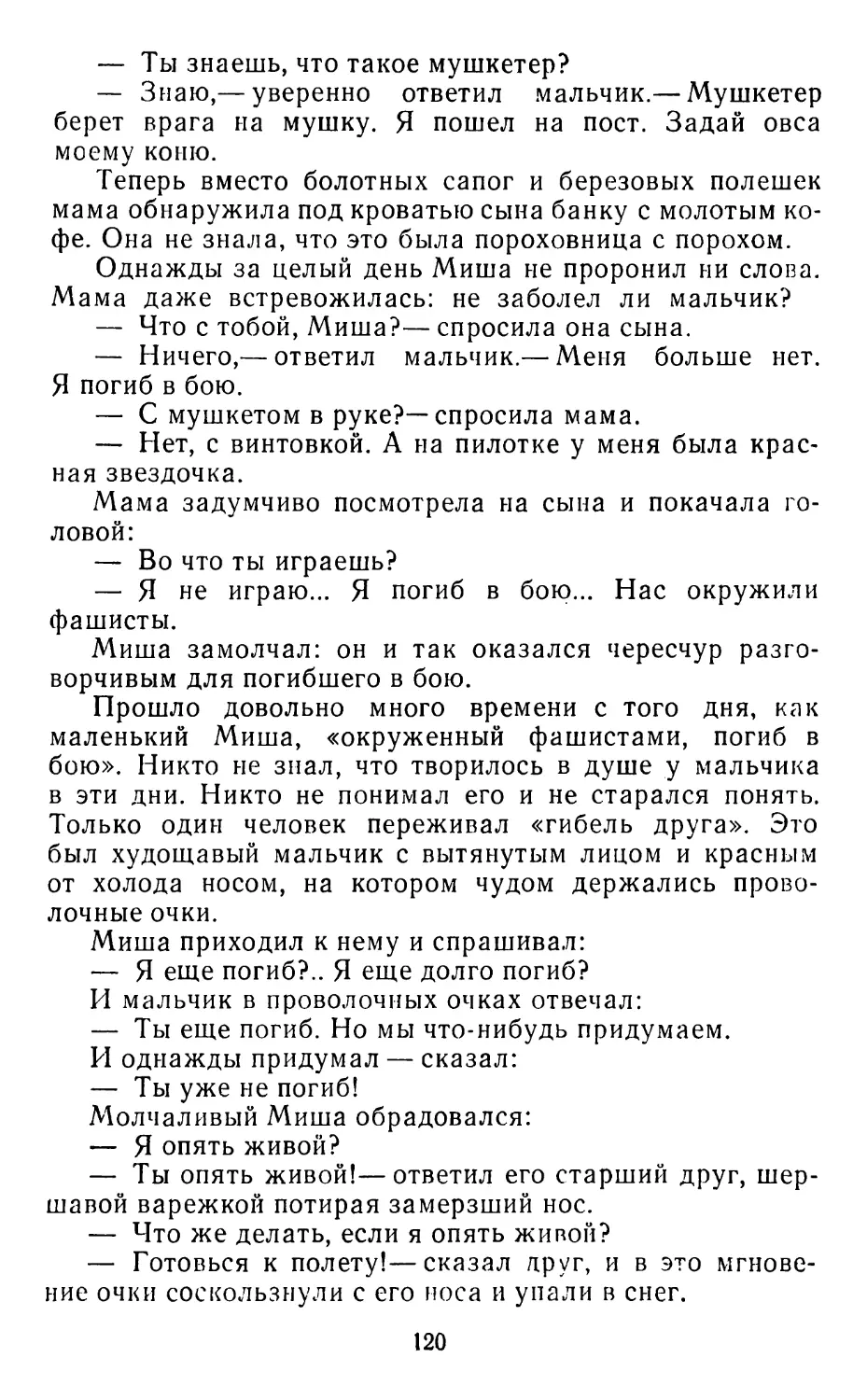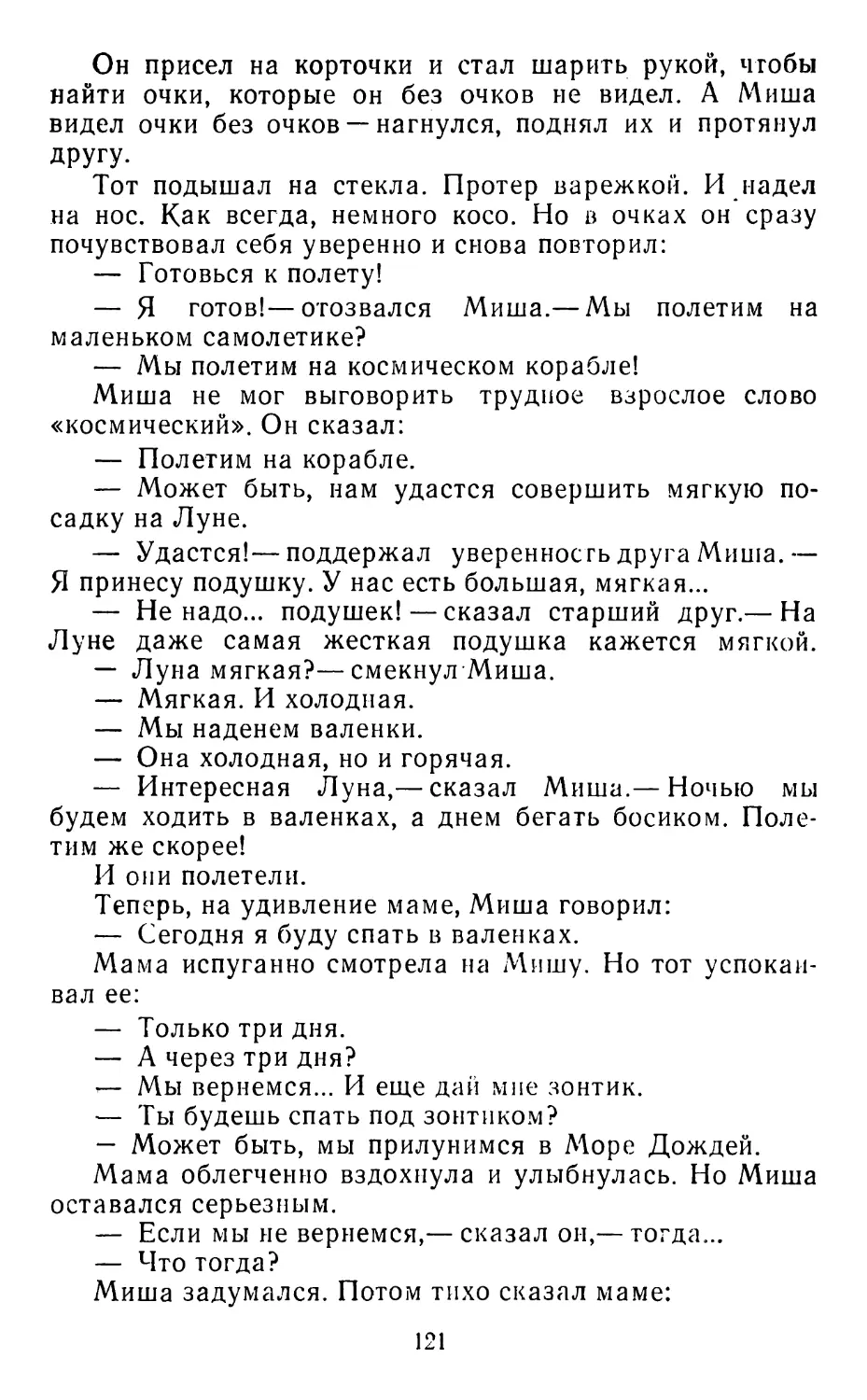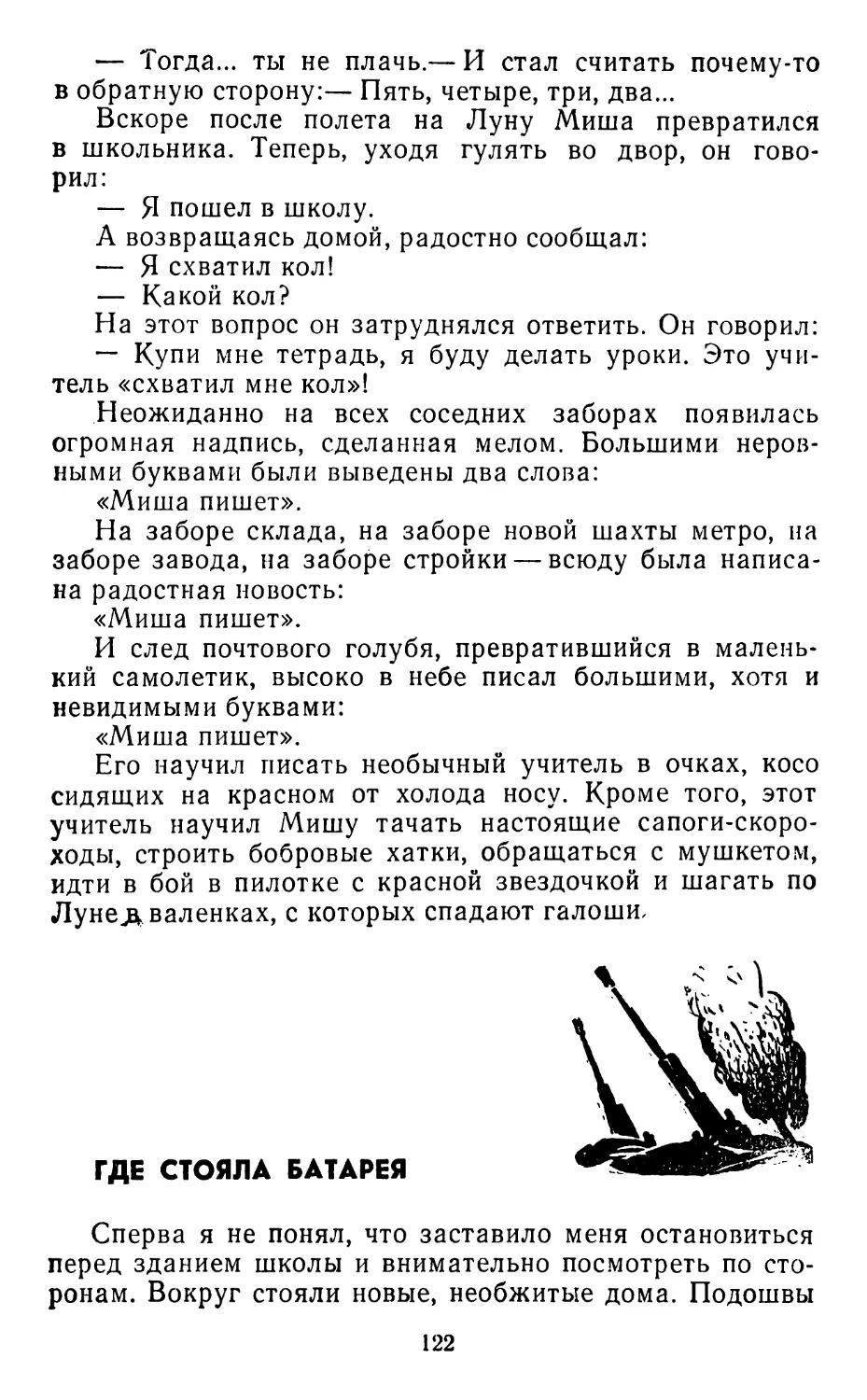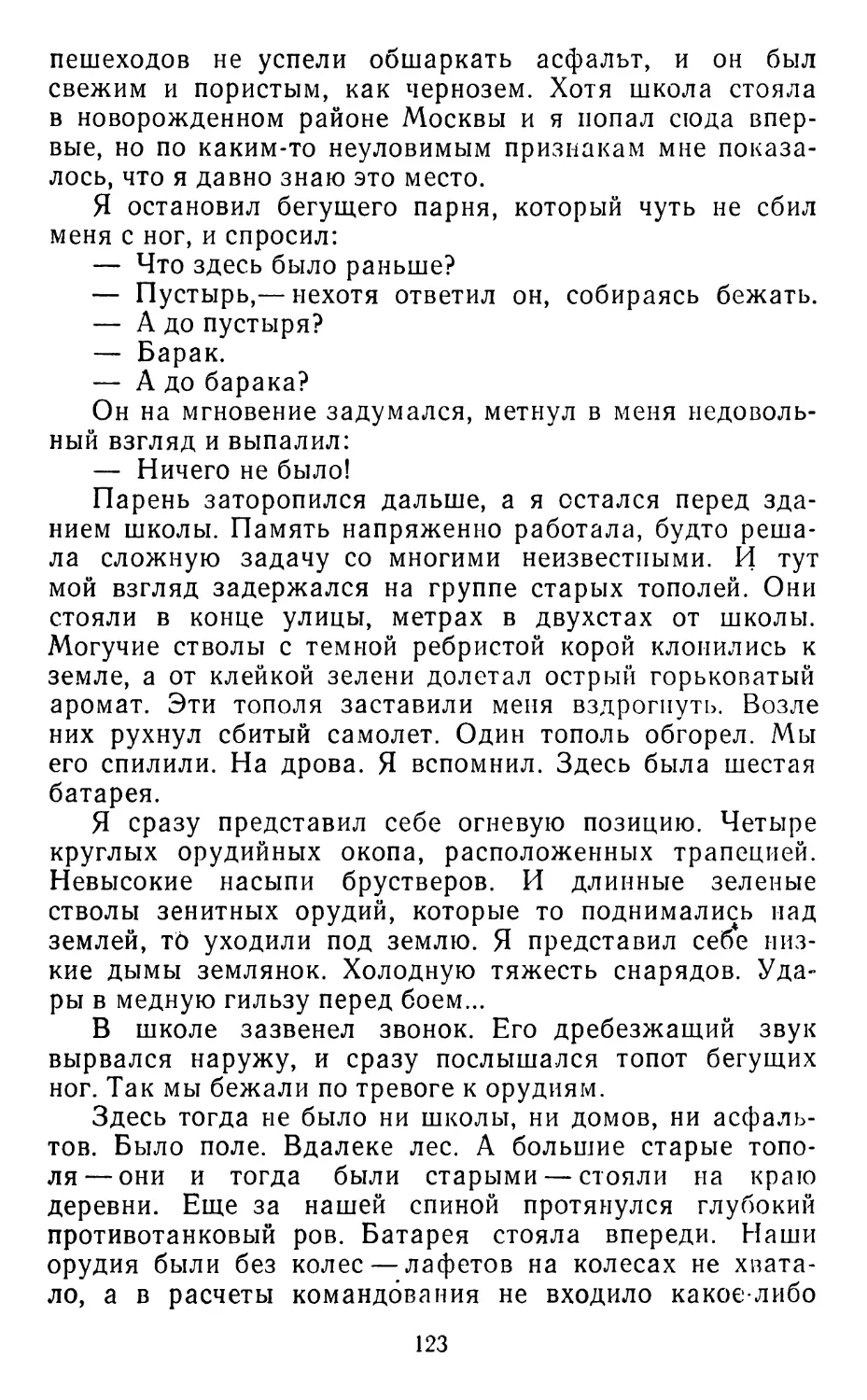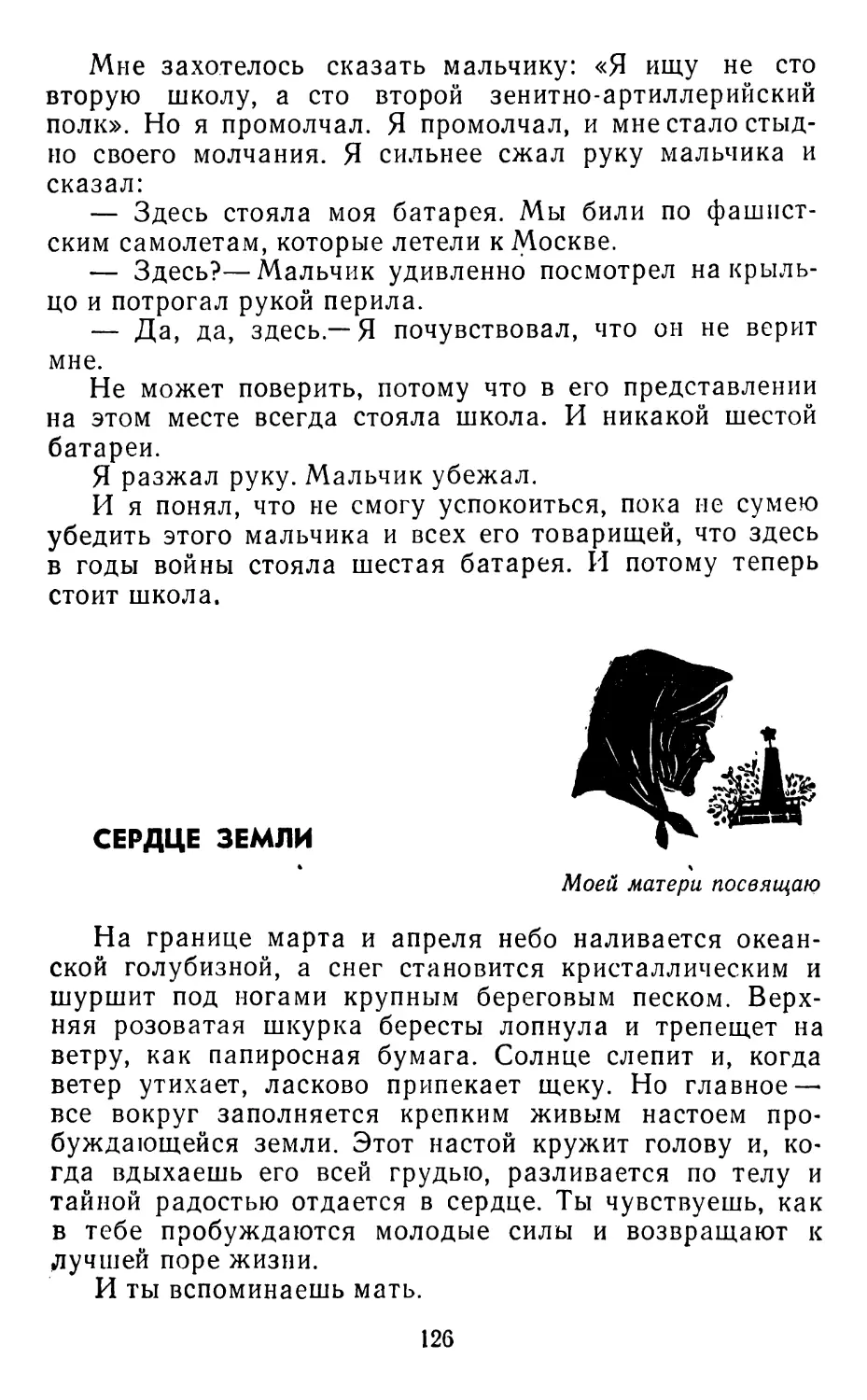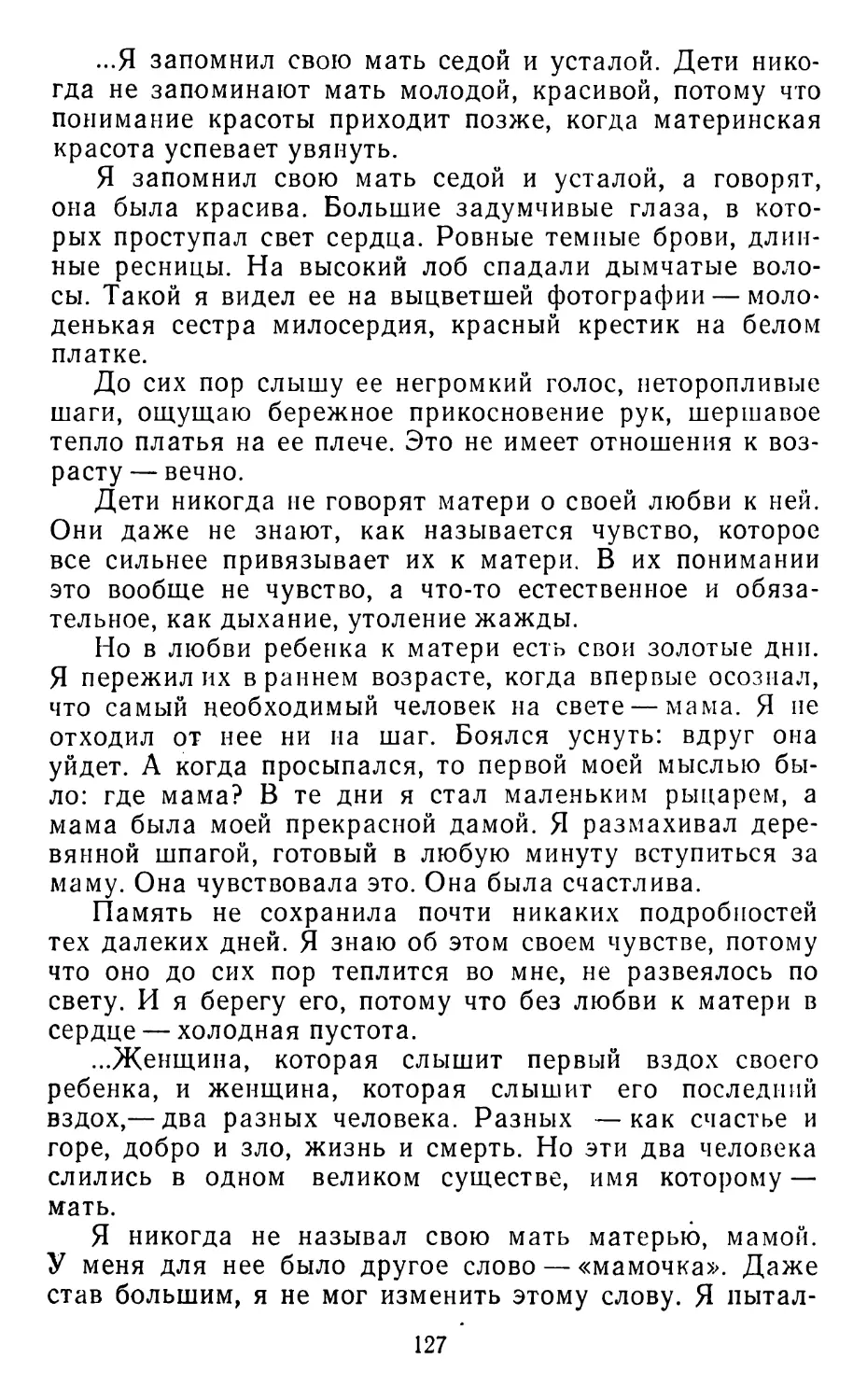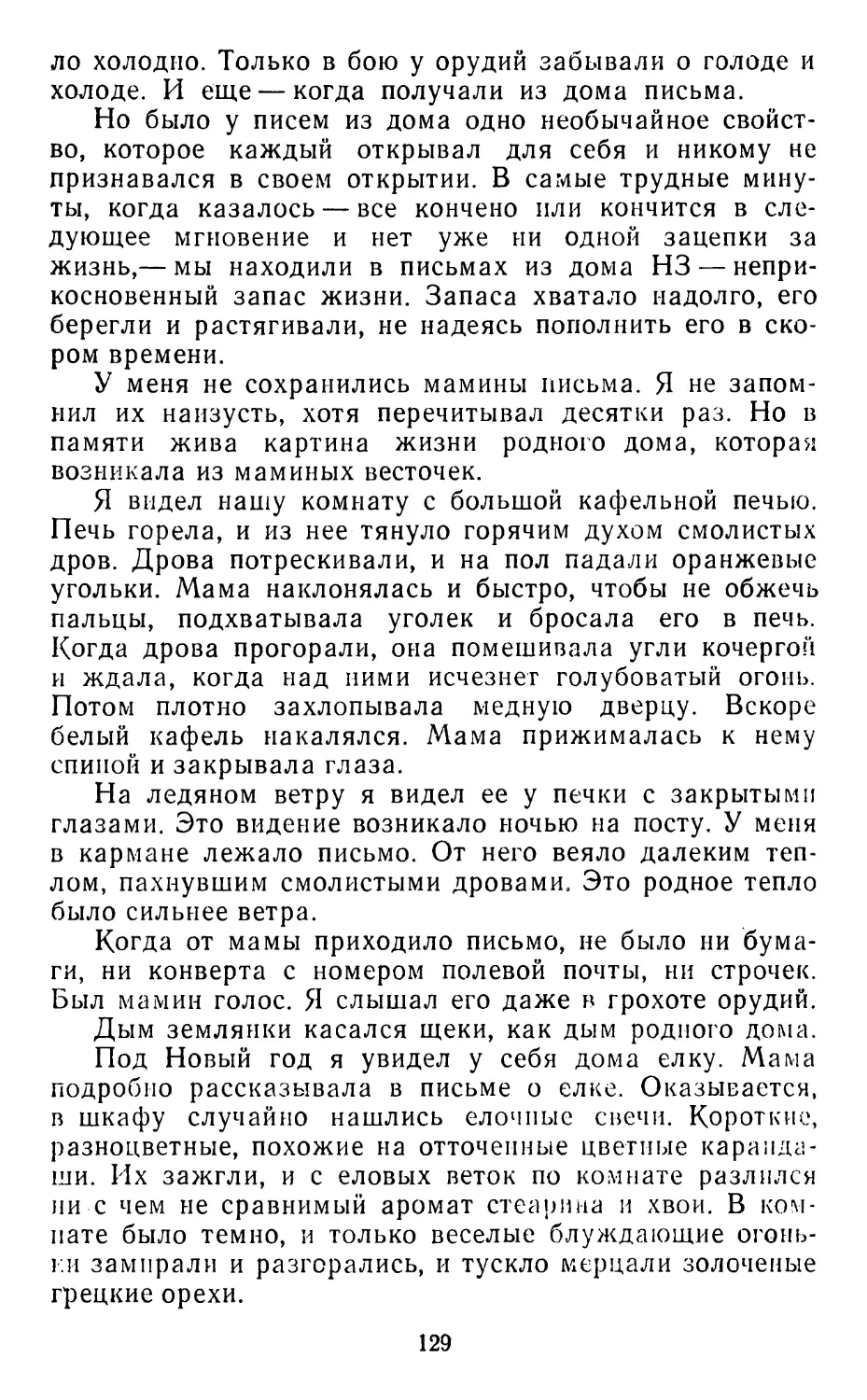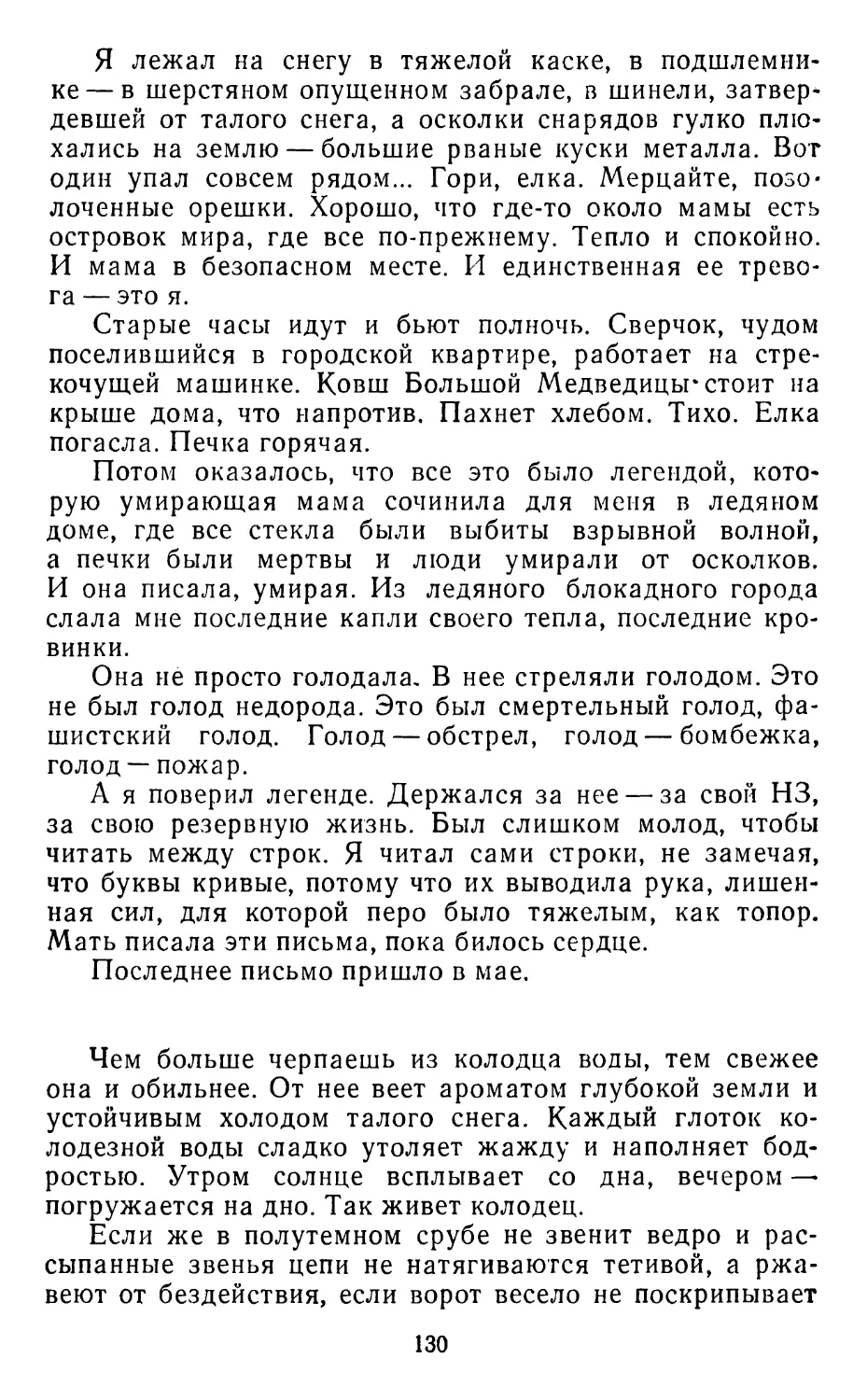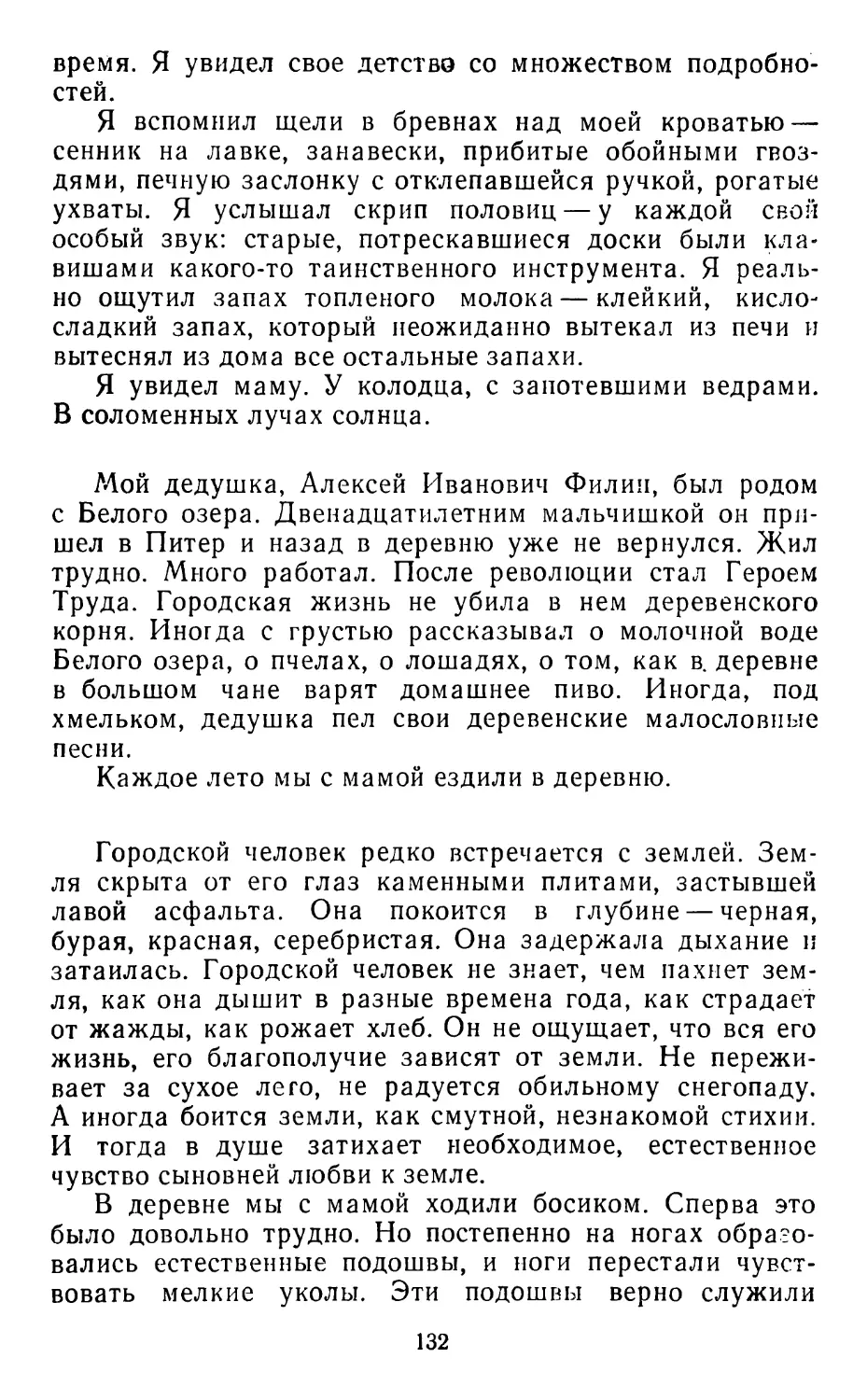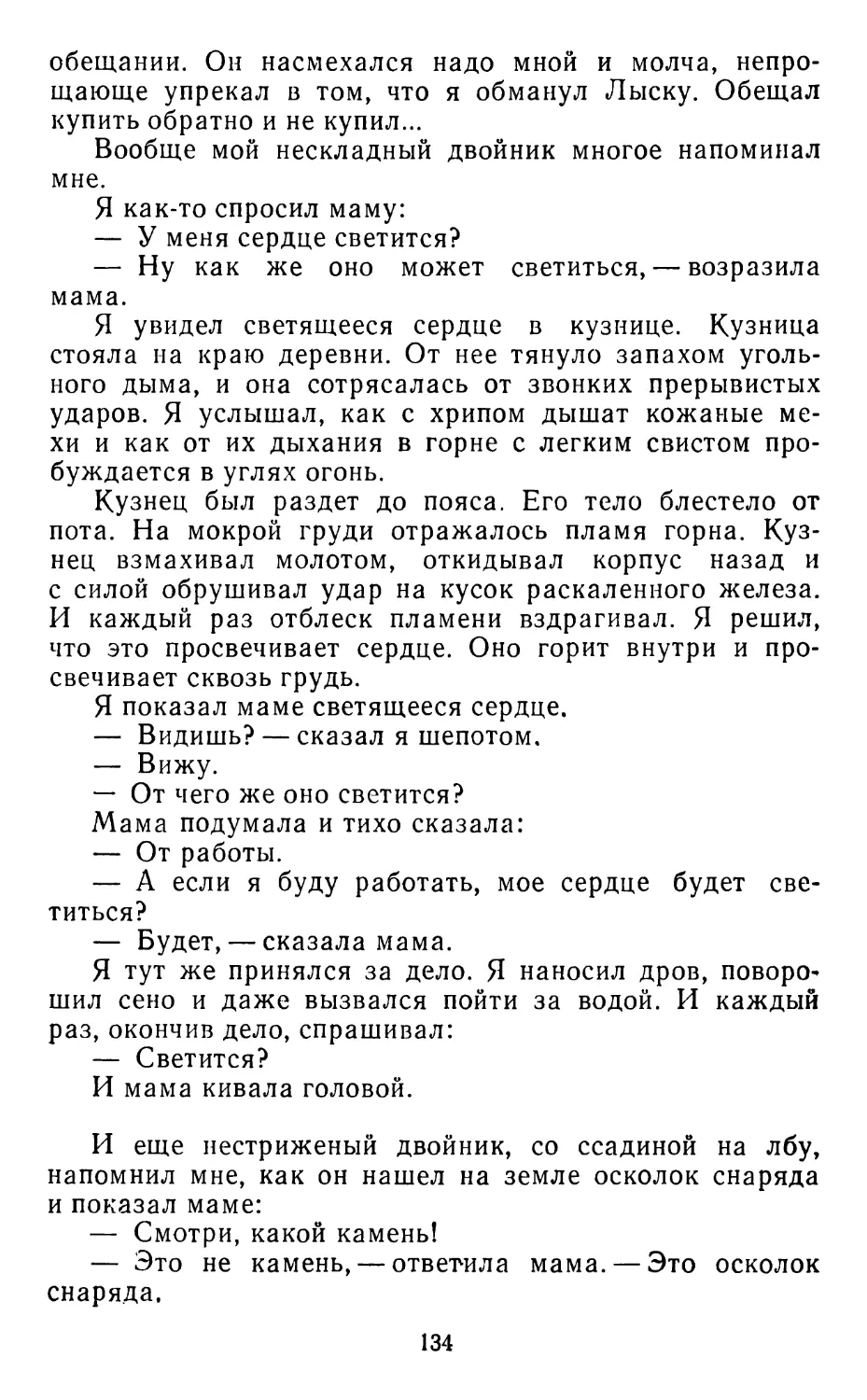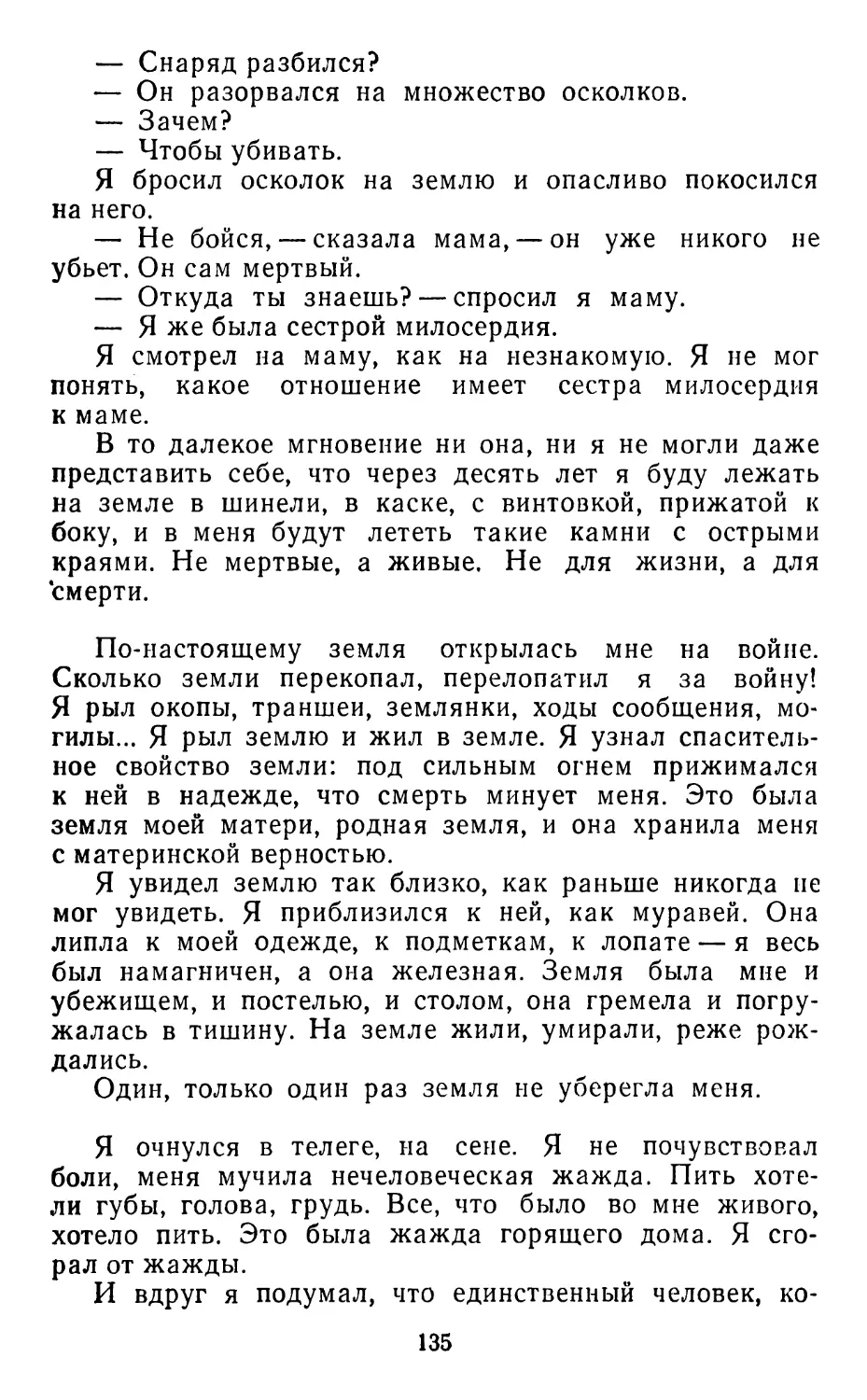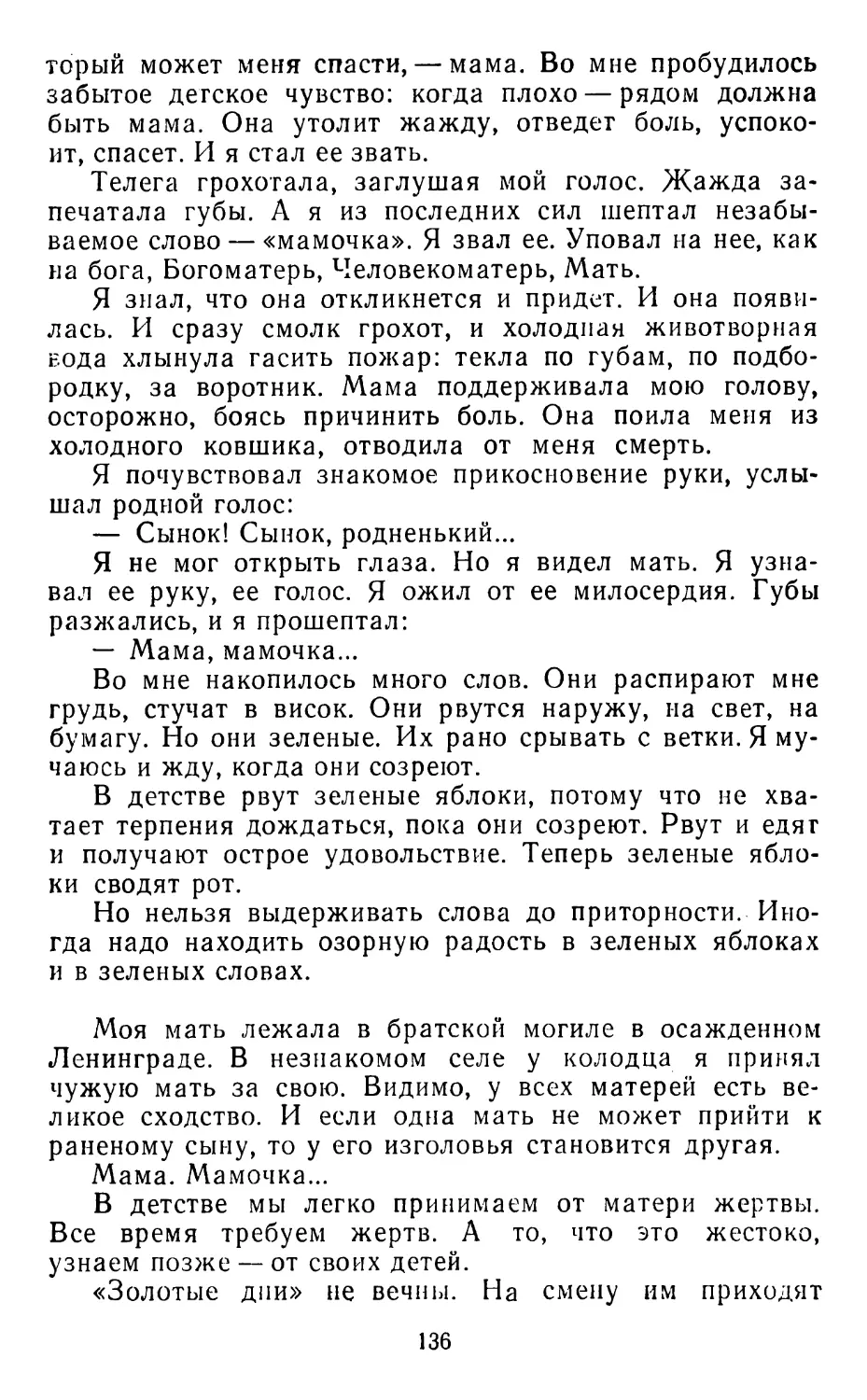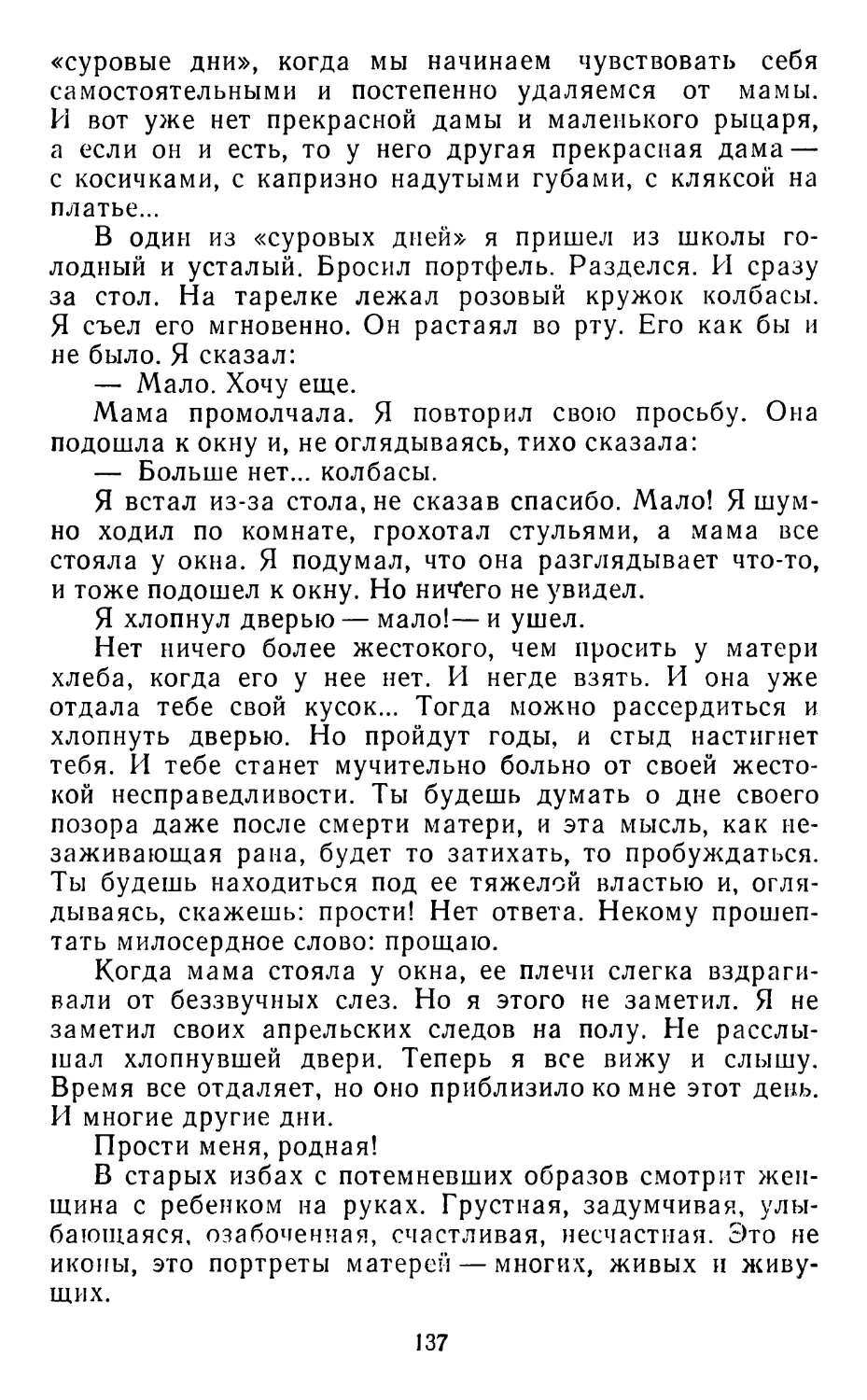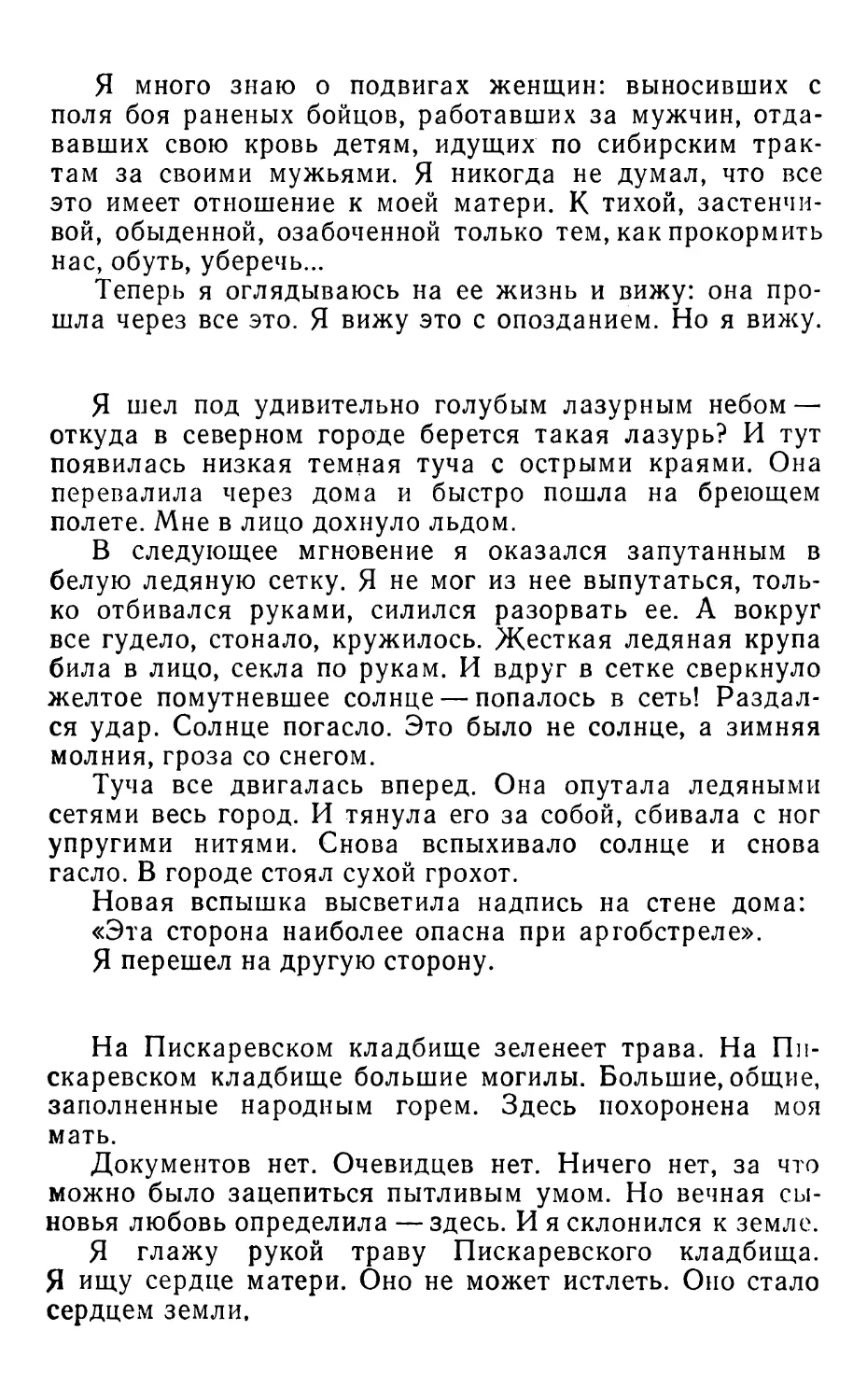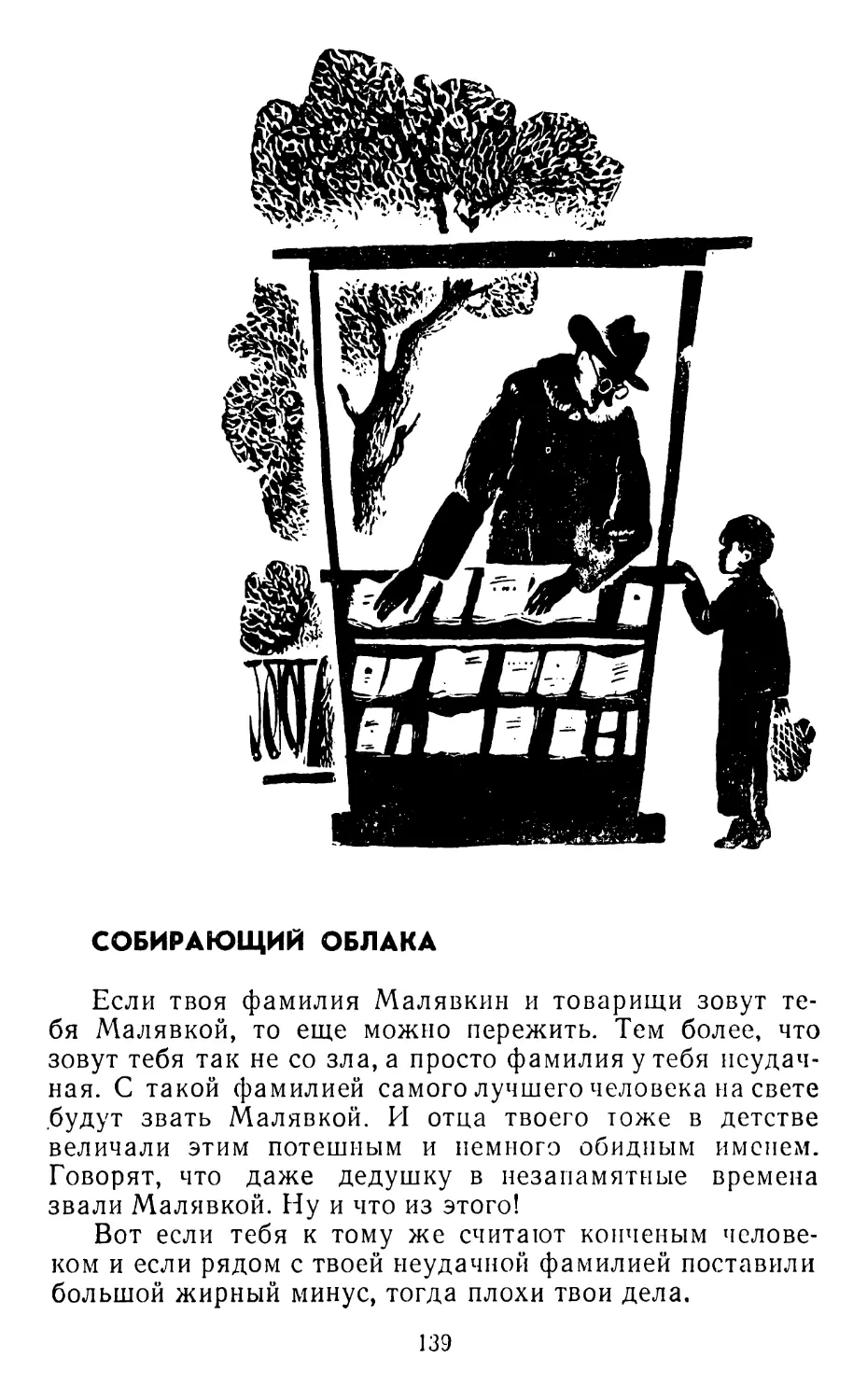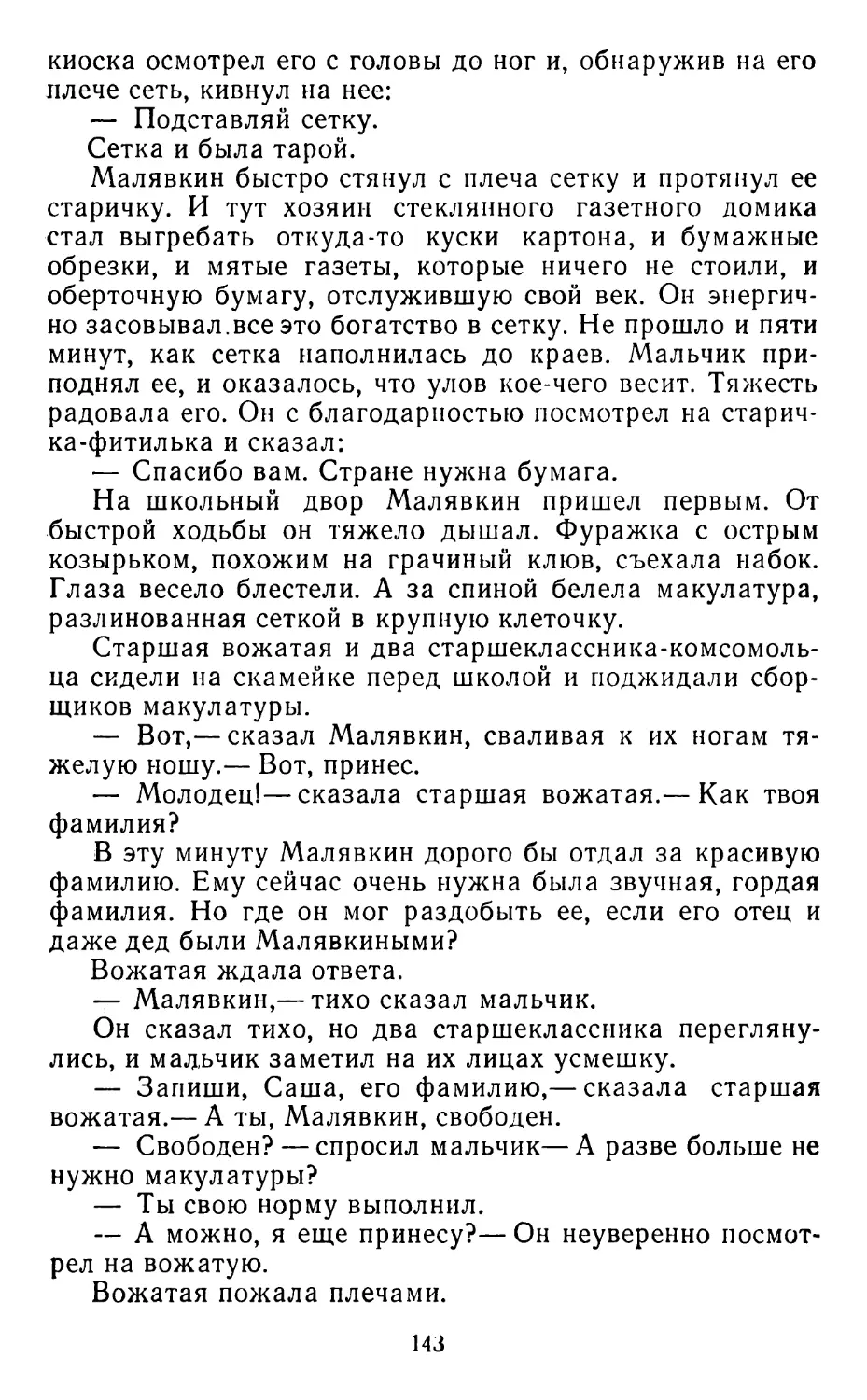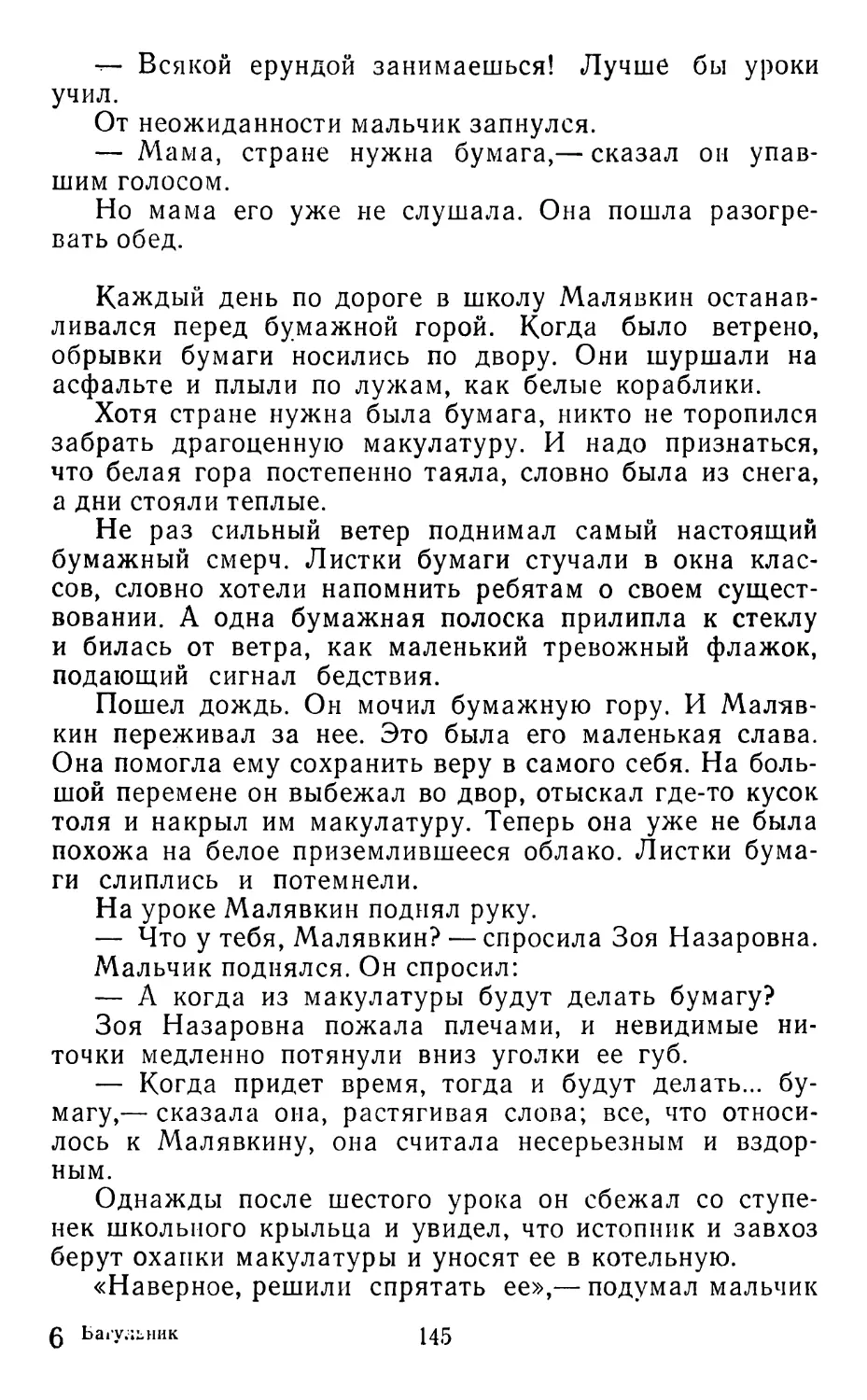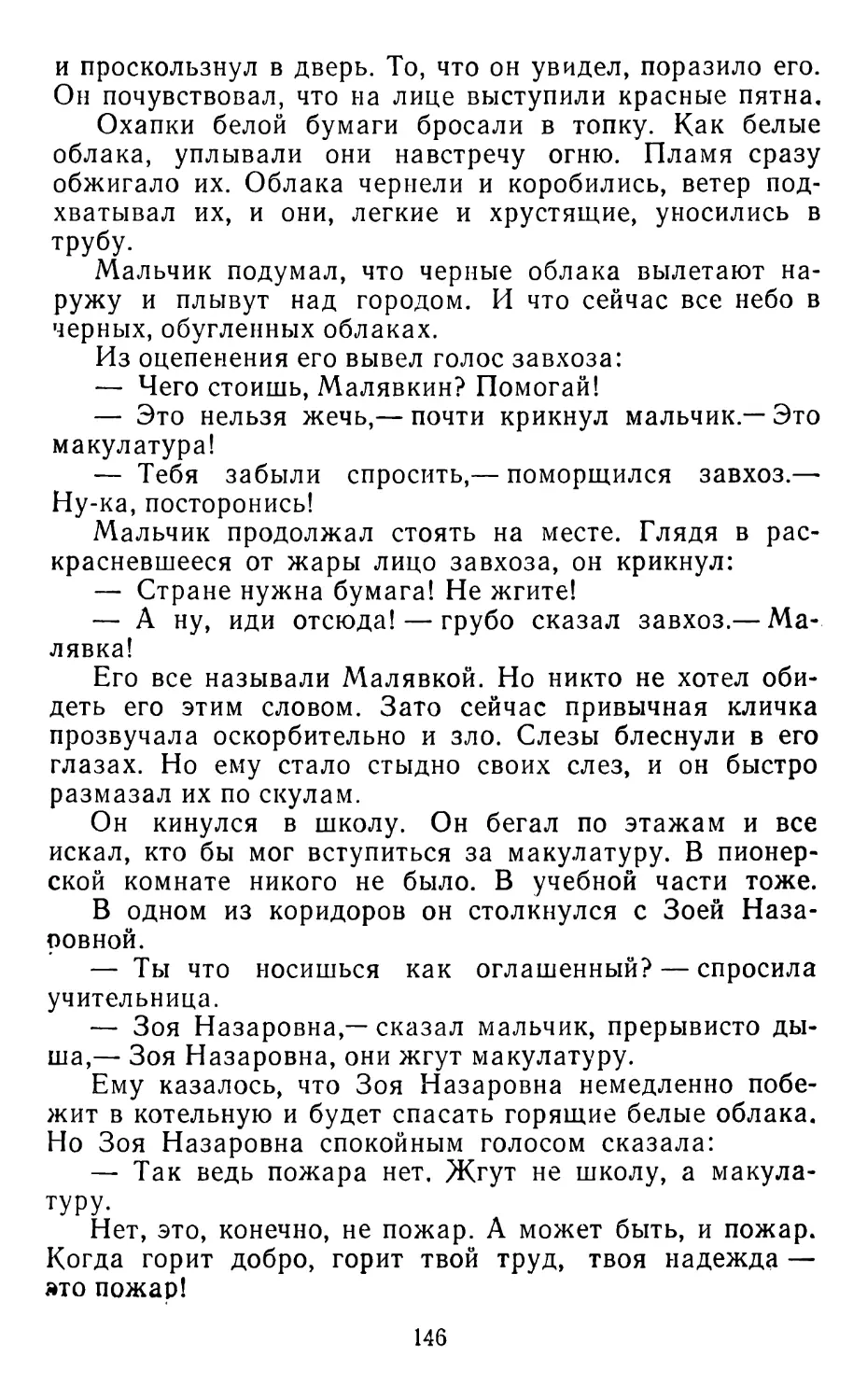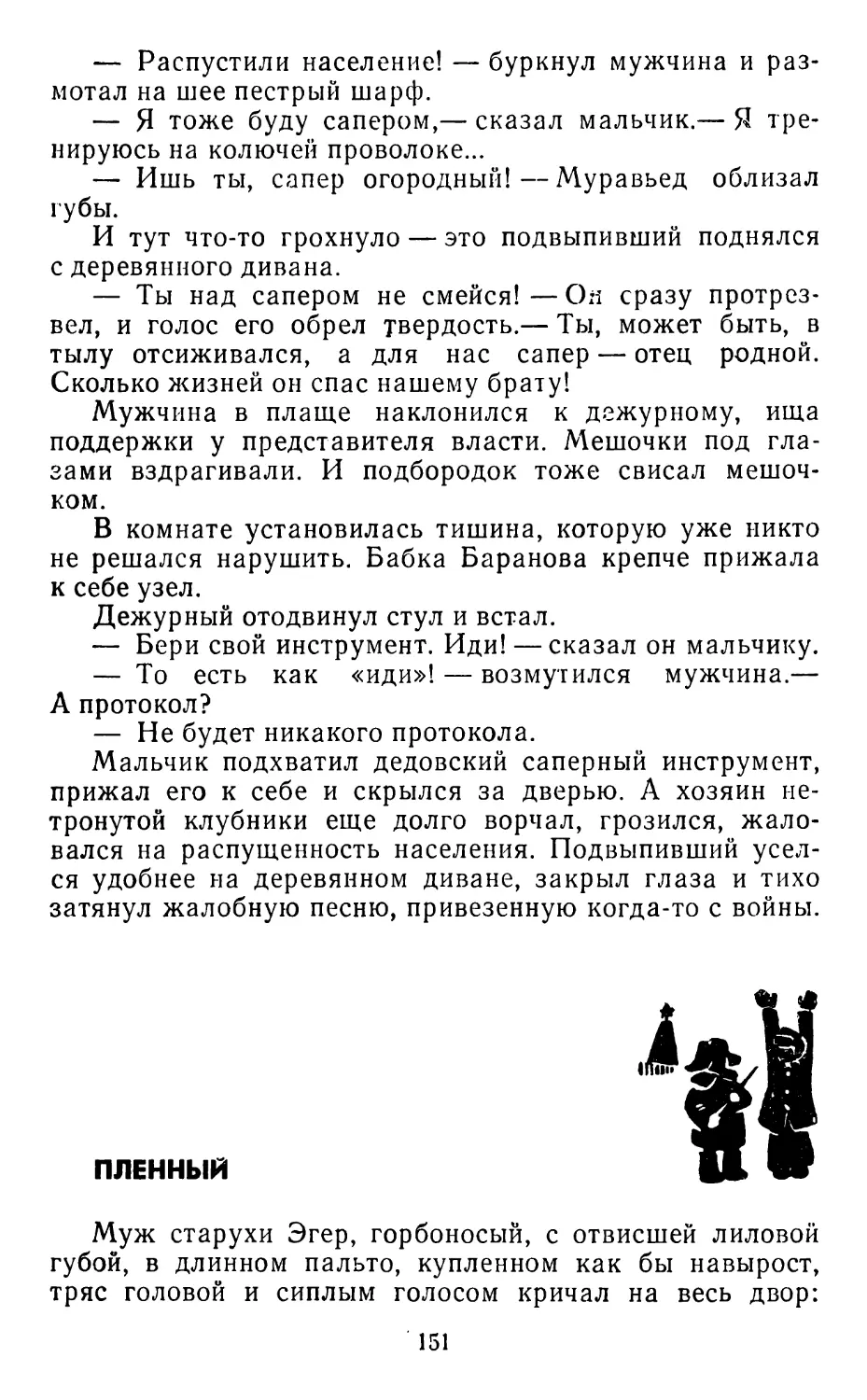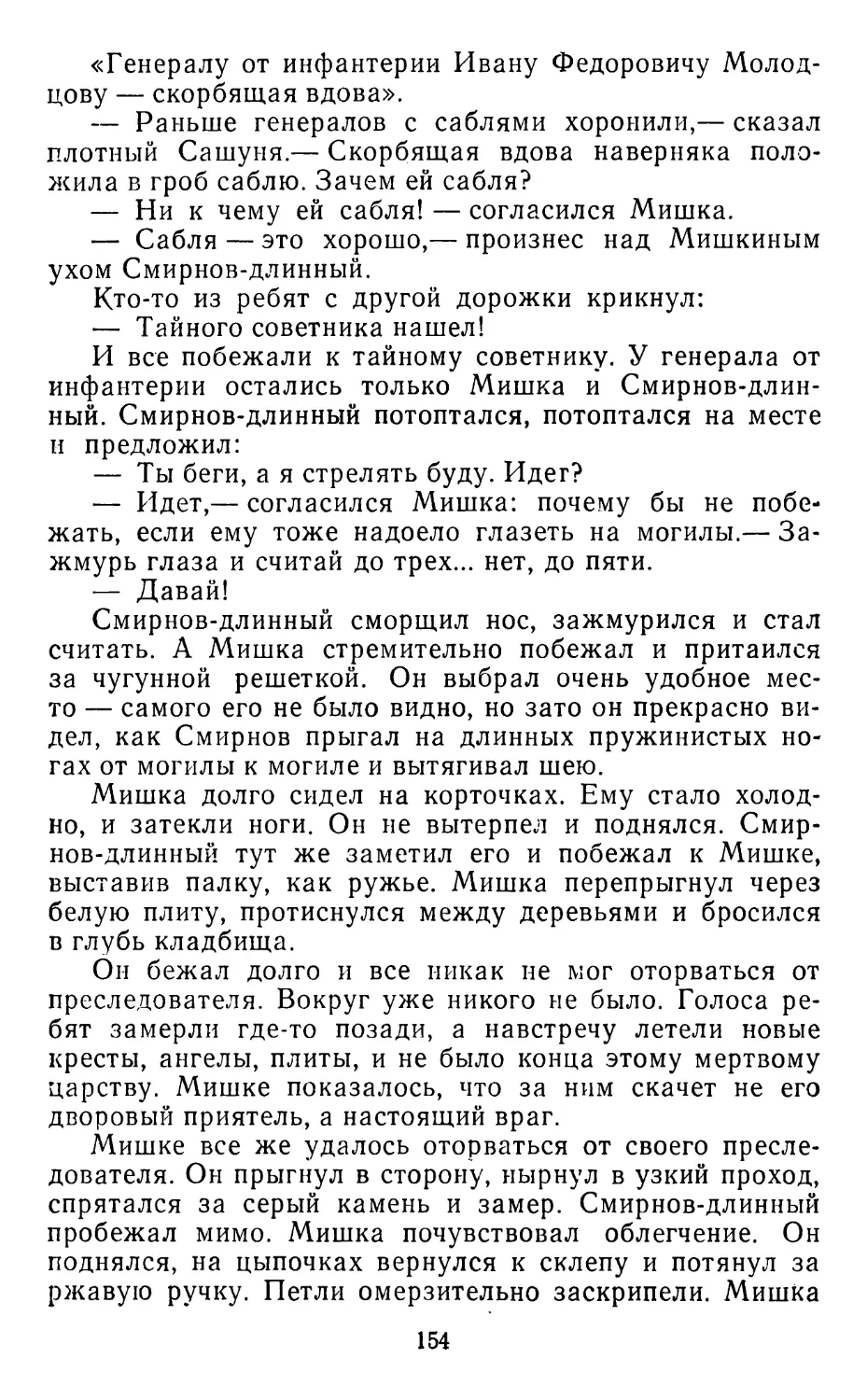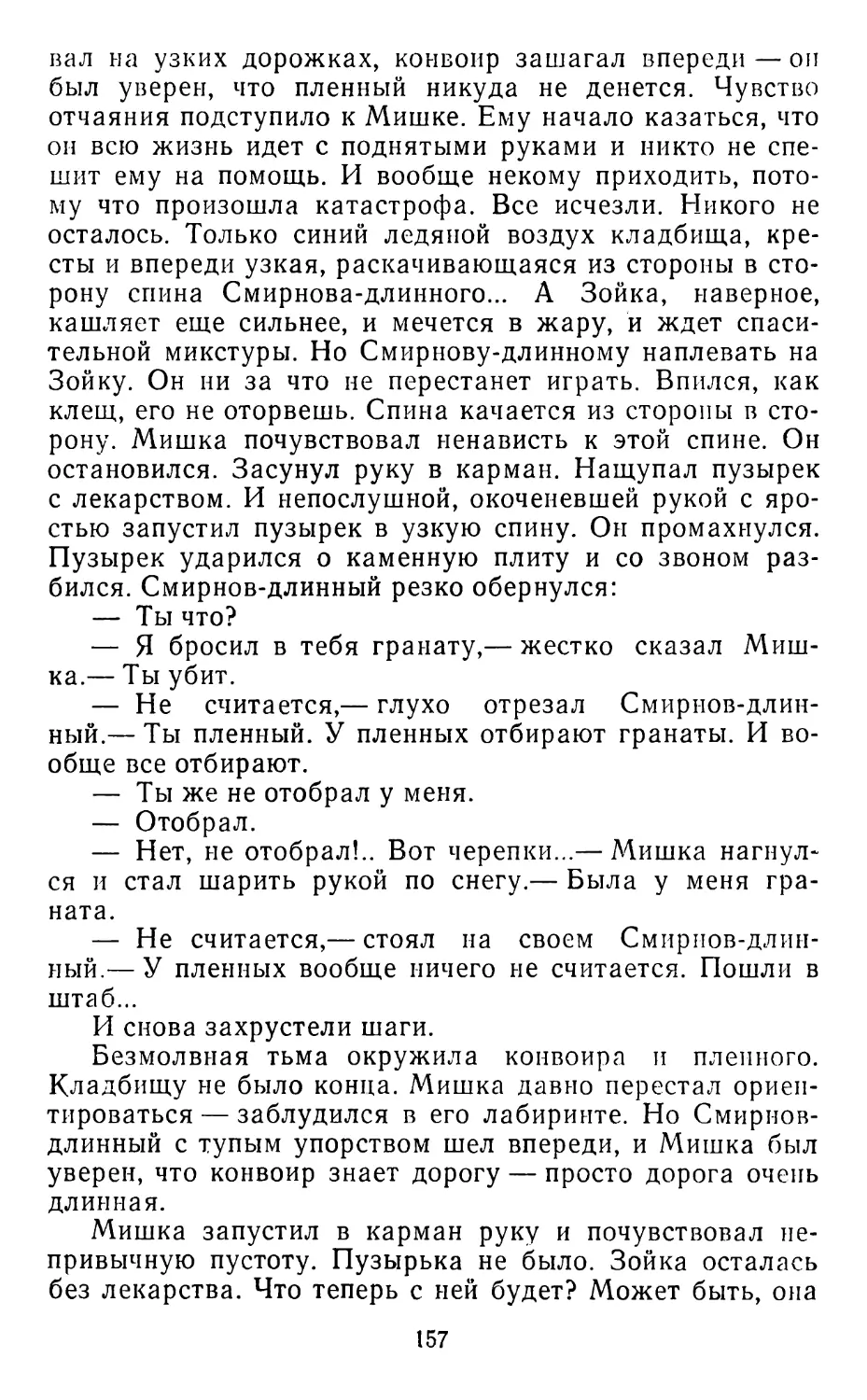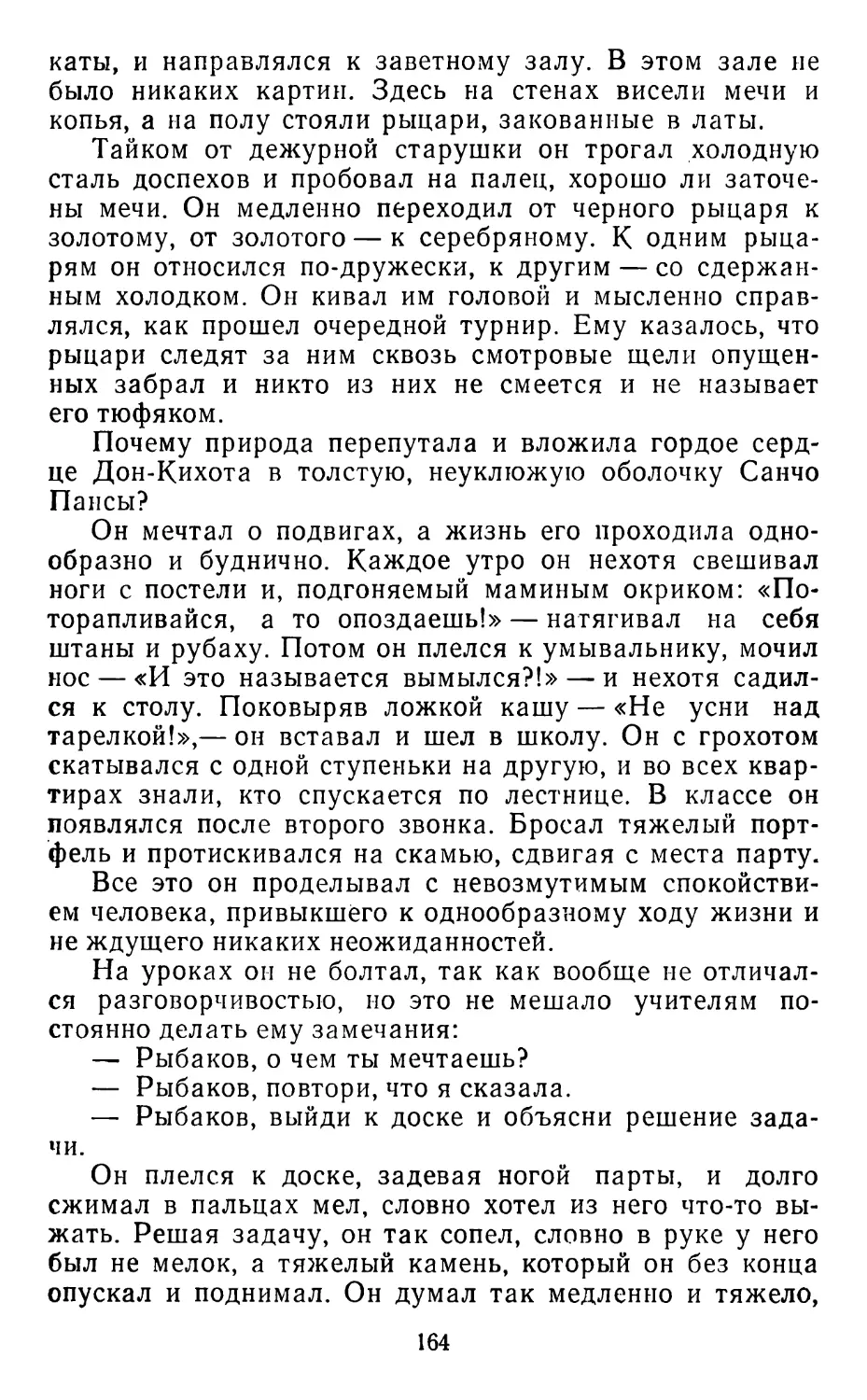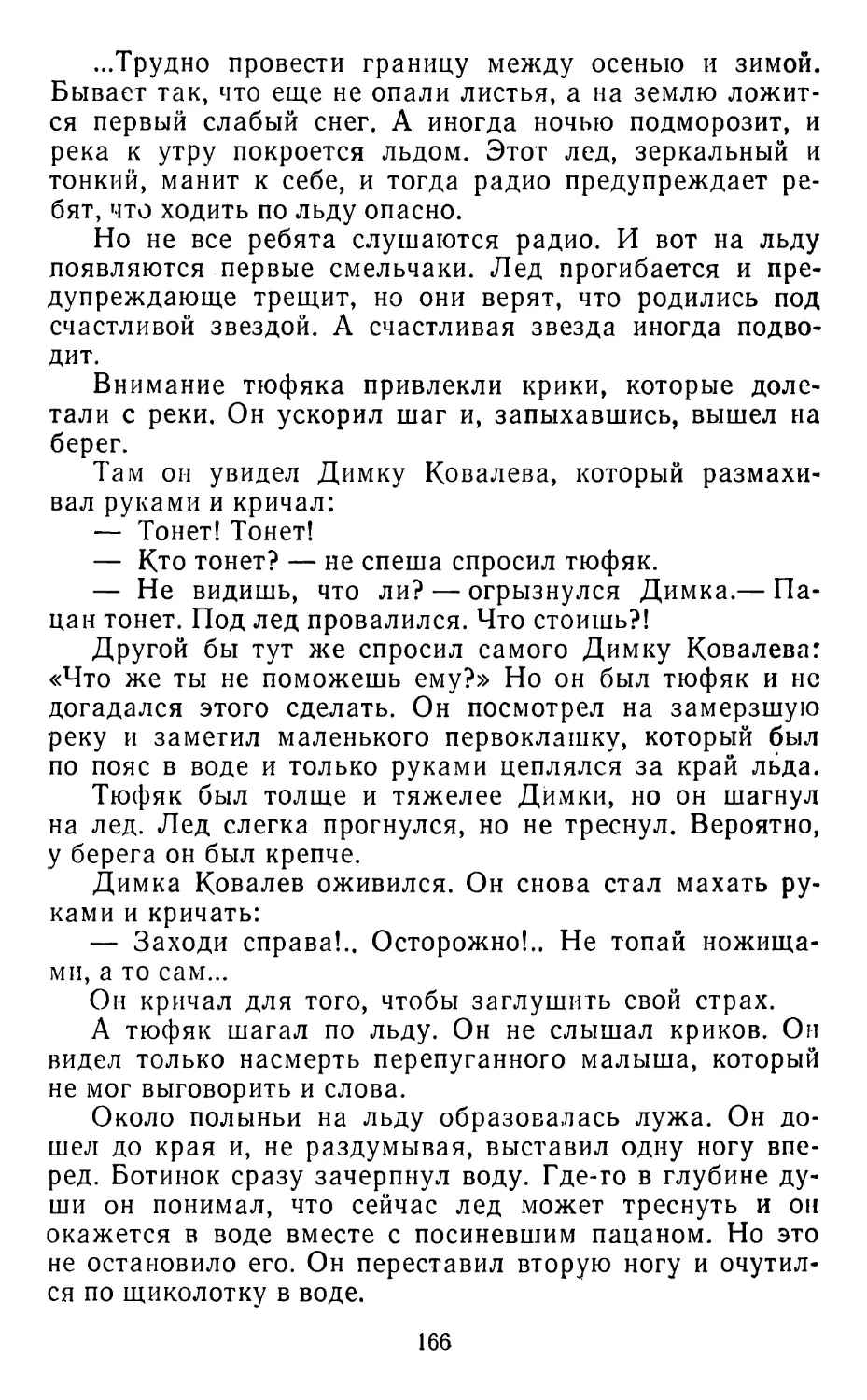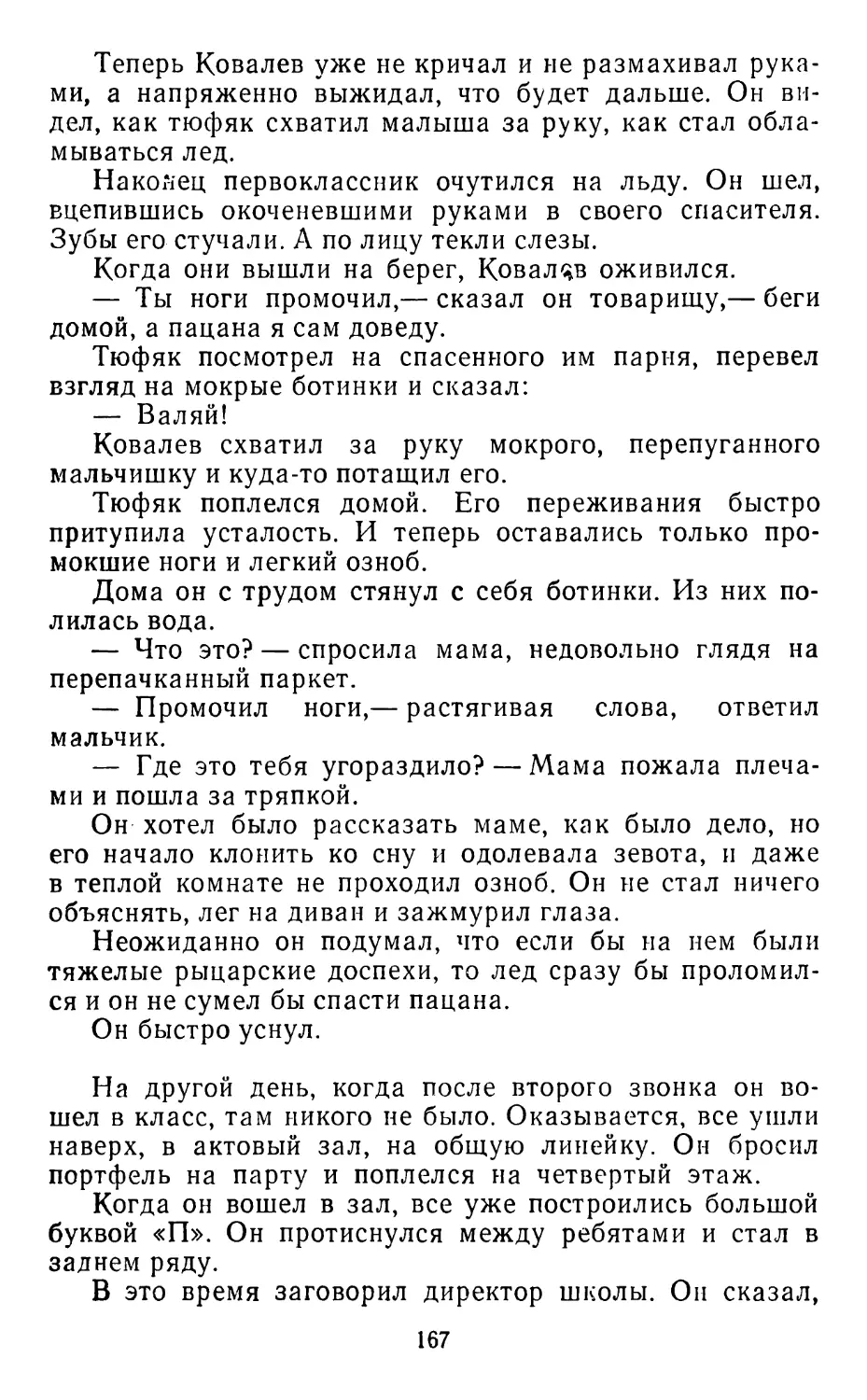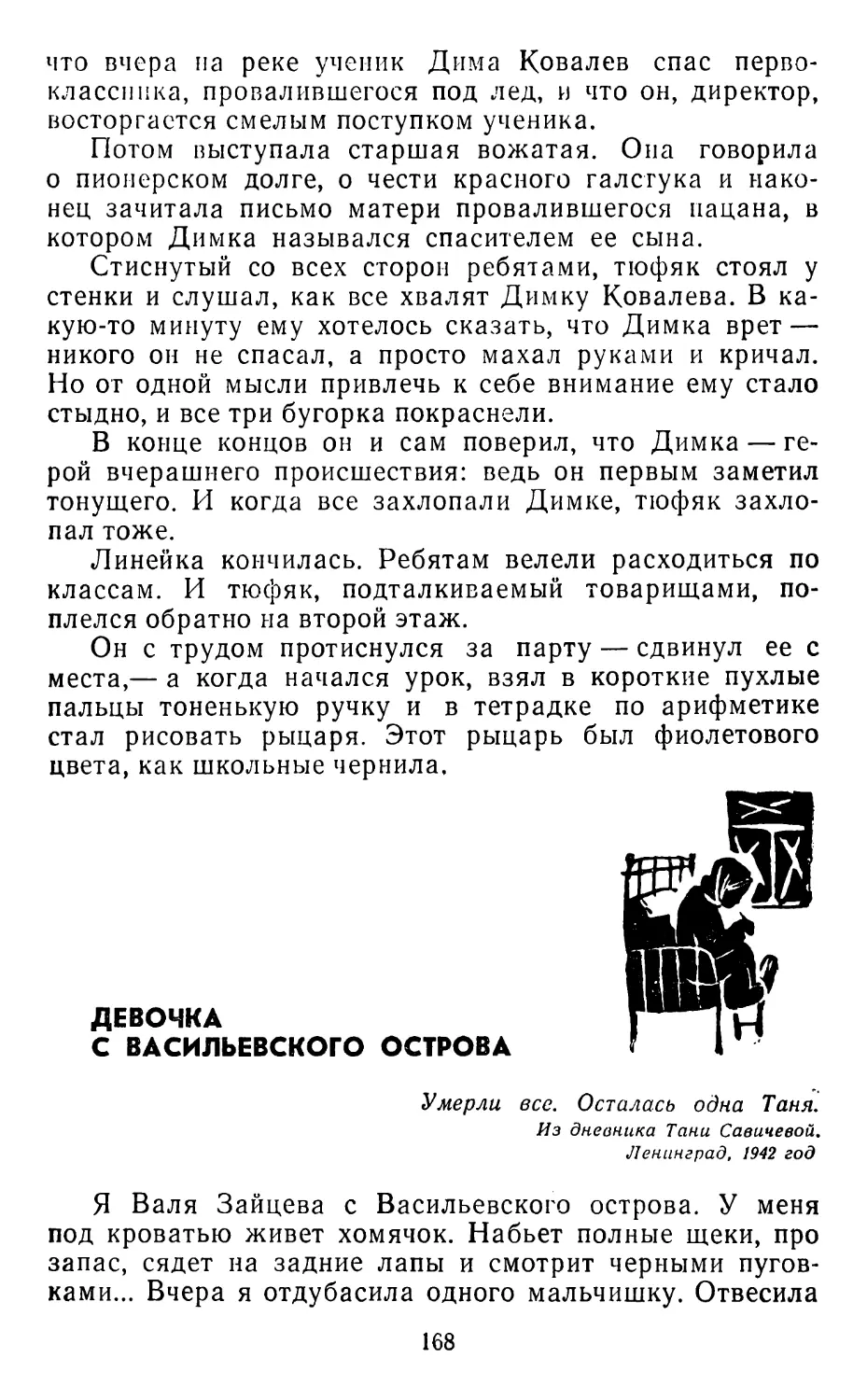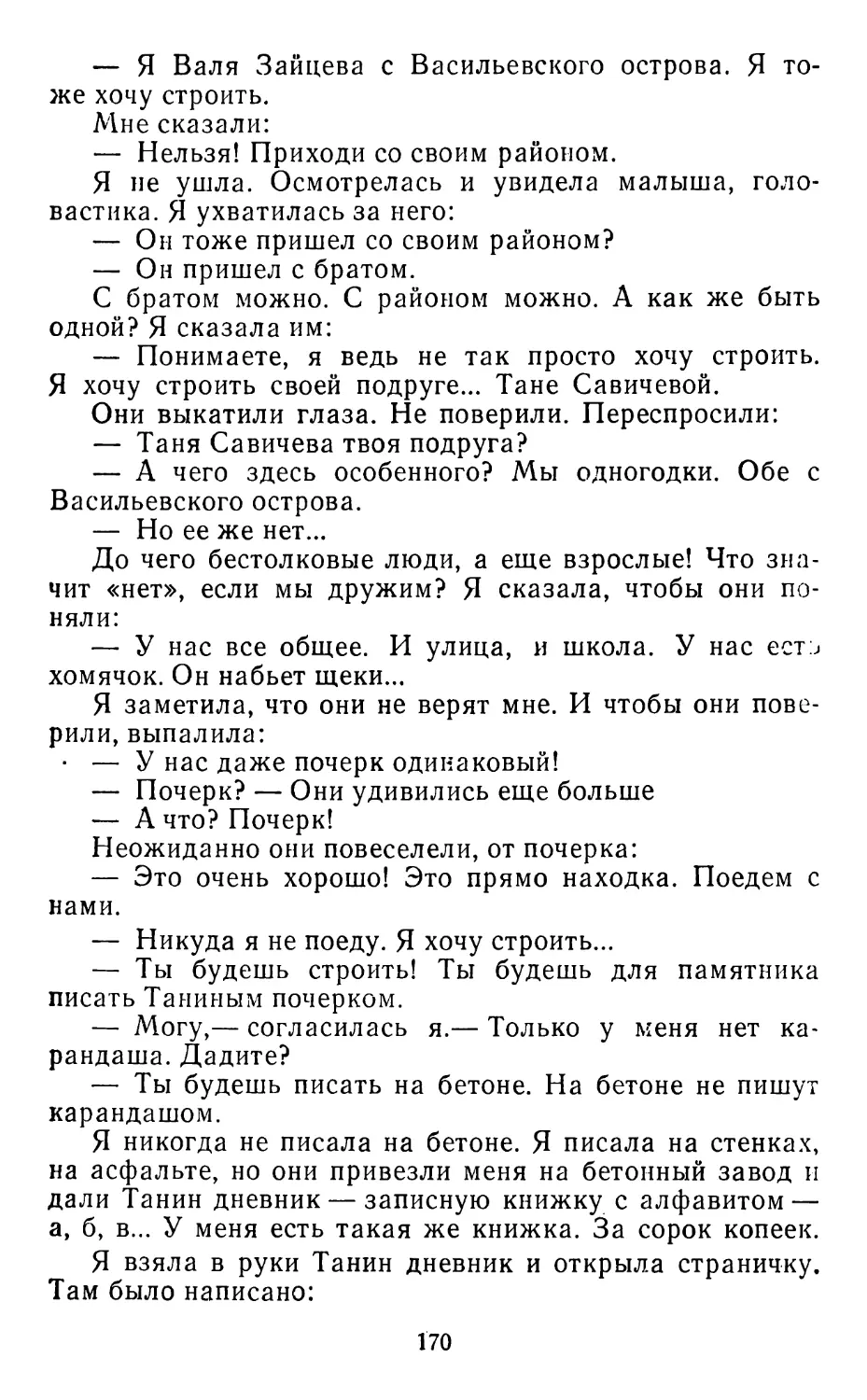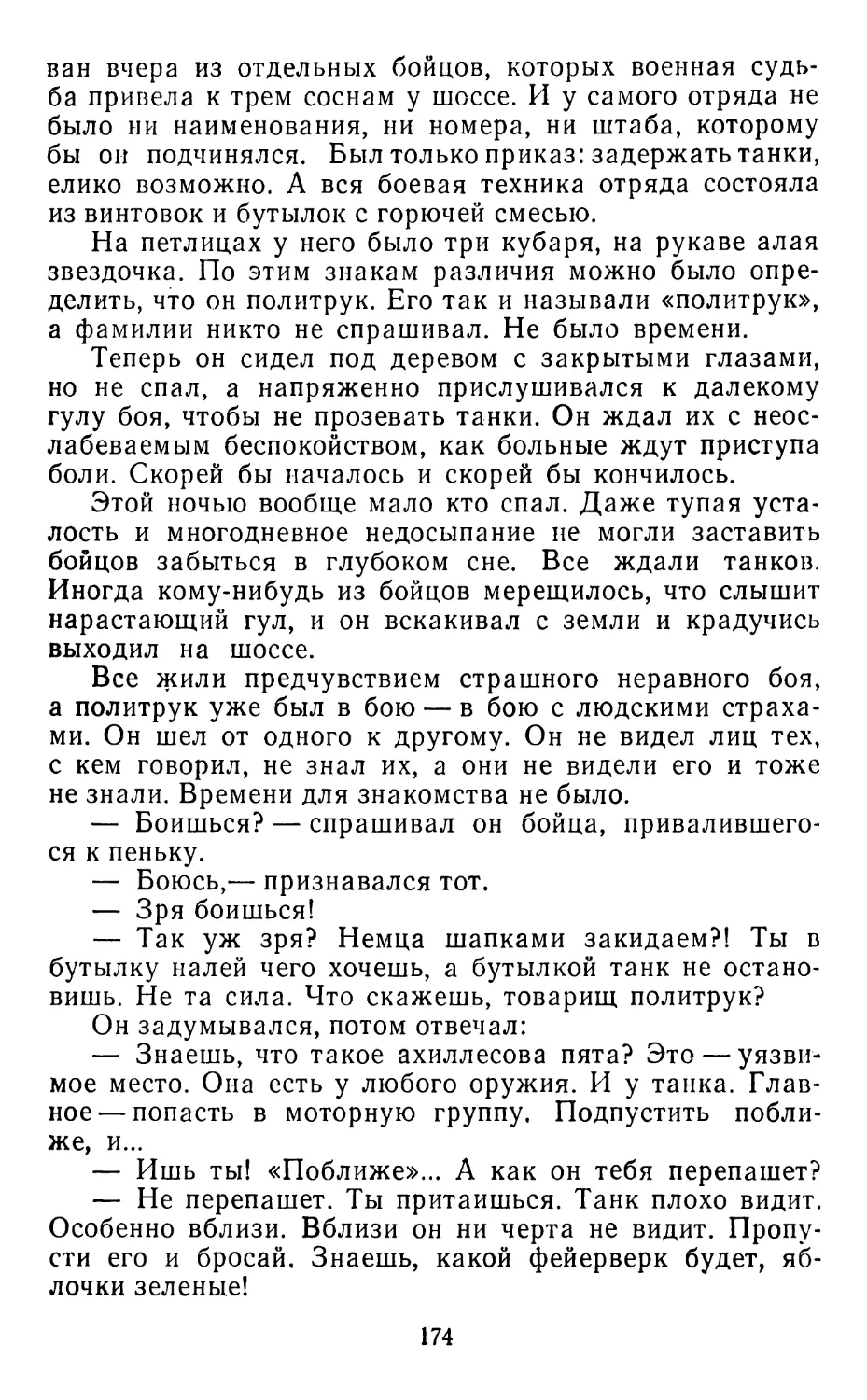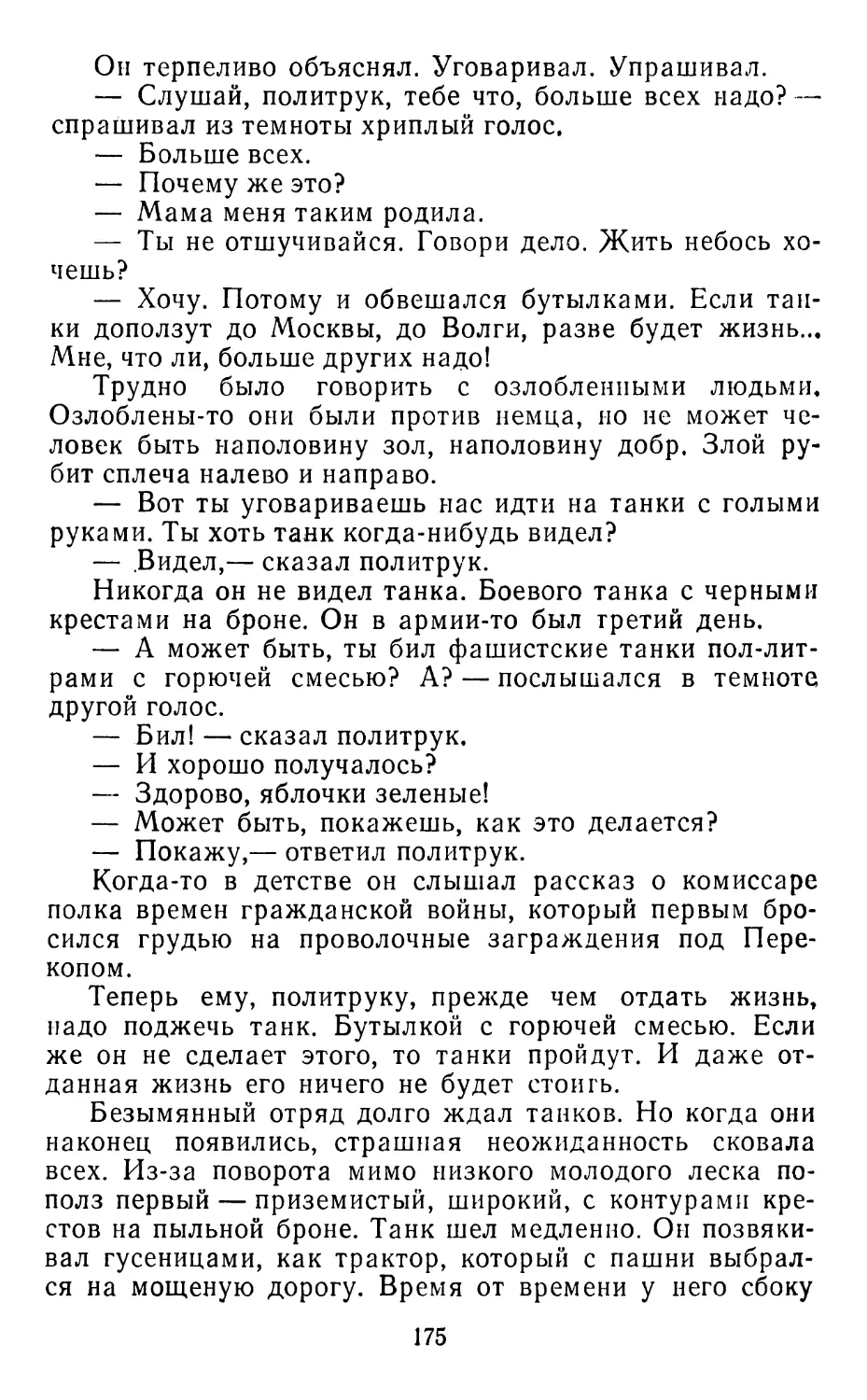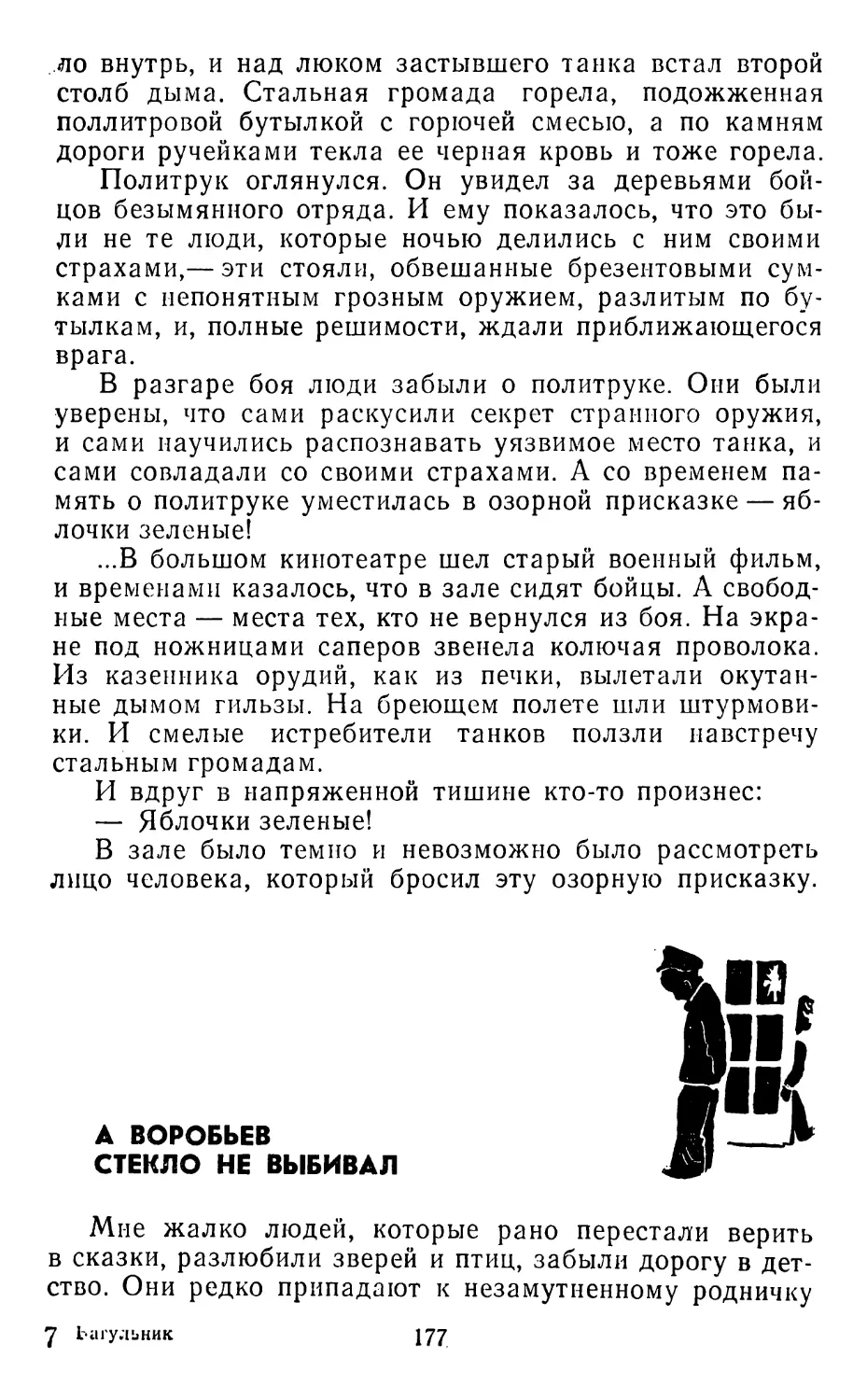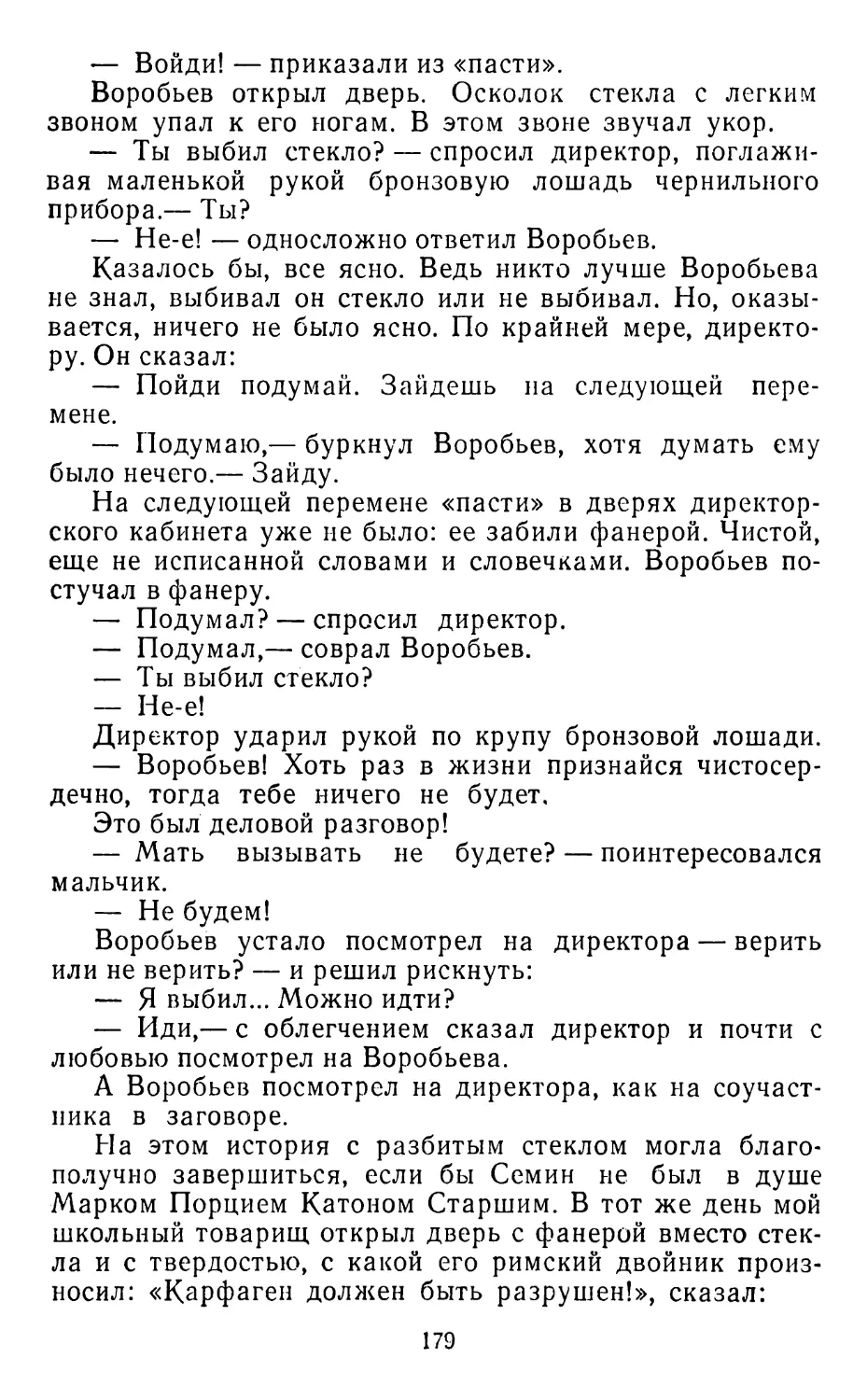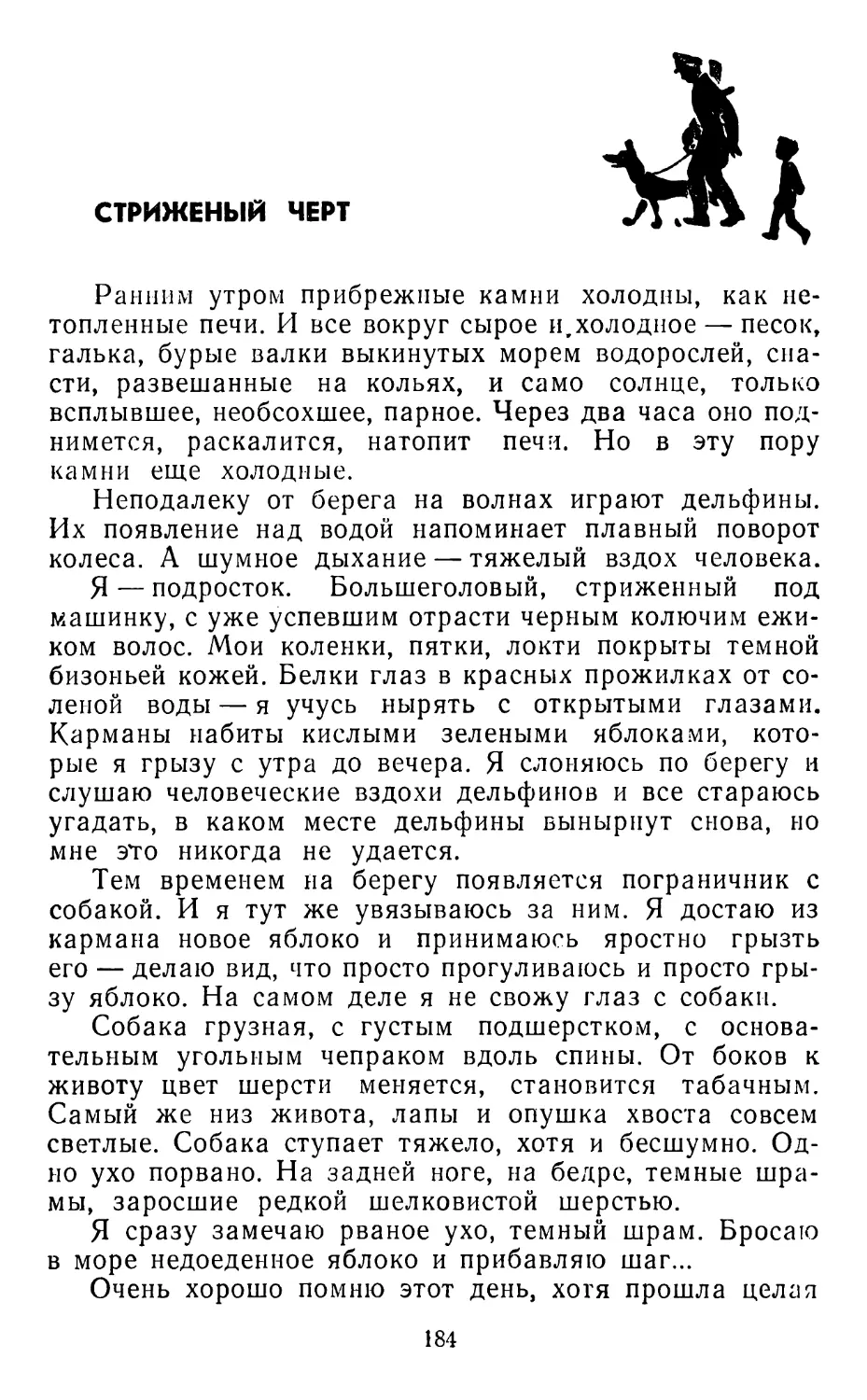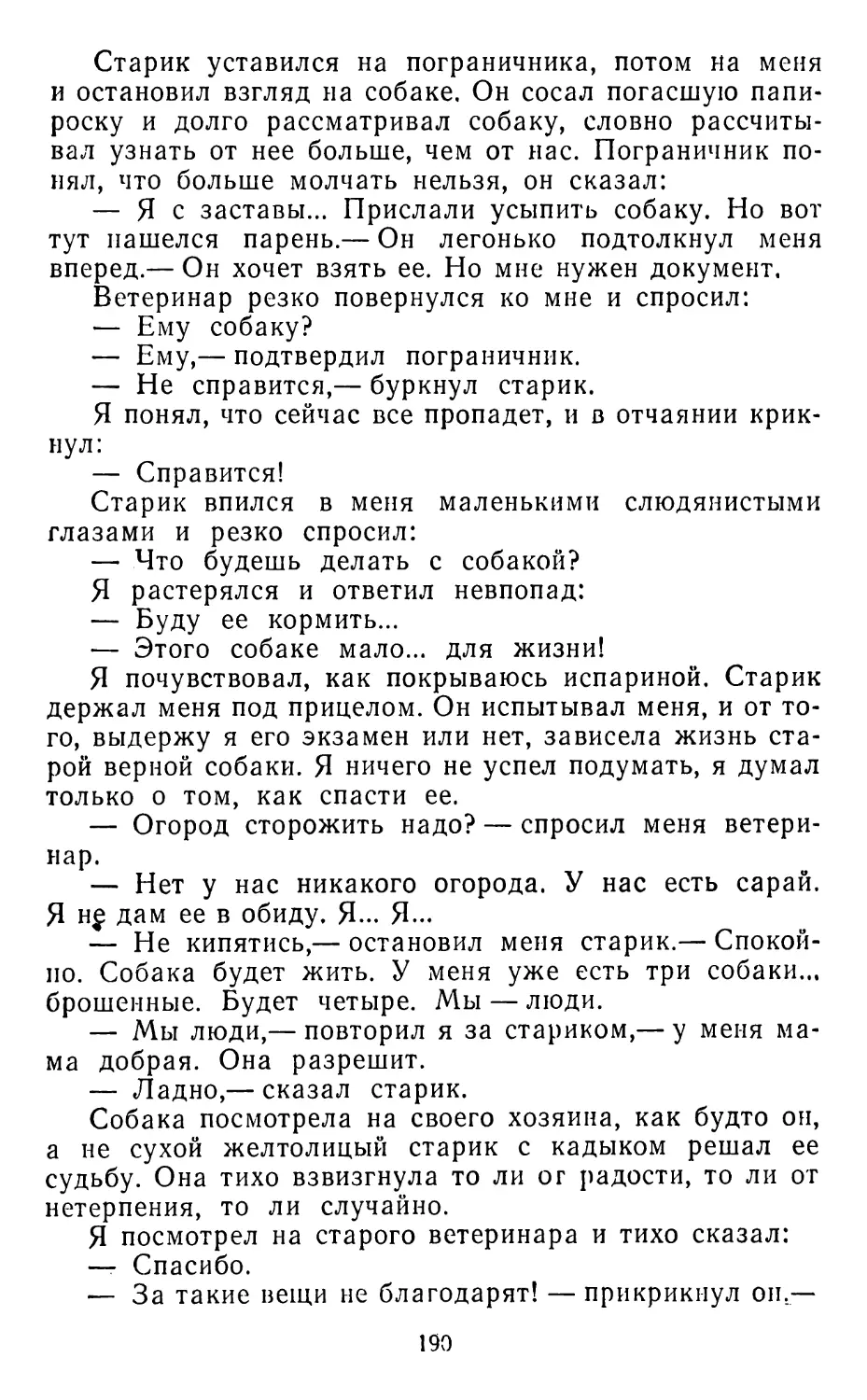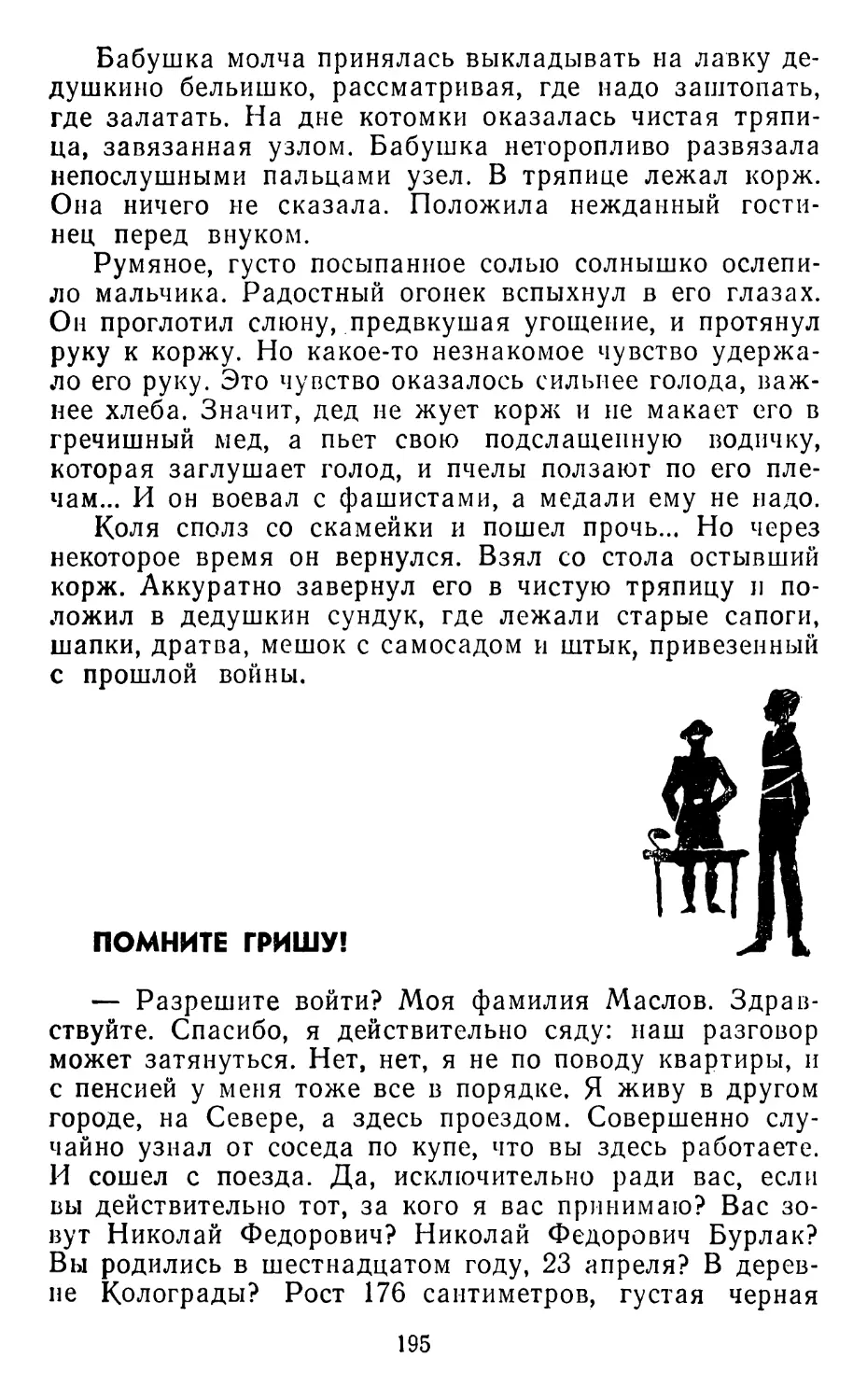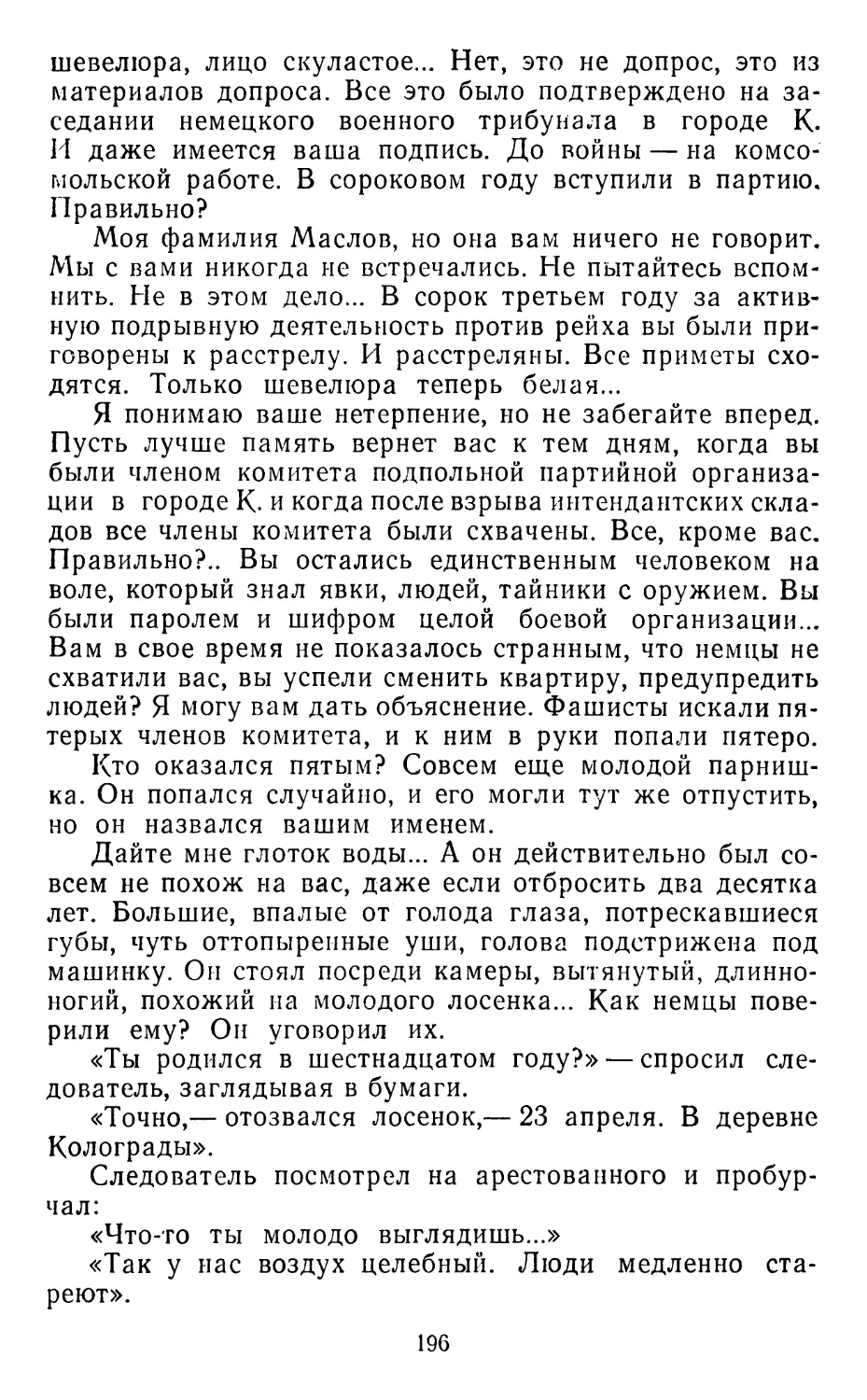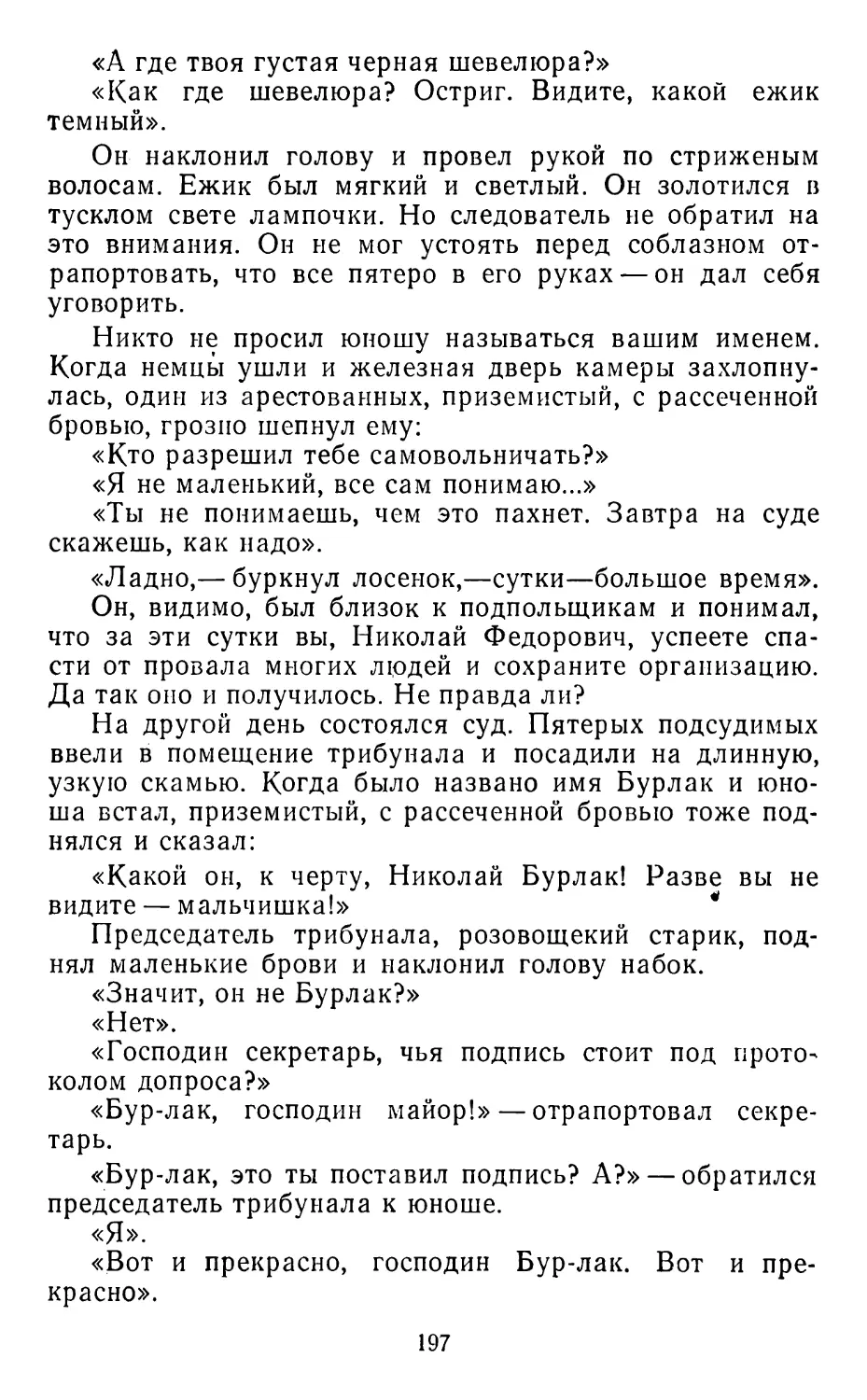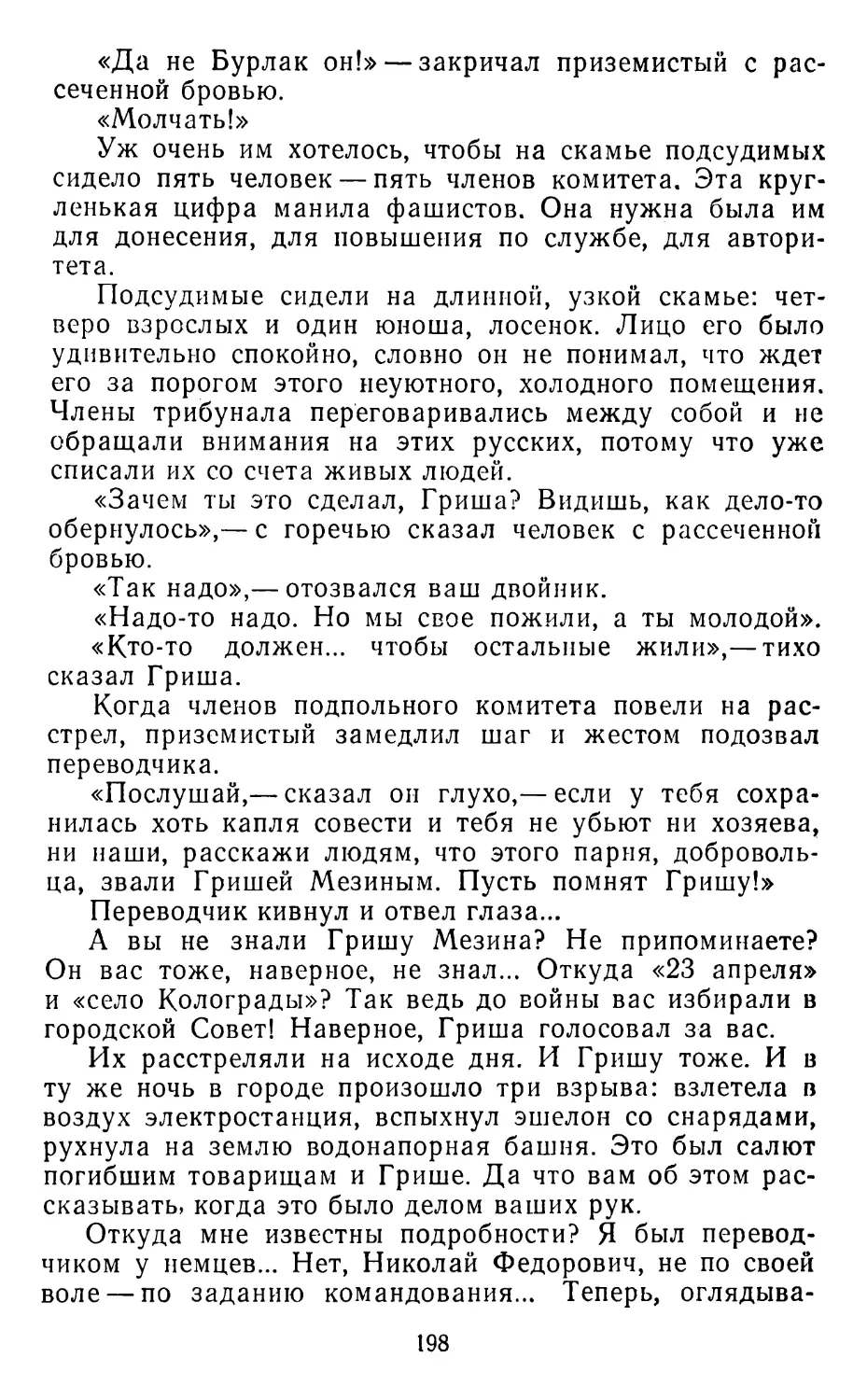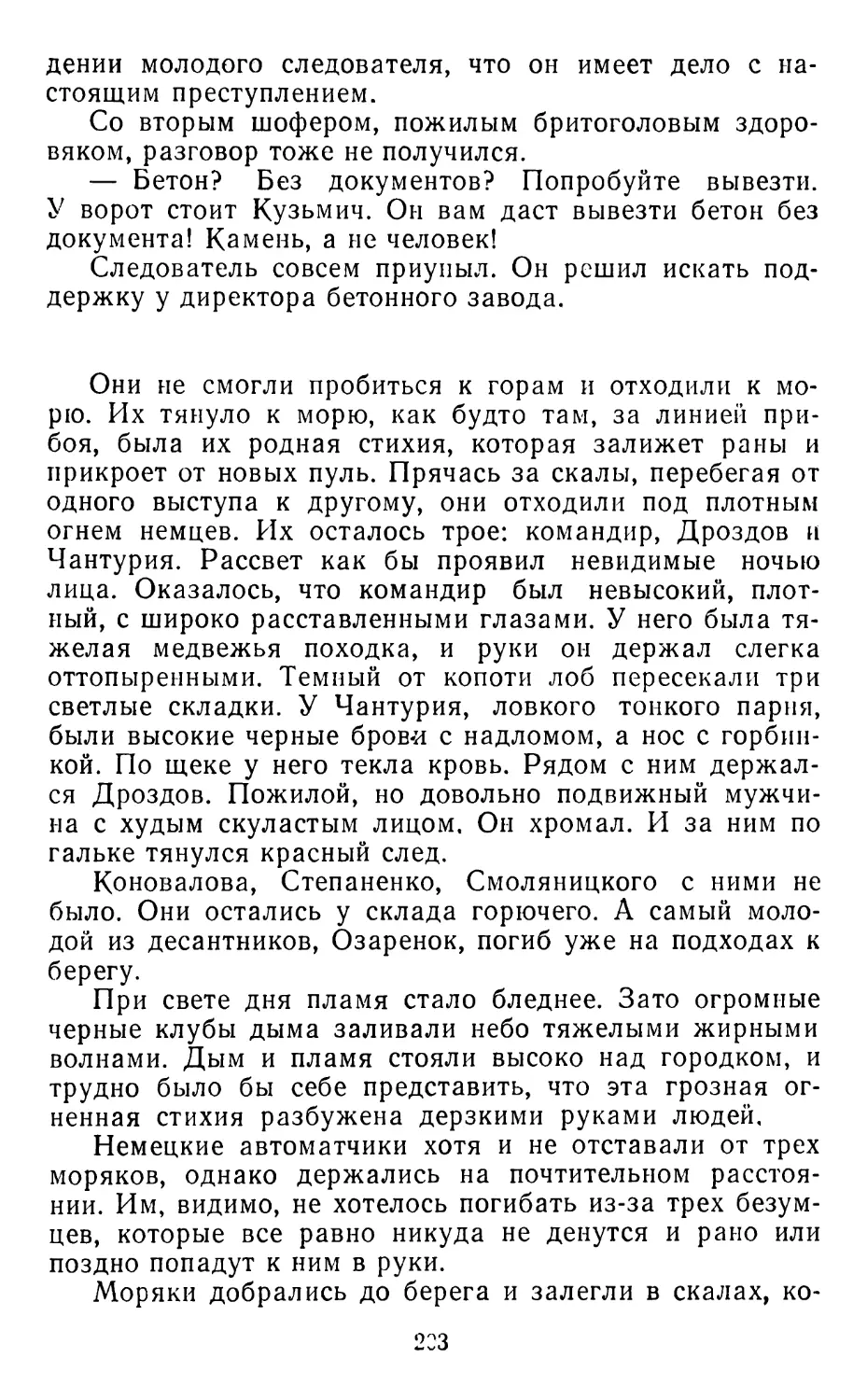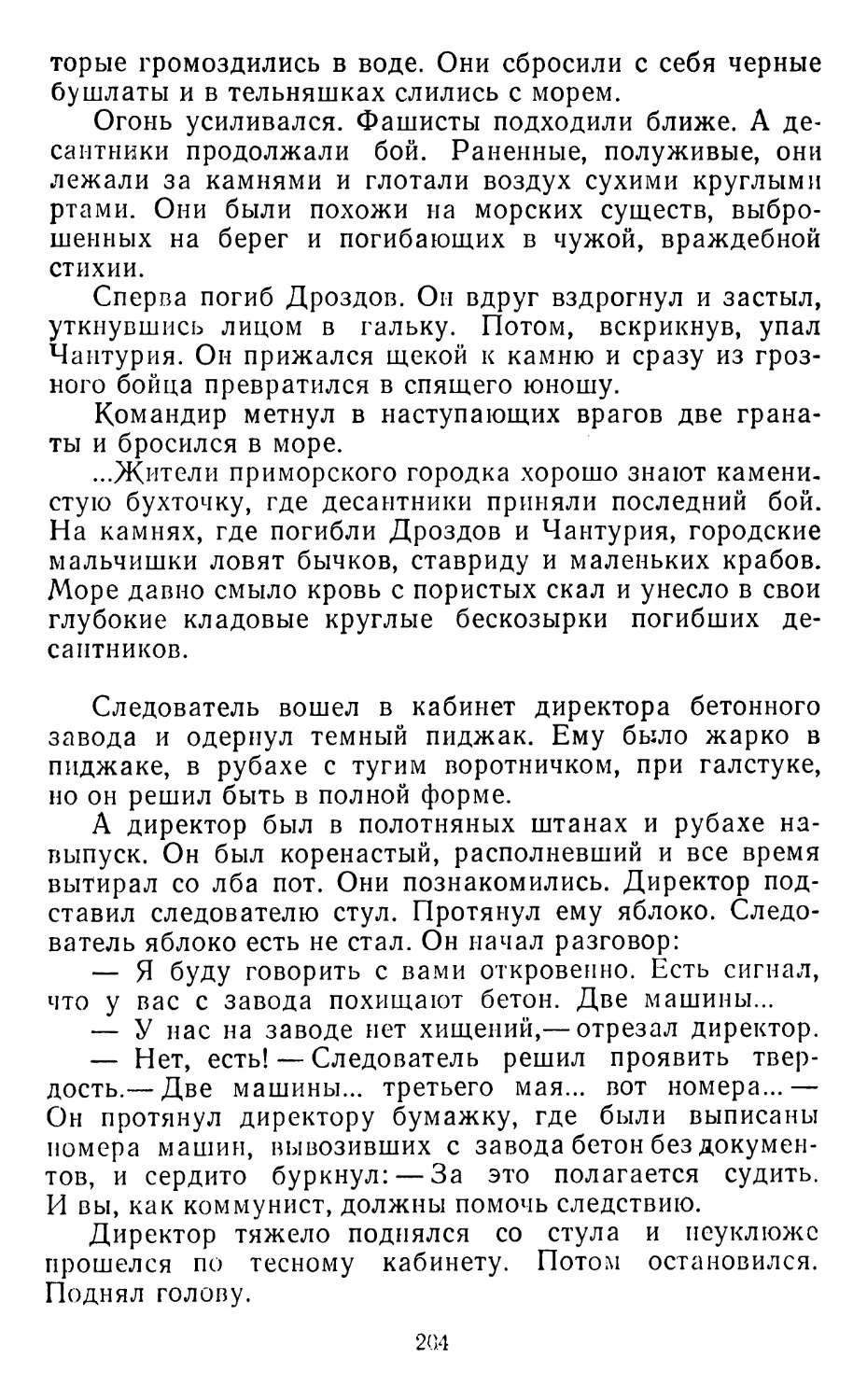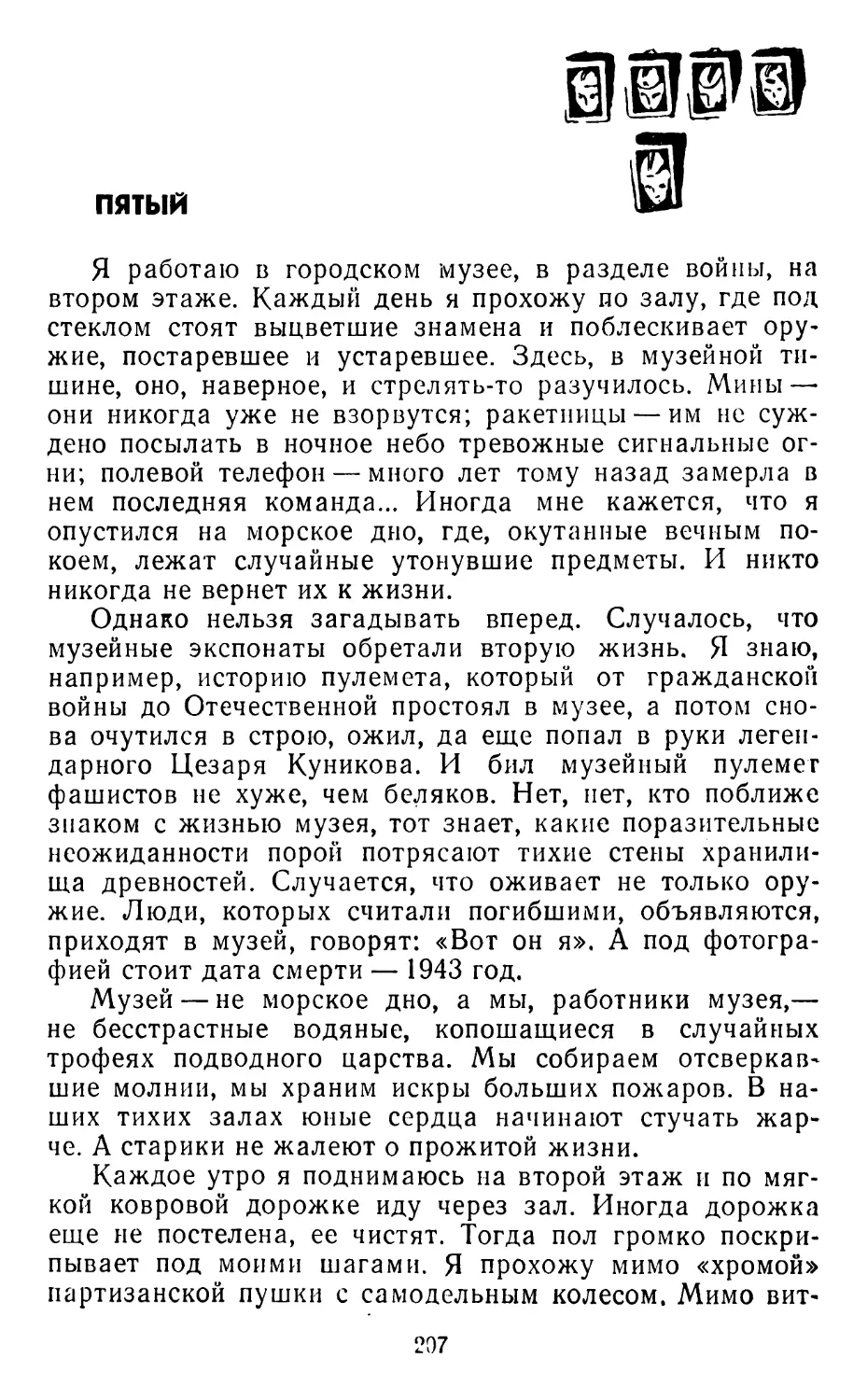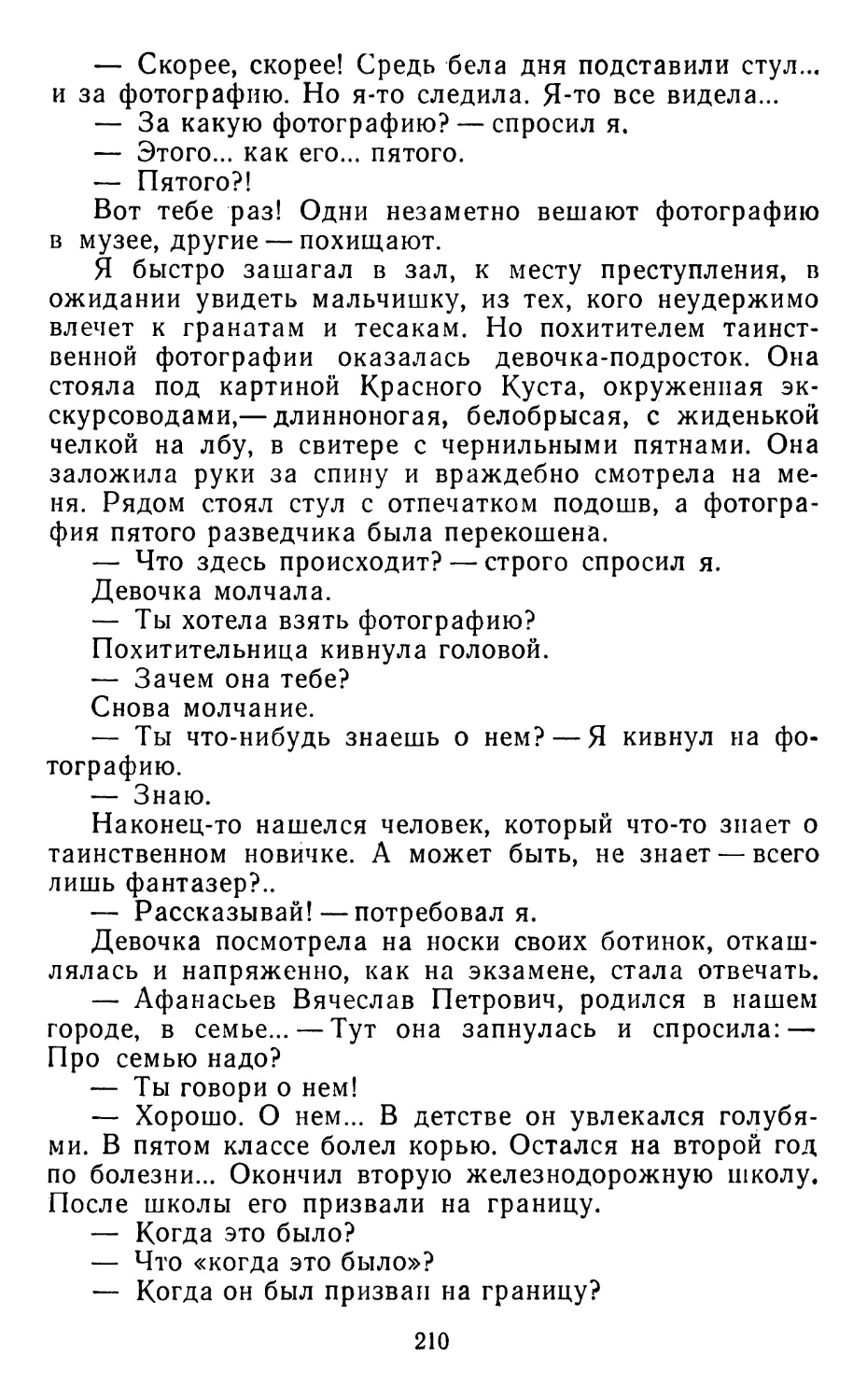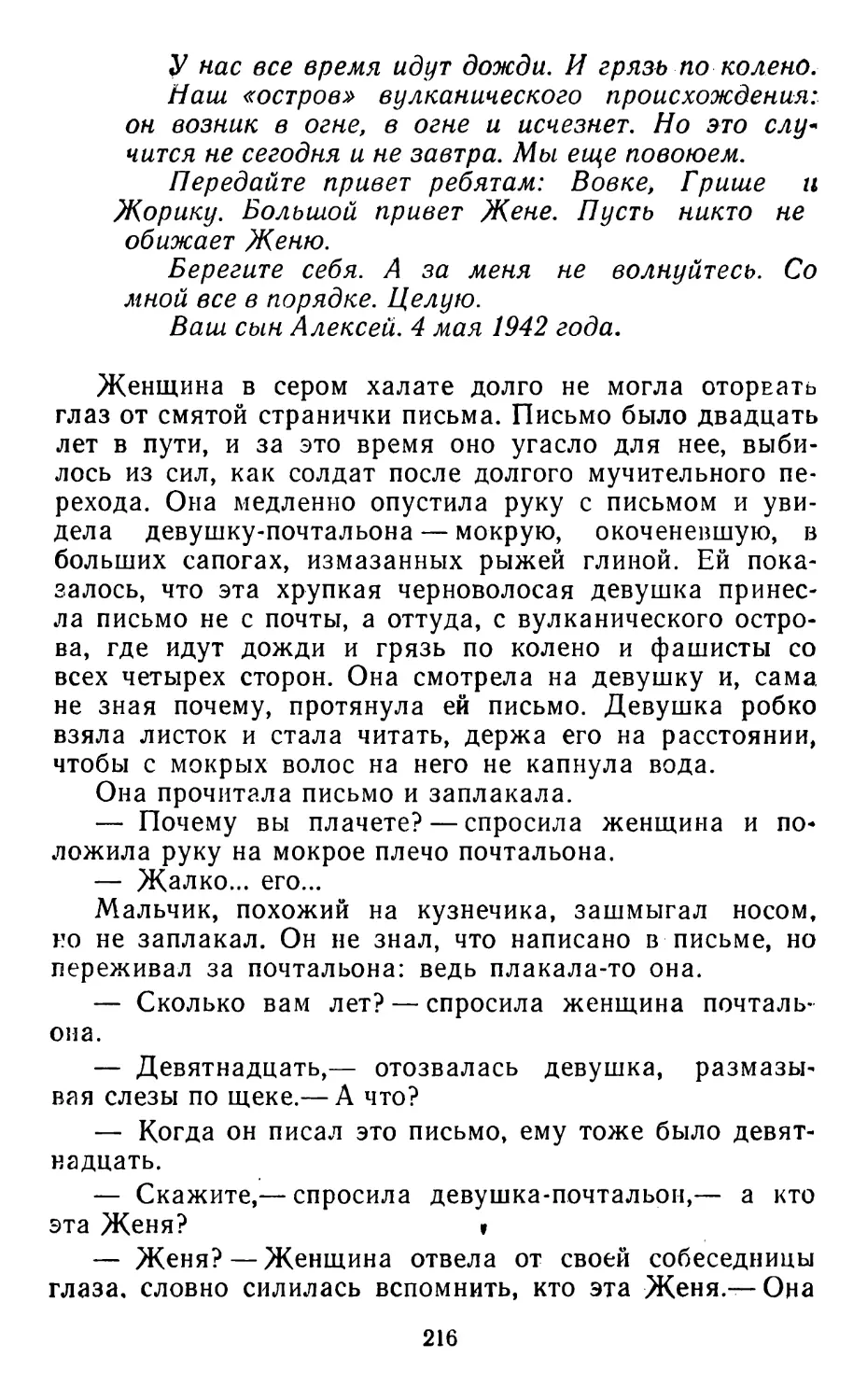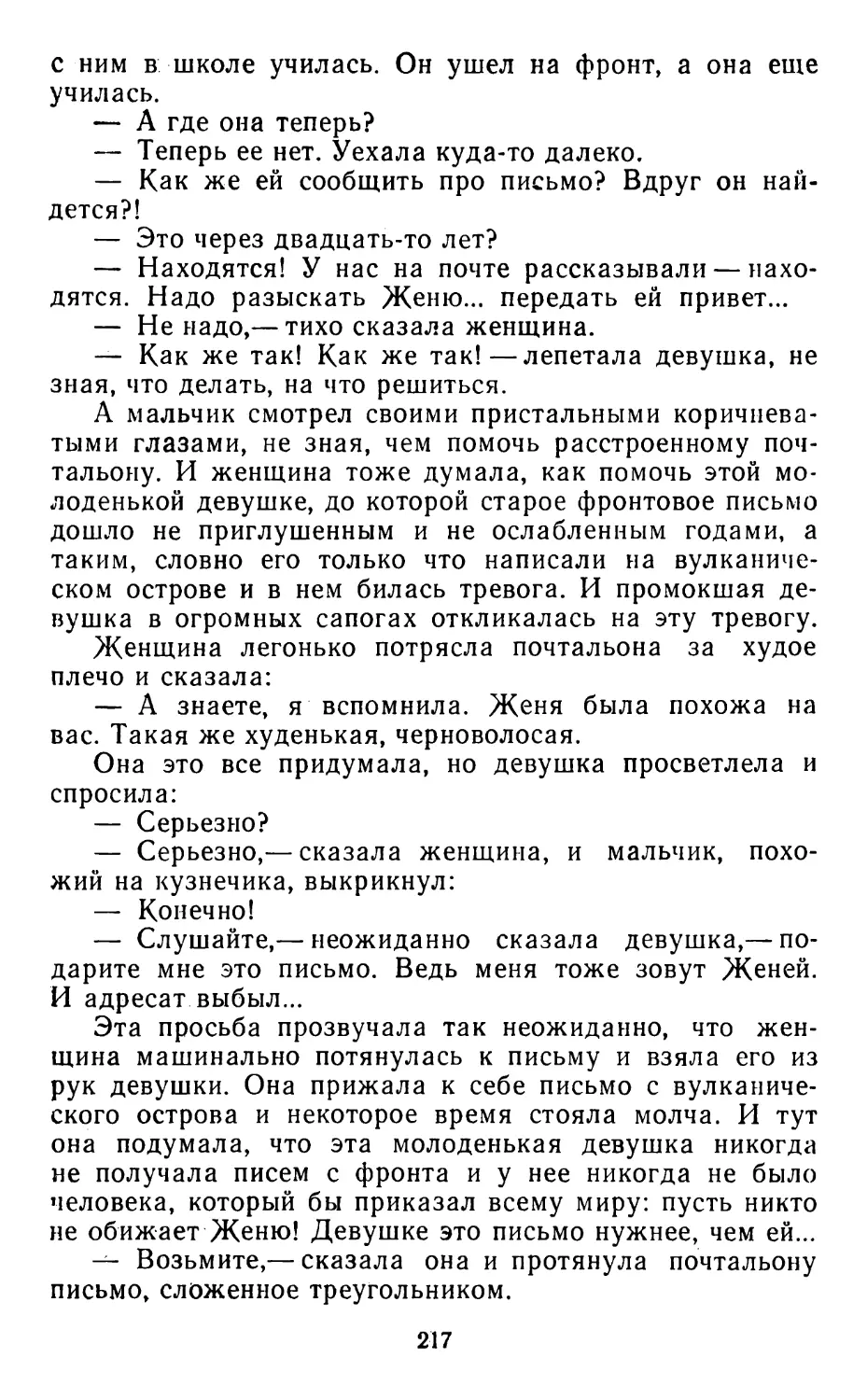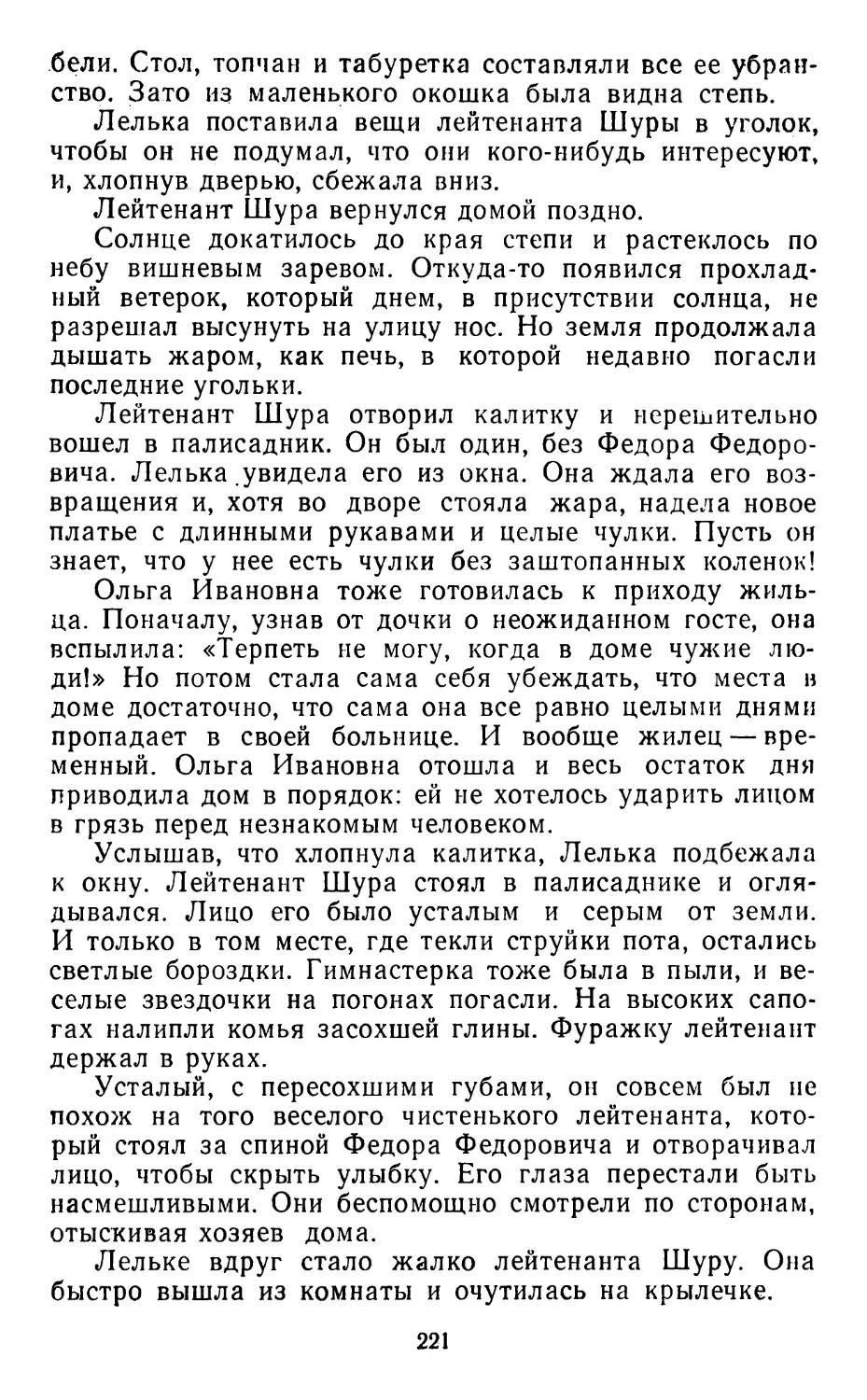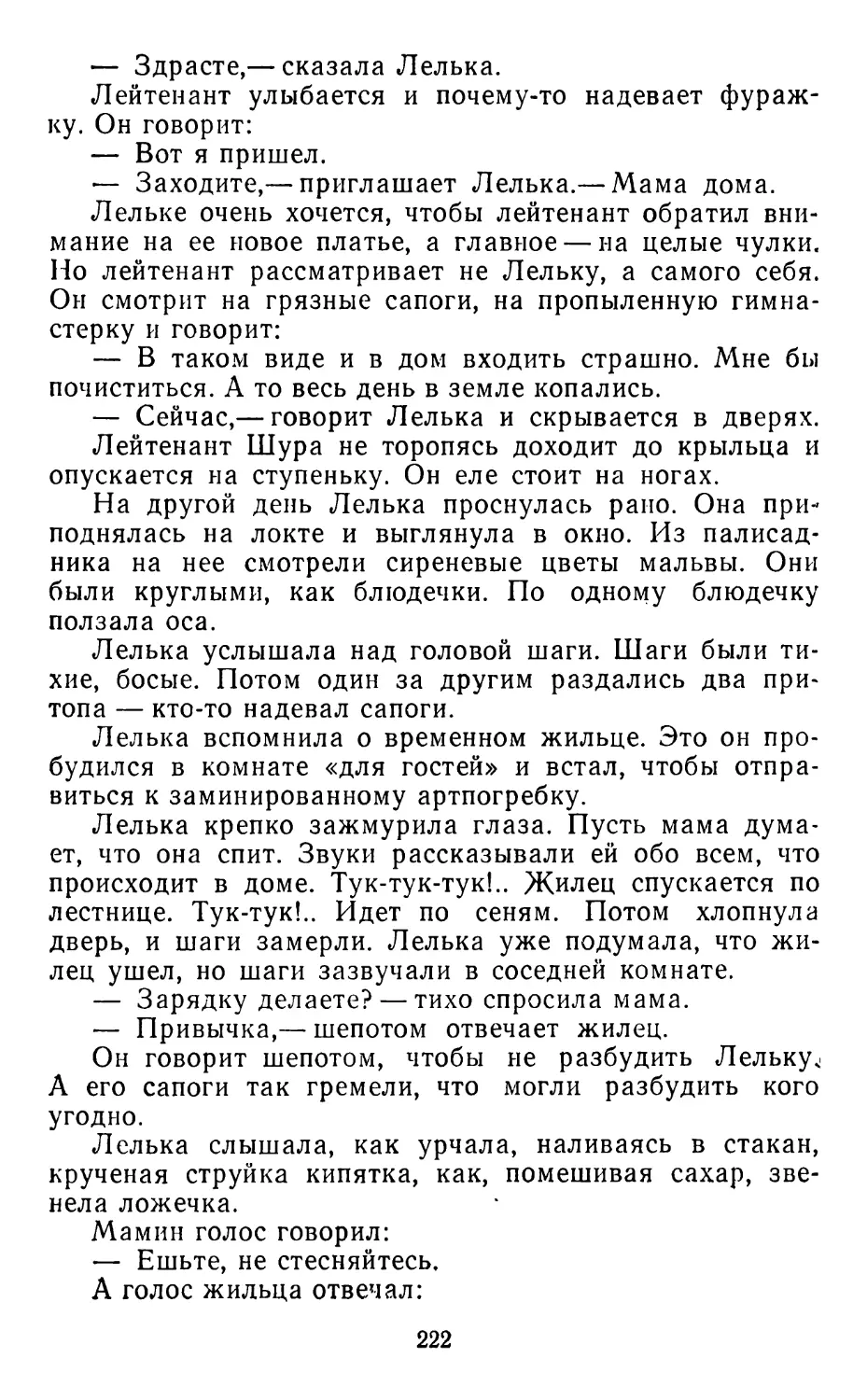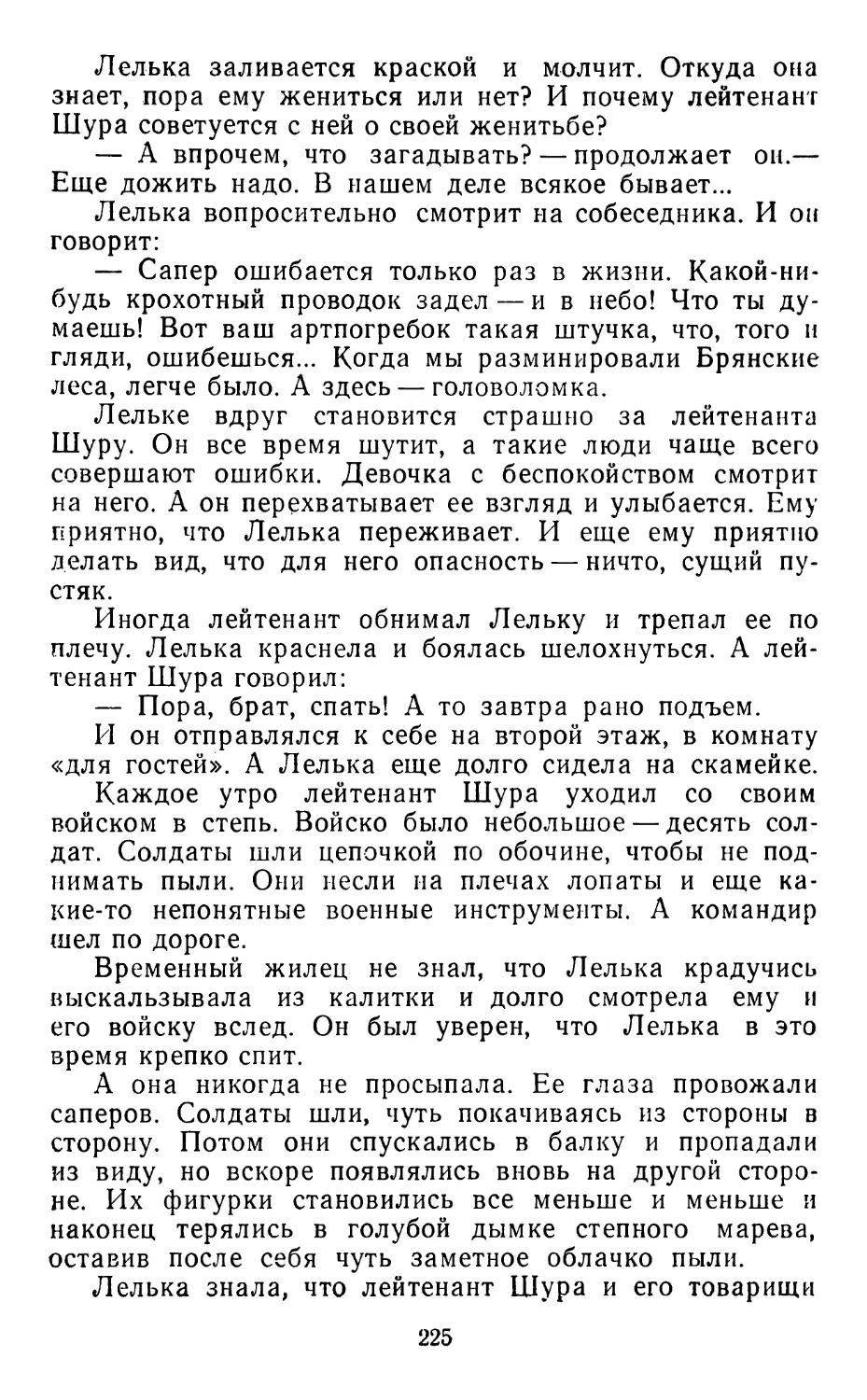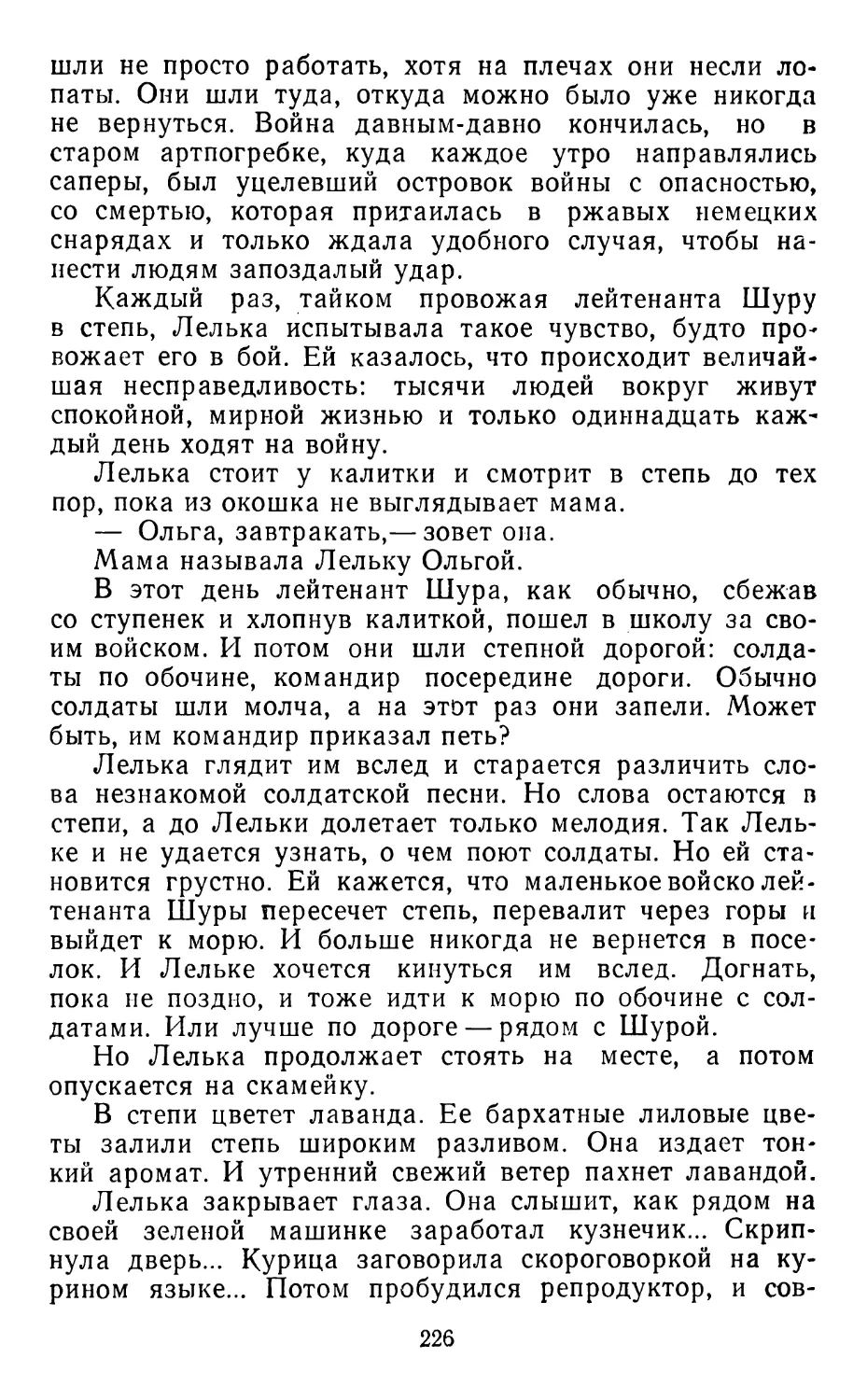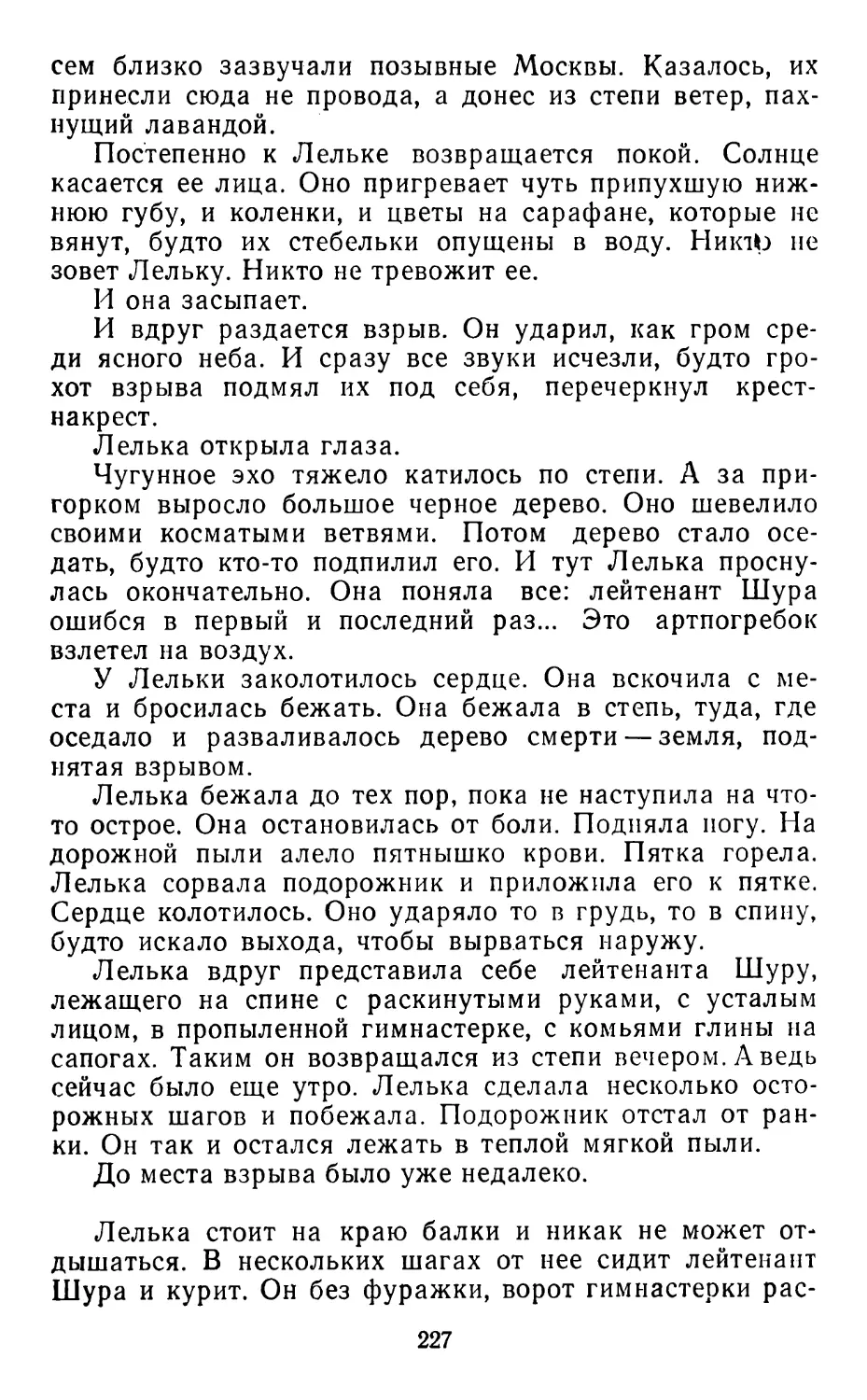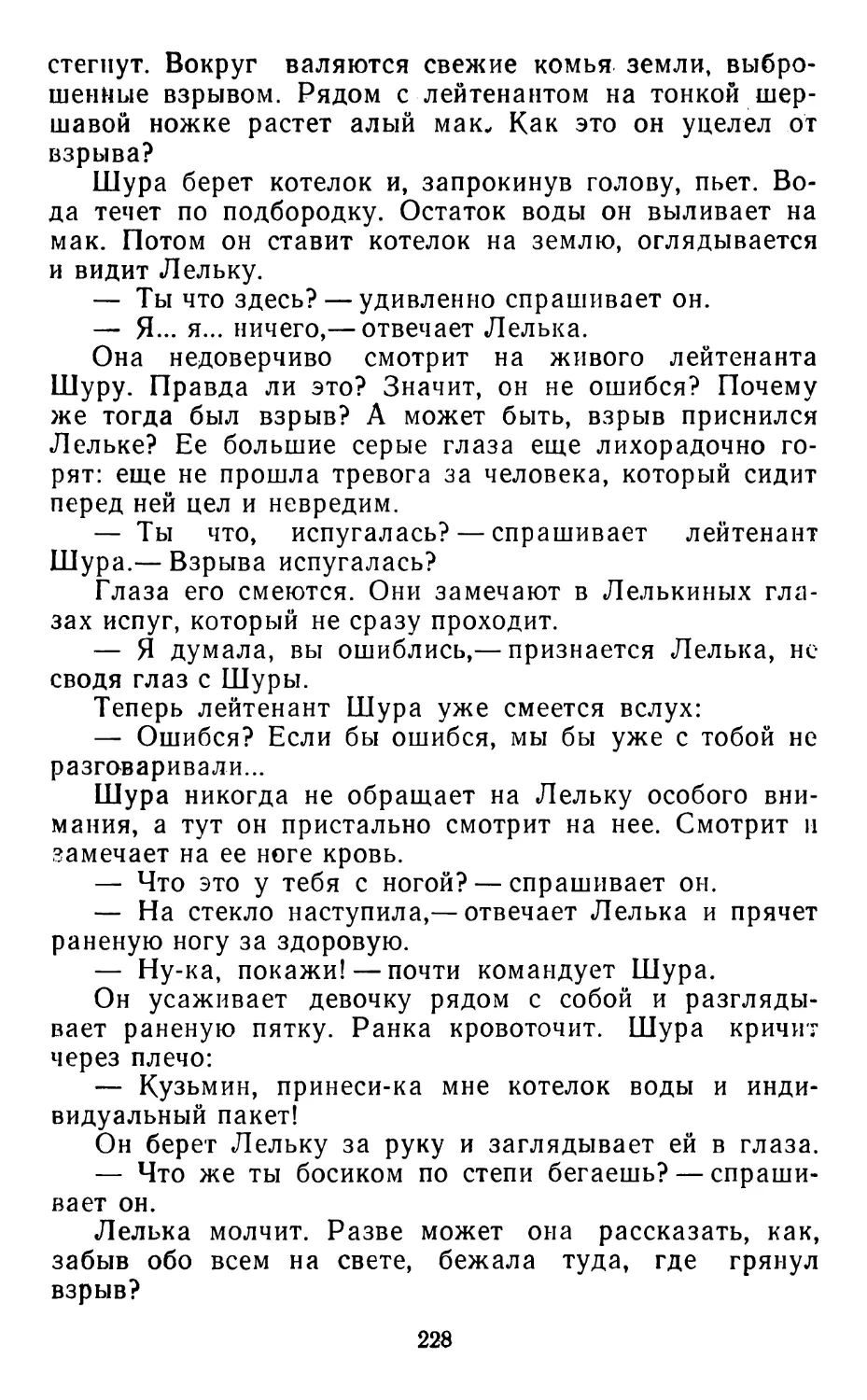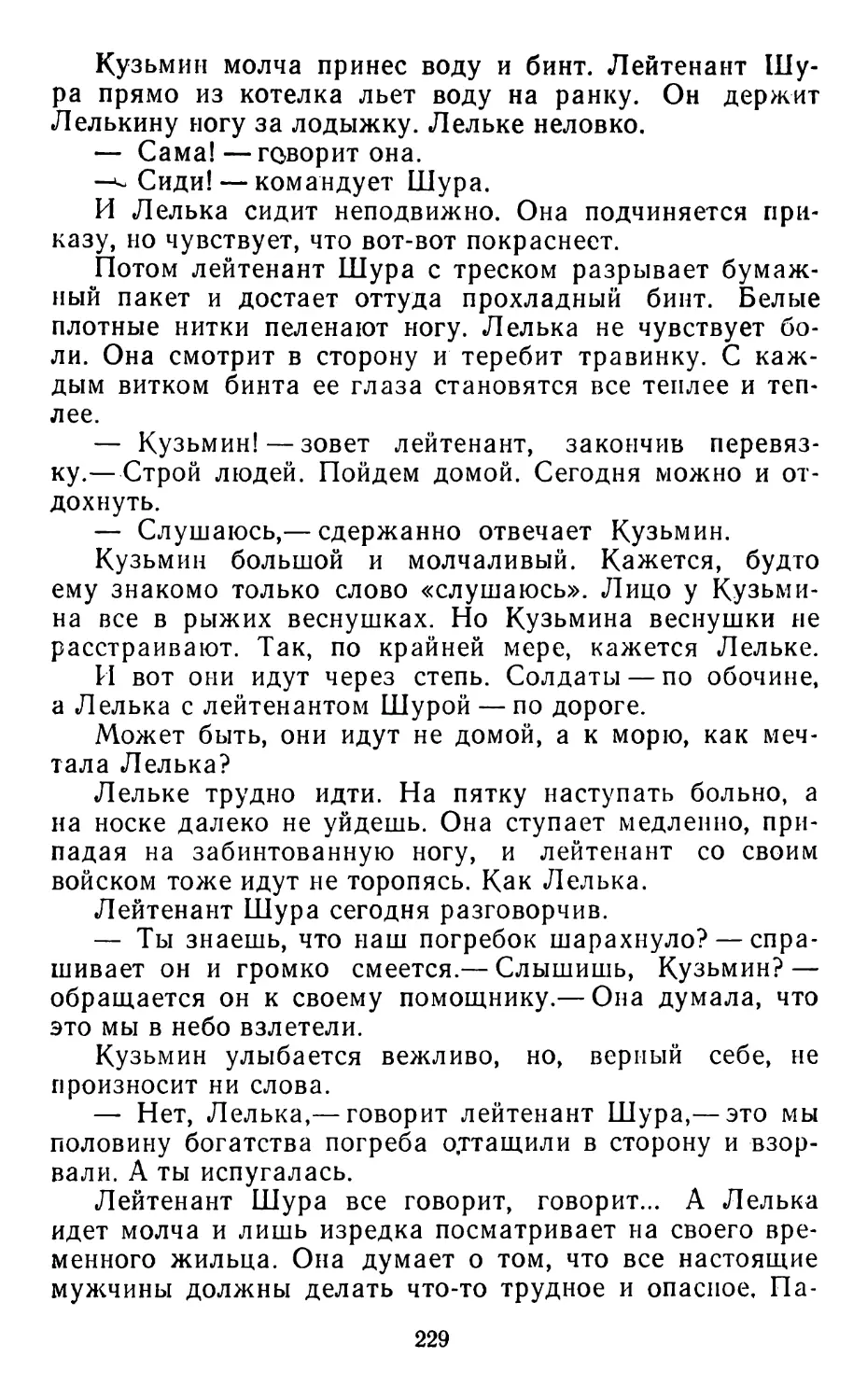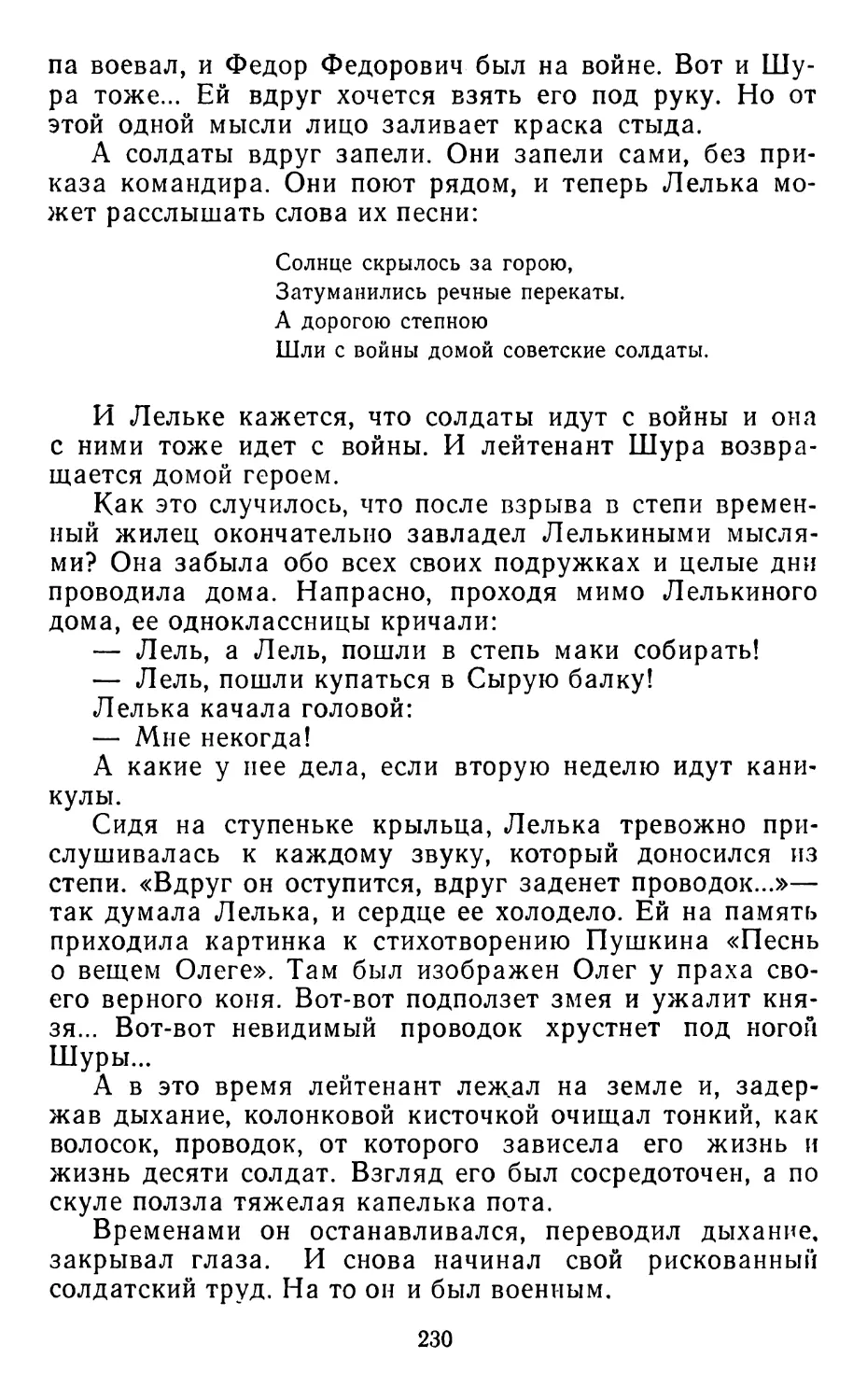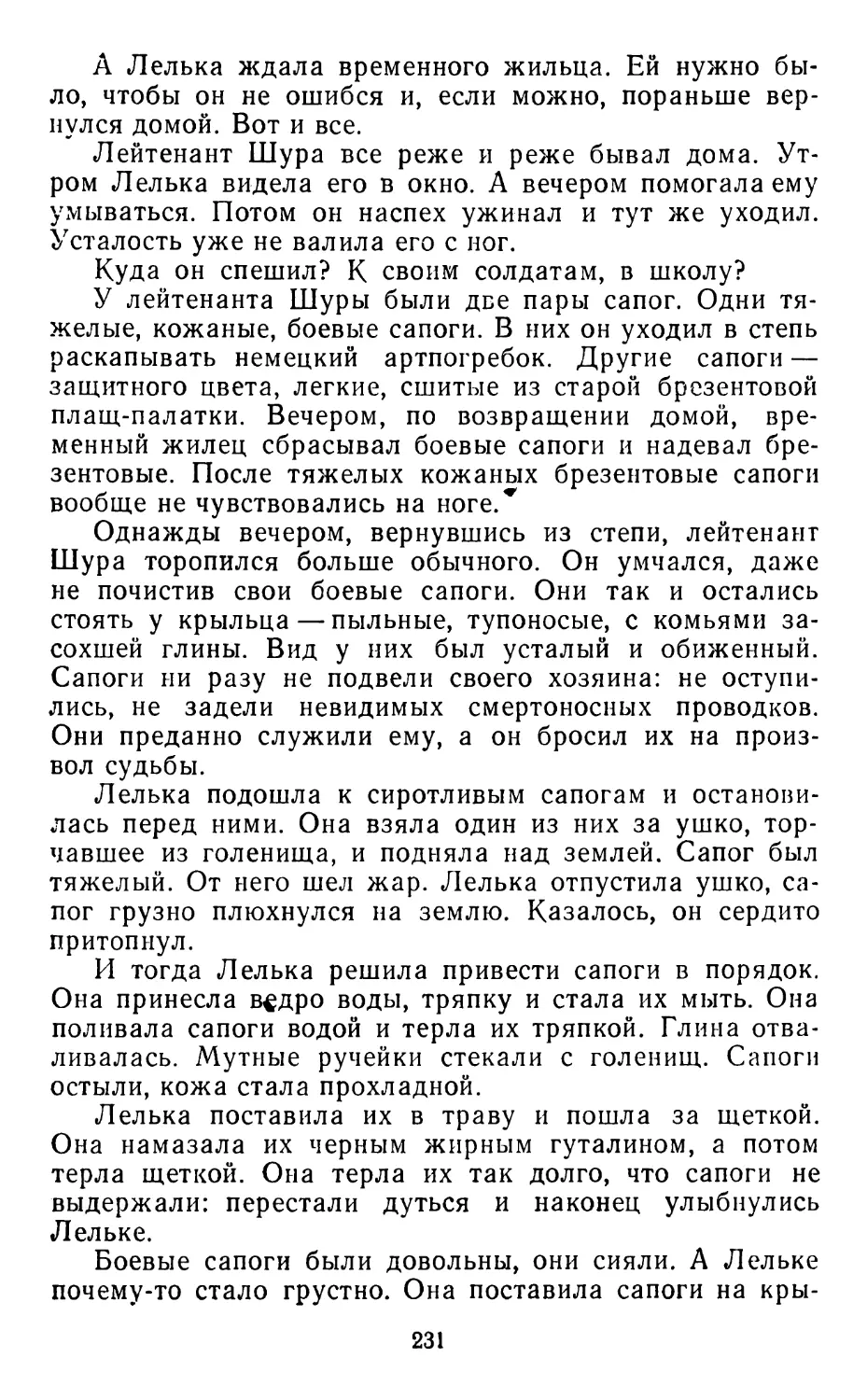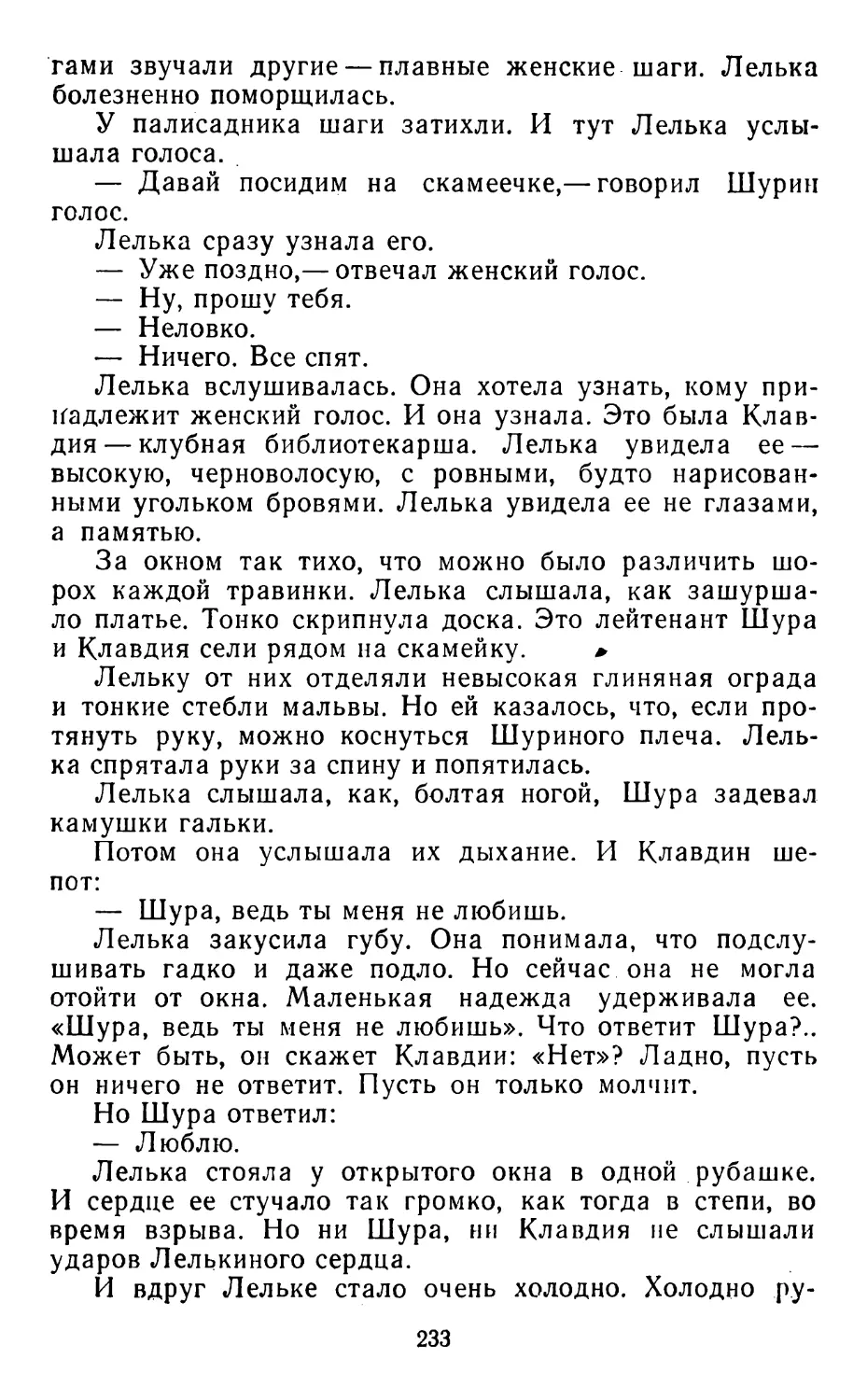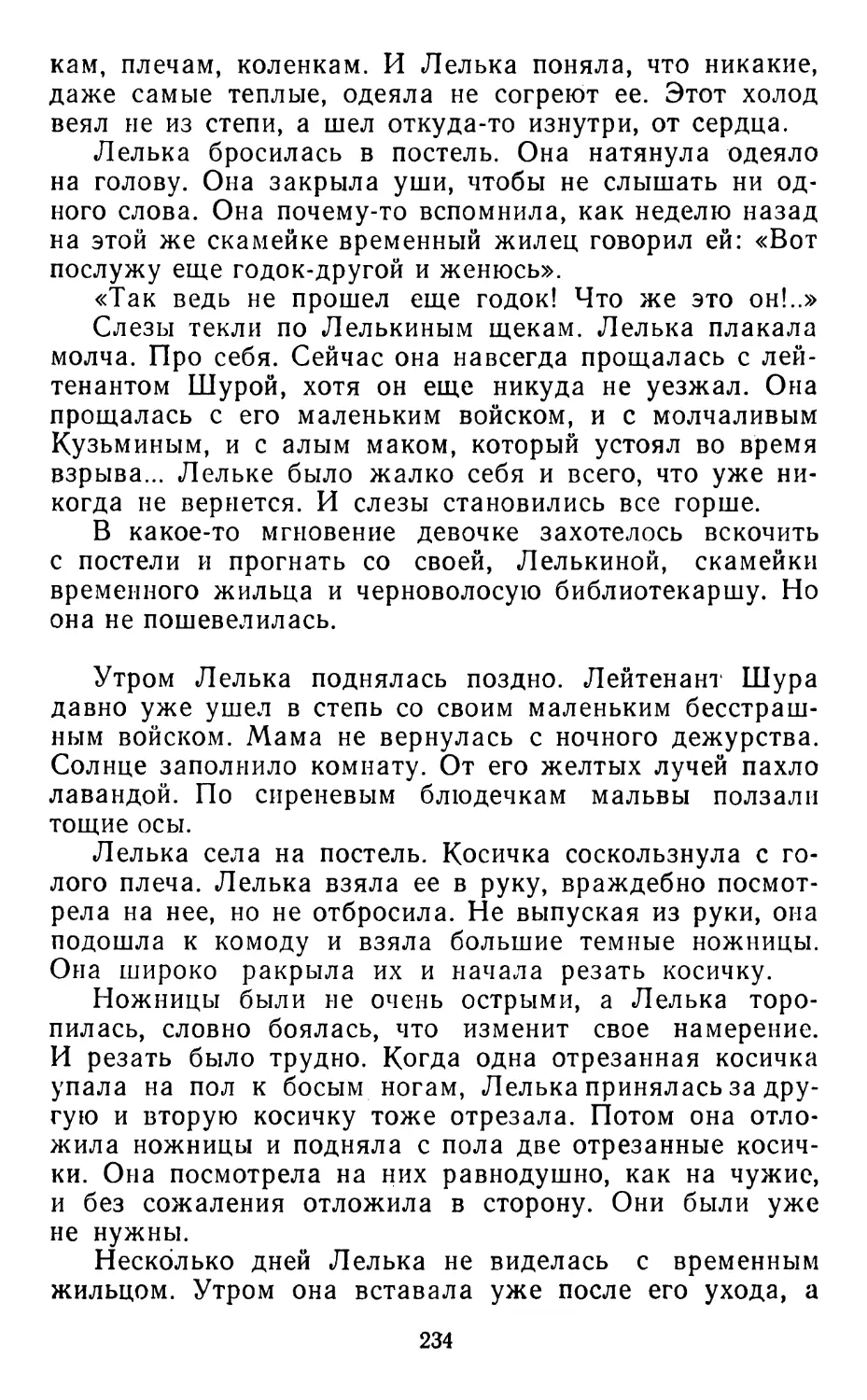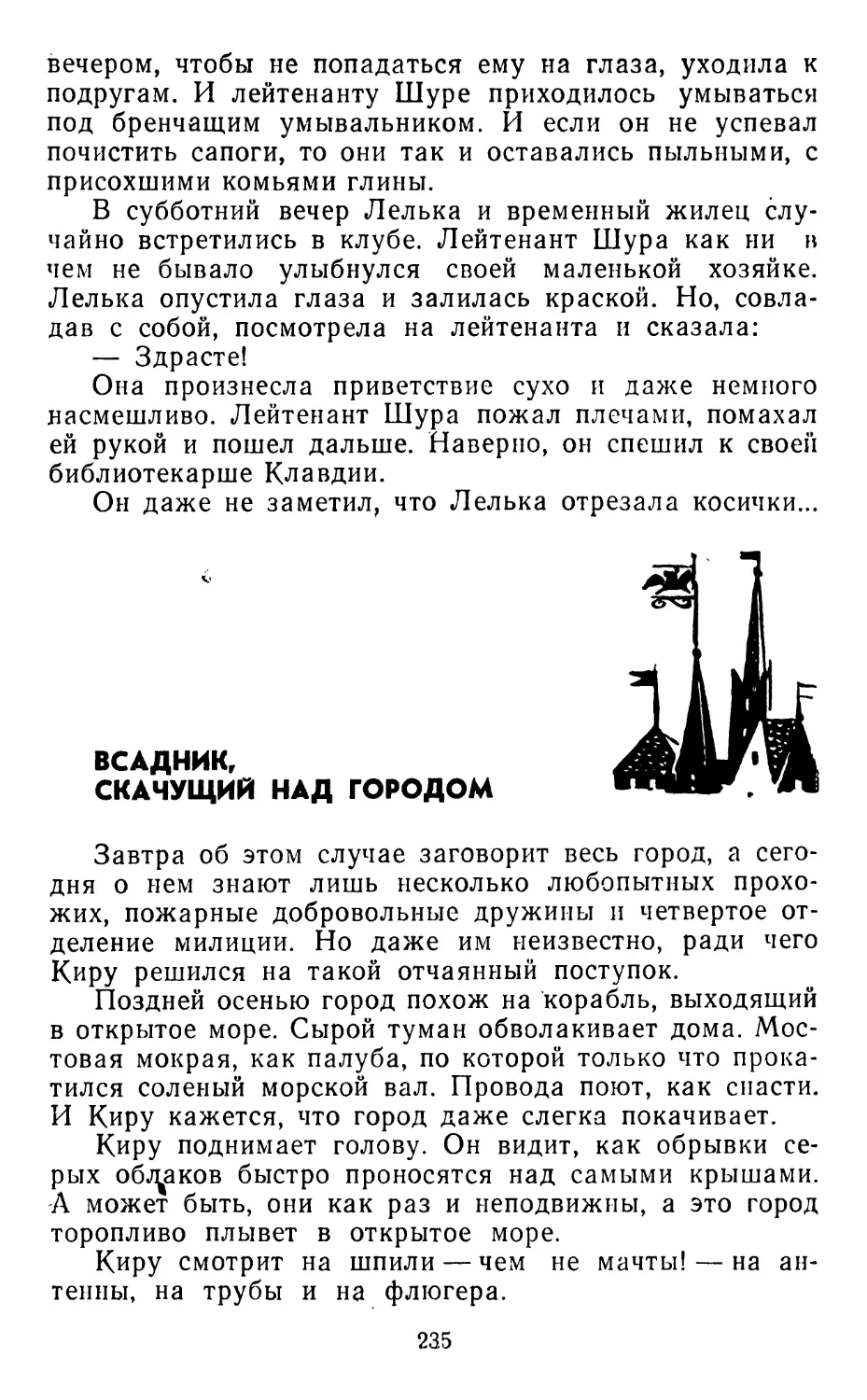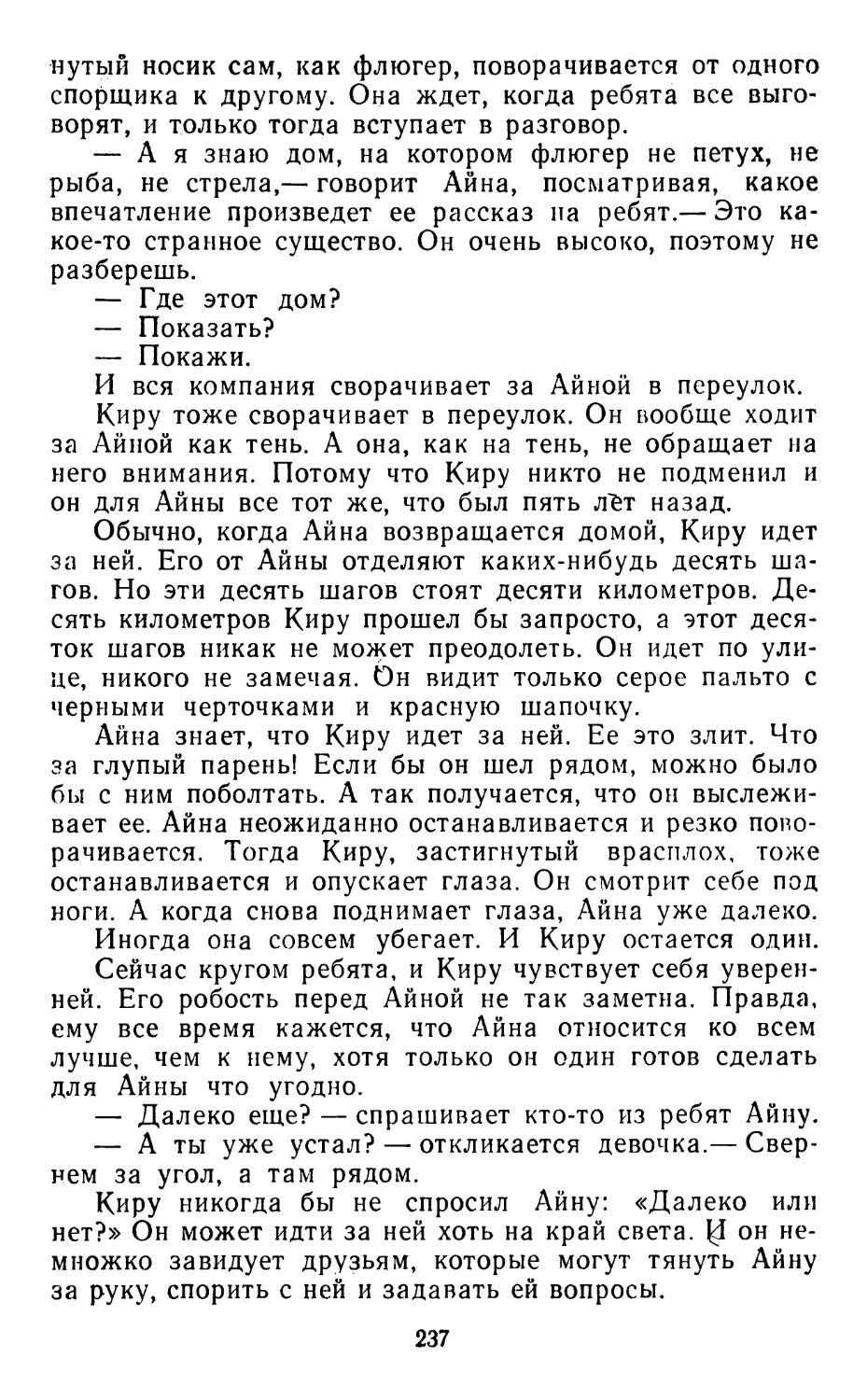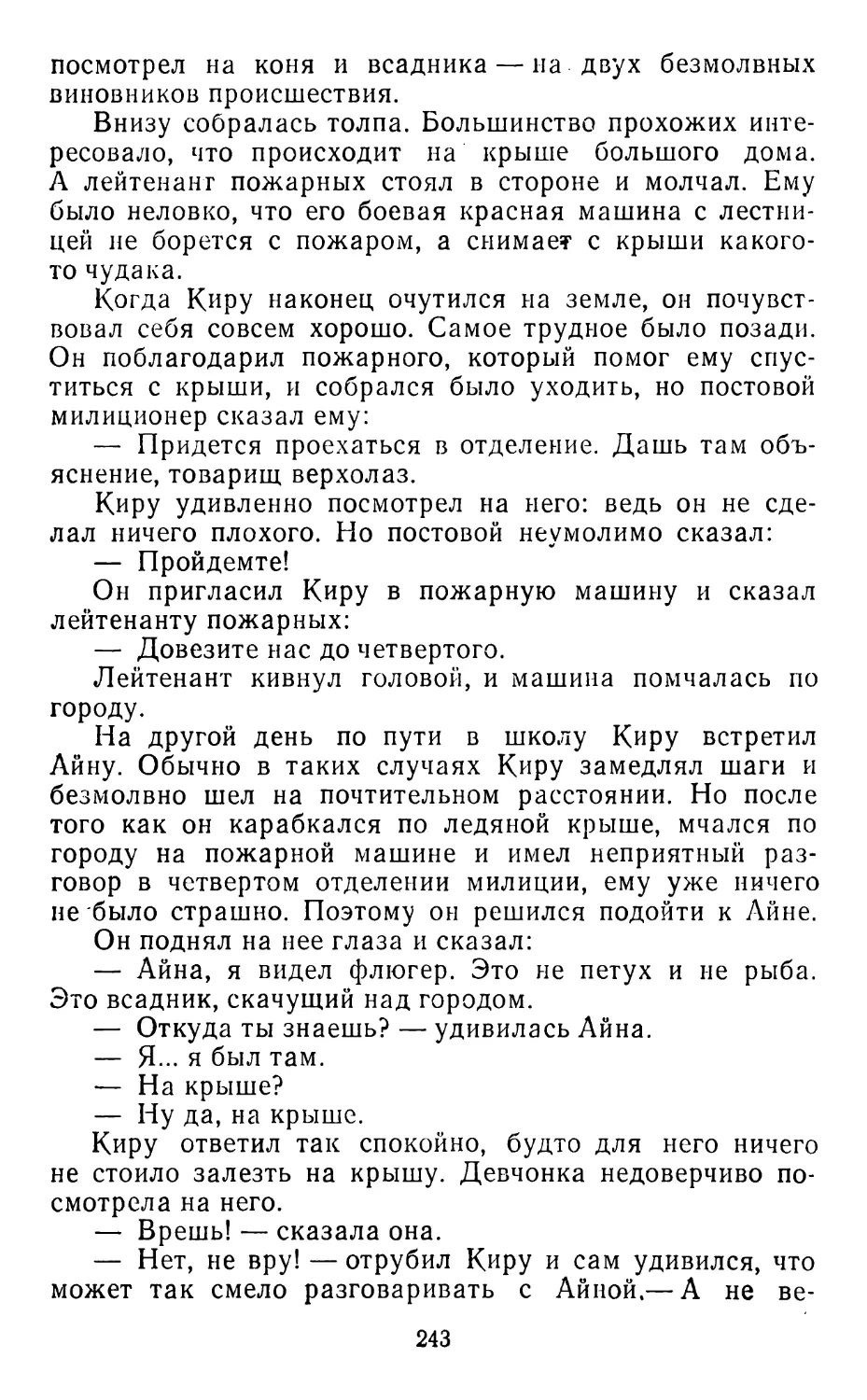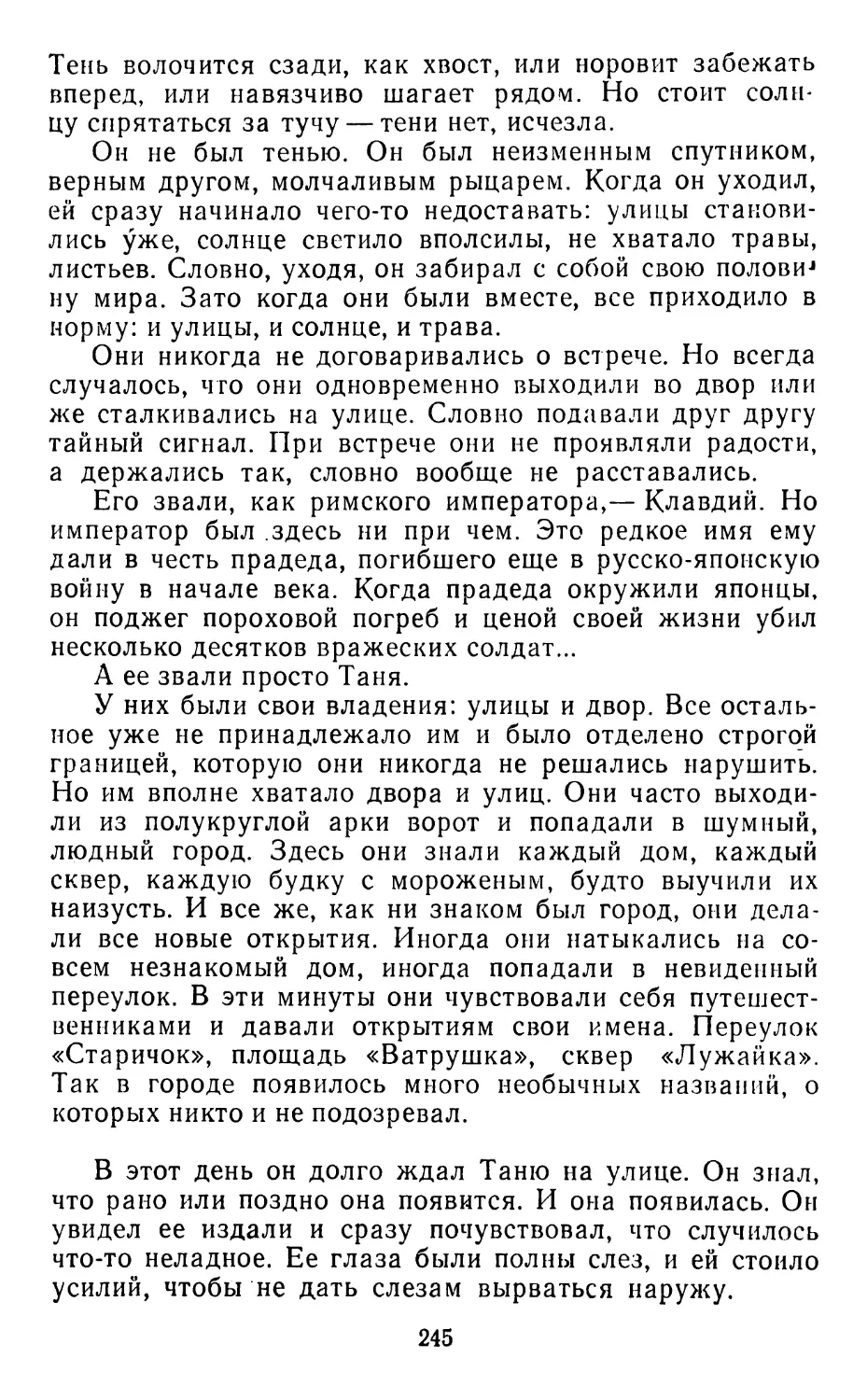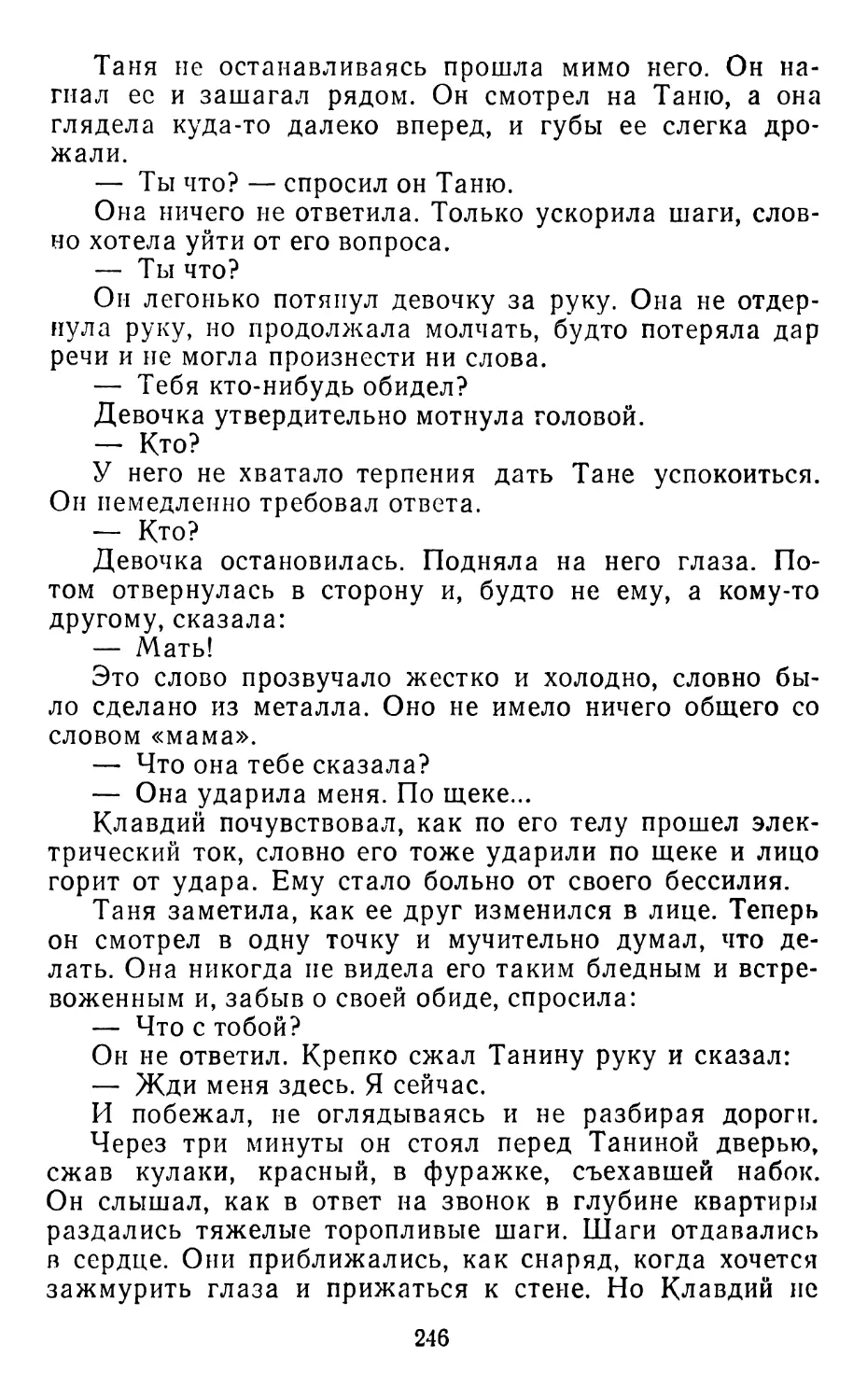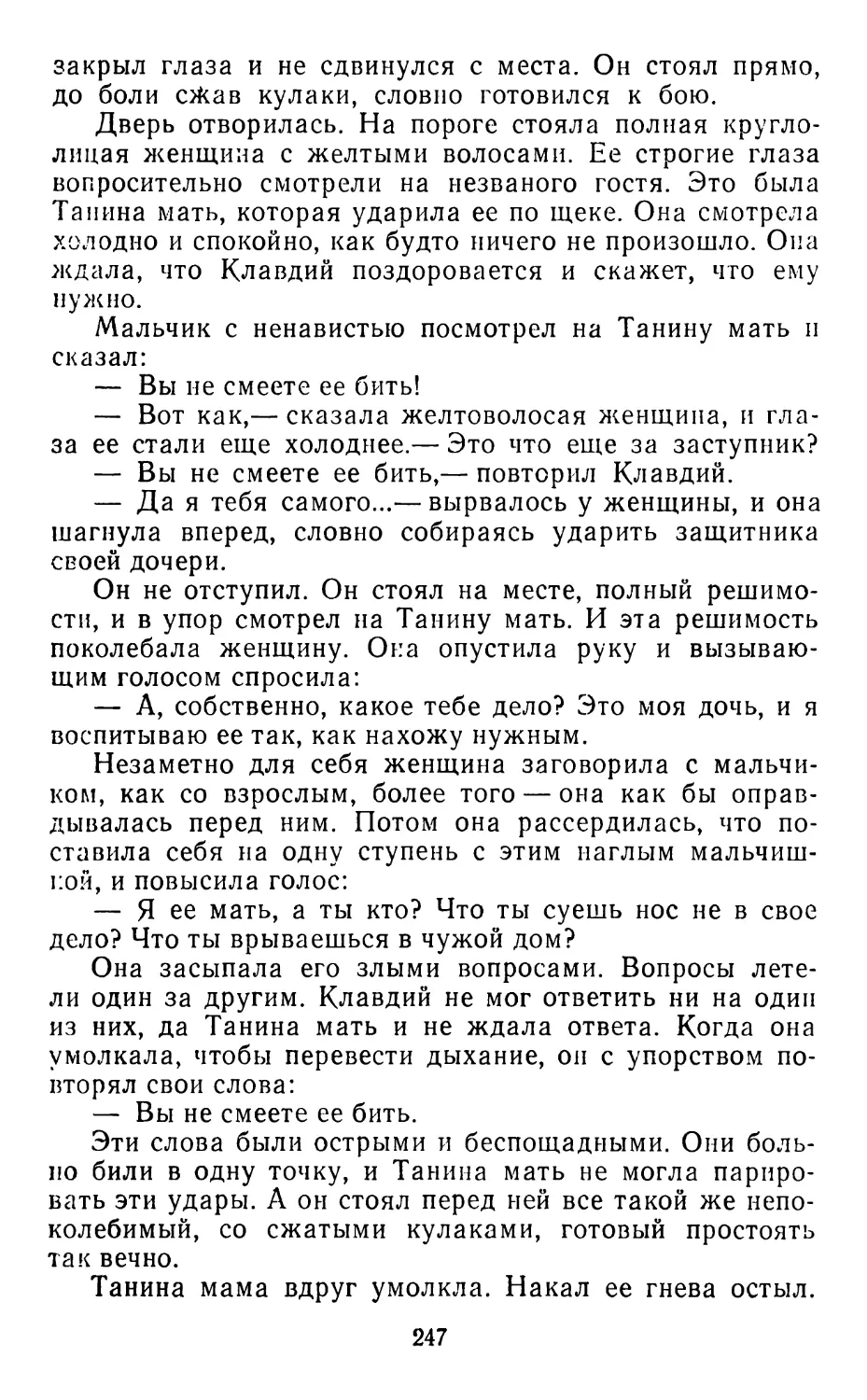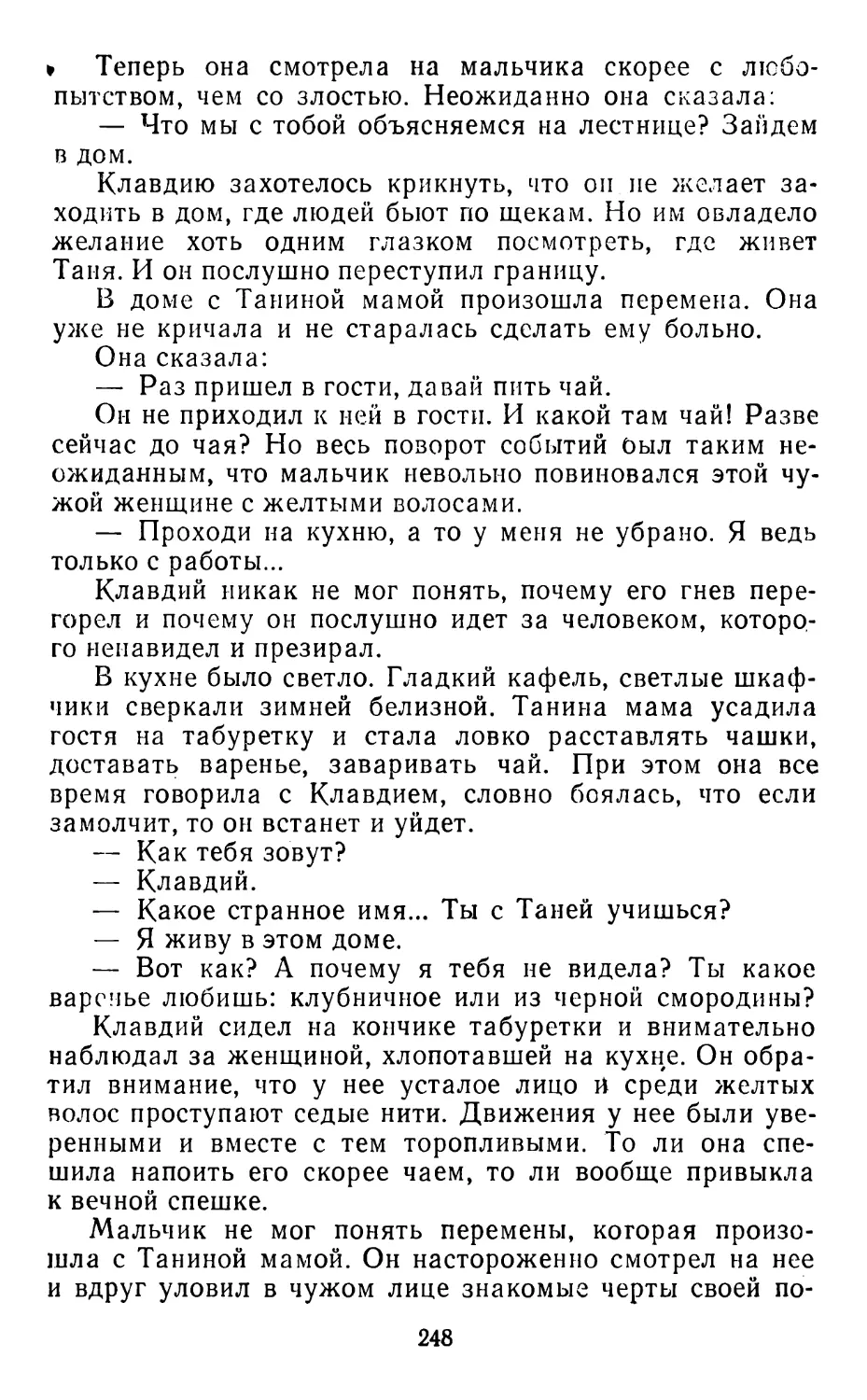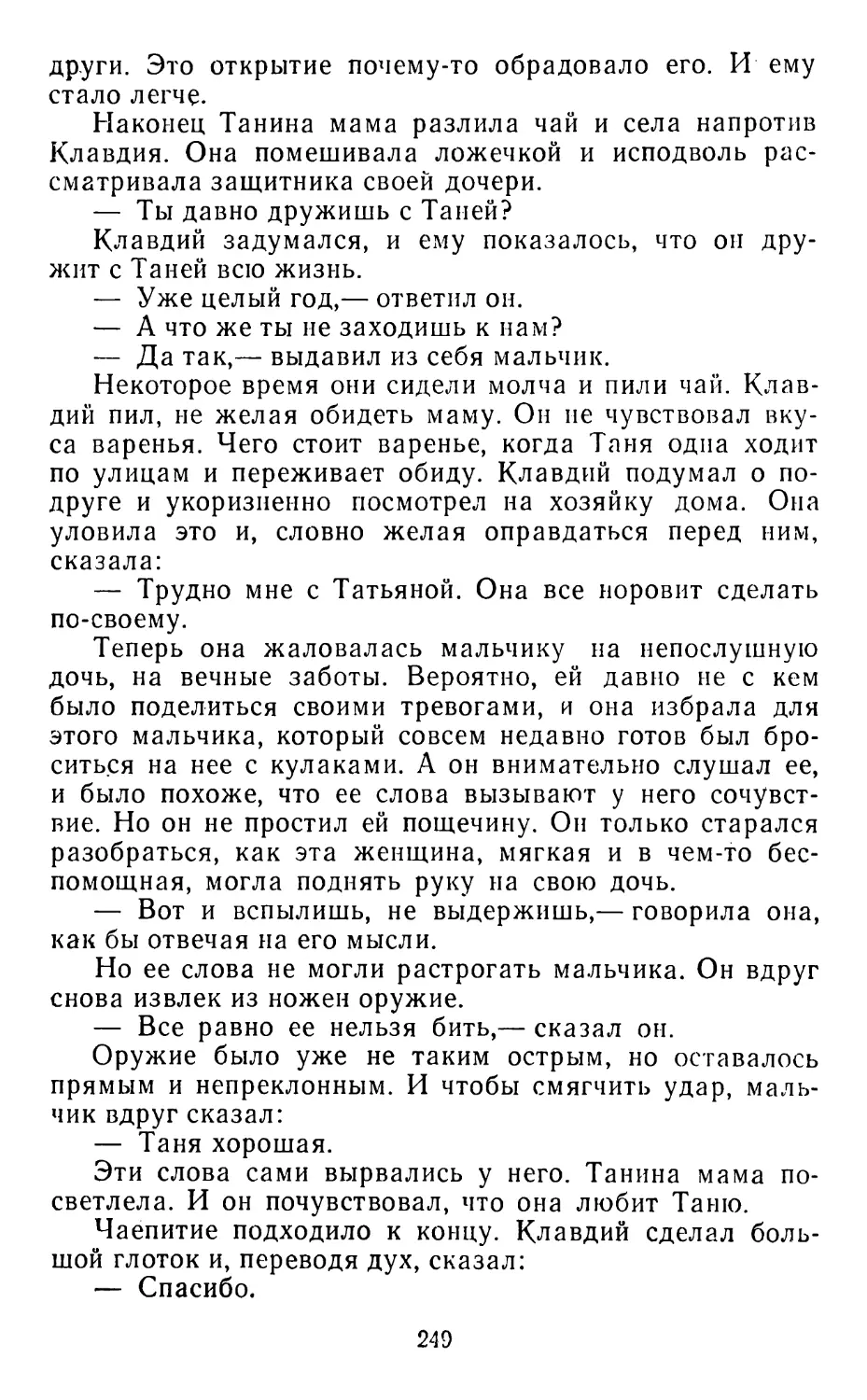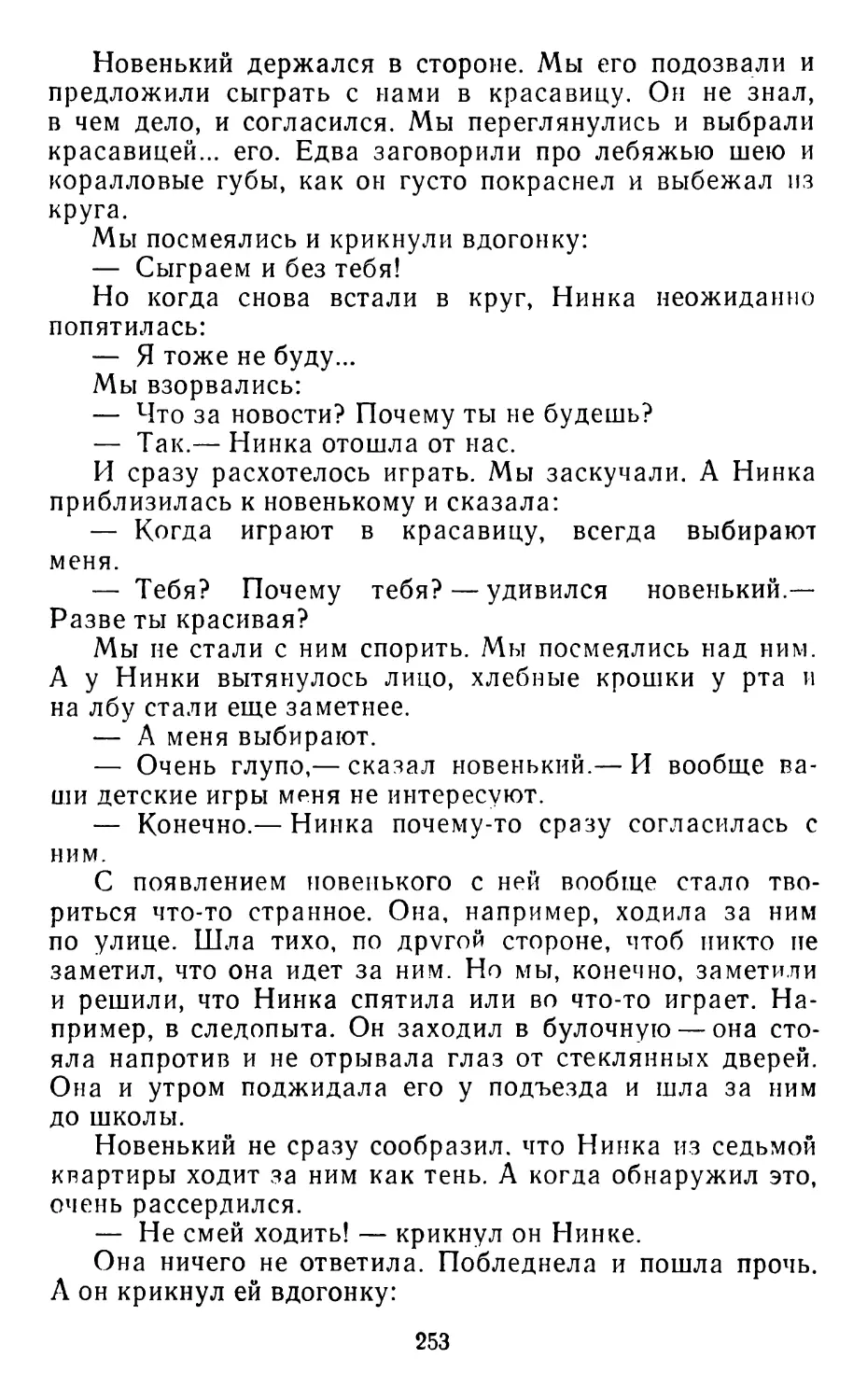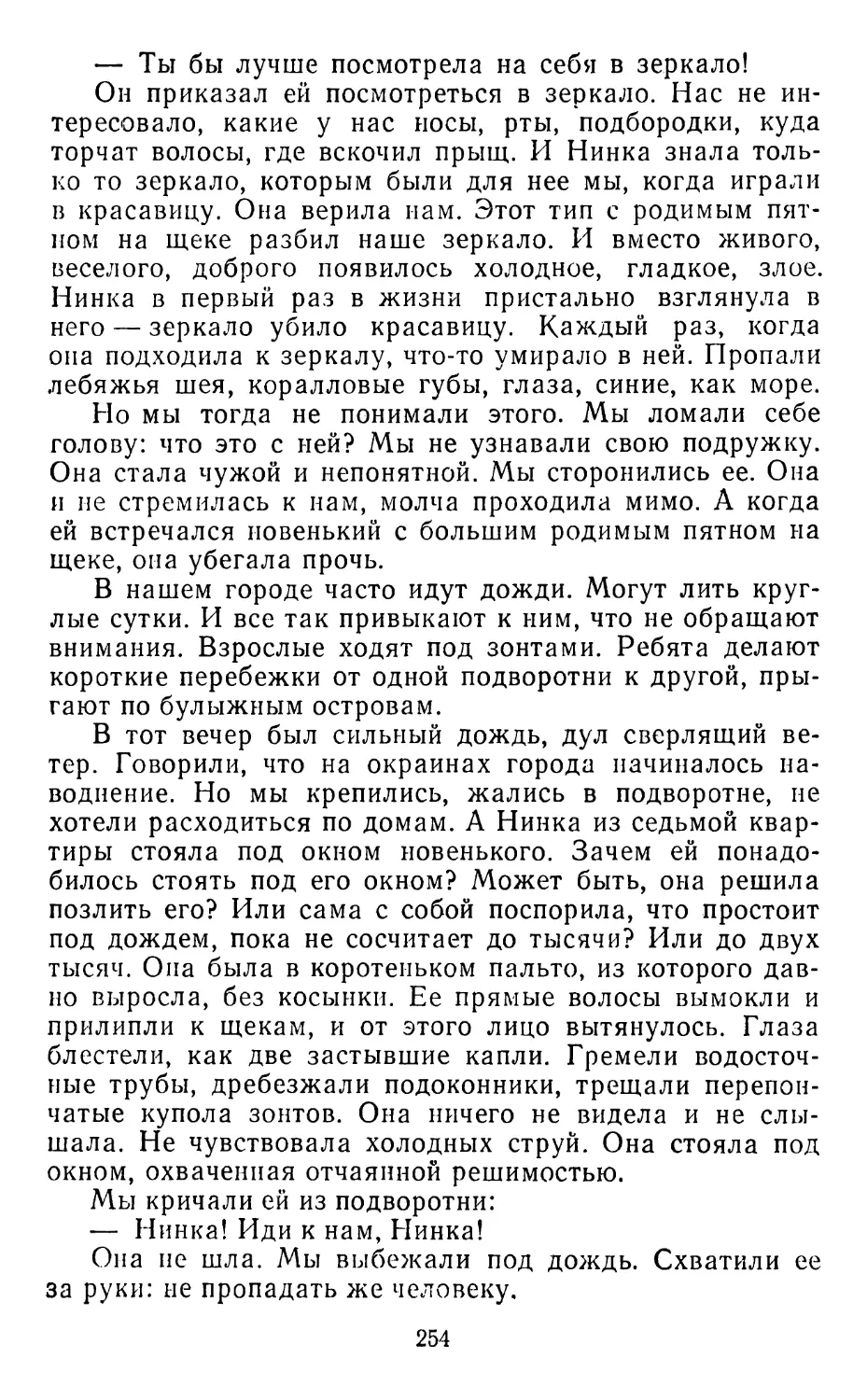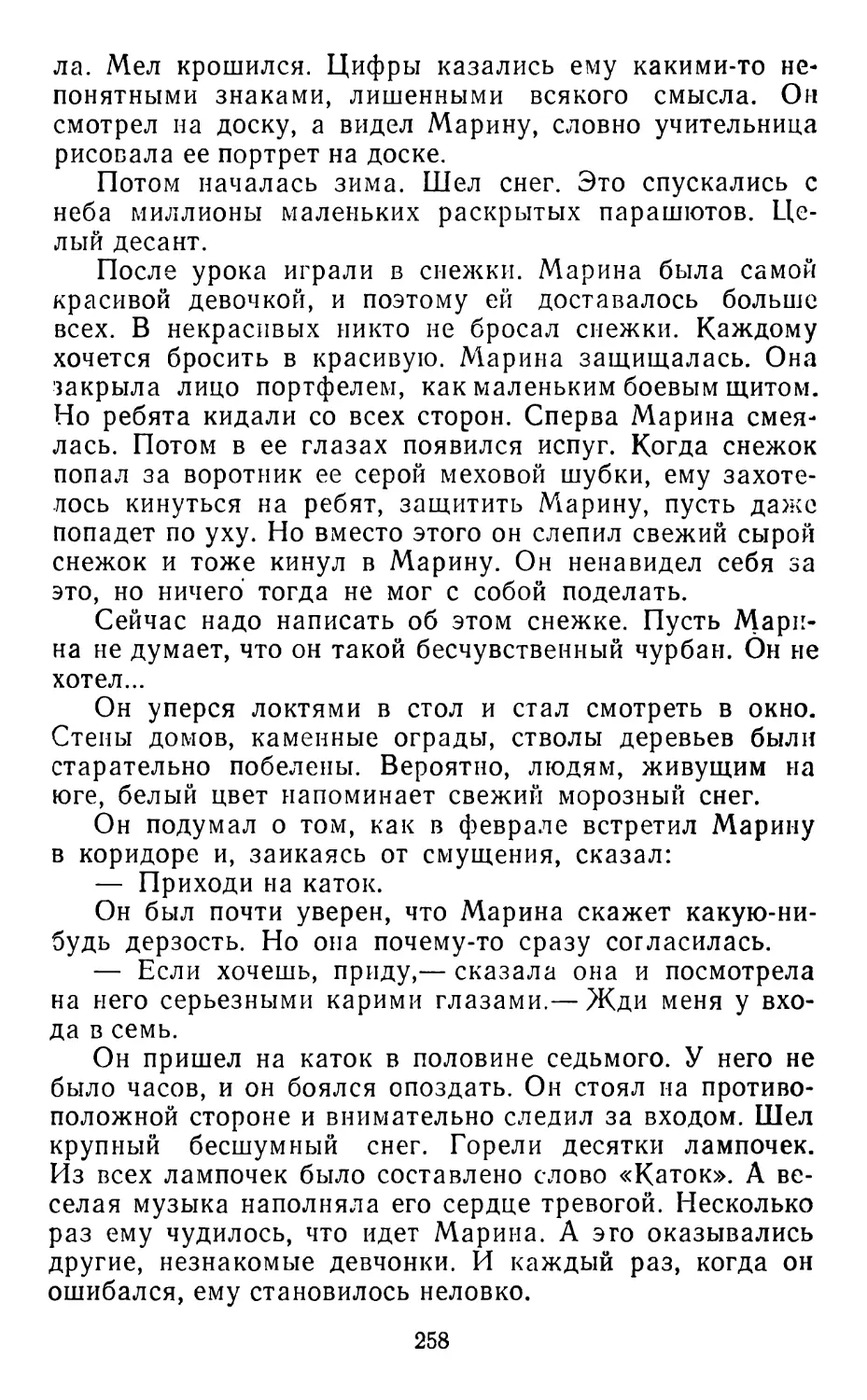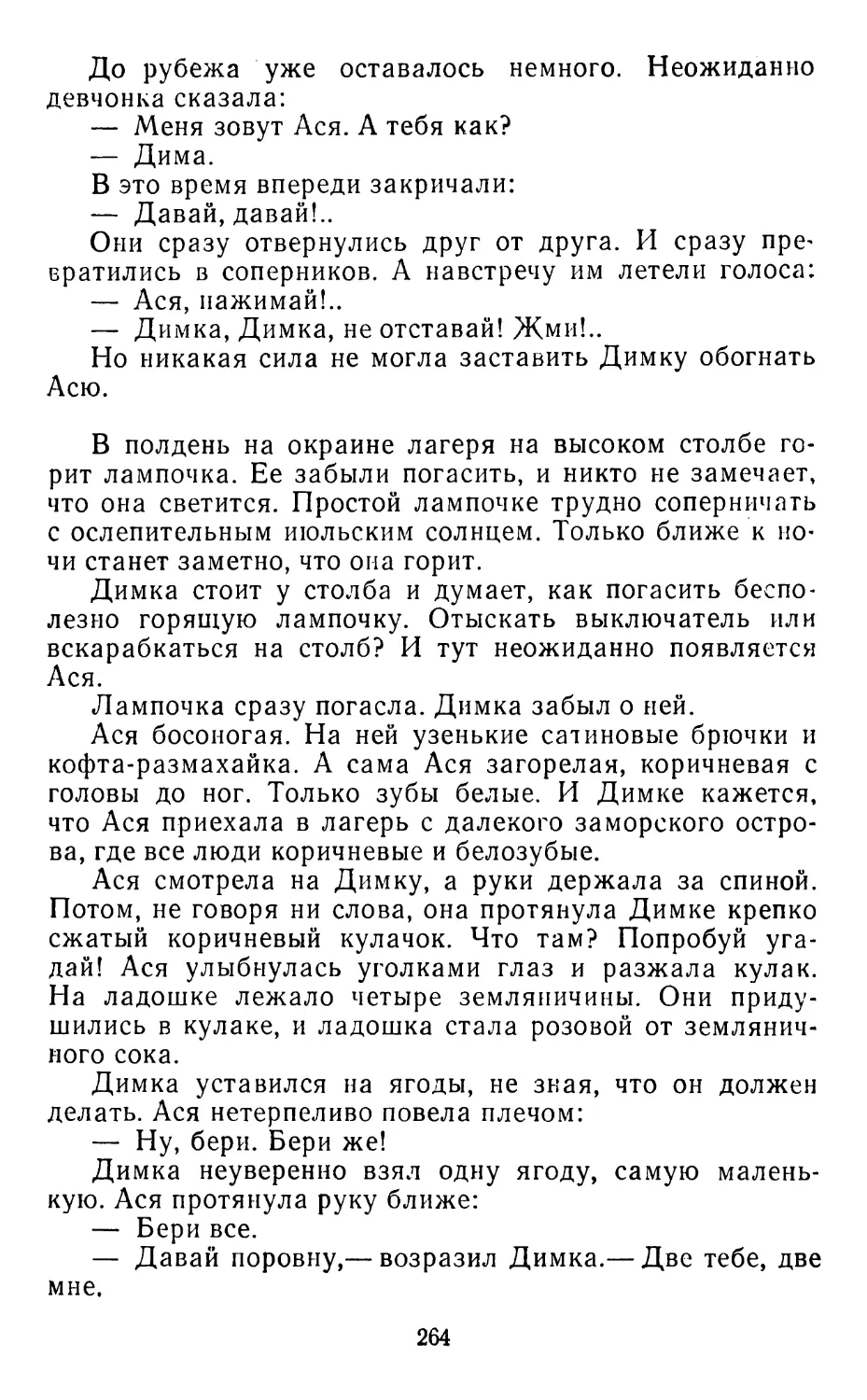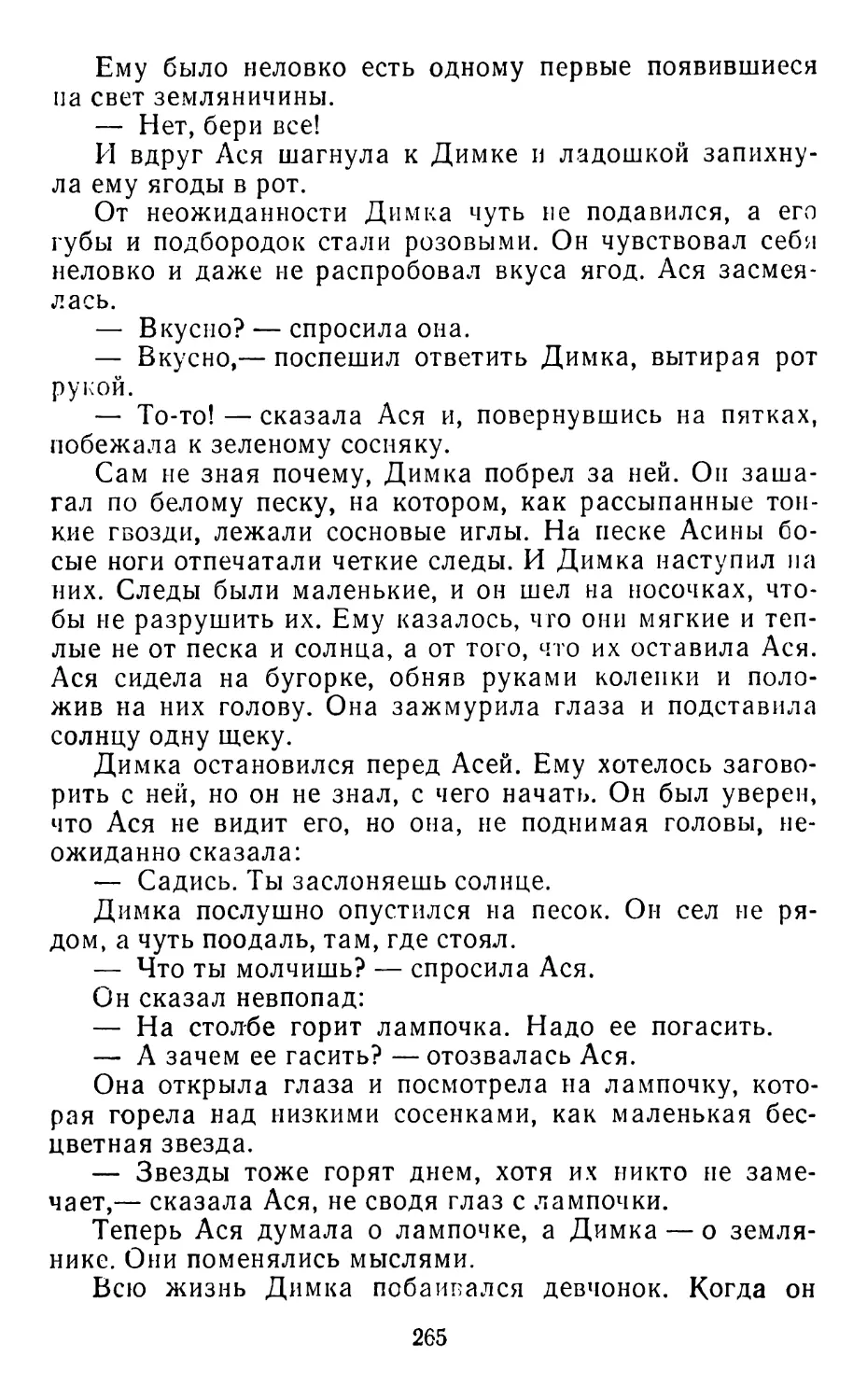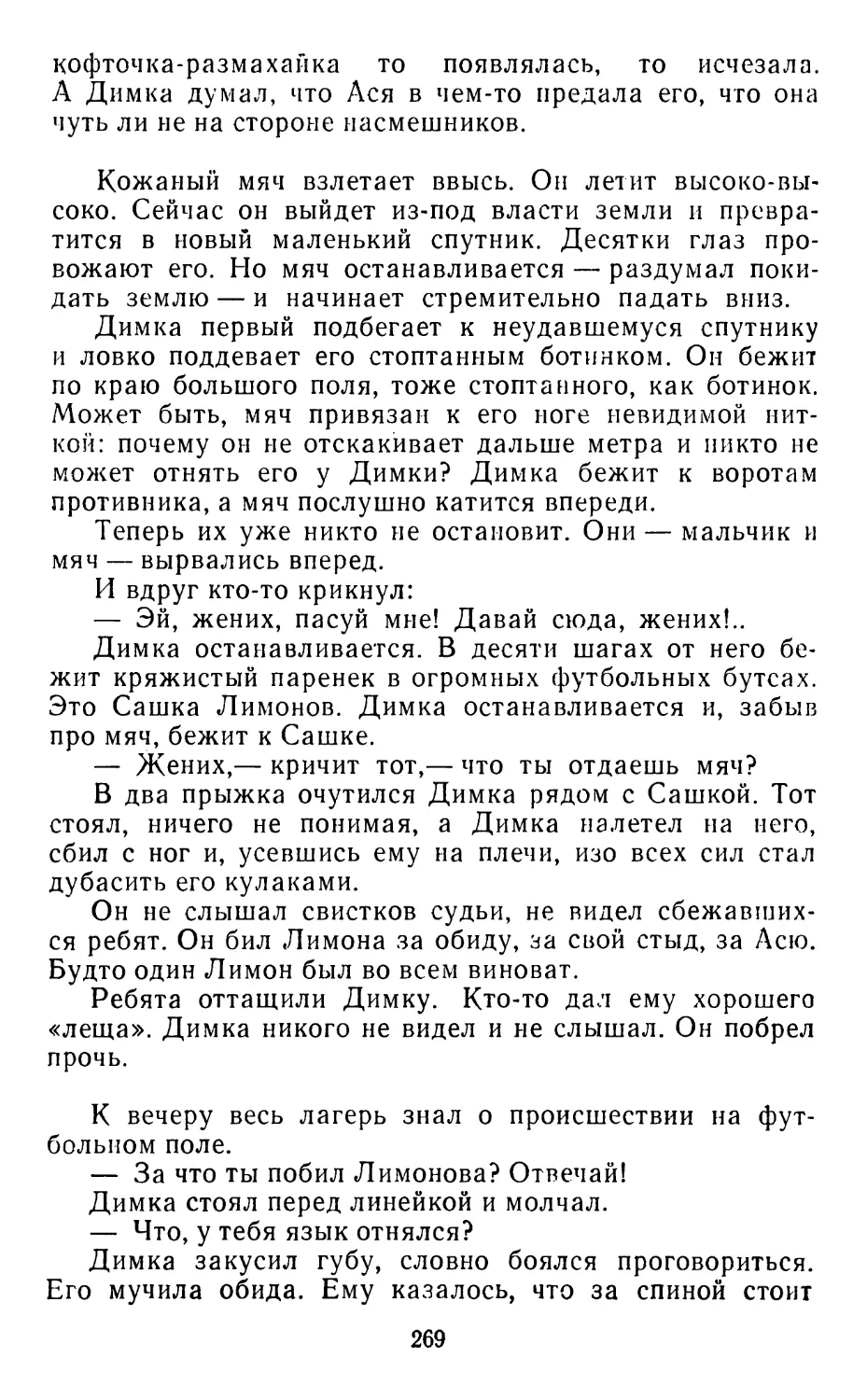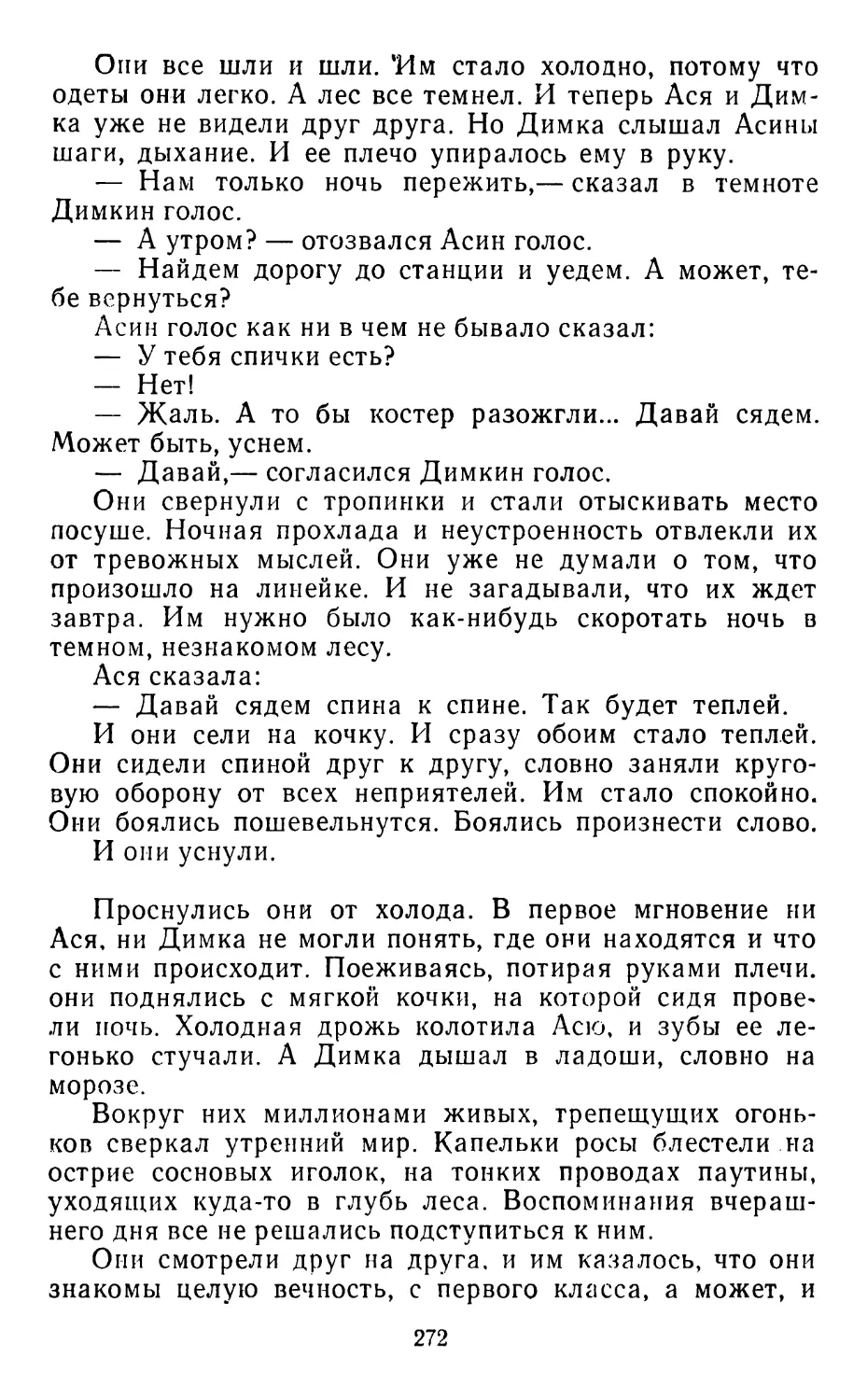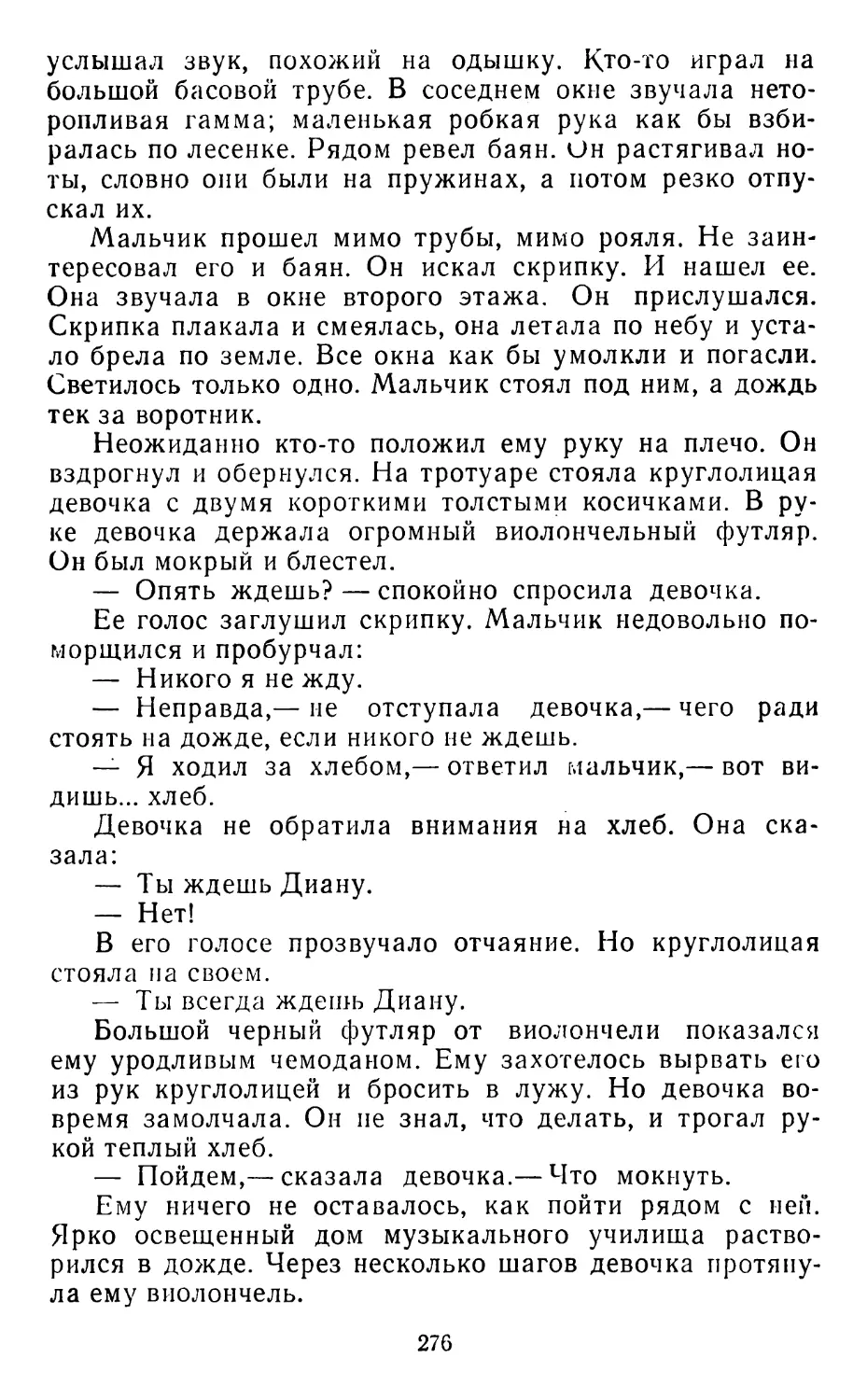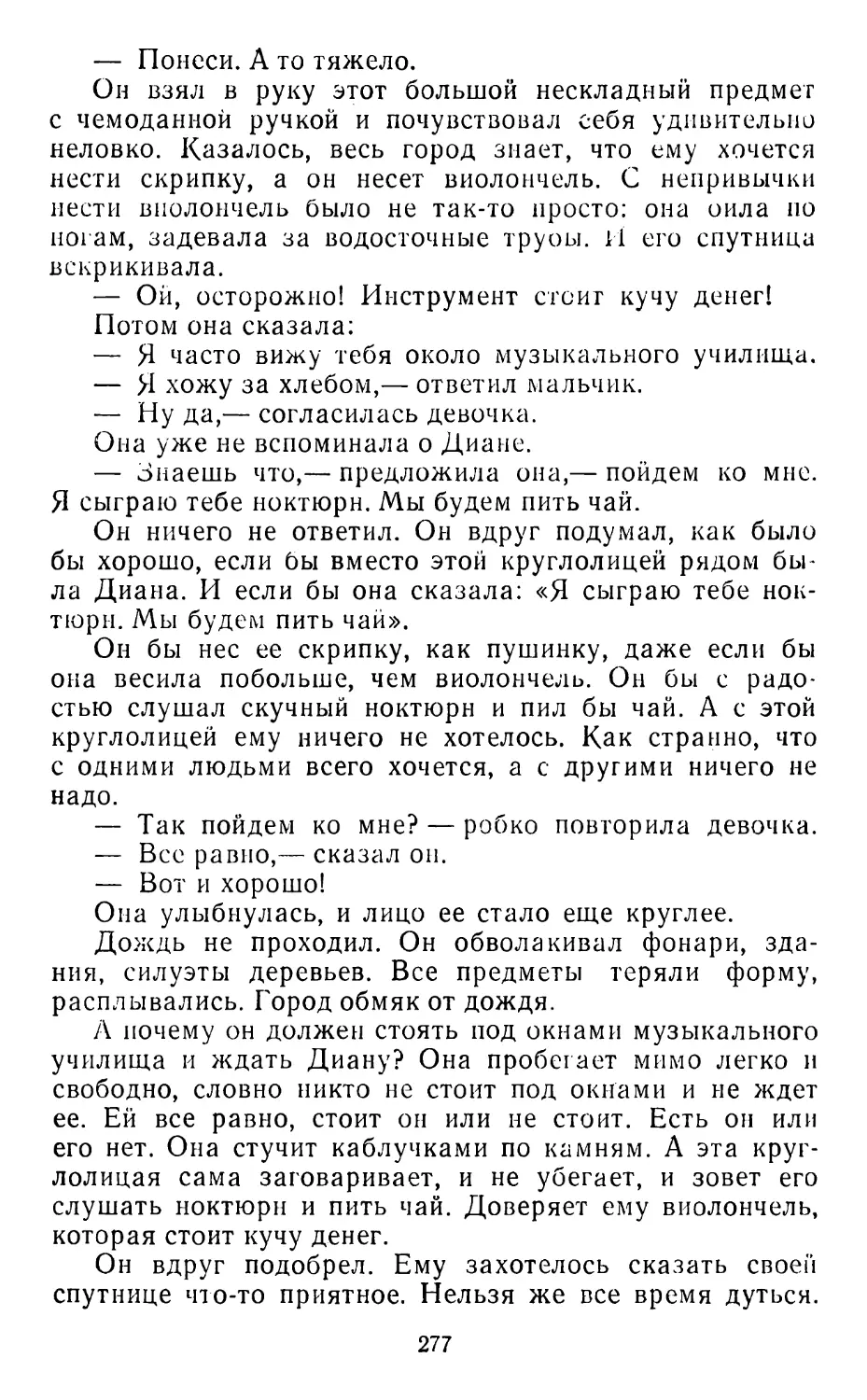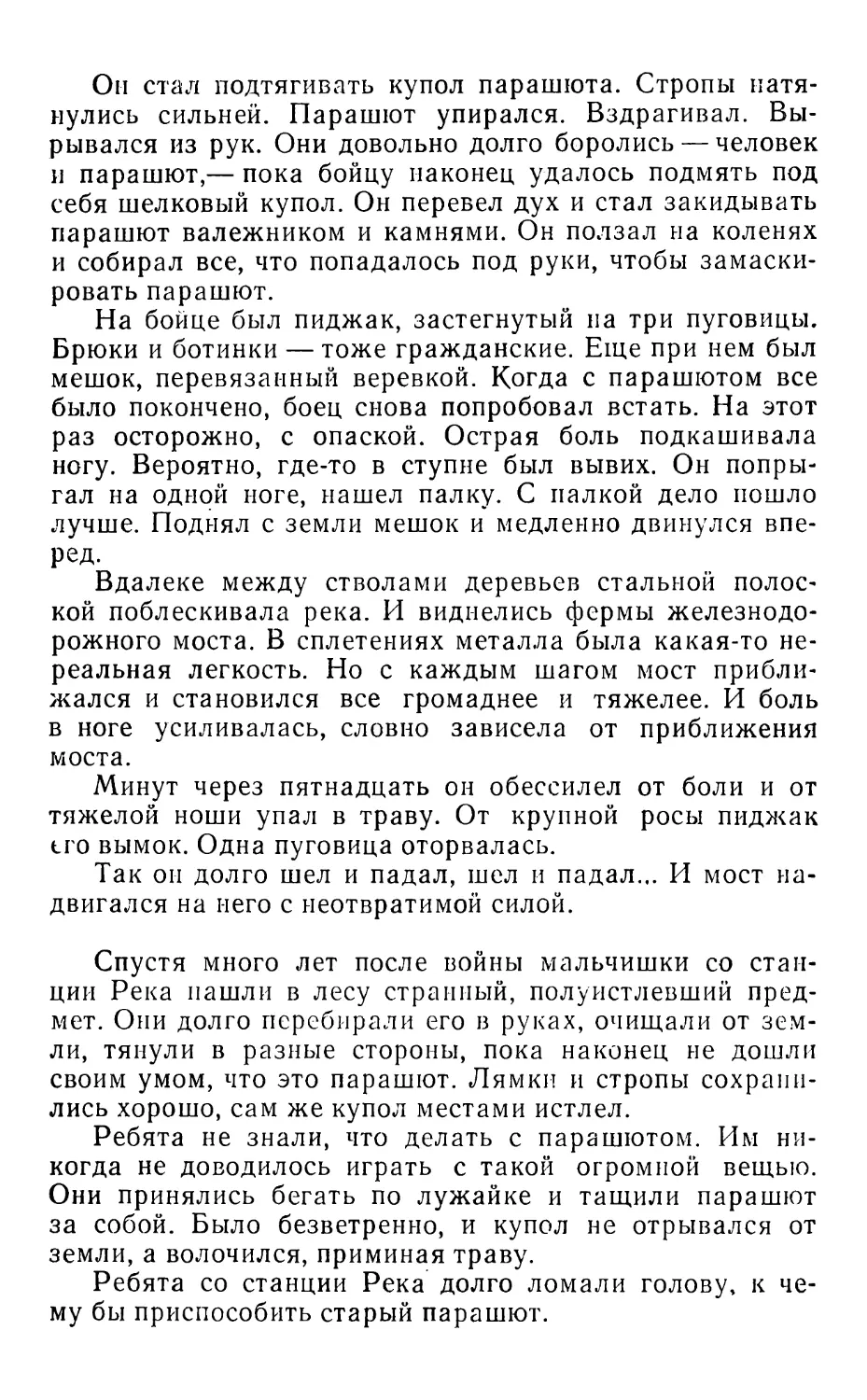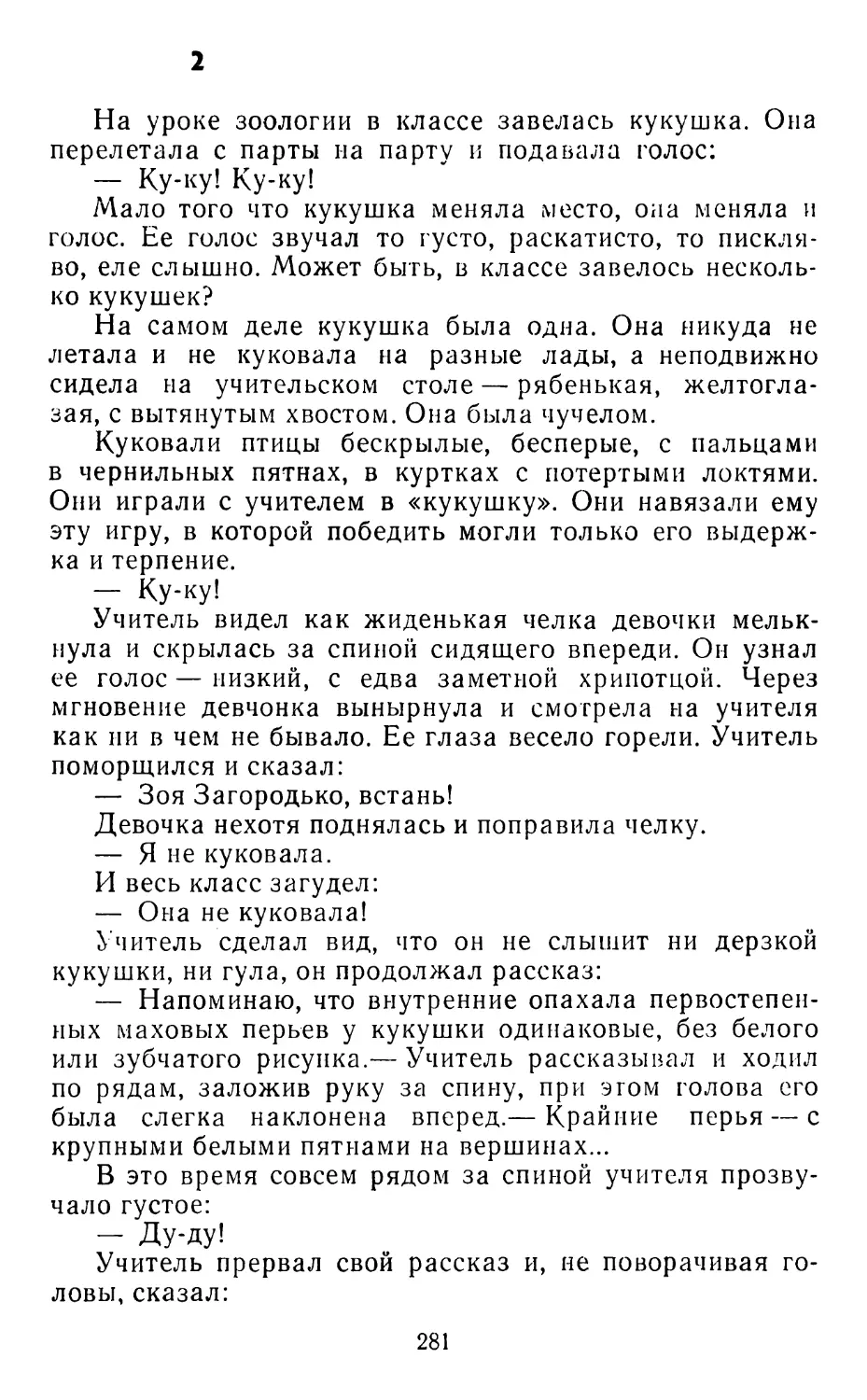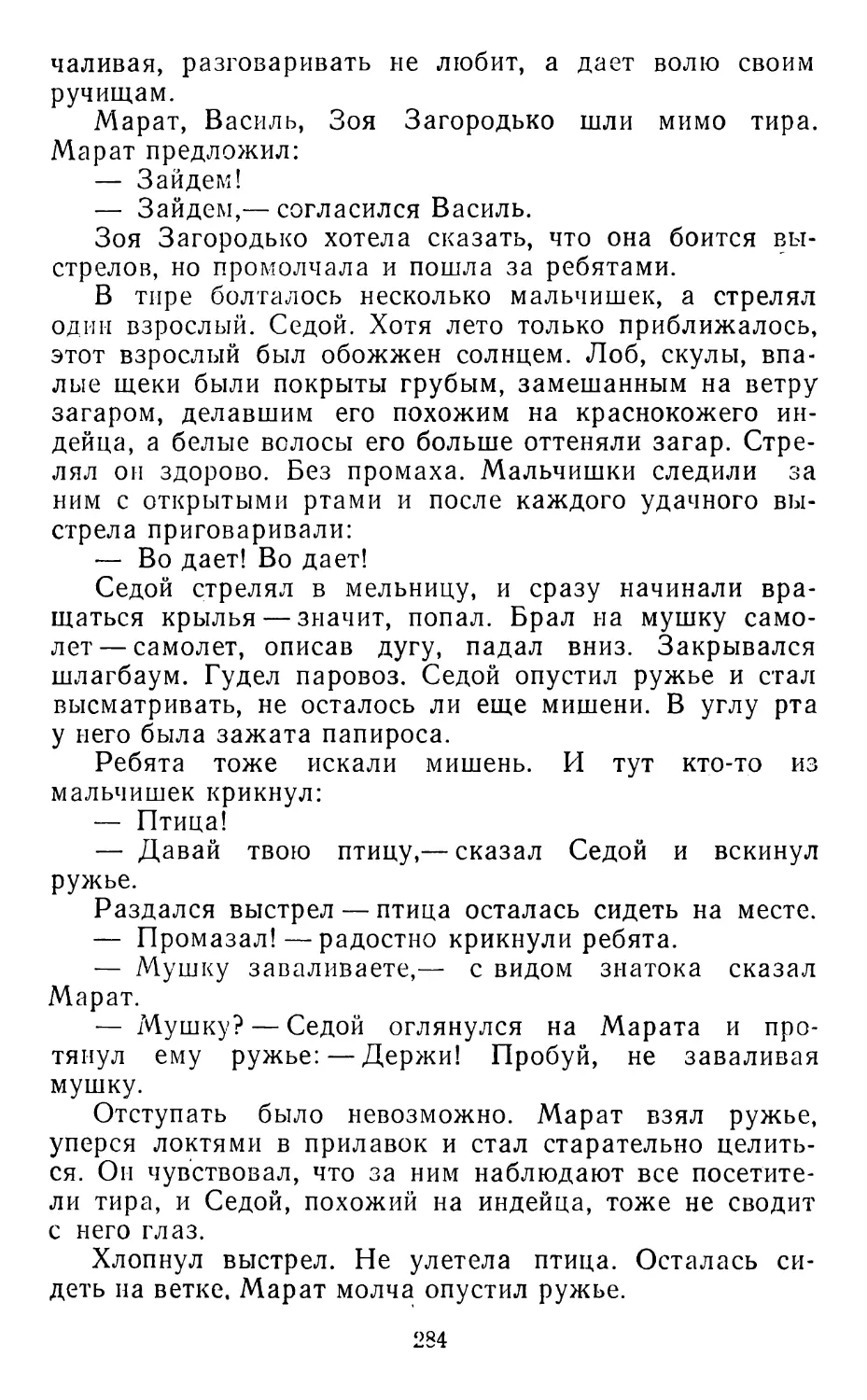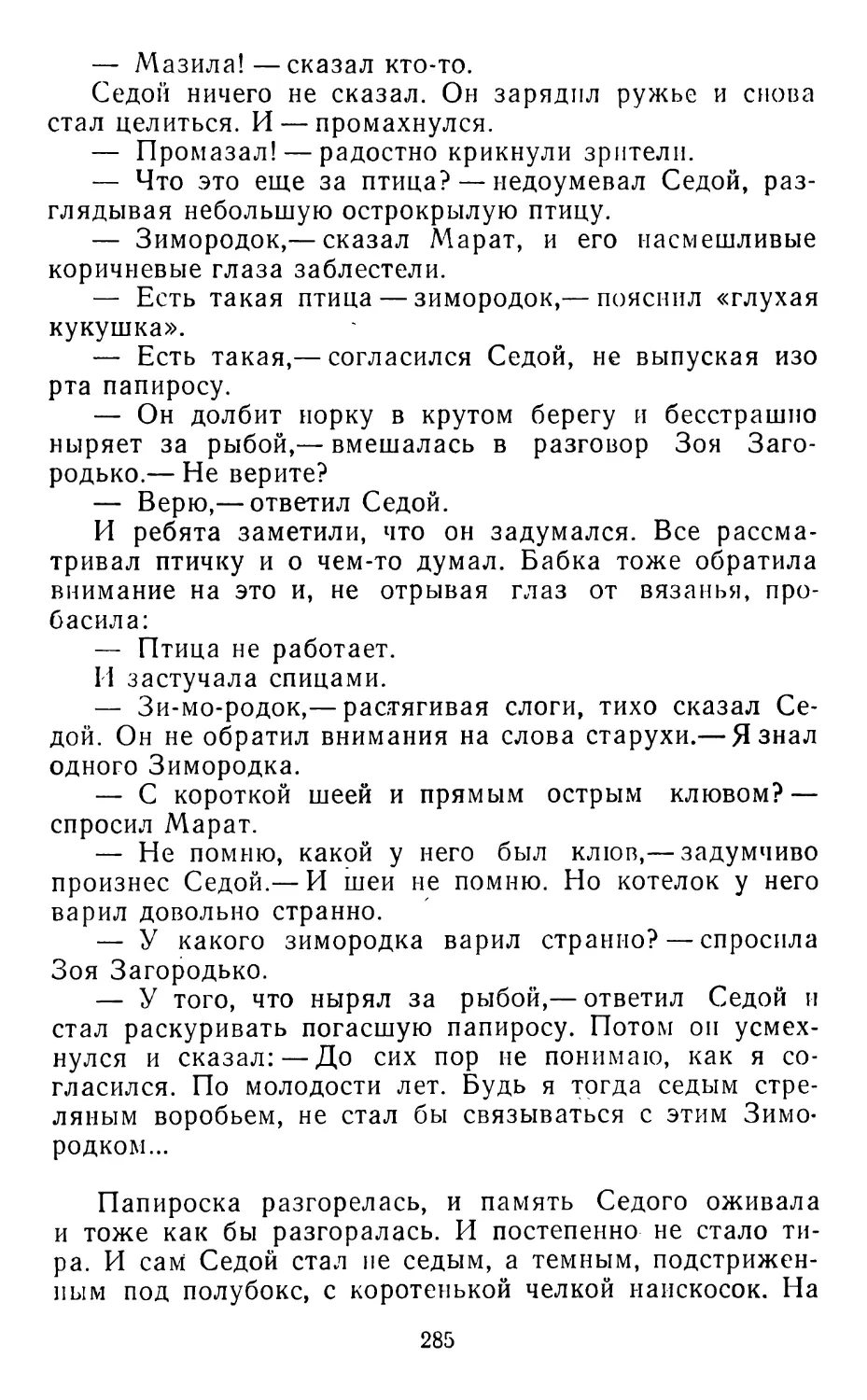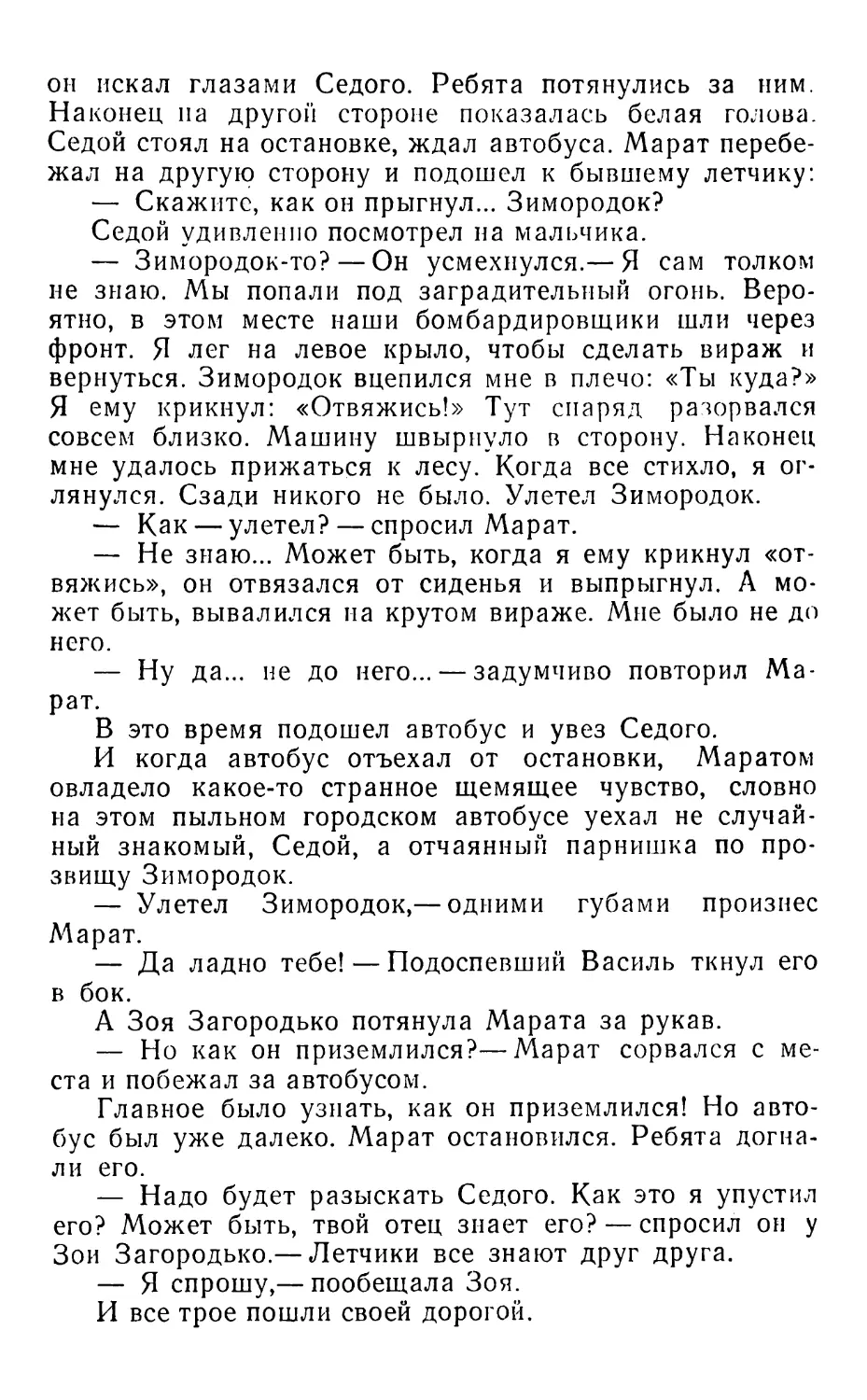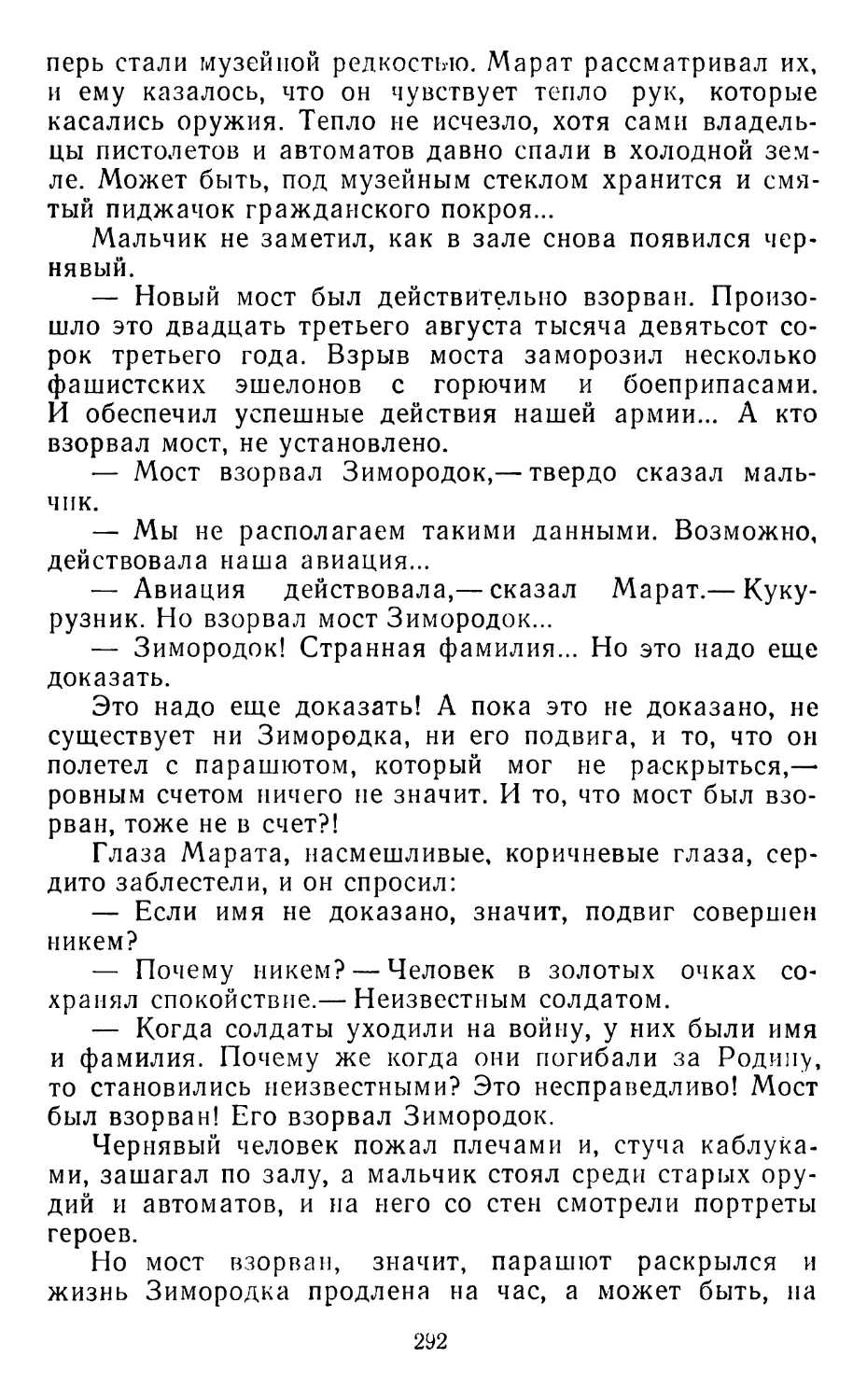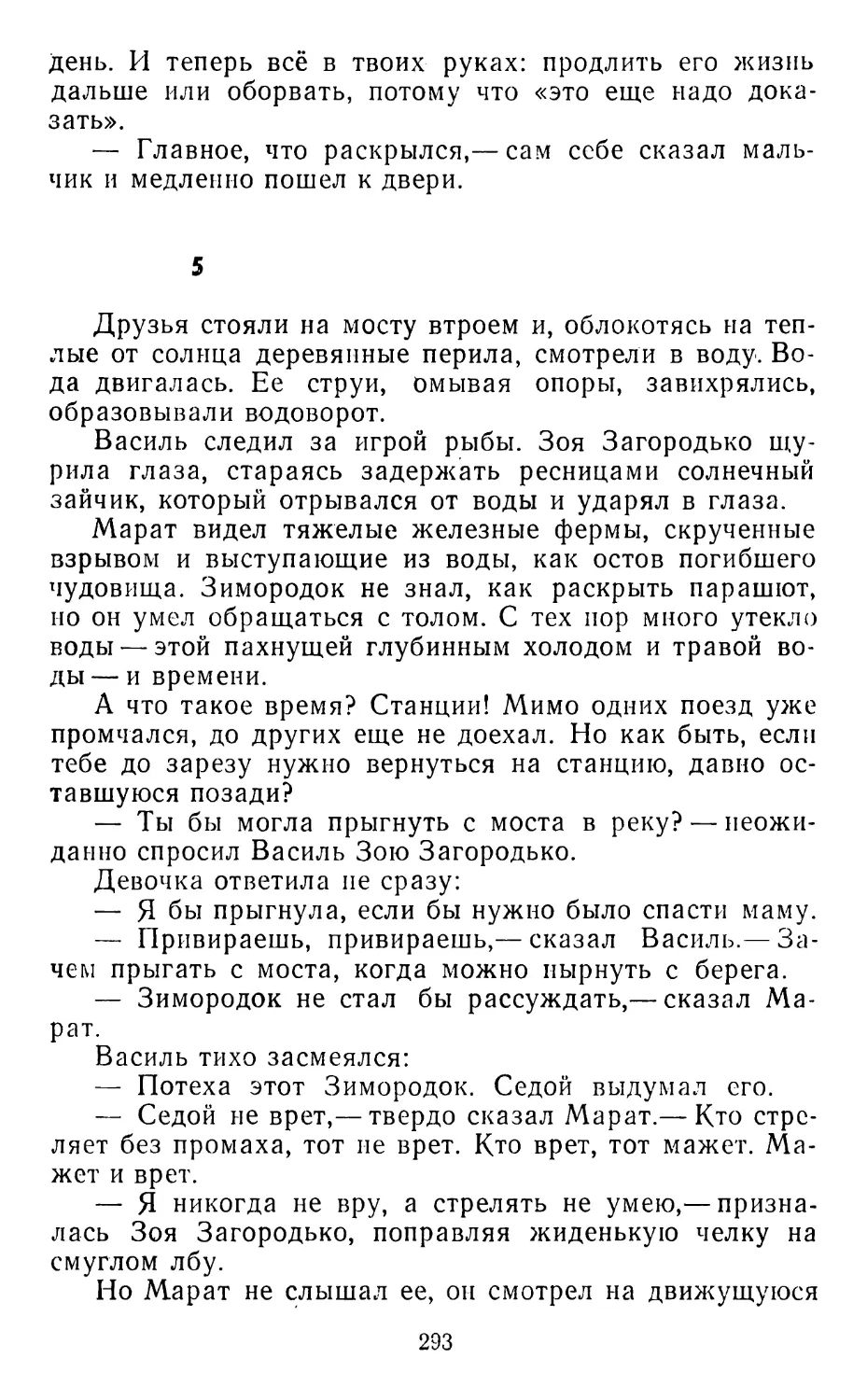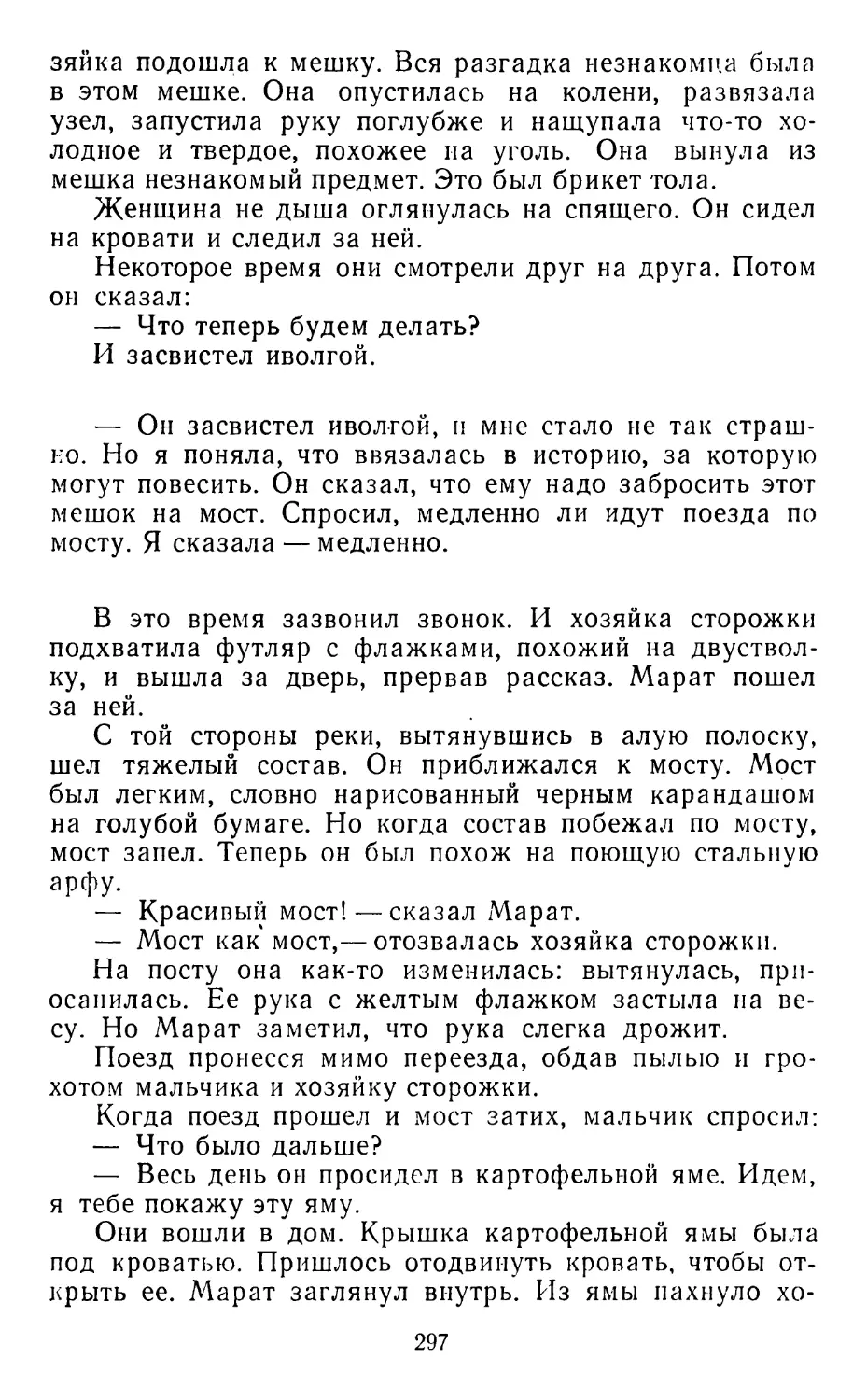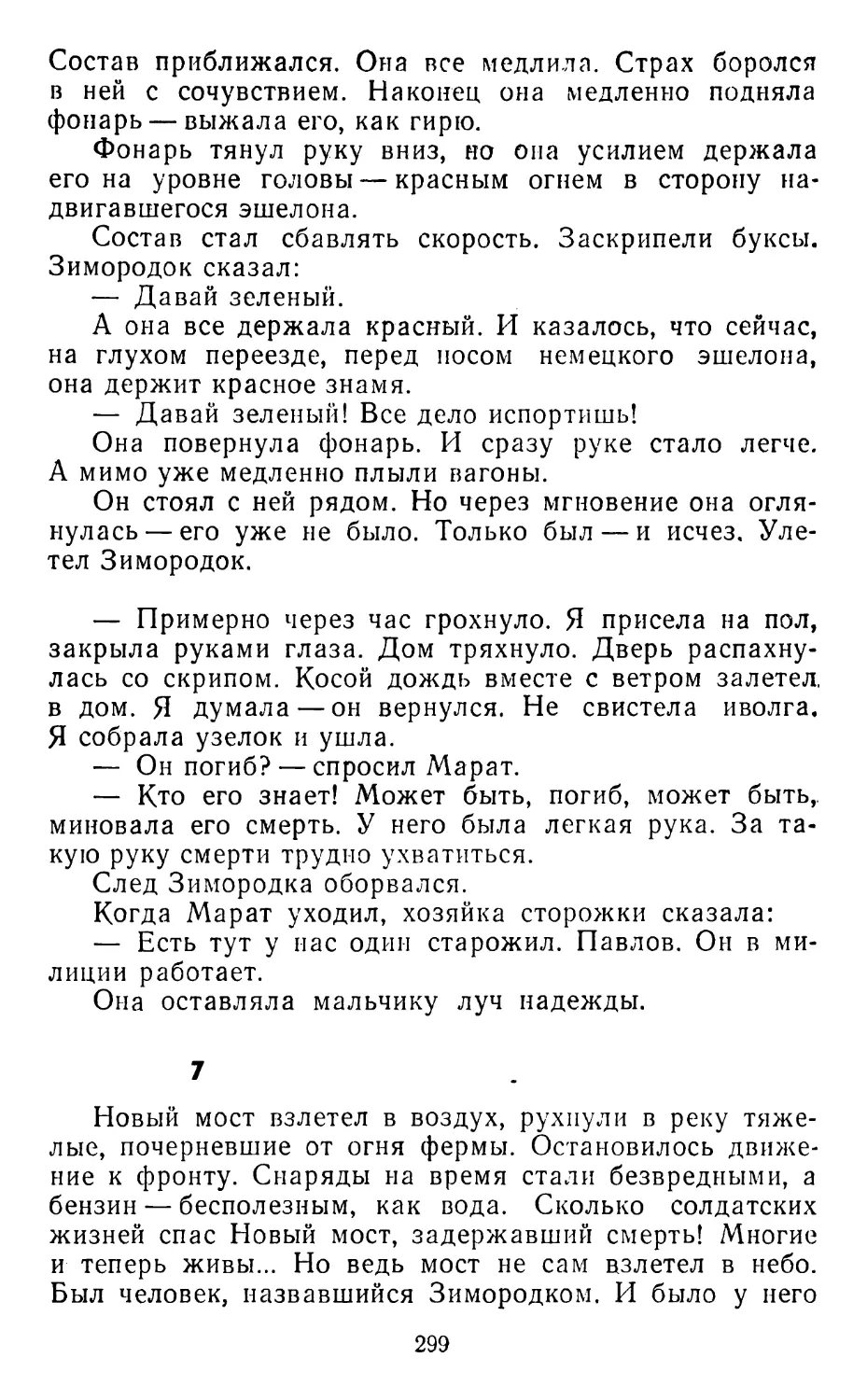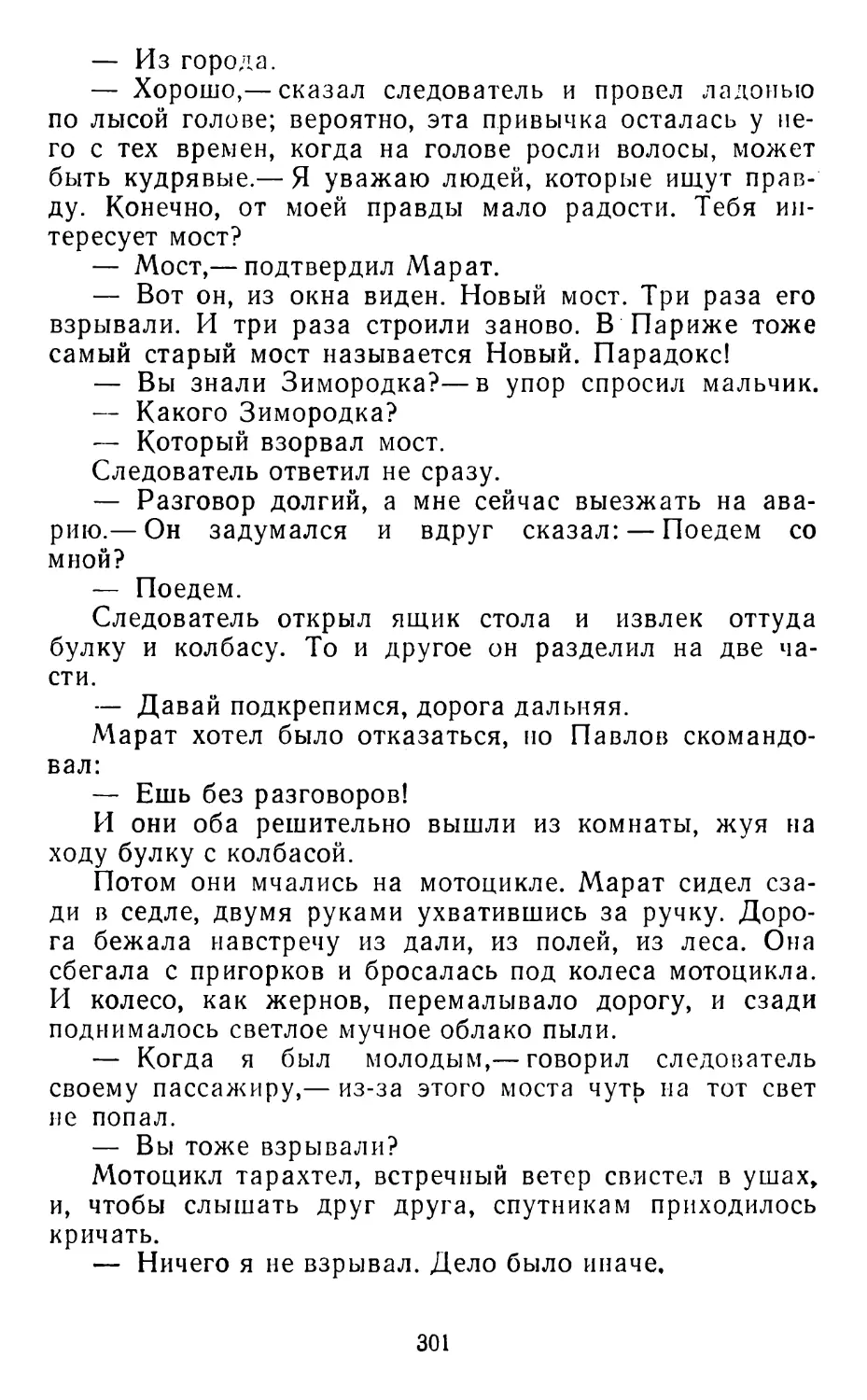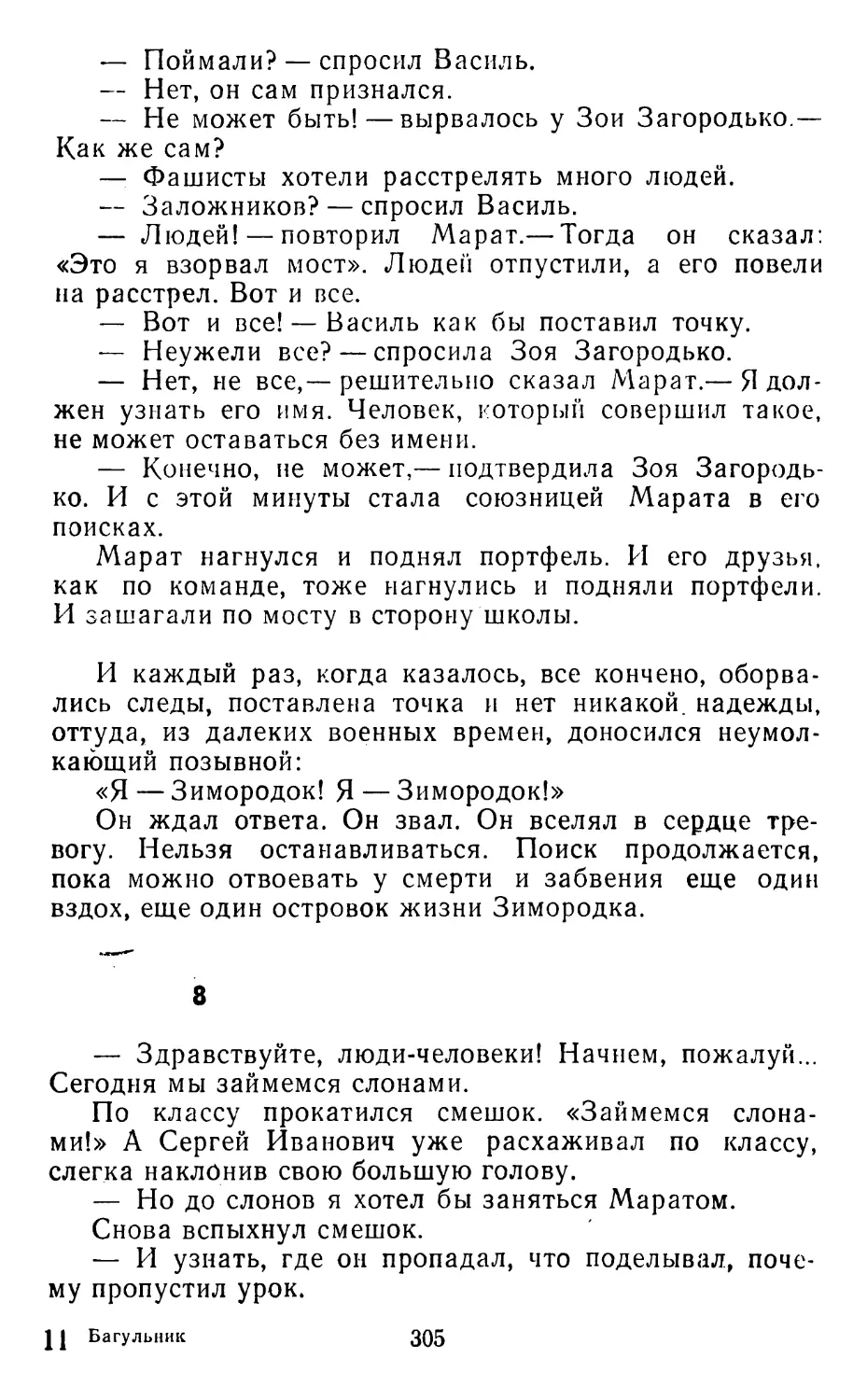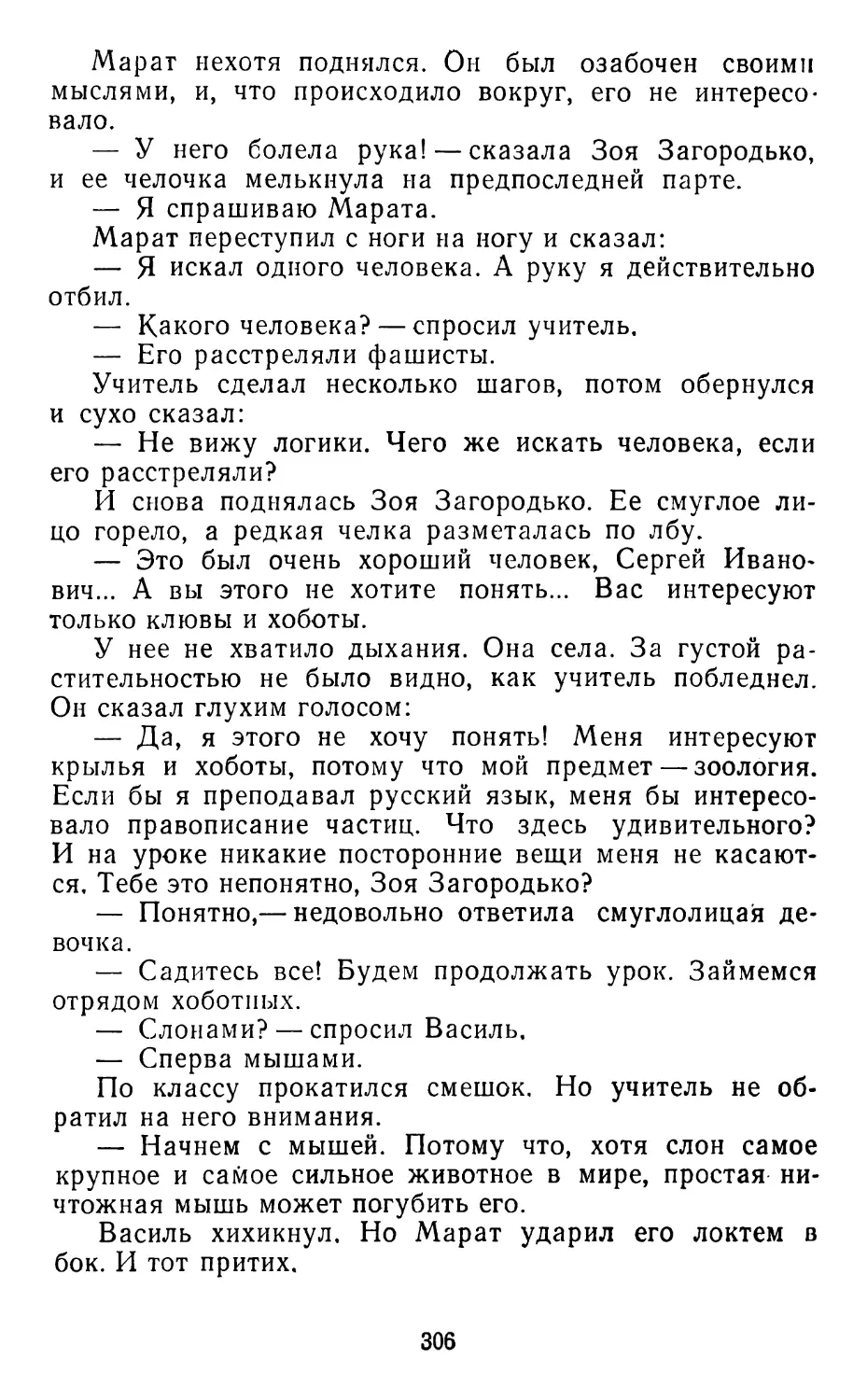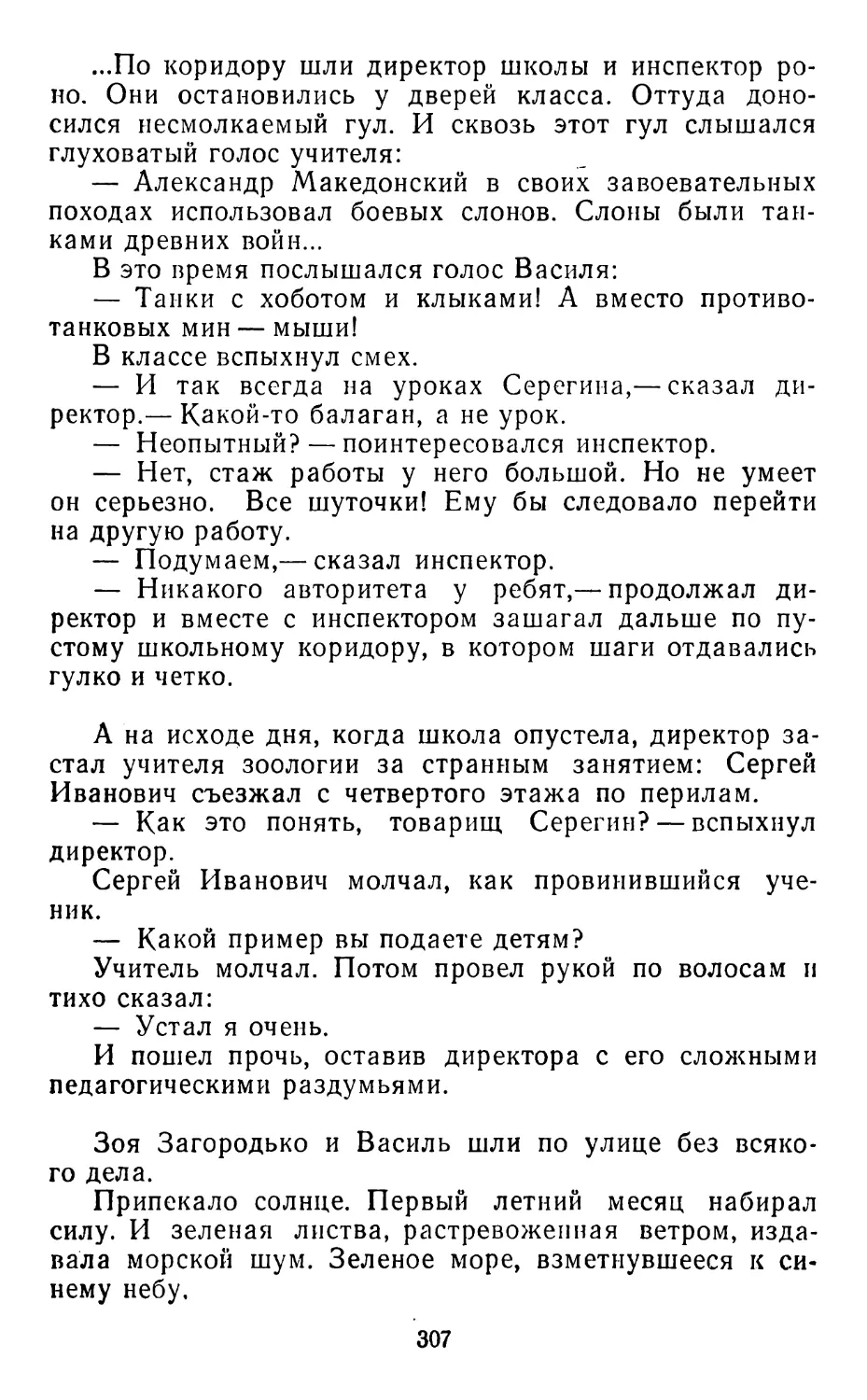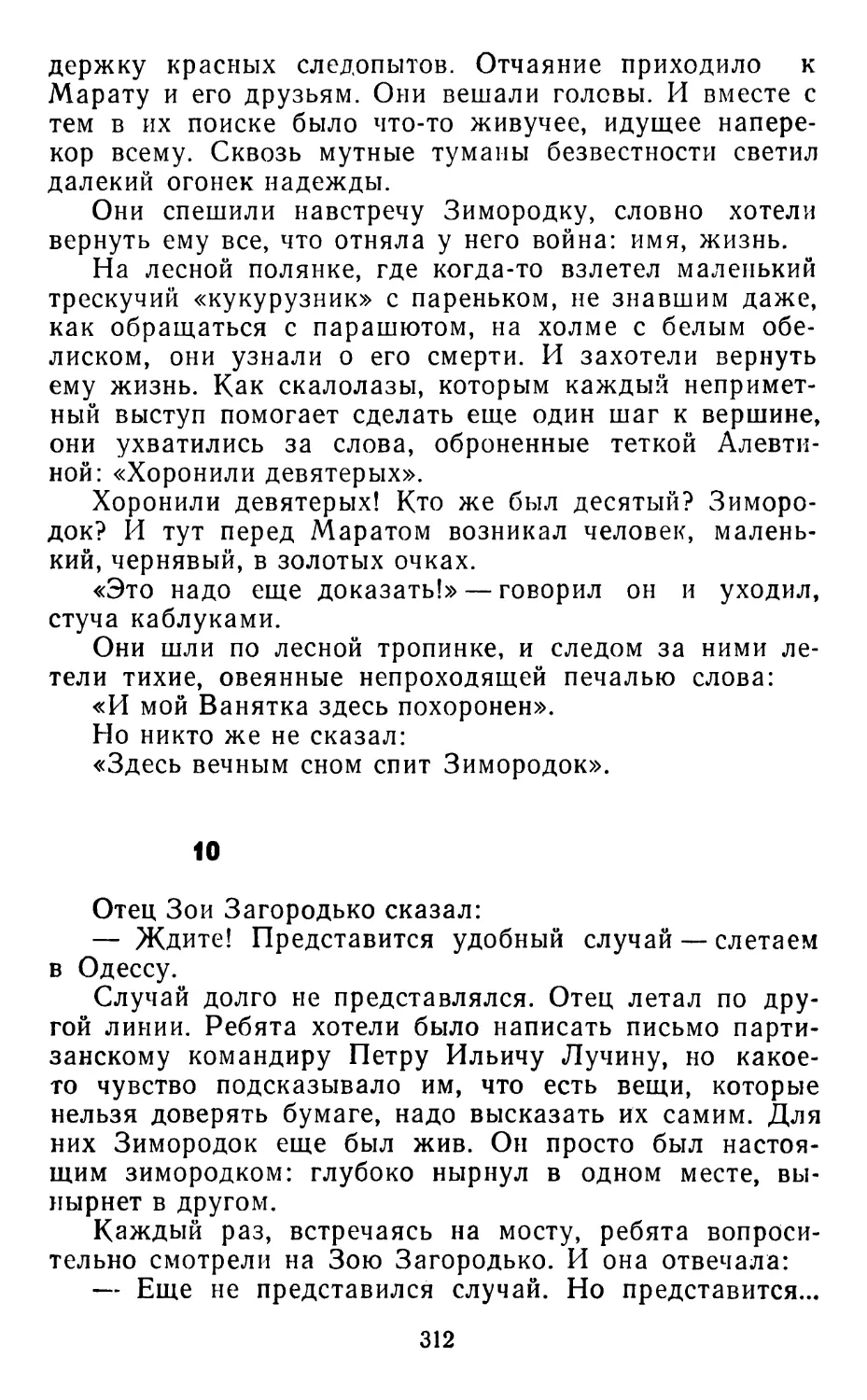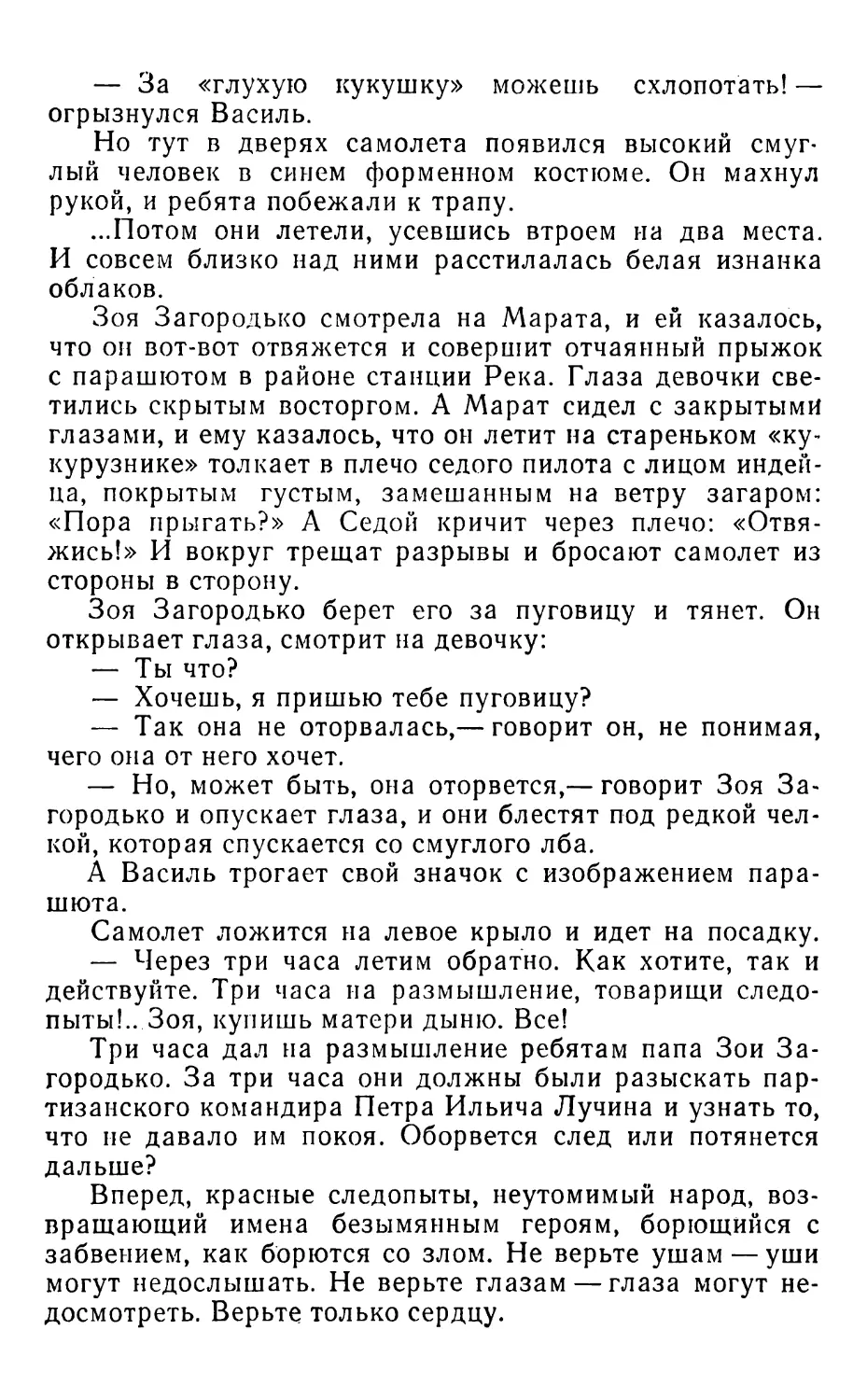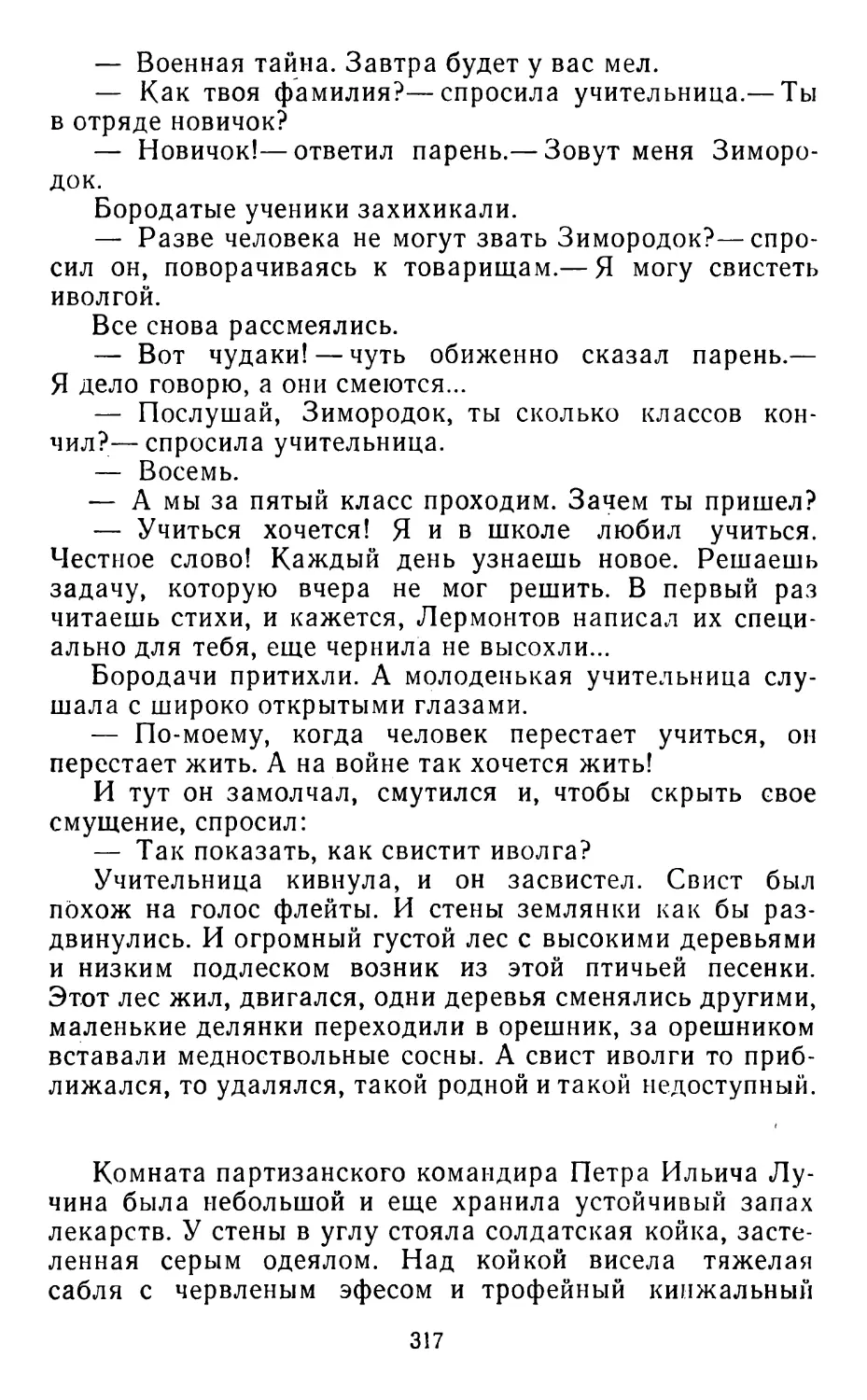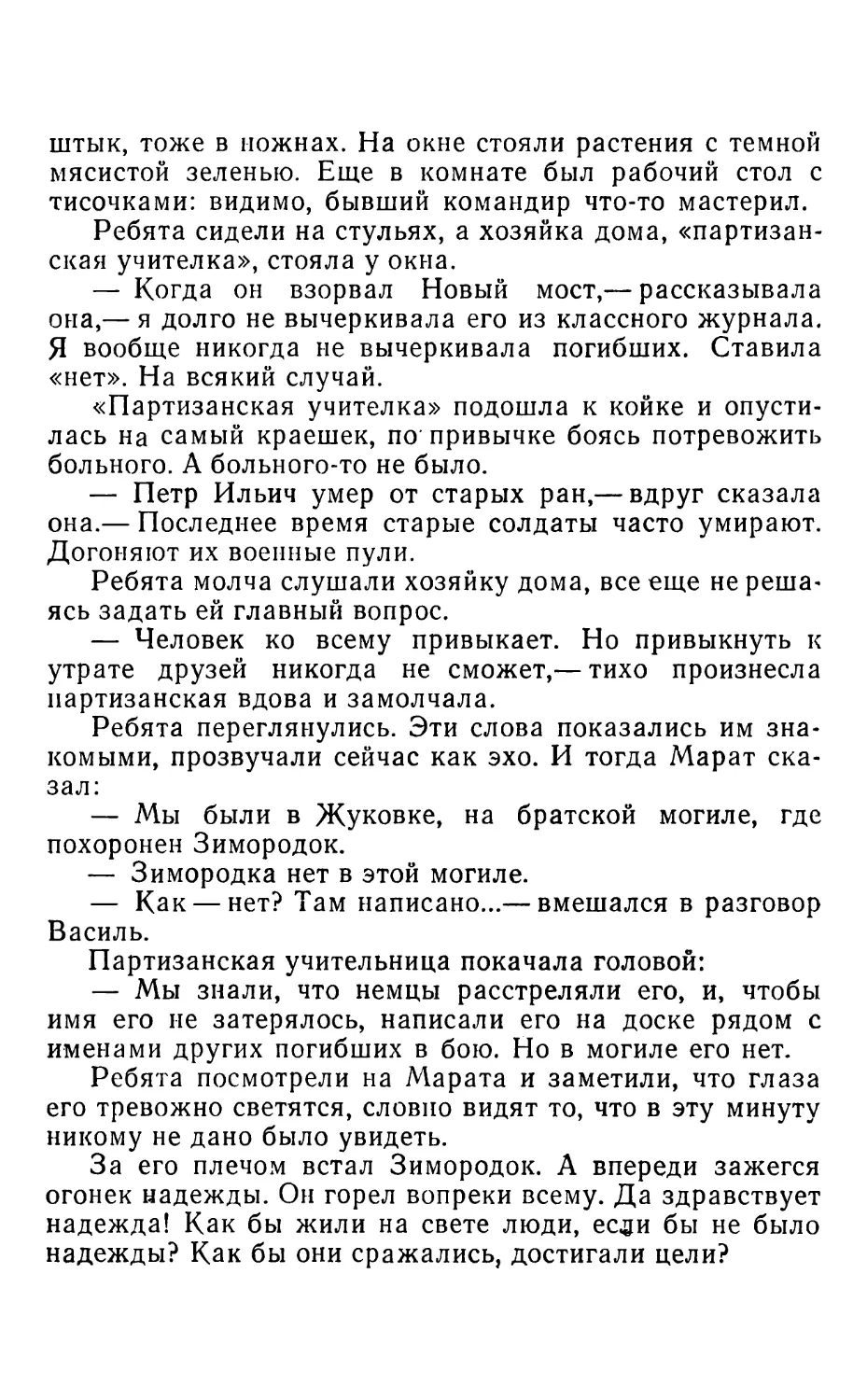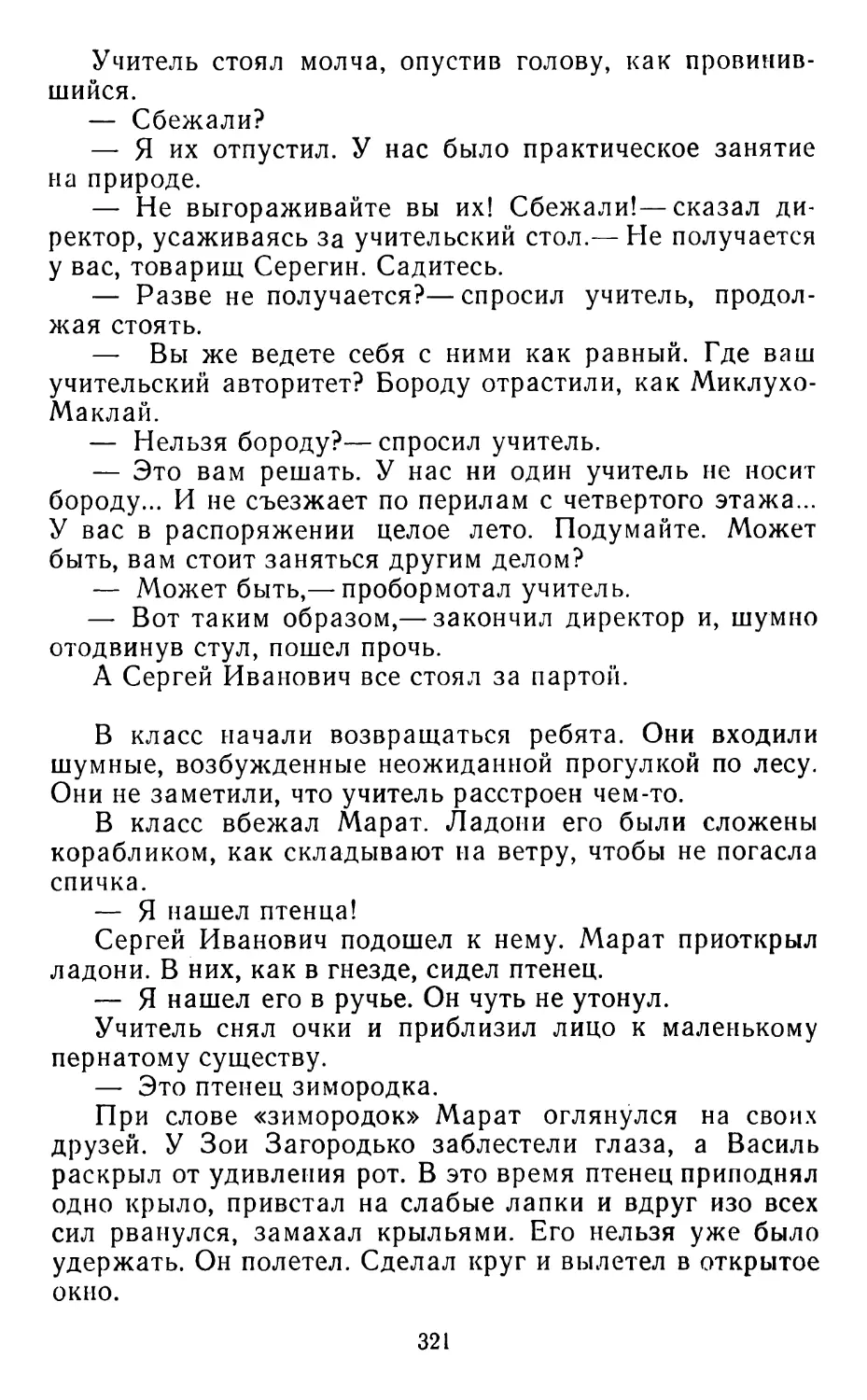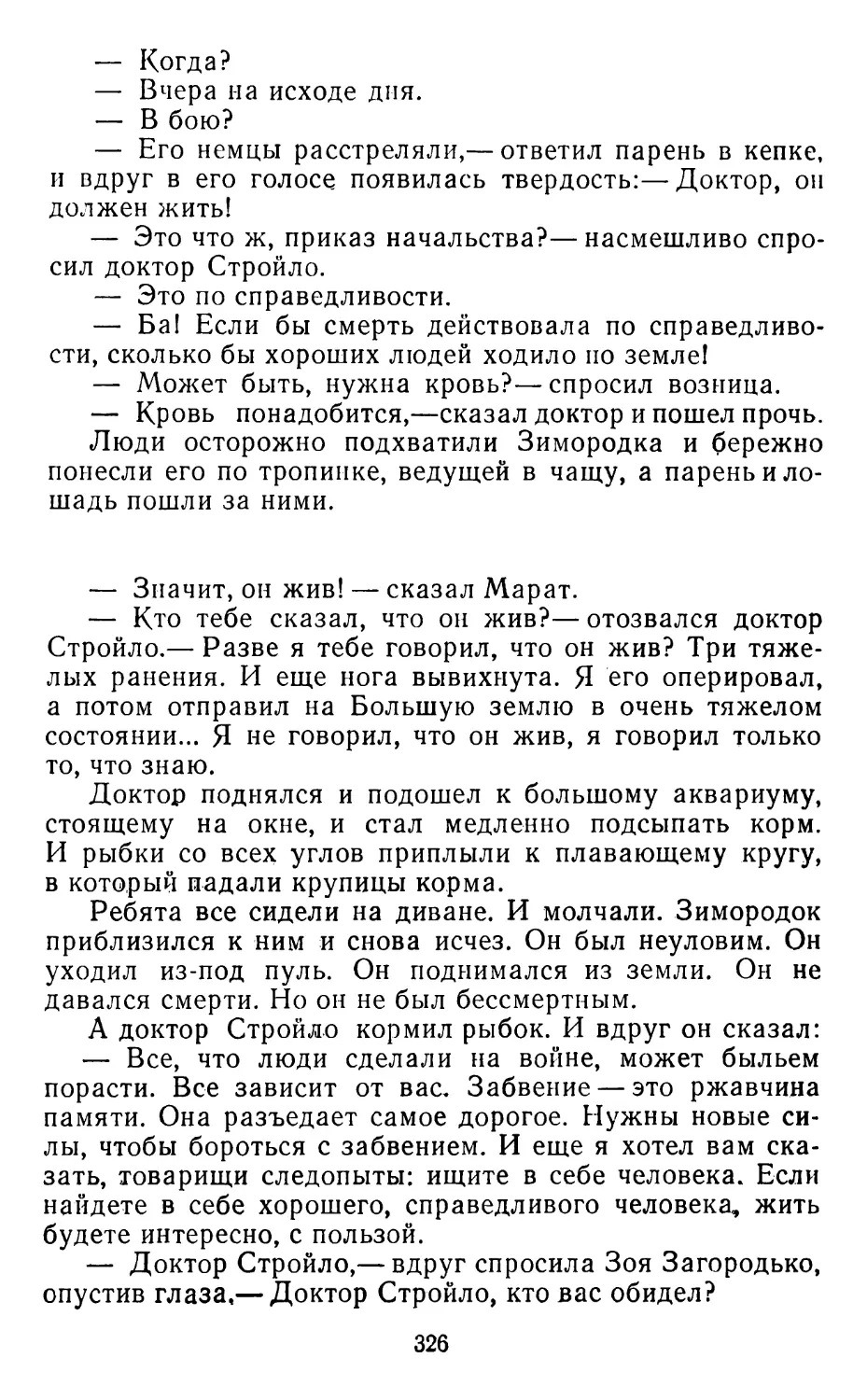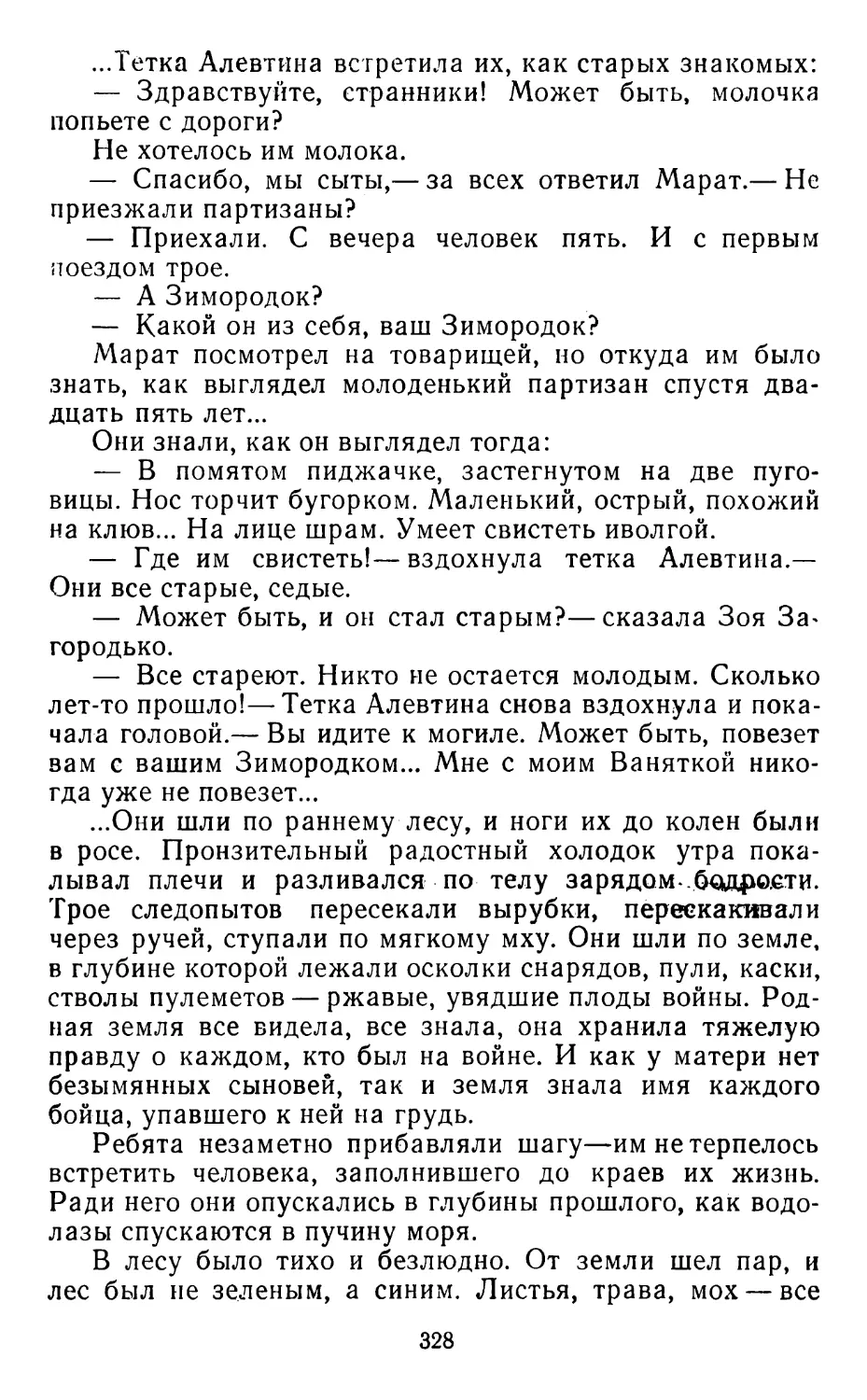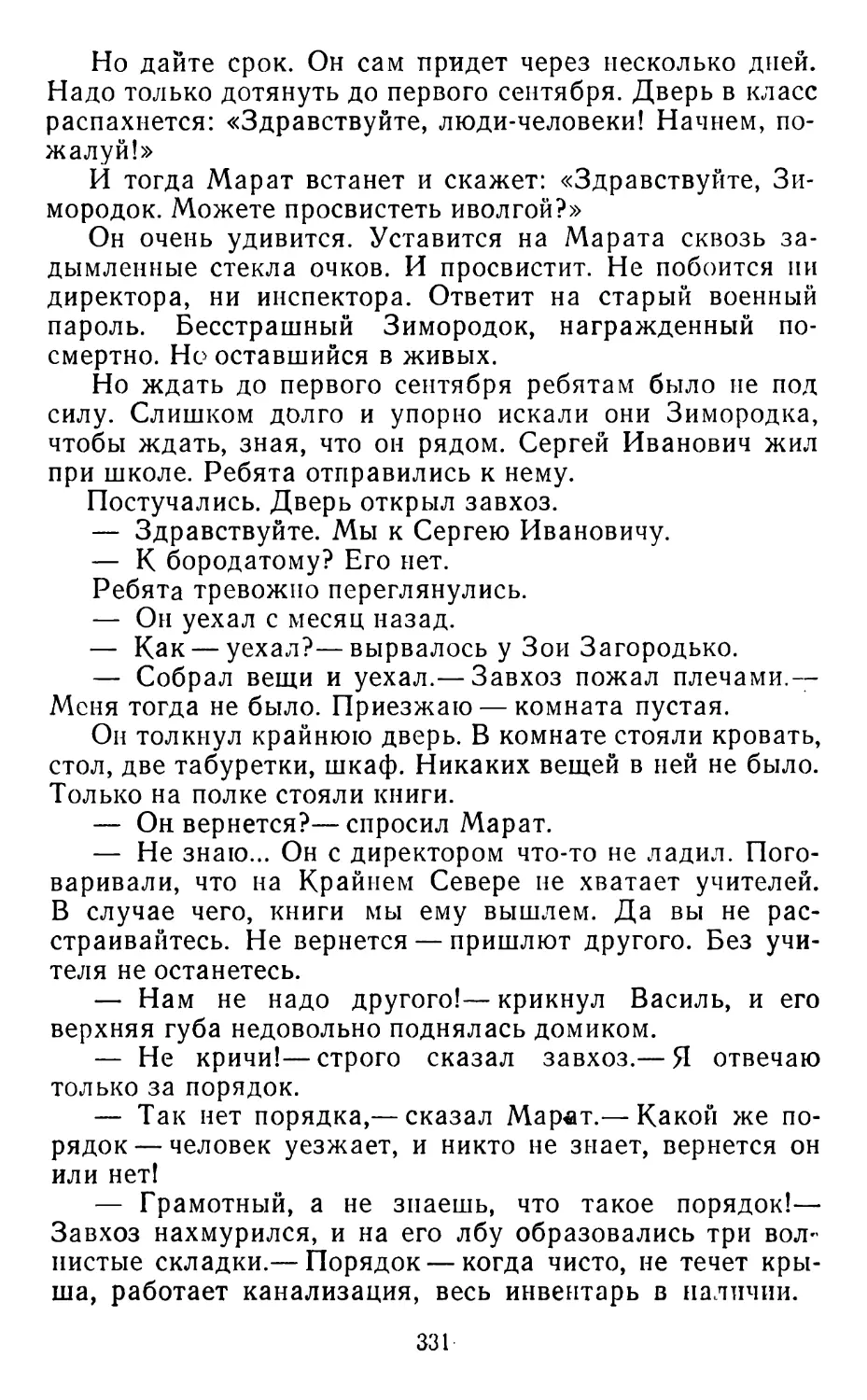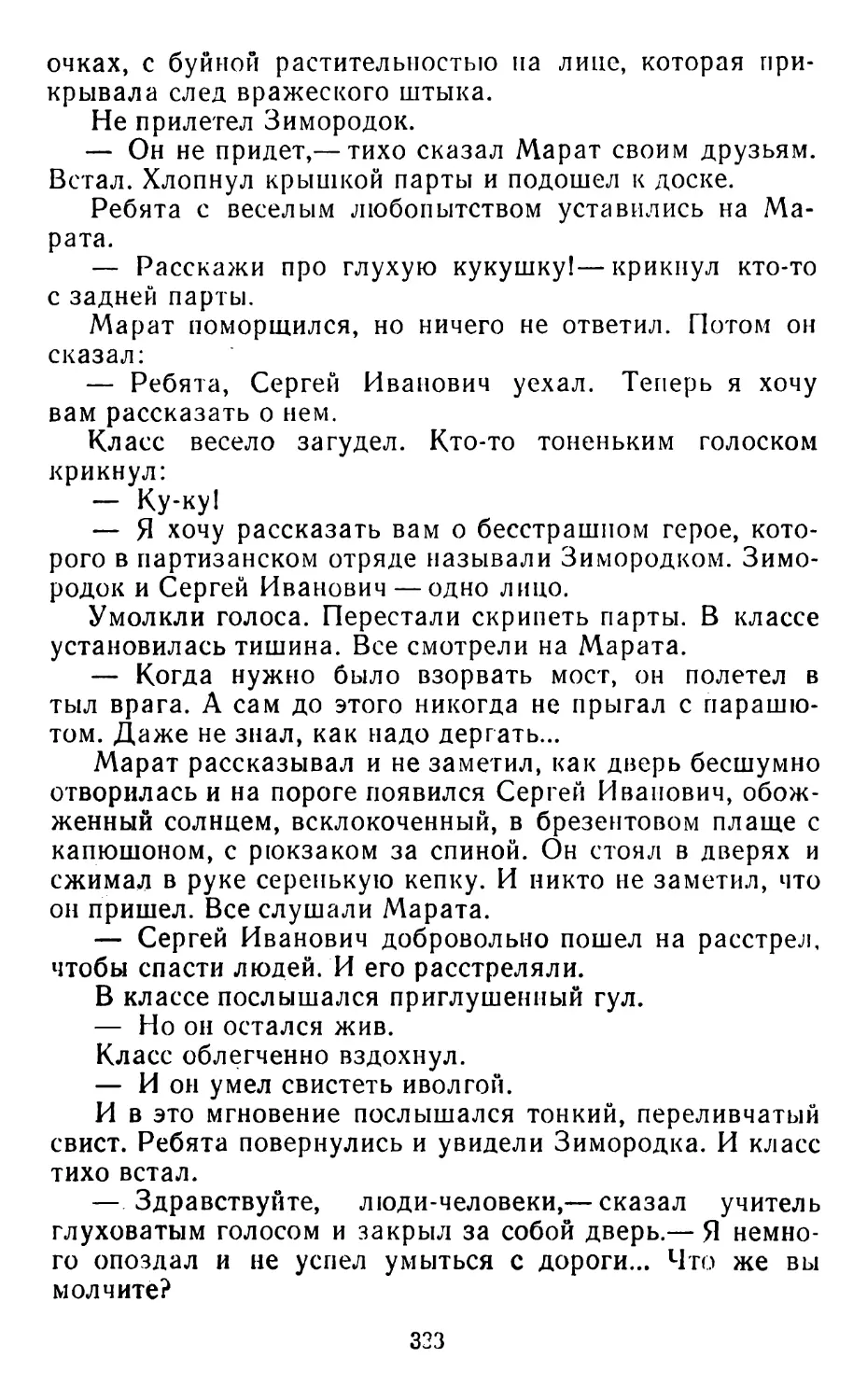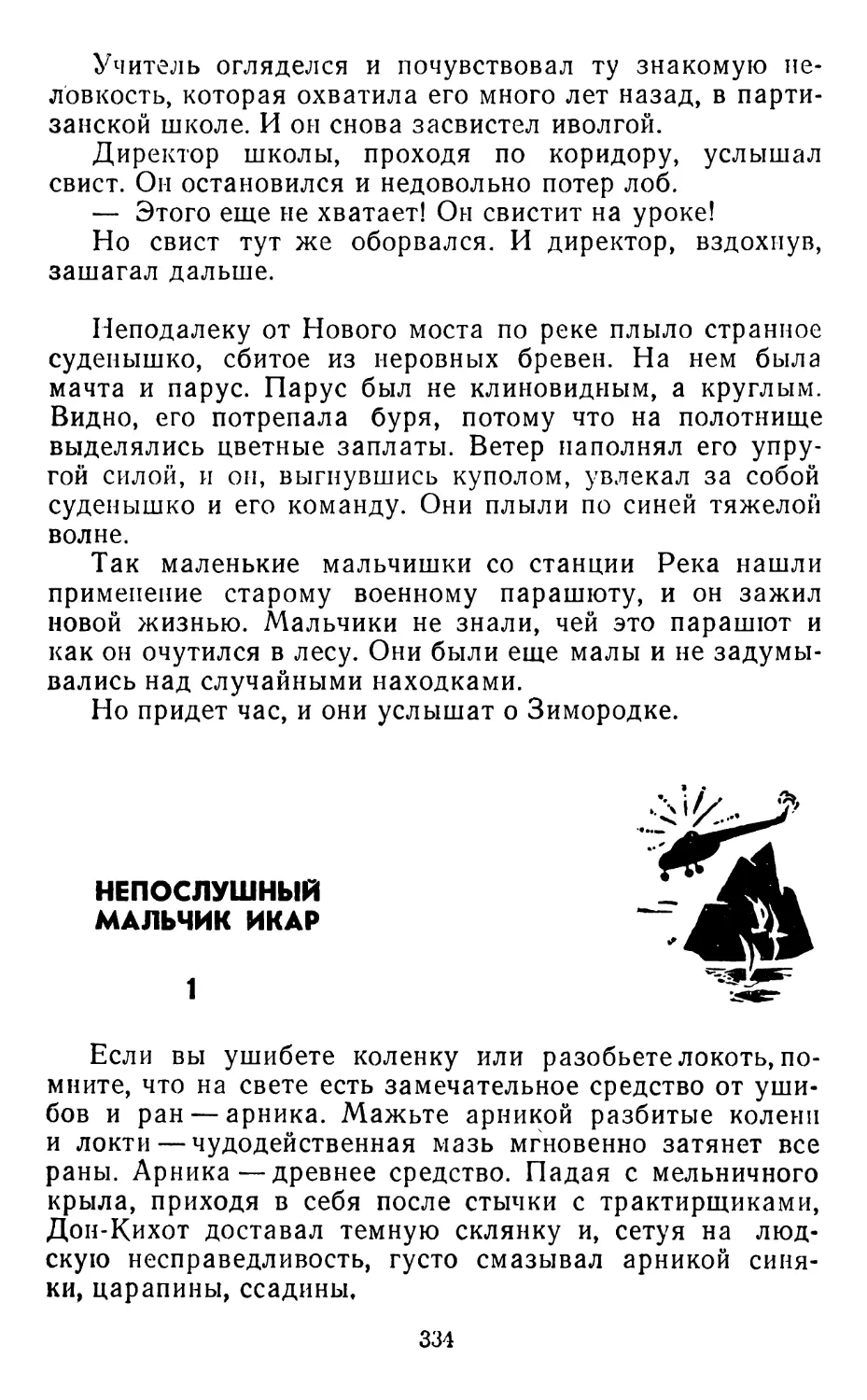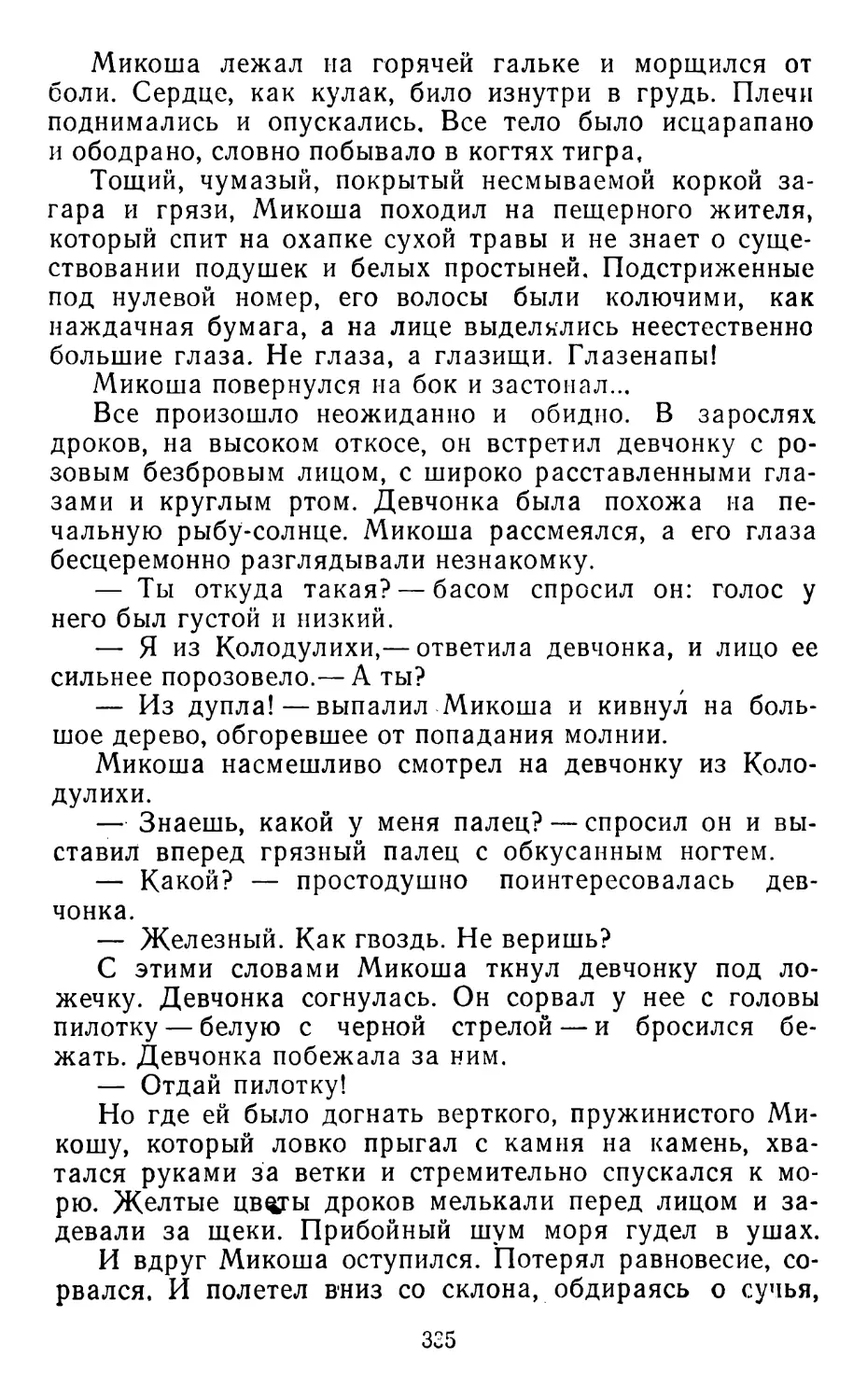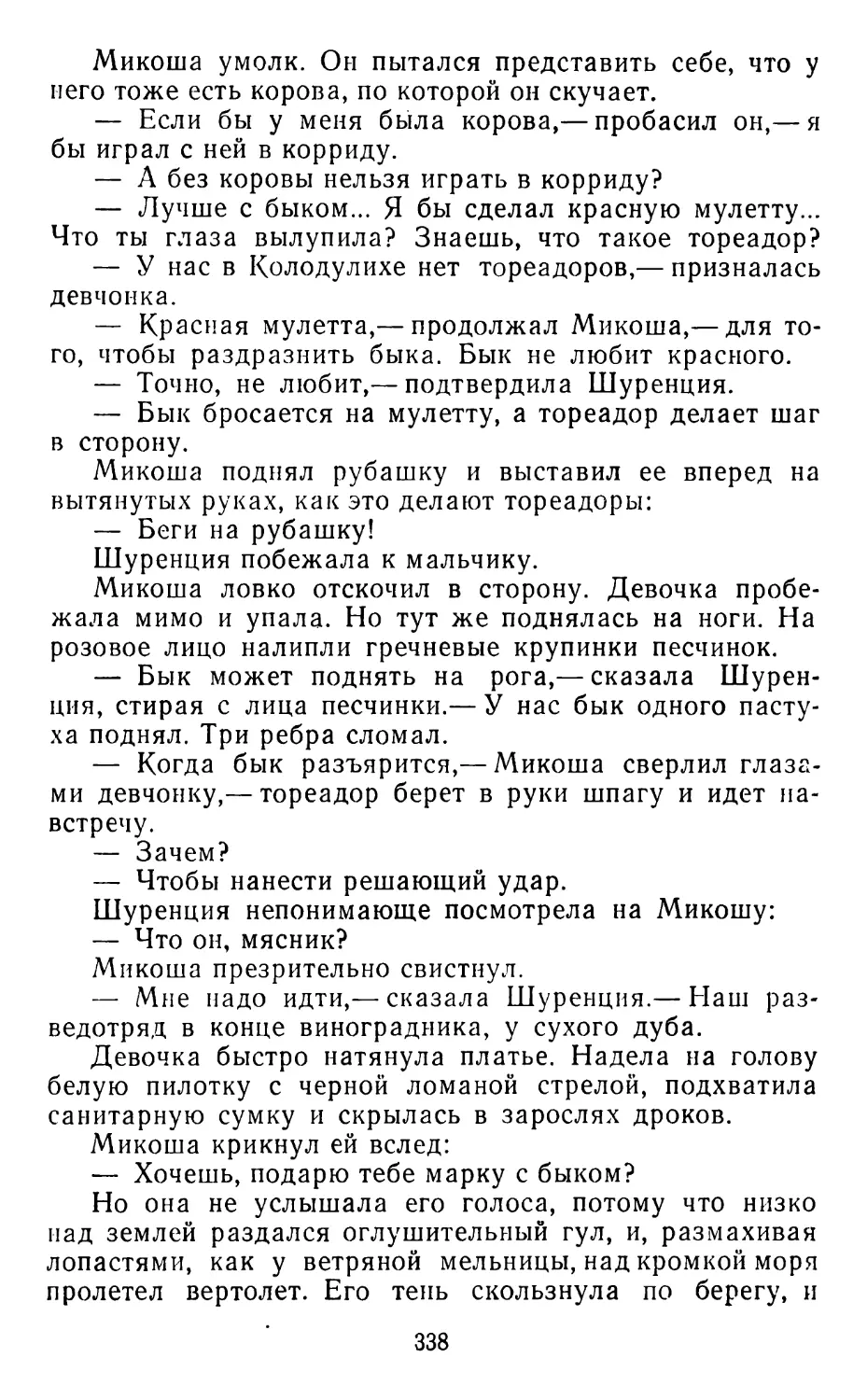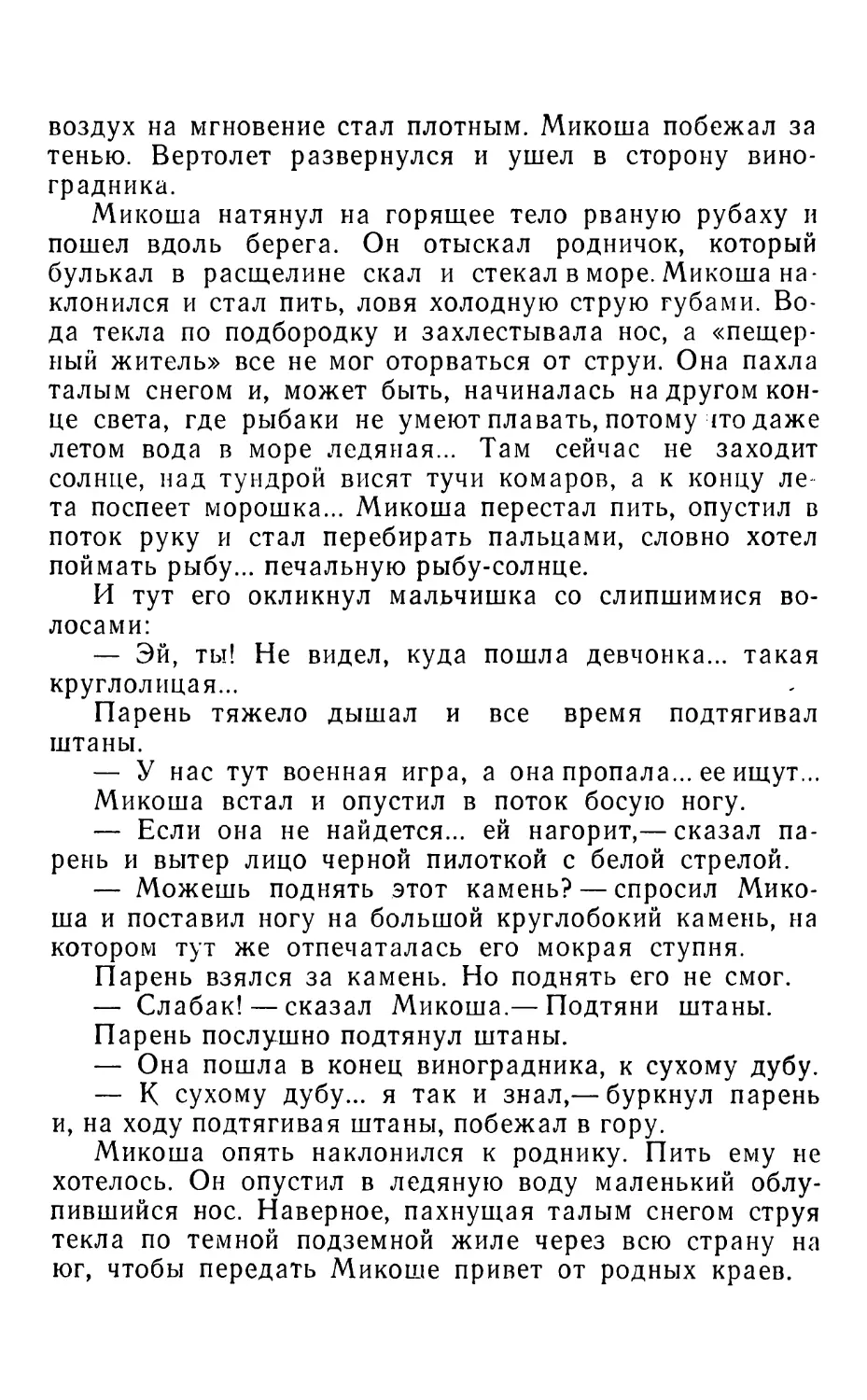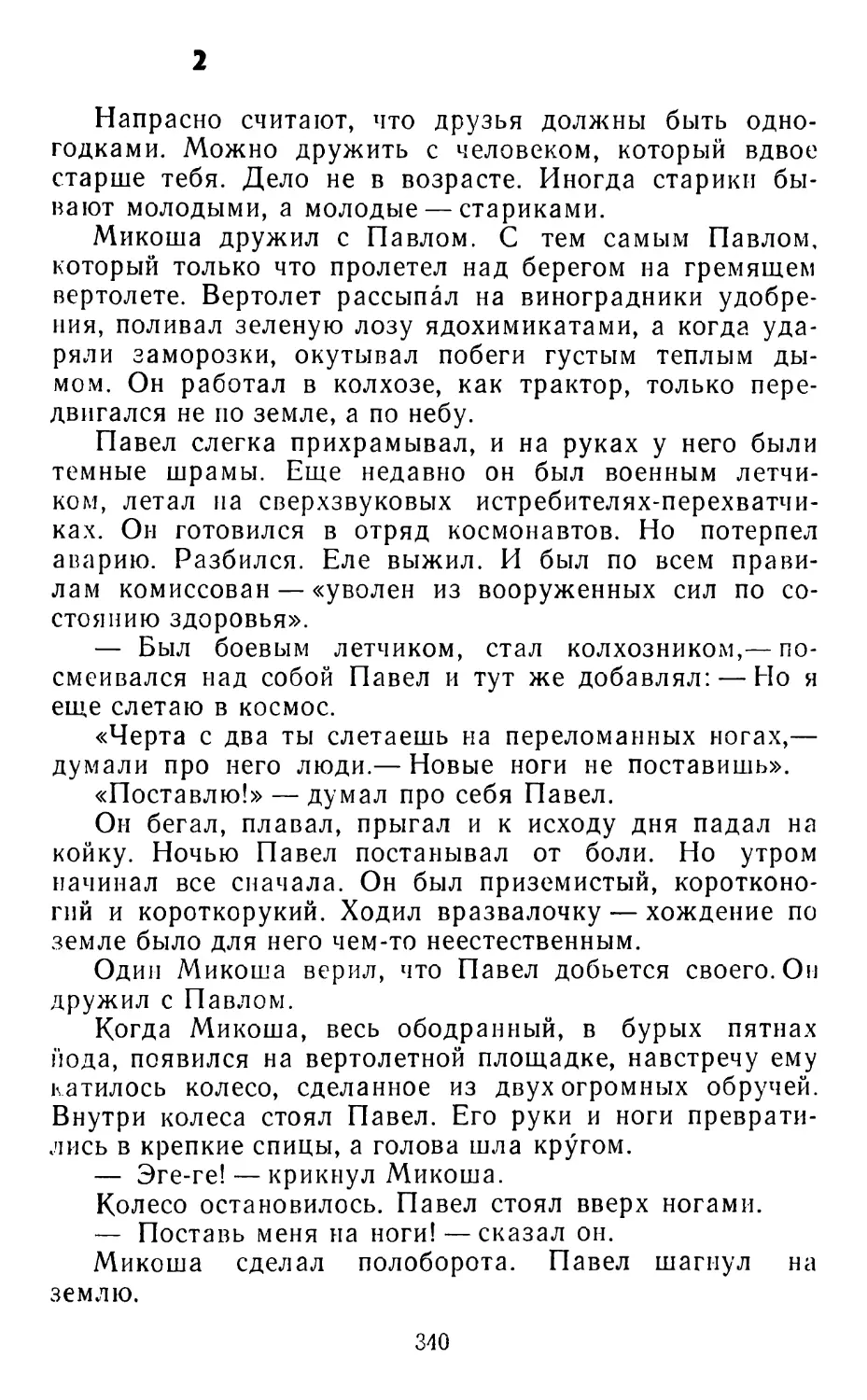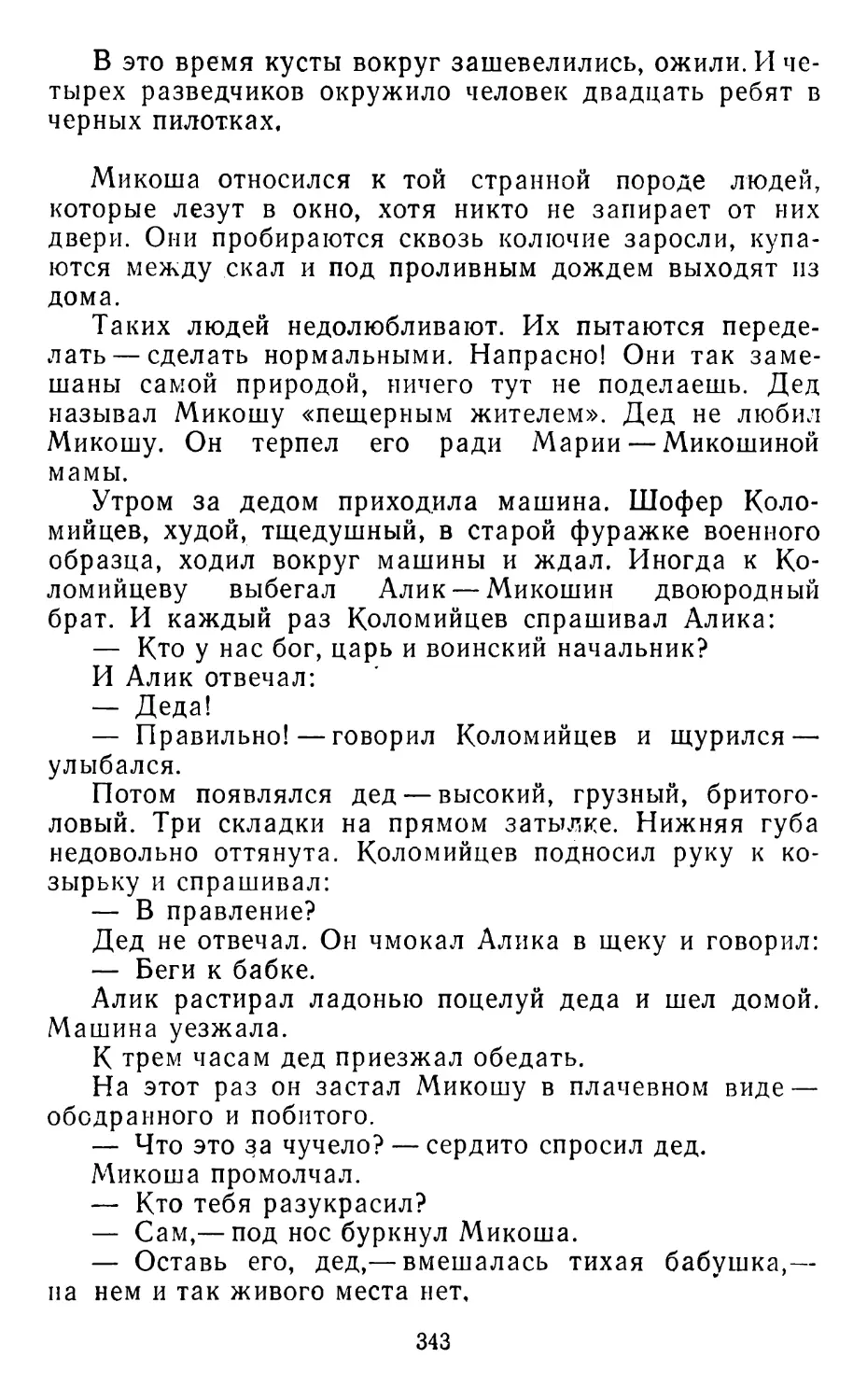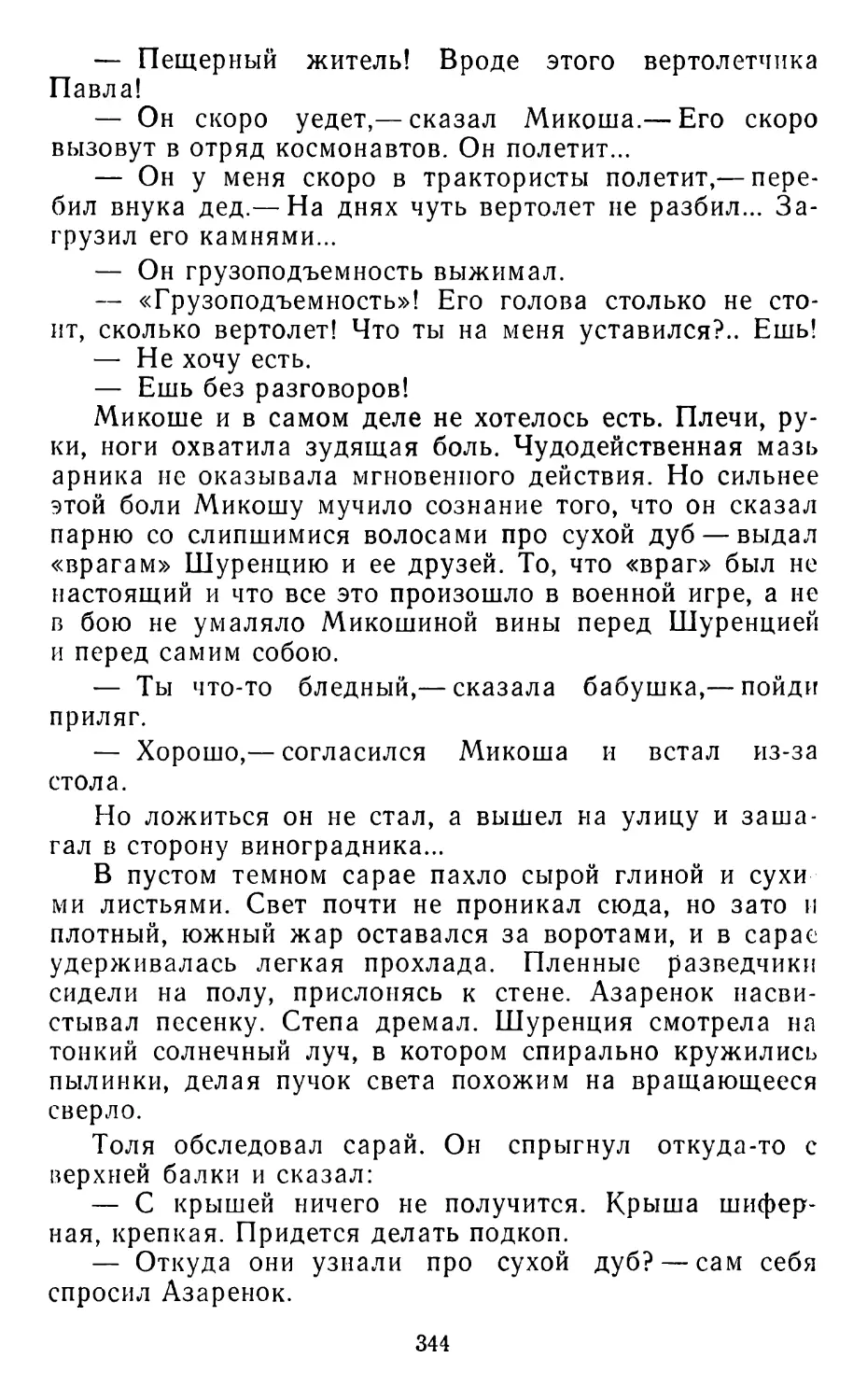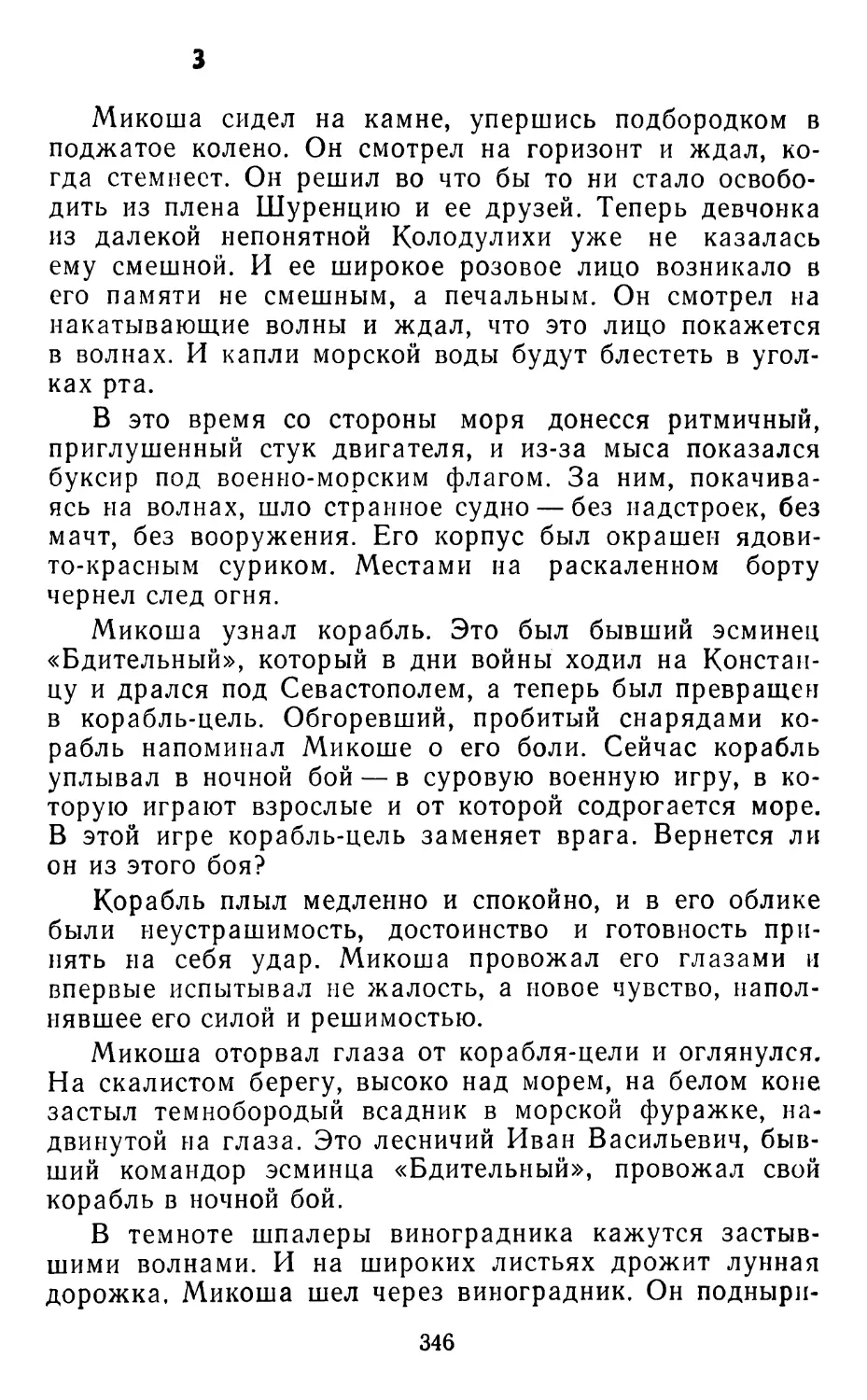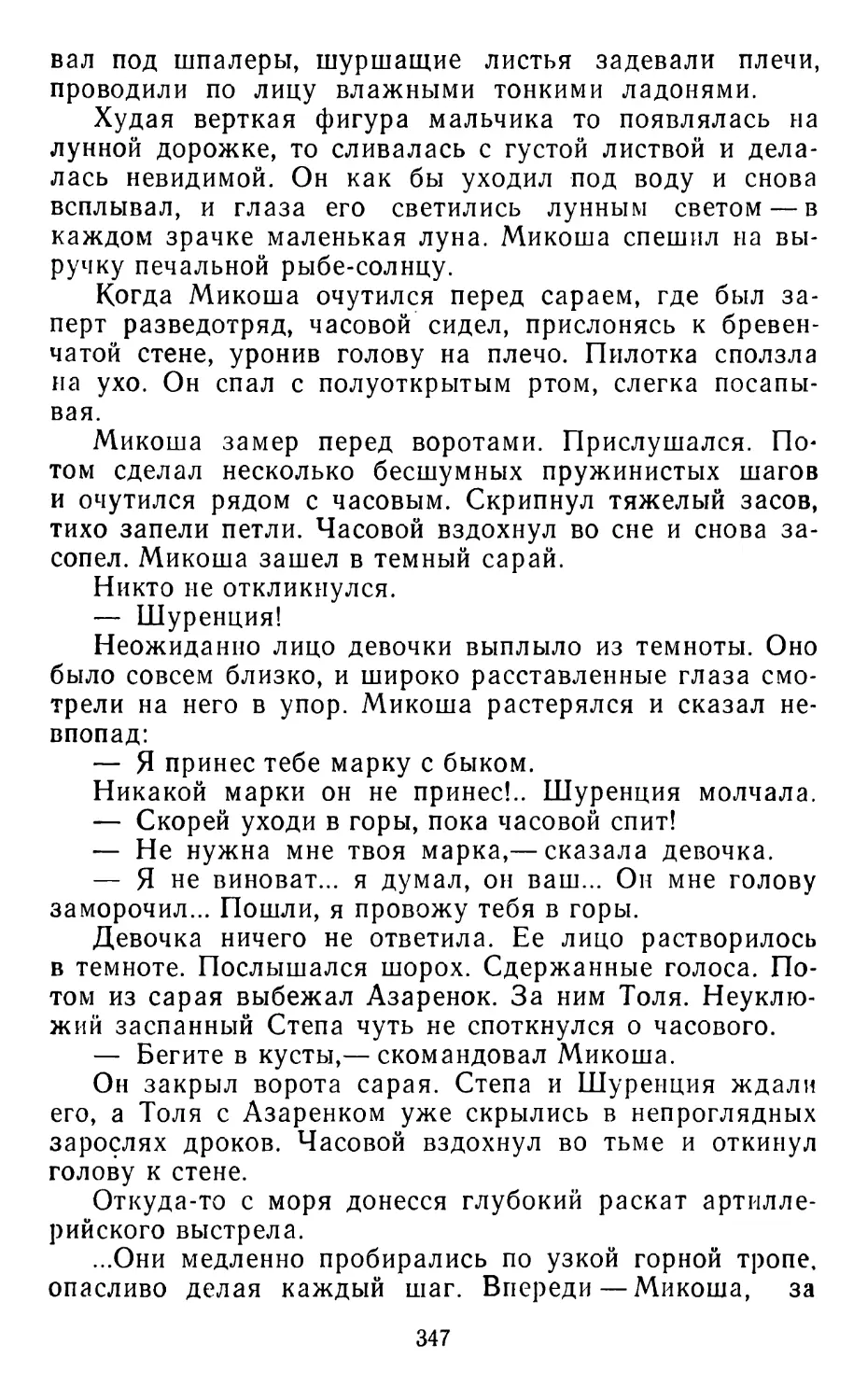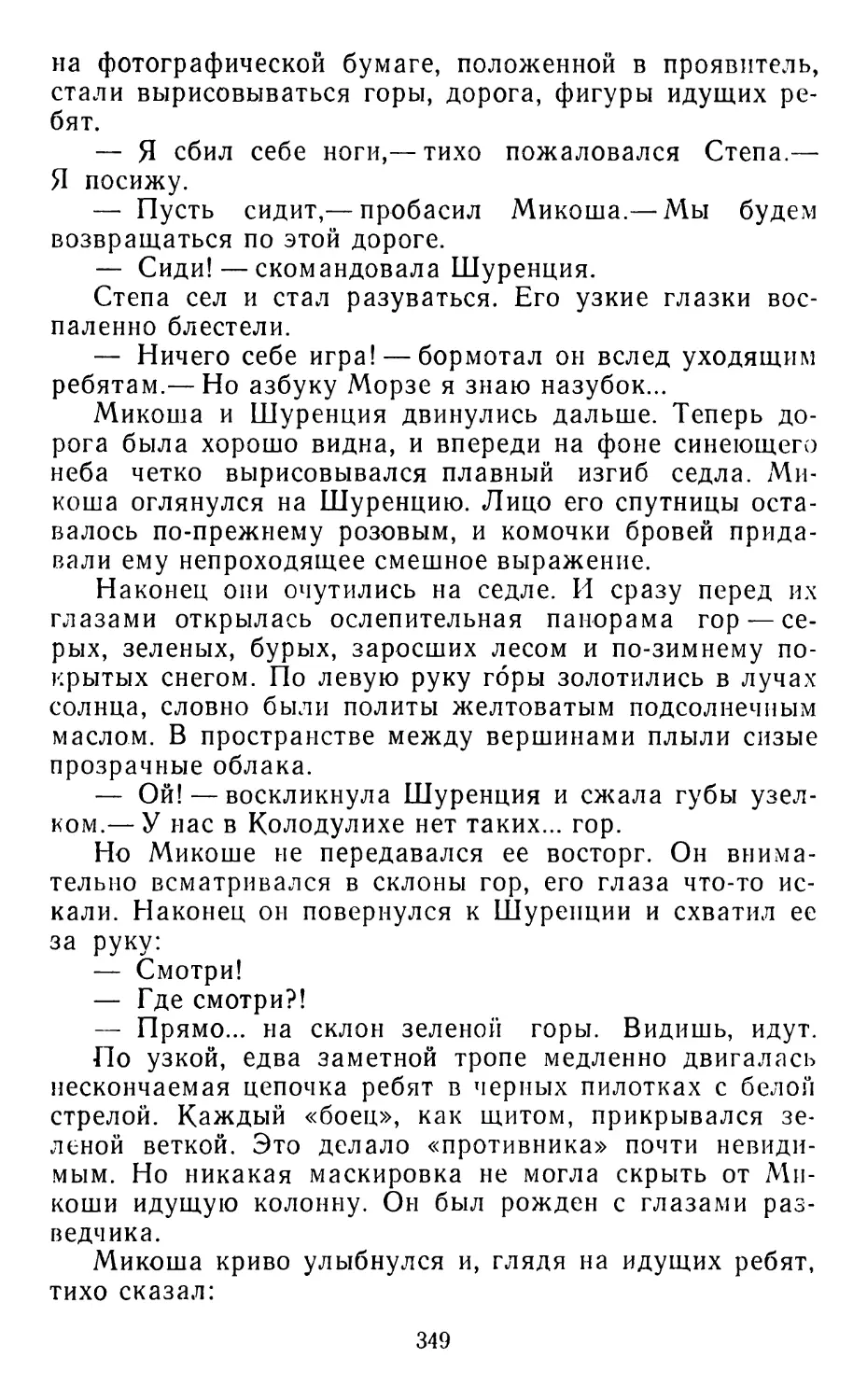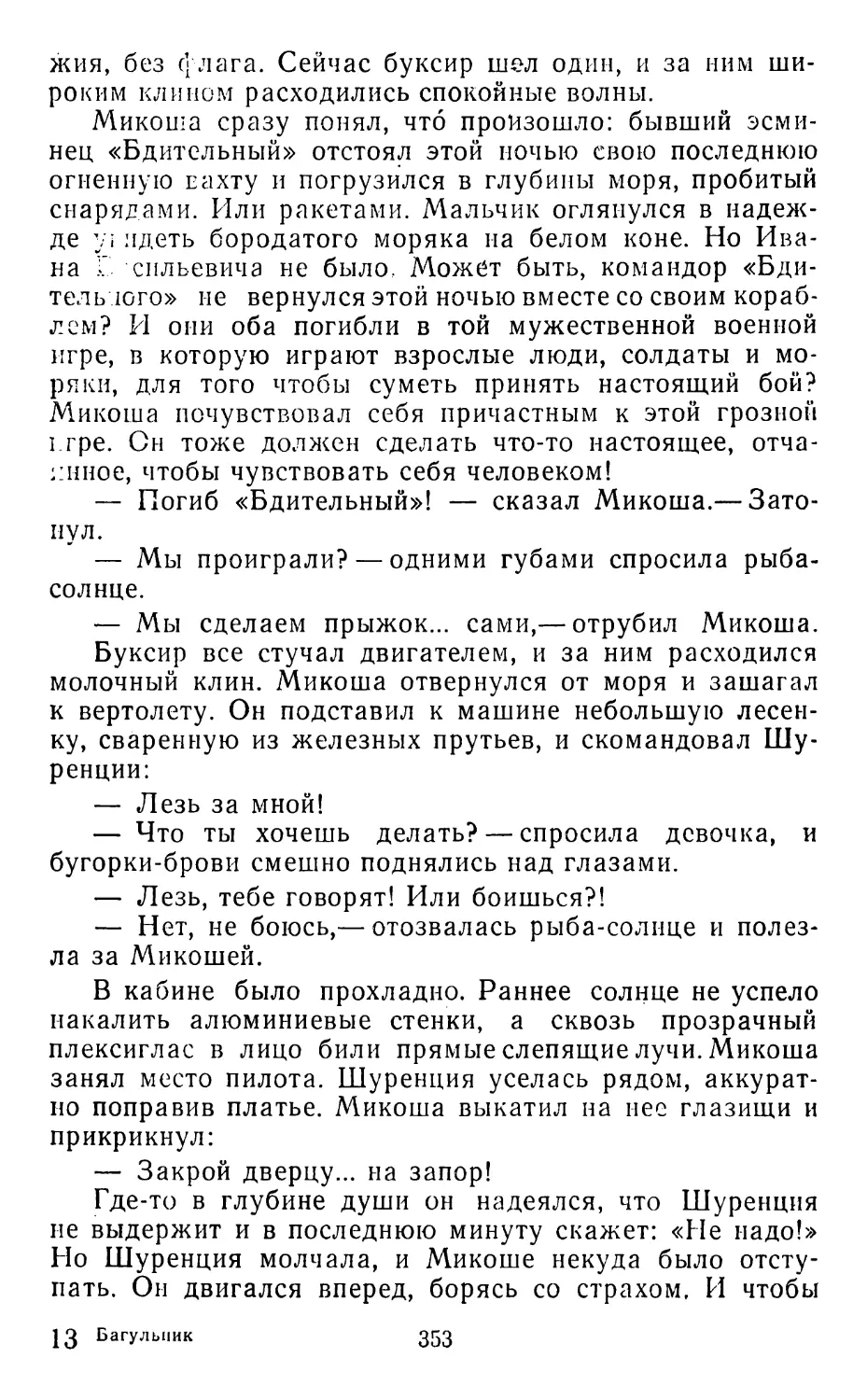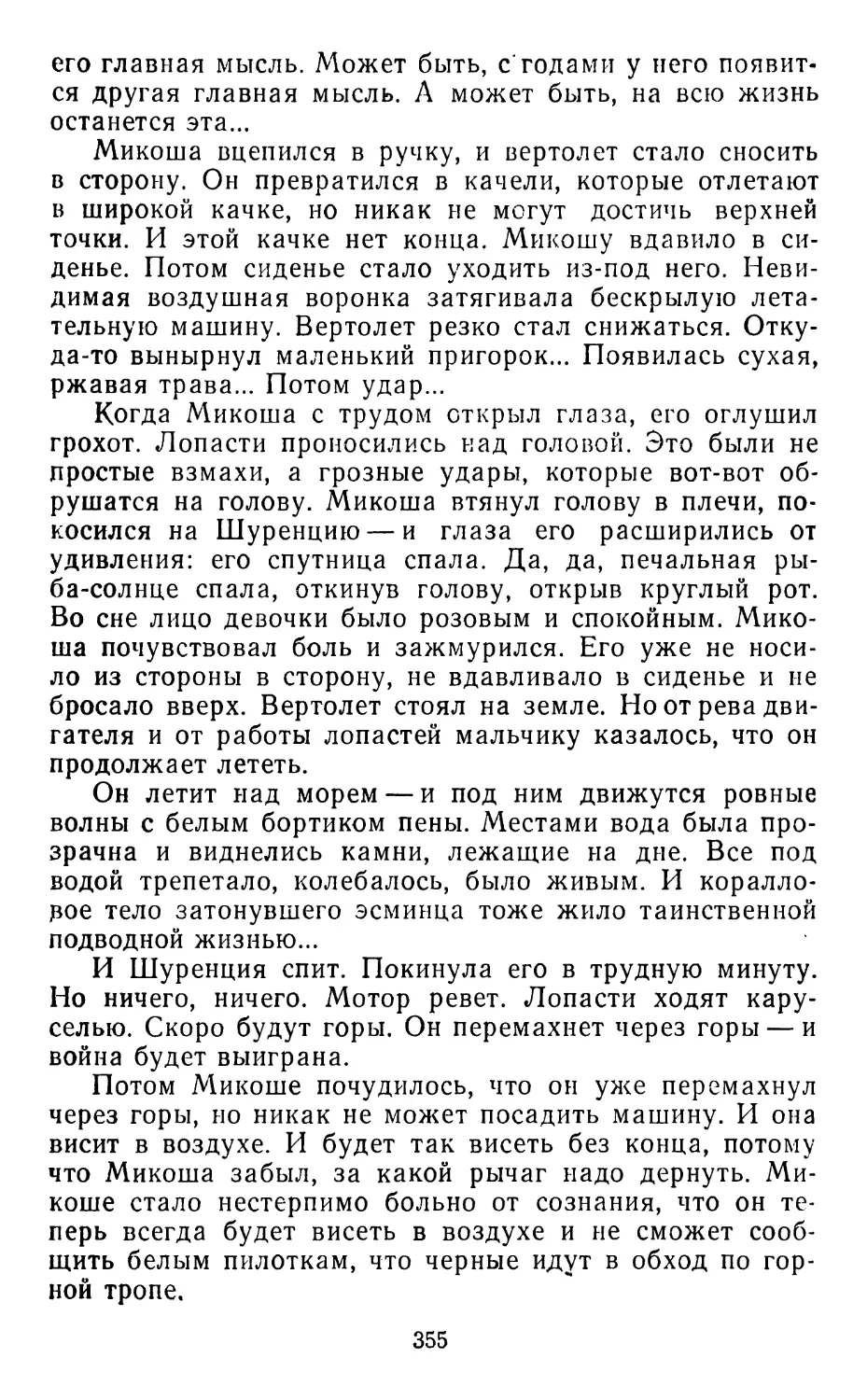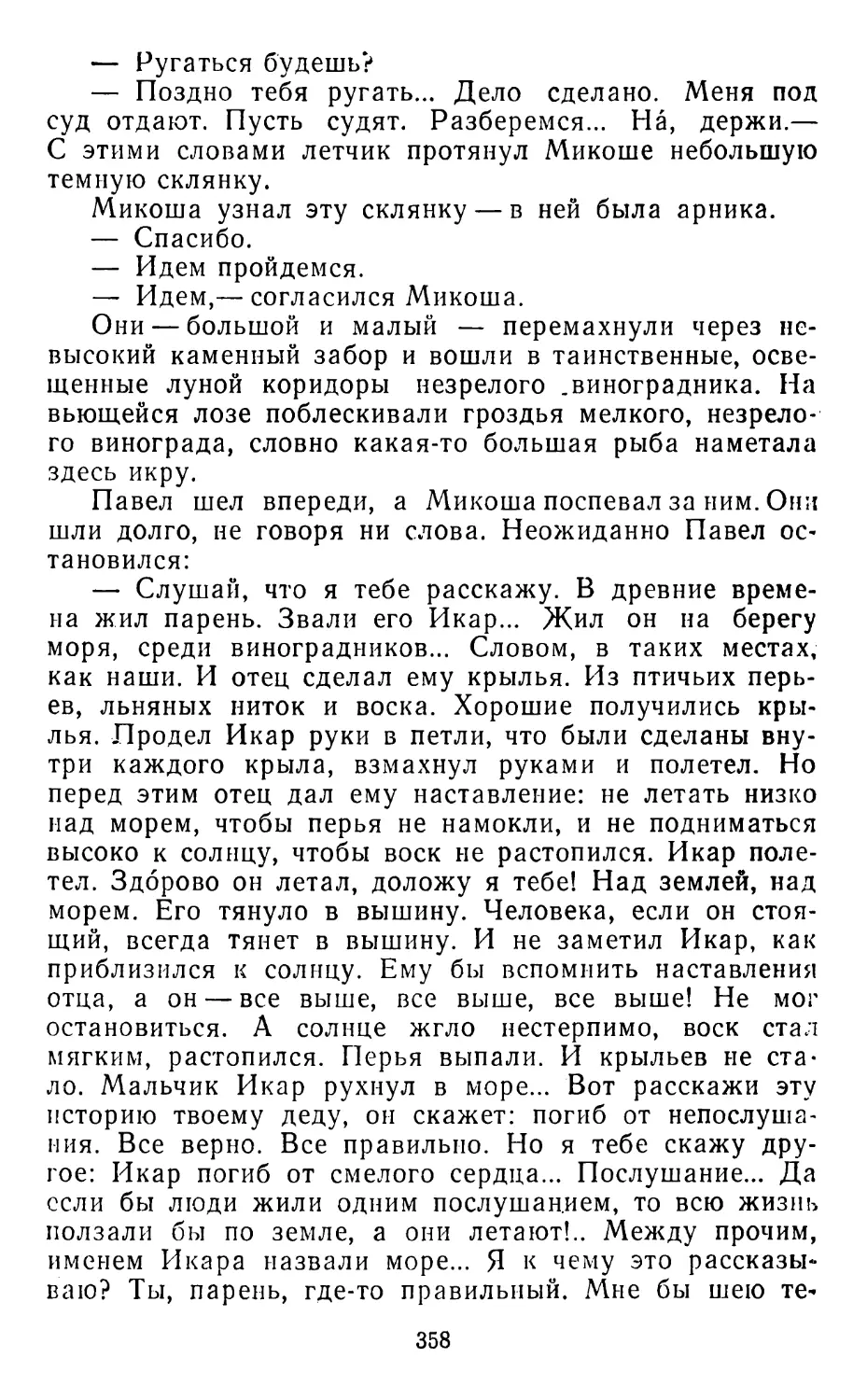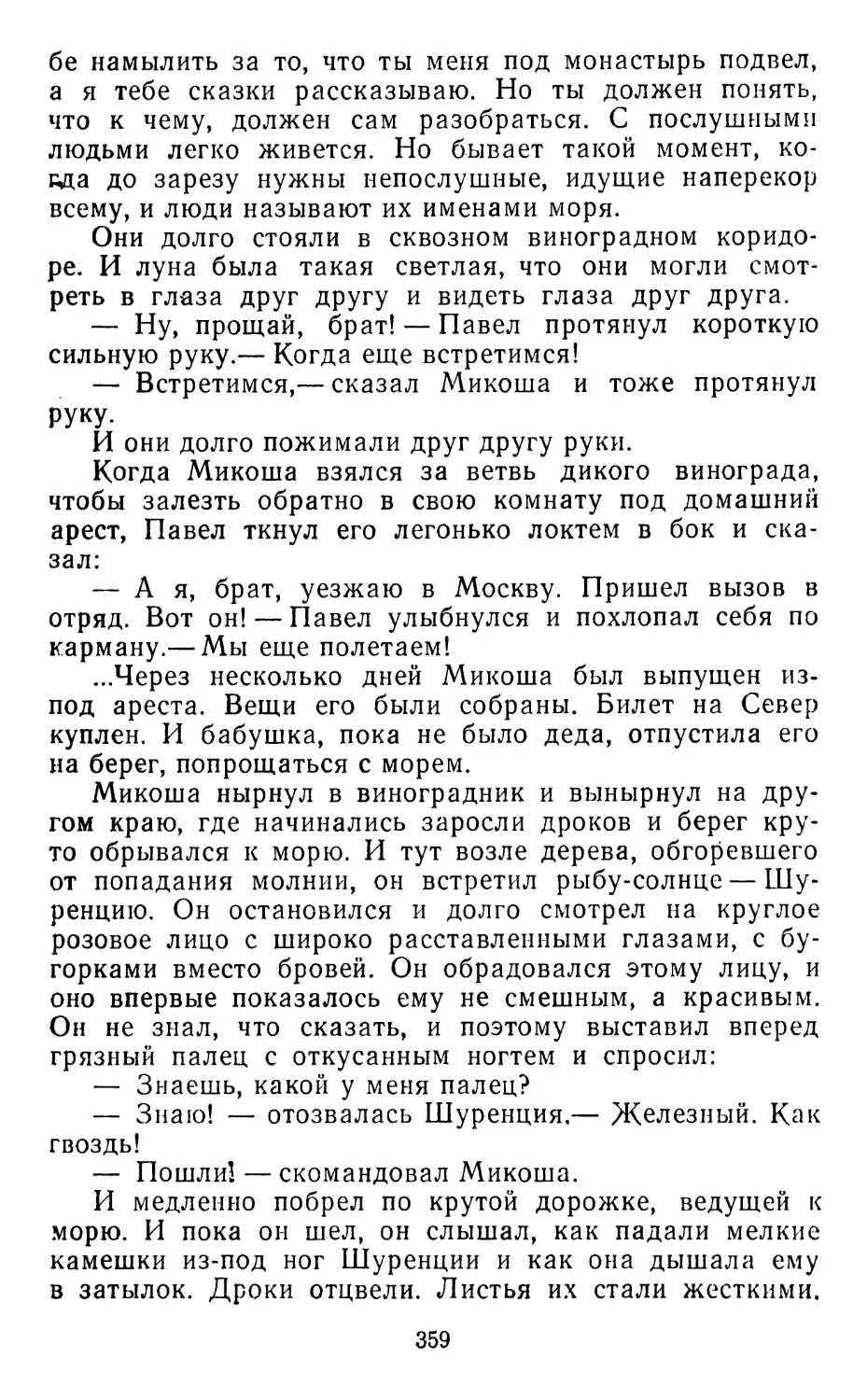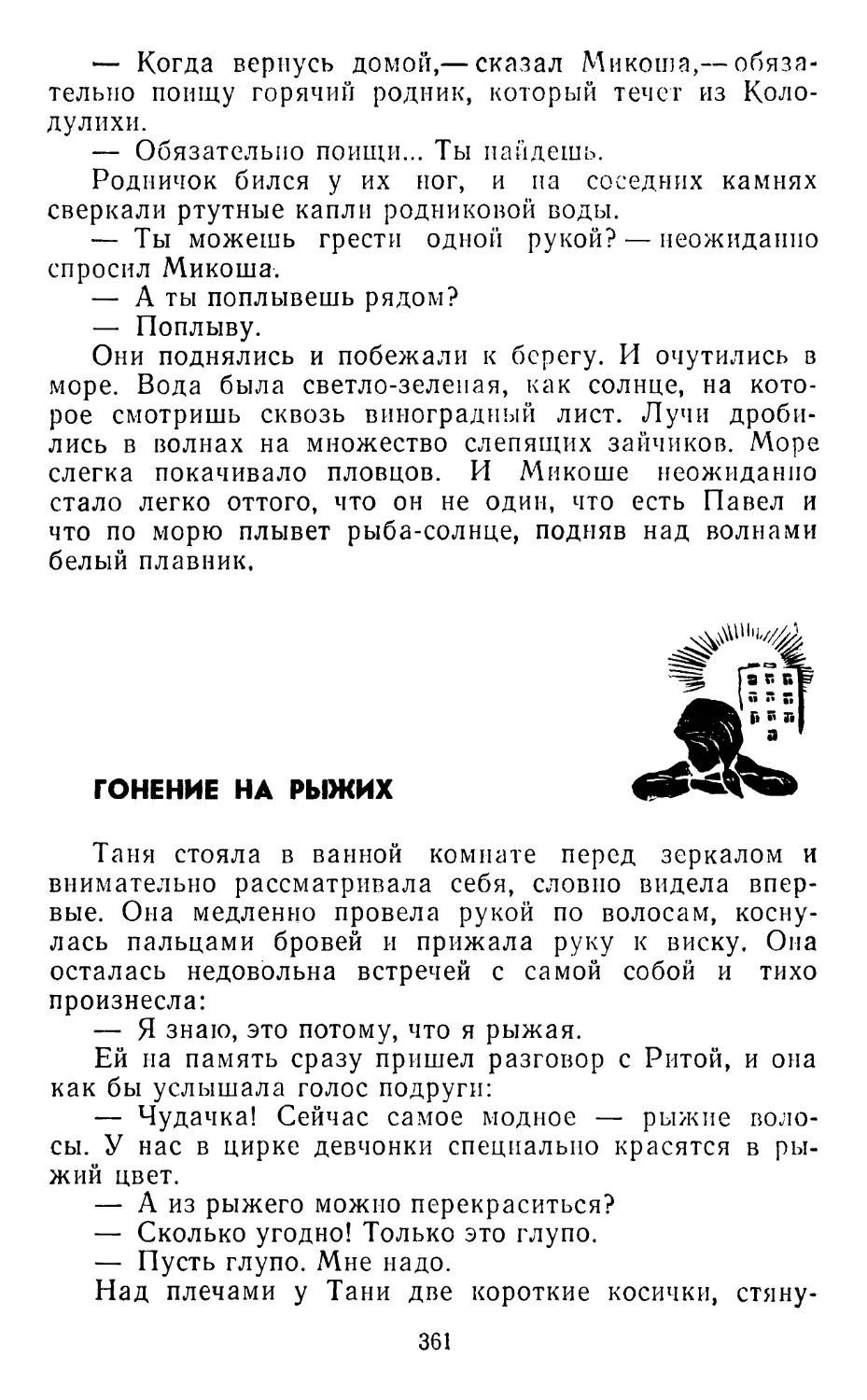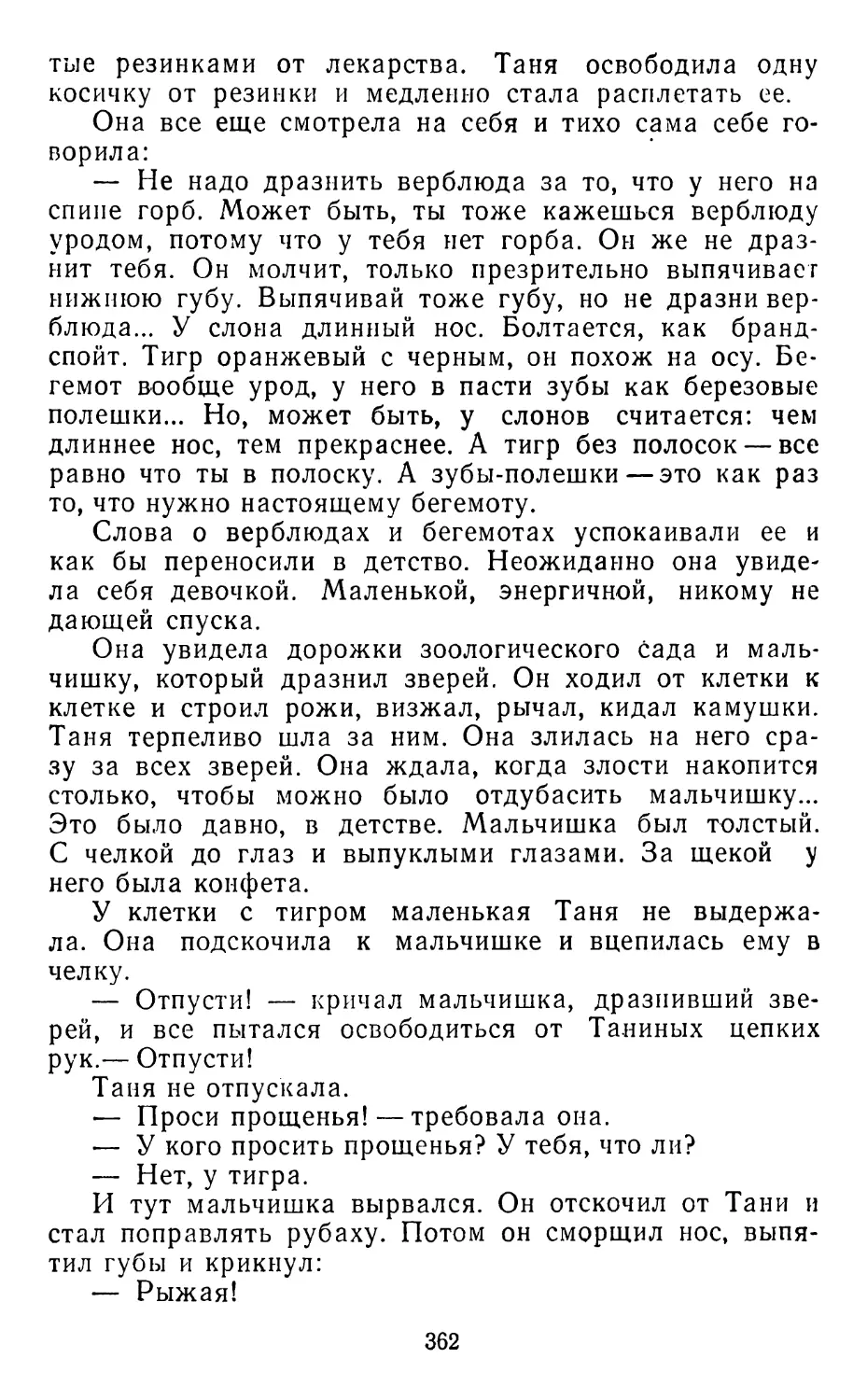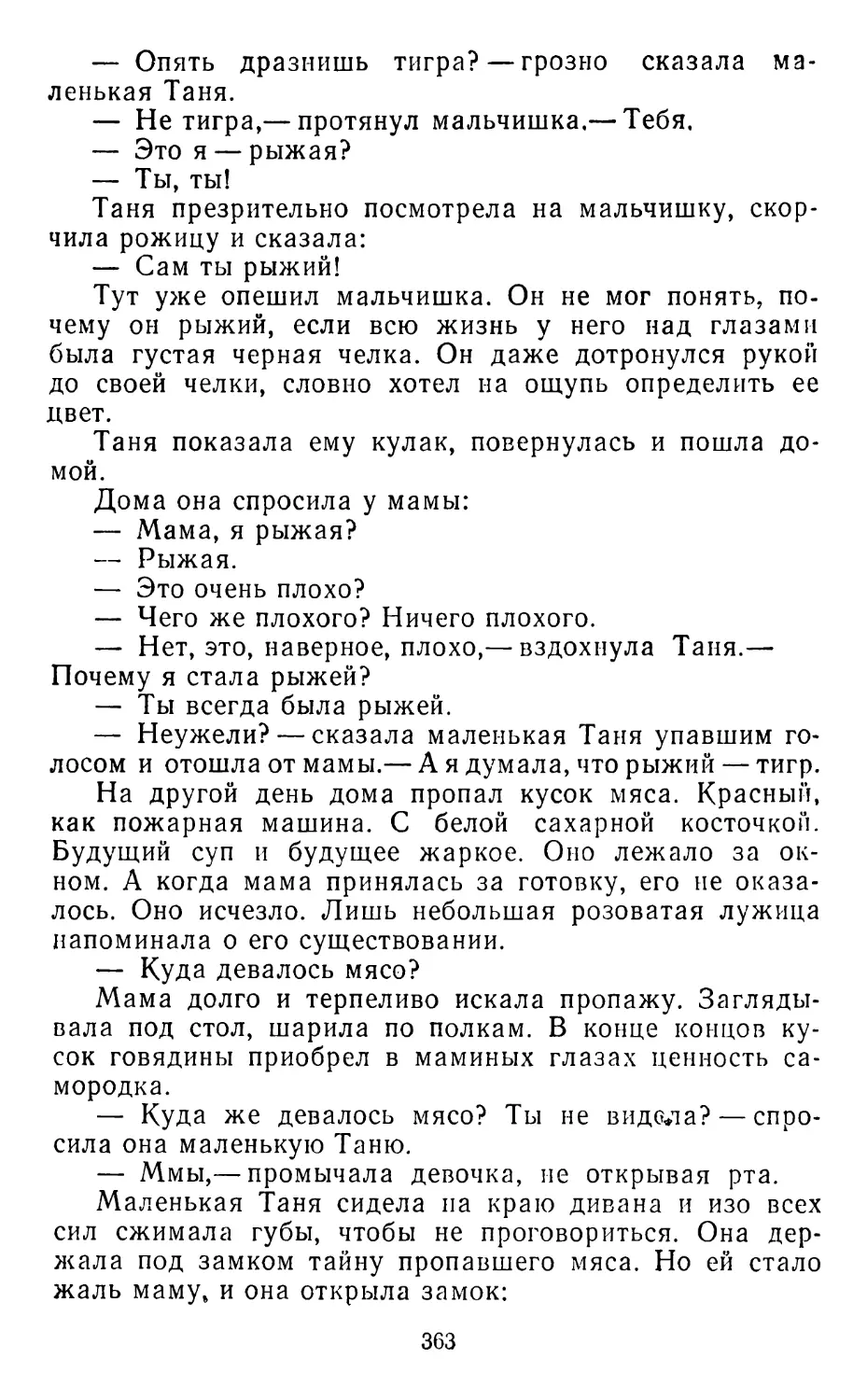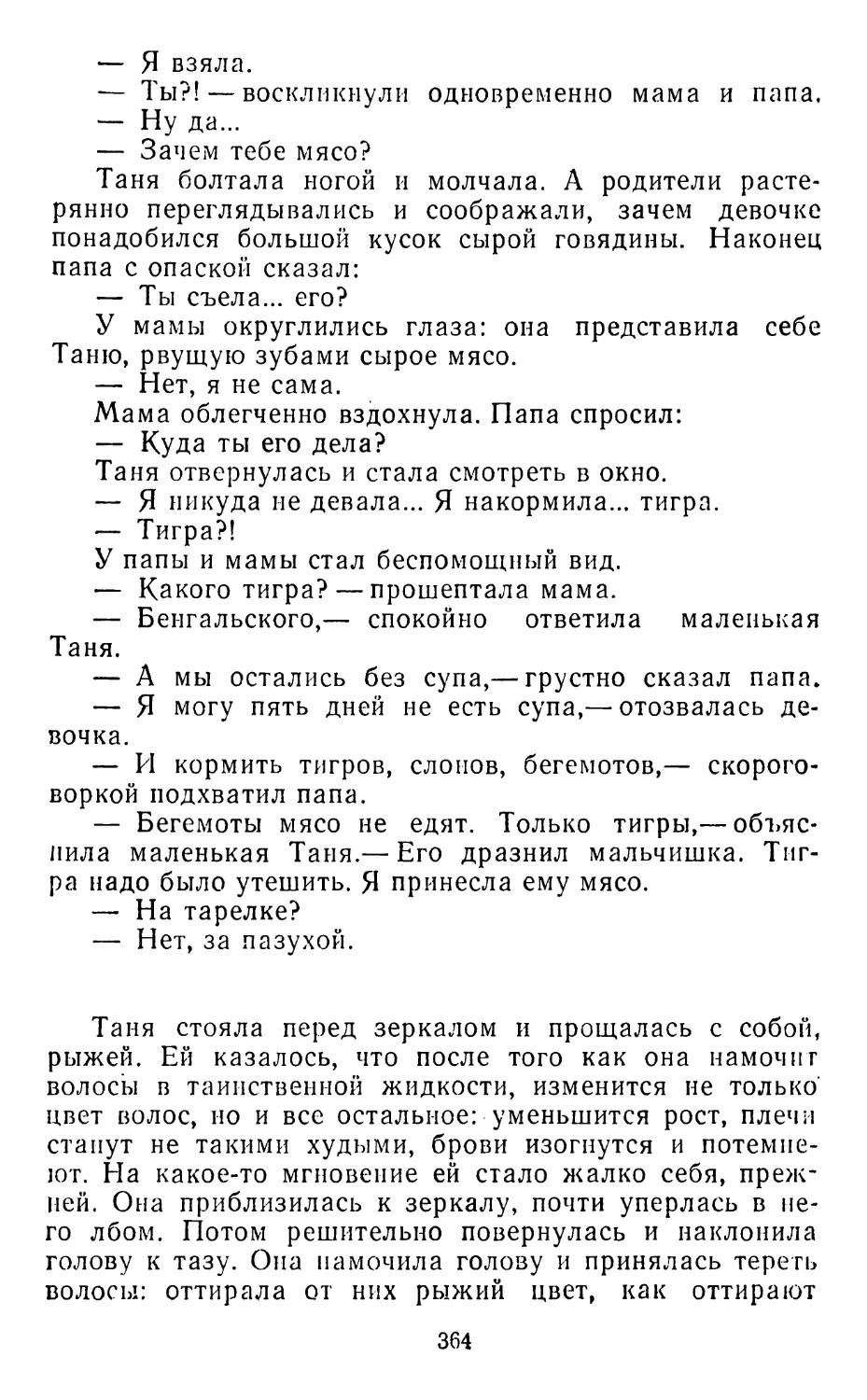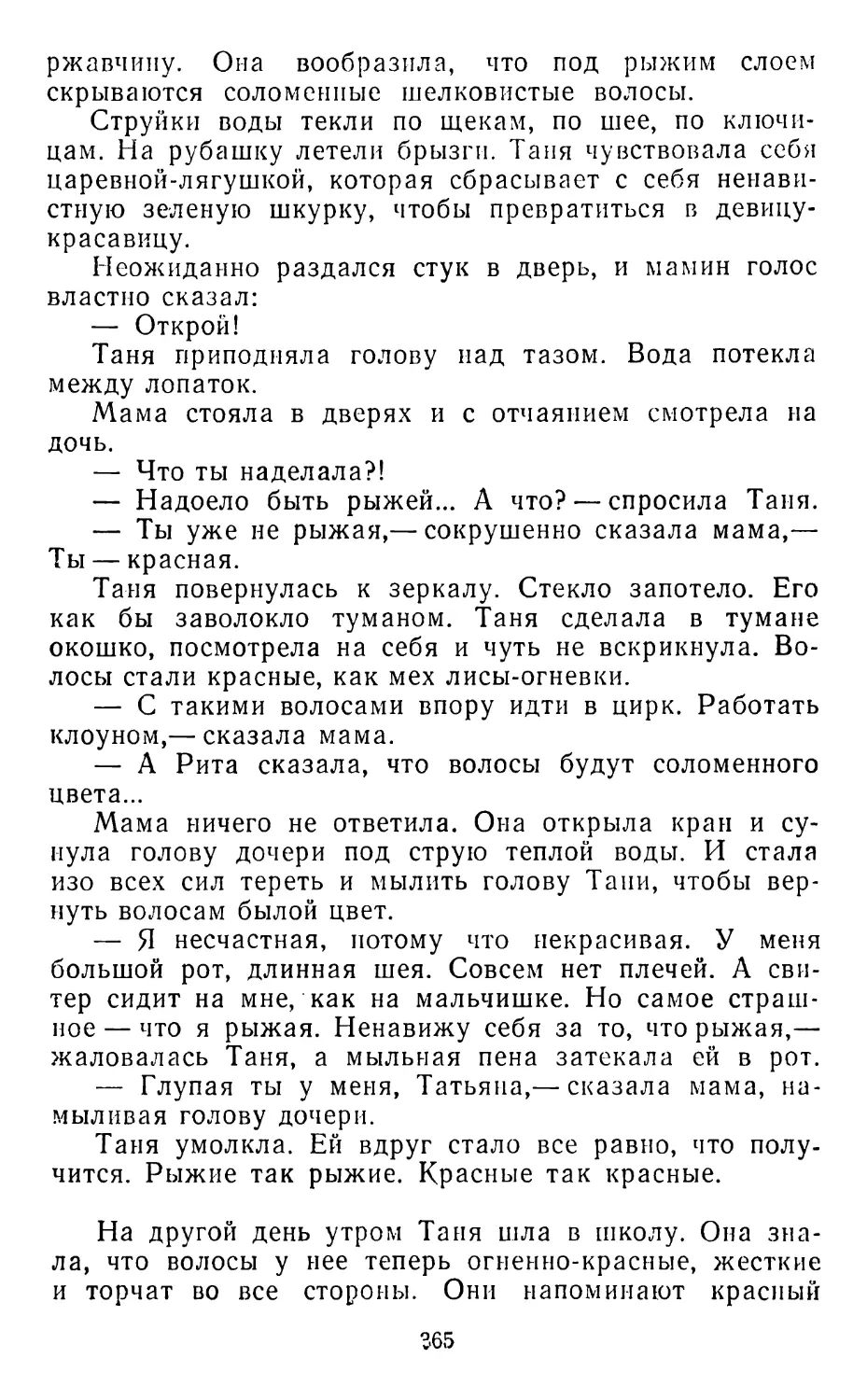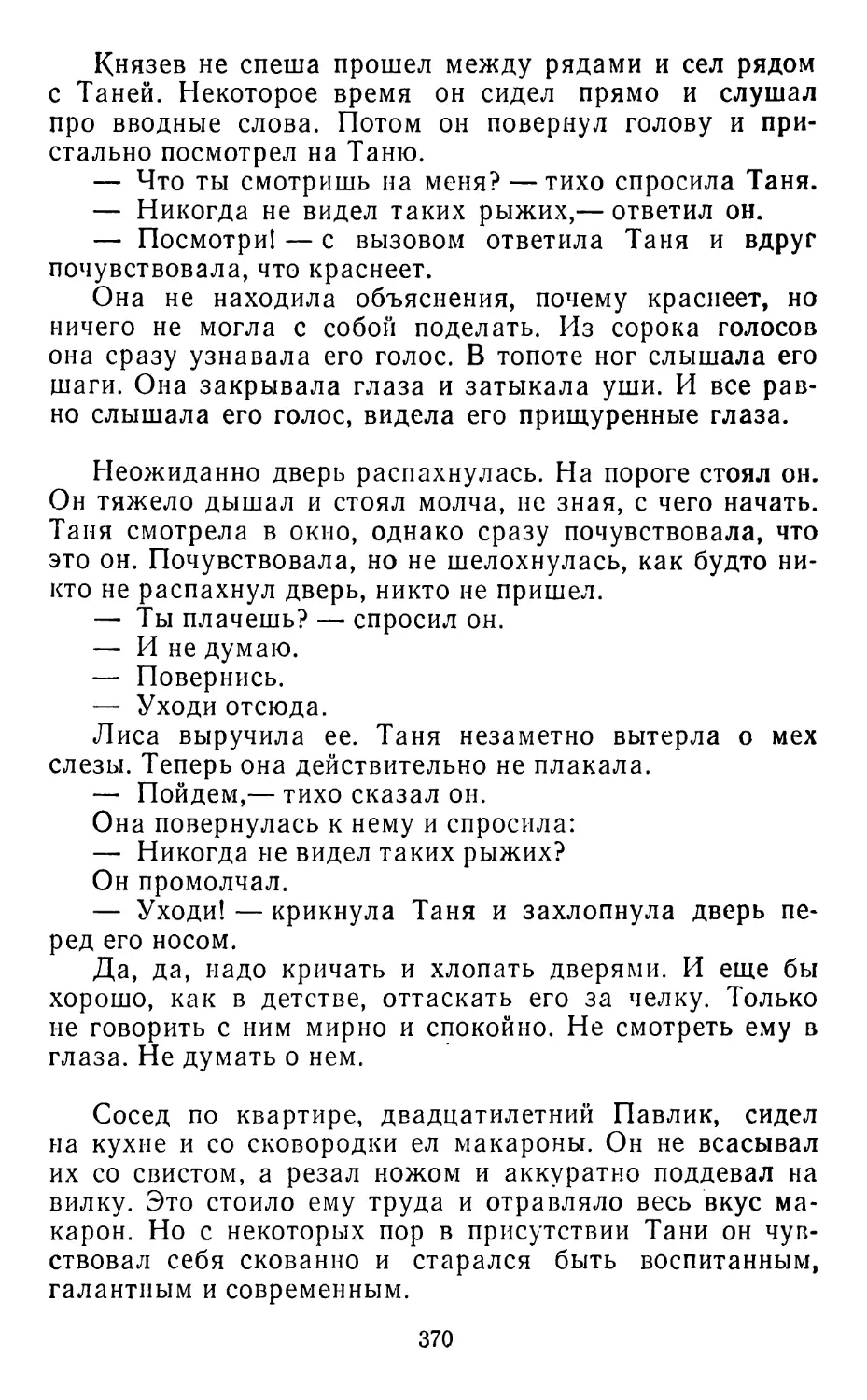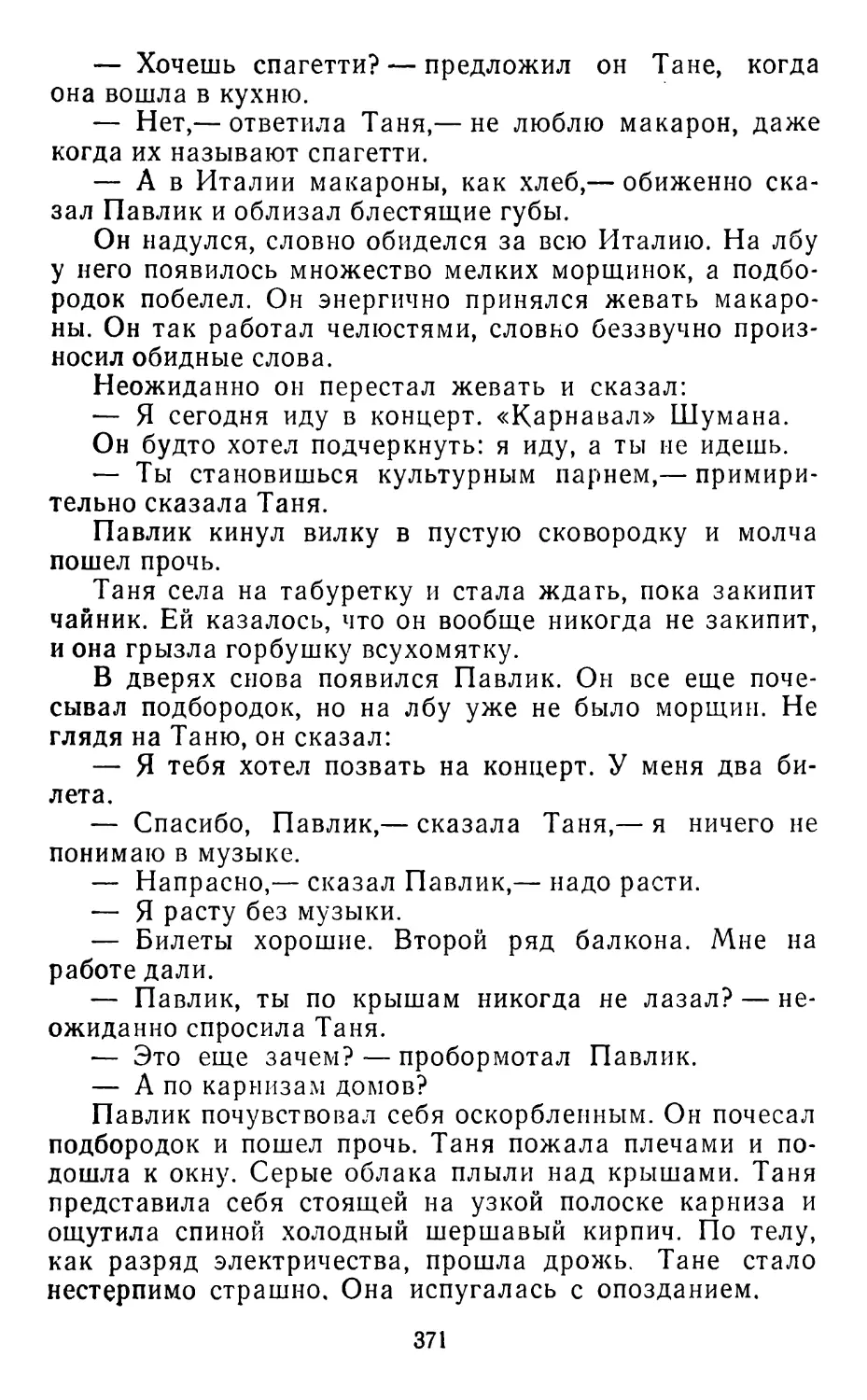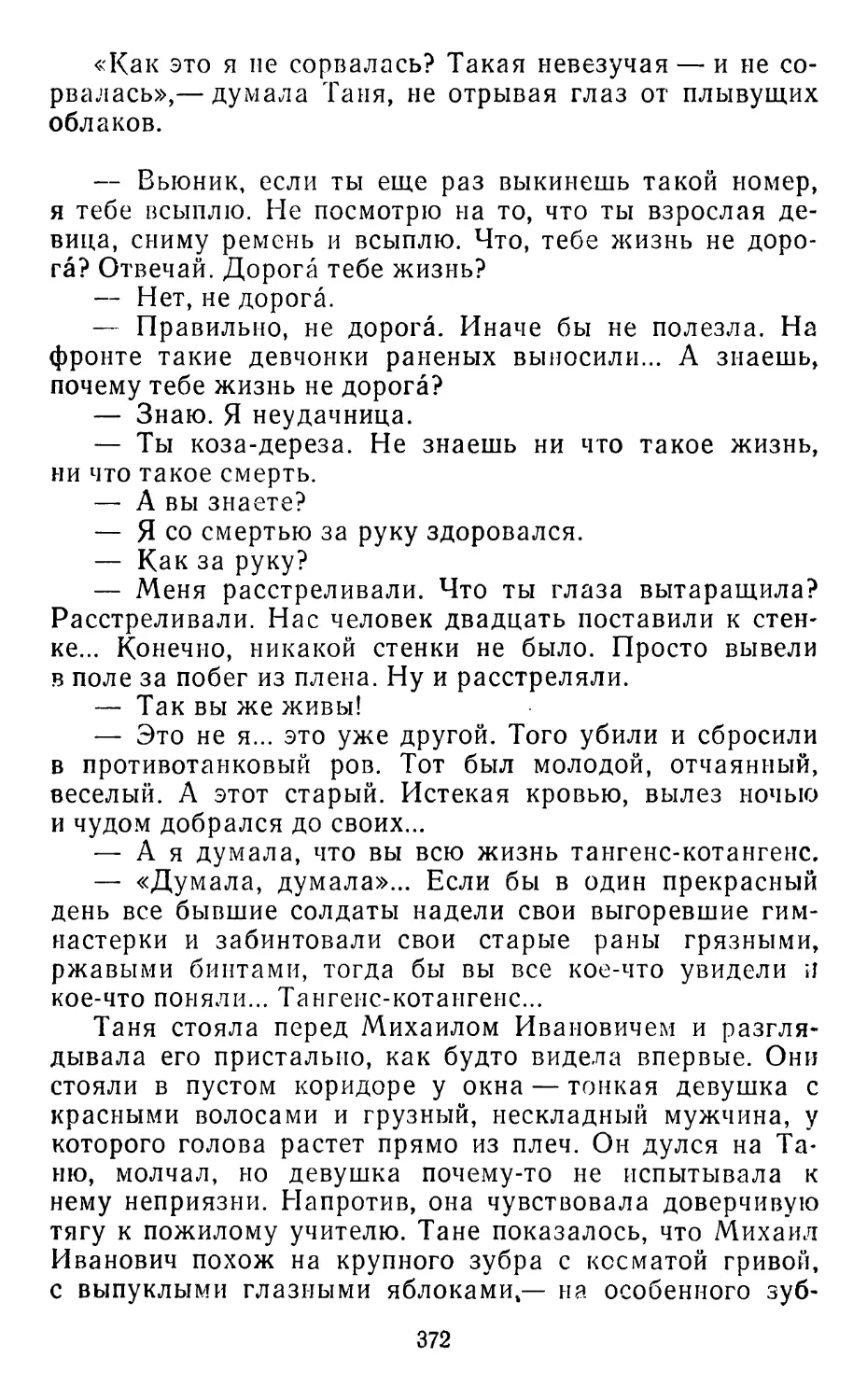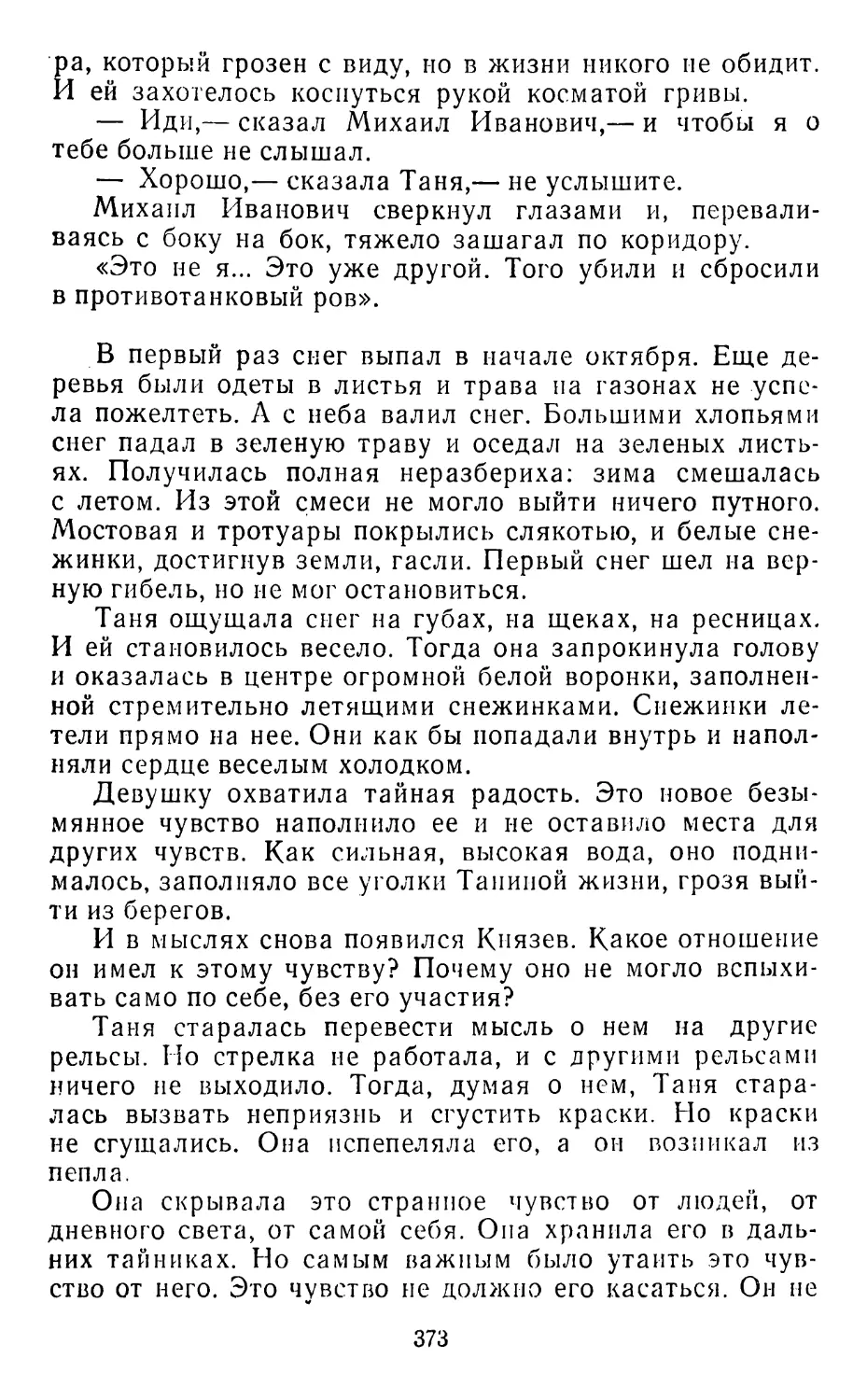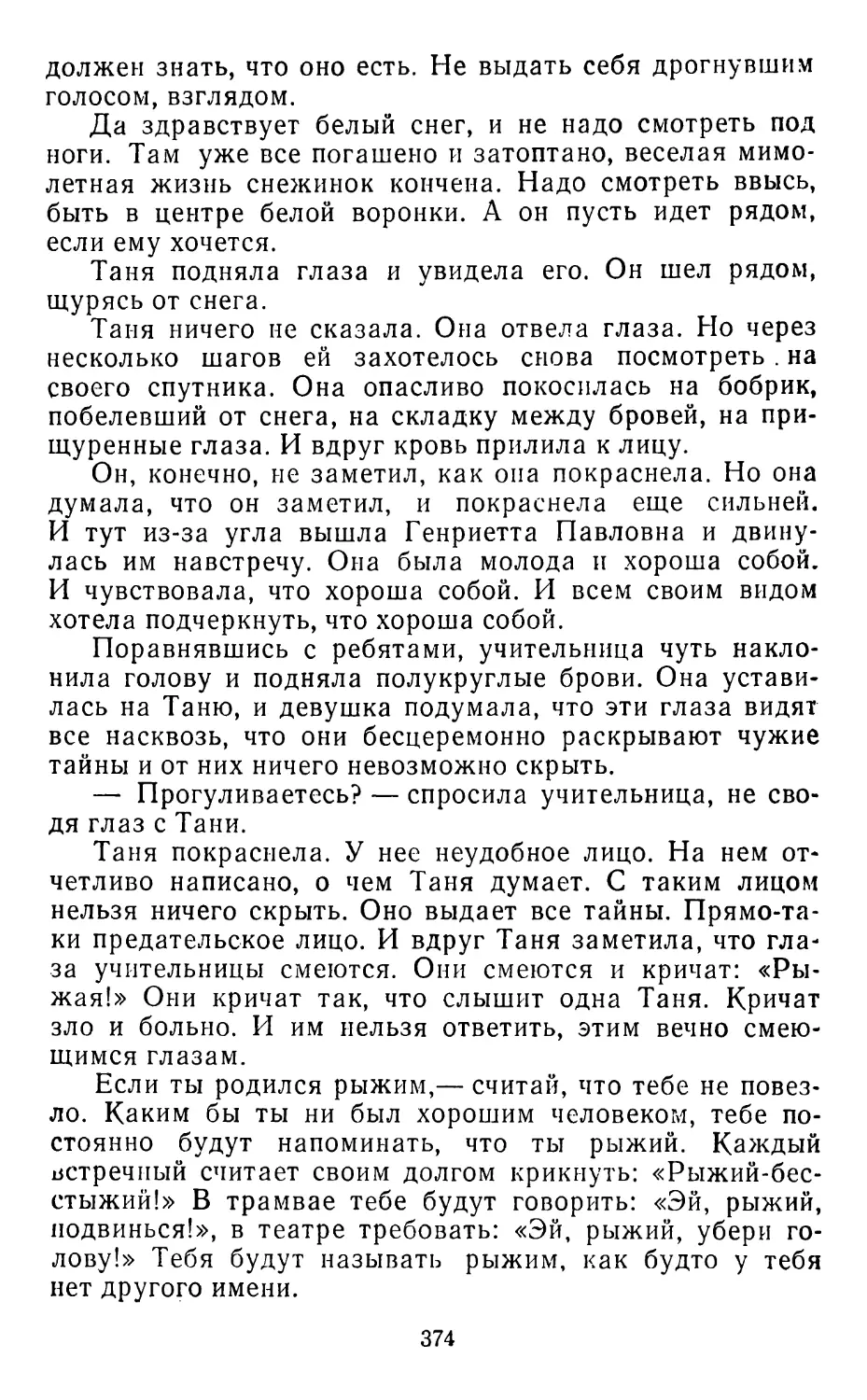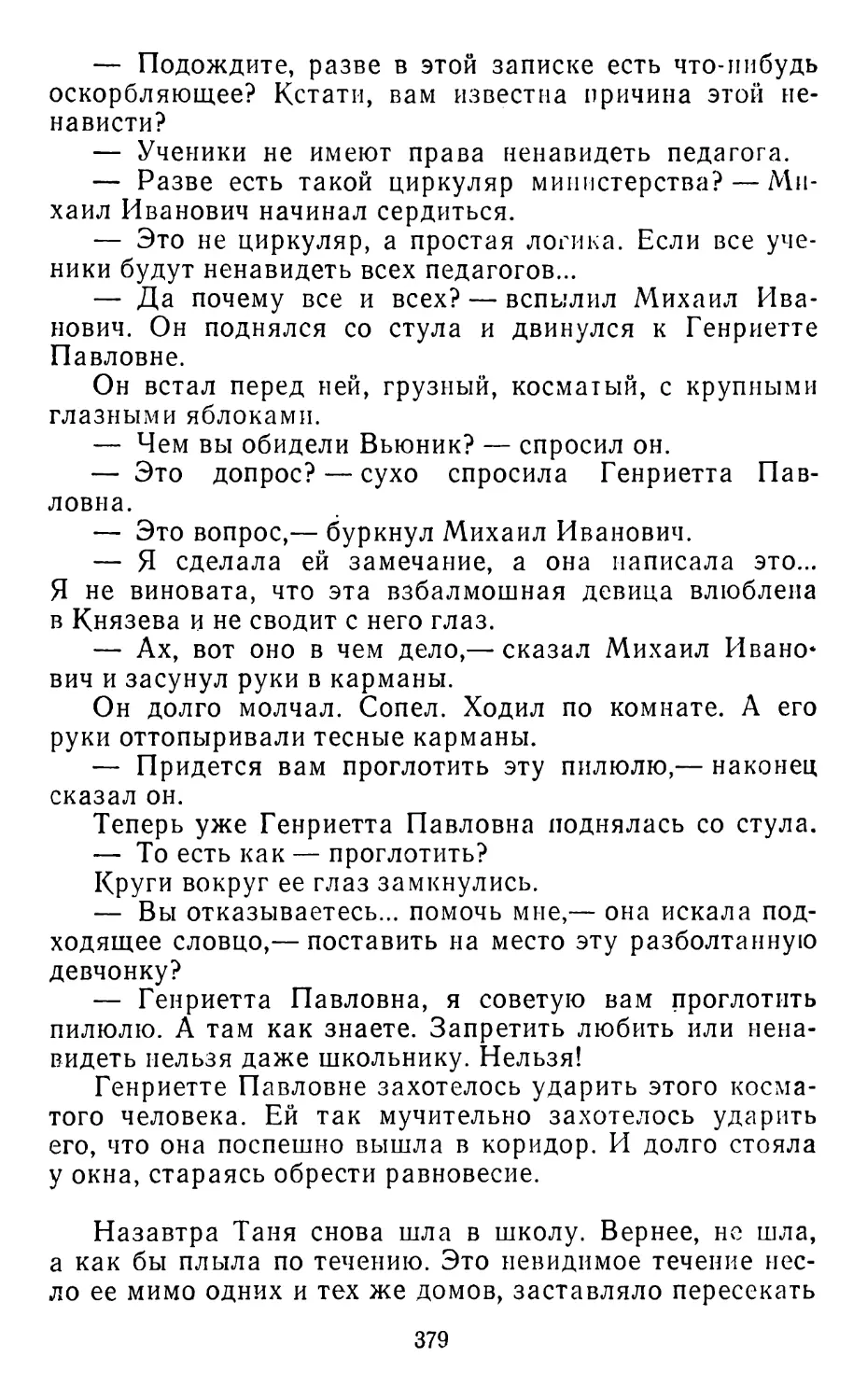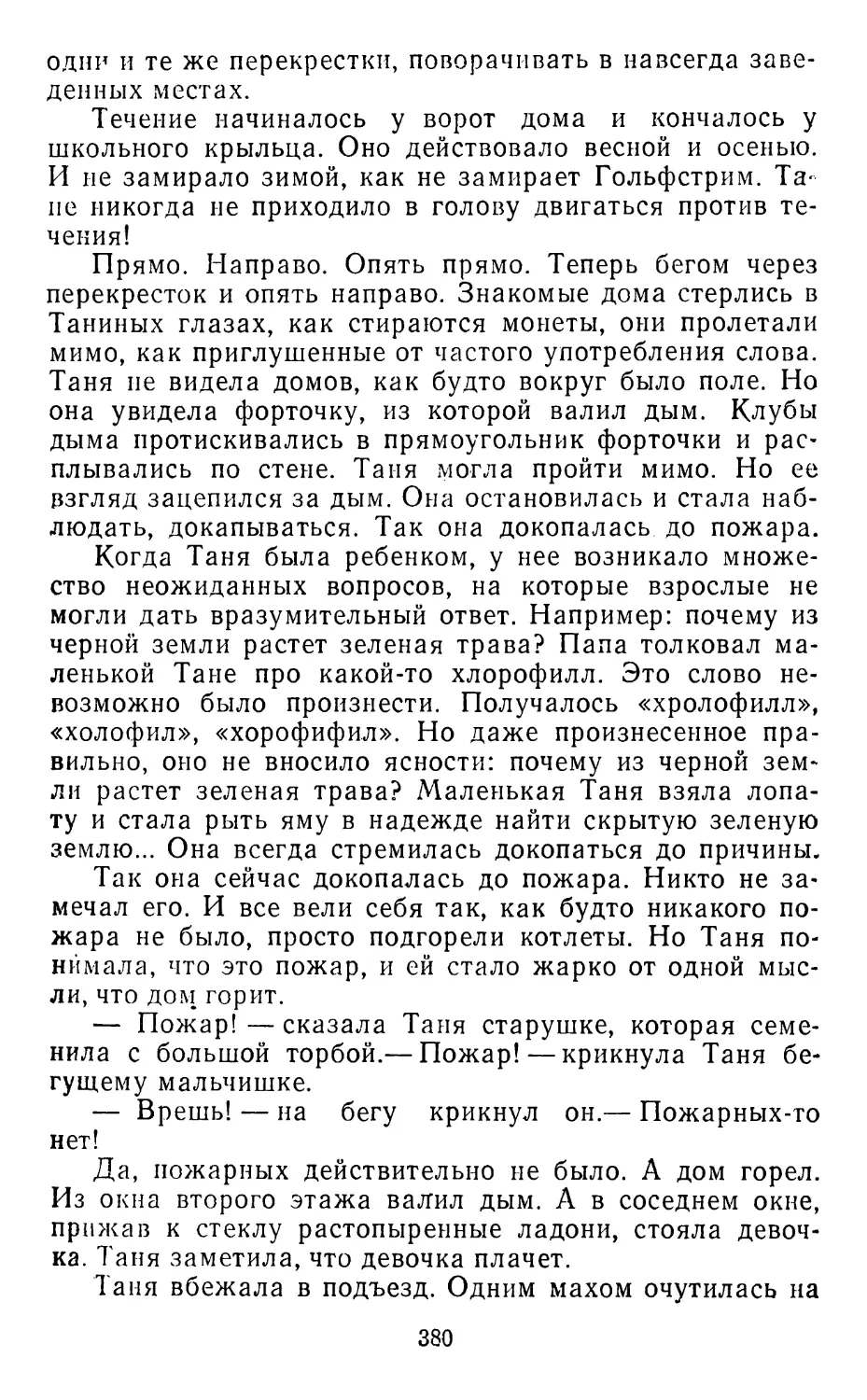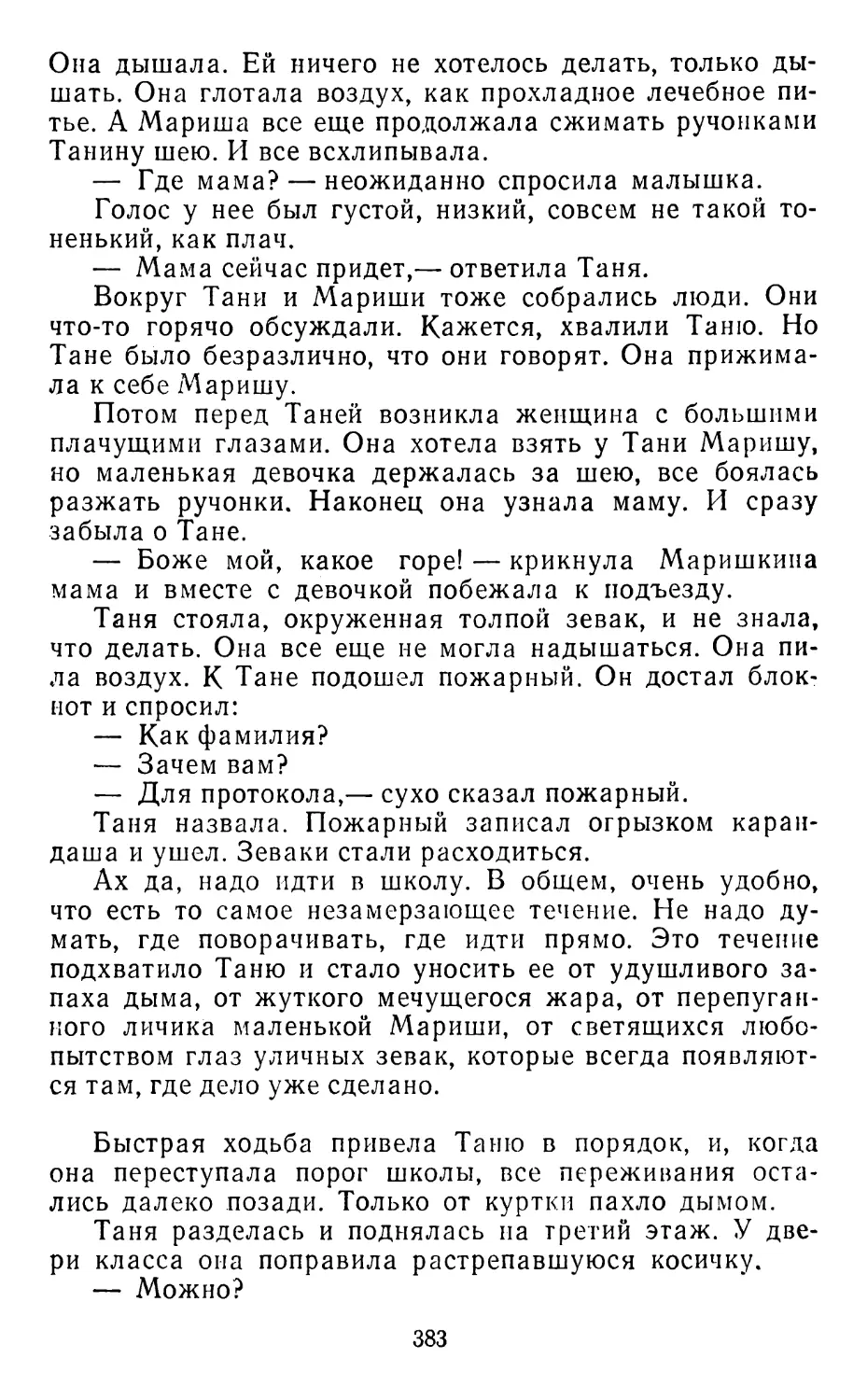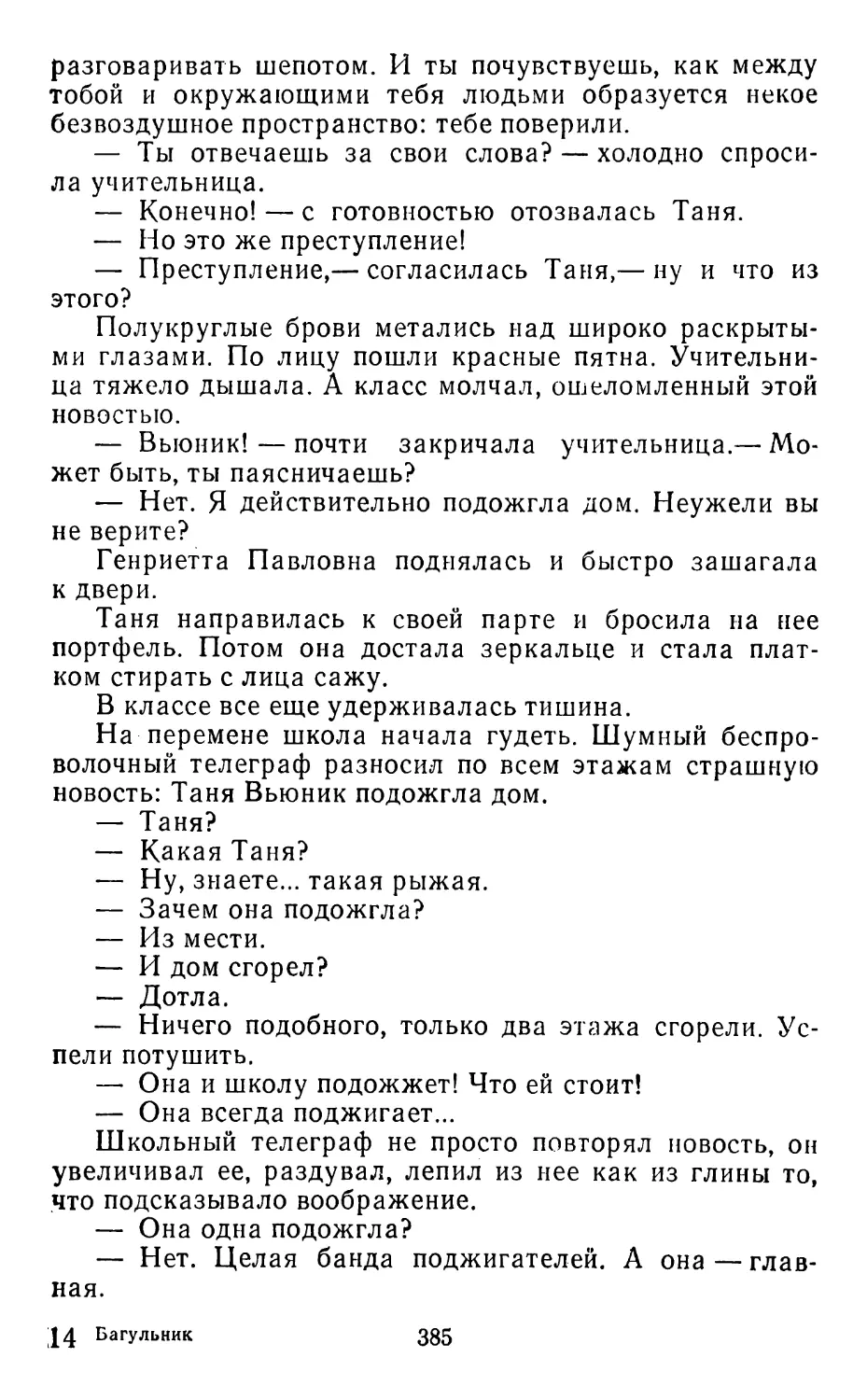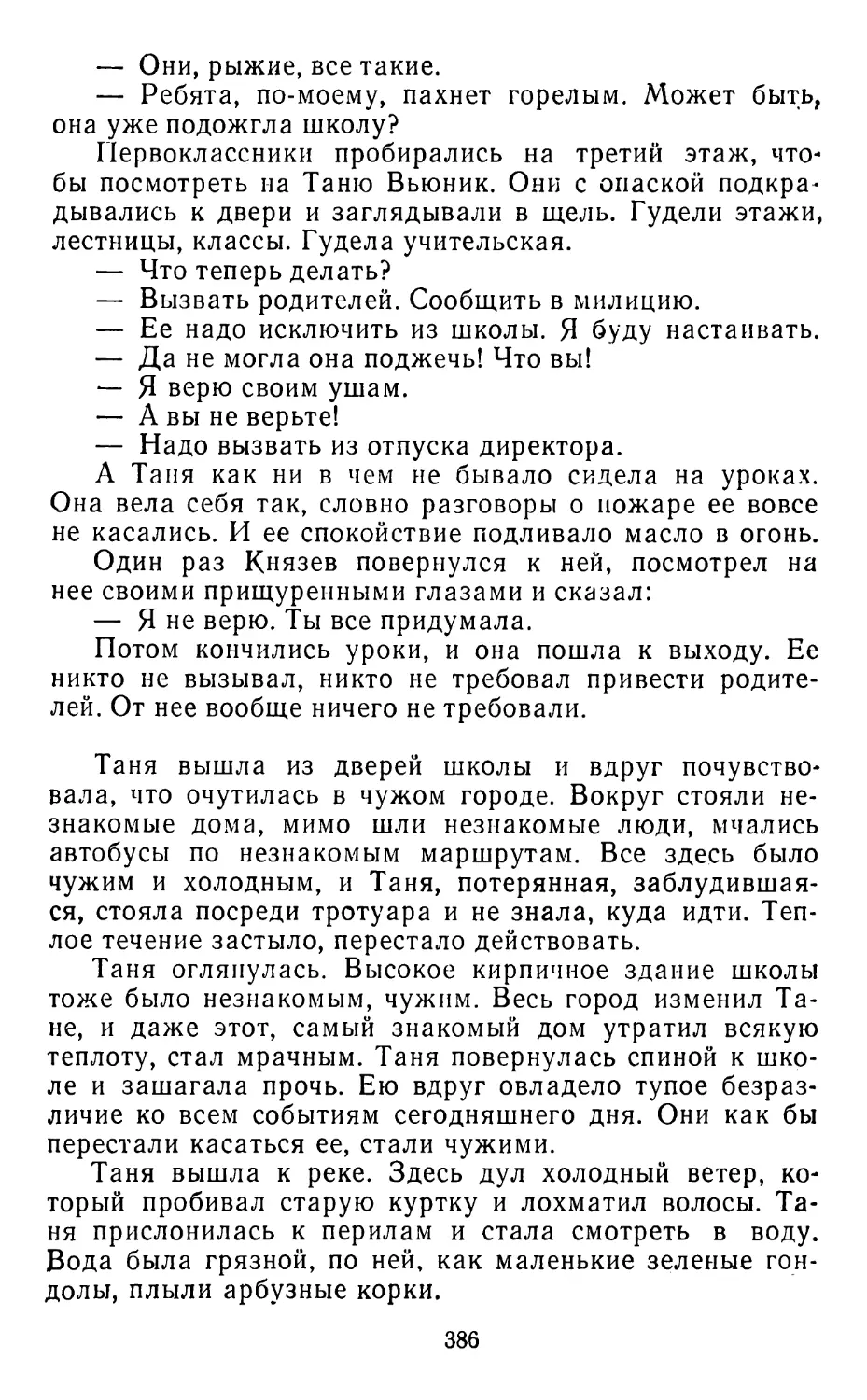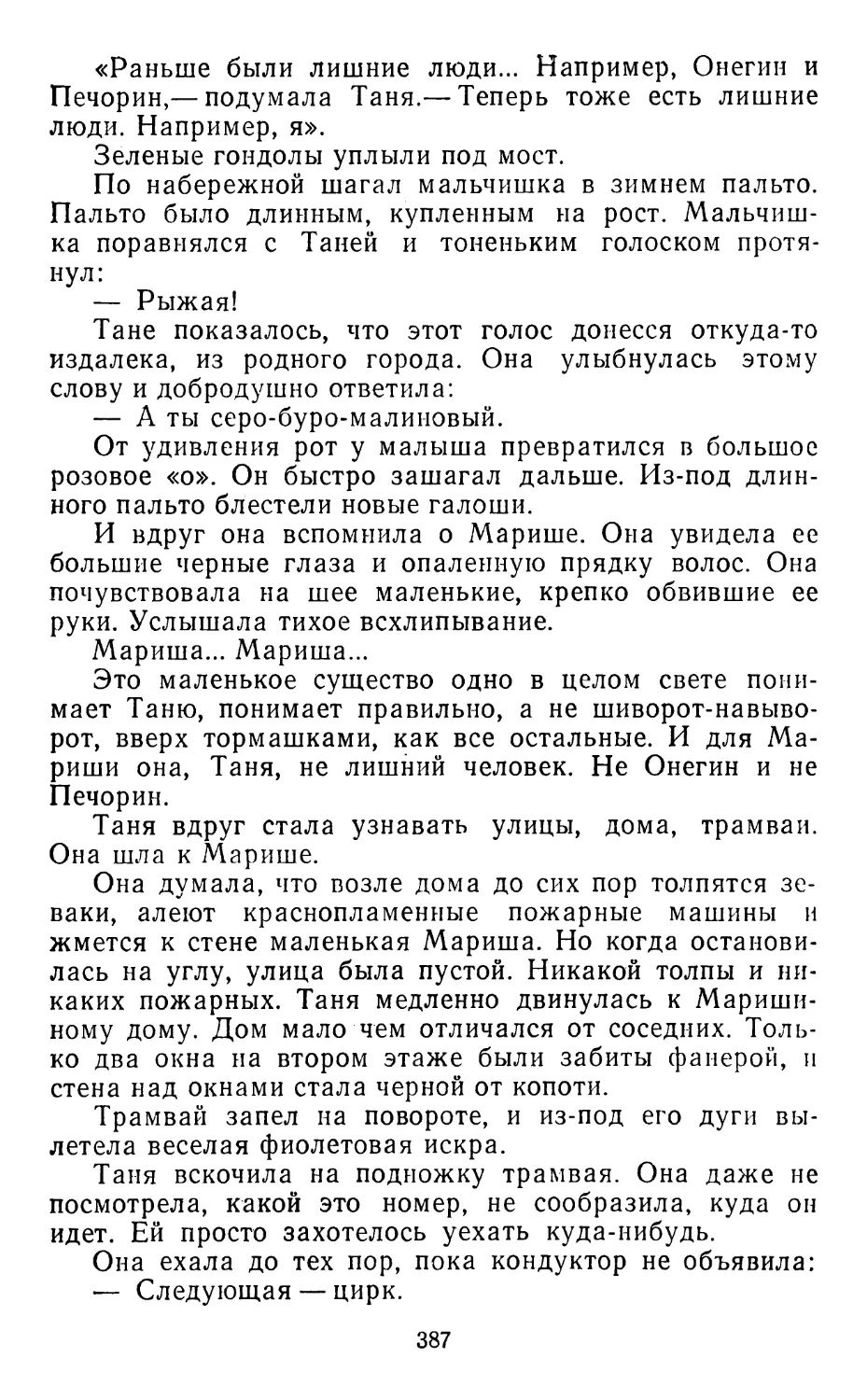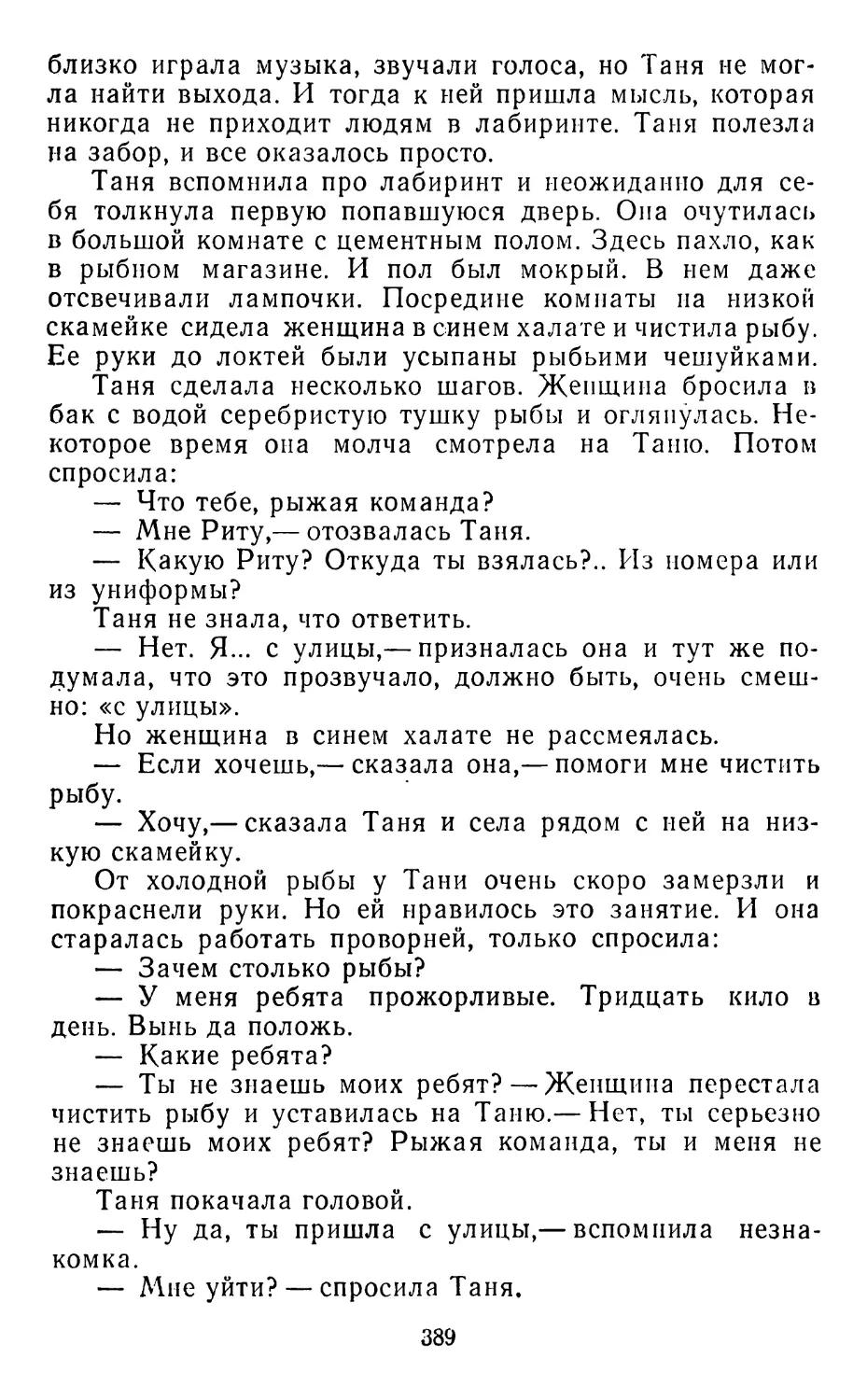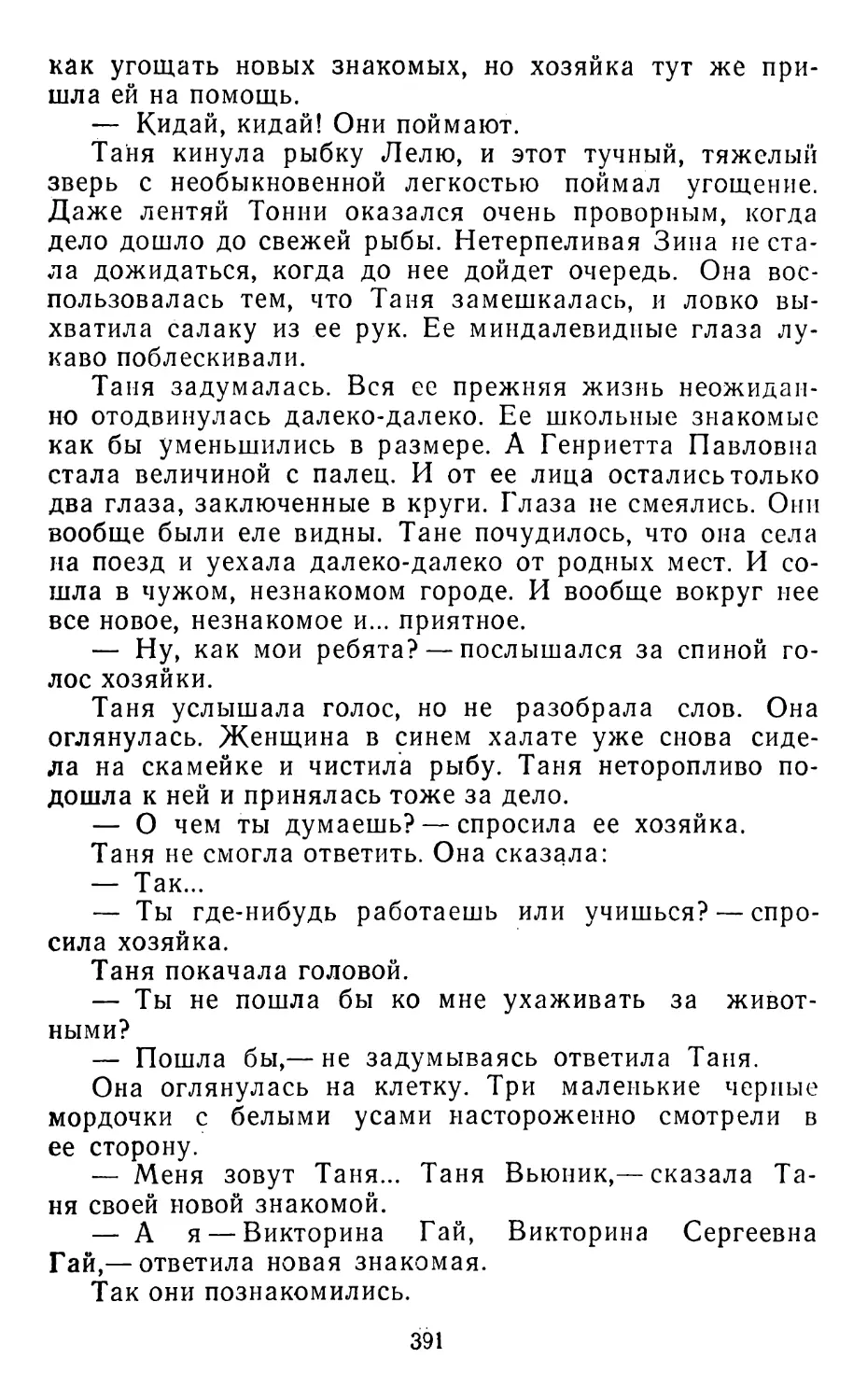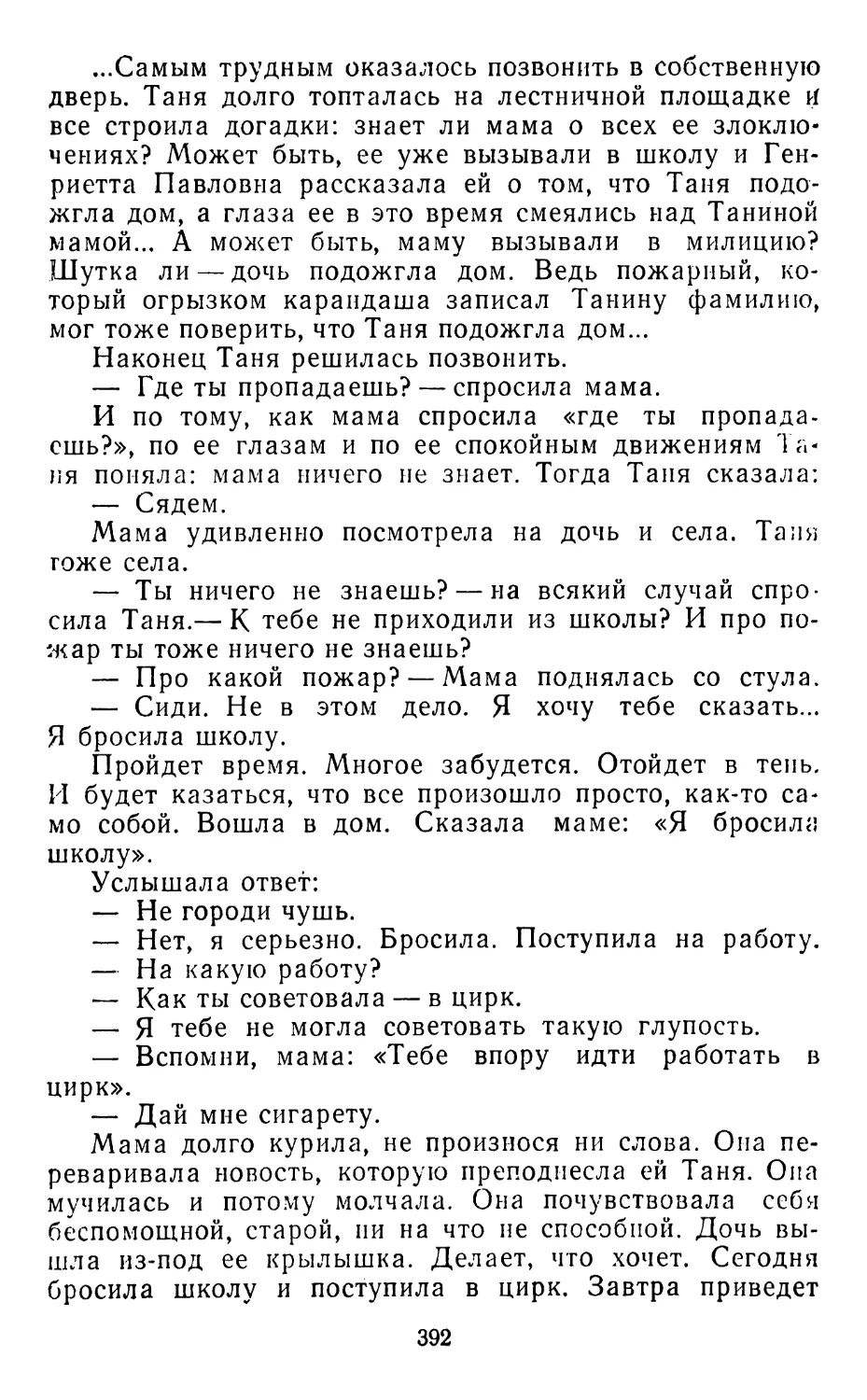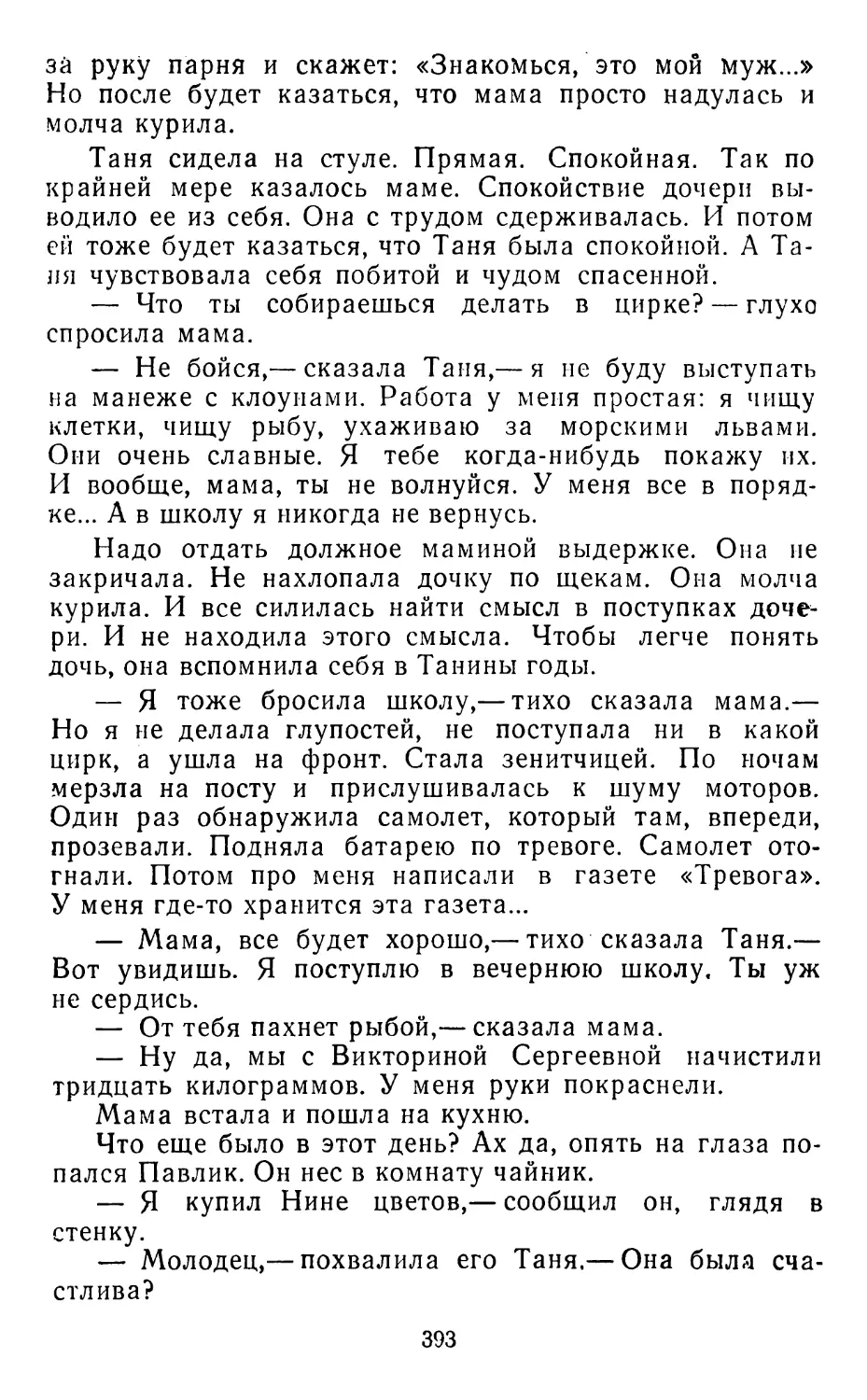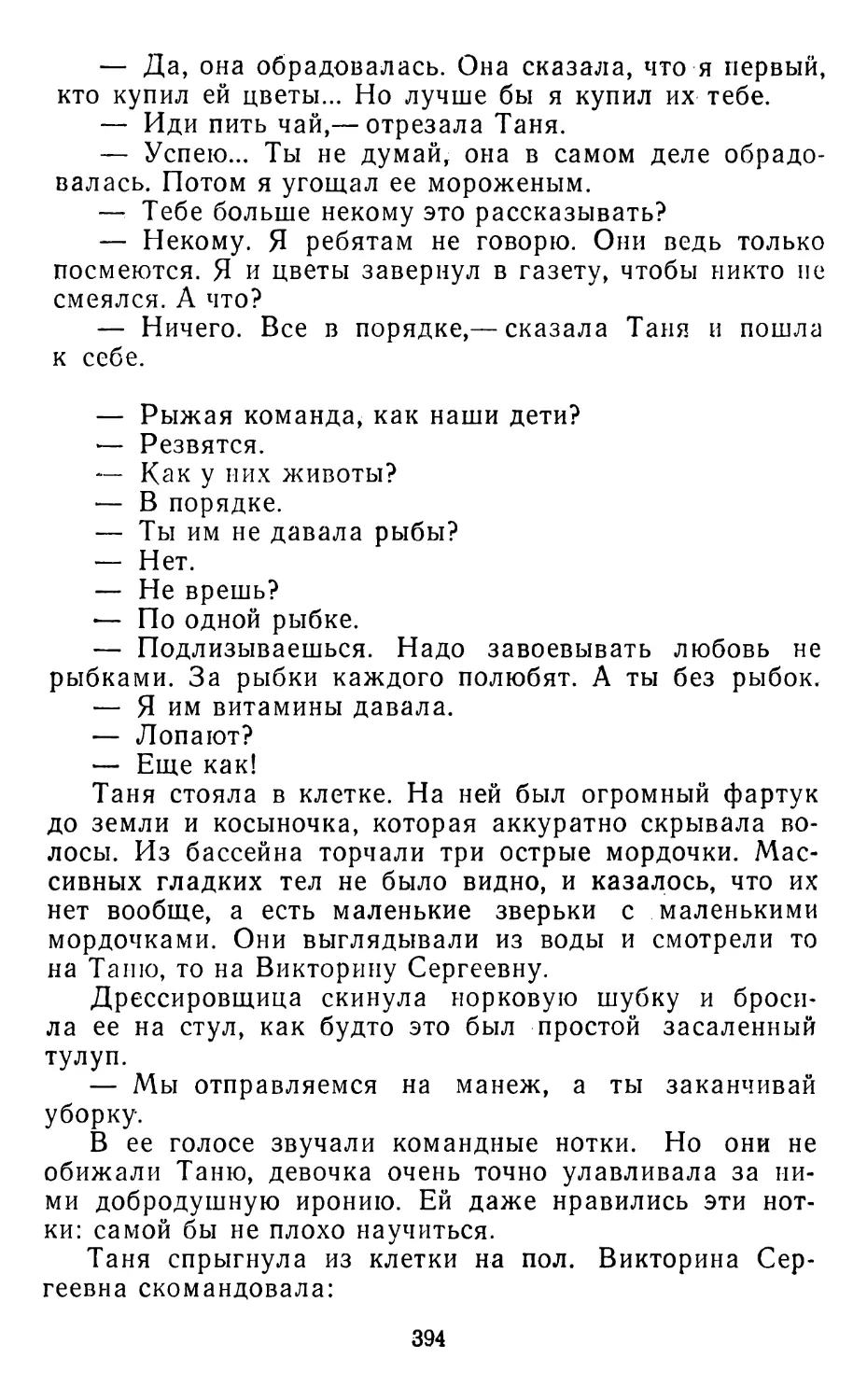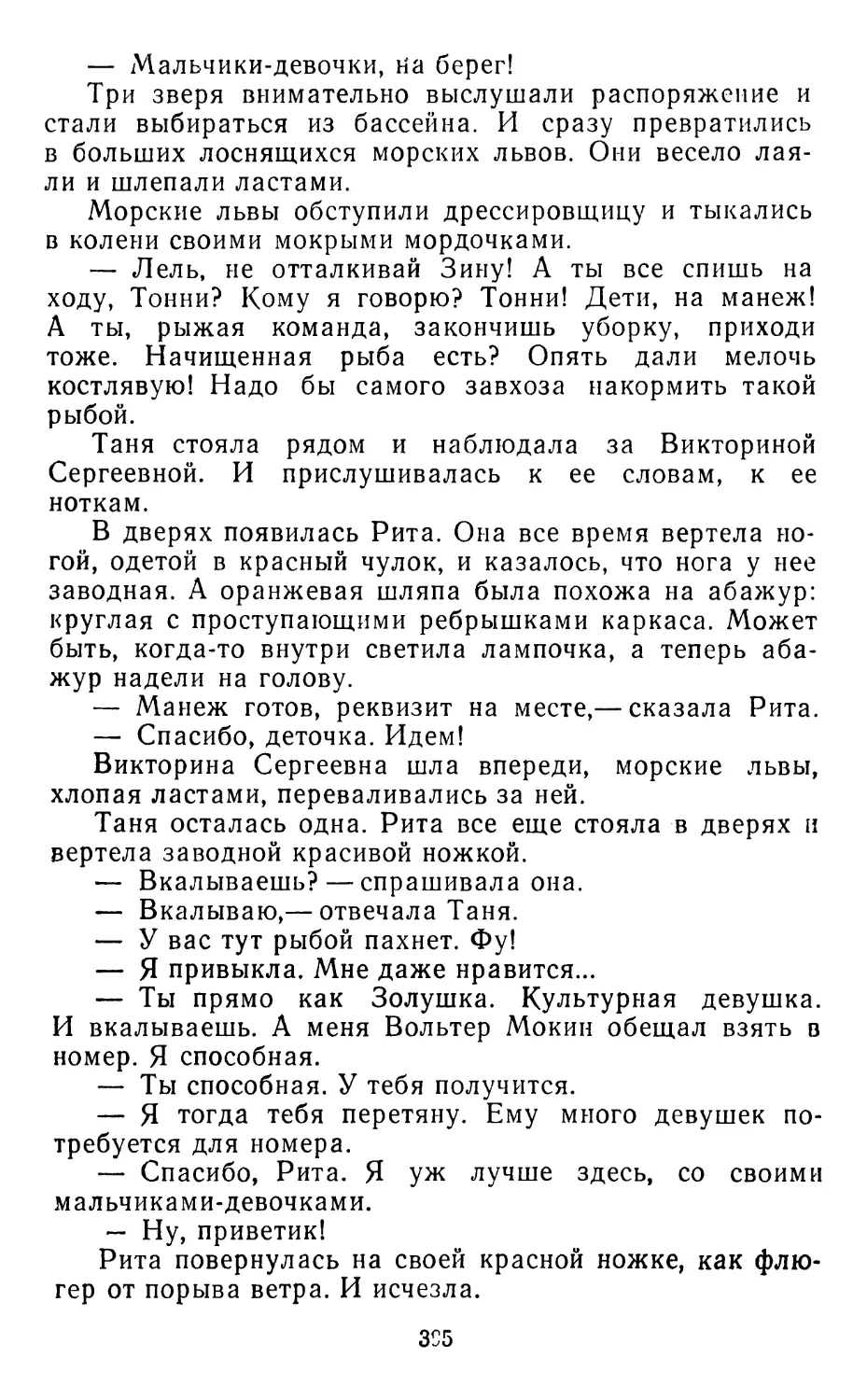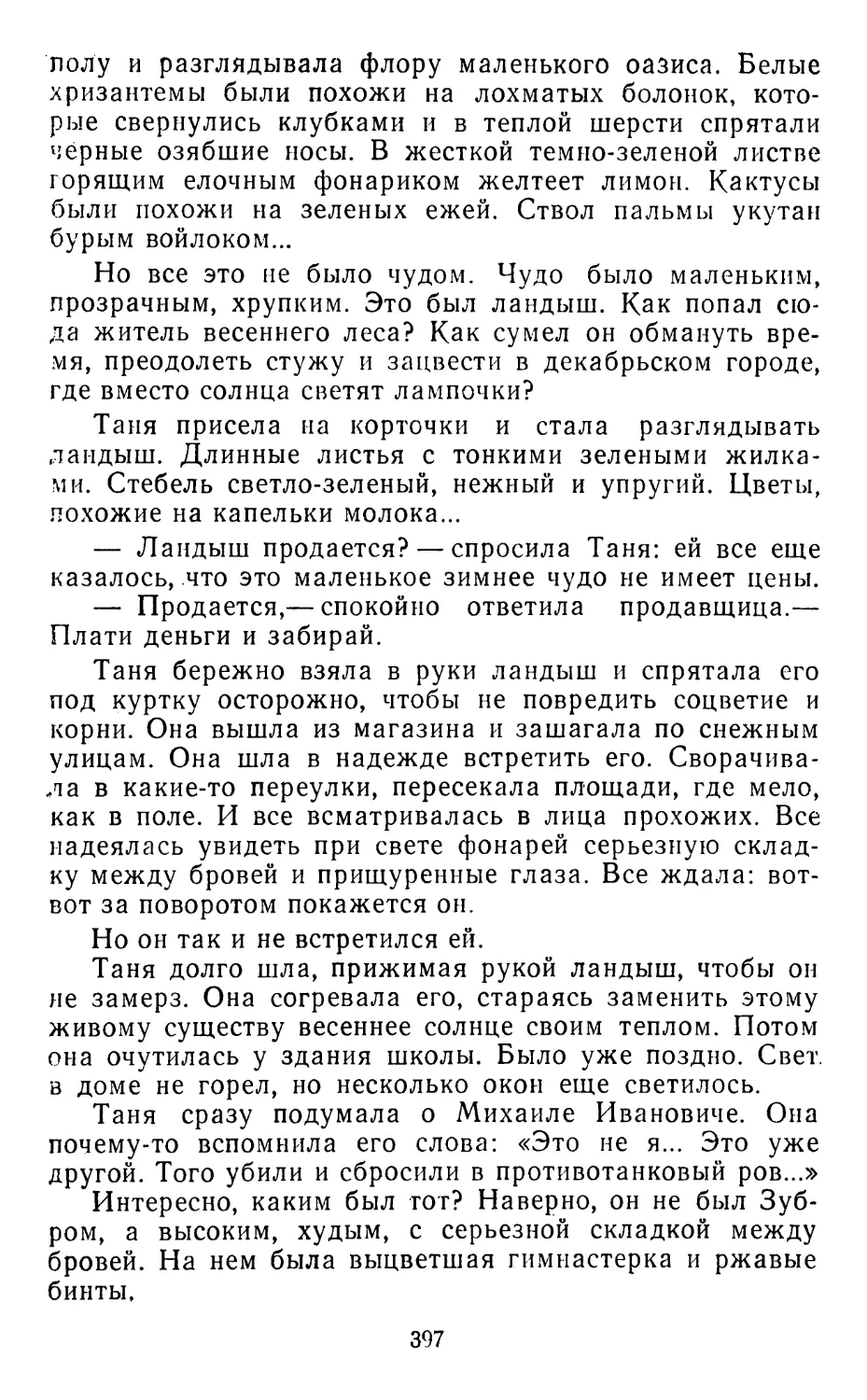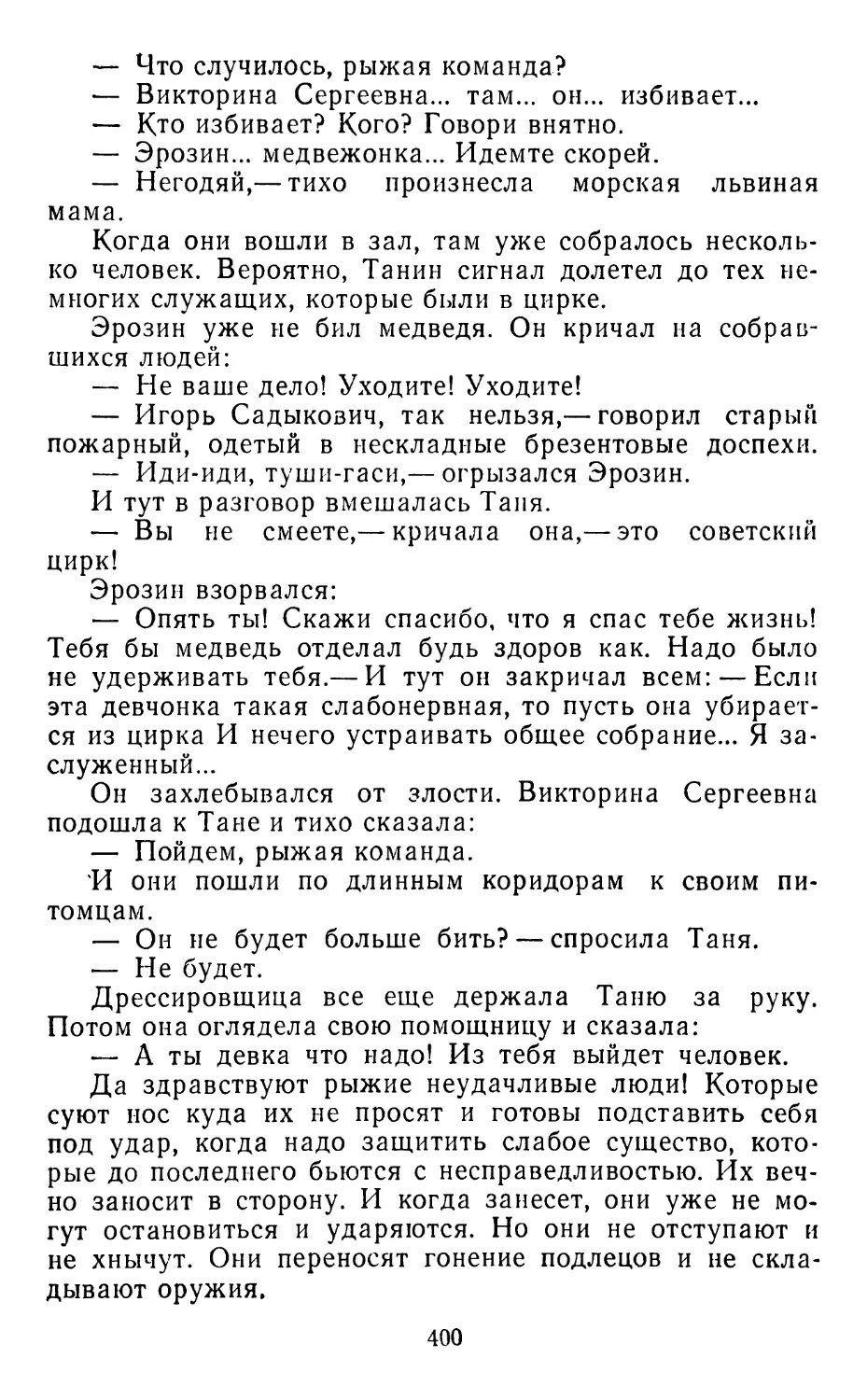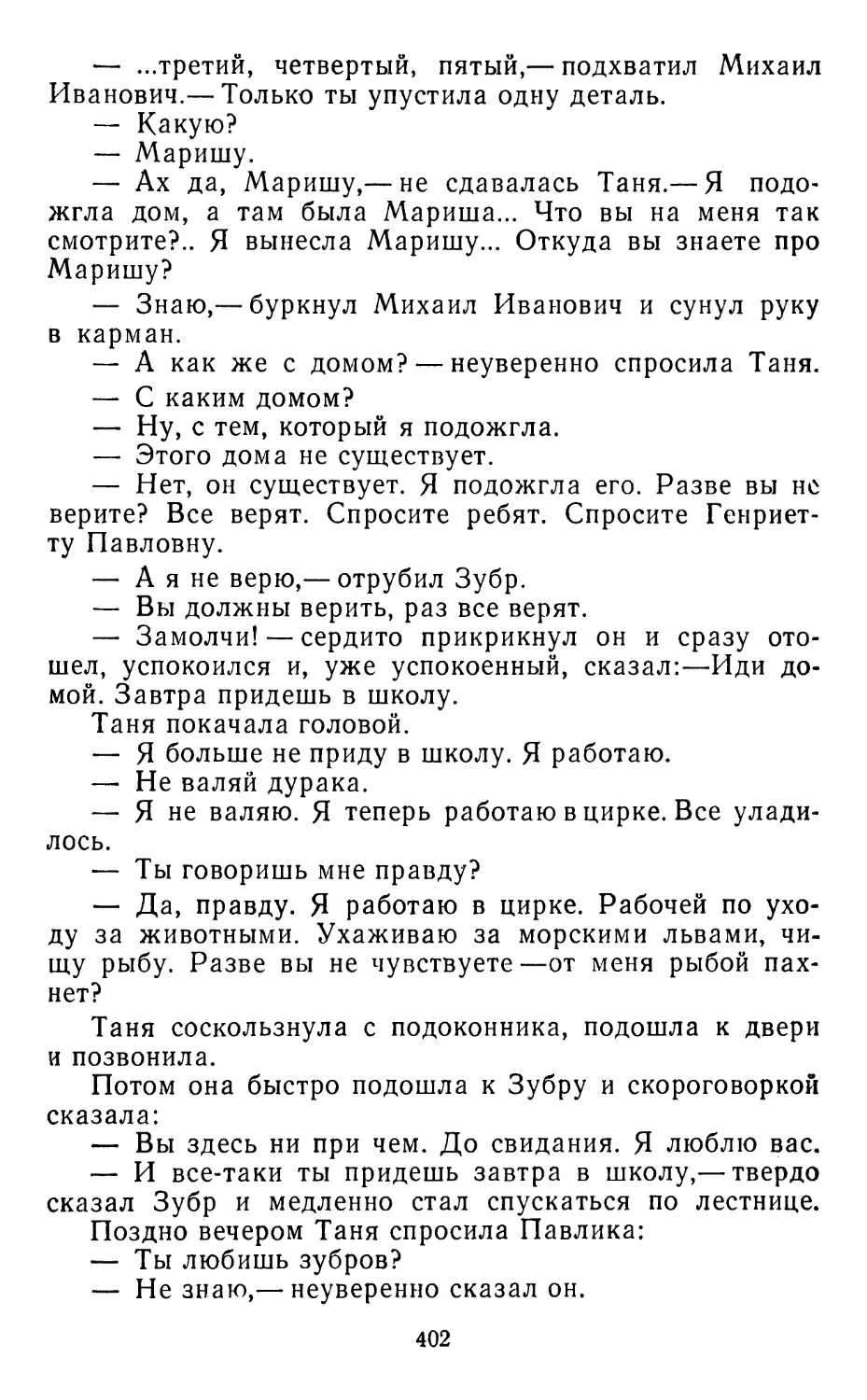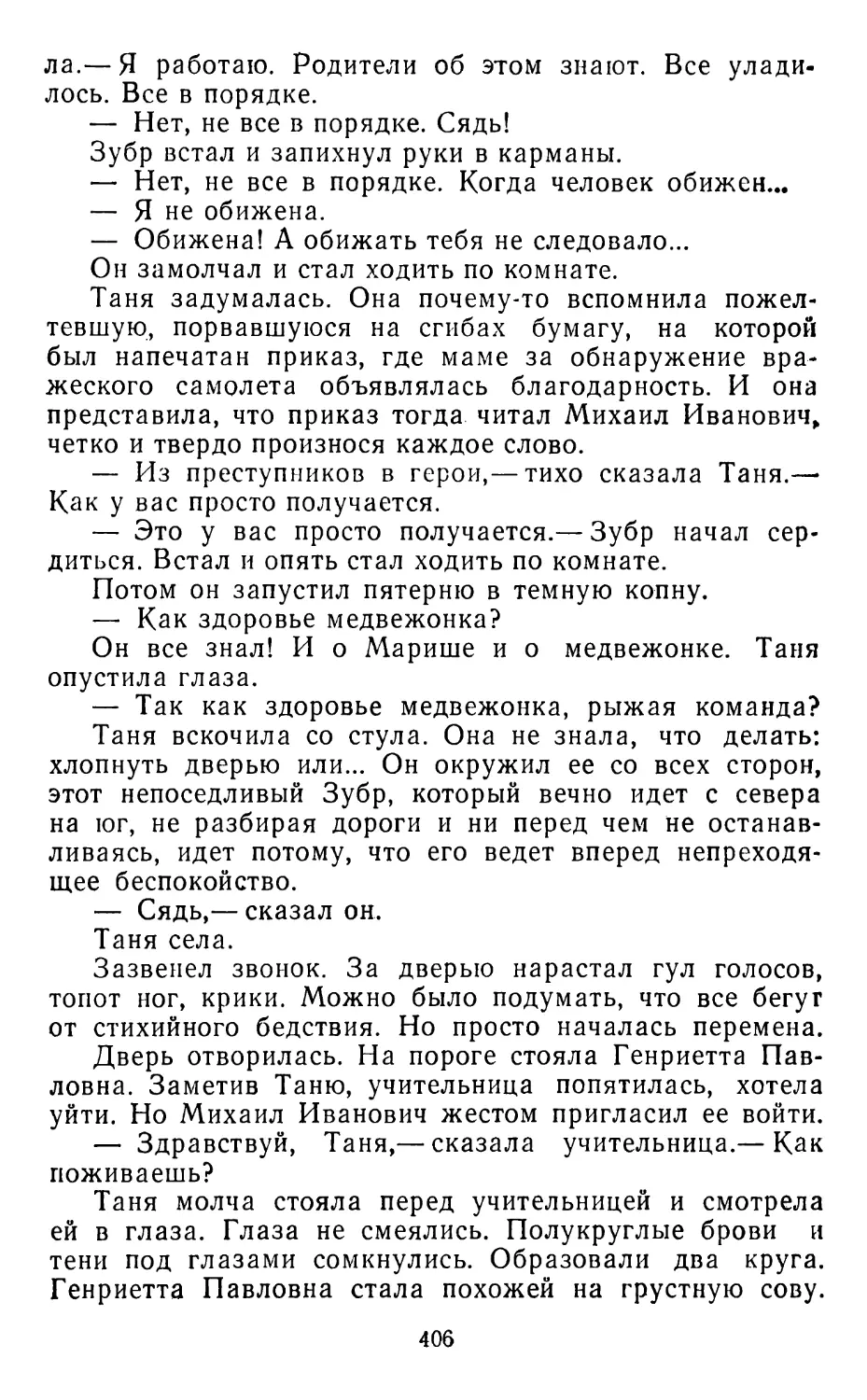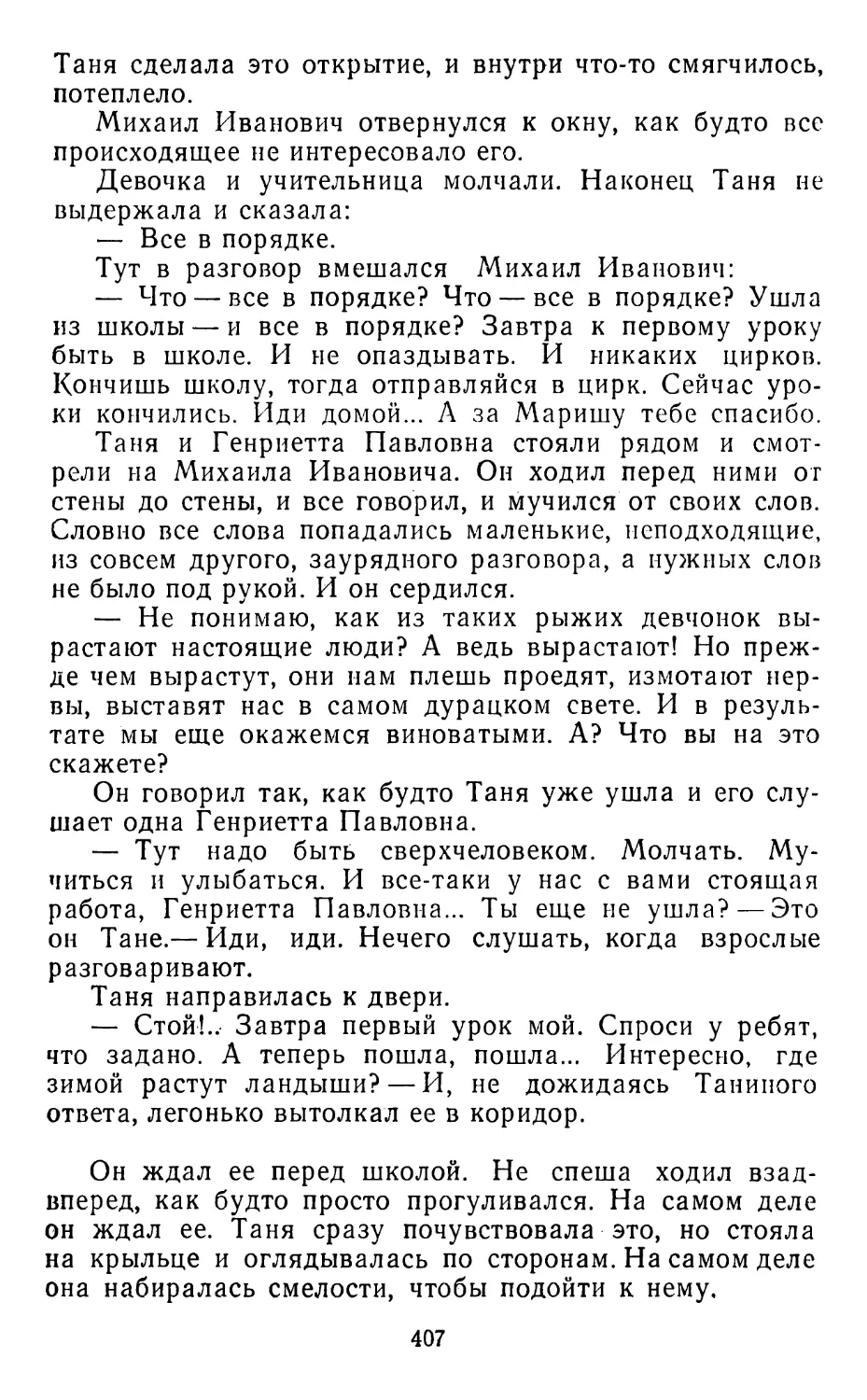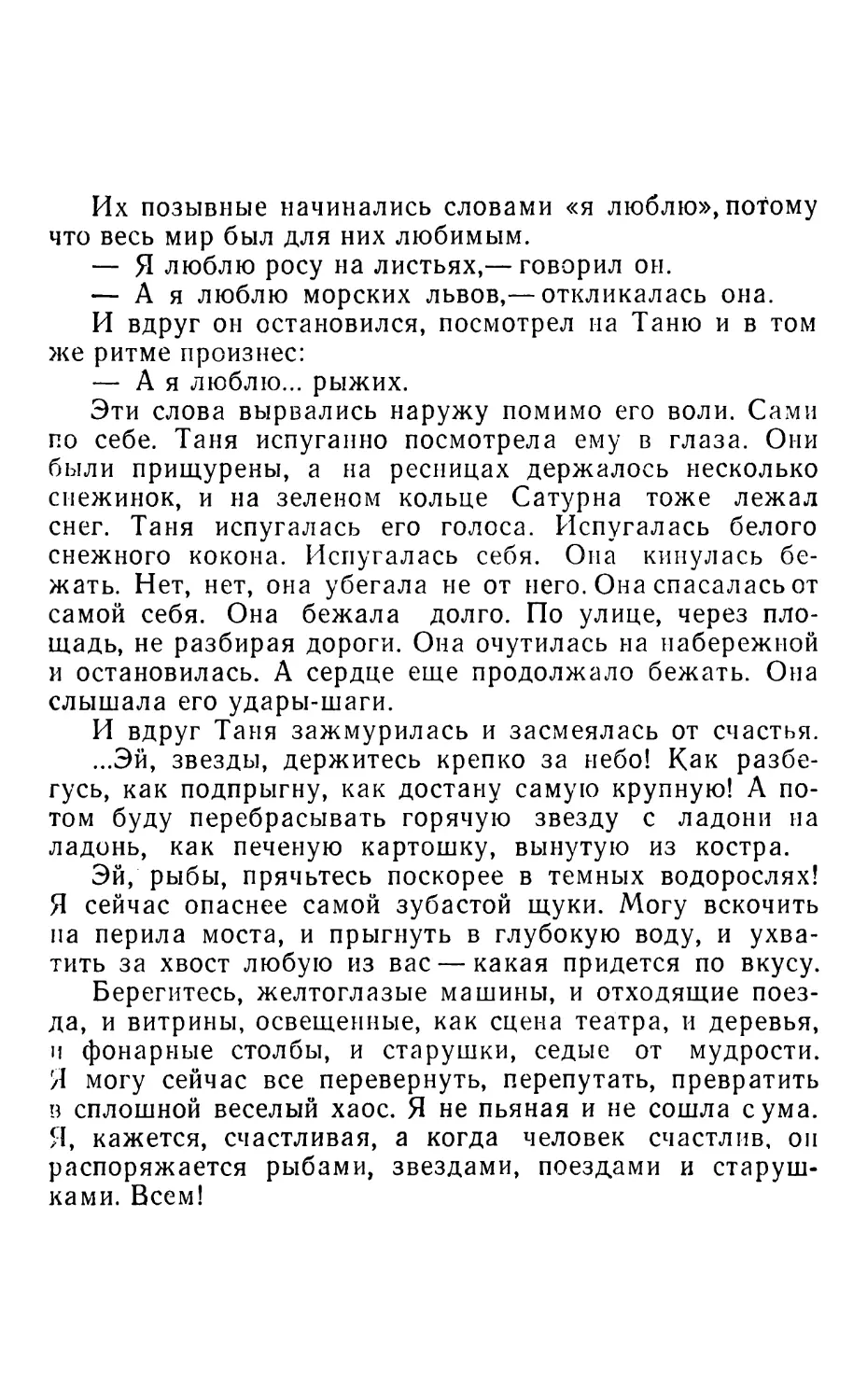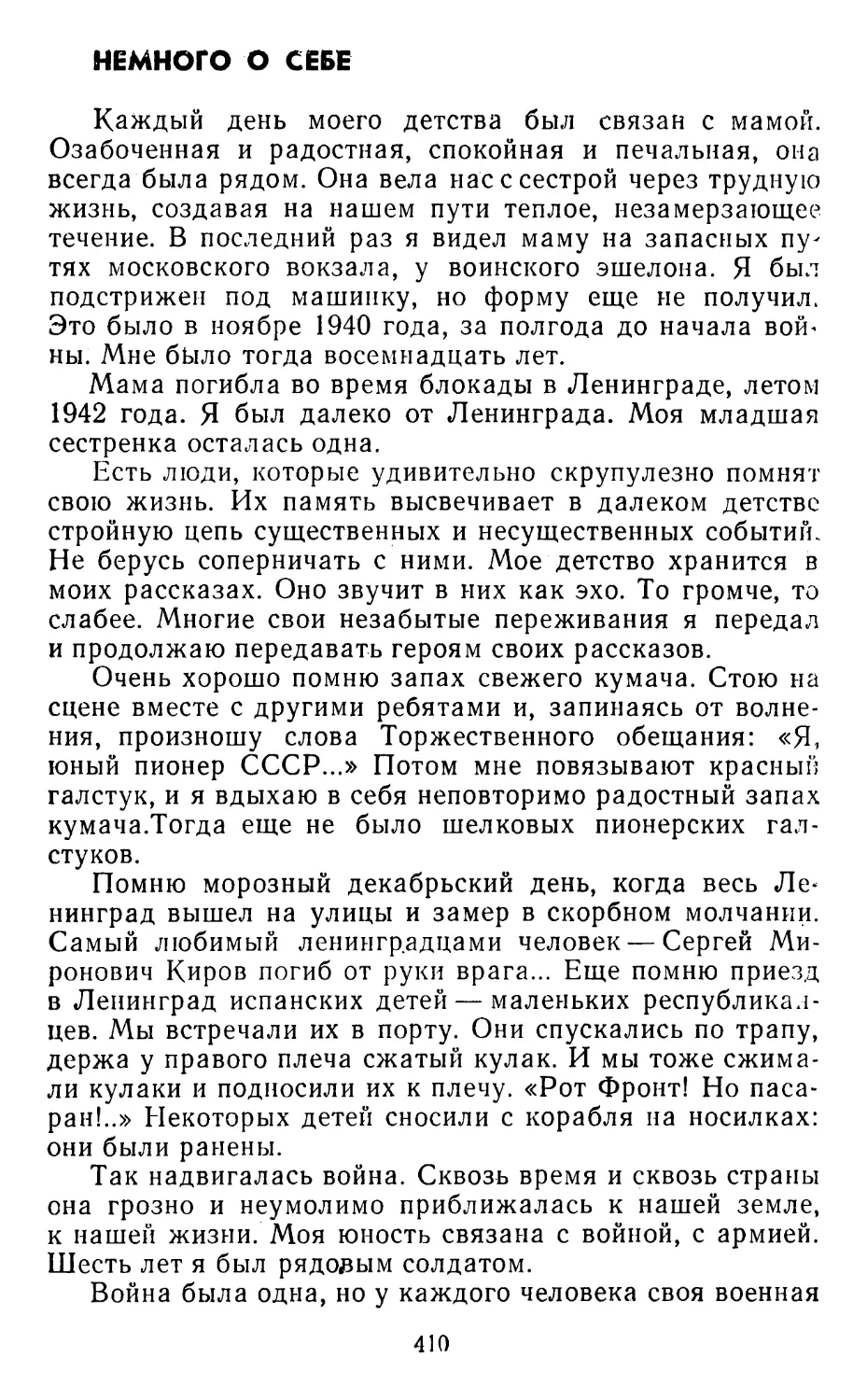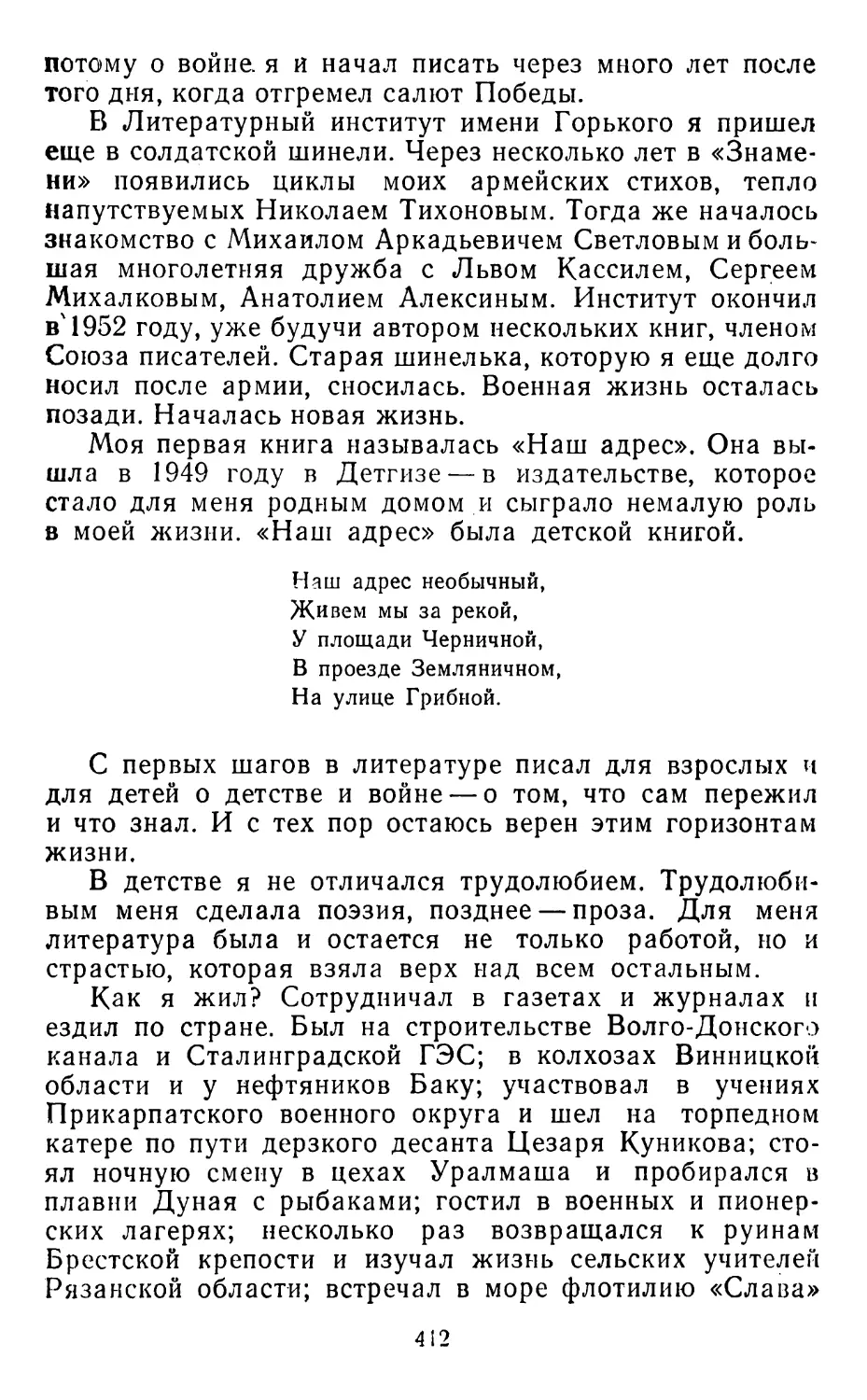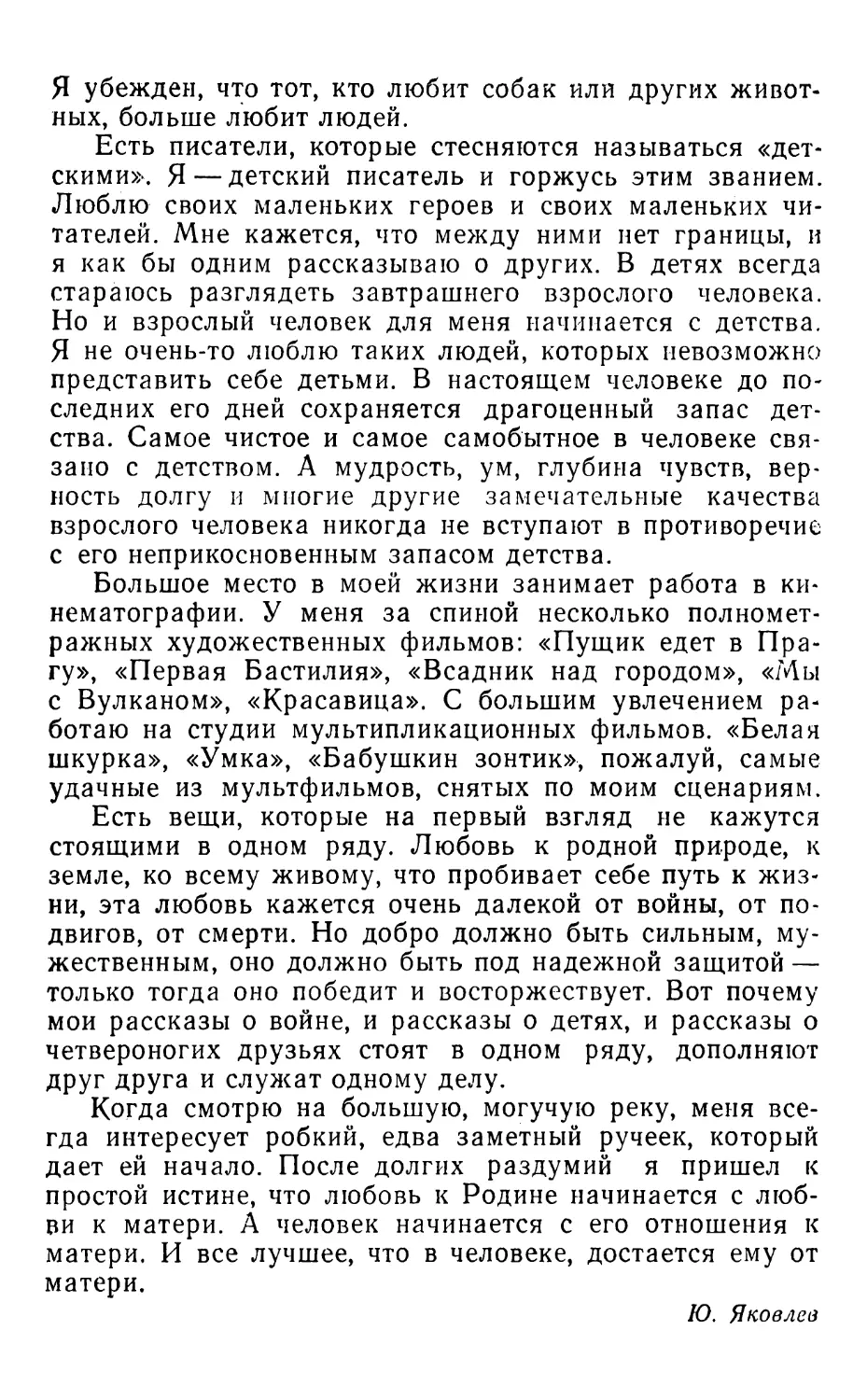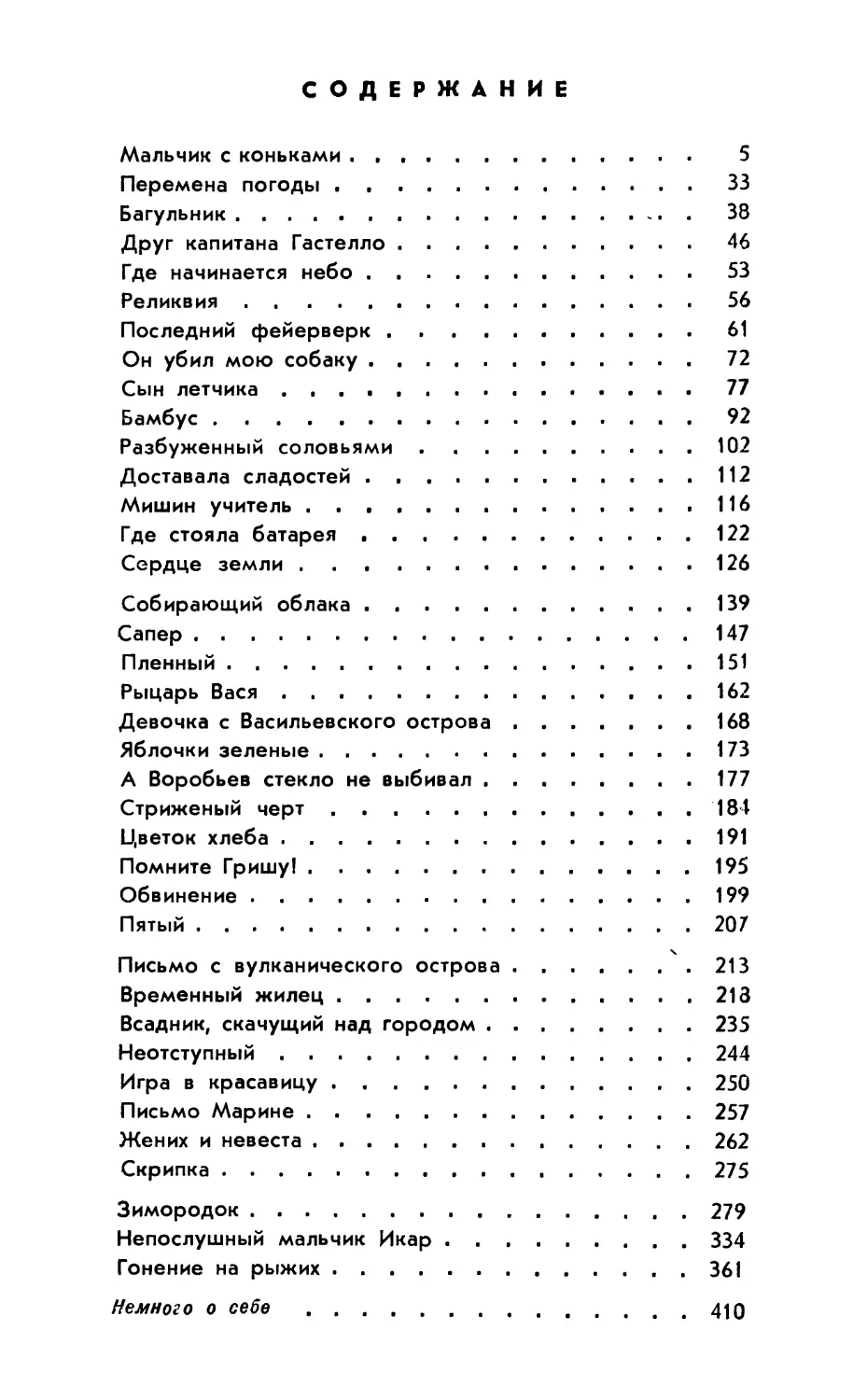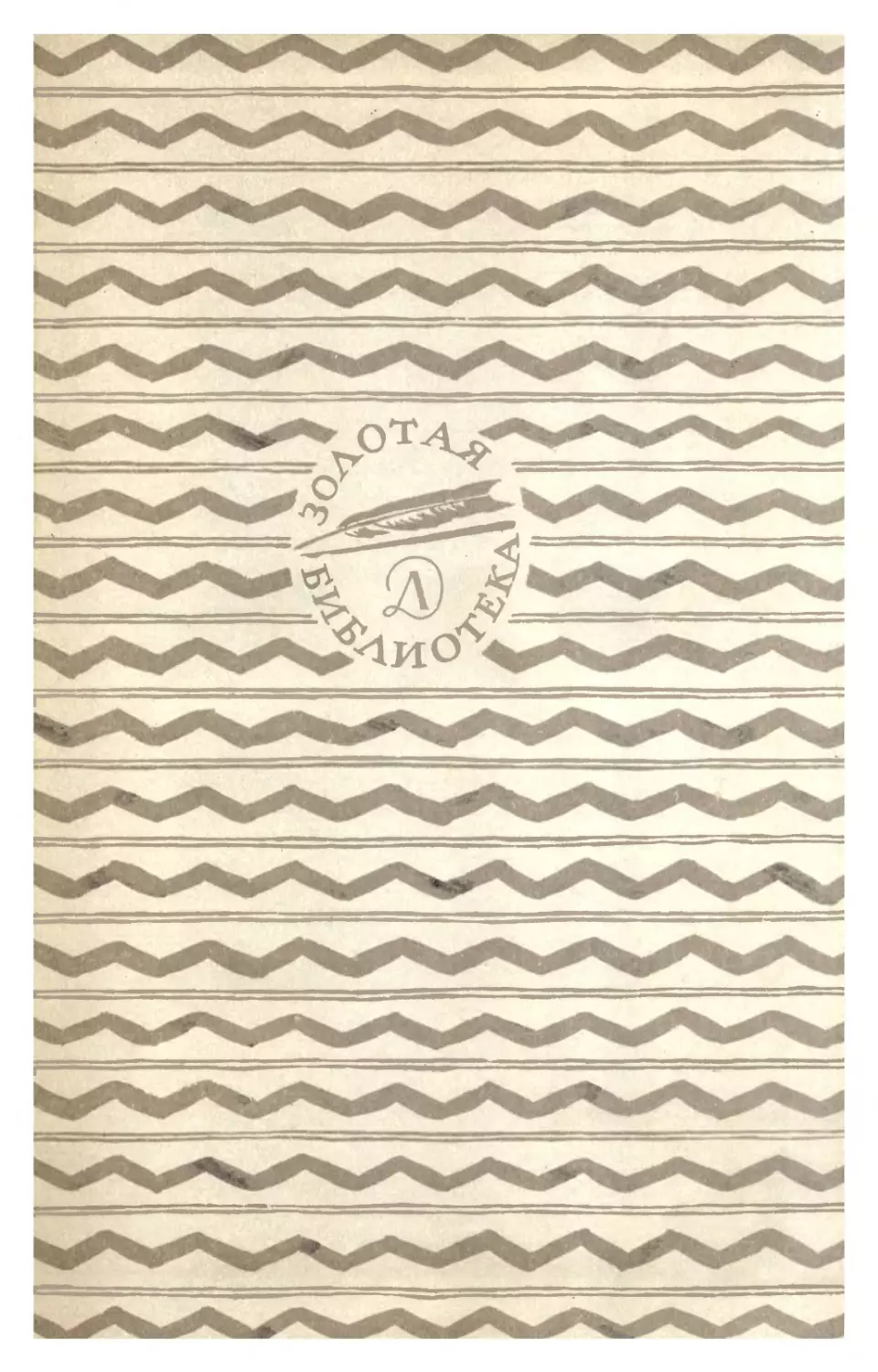Автор: Яковлев Ю.
Теги: сказки рассказы художественная литература рассказы для детей издательство детская литература
Год: 1975
Текст
^llCo/л^
юно ил е с hi в а
ЮРИ И Я КОВЛЕВ
БАГУЛЬНИК
РАССКАЗЫ
.. — ' ' .. 1 । —
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
Р2
Я47
Оформление И. Фоминой
Рисунки Ю. ЗАЛЬЦМАНА
70803—389
Я
М101 (03)75
Без объявл.
МАЛЬЧИК С КОНЬКАМИ
1
В солнечный мартовский день в городе начинают
таять сосульки. Они отсчитывают целебные капли боль-
ной, простуженной зиме.
По городу идет мальчик с коньками.
Он худой и вытянутый. Все ему не по росту, все мало.
Лыжные брюки — до щиколоток. Пальто едва достает до
колен. Руки он держит в карманах, а запястья голые,
красные от ветра: рукава коротки. Шея у мальчика тоже
длинная, худая. Шарф закрывает ее только наполовину.
5
Шарф зеленый, в полоску, с фиолетовым чернильным
пятном на самом видном месте.
Кажется, что вчера еще все было мальчику впору и
что это за ночь он так подрос, вытянулся. А новую одеж-
ду не успели купить.
Руки мальчик держит в карманах, а коньки у него
под мышкой.
Какой-то он нескладный и неустойчивый. То спо-
ткнется на ровном месте, то налетит на прохожего. То
бежит вприпрыжку, то, заглядевшись на машину, оста-
навливается посреди дороги. Глаза у него зеленые, зади-
ристые.
Дерзкий взгляд и независимая походка выдают в
мальчике непоседу и драчуна, который среди ребят чув-
ствует себя уверенно, а оставшись один, не знает, куда
себя деть.
На пальто не хватает пуговицы. Она вырвана с мясом.
Основательно потертая шапка сидит на одном ухе, оста-
вив второе на холоде. Развязавшийся шнурок волочится
по тротуару: некогда с ним возиться.
И только коньки, удобно пристроившиеся под мыш-
кой, в полном порядке. Они крепятся медными заклеп-
ками к черным ботинкам. Ботинки аккуратно сложены
«бутербродиком» и стянуты желтым кожаным ремешком.
Это не какие-нибудь девчачьи «снегурочки», а вполне
серьезные мужские коньки «английский спорт». У них
острые крепкие носы. Когда бежишь на этих носах, ледя-
ные крошки отлетают в стороны, как искры из-под же-
лезных подков. Можно быстро бежать, а потом встать
на полозья и долго скользить по ледяной глади катка.
Эти аккуратные, ухоженные конечки уж очень не
подходят к короткому пальто с оторванной пуговицей и
к потертой шапке, сидящей на одном ухе.
Холодная капля упала мальчику на щеку. Он вытер
ее свободной рукой и, бросив на сосульки недовольный
взгляд,свернул в переулок
2
У школьников весенние каникулы, а взрослые рабо-
тают. Поэтому на улицах малолюдно. А в переулке вооб-
ще редко встретишь прохожего.
6
Переулок старый, двухэтажный. Мостовая покрыта
ледяной коркой. Снегоочистительные машины не загля-
дывали сюда всю зиму. Сразу видно, что маленький
переулок приходится очень дальним родственником
большим, главным улицам города.
Мальчик с коньками шагает по переулку. Он сдвигает
шапку на другое, замерзшее ухо — погрейся, твоя оче*
редь!—и прислушивается. Он слышит музыку. Она до-
носится сюда со стадиона. На больших улицах ее заглу-
шают машины, а здесь тихо, и музыка слышна. Она
действует на мальчика, как сигнал боевой трубы. Ноги
сами начинают ускорять шаг, и развязавшийся шнурок
только поспевает постукивать по ботинку.
А хорошо бы на каток опять пришла девчонка в крас-
ном пушистом свитере и в синей короткой юбочке! Та, у
которой на голове белая меховая шапка. Высокая, как
папаха. Из-под шапки у нее торчат две косички. Хорошо
бы попробовать дернуть ее за косичку! Но девчонка та-
кая гордая и неприступная, что в прошлый раз не хвати-
ло решимости сделать это. На ее глазах он сбил шапки
с трех мальчишек. Один из них был совсем большой.
На полголовы выше. От такого вполне можно было
получить сдачи. Сегодня он опять собьет с него шапку,
если не хватит мужества дернуть девчонку за косичку...
А если она уже на катке, уже катается на своих серебря-
ных «снегурочках»? И вдруг большой мальчишка дергает
ее за косичку?!
Мальчик с коньками под мышкой уже не идет, а
бежит. Только бы не опоздать! Только бы не опоздать!
И тут в конце переулка он увидел человека. Мальчик
не обратил бы на него никакого внимания, но человек
оказался единственным прохожим и шел прямо ему на-
встречу. Человек был высокий, крупный. На нем белые
бурки с кожаными носами и широкая длинная куртка,
сшитая из шкуры какого-то черного зверя. Шаги у
мужчины тяжелые и неторопливые. А мальчик почти бе-
жал, и поэтому они скоро должны были встретиться.
И вдруг прохожий остановился. Потом он качнулся
вперед и сделал несколько неуверенных шагов, словно
собирался упасть. Но не упал, а удержался на ногах. Он
беспомощно начал двигать руками, словно искал в воз-
духе невидимую опору. На этот раз он наверняка бы
упал, но рука вовремя ухватилась за стену дома.
7
«Наверное, пьяный»,— подумал мальчик, и в глазах
его вспыхнул недобрый зеленый огонек: он терпеть не мог
пьяных.
Мальчик брезгливо сморщил нос и ускорил шаг,
чтобы поскорее разминуться со встречным.
Когда мальчик поравнялся с прохожим, тот стоял,
прислонясь к стене, крепко зажмурив глаза. Лицо его
было неестественно бледным. У рта запали две глубокие
складки. Он тяжело дышал. Вероятно, тугой воротник
куртки мешал дышать. Одной рукой человек держался
за каменную стену, другой силился расстегнуть железный
крючок воротника. Крючок был цепкий, и у руки не хва-
тало сил освободить его из петли. На лбу у прохожего
выступили мелкие бисеринки пота.
Мальчик с коньками невольно остановился. И тогда
прохожий открыл глаза и посмотрел на мальчика. Его
глаза смотрели из-под нависших бровей откуда-то изда-
лека. Нет, это не были мутные, шальные глаза пьяного!
Они были полны боли и тревоги. И во всем облике
этого большого, грузного человека чувствовалась нелов-
кость за свою беспомощность.
Наконец ему все же удалось расстегнуть крючок.
Усталая рука соскользнула вниз, плечи опали под собст-
венной тяжестью. Человек закрыл глаза, но тут же от-
крыл их вновь. Он заметил мальчика и боялся потерять
его из виду.
Мальчик еще стоял рядом. Но ему было некогда. Он
боялся опоздать. Зеленые глаза недружелюбно глядели
па тяжело дышащего человека.
Человек молчал. Его грудь тяжело поднималась и мед-
ленно опускалась, словно боялась наколоться на что-то
острое. А пальцы, только что отцепившие железный крю-
чок, теперь расстегивали и пуговицы.
Человек молчал.
Мальчик вспомнил, как однажды на улице упал ста-
рик и сломал ногу. Он лежал на тротуаре и тихо стонал.
Ему было очень тяжко, и вокруг стояли зеваки. Они гла-
зели на несчастного до тех пор, пока за ним не приехала
«скорая помощь»...
Может быть, и этому человеку неприятно, что рядом
с ним стоит незнакомый мальчишка?
И вдруг человек сказал:
— Сынок...
8
Он произнес одно только слово и начал тяжело ды-
шать. Видимо, у него не хватало сил на остальные слова.
Услышав слово «сынок», мальчик с недоумением
посмотрел на незнакомца. Так называла его мама. Это
было мамино слово. А от мужчины он слышал его
впервые.
Незнакомец опять собрался с силами и заговорил:
— Помоги мне добраться до дома... Здесь недалеко.
Мальчик молча подставил плечо. Человек неуверенно
отнял руку от стены и оперся на плечо мальчика. Он был
большой и тяжелый, а мальчик был худой и неустойчи-
вый. Незнакомец старался полегче опираться на мальчи-
ка. И они пошли по улице.
Сам не замечая этого, мальчик все время ускорял
шаги. Музыка с катка сладко вливалась в ухо. Она ма-
нила, звала, требовала. Мальчику показалось, что он и
впрямь может опоздать, что, если он придет пятью мину-
тами позже, все кончится. И уже не будет ни льда, ни
музыки, ни вереницы бегущих ребят...
А больному человеку было трудно передвигать ноги.
Каждый шаг отдавался в сердце. Он старался не отста-
вать от своего неспокойного поводыря, но у него .не хва-
тало сил. И несколько раз он останавливался, чтобы
перевести дух. Тогда он чувствовал, как мальчик ерзает
под его рукой и нетерпеливо оглядывается. Всю дорогу
ни большой, ни маленький не проронили ни слова. Их
связывал неприятный случай. Один из них был в тягость
другому. Они понимали это, и обоим хотелось поскорее
расстаться.
Наконец у низкого подъезда человек остановился.
Видно было, что это конечная остановка. Человек вытер
со лба холодный пот и, ни к кому не обращаясь, будто
сам себе, сказал:
— Зашевелился осколочек. Сколько лет не беспо-
коил — и вот на тебе!
Вероятно, он чувствовал себя виноватым перед маль-
чиком и решил часть вины переложить на «зашевелив-
шийся осколочек».
Мальчик насторожился и с недоверием поднял глаза
на мужчину:
— Какой осколочек?
— Обыкновенный, брат, от снаряда... Вот ведь война
<9
когда кончилась, а осколочек остался,— сказал мужчина
и показал пальцем на грудь.
Он еще стоял, прислонясь к стене, а мальчик внима-
тельно рассматривал его. У человека все было крупным:
и нос, и губы, и подбородок с глубокой ямочкой. На ще-
ках шершавая щетина.
— Пойдем, что ли,— сказал мужчина, открывая дверь
подъезда.— Тяжелый тебе солдат достался.
И они двинулись дальше.
Когда они поднимались по лестнице, человек сильней
опирался на плечо мальчика. Другой рукой он цепко хва-
тался за перила, будто страшился, что ступенька уйдет
у него из-под ног. Ему было больно. А мальчику тяжело.
Но оба терпели. Мальчик думал об осколке, который
зашевелился в груди у незнакомца, и ему на минуту
показалось, что он ведет бойца, только что раненного
разорвавшимся снарядом.
А человек думал, как бы поскорей добраться до
постели.
Очутившись дома, человек стал стягивать с себя ме-
ховую куртку. Он делал это с такими усилиями, будто
она весила по меньшей мере два пуда.
Наконец ему удалось освободиться от этой тяжести.
Под курткой была гимнастерка военного образца и синие
брюки. На гимнастерке с правой стороны над кармаш-
ком была пришита потемневшая полоска галуна. Эта
полоска — знак тяжелого ранения — как бы подтвержда-
ла, что человек занемог старой военной болезнью.
Пока человек раздевался, мальчик стоял в сторонке
и следил за ним. Сам он не снял пальто, даже не вынул
из кармана руки, которая локтем придерживала коньки
«английский спорт».
Человек тяжело опустился, почти упал на диван. Ста-
рые пружины жалобно скрипнули. Человек откинулся
назад и закрыл глаза.
А мальчик продолжал стоять перед ним. Он был рас-
терян-и не знал, что полагается делать в подобных
обстоятельствах. Перед ним лежал человек. Не просто
10
заболевший гриппом или ангиной, а старый боец с оскол-
ком в груди. Зеленые глаза мальчика, привыкшие бесце-
ремонно разглядывать все, что ни попадется, сейчас
утратили свою дерзкую самоуверенность. Они вопрошаю-
ще смотрели на человека, с которым судьба свела его
в переулке по дороге на каток.
Трудно сказать, сколько времени человек лежал с
закрытыми глазами. Когда он поднял веки, мальчик все
еще стоял перед ним: в коротком пальтишке без пугови-
цы, с шапкой, надвинутой на одно ухо, с коньками под
мышкой.
— Ты еще здесь?—спросил раненый, почти не шевеля
губами.
— Ага.
— Ты иди. Теперь я сам управлюсь... А за помощь
спасибо.— Человек глотнул воздух и спросил:—Спе-
шишь?
Только сейчас он заметил под мышкой у мальчика
коньки.
«Да, да!»—эти два коротких слова должны были
сорваться с губ мальчика, но вместо них прозвучали
совсем другие:
— Я не спешу... я уже был на катке.
Он сам удивился, что произнес именно эти слова и с
такой уверенностью, будто на самом деле все обстояло
именно так. Собственные слова огорчили мальчика, но
отступать было нельзя.
— Я дождусь кого-нибудь из ваших и пойду.
Ему казалось, что все это говорит не он, а кто-то дру-
гой, помимо его воли. И он уже раскаивался: ведь неиз-
вестно, когда придут домашние. Может быть, не скоро.
Вечером.
— Никто не придет,— помолчав, сказал человек.—
Понимаешь, жена с сынишкой уехали к бабушке. На ка-
никулы. В Сапожок.
— В какой сапожок? — вырвалось у мальчика.
Человек через силу улыбнулся и пояснил:
— Это город такой есть. Вернее, городок рязанский.
Мальчик положил коньки на стул. Этим движением
он как бы хотел подчеркнуть, что никуда не спешит.
Он серьезно посмотрел на своего нового знакомого и
спросил:
— Что же теперь делать?
И
— Да ничего. Отлежусь, и все пройдет,— сказал
хозяин дома и, словно желая оправдаться перед мальчи-
ком, добавил:—Понимаешь, я еще ночью в цехе почувст-
вовал себя совсем скверно. Но подумал, что до дома как-
нибудь доберусь. И вот видишь...
Он закрыл глаза и провел ладонью по волосам. Ему,
видимо, немного полегчало, и он разговорился:
— Это мне под Орлом так приложило. Пять осколков
вынули, а один при себе ношу.
— Кто же это вам... приложил?—осведомился маль-
чик, стараясь попасть в тон хозяину дома.
— «Фердинанд», танк немецкий... Знаешь, что такое
ПТО?
Мальчик покачал головой.
— Противотанковое орудие,— объяснил бывший бо-
ец,— пушечка такая. Сорокапятимиллиметровка. Мы, как
кроты, врылись в землю, а на нас шли танки. Два мы
подожгли, а третий нас приложил... Ни расчета, ни пуш-
ки... Ну ничего, все пройдет. Вот отлежусь...
И вдруг он снова побледнел, и две складки у рта ста-
ли еще глубже.
— Сходить за доктором?—предложил мальчик.
Раненый мотнул головой. Говорить ему было трудно.
Потом он все-таки сказал:
— За доктором не надо. Разве что за лекарством...
Если не очень спешишь.
— Не спешу,— отозвался мальчик.— Где рецепт?
— В столе. Рядом, в комнате. Открой средний ящик.
Там где-то завалялся. Болеутоляющее.
4
Человек не спросил мальчика, как его зовут, и не на-
звал ему своего имени. А спросить первым мальчик не ре-
шался.
В других обстоятельствах мальчик чувствовал бы себя
очень скверно, очутившись в чужом, незнакомом доме, но
тревога, которая все больше и больше овладевала им,
заглушала неловкость, как большая боль заглушает ма-
лую. И поэтому он без особых колебаний отворил дверь
в соседнюю комнату.
12
Комната была залита желтым солнечным светом.
Будто и впрямь есть такая желтая, светящаяся краска,
которая не высыхает ни на полу, ни на стенках, ни на
книжной полке, ни даже на глобусе. Мальчик зажмурил-
ся— солнечная краска брызнула ему в глаза — и услы-
шал металлический стук пишущей машинки. Это за
окном звонкие капли тающих сосулек стучали по желез-
ному подоконнику.
Весенняя солнечная комната была совсем не похожа
на ту, где сейчас лежал раненый боец. Комната, навер-
но, еще не знала, что произошло с ее хозяином, и у нее
было отличное настроение. И календарь тоже не знал.
На сегодняшнем листке было написано: «Партком
в 4 часа».
Мальчик подошел к столу. Но, прежде чем выдвинуть
средний ящик, он заметил учебник и две тетрадки. Это
был учебник физики для шестого класса. А на тетрадках
были написаны имя и фамилия владельца—«Сергей Бах-
тюков. 6 «А». Это он, Сергей Бахтюков, сейчас отды-
хает с мамой у бабушки в рязанском городе Сапожке.
Глаза мальчика недовольно сверкнули. Он отшвырнул
тетрадки и осторожно открыл средний ящик стола.
Ящик был доверху набит бумагами, чертежами, фото-
графиями, а также множеством разных вещиц, не пред-
ставляющих на первый взгляд никакой ценности. Чем,
например, может привлечь курительная трубка, изогну-
тая, как знак вопроса, или старая цепочка от часов, или
лезвие в пакетике, напоминающем фантик?
Разыскивая рецепт, мальчик старался не разгляды-
вать эти чужие вещи, но они притягивали его, как магнит.
Он взял в руки трубку. От нее пахло пожаром. Наверное,
солдат курил эту трубку в последний раз на фронте у
своей пушечки ПТО. Мальчик вдохнул в себя запах
трубки и бережно положил ее обратно. Потом ему попа-
лась фотография хозяина дома. Он был снят в военной
форме и был молодой и худощавый. Может быть, это не
хозяин, а его младший брат? С ямочкой на подбородке.
Нет, это он сам. Вероятно, когда он снимался, в его груди
еще не было никаких осколков от снаряда.
А потом в руки мальчику попалась алая коробочка.
Стыдясь самого себя, он не удержался и открыл ее.
В коробочке лежал орден. Самый настоящий орден Крас-
13
ного Знамени. Мальчик взял орден и положил его на
ладонь. Орден был прохладный и тяжелый.
Мальчик подержал его в руках, и запонки, и перочин-
ный ножик, и лезвия безопасной бритвы с надписью:
«Нева». Ему никогда не приходилось встречать в таком
количестве мужские вещи. Да откуда было им взяться,
ведь в своем доме он был единственным мужчиной. Его
тянуло к этим вещам. Он испытывал почти физическое
удовольствие от прикосновения к ним.
Наконец рецепт нашелся. Он был очень старый.
Вероятно, хозяин не пользовался им уже много лет. На
маленьком пожелтевшем листке стоял лиловый штамп:
«Санчасть, полевая почта 31497». Рецепт был написан
рыжими чернилами. Казалось, что буквы когда-то свер-
кали и лишь от времени поржавели. Мальчик разобрал
только первую строчку: «Старшине Л. Бахтюкову».
Дальше шла непонятная латынь.
Мальчик бережно взял рецепт в руки и тихо задвинул
ящик. Потом его взгляд скользнул по тетрадкам Сергея
Бахтюкова 6 «А». Он почему-то сжал кулак и погрозил
тетрадкам.
И вдруг мальчик почувствовал, что его тянет к чело-
веку, который с осколком в груди лежит в соседней ком-
нате. К большому бесстрашному мужчине, которому при-
надлежит боевой орден в красной коробочке, прокурен-
ная солдатская трубка, пахнущая пожаром, и лезвие
«Нева».
Почему этот большой, сильный человек беспомощно
лежит на диване, а он, мальчишка, задиристый, но на
деле не такой уж сильный, может бегать по улицам,
смеяться и сбивать шапки у встречных шкетов?
Мокрый, тающий снег пахнет сыроежками. Он шур-
шит под ногами. Ему уже не белеть на крышах, на мосто-
вой и на воротниках прохожих. Много месяцев будет
он журчать в ручьях, петь в водопроводных трубах,
дружить с кораблями. И только в декабре он вер-
нется- обратно, белый, нетронутый, без единого пят-
нышка.
Как он будет не похож на. этот серый, истоптанный,
14
тающий снег, который путается под ногами накануне
своих волшебных превращений!
Мальчик не замечает запаха сыроежек. Он бежит.
Спотыкается, перепрыгивает через лужи, соскакивает с
тротуара на мостовую. Лыжные брючки, едва достающие
до щиколоток, забрызганы. Шарф совсем размотался,
пола коротенького пальто развевается: пуговицы-то не
хватает.
Но кажется, что ему малы не только брюки, и пальто,
и шапка. Нет, ему не впору тротуары и мостовые, улицы
и площади. Весь город тесен ему. С тревогой, неожидан-
но обрушившейся на его плечи, он не вмещается в родной
город.
Мальчик задевает на ходу прохожих, натыкается на
фонарные столбы. Тесно! Навстречу несутся машины.
Разве в городе нет для них других улиц!..
Окоченело левое ухо: шапка надета на правое. На
болтающемся шнурке наросла целая сосулька. Но в за-
мерзшей руке, как волшебная лампа Аладдина, зажат
пузырек с лекарством.
И вот он, с трудом переводя дыхание, входит в дом и
тихо затворяет за собой дверь. Человек лежит с закры-
тыми глазами.
«Уснул,— думает мальчик,— значит, отлежался. Вот и
хорошо».
Он ставит пузырек с лекарством на стол и обветрен-
ной рукой неловко заматывает шарф вокруг шеи. Теперь
он принадлежит самому себе. Можно уходить.
Он смотрит на спящего раненого бойца почти с лю-
бовью. И ему становится неловко перед самим собой за
это непонятное чувство. Он не узнает самого себя...
Встречаются мужчины, рядом с которыми любой маль-
чишка чувствует себя сыном. Их отцовская власть неза-
метно распространяется даже на тех, кто считает себя
очень взрослым и самостоятельным.
Мальчик встретил такого человека, а теперь ему надо
с ним расставаться.
А человек не открывает глаз. Он, видно, справился
со своим осколочком и теперь крепко спит. И мальчику
ничего не остается, как молча попрощаться с ним и уйти.
Он идет на цыпочках, чтобы не заскрипели половицы. Он
доходит до двери и свободной рукой тянется к замку.
Замок не слушается его: он признает только своих.
15
И-вдруг мальчик вздрагивает. Он слышит тихое, да-
лекое слово «сынок». Это человек зовет его? Мальчик
прислушивается. В квартире тихо. Только звонкие капли
тающих сосулек стучат в подоконник. Никто его не зовет.
Это только показалось.
Мальчик стоит перед дверью и думает о том, что сей-
час он уйдет и никогда уже не увидит этого человека.
Не ощутит на своей ладони холодную, торжественную тя-
жесть ордена Красного Знамени. Не вдохнет в себя
таинственный запах старой трубки. Он медленно повора-
чивается и возвращается в комнату. Здесь все неподвиж-
но, как в сонном царстве. Спят двери, спят лампочки,
спят половицы. Уснули вместе с хозяином. Балансируя
рукой, мальчик идет на цыпочках: боится, что половицы
проснутся и заскрипят.
Он подходит к дивану. Человек по-прежнему лежит
без движения, спит.
А вдруг он умер?!
Эта мысль ошеломляет мальчика. Забыв о предосто-
рожности, он наклоняется к спящему. Он кладет ему ру-
ку на плечо и начинает легонько трясти. Раненый боец
не открывает глаз. Может быть, позвать его? По фами-
лии, которая написана на старом военном рецепте. Он
зовет:
— Бахтюков... Дяденька Бахтюков!
Раненый боец вздрагивает и открывает глаза. Значит,
он жив. Но почему он молчит? Почему не спрашивает
про лекарство? Почему глаза как-то неестественно зака-
тываются и голова безжизненно падает на плечо?
Он жив, но он может умереть.
Что делать? Мальчик стоит рядом. Его глаза расши-
рены. Надо действовать! И, если ты сам не знаешь как,
позови на помощь!
Мальчик бросается к двери. Он будит все спящие по-
ловицы, и они скрипят, каждая на свой лад. Но он ничего
не слышит. Он бежит. Сам еще не знает куда.
Мальчик перескакивает через две ступеньки. Звенят
железные подковки, прибитые к каблукам, чтобы не стап-
тывались. Скорей! Скорей! Подковки высекают искры.
Мальчик уже знает, что ему делать: надо звонить в «ско-
рую помощь».
6
Когда он вбежал в подъезд с синей табличкой «те-
лефон-автомат», там у аппарата стояли две девочки.
Одна из них — коротышка с круглым, как луна, лицом —
держала трубку и, сложив ладошку рупором, быстро го-
ворила в микрофон. Другая—длинная, с глазами навы-
кате— что-то нашептывала на ухо подруге и не переста-
вая хихикала.
— Что он говорит? Что он говорит?—шептала она так
громко, что подружке приходилось закрывать микрофон
ладошкой, чтобы не пустить туда шепот.
— Он в кино приглашает,— сказала девочка-луна
своей любопытной подружке.
Подружка опять захихикала и зашептала еще гром-
че — чуть не закричала шепотом:
— А ты скажи: не пойдем! Скажи: не пойдем!
Она повторяла каждое слово дважды, словно боялась,
что подружка-луна не поймет ее с первого раза.
Несколько секунд мальчик молча наблюдал за де-
вочками. Он никак не мог отдышаться.
Наконец он пришел в себя.
— Кончайте!—сказал он сердито.— Мне в «скорую
помощь» звонить надо.
Подружки враждебно посмотрели на мальчишку в
коротеньком пальто, и та, что хихикала и подсказывала
шепотом, насмешливо сказала:
— Знаем мы, какую тебе «скорую помощь»! Небось
на каток спешишь.
И тут мальчик заметил, что держит под мышкой конь-
ки: они сегодня мешали ему на каждом шагу. Он подо-
шел к девчонкам вплотную и громко приказал:
— А ну, кончайте!
— И не подумаем!—огрызнулась девочка-луна, при-
крывая ладошкой микрофон. Потом на минуту оторвала
ладошку и сказала в трубку:— К нам тут нахал пристает.
Зеленые глаза стали злыми и колючими. Там человек
умирает, а эти девчонки смеются и кривляются. Мальчик
резко оттолкнул пучеглазую и выхватил трубку из рук
ее подруги. Девчонки от неожиданности взвизгнули и
отбежали в сторону.
— Дурак!—крикнула одна.
— Нахал!—поддержала другая.
2 Багульник 17
Мальчик прижал трубку к уху. Он услышал незна-
комый мальчишеский голос:
— Так вы придете в кино? Чего же вы молчите?
Мальчику показалось, что этот голос доносился сов-
сем из другого мира — беспечного и благополучного.
Он нажал рычаг, и тот, кто приглашал девчонок в
кино, сразу замолчал.
Он набрал номер «03».
В трубке зазвучал молодой женский голос:
— «Скорая» слушает.
От неожиданности мальчик не знал, с чего начать. Он
молчал. Голос нетерпеливо повторил:
— «Скорая» слушает. Что у вас?
— Тетенька,— заговорил мальчик,— человеку плохо.
— Фамилия? — бесстрастно спросил голос.
— Чья фамилия?
— Больного.
— Он не больной, он раненый.
— Где ранен?
— На фронте, под Орлом.
Наверное, там, в «скорой помощи», так привыкли ко
всяким необычностям, что даже не поинтересовались, при
чем здесь Орел.
Нетерпеливый голос продолжал:
— Где находится пострадавший?
— Дома.
— Адрес?
Мальчик запнулся. Он не знал адреса. Он так и ска-
зал:
— Я не знаю адреса.
— Так что же ты вызываешь «скорую помощь»?
На деревню дедушке, что ли, ехать? Узнай адрес и пере-
звони.
В трубке раздались короткие гудки. «Скорая» повеси-
ла трубку. Мальчик тоже повесил трубку и оглянулся.
Девчонок не было. Вероятно убедившись, что нахальный
долговязый мальчишка сказал правду, они тихонько
выскользнули из подъезда. Может быть, побежали к дру-
гому автомату?..
Мальчик вышел из подъезда. Он ненавидел себя за
беспомощность, за то, что, убегая, не посмотрел на номер
дома ’раненого бойца. Да и названия переулка он тоже не
знал толком: не то Гончарный, не то Дегтярный... Оста-
18
валось одно: бежать узнать адрес. Мальчик уже собрал-
ся рвануться с места, когда до него донесся далекий звук
санитарной сирены.
7
По улицам мчалась «скорая помощь». Куда она
спешила? К человеку, попавшему в беду? Или возвра-
щалась на стоянку? Или она приняла сигнал бедствия и
спешит на помощь раненому бойцу, даже не зная адреса?
Голос сирены нарастал. Он то взлетал под облака, то
стремительно падал. Он звучал, как сигнал боевой тре-
воги.
А что, если эта почти крылатая машина с красным
крестом промчится мимо?
Надо остановить ее!
И мальчик решился. Он выбежал на середину мосто-
вой и преградил путь «скорой помощи». Расстояние от
летящей машины до мальчика было очень небольшим.
Оно сокращалось с каждым мгновением. Сирена выла
истошно. Она взлетела и больше не падала. Она нагоня-
ла страх. Мальчик закрыл глаза, но не тронулся с места.
И вдруг сирена умолкла. Машина резко затормозила.
На мостовой было скользко, и ее занесло в сторону.
Когда мальчик с коньками открыл глаза, машина
«скорой помощи» стояла совсем близко, развернувшись
поперек дороги. А из распахнутой дверки уже выскаки-
вал бледный шофер в фуражке с блестящим козырьком.
Тяжело дыша от волнения, он подбежал к мальчику и
замахнулся, чтобы ударить его. Но сдержался и не уда-
рил. Только заговорил часто и сбивчиво:
— Какого черта! Шантрапа!.. Жить надоело? Под
машину лезешь! Герой!
Но мальчик был защищен от ругательств невидимой
броней своего смятения. И обидные слова отскакивали
от этой брони, как дробинки. Когда шоферу не хватило
воздуха и он замолчал, чтобы сделать вдох, мальчик, не
поднимая глаз, сказал:
— Человек умирает.
— Где?—спросил шофер. Он сразу остыл, почувство-
вал себя на своем посту.
— Я вам покажу,— ответил мальчик.
19
Шофер нахмурился. Когда работаешь в «скорой по-
мощи», готов ко всему. Но такого оборота дела он не
ожидал.
Он полез в карман и достал оттуда пачку сигарет.
Сунул одну в рот и чиркнул зажигалкой, зажатой в ку-
лаке. Зажигалки не было видно, и казалось, что он
извлек огонь из самого кулака.
— Идем к врачу,— сказал шофер,— он решит.
Когда мальчик и шофер подошли к машине, там уже
начал собираться народ. Машина «скорой помощи»,
стоящая поперек мостовой, успела привлечь зевак. Они
толпились у машины, спрашивая друг друга:
— В чем дело?
— Что случилось?
— Кого-нибудь задавили?
Но никто не лежал на мостовой, а к машине быстро
шли шофер в фуражке с лакированным козырьком и
долговязый мальчик с коньками под мышкой.
— Арсений Иванович,— сказал шофер, заглядывая в
открытую дверку,— тут у малого с отцом плохо. А у нас
вызовов нет. Поедем?
— Что с ним?—спросил из кабины басистый голос,
обращаясь к мальчику.
Мальчику хотелось сказать, что шофер ошибся, что
раненый боец вовсе ему не отец, а чужой человек. Но
сейчас не было времени для объяснений. И он, стараясь
говорить понятней и убедительней, сказал:
— Лежит без сознания. Раненый он. Осколок заше-
велился в груди.
— Поехали!—решительно сказал врач.
Мальчик и шофер забрались в кабину. Завыла сирена,
разгоняя зевак. И, присев на задние колеса, как копь пе-
ред скачками, «скорая помощь» устремилась вперед.
8
Мальчик не знал, застанет он раненого бойца в живых
или нет. Поэтому, открывая дверь, он чувствовал, что у
него слабеют руки и ноги легонько дрожат в коленках.
Всю дорогу он торопился, а сейчас вдруг замедлил шаги.
Что, если Бахтюков не дождался его?..
20
Но медлить нельзя. За спиной стоят врач с чемодан-
чиком и два санитара с пустыми носилками. А внизу у
подъезда дежурит машина «скорой помощи». Мальчик
заходит в прихожую. За ним трое мужчин. Они здоровые,
в белых халатах поверх пальто. От них сразу становит-
ся тесно в квартире.
Человек на диване по-прежнему бледен, глаза его за-
крыты. Жив он или нет?
От волнения мальчик сжимает в карманах кулаки.
Врач берет Бахтюкова за руку. Он считает удары пульса,
поглядывая на часы. Раз считает,— значит, пульс есть.
Значит, Бахтюков жив. Хотя он не очень похож на живо-
го. Врач засучивает рукав больного до самого плеча и
берет в руки ампулу. Ампула похожа на маленькую со-
сульку. Врач щелкает сосульку по носу и ловким ударом
отбивает стеклянный кончик. Потом опускает туда сталь-
ное жало шприца. Берет руку человека, лежащего без
сознания, и прикидывает, куда бы вонзить иглу.
Мальчик упирается большими пальцами ног в носки
ботинок.
Он вспоминает, как в школе ему делали прививку.
Его тоже кололи шприцем. Было больно, но терпимо.
В общем, пустяк. Но мальчику кажется, что Бахтюкову
будет в сто раз больнее. Ведь ему и без укола плохо!
Мальчик прижимает локти к бокам и зажмуривается.
Игла впивается в руку.
Санитары поставили носилки в угол, а сами сидят на
стульях у стола. Они большие и тяжелые. Взгляд у них
безразличный. Они не наблюдают за действиями врача.
Они заняты своими мыслями. Им все знакомо. От посто-
янной встречи со страданиями и несчастьем их сердца
покрылись черствой корочкой. У них свои заботы.
— Лестница узкая,— говорит один санитар друго-
му,— боюсь, носилки не пройдут.
— Пройдут,— отвечает другой,— пройдут. Припод-
нять немного придется.
— Болыюй-то тяжелый.
Мальчик слышит за спиной их спокойный разговор,
и ему хочется сказать им что-нибудь обидное. Но он не
поворачивается к ним. Он смотрит на Бахтюкова. И Бах-
тюков открывает глаза.
Он видит мальчика. Мальчик стоит перед ним, как
стоял в ту минуту, когда он потерял сознание. Может
21
быть, мальчик никуда не уходил? Так и простоял у его
изголовья целую вечность, как бессменный часовой?
Бахтюкову хочется улыбнуться этому долговязому, не-
складному парнишке. Но вместо улыбки получается бо-
лезненная гримаса: очень больно. Он замечает врача и
санитаров. Он все понимает.
— Что будем делать?—спрашивает он врача.
И врач, убирая шприц, отвечает:
— Поедем в больницу.
Бахтюков молчит, потом покорно кивает головой.
Взгляд его становится озабоченным. С застенчивой улыб-
кой он просит мальчика:
— Сынок, будь другом, отправь телеграмму моим в
Сапожок.
— Хорошо. Отправлю,— сразу соглашается мальчик.
И ему почему-то становится обидно, что человек сей-
час думает о своем Сережке Бахтюкове. А этот самый
Сережка небось гоняет с ребятами на лыжах...
— Принеси мне бумагу и карандаш.
Мальчик идет в соседнюю комнату. Календарный
листок все еще зовет Бахтюкова к четырем часам на
партком... На столе лежат две тетрадки Сережи Бахтю-
кова из 6 «А». Мальчик берет первую попавшуюся и
небрежно открывает ее. Это тетрадь по литературе. В ней
написано сочинение. Большими аккуратными буквами
выведено заглавие: «Как я провел лето». Ни кляксы, пи
помарочки. «Чистюля! — презрительно думает мальчик
и читает первые строки: — «Лето я провел в городе Са-
пожке у бабушки. Это маленький город. В нем много
зелени...»
Мальчик вырывает листок из тетради. Вырывает не-
ровно, наискосок,— пусть хозяин обязательно заметит,
что лист вырван.
Бахтюкову трудно писать. Буквы получаются кривые,
будто им тоже плохо и они не держатся на ногах. Он
пишет телеграмму в Сапожок, а врач делает запись в
свою книжечку. Врач ставит точку, и санитары, как по
команде, встают из-за стола. Они ставят носилки на пол.
В боевое положение.
Мальчик смотрит на Бахтюкова. И вдруг он думает о
том, каким бы он был счастливым человеком, если бы
Бахтюков писал эту телеграмму ему, а не Сереже. Он
смотрит на него с грустью. Он понимает, что сейчас-то
22
они расстанутся навсегда. Бахтюков пишет долго.
А мальчику хочется, чтобы он писал еще дольше. Чтобы
он никогда не кончил писать эту телеграмму.
— Вот,— говорит Бахтюков и протягивает мальчику
листок и деньги.— Сделай это, сынок. И вообще спасибо
тебе.
Санитары кладут больного на носилки. Мальчик отхо~
дит в сторону. Если бы он мог, он сделал бы это один.
И сделал бы хорошо. А санитары так трясут Бахтюкова...
Он стоит и не дышит. Ему начинает казаться, что все
это не на самом деле. Показывают в кино, а он зритель.
Он по другую сторону экрана. У него под мышкой коньки
«английский спорт», а здесь, в комнате, носилки, белые
халаты, запах лекарства и человек — большой, хороший,
близкий человек — в опасности.
Санитары берутся за ручки носилок.
— Взяли?—спрашивает передний.
— Взяли!—командует задний.
И носилки отрываются от пола.
Они плывут по комнате, по темному коридору. Мимо
комнаты, залитой желтой солнечной краской. В замоч-
ную скважину протиснулся один луч солнца. Он прямой
и светлый. В нем, как маленькие живые существа, кру-
жатся пылинки. Когда носилки проплывают мимо, сол-
нечный луч касается щеки раненого бойца. Он прощает-
ся с хозяином дома.
На улице мальчик говорит Бахтюкову:
— До свиданья.
— Ты еще здесь?—отзывается раненый боец, и его
глубокие большие глаза встречаются с зелеными глазами
мальчика, полными печали.
Взвыла сирена. Машина забуксовала, вздрогнула,
потом оторвалась и покатила.
А мальчик стоял и смотрел ей вслед, держа в руке
неотправленную телеграмму.
9
Что толку в коньках, когда они бессмысленно торчат
под мышкой! Будь они па ногах, можно было бы мчаться,
сокращая время и расстояние. Но в городе на коньках
не очень-то разъедешься. Лед сколот или посыпан пе-
23
ском. А в Голландии все пешеходы надевают зимой
коньки. Там даже старушки катаются на коньках. Но
там вместо улиц — каналы, покрытые гладким синева-
тым льдом.
Коньки помогают, когда они на ногах, а когда их
приходится нести под мышкой, то они только мешают.
Опять мальчик спешит. Телеграмму нужно отправить
поскорее. Ведь в телеграмме Бахтюков, наверно, зовет
жену и сына, этого противного Сережку, который пишет
сочинения каллиграфическим почерком, без единой по-
марки. Черт с ним! Раз Бахтюков хочет, пусть приезжает
Сережка.
Одному уху все время тепло, оно под шапкой, а дру-
гое совсем замерзло. Но в спешке все некогда передви-
нуть шапку.
Зато на почте тепло. Здесь пахнет красным сургучом,
тягучим клеем и еще каким-то неповторимым почтовым
духом. За барьером в глубине стучит телеграфный
аппарат. Его звук напоминает капель. Может быть, это
гающие сосульки проникли за дверь, на которой висит
строгая, как приказ, табличка: «Посторонним вход вос-
прещен!»
На почте мальчику сразу стало жарко. Он расстегнул
пальто и размотал зеленый шарф. В распахнутом паль-
то он стал походить на галчонка с подбитым крылом. Он
подошел к окошечку, где принимают телеграммы, и про-
тянул листок.
— Это что за каракули?—рассердилась девушка в
окошке.— Что ты, получше написать не мог? Не малень-
кий! На бланк — перепиши.
Мальчик покраснел от неловкости, но не стал объяс-
нять, что телеграмму писал не он, а раненый, у которого
едва хватило сил удержать в пальцах карандаш.
Посреди почтового зала стояла конторка, похожая на
деревянный гриб. Мальчик прислонил коньки к ножке
гриба, а телеграфный бланк положил на шляпку. Не то-
ропясь, стараясь уместить буквы в строке, он вывел
адрес. Мальчик старался писать как можно аккуратнее,
но почерк у него был нескладный, а буквы получались
очень вытянутыми, им были малы строчки телеграфного
бланка.
Когда адрес был написан, мальчик тяжело вздохнул—
нелегкая эта работа — и стал писать текст.
24
«Заболел,— писал он,— ложусь больницу. Квартиру
запер. Отдыхайте. Отец».
Только теперь, когда телеграмма была написана,
до сознания мальчика дошел ее смысл. Нет, Бахтюков
никого не звал. Он просто сообщал о случившемся. Сер-
дитые зеленые огоньки зажглись в глазах мальчика. Вы-
ходит, он для того бежал на почту, чтобы сообщить
Сережке Бахтюкову, что он может спокойно отдыхать, в
то время как отец его лежит в больнице и жизнь его в
опасности?! Мальчику захотелось порвать телеграмму.
Написать новую, свою. В этой телеграмме он на все дены
ги отругал бы этого Сережку. Он бы высказал ему все,
что о нем думает... Но он не сделал этого.
Когда телеграмма была написана, у окошечка уже
образовалась очередь. Мальчик молча стал в очередь.
Плечи у мальчика опущены. А взгляд зеленых глаз
усталый, растерянный. Одна рука держит коньки, а дру-
гая свободна. Она болтается просто так, а когда хозяин
спотыкается, помогает ему держаться на ногах. Наконец
она замерзла, и мальчик сунул ее в карман.
Пальцы нащупали какую-то бумажку. Ах да, это лис-
ток из тетради, который не приняли на почте. Мальчик
вынимает листок и перечитывает слова, составленные из
букв, которые еле стоят на ногах: «Заболел. Ложусь
больницу. Квартиру запер. Отдыхайте. Отец».
Отец... Это слово мальчик произносит вслух. Он ни-
когда в жизни не произносил этого слова, и ему хочется
знать, как оно звучит. Он не узнает собственного голоса.
Ему кажется, что кто-то другой произносит это слово.
Мальчик представляет себе, как произносит слово
«отец» Сережка Бахтюков. Ему даже чудится, что он
слышит его голос. Мальчик морщится, как музыкант от
фальшивой ноты.
И вдруг ему начинает казаться, что ни Сережка, ни
его мать не поедут к отцу. Они не покинут раньше срока
город Сапожок и не примчатся к человеку, который сей-
час страдает в больнице. К человеку, которого зовут
«отец».
Он представил себе Бахтюкова одного на больничной
койке. И почувствовал, как уголки глаз начинает щи-
пать горькая накапливающаяся слеза.
А что, если сходить в больницу? Просто так узнать,
как здоровье больного Л. Бахтюкова. Передать привет и
25
уйти. Все человек не будет себя чувствовать таким оди-
ноким.
Да и на каток ему совсем неохота идти. Нет настрое-
ния. На каток можно сходить и завтра. Спешить не-
куда.
Когда людей в трудную минуту не зовут на помощь, а
советуют им спокойно отдыхать, спешить не обязательно.
Разве это не так?
10
Мальчик сходит со ступенек почты. Он никуда теперь
не спешит. Он держит коньки не под мышкой, а в руке.
Блестящий полоз холодит руку, но сейчас это не страшно:
в городе потеплело, хотя солнце клонится на закат, зем-
ля подставляет под его лучи свой продрогший зимний
бочок. Греется.
Сосульки сбились со счета, и теперь их прозрачные
капли без передышки стучат о камни, о подоконники, о
крыши киосков. Их стук сливается в длинную пулемет-
ную очередь. Это весна бьет из ’своего веселого пулемета
по льдинам и снегам, по вьюгам и морозам.
Мальчик оглядывается вокруг и замечает, что снеж-
ный наст в городском сквере осел и напоминает поверх-
ность луны. На его шероховатой, кремнистой корочке
виднеются маленькие лунные цирки. И пусть не скоро
распустятся почки и прорастет трава, — на еловых лапах,
на самых кончиках, уже появилась свежая зелень. Тем-
ные прошлогодние иголки жесткие, а новые весенние
иголочки еще не окрепли, не -научились колоться.
Дотронься до них щекой — почувствуешь, какие они
нежн ые.
Мальчик с коньками идет по городу...
Вот уж действительно человек, не следящий за своей
внешностью! Даже мысль о встрече с девочкой в белой
шапке не может заставить его привести себя в порядок.
Интересно, заметила она, что его не было на катке?
Или он ей совсем безразличен, как и все остальные
шкеты?
Мальчик перешел на другую сторону и, незаметно для
себя ускоряя шаги, направился в городскую больницу.
26
11
У каждого дома есть свой запах, даже если дом нежи-
лой. У почты — почтовый запах, у булочной — хлебный,
у больницы — лекарственный.
Почтовый запах рассказывает о посылках и бандеро-
лях, о свежих газетах и заморских марках, отмеченных
черными радугами печатей. Запах булочной рассказы-
вает о поджаристых корочках, о бубликах, усыпанных
черными дробинками мака, о булочках, залитых сладкой
глазурью.
Больничный запах не рассказывает пи о чем хорошем.
Он встречает человека на пороге и сразу отравляет ему
настроение рассказом о боли и страданиях.
Этот запах встретил мальчика за дверью с надписью*.
«Приемный покой».
В приемном покое стояла торжественная тишина.
Собственно, не сам приемный покой, а лишь коридор
перед ним. На скользком кафельном полу стоял белый
деревянный диван. И больше ничего здесь не было.
Мальчик сделал несколько неуверенных шагов и
очутился перед стеклянной дверью. Дверь была приот-
крыта. Мальчик заглянул туда и сразу встретился взгля-
дом с дежурным врачом. Врач был в белой шапочке и с
большой черной бородой. Рукава халата закатаны до
локтей. Вид у врача был строгий и, как показалось маль-
чику, немного свирепый. Заметив посетителя, врач сме-
рил его строгим взглядом и вышел в коридор. Он по-
дошел к мальчику и задал ему самый неожиданный
вопрос:
— Что это у тебя, «английский спорт»? Дай-ка сюда.
Удивленный мальчик протянул доктору коньки. Тот
взял их в руки и попробовал лезвие ногтем: острые они
или нет. Врач рассматривал коньки, а мальчик не отры-
вал глаз от врача. Доктор был молодой. У него нс было
ни единой морщинки, а щеки были такие румяные, будто
их обладатель только что пришел с катка. Мальчик
сделал это открытие, и ему сразу стало легче. Он
сказал:
— К вам привезли больного. Его зовут Л. Бахтюков.
Как его состояние?
Врач протянул мальчику коньки и почесал бородку.
— Бахтюков?—повторил он.— С осколком?
27
1— Да, да,— подхватил мальчик,— его привезли на
«скорой помощи».
— К нам всех на «скорой помощи» привозят,— сказал
врач.
Мальчик промолчал.
— Случай тяжелый.— Голос врача сразу стал теплее,
а от строгости не осталось и следа.— Я сейчас узнаю,
как дела. А ты посиди здесь на диване.—И доверитель-
но добавил:— Вообще-то здесь не положено быть посто-
ронним. Но случай тяжелый.
Доктор скрылся в своем приемном покое, а мальчик
сел на диван. Он сел и сразу почувствовал во всем теле
такую слабость, что зажмурил глаза. Ему даже пока-
залось, что он уже ни за что не сможет подняться на
ноги.
Он слышал, как за стеклянной дверью молодой боро-
датый доктор звонил по телефону, как он расспрашивал
о Бахтюкове, как называл себя доктором Коном из прием-
ного покоя.
Через некоторое время он снова появился в дверях.
Он испытующе посмотрел на мальчика и сказал:
— Вот что. Сейчас отца будут оперировать. Будешь
ждать?
— Буду!
Доктор одобрительно кивнул ему головой и скрылся
за дверью.
12
Есть люди, созданные для сидения на месте. Их де-
виз: в ногах правды нет. И есть непоседы. Они ерзают на
стуле, с трудом досиживают до конца урока и, стоя в
очереди, испытывают ни с чем не сравнимые муки. Из
таких людей вырастают путешественники и строители,
разведчики и почтальоны. У них правда в ногах, в дви-
жении, в смене впечатлений.
Мальчик с коньками принадлежал к такой породе лю-
дей.
Почему же сейчас, в приемном покое городской боль-
ницы, он сидит смирно, не ерзает? Не болтает ногой и
не барабанит пальцами по белому больничному дивану?
Но это вовсе не значит, что он спокоен.
28
Его мысли мечутся. Как проходит операция? Боль-
но Бахтюкову или на него действует наркоз?.. Наверное,
все-таки больно.
Мысли переносят мальчика в операционную. Он
представляет на операционном столе себя. Он старается
причинить себе боль... Для этого он вспоминает, как
однажды летом наступил босой ногой на гвоздь. Гвоздь
вошел глубоко. Сначала было не очень больно. Потом
ранку обожгли йодом. От боли он прыгал на одной но-
ге. Потом боль стала тупой и долгой...
Мальчик почти физически ощутил эту боль. Он даже
пошевелил ногой в ботинке.
Но Бахтюкову, конечно, еще больнее.
И вдруг мальчик мысленно очутился возле города
с гордым названием Орел. Он видит степь с птичьего
полета. Сверху огневые позиции противотанковых ору-
дий похожи на кротовые норки: вокруг насыпь из све-
жей земли. А фашистские танки, которые ползут по сте-
пи, похожи на желтых черепах. Черепахи медленно
приближаются к кротовым норкам.
Он видит, как над кротовыми норками замелькали
вспышки. Это ПТО открыли огонь по тайкам. Вот один
танк остановился. Из него повалил густой черный дым.
Этот дым разрастается. Он ползет по траве, застилает
черепах и кротовые норки. Уже не видно, что делается
на земле. Только в дыму сверкают вспышки ПТО, как
в туче отблески молний.
Мальчику кажется, что он идет по земле, разгребая
дым руками. Дым густой, как вода, он мешает идти.
Земля черная. Она пахнет пожаром, как старая солдат-
ская трубка в письменном столе Бахтюкова.
Вот пушка Бахтюкова... А вот сам Бахтюков. Худой,
похожий на младшего брата нынешнего Бахтюкова. На
нем гимнастерка с расстегнутым воротом... Пушка ПТО
стреляет. После каждого выстрела она приседает, а
ствол откатывается назад, будто хочет спрятаться, по
потом раздумывает и возвращается обратно. А Бахтю-
ков кричит: «Огонь! Огонь!»
И, чем громче кричит Бахтюков, тем сильнее стреля-
ет пушка.
«Огонь!»—кричит Бахтюков, и пламя срывается с
губ Бахтюкова. И переносится на танк. И танк горит.
Но следующий танк успевает выстрелить. Бахтюков
29
падает. Пушка опрокидывается. Колеса беспомощно
вращаются.
...Бахтюков лежит в траве. Он бледный, с непокры-
той головой. На белых бурках кровь..» Да нет, не на
бурках — на сапогах...
Бахтюков большой и тяжелый, но мальчик несет его
па руках... Он прикрывает его собой от осколков фа-
шистских «фердинандов».
Сердце стучит громко. На весь приемный покой. Нет
покоя в приемном покое.
Сюда привозят больных, измученных людей. Здесь
тревожатся о своих близких. В насмешку, что ли, назва-
ли это место «покоем»?
Мальчик ждет. Он сидит на месте. Но мысли его
неспокойны. Нет для него сейчас ни катка, ни города, ни
дома. Есть только раненый боец. Он командует мысля-
ми мальчика, и мысли подчиняются одному ему.
13
Оказывается, мысли тоже устают. Они замедляют
ход. Перестают метаться. Но они не дремлют. Они ждут.
Мальчик устало прислонил голову к стене. Его глаза
смотрят в одну точку. Они уже не видят ни окопа ПТО,
ни фашистских танков.
— Кто от Бахтюкова?
Мальчик вздрагивает и вскакивает с дивана:
- Я!
Перед ним пожилая медицинская сестра. Она такая
полная, будто надела халат поверх шубы, как санитары
«скорой помощи».
— Ты? — произносит сестра густым, почти мужским
голосом.
Она говорит степенно, с расстановкой, будто читает
по бумажке.
— Операция была тяжелая. Больной потерял много
крови. Но все обошлось благополучно.— И вдруг по-
бабьи жалостливо смотрит на мальчика и говорит сов-
сем другим, женским голосом:—Ты не волнуйся. Будет
жить отец. Организм у него могучий.
— А скоро он поправится?—спрашивает мальчик.
30
— До зеленых листиков полежит,— говорит сест-
ра.— Теперь беги домой. Скажи матери, чтобы не волно-
валась... А это тебе на память.— Сестра протянула маль-
чику маленький кусок ржавого железа.
— Что это?—Мальчик вопросительно поднял глаза
на сестру.
— Осколок.
Это был тот самый осколок, который через много лет
после конца войны вдруг ожил и пытался сделать то,
что ему не удалось там, в степи под Орлом: поразить
сердце бойца.
— У самого сердца отыскался,— пояснила сестра и,
спохватившись, заторопилась:—Ну, мне пора. Передать
что-нибудь отцу?
Мальчик задумался. Что передают сыновья больным
отцам?
— Передайте, что дома все в порядке. Целуют его...
все. И пусть скорее поправляется.
Слова показались ему сухими, но других слов маль-
чик не знал.
Он сжал в кулаке осколок и почувствовал боль: у
осколка были острые края.
Сестра ушла. Она ушла туда, где в тихой палате
весь в бинтах лежал бывший старшина Бахтюков. Он
лежал с открытыми глазами и скрипел зубами от боли.
Сестра подошла к нему, поправила подушку и, как
бы невзначай, сказала:
— Какой у вас хороший сынок!
— Сынок?—Бахтюков, забыв про боль, слабо улыб-
нулся.
— Он всю операцию в приемном покое просидел.
Волновался.
— Сынок,— прошептал Бахтюков и почувствовал,
что боль стала слабее.
Значит, телеграмма пришла вовремя. Значит, сын,
узнав о его болезни, не пожелал отдыхать, а примчался
в родной город!..
Человеку было невдомек, что никакая телеграмма-
молния не могла так быстро дойти до далекого города
Сапожка и тем более привезти ему сына.
14
В городе стемнело. Уже не видно лунных цирков на
корочке осевшего снега. Уже на елочках нельзя разли-
чить молодые, нежные иголки от старых, колючих и
жестких. Уже скрылись из глаз скользкие серебристые
сосульки. Но, хотя земля повернулась к солнцу другим
бочком, в городе тепло и невидимые сосульки продол-
жают таять.
По городу идет мальчик с коньками под мышкой.
В темноте не видно, что одна пуговица вырвана с
мясом, а на шарфе чернильное фиолетовое пятно. И не
видно, что он вырос из пальтишка и из лыжных брюк.
Все ему коротко, все не по росту. Но кто виноват, что
мальчики так быстро растут?
На каком ухе сидит старенькая шапка? Не все ли
равно! Когда весна своим теплом, влажным дыханием
касается лица, это не имеет значения: уши не мерзнут.
И только ботинки, набегавшиеся за день по лужам, про-
мокли, и ногам холодно.
Мальчик думает о высоком, крупном человеке в ме-
ховой куртке, сделанной из шкуры черного зверя, и о
боевом ордене, и о прокуренной трубке, и о рецепте,
выданном санчастью с номером полевой почты. Он ду-
мает о человеке, которого ему недоставало всю жизнь.
И теперь этот человек нашелся, но он принадлежит не
ему...
На месте Сережи мальчик бросил бы все на свете и
примчался к отцу... Нет, он бы вовсе не уезжал от
отца ни к какой бабушке, ни в какой Сапожок. Он бы
всегда был рядом с ним, чтобы в любую минуту прийти
на помощь.
Мальчик не замечает, как справа от него вырастает
забор стадиона. На катке уже не звучит музыка, не
горят веселые лампочки и не слышно зазывного шороха,
который издают коньки, разрезающие лед.
Под единственной лампочкой на воротах висело
объявление:
«Ввиду теплой погоды каток закрыт».
Мальчик сжал кулак и почувствовал боль. В руке
был зажат осколок, который мог вонзиться в сердце
Бахтюкова. Мальчик сжал кулак крепче, и ему стало
еще больней.
32
И вдруг мальчик обрадовался. Он может терпеть
боль, и ему наплевать, что каток закрыт. И он смеется
над счастливчиком Сережкой, хотя у того есть отец.
И человек, назвавший его сынком, будет жить и
поправится до зеленых листиков. И хотя ноги мерзнут,
это хорошо,— значит, в городе много луж, значит, весна
спешит и скоро появятся эти самые зеленые листики.
Мальчик расстегнул свое коротенькое пальто, пере-
ложил коньки в другую руку и зашагал домой.
ПЕРЕМЕНА ПОГОДЫ
— Пойдем в лес. На лыжах.
— Погода не лыжная. Посмотри, как метет.
— Ну и пусть метет.
— Наверное, и лыжни не видно.
— Мы проложим новую. Я пойду впереди. Одевайся.
— Может быть, отложим на завтра?
— Я пойду доставать лыжи, а ты одевайся.
— Ладно.
Сын настоял на своем. Он пошел за лыжами, а отец
нехотя стал натягивать ботинки. Они были жесткими,
холодными и никак не налезали на толстые шерстяные
носки. Потом он долго шнуровал их, словно специально
тянул время: не хотел выходить на мороз.
А сын уже достал лыжи, оделся и стоял рядом,
нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу.
— Готов?
— Как будто.
— Ну, идем, идем...
В такую погоду выйти из тепла на улицу — все равно
что окунуться в холодную воду: от резкой перемены
температуры захватывает дух и познабливает. Отец
жмурил глаза, отворачивался от пронизывающего вет-
ра, и сын настороженно посматривал, боясь, что он раз-
думает и вернется домой. Но отец уже опустился на коле-
но и прилаживал к ботинку лыжу.
33
— Тебе помочь?
— Не надо. Очень тугое крепление... выбрали по-
годку...
— Пошли?
Отец хмурился, а сын терпеливо ждал.
Наконец они двинулись. Мальчик шел впереди. Он
прокладывал лыжню, как ледокольный буксир прокла-
дывает во льду фарватер тяжелым судам. Он торопился
и делал много лишних движений. А отец, пока не разо-
грелась кровь и не прошла одышка, тяжело перевали-
вался с одной лыжи на другую.
— Ничего, что метет!—через плечо крикнул сын.—
Так даже интереснее.
Отец ничего не ответил. Он берег дыхание. Метель
била с правой стороны, и от ее ледяного прикосновения
немел подбородок. И надо было в такую погоду тащить-
ся в лес!
Отец скользил на лыжах, опустив голову, чтобы за-
щитить лицо от колючей холодной пыли. Он видел толь-
ко две блестящие полоски — две лыжни, проложенные
сыном. А когда время от времени распрямлялся, то пе-
ред его глазами возникала вытянутая, слегка сутулая
фигура, сына, запорошенная снегом, раскачивающаяся,
неутомимая. Казалось, не останови его, и мальчик, не
переводя дыхания, пойдет напролом через леса и поля,
заваленные сугробами. Временами, чтобы убедиться, что.
отец не отстал, сын оглядывался — и тогда из-под рес-
ниц, на которые налипли снежинки, весело сверкали
глаза.
Так они дошли до оврага. Сын сделал остановку и
дождался отца. Он сказал:
— Ты здесь не съезжай. Там, левее, есть пологий
спуск.
— А ты?
— Я-то съеду здесь.
Отец посмотрел на сына и вспомнил, как совсем не-
давно, леть пять назад, он учил его ходить на лыжах и
выбирал невысокие горки, чтобы мальчик не упал и не
расшибся. Тогда сын спорил: «Я не маленький!»—и
требовал, чтобы его повели на большую гору. А сейчас
этот малыш вытянулся, над верхней губой появился
темный пушок, и он говорит отцу: «Там, левее, есть
пологий спуск».
34
Что же ответить сейчас сыну? «Я не старый?» Или
еще что-либо в этом роде?
Отец про себя усмехнулся, и ему стало весело и
покойно от неожиданной опеки сына. Он почувствовал
во всем теле легкость, и захотелось непременно съехать
с крутой горы. Руки нажали на палки, туловище пода-
лось вперед — и его сразу закружил белый ошеломляю-
щий водоворот снега. Глаза сами зажмурились, руки
вытянулись вперед. Он потерял ориентировку и в следую-
щее мгновение уже не мог удержаться на ногах. Упал.
И сразу рядом с ним вырос сын.
— Ты ушибся?
— Ничего... Все в порядке.
Он помог отцу подняться и стал отряхивать его ва-
режкой.
— Зачем ты съехал здесь?
— А что?
- Я же говорил: там, левее, спуск пологий... Ну,
пойдем дальше.
Отец почувствовал боль в ноге, на которую упал. Но
он не хотел, чтобы сын заметил это, и торопливо сказал:
— Да-да, пошли. Иди вперед.
Сын легко сдвинулся с места, словно его подхватило
ветром, и заработал руками часто, размашисто, как
крыльями, и казалось, что сейчас если возьмет он хоро-
ший разгон, то оторвется от земли и полетит над тем-
ными островерхими елками.
Отец осторожно переносил центр тяжести на здоро-
вую ногу и не столько отталкивался палками, сколько
опирался на них. Двигаться ему было больно и неловко.
Метель улеглась. Белая ледяная кисея запуталась в
стволах деревьев и в прутьях кустарника. Ветер уже не
сдувал с еловых лап белую накипь снега. В лесу насту-
пил покой.
Может быть, и в самом деле надо было податься ле-
вее, где пологий спуск? Отец подумал об этом и рассер-
дился на себя и на сына, который легко, будто избавив-
шись от веса, скользит по снегу и безразличен к тому,
как там, сзади, ковыляет отец.
Мальчик словно прочитал его мысли и остановился.
И, не оглядываясь, сказал:
— Послушай.
Отец остановился и прислушался.
35
— Ты слышишь?
Отец покачал головой. Он не слышал ничего, кроме
ударов собственного сердца.
— Развяжи тесемки у шапки,— посоветовал мальчик.
Отец снял перчатки и послушно развязал тесемки.
И вдруг его слух наполнился торопливым перезво-
ном множества маленьких колокольчиков. Они звонили
на все лады, заглушая шорох ветра и удары сердца.
— Где это?
— На елке.
Отец прищурился и стал разглядывать высокую пи-
рамидальную ель, перед которой стоял сын. Он увидел
в ветвях множество маленьких юрких птичек, которые
перескакивали с ветки на ветку и при этом выводили
короткие тонкие трели, похожие на звон колокольчиков.
— Это птенцы,— сказал сын.— Ты не помнишь, как
они называются?
Отец покачал головой.
— Серые гаички. Пойдем.
— Пойдем.
Отец уже не завязывал тесемки и все прислушивался,
не попадется ли еще одна такая елка. Но елки, стояв-
шие вдоль тропинки, были запорошенными и беззвучны-
ми. И болело колено. Он двигался, опустив голову,
стараясь больше скользить на здоровой ноге.
Неожиданно он заметил, что сын остановился и
наблюдает за ним.
— Ты не устал?—спросил мальчик, встретившись
глазами с отцом.
— Нет. А ты?
Вместо ответа мальчик тихо засмеялся. Потом он
сказал:
— Постой здесь, на тропинке. Если хочешь—покури.
Он остановился, а сын свернул с тропинки и, прими-
ная лыжами высокий пушистый снег, зашагал в глубь
леса. Отец стоял, опершись на палки, и следил за суту-
ловатой фигурой сына, которая мелькала между ствола-
ми. Мальчик что-то искал. Потом он остановился, присел
на корточки и стал разгребать руками снег.
— Ты чего ищешь?— крикнул отец.— Клад?
— Ага!.. Ты отдыхай, отдыхай.
Отец стоял, как аист, на одной ноге, а больную ногу
расслабил. Колено ныло и горело.
36
Через некоторое время сын появился на тропинке.
Варежки он держал в зубах, а лыжные палки зажал
под мышками. Покрасневшие от мороза руки были сло-
жены корабликом. Мальчик что-то нес в них, нес береж-
но, как несут огонь. Он подошел к отцу и протянул руки.
В ладонях лежало лиловое пятнышко.
— Что это?
— Фиалка.
Отец присмотрелся. Маленький живой цветок дер-
жался на зеленой ниточке стебля.
— Где ты откопал его?
— В снегу под елкой. Я могу еще откопать.
— Не надо. Надень варежки, у тебя замерзли руки.
— Ерунда! Бери.
Отец осторожно взял цветок. Он поднес его к глазам,
а потом подышал на него, желая отогреть холодные
лепестки.
— Ты никогда не собирал зимой фиалки?—спросил
мальчик, натягивая рукавицы и похлопывая одной ру-
кой по другой.
— Нет.
Сын ничего не сказал. Он подхватил палки в руки
и легонько оттолкнулся. А отец стоял на месте, не зная,
что ему делать с фиалкой, и не решаясь наступить
на больную ногу. Ему показалось, что мальчик сейчас
скроется навсегда и он останется один. И щемящее чув-
ство на мгновение овладело им.
— Ты что, отец?—спросил мальчик, оглянувшись.
— Ничего, ничего,— торопливо ответил он.— Я сей-
час... Не знаю, куда деть фиалку.
— Держи ее в губах,— посоветовал мальчик и дви-
нулся дальше.
Он ехал вразвалочку, медленно, чтобы не трудно
было догнать его. И отец, прихрамывая, пошел следом.
Он ощутил новое, впервые пробудившееся чувство к
этому вытянувшемуся сутуловатому мальчику, который
заглушает его боль птичьими голосами, отрытой в снегу
фиалкой, своими неторопливыми шагами, чтобы не труд-
но было за ним поспеть. Сын сразу вырвался из привыч-
ного мира стоптанных ботинок, немытых рук, схвачен-
ных двоек и предстал перед отцом в удивительном свете,
неожиданный, как цветок в снегу.
— Ты не устал, отец?
37
— Нет.
— Не спеши. До дома уже совсем близко. И метель
улеглась.
Они вышли из леса и теперь скользили по ровному
полю. Один — сдерживая стремительный бег. Другой —
припадая на ушибленную ногу.
Когда они уже подходили к дому, отец спросил:
— Завтра пойдем снова на лыжах?
— Завтра я не могу,— ответил мальчик.— Мы с ребя-
тами идем.
Отец виновато улыбнулся:
— Тогда как-нибудь в другой раз...
По снежному полю мела легкая поземка. Словно где-
то в глубине было тепло и сквозь снег пробивались
струйки пара.
БАГУЛЬНИК
Он вызывающе зевал на уроках: зажмуривал глаза,
отвратительно морщил нос и открывал пасть — другого
слова тут не подберешь! При этом он подвывал, что
вообще не лезло ни в какие ворота. Потом энергично
тряс головой — разгонял сон — и уставлялся на доску.
А через несколько минут снова зевал.
— Почему ты зеваешь?!—раздраженно спрашивала
Женечка.
Она была уверена, что он зевает от скуки. Расспра-
шивать его было бесполезно: он был молчальником. Зе-
вал же потому, что всегда хотел спать.
Он принес в класс пучок тонких прутиков и поставил
их в банку с водой. И все посмеивались над прутиками,
и кто-то даже пытался подмести ими пол, как веником:
Он отнял и снова поставил в воду. Он каждый день
менял воду.
И Женечка посмеивалась.
Но однажды веник зацвел. Прутики покрылись ма-
38
ленькими светло-лиловыми цветами, похожими на фиал-
ки. Из набухших почек-узелков прорезались листья,
светло-зеленые, ложечкой. А за окном еще поблескива-
ли кристаллики уходящего последнего снега.
Все толпились у окна. Разглядывали. Старались уло-
вить тонкий сладковатый аромат. И шумно дышали.
И спрашивали, что за растение, почему оно цветет.
— Багульник!—буркнул он и пошел прочь.
Люди недоверчиво относятся к молчальникам. Никто
не знает, что у них, молчальников, на уме: плохое или
хорошее. На всякий случай думают, что плохое. Учителя
тоже не любят молчальников, потому что хотя они и
тихо сидят на уроке, зато у доски каждое слово прихо-
дится вытягивать из них клещами.
Когда багульник зацвел, все забыли, что Коста мол-
чальник. Подумали, что он волшебник. И Женечка ста-
ла присматриваться к нему с нескрываемым любопыт-
ством.
Женечкой за глаза звали Евгению Ивановну.
Маленькая, худая, слегка косящая, волосы — конским
хвостиком, воротник — хомутиком, каблуки с подковка-
ми. На улице ее никто не принял бы за учительницу.
Вот побежала через дорогу. Застучали подковки. Хвос-
тик развевается на ветру. Остановись, лошадка! Не
слышит, бежит... И долго еще не затихает стук под-
ковок...
Женечка обратила внимание, что каждый раз, когда
раздавался звонок с последнего урока, Коста вскакивал
с места и сломя голову выбегал из класса. С грохотом
скатывался с лестницы, хватал пальто и, на ходу попа-
дая в рукава, скрывался за дверью. Куда он мчался?
Его видели на улице с собакой, огненно-рыжей. Оче-
сы длинной шелковистой шерсти колыхались языками
пламени. Но через некоторое время его встречали с дру-
гой собакой—под короткой шерстью тигрового окраса
перекатывались мускулы бойца. А позднее он вел на
поводке черную головешку на маленьких кривых ногах.
Головешка не вся обуглилась — над глазами и на груди
теплились коричневые подпалины.
Чего только не говорили про Косту ребята!
— У него ирландский сеттер,— утверждали они.— Он
охотится на уток.
— Ерунда! У него самый настоящий боксер. С та-
39
кими ходят на диких быков. Мертвая хватка!—говорили
другие.
Третьи смеялись:
— Не можете отличить таксы от боксера!
Были еще такие, которые спорили со всеми:
— Он держит трех собак!
На самом деле у него не было ни одной собаки.
А сеттер? А боксер? А такса?
Ирландский сеттер горел костром. Боксер, как перед
боем, играл мышцами. Такса чернела обгоревшей голо-
вешкой.
Что это были за собаки и какое отношение они имели
к Косте, не знали даже его родители. В доме собак не
было и не предвиделось. Когда родители возвращались
с работы, они заставали сына за столом: он поскрипы-
вал перышком или бормотал под нос глаголы. Так он
сидел запоздно. При чем здесь сеттеры, боксеры, таксы?
Коста же появлялся дома за пятнадцать минут до
прихода родителей и едва успевал отчистить штаны от
собачьей шерсти.
Впрочем, кроме трех собак, была еще и четвертая.
Огромная, головастая, из тех, что спасают людей, застиг-
нутых в горах снежными лавинами. Из-под длинной
свалявшейся шерсти проступали худые, острые лопатки,
большие впалые глаза смотрели печально, тяжелые
львиные лапы — ударом такой лапы можно сбить любую
собаку — ступали медленно, устало.
С этой собакой Косту никто не видел.
Звонок с последнего урока — сигнальная ракета. Опа
звала Косту в его загадочную жизнь, о которой никто не
имел представления. И как зорко ни следила за ним
Женечка, стоило ей на мгновение отвести глаза, как
Коста исчезал, выскальзывал из рук, улетучивался.
Однажды Женечка не выдержала и бросилась вдо-
гонку. Она вылетела из класса, застучала подковками
по лестничным ступеням и увидела его в тот момент,
когда он несся к выходу. Она выскользнула в дверь и
устремилась за ним на улицу. Прячась за спины прохо-
жих, она бежала, стараясь не стучать подковками, а
конский хвост развевался на ветру.
Она превратилась в следопыта.
Коста добежал до своего дома — он жил в зеленом
облупившемся доме,— исчез в подъезде и минут через
40
пять появился снова. За это время он успел бросить
портфель, не раздеваясь проглотить холодный обед, на-
бить карманы хлебом и остатками обеда.
Женечка поджидала его за выступом зеленого дома.
Он пронесся мимо нее. Она поспешила за ним. И прохо-
жим не приходило в голову, что бегущая, слегка кося-
щая девушка не Женечка, а Евгения Ивановна.
Коста нырнул в кривой переулок и скрылся в парад-
ном. Он позвонил в дверь. И сразу послышалось какое-
то странное подвывание и царапанье сильной когтистой
лапы. Потом завывание перешло в нетерпеливый лай,
а царапанье — в барабанную дробь.
— Тише, Артюша, подожди!—крикнул Коста.
Дверь отворилась, и огненно-рыжий пес бросился на
Косту, положил передние лапы на плечи мальчику и
стал лизать длинным розовым языком нос, глаза, подбо-
родок.
— Артюша, перестань!
Куда там! На лестнице послышался лай и грохот, и
оба— мальчик и собака — с неимоверной скоростью
устремились вниз. Они чуть не сбили с ног Женечку,
которая едва успела прижаться к перилам. Ни тот, ни
другой не обратили на нее внимания. Артюша кружился
по двору. Припадал на передние лапы, а задние подбра-
сывал, как козленок, словно хотел сбить пламя.
При этом лаял, подскакивал и все норовил лизнуть
Косту в щеку или в нос. Так они бегали, догоняя друг
друга. А потом нехотя шли домой.
Их встречал худой человек с костылем. Собака тер-
лась о его единственную ногу. Длинные мягкие уши
сеттера напоминали уши зимней шапки, только не было
завязочек.
— Вот, погуляли. До завтра,— сказал Коста.
— Спасибо. До завтра.
Артюша скрылся, и на лестнице стало темнее, словно
погасили костер.
Теперь пришлось бежать три квартала. До двухэтаж-
ного дома с балконом, который находился в глубине
двора. На балконе стоял пес боксер. Скуластый, с ко-
ротким, обрубленным хвостом, он стоял на задних ла-
пах, а передние положил на перила.
Боксер не сводил глаз с ворот. И когда появился
Коста, глаза собаки загорелись темной радостью.
4!
— Атилла!—крикнул Коста, вбегая во двор.
Боксер тихо взвизгнул. От счастья.
Коста подбежал к сараю, взял лестницу и потащил
ее к балкону. Лестница была тяжелой. Мальчику стоило
больших трудов поднять ее. И Женечка еле сдержалась,
чтобы не кинуться ему на помощь. Когда Коста наконец
приставил лестницу к перилам балкона, боксер спустил-
ся по ней на землю. Он стал тереться о штаны мальчи-
ка. При этом поджимал лапу. У него болела лапа.
Коста достал припасы, завернутые в газету. Боксер
был голоден. Он ел жадно, но при этом посматривал на
Косту, и в его глазах накопилось столько невысказан-
ных чувств, что казалось, он сейчас заговорит.
Когда собачий обед кончился, Коста похлопал пса
по спине, прицепил к ошейнику поводок, и они отпра-
вились на прогулку. Отвисшие углы большого черногу-
бого рта собаки вздрагивали от пружинистых шагов.
Иногда боксер поджимал больную лапу.
Женечка слышала, как дворничиха им вслед сказала:
— Выставили собаку на балкон и уехали. А она хоть
помирай с голоду! Люди ведь!..
Когда Коста уходил, боксер провожал его глазами,
полными преданности. Его морда была в темных морщи-
нах, лоб пересекала глубокая складка. Он молча шеве-
лил обрубком хвоста.
Женечке вдруг захотелось остаться с этой собакой.
Но Коста спешил дальше.
В соседнем доме на первом этаже болел парнишка —
был прикован к постели. Это у него была такса — чер-
ная головешка на четырех ножках. Женечка стояла под
окнами и слышала разговор Косты и больного мальчика.
— Она тебя ждет,—говорил больной.
— Ты болей, не волнуйся,— слышался голос Косты.
— Я болею... не волнуюсь,— отвечал больной.— Мо-
жет быть, я отдам тебе велосипед, если не смогу кататься.
— Мне не надо велосипеда.
— Мать хочет продать Лаптя. Ей утром некогда с
ним гулять.
— Приду утром,— после некоторого раздумья отве-
чал Коста.— Только очень рано, до школы.
— Тебе не попадет дома?
— Ничего... тяну... на тройки... Только спать хочет-
ся, поздно уроки делаю.
42
— Если я выкарабкаюсь, мы вместе погуляем.
— Выкарабкивайся.
— Ты куришь?—спрашивал больной.
— Некурящий,— отвечал Коста.
— Ия некурящий.
— Ну, мы пошли... Ты болей... не волнуйся. Пошли,
Лапоть!
Таксу звали Лаптем. Коста вышел, держа собаку
под мышкой. И вскоре они уже шагали по тротуару.
Рядом с сапогами, ботинками, туфлями на кривых нож-
ках семенил черный Лапоть.
Женечка шла за таксой. И ей казалось, что это пла-
менно-рыжая собака обгорела и превратилась в такую
головешку. Ей захотелось заговорить с Костой. Расспро-
сить его о собаках, которых он кормил, выгуливал, под-
держивал в них веру в человека. Но она молча шла по
следам своего ученика, который отвратительно зевал на
уроках и слыл молчальником. Теперь он менялся в ее
глазах, как веточка багульника.
Но вот Лапоть отгулял и вернулся домой. Коста
двинулся дальше, и его невидимая спутница—Женеч-
ка— снова пряталась за спины прохожих. Дома умень-
шились ростом. А спин стало совсем мало. Город кон-
чался. Начались дюны. Женечке трудно было идти на
каблуках по вязкому песку и корявым корням сосен.
В конце концов она сломала каблук.
И тут показалось море.
Оно было мелким и плоским. Волны не обрушива-
лись на низкий берег, а тихо и неторопливо наползали
на песок и так же медленно и беззвучно откатывались,
оставляя на песке белую каемку пены. Море выглядело
сонным и вялым, не способным к бурям и штормам.
Но бури на нем бывали. Далеко от дюн, за линией
горизонта.
Коста шел по берегу, наклоняясь вперед — против
ветра. Женечка сняла туфли, босиком было идти легче,
но холодный влажный песок обжигал ступни. На берегу
сохли развешанные на кольях сети с круглыми поплав-
ками из бутылочного стекла, лежали лодки, переверну-
тые вверх килем.
Неожиданно вдалеке, на самой кромке берега, воз-
никла собака. Она стояла неподвижно, в странном
оцепенении. Большеголовая, с острыми лопатками, с
43
опущенным хвостом. Ее взгляд был устремлен в море.
Она ждала кого-то с моря.
Коста подошел к собаке, но она даже не повернула
головы, словно не слышала его шагов. Он провел рукой
по свалявшейся шерсти. Собака едва заметно шевельну-
ла хвостом. Мальчик присел на корточки и разложил
перед собакой хлеб и остатки своего обеда, завернутого
в газету. Собака не оживилась, не выказала никакого
интереса к пище. Коста стал ее поглаживать и угова-
ривать:
— Fly поешь... Ну поешь немного...
Собака посмотрела на него большими впалыми гла-
зами и снова обратила взгляд к морю.
Женечка притаилась за развешанными сетями,
словно попалась, запуталась в них и не могла вырвать-
ся, чтобы тоже гладить собаку и говорить:
«Ну поешь... Ну поешь хоть немного!»
Коста взял кусок хлеба и поднес ко рту собаки. Та
вздохнула глубоко и громко, как человек, и принялась
медленно жевать хлеб. Она ела без всякого интереса,
как будто была сыта или привыкла к лучшей пище, чем
хлеб, холодная каша и кусок жилистого мяса из супа...
Она ела для того, чтобы не умереть. Ей нужно было
жить. Она ждала кого-то с моря.
Когда все было съедено, Коста сказал:
— Идем. Погуляем.
Собака снова посмотрела на мальчика и послушно
зашагала рядом. У нее были тяжелые лапы и нетороп-
ливая, полная достоинства львиная походка. Следы
заполнялись водой.
В море переливались нефтяные разводы. Будто где-
то за горизонтом произошла катастрофа, рухнула раду-
га и ее обломки прибило к берегу.
Мальчик и собака шли не спеша, а Женечка — следо-
пыт Женечка — слышала, как Коста говорил собаке:
— Ты хороший... Ты верный... Пойдем со мной. Он
никогда не вернется. Он погиб. Честное пионерское.
Собака молчала. Она и не должна была говорить.
Она не отрывала глаз от моря. И в который раз не вери-
ла Косте. Ждала.
— Что же мне с тобой делать?—спросил мальчик.—
Нельзя же жить одной на берегу моря. Когда-нибудь
надо уйти.
44
Рыбацкая сеть кончилась. И Женечка как бы выпу-
талась из сетей. Коста оглянулся и увидел учительницу.
Она стояла на песке босая, а туфли держала под мыш-
кой. И сквозняк, тянувший с моря, развевал ее волосы,
собранные в конский хвост.
— Что же с ней делать?—растерянно спросила она
Косту.
— Она не пойдет. Я знаю,— сказал мальчик. Он
почему-то не удивился появлению учительницы.— Она
никогда не поверит, что хозяин погиб...
Женечка подошла к собаке. Собака глухо зарычала,
но не залаяла, не бросилась на нее.
— Я ей сделал дом из старой лодки. Подкармливаю.
Она очень тощая... Сперва укусила меня.
— Укусила?
— Руку. Теперь все зажило. Я йодом смазывал.
Пройдя еще несколько шагов, он сказал:
— Собаки всегда ждут. Даже погибших... Им надо
помогать.
Море потускнело и стало как бы меньше размером.
Погасшее небо плотнее прижалось к сонным волнам.
Коста и Женечка проводили собаку до ее бессменного
поста, где неподалеку от воды лежала перевернутая
лодка, подпертая чурбаком, чтобы под нее можно было
забраться. Собака подошла к воде. Села на песок.
И снова застыла в своем вечном ожидании...
Обратно учительница и ученик шли быстро, но, когда
берег кончился, за дюнами Женечка остановилась и
сказала:
— Я не могу так быстро. У меня каблук сломался.
— Мне надо бы поспеть до их прихода,— отозвался
Коста.
— Тогда иди.
Коста внимательно посмотрел на Женечку и спросил:
— А как же вы?
— Я дойду не спеша.
— Может быть, вбить гвоздь? У вас есть гвоздь?
— Не знаю.— Женечка протянула ему туфлю.
Он покрутил каблук, как зуб, который шагается.
И постучал камнем.
— Вот.
— Теперь лучше, — сказала Женечка, падевая
туфлю.
45
Но шла она прихрамывая, наступая на носок, чтобы
каблук держался.
На другой день в конце последнего урока Коста
уснул. Он зевал, зевал, но потом уронил голову на согну-
тый локоть и уснул. Сперва никто не замечал, что он
спит. Потом кто-то захихикал.
И Женечка увидела, что он спит.
— Тихо,— сказала она.— Совсем тихо!
Когда она хотела, все было как полагается. Тихо
так тихо.
— Вы знаете, почему он уснул?— шепотом произнес-
ла Евгения Ивановна.— Я вам расскажу.., Он гуляет с
чужими собаками. Кормит их. Собаки всегда ждут.
Даже погибших... Им надо помогать...
Зазвенел звонок с последнего урока. Он звенел гром-
ко и протяжно. Но Коста не слышал звонка. Он спал.
Евгения Ивановна—Женечка — склонилась над спя-
щим мальчиком, положила руку ему на плечо и легонько
потрясла. Он вздрогнул и открыл глаза.
— Звонок с последнего урока,— сказала Женечка,—
тебе пора.
Коста вскочил. Схватил портфель. И в следующее
мгновение скрылся за дверью.
ДРУГ КАПИТАНА ГАСТЕЛЛО
Очень нехорошо подслушивать разговоры взрослых,
а когда младшие еще норовят вставить свое словечко,
это уже совсем никуда не годится. Но как быть, если ты
живешь со взрослыми в одной комнате? Нельзя же все
время зажимать уши руками.
Сережа терпеть не мог чужие разговоры: они мешали
делать уроки и отвлекали от собственных мыслей. А ко-
гда он ложился спать, то долго не мог уснуть, если в
46
комнате говорили. Это только чудаки превращают свои
уши в звукоуловители и, делая вид, что спят, подслу-
шивают.
Но один раз Сережа вмешался в чужой разговор, и
из этого получилась целая история.
Это случилось в тот день, когда к папе пришел его
давнишний приятель — дядя Владя. За обедом больше
говорил папа, а гость серьезно и сосредоточенно зани-
мался едой. Он так старательно обсасывал косточки,
словно играл на них, как на свистульке: косточки дейст-
вительно издавали свист. При этом лоснящиеся румяные
щеки налезали на глаза, закрывали их, и казалось, дядя
Владя сейчас замурлыкает от удовольствия.
После обеда гость и хозяин поменялись ролями.
Теперь уже Сережин папа молчал, а дядя Владя расска-
зывал одну историю за другой. Истории эти были раз-
ные, и только герой в них оставался один и тот же — сам
дядя Владя. Оказывается, на войне он бесстрашно фор-
сировал Днепр, первым вступил на вражескую землю и
лично штурмовал рейхстаг. В конце концов у Сережи
сложилось впечатление, что, если бы не дядя Владя,
неизвестно, сколько бы времени продлилась война.
Сережа слушал папиного товарища с открытым ртом.
Он видел дядю Владю в огромном танке (в маленький
дядя Владя бы не влез), в самолете (в бомбардировщи-
ке), и у гремящего орудия в клубах дыма тоже возника-
ло кисельно-красное лицо гостя.
Наконец дяде Владе надоело рассказывать истории.
Он сел поудобнее на диван и решил немного порассуж-
дать.
— Вот у нас говорят «герои».— Дядя Владя зевнул
и быстро прикрыл рот ладонью, словно боялся, что изо
рта вылетит птица.— А кто они, эти герои? Взять, напри-
мер, Колю Гастелло...
Услышав имя легендарного летчика, Сережа насто-
рожился. Он даже привстал со стула. Капитан Гастелло
был его любимым героем, примером для подражания,
путеводной звездой. Сережа восхищался им и пережи-
вал его гибель, словно незнакомый капитан, отдавший
свою жизнь задолго до того, как Сережа появился на
свет, был его близким человеком.
— Взять, например, Гастелло,— продолжал дядя Вла-
дя.—Какой он герой! Ну подбили его машину, ну упала
47
она случайно на шоссе, по которому шли немецкие тан-
ки. А при чем здесь героизм?
Сережа почувствовал, что у него слабеют ноги, и он
опустился на стул, словно произошло что-то ужасное,
вроде пожара или аварии. Вся Сережина жизнь пере-
вернулась и стала бессмысленной от слов дяди Влади.
— Теперь все трубят: «герой», «герой»!—продолжал
гость.— У нас вообще любят из мертвецов делать героев.
А кто этому верит? Вот такие, как Сережка.
Дядя Владя кивнул на мальчика. И тут Сережа поте-
рял власть над собой. Он забыл, что не полагается вме-
шиваться в разговор старших. Он решил, что дядя Владя
просто ошибается и надо скорей все объяснить ему.
— Гастелло был настоящим героем. Он сам...— на-
чал было Сережа.
Но дядя Владя перебил его:
— Ну вот, полюбуйтесь. «Настоящий герой»! Это мы,
старые фронтовики, знаем, кто настоящие герои. Мы...
Да что там говорить!—Гость махнул рукой, сунул в рот
папиросу и стал ее обсасывать, как косточку.
Сережа сидел как побитый. Он представил себе стро-
гое, гордое лицо капитана Гастелло. Лицо было блед-
ным, а глаза закрытыми. Герой не видел кисельной
рожи дяди Влади и не слышал его слов. Он не мог
постоять за себя. И Сережа почувствовал, что не имеет
права сидеть сложа руки, что он обязан вступиться за
погибшего героя.
— Капитан Гастелло — герой! Все равно герой!
Сережа прокричал эти слова, потому что, когда кри-
чишь, голос не такой тоненький.
— Сережа,— строго оборвала его мама,— дяде Вла-
де видней. И вообще...
-- Нет,— вдруг оживился гость,— ему видней! Это он
прошел от Волги до Шпрее с автоматом на плече. Он!—
И дядя Владя ткнул в сторону Сережи указательным
пальцем, словно хотел пронзить его насквозь.
Сережа опустил голову. Он понял, что ему не спра-
виться с огромным мясистым дядей Владей, что нужно
где-то разыскать больших и сильных друзей капитана
Гастелло, которые сумели бы постоять за погибшего
друга. Надо предупредить их, что у мертвого капитана
появился такой опасный враг, как дядя Владя.
Никто не заметил, как Сережа тихо поднялся со
48
стула и направился к двери. Когда старшие увлекаются
своими разговорами, они быстро забывают о младших.
Папа с мамой слушали, а дядя Владя, размахивая пух-
лыми руками, уже рассуждал о ценах на мясо.
А Сережа тем часом ехал на автобусе. Жаль, что
автобус плетется, сам он добежал бы быстрее. Но путь
был далеким. Уже кончился город. За окном замель-
кали деревья. Они бежали за автобусом и никак не
могли его догнать. Наконец совсем отстали: началось
поле. Сережа нетерпеливо ерзал на сиденье и привста-
вал до тех пор, пока кондуктор не объявил:
— Следующая — военный городок.
— Ты кого ищешь? — спросил Сережу высокий летчик
с круглым безбровым лицом.
Он вместе со своим товарищем, черноволосым и
щуплым, уже минут пять наблюдал, как Сережа, ко
всем приглядываясь, шел по военному городку.
— Кого ты ищешь?— повторил свой вопрос летчик.
Сережа остановился. Он вдруг замешкался, но взял
себя в руки и объяснил цель своего приезда.
— Я ищу друга капитана Гастелло!—ответил он.
— А как его фамилия?
— Не знаю... А вы не дружили с ним?
Летчики переглянулись. Они оба были молодыми, и,
когда капитан Гастелло совершал свой подвиг, каждо-
му из них было лет меньше, чем Сереже. Круглолицый
покачал головой, а щуплый спросил:
— Зачем тебе друг капитана Гастелло?
— Дядя Владя говорит, что Гастелло не герой, что
у нас любят мертвецов героями делать... Он не смеет
так говорить...
Больше всего Сережа боялся, что его объяснение
выглядит смешно и незнакомые летчики не примут его
слова всерьез. Но летчики не собирались шутить. Своим
рассказом Сережа поставил их в затруднительное поло-
жение. Они посовещались и велели Сереже ждать, а
сами пошли за каким-то Петром Ивановичем. Сережа
понял, что Петр Иванович и был тот, кого он искал.
Другом капитана Гастелло оказался невысокий плот-
ный мужчина в кожаной куртке. Из-под военной фураж-
ки, надвинутой на глаза, были видны совсем белые
3 Багульник
49
виски. Седина никак не вязалась с глазами, в которых —
откуда оно только взялось!—поблескивало что-то озор-
ное. Если судить по волосам, Петр Иванович был ста-
рым, а если верить его глазам — молодым. Но Сережу
мало занимало это несоответствие. Он чувствовал в
этом человеке силу и решимость. И ему даже показа-
лось, что Петр Иванович немного похож на своего леген-
дарного друга.
— Здорово!—сказал летчик и протянул Сереже руку.
Он не стал ни о чем расспрашивать мальчика. Види-
мо, два молодых летчика успели ему рассказать суть
дела. Он только поинтересовался, где живет Сережа.
— В городе,— ответил мальчик.
Друг капитана Гастелло ниже надвинул фуражку на
глаза и сказал:
— Далековато.— Но затем решительно махнул ру-
кой.— Ладно. Едем!
Когда Сережа в сопровождении Петра Ивановича
переступил порог своей комнаты, дядя Владя лежал на
диване, положив на светлый валик ноги в грязных
ботинках. Он спал, чуть посвистывая мясистым носом
и причмокивая губами, словно ему снилась мозговая
косточка. Кроме спящего гостя, в комнате никого не
было. Вероятно, папа пошел в магазин, а мама хозяйни-
чала на кухне.
Петр Иванович небрежно кивнул на дядю Владю и
спросил:
— Он?
— Он,— отозвался Сережа.
Тяжелая рука летчика опустилась на плечо спящего.
Дядя Владя недовольно поморщился и открыл глаза.
Со сна он ничего не понял и растерянно заморгал.
— Говорят, вы здорово воевали?—спросил Петр
Иванович, когда дядя Владя окончательно проснулся и
сел.
— Воевал,— пробурчал он.
— А на каком фронте, если не секрет?
— Н-н-на разных,— ответил дядя Владя.— А что?
— Да нет, ничего. Просто наслышан о ваших подви-
гах и заинтересовался. Как ваша фамилия?
— Иволгин.
— Извините, не слышал. А вы на каких машинах
летали?
50
- Я, я?
— Ну да, вы.
— Я в артиллерии был.
— В артиллерии,— повторил Петр Иванович, словно
хотел заучить ответ дяди Влади наизусть.— А с капита-
ном Гастелло вы тоже в артиллерии встречались?
Дядя Владя нахмурился. Вопросы сыпались на него,
как удары. Он едва успевал отбиваться — отвечать.
— При чем здесь артиллерия? Слышал о нем от
товарищей.
— Вот как!—Друг капитана Гастелло задержал
свой взгляд на дяде Владе, словно испытывал достовер-
ность его слов.— А я решил, что вы с ним вместе вое-
вали. Значит, вкралась ошибка.
Сережа стоял в стороне и внимательно следил, как
Петр Иванович своими вопросами брал дядю Владю в
окружение и отрезал ему все пути к отступлению. Нако-
нец дядя Владя спохватился и от обороны перешел к
наступлению.
— А вы, собственно, кто такой?—спросил он недо-
вольным голосом.
Но летчик, твердо стоящий перед ним, преграждал
ему путь.
— Я полковник Ростов,— сказал Петр Иванович.
— Полковник Ростов,—пробормотал дядя Владя.—
Герой Советского Союза, прославленный ас?
Дядя Владя покраснел. И его лицо стало похожим
на красный воздушный шарик, который на ветру качает-
ся из стороны в сторону.
— Знаете?—усмехнулся летчик.
— А как же,— оживился дядя Владя.— Чай, не в
тылу отсиживались!..
В эту минуту Сережа вдруг подумал, что сейчас пол-
ковник Ростов и дядя Владя поладят. И, может быть,
летчик возьмет сторону дяди Влади.
И мальчик крикнул:
— Дядя Владя, Петр Иванович—друг капитана
Гастелло! Понимаете?
Воцарилось молчание. Дядя Владя полез за папиро-
сой. А полковник Ростов стоял, заложив руки за спину,
и раскачивался на расставленных ногах. И вдруг он
вплотную приблизился к дяде Владе и холодным голо-
сом сказал:
51
— Так вот что, товарищ Иволгин, не знаю, в какой
артиллерии вы воевали и какие беспримерные подвиги
совершали на войне. Да меня это и не очень-то интере-
сует. Но чернить память славного сокола Николая
Францевича Гастелло я вам не позволю. Если бы мы с
вами были моложе, я бы вам за ваши слова... Но седым
людям неудобно размахивать кулаками.
Сережа заметил, что дядя Владя слушает друга
капитана Гастелло со вниманием и опаской. А когда
полковник строго спросил: «Ясно?»—у дяди Влади,
который чуть ли не один выиграл всю войну, руки сами
вытянулись по швам, и он ответил:
— Ясно, товарищ полковник!
— Вот и хорошо,—сказал Петр Иванович.—А то у
капитана Гастелло много хороших защитников и друзей.
При этих словах он кивнул на Сережу. И сердце
мальчика подпрыгнуло от радости.
Сережа проводил Петра Ивановича до самых ворот.
Когда они прощались, полковник крепко пожал ему
руку и сказал:
— Ты серьезный парень.
Сережа почувствовал, что сейчас они расстанутся и
неизвестно, когда еще встретятся, и ему захотелось
разузнать у Петра Ивановича о его легендарном друге.
Он спросил первое, что ему пришло в голову:
— Товарищ полковник... Петр Иванович, а вы не пом-
ните, капитан Гастелло был очень высокого роста?
Полковник посмотрел на Сережу и покачал головой:
— Видишь ли, я никогда не встречался с капитаном
Гастелло. Я воевал на Севере, далеко от него. Мне так и
не довелось с ним познакомиться.
— Значит, вы не его друг?—разочарованно спросил
мальчик.
— Нет, я его друг,— ответил полковник.— Такой же,
как ты. Ведь у людей значительно больше друзей, чем
они думают. И друзья никогда не дадут в обиду имя тех,
кто отдал свою жизнь за Родину.
...Когда Сережа вернулся домой, дяди Влади уже не
было. Только на светлом валике дивана остался след от
его грязных ботинок.
ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ НЕБО
Я встретил его после дождя на асфальте. Он шел
прихрамывая, и на коленке у него была ссадина, запек-
шаяся, как сургучная печать. Плоские, стоптанные сан-
далии были похожи на черепах. В руке он держал верев-
ку, к которой была привязана серая тряпка. Тряпка
волочилась по мокрому асфальту, и невозможно было
догадаться, для чего она предназначена.
—- Что это у тебя за тряпка?—спросил я, шагая
рядом с мальчиком.
— Это не тряпка,—отозвался низкий голос.— Это
парашют.
— Парашют?
Теперь я разглядел, что серая тряпка была малень-
ким куполом, а веревка оказалась стропами, скручен-
ными жгутом. Я спросил мальчика:
— Почему ты тащишь его по мокроте?
— Так...— пробурчал он и поднял глаза.
Большие темные зрачки уставились на меня. Они
излучали незамутненный блеск, какой после дождя
появляется у листьев, у крыш, у дороги. Белков почти
не было видно — одни зрачки. Они изучали меня.
— Ты его с крыши сбрасывал?—И я кивнул на за-
брызганный грязью мокрый парашют.
— Нет, из окна.
— А груз какой был?
— Груз?—Он посмотрел на меня с недоумением.—
Я сам... прыгал.
— Парашют-то мал для тебя.
— А где я возьму большой?—Теперь он смотрел на
меня насмешливо, как па несмышленыша,— За просты-
53
шо всыплют по первое число. Мне и за наволочку всы-
пали...
Я обратил внимание, что по краям купола болтаются
завязки, мокрые и тонкие. Парашют и в самом деле был
сделан из наволочки и когда-то был белым. Мальчик
поймал мой критический взгляд.
— Можно и с маленьким прыгать... если небо,—ска-
зал он в защиту своего парашюта.
— Если небо?—переспросил я.
— Я ведь прыгал с первого этажа, там неба нет,—
пояснил мальчик.
— А на пятом этаже есть небо?..
— Я не прыгал с пятого этажа... пока.
Я покосился на коленку с алой сургучной печатью и
ощутил жутковатый холодок, который бывает, когда
стоишь у края пропасти или у перил высокого моста.
Я потер затылок рукой и тут же поймал на себе взгляд
больших темных зрачков.
— А ты никогда не прыгал с парашютом?—спросил
он меня, как равного.
— Нет,— как равный, ответил я и почувствовал что-
то вроде стыда перед маленьким спутником. И, чтобы
окончательно не пасть в его глазах, сказал:—В твои го-
ды прыгал... с зонтиком.
— Пробовал, — понимающе кивнул мальчик. — Зон-
тик наизнанку вывернулся.
Я вспомнил, что мой прыжок с зонтиком закончился
так же, и про себя обрадовался:
— Вот-вот! Мне еще влетело за зонтик.
— Так ведь за все влетает,— сказал мальчик и зашар-
кал сандалиями по асфальту.
Некоторое время мы шли молча. Я ощущал превос-
ходство маленького парашютиста и старался понять,
откуда оно берется. Может быть, сила этого малыша в
том, что он свободен от множества страхов, которые с го-
дами приходят к взрослым людям? Вероятно, я шел
слишком быстро, потому что услышал за спиной знако-
мый низкий голос:
— Не беги.
— Ноге больно?
— Нет, сандалины спадают.
Я оглянулся, Он стоял на асфальте и прижимал к
54
себе мокрую плоскую сандалию. В руках у мальчика
она еще больше напоминала панцирь черепахи.
— Надень,— сказали.
— Лучше так,—отозвался мальчик и снял другую.
Из-за редких, выдохшихся туч выглянуло солнце.
Оно крепко припекало, и над асфальтом появился теп-
лый голубоватый пар. Наверное, очень приятно ходить
босиком по теплому асфальту, от которого идет пар. Но
я-то шел в ботинках. Наволочный парашют по-прежне-
му тащился за моим маленьким спутником.
— Что думаешь делать?—Я кивнул на парашют.
— Еще прыгну... Только он не действует без неба.
— А где начинается небо?
Он ничего не ответил. Задрал голову и посмотрел
ввысь. Небо было глубоким и синим. Оно струилось, и
обрывки туч плыли быстро, как по течению. Мальчик
проводил глазами тучи, и его взгляд скользнул по ма-
кушкам высоких сосен, по конькам крыш. Взгляд опу-
скался все ниже, ниже и остановился на маленьком
парашюте.
Мальчик наклонился и поднял с земли забрызган-
ный грязью купол. Он скрутил его, и на асфальт потекли
мутные струйки воды. Он выжимал парашют, как выжи-
мают рубаху или трусы. Потом перебросил его через
плечо. Этот жест означал, что не все потеряно, что пара-
шют, сделанный из наволочки, может еще пригодиться.
— Пока,— сказал он и быстро зашагал обратно.
У него был такой решительный вид, что я забеспоко-
ился: не заберется ли он на высокую крышу и не сига-
нет ли вниз, чтобы еще раз испытать парашют, который
действует только в небе?
— Постой!—крикнул я.
Он нехотя остановился.
— Ты куда?
Он уловил в моем голосе тревогу, но продолжал
держать себя независимо:
— Некогда мне. Меня Игорек ждет.
— А прыгать не будешь... с крыши?
— Парашют мокрый.
Он почувствовал, что я боюсь. Ему не пришло в голо-
ву, что я боюсь за него. Он решил, что я просто боюсь.
Сам по себе. Зрачки насмешливо сузились и заблестели
сильней.
55
Я неожиданно почувствовал, где начинается небо.
Не на гребне крыши и не в синих струях, по которым
плывут облака. Оно берет начало совсем близко от
земли — на первом этаже или на уровне плеча. Начи-
нается в бесстрашном сердце и простирается до тучи или
до звезд, смотря куда его поднимет сердце.
— Игорек ждет. Я пойду. Ладно?
Он нетерпеливо почесывал коленку и прижимал лок-
тем сандалины.
Я кивнул головой. Он быстро зашагал по пятнисто-
му, просыхающему асфальту, над которым дрожал го-
лубоватый пар. Я молча пошел следом за ним, чтобы
лучше запомнить, где начинается небо.
РЕЛИКВИЯ
На исходе прозрачного апрельского дня к бабе
Настасье пожаловали незваные гости. Подталкивая
друг друга и спотыкаясь о высокий порожек, в дом вош-
ли ребята.
— Здрасте!
Гости смотрели на хозяйку, а хозяйка смотрела на
влажные штемпеля, которые гости наставили на чистых
половицах, и недовольно прикидывала, что после ухода
честной компании придется браться за тряпку. Баба
Настасья поджала губы и спросила:
— Чего надо-то?
Стоявший впереди других скуластый парнишка в вы-
соких сапогах — он больше всех наследил, паршивец!—
тут же отозвался:
— Реликвии есть?
Баба Настасья непонимающе уставилась на него и
спросила:
— Старые газеты, что ли?
— Старые газеты — это макулатура,— тут же пояс-
нил соседский мальчик Леня.— А нам нужны реликвии
войны.
56
— Может быть, у вас есть штык или немецкая кас-
ка?—спросила стоявшая в дверях конопатенькая девоч-
ка в платке, соскользнувшем на плечи.
— Нет у меня немецкой каски. И штыка нет,— при-
зналась баба Настасья.
— Она не воевала,— пояснил соседский мальчик
Леня, который на правах соседа выступал как бы в роли
посредника.— У нее муж воевал.
— Может быть, красноармейская книжка, пробитая
пулей, хранится?—спросил скуластый мальчик; судя по
всему, он был в этой компании старшим.
— Или пилотка со звездочкой?—сказала конопа-
тенькая.
Баба Настасья покачала головой.
— Плохо,— сказал старший.
— Плохо,— подтвердил соседский Леня.
Ребята переглянулись, засопели, затоптались на
месте, не зная, уходить или еще что-нибудь спросить,
И тут девочка сказала:
— Фото тоже годится.
— Годится!—обрадованно подхватил Леня: ему, ви-
димо, очень хотелось, чтобы у его соседки бабы Настасьи
нашлась хоть какая-нибудь реликвия, пусть фото. И он,
не дожидаясь ответа, посоветовал: — Баба Настасья,
поищите за образами.
— Нет у меня образов.
Что за неудачная бабка! И образов у нее нет.
— Когда нет образов — прячут за зеркалом! — не
отступал Леня.— Зеркало у вас есть?
— Зеркало есть.— Баба Настасья исподлобья по-
смотрела на ребятишек.— Ходите тут без дела, полы
пачкаете!..
— Мы не без дела,— обиженно пробурчал старший,
косясь на свои высокие грязные сапоги,— мы собираем
музей войны.
— Великой Отечественной войны,— уточнил сосед-
ский Леня.
Такой поворот дела озадачил бабу Настасью. Она
поднялась со скамейки и оказалась очень крупной, ши-
рокой в кости, только спина ее не до конца разгибалась,
застыла в каком-то вечном поклоне.
— Есть у меня письмо с фронта. От мужа моего,
57
Петра Васильевича,— сказала она неуверенно, наугад.
Само как-то сказалось.— Годится?
— Что же он не прислал фото?—с тихим упреком
отозвалась конопатенькая.
Баба Настасья не расслышала ее слов. Шаркая нога-
ми, подошла к комоду, стала искать письмо за зеркалом.
И вскоре ребята увидели в ее руках какой-то бумажный
треугольник. Старший протянул руку, баба Настасья
исподлобья посмотрела на него и нехотя отдала письмо.
Он покрутил странное письмо в руках и спросил:
— А где конверт с марочкой? Потеряй?
— Ничего я не теряла! Разве тогда были конверты и
марочки? Треугольник, полевая почта, печать. Вот и все
дела.
— Не было тогда конвертов и марочек,— принял
сторону бабы Настасьи соседский Леня.
Но остальные отнеслись к словам старухи с недове-
рием: потеряла, старая, а теперь выдумывает. Они были
убеждены, что раз есть письмо, то был конверт и была
марка. Опять наступило неловкое молчание,
И опять конопатенькая спросила:
— Муж был героем войны?
Бабе. Настасье надоело любопытство гостей. Она
заволновалась, вспыхнула. Сердитой скороговоркой про-
изнесла:
— Никаким он не был героем. Давайте сюда письмо!
— Подождите, баба Настасья,— примирительно ска-
зал Леня.— Надо ведь почитать письмо!
— Надо почитать,— поддержали его остальные, и
вся честная компания направилась к окну, где было
светлее.
Письмо было коротким и простым. Вот что писал
муж бабы Настасьи с фронта:
— «Здравствуй, жена моя Настасья! С приветом к те-
бе твой муж Петр. Я покуда жив и здоров, чего и тебе же-
лаю. Живу я неплохо. Курево выдают своевременно. Но
вместо махорки — табак филичевый, безвкусный. Ку-
ришь, куришь — никак не накуришься. Разве что дым
идет. Я второпях потерял запасную пару портянок. Пове-
сил сушить, а по тревоге снялись — забыл сунуть в вещ-
мешок. Теперь маюсь. На ночь постираю единственную
пару, к утру они не успевают высохнуть. Приходится
надевать сырые. Ноги преют.
58
Мы сейчас больше копаем, чем стреляем. Копаешь,
а от окопа пашней пахнет. И от этого родного запаха
щемит сердце. А сколько еще провоюем — не знаю.
Кланяйся дедусе Ивану, всем родным и соседям.
С фронтовым приветом, твой муж Петр».
Когда кончили чтение письма, конопатенькая покача-
ла головой:
— Нет, это не реликвия.
— Понимаете, баба Настасья, не реликвия,--с сожа-
лением сказал старший.— Все про табак, про портянки.
А клятвы нет.
— Какой клятвы?—глухо спросила баба Настасья.
— «Умрем, но не отступим!»—как по писаному ска-
зал старший.
Баба Настасья изумленно посмотрела на ребят.
— Не хотел он умирать,— сказала она.
— Поэтому и не реликвия,— тихо сказала конопа-
тенькая.
— Может быть, реликвия,— сказал соседский Леня,
стараясь удержать товарищей, но ребята потянулись
к двери.
Старший хотел сложить письмо уголком, но не сумел.
Так и сунул его хозяйке несложенпым.
Ребята ушли, в доме стало подчеркнуто тихо. А баба
Настасья стояла перед закрытой дверью с письмом в
руке, словно только что приходил почтальон. Потом она
подошла к столу и вдруг почувствовала тупую неодоли-
мую усталость. Она тяжело опустилась на скамью и
закрыла глаза. Может быть, задремала. Может быть,
время прошло в забытьи. Но когда она открыла глаза,
на дворе было уже темно. Баба Настасья встрепенулась,
поднялась, зажгла свет. Она вернулась к столу, села на
лавку. Перед ней лежало письмо. Она долго смотрела
на листок, потому что знала письмо наизусть.
Когда много лет назад письмо пришло с фронта, все
бабы завидовали ей. Потому что никто давно не получал
писем. А бабы были усталые и свирепые. Один раз чуть
не прибили хромого почтальона. «Ты, хромой черт, без
писем не приходи в деревню!» И долгое время на всю
деревню было только одно письмо с фронта — Нас-
тасьино.
На фронте была своя война, а в деревне — своя: над-
рывались бабы, когда вместо лошади впрягались в плуг,
59
Стирали в кровь плечи, сбивали ноги, надрывали живо-
ты. Такая это была пахота, что в конце полосы в глазах
становилось темно, и тяжелая кровь начинала звенеть
в ушах, и падали бабы на землю, как солдаты под огнем.
И вот тогда они требовали от Настасьи:
— Читай письмо!
Настасья, большая и сильная, поднималась на локте
и хриплым голосом — в который раз!—начинала читать:
— «Здравствуй, жена моя Настасья!..»
И бабам чудилось, что в письме написано: «Здравст-
вуй, жена моя Нюша!» или: «Здравствуй, жена моя Оль-
га!» Это их мужья здороваются с ними. Это их мужья
были живы и здоровы. И не нравился им филичевый та-
бак: «Куришь, куришь — никак не накуришься!» И не
повезло с портянками: снимались по тревоге, забыли
сунуть в вещмешок. Настасьино письмо грело сероли-
цых, осунувшихся подруг, прибавляло им сил. И, снова
впрягаясь в плуг, они говорили:
— У них окоп пахнет пашней, а у нас пашня пахнет
окопом.
Поздно вечером обязательно кТо-то стучал в окно
Настасье:
— Отвори!
— Что тебе, соседка?
— Дай почитать письмо.
Письмо как бы стало общим, принадлежало всей
деревне.
Сидя над письмом в кружочке, высвеченном кероси-
новой лампой, соседка успевала и поплакать, и посмеять-
ся, и утешиться, и утешить хозяйку.
— Ты не расстраивайся из-за портянок. К зиме обя-
зательно новые выдадут. Я знаю...
И так продолжалось долго. Из других деревень при-
ходили почитать Настасьино письмо. А мужа Петра
Васильевича уже не было в живых...
Сейчас это письмо лежало на столе перед бабой Нас-
тасьей, словно только что пришло от мужа. А раз приш-
ло письмо—значит, он жив. Только очень далеко от
дома. И пишет он, живой, про обычные житейские вещи:
плохой табак и про забытые впопыхах портянки... Но
потом бабе Настасье показалось, что она держит в ру-
ках не свое письмо, а чужое, полученное от живого мужа
соседкой и данное ей на время, для утешения.
60
Она отвела глаза от письма и увидела ребячьи штем-
пеля на половицах, но не рассердилась. Эти ребятишки
вечно что-то собирают — то лекарственные травы, то
колоски. Теперь они ищут реликвии. А письмо им не
подошло, потому что им, ребятишкам, невдомек, что
стояли твердо и погибали в бою и те, кто не писал:
«Умрем, но не отступим!» Ну и слава богу, что не нужно
детям это письмо, что живут они хорошо и не требуется
им утешения. И теперь не бьют почтальонов, и нет тако-
го положения, чтобы на всю деревню была одна только
весточка.
Баба Настасья вздохнула. И аккуратно сложила ста-
рое фронтовое письмо по складкам, чтобы получился
треугольник.
Потом ей стало душно, и она заковыляла к двери.
Вышла на крыльцо. Было уже совсем темно. В разных
уголках густой мягкой тьмы поблескивали огни деревни.
Тут хлопнула калитка, послышались голоса, и баба
Настасья увидела три приближающиеся фигурки: это
ребята возвращались за письмом солдата. Она вздохну-
ла и почувствовала бесконечно родной и знакомый за-
пах. Он проникал внутрь, разливался по телу, и с каж-
дым вздохом бессилие старой женщины как бы
растворялось, теряло свою гнетущую тяжесть. Это был
запах сырой весенней земли — запах пашни, похожий
на запах окопа.
ПОСЛЕДНИЙ ФЕЙЕРВЕРК
— Послушайте, мальчики! Знаете ли вы, что я был
знаком с самим Джузеппе Роджеро? Это был знамени-
тый мастер. Огненный композитор. Он исполнял свои
произведения не на скрипке и не на тромбоне. Его му-
зыка рассыпалась в небе разноцветными огнями...
Мальчики с открытыми ртами сидели на пороге ста-
рого бастиона и слушали рассказ дяди Евгения. А он,
61
худой, костистый, с двумя большими морщинами на впа-
лых щеках, с редкими пепельными волосами, широко
разводил руки, словно открывал перед маленькими
слушателями всю свою жизнь.
— Джузеппе Роджеро был молод и красив. Его во-
роненые кудри развевались по ветру, и большие черные
глаза горели неиссякаемым восторгом.., Я был его уче-
ником.
При слове «ученик» мальчики сразу представили се-
бе дядю Евгения за школьной партой, а красавца Джу-
зеппе Рдджеро — на месте учителя. Дети никогда не
видят взрослых молодыми. Им трудно представить себе
дядю Евгения мальчиком, и поэтому в воображении
ребят дядя Евгений сидел за партой в своих стираных-
перестираных полотняных брюках, в белой рубашке с
неизменным галстуком бабочкой на худой шее. А учи-
тель Роджеро с развевающимися кудрями звал дядю
Евгения к доске и велел ему взять мел и писать.
Старый бастион стоит на обрыве над самым морем.
Когда разыгрывается шторм, море с грохотом идет на
приступ каменной башни. Волны лезут по скалам, но
обрываются и падают вниз, разбиваясь о камни. Бастион
неприступен. Когда-то здесь стояла крепость. Неизвест-
но, от чего больше пострадало это славное боевое соору-
жение—от турецких ядер или от времени. Над пори-
стым потемневшим камнем выросла акация. Ее легкая,
призрачная листва еще больше оттеняет тяжесть и
угловатость бастиона.
В бастионе стоит пушечный дух. Но не потому, что в
нем ухают старинные орудия, которые заряжают с дула
и подпаливают смоляным факелом. Этот дух поддержи-
вает «адская кухня»—пиротехническая мастерская дяди
Евгения. «Адской кухней» дядя Евгений называет ее,
когда у него плохое настроение. При хорошем же распо-
ложении духа пиротехник зовет свой бастион «мастер-
ской праздника». Мальчишки не помнят, когда появи-
лась эта необычная мастерская. Вероятно, дядя Евгений
облюбовал башню бывшей крепости задолго до их
появления на свет.
Дядя Евгений очень худ. Кости проступают на ску-
лах, на подбородке, на острых плечах и на лодыжках
ног. Кажется, он сделан из того же материала, что и ба-
стион. Ежедневно он снимает с двери висячий замок, похо-
62
жий на большой каблук, и входит под своды своей
таинственной мастерской. Сюда не ступала нога ни
одного мальчишки. Невысокий стертый порожек прег-
раждал им путь, как строгая граница. И плохо приходи-
лось тому, кто вопреки запрету дяди Евгения осмеливал-
ся нарушить эту границу.
Зато смотреть можно сколько угодно. Смотреть,
спрашивать, интересоваться содержанием банок, выпы-
тывать секреты составления огненных смесей — это
может каждый. И поэтому любой мальчишка из сосед-
него детского дома в курсе дела, из чего делают римские
свечи и бенгальские огни. И каждый назубок знает всю
огненную палитру дяди Евгения: красный цвет — соли
стронция, зеленый — соли бария, синий— углекислая
медь.
— Вот подрастете,— говорит дядя Евгений своим
друзьям,— я научу вас искусству пиротехники.
Мальчишки клялись посвятить свою жизнь этому
удивительному ремеслу. Но когда подрастали, их поче-
му-то переставали интересовать бенгальские огни, и они
находили интерес в других профессиях. Дядя Евгений
оставался без учеников и последователей. Зато в друзь-
ях у него никогда не было недостатка.
К дяде Евгению ребят привлекала не только его
таинственная «адская кухня», от которой постоянно
исходил жутковатый дух селитры — родной сестры поро-
ха. Вся жизнь дяди Евгения была неиссякаемым источ-
ником самых необычных историй. И хотя мальчишки
знали все истории старого пиротехника так же хорошо,
как состав динамической смеси, приводящей в движение
огненные фигуры, они снова и снова приставали к свое-
му седому другу:
— Дядя Евгений, расскажи, как ты повернул танк.
И дядя Евгений охотно исполнял просьбу своих
маленьких друзей.
— Послушайте, мальчики!
Дядя Евгений переставал месить серебристое тесто,
из которого делают бенгальские огни, и обводил царст-
венным взглядом мальчишек, которые жались к запрет-
ному порогу.
— Знаете ли вы, что, когда немцы подходили к горо-
ду, у нас не хватало противотанковых пушек?
Мальчишки дружно кивали головами, будто жили в то
63
время и своими глазами видели, что противотанковых
пушек не хватало.
— Тогда я взял на себя один рубеж. Вы можете мне
не верить...
Дядя Евгений делал паузу, словно хотел прочесть в
глазах своих слушателей, верят они ему или не верят, и
глаза отвечали: верим!
Тогда он продолжал:
— Вы можете мне не верить, но я вырыл себе окоп-
чик... чертовски крепкая у нас земля, сплошной камень...
Я вырыл себе окопчик и принес в него весь запас своих
римских свечей. Я сел на дно окопа и стал ждать. У ме-
ня не было никакого оружия. Даже перочинного ножа.
Но со мной было мое искусство. И я надеялся на него,
мальчики... Мне было очень неудобно в окопе. И я сло-
жился пополам, как железный метр. Вы можете
смеяться, но я сложился пополам. Колени уперлись в
подбородок... У меня онемела поясница, и я не мог ее
потереть, потому что рука не проходила. И когда пошли
танки, я обрадовался. А? Что? Смешно?!
Рассказчик делал паузу. Он испытывал терпение
своих слушателей и нагнетал в них любопытство.
— На меня шел танк. А я сидел неподвижно, как
кролик, загипнотизированный удавом. Я забыл о поясни-
це. Я смог бы сложиться вчетверо, только бы танк не
лез на меня. И тогда я поджег первую римскую свечу.
Слушатели облегченно вздохнули, словно речь шла
не о безобидной римской свече, а о грозном оружии,
способном уничтожить танк.
— Я поджег одну римскую свечу, потом вторую,
третью. Потом... Вы можете мне не верить, но, когда
десяток римских свечей рассыпался огненными искрами,
загорелся вокруг танка, фашист не выдержал. Он повер-
нул... Если вы мне не верите, то уходите и никогда
больше не являйтесь ко мне.
Мальчишки молчали. Они боялись спугнуть вдохно-
вение дяди Жени неловким движением или покашлива-
нием. Он властвовал над их душами. А властелином он
был своенравным и капризным.
— Он повернул, мальчики! Он испугался вот этого
теста!
Дядя Евгений протягивал к ребятам изделие своей
«адской кухни» и вдруг начинал хохотать. Его трясло от
64
смеха. Хохотали глаза, морщины на щеках, плечи, а
старенький артистический бантик буквально подпрыги-
вал на его шее от смеха. Некоторое время мальчишки
сидели молча, не зная, что делать. Тогда дядя Евгений
переставал смеяться и прикидывался сердитым:
— Что вы не смеетесь? Разве не смешно?
В такие минуты в старом бастионе разыгрывался
маленький спектакль. Ребята делали вид, что впервые
слушают историю с танком, а дядя Евгений старался изо
всех сил, будто рассказывал ее в первый раз.
Потом он неожиданно начинал жаловаться своим
друзьям на то, как трудно доставать химикаты, на не-
внимание со стороны властей к тому, что «мастерская
праздника» влачит жалкое существование.
— Моя профессия отмирающая,— сокрушенно гово-
рил он.— Хотя пиротехника — младшая сестра ракет и
космических кораблей.
И маленькие друзья всем сердцем хотели, чтобы его
профессия не отмирала, а жила еще долго-долго.
Дядя Евгений относился к той редкой породе людей,
у которых материальные блага не занимают в жизни
никакого места. Для него ничего не стоило на последние
деньги купить по случаю бертолетову соль или алю-
миниевые опилки. За всю свою жизнь он ничего не нажил,
ничем не обзавелся. Все, что у него было, было при нем.
И, может быть, его единственной собственностью были
старые полотняные штаны, белая рубашка с аккуратно
заштопанным воротником и галстук бабочкой, кото-
рый он надевал даже в самую жаркую погоду, как
некий рыцарский знак артистов и художников.
В жаркие дни камни бастиона накалялись, а резные
листья акации не могли остановить идущие напролом
лучи солнца. Внизу, под бастионом, тяжело вздыхало
море, словно проделало большой путь и никак не могло
отдышаться. Дядя Евгений вешал на двери мастерской
тяжелый замок и вместе со своими друзьями отправлял-
ся купаться.
Худой и длиннорукий, он смешно балансировал на
отвесной каменистой тропке и был похож на большую
старую птицу, которая, прежде чем взлететь, долго ма-
шет крыльями.
Очутившись на берегу, он долго расшнуровывал свои
ботинки, потом, прыгая на одной ноге, стаскивал полот-
65
няные штаны. В последнюю очередь он снимал рубаху
и галстук бабочкой. Дойдя до края берега, он пробо-
вал воду большим пальцем босой ноги и подавал
команду:
— Вперед! В воду!
И ребята, как будто подброшенные трамплином,
устремлялись в море.
Сам он входил в воду медленно, с достоинством.
А плыл, громко фырча и манерно выбрасывая вперед
руки.
В старом бастионе, превращенном дядей Евгением в
«мастерскую праздника», шла своя маленькая, ни на что
не похожая жизнь. В ней было что-то необычное и
притягательное. И мальчишки сходились сюда, как на
огонек.
Нормальный ход жизни старого бастиона нарушил
вестник, который однажды появился на пороге мастер-
ской:
— Дядя Евгений! Дядя Евгений! Лешка сжег себе
руку. Его отвезли в больницу!
Чумазый широколицый паренек, принесший эту весть,
стоял перед дядей Евгением и, переминаясь с ноги на
ногу, ждал, пока старый пиротехник перестанет рассмат-
ривать его изумленными глазами, в которых накаплива-
лась тревога.
— Как—сжег руку?—наконец спросил дядя Ев-
гений.
— Ракетой. Хотел запустить ракету, а она загоре-
лась...
— Какой ракетой?—спросил дядя Евгений и, не
дожидаясь ответа, стал собираться.
В этот день он в первый раз не повесил замок на
двери мастерской. Он механически поправил бантик на
шее, провел рукой по остаткам волос и быстро зашагал
в сторону города.
В больницу его пустили не сразу. Он никак не мог
растолковать, кем он приходится пострадавшему. По его
объяснениям выходило, что он посторонний человек.
— Кто вы, собственно, такой? — допытывалась дежур-
ная сестра.
Человек в полотняных штанах, с бантиком на шее
явно не внушал ей доверия.
66
— Я пиротехник Бурый. Евгений Сергеевич Бурый.
— Пиротехник?—настороженно переспросила сест-
ра.— Это по вашей милости мальчик получил ожог вто-
рой степени?
— При чем здесь моя милость?—пробормотал дядя
Евгений и опустил голову.
Он сел на скамью и стал ждать. Он был подавлен
происшедшим.
«А может быть, я и в самом деле виноват?» — думал
дядя Евгений, и эта мысль усугубляла его отчаяние.
В конце концов его все же пустили к больному Леш-
ке. Ему дали белый халат. Халат оказался на толстого
человека, а дядя Евгений был худ, и халат повис на нем,
как парус на мачте при безветрии. Но пиротехника это
мало интересовало. Он даже забыл поправить бантик,
который съехал на сторону.
Очутившись в палате, дядя Евгений сел на краешек
койки и некоторое время сидел молча. Он разглядывал
своего маленького дружка, словно хотел убедиться, не
произошла ли ошибка.
— Что же это ты?—спросил он Лешку и покачал
головой.
— Я хотел ракету сделать, чтобы летела метров на
сто. Понимаете?— сказал Лешка.
— Ракету?—как бы про себя произнес дядя Евге-
ний.—Что ты в нее заложил?
— Порох и... головки от спичек.
— Зачем же порох?—вспыхнул дядя Евгений и тут
же спохватился и начал говорить тихо:—Не мог посове-
товаться! Я бы тебе... Да что теперь говорить!..
— Я боялся,— сконфуженно пробормотал больной.
— Кого ты боялся?
— Вас!
— Эх ты, рыбья голова! Пороха не боялся, а меня
испугался. Разве я такой страшный, чтоб меня бояться?
— Вы строгий.
— «Строгий»!—передразнил мальчика старый пиро-
техник.— А разве в моем деле можно быть не строгим?
Мой учитель Джузеппе Роджеро бил меня по рукам... за
неосторожность. И я ему благодарен.
Дядя Евгений отвернулся. Он снова уходил в свои
тяжелые мысли. Вид у него был такой расстроенный,
что у Лешки сжималось сердце. Он никогда не предпо-
67
лагал, что веселый, чудаковатый дядя Евгений может
так сокрушаться. Мальчик привстал на постели и потя-
нул дядю Евгения за халат.
— А? Что? Смешно?—Дядя Евгений подскочил,
словно его только что разбудили.
— Ничего не смешно,— сказзл мальчишка.— А у
меня рука почти не болит.
— Болит. Я знаю... У меня в детстве все руки были
обожжены... Но-но-но! Это тебя не касается. Ясно?
Теперь уже не он утешал Лешку, а пострадавший
говорил ему о том, что ожог ерундовый. Но дядя Евге-
ний качал головой и сутулился. Где-то подспудно он
начинал считать себя виноватым. И эта мысль сломила
его, сложила будто железный метр на части, как тогда,
в противотанковом окопчике...
На другой день дядю Евгения вызвали в милицию.
К товарищу Шмелеву.
Старый пиротехник долго рассматривал маленькую
повестку с лиловым расплывчатым штампом. Он не-
сколько раз перечитал ее, словно хотел проникнуть в
тайный смысл этой казенной бумажки. Но никакого ино-
го смысла не было: бумажка просто уведомляла, что
гражданину Бурому Е. С. надлежит явиться такого-то
числа в такое-то время к товарищу Шмелеву.
Он пришел в назначенный час. В своих полотняных
штанах, которые от стирки так сели, что казалось, вла-
делец вырос из них. В кабинете было двое: сам товарищ
Шмелев и инспектор районо.
Во время разговора товарищ Шмелев молчал. В раз-
говоре не участвовал. Но своим присутствием как бы
скреплял каждое слово лиловым расплывчатым штам-
пом, таким же, как на повестке.
Товарищ Шмелев молчал, а говорил инспектор:
— Государство обеспечило вас хорошей пенсией, а
вы тут приработок нашли...
— Приработок?—Дядя Евгений поднялся со сту-
ла.— Приработок?!
Его глаза расширились от удивления. Слово «прира-
боток» звучало для него, как иностранное, чужое слово,
й он не знал точного его перевода.
Но инспектор не отступал.
— А как же,— говорил он с нажимом.— Что вы, за-
даром целые дни корпите в своем бастионе?
68
— Задаром.
Инспектор недоверчиво посмотрел на пиротехника.
А товарищ Шмелев отвернулся. Ему, видно, был неприя-
тен весь этот разговор.
— Задаром. Для души. Вы понимаете, что такое для
души?
Инспектор выкатил свои черные блестящие глаза.
Они, как два ртутных шарика, скользнули по серым по-
лотняным штанам, по белой рубахе с аккуратно зашто-
панным воротничком и остановились на галстуке ба-
бочкой. Он не мог решить, кто этот старик: ловкий
лжец или чудак, свалившийся с другой планеты. И он
сказал:
— Для души стихи пишут.— И тут же, на всякий
случай, поправился:— Раньше писали.
Дядя Евгений пропустил его слова мимо ушей. Он
вдруг сказал:
— Вот товарищ Шмелев лет десять назад
тоже проводил у меня целые дни. Спросите его. Он все
знает.
Инспектор посмотрел на товарища Шмелева такими
глазами, как будто сейчас на месте участкового упол-
номоченного уже сидел совершенно другой человек.
Шмелев ерзал на стуле и был красный. Шея, уши, ли-
цо— все залилось яркой краской стыда.
— Да, да,— скороговоркой сказал участковый,— я
дядю Евгения, гм... товарища Бурого... знаю. Он беско-
рыстно действует. Так сказать, в интересах общества...
Но, конечно, осторожность в таком деле...
Дядя Евгений не дал ему договорить.
— Мне все понятно,— сказал он и прошел рукой по
пепельным волосам.— Будем осторожны.
Больше он ничего не сказал. Он поднялся со стула и
направился к двери.
...Что случилось с мальчиками? Почему они не появ-
ляются на пороге старого бастиона? Разве они не пони-
мают, что без них «мастерская праздника» теряет весь
свой смысл? Может быть, они после случая с Лешкой
перетрусили и так сразу изменили своему другу?
Теперь в ожидании своих маленьких друзей он терял-
ся в догадках. Он не мог допустить, что они изменили
ему. Он терпеливо ждал их, а они все не шли.
69
Спустя неделю на старый бастион забрел Лешка. Его
только что отпустили из больницы, и он, пользуясь вре-
менной свободой, свернул к дяде Евгению.
Он застал пиротехника одиноко сидящим на пороге
бастиона. Мальчик не узнал своего старого друга. Дядя
Евгений зарос серебристо-рыжей щетиной. Он весь осу-
нулся, сгорбился, а глаза глубоко ввалились в глазницы.
Гордый рыцарский знак сиротливо валялся на банке
из-под бертолетовой соли.
Заметив мальчика, дядя Евгений привстал, улыбнул-
ся и сделал несколько неуверенных шагов навстречу.
— Здравствуй, друг!
Он сразу оживился и стал похожим на прежнего
дядю Евгения.
— Как твоя рука? Зажила? На вашем брате все
заживает. Все!
Лешка молчал. Он все старался понять, что же прои-
зошло со старым другом. А тот взял его, Лешку, за
плечи, стал трясти, поворачивать в стороны, словно хо-
тел получше рассмотреть.
И вдруг он отпустил Лешку и спросил:
— Слушай, а где остальные мальчики?
Лешка запнулся, но потом ответил:
— Их сюда не пускают. Инспектор запретил. Сказал,
чтобы на пушечный выстрел не подходили.
Мальчик произнес эти слова скороговоркой: хотел
поскорее избавиться от них, как от чего-то очень непри-
ятного.
А дядя Евгений отвернулся и стал смотреть на море.
— Говоришь, на пушечный выстрел?—спросил он,
не поворачиваясь.
Да, так распорядился инспектор. Этому казенному
человеку и в голову не приходило, что своим распоря-
жением он нанес удар прямо в сердце старого пиротех-
ника. Он отнял у него главное: его мальчиков, его
собеседников, его семью, его душу. Чтобы старое дере-
во засохло, его не обязательно спилить — достаточно
подрубить главный корень...
Лешка сказал:
— Я побегу. А то нагорит... А ракету я все равно
запущу. Как только рука заживет. Пусть знают наших!
И он нехотя побрел в сторону детского дома. А дядя
Евгений остался у старого бастиона.
70
...Неожиданно темное южное небо ожило. Его раз-
будили стремительные огни фейерверка. Зеленые огни
рассыпались электрическими искрами, красные разго-
рались костром, синие трепетали, как фосфорящиеся
капли моря. Это начался фантастический звездопад.
Разноцветные звезды летели с земли в небо.
Люди выбегали на улицу и, задрав головы, неотрыв-
но следили за игрой ярких живых огней. Никто не пони-
мал, что случилось. Все в городе привыкли, что фейер-
верк устраивается по праздникам и в честь выдающихся
событий. И тут же на улице стали поговаривать, что в
космос ушел новый корабль и это в честь пего дается
внеочередной фейерверк.
Все новые и новые снопы света возникали в небе.
Испуганные голуби стаями носились над городом. При
свете ракет они были красными, синими, желтыми, как
райские птицы.
Небо переливалось огнями, а в это время у старого
бастиона кипела работа. Это отсюда стартовали ракеты
и римские свечи. Всю площадку заволокло едким ды-
мом. Похоже было, что здесь трудится целая бригада
огнепоклонников. Но в дыму виднелась только одна
худая проворная фигура. Она металась из конца в конец.
И там, где она появлялась, возникала вспышка и звучал
оглушительный хлопок.
Это был дядя Евгений. Он собрал все запасы «мас-
терской праздника» и превратил площадку перед басти-
оном в огневую позицию. От черного дыма его белая
рубаха покрылась копотью, а прядь пепельных волос
крепко прихватило огнем. Но старик — откуда только
взялись силы!—бегал от одной римской свечи к другой.
Сейчас он пустил в ход не только все запасы своей
«адской кухни», но и неприкосновенный запас молодо-
сти, который сумел сохранить до седин.
Нет, это не праздничный салют будил сонное вечер-
нее небо — это кипел прощальный фейерверк!
Этими огнями дядя Евгений звал своих мальчиков,
тех, кому настрого было запрещено появляться на поро-
ге старого бастиона, и тех, кто давно вырос и сам забыл
сюда дорогу. Он слал в небо красные, желтые, зеленые
ракеты, а они сигналили, как таинственные позывные,
которые были понятны только тем, кто многие часы про-
вел рядом с дядей Евгением.
71
«Эй, мальчики,— сигналили ракеты,— я ухожу от вас!
Прощайте, мальчики! Вы, мальчики,— соль земли, на
вас свет сошелся клином. Мальчики всегда есть на
земле: потому что на смену одним приходят другие.
Я люблю вас, мальчики, мальчики, мальчики!..»
Небо кипело огнями. Но ему все казалось мало. И он
стрелял и стрелял... А в глазах стояли слезы. Но это не
были слезы обиды. Это были слезы прощания.
Есть жизни, похожие на коптилки: они долго теплят-
ся, дают мало света и наполняют округу дымом и
копотью.
Но есть жизни — звезды, которые вспыхивают нена-
долго, но своим горением делают мир удивительным.
Он жил, как звезда. И звезды фейерверка были его
друзьями.
Еще! Еще! Еще!
Огни уходили ввысь и не возвращались на землю,
а пропадали из глаз в густой темноте южного неба.
И сердца знакомых и незнакомых мальчишек летели
следом за этими огнями.
...Когда последняя ракета растаяла в вышине, дядя
Евгений перевел дыхание и устало опустился на камен-
ный порожек. Он глубоко вдыхал в себя родной едкий
запах «адской кухни», словно хотел надышаться им
впрок. Потом он поднялся. Осторожно прикрыл дверь
«мастерской праздника» и ушел.
Больше его никто не видел, словно он умчался с
огнями своего последнего фейерверка. Но отблеск его
фейерверков продолжает гореть в памяти людей и не
погаснет до тех пор, пока в человеке жив человек.
ОН УБИЛ МОЮ СОБАКУ
— Можно войти?
— Войди... Как твоя фамилия?
— Я Таборка.
72
— А как тебя зовут?
— Табором.
— Имя у тебя есть?
— Есть... Саша. Но зовут меня Табором.
Он стоял на пороге директорского кабинета, и руку
ему оттягивал большой черный портфель в белых тре-
щинках. Кожаная ручка оторвана, держится на одном
ушке, и портфель достает почти до полу. Если не счи-
тать старого, облезлого портфеля, то в наружности Та-
борки не было ничего примечательного. Круглое лицо.
Круглые глаза. Небольшой круглый рот. Не за что за-
цепиться взгляду.
Директор школы оглядывал мальчика и мучительно
пытался вспомнить, за какие грехи вызван к нему этот
очередной посетитель. Разбил лампочку или заехал
кому-нибудь в нос? Разве все запомнишь.
— Подойди сюда и сядь... Не на кончик стула, а как
следует. И не грызи ногти... Что у тебя за история?
Мальчик перестал грызть ногти, и его круглые глаза
посмотрели на директора. Директор длинный и худой.
Он занимает полкресла. А вторая половина свободна.
Руки, тоже длинные и худые, лежат на столе. Когда ди-
ректор сгибает руку в локте, она становится похожей
на большой циркуль, которым рисуют на доске окруж-
ности. Таборка посмотрел на директора и спросил:
— Это вы про собаку?
— Про собаку.
Мальчик уставился в одну точку: в угол, где висели
плащ и коричневая шляпа. .
— Я боялся, что с ней что-нибудь случится, и привел
ее в школу. В живой уголок. Туда берут ужей и золотых
рыбок. А собаку не взяли. Что она, глупее этих ужей?
Он проглотил слюну и с укорОхМ сказал:
— А собака — млекопитающее.
Директор откинулся на спинку кресла и пятерней,
как гребенкой, провел по темным густым волосам.
— И ты привел ее в класс?
Теперь директор вспомнил, за что приглашен к нему
этот возмутитель спокойствия. И ждал только подходя-
щего момента, чтобы обрушить свои громы на эту круг-
лую, давно не стриженную голову.
Мальчик снова проглотил слюну и, не отрывая глаз
от плаща и коричневой шляпы, сказал:
73
— Она сидела тихо. Под партой. Не повизгивала и
не чесала лапой за ухом. Нина Петровна не замечала
ее. И ребята забыли, что у меня под партой собака, и
не прыскали от смеха... Но потом она напустила лужу.
— И Нине Петровне это не понравилось?
— Не понравилось... Она наступила в лужу и под-
прыгнула как ужаленная. Она долго кричала. На меня
и на собаку. Потом она велела мне взять тряпку и выте-
реть лужу. А сама встала в дальний угол. Она думала,
что собака кусается. Ребята гудели и подпрыгивали.
Я взял тряпку, которой стирают с доски, и вытер лужу.
Нина Петровна стала кричать, что я не той тряпкой вьь
тираю. И велела мне и моей собаке убираться вон. Но
она ничего... Она не убивала мою собаку.
Таборка по-прежнему смотрел в одну точку, и со
стороны казалось, что он рассказывает не директору, а
плащу и шляпе.
— Все?—спросил директор.
Таборка был у него пятый за этот день, и у директора
не было никакого желания продолжать разговор. И если
бы мальчик сказал «все», директор отпустил бы его. Но
Таборка не сказал «все» и не кивнул головой.
— Нет,— сказал он,— мы еще были в милиции.
Час от часу не легче! Директор с шумом придвинул
кресло к столу. Он чувствовал себя в этом большом
кресле, как в костюме, который велик. Наверное, его
предшественник — старый директор — был толстым, раз
завел такое кресло. А он новый. Директора тоже бывают
новичками.
— Как ты очутился в милиции?
Таборка не вспыхнул и не заволновался. Он загово-
рил сразу, без заминки:
— Моя собака не кусалась. Не то что собаки, кото-
рые живут за большими заборами и вечно скалят зубы.
Их черные носы смотрят из-под ворот, как двустволки.
А моя собака махала хвостиком. Она была белой,
и над глазами у нее два рыжих треугольника. Вместо
бровей...
Мальчик говорил спокойно, почти монотонно. Слова,
как круглые ровные шарики, катались одно за другим.
— И женщину она не кусала. Она играла и ухвати-
ла ее за пальто. Но женщина рванулась в сторону, и
пальто порвалось. Она думала, что моя собака кусается,
74
и закричала. Меня повели в милицию, а собака бежала
рядом.
Мальчик поднял глаза на директора: рассказывать
дальше? Директор сидел на кончике своего кресла и
грудью навалился на стол. Глаза его прищурились, как
будто он целился. Они не видели ничего, кроме Таборки.
— Давай дальше.
— В милиции нас продержали два часа. Мы стояли
у стенки и все чего-то ждали. Но в милиции не убили со-
баку. Там один, с усами, даже погладил ее и дал ей
сахару... Оказывается, собаке полагается номер и на-
мордник. По правилам. Но когда я нашел мою собаку,
у нее не было ни номера, ни намордника. У нее вообще
ничего не было.
— Где ты нашел ее?
— В поселке. Хозяева переехали в город, а собаку
бросили. Она бегала по улицам, все искала хозяев.
— Заведут собаку, а потом бросят!
Эти слова вырвались у директора, и он вдруг почув-
ствовал, что после них уже не сможет ударить кулаком
по столу.
Мальчик не ухватился за его слова.
Он неожиданно возразил:
— Они бросили собаку, но не убили. А я наткнулся
на нее. Отдал ей свой завтрак, и с тех пор она не от-
ходила от меня.
— Как звали твою собаку?
— Не знаю. Ведь хозяева уехали.
— И ты никак не назвал ее?
Мальчик непонимающе посмотрел на директора.
— Ты не дал ей имени?
— А зачем?
Он наконец выпустил из рук тяжелый портфель, и
тот глухо плюхнулся на пол.
— У нее было имя. Я просто не знал его. Спрашивал
у ребят. Никто не помнил, как ее звали.
— Вот и назвал бы ее как-нибудь.
Мальчик покачал головой:
— Раз у собаки есть имя, зачем давать ей новое.
У собаки должно быть одно имя.
Теперь Таборка смотрел на медную пепельницу, ко-
торая стояла на краю стола. Пепельница была чистой
и блестящей. Вероятно, новый директор не курил.
75
Таборка поднял руку и почесал затылок. И директор
заметил на рукаве крупную штопку. Она была похожа
на решетку, которая не выпускала локоть наружу.
Мальчик неожиданно умолкал и так же неожиданно
начинал говорить, словно часть мыслей оставлял при
себе, а часть высказывал вслух.
— Когда я в первый раз привел собаку домой, он
был в отъезде. Мама сказала: «От собаки одна только
грязь!» Какая грязь может быть от собаки? От собаки
одна радость. Потом мама сказала: «Я твоей собакой
заниматься не буду. Занимайся сам!» Так я для того и
взял собаку, чтобы заниматься самому. Моя собака была
очень умной. Когда я учил наизусть стихи, она смотрела
мне в глаза и слушала. А когда у меня не выходила за-
дача, собака терлась о мою ногу. Это она подбадрива-
ла меня. А потом приехал он и выгнал собаку.
Таборка не отрывал глаз от пепельницы, а директор
скрестил пальцы и положил их под щеку и не спускал
с мальчика прищуренных глаз.
— Чем ему помешала собака?.. Я не мог выгнать
собаку. Ее один раз уже выгоняли. Я поселил ее в сарае.
Там было темно и скучно. Я все время думал о своей
собаке. Даже ночью просыпался: может быть, ей холод-
но и она не спит? А может быть, она боится темноты?..
Это, конечно, ерунда: собака ничего не боится! В школе
я тоже думал о ней. Ждал, когда кончатся уроки: ее
завтрак лежал у меня в портфеле... Потом он заплатил
штраф за порванное пальто и выгнал собаку из сарая.
Я привел ее в школу. Мне некуда было ее деть.
Теперь слова мальчика уже не были круглыми ша-
риками. Они стали шершавыми и угловатыми и с тру-
дом вырывались наружу.
— Я не знал, что он задумал убить мою собаку. Ме-
ня тогда не было. Он подозвал ее и выстрелил ей в ухо.
В комнате стало тихо. Как после выстрела. И долгое
время ни мальчик, ни директор не решались прервать
молчание.
Неожиданно директор сказал:
— Слушай, Табор! Хочешь, я подарю тебе собаку?
Немецкую овчарку с черной полосой на хребте.
Мальчик покачал головой:
— Мне нужна моя собака. Я бы ее научил спасать
утопающих. У меня книжка такая есть, как учить собак.
76
Директор встал со стула. Он стал еще выше, чем
казался вначале. Пиджак висел на его худых плечах,
как на вешалке. Может быть, его костюм тоже принад-
лежал когда-то старому директору. Как большое кресло.
Он подошел к мальчику и наклонился к нему:
— Ты можешь помириться с отцом?
— Я с ним не ссорился.
— Но ты с ним не разговариваешь?
— Я отвечаю на его вопросы.
— Он тебя когда-нибудь бил?
— Не помню.
— Обещай мне, что ты помиришься с отцом.
— Я буду отвечать на его вопросы... Пока не выра-
сту.
— А что ты будешь делать, когда вырастешь?
— Я буду защищать собак.
Директор молча прошелся по кабинету и вернулся в
свое неуютное кресло. А мальчик взял портфель за руч-
ку, которая держалась на одном ушке, и пошел к двери.
Когда он уходил, директор заметил, что штопка на рука-
ве порвалась и острый локоть вырвался сквозь решетку
наружу.
СЫН ЛЕТЧИКА
Я могу поручиться, что никогда не слышал о летчике
Преснякове. Но его лицо на фотографии показалось мне
удивительно знакомым. Он снят после полета, в гермо-
шлеме, в котором можно дышать там, где нет воздуха.
В этом одеянии он скорее похож на водолаза, чем на
летчика.
Капитан Пресняков небольшого роста. Но это сразу
не заметишь на фотографии, потому что он снят до
пояса. Зато отчетливо видны широкие скулы, и глаза
щелочками, и неровные брови, и канавки над верхней
77
губой, и шрам на лбу. А может быть, это не шрам, а
прядка волос, прилипшая ко лбу в трудном полете.
Эта фотография принадлежит Володьке Преснякову.
Висит у него над постелью. Когда в дом приходит новый
человек, Володька подводит его к фотографии и говорит:
— Мой отец.
Он говорит это так, будто и в самом деле знакомит
гостя со своим отцом.
Живет Володька в Москве, в проезде Соломенной
Сторожки. Конечно, па Володькиной улице нет никакой
сторожки, да еще соломенной. Кругом стоят большие
новые дома. Это при Петре Первом здесь была сторож-
ка. Интересно, в каком месте она стояла? Около гастро-
нома или на углу, у сберкассы? И как звали стражника,
который в ненастную, вьюжную ночь забегал в теп-
лую сторожку, чтоб перевести дух и погреть у огонька
деревянные от мороза руки? Только на минутку! Страж-
нику не положено торчать в теплой сторожке при испол-
нении служебных обязанностей..,
Под окнами Володькиного дома днем и ночью грохо-
чут самосвалы: рядом идет стройка. Но Володька при-
вык к их грохоту и не обращает на него внимания. Зато
ни один самолет не пролетит над его головой незамечен-
ным. Услышав звук мотора, он вздрагивает, насторажи-
вается. Его тревожные глаза спешат отыскать в небе
маленькие серебристые крылышки машины. Впрочем,
он, даже не глядя на небо, может по звуку определить,
какой летит самолет: простой или реактивный, и сколь-
ко у него «движков». Это потому, что с детства привык
к самолетам.
Когда Володька был маленьким, он жил далеко-да-
леко от Москвы. В военном городке. Ведь города, как и
люди, бывают военные.
Володька родился в этом городке и прожил в нем
добрую половину своей жизни. Человек не может запом-
нить, как он учился ходить и как произнес первое слово.
Вот если он упал и разбил коленку, это он помнит. Но
Володька не падал и не разбивал коленку, и над бровью
у него нет шрама, потому что и бровь он тоже никогда
не разбивал. И вообще он ничего не помнит.
Не помнит, как, заслышав шум мотора, он что-то
искал в небе выпуклыми голубыми глазами. И как про-
тягивал руку: хотел поймать самолет. Рука была пух-
78
лая, со складкой у запястья, будто в этом месте кто-то
обвел ее чернильным карандашом.
Когда Володька был совсем маленьким, он умел
только просить. А когда стал постарше — годика в три-
четыре,— стал спрашивать. Он задавал маме самые
неожиданные вопросы. И были такие, на которые мама
не могла ответить.
«Почему самолет не падает с неба?.. Почему у нас
звездочки, а у фашистов крестики с хвостиками?»
Володька жил с мамой. Папы у него не было. И вна-
чале он считал, что так и должно быть. И его вовсе не
беспокоило, что нет папы. Он и не спрашивал о нем,
потому что не знал, что ему полагается папа. Но однаж-
ды он спросил у мамы:
— Где мой папа?
Он думал, что маме очень легко и просто ответить
на этот вопрос. Но мама молчала. «Пусть подумает»,—
решил Володька и стал ждать. Но мама так и не отве-
тила на вопрос сына.
Володьку это не очень огорчило, потому что мама
многие его вопросы оставляла без ответа.
Больше Володька не задавал маме этого вопроса.
Какой смысл спрашивать, если мама не может ответить?
Но сам он не забыл о своем вопросе с той легкостью,
с какой забывал о других. Ему понадобился папа, и он
стал ждать, когда папа появится.
Как ни странно, Володька умел ждать. Он не искал
папу на каждом шагу и не требовал от мамы, чтобы она
нашла ему недостающего папу. Он стал ждать. Если
мальчику полагается папа, то рано или поздно он най-
дется.
«Интересно, как появится папа? — думал Володька.—
Придет пешком или приедет на автобусе? Нет, папа при-
летит на самолете—ведь он летчик». В военном городке
у всех ребят папы были летчиками.
Отправляясь с мамой гулять, он посматривал на
встречных мужчин. Он старался угадать, на кого из них
похож его папа.
«Этот очень длинный,— думал он, оглядываясь на
высокого лейтенанта,— такому папе и на спину не
заберешься. И почему у него нет усов? У папы должны
быть усы. Только не такие, как у продавца в булочной.
У него усы рыжие, А у папы усы будут черные...»
79
С каждым днем Володька все нетерпеливей ждал
приезда папы. Но папа ниоткуда не приезжал.
— Мама, сделай мне кораблик,— сказал однажды
Володька и протянул маме дощечку.
Мама посмотрела на сына беспомощно, будто он за-
дал ей один из тех вопросов, на которые она не могла
ответить. Но потом вдруг в ее глазах появилась реши-
мость. Она взяла из рук сына дощечку, достала большой
кухонный нож и начала стругать. Нож не слушался ма-
му: он резал не как хотела мама, а как ему вздумает-
ся— вкривь и вкось. Потом нож соскользнул и порезал
маме палец. Пошла кровь. Мама отбросила недостру-
ганную деревяшку в сторону и сказала:
— Я лучше куплю тебе кораблик.
Но Володька покачал головой.
— Не хочу купленный,— сказал он и поднял с пола
дощечку.
У его друзей-приятелей были красивые кораблики с
трубами и парусами. А у Володьки была шершавая не-
доструганная деревяшка.
Но именно эта невзрачная дощечка, именуемая па-
роходом, сыграла в Володькиной судьбе очень важную
роль.
Однажды Володька прогуливался по коридору квар-
тиры с дощечкой-кораблем в руках и лицом к лицу стол-
кнулся с соседом Сергеем Ивановичем. Сосед был летчи-
ком. Целыми днями он пропадал на аэродроме. А Володь-
ка «пропадал» в детском садике. Так что они почти не
встречались и совсем не знали друг друга.
— Здравствуй, брат!—сказал Сергей Иванович,
встретив Володьку в коридоре.
Володька задрал голову и стал рассматривать сосе-
да. До пояса он был одет в белую обыкновенную руба-
ху, а брюки и сапоги были военными. На плече висело
полотенце.
— Здравствуй!—отозвался Володька.
Он всех называл на «ты».
— Почему ты один шагаешь по коридору?—спросил
сосед.
— Гуляю.
— А на улицу что не идешь?
— Не пускают. Кашляю.
— Небось по лужам без галош бегал?
80
— Нет. Я снег ел.
— Понятно.
В конце разговора, который происходил в полу-
темном коридоре, сосед заметил в руках Володьки до-
щечку.
— Что это у тебя?
— Кораблик.
— Какой же это кораблик? Это доска, а не кораб-
лик,— сказал сосед и предложил:—Давай я тебе кораб-
лик сделаю.
— Только не сломай,— предупредил его Володька и
протянул дощечку.
— А как тебя зовут?—между прочим, спросил сосед,
разглядывая деревяшку.
— Володя.
— Володька, значит?
Володька. Это хорошо. Мама называла его Воло-
денька, а тут — Володька. Очень красиво!
Пока Володька раздумывал над новым именем, со-
сед достал из кармана складной перочинный ножик И
ловко начал обстругивать дощечку.
Что это получился за кораблик! Ровный, гладкий, с
трубой посредине, с пушкой на носу. На полу кораблик
не стоял, заваливался набок, зато в лужах он чувство-
вал себя отлично. Никакие волны не могли его опроки-
нуть. Присев на корточки, Володькины приятели с лю-
бопытством рассматривали корабль. Каждому хотелось
потрогать его, потянуть за веревочку. Володька торже-
ствовал.
— Не забрызгай!—кричал он одному из приятелей,
будто кораблю была страшна вода.— Не тяни, опроки-
нешь! — грозно предупреждал он другого, хотя его
корабль был самым устойчивым кораблем дворового
флота.
— Кто это тебе такой корабль сделал?—спросил
Володьку кто-то из ребят.
Володька запнулся. Потом набрал побольше воздуха
и смело выпалил:
— Папа!
— Врешь,— сказал приятель.—У тебя нет папы.
— Нет, есть! Нет, есть!—решительно ответил Во-
лодька.— Он мне еще не то сделает!
4 Багульник
81
...Вечером мама заметила Володькин кораблик. Она
подняла его с пола, внимательно осмотрела его и спро-
сила:
— Откуда это у тебя?
— Папа сделал,— отозвался Володька.
— Папа?—Мама удивленно подняла брови.— Какой
папа? У тебя нет папы...
Последние слова мама с трудом выдавила из себя.
Но Володьку нисколько не смутило мамино возражение.
Он сказал:
— Как же нет папы? Есть! Ведь даже у девочек
есть папы, а я мальчик.
Мама вдруг перестала спорить. На нее смотрели два
больших упрямых глаза. В них было столько решимости
и отчаяния, что мама промолчала. Она поняла, что в
маленьком сыне прорезается характер, что он так про-
сто не отступится от того, что ему полагается, что опре-
делено самой природой.
Мама опустила глаза и отошла. А он все не двигался
с места — маленький человек, который решил постоять
за себя. Он прижимал к груди свой кораблик, как буд-
то кто-то хотел отнять у него этот драгоценный предмет.
...Сергей Иванович не догадывался о том, что сделал
кораблик с маленьким соседом. И, уж конечно, ему и в
голову не могло прийти, что Володька в поисках папы
остановил свой выбор на нем.
Возвращаясь из детского сада, Володька спрашивал:
— Папа дома?
Мама ничего не отвечала. Тогда он, улучив минутку,
выскальзывал в коридор и направлялся к соседней две-
ри. Он толкал дверь плечом. Она не поддавалась: папы
не было дома.
Володька не падал духом. Эка беда, что папы нет
дома! Важно, что папа есть.
Постепенно у Володьки сложилось свое представле-
ние о папе. Его папа жил в другой комнате, обедал в
столовой и сам ставил себе чайник. И если у него отры-
валась пуговица, то он сам пришивал ее. И никому не
докладывал, куда уходит и когда вернется. Володька
решил, что именно таким и должен быть папа.
Случилось, что Володька заболел не на шутку. На
этот раз он съел слишком много снегу, и у него начался
жар. Он лежал в постели и горел. Ему казалось, что
82
постель стоит на огне и огонь раскаляет подушку, одея-
ло, рубашку. И градусник ему ставят часто, потому что
боятся, как бы он совсем не сгорел.
Володька не стонал, не вздыхал, не звал маму. Он
мужественно переносил болезнь. Он сопел. А временами
кашлял, и тогда в его груди перекатывался шершавый,
булькающий шарик.
Целый день с Володькой сидела бабушка из сосед-
ней квартиры. Бабушке хотелось, чтобы Володька уснул,
она рассказывала ему сказки. В конце концов от сказок
уснул не Володька, а сама бабушка.
Когда вечером вернулась с работы мама, бабушка
беззвучно поднялась и ушла к себе в соседнюю квартиру.
С мамой было веселее. Она ходила взад-вперед, что-
то приносила, уносила, роняла на пол. Она тормошила
Володьку, давала ему то лекарство, то кислый морс.
Она прикладывала прохладную руку ко лбу — это было
приятно. Переворачивала подушку на «холодную сто-
рону»— это тоже было хорошо. Только жаль, что подуш-
ка быстро нагревалась.
Мама все время спрашивала:
— Не болит головка? Что тебе дать? Что ты хо-
чешь?
Но Володька ничего не хотел. Он не знал, что от
холодного снега будет так жарко. И так тошно. Он мол-
чал.
И вдруг мальчик сказал:
— Мама, позови папу.
Мама повернулась к окну. Она сделала вид, что не
расслышала просьбу сына. Она надеялась, что он тут же
забудет о ней.
Но, выждав немного, Володька повторил:
— Позови папу.
Мама не двигалась. Она стояла спиной к сыну, и он
не видел, как лицо ее стало беспомощным, а глаза на-
полнились слезами. Она могла многое сделать для сы-
на. Подарить ему дорогую игрушку, купить вкуснень-
кого. Могла работать для него с утра до вечера. Могла
отдать ему свою кровь, свою жизнь. Но где она могла
взять ему папу?
А Володька ждал, когда она пойдет за папой. И она
пошла. Она вышла в коридор и медленно направилась
83
к соседней двери. Она шла к чужому человеку, чтобы
попросить его на несколько минут побыть папой.
Преодолевая чувство стыда и унижения, мама посту-
чала в соседнюю дверь.
— Да!—послышалось изнутри.
Голос показался маме резким и неприветливым. И от
этого стало еще труднее. Но она все же отворила дверь.
Сосед сидел за столом и пил чай. Вероятно, он толь-
ко что вернулся домой, потому что на нем были сапоги
и рубашка защитного цвета с черным галстуком. Он пил
чай и читал газету.
Когда мама отворила дверь, он поднял на нее удив-
ленные глаза и встал, не выпуская из рук стакана и
газеты. Он не подал ей стул и даже не предложил войти
в комнату. Она так и стояла на пороге.
— Сергей Иванович,— сказала мама, и голос ее
дрогнул, будто что-то в нем обломилось.— Сергей Ива-
нович, он зовет вас отцом. Я не знаю, почему это взбре-
ло ему в голову. Он маленький и глупый.
Мама говорила, а сосед растерянно смотрел на нее
и кивал головой. Казалось, речь идет не о нем, а о другом
человеке. Он все не понимал, что же от него нужно.
— А сейчас,— продолжала мама,—он болен. И он
зовет вас.
Мама замолчала. Опустив голову, она ждала, что ей
скажет сосед. А сосед ничего не сказал. Он вдруг засуе-
тился: поставил на стол стакан с чаем, бросил газету
на кушетку и почему-то стал натягивать на плечи фор-
менную куртку.
— Сейчас иду,— пробормотал он.
Зачем ему понадобилась куртка с погонами и знака-
ми отличия? Ведь не начальство вызвало его.
Он пошел за мамой.
Осторожно, словно боясь разбудить, подошел он к
Володькиной постельке и, наклонясь к нему, спросил:
— Болеешь, брат?
Володька кивнул головой. Его больные глаза радо-
стно засветились. Он приподнялся на локте и спросил:
— Ты высоко летаешь?
— Высоко, брат,— ответил летчик.
— Выше Сапрунова?
Сосед усмехнулся:
84
— Э-э, да ты, оказывается, знаешь Сапрунова? Зна-
ком с ним?
Володька затряс головой. Он не был знаком с про-
славленным летчиком военного городка. Он слышал о
нем.
— Выше Сапрунова пока не летаю,— произнес со-
сед,— но царапаю небо потихоньку.
Володька почему-то представил себе папу, царапаю-
щего небо ногтем. И мальчик покосился на его руку,
Ногти на руке летчика были коротко подстрижены.
«Трудно такими царапать небо»,—подумал Володька.
С приходом Сергея Ивановича он оживился. Вероят-
но, когда рядом с тобой папа, то никакая болезнь не
страшна. Мама вышла в кухню. И они остались одни:
сын и папа.
Сергей Иванович был одиноким человеком. У него
никогда не было ни семьи, ни детей. И к детям он отно-
сился не то чтобы с неприязнью завзятого холостяка, а
как относятся к чужой, очень хрупкой вещи: стараются
не брать в руки, чтобы случайно не уронить. Но с Во-
лодькой он обращался смело. Он клал ему руку на лоб,
и переворачивал его на «другой бочок», и даже попы-
тался рассказать ему сказку. Сказка получилась похо-
жей на быль: про самолет, механика и генерала...
Новое, незнакомое чувство робко прорезалось в
сердце человека, привыкшего иметь дело с солдатами и
ревущими машинами.
Глядя на маленького горящего Володьку, он вдруг
поймал себя на мысли, что с удовольствием сам перебо-
лел бы за него гриппом: ему — что, а малышу — тяжко.
Было уже поздно, когда сосед собрался уходить. Но
Володька ухватил его за руку:
— Папа, не уходи!
Он держал руку Сергея Ивановича, как будто эта
сильная мужская рука была его жизнью и без нее все
вокруг теряло всякий смысл.
— Да я не ухожу,— виновато говорил Сергей Ивано-
вич.— А ты спи.
Но Володька боялся уснуть, хотя его сильно клонило
ко сну. «Вот усну, а он уйдет»,— думал мальчик и изо
всех сил старался удержать глаза открытыми. А губы
его тихо шептали:
— Ты не уходи... А я больше не буду есть снег. И ла-
85
зить по заборам не буду... И суп буду доедать... Не
уйдешь? А?
И сквозь сон слышал спокойный голос Сергея Иваг
новича:
— Не уйду, не уйду.
В конце концов Володька уснул. Так и уснул, не вы-
пуская из своих рук папину руку.
В те редкие дни, когда Володька заставал папу дома,
он старался как можно дольше побыть с ним. И Сергей
Иванович с завидным терпением выполнял все желания
своего новоявленного сына.
— Слушай,— говорил Володька (он всегда обращал'
ся к Сергею Ивановичу «слушай»).— Слушай, покатай
меня на кликушках.
— Что-что?—переспрашивал Сергей Иванович.
— На кликушках,— невозмутимо повторял Володь-
ка и начинал карабкаться на плечи Сергея Ивановича.
И тот послушно подставлял мальчику плечи. А по-
том, почувствовав на себе всадника, начинал ходить по
комнате.
— Быстрей!—командовал наездник и крепко обви-
вал руками шею своего коня.
Потом Володька просил:
— Зайди за мной в детский садик. За всеми в суб-
боту заходят папы.
Сергей Иванович почесал затылок, однако пообещал
зайти за Володькой. И слово свое сдержал.
Как-то под вечер в комнату, где Володька играл с
товарищами, вошла нянечка и громко сказала:
— Пресняков, за тобой пришел отец.
Володька покраснел от удовольствия и пулей выле-
тел в прихожую. Там на диване сидел папа. Он был в
шинели, а фуражка с золотой «капустой» лежала у него
на коленях. Вид у него был строгий и торжественный.
Казалось, папа боится пошевелиться, чтобы не сделать
что-нибудь не так. Володька подбежал к нему и стал
тянуть его за руку, а папа упирался. Он чувствовал се-
бя неловко среди маленьких столиков, стульчиков и ве-
шалок с коротенькими пальто.
А потом они шли вдвоем по военному городку, и
Володька крепко держался за папину руку. Он старался
делать большие шаги, чтобы не отставать, И все время
86
посматривал по сторонам. Ему хотелось, чтобы его
друзья и знакомые видели: он идет с папой. Пусть хоть
один человек осмелится после этого сказать: «Врешь,
у тебя нет отца!»
Сергея Ивановича многие знали и при встрече с ним
кивали ему и отдавали честь. Володьке это тоже нрави-
лось. Один знакомый летчик, поздоровавшись с Сергеем
Ивановичем,спросил:
— Сынишка?
Сергей Иванович помолчал, а потом, посмотрев свер-
ху вниз на Володьку, сказал:
— Сын.
Он произнес это слово с вызовом. Будто знакомый
хотел задеть его этим вопросом, а он давал ему отпор.
Но Володька не обратил внимания на то, как ответил
папа. Они зашагали дальше. И Володька был счастлив.
...Детский садик стоит на самом краю военного го-
родка. За низким разноцветным заборчиком начинает-
ся степь. Зимой заборчик заносит снегом, и его вообще
не видно. Летом степные травы поднимаются вровень
с островерхими колышками.
А в степи — аэродром. Бессонный, тревожный, живу-
щий своей заманчивой, но опасной жизнью.
Оттуда в небо поднимаются серебристые машины с
крыльями, отведенными назад, как руки перед прыжком.
Кажется, на земле им нечем дышагь и они с радостным
ревом рвутся в синюю глубину неба, где можно вздох-
нуть полной грудью. А когда смелые руки летчика под-
нимают машину очень высоко, в небе остается след:
белый, морозный, видный всей земле.
Случается, что высоко над головой вдруг раздается
резкий грохот. Новичок вздрагивает, ищет в небе след
взрыва... Но жители военного городка остаются спокой-
ными. Они знают, что никакого взрыва нет. Просто в
недоступной глазу вышине одна из серебряных машин
прорвалась сквозь звуковой барьер и полетела быстрее
звука. И это не взрыв, а удар сильных крыльев.
Самолеты улетают и возвращаются. Аэродром про-
вожает и встречает. И так каждый день.
Когда это произошло, в детском садике был тихий
час. И дети спали. И Володька тоже преспокойно спал,
потому что гул моторов не мешает спать сыну летчика.
87
Володька спал, а отец был в небе.
Он поднялся на такую высоту, где небо уже не голу-
бое, а темное и, говорят, звезды видны даже днем. Это
небо не принадлежит земле, и в нем нечем дышать жи-
телю земли. Он дышит кислородом, захваченным с со-
бой в полет. Да и машине здесь нелегко, ей тоже не
хватает воздуха: крылья теряют опору.
Когда он начинал выполнять фигуры пилотажа, его
тело становилось тяжелым. Трудно поднять руку. Веки
наливались свинцом. Казалось, самолет подчинил себе
пилота и решил вообще не возвращаться.
Но голос земли командовал:
«Снижайтесь!»
И небо ответило:
«Вас понял».
Черта с два, самолет командует пилотом! Неторопли-
вым движением летчик отдал от себя ручку управления,
убавил обороты двигателей, и машина, как обузданная,
повернула от звезд к земле.
Капля пота потекла по его лбу, и он никак не может
стереть ее ладонью, потому что лицо под прозрачной
маской гермошлема. И он подумал, что, как только при-
землится, обязательно сотрет эту зудящую каплю.
Стрелки прибора слегка дрожали, желая подчеркнуть,
что они не спят. Земля приближалась.
И вот тут-то вспыхнула тревожная красная лампоч-
ка — сигнал пожара.
Он сразу забыл о капле пота. Он стал проверять, не
врет ли «паникер» (так летчики в шутку называют сиг-
нал пожара, зачастую поднимающий ложную тревогу.
Но на этот раз «паникер» не ошибся). Летчик выключил
горящий двигатель и доложил:
«Горит правый двигатель».
«Попробуйте сбить пламя»,— приказала земля.
Теперь самолет стремительно снижался. Казалось,
он падает. Он тушил свой пожар. Он хотел оторвать от
себя пламя, которое, как липкий красный лоскут, трепа-
лось у правого сопла. Но ни встречный поток воздуха,
ни автоматический огнетушитель не могли справиться
с пламенем — так крепко вцепилось оно в машину.
Огню было мало мотора, и он перебрался на фюзе-
ляж.
Горящий самолет терял высоту.
88
И вдруг летчик почувствовал, что ручка управления
утратила свою упругость. Она беспомощно болтается,
и самолет не выполняет ее приказы.
Он понял, что произошло самое страшное: перегоре-
ли рулевые тяги. Рули вышли из повиновения. А само-
лет падал на военный городок.
Когда он доложил обстановку земле, с командного
пункта пришел приказ:
«Сапрунов! Покидай машину. Катапультируйся».
Но он ответил:
«Не могу».
«Какого черта! Сапрунов!..»
Голос командира гремел в наушниках. Но летчик
молчал. Ему некогда было разговаривать. Самолет па-
дал на маленькие ровные квадратики жилых домов. Эти
квадратики с неумолимой силой приближались к нему,
становились все крупнее, все отчетливей. Они, как маг-
нит, притягивали к себе машину с уснувшими рулями.
«Сапрунов!— ревела земля.— Сапрунов!..»
Он молчал. Он не откликался. И земля решила, что
он погиб. Но Сапрунов боролся.
А Володька в это время спал.
Никто не знает, о чем думает человек, когда глядит
в глаза смерти, на какие мысли он тратит последние
скупые мгновения, которые отпустила ему жизнь. И ни-
кто не может поручиться, что Володькин папа в горя-
щем самолете думал о своем сыне. Но есть движение
человеческого сердца, которое сильнее мыслей и горячее
чувств. В этих движениях любовь и разум, привязан-
ность и ласка вдруг превращаются в силу, перед кото-
рой беспомощны страх, сомнения, себялюбие.
Ему все же удалось отвернуть горящую машину от
жилых домов. Это произошло уже у самой земли. Ка-
жется, он отвернул машину не отказавшими рулями,
а своей грудью, руками, последними толчками сердца.
Катапультироваться он не успел: не хватило времени.
...Человеческая память не похожа на старую бабку,
которая кидает в свое лукошко все, что ей попадется
под руку. Она разборчивый мудрец, который, прежде
чем захватить с собой что-нибудь из твоей жизни, долго
разглядывает, взвешивает на ладони, думает: брать или
не брать?
Поэтому Володька Пресняков, живущий в проезде
89
Соломенной Сторожки, мало знает о Володьке из дале-
кого военного городка. Будто они не одно и то же лицо,
а разные люди.
Только один раз смастерил папа маленькому Володь-
ке кораблик, а большой Володька уверен, что оп ему
сделал целую флотилию кораблей. Только один раз
заснул Володька, не выпуская из рук большой отцов-
ской руки, а память утверждает, что он чуть ли не
каждый день засыпал с рукой отца. Только один раз за-
шел летчик за своим сынишкой в детский сад, а память
нашептывает, что это случалось часто.
Может быть, человеческая память немного привира-
ет? А может быть, она отбирает самое главное и увели-
чивает его так, чтобы было видно всю жизнь.
Когда он погиб, Володька был еще маленьким. Даже
не сразу узнал о его гибели. Какой-то самолет разбился.
Какой-то летчик погиб. Военный городок был в трауре.
Здесь в каждом доме жили летчики, и с каждым из них
могло такое случиться... Но в детском садике жизнь шла
своим обычным чередом, как будто ничего и не произо-
шло.
Возвращаясь домой, Володька стучался в папину
дверь. Но никто не откликался. Володька этому не удив-
лялся. Папы часто не бывало дома: служба такая.
Наконец долгое отсутствие папы начало тревожить
мальчика. И однажды он спросил маму:
— А где папа?
Обычно мама не отвечала на этот вопрос. Она или
отворачивалась, или уходила в кухню.
Но на этот раз мама не отвернулась и не ушла. Она
взяла Володьку за плечи, притянула его к себе и внима-
тельно посмотрела ему в глаза. Потом она крепко при-
жала к себе сына и сказала:
— Твой папа погиб при исполнении служебных обя-
занностей.
Володька не понял, что значит «погиб» и при чем
здесь «обязанности». Он спросил:
— А когда папа придет?
— Никогда,— сказала мама и еще крепче прижала
сына к себе.
Володька высвободился из маминых рук и недовер-
чиво взглянул маме в глаза. Что эго значит — никогда?
— Он уехал или улетел?—спросил Володька.
90
— Он погиб,— повторила мама.— Умер. Понимаешь?
Его никогда больше не будет.
— А как же я?—пролепетал Володька и уже соби-
рался было заплакать.
Но тут мама сказала:
— Твой папа — герой.
Слово «герой» успокоило мальчика. Это слово не вя-
залось со слезами. И Володька не заплакал.
Вероятно, тогда он так и не понял маму.
Папа больше не появлялся. В его комнату въехали
другие жильцы. А потом мама и Володька уехали из
военного городка в Москву, к бабушке.
Теперь Володька большой, самостоятельный парень.
Он все понимает — и что такое «погиб», и чго такое «при
исполнении служебных обязанностей». И он любит сво-
его отца, хотя знал его очень недолго. И он скучает по
нему и часто смотрит на фотографию, чго висит над
постелью. Он рассматривает неровные брови, и канавку
над верхней губой, и шрам на лбу. Может быть, это не
шрам, а прядка волос, прилипшая ко лбу в трудном по-
лете?
Правда, Володька совсем не похож на отца. И скулы
у него не широкие, и глаза не щелочками. Глаза у Во-
лодьки большие. Но ведь их можно прищурить. А скулы
могут проявиться с годами. Вырастут. Ведь человек
растет до двадцати лет.
Впрочем, совсем не обязательно, чтобы сын был по-
хож на отца лицом. Он, может быть, вышел в маму.
Главное, чтобы характер был отцовский.
...Нет, недаром фотография над Володькиной по-
стелью показалась мне знакомой. Это был летчик Сап-
рунов. В этом не могло быть сомнений. Тог самый про-
славленный летчик Сапрунов, который долетел до
черного неба и погиб при исполнении служебных обя-
занностей. Это он спас жизнь сотне людей ценой своей
жизни.
Я перевожу взгляд с фотографии на Володьку и
спрашиваю:
— А как фамилия твоего отца?
Володька смотрит на меня непонимающими глазами.
— Пресняков,— говорит он, и в голосе его звучит
уверенность.— Капитан Пресняков. Ведь у отца с сыном
всегда одна фамилия.
БАМБУС
Хмурым утром в дверях школы появился незнакомец
странного вида. Невысокого роста, большеголовый.
В черных спутанных волосах тусклым солнышком про-
глядывала лысина. Усы не росли, а беспорядочно лезли
из кожи вон, и в них торчала погасшая трубка. Темные
глаза навыкате сверкали запоздалым осорством. Если
бы ему на плечи накинули расшитый серебром гусарский
ментик, на голову водрузили кивер и к портупее присте-
гнули саблю, он превратился бы в Дениса Давыдова.
Даже полосатый пиджак, застегнутый на все пуговицы,
и потертые брюки, заправленные в высокие сапоги, не
могли уменьшить удивительного сходства незнакомца
с гусарским поэтом.
Он взбежал по лестнице, цокая, как шпорами, под-
ковками сапог, распахнул дверь канцелярии, и в комна-
те резко запахло табаком.
— Мне нужен директор!
Секретарша — плосколицая, с нарисованными бровя-
ми— перестала печатать на машинке.
— Как о вас сказать?
— Пришел Бамбус!
Странное имя прозвучало как удар барабана. Нари-
сованные брови болезненно надломились.
— Как-как?
— Бамбус!—Раздался новый удар барабана.— Раз-
ве не понятно?!
— Понятно,— пролепетала секретарша и быстро
проскользнула в кабинет директора.
Директор был не один. Перед ним, размазывая по
щекам слезы, стояли двое мальчишек. У одного —с гу-
бой, вздернутой домиком,— рукав был оторван и дер-
жался на одной нитке. У другого — с распухшим но-
сом — рыжие волосы торчали на голове ржавыми
гвоздиками. Пять минут назад мальчишки дрались, но,
приведенные с поля боя к директору, враги преврати-
лись в товарищей по несчастью и держались друг друга.
— Вас спрашивает какой-то странный... Бимбус,—
шепотом сказала секретарша, входя в кабинет.
92
— Не Бимбус, а Бамбус!—поправил ее директор.—
Да где же он?
А незнакомец уже стоял в дверях, глубоко запустив
руки в карманы пиджака и разглядывая директора
выпуклыми глазами.
— Бамбус!—крикнул директор и отодвинул кресло.
— Чевока!—откликнулся нежданный гость и загро-
мыхал сапожищами.
— Ха-ха!
— Хе-хе!
И хотя директор был на голову выше пришельца и
шире его в плечах, возбуждение нечаянной встречи как
бы уравняло их.
— Стареет пятый «Б»,— сказал Бамбус.
— А мы давно тебя числим пропавшим без вести.
Где ты бродяжничаешь?
— Живу в избушке на курьих ножках.
— Работаешь?
— Предсказателем.
Два заплаканных драчуна удивленно переглянулись
и уставились на незнакомца. А директор усмехнулся и
спросил:
— Предсказываешь дожди и грозы?
— Землетрясения,— отрубил Бамбус и принялся
раскуривать трубку.— А живу я на Краю Света.
— Почтовый-то адрес у твоей избушки есть?
— Запиши. Остров Шикотан. Мыс Край Света. Пред-
ставляешь где?
Директор пожал плечами.
— Ты вообще никогда не блистал по географии! Хе-
хе!— Глаза Бамбуса озорно засверкали.— О Тихом
океане слыхал? Тактам есть такие Курильские острова...
Садовая голова!
Два заплаканных драчуна чуть не прыснули от смеха.
— Ладно, ладно, ты не очень. Кто спал в шкафу на
уроках?—Директор перешел было в наступление, но тут
он спохватился, что, кроме него и Бамбуса, в кабинете
развесив уши стоят два нарушителя порядка, и скоман-
довал им:—Марш отсюда!
«Губа домиком» и «Ржавые гвоздики» моментально
исчезли: появление предсказателя землетрясений изба-
вило их от неприятностей.
Очутившись за дверью, они долго ходили по пустым
93
коридорам и смеялись, с удовольствием передразнивая
директора и его друга:
— Бамбус! Ха ха!
•— Чевока! Хе-хе!
Тем временем в директорском кабинете было уже
много сказано и много вспомянуто. А Бамбус, пуская
клубы дыма, сновал из угла в угол, как маневровый па-
ровозик.
— В пятом классе у нас была учительница пения,—
говорил Бамбус.
И его друг Чевока подтверждал:
— Была, конечно.
— Припоминаешь, как ее звали?
— Мы ее называли Певица Тра-ля-ля.
— Правильно! — «Паровозик» остановился и пере-
стал пускать дым.— У нее был воинственно вздернутый
нос, а когда она пела, то нос поднимался еще выше. Ты
не знаешь, где она?
— Зачем она тебе понадобилась?—спросил Чевока.
— Понадобилась,— уклончиво ответил Бамбус.—
У нас в пионерском отряде не было горна, так она где-то
раздобыла старый почтовый рожок.
— Тебя рожок интересует?—усмехнулся Чевока.
— Не в рожке дело... А где теперь наша Валюся?
— Работает в больнице.
Когда, изрядно надымив, Бамбус расстался со своим
школьным товарищем, за углом его поджидали «Губа
домиком» и «Ржавые гвоздики». Они пропустили его
вперед и дружно крикнули вслед:
— Бамбус! Бам-бус!
И убежали.
Часом позже в больнице раздался странный теле-
фонный звонок. Какой-то Бамбус спрашивал какую-то
Валюсю.
— Это больница!—в третий раз кричала в трубку
старая нянечка.
Но Бамбус настойчиво продолжал требовать Валю-
сю, и растерянная старушка отправилась к дежурному
врачу. К ее великому удивлению, Валентина Ивановна
спорхнула с белого кресла и бросилась к телефону.
— Бамбус! Здравствуй, Бамбус! Откуда ты? С края
света? Я так и думала, что тебя занесет на край света.
А я когда-то была в тебя влюблена...
94
При слове «влюблена» нянечка залилась краской и
скрылась в дальнем конце коридора.
В этот же день дежурный по штабу артиллерийского
училища докладывал майору Коржикову, что у аппара-
та его ждет какой-то Бамбус, вероятно из цирка, и что
он, шутник, непочтительно величает товарища майора
«Коржиком».
Майор не вспылил, а прижал трубку к уху и, хмык-
нув, произнес:
— Коржик слушает!
Дежурный по штабу тут же решил, что когда-то, до
армии, майор тоже служил в цирке вместе с этим Бам-
бусом. Он окончательно уверился в этом, когда речь
зашла о какой-то Певице Тра-ля-ля.
Еще Бамбус звонил в детский сад, на швейную фаб-
рику, в порт. И всюду короткое духовое слово «Бамбус»
звучало как пароль, открывающий доступ в далекий пя-
тый класс «Б», куда без этого пароля никого не пускали...
И каждый раз предсказатель землетрясений спраши-
вал:
— Не помнишь, у нас была учительница... Певица
Тра-ля-ля?
Никто не встречал ее. Никто не знал, где она живет
и жива ли она вообще. Только один раз ему удалось про-
двинуться в своих поисках. Бывшая староста пятого «Б»
Нина Лебедева как-то видела учительницу пения в Музее
музыкальных инструментов, но это было давно, да и Пе-
вица Тра-ля-ля не узнала ее.
На другой день утром Бамбус пришел в Музей му-
зыкальных инструментов. И сразу очутился в мире скри-
пок и гитар, сазов и волынок, труб и роялей, в мире
старинных виол, лютен, змеевидных серпентов и бочко-
образных тамбуринов. Стараясь не очень громыхать
своими сапожищами, он шел из зала в зал, пригляды-
ваясь к смотрителям и экскурсантам. Иногда ои задер-
живался у витрины и разглядывал какой-нибудь диковин-
ный инструмент. По душе ему пришлась флейта-жалейка,
которую безвестный пастух смастерил из бересты и
коровьего рога. Вот бы раздобыть такую дудочку, и бу-
дет она всегда жалеть и утешать. Недаром ее назвали жа-
лейкой...
А потом среди труб он увидел потемневший от вре-
мени почтовый рожок. Он напал на след! Разве это был
95
не тот самый рожок, который Певица Тра-ля-ля при-
несла в класс?! Рожок не изменился, только уменьшил-
ся, как уменьшаются все предметы, когда люди выра-
стают... Бамбус забыл о предостерегающей надписи
«Инструменты руками не трогать», сунул в карман
недокуренную трубку и снял с гвоздя почтовый рожок.
Он ощутил в руке приятный холодок меди. И искренне,
как мальчишка-пятиклассник, поверил, что, если заиг-
рать на рожке, Певица Тра-ля-ля услышит знакомый
сигнал и придет на его зов. Предсказатель землетрясе-
ний вдохнул побольше воздуха, сложил губы колечком
и поднял маленькую трубу. И сразу в залах музея за-
звучал хрипловатый призывный напев, который в прош-
лом веке извещал о прибытии почты. Бамбус покраснел
от напряжения, с непривычки не хватало дыхания, но он
не опускал рожка и повторил сигнал снова и снова.
И когда набирал новую порцию воздуха, то слышал
трепетное звенящее эхо — это все трубы музея отклика-
лись на сигнал почтового рожка.
Неожиданно за его спиной раздался сухой женский
голос:
— Гражданин, что это значит?!
Бамбус опустил рожок и оглянулся. Перед ним стоя-
ла Певица Тра-ля-ля. Она явилась по сигналу. Он не
узнал ее лица, потому что старость, как маскарадная
маска, делает человека неузнаваемым. Но в пожилой
женщине было нечто такое, что не умещается под мас-
кой: нос учительницы пения, как в молодые годы, был
воинственно вздернут вверх.
Да, да, это была она. Глаза Бамбуса ‘засверкали, и
он сказал:
— Здравствуйте!
— Мое почтение,— холодно ответила смотрительни-
ца музея.
— Я приехал с Края Света, я...— начал было Бам-
бус.
Но смотрительница музея бросила на него отчужден-
ный взгляд и сказала:
— Вы меня с кем-то путаете!
— Нет, нет! Я же Бамбус, помните?..
— Не помню.
— Как же — пятый «Б»! Вы просто не узнаете меня.
Усы. Лысина. Конечно, вы меня не узнаете, но я вас
96
очень хорошо помню... «По разным странам я бродил, и
мой сурок со мною».
Пожилая женщина с воинственно вздернутым носом
холодно смотрела на Бамбуса, не видя в нем никого,
кроме как нарушителя музейного порядка. А он пред-
принимал все новые попытки оживить ее память, кото-
рая застыла, как капля смолы на коре дерева:
— У нас в классе не было горна. Вы принесли в
школу вот этот почтовый рожок...
— Повесьте на место рожок. Это единственный экс-
понат такого рода.
Не плавилась застывшая смола. Не узнавала учи-
тельница пения Бамбуса. Не вспоминала пятого «Б».
И тогда он, отчаявшись, сказал:
— Мы еще называли вас Певица Тра-ля-ля.
— Певица Тра-ля-ля...— Она усмехнулась, и голос
ее дрогнул.— Да, да, они меня называли гак.
Капелька смолы потеплела и медленно поползла,
живая и ароматная. И чтобы не дать этой капле застыть,
Бамбус стал рассказывать Певице Тра-ля-ля о ней са-
мой же.
— А помните, как вы съехали вниз на перилах?
— Не может быть!—вырвалось у бывшей учитель-
ницы пения.
— В самом деле съехали... Я обычно сидел на
«Камчатке» и очень досаждал вам. И однажды вы рас-
сердились и крикнули мне: «Бамбус!» С тех пор я стал
Бамбусом. Вспомнили?
— Это было так давно...— Она взяла из его рук поч-
товый рожок и повесила на место.
— Да, это было давно. Вы стояли у окна, а у меня
была резинка, надетая на два пальца. Я скатал покреп-
че бумажку, послюнявил ее и выстрелил в вас. Я всегда
мазал. Но тут я попал... Вы вскрикнули и пошли к
двери, закрыв глаз ладонью...
Она пожала плечами и спокойно сказала:
— Разное случалось.
Бамбус не сводил с нее глаз. Он как бы испыты-
вал ее.
— Я бегал к глазной больнице и все смотрел в окна,
чтобы увидеть вас... Больницу-то вы помните?
— Я не была в больнице.
— Значит, все обошлось?! — воскликнул Бамбус.—
97
А я, знаете, столько лет переживал. Я и теперь боялся
встретить вас...
Он осекся. Где-то хлопнула дверь, смотрительница
покосилась на шум, и Бамбус заметил, что один ее глаз
остался неподвижным. Глаз смотрел на него немигаю-
щим, безжалостным взглядом, от него исходил холод.
Бамбус вздрогнул. Певица Тра-ля-ля быстро перевела
взгляд на незваного гостя. Теперь оба глаза смотрели
на него, но было поздно.
— Значит, случилось худшее,— глухо сказал Бамбус.
Она оборвала его:
— Вы здесь ни при чем. Это не ваша рогатка...
Бамбус не поверил:
— Зачем вы меня успокаиваете? Что было, то было.
Я ведь взрослый человек.
— Так вот, взрослый человек,— сказала она с раз-
дражением,— верьте, когда вам говорят. Это фронтовое
ранение.
Но ее слова не доходили до Бамбуса. Он молчал,
уставившись в одну точку. А Певица Тра-ля-ля рассер-
дилась не на шутку:
— Если вы не верите мне, я вам докажу! Вечером вы
придете за мной. И мы пойдем в школу. Ясно?
Все это она произнесла так решительно, как будто
перед ней стоял не пожилой человек, а пятиклассник
Бамбус с последней парты.
Вечером он ждал ее у подъезда. Накрапывал дождь.
Его волосы слиплись. Усы отвисли двумя черными со-
сульками. Он жевал мундштук погасшей трубки и ходил
взад-вперед, стараясь подавить свое нетерпение.
Мимо, не обращая внимания на дождь, шел маль-
чишка с воздушным шариком. Бамбус схватил мальчи-
ка за руку и спросил:
— А ты знаешь, что накануне землетрясения сурки
выбегают из своих норок?
— Не-а,— ответил мальчишка.
— А знаешь песню про сурка?
— Не-а!
— Ничего ты не знаешь!—рассердился Бамбус.
— Знаю,— возразил мальчишка.— Вас зовут Бам-
бус! Вы предсказатель землетрясений. А дождь пред-
сказывать не умеете.
«Губа домиком» расплылась в улыбке, и под ней
98
сверкнули два крупных зуба. А Бамбус выкатил от удив-
ления глаза.
И тут появилась Певица Тра-ля-ля.
В школе был выпускной бал. Звучала музыка, и
девочки в белых юбках-колоколах носились по коридо-
рам, кружились, шумели — словом, вели себя как
третьеклассники. Мальчики были более сдержанными —
им хотелось выглядеть взрослыми людьми.
Веселье разгоралось все сильнее,, и грусть расстава-
ния со школой никак не могла найти щелочку в этол
веселье — ждала своего часа.
Певица Тра-ля-ля и Бамбус пробирались сквозь
шуршащие белые купола: впереди бывшая учительница
с воинственно вздернутым носом, за ней бывший ученик
в грязных сапогах, с обвисшими усами, с погасшей труб-
кой. И от них обоих на паркете оставались мокрые
следы. Никто не понимал, зачем они пришли и что им,
хмурым и озабоченным, нужно на этом прощальном
празднике. Кто-то засмеялся. Кто-то спросил:
— Вам кого?
Кто-то протянул тарелку:
— Хотите бутерброд с колбасой?
Они свернули в коридор и скрылись, как два видения.
И долго блуждали по пустынным этажам старой школы,
пока наконец не очутились в классе пения.
— Сядьте на свое место!—строго сказала бывшая
учительница.
И бывший ученик послушно поплелся на последнюю
парту.
— Теперь следите внимательно. В тот день я стояла
у окна. Правильно?—Она подошла к окну и стала смот-
реть на улицу.— Я стояла здесь, а вы выстрелили с пос-
ледней парты. В какой глаз вы могли мне попасть?
— В левый,— ответил Бамбус.
— А теперь подойдите ко мне,— властно сказала
Певица Тра-ля-ля.— Посмотрите, какой глаз мой, какой
чужой... Что вам еще от меня надо!—Она почти крича-
ла на Бамбуса.— Заставляете старую женщину бегать
под дождем, чтобы...
Она замолчала, потому что не нашла нужного сло-
ва. А Бамбус быстро подошел к ней. Посмотрел ей в
глаза и опустил голову.
— Простите,—сказал Бамбус.— Я думал, что это
99
забудется... с годами. Но есть вещи, которые сильнее
нас. От них не убежишь даже на край света. Судьба
кидала меня, как мальчика с сурком, но я всегда думал
при случае попасть в родной город, разыскать вас и
сказать «Простите».
Певица Тра-ля-ля задумчиво подошла к роялю. От-
крыла крышку и вдруг заиграла старинную песенку про
маленького бродягу и про сурка.
И Бамбус глуховатым, бесцветным голосом запел:
По разным странам я бродил,
И мой сурок со мною.
И сыт всегда, везде я был
И мой сурок со мною,
И мой всегда, и мой везде,
И мой сурок со мною.
Двери класса бесшумно отворились — на пороге
стояли девочки в белых колоколах. Они уже не смея-
лись. Притихли. Печаль нашла к ним лазейку. Сперва
они, дыша в затылок друг другу, слушали Бамбуса. По-
том, не сговариваясь, запели, словно подбросили в по-
тухающий костер сухих веток, и пламя ожило:
Господ немало я видал,
И мой сурок со мною.
И любит кто кого, я знал,
И мой сурок со мною,
И мой всегда, и мой везде,
И мой сурок со мною.
Песня зазвучала с новой силой, и Бамбус почувст-
вовал себя не лысым и усатым предсказателем земле-
трясений, а большеголовым детдомовцем в стираной-
перестираной курточке, сидящим на уроке пения на
своей излюбленной «Камчатке» и поющим песню о себе,
о своем одиночестве... А молодая Певица Тра-ля-ля
бьет по клавишам, утешает его...
Музыка вдруг умолкла. Девочки убежали. И в клас-
се снова остались двое: Бамбус, пожилой, пропахший
табаком, и старая женщина, которая уже никогда не
съедет вниз на перилах.
Всю ночь Бамбус ходил по городу. Накрапывал
дождь. С залива дул ветер. А он шел нетвердой поход-
кой человека, разбитого дальней дорогой.
100
Погруженный в свои мысли, он дошел до темного
здания глазной больницы. Сюда он бегал мальчишкой —
потерянным, несчастным от запоздалого сознания своей
вины перед учительницей пения. Он заглядывал в окна
первого этажа, где лежали люди с белыми повязками
на глазах. Певицы Тра-ля-ля нигде не было. Может
быть, ее палата была на втором этаже? Он не знал
тогда, что с ней, не знал, что она не в больнице, а на
фронте. Несчастье случится позже. От пули фашиста.
И все-таки сознание своей вины не оставляло взрос-
лого Бамбуса, стоящего под дождем у глазной больни-
цы. Оно причиняло боль, как незаживающая рана.
Откуда-то из сетки дождя выплыло белое облако.
Это шли, сбившись в кучу, девочки-выпускницы. Их ко-
локола намокли, опали, прилипли к ногам. Но они не
обращали внимания на мокрые платья. И весело на
мотив какого-то фокстрота распевали:
Девиц веселых я встречал,
И мой сурок со мною.
Смешил я их, ведь я так мал,
И мой сурок со мною,
И мой всегда, и мой везде,
И мой сурок со мною.
Бамбус стиснул зубами мундштук трубки и отвер-
нулся к стене, чтобы не быть узнанным.
Бамбус долго не появлялся в Музее музыкальных
инструментов. Но через несколько дней тяжелые сапо-
жищи все же загремели по паркету. Бамбус как-то
поскучнел. Его глаза стали темнее, волосы спутались,
а усы беспорядочно торчали в разные стороны.
Он прошел мимо скрипок, стоящих, как винтовки в
пирамиде, мимо медных труб всех калибров, мимо ду-
дочки-жалейки и наконец встретил смотрительницу му-
зея.
— Пришел прощаться,— сдержанно сказал он.
— Очень хорошо, что пришли. Я хочу вам что-то
показать.— Она впервые улыбнулась.— Идемте!
Они пришли в небольшую светелку, где в углу стоял
шест, на котором была натянута басовая струна. Посе-
редине шеста крепился барабанчик. Кончался же шест
маленькой головой. Черные волосы — из конского хво-
101
ста, такие же усы, глаза навыкате. А вместо шляпы —
на голове медные тарелки.
— Это бамбус,— сказала смотрительница музея,—
инструмент бродячих музыкантов.
Предсказатель землетрясений долго рассматривал
диковинный инструмент. И вдруг тихо начал смеяться.
И его спутница тоже начала смеяться. И они долго
смеялись вместе каким-то детским облегчающим сме-
хом. Посетители музея оглядывались на них и пожима-
ли плечами.
Настала пора расставаться. Бамбус отвел Певицу
Тра-ля-ля в сторону и сказал:
— Я помню, в третьем классе у меня заболел зуб.
И вы приласкали меня. Я прижался к вам, вцепился
и не хотел отпускать. Меня до этого никто не ласкал...
Почему я выстрелил в вас из рогатки?
И бывшая учительница ответила ему:
— Переходный возраст. В мальчишек вселяется ка-
кой-то бес, который делает все против их воли...
Когда же он очутился на улице и пошел через пло-
щадь, то услышал за спиной звук почтового рожка.
Оглянулся — в окне музея стояла Певица Тра-ля-ля и по-
давала ему прощальный сигнал. Предсказатель земле-
трясений помахал рукой. И двинулся в свой далекий путь.
РАЗБУЖЕННЫЙ СОЛОВЬЯМИ
Когда в лагере говорили «Селюженок», ребята усме-
хались в предчувствии новых происшествий, а для
взрослых это слово звучало, как сигнал тревоги и пред-
вестник неприятностей. Этот сигнал-предвестник начи-
102
нал звучать с самого утра и не утихал до отбоя. Во
всех уголках лагеря только и слышалось:
— Селюженок, заправь койку!
— Селюженок, вымой уши!
— Селюженок, перестань барабанить ложкой по та-
релке!
— Селюженок, куда ты спрятал журнал?
— Селюженок, если ты не выйдешь из воды, больше
не будешь купаться до конца смены.
Какие только грозные предупреждения и сердитые
возгласы не следовали за словом «Селюженок»! За не-
делю лагерной жизни на него был истрачен годовой за-
пас восклицательных знаков.
У Селюженка круглая голова, подстриженная под
машинку, а уши торчат в стороны, как ручки сахарницы.
Худое лицо всегда измазано сажей, или какой-нибудь
I раской, или просто грязью неизвестного происхожде-
ния. Селюженок маленький и хрупкий: ткнешь пальцем —
он и упадет. Походка у него легкая и бесшумная, словно
он не идет, а крадется. Как это такое хлипкое существо
может доставлять людям столько неприятностей!
Худой, большеголовый, прыткий, он похож на огром-
ного головастика. И взрослые считают, что с годами из
него выйдет порядочная жаба.
Лицо у Селюженка непроницаемое. Слова не то что
отскакивали от него, как горох, они как бы проходили
насквозь, не оставляя никаких следов. Когда мальчика
ругали, он не морщился, не дергал плечом и не опускал
глаза — он улыбался своим мыслям. Взрослым каза-
лось, что мальчишка насмехается над их словами. Они
теряли самообладание, надрывали голоса. Но Селюже-
нок был надежно защищен от их гнева своей невозмути-
мостью.
Чаще всего Селюженок молчал. Это был надежный
способ самообороны. Но если он и выдавливал из себя
слово, то его ответы были односложными, лишенными
настоящего смысла.
— Ты зачем взял у Брусничкиной зубную щетку?
— Просто так.
— У тебя что, нет своей щетки?
— Есть.
— Так зачем тебе вторая щетка?
— Просто так.
103
После разговора с Селюженком даже самые уравно-
вешенные люди стучали кулаком по столу и хлопали
дверями. У этого дурного мальчишки была удивитель-
ная способность нагнетать в людях злость, портить
настроение и доказывать взрослым, что у них не в по-
рядке нервы.
Селюженок тащил все, что плохо лежало. Он хватал
ленточки для кос, карандаши, носовые платки, перочин-
ные ножи. Он был похож на сороку, которая несет в
свое гнездо ненужные для нее вещи. Сорочьим гнездом
была тумбочка Селюженка. Нет, он никогда не ел чужие
сладости и не присваивал деньги. Все, что попадалось
к нему в руки, оставалось без всякого применения и не
приносило ему никаких благ.
Никто не знал, что творится в душе у этого малень-
кого колючего человечка. Нельзя было определить, ве-
сел он или печален, доволен жизнью или обижен. Он
был всегда одним и тем же. С его лица не сходила глу-
поватая, лишенная всякого смысла улыбка. Он был
неразрешимой загадкой, задачкой, которая никогда не
сходится с ответом. Взрослые махнули на него рукой и
мечтали поскорей дожить до конца смены, чтобы навсе-
гда избавиться от этого уродца. Ребята подсмеивались
над Селюженком, когда он им досаждал, поколачивали,
но в общем относились к нему терпимо. А малыши,
завидев его, весело кричали:
— Селюженок-медвежонок! Селюженок-медвежонок!
Селюженок не сердился и не щелкал малышей по
выпуклым лбам. Он улыбался. И они принимали его
улыбку за чистую монету. Да так оно, возможно, и
было.
Чашу терпения взрослого населения пионерского ла-
геря переполнил случай с пластилином. В один прекрас-
ный день руководительница изокружка обнаружила, что
в студии пропал большой кусок зеленого пластилина:
весь запас кружка лепки. Сомнений не было: это мог
сделать только Селюженок.
Расстроенная Татьяна Павловна в отчаянии прибе-
жала к начальнику лагеря.
— Так больше нельзя!—быстро заговорила она, и
лицо ее покрылось красными пятнами.— На прошлой
неделе он вылил весь скипидар. Теперь — пластилин!
Надо что-то делать!
104
Татьяна Павловна не назвала имя похитителя плас-
тилина, но начальник лагеря безошибочно определил,
о ком шла речь.
— Позвать Селюженка!—крикнул он дежурному, и
настроение его сразу начало портиться.
Через несколько минут на пороге кабинета уже
стоял виновник очередного происшествия. Он стоял мол-
ча и смотрел на начальника невидящими глазами, слов-
но начальник был прозрачным и мальчик видел сквозь
него спинку стула.
— Селюженок!—В голосе начальника лагеря зву-
чали недобрые нотки.— Что ты молчишь? Отвечай, за-
чем ты взял пластилин?
— Я не брал,— спокойно ответил Селюженок.
— Покажи руки.
Мальчик охотно протянул руки.
— Разожми кулаки.
Селюженок разжал кулаки.
— Поверни ладошками вверх.
Селюженок выполнил и эту команду.
— Смотри! У тебя все руки в пластилине.
— Это не пластилин.
— А что это?
— Это-грязь.
— Ах вот оно что! Грязь. Завтра же я отправлю
тебя в город. Ясно?— И, не дожидаясь ответа, началь-
ник лагеря, в котором все внутри уже клокотало, почти
крикнул:— Иди!
Селюженок спокойно повернулся и как ни в чем не
бывало зашагал к двери.
— Селюженок!
Мальчик остановился и повернулся к начальнику.
— Я тебя в последний раз спрашиваю: ты брал
пластилин?
В этом вопросе не было никакого смысла. Все было
ясно. Просто начальнику хотелось добиться признания.
Селюженок молчал. Он стоял перед разгневанным
начальником и следил глазами за жирной блестящей
мухой, которая, проворно шевеля проволочными лапка-
ми, ползла по стене. В эту минуту у похитителя пласти-
лина не было более важного дела.
— Иди!—закричал начальник.
105
Он был в общем неплохим человеком, но этот Селю-
женок пробуждал в нем зверя.
Селюженок попрощался глазами с мухой и напра-
вился к двери.
Он спал крепко, как обычно спят люди с чистой
совестью. Он ложился на правый бок, поджимал ноги,
подворачивал под плечо одеяло, и не проходило пяти
минут, как начинал легонько посапывать. Во сне он
ничем не отличался от других ребят. Селюженок засы-
пал, и в лагере выключался источник беспокойства и
неприятностей. Взрослые облегченно вздыхали. Откро-
венно говоря, они были бы счастливы, если бы Селюже-
нок так и проспал до конца смены. Как спящая царевна.
Он спал на одном боку до тех пор, пока медный горн
хриплым, словно со сна, голосом не пел подъем. Тогда
Селюженок вскакивал на ноги и, как стрела, выпущен-
ная из лука, устремлялся вперед, навстречу новым зло-
ключениям.
В эту ночь, в нарушение всех правил, Селюженок
вдруг проснулся. Не тревожные думы подняли среди
ночи похитителя пластилина. Он проснулся от свиста.
Мальчик повернулся на другой бок и натянул одеяло
на голову. Свист не прекращался. Он, как пуля, проби-
вал тоненькое одеяло и не давал спать.
Селюженок сел на постели и огляделся. Никого ря-
дом не было. Все ребята крепко спали. А свист не ути-
хал. Это был не простой свист. Если вложить в рот
четыре пальца или сложить губы трубочкой, так не
засвистишь.
Свист то замирал, то звучал с новой силой. В нем
билась и клокотала картавая горошина. А порой слы-
шалось частое пощелкивание, будто кто-то рубил свист
на мелкие кусочки.
Это пели соловьи.
Селюженок рассердился на птиц, которые не давали
ему спать. Он на ощупь отыскал брюки, натянул их и
бесшумно подошел к окну. В кармане лежал тяжелый
камень. Селюженок зажал его в кулак и легко перемах-
нул через подоконник.
Соловьиный оркестр умолк. Теперь пел только один
соловей. К нему с камнем в руке шел Селюженок.
Звезд не было видно, и казалось, что в темноте небо
106
опустилось и прилегло на землю. Селюженок чувство-
вал на щеке влажное прикосновение неба и его озноб-
ный холодок. Он вдохнул поглубже и весь наполнился
свежестью. Это потому, что он дышал небом.
Осторожно переставляя босые ноги, мальчик с кам-
нем в руке шел на соловьиный свист. Теперь соловей
пел так громко, что было удивительно, как он не разбудил
всех ребят. Селюженок подошел к дереву и запрокинул
голову. Напрягая зрение, он стал всматриваться в гу-
стые темные ветки. Соловей пел рядом, но его не было
видно, словно он надел шапку-невидимку. Звуки падали
из его горлышка чистыми, хрустальными каплями. И хо-
телось подставить руку, чтобы поймать хоть одну такую
каплю. Поющие капли сливались в одну серебристую
нить, которая тянулась к разбуженному мальчику.
Селюженок стоял под деревом затаив дыхание. Он
забыл про камень и не шевелился, потому что боялся
неосторожным движением порвать серебряную нить.
Вокруг него было темное небо. Наверное, небо держит-
ся на звездах, как на гвоздях. А когда звезд нету, оно
опускается на землю.
Он стоял до тех пор, пока краешек неба не стал
светлеть. Соловей разбудил мальчика, а сам уснул. Но
его свист все еще звенел в ушах, похожих на ручки
сахарницы. Может быть, Селюженок выучил соловьи-
ную песню наизусть и теперь напевает сам себе?
Селюженок обрадовался рассвету: теперь ему удаст-
ся хоть взглянуть на соловья. Но сколько он ни вгля-
дывался в сплетение ветвей, увидеть соловья так и не
смог.
Он вспомнил о камне и почувствовал, что камень в
его кулаке потеплел и стал мягким. Он разжал кулак и
удивился: это был вовсе не камень, а кусок зеленого
похищенного пластилина. Остаток. Селюженок взвесил
его на ладони и стал мять. Пластилин стал совсем
податливым. И мальчику неожиданно пришло в голову
слепить соловья. Он принялся за дело. Сначала его
пальцы были неловкими, деревянными, но постепенно
потеплели, разошлись и стали передавать пластилину
то, что им приказывал мальчик.
Он лепил соловья таким, каким, ему казалось, дол-
жен быть исполнитель беспокойных ночных песен. Соло-
107
вей оживал в руках мальчика. Он был зеленым. У него
была узкая голова и большие распростертые крылья.
Селюженок посмотрел на соловья и улыбнулся. Ему
показалось, что он сделал открытие — своими руками
создал птицу-певца, и она молчит лишь потому, что
время песен прошло и небо поднялось с земли высоко,
до самых облаков.
Утром Селюженок появился в дверях художествен’
пой студии. Он робко переступил порог этого маленько-
го пионерского храма искусств и лицом к лицу столкнул-
ся с Татьяной Павловной. Увидев незваного гостя,
Татьяна Павловна строго сдвинула брови и недовольно
спросила:
—- Селюженок? Что тебе надо?
Мальчик молчал. Он держал руку за спиной и смот-
рел в землю. Ему ничего не нужно было. Он стоял и
молчал.
— Ты пришел извиниться? — пыталась догадаться
преподавательница рисования.
Селюженок покачал головой. Он пришел совсем за
другим.
Татьяна Павловна пожала плечами. Она уже была
готова взять маленького похитителя пластилина за пле-
чи и вытолкать из мастерской, но тут Селюженок поднял
глаза и протянул ей руку. В руке лежало какое-то стран
ное существо с узкой головой и большими крыльями.
— Что это?—спросила Татьяна Павловна.
— Соловей,— ответил мальчик.
Татьяне Павловне захотелось засмеяться над этим
зеленым уродцем. Но она сдержалась. Она взяла из рук
мальчика его работу и стала ее внимательно рассматри-
вать, словно искала в ней то, что было незаметно с пер-
вого взгляда. А Селюженок следил за каждым ее дви-
жением.
— Это твоя скульптура?—тихо спросила преподава-
тельница.
— Это не скульптура, это соловей,— отозвался маль-
чик и, заглядывая в глаза Татьяне Павловне, робко
спросил:—Что, не похож?
Татьяна Павловна испытующе посмотрела на маль-
чика и ответила:
— Похож. Очень похож! А ты видел соловья?
108
Селюженок запнулся. Сперва он по привычке решил
соврать: видел! Но потом ему захотелось сказать правду.
— Нет, не видел... Я слышал соловья.
— Слышал?
— Ну да, слышал. Сегодня ночью.
Татьяна Павловна все еще не могла разобраться, что
же все-таки произошло с этим мальчиком, чье имя
внушало всем лагерным работникам неприязнь. Но она
догадывалась, что ночные соловьи разбудили в душе
мальчика нечто такое, о чем никто даже и не подозре-
вал. Она сказала:
— Ты приходи, будешь учиться лепить.
Селюженок кивнул головой. И вдруг на его лице
отразилась чуть заметная тень расстройства.
— Так пластилина-то нет,— сказал он.
— А мы будем лепить из глины.
Селюженок оживился.
— Глины я вам натаскаю,— сказал он,— целую гору!
— Вот и хорошо,— подхватила Татьяна Павловна.
Уже уходя из мастерской, Селюженок вдруг обер-
нулся и сказал:
— Только меня, наверное, выгонят.
Эти слова поставили Татьяну Павловну в тупик, но
она быстро нашлась:
— Посмотрим. Может быть, еще не выгонят.
— Тогда приду,— сказал Селюженок.— И глины
притащу.
Когда Селюженок ушел, Татьяна Павловна взяла со
стола зеленого уродца-соловья и направилась к началь-
нику лагеря.
— Что это?—спросил начальник лагеря, рассматри-
вая скульптуру.— Что это за художество?
— Это соловей.
Начальник рассмеялся.
— Хорош соловей! Это зеленая ворона.
— Это соловей,— упрямо сказала Татьяна Павлов-
на.— Его вылепил Селюженок.
При одном имени Селюженка начальник лагеря по-
морщился.
— Пусть он забирает своего зеленого соловья-воро-
ну и отправляется. Завтра наш завхоз поедет в город и
захватит его
Татьяна Павловна села на стул.
109
— Отправить его мы еще успеем.
— Постойте.— Начальник лагеря встал со стула.—
Кто, как не вы, настаивал на том, чтобы его отправить
домой? Я не ошибаюсь?
— Нет, не ошибаетесь. И все-таки я прошу оставить
Селюженка.
— Что, у него открылся талант?—спросил началь-
ник и недоверчиво покосился на зеленого соловья.
Татьяна Павловна покачала головой.
— Таланта у него никакого. Но сегодня ночью его
разбудили соловьи, и я думаю... Я обещаю вам, что он
больше не утащит ни булавки.
— Педагогический опыт?
— Допустим.
Никто не заметил, что произошло с Селюженком с
той ночи, когда его разбудили соловьи. Вот если бы у
него изменились глаза, или нос, или уши, это бы сразу
заметили. А когда меняется что-то внутри, разглядеть
трудно.
По-прежнему юркий головастик носился по всему ла-
герю. И по-прежнему в него, как колья, летели воскли-
цательные знаки:
— Селюженок, убери ботинок с постели!
— Селюженок, не наступай на пятки!
— Селюженок, кто тебе разрешил трубить в горн!..
А малыши по-прежнему кричали ему вслед:
— Селюженок-медвежонок! Селюженок-медвежонок!
Да, собственно, ничего в нем и не изменилось, просто
у человека появился в жизни интерес. Ему расхотелось
тащить все, что попадается под руки. Он сбросил с себя
старую, негодную шкурку и стал самим собой.
Ежедневно он приходил в художественную студию,
садился за стол и лепил какие-то странные, несуразные
существа, которые оказывались собаками, оленями,
серенькими козликами.
Вскоре в лагере открылась выставка работ юных
художников. Любопытные зрители толпились в художе-
ственной студии и нетерпеливо разглядывали работы
своих товарищей. Никогда еще в студии не было так
шумно. Здесь вспыхивали горячие споры об искусстве,
и каждый отряд стоял насмерть за своих художников.
И вдруг кто-то крикнул:
ПО
— Смотрите, Селюженок вылепил соловья!
Это известие произвело на ребят ошеломляющее впе-
чатление. Все сразу изменили своим любимым худож-
никам и бросились к столу, где на фанерной подставке
стояло зеленое существо с огромными крыльями. Под
этим странным существом было написано: «Соловей».
Вылепил Селюженок из 4-го отряда». Ребята сбились
в кучу. Всем не терпелось посмотреть, что такое мог
вылепить похититель пластилина.
Зрители рассматривали селюженковского соловья,
как величайшее чудо, как смелое открытие, как находку
далекой древности.
— Похож!— кричали одни.— Правда, похож?
— Как живой!—откликались другие.
Никто из ребят никогда не видел живого соловья,
и все были убеждены, что соловей в самом деле зеленый
и большекрылый. Кто-то попробовал было возразить:
— Не похож. Я видел соловья.
Но на него обрушилось, сразу несколько добро-
вольных защитников Селюженка.
— Врешь ты все! Никто не видел соловья... кроме
Селюженка.
Когда первая волна восторгов и споров улеглась,
кто-то произнес:
— Говорили, что он стащил пластилин, а он соловья
лепил. Наврали на человека.
Селюженок стоял в сторонке и с удивлением слушал,
что говорят ребята, и ему казалось, что речь идет не о
нем, а совсем о другом Селюженке. И тот, другой, нра-
вился ему все больше.
В эту ночь его снова разбудил соловьиный свист.
Мальчик открыл глаза и долго слушал, как выводит
свои серебристые трели невидимый певец. И вдруг он
подумал, что нечестно слушать соловья одному. Он
соскользнул с постели и одного за другим стал будить
ребят.
— Слушай, вставай. Соловей поет!.. Слушай, слу-
шай...
Не прошло и пяти минут, как вся палата уже была
на ногах. Ребята теснились у окон и, сдерживая дыха-
ние, слушали соловья. Никто, естественно, не мог раз-
глядеть в темноте поющей птицы, но все почему-то
111
представляли себе соловья зеленым и большекрылым.
1\ самому Селюженку казалось, что это ожил и запел
его соловей, слепленный бессонной ночью из похищен-
ного пластилина.
ДОСТАВАЛА СЛАДОСТЕЙ
Он умел ходить на руках и поэтому пользовался
всеобщим уважением. Все мальчишки нашего двора
втайне завидовали ему, но никто не осмеливался плохо
отозваться о нем или посмеяться. Потому что он обла-
дал еще одним удивительным свойством — он был до-
ставалой сладостей.
Почему я вспомнила о нем сегодня, с трудом подняв-
шись на третий этаж, не в силах преодолеть затянув-
шуюся одышку? Я упала на диван и долго лежала,
глотая воздух сухим ртом. Я чувствовала себя беззащит-
ной перед своей болезнью и в поисках поддержки
наткнулась в памяти на доставалу сладостей. Он сразу
завладел моими мыслями, и я поймала себя на том, что
лежу одна и улыбаюсь. Чему я улыбаюсь? Ах да, он был
доставалой сладостей, но сам никогда не ел ни конфет,
ни варенья. У него от сладкого появлялась золотуха.
Обволакивала веки липкими ободками. Глаза превра-
щались в щелочки. Он очень мучался... Но при этом у
него была удивительная способность доставать сладости
для других.
Помню, во дворе раздался страшный грохот. Это он
катил по булыжникам бочку из-под яблочного повидла.
Бочка была пустая, но внутри на стенках оставалось
еще много добра. Мы окружили бочку и заглядывали
в нее, как в колодец.
— Годится?
Доставала сладостей обвел всех торжествующим
взглядом.
— Годится!—ответили мы.
112
— Тогда лопайте!
И сразу десяток рук опустилось в бочку. Повидло
было прокисшим, но это никого не останавливало — ели
'за милую душу. Ели пальцами, стараясь как можно
глубже запустить руку, чтобы достать со дна: там было
больше остатков. Иногда попадались яблочные косточ-
ки. Наш друг тоже заглядывал в бочку. Но не ел. Толь-
ко вдыхал в себя аппетитный кислый аромат и испод-
лобья посматривал на нас. А мы и не замечали, что он
не ест...
Ну и наелись же мы тогда повидла! Целый день
потом пили.
А в другой раз он собрал нас у старого тополя:
— Постный сахар годится?
— Годится!—естественно, ответили мы.
— Тогда надо наносить дров в четвертую квартиру.
— Годится!
Мы отправились носить дрова. Что нам стоило! Мы
были готовы перенести в четвертую квартиру все дрова
из всех сараев.
Еще он умел ходить колесом. Но колесом ходили и
другие, а на руках только он — доставала сладостей.
Время было тяжелое, послевоенное. Мы ничего хороше-
го не видели. Он выручал нас. Сам из-за своей золотухи
в рот не брал сладкого, но, когда перепадало другим,
радовался. Мы ничего не понимали, считали его чуда-
ком. Подумаешь, золотуха! Мы говорили:
— Ешь, чудак человек!
Он мотал головой и снова отправлялся на поиски
месторождений сладкого. У него была способность на-
ходить то, что ищет.
— Ребята, у Пузыря в кармане кулек с леденцами.
Годится?
— Годится! Но Пузырь не даст.
— Мы потрясем Пузыря. Он на лестнице ест втихо-
молку. Пошли!
Мы отправлялись на лестницу трясти Пузыря. И сно-
ва у каждого из нас сладко оттопыривалась щека.
В те дни у меня появилась одышка. Врачи определи-
ли порок сердца. Велели лечь.
Он пришел ко мне и спрашивает:
— Где у тебя болит? Покажи!
Я показала.
5 Ьл.ульник
113
Он ткнул себя пальцем в грудь:
— Что там болит?
— Сердце.
Он снова ткнул себе пальцем и прислушался, словно
хотел почувствовать мою боль у себя. Я с любопытством
смотрела на него.
— У меня там ничего не болит,— разочарованно ска-
зал он.— Может быть, у меня нет сердца?
— Есть! Сердце у всех есть. Даже у Пузыря.
— А какое сердце, знаешь?
— Знаю! Как червонный туз.
Он понимающе кивнул головой:
— Красивое сердечко.
— У меня оно некрасивое,— вздохнула я.
— Почему у тебя некрасивое?
— Потому что болит.
Он сочувственно посмотрел на меня и спросил:
— Хочешь конфет?
— Ничего я не хочу!
Его лицо вытянулось, стало серьезным.
— Раз не хочешь — значит, тебе действительно пло-
хо. Но я тебя вылечу!
— Дурачок,— сказала я.
Он не обиделся. Мы вообще тогда не обижались на
слова. Он сказал:
— Вылечу! Я достану тебе такое лекарство, которое
вылечивает даже раненых. Ты еще захочешь конфет.
Я наношу дров в четвертую квартиру и принесу тебе
соевых батончиков. Три штуки. А может быть, пять.
Несколько дней он пропадал, и я решила, что доста-
вала сладостей забыл о своем обещании. Нет! Оказы-
вается, он бегал по городу в поисках лекарства. Был
уверен, что от каждой болезни существует лекарство и
нет на свете неизлечимых болезней, хотя сам никак не
мог вылечиться от золотухи. Не ел сладкого, а глаза у
него всегда были воспалены — болели. Но это не оста-
навливало его. Он обошел ради меня все аптеки, и везде
ему говорили одно и то же: «Нет лекарства от порока
сердца». Он не верил. Искал. Это оказалось потруднее,
чем прикатить бочку из-под яблочного повидла или по-
трясти скупого Пузыря.
Мой дружок терпел неудачи, но не сдавался. Он го-
ворил мне:
114
— Жди! Я что-нибудь придумаю. У тебя будет здо-
ровое сердце — красивое, как червонный туз.
Я верила в его могущество, потому что человек,
который в трудное время доставал для товарищей сла-
дости, мог достать что угодно — даже лекарство от по-
рока сердца.
Болезнь то отпускала меня, то неожиданно подкра-
дывалась, и сердце громко стучало — подавало сигнал
тревоги. Никто из ребят не слышал этот сигнал. А он
слышал...
Шло время. Мы становились старше. Доставала сла-
достей больше не вспоминал о лекарстве. Но каждый
раз, встречая меня, он говорил:
— Жди! Я что-нибудь придумаю.
И мне казалось, что все время он только и думает,
как исцелить меня.
И однажды он пришел. Я не узнала своего дружка:
его лицо стало серым, а под глазами появились голубые,
словно нарисованные кисточкой, ободки. Он дышал
тяжело, как при пороке сердца. Я сразу заметила эту
перемену и спросила:
— Что с тобой?
— Ты будешь здорова.,— был ответ.— Тебя вылечат.
Я дал им за это кровь.
— Какую кровь?
— Обыкновенную. Свою.
Он закатал рукав, и я увидела на сгибе руки бурое
пятно йода.
— Что это? Рана?
Он усмехнулся:
— Отсюда брали кровь.
— Зачем?
— В больнице мне сказали: «Можешь выручить?»
Я спросил: «Что для этого надо?» Они сказали: «Кровь
можешь дать?» Я сказал: «Дам!» Я понял, что если я их
выручу — они выручат меня, то есть тебя.— Тут он улыб-
нулся и доверительно сказал:—Я наврал им, что мне
восемнадцать лет.
В тот день доставала сладостей был большим и силь-
ным, самым лучшим из мальчишек. Я смотрела на него
как на героя.
— Тебе было больно?
— Ничуть!
115
— Врешь! Тебе было больно.
Тогда, чтобы доказать, что ему было не больно,
он решил пройти на руках. Он умел ходить на руках, но
на этот раз у него ничего не вышло: потерял равновесие
и упал.
— Вот видишь!—прошептала я.—Из-за меня ты по-
терял здоровье.
Он ничего не ответил. Медленно поднялся с пола.
И долго тер затылок.
— В больнице мне сказали, что я спас какую-то дев-
чонку. Почему же я не могу спасти тебя?
— Можешь! Спасешь!—убежденно сказала я.— Ты
уже спас меня. У меня больше нет одышки.
Я безгранично верила в него, и в моей вере не было
даже крохотной щелочки, в которую могло бы проник-
нуть сомнение.
Помню, на другой день я встала с постели.
Где теперь мой маленький друг? Может быть, он
давно уже не существует — изменился или просто стал
взрослым, а взрослые быстро утрачивают способность
верить в невозможное.
Но в моей памяти он жив — могущественный и благо-
родный доставала сладостей. И когда мне становится
тяжко, я зову его, и он тут же оказывается рядом, чтобы
спасти меня, когда бессильны врачи и лекарства.
МИШИН УЧИТЕЛЬ
По зимней дорожке неторопливо шагал почтовый го-
лубь, а за ним на снегу тянулись следы — цепочка
маленьких самолетиков с короткими, отведенными назад
крыльями. Кто-то свистнул. Голубь взлетел. А само-
летики так и не смогли подняться в воздух. Остались
на снегу.
116
Миша присел на корточки и, чтобы помочь взлететь
первому самолетику, подул на него изо всех сил. Само
летик не шевельнулся. Тогда Миша протянул руку и
сгреб его вместе со снегом. И крепко сжал в кулак.
А когда разжал пальцы, самолетика уже не было. На
ладони лежал обыкновенный снежок. Зато высоко в не-
бе слышался густой гул — это, серебрясь на солнце,
летел маленький настоящий самолет. Миша не засмеял-
ся и не закричал от радости. Он смотрел в небо широко
раскрытыми глазами. Ладошка горела, а между паль-
цами просачивались ледяные капли — это таял ма-
ленький снежный аэродром, с которого взлетел само-
летик.
И вдруг совсем близко послышался знакомый голос:
— Летит?
Рядом с Мишей стоял худой мальчик с вытянутым
лицом. Очки, как сделанные из проволоки, косо сидели
на покрасневшем от холода носу. Но мальчик не заме-
чал, что очки сваливаются с носа.
— Летит?
— Летит,— ответил Миша и сделал несколько шагов
вслед за самолетом. И почувствовал, что одна нога тя-
желее другой. Посмотрел вниз, чтобы выяснить, в чем
дело. И выяснил: на одном валенке не было га-
лоши. Может быть, она улетела с маленьким самоле-
тиком?
Миша оглянулся и увидел на снегу ровную цепочку
следов почтового голубя — самолетики как бы ожидали
своей очереди.
— Тут еще много,— сказал он мальчику с вытяну-
тым лицом.— На них могут наступить.
— Они все улетят,— был ответ.— Они ждут сигнала.
Миша поверил, кивнул головой. И отправился искать
галошу. Может быть, она и не улетела, а лежит где-ни-
будь на дорожке.
Миша был тихим мальчиком. Никогда не ревел. Ел
то, что ему давали. И, ложась спать, не требовал, чтобы
безголосые родители распевали ему колыбельные песни.
А когда болел и к нему приходил врач со шприцем, не
хныкал, не забивался в угол, а сам снимал штанишки
и подставлял что полагается под острую иглу.
И хотя, кроме имени, у Миши не было ничего от
настоящего медведя, ложась спать, он говорил маме:
117
— Сделай мне берлогу.
Мама искусно складывала одеяло, и оно превраща-
лось в берлогу. Миша забирался и тут же «впадал в
спячку»—засыпал. Спал он по-медвежьи — крепко. На
одном боку.
С некоторых пор с Мишей стали происходить стран-
ные вещи.
Однажды, гуляя во дворе, он крикнул маме:
— Король дома?
Мама не поняла, о каком короле идет речь, и крикну-
ла из окна:
— Какой король?
Миша удивленно посмотрел на маму и терпеливо
повторил вопрос:
— Король дома?
Тогда мама крикнула:
— Дома! Дома король!
— А что делает королева?—спросил Миша.
Что может делать королева в обыкновенной двух-
комнатной квартире? Мама мыла посуду. Она ответила:
— Королева моет посуду.
Миша остался доволен ответом. Но через некоторое
время он спросил:
— Карета подана?
— Карета подана. Король уехал. Королева спит,—
как по написанному ответила мама.
С тех пор Миша стал задавать массу необычных для
обычной жизни вопросов. Был ли королевский врач?
Что приготовил на обед королевский повар? Не бегала
ли принцесса босиком? Не началась ли война с сосед-
ним королевством?
Миша превратил свой дом в сказочное королевство.
А все его близкие и знакомые стали жителями королев-
ства.
— Кто же ты сам, Миша?—спросила его однажды
мама.
Мальчик очень удивился, что мама не знает, кто ее
собственный сын, и ответил:
— Я... королевский сапожник. Я шью сапоги-скоро-
ходы.
При этом Миша полез под кровать и вытащил отту-
да старые болотные сапоги, в которых дедушка в неза-
памятные времена хаживал на охоту. Они действитель-
118
но были похожи на сапоги-скороходы, только на голе-
нищах у них не хватало маленьких крылышков.
Молчаливый Миша редко рассказывал о новостях в
королевстве. Только однажды он подошел к маме,
посмотрел на нее печальными глазами и сказал:
— Король умер. Королева в горе. Я больше не коро-
левский сапожник.
— Кто же ты, Миша?—тихо спросила мама.
— Я друг Серой Совы,— ответил Миша, и в его
голосе прозвучала обида: как это мама не заметила, что
он больше не королевский сапожник?
— Ты друг птицы?—спросила мама.
— Серая Сова не птица. Это человек с перьями иа
голове. А его друзья — бобры. Я буду грызть зубами
деревья и строить себе хатку.
— Значит, ты теперь бобер?
— Бобер.
— А я, выходит, бобриха?
— Ты — мама,—был ответ.
Теперь Миша задавал совсем другие вопросы. Он
кричал со двора:
— Как наша хатка? Не снесла ли река плотину?
И мама терпеливо отвечала, что хатка стоит на ме-
сте, а реке не под силу сдвинуть могучие бревна, Кото-
рые перегородили ее русло.
Миша кричал со двора:
— Если бобрята будут шалить, я оставлю их без
свежей рыбы!
Несколько раз мама находила под Мишиной кро-
ватью поленья. Вероятно, это были деревья, которые
бобер Миша собирался грызть зубами. Следов Миши-
ных зубов на поленьях не было. Зато все карандаши в
доме были кем-то разгрызены: бобер точил зубы.
Но неожиданно царство бобров тоже перестало су-
ществовать.
Все началось с того, что однажды, придя домой, Ми-
ша спросил:
— Куда это подевался мой старый мушкет?
— Ты уже не бобер?—спросила мама.
— Не называй меня бобром,— обиделся Миша.
— Как же теперь называть тебя?
— Я — мушкетер!—с холодной гордостью отозвался
сын.
119
— Ты знаешь, что такое мушкетер?
— Знаю,— уверенно ответил мальчик.— Мушкетер
берет врага на мушку. Я пошел на пост. Задай овса
моему коню.
Теперь вместо болотных сапог и березовых полешек
мама обнаружила под кроватью сына банку с молотым ко-
фе. Она не знала, что это была пороховница с порохом.
Однажды за целый день Миша не проронил ни слова.
Мама даже встревожилась: не заболел ли мальчик?
— Что с тобой, Миша?—спросила она сына.
— Ничего,— ответил мальчик.— Меня больше нет.
Я погиб в бою.
— С мушкетом в руке?—спросила мама.
— Нет, с винтовкой. А на пилотке у меня была крас-
ная звездочка.
Мама задумчиво посмотрела на сына и покачала го-
ловой:
— Во что ты играешь?
— Я не играю... Я погиб в бою... Нас окружили
фашисты.
Миша замолчал: он и так оказался чересчур разго-
ворчивым для погибшего в бою.
Прошло довольно много времени с того дня, как
маленький Миша, «окруженный фашистами, погиб в
бою». Никто не знал, что творилось в душе у мальчика
в эти дни. Никто не понимал его и не старался понять.
Только один человек переживал «гибель друга». Это
был худощавый мальчик с вытянутым лицом и красным
от холода носом, на котором чудом держались прово-
лочные очки.
Миша приходил к нему и спрашивал:
— Я еще погиб?.. Я еще долго погиб?
И мальчик в проволочных очках отвечал:
— Ты еще погиб. Но мы что-нибудь придумаем.
И однажды придумал — сказал:
— Ты уже не погиб!
Молчаливый Миша обрадовался:
— Я опять живой?
— Ты опять живой!—ответил его старший друг, шер-
шавой варежкой потирая замерзший нос.
— Что же делать, если я опять живой?
— Готовься к полету!—сказал друг, и в это мгнове-
ние очки соскользнули с его носа и упали в снег.
120
Он присел на корточки и стал шарить рукой, чтобы
найти очки, которые он без очков не видел. А Миша
видел очки без очков — нагнулся, поднял их и протянул
Другу.
Тот подышал на стекла. Протер варежкой. И надел
на нос. Как всегда, немного косо. Но в очках он сразу
почувствовал себя уверенно и снова повторил:
— Готовься к полету!
— Я готов!—отозвался Миша.— Мы полетим на
маленьком самолетике?
— Мы полетим на космическом корабле!
Миша не мог выговорить трудное взрослое слово
«космический». Он сказал:
— Полетим на корабле.
— Может быть, нам удастся совершить мягкую по-
садку на Луне.
— Удастся!—поддержал уверенность друга Миша.—
Я принесу подушку. У нас есть большая, мягкая...
— Не надо... подушек!—сказал старший друг.— На
Луне даже самая жесткая подушка кажется мягкой.
— Луна мягкая?—смекнул Миша.
— Мягкая. И холодная.
— Мы наденем валенки.
— Она холодная, но и горячая.
— Интересная Луна,— сказал Миша.— Ночью мы
будем ходить в валенках, а днем бегать босиком. Поле-
тим же скорее!
И они полетели.
Теперь, на удивление маме, Миша говорил:
— Сегодня я буду спать в валенках.
Мама испуганно смотрела на Мишу. Но тот успокаи-
вал ее:
— Только три дня.
— А через три дня?
— Мы вернемся... И еще дай мне зонтик.
— Ты будешь спать под зонтиком?
— Может быть, мы прилунимся в Море Дождей.
Мама облегченно вздохнула и улыбнулась. Но Миша
оставался серьезным.
— Если мы не вернемся,— сказал он,— тогда...
— Что тогда?
Миша задумался. Потом тихо сказал маме:
121
— Тогда... ты не плачь.— И стал считать почему-то
в обратную сторону:— Пять, четыре, три, два...
Вскоре после полета на Луну Миша превратился
в школьника. Теперь, уходя гулять во двор, он гово-
рил:
— Я пошел в школу.
А возвращаясь домой, радостно сообщал:
— Я схватил кол!
— Какой кол?
На этот вопрос он затруднялся ответить. Он говорил:
— Купи мне тетрадь, я буду делать уроки. Это учи-
тель «схватил мне кол»!
Неожиданно на всех соседних заборах появилась
огромная надпись, сделанная мелом. Большими неров-
ными буквами были выведены два слова:
«Миша пишет».
На заборе склада, на заборе новой шахты метро, на
заборе завода, на заборе стройки — всюду была написа-
на радостная новость:
«Миша пишет».
И след почтового голубя, превратившийся в малень-
кий самолетик, высоко в небе писал большими, хотя и
невидимыми буквами:
«Миша пишет».
Его научил писать необычный учитель в очках, косо
сидящих на красном от холода носу. Кроме того, этот
учитель научил Мишу тачать настоящие сапоги-скоро-
ходы, строить бобровые хатки, обращаться с мушкетом,
идти в бой в пилотке с красной звездочкой и шагать по
Лунел валенках, с которых спадают галоши,
ГДЕ СТОЯЛА БАТАРЕЯ
Сперва я не понял, что заставило меня остановиться
перед зданием школы и внимательно посмотреть по сто-
ронам. Вокруг стояли новые, необжитые дома. Подошвы
122
пешеходов не успели обшаркать асфальт, и он был
свежим и пористым, как чернозем. Хотя школа стояла
в новорожденном районе Москвы и я попал сюда впер-
вые, но по каким-то неуловимым признакам мне показа-
лось, что я давно знаю это место.
Я остановил бегущего парня, который чуть не сбил
меня с ног, и спросил:
— Что здесь было раньше?
— Пустырь,— нехотя ответил он, собираясь бежать.
— А до пустыря?
— Барак.
— А до барака?
Он на мгновение задумался, метнул в меня недоволь-
ный взгляд и выпалил:
— Ничего не было!
Парень заторопился дальше, а я остался перед зда-
нием школы. Память напряженно работала, будто реша-
ла сложную задачу со многими неизвестными. И тут
мой взгляд задержался на группе старых тополей. Они
стояли в конце улицы, метрах в двухстах от школы.
Могучие стволы с темной ребристой корой клонились к
земле, а от клейкой зелени долетал острый горьковатый
аромат. Эти тополя заставили меня вздрогнуть. Возле
них рухнул сбитый самолет. Один тополь обгорел. Мы
его спилили. На дрова. Я вспомнил. Здесь была шестая
батарея.
Я сразу представил себе огневую позицию. Четыре
круглых орудийных окопа, расположенных трапецией.
Невысокие насыпи брустверов. И длинные зеленые
стволы зенитных орудий, которые то поднимались над
землей, тд уходили под землю. Я представил себе низ-
кие дымы землянок. Холодную тяжесть снарядов. Уда-
ры в медную гильзу перед боем...
В школе зазвенел звонок. Его дребезжащий звук
вырвался наружу, и сразу послышался топот бегущих
ног. Так мы бежали по тревоге к орудиям.
Здесь тогда не было ни школы, ни домов, ни асфаль-
тов. Было поле. Вдалеке лес. А большие старые топо-
ля— они и тогда были старыми — стояли на краю
деревни. Еще за нашей спиной протянулся глубокий
противотанковый ров. Батарея стояла впереди. Наши
орудия были без колес — лафетов на колесах не хвата-
ло, а в расчеты командования не входило какое-либо
123
передвижение орудий противовоздушной обороны. Но
мы двигались. Мы с неимоверной быстротой приближа-
лись к фронту. Вернее, фронт приближался к нам. Каж-
дый вечер в одно и то же время прилетали «юнкерсы»,
и начинался бой. От выстрелов большие тяжелые пушки
вздрагивали всем телом, как живые, а длинные стволы
откатывались с поразительной легкостью. Иногда вбли-
зи батареи падали бомбы, иногда с неба устремлялись
раскаленные нити трассирующих пуль. Фашисты огры-
зались.
Я медленно обошел здание школы. Деревни не было
в помине. А лес, может быть, и был, но его скрыли новые
дома. Я узнавал самую землю, на которой была огневая
позиция шестой батареи. Землю и небо — голубое, в ред-
ких волнообразных облаках. Небо было таким же,
только рядом с облаками часто чернели клубки раз-
рывов.
В ноябре сорок первого года фронт вплотную подо-
шел к нашей батарее. Настал момент, когда между на-
ми и фашистами не осталось ни одной роты, ни одного
нашего бойца. Теперь немцы летали без всякого распи-
сания— днем и ночью. В перерывах между налетами
мы настороженно присматривались к лесу. Оттуда в
любую минуту могли выползти немецкие танки. Что
может сделать одинокая зенитная батарея против лави-
ны танков? Но у нас на брустверах лежали ящики с
бронебойными снарядами. И за нами была Москва.
Мы были очень молодыми? Мы привыкли к мысли,
что кто-то старший позаботится о нас, выручит в труд-
ную минуту, не даст погибнуть в неравном бою нам и
нашим орудиям. И мы не ошиблись в своей юношеской
вере. Однажды на исходе холодного дня над нами про-
летели странные огненные снаряды. Впереди раздался
нарастающий грохот. Вспыхнуло небо. Это у старых
тополей ударили «катюши». Они били через наши голо-
вы по немцам...
Я ходил по школьному двору и все пытался отыскать
место, где стояло мое орудие. Теперь ни асфальт, ни
клумбы, ни само здание школы не могли мне помешать
отыскать окоп моего орудия. Я ориентировался по ста-
рым тополям и чувствовал себя уверенно. Окоп оказал-
ся под крыльцом школы.
Я стал медленно подниматься по ступеням, а на-
124
встречу мне бежали ребята. Они спешили поскорей очу-
титься на улице и не обращали на меня никакого вни-
мания. Они не знали про шестую батарею и про окоп
моего орудия. Я поднялся на крыльцо и увидел себя мо-
лоденьким красноармейцем в короткой шинели с поле-
выми петлицами, в серой шапке из «рыбьего меха», со
звездочкой над переносицей.
А дети не замечали красноармейца. Они бежали на
улицу. Они не знали, что бегут по брустверу орудийного
окопа.
Я вспомнил, как после победы увозили орудия. Они
трудно подавались, словно за годы войны пустили кор-
ни, вросли в землю. Круглые орудийные окопы долго
стояли пустыми. Они были похожи на гнезда, из кото-
рых улетели птицы. А я еще долгое время по-своему
ориентировался в Москве. Когда мне называли адрес,
в уме прикидывал: «Это возле первой батареи», «это
где-то в районе седьмой». Постепенно окопы, похожие
на гнезда, стали исчезать. Их сровняли с землей.
Потом огневые позиции превратились в строитель-
ные площадки. Вместо стволов зениток над ними под-
нялись стрелы кранов. Снова стали рыть. На этот раз
котлованы. Но старая карта боевого порядка полка
долго оставалась в моей памяти. И часто, проезжая ми-
мо какой-нибудь бывшей батареи, я думал: «Пушек не
видно, потому что появились высокие дома, но если
обойти дома...»
Теперь, стоя на крыльце школы, построенной на
огневой позиции шестой батареи, я испытывал чувство
неловкости оттого, что не сразу признал свое старое
поле боя. Мне захотелось, чтобы отныне все знали: здесь
стояла шестая батарея. Я поймал за руку пробегавшего
мальчишку и спросил его:
— Ты знаешь, что здесь было раньше?
Он удивленно выкатил на меня глаза и сказал:
— Школа.
— Да нет!—почти крикнул я.— Здесь была шестая
батарея. Сто второго...
Он не понял меня и спросил:
— Шестая «А» или шестая «Б»?
Я растерянно посмотрел на мальчика, и он, видимо
желая помочь мне, сказал:
— Может быть, вы ищете сто вторую школу?
125
Мне захотелось сказать мальчику: «Я ищу не сто
вторую школу, а сто второй зенитно-артиллерийский
полк». Но я промолчал. Я промолчал, и мне стало стыд-
но своего молчания. Я сильнее сжал руку мальчика и
сказал:
— Здесь стояла моя батарея. Мы били по фашист-
ским самолетам, которые летели к Москве.
— Здесь?—Мальчик удивленно посмотрел на крыль-
цо и потрогал рукой перила.
— Да, да, здесь —Я почувствовал, что он не верит
мне.
Не может поверить, потому что в его представлении
на этом месте всегда стояла школа. И никакой шестой
батареи.
Я разжал руку. Мальчик убежал.
И я понял, что не смогу успокоиться, пока не сумею
убедить этого мальчика и всех его товарищей, что здесь
в годы войны стояла шестая батарея. И потому теперь
стоит школа.
СЕРДЦЕ ЗЕМЛИ
ч
Моей матери посвящаю
На границе марта и апреля небо наливается океан-
ской голубизной, а снег становится кристаллическим и
шуршит под ногами крупным береговым песком. Верх-
няя розоватая шкурка бересты лопнула и трепещет на
ветру, как папиросная бумага. Солнце слепит и, когда
ветер утихает, ласково припекает щеку. Но главное —
все вокруг заполняется крепким живым настоем про-
буждающейся земли. Этот настой кружит голову и, ко-
гда вдыхаешь его всей грудью, разливается по телу и
тайной радостью отдается в сердце. Ты чувствуешь, как
в тебе пробуждаются молодые силы и возвращают к
Лучшей поре жизни.
И ты вспоминаешь мать.
126
...Я запомнил свою мать седой и усталой. Дети нико-
гда не запоминают мать молодой, красивой, потому что
понимание красоты приходит позже, когда материнская
красота успевает увянуть.
Я запомнил свою мать седой и усталой, а говорят,
она была красива. Большие задумчивые глаза, в кото-
рых проступал свет сердца. Ровные темные брови, длин-
ные ресницы. На высокий лоб спадали дымчатые воло-
сы. Такой я видел ее на выцветшей фотографии — моло-
денькая сестра милосердия, красный крестик на белом
платке.
До сих пор слышу ее негромкий голос, неторопливые
шаги, ощущаю бережное прикосновение рук, шершавое
тепло платья на ее плече. Это не имеет отношения к воз-
расту — вечно.
Дети никогда не говорят матери о своей любви к ней.
Они даже не знают, как называется чувство, которое
все сильнее привязывает их к матери. В их понимании
это вообще не чувство, а что-то естественное и обяза-
тельное, как дыхание, утоление жажды.
Но в любви ребенка к матери есть свои золотые дни.
Я пережил их в раннем возрасте, когда впервые осознал,
что самый необходимый человек на свете — мама. Я не
отходил от нее ни на шаг. Боялся уснуть: вдруг она
уйдет. А когда просыпался, то первой моей мыслью бы-
ло: где мама? В те дни я стал маленьким рыцарем, а
мама была моей прекрасной дамой. Я размахивал дере-
вянной шпагой, готовый в любую минуту вступиться за
маму. Она чувствовала это. Она была счастлива.
Память не сохранила почти никаких подробностей
тех далеких дней. Я знаю об этом своем чувстве, потому
что оно до сих пор теплится во мне, не развеялось по
свету. И я берегу его, потому что без любви к матери в
сердце — холодная пустота.
...Женщина, которая слышит первый вздох своего
ребенка, и женщина, которая слышит его последний
вздох,— два разных человека. Разных —как счастье и
горе, добро и зло, жизнь и смерть. Но эти два человека
слились в одном великом существе, имя которому —
мать.
Я никогда не называл свою мать матерью, мамой.
У меня для нее было другое слово — «мамочка». Даже
став большим, я не мог изменить этому слову. Я пытал-
127
ся называть ее «мама», но с губ помимо моей воли
слетало все то же ласковое, детское — «мамочка». У ме-
ня отросли усы, появился бас. Я стеснялся этого слова
и на людях произносил его чуть слышно.
Последний раз я произнес его на мокрой от дождя
платформе, у красной солдатской теплушки, в давке,
под звуки тревожных гудков паровоза, под крик коман-
ды «по вагонам!». Я не знал, что навсегда прощаюсь с
матерью. Не знал, что с матерью вообще можно прос-
титься навсегда. Я шептал «мамочка» ей на ухо и, чтобы
никто не видел моих мужских слез, вытирал их о ее во-
лосы... Но когда теплушка тронулась — не выдержал.
Забыл, что я мужчина, солдат, забыл, что вокруг люди,
множество людей, и сквозь грохот колес, сквозь бьющий
в глаза ветер закричал:
— Мамочка! Мамочка...
Но она уже не слышала.
На белом снегу красный гибкий прутик вербы возни-
кает жилкой, в которой бьется кровь. Рядом с красной
жилкой — голубая. Это весеннее солнце растопило снег
и вызвало к жизни родничок талой воды. Красная арте-
рия и синяя весна. Равновесие жизни.
Струя талой воды исчезает под настом и снова вы-
ходит на поверхность, издавая веселый булькающий
звук. Хорошо наклониться к мартовскому роднику и
сделать глоток. Говорят, кто пьет талую воду, становит-
ся сильней и долговечней.
Никто, как мать, не умеет так глубоко скрывать свои
страдания и муки. И никто, как дети, не умеет так хлад-
нокровно не замечать того, что происходит с матерью.
Она не жалуется,— значит, ей хорошо. Я никогда не ви-
дел слез своей матери. Ни разу в моем присутствии ее
глаза не увлажнялись, ни разу она не пожаловалась мне
на жизнь, на боль. Я не знал, что это было милосердием,
которое она оказывала мне.
Когда на посту было очень холодно, мы подходили к
трубе землянки и грелись в теплом низком дыму. Он
обволакивал замлевшие ледяные лица горьким мягким
теплом. Жалко, что этим теплом нельзя было дышать.
Еще когда удавалось раздобыть картошку, мы нанизы-
вали ее на проволоку и опускали в трубу. Картошка
пропекалась ровно и вкусно. Мы оттирали ее от сажи
снегом и ели. Мы всегда были голодны. Нам всегда бы-
128
ло холодно. Только в бою у орудий забывали о голоде и
холоде. И еще — когда получали из дома письма.
Но было у писем из дома одно необычайное свойст-
во, которое каждый открывал для себя и никому не
признавался в своем открытии. В самые трудные мину-
ты, когда казалось — все кончено пли кончится в сле-
дующее мгновение и нет уже ни одной зацепки за
жизнь,— мы находили в письмах из дома НЗ — непри-
косновенный запас жизни. Запаса хватало надолго, его
берегли и растягивали, не надеясь пополнить его в ско-
ром времени.
У меня не сохранились мамины письма. Я не запом-
нил их наизусть, хотя перечитывал десятки раз. Но в
памяти жива картина жизни родного дома, которая
возникала из маминых весточек.
Я видел нашу комнату с большой кафельной печью.
Печь горела, и из нее тянуло горячим духом смолистых
дров. Дрова потрескивали, и на пол падали оранжевые
угольки. Мама наклонялась и быстро, чтобы не обжечь
пальцы, подхватывала уголек и бросала его в печь.
Когда дрова прогорали, она помешивала угли кочергой
и ждала, когда над ними исчезнет голубоватый огонь.
Потом плотно захлопывала медную дверцу. Вскоре
белый кафель накалялся. Мама прижималась к нему
спиной и закрывала глаза.
На ледяном ветру я видел ее у печки с закрытыми
глазами. Это видение возникало ночью на посту. У меня
в кармане лежало письмо. От него веяло далеким теп-
лом, пахнувшим смолистыми дровами. Это родное тепло
было сильнее ветра.
Когда от мамы приходило письмо, не было ни бума-
ги, ни конверта с номером полевой почты, ни строчек.
Был мамин голос. Я слышал его даже в грохоте орудий.
Дым землянки касался щеки, как дым родного дома.
Под Новый год я увидел у себя дома елку. Мама
подробно рассказывала в письме о елке. Оказывается,
в шкафу случайно нашлись елочные свечи. Короткие,
разноцветные, похожие на отточенные цветные каранда-
ши. Их зажгли, и с еловых веток по комнате разлился
ни с чем не сравнимый аромат стеарина и хвои. В ком-
нате было темно, и только веселые блуждающие огонь-
ки замирали и разгорались, и тускло мерцали золоченые
грецкие орехи.
129
Я лежал на снегу в тяжелой каске, в подшлемни-
ке— в шерстяном опущенном забрале, в шинели, затвер-
девшей от талого снега, а осколки снарядов гулко плю-
хались на землю — большие рваные куски металла. Вот
один упал совсем рядом... Гори, елка. Мерцайте, позо*
лоченные орешки. Хорошо, что где-то около мамы есть
островок мира, где все по-прежнему. Тепло и спокойно.
И мама в безопасном месте. И единственная ее трево-
га — это я.
Старые часы идут и бьют полночь. Сверчок, чудом
поселившийся в городской квартире, работает на стре-
кочущей машинке. Ковш Большой Медведицы стоит на
крыше дома, что напротив. Пахнет хлебом. Тихо. Елка
погасла. Печка горячая.
Потом оказалось, что все это было легендой, кото-
рую умирающая мама сочинила для меня в ледяном
доме, где все стекла были выбиты взрывной волной,
а печки были мертвы и люди умирали от осколков.
И она писала, умирая. Из ледяного блокадного города
слала мне последние капли своего тепла, последние кро-
винки.
Она не просто голодала, В нее стреляли голодом. Это
не был голод недорода. Это был смертельный голод, фа-
шистский голод. Голод — обстрел, голод—бомбежка,
голод — пожар.
А я поверил легенде. Держался за нее — за свой НЗ,
за свою резервную жизнь. Был слишком молод, чтобы
читать между строк. Я читал сами строки, не замечая,
что буквы кривые, потому что их выводила рука, лишен-
ная сил, для которой перо было тяжелым, как топор.
Мать писала эти письма, пока билось сердце.
Последнее письмо пришло в мае.
Чем больше черпаешь из колодца воды, тем свежее
она и обильнее. От нее веет ароматом глубокой земли и
устойчивым холодом талого снега. Каждый глоток ко-
лодезной воды сладко утоляет жажду и наполняет бод-
ростью. Утром солнце всплывает со дна, вечером —
погружается на дно. Так живет колодец.
Если же в полутемном срубе не звенит ведро и рас-
сыпанные звенья цепи не натягиваются тетивой, а ржа-
веют от бездействия, если ворот весело не поскрипывает
130
под рукой и сорвавшиеся капли серебряными монетами
не падают обратно в гулкую глубину,— родник переста-
ет бить, колодец затягивается илом, чахнет. Наступает
смерть колодца.
С нашествием врага появились мертвые колодцы.
Они умирали вместе с людьми. Мертвые колодцы были
похожи на незарытые могилы.
Теперь колодцы ожили, вернее, их оживили люди —
живые, пришедшие на смену мертвым. Весело звенят
ведра, и цепи блестят на солнце, освобожденные от
ржавчины прикосновением множества рук. Колодцы
поят людей, коров, землю, деревья. Они льют воду на
раскаленные черные камни банек, и мягкий, захваты-
вающий дух пар делает свое чистое дело, оседая капля-
ми на вялой пахучей листве березовых веников.
Колодцы ожили. Но тот, кто погиб на войне,— погиб
навечно.
Я взял в руки тяжелое холодное ведро, медленно
поднес его к губам и вдруг увидел себя мальчишкой.
Нескладным, нестриженым, со ссадиной на лбу, с облу-
пившимся носом. Этот мальчишка смотрел на меня из
ведра с водой. Я держал в руках свою давнюю жизнь.
Она была нелегкой. Руки начали слегка дрожать, и по
воде пошли морщинки: мой маленький двойник корчил
рожи и подсмеивался надо мной — солидным, взрослым,
городским.
Я наклонился к ведру и сделал глоток. Мальчишка
тоже глотнул. Так мы пили вдвоем вкусную колодезную
воду, словно поспорили, кто кого перепьет.
Меня стал сердить мальчишка. Я с удовольствием
выпил бы все ведро, чтобы не видеть его. Пить я больше
не мог — мне уже свело зубы от холода,— я размахнул-
ся и вылил воду на дорогу. И угодил в курицу, которая
недовольно закудахтала и побежала прочь. Я вылил
воду, но двойник остался. И когда я шел по деревне, он
все время давал о себе знать.
Я вдруг почувствовал, что долгое время не помнил
многих событий своей прежней жизни. Люди, с кото-
рыми я жил когда-то рядом, отодвинулись далеко в про-
странство, а их очертания стерлись. Образовался провал.
Пустота, от которой мне стало не по себе. Теперь этот
нестриженый, со ссадиной на лбу, приблизил далекое
131
время. Я увидел свое детство со множеством подробно-
стей.
Я вспомнил щели в бревнах над моей кроватью —
сенник на лавке, занавески, прибитые обойными гвоз-
дями, печную заслонку с отклепавшейся ручкой, рогатые
ухваты. Я услышал скрип половиц — у каждой свой
особый звук: старые, потрескавшиеся доски были кла-
вишами какого-то таинственного инструмента. Я реаль-
но ощутил запах топленого молока — клейкий, кисло-
сладкий запах, который неожиданно вытекал из печи и
вытеснял из дома все остальные запахи.
Я увидел маму. У колодца, с запотевшими ведрами.
В соломенных лучах солнца.
Мой дедушка, Алексей Иванович Филин, был родом
с Белого озера. Двенадцатилетним мальчишкой он при-
шел в Питер и назад в деревню уже не вернулся. Жил
трудно. Много работал. После революции стал Героем
Труда. Городская жизнь не убила в нем деревенского
корня. Иногда с грустью рассказывал о молочной воде
Белого озера, о пчелах, о лошадях, о том, как в. деревне
в большом чане варят домашнее пиво. Иногда, под
хмельком, дедушка пел свои деревенские малословные
песни.
Каждое лето мы с мамой ездили в деревню.
Городской человек редко встречается с землей. Зем-
ля скрыта от его глаз каменными плитами, застывшей
лавой асфальта. Она покоится в глубине — черная,
бурая, красная, серебристая. Она задержала дыхание и
затаилась. Городской человек не знает, чем пахнет зем-
ля, как она дышит в разные времена года, как страдает
от жажды, как рожает хлеб. Он не ощущает, что вся его
жизнь, его благополучие зависят от земли. Не пережи-
вает за сухое лего, не радуется обильному снегопаду.
А иногда боится земли, как смутной, незнакомой стихии.
И тогда в душе затихает необходимое, естественное
чувство сыновней любви к земле.
В деревне мы с мамой ходили босиком. Сперва это
было довольно трудно. Но постепенно на ногах образо-
вались естественные подошвы, и ноги перестали чувст-
вовать мелкие уколы. Эти подошвы верно служили
132
мне — не снашивались, не протирались. Правда, их
нередко приходилось заливать йодом. А перед сном —
мыть...
Мать приучила меня к земле, как птица приучает
своего птенца к небу, а белая медведица приваживает
медвежонка к морю. На моих глазах черная земля ста-
новилась зеленой, потом разливалась легкая голубизна,
потом мерцала бронза — так рождается лен. Мы с ма-
мой дергали лен. Мама ловко скручивала жгут и вяза-
ла снопы-коротышки. У нее на голове был белый платок,
как у деревенских.
Иногда мне поручали пасти корову Лыску. Тогда
приходилось подниматься очень рано. И я сердился на
Лыску, что она не дала мне поспать, шагая по холодной
траве, дулся на нее. Мне даже хотелось ударить ее
прутом... Она шла медленно, с коровьим достоинством,
а самодельный жестяной колокольчик глухо потреньки-
вал на ее шее.
Потом, в поле, я отходил. Я приближался к корове
и прижимался к ее теплому дышащему боку — грелся.
Иногда я разговаривал с Лыской. Рассказывал ей целые
истории. Лыска не перебивала меня, она умела внима-
тельно слушать и беззвучно кивала головой.
Голова у нее тяжелая, крупная. А глаза, большие
влажные глаза были чем-то опечалены. Лыска неза-
метно подходила ко мне и тыкалась в щеку розовым
носом. Ее дыхание было громким и теплым. Она отно-
силась ко мне покровительственно, как к теленку.
Временами я испытывал приливы любви к нашей
корове. Тогда я уходил с ней далеко в поле, где росли
клеверная кашка и горошек. Отыскивал глубокий буе-
рак, опускался по крутому склону и рвал для нее лако-
мые зеленые побеги. Я сооружал «дымок»: зажигал
сухие гнилушки в консервной банке и размахивал око-
ло Лыски, чтобы слепни и шершни не одолевали ее.
Лыска становилась священным животным, а я служкой
с кадилом. Потом Лыску пришлось продать. Когда ее уво-
дили со двора, она плакала. Все понимала. Испытывала
горе. И тогда я дал себе слово, что, когда вырасту и
буду зарабатывать деньги, куплю Лыску обратно.
Я обещал это Лыске.
Нестриженый, со ссадиной на лбу, смотревший на
меня из ведра напомнил мне об этом невыполненном
133
обещании. Он насмехался надо мной и молча, непро-
щающе упрекал в том, что я обманул Лыску. Обещал
купить обратно и не купил...
Вообще мой нескладный двойник многое напоминал
мне.
Я как-то спросил маму:
— У меня сердце светится?
— Ну как же оно может светиться, — возразила
мама.
Я увидел светящееся сердце в кузнице. Кузница
стояла на краю деревни. От нее тянуло запахом уголь-
ного дыма, и она сотрясалась от звонких прерывистых
ударов. Я услышал, как с хрипом дышат кожаные ме-
хи и как от их дыхания в горне с легким свистом про-
буждается в углях огонь.
Кузнец был раздет до пояса. Его тело блестело от
пота. На мокрой груди отражалось пламя горна. Куз-
нец взмахивал молотом, откидывал корпус назад и
с силой обрушивал удар на кусок раскаленного железа.
И каждый раз отблеск пламени вздрагивал. Я решил,
что это просвечивает сердце. Оно горит внутри и про-
свечивает сквозь грудь.
Я показал маме светящееся сердце.
— Видишь? — сказал я шепотом.
— Вижу.
— От чего же оно светится?
Мама подумала и тихо сказала:
— От работы.
— А если я буду работать, мое сердце будет све-
титься?
— Будет, — сказала мама.
Я тут же принялся за дело. Я наносил дров, поворо-
шил сено и даже вызвался пойти за водой. И каждый
раз, окончив дело, спрашивал:
— Светится?
И мама кивала головой.
И еще нестриженый двойник, со ссадиной на лбу,
напомнил мне, как он нашел на земле осколок снаряда
и показал маме:
— Смотри, какой камень!
— Это не камень, — ответила мама. — Это осколок
снаряда.
134
— Снаряд разбился?
— Он разорвался на множество осколков.
— Зачем?
— Чтобы убивать.
Я бросил осколок на землю и опасливо покосился
на него.
— Не бойся, — сказала мама, — он уже никого не
убьет. Он сам мертвый.
— Откуда ты знаешь? — спросил я маму.
— Я же была сестрой милосердия.
Я смотрел на маму, как на незнакомую. Я не мог
понять, какое отношение имеет сестра милосердия
к маме.
В то далекое мгновение ни она, ни я не могли даже
представить себе, что через десять лет я буду лежать
на земле в шинели, в каске, с винтовкой, прижатой к
боку, и в меня будут лететь такие камни с острыми
краями. Не мертвые, а живые. Не для жизни, а для
смерти.
По-настоящему земля открылась мне на войне.
Сколько земли перекопал, перелопатил я за войну!
Я рыл окопы, траншеи, землянки, ходы сообщения, мо-
гилы... Я рыл землю и жил в земле. Я узнал спаситель-
ное свойство земли: под сильным огнем прижимался
к ней в надежде, что смерть минует меня. Это была
земля моей матери, родная земля, и она хранила меня
с материнской верностью.
Я увидел землю так близко, как раньше никогда не
мог увидеть. Я приблизился к ней, как муравей. Она
липла к моей одежде, к подметкам, к лопате — я весь
был намагничен, а она железная. Земля была мне и
убежищем, и постелью, и столом, она гремела и погру-
жалась в тишину. На земле жили, умирали, реже рож-
дались.
Один, только один раз земля не уберегла меня.
Я очнулся в телеге, на сене. Я не почувствовал
боли, меня мучила нечеловеческая жажда. Пить хоте-
ли губы, голова, грудь. Все, что было во мне живого,
хотело пить. Это была жажда горящего дома. Я сго-
рал от жажды.
И вдруг я подумал, что единственный человек, ко-
135
торый может меня спасти, — мама. Во мне пробудилось
забытое детское чувство: когда плохо — рядом должна
быть мама. Она утолит жажду, отведет боль, успоко-
ит, спасет. И я стал ее звать.
Телега грохотала, заглушая мой голос. Жажда за-
печатала губы. А я из последних сил шептал незабы-
ваемое слово — «мамочка». Я звал ее. Уповал на нее, как
на бога, Богоматерь, Человекоматерь, Мать.
Я знал, что она откликнется и придет. И она появи-
лась. И сразу смолк грохот, и холодная животворная
года хлынула гасить пожар: текла по губам, по подбо-
родку, за воротник. Мама поддерживала мою голову,
осторожно, боясь причинить боль. Она поила меня из
холодного ковшика, отводила от меня смерть.
Я почувствовал знакомое прикосновение руки, услы-
шал родной голос:
— Сынок! Сынок, родненький...
Я не мог открыть глаза. Но я видел мать. Я узна-
вал ее руку, ее голос. Я ожил от ее милосердия. Губы
разжались, и я прошептал:
— Мама, мамочка...
Во мне накопилось много слов. Они распирают мне
грудь, стучат в висок. Они рвутся наружу, на свет, на
бумагу. Но они зеленые. Их рано срывать с ветки. Я му-
чаюсь и жду, когда они созреют.
В детстве рвут зеленые яблоки, потому что не хва-
тает терпения дождаться, пока они созреют. Рвут и едят
и получают острое удовольствие. Теперь зеленые ябло-
ки сводят рот.
Но нельзя выдерживать слова до приторности. Ино-
гда надо находить озорную радость в зеленых яблоках
и в зеленых словах.
Моя мать лежала в братской могиле в осажденном
Ленинграде. В незнакомом селе у колодца я принял
чужую мать за свою. Видимо, у всех матерей есть ве-
ликое сходство. И если одна мать не может прийти к
раненому сыну, то у его изголовья становится другая.
Мама. Мамочка...
В детстве мы легко принимаем от матери жертвы.
Все время требуем жертв. А то, что это жестоко,
узнаем позже — от своих детей.
«Золотые дни» не вечны. На смену им приходят
136
«суровые дни», когда мы начинаем чувствовать себя
самостоятельными и постепенно удаляемся от мамы.
И вот уже нет прекрасной дамы и маленького рыцаря,
а если он и есть, то у него другая прекрасная дама —
с косичками, с капризно надутыми губами, с кляксой на
платье...
В один из «суровых дней» я пришел из школы го-
лодный и усталый. Бросил портфель. Разделся. И сразу
за стол. На тарелке лежал розовый кружок колбасы.
Я съел его мгновенно. Он растаял во рту. Его как бы и
не было. Я сказал:
— Мало. Хочу еще.
Мама промолчала. Я повторил свою просьбу. Она
подошла к окну и, не оглядываясь, тихо сказала:
— Больше нет... колбасы.
Я встал из-за стола, не сказав спасибо. Мало! Я шум-
но ходил по комнате, грохотал стульями, а мама все
стояла у окна. Я подумал, что она разглядывает что-то,
и тоже подошел к окну. Но ничьего не увидел.
Я хлопнул дверью — мало!— и ушел.
Нет ничего более жестокого, чем просить у матери
хлеба, когда его у нее нет. И негде взять. И она уже
отдала тебе свой кусок... Тогда можно рассердиться и
хлопнуть дверью. Но пройдут годы, и стыд настигнет
тебя. И тебе станет мучительно больно от своей жесто-
кой несправедливости. Ты будешь думать о дне своего
позора даже после смерти матери, и эта мысль, как не-
заживающая рана, будет то затихать, то пробуждаться.
Ты будешь находиться под ее тяжелой властью и, огля-
дываясь, скажешь: прости! Нет ответа. Некому прошеп-
тать милосердное слово: прощаю.
Когда мама стояла у окна, ее плечи слегка вздраги-
вали от беззвучных слез. Но я этого не заметил. Я не
заметил своих апрельских следов на полу. Не расслы-
шал хлопнувшей двери. Теперь я все вижу и слышу.
Время все отдаляет, но оно приблизило ко мне этот день.
И многие другие дни.
Прости меня, родная!
В старых избах с потемневших образов смотрит жен-
щина с ребенком на руках. Грустная, задумчивая, улы-
бающаяся, озабоченная, счастливая, несчастная. Это не
иконы, это портреты матерей — многих, живых и живу-
щих.
137
Я много знаю о подвигах женщин: выносивших с
поля боя раненых бойцов, работавших за мужчин, отда-
вавших свою кровь детям, идущих по сибирским трак-
там за своими мужьями. Я никогда не думал, что все
это имеет отношение к моей матери. К тихой, застенчи-
вой, обыденной, озабоченной только тем, как прокормить
нас, обуть, уберечь...
Теперь я оглядываюсь на ее жизнь и вижу: она про-
шла через все это. Я вижу это с опозданием. Но я вижу.
Я шел под удивительно голубым лазурным небом —
откуда в северном городе берется такая лазурь? И тут
появилась низкая темная туча с острыми краями. Она
перевалила через дома и быстро пошла на бреющем
полете. Мне в лицо дохнуло льдом.
В следующее мгновение я оказался запутанным в
белую ледяную сетку. Я не мог из нее выпутаться, толь-
ко отбивался руками, силился разорвать ее. А вокруг
все гудело, стонало, кружилось. Жесткая ледяная крупа
била в лицо, секла по рукам. И вдруг в сетке сверкнуло
желтое помутневшее солнце — попалось в сеть! Раздал-
ся удар. Солнце погасло. Это было не солнце, а зимняя
молния, гроза со снегом.
Туча все двигалась вперед. Она опутала ледяными
сетями весь город. И тянула его за собой, сбивала с ног
упругими нитями. Снова вспыхивало солнце и снова
гасло. В городе стоял сухой грохот.
Новая вспышка высветила надпись на стене дома:
«Эта сторона наиболее опасна при артобстреле».
Я перешел на другую сторону.
На Пискаревском кладбище зеленеет трава. На Пи-
скаревском кладбище большие могилы. Большие, общие,
заполненные народным горем. Здесь похоронена моя
мать.
Документов нет. Очевидцев нет. Ничего нет, за что
можно было зацепиться пытливым умом. Но вечная сы-
новья любовь определила —здесь. И я склонился к земле.
Я глажу рукой траву Пискаревского кладбища.
Я ищу сердце матери. Оно не может истлеть. Оно стало
сердцем земли.
СОБИРАЮЩИЙ ОБЛАКА
Если твоя фамилия Малявкин и товарищи зовут те-
бя Малявкой, то еще можно пережить. Тем более, что
зовут тебя так не со зла, а просто фамилия у тебя неудач-
ная. С такой фамилией самого лучшего человека на свете
будут звать Малявкой. И отца твоего тоже в детстве
величали этим потешным и немного обидным именем.
Говорят, что даже дедушку в незапамятные времена
звали Малявкой. Ну и что из этого!
Вот если тебя к тому же считают конченым челове-
ком и если рядом с твоей неудачной фамилией поставили
большой жирный минус, тогда плохи твои дела.
139
...Когда он приносил домой четверку, отец пожимал
плечами и говорил:
— Это тебе повезло.
А когда в дневнике появлялось замечание, отец усме-
хался:
— Очень приятно! Чего еще от тебя ожидать!
— Так я не виноват...— пробовал было возразить Ма-
лявкин-сын.
— Ты всегда не виноват!—обрубал Малявкин-отец.
Он не желал выслушивать никаких объяснений. Он
даже не ругал сына — что попусту тратить слова. Пово-
рачивался и уходил.
От обиды лицо мальчика покрывалось красными пят-
нами, а к горлу подступал комок. Ему казалось, что он
провалился в прорубь, хочет вскарабкаться на льдинку,
но руки скользят. И никто не желает помочь ему...
Этот минус появился еще в прошлом году. Класс был
большой, а у Зои Назаровны не хватило времени толком
разобраться во всех своих учениках. Она пригляделась,
поразмыслила и в уме поставила перед каждым из них
плюс или минус. Малявкину достался минус.
Она поставила этот минус в уме, для служебного
пользования, но мальчик постоянно чувствовал его, слов-
но минус был выведен в журнале против его фамилии.
И его нельзя было ни стереть, ни исправить.
Когда в классе поднимался шум, Зоя Назаровна, не
поворачиваясь от доски, говорила через плечо:
— Малявкин и компания, тише!
Она называла его фамилию при каждом удобном
случае, даже если он в этот момент сидел набрав в рот
воды. Она считала, что Малявкин все делает ей назло.
А Малявкин просто не мог спокойно сидеть на месте.
Где-то внутри у него была тайная пружинка, которая
беспрестанно поворачивала его голову, заставляя ерзать,
приводила в движение руки. У этой пружинки никогда
не кончался завод. Иногда мальчик спохватывался и ста-
рался изо всех сил удержать ее. Но стоило только за-
быться, как пружинка незаметно выскальзывала и снова
приводила в движение голову, руки, язык.
Иногда, очень редко, Зоя Назаровна беседовала с
Малявкиным.
— Ничем ты не интересуешься,— говорила она, и кон-
чики ее губ презрительно опускались, будто кто-то тянул
140
их за ниточки.— Ребята марки собирают, делают герба-
рии... Ты бы хоть спичечные коробки коллекционировал!
Малявкин переминался с ноги на ногу и усиленно
крутил концы галстука. Он не решался сказать Зое На-
заровне, что белые облака нельзя засушить, как клено-
вые листья, и нельзя наклеить в альбом, как почтовые
марки. А Малявкин интересовался облаками.
Он ложился животом на подоконник, подпирал рукой
подбородок и долго-долго следил за облаками, которые
обязательно на что-то похожи. На слона, на верблюда
или на снежные горы. Конечно, облако не может долго
быть верблюдом. На твоих глазах у верблюда пропадают
горбы. Животное поджимает передние ноги и так вытя-
гивает шею, что она наконец обрывается. И вот уже нет
верблюда. Он пропадает в небе, но остается в памяти.
Как его наклеишь на бумажку и покажешь Зое Наза-
ровне?
Если люди махнули на тебя рукой и не хотят разо-
браться в тебе, потому что кто-то поставил перед твоей
фамилией минус, то у тебя есть два выхода: или самому
махнуть на себя рукой, или любыми усилиями зачерк-
нуть несправедливый минус.
В глубине души он не очень-то рассчитывал, что с
помощью учебников и тетрадей ему удастся избавиться
от минуса. Он надеялся на другое средство. И когда однаж-
ды старшая вожатая объявила, что после уроков все
пионеры отправляются собирать бумажную макулатуру,
Малявкин почувствовал — судьба посылает ему случай
доказать, что он не такой уж пропащий человек.
— Стране нужна бумага!—сказала старшая вожатая.
«Очень хорошо, что стране нужна бумага. Прекрасно,
что стране нужна бумага! Тем более, что ты можешь най-
ти сколько угодно сырья для нужной стране бумаги».
Так думал Малявкин, не переставая крутить кончики
галстука. Он свернул их сначала в трубочку, потом пре-
вратил в спирали, а когда наконец оставил в покое, они
повисли, как две красные сосульки. Он не слышал голо-
сов учителей. В его груди звучали и пели на все лады
зазывные слова вожатой:
«Стране нужна бумага!»
После уроков все ребята вышли на школьный двор.
Здесь каждому выдали сетку, похожую на рыболовную
141
снасть. Эти сетки нужно было забросить в сотни квартир
и учреждений и вытянуть их обратно на школьный двор
с богатым уловом бумажной макулатуры.
Малявкин перекинул свою сеть через плечо и быстро
зашагал к воротам. Было тепло, и на деревьях раскры-
вались почки. Из клейких золотистых чешуек выглядыва*»
ли зеленые язычки листьев. И с земли казалось, что
деревья покрыты зелёными многоточиями. Мягкий, подо-
бревший ветер весны сквозил по улицам. А высоко в небе
он упирался в белые паруса облаков, и они плыли,
меняя на ходу очертания.
На пути мальчику попался газетный киоск. Все четы-
ре стены киоска были из стекла, и со стороны газетный
домик был похож на большой старинный фонарь.
В центре фонаря, на месте фитиля, находился киоскер:
беловолосый и красноносый старичок. На носу у него си-
дели большие очки. Когда он разговаривал, то смотрел
поверх очков. Очки только мешали ему.
Малявкин подошел к стеклянномудомику и неуверен-
но спросил у киоскера:
— У вас есть старые, ненужные газеты?
— Есть,— ответил киоскер.
— Можно их забрать?
— А ты думаешь, что старые газеты ничего не стоят?
— Разве старые газеты тоже стоят?—удивился Ма-
лявкин.
— Стоят. По две копейки,— ответил старичок, и глаза
его так выкатились, словно собирались перемахнуть че-
рез очки.— А тебе зачем газеты? Для оклейки или для
упаковки?
— Мне для макулатуры,— отозвался Малявкин.
— Для макулатуры,— повторил киоскер.— Вот оно
что!
Лицо старичка засияло — зажегся фитилек. Он по-
смотрел на мальчика и вдруг подмигнул ему:
— Подойди-ка к двери.
Мальчик не заставил себя ждать. В два прыжка он
очутился у двери киоска. Старичок приоткрыл стеклян-
ную дверь и спросил:
— Тара у тебя есть?
Мальчик замялся. Тары у него не было. Может быть,
старичок ничего не даст ему, раз нет тары? Но хозяин
14?
киоска осмотрел его с головы до ног и, обнаружив на его
плече сеть, кивнул на нее:
— Подставляй сетку.
Сетка и была тарой.
Малявкин быстро стянул с плеча сетку и протянул ее
старичку. И тут хозяин стеклянного газетного домика
стал выгребать откуда-то куски картона, и бумажные
обрезки, и мятые газеты, которые ничего не стоили, и
оберточную бумагу, отслужившую свой век. Он энергич-
но засовывал.все это богатство в сетку. Не прошло и пяти
минут, как сетка наполнилась до краев. Мальчик при-
поднял ее, и оказалось, что улов кое-чего весит. Тяжесть
радовала его. Он с благодарностью посмотрел на старич-
ка-фитилька и сказал:
— Спасибо вам. Стране нужна бумага.
На школьный двор Малявкин пришел первым. От
быстрой ходьбы он тяжело дышал. Фуражка с острым
козырьком, похожим на грачиный клюв, съехала набок.
Глаза весело блестели. А за спиной белела макулатура,
разлинованная сеткой в крупную клеточку.
Старшая вожатая и два старшеклассника-комсомоль-
ца сидели на скамейке перед школой и поджидали сбор-
щиков макулатуры.
— Вот,— сказал Малявкин, сваливая к их ногам тя-
желую ношу.— Вот, принес.
— Молодец!—сказала старшая вожатая.— Как твоя
фамилия?
В эту минуту Малявкин дорого бы отдал за красивую
фамилию. Ему сейчас очень нужна была звучная, гордая
фамилия. Но где он мог раздобыть ее, если его отец и
даже дед были Малявкиными?
Вожатая ждала ответа.
— Малявкин,— тихо сказал мальчик.
Он сказал тихо, но два старшеклассника перегляну-
лись, и мадьчик заметил на их лицах усмешку.
— Запиши, Саша, его фамилию,— сказала старшая
вожатая.— А ты, Малявкин, свободен.
— Свободен? — спросил мальчик—А разве больше не
нужно макулатуры?
— Ты свою норму выполнил.
— А можно, я еще принесу?—Он неуверенно посмот-
рел на вожатую.
Вожатая пожала плечами.
143
— Если тебе нравится.
— Нравится,— признался мальчик и, подхватив пу-
стую сетку, побежал к воротам, словно боялся, что во-
жатая раздумает и не разрешит ему идти за второй
нормой.
Теперь Малявкин знал, где находится месторождение
макулатуры. Он напал на золотую жилу! От киоска к
киоску шагал он с сеткой за плечом. Он уже не интересо-
вался старыми газетами, которые, как новые, стоят две
копейки. Он показывал хозяевам стеклянного домика
свою сетку — тара есть!—и спрашивал:
— Нет ли у вас бумажных обрезков, старого картона,
бракованных газет?
Макулатура находилась. Безотказная пружинка, кото-
рая так мешала ему на уроках, теперь работала с поль-
зой. Скорей, скорей, скорей! Стране нужна бумага! Очень
хорошо, что стране нужна бумага! Значит, ты тоже ну-
жен стране, если ты добываешь сырье для бумаги.
Во дворе около школы выросла большая белая гора.
Ее наносили ребята. Бумажная гора напоминала Маляв-
кину прохладное облако, которое сделало вынуж-
денную посадку под окнами школы. Ветер трепал по-
лоски легкой бумаги, и казалось, что облако живое, что
оно меняет свои очертания, как и подобает настоящему
облаку.
Когда он в четвертый раз собрался было в поход,
старшая вожатая остановила его:
— Хватит, Малявкин. Ты и так больше всех принес.
Мы о тебе в стенгазете напишем.
Малявкин опустил глаза. Зачем писать о нем в стен-
газете? Пусть лучше Зоя Назаровна сотрет свой минус
и пусть перестанет считать его пропащим человеком, раз
он на что-то способен. Но как все это объяснить стар-
шей вожатой?
Домой он пришел поздно. Он чувствовал себя счаст-
ливым. Ему казалось, что его минус погребен под боль-
шой бумажной горой. И теперь начнется новая жизнь.
Мигом вбежал он по лестнице.
— Ты что так поздно? — поинтересовалась мама.
— Мама,— ответил мальчик, и голос его звучал воз-
бужденно и торжественно,— мама, я собирал макулату-
ру. Я три полные сетки...
Мама даже не дослушала его. Она сказала:
144
Всякой ерундой занимаешься! Лучше бы уроки
учил.
От неожиданности мальчик запнулся.
— Мама, стране нужна бумага,— сказал он упав-
шим голосом.
Но мама его уже не слушала. Она пошла разогре-
вать обед.
Каждый день по дороге в школу Малявкин останав-
ливался перед бумажной горой. Когда было ветрено,
обрывки бумаги носились по двору. Они шуршали на
асфальте и плыли по лужам, как белые кораблики.
Хотя стране нужна была бумага, никто не торопился
забрать драгоценную макулатуру. И надо признаться,
что белая гора постепенно таяла, словно была из снега,
а дни стояли теплые.
Не раз сильный ветер поднимал самый настоящий
бумажный смерч. Листки бумаги стучали в окна клас-
сов, словно хотели напомнить ребятам о своем сущест-
вовании. А одна бумажная полоска прилипла к стеклу
и билась от ветра, как маленький тревожный флажок,
подающий сигнал бедствия.
Пошел дождь. Он мочил бумажную гору. И Маляв-
кин переживал за нее. Это была его маленькая слава.
Она помогла ему сохранить веру в самого себя. На боль-
шой перемене он выбежал во двор, отыскал где-то кусок
толя и накрыл им макулатуру. Теперь она уже не была
похожа на белое приземлившееся облако. Листки бума-
ги слиплись и потемнели.
На уроке Малявкин поднял руку.
— Что у тебя, Малявкин? — спросила Зоя Назаровна.
Мальчик поднялся. Он спросил:
— А когда из макулатуры будут делать бумагу?
Зоя Назаровна пожала плечами, и невидимые ни-
точки медленно потянули вниз уголки ее губ.
— Когда придет время, тогда и будут делать... бу-
магу,—сказала она, растягивая слова; все, что относи-
лось к Малявкину, она считала несерьезным и вздор-
ным.
Однажды после шестого урока он сбежал со ступе-
нек школьного крыльца и увидел, что истопник и завхоз
берут охапки макулатуры и уносят ее в котельную.
«Наверное, решили спрятать ее»,— подумал мальчик
g Багульник
145
и проскользнул в дверь. То, что он увидел, поразило его.
Он почувствовал, что на лице выступили красные пятна.
Охапки белой бумаги бросали в топку. Как белые
облака, уплывали они навстречу огню. Пламя сразу
обжигало их. Облака чернели и коробились, ветер под-
хватывал их, и они, легкие и хрустящие, уносились в
трубу.
Мальчик подумал, что черные облака вылетают на-
ружу и плывут над городом. И что сейчас все небо в
черных, обугленных облаках.
Из оцепенения его вывел голос завхоза:
— Чего стоишь, Малявкин? Помогай!
— Это нельзя жечь,— почти крикнул мальчик.— Это
макулатура!
— Тебя забыли спросить,— поморщился завхоз.—
Ну-ка, посторонись!
Мальчик продолжал стоять на месте. Глядя в рас-
красневшееся от жары лицо завхоза, он крикнул:
— Стране нужна бумага! Не жгите!
— А ну, иди отсюда! — грубо сказал завхоз.— Ма-
лявка!
Его все называли Малявкой. Но никто не хотел оби-
деть его этим словом. Зато сейчас привычная кличка
прозвучала оскорбительно и зло. Слезы блеснули в его
глазах. Но ему стало стыдно своих слез, и он быстро
размазал их по скулам.
Он кинулся в школу. Он бегал по этажам и все
искал, кто бы мог вступиться за макулатуру. В пионер-
ской комнате никого не было. В учебной части тоже.
В одном из коридоров он столкнулся с Зоей Наза-
ровной.
— Ты что носишься как оглашенный? — спросила
учительница.
— Зоя Назаровна,—сказал мальчик, прерывисто ды-
ша,— Зоя Назаровна, они жгут макулатуру.
Ему казалось, что Зоя Назаровна немедленно побе-
жит в котельную и будет спасать горящие белые облака.
Но Зоя Назаровна спокойным голосом сказала:
— Так ведь пожара нет. Жгут не школу, а макула-
туру.
Нет, это, конечно, не пожар. А может быть, и пожар.
Когда горит добро, горит твой труд, твоя надежда —
ато пожар!
146
— Иди домой,— сказала Зоя Назаровна и подтолк-
нула его к двери.
Он шел по улице, глядя себе под ноги. Ему казалось,
что если он поднимет глаза, то увидит, как там, в голу-
бом апрельском небе, плывут черные, обуглившиеся
облака. Он даже почувствовал горьковатый запах гари.
Когда он проходил мимо газетных киосков, то отво-
рачивался. Ему было стыдно смотреть в глаза старичков
и старушек, похожих на фитильки больших фонарей.
«Никакой новой жизни не будет»,— думал мальчик.
Все его надежды уплыли вместе с черными облаками.
И вдруг кто-то окликнул его:
— Коля!
Малявкин вздрогнул от неожиданности и остановил-
ся. Его обычно звали Малявкиным или Малявкой. Мо-
жет быть, это зовут не его, а другого Колю? Он поднял
глаза и увидел Зою Назаровну. Для учительницы эта
встреча тоже была неожиданной. Она смотрела на маль-
чика и молчала. Она почему-то не знала, что сказать
ему, и вид у нее был растерянный. И Зоя Назаровна
показалась Малявкину большой девочкой, которую вы-
звали к доске, а она не знает урока. Он никогда не ви-
дел ее такой. И ему нравилась такая Зоя Назаровна.
А потом он поднял глаза и посмотрел в небо. Над
головой плыли облака. Они были ослепительно белыми,
без единого пятнышка. А одно из них было похоже на
крупного слона с двумя горбами, как у верблюда. Ма-
лявкин улыбнулся двугорбому слону. И провожал его
глазами до тех пор, пока слон не потерял хобот.
САПЕР
Дождливым вечером в отделение милиции вошли
двое: мужчина в блестящем плаще с пестрым шарфом
вокруг шеи и мальчик лет девяти, мокрый, измазанный
глиной, с царапиной на подбородке. Мужчина был встре-
вожен и все время облизывал пересохшие губы тонким,
147
проворным языком муравьеда. Глаза его поблескивали,
под ними отвисли мешочки. Лицо мальчика не выража-
ло ни испуга, ни смятения. Оно было безжизненным,
словно хозяин ушел куда-то, а лицо осталось. С мокрых
волос на скулы сползали капли дождя.
Мужчина держал мальчика за руку чуть повыше
кисти. В другой руке он сжимал какой-то тяжелый ин-
струмент, вроде тех, какими водопроводчики привинчи-
вают трубы.
В комнате дежурного было несколько человек. На
деревянном диване сидела бабка в обнимку с большим
узлом.
Рядом, откинувшись на высокую спинку дивана,
обосновался пожилой подвыпивший человек. Он дремал
и во сне никак не мог удержать голову, она падала то
влево, то вправо.
Перед барьером, отделявшим стол дежурного от
остальной комнаты, стояла женщина — скуластая, с
сальными волосами. Она без умолку говорила дежур-
ному:
— Он меня первый заобидел... Я к нему добром, а
он меня заобидел...
— Садитесь и напишите,— видимо, не в первый раз
повторял дежурный; голос у него был юношеский, с
хрипотой.
— И про огурец писать?
— И про огурец пишите,— устало вздохнул дежур-
ный. И тут он заметил мужчину и мальчика.— Вы обо-
ждите,— сказал он им.— Баранова, подойдите ко мне.
Бабка ловко подхватила узел и поплыла к барьеру.
— Посидите пока,— сказал дежурный мужчине и
мальчику.— Я вас вызову.
— Спасибо,— сдержанно отозвался мужчина.
Он сел и потянул за собой мальчика.
Подвыпивший приоткрыл глаза, поднял брови и,
щурясь, как от яркого света, уставйлся на своих новых
соседей.
— Поймал? — в упор спросил он мужчину.
— Поймал,— ответил тот, что в плаще, и облизал
губы.
— Отпусти ты его руку — никуда не денется.
— А сбежит?
Подвыпивший присвистнул и закрыл глаза. Мужчи-
148
на стал ждать, когда его вызовут. Мальчик по-прежнему
сидел с застывшихМ лицом. Он не чувствовал, как капли
с волос текли по щекам.
Старушка навалилась на барьер и что-то энергично
нашептывала дежурному. Плечи ее ходили ходуном, а
голоса не было слышно. Стучали часы. В комнате стоял
тот особый вокзальный дух, который устанавливается в
помещениях, где на смену одним людям приходят дру-
гие и нет постоянных жителей.
Дверь отворилась, в нее просунулась сальная голова
скуластой женщины.
— И про кадушку тоже писать? — спросила голова.
— И про кадушку пишите! — прикрикнул дежурный.
Голова тотчас скрылась.
Через некоторое время бабка Баранова, прижимая
к животу узел, приплыла обратно на скамейку, и де-
журный позвал мужчину и мальчика.
— Что у вас? — спросил он и поднял голову.
Глаз милиционера не было видно, их скрывал боль-
шой черный козырек. Щеки и подбородок были розовы-
ми, нежными и никак не подходили к форме блюстителя
порядка.
Мужчина молча положил на барьер тяжелый инстру-
мент, нарочно стукнув им о некрашеную доску:
— Вот.
— Что это?
— Разве не видите — бандитский инструмент.
И тут за его спиной послышалось покашливание и
мягкий раскатистый смешок:
— Какой же это бандитский инструмент? Это сапер-
ные ножницы. Ими колючую проволоку...
За спиной мужчины стоял подвыпивший и слегка по-
качивался.
— Сядьте!—. строго сказал ему дежурный.
— Слушаюсь! — с наигранной покорностью выпалил
тот и, неловко повернувшись, зашагал к скамейке, на
ходу повторяя: — Саперные ножницы — бандитский ин-
струмент!
Дежурный взял инструмент и стал внимательно
осматривать. Он никогда не держал в руках ничего по-
добного и старался своим умом дойти, как обращаться
с этим тяжелым военным инструментом.
— Твой? — спросил он мальчика.
149
— Нашего дедушки.
— Как им действуют? Знаешь?
Мальчик кивнул головой. И тут его оттеснил муж-
чина с пестрым шарфом на шее:
— Чего тут знать? Чего тут знать?! Он ко мне на
участок за клубникой лез, а это,— мужчина опасливо
покосился на инструмент,— это для того, чтобы по го-
лове. Раз!..
— Подождите,— остановил его дежурный.— Вас по
голове не ударяли... Так как им действовать? — снова
спросил он мальчика.
Мальчик посмотрел на дежурного и поднял глаза к
потолку, а вместе с глазами поднялись и нос, и подборо-
док с царапиной. Он сказал:
— Надо по-пластунски подползти к переднему
краю... Осмотреться, прислушаться... Потом надо при-
подняться и упереть левый локоть в землю...
Мужчина быстро провел языком по губам, словно
слизнул муравья, и перебил мальчика:
— Товарищ дежурный, что он чушь мелет! Пусть
про клубнику рассказывает.
Мальчик мрачно сказал:
— Я не ем клубнику. У меня от клубники сыпь...
Если проволока зазвенит, надо сразу прижаться к земле
и переждать. Потому что враг может дать очередь по
проволоке.
— Ай да малой! — подал голос подвыпивший пожи-
лой человек.— Можно подумать, что на войне был!
— Я не был,— признался мальчик.— У нас дедушка
на войне был. Он сапер двадцать третьей гвардейской
дивизии. У нас дедушка всегда разведчиков провожал.
Он им проход делал этими ножницами... Разведчики го-
ворили, что дедушка им приносит удачу...
— Это дед научил тебя за клубникой по чужим
участкам лазать? — враждебно спросил мужчина.
Мальчик с недоумением взглянул на него:
— На переднем крае не было клубники. Участки
там были — участки фронта, клубники не было... У нас
дедушка на мине подорвался... Ему орден дали.
— А тебя в милицию привели.
— Да подождите вы! — не выдержал дежурный.—
Когда надо, я вас спрошу!
150
— Распустили население! — буркнул мужчина и раз-
мотал на шее пестрый шарф.
— Я тоже буду сапером,— сказал мальчик.— Я тре-
нируюсь на колючей проволоке...
— Ишь ты, сапер огородный!—Муравьед облизал
губы.
И тут что-то грохнуло — это подвыпивший поднялся
с деревянного дивана.
— Ты над сапером не смейся!—О я сразу протрез-
вел, и голос его обрел твердость.— Ты, может быть, в
тылу отсиживался, а для нас сапер — отец родной.
Сколько жизней он спас нашему брату!
Мужчина в плаще наклонился к дежурному, ища
поддержки у представителя власти. Мешочки под гла-
зами вздрагивали. И подбородок тоже свисал мешоч-
ком.
В комнате установилась тишина, которую уже никто
не решался нарушить. Бабка Баранова крепче прижала
к себе узел.
Дежурный отодвинул стул и встал.
— Бери свой инструмент. Иди! — сказал он мальчику.
— То есть как «иди»! — возмутился мужчина.—
А протокол?
— Не будет никакого протокола.
Мальчик подхватил дедовский саперный инструмент,
прижал его к себе и скрылся за дверью. А хозяин не-
тронутой клубники еще долго ворчал, грозился, жало-
вался на распущенность населения. Подвыпивший усел-
ся удобнее на деревянном диване, закрыл глаза и тихо
затянул жалобную песню, привезенную когда-то с войны.
ПЛЕННЫЙ
Муж старухи Эгер, горбоносый, с отвисшей лиловой
губой, в длинном пальто, купленном как бы навырост,
тряс головой и сиплым голосом кричал на весь двор:
151
— Пошли вон! Хулиганье! Нашли место для безо-
бразия!
Он расстроил игру своим криком.
— Чем мы вам мешаем? — простодушно спросил
плотный Сашуня.
Муж старухи Эгер набросился на Сашуню:
— Я схожу к твоей матери! Я тебя выведу на чистую
воду!
Никто не понял, на какую чистую воду собирается
он выводить Сашуню, но спорить было бесполезно.
Смирнов-длинный состроил рожу и побежал к воротам.
В окне первого этажа, как в раме, показалась сама
старуха Эгер в телогрейке из собачьего меха. Она улы-
балась беззубым ртом и в двух пальцах фасонно держа-
ла папироску.
Ребята потянулись к воротам, и Мишка смекнул, что
сейчас самое подходящее время уйти домой.
— Ребята, я пойду.
В его голосе не было уверенности, и ребята тут же
загалдели:
— Брось ты! Подожди, сыграем!
— У нас Зойка болеет, а у меня лекарство.
— Что с вашей Зойкой? — спросил Смирнов-длин-
ный.
— Кашляет.
— Подумаешь, кашляет! Я тоже кашляю.— Смир-
нов-длинный натужился и несколько раз через силу
кашлянул: — К-хе, к-хе!
Мишка побежал за ребятами. На ветру иос стал
красным. Мишка потер его шершавым рукавом — нос
запылал и покраснел еще сильнее. Мишка спрятал его
в кулак и держался за нос, пока рука не устала. В дру-
гой руке у него был пузырек с бурой жидкостью, от кото-
рой даже сквозь пробку шел приторный дух микстуры.
С улицы ребят погнала толстая дворничиха:
— Под машину хотите попасть? Да? А мне — отве-
чай?! Да?
Ребята устремились на сквер, но путь им преградили
бабки, у которых в ногах разгуливали малыши, заку-
танные и неповоротливые, как водолазы. Бабки закри-
чали:
— Детей покалечить хотите?! Это вам не место!
А где место? Надо было их спросить: «Где место?»
152
Они бы наверняка сказали: «Ступайте во двор!» А во
дворе муж старухи Эгер кричит: «Пошли вон!» Он гонит
на улицу, а на улице: «Под машину хотите попасть?
Да?» — толстая дворничиха. Получался заколдованный
круг. Никому они не нужны. Отовсюду их гонят.
Еще они пробовали играть на трамвайном кольце.
ПотОхМ перелезли через кирпичную ограду и оказались
на старом кладбище. Здесь никого не было, и они нико-
му не мешали. Отсюда никто не гнал их. Ребята просто
ходили между могил и размахивали палками. Над ни-
ми качались высокие черные деревья с пустыми воро-
ньими гнездами, а внизу, припорошенные первым сне-
гом, стояли кресты, склепы, ангелы, ограды, похожие
на спинки кроватей. От могил пахло хвоей.
Мишка шел впереди и с любопытством глазел по
сторонам. А за его спиной ребята перебрасывались сло-
вечками:
— Ты боишься покойников?
— Чего их бояться! Живых надо бояться.
— Попробуй приди ночью, если не боишься! Покой-
ники все ходят в белом...
— Врешь! Нашего деда хоронили в черном костюме.
— Так то — дед!
— А я видел покойника! Голова без носа, а под ней
две косточки — крест-накрест.
На некоторое время ребята притихли. И Мишку под-
ловила мысль о Зойке. Но он тут же забыл о больной
сестренке.
Кладбище было большим и запущенным. Оно напо-
минало город с улицами, перекрестками, закоулками —
всеми покинутый город. Мишка с любопытством раз-
глядывал склепы с выбитыми стеклами и покосившиеся
кресты. За поворотом он наткнулся на ангела. Ангел
как бы вылетел из-за дерева на больших аистиных
крыльях. Голова откинута назад, руки выставлены впе-
ред, словно ангелу что-то предлагали, а он отказывал-
ся: «Спасибо, не хочу!»
Плотный Сашуня неожиданно крикнул:
— Нашел генерала!
Ребята кинулись к нему. Мишка оставил ангела и
тоже побежал к генералу. Он увидел черную плиту, иа
которой стертыми буквами было написано:
153
«Генералу от инфантерии Ивану Федоровичу Молод-
цову — скорбящая вдова».
— Раньше генералов с саблями хоронили,— сказал
плотный Сашуня.— Скорбящая вдова наверняка поло-
жила в гроб саблю. Зачем ей сабля?
— Ни к чему ей сабля! — согласился Мишка.
— Сабля — это хорошо,— произнес над Мишкиным
ухом Смирнов-длинный.
Кто-то из ребят с другой дорожки крикнул:
•— Тайного советника нашел!
И все побежали к тайному советнику. У генерала от
инфантерии остались только Мишка и Смирнов-длин-
ный. Смирнов-длинный потоптался, потоптался на месте
и предложил:
— Ты беги, а я стрелять буду. Идет?
— Идет,— согласился Мишка: почему бы не побе-
жать, если ему тоже надоело глазеть на могилы.— За-
жмурь глаза и считай до трех... нет, до пяти.
— Давай!
Смирнов-длинный сморщил нос, зажмурился и стал
считать. А Мишка стремительно побежал и притаился
за чугунной решеткой. Он выбрал очень удобное мес-
то — самого его не было видно, но зато он прекрасно ви-
дел, как Смирнов прыгал на длинных пружинистых но-
гах от могилы к могиле и вытягивал шею.
Мишка долго сидел на корточках. Ему стало холод-
но, и затекли ноги. Он не вытерпел и поднялся. Смир-
нов-длинный тут же заметил его и побежал к Мишке,
выставив палку, как ружье. Мишка перепрыгнул через
белую плиту, протиснулся между деревьями и бросился
в глубь кладбища.
Он бежал долго и все никак не мог оторваться от
преследователя. Вокруг уже никого не было. Голоса ре-
бят замерли где-то позади, а навстречу летели новые
кресты, ангелы, плиты, и не было конца этому мертвому
царству. Мишке показалось, что за ним скачет не его
дворовый приятель, а настоящий враг.
Мишке все же удалось оторваться от своего пресле-
дователя. Он прыгнул в сторону, нырнул в узкий проход,
спрятался за серый камень и замер. Смирнов-длинный
пробежал мимо. Мишка почувствовал облегчение. Он
поднялся, на цыпочках вернулся к склепу и потянул за
ржавую ручку. Петли омерзительно заскрипели. Мишка
154
шагнул внутрь и плотно закрыл за собой дверь. Сердце
громко стучало — оно еще продолжало бег. Мишка сел
на холодную плиту. В это время снова раздался режущий
звук. Дверь распахнулась — на пороге стоял Смирнов-
длинный. Он перехитрил Мишку, Подловил, Загнал в
мышеловку,
— Сдавайся, руки вверх! — крикнул Смирнов-длии-
ный.
И Мишка не узнал его голоса. Смирнов дышал влаж-
ным полуоткрытым ртом, и в его частом, сбивчивом ды-
хании звучал какой-то незнакомый хрип.
Мишке хотелось крикнуть: «Отстань, дай отдох-
нуть!»— но на него смотрели чужие, холодные глаза —
глаза врага. Мишка поежился, вскочил, отпрыгнул в сто-
рону, споткнулся о плиту и едва удержал равновесие.
Враг в два прыжка очутился рядом. Он ткнул Мишку в
грудь палкой-винтовкой и прокричал:
— Жизнь или смерть?!
Мишка, естественно, ответил:
— Жизнь.
— Ты в плену,— сказал Смирнов-длинный.— Под-
нимай руки.
— У меня замерзли руки,— мирно сказал Мишка,—-
я без перчаток.
Но Смирнов-длинный угрожающе крикнул:
— Поднимай руки! Пленные всегда ходят с подня-
тыми руками.
Мишка нехотя вынул из карманов руки и поднял их
над головой. Смирнов-длинный дал ему пинка, и Мишка
вылетел из склепа.
— Ты не пихайся,— буркнул Мишка,— я могу и в
ухо дать!
— Не можешь. Ты пленный.
Мишку рассердил этот Смирнов-длинный, который
размахивал палкой, командовал и еще давал волю ру-
кам. Но, сам не понимая почему, он выполнял все тре-
бования своего конвоира.
— Пошли, пошли!
— Куда пошли?
— Я тебя приведу в штаб. Ты все там расскажешь.
— Что — расскажешь?
— Про ребят. Про плотного Сашуню. Про Генку.
— Так ты же сам о них все знаешь. Не хуже меня.
155
— Дурак! — отрезал Смирнов-длинный.— Ты плен-
ный. Ты все должен рассказать на допросе. Вынь руки
из карманов, тебе говорят!
«Кончим играть,— подумал Мишка,— дам ему в
ухо». Дать в ухо теперь он не мог: он был пленным.
День подходил к концу. По кладбищу разлилась хо-
лодная предвечерняя синева. Она становилась все гуще,
и в ней постепенно расплывались очертания крестов,
деревьев, склепов. Мишка и его конвоир долго шли по
безлюдному кладбищу в поисках несуществующего
штаба, куда его, пленного, непременно нужно было до-
ставить. У Мишки замерзли ноги, шея, нос и особенно
руки, которые полагалось держать над головой и нель-
зя было сунуть в карманы. А у Смирнова-длинного ни-
чего не мерзло, он шел как ни в чем не бывало, покачи-
ваясь на тонких ногах.
Уж лучше ругаться с мужем старухи Эгер или с тол-
стой дворничихой, чем идти так по бесконечному лаби-
ринту кладбища.
Мишка не выдержал и остановился:
— Я пойду домой!
— Нет! — жестко отрезал Смирнов-длинный.
— У меня ноги замерзли, понял?
Не понял ничего Смирнов-длинный. Он сказал:
— Ты мой пленный. Я должен доставить тебя в
штаб.
— Какой еще штаб? Все ушли домой.
— Почем я знаю... Может, и не ушли... Раз попал
в плен — топай. Плен — не сахар.
— Зараза ты! — выдавил из себя Мишка и зашагал
дальше.
Он никак не мог понять, что за непонятной властью
обладал над ним Смирнов-длинный. Почему он, Мишка,
не мог дать ему в ухо, а идет с поднятыми руками, слов-
но ему в спину направлен ствол настоящей винтовки!
В полумраке над его плечом снова вырос ангел.
На этот раз ангел ни от чего не отказывался, а уронил
голову на грудь и развел руки, словно хотел сказать:
«Ей-богу, ничего не могу сделать». Мишка был в таком
положении, как этот ангел: он ничего не мог сделать, а
шел по пустынному кладбищу, как приказывал Смир-
нов-длинный.
Когда совсем стемнело и только снег слабо отсвечи-
156
вал на узких дорожках, конвоир зашагал впереди — он
был уверен, что пленный никуда не денется. Чувство
отчаяния подступило к Мишке. Ему начало казаться, что
ои всю жизнь идет с поднятыми руками и никто не спе-
шит ему на помощь. И вообще некому приходить, пото-
му что произошла катастрофа. Все исчезли. Никого не
осталось. Только синий ледяной воздух кладбища, кре-
сты и впереди узкая, раскачивающаяся из стороны в сто-
рону спина Смирнова-длинного... А Зойка, наверное,
кашляет еще сильнее, и мечется в жару, и ждет спаси-
тельной микстуры. Но Смирнову-длинному наплевать на
Зойку. Он ни за что не перестанет играть. Впился, как
клещ, его не оторвешь. Спина качается из стороны в сто-
рону. Мишка почувствовал ненависть к этой спине. Он
остановился. Засунул руку в карман. Нащупал пузырек
с лекарством. И непослушной, окоченевшей рукой с яро-
стью запустил пузырек в узкую спину. Он промахнулся.
Пузырек ударился о каменную плиту и со звоном раз-
бился. Смирнов-длинный резко обернулся:
— Ты что?
— Я бросил в тебя гранату,— жестко сказал Миш-
ка.— Ты убит.
— Не считается,— глухо отрезал Смирнов-длин-
ный.— Ты пленный. У пленных отбирают гранаты. И во-
обще все отбирают.
— Ты же не отобрал у меня.
— Отобрал.
— Нет, не отобрал!.. Вот черепки...— Мишка нагнул-
ся и стал шарить рукой по снегу.— Была у меня гра-
ната.
— Не считается,— стоял на своем Смирнов-длин-
ный.— У пленных вообще ничего не считается. Пошли в
штаб...
И снова захрустели шаги.
Безмолвная тьма окружила конвоира и пленного.
Кладбищу не было конца. Мишка давно перестал ориен-
тироваться — заблудился в его лабиринте. Но Смирнов-
длинный с тупым упорством шел впереди, и Мишка был
уверен, что конвоир знает дорогу — просто дорога очень
длинная.
Мишка запустил в карман руку и почувствовал не-
привычную пустоту. Пузырька не было. Зойка осталась
без лекарства. Что теперь с ней будет? Может быть, она
157
умрет... от кашля, и ее принесут сюда, в безмолвную ле-
дяную мглу. От этой мысли его бросило в жар. Он чуть
не заплакал от своего бессилия и жалости к Зойке.
В безмолвии кладбища шаги отдавались так гулко,
словно по морозному снегу шагало множество ног. Мо-
жет быть, Смирнов-длинный взял в плен не только Миш-
ку, но там, сзади, скрытые во тьме, шагают с поднятыми
руками все Мишкины друзья и близкие. И больная Зой-
ка идет по снегу босиком, в длинной белой рубашке...
Через некоторое время в сплетении темных веток
конвоир и пленный заметили слабый свет. Не сговари-
ваясь, они прибавили шагу. И вскоре очутились у брат-
ской могилы, где горел Вечный огонь. Около огня гре-
лась стайка нахохлившихся воробьев. Они, видимо, при-
выкли к огню, как к снегу и к траве,— ведь огонь был
вечным. Мишка протянул окоченевшие руки — воробьи
разлетелись. Смирнов-длинный оставался стоять в сто-
роне. Его не интересовали ни свет, ни тепло. Он был
железным или каменным — не мерз, не уставал, не от-
чаивался. И от этого его власть над пленным станови-
лась еще сильней. Огонь обжигал, но Мишка не отни-
мал рук. Постепенно они оттаяли, помягчали. Мишка
сунул нос в теплый кулак — в нос впилось множество
иголок. Но это была приятная боль — боль согревания.
У огня был оазис тепла. От него не хотелось уходить.
И тут при свете пламени Мишка прочел слова, высечен-
ные на граните: «Лучше умереть стоя, чем жить на ко-
ленях».
Слова обожгли, словно были написаны огнем. Они
загремели, хотя никто не произносил их вслух. Они бы-
ли обращены к Мишке, который не принял смерть и стал
пленником Смнрнова-длинного.
А генерал от инфантерии не пожелал жить па коле-
нях. И он похоронен с саблей. И вдова скорбит по не-
му. По Мишке никто не скорбит. Его ругают дома, а
Смирнов-длинный командует им как хочет.
— Пошли!
Мишка не отозвался. Он продолжал стоять на месте,
все еще находясь во власти огненных слов. «Лучше уме-
реть стоя...»
— Слышишь, пошли!
Мишка резко повернулся к Смирнову-длинному и
крикнул ему в лицо:
158
— Не буду больше пленным. Стреляй! Умру стоя.
Сперва Смирнов-длинный ничего не понял. Потом
смысл Мишкиных слов дошел до него, и он сказал;
— Надо было раньше... умирать.
«Надо было раньше умирать»,— повторил про себя
Мишка. Он почувствовал, что совершил ошибку там, в
склепе, когда поднял руки. Надо было не поднимать ру-
ки, и на вопрос «жизнь или смерть» ответить: «Смерть!»
Надо было упасть на землю, сраженному пулей.
И смерть представилась Мишке избавлением — без бо-
ли, без страшного ожога, без медленного окаменения.
Он видел себя лежащим в траве на поле боя. Струйка
крови пропитала рубашку. Пустая каска откатилась в
сторону. Над ним стоят его товарищи — плотный Сашу-
ня, Гена, Лева, Сережка, Толя. И муж старухи Эгер, и
толстая дворничиха, и бабки со сквера — все пришли,
все скорбят.
Надо было умирать раньше! А разве сейчас поздно?
Мишка сорвался с места и зашагал в глубину клад-
бища. Смирнов-длинный безмолвно затрусил за ним. Он
уже не кричал: «Подними руки!», а посапывал, еле по-
спевая за своим пленным. Наверное, Смирнов-длинный
боялся, что Мишка убежит и ему некого будет привести
в штаб.
И вдруг он сказал:
— Ладно. Я придумал. Я убыо тебя при попытке к
бегству. Идет?
— Идет,— согласился Мишка.
— Я пойду впереди. Ты — за мной. Потом ты ки-
нешься в сторону и побежишь. Я открою огонь.
— Идет,— повторил Мишка.
Смирнов-длинный обогнал его и зашагал впереди.
Конечно, лучше привести в штаб живого пленного. Но
если штаба нет, то можно убить врага при попытке к
бегству.
Вечный огонь несколько раз мелькнул между веток и
растворился в устойчивой темноте зимнего вечера. Пе-
ред Мишкой снова качалась узкая спина врага. Теперь
она обладала какой-то странно притягательной силой.
Мишка почувствовал, что не может оторваться от нее,
она видит его и сразу убьет наповал, стоит ему сойти с
дорожки. Темные склепы превратились в блиндажи, кре-
сты— в противотанковых «ежей», проходы между мо-
159
гил — в ходы сообщения. А плотная, обволакивающая
тишина стала тишиной перед выстрелом. Мишка оро-
бел. Смерть уже не казалась ему сладкой...
— Ну, ты бежишь? — не оглядываясь, спросил Смир-
нов-длинный.
— Бегу... Сейчас бегу,— отозвался Мишка и вдруг
почувствовал, что если он сейчас не кинется в эту жут-
кую тьму, то всю жизнь будет идти за качающейся спи-
ной, с поднятыми руками. Как с берега в холодную воду,
кинулся он в сторону.
— Бах! Ба-бах! — сиплым голосом выкрикнул Смир-
нов-длинный.
Мишка упал и прижался к земле. Он был убит при
попытке к бегству. И ждал, когда Смирнов-длинный
уйдет. Игра кончена. Точка поставлена. Но удаляющие-
ся шаги так и не прозвучали в напряженной тишине.
Вместо них послышался голос:
— Мишка, ты где?
Мишка молчал. Он решил, что Смирнов-длинный
придумал какое-то новое продолжение игры. Мишка за-
таился и ждал. Смирнов-длинный не уходил. Мишка
рассердился, вскочил и сердито крикнул:
. — Проваливай отсюда!
В ответ послышалось хриплое дыхание.
— Чего ты не уходишь?
— .Жду тебя.
— Не жди! Я убит. Ты же сам убил меня... при по-
пытке к бегству.
— Я не убил тебя.
— Врешь! Ты убил меня!—возмутился Мишка.—
Мы договорились. Я бежал — ты выстрелил.
— Я промахнулся.
— Нет. Ты попал точно.
— Я промахнулся,— стоял на своем Смирнов-длин-
ный.— Пошли. Я убью тебя позже... когда выйдем в го-
род, на трамвайном кольце.
Мишка молчал. Он думал. Не все ли равно, где быть
убитым — на кладбище или на трамвайном кольце?
Главное, не уступать Смирнову-длинному. Если усту-
пить ему — все начнется сначала: вернется страшная
власть и конвоир снова будет кричать: «Подними ру-
ки!» — и гнать Мишку в неведомый штаб, где нужно все
рассказывать о своих товарищах. Дудки, Смириов-длин-
160
иый! Мишка повернулся и зашагал прочь. Все кончено.
Пусть Смирнов-длинный идет один. Он прибавил шагу.
Смирнов-длинный не отставал. Мишку это рассердило.
Он прыгнул в сторону и спрятался за памятником. И тут
же услышал голос своего врага:
— Мишка!
Мишка молчал. Смирнов-длинный подождет, подо-
ждет и уйдет. Надоел он Мишке смертельно.
— Мишка, ты где?
Чего ему надо? Хватит Мишке этих игр. Катись ты,
Смирнов-длинный, подальше! Но тот никуда не катился,
а стоял на дорожке, растерянно всматривался в темноту
и звал Мишку. Теперь в его сиплом голосе что-то сло-
малось, перестало быть твердым. Голос уже не коман-
довал, а просил:
— Слушай, Мишка, не убегай! Хочешь — возьми ме
ня в плен... Я пойду рядом... Поднять руки?
— Не надо мне твоих рук! — не выдержал Мишка.
— Пленный должен держать руки над головой,— по-
яснил Смирнов-длинный.— Я подниму руки.
Мишка никак не мог понять, что произошло. Он не
допускал мысли, что Смирнов-длинный может испугать-
ся, сбиться с дороги, окоченеть. Что ему делать со своим
добровольным пленным, в какой штаб вести его, из ка-
кого ружья стрелять, если он побежит? Мишка вышел
из укрытия и зашагал по дорожке. Добровольный плен-
ный поскакал за ним на своих длинных пружинистых
ногах. Руки он держал над головой. По Мишка не ви-
дел этого, его не интересовали руки Смирнова-длинного,
сам-то он засунул руки глубоко в карманы и вынимал
их по очереди, чтобы погреть нос.
Было уже поздно, когда они выбрались с кладбища.
Они попали на трамвайное кольцо, где звучал уютный
перезвон, тепло светились окна и была жизнь. Смирнов-
длинный шел молча, а Мишка насвистывал какую-то за-
бытую песенку.
У фонаря Смирнов-длинный остановился и тихо ска-
зал:
— Мишка, я не чувствую уха.
Мишка присмотрелся к уху пленного и увидел, что
оно белое. Он нагнулся и подхватил горсть снега.
— Ты что? — испуганно спросил Смирнов-длинный
и втянул голову в плечи.
161
— Стой! Терпи! —скомандовал Мишка своему плен-
ному и принялся растирать ему отмороженное ухо.
Смирнову-длинному было очень больно, но он не
орал, только дышал часто, как после бега, и пугливо
косился на Мишку, ожидая от него подвоха.
— Не верти головой! Стой!
Он оказался не железным, потому что у железных не
отмерзают уши. Он только прикидывался железным.
Прикидывался он здорово.
/Мишка тер ухо с ожесточением. Каждый раз, когда
он наклонялся за новой порцией снега, Смирнов-длин-
ный говорил:
— Может быть, хватит? Может быть, хватит?
— Терпи! Оно должно покраснеть! Не мотай голо-
вой!— требовал Мишка и снова принимался тереть от-
мороженное ухо врага.
РЫЦАРЬ ВАСЯ
Приятели называли его тюфяком. За его медлитель-
ность, неповоротливость и неловкость. Если в классе
писали контрольную работу, то ему всегда не хватало
времени — он раскачивался только к концу урока. Если
он пил чай, то на столе вокруг его блюдца образовыва-
лась большая чайная лужа. Он ходил вразвалку и обя-
зательно задевал за край стола или сбивал стул. И но-
вые ботинки за неделю стаптывал так, словно вместе
с Суворовым совершал в них переход через Альпы. Вид
у него был сонный, будто он только чго проснулся или
собирался уснуть. У него все валилось из рук, все не
ладилось. Одним словом, тюфяк.
Куртка в обтяжку, штаны плотно облегали ноги. На
толстом лице выделялись три бугорка: два — над глаза-
ми, у начала бровей, а третий — между носом и верхней
губой. Когда он напрягался или приходил с мороза, эти
бугорки краснели в первую очередь.
162
Все считали, что причина его полноты — обжорство:
с чего еще он такой толстый? Но на самом деле ел он
мало. Не любил есть. Терпеть не мог это занятие.
То, что он тюфяк, было написано у него на лице,
угадывалось в его медленных, вялых движениях, звуча-
ло в глуховатом голосе. Никто не догадывался, что скры-
вается под этой некрасивой толстой оболочкой.
А в его груди билось благородное сердце рыцаря.
В заветных мечтах он видел себя закованным в блестя-
щие стальные доспехи, в пернатом шлеме с опущенным
забралом, на белом коне с раздувающимися ноздрями.
В таком виде он мчался по свету и совершал множест-
во подвигов, защищая слабых и обиженных. Он был
безымянным рыцарем. Потому что у рыцарей обычно
были звучные иностранные имена — Ричард, или Родри-
го, или Айвенго. Его же звали просто Вася, и это имя
не подходило для рыцаря.
В мечтах из толстого и косолапого он превращался
в стройного и гибкого, а в движениях появлялись лов-
кость и сноровка. Все его недостатки мгновенно пропа-
дали под блистательными доспехами.
Но стоило ему подойти к зеркалу, как все возвра-
щалось на место. И перед ним вместо прекрасного ры-
царя снова возникал мешковатый мальчик с круглым
толстым лицом, на котором краснели три бугорка.
В эти минуты он ненавидел себя за неподходящую
для рыцаря внешность.
Кроме насмешливого зеркала, к действительности
его возвращала мама. Услышав из кухни его шаги, от
которых жалобно звенели стаканы, мама кричала:
— Осторожно! Слон в фарфоровой лавке!
Разве так обращаются с благородным рыцарем?
Он пробовал было поделиться мечтами с приятелем,
но не встретил у него поддержки.
Услышав о доспехах, приятель покривился и сказал:
— На такого толстого никакие доспехи не налезут.
Друг и не подозревал, что ранил Васю в самое
сердце.
В свободное время он бегал в музей. Здесь в про-
сторных залах висели большие картины в тяжелых золо-
тых рамах, а по углам стояли статуи из пожелтевшего
мрамора. Он хладнокровно проходил мимо полотен ве-
ликих мастеров, словно это были примелькавшиеся пла-
163
каты, и направлялся к заветному залу. В этом зале не
было никаких картин. Здесь на стенах висели мечи и
копья, а на полу стояли рыцари, закованные в латы.
Тайком от дежурной старушки он трогал холодную
сталь доспехов и пробовал на палец, хорошо ли заточе-
ны мечи. Он медленно переходил от черного рыцаря к
золотому, от золотого — к серебряному. К одним рыца-
рям он относился по-дружески, к другим — со сдержан-
ным холодком. Он кивал им головой и мысленно справ-
лялся, как прошел очередной турнир. Ему казалось, что
рыцари следят за ним сквозь смотровые щели опущен-
ных забрал и никто из них не смеется и не называет
его тюфяком.
Почему природа перепутала и вложила гордое серд-
це Дон-Кихота в толстую, неуклюжую оболочку Санчо
Пансы?
Он мечтал о подвигах, а жизнь его проходила одно-
образно и буднично. Каждое утро он нехотя свешивал
ноги с постели и, подгоняемый маминым окриком: «По-
торапливайся, а то опоздаешь!» — натягивал на себя
штаны и рубаху. Потом он плелся к умывальнику, мочил
нос — «И это называется вымылся?!» — и нехотя садил-
ся к столу. Поковыряв ложкой кашу — «Не усни над
тарелкой!»,— он вставал и шел в школу. Он с грохотом
скатывался с одной ступеньки на другую, и во всех квар-
тирах знали, кто спускается по лестнице. В классе он
появлялся после второго звонка. Бросал тяжелый порт-
фель и протискивался на скамью, сдвигая с места парту.
Все это он проделывал с невозмутимым спокойстви-
ем человека, привыкшего к однообразному ходу жизни и
не ждущего никаких неожиданностей.
На уроках он не болтал, так как вообще не отличал-
ся разговорчивостью, но это не мешало учителям по-
стоянно делать ему замечания:
— Рыбаков, о чем ты мечтаешь?
— Рыбаков, повтори, что я сказала.
— Рыбаков, выйди к доске и объясни решение зада-
чи.
Он плелся к доске, задевая ногой парты, и долго
сжимал в пальцах мел, словно хотел из него что-то вы-
жать. Решая задачу, он так сопел, словно в руке у него
был не мелок, а тяжелый камень, который он без конца
опускал и поднимал. Он думал так медленно и тяжело,
164
что у учительницы лопалось терпение, и она отправляла
его на место.
Он садился, и парта мгновенно превращалась в бое-
вого коня, а пухлые короткие пальцы сами начинали
рисовать мечи и доспехи.
На уроках физкультуры он был предметом общих на-
смешек. Когда ему предлагали пройти по буму, ребята
уже заранее начинали хихикать. Он делал несколько
трудных шагов, потом вдруг терял равновесие, беспо-
мощно хватался руками за воздух и наконец с грохотом
спрыгивал на пол. Через «коня» ему тоже не удавалось
перепрыгнуть. Он застревал на черной кожаной спине
и некоторое время восседал, как всадник в седле. Ребя-
та смеялись, а он неуклюже сползал на животе на пол
и шел в строй.
Ему не везло буквально во всем. Даже на школьном
утреннике, где он читал стихотворение «Человек ска-
зал Днепру», тоже вышло недоразумение. Он готовился
целую неделю. Особенно хорошо у него получались за-
ключительные строки. Он набирал побольше воздуха и
с выражением произносил:
Чтоб на улице и дома
Было вечером светло!
Когда он вышел на сцену, все «выражение» сразу
пропало. Он заторопился, чтобы поскорее добраться до
конца. Но именно в конце его подстерегала неприят-
ность. Он вдруг заволновался, задергал плечом и про-
читал:
Чтоб на улице и дома
Было вечером темно!
Зал засмеялся. Он вздохнул и тяжело спрыгнул со
сцены.
Он привык к судьбе неудачника. Обычно неудачники
сердятся на других, а он сердился на самого себя. Он
давал себе слово измениться и начать новую жизнь. Ста-
рался быстрее двигаться, говорить почти криком и ни
в чем не отставать от ребят. Но из этого ничего хороше-
го не выходило. Дома со стола летели чашки, в классе
проливались чернила, а от резких движений его куртка
лопалась где-нибудь под мышкой.
165
...Трудно провести границу между осенью и зимой.
Бывает так, что еще не опали листья, а на землю ложит-
ся первый слабый снег. А иногда ночью подморозит, и
река к утру покроется льдом. Этот лед, зеркальный и
тонкий, манит к себе, и тогда радио предупреждает ре-
бят, что ходить по льду опасно.
Но не все ребята слушаются радио. И вот на льду
появляются первые смельчаки. Лед прогибается и пре-
дупреждающе трещит, но они верят, что родились под
счастливой звездой. А счастливая звезда иногда подво-
дит.
Внимание тюфяка привлекли крики, которые доле-
тали с реки. Он ускорил шаг и, запыхавшись, вышел на
берег.
Там он увидел Димку Ковалева, который размахи-
вал руками и кричал:
— Тонет! Тонет!
— Кто тонет? — не спеша спросил тюфяк.
— Не видишь, что ли? — огрызнулся Димка.— Па-
цан тонет. Под лед провалился. Что стоишь?!
Другой бы тут же спросил самого Димку Ковалева:
«Что же ты не поможешь ему?» Но он был тюфяк и не
догадался этого сделать. Он посмотрел на замерзшую
реку и заметил маленького первоклашку, который был
по пояс в воде и только руками цеплялся за край льда.
Тюфяк был толще и тяжелее Димки, но он шагнул
на лед. Лед слегка прогнулся, но не треснул. Вероятно,
у берега он был крепче.
Димка Ковалев оживился. Он снова стал махать ру-
ками и кричать:
— Заходи справа!.. Осторожно!.. Не топай ножища-
ми, а то сам...
Он кричал для того, чтобы заглушить свой страх.
А тюфяк шагал по льду. Он не слышал криков. Он
видел только насмерть перепуганного малыша, который
не мог выговорить и слова.
Около полыньи на льду образовалась лужа. Он до-
шел до края и, не раздумывая, выставил одну ногу впе-
ред. Ботинок сразу зачерпнул воду. Где-то в глубине ду-
ши он понимал, что сейчас лед может треснуть и он
окажется в воде вместе с посиневшим пацаном. Но это
не остановило его. Он переставил вторую ногу и очутил-
ся по щиколотку в воде.
166
Теперь Ковалев уже не кричал и не размахивал рука-
ми, а напряженно выжидал, что будет дальше. Он ви-
дел, как тюфяк схватил малыша за руку, как стал обла-
мываться лед.
Наконец первоклассник очутился на льду. Он шел,
вцепившись окоченевшими руками в своего спасителя.
Зубы его стучали. А по лицу текли слезы.
Когда они вышли на берег, Ковалев оживился.
— Ты ноги промочил,— сказал он товарищу,— беги
домой, а пацана я сам доведу.
Тюфяк посмотрел на спасенного им парня, перевел
взгляд на мокрые ботинки и сказал:
— Валяй!
Ковалев схватил за руку мокрого, перепуганного
мальчишку и куда-то потащил его.
Тюфяк поплелся домой. Его переживания быстро
притупила усталость. И теперь оставались только про-
мокшие ноги и легкий озноб.
Дома он с трудом стянул с себя ботинки. Из них по-
лилась вода.
— Что это? — спросила мама, недовольно глядя на
перепачканный паркет.
— Промочил ноги,— растягивая слова, ответил
мальчик.
— Где это тебя угораздило? — Мама пожала плеча-
ми и пошла за тряпкой.
Он хотел было рассказать маме, как было дело, но
его начало клонить ко сну и одолевала зевота, и даже
в теплой комнате не проходил озноб. Он не стал ничего
объяснять, лег на диван и зажмурил глаза.
Неожиданно он подумал, что если бы на нем были
тяжелые рыцарские доспехи, то лед сразу бы проломил-
ся и он не сумел бы спасти пацана.
Он быстро уснул.
На другой день, когда после второго звонка он во-
шел в класс, там никого не было. Оказывается, все ушли
наверх, в актовый зал, на общую линейку. Он бросил
портфель на парту и поплелся на четвертый этаж.
Когда он вошел в зал, все уже построились большой
буквой «П». Он протиснулся между ребятами и стал в
заднем ряду.
В это время заговорил директор школы. Он сказал,
167
что вчера на реке ученик Дима Ковалев спас перво-
классника, провалившегося под лед, и что он, директор,
восторгается смелым поступком ученика.
Потом выступала старшая вожатая. Она говорила
о пионерском долге, о чести красного галстука и нако-
нец зачитала письмо матери провалившегося пацана, в
котором Димка назывался спасителем ее сына.
Стиснутый со всех сторон ребятами, тюфяк стоял у
стенки и слушал, как все хвалят Димку Ковалева. В ка-
кую-то минуту ему хотелось сказать, что Димка врет —
никого он не спасал, а просто махал руками и кричал.
Но от одной мысли привлечь к себе внимание ему стало
стыдно, и все три бугорка покраснели.
В конце концов он и сам поверил, что Димка — ге-
рой вчерашнего происшествия: ведь он первым заметил
тонущего. И когда все захлопали Димке, тюфяк захло-
пал тоже.
Линейка кончилась. Ребятам велели расходиться по
классам. И тюфяк, подталкиваемый товарищами, по-
плелся обратно на второй этаж.
Он с трудом протиснулся за парту — сдвинул ее с
места,— а когда начался урок, взял в короткие пухлые
пальцы тоненькую ручку и в тетрадке по арифметике
стал рисовать рыцаря. Этот рыцарь был фиолетового
цвета, как школьные чернила.
ДЕВОЧКА
С ВАСИЛЬЕВСКОГО ОСТРОВА
Умерли все. Осталась одна Таня.
Из дневника Тани Савичевой.
Ленинград, 1942 год
Я Валя Зайцева с Васильевского острова. У меня
под кроватью живет хомячок. Набьет полные щеки, про
запас, сядет на задние лапы и смотрит черными пугов-
ками... Вчера я отдубасила одного мальчишку. Отвесила
168
ему хорошего леща. Мы, Василеостровские девчонки,
умеем постоять за себя, когда надо... У нас на Васильев-
ском всегда ветрено. Сечет дождь. Сыплет мокрый снег.
Случаются наводнения. И плывет наш остров, как ко-
рабль: слева — Нева, справа — Невка, впереди — от-
крытое море.
У меня есть подружка — Таня Савичева. Мы с ней
соседки. Она со Второй линии, дом 13. Четыре окна на
первом этаже. Рядом булочная, в подвале керосиновая
лавка... Сейчас лавки нет, но в Танино время, когда ме-
ня еще не было на свете, на первом этаже всегда пахло
керосином. Мне рассказывали.
Тане Савичевой было столько же лет, сколько мне
теперь. Она могла бы давно уже вырасти, стать учитель-
ницей, но навсегда осталась девчонкой... Когда бабушка
посылала Таню за керосином, меня не было. И в Румян-
цевский сад она ходила с другой подружкой. Но я все
про нее знаю. Мне рассказывали.
Она была певуньей. Всегда пела. Ей хотелось декла-
мировать стихи, но она спотыкалась на словах: спот-
кнется, а все думают, что она забыла нужное слово. Моя
подружка пела потому, что, когда поешь, не заикаешься.
Ей нельзя было заикаться, она собиралась стать учи-
тельницей, как Линда Августовна.
Она всегда играла в учительницу. Наденет на плечи
большой бабушкин платок, сложит руки замком и хо-
дит из угла в угол. «Дети, сегодня мы займемся с вами
повторением...» И тут споткнется на слове, покраснеет
и повернется к стене, хотя в комнате — никого.
Говорят, есть врачи, которые лечат от заикания.
Я нашла бы такого. Мы, Василеостровские девчонки,
кого хочешь найдем! Но теперь врач уже не нужен. Она
осталась там... моя подружка Таня Савичева. Ее везли
из осажденного Ленинграда на Большую землю, а До-
рога жизни не помогла ей. Ее убили фашисты. Не пулей,
не снарядом — голодом. Не все ли равно, чем убивают.
Может быть, пулей не так больно, как голодом?..
Я решила отыскать Дорогу жизни. Поехала на Ржев-
ку, где начинается эта дорога. Прошла два с половиной
километра — там ребята строили памятник детям, по-
гибшим в блокаду. Я тоже захотела строить.
Какие-то взрослые спросили меня:
— Ты кто такая?
169
— Я Валя Зайцева с Васильевского острова. Я то-
же хочу строить.
Мне сказали:
— Нельзя! Приходи со своим районом.
Я не ушла. Осмотрелась и увидела малыша, голо-
вастика. Я ухватилась за него:
— Он тоже пришел со своим районом?
— Он пришел с братом.
С братом можно. С районом можно. А как же быть
одной? Я сказала им:
— Понимаете, я ведь не так просто хочу строить.
Я хочу строить своей подруге... Тане Савичевой.
Они выкатили глаза. Не поверили. Переспросили:
— Таня Савичева твоя подруга?
— А чего здесь особенного? Мы одногодки. Обе с
Васильевского острова.
— Но ее же нет...
До чего бестолковые люди, а еще взрослые! Что зна-
чит «нет», если мы дружим? Я сказала, чтобы они по-
няли:
— У нас все общее. И улица, и школа. У нас есто
хомячок. Он набьет щеки...
Я заметила, что они не верят мне. И чтобы они пове-
рили, выпалила:
• — У нас даже почерк одинаковый!
— Почерк? — Они удивились еще больше
— А что? Почерк!
Неожиданно они повеселели, от почерка:
— Это очень хорошо! Это прямо находка. Поедем с
нами.
— Никуда я не поеду. Я хочу строить...
— Ты будешь строить! Ты будешь для памятника
писать Таниным почерком.
— Могу,— согласилась я.— Только у меня нет ка-
рандаша. Дадите?
— Ты будешь писать на бетоне. На бетоне не пишут
карандашом.
Я никогда не писала на бетоне. Я писала на стенках,
на асфальте, но они привезли меня на бетонный завод и
дали Танин дневник — записную книжку с алфавитом —
а, б, в... У меня есть такая же книжка. За сорок копеек.
Я взяла в руки Танин дневник и открыла страничку.
Там было написано:
170
«Женя умерла 28 дек. 12.30 час. утра 1941 г.».
Мне стало холодно. Я захотела отдать им книжку и
уйти.
Но я Василеостровская. И если у подруги умерла
старшая сестра, я должна остаться с ней, а не удирать.
— Давайте ваш бетон. Буду писать.
Кран опустил к моим ногам огромную раму с густым
серым тестом. Я взяла палочку, присела на корточки и
стала писать. От бетона веяло холодом. Писать было
трудно. И мне говорили:
— Не торопись.
Я делала ошибки, заглаживала бетон ладонью и
писала снова. У меня плохо получалось.
— Не торопись. Пиши спокойно.
«Бабушка умерла 25 янв. 3 ч. дня 1942 г.».
Пока я писала про Женю, умерла бабушка.
Если просто хочешь есть, это не голод — поешь ча-
сом позже. Я пробовала голодать с утра до вечера. Вы-
терпела. Голод — когда изо дня в день голодает голова,
руки, сердце,— все, что у тебя есть, голодает. Сперва
голодает, потом умирает.
«Лёка умер 17 марта в 5 часов утра 1942 г.».
У Леки был свой угол, отгороженный шкафами, он
там чертил. Зарабатывал деньги черчением и учился.
Он был тихий и близорукий, в очках, и все скрипел у се-
бя своим рейсфедером. Мне рассказывали. Где он умер?
Наверное, на кухне, где маленьким слабым паровозиком
дымила «буржуйка», где спали, раз в день ели хлеб.
Маленький кусочек, как лекарство от смерти. Леке не
хватило лекарства...
— Пиши,— тихо сказали мне.
В новой раме бетон был жидкий, он наползал на
буквы. И слово «умер» исчезло. Мне не хотелось писать
его снова. Но мне сказали:
— Пиши, Валя Зайцева, пиши.
И я снова написала — «умер».
«Дядя Вася умер 13 апр. 2 ч. ночь 1942 г.».
«Дядя Леша 10 мая в 4 ч. дня 1942 г.».
Я очень устала писать слово «умер». Я знала, что с
каждой страничкой дневника Тане Савичевой станови-
лось все хуже. Она давно перестала петь и не замечала,
что заикается. Она уже не играла в учительницу. Но не
сдавалась — жила. Мне рассказывали... Наступила вес-
171
на. Зазеленели деревья. У нас на Васильевском много
деревьев. Таня высохла, вымерзла, стала тоненькой и
легкой. У нее дрожали руки и от солнца болели глаза.
Фашисты убили половину Тани Савичевой, а может
быть больше половины. Но с ней была мама, и она дер-
жалась.
— Что же ты не пишешь? — тихо сказали мне.— Пи-
ши, Валя Зайцева, а то застынет бетон.
Я долго не решалась открыть страничку на букву
«М». На этой страничке Таниной рукой было написано:
«Мама 13 мая в 7.30 час. утра 1942 года». Таня не на-
писала слово «умерла». У нее не хватило сил написать
это слово.
Я крепко сжала палочку и коснулась бетона. Не за-
глядывала в дневник, а писала наизусть. Хорошо, что
почерк у нас одинаковый. Я писала изо всех сил. Бетон
стал густым, почти застыл. Он уже не наползал на буквы.
— Можешь еще писать?
— Я допишу,— ответила я и отвернулась, чтобы не
видели моих глаз.— Ведь Таня Савичева моя... по-
дружка.
Мы с Таней одногодки, мы, Василеостровские дев-
чонки, умеем постоять за себя, когда надо. Не будь она
Василеостровской, ленинградкой, не продержалась бы
так долго. Но она жила — значит, не сдавалась!
Открыла страничку «С». Там было два слова: «Сави-
чевы умерли». Открыла страничку «У» — «Умерли все».
Последняя страничка дневника Тани Савичевой была
на букву «О» — «Осталась одна Таня».
И я представила себе, что это я, Валя Зайцева, оста-
лась одна: без мамы, без папы, без сестренки Люльки.
Голодная. Под обстрелом. В пустой квартире на Вто-
рой линии. Я захотела зачеркнуть эту последнюю стра-
ницу, но бетон затвердел, и палочка сломалась.
И вдруг про себя я спросила Таню Савичеву: «По-
чему одна? А я? У тебя же есть подруга — Валя Зайце-
ва, твоя соседка с Васильевского острова. Мы пойдем
с тобой в Румянцевский сад, побегаем, а когда надоест,
я принесу из дома бабушкин платок, и мы сыграем в
учительницу Линду Августовну. У меня под кроватью
живет хомячок. Я подарю его тебе на день рождения.
Слышишь, Таня Савичева?»
Кто-то положил мне руку на плечо и сказал:
172
— Пойдем, Валя Зайцева. Ты сделала все, что нуж-
но. Спасибо.
Я не поняла, за что мне говорят «спасибо». Я ска-
зала:
— Приду завтра... без своего района. Можно?
— Приходи без района,— сказали мне.— Приходи.
Моя подружка Таня Савичева не стреляла в фаши-
стов и не была разведчиком у партизан. Она просто жи-
ла в родном городе в самое трудное время. Ио, может
быть, фашисты потому и не вошли в Ленинград, что в
нем жила Таня Савичева и жили еще много других дев-
чонок и мальчишек, которые так навсегда и остались
в своем времени. И с ними дружат сегодняшние ребята,
как я дружу с Таней. А дружат ведь только с живыми.
...И плывет наш остров, как корабль: слева — Нева,
справа — Невка, впереди — открытое море,
ЯБЛОЧКИ ЗЕЛЕНЫЕ
В предрассветном тумане шинели бойцов стали се-
ребряными: вместе с подорожниками, стеблями и длин-
ными иглами сосен роса покрывала колючее солдатское
сукно. Но немного погодя, когда взошло солнце, от ши-
нелей пошел пар и снова проступили темные следы огня,
грязь, глина и пятна крови.
Он сидел, прислонясь к дереву, а длинную винтов-
ку— она досталась ему от убитого бойца — зажал меж-
ду колен. Штык винтовки казался темной веткой, вы-
росшей из главного ствола... Подстриженные под машин-
ку волосы мысиком спускались ко лбу. Подстрижены
они были наспех, неровно, как неумело вспаханный
клин. Глаза припухли от перенапряжения и недосыпа-
ния. На подбородке выросла редкая щетинка.
Никто не знал его имени и фамилии, потому что в
отряде вообще никто никого не знал: он был сформиро-
173
ван вчера из отдельных бойцов, которых военная судь-
ба привела к трем соснам у шоссе. И у самого отряда не
было ни наименования, ни номера, ни штаба, которому
бы он подчинялся. Был только приказ: задержать танки,
елико возможно. А вся боевая техника отряда состояла
из винтовок и бутылок с горючей смесью.
На петлицах у него было три кубаря, на рукаве алая
звездочка. По этим знакам различия можно было опре-
делить, что он политрук. Его так и называли «политрук»,
а фамилии никто не спрашивал. Не было времени.
Теперь он сидел под деревом с закрытыми глазами,
но не спал, а напряженно прислушивался к далекому
гулу боя, чтобы не прозевать танки. Он ждал их с неос-
лабеваемым беспокойством, как больные ждут приступа
боли. Скорей бы началось и скорей бы кончилось.
Этой ночью вообще мало кто спал. Даже тупая уста-
лость и многодневное недосыпание не могли заставить
бойцов забыться в глубоком сне. Все ждали танков.
Иногда кому-нибудь из бойцов мерещилось, что слышит
нарастающий гул, и он вскакивал с земли и крадучись
выходил на шоссе.
Все жили предчувствием страшного неравного боя,
а политрук уже был в бою — в бою с людскими страха-
ми. Он шел от одного к другому. Он не видел лиц тех,
с кем говорил, не знал их, а они не видели его и тоже
не знали. Времени для знакомства не было.
— Боишься? — спрашивал он бойца, привалившего-
ся к пеньку.
— Боюсь,— признавался тот.
— Зря боишься!
— Так уж зря? Немца шапками закидаем?! Ты в
бутылку налей чего хочешь, а бутылкой танк не остано-
вишь. Не та сила. Что скажешь, товарищ политрук?
Он задумывался, потом отвечал:
— Знаешь, что такое ахиллесова пята? Это — уязви-
мое место. Она есть у любого оружия. И у танка. Глав-
ное— попасть в моторную группу. Подпустить побли-
же, и...
— Ишь ты! «Поближе»... А как он тебя перепашет?
— Не перепашет. Ты притаишься. Танк плохо видит.
Особенно вблизи. Вблизи он ни черта не видит. Пропу-
сти его и бросай. Знаешь, какой фейерверк будет, яб-
лочки зеленые!
174
Он терпеливо объяснял. Уговаривал. Упрашивал.
— Слушай, политрук, тебе что, больше всех надо? —
спрашивал из темноты хриплый голос.
— Больше всех.
— Почему же это?
— Мама меня таким родила.
— Ты не отшучивайся. Говори дело. Жить небось хо-
чешь?
— Хочу. Потому и обвешался бутылками. Если тан-
ки доползут до Москвы, до Волги, разве будет жизнь...
Мне, что ли, больше других надо!
Трудно было говорить с озлобленными людьми.
Озлоблены-то они были против немца, но не может че-
ловек быть наполовину зол, наполовину добр. Злой ру-
бит сплеча налево и направо.
— Вот ты уговариваешь нас идти на танки с голыми
руками. Ты хоть танк когда-нибудь видел?
— Видел,— сказал политрук.
Никогда он не видел танка. Боевого танка с черными
крестами на броне. Он в армии-то был третий день.
— А может быть, ты бил фашистские танки пол-лит-
рами с горючей смесью? А? — послышался в темноте
другой голос.
— Бил! — сказал политрук.
— И хорошо получалось?
— Здорово, яблочки зеленые!
— Может быть, покажешь, как это делается?
— Покажу,— ответил политрук.
Когда-то в детстве он слышал рассказ о комиссаре
полка времен гражданской войны, который первым бро-
сился грудью на проволочные заграждения под Пере-
копом.
Теперь ему, политруку, прежде чем отдать жизнь,
надо поджечь танк. Бутылкой с горючей смесью. Если
же он не сделает этого, то танки пройдут. И даже от-
данная жизнь его ничего не будет стоить.
Безымянный отряд долго ждал танков. Но когда они
наконец появились, страшная неожиданность сковала
всех. Из-за поворота мимо низкого молодого леска по-
полз первый — приземистый, широкий, с контурами кре-
стов на пыльной броне. Танк шел медленно. Он позвяки-
вал гусеницами, как трактор, который с пашни выбрал-
ся на мощеную дорогу. Время от времени у него сбоку
175
возникало синее облачко выхлопа. Танк еще не стрелял
и не давил, но страшная тяжесть прижала отряд к зем-
ле, навалилась на бойцов. И никто не мог сбросить ее,
освободиться.
Политрук встал. Поднял с земли брезентовую сумку
с темными бутылками, закупоренными резиновыми проб-
ками, прячась за деревья, двинулся навстречу танкам.
Но страх быть раздавленным заглушался другим —
страхом не сделать дело. Сейчас политрук как бы пре-
вратился во взрыватель, без которого весь отряд бесси-
лен. И его страх был скорее похож на доблесть.
Собственная жизнь приобрела какое-то второстепен-
ное значение, и ему некогда было думать о ней. Он де-
лал дело. Он нырнул в кювет. Достал бутылку. Притаил-
ся. Танк приближался. Цепной звон гусениц уже стоял
над ухом. Душно запахло перегретым маслом. Синее
ядовитое облачко поплыло по траве и коснулось его лица.
Политруку казалось, что танк ползет медленно, потому
что всматривается в него, прилаживается, как бы полов-
чее раздавить его. Всю ночь он объяснял людям, что это
не страшно, а самому ему ничего никто не объяснил...
Он оторвался от земли, привстал, размахнулся.
Сквозь грохот танкового хода не было слышно звона
разбившейся бутылки. Но на броне затанцевали зыбкие
язычки пламени. Однако танк не остановился, он шел
вперед. Как саламандра, выходил он невредимым из
огня.
Как же так? Может быть, действительно бутылкой
не одолеть танка? Политруку стало страшно — но уже
не танка, не пуль, а тех десятков прищуренных глаз, ко-
торые напряженно наблюдали за ним. «Может быть, по-
кажешь, как это делается?» Яблочки зеленые! Он почув-
ствовал себя одиноким, зажатым между двух огней, и,
чтобы вырваться из этого кольца, поднялся с земли и
побежал за танком. Он швырнул в него еще бутылку и
еще одну. И черный столб встал за машиной. За спиной
грохнуло. Вдалеке из-за леска выходил второй танк —
это он выстрелил из орудия. Где-то правее хрястнул раз-
рыв. Политрук упал в кювет.
А танк горел. Из моторной группы — из ахиллесовой
пяты — валил дым и выскальзывали прочные языки пла-
мени. Открылся люк, видимо, танкисты хотели выпрыг-
нуть на землю, но пламя перевалило через край, затек-
176
ло внутрь, и над люком застывшего танка встал второй
столб дыма. Стальная громада горела, подожженная
поллитровой бутылкой с горючей смесью, а по камням
дороги ручейками текла ее черная кровь и тоже горела.
Политрук оглянулся. Он увидел за деревьями бой-
цов безымянного отряда. И ему показалось, что это бы-
ли не те люди, которые ночью делились с ним своими
страхами,— эти стояли, обвешанные брезентовыми сум-
ками с непонятным грозным оружием, разлитым по бу-
тылкам, и, полные решимости, ждали приближающегося
врага.
В разгаре боя люди забыли о политруке. Они были
уверены, что сами раскусили секрет странного оружия,
и сами научились распознавать уязвимое место танка, и
сами совладали со своими страхами. А со временем па-
мять о политруке уместилась в озорной присказке — яб-
лочки зеленые!
...В большом кинотеатре шел старый военный фильм,
и временами казалось, что в зале сидят бойцы. А свобод-
ные места — места тех, кто не вернулся из боя. На экра-
не под ножницами саперов звенела колючая проволока.
Из казенника орудий, как из печки, вылетали окутан-
ные дымом гильзы. На бреющем полете шли штурмови-
ки. И смелые истребители танков ползли навстречу
стальным громадам.
И вдруг в напряженной тишине кто-то произнес:
— Яблочки зеленые!
В зале было темно и невозможно было рассмотреть
лицо человека, который бросил эту озорную присказку.
А ВОРОБЬЕВ
СТЕКЛО НЕ ВЫБИВАЛ
Мне жалко людей, которые рано перестали верить
в сказки, разлюбили зверей и птиц, забыли дорогу в дет-
ство. Они редко припадают к незамутненному родничку
7 Багульник 177
далекого детства, чтобы смыть копоть обыденности, зо-
лотую пыльцу корысти, разъедающую сердце, и туман
самообольщения, который плотной пеленой застилает
глаза. Куда охотнее люди осуждают поступки своего
детства, не замечая их чистоты и цельности. Они сни-
сходительно посмеиваются, пожимают плечами и не пы-
таются разглядеть в своем детстве то первозданное,
кристаллическое состояние души, которое утратили с
годами.
Я часто имею дело с детьми, и мое собственное дет-
ство мне кажется не таким отдаленным. И я неожиданно
для себя начинаю ощущать себя не взрослым человеком,
а состарившимся мальчиком. Это странное состояние, ра-
достное и грустное одновременно, неожиданно увеличи-
вает в своем значении события детских лет. И рядом со
мной все чаще появляется мой школьный товарищ Се-
мин — Марк Порций Катон Старший.
Его двойник, живший во втором веке до нашей эры
в Риме, прославился тем, что всю жизнь, изо дня в день,
упорно повторял: «Карфаген должен быть разрушен!»
ЛАой друг не требовал разрушения Карфагена, и не
потому, что этот прекрасный город был разрушен рим-
лянами задолго до его рождения (в 146 году до нашей
эры),— просто он был добрым малым. Однако имя рим-
ского цензора он носил с завидным достоинством.
Эта необычная история началась с разбитого стекла.
Толстое, шершавое, как бы покрытое морозным инеем,
стекло в дверях директорского кабинета оказалось раз-
битым. И напоминало броню, пробитую снарядом. В об-
разовавшейся бреши, как в пасти чудовища, торчали
острые зубы осколков, и директор, маленький подвиж-
ный человек с розовой безволосой головой, выглядывал
из этой зубастой пасти. В этот день у него был сокру-
шенный вид, как у человека и впрямь попавшего в
пасть.
— Кто разбил стекло?
Естественно, тот, кто всегда бьет стекла: портфелем,
мячом, корзинкой для бумаг, локтями. Воробьев! Если
собрать все стекла, разбитые за недолгий век Воробье-
вым, то их хватит, чтобы застеклить новый дом. Итак,
позвать сюда Тяпкина-Ляпкина, то бишь Воробьева!
Воробьев заглянул в «пасть» директорской двери:
— Звали?
178
— Войди! — приказали из «пасти».
Воробьев открыл дверь. Осколок стекла с легким
звоном упал к его ногам. В этом звоне звучал укор.
— Ты выбил стекло? — спросил директор, поглажи-
вая маленькой рукой бронзовую лошадь чернильного
прибора.— Ты?
— Не-е! — односложно ответил Воробьев.
Казалось бы, все ясно. Ведь никто лучше Воробьева
не знал, выбивал он стекло или не выбивал. Но, оказы-
вается, ничего не было ясно. По крайней мере, директо-
ру. Он сказал:
— Пойди подумай. Зайдешь на следующей пере-
мене.
— Подумаю,— буркнул Воробьев, хотя думать ему
было нечего.— Зайду.
На следующей перемене «пасти» в дверях директор-
ского кабинета уже не было: ее забили фанерой. Чистой,
еще не исписанной словами и словечками. Воробьев по-
стучал в фанеру.
— Подумал? — спросил директор.
— Подумал,— соврал Воробьев.
— Ты выбил стекло?
— Не-е!
Директор ударил рукой по крупу бронзовой лошади.
— Воробьев! Хоть раз в жизни признайся чистосер-
дечно, тогда тебе ничего не будет.
Это был деловой разговор!
— Мать вызывать не будете? — поинтересовался
мальчик.
— Не будем!
Воробьев устало посмотрел на директора — верить
или не верить? — и решил рискнуть:
— Я выбил... Можно идти?
— Иди,— с облегчением сказал директор и почти с
любовью посмотрел на Воробьева.
А Воробьев посмотрел на директора, как на соучаст-
ника в заговоре.
На этом история с разбитым стеклом могла благо-
получно завершиться, если бы Семин не был в душе
Марком Порцием Катоном Старшим. В тот же день мой
школьный товарищ открыл дверь с фанерой вместо стек-
ла и с твердостью, с какой его римский двойник произ-
носил: «Карфаген должен быть разрушен!», сказал:
179
— А Воробьев стекло не выбивал!
— Это что еще за новости?! — Рука директора осед-
лала бронзовую лошадь чернильного прибора.
— А Воробьев стекло не выбивал! — повторил Се-
мин.
— Кто же, по-твоему, выбил?
— Не знаю.
— Вот-вот,— оживился директор,— не знаешь, а го-
воришь! Воробьев сам признался. Понятно?
— Понятно,— ответил Марк Порций Катон Стар-
ший.— А Воробьев стекло не выбивал.
Розовая голова директора поплыла по кабинету, как
воздушный шарик.
— Воробьев говорит — выбил, ты говоришь — не вы-
бивал! Кому прикажешь верить?
— Мне! — приказал упрямый римлянин.
Директор вспыхнул:
— Позвать Воробьева!
Позвали. Воробьев пришел.
— Ты выбил стекло?
— Я,— как по-заученному, выпалил Воробьев.
— Что ты на это скажешь, Семин? — победоносно
спросил директор моего школьного товарища.
— Он врет! — ответил Семин.
— Какой ему резон врать? Если бы он отпирался,
тогда другое дело. Но он признается. Не вижу логики!
— Он врет! — повторил Семин, который видел ло-
гику.
— Отстань ты! —лениво буркнул Воробьев и тайком
погрозил Семину кулаком.— Я выбил.
— Теперь ты убедился? — Директор торжествующе
трепал по холке бронзового коня.
— А Воробьев стекло не выбивал!
— Во-он!—тихо сказал директор, и его розовая го-
лова стала пунцовой.
Так была упущена еще одна возможность раз и на-
всегда покончить с выбитым стеклом. История продол-
жалась.
В классе шел сбор, посвященный сбору колосков в
подшефном колхозе. Все шумно обсуждали колоски.
Спорили. Брали обязательства. Мой товарищ поднял
РУКУ*
180
— Обязуюсь собрать мешок колосков,— сказал он и
тут же добавил:—А Воробьев стекло не выбивал!
— Какой Воробьев? Какое стекло? — растерялась
вожатая.— Ведь мы говорим о колосках!
— Так я и говорю о колосках,— сказал Марк Пор-
ций Катон Старший.— А Воробьев стекло не выбивал.
— Выбил,— мрачно сказал Воробьев: он был верен
уговору, держал слово.
— Ну конечно, выбил,— подхватила вожатая,— а ко-
лоски...
— Не выбивал,— стоически повторил двойник рим-
ского цензора.
— Семин, ты говоришь не на тему,— огорчилась во-
жатая.— Не срывай сбор, посвященный сбору...
— Я за колоски! А Воробьев стекло не выбивал!
На вечере самодеятельности Семину поручили чи-
тать стихотворение Пушкина «Вьюга». Он вышел на сце-
ну, заложил руки за спину, привстал на носочки и объ-
явил:
— Стихотворение Александра Сергеевича Пушкина
«Вьюга»,— потом еще выше привстал на носочки и вы-
дохнул:— А Воробьев стекло не выбивал!
Он произнес эту фразу горячо и вдохновенно, как
строку пушкинского стихотворения. Зал загудел. Засме-
ялся. Захлопал.
А Марк Порций Катон Старший смотрел в темный
зал и широко улыбался. Он думал: ребята хлопают, шу-
мят и смеются потому, что согласны с ним. Он вдохнул
поглубже и радостно стал читать стихотворение:
Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя...
В зале стоял гул, шумели, но он не слышал шума, он
читал с душевным жаром, и ему казалось, что пушкин-
ские строки подтверждают его правоту. Директор, си-
дящий в первом ряду, поднялся со стула и пошел прочь,
сказав, чтобы Семина немедленно прислали к нему.
Прямо со сцены Семина подвели к дверям директор-
ского кабинета. К тому времени фанеру уже успели ис-
писать и изрисовать вольностями, ее пришлось выки-
181
нуть. На ее место вставили толстое шершавое стекло,
как бы покрытое морозным инеем. Семин постучал в но-
вое стекло. Вошел.
— Долго это будет продолжаться? — спросил дирек-
тор.
— Что... продолжаться? — спросил мальчик.
— «А Воробьев стекло не выбивал!» — голосом Се-
мина произнес директор.
Семин немного подумал и тихо сказал:
— Всегда.
Тогда директор положил обе руки на спину бронзо-
вой лошади и сказал:
— Среди древних римлян тоже встречались чудаки.
Калигула, например, мечтал сделать своего любимого
коня консулом и приводил его в сенат. А цензор Марк
Порций Катон Старший все речи в сенате начинал сло-
вами: «Карфаген должен быть разрушен!», но так и не
дожил до того дня, когда римляне смели с лица земли
этот прекрасный город. Кто же ты? — спросил директор
моего школьного товарища Семина.— Калигула или
Марк Порций?
И мой друг, не моргнув глазом, ответил:
— Марк Порций Катон Старший.
Он стоял перед директором в погергой курточке, в
ботинках со сбитыми каблуками, маленький, щуплый,
так не похожий на могущественного римлянина в про-
сторной тоге, как бы сшитой из двух простыней. Но в
своей гордой непреклонности он был похож на своего
древнего двойника. Римский цензор требовал мести —
мой друг хотел справедливости, поэтому был выше цен-
зора на целую голову.
С этого момента в нашей школе не стало Семина, а
появился Марк Порций Катон Старший. Его только так
и называли. А он всюду и везде — на пионерских сборах,
на классных собраниях, на встречах с любимыми писа-
телями— повторял свою неизменную истину: «А Воро-
бьев стекло не выбивал!» Сперва на него сердились, с
ним спорили. Потом привыкли и стали воспринимать его
слова как шутку.
Прошли годы. Уже давно ребята из нашего класса
перестали бить стекла. А самый главный стеклобой Во-
робьев отпустил усы — жиденькие, рыжие усишки — и
очень гордился ими. Холил и лелеял... Наступил выпуск-
182
ной вечер. Все пришли в школу нарядные, возбужден-
ные. Очень шумели, чтобы заглушить грусть. Все произ-
носили речи, как взрослые. Учителя тайком смахивали
с глаз слезу и говорили, что лучше нас не было и не
будет. И вот тогда «средь шумного бала» неожиданно
поднялся наш Марк Порций Катон Старший и сказал:
— А Воробьев стекло не выбивал!
Все засмеялись, решили, что теперь-то это шутка.
И ждали, что наш римлянин тоже засмеется. Но на его
лице не было лучиков смеха: глаза смотрели напряжен-
но, а сам он был очень серьезен. И все почувствовали,
что он не шутит. На прощальном вечере у него остава-
лась последняя возможность доказать свою чудакова-
тую правоту.
— Честное слово... не выбивал...
Его голос дрогнул. Пальцы на руках задвигались: он
пытался сжать их в кулак, а они, как на пружинках, рас-
прямлялись. Ребята притихли, а наш маленький дирек-
тор с розовой безволосой головой спросил:
— Послушай, Семин, чего ты добиваешься?
— Правды,— сказал Семин.
— Это было так давно...
— У правды не выходит срок.
— Но правда эта выеденного яйца не стоит. Малень-
кая правда.
Мой друг твердо посмотрел в лицо директору и ска-
зал:
— Правда не бывает маленькой. Правда всегда
большая. Меня так дома учили. Стоит один раз изме-
нить правде, и тогда уже не остановишься... Воробье?;
стекло не выбивал!
И тогда поднялся Воробьев и, прикрывая усы ладо-
нью, словно стесняясь их, сказал:
— Не выбивал. Я в тот день в футбол гонял на со-
седнем дворе. А в школе меня не было.
— Кто же выбил злосчастное стекло? — вырвалось
у директора.
— Если по правде, то я,— сказал длинный парень,
за свой рост прозванный «Верстой».
Так закончилась эта малозаметная история. Но все
собравшиеся в актовом зале вдруг почувствовали облег-
чение, словно после тяжелого знойного дня припали гу-
бами к холодному роднику.
СТРИЖЕНЫЙ ЧЕРТ
Ранним утром прибрежные камни холодны, как ис-
топленные печи. И все вокруг сырое и,холодное — песок,
галька, бурые валки выкинутых морем водорослей, сна-
сти, развешанные на кольях, и само солнце, только
всплывшее, необсохшее, парное. Через два часа оно под-
нимется, раскалится, натопит печи. Но в эту пору
камни еще холодные.
Неподалеку от берега на волнах играют дельфины.
Их появление над водой напоминает плавный поворот
колеса. А шумное дыхание — тяжелый вздох человека.
Я — подросток. Большеголовый, стриженный под
машинку, с уже успевшим отрасти черным колючим ежи-
ком волос. Мои коленки, пятки, локти покрыты темной
бизоньей кожей. Белки глаз в красных прожилках от со-
леной воды — я учусь нырять с открытыми глазами.
Карманы набиты кислыми зелеными яблоками, кото-
рые я грызу с утра до вечера. Я слоняюсь по берегу и
слушаю человеческие вздохи дельфинов и все стараюсь
угадать, в каком месте дельфины вынырнут снова, но
мне это никогда не удается.
Тем временем на берегу появляется пограничник с
собакой. И я тут же увязываюсь за ним. Я достаю из
кармана новое яблоко и принимаюсь яростно грызть
его — делаю вид, что просто прогуливаюсь и просто гры-
зу яблоко. На самом деле я не свожу глаз с собаки.
Собака грузная, с густым подшерстком, с основа-
тельным угольным чепраком вдоль спины. От боков к
животу цвет шерсти меняется, становится табачным.
Самый же низ живота, лапы и опушка хвоста совсем
светлые. Собака ступает тяжело, хотя и бесшумно. Од-
но ухо порвано. На задней ноге, на бедре, темные шра-
мы, заросшие редкой шелковистой шерстью.
Я сразу замечаю рваное ухо, темный шрам. Бросаю
в море недоеденное яблоко и прибавляю шаг...
Очень хорошо помню этот день, хотя прошла целая
184
вечность и стриженый подросток все реже всплывает
в памяти. Он даже на фотографиях поблек, выцвел, стер-
ся. Но подробности этого дня хорошо помню, словно он
был вчера или позавчера.
Я прибавил шагу, а пограничник не обращал на ме-
ня внимания. Собака же оглянулась и холодно посмот-
рела в мою сторону темными, как загустевшая смола,
глазами. В ее взгляде я прочел не злобу, а превосход-
ство старшего над младшим. Это не охладило моего ин-
тереса, напротив — подлило масла в огонь. Я не отста-
вал от пограничника.
Неожиданно он остановился и сказал собаке:
— Давай искупайся... напоследок.
Собака радостно взвизгнула и со щенячьей неловко-
стью завиляла хвостом. Она, видимо, поняла все слова,
кроме слова «напоследок». А пограничник отстегнул по-
водок, поднял с песка закрученный штопором корень
винограда и швырнул его в зеленоватую воду. Собака
присела на задние лапы, а передние поджала в стреми-
тельном прыжке. И вот она уже плыла, взбираясь на
невысокие волны, фыркая, отворачивая голову от осы-
пающихся пенистых гребней. Она ловко подхватила зу-
бами корень, что качался на волне, и повернула обратно.
Одно ее ухо как бы надломилось и торчало в сторону:
в ухо попала вода.
Собака выбежала на берег. Прилипшая к бокам мок-
рая шерсть блестела, а с живота свисала сосульками,
с них текла вода. Собака оперлась на передние лапы,
вытянула шею и отряхнулась, рассыпая в стороны водя-
ную пыль. Ее глаза сверкали, смола в них посветлела.
Пограничник снова бросил корень. И собака броси-
лась в море.
— Уезжаешь на гражданку? — спросил я, стараясь
держаться независимо.
Он покачал головой.
— Значит, переводят на другую заставу?
— Нет,— сказал пограничник.
— Почему же «напоследок»?
Пограничник отвернулся и стал наблюдать за соба-
кой. Она плыла медленно, преодолевая накатывающие
валы, и ее уши — два маленьких паруса — качались на
волнах, то появлялись, то пропадали. Пограничник сто-
ял у самой кромки моря, и его сапоги вымокли, но он
185
не обращал на это внимания. Он был высокий, с вьющи-
мися светлыми волосами, с глубокой впадиной между
нижней губой и подбородком. Глаза его были скрыты
козырьком фуражки. Гимнастерка пузырилась на спине
от ветра.
— Яс ней два года отслужил,— как бы самому себе
сказал он.— Имеем десять задержаний. Один раз взяли
крупную птицу. Его высадили в море с аквалангом. Он
и по скалам лазал, как кошка. Собака его нагнала,
крепко прихватила. Он ее по бедру ножом... Но мы его
все-таки взяли.
— А рваное ухо? — спросил я в надежде выведать
еще одну историю.
— Это еще в питомнике, до службы,— сказал погра-
ничник и принял от подошедшей собаки мокрый вино-
градный корень.— Теперь она отслужила свое.
— Значит, она уезжает,— высказал я новую догадку.
Собака сидела у его ног на песке и тяжело дышала.
Ветер сушил ее шерсть. Глаза прищурены. Уши под-
жаты.
— Когда я пришел на заставу, собака была уже в
возрасте, но ко мне быстро привыкла. Она ласковая, хо-
тя в деле на нее можно положиться. Теперь плохо слы-
шит и клыки стерлись...
Он говорил тихо и вдруг резко повернулся ко мне и
закричал:
— Уезжает?! На тот свет она уезжает. Старая. Ни-
кому не нужна. И какое тебе дело! Отстань ты от меня,
стриженый черт!
Стриженый черт не тронулся с места. Он сразу смек-
нул, что пограничник кричит не на него, а на самого
себя и на тех, кто послал его усыпить собаку, которая
столько лет охраняла границу, не спала, мерзла, мокла,
была ранена в бою, а теперь состарилась и никому не
нужна. Стриженому черту стало страшно от этой ледя-
ной несправедливости, и он подумал, что, когда соста-
рится и станет никому не нужным, его тоже поведут к
ветеринару и усыпят.
— Понимаешь, я ничего не могу сделать... порядок
такой.— Пограничник уже не кричал, не ругался, а го-
ворил тихо. Он оправдывался передо мной, потому что
перед самим собой ему было куда трудней оправдаться.
Мы зашагали по берегу. Собака шла рядом. Ее тя-
183
желая голова была опущена. Собака как бы догадыва-
лась, что должно произойти что-то страшное. Но она
шла, потому что доверяла человеку, другу, которого
узнавала в темноте по шагам, по голосу, по запаху. Она
не допускала мысли о предательстве.
У меня же подкашивались ноги. Все во мне перевер-
нулось. Все разрушилось. Мне стали противны море,
песчаный берег, спина пограничника, на которой пузы-
рем раздувалась гимнастерка. И его бессилие. Бессилие
сильного человека вдвойне отвратительно.
— Рогов приказал, понимаешь,— тихо сказал по-
граничник.
— Сволочь твой Рогов,— вырвалось у меня.
Он словно не расслышал моих слов. Он говорил:
— Он не любит собак... У него своя собака сидит на
цепи... некормленая... Но, понимаешь, приказ.
А собака шла по укатанному морем песку тяжелы-
ми, бесшумными шагами.
Иду за пограничником и его собакой и плачу. Слезы
разъедают мне глаза, как морская вода, от которой на
белках появляются красные прожилки. Слезы текут по
щекам и щиплют уголки рта. Я — стриженый черт, с
бизоньей кожей на локтях, коленях и пятках. Я собираю
зеленые яблоки и набиваю ими карманы. А потом ем,
морщась и сплевывая. Я ничего не знаю в жизни путно-
го. Все зависит от того, куда подует ветер. Я еще не за-
вел настоящих друзей и не нажил врагов. Теперь все
изменилось: у меня есть враг — Рогов. Это по его прика-
зу убьют собаку, потому что она старая, даром ест
хлеб. В Африке было дикое племя, которое бросало ста-
риков на съедение хищникам, потому что от стариков
никакого прока. Наверное, Рогов из того племени. Не-
навижу все это племя.
Я иду и плачу от собственного бессилия и от бесси-
лия пограничника, который ведет на смерть своего вер-
ного друга. Это не приказ, а приговор, жестокий и не-
справедливый. Во мне накапливается горячая, непрохо-
дящая горечь. Она подступает к горлу и замутняет со-
знание. Я не выдерживаю и бросаюсь на солдата и
колочу его кулаком по широкой спине, по плечам. В сле-
дующее мгновение от сильного толчка я лежу на песке
и на моей груди передними лапами стоит собака. Клыки
оскалены, нос сморщен.
187
— Ко мне!—командует пограничник. Собака остав-
ляет меня.— Ты что, сдурел? — Это он говорит уже мне.
В его голосе почему-то нет злости. Я поднимаюсь
медленно. Как побитый. Стряхиваю сырой песок, налип-
ший к штанам. Я уже не плачу. Ветер высушил слезы и
стянул на лице кожу.
— Отдай мне собаку, ты все равно убьешь ее,— гово-
рю я и не узнаю своего голоса.— Я буду ее кормить.
— Не имею права. Приказ.
Опять к горлу подступает горечь. Она душит меня.
Я не могу говорить. Где-то совсем близко от берега
вздохнул дельфин. Я тоже пытаюсь вздохнуть. Не могу.
Нет дыхания.
— Если собаку убьют, я брошусь со скалы,— гово-
рю я.
— Зачем?
— Брошусь!
— Я бы дал тебе собаку. Но я должен привести ее к
ветеринару.— Тут он смотрит на меня долго, вниматель-
но и, словно искру, бросает мысль:—Может быть, вете-
ринар...
Я подхватываю эту искру на лету:
— Если он отдаст мне собаку, я буду каждую неде-
лю мыть полы в лечебнице.
Сам не знаю, почему подумал о полах. Отроду не
мыл полов. Но, видимо, в такие минуты люди не думают
об умении, неудобствах, трудностях. Главное — не дать
погаснуть искре.
— Если он подпишет акт, что собаку принял...— го-
ворит солдат.
— У нас дома есть сарай. Можно жить в сарае, там
и зимой не холодно,— говорю я.
— Ей еды немного надо. Она старая. Похлебка,
хлеб,— подхватывает солдат.
— Она не будет голодной,— продолжаю я.
— Думаю, уговорим ветеринара...— Солдат немного
повеселел.— Если ее убьют, я и сам изведусь.
Сейчас я слышу голос пограничника не таким, как
тогда. Теперь все другое. И тот стриженый черт годится
мне в сыновья. И я его принимаю как сына: во мне бьет-
ся его кровь.
Я хорошо помню, как мы шли втроем по берегу и как
на мокром укатанном песке оставались трефовые следы
188
собаки. Они превращались в маленькие озерца, волна
посильнее стирала их, они возникали снова. Неужели их
не будет совсем?
Мы пришли к ветеринару. Заняли очередь. Перед на-
ми были лошадь, еж, синичка и кошка„ Лошадь хрома-
ла, кошка не ела. Что было с ежом и синичкой, ей-богу,
не помню.
Сели на длинную скамейку. Собаку пограничник по-
садил перед собой и придерживал ее коленями. Собака
устала, ей было жарко, и набок свешивался большой ро-
зовый язык с темными родимыми пятнами. В коридоре
стоял крепкий лекарственный дух. На стене стучали
медленно шагающие часы.
Ветеринар долго не приходил. Он занимался лоша-
дью. Он был универсалом. Однажды вылечил дельфина,
которого волной ударило о скалы. Говорят, ветеринар
почти не разговаривал: привык иметь дело с бессловес-
ными пациентами, которые не могут ответить даже на
самый простой вопрос: «Где болит?» Его бессловесные
терпеливы, ни на что не жалуются, не то что словесные...
Я набрался смелости и провел рукой по голове овчар-
ки. Она не огрызнулась: видимо, начинала понимать ме-
ня. Высохшая шерсть свалялась на боках паклей. А на
спине сединой проступила соль.
Потом пришел ветеринар. Грязный халат висел на
нем мешком. Руки скрючены. Лицо желтое, морщинис-
тое. Под губой жидкий хохолок-бородка. Шея тонкая,
под кожей кадык величиной с абрикосовую косточку.
Ветеринар мне не понравился. Меня охватила мелкая
дрожь. Я подумал, что, как только мы переступим порог
кабинета, старик сделает свое дело, и собаки не станет.
Если бы можно было схватить собаку за поводок и убе-
жать! Но разве она побежит со мной? Собака сидела
смирно. Только порой поворачивала голову и смотрела
на своего друга. Она смотрела как-то грустно и вопроси-
тельно. Пограничник отводил глаза.
Подошла наша очередь. Мы вошли. Старик сидел за
столом и что-то записывал в толстую книгу. В уголке
рта у него торчала давно погасшая папироска.
— Что у вас? — сухо спросил он, не поднимая голо-
вы и продолжая писать.
Мы молча переглянулись. Он бросил писать.
— У вас язык отнялся?
18Э
Старик уставился на пограничника, потом на меня
и остановил взгляд на собаке. Он сосал погасшую папи-
роску и долго рассматривал собаку, словно рассчиты-
вал узнать от нее больше, чем от нас. Пограничник по-
нял, что больше молчать нельзя, он сказал:
— Яс заставы... Прислали усыпить собаку. Но вот
тут нашелся парень.— Он легонько подтолкнул меня
вперед.— Он хочет взять ее. Но мне нужен документ.
Ветеринар резко повернулся ко мне и спросил:
— Ему собаку?
— Ему,— подтвердил пограничник.
— Не справится,— буркнул старик.
Я понял, что сейчас все пропадет, и в отчаянии крик-
нул:
— Справится!
Старик впился в меня маленькими слюдянистыми
глазами и резко спросил:
— Что будешь делать с собакой?
Я растерялся и ответил невпопад:
— Буду ее кормить...
— Этого собаке мало... для жизни!
Я почувствовал, как покрываюсь испариной. Старик
держал меня под прицелом. Он испытывал меня, и от то-
го, выдержу я его экзамен или нет, зависела жизнь ста-
рой верной собаки. Я ничего не успел подумать, я думал
только о том, как спасти ее.
— Огород сторожить надо? — спросил меня ветери-
нар.
— Нет у нас никакого огорода. У нас есть сарай.
Я н$ дам ее в обиду. Я... Я...
— Не кипятись,— остановил меня старик.— Спокой-
но. Собака будет жить. У меня уже есть три собаки...
брошенные. Будет четыре. Мы — люди.
— Мы люди,— повторил я за стариком,— у меня ма-
ма добрая. Она разрешит.
— Ладно,— сказал старик.
Собака посмотрела на своего хозяина, как будто он,
а не сухой желтолицый старик с кадыком решал ее
судьбу. Она тихо взвизгнула то ли ог радости, то ли от
нетерпения, то ли случайно.
Я посмотрел на старого ветеринара и тихо сказал:
— Спасибо.
— За такие вещи не благодарят! — прикрикнул он.—
190
И вообще, если человек не чурбан, не значит, что за это
его следует благодарить.
Если человек не чурбан! А кто же? Стриженый черт?
Я покосился на стеклянную дверку белого медицинского
шкафа. И увидел себя — обыкновенного, такого, как
всегда, только мои глаза с красными прожилками воин-
ственно поблескивали, а отросший черный ежик сердито
топорщился на голове.
Светило окрепшее солнце. За окном шумело море.
Рядом пахло собачьей шерстью. Я вдыхал этот запах,
как запах жизни. А старик все не выпускал изо рта
погасшую папироску.
Этот день всегда рядом со мной, хотя множество
дней моей жизни затерялись вдали, остались где-то за
горизонтом.
ЦВЕТОК ХЛЕБА
Сколько маленький Коля помнил себя в войну, он
всегда был голодным. Он никак не мог привыкнуть, при-
ладиться к голоду, и его ввалившиеся глаза сердито по-
блескивали, постоянно искали добычу. Черноволосый,
нестриженый, взъерошенный, с проступающими реб-
рышками, он был похож на маленького исхудалого вол-
чонка. Он тянул в рот все, что было съедобным,— ща-
вель, вяжущие ягоды черемухи, какие-то корни, дикие
лесные яблоки, пронзительно кислые и крепкие. Дома
ему давали болтанку и хлеб. Мать добавляла в муку
веники — вымолоченные метелки проса, и хлеб был тя-
желый, вязкий; ог него пахло сырой глиной. Но и этот
хлеб голодный мальчонка съедал мгновенно, жадно по-
сапывая раздутыми ноздрями.
Один раз за всю войну он наелся хлеба вдосталь.
И хлеб был не из веников — настоящий. Его принесли с
собой наши автоматчики. Они вошли в хату ночью. Их
191
тяжелые шинели и сбитые сапоги были измазаны чем-то
белым и фосфоресцировали в полутьме, словно к ним
налипли хлопья снега. А на дворе шел дождь. Бойцы
пришли не из степи, а спустились с меловых гор, спуск
был трудным, и они измазались в мелу. В теплой хате
от солдат шел банный пар, и сразу запахло табачным
дымом, мокрыми портянками, ременной кожей и аро-
матным свежим житником, который они выкладывали
на стол.
От ночных гостей в хате стало тесно, как на вокзале,
и маленький Коля почувствовал себя не дома. Он забил-
ся в угол и опасливо наблюдал за пришельцами. И тут
его заметил скуластый солдат, прихрамывающий на ле-
вую ногу. Он поманил к себе Колю:
— Эй, хозяин, пойди-ка сюда. Хлебушка хочешь?
Мальчику захотелось крикнуть: «Хочу! Хочу!» Но к
горлу подкатил ком. Он не мог произнести ни слова и
молча глотал слюну.
— Ты, наверно, плотно поужинал?
Коля растерянно заморгал, а скуластый солдат раз-
вязал мешок и сунул ему в руку большой кусок хлеба.
У голодного мальчика закружилась голова. Он вскараб-
кался на печку, зажмурил глаза и припал к хлебу. Он
дышал хлебом, ласкался к нему, согревал его руками и
щекой. Он откусывал то мякиш, то с веселым азартом
грыз корку, и покойная сытость сладко разливалась по
телу. Коля подобрел от хлеба, как взрослые добреют
порой от вина. Ему казалось, что все вокруг хлебное: и
лежит он на хлебе, и под головой у него мягкий хлеб,
и покрыт он теплым хлебом. Он уснул. И всю ночь ему
снился хлеб.
...Когда война подходила к концу, мать посеяла на
огороде полоску пшеницы. Вскоре из земли проклюну-
лись робкие всходы. Они были похожи на траву. Маль-
чик пожевал травинку и не почувствовал хлебного вку-
са: трава как трава. Может быть, никакого хлеба и не
будет. Но трава начала сворачиваться в трубку.
— Скоро наш хлеб зацветет,— говорила мать.
И все ждали, и Коля ждал, и ему на память прихо-
дил свежий солдатский житник и счастливая хлебная
ночь, которая то ли была на самом деле, то ли присни-
лась. Коля ждал, что хлеб зацветет голубыми цветами
или алым маковым цветом. А может быть, как вишня,
192
покроется белой метелицей. Он так и не заметил, как
цветет хлеб. Появились колосья — глазастые, голубова-
тые, чуть запотевшие. Потом полоска стала соломенной.
Когда собрали первый урожай, бабушка на радостях
испекла два коржа величиной с подсолнух. Коржи были
пахучие, румяные. Бабушка смазала их масляным пе-
рышком и посыпала солью, крупной, как толченое стек-
ло. От коржей шел жар, и они светились, как два малень-
ких посоленных солнца.
Мальчик сидел перед столом, и его ввалившиеся гла-
за приросли к коржам. Он ждал, когда ж его угостят,
и вдыхал в себя теплый дух испеченного хлеба. Он еще
сдерживался, чтобы не протянуть руку и не взять без
спроса завидное угощение. Наконец бабушка подошла
к нему и сказала:
— Отведай, внучок, моего коржа.
Какая-то скрытая пружина сработала внутри — ру-
ки мгновенно устремились к коржу, пальцы крепко сжа-
ли его и потянули в рот. Корочка обжигала губы, соль
пощипывала язык, ноздри раздувались, боясь упустить
толику вкусного запаха. Нет, корж был повкуснее сол-
датского житника, но он таял с неудержимой силой, и
вскоре в руке мальчика остался тоненький полумесяц.
И его скоро не стало... Коля облизал губы, облизал паль-
цы и тяжело вздохнул. А второй корж, румяный, целе-
хонький и наверняка еще более вкусный, лежал на столе
и призывно улыбался всей своей рожицей.
— Отнеси этот корж деду,— сказала бабушка.
— Давай отнесу,— упавшим голосом сказал Коля.
Дед был очень старым и жил на пасеке. Домой он
приходил в те редкие дни, когда на огороде топили про-
копченную, покосившуюся баньку. Все лицо деда зарос-
ло щетиной, словно из подбородка и шек торчало множе-
ство железных гвоздиков. Коля боялся приблизиться к
деду, чтобы не уколоться.
Бабушка завернула горячий корж в лопух и протя-
нула его Коле. Сперва он нес свою дорогую ношу в
руках. Потом лопух пришлось выбросить, а корж спря-
тать за пазуху, чтобы его не отняли мальчишки. Корж
был горячим, он жег кожу, а крупная соль въедалась в
обожженное место. Коле казалось, что он несет за пазу-
хой сердитого зверька и зверек кусает его живот. Но
он терпел. Он прошел мимо мальчишек, и они не запо-
193
дозрили, какой вкусный гостинец спрятан у Коли за
пазухой.
Дед не услышал прихода внука. Он сидел перед пче-
линым водопоем — перед желобком, по которому текла
вода. Пчелы облепили желобок и пили, опуская хоботки
в прохладную воду. Дед подставлял руку, и вода стека-
ла ему в ладонь. Он подносил ладонь ко рту и пил пче-
линую воду, она была сладковатой. Пчелы ползали по
плечам, по голове деда, забирались в ушную раковину.
Они не кусали деда. Они его признавали за своего.
Дед обрадовался. Он вертел корж в руках и нюхал.
А Коля стоял перед стариком, поглощенный надеждой,
что дед разломит корж пополам.
— Хороший корж,— сказал дед.
— Хороший,— тут же согласился Коля.
— Без немцев и земля лучше родит! —Дед опустил
руку с коржом.— Как там бабка-то? Ползает?
— Ползает,— вздохнул мальчик и, чтобы не думать
больше о корже, спросил: — Дед, а тебе медаль дадут
за немцев?
— Зачем медаль? — сказал он.— Мне бы здоровья.
Дед не стал есть гостинец, а отнес его в шалаш. До
чего же жадный дед! Совсем одичал со своими пчела-
ми. Он специально спрятал корж, чтобы не делиться и
потом спокойно жевать его, макая в липкий гречишный
мед.
Коля собрался уходить. В последнюю минуту, когда
дед протянул котомку с грязным бельем — пусть бабка
простирнет! —у Коли что-то дрогнуло, и он чуть не по-
просил у деда кусочек коржа. Но сумел побороть минут-
ную слабость. И промолчал.
Он шел не спеша, размахивая котомкой, и думал о
том, что, когда кончится война, в доме будет много хле-
ба и он будет есть коржи утром, в обед и вечером. А сей-
час корж ест дед — он, Коля, уже сьел свой. Мальчик
представил себе деда, который долго перемалывает без-
зубым ртом запеченную корочку. Старый, наверное, и
вкуса-то не чувствует.
Дома он сунул бабушке котомку и буркнул:
— Дед велел простирнуть!
— Как он там, не болеет? — насторожилась бабушка.
— Чего ему болеть-то? — сказал Коля.— Пасет себе
пчел.
194
Бабушка молча принялась выкладывать на лавку де-
душкино бельишко, рассматривая, где надо заштопать,
где залатать. На дне котомки оказалась чистая тряпи-
ца, завязанная узлом. Бабушка неторопливо развязала
непослушными пальцами узел. В тряпице лежал корж.
Она ничего не сказала. Положила нежданный гости-
нец перед внуком.
Румяное, густо посыпанное солью солнышко ослепи-
ло мальчика. Радостный огонек вспыхнул в его глазах.
Он проглотил слюну, предвкушая угощение, и протянул
руку к коржу. Но какое-то незнакомое чувство удержа-
ло его руку. Это чувство оказалось сильнее голода, важ-
нее хлеба. Значит, дед не жует корж и не макает его в
гречишный мед, а пьет свою подслащенную водичку,
которая заглушает голод, и пчелы ползают по его пле-
чам... И он воевал с фашистами, а медали ему не надо.
Коля сполз со скамейки и пошел прочь... Но через
некоторое время он вернулся. Взял со стола остывший
корж. Аккуратно завернул его в чистую тряпицу л по-
ложил в дедушкин сундук, где лежали старые сапоги,
шапки, дратва, мешок с самосадом и штык, привезенный
с прошлой войны.
ПОМНИТЕ ГРИШУ!
— Разрешите войти? Моя фамилия Маслов. Здрав-
ствуйте. Спасибо, я действительно сяду: наш разговор
может затянуться. Нет, нет, я не по поводу квартиры, и
с пенсией у меня тоже все в порядке. Я живу в другом
городе, на Севере, а здесь проездом. Совершенно слу-
чайно узнал от соседа по купе, что вы здесь работаете.
И сошел с поезда. Да, исключительно ради вас, если
вы действительно тот, за кого я вас принимаю? Вас зо-
вут Николай Федорович? Николай Федорович Бурлак?
Вы родились в шестнадцатом году, 23 апреля? В дерев-
не Колограды? Рост 176 сантиметров, густая черная
195
шевелюра, лицо скуластое... Нет, это не допрос, это из
материалов допроса. Все это было подтверждено на за-
седании немецкого военного трибунала в городе К.
И даже имеется ваша подпись. До войны — на комсо-
мольской работе. В сороковом году вступили в партию.
Правильно?
Моя фамилия Маслов, но она вам ничего не говорит.
Мы с вами никогда не встречались. Не пытайтесь вспом-
нить. Не в этом дело... В сорок третьем году за актив-
ную подрывную деятельность против рейха вы были при-
говорены к расстрелу. И расстреляны. Все приметы схо-
дятся. Только шевелюра теперь белая...
Я понимаю ваше нетерпение, но не забегайте вперед.
Пусть лучше память вернет вас к тем дням, когда вы
были членом комитета подпольной партийной организа-
ции в городе К- и когда после взрыва интендантских скла-
дов все члены комитета были схвачены. Все, кроме вас.
Правильно?.. Вы остались единственным человеком на
воле, который знал явки, людей, тайники с оружием. Вы
были паролем и шифром целой боевой организации...
Вам в свое время не показалось странным, что немцы не
схватили вас, вы успели сменить квартиру, предупредить
людей? Я могу вам дать объяснение. Фашисты искали пя-
терых членов комитета, и к ним в руки попали пятеро.
Кто оказался пятым? Совсем еще молодой парниш-
ка. Он попался случайно, и его могли тут же отпустить,
но он назвался вашим именем.
Дайте мне глоток воды... А он действительно был со-
всем не похож на вас, даже если отбросить два десятка
лет. Большие, впалые от голода глаза, потрескавшиеся
губы, чуть оттопыренные уши, голова подстрижена под
машинку. Он стоял посреди камеры, вытянутый, длинно-
ногий, похожий на молодого лосенка... Как немцы пове-
рили ему? Он уговорил их.
«Ты родился в шестнадцатом году?» — спросил сле-
дователь, заглядывая в бумаги.
«Точно,— отозвался лосенок,— 23 апреля. В деревне
Колограды».
Следователь посмотрел на арестованного и пробур-
чал:
«Что-то ты молодо выглядишь...»
«Так у нас воздух целебный. Люди медленно ста-
реют».
196
«А где твоя густая черная шевелюра?»
«Как где шевелюра? Остриг. Видите, какой ежик
темный».
Он наклонил голову и провел рукой по стриженым
волосам. Ежик был мягкий и светлый. Он золотился в
тусклом свете лампочки. Но следователь не обратил на
это внимания. Он не мог устоять перед соблазном от-
рапортовать, что все пятеро в его руках — он дал себя
уговорить.
Никто не просил юношу называться вашим именем.
Когда немцы ушли и железная дверь камеры захлопну-
лась, один из арестованных, приземистый, с рассеченной
бровью, грозно шепнул ему:
«Кто разрешил тебе самовольничать?»
«Я не маленький, все сам понимаю...»
«Ты не понимаешь, чем это пахнет. Завтра на суде
скажешь, как надо».
«Ладно,— буркнул лосенок,—сутки—большое время».
Он, видимо, был близок к подпольщикам и понимал,
что за эти сутки вы, Николай Федорович, успеете спа-
сти от провала многих людей и сохраните организацию.
Да так оно и получилось. Не правда ли?
На другой день состоялся суд. Пятерых подсудимых
ввели в помещение трибунала и посадили на длинную,
узкую скамью. Когда было названо имя Бурлак и юно-
ша встал, приземистый, с рассеченной бровью тоже под-
нялся и сказал:
«Какой он, к черту, Николай Бурлак! Разве вы не
видите — мальчишка!» *
Председатель трибунала, розовощекий старик, под-
нял маленькие брови и наклонил голову набок.
«Значит, он не Бурлак?»
«Нет».
«Господин секретарь, чья подпись стоит под прото-
колом допроса?»
«Бур-лак, господин майор!» — отрапортовал секре-
тарь.
«Бур-лак, это ты поставил подпись? А?» — обратился
председатель трибунала к юноше.
«Я».
«Вот и прекрасно, господин Бур-лак. Вот и пре-
красно».
197
«Да не Бурлак он!» — закричал приземистый с рас-
сеченной бровью.
«Молчать!»
Уж очень им хотелось, чтобы на скамье подсудимых
сидело пять человек — пять членов комитета. Эта круг-
ленькая цифра манила фашистов. Она нужна была им
для донесения, для повышения по службе, для автори-
тета.
Подсудимые сидели на длинной, узкой скамье: чет-
веро взрослых и один юноша, лосенок. Лицо его было
удивительно спокойно, словно он не понимал, что ждет
его за порогом этого неуютного, холодного помещения.
Члены трибунала переговаривались между собой и не
обращали внимания на этих русских, потому что уже
списали их со счета живых людей.
«Зачем ты это сделал, Гриша? Видишь, как дело-то
обернулось»,— с горечью сказал человек с рассеченной
бровью.
«Так надо»,— отозвался ваш двойник.
«Надо-то надо. Но мы свое пожили, а ты молодой».
«Кто-то должен... чтобы остальные жили»,— тихо
сказал Гриша.
Когда членов подпольного комитета повели на рас-
стрел, приземистый замедлил шаг и жестом подозвал
переводчика.
«Послушай,— сказал он глухо,— если у тебя сохра-
нилась хоть капля совести и тебя не убьют ни хозяева,
ни наши, расскажи людям, что этого парня, доброволь-
ца, звали Гришей Мезиным. Пусть помнят Гришу!»
Переводчик кивнул и отвел глаза...
А вы не знали Гришу Мезина? Не припоминаете?
Он вас тоже, наверное, не знал... Откуда «23 апреля»
и «село Колограды»? Так ведь до войны вас избирали в
городской Совет! Наверное, Гриша голосовал за вас.
Их расстреляли на исходе дня. И Гришу тоже. И в
ту же ночь в городе произошло три взрыва: взлетела в
воздух электростанция, вспыхнул эшелон со снарядами,
рухнула на землю водонапорная башня. Это был салют
погибшим товарищам и Грише. Да что вам об этом рас-
сказывать, когда это было делом ваших рук.
Откуда мне известны подробности? Я был перевод-
чиком у немцев... Нет, Николай Федорович, не по своей
воле — по заданию командования... Теперь, оглядыва-
198
ясь на те годы, я думаю, что у каждого из нас был свои
безымянный Гриша, который на смертном рубеже ока-
зался впереди... Кто-то должен... чтобы остальные жи-
ли... Но как после этого нужно жить!
Жаль, что судьба поздно свела нас с вами и вы ни-
чего не знали о Грише, Теперь вы все знаете. Помните
Гришу!
ОБВИНЕНИЕ
Десант был выброшен ночью. Семеро моряков по-
прыгали в мелкую воду и, едва удерживаясь на ногах,
стали пробираться к берегу. Волны накрывали их с пле-
чами и холодным липким огнем жгли шею, лопатки,
руки. Они шли, спотыкаясь о камни, падая, поддержи-
вая друг друга. Наконец море выпустило их на берег и
захлопнуло за спиной дверь.
Море гремело. Оно заглушало хлюпанье мокрых са-
пог, хруст гальки, частое дыхание. Но оно не могло за-
глушить мысли о том, что в любую минуту десант мо-
жет наткнуться на засаду. Они шли медленно, чуть
пригнувшись, словно боялись задеть за что-то головой.
От сильного ветра плащ-палатки трещали, как паруса.
Потом десантники остановились.
Было так темно, что они не видели ни скал, ни мо-
ря, ни самих себя. Командир устроил перекличку. Он
называл фамилии шепотом.
— Дроздов!
— Я здесь,— донесся из темноты глухой немолодой
голос.
— Коновалов!
— Тут.— Отрывистый голос, он как бы отрубил ко-
роткое слово «тут».
— Чантурия!
— Здесь, старшина! — рассыпался на ветру звонкий
молодой басок.
— Степаненко!
199
Никто не откликнулся.
— Степаненко! Где Степаненко?
— Здесь,— наконец отозвался тягучий, неторопливый
голос.— Воду из сапога выливал.
— Смоляницкий!
— На месте! — Голос звучал прерывисто, он как бы
дрожал от холода.
— Озаренок!
— Я! — прозвенел тонкий юношеский голос.
— Ладно,— сказал командир,— все выбрались. Те-
перь пошли. После взрыва отходим в горы. К морю воз-
вращаться нельзя. Оружие, взрывчатка целы?
Никто не отозвался. Значит, целы. Десант двинулся
вперед.
В небольшом приморском городке мало кто помнит
об отчаянном десанте, который выбросили на берег, за-
нятый врагом. Кроме нескольких стариков, никого не
осталось из тех, кто жил тогда в городе. Да и самого
города почти не осталось. Сожженный и разрушенный
фашистами, он заново родился уже после войны, и в
нем все было новым: улицы, дома, люди. Только сего-
дняшним детям кажется, что их город существовал веч-
но и что он всегда был таким, как есть.
И вместе с тем в городе нет ни одного человека, ко-
торый не знал бы о десанте. Десант стал достоянием го-
рода, его гордостью, его собственным Бородином.
И когда вдали от дома жители рассказывают о своем
городе, то не преминут сказать:
— Наш город, конечно, не велик, но во время вой-
ны в нем был высажен героический десант моряков...
В маленьких городах всякое известие распростра-
няется с невероятной быстротой. Как пламя, перекиды-
вается оно из одного дома в другой, с улицы на улицу
и охватывает город как пожар.
Так южный приморский городок узнал о прибытии
следователя.
Следователь прибыл из области по «сигналу». Сиг-
налом было письмо. В письме сообщалось о хищении
двух машин бетона и указывались номера машин. Сле-
дователь был молодым. Это было его первое расследо-
вание, и настроен он был крайне воинственно.
200
...Вступив на берег, десантники молча двинулись к
окраине города. Глухая, беззвездная ночь укрыла их,
сделала невидимыми, но она так же старательно укры-
ла немецкие посты, которые охраняли огромные цистер-
ны с горючим. Сперва моряки лепились к скалам. Потом
скалы кончились. Началась равнина. Они пошли цепоч-
кой. Один за другим. Каждый как бы старался скрыться
за спиной впереди идущего и прикрыть собой шагающего
сзади. И только командиру не за кем было укрываться.
Потом они наткнулись на колючую проволоку скла-
да и залегли. Если бы тогда их спросили, чего они бо-
ятся больше всего, они бы ответили: света, солнца, дня.
Поэтому они спешили. Когда резали колючую проволо-
ку, она звенела, как лопнувшая струна. Струна с шипа-
ми. И приходилось глушить этот предательский звук,
раздирая руки ржавыми шипами.
Первого часового снял Чантурия. Он увидел тем-
ную бесформенную массу, которая медленно надвига-
лась на него. Он бросился часовому под ноги. Тот упал.
И в следующее мгновение гибкий Чантурия очутился на
его спине...
К исходу ночи все сбросили плащ-палатки и в брешь
проникли на территорию склада. Они добрались до вы-
соких, темных цистерн, наполненных горючим. Подло-
жили взрывчатку. Зажгли бикфордовы шнуры. От холо-
да и ссадин руки у всех были каменными и пальцы с
горящими спичками дрожали. Но они сделали все, как
надо.
И тут неизвестно откуда возникший часовой дал оче-
редь. Кто-то из десантников упал на землю. Двое това-
рищей подхватили его и бросились обратно к бреши.
Никто не отстреливался. Все еще надеялись, что темная
ночь укроет их от пуль. Но у самой проволоки еще кто-
то споткнулся. Тихо вскрикнул. Упал. Тогда командир
швырнул гранату. Он кинул ее как камень, с силой и
злостью. Граната не взорвалась. А может быть, она и
взорвалась, но ее вспышка и треск потонули в страшном
гуле и в слепящем огне первой взорвавшейся цистерны.
Потом грянул второй, третий взрыв. Воздух стал жар-
ким и удушливым. Пламя раздвинуло ночь, подняло не-
бо, разлилось по земле.
Где-то завыла сирена, С караульной вышки ударил
пулемет.
201
Яркий свет сорвал с моряков шапки-невидимки. Они
приняли на себя огромный яркий свет, как принимают
на себя огонь. На виду у врага они отходили к морю,
отстреливаясь, падая и вновь поднимаясь. Их было уже
только четверо.
Теперь на месте немецкого бензосклада построены
белые трехэтажные дома и разбит сквер с кипарисами.
Трудно поверить, что в центре этого огромного пожара
могла возникнуть жизнь. Тогда сгорело все, даже зем-
ля. Пожар невозможно было потушить, да никто и не
пытался этого сделать.
Мертвый, выжженный «остров» существовал еще не-
сколько лет после войны. Старожилы городка хорошо
помнят его. Потом на «острове» начали строить дома.
В одном из этих домов в гостинице поселился следова-
тель из области. Он скоро узнал о десанте и о пожаре
на складе горючего. Но его не занимали события дале-
ких лет. Он смотрел из окна на кипарисы и думал, с че-
го ему начать свою работу. Он решил допросить шофе-
ров. Номера их машин были известны из письма. Сле-
дователь направился в автоколонну.
— Куда вы возили бетон третьего мая? — спросил
следователь водителя первого самосвала.
— Третьего мая? Бетон? В совхоз «Виноградный».
Мы весь май туда бетон возили.
Следователь повел плечами и пристально посмотрел
в глаза шоферу. Глаза у шофера были серовато-голу-
бые, они смотрели не то вопросительно, не то насмеш-
ливо. Они обезоруживали следователя, но тот не сда-
вался.
— На бетон были документы?
— А как же!
Тогда следователь пошел в открытый бой.
— Мне известно,— сказал он,— что третьего мая вы
отвезли одну машину бетона не по назначению.
— Налево? — уточнил шофер.
— Налево.
— Товарищ следователь, а кому он нужен, бетон?
Его ни есть, ни пить нельзя.
Этот ответ поставил следователя в тупик. В самом
деле, кому нужен бетон? Разговор с первым водителем
дал маленькую трещинку в прочно сложившемся убеж-
202
дении молодого следователя, что он имеет дело с на-
стоящим преступлением.
Со вторым шофером, пожилым бритоголовым здоро-
вяком, разговор тоже не получился.
— Бетон? Без документов? Попробуйте вывезти.
У ворот стоит Кузьмич. Он вам даст вывезти бетон без
документа! Камень, а не человек!
Следователь совсем приуныл. Он решил искать под-
держку у директора бетонного завода.
Они не смогли пробиться к горам и отходили к мо-
рю. Их тянуло к морю, как будто там, за линией при-
боя, была их родная стихия, которая залижет раны и
прикроет от новых пуль. Прячась за скалы, перебегая от
одного выступа к другому, они отходили под плотным
огнем немцев. Их осталось трое: командир, Дроздов и
Чантурия. Рассвет как бы проявил невидимые ночью
лица. Оказалось, что командир был невысокий, плот-
ный, с широко расставленными глазами. У него была тя-
желая медвежья походка, и руки он держал слегка
оттопыренными. Темный от копоти лоб пересекали три
светлые складки. У Чантурия, ловкого тонкого парня,
были высокие черные бров-и с надломом, а нос с горбин-
кой. По щеке у него текла кровь. Рядом с ним держал-
ся Дроздов. Пожилой, но довольно подвижный мужчи-
на с худым скуластым лицом. Он хромал. И за ним по
гальке тянулся красный след.
Коновалова, Степаненко, Смоляницкого с ними не
было. Они остались у склада горючего. А самый моло-
дой из десантников, Озаренок, погиб уже на подходах к
берегу.
При свете дня пламя стало бледнее. Зато огромные
черные клубы дыма заливали небо тяжелыми жирными
волнами. Дым и пламя стояли высоко над городком, и
трудно было бы себе представить, что эта грозная ог-
ненная стихия разбужена дерзкими руками людей.
Немецкие автоматчики хотя и не отставали от трех
моряков, однако держались на почтительном расстоя-
нии. Им, видимо, не хотелось погибать из-за трех безум-
цев, которые все равно никуда не денутся и рано или
поздно попадут к ним в руки.
Моряки добрались до берега и залегли в скалах, ко-
223
торые громоздились в воде. Они сбросили с себя черные
бушлаты и в тельняшках слились с морем.
Огонь усиливался. Фашисты подходили ближе. А де-
сантники продолжали бой. Раненные, полуживые, они
лежали за камнями и глотали воздух сухими круглыми
ртами. Они были похожи на морских существ, выбро-
шенных на берег и погибающих в чужой, враждебной
стихии.
Сперва погиб Дроздов. Он вдруг вздрогнул и застыл,
уткнувшись лицом в гальку. Потом, вскрикнув, упал
Чантурия. Он прижался щекой к камню и сразу из гроз-
ного бойца превратился в спящего юношу.
Командир метнул в наступающих врагов две грана-
ты и бросился в море.
...Жители приморского городка хорошо знают камени.
стую бухточку, где десантники приняли последний бой.
На камнях, где погибли Дроздов и Чантурия, городские
мальчишки ловят бычков, ставриду и маленьких крабов.
Море давно смыло кровь с пористых скал и унесло в свои
глубокие кладовые круглые бескозырки погибших де-
сантников.
Следователь вошел в кабинет директора бетонного
завода и одернул темный пиджак. Ему было жарко в
пиджаке, в рубахе с тугим воротничком, при галстуке,
но он решил быть в полной форме.
А директор был в полотняных штанах и рубахе на-
выпуск. Он был коренастый, располневший и все время
вытирал со лба пот. Они познакомились. Директор под-
ставил следователю стул. Протянул ему яблоко. Следо-
ватель яблоко есть не стал. Он начал разговор:
— Я буду говорить с вами откровенно. Есть сигнал,
что у вас с завода похищают бетон. Две машины...
— У нас на заводе нет хищений,— отрезал директор.
— Нет, есть! — Следователь решил проявить твер-
дость.— Две машины... третьего мая... вот номера...—
Он протянул директору бумажку, где были выписаны
номера машин, вывозивших с завода бетон без докумен-
тов, и сердито буркнул: — За это полагается судить.
И вы, как коммунист, должны помочь следствию.
Директор тяжело поднялся со стула и неуклюже
прошелся по тесному кабинету. Потом остановился.
Поднял голову.
204
— Хорошо, я помогу,— сказал он и снова сел на
стул.
— Вам известно, для какой цели был вывезен бе-
тон?
— Известно... Я распорядился выпустить с террито-
рии завода две машины без накладных.
Следователь удивленно посмотрел па директора и
повел плечами.
— Куда его дели?
Голос следователя стал жестким. Он шел в атаку.
И директор как бы попятился, отступил. Так, по край-
ней мере, показалось следователю. И он сделал еще
шаг вперед:
— Куда дели бетон?
— Куда дели... Вас это интересует?
— Конечно.
— Тогда поедемте. На место преступления...
На окраине городка, на берегу моря, стоял серый
обелиск. Он был похож на большой кинжальный штык,
поблескивающий на солнце. У подножия обелиска ле-
жали цветы. Одни увядали на жарком солнце, другие,
свежие, сохраняли живые, яркие краски. Веточка гвоз-
дики с горящим пунцовым цветком была похожа на
маленький факел.
— Вот где бетон,— сказал директор, подводя следо-
вателя к обелиску.
Следователь повел плечами и подошел ближе. В за-
стывшем бетоне белела табличка. На ней было написа-
но: «Вечная слава участникам героического десанта».
Дальше шли имена погибших.
Следователь нагнулся к табличке и тихо вслух стал
читать имена. А директор стоял рядом. Ему казалось,
что кто-то делает перекличку. И после каждой фамилии
ему слышались ответы бойцов-десантников.
«Дроздов!»
«Я здесь»,— звучал глухой немолодой голос.
«Коновалов!»
«Тут». Отрывистый голос как бы отрубал короткое
слово «тут».
«Чантурия!»
«Здесь, старшина!» — рассыпался по ветру звонкий
молодой басок.
«Степаненко!»
205
«Здесь,— отзывался тягучий, неторопливый голос.—
Воду из сапога выливал».
«Смоляницкий!»
«На месте!» Голос звучал прерывисто, будто дро-
жал от холода.
«Озаренок!»
«Я!» — звенел тонкий юношеский голос.
Следователь прочел все имена. Их было шесть. Но
он знал, что на окраине городка темной штормовой но-
чью высадилось семь человек. Он уже хотел спросить
у директора, где седьмой, но вдруг ему стало мучитель-
но стыдно. Он сказал:
— Простите.
Когда они возвращались обратно, директор бетонно-
го завода спросил:
— Можно считать следствие законченным?
— Нет,— твердо сказал следователь.
Директор отнесся к его словам безразлично. Он
только сказал:
— Неужели им, погибшим, не полагается из нашей
жизни хотя бы по тонне бетона на брата?
Следователь остановился. Он посмотрел на директо-
ра изумленными грустными глазами и сказал:
— Им полагается вся наша жизнь. И поэтому след-
ствие не закончено. Я не уеду из города, пока не найду
преступника. Того, кто стоял у обелиска, когда его стро-
или, и тайно переписывал номера машин, привозивших
бетон.
— Вы знаете его имя? — спросил директор.
Следователь покачал головой.
— Письмо не подписано.
— Это не преступник,— задумчиво произнес ди-
ректор.
Следователь поднял на него удивленные глаза.
— Это не преступник,— повторил директор,— это
враг.
— Я не уеду из города, пока не найду его.
— Это тебе зачтется как бой. Действуй, сынок,— ти-
хо произнес командир десантников и крепко сжал пле-
чо молодого человека.
ЭВМ
ПЯТЫЙ
Я работаю в городском музее, в разделе войны, на
втором этаже. Каждый день я прохожу по залу, где под
стеклом стоят выцветшие знамена и поблескивает ору-
жие, постаревшее и устаревшее. Здесь, в музейной ти-
шине, оно, наверное, и стрелять-то разучилось. Мины —
они никогда уже не взорвутся; ракетницы — им не суж-
дено посылать в ночное небо тревожные сигнальные ог-
ни; полевой телефон — много лет тому назад замерла в
нем последняя команда... Иногда мне кажется, что я
опустился на морское дно, где, окутанные вечным по-
коем, лежат случайные утонувшие предметы. И никто
никогда не вернет их к жизни.
Однако нельзя загадывать вперед. Случалось, что
музейные экспонаты обретали вторую жизнь. Я знаю,
например, историю пулемета, который от гражданской
войны до Отечественной простоял в музее, а потом сно-
ва очутился в строю, ожил, да еще попал в руки леген-
дарного Цезаря Куникова. И бил музейный пулемет
фашистов не хуже, чем беляков. Нет, нет, кто поближе
знаком с жизнью музея, тот знает, какие поразительные
неожиданности порой потрясают тихие стены хранили-
ща древностей. Случается, что оживает не только ору-
жие. Люди, которых считали погибшими, объявляются,
приходят в музей, говорят: «Вот он я». А под фотогра-
фией стоит дата смерти — 1943 год.
Музей — не морское дно, а мы, работники музея,—
не бесстрастные водяные, копошащиеся в случайных
трофеях подводного царства. Мы собираем отсверкав-
шие молнии, мы храним искры больших пожаров. В на-
ших тихих залах юные сердца начинают стучать жар-
че. А старики не жалеют о прожитой жизни.
Каждое утро я поднимаюсь на второй этаж и по мяг-
кой ковровой дорожке иду через зал. Иногда дорожка
еще не постелена, ее чистят. Тогда пол громко поскри-
пывает под моими шагами. Я прохожу мимо «хромой»
партизанской пушки с самодельным колесом. Мимо вит-
207
рины с личными вещами партизан: бинокли, перочинные
ножи, алюминиевые ложки, коптилки, сапожный инстру-
мент— обычные предметы быта, ставшие музейной цен-
ностью. И документы — поверх лиловой печати заверен-
ные кровью... А над ними на стене висит картина — го-
рящий багрянцем осенний лес. Мирный лес, без
взрывов, без солдат, без войны. Этот лес носит странное
название — Красный Куст. Здесь в течение двух меся-
цев сражались четверо наших разведчиков, окруженных
врагами. Их портреты висят чуть правее. Фотографии
мутные, увеличенные с маленьких, с белыми уголками
для печати... Экскурсоводы обычно останавливаются у
Красного Куста. Я наизусть помню их рассказ, который
приходится слышать изо дня в день:
— Обратите внимание на этот осенний русский лес.
Красные сполохи осин. Желтое невесомое золото кле-
нов. Густая изумрудная зелень елок. И небо высокое,
как бы подсиненное. Издалека этот лес действительно
кажется огромным полыхающим кустом, вокруг которо-
го раскинулись поля. А теперь всмотритесь в лица этих
четверых ребят. Простые, ничем не приметные лица.
Самому старшему из них было двадцать лет...
Если бы меня разбудили ночью, я смог бы продол-
жать этот рассказ. Слово в слово. С любого места.
Да, они не могли прорваться к своим. Но они не
сдавались. Они продолжали драться с врагом. Из раз-
ведчиков они превратились в неуловимых диверсантов,
которые неожиданно появлялись и бесследно исчезали.
Лес помогал им, скрывал их густым покровом. Так они
продержались до первого снега. Листья опали. Красный
Куст погас. Четверо бесстрашных разведчиков лишились
защиты — своего надежного маскхалата. Они оказались
на виду у врага. Им оставалось сдаться или принять
неравный бой. И они приняли бой...
Каждый день, проходя мимо, я как бы здороваюсь
с четырьмя ребятами. Я так привык к ним, что мне ка-
жется— когда-то вместе воевали. И они знали меня —
молодым.
Но однажды, поравнявшись с Красным Кустом, я об-
наружил, что разведчиков не четыре, а пять. Я глазами
пересчитал их, провел немую перекличку. Вместе с че-
тырьмя откликнулся пятый.
208
Я стал рассматривать новичка. Он мало чем отли-
чался от моих старых знакомых. Военная форма вообще
делает людей похожими, а на нем была такая же поно-
шенная гимнастерка с полевыми погонами и пилотка со
звездочкой, как у остальных. Он сидел прямо, словно
проглотил аршин, и изо всех сил смотрел в фотоаппарат.
Над правой бровью виднелся шрам... Под фотографией
было написано имя «С. Афанасьев».
Что за «С. Афанасьев»? Я быстро зашагал к себе в
хранилище. Я перебрал все материалы, связанные с
Красным Кустом. Никакого С. Афанасьева там не зна-
чилось. Я стал расспрашивать экскурсоводов. Никто не
знал, откуда взялся новичок. Все пожимали плечами.
Проще всего было тут же снять со стены эту зага-
дочную фотографию, но я медлил. Может быть, красные
следопыты разыскали пятого неведомого героя Красного
Куста и сами повесили портрет рядом с его товарища-
ми? Может быть, в самом деле был пятый, хотя по всем
официальным документам в разведку отправилось чет-
веро?
Вечером, когда собрались все сотрудники, я спро-
сил их:
— Что будем делать с пятым?
Сотрудники молчали.
— Может быть, снимем его фотографию... до выяс-
нения?
Все покачали головами. Никто не поддержал меня,
словно были в сговоре с таинственным новичком. И я
почувствовал, что сам не решусь снять фотографию.
Побывав однажды в музее, люди редко когда собе-
рутся сюда во второй раз. Они убеждены в неподвиж-
ном постоянстве музеев. А здесь нет застоя. Невидимые
для обычного посетителя течения не прекращаются. Из
глубин забвенья поднимают они все новые и новые, со-
хранившиеся в живых крупицы минувших подвигов.
Проходит время, и на неразгаданные тайны музея про-
ливается свет.
Пятый разведчик Красного Куста ждал своего часа.
И надо же было случиться, что его час настал, когда
в музее был задержан похититель.
Ко мне в комнату вбежала старушка — дежурная по
залу. Волосы у нее торчали в разные стороны, а бантик
на блузке сполз набок.
g Ба1улььик
209
— Скорее, скорее! Средь бела дня подставили стул...
и за фотографию. Но я-то следила. Я-то все видела...
— За какую фотографию? — спросил я.
— Этого... как его... пятого.
— Пятого?!
Вот тебе раз! Одни незаметно вешают фотографию
в музее, другие — похищают.
Я быстро зашагал в зал, к месту преступления, в
ожидании увидеть мальчишку, из тех, кого неудержимо
влечет к гранатам и тесакам. Но похитителем таинст-
венной фотографии оказалась девочка-подросток. Она
стояла под картиной Красного Куста, окруженная эк-
скурсоводами,— длинноногая, белобрысая, с жиденькой
челкой на лбу, в свитере с чернильными пятнами. Она
заложила руки за спину и враждебно смотрела на ме-
ня. Рядом стоял стул с отпечатком подошв, а фотогра-
фия пятого разведчика была перекошена.
— Что здесь происходит? — строго спросил я.
Девочка молчала.
— Ты хотела взять фотографию?
Похитительница кивнула головой.
— Зачем она тебе?
Снова молчание.
— Ты что-нибудь знаешь о нем? — Я кивнул на фо-
тографию.
— Знаю.
Наконец-то нашелся человек, который что-то знает о
таинственном новичке. А может быть, не знает — всего
лишь фантазер?..
— Рассказывай!—потребовал я.
Девочка посмотрела на носки своих ботинок, откаш-
лялась и напряженно, как на экзамене, стала отвечать.
— Афанасьев Вячеслав Петрович, родился в нашем
городе, в семье... — Тут она запнулась и спросила: —
Про семью надо?
— Ты говори о нем!
— Хорошо. О нем... В детстве он увлекался голубя-
ми. В пятом классе болел корью. Остался на второй год
по болезни... Окончил вторую железнодорожную школу.
После школы его призвали на границу.
— Когда это было?
— Что «когда это было»?
— Когда он был призван на границу?
210
— В прошлом году. Он тогда...
Я уже не слушал. Мне стало ясно: Афанасьев родил-
ся, когда война уже давно кончилась, и не имел ника-
кого отношения к четырем разведчикам. Теперь можно
было снять со стены злосчастную фотографию...
Ради чистого любопытства я спросил девчонку-похи-
тительницу:
— Ты не знаешь, случайно, кто повесил этот порт-
рет?
Она посмотрела на меня исподлобья и сказала:
— Знаю.
Она все знала. А мы в музее столько времени ло-
мали голову.
— Выкладывай!
Она не торопилась «выкладывать», Я нетерпеливо
потряс ее за плечо:
— Кто же?
- Я!
— Ты?!
Девчонка спокойно кивнула головой. И тут меня про-
рвало:
— Если все будут развешивать в музее фотографии
своих знакомых, то какой это будет, к черту, музей?
Я кричал на белобрысую девчонку, нарушившую
священные законы музея, а она смотрела на носки сво-
их ботинок.
— Ты знаешь, чьи портреты висят на этом стенде?
— Знаю.
— Нет, ты плохо это знаешь. Эти ребята два месяца
жили в логове врага. Каждый день они рисковали жиз-
нью. Два месяца.
— А он два года.— Она вдруг повернулась ко мне.—
Два года. На границе. Там тоже рискуют жизнью.— Она
распалилась, глаза ее болезненно сузились и сердито
поблескивали.— На войне в тебя стреляют, и ты стре-
ляешь. А на границе знаете как бывает: в тебя стреля-
ют, а ты не смеешь. Потому что нет приказа.
— Но они-то погибли,— тихо сказал я, кивнув на
разведчиков.
— На границе тоже погибают,— не отступала она.—
Только об этих ребятах экскурсоводы рассказывают, а
с границы пришлют похоронную матери. И все.
Она меня окончательно обезоружила, эта похити-
211
тельница музейных фотографий. Выбила из-под ног поч-
ву. И я почувствовал, что опять не смогу снять фото-
графию пограничника со шрамом над бровью.
Длинноногая белобрысая девчонка уставилась на
носки своих ботинок, а я смотрел на фотографию парня,
который хотя и родился целой жизнью позже четырех
разведчиков, но был удивительно похож на них. Почти
не отличался. Та же пилотка — звездочка над переноси-
цей, та же гимнастерка с помятыми погонами... А эк-
скурсоводы выжидательно смотрели на меня.
Я повернулся и медленно пошел прочь, но похити-
тельница окликнула меня:
— Подождите! Я должна взять Славину фотогра-
фию. Можно?
Эта; вздорная девчонка решила, что может распоря-
жаться в музее, как в собственном доме: захотела —
повесила, захотела — сняла. Я промолчал. Я ждал, что
она скажет.
— Понимаете, он скоро приедет домой. Он был ра-
нен в бою на границе. Он залег с пулеметом, а их было
десять. Он не пропустил и х... Когда пришло письмо, я
повесила сюда его фотографию.
Я посмотрел в сторону Славы Афанасьева, и мне по-
казалось, что там, на границе, вместе с ним залегли и
вели огонь по тем, кто посягнул на нашу землю, и эти
четверо ребят из Красного Куста. И кто знает, что бы-
ло бы со Славой, если бы их не было рядом.
— Зачем же именно теперь снимать фотографию? —
тихо спросил я.
— Вы не знаете брата,— печально сказала девоч-
ка.— Если он увидит свою фотографию в музее, он знае-
те что со мной сделает! Он меня в детстве поколачивал.
И снова у Красного Куста осталось четверо бойцов.
Историческая справедливость была восстановлена. Но
меня огорчала эта справедливость: ведь Слава Афанась-
ев как бы связывал четырех погибших разведчиков с
сегодняшней жизнью. Он был принят в их товарищество
как равный. И каждый раз, проходя мимо, я испытываю
невнятное, щемящее чувство, словно этих ребят всегда
было пятеро, а теперь один из них ушел навстречу но-
вым боям.
письмо
С ВУЛКАНИЧЕСКОГО ОСТРОВА
В приходе почтальона всегда есть что-то тревожное,
даже если не ждешь от него ничего, кроме свежей га-
зеты. Нетерпеливый протяжный звонок пробуждает на-
дежду и опасение. Распахнув двери, ты смотришь в лицо
почтальону вопросительно и даже немного заискиваю-
ще. Это чувство осталось со времен войны, когда в
сумке почтальона рядом с весточками от живых лежали
«похоронные» — извещения о смерти.
Когда в один из майских дней в семнадцатой квар-
тире задребезжал длинный звонок, к дверям побежал
213
мальчик в белой майке, худенький, с острыми локтями,
похожий на кузнечика. Он привстал на носочки, реши-
тельно повернул защелку замка и, навалившись всем
телом, открыл дверь. Перед ним на лестничной площад-
ке стояла девушка-почтальон в огромных тупоносых
сапогах. На дворе шел дождь, и к сапогам пристали
комья рыжей глины. Большая почтальонская сумка бле-
стела, как лакированная, и с нее капала вода. На де-
вушке была короткая куртка, подол платья вымок и
прилип к коленкам. Темная прядь волос, пересекающая
щеку, тоже промокла от дождя.
— Выборнова дома? — спросила девушка мальчика,
который разглядывал ее большими коричневатыми гла-
зами.
— У нас нет Выборновой,— ответил он.
— А здесь написано «квартира 17»,— сказала девуш-
ка, рассматривая серый конверт.— Может быть, она
раньше жила?
— Нет, здесь мы всегда жили и еще Кураевы.
— Мне нужна Выборнова,— повторила девушка, не
торопясь уходить: то ли решала, что ей делать с пись-
мом, то ли не хотела возвращаться под дождь.
А мальчик все разглядывал ее и ждал, что будет
дальше. В это время за его спиной показалась женщи-
на в сером халате, затянутом пояском. Рукава халата
были закатаны. В розовых, распаренных руках она дер-
жала таз с бельем, и от рубашек, скрученных жгутом,
шел пар.
— Что там? — спросила она мальчика.
— Письмо принесли,— отозвался он,— только не нам.
Тут в разговор вступила девушка-почтальон:
— Вы не знаете Выборнову? Ей тут письмо.
— Выборнову? — Женщина торопливо поставила на
пол таз и быстро вытерла руки о халат.— Разрешите
мне посмотреть.
Почтальон охотно протянула ей конверт. Женщина
растерянно повертела его в руке и сказала:
— Выборнова Евдокия Васильевна умерла восемь
лет тому назад.
— А родных у нее не осталось?
— Родных?.. — Женщина поправила волосы и отве-
тила не сразу.— Родных у нее не осталось. Но я ее зна-
ла много лет.
214
— Тогда возьмите письмо,— с готовностью сказала
девушка,— только распишитесь в получении.
Она стала рыться в своей сумке, а женщина разо-
рвала конверт и достала оттуда листок. Письмо было
написано ровным почерком, без наклона.
У важаемая Евдокия Васильевна! На днях я пе-
ребирала бумаги мужа, и среди них оказалось
письмо, которое он вез с фронта для передачи Вам.
Выполнить поручение он не смог. Самолет, на ко-
тором он летел, был поврежден осколком и при
посадке разбился. Муж получил тяжелое ранение
и по дороге в госпиталь умер. Его сумка с бума-
гами попала ко мне через полгода. Мне было тя-
жело ее разбирать, и я спрятала ее подальше.
И только недавно, спустя столько лет, я обнару-
жила сумку и нашла в ней письмо, адресованное
Вам. Не знаю, имеет ли для Вас значение пись-
мо, которое шло двадцать лет, но считаю своим
долгом переслать его Вам. Извините за опоздание.
Крылова.
Женщина прочитала этот листок и торопливо доста-
ла из конверта второе письмо. Оно было сложено
по-солдатски, треугольником. Адрес был написан плохо
отточенным карандашом. Обратного адреса не было.
Она осторожно развернула солдатский треугольник,
разгладила его ладонью и стала читать.
Девушка-почтальон давно нашла книжку, где надо
было расписаться, но терпеливо ждала, пока женщина
закончит чтение. И мальчик-кузнечик стоял тут же в
дверях и следил, как она читает.
В старом фронтовом письме было написано:
Дорогая мама! Сегодня с нашего «острова» уле-
тает последний самолет. Спешу написать Вам эти
строки. Военный корреспондент Крылов дал мне
слово доставить Вам письмо. «Остров» — это кло-
чок земли, на котором мы окопались. А вокруг на-
шего «острова» смертельное море — фашисты. Это
звучит красиво, но по существу довольно-таки
скверно. Наш «остров» с каждым днем становится
меньше, и «жителей» на нем убавляется. Надежд
пробиться к своим мало. Но мы не улетаем с «ост-
рова», потому что самолет не может забрать всех.
215
У нас все время идут дожди. И грязь по колено.
Наш «остров» вулканического происхождения:
он возник в огне, в огне и исчезнет. Но это слу*
чится не сегодня и не завтра. Мы еще повоюем.
Передайте привет ребятам: Вовке, Грише и
Жорику. Большой привет Жене. Пусть никто не
обижает Женю.
Берегите себя. А за меня не волнуйтесь. Со
мной все в порядке. Целую.
Ваш сын Алексей. 4 мая 1942 года.
Женщина в сером халате долго не могла оторвать
глаз от смятой странички письма. Письмо было двадцать
лет в пути, и за это время оно угасло для нее, выби-
лось из сил, как солдат после долгого мучительного пе-
рехода. Она медленно опустила руку с письмом и уви-
дела девушку-почтальона — мокрую, окоченевшую, в
больших сапогах, измазанных рыжей глиной. Ей пока-
залось, что эта хрупкая черноволосая девушка принес-
ла письмо не с почты, а оттуда, с вулканического остро-
ва, где идут дожди и грязь по колено и фашисты со
всех четырех сторон. Она смотрела на девушку и, сама
не зная почему, протянула ей письмо. Девушка робко
взяла листок и стала читать, держа его на расстоянии,
чтобы с мокрых волос на него не капнула вода.
Она прочитала письмо и заплакала.
— Почему вы плачете? — спросила женщина и по-
ложила руку на мокрое плечо почтальона.
— Жалко... его...
Мальчик, похожий на кузнечика, зашмыгал носом,
но не заплакал. Он не знал, что написано в письме, но
переживал за почтальона: ведь плакала-то она.
— Сколько вам лет? — спросила женщина почталь-
она.
— Девятнадцать,— отозвалась девушка, размазы-
вая слезы по щеке.— А что?
— Когда он писал это письмо, ему тоже было девят-
надцать.
— Скажите,— спросила девушка-почтальон,— а кто
эта Женя? »
— Женя? — Женщина отвела от своей собеседницы
глаза, словно силилась вспомнить, кто эта Женя.—Она
216
с ним в школе училась. Он ушел на фронт, а она еще
училась.
— А где она теперь?
— Теперь ее нет. Уехала куда-то далеко.
— Как же ей сообщить про письмо? Вдруг он най-
дется?!
— Это через двадцать-то лет?
— Находятся! У нас на почте рассказывали — нахо-
дятся. Надо разыскать Женю... передать ей привет...
— Не надо,— тихо сказала женщина.
— Как же так! Как же так!—лепетала девушка, не
зная, что делать, на что решиться.
А мальчик смотрел своими пристальными коричнева-
тыми глазами, не зная, чем помочь расстроенному поч-
тальону. И женщина тоже думала, как помочь этой мо-
лоденькой девушке, до которой старое фронтовое письмо
дошло не приглушенным и не ослабленным годами, а
таким, словно его только что написали на вулканиче-
ском острове и в нем билась тревога. И промокшая де-
вушка в огромных сапогах откликалась на эту тревогу.
Женщина легонько потрясла почтальона за худое
плечо и сказала:
— А знаете, я вспомнила. Женя была похожа на
вас. Такая же худенькая, черноволосая.
Она это все придумала, но девушка просветлела и
спросила:
— Серьезно?
— Серьезно,— сказала женщина, и мальчик, похо-
жий на кузнечика, выкрикнул:
— Конечно!
— Слушайте,— неожиданно сказала девушка,— по-
дарите мне это письмо. Ведь меня тоже зовут Женей.
И адресат выбыл...
Эта просьба прозвучала так неожиданно, что жен-
щина машинально потянулась к письму и взяла его из
рук девушки. Она прижала к себе письмо с вулканиче-
ского острова и некоторое время стояла молча. И тут
она подумала, что эта молоденькая девушка никогда
не получала писем с фронта и у нее никогда не было
человека, который бы приказал всему миру: пусть никто
не обижает Женю! Девушке это письмо нужнее, чем ей...
— Возьмите,— сказала она и протянула почтальону
письмо, сложенное треугольником.
217
Девушка с благодарностью посмотрела на женщину
и молча взяла письмо. Нет, она не положила его в поч-
тальонскую сумку, а спрятала отдельно, во внутренний
карман куртки, чтобы не спутать с сотнями чужих
писем.
— Спасибо! — сказала она и застучала большими
сапогами по ступенькам лестницы.
Когда дверь за почтальоном закрылась, мальчик-
кузнечик спросил:
— Тетя Женя, почему она взяла письмо обратно?
Женщина подняла таз с остывшим бельем и ска-
зала:
— Потому что адресат выбыл, Вот и все.
ВРЕМЕННЫЙ ЖИЛЕЦ
Лелька сидит на крыльце и штопает чулок. Она по-
ленилась разыскать грибок и штопает прямо на колен-
ке. Осторожно, чтобы не уколоться, она то опускает, то
поднимает блестящее острие иглы. Розовая коленка по-
степенно скрывается под штопкой, похожей на листок
тетради в клеточку.
В степи жарко. Ничего не хочется делать. А сидеть
совсем без дела — скучно. Вот Лелька и придумала себе
занятие.
Когда она наклоняется вперед, одна из косичек со-
скальзывает с плеча и ложится на ключицу. Лелька не-
довольно водворяет косичку на место — за спину. Она
делает это резко, будто хочет забросить ее подальше,
раз и навсегда.
Коленка почти упирается в подбородок. Иголка тя-
нет за собой рыжую нитку. Лелька так увлеклась рабо-
той, что не замечает, как отворяется калитка и кто-то
входит в палисадник. Когда девочка поднимает глаза,
перед ней стоят Федор Федорович, председатель посел-
кового Совета, и незнакомый военный. Лицо Федора
Федоровича коричневое, испеченное на солнце. А воен-
218
ный — бледнолицый. Он еще не загорел на степном сол-
нышке. В одной руке он держит зеленый чемодан, в
другой, согнутой в локте,— шинель.
— Здравствуй, хозяйка,— говорит Федор Федорович.
— Здрасте,— отзывается Лелька и встает со сту-
пеньки.
Она не выпускает из рук иглу, и короткая нитка не
дает ей выпрямиться. Одна нога в чулке, а другая безо
всего, голая. Косичка снова соскользнула с плеча. Вид у
Лельки, вероятно, смешной, потому что военный отвора-
чивается в сторону, чтобы скрыть улыбку.
— А где мать? — спрашивает Федор Федорович.
Он спрашивает, а военный молчит. Стоит за Федо-
ром Федоровичем и из-за плеча смотрит на Лельку.
Девочке кажется, что он разглядывает ее заштопанную
коленку. Ей хочется прикрыть коленку, но сарафан ко-
роткий.
— Мама пошла в сельпо,— отвечает Лелька и крас-
неет.
Иголка выскальзывает из рук и, поблескивая, рас-
качивается на нитке.
— Ну, вот что,— говорит Федор Федорович,— ты,
конечно, слыхала про снаряды?
Лелька мотнула головой. Она слышала, что в сте-
пи, неподалеку от поселка, обнаружили завалившуюся
землянку со снарядами — артпогребок. Артпогребок был
брошен немцами много лет назад. А теперь нашелся.
Говорят, что он заминирован.
— Так вот,— продолжает председатель поселкового
Совета,— прибыли саперы обезвреживать. Солдат мы
поместили в школе, а командира... — Федор Федорович
кивает на военного и слегка подталкивает его вперед,—
а командира мы хотим определить к вам.
Лелька снова кивает.
— Места у вас много. Думаю, мать возражать не
будет?
— Ага,— соглашается Лелька, будто она заранее
знает, что мама не будет возражать.
— Тогда знакомьтесь. Лейтенант... — Федор Федо-
рович вопросительно смотрит на военного.
— Шура,— подсказывает он.
— Лейтенант Шура... А это Лелька.
219
— Очень приятно,— говорит лейтенант, а Лелька
снова краснеет. Она ничего не может с собой поделать.
Краска стыда по малейшему поводу заливает ее лицо,
обдает его жаром и отравляет Лельке жизнь.
Девочка покраснела, будущий жилец отвернул лицо,
чтобы скрыть улыбку, а Федор Федорович почесал се-
дую щетину, которая проступает, как соль, на его за-
печенной, коричневой щеке.
— Сейчас мы пойдем в степь,— распоряжается пред-
седатель.— Вещи лейтенант оставит здесь. А придет
мать, ты предупреди ее.
Лейтенант Шура подходит к крыльцу и вопроситель-
но смотрит на Лельку:
— Можно здесь поставить?
— Ага! — кивает Лелька и закусывает1 губу, будто
губа — виновница ее смятения.
Лейтенант поставил на крыльцо зеленый чемодан,
положил на него шинель.
— Пошли!—почти скомандовал Федор Федорович.
И они зашагали к калитке.
Когда неожиданные гости ушли, Лелька облегченно
вздохнула и опустилась на ступеньку, согретую солн-
цем. Первым делом она поджала ноги и прикрыла по-
долом сарафана заштопанную коленку.
Рядом, на ступеньке, стоял чемодан, а на нем лежа-
ла сложенная пополам шинель. Шинель была серой и
шершавой. От нее пахло валенками. На погонах весело
поблескивали звездочки: по две на каждом.
Лелька покосилась на чужие вещи и быстро стянула
с ноги заштопанный чулок. Будто вместе с чемоданом и
шинелью в доме остался жилец и его насмешливые гла-
за продолжали рассматривать Лельку, отыскивая, над
чем бы посмеяться.
Лелькин дом маленький, но двухэтажный. Вернее,
на чердаке папа при жизни сделал небольшую комнат-
ку «для гостей». Когда приезжал дядя Митя, его поме-
щали на втором этаже. С тех пор гостей не было. Но
за комнатой сохранилось название — «для гостей». Вот
туда-то Лелька и решила определить жильца.
По крутой лестнице она полезла наверх с чужими
вещами. Зеленый чемодан ударялся о верхние ступень-
ки, а шинель волочилась по нижним.
В комнате «для гостей» не было почти никакой ме-
220
бели. Стол, топчан и табуретка составляли все ее убран-
ство. Зато из маленького окошка была видна степь.
Лелька поставила вещи лейтенанта Шуры в уголок,
чтобы он не подумал, что они кого-нибудь интересуют,
и, хлопнув дверью, сбежала вниз.
Лейтенант Шура вернулся домой поздно.
Солнце докатилось до края степи и растеклось по
небу вишневым заревом. Откуда-то появился прохлад-
ный ветерок, который днем, в присутствии солнца, не
разрешал высунуть на улицу нос. Но земля продолжала
дышать жаром, как печь, в которой недавно погасли
последние угольки.
Лейтенант Шура отворил калитку и нерешительно
вошел в палисадник. Он был один, без Федора Федоро-
вича. Лелька увидела его из окна. Она ждала его воз-
вращения и, хотя во дворе стояла жара, надела новое
платье с длинными рукавами и целые чулки. Пусть он
знает, что у нее есть чулки без заштопанных коленок!
Ольга Ивановна тоже готовилась к приходу жиль-
ца. Поначалу, узнав от дочки о неожиданном госте, она
вспылила: «Терпеть не могу, когда в доме чужие лю-
ди!» Но потом стала сама себя убеждать, что места в
доме достаточно, что сама она все равно целыми днями
пропадает в своей больнице. И вообще жилец — вре-
менный. Ольга Ивановна отошла и весь остаток дня
приводила дом в порядок: ей не хотелось ударить лицом
в грязь перед незнакомым человеком.
Услышав, что хлопнула калитка, Лелька подбежала
к окну. Лейтенант Шура стоял в палисаднике и огля-
дывался. Лицо его было усталым и серым от земли.
И только в том месте, где текли струйки пота, остались
светлые бороздки. Гимнастерка тоже была в пыли, и ве-
селые звездочки на погонах погасли. На высоких сапо-
гах налипли комья засохшей глины. Фуражку лейтенант
держал в руках.
Усталый, с пересохшими губами, он совсем был не
похож на того веселого чистенького лейтенанта, кото-
рый стоял за спиной Федора Федоровича и отворачивал
лицо, чтобы скрыть улыбку. Его глаза перестали быть
насмешливыми. Они беспомощно смотрели по сторонам,
отыскивая хозяев дома.
Лельке вдруг стало жалко лейтенанта Шуру. Она
быстро вышла из комнаты и очутилась на крылечке.
221
— Здрасте,— сказала Лелька.
Лейтенант улыбается и почему-то надевает фураж-
ку. Он говорит:
— Вот я пришел.
— Заходите,— приглашает Лелька.— Мама дома.
Лельке очень хочется, чтобы лейтенант обратил вни-
мание на ее новое платье, а главное — на целые чулки.
Но лейтенант рассматривает не Лельку, а самого себя.
Он смотрит на грязные сапоги, на пропыленную гимна-
стерку и говорит:
— В таком виде и в дом входить страшно. Мне бы
почиститься. А то весь день в земле копались.
— Сейчас,— говорит Лелька и скрывается в дверях.
Лейтенант Шура не торопясь доходит до крыльца и
опускается на ступеньку. Он еле стоит на ногах.
На другой день Лелька проснулась рано. Она при-
поднялась на локте и выглянула в окно. Из палисад-
ника на нее смотрели сиреневые цветы мальвы. Они
были круглыми, как блюдечки. По одному блюдечку
ползала оса.
Лелька услышала над головой шаги. Шаги были ти-
хие, босые. Потом один за другим раздались два при-
топа — кто-то надевал сапоги.
Лелька вспомнила о временном жильце. Это он про-
будился в комнате «для гостей» и встал, чтобы отпра-
виться к заминированному артпогребку.
Лелька крепко зажмурила глаза. Пусть мама дума-
ет, что она спит. Звуки рассказывали ей обо всем, что
происходит в доме. Тук-тук-тук!.. Жилец спускается по
лестнице. Тук-тук!.. Идет по сеням. Потом хлопнула
дверь, и шаги замерли. Лелька уже подумала, что жи-
лец ушел, но шаги зазвучали в соседней комнате.
— Зарядку делаете? — тихо спросила мама.
— Привычка,— шепотом отвечает жилец.
Он говорит шепотом, чтобы не разбудить Лельку^
А его сапоги так гремели, что могли разбудить кого
угодно.
Лелька слышала, как урчала, наливаясь в стакан,
крученая струйка кипятка, как, помешивая сахар, зве-
нела ложечка.
Мамин голос говорил:
— Ешьте, не стесняйтесь.
А голос жильца отвечал:
222
— Спасибо... Спасибо...
Потом жилец в последний раз сказал: «Спасибо. Мне
пора»,— и сапоги рассказали, что он уходит из дома.
Лелька тихо сползла с постели и, ступая босыми но-
гами по чистым половицам, подошла к окну. Она спря-
талась за тюлевую занавеску и стала смотреть.
Лейтенант Шура бодрыми шагами шел по палисад-
нику. Вчера вечером, грязный и усталый, он еле дер-
жался на ногах. А сегодня жильца словно подменили.
Будто ночью он искупался в «мертвой» и «живой» воде
и снова превратился в доброго молодца. Сапоги блесте-
ли, как новые. Звездочки на погонах зажглись. Лейте-
нант шел мимо куста шиповника, и ему было невдомек,
что с невидимого наблюдательного пункта за ним сле-
дят два больших внимательных глаза.
Когда временный жилец скрылся из виду, Лелька
села на постель и впервые за много дней занялась сво-
ими косичками.
Лелька относилась к своим косичкам с черствостью
мачехи. По утрам она заплетала их небрежно, и со сто-
роны казалось, что в косы вплетены клочки сена. Она
не украшала косы шелковыми лентами, как это делали
ее подруги, а самые кончики крепко перетягивала тря-
почками, скрученными в жгут.
Этим утром, сидя на постели, Лелька долго и нето-
ропливо расчесывала волосы. Волосы были шелковистые
и очень светлые. Они слегка вились у висков. Солнечные
блики играли и переливались в тонких ласковых пря-
дях.
Неожиданно Лелька подошла к комоду и с трудом
выдвинула огромный тяжелый ящик. Она долго рылась,
пока не извлекла из его недр две гладкие голубые лен-
точки. Их Лелька вплела в косички и завязала бан-
тами.
Когда в доме живет чужой человек, чувствуешь не-
ловкость, даже если его целыми днями нет дома.
И Лелька не скачет через две ступеньки, а ходит плав-
но и, когда садится, поправляет платье. Ей кажется,
что лейтенант Шура не спускает с нее глаз, хотя на
самом деле он далеко в степи.
Лелька на цыпочках подходит к зеркалу и рассмат-
ривает себя. Ей хочется быть высокой и черноволосой,
как библиотекарша Клавдия. А она маленькая и беле-
223
сая. И кончики ушей у нее малиновые, а это, должно
быть, некрасиво. Лелька смотрит на себя и сердится,
будто она сама виновата, что не похожа на Клавдию.
Лелька долго стоит перед зеркалом. И вдруг, спо-
хватившись, торопливо отходит. Она опускает глаза,
словно боится встретиться взглядом с насмешливыми
глазами лейтенанта Шуры.
Вечером временный жилец возвращается со своей
военной работы. Он проходит через палисадник и са-
дится на ступеньку крыльца. Солнце и сухой степной
ветер запекли его белое лицо, и оно стало коричневым,
почти таким же, как у Федора Федоровича.
Несколько минут лейтенант Шура сидит неподвиж-
но. Потом упирается носком одного сапога в задник
другого и, помогая рукой, медленно стаскивает его с
ноги. Сапог упирается, не хочет разлучаться со своим
хозяином.
Потом он снимает гимнастерку, майку и, подхватив
за дужку пустое ведро, идет к колодцу. Лейтенант Шу-
ра не любит мыться под умывальником. И, вернувшись
с полным ведром, он зовет Лельку:
— Леля, а Леля! Полей, пожалуйста!
Лелька тут же оказывается рядом с Шурой. Она бе-
рет в руки эмалированную кружку и начинает лить: сна-
чала в ладони, сложенные «тарелочкой», а потом прямо
на шею, на плечи, на лопатки. От жаркого тела идет
пар.
— Побольше лей! Не жалей воды!—командует лей-
тенант.
Временный жилец моется, как папа. А Лелька по-
ливает ему, как это делала мама. И, как мама, она по-
дает ему свежее полотенце.
Смыв с себя пыль и глину, лейтенант Шура наде-
вает чистую невоенную рубашку и отправляется ужи-
нать.
А потом садится на скамейку перед палисадником.
Он отдыхает.
Лелька не решается сесть рядом с ним. Тогда он
сам подзывает ее и начинает рассказывать о своей жиз-
ни и о своей службе.
— Вот послужу еще годок-другой,— задумчиво го-
ворит Шура,— и женюсь. Пора. Правда? — спрашивает
он серьезно Лельку.
224
Лелька заливается краской и молчит. Откуда она
знает, пора ему жениться или нет? И почему лейтенант
Шура советуется с ней о своей женитьбе?
— А впрочем, что загадывать? — продолжает он.—
Еще дожить надо. В нашем деле всякое бывает...
Лелька вопросительно смотрит на собеседника. И он
говорит:
— Сапер ошибается только раз в жизни. Какой-ни-
будь крохотный проводок задел — и в небо! Что ты ду-
маешь! Вот ваш артпогребок такая штучка, что, того и
гляди, ошибешься... Когда мы разминировали Брянские
леса, легче было. А здесь — головоломка.
Лельке вдруг становится страшно за лейтенанта
Шуру. Он все время шутит, а такие люди чаще всего
совершают ошибки. Девочка с беспокойством смотрит
на него. А он перехватывает ее взгляд и улыбается. Ему
приятно, что Лелька переживает. И еще ему приятно
делать вид, что для него опасность — ничто, сущий пу-
стяк.
Иногда лейтенант обнимал Лельку и трепал ее по
плечу. Лелька краснела и боялась шелохнуться. А лей-
тенант Шура говорил:
— Пора, брат, спать! А то завтра рано подъем.
И он отправлялся к себе на второй этаж, в комнату
«для гостей». А Лелька еще долго сидела на скамейке.
Каждое утро лейтенант Шура уходил со своим
войском в степь. Войско было небольшое — десять сол-
дат. Солдаты шли цепочкой по обочине, чтобы не под-
нимать пыли. Они несли на плечах лопаты и еще ка-
кие-то непонятные военные инструменты. А командир
шел по дороге.
Временный жилец не знал, что Лелька крадучись
выскальзывала из калитки и долго смотрела ему и
его войску вслед. Он был уверен, что Лелька в это
время крепко спит.
А она никогда не просыпала. Ее глаза провожали
саперов. Солдаты шли, чуть покачиваясь из стороны в
сторону. Потом они спускались в балку и пропадали
из виду, но вскоре появлялись вновь на другой сторо-
не. Их фигурки становились все меньше и меньше и
наконец терялись в голубой дымке степного марева,
оставив после себя чуть заметное облачко пыли.
Лелька знала, что лейтенант Шура и его товарищи
225
шли не просто работать, хотя на плечах они несли ло-
паты. Они шли туда, откуда можно было уже никогда
не вернуться. Война давным-давно кончилась, но в
старом артпогребке, куда каждое утро направлялись
саперы, был уцелевший островок войны с опасностью,
со смертью, которая притаилась в ржавых немецких
снарядах и только ждала удобного случая, чтобы на-
нести людям запоздалый удар.
Каждый раз, тайком провожая лейтенанта Шуру
в степь, Лелька испытывала такое чувство, будто про-
вожает его в бой. Ей казалось, что происходит величай-
шая несправедливость: тысячи людей вокруг живут
спокойной, мирной жизнью и только одиннадцать каж-
дый день ходят на войну.
Лелька стоит у калитки и смотрит в степь до тех
пор, пока из окошка не выглядывает мама.
— Ольга, завтракать,— зовет она.
Мама называла Лельку Ольгой.
В этот день лейтенант Шура, как обычно, сбежав
со ступенек и хлопнув калиткой, пошел в школу за сво-
им войском. И потом они шли степной дорогой: солда-
ты по обочине, командир посередине дороги. Обычно
солдаты шли молча, а на этот раз они запели. Может
быть, им командир приказал петь?
Лелька глядит им вслед и старается различить сло-
ва незнакомой солдатской песни. Но слова остаются в
степи, а до Лельки долетает только мелодия. Так Лель-
ке и не удается узнать, о чем поют солдаты. Но ей ста-
новится грустно. Ей кажется, что маленькое войско лей-
тенанта Шуры пересечет степь, перевалит через горы и
выйдет к морю. И больше никогда не вернется в посе-
лок. И Лельке хочется кинуться им вслед. Догнать,
пока не поздно, и тоже идти к морю по обочине с сол-
датами. Или лучше по дороге — рядом с Шурой.
Но Лелька продолжает стоять на месте, а потом
опускается на скамейку.
В степи цветет лаванда. Ее бархатные лиловые цве-
ты залили степь широким разливом. Она издает тон-
кий аромат. И утренний свежий ветер пахнет лавандой.
Лелька закрывает глаза. Она слышит, как рядом на
своей зеленой машинке заработал кузнечик... Скрип-
нула дверь... Курица заговорила скороговоркой на ку-
рином языке... Потом пробудился репродуктор, и сов-
226
сем близко зазвучали позывные Москвы. Казалось, их
принесли сюда не провода, а донес из степи ветер, пах-
нущий лавандой.
Постепенно к Лельке возвращается покой. Солнце
касается ее лица. Оно пригревает чуть припухшую ниж-
нюю губу, и коленки, и цветы на сарафане, которые не
вянут, будто их стебельки опущены в воду. Ник1Ь не
зовет Лельку. Никто не тревожит ее.
И она засыпает.
И вдруг раздается взрыв. Он ударил, как гром сре-
ди ясного неба. И сразу все звуки исчезли, будто гро-
хот взрыва подмял их под себя, перечеркнул крест-
накрест.
Лелька открыла глаза.
Чугунное эхо тяжело катилось по степи. А за при-
горком выросло большое черное дерево. Оно шевелило
своими косматыми ветвями. Потом дерево стало осе-
дать, будто кто-то подпилил его. И тут Лелька просну-
лась окончательно. Она поняла все: лейтенант Шура
ошибся в первый и последний раз... Это артпогребок
взлетел на воздух.
У Лельки заколотилось сердце. Она вскочила с ме-
ста и бросилась бежать. Она бежала в степь, туда, где
оседало и разваливалось дерево смерти — земля, под-
нятая взрывом.
Лелька бежала до тех пор, пока не наступила на что-
то острое. Она остановилась от боли. Подняла йогу. На
дорожной пыли алело пятнышко крови. Пятка горела.
Лелька сорвала подорожник и приложила его к пятке.
Сердце колотилось. Оно ударяло то в грудь, то в спину,
будто искало выхода, чтобы вырваться наружу.
Лелька вдруг представила себе лейтенанта Шуру,
лежащего на спине с раскинутыми руками, с усталым
лицом, в пропыленной гимнастерке, с комьями глины на
сапогах. Таким он возвращался из степи вечером. А ведь
сейчас было еще утро. Лелька сделала несколько осто-
рожных шагов и побежала. Подорожник отстал от ран-
ки. Он так и остался лежать в теплой мягкой пыли.
До места взрыва было уже недалеко.
Лелька стоит на краю балки и никак не может от-
дышаться. В нескольких шагах от нее сидит лейтенант
Шура и курит. Он без фуражки, ворот гимнастерки рас-
227
стегнут. Вокруг валяются свежие комья земли, выбро-
шенные взрывом. Рядом с лейтенантом на тонкой шер-
шавой ножке растет алый мак. Как это он уцелел от
взрыва?
Шура берет котелок и, запрокинув голову, пьет. Во-
да течет по подбородку. Остаток воды он выливает на
мак. Потом он ставит котелок на землю, оглядывается
и видит Лельку.
— Ты что здесь? — удивленно спрашивает он.
— Я... я... ничего,— отвечает Лелька.
Она недоверчиво смотрит на живого лейтенанта
Шуру. Правда ли это? Значит, он не ошибся? Почему
же тогда был взрыв? А может быть, взрыв приснился
Лельке? Ее большие серые глаза еще лихорадочно го-
рят: еще не прошла тревога за человека, который сидит
перед ней цел и невредим.
— Ты что, испугалась? — спрашивает лейтенант
Шура.— Взрыва испугалась?
Глаза его смеются. Они замечают в Лелькиных гла-
зах испуг, который не сразу проходит.
— Я думала, вы ошиблись,— признается Лелька, не
сводя глаз с Шуры.
Теперь лейтенант Шура уже смеется вслух:
— Ошибся? Если бы ошибся, мы бы уже с тобой не
разговаривали...
Шура никогда не обращает на Лельку особого вни-
мания, а тут он пристально смотрит на нее. Смотрит и
замечает на ее ноге кровь.
— Что это у тебя с ногой? — спрашивает он.
— На стекло наступила,— отвечает Лелька и прячет
раненую ногу за здоровую.
— Ну-ка, покажи! — почти командует Шура.
Он усаживает девочку рядом с собой и разгляды-
вает раненую пятку. Ранка кровоточит. Шура кричит
через плечо:
— Кузьмин, принеси-ка мне котелок воды и инди-
видуальный пакет!
Он берет Лельку за руку и заглядывает ей в глаза.
— Что же ты босиком по степи бегаешь? — спраши-
вает он.
Лелька молчит. Разве может она рассказать, как,
забыв обо всем на свете, бежала туда, где грянул
взрыв?
228
Кузьмин молча принес воду и бинт. Лейтенант Шу-
ра прямо из котелка льет воду на ранку. Он держит
Лелькину ногу за лодыжку. Лельке неловко.
— Сама! —говорит она.
—Сиди! — командует Шура.
И Лелька сидит неподвижно. Она подчиняется при-
казу, но чувствует, что вот-вот покраснеет.
Потом лейтенант Шура с треском разрывает бумаж-
ный пакет и достает оттуда прохладный бинт. Белые
плотные нитки пеленают ногу. Лелька не чувствует бо-
ли. Она смотрит в сторону и теребит травинку. С каж-
дым витком бинта ее глаза становятся все теплее и теп-
лее.
— Кузьмин! — зовет лейтенант, закончив перевяз-
ку.— Строй людей. Пойдем домой. Сегодня можно и от-
дохнуть.
— Слушаюсь,— сдержанно отвечает Кузьмин.
Кузьмин большой и молчаливый. Кажется, будто
ему знакомо только слово «слушаюсь». Лицо у Кузьми-
на все в рыжих веснушках. Но Кузьмина веснушки не
расстраивают. Так, по крайней мере, кажется Лельке.
И вот они идут через степь. Солдаты — по обочине,
а Лелька с лейтенантом Шурой — по дороге.
Может быть, они идут не домой, а к морю, как меч-
тала Лелька?
Лельке трудно идти. На пятку наступать больно, а
на носке далеко не уйдешь. Она ступает медленно, при-
падая на забинтованную ногу, и лейтенант со своим
войском тоже идут не торопясь. Как Лелька.
Лейтенант Шура сегодня разговорчив.
— Ты знаешь, что наш погребок шарахнуло? — спра-
шивает он и громко смеется.— Слышишь, Кузьмин? —
обращается он к своему помощнику.— Она думала, что
это мы в небо взлетели.
Кузьмин улыбается вежливо, но, верный себе, не
произносит ни слова.
— Нет, Лелька,— говорит лейтенант Шур а,— это мы
половину богатства погреба одтащили в сторону и взор-
вали. А ты испугалась.
Лейтенант Шура все говорит, говорит... А Лелька
идет молча и лишь изредка посматривает на своего вре-
менного жильца. Она думает о том, что все настоящие
мужчины должны делать что-то трудное и опасное, Па-
229
па воевал, и Федор Федорович был на войне. Вот и Шу-
ра тоже... Ей вдруг хочется взять его под руку. Но от
этой одной мысли лицо заливает краска стыда.
А солдаты вдруг запели. Они запели сами, без при-
каза командира. Они поют рядом, и теперь Лелька мо-
жет расслышать слова их песни:
Солнце скрылось за горою,
Затуманились речные перекаты.
А дорогою степною
Шли с войны домой советские солдаты.
И Лельке кажется, что солдаты идут с войны и она
с ними тоже идет с войны. И лейтенант Шура возвра-
щается домой героем.
Как это случилось, что после взрыва в степи времен-
ный жилец окончательно завладел Лелькиными мысля-
ми? Она забыла обо всех своих подружках и целые дни
проводила дома. Напрасно, проходя мимо Лелькиного
дома, ее одноклассницы кричали:
— Лель, а Лель, пошли в степь маки собирать!
— Лель, пошли купаться в Сырую балку!
Лелька качала головой:
— Мне некогда!
А какие у нее дела, если вторую неделю идут кани-
кулы.
Сидя на ступеньке крыльца, Лелька тревожно при-
слушивалась к каждому звуку, который доносился из
степи. «Вдруг он оступится, вдруг заденет проводок...»—
так думала Лелька, и сердце ее холодело. Ей на память
приходила картинка к стихотворению Пушкина «Песнь
о вещем Олеге». Там был изображен Олег у праха сво-
его верного коня. Вот-вот подползет змея и ужалит кня-
зя... Вот-вот невидимый проводок хрустнет под ногой
Шуры...
А в это время лейтенант лежал на земле и, задер-
жав дыхание, колонковой кисточкой очищал тонкий, как
волосок, проводок, от которого зависела его жизнь и
жизнь десяти солдат. Взгляд его был сосредоточен, а по
скуле ползла тяжелая капелька пота.
Временами он останавливался, переводил дыхание,
закрывал глаза. И снова начинал свой рискованный
солдатский труд. На то он и был военным.
230
А Лелька ждала временного жильца. Ей нужно бы-
ло, чтобы он не ошибся и, если можно, пораньше вер-
нулся домой. Вот и все.
Лейтенант Шура все реже и реже бывал дома. Ут-
ром Лелька видела его в окно. А вечером помогала ему
умываться. Потом он наспех ужинал и тут же уходил.
Усталость уже не валила его с ног.
Куда он спешил? К своим солдатам, в школу?
У лейтенанта Шуры были две пары сапог. Одни тя-
желые, кожаные, боевые сапоги. В них он уходил в степь
раскапывать немецкий артпогребок. Другие сапоги —
защитного цвета, легкие, сшитые из старой брезентовой
плащ-палатки. Вечером, по возвращении домой, вре-
менный жилец сбрасывал боевые сапоги и надевал бре-
зентовые. После тяжелых кожаных брезентовые сапоги
вообще не чувствовались на ноге.*
Однажды вечером, вернувшись из степи, лейтенант
Шура торопился больше обычного. Он умчался, даже
не почистив свои боевые сапоги. Они так и остались
стоять у крыльца — пыльные, тупоносые, с комьями за-
сохшей глины. Вид у них был усталый и обиженный.
Сапоги ни разу не подвели своего хозяина: не оступи-
лись, не задели невидимых смертоносных проводков.
Они преданно служили ему, а он бросил их на произ-
вол судьбы.
Лелька подошла к сиротливым сапогам и останови-
лась перед ними. Она взяла один из них за ушко, тор-
чавшее из голенища, и подняла над землей. Сапог был
тяжелый. От него шел жар. Лелька отпустила ушко, са-
пог грузно плюхнулся на землю. Казалось, он сердито
притопнул.
И тогда Лелька решила привести сапоги в порядок.
Она принесла ведро воды, тряпку и стала их мыть. Она
поливала сапоги водой и терла их тряпкой. Глина отва-
ливалась. Мутные ручейки стекали с голенищ. Сапоги
остыли, кожа стала прохладной.
Лелька поставила их в траву и пошла за щеткой.
Она намазала их черным жирным гуталином, а потом
терла щеткой. Она терла их так долго, что сапоги не
выдержали: перестали дуться и наконец улыбнулись
Лельке.
Боевые сапоги были довольны, они сияли. А Лельке
почему-то стало грустно. Она поставила сапоги на кры-
231
лечке и села рядом с ними. Она поджала коленки и за-
крыла их подолом сарафана. И так они долго сидели
втроем: два сапога и Лелька.
В летние вечера поселок засыпал поздно. За день
навоевавшись с жарой, люди подставляют лицо про-
хладному дыханию степи. Они сидят на лавочках и не
торопятся уйти домой.
Фосфорятся белые цветы табака. Верещат невиди-
мые цикады. Где-то навзрыд кричит ослик: жалуется на
свою судьбу.
Но вот уже последняя гармонь отправилась на по-
кой. Зажмурились лампочки в окнах клуба: им тоже
настала пора отдохнуть. А лейтенант Шура все не воз-
вращается домой.
Лелька не может уснуть. Она ворочается с боку на
бок. Закрывает глаза. Сон не приходит.
«Спи!» — приказывает себе Лелька.
Но как выполнишь приказ, если тревожные мысли
не покидают тебя ни на минуту.
— Идет один верблюд... Идет второй верблюд... Идет
третий верблюд...
«Спи!»
Не помогают верблюды. Даже самый большой ка-
раван не может усыпить Лельку.
Где он? У своих солдат? Но солдаты давно спят:
им вставать ни свет ни заря.
Лелька лежит с открытыми глазами. Она уже не
старается заснуть.
И вдруг в тишине Лелька слышит шаги. Дорожки в
поселке посыпаны галькой. Ее привезли с моря. На
гальке шаги звучат отчетливо и ясно.
«Он!»
Лелька вздрагивает и прислушивается.
«Конечно, он!»
Она соскальзывает с постели и на цыпочках идет к
окну.
Было темно.
Луна еще не взошла, а у дальних звезд не Латало
сил осветить узенькие улочки степного поселка.
Лелька затаила дыхание и прислушалась. Морская
галька рассказала ей, что по дорожке шагал не один
человек, а двое. Рядом со спокойными мужскими ша-
232
Тами звучали другие — плавные женские шаги. Лелька
болезненно поморщилась.
У палисадника шаги затихли. И тут Лелька услы-
шала голоса.
— Давай посидим на скамеечке,— говорил Шурин
голос.
Лелька сразу узнала его.
— Уже поздно,— отвечал женский голос.
— Ну, прошу тебя.
— Неловко.
— Ничего. Все спят.
Лелька вслушивалась. Она хотела узнать, кому при-
надлежит женский голос. И она узнала. Это была Клав-
дия— клубная библиотекарша. Лелька увидела ее —
высокую, черноволосую, с ровными, будто нарисован-
ными угольком бровями. Лелька увидела ее не глазами,
а памятью.
За окном так тихо, что можно было различить шо-
рох каждой травинки. Лелька слышала, как зашурша-
ло платье. Тонко скрипнула доска. Это лейтенант Шура
и Клавдия сели рядом на скамейку. >
Лельку от них отделяли невысокая глиняная ограда
и тонкие стебли мальвы. Но ей казалось, что, если про-
тянуть руку, можно коснуться Шуриного плеча. Лель-
ка спрятала руки за спину и попятилась.
Лелька слышала, как, болтая ногой, Шура задевал
камушки гальки.
Потом она услышала их дыхание. И Клавдин ше-
пот:
— Шура, ведь ты меня не любишь.
Лелька закусила губу. Она понимала, что подслу-
шивать гадко и даже подло. Но сейчас она не могла
отойти от окна. Маленькая надежда удерживала ее.
«Шура, ведь ты меня не любишь». Что ответит Шура?..
Может быть, он скажет Клавдии: «Нет»? Ладно, пусть
он ничего не ответит. Пусть он только молчит.
Но Шура ответил:
— Люблю.
Лелька стояла у открытого окна в одной рубашке.
И сердце ее стучало так громко, как тогда в степи, во
время взрыва. Но ни Шура, ни Клавдия не слышали
ударов Лелькиного сердца.
И вдруг Лельке стало очень холодно. Холодно ру-
233
кам, плечам, коленкам. И Лелька поняла, что никакие,
даже самые теплые, одеяла не согреют ее. Этот холод
веял не из степи, а шел откуда-то изнутри, от сердца.
Лелька бросилась в постель. Она натянула одеяло
на голову. Она закрыла уши, чтобы не слышать ни од-
ного слова. Она почему-то вспомнила, как неделю назад
на этой же скамейке временный жилец говорил ей: «Вот
послужу еще годок-другой и женюсь».
«Так ведь не прошел еще годок! Что же это он!..»
Слезы текли по Лелькиным щекам. Лелька плакала
молча. Про себя. Сейчас она навсегда прощалась с лей-
тенантом Шурой, хотя он еще никуда не уезжал. Она
прощалась с его маленьким войском, и с молчаливым
Кузьминым, и с алым маком, который устоял во время
взрыва... Лельке было жалко себя и всего, что уже ни-
когда не вернется. И слезы становились все горше.
В какое-то мгновение девочке захотелось вскочить
с постели и прогнать со своей, Лелькиной, скамейки
временного жильца и черноволосую библиотекаршу. Но
она не пошевелилась.
Утром Лелька поднялась поздно. Лейтенант Шура
давно уже ушел в степь со своим маленьким бесстраш-
ным войском. Мама не вернулась с ночного дежурства.
Солнце заполнило комнату. От его желтых лучей пахло
лавандой. По сиреневым блюдечкам мальвы ползали
тощие осы.
Лелька села на постель. Косичка соскользнула с го-
лого плеча. Лелька взяла ее в руку, враждебно посмот-
рела на нее, но не отбросила. Не выпуская из руки, она
подошла к комоду и взяла большие темные ножницы.
Она широко ракрыла их и начала резать косичку.
Ножницы были не очень острыми, а Лелька торо-
пилась, словно боялась, что изменит свое намерение.
И резать было трудно. Когда одна отрезанная косичка
упала на пол к босым ногам, Лелька принялась за дру-
гую и вторую косичку тоже отрезала. Потом она отло-
жила ножницы и подняла с пола две отрезанные косич-
ки. Она посмотрела на них равнодушно, как на чужие,
и без сожаления отложила в сторону. Они были уже
не нужны.
Несколько дней Лелька не виделась с временным
жильцом. Утром она вставала уже после его ухода, а
234
вечером, чтобы не попадаться ему на глаза, уходила к
подругам. И лейтенанту Шуре приходилось умываться
под бренчащим умывальником. И если он не успевал
почистить сапоги, то они так и оставались пыльными, с
присохшими комьями глины.
В субботний вечер Лелька и временный жилец слу-
чайно встретились в клубе. Лейтенант Шура как ни в
чем не бывало улыбнулся своей маленькой хозяйке.
Лелька опустила глаза и залилась краской. Но, совла-
дав с собой, посмотрела на лейтенанта и сказала:
— Здрасте!
Она произнесла приветствие сухо и даже немного
насмешливо. Лейтенант Шура пожал плечами, помахал
ей рукой и пошел дальше. Наверно, он спешил к своей
библиотекарше Клавдии.
Он даже не заметил, что Лелька отрезала косички...
ВСАДНИК,
СКАЧУЩИЙ НАД ГОРОДОМ
Завтра об этом случае заговорит весь город, а сего-
дня о нем знают лишь несколько любопытных прохо-
жих, пожарные добровольные дружины и четвертое от-
деление милиции. Но даже им неизвестно, ради чего
Киру решился на такой отчаянный поступок.
Поздней осенью город похож на корабль, выходящий
в открытое море. Сырой туман обволакивает дома. Мос-
товая мокрая, как палуба, по которой только что прока-
тился соленый морской вал. Провода поют, как снасти.
И Киру кажется, что город даже слегка покачивает.
Киру поднимает голову. Он видит, как обрывки се-
рых облаков быстро проносятся над самыми крышами.
А может быть, они как раз и неподвижны, а это город
торопливо плывет в открытое море.
Киру смотрит на шпили — чем не мачты! — на ан-
тенны, на трубы и на флюгера.
235
В городе много флюгеров. В былые времена город
моряков часто обращал взор к железным помощникам —
флюгерам: они первыми приносили весть о попутном
ветре. Теперь на флюгера никто не обращает внимания.
Но их не предупредили, что они больше не нужны лю-
дям, и флюгера продолжают нести свою трудную служ-
бу. Там, высоко над городом, между небом и землей,
скрипя ржавыми петлями, они тяжело поворачиваются
на своих штырях. Как живые существа, они разгова-
ривают с ветром и дождем, а первые снежинки, прежде
чем опуститься на землю, тихо шуршат рядом с ними.
Случается, что у одного из городских флюгеров так
крепко заклинит ржавые петли, что он уже не может
пошевельнуться. Флюгер погибает, как боец на посту.
Люди же не замечают смерти старого флюгера. Стоит
на крыше — и ладно.
Киру и его друзья идут по городу и рассматривают
флюгера. И кто-то кричит:
— Смотрите, рыба из моря на крышу прыгнула!
Все задирают головы. Все смотрят на рыбу.
— Подумаешь, рыба! А ты видел флюгер-русалку?
— А я знаю трех петухов!
— Петухи — ерунда!
— Петухи приносят счастье!
— Ничего подобного! Они берегут дом от пожара!
— Бабушкины сказки!
Киру идет молча. Он не принимает участия в этом
беспорядочном споре. С некоторых пор он стал молчали-
вым. Особенно если рядом Айна.
Ему кажется, что Айна появилась совсем недавно.
Приехала издалека и пришла в класс, как новенькая.
На самом деле Айна ниоткуда не приезжала, а учится
с Киру в одном классе уже пять лет. С третьего класса.
Может быть, «старую» Айну подменили?
В «новой» Айне его интересует все. Он знает, что
Айна худенькая, стройная, как тростинка. И что волосы
у нее не золотые и не желтые — соломенные. И хотя гла-
за у девочки так глубоко посажены, что сразу не опреде-
лишь их цвет, Киру знает: они зеленые. Осенью Айна
носит серое пальто с черными черточками. А шапка на
ней красная.
Сейчас Айна идет со всеми неподалеку от Киру и
внимательно следит за спором о флюгерах. И ее вздер-
236
нутый носик сам, как флюгер, поворачивается от одного
спорщика к другому. Она ждет, когда ребята все выго-
ворят, и только тогда вступает в разговор.
— А я знаю дом, на котором флюгер не петух, не
рыба, не стрела,— говорит Айна, посматривая, какое
впечатление произведет ее рассказ на ребят.— Это ка-
кое-то странное существо. Он очень высоко, поэтому не
разберешь.
— Где этот дом?
— Показать?
— Покажи.
И вся компания сворачивает за Айной в переулок.
Киру тоже сворачивает в переулок. Он вообще ходит
за Айной как тень. А она, как на тень, не обращает на
него внимания. Потому что Киру никто не подменил и
он для Айны все тот же, что был пять л^т назад.
Обычно, когда Айна возвращается домой, Киру идет
за ней. Его от Айны отделяют каких-нибудь десять ша-
гов. Но эти десять шагов стоят десяти километров. Де-
сять километров Киру прошел бы запросто, а этот деся-
ток шагов никак не может преодолеть. Он идет по ули-
це, никого не замечая. Он видит только серое пальто с
черными черточками и красную шапочку.
Айна знает, что Киру идет за ней. Ее это злит. Что
за глупый парень! Если бы он шел рядом, можно было
бы с ним поболтать. А так получается, что он выслежи-
вает ее. Айна неожиданно останавливается и резко пово-
рачивается. Тогда Киру, застигнутый врасплох, тоже
останавливается и опускает глаза. Он смотрит себе под
ноги. А когда снова поднимает глаза, Айна уже далеко.
Иногда она совсем убегает. И Киру остается один.
Сейчас кругом ребята, и Киру чувствует себя уверен-
ней. Его робость перед Айной не так заметна. Правда,
ему все время кажется, что Айна относится ко всем
лучше, чем к нему, хотя только он один готов сделать
для Айны что угодно.
— Далеко еще? — спрашивает кто-то из ребят Айну.
— А ты уже устал? — откликается девочка.— Свер-
нем за угол, а там рядом.
Киру никогда бы не спросил Айну: «Далеко или
нет?» Он может идти за ней хоть на край света. Ц он не-
множко завидует друзьям, которые могут тянуть Айну
за руку, спорить с ней и задавать ей вопросы.
237
Когда ребята подошли к дому с загадочным флюге-
ром, повалил снег. Не белый морозный снег, а серый,
вперемешку с дождем. Ребята подняли воротники. Айна
поглубже натянула красную шапочку: только нос выгля-
дывает. Киру поежился, но воротник поднимать не стал.
Он решил, что с опущенным воротником у него более
мужественный вид. Но о каком мужественном виде мог-
ла идти речь, если Киру худой и узкоплечий. Подборо-
док у него заострен, а нос маленький и ровный. Брови и
ресницы такие белесые, будто их подпалили и мальчик
остался совсем безбровым. Руки у Киру белые, без мо-
золей. А на носу у него очки.
— Вот таинственный флюгер,— сказала Айна,—
смотрите.
Вся компания задрала головы.
Ребята увидели высокую черепичную крышу. Черепи-
ца похожа на красные перышки, а вся крыша на боль-
шое алое крыло. На самом краю конька возвышался
штырь. На нем был флюгер. Даже с земли видно, что
этот флюгер не чета своим собратьям. В его формах
было что-то стремительное и непонятное. Что хотел изо-
бразить древний флюгерных дел мастер?
— Да это петух! — воскликнул кто-то из друзей Киру.
Одного слова было достаточно, чтобы вспыхнул спор.
— Петух? Ты, наверно, никогда петухов не видел?
Хорош петух без хвоста!
— Откуда ты взял, что без хвоста! Надо быть сле-
пым, чтобы не видеть хвоста!
— Киру, ты в очках, ты должен видеть лучше всех.
Скажи, есть хвост или нету?
Краска ударила в лицо Киру. Ему показалось, что,
напоминая об очках, товарищ хотел уронить его в гла-
зах Айны. Он покосился на Айну, ожидая прочесть в ее
глазах насмешку. Но Айна даже не повернулась в его
сторону. Она рассматривала флюгер.
Тогда Киру успокоился и стал тоже рассматривать
железное существо, которое взмыло над городом и заве-
ло дружбу с ветром. Киру прищурил глаза. Он напрягал
их. Есть у флюгера хвост или нет? Ребята ждали отве-
та. Но что мог им сказать Киру? Мокрые снежинки па-
дали на очки, и стекла становились мутными. Сквозь
них ничего невозможно было разглядеть на земле, не то
что в небе.
238
— Ничего не вижу,— признался Киру.
— Эх ты, «не вижу»! — передразнила его Айна и
уничтожающим взглядом смерила мальчика.
Киру стало стыдно, что он не видит хвоста. В эту ми-
нуту он ненавидел самого себя. Ни на что он не годен.
И правильно делает Айна, что презирает его. Он был
жесток к себе.
Не говоря ни слова, Киру повернулся и побрел куда
глаза глядят.
Долго ходил он по городу, одинокий, потерянный. Хо-
лодный влажный ветер пронизывал его, а снежинки
норовили непременно попасть за шиворот. Киру поднял
воротник. Теперь ему уже было все равно.
Наконец он снова попал на улицу, по которой шел
за Айной. Он остановился перед домом с таинственным
флюгером. Ребят уже не было. Неизвестно, чем кончил-
ся их спор. Так или иначе, они давно разошлись по до-
мам. Киру потоптался на месте. Он задрал голову и
мучительно стал вглядываться в мутную высь. Он про-
тирал стекла очков, закрывал глаза и снова открывал
их. Вот если бы завтра, придя в школу, он смог бы рас-
сказать Айне о странном флюгере! Какой-то горячий
огонек вспыхнул в мальчике. Он разгорался все сильней,
наполняя сердце решимостью. Невозможное стало ка-
заться вполне осуществимым. Еще полностью не отда-
вая себе отчета, что он собирается делать, Киру медлен-
но направился к подъезду дома с таинственным флю-
гером.
На лестнице стоял полумрак: лампочки еще не за-
жгли, а хмурый день давал мало CBeia. Киру стал под-
ниматься. Он шел мимо квартлр с кнопками звонков, с
ящиками для писем и газет, с почти невидимыми номер-
ками. Он спешил, словно боялся, что огонек, двигаю-
щий сейчас его поступками, может погаснуть.
Дверь на чердак оказалась открытой. Киру подошел
к слуховому окну и выглянул наружу. Ветер дохнул ему
в лицо холодной сыростью. Снежинка зацепилась за его
ресницу и тут же растаяла. Мальчик смотрел в окно и
видел одни крыши. Они расходились во все стороны, как
тяжелые застывшие волны, и вдалеке сливались с мут-
ным морским небом.
Киру увидел сразу десятки флюгеров. Как стрелки
компаса, они смотрели в одну сторону. Киру почудилось,
239
что все флюгера города нацелили свои клювы и стрелы
в а него и ждут, что он будет делать дальше.,
Мальчик высунулся до пояса и посмотрел на кры-
шу. Крупные дольки черепицы уже не были похожи на
легкие перышки. Тяжелые, горбатые, кое-где пробитые
градом, они напоминали панцирь окаменевшего чудови-
ща. А флюгера не было видно. Он был скрыт за высоки-
ми трубами.
На мгновение Киру охватила робость. Но свистящий
упругий ветер, казалось, донес до него голос холодной,
равнодушной Айны. Этот голос шепнул: «Иди!» И страх
еще ниже упасть в глазах Айны оказался сильнее страха
упасть с высокой скользкой крыши.
Киру вылез из тесного слухового окна и, цепко хва-
таясь за выступы, стал карабкаться по крыше. Холодная
черепица обжигала руки. Ноги скользили. Но Киру мед-
ленно продвигался вперед. Он не оглядывался, старал-
ся не думать о высоте. По крутой каменной горе он лез
к перевалу — к коньку крыши. Он не думал о том, каким
будет его обратный путь. Он смотрел вперед.
Так Киру добрался до цели.
Вот он, таинственный флюгер, которого никто не мог
разглядеть с земли. Никакой это не петух! Это конь и
всадник. С земли флюгер казался маленьким и летучим.
Вблизи он был большим и грузным. От времени он по-
крылся шершавой ржавчиной, а дым измазал его жир-
ной сажей. Дул сильный ветер, и конь с пронзительным
скрипом шарахался то влево, то вправо. Может быть, он
хотел сбросить своего седока, а может быть, ему хоте-
лось спрыгнуть со штыря и растоптать тяжелыми копы-
тами дерзкого мальчишку.
Киру сидел верхом на гребне крыши и внимательно
следил за конем и всадником. В это время ветер ударил
с новой силой. Конь мелко задрожал. Киру подумал, что
сейчас конь сделает отчаянный прыжок и помчится со
своим всадником по черепичным крышам города. Вот
здорово!
Ветер ревел все сильнее. Низкие облака мчались над
самой головой. Но Киру не было страшно. Его сердце
пело. Все старые флюгера сорвались со своих насестов
и летали над городом. Плыли рыбы, били крыльями пе-
тухи, на ветру спутались волосы русалок. Они спешили
в сторону моря. И железный конь скакал туда же. И Ки-
240
ру почувствовал себя всадником, скачущим над городом
вместе со взбунтовавшимися флюгерами. Он спешил
вдаль, чтобы совершить подвиг во имя Айны.
Ветер раскачивал черный штырь флюгера. Все во-
круг гудело, скрипело, гнулось. Ветер мешал дышать, и
Киру отвернулся, чтобы набрать воздуха, и взгляд его
упал на крышу. Он заметил, что дольки черепицы ста-
ли блестящими, покрылись прозрачным леденцом. Маль-
чик попробовал опереться ногой на выступ — нога со-
скользнула. Он еле удержал равновесие. Тогда, вместо
того чтобы возвращаться к слуховому окну, мальчик еще
ближе подвинулся к железному коню и обхватил штырь
руками. Он прижался к нему, и от этого скрип петель
стал еще громче и пронзительней. Будто вместе с всад-
ником и конем суставы Киру при каждом движении из-
давали скрип.
Киру закрыл глаза и стал ждать. Руки его коченели,
а тело на ледяном ветру утрачивало гибкость.
Постовой милиционер поднял голову и увидел ма-
ленькую фигурку на высокой черепичной крыше. Может
быть, это монтер исправляет антенну? Постовой сделал
еще несколько шагов и снова посмотрел вверх. Фигура
сидела неподвижно. Она лепилась у самого края конька
крыши. Дальше шел обрыв.
Постовой перешел на другую сторону и стал внима-
тельно следить за фигуркой. Она была неподвижна. Как
это человек забрался туда в такой гололед? И почему он
не шевелится? И как он оттуда слезет?
Некоторое время милиционер раздумывал, что ему
предпринять. Потом он торопливыми шагами направил-
ся к телефону.
Пожарная машина прибыла через пять минут. Она
промчалась по городу, тревожная, ревущая, красная,
будто охваченная пламенем. Автомобили уступали ей
дорогу, а люди провожали ее тревожными глазами и ду-
мали: «Где-то горит...» Они не знали, что пожарная ма-
шина спешила не в бой с огнем, а по другому, необыч-
ному делу.
Возле дома с флюгером машина резко затормозила.
С подножки соскочил лейтенант, а к нему уже спешил
постовой.
— Ну, где ваш альпинист?—спросил лейтенант.
0 Багульник
241
Он был недоволен, что его дружину потревожили по
такому непожарному делу.
— Вон у флюгера,— сказал постовой и кивнул в
сторону крыши.
Лейтенант ничего не сказал милиционеру, а стал бы-
стро отдавать свои, понятные одним пожарным, распо-
ряжения. Заработал мотор, и пожарная лестница стала
медленно подниматься. Она была похожа на ствол ог-
ромной пушки перед выстрелом. Встав почти на дыбы,
лестница стала вытягиваться. Она росла все выше и вы-
ше. Не останови ее, и она дотянется хоть до Луны. Но
когда ее край коснулся крыши, лестница перестала рас-
ти. Тогда по ней стал взбираться молодой парень в бре-
зентовой одежде и зеленой каске. Пожарный взбирался
так ловко, что прохожие диву дались. Наконец он достиг
края крыши.
Он увидел мальчика, обнявшего штырь флюгера.
Большой флюгер мотало во все стороны. Вероятно, флю-
гер разделял тревогу тех, кто снизу следил за малень-
кой фигуркой мальчика на гребне крыши.
Пожарный тихонько позвал:
— Эй, парень!
Киру открыл глаза. Заметив человека, появившегося
со стены дома, он заморгал глазами.
— Как вы сюда попали? — спросил Киру хриплым
голосом.
— По лестнице,— сказал пожарный.— А вот как ты
сюда вскарабкался? — в свою очередь спросил он. И до-
бавил:— Не пойму, как ты не свалился. Ведь вся кры-
ша обледенела.
Киру молчал. Он еще как следует не пришел в себя.
Пожарный сказал сочувственно:
— Нагорит тебе, наверно!.. Пошли.
Киру задвигал руками, завертел шеей. Он хотел убе-
диться в том, что еще не совсем окаменел. Пожарный
сильной рукой обхватил мальчика, но тот запротестовал:
— Я сам.
— Ладно,— сказал пожарный.— Я полезу первый, бу-
ду тебя подстраховывать. А ты крепче держись и, глав-
ное, не смотри вниз.
И они начали сползать с крыши на первую перекла-
дину лестницы: сперва пожарный, потом Киру. Когда
мальчик ухватился за лестницу, он задержался. Еще раз
242
посмотрел на коня и всадника — на двух безмолвных
виновников происшествия.
Внизу собралась толпа. Большинство прохожих инте-
ресовало, что происходит на крыше большого дома.
А лейтенант пожарных стоял в стороне и молчал. Ему
было неловко, что его боевая красная машина с лестни-
цей не борется с пожаром, а снимает с крыши какого-
то чудака.
Когда Киру наконец очутился на земле, он почувст-
вовал себя совсем хорошо. Самое трудное было позади.
Он поблагодарил пожарного, который помог ему спус-
титься с крыши, и собрался было уходить, но постовой
милиционер сказал ему:
— Придется проехаться в отделение. Дашь там объ-
яснение, товарищ верхолаз.
Киру удивленно посмотрел на него: ведь он не сде-
лал ничего плохого. Но постовой неумолимо сказал:
— Пройдемте!
Он пригласил Киру в пожарную машину и сказал
лейтенанту пожарных:
— Довезите нас до четвертого.
Лейтенант кивнул головой, и машина помчалась по
городу.
На другой день по пути в школу Киру встретил
Айну. Обычно в таких случаях Киру замедлял шаги и
безмолвно шел на почтительном расстоянии. Но после
того как он карабкался по ледяной крыше, мчался по
городу на пожарной машине и имел неприятный раз-
говор в четвертом отделении милиции, ему уже ничего
не было страшно. Поэтому он решился подойти к Айне.
Он поднял на нее глаза и сказал:
— Айна, я видел флюгер. Это не петух и не рыба.
Это всадник, скачущий над городом.
— Откуда ты знаешь? — удивилась Айна.
— Я... я был там.
— На крыше?
— Ну да, на крыше.
Киру ответил так спокойно, будто для него ничего
не стоило залезть на крышу. Девчонка недоверчиво по-
смотрела на него.
— Врешь! — сказала она.
— Нет, не вру! — отрубил Киру и сам удивился, что
может так смело разговаривать с Айной.— А не ве-
243
ришь,— продолжал он,— не надо!.. Только я специально
для тебя лазил.
И тогда холодная Айна улыбнулась. Она впервые по-
смотрела на Киру, как на равного. Она не могла смот-
реть свысока на человека, который побывал на такой
головокружительной высоте, на какую не поднимался
еще ни один знакомый мальчишка.
Киру почувствовал, как что-то звонкое и горячее за-
билось у него в груди. Он подошел ближе к Айне и
сказал:
— Хочешь, я облазаю все флюгера и расскажу тебе,
какие они вблизи?
— Не надо, не надо! — испуганно сказала Айна.—
Еще свалишься.
Киру было приятно, что Айне не безразлично, сва-
лится он с крыши или нет.
Девочка неотрывно смотрела на Киру. Старый
школьный товарищ вырос в ее глазах, и ей показалось,
будто его подменили. И перед ней стоит совсем другой
Киру. Новый, приехавший откуда-то издалека.
Они шли рядом. И упругий ветер с моря дул им в
спину, словно поторапливал их. А высоко на крышах
несли свою трудную службу флюгера: летели железные
петухи, плыли рыбы и всадник на коне скакал над го-
родом.
НЕОТСТУПНЫЙ
Дворовые сплетницы говорили: «Он ходит за ней как
тень».
На то они и сплетницы, чтобы ничего не смыслить
и попусту молоть языком. Разве может тень понимать
с полуслова, говорить «брось, все обойдется» в горест-
ные минуты и заступаться, если человека обижают!
244
Тень волочится сзади, как хвост, или норовит забежать
вперед, или навязчиво шагает рядом. Но стоит солн-
цу спрятаться за тучу — тени нет, исчезла.
Он не был тенью. Он был неизменным спутником,
верным другом, молчаливым рыцарем. Когда он уходил,
ей сразу начинало чего-то недоставать: улицы станови-
лись уже, солнце светило вполсилы, не хватало травы,
листьев. Словно, уходя, он забирал с собой свою полови'
ну мира. Зато когда они были вместе, все приходило в
норму: и улицы, и солнце, и трава.
Они никогда не договаривались о встрече. Но всегда
случалось, что они одновременно выходили во двор или
же сталкивались на улице. Словно подавали друг другу
тайный сигнал. При встрече они не проявляли радости,
а держались так, словно вообще не расставались.
Его звали, как римского императора,— Клавдий. Но
император был здесь ни при чем. Это редкое имя ему
дали в честь прадеда, погибшего еще в русско-японскую
войну в начале века. Когда прадеда окружили японцы,
он поджег пороховой погреб и ценой своей жизни убил
несколько десятков вражеских солдат...
А ее звали просто Таня.
У них были свои владения: улицы и двор. Все осталь-
ное уже не принадлежало им и было отделено строгой
границей, которую они никогда не решались нарушить.
Но им вполне хватало двора и улиц. Они часто выходи-
ли из полукруглой арки ворот и попадали в шумный,
людный город. Здесь они знали каждый дом, каждый
сквер, каждую будку с мороженым, будто выучили их
наизусть. И все же, как ни знаком был город, они дела-
ли все новые открытия. Иногда они натыкались на со-
всем незнакомый дом, иногда попадали в невиденный
переулок. В эти минуты они чувствовали себя путешест-
венниками и давали открытиям свои имена. Переулок
«Старичок», площадь «Ватрушка», сквер «Лужайка».
Так в городе появилось много необычных названий, о
которых никто и не подозревал.
В этот день он долго ждал Таню на улице. Он знал,
что рано или поздно она появится. И она появилась. Он
увидел ее издали и сразу почувствовал, что случилось
что-то неладное. Ее глаза были полны слез, и ей стоило
усилий, чтобы не дать слезам вырваться наружу.
245
Таня не останавливаясь прошла мимо него. Он на-
гнал ее и зашагал рядом. Он смотрел на Таню, а она
глядела куда-то далеко вперед, и губы ее слегка дро-
жали.
— Ты что? — спросил он Таню.
Она ничего не ответила. Только ускорила шаги, слов-
но хотела уйти от его вопроса.
— Ты что?
Он легонько потянул девочку за руку. Она не отдер-
нула руку, но продолжала молчать, будто потеряла дар
речи и не могла произнести ни слова.
— Тебя кто-нибудь обидел?
Девочка утвердительно мотнула головой.
— Кто?
У него не хватало терпения дать Тане успокоиться.
Он немедленно требовал ответа.
— Кто?
Девочка остановилась. Подняла на него глаза. По-
том отвернулась в сторону и, будто не ему, а кому-то
другому, сказала:
— Мать!
Это слово прозвучало жестко и холодно, словно бы-
ло сделано из металла. Оно не имело ничего общего со
словом «мама».
— Что она тебе сказала?
— Она ударила меня. По щеке...
Клавдий почувствовал, как по его телу прошел элек-
трический ток, словно его тоже ударили по щеке и лицо
горит от удара. Ему стало больно от своего бессилия.
Таня заметила, как ее друг изменился в лице. Теперь
он смотрел в одну точку и мучительно думал, что де-
лать. Она никогда не видела его таким бледным и встре-
воженным и, забыв о своей обиде, спросила:
— Что с тобой?
Он не ответил. Крепко сжал Танину руку и сказал:
— Жди меня здесь. Я сейчас.
И побежал, не оглядываясь и не разбирая дороги.
Через три минуты он стоял перед Таниной дверью,
сжав кулаки, красный, в фуражке, съехавшей набок.
Он слышал, как в ответ на звонок в глубине квартиры
раздались тяжелые торопливые шаги. Шаги отдавались
в сердце. Они приближались, как снаряд, когда хочется
зажмурить глаза и прижаться к стене. Но Клавдий не
246
закрыл глаза и не сдвинулся с места. Он стоял прямо,
до боли сЖав кулаки, словно готовился к бою.
Дверь отворилась. На пороге стояла полная кругло-
лицая женщина с желтыми волосами. Ее строгие глаза
вопросительно смотрели на незваного гостя. Это была
Танина мать, которая ударила ее по щеке. Она смотрела
холодно и спокойно, как будто ничего не произошло. Она
ждала, что Клавдий поздоровается и скажет, что ему
нужно.
Мальчик с ненавистью посмотрел на Танину мать п
сказал:
— Вы не смеете ее бить!
— Вот как,— сказала желтоволосая женщина, и гла-
за ее стали еще холоднее.— Это что еще за заступник?
— Вы не смеете ее бить,— повторил Клавдий.
— Да я тебя самого...— вырвалось у женщины, и она
шагнула вперед, словно собираясь ударить защитника
своей дочери.
Он не отступил. Он стоял на месте, полный решимо-
сти, и в упор смотрел на Танину мать. И эта решимость
поколебала женщину. Она опустила руку и вызываю-
щим голосом спросила:
— А, собственно, какое тебе дело? Это моя дочь, и я
воспитываю ее так, как нахожу нужным.
Незаметно для себя женщина заговорила с мальчи-
ком, как со взрослым, более того — она как бы оправ-
дывалась перед ним. Потом она рассердилась, что по-
ставила себя на одну ступень с этим наглым мальчиш-
кой, и повысила голос:
— Я ее мать, а ты кто? Что ты суешь нос не в свое
дело? Что ты врываешься в чужой дом?
Она засыпала его злыми вопросами. Вопросы лете-
ли один за другим. Клавдий не мог ответить ни на один
из них, да Танина мать и не ждала ответа. Когда она
умолкала, чтобы перевести дыхание, он с упорством по-
вторял свои слова:
— Вы не смеете ее бить.
Эти слова были острыми и беспощадными. Они боль-
но били в одну точку, и Танина мать не могла париро-
вать эти удары. А он стоял перед ней все такой же непо-
колебимый, со сжатыми кулаками, готовый простоять
так вечно.
Танина мама вдруг умолкла. Накал ее гнева остыл.
247
» Теперь она смотрела на мальчика скорее с любо-
пытством, чем со злостью. Неожиданно она сказала:
— Что мы с тобой объясняемся на лестнице? Зайдем
в дом.
Клавдию захотелось крикнуть, что он не желает за-
ходить в дом, где людей бьют по щекам. Но им овладело
желание хоть одним глазком посмотреть, где живет
Таня. И он послушно переступил границу.
В доме с Таниной мамой произошла перемена. Она
уже не кричала и не старалась сделать ему больно.
Она сказала:
— Раз пришел в гости, давай пить чай.
Он не приходил к ней в гости. И какой там чай! Разве
сейчас до чая? Но весь поворот событий Оыл таким не-
ожиданным, что мальчик невольно повиновался этой чу-
жой женщине с желтыми волосами.
— Проходи на кухню, а то у меня не убрано. Я ведь
только с работы...
Клавдий никак не мог понять, почему его гнев пере-
горел и почему он послушно идет за человеком, которо-
го ненавидел и презирал.
В кухне было светло. Гладкий кафель, светлые шкаф-
чики сверкали зимней белизной. Танина мама усадила
гостя на табуретку и стала ловко расставлять чашки,
доставать варенье, заваривать чай. При этом она все
время говорила с Клавдием, словно боялась, что если
замолчит, то он встанет и уйдет.
— Как тебя зовут?
— Клавдий.
— Какое странное имя... Ты с Таней учишься?
— Я живу в этом доме.
— Вот как? А почему я тебя не видела? Ты какое
варенье любишь: клубничное или из черной смородины?
Клавдий сидел на кончике табуретки и внимательно
наблюдал за женщиной, хлопотавшей на кухне. Он обра-
тил внимание, что у нее усталое лицо И среди желтых
волос проступают седые нити. Движения у нее были уве-
ренными и вместе с тем торопливыми. То ли она спе-
шила напоить его скорее чаем, то ли вообще привыкла
к вечной спешке.
Мальчик не мог понять перемены, которая произо-
шла с Таниной мамой. Он настороженно смотрел на нее
и вдруг уловил в чужом лице знакомые черты своей по-
248
други. Это открытие почему-то обрадовало его. И ему
стало легче.
Наконец Танина мама разлила чай и села напротив
Клавдия. Она помешивала ложечкой и исподволь рас-
сматривала защитника своей дочери.
— Ты давно дружишь с Таней?
Клавдий задумался, и ему показалось, что он дру-
жит с Таней всю жизнь.
— Уже целый год,— ответил он.
— А что же ты не заходишь к нам?
— Да так,— выдавил из себя мальчик.
Некоторое время они сидели молча и пили чай. Клав-
дий пил, не желая обидеть маму. Он не чувствовал вку-
са варенья. Чего стоит варенье, когда Таня одна ходит
по улицам и переживает обиду. Клавдий подумал о по-
друге и укоризненно посмотрел на хозяйку дома. Она
уловила это и, словно желая оправдаться перед ним,
сказала:
— Трудно мне с Татьяной. Она все норовит сделать
по-своему.
Теперь она жаловалась мальчику на непослушную
дочь, на вечные заботы. Вероятно, ей давно не с кем
было поделиться своими тревогами, и она избрала для
этого мальчика, который совсем недавно готов был бро-
ситься на нее с кулаками. А он внимательно слушал ее,
и было похоже, что ее слова вызывают у него сочувст-
вие. Но он не простил ей пощечину. Он только старался
разобраться, как эта женщина, мягкая и в чем-то бес-
помощная, могла поднять руку на свою дочь.
— Вот и вспылишь, не выдержишь,— говорила она,
как бы отвечая на его мысли.
Но ее слова не могли растрогать мальчика. Он вдруг
снова извлек из ножен оружие.
— Все равно ее нельзя бить,— сказал он.
Оружие было уже не таким острым, но оставалось
прямым и непреклонным. И чтобы смягчить удар, маль-
чик вдруг сказал:
— Таня хорошая.
Эти слова сами вырвались у него. Танина мама по-
светлела. И он почувствовал, что она любит Таню.
Чаепитие подходило к концу. Клавдий сделал боль-
шой глоток и, переводя дух, сказал:
— Спасибо.
249
— >На здоровье,— отозвалась хозяйка.
— Мне пора.
Он встал. Танина мама тоже поднялась, не зная, что
предложить еще этому неожиданному гостю. Некоторое
время они стояли, выжидательно глядя в глаза друг
другу.
Ему вдруг захотелось сделать что-то приятное этой
грустной женщине, но он еще не до конца простил ее и
поэтому заторопился.
Она проводила его до двери и, когда он бросил «до
свидания» и шагнул за порог, сказала:
— Приходи к нам.
— Спасибо!
Она стояла на площадке, прислушиваясь к его уда-
ляющимся шагам, и чувствовала удивительную легкость
от мысли, что он бежит к Тане и что у ее дочери есть
такой смелый и неотступный защитник.
ИГРА В КРАСАВИЦУ
В то время мы думали, что по Караванной улице,
побрякивая колокольчиками, бредут пыльные усталые
верблюды, на Итальянской улице живут черноволосые
итальянцы, а на Поцелуевом мосту все целуются. Потом
не стало ни караванов, ни итальянцев, да и сами улицы
теперь называются иначе. Правда, Поцелуев мост остал-
ся Поцелуевым.
Наш двор был вымощен щербатым булыжником. Бу-
лыжник лежал неровно, образуя бугры и впадины. Ког-
да шли затяжные дожди, впадины заливала вода, а
бугры возвышались каменными островами. Чтобы не за-
мочить ботинок, мы прыгали с острова на остров. Но
домой все равно приходили с мокрыми ногами.
Весной наш двор пах горьковатой тополиной смол-
кой, осенью — яблоками. Яблочный дух шел из подва-
лов, где было овощехранилище. Мы любили свой двор.
250
В нем никогда не было скучно. К тому же мы знали
множество игр. Мы играли в лапту, в прятки, в штандр,
в чижика, в ножички, в испорченный телефон. Эти игры
оставили нам в наследство старшие ребята. Но были у
нас игры и собственного изобретения. Например, игра
в красавицу.
Неизвестно, кто придумал эту игру, но она всем
пришлась по вкусу. И когда наша честная компания со-
биралась под старым тополем, кто-нибудь обязательно
предлагал:
— Сыграем в красавицу?
Все становились в крут, и слова считалочки начина-
ли перебегать с одного на другого:
— Эна, бена, рес...
Эти слова из какого-то таинственного языка были
для нас привычными:
— Квинтер, контер, жес.
Мы почему-то любили, когда водила Нинка из седь-
мой квартиры, и старались, чтобы считалочка кончалась
на ней. Она опускала глаза и разглаживала руками
платье. Она заранее знала, что ей придется выходить на
круг и быть красавицей.
Теперь мы вспоминаем, что Нинка из седьмой квар-
тиры была на редкость некрасивой: у нее был широкий
приплюснутый нос и большие грубые губы, вокруг кото-
рых хлебными крошками рассыпались веснушки. Лоб —
тоже в хлебных крошках. Бесцветные глаза. Прямые
жидкие волосы. Ходила она, шаркая ногами, животом
вперед. Но мы этого не замечали. Мы пребывали в том
справедливом неведении, когда красивым считался хо-
роший человек, а некрасивым — дрянной.
Нинка из седьмой квартиры была стоящей девчон-
кой — мы выбирали красавицей ее.
Когда она выходила на середину круга, по правилам
игры, мы начинали «любоваться» — каждый из нас пу-
скал в ход вычитанные в книгах слова.
— У нее лебединая шея,— говорил один.
— Не лебединая, а лебяжья,— поправлял другой и
подхватывал: — У нее коралловые губы...
— У нее золотые кудри.
— У нее глаза синие, как... как...
— Вечно ты забываешь! Синие — как море.
Нинка расцветала. Ее бледное лицо покрывалось
251
теплым румянцем, она подбирала живот и кокетливо
отставляла ногу в сторону. Наши слова превращались
в зеркало, в котором Нинка видела себя красавицей.
— У нее атласная кожа.
— У нее соболиные брови.
— У нее зубы... зубы...
— Что зубы? Жемчужные зубы!
Нам самим начинало казаться, что у нее все лебяжье,
коралловое, жемчужное. И красивее нашей Нинки нет.
Когда запас нашего красноречия иссякал, Нинка
принималась что-нибудь рассказывать.
— Вчера я купалась в теплом море,— говорила Нин-
ка, поеживаясь от холодного осеннего ветра.— Поздно
вечером в темноте море светилось. И я светилась. Я бы-
ла рыбой... Нет, не рыбой — русалкой.
Не рассказывать же красавице, как она чистила
картошку, или зубрила формулы, или помогала матери
стирать.
— Рядом со мной кувыркались дельфины. Они тоже
светились.
Тут кто-нибудь не выдерживал:
— Не может быть!
Нинка протягивала ему руку:
— Понюхай, чем пахнет?
— Мылом.
Она качала головой:
— Морем! Лизни — рука соленая.
Стояли мутные влажные сумерки, и было непонятно,
идет дождь или нет. Только на стекле возникали и ло-
пались пузырьки. Но мы чувствовали близость несуще-
ствующего моря — теплого, светящегося, соленого.
Так мы играли.
Лил дождь — устраивались в подворотне. Темнело —
толпились под фонарем. Даже самые крепкие морозы не
могли нас выжить со двора.
Как-то в наш дом переехали новые жильцы. И во
дворе появился новенький. Он был рослый и слегка су-
тулился, словно хотел казаться ниже ростом. На щеке
у него проступало крупное продолговатое родимое пятно.
Он стеснялся этого пятна и поворачивался к нам другой
щекой. У него был нос с горбинкой и большие — прямо-
таки девичьи — ресницы. Ресниц он тоже стеснялся.
Новенький держался в стороне. Мы его подозвали и
предложили сыграть с нами в красавицу. Он не знал,
в чем дело, и согласился. Мы переглянулись и выбрали
красавицей... его. Едва заговорили про лебяжью шею и
коралловые губы, как он густо покраснел и выбежал из
круга.
Мы посмеялись и крикнули вдогонку:
— Сыграем и без тебя!
Но когда снова встали в круг, Нинка неожиданно
попятилась:
— Я тоже не буду...
Мы взорвались:
— Что за новости? Почему ты не будешь?
— Так.— Нинка отошла от нас.
И сразу расхотелось играть. Мы заскучали. А Нинка
приблизилась к новенькому и сказала:
— Когда играют в красавицу, всегда выбирают
меня.
— Тебя? Почему тебя? — удивился новенький.—
Разве ты красивая?
Мы не стали с ним спорить. Мы посмеялись над ним.
А у Нинки вытянулось лицо, хлебные крошки у рта и
на лбу стали еще заметнее.
— А меня выбирают.
— Очень глупо,— сказал новенький.— И вообще ва-
ши детские игры меня не интересуют.
— Конечно.— Нинка почему-то сразу согласилась с
ним.
С появлением новенького с ней вообще стало тво-
риться что-то странное. Она, например, ходила за ним
по улице. Шла тихо, по другой стороне, чтоб никто не
заметил, что она идет за ним. Но мы, конечно, заметили
и решили, что Нинка спятила или во что-то играет. На-
пример, в следопыта. Он заходил в булочную — она сто-
яла напротив и не отрывала глаз от стеклянных дверей.
Она и утром поджидала его у подъезда и шла за ним
до школы.
Новенький не сразу сообразил, что Нинка из седьмой
квартиры ходит за ним как тень. А когда обнаружил это,
очень рассердился.
— Не смей ходить! — крикнул он Нинке.
Она ничего не ответила. Побледнела и пошла прочь.
А он крикнул ей вдогонку:
253
— Ты бы лучше посмотрела на себя в зеркало!
Он приказал ей посмотреться в зеркало. Нас не ин-
тересовало, какие у нас носы, рты, подбородки, куда
торчат волосы, где вскочил прыщ. И Нинка знала толь-
ко то зеркало, которым были для нее мы, когда играли
в красавицу. Она верила нам. Этот тип с родимым пят-
ном на щеке разбил наше зеркало. И вместо живого,
веселого, доброго появилось холодное, гладкое, злое.
Нинка в первый раз в жизни пристально взглянула в
него — зеркало убило красавицу. Кахсдый раз, когда
она подходила к зеркалу, что-то умирало в ней. Пропали
лебяжья шея, коралловые губы, глаза, синие, как море.
Но мы тогда не понимали этого. Мы ломали себе
голову: что это с ней? Мы не узнавали свою подружку.
Она стала чужой и непонятной. Мы сторонились ее. Она
и не стремилась к нам, молча проходила мимо. А когда
ей встречался новенький с большим родимым пятном на
щеке, она убегала прочь.
В нашем городе часто идут дожди. Могут лить круг-
лые сутки. И все так привыкают к ним, что не обращают
внимания. Взрослые ходят под зонтами. Ребята делают
короткие перебежки от одной подворотни к другой, пры-
гают по булыжным островам.
В тот вечер был сильный дождь, дул сверлящий ве-
тер. Говорили, что на окраинах города начиналось на-
воднение. Но мы крепились, жались в подворотне, не
хотели расходиться по домам. А Нинка из седьмой квар-
тиры стояла под окном новенького. Зачем ей понадо-
билось стоять под его окном? Может быть, она решила
позлить его? Или сама с собой поспорила, что простоит
под дождем, пока не сосчитает до тысячи? Или до двух
тысяч. Опа была в коротеньком пальто, из которого дав-
но выросла, без косынки. Ее прямые волосы вымокли и
прилипли к щекам, и от этого лицо вытянулось. Глаза
блестели, как две застывшие капли. Гремели водосточ-
ные трубы, дребезжали подоконники, трещали перепон-
чатые купола зонтов. Она ничего не видела и не слы-
шала. Не чувствовала холодных струй. Она стояла под
окном, охваченная отчаянной решимостью.
Мы кричали ей из подворотни:
— Нинка! Иди к нам, Нинка!
Она не шла. Мы выбежали под дождь. Схватили ее
за руки: не пропадать же человеку.
254
— Отойдите! — Она прямо-таки прикрикнула на нас.
Мы отошли. Повернулись спиной и стали смотреть
на улицу. Люди спешили, подняв над головами зонты,
словно на город спустился целый десант на угрюмых
черных парашютах. Десант прохожих.
Потом мы увидели, как к Нинке подошла ее мать.
Она долго уговаривала Нинку уйти. Наконец ей удалось
увести девчонку из-под дождя в подъезд. Там горела
тусклая лампочка. Нинкина мать повернула лицо к све-
ту, и мы услышали, как она сказала:
— Посмотри на меня. Я, по-твоему, красивая?
Нинка удивленно посмотрела на мать и, конечно, ни-
чего не увидела. Разве мать может быть красивой или
некрасивой?
— Не знаю,— созналась Нинка.
— Тебе пора бы знать,— жестко сказала Нинкина
мать.— Я некрасивая. Просто дурная.
— Нет, нет!—вырвалось у Нинки.
Она прижалась к матери и заплакала. Мы так и не
поняли, кого она жалела: мать или себя.
— И ничего страшного,— уже спокойно сказала Нин-
кина мать.— Счастье приходит не только к красивым.
И некрасивые выходят замуж.
— Я не хочу замуж! — резко ответила Нинка, и мы
были согласны с ней.
— Да, да, конечно,— как бы спохватилась мать.—
Не обязательно замуж...
Потом они вышли на дождь и пошли по улице. Мы,
не сговариваясь, двинулись за ними. Нет, не из любо-
пытства. Нам казалось, что мы можем понадобиться
Нинке.
Неожиданно мы услышали, как Нинка спросила:
— У тебя был муж?
— Нет.
— Но у меня был отец?
Мать не ответила. Она как бы не расслышала во-
проса. Нинка рассердилась и сказала довольно грубо:
— Что ж, меня аист принес?
— Да, аист,— глухо прошептала мать.— Прилетел,
понимаешь, аист. И улетел. А ты осталась.
Они шли по темному переулку, и у них не было зон-
та. Но им было все равно: дождь так дождь. А нас тряс-
ло от холодной сырости.
255
— Значит, мой отец аист? — произнесла Нинка и
тихо засмеялась.— Очень хорошо. Когда я стану учитель-
ницей, меня будут называть Нина Аистовна. И, может
быть, у меня вырастут крылья... Вот если бы ты нашла
меня в капусте, было бы куда скучнее.
— Не смейся,— сказала мать.
— Я не смеюсь.— Она и в самом деле уже не смея-
лась, но голос ее дрожал, дробился.— А где он... аист?
Мать отвернулась в сторону и вытерла со щеки бо-
роздку дождя.
— Он тоже был некрасивый?
Нинка остановилась, крепко сжала мамину руку вы-
ше локтя и заглянула ей в лицо. Она смотрела на мать
так, как будто произошла ошибка и рядом с ней оказа-
лась чужая, незнакомая женщина. Девочка как бы уви-
дела маму в холодном, безжалостном зеркале. Такой,
как она есть. Какой видели ее мы — чужие ребята, жав-
шиеся к темной стене дома. Мы были так близко от них,
что чувствовали запах мыла и ношеной одежды. И, не
видя нас, Нинка из седьмой квартиры как бы почувст-
вовала наше присутствие и совершенно другим, спокой-
ным голосом сказала:
— Мама, давай с тобой сыграем в красавицу.
— Глупости!
— Нет, нет, давай сыграем. Я тебя научу. Ты стой и
слушай, что я буду говорить.
Она сильней сжала мамину руку, приблизилась к
ней, тихо, одними губами стала произносить знакомые
слова из нашей игры, которые мы до приезда новых
жильцов дарили ей:
— Мама, у тебя лебяжья шея и большие глаза, си-
ние, как море. У тебя длинные золотистые волосы и ко-
ралловые губы...
Потоки дождя тянулись из невидимых туч. Под нога-
ми разливались холодные моря. И все железо города
гремело и грохотало. Но сквозь гудящий ветер, сквозь
пронизывающий холод поздней осенней мглы живой,
теплой струйкой текли слова, заглушающие горе:
— У тебя атласная кожа... соболиные брови... жем-
чужные зубы...
И они зашагали дальше, крепко прижавшись друг к
другу. И уже ни о чем не говорили. И были спокойны.
Им помогла придуманная нами игра. Эна, бена, рес...
256
А мы стояли у стены, держа друг друга за рукава.
И провожали их взглядом, пока они не скрылись в тем-
ной мгле. Квинтер, контер, жес...
Нинка из седьмой квартиры погибла в 1942 году на
фронте под Мгой. Она была санитаркой.
ПИСЬМО МАРИНЕ
Он стукнул перышком и вывел первое слово: «Ма-
рина». Он долго думал, прежде чем написать это сло-
во. Оно должно быть не первым, а вторым. А перед ним
ему хотелось написать «дорогая», или «милая», или «са-
мая лучшая». В его голове пронеслась целая вереница
слов. Они были скрыты в дымке стыдливости и звучали
вполголоса, словно кто-то произносил их шепотом.
Он испугался этих слов. И поэтому, когда написал
«Марина», ему сразу полегчало.
Он грыз кончик тонкой оранжевой ручки и раскачи-
вался на стуле, словно хотел научить стул стоять на
двух ножках.
Оказывается, писать письма — трудное дело. По-
труднее алгебры.
Он перестал качаться и уставился в одну точку.
И увидел перед собой Марину. Он увидел ее так отчет-
ливо, словно сидел за партой и скашивал глаза. Он ви-
дел ее профиль: каштановые волосы, белый лоб, ровный
нос. Румянец не на щеке, а повыше — на скуле. Он так
хорошо изучил Марину, что мог бы ее нарисовать по
памяти.
Когда на уроке он смотрел в сторону Марины, из оце-
пенения его выводил голос учительницы:
— Почему ты смотришь в сторону?
Он вздрагивал и невпопад отвечал:
— Я смотрю в тетрадку.
— А надо смотреть на доску, когда я объясняю.
Хорошо, он будет смотреть на доску. Доска скрипе-
257
ла. Мел крошился. Цифры казались ему какими-то не-
понятными знаками, лишенными всякого смысла. Он
смотрел на доску, а видел Марину, словно учительница
рисовала ее портрет на доске.
Потом началась зима. Шел снег. Это спускались с
неба миллионы маленьких раскрытых парашютов. Це-
лый десант.
После урока играли в снежки. Марина была самой
красивой девочкой, и поэтому ей доставалось больше
всех. В некрасивых никто не бросал снежки. Каждому
хочется бросить в красивую. Марина защищалась. Она
закрыла лицо портфелем, как маленьким боевым щитом.
Но ребята кидали со всех сторон. Сперва Марина смея-
лась. Потом в ее глазах появился испуг. Когда снежок
попал за воротник ее серой меховой шубки, ему захоте-
лось кинуться на ребят, защитить Марину, пусть даже
попадет по уху. Но вместо этого он слепил свежий сырой
снежок и тоже кинул в Марину. Он ненавидел себя за
это, но ничего тогда не мог с собой поделать.
Сейчас надо написать об этом снежке. Пусть Мари-
на не думает, что он такой бесчувственный чурбан. Он не
хотел...
Он уперся локтями в стол и стал смотреть в окно.
Стены домов, каменные ограды, стволы деревьев были
старательно побелены. Вероятно, людям, живущим на
юге, белый цвет напоминает свежий морозный снег.
Он подумал о том, как в феврале встретил Марину
в коридоре и, заикаясь от смущения, сказал:
— Приходи на каток.
Он был почти уверен, что Марина скажет какую-ни-
будь дерзость. Но она почему-то сразу согласилась.
— Если хочешь, приду,— сказала она и посмотрела
на него серьезными карими глазами.— Жди меня у вхо-
да в семь.
Он пришел на каток в половине седьмого. У него не
было часов, и он боялся опоздать. Он стоял на противо-
положной стороне и внимательно следил за входом. Шел
крупный бесшумный снег. Горели десятки лампочек.
Из всех лампочек было составлено слово «Каток». А ве-
селая музыка наполняла его сердце тревогой. Несколько
раз ему чудилось, что идет Марина. А эго оказывались
другие, незнакомые девчонки. И каждый раз, когда он
ошибался, ему становилось неловко.
258
Он ждал долго, и ему уже начинало казаться, что
Марина не придет. Наконец он увидел, как она подо-
шла к ярко освещенному входу. Он не бросился к ней
навстречу, а спрятался за уступ дома и стал смотреть
на нее. Она поворачивала голову то вправо, то влево:
искала его глазами. А он все медлил, все не решался
выйти из своего укрытия. «Еще минутку! Еще минут-
ку!» — шептал он сам себе. И все тянул время.
Марина отвернула краешек мехового рукава своей
шубки и посмотрела на часы. Потом она еще немного
потопталась на месте и пошла на каток. А он все стоял
и смотрел. Когда Марина ушла, сердце его сжалось, и
ему неудержимо захотелось догнать ее. Но он не мог
пошевельнуться. Так и стоял в своем укрытии.
Он презирает себя за малодушие. И ему хочется на-
писать Марине, что он был у входа на каток. Пусть она
не думает, что он забыл или у него появились более важ-
ные дела.
Он вдруг почувствовал, что у него замерзли босые
ноги. Самому было жарко, а ноги замерзли. Он встал
со стула. Дверь была приоткрыта. В широкую щель во-
шел солнечный луч и расстелил по полу светлую дорож-
ку. Весь пол был прохладным, а солнечная дорожка
теплая. Он стал ходить по ней и греть ноги. Ему хоте-
лось уйти по этой солнечной дорожке от своих тяжелых
дум и от недописанного письма.
Но он заставил себя вернуться к столу.
После случая с катком Марина перестала его заме-
чать. Он решил, что она никогда в жизни не простит ему
обмана и не заговорит с ним. И от этого он чувствовал
себя несчастным. Но однажды Марина подошла к нему
и как ни в чем не бывало сказала:
— Завтра все идут в кино. Ты пойдешь?
— Пойду,— пробурчал он, краснея от неожиданно-
сти.
— Давай сядем рядом?
Он поднял глаза на Марину, и у него перехватило
дыхание. Ее карие глаза светились. Они все прощали.
Они были заполнены тихой, необъяснимой радостью. Он
смотрел на них и от неожиданности не мог произнести
ни слова.
— Сядем рядом? — повторила Марина.
— Да,— выпалил он.
259
Он ничего не мог понять.
В эти дни в городе начала хозяйничать весна. Она,
видимо, не любила белый цвет и решительно перекра-
шивала город на свой лад. Снег беспомощно жался к
домам, ио весна настигала его и тут. Разлились лужи.
Сырые ветры носились по улицам. И казалось, что за
каждым углом — море.
Он шел в кино, не разбирая луж. Он вообще ничего
не замечал. И если бы на пути в самом деле встрети-
лось море, он зашагал бы по морю, море было ему по
колено.
У кино стояла учительница. Она держала в руке
длинную синюю бумажную ленту и раздавала билеты.
Когда он пришел, у большинства ребят уже синели в ру-
ках билетики. А у Марины не было билета. Она ждала
его.
Завидев его, Марина подошла к учительнице и ска-
зала:
— Дайте мне билетик.
И пока учительница отрывала от синей ленты билет,
Марина глазами звала его. А он стоял как пень.
— Кому еще? — спросила учительница.
Марина звала его глазами: «Ну, что ж ты медлишь?
Бери скорее следующий билет, и мы будем сидеть ря-
дом!» Но он топтался на месте, пока билет не взял Лень-
ка Клочков.
В кино он сидел не с Мариной, а рядом с Ленькой
Клочковым. Ленька весь сеанс грыз леденцы и кричал:
— Законно! Законно!
А он весь сеанс ерзал и все старался взглянуть на
Марину. Но ему мешал Ленька Клочков.
Как жарко здесь, на юге! Конечно, здесь море. Но
невозможно весь день просидеть в море. А когда без
моря — жарко. Можно вылить на себя ведро воды, что-
бы не топать к морю. Но ведра хватит на пять минут,
потом снова будет жарко. А почему он, собственно, дол-
жен писать письмо?
Он уперся большими пальцами ног в пол и стал сту-
чать пяткой о пятку.
А потом рука снова потянулась к оранжевой ручке.
Надо писать письмо, раз обещал.
Он обещал Марине написать письмо с юга. Они шли
260
вдвоем по набережной. На Марине было цветастое пла-
тье, без рукавов и без воротника. А в глазах ее играло
солнце. Марина держала руки за спиной, а ветер все
время сбрасывал волосы на глаза. Ему хотелось осто-
рожно коснуться ее волос и положить их на место. А он
шел поодаль от Марины, чтобы не подумали, что он ее
провожает. Ему казалось, что весь город знает, что он
ее провожает.
Когда они дошли до Марининого дома, он быстро
протянул руку и сказал:
— Пока!
Ему очень не хотелось делать это. Ему хотелось по-
быть с Мариной. Но он всегда поступал против своей
воли, когда был с ней.
— Уезжаешь? — спросила его Марина.
Он посмотрел ей в глаза. И вдруг почувствовал, что
сейчас должен рассказать ей, что не хотел кидать в нее
снежок, и что на каток он приходил, просто не решился
подойти к ней, и что в кино ему очень хотелось сидеть
с ней рядом и он почти не смотрел на экран. Но он не
знал, как решиться на этот разговор.
И тут Марина сказала:
— Напиши мне письмо.
Он сразу просиял. Он обо всем напишет в письме!
Сказать трудно, а в письме все можно. Сел и написал.
И он воскликнул:
— Обязательно! Я напишу тебе письмо. Длинное-
длинное!.. Хорошо?
— Ага!
Марина качнула головой, и волосы снова съехали на
глаза. И он уже протянул руку, чтобы осторожно убрать
прядку... но рука вернулась с полдороги. И он снова
сказал:
— Я напишу тебе длинное письмо!
Уже много раз перышко окуналось в чернильницу и
высыхало. Пальцы стали фиолетовыми. Если судить по
пальцам, то он исписал целую тетрадку. Но на белом
листе было только одно слово: «Марина». Он смотрел в
одну точку. Видел Марину в коричневом платье с фар-
туком, в серой меховой шубке, в платье без рукавов и
воротника.
Марина смотрела на него, и ее глаза спрашивали:
«Ну, что ж ты не пишешь? Ты же обещал!»
261
Наконец он взял себя в руки, в сотый раз ударил
перышком о невидимое дно чернильницы и стал писать.
Он рассчитывал, что письмо будет большим, но оно все
уместилось на одном листке, да и тот был исписан всего
лишь на три четверти.
Когда письмо было написано, он быстро пробежал
его глазами: проверил, нет ли ошибок. А то Марина бу-
дет смеяться. Потом положил листок в конверт, запеча-
тал и облегченно вздохнул.
И письмо полетело с жаркого юга на север, где шли
дожди и где вместо вечнозеленого самшита росли обыч-
ные березки. На листке почтовой бумаги, вложенном в
конверт, было написано:
Марина!
Вот уже две недели, как я в Крыму. Здесь жар-
ко. Море рядом. Купайся сколько хочешь. Только
дно плохое.
Я купаюсь. Загораю. Играю в волейбол. Вчера
я ловил рыбу. Два часа простоял между скал на
одной ноге. И ничего не поймал. Это потому, что
я ловил бычков на хлеб. А бычков ловят на само-
го бычка. Важно только поймать первого. Вот и
все.
Ну, пока. Костя.
ЖЕНИХ И НЕВЕСТА
Димка глотнул побольше воздуха и побежал. И сра-
зу тонкие стволы берез превратились в белые мелькаю-
щие спицы. Они вырастали перед глазами и, просви-
стев над головой, падали за спину. А Димке казалось,
что он топчется на месте, и огромное колесо с белыми
спицами катится все быстрее и быстрее.
262
Неровная челка прилипла ко лбу. Губы пересохли.
Сердце било в грудь. А белые спицы так быстро летели
навстречу, что даже рябило в глазах.
Маршрут лагерной эстафеты проходил по лесу, пе-
ресекал поле и без моста перемахивал через реку. Две
палочки — какая быстрее? — должны были совершить
кругосветное путешествие и возвратиться в лагерь, как
некогда корабли Магеллана, опоясав землю, вернулись
в родной порт.
На полпути Димке стало казаться, что если он за-
медлит бег, то белое колесо отнесет его обратно, а его
соперник вырвется вперед.
Соперником была девчонка. Димка не видел ее, толь-
ко очень близко слышал частое, прерывистое дыхание.
Оно подгоняло Димку. Коленки, как выстреленные,
взлетали вверх, а локти отталкивались от ветра.
И вдруг дыхание умолкло. Димка подумал, что его
соперница отстала, и оглянулся. Девчонка лежала на
земле. Она, видно, споткнулась о толстый корень и упа-
ла. Сначала Димка обрадовался и припустил сильней,
чтобы она не успела подняться и догнать его. Когда он
еще раз оглянулся, девчонка была уже на ногах и, на
ходу потирая разбитую коленку, бежала за ним. Она
бежала медленно: боль причиняла ей страдание. Локоть
тоже был ободран.
Димка замедлил бег. Он почему-то забыл, что дев-
чонка— из чужой команды, что она его соперница. Он
дал ей догнать себя. И когда она поравнялась с ним,
крикнул:
— Не торопись, я не буду тебя обгонять!
— Нет, обгоняй! — вспыхнула девчонка.
Димка опешил. Он хотел было прибавить ходу: не
хочешь — не надо! — но продолжал бежать рядом. Он
бежал, не глядя на девчонку с разбитой коленкой, а бе-
лые спицы мелькали все реже и реже, словно колесо
собиралось остановиться. И чем дольше он бежал, тем
больше ему нравилось, что она сказала: «Нет, обгоняй!»
На повороте Димка украдкой посмотрел на свою со-
перницу и еще больше замедлил бег. Тогда девчонка
крикнула ему через плечо:
— Не смей отставать! Ни на шаг не отставай, слы-
шишь! Тебе говорят!
263
До рубежа уже оставалось немного. Неожиданно
девчонка сказала:
— Меня зовут Ася. А тебя как?
— Дима.
В это время впереди закричали:
— Давай, давай!..
Они сразу отвернулись друг от друга. И сразу пре-
вратились в соперников. А навстречу им летели голоса:
— Ася, нажимай!..
— Димка, Димка, не отставай! Жми!..
Но никакая сила не могла заставить Димку обогнать
Асю.
В полдень на окраине лагеря на высоком столбе го-
рит лампочка. Ее забыли погасить, и никто не замечает,
что она светится. Простой лампочке трудно соперничать
с ослепительным июльским солнцем. Только ближе к но-
чи станет заметно, что она горит.
Димка стоит у столба и думает, как погасить беспо-
лезно горящую лампочку. Отыскать выключатель или
вскарабкаться на столб? И тут неожиданно появляется
Ася.
Лампочка сразу погасла. Димка забыл о ней.
Ася босоногая. На ней узенькие сатиновые брючки и
кофта-размахайка. А сама Ася загорелая, коричневая с
головы до ног. Только зубы белые. И Димке кажется,
что Ася приехала в лагерь с далекого заморского остро-
ва, где все люди коричневые и белозубые.
Ася смотрела на Димку, а руки держала за спиной.
Потом, не говоря ни слова, она протянула Димке крепко
сжатый коричневый кулачок. Что там? Попробуй уга-
дай! Ася улыбнулась уголками глаз и разжала кулак.
На ладошке лежало четыре земляничины. Они приду-
шились в кулаке, и ладошка стала розовой от землянич-
ного сока.
Димка уставился на ягоды, не зная, что он должен
делать. Ася нетерпеливо повела плечом:
— Ну, бери. Бери же!
Димка неуверенно взял одну ягоду, самую малень-
кую. Ася протянула руку ближе:
— Бери все.
— Давай поровну,— возразил Димка.— Две тебе, две
мне.
264
Ему было неловко есть одному первые появившиеся
па свет земляничины.
— Нет, бери все!
И вдруг Ася шагнула к Димке и ладошкой запихну-
ла ему ягоды в рот.
От неожиданности Димка чуть не подавился, а его
губы и подбородок стали розовыми. Он чувствовал себя
неловко и даже не распробовал вкуса ягод. Ася засмея-
лась.
— Вкусно? — спросила она.
— Вкусно,— поспешил ответить Димка, вытирая рот
рукой.
— То-то!—сказала Ася и, повернувшись на пятках,
побежала к зеленому сосняку.
Сам не зная почему, Димка побрел за ней. Он заша-
гал по белому песку, на котором, как рассыпанные тон-
кие гвозди, лежали сосновые иглы. На песке Асины бо-
сые ноги отпечатали четкие следы. И Димка наступил на
них. Следы были маленькие, и он шел на носочках, что-
бы не разрушить их. Ему казалось, что они мягкие и теп-
лые не от песка и солнца, а от того, что их оставила Ася.
Ася сидела на бугорке, обняв руками коленки и поло-
жив на них голову. Она зажмурила глаза и подставила
солнцу одну щеку.
Димка остановился перед Асей. Ему хотелось загово-
рить с ней, но он не знал, с чего начать. Он был уверен,
что Ася не видит его, но она, не поднимая головы, не-
ожиданно сказала:
— Садись. Ты заслоняешь солнце.
Димка послушно опустился на песок. Он сел не ря-
дом, а чуть поодаль, там, где стоял.
— Что ты молчишь? — спросила Ася.
Он сказал невпопад:
— На столбе горит лампочка. Надо ее погасить.
— А зачем ее гасить? — отозвалась Ася.
Она открыла глаза и посмотрела на лампочку, кото-
рая горела над низкими сосенками, как маленькая бес-
цветная звезда.
— Звезды тоже горят днем, хотя их никто не заме-
чает,— сказала Ася, не сводя глаз с лампочки.
Теперь Ася думала о лампочке, а Димка — о земля-
нике. Они поменялись мыслями.
Всю жизнь Димка побаивался девчонок. Когда он
265
был поменьше, то бил их из страха, чго они первыми по-
колотят его. Он боялся их насмешливых глаз, их колких
шуток, их умения делать все лучше, чем он. Но в Асе не
было настырности и обстоятельности, которую Димка
терпеть не мог в девчонках. Ася ничего не допытывалась
и на лету меняла темы разговора.
— А у меня есть подружка,— неожиданно произнес-
ла Ася.— Клавочка. И она мне вчера сказала: «Я хотела
бы стать бабочкой и жить двадцать четыре часа!» Как
ты думаешь, она дура?
— Дура,— охотно согласился Димка.
Но Ася покачала головой:
— Просто чудачка.
Она представила себе Клавочку в виде огромной ка-
пустницы лимонного цвета. Капустница-Клавочка маха-
ла крыльями и летала низко над лагерем. И поглядыва-
ла на часы: не пора ли умирать? Ася улыбнулась своим
мыслям, а Димка подумал: «Чего она улыбается?» — и
пожал плечами.
В это время кто-то совсем близко крикнул:
— Жених и невеста! Жених и невеста!
Димка вскочил на ноги. Глаза его болезненно сощу-
рились, а кровь так горячо ударила в щеки, что они за-
горелись, как от ожога. Он почувствовал страшную не-
ловкость и не мог взглянуть на Асю, словно в чем-то был
виноват перед ней. Тогда Ася поднялась с земли и сама
подошла к Димке. Она заглянула ему в лицо, будто ни-
чего не произошло.
— У нас дома есть фотография,— сказала Ася.— Ма-
ма снята в белом платье до земли, а папа в черном ко-
стюме, застегнутом на все пуговицы. Оба стоят навытяж-
ку и смотрят в одну точку. Папа — жених, мама — неве-
ста. Ужасно смешно!
Ася попыталась представить себе Димку в черном
костюме, застегнутом на все пуговицы, а себя — в бе-
лом платье. Она хотела улыбнуться, но из этого ничего
не вышло.
У каждого отряда есть свой вожатый, свой воспита-
тель и своя самостоятельная жизнь. Ася и Димка были
в разных отрядах и поэтому виделись редко.
После случая в сосняке они старались не оставать-
ся одни. И если вели свои разговоры, то на виду у всех
266
ребят. Что здесь такого особенного? Но в лагере зара-
ботал «испорченный телефон» — игра, в которой правда
превращается в ложь. По невидимым проводам из уха
в ухо пошли, пошли четыре слова: «Димка — Ася. Же-
них — невеста».
Стоило Асе и Димке очутиться вместе, как они начи-
нали чувствовать на себе косые взгляды и до них доле-
тал насмешливый шепоток. Димка краснел и злился. Но
это только подливало масла в огонь.
Злые языки дали себе полную волю. Впрочем, языки
были не столько злые, сколько длинные и озорные. И у
них был свой спортивный интерес подстеречь Димку и
Асю и откуда-нибудь из-за угла крикнуть: «Жених и не-
веста! Жених и невеста!»
Однажды Клавочка отвела Асю в сторону:
— Можно встречаться, но зачем же на виду у всех?
Ася презрительно повела плечами:
— А нам нечего скрываться. Мы дружим. Чего здесь
плохого?
— Плохого ничего нет,— сказала бабочка-капустни-
ца,— но все же...
Она поджала губы и упорхнула.
В тот же вечер с Асей говорила отрядная вожатая
Майя. Она стригла ногти маленькими блестящими нож-
ницами и, как бы между делом, спросила:
— Что это у тебя с Димой?
— Мы дружим,— обрубила Ася.
Веселая, невозмутимая Ася начала терять терпение.
Майя испытующе посмотрела на Асю. Блестящие нож-
ницы заработали быстрее.
— Надо дружить со всеми мальчиками.
— А если все мальчики не нравятся?
Ножницы остановились.
— Ах, вот что!.. Хорошая дружба! —Майя даже по-
краснела от возбуждения.— Значит, дружат только с те-
ми, кто нравится?
— Конечно! Если человек не нравится, какой же он
Друг?
Ножницы похожи на блестящий птичий клюв. Клюв
широко раскрылся от удивления и замер. Майя попала
в затруднительное положение. Вероятно, в глубине ду-
ши она была согласна с Асей, но признаться в этом не
решалась.
2G7
Ножницы-клюв медленно закрылись, обрезали даль-
нейший разговор.
А в это время на другом конце лагеря вожатый Боль-
шой Сережа и Димка шли, заложив руки за спину.
Сережа был человек огромного роста. На его широ-
ких плечах трещали все рубашки, и ни один воротничок
не сходился на шее. Поэтому он всегда ходил в майке.
А так как ножища у него была дай бог и ботинки ему
шили на заказ, то ходил Сережа босиком: не стаптывать
же заказные ботинки. Он был кузнецом, а в лагерь по-
пал по комсомольскому поручению.
Этот большерукий и большеногий парень долго не
мог приступить к разговору с Димкой. Хорошо, что было
темно и Димка не видел, как его вожатый краснел от
неловкости. Наконец он выдавил из себя:
— Слушай, что у тебя там произошло с этой... Асей?
— Ничего не произошло! — задиристо ответил Дим-
ка. И тут же перешел в наступление: — Что, мне поссо-
риться с ней? Да?
— Ссориться не надо,— примирительно сказал Боль-
шой Сережа.
— А что надо? — кипел Димка.
— Что ты меня спрашиваешь!—не выдержал Се-
режа.— Если бы знал, сам бы тебе сказал... А ссориться
не надо.
Вожатый начал отчаянно лохматить свои короткие
волосы, будто они виноваты в том, то он попал в такое
затруднительное положение. Он бы с радостью помог
Димке, но сам был молодым и неопытным.
И вдруг он спросил:
— Слушай, а может быть, ты ее любишь?
Димка резко повернулся. Слово «любишь» обожгло
его. Он не знал, что делать с этим словом: отшвырнуть
от себя или взять под защиту.
— Мы дружим,— деревянным голосом ответил он и
снова отвернулся.
Димка стал держаться особняком. Худой, взъерошен-
ный, он огрызался на каждую шутку. Он все время ожи-
дал подвоха, и ему чудилось, что ребята смотрят на
него недобро и насмешливо.
Ася, напротив, держалась как ни в чем не бывало.
Она бегала с подружками, отчаянная, босоногая. Ее
2СЗ
кофточка-размахайка то появлялась, то исчезала.
А Димка думал, что Ася в чем-то предала его, что она
чуть ли не на стороне насмешников.
Кожаный мяч взлетает ввысь. Он летит высоко-вы-
соко. Сейчас он выйдет из-под власти земли и превра-
тится в новый маленький спутник. Десятки глаз про-
вожают его. Но мяч останавливается — раздумал поки-
дать землю — и начинает стремительно падать вниз.
Димка первый подбегает к неудавшемуся спутнику
и ловко поддевает его стоптанным ботинком. Он бежит
по краю большого поля, тоже стоптанного, как ботинок.
Может быть, мяч привязан к его ноге невидимой нит-
кой: почему он не отскакивает дальше метра и никто не
может отнять его у Димки? Димка бежит к воротам
противника, а мяч послушно катится впереди.
Теперь их уже никто не остановит. Они — мальчик и
мяч — вырвались вперед.
И вдруг кто-то крикнул:
— Эй, жених, пасуй мне! Давай сюда, жених!..
Димка останавливается. В десяти шагах от него бе-
жит кряжистый паренек в огромных футбольных бутсах.
Это Сашка Лимонов. Димка останавливается и, забыв
про мяч, бежит к Сашке.
— Жених,— кричит тот,— что ты отдаешь мяч?
В два прыжка очутился Димка рядом с Сашкой. Тот
стоял, ничего не понимая, а Димка налетел на него,
сбил с ног и, усевшись ему на плечи, изо всех сил стал
дубасить его кулаками.
Он не слышал свистков судьи, не видел сбежавших-
ся ребят. Он бил Лимона за обиду, за свой стыд, за Асю.
Будто один Лимон был во всем виноват.
Ребята оттащили Димку. Кто-то дал ему хорошего
«леща». Димка никого не видел и не слышал. Он побрел
прочь.
К вечеру весь лагерь знал о происшествии на фут-
больном поле.
— За что ты побил Лимонова? Отвечай!
Димка стоял перед линейкой и молчал.
— Что, у тебя язык отнялся?
Димка закусил губу, словно боялся проговориться.
Его мучила обида. Ему казалось, что за спиной стоит
269
целая шеренга недобрых людей, которые рады поте-
шиться над ним.
— Ты будешь отвечать?
Старшая вожатая теряла терпение.
И вдруг за спиной раздался тоненький голосок:
— Он не виноват. Лимон дразнил его.
— Это еще что за новости?! — сказала старшая во-
жатая.— Тебе скажут слово, а ты в драку? Как он тебя
дразнил?
Димка похолодел. Тонкий голосок сказал:
— Женихом его дразнят.
Голосок принадлежал пареньку из младшего отряда.
Он звучал тихо, будто хотел подсказать Димке, но услы-
шали все. Слово «жених» пришлось Димке как удар.
Он сорвался с места и побежал. Он бежал, не глядя се-
бе под ноги, и ему казалось, что все триста человек пре-
следуют его.
— Вернись!—крикнула старшая вожатая.
Но Димка не слышал ее голоса.
Он добежал до окраины лагеря и остановился, что-
бы перевести дух. Он очутился у лампочки, которая по-
чему-то горела и днем. Это была самая обыкновенная
лампочка в сто свечей. Но Димке почудилось, что она
посылает во тьму сигналы: «Он здесь! Он здесь!» Димка
поднял с земли камень и запустил им в лампочку. Он
промахнулся, но задел провод. И лампочка закачалась.
Тени забегали по траве. Они то вытягивались, то сжи-
мались. Вся земля качалась. А звезд не было видно.
Как эта жалкая земная лампочка сумела затмить их?
Димка отвернулся от столба и увидел Асю.
Неяркий свет лампочки освещал ее лицо. Теперь Ася
не показалась Димке туземкой с далекого острова ко-
ричневокожих и белозубых. Она была простой девчон-
кой. В ее глазах светилась тревога, а рот был слегка
приоткрыт.
— Ты зачем здесь? — спросил Димка.
Ася пропустила его вопрос мимо ушей.
— Что будем делать? — твердо спросила она.
— Это не твое...— начал было Димка, но запнулся.
Он поднял глаза на Асю и все понял. Значит, она на
виду у всех ребят бросилась следом за ним. Не побоя-
лась насмешек, не испугалась совета лагеря. И она не
уговаривает его вернуться на линейку, а спрашивает: «Что
270
будем делать?» Димке стало не по себе. Он отвернулся
и сказал:
— Я не вернусь в лагерь.
— И я,— отозвалась Ася.
Лампочка все еще качалась, и тени танцевали по
траве. Но Димка уже не замечал этого.
— Ты не ходи. Зачем тебе идти? — примирительно
сказал он.
— Пошли,— сказала Ася и, не дожидаясь его, на-
правилась к лесу.
Она сказала так решительно, что получалось, будто
она уводит его из лагеря, а он послушно идет за ней.
И Димке неожиданно стало легче.
Лесная дорога казалась бесконечным коридором, в
котором погашен свет и, того и гляди, можно на что-ни-
будь наткнуться. Между ветвями деревьев горели звез-
ды, которые, как известно, горят и днем. Просто они
незаметны, как лампочка, которую забыли погасить с
приходом солнца.
— Я боюсь змей,— сказала Ася.
— Ночью змеи спят,— отозвался Димка.
Через несколько шагов Ася сказала:
— Ты смелый.
Согласиться с Асей было бы хвастовством, а возра-
зить ей значило бы расписаться в трусости. Димка ска-
зал:
— Это я с тобой не трушу.
— Ты и без меня не трусишь.
— Ну да, в лесу-то?
И снова тихо.
Димка и Ася идут совсем близко. Ася касается его
плечом. Правда, Асино плечо пониже. Оно упирается в
Димкину руку.
— А ты в какой школе учишься?
Это спрашивает Ася.
— В тридцать второй. А ты?
— В пятьдесят четвертой.
— Недалеко. Остановок пять, а может быть, четы-
ре... А спортзал у вас хороший?
— Потолок низковат... А у вас мальчишки танцуют
с девочками?
— По праздникам.
271
Опи все шли и шли. Т1м стало холодно, потому что
одеты они легко. А лес все темнел. И теперь Ася и Дим-
ка уже не видели друг друга. Но Димка слышал Асины
шаги, дыхание. И ее плечо упиралось ему в руку.
— Нам только ночь пережить,— сказал в темноте
Димкин голос.
— А утром? — отозвался Асин голос.
— Найдем дорогу до станции и уедем. А может, те-
бе вернуться?
Асин голос как ни в чем не бывало сказал:
— У тебя спички есть?
— Нет!
— Жаль. А то бы костер разожгли... Давай сядем.
Может быть, уснем.
— Давай,— согласился Димкин голос.
Они свернули с тропинки и стали отыскивать место
посуше. Ночная прохлада и неустроенность отвлекли их
от тревожных мыслей. Они уже не думали о том, что
произошло на линейке. И не загадывали, что их ждет
завтра. Им нужно было как-нибудь скоротать ночь в
темном, незнакомом лесу.
Ася сказала:
— Давай сядем спина к спине. Так будет теплей.
И они сели на кочку. И сразу обоим стало теплей.
Они сидели спиной друг к другу, словно заняли круго-
вую оборону от всех неприятелей. Им стало спокойно.
Они боялись пошевельнутся. Боялись произнести слово.
И они уснули.
Проснулись они от холода. В первое мгновение ни
Ася. ни Димка не могли понять, где они находятся и что
с ними происходит. Поеживаясь, потирая руками плечи,
они поднялись с мягкой кочки, на которой сидя прове-
ли почь. Холодная дрожь колотила Асю, и зубы ее ле-
гонько стучали. А Димка дышал в ладоши, словно на
морозе.
Вокруг них миллионами живых, трепещущих огонь-
ков сверкал утренний мир. Капельки росы блестели на
острие сосновых иголок, на тонких проводах паутины,
уходящих куда-то в глубь леса. Воспоминания вчераш-
него дня все не решались подступиться к ним.
Они смотрели друг на друга, и им казалось, что они
знакомы целую вечность, с первого класса, а может, и
272
раньше. И что вся их жизнь прошла вместе. От этого
чувства они повеселели.
— Выспалась?
— Ага. Тебе не холодно?
— Прямо жарко.
— Слушай, давай умоемся? Вот так.
Ася присела па корточки, сгребла с травы капельки
росы и провела мокрыми ладонями по лицу.
И тут она заметила в глазах Димки насторожен-
ность. Он тревожно смотрел в конец просеки. Ася под-
нялась и тоже посмотрела. В легкой предрассветной
дымке она увидела бегущего человека. Человек был
большой, и бежал он крупными прыжками. На нем бе-
лая майка, а ноги босые. Это был вожатый — Большой
Сережа.
Ася посмотрела на Димку. Их глаза встретились.
Они поняли друг друга и, не сговариваясь, побежали.
Теперь уже не тоненькие спицы берез летели навстре-
чу— вся земля, массивная и влажная, уходила из-под
ног. Они бежали от позора, от обиды. Они спасали что-
то незримое, бесконечно дорогое...
Но от Сережи не так-то просто уйти: у него шаги
землемера. И вот уже за спиной, совсем близко, прозву-
чал его голос:
— Да стойте вы!..
Они выбились из сил, и Сережа в два прыжка очу-
тился рядом. Все трое, тяжело дыша, стояли на лесной
просеке. И никто не мог заговорить: мешала одышка.
Димка и Ася посмотрели в лицо Сереже и не узнали его:
глаза запали, волосы спутались. Белая майка вся изо-
драна.
— Я вас всю ночь ищу! Мне же за вас голову сни-
мут! — сказал Сережа.
И потом обиженно пробормотал:
— И надо же было мне согласиться поехать в ла-
герь! Вот имей дело с таким народом... Пошли!
Последнее слово он произнес твердо и сердито.
Димка и Ася стояли на месте.
— Пошли! — повторил Сережа.— Чего стоите?
— Не пойдем,— сказала Ася и тут же посмотрела
на Димку, ища у него поддержки.
Димка молча стоял на просеке и враждебно смотрел
]Q Багульник
273
на Сережу. Было такое впечатление, что он сейчас ки-
нется на своего вожатого с кулаками.
И тут Сережа своими ручищами схватил беглецов за
руки, и те сразу почувствовали его огромную силу. Они
даже не вырывались: им было стыдно вырываться. Дим-
ка только сказал:
— Все равно убегу!
— Ия! — поддержала Ася и сжала губы.
Все трое шли молча. Солнце медленно поднималось,
и уже первые прямые лучи скользили вдоль просеки.
Они потеряли счет времени. Они шли, подчиняясь
какой-то странной силе, какому-то чужому порядку.
И вдруг Большой Сережа остановился. Он остано-
вился и отпустил руки ребят. Потом он спросил:
— У вас есть деньги?
Беглецы молчали. Они не понимали, для чего Сере-
же понадобились деньги.
Тогда вожатый полез в карман и достал оттуда руб-
левую бумажку.
— Держи!—Он протянул бумажку Димке.
И тот, не понимая, в чем дело, механически взял ее.
— До станции тут километров пять,— сказал
Сережа.— Дойдете по просеке до шоссе, а там налево.
Вот.
Он отвернулся и, не оглядываясь, зашагал по на-
правлению к лагерю.
Ася и Димка стояли на месте и провожали его гла-
зами. Они все еще не могли понять, что же произошло.
Человек, которому за их бегство обещали снять голову и
который всю ночь бродил по лесным тропам, разыскивая
их, теперь сам отпустил их в город и еще дал денег на
билет.
А Сережа удалялся. Он уже не казался таким огром-
ным и внушительным. Его фигура становилась все мень-
ше и меньше, растворяясь в голубоватой дымке тумана.
И ребятам неожиданно захотелось кинуться вдогонку
за Большим Сережей. Сказать ему хорошие слова. По-
жать его огромную кузнецкую лапу. И не расставаться с
ним, потому что, когда рядом такой человек, все можно
пережить и ничего в жизни не страшно.
От росы и тумана песок мокрый, и следы на нем
видны отчетливо, не то что в полдень. Эти следы боль-
шие и глубокие. И если поставить в след ногу, то еще
274
останется место. И очень интересно идти по таким сле-
дам, хотя приходится делать очень широкие шаги.
Впереди идет Ася, а Димка бредет за ней. И обоим
кажется, что они чувствуют тепло, которое хранят следы
Большого Сережи.
СКРИПКА
Вы когда-нибудь стояли под окнами музыкального
училища на мокром асфальте, в котором отражается свет
больших прямоугольных окон? Идет невидимый мелкий
дождь. Торопливо шагают люди. Возникают и сразу же
растворяются в сырой тьме огни машин. А из освещен-
ных праздничных окон музыкального училища доносят-
ся приглушенные звуки разных инструментов, и дом
похож на оркестр, который настраивается перед концер-
том.
Не спешите уходить. Не обращайте внимания на
дождь. Сейчас что-то случится. Может быть, распахнут-
ся окна, и вы увидите множество ребят с трубами, флей-
тами, барабанами. Или раскроются двери, и на дождь
выйдет большой оркестр. Он пойдет через город, и сразу
станет безразлично, что льет дождь и что под ногами
лужи. А вы прибавьте шагу, чтобы не отстать от поющих
труб и скрипок.
Мальчик шел из булочной, а хлеб спрятал от дождя
под пальто. Хлеб был теплый, он приятно грел. Словно
за пазухой был не обычный черный кирпичик, а живое
существо.
На улице было скверно. Люди мечтали поскорее до-
браться до крыши, очутиться на сухом месте. А он раз-
гуливал под окнами музыкального училища. И хлеб
грел его.
У каждого окна свой голос, своя жизнь. Мальчик
275
услышал звук, похожий на одышку. Кто-то играл на
большой басовой трубе. В соседнем окне звучала нето-
ропливая гамма; маленькая робкая рука как бы взби-
ралась по лесенке. Рядом ревел баян. Он растягивал но-
ты, словно они были на пружинах, а потом резко отпу-
скал их.
Мальчик прошел мимо трубы, мимо рояля. Не заин-
тересовал его и баян. Он искал скрипку. И нашел ее.
Она звучала в окне второго этажа. Он прислушался.
Скрипка плакала и смеялась, она летала по небу и уста-
ло брела по земле. Все окна как бы умолкли и погасли.
Светилось только одно. Мальчик стоял под ним, а дождь
тек за воротник.
Неожиданно кто-то положил ему руку на плечо. Он
вздрогнул и обернулся. На тротуаре стояла круглолицая
девочка с двумя короткими толстыми косичками. В ру-
ке девочка держала огромный виолончельный футляр.
Он был мокрый и блестел.
— Опять ждешь? — спокойно спросила девочка.
Ее голос заглушил скрипку. Мальчик недовольно по-
морщился и пробурчал:
— Никого я не жду.
— Неправда,— не отступала девочка,— чего ради
стоять на дожде, если никого не ждешь.
— Я ходил за хлебом,— ответил мальчик,— вот ви-
дишь... хлеб.
Девочка не обратила внимания на хлеб. Она ска-
зала:
— Ты ждешь Диану.
— Нет!
В его голосе прозвучало отчаяние. Но круглолицая
стояла на своем.
— Ты всегда ждешь Диану.
Большой черный футляр от виолончели показался
ему уродливым чемоданом. Ему захотелось вырвать его
из рук круглолицей и бросить в лужу. Но девочка во-
время замолчала. Он не знал, что делать, и трогал ру-
кой теплый хлеб.
— Пойдем,— сказала девочка.— Что мокнуть.
Ему ничего не оставалось, как пойти рядом с ней.
Ярко освещенный дом музыкального училища раство-
рился в дожде. Через несколько шагов девочка протяну-
ла ему виолончель.
276
— Понеси. А то тяжело.
Он взял в руку этот большой нескладный предмет
с чемоданной ручкой и почувствовал себя удивительно
неловко. Казалось, весь город знает, что ему хочется
нести скрипку, а он несет виолончель. С непривычки
нести виолончель было не так-то просто: она оила по
ногам, задевала за водосточные труоы. 11 его спутница
вскрикивала.
— Ой, осторожно! Инструмент стоит кучу денег!
Потом она сказала:
— Я часто вижу тебя около музыкального училища.
— Я хожу за хлебом,— ответил мальчик.
— Ну да,— согласилась девочка.
Она уже не вспоминала о Диане.
— Знаешь что,— предложила она,— пойдем ко мне.
Я сыграю тебе ноктюрн. Мы будем пить чай.
Он ничего не ответил. Он вдруг подумал, как было
бы хорошо, если бы вместо этой круглолицей рядом бы-
ла Диана. И если бы она сказала: «Я сыграю тебе нок-
тюрн. Мы будем пить чай».
Он бы нес ее скрипку, как пушинку, даже если бы
она весила побольше, чем виолончель. Он бы с радо-
стью слушал скучный ноктюрн и пил бы чай. А с этой
круглолицей ему ничего не хотелось. Как странно, что
с одними людьми всего хочется, а с другими ничего не
надо.
— Так пойдем ко мне?—робко повторила девочка.
— Все равно,— сказал он.
— Вот и хорошо!
Она улыбнулась, и лицо ее стало еще круглее.
Дождь не проходил. Он обволакивал фонари, зда-
ния, силуэты деревьев. Все предметы теряли форму,
расплывались. Город обмяк от дождя.
А почему он должен стоять под окнами музыкального
училища и ждать Диану? Она пробегает мимо легко и
свободно, словно никто не стоит под окнами и не ждет
ее. Ей все равно, стоит он или не стоит. Есть он или
его нет. Она стучит каблучками по камням. А эта круг-
лолицая сама заговаривает, и не убегает, и зовет его
слушать ноктюрн и пить чай. Доверяет ему виолончель,
которая стоит кучу денег.
Он вдруг подобрел. Ему захотелось сказать своей
спутнице что-то приятное. Нельзя же все время дуться.
277
— Хочешь хлеба... теплого? — спросил он.
Она кивнула головой.
Он полез за пазуху и отломил кусок хлеба. Хлеб
остыл, но был мягким.
— Как вкусно! — сказала она.
Он был доволен, что ей понравился хлеб.
— Ты любишь музыку? — спросила девочка.
Он покачал головой.
— Это твой большой недостаток,— подчеркнула
опа,— но ничего. Я научу тебя любить музыку. Идет?
— Идет!
Все складывалось очень хорошо. Круглолицая уже не
казалась ему такой круглолицей и вообще была слав-
ная девчонка. Не задавалой, а такой как надо. Она уво-
дила его от нудного дождя, от недоступной скрипки, от
холодной Дианы. Больше он не будет искать окно со
скрипкой, а будет прислушиваться к голосу виолончели.
Надо только получше запомнить, какой у нее голос.
— Ты хороший парень...— как бы невзначай сказа-
ла его спутница.
И он тут же согласился с ней.
Он согласился с ней и вдруг как бы запнулся. Ему
показалось, что это не он шагает по дождю с большой
тяжелой виолончелью, а кто-то другой. И* этот другой не
имеет никакого отношения к неприступному зданию му-
зыкального училища, к его таинственной жизни, к ярким
окнам, у которых свои разные голоса. Все пропало.
И его самого уже нет...
В следующее мгновение он остановился. Он поставил
большой черный футляр на мокрый асфальт и присло-
нил его к стене дома. Футляр стал похож на черную
ящерицу с длинной шеей и маленькой головкой.
Потом он крикнул:
— Пока!
И побежал.
— Куда ты?.. А как же ноктюрн? — крикнула ему
вслед круглолицая девочка.
Но он не оглянулся и ничего не ответил. Он бежал
обратно к музыкальному училищу, к скрипке, к самому
себе.
ЗИМОРОДОК
1
Ветер раздувал купол парашюта, и натянутые стро-
пы волокли бойца по мокрой траве. Он был похож на
парусный корабль, который буря выкинула на берег.
Попробовал встать. Сделал шаг — левая нога подломи-
лась и стала проваливаться в землю. Он снова упал.
Ночь шла на убыль. Край неба позеленел, и звезды
померкли, растворились в зеленом свечении востока. Но
на западе небо было еще темным, и звезды стояли на
своих местах.
279
Он стал подтягивать купол парашюта. Стропы натя-
нулись сильней. Парашют упирался. Вздрагивал. Вы-
рывался из рук. Они довольно долго боролись — человек
и парашют,— пока бойцу наконец удалось подмять под
себя шелковый купол. Он перевел дух и стал закидывать
парашют валежником и камнями. Он ползал на коленях
и собирал все, что попадалось под руки, чтобы замаски-
ровать парашют.
На бойце был пиджак, застегнутый на три пуговицы.
Брюки и ботинки — тоже гражданские. Еще при нем был
мешок, перевязанный веревкой. Когда с парашютом все
было покончено, боец снова попробовал встать. На этот
раз осторожно, с опаской. Острая боль подкашивала
ногу. Вероятно, где-то в ступне был вывих. Он попры-
гал на одной ноге, нашел палку. С палкой дело пошло
лучше. Поднял с земли мешок и медленно двинулся впе-
ред.
Вдалеке между стволами деревьев стальной полос-
кой поблескивала река. И виднелись фермы железнодо-
рожного моста. В сплетениях металла была какая-то не-
реальная легкость. Но с каждым шагом мост прибли-
жался и становился все громаднее и тяжелее. И боль
в ноге усиливалась, словно зависела от приближения
моста.
Минут через пятнадцать он обессилел от боли и от
тяжелой ноши упал в траву. От крупной росы пиджак
его вымок. Одна пуговица оторвалась.
Так он долго шел и падал, шел и падал... И мост на-
двигался на него с неотвратимой силой.
Спустя много лет после войны мальчишки со стан-
ции Река нашли в лесу странный, полуистлевший пред-
мет. Они долго перебирали его в руках, очищали от зем-
ли, тянули в разные стороны, пока наконец не дошли
своим умом, что это парашют. Лямки и стропы сохрани-
лись хорошо, сам же купол местами истлел.
Ребята не знали, что делать с парашютом. Им ни-
когда не доводилось играть с такой огромной вещью.
Они принялись бегать по лужайке и тащили парашют
за собой. Было безветренно, и купол не отрывался от
земли, а волочился, приминая траву.
Ребята со станции Река долго ломали голову, к че-
му бы приспособить старый парашют.
2
На уроке зоологии в классе завелась кукушка. Она
перелетала с парты на парту и подавала голос:
— Ку-ку! Ку-ку!
Мало того что кукушка меняла место, она меняла и
голос. Ее голос звучал то густо, раскатисто, то пискля-
во, еле слышно. Может быть, в классе завелось несколь-
ко кукушек?
На самом деле кукушка была одна. Она никуда не
летала и не куковала на разные лады, а неподвижно
сидела на учительском столе — рябенькая, желтогла-
зая, с вытянутым хвостом. Она была чучелом.
Куковали птицы бескрылые, бесперые, с пальцами
в чернильных пятнах, в куртках с потертыми локтями.
Они играли с учителем в «кукушку». Они навязали ему
эту игру, в которой победить могли только его выдерж-
ка и терпение.
— Ку-ку!
Учитель видел как жиденькая челка девочки мельк-
нула и скрылась за спиной сидящего впереди. Он узнал
ее голос — низкий, с едва заметной хрипотцой. Через
мгновение девчонка вынырнула и смотрела на учителя
как ни в чем не бывало. Ее глаза весело горели. Учитель
поморщился и сказал:
— Зоя Загородько, встань!
Девочка нехотя поднялась и поправила челку.
— Я не куковала.
И весь класс загудел:
— Она не куковала!
Учитель сделал вид, что он не слышит ни дерзкой
кукушки, ни гула, он продолжал рассказ:
— Напоминаю, что внутренние опахала первостепен-
ных маховых перьев у кукушки одинаковые, без белого
или зубчатого рисунка.— Учитель рассказывал и ходил
по рядам, заложив руку за спину, при этом голова его
была слегка наклонена вперед.— Крайние перья — с
крупными белыми пятнами на вершинах...
В это время совсем рядом за спиной учителя прозву-
чало густое:
— Ду-ду!
Учитель прервал свой рассказ и, не поворачивая го-
ловы, сказал:
281
— Василь, ты неправильно кукуешь. Впрочем, суще
ствует кукушка, которая, как удод, издает звук «ду-ду».
Она называется «глухая кукушка».
В классе раздался смех. Кто-то крикнул:
— Глухая кукушка!
Василь был сражен. Он заерзал на парте. Уши по-
краснели, а верхняя губа поднялась домиком. Мальчик
почувствовал, что к нему прилипнет прозвище «глухая
кукушка».
А Сергей Иванович — так звали учителя — дажене
обернулся, шел себе по проходу.
Он был невысокого роста. С массивной головой.
Всклокоченные волосы, темные, с частыми белыми ни-
тями, с головы переходили на щеки и сливались с усами
и бородой. В этой буйной растительности, закрывшей
почти все лицо, поблескивали большие очки с задымлен-
ными стеклами. Голос у него был глухой, как бы доно-
сившийся из глубины.
— Кстати, кроме глухой кукушки, в мире существу-
ет около ста видов: кукушка-отшельник, кукушка-подо-
рожник, испанская кукушка, желтоклювая, изумрудная,
траурная...
В это время на третьей парте поднялась рука.
— Что ты, Марат? — спросил учитель.
Скрипнула парта. Мальчик встал. Насмешливые ко-
ричневые глаза в упор смотрели на учителя, а широкие
скулы — на каждой по щепотке веснушек — стали от
улыбки еще шире. На мальчике был военный ремень,
широкий, с медной пряжкой, и брюки «техасы» с изобра-
жением ковбоя на заднем кармане. Говорят, эти брюки
вечные. Смотря для кого! Две заплатки свидетельство-
вали, что и вечным приходит срок.
Борясь с улыбкой, Марат спросил:
— Сергей Иванович, какая птица начинается с «ка»
и кончается на «ква»?
По классу прокатился смешок. Кто-то на задней пар-
те прокуковал.
Учитель пристально посмотрел на мальчика и сухо
сказал:
— Во-первых, на уроке надо слушать, а не решать
кроссворды. Для кроссвордов можно найти более под-
ходящее место. А во-вторых, надо, не куковать, а кря-
кать. Эта птица — кряква, утка кряква.
282
Марат замолчал. Урок продолжался, а Василь все
ерзал на месте — «глухая кукушка» не давала ему по-
коя, и он думал, кому бы спихнуть это прозвище. Рядом
с ним сидела тихая девочка в больших очках; Василь по-
косился на свою соседку, поднял руку и спросил:
— Сергей Иванович, а бывает... слепая кукушка?
Учитель пристально посмотрел на Василя и спокой-
но сказал:
— Слепой кукушки не бывает. Бывает еще фазанья,
воробьиная, ящерная...
И тут учитель заметил, что Василь, смотрит на свою
соседку и его рот расплывается в недоброй улыбке, а на
глазах у девочки блестят слезы, увеличенные стеклами
очков.
Учитель молча прошелся по классу, держа, за спиной
руки. Потом остановился около Василя щ то? ли в шутку,
то ли серьезно, сказал:
— Советую тебе, Василь, выучить все виды. Потре-
нируешь память и реже будешь задавать глупые вопро-
сы. Очень полезно! А теперь, люди-человеки, займемся
повторением домашних птиц. Напомню вам, что впер-
вые дикие куры были приручены в Индии. Надеюсь, что
по этому случаю никто не будет кукарекать?
Если у вас неожиданно заведутся деньги и вам за-
хочется пострелять, спросите любого мальчишку, и он
приведет вас к большому серому дому, где в подворот-
не разместился стрелковый тир. Подворотня узкая и
длинная, как тоннель. И выстрелы под ее сводами зву-
чат не щелчками, а раскатисто и хлестко. Здесь, за же-
лезным прилавком, отполированным локтями, сидит
огромная бабка и вяжет чулок. Гремят выстрелы, а она
постукивает спицей о спицу, делает свое дело. Время от
времени бабка откладывает вязанье, берет в огромные
красные руки духовое ружье и разламывает его легко,
как прутик. Заложит свинцовую пульку — стреляй!
Стреляй, если у тебя есть деньги. А если в кармане
пусто, стой в сторонке и наблюдай, как стреляют дру-
гие. Только не приближайся к железному прилавку, ко-
торый бабка называет «огневым рубежом». Бабка мол-
283
чаливая, разговаривать не любит, а дает волю своим
ручищам.
Марат, Василь, Зоя Загородько шли мимо тира.
Марат предложил:
— Зайдем!
— Зайдем,— согласился Василь.
Зоя Загородько хотела сказать, что она боится вы-
стрелов, но промолчала и пошла за ребятами.
В тире болталось несколько мальчишек, а стрелял
одни взрослый. Седой. Хотя лето только приближалось,
этот взрослый был обожжен солнцем. Лоб, скулы, впа-
лые щеки были покрыты грубым, замешанным на ветру
загаром, делавшим его похожим на краснокожего ин-
дейца, а белые волосы его больше оттеняли загар. Стре-
лял он здорово. Без промаха. Мальчишки следили за
ним с открытыми ртами и после каждого удачного вы-
стрела приговаривали:
— Во дает! Во дает!
Седой стрелял в мельницу, и сразу начинали вра-
щаться крылья — значит, попал. Брал на мушку само-
лет— самолет, описав дугу, падал вниз. Закрывался
шлагбаум. Гудел паровоз. Седой опустил ружье и стал
высматривать, не осталось ли еще мишени. В углу рта
у него была зажата папироса.
Ребята тоже искали мишень. И тут кто-то из
мальчишек крикнул:
— Птица!
— Давай твою птицу,— сказал Седой и вскинул
ружье.
Раздался выстрел — птица осталась сидеть на месте.
— Промазал! — радостно крикнули ребята.
— Мушку заваливаете,— с видом знатока сказал
Марат.
— Мушку? — Седой оглянулся на Марата и про-
тянул ему ружье: — Держи! Пробуй, не заваливая
мушку.
Отступать было невозможно. Марат взял ружье,
уперся локтями в прилавок и стал старательно целить-
ся. Он чувствовал, что за ним наблюдают все посетите-
ли тира, и Седой, похожий на индейца, тоже не сводит
с него глаз.
Хлопнул выстрел. Не улетела птица. Осталась си-
деть на ветке. Марат молча опустил ружье.
284
— Мазила! —сказал кто-то.
Седой ничего не сказал. Он зарядил ружье и снова
стал целиться. И — промахнулся.
— Промазал! — радостно крикнули зрители.
— Что это еще за птица? — недоумевал Седой, раз-
глядывая небольшую острокрылую птицу.
— Зимородок,— сказал Марат, и его насмешливые
коричневые глаза заблестели.
— Есть такая птица — зимородок,— пояснил «глухая
кукушка».
— Есть такая,— согласился Седой, не выпуская изо
рта папиросу.
— Он долбит норку в крутом берегу и бесстрашно
ныряет за рыбой,— вмешалась в разговор Зоя Заго-
родько.— Не верите?
— Верю,— ответил Седой.
И ребята заметили, что он задумался. Все рассма-
тривал птичку и о чем-то думал. Бабка тоже обратила
внимание на это и, не отрывая глаз от вязанья, про-
басила:
— Птица не работает.
И застучала спицами.
— Зи-мо-родок,— растягивая слоги, тихо сказал Се-
дой. Он не обратил внимания на слова старухи.— Я знал
одного Зимородка.
— С короткой шеей и прямым острым клювом? —
спросил Марат.
— Не помню, какой у него был клюв,— задумчиво
произнес Седой.— И шеи не помню. Но котелок у него
варил довольно странно.
— У какого зимородка варил странно? — спросила
Зоя Загородько.
— У того, что нырял за рыбой,— ответил Седой и
стал раскуривать погасшую папиросу. Потом он усмех-
нулся и сказал:—До сих пор не понимаю, как я со-
гласился. По молодости лет. Будь я тогда седым стре-
ляным воробьем, не стал бы связываться с этим Зимо-
родком...
Папироска разгорелась, и память Седого оживала
и тоже как бы разгоралась. И постепенно не стало ти-
ра. И сам Седой стал не седым, а темным, подстрижен-
ным под полубокс, с коротенькой челкой наискосок. На
285
нем появился синий замасленный комбинезон, стянутый
ремнем. А за спиной на ремне — кобура с пистолетом.
Летный кожаный шлем болтался на руке, как подстре-
ленная птица. А папироска была зажата в уголке рта...
Вместо тира появилась небольшая полянка. По
краям кустики. В кустах самолетик с задранным носом,
пятнистый, почти незаметный на фоне травы и листьев.
Крылья как этажерка — в два ряда, по два крыла с
каждой стороны. Кукурузник.
Летчик — тогда еще не седой — стоял, окруженный
партизанами, и говорил:
— Я мог бы забросить вашего человека в район Но-
вого моста, но, как вы понимаете, садиться там негде—
кругом немцы. А парашюта у меня нет.
И тогда кто-то из бойцов сказал:
— У пас где-то был парашют. С прошлого года..,
— Его, наверное, на бинты разрезали.
— Нет, валяется под нарами. Я подметал — видел.
— Не годится этот парашют. С ним человек раз-
бился насмерть. Прыгнул, а парашют не раскрылся.
— Может быть, неправильно сложили,— сказал лет-
чик.— Девчонки ведь складывают, а что у них на уме, у.
девчонок. Потом парашюты не раскрываются.
— Может быть, девчонки, а может быть, и не дев-
чонки,— заметил командир.— А человек разбился. Кто
с таким парашютом прыгать будет?
И тут вперед вышел парень, худой, хрупкий, совсем
молоденький. В штатском пиджачке на трех пуговках.
Он вышел и говорит:
— Я... прыгну.
— Зимородок! Выдумал тоже! — зашумели партиза-
ны.— Ты хоть парашют видел когда-нибудь? Ха-ха!
— Я прыгал... пять раз!—твердо сказал парень.
Командир вспыхнул:
— Нам смертники не нужны. Нам нужны живые
бойцы. У нас нет такого инкубатора, который поставлял
бы бойцов в нужном количестве.
— Я прыгну! — повторил Зимородок.
— Не разрешу.
— Так ведь выхода нет!
Командир задумался.
— Я дам тебе лошадь,— сказал он.— На лошади
сидеть можешь?
286
Зимородок ничего не ответил.
Только через некоторое время он все же разыскал
парашют и притащил его летчику. Отряхнул с шелко-
вого купола хвою, землю и разложил на траве.
— Проверь, пожалуйста.
Летчик отбросил папироску и сказал:
— Посмотреть я могу. И складывать я умею. Нас
учили. Но если есть в парашюте неисправность, я не
замечу. Не знаю тонкостей.
Он опустился на колени и стал укладывать пара-
шют, и Зимородок помогал ему, расправлял стропы,
придерживал купол, который от легкого ветра подни-
мался и опадал, как живой.
— Ты только ничего не говори командиру,— попро-
сил Зимородок.— На лошади я никуда не успею. А ты
меня в два счета добросишь.
— Черт с тобой,— сказал летчик.
Перед самым вылетом, когда уже стемнело, Зимо-
родок с помощью летчика стал надевать парашют. Лет-
чик помогал ему прилаживать лямки, а Зимородок ста-
рался все делать сам, но получалось у него все как-
то неловко. На гражданском пиджачке ранец и лямки
выглядели смешно, они как бы связывали парня по ру-
кам и ногам.
Летчик помог Зимородку забраться в кабину. Подал
ему мешок со взрывчаткой. И пристегнул его ремнем к
сиденью.
Загрохотал двигатель. Самолетик затрясло, залихо-
радило. Он сорвался с места и побежал по лужку. По-
том сделал прыжок. И растворился в темноте леса и
неба.
И тогда, уже в полете, Зимородок наклонился к лет-
чику и потряс его за плечо:
— Послушай, что надо делать, чтобы парашют рас-
крылся?
— Ты же прыгал!—Летчик резко повернулся к сво-
ему пассажиру.
— Не прыгал я,— признался Зимородок.
— Что же ты голову морочишь? — закричал лет-
чик.— Возвращаюсь!
— Не ори! Тише! Спокойствие! — Молодой партизан
крепко сжал плечо летчика.— Договоримся тихо. Инст7
рукцию помнишь?
287
— Помню,— опешил летчик.
— Говори по инструкции.
— Надо дернуть за кольцо. Это я без инструкции
помню.
Зимородок очень спокойно сказал:
— Вот и все... Вот и ладно... — Потом он затих, дол-
го копался и снова спросил: — Что-то я не найду
кольца.
— На передней лямке!.. — из своей кабины закричал
летчик.— Слушай, ну тебя к черту, я возвращаюсь.
— Не шуми. Я нашел кольцо. Я дерну.
Летчик был в полной растерянности. Он не знал, что
ему делать, и громко, чтобы перекричать грохот двига-
теля, честил своего пассажира:
— Сдался ты на мою голову! Встречаются же такие
зимородки!
— Встречаются же такие зимородки!—сказал Се-
дой и вышел из тира.
Марат, Василь и Зоя Загородько немного еще по-
топтались у «огневого рубежа» и тоже вышли из тира.
Седой шел сам по себе, а ребята сами по себе. Ничто
их не связывало. Но какая-то прочная ниточка продол-
жала тянуться от летчика к ребятам.
— Дурной какой-то Зимородок,— пробурчал Василь.
— Встречаются такие чудаки,— сказала Зоя Заго-
родько.
Марат молчал, занятый своими мыслями. Однако
Зимородок будил в нем любопытство.
— Чудаков на свете много,— сказал он.— Но кто из-
за своего чудачества станет рисковать жизнью? Ты ри-
сковал жизнью? — спросил он Василя.
Тот замотал головой.
— А ты, Зоя Загородько?
— Я болела дифтеритом, и врачи говорили маме...
— Не то!—отрезал Марат.— Интересно, как этому
Зимородку удалось прыгнуть?
— А он не прыгал — с уверенностью сказал Василь.—
Летчик привез его обратно. С таким хлопот не обе-
решься.
Но Марат пропустил слова друга мимо ушей.
— Как же он прыгнул?.. Подождите!
Марат неожиданно прибавил шагу. Среди прохожих
288
он искал глазами Седого. Ребята потянулись за ним.
Наконец па другой стороне показалась белая голова.
Седой стоял на остановке, ждал автобуса. Марат перебе-
жал на другую сторону и подошел к бывшему летчику:
— Скажите, как он прыгнул... Зимородок?
Седой удивленно посмотрел на мальчика.
— Зимородок-то? — Он усмехнулся.— Я сам толком
не знаю. Мы попали под заградительный огонь. Веро-
ятно, в этом месте наши бомбардировщики шли через
фронт. Я лег на левое крыло, чтобы сделать вираж и
вернуться. Зимородок вцепился мне в плечо: «Ты куда?»
Я ему крикнул: «Отвяжись!» Тут снаряд разорвался
совсем близко. Машину швырнуло в сторону. Наконец
мне удалось прижаться к лесу. Когда все стихло, я ог-
лянулся. Сзади никого не было. Улетел Зимородок.
— Как — улетел? — спросил Марат.
— Не знаю... Может быть, когда я ему крикнул «от-
вяжись», он отвязался от сиденья и выпрыгнул. А мо-
жет быть, вывалился на крутом вираже. Мне было не до
него.
— Ну да... не до него... — задумчиво повторил Ма-
рат.
В это время подошел автобус и увез Седого.
И когда автобус отъехал от остановки, Маратом
овладело какое-то странное щемящее чувство, словно
на этом пыльном городском автобусе уехал не случай-
ный знакомый, Седой, а отчаянный парнишка по про-
звищу Зимородок.
— Улетел Зимородок,— одними губами произнес
Марат.
— Да ладно тебе! — Подоспевший Василь ткнул его
в бок.
А Зоя Загородько потянула Марата за рукав.
— Но как он приземлился?—Марат сорвался с ме-
ста и побежал за автобусом.
Главное было узнать, как он приземлился! Но авто-
бус был уже далеко. Марат остановился. Ребята догна-
ли его.
— Надо будет разыскать Седого. Как это я упустил
его? Может быть, твой отец знает его? — спросил он у
Зои Загородько.— Летчики все знают друг друга.
— Я спрошу,— пообещала Зоя.
И все трое пошли своей дорогой.
4
Уехал Седой. Улетел Зимородок. Течение времени
подхватило трех одноклассников и понесло их дальше.
И ничего в их жизни не изменилось. Но маленькое не-
заметное зернышко, оброненное бывшим летчиком, не-
ожиданно проросло в сердце Марата. Зимородок как бы
встал за его плечами — в пиджачке, изрядно помятом
лямками парашюта, и глуховатым голосом спросил:
«Послушай, что надо сделать, чтобы парашют сра-
ботал?.. Я ни разу не прыгал... Куда запропастилось это
кольцо?..»
Было в Зимородке что-то неокрепшее и даже беспо-
мощное, и вместе с тем его поступками двигала отчаян-
ная отвага. Ему было труднее, чем закаленным, опыт-
ным бойцам, ио он надел парашют, снятый с мертвого
солдата. Он просто делал свое военное дело, не заду-
мываясь о том, что это может стоить ему жизни. А мо-
жет быть, он, неумеха, просто не научился дорожить
жизнью?
Сам того не замечая, Марат привязался к Зимород-
ку, и между ними завязалась таинственная, никому не
ведомая дружба. Теперь Марат все чаще искал ответа
на вопрос: раскрылся парашют или был действительно
неисправным? Был ли взорван мост? Жив Зимородок
или погиб? На эти вопросы мог ответить только Седой.
Марат отправился в тир в надежде встретить лет-
чика.
В тире шла своя, раз и навсегда заведенная жизнь.
Утром здесь редко звучали выстрелы. Днем поднима-
лась беспорядочная стрельба — днем тир принадлежал
ребятам. Сколько иесъедеппых завтраков обращалось
здесь в маленькие свинцовые пульки, которые чаще ле-
тели «за молоком» и значительно реже со звоном уда-
рялись в металлические кружочки, опуская шлагбаум и
заставляя вертеться мельницу.
Вечером в тир приходили взрослые. Среди них бы-
ло немало людей, которые в свое время держали в ру-
ках куда более грозное оружие и стреляли не по фа-
нерным мишеням, а по врагу. Бывшие фронтовики за-
ходили в тир проверить глаз и руку.
Марат перешагнул порог и подошел к «огневому
рубежу». Бабка сидела неподвижно, как неживая, и
290
только кончики проворных спиц вспыхивали в ее толстых
красных пальцах электрическими искорками.
— Здравствуйте!
Бабка не ответила на приветствие.
— К вам не заходил такой... седой?
— Разные ходят. И седые и лысые. Стрелять не бу-
дешь? Тогда проходи, проходи...
— Мне он очень нужен.
Ничего не трогало бабку. Она окаменела. Ушла в
свою работу.
— Мне надо узнать про Зимородка.
— Птица не работает. Птица на ремонте,— буркну-
ла бабка.
Ничего она не поняла. Ничего не чувствовала. Стек-
лянная, деревянная, оловянная, каменная!
Зимородок уходил от мальчика. Он растворялся во
мгле далекой безвестности. Но чем больше он отдалял-
ся, тем сильнее тянуло к нему Марата.
Неужели парашют не раскрылся?
Для того чтобы узнать о парашюте, надо узнать о
Новом мосте. Потому что если мост был взорван, зна-
чит, парашют раскрылся.
В тире гремели выстрелы.
Друзья давно забыли о седом летчике и его расска-
зе. Они как бы оставили Марата и Зимородка одних в
тревожной безвестности. Марат решил пойти в музей.
Это был слишком простой путь, но другого пока не бы-
ло. По крайней мере, про мост там должны были знать.
В музее маленький чернявый человек в золотых оч-
ках спросил Марата:
— Тебя интересует Новый мост? Новый мост па
станции Река?
— Его должны были взорвать.
— Тебе это известно? — Чернявый человек наклонил
голову набок.
— Был приказ: взорвать Новый мост. И был чело-
век.
— Это надо еще доказать.— Маленький человек
сверкнул очками.— Подожди.
Он ушел куда-то, оставив мальчика в зале, устав-
ленном старым оружием и другими предметами, кото-
рые в свое время были обыкновенными вещами, а те-
291
перь стали музейной редкостью. Марат рассматривал их,
и ему казалось, что он чувствует тепло рук, которые
касались оружия. Тепло не исчезло, хотя сами владель-
цы пистолетов и автоматов давно спали в холодной зем-
ле. Может быть, под музейным стеклом хранится и смя-
тый пиджачок гражданского покроя...
Мальчик не заметил, как в зале снова появился чер-
нявый.
— Новый мост был действительно взорван. Произо-
шло это двадцать третьего августа тысяча девятьсот со-
рок третьего года. Взрыв моста заморозил несколько
фашистских эшелонов с горючим и боеприпасами.
И обеспечил успешные действия нашей армии... А кто
взорвал мост, не установлено.
— Мост взорвал Зимородок,— твердо сказал маль-
чик.
— Мы не располагаем такими данными. Возможно,
действовала наша авиация...
— Авиация действовала,— сказал Марат.— Куку-
рузник. Но взорвал мост Зимородок...
— Зимородок! Странная фамилия... Но это надо еще
доказать.
Это надо еще доказать! А пока это не доказано, не
существует ни Зимородка, ни его подвига, и то, что он
полетел с парашютом, который мог не раскрыться,—
ровным счетом ничего не значит. И то, что мост был взо-
рван, тоже не в счет?!
Глаза Марата, насмешливые, коричневые глаза, сер-
дито заблестели, и он спросил:
— Если имя не доказано, значит, подвиг совершен
никем?
— Почему никем? — Человек в золотых очках со-
хранял спокойствие.— Неизвестным солдатом.
— Когда солдаты уходили на войну, у них были имя
и фамилия. Почему же когда они погибали за Родину,
то становились неизвестными? Это несправедливо! Мост
был взорван! Его взорвал Зимородок.
Чернявый человек пожал плечами и, стуча каблука-
ми, зашагал по залу, а мальчик стоял среди старых ору-
дий и автоматов, и на него со стен смотрели портреты
героев.
Но мост взорван, значит, парашют раскрылся и
жизнь Зимородка продлена на час, а может быть, на
292
день. И теперь всё в твоих руках: продлить его жизнь
дальше или оборвать, потому что «это еще надо дока-
зать».
— Главное, что раскрылся,— сам себе сказал маль-
чик и медленно пошел к двери.
5
Друзья стояли на мосту втроем и, облокотясь на теп-
лые от солнца деревянные перила, смотрели в воду. Во-
да двигалась. Ее струи, омывая опоры, завихрялись,
образовывали водоворот.
Василь следил за игрой рыбы. Зоя Загородько щу-
рила глаза, стараясь задержать ресницами солнечный
зайчик, который отрывался от воды и ударял в глаза.
Марат видел тяжелые железные фермы, скрученные
взрывом и выступающие из воды, как остов погибшего
чудовища. Зимородок не знал, как раскрыть парашют,
но он умел обращаться с толом. С тех пор много утекло
воды — этой пахнущей глубинным холодом и травой во-
ды — и времени.
А что такое время? Станции! Мимо одних поезд уже
промчался, до других еще не доехал. Но как быть, если
тебе до зарезу нужно вернуться на станцию, давно ос-
тавшуюся позади?
— Ты бы могла прыгнуть с моста в реку? — неожи-
данно спросил Василь Зою Загородько.
Девочка ответила не сразу:
— Я бы прыгнула, если бы нужно было спасти маму.
— Привираешь, привираешь,— сказал Василь.— За-
чем прыгать с моста, когда можно нырнуть с берега.
— Зимородок не стал бы рассуждать,— сказал Ма-
рат.
Василь тихо засмеялся:
— Потеха этот Зимородок. Седой выдумал его.
— Седой не врет,— твердо сказал Марат.— Кто стре-
ляет без промаха, тот не врет. Кто врет, тот мажет. Ма-
жет и врет.
— Я никогда не вру, а стрелять не умею,— призна-
лась Зоя Загородько, поправляя жиденькую челку на
смуглом лбу.
Но Марат не слышал ее, он смотрел на движущуюся
293
воду. Рядом с ним стоял Зимородок. Он стоял, облоко-
тись на перила, и смотрел в воду. И от его присутствия
в мальчике пробудилась какая-то незнакомая сила. Ему
начинало казаться, что он стоит на том самом Новом
мосту, который будет взорван. Но это надо еще доказать,
а для этого надо прыгнуть. Надо прыгнуть, как это
ни страшно. Зимородку тоже было страшно, и он не
знал, как действовать с парашютом.
Как прыгать: «ласточкой» или «солдатиком»?
Василь следил за игрой рыбы. Зоя Загородько игра-
ла с солнечным зайчиком. Они не заметили, как Марат
скинул брюки с ковбоем на заднем кармане и свернул
улиткой широкий кожаный ремень. Только когда он ото-
рвался от края моста и полетел навстречу бегущей воде,
они увидели.
...Марат стоял по колено в воде и тяжело дышал. Во-
да текла по его широким скулам, по шее, по плечам.
Одной рукой он придерживал другую. Он был бледен.
Веснушки исчезли с широких скул. Коричневые глаза
смотрели куда-то вдаль: они улыбались его мыслям.
— Ты жив?—спросила Зоя Загородько, хотя своими
глазами видела, что жив: от волнения она не верила
своим глазам.
— Надо было «солдатиком»,— запоздало посовето-
вал Василь.
— Молчи!—оборвала его Зоя Загородько.— Молчи.
Все это глупости. Что у тебя с рукой?
— Не знаю,— ответил Марат, вытирая плечом во-
ду, которая с волос текла в рот.
Он смотрел на друзей, но был озабочен своими мыс-
лями. Голова его гудела. И он еще испытывал на себе
холодящее ошеломление, которое началось с того мгно-
вения, когда он оторвался от моста. Его слегка познаб-
ливало. Одна рука была тяжелей другой.
— Я теперь поняла,— тихо сказала Зоя Загородь-
ко.— Я бы не смогла. И ты бы не смог, «глухая ку-
кушка».
Она с вызовом посмотрела на Василя.
Марат вышел из воды и стал одеваться. Он вдруг
заторопился. Никак не мог попасть в штанину и смешно
танцевал на одной ноге. От мокрой спины на рубашке
выступали пятна. Отбитая рука не слушалась. И воен-
ный ремень он затянул одной рукой.
294
— Я поеду на станцию Река,— вдруг сказал он.
Ребята пожали плечами. Что за станция Река, для
чего станция Река?
— Да, я работала на переезде, когда он взорвал
мост. Он появился к утру. Сперва я услышала слабый
свист. Как будто под окном пела иволга. Я выглянула.
Он стоял под окном. За спиной мешок...
Марат сидел на краешке табуретки и не сводил глаз
с худой старухи. Лицо у нее было желтоватое, цвета
подсолнечного масла, редкие волосы причесаны на про-
бор. Платок с выцветшими цветочками сполз с головы
на спину и держался на шее, как пионерский галстук.
В маленькой комнате стояли кровать, стол, бадейка
с водой. В углу — покрытый вышитой скатертью телеви-
зор. Полы чистые, некрашеные, с полосатыми домотка-
ными половиками. За окном — железнодорожные пути.
— Он смотрел в окно. Я не знала, кто он и что ему
надо. Не хотела отпирать. Но я баба, а он мужик. А му-
жики все ходили с оружием. Никакие запоры не помо-
гали. Я сказала: «Чего тебе?» Он ответил: «Отопри».
Я отперла.
Зимородок стоял в дверях в смятом пиджаке, пере-
кошенном от мешка, который оттягивал плечо — был
очень тяжел.
— Здравствуй, хозяйка,— сказал он тихо и опустил
мешок на пол.
Его лица почти не было видно. Сторожка освеща-
лась только слабой полоской занимающейся зари. Лица
хозяйки тоже не было видно. Она забилась в темный
угол.
— Здравствуй, хозяйка,— повторил он.
— Что тебе надо? — послышалось из темного угла.—
Нет у меня ничего. Все, что было, забрали. Хочешь
бульбы?
— У меня бульбы целый мешок,— сказал он.— Я в
дороге подвернул ногу. Нет ли у тебя тряпицы поплот-
нее?
Хозяйка сторожки несколько осмелела. Вышла из
295
своего темного угла. Зеленая заря осветила краешек ее
лица и светлую дорожку пробора. То, что незнакомец
ничего не требовал, а просил перевязать ногу, успокои-
ло ее. Она нашла тряпицу и почти скомандовала:
— Разувайся!
Он снял полуботинок. Штатский. Со сбитым каблу-
ком. Нога у него была чистой и не пахла прелой пор-
тянкой.
Хозяйка положила под его ступню руку: ступня ока-
залась холодной, но на подъеме нога вспухла и горела.
— Больно?
— Ты бинтуй. Не церемонься.
Она стала осторожно накладывать виток за витком,
а он морщился от боли и говорил:
— Крепче! Крепче! Мне ходить надо!
— Где это ты так ногу подвернул? — спросила она.
— Споткнулся на ровном месте,— ответил он и про-
свистел иволгой.
— Что ты за птица? — вздохнула хозяйка сторожки
и посмотрела ему в лицо.
— Зимородок... Меня мама родила зимой в санях.
С тех пор меня зовут Зимородком. Я мешок поставлю в
угол?
Этот вопрос означал совершенно другое: «Я у вас
останусь?»
— Ставь,— сдержанно сказала хозяйка, и ее ответ
означал: «Оставайся».
Во время войны все незнакомые люди говорили не-
домолвками.
Вдалеке послышался гудок паровоза. Хозяйка быст-
ро подхватила большой фонарь с красным и зеленым
стеклами и вышла на улицу. Мимо сторожки с грохотом
мчался эшелон. Колеса пели и отбивали на стыках че-
четку. А на платформах под темными чехлами угады-
вались очертания танков, похожие на застывших слонов
с вытянутыми хоботами. Ей казалось, что зеленый ого-
нек притягивает эту гремящую очередь вагонов.
Когда она вернулась в сторожку, незнакомец спал,
подняв воротник пиджака.
Она поставила фонарь на пол и села на стул. И так
сидела долго, прислушиваясь к его ровному дыханию.
Потом какое-то смутное чувство заставило ее поднять-
ся. Стараясь не наступать на скрипучие половицы, хо-
296
зяйка подошла к мешку. Вся разгадка незнакомца была
в этом мешке. Она опустилась на колени, развязала
узел, запустила руку поглубже и нащупала что-то хо-
лодное и твердое, похожее на уголь. Она вынула из
мешка незнакомый предмет. Это был брикет тола.
Женщина не дыша оглянулась на спящего. Он сидел
на кровати и следил за ней.
Некоторое время они смотрели друг на друга. Потом
он сказал:
— Что теперь будем делать?
И засвистел иволгой.
— Он засвистел иволгой, п мне стало не так страш-
но. Но я поняла, что ввязалась в историю, за которую
могут повесить. Он сказал, что ему надо забросить этот
мешок на мост. Спросил, медленно ли идут поезда по
мосту. Я сказала — медленно.
В это время зазвонил звонок. И хозяйка сторожки
подхватила футляр с флажками, похожий на двуствол-
ку, и вышла за дверь, прервав рассказ. Марат пошел
за ней.
С той стороны реки, вытянувшись в алую полоску,
шел тяжелый состав. Он приближался к мосту. Мост
был легким, словно нарисованный черным карандашом
на голубой бумаге. Но когда состав побежал по мосту,
мост запел. Теперь он был похож на поющую стальную
арфу-
— Красивый мост! — сказал /Марат.
— Мост как мост,— отозвалась хозяйка сторожки.
На посту она как-то изменилась: вытянулась, при-
осанилась. Ее рука с желтым флажком застыла на ве-
су. Но Марат заметил, что рука слегка дрожит.
Поезд пронесся мимо переезда, обдав пылью и гро-
хотом мальчика и хозяйку сторожки.
Когда поезд прошел и мост затих, мальчик спросил:
— Что было дальше?
— Весь день он просидел в картофельной яме. Идем,
я тебе покажу эту яму.
Они вошли в дом. Крышка картофельной ямы была
под кроватью. Пришлось отодвинуть кровать, чтобы от-
крыть ее. Марат заглянул внутрь. Из ямы пахнуло хо-
297
лодом и прелью. Она напоминала начало подземного
хода, идущего в неизвестном направлении.
— Можно залезть?
— Лезь.
Мальчик легко соскользнул в яму. Она оказалась до-
вольно просторной. Картошки в ней почти не было. Ма-
рат закрыл за собой крышку и очутился в сплошной
тьме. Только в щелку проникал свет, настолько слабый,
что не мог ничего осветить, а оттенял тьму.
Марат сделал шаг вперед и нащупал рукой стенку.
Он опустился на корточки и спиной почувствовал влаж-
ный холод глины. Так сидел Зимородок и ждал своего
часа. Ему тоже было холодно, и у него затекли ноги.
Одна нога болела...
— Другая ночь выдалась дождливая. Мглистая. Про-
жектора па мосту уперлись в туман, и дальше им ходу
не было. Мы ждали порожнего товарняка. Зимородок
подхватил свой мешок с «бульбой» и сказал: «Пойдем,
хозяйка, проводишь меня до околицы».
— Пойдем, хозяйка, проводишь меня до околицы,—
сказал Зимородок и поднялся со скамьи.
Хозяйка зажгла тяжелый фонарь и осветила незва-
ного гостя. Ей неожиданно стало жалко этого щуплого
парня, который весь согнулся под тяжестью мешка да
еще прихрамывал. И не было на нем ни ватника, ни
дождевика, а смятый пиджачок. Она заметила, что од-
на пуговица оторвана, и предложила:
— Давай пришью пуговицу.
Он улыбнулся и сказал:
— В другой раз! Пошли.
— Пошли,— вздохнула хозяйка.— Я выйду первая.
Так они попрощались.
Они очутились под дождем у переезда. Поезд
приближался. Земля вздрагивала от ударов колес.
— Я тебя хочу попросить... — сказал Зимородок.—
Ты можешь минуты две подержать красный фонарь?
— Это еще зачем? — Женщина испуганно посмотре-
ла на Зимородка.
— Чтобы поезд притормозил, а то я с кривой ногой
не вскочу на подножку.
Она ничего не ответила. Стояла с опущенным фона-
рем. А он ждал, какой сигнал подаст она машинисту.
298
Состав приближался. Она все медлила. Страх боролся
в ней с сочувствием. Наконец она медленно подняла
фонарь — выжала его, как гирю.
Фонарь тянул руку вниз, но она усилием держала
его на уровне головы — красным огнем в сторону на-
двигавшегося эшелона.
Состав стал сбавлять скорость. Заскрипели буксы.
Зимородок сказал:
— Давай зеленый.
А она все держала красный. И казалось, что сейчас,
на глухом переезде, перед носом немецкого эшелона,
она держит красное знамя.
— Давай зеленый! Все дело испортишь!
Она повернула фонарь. И сразу руке стало легче.
А мимо уже медленно плыли вагоны.
Он стоял с ней рядом. Но через мгновение она огля-
нулась— его уже не было. Только был — и исчез. Уле-
тел Зимородок.
— Примерно через час грохнуло. Я присела на пол,
закрыла руками глаза. Дом тряхнуло. Дверь распахну-
лась со скрипом. Косой дождь вместе с ветром залетел,
в дом. Я думала — он вернулся. Не свистела иволга.
Я собрала узелок и ушла.
— Он погиб? — спросил Марат.
— Кто его знает! Может быть, погиб, может быть,
миновала его смерть. У него была легкая рука. За та-
кую руку смерти трудно ухватиться.
След Зимородка оборвался.
Когда Марат уходил, хозяйка сторожки сказала:
— Есть тут у нас один старожил. Павлов. Он в ми-
лиции работает.
Она оставляла мальчику луч надежды.
7
Новый мост взлетел в воздух, рухнули в реку тяже-
лые, почерневшие от огня фермы. Остановилось движе-
ние к фронту. Снаряды на время стали безвредными, а
бензин — бесполезным, как вода. Сколько солдатских
жизней спас Новый мост, задержавший смерть! Многие
и теперь живы... Но ведь мост не сам взлетел в небо.
Был человек, назвавшийся Зимородком. И было у него
299
имя. Мама называла его этим именем, ребята в школе.
И на фронт он уходил с этим именем, а не с птичьим.
Зимородок. Бесстрашная птица с прямым острым
клювом. Он ныряет на большую глубину и возвращает-
ся с победой. И если он улетает накануне жестокой зи-
мы, то с первыми теплыми днями возвращается к сво-
ему гнездовью.
Марат шагал по шпалам. Он спешил, потому что
впереди возник просвет. Ему не терпелось отвоевать у
забвенья еще частичку жизни Зимородка.
В отделении милиции его спросили:
— По вызову?
— Нет, сам.
— Сами в милицию не приходят. Что натворил?
— Ничего я не натворил. Мне нужен товарищ
Павлов.
— Так бы и говорил: «Вызван к товарищу Пав-
лову».
— Да не вызван я...
— Сиди жди, вызовут. Как зовут?
— Марат. Я ищу человека.
— Так бы и говорил.
— Я так и говорю.
— Не груби старшим... Как фамилия человека?
— Нет у него фамилии. Есть прозвище...
— Прозвище? Это по уголовной части. К Павлову.
Ну-ка, шагай в ту дверь.
Марат постучал «в ту дверь». Из-за «той двери»
крикнули: «Заходи!» Марат вошел. В комнате за боль-
шим столом сидел грузный человек в белой рубахе.
— Здравствуйте. Мне нужен товарищ Павлов.
— Я — Павлов.
На голове у Павлова не было ни единого волоска.
Он был лыс, как глобус. Загорелый, обветренный
глобус.
— Я по поводу Нового моста. Его взорвал...
— Следопыт? — прервал мальчика Павлов.
— Ищу человека... Хочу знать о нем правду...
— Ищешь правду? — Следователь встал и подошел
к окну.— И я ищу. Только мы с тобой, брат, разную
правду ищем. Я ищу преступников, а ты героев. Изда-
лека приехал?
зоо
— Из города.
— Хорошо,— сказал следователь и провел ладонью
по лысой голове; вероятно, эта привычка осталась у не-
го с тех времен, когда на голове росли волосы, может
быть кудрявые.— Я уважаю людей, которые ищут прав-
ду. Конечно, от моей правды мало радости. Тебя ин-
тересует мост?
— Мост,— подтвердил Марат.
— Вот он, из окна виден. Новый мост. Три раза его
взрывали. И три раза строили заново. В Париже тоже
самый старый мост называется Новый. Парадокс!
— Вы знали Зимородка?—в упор спросил мальчик.
— Какого Зимородка?
— Который взорвал мост.
Следователь ответил не сразу.
— Разговор долгий, а мне сейчас выезжать на ава-
рию.— Он задумался и вдруг сказал: — Поедем со
мной?
— Поедем.
Следователь открыл ящик стола и извлек оттуда
булку и колбасу. То и другое он разделил на две ча-
сти.
— Давай подкрепимся, дорога дальняя.
Марат хотел было отказаться, по Павлов скомандо-
вал:
— Ешь без разговоров!
И они оба решительно вышли из комнаты, жуя на
ходу булку с колбасой.
Потом они мчались на мотоцикле. Марат сидел сза-
ди в седле, двумя руками ухватившись за ручку. Доро-
га бежала навстречу из дали, из полей, из леса. Она
сбегала с пригорков и бросалась под колеса мотоцикла.
И колесо, как жернов, перемалывало дорогу, и сзади
поднималось светлое мучное облако пыли.
— Когда я был молодым,— говорил следователь
своему пассажиру,— из-за этого моста чуть на тот свет
не попал.
— Вы тоже взрывали?
Мотоцикл тарахтел, встречный ветер свистел в ушах,
и, чтобы слышать друг друга, спутникам приходилось
кричать.
— Ничего я не взрывал. Дело было иначе.
301
...После внезапного взрыва Нового моста фашисты со-
гнали все население станции Река на вокзальную пло-
щадь. Был жаркий июльский день. Люди стояли в этой
бесконечной шеренге. Дети плакали. Женщины лихора-
дочно смотрели по сторонам, словно ждали откуда-то
помощи. Старики казались равнодушными, но на самом
деле они так же хотели жить, как и молодые.
— Если вы не выдадите человека, взорвавшего мост,
мы расстреляем каждого второго,— сказал немецкий офи-
цер.
Люди молчали. Нет, не все они были твердыми и
неотступными, они не знали, кто этот смельчак, кото-
рый дождливой ночью взорвал мост через реку.
Так они стояли долго. Под палящим солнцем. Ка-
кое-то тупое безразличие овладевало ими. Они ждали
избавления. Любого избавления от неподвижного, из-
нурительного стояния под солнцем.
Офицер уходил и возвращался. Наконец он разде-
лил людей на две шеренги.
Люди молчали. У кого-то в руках плакал ребенок.
Кто-то надолго закашлялся. Офицер наклонился и со-
рвал с газона ромашку. Он повернулся к шеренге, сто-
ящей лицом к солнцу, и стал гадать: он отрывал лепе-
стки и приговаривал: «Любит — не любит».
Глаза людей были прикованы к этой ромашке, ко-
торая должна была решить их судьбу. Любит — не лю-
бит. Лепестков оставалось все меньше. Он отрывал их,
как крылышки у небольшого белого мотылька. Наконец
он оторвал последний лепесток.
— Не любит. Слышите — не любит вас, а любит
их.— Он кивнул на правую шеренгу.— Они пойдут до-
мой, а вы отправитесь на тот свет. В последний раз
спрашиваю: кто взорвал мост?.. Можете не плакать!
Мне не нужны ваши слезы. Мне нужен человек, кото-
рый взорвал мост... Приготовить два пулемета. Послед-
няя минута на размышление...
Все сжались, втянули головы в плечи. Стиснули ру-
ки в кулаки. И на площади установилась напряженная
глухая тишина. Казалось, люди затаили дыхание, что-
бы ничем не потревожить эту тишину, которой суждено
было оборваться вместе с их жизнью.
Но страшную тишину разорвал не выстрел, а голос.
Такой негромкий, глуховатый голос:
302
Я взорвал мост!
Люди вздрогнули и испуганно обернулись на голос,
как в темноте оборачиваются на внезапно вспыхнувший
свет. Они увидели невысокого щуплого парня в помя-
том пиджаке. Он шел по площади, опираясь на палку.
Левая нога как бы проваливалась в землю, но правая,
здоровая, ступала твердо.
Офицер, удивленный не меньше остальных таким
поворотом событий, все еще держал в протянутой руке
белое крылышко «не любит». А парень шел к нему меж-
ду шеренгами, и десятки глаз — усталых, заплаканных,
печальных, темных, непонимающих, прищуренных, ши-
роко открытых — провожали его, дарили ему благодар-
ность и прощальный привет.
— Как тебя зовут? — спросил кто-то из стоящих в
шеренге.
Парень на мгновение задержал шаг и тихо сказал:
— Зимородок.
И его имя — непонятное, птичье имя — полетело от
одного к другому по шеренге, становясь таким же до-
рогим, как слово «жизнь».
— Всем по домам! — приказал офицер.— Его допро-
сить и расстрелять! Быстро! Быстро!
Офицер опустил руку, и белое крылышко, кружась
по ветру, упало на землю и больше уже не взлетало.
Белые плоские облака плыли над полем, а тени от
них темными пятнами двигались по траве и по наби-
рающим силу хлебам. Мотоцикл мчался вперед, и пыль
оседала на сморщенные ладошки подорожников.
— И его расстреляли? — спросил Марат.
Следователь ответил не сразу:
— Этого я не видел. Нас разогнали по домам... Ка-
кие-то выстрелы я слышал. Фашисты могли расстрелять
за кусок хлеба, а тут мост... Разве может быть сомне-
ние?
И все-таки представить себе Зимородка мертвым,
лежащим на земле Марат не мог. Удивительный боец в
помятом пиджаке на двух пуговицах жил в мыслях маль-
чика. И эту его жизнь никто не властен был оборвать.
Поезд тихо постукивал на стыках. Марат стоял у
окна и смотрел, как рельсы скрещивались и расходи-
лись. Одни неслись вперед, теряясь в хитросплетениях
зэз
станционных путей; другие обрывались в тупиках. Ко-
гда же стемнело, у стрелок зажглись низкие фонари,
похожие на маленькие сухопутные маячки. Как выбрать
себе нужный маячок, который откроет широкий простор,
а не заведет в тупик?
Когда поезд с глухим медленным гулом начал втя-
гиваться в фермы Нового моста, за плечами Марата
встал Зимородок. Усталый, с бессонными глазами, смо-
трящими как бы из глубины.
«Человек очень живучее существо,— сказал Зимо-
родок.— В него стреляют, а он поднимается снова, а ес-
ли не может подняться сам, то вместо него встает та-
кой, как он, только помоложе и посильнее».
«Как это — помоложе и посильнее?»—спросил Ма-
рат.
«А очень просто: я упаду, ты встанешь на мое ме-
сто. И опять живет человек, работает, борется. Важно,
чтобы ты был похожим на меня. Ты вообще веришь
в чудеса?»
«Не знаю».
«Я в чудеса не верю. Я верю в надежду. Надежда —
большая сила. Ты думаешь, человек идет когда-нибудь
на верную смерть? Нет! Даже герой. Человек идет в бой
с надеждой, что пуля пролетит мимо. Даже когда стре-
ляют в упор, человек надеется. И чем больше у чело-
века надежды, тем больше бесстрашия. Мне всегда по-
могала надежда. Мне с ней легко жилось и воевалось.
Понял?»
«Понял»,— прошептал Марат.
Он так и не повернул головы. Он чувствовал, что
Зимородок стоит за его плечами, слышал его дыхание,
но не повернул головы, а неотрывно смотрел за маяч-
ками, которые всплывали из темноты и исчезали за спи-
ной. И звезды в небе тоже казались маячками — негас-
нущими маячками надежды.
На другой день друзья уже поджидали его на мос-
ту. Они стояли, прислонясь спиной к перилам, а порт-
фели лежали у ног. Марат подошел к ребятам. Бросил
портфель и тоже прислонился к перилам. Так они все
трое стояли молча. Наконец Марат заговорил:
— Мост он взорвал. Значит, парашют раскрылся.
Только при прыжке подвернулась нога. Но потом его
расстреляли.
394
— Поймали? — спросил Василь.
— Нет, он сам признался.
— Не может быть! — вырвалось у Зои Загородько.—
Как же сам?
— Фашисты хотели расстрелять много людей.
— Заложников? — спросил Василь.
— Людей! — повторил Марат.— Тогда он сказал:
«Это я взорвал мост». Людей отпустили, а его повели
на расстрел. Вот и все.
— Вот и все! — Василь как бы поставил точку.
— Неужели все? — спросила Зоя Загородько.
— Нет, не все,—решительно сказал Марат.— Я дол-
жен узнать его имя. Человек, который совершил такое,
не может оставаться без имени.
— Конечно, не может,— подтвердила Зоя Загородь-
ко. И с этой минуты стала союзницей Марата в его
поисках.
Марат нагнулся и поднял портфель. И его друзья,
как по команде, тоже нагнулись и подняли портфели.
И зашагали по мосту в сторону школы.
И каждый раз, когда казалось, все кончено, оборва-
лись следы, поставлена точка и нет никакой, надежды,
оттуда, из далеких военных времен, доносился неумол-
кающий позывной:
«Я — Зимородок! Я — Зимородок!»
Он ждал ответа. Он звал. Он вселял в сердце тре-
вогу. Нельзя останавливаться. Поиск продолжается,
пока можно отвоевать у смерти и забвения еще один
вздох, еще один островок жизни Зимородка.
8
— Здравствуйте, люди-человеки! Начнем, пожалуй...
Сегодня мы займемся слонами.
По классу прокатился смешок. «Займемся слона-
ми!» А Сергей Иванович уже расхаживал по классу,
слегка наклонив свою большую голову.
— Но до слонов я хотел бы заняться Маратом.
Снова вспыхнул смешок.
— И узнать, где он пропадал, что поделывал, поче-
му пропустил урок.
11 Багульник 305
Марат нехотя поднялся. Он был озабочен своими
мыслями, и, что происходило вокруг, его не интересо-
вало.
— У него болела рука! — сказала Зоя Загородько,
и ее челочка мелькнула на предпоследней парте.
— Я спрашиваю Марата.
Марат переступил с ноги на ногу и сказал:
— Я искал одного человека. А руку я действительно
отбил.
— Какого человека? — спросил учитель,
— Его расстреляли фашисты.
Учитель сделал несколько шагов, потом обернулся
и сухо сказал:
— Не вижу логики. Чего же искать человека, если
его расстреляли?
И снова поднялась Зоя Загородько. Ее смуглое ли-
цо горело, а редкая челка разметалась по лбу.
— Это был очень хороший человек, Сергей Ивано-
вич... А вы этого не хотите понять... Вас интересуют
только клювы и хоботы.
У нее не хватило дыхания. Она села. За густой ра-
стительностью не было видно, как учитель побледнел.
Он сказал глухим голосом:
— Да, я этого не хочу понять! Меня интересуют
крылья и хоботы, потому что мой предмет — зоология.
Если бы я преподавал русский язык, меня бы интересо-
вало правописание частиц. Что здесь удивительного?
И на уроке никакие посторонние вещи меня не касают-
ся, Тебе это непонятно, Зоя Загородько?
— Понятно,— недовольно ответила смуглолицая де-
вочка.
— Садитесь все! Будем продолжать урок. Займемся
отрядом хоботных.
— Слонами? — спросил Василь.
— Сперва мышами.
По классу прокатился смешок. Но учитель не об-
ратил на него внимания.
— Начнем с мышей. Потому что, хотя слон самое
крупное и самое сильное животное в мире, простая ни-
чтожная мышь может погубить его.
Василь хихикнул. Но Марат ударил его локтем в
бок. И тот притих.
306
...По коридору шли директор школы и инспектор ро-
но. Они остановились у дверей класса. Оттуда доно-
сился несмолкаемый гул. И сквозь этот гул слышался
глуховатый голос учителя:
— Александр Македонский в своих завоевательных
походах использовал боевых слонов. Слоны были тан-
ками древних войн...
В это время послышался голос Василя:
— Танки с хоботом и клыками! А вместо противо-
танковых мин — мыши!
В классе вспыхнул смех.
— И так всегда на уроках Серегина,— сказал ди-
ректор.— Какой-то балаган, а не урок.
— Неопытный? — поинтересовался инспектор.
— Нет, стаж работы у него большой. Но не умеет
он серьезно. Все шуточки! Ему бы следовало перейти
на другую работу.
— Подумаем,— сказал инспектор.
— Никакого авторитета у ребят,— продолжал ди-
ректор и вместе с инспектором зашагал дальше по пу-
стому школьному коридору, в котором шаги отдавались
гулко и четко.
А на исходе дня, когда школа опустела, директор за-
стал учителя зоологии за странным занятием: Сергей
Иванович съезжал с четвертого этажа по перилам.
— Как это понять, товарищ Серегин? — вспыхнул
директор.
Сергей Иванович молчал, как провинившийся уче-
ник.
— Какой пример вы подаете детям?
Учитель молчал. Потом провел рукой по волосам и
тихо сказал:
— Устал я очень.
И пошел прочь, оставив директора с его сложными
педагогическими раздумьями.
Зоя Загородько и Василь шли по улице без всяко-
го дела.
Припекало солнце. Первый летний месяц набирал
силу. И зеленая листва, растревоженная ветром, изда-
вала морской шум. Зеленое море, взметнувшееся к си-
нему небу.
307
Неожиданно Зоя Загородько остановилась и спро-
сила своего спутника:
— Василь, у меня красивые глаза?
— Не знаю,— признался мальчик.
— Посмотри внимательно.
Василь уставился в глаза девочки:
— Смотрю.
— Что ты видишь?
— Глаза.
Зоя Загородько поправила рукой челку и сморщи-
ла нос.
— Эх ты, «глухая кукушка»!
— За «глухую кукушку» можешь схлопотать! — ти-
хо буркнул Василь.
Зоя Загородько повернулась на каблучках и пошла,
размахивая портфелем. Василь поплелся за ней.
Около тира их окликнула огромная бабка, которая
вышла из своего тоннеля, грелась на солнышке и зани-
малась привычным делом —вязала.
— Где ваш приятель? — спросила бабка, посмотрев
на ребят маленькими бесцветными глазами.— Мне он
нужен.
— Появился Седой? — поинтересовался Василь.
— Никто не появлялся,— сухо сказала бабка.—
А приятеля пришлите.
— Он обязательно придет,— сказала Зоя Заго-
родько.
Но огромная бабка уже не слушала ее: она ушла в
работу, и ребята перестали для нее существовать, слов-
но их не было вовсе.
В тире, за ее широкой спиной, треснуло несколько
выстрелов.
— Может быть, нашелся Зимородок? — предполо-
жила Зоя Загородько, когда ребята свернули за угол.
— Как же он нашелся, если его расстреляли? — ре-
зонно заметил Василь.— Она имя его знает, а нам не
хочет говорить. Каменная бабка!
Через несколько шагов Зоя Загородько спросила
Василя:
— Василь, у меня красивые губы?
— Не знаю.
— Посмотри внимательно.
— Смотрю.
308
— Что ты видишь?
— Губы.
А еще через несколько шагов она сказала:
— Знаешь, на кого похож этот Зимородок?
— Не знаю,— признался Василь.
— Он похож на Марата,— доверительно сказала Зоя
Загородько.— Только об этом никто не должен знать.
Слышишь?
— Слышу.
К вечеру, когда тир принадлежал взрослым и вы-
стрелы звучали медленно, с расстановкой, Марат стоял
перед бабкой. Она говорила ему:
— Вспомнила... У нас в Жуковке был отряд. Там
один парень умел свистеть иволгой... Имя его не пом-
ню... Есть в Жуковке братская могила. Похоронены
партизаны. Имена написаны на камне... В Жуковке у
меня тетка живет, Жукова Алевтина. У пас почти все
Жуковы... Стрелять будешь? Не будешь, тогда отойди
от огневого рубежа. Не мешайся.
— Может быть, его звали Зимородок? — спросил
мальчик.
Бабка уставилась на него и мрачно сказала:
— Я у фашистов на допросах молчала. А ты меня
допрашивать вздумал... Стрелять не будешь? Иди, иди.
Марат понял, что больше он не добьется от камен-
ной бабы ни единого звука. И еще он понял, что надо
немедленно ехать в Жуковку.
9
Они шли по узкой лесной тропинке, раздвигая ру-
ками ветки. Впереди, переваливаясь с боку на бок, шла
тетка Алевтина, такая же огромная и грузная, как ее
племянница из стрелкового тира. Темные босые ноги
не чувствовали колючек и сучков, которые попадались
на тропинке.
За теткой Алевтиной шел Марат. Он был поглощен
своими мыслями, и ему казалось, что тетка Алевтина
идет слишком медленно. За ним шла Зоя Загородько.
Она не спускала глаз с Марата. Она смотрела ему в
затылок с тихим восторгом, потому что все, что было
309
связано с Зимородком, переносилось в ее сознании на
Марата.
Василь шел последним. По его лицу струился пот,
а губа, поднятая домиком, пересохла.
Они шли довольно долго, пока внезапно не вышли
в поле. Над полем возвышался холмик с белым обели-
ском.
У подножия холмика тетка Алевтина остановилась
и, опустив руки, сказала:
— Вот могилка-то. Все тут. И мой Ванятка здесь по-
хоронен...
Ребята приблизились к обелиску и стали быстро чи-
тать имена погребенных. И вдруг Зоя Загородько вос-
кликнула:
— Здесь!
Ей стало неловко своего выкрика, и она тихо ска-
зала:
— Зимородок.
Действительно, на каменной доске в столбике фа-
милий было написано, вернее, высечено на камне — «Зи-
мородок».
— Все-таки он погиб,— сказал тихо Марат.
— Марат,— Зоя Загородько положила руку на пле-
чо друга,— ты веришь, что он погиб?
Марат молчал. А Василь сказал:
— Тут дело ясное.
Тетка Алевтина стояла за ребятами. Она как бы ока-
менела. Может быть, она думала о своем Ванятке?
И вдруг что-то нахлынуло изнутри и пробило ка-
менную бабу, и старая женщина заговорила:
— Девять телег стояло здесь на поляне. Девять гро-
бов. И много народу сошлось в этот день в Жуковку.
Стоял август. Я помню число — двадцать пятое августа.
В этот день каждый год собираются партизаны. С каж-
дым годом их все меньше остается... Словно отряд где-
то ведет бой. И не все возвращаются. Так вот, в тот
день у разрытой могилы речь говорил Петр Ильич...
Ее память воскресила тот тяжелый военный день.
И зазвучал голос партизанского командира:
— Товарищи! Братья! Не судите нас строго, что мы
провожаем вас в последний путь без оркестра, в нестру-
ганых гробах. Человек ко всему привыкает. Но при-
310
выкнуть к утрате друзей он никогда не сможет. Нам
без вас будет труднее в бою, а если пуля пощадит нас
и мы доживем до победы, нам будет не хватать вас всю
жизнь. Мы никогда не забудем вас. Мы накажем сво-
им детям помнить вас. Потому что во всем, что будет
потом: в новых городах, в новых кораблях, в новых до-
рогах,— будет частица ваших усилий, частица ваших
страданий... Прощайте, товарищи! Ваша жизнь оборва-
лась на полпути, вы останетесь в нашей памяти навеч-
но молодыми. Но молодых будущее поколение поймет
легче, чем стариков. Вы будете учить наших детей, как
надо любить Родину. Пусть будет вам земля пухом...
Огонь!
И все, кто стоял над свежевырытой могилой, подня-
ли свое оружие и выстрелили. И гул этого салюта гроз-
ной волной покатился по лесам и полям.
— Почему девять?—спросил Василь.— Здесь десять
фамилий. Ошибка?
— Кто его знает! Только хоронили девятерых. Я-то
помню, девять телег прогромыхало по дороге. А дед
Аким сколачивал девять гробов. Ему теса не хватило, он
ходил по дворам...
— Кого же там нет? — спросил Марат, показывая
рукой на могилу.
— Этого я не знаю,— призналась старая женщина.—
Это знает только Петр Ильич Лучин, партизанский
командир.
— Где же он?
— Петр Ильич? Живет в Одессе, на пенсии. Болеет.
Жена его, партизанская учителка, тоже с ним. А я ни-
кого не знаю. Я только Ванятку знала...
Она замолчала. Стала каменной.
— Вот видишь,— сказала Зоя Загородько,— надо
верить.
— Для чего же написали? — все не мог разрешить
свои сомнения Василь.
Но ему никто не ответил. Ребята стали медленно
спускаться с холма. Они попрощались с теткой Алевти-
ной. Но та не заметила их, все стояла неподвижная и
углубленная в свое давнее горе.
Каждый раз на пути к Зимородку жизнь создавала
новые и новые препятствия, словно хотела испытать вы-
311
держку красных следопытов. Отчаяние приходило к
Марату и его друзьям. Они вешали головы. И вместе с
тем в их поиске было что-то живучее, идущее напере-
кор всему. Сквозь мутные туманы безвестности светил
далекий огонек надежды.
Они спешили навстречу Зимородку, словно хотели
вернуть ему все, что отняла у него война: имя, жизнь.
На лесной полянке, где когда-то взлетел маленький
трескучий «кукурузник» с пареньком, не знавшим даже,
как обращаться с парашютом, на холме с белым обе-
лиском, они узнали о его смерти. И захотели вернуть
ему жизнь. Как скалолазы, которым каждый непримет-
ный выступ помогает сделать еще один шаг к вершине,
они ухватились за слова, оброненные теткой Алевти-
ной: «Хоронили девятерых».
Хоронили девятерых! Кто же был десятый? Зиморо-
док? И тут перед Маратом возникал человек, малень-
кий, чернявый, в золотых очках.
«Это надо еще доказать!» — говорил он и уходил,
стуча каблуками.
Они шли по лесной тропинке, и следом за ними ле-
тели тихие, овеянные непроходящей печалью слова:
«И мой Ванятка здесь похоронен».
Но никто же не сказал:
«Здесь вечным сном спит Зимородок».
10
Отец Зои Загородько сказал:
— Ждите! Представится удобный случай — слетаем
в Одессу.
Случай долго не представлялся. Отец летал по дру-
гой линии. Ребята хотели было написать письмо парти-
занскому командиру Петру Ильичу Лучину, но какое-
то чувство подсказывало им, что есть вещи, которые
нельзя доверять бумаге, надо высказать их самим. Для
них Зимородок еще был жив. Он просто был настоя-
щим зимородком: глубоко нырнул в одном месте, вы-
нырнет в другом.
Каждый раз, встречаясь на мосту, ребята вопроси-
тельно смотрели на Зою Загородько. И она отвечала:
— Еще не представился случай. Но представится...
312
Они шли мимо тира, который в ранний час еще был
закрыт. И на тяжелых воротах висел замок. Может
быть, за этим замком хранится еще один след Зимо-
родка?
Василь последнее время стал прихрамывать и при-
цепил к куртке синий значок с изображением парашю-
та. Сам с собой он играл в Зимородка.
Он поднял замок и опустил. Замок с грохотом уда-
рился о ворота. Ребята зашагали дальше.
— Говорят, в Заречье живет такой доктор Стройло.
Слыхали? — неожиданно сказал Василь.— В войну он
был начальником подпольного госпиталя. Этот доктор
много зпает... Может быть, и про Зимородка?
— Так за чем же дело? — спросила Зоя Загородько.
— Говорят, он не любит рассказывать.
— Почему не любит?
— Натерпелся.
— От кого натерпелся? — Марат распрямился и по-
смотрел на Василя.— От фашистов?
— Нет, фашисты до него не добрались. Он натер-
пелся от средних.
— От каких средних? — Зоя Загородько заглянула
в лицо Василю.
— Есть такие средние люди. Они не фашисты и не
антифашисты. Вываренные люди.
— Кто их... выварил?
У Василя губа поднялась домиком и покраснели уши.
— Почем я знаю! Сами выварились.
— Знаешь его адрес? — спросил Марат.
— Нет.
— Можешь узнать?
— Я все могу,— прихвастнул Василь и захромал
сильнее.
— Тогда завтра махнем к этому доктору.
...Но назавтра три друга оказались не в Заречье у
загадочного доктора Стройло, а на аэродроме. Случай
представился. Папа Зои Загородько летел в Одессу.
Три воздушных зайца стояли на летном поле и жда-
ли, когда полноправные пассажиры закончат посадку.
— А вдруг не хватит места? А вдруг не хватит ме-
ста?— поминутно спрашивал Василь и дергал Зою За-
городько за рукав.
— Отвяжись, «глухая кукушка»!
313
— За «глухую кукушку» можешь схлопотать! —
огрызнулся Василь.
Но тут в дверях самолета появился высокий смуг-
лый человек в синем форменном костюме. Он махнул
рукой, и ребята побежали к трапу.
...Потом они летели, усевшись втроем на два места.
И совсем близко над ними расстилалась белая изнанка
облаков.
Зоя Загородько смотрела на Марата, и ей казалось,
что он вот-вот отвяжется и совершит отчаянный прыжок
с парашютом в районе станции Река. Глаза девочки све-
тились скрытым восторгом. А Марат сидел с закрытыми
глазами, и ему казалось, что он летит на стареньком «ку-
курузнике» толкает в плечо седого пилота с лицом индей-
ца, покрытым густым, замешанным на ветру загаром:
«Пора прыгать?» А Седой кричит через плечо: «Отвя-
жись!» И вокруг трещат разрывы и бросают самолет из
стороны в сторону.
Зоя Загородько берет его за пуговицу и тянет. Он
открывает глаза, смотрит на девочку:
— Ты что?
— Хочешь, я пришью тебе пуговицу?
— Так она не оторвалась,— говорит он, не понимая,
чего она от него хочет.
— Но, может быть, она оторвется,— говорит Зоя За-
городько и опускает глаза, и они блестят под редкой чел-
кой, которая спускается со смуглого лба.
А Василь трогает свой значок с изображением пара-
шюта.
Самолет ложится на левое крыло и идет на посадку.
— Через три часа летим обратно. Как хотите, так и
действуйте. Три часа на размышление, товарищи следо-
пыты!.. Зоя, купишь матери дыню. Все!
Три часа дал на размышление ребятам папа Зои За-
городько. За три часа они должны были разыскать пар-
тизанского командира Петра Ильича Лучина и узнать то,
что не давало им покоя. Оборвется след или потянется
дальше?
Вперед, красные следопыты, неутомимый народ, воз-
вращающий имена безымянным героям, борющийся с
забвением, как борются со злом. Не верьте ушам — уши
могут недослышать. Не верьте глазам — глаза могут не-
досмотреть. Верьте только сердцу.
11
Есть на нашей земле гордые города, которые умеют
весело жить и смело воевать, но не сдаваться. Этн горо-
да— узловые станции: сюда стекаются пути со всех кон-
цов света и завязываются узлом дружбы. Здесь говорят:
«Умирать — так с музыкой!» С музыкой орудий и автома-
тов и с хриплым «ура», от которого врагов прошибает
холодный пот. Эти гордые города — как старые солдаты
в старых шрамах. И на их груди мерцают звезды героев.
И они бессмертны, потому что на смену отцам приходят
дети, и дети похожи на отцов, только помоложе, задири-
стей и у них легче походка.
Одесса — такой город. Говорят, в Одессе камни со-
лоноватые от ветра, который доносит капли морской во-
ды. А в камнях, из которых сложены дома, впаяны
перламутровые ракушки. И под улицами, домами, пло-
щадями есть еще одна Одесса — подземная. Называется
опа — катакомбы. Фашисты шли на одну Одессу, а их
встретили две: наземная и подземная. И было еще две
Одессы, обрушивших на врага огонь: морская и воз-
душная.
Но это было давно, а теперь раны затянулись. Светит
раскаленное солнце. Прибой перекатывает камешки с
одного места на другое. Корабли здороваются и прощают-
ся с городом.
Но, может быть, камни города соленые не только от
морской воды, но и от крови?
— Здравствуйте! Нам нужен Петр Ильич.
Марат и его друзья замерли на полутемной лестнич-
ной площадке, а в открытых дверях перед ними стояла
черноволосая женщина с темными ввалившимися глаза-
ми. Она молча смотрела на ребят, потом сказала:
— Вы опоздали.
— Мы подождем,— сказал Марат, — у нас еще есть
время.
— Понимаете, мы прилетели издалека,— пояснила
Зоя Загородько.
— Он умер,—сказала женщина.— Вчера его похоро-
нили.
— Как же быть? — вырвалось у Марата.
315
— Пошли, ребята,— тихо сказал Василь.— Простите
за беспокойство.
Надо было уходить, но какая-то сила удерживала
ребят у порога дома бывшего партизанского командира,
который умер накануне их приезда. Словно стены дома
хранили тайну судьбы Зимородка. Хозяйка тоже не торо-
пилась закрыть дверь. Наконец она нарушила неловкое
молчание:
— Что вы хотели от Петра Ильича?
— Мы разыскиваем одного бойца. Мы были на его
могиле...
— Как его фамилия?
— В отряде его звали Зимородок.
— Зимородок?!—Хозяйка дома произнесла это имя
на свой лад, делая ударение на первом слоге, и на лице
ее отразился слабый отблеск улыбки.— Зимородок! За-
бавный был парень. Он ходил в мою школу.
— Какой номер школы?—не удержался Василь.
— У школы не было номера... Это была партизанская
школа. Днем я учила ребятишек. Вместо считальных
палочек были стреляные гильзы... А вечером учились
бойцы...
В большой землянке были низкие, давящие потолки,
а две коптилки, сделанные из медных артиллерийских
гильз, стояли на столе и высвечивали небольшое прост-
ранство и классную доску, настоящую классную доску.
Парты тоже были настоящие: видимо, их вывезли из
уцелевшей школы. Но они казались очень маленькими и
тесными, потому что за ними сидели здоровые дяди.
Некоторые бородатые. При свете коптилок эти бороды
выглядели как-то зловеще. Еще коптилки освещали лицо
учительницы, молодое, удивительно красивое. Гладкие
черные волосы были заплетены в косу. Учительница
выглядела очень молодой, а ученики очень старыми, хотя
были они одногодками.
— У нас кончился мел,— сказала учительница,— не
знаю, как быть.
— Я раздобуду вам мел.
Из-за парты поднялся невысокий парень в пиджаке,
застегнутом на три пуговицы. Его глаза весело горели: в
каждом зрачке играл уменьшенный огонек коптилки.
— Где ты раздобудешь?
316
— Военная тайна. Завтра будет у вас мел.
— Как твоя фамилия?—спросила учительница.— Ты
в отряде новичок?
— Новичок!—ответил парень.— Зовут меня Зиморо-
док.
Бородатые ученики захихикали.
— Разве человека не могут звать Зимородок?—спро-
сил он, поворачиваясь к товарищам.— Я могу свистеть
иволгой.
Все снова рассмеялись.
— Вот чудаки! — чуть обиженно сказал парень.—
Я дело говорю, а они смеются...
— Послушай, Зимородок, ты сколько классов кон-
чил?— спросила учительница.
— Восемь.
— А мы за пятый класс проходим. Зачем ты пришел?
— Учиться хочется! Я и в школе любил учиться.
Честное слово! Каждый день узнаешь новое. Решаешь
задачу, которую вчера не мог решить. В первый раз
читаешь стихи, и кажется, Лермонтов написал их специ-
ально для тебя, еще чернила не высохли...
Бородачи притихли. А молоденькая учительница слу-
шала с широко открытыми глазами.
— По-моему, когда человек перестает учиться, он
перестает жить. А на войне так хочется жить!
И тут он замолчал, смутился и, чтобы скрыть свое
смущение, спросил:
— Так показать, как свистит иволга?
Учительница кивнула, и он засвистел. Свист был
похож на голос флейты. И стены землянки как бы раз-
двинулись. И огромный густой лес с высокими деревьями
и низким подлеском возник из этой птичьей песенки.
Этот лес жил, двигался, одни деревья сменялись другими,
маленькие делянки переходили в орешник, за орешником
вставали медноствольные сосны. А свист иволги то приб-
лижался, то удалялся, такой родной итакой недоступный.
t
Комната партизанского командира Петра Ильича Лу-
чина была небольшой и еще хранила устойчивый запах
лекарств. У стены в углу стояла солдатская койка, засте-
ленная серым одеялом. Над койкой висела тяжелая
сабля с червленым эфесом и трофейный кинжальный
317
штык, тоже в ножнах. На окне стояли растения с темной
мясистой зеленью. Еще в комнате был рабочий стол с
тисочками: видимо, бывший командир что-то мастерил.
Ребята сидели на стульях, а хозяйка дома, «партизан-
ская учителка», стояла у окна.
— Когда он взорвал Новый мост,— рассказывала
она,— я долго не вычеркивала его из классного журнала.
Я вообще никогда не вычеркивала погибших. Ставила
«нет». На всякий случай.
«Партизанская учителка» подошла к койке и опусти-
лась на самый краешек, по привычке боясь потревожить
больного. А больного-то не было.
— Петр Ильич умер от старых ран,— вдруг сказала
она.— Последнее время старые солдаты часто умирают.
Догоняют их военные пули.
Ребята молча слушали хозяйку дома, все еще не реша-
ясь задать ей главный вопрос.
— Человек ко всему привыкает. Но привыкнуть к
утрате друзей никогда не сможет,— тихо произнесла
партизанская вдова и замолчала.
Ребята переглянулись. Эти слова показались им зна-
комыми, прозвучали сейчас как эхо. И тогда Марат ска-
зал:
— Мы были в Жуковке, на братской могиле, где
похоронен Зимородок.
— Зимородка нет в этой могиле.
— Как — нет? Там написано...— вмешался в разговор
Василь.
Партизанская учительница покачала головой:
— Мы знали, что немцы расстреляли его, и, чтобы
имя его не затерялось, написали его на доске рядом с
именами других погибших в бою. Но в могиле его нет.
Ребята посмотрели на Марата и заметили, что глаза
его тревожно светятся, словно видят то, что в эту минуту
никому не дано было увидеть.
За его плечом встал Зимородок. А впереди зажегся
огонек надежды. Он горел вопреки всему. Да здравствует
надежда! Как бы жили на свете люди, есди бы не было
надежды? Как бы они сражались, достигали цели?
12
— Люди-человеки, а не пойти ли нам в лес?—сказал
Сергей Иванович, переступая порог.
Неожиданное предложение учителя класс встретил
дружным «ура».
— Тише! Парад не начался. Хочу, чтобы вы знакоми-
лись с природой не только по учебнику... Вы когда-ни-
будь держали в руке птенца? Теплый, вздрагивающий
комочек, полный упругой жизни. Тот, кто не держал
в руке птенца, не сможет взять в руку сердце, а будущим
врачам придется держать в руке сердце человека...
Сейчас в лесу много невезучих птенцов. Положить вы-
павшего птенца в гнездо — полезное занятие... Собирай-
тесь. По школе идем с закрытыми ртами. Решено?
— Решено!—за всех отозвался Марат и хлопнул
крышкой парты.
Класс мгновенно опустел. Ребята двинулись цепочкой
по коридору. Василь нес под мышкой бумажного змея.
Школа была на окраине города, и добраться до поля
не составляло труда.
Учитель шел впереди по высокой траве, а ребята, вы-
тянувшись в длинную цепочку, шли за ним. Цепочка эта
была неровной. Она местами выгибалась, местами рва-
лась и нехотя тянулась в сторону леса. А над ними в вы-
шине вился бумажный змей с нарисованной кривой ро-
жей. Змей послушно плыл на веревочке за ребятами.
Сергей Иванович остановился, и ребята, наталкива-
ясь друг на друга, тоже остановились.
— Слышите легкий звон? Это вьется над полем жаво-
ронок. Весенняя полевая птица. В лесу мы обязательно
встретим дятла.
Вскоре цепочка исчезла в чаще. И сразу весь мир
наполнился множеством тонких звуков. Птицы пели на
все лады — каждая пробовала свое горлышко.
Учитель остановился. Прислушался.
— Слышите?
Ребята поворачивались в сторону звука.
— Слышите? Это поет малиновка. Конечно, ее пение
не сравнишь с пением соловья, но некоторые колена
очень схожи.
Он старался увлечь ребят, открывал им тайны ожив-
шего леса. Он вел их на звук птичьей песни, а ребятам
319
хотелось бегать, перепрыгивать через ручьи и взбираться
по склонам оврагов. И тех, кто шел рядом с учителем,
становилось все меньше. Это не смущало Сергея Ивано-
вича. Он как бы рассказывал самому себе.
— Да, наши птицы, может быть, и скромней по рас-
цветке, чем пернатые тропических стран, но разве какая-
нибудь птица в мире сравнится по пению с соловьем или
малиновкой!
Дымчатые очки мешали ему любоваться лесом. Он
снял их, но тогда все вдруг расплылось, пришлось снова
надеть очки. Он оглянулся и заметил, что рядом с ним
идет только одна девочка, курносенькая, в больших оч-
ках, которые захватывали часть ее щек.
— А где же остальные?—спросил Сергей Иванович.
— Ищут птенцов, выпавших из гнезда.
— Да, да,— рассеянно произнес учитель.— Иди и ты
ищи.
Девочка побежала. Учитель остался один. Теперь он
прислушивался не к птицам, а к голосам ребят и силился
разглядеть их среди деревьев. Ребята как бы затеяли с
учителем веселую игру в прятки. Но не было в лесу па-
лочки-выручалочки, которая помогла бы ему.
Однако это не огорчало учителя. Он выпустил на волю
веселого, шумного джинна и понимал, что загнать его
обратно в сосуд, именуемый классом, было делом почти
невозможным.
Сергей Иванович вышел из леса. Он медленно шел по
мокрой траве через поле. Потом он услышал тихий шо-
рох, и к его ногам опустился бумажный змей. Из травы
смотрела смешная рожа, нарисованная лиловыми черни-
лами.
Сергей Иванович опустился на парту и стал ждать
возвращения ребят. Он немного устал и уперся подбород-
ком в сложенные замком руки. О чем он думал, пожилой
человек, с лицом, заросшим густой бородой? Может быть,
вспоминал то далекое время, когда сам сидел за партой?
Неожиданно дверь открылась, и в класс вошел дирек-
тор школы. Учитель встал, как встают ученики, когда
входит старший.
— Где класс?—спросил директор, испытующе глядя
на Сергея Ивановича.
320
Учитель стоял молча, опустив голову, как провинив-
шийся.
— Сбежали?
— Я их отпустил. У нас было практическое занятие
на природе.
— Не выгораживайте вы их! Сбежали!—сказал ди-
ректор, усаживаясь за учительский стол.— Не получается
у вас, товарищ Серегин. Садитесь.
— Разве не получается?—спросил учитель, продол-
жая стоять.
— Вы же ведете себя с ними как равный. Где ваш
учительский авторитет? Бороду отрастили, как Миклухо-
Маклай.
— Нельзя бороду?—спросил учитель.
— Это вам решать. У нас ни один учитель не носит
бороду... И не съезжает по перилам с четвертого этажа...
У вас в распоряжении целое лето. Подумайте. Может
быть, вам стоит заняться другим делом?
— Может быть,— пробормотал учитель.
— Вот таким образом,— закончил директор и, шумно
отодвинув стул, пошел прочь.
А Сергей Иванович все стоял за партой.
В класс начали возвращаться ребята. Они входили
шумные, возбужденные неожиданной прогулкой по лесу.
Они не заметили, что учитель расстроен чем-то.
В класс вбежал Марат. Ладони его были сложены
корабликом, как складывают на ветру, чтобы не погасла
спичка.
— Я нашел птенца!
Сергей Иванович подошел к нему. Марат приоткрыл
ладони. В них, как в гнезде, сидел птенец.
— Я нашел его в ручье. Он чуть не утонул.
Учитель снял очки и приблизил лицо к маленькому
пернатому существу.
— Это птенец зимородка.
При слове «зимородок» Марат оглянулся на своих
друзей. У Зои Загородько заблестели глаза, а Василь
раскрыл от удивления рот. В это время птенец приподнял
одно крыло, привстал на слабые лапки и вдруг изо всех
сил рванулся, замахал крыльями. Его нельзя уже было
удержать. Он полетел. Сделал круг и вылетел в открытое
окно.
321
— Улетел зимородок,— сказал Марат.
Все ребята стояли уокон и провожали летящего птен-
ца. Учитель тоже наблюдал за полетом птенца, и в гла-
зах его застыла печаль.
На другой день начались каникулы.
13
Доктор Стройло был длинный и худой и слегка суту-
лился, словно все время боялся удариться головой о
притолоку. У него были наполовину седые, сизые волосы
и глаза навыкате. А руки свисали, как опущенные крылья.
Он стоял на крыльце и недружелюбно разглядывал
незваных гостей. Дом у него был небольшой, рубленый,
с палисадником — пригородный дом в конце городской
улицы.
— Что вам надо?—спросил он ребят.
— Мы ищем человека,— неуверенно сказал Марат.
— У меня не адресный стол! — сердито отрезал него-
степриимный хозяин. Было непонятно, сердится он или
скрывает усмешку.
У Василия покраснели уши. И он почти крикнул:
— Его же расстреляли фашисты! Но мы верим, что он
жив!
Доктор Стройло продолжал смотреть на ребят выпу-
ченными глазами.
— Меня не интересует, во что вы верите. С вашей
фантазией во что угодно можно поверить... Боль можете
терпеть?
Ребята удивленно переглянулись.
— Уколов боитесь?
— Не боимся мы уколов,— сказала Зоя Загородько.—•
Пошли, ребята!
Доктор Стройло выкатил глаза на нее и закричал:
— Вытирайте ноги! Почище! Я полы сам мою!
Это было приглашение войти в дом. Ребята зашарка-
ли ногами на маленьком половичке. И доктор Стройло
повел их в дом. Они очутились в небольшой комнате с
низким потолком. На окнах, на столе, на тумбочках —
всюду стояли большие и маленькие аквариумы, в кото-
рых плавали удивительные рыбы и рыбешки. Комната
была скорее похожа на зоомагазин, чем на комнату, в
322
которой живут люди. Ребята разбрелись и начали было
рассматривать рыб, но хозяин сухо скомандовал:
— Садитесь! На диван!
Они послушно сели на диван.
— Что за новое поветрие — искать человека?—спро-
сил доктор Строило.— Сколько лет не искали, и вдруг...
понадобился человек. Или неловко жить стало без чело-
века?
— Он наш друг,— сказал Марат.
— Ба!—Доктор заходил по своей маленькой комнате,
и от его шагов пол задрожал, а вода в аквариумах слегка
заколыхалась.— Да вас тогда и на свете не было, когда
фашисты... расстреляли вашего человека.
— Он наш друг,— упрямо повторил Марат.— Он нам
нужен.
Доктор Стройло подсел к ребятам и, согнувшись поч-
ти вдвое, оперся локтями о колени.
— Что вам о нем известно, о человеке-то?
— Двадцать третьего августа он взорвал Новый мост
на станции Река. За это его в тот же день расстреляли.
Доктор Стройло поднялся и ушел в другую комнату.
И вскоре вернулся с большой конторской книгой.
Он стал листать пожелтевшие страницы, и ребята ви-
дели какие-то записи, сделанные размашистым почерком.
Потом узловатым пальцем, похожим на ветку с обрублен-
ными сучками, доктор стал водить по странице.
— Двадцать четвертого августа в госпиталь поступил
партизан с тремя пулевыми ранениями. Видимо, он... Со-
стояние раненого крайне тяжелое. Как его звали?
— Зимородок,— ответили все трое.
Это имя прозвучало как пароль, потому что в докторе
Стройло что-то ожило, посветлело и в его выпуклых гла-
зах появились какие-то точки, разгорающиеся, как искры.
Пароль «Зимородок» открыл забытую дверь в прошлое,
и из нее хлынули воспоминания.
Зимородок лежал за станционными путями в овражке.
В помятом пиджачке, застегнутом на оставшиеся две
пуговицы. И был он какой-то маленький и легкий. Голова
упала к плечу. Глаза были закрыты, а нос торчал бугор-
ком. Маленький, острый, похожий на клюв. На щеке
запеклась штыковая рана. Одна рука сжала полу пид-
жака, другая — откинулась ладошкой вверх, и между
323
пальцами протиснулись стебельки травы. И казалось,
трава скоро поднимется еще выше и скроет его от глаз
друзей и врагов.
На дне оврага стояли двое парней, а третий на краю
оврага наблюдал, не придут ли фашисты.
Парень в кепке, надвинутой па глаза, копал могилу,
а его напарник неотрывно смотрел на расстрелянного.
И вдруг он сказал:
— Подожди... Он, кажется, дышит.
Стриженый опустился на колени и прильнул ухом к
груди Зимородка. Потом поднялся и сказал:
— Бьется! Где-то далеко-далеко бьется!
Парень в кепке отбросил лопату, подошел к нему и
опустился на колени.
— Бьется!—согласился он.— Здесь земля сырая... от
крови.
— Что же будем делать?
Парни молча стояли на коленях и смотрели на
незнакомца. Сверху, с края оврага, спросили:
— Закопали?
Ему не ответили.
— Надо отнести его подальше. Он ведь мою мать
спас,— сказал парень в кепке.
— И двух моих сестренок расстреляли бы, но он...
Он был жив. Изо рта текла тонкая, высыхающая на
ветру струйка крови. Это была живая кровь.
— Его надо переправить к доктору Стройло,— сказал
стриженый.— Надо раздобыть подводу.
Два парня осторожно подняли на руки полуживого
Зимородка.
— Закопали?—спросил сверху стоящий на посту.
— Да он жив!— наконец ответили ему снизу.
Потом по дороге ехала подвода, груженная прошло-
годней соломой. Воз был большой, похожий на желтое
облако. На возу сидел парень в кепке. Лошадь шла
резво, и телега, подпрыгивая на камнях, громыхала кова-
ными ободьями. На переезде через ручей, когда лошадь
пила воду, парень в кепке спросил:
— Как ты там? Пить хочешь? Ну подавай же голос,
дружище!
Со стороны казалось, что он говорит сам с собой,
потому что вокруг никого не было.
324
— Может быть, он... кончился?—сам себя спросил
парень и погнал лошадь.
Потом им повстречался патруль. Немец крикнул:
— Хальт! Абвейс!
Парень полез в карман и протянул немцу «абвейс»—
пропуск. Немец надел очки. Посмотрел. Вернул пропуск.
И вдруг прошил воз дробной автоматной очередью. Воз-
ница вскрикнул. Лошадь рванула вправо, воз скатился
на обочину и чуть не перевернулся.
Немец стоял на дороге и вытирал очки носовым плат-
ком. Очень аккуратный немец: и службу знает, и чистоту
любит.
Воз выбрался на дорогу. И снова колеса запрыгали
по камням.
Уже в лесу, в чащобе, парень в кепке соскользнул с
воза и долго прислушивался, что происходит под соло-
мой: попали немецкие пули в раненого или прошли мимо?
— Эй, парень! Ты жив? А? Ну отзовись!
Возница забыл о всякой предосторожности. Он кри-
чал на весь лес. Он требовал, чтобы тот, кого он вез под
ворохом соломы, был жив. Он кричал и прислушивался.
Он обходил воз со всех сторон и прислушивался. Пока
до его слуха не донесся слабый стон.
— Жив!—обрадовался парень в кепке.— Жив! Дер-
жись... Но, но, пошла!—прикрикнул он на лошадь и побе-
жал рядом с возом.
Дорога в лесу была мягкой, без камней, и телега не
громыхала, а как бы плыла по ней бесшумно. И все
вокруг было заполнено разноголосым щебетом птиц.
Наконец воз остановился на небольшом пятачке,
среди лопастых елей. Из-за деревьев вышли люди и мол-
ча принялись сбрасывать на землю солому. Воз таял.
Становился все ниже. А возница и распряженная лошадь
стояли рядом и ждали. Наконец последние охапки соло-
мы были сброшены — на дне телеги лежал Зимородок.
В его лице не было ни кровинки. И только полоска засох-
шей крови тянулась от уголка рта до подбородка.
Парень в кепке склонился над Зимородком. И лошадь
тоже потянулась к нему и коснулась его щеки мягкой
губой. И тут появился доктор Стройло. Он был такой же,
как и в наши дни: те же глаза навыкате, те же сизые
волосы. Только спина его не так заметно сутулилась.
Доктор внимательно осмотрел раненого и спросил:
325
— Когда?
— Вчера на исходе дня.
— В бою?
— Его немцы расстреляли,— ответил парень в кепке,
и вдруг в его голосе появилась твердость:—Доктор, он
должен жить!
— Это что ж, приказ начальства?—насмешливо спро-
сил доктор Стройло.
— Это по справедливости.
— Ба! Если бы смерть действовала по справедливо-
сти, сколько бы хороших людей ходило по земле!
— Может быть, нужна кровь?—спросил возница.
— Кровь понадобится,—сказал доктор и пошел прочь.
Люди осторожно подхватили Зимородка и бережно
понесли его по тропинке, ведущей в чащу, а парень и ло-
шадь пошли за ними.
— Значит, он жив! — сказал Марат.
— Кто тебе сказал, что он жив?— отозвался доктор
Стройло.— Разве я тебе говорил, что он жив? Три тяже-
лых ранения. И еще нога вывихнута. Я его оперировал,
а потом отправил на Большую землю в очень тяжелом
состоянии... Я не говорил, что он жив, я говорил только
то, что знаю.
Доктор поднялся и подошел к большому аквариуму,
стоящему на окне, и стал медленно подсыпать корм.
И рыбки со всех углов приплыли к плавающему кругу,
в который падали крупицы корма.
Ребята все сидели на диване. И молчали. Зимородок
приблизился к ним и снова исчез. Он был неуловим. Он
уходил из-под пуль. Он поднимался из земли. Он не
давался смерти. Но он не был бессмертным.
А доктор Стройло кормил рыбок. И вдруг он сказал:
— Все, что люди сделали на войне, может быльем
порасти. Все зависит от вас. Забвение — это ржавчина
памяти. Она разъедает самое дорогое. Нужны новые си-
лы, чтобы бороться с забвением. И еще я хотел вам ска-
зать, товарищи следопыты: ищите в себе человека. Если
найдете в себе хорошего, справедливого человека, жить
будете интересно, с пользой.
— Доктор Стройло,— вдруг спросила Зоя Загородько,
опустив глаза,— Доктор Стройло, кто вас обидел?
326
— Меня? Обидел? Ба!—Доктор выкатил глаза на
смуглую девочку.— Меня никто не обидел. Жизнью я не
обижен. Друзья от меня не отвернулись. Людям я еще
нужен. А если встречаются на дороге камни или колдо-
бины, так на то она и дорога... Знаете что, давайте-ка я
вас угощу яичницей. Я здорово умею ее жарить.
— Спасибо,— отозвались трое.— Мы не хотим.
— Не рассуждать!—весело прикрикнул доктор, и
сразу у него в руках появилась огромная сковородка и
в глазах зажглись теплые точки.
Не каждого молодого можно представить себе стари-
ком, но еще труднее увидеть в старике молодого. Но ко-
гда доктор Стройло взялся за дело, нежданные гости
увидели его таким, каким он был двадцать лет назад и
тридцать лет назад. Каким остался навсегда...
*
14
Каникулы подходили к концу. В зеленом разливе
листвы уже появились первые вестники осени — желтые
листья. Дни стали короче. Звезды — крупнее. Вода в реке
потемнела.
А трое следопытов все искали Зимородка. Они появля-
лись в домах у людей, давно сменивших оружие на мо-
лотки, кисти, бухгалтерские счеты или на постукиваю-
щую палочку пенсионера. Они заставляли бывших
воинов вернуться в прошлое и в этом прошлом, на зарос-
ших бурьяном тронах, искать следы Зимородка.
Но эти следы не привели красных следопытов ни к
живому, ни к мертвому: живой неожиданно оказывался
мертвым, мертвый становился живым. И нельзя было
поставить точку. Марат и его друзья спешили к Зимород-
ку, как спешат в бою на помощь другу. Он был нужен
им, а они были нужны ему. Они отвоевали его у забвения,
собирали по крупицам развеянную по свету жизнь, и гор-
дый образ бойца в штатском пиджаке с оторванной
пуговицей все отчетливее и ярче возникал перед ними.
Но он был недоступен.
В резерве у ребят оставался единственный день, когда
па братской могиле в деревне Жуковке соберутся бывшие
партизаны. Ребята ждали этого дня и боялись его.
Услышат ли они свист иволги?
327
...Тетка Алевтина встретила их, как старых знакомых:
— Здравствуйте, странники! Может быть, молочка
попьете с дороги?
Не хотелось им молока.
— Спасибо, мы сыты,— за всех ответил Марат.— Не
приезжали партизаны?
— Приехали. С вечера человек пять. И с первым
поездом трое.
— А Зимородок?
— Какой он из себя, ваш Зимородок?
Марат посмотрел на товарищей, но откуда им было
знать, как выглядел молоденький партизан спустя два-
дцать пять лет...
Они знали, как он выглядел тогда:
— В помятом пиджачке, застегнутом на две пуго-
вицы. Нос торчит бугорком. Маленький, острый, похожий
на клюв... На лице шрам. Умеет свистеть иволгой.
— Где им свистеть!—вздохнула тетка Алевтина.—
Они все старые, седые.
— Может быть, и он стал старым?—сказала Зоя За^
городько.
— Все стареют. Никто не остается молодым. Сколько
лет-то прошло!—Тетка Алевтина снова вздохнула и пока-
чала головой.— Вы идите к могиле. Может быть, повезет
вам с вашим Зимородком... Мне с моим Ваняткой нико-
гда уже не повезет...
...Они шли по раннему лесу, и ноги их до колен были
в росе. Пронзительный радостный холодок утра пока-
лывал плечи и разливался по телу зарядом- бодрости.
Трое следопытов пересекали вырубки, перескакивали
через ручей, ступали по мягкому мху. Они шли по земле,
в глубине которой лежали осколки снарядов, пули, каски,
стволы пулеметов — ржавые, увядшие плоды войны. Род-
ная земля все видела, все знала, она хранила тяжелую
правду о каждом, кто был на войне. И как у матери нет
безымянных сыновей, так и земля знала имя каждого
бойца, упавшего к ней на грудь.
Ребята незаметно прибавляли шагу—им не терпелось
встретить человека, заполнившего до краев их жизнь.
Ради него они опускались в глубины прошлого, как водо-
лазы спускаются в пучину моря.
В лесу было тихо и безлюдно. От земли шел пар, и
лес был не зеленым, а синим. Листья, трава, мох — все
328
было синим. И фигуры бегущих ребят тоже казались си-
ними в дымке рождающегося утра.
У партизанской могилы стояли бывшие бойцы отряда.
Ребятам, выходящим из леса, они были хорошо видны
со спины. Непокрытые головы — седые, стриженые и с
чудом сохранившимися вихрами. Брезентовые куртки с
капюшонами, откинутыми за плечи, городские пиджаки.
Брюки, промокшие от росы до самых икр. Их было не-
много— восемь человек. Словно большой, сильный отряд
понес в бою новые потери, и уцелело только восемь.
Ребята медленно приближались к могиле. И когда
наконец поравнялись с застывшими в молчании людьми,
то стали жадно разглядывать их лица — есть ли у кого-
нибудь на щеке шрам.
— Вам что тут надо, молодцы?—спросил плечистый
в брезентовой куртке.
Глаза у него были красные от недавно просохших
слез.
— Мы ищем Зимородка,— за всех ответил Марат.
Он произнес это далекое военное имя, как произносят
пароль, требуя условного ответа.
— Улетел Зимородок,— вздохнул старый боец.
— Не пришел?—спросил Марат.
— С того света не приходят,— сказал стоявший ря-
дом худой старик с палкой.
Остальные бойцы отряда молча прислушивались к
разговору.
— Он жив! — твердо сказал Марат.
— Грамотный? Читать умеешь? Тогда читай!—Пле-
чистый в брезентовой куртке кивнул на обелиск.
— Его нет в этой могиле,— стоял на своем мальчик.
— Знаю. В этой могиле нет. Но не одна же могила
на свете.
— Ив другой могиле его нет,— убежденно сказала Зоя
Загородько.
— Ишь как вы легко возвращаете из мертвых!—
отозвался кто-то из стоявших поодаль.
— Мы трудно воскрешаем,— вставил слово Василь.
— Может быть, вы помните его имя и фамилию?—
Марат пристально посмотрел в глаза старого бойца в
брезентовой куртке.
Тот потер лоб и сказал:
329
— То ли его звали Серегой, то ли фамилия его была
Серегин.
И тут стоявший в стороне, с усами, которые топор-
щились сердитой светлой щетиной, сказал:
— Его звали Сергей Иванович Серегин.
Старые бойцы закивали головами, а ребята удивленно
переглянулись.
— Так это наш учитель зоологии!—вырвалось у Зои
Загородько.— Сергей Иванович Серегин.
— Может быть, однофамилец?—сказал плечистый в
брезентовой куртке.
Даже боевые друзья не верили в живого Зимородка,
хотя никто из них не видел его мертвым. Но Марат не
сдавался. Его глаза наполнились тревожной радостью.
И образ бесстрашного Зимородка стал в его сознании
упрямо сливаться с чудаковатым, заросшим бородой
учителем зоологии. Его искали по свету, а он был рядом.
Он шел на верную смерть ради жизни людей, а ребята
играли с ним в «кукушку». Может быть, Зимородок при-
кинулся учителем, чтобы быть неуловимым, а борода
нужна ему, чтобы скрыть шрам?’’
— Это правда, что его звали Сергей Иванович Сере-
гин?— переспросил Марат.
— Наш начальник штаба никогда не ошибается,—
сказал старик с палкой.
Сам же начальник штаба молчал, словно уточнял в
памяти события далеких лет. И все вдруг притихли, что-
бы не мешать работать его памяти. И он вспомнил:
— За взрыв моста Зимородок был представлен к
ордену.— Начальник штаба говорил сухо и отрывисто,
словно по бумаге читал реляцию.— И был награжден...
посмертно.
— А он, выходит, жив,— сказал кто-то из старых бой-
цов.
И все маленькое, оставшееся в живых войско пове-
селело.
15
Где же учитель зоологии? Бродит по лесам? Спит в
шалаше? Плывет в плоскодонке извилистыми протока-
ми? Варит на костре ушицу? И зарос бородой, как мед-
ведь? Разве его найдешь в эту пору?
330
Но дайте срок. Он сам придет через несколько дней.
Надо только дотянуть до первого сентября. Дверь в класс
распахнется: «Здравствуйте, люди-человеки! Начнем, по-
жалуй!»
Й тогда Марат встанет и скажет: «Здравствуйте, Зи-
мородок. Можете просвистеть иволгой?»
Он очень удивится. Уставится на Марата сквозь за-
дымленные стекла очков. И просвистит. Не побоится ни
директора, ни инспектора. Ответит на старый военный
пароль. Бесстрашный Зимородок, награжденный по-
смертно. Но оставшийся в живых.
Но ждать до первого сентября ребятам было не под
силу. Слишком долго и упорно искали они Зимородка,
чтобы ждать, зная, что он рядом. Сергей Иванович жил
при школе. Ребята отправились к нему.
Постучались. Дверь открыл завхоз.
— Здравствуйте. Мы к Сергею Ивановичу.
— К бородатому? Его нет.
Ребята тревожно переглянулись.
— Он уехал с месяц назад.
— Как — уехал?—вырвалось у Зои Загородько.
— Собрал вещи и уехал.— Завхоз пожал плечами,—
Меня тогда не было. Приезжаю — комната пустая.
Он толкнул крайнюю дверь. В комнате стояли кровать,
стол, две табуретки, шкаф. Никаких вещей в ней не было.
Только на полке стояли книги.
— Он вернется?—спросил Марат.
— Не знаю... Он с директором что-то не ладил. Пого-
варивали, что на Крайнем Севере не хватает учителей.
В случае чего, книги мы ему вышлем. Да вы не рас-
страивайтесь. Не вернется — пришлют другого. Без учи-
теля не останетесь.
— Нам не надо другого!—крикнул Василь, и его
верхняя губа недовольно поднялась домиком.
— Не кричи!—строго сказал завхоз.— Я отвечаю
только за порядок.
— Так нет порядка,— сказал Марат.— Какой же по-
рядок— человек уезжает, и никто не знает, вернется он
или нет!
— Грамотный, а не знаешь, что такое порядок!—
Завхоз нахмурился, и на его лбу образовались три вол-
нистые складки.— Порядок — когда чисто, не течет кры-
ша, работает канализация, весь инвентарь в наличии.
331
— А если человека нет в наличии?—не выдержала
Зоя Загородько.
— Идите к директору,— сказал завхоз, выпроважи-
вая непрошеных гостей.
— Улетел Зимородок,— сказала Зоя.
Марат молчал. Он смотрел куда-то вдаль. Он был
занят своими мыслями.
Утром первого сентября Марат и Зоя Загородько стоя-
ли на мосту и, опираясь локтями на перила, смотрели,
как от ветра морщится гладь реки. По небу плыли
барашки облаков, похожие на белые купола парашютов.
Их несло куда-то вдаль, и было незаметно, в каком месте
они окончат полет и бесшумно лягут в траву.
Друзья ждали Василя.
— Ты мог бы прыгнуть с парашютом?—спросила
девочка Марата.
— Не знаю,— ответил он.
— Смог бы, я знаю. И с тобой вместе я тоже бы
смогла.
— Выдумываешь,— усмехнулся Марат.
— Нет. Ищу человека. В себе. И в тебе тоже.
— Зачем же во мне?
Зоя Загородько помедлила с ответом, потом сказала:
— Ив Василе.
— Если вернется Зимородок,— сказал Марат,— мы
будем здорово жить. Но он может не вернуться.
Марат смотрел в воду, а Зоя Загородько со стороны
посматривала на него и видела в друге какого-то нового
человека, похожего на учителя зоологии.
В это время на мосту появился Василь.
Прозвенел звонок, а ребята галдели, спорили, стучали
крышками парт.
Только трое друзей сидели на своих местах и не
отрывали глаз от двери. Никто из ребят не был посвящен
в их тайну. Никто не мог догадаться, что сейчас происхо-
дит у них на душе.
Прозвенел второй звонок. Класс стал стихать. Ребята
расселись по местам. А дверь все не открывалась. Не
появлялся человек с массивной головой, в задымленных
332
очках, с буйной растительностью на лине, которая при-
крывала след вражеского штыка.
Не прилетел Зимородок.
— Он не придет,— тихо сказал Марат своим друзьям.
Встал. Хлопнул крышкой парты и подошел к доске.
Ребята с веселым любопытством уставились на Ма-
рата.
— Расскажи про глухую кукушку!—крикнул кто-то
с задней парты.
Марат поморщился, но ничего не ответил. Потом он
сказал:
— Ребята, Сергей Иванович уехал. Теперь я хочу
вам рассказать о нем.
Класс весело загудел. Кто-то тоненьким голоском
крикнул:
— Ку-ку!
— Я хочу рассказать вам о бесстрашном герое, кото-
рого в партизанском отряде называли Зимородком. Зимо-
родок и Сергей Иванович — одно лицо.
Умолкли голоса. Перестали скрипеть парты. В классе
установилась тишина. Все смотрели на Марата.
— Когда нужно было взорвать мост, он полетел в
тыл врага. А сам до этого никогда не прыгал с парашю-
том. Даже не знал, как надо дергать...
Марат рассказывал и не заметил, как дверь бесшумно
отворилась и на пороге появился Сергей Иванович, обож-
женный солнцем, всклокоченный, в брезентовом плаще с
капюшоном, с рюкзаком за спиной. Он стоял в дверях и
сжимал в руке серенькую кепку. И никто не заметил, что
он пришел. Все слушали Марата.
— Сергей Иванович добровольно пошел на расстрел,
чтобы спасти людей. И его расстреляли.
В классе послышался приглушенный гул.
— Но он остался жив.
Класс облегченно вздохнул.
— И он умел свистеть иволгой.
И в это мгновение послышался тонкий, переливчатый
свист. Ребята повернулись и увидели Зимородка. И класс
тихо встал.
— Здравствуйте, люди-человеки,— сказал учитель
глуховатым голосом и закрыл за собой дверь.— Я немно-
го опоздал и не успел умыться с дороги... Что же вы
молчите?
ззз
Учитель огляделся и почувствовал ту знакомую не-
ловкость, которая охватила его много лет назад, в парти-
занской школе. И он снова засвистел иволгой.
Директор школы, проходя по коридору, услышал
свист. Он остановился и недовольно потер лоб.
— Этого еще не хватает! Он свистит на уроке!
Но свист тут же оборвался. И директор, вздохнув,
зашагал дальше.
Неподалеку от Нового моста по реке плыло странное
суденышко, сбитое из неровных бревен. На нем была
мачта и парус. Парус был не клиновидным, а круглым.
Видно, его потрепала буря, потому что на полотнище
выделялись цветные заплаты. Ветер наполнял его упру-
гой силой, и он, выгнувшись куполом, увлекал за собой
суденышко и его команду. Они плыли по синей тяжелой
волне.
Так маленькие мальчишки со станции Река нашли
применение старому военному парашюту, и он зажил
новой жизнью. Мальчики не знали, чей это парашют и
как он очутился в лесу. Они были еще малы и не задумы-
вались над случайными находками.
Но придет час, и они услышат о Зимородке.
НЕПОСЛУШНЫЙ
МАЛЬЧИК ИКАР
1
Если вы ушибете коленку или разобьете локоть, по-
мните, что на свете есть замечательное средство от уши-
бов и ран — арника. Мажьте арникой разбитые колени
и локти — чудодейственная мазь мгновенно затянет все
раны. Арника—древнее средство. Падая с мельничного
крыла, приходя в себя после стычки с трактирщиками,
Дон-Кихот доставал темную склянку и, сетуя на люд-
скую несправедливость, густо смазывал арникой синя-
ки, царапины, ссадины.
334
Микоша лежал на горячей гальке и морщился от
боли. Сердце, как кулак, било изнутри в грудь. Плечи
поднимались и опускались. Все тело было исцарапано
и ободрано, словно побывало в когтях тигра,
Тощий, чумазый, покрытый несмываемой коркой за-
гара и грязи, Микоша походил на пещерного жителя,
который спит на охапке сухой травы и не знает о суще-
ствовании подушек и белых простыней. Подстриженные
под нулевой номер, его волосы были колючими, как
наждачная бумага, а на лице выделялись неестественно
большие глаза. Не глаза, а глазищи. Глазенапы!
Микоша повернулся на бок и застонал...
Все произошло неожиданно и обидно. В зарослях
дроков, на высоком откосе, он встретил девчонку с ро-
зовым безбровым лицом, с широко расставленными гла-
зами и круглым ртом. Девчонка была похожа на пе-
чальную рыбу-солнце. Микоша рассмеялся, а его глаза
бесцеремонно разглядывали незнакомку.
— Ты откуда такая? — басом спросил он: голос у
него был густой и низкий.
— Я из Колодулихи,— ответила девчонка, и лицо ее
сильнее порозовело.— А ты?
— Из дупла!—выпалил Микоша и кивнул на боль-
шое дерево, обгоревшее от попадания молнии.
Микоша насмешливо смотрел на девчонку из Коло-
дулихи.
— Знаешь, какой у меня палец? — спросил он и вы-
ставил вперед грязный палец с обкусанным ногтем.
— Какой? — простодушно поинтересовалась дев-
чонка.
— Железный. Как гвоздь. Не веришь?
С этими словами Микоша ткнул девчонку под ло-
жечку. Девчонка согнулась. Он сорвал у нее с головы
пилотку — белую с черной стрелой — и бросился бе-
жать. Девчонка побежала за ним.
— Отдай пилотку!
Но где ей было догнать верткого, пружинистого Ми-
кошу, который ловко прыгал с камня на камень, хва-
тался руками за ветки и стремительно спускался к мо-
рю. Желтые цв^гы дроков мелькали перед лицом и за-
девали за щеки. Прибойный шум моря гудел в ушах.
И вдруг Микоша оступился. Потерял равновесие, со-
рвался, И полетел вниз со склона, обдираясь о сучья,
325
колючки, о каменистую шершавую землю... Теперь он
лежал на гальке, тонкий и вытянутый, как ящерица. Те-
ло горело...
Мажьте арникой разбитые локти и колени — чудо-
действенная мазь мгновенно затянет все раны... Но где
раздобыть древнюю спасительную мазь на пустынном
берегу? Море с треском перекатывало камушки. Оно
дышало слабой прохладой. Иногда длинная волна до-
ползала до Микоши, мочила ему ноги.
Неожиданно по гальке скользнула тень, и чей-то
голос спросил:
— Ты... жив?
Микоша поднял голову и увидел круглолицую дев-
чонку.
— Я думала, ты поломал ноги,— спокойно сказала
она.
Микоша вскочил на ноги.
— У тебя крепкие кости,— заметила жительница
Колодулихи.
Микоша крикнул:
— Уходи отсюда!
Девчонка не двинулась с места.
Микоше стало еще обиднее, что он сорвался с отко-
са, что перед ним стоит девчонка со смешным лицом,
что она издевается над его костями. Он почувствовал,
что сейчас заплачет, и, чтобы спастись от позора, ски-
нул рваную рубаху и, не оглядываясь, бросился в море.
И сразу вода потушила боль, заврачевала раны. Ми-
коша плыл, забираясь на гребни волн и плавно скаты-
ваясь с них. Потом он устал плыть, повернул к берегу и.
чуть не захлебнулся от неожиданности: в нескольких
метрах от него, из воды, выглядывала широколицая ры-
ба-солнце.
Микоша выплюнул горькую воду и пробасил:
— Чего тебе надо?
— Я устала,— тихо произнесла рыба-солнце.— Не
отплывай от меня далеко.
Девчонка дышала с трудом, и капли морской воды
блестели на ее бесцветных ресницах. Микоша ничего не
ответил и саженками поплыл к берегу, желая показать,
что он зол и ему безразлично, что произойдет с девчон-
кой. Но временами он все же оглядывался. Волны под-
нимали и опускали розовое безбровое лицо. Девчонка
336
неумело выбрасывала руки вперед. До самого берега
опа ни разу не пожаловалась, не попросила о помощи.
Зато, выйдя из воды, сразу опустилась на гальку и
долго глотала воздух круглым ртом, как выброшенная
на берег рыба.
Потом она отдышалась и сказала:
— У нас в Колодулихе нет моря. Речка у нас есть.
Неглубокая.
Микоша сидел в мокрых трусах и ждал, когда она
уйдет. Но девчонка никуда не собиралась уходить.
— У меня есть йод.— Она кивнула на санитарную
сумку.
Микоша стал сверлить ее глазами.
— Врешь?
— У меня с собой аптечка...
Действительно, на гальке рядом с платьем лежала
небольшая брезентовая сумка с красным крестом.
— Мажь! — скомандовал Микоша.
Девчонка поднялась с гальки. Достала пузырек с
йодом. И принялась за дело. Она проводила бурой ват-
кой по ранам. Микоша сжимал кулаки и терпел.
— Я бы заревела,— призналась девчонка, когда на
руках и па плечах Микоши появились бурые пятна и
резко запахло йодом.
— Мажь!
Микоша чувствовал себя так, будто снова сорвался
с откоса и снова ободрался до крови. Он морщился и
сердито смотрел на девчонку. Ее розовое лицо ничего
не выражало. Оно было смешным.
— Терпишь?
Микоша скрипнул зубами.
— Я тебе еще коленку помажу... Ты местный?
Микоша молчал.
— А я из Сибири приехала в лагерь... Меня зовут
Шура, Шуренция... Я здесь скучаю... по Гале.
— Кто эта Галя?
— Корова.
— Корова? — Микоша уставился на девчонку.
— Корова. Она ходит за мной, как собака. Все по
нимает.
— Бодается?
— Нет, смирная. Хорошая корова.
JO Багульник 337
Микоша умолк. Он пытался представить себе, что у
него тоже есть корова, по которой он скучает.
— Если бы у меня была корова,— пробасил он,— я
бы играл с ней в корриду.
— А без коровы нельзя играть в корриду?
— Лучше с быком... Я бы сделал красную мулетту...
Что ты глаза вылупила? Знаешь, что такое тореадор?
— У нас в Колодулихе нет тореадоров,— призналась
девчонка.
— Красная мулетта,— продолжал Микоша,— для то-
го, чтобы раздразнить быка. Бык не любит красного.
— Точно, не любит,— подтвердила Шуренция.
— Бык бросается на мулетту, а тореадор делает шаг
в сторону.
Микоша поднял рубашку и выставил ее вперед на
вытянутых руках, как это делают тореадоры:
— Беги на рубашку!
Шуренция побежала к мальчику.
Микоша ловко отскочил в сторону. Девочка пробе-
жала мимо и упала. Но тут же поднялась на ноги. На
розовое лицо налипли гречневые крупинки песчинок.
— Бык может поднять на рога,— сказала Шурен-
ция, стирая с лица песчинки.— У нас бык одного пасту-
ха поднял. Три ребра сломал.
— Когда бык разъярится,— Микоша сверлил глаза-
ми девчонку,— тореадор берет в руки шпагу и идет на-
встречу.
— Зачем?
— Чтобы нанести решающий удар.
Шуренция непонимающе посмотрела на Микошу:
— Что он, мясник?
Микоша презрительно свистнул.
— Мне надо идти,— сказала Шуренция.— Наш раз-
ведотряд в конце виноградника, у сухого дуба.
Девочка быстро натянула платье. Надела на голову
белую пилотку с черной ломаной стрелой, подхватила
санитарную сумку и скрылась в зарослях дроков.
Микоша крикнул ей вслед:
— Хочешь, подарю тебе марку с быком?
Но она не услышала его голоса, потому что низко
над землей раздался оглушительный гул, и, размахивая
лопастями, как у ветряной мельницы, над кромкой моря
пролетел вертолет. Его тень скользнула по берегу, и
338
воздух на мгновение стал плотным. Микоша побежал за
тенью. Вертолет развернулся и ушел в сторону вино-
градника.
Микоша натянул на горящее тело рваную рубаху и
пошел вдоль берега. Он отыскал родничок, который
булькал в расщелине скал и стекал в море. Микоша на-
клонился и стал пить, ловя холодную струю губами. Во-
да текла по подбородку и захлестывала нос, а «пещер-
ный житель» все не мог оторваться от струи. Она пахла
талым снегом и, может быть, начиналась на другом кон-
це света, где рыбаки не умеют плавать, потому что даже
летом вода в море ледяная... Там сейчас не заходит
солнце, над тундрой висят тучи комаров, а к концу ле-
та поспеет морошка... Микоша перестал пить, опустил в
поток руку и стал перебирать пальцами, словно хотел
поймать рыбу... печальную рыбу-солнце.
И тут его окликнул мальчишка со слипшимися во-
лосами:
— Эй, ты! Не видел, куда пошла девчонка... такая
круглолицая...
Парень тяжело дышал и все время подтягивал
штаны.
— У нас тут военная игра, а она пропала... ее ищут...
Микоша встал и опустил в поток босую ногу.
— Если она не найдется... ей нагорит,— сказал па-
рень и вытер лицо черной пилоткой с белой стрелой.
— Можешь поднять этот камень? — спросил Мико-
ша и поставил ногу на большой круглобокий камень, на
котором тут же отпечаталась его мокрая ступня.
Парень взялся за камень. Но поднять его не смог.
— Слабак! — сказал Микоша.— Подтяни штаны.
Парень послушно подтянул штаны.
— Она пошла в конец виноградника, к сухому дубу.
— К сухому дубу... я так и знал,— буркнул парень
и, на ходу подтягивая штаны, побежал в гору.
Микоша опять наклонился к роднику. Пить ему не
хотелось. Он опустил в ледяную воду маленький облу-
пившийся нос. Наверное, пахнущая талым снегом струя
текла по темной подземной жиле через всю страну на
юг, чтобы передать Микоше привет от родных краев.
2
Напрасно считают, что друзья должны быть одно-
годками. Можно дружить с человеком, который вдвое
старше тебя. Дело не в возрасте. Иногда старики бы-
вают молодыми, а молодые — стариками.
Микоша дружил с Павлом. С тем самым Павлом,
который только что пролетел над берегом на гремящем
вертолете. Вертолет рассыпал на виноградники удобре-
ния, поливал зеленую лозу ядохимикатами, а когда уда-
ряли заморозки, окутывал побеги густым теплым ды-
мом. Он работал в колхозе, как трактор, только пере-
двигался не по земле, а по небу.
Павел слегка прихрамывал, и на руках у него были
темные шрамы. Еще недавно он был военным летчи-
ком, летал на сверхзвуковых истребителях-перехватчи-
ках. Он готовился в отряд космонавтов. Но потерпел
аварию. Разбился. Еле выжил. И был по всем прави-
лам комиссован — «уволен из вооруженных сил по со-
стоянию здоровья».
— Был боевым летчиком, стал колхозником,— по-
смеивался над собой Павел и тут же добавлял: — Но я
еще слетаю в космос.
«Черта с два ты слетаешь на переломанных ногах,—
думали про него люди.— Новые ноги не поставишь».
«Поставлю!» — думал про себя Павел.
Он бегал, плавал, прыгал и к исходу дня падал на
койку. Ночью Павел постанывал от боли. Но утром
начинал все сначала. Он был приземистый, коротконо-
гий и короткорукий. Ходил вразвалочку — хождение по
земле было для него чем-то неестественным.
Один Микоша верил, что Павел добьется своего. Он
дружил с Павлом.
Когда Микоша, весь ободранный, в бурых пятнах
йода, появился на вертолетной площадке, навстречу ему
катилось колесо, сделанное из двух огромных обручей.
Внутри колеса стоял Павел. Его руки и ноги преврати-
лись в крепкие спицы, а голова шла кругом.
— Эге-ге! — крикнул Микоша.
Колесо остановилось. Павел стоял вверх ногами.
— Поставь меня на ноги! — сказал он.
Микоша сделал полоборота. Павел шагнул на
землю.
340
— Э-э, брат, да ты на кого похож? Подрался?
Микоша покачал головой:
— Сорвался.
Павел прищурил глаза и с расстановкой произнес:
— Если вы ушибете коленку или разобьете локоть,
помните, что на свете есть замечательное средство от
ушибов и ран — арника...
И Микоша тут же подхватил:
— ...Мажьте арникой разбитые локти и колени —
чудодейственная мазь мгновенно затянет все раны.
Павел быстро полез в кабину вертолета и через ми-
нуту вернулся с темной склянкой. Микоша стянул с себя
рубаху, и Павел осторожно, чтобы не причинить боль,
стал смазывать раны друга целебной мазью.
Согретая солнцем мазь стекала с плеч на ключицы
и на лопатки.
Микоша морщился, а Павел приговаривал:
— До свадьбы заживет!
И сочувственно улыбался.
Когда Микоша на липкое тело надел рубашку, Па-
вел спросил:
— Полетим бомбить черепашку?
Микоша мотнул головой.
— Забирайся в кабину!
Кабина была нагрета солнцем, и первое время в ней
было трудно дышать. Но когда заработал двигатель и
огромные мельничные крылья-лопасти с грохотом за-
вертелись над вздрагивающим телом вертолета, сразу
стало прохладней. Машина сделала плавный прыжок, и
ее стремительно потянуло ввысь. Жутковатая легкость
хлынула к Микоше. Он сразу забыл про ранки, про ро-
зоволицую рыбу-солнце. А внизу уже строчка за строч-
кой проплывали ровные шпалеры виноградника.
— Добавить обороты! Ручку на себя! — вслух скоман-
довал Микоша.
В грохоте двигателя Павел не услышал голоса сво-
его маленького друга, однако обороты добавил и маши-
ну поднял еще на один воздушный этаж, потому что
всегда так делал перед разворотом над краем вино-
градника. И тут Микоша снова взглянул на землю и
увидел большую группу ребят в черных пилотках с бе-
лыми стрелами. Они шли, окружив кольцом четыре
341
белые пилотки. Странное предчувствие овладело Мико-
шей. Он потянул Павла за рукав и показал ему на ре-
бят. Павел принял сигнал и, развернувшись, низко про-
шел над зеленой лозой. И Микошины глаза — всевидя-
щие глазенапы — увидели девчонку с лицом, похожим
на печальную рыбу-солнце... Он услышал приглушенный
звук холодного родника, услышал голос парня со слип-
шимися волосами: «У нас тут военная игра, а она про-
пала... ее ищут...» Парень вытирал лицо черной пилот-
кой, а у Шуренции была белая пилотка. И он, Микоша,
сказал: «Она пошла в конец виноградника, к сухому
дубу». И этим «сухим дубом» он выдал ее врагам.
Когда вертолет сделал еще один круг, Микоша уви-
дел, как Шуренцию запирают в сарай. И ставят часово-
го в черной пилотке с белой ломаной стрелой...
А вертолет летал взад-вперед над зелеными шпале-
рами, и за ним, сверкая на солнце, тянулся капельный
веер ядовитой жидкости, которая уничтожала зеленого
вредителя — черепашку.
Разведотряд белых пилоток был утром этого дня за-
брошен в тыл противника и обосновался в конце вино-
градника, у сухого дуба. Трое ребят и Шуренция долж-
ны были обнаружить главные силы противника — чер-
ные пилотки — и сообщить об их продвижении.
Полный, мешковатый Степа, с маленькими колючи-
ми глазами, залег в кустах, остальные разведчики дви-
нулись в разных направлениях. Командир разведотря-
да — крепкий лобастый парень Азаренок — направился
к поселку. Белый, не успевший загореть Толя, с очками,
висящими на груди, как полевой бинокль, двинулся в
ущелье. Шуренции было приказано пробраться к морю.
Когда она вернулась, все были уже на месте. Никто
противника не обнаружил. И было решено передохнуть
и двинуться в горы — на седло.
— Может быть, перекусим? — предложил Степа.
— Рано,— сказал Азаренок.
Степа поворчал, но настаивать не стал. Ребята ле-
жали в траве под кустами.
— У нас в Колодулихе не растет виноградная лоза
и в сельпо виноград не привозят,— задумчиво сказала
Шуренция.— Зато у нас трава сочная, а здесь сухая и
колючая. Корова есть не станет.
342
В это время кусты вокруг зашевелились, ожили. И че-
тырех разведчиков окружило человек двадцать ребят в
черных пилотках,
Микоша относился к той странной породе людей,
которые лезут в окно, хотя никто не запирает от них
двери. Они пробираются сквозь колючие заросли, купа-
ются между скал и под проливным дождем выходят из
дома.
Таких людей недолюбливают. Их пытаются переде-
лать— сделать нормальными. Напрасно! Они так заме-
шаны самой природой, ничего тут не поделаешь. Дед
называл Микошу «пещерным жителем». Дед не любил
Микошу. Он терпел его ради Марии — Микошиной
мамы.
Утром за дедом приходила машина. Шофер Коло-
мийцев, худой, тщедушный, в старой фуражке военного
образца, ходил вокруг машины и ждал. Иногда к Ко-
ломийцеву выбегал Алик — Микошин двоюродный
брат. И каждый раз Коломийцев спрашивал Алика:
— Кто у нас бог, царь и воинский начальник?
И Алик отвечал:
— Деда!
— Правильно!—говорил Коломийцев и щурился —
улыбался.
Потом появлялся дед — высокий, грузный, бритого-
ловый. Три складки на прямом затылке. Нижняя губа
недовольно оттянута. Коломийцев подносил руку к ко-
зырьку и спрашивал:
— В правление?
Дед не отвечал. Он чмокал Алика в щеку и говорил:
— Беги к бабке.
Алик растирал ладонью поцелуй деда и шел домой.
Машина уезжала.
К трем часам дед приезжал обедать.
На этот раз он застал Микошу в плачевном виде —
ободранного и побитого.
— Что это за чучело? — сердито спросил дед.
Микоша промолчал.
— Кто тебя разукрасил?
— Сам,— под нос буркнул Микоша.
— Оставь его, дед,— вмешалась тихая бабушка,—
на нем и так живого места нет.
343
— Пещерный житель! Вроде этого вертолетчика
Павла!
— Он скоро уедет,— сказал Микоша.— Его скоро
вызовут в отряд космонавтов. Он полетит...
— Он у меня скоро в трактористы полетит,— пере-
бил внука дед.— На днях чуть вертолет не разбил... За-
грузил его камнями...
— Он грузоподъемность выжимал.
— «Грузоподъемность»! Его голова столько не сто-
ит, сколько вертолет! Что ты на меня уставился?.. Ешь!
— Не хочу есть.
— Ешь без разговоров!
Микоше и в самом деле не хотелось есть. Плечи, ру-
ки, ноги охватила зудящая боль. Чудодейственная мазь
арника не оказывала мгновенного действия. Но сильнее
этой боли Микошу мучило сознание того, что он сказал
парню со слипшимися волосами про сухой дуб — выдал
«врагам» Шуренцию и ее друзей. То, что «враг» был не
настоящий и что все это произошло в военной игре, а не
в бою не умаляло Микошиной вины перед Шуренцией
и перед самим собою.
— Ты что-то бледный,— сказала бабушка,— пойди
приляг.
— Хорошо,— согласился Микоша и встал из-за
стола.
Но ложиться он не стал, а вышел на улицу и заша-
гал в сторону виноградника...
В пустом темном сарае пахло сырой глиной и сухи
ми листьями. Свет почти не проникал сюда, но зато и
плотный, южный жар оставался за воротами, и в сарае
удерживалась легкая прохлада. Пленные разведчики
сидели на полу, прислонясь к стене. Азаренок насви-
стывал песенку. Степа дремал. Шуренция смотрела на
тонкий солнечный луч, в котором спирально кружились
пылинки, делая пучок света похожим на вращающееся
сверло.
Толя обследовал сарай. Он спрыгнул откуда-то с
верхней балки и сказал:
— С крышей ничего не получится. Крыша шифер-
ная, крепкая. Придется делать подкоп.
— Откуда они узнали про сухой дуб? — сам себя
спросил Азаренок.
344
— Болтун — находка для шпиона,— тонким голос-
ком произнес толстый Степа.
— Какой болтун? — спросил Толя.
— Не знаю,— ответил Степа, и в сарае установи-
лась гулкая, напряженная тишина.
— Я болтун,— неожиданно сказала Шуренция,— я
сказала Микоше про дуб.
Ребята молчали. И Шуренция, чтобы нарушить эту
гнетущую тишину, продолжала рассказывать:
— Он сорвался со скалы... Я думала — убился на-
смерть... Но у него крепкие кости...
И снова тишина. И по-прежнему никого не интере-
сует Микоша и его кости. Или рассказать им про кор-
риду?
В это время ворота сарая распахнулись, неожидан-
ный, бьющий в глаза свет заставил всех зажмуриться,
и густая волна перегретого на солнце воздуха хлынула
в хранилище прохлады.
— Пленники, обедать!
На пороге стояли двое ребят в черных пилотках с
белыми ломаными стрелами. Один держал дымящуюся
кастрюлю с кашей, другой — хлеб, миски, ложки.
— Хорошо,—отозвался Степа.
— Ничего хорошего,— перебил его Азаренок.— Уби-
райтесь со своей кашей. Разведотряд объявляет голо-
довку!
— А каша хорошая, с маслом,— простодушно ска-
зал тот, что держал теплую кастрюлю.
— Мы вам кашу оставляем,— рассудительно сказал
другой.— Хотите — ешьте, хотите — голодайте. Наше де-
ло маленькое.
Ворота закрылись. Снова стало темно и прохладно.
Только теперь к запаху глины и сухих листьев приба-
вился новый, ласковый и манящий, запах горячей каши.
Через некоторое время в темноте послышался тихий
стук ложки и почавкивапне.
— Степа!
— Ага!
— Что ты делаешь?
— Ем кашу. Хотите? Тут много.
И снова застучала ложка.
— В морду бы тебе дать! — сказал Азаренок.
А ложка все стучала.
3
Микоша сидел на камне, упершись подбородком в
поджатое колено. Он смотрел на горизонт и ждал, ко-
гда стемнеет. Он решил во что бы то ни стало освобо-
дить из плена Шуренцию и ее друзей. Теперь девчонка
из далекой непонятной Колодулихи уже не казалась
ему смешной. И ее широкое розовое лицо возникало в
его памяти не смешным, а печальным. Он смотрел на
накатывающие волны и ждал, что это лицо покажется
в волнах. И капли морской воды будут блестеть в угол-
ках рта.
В это время со стороны моря донесся ритмичный,
приглушенный стук двигателя, и из-за мыса показался
буксир под военно-морским флагом. За ним, покачива-
ясь на волнах, шло странное судно — без надстроек, без
мачт, без вооружения. Его корпус был окрашен ядови-
то-красным суриком. Местами на раскаленном борту
чернел след огня.
Микоша узнал корабль. Это был бывший эсминец
«Бдительный», который в дни войны ходил на Констан-
цу и дрался под Севастополем, а теперь был превращен
в корабль-цель. Обгоревший, пробитый снарядами ко-
рабль напоминал Микоше о его боли. Сейчас корабль
уплывал в ночной бой — в суровую военную игру, в ко-
торую играют взрослые и от которой содрогается море.
В этой игре корабль-цель заменяет врага. Вернется ли
он из этого боя?
Корабль плыл медленно и спокойно, и в его облике
были неустрашимость, достоинство и готовность при-
нять на себя удар. Микоша провожал его глазами и
впервые испытывал не жалость, а новое чувство, напол-
нявшее его силой и решимостью.
Микоша оторвал глаза от корабля-цели и оглянулся.
На скалистом берегу, высоко над морем, на белом коне
застыл темнобородый всадник в морской фуражке, на-
двинутой на глаза. Это лесничий Иван Васильевич, быв-
ший командор эсминца «Бдительный», провожал свой
корабль в ночной бой.
В темноте шпалеры виноградника кажутся застыв-
шими волнами. И на широких листьях дрожит лунная
дорожка, Микоша шел через виноградник. Он подныри-
346
вал под шпалеры, шуршащие листья задевали плечи,
проводили по лицу влажными тонкими ладонями.
Худая верткая фигура мальчика то появлялась на
лунной дорожке, то сливалась с густой листвой и дела-
лась невидимой. Он как бы уходил под воду и снова
всплывал, и глаза его светились лунным светом — в
каждом зрачке маленькая луна. Микоша спешил на вы-
ручку печальной рыбе-солнцу.
Когда Микоша очутился перед сараем, где был за-
перт разведотряд, часовой сидел, прислонясь к бревен-
чатой стене, уронив голову на плечо. Пилотка сползла
на ухо. Он спал с полуоткрытым ртом, слегка посапы-
вая.
Микоша замер перед воротами. Прислушался. По-
том сделал несколько бесшумных пружинистых шагов
и очутился рядом с часовым. Скрипнул тяжелый засов,
тихо запели петли. Часовой вздохнул во сне и снова за-
сопел. Микоша зашел в темный сарай.
Никто не откликнулся.
— Шуренция!
Неожиданно лицо девочки выплыло из темноты. Оно
было совсем близко, и широко расставленные глаза смо-
трели на него в упор. Микоша растерялся и сказал не-
впопад:
— Я принес тебе марку с быком.
Никакой марки он не принес!.. Шуренция молчала.
— Скорей уходи в горы, пока часовой спит!
— Не нужна мне твоя марка,— сказала девочка.
— Я не виноват... я думал, он ваш... Он мне голову
заморочил... Пошли, я провожу тебя в горы.
Девочка ничего не ответила. Ее лицо растворилось
в темноте. Послышался шорох. Сдержанные голоса. По-
том из сарая выбежал Азаренок. За ним Толя. Неуклю-
жий заспанный Степа чуть не споткнулся о часового.
— Бегите в кусты,— скомандовал Микоша.
Он закрыл ворота сарая. Степа и Шуренция ждали
его, а Толя с Азаренком уже скрылись в непроглядных
зарослях дроков. Часовой вздохнул во тьме и откинул
голову к стене.
Откуда-то с моря донесся глубокий раскат артилле-
рийского выстрела.
...Они медленно пробирались по узкой горной тропе,
опасливо делая каждый шаг. Впереди — Микоша, за
347
ним — Шуренция. Чуть поодаль, сопя и отдуваясь, шар-
кал ногами толстый Степа, съевший котелок каши, ко-
гда товарищи объявили голодовку. Он, может быть,
вообще не пошел бы на горное седло, но страх остаться
одному ночью заставил его идти, поторапливал.
Азаренок и Толя пропали. Они, видимо, шли по дру-
гой тропе или же дожидались рассвета в надежном ук-
рытии.
Глубокая тьма обступила разведчиков. Она скрыла
от ребят горы, кусты, кремнистую тропу, и они шли на
ощупь, прислушиваясь к шагам и дыханию впереди иду-
щего. Труднее всех было Микоше. Перед ним никого не
было. Он мог оступиться и упасть с отвесного склона.
Микоша весь сжался. Его глаза болели от напряжения,
а нога неторопливо нащупывала дорогу. Вероятно, Шу-
ренция и этот бурдюк Степа думают, что ему легко, по-
тому что он «пещерный житель» и ему знаком каждый
изгиб дороги, каждая выбоинка. Ничего подобного! Ми-
коша с радостью бы остановился, закрыл глаза и сел
на придорожный камень. Но он шел. Он боялся, что Шу-
ренция заговорит о сухом дубе.
Иногда, споткнувшись о ребристый корень, Степа
тихо бормотал:
— Ничего себе игра! Ничего себе игра...
— Не хнычь! — тихо прикрикивала на него Шурен-
ция.
Рядом скрипели древесные лягушки. Шуршали кры-
льями ночные птицы. А издалека, со стороны моря,
доносились глухие орудийные раскаты и короткие
вспышки обжигали край неба. Там шла своя военная
игра. Микоша остановился, прислушался и через плечо
сказал Шуренции:
— Артиллерия бьет по «Бдительному»... Иван Ва-
сильевич не спит.
— Почему бьет? — спросила Шуренция, в темноте
натыкаясь на Микошино плечо.
— Так надо,— ответил Микоша и зашагал дальше.
Они шли бесконечно долго. Делали привал и шли
дальше. На каждом привале Степа заваливался на бок,
засыпал, и его приходилось расталкивать...
Постепенно темнота ослабла. В ней появились неви-
димые трещинки, в которые просачивался мутный мо-
лочный свет. Кромка неба посветлела. И постепенно, как
348
на фотографической бумаге, положенной в проявитель,
стали вырисовываться горы, дорога, фигуры идущих ре-
бят.
— Я сбил себе ноги,— тихо пожаловался Степа.—
Я посижу.
— Пусть сидит,— пробасил Микоша.— Мы будем
возвращаться по этой дороге.
— Сиди! — скомандовала Шуренция.
Степа сел и стал разуваться. Его узкие глазки вос-
паленно блестели.
— Ничего себе игра! — бормотал он вслед уходящим
ребятам.— Но азбуку Морзе я знаю назубок...
Микоша и Шуренция двинулись дальше. Теперь до-
рога была хорошо видна, и впереди на фоне синеющего
неба четко вырисовывался плавный изгиб седла. Ми-
коша оглянулся на Шуренцию. Лицо его спутницы оста-
валось по-прежнему розовым, и комочки бровей прида-
вали ему непроходящее смешное выражение.
Наконец они очутились на седле. И сразу перед их
глазами открылась ослепительная панорама гор — се-
рых, зеленых, бурых, заросших лесом и по-зимнему по-
крытых снегом. По левую руку горы золотились в лучах
солнца, словно были политы желтоватым подсолнечным
маслом. В пространстве между вершинами плыли сизые
прозрачные облака.
— Ой! — воскликнула Шуренция и сжала губы узел-
ком.— У нас в Колодулихе нет таких... гор.
Но Микоше не передавался ее восторг. Он внима-
тельно всматривался в склоны гор, его глаза что-то ис-
кали. Наконец он повернулся к Шуренции и схватил ее
за руку:
— Смотри!
— Где смотри?!
— Прямо... на склон зеленой горы. Видишь, идут.
По узкой, едва заметной тропе медленно двигалась
нескончаемая цепочка ребят в черных пилотках с белой
стрелой. Каждый «боец», как щитом, прикрывался зе-
леной веткой. Это делало «противника» почти невиди-
мым. Но никакая маскировка не могла скрыть от Ми-
коши идущую колонну. Он был рожден с глазами раз-
ведчика.
Микоша криво улыбнулся и, глядя на идущих ребят,
тихо сказал:
349
— Держите свои веточки. Идите с заткнутыми рта-
ми. Ваша песенка спета.
И он сделал несколько отчаянных прыжков, забыв
про усталость и ноющие ранки. Наверное, так после
удачной охоты плясали настоящие жители пещер.
Шуренция не выражала никакой радости. Ее лицо
вытянулось и стало печальным. Печальная рыба-солнце!
— Все пропало! — сказала девочка.— Мы не успеем
сообщить в штаб о «противнике». Они придут раньше,
Микоша почесал одной ногой другую и возразил сво-
ей спутнице:
— Ничего не пропало! Надо совершить прыжок че-
рез горы.
— Как ты прыгнешь через горы? Это сказки.
— Это не сказки, это — Павел. Мой друг... Он летает
на вертолете.
Глаза девочки загорелись и погасли.
— Он не полетит.
— Если я попрошу, полетит. Вот увидишь — поле-
тит. Бежим вниз!
Шуренция стояла в нерешительности. В ее памяти
почему-то возникла первая встреча с Микошей: «Зна-
ешь, какой у меня палец?» — «Какой?» — «Железный.
Как гвоздь. Не веришь?» Но то был совсем другой Ми-
коша, не тот, что стоит рядом с ней на седле и, криво
улыбаясь, говорит черным пилоткам: «Держите свои
веточки. Идите с заткнутыми ртами». Она подняла на
Микошу глаза и сказала:
— Бежим.
И они побежали. Вернее, побрели вниз. Они не мог-
ли бежать. Не было сил. Ноги скользили по крутой тро-
пе, покрытой ржавыми пятнами мха. Хотелось пить,
есть, спать, и от всего этого в голове стояло какое-то
мутное гудение.
Вскоре они миновали Степу. Он спокойно спал в
траве неподалеку от тропки, свернувшись калачиком,
вернее — большим пышным калачом. Ребята решили его
не будить.
— А если с вертолетом ничего не выйдет? — спро-
сила Шуренция.
— Выйдет!
Качаясь от усталости, ребята спустились в вино-
градную долину.
350
...В это время к сараю, где поначалу был заключен
взятый в плен разведотряд, подошло несколько ребят в
черных пилотках. Часовой стоял, прислонясь к стене, и
грелся на солнце.
— Как дела? — спросил черноволосый с нашивками
на рукаве.
— Все в порядке. Сидят тихо,— доложил часовой.
— Поели?
— Ложки не звенят. Голодают.
— Ты бы их уговорил.
— Сами уговаривайте! Я часовой. Мое дело охра-
нять.
— А если они умрут с голоду? — спросил черново-
лосый.— Открывай сарай!
Часовой открыл сарай. Ребята зашли внутрь, а ча-
совой остался на солнце.
Через некоторое время ребята вернулись.
— Где пленные?
— В сарае.
— Нет их в сарае.
— Поищите... Может быть, спрятались...
Ребята молча смотрели на часового. Тогда тот сам
зашел в сарай и, убедившись, что никого нет, растерян-
но сказал:
— Наверное, подкоп сделали. Я за подкоп не отве-
чаю...
— Спал?! — в упор спросил черноволосый.
— Не спал... Я вообще плохо сплю... ворочаюсь.
— Доворочался! Сдай пилотку и автомат, тебя бу-
дет судить военный трибунал.
С этими словами черноволосый затолкал часового в
сарай и закрыл ворота на засов.
— Ребят, а ребят!.. Я больше не буду... спать... — до-
несся из сарая жалобный голос часового.
4
Вертолет стоял на взлетной площадке. Он походил
на большого железного кузнечика, который способен со-
вершить прыжок через горы. Сверкающая на солнце
застекленная кабина напоминала выпуклый глаз насе-
комого.
351
В этот ранний час Павла на месте не оказалось.
— Жди меня здесь! — скомандовал Микоша своей
спутнице.— Я пойду за Павлом.
Шуренция кивнула головой. Ей мучительно захоте-
лось сесть, но она удержалась, потому что чувствовала:
стоит опуститься на землю, и глаза сами закроются.
Лучше стоять из последних сил. Девочка стала рассма-
тривать вертолет. Он был тяжелым и неповоротливым.
Краска выгорела, облупилась, на пыльном борту за-
стыли потеки масла. И вообще вблизи вертолет был
похож на кабину простого самосвала, что с утра до ве-
чера колесит по кривым горным дорогам, а в кузове с
грохотом перекатываются камни. Трудно поверить, что
тяжелая земная машина может совершить прыжок че-
рез горы... Только большие лопасти подъемного винта
свидетельствовали, что вертолет имеет дело с небом, с
ветром.
«У нас в Колодулихе нет вертолетов, и нет тореадо-
ров, и в сельпо не торгуют арникой — мазью Дон-Кихо-
та»,— с грустью подумала Шуренция и провела рукой
по прохладной металлической обшивке тем привычным
деревенским движением, каким гладят коров, похлопы-
вают лошадей.
Микоша долго не появлялся. И Шуренции начало
казаться, что он вообще не придет. Может быть, его
запер дома дед, а может быть, отвлекло новое приклю-
чение... Она ходила между бочками с ядохимикатами, и
на нее зловеще скалились красные черепа. Начинало
припекать солнце. С моря тянул сверлящий сквозня-
чок.
Наконец появился Микоша. Пот струился по его ли-
цу и пятнами проступал на рубахе. Глаза горели ка-
ким-то отчаянным огнем. Он подошел к Шуренции и ти-
хо произнес:
— Уехал в райцентр... Павел...
— Все пропало? — спросила печальная рыба-солнце.
«Сейчас она вспомнит о сухом дубе»,— подумал Ми-
коша и отвернулся к морю. Оно было не синим и не зе-
леным, а серебристо-молочным. И по его парной глади,
глухо постукивая двигателем, плыл морской буксир. Тот
самый буксир, который вчера на исходе дня вел за со-
бой в море корабль без мачт, без надстроек, без ору-
352
жия, без ([лага. Сейчас буксир шел один, и за ним ши-
роким клином расходились спокойные волны.
Микоша сразу понял, что произошло: бывший эсми-
нец «Бдительный» отстоял этой ночью свою последнюю
огненную вахту и погрузился в глубины моря, пробитый
снарядами. Или ракетами. Мальчик оглянулся в надеж-
де вдеть бородатого моряка на белом коне. Но Ива-
на Г снльевича не было, Может быть, командор «Бди-
тельного» не вернулся этой ночью вместе со своим кораб-
лем? И они оба погибли в той мужественной военной
игре, в которую играют взрослые люди, солдаты и мо-
ряки, для того чтобы суметь принять настоящий бой?
Микоша почувствовал себя причастным к этой грозной
игре. Сн тоже должен сделать что-то настоящее, отча-
янное, чтобы чувствовать себя человеком!
— Погиб «Бдительный»! — сказал Микоша.— Зато-
нул.
— Мы проиграли? — одними губами спросила рыба-
солнце.
— Мы сделаем прыжок... сами,— отрубил Микоша.
Буксир все стучал двигателем, и за ним расходился
молочный клин. Микоша отвернулся от моря и зашагал
к вертолету. Он подставил к машине небольшую лесен-
ку, сваренную из железных прутьев, и скомандовал Шу-
ренции:
— Лезь за мной!
— Что ты хочешь делать? — спросила девочка, и
бугорки-брови смешно поднялись над глазами.
— Лезь, тебе говорят! Или боишься?!
— Нет, не боюсь,— отозвалась рыба-солнце и полез-
ла за Микошей.
В кабине было прохладно. Раннее солнце не успело
накалить алюминиевые стенки, а сквозь прозрачный
плексиглас в лицо били прямые слепящие лучи. Микоша
занял место пилота. Шуренция уселась рядом, аккурат-
но поправив платье. Микоша выкатил на нее глазищи и
прикрикнул:
— Закрой дверцу... на запор!
Где-то в глубине души он надеялся, что Шуренция
не выдержит и в последнюю минуту скажет: «Не надо!»
Но Шуренция молчала, и Микоше некуда было отсту-
пать. Он двигался вперед, борясь со страхом, И чтобы
13 Багульник
353
не дать страху окрепнуть, разлиться по телу, сломить
его дерзкий замысел, Микоша крикнул:
— Зашприцевать смесь!..
Он сам себе подавал команды и тут же выпол-
нял их.
— Открыть вентиль!
Лопасти дрогнули. Медленно повернулись.
— Включить магнето!
И сразу послышался грохот, тело верт: чета ожило,
затряслось, и огромные лопасти горизонт^ льного вин-
та начали брать карусельный разбег. Михоеш покосил-
ся на Шуренцию: она была бледной, и губы ее завя-
зались узелком, изо всех сил удерживали слова «не
надо».
Нет. Микошины глазенапы не только замечали все,
что попадало в их поле зрения, они обладали точной
памятью. Теперь эта память, сохранившая все движе-
ния Павла в полете, оказалась как нельзя более кстати.
Памятливые глаза Микоши командовали — цепкие руки
выполняли команду.
Микоша тронул сектор газа. Рев усилился. Вертолет
сильно вздрогнул, подпрыгнул и оторвался от земли.
Шуренцию качнуло, она уткнулась лбом в плечо Мико-
ши. Он грубо оттолкнул ее. А лопасти уже загребали
воздух. Гудящий водоворот затягивал, увлекал Микошу
и Шуренцию в бездонную глубину голубого простран-
ства.
Радостный озноб охватил Микошу. У него застучали
зубы. Это был не страх, а какое-то непонятное, ошелом-
ляющее чувство, которое холодило грудь, учащало уда-
ры сердца, наполняло сознанием своей силы. Вокруг все
грохотало, жило летучей неземной жизнью. Земля про-
валивалась. Горы качались.
Эге-ге, «пещерный житель», как тебе удалось пре-
вратиться в птицу? Страх, радость, смятение, восторг
заглушили боль, поднимали его все выше и выше. А вни-
зу, наверное, желтела полоска пляжа с маленькими фи-
гурками загорающих и разноцветными кружками зон-
тов. И мальчишки бегут за тенью вертолета. И никому
из них не приходит в голову, что машину ведет не на-
стоящий пилот, а «пещерный житель», Микоша.
А толстый Степа спит в колючей горной траве. По-
том проснется и подумает: где бы раздобыть каши? Это
354
его главная мысль. Может быть, с годами у него появит-
ся другая главная мысль. А может быть, на всю жизнь
останется эта...
Микоша вцепился в ручку, и вертолет стало сносить
в сторону. Он превратился в качели, которые отлетают
в широкой качке, но никак не могут достичь верхней
точки. И этой качке нет конца. Микошу вдавило в си-
денье. Потом сиденье стало уходить из-под него. Неви-
димая воздушная воронка затягивала бескрылую лета-
тельную машину. Вертолет резко стал снижаться. Отку-
да-то вынырнул маленький пригорок... Появилась сухая,
ржавая трава... Потом удар...
Когда Микоша с трудом открыл глаза, его оглушил
грохот. Лопасти проносились над головой. Это были не
простые взмахи, а грозные удары, которые вот-вот об-
рушатся на голову. Микоша втянул голову в плечи, по-
косился на Шуренцию — и глаза его расширились от
удивления: его спутница спала. Да, да, печальная ры-
ба-солнце спала, откинув голову, открыв круглый рот.
Во сне лицо девочки было розовым и спокойным. Мико-
ша почувствовал боль и зажмурился. Его уже не носи-
ло из стороны в сторону, не вдавливало в сиденье и не
бросало вверх. Вертолет стоял на земле. Но от рева дви-
гателя и от работы лопастей мальчику казалось, что он
продолжает лететь.
Он летит над морем — и под ним движутся ровные
волны с белым бортиком пены. Местами вода была про-
зрачна и виднелись камни, лежащие на дне. Все под
водой трепетало, колебалось, было живым. И коралло-
рое тело затонувшего эсминца тоже жило таинственной
подводной жизнью...
И Шуренция спит. Покинула его в трудную минуту.
Но ничего, ничего. Мотор ревет. Лопасти ходят кару-
селью. Скоро будут горы. Он перемахнет через горы — и
война будет выиграна.
Потом Микоше почудилось, что он уже перемахнул
через горы, но никак не может посадить машину. И она
висит в воздухе. И будет так висеть без конца, потому
что Микоша забыл, за какой рычаг надо дернуть. Ми-
коше стало нестерпимо больно от сознания, что он те-
перь всегда будет висеть в воздухе и не сможет сооб-
щить белым пилоткам, что черные идут в обход по гор-
ной тропе.
355
И тут Микоша услышал голос друга. Почувствовал
его руку на плече. Павел пришел на помощь в самый
трудный момент, когда Микоша висел между небом и
землей. Микоша спросил:
— Что делать?
Павел ответил:
— Ты все уже сделал. Покалечил машину. /Мне те-
перь голову снимут.
И сразу двигатель заглох. И наступила тишина —
сильная, как удар.
5
Вот уже второй день Микоша сидит под домашним
арестом. В маленькой комнате на втором этаже. Тол-
стый кривой ствол дикого винограда добрался с земли
до окна и окружил его широкими листьями, сквозь ко*
торые солнце кажется зеленым. Из окна видна синяя
полоска моря. Виден двор с бочкой для дождевой воды.
Бабушка, как грибы, собирает Алькины игрушки, раз-
бросанные по двору. Все замерло, погрузилось в без-
жизненную тишину. Только в ушах шумит, словно все
шумы набились в Микошину голову и от них болит го-
лова. И нет арники. И ничего не известно: как военная
игра, как Шуренция, как Павел... Бабушка шепнула
Микоше, что Павла, наверное, отдадут под суд за ха-
латность. Микошиной же судьбой дед распорядился так:
«Подлечить и отправить к матери на Север. Хватит с
него «пещерного жителя».
В комнате жарко. Никакого движения воздуха. Ми-
коша лежит в трусах на кровати. Он как пантера — в
бурых пятнах йода. Болит голова. И колючее шерстяное
одеяло жжет, как раскаленная галька. Хотя бы при-
плыла печальная рыба-солнце. Хотя бы спросила:
«Ты... жив? Я думала, ты поломал ноги... У тебя
крепкие кости...»
Микоша сел бы на кровать и сказал бы:
«Плохи мои дела, Шуренция. Бык поднял меня на
рога. Все получается несправедливо. Эсминец «Бди-
тельный» на войне обстреливал занятую фашистами
Констанцу, а вчера ночью он пошел ко дну от наших
снарядов и ракет... Ты думаешь, мне было легко под-
356
пять вертолет? Я знаешь как перетрусил! Но мы с то-
бой летели. Правда, не долетели. Дед хочет отдать Пав-
ла под суд, а он честный и отважный человек. И в от-
ряде космонавтов ждут, когда у него перестанет болеть
левая нога... По-дедовски, все это справедливо, а по-
моему— несправедливо. Чья справедливость справед-
ливее? И сколько вообще существует справедливостей,
если у каждого своя и нет одной общей?»
Не приплывает рыба-солнце. Не отзывается... Не
может приплыть или забыла о Микоше? Дело сделано...
Микоша лежит на спине с широко открытыми гла-
зами. Не глаза, а глазищи. Глазенапы. И ребра про-
ступают наружу, можно пересчитать. Иван Васильевич
говорит по-моряцки:
«У тебя все шпангоуты видны».
Шпангоутами называются ребра лодки. А он так на-
зывает Микошины ребра. Микоша весь высушенный и
прокопченный. И во рту у него сухо. И сердце высохло.
И в глазах нет ни слезинки — высохли. А Микоше хо-
чется плакать. Немного. Чуть-чуть. Для самого себя.
И ему хочется, чтобы рядом очутилась мама. Этот ку-
сочек сердца, который хочет, чтобы рядом очутилась
мама, не высох. Бьется где-то под шпангоутами. И Ми-
коша вспоминает мамин голос, мамины шаги, мамины
любимые словечки. И сразу слепящее солнце, зеленое
море, горы становятся чужими и холодными. И хочется,
чтобы под ногами скрипел синий снег, и сверкали круп-
ные звезды, и возникали праздничные всполохи поляр-
ного сияния. Дома легче дышать, дома легче жить...
Ночью Микоша проснулся от свиста. Он поднялся.
Поморгал глазами. Сполз с кровати и подошел к окну.
Внизу, в лунном свете, он увидел невысокую кряжистую
фигуру колхозного летчика.
— Спустись вниз,— тихо скомандовал Павел.
Микоша молчал.
— Спустись,— повторил летчик.— Или боишься?
Микоша сел на подоконник, свесил ноги наружу и,
цепко ухватясь за ствол дикого винограда, спустился со
второго этажа на землю.
— Жив? — спросил Павел.
— Жив,— пробасил Микоша.
— Хорошо, что жив. Мог бы уже летать по царству
небесному... Да подойди поближе.
357
— Ругаться будешь?
— Поздно тебя ругать... Дело сделано. Меня под
суд отдают. Пусть судят. Разберемся... На, держи.—
С этими словами летчик протянул Микоше небольшую
темную склянку.
Микоша узнал эту склянку — в ней была арника.
— Спасибо.
— Идем пройдемся.
— Идем,— согласился Микоша.
Они — большой и малый — перемахнули через не-
высокий каменный забор и вошли в таинственные, осве-
щенные луной коридоры незрелого .виноградника. На
вьющейся лозе поблескивали гроздья мелкого, незрело-
го винограда, словно какая-то большая рыба наметала
здесь икру.
Павел шел впереди, а Микоша поспевал за ним. Они
шли долго, не говоря ни слова. Неожиданно Павел ос-
тановился:
— Слушай, что я тебе расскажу. В древние време-
на жил парень. Звали его Икар... Жил он на берегу
моря, среди виноградников... Словом, в таких местах,
как наши. И отец сделал ему крылья. Из птичьих перь-
ев, льняных ниток и воска. Хорошие получились кры-
лья. Продел Икар руки в петли, что были сделаны вну-
три каждого крыла, взмахнул руками и полетел. Но
перед этим отец дал ему наставление: не летать низко
над морем, чтобы перья не намокли, и не подниматься
высоко к солнцу, чтобы воск не растопился. Икар поле-
тел. Здорово он летал, доложу я тебе! Над землей, над
морем. Его тянуло в вышину. Человека, если он стоя-
щий, всегда тянет в вышину. И не заметил Икар, как
приблизился к солнцу. Ему бы вспомнить наставления
отца, а он — все выше, все выше, все выше! Не мог
остановиться. А солнце жгло нестерпимо, воск стал
мягким, растопился. Перья выпали. И крыльев не ста-
ло. Мальчик Икар рухнул в море... Вот расскажи эту
историю твоему деду, он скажет: погиб от непослуша-
ния. Все верно. Все правильно. Но я тебе скажу дру-
гое: Икар погиб от смелого сердца... Послушание... Да
если бы люди жили одним послушанием, то всю жизнь
ползали бы по земле, а они летают!.. Между прочим,
именем Икара назвали море... Я к чему это рассказы-
ваю? Ты, парень, где-то правильный. Мне бы шею те-
358
бе намылить за то, что ты меня под монастырь подвел,
а я тебе сказки рассказываю. Но ты должен понять,
что к чему, должен сам разобраться. С послушными
людьми легко живется. Но бывает такой момент, ко-
гда до зарезу нужны непослушные, идущие наперекор
всему, и люди называют их именами моря.
Они долго стояли в сквозном виноградном коридо-
ре. И луна была такая светлая, что они могли смот-
реть в глаза друг другу и видеть глаза друг друга.
— Ну, прощай, брат! — Павел протянул короткую
сильную руку.— Когда еще встретимся!
— Встретимся,— сказал Микоша и тоже протянул
руку.
И они долго пожимали друг другу руки.
Когда Микоша взялся за ветвь дикого винограда,
чтобы залезть обратно в свою комнату под домашний
арест, Павел ткнул его легонько локтем в бок и ска-
зал:
— А я, брат, уезжаю в Москву. Пришел вызов в
отряд. Вот он! — Павел улыбнулся и похлопал себя по
карману.— Мы еще полетаем!
...Через несколько дней Микоша был выпущен из-
под ареста. Вещи его были собраны. Билет на Север
куплен. И бабушка, пока не было деда, отпустила его
на берег, попрощаться с морем.
Микоша нырнул в виноградник и вынырнул на дру-
гом краю, где начинались заросли дроков и берег кру-
то обрывался к морю. И тут возле дерева, обгоревшего
от попадания молнии, он встретил рыбу-солнце — Шу-
ренцию. Он остановился и долго смотрел на круглое
розовое лицо с широко расставленными глазами, с бу-
горками вместо бровей. Он обрадовался этому лицу, и
оно впервые показалось ему не смешным, а красивым.
Он не знал, что сказать, и поэтому выставил вперед
грязный палец с откусанным ногтем и спросил:
— Знаешь, какой у меня палец?
— Знаю! — отозвалась Шуренция.— Железный. Как
гвоздь!
— Пошли! — скомандовал Микоша.
И медленно побрел по крутой дорожке, ведущей к
морю. И пока он шел, он слышал, как падали мелкие
камешки из-под ног Шуренции и как она дышала ему
в затылок. Дроки отцвели. Листья их стали жесткими.
359
И сладкий медовый запах развеялся. Его сменил ка-
кой-то горьковатый сухой аромат. Так пахнут под-
сыхающие листья табака. И еще пахло морем, кото-
рое внизу дышало прибоем — большой серебряной
жаброй.
И по тому, как ровно падали камешки и как спо-
койно дышала Шуренция, Микоша почувствовал, что с
сухим дубом все покончено. Не существует сухого дуба.
Мальчик распрямился и, посмотрев на Шуренцию,
спросил:
— Купнемся?
— Мне нельзя,— ответила Шуренция и показала ру-
ку, которую до этого времени держала за спиной: рука
была забинтована.
Микоша посмотрел в глаза Шуренции и густым го^
лосом произнес:
— Если вы ушибете коленку или разобьете локоть,
помните, что на свете есть замечательное средство от
ушибов и ран — арника. Принести тебе арники?
— Не надо... уже проходит,— сказала Шуренция.—
А Толя с Азаренком успели добежать до наших. Степа
тоже приплелся.
Микоша кинул камешек в море и сказал:
— Идем, я тебе что-то покажу.
Он зашагал по берегу к скалам, а Шуренция по-
шла за ним. Так они добрались до родника. Холодная
живая вода вздрагивала, поблескивала и издавала
звук, похожий на удары сердца.
— Попьем,— предложил Микоша и наклонился к
дышащей снегом струе.
Шуренция тоже стала пить, неловко ловя губами
струю, а забинтованную руку она держала за спиной.
Они пили из одного родника, пока зубы им не свело
холодом, и пили еще немного. И Микоша понял, что
сухой дуб навсегда выкорчевали.
— Знаешь, откуда течет этот родник? — спросил
он.— С самого Севера, где я живу. Такую воду пьют
белые медведи.
Шуренция задумалась. И сделала еще глоток.
— Белые медведи?
— И олени, и птицы... От талой воды дольше живут.
-- У нас в Колодулихе есть горячие ключи. Они не
застывают даже зимой, и снег тает в них.
360
— Когда вернусь домой,— сказал Микоша,— обяза-
тельно поищу горячий родник, который течет из Коло-
дулихи.
— Обязательно поищи... Ты найдешь.
Родничок бился у их ног, и на соседних камнях
сверкали ртутные капли родниковой воды.
— Ты можешь грести одной рукой? — неожиданно
спросил Микоша.
— А ты поплывешь рядом?
— Поплыву.
Они поднялись и побежали к берегу. И очутились в
море. Вода была светло-зеленая, как солнце, на кото-
рое смотришь сквозь виноградный лист. Лучи дроби-
лись в волнах на множество слепящих зайчиков. Море
слегка покачивало пловцов. И Микоше неожиданно
стало легко оттого, что он не один, что есть Павел и
что по морю плывет рыба-солнце, подняв над волнами
белый плавник.
ГОНЕНИЕ НА РЫЖИХ
Таня стояла в ванной комнате перед зеркалом и
внимательно рассматривала себя, словно видела впер-
вые. Она медленно провела рукой по волосам, косну-
лась пальцами бровей и прижала руку к виску. Она
осталась недовольна встречей с самой собой и тихо
произнесла:
— Я знаю, это потому, что я рыжая.
Ей на память сразу пришел разговор с Ритой, и она
как бы услышала голос подруги:
— Чудачка! Сейчас самое модное — рыжие воло-
сы. У нас в цирке девчонки специально красятся в ры-
жий цвет.
— А из рыжего можно перекраситься?
— Сколько угодно! Только это глупо.
— Пусть глупо. Мне надо.
Над плечами у Тани две короткие косички, стяну-
361
тые резинками от лекарства. Таня освободила одну
косичку от резинки и медленно стала расплетать ее.
Она все еще смотрела на себя и тихо сама себе го-
ворила:
— Не надо дразнить верблюда за то, что у него на
спине горб. Может быть, ты тоже кажешься верблюду
уродом, потому что у тебя нет горба. Он же не драз-
нит тебя. Он молчит, только презрительно выпячивает
нижнюю губу. Выпячивай тоже губу, но не дразни вер-
блюда... У слона длинный нос. Болтается, как бранд-
спойт. Тигр оранжевый с черным, он похож на осу. Бе-
гемот вообще урод, у него в пасти зубы как березовые
полешки... Но, может быть, у слонов считается: чем
длиннее нос, тем прекраснее. А тигр без полосок — все
равно что ты в полоску. А зубы-полешки—это как раз
то, что нужно настоящему бегемоту.
Слова о верблюдах и бегемотах успокаивали ее и
как бы переносили в детство. Неожиданно она увиде-
ла себя девочкой. Маленькой, энергичной, никому не
дающей спуска.
Она увидела дорожки зоологического сада и маль-
чишку, который дразнил зверей. Он ходил от клетки к
клетке и строил рожи, визжал, рычал, кидал камушки.
Таня терпеливо шла за ним. Она злилась на него сра-
зу за всех зверей. Она ждала, когда злости накопится
столько, чтобы можно было отдубасить мальчишку...
Это было давно, в детстве. Мальчишка был толстый.
С челкой до глаз и выпуклыми глазами. За щекой у
него была конфета.
У клетки с тигром маленькая Таня не выдержа-
ла. Она подскочила к мальчишке и вцепилась ему в
челку.
— Отпусти! — кричал мальчишка, дразнивший зве-
рей, и все пытался освободиться от Таниных цепких
рук.— Отпусти!
Таня не отпускала.
•— Проси прощенья! — требовала она.
— У кого просить прощенья? У тебя, что ли?
— Нет, у тигра.
И тут мальчишка вырвался. Он отскочил от Тани и
стал поправлять рубаху. Потом он сморщил нос, выпя-
тил губы и крикнул:
— Рыжая!
362
— Опять дразнишь тигра? — грозно сказала ма-
ленькая Таня.
— Не тигра,— протянул мальчишка.— Тебя.
— Это я — рыжая?
— Ты, ты!
Таня презрительно посмотрела на мальчишку, скор-
чила рожицу и сказала:
— Сам ты рыжий!
Тут уже опешил мальчишка. Он не мог понять, по-
чему он рыжий, если всю жизнь у него над глазами
была густая черная челка. Он даже дотронулся рукой
до своей челки, словно хотел на ощупь определить ее
цвет.
Таня показала ему кулак, повернулась и пошла до-
мой.
Дома она спросила у мамы:
— Мама, я рыжая?
— Рыжая.
— Это очень плохо?
— Чего же плохого? Ничего плохого.
— Нет, это, наверное, плохо,— вздохнула Таня.—
Почему я стала рыжей?
— Ты всегда была рыжей.
— Неужели? — сказала маленькая Таня упавшим го-
лосом и отошла от мамы.— А я думала, что рыжий — тигр.
На другой день дома пропал кусок мяса. Красный,
как пожарная машина. С белой сахарной косточкой.
Будущий суп и будущее жаркое. Оно лежало за ок-
ном. А когда мама принялась за готовку, его не оказа-
лось. Оно исчезло. Лишь небольшая розоватая лужица
напоминала о его существовании.
— Куда девалось мясо?
Мама долго и терпеливо искала пропажу. Загляды-
вала под стол, шарила по полкам. В конце концов ку-
сок говядины приобрел в маминых глазах ценность са-
мородка.
— Куда же девалось мясо? Ты не видела?— спро-
сила она маленькую Таню.
— Ммы,— промычала девочка, не открывая рта.
Маленькая Таня сидела па краю дивана и изо всех
сил сжимала губы, чтобы не проговориться. Она дер-
жала под замком тайну пропавшего мяса. Но ей стало
жаль маму» и она открыла замок:
363
— Я взяла.
— Ты?! — воскликнули одновременно мама и папа.
— Ну да...
— Зачем тебе мясо?
Таня болтала ногой и молчала. А родители расте-
рянно переглядывались и соображали, зачем девочке
понадобился большой кусок сырой говядины. Наконец
папа с опаской сказал:
— Ты съела... его?
У мамы округлились глаза: она представила себе
Таню, рвущую зубами сырое мясо.
— Нет, я не сама.
Мама облегченно вздохнула. Папа спросил:
— Куда ты его дела?
Таня отвернулась и стала смотреть в окно.
— Я никуда не девала... Я накормила... тигра.
— Тигра?!
У папы и мамы стал беспомощный вид.
— Какого тигра? — прошептала мама.
— Бенгальского,— спокойно ответила маленькая
Таня.
— А мы остались без супа,— грустно сказал папа.
— Я могу пять дней не есть супа,— отозвалась де-
вочка.
— И кормить тигров, слонов, бегемотов,— скорого-
воркой подхватил папа.
— Бегемоты мясо не едят. Только тигры,— объяс-
нила маленькая Таня.— Его дразнил мальчишка. Тиг-
ра надо было утешить. Я принесла ему мясо.
— На тарелке?
— Нет, за пазухой.
Таня стояла перед зеркалом и прощалась с собой,
рыжей. Ей казалось, что после того как она намочит
волосы в таинственной жидкости, изменится не только
цвет волос, но и все остальное: уменьшится рост, плечи
станут не такими худыми, брови изогнутся и потемне-
ют. На какое-то мгновение ей стало жалко себя, преж-
ней. Она приблизилась к зеркалу, почти уперлась в не-
го лбом. Потом решительно повернулась и наклонила
голову к тазу. Она намочила голову и принялась тереть
волосы: оттирала от них рыжий цвет, как оттирают
364
ржавчину. Она вообразила, что под рыжим слоем
скрываются соломенные шелковистые волосы.
Струйки воды текли по щекам, по шее, по ключи-
цам. На рубашку летели брызги. Таня чувствовала себя
царевной-лягушкой, которая сбрасывает с себя ненави-
стную зеленую шкурку, чтобы превратиться в девицу-
красавицу.
Неожиданно раздался стук в дверь, и мамин голос
властно сказал:
— Открой!
Таня приподняла голову над тазом. Вода потекла
между лопаток.
Мама стояла в дверях и с отчаянием смотрела на
дочь.
— Что ты наделала?!
— Надоело быть рыжей... А что? — спросила Таня.
— Ты уже не рыжая,— сокрушенно сказала мама,—
Ты — красная.
Таня повернулась к зеркалу. Стекло запотело. Его
как бы заволокло туманом. Таня сделала в тумане
окошко, посмотрела на себя и чуть не вскрикнула. Во-
лосы стали красные, как мех лисы-огневки.
— С такими волосами впору идти в цирк. Работать
клоуном,— сказала мама.
— А Рита сказала, что волосы будут соломенного
цвета...
Мама ничего не ответила. Она открыла кран и су-
нула голову дочери под струю теплой воды. И стала
изо всех сил тереть и мылить голову Тани, чтобы вер-
нуть волосам былой цвет.
— Я несчастная, потому что некрасивая. У меня
большой рот, длинная шея. Совсем нет плечей. А сви-
тер сидит на мне, как на мальчишке. Но самое страш-
ное— что я рыжая. Ненавижу себя за то, что рыжая,—
жаловалась Таня, а мыльная пена затекала ей в рот.
— Глупая ты у меня, Татьяна,— сказала мама, на-
мыливая голову дочери.
Таня умолкла. Ей вдруг стало все равно, что полу-
чится. Рыжие так рыжие. Красные так красные.
На другой день утром Таня шла в школу. Она зна-
ла, что волосы у нее теперь огненно-красные, жесткие
и торчат во все стороны. Они напоминают красный
365
клоунский парик. Но Таня старалась внушить себе, что
все по-старому, в порядке. Она не замечала удивленных
взглядов прохожих. Держалась молодцом.
На Тане куртка. Видавшая виды. Пригодная для
всех случаев жизни. Куртка давно обтерлась и стала
мала. Но Таня не признает ни пальто, ни жакетов. Она
носит куртку. Руки в карманах. Локти прижаты к бо-
кам. Над плечами две маленькие косички, стянутые
резинками от лекарства.
И в это время ей встретился Князев. Он сказал:
— Здравствуй! Что это с тобой?
И засмеялся.
Таня опустила глаза и прибавила шагу. Он не стал
ее догонять, а пожал плечами и пошел сзади. Он ждал,
что Таня оглянется. Но девочка не повернула головы.
Она не оглядывается, но видит его. Длинного, худо-
го, подстриженного под бобрик. Глаза его насмешливо
щурятся. Свободный воротник зеленого свитера не об-
тягивает шею, а располагается вокруг, как кольцо Са-
турна. Одна рука засунута в карман, другая размахи-
вает портфелем. Она видит его, не оглядываясь, не под-
нимая глаз,— плечами, затылком. Видит чернильное
пятно на его руке, пушок на подбородке, неглаженые
брюки, похожие на две трубы.
Нет, у нее на голове не красные волосы, а пламя.
Оно охватило голову и в конце концов сожжет ее всю.
Ей захотелось натянуть куртку на голову. Спрятать под
ней огненные волосы.
И тут она не выдерживает и пускается бежать. Она
перебегает на другую сторону и влетает в двери школы.
Она бежит по лестнице, не различая лиц — лица сли-
лись в сплошную полосу.
Вслед ей летят сердитые слова: «Сумасшедшая!»,
«Взрослая девица!», «Тише ты, как дам!»
Таня вбежала в класс и захлопнула за собой дверь.
Класс пустой. Можно сесть за парту и перевести дух.
И достать зеркальце.
В маленький осколочек не умещается все лицо. Ви-
дишь себя по частям: одни глаза, один рот, один лоб,
одни волосы...
Таня подняла глаза. Князев стоял перед ней и на-
блюдал, как она рассматривает себя в зеркало. Он не
смеялся. Только губы его слегка улыбались,
366
Таня отдернула руку с зеркальцем и встала. Он пе-
реминался с ноги на ногу и 'размахивал портфелем.
Можно было оттолкнуть его и выбежать в дверь. Но
Таня не решилась это сделать. Она отбежала к откры-
тому окну. Он все еще размахивал портфелем. Таня
вскочила на подоконник. Он бросил портфель на парту
и зашагал к окну.
В следующее мгновение Таня исчезла.
Таня подняла глаза и почувствовала, что небо рядом.
Оно нахлынуло влажной голубизной, и девушке по-
казалось, что щеку холодит мягкое прикосновение обла-
ка. От близости неба и плавного движения облаков все
стало легонько покачиваться, плясать, кружиться. Таня
оторвала глаза от неба и сильней прижалась к шерша-
вой кирпичной стене. Стена медленно подавалась впе-
ред, давила на плечи, и Таня вся напряглась, чтобы
удержать падающую стену. Ей захотелось врасти в кир-
пичи плечами, локтями, спиной — тогда стена не смо-
жет столкнуть ее вниз.
Девушка опустила глаза и увидела темный серебри-
стый асфальт. И запрокинутые лица людей. Их было так
много, что они сливались в одну массу, ог которой до-
носилось несмолкаемое гудение. Что они там гудят?
— Надо принести лестницу... Лестницу надо!
— Нет, надо натянуть брезент!
— Тише. Может быть, она сама уйдет.
— Пусть не шевелится!
— Боже мой, она же сорвется!
Таня стояла на карнизе третьего этажа. Под ногами
у нее начиналась пропасть. Но девушка не испытывала
страха. Напротив, она чувствовала себя спасенной, по-
павшей в такое место, где ее уже никто не настигнет.
И, стоя на виду у целой улицы, наслаждалась жуткова-
тым покоем человека, которому удалось укрыться от
преследования.
— Что вы все стоите! Она же сорвется...— звучал
внизу знакомый голос Генриетты Павловны, учительни-
цы русского языка и литературы.
И без того тонкий голос показался Тане еще тоньше,
словно говорила не сама Генриетта Павловна, а ктО-то
передразнивал ее.
Таня стояла на узком карнизе и сильней прижима-
367
лась к кирпичам, как бы хотела оттеснить стену, отвое-
вать у стены еще несколько сантиметров.
Она уже не видела толпу на асфальте. Не слышала,
как внизу кричали:
— Не двигайся! Слышишь, не двигайся!
Но она и не смогла пошевельнуться. Как бы окаме-
нела. Стала кариатидой, поддерживающей крышу.
Тане вдруг показалось, что если она оторвется от
стены, то не упадет, а полетит. Расставит руки, как кры-
лья, и полетит. Куда-нибудь подальше от школы. А.глав-
ное, от него, от Князева. И сразу все прекратится.
Она исчезла так же неожиданно, как и появилась.
— Слушайте, заберите от меня эту дикарку!
Тонкий резкий голос Генриетты Павловны, срыва-
ясь, звучал в кабинете завуча Михаила Ивановича. Ми-
хаил Иванович сидел, скрестив руки и наклонив свою
массивную косматую голову. Казалось, эта голова рас-
тет прямо из плеч и никакой шеи нет. Он смотрел на учи-
тельницу русского языка исподлобья. Глазные яблоки
у него были большие, слегка навыкате. А густые каш-
тановые волосы свалялись и спадали на лоб неровными
космами. Толстыми короткими пальцами он сгонял их
обратно, в общую копну.
— Представляете, если бы она упала? Кто отвечал
бы? Я! А если она завтра прыгнет с моста в реку? — без
умолку говорила Генриетта Павловна.
Она была молода и привлекательна. А рядом с не-
складным бесшеим Михаилом Ивановичем выглядела
просто красавицей. Темные, коротко подстриженные во-
лосы, и большие голубые глаза, и ровные полукруглые
брови. Правда, когда Генриетта Павловна не высыпа-
лась или нервничала, под глазами появлялись тени, то-
же полукруглые. Вместе с бровями они образовывали
круги.
— Заберите от меня эту сумасшедшую!
— Хорошо, хорошо,— примирительно сказал Миха-
ил Иванович, голос его звучал с непроходящей хрипот-
цой,— мы что-нибудь придумаем.
— Придумайте,— сухо сказала Генриетта Павловна.
— И не переживайте так. Все обошлось,— сказал
Михаил Иванович.
Генриетта Павловна молча поднялась и, стуча каблу-
368
ками, направилась к двери. Каблуки у нее высокие и
тонкие, под ними потрескивает паркет.
Таня сидела в маленькой комнате, где хранятся таб-
лицы и чучела. Сидела на краю стола и гладила рукой
лису-огневку. Лиса тянулась к ней узкой мордочкой и
вопросительно смотрела черными пуговками, заменяв-
шими ей глаза. Она как бы утешала Таню: «Зачем грус-
тить? Я тоже рыжая, еще порыжей, чем ты. Ну и что из
этого? Не плачу. Посмотри мне в глаза — ни одной сле-
зинки».
Таня всю жизнь была рыжей, и ее это нимало не тре-
вожило. И если ее дразнили рыжей, то это не выводило
ее из себя. Да, рыжая, а что? Впрочем, дразнили ее дав-
но, а потом все привыкли.
Таня посмотрела на лису и как бы самой себе ска-
зала: «Никогда не видела таких рыжих!»
И сразу вспомнила, как он впервые появился в
классе.
Шел урок русского языка. Генриетта Павловна рас-
сказывала про вводные слова.
В дверь постучали.
— Войдите! — отозвалась учительница.
В класс вошел Михаил Иванович. Он имел привычку
не входить в класс без стука. Михаил Иванович был не
один. Вместе с ним в класс вошел какой-то парень в зе-
леном свитере. Он был худой, высокий, с темным бобри-
ком волос, которые мысом выдавались вперед. В его
независимой походке, в складке между бровей вырисо-
вывался будущий мужчина.
— Извините, Генриетта Павловна,— сказал Михаил
Иванович,— я привел новичка. Князев его фамилия.
Прошу любить и жаловать.
Ребята сразу забыли про вводные слова и уставились
на новичка. А он стоял и ждал, когда ему укажут место.
Генриетта Павловна вскользь взглянула па Князева
и машинально поправила волосы. Потом она обратилась
к Тане:
— Выоник,— она всегда называла Таню по фами-
лии,— Выоник, рядом с тобой место свободно?
— Свободно,— ответила Таня.
— Садись, Князев.— Учительница кивнула на Тани-
ну парту.— Итак, вводными словами называются...
369
Князев не спеша прошел между рядами и сел рядом
с Таней. Некоторое время он сидел прямо и слушал
про вводные слова. Потом он повернул голову и при-
стально посмотрел на Таню.
— Что ты смотришь на меня? — тихо спросила Таня.
— Никогда не видел таких рыжих,— ответил он.
— Посмотри! — с вызовом ответила Таня и вдруг
почувствовала, что краснеет.
Она не находила объяснения, почему краснеет, но
ничего не могла с собой поделать. Из сорока голосов
она сразу узнавала его голос. В топоте ног слышала его
шаги. Она закрывала глаза и затыкала уши. И все рав-
но слышала его голос, видела его прищуренные глаза.
Неожиданно дверь распахнулась. На пороге стоял он.
Он тяжело дышал и стоял молча, не зная, с чего начать.
Таня смотрела в окно, однако сразу почувствовала, что
это он. Почувствовала, но не шелохнулась, как будто ни-
кто не распахнул дверь, никто не пришел.
— Ты плачешь? — спросил он.
— И не думаю.
— Повернись.
— Уходи отсюда.
Лиса выручила ее. Таня незаметно вытерла о мех
слезы. Теперь она действительно не плакала.
— Пойдем,— тихо сказал он.
Она повернулась к нему и спросила:
— Никогда не видел таких рыжих?
Он промолчал.
— Уходи! — крикнула Таня и захлопнула дверь пе-
ред его носом.
Да, да, надо кричать и хлопать дверями. И еще бы
хорошо, как в детстве, оттаскать его за челку. Только
не говорить с ним мирно и спокойно. Не смотреть ему в
глаза. Не думать о нем.
Сосед по квартире, двадцатилетний Павлик, сидел
на кухне и со сковородки ел макароны. Он не всасывал
их со свистом, а резал ножом и аккуратно поддевал на
вилку. Это стоило ему труда и отравляло весь вкус ма-
карон. Но с некоторых пор в присутствии Тани он чув-
ствовал себя скованно и старался быть воспитанным,
галантным и современным.
370
— Хочешь спагетти? — предложил он Тане, когда
она вошла в кухню.
— Нет,— ответила Таня,— не люблю макарон, даже
когда их называют спагетти.
— Ав Италии макароны, как хлеб,— обиженно ска-
зал Павлик и облизал блестящие губы.
Он надулся, словно обиделся за всю Италию. На лбу
у него появилось множество мелких морщинок, а подбо-
родок побелел. Он энергично принялся жевать макаро-
ны. Он так работал челюстями, словно беззвучно произ-
носил обидные слова.
Неожиданно он перестал жевать и сказал:
— Я сегодня иду в концерт. «Карнавал» Шумана.
Он будто хотел подчеркнуть: я иду, а ты не идешь.
— Ты становишься культурным парнем,— примири-
тельно сказала Таня.
Павлик кинул вилку в пустую сковородку и молча
пошел прочь.
Таня села на табуретку и стала ждать, пока закипит
чайник. Ей казалось, что он вообще никогда не закипит,
и она грызла горбушку всухомятку.
В дверях снова появился Павлик. Он все еще поче-
сывал подбородок, но на лбу уже не было морщин. Не
глядя на Таню, он сказал:
— Я тебя хотел позвать на концерт. У меня два би-
лета.
— Спасибо, Павлик,— сказала Таня,— я ничего не
понимаю в музыке.
— Напрасно,— сказал Павлик,— надо расти.
— Я расту без музыки.
— Билеты хорошие. Второй ряд балкона. Мне на
работе дали.
— Павлик, ты по крышам никогда не лазал? — не-
ожиданно спросила Таня.
— Это еще зачем? — пробормотал Павлик.
— А по карнизам домов?
Павлик почувствовал себя оскорбленным. Он почесал
подбородок и пошел прочь. Таня пожала плечами и по-
дошла к окну. Серые облака плыли над крышами. Таня
представила себя стоящей на узкой полоске карниза и
ощутила спиной холодный шершавый кирпич. По телу,
как разряд электричества, прошла дрожь. Тане стало
нестерпимо страшно. Она испугалась с опозданием.
371
«Как это я не сорвалась? Такая невезучая — и не со-
рвалась»,— думала Таня, не отрывая глаз от плывущих
облаков.
— Выоник, если ты еще раз выкинешь такой номер,
я тебе всыплю. Не посмотрю на то, что ты взрослая де-
вица, сниму ремень и всыплю. Что, тебе жизнь не доро-
га? Отвечай. Дорога тебе жизнь?
— Нет, не дорога.
— Правильно, не дорога. Иначе бы не полезла. На
фронте такие девчонки раненых выносили... А знаешь,
почему тебе жизнь не дорога?
— Знаю. Я неудачница.
— Ты коза-дереза. Не знаешь ни что такое жизнь,
ни что такое смерть.
— А вы знаете?
— Я со смертью за руку здоровался.
— Как за руку?
— Меня расстреливали. Что ты глаза вытаращила?
Расстреливали. Нас человек двадцать поставили к стен-
ке... Конечно, никакой стенки не было. Просто вывели
в поле за побег из плена. Ну и расстреляли.
— Так вы же живы!
— Это не я... это уже другой. Того убили и сбросили
в противотанковый ров. Тот был молодой, отчаянный,
веселый. А этот старый. Истекая кровью, вылез ночью
и чудом добрался до своих...
— А я думала, что вы всю жизнь тангенс-котангенс.
— «Думала, думала»... Если бы в один прекрасный
день все бывшие солдаты надели свои выгоревшие гим-
настерки и забинтовали свои старые раны грязными,
ржавыми бинтами, тогда бы вы все кое-что увидели и
кое-что поняли... Тангенс-котангенс...
Таня стояла перед Михаилом Ивановичем и разгля-
дывала его пристально, как будто видела впервые. Они
стояли в пустом коридоре у окна — тонкая девушка с
красными волосами и грузный, нескладный мужчина, у
которого голова растет прямо из плеч. Он дулся на Та-
ню, молчал, но девушка почему-то не испытывала к
нему неприязни. Напротив, она чувствовала доверчивую
тягу к пожилому учителю. Тане показалось, что Михаил
Иванович похож на крупного зубра с косматой гривой,
с выпуклыми глазными яблоками,— на особенного зуб-
372
ра, который грозен с виду, но в жизни никого не обидит.
И ей захотелось коснуться рукой косматой гривы.
— Иди,— сказал Михаил Иванович,— и чтобы я о
тебе больше не слышал.
— Хорошо,— сказала Таня,— не услышите.
Михаил Иванович сверкнул глазами и, перевали-
ваясь с боку на бок, тяжело зашагал по коридору.
«Это не я... Это уже другой. Того убили и сбросили
в противотанковый ров».
В первый раз снег выпал в начале октября. Еще де-
ревья были одеты в листья и трава на газонах не успе-
ла пожелтеть. А с неба валил снег. Большими хлопьями
снег падал в зеленую траву и оседал на зеленых листь-
ях. Получилась полная неразбериха: зима смешалась
с летом. Из этой смеси не могло выйти ничего путного.
Мостовая и тротуары покрылись слякотью, и белые сне-
жинки, достигнув земли, гасли. Первый снег шел на вер-
ную гибель, но не мог остановиться.
Таня ощущала снег на губах, на щеках, на ресницах.
И ей становилось весело. Тогда она запрокинула голову
и оказалась в центре огромной белой воронки, заполнен-
ной стремительно летящими снежинками. Снежинки ле-
тели прямо на нее. Они как бы попадали внутрь и напол-
няли сердце веселым холодком.
Девушку охватила тайная радость. Это новое безы-
мянное чувство наполнило ее и не оставило места для
других чувств. Как сильная, высокая вода, оно подни-
малось, заполняло все уголки Таниной жизни, грозя вый-
ти из берегов.
И в мыслях снова появился Князев. Какое отношение
он имел к этому чувству? Почему оно не могло вспыхи-
вать само по себе, без его участия?
Таня старалась перевести мысль о нем на другие
рельсы. Но стрелка не работала, и с другими рельсами
ничего не выходило. Тогда, думая о нем, Таня стара-
лась вызвать неприязнь и сгустить краски. Но краски
не сгущались. Она испепеляла его, а он возникал из
пепла.
Она скрывала это странное чувство от людей, от
дневного света, от самой себя. Опа хранила его в даль-
них тайниках. Но самым важным было утаить это чув-
ство от него. Это чувство не должно его касаться. Он не
373
должен знать, что оно есть. Не выдать себя дрогнувшим
голосом, взглядом.
Да здравствует белый снег, и не надо смотреть под
ноги. Там уже все погашено и затоптано, веселая мимо-
летная жизнь снежинок кончена. Надо смотреть ввысь,
быть в центре белой воронки. А он пусть идет рядом,
если ему хочется.
Таня подняла глаза и увидела его. Он шел рядом,
щурясь от снега.
Таня ничего не сказала. Она отвела глаза. Но через
несколько шагов ей захотелось снова посмотреть . на
своего спутника. Она опасливо покосилась на бобрик,
побелевший от снега, на складку между бровей, на при-
щуренные глаза. И вдруг кровь прилила к лицу.
Он, конечно, не заметил, как она покраснела. Но она
думала, что он заметил, и покраснела еще сильней.
И тут из-за угла вышла Генриетта Павловна и двину-
лась им навстречу. Она была молода и хороша собой.
И чувствовала, что хороша собой. И всем своим видом
хотела подчеркнуть, что хороша собой.
Поравнявшись с ребятами, учительница чуть накло-
нила голову и подняла полукруглые брови. Она устави-
лась на Таню, и девушка подумала, что эти глаза видят
все насквозь, что они бесцеремонно раскрывают чужие
тайны и от них ничего невозможно скрыть.
— Прогуливаетесь? — спросила учительница, не сво-
дя глаз с Тани.
Таня покраснела. У нее неудобное лицо. На нем от-
четливо написано, о чем Таня думает. С таким лицом
нельзя ничего скрыть. Оно выдает все тайны. Прямо-та-
ки предательское лицо. И вдруг Таня заметила, что гла-
за учительницы смеются. Они смеются и кричат: «Ры-
жая!» Они кричат так, что слышит одна Таня. Кричат
зло и больно. И им нельзя ответить, этим вечно смею-
щимся глазам.
Если ты родился рыжим,— считай, что тебе не повез-
ло. Каким бы ты ни был хорошим человеком, тебе по-
стоянно будут напоминать, что ты рыжий. Каждый
встречный считает своим долгом крикнуть: «Рыжий-бес-
стыжий!» В трамвае тебе будут говорить: «Эй, рыжий,
подвинься!», в театре требовать: «Эй, рыжий, убери го-
лову!» Тебя будут называть рыжим, как будто у тебя
нет другого имени.
374
Сколько времени длится гонение на рыжих? Почему
никто не выступит в защиту рыжих? Настоящие люди
никогда не бывают рыжими. Ведь клоун в цирке, над ко-
торым все смеются, рыжий.
— Ну что ж, прогуливайтесь,— сказала Генриетта
Павловна и пошла дальше. Ее каблучки зазвенели за
Таниной спиной, как подковы топкой лошадки.
Таня посмотрела себе под ноги. Никакого белого сне-
га не было. Черная слякоть поблескивала на тротуаре.
Таня повернулась к своему спутнику и спросила:
— Ты можешь уехать в другой город?
Она всегда ошеломляла своими вопросами. Он
сказал:
— Нет.
— А перейти в другую школу можешь?
— Зачем мне переходить в другую школу?
— Значит... не можешь?
— Нет.
— Ну ладно.
— Да скажи наконец, в чем дело? Чем я тебя оби-
дел? Что я тебе сделал?
Он вспылил. И каждое слово не произносил, а вы-
стреливал. Но Таня как бы не слышала его слов.
— Ладно,— сказала она.— Я пошла. Пока.
И она побежала на другую сторону, как бегают де-
вочки, а не взрослые девицы.
Потом она шла быстрыми шагами, а снежинки гас-
ли у нее в ногах. Таня думала:
«Она красивая, а я рыжая. Все дело в том, что я
рыжая. Иначе бы Генриетта Павловна не смотрела на
меня смеющимися глазами. И вообще все было бы в
порядке».
Дома в коридоре Таня встретилась с Павликом. Опа
хотела уже пройти мимо, но он сказал:
— Подожди... Я был на концерте.
— Очень приятно,— сказала Таня.
Павлик стал чесать подбородок. Потом выпалил:
— Ты не пошла со мной, а я познакомился.
У него, видимо, с детства сохранилась интонация:
у меня есть, а у тебя нет, я познакомился, а ты не по-
знакомилась.
Таня усмехнулась:
375
— С кем же ты познакомился?
— С девушкой... С Ниной.
— Очень приятно,— сказала Таня, словно он сейчас
знакомил ее с Ниной.
— Она красивая.
— Тебе повезло... Но почему ты мне об этом расска-
зываешь?
Павлик замолчал. Таня собралась идти дальше, но
он удержал ее.
— Ты единственный человек, с кем можно погово-
рить,— сказал он,— я тебя уважаю. Я тебе буду расска-
зывать о ней. Хорошо?
— Как хочешь.
— Вообще-то, когда влюбишься, надо писать днев-
ник.
— Это гимназистки писали.
— Александр Блок тоже писал дневник... Но ты зря
не пошла со мной на концерт.
— Я-то тебе зачем? Думай о красивой Нине.
— Я думаю. Но лучше бы на концерт пошла ты.
— Ладно, Павлик, спокойной ночи.
— Спокойной ночи.
Что такое раздвоение личности? Это когда один че-
ловек превращается в двух. Но на этих двух остается
один нос, одна голова, одно сердце. Разбирайся как хо-
чешь. Можно поделить так: одному голову, другому
сердце, а нос может быть общим. Словом, два человека
живут в одном теле, как в коммунальной квартире.
Ни разъехаться, ни разойтись. Потому что на двоих
один нос.
Раздвоение Таниной личности произошло из-за Кня-
зева. Одна Таня ненавидела его, другая — тянулась к не-
му. Он раздвоил Таню, расщепил, как атом.
Одна Таня говорила ему:
«Уходи!»
Другая просила:
«Останься!»
Получалась полная неразбериха.
Если на уроке одна Таня забывалась, другая тут же
поворачивала голову и с тайным любопытством рассмат-
ривала густой бобрик, прищуренные глаза, зеленый
круг Сатурна...
И вот что произошло: одна Таня забылась, другая
376
оглянулась. Генриетта Павловна заметила, что девушка
смотрит не на доску и не слушает объяснений. Некото-
рое время учительница наблюдала за Таней. Потом она
сказала ледяным голосом:
— Выоник, не смотри на Князева.
Она могла бы сказать: «Выоник, слушай урок». Или:
«Выоник, не вертись».
Но она сказала:
«Выоник, не смотри на Князева».
По классу покатился ядовитый смешок. Таня покрас-
нела и посмотрела в глаза учительницы. Глаза смеялись.
Они дразнили Таню, издевались над ней: «Вот я тебя
подловила! Теперь я над тобой покуражусь! Ха! Ха! Ха!»
Тане захотелось вскочить и крикнуть учительнице
что-нибудь обидное. Обозвать франтихой. Сказать, что
она, Генриетта Павловна, влюблена в физика. Но горя-
чий стыд так сковал девушку, что она не могла ни по-
шевельнуться, ни вымолвить ни слова. А смеющиеся гла-
за продолжали проникать во все Танины тайники и сме-
яться над ними.
Таня опустила глаза.
— Вьюник, иди к доске,— сказала Генриетта Пав-
ловна.
Ей было мало того, что Таня опустила глаза, ей
нужно было выставить девушку перед классом, чтобы
все могли разглядеть Таню и смеяться.
Таня заставила себя встать. Она пошла к доске. Она
шла между партами, как сквозь строй. Подошла к доске.
Взяла в руки мелок.
— Пиши,— сказала учительница и стала дикто-
вать:—«Долго не находил я никакой дичи; наконец из
широкого дубового куста, насквозь проросшего полы-
нью, полетел коростель».
Таня сжала, сильнее сжала холодный мелок. Он по-
казался ей гладким крымским камушком. Она поверну-
лась к доске и стала писать: «Генриетта Павловна, вы
злой, холодный человек...»
— Написала? — не оглядываясь, спросила учитель-
ница.
— Написала,— ответила Таня.
Класс замер. Смешок сгорел. Было тихо.
Учительница диктовала дальше:
— «Я ударил: он перевернулся в воздухе и упал».
377
Таня стиснула мел и, вдавливая его в доску, написа-
ла: «Я ненавижу вас».
Мел перестал скрипеть. Учительница решила, что
Таня забыла конец фразы, и повторила:
— «...он перевернулся в воздухе и упал».
Мелок не скрипел. Генриетта Павловна повернулась
к доске и прочла. Ее глаза округлились. На этот раз
они не смеялись.
— Что это значит, Выоник? — глухо спросила учи-
тельница.— Что ты написала?
Таня пожала плечами.
— Возьми портфель и уходи,— выдавила из себя
Генриетта Павловна.
И, не дожидаясь, пока Таня уйдет из класса, стала
торопливо переписывать то, что было написано на доске.
После урока Генриетта Павловна быстро вышла из
класса и застучала каблучками по длинному школьному
коридору. Она спешила в учебную часть. Она распахну-
ла дверь и, подойдя к столу Михаила Ивановича, молча
опустилась на стул.
Михаил Иванович запустил короткие пальцы в сва-
лявшиеся косматые волосы и спросил:
— Выоник?
— Вьюник! — выдохнула Генриетта Павловна.
— Что же?
Вместо ответа учительница достала листок бумаги
и положила его перед завучем. Он машинально полез
за очками, но так и не достал их, прочел без очков: «Ген-
риетта Павловна, вы злой, холодный человек. Я нена-
вижу вас».
Он прочел записку и поднял глаза на Генриетту
Павловну. Она смотрела в окно.
— Так...— сказал Михаил Иванович.
Он хотел, чтобы учительница первой начала раз-
говор. Но она молчала и ждала слово от него.
— Так...— повторил Михаил Иванович.— Что же вы,
собственно, хотите от меня?
Большие круглые глаза посмотрели на Михаила Ива-
новича. Теперь они были похожи на две амбразуры.
— Что я хочу... от вас? — тонким голосом произнес-
ла Генриетта Павловна.— Я хочу, чтобы меня оградили
от подобных оскорблений.
378
— Подождите, разве в этой записке есть что-нибудь
оскорбляющее? Кстати, вам известна причина этой не-
нависти?
— Ученики не имеют права ненавидеть педагога.
— Разве есть такой циркуляр министерства? — Ми-
хаил Иванович начинал сердиться.
— Это не циркуляр, а простая логика. Если все уче-
ники будут ненавидеть всех педагогов...
— Да почему все и всех? — вспылил Михаил Ива-
нович. Он поднялся со стула и двинулся к Генриетте
Павловне.
Он встал перед ней, грузный, косматый, с крупными
глазными яблоками.
— Чем вы обидели Вьюник? — спросил он.
— Это допрос? — сухо спросила Генриетта Пав-
ловна.
— Это вопрос,— буркнул Михаил Иванович.
— Я сделала ей замечание, а она написала это...
Я не виновата, что эта взбалмошная девица влюблена
в Князева и не сводит с него глаз.
— Ах, вот оно в чем дело,— сказал Михаил Ивано*
вич и засунул руки в карманы.
Он долго молчал. Сопел. Ходил по комнате. А его
руки оттопыривали тесные карманы.
— Придется вам проглотить эту пилюлю,— наконец
сказал он.
Теперь уже Генриетта Павловна поднялась со стула.
— То есть как — проглотить?
Круги вокруг ее глаз замкнулись.
— Вы отказываетесь... помочь мне,— она искала под-
ходящее словцо,— поставить на место эту разболтанную
девчонку?
— Генриетта Павловна, я советую вам проглотить
пилюлю. А там как знаете. Запретить любить или нена-
видеть нельзя даже школьнику. Нельзя!
Генриетте Павловне захотелось ударить этого косма-
того человека. Ей так мучительно захотелось ударить
его, что она поспешно вышла в коридор. И долго стояла
у окна, стараясь обрести равновесие.
Назавтра Таня снова шла в школу. Вернее, не шла,
а как бы плыла по течению. Это невидимое течение нес-
ло ее мимо одних и тех же домов, заставляло пересекать
379
одни и те же перекрестки, поворачивать в навсегда заве-
денных местах.
Течение начиналось у ворот дома и кончалось у
школьного крыльца. Оно действовало весной и осенью.
И не замирало зимой, как не замирает Гольфстрим. Та-
не никогда не приходило в голову двигаться против те-
чения!
Прямо. Направо. Опять прямо. Теперь бегом через
перекресток и опять направо. Знакомые дома стерлись в
Таниных глазах, как стираются монеты, они пролетали
мимо, как приглушенные от частого употребления слова.
Таня не видела домов, как будто вокруг было поле. Но
она увидела форточку, из которой валил дым. Клубы
дыма протискивались в прямоугольник форточки и рас-
плывались по стене. Таня могла пройти мимо. Но ее
взгляд зацепился за дым. Она остановилась и стала наб-
людать, докапываться. Так она докопалась до пожара.
Когда Таня была ребенком, у нее возникало множе-
ство неожиданных вопросов, на которые взрослые не
могли дать вразумительный ответ. Например: почему из
черной земли растет зеленая трава? Папа толковал ма-
ленькой Тане про какой-то хлорофилл. Это слово не-
возможно было произнести. Получалось «хролофилл»,
«холофил», «хорофифил». Но даже произнесенное пра-
вильно, оно не вносило ясности: почему из черной зем-
ли растет зеленая трава? Маленькая Таня взяла лопа-
ту и стала рыть яму в надежде найти скрытую зеленую
землю... Она всегда стремилась докопаться до причины.
Так она сейчас докопалась до пожара. Никто не за-
мечал его. И все вели себя так, как будто никакого по-
жара не было, просто подгорели котлеты. Но Таня по-
нимала, что это пожар, и ей стало жарко от одной мыс-
ли, что дом горит.
— Пожар!—сказала Таня старушке, которая семе-
нила с большой торбой.— Пожар!—крикнула Таня бе-
гущему мальчишке.
— Врешь! — на бегу крикнул он.— Пожарных-то
нет!
Да, пожарных действительно не было. А дом горел.
Из окна второго этажа валил дым. А в соседнем окне,
прижав к стеклу растопыренные ладони, стояла девоч-
ка. Таня заметила, что девочка плачет.
Таня вбежала в подъезд. Одним махом очутилась на
380
втором этаже у двери, за которой был пожар. Дверь пе
горела и не дымилась. Это была обыкновенная, зауряд-
ная дверь. Но Таня знала, что там пожар. Она позво-
нила.
Через некоторое время за дверью послышался нетер-
пеливый голос мальчика:
— Кто л ам?
— Я,— отозвалась Таня.— Открой!
Мальчик сопел за дверью. Потом он сказал:
— Мама не велела. Посиди на ступеньке.
Самое время сидеть на ступеньке! Тане захотелось
заорать на мальчика, но она вовремя сдержалась.
— Ты один дома? — выдавила она из себя.
— Нет, еще Мариша.
— Слушай, у вас дымом пахнет?
— Не знаю, я не нюхал.
— Понюхай!
— Ладно, пойду.
Он ушел и долго не возвращался. Тане стало страш-
но от собственного бессилия.
Таня снова позвонила.
— Чего тебе? — послышался недовольный голос
стража.
— Пахнет дымом?
— Нет... Только глаза щиплет.
Тане захотелось поколотить мальчишку.
— Слушай, открой скорее! — крикнула Таня: она
уже не могла сдерживаться.
— Мама не велела.
— Велела! Слышишь, велела. Честное слово!
— А ты не врешь? — донеслось из-за двери.
— Не вру! Ты большой, умный парень...
Лесть победила бдительность. В замке повернулся
ключ. Загремела цепочка. Дверь медленно открылась, и
из темного коридора потянуло горьковатым дымом по-
жара.
— Где Мариша? — Таня трясла мальчика за плечо.
— Там...— Он неопределенно махнул рукой.
Таня кинулась в темный коридор. Она нащупала ру-
кой дверь. Распахнула ее — и сразу густой жаркий дым
окутал ее со всех сторон. У Тани перехватило дыхание.
Она крикнула:
— Мариша!
381
Вместо ответа с другого конца комнаты донеслось
всхлипывание. Таня вбежала в комнату и увидела огонь.
Это был совсем не тот огонь, который весело вырастает
над охапкой хвороста и щелкает орешки в печке. Огонь
был острый и душный. Он обдавал тяжелым жаром и
давил, давил на грудь.
— Мариша, беги сюда! — крикнула Таня.
Но девочка не побежала. Она забилась в угол. И ее
не было видно за мутной завесой дыма. Таня с трудом
пробиралась вперед. Она не видела стен. Не видела по-
толка. И ей вдруг показалось, что она заблудилась и
уже не сможет выбраться из этого удушливого огненно-
го кольца. На что-то наткнулась. Что-то грохнуло. Это
упал стул. Таня отшвырнула его ногой и, выставив впе-
ред локоть, бочком двигалась вперед.
— Мариша!
Теперь плач зазвучал совсем близко. Таня присела
на корточки и руками стала прощупывать пространство
перед собой. Так она наткнулась на маленькое трепет-
ное тельце девочки. Она схватила девочку и притянула
ее к себе. Девочка изо всех сил обвила Танину шею
руками, как будто она тонула и только Таня могла
удержать ее на поверхности воды.
Пламя было рядом. Оно жгло щеки, шею, руки. Но
огонь не давал света. Дым заглушал свет. Заглушал
дыхание, жизнь. Таня почувствовала себя в огромной
топке, откуда уже невозможно выбраться. Еще шаг,
другой, и они вместе с маленькой Маришей задохнутся.
Пламя раздавит их. Превратит в черный дым. И в это
мгновение ей особенно стало жаль девочку, обхватив-
шую ручонками ее шею. Таня собралась с силами и
медленно стала пробираться к двери.
Когда она очутилась в коридоре, у нее звенело в
ушах и перед глазами вертелись темные круги. Сквозь
открытую на лестничную площадку дверь бежали люди.
Таня не видела их лиц. Перед ней вырастали огромные
силуэты, и рядом гремели тяжелые кованые ботинки.
Когда Таня очутилась на улице, там уже стояли ки-
сельно-красные пожарные машины и толпились зеваки,
как на настоящем пожаре. Никто не проходил мимо, все
верили, что пожар.
Таня отошла в сторонку и прислонилась к стене.
382
Она дышала. Ей ничего не хотелось делать, только ды-
шать. Она глотала воздух, как прохладное лечебное пи-
тье. А Мариша все еще продолжала сжимать ручонками
Танину шею. И все всхлипывала.
— Где мама? — неожиданно спросила малышка.
Голос у нее был густой, низкий, совсем не такой то-
ненький, как плач.
— Мама сейчас придет,— ответила Таня.
Вокруг Тани и Мариши тоже собрались люди. Они
что-то горячо обсуждали. Кажется, хвалили Таню. Но
Тане было безразлично, что они говорят. Она прижима-
ла к себе /Маришу.
Потом перед Таней возникла женщина с большими
плачущими глазами. Она хотела взять у Тани Маришу,
но маленькая девочка держалась за шею, все боялась
разжать ручонки. Наконец она узнала маму. И сразу
забыла о Тане.
— Боже мой, какое горе! — крикнула Маришкина
мама и вместе с девочкой побежала к подъезду.
Таня стояла, окруженная толпой зевак, и не знала,
что делать. Она все еще не могла надышаться. Она пи-
ла воздух. К Тане подошел пожарный. Он достал блок-
нот и спросил:
— Как фамилия?
— Зачем вам?
— Для протокола,— сухо сказал пожарный.
Таня назвала. Пожарный записал огрызком каран-
даша и ушел. Зеваки стали расходиться.
Ах да, надо идти в школу. В общем, очень удобно,
что есть то самое незамерзающее течение. Не надо ду-
мать, где поворачивать, где идти прямо. Это течение
подхватило Таню и стало уносить ее от удушливого за-
паха дыма, от жуткого мечущегося жара, от перепуган-
ного личика маленькой Мариши, от светящихся любо-
пытством глаз уличных зевак, которые всегда появляют-
ся там, где дело уже сделано.
Быстрая ходьба привела Таню в порядок, и, когда
она переступала порог школы, все переживания оста-
лись далеко позади. Только от куртки пахло дымом.
Таня разделась и поднялась на третий этаж. У две-
ри класса она поправила растрепавшуюся косичку.
— Можно?
383
Генриетта Павловна подняла свои полукруглые бро-
ви и нехотя сказала:
— Заходи.
Таня вошла.
— На кого ты похожа? — спросила учительница,
продолжая рассматривать Таню.
Глаза Генриетты Павловны начали смеяться.
Таня не поняла, в чем дело. На кого она может быть
похожей? Опа нерешительно остановилась.
— У тебя все лицо в саже... Ты была на пожаре?
В классе захихикали. Таня сказала:
— Да, на пожаре.
— Что ж ты там делала? — продолжала допытывать-
ся Генриетта Павловна.
Глаза ее смеялись. Таня сразу заметила, что глаза
учительницы смеются. Она почему-то представила себе
Генриетту Павловну девчонкой, своей сверстницей. Эта
сверстница хохотала и строила рожи. Тане захотелось
хлопнуть дверью и убежать. Но она продолжала стоять,
мучительно думая, чем ей ответить на эту тайную на-
смешку.
— Что ты там делала?
И вдруг в Тане заработал упрямый механизм, кото-
рый все переворачивает, путает, меняет цвета и говорит
«нет», где следует сказать «да». Таня пристально по-
смотрела на смеющиеся глаза учительницы и, расстав-
ляя слова,сказала:
— Что я делала?.. Я подожгла дом.
Генриетта Павловна поднялась со стула. Ее глаза
перестали смеяться.
— Не болтай глупостей.
— Я серьезно,— спокойно ответила Таня.
Класс замер. Таня стояла и спокойно смотрела на
учительницу.
Если ты придешь и скажешь: «Я спас из огня чело-
века», тебе никто не поверит. Ты бросился в горящий
дом? Ты, задыхаясь от дыма, шел по темному коридору?
Чуть не погиб под рухнувшей балкой, но спас человека?
Не рассказывай сказки! Где тебе решиться на такой по-
ступок!
Но если ты заявишь, что поджег дом,— тебе поверят.
Хотя до этого ты никогда не поджигал домов. Все по-
дожмут губы, отведут глаза, начнут в твоем присутствии
384
разговаривать шепотом. И ты почувствуешь, как между
тобой и окружающими тебя людьми образуется некое
безвоздушное пространство: тебе поверили.
— Ты отвечаешь за свои слова? — холодно спроси-
ла учительница.
— Конечно! — с готовностью отозвалась Таня.
— Но это же преступление!
— Преступление,— согласилась Таня,— ну и что из
этого?
Полукруглые брови метались над широко раскрыты-
ми глазами. По лицу пошли красные пятна. Учительни-
ца тяжело дышала. А класс молчал, ошеломленный этой
новостью.
— Выоник!—почти закричала учительница.— Мо-
жет быть, ты паясничаешь?
— Нет. Я действительно подожгла дом. Неужели вы
не верите?
Генриетта Павловна поднялась и быстро зашагала
к двери.
Таня направилась к своей парте и бросила на нее
портфель. Потом она достала зеркальце и стала плат-
ком стирать с лица сажу.
В классе все еще удерживалась тишина.
На перемене школа начала гудеть. Шумный беспро-
волочный телеграф разносил по всем этажам страшную
новость: Таня Вьюник подожгла дом.
— Таня?
— Какая Таня?
— Ну, знаете... такая рыжая.
— Зачем она подожгла?
— Из мести.
— И дом сгорел?
— Дотла.
— Ничего подобного, только два этажа сгорели. Ус-
пели потушить.
— Она и школу подожжет! Что ей стоит!
— Она всегда поджигает...
Школьный телеграф не просто повторял новость, он
увеличивал ее, раздувал, лепил из нее как из глины то,
что подсказывало воображение.
— Она одна подожгла?
— Нет. Целая банда поджигателей. А она — глав-
ная.
Багульник
385
— Они, рыжие, все такие.
— Ребята, по-моему, пахнет горелым. Может быть,
она уже подожгла школу?
Первоклассники пробирались на третий этаж, что-
бы посмотреть на Таню Вьюник. Они с опаской подкра-
дывались к двери и заглядывали в щель. Гудели этажи,
лестницы, классы. Гудела учительская.
— Что теперь делать?
— Вызвать родителей. Сообщить в милицию.
— Ее надо исключить из школы. Я буду настаивать.
— Да не могла она поджечь! Что вы!
— Я верю своим ушам.
— А вы не верьте!
— Надо вызвать из отпуска директора.
А Таня как ни в чем не бывало сидела на уроках.
Она вела себя так, словно разговоры о пожаре ее вовсе
не касались. И ее спокойствие подливало масло в огонь.
Один раз Князев повернулся к ней, посмотрел на
нее своими прищуренными глазами и сказал:
— Я не верю. Ты все придумала.
Потом кончились уроки, и она пошла к выходу. Ее
никто не вызывал, никто не требовал привести родите-
лей. От нее вообще ничего не требовали.
Таня вышла из дверей школы и вдруг почувство-
вала, что очутилась в чужом городе. Вокруг стояли не-
знакомые дома, мимо шли незнакомые люди, мчались
автобусы по незнакомым маршрутам. Все здесь было
чужим и холодным, и Таня, потерянная, заблудившая-
ся, стояла посреди тротуара и не знала, куда идти. Теп-
лое течение застыло, перестало действовать.
Таня оглянулась. Высокое кирпичное здание школы
тоже было незнакомым, чужим. Весь город изменил Та-
не, и даже этот, самый знакомый дом утратил всякую
теплоту, стал мрачным. Таня повернулась спиной к шко-
ле и зашагала прочь. Ею вдруг овладело тупое безраз-
личие ко всем событиям сегодняшнего дня. Они как бы
перестали касаться ее, стали чужими.
Таня вышла к реке. Здесь дул холодный ветер, ко-
торый пробивал старую куртку и лохматил волосы. Та-
ня прислонилась к перилам и стала смотреть в воду.
Вода была грязной, по ней, как маленькие зеленые гон-
долы, плыли арбузные корки.
386
«Раньше были лишние люди... Например, Онегин и
Печорин,— подумала Таня.— Теперь тоже есть лишние
люди. Например, я».
Зеленые гондолы уплыли под мост.
По набережной шагал мальчишка в зимнем пальто.
Пальто было длинным, купленным на рост. Мальчиш-
ка поравнялся с Таней и тоненьким голоском протя-
нул:
— Рыжая!
Тане показалось, что этот голос донесся откуда-то
издалека, из родного города. Она улыбнулась этому
слову и добродушно ответила:
— А ты серо-буро-малиновый.
От удивления рот у малыша превратился в большое
розовое «о». Он быстро зашагал дальше. Из-под длин-
ного пальто блестели новые галоши.
И вдруг она вспомнила о Марише. Она увидела ее
большие черные глаза и опаленную прядку волос. Она
почувствовала на шее маленькие, крепко обвившие ее
руки. Услышала тихое всхлипывание.
Мариша... Мариша...
Это маленькое существо одно в целом свете пони-
мает Таню, понимает правильно, а не шиворот-навыво-
рот, вверх тормашками, как все остальные. И для Ма-
риши она, Таня, не лишний человек. Не Онегин и не
Печорин.
Таня вдруг стала узнавать улицы, дома, трамваи.
Она шла к Марише.
Она думала, что возле дома до сих пор толпятся зе-
ваки, алеют краснопламенные пожарные машины и
жмется к стене маленькая Мариша. Но когда останови-
лась на углу, улица была пустой. Никакой толпы и ни-
каких пожарных. Таня медленно двинулась к Мариши-
ному дому. Дом мало чем отличался от соседних. Толь-
ко два окна па втором этаже были забиты фанерой, и
стена над окнами стала черной от копоти.
Трамвай запел на повороте, и из-под его дуги вы-
летела веселая фиолетовая искра.
Таня вскочила на подножку трамвая. Она даже не
посмотрела, какой это номер, не сообразила, куда он
идет. Ей просто захотелось уехать куда-нибудь.
Она ехала до тех пор, пока кондуктор не объявила:
— Следующая — цирк.
387
Слово «цирк» как бы вернуло Таню к действительно-
сти. Она поднялась и пошла к выходу.
Почему-то в ушах у нее зазвучали слова:
«С такими волосами впору идти в цирк... Работать
клоуном...»
Таня сошла. Трамвай укатил дальше.
«В цирк так в цирк»,— сама себе ответила Таня и
повернулась к большому круглому зданию.
«Что мне делать в цирке? Неужели в самом дел-е пе-
реступить порог и сказать: «Возьмите меня на работу
рыжим... то есть рыжей. А если у вас рыжих хватает,,
то все равно возьмите меня кем угодно. Я осталась без
места в жизни. Мне нужно хотя бы самое скромное ме-
стечко...»
Таня стояла па площади, и перед ней возвышался
цирк. Он весь был увешан радужными афишами и пла-
катами. С них на Таню смотрели улыбающиеся клоуны
и свирепые львы. И тут Таня вспомнила про Риту, про
свою веселую подружку, которой живется легко и про-
сто. Может быть, ей живется так потому, что она рабо-
тает в цирке?
В другое время у Тани никогда не хватило бы духу
войти в цирк без билета, с черного хода. Но после со-
бытий сегодняшнего дня невозможное стало возмож-
ным. Таня открыла дверь.
Какое-то новое течение подхватило Таню и понесло
вперед по гулким коридорам, по крутым лестницам, по
конюшням, в которых стояли слоны.
Она шла и спрашивала:
— Вы не знаете, где Рита? Вы не видели Риту?
И люди, странные люди в необычных костюмах, на
ходу отвечали:
— Не знаю!
— У нас четыре Риты. Тебе которую?
— А какая она из себя, твоя Рита?
Никто не спрашивал Таню, кто она такая и что ей
здесь надо. Словно все знали ее и не удивлялись, что
она ходит по коридорам.
Куда же делась Рита?
Таней вдруг овладело странное щемящее чувство.
Удивительно знакомое и непонятно откуда взявшееся.
Ах, да, это было в детстве. Она шла по лабиринту, шла
и все время попадала на то же место. Где-то совсем
388
близко играла музыка, звучали голоса, но Таня не мог-
ла найти выхода. И тогда к ней пришла мысль, которая
никогда не приходит людям в лабиринте. Таня полезла
на забор, и все оказалось просто.
Таня вспомнила про лабиринт и неожиданно для се-
бя толкнула первую попавшуюся дверь. Опа очутилась
в большой комнате с цементным полом. Здесь пахло, как
в рыбном магазине. И пол был мокрый. В нем даже
отсвечивали лампочки. Посредине комнаты на низкой
скамейке сидела женщина в синем халате и чистила рыбу.
Ее руки до локтей были усыпаны рыбьими чешуйками.
Таня сделала несколько шагов. Женщина бросила в
бак с водой серебристую тушку рыбы и оглянулась. Не-
которое время она молча смотрела на Таню. Потом
спросила:
— Что тебе, рыжая команда?
— Мне Риту,— отозвалась Таня.
— Какую Риту? Откуда ты взялась?.. Из номера или
из униформы?
Таня не знала, что ответить.
— Нет. Я... с улицы,— призналась она и тут же по-
думала, что это прозвучало, должно быть, очень смеш-
но: «с улицы».
Но женщина в синем халате не рассмеялась.
— Если хочешь,— сказала она,— помоги мне чистить
рыбу.
— Хочу,— сказала Таня и села рядом с ней на низ-
кую скамейку.
От холодной рыбы у Тани очень скоро замерзли и
покраснели руки. Но ей нравилось это занятие. И она
старалась работать проворней, только спросила:
— Зачем столько рыбы?
— У меня ребята прожорливые. Тридцать кило в
день. Вынь да положь.
— Какие ребята?
— Ты не знаешь моих ребят? — Женщина перестала
чистить рыбу и уставилась на Таню.— Нет, ты серьезно
не знаешь моих ребят? Рыжая команда, ты и меня не
знаешь?
Таня покачала головой.
— Ну да, ты пришла с улицы,— вспомнила незна-
комка.
— Мне уйти? — спросила Таня.
389
— Нет, если можешь, помоги мне. Понимаешь, тетя
Домаша заболела, я не справляюсь. Нет, подожди. Вы-
три руки, я познакомлю тебя с моими ребятами.
В большой клетке на деревянном настиле, рядом с
бассейном, лежали три странных существа. Они лежа-
ли неподвижно, и их влажные лоснящиеся тела были
похожи на блестящие морские камни, по которым толь-
ко что прошла волна.
Едва Таня и ее новая знакомая приблизились к
клетке, камни ожили. Вернее, совсем пропали, потому
что тела животных оказались такими подвижными, гиб-
кими, эластичными, что их уже невозможно было пред-
ставить камнями.
Три маленькие мордочки просунулись между пруть-
ями клетки. Из-под длинных упругих усов сверкнули
белые зубки, а глаза, налитые темной влажной сине-
вой, уставились на Таню.
— Вот мои ребята. Морские львы,— сказала хо-
зяйка.—Знакомься. Это — Лель, это — Зина, это — Тонки.
Таня смотрела на три доверчиво тянувшиеся к ней
мордочки. Они были удивительно похожи друг на дру-
га. Таня хотела отличить Тонки от Леля и Леля от Зи-
ны. Но у нее ничего не вышло.
— Вы не путаете их? — спросила Таня.
Хозяйка рассмеялась.
— Как же их можно спутать! Посмотри на Леля,
какой он мужественный, как у него топорщатся усы.
А глаза у него большие, круглые, удивленные. А у Зи-
ны глаза миндалевидные, они все время смеются. Иона
вся изящная, кокетливая, меняет позы, словно стоит
перед зеркалом. Разве ее можно спутать с Топни? Это
увалень и лентяй. Он спит на ходу. И потом, у него на
лбу отметина. Это он расшибся. Видишь, над правым
глазом... Конечно, вожак у них Лель. Они его слушают-
ся. Он и работает лучше всех. Правда, Лель?
Лель сразу же оживился, задвигался. Потом вытя-
нулся, как солдат перед командиром, и издал ломкий
звук, похожий на лай.
— А ты говоришь «путаете»,— довольным голосом
сказала хозяйка и кивнула на бак с рыбой.— Можешь
дать им по рыбке...
Таня взяла рыбу и пошла к клетке. Она не знала,
ззо
как угощать новых знакомых, но хозяйка тут же при-
шла ей на помощь.
— Кидай, кидай! Они поймают.
Таня кинула рыбку Лелю, и этот тучный, тяжелый
зверь с необыкновенной легкостью поймал угощение.
Даже лентяй Тонни оказался очень проворным, когда
дело дошло до свежей рыбы. Нетерпеливая Зина не ста-
ла дожидаться, когда до нее дойдет очередь. Она вос-
пользовалась тем, что Таня замешкалась, и ловко вы-
хватила салаку из ее рук. Ее миндалевидные глаза лу-
каво поблескивали.
Таня задумалась. Вся ее прежняя жизнь неожидан-
но отодвинулась далеко-далеко. Ее школьные знакомые
как бы уменьшились в размере. А Генриетта Павловна
стала величиной с палец. И от ее лица остались только
два глаза, заключенные в круги. Глаза не смеялись. Они
вообще были еле видны. Тане почудилось, что она села
на поезд и уехала далеко-далеко от родных мест. И со-
шла в чужом, незнакомом городе. И вообще вокруг нее
все новое, незнакомое и... приятное.
— Ну, как мои ребята? — послышался за спиной го-
лос хозяйки.
Таня услышала голос, но не разобрала слов. Она
оглянулась. Женщина в синем халате уже снова сиде-
ла на скамейке и чистила рыбу. Таня неторопливо по-
дошла к ней и принялась тоже за дело.
— О чем ты думаешь? — спросила ее хозяйка.
Таня не смогла ответить. Она сказала:
— Так...
— Ты где-нибудь работаешь или учишься? — спро-
сила хозяйка.
Таня покачала головой.
— Ты не пошла бы ко мне ухаживать за живот-
ными?
— Пошла бы,— не задумываясь ответила Таня.
Она оглянулась на клетку. Три маленькие черные
мордочки с белыми усами настороженно смотрели в
ее сторону.
— Меня зовут Таня... Таня Вьюник,— сказала Та-
ня своей новой знакомой.
— А я — Викторина Гай, Викторина Сергеевна
Гай ,— ответила новая знакомая.
Так они познакомились.
391
...Самым трудным оказалось позвонить в собственную
дверь. Таня долго топталась на лестничной площадке и
все строила догадки: знает ли мама о всех ее злоклю-
чениях? Может быть, ее уже вызывали в школу и Ген-
риетта Павловна рассказала ей о том, что Таня подо-
жгла дом, а глаза ее в это время смеялись над Таниной
мамой... А может быть, маму вызывали в милицию?
Шутка ли — дочь подожгла дом. Ведь пожарный, ко-
торый огрызком карандаша записал Танину фамилию,
мог тоже поверить, что Таня подожгла дом...
Наконец Таня решилась позвонить.
— Где ты пропадаешь? — спросила мама.
И по тому, как мама спросила «где ты пропада-
ешь?», по ее глазам и по ее спокойным движениям Та-
ня поняла: мама ничего не знает. Тогда Таня сказала:
— Сядем.
Мама удивленно посмотрела на дочь и села. Таня
гоже села.
— Ты ничего не знаешь? — на всякий случай спро-
сила Таня.— К тебе не приходили из школы? И про по-
жар ты тоже ничего не знаешь?
— Про какой пожар? — Мама поднялась со стула.
— Сиди. Не в этом дело. Я хочу тебе сказать...
Я бросила школу.
Пройдет время. Многое забудется. Отойдет в тень.
И будет казаться, что все произошло просто, как-то са-
мо собой. Вошла в дом. Сказала маме: «Я бросила
школу».
Услышала ответ:
— Не городи чушь.
— Нет, я серьезно. Бросила. Поступила на работу.
— На какую работу?
— Как ты советовала — в цирк.
— Я тебе не могла советовать такую глупость.
— Вспомни, мама: «Тебе впору идти работать в
цирк».
— Дай мне сигарету.
Мама долго курила, не произнося ни слова. Она пе-
реваривала новость, которую преподнесла ей Таня. Она
мучилась и потому молчала. Она почувствовала себя
беспомощной, старой, ни на что не способной. Дочь вы-
шла из-под ее крылышка. Делает, что хочет. Сегодня
бросила школу и поступила в цирк. Завтра приведет
392
за руку парня и скажет: «Знакомься, это мой муж...»
Но после будет казаться, что мама просто надулась и
молча курила.
Таня сидела на стуле. Прямая. Спокойная. Так по
крайней мере казалось маме. Спокойствие дочери вы-
водило ее из себя. Она с трудом сдерживалась. И потом
ей тоже будет казаться, что Таня была спокойной. А Та-
ля чувствовала себя побитой и чудом спасенной.
— Что ты собираешься делать в цирке? — глухо
спросила мама.
— Не бойся,— сказала Таня,— я не буду выступать
на манеже с клоунами. Работа у меня простая: я чищу
клетки, чищу рыбу, ухаживаю за морскими львами.
Они очень славные. Я тебе когда-нибудь покажу их.
И вообще, мама, ты не волнуйся. У меня все в поряд-
ке... А в школу я никогда не вернусь.
Надо отдать должное маминой выдержке. Она не
закричала. Не нахлопала дочку по щекам. Она молча
курила. И все силилась найти смысл в поступках доче-
ри. И не находила этого смысла. Чтобы легче понять
дочь, она вспомнила себя в Танины годы.
— Я тоже бросила школу,— тихо сказала мама.—
Но я не делала глупостей, не поступала ни в какой
цирк, а ушла на фронт. Стала зенитчицей. По ночам
мерзла на посту и прислушивалась к шуму моторов.
Один раз обнаружила самолет, который там, впереди,
прозевали. Подняла батарею по тревоге. Самолет ото-
гнали. Потом про меня написали в газете «Тревога».
У меня где-то хранится эта газета...
— Мама, все будет хорошо,— тихо сказала Таня.—
Вот увидишь. Я поступлю в вечернюю школу. Ты уж
не сердись.
— От тебя пахнет рыбой,— сказала мама.
— Ну да, мы с Викториной Сергеевной начистили
тридцать килограммов. У меня руки покраснели.
Мама встала и пошла на кухню.
Что еще было в этот день? Ах да, опять на глаза по-
пался Павлик. Он нес в комнату чайник.
— Я купил Нине цветов,— сообщил он, глядя в
стенку.
— Молодец,— похвалила его Таня,— Она была сча-
стлива?
393
— Да, она обрадовалась. Она сказала, что я первый,
кто купил ей цветы... Но лучше бы я купил их тебе.
— Иди пить чай,— отрезала Таня.
— Успею... Ты не думай, она в самом деле обрадо-
валась. Потом я угощал ее мороженым.
— Тебе больше некому это рассказывать?
— Некому. Я ребятам не говорю. Они ведь только
посмеются. Я и цветы завернул в газету, чтобы никто не
смеялся. А что?
— Ничего. Все в порядке,— сказала Таня и пошла
к себе.
— Рыжая команда, как наши дети?
•— Резвятся.
— Как у них животы?
— В порядке.
— Ты им не давала рыбы?
— Нет.
— Не врешь?
•— По одной рыбке.
— Подлизываешься. Надо завоевывать любовь не
рыбками. За рыбки каждого полюбят. А ты без рыбок.
— Я им витамины давала.
— Лопают?
— Еще как!
Таня стояла в клетке. На ней был огромный фартук
до земли и косыночка, которая аккуратно скрывала во-
лосы. Из бассейна торчали три острые мордочки. Мас-
сивных гладких тел не было видно, и казалось, что их
нет вообще, а есть маленькие зверьки с маленькими
мордочками. Они выглядывали из воды и смотрели то
на Таню, то на Викторину Сергеевну.
Дрессировщица скинула норковую шубку и броси-
ла ее на стул, как будто это был простой засаленный
тулуп.
— Мы отправляемся на манеж, а ты заканчивай
уборку.
В ее голосе звучали командные нотки. Но они не
обижали Таню, девочка очень точно улавливала за ни-
ми добродушную иронию. Ей даже нравились эти нот-
ки: самой бы не плохо научиться.
Таня спрыгнула из клетки на пол. Викторина Сер-
геевна скомандовала:
394
— /Мальчики-девочки, на берег!
Три зверя внимательно выслушали распоряжение и
стали выбираться из бассейна. И сразу превратились
в больших лоснящихся морских львов. Они весело лая-
ли и шлепали ластами.
Морские львы обступили дрессировщицу и тыкались
в колени своими мокрыми мордочками.
— Лель, не отталкивай Зину! А ты все спишь на
ходу, Тонни? Кому я говорю? Тонни! Дети, на манеж!
А ты, рыжая команда, закончишь уборку, приходи
тоже. Начищенная рыба есть? Опять дали мелочь
костлявую! Надо бы самого завхоза накормить такой
рыбой.
Таня стояла рядом и наблюдала за Викториной
Сергеевной. И прислушивалась к ее словам, к ее
ноткам.
В дверях появилась Рита. Она все время вертела но-
гой, одетой в красный чулок, и казалось, что нога у нее
заводная. А оранжевая шляпа была похожа на абажур:
круглая с проступающими ребрышками каркаса. Может
быть, когда-то внутри светила лампочка, а теперь аба-
жур надели на голову.
— Манеж готов, реквизит на месте,— сказала Рита.
— Спасибо, деточка. Идем!
Викторина Сергеевна шла впереди, морские львы,
хлопая ластами, переваливались за ней.
Таня осталась одна. Рита все еще стояла в дверях и
вертела заводной красивой ножкой.
— Вкалываешь? — спрашивала она.
— Вкалываю,— отвечала Таня.
— У вас тут рыбой пахнет. Фу!
— Я привыкла. Мне даже нравится...
— Ты прямо как Золушка. Культурная девушка.
И вкалываешь. А меня Вольтер Мокин обещал взять в
номер. Я способная.
— Ты способная. У тебя получится.
— Я тогда тебя перетяну. Ему много девушек по-
требуется для номера.
— Спасибо, Рита. Я уж лучше здесь, со своими
мальчиками-девочками.
— Ну, приветик!
Рита повернулась на своей красной ножке, как флю-
гер от порыва ветра. И исчезла.
ЗС5
...Если бы кто-нибудь сказал Тане, что это чувство
называется любовью, она бы очень удивилась. Она бы
пожала плечами и ничего не сказала бы в ответ. По-
тому что это была не любовь и не дружба, а нечто дру-
гое, что имеет старое прочное название. Нет, у этого
чувства вообще не было названия, потому что ни один
человек на земле не мог испытать этого. Это было ее\
Танино, чувство. И назвать его можно было только Та-
ниным именем, как называют именем мореплавателя
открытую им землю.
С тех пор как Таня ушла из школы и поступила на
работу в цирк, в ее жизни наступило равновесие. Она
как бы перешла границу и попала из одной жизни в дру-
гую. В этой жизни не было ни Генриетты Павловны, ни
Мариши, ни пожарных. Но Князев каким-то образом
следом за Таней перешел в новую жизнь.
Каждый раз, возвращаясь из цирка, Таня шла по
набережной. Несмотря на мороз, вода в реке не замер-
зала, стала только темной гущей. И в ней отражались
спелые полнолуния фонарей.
Таня остановилась у перил и стала смотреть в воду..
Шел снег, и снежинки не растворялись в воде, а как бы
проваливались в темную бездну и продолжали полет
где-то в глубине, вне поля зрения. Таня глазами прово-
жала снежинки до воды и силилась рассмотреть их
дальнейший полет. Ей начинало казаться, что она смот-
рит в небо, которое лежит у ее ног и в которое, отрыва-
ясь от земли, летят снежинки, чтобы превратиться в
белые звезды. Девушка вдохнула в себя холодящий
воздух, почувствовала легкость. От радостной легкости,
от веселого холодка, от неба, которое почему-то оказа-
лось у ее ног, Таня почувствовала себя всесильной.
Она вспомнила губастого Павлика, который ходит с
красивой Ниной на концерты и дарит ей цветы, завер-
нутые в газету. Хорошо, она тоже подарит цветы. Сама.
Князеву. Сегодня же.
Таня решительно направилась в цветочный магазин.
Зимой цветочный магазин подобен оазису. Стоит
толкнуть легкую стеклянную дверь, и сразу попадешь
из зимы в лето. За спиной останутся ветер, снег, подня-
тые воротники, посиневшие носы... И в лицо повеет
ароматной ласковой свежестью летнего утра.
Таня стояла на выложенном шашечками кафельном
39G
’полу и разглядывала флору маленького оазиса. Белые
хризантемы были похожи на лохматых болонок, кото-
рые свернулись клубками и в теплой шерсти спрятали
черные озябшие носы. В жесткой темно-зеленой листве
горящим елочным фонариком желтеет лимон. Кактусы
были похожи на зеленых ежей. Ствол пальмы укутан
бурым войлоком...
Но все это не было чудом. Чудо было маленьким,
прозрачным, хрупким. Это был ландыш. Как попал сю-
да житель весеннего леса? Как сумел он обмануть вре-
мя, преодолеть стужу и зацвести в декабрьском городе,
где вместо солнца светят лампочки?
Таня присела на корточки и стала разглядывать
ландыш. Длинные листья с тонкими зелеными жилка-
ми. Стебель светло-зеленый, нежный и упругий. Цветы,
похожие на капельки молока...
— Ландыш продается? — спросила Таня: ей все еще
казалось, что это маленькое зимнее чудо не имеет цены.
— Продается,— спокойно ответила продавщица.—
Плати деньги и забирай.
Таня бережно взяла в руки ландыш и спрятала его
под куртку осторожно, чтобы не повредить соцветие и
корни. Она вышла из магазина и зашагала по снежным
улицам. Она шла в надежде встретить его. Сворачива-
ла в какие-то переулки, пересекала площади, где мело,
как в поле. И все всматривалась в лица прохожих. Все
надеялась увидеть при свете фонарей серьезную склад-
ку между бровей и прищуренные глаза. Все ждала: вот-
вот за поворотом покажется он.
Но он так и не встретился ей.
Таня долго шла, прижимая рукой ландыш, чтобы он
не замерз. Она согревала его, стараясь заменить этому
живому существу весеннее солнце своим теплом. Потом
она очутилась у здания школы. Было уже поздно. Свет,
в доме не горел, но несколько окон еще светилось.
Таня сразу подумала о Михаиле Ивановиче. Она
почему-то вспомнила его слова: «Это не я... Это уже
другой. Того убили и сбросили в противотанковый ров...»
Интересно, каким был тот? Наверно, он не был Зуб-
ром, а высоким, худым, с серьезной складкой между
бровей. На нем была выцветшая гимнастерка и ржавые
бинты.
397
Некоторое время Таня в раздумье стояла перед
школой, прижимая рукой ландыш. Потом поднялась по
ступенькам.
— Тетя Паша, Михаил Иванович здесь? — спроси-
ла она нянечку, которая пила чай из блюдца.
— Давеча был здесь...
— Я посмотрю его пальто.
— Посмотри.
Таня вошла в учительскую раздевалку и сразу уви-
дела бурую, порядком засаленную дубленку. Это была
его дубленка. Шкура Зубра. Таня достала из-за пазу-
хи ландыш и осторожно положила цветок в глубокий
карман шубы учителя.
— Только не говорите, что я заходила,— сказала
Таня тете Паше.
— Ладно уж,— отозвалась старушка, наливая чай
в плоское блюдце.
Таня быстро скрылась за дверью.
Меняются теплые течения. На смену одному прихо-
дит другое. Оно так же подхватывает тебя у ворот до-
ма и так же легко и просто несет тебя мимо других
домов, через другие перекрестки. И тебе не надо заду-
мываться, где поворачивать, где идти прямо. На помошь
приходят трамваи и троллейбусы. Они, как корабли,
плывут по течению.
Старое течение приводило Таню в школу. Новое вы-
носит ее к круглому зданию цирка.
Таня приходила в цирк пораньше, чтобы успеть до
прихода Викторины Сергеевны начистить порцию ры-
бы. Она распахивала двери, включала свет. Лель под-
нимал голову и, моргая, привыкал к свету. Он издавал
скрипучий звук. Он приветствовал Таню. И сразу три
головы просовывались между прутьев.
Таня открывала холодильник. Доставала оттуда бак
с рыбой. Надевала фартук и вооружалась ножом. Она
быстро очищала три серебряные тушки, а морские львы
на это время превращались в морские камни: они за-
стывали в томительном ожидании. Таня бросала им по
рыбке. Камни оживали. Начинался новый день.
В это утро Танино внимание привлек странный звук.
Он напоминал плач ребенка. Таня механически вытер-
398
ла руки о фартук и вышла в коридор. Теперь звук до-
носился отчетливей. Он был похож на непрерывный
жалобный вой. Таня пошла на звук. Она быстро шла
по полутемному коридору и вскоре очутилась на ма-
неже.
На манеже было двое: дрессировщик Эрозии и мед-
вежонок. Дрессировщик бил маленького медведя длин-
ным бичом, а тот пятился, отворачивая морду от сви-
стящих ударов.
Таня замерла у края манежа. Ей показалось, что
хлыст не зажат в руке дрессировщика, а как бы яв-
ляется продолжением руки.
Манеж был освещен, а полукруглые, уходящие к по-
толку ряды кресел тонули во тьме. И Тане показалось,
что они заполнены зрителями. Что сотни людей затаив
дыхание смотрят на медвежонка и слушают этот пол-
ный боли и отчаяния вопль.
Таня не выдержала, она бросилась на манеж, мимо
человека, машущего рукой-хлыстом, и закричала:
— Не смейте!
Она бежала к медвежонку, как кидаются на помощь
маленькому беззащитному существу. Она забыла, что
он дикий, обиженный зверь. Что человек уже убил хлы-
стом все теплое и живое, что теплилось под этой кос-
матой шкурой.
Дрессировщик успел схватить Таню за руку и с си-
лой отшвырнул ее в сторону. Таня упала в мягкие
опилки.
— Сумасшедшая девчонка! Убирайся вон!
Таня вскочила на ноги и снова крикнула:
— Не смейте!
— Сейчас же убирайся вон! Не мешай мне рабо-
тать!
Стояла оглушительная тишина. Только стон медве-
жонка прервал ее.
Если бы огромный круглый зал был заполнен людь-
ми и если бы эти люди пришли сейчас на помощь Та-
не!.. Но зал был пуст. И эта пустота сейчас внушала
страх и отчаяние.
Таня бежала по коридорам. Она бежала и кричала:
— Все на манеж!
Никто не откликался. Цирк был пуст.
Вдруг Таня услышала за спиной голос:
399
— Что случилось, рыжая команда?
— Викторина Сергеевна... там... он... избивает...
— Кто избивает? Кого? Говори внятно.
— Эрозин... медвежонка... Идемте скорей.
— Негодяй,— тихо произнесла морская львиная
мама.
Когда они вошли в зал, там уже собралось несколь-
ко человек. Вероятно, Танин сигнал долетел до тех не-
многих служащих, которые были в цирке.
Эрозин уже не бил медведя. Он кричал на собрав-
шихся людей:
— Не ваше дело! Уходите! Уходите!
— Игорь Садыкович, так нельзя,— говорил старый
пожарный, одетый в нескладные брезентовые доспехи.
— Иди-иди, туши-гаси,— огрызался Эрозин.
И тут в разговор вмешалась Таня.
— Вы не смеете,— кричала она,— это советский
цирк!
Эрозин взорвался:
— Опять ты! Скажи спасибо, что я спас тебе жизнь!
Тебя бы медведь отделал будь здоров как. Надо было
не удерживать тебя.— И тут он закричал всем: — Если
эта девчонка такая слабонервная, то пусть она убирает-
ся из цирка И нечего устраивать общее собрание... Я за-
служенный...
Он захлебывался от злости. Викторина Сергеевна
подошла к Тане и тихо сказала:
— Пойдем, рыжая команда.
И они пошли по длинным коридорам к своим пи-
томцам.
— Он не будет больше бить? — спросила Таня.
— Не будет.
Дрессировщица все еще держала Таню за руку.
Потом она оглядела свою помощницу и сказала:
•— А ты девка что надо! Из тебя выйдет человек.
Да здравствуют рыжие неудачливые люди! Которые
суют нос куда их не просят и готовы подставить себя
под удар, когда надо защитить слабое существо, кото-
рые до последнего бьются с несправедливостью. Их веч-
но заносит в сторону. И когда занесет, они уже не мо-
гут остановиться и ударяются. Но они не отступают и
не хнычут. Они переносят гонение подлецов и не скла-
дывают оружия.
400
Да здравствует рыжая команда! Все рыжие коман-
ды! И вообще рыжий — это не цвет волос. Это цвет ха-
рактера.
Таня стояла перед закрытой дверью и тихо плакала.
Она уперлась локтем в дверь, а лицо спрятала в со-
гнутую руку. На лестнице было тихо, и каждый звук
усиливался, становился гулким, как в ущелье. Таня ти-
хо всхлипывала.
Когда нет подходящего человека, у которого можно
поплакать на плече, плачут, прислонясь к деревянной
двери. Дверь хотя не утешает, но зато не сует в нос ре-
цепты, как надо жить, и не читает морали. У двери куда
больше такта, чем у некоторых людей.
Таня оторвала лицо от руки и начала легонько по-
глаживать дверь. Дверь щербатая. Ее давно не краси-
ли, и на ней сохранились отметины, которые Таня дела-
ла, когда была девочкой. Каждый год после лета. Сей-
час эти отметины достают до локтя, до плеча, до уха.
Так Таня росла. И вот выросла.
За спиной послышалось покашливание. Таня быст-
ро обернулась. На лестничной площадке стоял Зубр.
Выпуклые глазные яблоки уставились на Таню. Из-под
шапки торчали темные космы волос. При тусклом све-
те лестничной лампочки девушка не сразу узнала его.
— Здравствуйте,— тихо сказала Таня.
Михаил Иванович сел на подоконник и поманил Та-
ню коротким пальцем.
— Садись,— сказал он хриплым голосом.
Таня послушно села рядом.
— Рассказывай!—приказал он.
— Что... рассказывать?
— Рассказывай, как подожгла дом.
Ей очень не хотелось говорить о доме. Ей вообще не
хотелось говорить о той жизни. Но Михаил Иванович
просил.
— Значит, взяла спички,— нехотя сказала Таня.—
И подожгла. Вот и все.
— И дом сразу вспыхнул?
— Нет, он разгорался медленно.— Таня начала вхо-
дить в свою роль.— Сперва загорелся первый этаж. По-
том второй, потом,,.
401
— ...третий, четвертый, пятый,— подхватил Михаил
Иванович.— Только ты упустила одну деталь.
— Какую?
— Маришу.
— Ах да, Маришу,— не сдавалась Таня.— Я подо-
жгла дом, а там была Мариша... Что вы на меня так
смотрите?.. Я вынесла Маришу... Откуда вы знаете про
Маришу?
— Знаю,— буркнул Михаил Иванович и сунул руку
в карман.
— А как же с домом? — неуверенно спросила Таня.
— С каким домом?
— Ну, с тем, который я подожгла.
— Этого дома не существует.
— Нет, он существует. Я подожгла его. Разве вы но
верите? Все верят. Спросите ребят. Спросите Генриет-
ту Павловну.
— А я не верю,— отрубил Зубр.
— Вы должны верить, раз все верят.
— Замолчи! — сердито прикрикнул он и сразу ото-
шел, успокоился и, уже успокоенный, сказал:—Иди до-
мой. Завтра придешь в школу.
Таня покачала головой.
— Я больше не приду в школу. Я работаю.
— Не валяй дурака.
— Я не валяю. Я теперь работаю в цирке. Все улади-
лось.
— Ты говоришь мне правду?
— Да, правду. Я работаю в цирке. Рабочей по ухо-
ду за животными. Ухаживаю за морскими львами, чи-
щу рыбу. Разве вы не чувствуете—от меня рыбой пах-
нет?
Таня соскользнула с подоконника, подошла к двери
и позвонила.
Потом она быстро подошла к Зубру и скороговоркой
сказала:
— Вы здесь ни при чем. До свидания. Я люблю вас.
— И все-таки ты придешь завтра в школу,— твердо
сказал Зубр и медленно стал спускаться по лестнице.
Поздно вечером Таня спросила Павлика:
— Ты любишь зубров?
— Не знаю,— неуверенно сказал он.
402
— А ты слышал о зубре Пульпите?
— Нет.
— Это удивительный зубр. Он родился на юге, а
его маленьким перевезли на север.
— Ну и что из этого?
— Молчи. Тебе все кажется просто: родился на юге,
перевезли на север. А для зубра это оказалось не про-
сто. Он вырос, и его потянуло в родные места... Он их
не помнил, потому что на юге был крохотным зубрен-
ком. И его потянула не память, что-то другое.
— Инстинкт?
— Нет. Инстинкт — это очень примитивно. Зубра
влекло беспокойство.
— И что же сделал твой зубр?
— Он разбил головой ограду и двинулся на юг... Ты
когда-нибудь видел зубров?
— По-моему, нет.
— Так вот, представь себе огромное существо, по-
крытое бурым войлоком. Вместо шеи — бугор, тоже вой-
лочный. Рога короткие, полированные, изогнутые внутрь.
Глаза навыкате. Под нижней губой бородка — клок
войлока. И дыхание такое сильное и жаркое, что во-
круг тают снежинки... И вот этот зубр идет по полям,
по дорогам, по деревням...
— И все разбегаются?
— Ничего подобного. Дети подходят к нему и кор-
мят его с руки.
— Откуда они знают, что он не подденет их на рога?
— Они угадывают. Глаза у зубра налиты кровью и
смотрят грозно, исподлобья. Рога нацелены в каждого,
кто приближается. А дети подходят спокойно, и он теп-
лым языком слизывает с их ладоней сахар.
— Странный зубр.
— Ничего странного. В том-то и дело, что зубр обык-
новенный. Но в нем пробудилось беспокойство, и ему
кажется, что во всех пробудилось такое же чувство. Его
никто не боится. Его никто не пугает. Ночует он в дерев-
нях. Рядом с коровниками. Но внутрь не заходит. На-
верное, стесняется... Ты что-нибудь понял?
Павлик уставился на Таню непонимающими глазами.
— Я так и знала,— сказала Таня.— Я так и знала,
что ты не поймешь. Этот зубр похож на нашего учите-
ля— Михаила Ивановича. Он такой же... без шеи, и bo-
40’3
лосы у него торчат, как войлок, а на лбу — две припух-
лости: кажется, прорежутся рога. Но не в этом дело.
— Объясни, наконец, в чем же дело?
— Не кипятись... Дело в том, что он тоже сломал
ограду и идет напролом. Он самый справедливый чело-
век в школе. Он только с виду страшен, как Пульпит.
Он смотрит исподлобья и идет с севера на юг...
— По школьным коридорам?
— Где придется. Всюду. Ты не смеешься?
— Нет.
Таня внимательно посмотрела на него — проверила,
не смеется ли он,— и сказала:
— Хорошо, что ты ни разу не рассмеялся. Я боя'
лась, что ты будешь смеяться.
Таня пошла в школу только из-за Зубра. Из-за его
доверчивых глаз. Из-за его хрипловатого голоса. Из-за
того, что он терпеливо поджидал ее на пустой полутем-
ной лестнице.
Еще она пошла потому, что хотела хоть раз в жиз-
ни почувствовать себя в школе свободно и независимо.
Теперь она не обязана спрашивать разрешения, покор-
но плестись к доске, усиленно делать вид, что слушает
урок. И глаза Генриетты Павловны могут смеяться
сколько угодно. Она не обязана смотреть в эти глаза,
а в любую минуту может повернуться к ним спиной.
Но не это было главным, что в тот день заставило
Таню изменить новому течению и пуститься в путь по
старому. Таня надеялась увидеть Князева.
Все эти дни в той, другой жизни он был с ней. Он
шел рядом с ней в цирк. А когда она кормила своих но-
вых питомцев, стоял за ее плечом. Таня подолгу рас-
сматривала его и вела с ним разные разговоры. Она
спрашивала его:
— Правильно я поступаю?
А на большой глубине возникал вопрос, который она
даже мысленно не решалась задать:
«Нравлюсь ли я тебе? Или, может быть, тебе нра-
вится Генриетта Павловна?»
Она спрашивала, а он молчал. Даже в Таниных мыс-
лях он оставался неразговорчивым, непонятным, ни на
кого не похожим.
404
Таня устала думать о нем. Ей хотелось увидеть его
наяву. И она отправилась в школу.
Перед этим она долго рассматривала себя в зерка-
ло. Красный огонь погас. Волосы приняли свой обычный
цвет. Они были рыжими и никакими больше... Большой
рот, длинная шея, на висках золотой пушок...
Если в пятнадцать лет ты недостаточно хороша со-
бой, не падай духом. Выровняешься. Все острые углы
округлятся. Яркие краски приглушатся. А большой рот
неожиданно придаст лицу известную привлекательность.
После пятнадцати лет можно здорово похорошеть.
Чем ближе Таня подходила к школе, тши трудней
ей было идти. Словно старое доброе течение ушло на
глубину и путь затянуло льдом.
Она прошла мимо дома, где был пожар и где жила
Мариша. Окна на втором этаже сверкали новыми стек-
лами. И только черный след на стене напоминал о по-
жаре.
Может быть, остановиться? Вскочить на подножку
трамвая и уехать к морским львам? Они небось просу-
нули головы между прутьями клетки и смотрят на
дверь, ждут свою Таню.
Таня не вскочила на подножку трамвая. Она при-
шла в школу.
Шли занятия. Таня тихо поднялась на второй этаж.
Ей хотелось пройти по коридору шумной независимой
походкой. Но она почему-то шла на носочках. Она по-
дошла к своему классу. Остановилась у двери и при-
слушалась. Оттуда доносился знакомый голос англи-
чанки. Она с таким напряжением произносила слова,
словно при этом привставала на носочки.
— Выз-з-з-з, ыз-з-з...
Так Таня дошла до учебной части.
— Пришла? — спросил Михаил Иванович, не под-
нимая глаз.— Садись.
— Спасибо,— сказала Таня и села на кончик стула.
Он писал, а она сидела и ждала, что будет дальше.
— Так вот,— не глядя на Таню, сказал Михаил
Иванович,— с сегодняшнего дня цирк отменяется. Это
я тебе говорю.
Ах, этот Зубр! Он хочет поднять Таню на рога, но у
него ничего не выйдет.
— Что вы от меня хотите? — Таня встала со сту-
405
ла.— Я работаю. Родители об этом знают. Все улади-
лось. Все в порядке.
— Нет, не все в порядке. Сядь!
Зубр встал и запихнул руки в карманы.
— Нет, не все в порядке. Когда человек обижен...
— Я не обижена.
— Обижена! А обижать тебя не следовало...
Он замолчал и стал ходить по комнате.
Таня задумалась. Она почему-то вспомнила пожел-
тевшую, порвавшуюся на сгибах бумагу, на которой
был напечатан приказ, где маме за обнаружение вра-
жеского самолета объявлялась благодарность. И она
представила, что приказ тогда читал Михаил Иванович,
четко и твердо произнося каждое слово.
— Из преступников в герои,— тихо сказала Таня.—•
Как у вас просто получается.
— Это у вас просто получается.— Зубр начал сер-
диться. Встал и опять стал ходить по комнате.
Потом он запустил пятерню в темную копну.
— Как здоровье медвежонка?
Он все знал! И о Марише и о медвежонке. Таня
опустила глаза.
— Так как здоровье медвежонка, рыжая команда?
Таня вскочила со стула. Она не знала, что делать:
хлопнуть дверью или... Он окружил ее со всех сторон,
этот непоседливый Зубр, который вечно идет с севера
на юг, не разбирая дороги и ни перед чем не останав-
ливаясь, идет потому, что его ведет вперед непреходя-
щее беспокойство.
— Сядь,— сказал он.
Таня села.
Зазвенел звонок. За дверью нарастал гул голосов,
топот ног, крики. Можно было подумать, что все бегут
от стихийного бедствия. Но просто началась перемена.
Дверь отворилась. На пороге стояла Генриетта Пав-
ловна. Заметив Таню, учительница попятилась, хотела
уйти. Но Михаил Иванович жестом пригласил ее войти.
— Здравствуй, Таня,— сказала учительница.— Как
поживаешь?
Таня молча стояла перед учительницей и смотрела
ей в глаза. Глаза не смеялись. Полукруглые брови и
тени под глазами сомкнулись. Образовали два круга.
Генриетта Павловна стала похожей на грустную сову.
406
Таня сделала это открытие, и внутри что-то смягчилось,
потеплело.
Михаил Иванович отвернулся к окну, как будто все
происходящее не интересовало его.
Девочка и учительница молчали. Наконец Таня не
выдержала и сказала:
— Все в порядке.
Тут в разговор вмешался Михаил Иванович:
— Что — все в порядке? Что — все в порядке? Ушла
из школы — и все в порядке? Завтра к первому уроку
быть в школе. И не опаздывать. И никаких цирков.
Кончишь школу, тогда отправляйся в цирк. Сейчас уро-
ки кончились. Иди домой... А за Маришу тебе спасибо.
Таня и Генриетта Павловна стояли рядом и смот-
рели на Михаила Ивановича. Он ходил перед ними от
стены до стены, и все говорил, и мучился от своих слов.
Словно все слова попадались маленькие, неподходящие,
из совсем другого, заурядного разговора, а нужных слов
не было под рукой. И он сердился.
— Не понимаю, как из таких рыжих девчонок вы-
растают настоящие люди? А ведь вырастают! Но преж-
де чем вырастут, они нам плешь проедят, измотают нер-
вы, выставят нас в самом дурацком свете. И в резуль-
тате мы еще окажемся виноватыми. А? Что вы на это
скажете?
Он говорил так, как будто Таня уже ушла и его слу-
шает одна Генриетта Павловна.
— Тут надо быть сверхчеловеком. Молчать. Му-
читься и улыбаться. И все-таки у нас с вами стоящая
работа, Генриетта Павловна... Ты еще не ушла? — Это
он Тане.— Иди, иди. Нечего слушать, когда взрослые
разговаривают.
Таня направилась к двери.
— Стой!.. Завтра первый урок мой. Спроси у ребят,
что задано. А теперь пошла, пошла... Интересно, где
зимой растут ландыши? — И, не дожидаясь Таниного
ответа, легонько вытолкал ее в коридор.
Он ждал ее перед школой. Не спеша ходил взад-
вперед, как будто просто прогуливался. На самом деле
он ждал ее. Таня сразу почувствовала это, но стояла
на крыльце и оглядывалась по сторонам. На самом деле
она набиралась смелости, чтобы подойти к нему.
407
Так продолжалось несколько мгновений. Он прогули-
вался, а она смотрела по сторонам. Потом Таня спусти-
лась с крыльца, и он подошел к ней.
— Здравствуй!
— Здравствуй.
Они пошли рядом.
Таня была в своей неизменной куртке. Руки в кар-
манах. Локти прижаты к бокам. Голова не покрыта. Ее
слегка познабливало от ветра. Вскоре ее волосы пере-
мешались со снегом и в ранних сумерках уже не горели
рыжим огнем, а стали голубоватыми.
Он шел рядом. Высокий, худой. В коротком пальто
с поднятым воротником. Тоже с непокрытой головой.
Сейчас Тане он казался совсем необычным, ни на
кого не похожим пришельцем с другой планеты. Она
все скашивала глаза и все старалась, чтобы он не за-
метил, что она скашивает глаза.
Вокруг них колобродил снег. Он обвил их множест-
вом мохнатых нитей, и оба они как бы очутились в
невесомом снежном коконе. Сквозь белые стенки коко-
на не проникали ни ветер, ни холод, ни разноголосица
города.
Они молчали. Но каждый про себя напряженно ду-
мал об идущем рядом.
Они заполнили друг друга собой, своими мыслями,
своей стыдливостью, своей никому не ведомой радо-
стью.
Белый кокон становился все теснее, и они незамет-
но для себя прижались друг к другу плечами. Танино-
му плечу стало тепло, так здорово тепло.
Неожиданно он сказал:
— Я люблю снег.
— Я люблю антоновские яблоки,— отозвалась Таня.
— Я люблю синие сумерки.
— А я люблю зубров.
В их тихой перекличке не было особого смысла. Но
каждая фраза начиналась словами «я люблю». Эти сло-
ва невольно стали важными, необходимыми. Они долж-
ны были звучать не умолкая. Потому что, если они по-
гаснут, затеряются в хлопьях снега, жизнь остановится.
— Я люблю запах цветущей липы.
— Я люблю пение трамваев на повороте.
408
Их позывные начинались словами «я люблю», потому
что весь мир был для них любимым.
— Я люблю росу на листьях,— говорил он.
— А я люблю морских львов,— откликалась она.
И вдруг он остановился, посмотрел на Таню и в том
же ритме произнес:
— А я люблю... рыжих.
Эти слова вырвались наружу помимо его воли. Сами
по себе. Таня испуганно посмотрела ему в глаза. Они
были прищурены, а на ресницах держалось несколько
снежинок, и на зеленом кольце Сатурна тоже лежал
снег. Таня испугалась его голоса. Испугалась белого
снежного кокона. Испугалась себя. Опа кинулась бе-
жать. Нет, нет, она убегала не от него. Она спасалась от
самой себя. Она бежала долго. По улице, через пло-
щадь, не разбирая дороги. Она очутилась на набережной
и остановилась. А сердце еще продолжало бежать. Она
слышала его удары-шаги.
И вдруг Таня зажмурилась и засмеялась от счастья.
...Эй, звезды, держитесь крепко за небо! Как разбе-
гусь, как подпрыгну, как достану самую крупную! А по-
том буду перебрасывать горячую звезду с ладони на
ладонь, как печеную картошку, вынутую из костра.
Эй, рыбы, прячьтесь поскорее в темных водорослях!
Я сейчас опаснее самой зубастой щуки. Могу вскочить
па перила моста, и прыгнуть в глубокую воду, и ухва-
тить за хвост любую из вас — какая придется по вкусу.
Берегитесь, желтоглазые машины, и отходящие поез-
да, и витрины, освещенные, как сцена театра, и деревья,
и фонарные столбы, и старушки, седые от мудрости.
Я могу сейчас все перевернуть, перепутать, превратить
в сплошной веселый хаос. Я не пьяная и не сошла сума.
Я, кажется, счастливая, а когда человек счастлив, он
распоряжается рыбами, звездами, поездами и старуш-
ками. Всем!
НЕМНОГО О СЕБЕ
Каждый день моего детства был связан с мамой.
Озабоченная и радостная, спокойная и печальная, она
всегда была рядом. Она вела нас с сестрой через трудную
жизнь, создавая на нашем пути теплое, незамерзающее
течение. В последний раз я видел маму на запасных пу-
тях московского вокзала, у воинского эшелона. Я был
подстрижен под машинку, но форму еще не получил.
Это было в ноябре 1940 года, за полгода до начала вой-
ны. Мне было тогда восемнадцать лет.
Мама погибла во время блокады в Ленинграде, летом
1942 года. Я был далеко от Ленинграда. Моя младшая
сестренка осталась одна.
Есть люди, которые удивительно скрупулезно помнят
свою жизнь. Их память высвечивает в далеком детстве
стройную цепь существенных и несущественных событий.
Не берусь соперничать с ними. Мое детство хранится в
моих рассказах. Оно звучит в них как эхо. То громче, то
слабее. Многие свои незабытые переживания я передал
и продолжаю передавать героям своих рассказов.
Очень хорошо помню запах свежего кумача. Стою на
сцене вместе с другими ребятами и, запинаясь от волне-
ния, произношу слова Торжественного обещания: «Я,
юный пионер СССР...» Потом мне повязывают красный
галстук, и я вдыхаю в себя неповторимо радостный запах
кумача.Тогда еще не было шелковых пионерских гал-
стуков.
Помню морозный декабрьский день, когда весь Ле-
нинград вышел на улицы и замер в скорбном молчании.
Самый любимый ленинградцами человек — Сергей Ми-
ронович Киров погиб от руки врага... Еще помню приезд
в Ленинград испанских детей — маленьких республикан-
цев. Мы встречали их в порту. Они спускались по трапу,
держа у правого плеча сжатый кулак. И мы тоже сжима-
ли кулаки и подносили их к плечу. «Рот Фронт! Но паса-
ран!..» Некоторых детей сносили с корабля на носилках:
они были ранены.
Так надвигалась война. Сквозь время и сквозь страны
она грозно и неумолимо приближалась к нашей земле,
к нашей жизни. Моя юность связана с войной, с армией.
Шесть лет я был рядозым солдатом.
Война была одна, но у каждого человека своя военная
410
дорога. Не все дороги прошли через всю войну... Многие
обрывались задолго до Дня Победы. Я был зенитчиком,
и наша шестая батарея стояла под Москвой, у деревни
Фуники. Враг был еще далеко от Москвы, а мы уже вели
бой. Каждый день были налеты вражеской авиации.
Рвались бомбы. Свистели осколки. Тянулись веселые
огоньки смертоносных трассирующих пуль. Мы были на
местах. Мы вели огонь. Когда сам стреляешь, не так
страшно. Нажыа батарея стояла перед противотанковым
рвом, и наши пушки были без колес — у нас не было
возможности отступать и не было мысли об отступлении.
С каждым днем фронт приближался. В самый критиче-
ский момент немцы были от нас в нескольких километ-
рах. И между нами и немцами не было ни одного пехо-
тинца. В эти дни я подал заявление в партию.
Мы знали, что из-за леса вот-вот выползут немецкие
танки. На брустверах наших орудийных двориков лежа-
ли ящики с бронебойными снарядами.
Неожиданно через наши головы ударили «катюши».
Началось наступление наших войск.
И еще я писал стихи. Первое стихотворение написал
в школе. На смерть Пушкина. Оно начиналось так:
Сто лет тому назад,
На месте том, у Черной речки,
Где редок мир людской,
Коварный выстрел, роковой
Раздался в тишине зловещей...
Война превратила мои детские упражнения стихами
в страсть. Я почувствовал, как велика сила поэзии, когда
она вплотную соприкасается с жизнью.
Писал стихи, когда удавалось и где удавалось. Чаще
ночью при свете коптилки, сделанной из снарядной гиль-
зы. Иногда пристраивался рядом с сапожником в его
крохотной землянке. Всю войну был активным военкором
газеты «Тревога». В газете часто печатались мои стихи и
очерки и материалы о боевом опыте зенитчиков. Война
вывела на ближние подступы к литературе.
Есть события, которые время делает более значимыми
и зримыми, поворачивает новыми, неожиданными граня-
ми. Такова война для тех, кто пережил ее. Может быть,
потому о войне, я и начал писать через много лет после
того дня, когда отгремел салют Победы.
В Литературный институт имени Горького я пришел
еще в солдатской шинели. Через несколько лет в «Знаме-
ни» появились циклы моих армейских стихов, тепло
напутствуемых Николаем Тихоновым. Тогда же началось
знакомство с Михаилом Аркадьевичем Светловым и боль-
шая многолетняя дружба с Львом Кассилем, Сергеем
Михалковым, Анатолием Алексиным. Институт окончил
в'1952 году, уже будучи автором нескольких книг, членом
Союза писателей. Старая шинелька, которую я еще долго
носил после армии, сносилась. Военная жизнь осталась
позади. Началась новая жизнь.
Моя первая книга называлась «Наш адрес». Она вы-
шла в 1949 году в Детгизе — в издательстве, которое
стало для меня родным домом и сыграло немалую роль
в моей жизни. «Наш адрес» была детской книгой.
Наш адрес необычный,
Живем мы за рекой,
У площади Черничной,
В проезде Земляничном,
На улице Грибной.
С первых шагов в литературе писал для взрослых и
для детей о детстве и войне — о том, что сам пережил
и что знал. И с тех пор остаюсь верен этим горизонтам
жизни.
В детстве я не отличался трудолюбием. Трудолюби-
вым меня сделала поэзия, позднее — проза. Для меня
литература была и остается не только работой, но и
страстью, которая взяла верх над всем остальным.
Как я жил? Сотрудничал в газетах и журналах и
ездил по стране. Был на строительстве Волго-Донского
канала и Сталинградской ГЭС; в колхозах Винницкой
области и у нефтяников Баку; участвовал в учениях
Прикарпатского военного округа и шел на торпедном
катере по пути дерзкого десанта Цезаря Куникова; сто-
ял ночную смену в цехах Уралмаша и пробирался в
плавни Дуная с рыбаками; гостил в военных и пионер-
ских лагерях; несколько раз возвращался к руинам
Брестской крепости и изучал жизнь сельских учителей
Рязанской области; встречал в море флотилию «Слава»
412
и бывал на погранзаставах Белоруссии. И встречался с
ребятами в школах, библиотеках, детских домах —во
всех уголках страны. И всегда стремился не «собирать
материал», а пожить жизнью своих героев.
В 1960 году в «Огоньке» появился мой первый рас-
сказ «Станция Мальчики». Это был переходный момент
в моей творческой жизни. Так стал прозаиком.
Но я не изменил поэзии. Поэтические образы пере-
кочевали из стихов в рассказы, а ритмы стихов смени-
ли ритмы прозы. Не мыслю себе рассказа без внутрен-
него ритма, без строгого построения, без поэтической ат-
мосферы.
Рассказы я пытался писать и раньше и даже выпу-
стил две тоненькие книжки («Пост номер один» и «Со-
звездие паровозов»), но по собственному суровому сче-
ту все началось со «Станции Мальчики».
Вслед за этим рассказом появился рассказ «Маль-
чик с коньками», ставший верным спутником многих
моих книг.
В жизни писателя всегда большую роль играет под-
держка журнала, газеты, издательства. Сознание того,
что кто-то ждет твои произведения, радуется твоим
удачам, хочет помочь тебе встретиться с читателями,
имеет большое значение. В моей новой «прозаической»
судьбе такую роль сыграл «Огонек», а затем «Изве-
стия». Дружба с «Известиями» началась с рассказа
«Собирающий облака», отмеченного первой премией ре-
дакции. И с тех пор почти все, что выходит из-под моего
пера, попадает в «Известия».
Я всегда любил животных: собак, лошадей, коров.
И кошек. И зверей, которые сидят в клетке, но которых
так мучительно хочется погладить и почесать за ушком.
В последние годы у меня появилось не мало (но и не
много!) рассказов, связанных с животными. И все на-
чалось с того, что в доме сперва появилась одна собака:
Динго — Доня, Донюшка. Потом тринадцать щенков.
Потом из тринадцати с нами осталась Эгри — Люля,
Люлечка. Эти две собаки как бы открыли мне путь ко
всем зверям. Я глубже и сильнее стал любить мир жи-
вых существ. В моей жизни собака — новый, с ее по-
мощью открытый, горизонт жизни. Новая запевшая
струна. Новые переживания, страдания и радости.
413
Я убежден, что тот, кто любит собак или других живот-
ных, больше любит людей.
Есть писатели, которые стесняются называться «дет-
скими». Я — детский писатель и горжусь этим званием.
Люблю своих маленьких героев и своих маленьких чи-
тателей. Мне кажется, что между ними нет границы, и
я как бы одним рассказываю о других. В детях всегда
стараюсь разглядеть завтрашнего взрослого человека.
Но и взрослый человек для меня начинается с детства.
Я не очень-то люблю таких людей, которых невозможно
представить себе детьми. В настоящем человеке до по-
следних его дней сохраняется драгоценный запас дет-
ства. Самое чистое и самое самобытное в человеке свя-
зано с детством. А мудрость, ум, глубина чувств, вер-
ность долгу и многие другие замечательные качества
взрослого человека никогда не вступают в противоречие
с его неприкосновенным запасом детства.
Большое место в моей жизни занимает работа в ки-
нематографии. У меня за спиной несколько полномет-
ражных художественных фильмов: «Пущик едет в Пра-
гу», «Первая Бастилия», «Всадник над городом», «Мы
с Вулканом», «Красавица». С большим увлечением ра-
ботаю на студии мультипликационных фильмов. «Белая
шкурка», «Умка», «Бабушкин зонтик», пожалуй, самые
удачные из мультфильмов, снятых по моим сценариям.
Есть вещи, которые на первый взгляд не кажутся
стоящими в одном ряду. Любовь к родной природе, к
земле, ко всему живому, что пробивает себе путь к жиз-
ни, эта любовь кажется очень далекой от войны, от по-
двигов, от смерти. Но добро должно быть сильным, му-
жественным, оно должно быть под надежной защитой —
только тогда оно победит и восторжествует. Вот почему
мои рассказы о войне, и рассказы о детях, и рассказы о
четвероногих друзьях стоят в одном ряду, дополняют
друг друга и служат одному делу.
Когда смотрю на большую, могучую реку, меня все-
гда интересует робкий, едва заметный ручеек, который
дает ей начало. После долгих раздумий я пришел к
простой истине, что любовь к Родине начинается с люб-
ви к матери. А человек начинается с его отношения к
матери. И все лучшее, что в человеке, достается ему от
матери.
Ю. Яковлев
СОДЕРЖАНИЕ
Мальчик с коньками.......................... 5
Перемена погоды..............................33
Багульник................................. 38
Друг капитана Гастелло.......................46
Где начинается небо..........................53
Реликвия.....................................56
Последний фейерверк ........................ 61
Он убил мою собаку...........................72
Сын летчика..................................77
Бамбус.......................................92
Разбуженный соловьями.......................102
Доставала сладостей....................... 112
Мишин учитель .............. 116
Где стояла батарея .........................122
Сердце земли................................126
Собирающий облака...........................139
Сапер.......................................147
Пленный................................... 151
Рыцарь Вася.................................162
Девочка с Васильевского острова ........... 168
Яблочки зеленые.............................173
А Воробьев стекло не выбивал................177
Стриженый черт..............................184
Цветок хлеба................................191
Помните Гришу!..............................195
Обвинение...................................199
Пятый ......................................207
Письмо с вулканического острова.............213
Временный жилец.............................213
Всадник, скачущий над городом...............235
Неотступный.................................244
Игра в красавицу............................250
Письмо Марине...............................257
Жених и невеста.............................262
Скрипка................................... 275
Зимородок...................................279
Непослушный мальчик Икар....................334
Гонение на рыжих.......................... 361
Немного о себе..............................410
ДЛЯ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА
Юрий Яковлевич Яковлев
БАГУЛЬНИК
Ответственный редактор Е. /И. Подкопаева
Художественный редактор М. Д. Суховцева
Технический редактор В. К. Егорова
Корректоры Л. М. Агафонова и Э. Л. Лофенфельд
Сдано в набор 21/Х 1974 г. Подписано к печати
14/IV 1975 г. Формат 84X108*/32. Бум. типогр. № 1.
Печ. л. 13,06. Усл. печ. л. 21,94. Уч.-изд. л.
22,31 + 1 вкл.=22,35. Тираж 100 000 экз. Заказ 3606.
Цена 96 коп.
Ордена Трудового Красного Знамени издательстзо
«Детская литература». Москва, Центр, М. Чер-
касский пер., 1. Ордена Трудового Красного Зна-
мени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполи-
графпрома Государственного комитета Совета Ми-
нистров РСФСР по делам издательств, полигра-
фии и книжной торговли. Москва. Сущевский
вал, 49.
Яковлев Ю. Я.
Я47 Багульник. Рассказы. Переиздание. Рис.
Ю. Зальцмана. Оформление И. Фоминой. М., «Дет,
лит.», 1975.
415 с. с ил.
Избранные рассказы известного детского писателя.
Р2