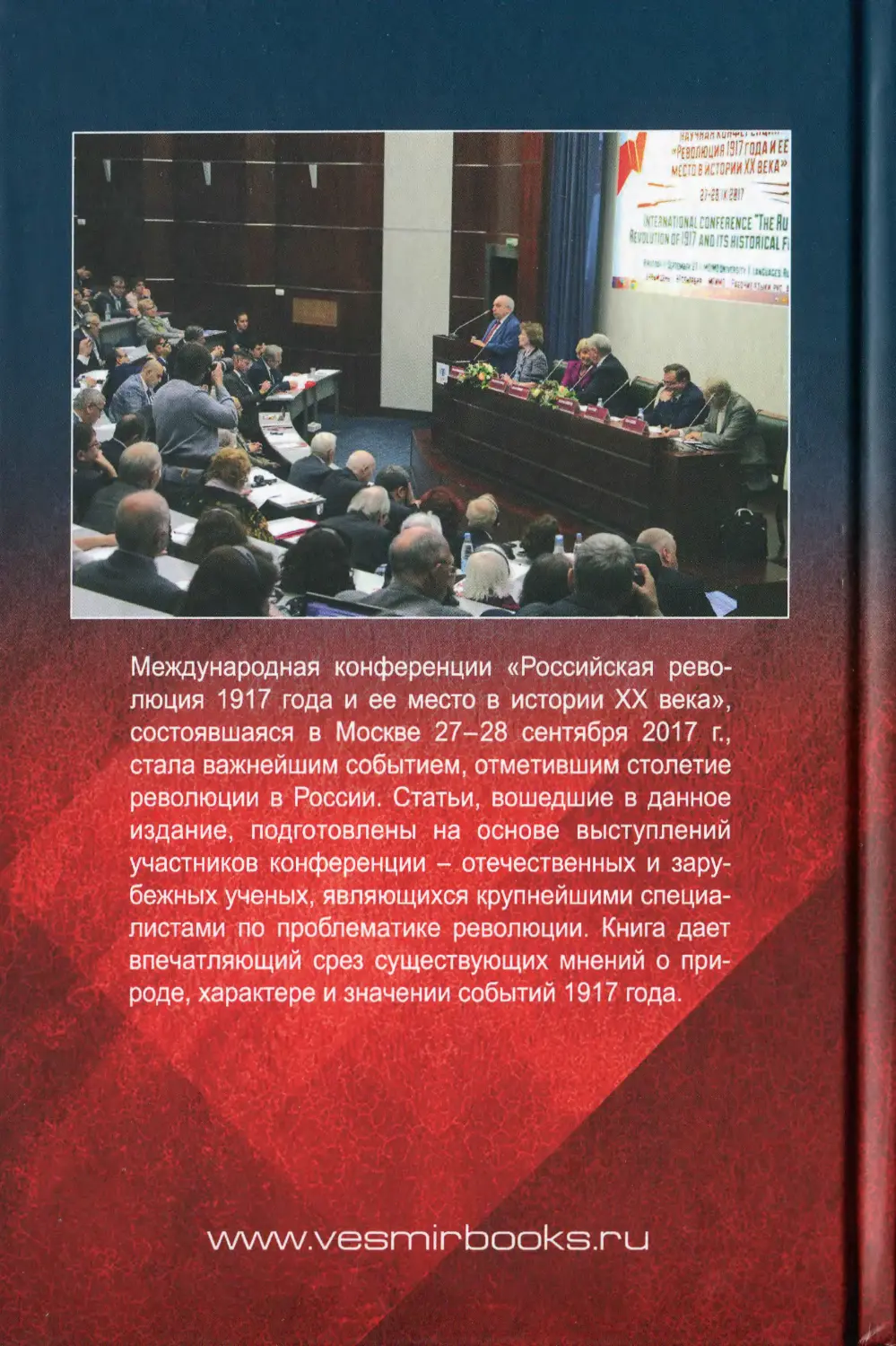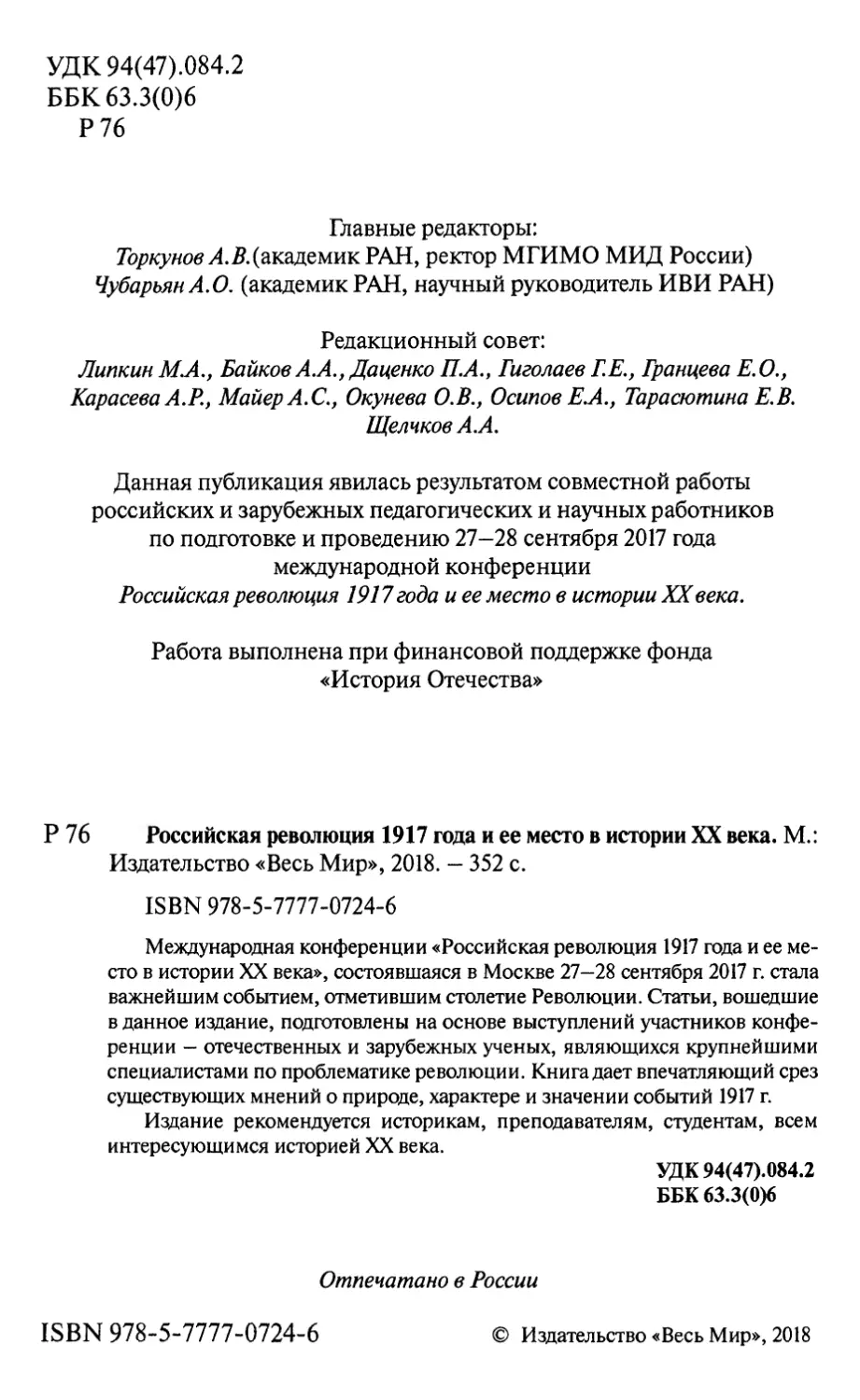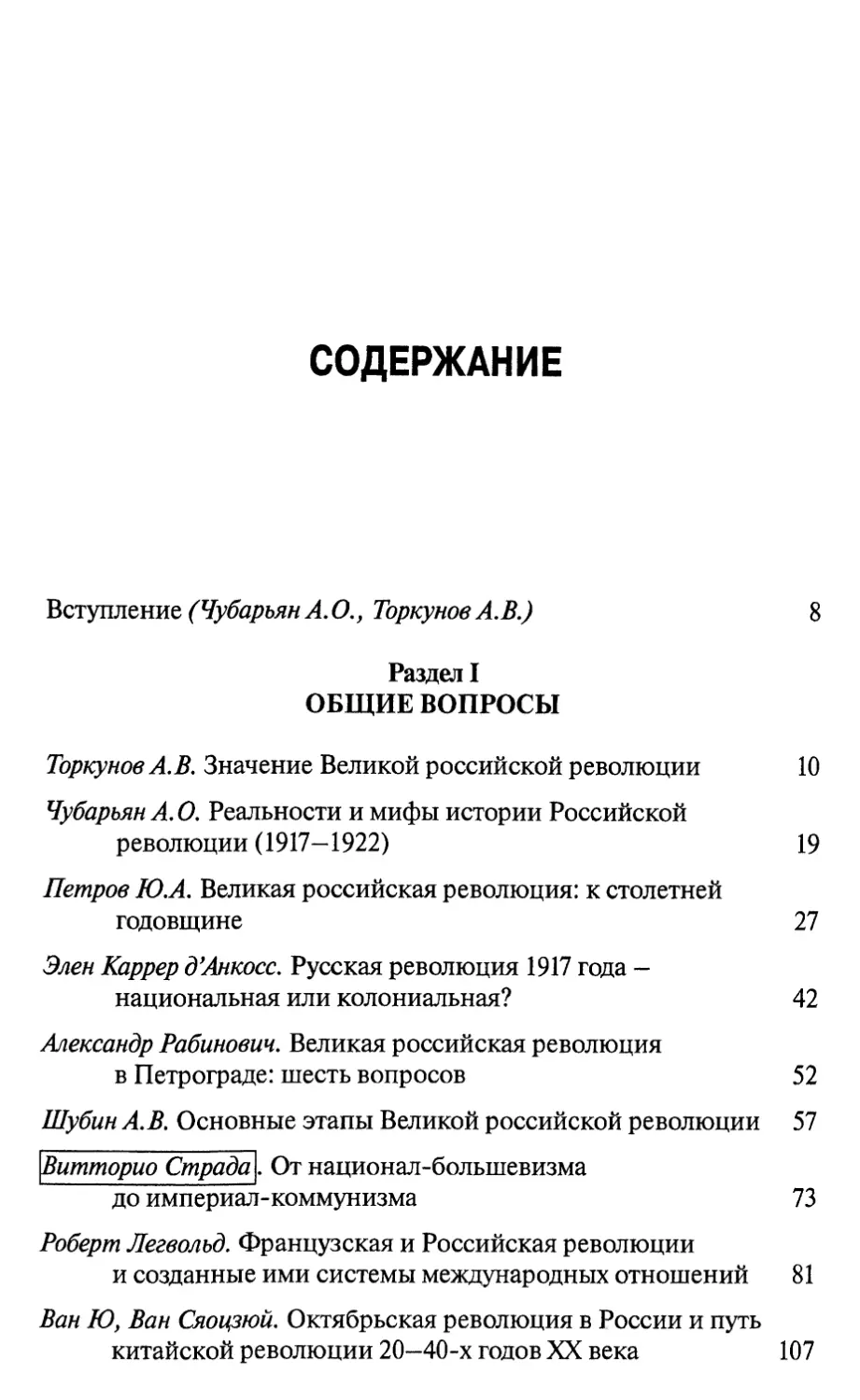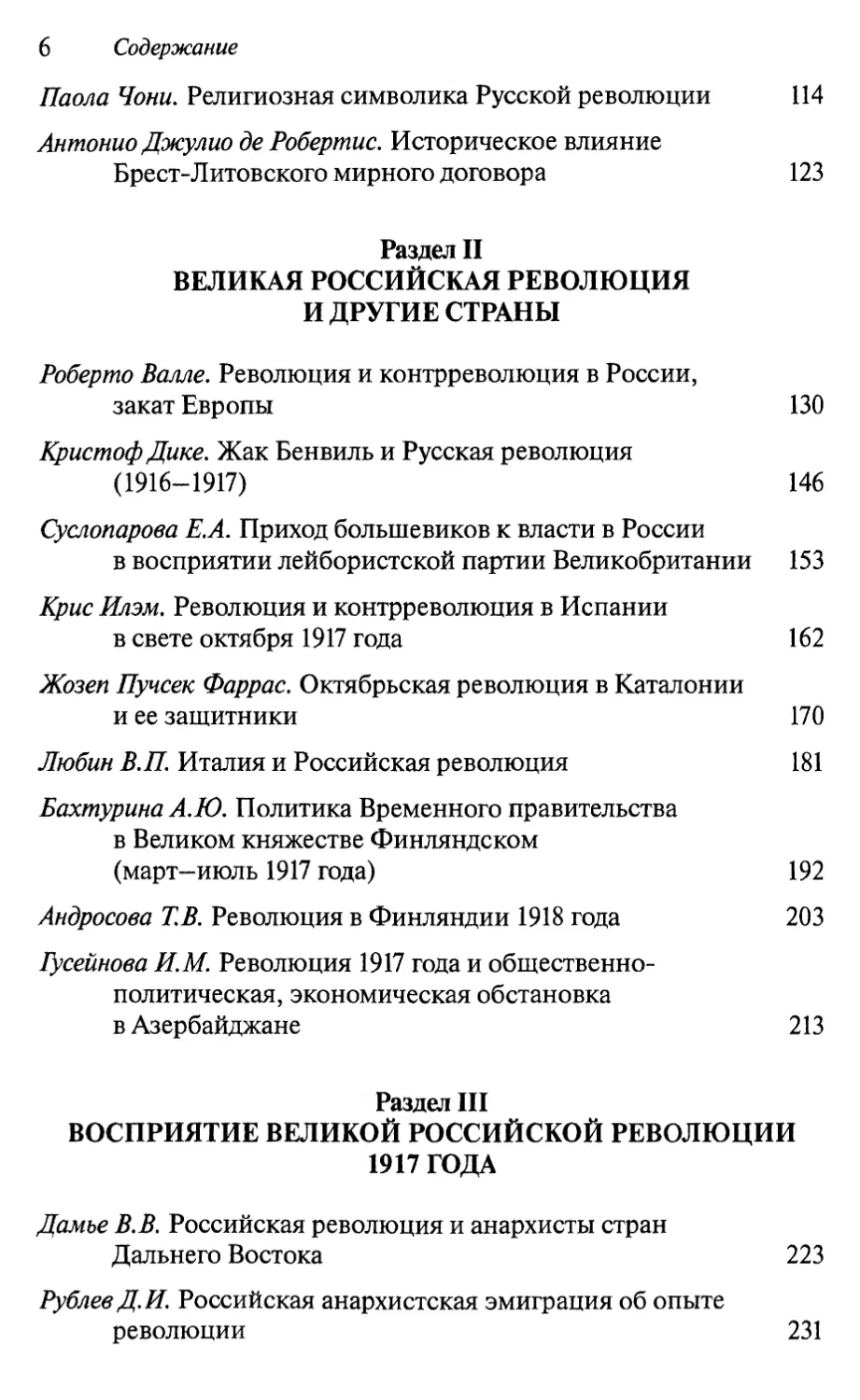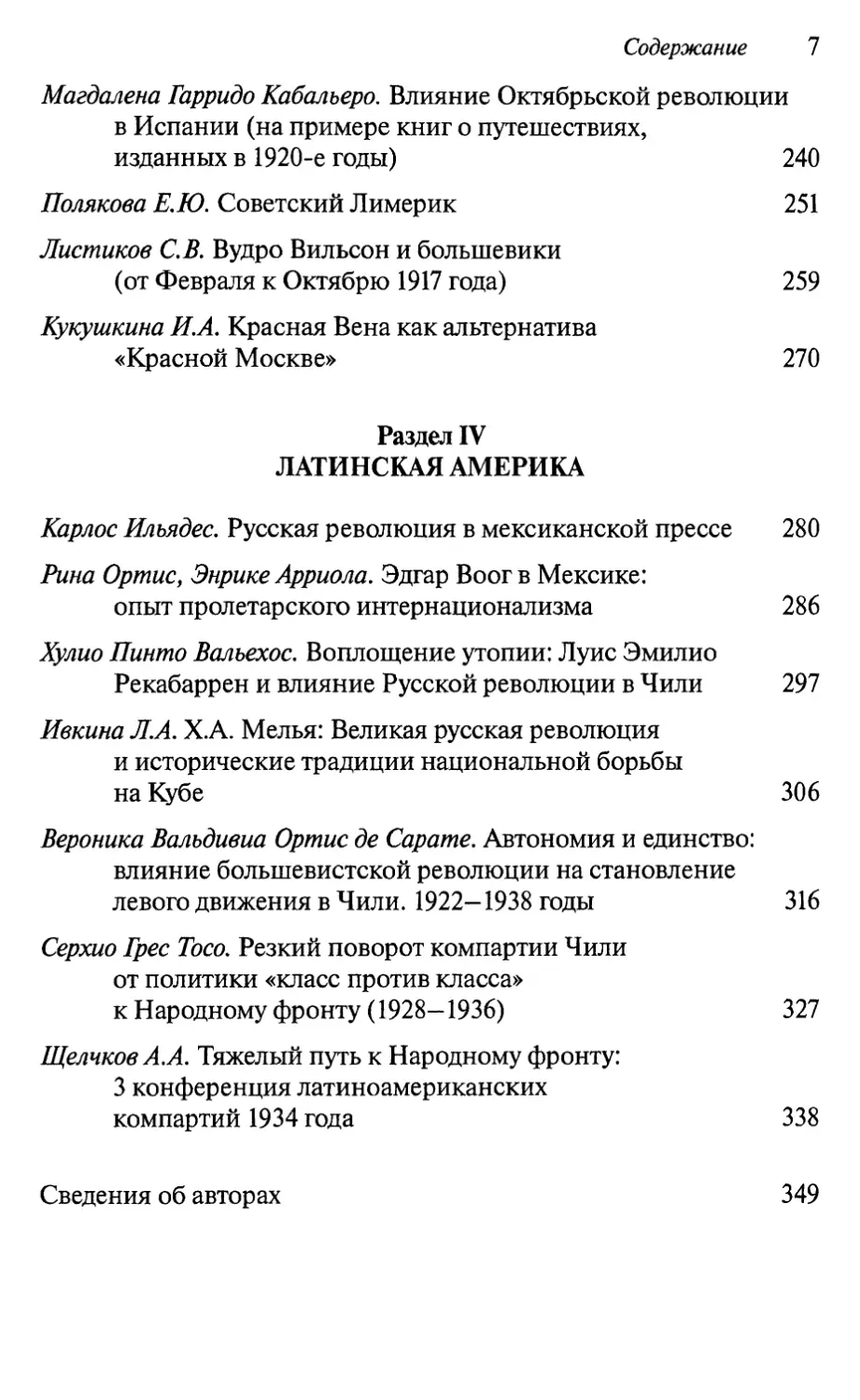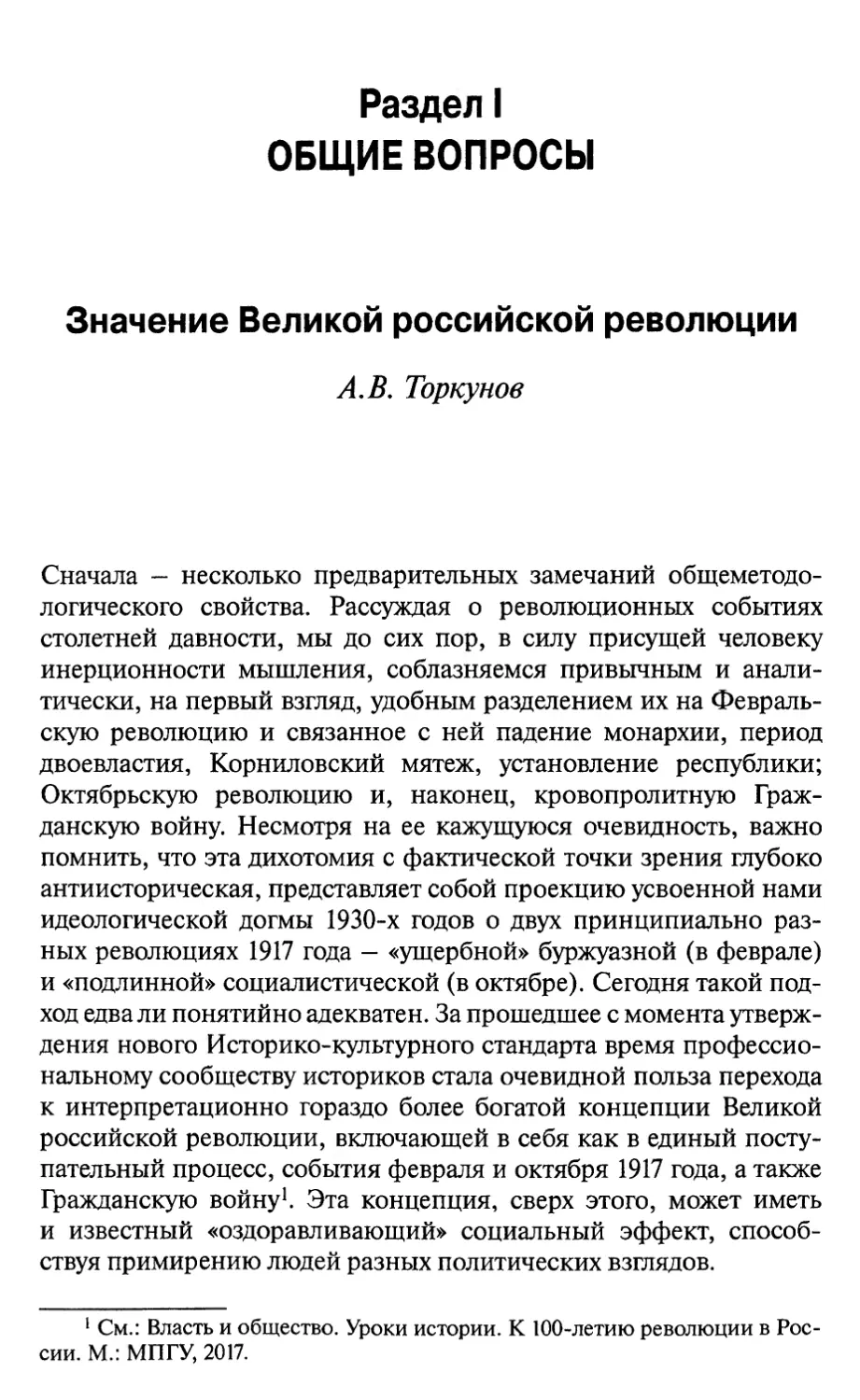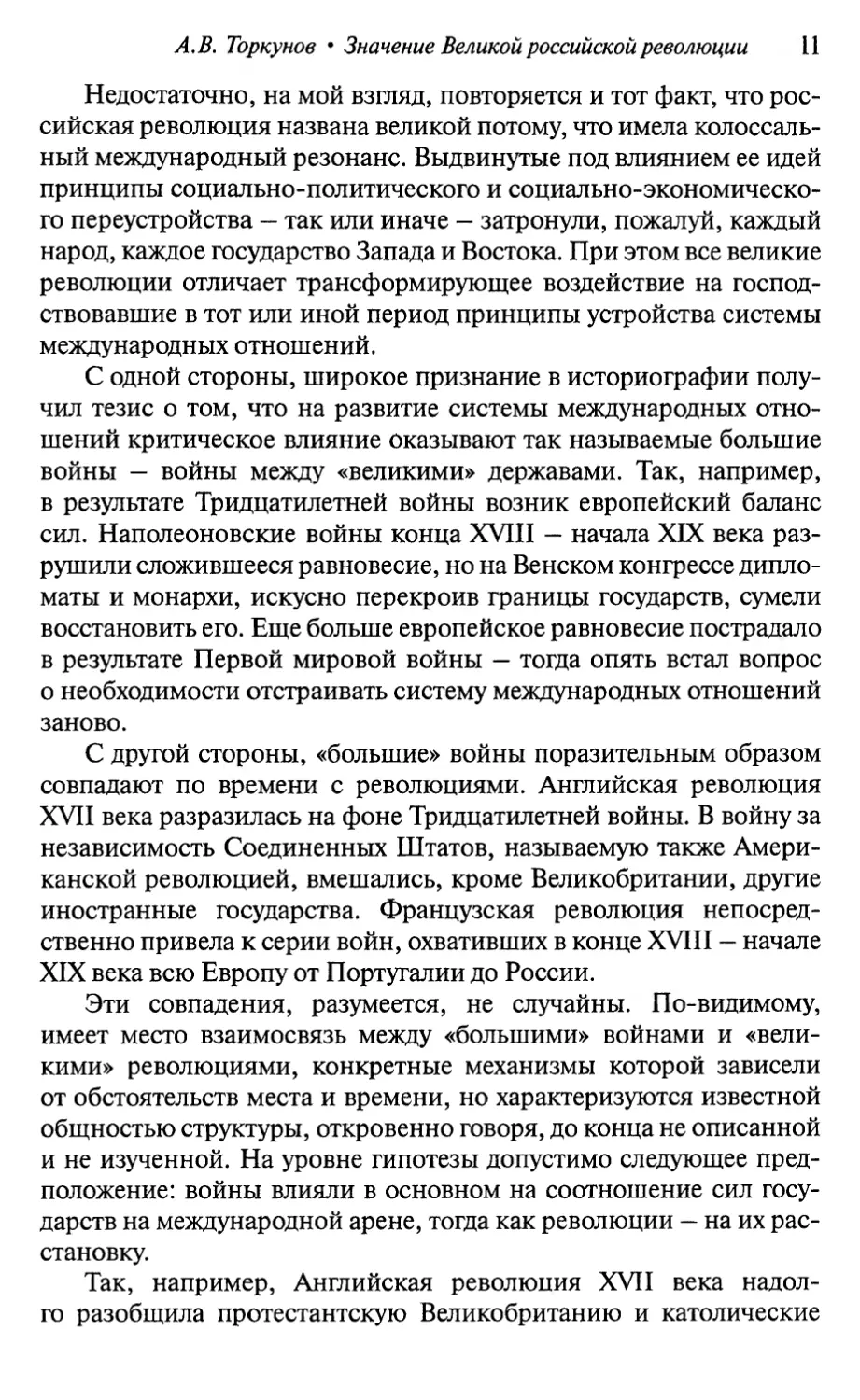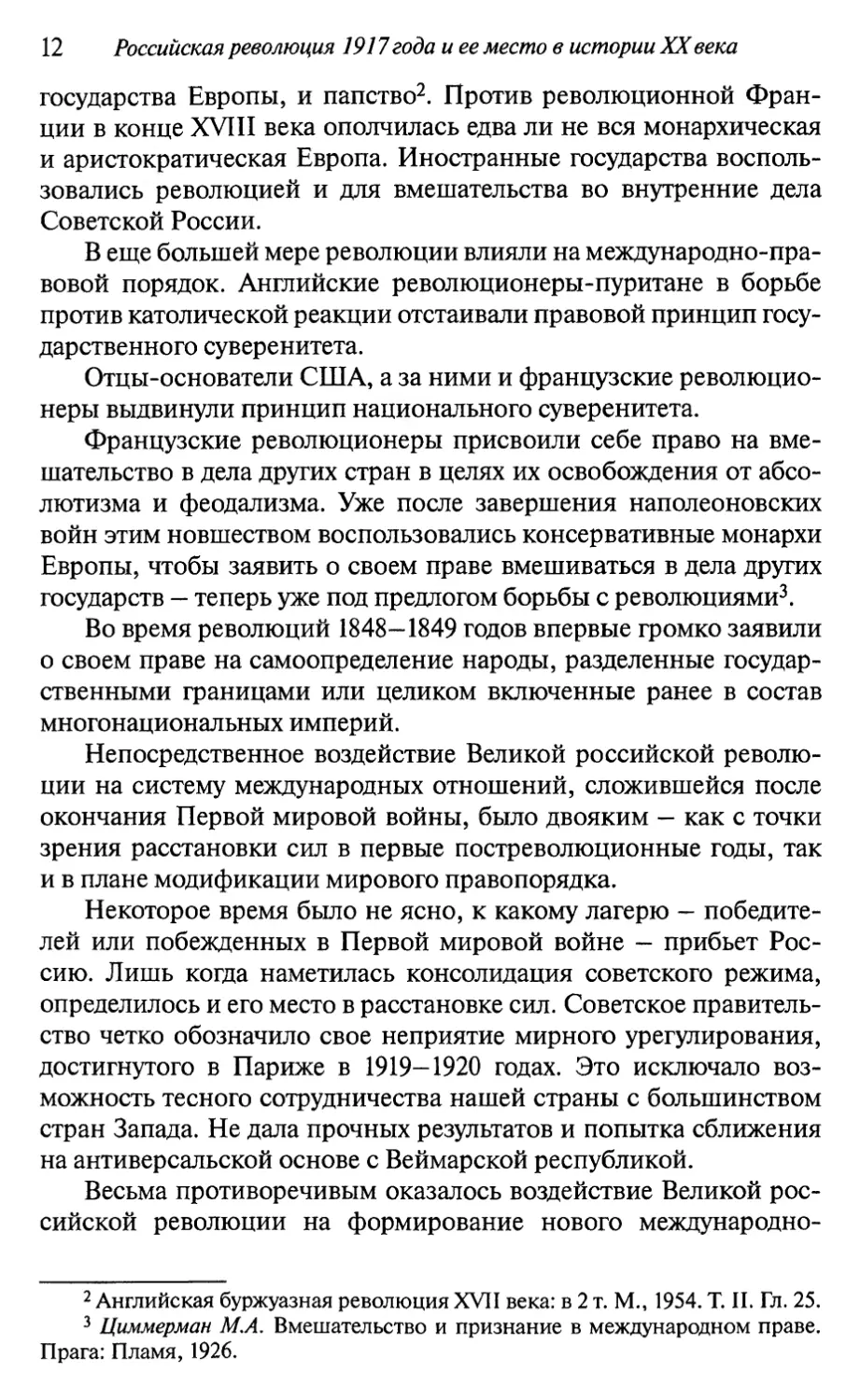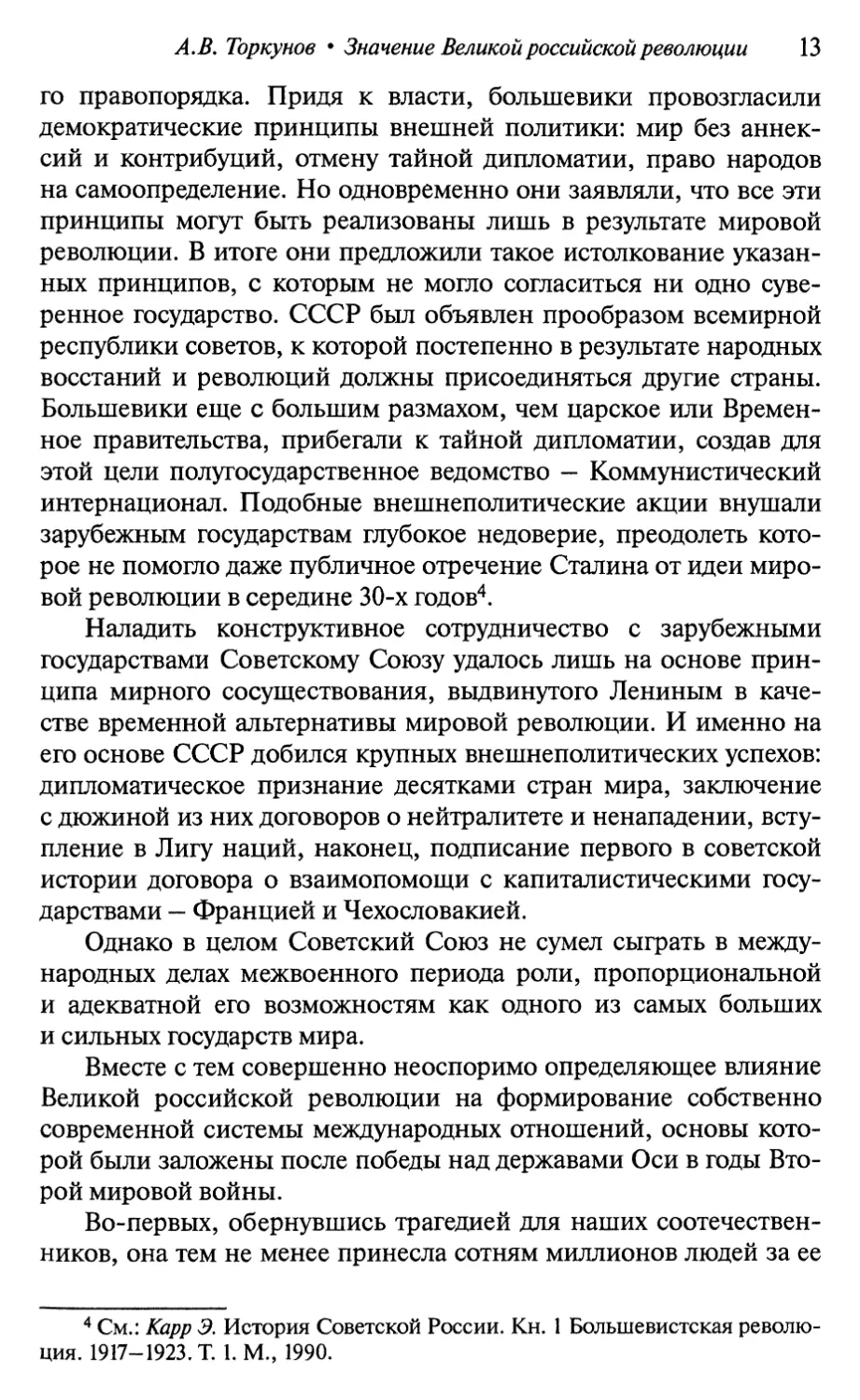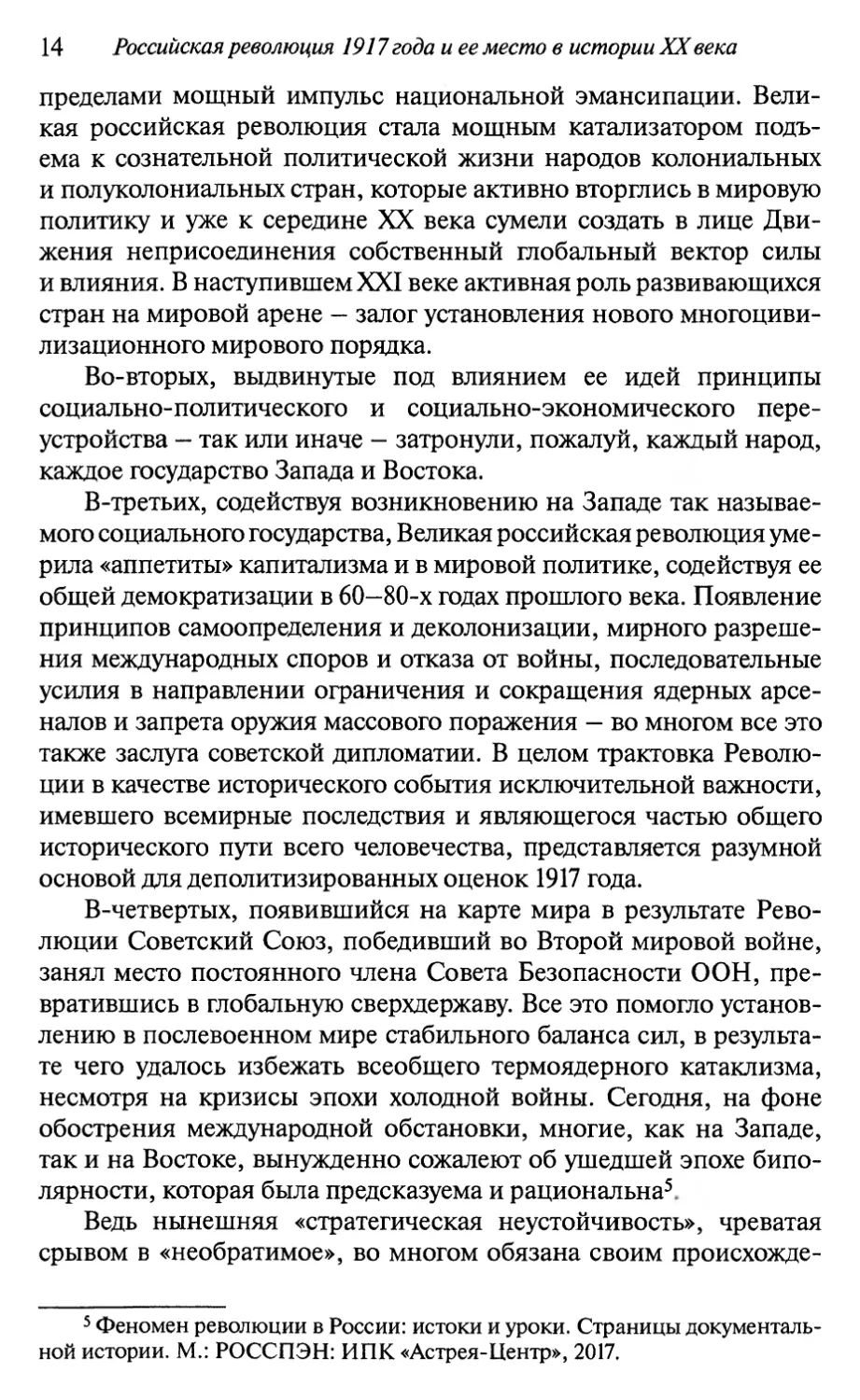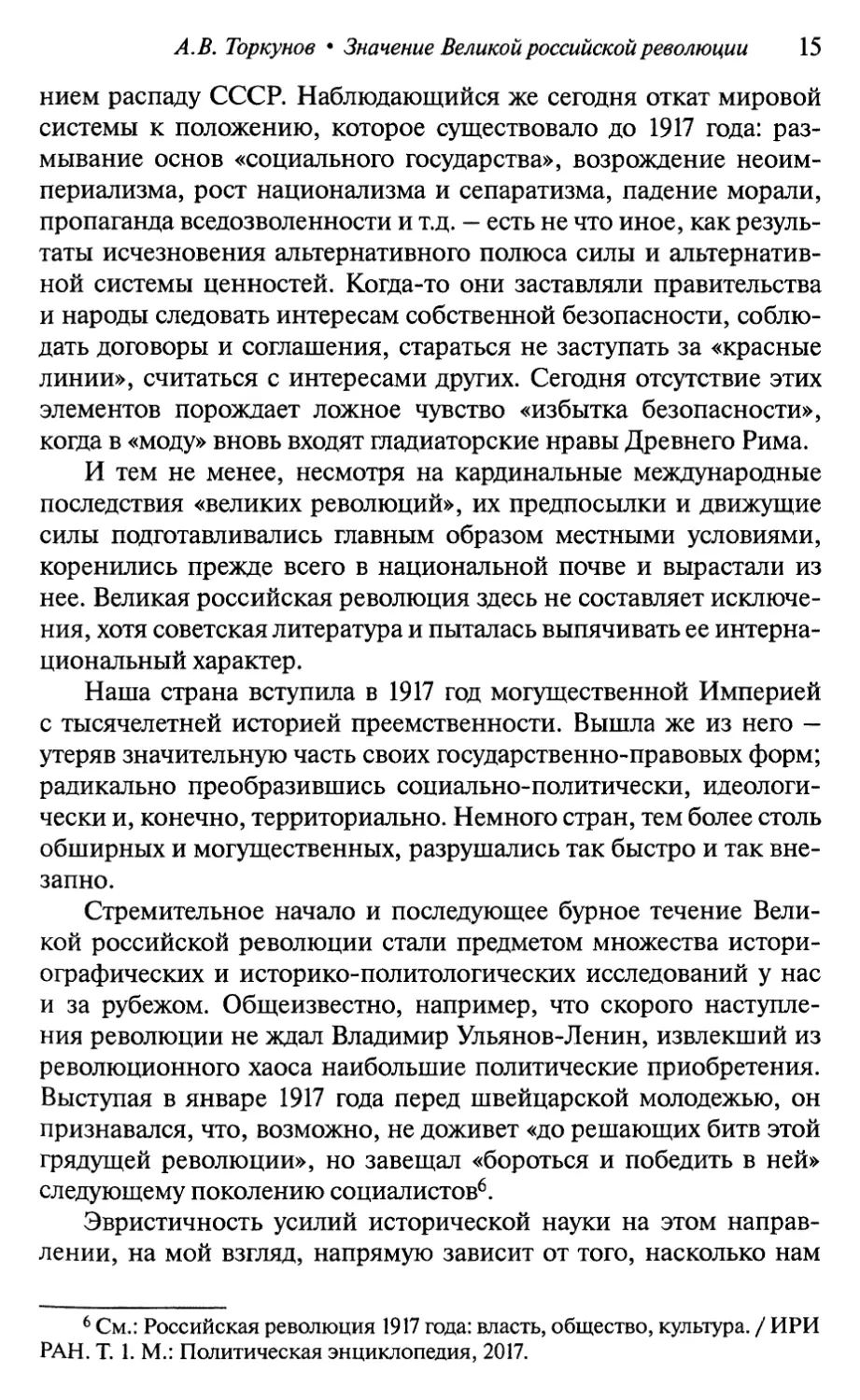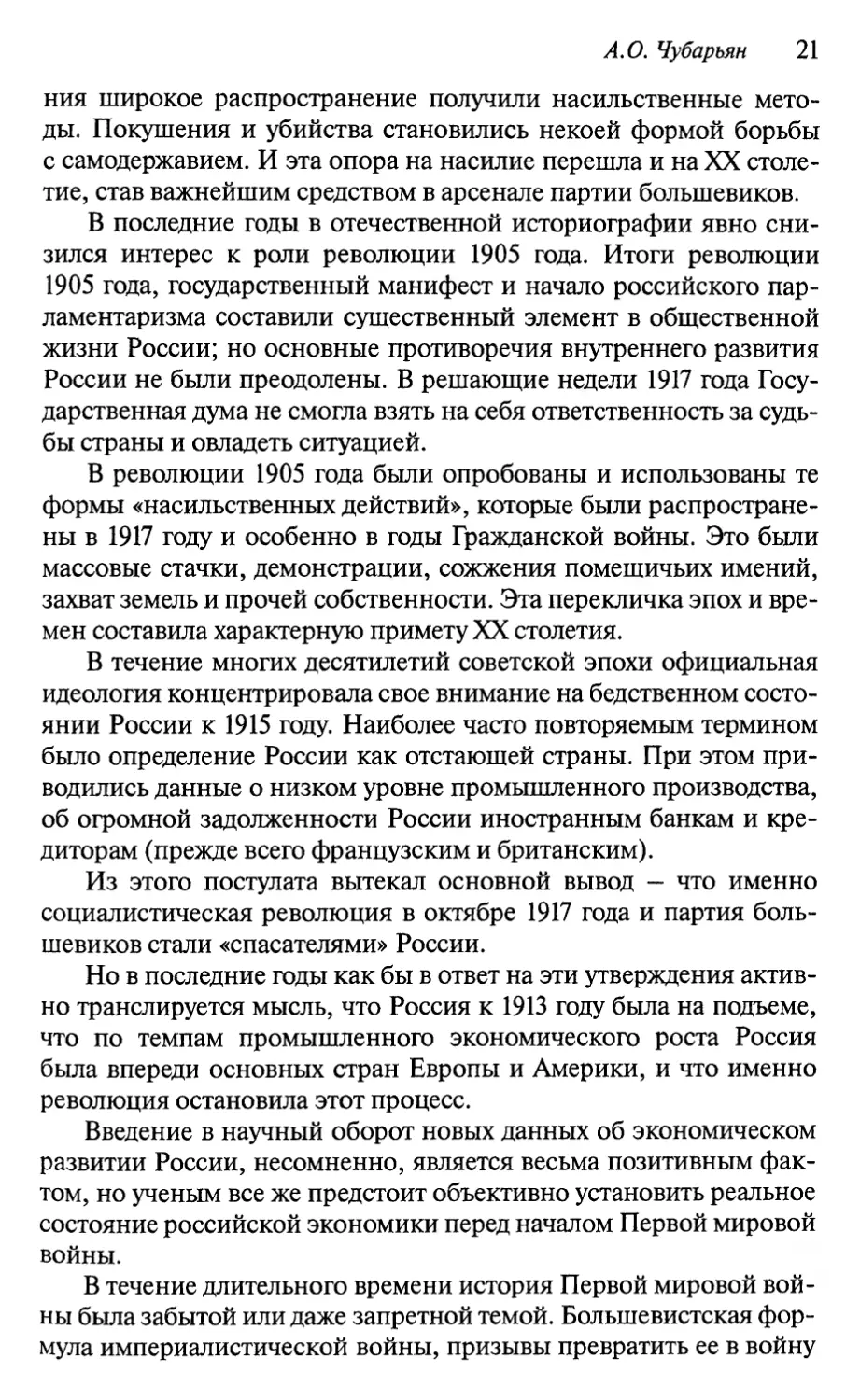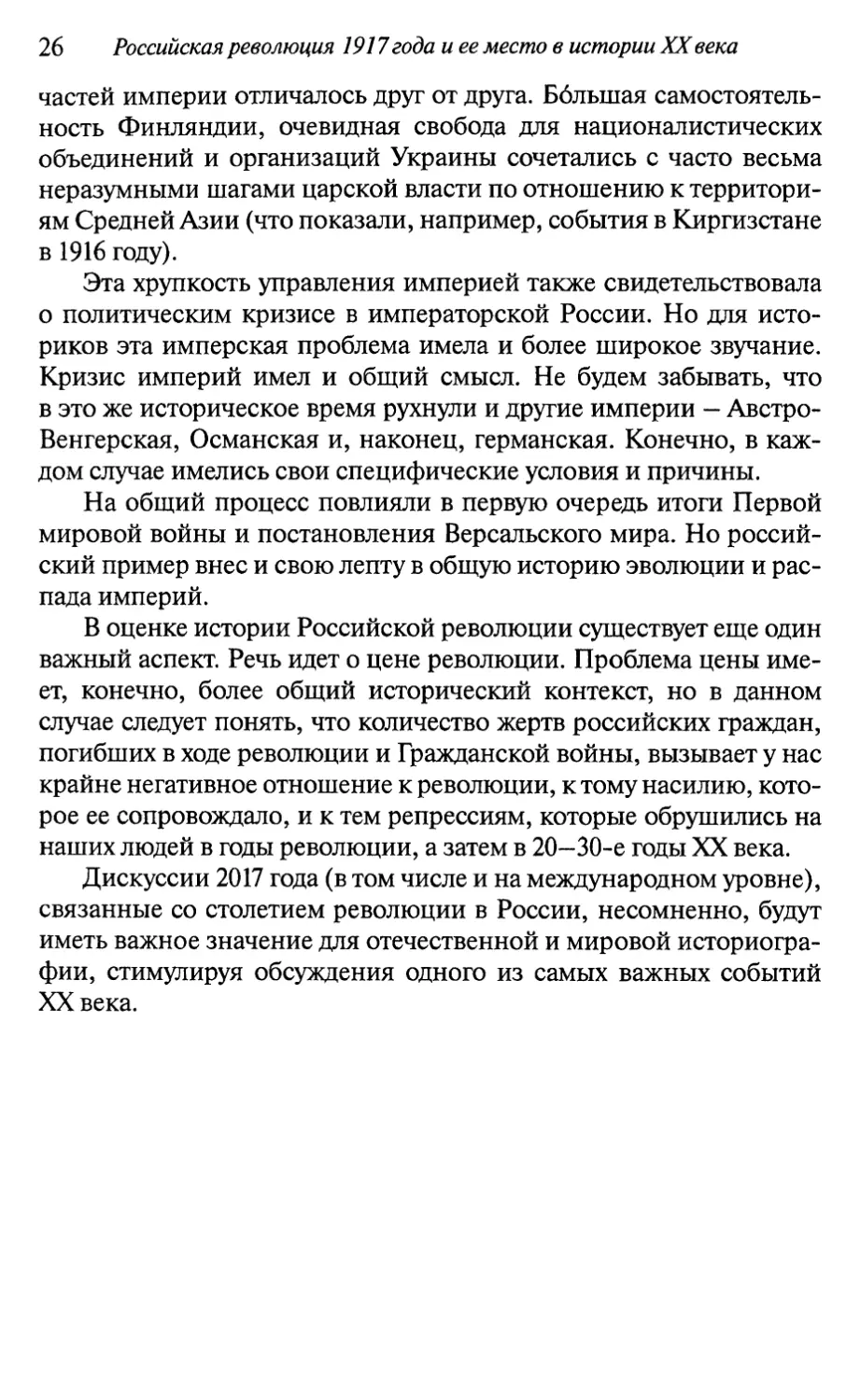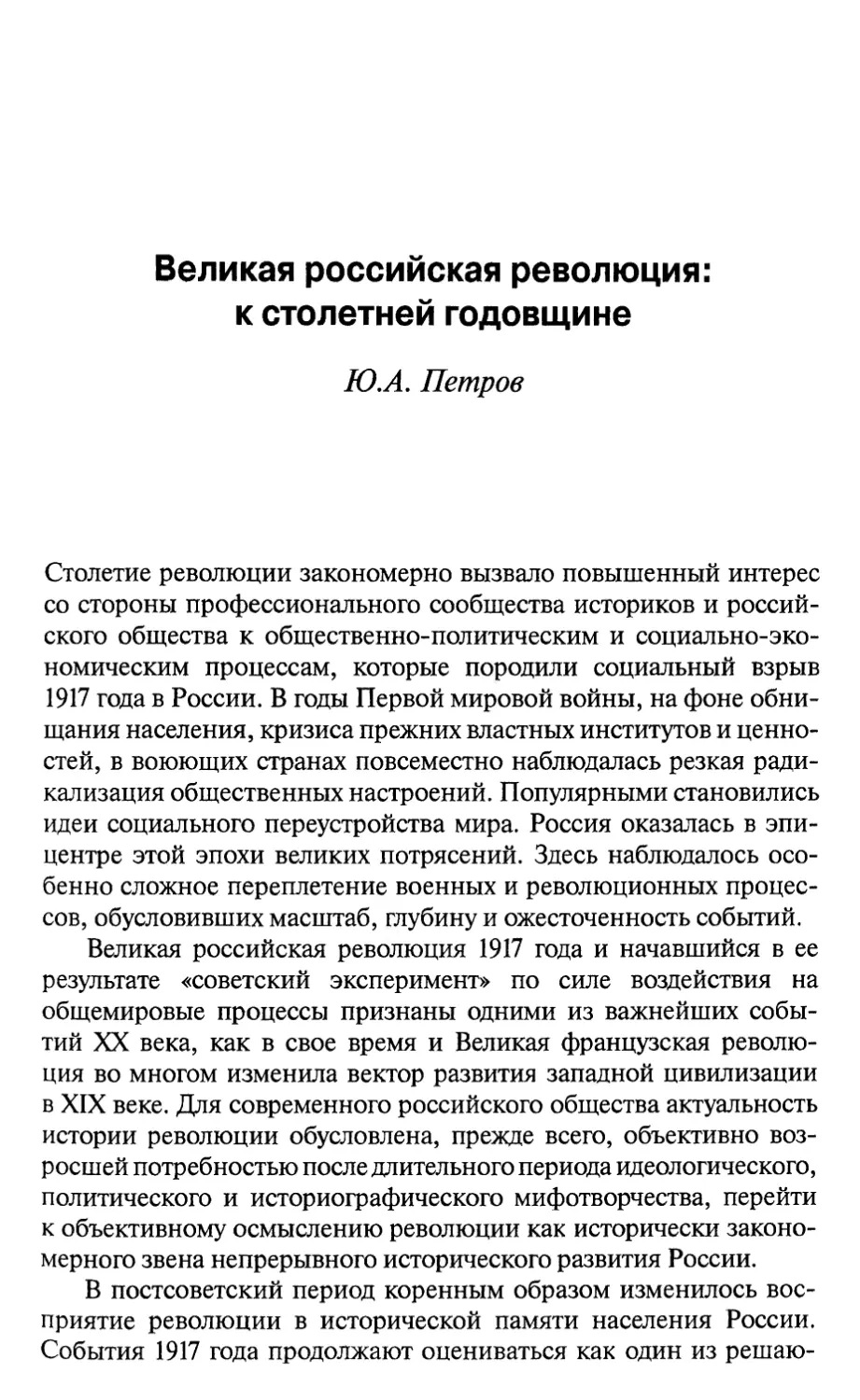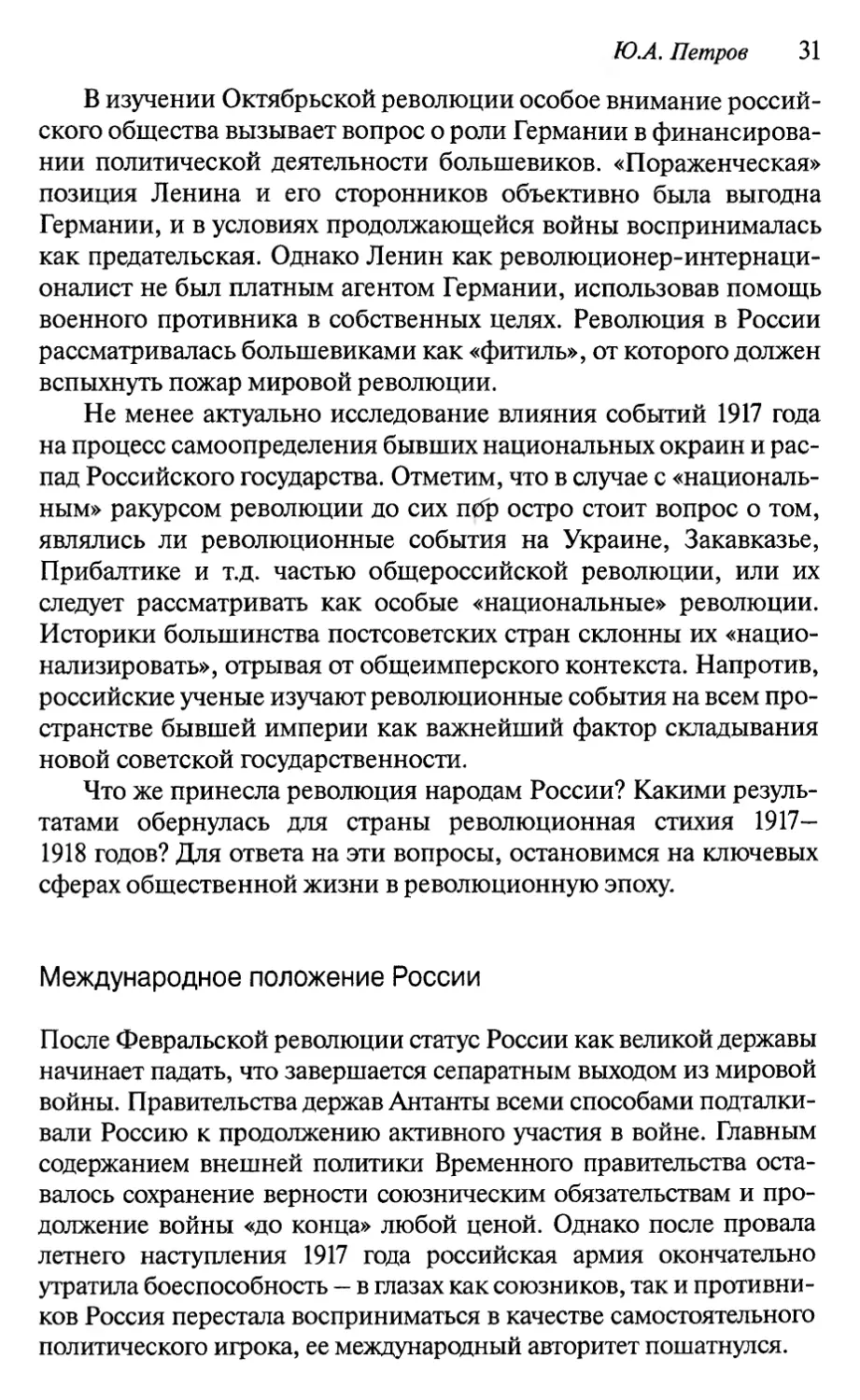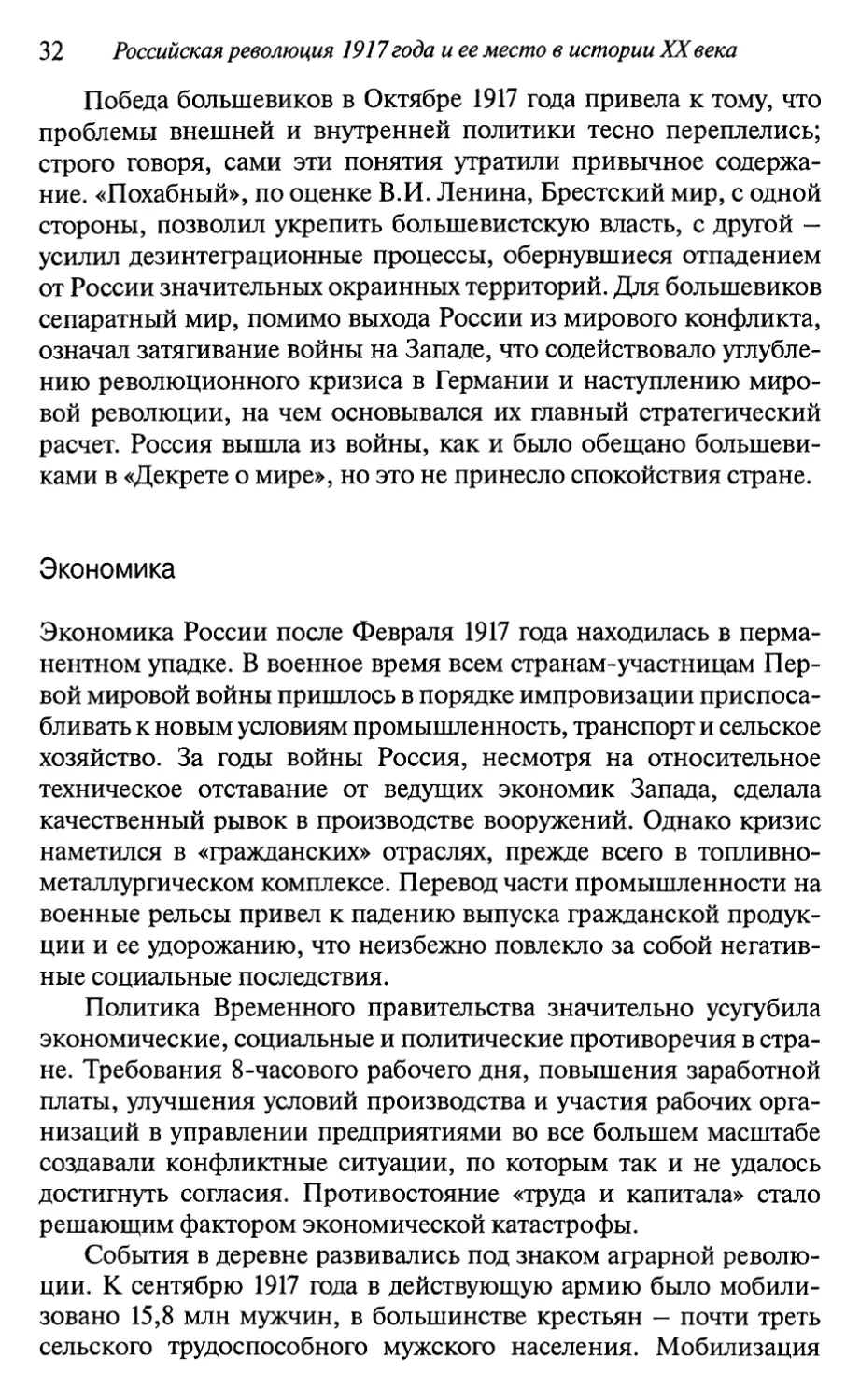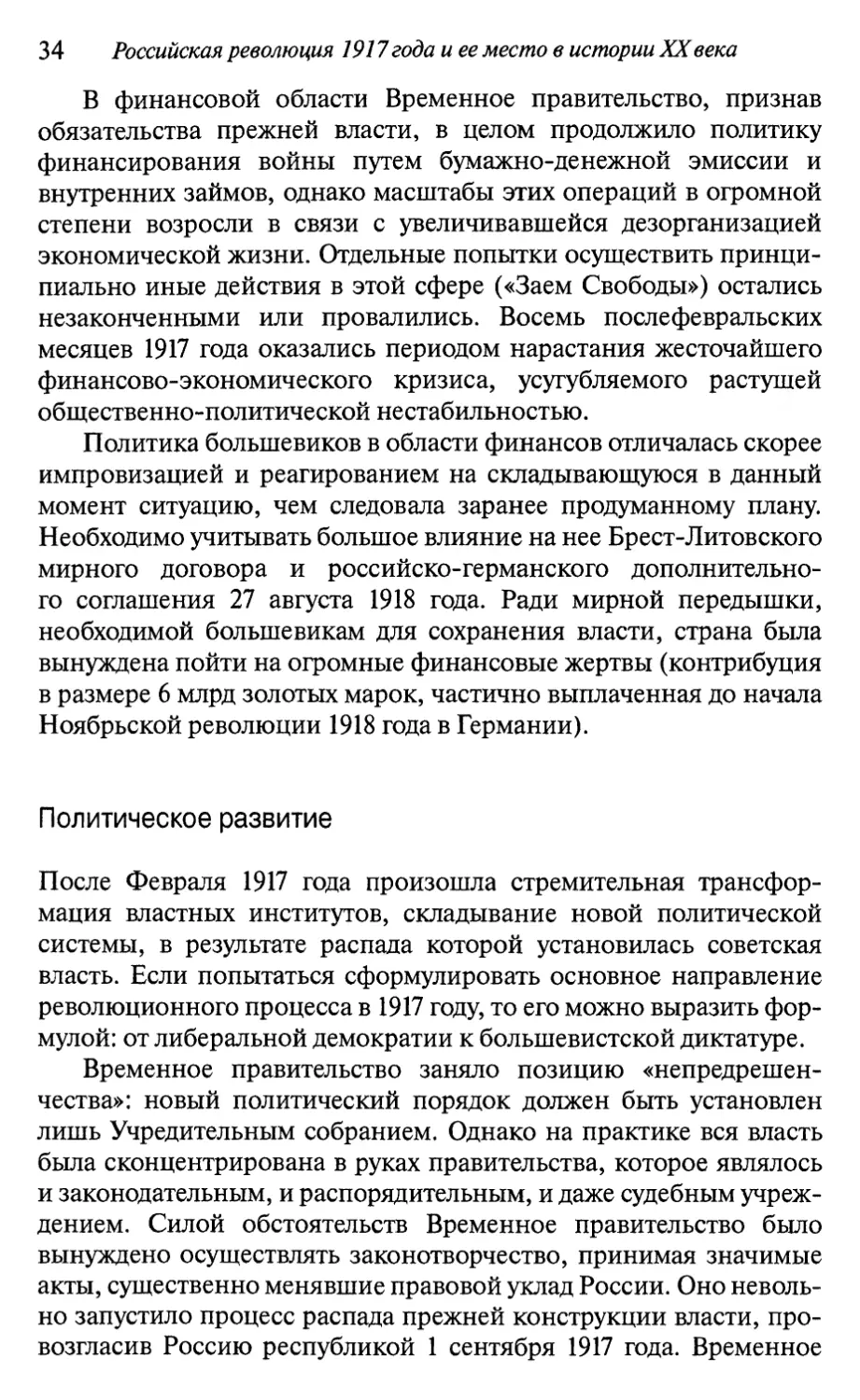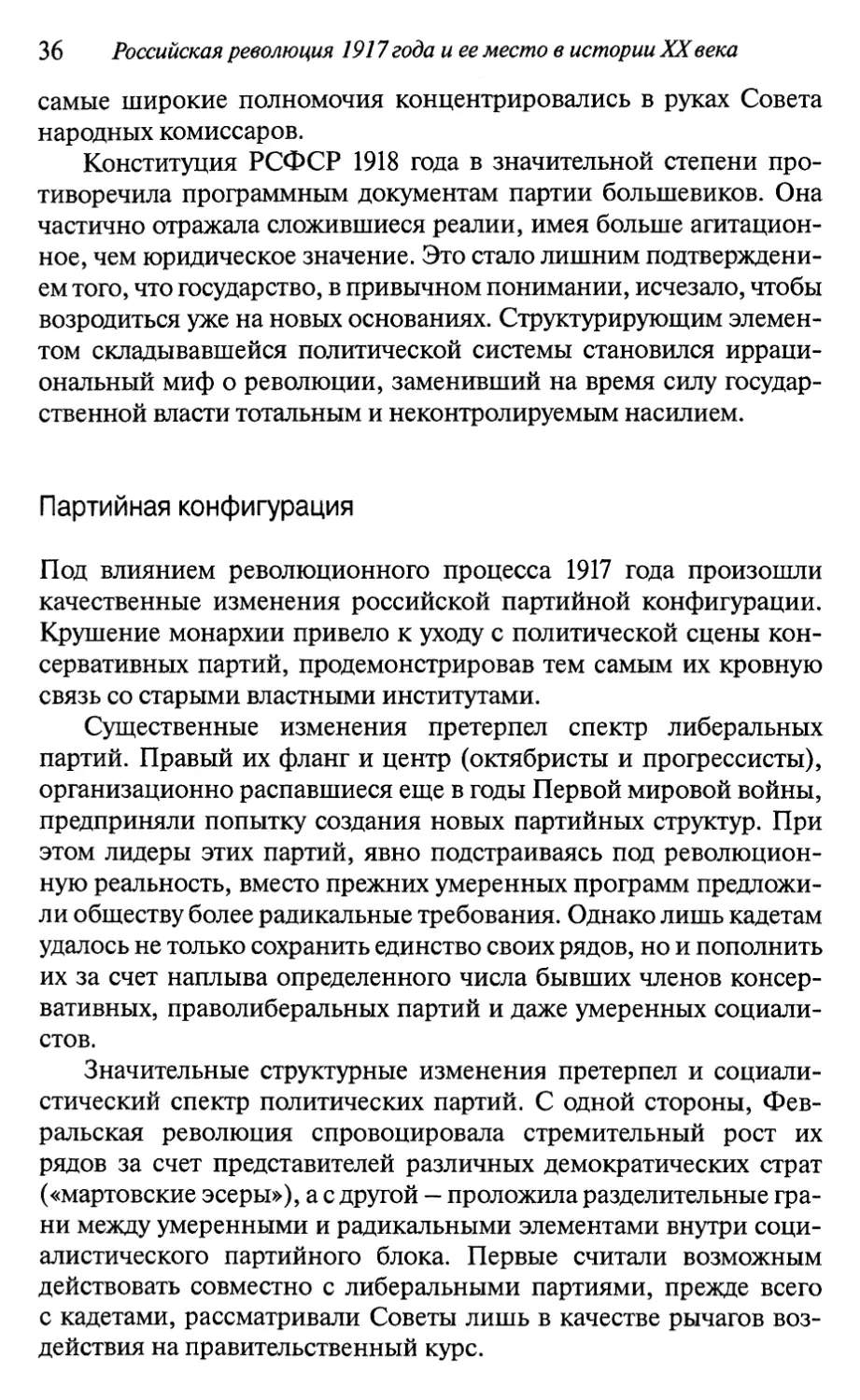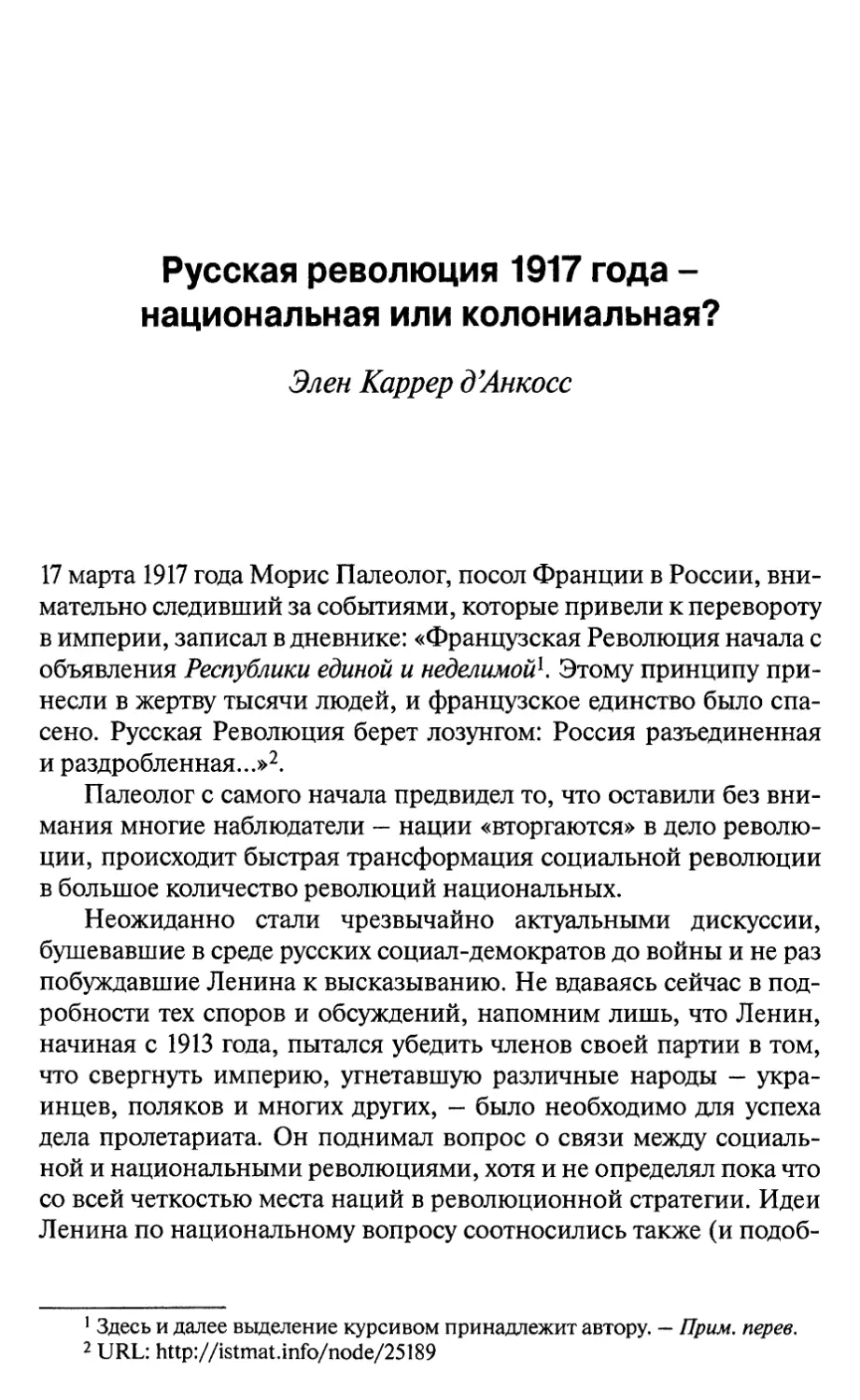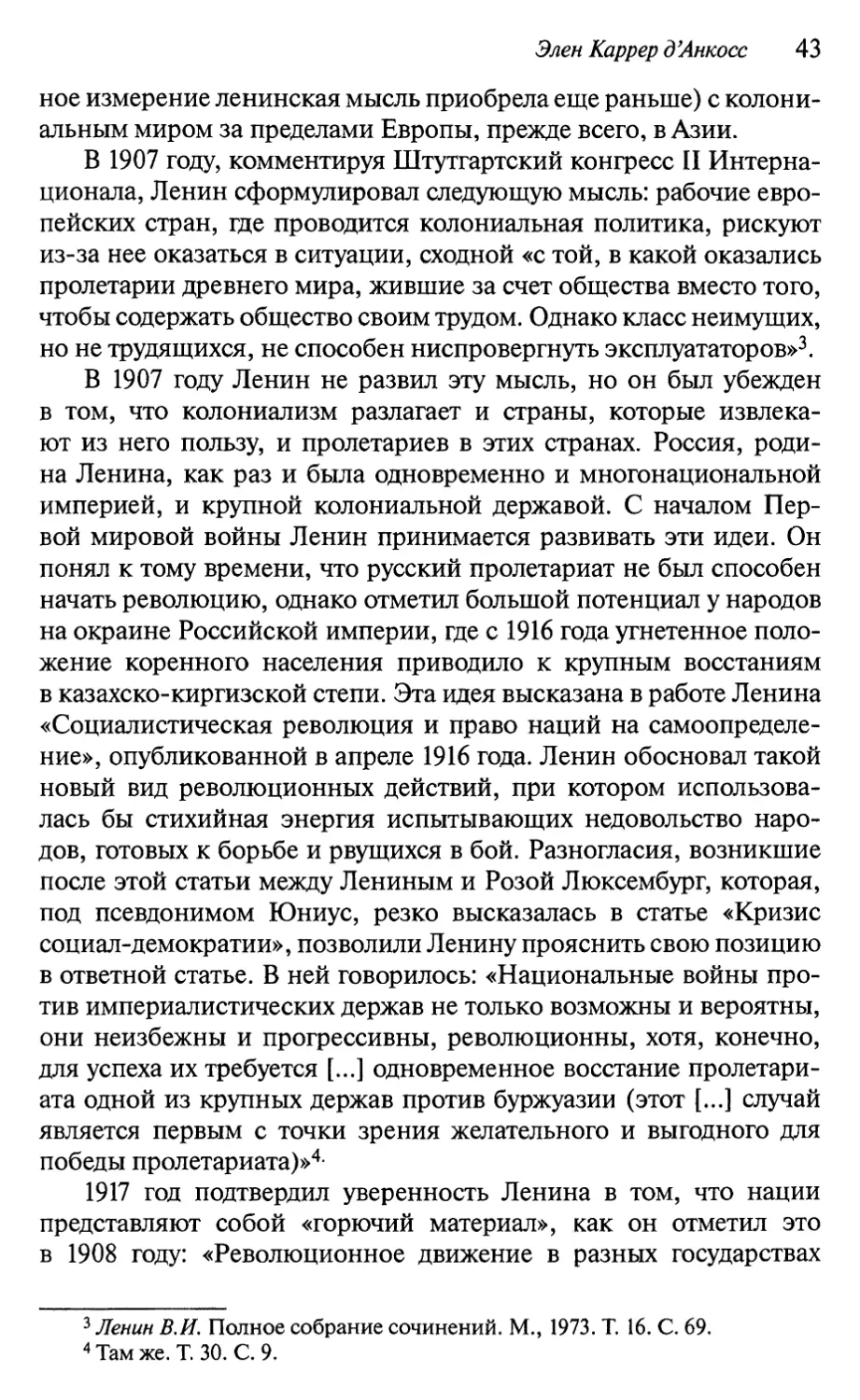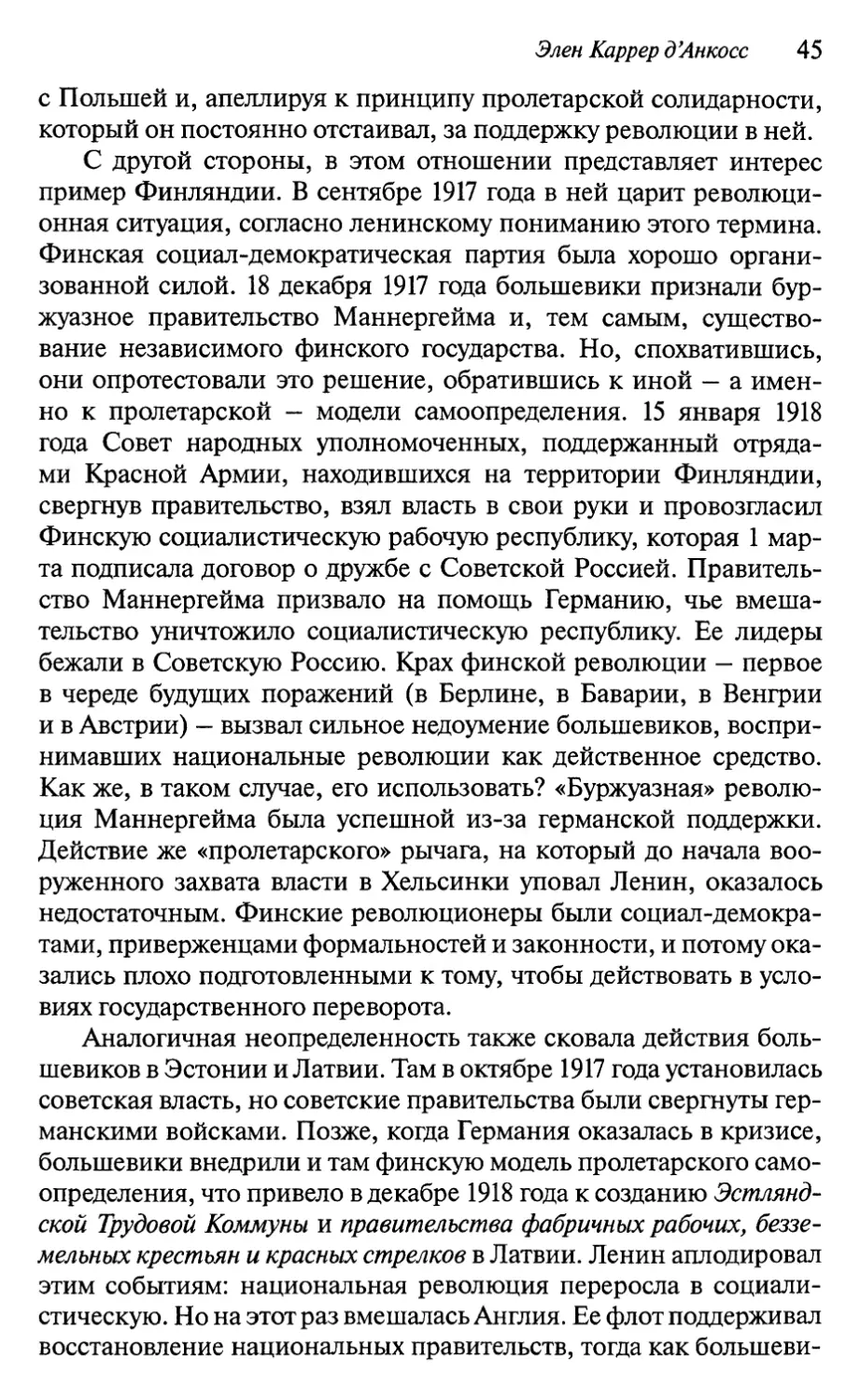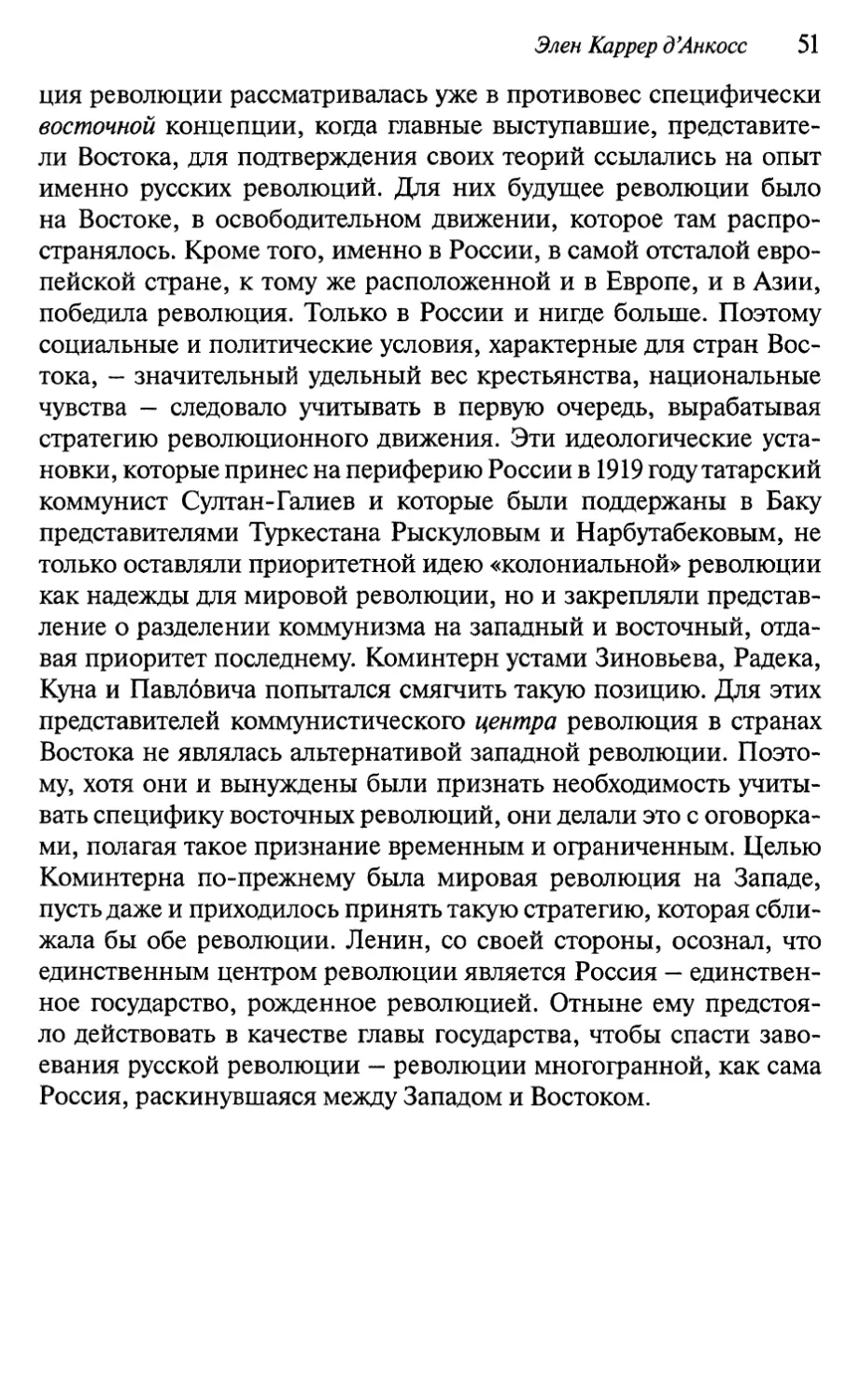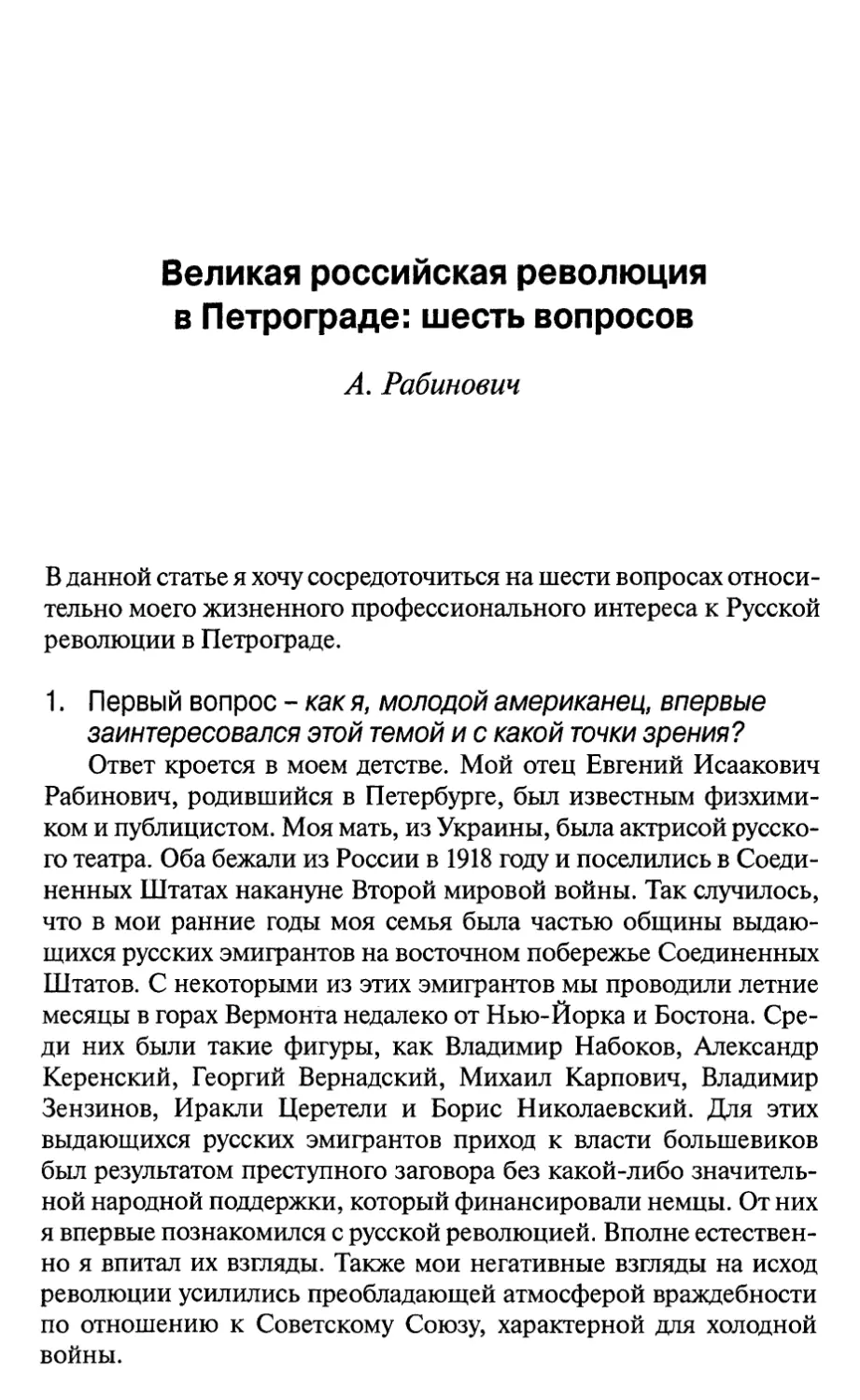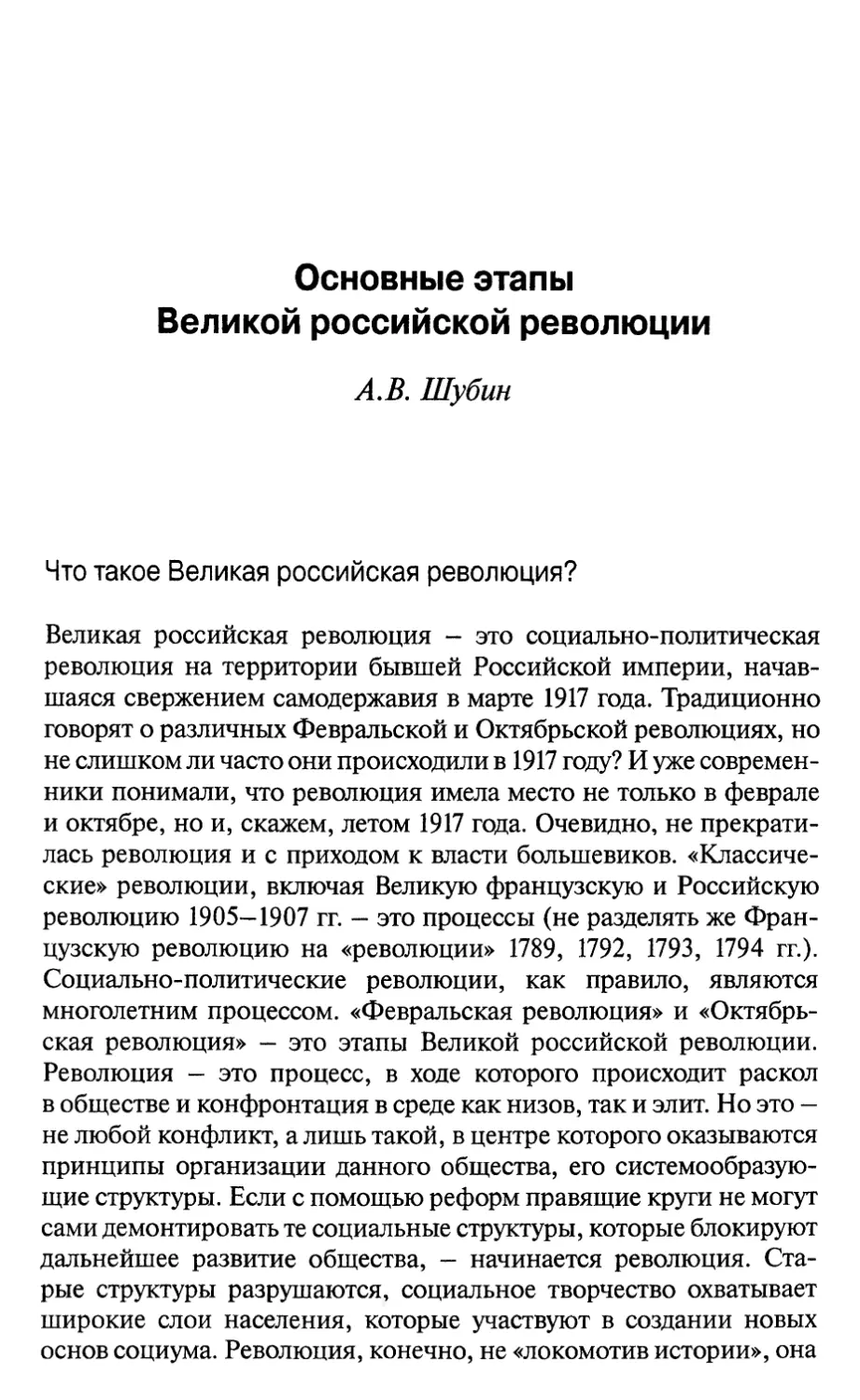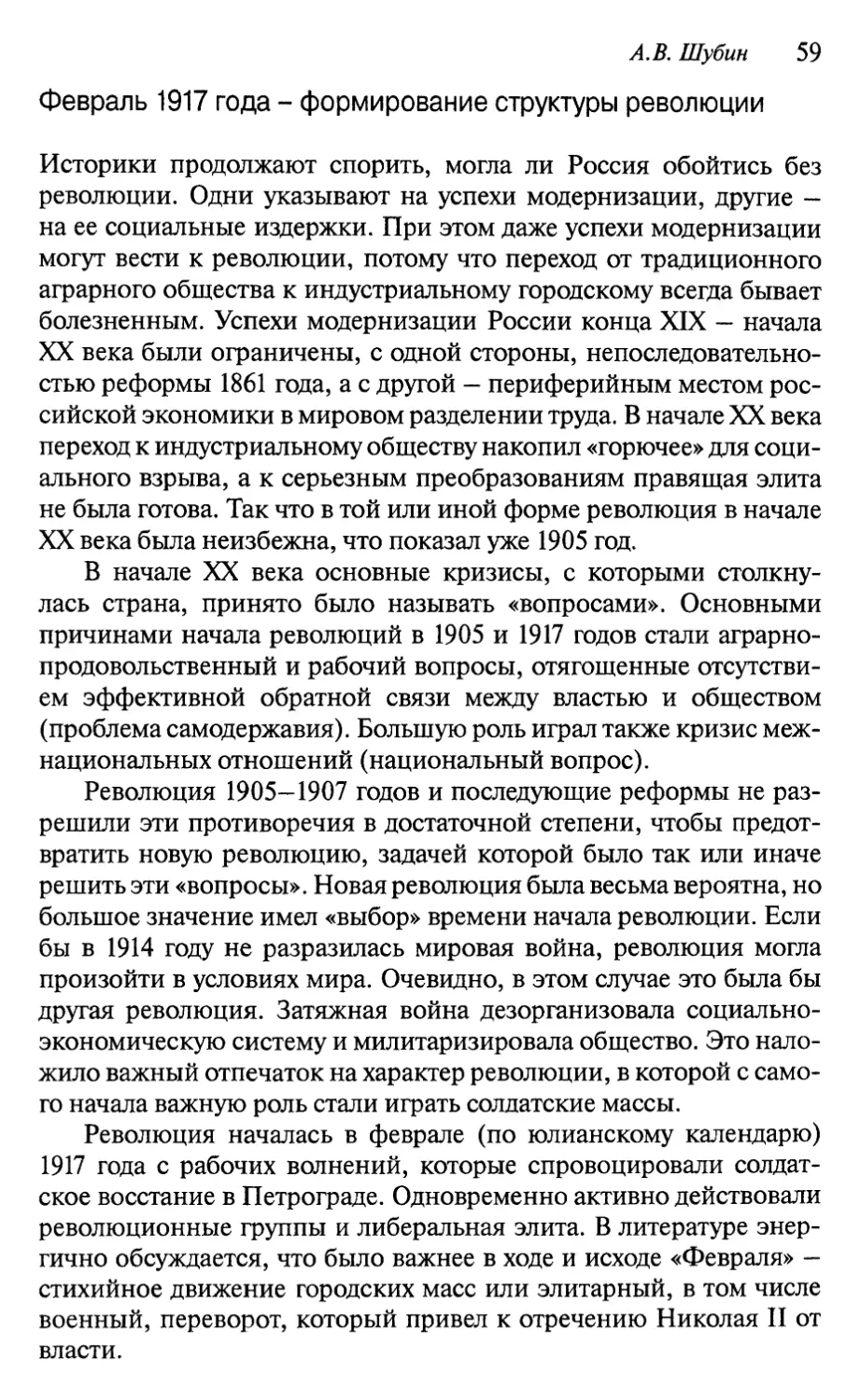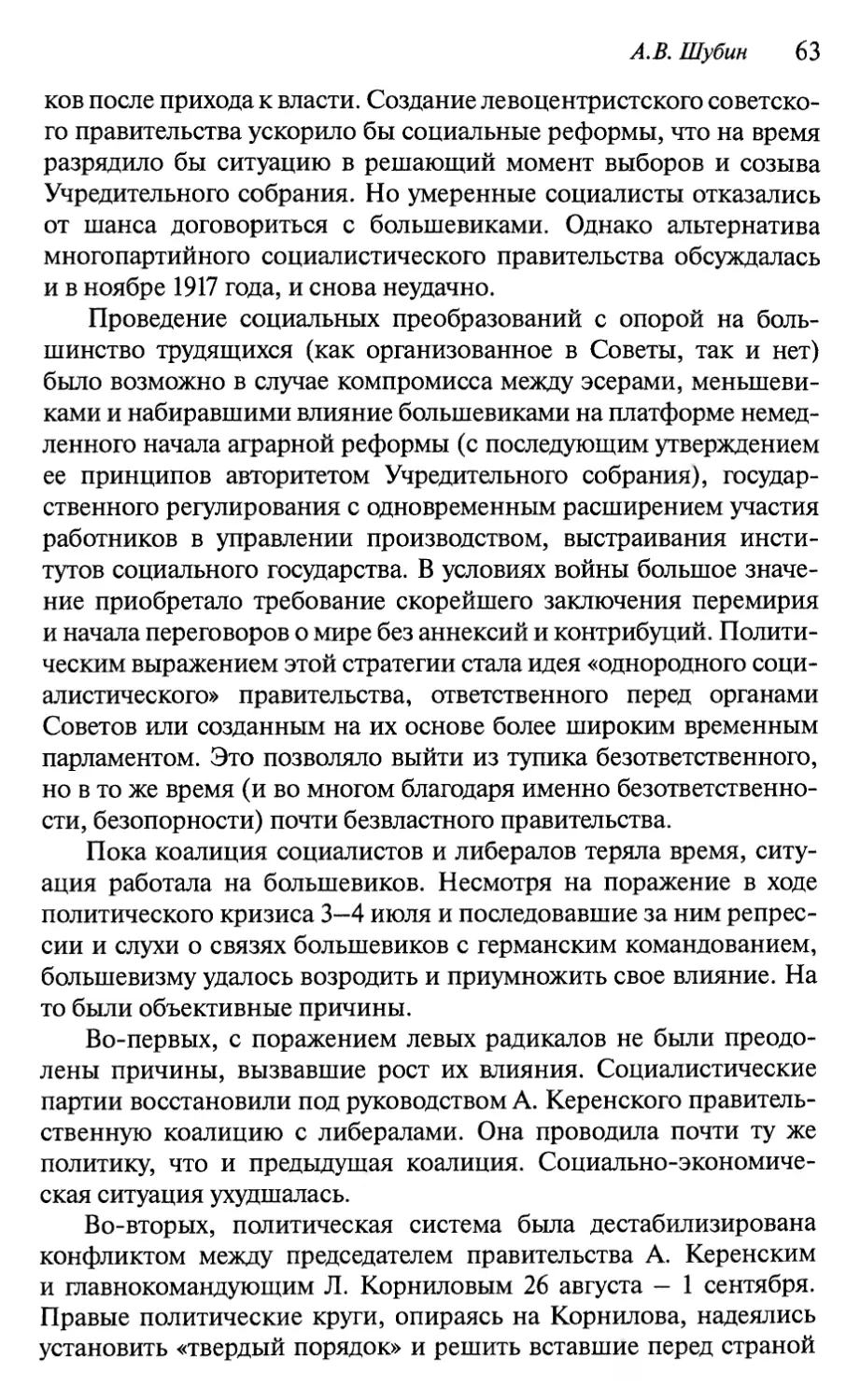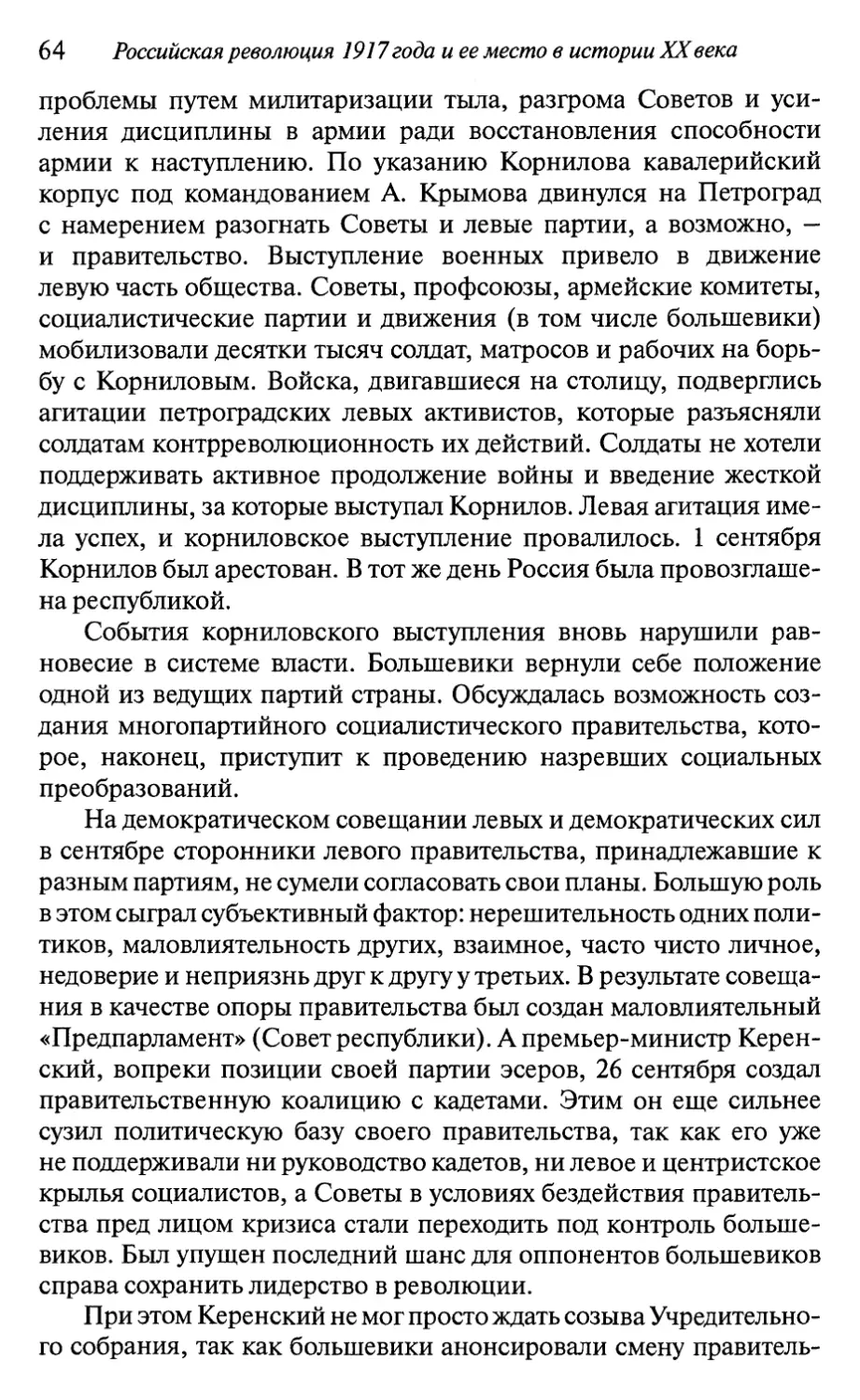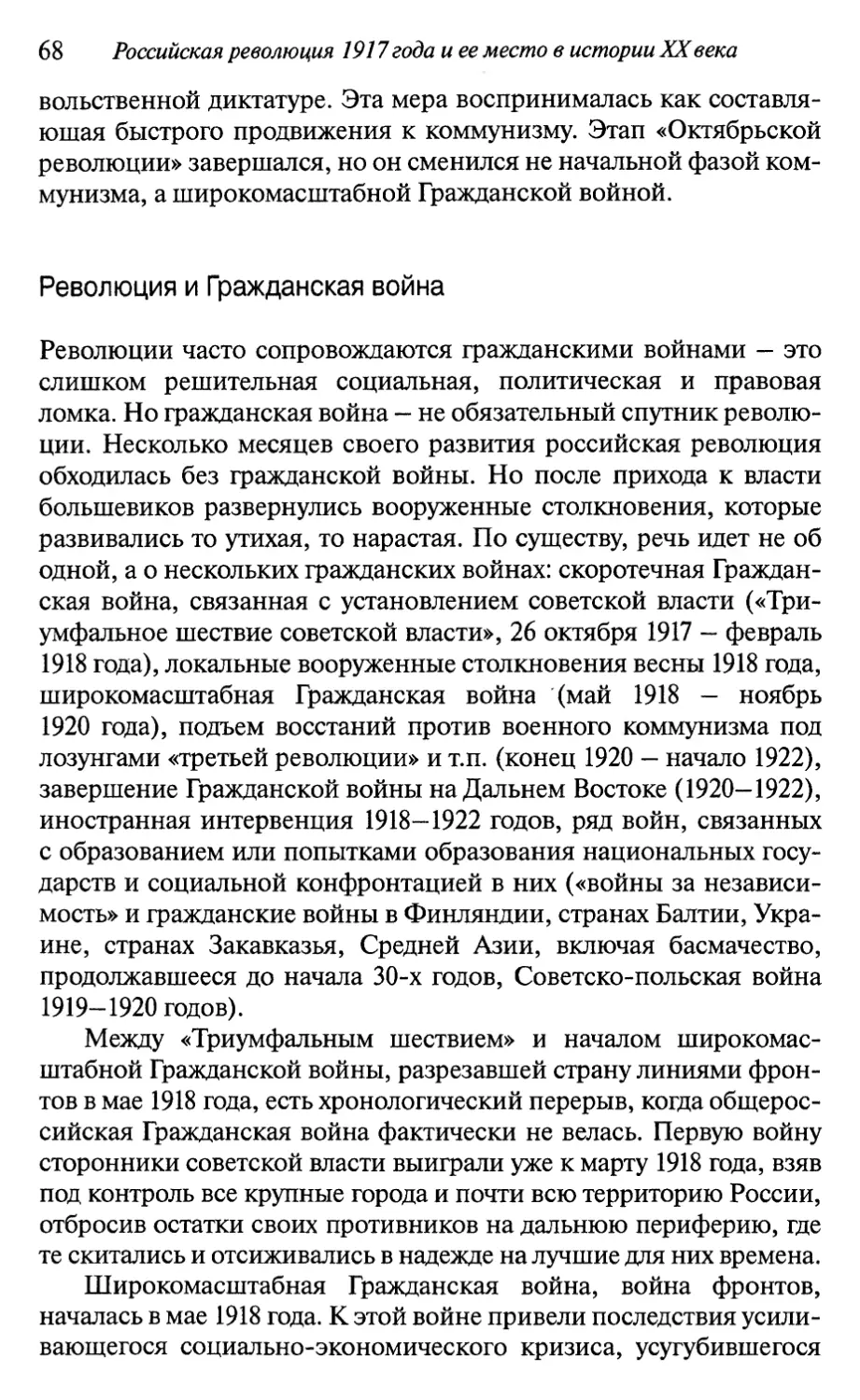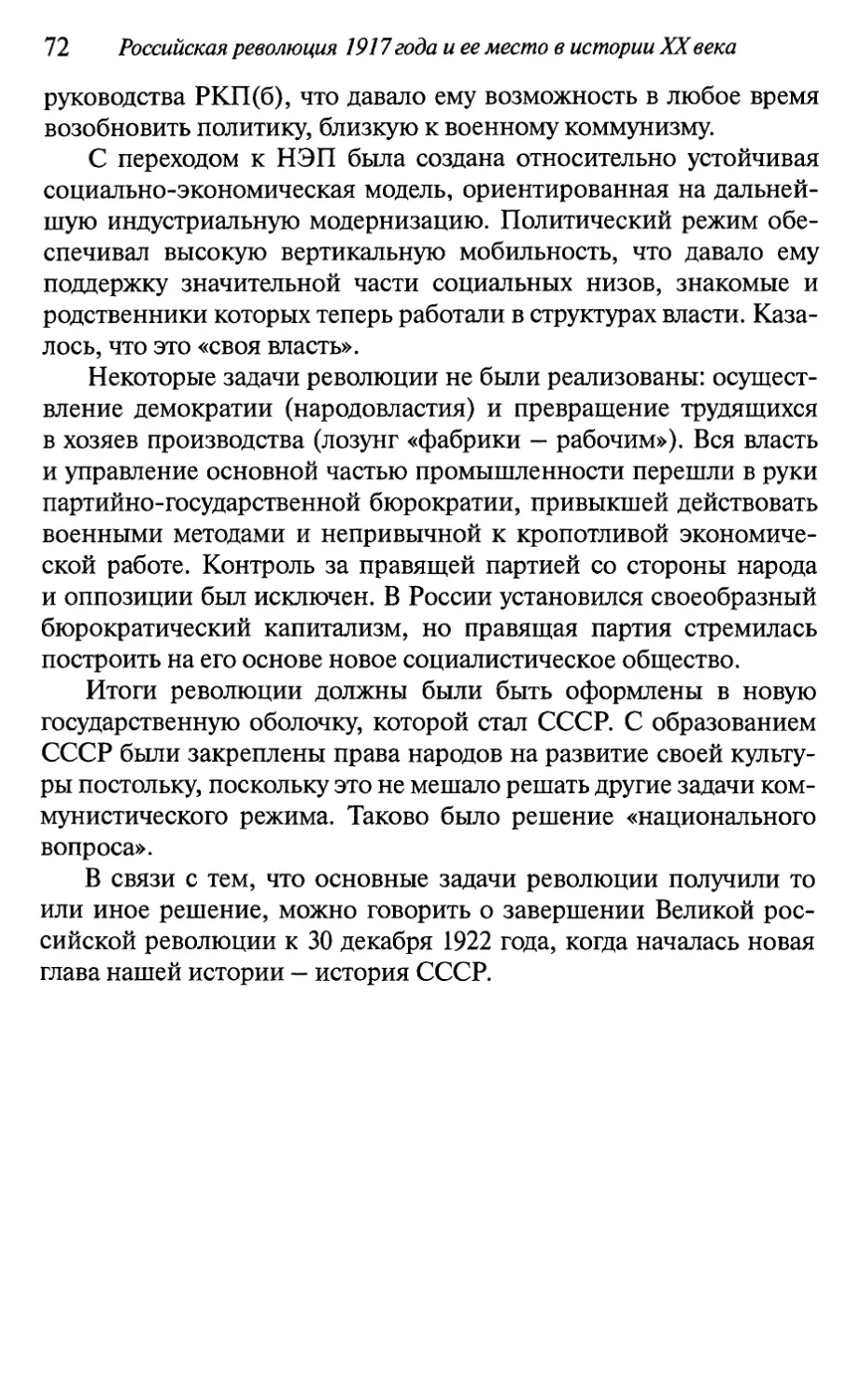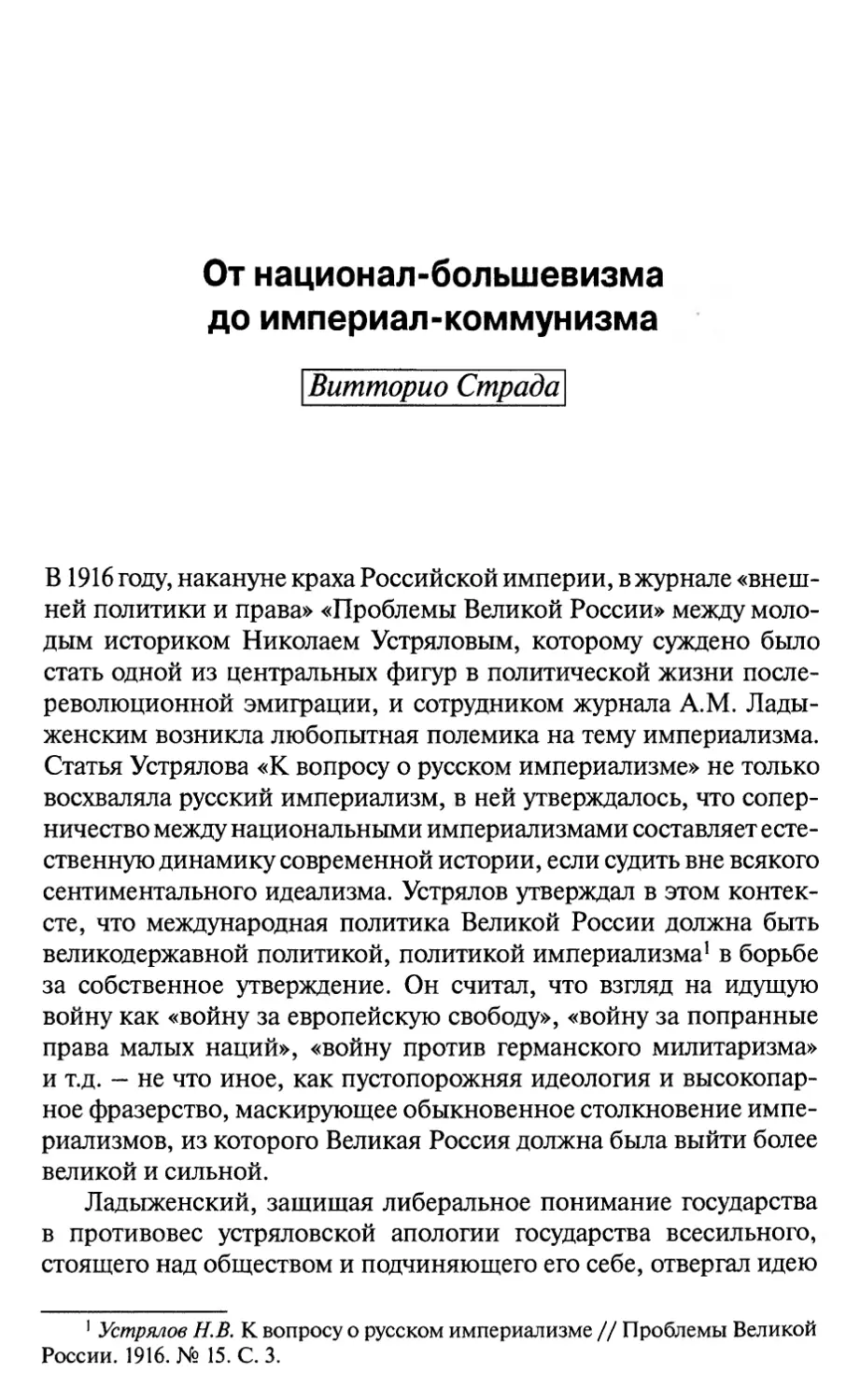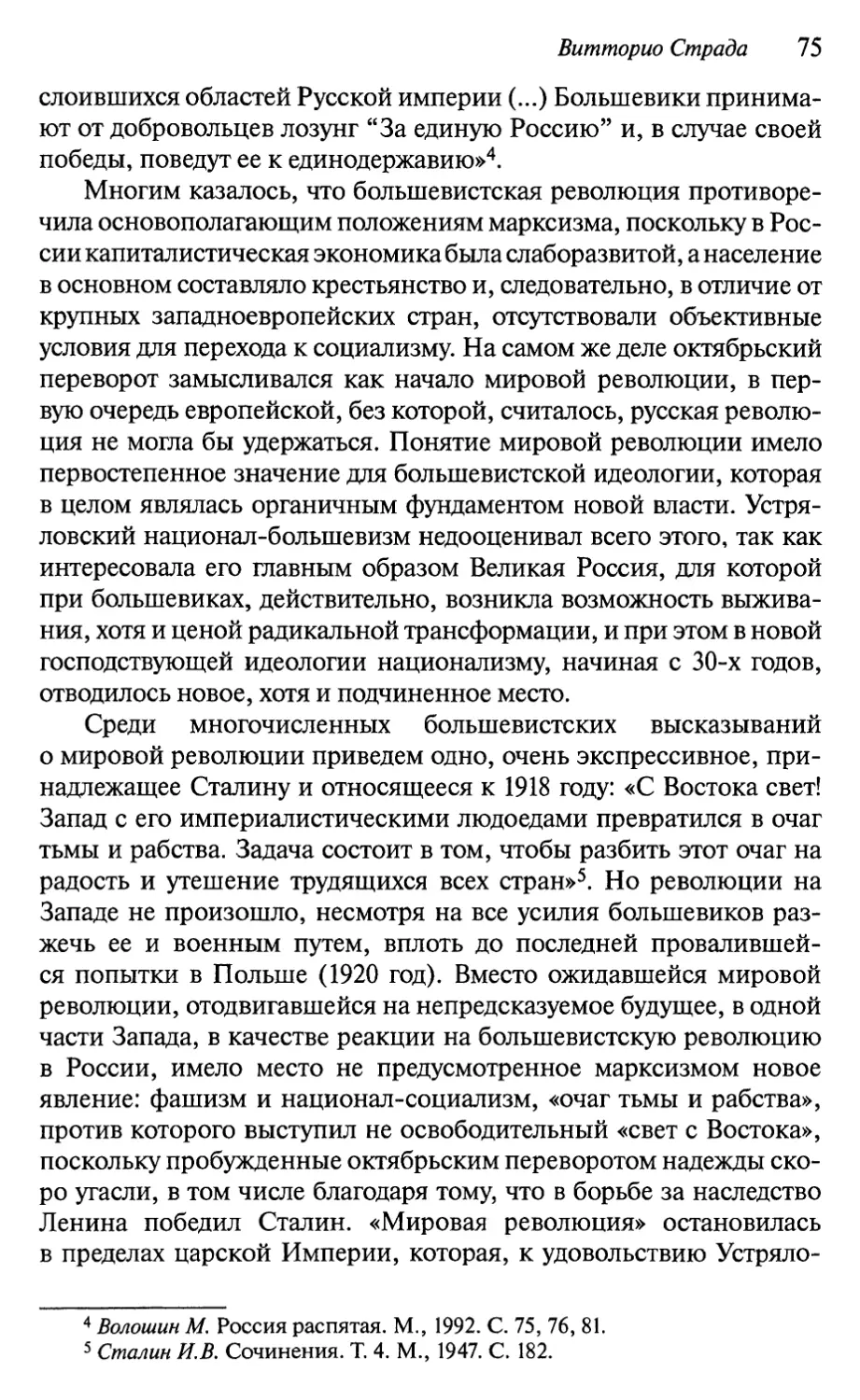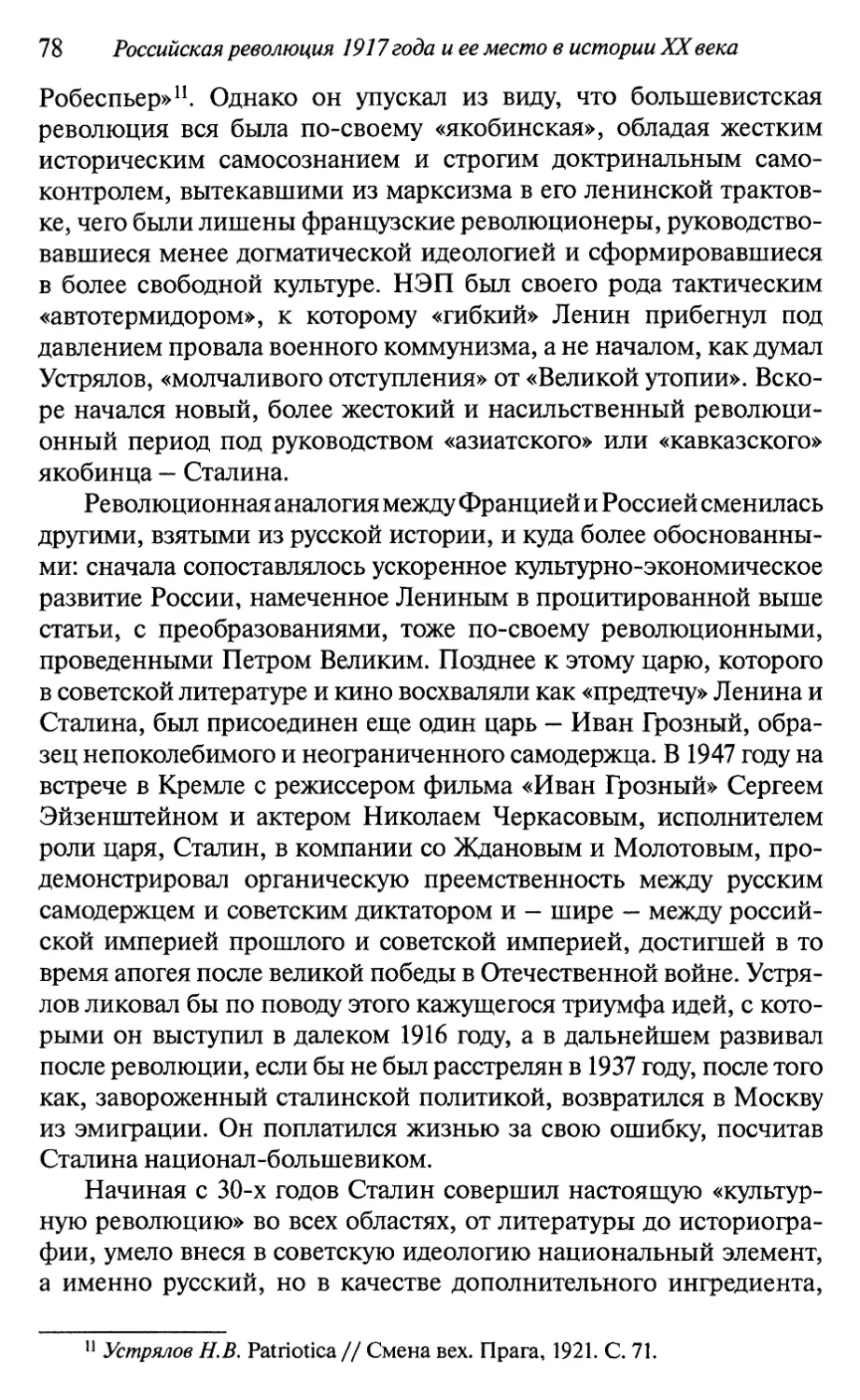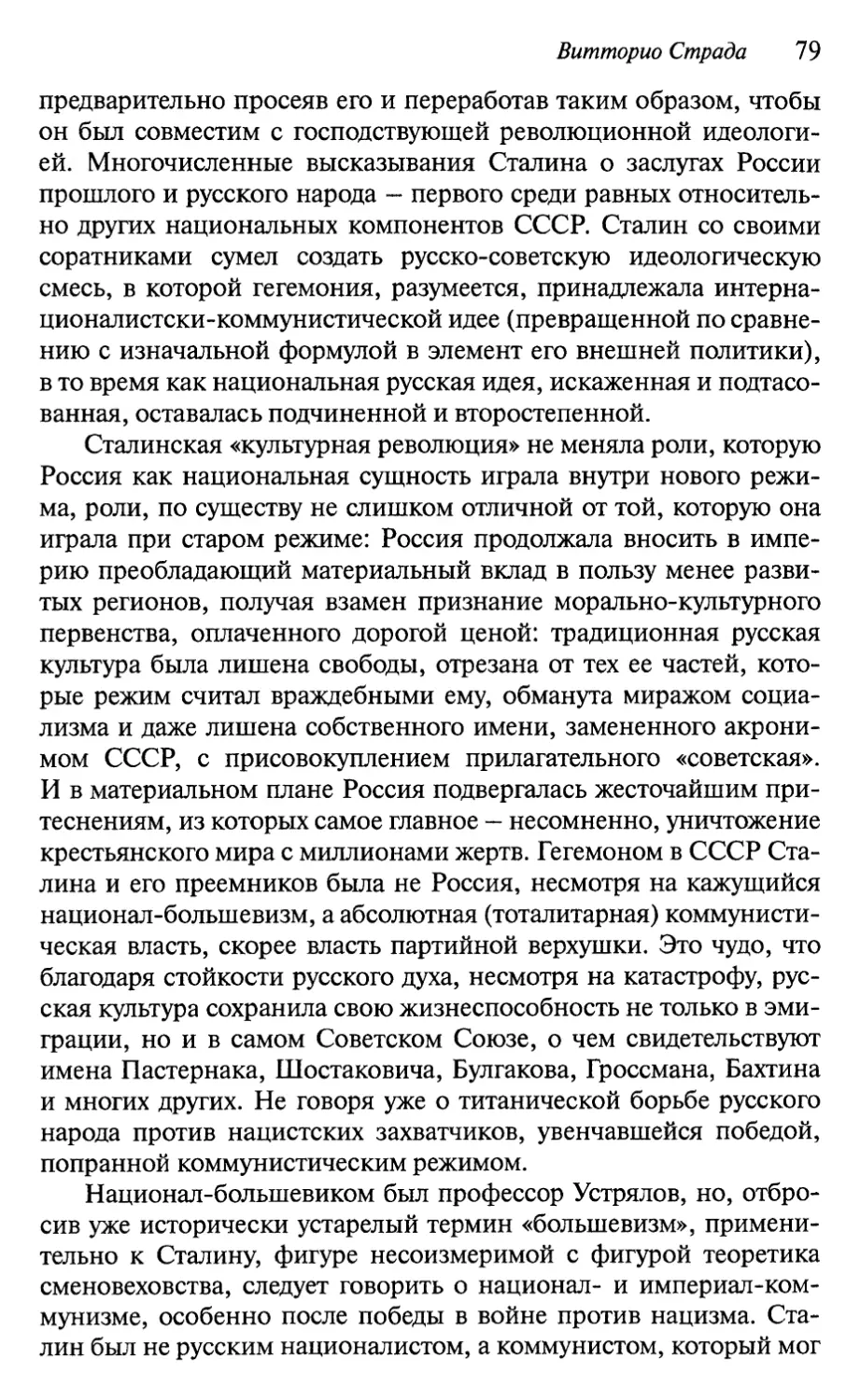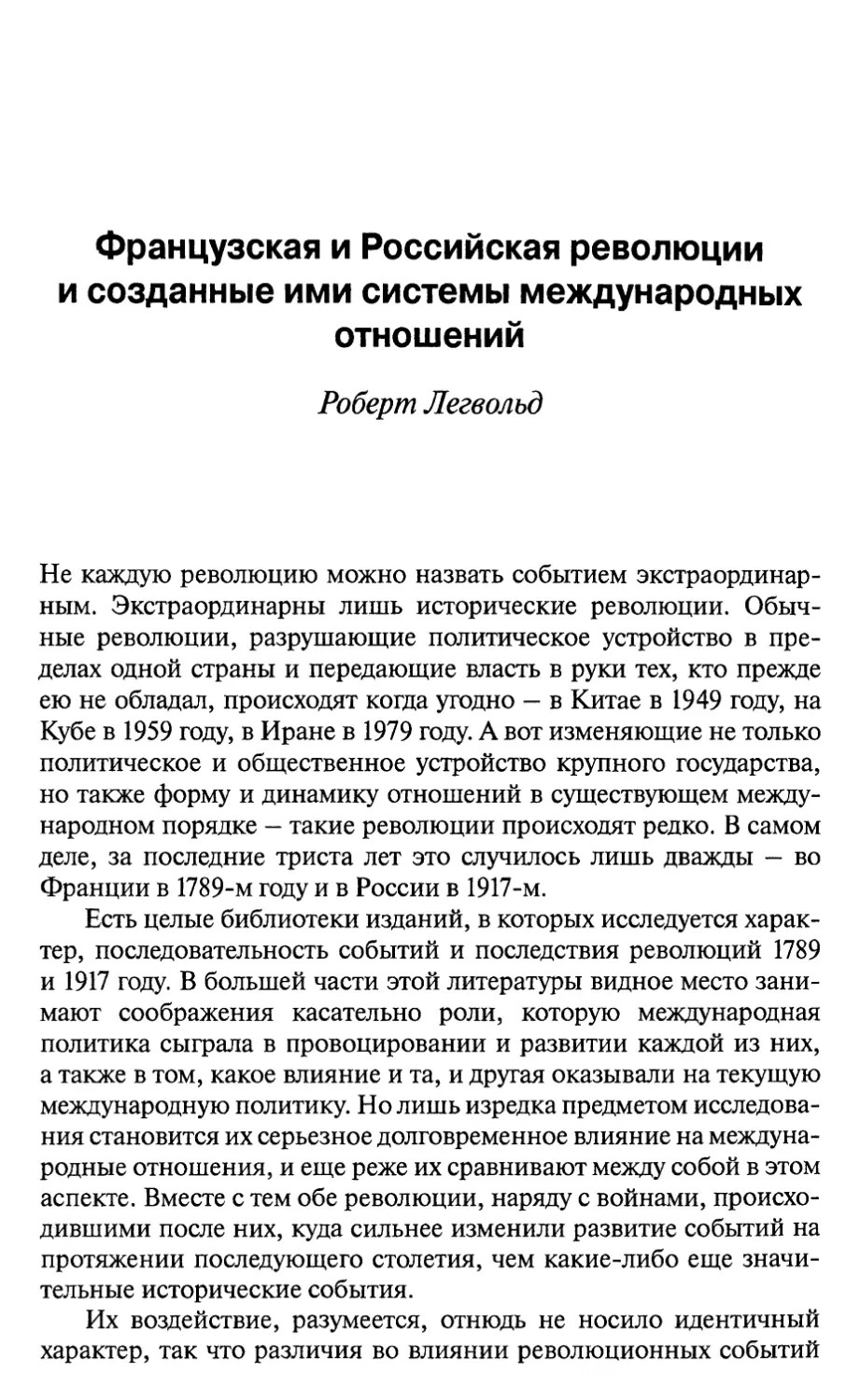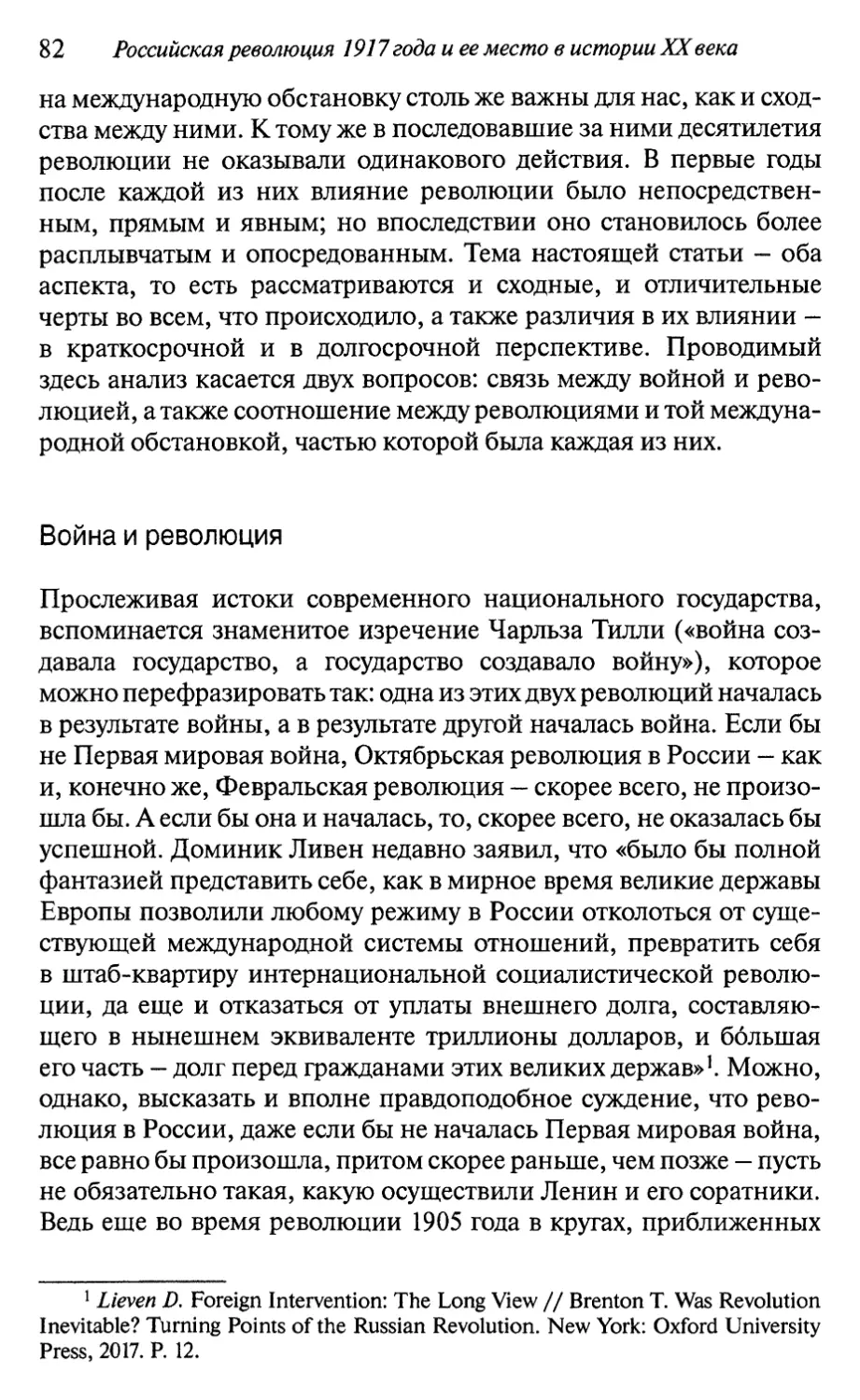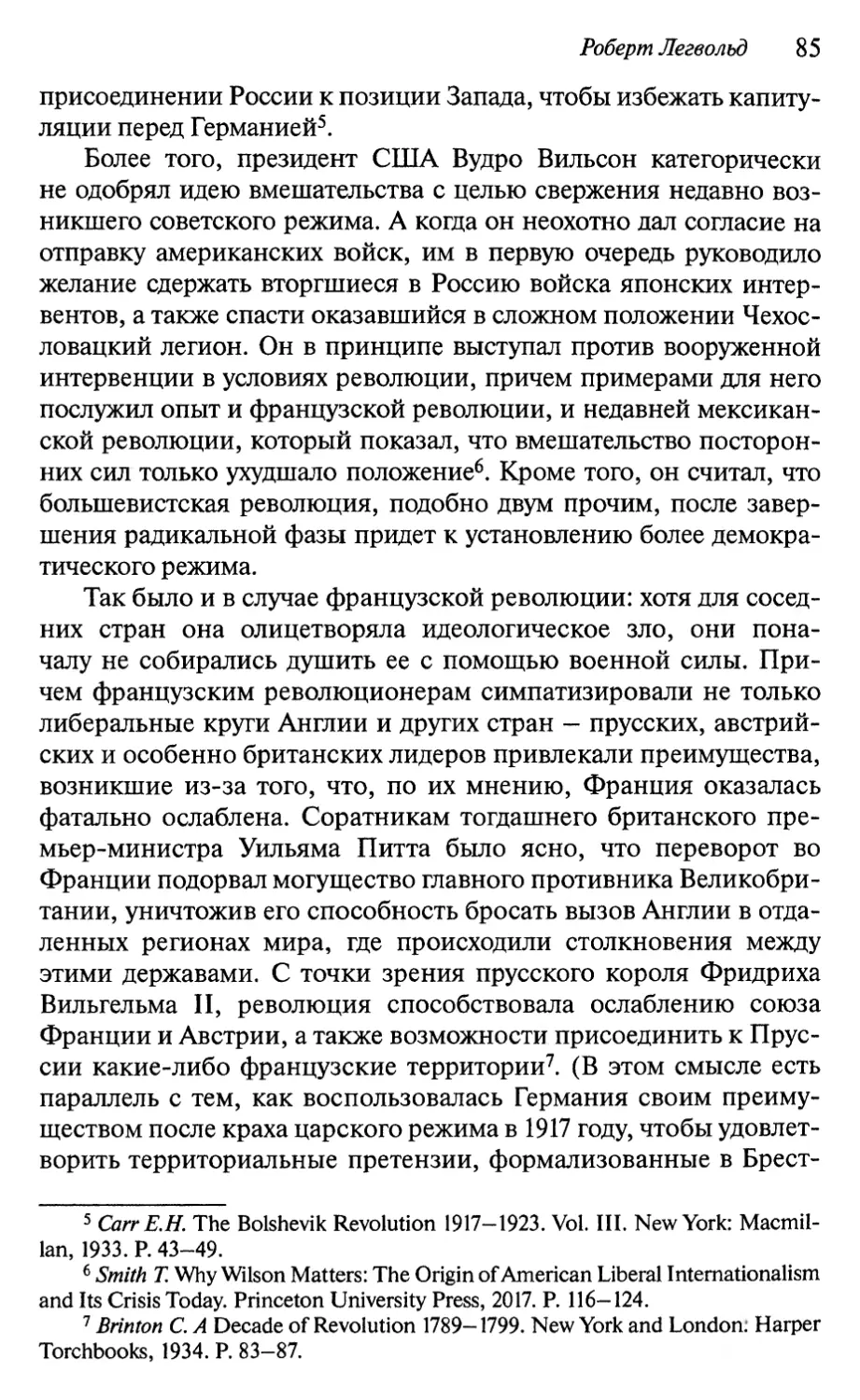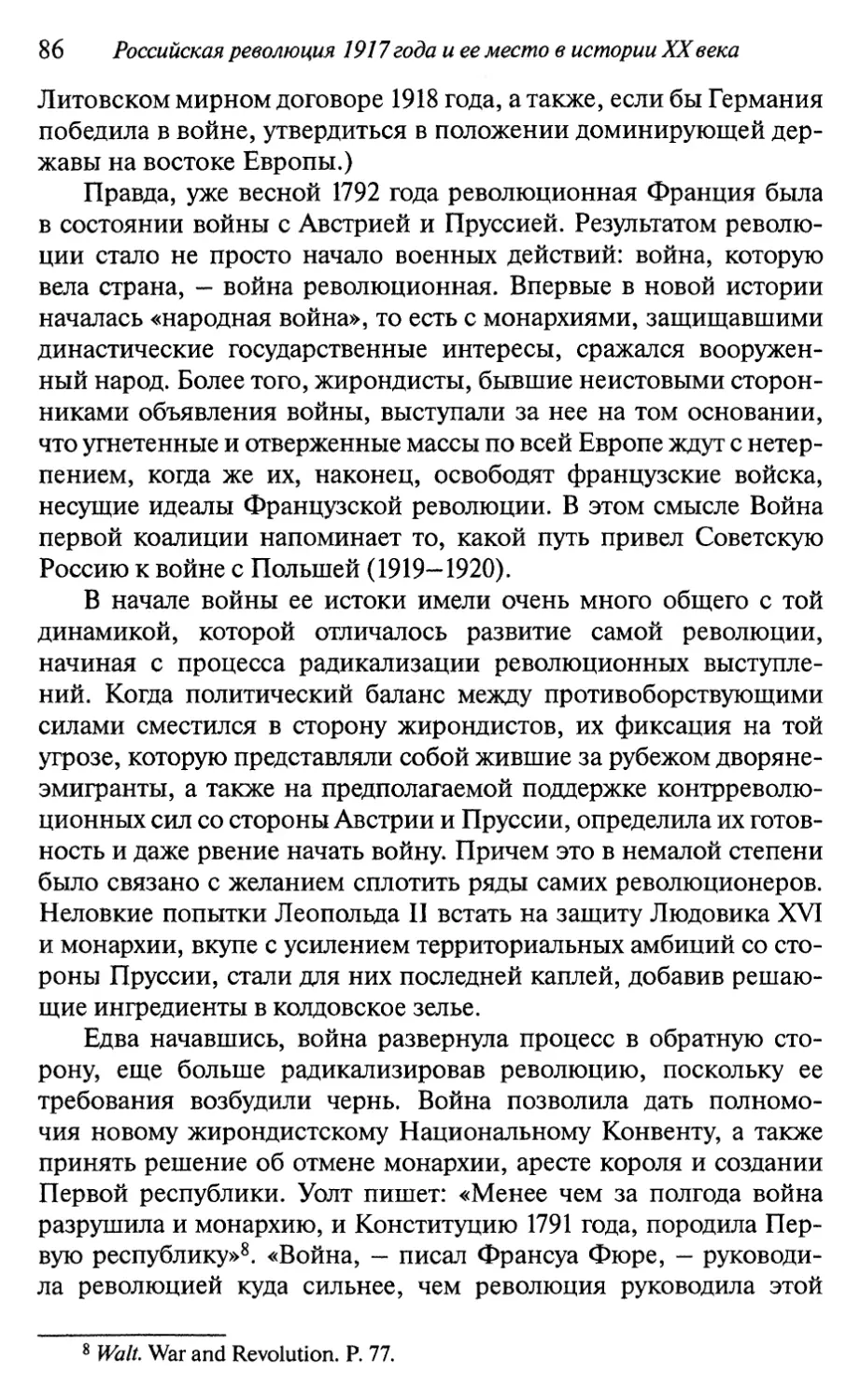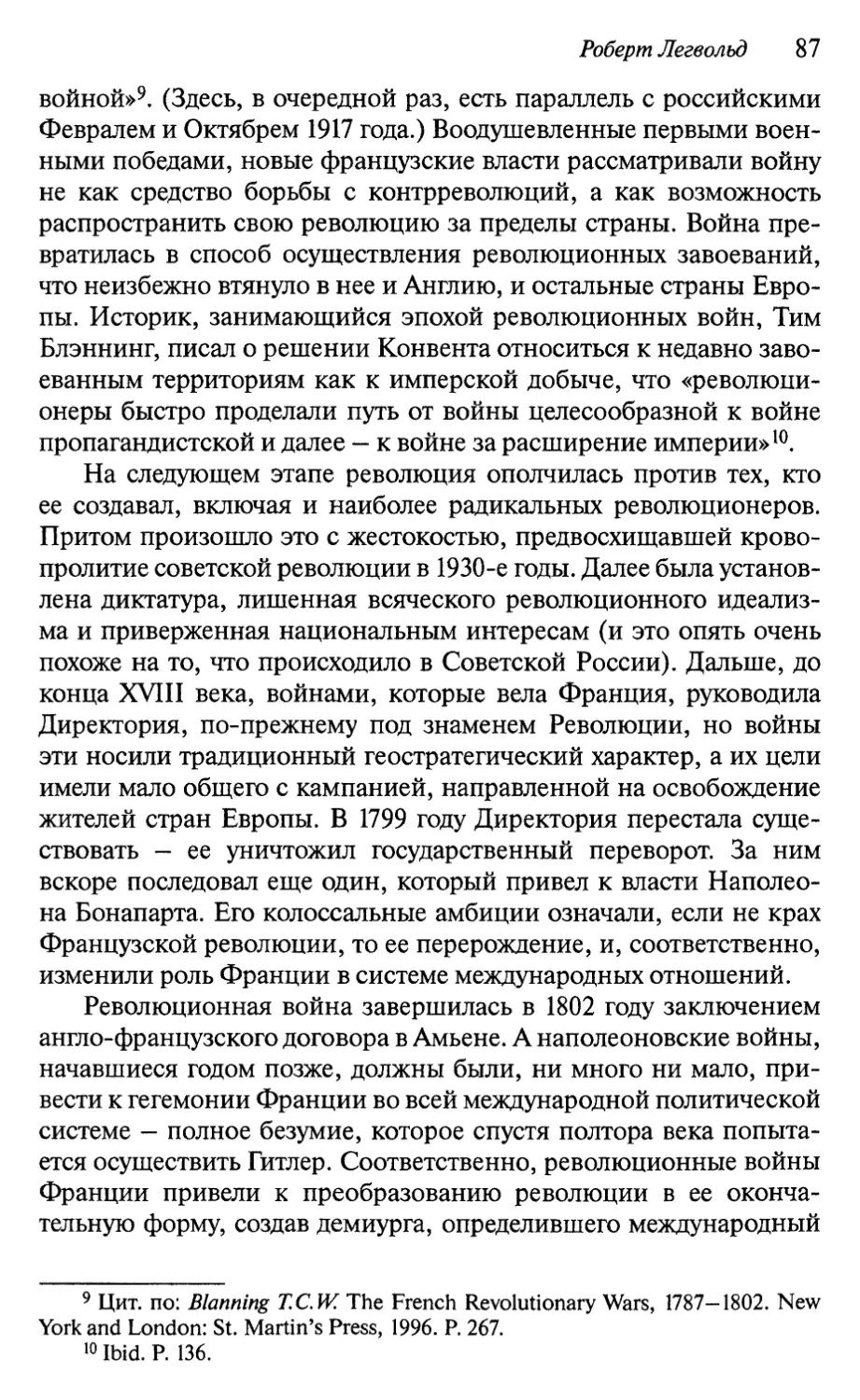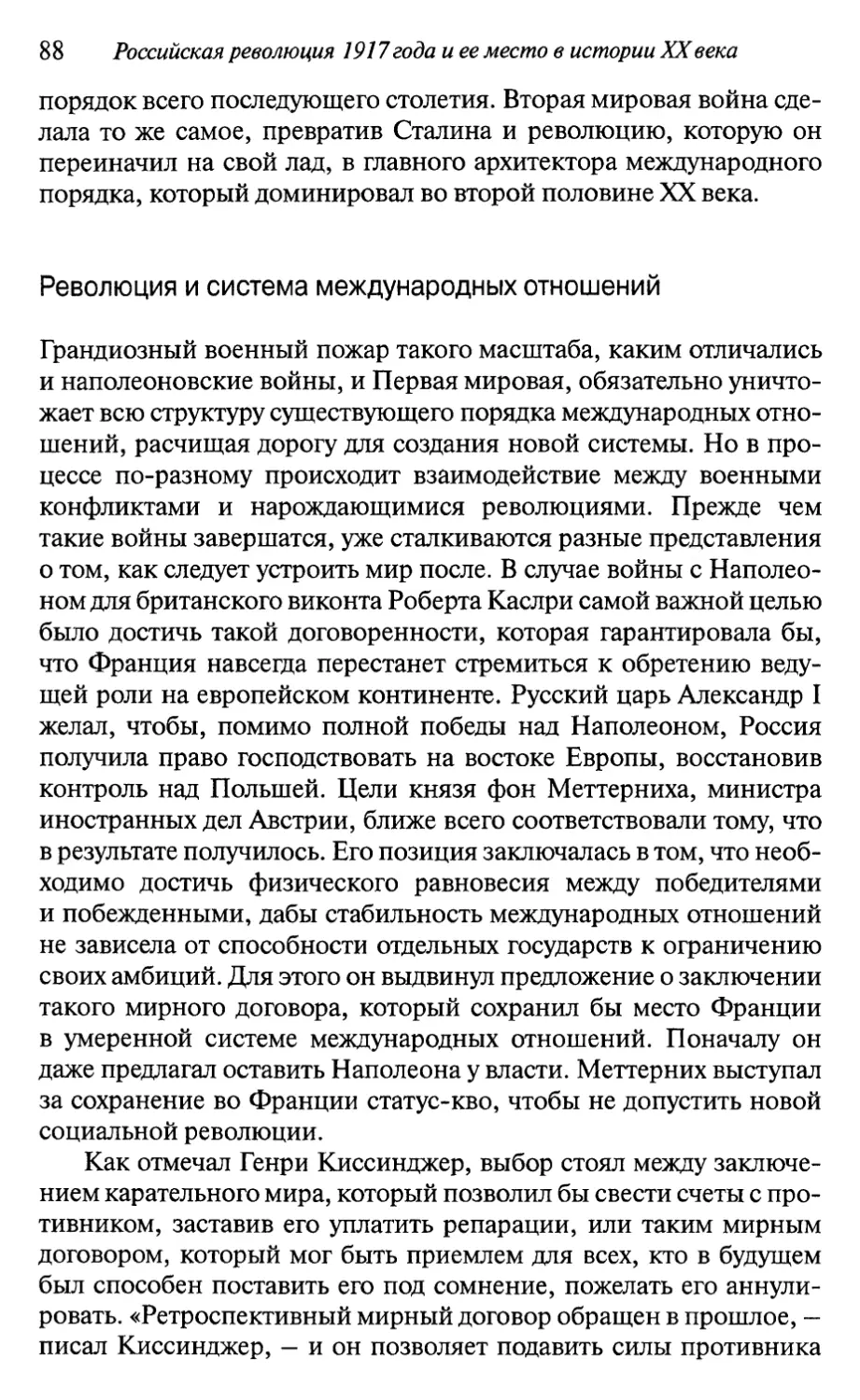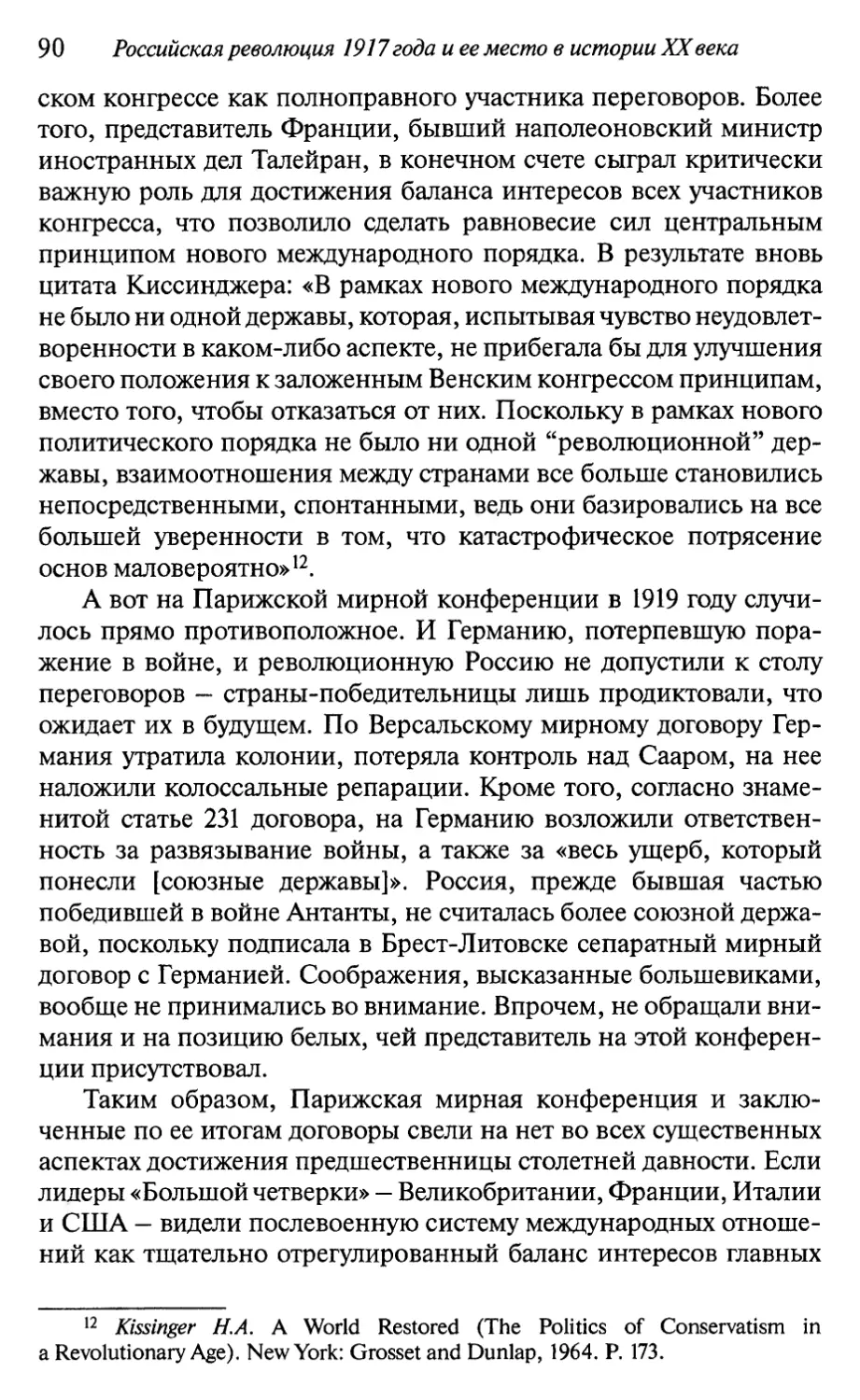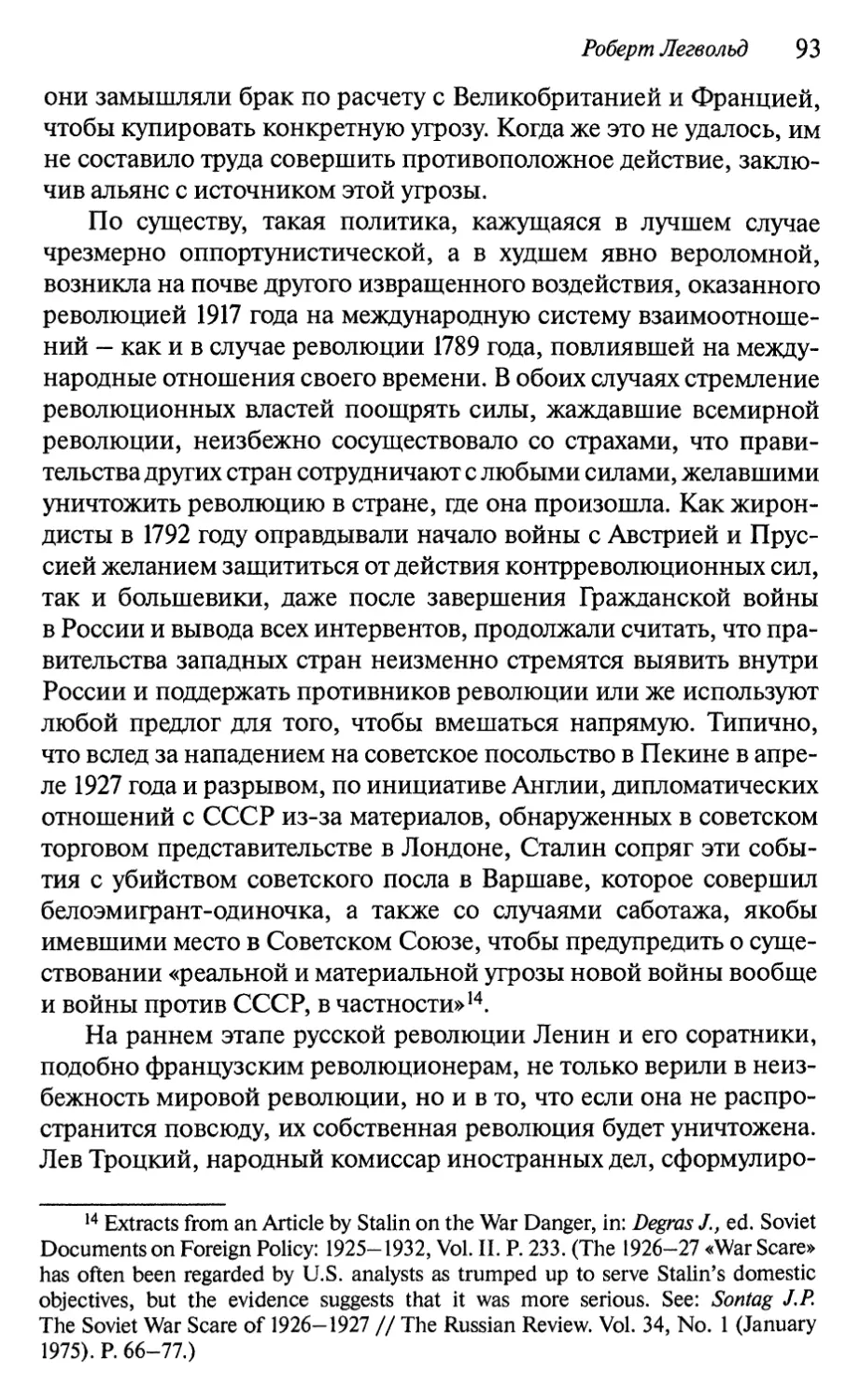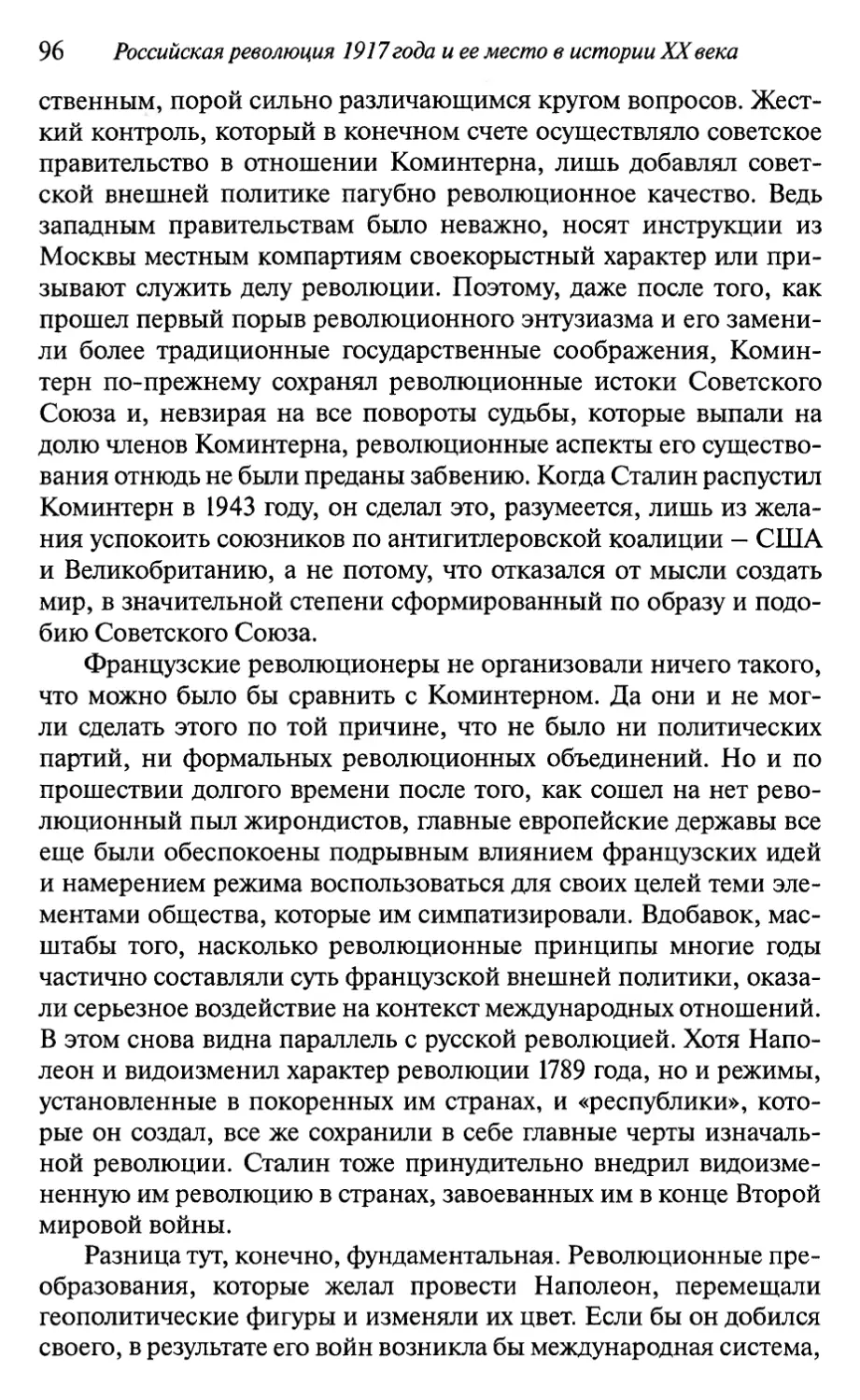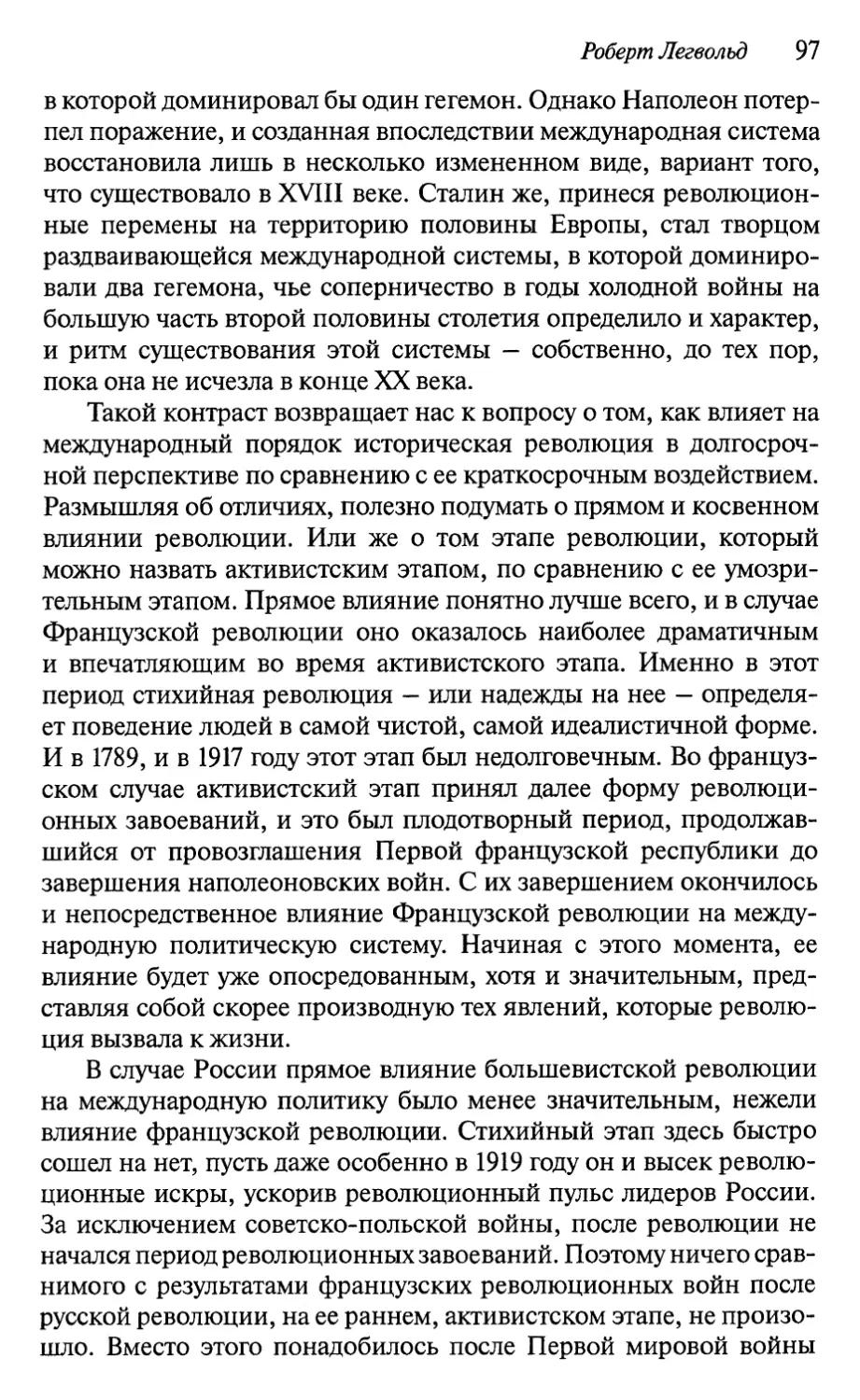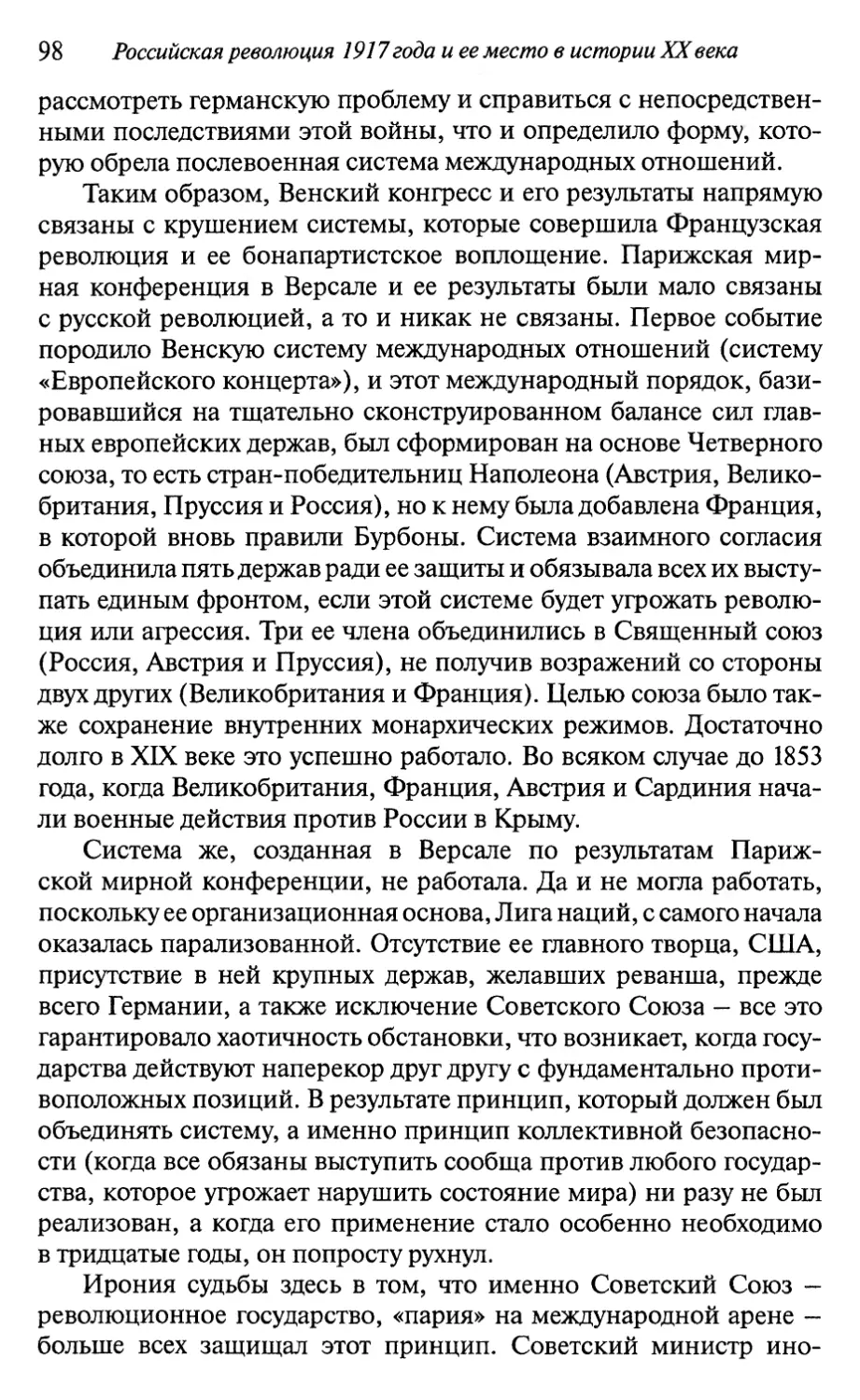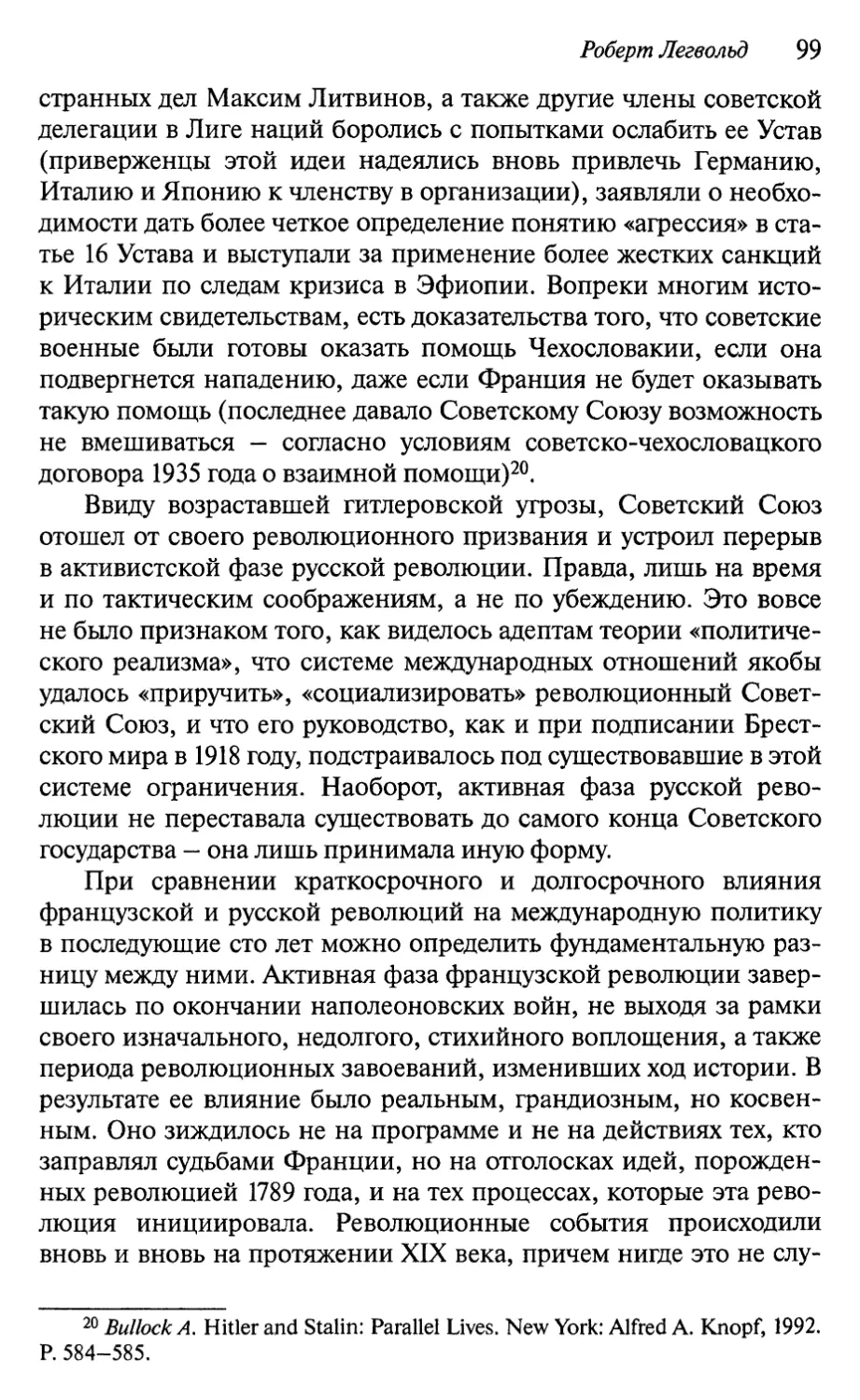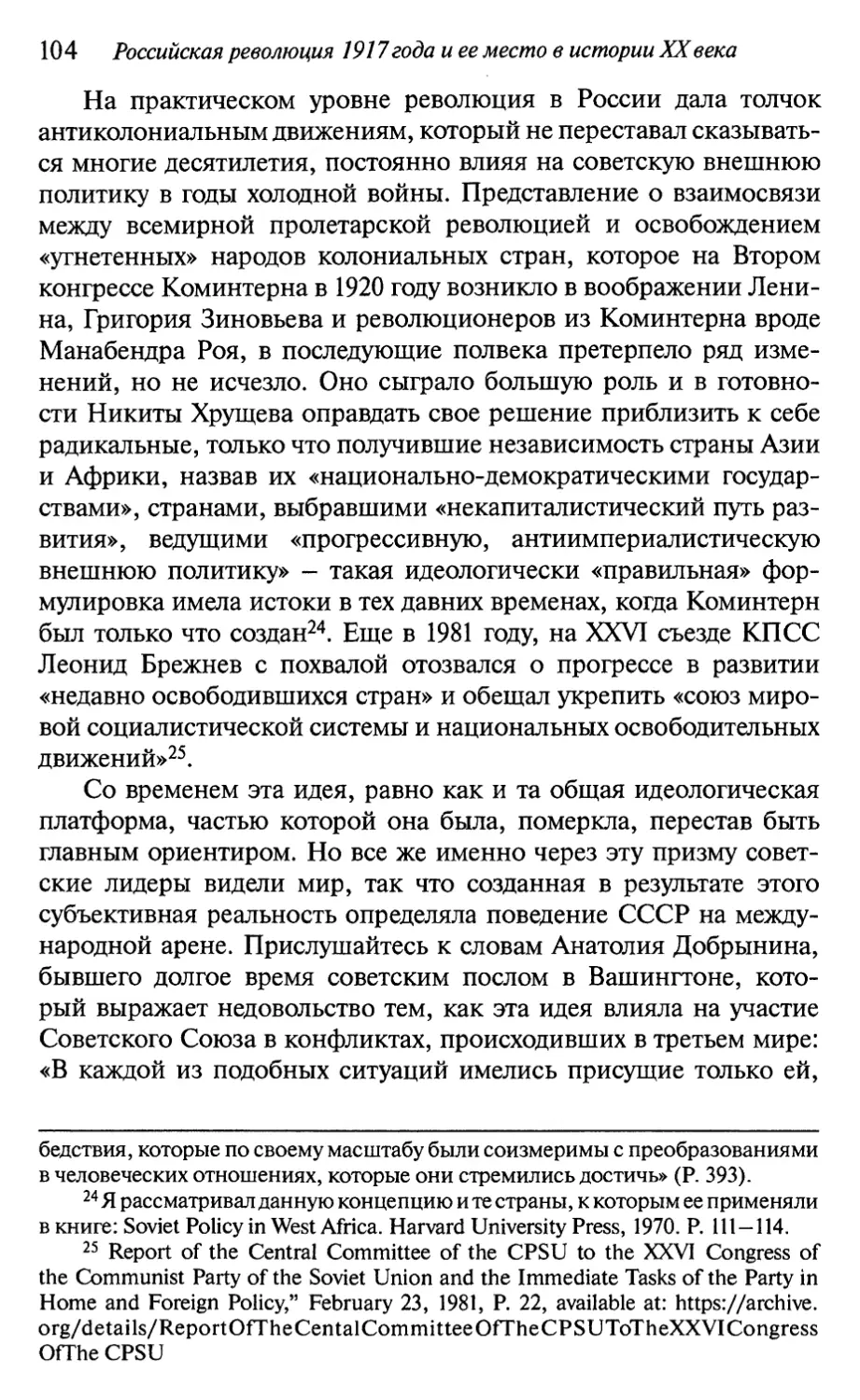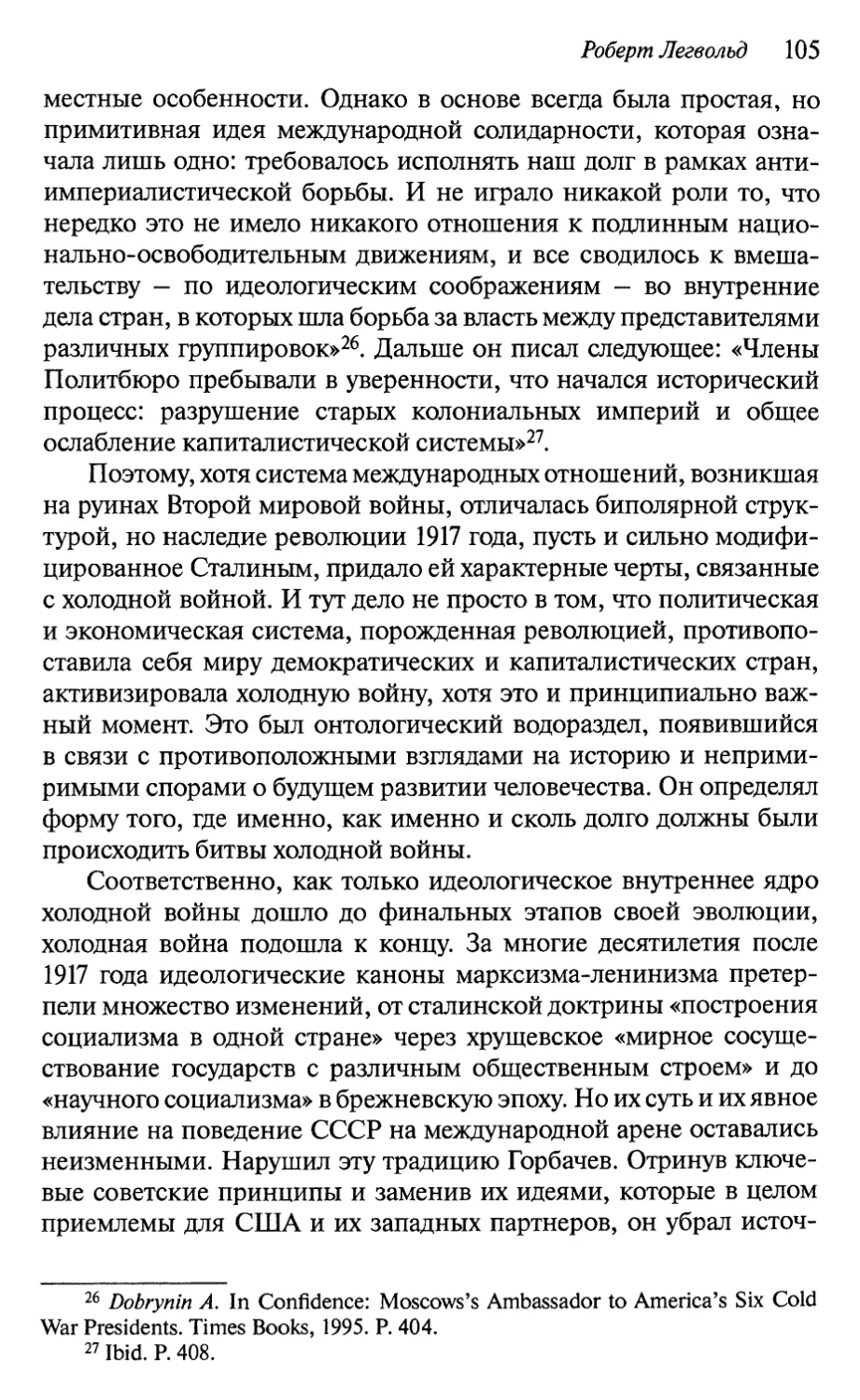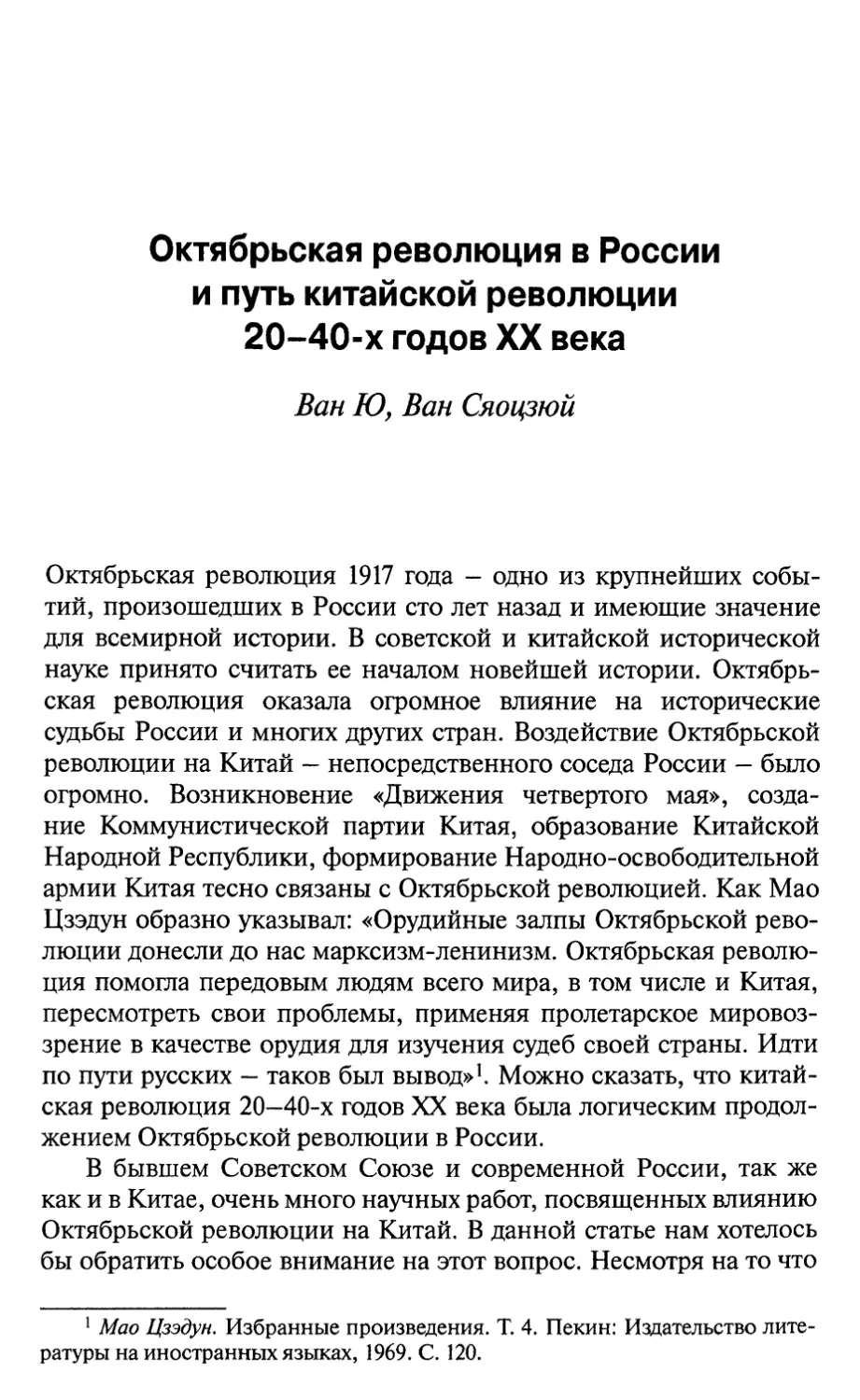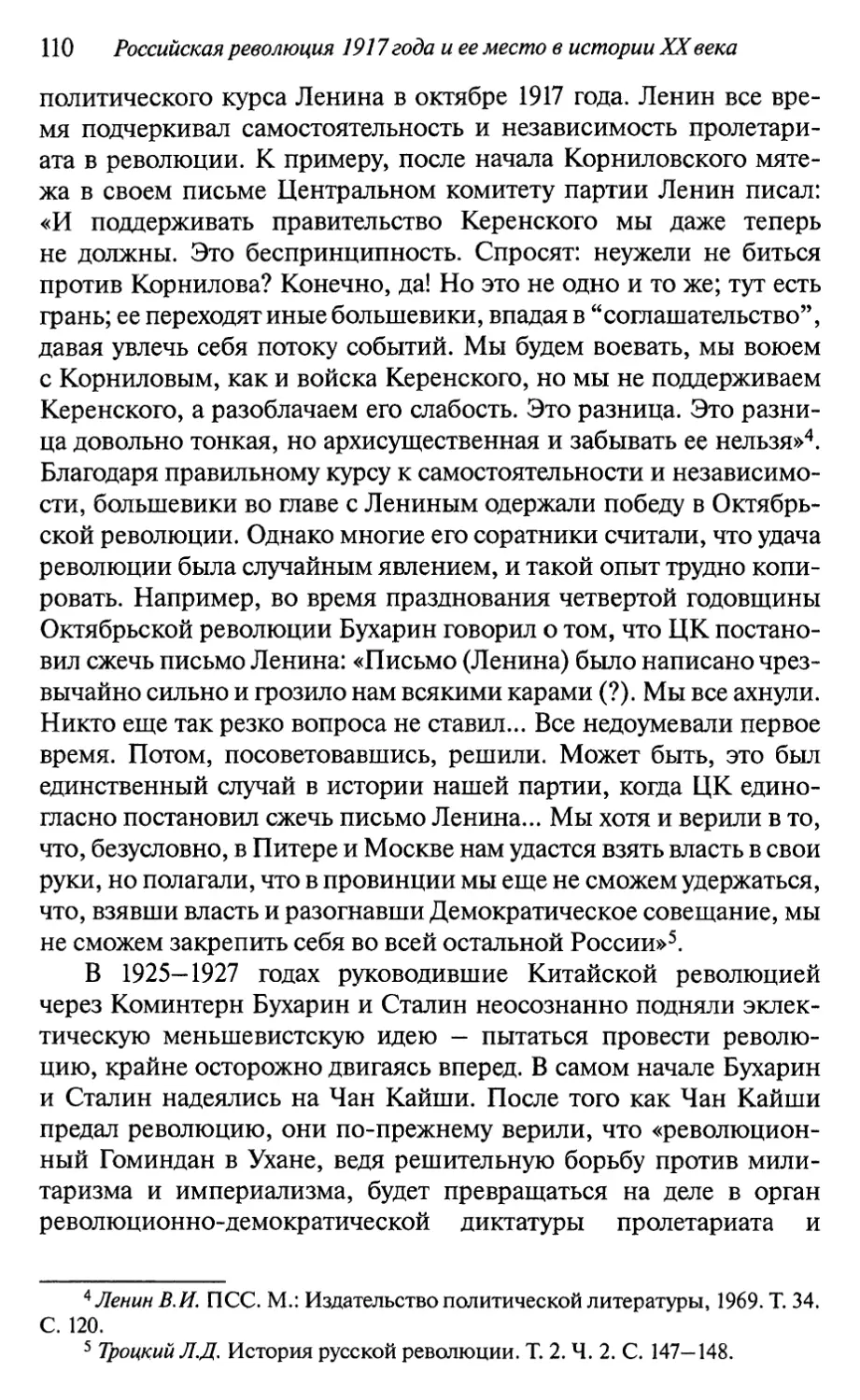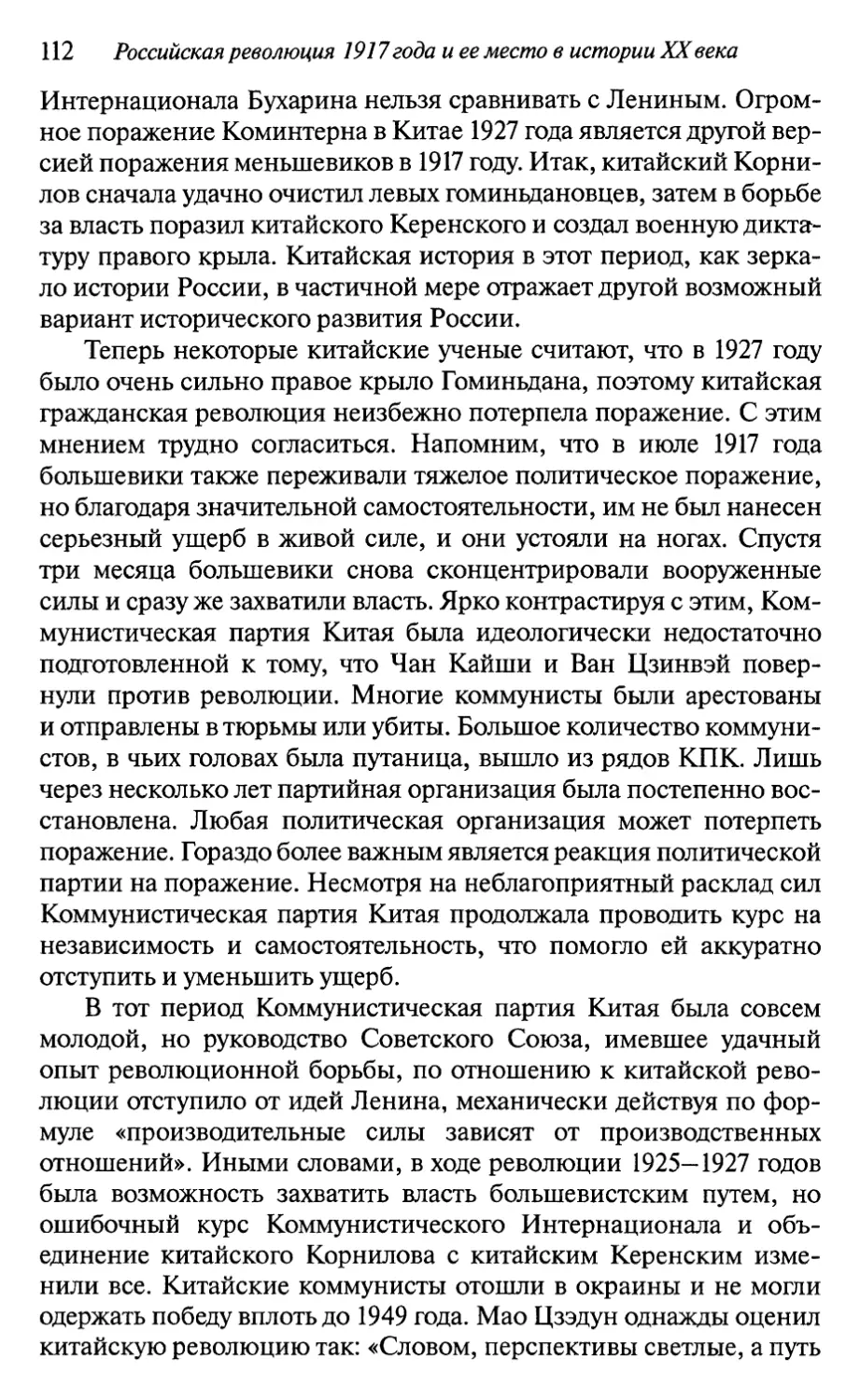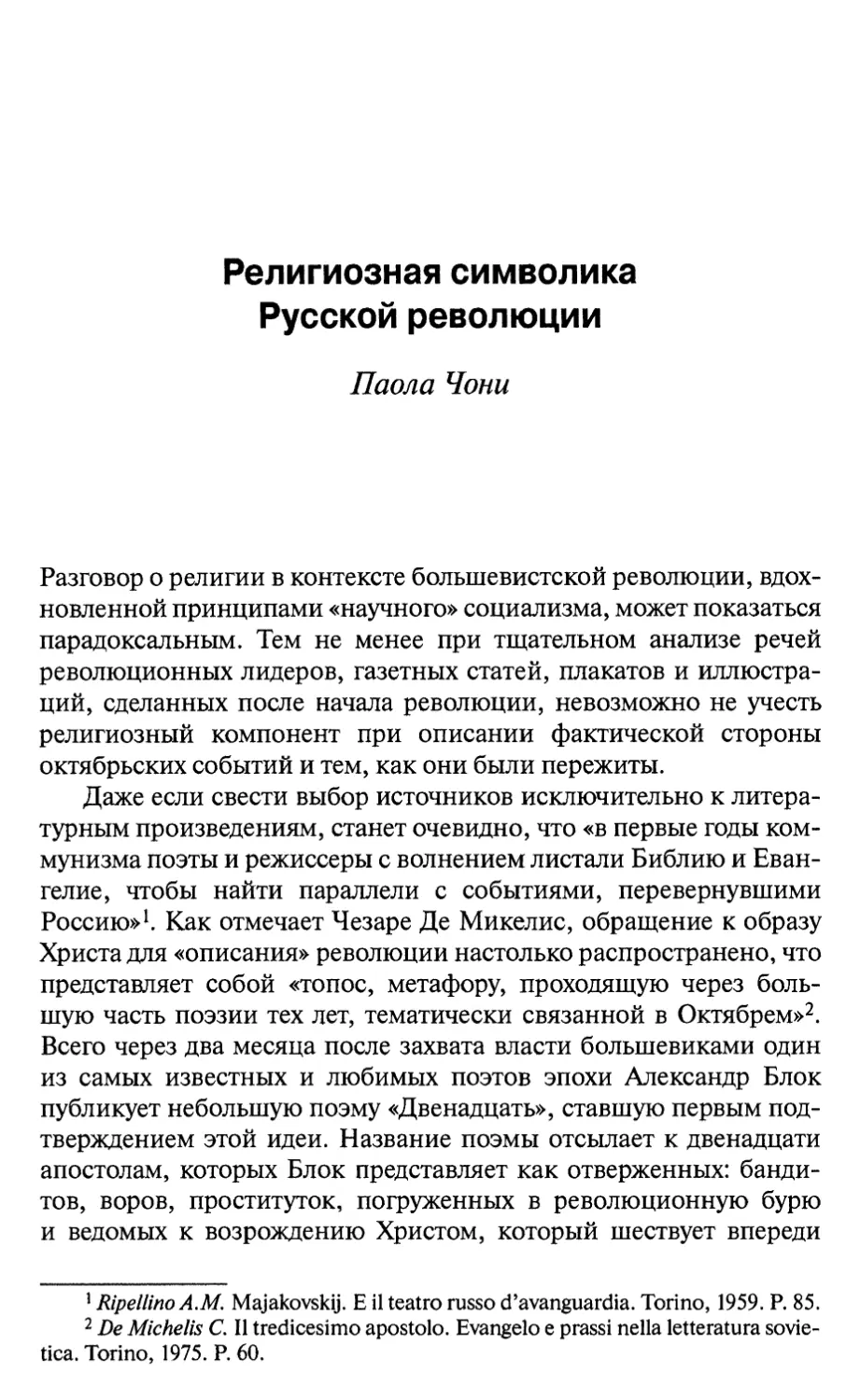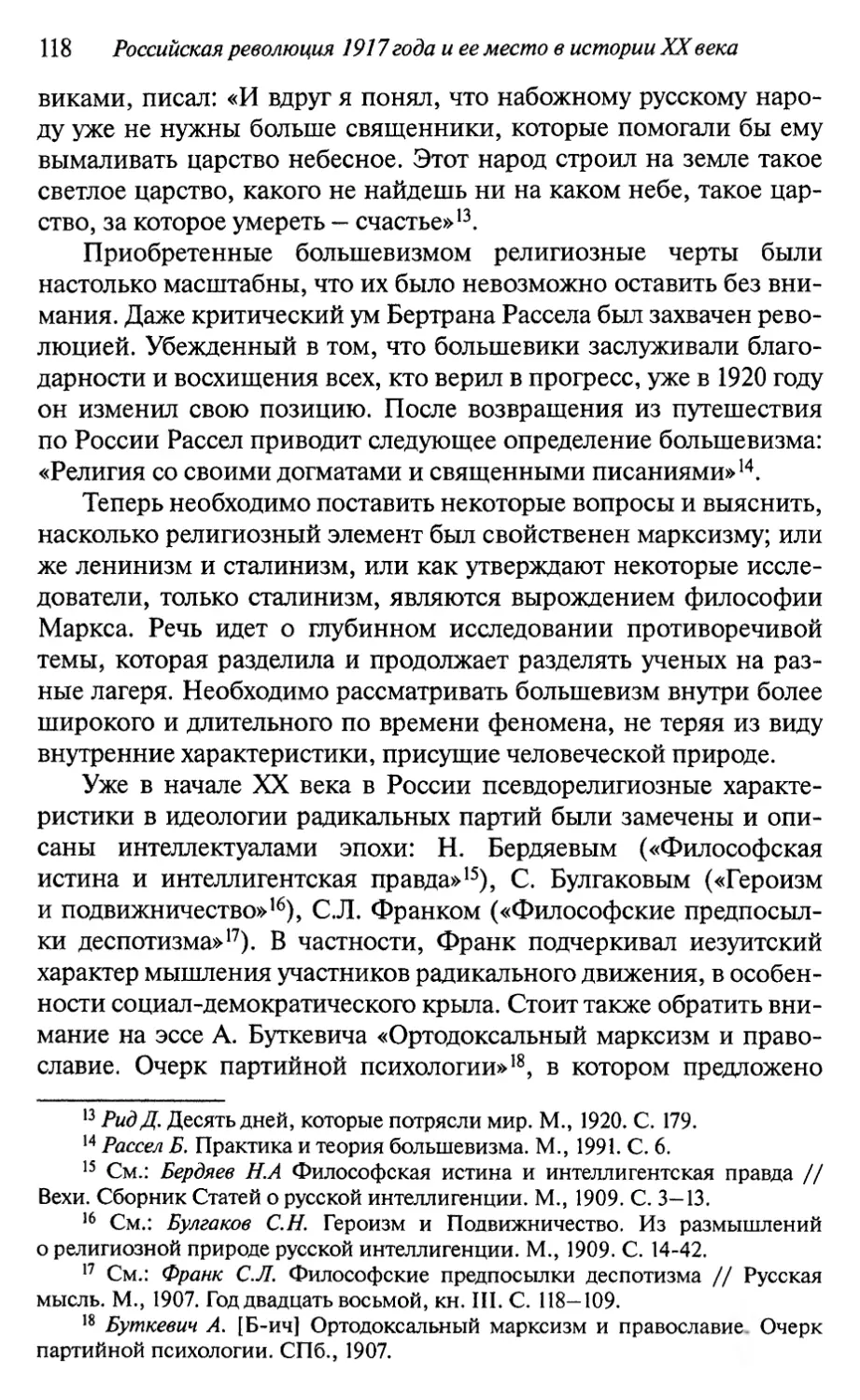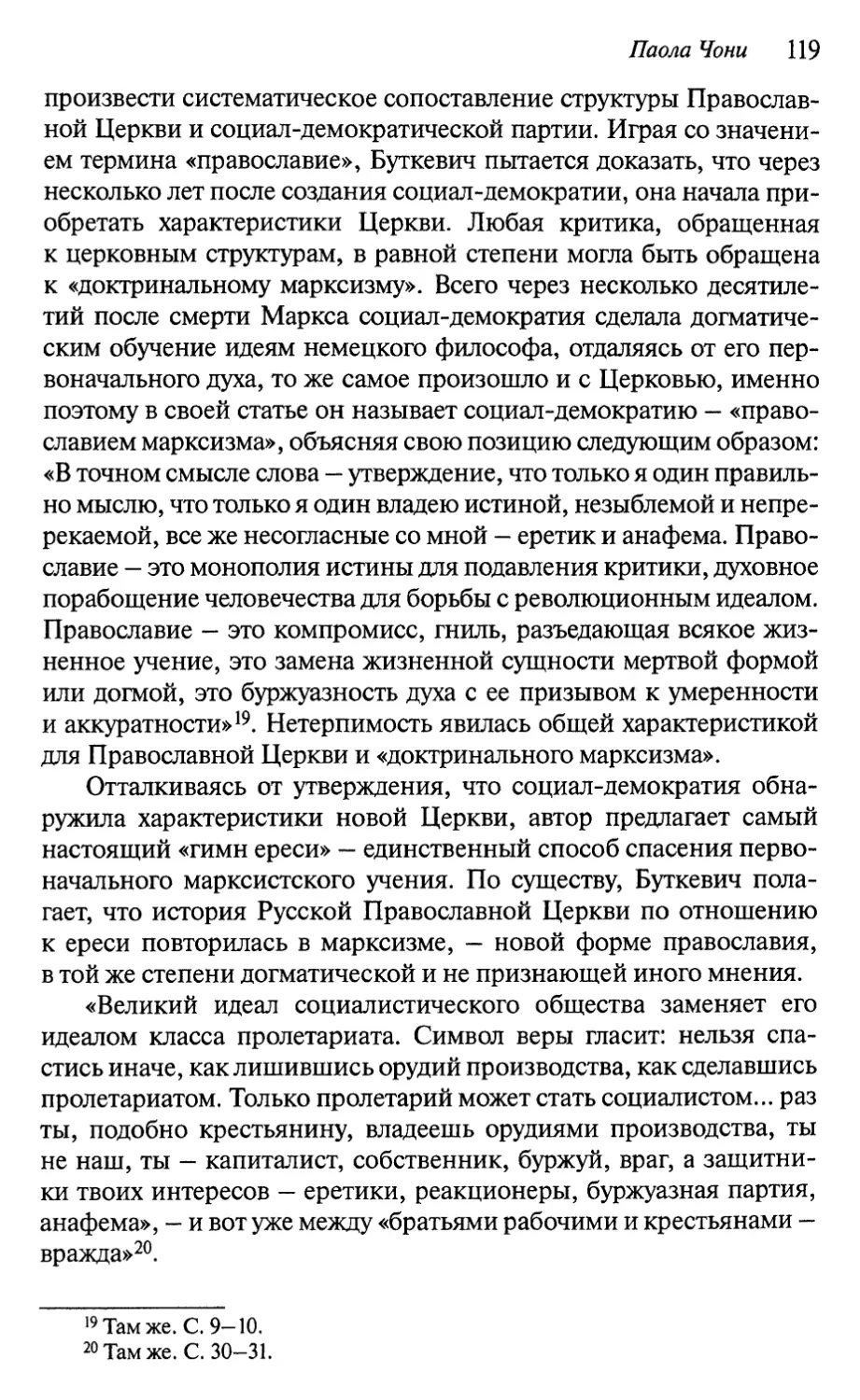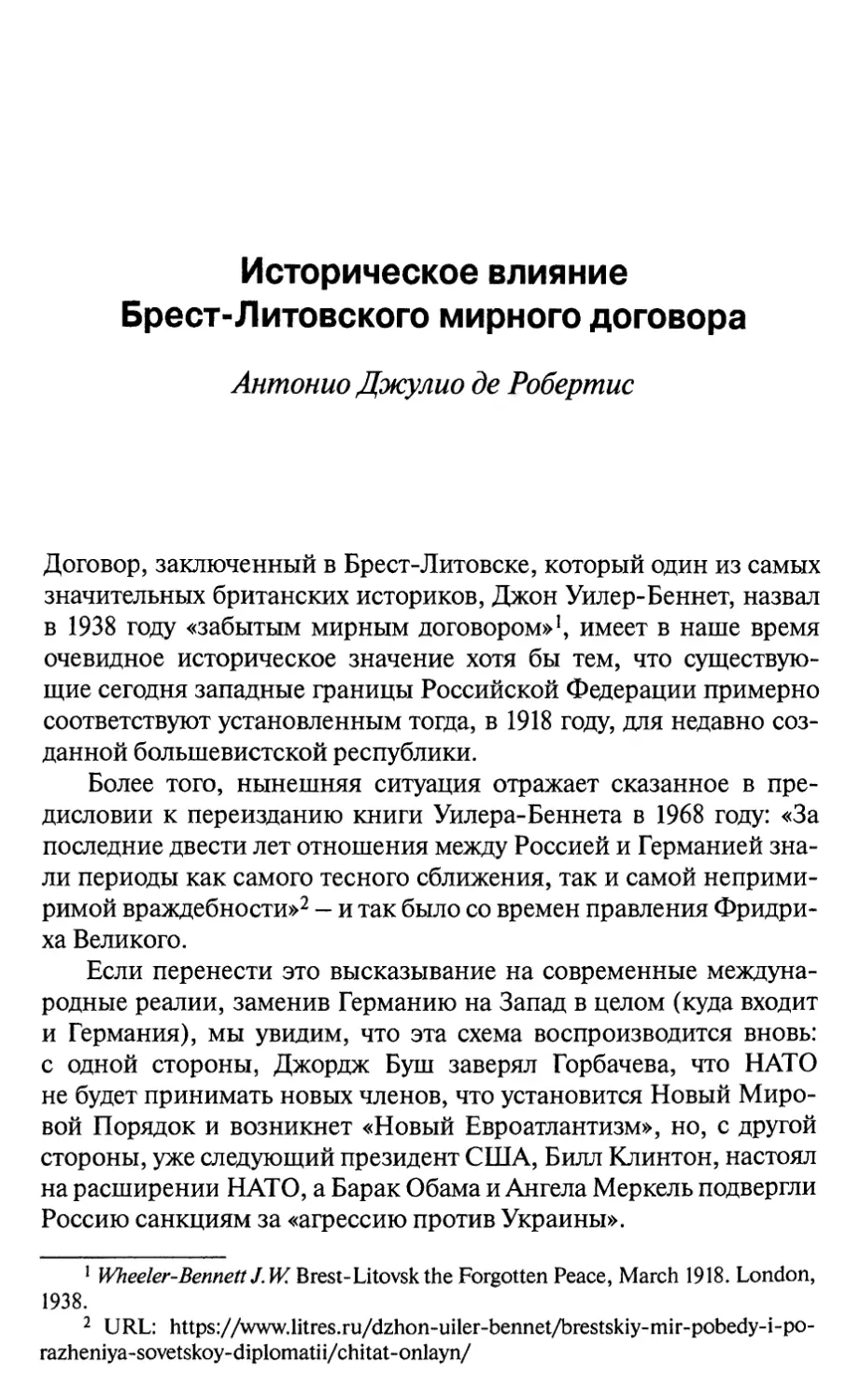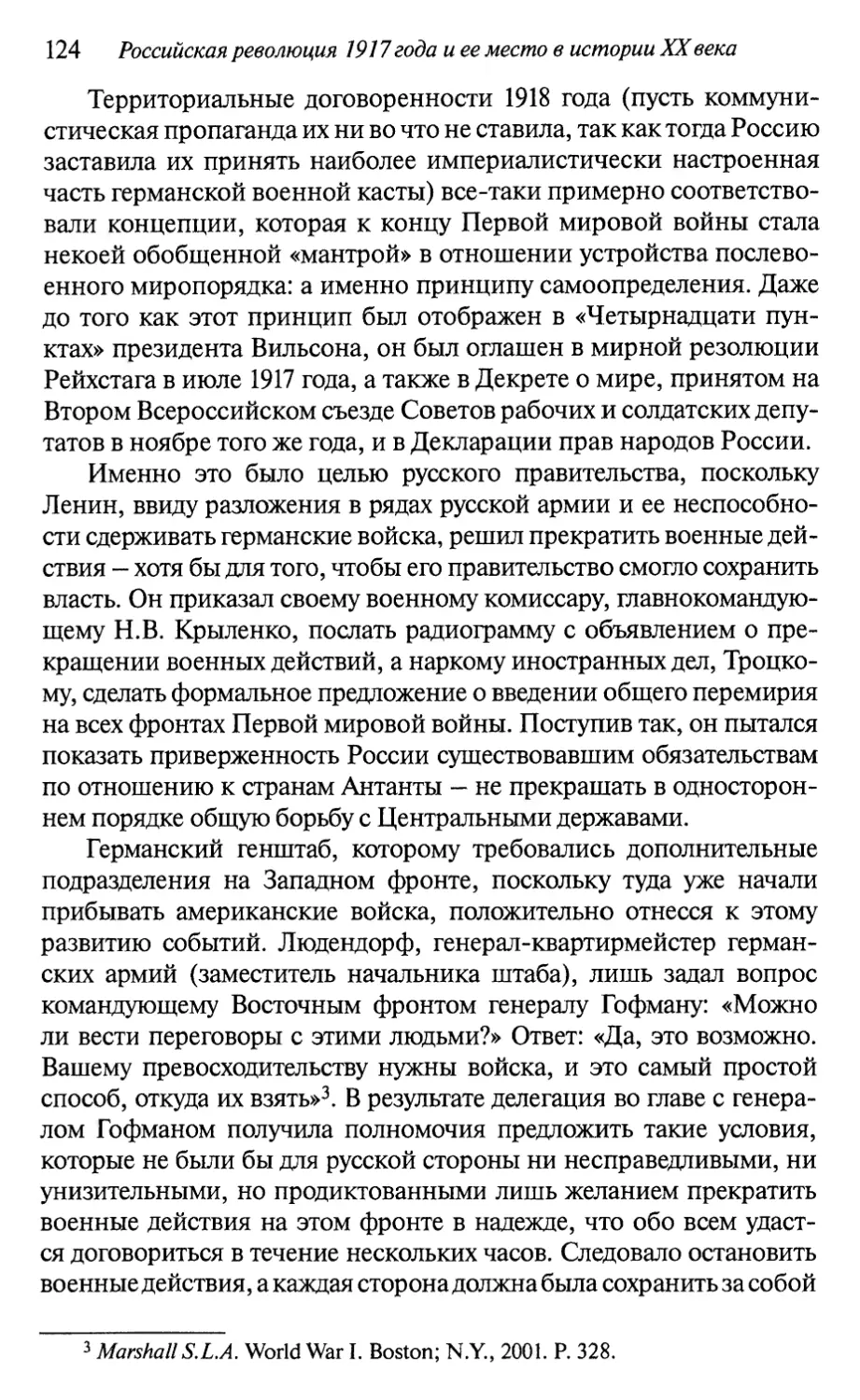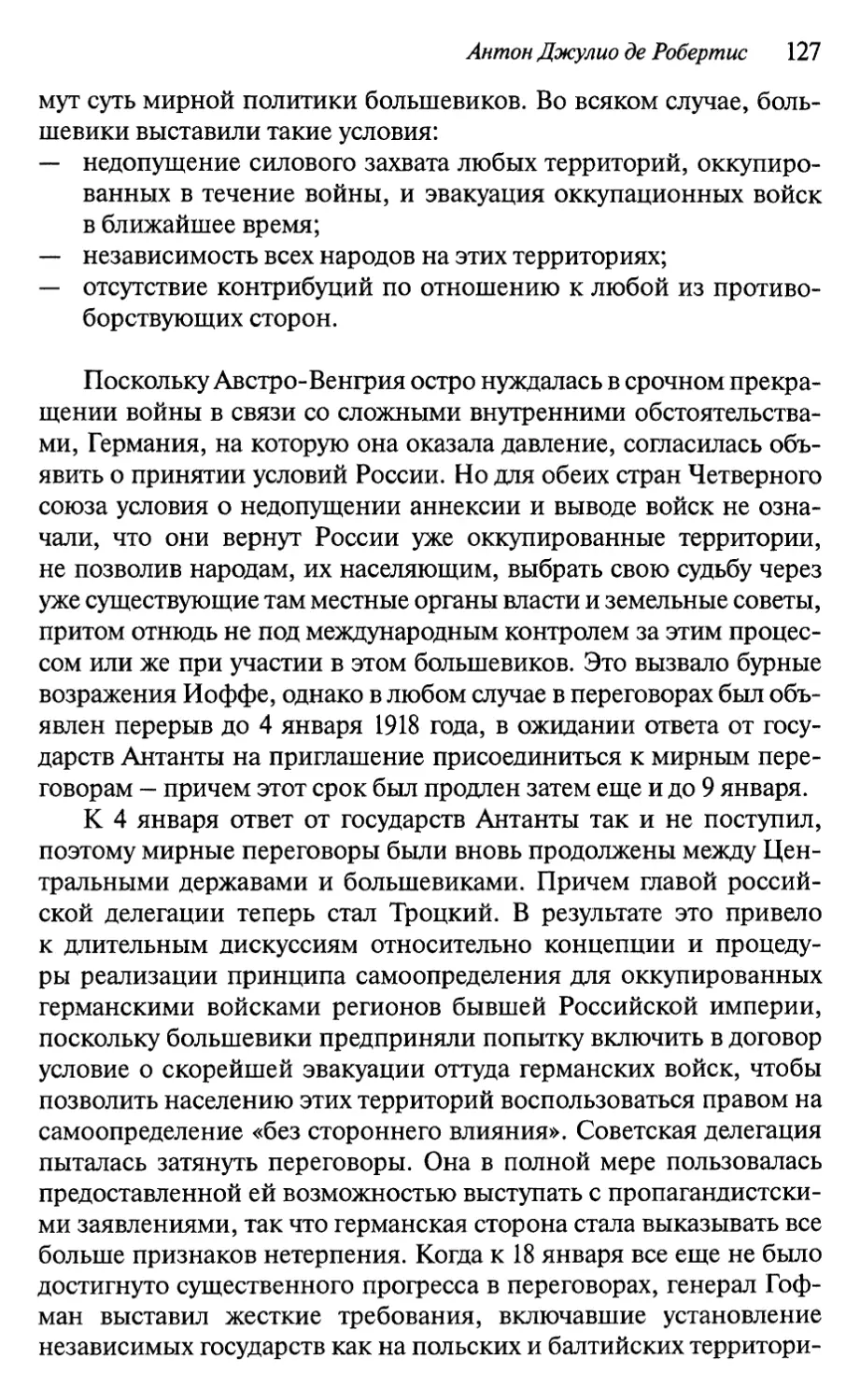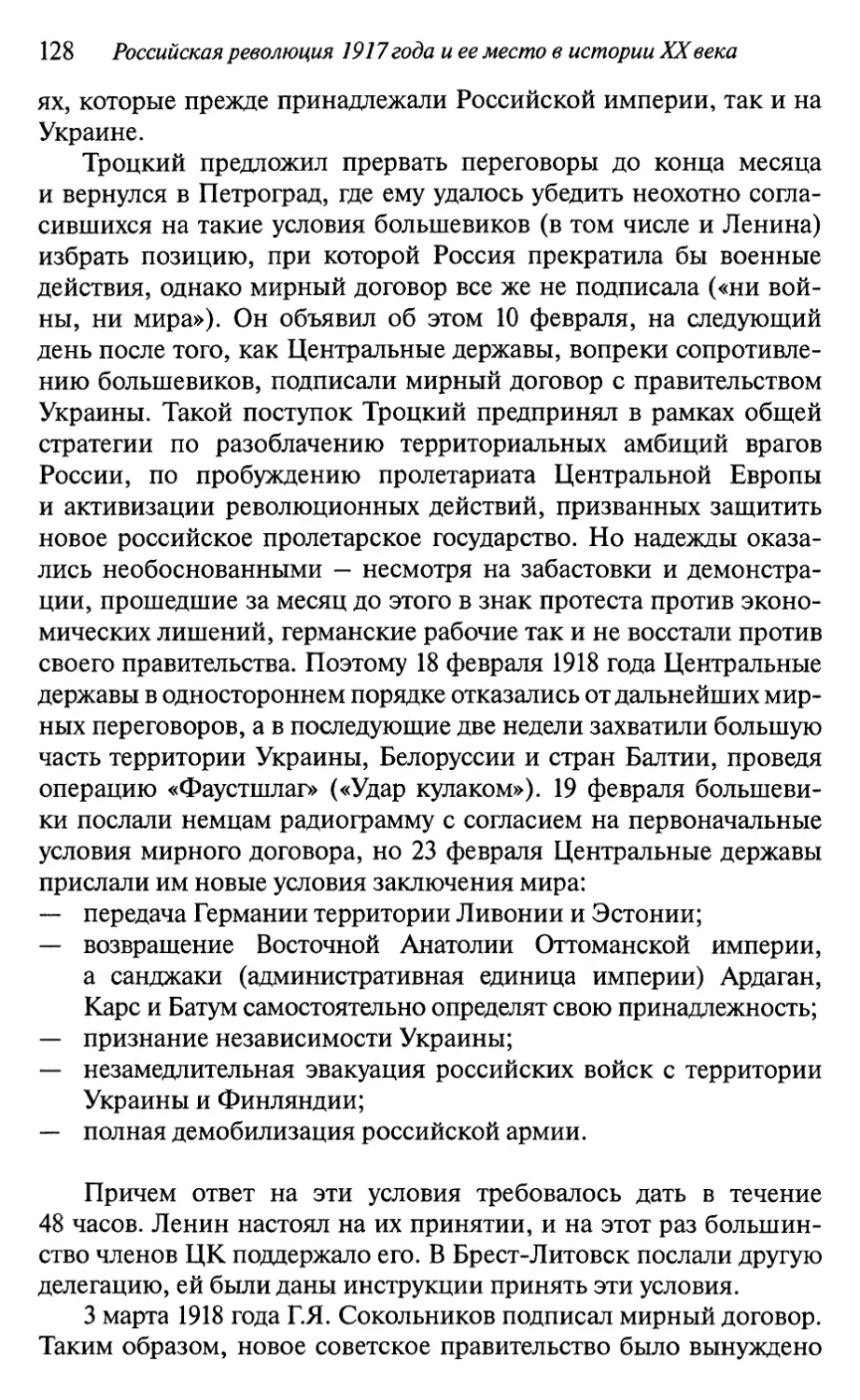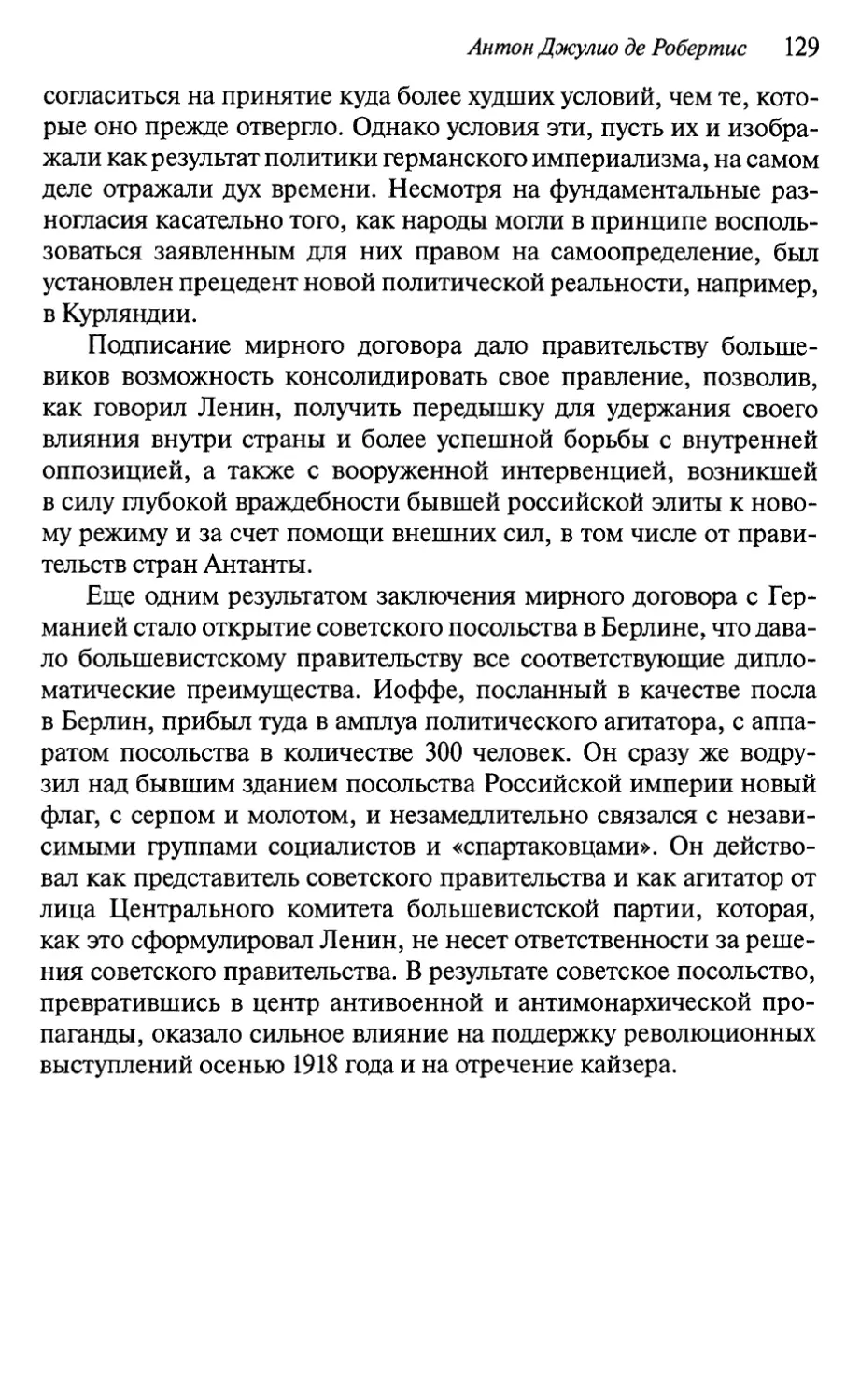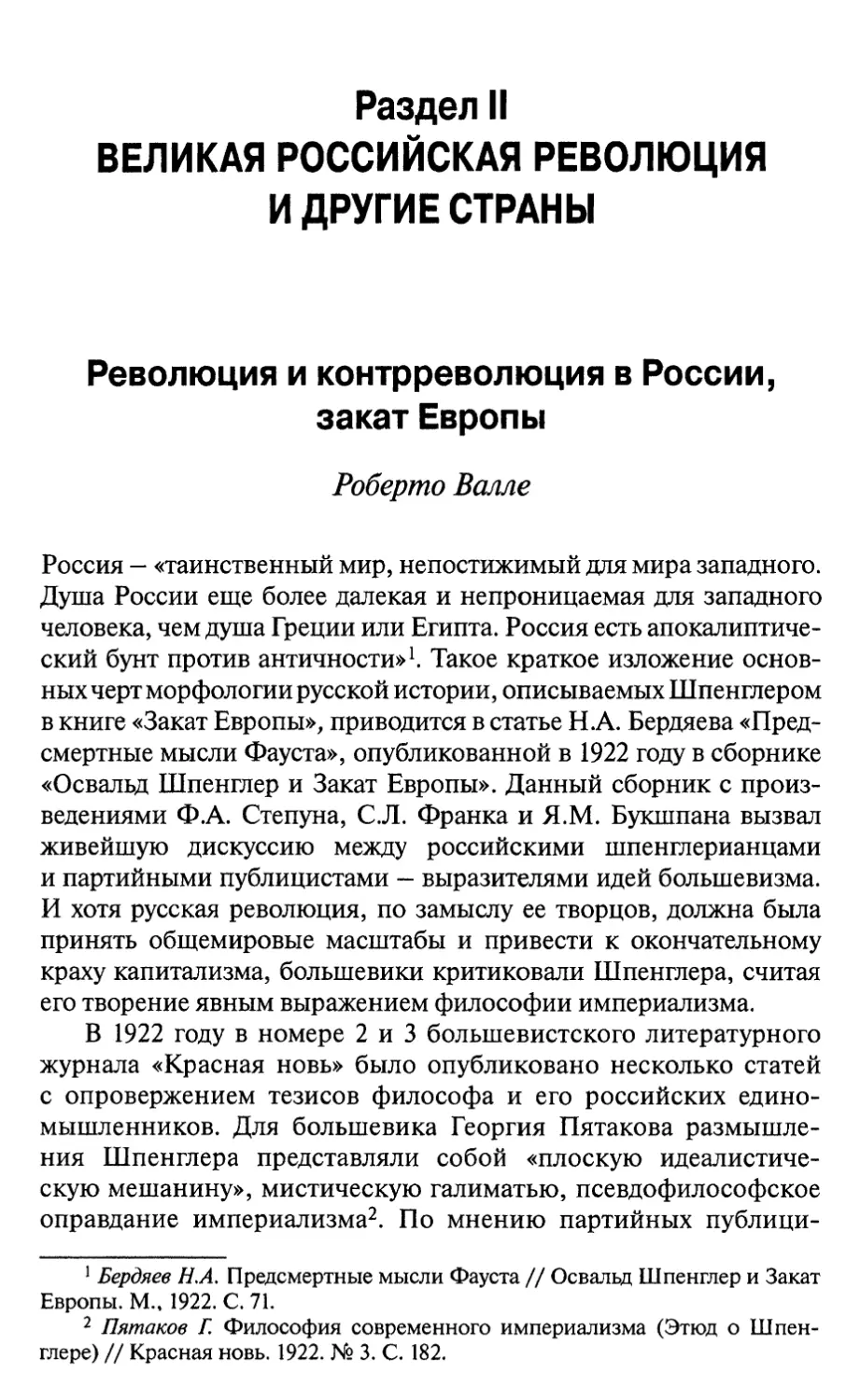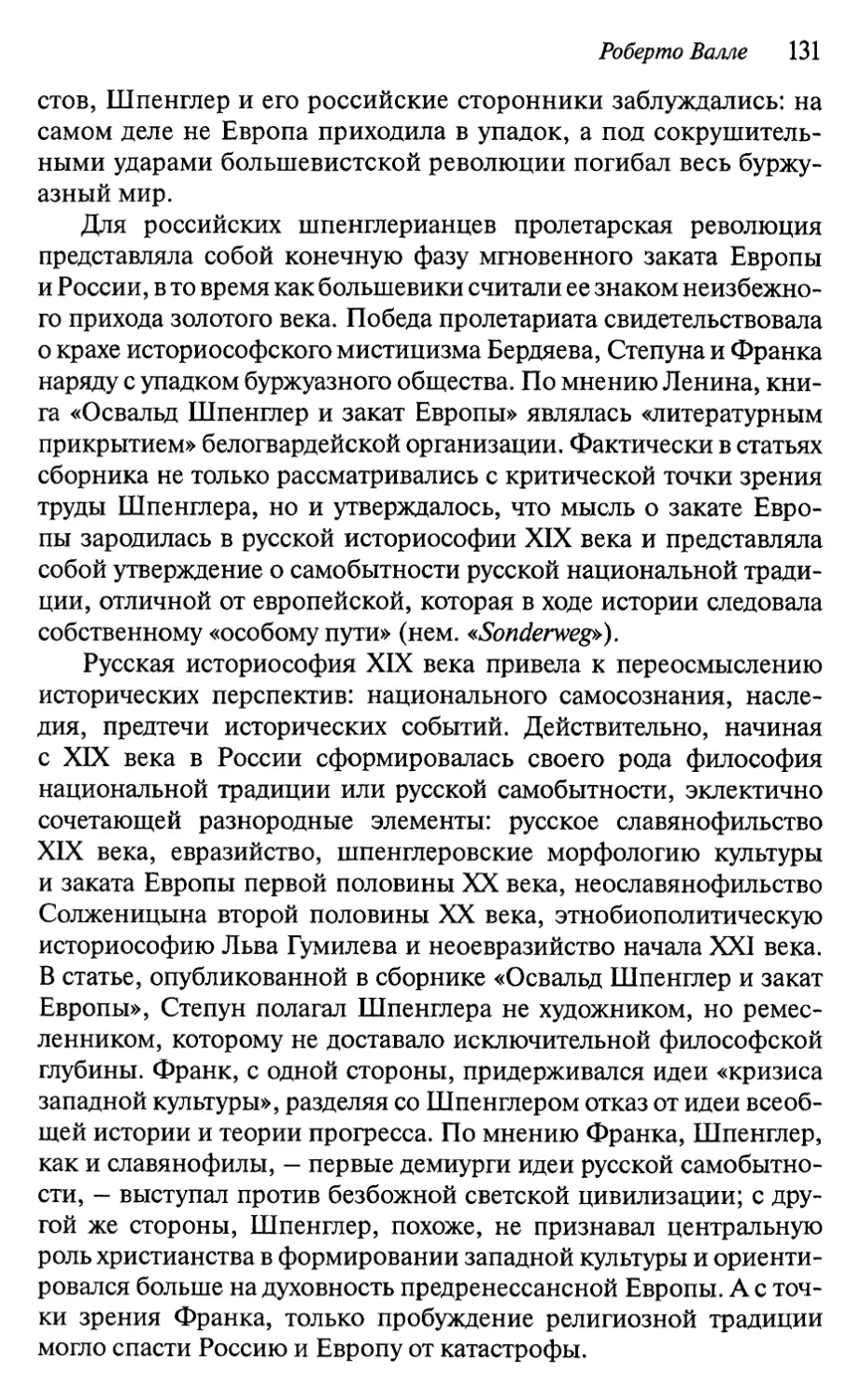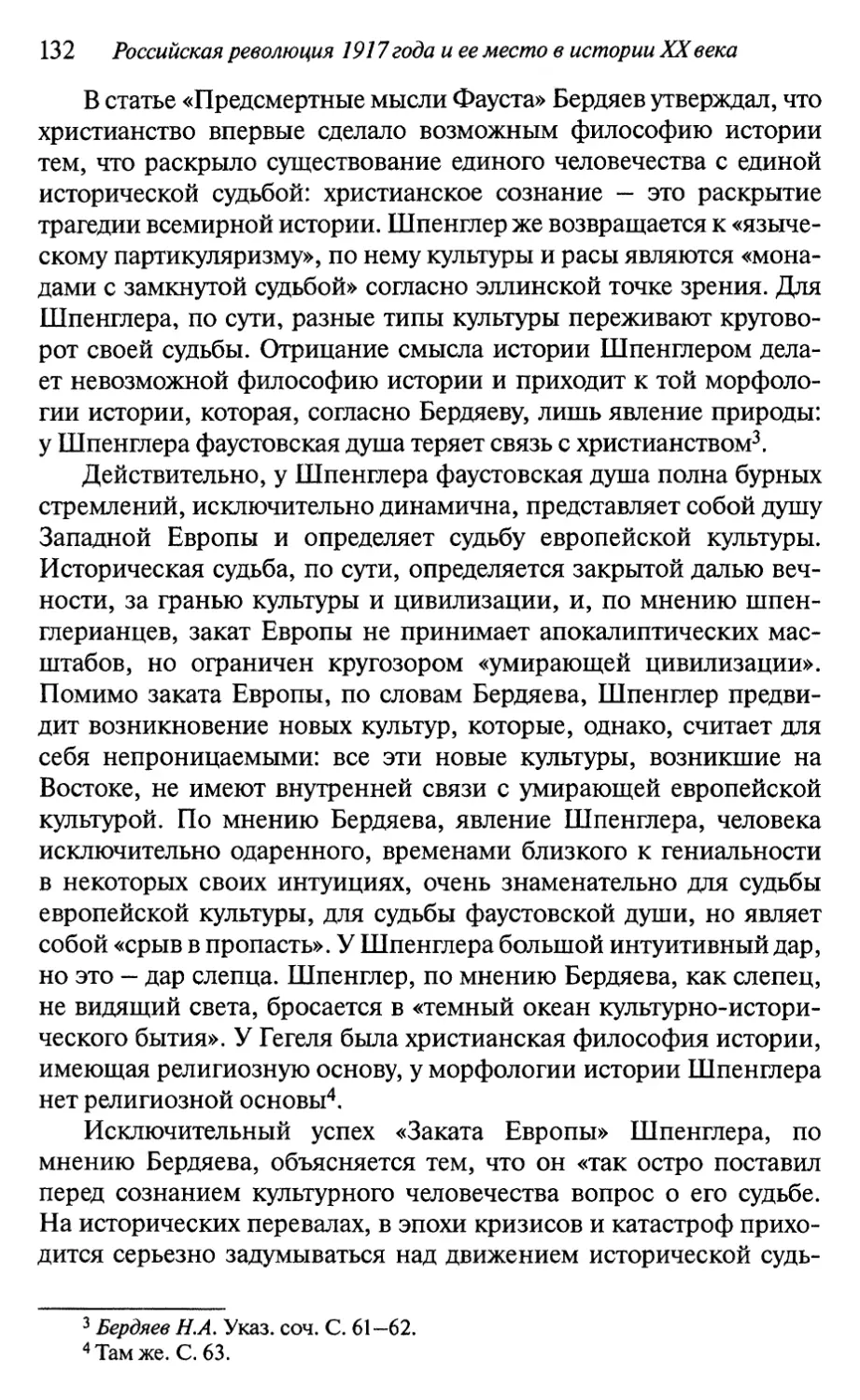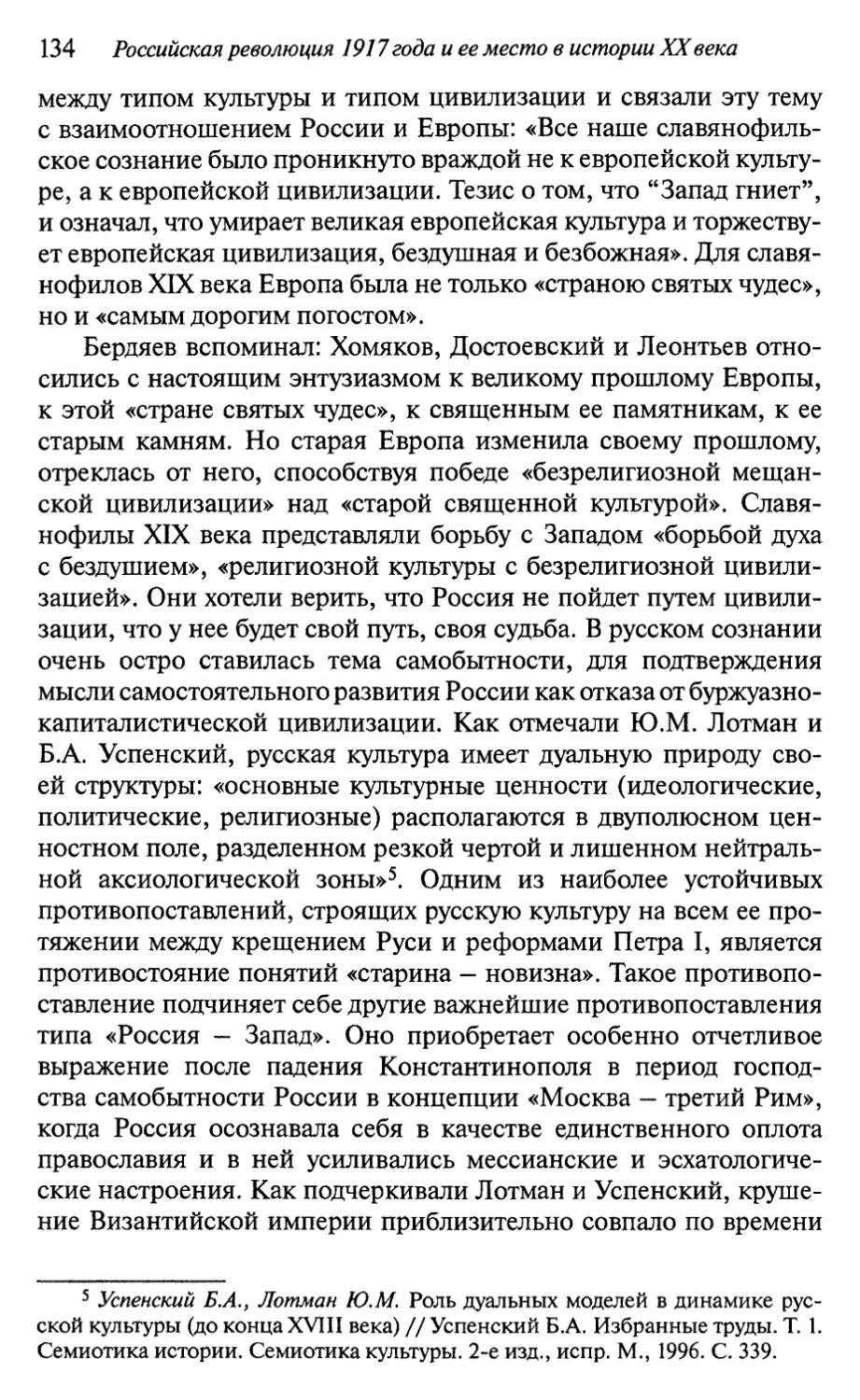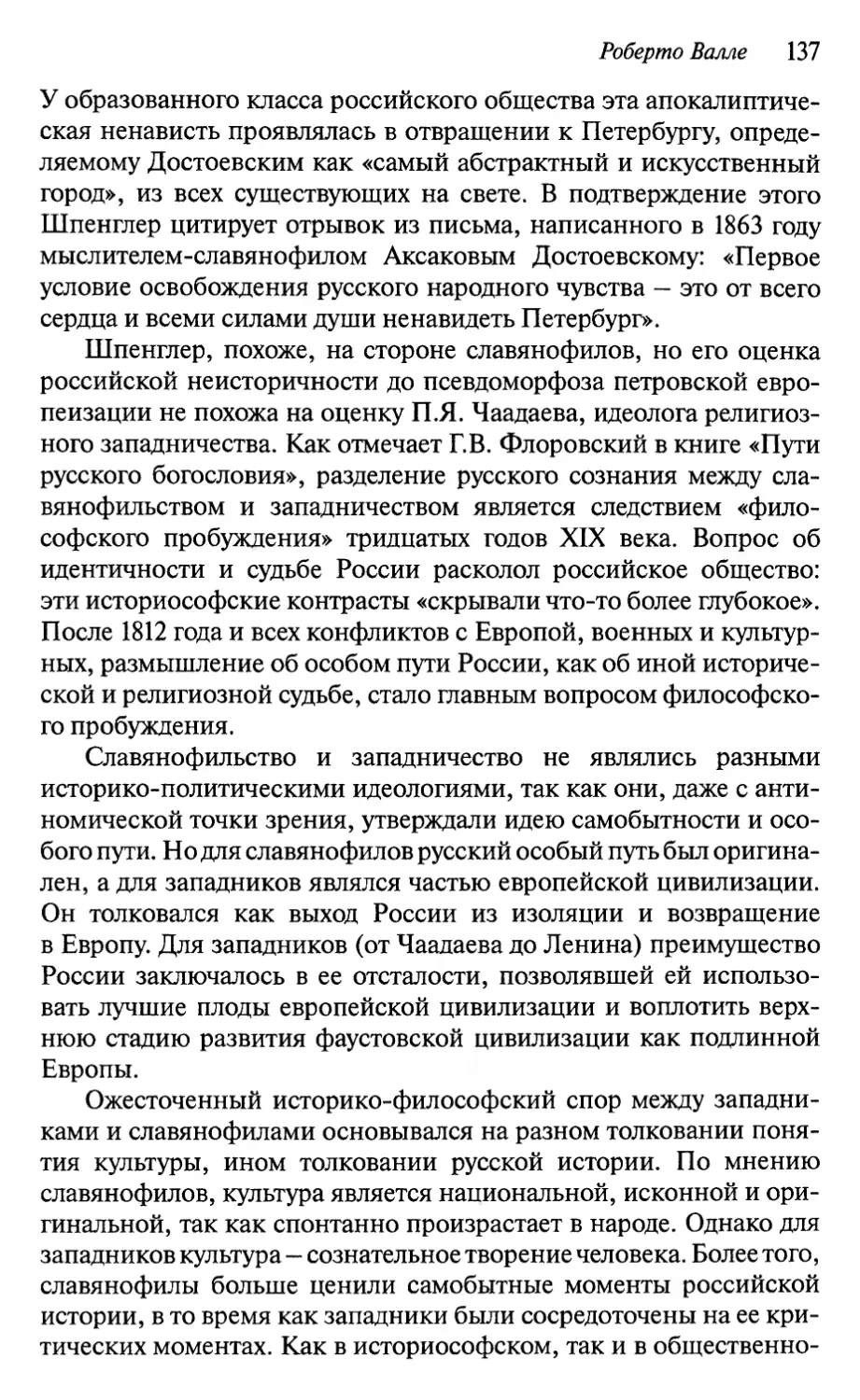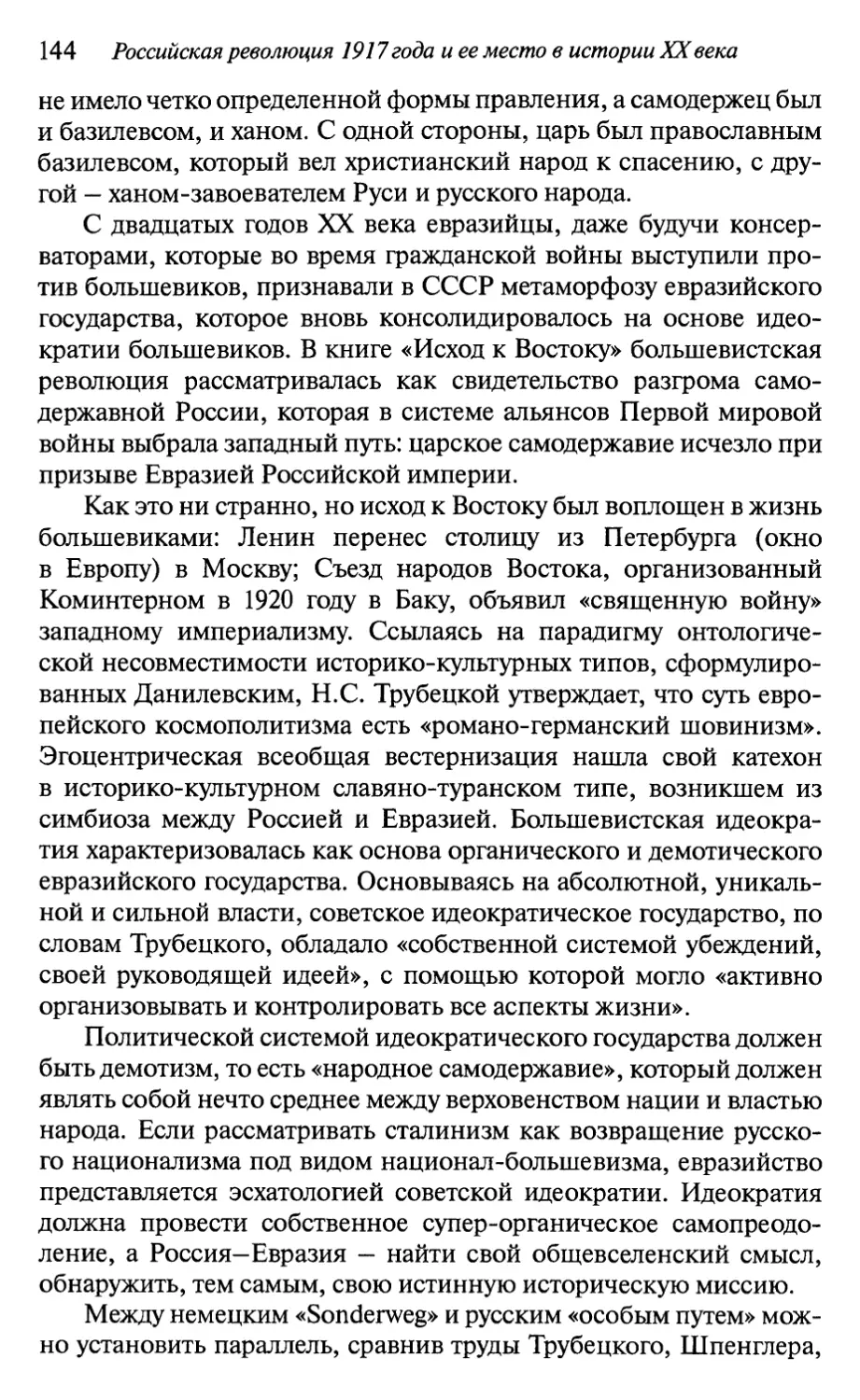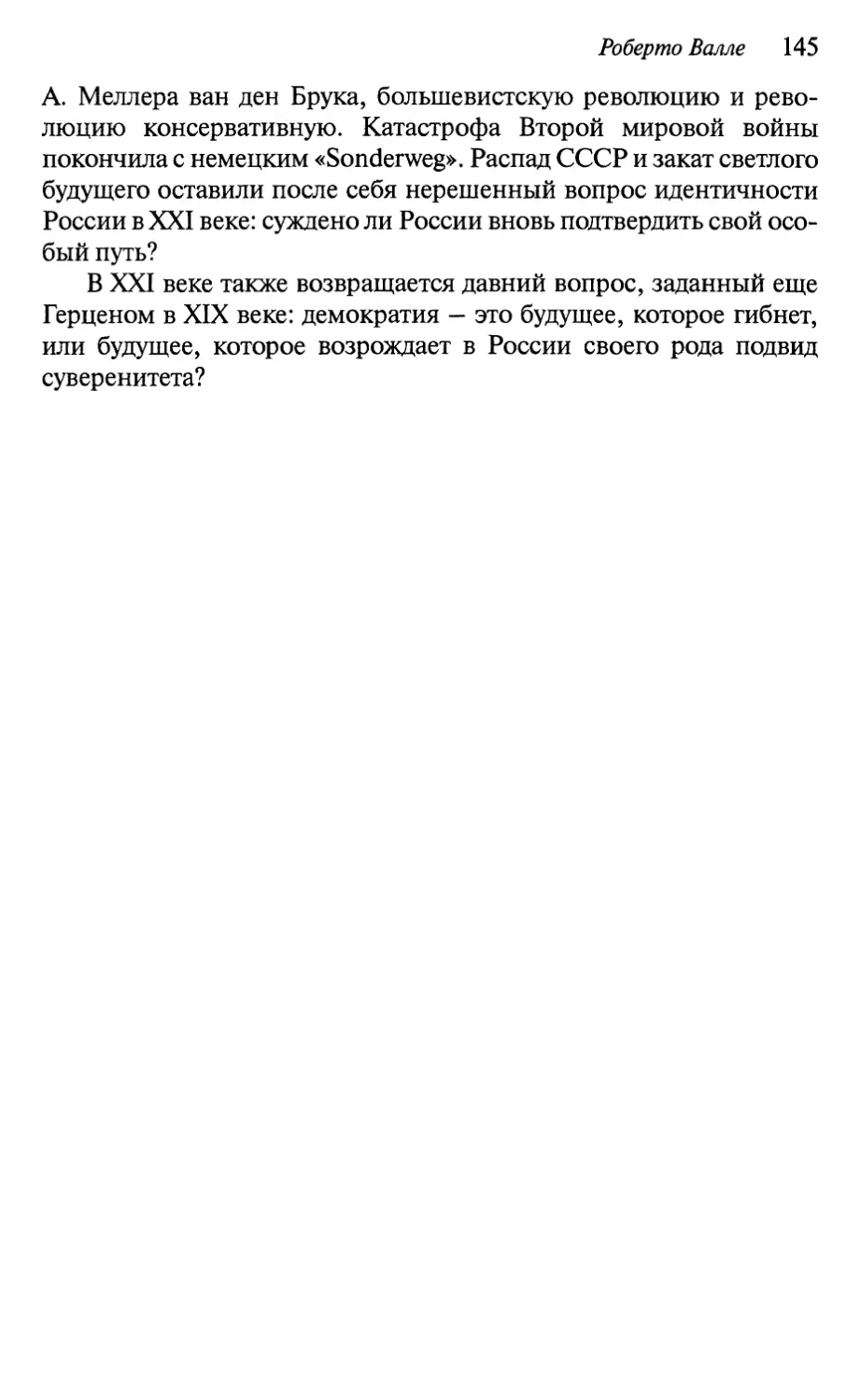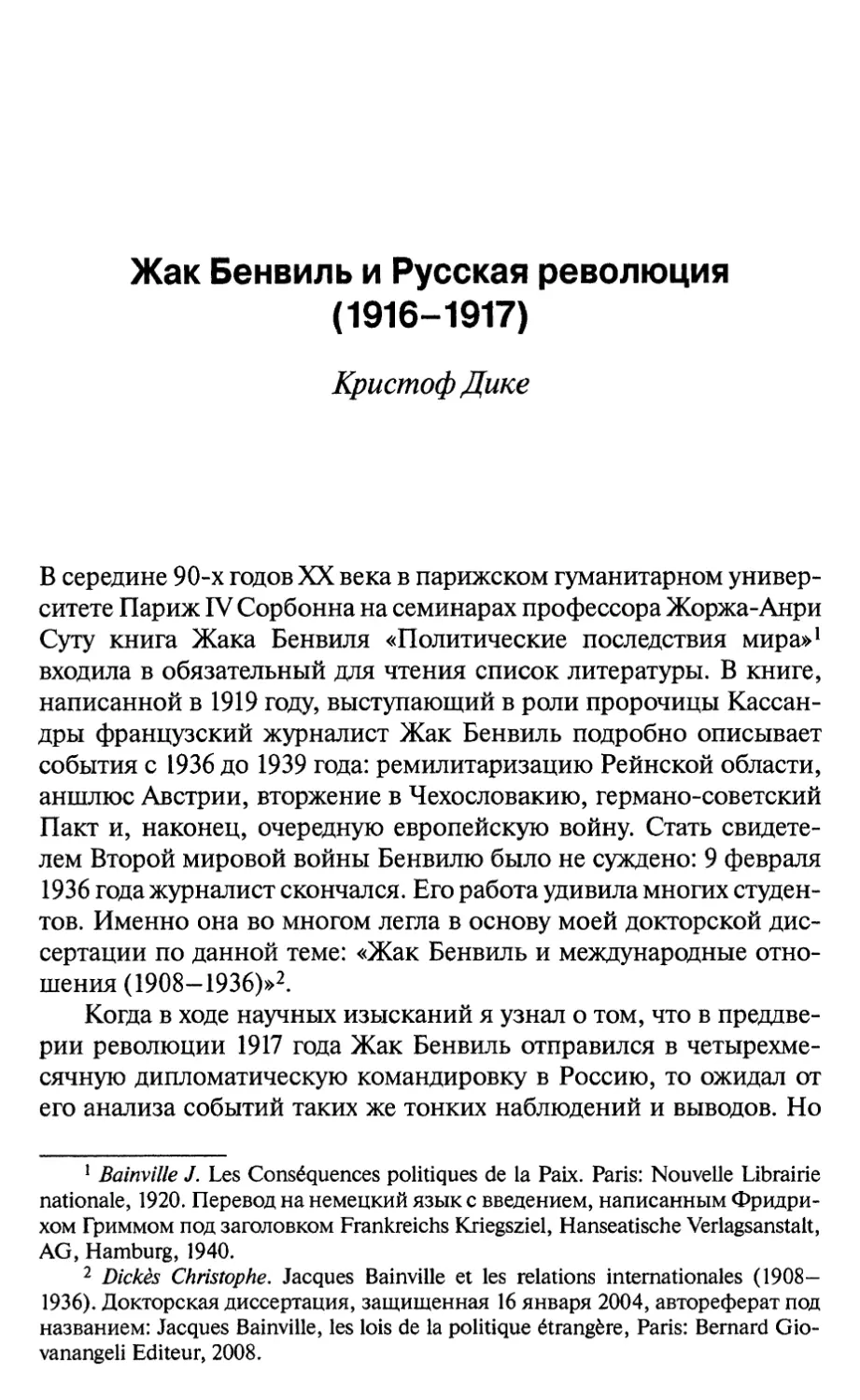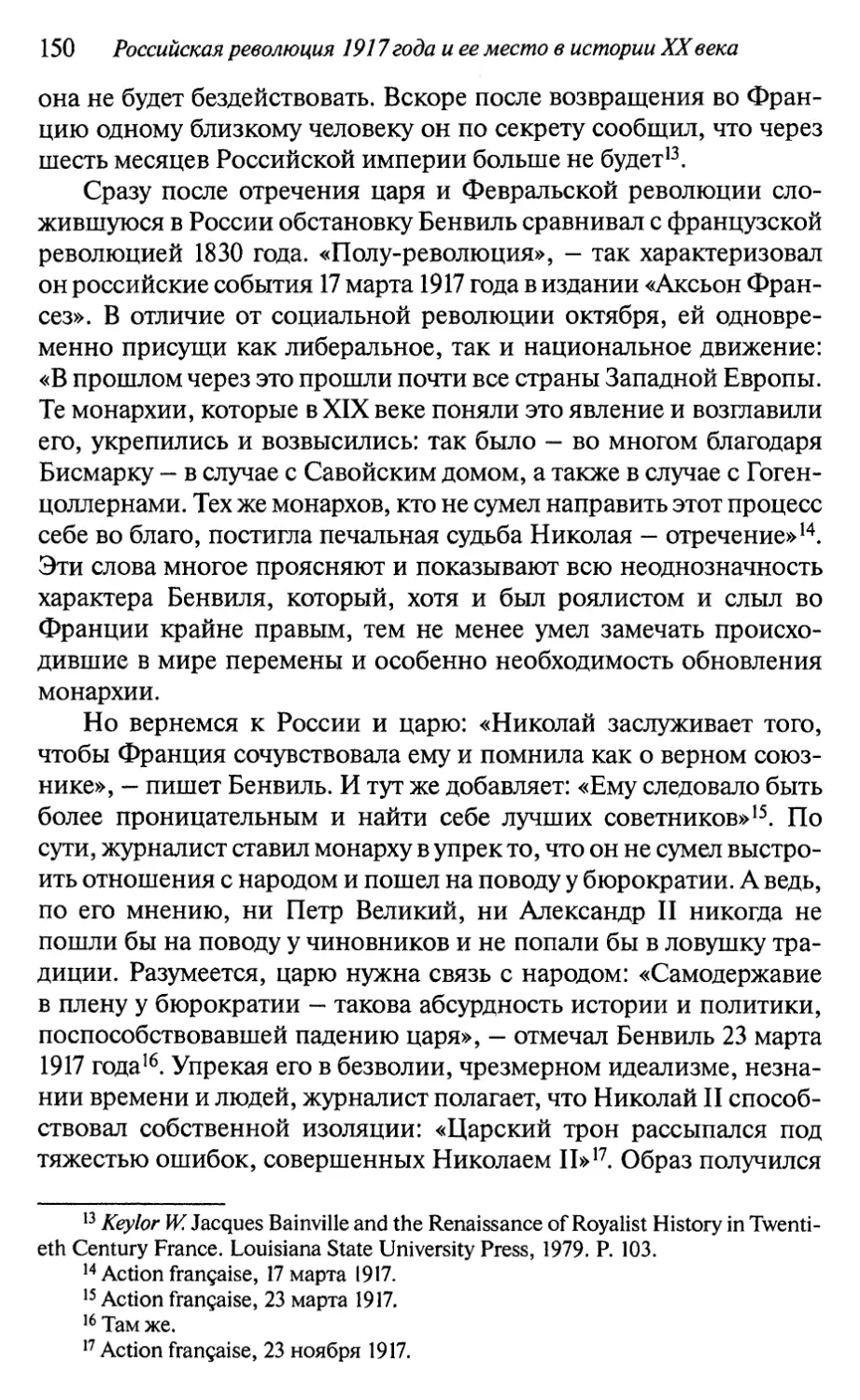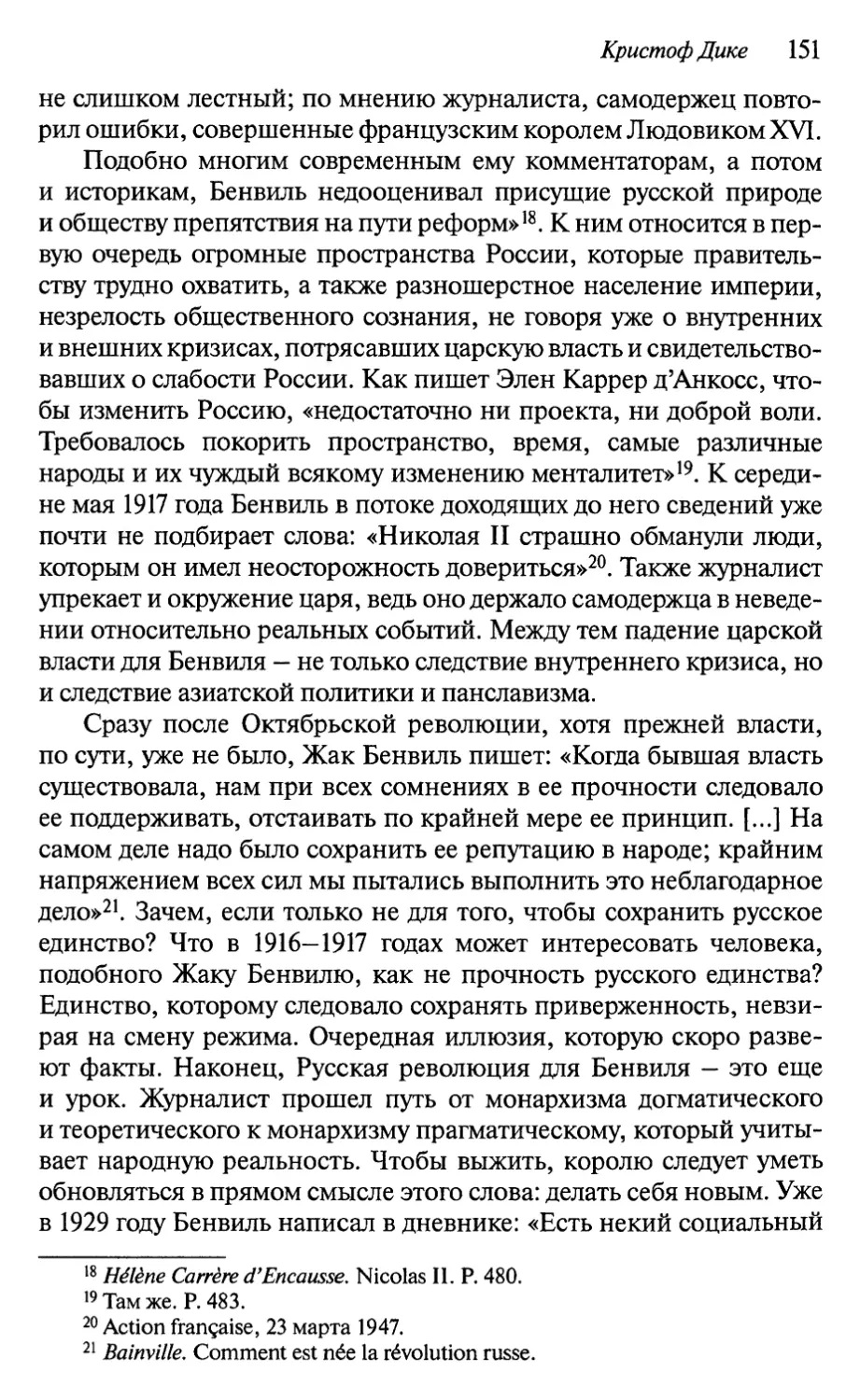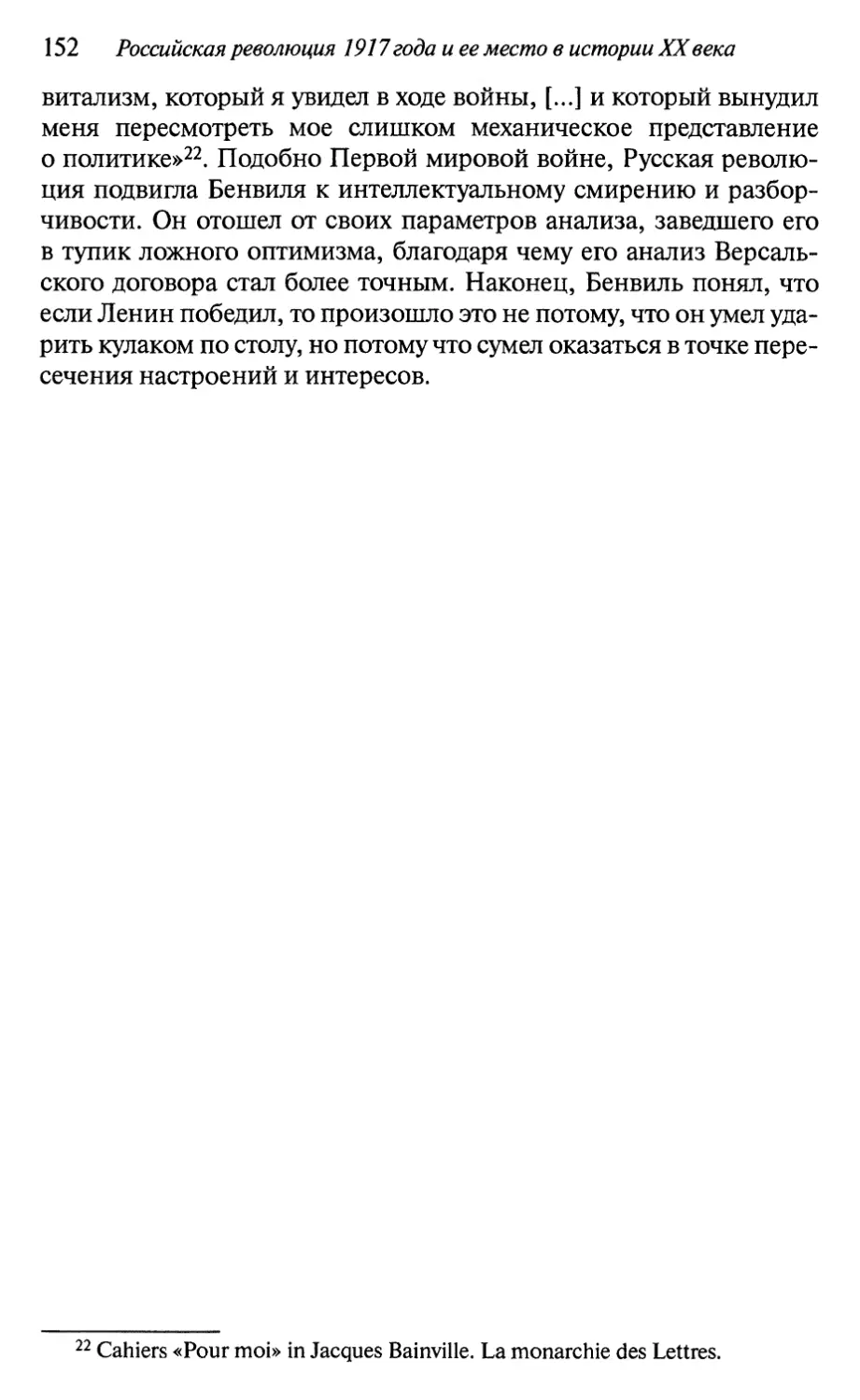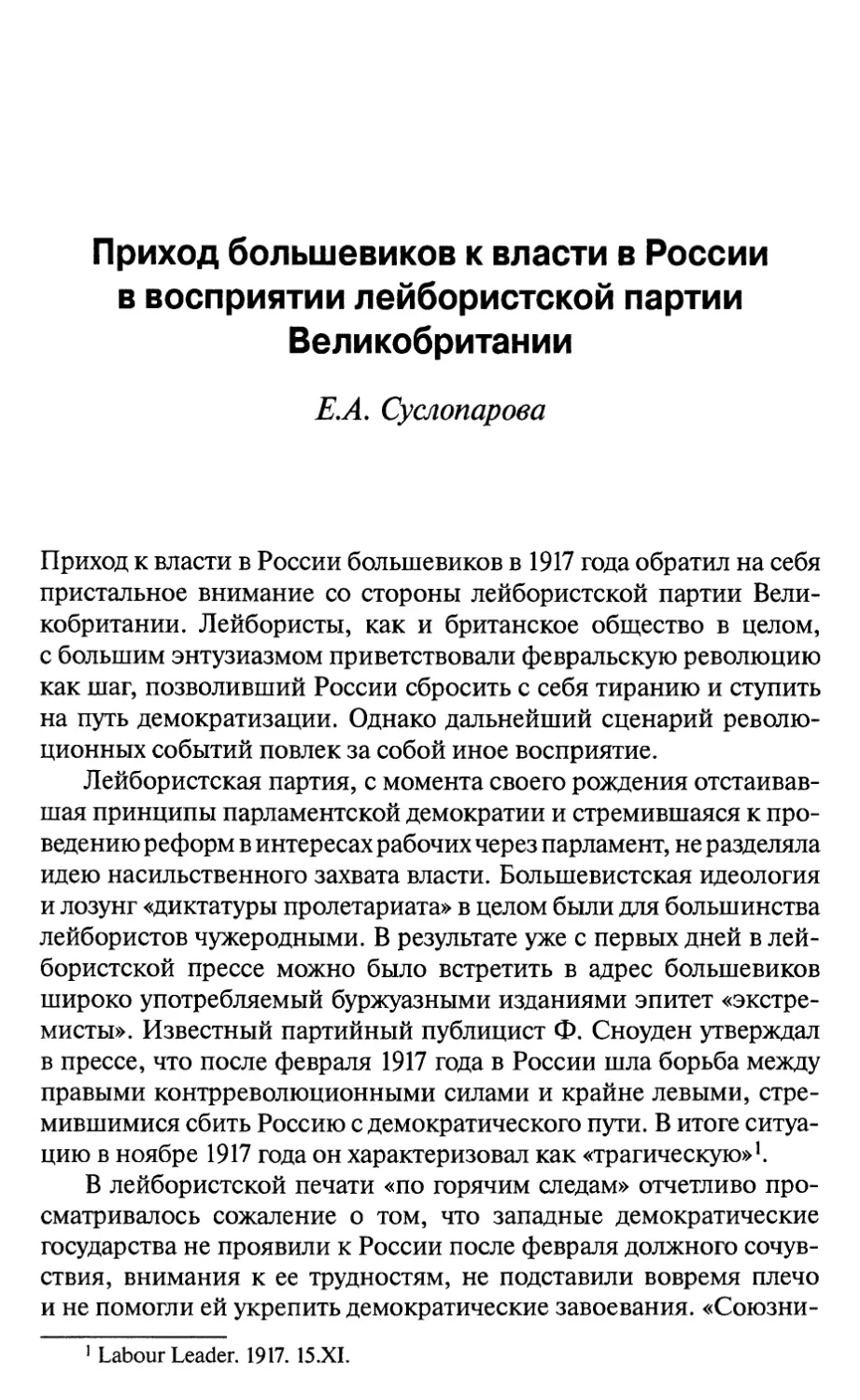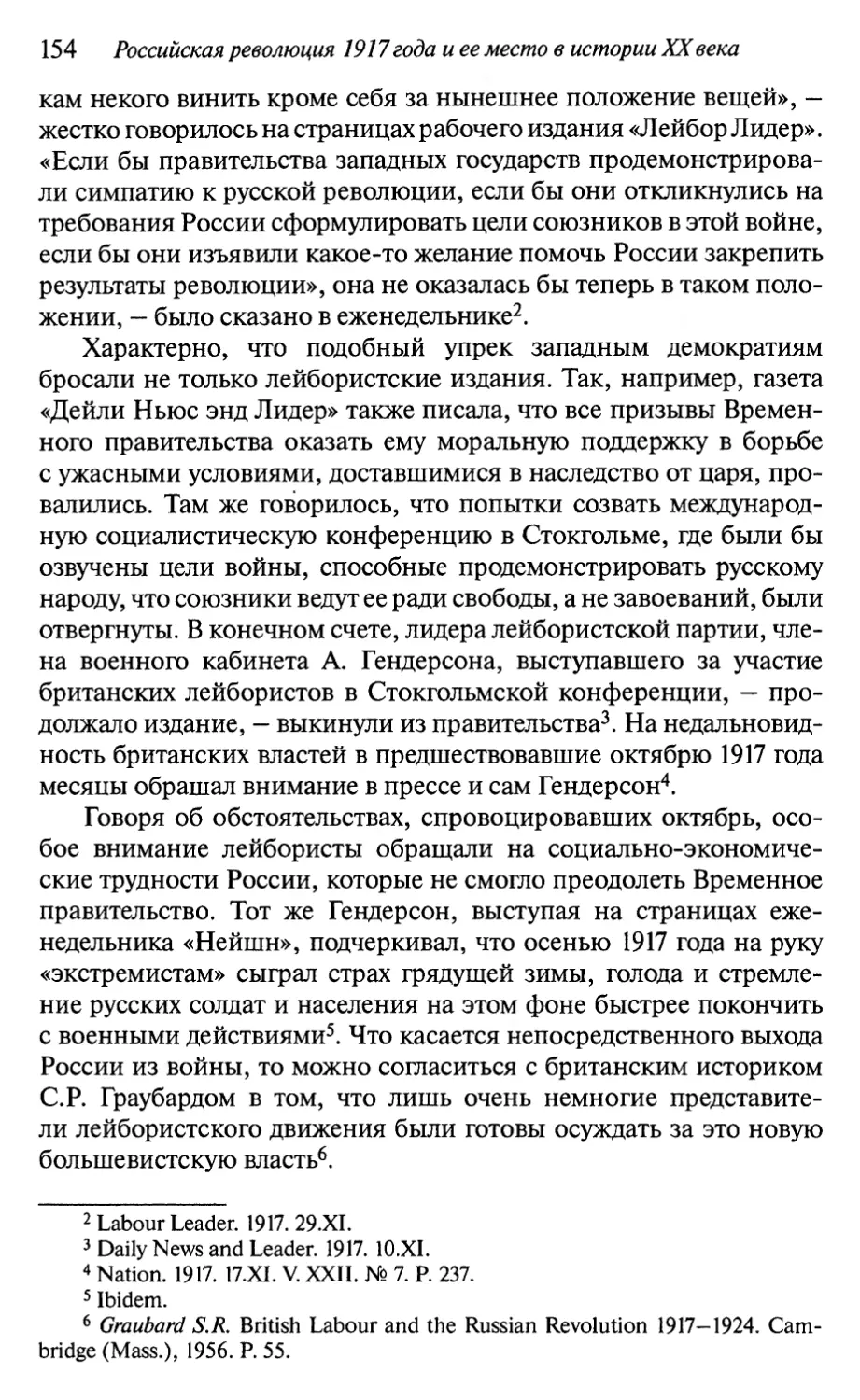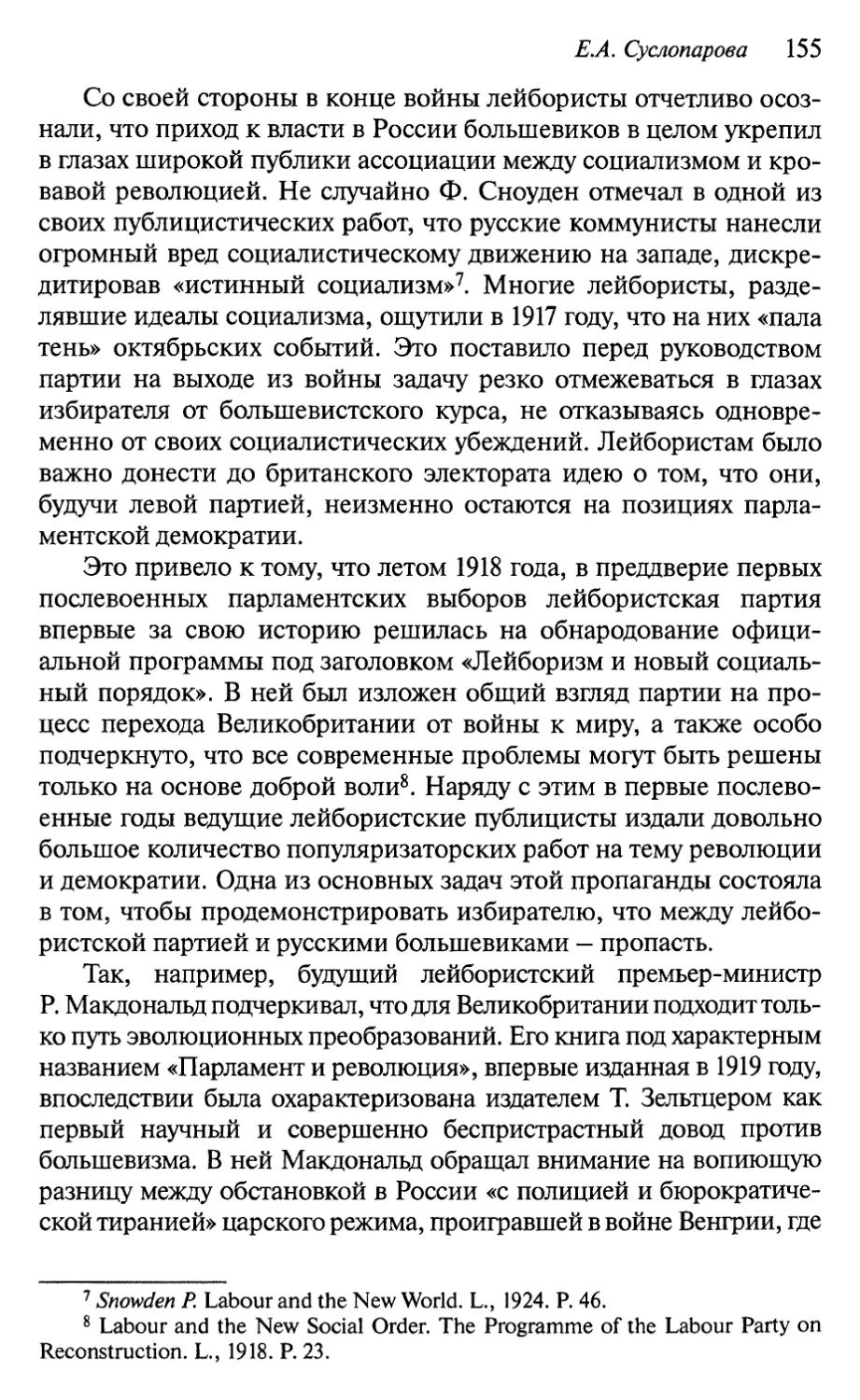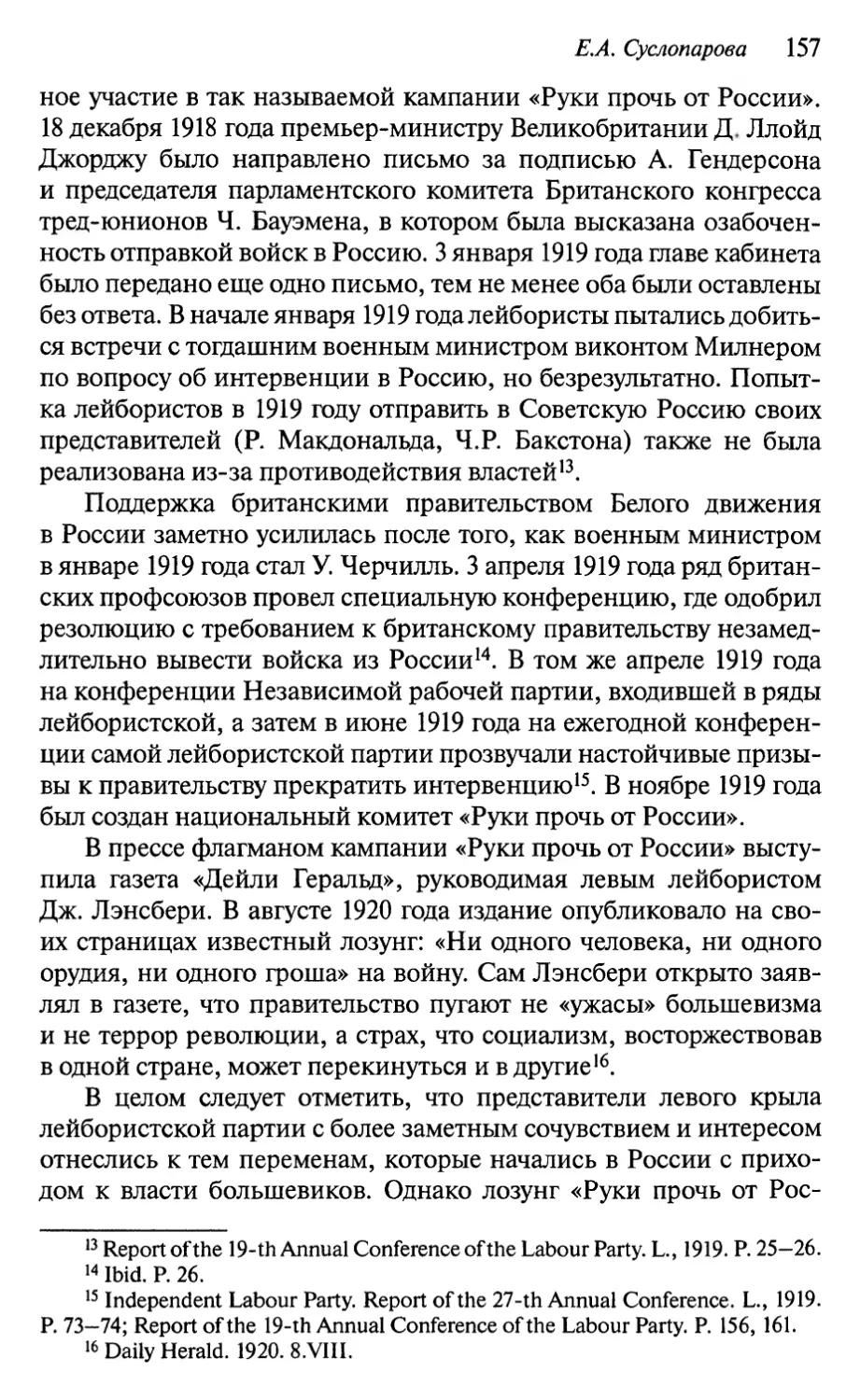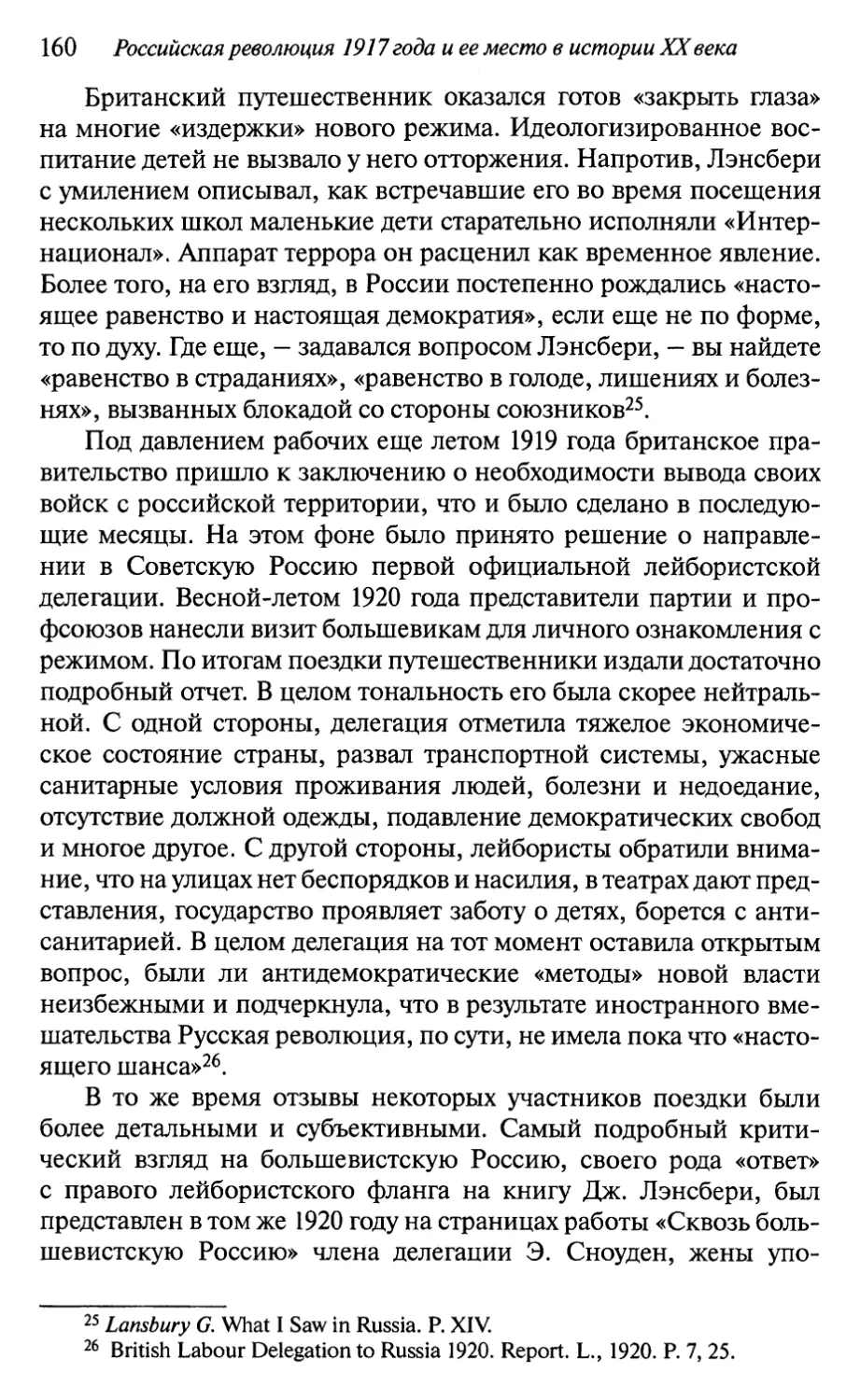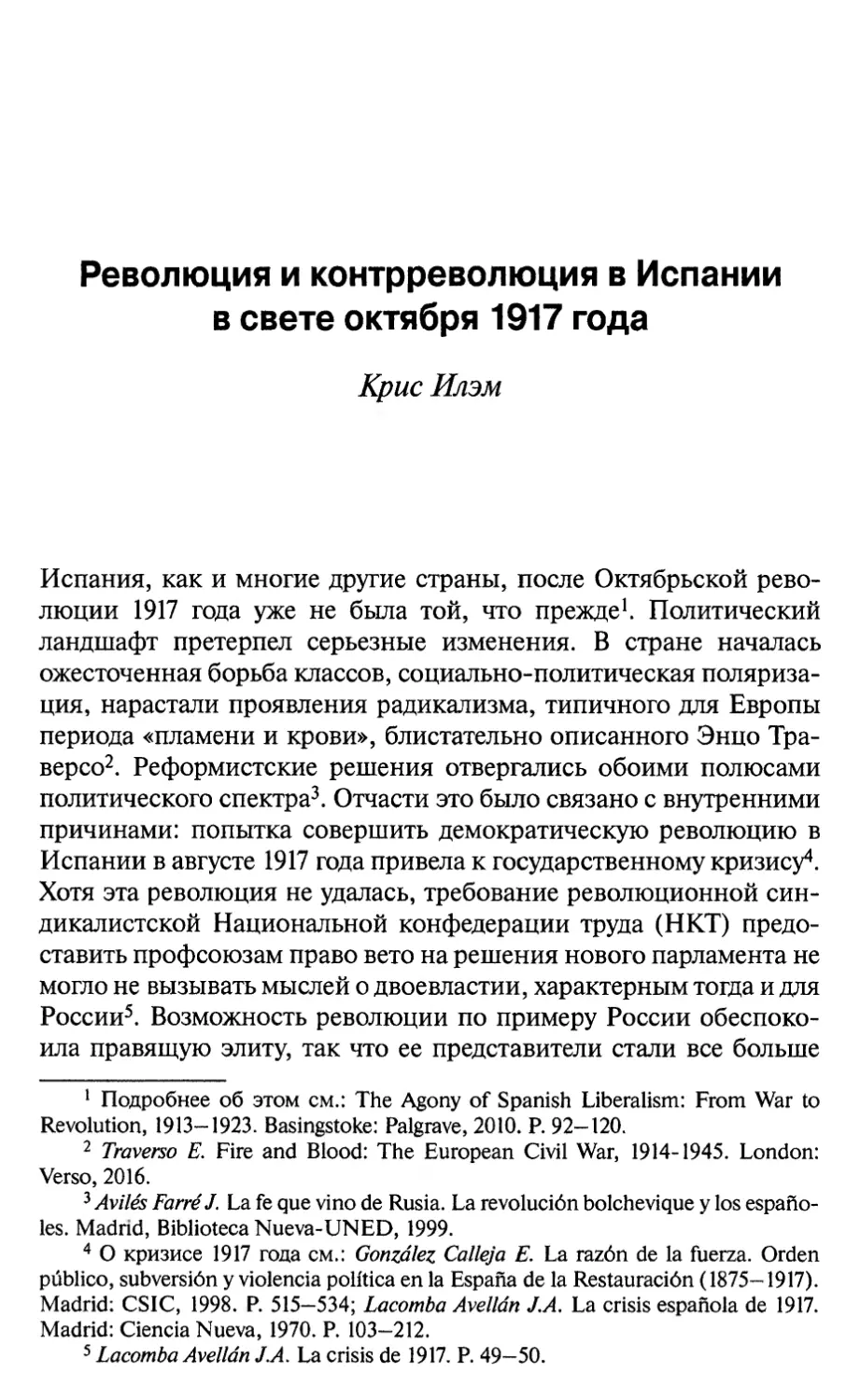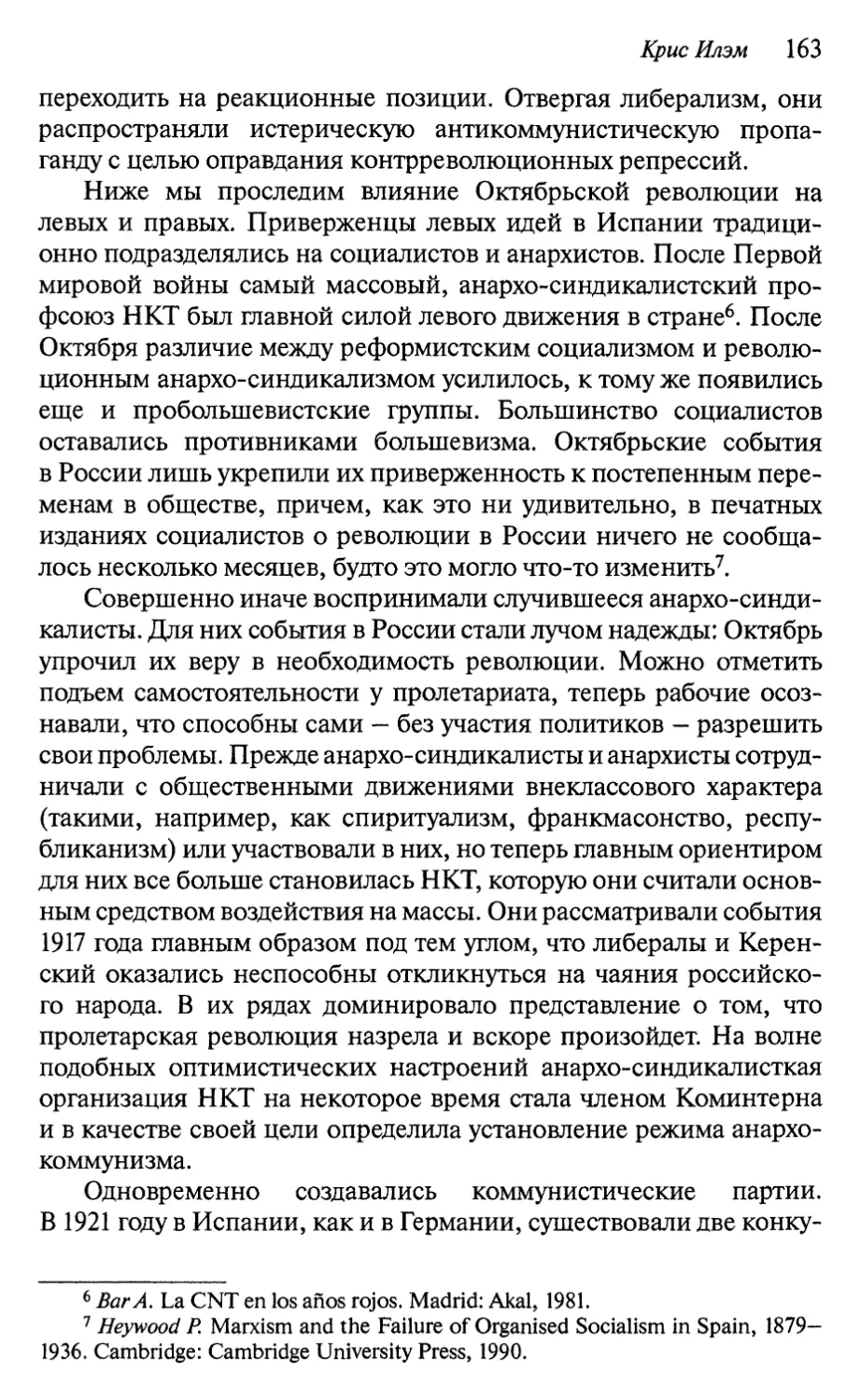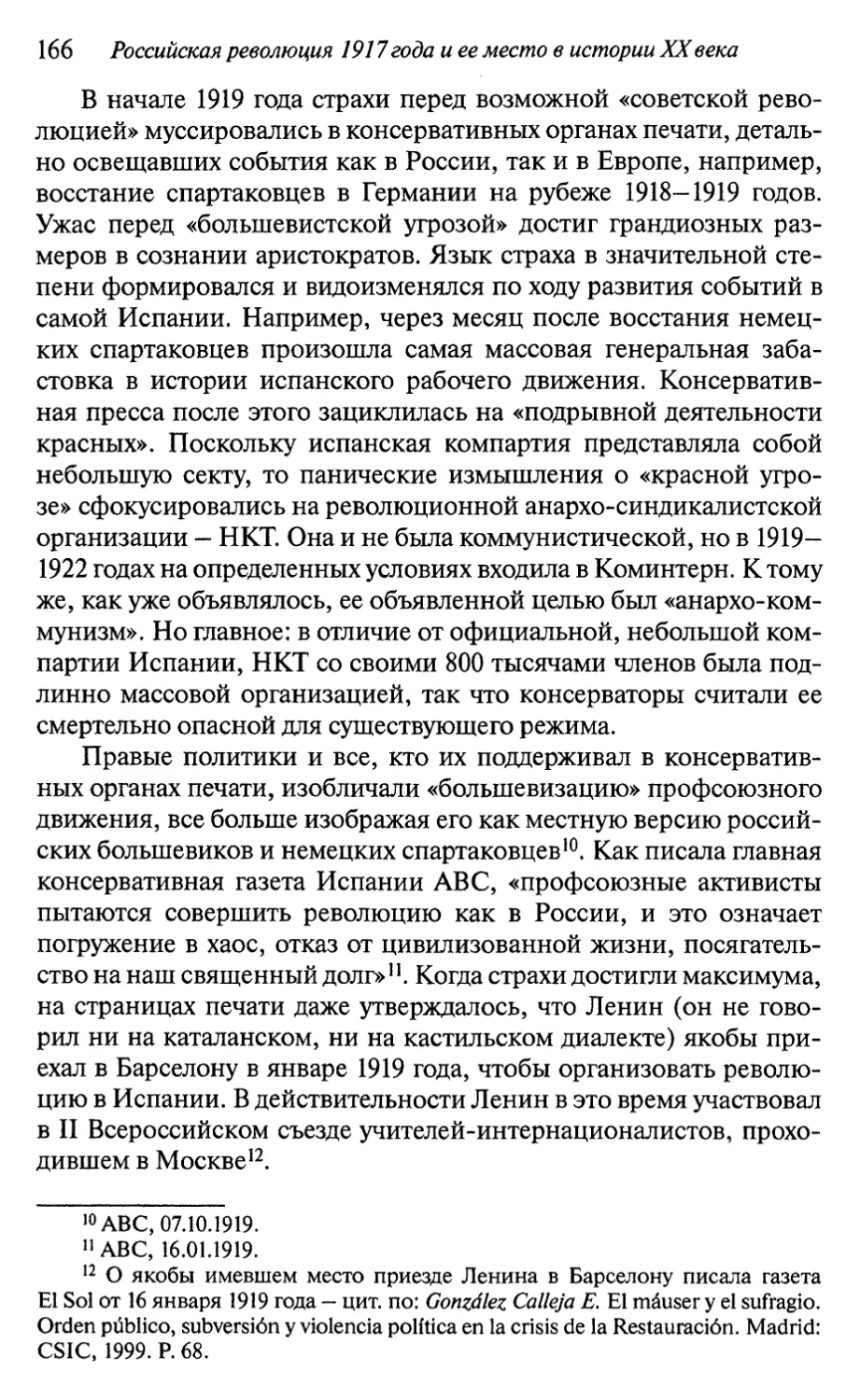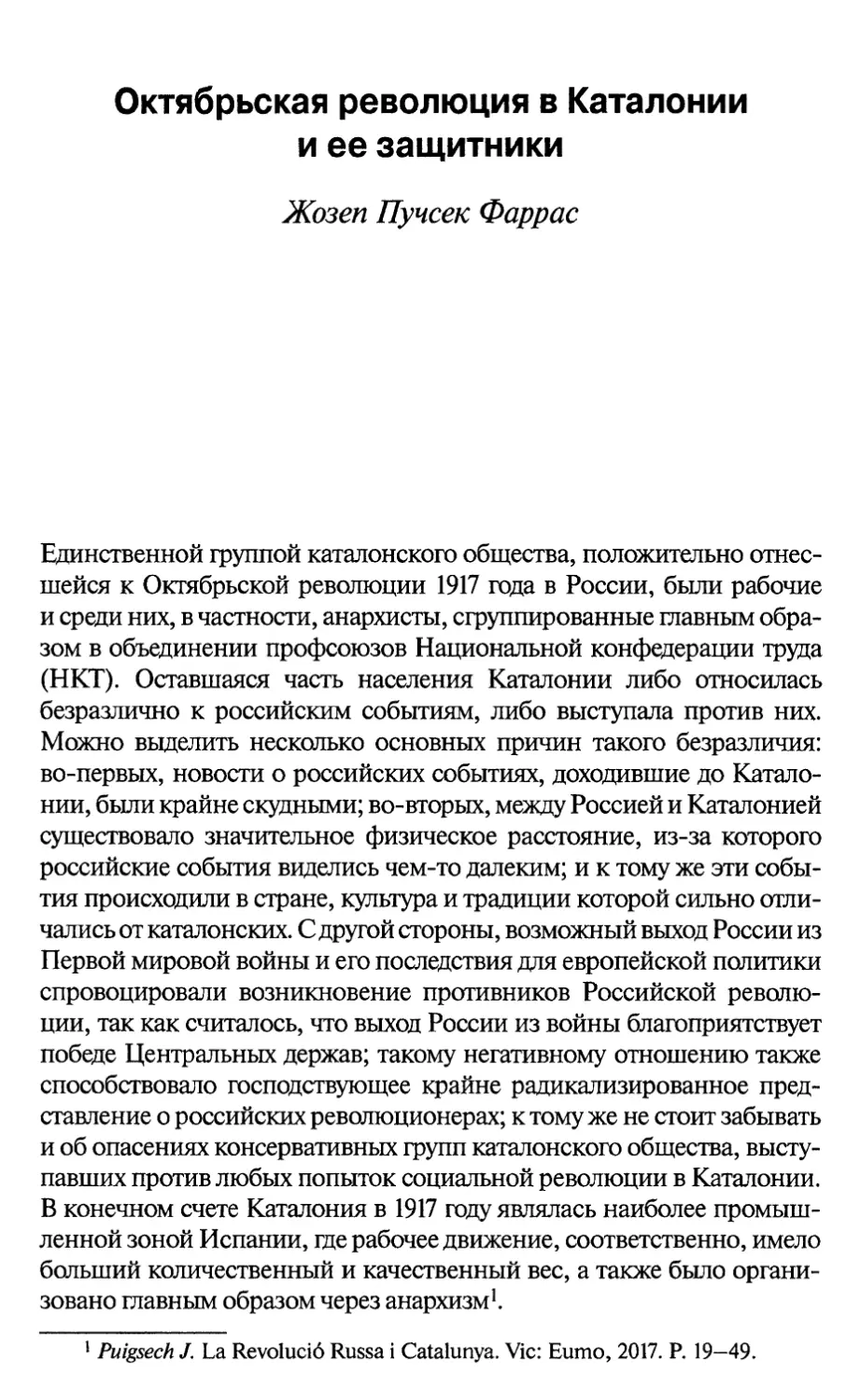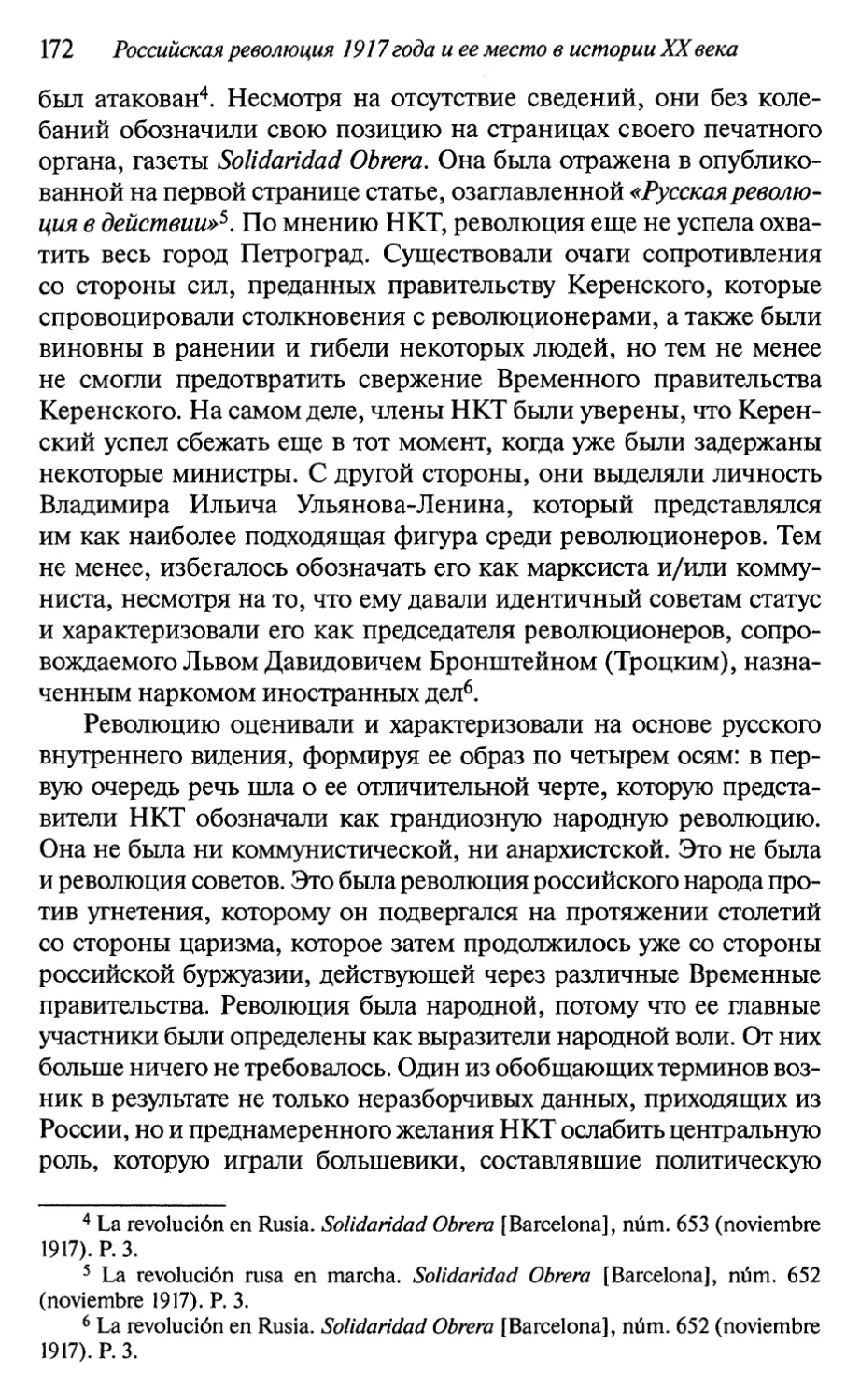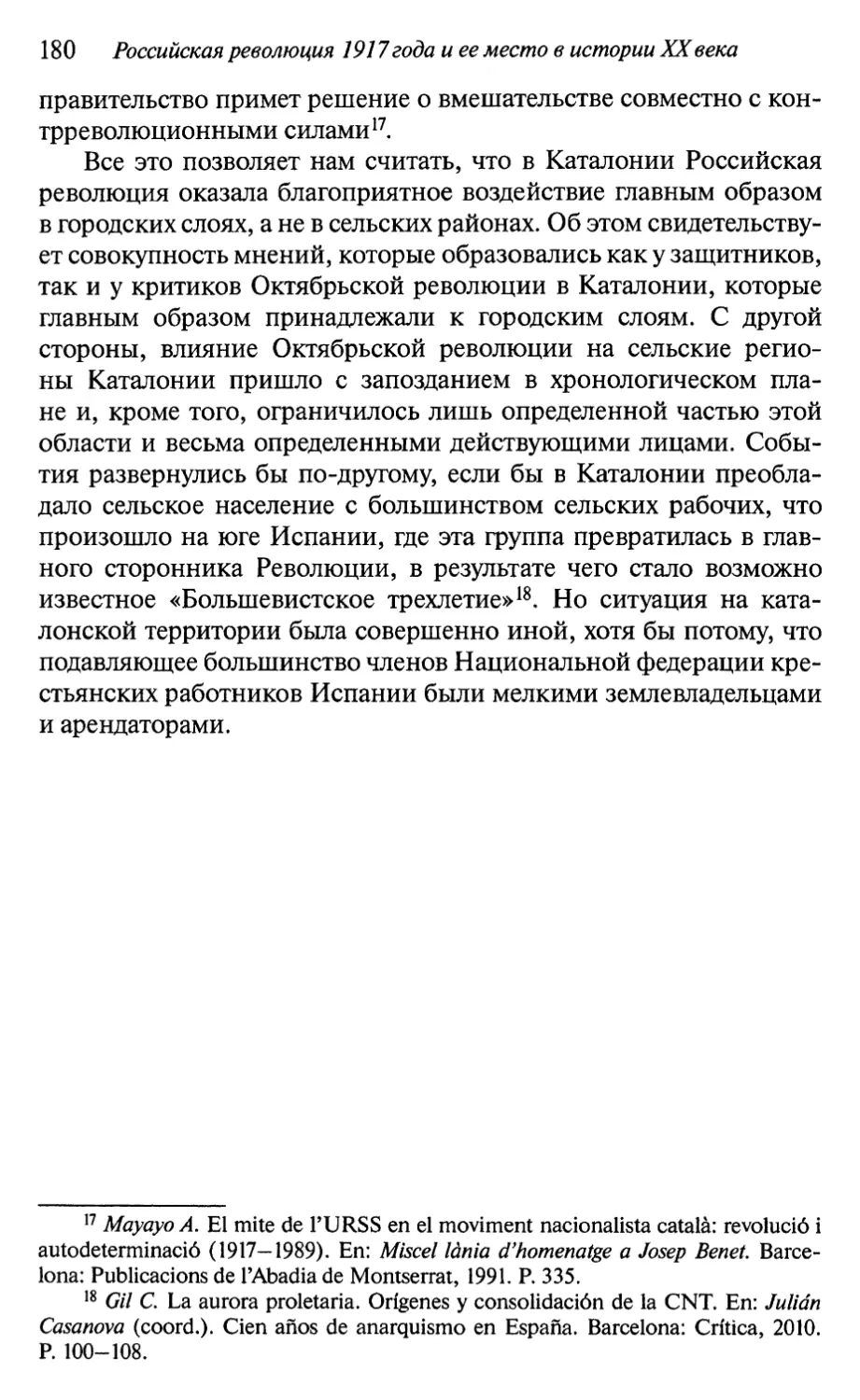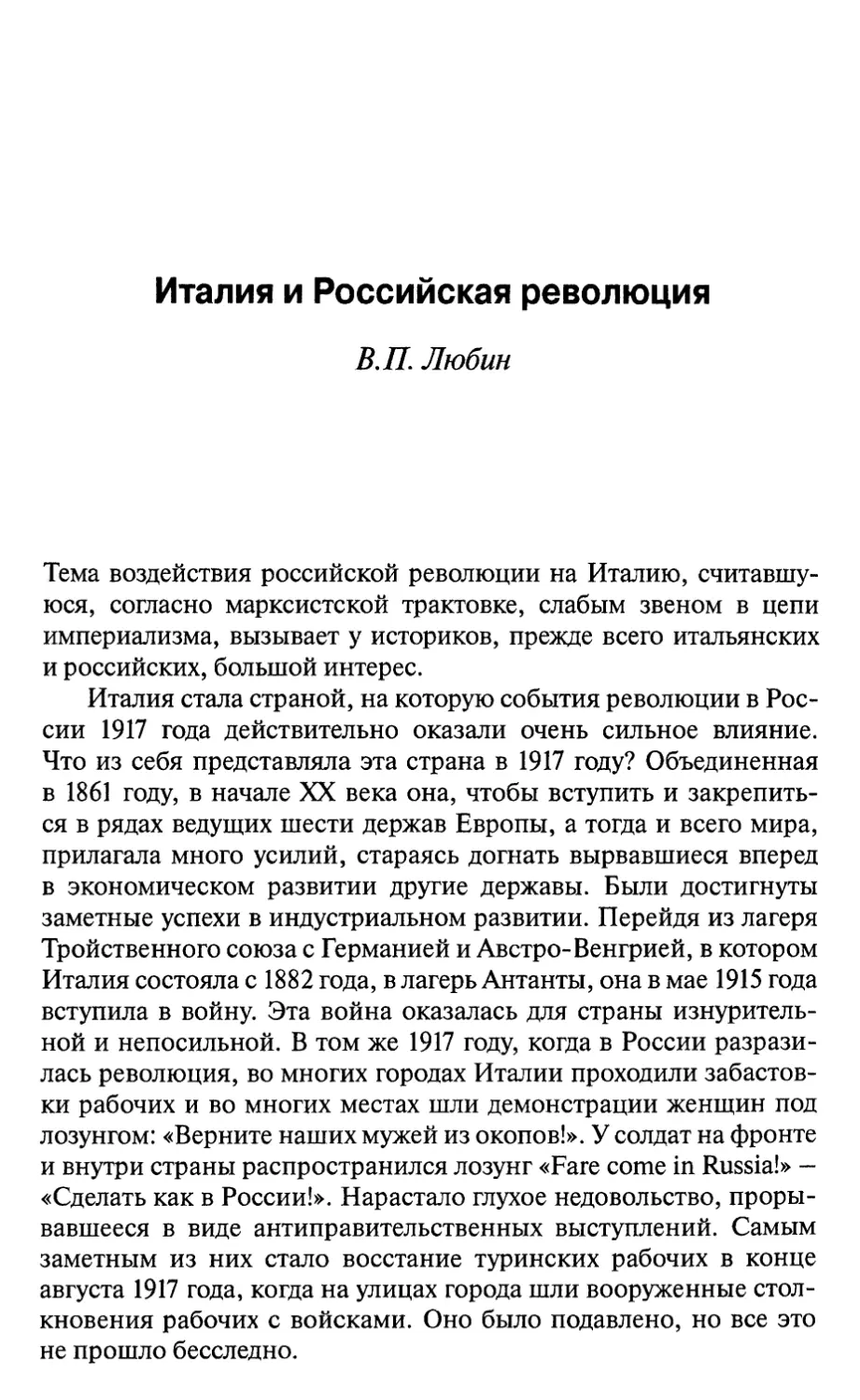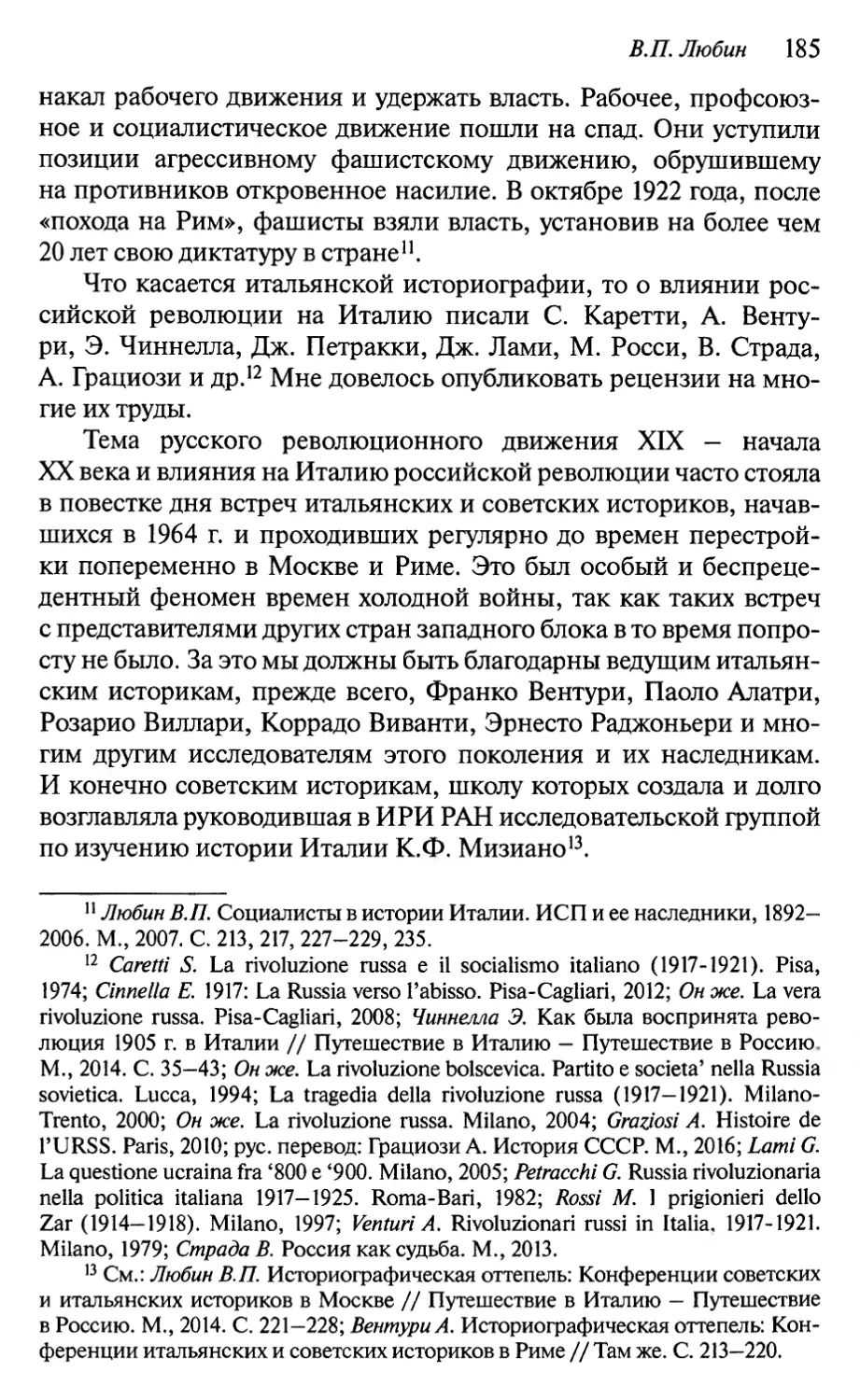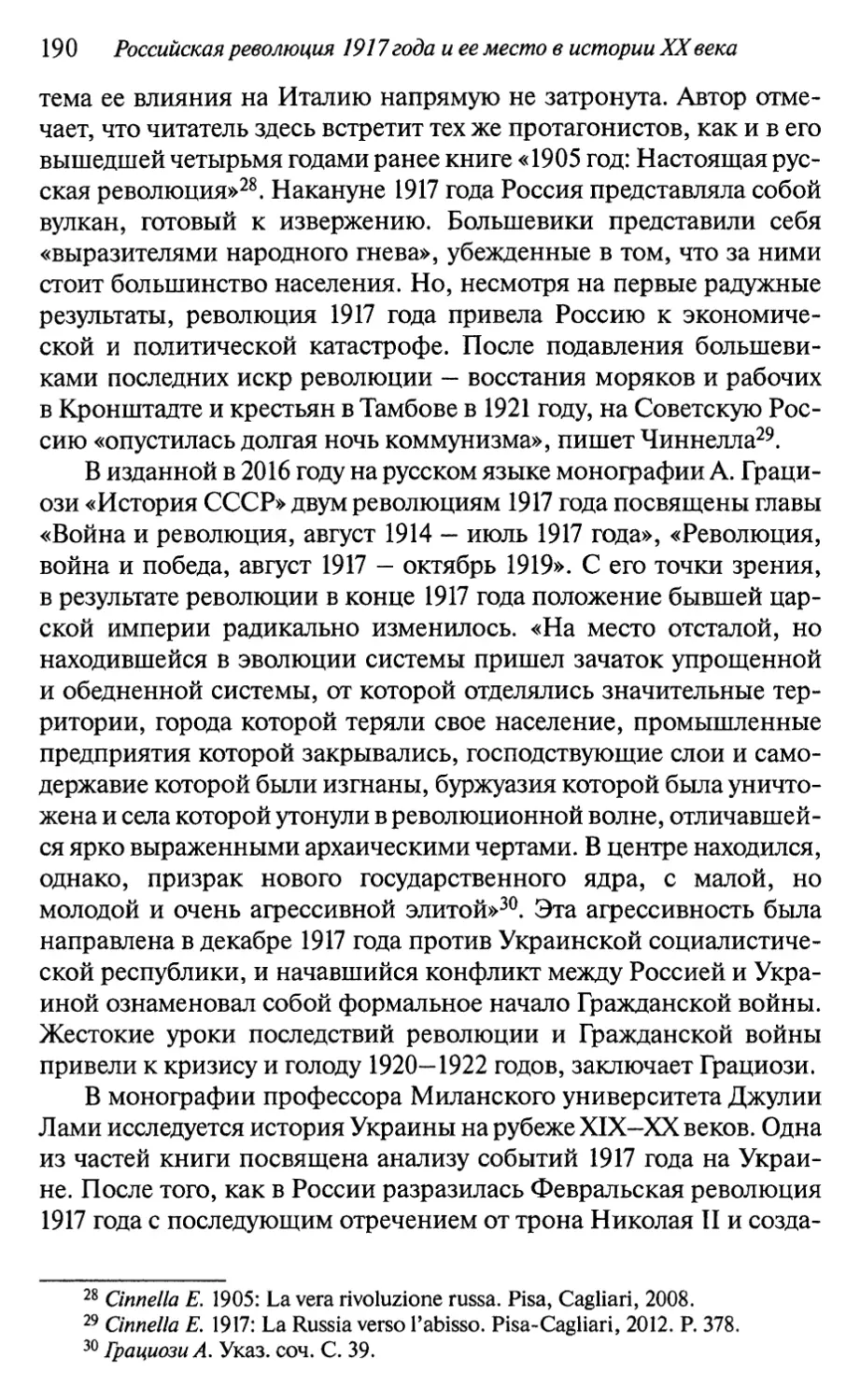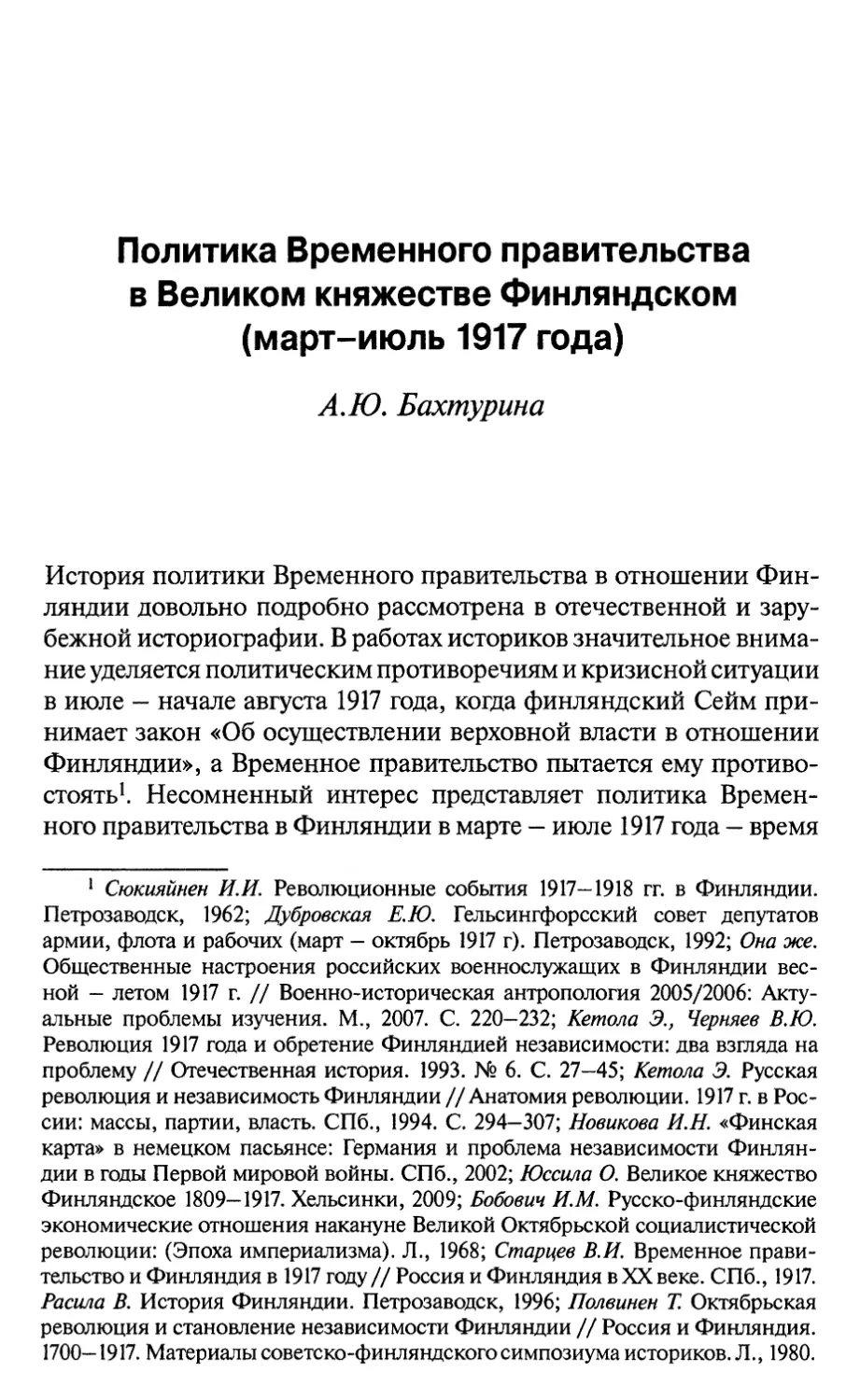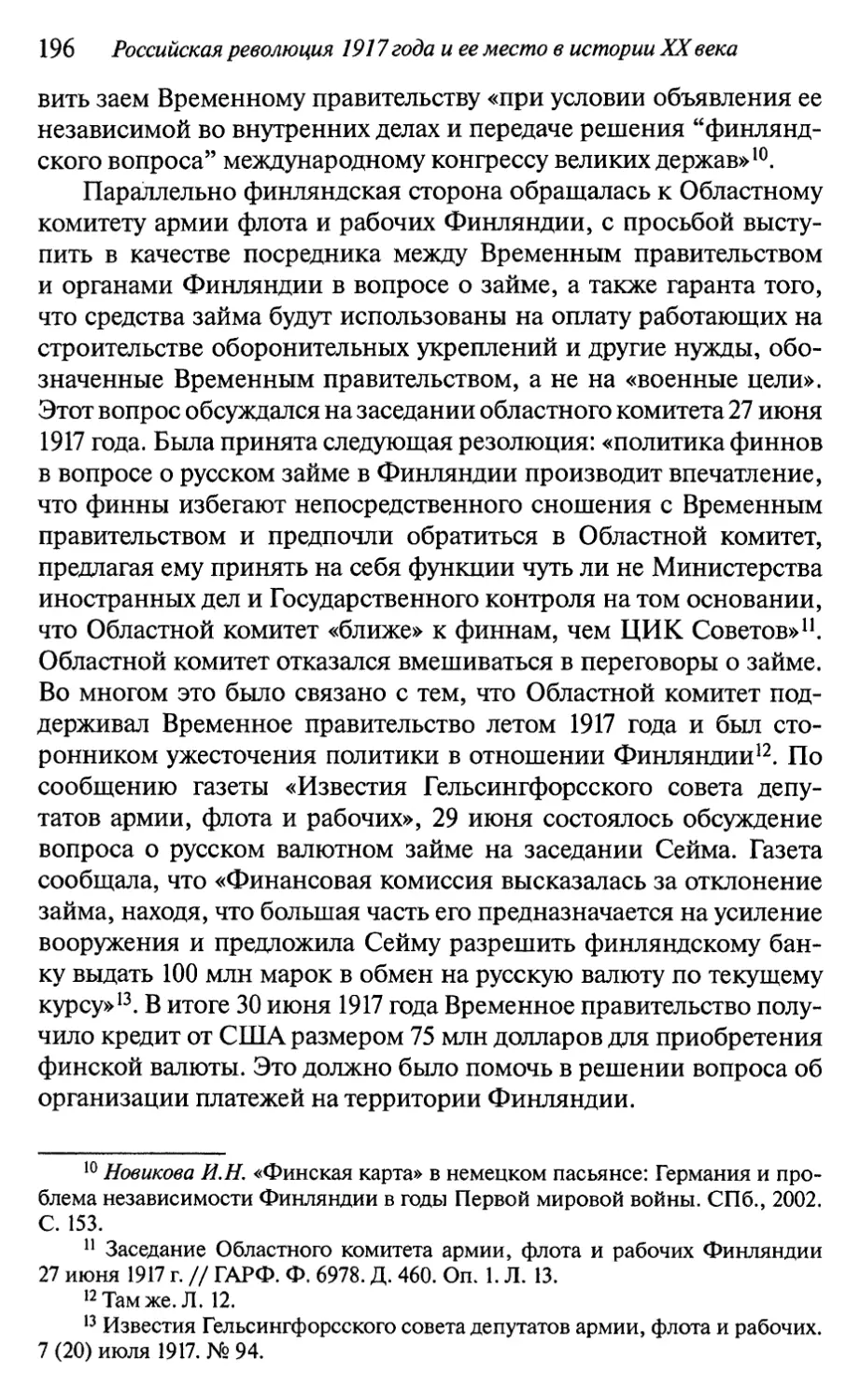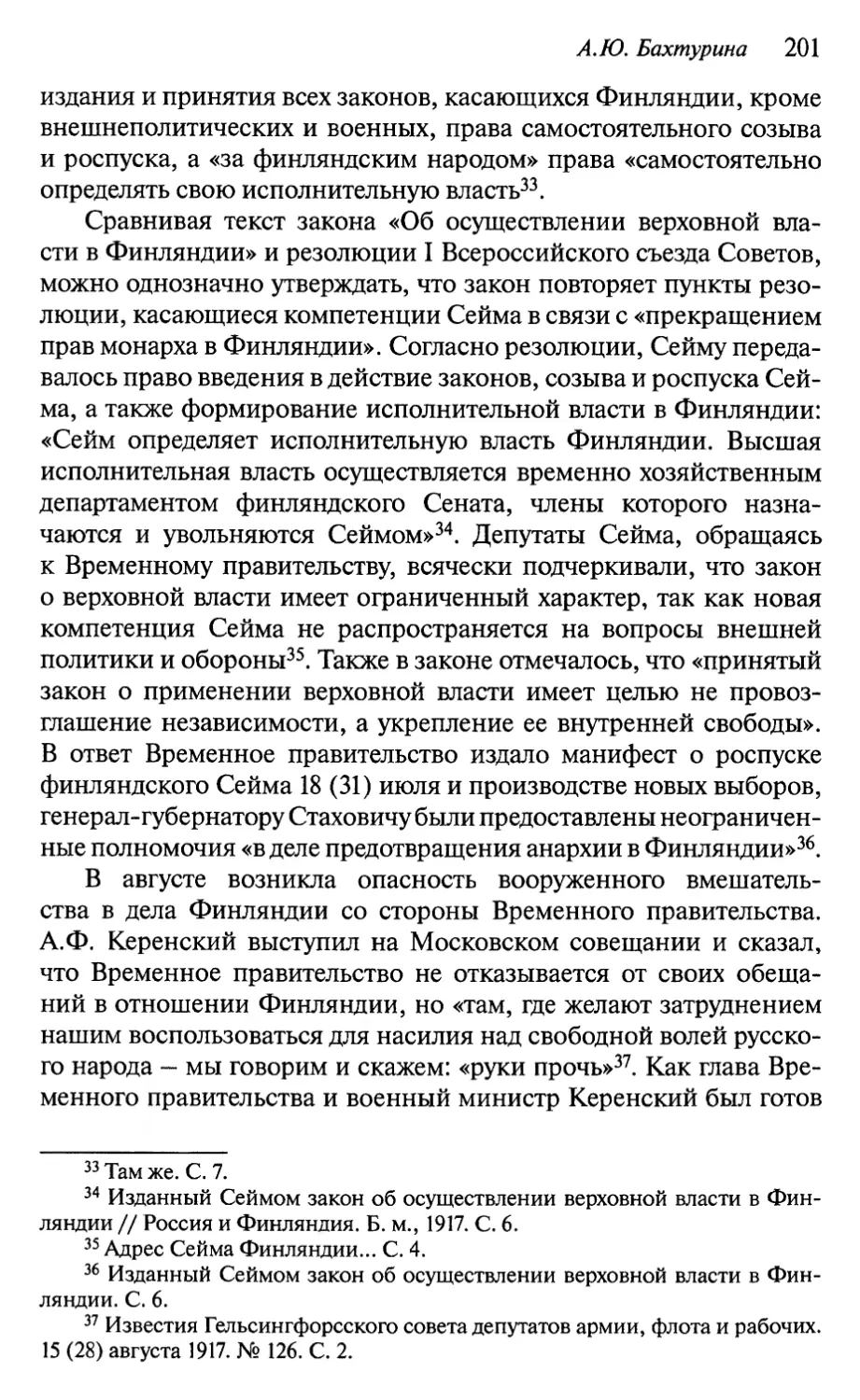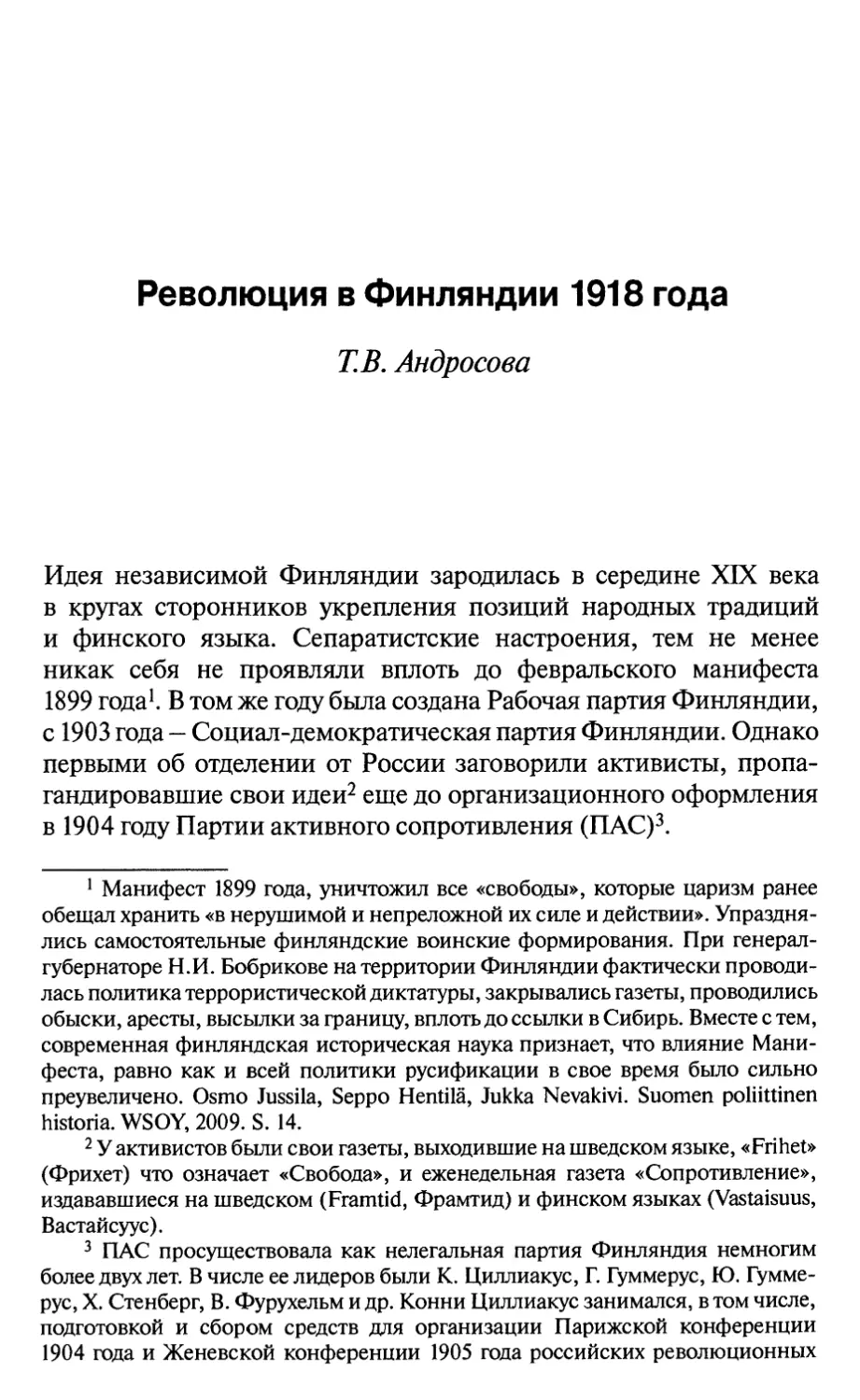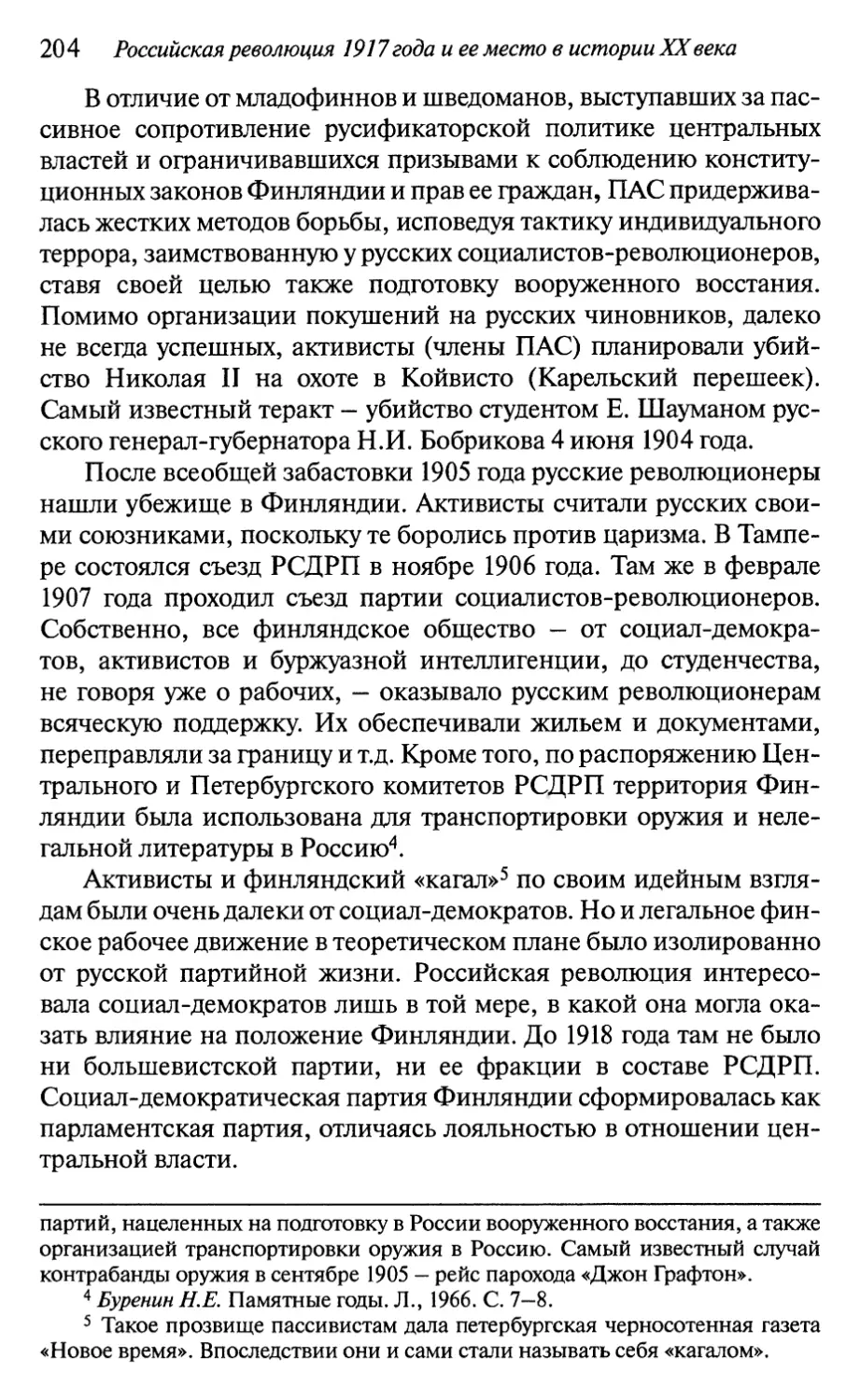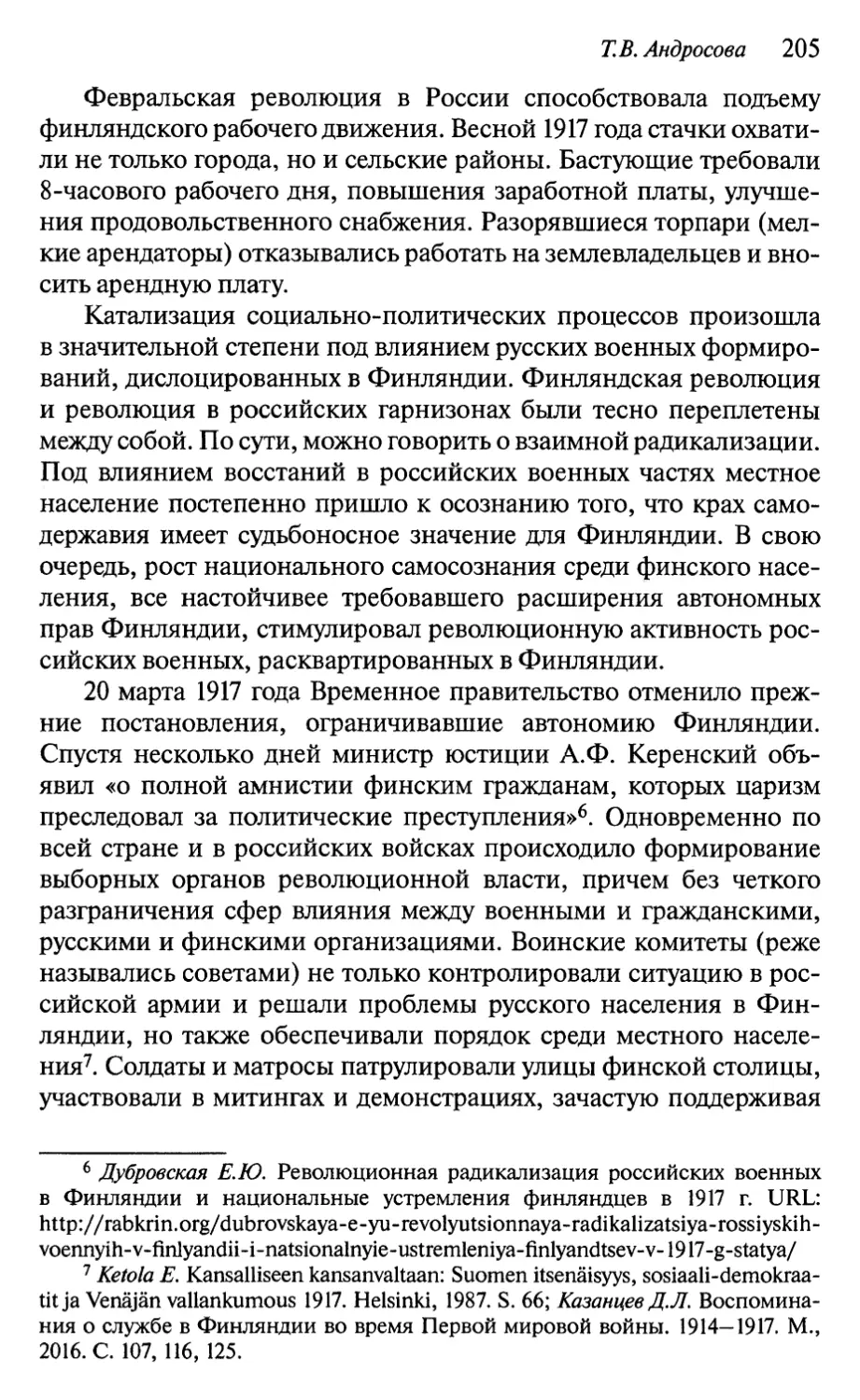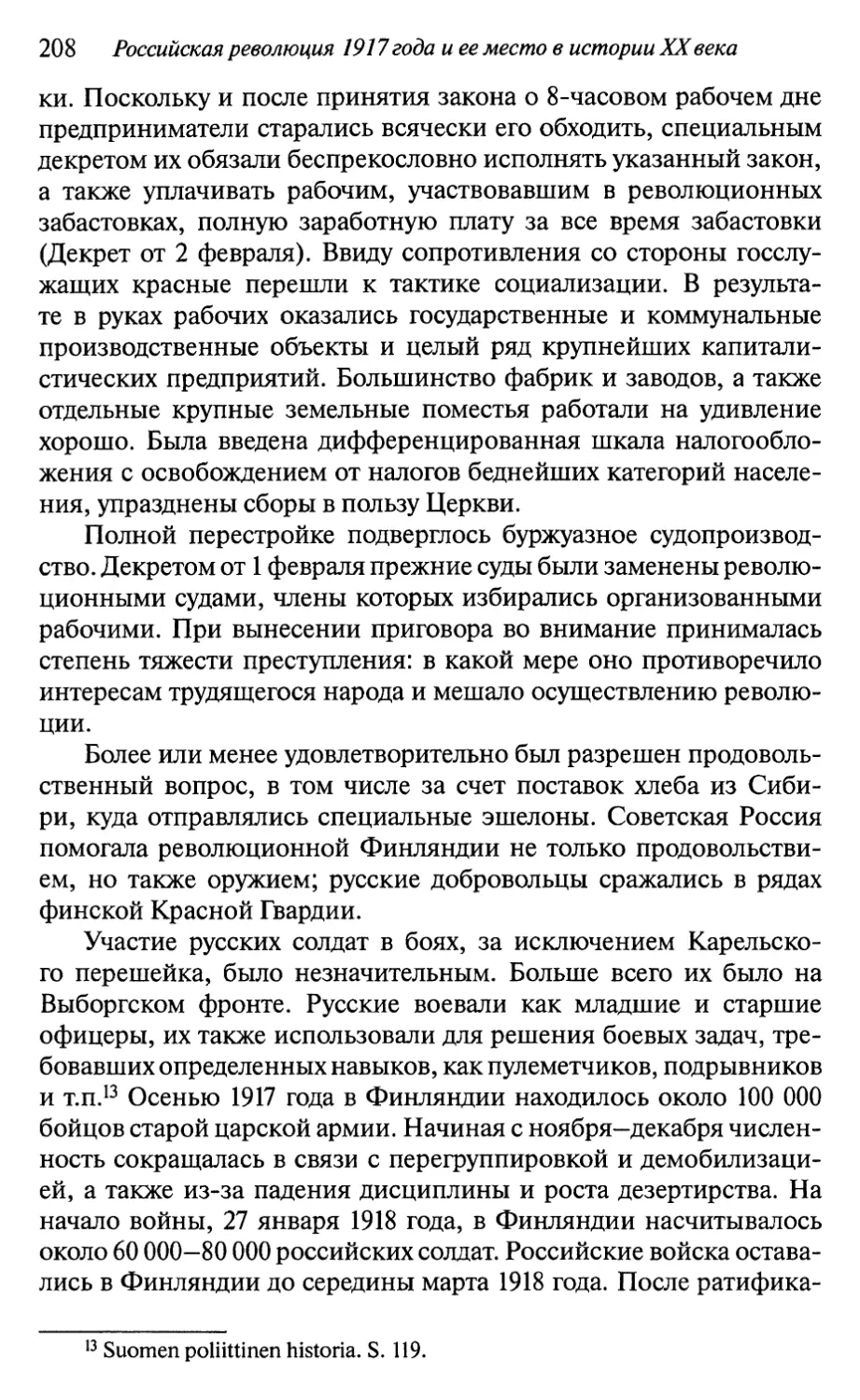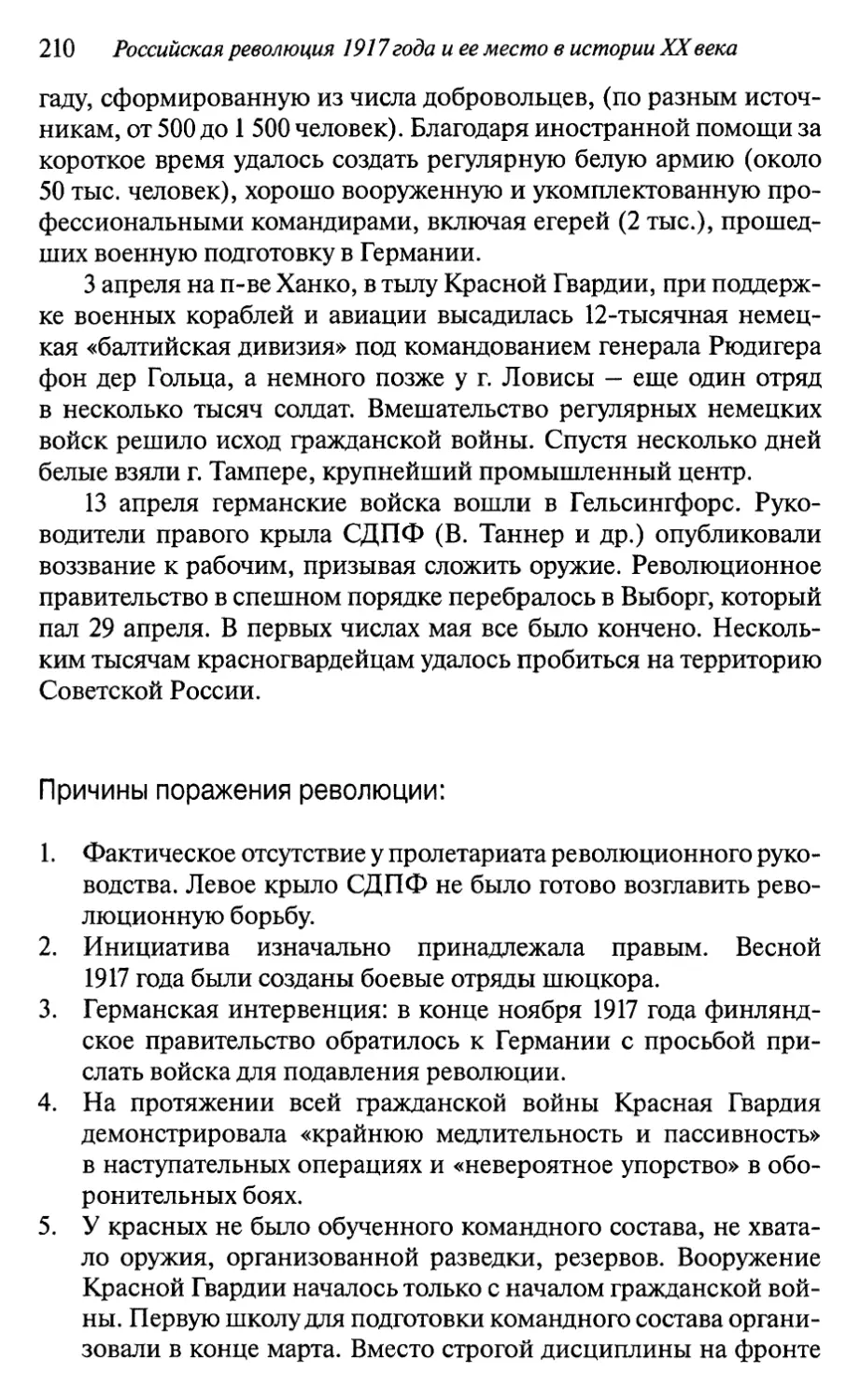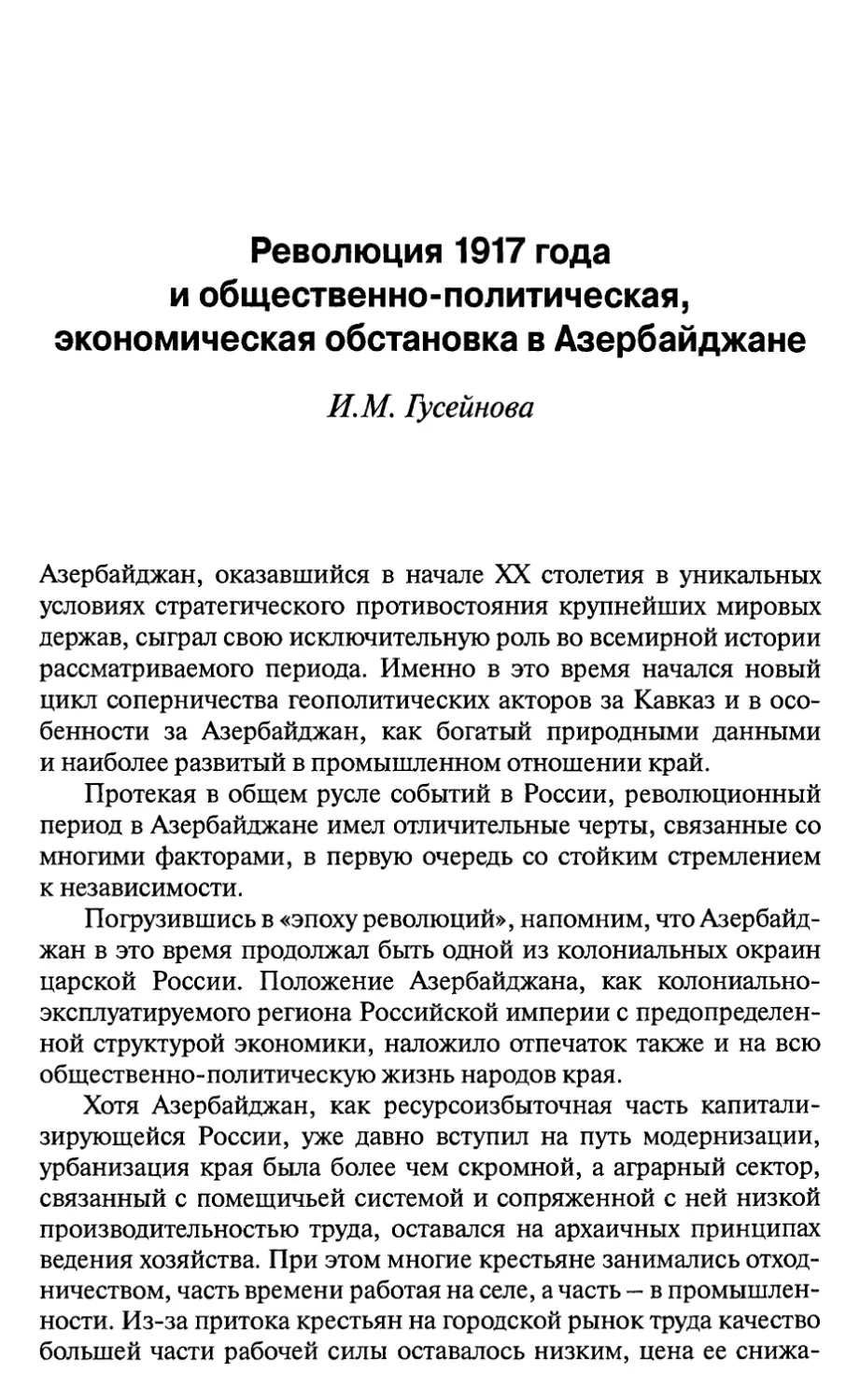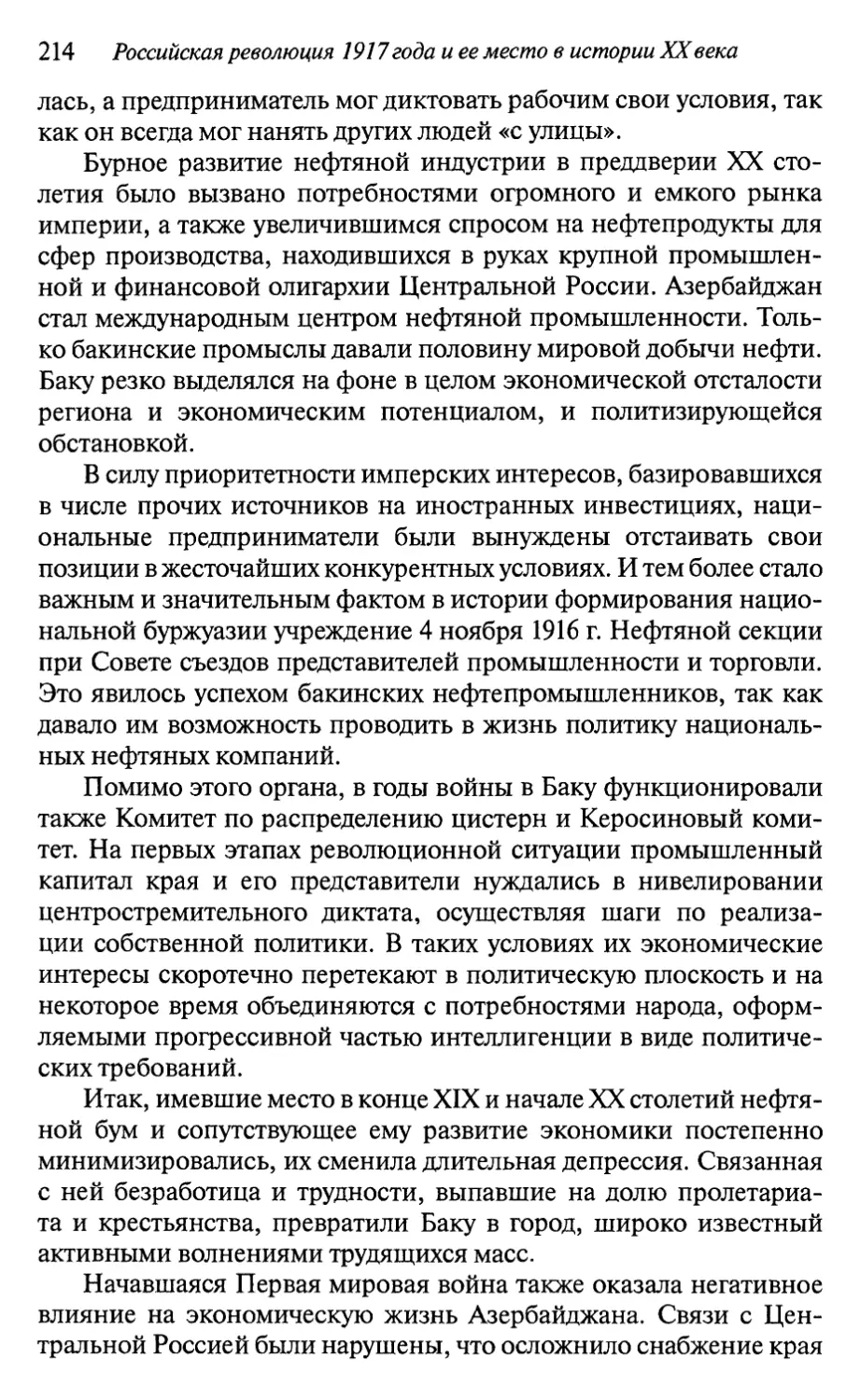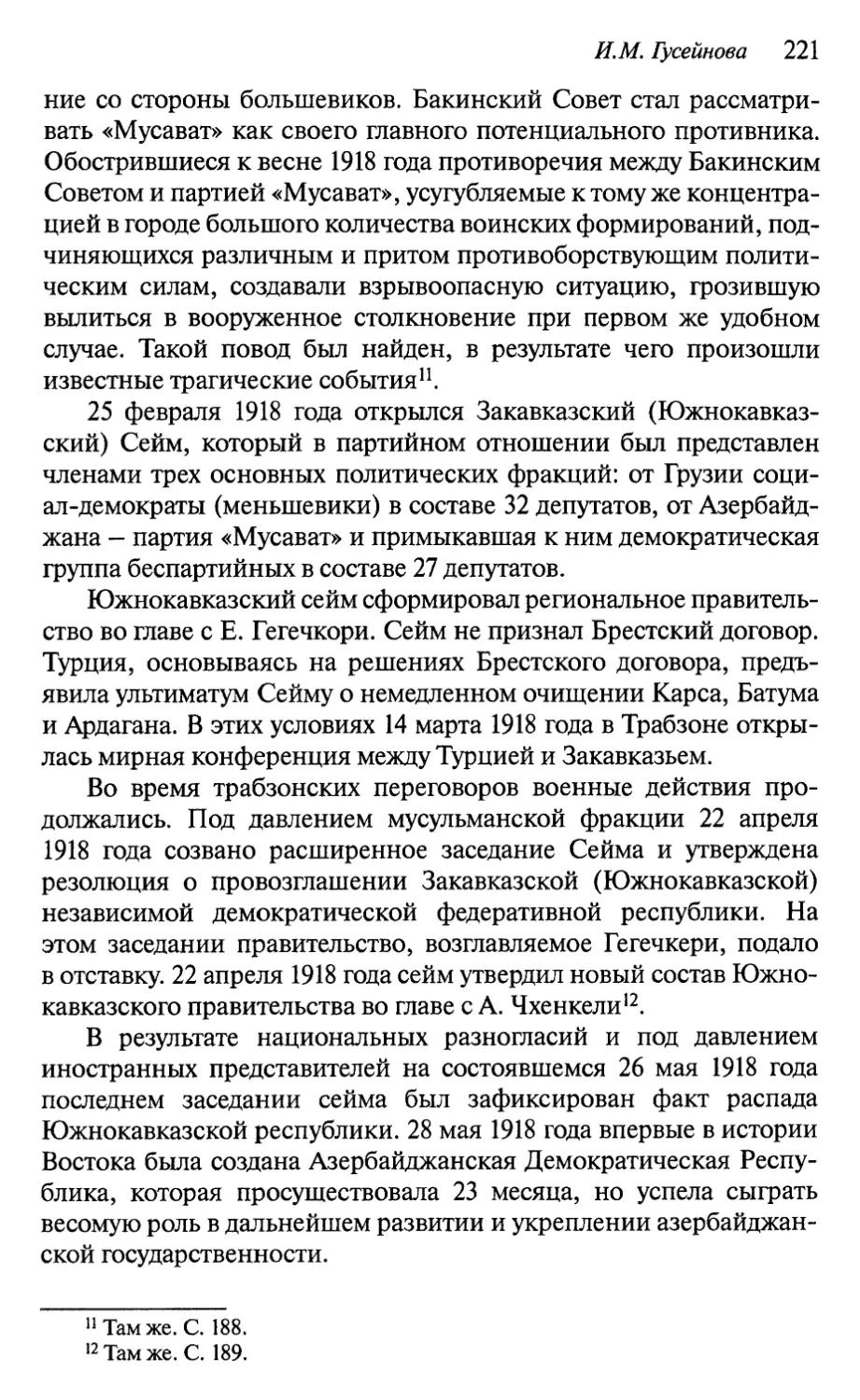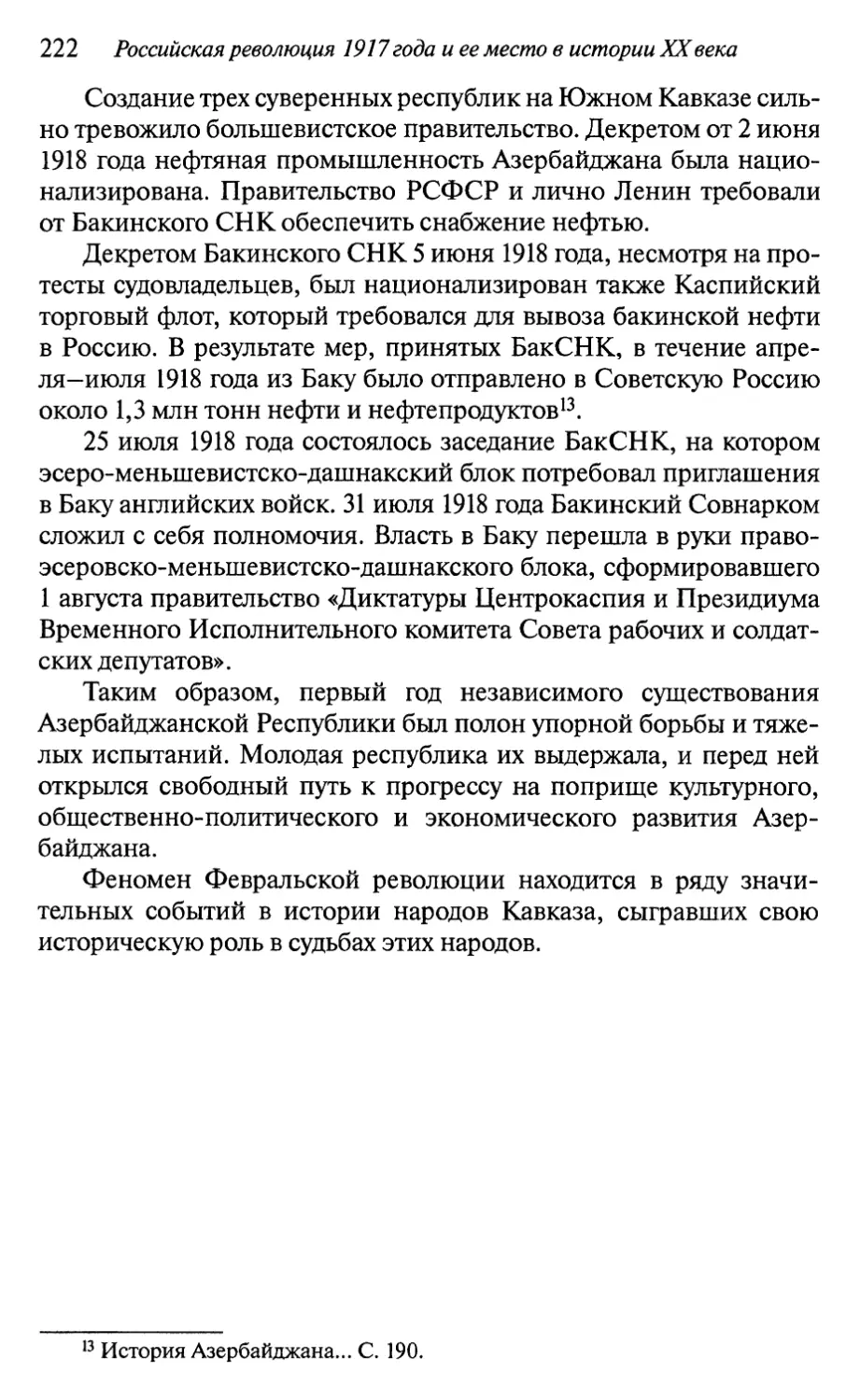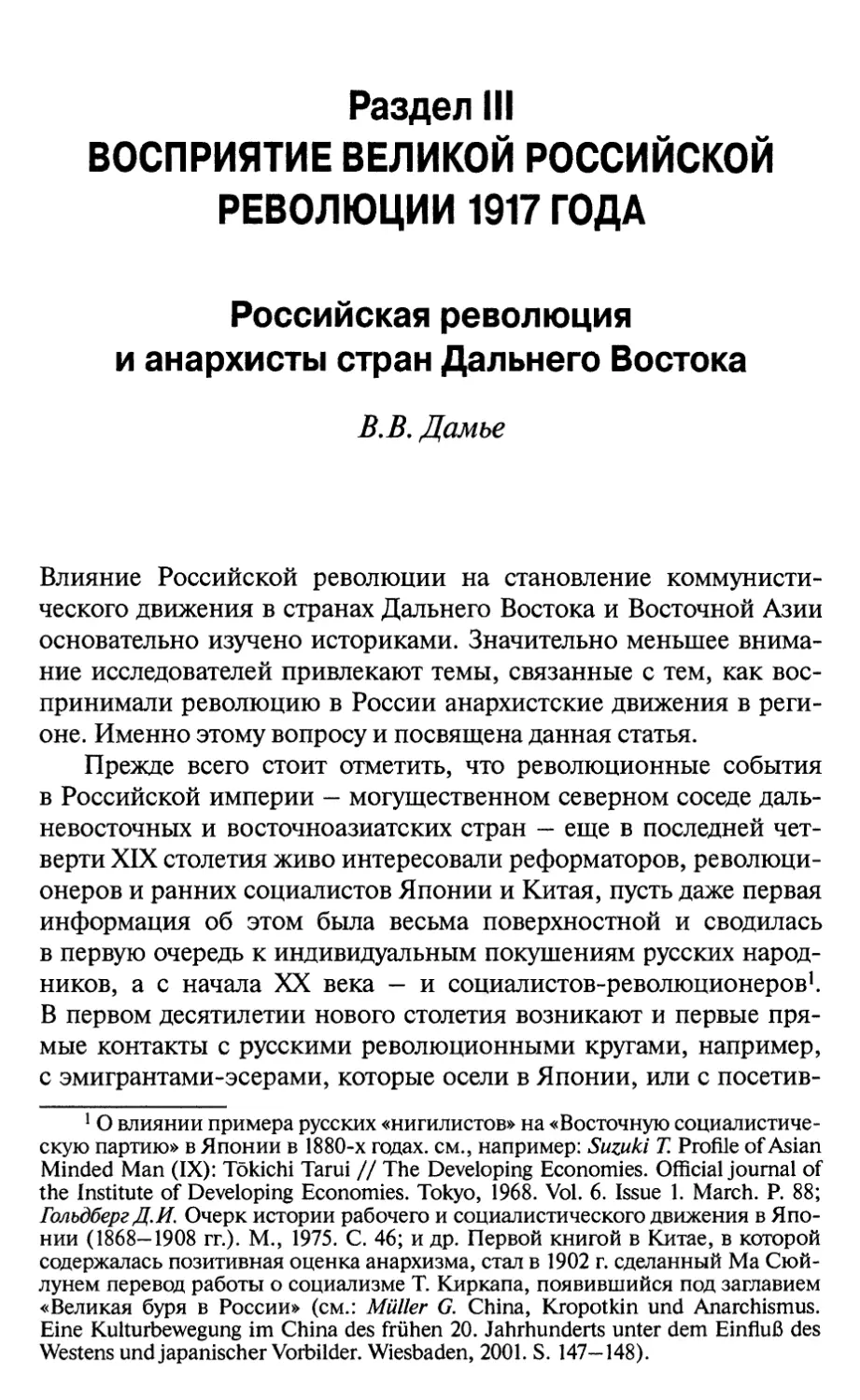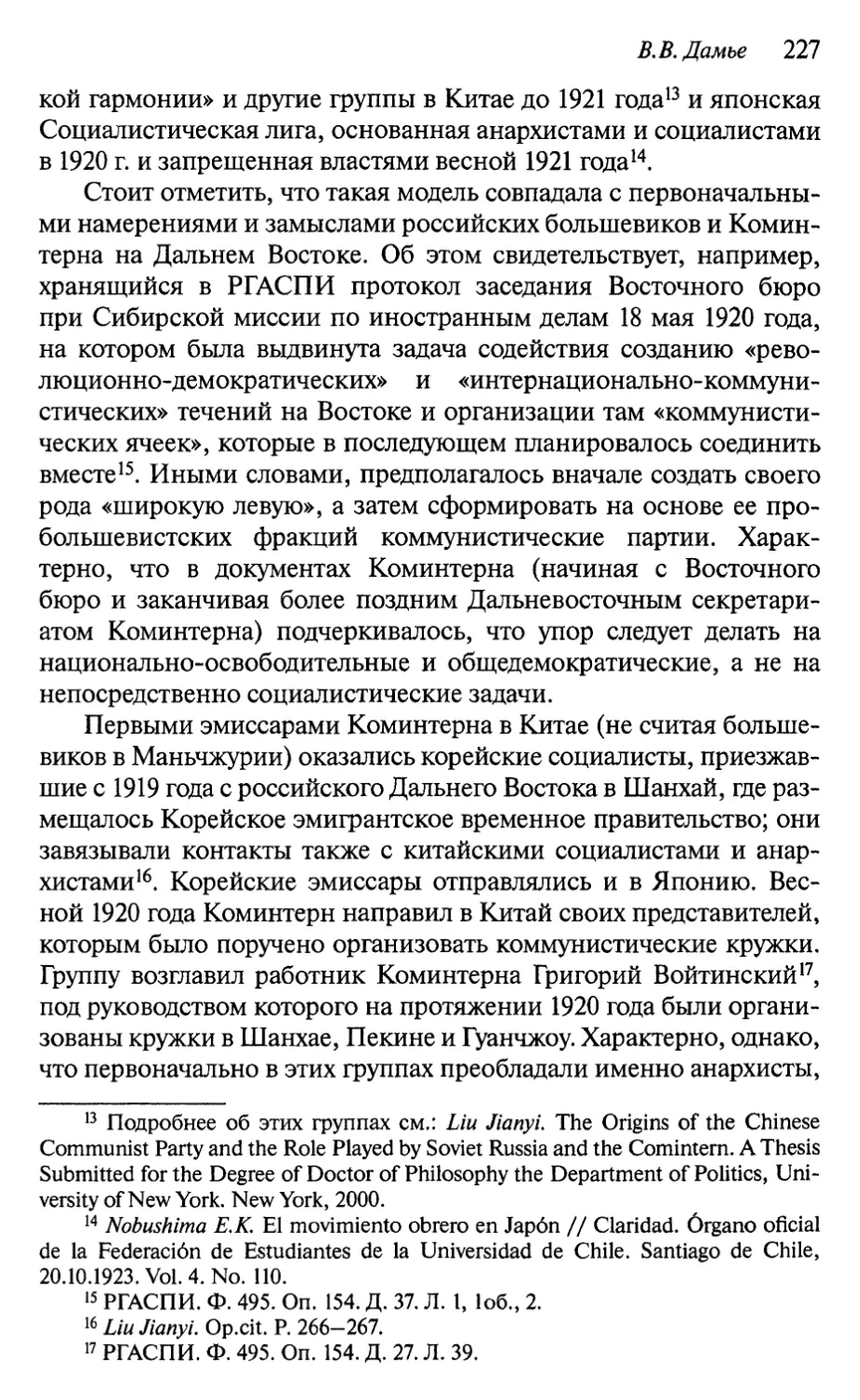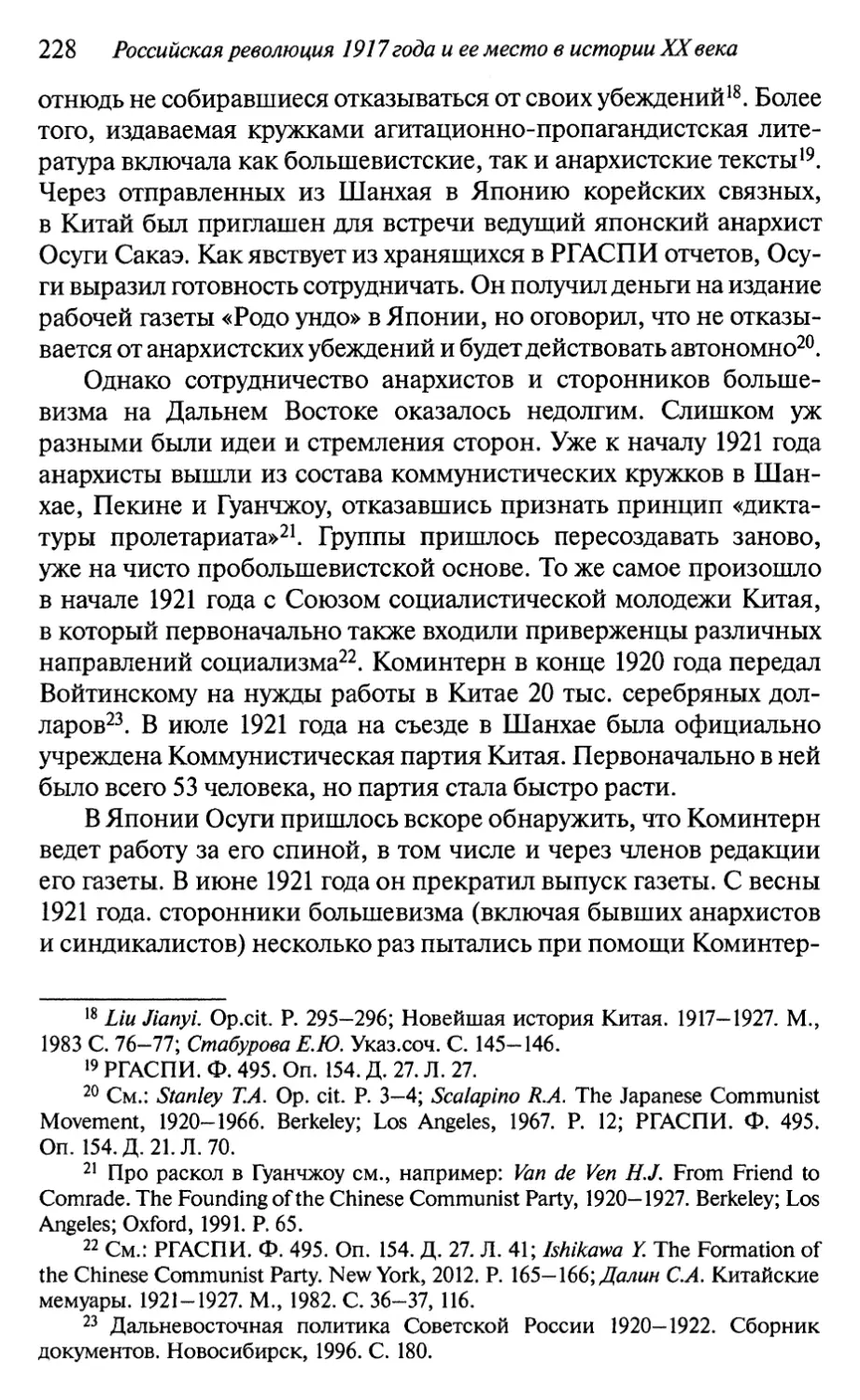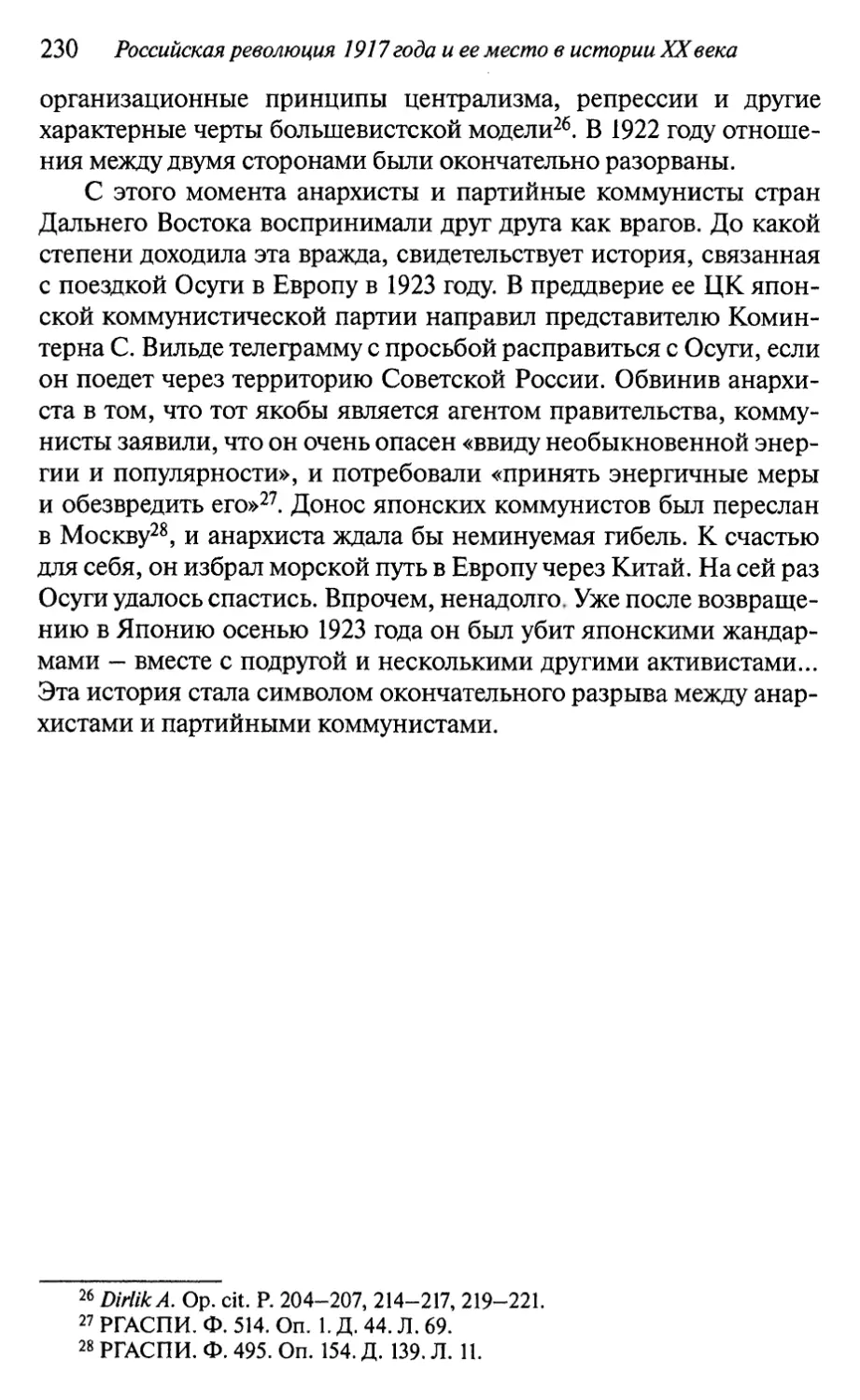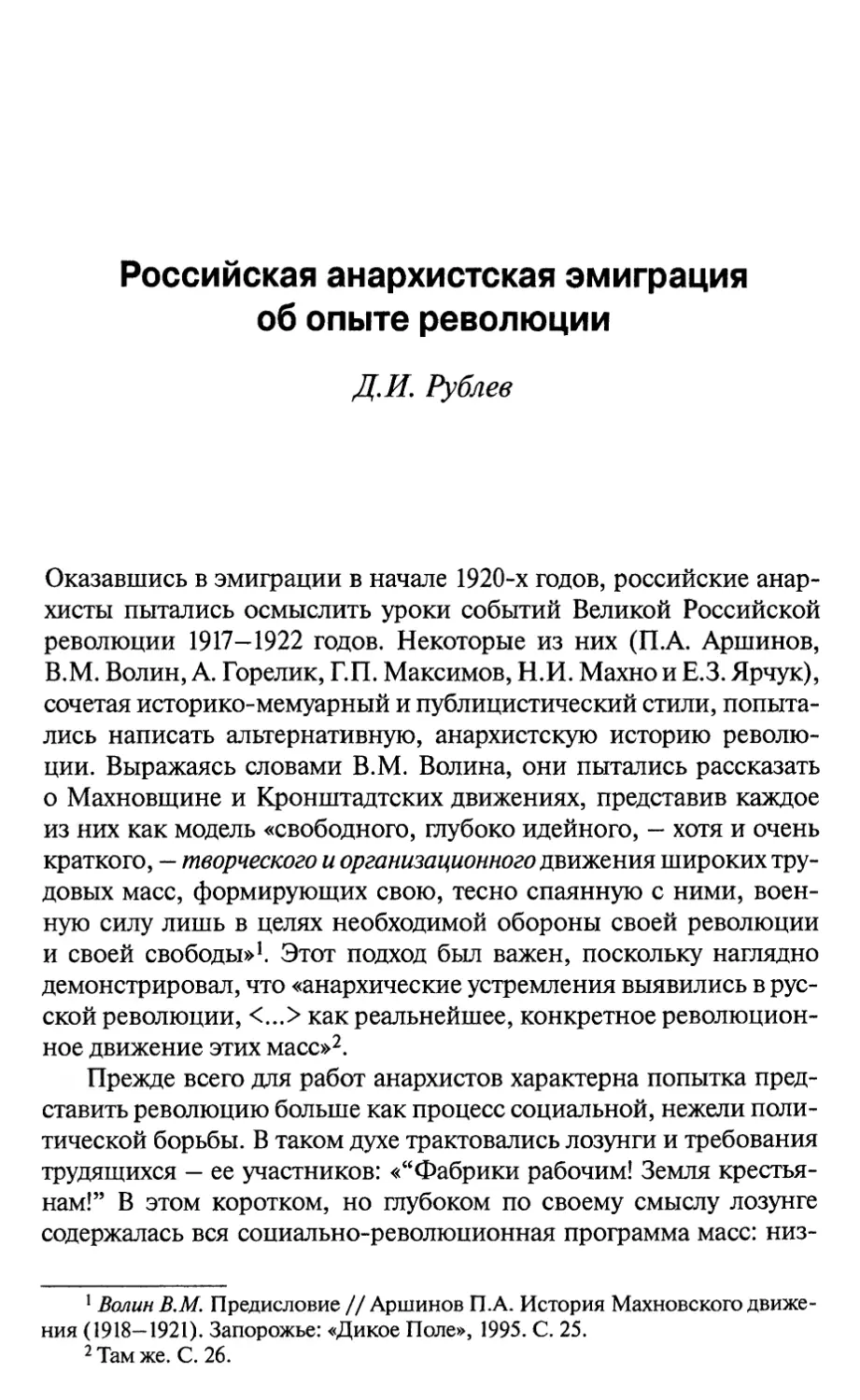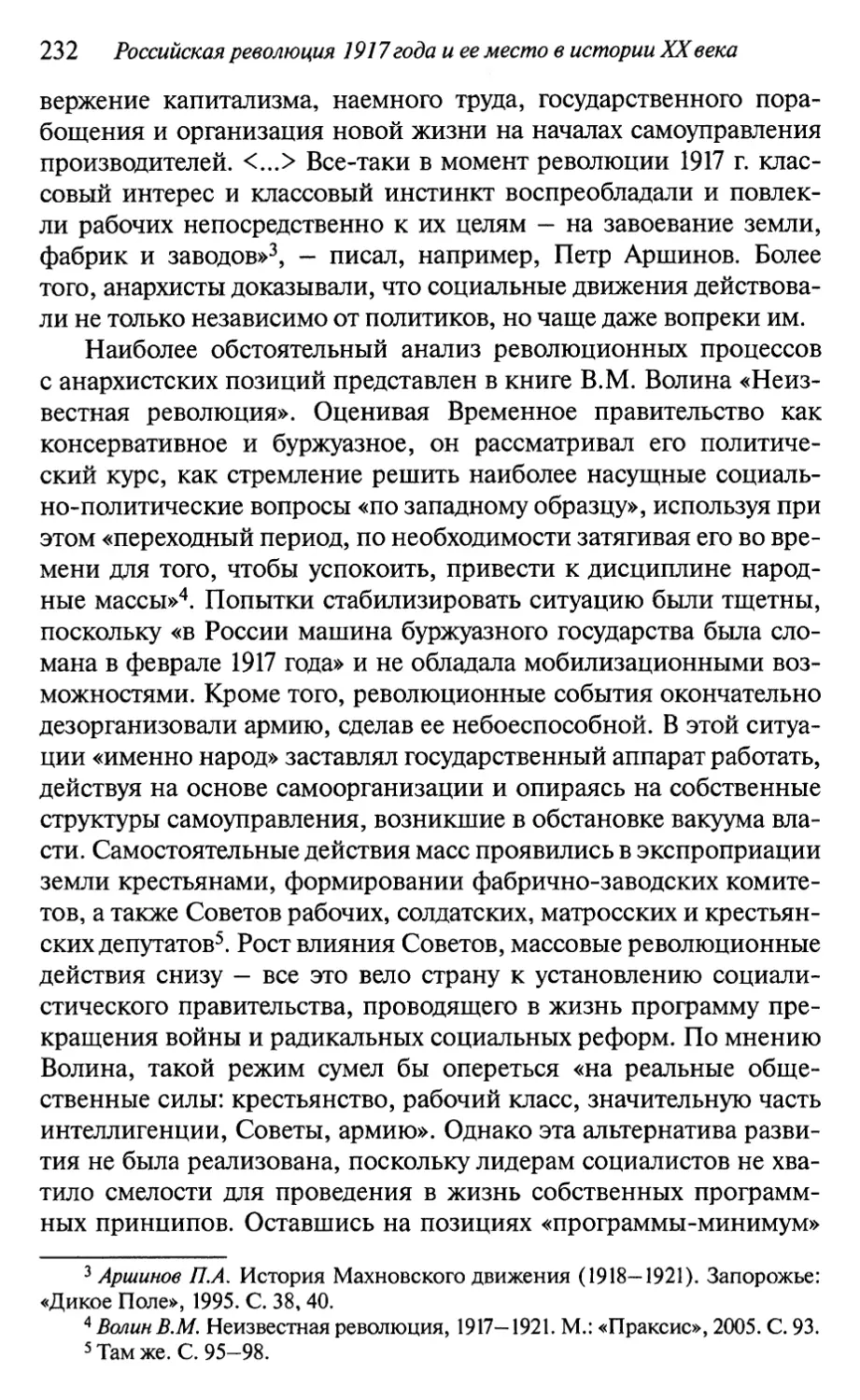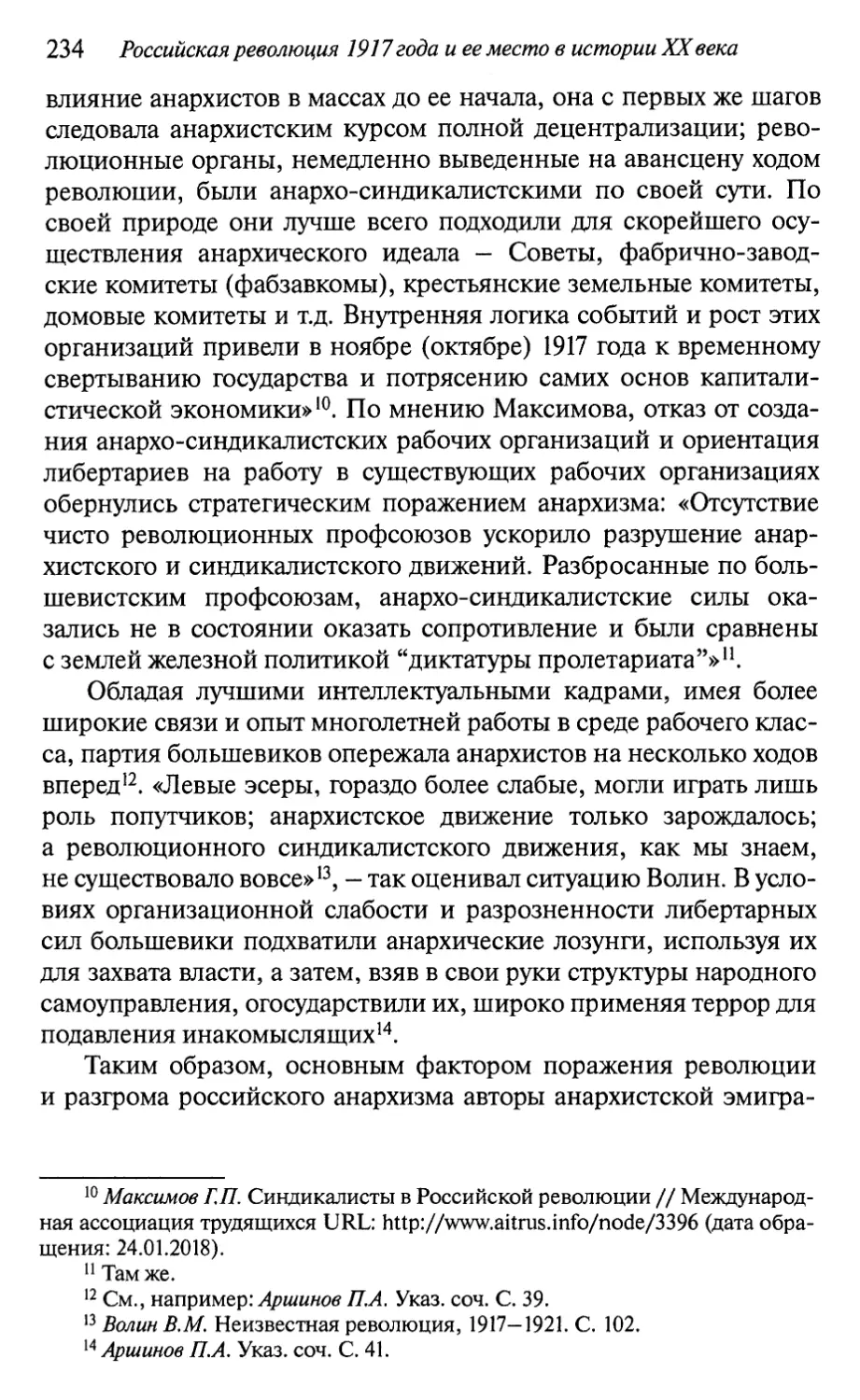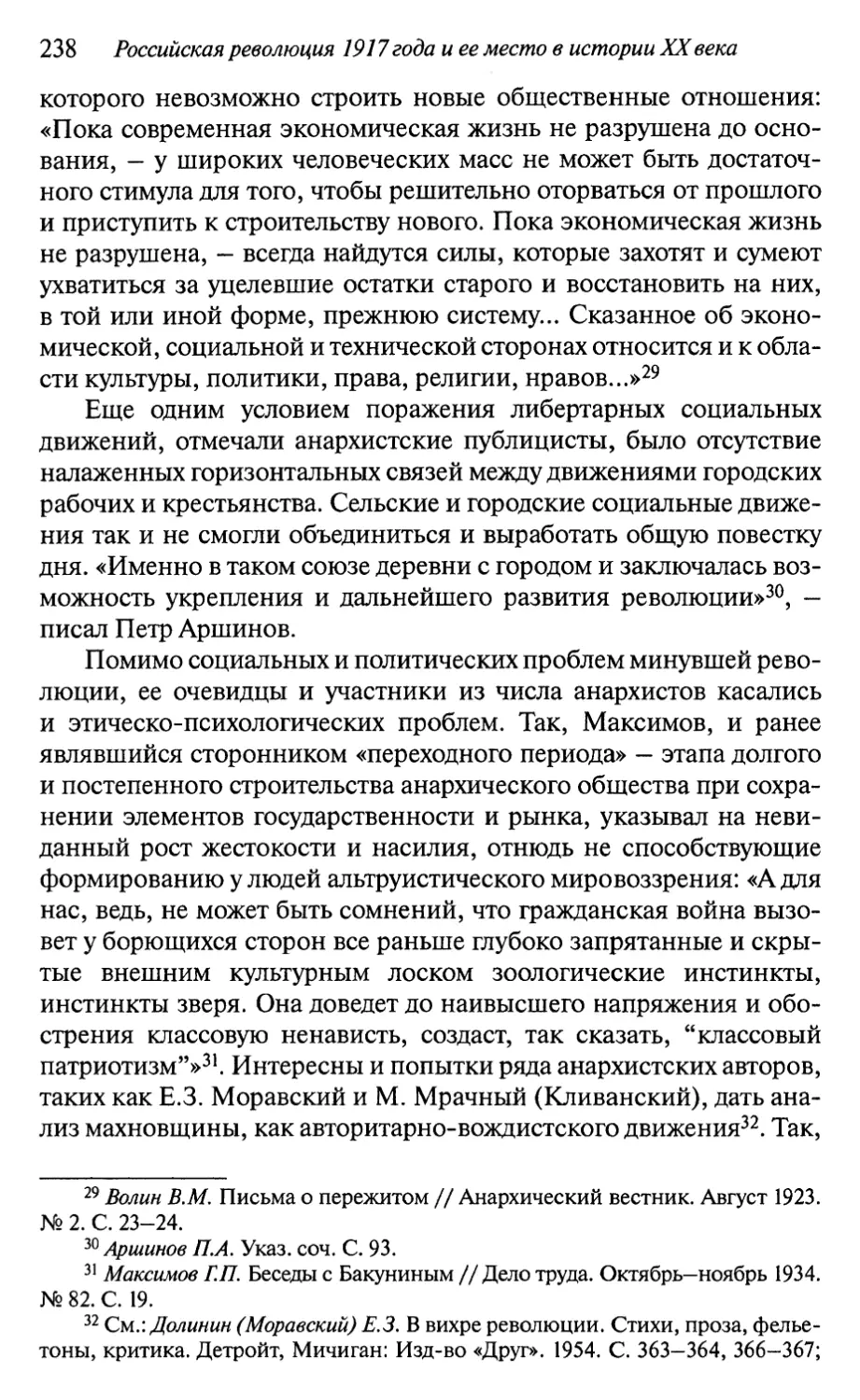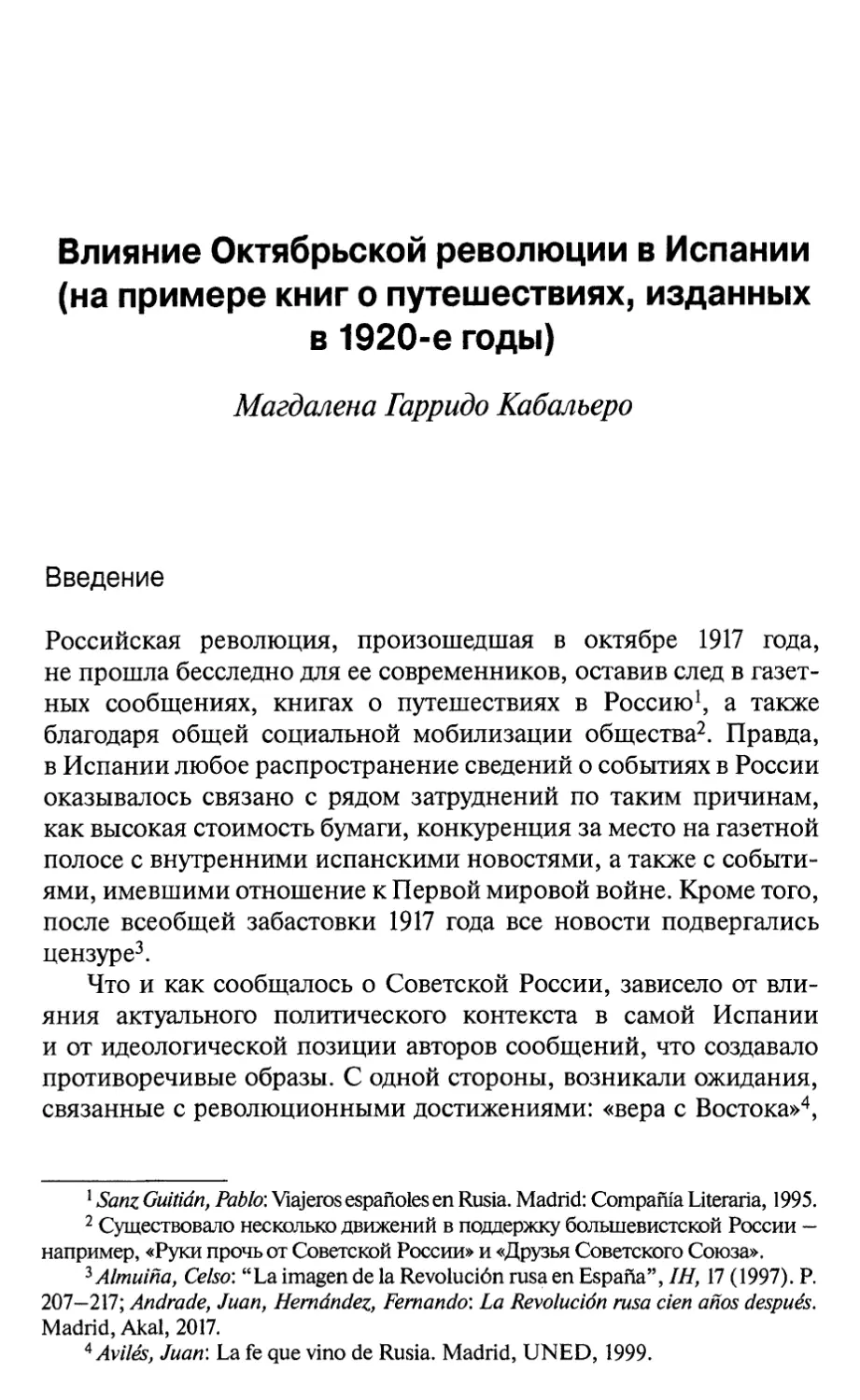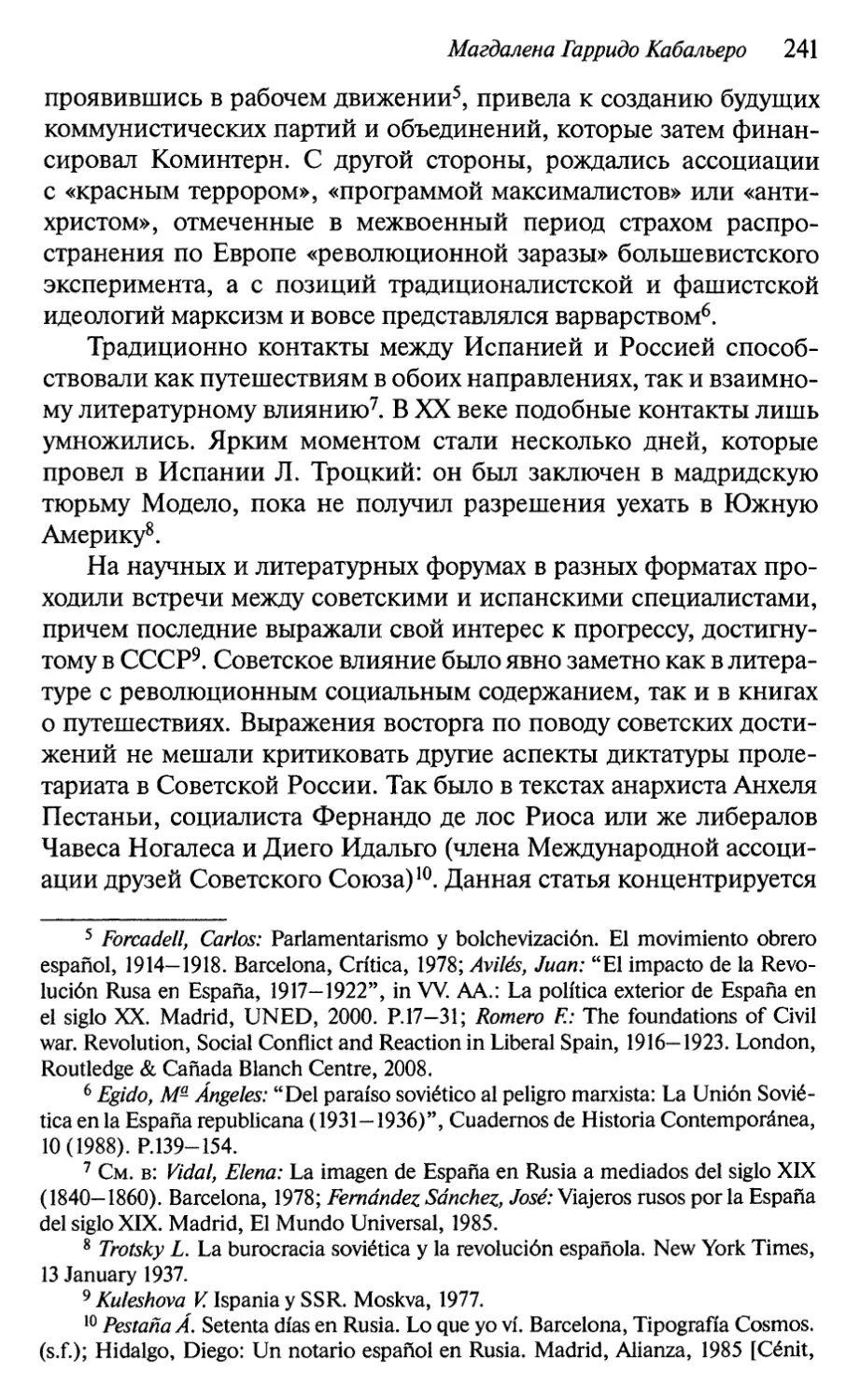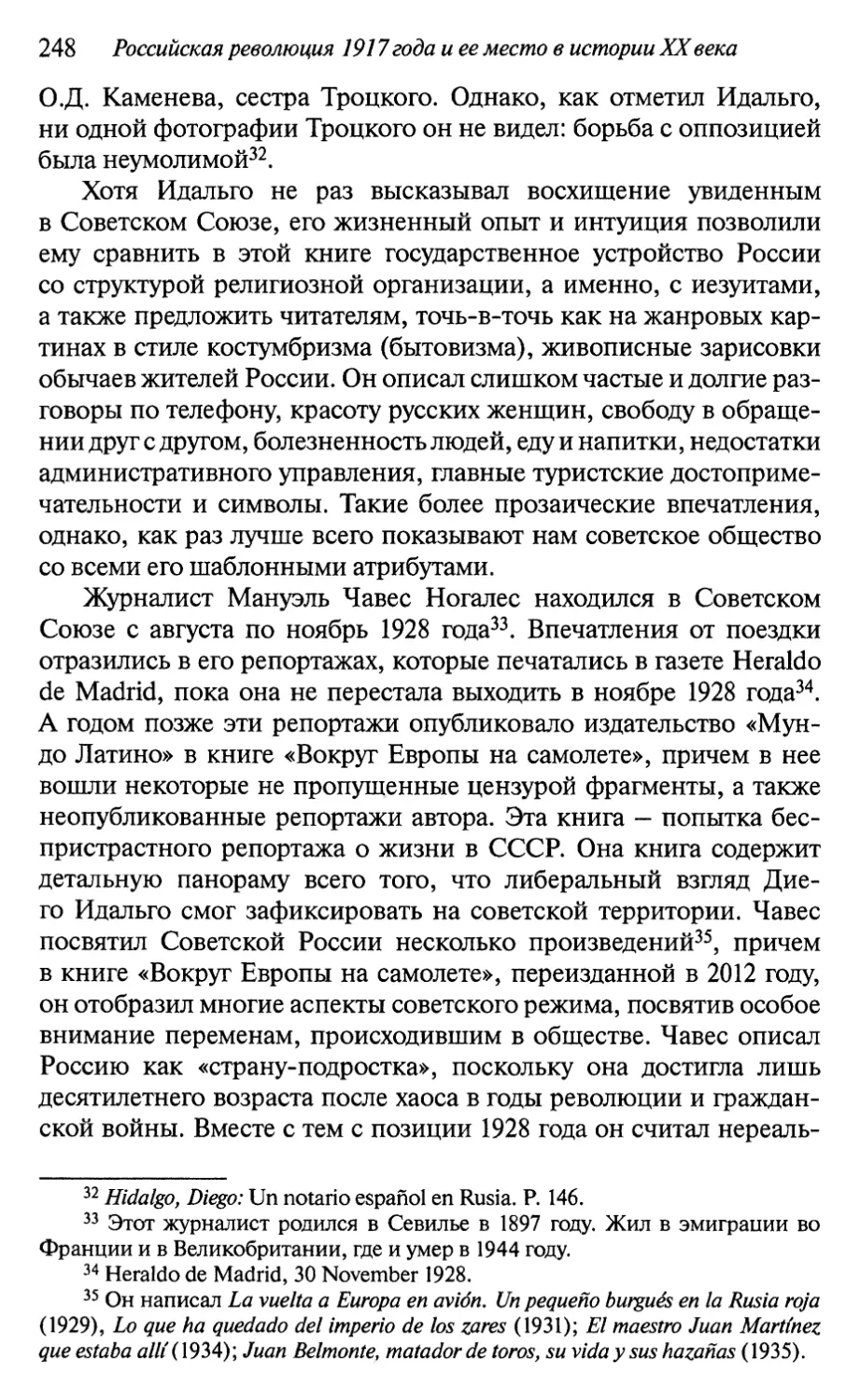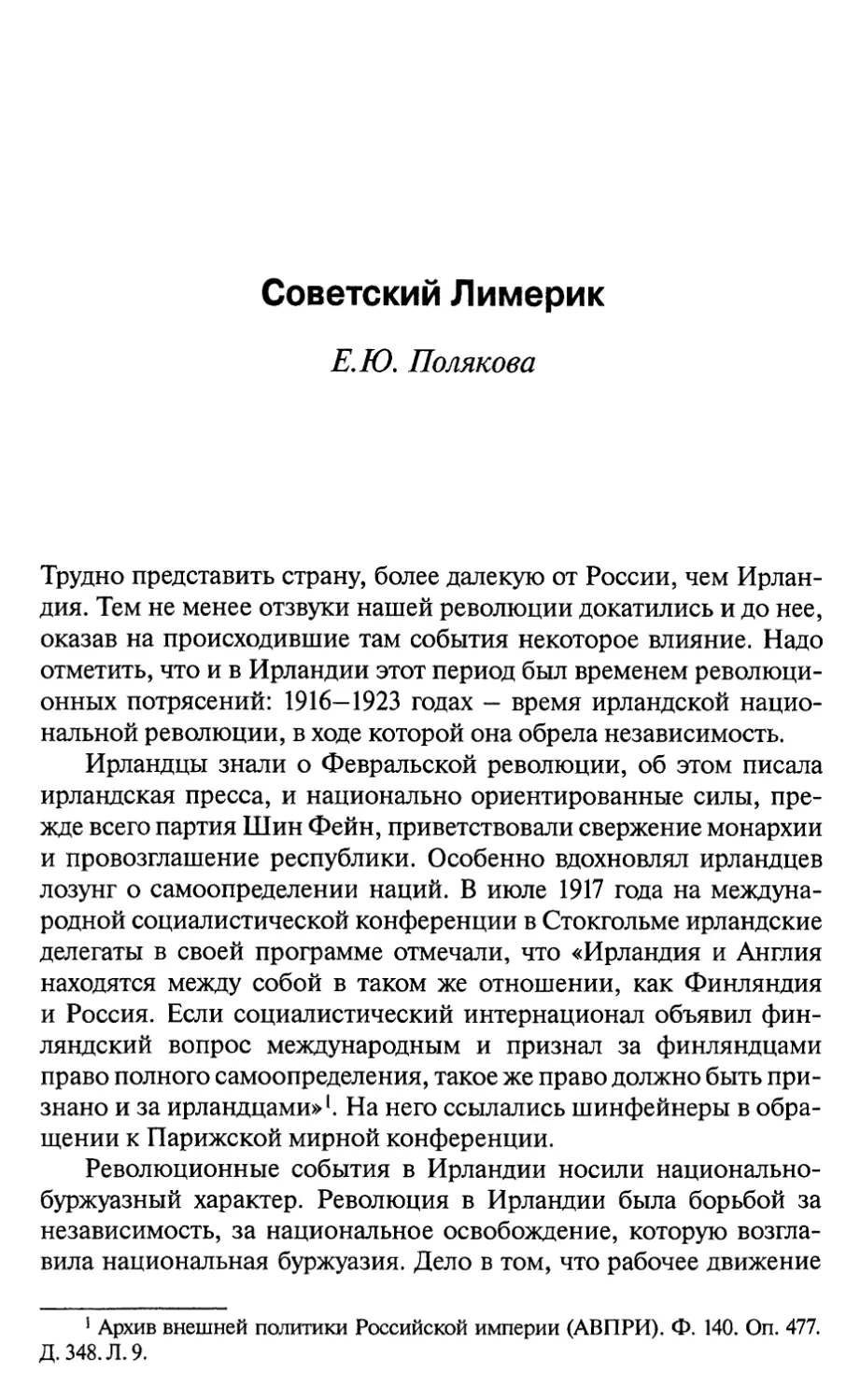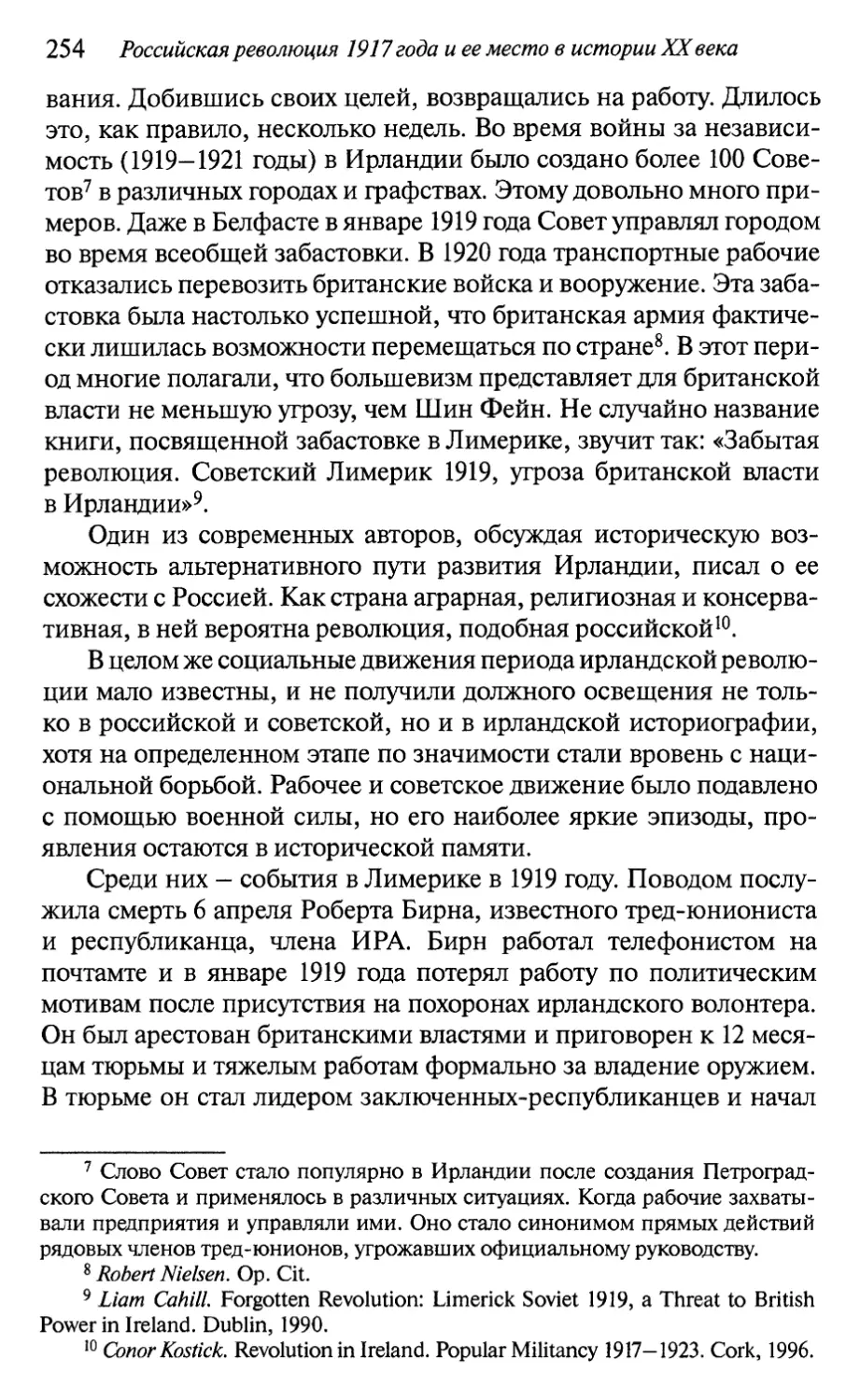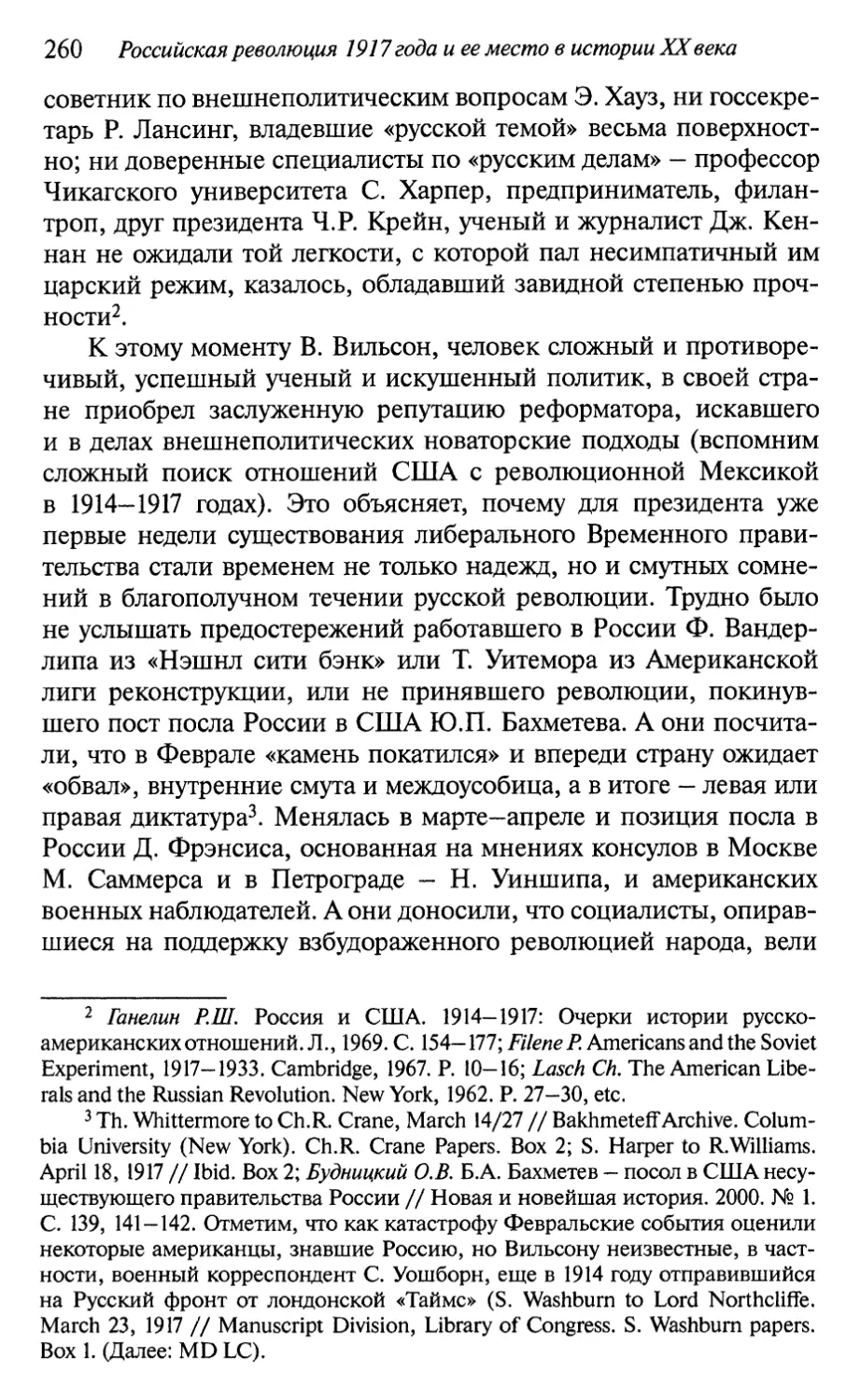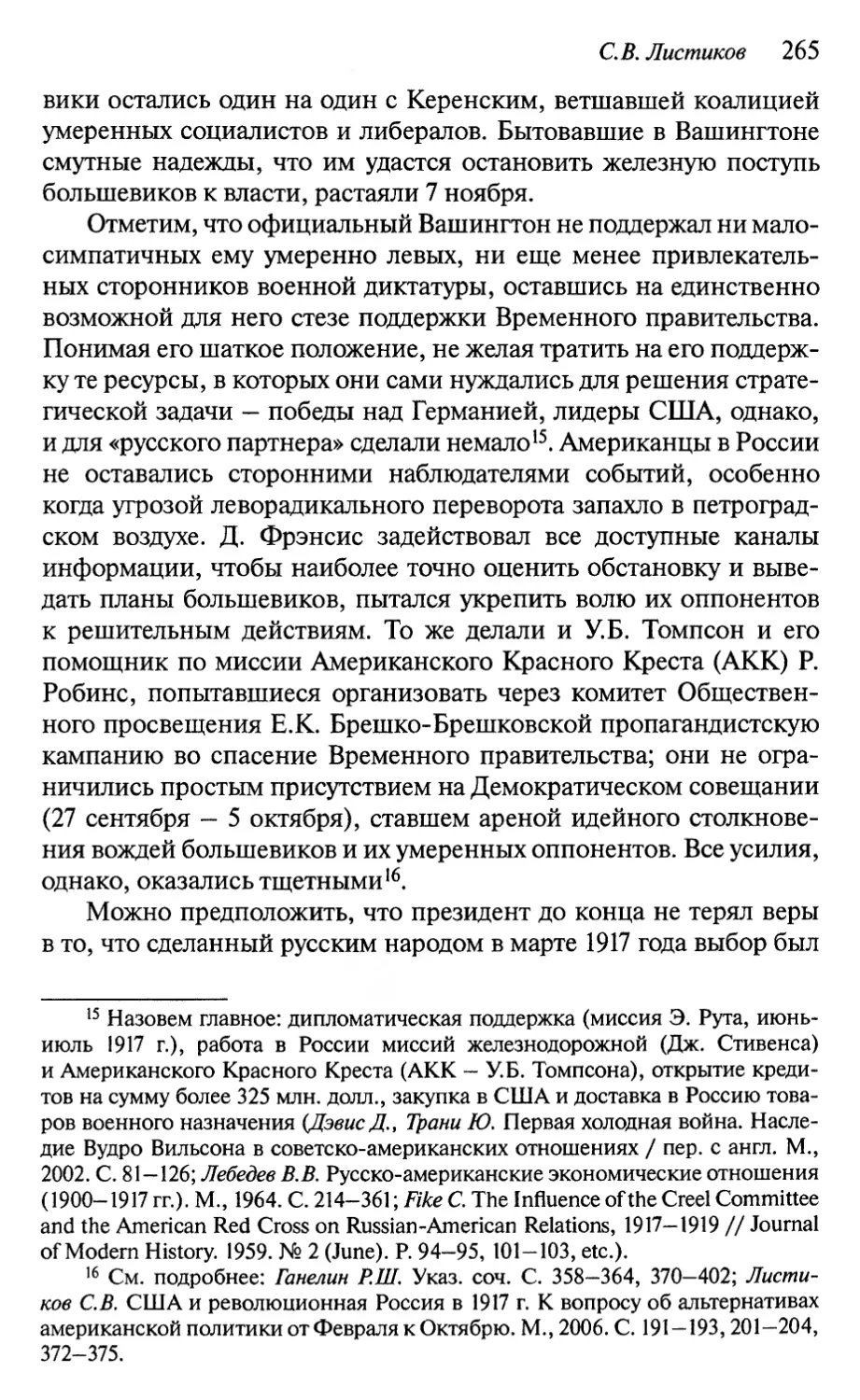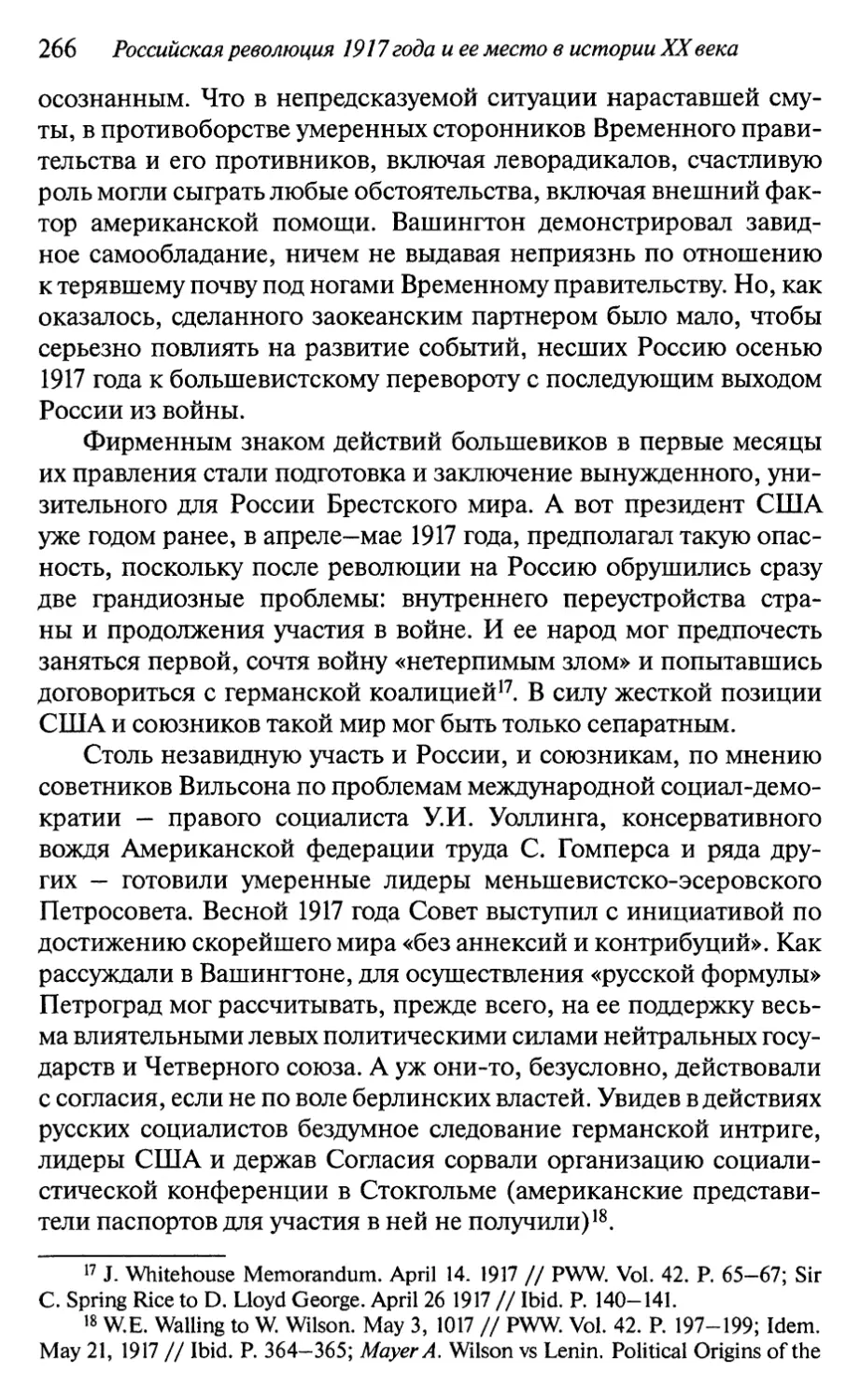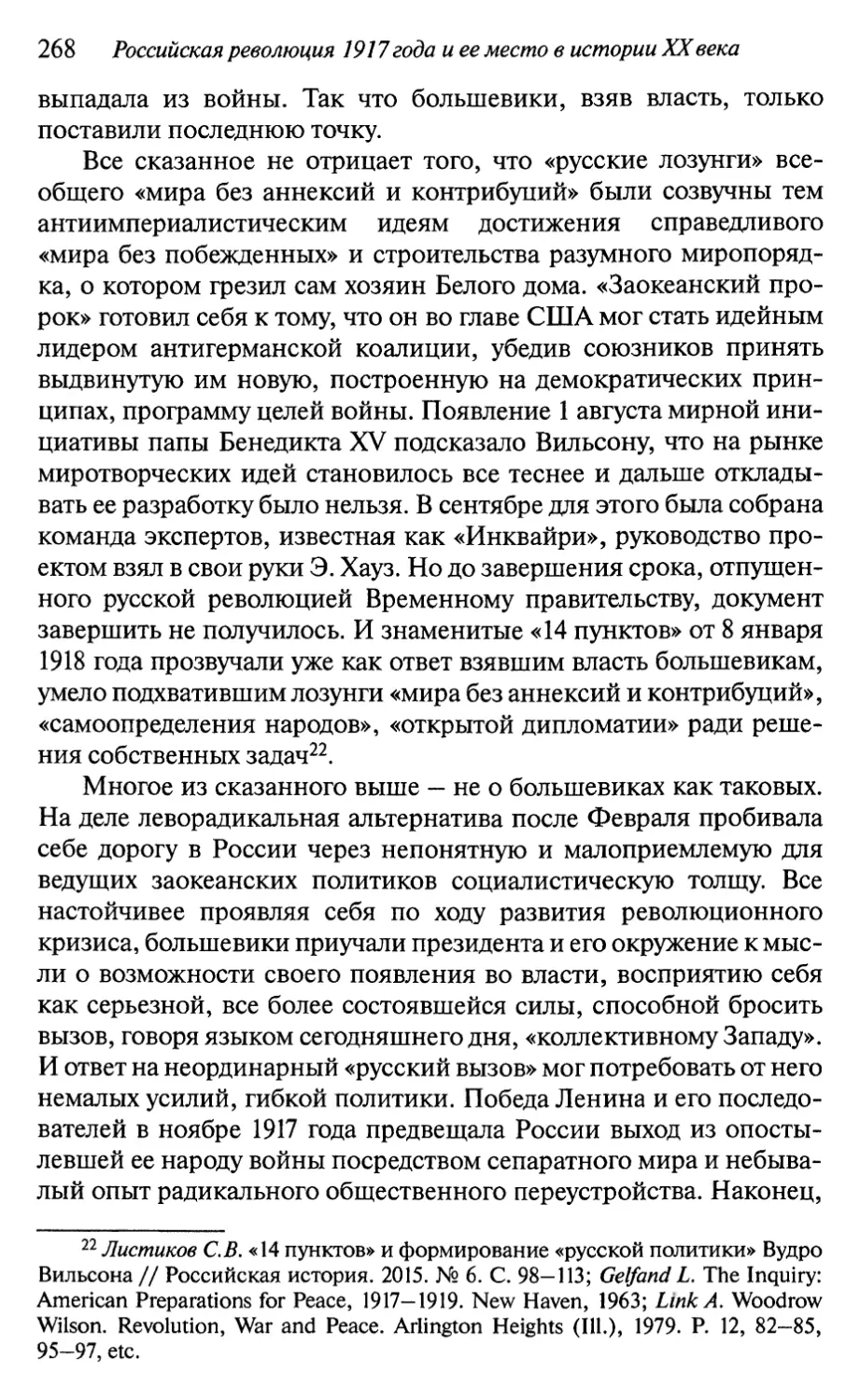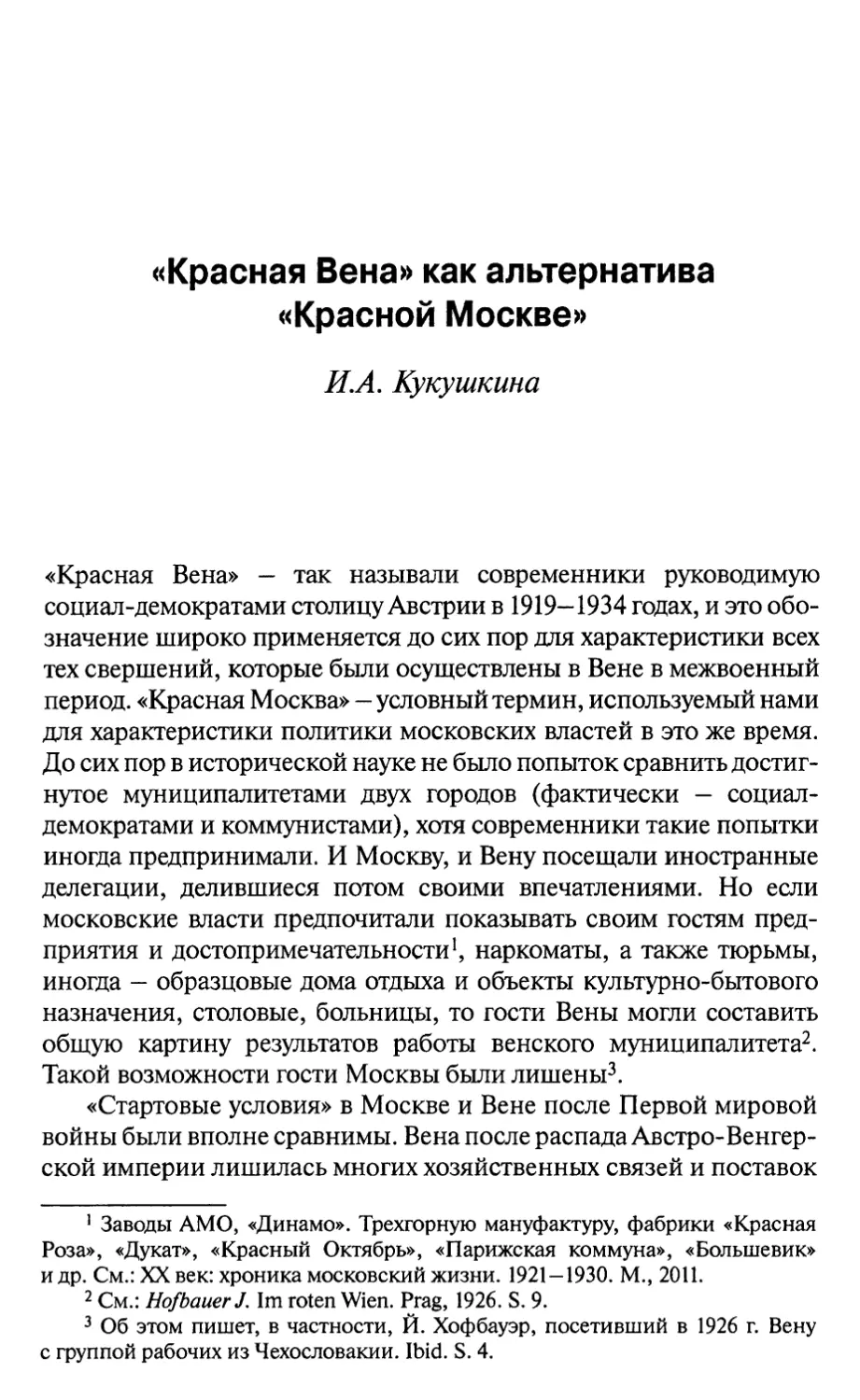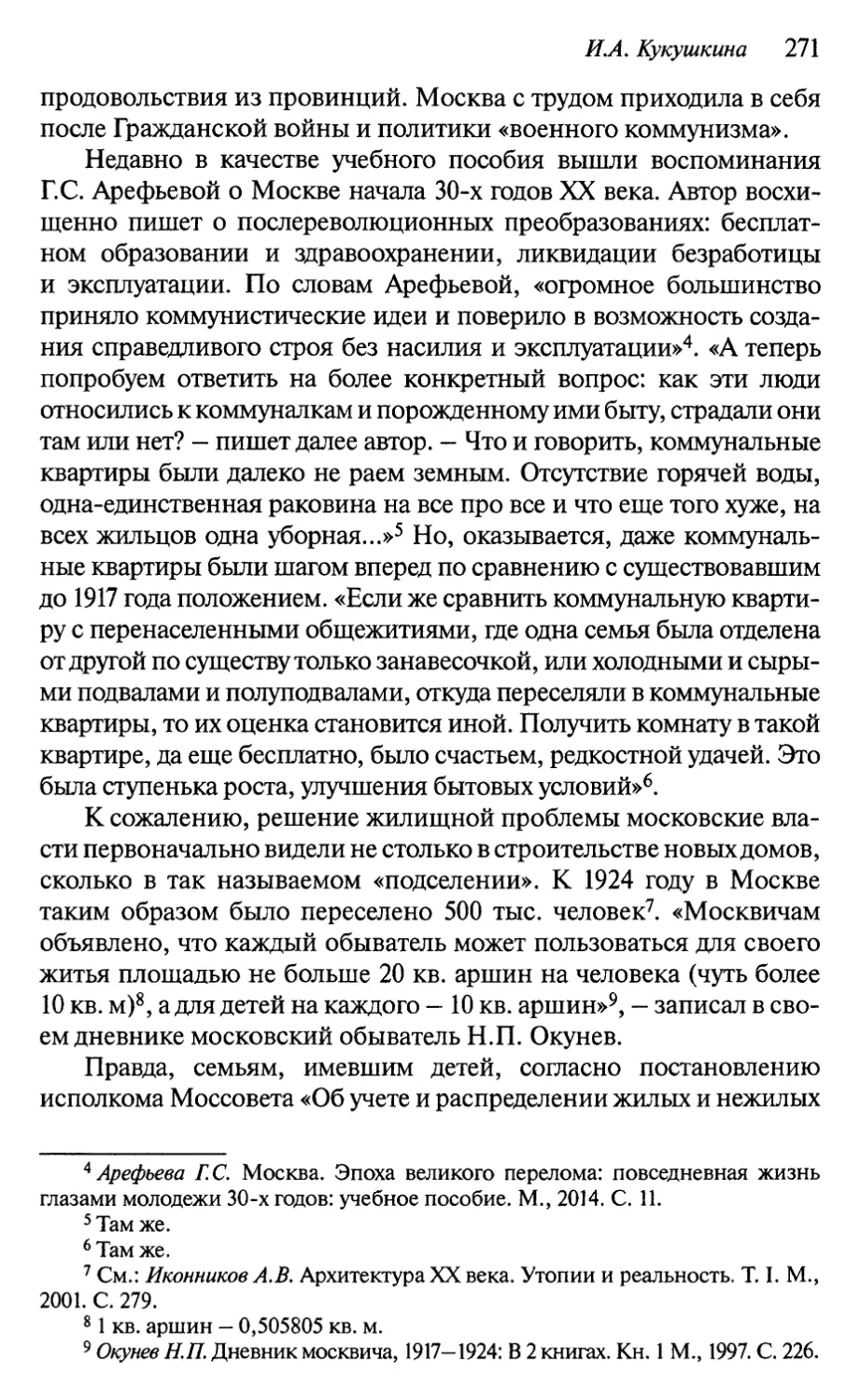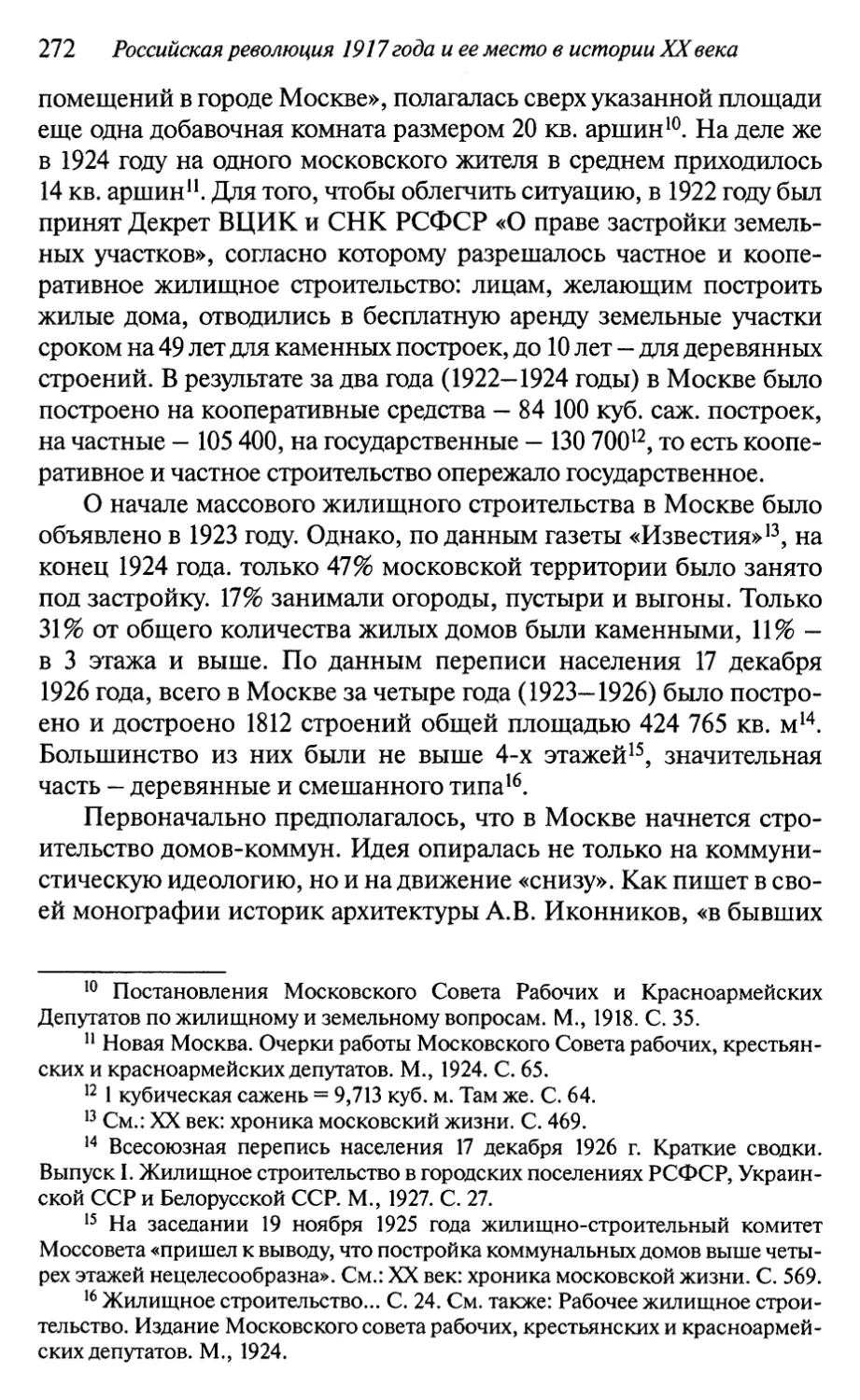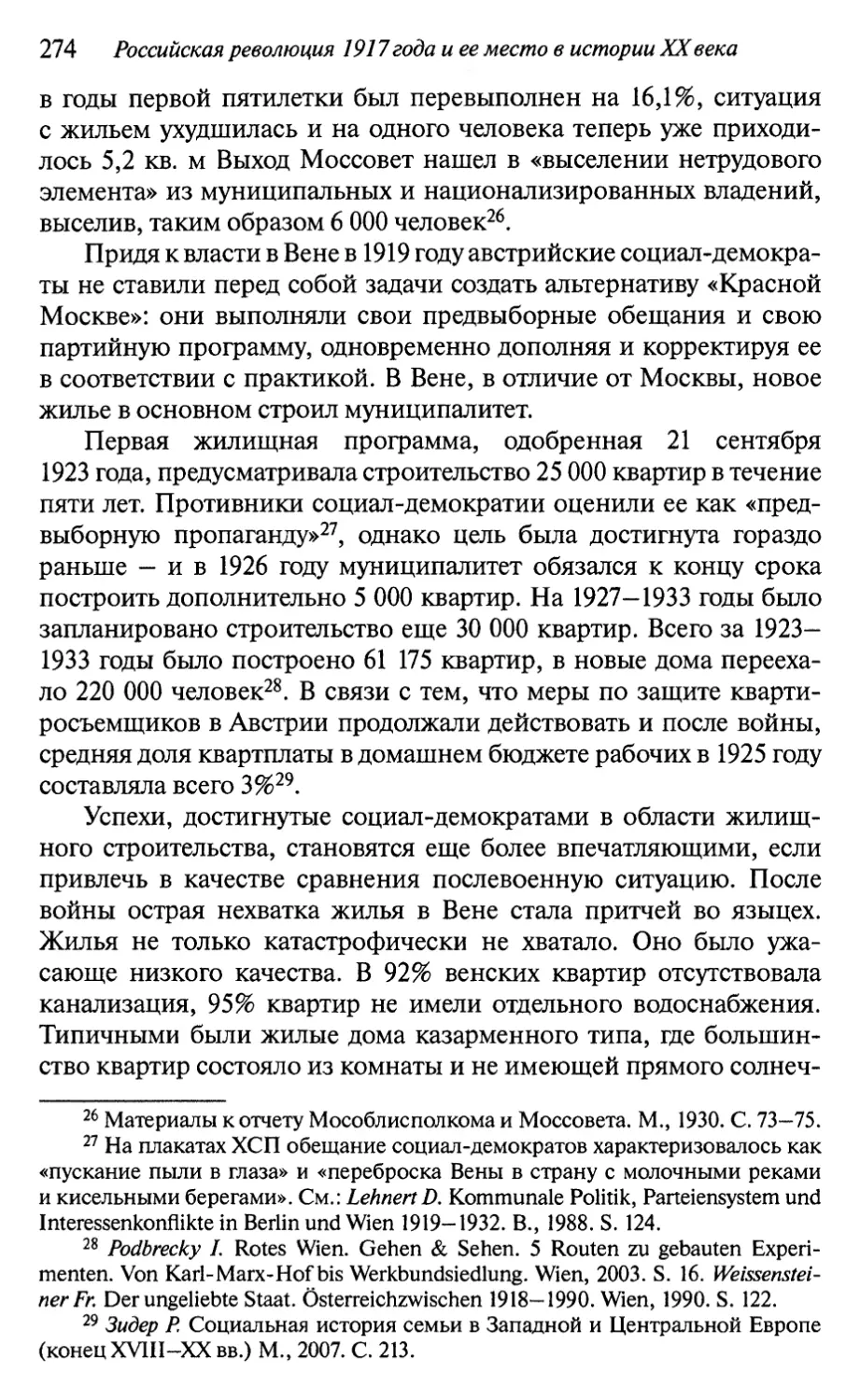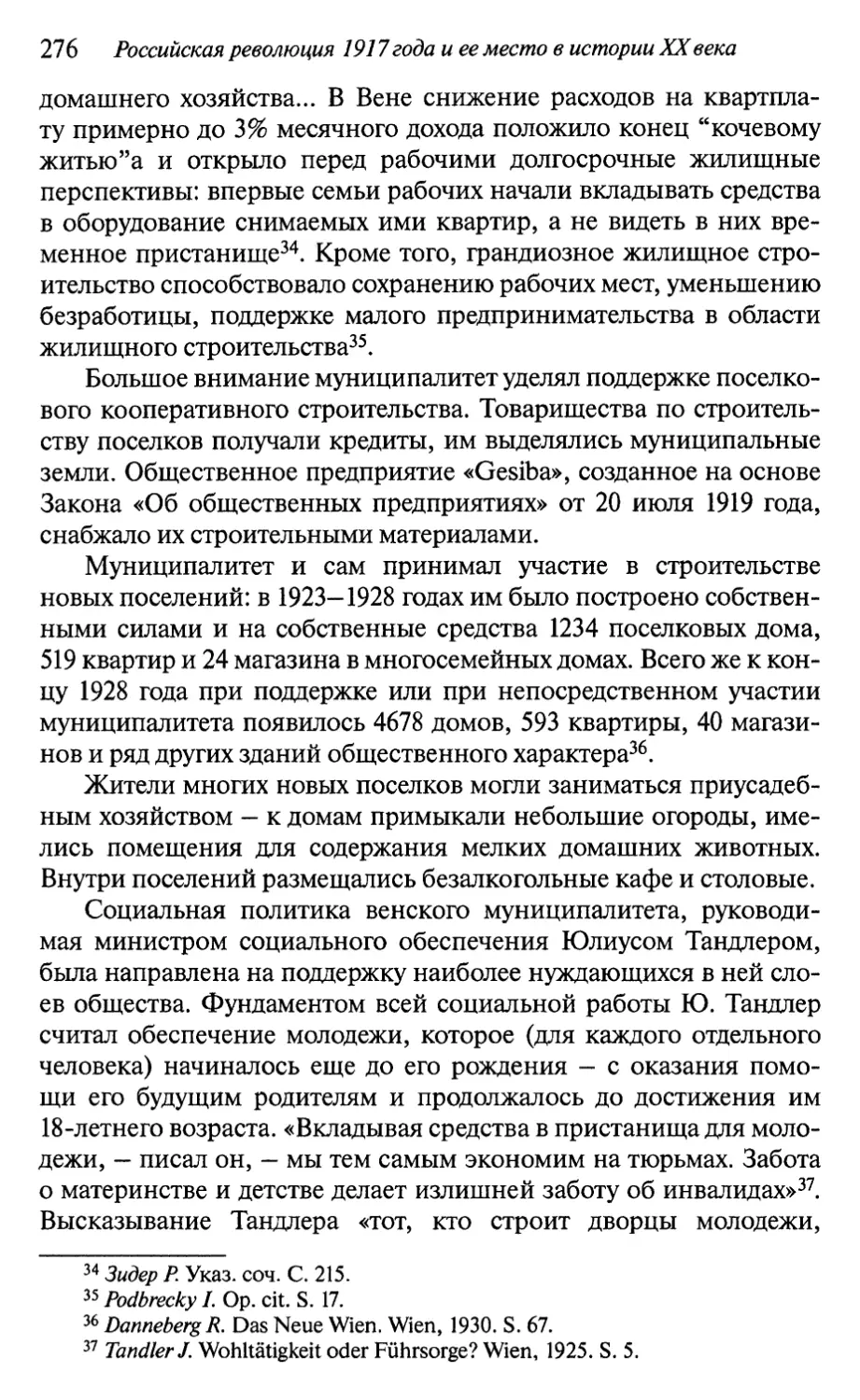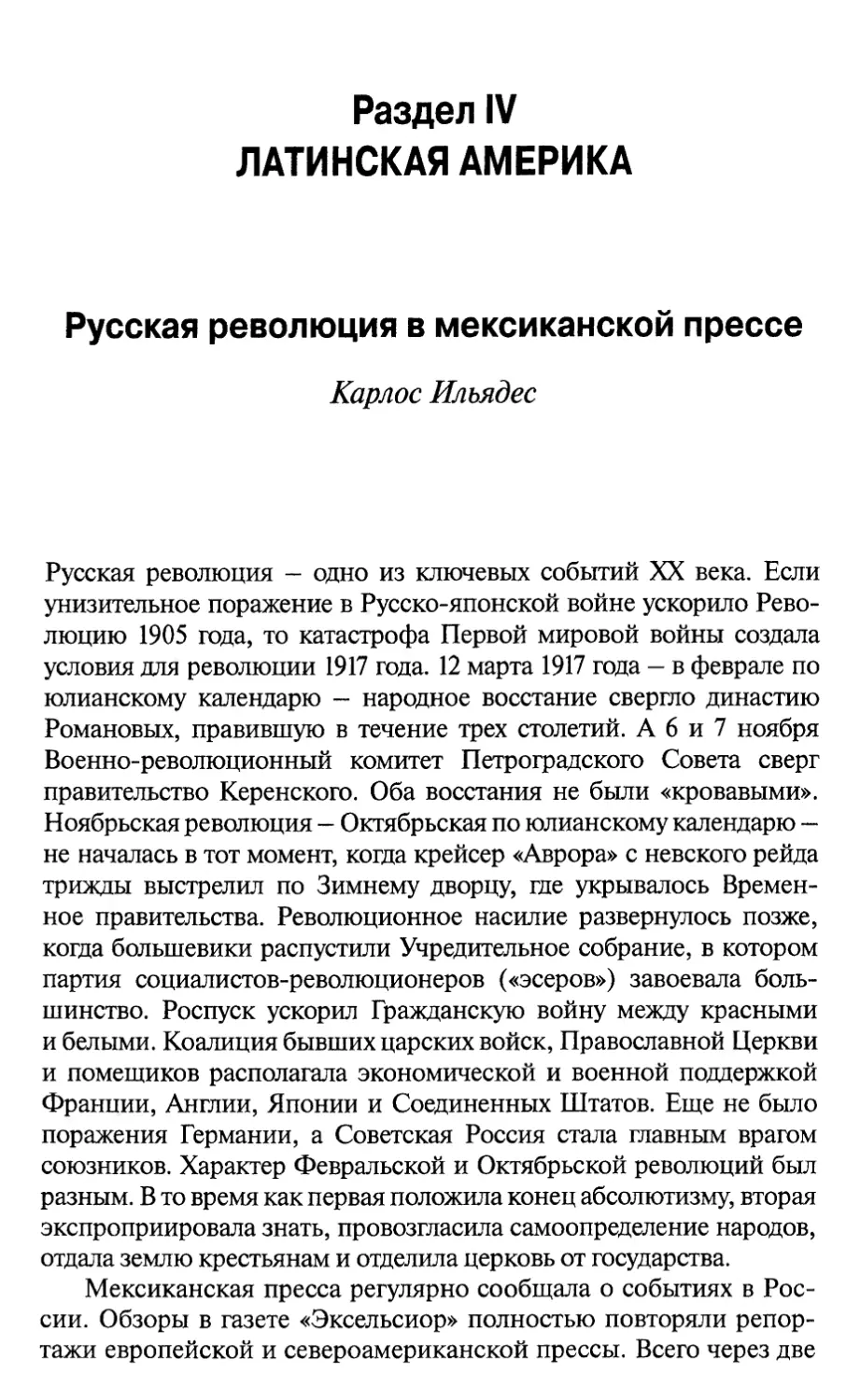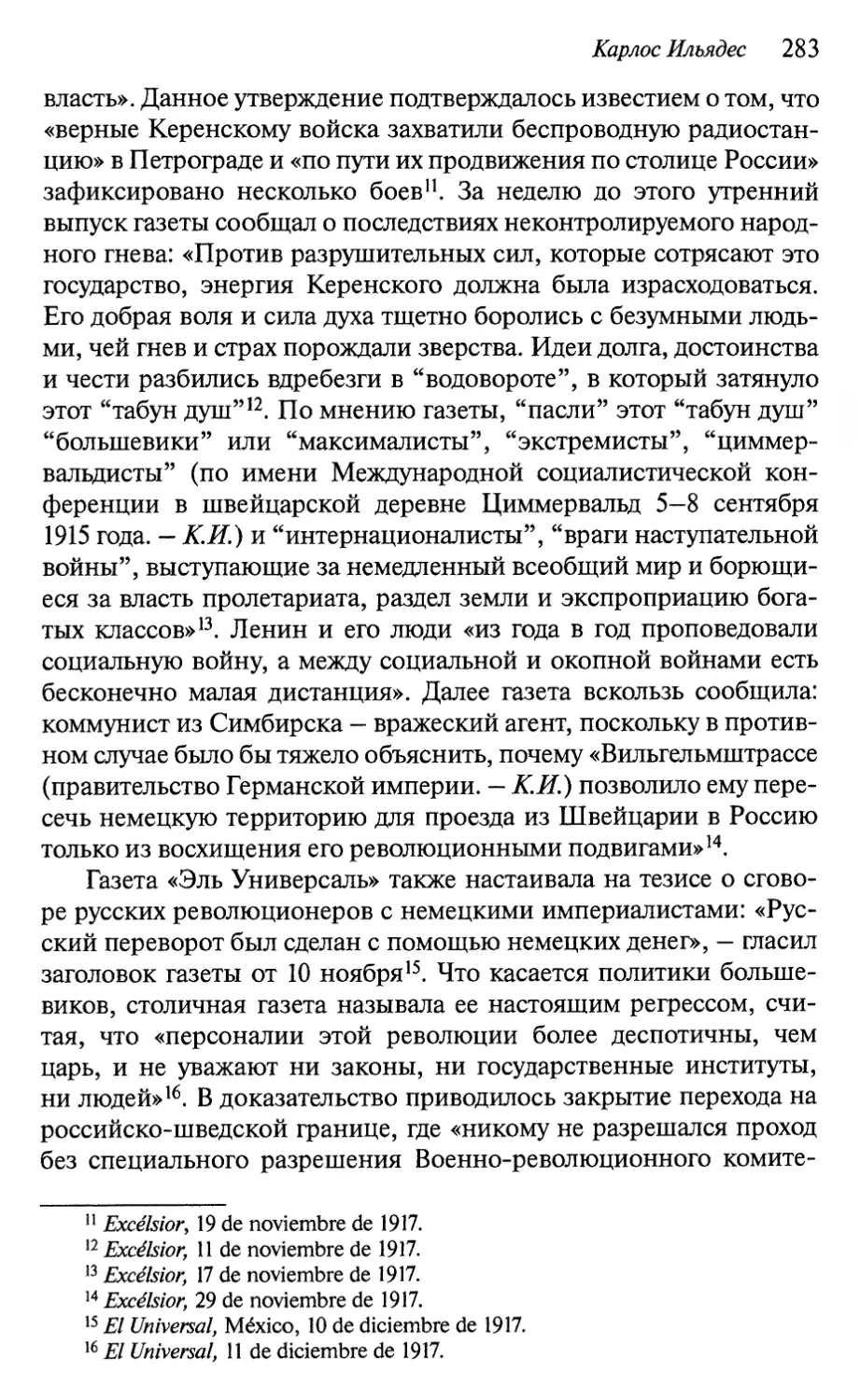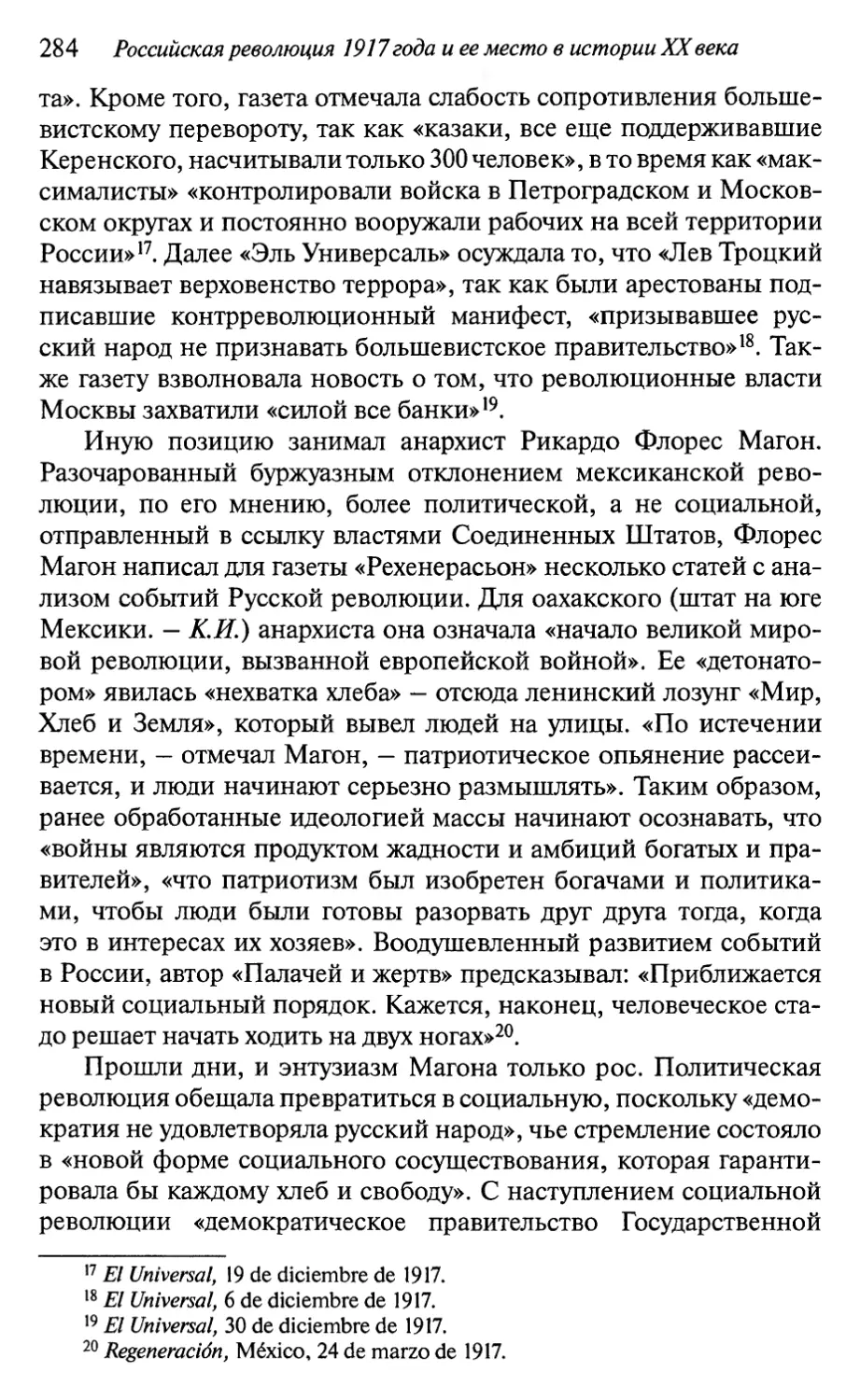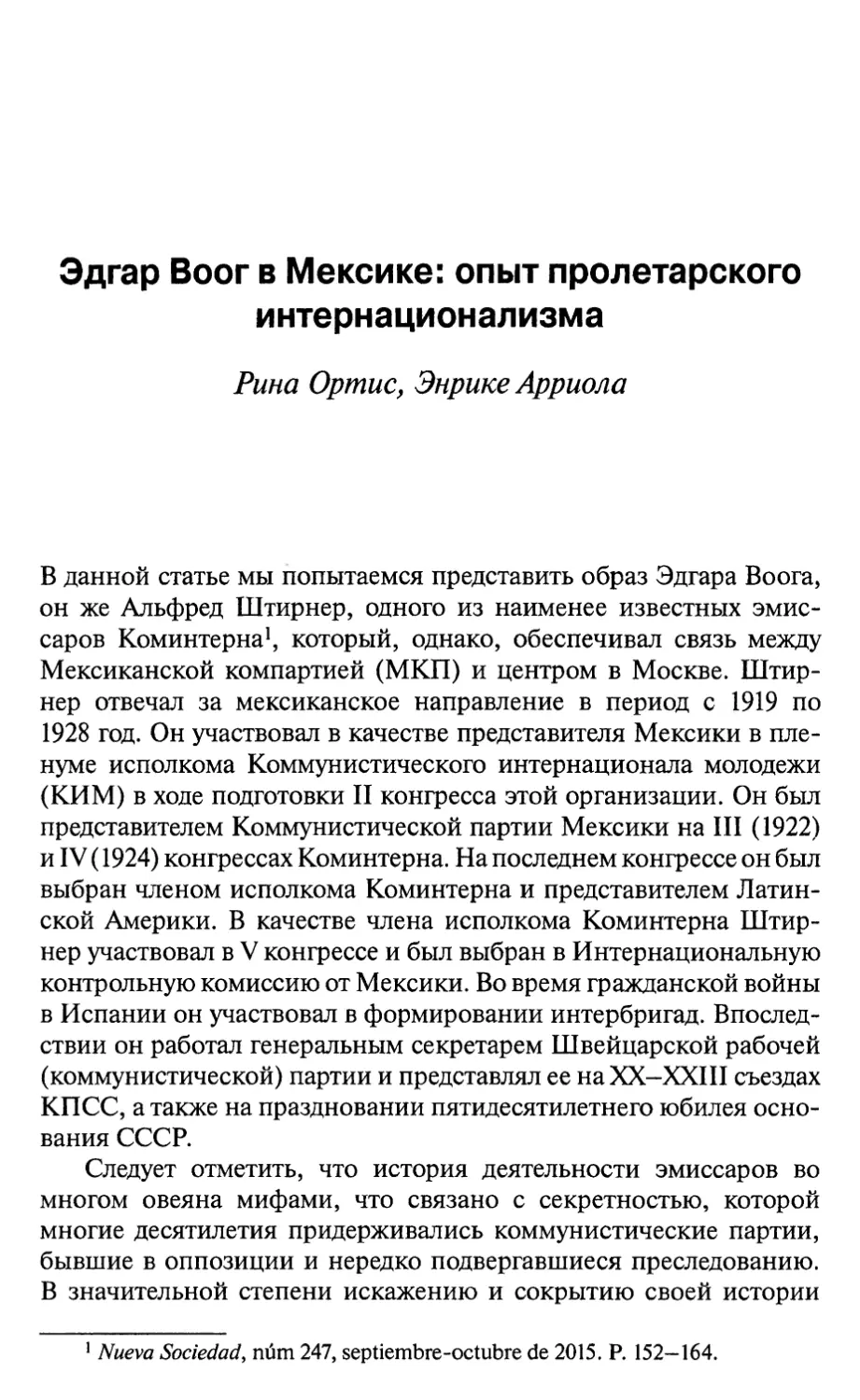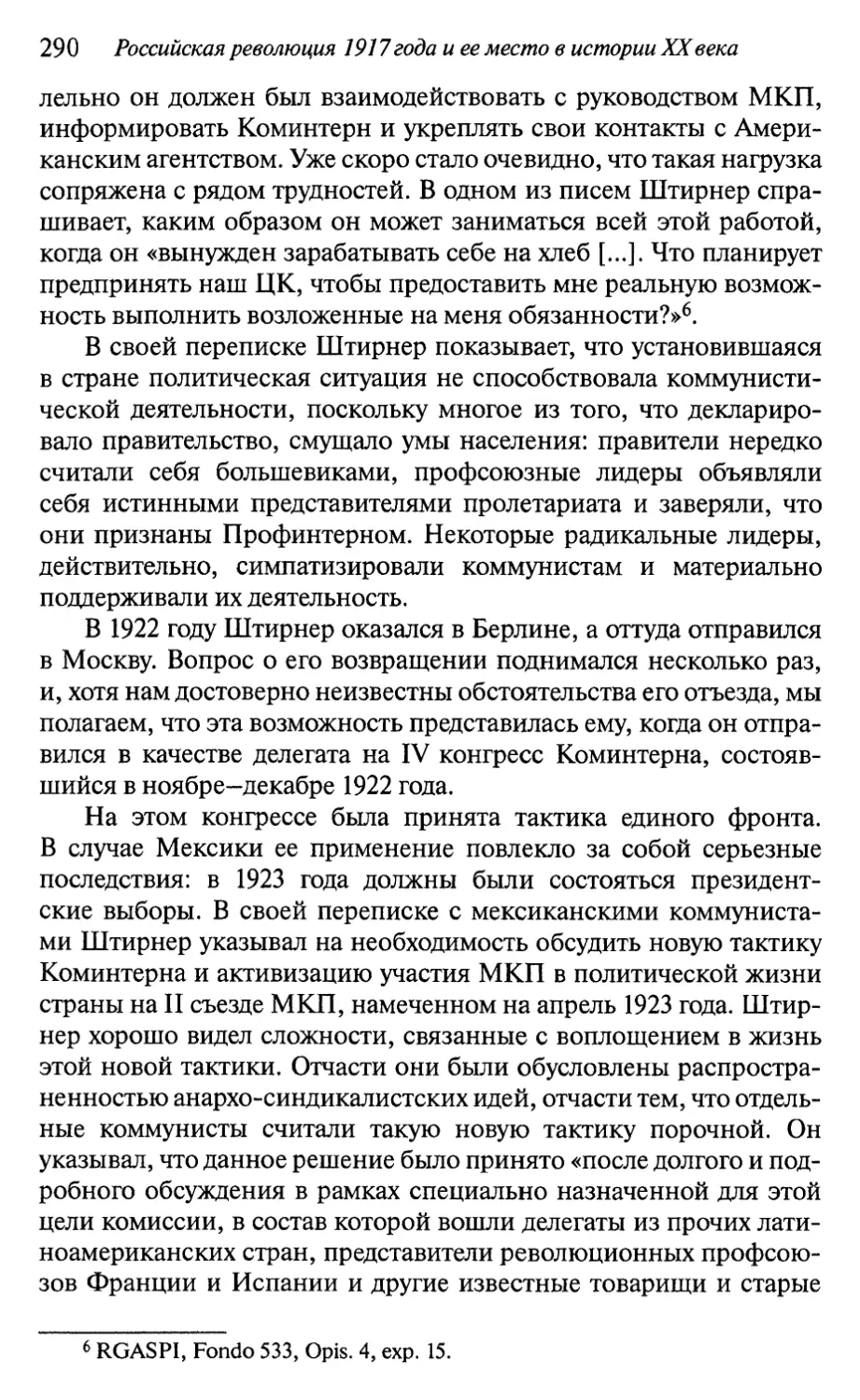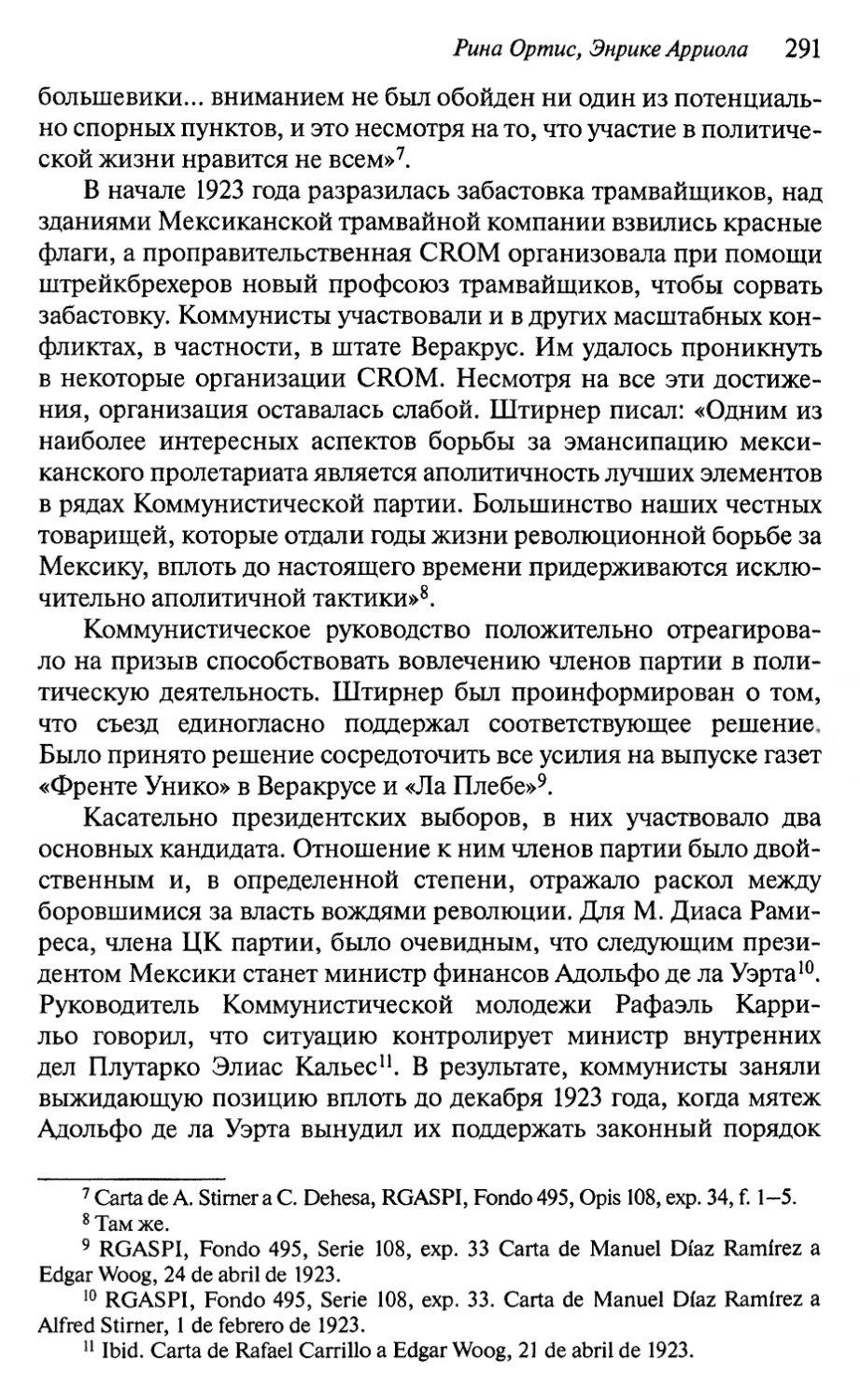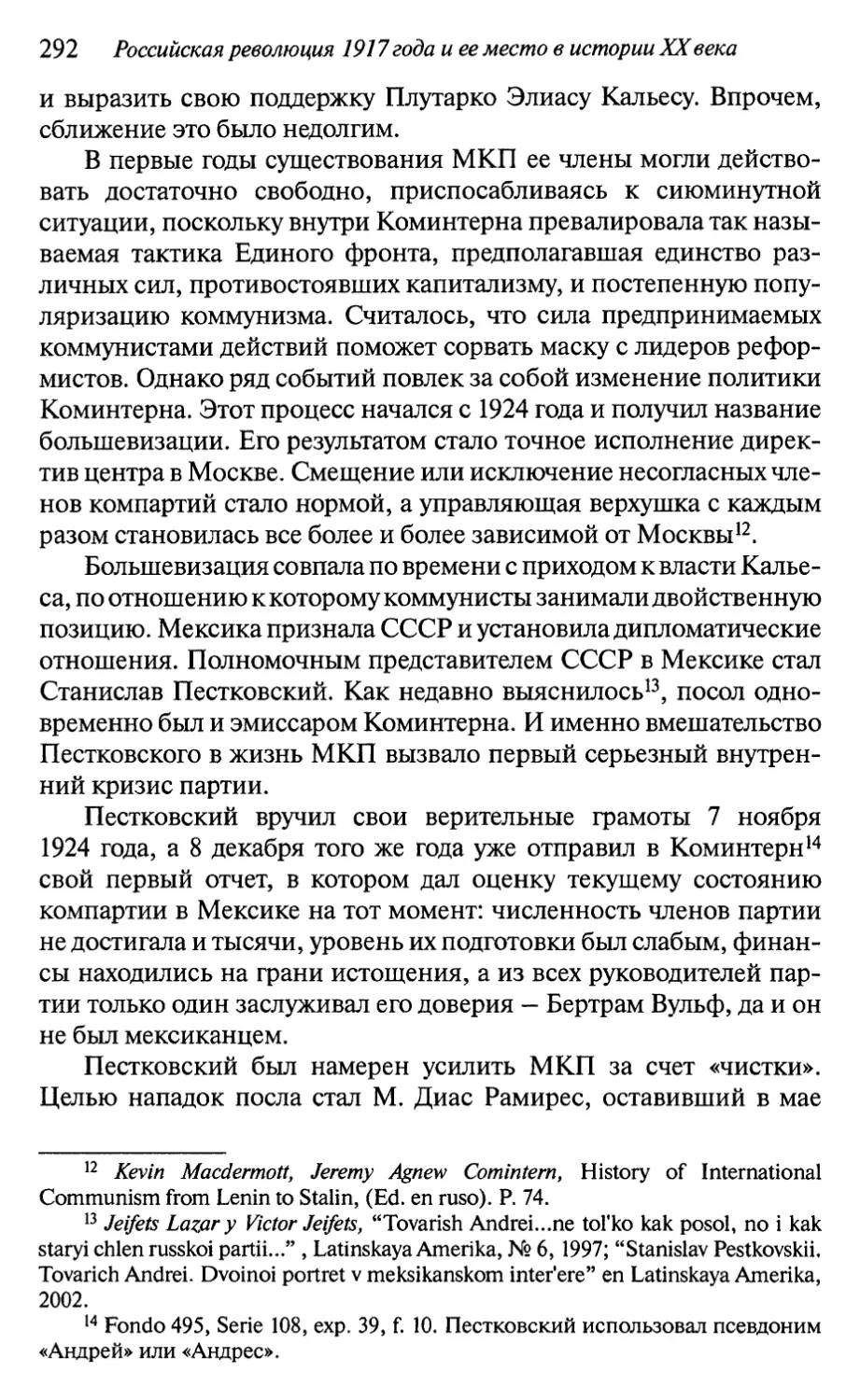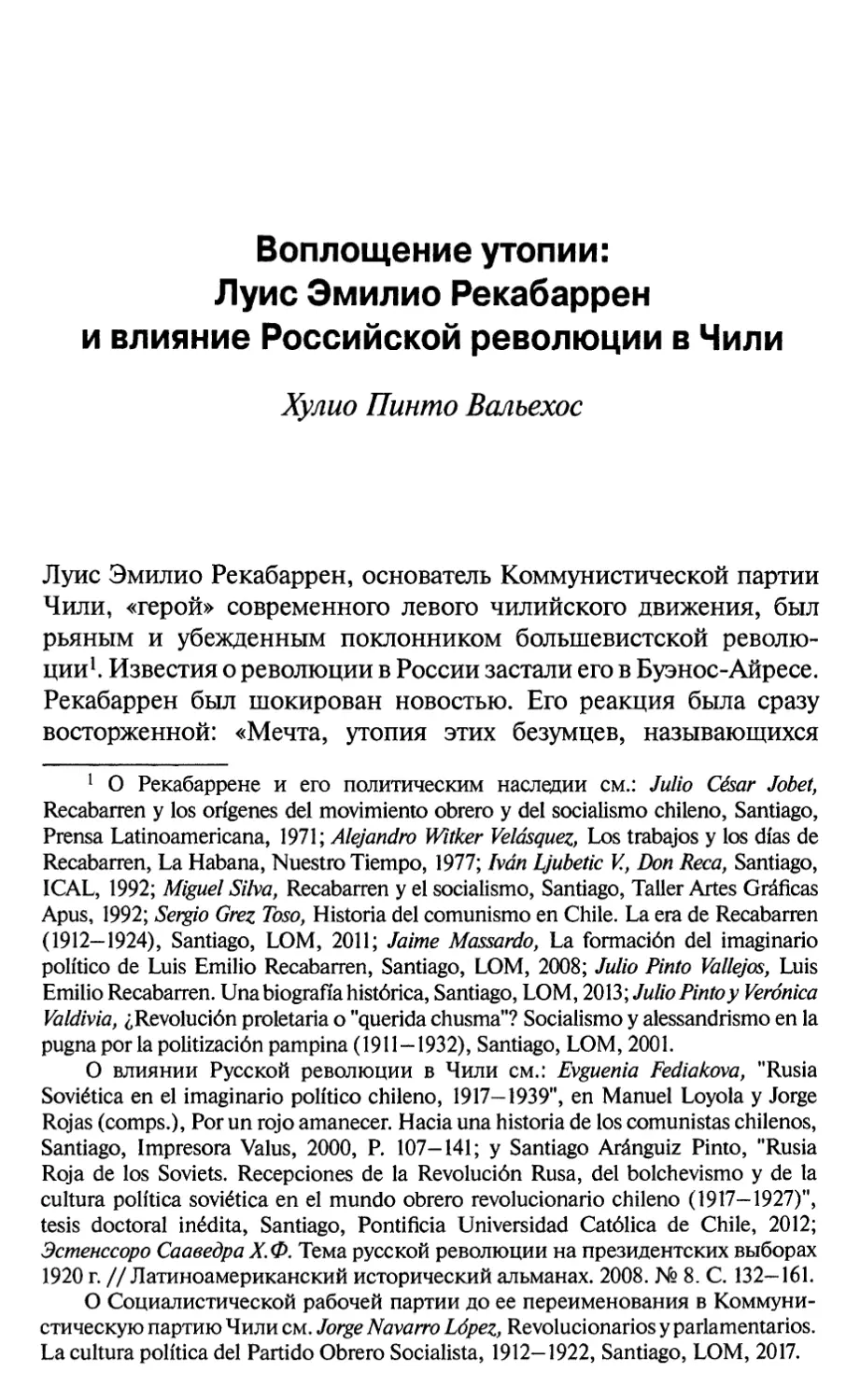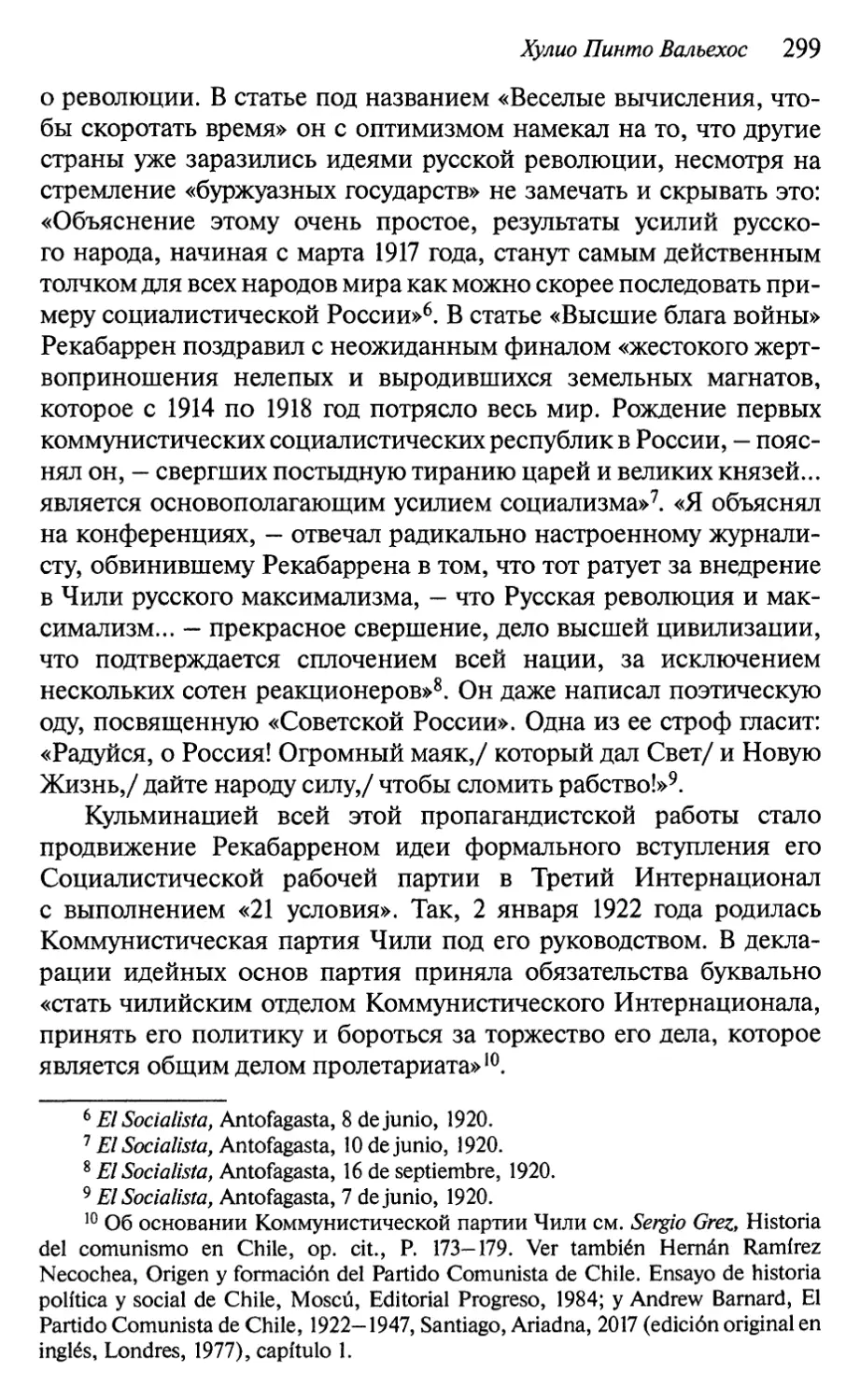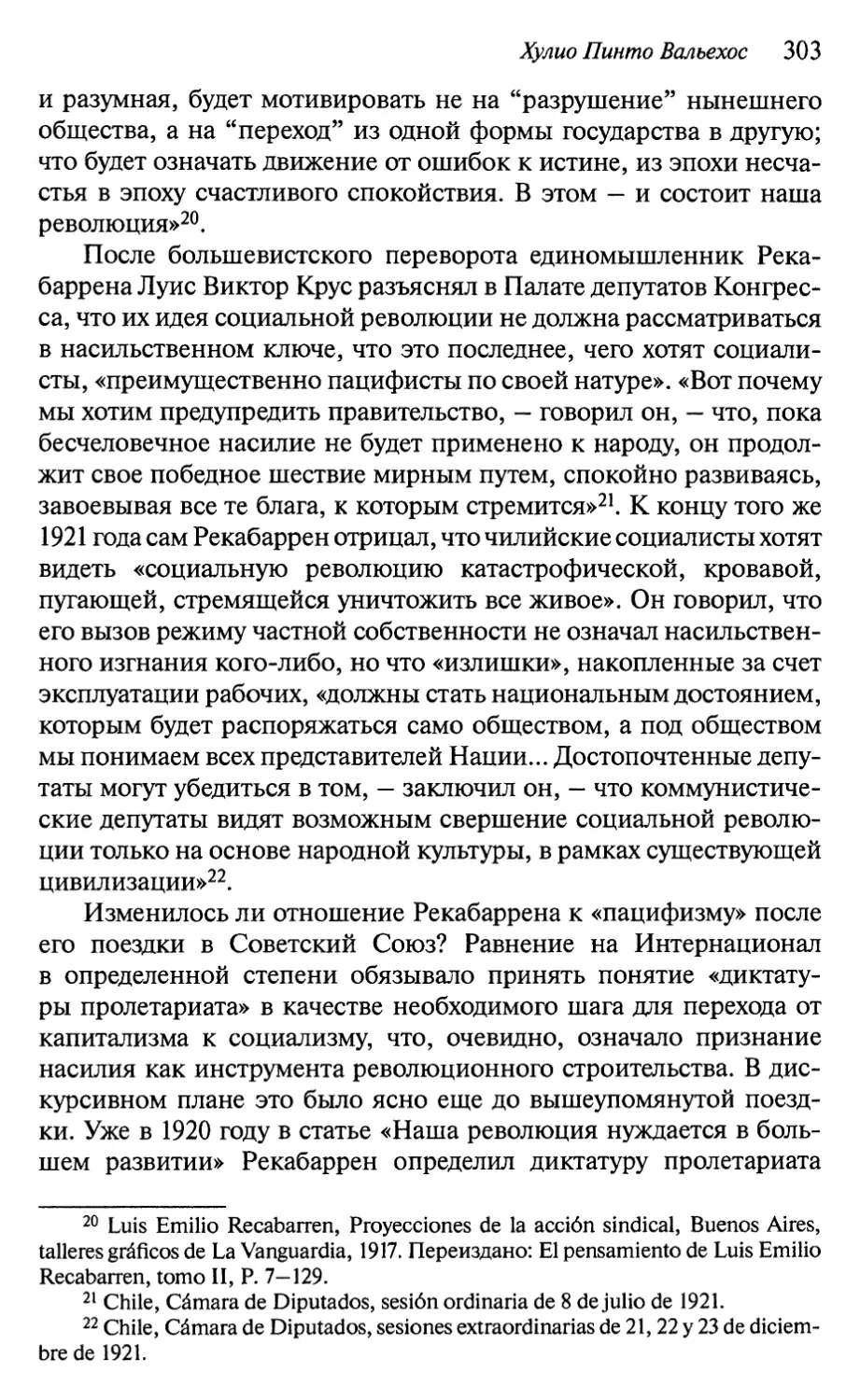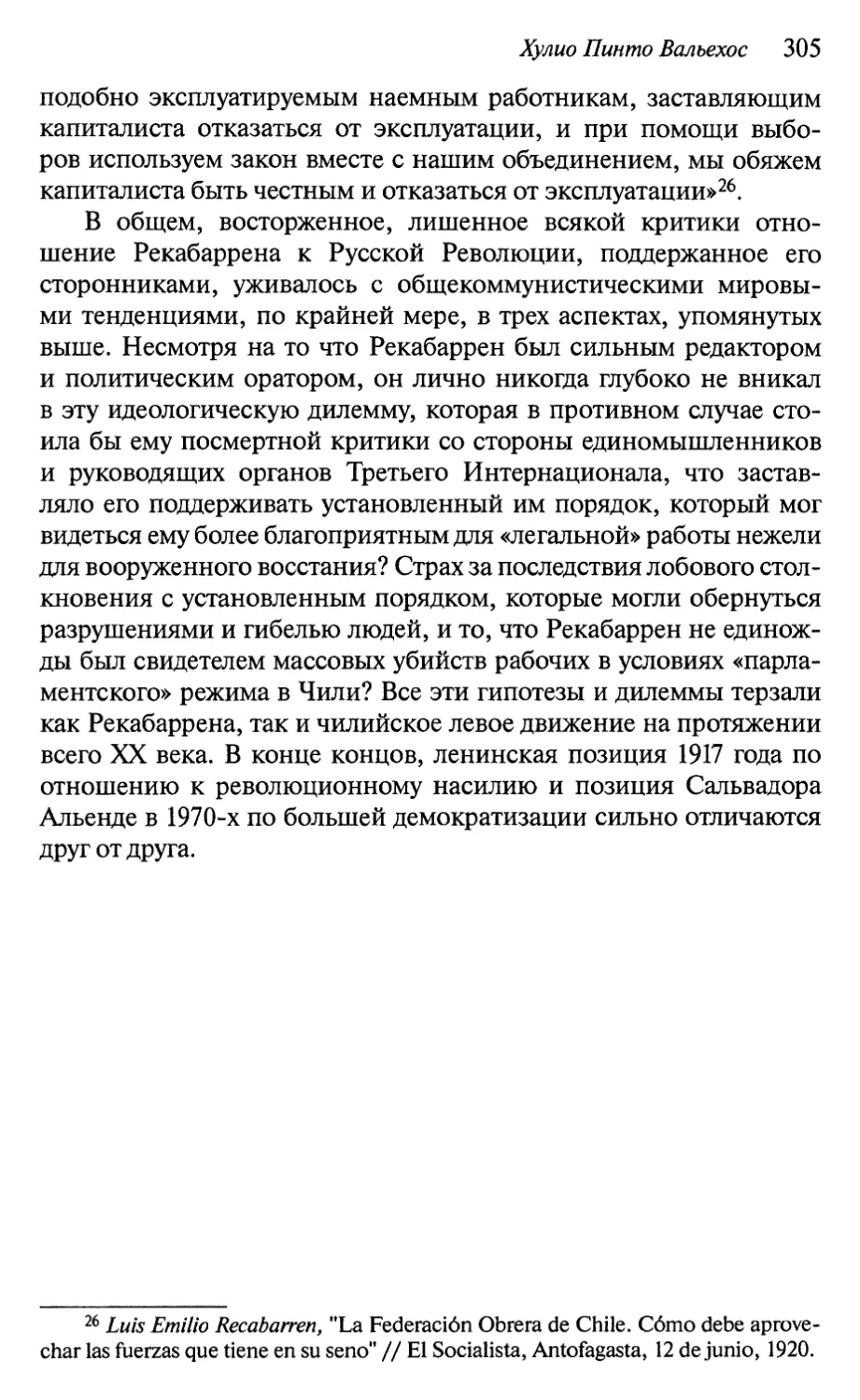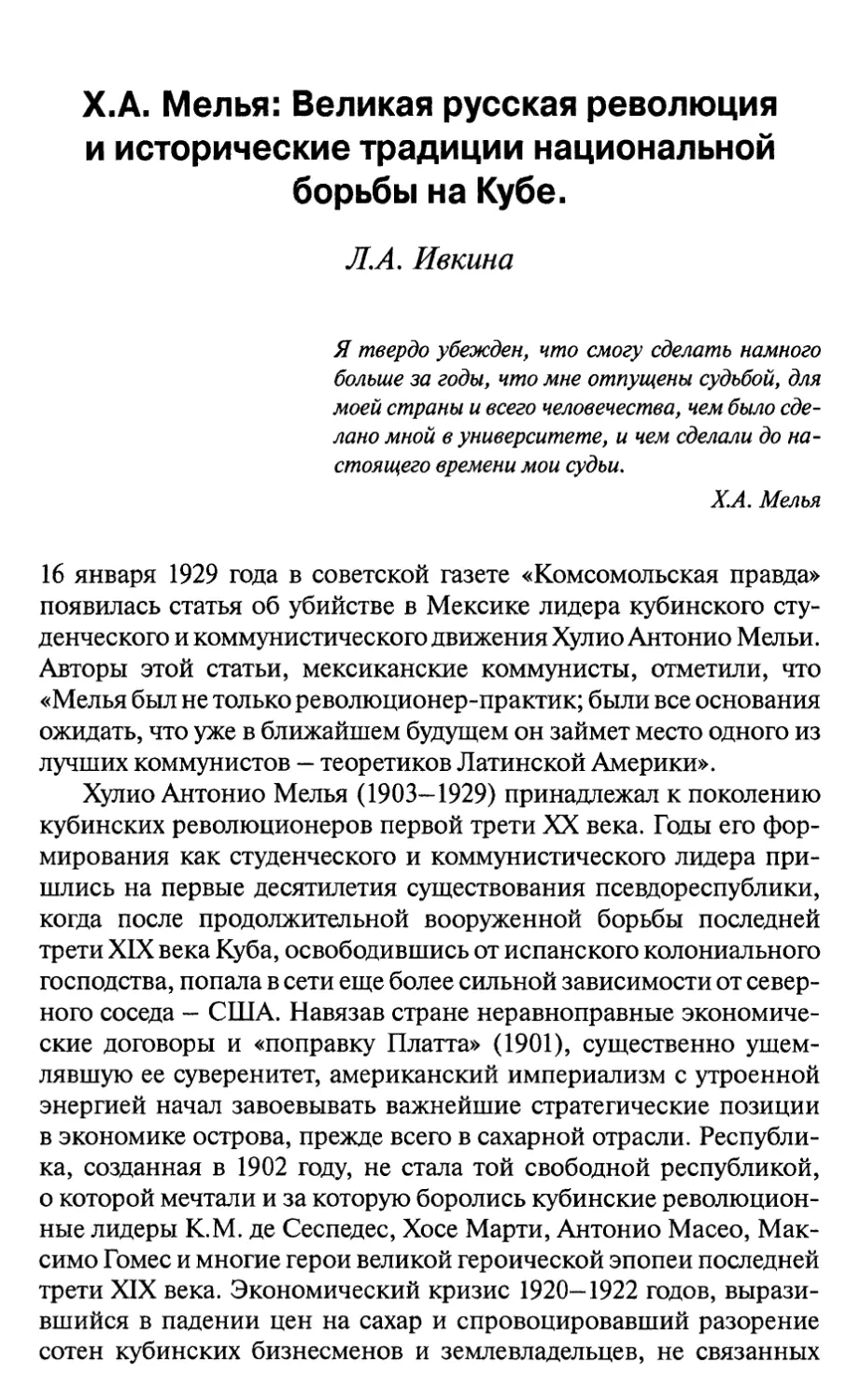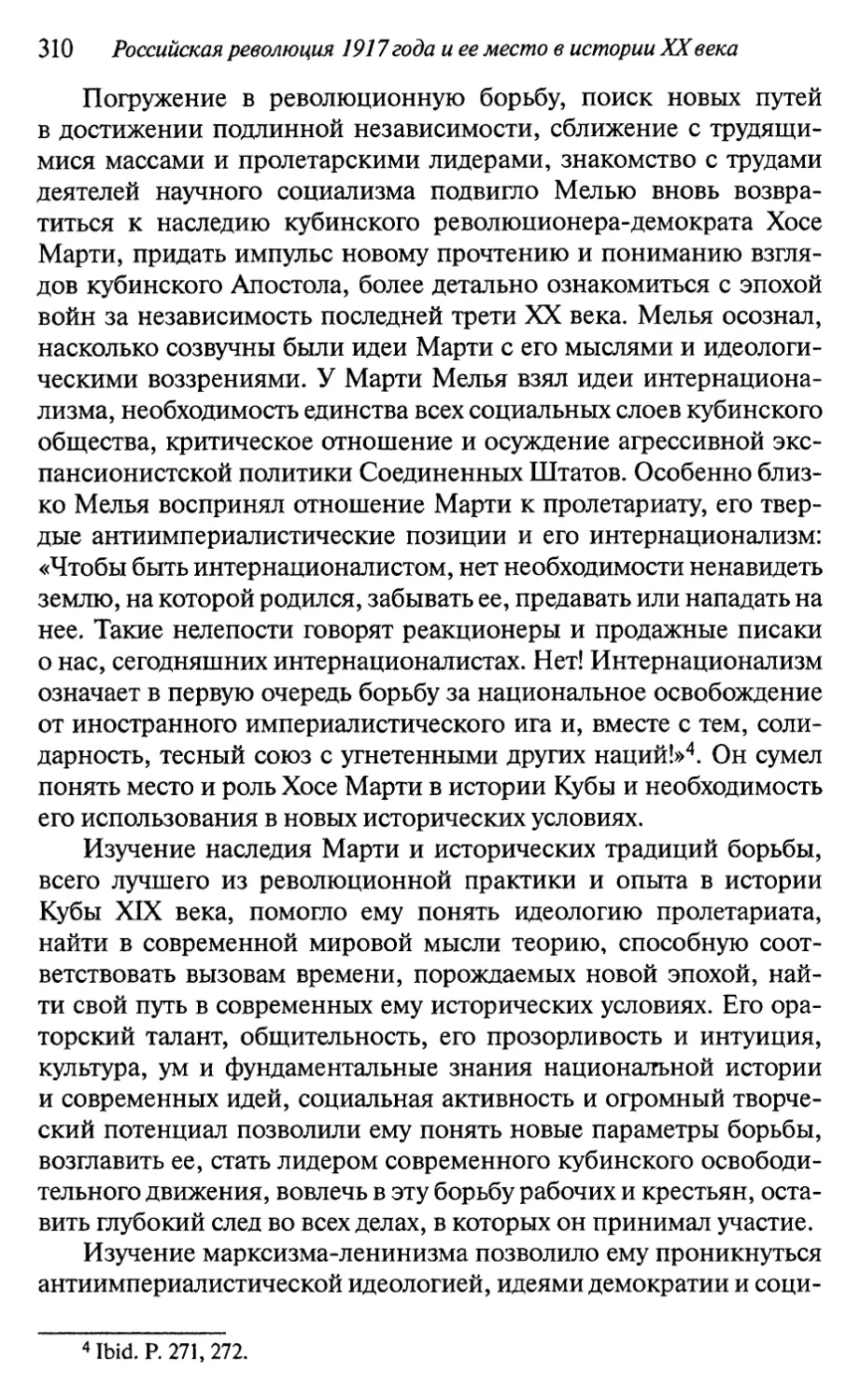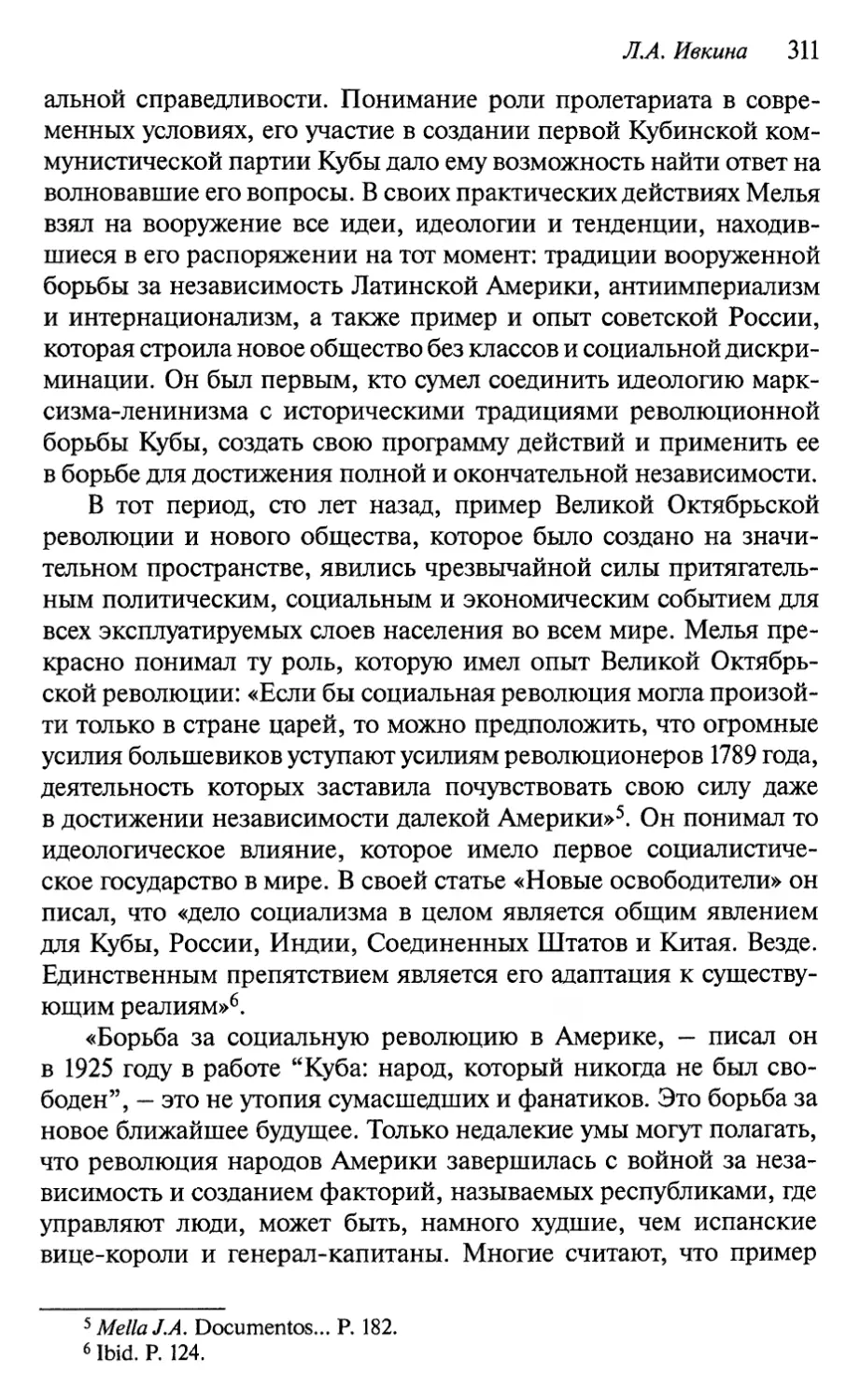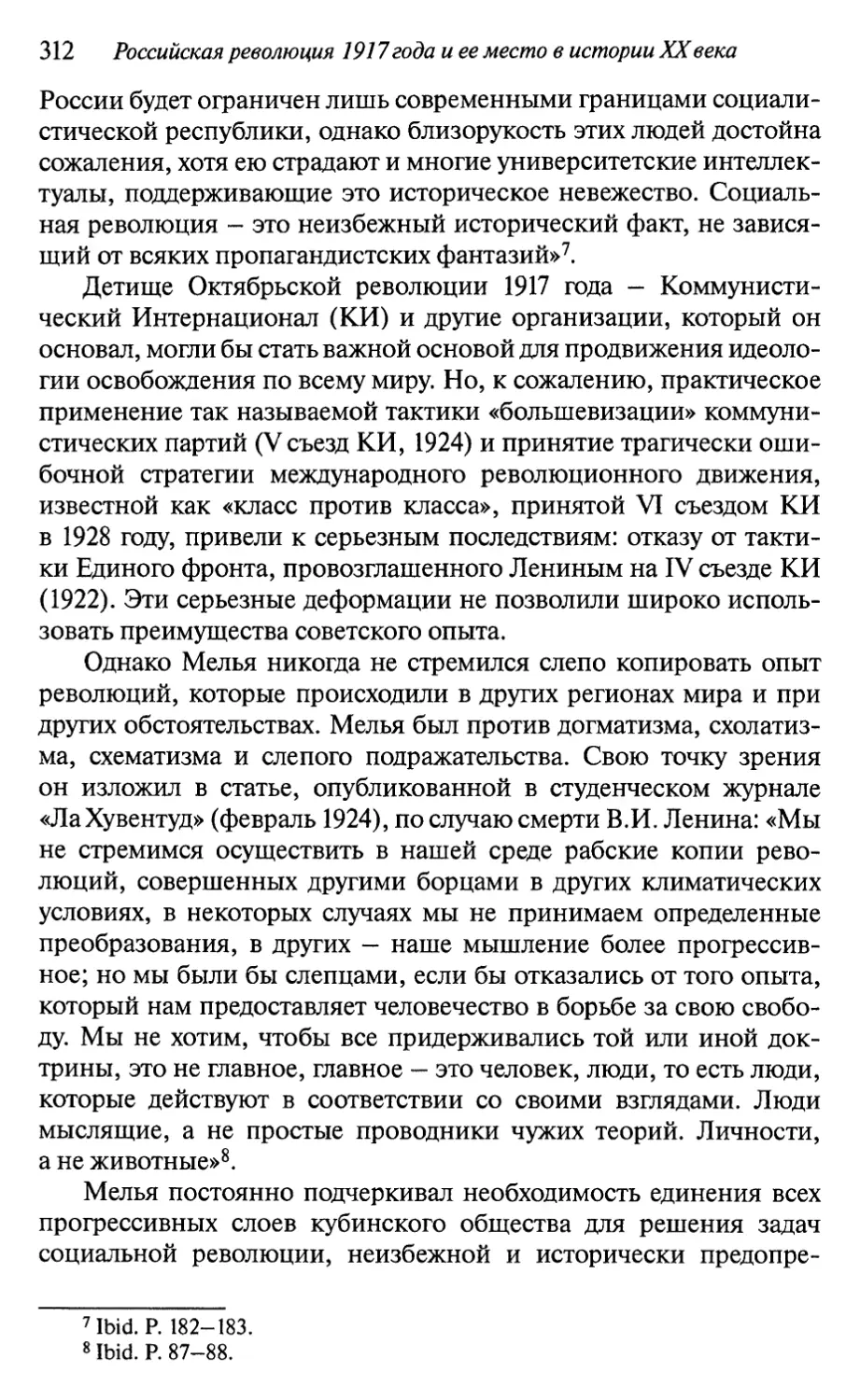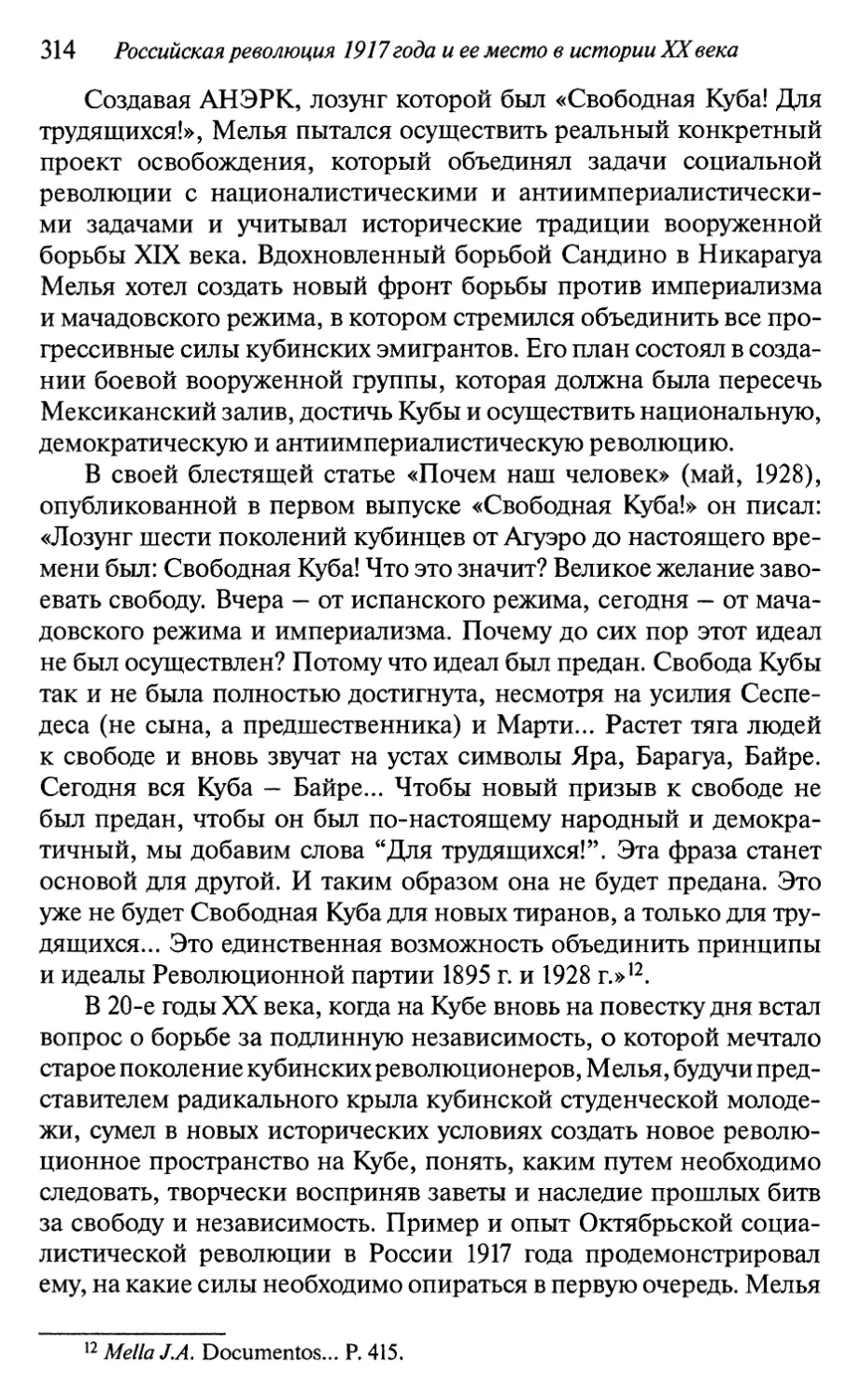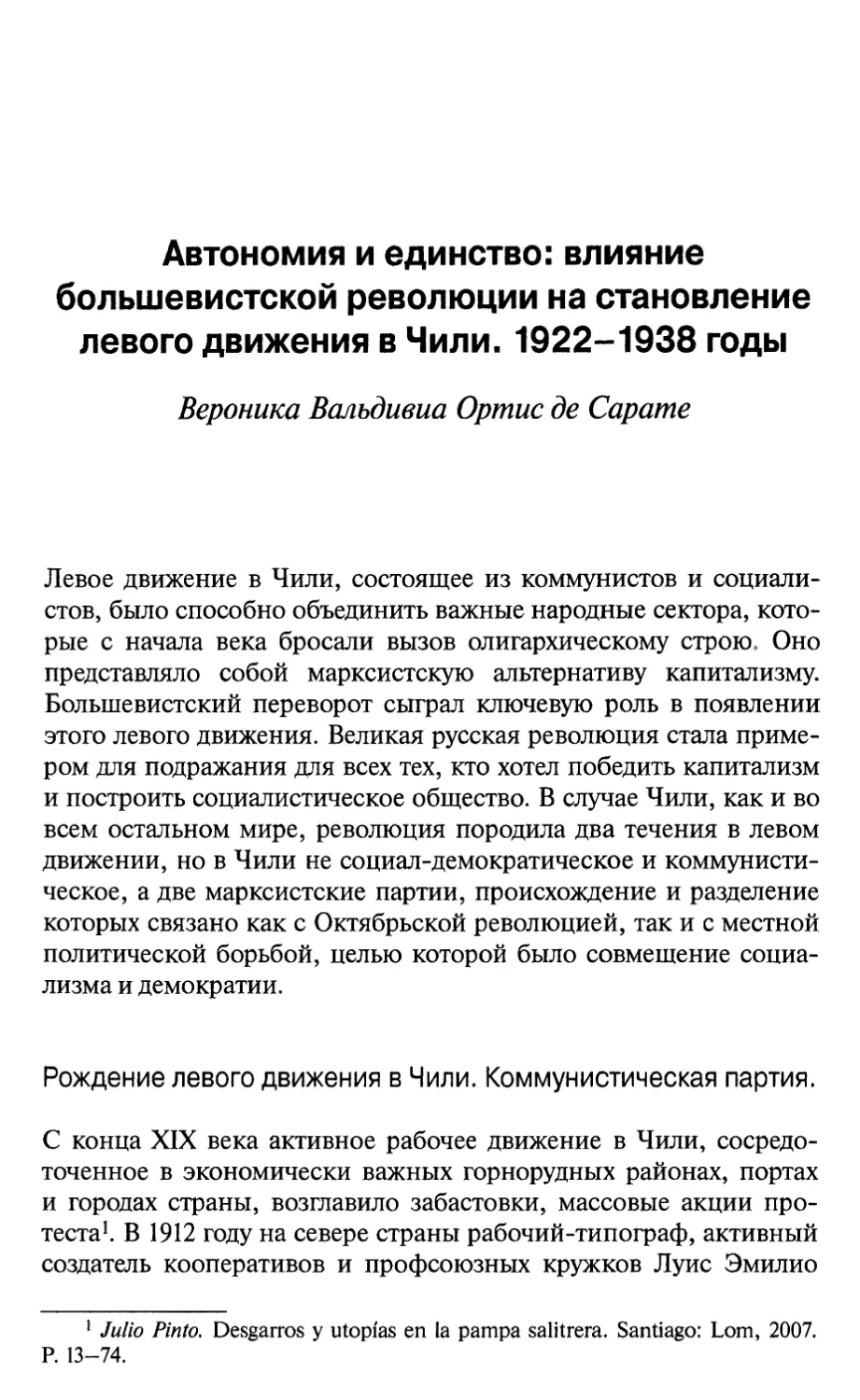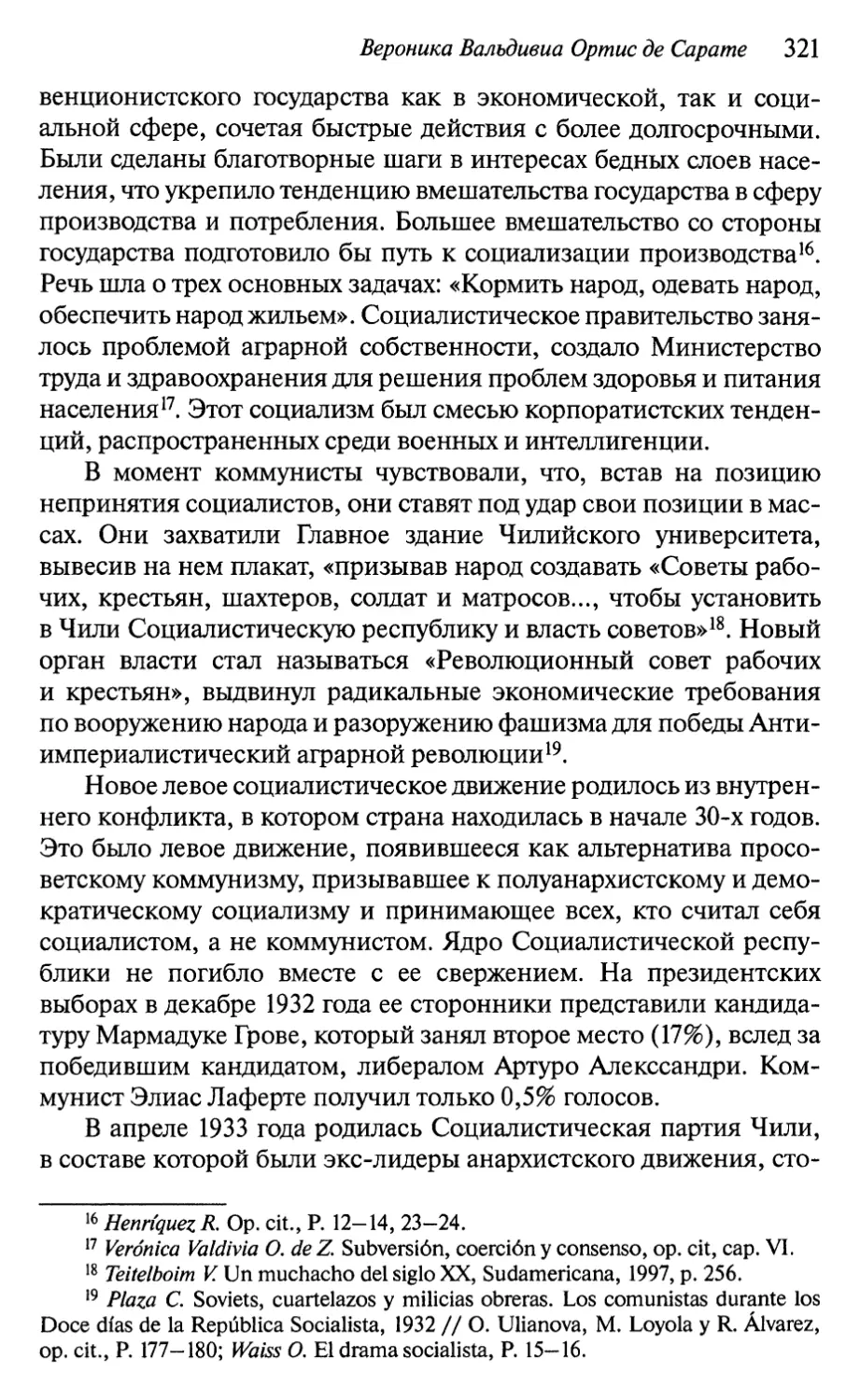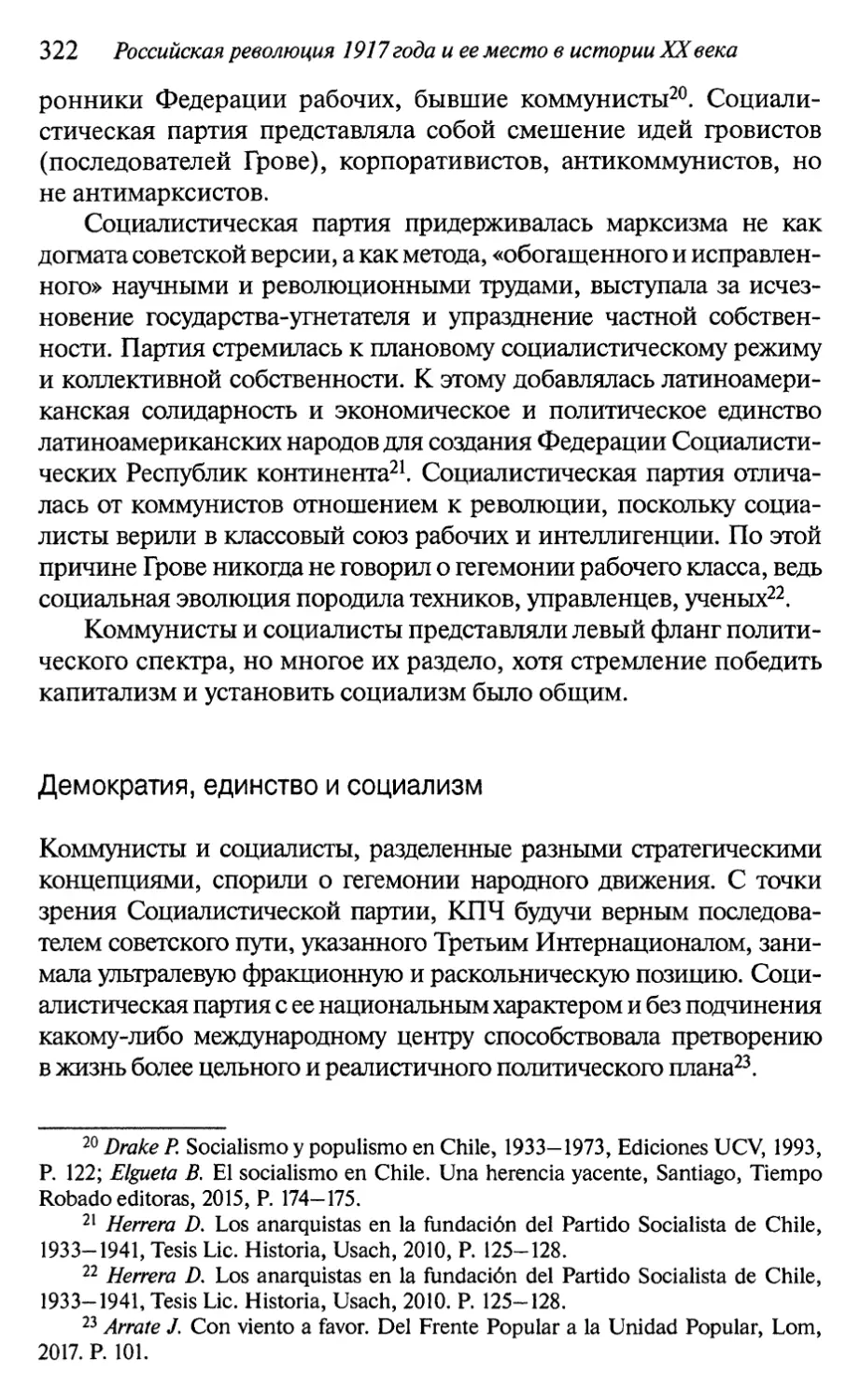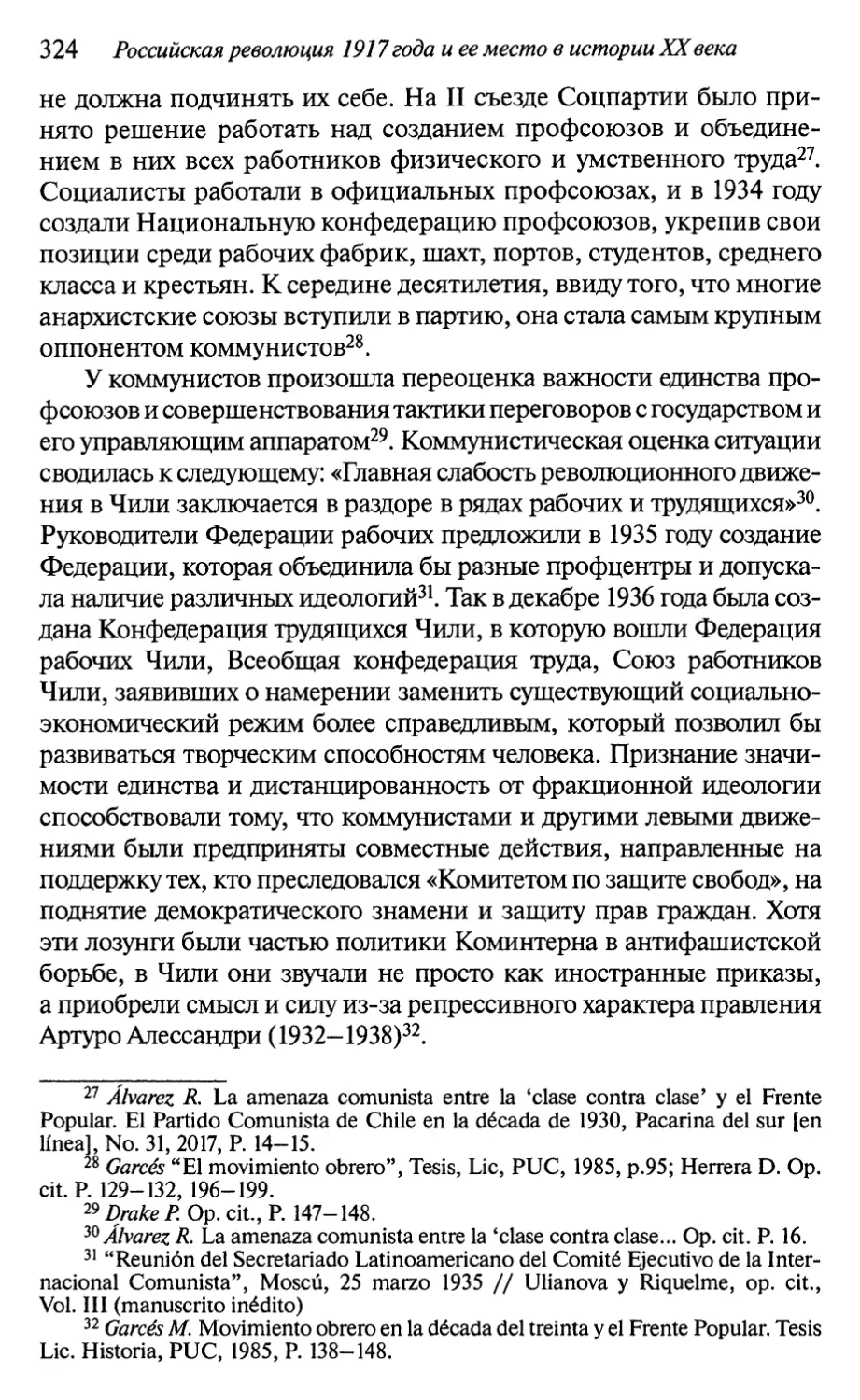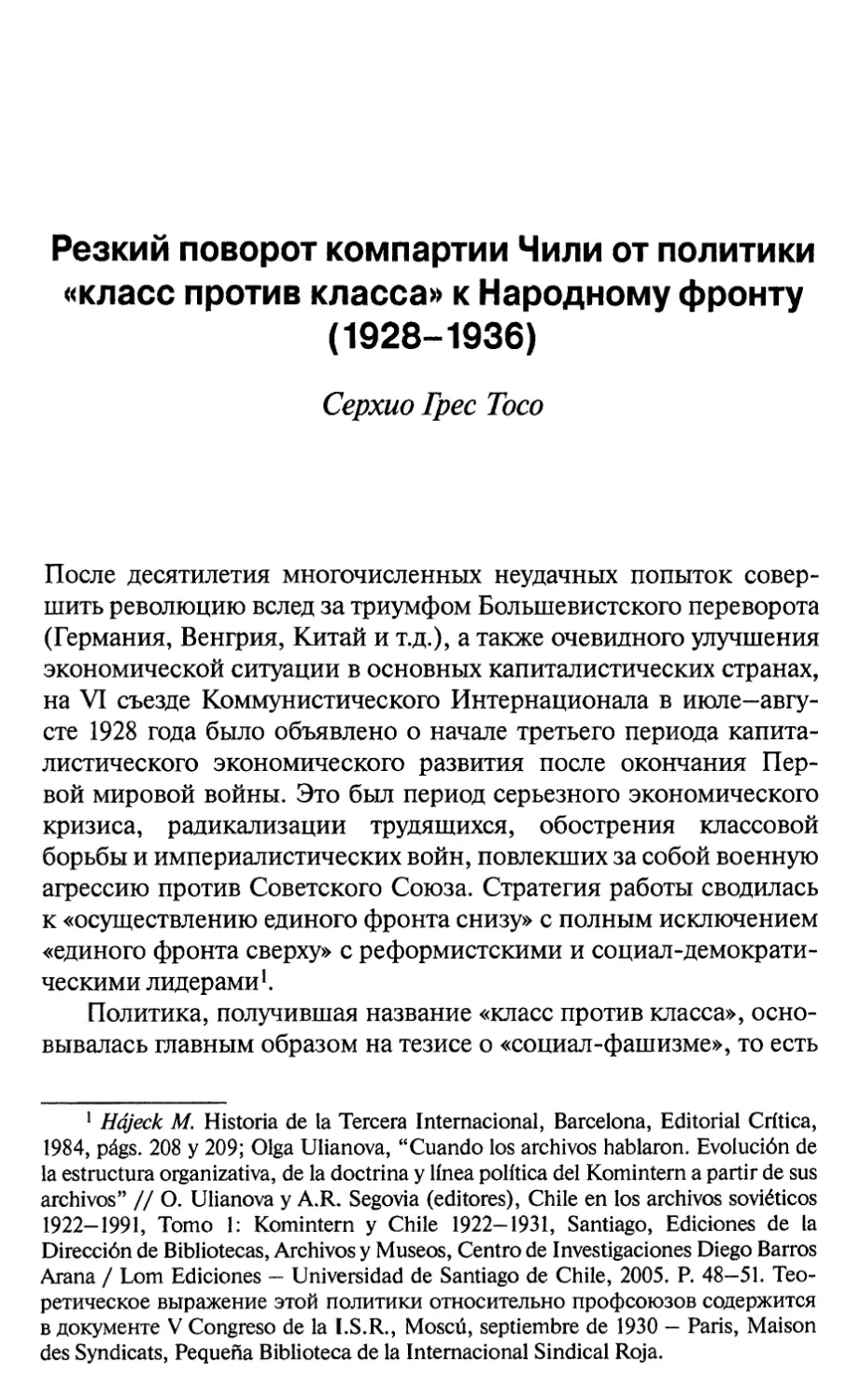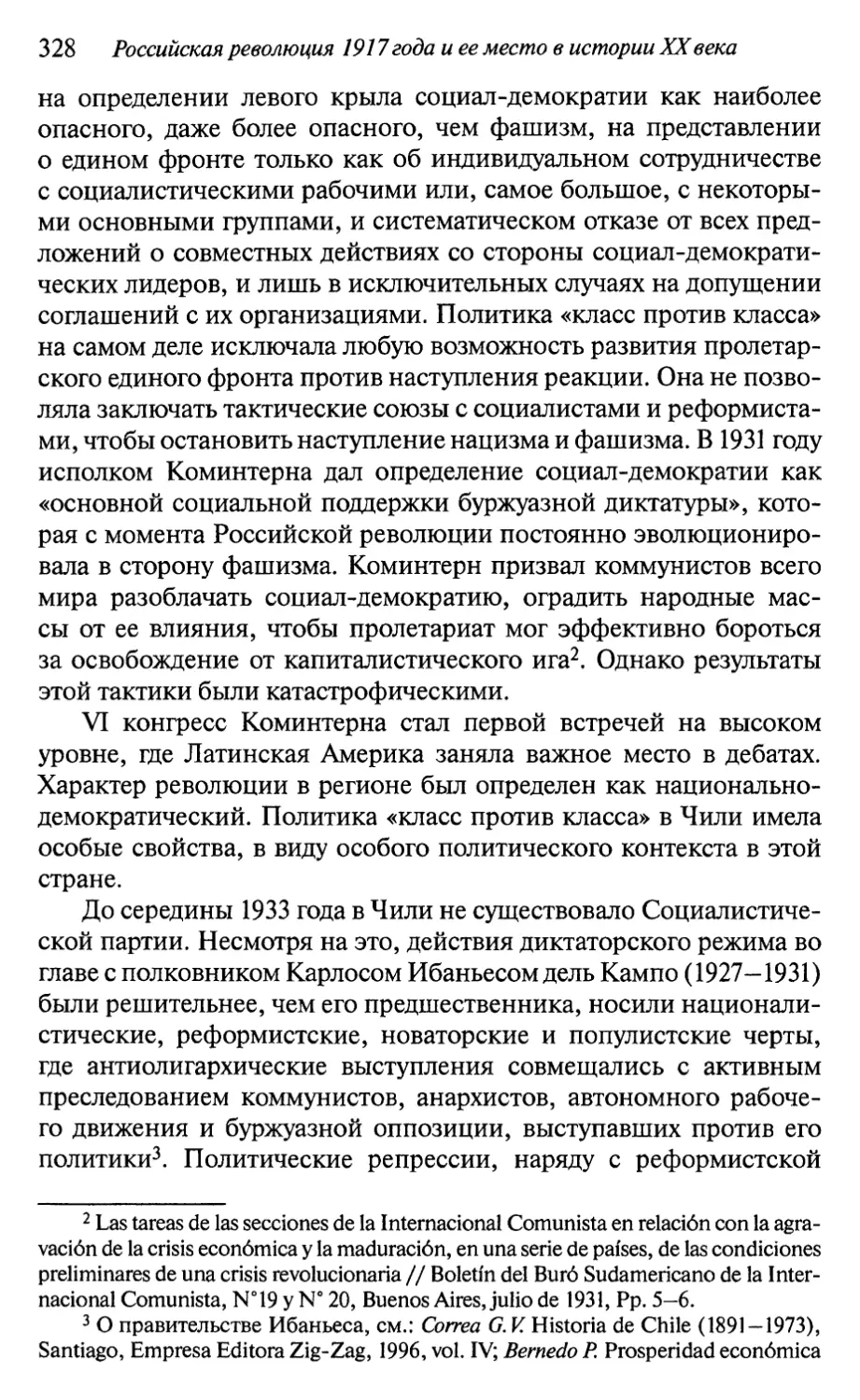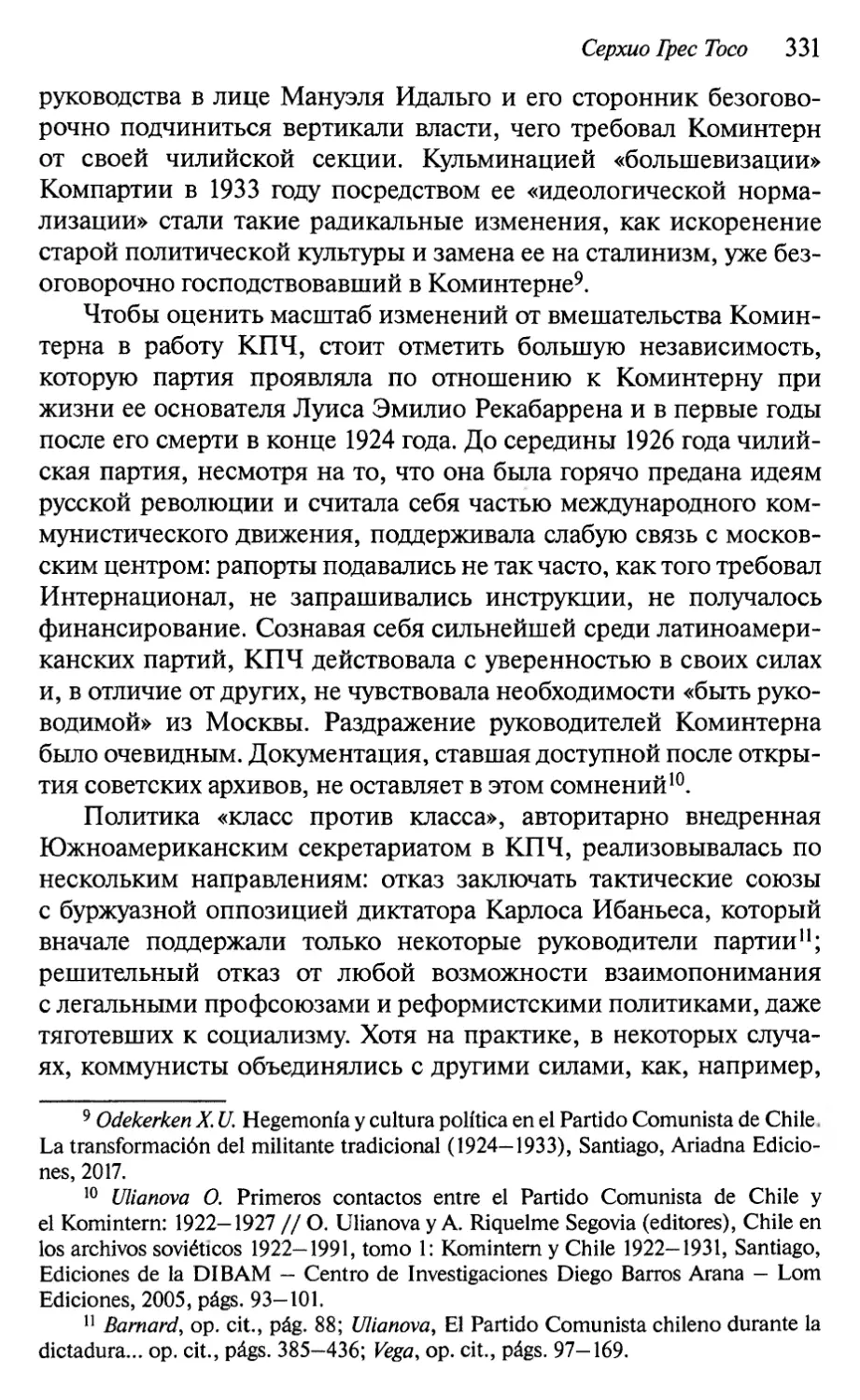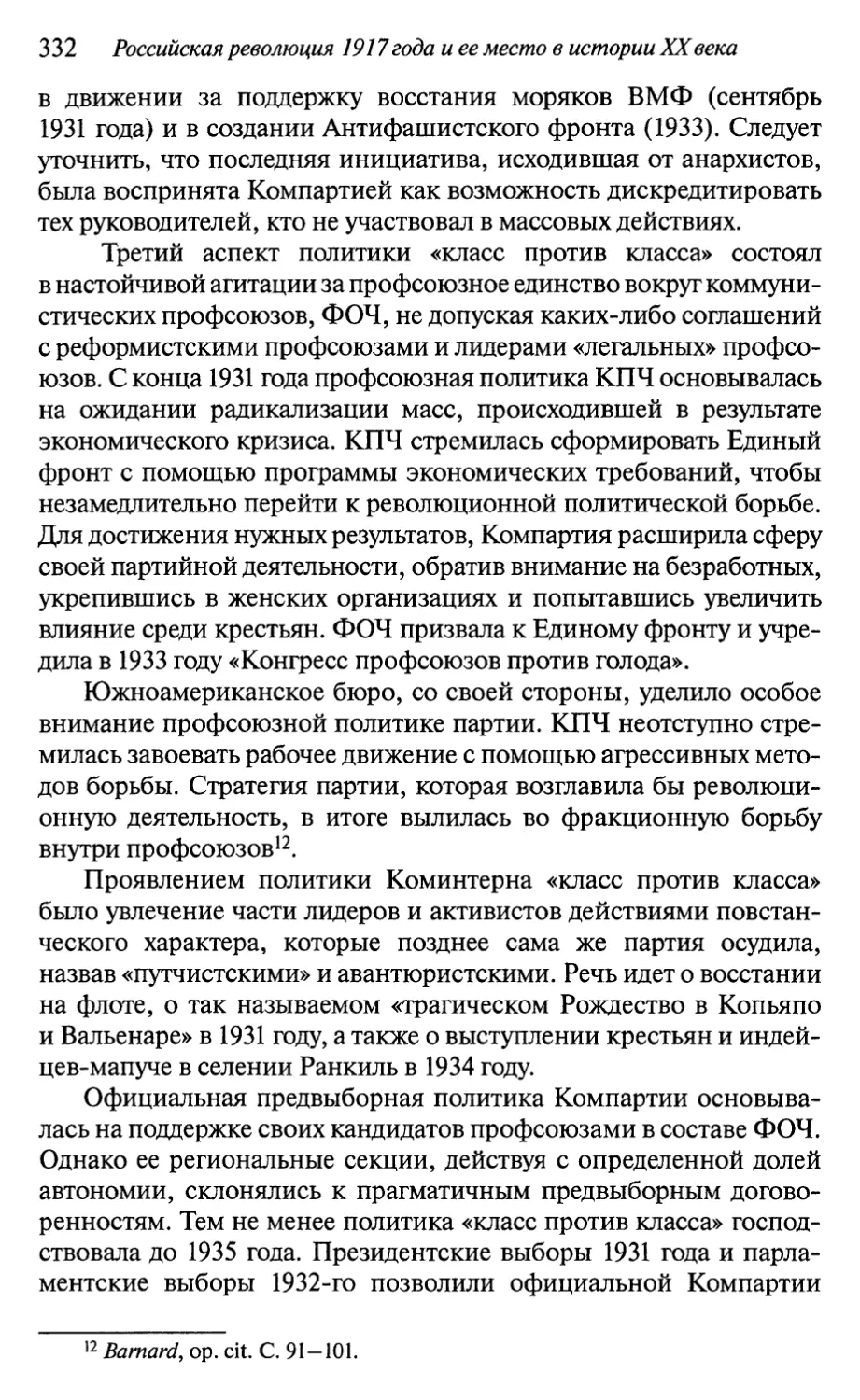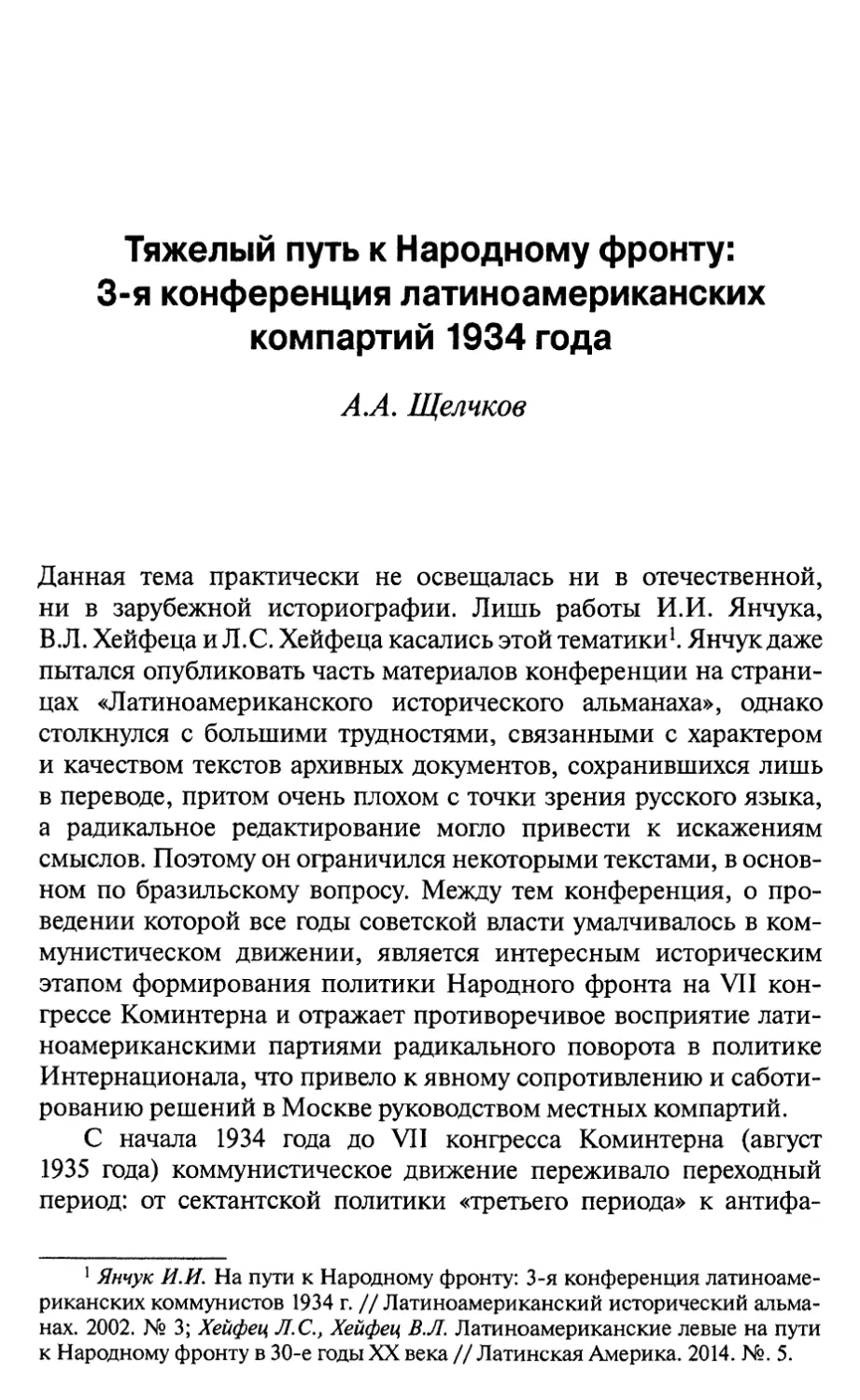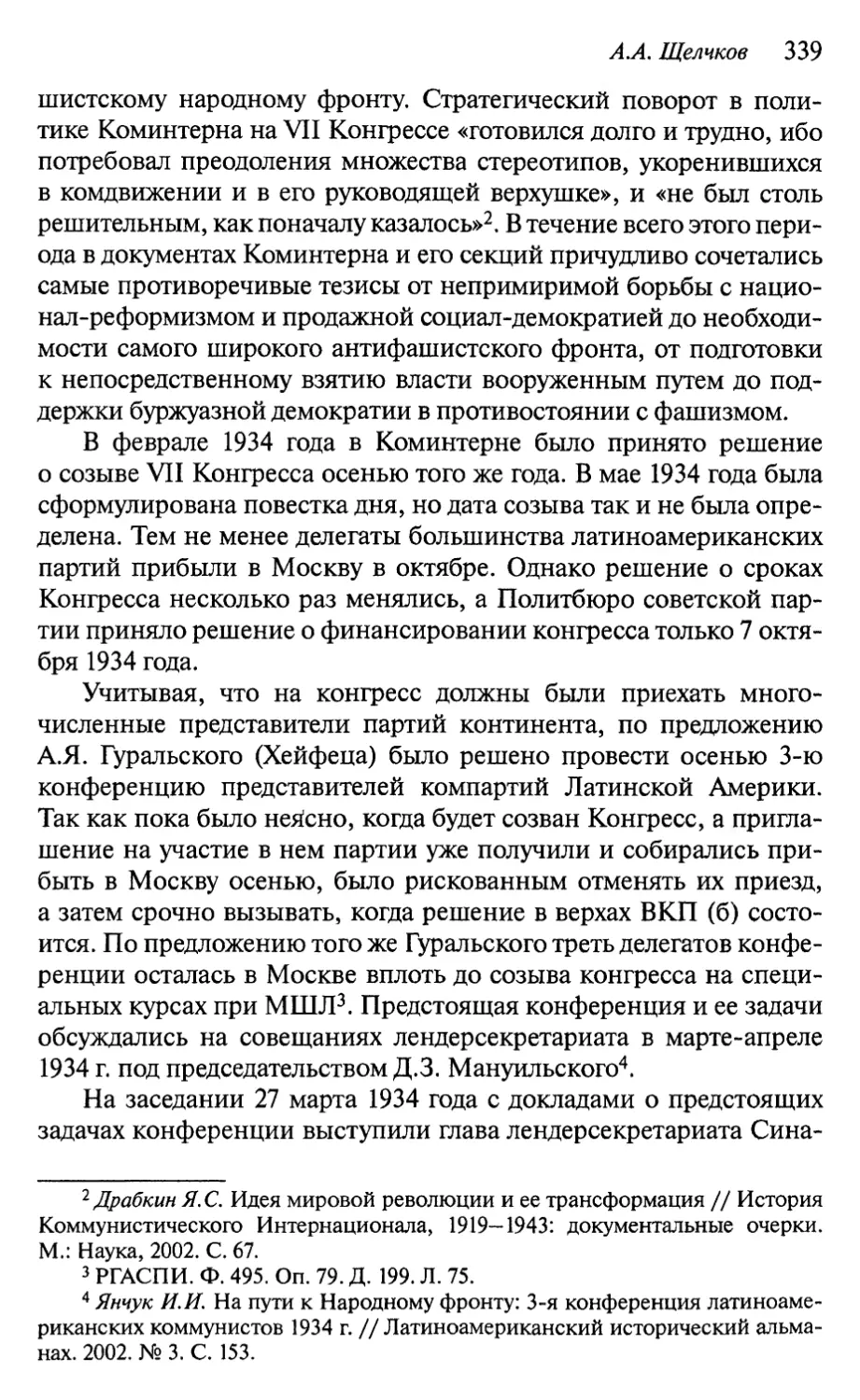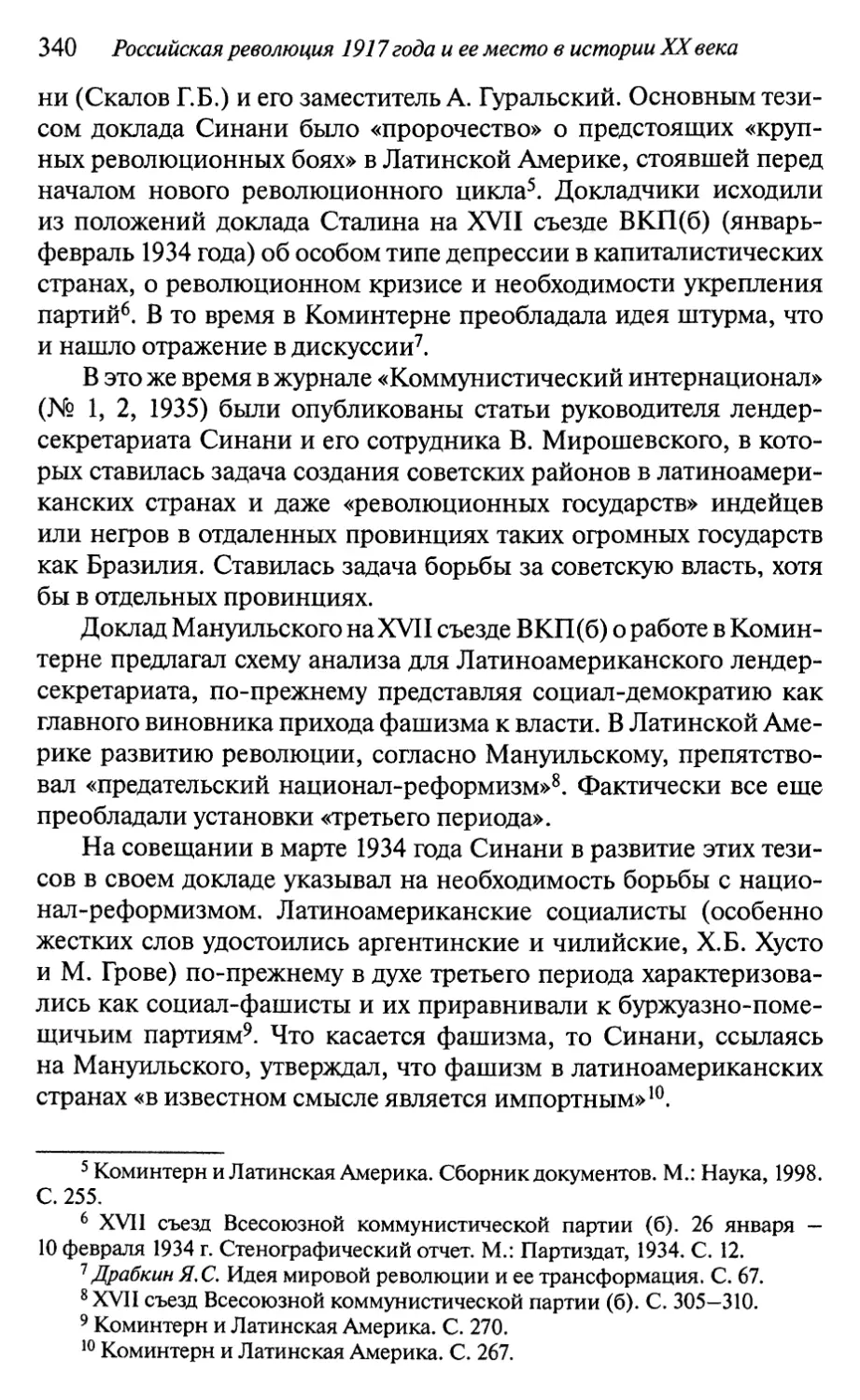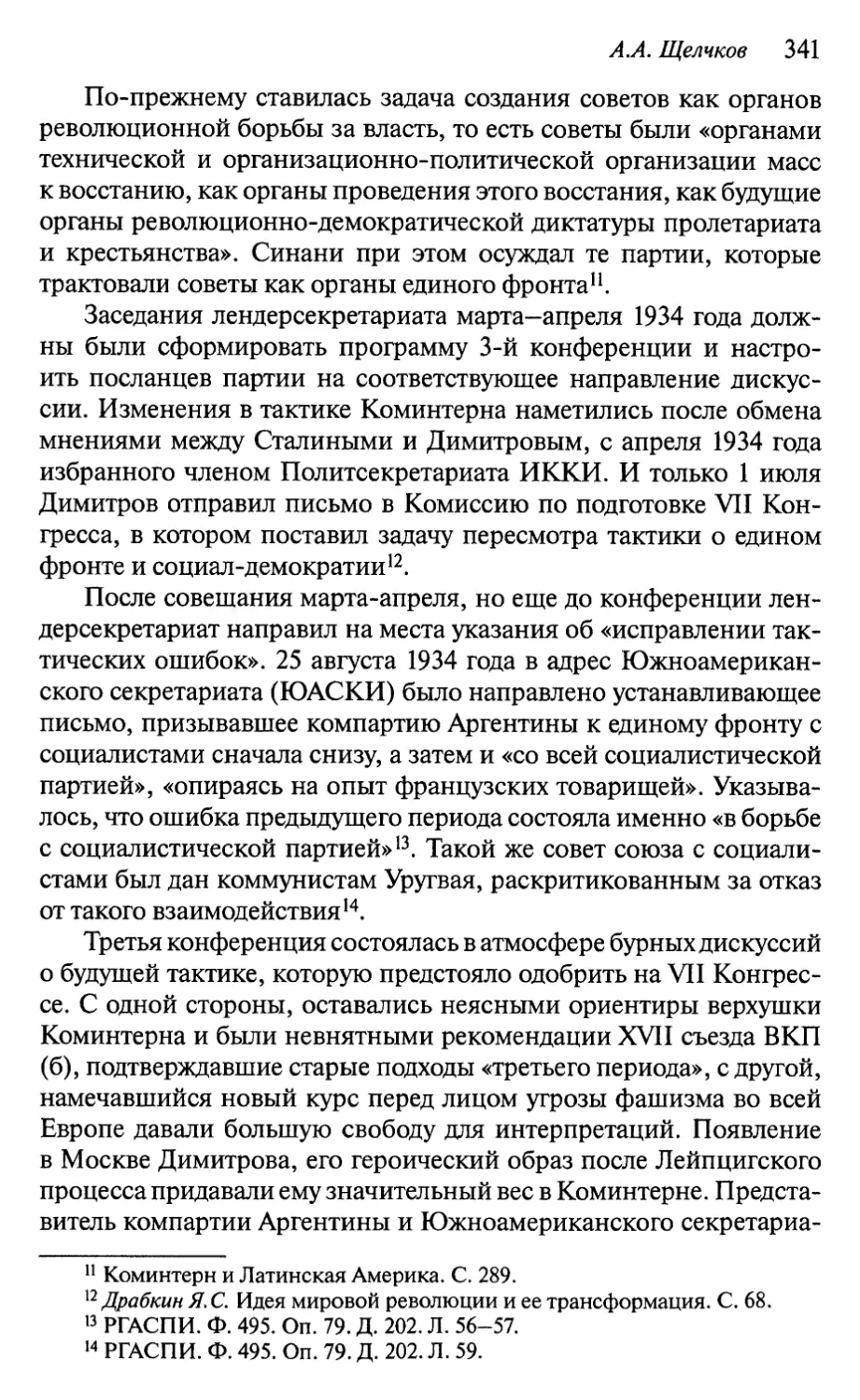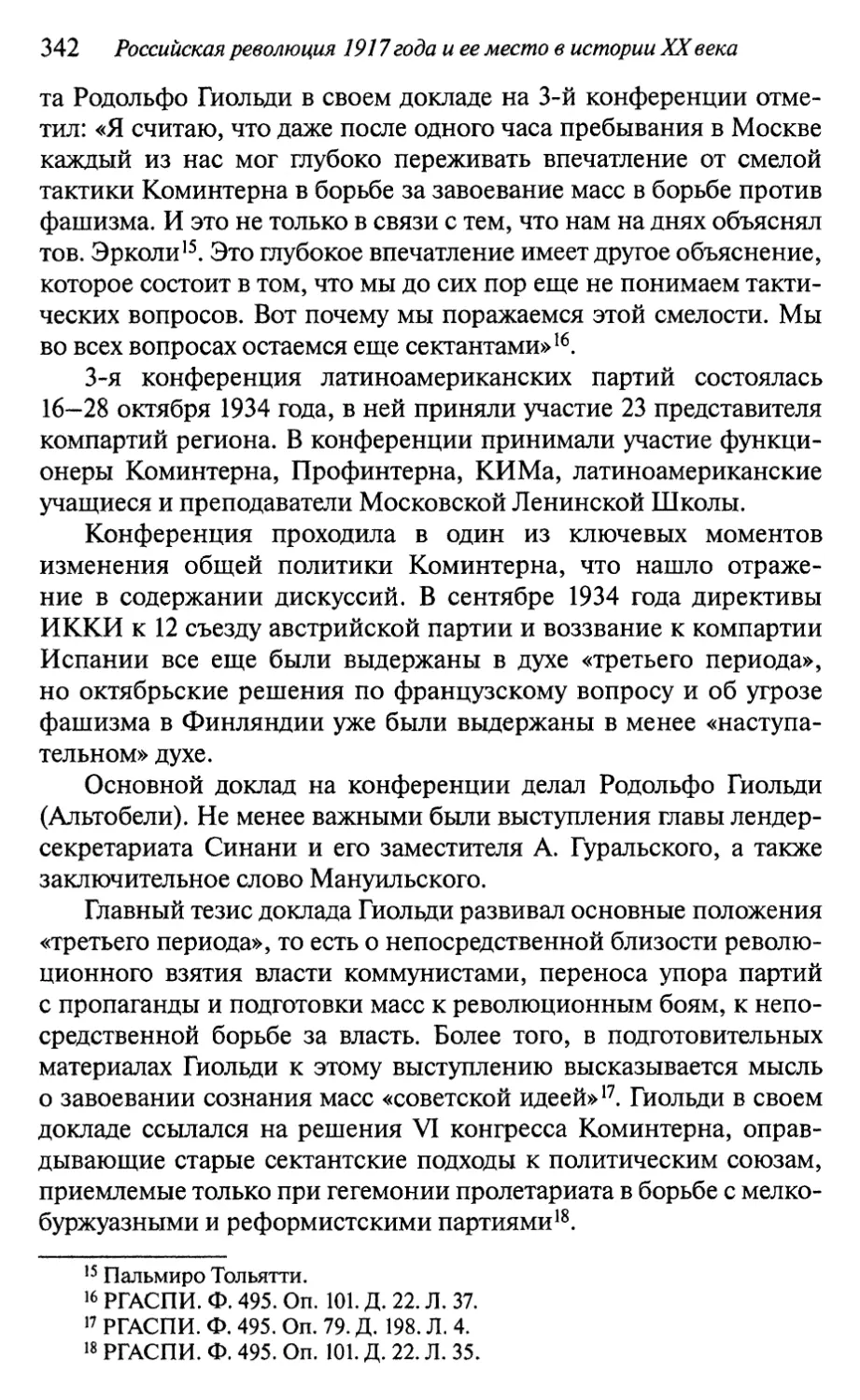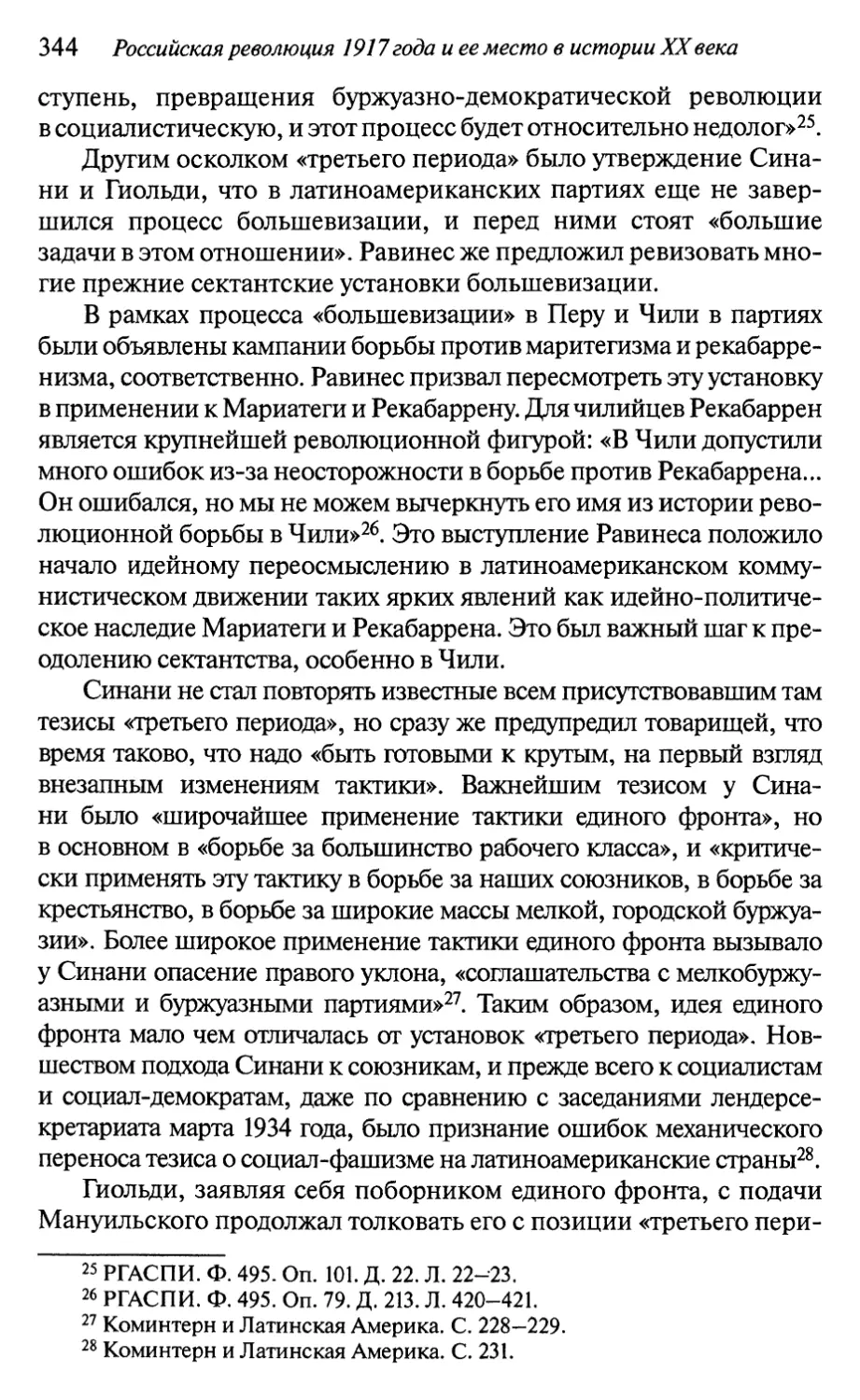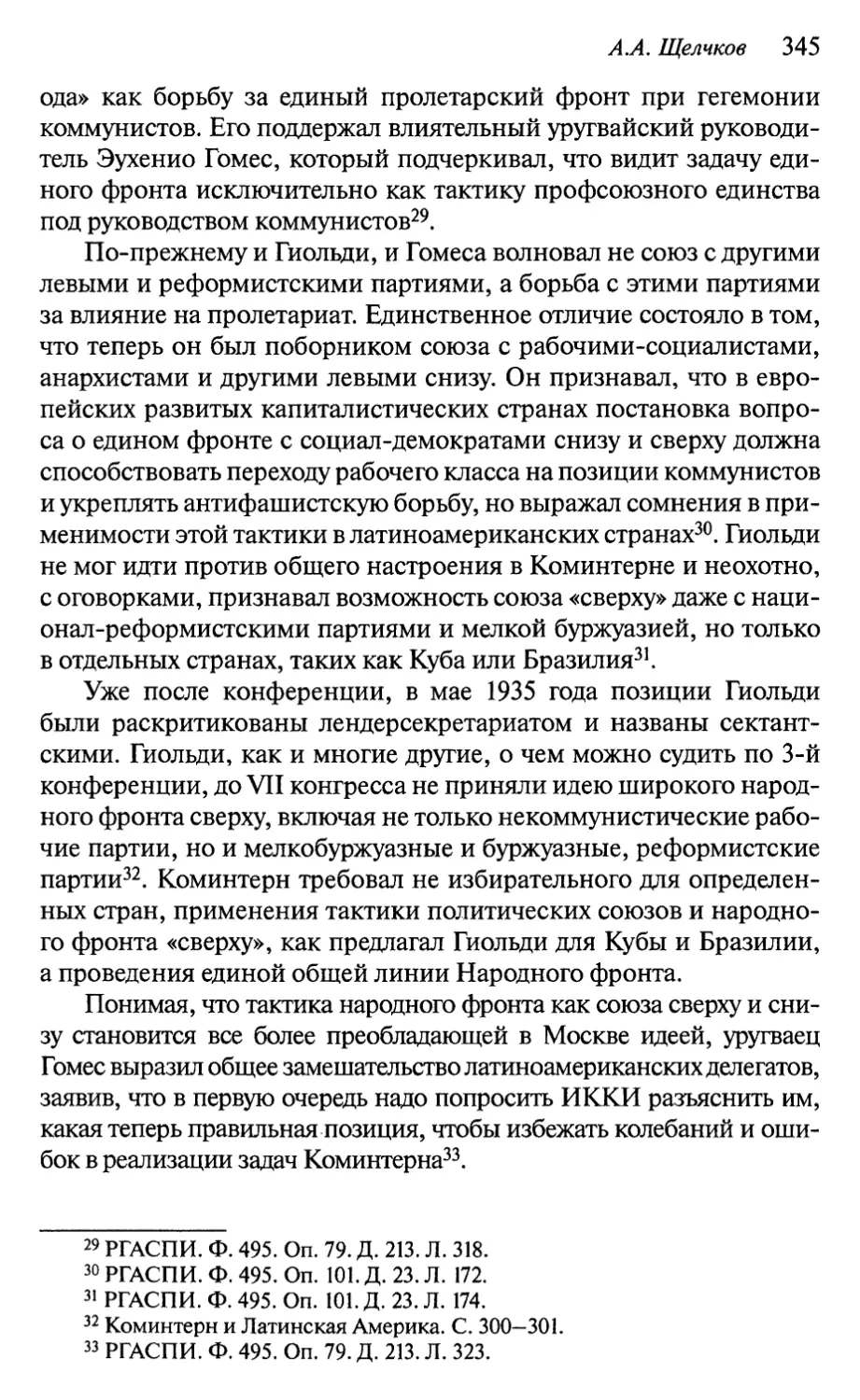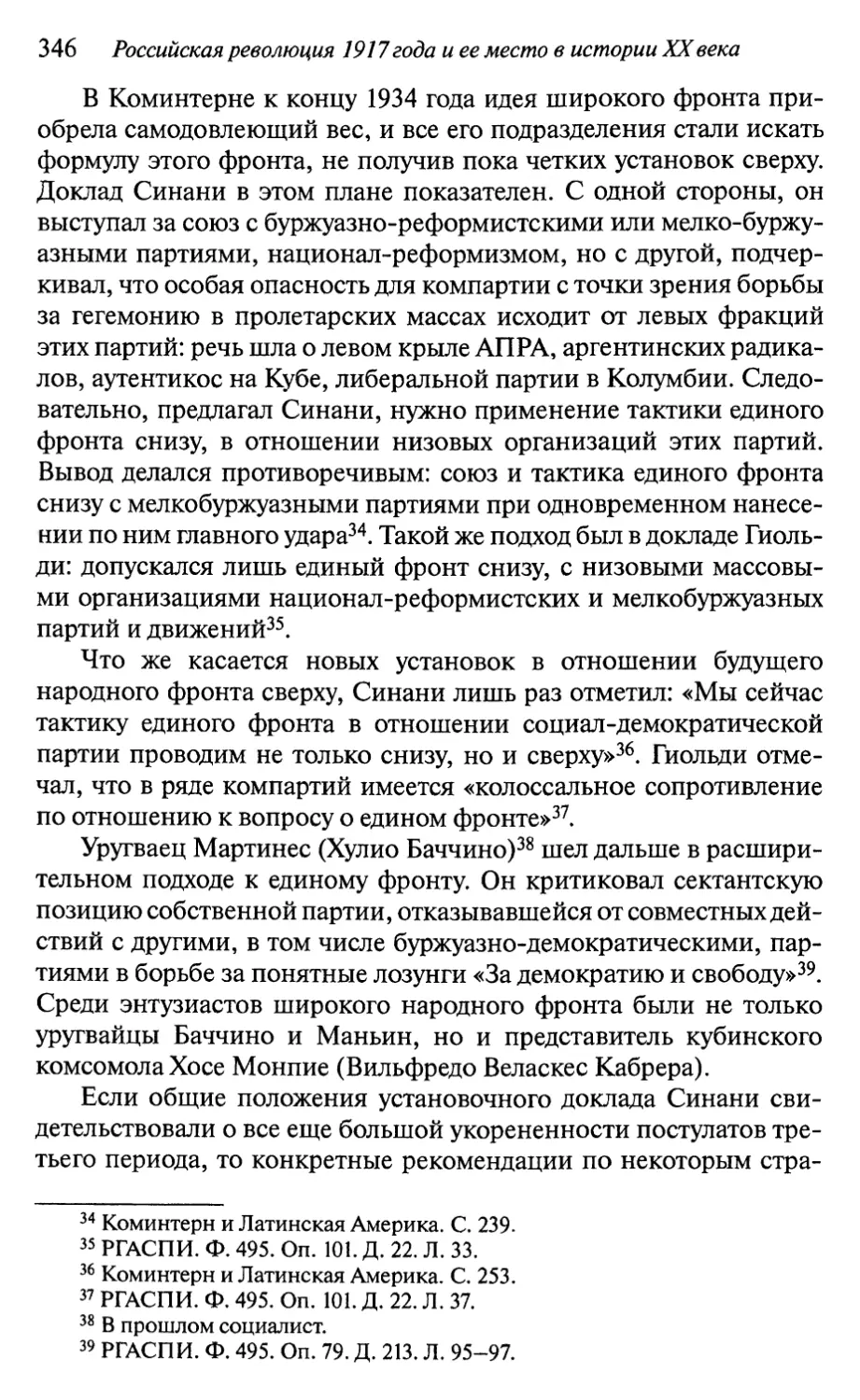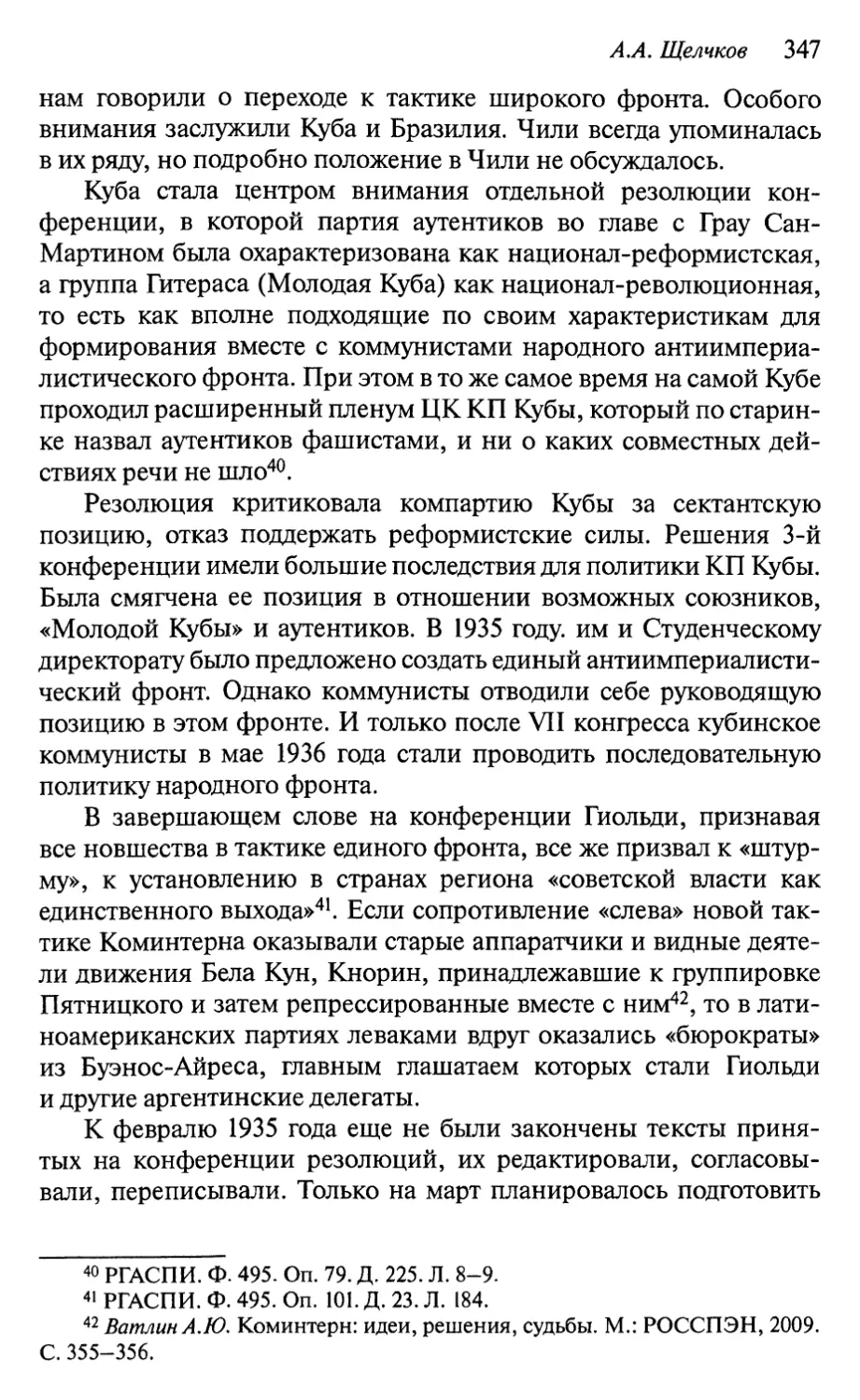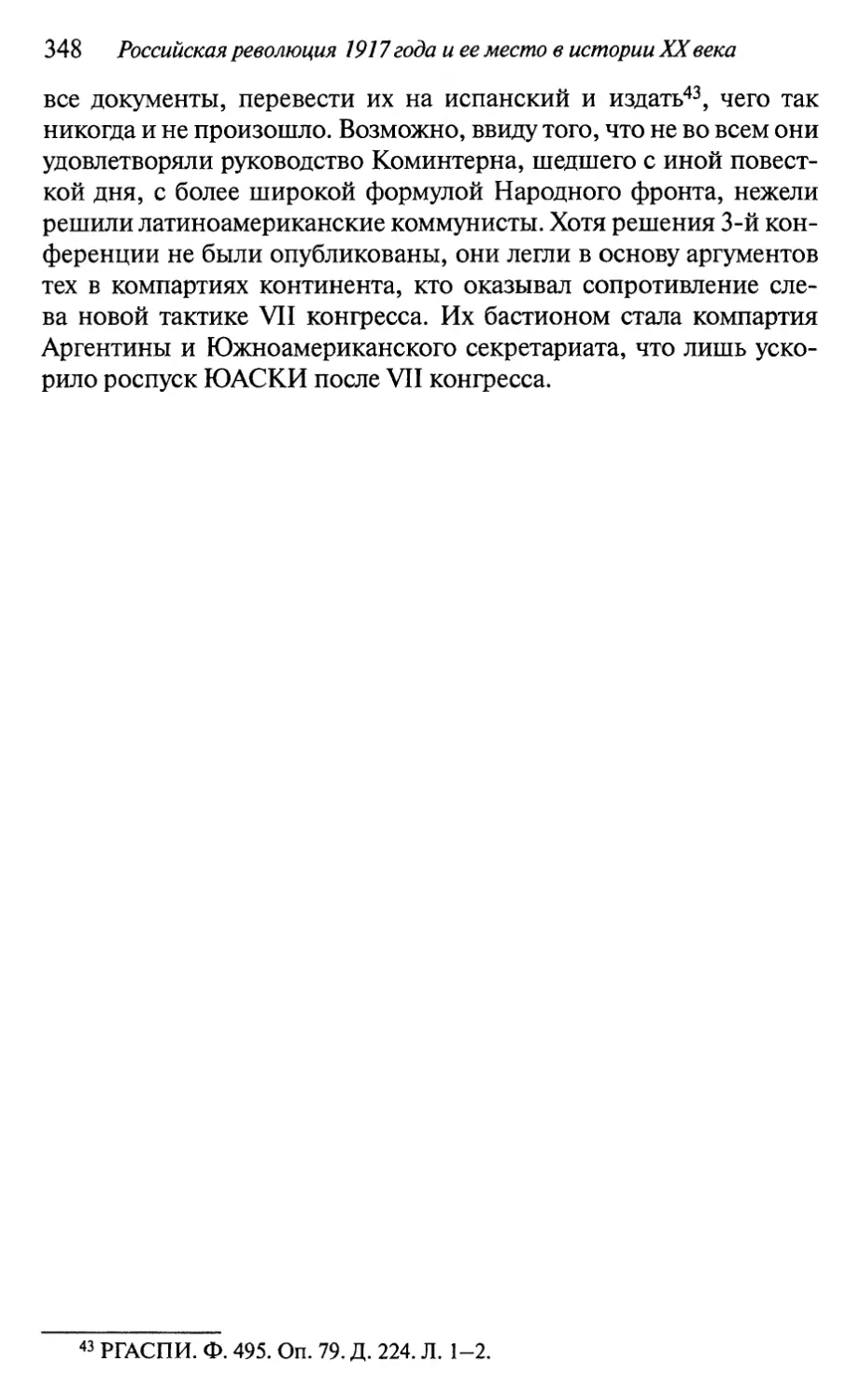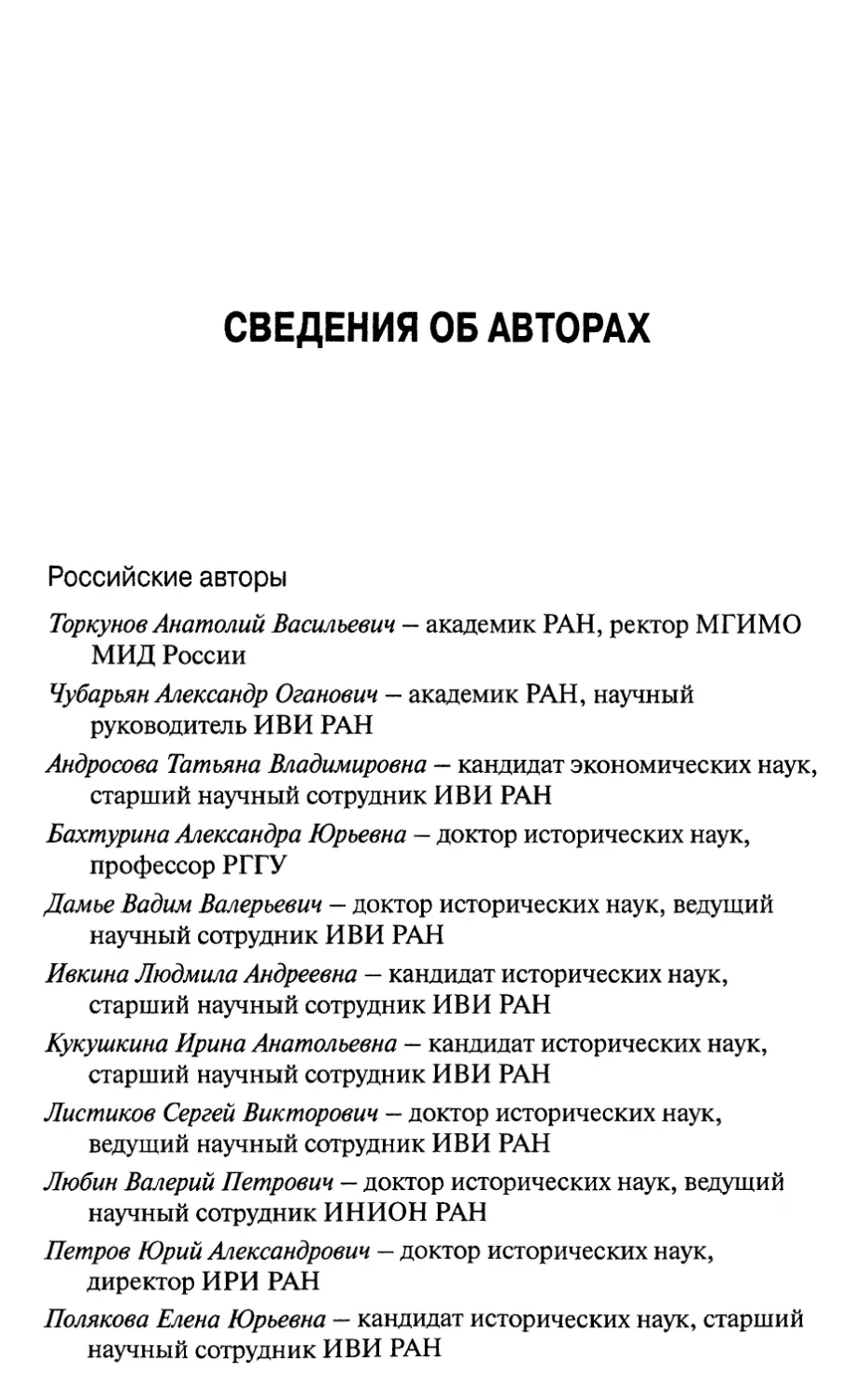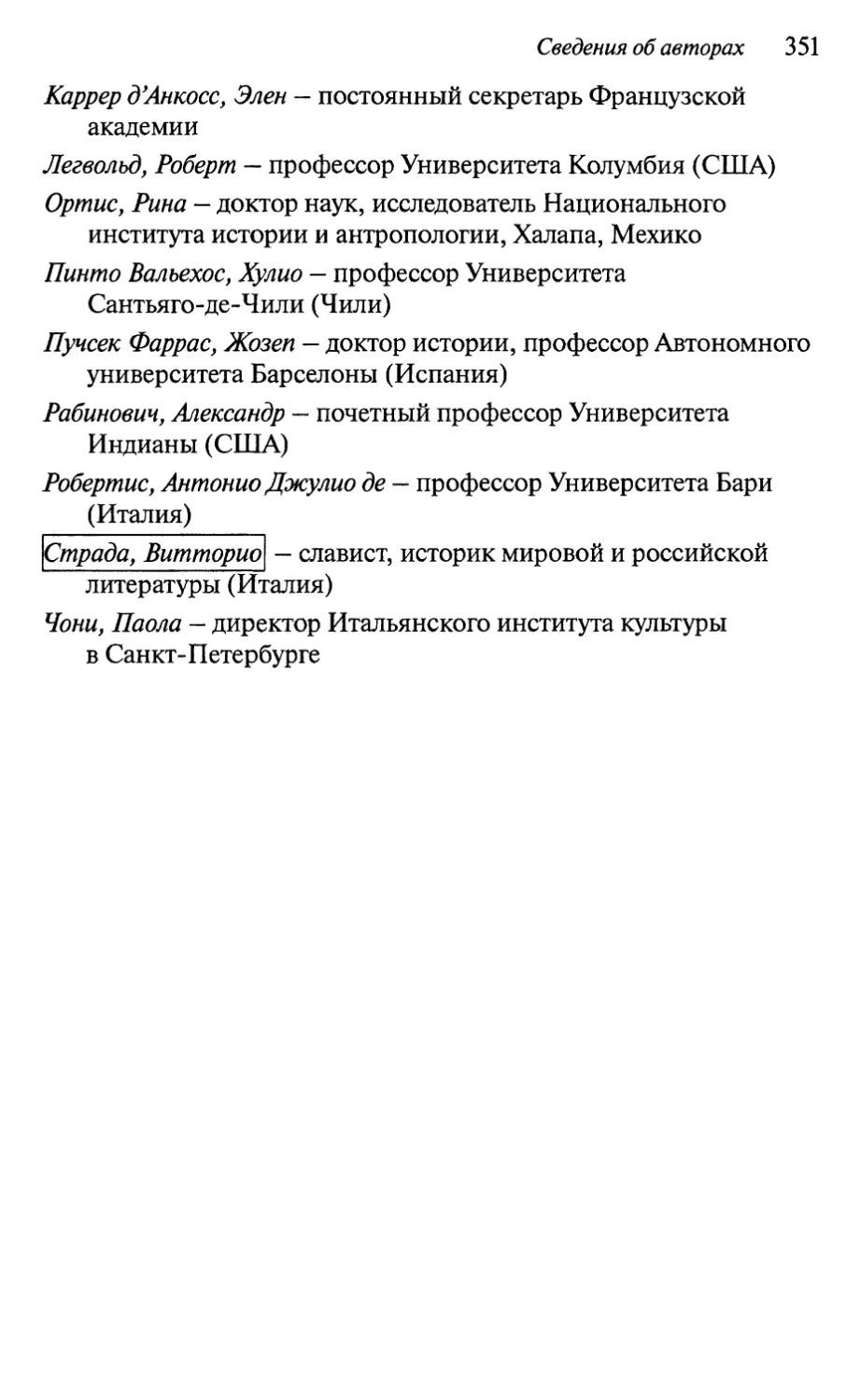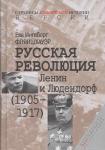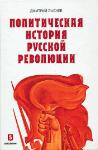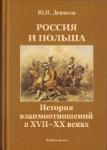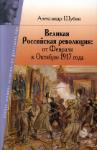Автор: Торкунов А.В. Чубаръян А.О.
Теги: всеобщая история новейшая история (1917 -) история история россии
ISBN: 978-5-7777-0724-6
Год: 2018
Текст
Международная конференции «Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века», состоявшаяся в Москве 27-28 сентября 2017 г., стала важнейшим событием, отметившим столетие революции в России. Статьи, вошедшие в данное издание, подготовлены на основе выступлений участников конференции — отечественных и зарубежных ученых, являющихся крупнейшими специалистами по проблематике революции. Книга дает впечатляющий срез существующих мнений о природе, характере и значении событий 1917 года.
www.vesmirbooks.ru
РОССИЙСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
Фонд «История Отечества»
Институт всеобщей истории РАН
Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России
РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 года и ее место в истории XX века
Сборник статей
Москва
Издательство «Весь Мир» 2018
УДК 94(47).084.2
ББК 63.3(0)6
Р 76
Главные редакторы:
Торкунов А.В. (академик РАН, ректор МГИМО МИД России)
Чубаръян А.О. (академик РАН, научный руководитель ИВИ РАН)
Редакционный совет:
Липкий М.А., Байков А.А., Даценко П.А., Гиголаев Г.Е., Гранцева Е.О., Карасева А.Р., Майер А.С., Окунева О.В., Осипов Е.А., Тарасютина Е.В., Щелчков А.А.
Данная публикация явилась результатом совместной работы российских и зарубежных педагогических и научных работников по подготовке и проведению 27-28 сентября 2017 года международной конференции Российская революция 1917 года и ее место в истории XXвека.
Работа выполнена при финансовой поддержке фонда «История Отечества»
P 76
Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века. М.: Издательство «Весь Мир», 2018. — 352 с.
ISBN 978-5-7777-0724-6
Международная конференции «Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века», состоявшаяся в Москве 27-28 сентября 2017 г., стала важнейшим событием, отметившим столетие Революции. Статьи, вошедшие в данное издание, подготовлены на основе выступлений участников конференции — отечественных и зарубежных ученых, являющихся крупнейшими специалистами по проблематике революции. Книга дает впечатляющий срез существующих мнений о природе, характере и значении событий 1917 г.
Издание рекомендуется историкам, преподавателям, студентам, всем интересующимся историей XX века.
УДК 94(47).084.2
ББК 63.3(0)6
Отпечатано в России
ISBN 978-5-7777-0724-6
© Издательство «Весь Мир», 2018
СОДЕРЖАНИЕ
Вступление (Чубарьян А.О., Торкунов А.В.) 8
Раздел I
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
Торкунов А.В. Значение Великой российской революции 10
Чубарьян А.О. Реальности и мифы истории Российской революции (1917-1922) 19
Петров Ю.А. Великая российская революция: к столетней годовщине 27
Элен Каррер д’Анкосс. Русская революция 1917 года — национальная или колониальная? 42
Александр Рабинович. Великая российская революция в Петрограде: шесть вопросов 52
Шубин А.В. Основные этапы Великой российской революции 57
Витторио Страда. От национал-большевизма до империал-коммунизма 73
Роберт Легвольд. Французская и Российская революции и созданные ими системы международных отношений 81
Ван Ю, Ван Сяоцзюй. Октябрьская революция в России и путь китайской революции 20-40-х годов XX века 107
6 Содержание
Паола Чони. Религиозная символика Русской революции 114
Антонио Джулио де Робертис. Историческое влияние Брест-Литовского мирного договора 123
Раздел II
ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ДРУГИЕ СТРАНЫ
Роберто Валле. Революция и контрреволюция в России, закат Европы 130
Кристоф Дике. Жак Бенвиль и Русская революция (1916-1917) 146
Суслопарова Е.А. Приход большевиков к власти в России в восприятии лейбористской партии Великобритании 153
Крис Илэм. Революция и контрреволюция в Испании в свете октября 1917 года 162
Жозеп Пучсек Фаррас. Октябрьская революция в Каталонии и ее защитники 170
Любин В.П. Италия и Российская революция 181
Бахтурина А.Ю. Политика Временного правительства в Великом княжестве Финляндском (март-июль 1917 года) 192
Андросова Т.В. Революция в Финляндии 1918 года 203
Гусейнова И.М. Революция 1917 года и общественно- политическая, экономическая обстановка в Азербайджане 213
Раздел III
ВОСПРИЯТИЕ ВЕЛИКОЙ РОССИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА
Дамъе В.В. Российская революция и анархисты стран Дальнего Востока 223
Рублев Д.И. Российская анархистская эмиграция об опыте революции 231
Содержание 7Магдалена Гарридо Кабальеро. Влияние Октябрьской революции в Испании (на примере книг о путешествиях, изданных в 1920-е годы) 240
Полякова Е.Ю. Советский Лимерик 251
Листиков С.В. Вудро Вильсон и большевики (от Февраля к Октябрю 1917 года) 259
Кукушкина И.А. Красная Вена как альтернатива «Красной Москве» 270
Раздел IV
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
Карлос Ильядес. Русская революция в мексиканской прессе 280
Рина Ортис, Энрике Арриола. Эдгар Воог в Мексике: опыт пролетарского интернационализма 286
Хулио Пинто Вальехос. Воплощение утопии: Луис Эмилио Рекабаррен и влияние Русской революции в Чили 297
Пекина Л.А. Х.А. Мелья: Великая русская революция и исторические традиции национальной борьбы на Кубе 306
Вероника Вальдивиа Ортис де Сарате. Автономия и единство: влияние большевистской революции на становление левого движения в Чили. 1922-1938 годы 316
Серхио Грес Тосо. Резкий поворот компартии Чили от политики «класс против класса» к Народному фронту (1928-1936) 327
Щелчков А.А. Тяжелый путь к Народному фронту: 3 конференция латиноамериканских компартий 1934 года 338
Сведения об авторах 349
ВСТУПЛЕНИЕ
2017 год - дата столетия Российской революции - вызвал широкий отклик в научных кругах и в обществе в целом. Прошли сотни конференций, отечественных и международных, организовывались выставки и фестивали, демонстрировались новые художественные и документальные фильмы. Одним из наиболее примечательных мероприятий стала большая международная конференция «Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века». В ней приняли участие десятки российских историков и более 100 иностранных специалистов из 31 страны.
К 2017 году в России сформировались новые подходы к изучению и оценке Российской революции. Сегодня большинство ученых рассматривают Российскую революцию как процесс, в который вошли как события Февраля и Октября 1917 года, так и период Гражданской войны. Таким образом, хронология революции охватывает период с 1917 по 1922 год.
Общие вопросы революции и ее этапы, анализ ее причин и последствий стали основными темами международной конференции. Подавляющее большинство историков согласны с оценкой революции как всемирно исторического события, оказавшего влияние на все двадцатое столетие. В ходе упомянутой конференции, как и на многих других мероприятиях, были представлены и введены в научный оборот значительное количество новых документов, посвященных самым разнообразным проблемам истории Российской революции. Высокий научный уровень участников конференции определил содержание представленных докладов и всей дискуссии, в ходе которой было рассмотрено немало кон¬
Вступление 9
цептуальных и конкретно-исторических вопросов, которые весьма важны для будущих научных исследований, для перспектив дальнейшего изучения истории Российской революции и всей истории XX века.
Приезд в Москву многих ученых из разных стран мира показал важность международного сотрудничества ученых разных стран и континентов, продемонстрировал универсальное значение науки и культуры, их важную роль в деле оздоровления международной обстановки.
Предлагаемый том содержит выступления многих участников конференции. Представляется, что он будет полезен для российской и мировой историографии, для всех тех, кто интересуется сложной и противоречивой историей XX столетия.
А.В. Торкунов, А. О. Чубарьян
Раздел I
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
Значение Великой российской революции
А.В. Торкунов
Сначала - несколько предварительных замечаний общеметодологического свойства. Рассуждая о революционных событиях столетней давности, мы до сих пор, в силу присущей человеку инерционности мышления, соблазняемся привычным и аналитически, на первый взгляд, удобным разделением их на Февральскую революцию и связанное с ней падение монархии, период двоевластия, Корниловский мятеж, установление республики; Октябрьскую революцию и, наконец, кровопролитную Гражданскую войну. Несмотря на ее кажущуюся очевидность, важно помнить, что эта дихотомия с фактической точки зрения глубоко антиисторическая, представляет собой проекцию усвоенной нами идеологической догмы 1930-х годов о двух принципиально разных революциях 1917 года - «ущербной» буржуазной (в феврале) и «подлинной» социалистической (в октябре). Сегодня такой подход едва ли понятийно адекватен. За прошедшее с момента утверждения нового Историко-культурного стандарта время профессиональному сообществу историков стала очевидной польза перехода к интерпретационно гораздо более богатой концепции Великой российской революции, включающей в себя как в единый поступательный процесс, события февраля и октября 1917 года, а также Гражданскую войну1. Эта концепция, сверх этого, может иметь и известный «оздоравливающий» социальный эффект, способствуя примирению людей разных политических взглядов.
1 См.: Власть и общество. Уроки истории. К 100-летию революции в России. М.: МПГУ, 2017.
А,В. Торкунов * Значение Великой российской революции 11
Недостаточно, на мой взгляд, повторяется и тот факт, что российская революция названа великой потому, что имела колоссальный международный резонанс. Выдвинутые под влиянием ее идей принципы социально-политического и социально-экономического переустройства - так или иначе - затронули, пожалуй, каждый народ, каждое государство Запада и Востока. При этом все великие революции отличает трансформирующее воздействие на господствовавшие в тот или иной период принципы устройства системы международных отношений.
С одной стороны, широкое признание в историографии получил тезис о том, что на развитие системы международных отношений критическое влияние оказывают так называемые большие войны - войны между «великими» державами. Так, например, в результате Тридцатилетней войны возник европейский баланс сил. Наполеоновские войны конца XVIII — начала XIX века разрушили сложившееся равновесие, но на Венском конгрессе дипломаты и монархи, искусно перекроив границы государств, сумели восстановить его. Еще больше европейское равновесие пострадало в результате Первой мировой войны - тогда опять встал вопрос о необходимости отстраивать систему международных отношений заново.
С другой стороны, «большие» войны поразительным образом совпадают по времени с революциями. Английская революция XVII века разразилась на фоне Тридцатилетней войны. В войну за независимость Соединенных Штатов, называемую также Американской революцией, вмешались, кроме Великобритании, другие иностранные государства. Французская революция непосредственно привела к серии войн, охвативших в конце XVIII - начале XIX века всю Европу от Португалии до России.
Эти совпадения, разумеется, не случайны. По-видимому, имеет место взаимосвязь между «большими» войнами и «великими» революциями, конкретные механизмы которой зависели от обстоятельств места и времени, но характеризуются известной общностью структуры, откровенно говоря, до конца не описанной и не изученной. На уровне гипотезы допустимо следующее предположение: войны влияли в основном на соотношение сил государств на международной арене, тогда как революции - на их расстановку.
Так, например, Английская революция XVII века надолго разобщила протестантскую Великобританию и католические
12 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
государства Европы, и папство2. Против революционной Франции в конце XVIII века ополчилась едва ли не вся монархическая и аристократическая Европа. Иностранные государства воспользовались революцией и для вмешательства во внутренние дела Советской России.
В еще большей мере революции влияли на международно-правовой порядок. Английские революционеры-пуритане в борьбе против католической реакции отстаивали правовой принцип государственного суверенитета.
Отцы-основатели США, а за ними и французские революционеры выдвинули принцип национального суверенитета.
Французские революционеры присвоили себе право на вмешательство в дела других стран в целях их освобождения от абсолютизма и феодализма. Уже после завершения наполеоновских войн этим новшеством воспользовались консервативные монархи Европы, чтобы заявить о своем праве вмешиваться в дела других государств — теперь уже под предлогом борьбы с революциями3.
Во время революций 1848-1849 годов впервые громко заявили о своем праве на самоопределение народы, разделенные государственными границами или целиком включенные ранее в состав многонациональных империй.
Непосредственное воздействие Великой российской революции на систему международных отношений, сложившейся после окончания Первой мировой войны, было двояким - как с точки зрения расстановки сил в первые постреволюционные годы, так и в плане модификации мирового правопорядка.
Некоторое время было не ясно, к какому лагерю - победителей или побежденных в Первой мировой войне - прибьет Россию. Лишь когда наметилась консолидация советского режима, определилось и его место в расстановке сил. Советское правительство четко обозначило свое неприятие мирного урегулирования, достигнутого в Париже в 1919-1920 годах. Это исключало возможность тесного сотрудничества нашей страны с большинством стран Запада. Не дала прочных результатов и попытка сближения на антиверсальской основе с Веймарской республикой.
Весьма противоречивым оказалось воздействие Великой российской революции на формирование нового международно¬
2 Английская буржуазная революция XVII века: в 2 т. ML, 1954. T. И. Гл. 25.
3 Циммерман МЛ. Вмешательство и признание в международном праве. Прага: Пламя, 1926.
А.В. Торкунов • Значение Великой российской революции 13
го правопорядка. Придя к власти, большевики провозгласили демократические принципы внешней политики: мир без аннексий и контрибуций, отмену тайной дипломатии, право народов на самоопределение. Но одновременно они заявляли, что все эти принципы могут быть реализованы лишь в результате мировой революции. В итоге они предложили такое истолкование указанных принципов, с которым не могло согласиться ни одно суверенное государство. СССР был объявлен прообразом всемирной республики советов, к которой постепенно в результате народных восстаний и революций должны присоединяться другие страны. Большевики еще с большим размахом, чем царское или Временное правительства, прибегали к тайной дипломатии, создав для этой цели полугосударственное ведомство - Коммунистический интернационал. Подобные внешнеполитические акции внушали зарубежным государствам глубокое недоверие, преодолеть которое не помогло даже публичное отречение Сталина от идеи мировой революции в середине 30-х годов4.
Наладить конструктивное сотрудничество с зарубежными государствами Советскому Союзу удалось лишь на основе принципа мирного сосуществования, выдвинутого Лениным в качестве временной альтернативы мировой революции. И именно на его основе СССР добился крупных внешнеполитических успехов: дипломатическое признание десятками стран мира, заключение с дюжиной из них договоров о нейтралитете и ненападении, вступление в Лигу наций, наконец, подписание первого в советской истории договора о взаимопомощи с капиталистическими государствами — Францией и Чехословакией.
Однако в целом Советский Союз не сумел сыграть в международных делах межвоенного периода роли, пропорциональной и адекватной его возможностям как одного из самых больших и сильных государств мира.
Вместе с тем совершенно неоспоримо определяющее влияние Великой российской революции на формирование собственно современной системы международных отношений, основы которой были заложены после победы над державами Оси в годы Второй мировой войны.
Во-первых, обернувшись трагедией для наших соотечественников, она тем не менее принесла сотням миллионов людей за ее
4 См.: Карр Э. История Советской России. Кн. 1 Большевистская революция. 1917-1923. T. 1.М., 1990.
14 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
пределами мощный импульс национальной эмансипации. Великая российская революция стала мощным катализатором подъема к сознательной политической жизни народов колониальных и полуколониальных стран, которые активно вторглись в мировую политику и уже к середине XX века сумели создать в лице Движения неприсоединения собственный глобальный вектор силы и влияния. В наступившем XXI веке активная роль развивающихся стран на мировой арене — залог установления нового многоцивилизационного мирового порядка.
Во-вторых, выдвинутые под влиянием ее идей принципы социально-политического и социально-экономического переустройства - так или иначе - затронули, пожалуй, каждый народ, каждое государство Запада и Востока.
В-третьих, содействуя возникновению на Западе так называемого социального государства, Великая российская революция умерила «аппетиты» капитализма и в мировой политике, содействуя ее общей демократизации в 60-80-х годах прошлого века. Появление принципов самоопределения и деколонизации, мирного разрешения международных споров и отказа от войны, последовательные усилия в направлении ограничения и сокращения ядерных арсеналов и запрета оружия массового поражения — во многом все это также заслуга советской дипломатии. В целом трактовка Революции в качестве исторического события исключительной важности, имевшего всемирные последствия и являющегося частью общего исторического пути всего человечества, представляется разумной основой для деполитизированных оценок 1917 года.
В-четвертых, появившийся на карте мира в результате Революции Советский Союз, победивший во Второй мировой войне, занял место постоянного члена Совета Безопасности ООН, превратившись в глобальную сверхдержаву. Все это помогло установлению в послевоенном мире стабильного баланса сил, в результате чего удалось избежать всеобщего термоядерного катаклизма, несмотря на кризисы эпохи холодной войны. Сегодня, на фоне обострения международной обстановки, многие, как на Западе, так и на Востоке, вынужденно сожалеют об ушедшей эпохе биполярности, которая была предсказуема и рациональна5.
Ведь нынешняя «стратегическая неустойчивость», чреватая срывом в «необратимое», во многом обязана своим происхожде¬
5 Феномен революции в России: истоки и уроки. Страницы документальной истории. М.: РОССПЭН: ИПК «Астрея-Центр», 2017.
А.В. Торкунов • Значение Великой российской революции 15
нием распаду СССР. Наблюдающийся же сегодня откат мировой системы к положению, которое существовало до 1917 года: размывание основ «социального государства», возрождение неоимпериализма, рост национализма и сепаратизма, падение морали, пропаганда вседозволенности и т.д. - есть не что иное, как результаты исчезновения альтернативного полюса силы и альтернативной системы ценностей. Когда-то они заставляли правительства и народы следовать интересам собственной безопасности, соблюдать договоры и соглашения, стараться не заступать за «красные линии», считаться с интересами других. Сегодня отсутствие этих элементов порождает ложное чувство «избытка безопасности», когда в «моду» вновь входят гладиаторские нравы Древнего Рима.
И тем не менее, несмотря на кардинальные международные последствия «великих революций», их предпосылки и движущие силы подготавливались главным образом местными условиями, коренились прежде всего в национальной почве и вырастали из нее. Великая российская революция здесь не составляет исключения, хотя советская литература и пыталась выпячивать ее интернациональный характер.
Наша страна вступила в 1917 год могущественной Империей с тысячелетней историей преемственности. Вышла же из него - утеряв значительную часть своих государственно-правовых форм; радикально преобразившись социально-политически, идеологически и, конечно, территориально. Немного стран, тем более столь обширных и могущественных, разрушались так быстро и так внезапно.
Стремительное начало и последующее бурное течение Великой российской революции стали предметом множества историографических и историко-политологических исследований у нас и за рубежом. Общеизвестно, например, что скорого наступления революции не ждал Владимир Ульянов-Ленин, извлекший из революционного хаоса наибольшие политические приобретения. Выступая в январе 1917 года перед швейцарской молодежью, он признавался, что, возможно, не доживет «до решающих битв этой грядущей революции», но завещал «бороться и победить в ней» следующему поколению социалистов6.
Эвристичность усилий исторической науки на этом направлении, на мой взгляд, напрямую зависит от того, насколько нам
6 См.: Российская революция 1917 года: власть, общество, культура. / ИРИ РАН. T. 1. М.: Политическая энциклопедия, 2017.
16 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
удастся дополнить скрупулезность хронологического летописания во много раз более сложным синхронно-историческим анализом социологических и особенно культурно-психологических аспектов российской жизни в решающие месяцы и дни политической борьбы за Россию 1917 года.
Несмотря на столетие изучения Революции, многое, причем, думается мне, главное, стержневое, остается до конца невыясненным. Это относится прежде всего к обстоятельствам генезиса и самой природы не только и не столько политической революционной логики, охватившей интеллигентские и элитарные слои русских верхов, потерявших, казалось, осознание ценности государственной власти и ответственность перед ее вековыми институтами, сколько широкое распространение среди массовых слоев революционной ментальности, сделавшей в конечном счете возможным почти мгновенное обрушение глыбы императорской бюрократии, а вместе с ней такой казавшейся незыблемой скрепы общенациональной солидарности, как Русская Православная Церковь.
Исторический детерминист видит в прошлом объективные предпосылки русской катастрофы 1917 года и считает, что судьба России была предрешена и подготовлена всей ее предшествующей историей. На этих же позициях стояла и советская историческая школа.
Историк-волюнтарист, приверженный взгляда на историю как на процесс стохастический, полагает, что история есть лишь действия людей в прошлом, и находит корни и непосредственные причины тех явлений в свободном выборе целей отдельными людьми, предводителями крупных социальных движений, прежде всего элитами, полагая, что 1917 год - случайность или ошибка.
Особую ценность имеют свидетельства очевидцев тех событий - как непосредственных их участников-революционеров, так и тех, кто, наблюдая за ними воочию, напряженно рефлектировал о судьбах России. Известна предвидческая записка Петра Николаевича Дурново7, где он говорит о зреющем в простом русском народе стихийном бессознательном социализме8. Но не менее поразительны откровения русских мыслителей и иностранцев, исследующих сложную духовную и психологическую картину российского общества. Приведу несколько свидетельств.
7 Дурново Петр Николаевич (23.11.1842-11.09.1915) - статс-секретарь, действительный тайный советник, правый государственный деятель, министр внутренних дел, лидер правой группы Государственного Совета.
8 Журнал «Красная новь» (1922, № 6).
А.В. Торкунов • Значение Великой российской революции 17
Князь Е.Н. Трубецкой, брат ректора Московского университета, писал в ноябре 1913 года: «Несомненный и бросающийся в глаза рост материального благосостояния пока не сопровождается сколько-нибудь заметным духовным подъемом. Духовный облик нашей мелкой буржуазной демократии, нашего крестьянства, едва ли может быть назван симпатичным. Растет какой-то могучий организм. Но вырастет ли из этого со временем человеческое величие или же могущество большого, но неинтересного животного. Если у нас есть основание верить в будущее духовное величие России, то это основание скорее в прошлом, чем в настоящем»9.
Любопытны слова известного публициста и критика Льва Тихомирова: «Прошлое столетие приближалось к своему окончанию с твердой уверенностью в наступлении светлой эпохи Разума. Ее осуществление оно завещало в XIX век. Но вот наш век подходит к концу в состоянии какого-то нравственного банкротства. Потеряв веру и уважение ко всему существенному - во что другое уверовал человек конца XIX века? Еще недавно - в идею социализма. Да и теперь, по господствующему сознанию, будущее считается принадлежащим социализму. Но теперь эта перспектива уже представляется только неизбежной, а вовсе не светлой и радостной»10.
В этих и других дневниковых записях современников обнаруживается менее привычное прочтение причин революции. История 1917 года и предшествующих месяцев свидетельствует о том, как важно было суметь увидеть, разглядеть за внешними формами социального бытия - быстрого экономического подъема и роста благосостояния широких слоев общества - катастрофическое отставание культурного уровня русского человека; как важно сосредоточить усилия общества и государства на всестороннем развитии личности, воспитании ответственного, сознательного гражданина, стоящего на разумных патриотических позициях.
Важно помнить и то, что речь идет о начале века, о смене вех, о так называемом «кануническом времени». Это вообще особая линия историософских исследований. Революционные, утопические и эсхатологические ожидания часто идут рука об руку. Так было и накануне Великой французской революции. По-видимому, все революции порождают и великие ожидания, и великие разо¬
9Кн. Е.Н. Трубецкой. Новая земская Россия. // Русская мысль, 1913.
10 Тихомиров Л. Журнал «Русское обозрение». Отдел «Летопись печати», сентябрь 1893.
18 Российская революция 1917 года и ее место в истории века
чарования. В особенности, однако, это относится к революциям, свершающимся вблизи границ веков.
Но и в этом ряду Россия выглядит своеобразно. «У русских всегда есть жажда иной жизни, иного мира, всегда есть недовольство тем, что есть. Эсхатологическая устремленность принадлежит к структуре русской души, - писал Бердяев. - В России всегда было и всегда будет духовное странничество, устремленность к конечному состоянию. У русской интеллигенции, исповедовавшей в большинстве случае самую жалкую материалистическую идеологию, казалось бы, не может быть эсхатологии. Но так думают потому, что придают слишком исключительное значение сознательным идеям, которые часто затрагивают лишь поверхность человека. В более глубоком слое, не нашедшем себе выражения и сознания, в русском социализме была эсхатологическая напряженность, обращенность к концу. Речь всегда шла о каком-то совершенном состоянии, которое должно прийти на смену злому, несправедливому, рабьему миру»11.
Полагаю, что и марксистский выбор, сделанный Россией, в значительной мере объясняется этой внутренней эсхатологической настроенностью в широком смысле русской ментальности. В конце концов, марксизм был единственной светской социальной доктриной XIX века, пронизанной эсхатологическим духом: обещая раз и навсегда - причем на твердых научных основаниях - положить конец человеческим бедам и решить эту проблему во вселенском масштабе.
Революция 1917 года наглядно демонстрирует и еще одно важное обстоятельство: насколько могут быть опасны разрывы историко-политической и государственно-правовой ткани традиций и небрежение принципом легитимности власти. Нарушение закона единожды повлекло за собой в дальнейшем небрежение законом как таковым, утверждение абсолютного правового нигилизма, подняв гигантскую волну полного беззакония, когда любые бесчинства стали оправдывать революционной законностью.
Но все же главный урок революции — важность приоритетного внимания к человеку, к его культурному, политическому, ценностному и духовно-психологическому развитию; человеку как главной референтной единице, отправной точке мировой цивилизации. Уверен, что только наука и образование способны и должны играть в этом процессе центральную роль.
11 Бердяев Н.А. Русская идея: основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века. М.: ЗАО «Свароги К», 1997. С. 174.
Реальности и мифы истории Российской революции (1917-1922)
А. О. Чубарьян
В ходе многочисленных конференций, круглых столов, выставок и по итогам издания многих десятков книг, опубликованных в самых разных странах мира и в большинстве регионов России были поставлены общие и конкретно исторические проблемы Российской революции.
Российские историки при этом исходят из того нового подхода к истории революции, который был утвержден в новом историко- культурном стандарте, предназначенном для учебников в средней школе. Согласно новому стандарту были раздвинуты хронологические рамки истории революции, а следовательно, и ее концептуальные основы.
Преодолевая старую схему, которая отводила Февральской революции 1917 года второстепенную и «реакционную» роль, российская историография сегодня рассматривает то, что произошло сто лет назад, не как единовременное событие, а как длительный и многоплановый процесс, в который входят Февральская революция, затем Октябрьский переворот, также переросший в революцию, и события Гражданской войны, то есть хронологические рамки Российской революции охватывают период с 1917 по 1922 год.
Введение в научный оборот большого числа новых документов и многочисленные дискуссии позволили поставить новые, часто дискуссионные вопросы для исследования или пересмотреть старые подходы и утверждения. Среди таких дискуссионных вопросов в современной историографии можно выделить следующие:
— причины революции, ее неизбежность или возможные альтернативы;
20 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
— экономическое положение России накануне Первой мировой войны;
— роль Первой мировой войны в возникновении Российской революции;
— российские политические элиты в революции;
— оценка роли большевиков и причины их успехов в привлечении народных масс на свою сторону;
— роль Российской революции и ее место в истории XX столетия;
— наследие Российской революции.
Проблема причин и, следовательно, неизбежности революции сегодня представляется одной из важнейших. В советские времена ответ на этот вопрос казался очевидным и не вызывающим никаких вопросов. Общий кризис империализма, катастрофическое состояние российской экономики к началу XX столетия, «кризис “верхов” и недовольство “низов”», поддержка народов России партии большевиков и другие идеи давали объяснения всему процессу.
Сегодня существует необходимость и возможность поставить российскую Революцию в общемировой контекст основных мировых революций, включая их типологию и общие черты вызревания и эволюции.
Но нас сейчас больше интересует механизм начала, спусковой крючок английской, французской и российской революций. Вопрос состоит в том, чтобы определить, где та черта, где те социальные и политические факторы, выход за которые ведет к революционному взрыву.
Применительно к России важно обратиться к истории XIX века. Все же Великая реформа 1861 года не привела к кардинальному и окончательному решению крестьянского вопроса. Не завершили его и реформы Столыпина, который сам признавал, что понадобится срок в двадцать и более лет для осуществления реформы1.
А ведь незавершенность крестьянских реформ являлась одной из важнейших причин Российской революции 1917-1922 годов.
Наследие XIX века имело еще один весьма существенный элемент. Речь идет о середине и второй половине XIX столетия, когда в рамках российского освободительного революционного движе¬
1 Федоров Б.Г. Петр Столыпин. Я верю в Россию. СПб.: Лимбус Пресс, 2002, Сидоровнин Г.П. Петр Аркадьевич Столыпин. Жизнь за Отечество. М.: Поколение, 2007.
А.О. Чубарьян 21
ния широкое распространение получили насильственные методы. Покушения и убийства становились некоей формой борьбы с самодержавием. И эта опора на насилие перешла и на XX столетие, став важнейшим средством в арсенале партии большевиков.
В последние годы в отечественной историографии явно снизился интерес к роли революции 1905 года. Итоги революции 1905 года, государственный манифест и начало российского парламентаризма составили существенный элемент в общественной жизни России; но основные противоречия внутреннего развития России не были преодолены. В решающие недели 1917 года Государственная дума не смогла взять на себя ответственность за судьбы страны и овладеть ситуацией.
В революции 1905 года были опробованы и использованы те формы «насильственных действий», которые были распространены в 1917 году и особенно в годы Гражданской войны. Это были массовые стачки, демонстрации, сожжения помещичьих имений, захват земель и прочей собственности. Эта перекличка эпох и времен составила характерную примету XX столетия.
В течение многих десятилетий советской эпохи официальная идеология концентрировала свое внимание на бедственном состоянии России к 1915 году. Наиболее часто повторяемым термином было определение России как отстающей страны. При этом приводились данные о низком уровне промышленного производства, об огромной задолженности России иностранным банкам и кредиторам (прежде всего французским и британским).
Из этого постулата вытекал основной вывод - что именно социалистическая революция в октябре 1917 года и партия большевиков стали «спасателями» России.
Но в последние годы как бы в ответ на эти утверждения активно транслируется мысль, что Россия к 1913 году была на подъеме, что по темпам промышленного экономического роста Россия была впереди основных стран Европы и Америки, и что именно революция остановила этот процесс.
Введение в научный оборот новых данных об экономическом развитии России, несомненно, является весьма позитивным фактом, но ученым все же предстоит объективно установить реальное состояние российской экономики перед началом Первой мировой войны.
В течение длительного времени история Первой мировой войны была забытой или даже запретной темой. Большевистская формула империалистической войны, призывы превратить ее в войну
22 Российская революция 1917года и ее место в истории XXвека
гражданскую были официальными установками советской власти. Утверждения зарубежных ученых, что Первая мировая война явилась одним из важнейших катализаторов Российской революции, оценивались в Советском Союзе как антинаучные и фальсификаторские.
Теперь перед учеными стоит задача более подробно и обстоятельно раскрыть воздействие Первой мировой войны на революционный процесс в России. Видимо, сюда следует отнести и разрушение экономики, и массовое разложение армии, уход крестьян, одетых в солдатские шинели, с фронта. Именно в период мировой войны еще больше обострилось отношение российского населения к крестьянскому вопросу. Может быть, победоносная война помогла бы изменить настроение народных масс, но при том состоянии армии, которое было к 1917 году трудно было рассчитывать на решающее значение победы, несмотря на отдельные успешные военные операции (например, Брусиловский прорыв).
Ход войны подорвал надежды и расчеты солдатской массы и главным образом офицерства на поднятие духа армии, что в конечном счете сказалось на революционизировании российского населения.
Самого серьезного внимания заслуживает вопрос о настроениях и действиях российских политических элит. Общее мнение исследователей сегодня и в нашей стране, и за рубежом состоит в том, что практически все слои элит отказали в доверии императору и с легкостью пошли на смену режима в России и на распад и крах империи.
Представляется, что это одна из наиболее обсуждаемых и во многом спорных проблем истории Российской революции, особенно если учесть, что на протяжении многих веков самодержавие было важнейшей скрепой российской истории, традиции и общества и казалось абсолютно незыблемой и непоколебимой в России.
Формирование российских политических элит - это сложный и многоплановый процесс. На разных этапах российской истории менялись опоры царского режима. После революции 1905 года в России началось формирование политических партий различной направленности. Этот процесс набирал силу и более всего проявился в рамках Государственной думы. Это были партии правого, левого и центристского толка. В Думе были и представители различных национальностей, проживающих в России.
Но этот первый опыт российского парламентаризма был лишь началом пути, и законодательная политическая элита большого
А. О. Чубарьян 23
влияния на положение дел в стране не оказывала и не имела прочной опоры ни в аристократических, ни в так называемых либеральных кругах.
Представители российской политической элиты были разобщены, конкурировали друг с другом и часто ориентировались на другие страны. Всем было известно, что в окружении императора были люди так называемой немецкой партии, определенные круги аристократии тесно контактировали с английским посольством. Может быть, это в какой-то мере явилось отражением династических связей и родства российского императора с королем Великобритании и императором Германии.
Слабость российской политической элиты также может быть отнесена к тем факторам, которые вели Россию к революции. Объединение офицерского корпуса произошло уже позднее, в годы Гражданской войны, на почве борьбы с советской властью2. Однако в тревожные и драматические недели начала 1917 года российский генералитет был явно не на высоте понимания судьбоносных решений российского будущего.
Вообще, в последние годы тема роли политических элит стала весьма распространенной в мировой историографии. Историки разных стран интересуются, как формируются элиты, их структура и возможности влияния на политику, экономику и социальную сферу.
Применительно к России 1917 года этот вопрос особенно актуален. Март 1917 года свидетельствует, что в самых разных сферах российского общества господствовало равнодушие и явное непонимание серьезности момента и ситуации. Отсутствовала и, пожалуй, главная функция элиты — связь с населением, понимание его настроения, опасений и надежд. Фактически в России не было серьезного обсуждения происходящего, за исключением совещаний узкого круга деятелей в Думе и в генералитете3.
До сих пор необъяснимым остается та легкость, с которой эти самые элиты, включая генералитет и церковных иерархов, расстались с монархией, которая существовала в России многие годы. Конечно, хорошо, что, в отличие от других стран, в России не случилось кровопролития; общепризнано, что февральско-мартовские события 1917 года прошли без жертв и насильственных потря¬
2 Гаман-Голутвина О.В. Политические элиты России. Вехи исторической эволюции. М.: Интеллект, 1998.
3 Назаров М.В. Россия накануне революции и февраль 1917 года // Наш современник. 2004. Ns 2. С. 145-183.
24 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
сений. Но в широкой исторической перспективе для историков остался дискуссионным вопрос о причинах конца империи.
Важнейшим остается вопрос о создании Временного правительства, его эволюции и причинах его провала. Внимание многих ученых-историков и в нашей стране, и за рубежом привлекает фигура Александра Керенского. Главный вопрос состоит в выяснении причин быстрого падения его популярности4. Это, конечно, связано с глубоким разочарованием населения России деятельностью Временного правительства. Оно, как и все либеральные партии тогдашней России, не уловило настроение масс. Фактически речь шла о месте и роли российского либерализма. Прошедший многолетний опыт истории начала XX столетия, казалось, обещал подъем партий либерального толка. Но в решающие недели марта-сентября 1917 года эти партии не имели сильной поддержки у населения России.
Однако этот кризис коснулся и самой социал-демократии. Умеренно-либеральное направление, олицетворяемое Плехановым и Мартовым, уступило большевикам во главе с Лениным и Троцким. Известно, что меньшевики выдвигали на первый план более эволюционные формы борьбы за власть.
Во всем этом кроется один из ответов на ключевой вопрос о том, почему именно большевики пришли к власти в октябре 1917 года. Сила большевиков, тогда весьма немногочисленной группы, состояла не только в том, что программа большевиков лучше других соответствовала потребностям и интересам населения России, но и потому, что практически все противостоящие большевикам силы оказались слабыми и неспособными возглавить движение российских народных масс.
Существенный и все еще дискуссионный вопрос состоит в анализе идеологии и практики большевизма и личности Ленина. Мы уже указывали, что большевистское крыло российской социал-демократии и ее вождь представляли собой причудливое сочетание утопического социализма, общемарксистских установлений и экстремистских идей анархистского типа5. Практически большевики взяли в октябре 1917 года власть, которая как бы лежала у них в руках. За символическим залпом Авроры и «штурмом»
4 Подробнее об этом см.: Колоницкий Б.И. «Товарищ Керенский»: антимонархическая революция и формирование культа «вождя народа» (март—июнь 1917 года). М.: Новое литературное обозрение, 2017.
5 Данилкин Л.А. Ленин: Пантократор солнечных пылинок. М.: Молодая гвардия, 2017.
А.О. Чубарьян 25
Зимнего ничего не было. Большевики взяли власть в октябре без сопротивления и без крови. Сопротивление сопровождало взятие власти в Москве, а дальнейшая острейшая Гражданская война - это была уже другая история.
Чрезвычайно интересный вопрос связан с местом Российской революции в общемировой системе революций и судеб мировых империй6. Как известно, Ленин любил сравнивать ситуацию в России в 1917 году и в последующие годы с революцией во Франции в конце XIX века. И этот вопрос сегодня требует нового внимания и прочтения. Ранее мы связывали это сравнение лишь со сходством революционного террора. Действительно, лидеры большевиков почитали Робеспьера и его методы борьбы с противниками и оппонентами.
Представляется, что вопрос о революционном терроре, действительно, был важным, но обращение Ленина к опыту французской революции имело и более широкий смысл - опыт перехода от монархии к республике, взаимоотношения с другими политическими силами и партиями и т.п. Обращаясь снова к внутренним аспектам событий 1917 года, следует отметить и вновь возросший интерес к ситуации в России в сентябре и, в частности, к истории так называемого Корниловского мятежа7.
В зарубежной историографии активно проводится мысль, что если бы Керенский вместо противостояния с Корниловым объединился бы с ним, то, возможно, большевики не смогли бы с такой легкостью взять власть в октябре. Из мемуаров Керенского видно, что он, действительно, колебался в вопросе своего отношения к Корниловскому мятежу. Но из этих же воспоминаний видно и то, что Керенский видел большую угрозу для своей власти «справа», т.е. от Корнилова, нежели «слева» от большевиков, силу которых он явно недооценил.
К числу более общих дискуссионных проблем истории российской революции следует отнести и вопрос о взаимоотношении центра и периферии.
Один британский исследователь определил это термином «хрупкость» управления империей8. Конечно, положение разных
6 Селезнев Ф.А. Революция 1917 года и борьба элит вокруг вопроса о сепаратном мире с Германией (1914-1918 гг. ) СПб.: Алетейя, 2017.
7 Ушаков А.И., Федюк В.П. Лавр Корнилов. М.: Молодая гвардия, 2006. (Серия «Жизнь замечательных людей»).
8 Historically inevitable? Turning points of the Russian Revolution. Ed. by Tony Brenton. Oxford, N.Y.: Oxford University Press, 2016.
26 Российская революция 1917года и ее место в истории XXвека
частей империи отличалось друг от друга. Большая самостоятельность Финляндии, очевидная свобода для националистических объединений и организаций Украины сочетались с часто весьма неразумными шагами царской власти по отношению к территориям Средней Азии (что показали, например, события в Киргизстане в 1916 году).
Эта хрупкость управления империей также свидетельствовала о политическим кризисе в императорской России. Но для историков эта имперская проблема имела и более широкое звучание. Кризис империй имел и общий смысл. Не будем забывать, что в это же историческое время рухнули и другие империи - Австро- Венгерская, Османская и, наконец, германская. Конечно, в каждом случае имелись свои специфические условия и причины.
На общий процесс повлияли в первую очередь итоги Первой мировой войны и постановления Версальского мира. Но российский пример внес и свою лепту в общую историю эволюции и распада империй.
В оценке истории Российской революции существует еще один важный аспект. Речь идет о цене революции. Проблема цены имеет, конечно, более общий исторический контекст, но в данном случае следует понять, что количество жертв российских граждан, погибших в ходе революции и Гражданской войны, вызывает у нас крайне негативное отношение к революции, к тому насилию, которое ее сопровождало, и к тем репрессиям, которые обрушились на наших людей в годы революции, а затем в 20-30-е годы XX века.
Дискуссии 2017 года (в том числе и на международном уровне), связанные со столетием революции в России, несомненно, будут иметь важное значение для отечественной и мировой историографии, стимулируя обсуждения одного из самых важных событий XX века.
Великая российская революция: к столетней годовщине
ЮЛ. Петров
Столетие революции закономерно вызвало повышенный интерес со стороны профессионального сообщества историков и российского общества к общественно-политическим и социально-экономическим процессам, которые породили социальный взрыв 1917 года в России. В годы Первой мировой войны, на фоне обнищания населения, кризиса прежних властных институтов и ценностей, в воюющих странах повсеместно наблюдалась резкая радикализация общественных настроений. Популярными становились идеи социального переустройства мира. Россия оказалась в эпицентре этой эпохи великих потрясений. Здесь наблюдалось особенно сложное переплетение военных и революционных процессов, обусловивших масштаб, глубину и ожесточенность событий.
Великая российская революция 1917 года и начавшийся в ее результате «советский эксперимент» по силе воздействия на общемировые процессы признаны одними из важнейших событий XX века, как в свое время и Великая французская революция во многом изменила вектор развития западной цивилизации в XIX веке. Для современного российского общества актуальность истории революции обусловлена, прежде всего, объективно возросшей потребностью после длительного периода идеологического, политического и историографического мифотворчества, перейти к объективному осмыслению революции как исторически закономерного звена непрерывного исторического развития России.
В постсоветский период коренным образом изменилось восприятие революции в исторической памяти населения России. События 1917 года продолжают оцениваться как один из решаю¬
28 Российская революция 1917 года и ее место в истории XXвека
щих эпизодов национальной и мировой истории XX века, также приходит осознание того, что революция и спровоцированная ею Гражданская война принесли величайшие бедствия народу России (распад государства, экономический коллапс, громадная потеря населения от военных конфликтов и эпидемий и друрие). Изменилась и позиция власти, по инициативе которой день Октябрьской революции (7 ноября) перестал быть государственным праздником. Вместе с тем следует отметить, что современное государство не навязывает профессиональным ученым трактовок и оценок революции, как это было в советский период. Напротив, экспертные заключения науки являются основой для принятия государственных решений в области исторической политики.
Важным достижением научного сообщества стало утверждение представления о революции как о сложном и многофакторном процессе, а не одномоментном событии. На современном этапе многие российские и зарубежные ученые приходят к выводу о трактовке событий 1917-1922 годов как единой Великой российской революции ( The Great Russian Revolution), прошедшей в своем развитии несколько этапов, включая Февральскую, Октябрьскую революции и Гражданскую войну. Одной из основных тенденций современной историографии является отказ рассматривать революцию 1917 года как резкий и радикальный разрыв с предыдущими социально-политическими и экономическими практиками. Теперь революция оказывается частью системного кризиса империи, вызванного мировой войной и завершившегося только с окончанием Гражданской войны.
Данный подход позволяет преодолеть сохраняющуюся в историографии и общественном сознании дихотомию восхваляющего мифотворчества («революция - локомотив истории») и идеологически и политически ангажированного негативизма («революция - абсолютное зло»). При этом революционные события в современной исторической науке рассматриваются в качестве фактора, определившего все стороны политической, социальной, экономической и культурной жизни страны. Подчеркнем, что если в советское время отечественная и зарубежные трактовки революции в целом противостояли друг другу, то в постсоветскую эпоху наметилось формирование диалогичного, но единого историографического пространства. В последние годы отечественным и зарубежным исследователям удалось преодолеть идеологическое и политическое противостояние, выработать более взвешенные оценки по раду дискуссионных проблем российских революций.
ЮЛ. Петров 29
В свою очередь, это позволило приступить к реализации ряда крупных исследовательских проектов. Впечатляющим совместным трудом российских и зарубежных ученых стал «Критический словарь Русской революции: 1914-1921»1.
Следует отметить характерное для современных исследователей стремление раздвинуть хронологию революционных событий в России, анализировать их в более широком историческом контексте. Становится нормой рассматривать проблему в продолжительных хронологических рамках эпохи великих потрясений 1914— 1921 годов. Кроме того, центр тяжести изучения революции все отчетливее смещается от событий 1917 года в Петрограде и Москве к анализу революционных процессов в регионах России, в том числе в национальных районах.
Особое внимание уделяется роли Первой мировой войны в нарастании революционных процессов в стране. Как известно, Первая мировая война, ставшая и первой тотальной войной в истории человечества, потребовала мобилизации людских, финансовых ресурсов, производственных мощностей и перестройки системы управления народным хозяйством. Она стала громадным испытанием, которое Россия до 1917 года в целом выдерживала. Сокращение внутреннего валового продукта на душу населения за 1914-1917 годы в России составило около 18%, тогда как в Германии - свыше 20%, а в Австро-Венгрии - более 30%1 2. Военные противники, таким образом, испытали бблыний экономический спад, чем Россия. В целом уровень жизни населения страны снизился, но не критически. Экономический фактор нельзя поэтому считать достаточным для объяснения того, почему именно в России в ходе войны произошла революция (в других странах — после завершения войны). Во всяком случае, может считаться преодоленным известный ленинский постулат о «пауперизации масс» как главной предпосылке нарастания революционного кризиса в имперской России.
В последнее время в российской историографии все активнее ставится вопрос о том, что причины революции надо искать в противоречиях, порожденных стремительным характером модернизации страны, в трудностях перехода от традиционного общества
1 Критический словарь Русской революции: 1914-1921 / сост. Э. Актон, У. Розенберг, В. Черняев. СПб., 2014 (1-е изд. СПб., 1997).
2 Markevich A., Harrison М. Great War, Civil War, and Recovery: Russia’s National Income, 1913 to 1928 // The Journal of Economic History. 2011. Voi. 71. № 3. P. 672-703.
30 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
к современному, которые в силу ряда факторов оказались для России непреодолимыми.
Основной акцент при этом делается на анализе того, насколько правящая элита справлялась с вызовами времени с так называемым кризисом развития и понимала необходимость реформ. Согласно такому подходу революция в России произошла вследствие неготовности государства адекватно отвечать на вызовы времени, что привело его к столкновению с демократизирующимся обществом. Рост кризисных явлений не вел фатально к революции, однако действительно создавал предпосылки, реализовавшиеся в силу поражений на фронте, трудностей военного времени, а также противостояния нарождавшегося гражданского общества и авторитарной власти.
Социальное напряжение, усилившееся трудностями военного времени, вылилось в события Февраля 1917 года. Одним из центральных остается в историографии вопрос, были ли события Февраля результатом стихийного народного выступления или заранее подготовленного заговора «верхов»? Доминирующим в исторической литературе остается признание стихийного характера начала революции. Февральская революция стала триумфом бунтующей массы над ослабевшей властью, терявшей авторитет и даже веру в самое себя. События того времени вызвали стихию красной смуты3.
Вместе с тем в части историографии постсоветского периода российскую революцию признают результатом действий внешних злокозненных сил. Имеет хождение версия, согласно которой революция якобы не имела серьезных внутренних оснований, а была подготовлена и совершена сначала «безответственными либералами», а затем перехватившими у них власть большевиками на иностранные деньги. Конспирологический подход претендует на новизну, но на самом деле является достаточно архаичным, подменяя осмысление глобальных событий поиском таинственных злодеев. Большинство современных российских и зарубежных исследователей отвергают такой подход, который явно противоречит накопленному исторической наукой массиву данных о событиях столетней давности. Важным вопросом современной историографии революции остается поэтому проблема исторической памяти, изучение механизмов актуализации образа революции и практики его использования в политических целях.
3 Булдаков В.П. Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. М., 2010.
ЮЛ. Петров 31
В изучении Октябрьской революции особое внимание российского общества вызывает вопрос о роли Германии в финансировании политической деятельности большевиков. «Пораженческая» позиция Ленина и его сторонников объективно была выгодна Германии, и в условиях продолжающейся войны воспринималась как предательская. Однако Ленин как революционер-интернационалист не был платным агентом Германии, использовав помощь военного противника в собственных целях. Революция в России рассматривалась большевиками как «фитиль», от которого должен вспыхнуть пожар мировой революции.
Не менее актуально исследование влияния событий 1917 года на процесс самоопределения бывших национальных окраин и распад Российского государства. Отметим, что в случае с «национальным» ракурсом революции до сих прр остро стоит вопрос о том, являлись ли революционные события на Украине, Закавказье, Прибалтике и т.д. частью общероссийской революции, или их следует рассматривать как особые «национальные» революции. Историки большинства постсоветских стран склонны их «национализировать», отрывая от общеимперского контекста. Напротив, российские ученые изучают революционные события на всем пространстве бывшей империи как важнейший фактор складывания новой советской государственности.
Что же принесла революция народам России? Какими результатами обернулась для страны революционная стихия 1917— 1918 годов? Для ответа на эти вопросы, остановимся на ключевых сферах общественной жизни в революционную эпоху.
Международное положение России
После Февральской революции статус России как великой державы начинает падать, что завершается сепаратным выходом из мировой войны. Правительства держав Антанты всеми способами подталкивали Россию к продолжению активного участия в войне. Главным содержанием внешней политики Временного правительства оставалось сохранение верности союзническим обязательствам и продолжение войны «до конца» любой ценой. Однако после провала летнего наступления 1917 года российская армия окончательно утратила боеспособность — в глазах как союзников, так и противников Россия перестала восприниматься в качестве самостоятельного политического игрока, ее международный авторитет пошатнулся.
32 Российская революция 1917года и ее место в истории XXвека
Победа большевиков в Октябре 1917 года привела к тому, что проблемы внешней и внутренней политики тесно переплелись; строго говоря, сами эти понятия утратили привычное содержание. «Похабный», по оценке В.И. Ленина, Брестский мир, с одной стороны, позволил укрепить большевистскую власть, с другой - усилил дезинтеграционные процессы, обернувшиеся отпадением от России значительных окраинных территорий. Для большевиков сепаратный мир, помимо выхода России из мирового конфликта, означал затягивание войны на Западе, что содействовало углублению революционного кризиса в Германии и наступлению мировой революции, на чем основывался их главный стратегический расчет. Россия вышла из войны, как и было обещано большевиками в «Декрете о мире», но это не принесло спокойствия стране.
Экономика
Экономика России после Февраля 1917 года находилась в перманентном упадке. В военное время всем странам-участницам Первой мировой войны пришлось в порядке импровизации приспосабливать к новым условиям промышленность, транспорт и сельское хозяйство. За годы войны Россия, несмотря на относительное техническое отставание от ведущих экономик Запада, сделала качественный рывок в производстве вооружений. Однако кризис наметился в «гражданских» отраслях, прежде всего в топливнометаллургическом комплексе. Перевод части промышленности на военные рельсы привел к падению выпуска гражданской продукции и ее удорожанию, что неизбежно повлекло за собой негативные социальные последствия.
Политика Временного правительства значительно усугубила экономические, социальные и политические противоречия в стране. Требования 8-часового рабочего дня, повышения заработной платы, улучшения условий производства и участия рабочих организаций в управлении предприятиями во все большем масштабе создавали конфликтные ситуации, по которым так и не удалось достигнуть согласия. Противостояние «труда и капитала» стало решающим фактором экономической катастрофы.
События в деревне развивались под знаком аграрной революции. К сентябрю 1917 года в действующую армию было мобилизовано 15,8 млн мужчин, в большинстве крестьян - почти треть сельского трудоспособного мужского населения. Мобилизация
ЮЛ. Петров 33
мужчин изменила качество рабочей силы в деревне: повсеместным стал женский труд, распространенным - подневольный (военнопленных, около 550 тыс.) и массовый (беженцев и пр.), чаще всего малоэффективный. Между тем в связи с прекращением хлебного экспорта зерна в стране производилось достаточно для снабжения городов и действующей армии. Посевы 1916 года были лишь на 5% ниже, чем в 1909-1913 годах, а урожайность в сравнении с 1914 годом упала всего на 10%. Проблема заключалась в том, как получить хлеб из деревни в условиях расстройства транспортной системы и падения товарооборота между городом и селом, вызванного резким сокращением выпуска гражданской продукции. Царская власть из-за опасений социального взрыва не решилась применить систему жесткого нормирования распределения продовольствия (в форме карточек)4. В итоге продовольственный кризис зимы 1916-1917 годов послужил благоприятной почвой для массовых протестных движений, которые завершились Февральской революцией.
Временное правительство приняло ряд постановлений по урегулированию продовольственного вопроса («хлебная монополия»), отложив тем не менее устраивающее крестьян решение аграрного вопроса до Учредительного собрания. Отсутствие ясного курса правительства привело на местах к вспышкам крестьянских волнений, число которых ле^ом 1917 года значительно превысило масштаб крестьянской войны 1905—1907 годов. Социальная революция разрасталась, приобретая характер неизбежного нового политического переворота.
После Октябрьской революции, решившей земельный вопрос в пользу крестьян, организационные шаги новой власти носили характер своеобразных поисков методом проб и ошибок. Неудачные попытки организовать эффективное хозяйствование в рамках «рабочего контроля» и реалии разгоравшейся Гражданской войны в конце концов вынудили советских руководителей сделать ставку на широкомасштабную национализацию промышленности. С весны 1918 года экономика начала перестраиваться в соответствии с принципами «военного коммунизма». Расширение практики государственных заготовок, переросших в хлебную диктатуру Советского правительства, явились, по сути, последовательными шагами в этом направлении.
4 Gatrell Р Russia’s First World War: A Social and Economic History. Harlow: Pearson-Longman, 2005.
34 Российская революция 1917года и ее место в истории XX века
В финансовой области Временное правительство, признав обязательства прежней власти, в целом продолжило политику финансирования войны путем бумажно-денежной эмиссии и внутренних займов, однако масштабы этих операций в огромной степени возросли в связи с увеличивавшейся дезорганизацией экономической жизни. Отдельные попытки осуществить принципиально иные действия в этой сфере («Заем Свободы») остались незаконченными или провалились. Восемь послефевральских месяцев 1917 года оказались периодом нарастания жесточайшего финансово-экономического кризиса, усугубляемого растущей общественно-политической нестабильностью.
Политика большевиков в области финансов отличалась скорее импровизацией и реагированием на складывающуюся в данный момент ситуацию, чем следовала заранее продуманному плану. Необходимо учитывать большое влияние на нее Брест-Литовского мирного договора и российско-германского дополнительного соглашения 27 августа 1918 года. Ради мирной передышки, необходимой большевикам для сохранения власти, страна была вынуждена пойти на огромные финансовые жертвы (контрибуция в размере 6 млрд золотых марок, частично выплаченная до начала Ноябрьской революции 1918 года в Германии).
Политическое развитие
После Февраля 1917 года произошла стремительная трансформация властных институтов, складывание новой политической системы, в результате распада которой установилась советская власть. Если попытаться сформулировать основное направление революционного процесса в 1917 году, то его можно выразить формулой: от либеральной демократии к большевистской диктатуре.
Временное правительство заняло позицию «непредрешен- чества»: новый политический порядок должен быть установлен лишь Учредительным собранием. Однако на практике вся власть была сконцентрирована в руках правительства, которое являлось и законодательным, и распорядительным, и даже судебным учреждением. Силой обстоятельств Временное правительство было вынуждено осуществлять законотворчество, принимая значимые акты, существенно менявшие правовой уклад России. Оно невольно запустило процесс распада прежней конструкции власти, провозгласив Россию республикой 1 сентября 1917 года. Временное
Ю.А. Петров 35
правительство оказалось во власти стихии, с которой не могло справиться.
К осени 1917 года официально существовавшие государственные институты перестали быть доминантами в системе властных отношений. В политическую жизнь ворвались общественные структуры, которые явочном порядком захватывали власть (Советы).
В научной литературе Советы часто представляются органом власти, существовавшим параллельно с Временным правительством и до поры до времени делившим с ним полномочия. Проблема в их взаимоотношениях усматривается в дублировании функций, что приводило к неразрешимым конфликтам («двоевластие»). Эта историографическая конструкция сильно упрощает ситуацию, сложившуюся после Февраля 1917 года. Весной-летом 1917 года Советы в большинстве случаев на власть не претендовали, от нее дистанцировались, однако, как это ни парадоксально, чаще всего на практике располагали ею. Они осуществляли власть, фактически принимая законодательные решения (например, Приказ № 1), и при этом полагали, что лишь контролируют правительство.
Сложившееся как следствие авторитарной политической культуры представление о двоевластии в итоге не соответствует действительности. Безусловное влияние Советов на политическую жизнь бывшей империи свидетельствовало не столько о «двоевластии», сколько о разрушении властной вертикали и утрате управляемости страной. Управленческий кризис привел к активизации консервативных общественных сил, решивших сделать ставку на военную диктатуру, что соответствует общим закономерностям развития мировых революций.
После неудачного выступления Корнилова гражданское общество в России оказалось неспособно удержать страну от сползания к радикализму и экстремизму. Во многом такая логика политического развития страны была обусловлена особенностями эволюции России, традиционной гипертрофией роли государства, слабой укорененностью в общественном сознании правовых норм.
Новая большевистская власть эволюционировала от коалиционного социалистического правительства к однопартийной диктатуре, получившей законодательное закрепление в Конституции РСФСР 1918 года. Изначальные большевистские концепции не выдержали испытания временем и были отброшены новым правительством. В 1918 году уже не стоял вопрос о полновластии Советов, уничтожении административного аппарата, выборности чиновников, подконтрольности их трудящимся и т.д. На практике
36 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
самые широкие полномочия концентрировались в руках Совета народных комиссаров.
Конституция РСФСР 1918 года в значительной степени противоречила программным документам партии большевиков. Она частично отражала сложившиеся реалии, имея больше агитационное, чем юридическое значение. Это стало лишним подтверждением того, что государство, в привычном понимании, исчезало, чтобы возродиться уже на новых основаниях. Структурирующим элементом складывавшейся политической системы становился иррациональный миф о революции, заменивший на время силу государственной власти тотальным и неконтролируемым насилием.
Партийная конфигурация
Под влиянием революционного процесса 1917 года произошли качественные изменения российской партийной конфигурации. Крушение монархии привело к уходу с политической сцены консервативных партий, продемонстрировав тем самым их кровную связь со старыми властными институтами.
Существенные изменения претерпел спектр либеральных партий. Правый их фланг и центр (октябристы и прогрессисты), организационно распавшиеся еще в годы Первой мировой войны, предприняли попытку создания новых партийных структур. При этом лидеры этих партий, явно подстраиваясь под революционную реальность, вместо прежних умеренных программ предложили обществу более радикальные требования. Однако лишь кадетам удалось не только сохранить единство своих рядов, но и пополнить их за счет наплыва определенного числа бывших членов консервативных, праволиберальных партий и даже умеренных социалистов.
Значительные структурные изменения претерпел и социалистический спектр политических партий. С одной стороны, Февральская революция спровоцировала стремительный рост их рядов за счет представителей различных демократических страт («мартовские эсеры»), а с другой — проложила разделительные грани между умеренными и радикальными элементами внутри социалистического партийного блока. Первые считали возможным действовать совместно с либеральными партиями, прежде всего с кадетами, рассматривали Советы лишь в качестве рычагов воздействия на правительственный курс.
ЮЛ. Петров 37
Иной позиции придерживались представители радикального крыла социалистических партий во главе с большевиками, которые ратовали за дальнейшее «подталкивание» революционного процесса, за переход революции в качественно новую социальную фазу. Представители радикального крыла социалистических партий видели в Советах властные органы, которые не только должны постоянно «давить» на Временное правительство, но и сами планировать и осуществлять действия, направленные на радикальное преобразование страны. После июльских событий 1917 года эта позиция радикального крыла социалистических партий стала определяющей, приведя к захвату ими власти в октябре 1917 года под лозунгом «Вся власть Советам!».
Революция со всей очевидностью показала, что ни консерватизм, ни либерализм (как идеология и политическая практика) не смогли укорениться на российской почве. В ментальности большинства народа превалировали традиционные лозунги «Земля и воля», к которым во время мировой войны был добавлен новый - «Мир без аннексий и контрибуций». Те партии, которые безоговорочно поддерживали эти лозунги, получили массовую поддержку и в конечном счете одержали победу.
Российское общество в 1917 году
В российском обществе за годы войны численно выросли маргинальные группы населения, в том числе беженцы, военнопленные и другие, что усиливало социальную нестабильность. Удельный вес рабочего класса не превышал 20%, он отличался неоднородностью по уровню квалификации, оплате труда и другим параметрам. Петроград и Москва кардинально отличались от всей остальной городской периферии уровнем политического, экономического, социального, культурного развития, еще больший контраст существовал между городом и деревней.
Крестьянство составляло большинство населения и оставалось связанным немалыми сословными ограничениями, несмотря на отмену многих из них в период между февралем и октябрем 1917 года. В обществе в целом численно преобладали низшие, малообеспеченные слои при ничтожно малой доле высших, состоятельных групп, сохранялась колоссальная разница в имущественном положении. Вот почему идея справедливой уравнительности в распределении земли, жилищ, заработной платы, продоволь¬
38 Российская революция 1917 года и ее место в истории XXвека
ствия, пришедшая из традиционного общества, получила широкое распространение и реализовывалась в политике как Временного, так и Советского правительства. При этом крестьянству (и состоявшей из него армии) было по большому счету все равно, как будет достигнута эта уравнительность - в результате укрепления привычных традиционных начал или перехода к малопонятному ему социализму, к которому его подталкивали леворадикальные партии, большевики и эсеры.
В значительной степени рост социальной агрессии был связан с падением авторитета Церкви. Русская Православная Церковь выступала значимым, но идейно и политически неоднородным фактором революционного общества, хотя отнюдь не была, как считалось в советский период, «оплотом контрреволюции». Вместе с тем церковные круги, добившись после Февральской революции восстановления патриаршества, были в основном сосредоточены на решении внутрицерковных проблем. В самой церковной среде произошел своеобразный раскол между священниками и дьяконами, белым и черным духовенством, пастырями и паствой. В итоге Церковь не смогла стать духовным объединительным центром страны.
В широких слоях общества крепло представление, что «власть все может», а потому «своя» власть обязана решить все насущные вопросы - прежде всего, вопросы о мире и о земле. Такие представления неуклонно дестабилизировали политическую ситуацию. Последующее развитие массовых движений происходило не под знаком демократии, а по принципам корпоративного само- выживания в условиях нарастающего хаоса.
Разложение армии нарастало из-за нежелания солдат участвовать в наступательных операциях. События в деревне развивались под знаком крестьянской общинной революции, направленной против помещиков. К моменту захвата власти большевиками земельный вопрос в России уже был принципиально решен так, как этого желало крестьянство. Декретом о земле и Основным законом о социализации земли от 27 января (9 февраля) 1918 года советская власть утвердила итоги этого стихийного движения. Декрет о земле фактически узаконил насильственный захват помещичьей земли.
После Февраля 1917 года наметилось расширение требований национальных политических элит, начавших активно выступать за политическую самостоятельность своих регионов. По сути, революция стала главным фактором распада единого Российско¬
Ю.А. Петров 39
го государства. В значительной степени тон национально-сепаратистского движения задавала украинская Центральная рада.
При этом в деятельности национальных организаций так называемых малых народов преобладали вопросы культурного строительства (особенно у мусульман) и местной автономии. Мусульмане ожидали Учредительное собрание, возлагая надежды на новое государственное устройство. После его роспуска стало ясно, что советская власть, вопреки своим официальным заявлениям и лозунгам, нарушила свободу самоопределения народов. Тем не менее, несмотря на усилия разных политических сил радикализировать российских мусульман в 1917 году, большинство из них, испытывая сильное влияние религиозных установок, придерживалось позиций социального непротивления. В то же время мусульмане пытались сорганизоваться, чтобы не погибнуть в Гражданской войне, в которую их втягивали противоборствующие силы.
Постепенно в массовых движениях нарастали бунтарские и охлократические тенденции. В этих условиях в октябре 1917 года большевики смогли перехватить власть с помощью радикально настроенных солдат, не желавших участвовать в войне. Опираясь на их поддержку, большевики осуществили разгон Учредительного собрания. Приход большевиков к власти вызвал рост социальной агрессии. По всей России прокатилась череда продовольственных и пьяных погромов. Резко возросло число самосудных акций в городе и деревне.
Важно подчеркнуть, что традиционное представление о «триумфальном шествии советской власти» не подтверждается исследованиями последних лет. Период с осени 1917 до весны 1918 года стал не столько триумфальным шествием, сколько новым витком политической борьбы, которая пока не перешла в фазу масштабного вооруженного противостояния. Власть на местах устанавливали не столько болыиевизированные Советы, сколько вооруженные солдатские массы. Фактически приход большевиков к власти стал началом Гражданской войны в России.
Революция и культура
1917 год принес революцию в культуру, поставив вопрос о своеобразии эпохи как пространстве взаимодействия логоса культуры и стихии революции. Российская революция была отмечена тем, что логос культурного освоения новой реальности явно проигры¬
40 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
вал стихии охлоса, успешно преобразуемой большевизмом в новых формах контркультуры.
При этом вскрылся целый ряд порожденных революцией трудностей в деле осмысления и вербального отражения культурной действительности, в числе которых временная отмена всех иерархических отношений, привилегий, норм и запретов; стремительное появление и развитие особого языка символов и метафор; новое прочтение старых культурных смыслов; идейный разлом внутри прежде единых профессиональных и культурных корпораций.
Февральская революция стала настоящим эмоциональным взрывом, особенно захватившим культурные верхи. Октябрьская революция, напротив, произошла в обстановке эмоциональной фрустрации верхов и агрессивной мобилизации низов, стремившихся к разрушению «барской» культуры. В результате культурные ожидания верхов, связанные с демократизацией общественной жизни, натолкнулись на стремление низов навязать свои архаичные культурные представления и, соответственно, покончить с раздражающими или «мешающими» элементами элитарной культуры.
Непомерно высокая цена, которую заплатила Россия в XX веке за революционный эксперимент, во многом стала следствием того, что элиты страны (культурная и политическая) не справились с исторической задачей перевода смыслов традиционного патриархального общества на язык цивилизации модерна. Жесткие, травмирующие действия пришедших к власти большевиков были этически неприемлемыми для значительной части населения страны, однако исторически обусловленными ответами на реальные, назревшие вопросы российской действительности.
Великая российская революция 1917 года на долгие десятилетия предопределила развитие России, да и всего мира. Идеология социалистического мироустройства, под флагом которой большевики пришли к власти в октябре 1917 года, оказала серьезное воздействие на страны Запада, где с 1920-х годов под влиянием советской России начался переход от классической модели капитализма свободной конкуренции к строительству социального государства. На Востоке события российской революции вызвали мощную волну леворадикальных движений, приведших в ряде стран к установлению советской модели общественного устройства.
В исторической литературе давно утвердилось понятие «долгий XIX век», который, в отличие от астрономического, начался
ЮЛ. Петров 41
в 1789 году с Великой французской революции, а завершился с началом Первой мировой войны. Исторический XX век для человечества оказался, напротив, короче, поскольку его досрочное окончание в 1991 году оказалось связано с распадом того государства, которое было порождено Великой российской революцией.
Узловые проблемы истории России XX века, связанные с революцией, неизменно актуализируются и по-своему прочитываются на каждом новом этапе исследования. Осмысление событий, которые привели к масштабному «советскому эксперименту», остается актуальной задачей и современных историков.
Русская революция 1917 года - национальная или колониальная?
Элен Каррер д’Анкосс
17 марта 1917 года Морис Палеолог, посол Франции в России, внимательно следивший за событиями, которые привели к перевороту в империи, записал в дневнике: «Французская Революция начала с объявления Республики единой и неделимой1. Этому принципу принесли в жертву тысячи людей, и французское единство было спасено. Русская Революция берет лозунгом: Россия разъединенная и раздробленная...»1 2.
Палеолог с самого начала предвидел то, что оставили без внимания многие наблюдатели - нации «вторгаются» в дело революции, происходит быстрая трансформация социальной революции в большое количество революций национальных.
Неожиданно стали чрезвычайно актуальными дискуссии, бушевавшие в среде русских социал-демократов до войны и не раз побуждавшие Ленина к высказыванию. Не вдаваясь сейчас в подробности тех споров и обсуждений, напомним лишь, что Ленин, начиная с 1913 года, пытался убедить членов своей партии в том, что свергнуть империю, угнетавшую различные народы - украинцев, поляков и многих других, - было необходимо для успеха дела пролетариата. Он поднимал вопрос о связи между социальной и национальными революциями, хотя и не определял пока что со всей четкостью места наций в революционной стратегии. Идеи Ленина по национальному вопросу соотносились также (и подоб¬
1 Здесь и далее выделение курсивом принадлежит автору. — Прим, перев.
2 URL: http://istmat.info/node/25189
Элен Каррер д’Анкосс 43
ное измерение ленинская мысль приобрела еще раньше) с колониальным миром за пределами Европы, прежде всего, в Азии.
В 1907 году, комментируя Штутгартский конгресс II Интернационала, Ленин сформулировал следующую мысль: рабочие европейских стран, где проводится колониальная политика, рискуют из-за нее оказаться в ситуации, сходной «с той, в какой оказались пролетарии древнего мира, жившие за счет общества вместо того, чтобы содержать общество своим трудом. Однако класс неимущих, но не трудящихся, не способен ниспровергнуть эксплуататоров»3.
В 1907 году Ленин не развил эту мысль, но он был убежден в том, что колониализм разлагает и страны, которые извлекают из него пользу, и пролетариев в этих странах. Россия, родина Ленина, как раз и была одновременно и многонациональной империей, и крупной колониальной державой. С началом Первой мировой войны Ленин принимается развивать эти идеи. Он понял к тому времени, что русский пролетариат не был способен начать революцию, однако отметил большой потенциал у народов на окраине Российской империи, где с 1916 года угнетенное положение коренного населения приводило к крупным восстаниям в казахско-киргизской степи. Эта идея высказана в работе Ленина «Социалистическая революция и право наций на самоопределение», опубликованной в апреле 1916 года. Ленин обосновал такой новый вид революционных действий, при котором использовалась бы стихийная энергия испытывающих недовольство народов, готовых к борьбе и рвущихся в бой. Разногласия, возникшие после этой статьи между Лениным и Розой Люксембург, которая, под псевдонимом Юниус, резко высказалась в статье «Кризис социал-демократии», позволили Ленину прояснить свою позицию в ответной статье. В ней говорилось: «Национальные войны против империалистических держав не только возможны и вероятны, они неизбежны и прогрессивны, революционны, хотя, конечно, для успеха их требуется [...] одновременное восстание пролетариата одной из крупных держав против буржуазии (этот [...] случай является первым с точки зрения желательного и выгодного для победы пролетариата)»4-
1917 год подтвердил уверенность Ленина в том, что нации представляют собой «горючий материал», как он отметил это в 1908 году: «Революционное движение в разных государствах
3 Ленин В,И. Полное собрание сочинений. М., 1973. Т. 16. С. 69.
4 Там же. Т. 30. С. 9.
44 Российская революция 1917 года и ее место в истории XXвека
Европы и Азии дало знать о себе за самое последнее время так внушительно, что перед нами обрисовывается довольно ясно новый и несравненно более высокий, чем прежде, этап международной борьбы пролетариата»5. Стоит напомнить, что это замечание в первую очередь, относилось к движению младотурок.
Конец монархии в феврале 1917 года вызвал у всех народов России большие надежды на провозглашение равноправия, чего они поначалу ожидали от Временного правительства. Однако 25 апреля Петроградский Совет проголосовал лишь за установление культурной автономии, тогда как события и разгоревшиеся страсти уже ушли далеко вперед. Народы разочаровались в новой власти в России, и дальше каждый народ по-своему встал на путь того, что ему представлялось революцией. Ленин навязал партии свои идеи, и на VII Всероссийской конференции РСДРП в апреле 1917 года Сталин, защищая право народов на отделение, так прокомментировал это: «С нашей стороны остается, таким образом, свобода агитации за или против отделения, в зависимости от интересов пролетариата, от интересов пролетарской революции»6. Партия поддержала предложение Ленина (вопреки позиции Пятакова и Дзержинского, заявлявших, что признавать национальные устремления народов означало лишь играть на руку буржуазии, которая взамен раздавит революционеров), однако лишь потому, что депутаты конференции осознали взрывоопасный потенциал национальных движений. В то же время для большинства большевиков это была лишь временная, тактическая уступка в связи со сложившейся ситуацией.
Империя распалась через нескольких месяцев, но у большевиков не было контроля над ситуацией, и они не извлекли из нее никакой реальной выгоды. Здесь нет смысла вдаваться в подробности развала Российской империи (эту проблему исчерпывающе проанализировал Ричард Пайпс); приведем лишь несколько примеров трудностей, с которыми столкнулись большевики. Таким примером не может служить Польша: она, действительно, обрела независимость в октябре 1917 года, но это случилось в результате войны и германской оккупации. Большевикам оставалось лишь ратифицировать отделение Польши. Если в 1918 году Ленин заявил, будто отделение случилось благодаря стремлению большевиков к равенству народов, то в 1920 году он уже выступил за войну
5 Ленин В,И. Полное собрание сочинений. М., 1973. Т. 17. С. 174.
6 Сталин И.В. Сочинения. М., 1946. Т. 3. С. 52.
Элен Каррер дЛнкосс 45
с Польшей и, апеллируя к принципу пролетарской солидарности, который он постоянно отстаивал, за поддержку революции в ней.
С другой стороны, в этом отношении представляет интерес пример Финляндии. В сентябре 1917 года в ней царит революционная ситуация, согласно ленинскому пониманию этого термина. Финская социал-демократическая партия была хорошо организованной силой. 18 декабря 1917 года большевики признали буржуазное правительство Маннергейма и, тем самым, существование независимого финского государства. Но, спохватившись, они опротестовали это решение, обратившись к иной - а именно к пролетарской - модели самоопределения. 15 января 1918 года Совет народных уполномоченных, поддержанный отрядами Красной Армии, находившихся на территории Финляндии, свергнув правительство, взял власть в свои руки и провозгласил Финскую социалистическую рабочую республику, которая 1 марта подписала договор о дружбе с Советской Россией. Правительство Маннергейма призвало на помощь Германию, чье вмешательство уничтожило социалистическую республику. Ее лидеры бежали в Советскую Россию. Крах финской революции - первое в череде будущих поражений (в Берлине, в Баварии, в Венгрии и в Австрии) - вызвал сильное недоумение большевиков, воспринимавших национальные революции как действенное средство. Как же, в таком случае, его использовать? «Буржуазная» революция Маннергейма была успешной из-за германской поддержки. Действие же «пролетарского» рычага, на который до начала вооруженного захвата власти в Хельсинки уповал Ленин, оказалось недостаточным. Финские революционеры были социал-демократами, приверженцами формальностей и законности, и потому оказались плохо подготовленными к тому, чтобы действовать в условиях государственного переворота.
Аналогичная неопределенность также сковала действия большевиков в Эстонии и Латвии. Там в октябре 1917 года установилась советская власть, но советские правительства были свергнуты германскими войсками. Позже, когда Германия оказалась в кризисе, большевики внедрили и там финскую модель пролетарского самоопределения, что привело в декабре 1918 года к созданию Эстлянд- ской Трудовой Коммуны и правительства фабричных рабочих, безземельных крестьян и красных стрелков в Латвии. Ленин аплодировал этим событиям: национальная революция переросла в социалистическую. Но на этот раз вмешалась Англия. Ее флот поддерживал восстановление национальных правительств, тогда как болыиеви-
46 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
ки, парализованные Гражданской войной (в тот момент генерал Юденич использовал страны Балтии как свою базу), вынуждены были смириться с необходимостью признать независимость этих государств и их границ в феврале и в августе 1920 года.
В 1920 году, после некоторого периода уныния и безысходности, Ленин уверовал в новый революционный подъем, в возможность использовать в качестве трамплина для этого Польшу. В Литве национальное правительство, которое поддерживала Германия, в декабре 1918 года сменилось революционным правительством. Здесь вновь проявилась финская модель. Затем, в феврале 1919 года, возник эфемерный союз Литвы и Белоруссии, ратовавший за сближение с Советской Россией. В 1920 году Белоруссия вернулась в рамки своей изначальной территории, но поскольку ее не поддерживала какая-либо иностранная держава, она оказалась обязана своей независимостью Советской России, что свидетельствовало о решении национального вопроса в духе интернационализма. Не удивительно, что в этой ситуации большую часть своих государственных полномочий Белоруссия делегировала России.
Не будем вдаваться в подробности сложных перипетий истории Украины между 1918 и 1920 годами. Достаточно не упускать из виду тот факт, что вскоре после совершения Октябрьской революции Украина на практике реализовала две формы революционного самоопределения: там существовала республика [Украинская Народная Республика], которую 19 ноября 1917 года провозгласила Рада (украинский парламент), а также Украинская Народная Республика Советов, провозглашенная Первым Всеукраин- ским съездом Советов (проходил 24-25 декабря 1917 года7) как часть федеративной Российской Советской Республики. В Брест- Литовске была признана республика, провозглашенная Радой, ее поддержали центрально-европейские империи. Но тут Красная Армия захватила Киев, столицу этой республики, и упразднила ее. Германия решила поддержать украинскую независимость, но встала на сторону не провозглашенной Радой республики, а той, которую возглавил гетман Скоропадский. Занять территорию Украины и захватить ее богатства было давней мечтой Германии. Вместе с тем из-за Украины вспыхнули внутренние разногласия в большевистском лагере. Для Ленина замирение Украины было наиважнейшей задачей, связанной с безопасностью советского
7 В оригинале статьи датой провозглашения Украинской Народной Республики Советов указывается 28 января 1918 года. - Прим, перев.
Элен Каррер дАнкосс 47
государства. Вслед за столь бурными событиями в этих республиках он хотел провести переговоры о мире. Поэтому Ленин выступил против планов всеобщего восстания, предложенных Пятаковым, основателем первой советской республики (Г.Л. Пятаков был недолгое время, с 28 ноября 1918 по 16 января 1919 года, председателем Временного рабоче-крестьянского правительства Украины. - Прим, перев.) и противником раздела. Пятаков призывал украинцев начать всеобщее восстание, нападать на германские войска, но Ленин отверг такое решение из соображений государственной безопасности.
После заключения договора в Брест-Литовске и поражения Германской и Австро-Венгерской империй Ленин смог настоять на своей позиции по отношению к Украине. Выполнять его директивы теперь должен был Раковский. При этом преследовались две цели. По мысли Ленина, независимость Украины нужно было признать, чтобы не провоцировать кризис, который мог оказаться опасным для России. Он защищал свою позицию, споря с Бухариным и Пятаковым, которые считали, что во главу угла следует поставить принцип пролетарского самоопределения. Но он заявлял также, что единство партии (а за пределами этого и уже как задел на будущее — более масштабное единство славянских народов) диктуется экономическими потребностями России. Так сохранилось российское вмешательство на Украине.
В конечном счете Украина смогла воспользоваться правом наций на самоопределение лишь в тот период, пока сохранялось давление иностранных держав на Россию. Когда с 1920 года Россия вступает на путь нормализации, Украине придется проститься с независимостью, которая, казалось, была ей гарантирована в Брест-Литовске. Украина слишком понадеялась на Германию, а затем на Францию; в 1920 году она осталась в одиночестве.
Картина происходившего на Кавказе была не менее сложна. Вот лишь краткое описание революционных событий. Происходившее напрямую зависело от международной ситуации в целом, и большевикам также приходилось в соответствии с этим модифицировать свою стратегию. В октябре 1917 года три закавказских государства — Грузия, Армения и Азербайджан - попытались объединить усилия в рамках Закавказского комиссариата, во главе которого встал социал-демократ из Грузии. Однако после заключения Брестского мира большевики единолично решают вопросы территориальных уступок Турции в Закавказье, проявив, тем самым, колониалистское отношение к Кавказу. Это, в свою очередь,
48 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
привело к разделению Закавказского комиссариата на три независимых государства - Грузию, в которой правили меньшевики, Армению, где во главе встали дашнаки, и Азербайджан, за исключением Баку, в котором существовала большевистская коммуна во главе с Шаумяном. Все осложнялось такими факторами, как угроза со стороны Турции, присутствие германских войск и белогвардейских сил, поэтому эти независимые государства были дестабилизированы и уничтожены. Угроза со стороны Турции позволила большевикам занять Азербайджан в апреле 1920 года и Армению в ноябре 1920 года, и только меньшевистская Грузия смогла просуществовать до 1921 года, благодаря заинтересованности в ее судьбе сначала со стороны Германии, а затем Великобритании и европейских социалистов. Но в 1921 году и Грузия утратила независимость. С точки зрения Ленина, Кавказ, как и Украина, был жизненно важен для России по экономическим соображениям. Долго продержаться самоопределение не могло - независимо от того, провозгласили ли его националистические силы или социал-демократы.
Совершенно иная картина сложилась в Средней Азии, которая стала местом свершения колониальной революции. В Туркестане — колонизованной территории — параллельно шли две революции: пролетарская революция русских солдат, рабочих и поселенцев, которые видели в переменах, прежде всего, способ защиты российских интересов; национальная революция, которую возглавляли образованные представители местной буржуазии - они установили центр своей национальной автономии в Коканде. Националисты сопротивлялись большевикам в Бухаре, Хиве, Мерве в Закаспии, а также в казахско-киргизской степи. В течение некоторого времени большевикам приходилось совмещать интересы России и требования национальных меньшинств (как в случае с башкирами и киргизами) или же безоговорочно принимать ту или иную сторону.
Для Ленина в 1919 году, когда прекратились иностранное давление (на этот раз со стороны Англии) и Гражданская война, характер борьбы прояснился, и он решил, что колонию нужно освободить, оттеснив националистов за рамки политической жизни и восстановив инициативу в ней для русского пролетариата. Но национальный контекст принуждал его постоянно маневрировать между применением силы и поисками компромиссов.
В 1920 году, когда положение в России стабилизировалось, проблемы, поднятые среднеазиатскими революциями, обсуждались на II конгрессе Коминтерна. В дискуссиях принималось во вни¬
Элен Каррер д’Анкосс 49
мание многообразие проявлений революционного опыта в России. Конгресс Коминтерна проходил в тот период, когда еще были надежды на распространение революции в европейских странах. Они должны были, как предполагалось, воплотиться в действительность в Польше. В июне-июле этого года Красная Армия под командованием Тухачевского смогла заставить польско-украинские войска отступить. До этого они под командованием Пил- судского и гетмана Петлюры на некоторое время захватили Киев. Между тем в Красной Армии воевали царские офицеры, которые не могли допустить того, чтобы восторжествовали польские территориальные притязания, антирусские или антисоветские амбиции. В июле Красная Армия вышла к границе Польши. Для Ленина тогда возник вопрос: является ли теперь этот конфликт между русскими и поляками проблемой международных отношений или же он представляет собой первый этап революционного скачка? Национальная война могла — и Ленин сейчас хотел именно этого - превратиться в революционную войну, которая всколыхнула бы Польшу и перенесла революцию на территорию Германии. Когда же в 1917 году Бухарин выдвинул тезис о превращении войны в революционную войну, Ленин отверг его как на тот момент утопический.
Атмосфера, в которой проходили дебаты II конгресса Коминтерна, открывшегося 21 июля 1920 года, отличалась ожиданиями новых революционных свершений. Ленин, понимая, что дискуссии по международной стратегии учитывали опыт революций в России, произошедших, в том числе, на национальных окраинах и колонизованных территориях, сказал: «Всемирный империализм должен пасть, когда революционный натиск эксплуатируемых и угнетенных рабочих внутри каждой страны [...] соединится с революционным натиском сотен миллионов человечества, которое до сих пор стояло вне истории, рассматривалось только как ее объект»8. На его слова яростно обрушился Серрати, считавший, что центр революции находился в Европе, и поэтому, заявил он, Коминтерн обязан признать главенствующее положение этого центра. На взгляд Серрати, ленинская позиция представляла опасность для пролетариата западных стран. С другой стороны, делегат из Индии, Манабендра Рой, высказал мнение, что революция на Западе не может произойти без соответствующего вклада со стороны освободительных движений на Востоке: «...Судьба революци¬
8 Ленин В.И. Поли. собр. соч. Т. 41. С. 233.
50 Российская революция 1917 года и ее место в истории XXвека
онного движения в Европе всецело зависит от хода революции на Востоке. Без торжества революции в восточных странах коммунистическое движение на Западе может быть сведено на нет...»9.
Ленин высказал свои возражения по обеим позициям, поддержав более умеренный и лишенный крайностей подход к революции, и II конгресс Коминтерна встал на его сторону. Более того, делегатов конгресса мало интересовала эта дискуссия, происходившая в узком кругу, поскольку они были убеждены, что теперь в связи с польской кампанией началась мировая - то есть в первую очередь распространяющаяся по всей Европе - революция. Делегаты рвались в свои страны, чтобы принять участие в наступающей вот- вот революции, а поэтому для них российская модель революции, предложенная Лениным, представлялась не столь важной. Правда, эти революционные надежды ненадолго пережили сам конгресс. Хотя поляки, ожидавшие получить помощь от союзных держав, так ее и не дождались, в Варшаве их надежды были вполне реализованы: когда национальная солидарность против русского вторжения столкнулась с социалистической, на которую рассчитывали русские, победу одержало польское национальное самосознание. Красная Армия потерпела поражение от войск Сикорского и от сил гражданского народного сопротивления. В Рижском мирном договоре между странами, подписанном в марте 1921 года, вообще ничего не говорилось о взаимоотношениях между пролетариями. Эра революций и революционной солидарности закончилась.
В довершение краткой истории российского революционного опыта упомянем Первый съезд народов Востока, созванный в Баку по инициативе Коминтерна, чтобы продолжить дискуссию, начатую Лениным и М. Роем. В отличие от II конгресса, отличавшегося революционным подъемом, съезд в Баку (1-9 сентября 1920 года) проходил на фоне польской катастрофы и общего разочарования среди революционеров. Ленин, ощутивший силу польского национального чувства и столкнувшийся с пассивностью пролетариата в Германии в тот момент, был убежден, что будущее мировой революции зависит от тех, кто находится «в тылу» западного пролетариата. Съезд в Баку никак не поддержал позицию Ленина, которого представляли Зиновьев, председатель съезда, а также Бела Кун и Карл Радек. Здесь марксистская (то есть западная) концеп¬
9 В.И. Ленин на II конгрессе Коминтерна: В.И. Ленин и Коммунистический Интернационал. М.: Политиздат, 1970 // URL: http://leninism.su/ books/4226-vilenin-i-kommunisticheskij-internaczional.html?showall=&start=4 (дата обращения: 19.04.2017).
Элен Каррер д’Анкосс 51
ция революции рассматривалась уже в противовес специфически восточной концепции, когда главные выступавшие, представители Востока, для подтверждения своих теорий ссылались на опыт именно русских революций. Для них будущее революции было на Востоке, в освободительном движении, которое там распространялось. Кроме того, именно в России, в самой отсталой европейской стране, к тому же расположенной и в Европе, и в Азии, победила революция. Только в России и нигде больше. Поэтому социальные и политические условия, характерные для стран Востока, - значительный удельный вес крестьянства, национальные чувства - следовало учитывать в первую очередь, вырабатывая стратегию революционного движения. Эти идеологические установки, которые принес на периферию России в 1919 году татарский коммунист Султан-Галиев и которые были поддержаны в Баку представителями Туркестана Рыскуловым и Нарбутабековым, не только оставляли приоритетной идею «колониальной» революции как надежды для мировой революции, но и закрепляли представление о разделении коммунизма на западный и восточный, отдавая приоритет последнему. Коминтерн устами Зиновьева, Радека, Куна и Павловича попытался смягчить такую позицию. Для этих представителей коммунистического центра революция в странах Востока не являлась альтернативой западной революции. Поэтому, хотя они и вынуждены были признать необходимость учитывать специфику восточных революций, они делали это с оговорками, полагая такое признание временным и ограниченным. Целью Коминтерна по-прежнему была мировая революция на Западе, пусть даже и приходилось принять такую стратегию, которая сближала бы обе революции. Ленин, со своей стороны, осознал, что единственным центром революции является Россия - единственное государство, рожденное революцией. Отныне ему предстояло действовать в качестве главы государства, чтобы спасти завоевания русской революции - революции многогранной, как сама Россия, раскинувшаяся между Западом и Востоком.
Великая российская революция в Петрограде: шесть вопросов
А. Рабинович
В данной статье я хочу сосредоточиться на шести вопросах относительно моего жизненного профессионального интереса к Русской революции в Петрограде.
1. Первый вопрос - как я, молодой американец, впервые заинтересовался этой темой и с какой точки зрения?
Ответ кроется в моем детстве. Мой отец Евгений Исаакович Рабинович, родившийся в Петербурге, был известным физхими- ком и публицистом. Моя мать, из Украины, была актрисой русского театра. Оба бежали из России в 1918 году и поселились в Соединенных Штатах накануне Второй мировой войны. Так случилось, что в мои ранние годы моя семья была частью общины выдающихся русских эмигрантов на восточном побережье Соединенных Штатов. С некоторыми из этих эмигрантов мы проводили летние месяцы в горах Вермонта недалеко от Нью-Йорка и Бостона. Среди них были такие фигуры, как Владимир Набоков, Александр Керенский, Георгий Вернадский, Михаил Карпович, Владимир Зензинов, Иракли Церетели и Борис Николаевский. Для этих выдающихся русских эмигрантов приход к власти большевиков был результатом преступного заговора без какой-либо значительной народной поддержки, который финансировали немцы. От них я впервые познакомился с русской революцией. Вполне естественно я впитал их взгляды. Также мои негативные взгляды на исход революции усилились преобладающей атмосферой враждебности по отношению к Советскому Союзу, характерной для холодной
А. Рабинович 53
2. Этот ответ неизбежно вызвал второй вопрос: что изменило мое мнение. Была ли это идеология, Вьетнамская война или что-то другое?
Ответ прост. Мои взгляды изменили горы соответствующих данных из архивных документов и газет, выходящих из моих первоначальных профессиональных исследований революции. Они нарисовали картину фундаментальной политической и социальной революции, которую я, по чистой совести, просто не мог игнорировать.
3. Третий вопрос, редко поднимавшийся до этого столетнего юбилейного года даже среди эмигрантов, которых я знал
в юности, относится к свержению Николая II. Вылили события Февраля 1917 года, которые привели 300-летний русский царский режим к внезапному концу и к созданию Временного правительства, заговором или настоящей народной революцией?
Идея о том, что Февральская революция была заговором узкого круга русских генералов, масонов и / или западных либералов против законного стабильного Российского государства опровергается огромным, убедительным корпусом подтверждающих исторических документов. Эти доказательства убедительно показывают, что свержение царского режима было результатом глубокой, по существу спонтанной общенародной революции. Теоретиками тайного заговора игнорируются два важных момента. Во-первых, Февральская революция была сюрпризом для всех политических партий и групп в России. Во-вторых, революция в Петрограде распространилась по всей Российской империи с незначительным сопротивлением.
4. Почему либералы, которые возглавили новое русское Временное правительство потеряли влияние и власть
так быстро? И наоборот, как большевики смогли завоевать значительную политическую поддержку и набрать силу так быстро?
Главные цели умеренных либералов заключались в поддержке военных усилий союзников и формировании либерально-демократического правительства западного типа в народно избранном Учредительном собрании. Однако большая часть обычных россиян не разделяли эти цели. Рабочие, крестьяне и солдаты больше всего стремились к немедленному прекращению участия России
54 Российская революция 1917года и ее место в истории XXвека
в долгой, страшной, мировой войне и быстрому улучшению их повседневной жизни. Временное правительство и даже Советы, возглавляемые умеренными социалистами, с самого начала были обременены существенным напряжением между целями элиты и народными желаниями. Иными словами, все основные политические партии России, кроме партии большевиков, были скомпрометированы в народном сознании из-за своей поддержки внешней и внутренней политики Временного правительства. Это дало большевикам огромное преимущество в период между Февральской и Октябрьской революциями.
5. Еще один вопрос, который мне часто задают [пятый] - в первую очередь я пытался достичь в своих исследованиях и публикациях?
Во время холодной войны моя цель состояла в том, чтобы найти более четкое понимание заклятого врага Америки - коммунистического Советского Союза и динамики того, что я изначально предполагал — узурпации власти большевиками. Однако, чем больше я углублялся в источники, тем больше результаты моих исследований отличались от традиционной западной, а также советской интерпретации. После этого моя цель состояла в том, чтобы воссоздать политику большевиков и их связь с развивающимися народными устремлениями в период крупных политических и социальных потрясений, которые произошли в революционном Петрограде. Во всей моей работе я стремился объективно реконструировать события, признавая, что не существует абсолютных исторических истин, но что даже приблизительная точность прошлого может дать полезные уроки. Я также стремился обосновать свое повествование как можно большим количеством взаимодополняющих документов.
6. Чем отличаются мои выводы о партии большевиков
в 1917 году и причины ее победы от стандартных западных толкований?
Объяснения западных историков традиционно были близки к объяснениям русских эмигрантов. Традиционно, западные историки также рассматривали партию большевиков как небольшую заговорщическую дисциплинированную группу революционных экстремистов, жестко контролируемую Лениным. Подобным образом они изображают большевистскую «победу» как следствие великолепно организованного военного переворота. Для них
А. Рабинович 55
быстрое навязывание однопартийного, ультра-авторитарного коммунистического руководства вытекает из марксистско-ленинской идеологии и большевистской теории, и практики в 1917 году. Однако огромный объем данных, которые мы имеем в настоящее время, напротив, подтверждает документами тот факт, что после свержения царского режима партия большевиков в Петрограде превратилась в настоящую массовую политическую партию. После крупного, почти катастрофического провала в середине лета (я имею в виду неудачное Июльское восстание), партия черпала большую силу благодаря своей численности и своим тщательно развиваемым интерактивным связям с простыми гражданами (фабричными рабочими, солдатами Петроградского гарнизона и моряками Балтийского флота). Партия также выиграла от значительного разнообразия во взглядах и активных дебатов по соответствующим революционным действиям среди своих лидеров.
Эти данные также убедительно показывают, что осенью 1917 года политическая программа большевиков, призывающая к немедленному миру и передаче всей власти Советам, получила широкую народную поддержку в Петрограде. Кроме того, эти данные показывают, что приход партии к власти не был результатом классического переворота, изображенного в стандартных западных и современных российских оценках. Также события Октября не были народным вооруженным восстанием, отраженным в советских оценках. Скорее, это было результатом постепенного, продуманного и широко поддерживаемого мирного подрыва Временного правительства в пользу многопартийной, исключительно социалистической советской власти. Лишь после того, как этот первый, предварительный этап революции завершился и судьба Временного правительства фактически окончательно решена, под руководством большевиков начались боевые действия, которые укрепили свержение правительства. Эти действия привели к аресту членов кабинета Керенского в Зимнем дворце, что, в свою очередь, отдалило все умеренно-социалистические партии от большевиков. В первый раз был открыт путь к формированию исключительно большевистского правительства во главе с Лениным. Все это подтверждается документами в моей второй книге «Большевики приходят к власти».
Один последний момент. Когда я впервые начал профессиональное историческое исследование, я придерживался традиционной периодизации 1917 года, согласно которой Февральская
56 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
и Октябрьская революции были определенными, отдельными историческими событиями. Поэтому я назвал свою первую книгу об Июльском восстании «Prelude to Revolution». Тогда мне показалось, что это безуспешное восстание было введением в главное событие - «Красный Октябрь». Больше я так не думаю. В свете столетия Февральская революция, Июльское восстание, Октябрьская революция, ликвидация Учредительного собрания, и даже длинная и кровавая Гражданская война представляют собой критически важные этапы глубокого политического и социального процесса. Этот процесс можно назвать «Великой русской революцией». Какой бы ни был на нее взгляд, я полагаю, что можно согласиться, что Великая русская революция была одним из формирующих исторических событий XX века.
Основные этапы Великой российской революции
А.В. Шубин
Что такое Великая российская революция?
Великая российская революция - это социально-политическая революция на территории бывшей Российской империи, начавшаяся свержением самодержавия в марте 1917 года. Традиционно говорят о различных Февральской и Октябрьской революциях, но не слишком ли часто они происходили в 1917 году? И уже современники понимали, что революция имела место не только в феврале и октябре, но и, скажем, летом 1917 года. Очевидно, не прекратилась революция и с приходом к власти большевиков. «Классические» революции, включая Великую французскую и Российскую революцию 1905-1907 гг. - это процессы (не разделять же Французскую революцию на «революции» 1789, 1792, 1793, 1794 гг.). Социально-политические революции, как правило, являются многолетним процессом. «Февральская революция» и «Октябрьская революция» - это этапы Великой российской революции. Революция - это процесс, в ходе которого происходит раскол в обществе и конфронтация в среде как низов, так и элит. Но это - не любой конфликт, а лишь такой, в центре которого оказываются принципы организации данного общества, его системообразующие структуры. Если с помощью реформ правящие круги не могут сами демонтировать те социальные структуры, которые блокируют дальнейшее развитие общества, - начинается революция. Старые структуры разрушаются, социальное творчество охватывает широкие слои населения, которые участвуют в создании новых основ социума. Революция, конечно, не «локомотив истории», она
58 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
не создает новое общество целиком. Революция — это «таран истории», который разрушает препятствия на пути развития общества.
Социально-политическую революцию можно определить как общенациональную социально-политическую конфронтацию по поводу системообразующих институтов общества, при которой социальное творчество преодолевает существующую легитимность. Эта конфронтация начинается со слома существующей системы институтов, легитимности и заканчивается — когда возникает новая легитимная система институтов. После этого в подавляющем большинстве люди, даже не согласные с исходом революции, начинают реализовывать свои стремления в рамках новых институтов и жить по новым правилам.
Слом институтов Российской империи начался в феврале - марте 1917 года. Революционные события продолжались до 1922 года, и завершение революции можно датировать образованием СССР и началом нового периода отечественной истории - истории СССР. К этому моменту были так или иначе определены решения основных вопросов революции: о власти, аграрно-продовольственного, рабочего, национального, возникли новые государственные формы, новая легитимность, правила политической игры и социального поведения.
В своем развитии Великая российская революция прошла ряд этапов, некоторые из которых традиционно также называются революциями:
«Февральская революция» 1917 года (23 февраля - 2 марта 1917 года);
Развитие революции в период Временного правительства (2 марта - 25 октября 1917 года).
«Октябрьская революция» и становление советской власти (25 октября 1917 - май 1918 года).
Широкомасштабная Гражданская война и интервенция (май 1918 - ноябрь 1920 года).
Попытки «третьей революции», завершение гражданской войны, интервенции и революции (осень 1920 - 30 декабря 1922 года).
Название «Великая российская революция», возникшее еще в 1917 году, сегодня уже не является выражением восхищения. Революция была сложным явлением, связанным с насилием, а затем и затяжной Гражданской войной. Слово «великая» подчеркивает масштаб явления и его воздействие на мировое развитие, которое ставит Великую российскую революцию в ряд других величайших событий мировой истории.
А.В. Шубин 59
Февраль 1917 года - формирование структуры революции
Историки продолжают спорить, могла ли Россия обойтись без революции. Одни указывают на успехи модернизации, другие - на ее социальные издержки. При этом даже успехи модернизации могут вести к революции, потому что переход от традиционного аграрного общества к индустриальному городскому всегда бывает болезненным. Успехи модернизации России конца XIX - начала XX века были ограничены, с одной стороны, непоследовательностью реформы 1861 года, а с другой - периферийным местом российской экономики в мировом разделении труда. В начале XX века переход к индустриальному обществу накопил «горючее» для социального взрыва, а к серьезным преобразованиям правящая элита не была готова. Так что в той или иной форме революция в начале XX века была неизбежна, что показал уже 1905 год.
В начале XX века основные кризисы, с которыми столкнулась страна, принято было называть «вопросами». Основными причинами начала революций в 1905 и 1917 годов стали аграрнопродовольственный и рабочий вопросы, отягощенные отсутствием эффективной обратной связи между властью и обществом (проблема самодержавия). Большую роль играл также кризис межнациональных отношений (национальный вопрос).
Революция 1905-1907 годов и последующие реформы не разрешили эти противоречия в достаточной степени, чтобы предотвратить новую революцию, задачей которой было так или иначе решить эти «вопросы». Новая революция была весьма вероятна, но большое значение имел «выбор» времени начала революции. Если бы в 1914 году не разразилась мировая война, революция могла произойти в условиях мира. Очевидно, в этом случае это была бы другая революция. Затяжная война дезорганизовала социально- экономическую систему и милитаризировала общество. Это наложило важный отпечаток на характер революции, в которой с самого начала важную роль стали играть солдатские массы.
Революция началась в феврале (по юлианскому календарю) 1917 года с рабочих волнений, которые спровоцировали солдатское восстание в Петрограде. Одновременно активно действовали революционные группы и либеральная элита. В литературе энергично обсуждается, что было важнее в ходе и исходе «Февраля» - стихийное движение городских масс или элитарный, в том числе военный, переворот, который привел к отречению Николая II от
власти.
60 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
Восстание открыло возможность для либеральных элит, в том числе военных, начать воплощать в жизнь свой либеральный проект. Но события быстро вышли из-под контроля Временного комитета депутатов Государственной думы (ВКГД) и военного руководства. Революция, которая виделась политической элите как либеральный переворот, с самого начала приобрела глубокий социальный характер - ведь основные вопросы, поставленные еще революцией 1905 года, так и не были разрешены. Почти одновременно с ВКГД образовался Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов, у революции сразу образовались два центра - либерально-элитарный и социальный, социалистический. Первый был связан с бизнесом и генералитетом, второй - с рабочими и солдатскими массами.
После создания Советов речь шла не о бунте и не о политическом перевороте, а о глубокой социальной революции, предполагающей борьбу широких социальных слоев за изменение самих принципов формирования социально-политической системы страны.
Эта двойственная структура революции сохранилась и после свержения самодержавия, постепенно трансформируясь в направлении синтеза. Либеральное Временное правительство сосуществовало с сетью Советов. Это состояние известно как «двоевластие». Этот термин употребляется с оглядкой на осень 1917 года, когда Советы участвовали в свержении правительства. Но весной 1917 года ситуация была иной. «Двоевластие» предполагает противостояние центров власти. А если они мирно сосуществуют и поддерживают друг друга, - то это разделение полномочий, а не «двоевластие». Весной 1917 года о «двоевластии» говорят как об угрозе, а не о реальности. Временное правительство признавало, что ему придется считаться с мнением Совета, но оно отказывалось допустить прямое вмешательство снизу в деятельность правительства, что «было бы недопустимым двоевластием». Функции общегосударственного центра власти исполняло правительство. Советы были гораздо влиятельнее на местах, что вообще характерно для органов самоуправления. Они поддерживали правительство «постольку, поскольку» правительство прогрессивно. Эта поддержка исчезла во время апрельского кризиса, но он привел не к «двоевластию», а к формированию правительства с участием социалистов — то есть к сближению полюсов революции.
А.В. Шубин 61
Коалиционные альтернативы
Либеральные деятели были широко известны благодаря своему депутатству в предыдущие годы. Популярность социалистов росла благодаря близости их лозунгов передела земли, социальных гарантий и политических свобод к надеждам крестьян и рабочих. Массы надеялись на то, что Учредительное собрание вскоре разрешит основные проблемы страны. В этих условиях демократического согласия у большевиков было мало шансов на успех. Но почему же тогда осенью победили большевики? Потому что проиграли их оппоненты. История предоставила либералам и социалистам шанс, который был упущен. Почему?
Возникший политический режим был основан на соглашении между правительством и Советами. Сотрудничество либералов и умеренных социалистов позволяло провести политические меры, направленные на расширение гражданских свобод, но затрудняло социальные реформы. Ведь у либералов и социалистов были разные представления о необходимых социальных преобразованиях. В условиях обостряющегося социального кризиса в городах и стремления крестьян получить помещичью землю этого было явно недостаточно для стабилизации положения.
Пока либералы боролись за власть с самодержавием, они выступали за правительство, ответственное перед парламентом. Однако, получив власть, Временное правительство лишило власти Думу. Этот антипарламентский переворот лишил правительство институциональной опоры и был своего рода предательством либеральных принципов. Это ослабило либерализм в условиях, когда либеральная программа, основанная на защите частной собственности и продолжении войны до победы, и без того противостояла настроениям широких масс и могла быть навязана им только силой. Но силы у либералов не было, так как солдаты стремились к скорейшему миру, не доверяли офицерам и не готовы были участвовать в военном перевороте.
Социалисты видели, что у либералов не хватает влияния и желания для проведения даже общедемократических преобразований. Но в то же время без компромисса между радикальными массами трудящихся и «цензовыми элементами» - состоятельной интеллигенцией и предпринимателями, капиталистическое общество могло распасться. С точки зрения умеренных социалистов возможности для замены капитализма социализмом пока не было, а значит - был необходим союз представителей трудящихся клас-
62 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
сов (на эту роль претендовали социалисты) с представителями буржуазии (ими социалисты считали либералов). Однако стремление социалистов консолидировать общество столкнулось с его растущей поляризацией.
Либералы блокировали предложения части социалистов о проведении социальных реформ, таких как запрет земельных сделок до Учредительного собрания, введение планирования промышленного производства и др. Правительство в большинстве своем выступало за отказ от социальных преобразований до созыва Учредительного собрания. Либерально-социалистическая коалиция становилась несовместимой с реформами и вела февральский режим к катастрофе. В условиях усугубляющегося социально- экономического кризиса и бездействия правительства росло отчаяние рабочих и городских низов. Большевики взяли на себя роль представителей отчаявшихся масс, и время стало работать на них.
Авторитет правительства падал. В условиях, когда правительство не опиралось на представительные органы власти, любой межпартийный конфликт мог вести к распаду системы власти и опасным уличным конфликтам. В левой части политического спектра усиливалось влияние идеи о том, что источником и опорой власти до созыва Учредительного собрания могут быть органы съездов Советов - в качестве временных парламентов.
Советская альтернатива возникла при гегемонии социалистических партий и стала действовать как российская форма народовластия. В то же время умеренные социалисты, лидировавшие в Советах до осени 1917 года, осознавали, что органы низового самоуправления не представляют большинства населения. Но, заступаясь за пассивное большинство, пытаясь подвести под государственные решения как можно более широкую социальную базу на выборах в Учредительное собрание, умеренные социалисты теряли поддержку активного меньшинства населения, от которого в условиях революции зависела судьба власти. Симпатии городских низов обращались к большевикам, выступавшим за немедленные и решительные перемены.
Между тем в начале июля (во время июльского кризиса) и в начале сентября (сразу после поражения Корнилова) большевики еще могли быть вовлечены в левосоциалистическое правительство, опирающееся на Советы. Такой вариант развития событий неизбежно повлиял бы на позицию большевистских лидеров. Ответственность правящей партии делает ее несколько правее, умереннее. Это подтвердила и последующая практика болылеви-
А.В. Шубин 63
ков после прихода к власти. Создание левоцентристского советского правительства ускорило бы социальные реформы, что на время разрядило бы ситуацию в решающий момент выборов и созыва Учредительного собрания. Но умеренные социалисты отказались от шанса договориться с большевиками. Однако альтернатива многопартийного социалистического правительства обсуждалась и в ноябре 1917 года, и снова неудачно.
Проведение социальных преобразований с опорой на большинство трудящихся (как организованное в Советы, так и нет) было возможно в случае компромисса между эсерами, меньшевиками и набиравшими влияние большевиками на платформе немедленного начала аграрной реформы (с последующим утверждением ее принципов авторитетом Учредительного собрания), государственного регулирования с одновременным расширением участия работников в управлении производством, выстраивания институтов социального государства. В условиях войны большое значение приобретало требование скорейшего заключения перемирия и начала переговоров о мире без аннексий и контрибуций. Политическим выражением этой стратегии стала идея «однородного социалистического» правительства, ответственного перед органами Советов или созданным на их основе более широким временным парламентом. Это позволяло выйти из тупика безответственного, но в то же время (и во многом благодаря именно безответственности, безопорности) почти безвластного правительства.
Пока коалиция социалистов и либералов теряла время, ситуация работала на большевиков. Несмотря на поражение в ходе политического кризиса 3-4 июля и последовавшие за ним репрессии и слухи о связях большевиков с германским командованием, большевизму удалось возродить и приумножить свое влияние. На то были объективные причины.
Во-первых, с поражением левых радикалов не были преодолены причины, вызвавшие рост их влияния. Социалистические партии восстановили под руководством А. Керенского правительственную коалицию с либералами. Она проводила почти ту же политику, что и предыдущая коалиция. Социально-экономическая ситуация ухудшалась.
Во-вторых, политическая система была дестабилизирована конфликтом между председателем правительства А. Керенским и главнокомандующим Л. Корниловым 26 августа — 1 сентября. Правые политические круги, опираясь на Корнилова, надеялись установить «твердый порядок» и решить вставшие перед страной
64 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
проблемы путем милитаризации тыла, разгрома Советов и усиления дисциплины в армии ради восстановления способности армии к наступлению. По указанию Корнилова кавалерийский корпус под командованием А. Крымова двинулся на Петроград с намерением разогнать Советы и левые партии, а возможно, - и правительство. Выступление военных привело в движение левую часть общества. Советы, профсоюзы, армейские комитеты, социалистические партии и движения (в том числе большевики) мобилизовали десятки тысяч солдат, матросов и рабочих на борьбу с Корниловым. Войска, двигавшиеся на столицу, подверглись агитации петроградских левых активистов, которые разъясняли солдатам контрреволюционность их действий. Солдаты не хотели поддерживать активное продолжение войны и введение жесткой дисциплины, за которые выступал Корнилов. Левая агитация имела успех, и корниловское выступление провалилось. 1 сентября Корнилов был арестован. В тот же день Россия была провозглашена республикой.
События корниловского выступления вновь нарушили равновесие в системе власти. Большевики вернули себе положение одной из ведущих партий страны. Обсуждалась возможность создания многопартийного социалистического правительства, которое, наконец, приступит к проведению назревших социальных преобразований.
На демократическом совещании левых и демократических сил в сентябре сторонники левого правительства, принадлежавшие к разным партиям, не сумели согласовать свои планы. Большую роль в этом сыграл субъективный фактор: нерешительность одних политиков, маловлиятельность других, взаимное, часто чисто личное, недоверие и неприязнь друг к другу у третьих. В результате совещания в качестве опоры правительства был создан маловлиятельный «Предпарламент» (Совет республики). А премьер-министр Керенский, вопреки позиции своей партии эсеров, 26 сентября создал правительственную коалицию с кадетами. Этим он еще сильнее сузил политическую базу своего правительства, так как его уже не поддерживали ни руководство кадетов, ни левое и центристское крылья социалистов, а Советы в условиях бездействия правительства пред лицом кризиса стали переходить под контроль большевиков. Был упущен последний шанс для оппонентов большевиков справа сохранить лидерство в революции.
При этом Керенский не мог просто ждать созыва Учредительного собрания, так как большевики анонсировали смену правитель-
А.В. Шубин 65
ства на II съезде Советов рабочих и солдатских депутатов. В канун съезда, 24 октября, правительство попыталось предпринять силовые меры, что дало большевикам желанный повод для того, чтобы привести в действие сочувствовавшие им войска. «Оборонительный» характер восстания обеспечил большевикам дополнительные аргументы в борьбе за II съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, который должен был стать высшим органом новой власти.
Популярная идея советской власти помогала большевикам опираться на широкое низовое радикальное движение, не управляемое из партийных центров. Солдатская масса поддержала большевиков, потому что большевики выступали за скорейший мир с Германией.
До самого конца Временное правительство шло тем курсом, который привел либералов и социалистов к поражению: они оттягивали назревшие социальные реформы и не шли навстречу требованиям широких масс о решительной борьбе за демократический мир без аннексий и контрибуций.
Октябрьская фаза революции
В советское время ключевым событием 1917 года считалась Великая Октябрьская социалистическая революция. Сегодня такая трактовка считается идеологической. Но если рассматривать события осени 1917 года как этап Великой российской революции, мы должны понять: носил ли этот этап социалистический характер и каково соотношение Октябрьского переворота и Октябрьского этапа революции («Октябрьской революции»).
Октябрьский переворот был совершен 24-26 октября 1917 года в Петрограде. Большевики нашли сильный ход - решиться на взятие власти самим, но от имени съезда Советов, провозгласить не только свои идеи, но идеи самых разных левых сил, чтобы повести за собой не только «свои», но и «чужие» массы. Именно так сформировался «генетический код», «формула» Октября — коммунистический режим + советское общество: синтез большевистского проекта модернизации и общесоциалистических советских идеалов самоорганизации, народовластия, равноправия трудящихся и руководителей, воспринимаемых как «слуги народа», а не его хозяева. Большевизм провозгласил не свою, коммунистическую власть, а советскую власть. Таковы два лица Октября — коммунистическое и советское. И эти два лица не совпадают.
66 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
Большевики представляли собой узкий социально-политический спектр, но популярная идея советской власти помогала им опереться на широкое низовое радикальное движение. За власть Советов боролись не только большевики, но также левые эсеры, часть анархистов и меньшевиков. Короткий период «двоевластия» осени 1917 года привел к расширению полномочий Советов, которым новое правительство, Совнарком, отдало на откуп социальное творчество на местах.
Октябрьский переворот в Петрограде положил начало новому этапу Великой российской революции, который традиционно называется «Октябрьская революция». В ходе этого этапа, который продолжался до весны 1918 года, в России была установлена советская власть и были проведены ее первые преобразования.
Сторонники советской власти сразу же продемонстрировали готовность энергично взяться за решение основных проблем страны. Однако в первых декретах советской власти не было ничего социалистического. Новый этап революции был продолжением предыдущего и осуществлял те задачи, которые ставились более правыми партиями, чем большевики - эсерами и меньшевиками. Первая относительно социалистическая мера большевиков - принятое 14 ноября положение о рабочем контроле — была очень умеренной.
Первые декреты советской власти не позволили переломить настроение избирателей, особенно в деревне. Не получив большинства на выборах в Учредительное собрание, большевики и левые эсеры пошли на его разгон. Слабость защитников собрания, как и слабость белого движения в этот период, демонстрировали, что активная часть населения России, в том числе крестьянства, готова в принципе принять советскую альтернативу. Однако с разгоном Учредительного собрания система согласования общественных интересов была разрушена, и страна встала перед перспективой широкомасштабной гражданской войны в случае любого серьезного вызова.
К власти пришли радикальные сторонники социализма. В чем же заключались их социалистические преобразования? Социалистические теоретики обсуждали два пути к посткапиталистическому обществу: через переход предприятий в руки их коллективов и широкое самоуправление (снизу) либо через обобществление всей экономики в единую систему, работающую по единому плану (сверху). Считалось, что пути сверху и снизу вполне совместимы. Однако большевики не смогли построить систему, основанную на
А.В. Шубин 67
балансе самоорганизации, низовой инициативы, производственной демократии, с одной стороны, и единства экономической системы, ее регулирования - с другой.
В 1917 году Ленин, как и анархисты, рассчитывал на самоорганизацию масс, которые при общем руководстве коммунистов и их союзников смогут создать основы коммунистических отношений. Ведь эти отношения в соответствии с теорией марксизма естественно вытекают из краха капитализма. Большевики рассчитывали, что фабзавкомы, органы рабочего контроля, профсоюзы и Советы будут работать по единому плану. Сферы компетенции разных уровней управления экономикой не были четко определены, развернулись конфликты между органами самоуправления и регионального управления, что порождало экономический хаос. Нужно было выбирать - или самоорганизация, самоуправление, низовая демократия, или «строительство» сверху нового строя, управляемого из единого центра экономики, работа которой основана на строгом принуждении к выполнению решений государственного центра. Советская самоорганизация была для Ленина средством, а коммунизм - целью. Он сделал выбор и взял курс на усиление централизации управления, предложил завершить «красногвардейскую атаку на капитал» и заменить ее систематической национализацией.
Благодаря передаче земли в руки крестьян вырос авторитет советской власти в деревне. Но занятые разделом помещичьих земель крестьяне не были готовы увеличивать поставки продовольствия в города. Если промышленность можно было относительно быстро подчинить государственному центру, то также управлять миллионами крестьянских хозяйств было практически невозможно. Но именно крестьяне должны были дать продовольствие городам, в которых начинался голод. Получив землю, крестьяне были готовы поставлять продовольствие в обмен на потребительскую продукцию. Но в условиях разрухи в городах, с которой советская власть не справилась, достаточное количество продовольствия потребителям не поступало. Так же, как раньше политика Временного правительства, политика советской власти вошла весной 1918 года в полосу тяжелого кризиса. Решившись на преобразования, большевики и левые эсеры не нашли оптимального сочетания демократических и антикапиталистических мер. В мае 1918 года большевики сделали выбор в пользу решительных антирыночных силовых мер, направленных на изъятие продовольствия у крестьянства. 13 мая 1918 года был принят декрет о продо¬
68 Российская революция 1917 года и ее место в истории XXвека
вольственной диктатуре. Эта мера воспринималась как составляющая быстрого продвижения к коммунизму. Этап «Октябрьской революции» завершался, но он сменился не начальной фазой коммунизма, а широкомасштабной Гражданской войной.
Революция и Гражданская война
Революции часто сопровождаются гражданскими войнами - это слишком решительная социальная, политическая и правовая ломка. Но гражданская война - не обязательный спутник революции. Несколько месяцев своего развития российская революция обходилась без гражданской войны. Но после прихода к власти большевиков развернулись вооруженные столкновения, которые развивались то утихая, то нарастая. По существу, речь идет не об одной, а о нескольких гражданских войнах: скоротечная Гражданская война, связанная с установлением советской власти («Триумфальное шествие советской власти», 26 октября 1917 - февраль 1918 года), локальные вооруженные столкновения весны 1918 года, широкомасштабная Гражданская война (май 1918 — ноябрь 1920 года), подъем восстаний против военного коммунизма под лозунгами «третьей революции» и т.п. (конец 1920 — начало 1922), завершение Гражданской войны на Дальнем Востоке (1920—1922), иностранная интервенция 1918-1922 годов, ряд войн, связанных с образованием или попытками образования национальных государств и социальной конфронтацией в них («войны за независимость» и гражданские войны в Финляндии, странах Балтии, Украине, странах Закавказья, Средней Азии, включая басмачество, продолжавшееся до начала 30-х годов, Советско-польская война 1919-1920 годов).
Между «Триумфальным шествием» и началом широкомасштабной Гражданской войны, разрезавшей страну линиями фронтов в мае 1918 года, есть хронологический перерыв, когда общероссийская Гражданская война фактически не велась. Первую войну сторонники советской власти выиграли уже к марту 1918 года, взяв под контроль все крупные города и почти всю территорию России, отбросив остатки своих противников на дальнюю периферию, где те скитались и отсиживались в надежде на лучшие для них времена.
Широкомасштабная Гражданская война, война фронтов, началась в мае 1918 года. К этой войне привели последствия усиливающегося социально-экономического кризиса, усугубившегося
А.В. Шубин 69
в результате политики большевизма, направленной на форсированное огосударствление экономики; рост межнациональных противоречий, последствия неудачной для России Первой мировой войны и Брестского мира 1918 года, интервенция государств Центрального блока и Антанты (включая и восстание чехословацкого корпуса, который, при всей специфичности ситуации, был для России внешним фактором), углубление политической конфронтации в результате разгона Учредительного собрания 1918 года и оппозиционных большевикам Советов.
Против советской власти воевали разнообразные силы: белые армии, армии новых национальных государств, повстанцы, интервенты. Но красные победили в Гражданской войне. Они сформировали социальную систему, которая помогала концентрировать все ресурсы в руках единого центра, в то время как противники были распылены и часто враждовали друг с другом.
Лозунги коммунистов соответствовали революционным настроениям широких масс. Эти лозунги были по форме близки популярным в народе идеям эсеров, меньшевиков и анархистов, но большевики казались более решительными сторонниками социалистических преобразований, потому что предлагали действовать быстрее, радикально разрушать старые капиталистические отношения. В действительности методы, применявшиеся большевиками, противоречили провозглашенным целям преодоления угнетения и эксплуатации. Но широкие массы считали, что это вынужденные меры на время войны, и после победы над белыми и интервентами большевики установят общество всеобщего братства и свободы. Коммунисты, таким образом, выиграли идеологическую войну против белых и умеренных социалистов. Они смогли заручиться наиболее массовой поддержкой, создать хорошо организованную и многочисленную армию, по частям разбить, как правило, уступавшие им по численности белые армии и разрозненные крестьянские движения.
Поражение белых было предопределено также их элитаризмом, стремлением вернуть старым социальным элитам отобранную у них собственность и великодержавными лозунгами, поднявшими на борьбу с белыми национальные меньшинства. Крестьянство боялось потерять землю в случае победы «генералов». Выступая за «порядок» и «законность», белые генералы не могли остановить грабежи, практиковали массовые произвольные аресты и казни. Зверства и грабежи творили солдаты всех сил Гражданской войны. Но для белых это было приговором. Никто, кроме них, не ставил
70 Российская революция 1917 года и ее место в истории XXвека
в центр своей агитации восстановление «законности». В этих условиях красные казались значительным массам населения все же «меньшим злом».
В то же время большевики восстанавливали государственный порядок и дисциплину, планировали индустриальную модернизацию страны, чем привлекли на свою сторону часть технократически и государственнически настроенной старой элиты, включая офицерство, инженеров и деятелей науки и культуры.
В период Гражданской войны нельзя отождествлять большевизм с революцией, а его противников — с контрреволюцией, как это делала советская историография и пропаганда. В революции всегда несколько сторон, и почти в каждой мы можем найти как революционные, так и контрреволюционные черты, выражающиеся в стремлении закончить революционный процесс и перейти к эволюционному развитию. Эта контрреволюционная функция существовала в большевизме. Революция была представлена и национальными движениями, и действиями сторонников Комуна, и великой крестьянской войной - величайшей в нашей истории волной повстанчества. При чем эта волна не стихла, а даже возросла после завершения «войны фронтов» в 1920 году.
Последний всплеск и итоги революции
В 1921 году произошел последний всплеск революции, который определил ее итоги. Крестьянские восстания ширились, охватив Тамбовщину, Сибирь, Северный Кавказ, Украину. Более мелкие отряды действовали практически во всех губерниях России.
После разгрома Белого движения исчезла угроза реставрации дореволюционной социальной системы. Крестьяне больше не опасались, что белые отнимут у них землю. Тысячи рабочих теперь не боялись массовых репрессий против участников революции со стороны белых контрреволюционеров. Исчезновение этой угрозы лишило оснований политику военного коммунизма, которая формировалась в условиях мобилизации всех сил ради победы в Гражданской войне. Но большевики не собирались отказываться от военного коммунизма, так как считали его прямой дорогой к новому коммунистическому обществу. Режим был сохранен во всей полноте. Социальная напряженность стала стремительно нарастать. Одновременно усилились и противоречия в РКП(б), вылившиеся в «дискуссию о профсоюзах», которая стала первым
А.В, Шубин 71
серьезным обсуждением организации социалистического общества в России.
Пока большевики спорили, крестьянская война усилилась. Восставшие выдвигали требования прекращения продразверстки, свободы торговли, ликвидации большевистской диктатуры. Они надеялись, что им удастся свергнуть коммунистов в ходе начинающейся «третьей революции» (по аналогии с Февральской и Октябрьской). Кульминацией этой фазы революции стали рабочие волнения в Петрограде и Кронштадтское восстание моряков 28 февраля - 18 марта 1921 года, которое выступило за перевыборы Советов со свободой агитации левых партий, прекращение коммунистических репрессий и «полное право действия крестьянам над всею землею так, как им желательно».
Эти требования, не посягая на идею Советов, грозили подорвать монополию большевиков на власть. Ленин считал эти события самым большим внутренним политическим кризисом Советской России. В таких условиях коммунисты закрепили свое отрицание политического плюрализма - X съезд РКП (б) в марте 1921 года принял решение о запрещении в партии фракций и группировок. Усилились репрессии против оппозиционных партий, которые в результате в 1922—1923 годах, прекратили легальное существование. Таким стало решение «вопроса о власти».
X съезд РКП (б) принял решение об отмене продовольственной разверстки и замене ее продовольственным налогом. Таким было решение аграрно-продовольственной проблемы. Крестьяне сохраняли за собой землю и возможность самостоятельно хозяйствовать на ней, распоряжаться плодами своего труда (хотя часть этих плодов все же изымало государство, продававшее хлеб горожанам по низким ценам). Отход от военного коммунизма к регулируемым рыночным отношениям положил начало новой экономической политике (НЭП). Первый рывок к коммунизму завершился. Отмена продразверстки привела к постепенному оттоку крестьян из повстанческих движений, которые во второй половине 1921 года были в основном подавлены.
К 1922 году определилась победа коммунистов (большевиков) в Российской революции. Но итоги революции были обусловлены не только их политикой, но и сопротивлением широких народных масс военному коммунизму. Большевикам пришлось пойти на уступки крестьянскому большинству страны, но они носили исключительно экономический характер. Вся полнота политической власти и «командные высоты» экономики оставались в руках
72 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
руководства РКП (б), что давало ему возможность в любое время возобновить политику, близкую к военному коммунизму.
С переходом к НЭП была создана относительно устойчивая социально-экономическая модель, ориентированная на дальнейшую индустриальную модернизацию. Политический режим обеспечивал высокую вертикальную мобильность, что давало ему поддержку значительной части социальных низов, знакомые и родственники которых теперь работали в структурах власти. Казалось, что это «своя власть».
Некоторые задачи революции не были реализованы: осуществление демократии (народовластия) и превращение трудящихся в хозяев производства (лозунг «фабрики - рабочим»). Вся власть и управление основной частью промышленности перешли в руки партийно-государственной бюрократии, привыкшей действовать военными методами и непривычной к кропотливой экономической работе. Контроль за правящей партией со стороны народа и оппозиции был исключен. В России установился своеобразный бюрократический капитализм, но правящая партия стремилась построить на его основе новое социалистическое общество.
Итоги революции должны были быть оформлены в новую государственную оболочку, которой стал СССР. С образованием СССР были закреплены права народов на развитие своей культуры постольку, поскольку это не мешало решать другие задачи коммунистического режима. Таково было решение «национального вопроса».
В связи с тем, что основные задачи революции получили то или иное решение, можно говорить о завершении Великой российской революции к 30 декабря 1922 года, когда началась новая глава нашей истории - история СССР.
От национал-большевизма до империал-коммунизма
Витторио Страда
В1916 году, накануне краха Российской империи, в журнале «внешней политики и права» «Проблемы Великой России» между молодым историком Николаем Устряловым, которому суждено было стать одной из центральных фигур в политической жизни послереволюционной эмиграции, и сотрудником журнала А.М. Ладыженским возникла любопытная полемика на тему империализма. Статья Устрялова «К вопросу о русском империализме» не только восхваляла русский империализм, в ней утверждалось, что соперничество между национальными империализмами составляет естественную динамику современной истории, если судить вне всякого сентиментального идеализма. Устрялов утверждал в этом контексте, что международная политика Великой России должна быть великодержавной политикой, политикой империализма1 в борьбе за собственное утверждение. Он считал, что взгляд на идущую войну как «войну за европейскую свободу», «войну за попранные права малых наций», «войну против германского милитаризма» и т.д. - не что иное, как пустопорожняя идеология и высокопарное фразерство, маскирующее обыкновенное столкновение импе- риализмов, из которого Великая Россия должна была выйти более великой и сильной.
Ладыженский, защищая либеральное понимание государства в противовес устряловской апологии государства всесильного, стоящего над обществом и подчиняющего его себе, отвергал идею
1 Устрялов Н.В. К вопросу о русском империализме // Проблемы Великой России. 1916. № 15. С. 3.
74 Российская революция 1917 года и ее место в истории XXвека
агрессивного и захватнического русского империализма: «Нам нужно не растягиваться все далее и далее, расти не в ширь, а в верх, богатеть и становиться более культурными»2.
Этот спор показывает, что уже в 1916 году Устрялов придерживался идей, которые позже вдохновили движение сменовеховства, поименованного так по названию вышедшего в 1921 году в Праге сборника статей, иначе известного как национал-большевизм. Истории этого движения посвящены монографии Михаила Агур- ского и Хильде Хардеман, а также Давида Брандербергера3 касательно советской части этого движения. Мы здесь остановимся только на ядре идей Устрялова, незаурядного мыслителя и политического аналитика, наиболее важной и репрезентативной фигуры сменовеховства.
Национал-большевизм Устрялова, участника белого сопротивления во время Гражданской войны, возник из реалистического осознания того, что прежняя Россия потерпела окончательное поражение, и вооруженная борьба с победившими бесполезна, если не вредна. Новую революционную власть следовало признать не за ее идеологию, отвергаемую Устряловым, а потому, что это единственная сила, способная удержать Россию от распада. Несмотря на идеологию, неизбежно обреченную на постепенную утрату своего революционного интернационалистического потенциала, советское государство, считал Устрялов, представляло собою национальную силу, которой предстояло восстановить Великую Россию как «великодержавную политику, политику империализма», согласно тому, что он писал в 1916 году.
Не один Устрялов интерпретировал большевистскую революцию как глубоко национальное событие, вопреки провозглашавшемуся марксистскому интернационализму. Еще до выхода в Праге манифеста сменовеховства, поэт Максимилиан Волошин в статье «Россия распятая» разгадал подлинный смысл случившегося: «Советская власть, утвердившись в Кремле, сразу стала государственной и строительной (...) наметились исконные пути московских царей-собирателей Земли Русской, причем принципы Интернационала и воззвания к объединению пролетариата всех стран начали служить только к более легкому объединению рас¬
2 Ладыженский А. М. Идея Великой России и агрессивный империализм// Проблемы Великой России. 1916. С. 3.
3 Агурский М. Идеология национал-большевизма. Париж, 1980; Hardeman Н. Coming to Terms with the Soviet Regime. DeKalb, 1994; Brandenberger D. National Bolshevism. Cambridge, 2002.
Витторио Страда 75
слоившихся областей Русской империи (...) Большевики принимают от добровольцев лозунг “За единую Россию” и, в случае своей победы, поведут ее к единодержавию»4.
Многим казалось, что большевистская революция противоречила основополагающим положениям марксизма, поскольку в России капиталистическая экономика была слаборазвитой, а население в основном составляло крестьянство и, следовательно, в отличие от крупных западноевропейских стран, отсутствовали объективные условия для перехода к социализму. На самом же деле октябрьский переворот замысливался как начало мировой революции, в первую очередь европейской, без которой, считалось, русская революция не могла бы удержаться. Понятие мировой революции имело первостепенное значение для большевистской идеологии, которая в целом являлась органичным фундаментом новой власти. Устря- ловский национал-большевизм недооценивал всего этого, так как интересовала его главным образом Великая Россия, для которой при большевиках, действительно, возникла возможность выживания, хотя и ценой радикальной трансформации, и при этом в новой господствующей идеологии национализму, начиная с 30-х годов, отводилось новое, хотя и подчиненное место.
Среди многочисленных большевистских высказываний о мировой революции приведем одно, очень экспрессивное, принадлежащее Сталину и относящееся к 1918 году: «С Востока свет! Запад с его империалистическими людоедами превратился в очаг тьмы и рабства. Задача состоит в том, чтобы разбить этот очаг на радость и утешение трудящихся всех стран»5. Но революции на Западе не произошло, несмотря на все усилия большевиков разжечь ее и военным путем, вплоть до последней провалившейся попытки в Польше (1920 год). Вместо ожидавшейся мировой революции, отодвигавшейся на непредсказуемое будущее, в одной части Запада, в качестве реакции на большевистскую революцию в России, имело место не предусмотренное марксизмом новое явление: фашизм и национал-социализм, «очаг тьмы и рабства», против которого выступил не освободительный «свет с Востока», поскольку пробужденные октябрьским переворотом надежды скоро угасли, в том числе благодаря тому, что в борьбе за наследство Ленина победил Сталин. «Мировая революция» остановилась в пределах царской Империи, которая, к удовольствию Устряло-
4 Волошин М. Россия распятая. М., 1992. С. 75, 76, 81.
5 Сталин И.В. Сочинения. Т. 4. М., 1947. С. 182.
76 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
ва, восстановилась территориально, но уже в совершенно новом обличье.
В 1920 году Ленин утверждал, что «большевиками было сделано все человечески возможное для ускорения революции в Германии и в иных странах»6, но уже в 1918 году, еще раз подчеркнув «необходимость вызвать международную революцию, проделать этот переход от нашей революции, как узконациональной, к мировой»7, заявлял: «Да, мы увидим международную мировую революцию, но пока это очень хорошая сказка, - я вполне понимаю, что детям свойственно любить красивые сказки. Но я спрашиваю: серьезному революционеру свойственно ли верить сказкам?»8. В критический момент мировая революция могла казаться «сказкой», но оставалась непоколебимо в перспективе советской политики и коммунистического идеологического репертуара. Еще не утихли отзвуки нашумевшей угрозы Хрущева когда-нибудь «похоронить» прогнившую капиталистическую систему, и эту миссию коммунистический лидер приписывал своей партии. Мировая революция была не «сказкой», а неустранимым мифом коммунизма, хотя по сравнению с первоначальной формулой он поневоле радикально трансформировался, потому что, если с одной стороны он был существенной частью коммунистической идеологии и объектом такой организации как Интернационал, то с другой являл собою не менее существенный момент глобальной политики Советского государства, ставшей, говоря словами Устрялова, «великодержавной».
Как произошла эта трансформация? Она соответствовала ожиданиям национал-большевизма или следовала другой исторической логике, которую Устрялов, при всем своем уме, не уловил, и поэтому спрашивается, корректно ли пользоваться при определении этой логики термином «национал-большевизм»?
В 1923 году Ленин пишет важную статью по поводу книги Николая Суханова «Записки о революции», в которой рассматривает марксистский аргумент меньшевизма, считавшего, что в России отсутствовали «объективные экономические предпосылки» социалистической революции. Свой полемический ответ Ленин заключает вопросом, который на деле есть политическая программа коммунистов после победы в Гражданской войне и констатации, что революции на Западе или где-либо пока не предвидится,
6 Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 41. М., 1981. С. 21.
7 Там же. Т. 36. М., 1974. С. 8.
8 Ленин В.И. Полное собрание сочинений. С. 19.
Витторио Страда 11
хотя она и остается по-прежнему целью в будущем. Ленин пишет: «Если для создания социализма требуется определенный уровень культуры (хотя никто не может сказать, каков именно этот определенный “уровень культуры”, ибо он различен в каждом из западноевропейских государств), то почему нам нельзя сначала с завоевания революционным путем предпосылок для этого определенного уровня, а потом (курсив. - В.С.) уже, на основе рабоче-крестьянской власти и советского строя, двинуться догонять другие народы»9. Завоевав «революционным путем» власть в такой «отсталой» стране как Россия, и оказавшись без поддержки других революций, коммунистическая партия должна создать парадоксальным образом объективные условия (экономические и «культурные») возможности собственного существования, чтобы догнать «другие страны». Этот переход от «детерминистского» (меньшевистского) марксизма к марксизму «волюнтаристскому» (большевистскому) напоминает ситуацию барона Мюнгхаузена, который, оказавшись в болоте, выбрался из него, потянув себя изо всех сил за волосы. Дело, осуществить которое, и далеко не комическим способом сказочного барона, взялся Сталин, проводя преступно жесткую политику, приведшую к миллионам жертв и разрушившую все то, что еще оставалось от прежней России, и построив на ее месте новую империю и новую культуру.
Устрялов полагал, что советская коммунистическая власть, стабилизировавшись в плане внутренней политики и на пути стабилизации в плане политики внешней, перейдет от начальной бурной «якобинской» фазы к умеренной «термидорианской», ослабив свой революционный идеологический заряд и все более приобретая национальный, а вернее, русский имперский характер. Подтверждение этому он видел в НЭПе (Новая экономическая политика), который должен был вылиться, по его мнению, в новую общую политику в духе национал-большевизма. Но весьма распространенная в то время аналогия русской революции с французской10 была иллюзорной, и сам Устрялов ограничивал ее действенность, когда реалистически отмечал, что «большевистский орден несравненно сплоченнее, дисциплинированнее, иерархич- нее якобинцев. Вместе с тем Ленин более гибок и чуток, нежели
9 Там же. Т. 45. М., 1970. С. 381.
10 См.: Strada V. Francia e Russia: analogie rivoluzionarie in: Furet F. (a cura di), L’eredità della rivoluzione francese. Roma-Bari, 1989; Idem. France et Russie: analogies révolutionnaires in: Furet F. (sous la direction de) L’héritage de la Révolution française. Paris, 1989.
78 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
Робеспьер»11. Однако он упускал из виду, что большевистская революция вся была по-своему «якобинская», обладая жестким историческим самосознанием и строгим доктринальным самоконтролем, вытекавшими из марксизма в его ленинской трактовке, чего были лишены французские революционеры, руководствовавшиеся менее догматической идеологией и сформировавшиеся в более свободной культуре. НЭП был своего рода тактическим «автотермидором», к которому «гибкий» Ленин прибегнул под давлением провала военного коммунизма, а не началом, как думал Устрялов, «молчаливого отступления» от «Великой утопии». Вскоре начался новый, более жестокий и насильственный революционный период под руководством «азиатского» или «кавказского» якобинца - Сталина.
Революционная аналогия между Францией и Россией сменилась другими, взятыми из русской истории, и куда более обоснованными: сначала сопоставлялось ускоренное культурно-экономическое развитие России, намеченное Лениным в процитированной выше статьи, с преобразованиями, тоже по-своему революционными, проведенными Петром Великим. Позднее к этому царю, которого в советской литературе и кино восхваляли как «предтечу» Ленина и Сталина, был присоединен еще один царь — Иван Грозный, образец непоколебимого и неограниченного самодержца. В 1947 году на встрече в Кремле с режиссером фильма «Иван Грозный» Сергеем Эйзенштейном и актером Николаем Черкасовым, исполнителем роли царя, Сталин, в компании со Ждановым и Молотовым, продемонстрировал органическую преемственность между русским самодержцем и советским диктатором и - шире - между российской империей прошлого и советской империей, достигшей в то время апогея после великой победы в Отечественной войне. Устрялов ликовал бы по поводу этого кажущегося триумфа идей, с которыми он выступил в далеком 1916 году, а в дальнейшем развивал после революции, если бы не был расстрелян в 1937 году, после того как, завороженный сталинской политикой, возвратился в Москву из эмиграции. Он поплатился жизнью за свою ошибку, посчитав Сталина национал-большевиком.
Начиная с 30-х годов Сталин совершил настоящую «культурную революцию» во всех областях, от литературы до историографии, умело внеся в советскую идеологию национальный элемент, а именно русский, но в качестве дополнительного ингредиента,
11 Устрялов Н.В. Patriótica // Смена вех. Прага, 1921. С. 71.
Витторио Страда 79
предварительно просеяв его и переработав таким образом, чтобы он был совместим с господствующей революционной идеологией. Многочисленные высказывания Сталина о заслугах России прошлого и русского народа - первого среди равных относительно других национальных компонентов СССР. Сталин со своими соратниками сумел создать русско-советскую идеологическую смесь, в которой гегемония, разумеется, принадлежала интерна- ционалистски-коммунистической идее (превращенной по сравнению с изначальной формулой в элемент его внешней политики), в то время как национальная русская идея, искаженная и подтасованная, оставалась подчиненной и второстепенной.
Сталинская «культурная революция» не меняла роли, которую Россия как национальная сущность играла внутри нового режима, роли, по существу не слишком отличной от той, которую она играла при старом режиме: Россия продолжала вносить в империю преобладающий материальный вклад в пользу менее развитых регионов, получая взамен признание морально-культурного первенства, оплаченного дорогой ценой: традиционная русская культура была лишена свободы, отрезана от тех ее частей, которые режим считал враждебными ему, обманута миражом социализма и даже лишена собственного имени, замененного акронимом СССР, с присовокуплением прилагательного «советская». И в материальном плане Россия подвергалась жесточайшим притеснениям, из которых самое главное - несомненно, уничтожение крестьянского мира с миллионами жертв. Гегемоном в СССР Сталина и его преемников была не Россия, несмотря на кажущийся национал-большевизм, а абсолютная (тоталитарная) коммунистическая власть, скорее власть партийной верхушки. Это чудо, что благодаря стойкости русского духа, несмотря на катастрофу, русская культура сохранила свою жизнеспособность не только в эмиграции, но и в самом Советском Союзе, о чем свидетельствуют имена Пастернака, Шостаковича, Булгакова, Гроссмана, Бахтина и многих других. Не говоря уже о титанической борьбе русского народа против нацистских захватчиков, увенчавшейся победой, попранной коммунистическим режимом.
Национал-большевиком был профессор Устрялов, но, отбросив уже исторически устарелый термин «большевизм», применительно к Сталину, фигуре несоизмеримой с фигурой теоретика сменовеховства, следует говорить о национал- и империал-коммунизме, особенно после победы в войне против нацизма. Сталин был не русским националистом, а коммунистом, который мог
80 Российская революция 1917года и ее место в истории XX века
говорить и писать не иначе, как на марксистско-ленинском жаргоне, используя Россию, как по-своему делал и Ленин, для основания коммунистической и, в частности, личной власти, и проводя свою преступную политику с реминисценциями от Петра Великого до Ивана Грозного. Формально Сталин продолжил царское самодержавие, заменив династию партией: в обоих случаях власть стоит над обществом, несмотря на риторику единения с народом или массами. Нельзя не признать успехов Сталина в «культурной революции»: создание того, что именуется «советской культурой», — дело его рук, как его рук дело создание советской империи. Его наследие еще живо в постсоветской России, в ее ментальности и политике. Россия несет бремя дважды имперского прошлого и как современная гражданская нация, возможно, только формируется. Перед Россией, европейской по культуре, но изолированной и советизированной ленинско-сталинской революцией, лежит непростое будущее, как непростое ее прошлое12.
12 См.: Strada V Impero e rivoluzione. Venezia, 2017.
Французская и Российская революции и созданные ими системы международных отношений
Роберт Легволъд
Не каждую революцию можно назвать событием экстраординарным. Экстраординарны лишь исторические революции. Обычные революции, разрушающие политическое устройство в пределах одной страны и передающие власть в руки тех, кто прежде ею не обладал, происходят когда угодно — в Китае в 1949 году, на Кубе в 1959 году, в Иране в 1979 году. А вот изменяющие не только политическое и общественное устройство крупного государства, но также форму и динамику отношений в существующем международном порядке - такие революции происходят редко. В самом деле, за последние триста лет это случилось лишь дважды — во Франции в 1789-м году и в России в 1917-м.
Есть целые библиотеки изданий, в которых исследуется характер, последовательность событий и последствия революций 1789 и 1917 году. В большей части этой литературы видное место занимают соображения касательно роли, которую международная политика сыграла в провоцировании и развитии каждой из них, а также в том, какое влияние и та, и другая оказывали на текущую международную политику. Но лишь изредка предметом исследования становится их серьезное долговременное влияние на международные отношения, и еще реже их сравнивают между собой в этом аспекте. Вместе с тем обе революции, наряду с войнами, происходившими после них, куда сильнее изменили развитие событий на протяжении последующего столетия, чем какие-либо еще значительные исторические события.
Их воздействие, разумеется, отнюдь не носило идентичный характер, так что различия во влиянии революционных событий
82 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
на международную обстановку столь же важны для нас, как и сходства между ними. К тому же в последовавшие за ними десятилетия революции не оказывали одинакового действия. В первые годы после каждой из них влияние революции было непосредственным, прямым и явным; но впоследствии оно становилось более расплывчатым и опосредованным. Тема настоящей статьи - оба аспекта, то есть рассматриваются и сходные, и отличительные черты во всем, что происходило, а также различия в их влиянии - в краткосрочной и в долгосрочной перспективе. Проводимый здесь анализ касается двух вопросов: связь между войной и революцией, а также соотношение между революциями и той международной обстановкой, частью которой была каждая из них.
Война и революция
Прослеживая истоки современного национального государства, вспоминается знаменитое изречение Чарльза Тилли («война создавала государство, а государство создавало войну»), которое можно перефразировать так: одна из этих двух революций началась в результате войны, а в результате другой началась война. Если бы не Первая мировая война, Октябрьская революция в России - как и, конечно же, Февральская революция — скорее всего, не произошла бы. А если бы она и началась, то, скорее всего, не оказалась бы успешной. Доминик Ливен недавно заявил, что «было бы полной фантазией представить себе, как в мирное время великие державы Европы позволили любому режиму в России отколоться от существующей международной системы отношений, превратить себя в штаб-квартиру интернациональной социалистической революции, да еще и отказаться от уплаты внешнего долга, составляющего в нынешнем эквиваленте триллионы долларов, и большая его часть - долг перед гражданами этих великих держав»1. Можно, однако, высказать и вполне правдоподобное суждение, что революция в России, даже если бы не началась Первая мировая война, все равно бы произошла, притом скорее раньше, чем позже — пусть не обязательно такая, какую осуществили Ленин и его соратники. Ведь еще во время революции 1905 года в кругах, приближенных
1 Lieven D. Foreign Intervention: The Long View // Brenton T. Was Revolution Inevitable? Turning Points of the Russian Revolution. New York: Oxford University Press, 2017. P. 12.
Роберт Легвольд 83
к царю Николаю II, были люди, считавшие, что монархия обречена, особенно в октябре того года, когда царский режим ослаб и народу была дарована Конституция.
Никто не отрицает, конечно, что к февралю 1917 года разруха и хаос в результате шедшей с 1914 года войны, спровоцировали массовые протесты и деградацию власти, приведшие к отречению царя от престола и, вслед за этим, к краху старого режима. Ливен, правда, рассматривает влияние войны на судьбы большевистской революции в более узком и конкретном аспекте. «Война, — пишет он, — а также поддержка со стороны Берлина и последующий крах Германии дали большевикам возможность просуществовать решающий год, в течение которого они смогли организовать свое правление и укрепить влияние в геополитическом центре России, где были сконцентрированы большая часть ее населения, ее военные запасы и транспортные узлы»2.
Франция в 1789 году ни с кем, как известно, не воевала. Более того, в период, предшествовавший революции министр иностранных дел короля Людовика XVI Шарль Гравье сделал достижение мира центральным элементом своей стратегии, имевшей целью стимулирование коммерческой деятельности Франции в Европе. Он считал, что мир и торговля в совокупности являются непременными условиями для возвращения Франции той выдающейся роли на международной арене, которую она утратила из-за унизительных потерь в результате Семилетней войны. И все же эта война стала одним из факторов, вызвавших революцию. Как считает большинство историков, англо-французская война (1778-1783), которая велась в контексте американской революции - Войны за независимость, и те огромные средства, которые потратила Франция на помощь Тринадцати американским колониям, сильно способствовали возникновению экономической катастрофы, перед которой оказался королевский режим накануне революции во Франции3.
Тем не менее еще более значимая связь прослеживается во влиянии революции на войну. Даже если учесть, что Первая мировая война и послужила катализатором сначала Февральской, а затем и Октябрьской революции в России, все равно либо одно из этих событий, либо оба произошли бы, даже если бы войны не было
2 Ibid. Р. 26.
3 Gershoy L. From Despotism to Revolution, 1763—1789. New York: Harper Torchbooks, 1944. P. 316.
84 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
вовсе. Стивен Уолт не только доказывал, что революции приводят к войнам, но, изучив, помимо французской и русской, также иранскую, мексиканскую, турецкую, китайскую и американскую революции, предложил законченную теорию, объясняющую, почему это так4. Революции, утверждает он, усложняя условия конкуренции между странами в смысле обеспечения их безопасности, «существенно увеличивают риск возникновения войны». Но это происходит из-за возникающего безвластия, которым стремятся воспользоваться другие страны (а те, возможно, опасаются, что этим воспользуется еще кто-то), раздувая зачастую преувеличенные страхи относительно намерений как революционных государств, так и их противников, и прерывая контакты, что приводит к неверным представлениям о возможностях каждой из сторон и об их слабых местах. Словом, революции изменяют не обязательно расстановку сил, которые ограничивают поведение государств, но субъективно кажущийся «баланс угроз», тем самым подталкивая их к войне.
Все же, если сравнить революции во Франции и в России, можно сказать, что их причинная связь с войной сильно разнится, а последствия совершенно несоизмеримы. В случае Франции революция в конечном счете стала причиной нарастающих военных действий, уничтоживших прежний порядок отношений между странами, и проложила путь к установлению нового порядка, который и стал доминировать в XIX веке. В случае России война, ставшая причиной революции, уже разрушила существовавший раньше международный порядок, и в дальнейшем лишь разразилась Гражданская война в самой России. В то же время непосредственно после совершения обеих революций первоначальной реакцией европейских лидеров, несмотря на их антипатию к происходящему, не было желанием уничтожить эту идеологическую заразу. Даже интервенция стран Запада в годы Гражданской войны в России (1918-1922) в меньшей степени служила цели убрать большевиков от кормила власти, чем желанию укрепить Восточный фронт в ходе продолжающейся войны с Германией. Если бы Ленин и его правительство захотели продолжить сражаться с немцами, есть основания полагать, что союзные державы предоставили бы помощь России. Ведь в период борьбы среди руководителей большевиков по вопросу о заключении Брест-Литовского мирного договора в марте 1918 года западные дипломаты настаивали на
4 Walt S.M. Revolution and War. Cornell University Press, 1996. P. 18.
Роберт Легволъд 85
присоединении России к позиции Запада, чтобы избежать капитуляции перед Германией5.
Более того, президент США Вудро Вильсон категорически не одобрял идею вмешательства с целью свержения недавно возникшего советского режима. А когда он неохотно дал согласие на отправку американских войск, им в первую очередь руководило желание сдержать вторгшиеся в Россию войска японских интервентов, а также спасти оказавшийся в сложном положении Чехословацкий легион. Он в принципе выступал против вооруженной интервенции в условиях революции, причем примерами для него послужил опыт и французской революции, и недавней мексиканской революции, который показал, что вмешательство посторонних сил только ухудшало положение6. Кроме того, он считал, что большевистская революция, подобно двум прочим, после завершения радикальной фазы придет к установлению более демократического режима.
Так было и в случае французской революции: хотя для соседних стран она олицетворяла идеологическое зло, они поначалу не собирались душить ее с помощью военной силы. Причем французским революционерам симпатизировали не только либеральные круги Англии и других стран - прусских, австрийских и особенно британских лидеров привлекали преимущества, возникшие из-за того, что, по их мнению, Франция оказалась фатально ослаблена. Соратникам тогдашнего британского премьер-министра Уильяма Питта было ясно, что переворот во Франции подорвал могущество главного противника Великобритании, уничтожив его способность бросать вызов Англии в отдаленных регионах мира, где происходили столкновения между этими державами. С точки зрения прусского короля Фридриха Вильгельма II, революция способствовала ослаблению союза Франции и Австрии, а также возможности присоединить к Пруссии какие-либо французские территории7. (В этом смысле есть параллель с тем, как воспользовалась Германия своим преимуществом после краха царского режима в 1917 году, чтобы удовлетворить территориальные претензии, формализованные в Брест-
5 CarrE.H. The Bolshevik Revolution 1917—1923. Vol. III. New York: Macmillan, 1933. R 43-49.
6 Smith T Why Wilson Matters: The Origin of American Liberal Internationalism and Its Crisis Today. Princeton University Press, 2017. P. 116-124.
7 Brinton C. A Decade of Revolution 1789-1799. New York and London: Harper Torchbooks, 1934. P. 83-87.
86 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
Литовском мирном договоре 1918 года, а также, если бы Германия победила в войне, утвердиться в положении доминирующей державы на востоке Европы.)
Правда, уже весной 1792 года революционная Франция была в состоянии войны с Австрией и Пруссией. Результатом революции стало не просто начало военных действий: война, которую вела страна, — война революционная. Впервые в новой истории началась «народная война», то есть с монархиями, защищавшими династические государственные интересы, сражался вооруженный народ. Более того, жирондисты, бывшие неистовыми сторонниками объявления войны, выступали за нее на том основании, что угнетенные и отверженные массы по всей Европе ждут с нетерпением, когда же их, наконец, освободят французские войска, несущие идеалы Французской революции. В этом смысле Война первой коалиции напоминает то, какой путь привел Советскую Россию к войне с Польшей (1919—1920).
В начале войны ее истоки имели очень много общего с той динамикой, которой отличалось развитие самой революции, начиная с процесса радикализации революционных выступлений. Когда политический баланс между противоборствующими силами сместился в сторону жирондистов, их фиксация на той угрозе, которую представляли собой жившие за рубежом дворяне- эмигранты, а также на предполагаемой поддержке контрреволюционных сил со стороны Австрии и Пруссии, определила их готовность и даже рвение начать войну. Причем это в немалой степени было связано с желанием сплотить ряды самих революционеров. Неловкие попытки Леопольда II встать на защиту Людовика XVI и монархии, вкупе с усилением территориальных амбиций со стороны Пруссии, стали для них последней каплей, добавив решающие ингредиенты в колдовское зелье.
Едва начавшись, война развернула процесс в обратную сторону, еще больше радикализировав революцию, поскольку ее требования возбудили чернь. Война позволила дать полномочия новому жирондистскому Национальному Конвенту, а также принять решение об отмене монархии, аресте короля и создании Первой республики. Уолт пишет: «Менее чем за полгода война разрушила и монархию, и Конституцию 1791 года, породила Первую республику»8. «Война, - писал Франсуа Фюре, - руководила революцией куда сильнее, чем революция руководила этой
8 Walt. War and Revolution. P. 77.
Роберт Легвольд 87
войной»9. (Здесь, в очередной раз, есть параллель с российскими Февралем и Октябрем 1917 года.) Воодушевленные первыми военными победами, новые французские власти рассматривали войну не как средство борьбы с контрреволюций, а как возможность распространить свою революцию за пределы страны. Война превратилась в способ осуществления революционных завоеваний, что неизбежно втянуло в нее и Англию, и остальные страны Европы. Историк, занимающийся эпохой революционных войн, Тим Блэннинг, писал о решении Конвента относиться к недавно завоеванным территориям как к имперской добыче, что «революционеры быстро проделали путь от войны целесообразной к войне пропагандистской и далее - к войне за расширение империи»10.
На следующем этапе революция ополчилась против тех, кто ее создавал, включая и наиболее радикальных революционеров. Притом произошло это с жестокостью, предвосхищавшей кровопролитие советской революции в 1930-е годы. Далее была установлена диктатура, лишенная всяческого революционного идеализма и приверженная национальным интересам (и это опять очень похоже на то, что происходило в Советской России). Дальше, до конца XVIII века, войнами, которые вела Франция, руководила Директория, по-прежнему под знаменем Революции, но войны эти носили традиционный геостратегический характер, а их цели имели мало общего с кампанией, направленной на освобождение жителей стран Европы. В 1799 году Директория перестала существовать - ее уничтожил государственный переворот. За ним вскоре последовал еще один, который привел к власти Наполеона Бонапарта. Его колоссальные амбиции означали, если не крах Французской революции, то ее перерождение, и, соответственно, изменили роль Франции в системе международных отношений.
Революционная война завершилась в 1802 году заключением англо-французского договора в Амьене. А наполеоновские войны, начавшиеся годом позже, должны были, ни много ни мало, привести к гегемонии Франции во всей международной политической системе - полное безумие, которое спустя полтора века попытается осуществить Гитлер. Соответственно, революционные войны Франции привели к преобразованию революции в ее окончательную форму, создав демиурга, определившего международный
9 Цит. по: Blanning T.C.W. The French Revolutionary Wars, 1787-1802. New York and London: St. Martin’s Press, 1996. P. 267.
10 Ibid. P. 136.
8 8 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
порядок всего последующего столетия. Вторая мировая война сделала то же самое, превратив Сталина и революцию, которую он переиначил на свой лад, в главного архитектора международного порядка, который доминировал во второй половине XX века.
Революция и система международных отношений
Грандиозный военный пожар такого масштаба, каким отличались и наполеоновские войны, и Первая мировая, обязательно уничтожает всю структуру существующего порядка международных отношений, расчищая дорогу для создания новой системы. Но в процессе по-разному происходит взаимодействие между военными конфликтами и нарождающимися революциями. Прежде чем такие войны завершатся, уже сталкиваются разные представления о том, как следует устроить мир после. В случае войны с Наполеоном для британского виконта Роберта Каслри самой важной целью было достичь такой договоренности, которая гарантировала бы, что Франция навсегда перестанет стремиться к обретению ведущей роли на европейском континенте. Русский царь Александр I желал, чтобы, помимо полной победы над Наполеоном, Россия получила право господствовать на востоке Европы, восстановив контроль над Польшей. Цели князя фон Меттерниха, министра иностранных дел Австрии, ближе всего соответствовали тому, что в результате получилось. Его позиция заключалась в том, что необходимо достичь физического равновесия между победителями и побежденными, дабы стабильность международных отношений не зависела от способности отдельных государств к ограничению своих амбиций. Для этого он выдвинул предложение о заключении такого мирного договора, который сохранил бы место Франции в умеренной системе международных отношений. Поначалу он даже предлагал оставить Наполеона у власти. Меттерних выступал за сохранение во Франции статус-кво, чтобы не допустить новой социальной революции.
Как отмечал Генри Киссинджер, выбор стоял между заключением карательного мира, который позволил бы свести счеты с противником, заставив его уплатить репарации, или таким мирным договором, который мог быть приемлем для всех, кто в будущем был способен поставить его под сомнение, пожелать его аннулировать. «Ретроспективный мирный договор обращен в прошлое, - писал Киссинджер, — и он позволяет подавить силы противника
Роберт Легвол ьд 89
настолько, что тот впредь не сможет воевать; а вот мирный договор, обращенный в будущее, поставит противника в такое положение, что он и не пожелает снова воевать. Ретроспективный мир суть отражение жесткого общественного порядка, он обращен лишь к одной реальности — к прошлому. И он не позволит добиться “законного” мира, потому что страна, потерпевшая поражение в войне, никогда не смирится с унижением, если только не расчленить ее, полностью уничтожив»11.
«Ретроспективный мир» - именно его державы, победившие в Первой мировой войне, навязали странам, потерпевшим в ней поражение. Результатом стало появление гитлеровской Германии. Лишь один государственный деятель в годы Первой мировой мыслил так же, как Меттерних. Вудро Вильсон считал, что Германия по-прежнему будет одной из самых могущественных стран Европы и будет играть ключевую роль в будущем Восточной и Центральной Европы. Поэтому он видел Рейх, сохранявший свою систему внутреннего общественного устройства, в качестве важного члена послевоенного мира, но при условии, что Германия примет условия участия в этом новом миропорядке. Но Франция и Англия были однозначно настроены на то, чтобы исключить Германию из этого процесса, и на Версальской конференции взяла верх их позиция. Декларация Вильсона, его «Четырнадцать пунктов», наряду с объявленным несколько раньше «Декретом о мире» Ленина, перечеркнули тайные территориальные притязания воюющих сторон и их изначальные планы по разделу Османской, Австро-Венгерской и Германской империй. Поэтому «Декрет о мире», опубликованный на следующий день после Октябрьской революции, представлял собой первое непосредственное воздействие русской революции на миропорядок после Первой мировой войны - хотя бы потому, что он повлиял и на выступление Вильсона.
Правда, в создании послевоенного порядка революционная Россия играла качественно иную роль, чем в свое время революционная Франция. И эта разница ощущалась на протяжении всех последующих лет XX века. Меттерниху, с одной стороны, не удалось добиться своего. Но, с другой стороны, он и не хотел этого. Бонапарту не дали возможности сохранить власть. Вместо этого в результате реставрации на трон взошли Бурбоны в лице Людовика XVIII, и вновь легализованную Францию приветствовали на Вен¬
11 Kissinger НА. A World Restored (The Politics of Conservatism in a Revolutionary Age). New York: Grasset and Dunlap, 1964. P. 138—139.
90 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
ском конгрессе как полноправного участника переговоров. Более того, представитель Франции, бывший наполеоновский министр иностранных дел Талейран, в конечном счете сыграл критически важную роль для достижения баланса интересов всех участников конгресса, что позволило сделать равновесие сил центральным принципом нового международного порядка. В результате вновь цитата Киссинджера: «В рамках нового международного порядка не было ни одной державы, которая, испытывая чувство неудовлетворенности в каком-либо аспекте, не прибегала бы для улучшения своего положения к заложенным Венским конгрессом принципам, вместо того, чтобы отказаться от них. Поскольку в рамках нового политического порядка не было ни одной “революционной” державы, взаимоотношения между странами все больше становились непосредственными, спонтанными, ведь они базировались на все большей уверенности в том, что катастрофическое потрясение основ маловероятно»12.
А вот на Парижской мирной конференции в 1919 году случилось прямо противоположное. И Германию, потерпевшую поражение в войне, и революционную Россию не допустили к столу переговоров - страны-победительницы лишь продиктовали, что ожидает их в будущем. По Версальскому мирному договору Германия утратила колонии, потеряла контроль над Сааром, на нее наложили колоссальные репарации. Кроме того, согласно знаменитой статье 231 договора, на Германию возложили ответственность за развязывание войны, а также за «весь ущерб, который понесли [союзные державы]». Россия, прежде бывшая частью победившей в войне Антанты, не считалась более союзной державой, поскольку подписала в Брест-Литовске сепаратный мирный договор с Германией. Соображения, высказанные большевиками, вообще не принимались во внимание. Впрочем, не обращали внимания и на позицию белых, чей представитель на этой конференции присутствовал.
Таким образом, Парижская мирная конференция и заключенные по ее итогам договоры свели на нет во всех существенных аспектах достижения предшественницы столетней давности. Если лидеры «Большой четверки» — Великобритании, Франции, Италии и США - видели послевоенную систему международных отношений как тщательно отрегулированный баланс интересов главных
12 Kissinger Н.А. A World Restored (The Politics of Conservatism in a Revolutionary Age). New York: Grosset and Dunlap, 1964. P. 173.
Роберт Легвольд 91
участников самой «четверки», они в итоге потерпели в этом неудачу. Даже державы-победительницы были не слишком удовлетворены результатами конференции. Итальянцы вообще сочли, что их обманули. Хотя Франции вновь отошли Эльзас и Лотарингия, но это было не все, что она хотела получить от Германии. Кроме того, французы считали, что с Германией обошлись слишком мягко.
Куда опаснее было заключать мирный договор со штрафными санкциями. Изолированная Германия, считавшая себя глубоко оскорбленной, была исполнена негодования за подобное обращение с собой и сочла все это «предательским ударом в спину» — такая формулировка в последующие десятилетия вообще стала боевым лозунгом тех немецких политиков, которые призывали к реваншу. Возникла не система межгосударственных отношений, признаваемая легитимной всеми участниками конференции, а система, которой угрожали потенциальные и реально существовавшие революционные власти. В конце концов, такой потенциальной революционной силой, если воспользоваться определением Киссинджера, стала Германия - страна, исполненная решительного желания разрушить существовавшую систему международных отношений. Реальной революционной силой стала и Советская Россия. Хотя она была поначалу слишком слабой, чтобы мечтать о скором разрушении системы, ее исключение из этой системы было принципиальным актом, поскольку возникло на идеологическом уровне. Поэтому в глазах лидеров Советской России система международных отношений оставалась в принципе незаконной из-за статуса стран, которые ее создали и которые благоденствовали в ее рамках. Но как только им придется, по мнению большевиков, подчиниться неотвратимой судьбе в силу надвигающейся революции, тут же исчезнет и их уродливый миропорядок.
При этом Ленин и прочие руководители Советской России, на волне своего первоначально безудержного идеологического воодушевления, ошибочно сочли за начало мировой революции восстание в Берлине в январе 1919 года, в Венгрии в марте 1919 года, в Баварии в мае 1919 года, в Руре в марте 1920 года, и мартовские бои 1921 года в Средней Германии под руководством КПГ. В 1792 году лидеры Первой французской республики тоже поддались иллюзии, будто народы Европы ждут не дождутся появления революционных легионов из Франции, чтобы восстать против деспотии европейских монархий и поднять знамя всеобщей свободы, сталкивая угнетателей с суровой действительностью. Но в обоих случаях, как только их первоначальные идеальные представления стал¬
92 Российская революция 1917 года и ее место в истории XXвека
кивались с суровой реальностью, революционному руководству приходилось корректировать свои ожидания и действовать в рамках существовавшей на тот момент системы международных отношений. Правда, и в одном, и в другом случае они не отказывались от своих революционных истоков. Они по-прежнему оставались силой, исполненной непреклонной решимости изменить окружавшую внешнюю среду, причем в немалой степени потому, что в противном случае революция не могла бы, на их взгляд, существовать дальше.
«Ретроспективный мир», созданный в Версале, впоследствии привел к сближению двух изгоев. В апреле 1922 года Германия и Советская Россия, опасаясь дальнейших наказаний, запланированных державами-победительницами, подписали в Рапалло договор о нормализации дипломатических отношений, отказавшись от каких бы то ни было взаимных требований и тайно готовя военное сотрудничество. Таким образом, с самого начала периода времени, ставшего лишь «межвоенным», два находившихся в международной системе и недовольных ею государства вошли в сговор, причем каждое из них стояло за подрыв основных элементов системы, а в случае с Советским Союзом - за ее уничтожение. Позднее, когда усилились позиции нацистской Германии, это изменилось. Германия возникла как страна, решительно настроенная на разрушение существующего международного порядка, и желающая навязать ей свое господство. А Советский Союз всеми силами стремился присоединиться к странам, которые, как он надеялся, смогли бы преградить путь Германии.
Хотя в 30-е годы XX века Советский Союз вошел в Лигу Наций (тогда как Германия и Италия вышли из нее), стремился заключить с Францией и Чехословакией пакты о взаимопомощи, а на уровне Коминтерна давал инструкции компартиям объединиться с антифашистскими партиями, создавая в каждой стране Народный фронт, он, однако, действовал так отнюдь не ради сохранения существовавшей системы международных отношений, которую считал незаконной13. Наоборот, Советский Союз лишь использовал любые возможности для устранения прямой угрозы своей национальной безопасности. Советские лидеры вовсе не изменили своим принципам и не приняли принцип коллективной безопасности, заложенный в основание Лиги Наций. Как максимум,
13 BeloffM. The Foreign Policy Soviet Russia 1929-1941. Vol. I. London: Oxford University Press, 1956. P. 138-162, 186-196.
Роберт Легвольд 93
они замышляли брак по расчету с Великобританией и Францией, чтобы купировать конкретную угрозу. Когда же это не удалось, им не составило труда совершить противоположное действие, заключив альянс с источником этой угрозы.
По существу, такая политика, кажущаяся в лучшем случае чрезмерно оппортунистической, а в худшем явно вероломной, возникла на почве другого извращенного воздействия, оказанного революцией 1917 года на международную систему взаимоотношений - как и в случае революции 1789 года, повлиявшей на международные отношения своего времени. В обоих случаях стремление революционных властей поощрять силы, жаждавшие всемирной революции, неизбежно сосуществовало со страхами, что правительства других стран сотрудничают с любыми силами, желавшими уничтожить революцию в стране, где она произошла. Как жирондисты в 1792 году оправдывали начало войны с Австрией и Пруссией желанием защититься от действия контрреволюционных сил, так и большевики, даже после завершения Гражданской войны в России и вывода всех интервентов, продолжали считать, что правительства западных стран неизменно стремятся выявить внутри России и поддержать противников революции или же используют любой предлог для того, чтобы вмешаться напрямую. Типично, что вслед за нападением на советское посольство в Пекине в апреле 1927 года и разрывом, по инициативе Англии, дипломатических отношений с СССР из-за материалов, обнаруженных в советском торговом представительстве в Лондоне, Сталин сопряг эти события с убийством советского посла в Варшаве, которое совершил белоэмигрант-одиночка, а также со случаями саботажа, якобы имевшими место в Советском Союзе, чтобы предупредить о существовании «реальной и материальной угрозы новой войны вообще и войны против СССР, в частности»14.
На раннем этапе русской революции Ленин и его соратники, подобно французским революционерам, не только верили в неизбежность мировой революции, но и в то, что если она не распространится повсюду, их собственная революция будет уничтожена. Лев Троцкий, народный комиссар иностранных дел, сформулиро¬
14 Extracts from an Article by Stalin on the War Danger, in: Degras J., ed. Soviet Documents on Foreign Policy: 1925—1932, Voi. IL P. 233. (The 1926-27 «War Scare» has often been regarded by U.S. analysts as trumped up to serve Stalin’s domestic objectives, but the evidence suggests that it was more serious. See: Sontag J.D The Soviet War Scare of 1926—1927 // The Russian Review. Voi. 34, No. 1 (January 1975). P. 66-77.)
94 Российская революция 1917года и ее место в истории XXвека
вал это так: «Если восставшие народы Европы не раздавят империализм, мы будем раздавлены, - это несомненно. Либо русская революция поднимет вихрь борьбы на Западе, либо капиталисты всех стран задушат нашу»15. В то же время, подобно французским предшественникам, Ленин поначалу соглашался с тем, что революцию можно и нужно распространять силой оружия. Даже после поражения в Польше в 1920 году, когда революцию не удалось туда «принести на штыках», он заявил на IX съезде РКП(б): «Оборонительный период войны со всемирным империализмом кончился, и мы можем и должны использовать военное положение для начала войны наступательной»16. Это явно напоминало слова Жана- Батиста Майля, который в 1791 году, выступая в Национальном Конвенте, предостерегал: «Деспотические режимы за пределами Франции уже на смертном одре, и незамедлительная атака ускорит их агонию»17.
В обоих случаях такие первоначально резкие, упрощенные и идеалистические представления революционеров довольно скоро сменились куда более трезвыми оценками. Мировая революция не наступила, и ее оказалось невозможно начать благодаря дружественной помощи французских или советских военных формирований. Временной горизонт удлинился, так что вместо выхода на баррикады понадобилось заняться дипломатическими маневрами. Во Франции в 1793-1794 годах в результате перехода власти к якобинцам и установления ими диктатуры возник совершенно несентиментальный подход к реальной политике, отличавшийся практическим отсутствием иллюзий. В Советской России такое же приближение к несговорчивой реальности случилось, когда Ленину удалось убедить тех, кто был готов принести большевистскую власть в стране как жертву на алтарь мировой революции, что лучше согласиться подписать Брестский мир. Трансформация того же свойства, но куда в более полном виде, случилась, однако, в 1924 году, когда Николай Бухарин заявил, что Россия сможет «врасти» в социализм независимо от успехов всемирной революции, и это уже предвещало появление принципа «построения
15 Carr. The Bolshevik Revolution 1917-1923. P. 18.
16 Андерсон К., Чубарьян А. Коминтерн и идея мировой революций; документы. М.: Наука, 1998. Документ 47, цит. по: Haslam J. Comintern and Soviet Policy 1919-1941 // Suny R.G. (ed.) Russia: The Twentieth Century. Voi. III. Cambridge University Press, 2006. P. 639.
17 Walt. War and Revolution. P. 67.
Роберт Легволъд 95
социализма в отдельно взятой стране», который был провозглашен Сталиным несколько позже18.
Этот водораздел принципиальным образом изменил воздействие как французской, так и русской революций на долгосрочную эволюцию системы международных отношений. Однако приспособление к международной системе и осознание того, что она не потерпит крах сама собой и что ее не удастся обрушить с помощью военных действий, не означало, будто и тот и другой режим оставили идею совершения революции или перестали вдохновляться такой целью. Это лишь означало, что понадобилось переоценить приоритеты и основательно изменить отношение революции к международной обстановке. В обоих случаях внутренняя революция больше не зависела от совершения всемирной революции. Так же, как отныне всемирная революция не считалась более важной задачей, чем национальная революция. Более того, судьбы национальной революции все сильнее связывались с национальными интересами, а затем и становились их частью. Или, как это описал Адам Улам, «провозглашение построения социализма в отдельно взятой стране не означало отказа от идеи всемирного коммунизма, тем более что коммунисты в зарубежных странах будут предоставлены сами себе. Наоборот! Это лишь означало, что теперь интересы мирового коммунистического движения будут совершенно однозначно подчинены интересам Советской России... Коммунистические партии в любой стране должны были отныне превратиться в “русские националистические партии”, как выразился французский социалистический лидер Леон Блюм»19.
Необходимость следовать порядку, о котором пишет Улам, отражала критически важную двойственность, возникшую при сопряжении революции с национальными интересами государства, особенно под властью Сталина, когда на первое место были поставлены вопросы экономического прогресса и безопасности. Коминтерн, номинально - учреждение по распространению мировой революции, после своей «большевизации» в 1921 году превратился в еще одно средство для распространения советской внешней политики, став ее революционной составляющей. Возникли трения между Коминтерном и Народным комиссариатом иностранных дел. Каждая из этих организаций занималась соб¬
18 Cohen S.E Bukharin and the Bolshevik Revolution: A Political Biography, 1888-1938. New York: Alfred A. Knopf, 1971. P. 147-149.
19 Uhm A.В. Expansion and Coexistence: Soviet Foreign Policy 1917—73. New York: Praeger Publishers, 1973. P. 128-129.
96 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
ственным, порой сильно различающимся кругом вопросов. Жесткий контроль, который в конечном счете осуществляло советское правительство в отношении Коминтерна, лишь добавлял советской внешней политике пагубно революционное качество. Ведь западным правительствам было неважно, носят инструкции из Москвы местным компартиям своекорыстный характер или призывают служить делу революции. Поэтому, даже после того, как прошел первый порыв революционного энтузиазма и его заменили более традиционные государственные соображения, Коминтерн по-прежнему сохранял революционные истоки Советского Союза и, невзирая на все повороты судьбы, которые выпали на долю членов Коминтерна, революционные аспекты его существования отнюдь не были преданы забвению. Когда Сталин распустил Коминтерн в 1943 году, он сделал это, разумеется, лишь из желания успокоить союзников по антигитлеровской коалиции - США и Великобританию, а не потому, что отказался от мысли создать мир, в значительной степени сформированный по образу и подобию Советского Союза.
Французские революционеры не организовали ничего такого, что можно было бы сравнить с Коминтерном. Да они и не могли сделать этого по той причине, что не было ни политических партий, ни формальных революционных объединений. Но и по прошествии долгого времени после того, как сошел на нет революционный пыл жирондистов, главные европейские державы все еще были обеспокоены подрывным влиянием французских идей и намерением режима воспользоваться для своих целей теми элементами общества, которые им симпатизировали. Вдобавок, масштабы того, насколько революционные принципы многие годы частично составляли суть французской внешней политики, оказали серьезное воздействие на контекст международных отношений. В этом снова видна параллель с русской революцией. Хотя Наполеон и видоизменил характер революции 1789 года, но и режимы, установленные в покоренных им странах, и «республики», которые он создал, все же сохранили в себе главные черты изначальной революции. Сталин тоже принудительно внедрил видоизмененную им революцию в странах, завоеванных им в конце Второй мировой войны.
Разница тут, конечно, фундаментальная. Революционные преобразования, которые желал провести Наполеон, перемещали геополитические фигуры и изменяли их цвет. Если бы он добился своего, в результате его войн возникла бы международная система,
Роберт Легволъд 97
в которой доминировал бы один гегемон. Однако Наполеон потерпел поражение, и созданная впоследствии международная система восстановила лишь в несколько измененном виде, вариант того, что существовало в XVIII веке. Сталин же, принеся революционные перемены на территорию половины Европы, стал творцом раздваивающейся международной системы, в которой доминировали два гегемона, чье соперничество в годы холодной войны на большую часть второй половины столетия определило и характер, и ритм существования этой системы — собственно, до тех пор, пока она не исчезла в конце XX века.
Такой контраст возвращает нас к вопросу о том, как влияет на международный порядок историческая революция в долгосрочной перспективе по сравнению с ее краткосрочным воздействием. Размышляя об отличиях, полезно подумать о прямом и косвенном влиянии революции. Или же о том этапе революции, который можно назвать активистским этапом, по сравнению с ее умозрительным этапом. Прямое влияние понятно лучше всего, и в случае Французской революции оно оказалось наиболее драматичным и впечатляющим во время активистского этапа. Именно в этот период стихийная революция - или надежды на нее - определяет поведение людей в самой чистой, самой идеалистичной форме. И в 1789, и в 1917 году этот этап был недолговечным. Во французском случае активистский этап принял далее форму революционных завоеваний, и это был плодотворный период, продолжавшийся от провозглашения Первой французской республики до завершения наполеоновских войн. С их завершением окончилось и непосредственное влияние Французской революции на международную политическую систему. Начиная с этого момента, ее влияние будет уже опосредованным, хотя и значительным, представляя собой скорее производную тех явлений, которые революция вызвала к жизни.
В случае России прямое влияние большевистской революции на международную политику было менее значительным, нежели влияние французской революции. Стихийный этап здесь быстро сошел на нет, пусть даже особенно в 1919 году он и высек революционные искры, ускорив революционный пульс лидеров России. За исключением советско-польской войны, после революции не начался период революционных завоеваний. Поэтому ничего сравнимого с результатами французских революционных войн после русской революции, на ее раннем, активистском этапе, не произошло. Вместо этого понадобилось после Первой мировой войны
98 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
рассмотреть германскую проблему и справиться с непосредственными последствиями этой войны, что и определило форму, которую обрела послевоенная система международных отношений.
Таким образом, Венский конгресс и его результаты напрямую связаны с крушением системы, которые совершила Французская революция и ее бонапартистское воплощение. Парижская мирная конференция в Версале и ее результаты были мало связаны с русской революцией, а то и никак не связаны. Первое событие породило Венскую систему международных отношений (систему «Европейского концерта»), и этот международный порядок, базировавшийся на тщательно сконструированном балансе сил главных европейских держав, был сформирован на основе Четверного союза, то есть стран-победительниц Наполеона (Австрия, Великобритания, Пруссия и Россия), но к нему была добавлена Франция, в которой вновь правили Бурбоны. Система взаимного согласия объединила пять держав ради ее защиты и обязывала всех их выступать единым фронтом, если этой системе будет угрожать революция или агрессия. Три ее члена объединились в Священный союз (Россия, Австрия и Пруссия), не получив возражений со стороны двух других (Великобритания и Франция). Целью союза было также сохранение внутренних монархических режимов. Достаточно долго в XIX веке это успешно работало. Во всяком случае до 1853 года, когда Великобритания, Франция, Австрия и Сардиния начали военные действия против России в Крыму.
Система же, созданная в Версале по результатам Парижской мирной конференции, не работала. Да и не могла работать, поскольку ее организационная основа, Лига наций, с самого начала оказалась парализованной. Отсутствие ее главного творца, США, присутствие в ней крупных держав, желавших реванша, прежде всего Германии, а также исключение Советского Союза - все это гарантировало хаотичность обстановки, что возникает, когда государства действуют наперекор друг другу с фундаментально противоположных позиций. В результате принцип, который должен был объединять систему, а именно принцип коллективной безопасности (когда все обязаны выступить сообща против любого государства, которое угрожает нарушить состояние мира) ни разу не был реализован, а когда его применение стало особенно необходимо в тридцатые годы, он попросту рухнул.
Ирония судьбы здесь в том, что именно Советский Союз - революционное государство, «пария» на международной арене — больше всех защищал этот принцип. Советский министр ино¬
Роберт Легволъд 99
странных дел Максим Литвинов, а также другие члены советской делегации в Лиге наций боролись с попытками ослабить ее Устав (приверженцы этой идеи надеялись вновь привлечь Германию, Италию и Японию к членству в организации), заявляли о необходимости дать более четкое определение понятию «агрессия» в статье 16 Устава и выступали за применение более жестких санкций к Италии по следам кризиса в Эфиопии. Вопреки многим историческим свидетельствам, есть доказательства того, что советские военные были готовы оказать помощь Чехословакии, если она подвергнется нападению, даже если Франция не будет оказывать такую помощь (последнее давало Советскому Союзу возможность не вмешиваться - согласно условиям советско-чехословацкого договора 1935 года о взаимной помощи)20.
Ввиду возраставшей гитлеровской угрозы, Советский Союз отошел от своего революционного призвания и устроил перерыв в активистской фазе русской революции. Правда, лишь на время и по тактическим соображениям, а не по убеждению. Это вовсе не было признаком того, как виделось адептам теории «политического реализма», что системе международных отношений якобы удалось «приручить», «социализировать» революционный Советский Союз, и что его руководство, как и при подписании Брестского мира в 1918 году, подстраивалось под существовавшие в этой системе ограничения. Наоборот, активная фаза русской революции не переставала существовать до самого конца Советского государства - она лишь принимала иную форму.
При сравнении краткосрочного и долгосрочного влияния французской и русской революций на международную политику в последующие сто лет можно определить фундаментальную разницу между ними. Активная фаза французской революции завершилась по окончании наполеоновских войн, не выходя за рамки своего изначального, недолгого, стихийного воплощения, а также периода революционных завоеваний, изменивших ход истории. В результате ее влияние было реальным, грандиозным, но косвенным. Оно зиждилось не на программе и не на действиях тех, кто заправлял судьбами Франции, но на отголосках идей, порожденных революцией 1789 года, и на тех процессах, которые эта революция инициировала. Революционные события происходили вновь и вновь на протяжении XIX века, причем нигде это не слу¬
20 Bullock A. Hitler and Stalin: Parallel Lives. New York: Alfred A. Knopf, 1992. P. 584-585.
100 Российская революция 1917 года и ее место в истории XXвека
чалось чаще, чем в самой Франции (июль 1830 года, революция 1848 года, Парижская коммуна 1871 года). Но это были «революции внутреннего сгорания», они вспыхивали внутри страны, и, пусть даже начинались из-за влияния революции где-то еще, их вовсе не разжигало, не провоцировало какое-то государство, стремившееся к распространению революции по всему миру. Соответственно, хотя они и дестабилизировали существовавший на тот момент международный порядок, порой приводя к конфликтам между странами, но они никак не изменяли систему международных отношений.
В ходе этих локальных революций важную роль играли два процесса, вызванные Французской революцией и последовавшими за нею войнами. Эти процессы преобразовали XIX век и привели к появлению сил, которые в конце концов разрушили международную систему, сложившуюся после Венского конгресса: подъем национального самосознания и возникновение его буйного собрата — национализма. Революция в июле 1830 года во Франции, которая свергла Карла X и династию Бурбонов, коренилась в 1789 году. В очередной раз режим, оторванный от политической реальности, не желающий идти на компромиссы, которые могли бы спасти его власть, и отказывающийся прислушиваться к призывам умеренной оппозиции, привел к уличным эксцессам. Но теперь бунтовщики, захватившие мэрию Парижа и дворец Тюиль- ри, были вовсе не санкюлотами 1789 года, а гражданами, которых возмутило нарушение конституционной Хартии 1814 года. Их восстание вдохновило революционные выступления в Италии, Польше и Бельгии. Хотя первые два потерпели поражения, бельгийская революция, бросившая вызов власти Нидерландов, стала ранней фазой того национального подъема, который набирал силу на протяжении XIX века.
В 1848 году новая волна европейских революций - самая грандиозная из всех, что были и до и после нее — мощно активизировала народные массы, восставшие ради установления представительного правления, введения всеобщего избирательного права (для мужчин) и соблюдения прав трудящихся21. Параллельно с этим революционные волнения порождали все больше и больше национальных движений, распространившихся по всему континенту. Франция в очередной раз задавала тон, и прежде чем была подавлена наиболее радикальная фаза Второй республики,
21 Robertson Р. Revolutions of 1848. Princeton University Press, 1967. P. VII.
Роберт Легвольд 101
вновь прозвучали слова liberté, égalité, fraternité (свобода, равенство, братство). Когда Вторая республика покорилась еще одному Бонапарту, племяннику Наполеона, провозгласившему Вторую империю, это представляло собой скорее ироничную аналогию, а не причинно-следственную связь, пусть Наполеон III сознательно стремился во многих отношениях подражать дяде. В результате именно Вторая французская империя выступила на стороне итальянского национализма, и Наполеон III начал в 1859 году войну с Австрией, привлекая в союзники Сардинское королевство, бывшее инициатором усилий по объединению в единое итальянское государство разнородных регионов, находившихся под властью Австрии и Папы римского. Поддержка Франции, прекращенная после кровопролитных сражений при Мадженте и Сольферино, хотя цель войны была достигнута лишь частично, разумеется, обошлась дорого Сардинскому королевству: Франция вновь получила Савойю и Ниццу.
Не меньше исторической иронии было, вероятно, в крахе Второй империи, произошедшем по следам войны, а именно - после поражения Франции в битве при Седане в ходе франкопрусской войны 1870-1871 годов. Косвенная связь - как отголосок 1789 года - проявилась в этом случае самым драматическим образом. Парижская коммуна возникла на почве радикальной политики, которую война оставила в наследство Третьей французской республике, возникшей, как только Наполеон III оставил Париж, на фоне краха всей системы его империи. Хотя коммуна просуществовала недолго, быстрая радикализация общественных сил, которая охватила Париж во имя la république démocratique et sociale (демократической и социальной республики), напрямую связана с эпохой революции 1789 года. Верно, что над Коммуной развевался красный флаг, а не триколор, однако слово sociale в ее революционном лозунге гораздо ближе к égalité (равенству), нежели к socialisms (социализму).
Таким образом, Французская революция влияла на международную политику непосредственно и активно на ее первом этапе - этапе, когда она демонтировала сложившуюся в XVIII веке систему международных отношений и проложила путь к реформированной системе Европейского концерта, которая стала результатом Венского конгресса. Ее долговременное влияние, пусть косвенное, сказывалось на протяжении многих последующих десятилетий. Сама по себе эта революция не способствовала увеличению числа общественных движений, которые требовали предоставить
102 Российская революция 1917 года и ее место в истории XXвека
народам больше возможностей для высказывания своих чаяний и для установления конституционных ограничений по отношению к монархиям, которые правили этими народами. Также революция не несла полную ответственность за рост националистических настроений, которые раскалывали целостность империй и предвещали появление на карте таких национальных государств, каких на ней никогда прежде не было. Но никакое иное воплощение идей, лежавших в основе национального суверенитета (за возможным исключением американской революции), и никакие действия любых иных действующих сил, поощрявших национализм, не повлияли сильнее на развитие этих процессов, а затем на их объединение. Заключенное в 1904 году англо-французское соглашение, так называемое сердечное соглашение (Entente Cordiale), закрепившее существовавшее на тот момент положение в их обширных и далеко разбросанных по миру колониальных владениях, не только окончательно потушило искры соперничества, тлевшие на протяжении более двухсот лет. Оно стало основой Антанты, которая в годы Первой мировой войны смогла противостоять Германии и Тройственному союзу.
В случае русской революции активная фаза так и не закончилась - притом до самого конца, пока не перестало существовать советское государство. Правда, со временем характер этой активной фазы претерпел серьезные изменения. В первый раз изменение случилось, когда у власти оказался Сталин, на свой манер изменивший самый дух и суть революции. Изменения происходили и позже: если сравнить первые десятилетия режима, когда он был еще слаб и изолирован, представляя собой объект на поле столкновения интересов других держав, с более поздним периодом, когда Советский Союз вновь занял место среди главных игроков на международной арене как субъект системы, а впоследствии, после Второй мировой войны, буквально стал творцом новой, послевоенной системы международных отношений.
Однако на протяжении всего этого времени Советский Союз в рамках международного контекста оставался революционным государством. Это было действительно так, будь это, согласно критерию Киссинджера, государство, отчужденное от существующей международной системы и направляющее усилия на ее подрыв, или же страна, приверженная делу революции и исполненная решимости способствовать аналогичным переменам в других странах. Вторая категория говорит об еще одной возможности восприятия взаимоотношений между революциями и междуна¬
Роберт Легволъд 103
родными системами, частью которых они являются. Как утверждал Фред Халлидей, угроза со стороны революционных государств для системы международных отношений «состоит вовсе не в том, что они выдвигают новый вид дипломатии или же ведут дела определенным образом в сфере международных отношений, но в том, что они ставят во главу угла своей внешней политики изменение общественных и политических условий в других странах и считают, будто у них есть не только право вести свою внешнюю политику на такой основе, но и обязанность это делать»22. Когда такие государства делаются частью международной системы, она становится разнородной. Если же их нет в ней, она станет более однородной. Это различие важно, поскольку гетерогенные (неоднородные) системы более подвержены угрозе возникновения конфликтов, нежели гомогенные (однородные). За все время существования, по крайней мере до начала эры Михаила Горбачева, Советский Союз делал все, чтобы гарантировать гетерогенность системы международных отношений.
После Второй мировой войны возник политический вакуум и появилась двойная концентрация власти, что привело к возникновению биполярной структуры послевоенного международного порядка. Его содержанием стали противоборствующие идеологии двух гегемонов — причем один из них был наследником русской революции, а другой американской. Вклад русской революции в общую картину мира в XX веке был также умозрительным - подобно вкладу Французской революции в XIX веке. На метафизическом уровне влияние русской революции было грандиозным и судьбоносным. Стивен Смит хорошо описал это:
«Для современников значение 1917 года состояло в обязательстве привести к власти пролетариат, положить конец неравенству и эксплуатации. По прошествии ста лет это уже не представляется главным значением революции. На передний план, как имеющие сегодня куда большее значение, выходят элементы социальной революции, которые большевики посчитали бы менее важными, нежели раскрепощение пролетариата: приверженность делу антиколониализма, борьба за права женщин, эксперименты в законодательной сфере, социальном обеспечении и образовании, или же создание новых концепций в градостроительстве и архитектуре»23.
22 Halliday К ’The Sixth Great Power’: On the Study of Revolution and International Relations // Review of International Studies. Voi. 16, No. 3 (1990). P. 214.
23 Smith -S.A Russia in Revolution: An Empire in Crisis 1890-1928. Oxford University Press, 2017. P. 392. Смит также добавляет: «Их революция привнесла
10 4 Российская революция 1917 года и ее место в истории XXвека
На практическом уровне революция в России дала толчок антиколониальным движениям, который не переставал сказываться многие десятилетия, постоянно влияя на советскую внешнюю политику в годы холодной войны. Представление о взаимосвязи между всемирной пролетарской революцией и освобождением «угнетенных» народов колониальных стран, которое на Втором конгрессе Коминтерна в 1920 году возникло в воображении Ленина, Григория Зиновьева и революционеров из Коминтерна вроде Манабендра Роя, в последующие полвека претерпело ряд изменений, но не исчезло. Оно сыграло большую роль и в готовности Никиты Хрущева оправдать свое решение приблизить к себе радикальные, только что получившие независимость страны Азии и Африки, назвав их «национально-демократическими государствами», странами, выбравшими «некапиталистический путь развития», ведущими «прогрессивную, антиимпериалистическую внешнюю политику» - такая идеологически «правильная» формулировка имела истоки в тех давних временах, когда Коминтерн был только что создан24. Еще в 1981 году, на XXVI съезде КПСС Леонид Брежнев с похвалой отозвался о прогрессе в развитии «недавно освободившихся стран» и обещал укрепить «союз мировой социалистической системы и национальных освободительных движений»25.
Со временем эта идея, равно как и та общая идеологическая платформа, частью которой она была, померкла, перестав быть главным ориентиром. Но все же именно через эту призму советские лидеры видели мир, так что созданная в результате этого субъективная реальность определяла поведение СССР на международной арене. Прислушайтесь к словам Анатолия Добрынина, бывшего долгое время советским послом в Вашингтоне, который выражает недовольство тем, как эта идея влияла на участие Советского Союза в конфликтах, происходивших в третьем мире: «В каждой из подобных ситуаций имелись присущие только ей,
бедствия, которые по своему масштабу были соизмеримы с преобразованиями в человеческих отношениях, которые они стремились достичь» (Р. 393).
24 Я рассматривал данную концепцию и те страны, к которым ее применяли в книге: Soviet Policy in West Africa. Harvard University Press, 1970. P. 111 — 114.
25 Report of the Central Committee of the CPSU to the XXVI Congress of the Communist Party of the Soviet Union and the Immediate Tasks of the Party in Home and Foreign Policy,” February 23, 1981, P. 22, available at: https://archive. org/details/ReportOfTheCentalCommitteeOfTheCPSUToTheXXVICongress OfThe CPSU
Роберт Легволъд 105
местные особенности. Однако в основе всегда была простая, но примитивная идея международной солидарности, которая означала лишь одно: требовалось исполнять наш долг в рамках антиимпериалистической борьбы. И не играло никакой роли то, что нередко это не имело никакого отношения к подлинным национально-освободительным движениям, и все сводилось к вмешательству - по идеологическим соображениям - во внутренние дела стран, в которых шла борьба за власть между представителями различных группировок»26. Дальше он писал следующее: «Члены Политбюро пребывали в уверенности, что начался исторический процесс: разрушение старых колониальных империй и общее ослабление капиталистической системы»27.
Поэтому, хотя система международных отношений, возникшая на руинах Второй мировой войны, отличалась биполярной структурой, но наследие революции 1917 года, пусть и сильно модифицированное Сталиным, придало ей характерные черты, связанные с холодной войной. И тут дело не просто в том, что политическая и экономическая система, порожденная революцией, противопоставила себя миру демократических и капиталистических стран, активизировала холодную войну, хотя это и принципиально важный момент. Это был онтологический водораздел, появившийся в связи с противоположными взглядами на историю и непримиримыми спорами о будущем развитии человечества. Он определял форму того, где именно, как именно и сколь долго должны были происходить битвы холодной войны.
Соответственно, как только идеологическое внутреннее ядро холодной войны дошло до финальных этапов своей эволюции, холодная война подошла к концу. За многие десятилетия после 1917 года идеологические каноны марксизма-ленинизма претерпели множество изменений, от сталинской доктрины «построения социализма в одной стране» через хрущевское «мирное сосуществование государств с различным общественным строем» и до «научного социализма» в брежневскую эпоху. Но их суть и их явное влияние на поведение СССР на международной арене оставались неизменными. Нарушил эту традицию Горбачев. Отринув ключевые советские принципы и заменив их идеями, которые в целом приемлемы для США и их западных партнеров, он убрал источ¬
26 Dobrynin A. In Confidence: Moscows’s Ambassador to America’s Six Cold War Presidents. Times Books, 1995. P. 404.
27 Ibid. P. 408.
106 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
ник непреходящих разногласий между обеими сторонами. Когда он говорил не о «классовой борьбе», а о «нашем противоречивом, но едином и взаимосвязанном мире», о том, что милитаризм вовсе не является неотъемлемой чертой капитализма и потому социалистические и капиталистические страны смогут совместными усилиями ликвидировать риск возникновения широкомасштабной войны, что все страны сталкиваются с одинаковыми угрозами (тут и изменение климата, и вышедшая из-под контроля гонка вооружений, и насилие в результате социальной несправедливости), когда он вводил коррективы, глубоко затрагивавшие застойную, но по-прежнему существующую идеологию - только тогда Горбачев, шаг за шагом, смог подточить основы холодной войны. Когда он постепенно, с 1986 до 1989 год, начал действовать согласно этим, видоизмененным принципам, а США и их союзники давали на это симметричный ответ, холодная война закончилась. Она закончилась еще до того, как в 1990 году обрушилась конструкция послевоенной биполярной системы международных отношений. Этот процесс прошел в два этапа: сначала в 1990 году распалась советская империя в Восточной Европе, а затем в 1991 году и сам Советский Союз.
Завершение непосредственного и активного воздействия Французской революции на международную политику произошло за счет внешних факторов, уже после поражения Наполеона. Но идеи, идеалы и общественные инструменты, возникшие в ходе этой революции, продолжали влиять на интернациональный миропорядок на протяжении всего XIX века, в XX веке и даже до сих пор. Напротив, влияние революции 1917 года, которое было наиболее сильным в течение полувека после нее, впоследствии самоликвидировалось. В результате возникает вопрос, имели ли идеи, идеалы и общественные инструменты, возникшие в ходе этой, многократно видоизмененной революции, шанс проявиться в будущем, и имеют ли они его сегодня? Возникает, правда, еще один вопрос, порождаемый этими двумя революциями: они — последние? Не приходится, конечно, сомневаться, что революции будут происходить и дальше. Но может ли вновь случиться то, о чем я говорил в начале этой статьи: произойдут ли новые исторические революции, то есть такие, которые не только свергнут политическое и общественное устройство крупного государства, но также изменят формы и динамику международных отношений? А если произойдут, то можем ли мы их себе представить сегодня?
Октябрьская революция в России и путь китайской революции 20-40-х годов XX века
Ван Ю, Ван Сяоцзюй
Октябрьская революция 1917 года - одно из крупнейших событий, произошедших в России сто лет назад и имеющие значение для всемирной истории. В советской и китайской исторической науке принято считать ее началом новейшей истории. Октябрьская революция оказала огромное влияние на исторические судьбы России и многих других стран. Воздействие Октябрьской революции на Китай — непосредственного соседа России - было огромно. Возникновение «Движения четвертого мая», создание Коммунистической партии Китая, образование Китайской Народной Республики, формирование Народно-освободительной армии Китая тесно связаны с Октябрьской революцией. Как Мао Цзэдун образно указывал: «Орудийные залпы Октябрьской революции донесли до нас марксизм-ленинизм. Октябрьская революция помогла передовым людям всего мира, в том числе и Китая, пересмотреть свои проблемы, применяя пролетарское мировоззрение в качестве орудия для изучения судеб своей страны. Идти по пути русских — таков был вывод»1. Можно сказать, что китайская революция 20-40-х годов XX века была логическим продолжением Октябрьской революции в России.
В бывшем Советском Союзе и современной России, так же как и в Китае, очень много научных работ, посвященных влиянию Октябрьской революции на Китай. В данной статье нам хотелось бы обратить особое внимание на этот вопрос. Несмотря на то что
1 Мао Цзэдун. Избранные произведения. Т. 4. Пекин: Издательство литературы на иностранных языках, 1969. С. 120.
108 Российская революция 1917года и ее место в истории XXвека
Российская и Китайская революции руководствовались в своей деятельности марксизмом, они отличались друг от друга в конкретных аспектах, а самое заметное - в их путях к победе. Опираясь на городских рабочих, российские большевики побеждали сначала в крупнейших центрах, потом в сельской местности и на окраине, и наконец - во всей стране. А Коммунистическая партия Китая, опираясь прежде всего на поддержку крестьянства, постепенно создавала революционные базы в деревне, потом вторгалась в Нанкин, Шанхай и другие крупные города, и, наконец, освободила всю территорию Китая. Октябрьская революция произошла в 1917 году, а китайская компартия пришла к власти в 1949 году. Что случилось за тридцать два года, почему пути прихода к власти обеих партий столь разные?
В китайской историографии принято считать, что причина заключается в различной ситуации обеих стран: в начале XX века Россия была независимой и развитой страной. Рабочие и солдаты, выступавшие основными движущими силами российской революции, были сосредоточены в крупных городах. Китай отставал от России во многих областях. Поэтому китайские революционеры захватили власть не таким путем, как большевики. Эта точка зрения, вписанная в учебники, в определенной степени справедлива, но не дает полного ответа на вопрос. Несмотря на то что в данный период Китай был гораздо более отсталым государством, чем Россия, в обеих странах с преобладающим крестьянством было очень мало рабочих. Кроме того, в отличие от большевиков, которые во время Октябрьской революции были беспомощны на международной арене, китайская компартия имела такие преимущества, как опыт, идейное побуждение от социалистического соседа. Действительно, китайская компартия получала экономическую помощь от Советского Союза и Коминтерна. В этой связи громадные трудности на пути китайской революции из-за отсталости страны были частично компенсированы. Говоря о преимуществе отсталой страны в революции, Лев Троцкий сказал: «Историческая диалектика не знает голой отсталости, как и химически чистой прогрессивности. Все дело в конкретных соотношениях. Нынешняя история человечества полна “парадоксов”...»2. Дальше он заявил: «Но презрение китайских рабочих к средневековому тупоумию Макдональда не дает оснований для вывода, что по общему раз¬
2 Троцкий Л.Д. История русской революции. Т. 2. Ч. 2. Берлин: Издательство «Гранит», 1933. С. 416.
Ван Ю, Ван Сяоцзюй 109
витию Китай выше Великобритании. Наоборот, экономический и культурный перевес последней может быть выражен точными цифрами. Их внушительность не помешает, однако, тому, что рабочие Китая могут оказаться у власти раньше, чем рабочие Великобритании»3. Это наглядно подтвердило развитие истории. Нет никакого основания считать, что проверенный в передовых странах путь прихода к власти обязательно не подходит для отсталых стран. Действительно, в период китайской национальной революции 1925-1927 годов с помощью методов, разработанных Коминтерном, в том числе подготовки регулярных войск, удалось за короткое время добиться заметных успехов в наступлении на крупные города. Национально-революционная армия от бассейна реки Чжуцзян дошла до бассейна реки Янцзы, охватила половину территории Китая. И поэтому можно сказать, что крупное поражение китайской революции в 1927 году может быть тесно связано с неэффективным копированием опыта Октябрьской революции.
В 1925 году, когда вспыхнула Китайская революция, руководство ВКП(б) считало, что Китай - государство полуфеодальное и полуколониальное, где капитализм и пролетариат очень слабый, поэтому главной задачей Китайской революции являлись национальная независимость и национальное единство, а буржуазный характер революции свидетельствовал о том, что руководящую роль должна была играть буржуазия. По этой теории, большую часть помощи Китаю Советский Союз предоставил Национальной партии (Гоминьдану), а не Коммунистической партии. Несмотря на то что Гоминьдан являлся старой политической партией, на практике до сотрудничества с Советским Союзом он был плохо организованным, чрезвычайно слабым и уязвимым объединением, несколько раз разгромлен местными милитаристами на политической арене Китая. Советская материальная помощь Гоминьдану и реорганизация внутри партии укрепили его позиции в стране. Под руководством Коминтерна КПК, которой не было разрешено создать свои войска, действительно была просто подчиненной партией. При этом когда Гоминьдан выступил против национальной революции, КПК потерпела серьезные потери. Из-за этого победа китайской революции опоздала более чем на двадцать лет.
Действительно, отношение руководства ВКП(б) в 1925— 1927 годах к событиям в Китае было похоже на позицию меньшевиков к Российской революции 1917 года и серьезно отличалось от
3 Там же. С. 417.
110 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
политического курса Ленина в октябре 1917 года. Ленин все время подчеркивал самостоятельность и независимость пролетариата в революции. К примеру, после начала Корниловского мятежа в своем письме Центральном комитету партии Ленин писал: «И поддерживать правительство Керенского мы даже теперь не должны. Это беспринципность. Спросят: неужели не биться против Корнилова? Конечно, да! Но это не одно и то же; тут есть грань; ее переходят иные большевики, впадая в “соглашательство”, давая увлечь себя потоку событий. Мы будем воевать, мы воюем с Корниловым, как и войска Керенского, но мы не поддерживаем Керенского, а разоблачаем его слабость. Это разница. Это разница довольно тонкая, но архисущественная и забывать ее нельзя»4. Благодаря правильному курсу к самостоятельности и независимости, большевики во главе с Лениным одержали победу в Октябрьской революции. Однако многие его соратники считали, что удача революции была случайным явлением, и такой опыт трудно копировать. Например, во время празднования четвертой годовщины Октябрьской революции Бухарин говорил о том, что ЦК постановил сжечь письмо Ленина: «Письмо (Ленина) было написано чрезвычайно сильно и грозило нам всякими карами (?). Мы все ахнули. Никто еще так резко вопроса не ставил... Все недоумевали первое время. Потом, посоветовавшись, решили. Может быть, это был единственный случай в истории нашей партии, когда ЦК единогласно постановил сжечь письмо Ленина... Мы хотя и верили в то, что, безусловно, в Питере и Москве нам удастся взять власть в свои руки, но полагали, что в провинции мы еще не сможем удержаться, что, взявши власть и разогнавши Демократическое совещание, мы не сможем закрепить себя во всей остальной России»5.
В 1925-1927 годах руководившие Китайской революцией через Коминтерн Бухарин и Сталин неосознанно подняли эклектическую меньшевистскую идею - пытаться провести революцию, крайне осторожно двигаясь вперед. В самом начале Бухарин и Сталин надеялись на Чан Кайши. После того как Чан Кайши предал революцию, они по-прежнему верили, что «революционный Гоминдан в Ухане, ведя решительную борьбу против милитаризма и империализма, будет превращаться на деле в орган революционно-демократической диктатуры пролетариата и
4 Ленин В.И. ПСС. М.: Издательство политической литературы, 1969. Т. 34. С.120.
5 Троцкий Л.Д. История русской революции. Т. 2. Ч. 2. С. 147—148.
Ван Ю, Ван Сяоцзюй 111
крестьянства...»6. Однако и крайне левые, и крайне правые — все они не удовлетворялись искусственно установленными «гранями». В России были и Ленин, и Корнилов; Троцкий, и Милюков. Промежуточные силы в лице таких деятелей, как И.Г. Церетели, одно время находились у власти, но недолго. Такой же была ситуация в Китае: либо Чан Кайши устанавливает военную диктатуру, либо Коммунистическая партия - революционную диктатуру, не было третьего пути. Конечно, российские и советские политики не вполне забыли ценный опыт Ленина. Левая оппозиция внутри ВКП(б) отметила недостатки в курсах Бухарина и Сталина. Например, Троцкий проводил такую точку зрения: «Мы7 превратили китайскую компартию в разновидность меньшевизма, и притом не лучшую разновидность, то есть не в меньшевизм 1905 г., когда он временно объединялся с большевизмом, а в меньшевизм 1917 г., когда он объединялся с правой эсеровщиной и поддерживал кадетов»8. Он считал, что, завладев громадными территориями, испытывая нужду в иностранных капиталах и сталкиваясь повседневно с рабочими, национальное правительство Китая совершит резкий поворот направо — в сторону США и Англии. Без всякого сомнения, левая оппозиция была права. Но в это время внутри ВКП(б) она уже потеряла влияние, поэтому была не в силах повлиять на общий ход событий. Различные взгляды членов левой оппозиции на китайскую революцию, наоборот, служили основанием для Сталина исключить их из партии.
Китайская революция 1925-1927 годов гораздо больше похожа на Октябрьскую революцию, чем гражданская война в Китае 1946-1949 годов. Мы могли бы найти российские аналоги среди многих исторических фигур Китая. В то время в самом Гоминьдане Чан Кайши выступал как китайский Корнилов, пытавшийся захватить власть; Дай Цзитао, один из идеологов Гоминьдана - как китайский Милюков; Гоминьдановские правые генералы Фэн Юйсян и Тан Шэнчжи, которые вместе с Чан Кайши подавляли коммунистов, сопоставимы с Калединым или Деникиным; председатель национального правительства в Ухани Ван Цзинвэй в той или иной мере играл роль председателя Временного правительства Александра Керенского. К сожалению, главу Коммунистического
6 URL: http://grachev62.narod.ru/stalin/t9/t9_15.htm
7 То есть ВКП(б) во главе со Сталиным и Бухариным.
8 Коммунистическая оппозиция в СССР. 1923—1927. Из архива Льва Троцкого. Т. 2. 1926-1927 / Сост. Фелыитинский Ю. Вермонт, Издательство «Chalidze Publications», 1988. С. 194.
112 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
Интернационала Бухарина нельзя сравнивать с Лениным. Огромное поражение Коминтерна в Китае 1927 года является другой версией поражения меньшевиков в 1917 году. Итак, китайский Корнилов сначала удачно очистил левых гоминьдановцев, затем в борьбе за власть поразил китайского Керенского и создал военную диктатуру правого крыла. Китайская история в этот период, как зеркало истории России, в частичной мере отражает другой возможный вариант исторического развития России.
Теперь некоторые китайские ученые считают, что в 1927 году было очень сильно правое крыло Гоминьдана, поэтому китайская гражданская революция неизбежно потерпела поражение. С этим мнением трудно согласиться. Напомним, что в июле 1917 года большевики также переживали тяжелое политическое поражение, но благодаря значительной самостоятельности, им не был нанесен серьезный ущерб в живой силе, и они устояли на ногах. Спустя три месяца большевики снова сконцентрировали вооруженные силы и сразу же захватили власть. Ярко контрастируя с этим, Коммунистическая партия Китая была идеологически недостаточно подготовленной к тому, что Чан Кайши и Ван Цзинвэй повернули против революции. Многие коммунисты были арестованы и отправлены в тюрьмы или убиты. Большое количество коммунистов, в чьих головах была путаница, вышло из рядов КПК. Лишь через несколько лет партийная организация была постепенно восстановлена. Любая политическая организация может потерпеть поражение. Гораздо более важным является реакция политической партии на поражение. Несмотря на неблагоприятный расклад сил Коммунистическая партия Китая продолжала проводить курс на независимость и самостоятельность, что помогло ей аккуратно отступить и уменьшить ущерб.
В тот период Коммунистическая партия Китая была совсем молодой, но руководство Советского Союза, имевшее удачный опыт революционной борьбы, по отношению к китайской революции отступило от идей Ленина, механически действуя по формуле «производительные силы зависят от производственных отношений». Иными словами, в ходе революции 1925—1927 годов была возможность захватить власть большевистским путем, но ошибочный курс Коммунистического Интернационала и объединение китайского Корнилова с китайским Керенским изменили все. Китайские коммунисты отошли в окраины и не могли одержать победу вплоть до 1949 года. Мао Цзэдун однажды оценил китайскую революцию так: «Словом, перспективы светлые, а путь
Ван Ю, Ван Сяоцзюй 113
извилистый»9. Таким образом, если то, что Китай следовал вслед за Россией революционным путем было закономерным результатом, то различие путей революции обеих стран является случайностью в таком результате.
9 Мао Цзэдун. Избранные произведения. Т. 4. Пекин: Издательство литературы на иностранных языках, 1969. С. 66.
Религиозная символика Русской революции
Паола Чони
Разговор о религии в контексте большевистской революции, вдох- новленной принципами «научного» социализма, может показаться парадоксальным. Тем не менее при тщательном анализе речей революционных лидеров, газетных статей, плакатов и иллюстраций, сделанных после начала революции, невозможно не учесть религиозный компонент при описании фактической стороны октябрьских событий и тем, как они были пережиты.
Даже если свести выбор источников исключительно к литературным произведениям, станет очевидно, что «в первые годы коммунизма поэты и режиссеры с волнением листали Библию и Евангелие, чтобы найти параллели с событиями, перевернувшими Россию»1. Как отмечает Чезаре Де Микелис, обращение к образу Христа для «описания» революции настолько распространено, что представляет собой «топос, метафору, проходящую через большую часть поэзии тех лет, тематически связанной в Октябрем»1 2. Всего через два месяца после захвата власти большевиками один из самых известных и любимых поэтов эпохи Александр Блок публикует небольшую поэму «Двенадцать», ставшую первым подтверждением этой идеи. Название поэмы отсылает к двенадцати апостолам, которых Блок представляет как отверженных: бандитов, воров, проституток, погруженных в революционную бурю и ведомых к возрождению Христом, который шествует впереди
1 Ripellino А.М. Majakovskij. E il teatro russo d’avanguardia. Torino, 1959. P. 85.
2 De Michelìs C. Il tredicesimo apostolo. Evangelo e prassi nella letteratura sovietica. Torino, 1975. P. 60.
Паола Чони 115
с развевающимся красным знаменем. Для Блока политическая составляющая Октября не так важна, как «сакральный» характер революции, который он мастерски воплощает в финальном образе. Данная параллель прослеживается не только в этом произведении, являющимся одной из вершин творчества Блока. Достаточно вспомнить поэму «Христос Воскрес» Андрея Белого, в которой Христос идентифицируется с самой революцией. Широко используется религиозная лексика в произведениях убежденного атеиста Маяковского. Многочисленные отсылки к Библии можно найти и у «пролетарских писателей». Вспомним, к примеру, Николая Герасимова, Филиппа Шкулева, Василия Князева, автора «Красного Евангелия»3.
Можно встретить десятки подобных примеров в произведениях поэтов и писателей, но литература не была единственной сферой, где проявился данный феномен, со временем превратившийся в масштабное явление. События Октября представлялись сакральными не только поэтам: в советских газетах и в официальных выступлениях большевиков, декларировавших свое неприятие трансцендентности, обнаруживаются термины и метафоры явно религиозного характера, а на улицах появлялось все больше изображений, типичных для православной традиции. Вспомним знаменитый плакат 1918 года, где Лев Троцкий, в седле на белом коне, убивает огромного красноглазого змея. Надпись на теле змеи гласит: «Контрреволюция». Очевидно, что Троцкий здесь предстает в образе Святого Георгия, героически убившего дракона- чудовища, изображение которого характерно не только для христианской, но и русской традиционной фольклористики. Герой революции в этом контексте становится новым святым, истинным борцом за свободу4.
Другой плакат 1919 года, где воссоздается сцена Страшного суда5, приобретает еще большее значение. Верховный судья в данном случае не Бог, а народ; здесь нет праведников, так как больше нет смысла говорить о вознесении в рай; остается только рай на земле, так как не существует никакой трансцендентности; изображены только грешники. На плакате можно увидеть крестьянина, солдата и рабочего, лопатой и метлой они изгоняют разных представителей врагов революции. Новые представители народа чисты
3 Князев В. Красное Евангелие. СПб., 1918.
4 Плакат на сайте: URL: https://thecharnelhouse.org/2017/04/27/leon-trotsky- demon-of-the-revolution/trotsky-slaying-the-dragon-1918/
5 Плакат на сайте: URL: http://www.rusbiblìophile.ru/BookPhotos/9313?main=l
116 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
по определению, их задача состоит в том, чтобы освободить мир от зла. Это также показано и на другом плакате эпохи, увековечивающим Ленина с метлой в руке, который пытается очистить мир от грязи - царей, капиталистов и попов6.
Наиболее поразительным примером распространения религиозного менталитета является создание мавзолея Ленина. Забальзамированный и почитаемый как святой, лидер большевиков был превращен в некоего «светского Христа», слово которого не подлежало сомнению. Почитание останков Ленина приобретало очевидное политическое значение, олицетворяя, как пишет Нина Тумаркина: «Свидетельство веры в системе»7, но также явилось и спонтанным выражением нового культа. Вопрос бессмертия обсуждался в России с конца XIX века и был связан с непоколебимой верой в научный прогресс. Николай Федоров (1828-1903), теоретик супраморализма, полагал, что наука сможет регенерировать организмы и, таким образом, воскрешать мертвых. Вопросы о спасении, которые в течение многих веков являлись прерогативой религии, перетекли в научную сферу. «Сама наука становится для русского нигилизма и атеизма предметом религиозной веры и идолослужения», - пишет Бердяев в работе «Русская религиозная психология и коммунистический атеизм»8. Бальзамирование тела Ленина, обеспечивающее ему бессмертие, стало переходом от метафизики души к метафизике тела. Такое заключение вполне увязывается с менталитетом православного верующего, для которого тело, не подверженное тлению и разложению, символизирует святость.
Тот факт, что лидер партии почитался в народе как святой, подтверждается заменой красного угла, где в русских домах обычно ставились иконы, на «ленинские уголки», появившиеся после его смерти. Стоит отметить, что данный культ, возникший непроизвольно, впоследствии стал насаждаться государством, а для его регулирования была назначена специальная комиссия. Возникновение культа может быть связано с особым значением, придаваемым изображениям в православной религии. «Будучи по существу своему искусством литургическим, икона, так же как и слово, никогда не служила религии, - пишет Успенский, - но, так же как
6 Bonnell VE. Iconography of power. Soviet Political posters under Lenin and Stalin. London, 1999. P. 204.
7 Turmakin N. Lenin Live. The Lenin Cult in the Soviet Russia. Cambridge London, 1997. P. 165.
8 Бердяев H.A. Русская религиозная психология и коммунистический атеизм. Париж, 1931. С. 22.
Паола Чони 117
и слово, всегда была и есть неотъемлемая часть религии, одно из средств к познаванию Бога, один из путей к общению с Ним»9. Для православных верующих священные образы точно так же, как и священные книги, не представляют человеческие идеи и концепции истины, но сами по себе являются истиной - божественным откровением. В данном случае божественное откровение происходит через образ и слово Ленина.
Миф о бессмертии вождя был также создан рядом пропагандистских мер, нацеленных на привлечение народных масс «простым», доступным и эмоционально захватывающим дискурсом. В обществе насаждались идеи большевистских лидеров, которые становились «Библией» рабочего движения. В Советском Союзе тщательно собирали любые отрывки, любые письменные заметки Ленина. В своей книге о Сталине, ставшей одним из наиболее критических свидетельств против советского режима, Суварин говорит о том, что «самая безобидная фраза, малейшее слово, случайно слетевшее с уст великого человека, становились как будто изречением из Евангелия, подходящего в качестве цитаты для эпиграфа. Специальному институту ленинологии было поручено разбирать самые ничтожные записки с каракулями Ленина...»10 11. Каждое слово архивировалось, как это обычно делается со священными книгами: «Новая Библия, разрезанная на части, давала окончательные ответы на все вопросы, поставленные историей»11. При Сталине корпус марксистских текстов стал священным «носителем теоретического и исторического вдохновения, который нельзя подвергнуть сомнению. Этот корпус, как священные еврейские или христианские тексты, состоял из нескольких слоев: от Маркса к Сталину - и лишь некоторые интерпретации считались каноническими; из их числа был исключен Каутский, но также Бухарин и Троцкий вместе с другими менее известными интерпретаторами»12.
Государство поддерживало и культивировало образ мыслей религиозного типа, но тем не менее общественное осознание священного характера событий революции родилось непроизвольно. После Октября появляются мемуары участников революции, где она представляется как мистическое событие. Джон Рид, оставивший одно из самых образных сообщений о захвате власти больше-
9 Лососий В.Н., Успенский Л.А. Смысл Икон. М., 2014. С. 44.
10 Souvarine В. Stalin. Milan, 1935. P. 451.
11 Ibid. P. 450.
12 Sironneau J.P. Sécularisation et religios politiques. Le Have; Paris; New York, 1982. P. 461.
118 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
виками, писал: «И вдруг я понял, что набожному русскому народу уже не нужны больше священники, которые помогали бы ему вымаливать царство небесное. Этот народ строил на земле такое светлое царство, какого не найдешь ни на каком небе, такое царство, за которое умереть - счастье»13.
Приобретенные большевизмом религиозные черты были настолько масштабны, что их было невозможно оставить без внимания. Даже критический ум Бертрана Рассела был захвачен революцией. Убежденный в том, что большевики заслуживали благодарности и восхищения всех, кто верил в прогресс, уже в 1920 году он изменил свою позицию. После возвращения из путешествия по России Рассел приводит следующее определение большевизма: «Религия со своими догматами и священными писаниями»14.
Теперь необходимо поставить некоторые вопросы и выяснить, насколько религиозный элемент был свойственен марксизму; или же ленинизм и сталинизм, или как утверждают некоторые исследователи, только сталинизм, являются вырождением философии Маркса. Речь идет о глубинном исследовании противоречивой темы, которая разделила и продолжает разделять ученых на разные лагеря. Необходимо рассматривать большевизм внутри более широкого и длительного по времени феномена, не теряя из виду внутренние характеристики, присущие человеческой природе.
Уже в начале XX века в России псевдорелигиозные характеристики в идеологии радикальных партий были замечены и описаны интеллектуалами эпохи: Н. Бердяевым («Философская истина и интеллигентская правда»15), С. Булгаковым («Героизм и подвижничество»16), С.Л. Франком («Философские предпосылки деспотизма»17). В частности, Франк подчеркивал иезуитский характер мышления участников радикального движения, в особенности социал-демократического крыла. Стоит также обратить внимание на эссе А. Буткевича «Ортодоксальный марксизм и православие. Очерк партийной психологии»18, в котором предложено
13 РидД. Десять дней, которые потрясли мир. М., 1920. С. 179.
14 Рассел Б. Практика и теория большевизма. М., 1991. С. 6.
15 См.: Бердяев Н.А Философская истина и интеллигентская правда // Вехи. Сборник Статей о русской интеллигенции. М., 1909. С. 3-13.
16 См.: Булгаков С.Н. Героизм и Подвижничество. Из размышлений о религиозной природе русской интеллигенции. М., 1909. С. 14-42.
17 См.: Франк С.Л. Философские предпосылки деспотизма // Русская мысль. М., 1907. Год двадцать восьмой, кн. III. С. 118-109.
18 Буткевич А. [Б-ич] Ортодоксальный марксизм и православие. Очерк партийной психологии. СПб., 1907.
Паола Чони 119
произвести систематическое сопоставление структуры Православной Церкви и социал-демократической партии. Играя со значением термина «православие», Буткевич пытается доказать, что через несколько лет после создания социал-демократии, она начала приобретать характеристики Церкви. Любая критика, обращенная к церковным структурам, в равной степени могла быть обращена к «доктринальному марксизму». Всего через несколько десятилетий после смерти Маркса социал-демократия сделала догматическим обучение идеям немецкого философа, отдаляясь от его первоначального духа, то же самое произошло и с Церковью, именно поэтому в своей статье он называет социал-демократию - «православием марксизма», объясняя свою позицию следующим образом: «В точном смысле слова - утверждение, что только я один правильно мыслю, что только я один владею истиной, незыблемой и непререкаемой, все же несогласные со мной - еретик и анафема. Православие - это монополия истины для подавления критики, духовное порабощение человечества для борьбы с революционным идеалом. Православие - это компромисс, гниль, разъедающая всякое жизненное учение, это замена жизненной сущности мертвой формой или догмой, это буржуазность духа с ее призывом к умеренности и аккуратности»19. Нетерпимость явилась общей характеристикой для Православной Церкви и «доктринального марксизма».
Отталкиваясь от утверждения, что социал-демократия обнаружила характеристики новой Церкви, автор предлагает самый настоящий «гимн ереси» — единственный способ спасения первоначального марксистского учения. По существу, Буткевич полагает, что история Русской Православной Церкви по отношению к ереси повторилась в марксизме, — новой форме православия, в той же степени догматической и не признающей иного мнения.
«Великий идеал социалистического общества заменяет его идеалом класса пролетариата. Символ веры гласит: нельзя спастись иначе, как лишившись орудий производства, как сделавшись пролетариатом. Только пролетарий может стать социалистом... раз ты, подобно крестьянину, владеешь орудиями производства, ты не наш, ты - капиталист, собственник, буржуй, враг, а защитники твоих интересов - еретики, реакционеры, буржуазная партия, анафема», - и вот уже между «братьями рабочими и крестьянами - вражда»20.
19 Там же. С. 9-10.
20 Там же. С. 30-31.
120 Российская революция 1917 года и ее место в истории XXвека
Социал-демократия в своих рассуждениях следует схемам самой нетолерантной из «церквей»: «Существует церковь ортодоксального марксизма, стремящаяся объединить в себе класс пролетариата и основывающаяся на учении Маркса. Но давно отлетел оттуда дух Маркса, и осталась там лишь голая диалектическая схема. И схема эта обращена в догму, в истину неизменную и обязательную для всех веков, народов и областей производства. В храмах исторической необходимости жрецы так называемого марксизма проповедуют социализм в виде далекой мечты, в форме загробного рая»21.
«Действительно, - утверждает Буткевич, - спустя всего несколько десятилетий со смерти Маркса, социал-демократия сделала догматическим учение немецкого философа, отдалившись от его первоначального “духа”, точно также произошло с церковью, поэтому интеллектуал может определить социал-демократию как православие (ортодоксию) марксизма»22.
Вне зависимости от критики социал-демократии с правого и левого крыла и со стороны социал-революционеров, таких как Буткевич, невозможно пройти мимо того факта, что среди самих большевиков были убежденные в том, что марксизм может считаться самой настоящей религией. Действительно, Анатолий Луначарский, первый советский министр образования, в 1908 году создает теорию богостроительства, в которой предлагает превратить марксизм в религию, а в книге «Религия и социализм»23 оставляет для марксизма место в истории религий. Максим Горький, определявший марксизм как будущую религию человечества24, пишет роман «Исповедь»25, призванный дать литературную форму философским теориям Луначарского, в романе толпа исцеляет девушку-калеку только лишь силой воли.
По мнению многих исследователей, среди которых можно выделить Витторио Страда26 и Жан-Пьера Сиронно27, сила при¬
21 Буткевич А. [Б-ич] Ортодоксальный марксизм и православие. Очерк партийной психологии. СПб., 1907. С. 81.
22 Там же.
23 См.: Луначарский А. Религия и социализм: В 2 т. СПб., 1908-1911.
24 Горький М. Письмо Алексинскому// Горький М. Полное собрание сочинений: в 25 т. Т. 6. Письма 1907-1908. М., 2000. С. 241.
25 Там же. Т. 9. С. 389-390.
26 См.: Strada V. Costruire Dio, rifare l’uomo, trasformare il mondo // La critica al marxismo in Russia agli inizi del secolo. Milano, 1991. P. 165.
27 Sironneau J.P Secularisation et religions politiques. Le Have; Paris; New York, 1982.
Паола Чони 121
влекательности марксизма основывается на надежде полной трансформации человека и общества, в особенности на уверенности, что спасение, как выражение исторической необходимости, неизбежно придет. Именно вследствие этих заключений марксизм, в большей степени чем любая другая идеология, готов к преобразованию в светскую религию. Законы экономики и истории в теоретических конструктах Маркса и Энгельса заменяют Божье обещание, демонстрируя при этом полное преодоление трансцендентности. Но, чтобы до конца разобраться в данном феномене, необходимо выйти за пределы границ России, потому что идея о революции как возрождающей силе проходит красной нитью через весь XIX век. Начиная с Великой французской революции, все политические движения, планировавшие свержение старого устоявшегося режима, следовали за мечтой о совершенном обществе, основанном на братстве и справедливости. В заключение нельзя не подчеркнуть, что Великая французская революция в не меньшей степени, чем русская, породила своих святых и мучеников. Культовое поклонение некоторым личностям возникало спонтанно, достаточно вспомнить о таких святых революционерах как Перрин Дюге28, убитой во время революции: народ приписывал ей чудодейственную силу исцеления и построил маленькую церковь, внутри которой можно и сегодня увидеть часовню со святыми изображениями29. Нельзя забывать и о культе мучеников Марата и Пеллетье де Сен-Фарго, поклонение которым напоминало католические ритуалы.
Наблюдая явления такого рода, можно убедиться в том, что революционные культы не были просто приемами, сознательно задуманными политиками, чтобы манипулировать массами. Хотя, несомненно, революционный мистицизм не обладал такой последовательностью и таким уровнем разработки символов, который можно увидеть в крупных традиционных религиях. Скорее, допустимо говорить в данном случае о французской революции, вслед за историком религий Ж.-П. Сиронно30, как об эскизе настоящей религии, которая будет развиваться и преобразовываться, принимая новые формы, в течение последовавшего за ней столетия до
28 Charmelot М.Л. Perrine Dugue. La sainte aux ailes tricolore // Annale historique de la Revolution française. 1983. N. 1. P. 454-465.
29 Charmelot М.Л. La Sainte aux ailes tricolore // Annales historique de la révolution française. 1983. N. 1. P. 454-465.
30 Sironneau J.P. Op. cit. P. 246.
122 Российская революция 1917 года и ее место в истории XXвека
наших дней. Частью этого развития и преобразования является и русская революция.
Для понимания причин, по которым марксизм превращается в светскую религию, необходимо поместить его в исторический контекст, в котором он рождается, и осознать, что феномен превращения политики в религию имел место в предшествующих столетиях и связан с попыткой секуляризовать общество, на которое современный человек реагирует, создавая новых богов и новые светские религии. В новом советском государстве нашли себе место и непреклонная, догматическая концепция марксизма Ленина, и богостроительство - две формы «мирских религий», дававших глобальное объяснение картины мира и обещавших достижение коллективного спасения.
Историческое влияние Брест-Литовского мирного договора
Антонио Джулиоde Робертис
Договор, заключенный в Брест-Литовске, который один из самых значительных британских историков, Джон Уилер-Беннет, назвал в 1938 году «забытым мирным договором»1, имеет в наше время очевидное историческое значение хотя бы тем, что существующие сегодня западные границы Российской Федерации примерно соответствуют установленным тогда, в 1918 году, для недавно созданной большевистской республики.
Более того, нынешняя ситуация отражает сказанное в предисловии к переизданию книги Уилера-Беннета в 1968 году: «За последние двести лет отношения между Россией и Германией знали периоды как самого тесного сближения, так и самой непримиримой враждебности»1 2 - и так было со времен правления Фридриха Великого.
Если перенести это высказывание на современные международные реалии, заменив Германию на Запад в целом (куда входит и Германия), мы увидим, что эта схема воспроизводится вновь: с одной стороны, Джордж Буш заверял Горбачева, что НАТО не будет принимать новых членов, что установится Новый Мировой Порядок и возникнет «Новый Евроатлантизм», но, с другой стороны, уже следующий президент США, Билл Клинтон, настоял на расширении НАТО, а Барак Обама и Ангела Меркель подвергли Россию санкциям за «агрессию против Украины».
1 Wheeler-Bennett J. W Brest-Litovsk the Forgotten Peace, March 1918. London, 1938.
2 URL: https://www.litres.ru/dzhon-uiler-bennet/brestskiy-mir-pobedy-i-po- razheniya-sovetskoy-diplomatii/chitat-onlayn/
124 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
Территориальные договоренности 1918 года (пусть коммунистическая пропаганда их ни во что не ставила, так как тогда Россию заставила их принять наиболее империалистически настроенная часть германской военной касты) все-таки примерно соответствовали концепции, которая к концу Первой мировой войны стала некоей обобщенной «мантрой» в отношении устройства послевоенного миропорядка: а именно принципу самоопределения. Даже до того как этот принцип был отображен в «Четырнадцати пунктах» президента Вильсона, он был оглашен в мирной резолюции Рейхстага в июле 1917 года, а также в Декрете о мире, принятом на Втором Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов в ноябре того же года, и в Декларации прав народов России.
Именно это было целью русского правительства, поскольку Ленин, ввиду разложения в рядах русской армии и ее неспособности сдерживать германские войска, решил прекратить военные действия - хотя бы для того, чтобы его правительство смогло сохранить власть. Он приказал своему военному комиссару, главнокомандующему Н.В. Крыленко, послать радиограмму с объявлением о прекращении военных действий, а наркому иностранных дел, Троцкому, сделать формальное предложение о введении общего перемирия на всех фронтах Первой мировой войны. Поступив так, он пытался показать приверженность России существовавшим обязательствам по отношению к странам Антанты - не прекращать в одностороннем порядке общую борьбу с Центральными державами.
Германский генштаб, которому требовались дополнительные подразделения на Западном фронте, поскольку туда уже начали прибывать американские войска, положительно отнесся к этому развитию событий. Людендорф, генерал-квартирмейстер германских армий (заместитель начальника штаба), лишь задал вопрос командующему Восточным фронтом генералу Гофману: «Можно ли вести переговоры с этими людьми?» Ответ: «Да, это возможно. Вашему превосходительству нужны войска, и это самый простой способ, откуда их взять»3. В результате делегация во главе с генералом Гофманом получила полномочия предложить такие условия, которые не были бы для русской стороны ни несправедливыми, ни унизительными, но продиктованными лишь желанием прекратить военные действия на этом фронте в надежде, что обо всем удастся договориться в течение нескольких часов. Следовало остановить военные действия, а каждая сторона должна была сохранить за собой
3 Marshall S.L.A. World War I. Boston; N.Y., 2001. P. 328.
Антон Джулио de Робертыс 125
удерживаемые позиции. Это был классический пример использования принципа «utipossidetis» («чем владеете, тем и владеете»), что позволило бы Германии получить в свое распоряжение территорию от Курляндии с Ригой на Балтийском море до части Румынии вместе с Бухарестом на юге. Однако все оказалось не так просто.
Советская делегация прибыла на переговоры также и с пропагандистскими целями. Советские делегаты начали с того, что потребовали вести переговоры в обстановке полной гласности, а как только германская сторона дала на это согласие, глава делегации большевиков А.А. Иоффе выступил с длинным заявлением о принципах заключения мира со своей стороны, завершив его требованием к всем участникам конфликта прекратить военные действия и заключить всеобщее соглашение. Расширение предмета переговоров оказалось первым препятствием. Германские представители были готовы обсуждать вопросы, касавшиеся Восточного фронта при поддержке представителей еще трех держав, участвовавших в конфликте на стороне Германии - Австро- Венгрии, Турции и Болгарии. Они рассмотрели условия, предложенные Иоффе: перемирие продолжительностью в шесть месяцев; запрет германскому командованию переводить войска с Восточного фронта на любые другие фронты; обязательство для германских войск и военно-морских сил освободить Монзундские острова в Рижском заливе. Последнее требование России имело целью ограничить пределы германской оккупации на севере лишь до Курляндии, не допуская присутствия немцев в Эстонии даже на море. Гофман принял второе условие с оговоркой, что оно будет иметь отношение к новым приказам в будущем, поскольку приказ о передислокации германских подразделений на Западный фронт был объявлен еще до начала переговоров. Но он воспротивился предложению об эвакуации, поскольку такой шаг был приемлемым только в отношении «завоеванной страны». Еще он предложил длительность перемирия ограничить 28-ю днями, продлевая этот период по мере необходимости.
Но главной проблемой оказалась сфера действия договора. Согласно пропагандистским заявлениям большевиков, Иоффе получил инструкции вести переговоры о перемирии на всех фронтах, но, когда ему было заявлено, что у него нет полномочий вести переговоры от имени остальных государств Антанты, он попросту прервал их, предложив сделать перерыв, и уехал в Петроград, чтобы обсудить этот вопрос с Троцким и получить надлежащие инструкции.
126 Российская революция 1917 года и ее место в истории XXвека
Троцкий обратился с декларацией к союзным державам Антанты, призывая их присоединиться к мирным переговорам. Но не дождавшись ответа, послал еще одну декларацию, перекладывая на них ответственность за объявление Россией одностороннего перемирия и предупреждая об опасности заключения сепаратного мира - опасности, которую могли предотвратить только народы этих стран.
Иоффе вернулся в Брест-Литовск, чтобы продолжить переговоры, и через три дня подписал соглашение о перемирии — это было 15 декабря 1917 года. Перемирие объявлялось до 14 января следующего года, с автоматическим продлением, если только одна из сторон не объявит о его прекращении за семь дней до этого. Пункт договора, в отношении которого германская сторона допустила ошибку, оказавшуюся впоследствии фатальной для нее, касался вопроса о братании. Его отстаивали большевики, и Гофман согласился с известными ограничениями, которые, однако, оказались совершенно неэффективными. Братание превратилось в средство распространения коммунистической и пацифистской пропаганды в окопах противника, а «организованный порядок» процесса, на что дал согласие Гофман, не позволил ограничить распространение листовок и статей русскими пропагандистами среди солдат германской и австро-венгерской армий. Количество участников в трех центрах по контактам было ограничено: в каждом из них могло быть не более 25 человек. Но, как заметил Луис Фишер, «для распространения российской антивоенной пропаганды этих двадцати пяти человек было вполне достаточно».
Сами мирные переговоры между большевиками и Четверным союзом начались 22 декабря. Западным союзникам России было предоставлено время до 4 января, чтобы они присоединились к переговорному процессу. Обе стороны изъявили согласие в том, что мир должен быть без аннексий и контрибуций - об этом обе стороны, и российская, и германская, заявляли неоднократно, пусть даже последняя и прибавила к этому высказыванию дополнение, сделанное Георгом Михаэлисом: «Так, как я это интерпретирую». С другой стороны, большевистская делегация приехала в Брест-Литовск, лелея надежду на то, что удастся поднять на борьбу рабочие партии всех стран, участвовавших в войне, и таким образом оказать сильное давление на их правительства, чтобы они прекратили войну и присоединились к мирным переговорам. По этой причине стратегия делегации состояла в том, чтобы переговоры длились как можно дольше, пока европейские рабочие не пой¬
Антон Джулио де Робертис 127
мут суть мирной политики большевиков. Во всяком случае, большевики выставили такие условия:
— недопущение силового захвата любых территорий, оккупированных в течение войны, и эвакуация оккупационных войск в ближайшее время;
— независимость всех народов на этих территориях;
— отсутствие контрибуций по отношению к любой из противоборствующих сторон.
Поскольку Австро-Венгрия остро нуждалась в срочном прекращении войны в связи со сложными внутренними обстоятельствами, Германия, на которую она оказала давление, согласилась объявить о принятии условий России. Но для обеих стран Четверного союза условия о недопущении аннексии и выводе войск не означали, что они вернут России уже оккупированные территории, не позволив народам, их населяющим, выбрать свою судьбу через уже существующие там местные органы власти и земельные советы, притом отнюдь не под международным контролем за этим процессом или же при участии в этом большевиков. Это вызвало бурные возражения Иоффе, однако в любом случае в переговорах был объявлен перерыв до 4 января 1918 года, в ожидании ответа от государств Антанты на приглашение присоединиться к мирным переговорам - причем этот срок был продлен затем еще и до 9 января.
К 4 января ответ от государств Антанты так и не поступил, поэтому мирные переговоры были вновь продолжены между Центральными державами и большевиками. Причем главой российской делегации теперь стал Троцкий. В результате это привело к длительным дискуссиям относительно концепции и процедуры реализации принципа самоопределения для оккупированных германскими войсками регионов бывшей Российской империи, поскольку большевики предприняли попытку включить в договор условие о скорейшей эвакуации оттуда германских войск, чтобы позволить населению этих территорий воспользоваться правом на самоопределение «без стороннего влияния». Советская делегация пыталась затянуть переговоры. Она в полной мере пользовалась предоставленной ей возможностью выступать с пропагандистскими заявлениями, так что германская сторона стала выказывать все больше признаков нетерпения. Когда к 18 января все еще не было достигнуто существенного прогресса в переговорах, генерал Гофман выставил жесткие требования, включавшие установление независимых государств как на польских и балтийских территори¬
128 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
ях, которые прежде принадлежали Российской империи, так и на Украине.
Троцкий предложил прервать переговоры до конца месяца и вернулся в Петроград, где ему удалось убедить неохотно согласившихся на такие условия большевиков (в том числе и Ленина) избрать позицию, при которой Россия прекратила бы военные действия, однако мирный договор все же не подписала («ни войны, ни мира»). Он объявил об этом 10 февраля, на следующий день после того, как Центральные державы, вопреки сопротивлению большевиков, подписали мирный договор с правительством Украины. Такой поступок Троцкий предпринял в рамках общей стратегии по разоблачению территориальных амбиций врагов России, по пробуждению пролетариата Центральной Европы и активизации революционных действий, призванных защитить новое российское пролетарское государство. Но надежды оказались необоснованными — несмотря на забастовки и демонстрации, прошедшие за месяц до этого в знак протеста против экономических лишений, германские рабочие так и не восстали против своего правительства. Поэтому 18 февраля 1918 года Центральные державы в одностороннем порядке отказались от дальнейших мирных переговоров, а в последующие две недели захватили большую часть территории Украины, Белоруссии и стран Балтии, проведя операцию «Фаустшлаг» («Удар кулаком»). 19 февраля большевики послали немцам радиограмму с согласием на первоначальные условия мирного договора, но 23 февраля Центральные державы прислали им новые условия заключения мира:
— передача Германии территории Ливонии и Эстонии;
— возвращение Восточной Анатолии Оттоманской империи, а санджаки (административная единица империи) Ардаган, Карс и Батум самостоятельно определят свою принадлежность;
— признание независимости Украины;
— незамедлительная эвакуация российских войск с территории Украины и Финляндии;
— полная демобилизация российской армии.
Причем ответ на эти условия требовалось дать в течение 48 часов. Ленин настоял на их принятии, и на этот раз большинство членов ЦК поддержало его. В Брест-Литовск послали другую делегацию, ей были даны инструкции принять эти условия.
3 марта 1918 года Г.Я. Сокольников подписал мирный договор. Таким образом, новое советское правительство было вынуждено
Антон Джулио де Робертис 129
согласиться на принятие куда более худших условий, чем те, которые оно прежде отвергло. Однако условия эти, пусть их и изображали как результат политики германского империализма, на самом деле отражали дух времени. Несмотря на фундаментальные разногласия касательно того, как народы могли в принципе воспользоваться заявленным для них правом на самоопределение, был установлен прецедент новой политической реальности, например, в Курляндии.
Подписание мирного договора дало правительству большевиков возможность консолидировать свое правление, позволив, как говорил Ленин, получить передышку для удержания своего влияния внутри страны и более успешной борьбы с внутренней оппозицией, а также с вооруженной интервенцией, возникшей в силу глубокой враждебности бывшей российской элиты к новому режиму и за счет помощи внешних сил, в том числе от правительств стран Антанты.
Еще одним результатом заключения мирного договора с Германией стало открытие советского посольства в Берлине, что давало большевистскому правительству все соответствующие дипломатические преимущества. Иоффе, посланный в качестве посла в Берлин, прибыл туда в амплуа политического агитатора, с аппаратом посольства в количестве 300 человек. Он сразу же водрузил над бывшим зданием посольства Российской империи новый флаг, с серпом и молотом, и незамедлительно связался с независимыми группами социалистов и «спартаковцами». Он действовал как представитель советского правительства и как агитатор от лица Центрального комитета большевистской партии, которая, как это сформулировал Ленин, не несет ответственности за решения советского правительства. В результате советское посольство, превратившись в центр антивоенной и антимонархической пропаганды, оказало сильное влияние на поддержку революционных выступлений осенью 1918 года и на отречение кайзера.
Раздел II
ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ДРУГИЕ СТРАНЫ
Революция и контрреволюция в России, закат Европы
Роберто Валле
Россия - «таинственный мир, непостижимый для мира западного. Душа России еще более далекая и непроницаемая для западного человека, чем душа Греции или Египта. Россия есть апокалиптический бунт против античности»1. Такое краткое изложение основных черт морфологии русской истории, описываемых Шпенглером в книге «Закат Европы», приводится в статье Н.А. Бердяева «Предсмертные мысли Фауста», опубликованной в 1922 году в сборнике «Освальд Шпенглер и Закат Европы». Данный сборник с произведениями Ф.А. Степуна, С.Л. Франка и Я.М. Букшпана вызвал живейшую дискуссию между российскими шпенглерианцами и партийными публицистами - выразителями идей большевизма. И хотя русская революция, по замыслу ее творцов, должна была принять общемировые масштабы и привести к окончательному краху капитализма, большевики критиковали Шпенглера, считая его творение явным выражением философии империализма.
В 1922 году в номере 2 и 3 большевистского литературного журнала «Красная новь» было опубликовано несколько статей с опровержением тезисов философа и его российских единомышленников. Для большевика Георгия Пятакова размышления Шпенглера представляли собой «плоскую идеалистическую мешанину», мистическую галиматью, псевдофилософское оправдание империализма1 2. По мнению партийных публици¬
1 Бердяев Н.А. Предсмертные мысли Фауста // Освальд Шпенглер и Закат Европы. М., 1922. С. 71.
2 Пятаков Г Философия современного империализма (Этюд о Шпенглере) // Красная новь. 1922. N9 3. С. 182.
Роберто Валле 131
стов, Шпенглер и его российские сторонники заблуждались: на самом деле не Европа приходила в упадок, а под сокрушительными ударами большевистской революции погибал весь буржуазный мир.
Для российских шпенглерианцев пролетарская революция представляла собой конечную фазу мгновенного заката Европы и России, в то время как большевики считали ее знаком неизбежного прихода золотого века. Победа пролетариата свидетельствовала о крахе историософского мистицизма Бердяева, Степуна и Франка наряду с упадком буржуазного общества. По мнению Ленина, книга «Освальд Шпенглер и закат Европы» являлась «литературным прикрытием» белогвардейской организации. Фактически в статьях сборника не только рассматривались с критической точки зрения труды Шпенглера, но и утверждалось, что мысль о закате Европы зародилась в русской историософии XIX века и представляла собой утверждение о самобытности русской национальной традиции, отличной от европейской, которая в ходе истории следовала собственному «особому пути» (нем. «Sonderweg»).
Русская историософия XIX века привела к переосмыслению исторических перспектив: национального самосознания, наследия, предтечи исторических событий. Действительно, начиная с XIX века в России сформировалась своего рода философия национальной традиции или русской самобытности, эклектично сочетающей разнородные элементы: русское славянофильство XIX века, евразийство, шпенглеровские морфологию культуры и заката Европы первой половины XX века, неославянофильство Солженицына второй половины XX века, этнобиополитическую историософию Льва Гумилева и неоевразийство начала XXI века. В статье, опубликованной в сборнике «Освальд Шпенглер и закат Европы», Степун полагал Шпенглера не художником, но ремесленником, которому не доставало исключительной философской глубины. Франк, с одной стороны, придерживался идеи «кризиса западной культуры», разделяя со Шпенглером отказ от идеи всеобщей истории и теории прогресса. По мнению Франка, Шпенглер, как и славянофилы, — первые демиурги идеи русской самобытности, - выступал против безбожной светской цивилизации; с другой же стороны, Шпенглер, похоже, не признавал центральную роль христианства в формировании западной культуры и ориентировался больше на духовность предренессансной Европы. А с точки зрения Франка, только пробуждение религиозной традиции могло спасти Россию и Европу от катастрофы.
132 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
В статье «Предсмертные мысли Фауста» Бердяев утверждал, что христианство впервые сделало возможным философию истории тем, что раскрыло существование единого человечества с единой исторической судьбой: христианское сознание — это раскрытие трагедии всемирной истории. Шпенглер же возвращается к «языческому партикуляризму», по нему культуры и расы являются «монадами с замкнутой судьбой» согласно эллинской точке зрения. Для Шпенглера, по сути, разные типы культуры переживают круговорот своей судьбы. Отрицание смысла истории Шпенглером делает невозможной философию истории и приходит к той морфологии истории, которая, согласно Бердяеву, лишь явление природы: у Шпенглера фаустовская душа теряет связь с христианством3.
Действительно, у Шпенглера фаустовская душа полна бурных стремлений, исключительно динамична, представляет собой душу Западной Европы и определяет судьбу европейской культуры. Историческая судьба, по сути, определяется закрытой далью вечности, за гранью культуры и цивилизации, и, по мнению шпен- глерианцев, закат Европы не принимает апокалиптических масштабов, но ограничен кругозором «умирающей цивилизации». Помимо заката Европы, по словам Бердяева, Шпенглер предвидит возникновение новых культур, которые, однако, считает для себя непроницаемыми: все эти новые культуры, возникшие на Востоке, не имеют внутренней связи с умирающей европейской культурой. По мнению Бердяева, явление Шпенглера, человека исключительно одаренного, временами близкого к гениальности в некоторых своих интуициях, очень знаменательно для судьбы европейской культуры, для судьбы фаустовской души, но являет собой «срыв в пропасть». У Шпенглера большой интуитивный дар, но это - дар слепца. Шпенглер, по мнению Бердяева, как слепец, не видящий света, бросается в «темный океан культурно-исторического бытия». У Гегеля была христианская философия истории, имеющая религиозную основу, у морфологии истории Шпенглера нет религиозной основы4.
Исключительный успех «Заката Европы» Шпенглера, по мнению Бердяева, объясняется тем, что он «так остро поставил перед сознанием культурного человечества вопрос о его судьбе. На исторических перевалах, в эпохи кризисов и катастроф приходится серьезно задумываться над движением исторической судь¬
3 Бердяев Н.А. Указ. соч. С. 61—62.
4 Там же. С. 63.
Роберто Валле 133
бы народов и культур. Стрелка часов мировой истории показывает час роковой, час наступающих сумерек». Шпенглер признал цивилизацию роком всякой культуры. Цивилизация же кончается смертью. Тема цивилизации как смерти «духа культуры» не чужда европейской культуре, и перед «Закатом Европы», по словам Бердяева, поднималась Ницше, романтиками Запада, Карлей- лем, французскими католиками и особенно Леоном Блуа. Тоска Ницше по трагической дионисической культуре - следствие Духа времени эпохи, в которой властвует «триумф цивилизации». Кар- лейль с пророческой силой восставал против угашающего духа цивилизации, в то время как «пламенное восстание» Леона Блуа было направлено против буржуазной цивилизации. Цивилизация же есть смерть духа культуры - чудовищное явление; Шпенглер, по словам Бердяева, ничего не дает для проникновения в смысл этого первофеномена истории». С другой стороны, русская историософия принимала этот первофеномен, так как Россия, начиная с XIX века, переживала «кризис европейской культуры», или псевдоморфоз, не застав ее цветения.
Русская историософия основана как на узконациональной традиции, так и на неудовлетворенности европейской культурой на ее закате. Российская интеллигенция по своей отличной от других идеологии отвергала цивилизованное царство мира сего, так как мещанство, по мнению Бердяева, прикрепляется к тленным и переходящим вещам; «она не любит вечности». Цивилизация Европы и Америки, «самая совершенная цивилизация в мире», создала «индустриально-капиталистическую систему», которая не была только могущественным экономическим развитием, она была и явлением духовным, явлением истребления духовности». Капиталистическая цивилизация новейших времен убивала Бога, она была самой безбожной цивилизацией: революционный социализм у Бердяева лишь усвоил дух буржуазной цивилизации, принял отрицательное ее наследие.
В России неудовлетворенность культурой выразилась в воле к жизни и «страстной мечте о религиозном преображении жизни» с определенной склонностью к мечтательности. Обладающему весьма слабыми культурными традициями и слишком сильной варваризацией, русскому сознанию дано понять «кризис культуры и трагедию исторической судьбы более остро и углубленно, чем более благополучным людям Запада», скованным «символикой культуры и прагматизмом цивилизации». Бердяев писал, что наиболее значительные русские мыслители давно познали различие
134 Российская революция 1917 года и ее место в истории XXвека
между типом культуры и типом цивилизации и связали эту тему с взаимоотношением России и Европы: «Все наше славянофильское сознание было проникнуто враждой не к европейской культуре, а к европейской цивилизации. Тезис о том, что “Запад гниет”, и означал, что умирает великая европейская культура и торжествует европейская цивилизация, бездушная и безбожная». Для славянофилов XIX века Европа была не только «страною святых чудес», но и «самым дорогим погостом».
Бердяев вспоминал: Хомяков, Достоевский и Леонтьев относились с настоящим энтузиазмом к великому прошлому Европы, к этой «стране святых чудес», к священным ее памятникам, к ее старым камням. Но старая Европа изменила своему прошлому, отреклась от него, способствуя победе «безрелигиозной мещанской цивилизации» над «старой священной культурой». Славянофилы XIX века представляли борьбу с Западом «борьбой духа с бездушием», «религиозной культуры с безрелигиозной цивилизацией». Они хотели верить, что Россия не пойдет путем цивилизации, что у нее будет свой путь, своя судьба. В русском сознании очень остро ставилась тема самобытности, для подтверждения мысли самостоятельного развития России как отказа от буржуазнокапиталистической цивилизации. Как отмечали Ю.М. Лотман и Б.А. Успенский, русская культура имеет дуальную природу своей структуры: «основные культурные ценности (идеологические, политические, религиозные) располагаются в двуполюсном ценностном поле, разделенном резкой чертой и лишенном нейтральной аксиологической зоны»5. Одним из наиболее устойчивых противопоставлений, строящих русскую культуру на всем ее протяжении между крещением Руси и реформами Петра I, является противостояние понятий «старина - новизна». Такое противопоставление подчиняет себе другие важнейшие противопоставления типа «Россия - Запад». Оно приобретает особенно отчетливое выражение после падения Константинополя в период господства самобытности России в концепции «Москва - третий Рим», когда Россия осознавала себя в качестве единственного оплота православия и в ней усиливались мессианские и эсхатологические настроения. Как подчеркивали Лотман и Успенский, крушение Византийской империи приблизительно совпало по времени
5 Успенский Б.А., Лотман Ю.М'. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVIII века) // Успенский Б.А. Избранные труды. T. 1. Семиотика истории. Семиотика культуры. 2-е изд., испр. М., 1996. С. 339.
Роберто Валле 135
со свержением русскими татарского ига. Если в самой Византии имело место торжество мусульманства над православием, то на Руси совершилось обратное. В этом смысле Византия и Русь как бы поменялись местами, в результате чего Русь оказалась в «центре православного, тем самым и христианского мира». Двуглавый орел покинул берега Босфора и расправил крылья над бескрайними степями России. Русский народ с величайшим усилием сверг языческое иго и освободил свою территорию от татарских орд, очистив ее от порока идеей православной империи. Формулируя концепцию «Москва - третий Рим», старец Филофей ставил вопрос о Православной империи в эсхатологической перспективе: отрицая четвертый Рим, Москва указывала на приход «Последних времен».
В письме к Аполлону Майкову от 15—27 мая 1869 года Достоевский рассказывает о желании написать стихотворение о падении Константинополя и воцарении Московской Руси, чтобы извлечь из прошлого «фантастические картины будущего: России через два столетия», с видением Европы XXI века, «истерзанной и оскотинившейся» с померкшей цивилизацией. Воцарение Московской Руси для Достоевского - «первый камень» будущего главенства на Востоке, так как этим событием «расширяется круг русской будущности», предлагается «мысль не только великого государства, но и целого нового мира, которому суждено обновить христианство всеславянской православной идеей». Запад, по мнению Достоевского, загниет, так как Римская церковь исказила Христа окончательно и тем зародила атеизм в «опоганившемся западном человечестве». По мнению П.Н. Евдокимова, официальное лицо русского православия формируется «в отрыве от внутренней традиции, византийской по духу... Драма третьего Рима, его утопизм, заключается в национальном мессианстве, которое вытесняет вселенское миссионерство Византии, и из-за этого несет в себе яд обмирщения».
В XVIII веке при Петре Великом утверждается секуляризация русской самобытности, когда концепция третьего Рима переносится из Москвы в Петербург - символ революции в русской истории и окно в Европу. При Петре Великом Россия приняла новый вид: царь-реформатор был побудителем «преображения» России. Государь был и «хранителем» скрижалей завета, и законодателем, своей законодательной деятельностью наложившим цезуру на прошлое. Указы Петра Великого записаны резко и полемично. Пушкин высказывался, что они «писаны кнутом».
136 Российская революция 1917года и ее место в истории XXвека
Россия Петра Великого, по словам Шпенглера, — пример «исторического псевдоморфоза». Старорусская партия неизменно билась с «друзьями западной культуры», а при основании Петербурга (1703) «первобытную русскую душу» втиснули в «чуждые формы высокого барокко, затем Просвещения, а затем - XIX столетия». Петр стал носителем «злого рока русскости». Исторический псевдоморфоз всегда проявляется, «когда чуждая древняя культура довлеет над краем с такой силой, что культура юная, для которой край этот ее родной, не в состоянии задышать полной грудью и не только не доходит до складывания чистых, собственных форм, но не достигает даже полного развития своего самосознания». По словам Шпенглера, примитивный московский царизм - единственная форма, которая впору русскости еще и сегодня: после Петра Великого этот оригинальный царизм был фальсифицирован в династическую форму Западной Европы. Петром была насильно навязана России «искусственная и неподлинная история, постижение духа которой прарусскостью — вещь абсолютно невозможная».
Идею псевдоморфоза Петровской России косвенно критиковали Лотман и Успенский, для которых европеизация России, как ни парадоксально, усилила «архаические черты русской культуры». В этом отношении, вопреки бытующему поверхностному представлению, XVIII век был глубоко органичен русской культуре как таковой. Как доказали Лотман и Успенский, в послепетровской России по-прежнему придерживались концепции географического пространства, согласно русской традиции, характеризующегося «этико-религиозными признаками»: идея о том, что Запад был «зловещей и грешной землей», существовала не только в народной среде, но и в среде людей культурных и благородных. Однако, по мнению Шпенглера, в XVIII веке тяга к «Святому Югу» (Византия, Иерусалим) секуляризировалась и обратилась «светской дипломатией, с лицом, повернутым на Запад». После Петра Россия, по словам Шпенглера, потеряла особый путь и вошла в «Европейский концерт великих западных держав». Русское самосознание XIX века было искалечено собственной традицией и вылилось в «апокалиптическую ненависть к Европе». Она проявилась во всей своей разрушительной силе при пожаре Москвы в 1812 году, затеянного для предотвращения вторжения фаустовской души, воплощенной в Наполеоне, что Шпенглер назвал «величественным символическим деянием пранарода, в котором нашла выражение маккавейская ненависть ко всему чуждому и иноверному».
Роберто Валле 137
У образованного класса российского общества эта апокалиптическая ненависть проявлялась в отвращении к Петербургу, определяемому Достоевским как «самый абстрактный и искусственный город», из всех существующих на свете. В подтверждение этого Шпенглер цитирует отрывок из письма, написанного в 1863 году мыслителем-славянофилом Аксаковым Достоевскому: «Первое условие освобождения русского народного чувства — это от всего сердца и всеми силами души ненавидеть Петербург».
Шпенглер, похоже, на стороне славянофилов, но его оценка российской неисторичности до псевдоморфоза петровской европеизации не похожа на оценку П.Я. Чаадаева, идеолога религиозного западничества. Как отмечает Г.В. Флоровский в книге «Пути русского богословия», разделение русского сознания между славянофильством и западничеством является следствием «философского пробуждения» тридцатых годов XIX века. Вопрос об идентичности и судьбе России расколол российское общество: эти историософские контрасты «скрывали что-то более глубокое». После 1812 года и всех конфликтов с Европой, военных и культурных, размышление об особом пути России, как об иной исторической и религиозной судьбе, стало главным вопросом философского пробуждения.
Славянофильство и западничество не являлись разными историко-политическими идеологиями, так как они, даже с антиномической точки зрения, утверждали идею самобытности и особого пути. Но для славянофилов русский особый путь был оригинален, а для западников являлся частью европейской цивилизации. Он толковался как выход России из изоляции и возвращение в Европу. Для западников (от Чаадаева до Ленина) преимущество России заключалось в ее отсталости, позволявшей ей использовать лучшие плоды европейской цивилизации и воплотить верхнюю стадию развития фаустовской цивилизации как подлинной Европы.
Ожесточенный историко-философский спор между западниками и славянофилами основывался на разном толковании понятия культуры, ином толковании русской истории. По мнению славянофилов, культура является национальной, исконной и оригинальной, так как спонтанно произрастает в народе. Однако для западников культура - сознательное творение человека. Более того, славянофилы больше ценили самобытные моменты российской истории, в то время как западники были сосредоточены на ее критических моментах. Как в историософском, так и в общественно¬
138 Российская революция 1917года и ее место в истории XXвека
политическом плане, жизненно важным вопросом являлась связь между «консервативной утопией» славянофильства и народничества: последнюю, по сути, можно рассматривать как «секуляризацию» славянофильской политической теологии, так как христианско-православный идеал в ней заменен идеалом революционным. Религиозно-крестьянская идеология славянофилов отвергала как капитализм, так и социализм; с другой стороны, народники совмещали интеллектуальный протест с крестьянским восстанием, «русскую идею» с социальной революцией. Своеобразие исторического развития должно было позволить России реализовать социализм, минуя буржуазно-капиталистический этап: социалистическое преображение России пойдет непосредственно из общины, так как мужик, возвышенный до социального «идола», является стихийно социалистическим.
Наследие славянофильства не ограничивается вопросом общины, как источника высших моральных и социальных ценностей русского народа. Славянофилов, по сути, можно считать народниками-консерваторами, которые, начиная с конца 20-х годов XIX века использовали оригинальное философское осмысление, основанное на некоторых особых двояких противопоставлениях русской культуры, сформировавшейся на основе «двойственных моделей». Эти двоякие противопоставления представляют метаполитический субстрат разных течений - как славянофильства, так и классики русского популизма: противоположности Россия - Европа; противопоставления между народом и разобщенным западным обществом, что соответствует дихотомии между Gemeinschaft (общиной) и Gesellschaft (обществом) Ф. Тенниса; противопоставления между культурой и цивилизацией.
Мыслитель-славянофил Иван Киреевский в статье «О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению России» сформулировал характерные черты, отличающие Россию от Европы. Запад отождествляется Киреевским с триумфом рациональности, своего рода со вторым первородным грехом: «три элемента Запада: Римская церковь, древнеримская образованность и возникшая из насилий завоеваний государственность — были совершенно чужды древней России»6. По мнению Бердяева, из русского славянофильства рождается первая и неисторическая «типология духовных типов», которая также встречается и в «Закате Запада» Шпенглера. Славянофилы стремились к органиче¬
6 Киреевский И.В. Поли. собр. соч.: В 2 т. М., 1911. T. 1. С. 174—222.
Роберто Валле 139
скому пониманию истории и считали первой ипостасью русской самобытности народность, «духовные характеристики народа», «национальность». Термин «народность» относится к народу как к нации и противопоставляется национальности. Славянофилы отождествляли народность с «нацией» в целом и были склонны рассматривать людей как явление отдельное от самодержавия7. Для А.И. Герцена, называемого «идеологом популизма», народность проглядывала из-за «невинной чистоты» русского крестьянина, живущего в составе общины. Идеолог нигилист Д.И. Писарев называл споры о народности «схоластикой XIX века».
Изучением жизни народа занимались наряду со славянофилами (Хомяков, Киреевский, Аксаков) журнал «Время» под редакцией Достоевского, поддерживавшего программу почвенничества (то есть возвращения к родной земле), и журнал «Современник», возглавляемый популистом-западником Н.Г. Чернышевским. Народность (наряду с православием и самодержавием) также вошла в состав известной триады, определявшей «официальную» идеологическую формулу России Николая I. Национальная империя (М.П. Погодин), теократия (К.Н. Леонтьев), самодержавная республика (К.Д. Кавелин), патриархальное аграрное общество (Н.В. Гоголь), социализм крестьянской общины (И.С. Аксаков, А.И. Герцен), аристократическая монархия (А.С. Хомяков и И.В. Киреевский) - не более чем вариации на тему народности.
Несмотря на благоговение к европейской культурной традиции, те же западники обращали всю свою полемику против особых явлений кризиса европейской цивилизации: парламентаризма, утраты культуры, искажения нравственных ценностей, негативных последствий капитализма, и указывали на другие идеологические ориентиры для выхода из кризиса, прежде всего русский социализм, основанный на «общине», а также на других вариантах, в которых Россия должна была играть центральную роль.
Герцен, который хоть и считался создателем революционного популизма, по мнению Достоевского, был первым, кто утверждал, что «Запад гниет». Основывая русский социализм на своего рода революционном этноцентризме, он заявлял в книге-эссе «С того берега», что закат Европы начался с революции 1848 года, своего рода «моральной гражданской войны», явившейся следствием «образованной дряхлости», плохо сыгранной репликой 1789 года: фаустовские амбиции европейской революции предопределили
7 Бердяев Н.Л. Русская идея. СПб., 2008. С. 69-74.
140 Российская революция 1917 года и ее место в истории XXвека
торжество либерального богооправдания, предопределили торжество мелкобуржуазного гомункула, яркий пример крайнего разложения европейской цивилизации. По мнению Герцена, демократия есть «будущее, которое гибнет», так как ей не хватает подлинного творчества: «Демократия не может ничего создать, это не ее дело, она будет нелепостью после смерти последнего врага; демократы только знают (говоря словами Кромвеля), чего не хотят; чего они хотят, они не знают». По словам Герцена, только варварство русского социализма может оживить умирающую Европу: община, по сути, осталась прибежищем народности и «могущественного и загадочного» варварского, полного юношеского задора народа, готового войти в историю и стать главным действующим лицом социальной революции.
Однако, по мнению Бердяева, закат Европы в России XIX века понимался достаточно схоже с его видением у Шпенглера или Н.Я. Данилевского в очерке «Россия и Европа» (1869 год). Историко-культурные типы Данилевского похожи на душу культуры Шпенглера, с единственным отличием: по мнению Бердяева, Данилевский был лишен огромного интуитивного дара Шпенглера. В очерке «Россия и Европа» Данилевский, задолго до заявления Шпенглера о закате Европы, разработал своего рода теорию циклического развития культуры, заявив, что первыми корнями цивилизации являются те «историко-культурные типы», которые не могут передаваться от одного народа другому и которые несовместимы друг с другом. Закон движения и развития культурно-исторических типов, по мнению Данилевского, говорит о неминуемом упадке романо-германской цивилизации и безудержном расцвете историко-культурного типа славяно- туранской цивилизации. Сравнительный анализ различных цивилизаций Данилевского основан на теории циклического развития историко-культурных типов: культурно-исторический тип, такой как романо-германский, завершивший свой цикл, должен быть заменен другим историко-культурным типом — славянским. По словам Данилевского, закат Европы неизбежен, даже если упадок ослабеет со временем, так как у разных европейских стран разный уровень развития. Отсюда необходимость развития оригинальности славянской культуры, которая должна была заменить западный историко-культурный тип. Россия, по словам Данилевского, представляет собой оригинальный историко-культурный тип и не может следовать историческому пути Запада. Следовательно, противопоставление между Россией и Европой полное. России
Роберто Валле 141
пришлось создать мощное государство, чтобы избежать непрестанного враждебного и «отталкивающего влияния» восточноевропейского Запада.
Цивилизаторская утопия Данилевского, если рассматривать ее в рамках большой политики, предполагала создание Всеславянского союза и борьбу с Западом. В семидесятых годах XIX века такая борьба, казалось, просматривалась в решении вопроса Востока, а потому конечной целью России являлось завоевание Константинополя - Царьграда, а также свержение европоцентризма.
Берлинский конгресс 1878 года в пух и прах развеял идею как создания Всеславянского союза, так и завоевания Константинополя, вызвав разочарование не только Данилевского, но и Достоевского, присоединившегося, как и Данилевский, в юности к кружку петрашевцев, и по достоинству оценившего книгу «Россия и Европа». По словам Достоевского, Данилевский из фурьериста превратился в «передового русского», а его книге было суждено колоссальное будущее. В своем последнем публицистическом труде «Дневник писателя» (1881 год) Достоевский подтверждает идею об исходе с Запада, ибо Россия сама сделала для себя из Европы «как бы какой-то духовный Египет». У России была, считал он, цивилизаторская миссия в Центральной Азии, поскольку Россия находится не только в Европе, но и в Азии. Азия, по мнению Достоевского, была для России океаном, ее единственным исходом, так как Европе суждено погибнуть из-за прихода коммунизма: «...целыми толпами станут тесниться около одного очага и, мало-помалу, пойдут разрушаться отдельные хозяйства, а семейства начнут бросать свои углы и заживут сообща коммунами»8. Европа находилась на грани «полного и ужасающего краха», а европейский муравейник, лишенный религиозно-политических основ, будет опустошен «политической войной раскола».
Идея евразийской или «азиатско-туранской» нации, которая бы давала славянам независимость от Запада, наряду с идеей исхода из Европы, стали основой евразийского движения, сформировавшегося после 1917 года в среде белой интеллигенции, эмигрировавшей после большевистской революции, следом за публикацией в 1921 году сборника «Исход к Востоку», первого коллективного манифеста евразийцев, собрания статей Н.С. Трубецкого, П.Н. Савицкого и Г.В. Флоровского.
8 Достоевский Ф.М. Собрание сочинений: В 15 т. Т. 14. Дневник писателя 1877, 1880, август 1881. СПб., 1995. С. 510-511.
142 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
В книге «Европа и душа Востока» Вальтер Шубарт утверждал, что Достоевский является предвестником «евразийского движения», «которое уже осознанно и страстно снова обращает взоры русских к России и является самым радикальным течением против западничества. Приверженцы этого движения чувствуют себя наследниками Чингисхана; с истинно азиатской гордостью смотрят они свысока на маленький азиатский полуостров - Европу». Парадокс большевизма, по мнению Шубарта, в том, что в нем восстает в порыве разрушения «придавленная азиатчина», но происходит это «под западными абстрактными лозунгами». Подсознательные силы революции вступают в противоречие с осознанными целями, показывая глубокое противоречие большевизма, являющееся отражением глубинной раздвоенности русской души: «Сознательно большевики хотят не только подражать Западу, но и превзойти его — материалистический, технический, неверующий Запад». «Местная национальная константа» возобладала над марксистским западничеством и Россия-СССР превратилась в хронотоп, еще более чуждый Западу. Со времени Петра Великого Россия попала в «процесс европейского саморазрушения». Большевистская революция, по мнению Шубарта, выставила на всеобщее обозрение закат Европы, поскольку «русская необузданность» привела к чрезвычайным последствиям трагедии фаустовской души, обнажив ее внутреннюю несостоятельность. В большевизме «загнало себя насмерть» русское западничество. «Становится очевидным, что десятилетиями длящиеся потрясения закончатся изгнанием прометеевского архетипа с русской земли»9.
Евразийство — это «философия прозрения»: Россия-Евразия принимает прозрачную географическую структуру, отражающую уникальные особенности великой территории-мира. В идее евразийства можно выделить следующие составляющие: теософию, основанную на идее другого мира (ни Европа, ни Азия), как места для реализации оригинальной цивилизации; философию истории Евразии - взаимосвязи между двумя принципами, лесом и степью. По словам Марлен Ларюэль, евразийство - это «географическая идеология»: материализация территории позволяет отринуть «эпистемологический империализм» Европы и узаконить империю. Ритмы евразийской истории, мало чем отличающиеся от «времени большой длительности» и геолого-исторической картины Фернана Броделя, выражают территориализацию идеи. Евразийство
9 Шубарт В. Европа и душа Востока. М., 2000. С. 273—277.
Роберто Валле 143
представляет собой синкретическую идеологическую ориентацию и объединяет в себе различные виды наследия: славянофильство первой половины XIX века (Ф.А. Степун называл евразийцев «славянофилами эпохи футуризма»10 11); консервативный панславизм Константина Леонтьева (1831-1891) и Николая Данилевского (1822-1885); «Исход в Азию», предсказанный Достоевским; апокалиптическую эсхатологию Владимира Соловьева (1853-1900) и Николая Бердяева (1874-1948), нашедшую свое выражение в религиозном возрождении начала двадцатого века; «туранизм» Андрея Белого (1880—1934), подразумевавший возрождение туран- ских народов (финно-угры, тюрки, монголы, японцы); эстетический и поэтический «скифизм» Александра Блока (1880-1921); «азиатчину» движения футуристов; панмонголизм. Геополитические представления «Россия-Евразия» основаны на позитивном преображении дикой и энергичной Азии и на реабилитации «монгольского ига» для объяснения русско-евразийской изменчивости в отношении Европы. После опубликования работы «Исход к Востоку», евразийская школа вновь стала предлагать идею самобытности русской цивилизации и уникальности ее миссии на Востоке. На стыке двух континентов, объединяя Европу и Азию, но не идентифицируя себя ни с одной, ни с другой, Россия является «третьим членом», отдельным миром.
По словам Г.В. Вернадского, вся история Евразии - последовательный ряд попыток создания евразийского государства. К этой цели «клонились усилия скифов, гуннов, хазар, турко-монголов и славяно-руссов. Славяно-руссы осилили в этой исторической борьбе»11. Вернадский в основу периодизации положил отношения между степью и лесом в русской истории. Смысл и цель Российской истории — создание евразийского государства: единство леса и степи есть гарантия власти. Согласно учениям евразийской школы, татаро-монголы использовали стиль непрямого управления и требовали подчинения только в двух случаях: признание хана как верховной власти, уплата дани. Таким образом, по мнению Вернадского, Россия сумела сохранить целостность идентичности, хранимой Православной Церковью: монголы явились истинными защитниками русской веры перед угрозой византийского и католического универсализма. Опять же, русское самодержавие
10 Степун Ф.А. Об общественно-политических путях «Пути» // Современные записки. Кн. XXIX. Париж, 1926. С. 445.
11 Вернадский Г.В. Начертание русской истории. М., 2008. С. 15.
144 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
не имело четко определенной формы правления, а самодержец был и базилевсом, и ханом. С одной стороны, царь был православным базилевсом, который вел христианский народ к спасению, с другой - ханом-завоевателем Руси и русского народа.
С двадцатых годов XX века евразийцы, даже будучи консерваторами, которые во время гражданской войны выступили против большевиков, признавали в СССР метаморфозу евразийского государства, которое вновь консолидировалось на основе идео- кратии большевиков. В книге «Исход к Востоку» большевистская революция рассматривалась как свидетельство разгрома самодержавной России, которая в системе альянсов Первой мировой войны выбрала западный путь: царское самодержавие исчезло при призыве Евразией Российской империи.
Как это ни странно, но исход к Востоку был воплощен в жизнь большевиками: Ленин перенес столицу из Петербурга (окно в Европу) в Москву; Съезд народов Востока, организованный Коминтерном в 1920 году в Баку, объявил «священную войну» западному империализму. Ссылаясь на парадигму онтологической несовместимости историко-культурных типов, сформулированных Данилевским, Н.С. Трубецкой утверждает, что суть европейского космополитизма есть «романо-германский шовинизм». Эгоцентрическая всеобщая вестернизация нашла свой катехон в историко-культурном славяно-туранском типе, возникшем из симбиоза между Россией и Евразией. Большевистская идеокра- тия характеризовалась как основа органического и демотического евразийского государства. Основываясь на абсолютной, уникальной и сильной власти, советское идеократическое государство, по словам Трубецкого, обладало «собственной системой убеждений, своей руководящей идеей», с помощью которой могло «активно организовывать и контролировать все аспекты жизни».
Политической системой идеократического государства должен быть демотизм, то есть «народное самодержавие», который должен являть собой нечто среднее между верховенством нации и властью народа. Если рассматривать сталинизм как возвращение русского национализма под видом национал-большевизма, евразийство представляется эсхатологией советской идеократии. Идеократия должна провести собственное супер-органическое самопреодо- ление, а Россия-Евразия — найти свой общевселенский смысл, обнаружить, тем самым, свою истинную историческую миссию.
Между немецким «Sonderweg» и русским «особым путем» можно установить параллель, сравнив труды Трубецкого, Шпенглера,
Роберто Валле 145
А. Меллера ван ден Брука, большевистскую революцию и революцию консервативную. Катастрофа Второй мировой войны покончила с немецким «Sonderweg». Распад СССР и закат светлого будущего оставили после себя нерешенный вопрос идентичности России в XXI веке: суждено ли России вновь подтвердить свой особый путь?
В XXI веке также возвращается давний вопрос, заданный еще Герценом в XIX веке: демократия - это будущее, которое гибнет, или будущее, которое возрождает в России своего рода подвид суверенитета?
Жак Бенвиль и Русская революция (1916-1917)
Кристоф Дике
В середине 90-х годов XX века в парижском гуманитарном университете Париж IV Сорбонна на семинарах профессора Жоржа-Анри Суту книга Жака Бенвиля «Политические последствия мира»1 входила в обязательный для чтения список литературы. В книге, написанной в 1919 году, выступающий в роли пророчицы Кассандры французский журналист Жак Бенвиль подробно описывает события с 1936 до 1939 года: ремилитаризацию Рейнской области, аншлюс Австрии, вторжение в Чехословакию, германо-советский Пакт и, наконец, очередную европейскую войну. Стать свидетелем Второй мировой войны Бенвилю было не суждено: 9 февраля 1936 года журналист скончался. Его работа удивила многих студентов. Именно она во многом легла в основу моей докторской диссертации по данной теме: «Жак Бенвиль и международные отношения (1908-1936)»1 2.
Когда в ходе научных изысканий я узнал о том, что в преддверии революции 1917 года Жак Бенвиль отправился в четырехмесячную дипломатическую командировку в Россию, то ожидал от его анализа событий таких же тонких наблюдений и выводов. Но
1 Bainville J. Les Conséquences politiques de la Paix. Paris: Nouvelle Librairie nationale, 1920. Перевод на немецкий язык с введением, написанным Фридрихом Гриммом под заголовком Frankreichs Kriegsziel, Hanseatische Verlagsanstalt, AG, Hamburg, 1940.
2 Dickes Christophe. Jacques Bainville et les relations internationales (1908— 1936). Докторская диссертация, защищенная 16 января 2004, автореферат под названием: Jacques Bainville, les lois de la politique étrangère, Paris: Bernard Gio- vanangeli Editeur, 2008.
Кристоф Дике 147
меня ожидало разочарование. Действительно, в корпус дошедших до нас источников и текстов - а их немало, так как в нашем распоряжении оказалась дипломатическая документация3, - входят две важные статьи в одном из наиболее влиятельных в ту пору французских журналов «Ревю де де монд» (Revue des deux mondes), многочисленные публикации в прессе, а также несколько частных источников, таких как личные путевые заметки. Словом, в своих тогдашних записках и статьях Банвиль демонстрирует несвойственные ему наивность и легковерность, вводя тем самым в заблуждение читателя4.
В Россию Жака Бенвиля командировало французское правительство для изучения состояния российского общественного мнения. Разумеется, Бенвиль — монархист со связями с монархической организацией «Аксьон Франсез» (Action française). Между тем его анализ Балканских войн и европейской колониальной оппозиции составили ему не лучшую репутацию в парижских политических кругах. На многие его заметки и статьи писали отзывы и комментарии. В частности, на статью, в которой, рассматривая войну 1914 года с точки зрения традиции войн XVIII века, автор утверждает, что она окажется долгой, тогда как, по мнению большинства комментаторов, она не должна продлиться и года. Председатель Совета министров Аристид Бриан просил Бенвиля принять участие в работе на нужды фронта, поставив свои способности наблюдателя и аналитика на службу стране. Такая задача была возложена не на него одного. Бывшему невысокого мнения об этом дипломате-любителе послу Франции в России Морису Палеологу также пришлось смириться. В своей командировке Бенвиль тес¬
3 Bainville J. Notes sur l’esprit public en Russie, 1-го июня 1916. Публикация в Revue d’Histoire diplomatique, Paris, Editions Pedone, Tome IV, 1995. Введение и примечания Кристофа Дике. Текст, перепечатанный в публикации «Jacques Bainville, la monarchie des Lettres». Paris, Robert Laffont, 2011. Статьи в журнале «Revue des deux mondes»: Quatre mois en Russie (август 1916)» и «Comment est née la Révolution russe» (апрель 1917) перепечатаны в настоящем последнем издании. Подборка статей о России входит в произведение Жака Бенвиля «La Russie et la Barrière de l’Est». Paris, Librairie Plon, 1937. В частные архивы входит путевой дневник в медной обложке, в котором Бенвиль в ходе поездки по России сделал немало записей, включая цитаты, адреса, материалы и т.д. Дневник принадлежал сыну журналиста Эрве Бенвилю; после кончины последнего передан в «Аксьон франсэз» (Париж), ожидает передачи в Национальный архив.
4 Decherf Dominique. Jacques Bainville, l’intelligence de l’Histoire. Paris: Bartillat, 2000. P. 151. В своей биографии Жака Бенвиля французский дипломат Доминик Дешерф полагает, что книга Солженицына «Ноябрь Шестнадцатого» точно подтверждает сделанные Бенвилем выводы.
148 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
но взаимодействовал с отделом информации и пропаганды под руководством Филиппа Бертло. Именно в документах последнего можно найти доклад Бенвиля под заголовком «Заметки об общественных настроениях в России»5. Цель его работы заключалась как в сборе данных, так и в продвижении французского влияния. В январе 1916 года в сопровождении супруги 37-летний журналист на четыре месяца покинул Францию. По пути проезжал Англию, скандинавские страны и въехал в Россию через деревню Торнео, расположенную на русско-шведской границе.
С чего бы такая таинственность? Сочинения Жака Бенвиля дают представление о механизме военной пропаганды. Нам известен исторический итог: мы знаем, что большевики впоследствии возьмут власть, и здесь следует воздерживаться от анахронизмов во всех проявлениях. По сути, Бенвиль переоценил патриотические чувства русских и симпатию к французам со стороны общественного мнения, в частности, после битвы при Вердене. Цитирую: «Достаточно ли знают об этом те, кто сражается при Вердене? Ими восхищается весь мир»6. От этих слов веет восторженностью, что крайне редко встречается в его работах. Безусловно, Бенвиль отдавал себе отчет в том, что страна меняется, стремится освободиться от германского влияния: «Россия настолько разнообразна, и ее интеллектуальная анархия в настоящий момент так сильна, что делать выводы о тенденциях в ее общественном мнении на нескольких страницах было бы слишком смело»7. Журналист ощущал довлеющий над страной кризис, атмосферу измены и предательства в русской армии, недовольство бюрократией, чья неспособность к действиям привела к ее замене на союз земств и городов во главе с князем Львовым, с которым встречался Бенвиль.
В материалах журналист отмечал затруднения правительства и жалобы на неготовность России, ее недостатки и слабые стороны и описывал связанное с войной напряжение сил, лишения, войну в сознании людей, отличительные черты русского национализма, не сравнимого с немецким и отличающегося от французского. Описывая то, что воспринимается им как война за освобождение России, освобождение от иноземного влияния, журналист видел в национализме «залог выдержки и, следовательно, победы»8. Конечно, он постоянно слышал, как говорили о революции, но он
5 Berthelot Philippe, МАЕ., РА. АР. 10. Vol. 10-15.
6 Bainville J. Quatre mois en Russie. P. 765.
7 Bainville J. Notes sur l’esprit public en Russie.
8 Bainville J. Quatre mois en Russie. P 787.
Кристоф Дике 149
считал, что она кончится после войны. Есть ли у него уверенность на этот счет? Нет, и это очевидно: «трудно что-либо предвидеть с уверенностью»9. «Кроме того, разве министр сельского хозяйства Николай Суханов не сказал 21 февраля 2017: «Революция! Это слишком невероятно. Это, как всем известно, не действительность, а только мечта»10 11. Удивительно, но Бенвиль, кажется, верил в победу России, как верил и в победу Франции. Он искал знаки, в которых «почти символически, выражается твердая решимость России выковать инструменты своей победы».
Также Бенвиль присутствовал при визите российского царя в Государственную думу 22 февраля 1916 года и писал о «бесценном проявлении верности и народного единения», разрушающих германские мечты о разделении России. Николай II казался ему «живым центром имперского сопротивления». Бенвиль видел в этом событии ключевой, решающий момент, «с которого начнется новый период в истории России»11, проявление народного единства, наподобие Праздника Федерации 14 июля 1790 года, отмечавшегося в присутствии французского короля Людовика XVI. В конечном итоге тот визит «примирения и согласия» стал упущенной возможностью - царь оказался неспособным отличить национальных либералов от революционеров, легитимистов и роялистов от своих врагов. Не зиждется ли уверенность Бенви- ля по поводу царистского режима на некоем ложном оптимизме? Журналист не попал на фронт. Его не взяли по состоянию здоровья, и он, несомненно, тяжело переживал из-за этого. «Кто не сражается, тот больше никто», — признавался он в личном военном дневнике12. В глубине души Бенвиль стремился внести свой вклад в общее дело, ободряя современников. Он не желал предсказывать худшее, хотя в действительности его наблюдения были близки к истине. Но он не делал из них средне- и долгосрочных выводов. Он полностью отдавал себе отчет в происходящих в стране переменах, но на публике не говорил о том, что дни царя сочтены, что «оппозиция понимает, что страна скатывается в пропасть» и что
9 Bainville J. Notes sur l’esprit public en Russie. P. 750.
10 Hélène Carrère d’Encausse. Nicolas II. Paris. Fayard, 1996. P. 403.
11 Bainville J. Comment est née la Révolution russe. P. 15.
12 Bainville J. Journal inédit (1914). Collection « Jacques Haumont», Éditions d’Histoire et d’Art, Librairie Plon, Paris, 1953. B 2000 году текст заново отредактирован, расширен, дополнен и опубликован издательством Bartillat в Париже под заголовком «La Guerre démocratique, Journal 1914-1915». Введение и аннотации под авторством Доминика Дешерфа.
150 Российская революция 1917 года и ее место в истории XXвека
она не будет бездействовать. Вскоре после возвращения во Францию одному близкому человеку он по секрету сообщил, что через шесть месяцев Российской империи больше не будет13.
Сразу после отречения царя и Февральской революции сложившуюся в России обстановку Бенвиль сравнивал с французской революцией 1830 года. «Полу-революция», - так характеризовал он российские события 17 марта 1917 года в издании «Аксьон Фран- сез». В отличие от социальной революции октября, ей одновременно присущи как либеральное, так и национальное движение: «В прошлом через это прошли почти все страны Западной Европы. Те монархии, которые в XIX веке поняли это явление и возглавили его, укрепились и возвысились: так было - во многом благодаря Бисмарку - в случае с Савойским домом, а также в случае с Гоген- цоллернами. Тех же монархов, кто не сумел направить этот процесс себе во благо, постигла печальная судьба Николая - отречение»14. Эти слова многое проясняют и показывают всю неоднозначность характера Бенвиля, который, хотя и был роялистом и слыл во Франции крайне правым, тем не менее умел замечать происходившие в мире перемены и особенно необходимость обновления монархии.
Но вернемся к России и царю: «Николай заслуживает того, чтобы Франция сочувствовала ему и помнила как о верном союзнике», - пишет Бенвиль. И тут же добавляет: «Ему следовало быть более проницательным и найти себе лучших советников»15. По сути, журналист ставил монарху в упрек то, что он не сумел выстроить отношения с народом и пошел на поводу у бюрократии. А ведь, по его мнению, ни Петр Великий, ни Александр II никогда не пошли бы на поводу у чиновников и не попали бы в ловушку традиции. Разумеется, царю нужна связь с народом: «Самодержавие в плену у бюрократии - такова абсурдность истории и политики, поспособствовавшей падению царя», — отмечал Бенвиль 23 марта 1917 года16. Упрекая его в безволии, чрезмерном идеализме, незнании времени и людей, журналист полагает, что Николай II способствовал собственной изоляции: «Царский трон рассыпался под тяжестью ошибок, совершенных Николаем II»17. Образ получился
13 Keylor W Jacques Bainville and the Renaissance of Royalist History in Twentieth Century France. Louisiana State University Press, 1979. P. 103.
14 Action française, 17 марта 1917.
15 Action française, 23 марта 1917.
16 Там же.
17 Action française, 23 ноября 1917.
Кристоф Дике 151
не слишком лестный; по мнению журналиста, самодержец повторил ошибки, совершенные французским королем Людовиком XVI.
Подобно многим современным ему комментаторам, а потом и историкам, Бенвиль недооценивал присущие русской природе и обществу препятствия на пути реформ»18. К ним относится в первую очередь огромные пространства России, которые правительству трудно охватить, а также разношерстное население империи, незрелость общественного сознания, не говоря уже о внутренних и внешних кризисах, потрясавших царскую власть и свидетельствовавших о слабости России. Как пишет Элен Каррер д’Анкосс, чтобы изменить Россию, «недостаточно ни проекта, ни доброй воли. Требовалось покорить пространство, время, самые различные народы и их чуждый всякому изменению менталитет»19. К середине мая 1917 года Бенвиль в потоке доходящих до него сведений уже почти не подбирает слова: «Николая II страшно обманули люди, которым он имел неосторожность довериться»20. Также журналист упрекает и окружение царя, ведь оно держало самодержца в неведении относительно реальных событий. Между тем падение царской власти для Бенвиля - не только следствие внутреннего кризиса, но и следствие азиатской политики и панславизма.
Сразу после Октябрьской революции, хотя прежней власти, по сути, уже не было, Жак Бенвиль пишет: «Когда бывшая власть существовала, нам при всех сомнениях в ее прочности следовало ее поддерживать, отстаивать по крайней мере ее принцип. [...] На самом деле надо было сохранить ее репутацию в народе; крайним напряжением всех сил мы пытались выполнить это неблагодарное дело»21. Зачем, если только не для того, чтобы сохранить русское единство? Что в 1916-1917 годах может интересовать человека, подобного Жаку Бенвилю, как не прочность русского единства? Единство, которому следовало сохранять приверженность, невзирая на смену режима. Очередная иллюзия, которую скоро развеют факты. Наконец, Русская революция для Бенвиля — это еще и урок. Журналист прошел путь от монархизма догматического и теоретического к монархизму прагматическому, который учитывает народную реальность. Чтобы выжить, королю следует уметь обновляться в прямом смысле этого слова: делать себя новым. Уже в 1929 году Бенвиль написал в дневнике: «Есть некий социальный
18 Hélène Carrère d’Encausse. Nicolas И. P. 480.
19 Там же. P. 483.
20 Action française, 23 марта 1947.
21 Bainville. Comment est née la révolution russe.
152 Российская революция 1917 года и ее место в истории XXвека
витализм, который я увидел в ходе войны, [...] и который вынудил меня пересмотреть мое слишком механическое представление о политике»22. Подобно Первой мировой войне, Русская революция подвигла Бенвиля к интеллектуальному смирению и разборчивости. Он отошел от своих параметров анализа, заведшего его в тупик ложного оптимизма, благодаря чему его анализ Версальского договора стал более точным. Наконец, Бенвиль понял, что если Ленин победил, то произошло это не потому, что он умел ударить кулаком по столу, но потому что сумел оказаться в точке пересечения настроений и интересов.
22 Cahiers «Pour moi» in Jacques Bainville. La monarchie des Lettres.
Приход большевиков к власти в России в восприятии лейбористской партии Великобритании
ЕЛ. Суслопарова
Приход к власти в России большевиков в 1917 года обратил на себя пристальное внимание со стороны лейбористской партии Великобритании. Лейбористы, как и британское общество в целом, с большим энтузиазмом приветствовали февральскую революцию как шаг, позволивший России сбросить с себя тиранию и ступить на путь демократизации. Однако дальнейший сценарий революционных событий повлек за собой иное восприятие.
Лейбористская партия, с момента своего рождения отстаивавшая принципы парламентской демократии и стремившаяся к проведению реформ в интересах рабочих через парламент, не разделяла идею насильственного захвата власти. Большевистская идеология и лозунг «диктатуры пролетариата» в целом были для большинства лейбористов чужеродными. В результате уже с первых дней в лейбористской прессе можно было встретить в адрес большевиков широко употребляемый буржуазными изданиями эпитет «экстремисты». Известный партийный публицист Ф. Сноуден утверждал в прессе, что после февраля 1917 года в России шла борьба между правыми контрреволюционными силами и крайне левыми, стремившимися сбить Россию с демократического пути. В итоге ситуацию в ноябре 1917 года он характеризовал как «трагическую»1.
В лейбористской печати «по горячим следам» отчетливо просматривалось сожаление о том, что западные демократические государства не проявили к России после февраля должного сочувствия, внимания к ее трудностям, не подставили вовремя плечо и не помогли ей укрепить демократические завоевания. «Союзни¬
] Labour Leader. 1917. 15.XI.
154 Российская революция 1917года и ее место в истории XXвека
кам некого винить кроме себя за нынешнее положение вещей», - жестко говорилось на страницах рабочего издания «Лейбор Лидер». «Если бы правительства западных государств продемонстрировали симпатию к русской революции, если бы они откликнулись на требования России сформулировать цели союзников в этой войне, если бы они изъявили какое-то желание помочь России закрепить результаты революции», она не оказалась бы теперь в таком положении, — было сказано в еженедельнике2.
Характерно, что подобный упрек западным демократиям бросали не только лейбористские издания. Так, например, газета «Дейли Ньюс энд Лидер» также писала, что все призывы Временного правительства оказать ему моральную поддержку в борьбе с ужасными условиями, доставшимися в наследство от царя, провалились. Там же говорилось, что попытки созвать международную социалистическую конференцию в Стокгольме, где были бы озвучены цели войны, способные продемонстрировать русскому народу, что союзники ведут ее ради свободы, а не завоеваний, были отвергнуты. В конечном счете, лидера лейбористской партии, члена военного кабинета А. Гендерсона, выступавшего за участие британских лейбористов в Стокгольмской конференции, - продолжало издание, - выкинули из правительства3. На недальновидность британских властей в предшествовавшие октябрю 1917 года месяцы обращал внимание в прессе и сам Гендерсон4.
Говоря об обстоятельствах, спровоцировавших октябрь, особое внимание лейбористы обращали на социально-экономические трудности России, которые не смогло преодолеть Временное правительство. Тот же Гендерсон, выступая на страницах еженедельника «Нейшн», подчеркивал, что осенью 1917 года на руку «экстремистам» сыграл страх грядущей зимы, голода и стремление русских солдат и населения на этом фоне быстрее покончить с военными действиями5. Что касается непосредственного выхода России из войны, то можно согласиться с британским историком С.Р. Граубардом в том, что лишь очень немногие представители лейбористского движения были готовы осуждать за это новую большевистскую власть6.
2 Labour Leader. 1917. 29.XI.
3 Daily News and Leader. 1917. 10.XI.
4 Nation. 1917. 17.XI. V. XXII. № 7. P. 237.
5 Ibidem.
6 Graubard S.R. British Labour and the Russian Revolution 1917-1924. Cambridge (Mass.), 1956. P. 55.
Е.А. Суслопарова 155
Со своей стороны в конце войны лейбористы отчетливо осознали, что приход к власти в России большевиков в целом укрепил в глазах широкой публики ассоциации между социализмом и кровавой революцией. Не случайно Ф. Сноуден отмечал в одной из своих публицистических работ, что русские коммунисты нанесли огромный вред социалистическому движению на западе, дискредитировав «истинный социализм»7. Многие лейбористы, разделявшие идеалы социализма, ощутили в 1917 году, что на них «пала тень» октябрьских событий. Это поставило перед руководством партии на выходе из войны задачу резко отмежеваться в глазах избирателя от большевистского курса, не отказываясь одновременно от своих социалистических убеждений. Лейбористам было важно донести до британского электората идею о том, что они, будучи левой партией, неизменно остаются на позициях парламентской демократии.
Это привело к тому, что летом 1918 года, в преддверие первых послевоенных парламентских выборов лейбористская партия впервые за свою историю решилась на обнародование официальной программы под заголовком «Лейборизм и новый социальный порядок». В ней был изложен общий взгляд партии на процесс перехода Великобритании от войны к миру, а также особо подчеркнуто, что все современные проблемы могут быть решены только на основе доброй воли8. Наряду с этим в первые послевоенные годы ведущие лейбористские публицисты издали довольно большое количество популяризаторских работ на тему революции и демократии. Одна из основных задач этой пропаганды состояла в том, чтобы продемонстрировать избирателю, что между лейбористской партией и русскими большевиками - пропасть.
Так, например, будущий лейбористский премьер-министр Р. Макдональд подчеркивал, что для Великобритании подходит только путь эволюционных преобразований. Его книга под характерным названием «Парламент и революция», впервые изданная в 1919 году, впоследствии была охарактеризована издателем Т. Зельтцером как первый научный и совершенно беспристрастный довод против большевизма. В ней Макдональд обращал внимание на вопиющую разницу между обстановкой в России «с полицией и бюрократической тиранией» царского режима, проигравшей в войне Венгрии, где
7 Snowden Р Labour and the New World. L., 1924. P. 46.
8 Labour and the New Social Order. The Programme of the Labour Party on Reconstruction. L., 1918. P. 23.
156 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
имела место попытка создания Советской республики, и с триумфом вышедшей из войны Великобритании. Только общественный порядок, основанный на демократическом использовании власти, - подчеркивал автор, — может быть долговечен и жизнеспособен, аргумент же, что революцию можно просто устроить, чтобы преобразовать капитализм в социализм, ошибочен9.
Рассуждая на тему создания советов по российскому образцу, Макдональд заявлял в книге, что это «плохая концепция демократии», ведущая к бюрократизации в худшем ее проявлении. Ситуация, при которой одна избранная структура выбирала бы вышестоящую и т.д., с его точки зрения, была порочной, поскольку это подрывало саму идею прямого народного представительства10 11. Что касается «диктатуры пролетариата», то в другой работе «Парламент и демократия» Макдональд утверждал, что она скорее сродни духу «старомодного торизма», имевшего своей цитаделью палату лордов, нежели понятию народное правительство11. Британский же парламент, на взгляд автора, скрывал в себе огромный потенциал. Однако Макдональд полагал, что рабочим для успешного отстаивания там своих прав и интересов необходимы были высокий интеллект и настойчивость.
Со своей стороны лейборист Ф. Сноуден в работе «Двадцать возражений против социализма», неоднократно переиздававшейся в послевоенные годы, буквально по пунктам доказывал читателю, что социализм, предлагаемый лейбористской партией, в отличие от российского опыта, вовсе не таит в себе ни угрозы человеческой свободе, ни частному предпринимательству, не чреват бюрократизацией, конфискацией имущества, не отвергает рыночную конкуренцию. Более того, Сноуден подчеркивал, что главное орудие социалистов - просвещение масс. «Когда народ Великобритании будет готов к социализму, не понадобятся ни баррикады, ни штыки, ни пули», - пафосно заявлял автор. «Лейбористы, - продолжал свою мысль Сноуден, - скорее будут готовы терпеть несправедливость и страдания в условиях капиталистической системы, нежели попытаются свергнуть ее, тем самым обрушив на общество все ужасы гражданской войны»12.
С другой стороны, на фоне переброски в Россию британских войск, начавшейся с марта 1918 года, лейбористы приняли актив¬
9 Macdonald J.R. Parliament and Revolution. L., 1919. P. 22—23, 29-30, 31.
10 Ibid. P. 43-44.
11 Macdonald' J.R. Parliament and Democracy. L., 1920. P. 65.
12 Snowden R Twenty Objections to Socialism. L., 1925. P. 5-6.
Е.А. Суслопарова 157
ное участие в так называемой кампании «Руки прочь от России». 18 декабря 1918 года премьер-министру Великобритании Д. Ллойд Джорджу было направлено письмо за подписью А. Гендерсона и председателя парламентского комитета Британского конгресса тред-юнионов Ч. Бауэмена, в котором была высказана озабоченность отправкой войск в Россию. 3 января 1919 года главе кабинета было передано еще одно письмо, тем не менее оба были оставлены без ответа. В начале января 1919 года лейбористы пытались добиться встречи с тогдашним военным министром виконтом Милнером по вопросу об интервенции в Россию, но безрезультатно. Попытка лейбористов в 1919 году отправить в Советскую Россию своих представителей (Р. Макдональда, Ч.Р. Бакстона) также не была реализована из-за противодействия властей13.
Поддержка британскими правительством Белого движения в России заметно усилилась после того, как военным министром в январе 1919 года стал У. Черчилль. 3 апреля 1919 года ряд британских профсоюзов провел специальную конференцию, где одобрил резолюцию с требованием к британскому правительству незамедлительно вывести войска из России14. В том же апреле 1919 года на конференции Независимой рабочей партии, входившей в ряды лейбористской, а затем в июне 1919 года на ежегодной конференции самой лейбористской партии прозвучали настойчивые призывы к правительству прекратить интервенцию15. В ноябре 1919 года был создан национальный комитет «Руки прочь от России».
В прессе флагманом кампании «Руки прочь от России» выступила газета «Дейли Геральд», руководимая левым лейбористом Дж. Лэнсбери. В августе 1920 года издание опубликовало на своих страницах известный лозунг: «Ни одного человека, ни одного орудия, ни одного гроша» на войну. Сам Лэнсбери открыто заявлял в газете, что правительство пугают не «ужасы» большевизма и не террор революции, а страх, что социализм, восторжествовав в одной стране, может перекинуться и в другие16.
В целом следует отметить, что представители левого крыла лейбористской партии с более заметным сочувствием и интересом отнеслись к тем переменам, которые начались в России с приходом к власти большевиков. Однако лозунг «Руки прочь от Рос¬
13 Report of the 19-th Annual Conference of the Labour Party. L., 1919. P. 25—26.
14 Ibid. P. 26.
15 Independent Labour Party. Report of the 27-th Annual Conference. L., 1919. P. 73-74; Report of the 19-th Annual Conference of the Labour Party. P. 156, 161.
16 Daily Herald. 1920. 8.VIII.
158 Российская революция 1917года и ее место в истории XXвека
сии» разделяли не только левые лейбористы. Современник событий, партийный публицист и историк Дж. Коул замечал, что даже члены партии, не принадлежавшие к левому флангу, в какой-то момент почувствовали себя «более революционно настроенными, нежели на самом деле являлись»17. Известный профсоюзный деятель У. Хатчинсон, например, открыто говорил в своем председательском обращении к ежегодной лейбористской конференции 1920 года о том, что нет никакой необходимости в полной мере разделять позицию русских большевиков, чтобы понимать, какое большое значение имеет борьба Советского правительства с капиталистической реакцией18.
В целом поддержка кампании «Руки прочь от России» не была продиктована желанием основной массы лейбористов повторить у себя на Родине сценарий русской революции. Однако как правые, так и левые активисты партии были убеждены в том, что жители России должны иметь право без постороннего вмешательства определить черты того общества, которое они намерены строить. Умеренные лейбористы скорее выражали сочувствие людям, умирающим с голоду, нежели были солидарны с режимом как таковым. Более того, в качестве весомого аргумента они приводили опыт крушения Венгерской советской республики в августе 1919 года и угрозу «белого террора». Как говорилось на лейбористской ежегодной конференции 1920 года, в Венгрии сотни людей были убиты «просто потому, что они социалисты»19.
У некоторых лейбористов определенную долю уважения вызывало то, что большевики в России не говорили, а действовали. Например, придерживавшийся относительно умеренных взглядов известный профсоюзный функционер Б. Тернер следующим образом характеризовал большевиков: «Они ликвидировали ленд- лордизм, они пытаются низвергнуть капитализм, мы же пока приняли лишь тысячи резолюций, заявляющих, что сделаем то же самое»20. К тому же, на взгляд большинства лейбористов, несмотря на жестокость новой власти в России, Белое движение олицетворяло собой разворот страны обратно в прошлое и в любом случае не заслуживало поддержки. В этом плане весьма показательным было высказывание члена парламента, шотландского социалиста Н. Маклина, заявлявшего в 1919 году, что, если уж выбирать между
17 Cole G.D.H. A History of the Labour Party from 1914. N. Y., 1969. P. 133.
18 Report of the 20-th Annual Conference of the Labour Party. L., 1920. P. 113.
19 Ibid. P. 137.
20 Ibid. P. 136.
Е.А. Суслопарова 159
большевиками, старой царской властью и Колчаком, то он готов встать только на сторону большевиков21.
Говоря о восприятии нового режима лейбористами, имеет смысл остановиться и на том, какие впечатления привезли с собой на Родину первые партийные активисты, посетившие Советское государство. «Первопроходцем» стал главный редактор «Дейли Геральд» Дж. Лэнсбери, добравшийся до России через Финляндию в феврале 1920 года без паспорта, но с рекомендательным письмом от М.М. Литвинова. Поездка хорошо известного у себя на родине лейбориста имела широкий резонанс. Наряду с отчетами в газете «Дейли Геральд», вернувшись в Великобританию, Лэнсбери в том же году опубликовал несколько работ: «Мои впечатления о Советской России» и более подробное произведение «Что я увидел в России», переведенное на французский язык. В них гость с «Туманного Альбиона» в целом представил позитивную картину происходившего.
В.И. Ленин произвел на Лэнсбери самое благоприятное впечатление. Он «один из самых реалистичных людей, которых я когда-либо встречал», «величайший человек нашего времени», - писал путешественник22. Лэнсбери подчеркивал, что, разговаривая с Лениным, невозможно было поверить, что подобный собеседник может иметь отношение к насилию и пыткам. Англичанин нашел большевистского руководителя человеком откровенным, не уходившим от ответов на прямые вопросы, а также был поражен тем, что Ленин принимал его без помощников. Вердикт редактора «Дейли Геральд» был однозначен: Ленин «символизирует собой новый дух. Он, в самом деле, стал отцом для своих людей»23.
Помимо Ленина, Лэнсбери довелось встретиться в России с целым рядом известных мыслителей и политических деятелей, в частности с П.А. Кропоткиным. По воспоминаниям лейбориста, Кропоткин не скрывал от него свое негативное отношение к новой власти, которую он воспринял как тиранию. Однако Лэнсбери не склонен был соглашаться с революционером-анархистом. «Я сомневаюсь, - писал он, — смогло бы удовлетворить нашего товарища какое-либо избранное правительство. Он философ-анархист и ненавидит власть»24.
21 Report of the 19-th Annual Conference of the Labour Party. P. 158.
22 Lansbury G. What I Saw in Russia. 1920. P. 42; Idem. My Impressions of Soviet Russia. L., 1920. P. 4.
23Lansbury G. What I Saw in Russia. P. 28.
24 Ibid. P. 29-30.
160 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
Британский путешественник оказался готов «закрыть глаза» на многие «издержки» нового режима. Идеологизированное воспитание детей не вызвало у него отторжения. Напротив, Лэнсбери с умилением описывал, как встречавшие его во время посещения нескольких школ маленькие дети старательно исполняли «Интернационал». Аппарат террора он расценил как временное явление. Более того, на его взгляд, в России постепенно рождались «настоящее равенство и настоящая демократия», если еще не по форме, то по духу. Где еще, - задавался вопросом Лэнсбери, — вы найдете «равенство в страданиях», «равенство в голоде, лишениях и болезнях», вызванных блокадой со стороны союзников25.
Под давлением рабочих еще летом 1919 года британское правительство пришло к заключению о необходимости вывода своих войск с российской территории, что и было сделано в последующие месяцы. На этом фоне было принято решение о направлении в Советскую Россию первой официальной лейбористской делегации. Весной-летом 1920 года представители партии и профсоюзов нанесли визит большевикам для личного ознакомления с режимом. По итогам поездки путешественники издали достаточно подробный отчет. В целом тональность его была скорее нейтральной. С одной стороны, делегация отметила тяжелое экономическое состояние страны, развал транспортной системы, ужасные санитарные условия проживания людей, болезни и недоедание, отсутствие должной одежды, подавление демократических свобод и многое другое. С другой стороны, лейбористы обратили внимание, что на улицах нет беспорядков и насилия, в театрах дают представления, государство проявляет заботу о детях, борется с антисанитарией. В целом делегация на тот момент оставила открытым вопрос, были ли антидемократические «методы» новой власти неизбежными и подчеркнула, что в результате иностранного вмешательства Русская революция, по сути, не имела пока что «настоящего шанса»26.
В то же время отзывы некоторых участников поездки были более детальными и субъективными. Самый подробный критический взгляд на большевистскую Россию, своего рода «ответ» с правого лейбористского фланга на книгу Дж. Лэнсбери, был представлен в том же 1920 году на страницах работы «Сквозь большевистскую Россию» члена делегации Э. Сноуден, жены упо-
25 Lansbury G. What I Saw in Russia. P. XIV.
26 British Labour Delegation to Russia 1920. Report. L., 1920. P. 7, 25.
Е.Л. Суслопарова 161
минавшегося ранее Ф. Сноудена. В отличие от Лэнсбери, Ленин не произвел на лейбористку благоприятного впечатления. Напротив, она заявила, что не следует доверять «веселому блеску» в глазах собеседника, за которым скрывается жестокость27.
Сноуден достаточно подробно описала чудовищную нищету и грязь городов, разруху, невиданную по своей нелепости одежду людей, лохмотья, милитаризацию труда, отсутствие свободного профсоюзного движения, насаждение коммунистической идеологии в школах среди маленьких детей, поклонение вместо Бога бюстам Маркса и Ленина. В то же время иностранная интервенция, на ее взгляд, лишь укрепила большевистский режим, заставив людей сплотиться против внешней угрозы.
В целом следует отметить некую двойственность лейбористской позиции в отношении большевиков. С одной стороны, партия в своих заявлениях сочувствовала Советской России, по крайней мере, на уровне того, чтобы страну оставили в покое и прекратили иностранную интервенцию. С другой стороны, лейбористы открыто осуждали большевиков. Партийные активисты категорически отвергали возможность казни по политическим мотивам, полагая, что это надругательство над демократией. В этой связи уместно привести высказывание известного профсоюзного деятеля Э. Бевина, датированное 1922 годом: «Люди, на которых мы смотрели как на проводников на пути к новой цивилизации, похоже превосходят [по своей жестокости - Е.С.] тех, кто до этого находился у власти»28. К тому же, несмотря на кампанию «Руки прочь от России», отношение лейбористов к стремлению большевиков распространить революционный опыт на другие страны было с самого начала резко отрицательным.
27 Snowden Е. Through Bolshevik Russia. L., 1920. P. 116.
28 Report of the 22-d Annual Conference of the Labour Party. L., 1922. P. 195.
Революция и контрреволюция в Испании в свете октября 1917 года
Крыс Илэм
Испания, как и многие другие страны, после Октябрьской революции 1917 года уже не была той, что прежде1. Политический ландшафт претерпел серьезные изменения. В стране началась ожесточенная борьба классов, социально-политическая поляризация, нарастали проявления радикализма, типичного для Европы периода «пламени и крови», блистательно описанного Энцо Траверсо1 2. Реформистские решения отвергались обоими полюсами политического спектра3. Отчасти это было связано с внутренними причинами: попытка совершить демократическую революцию в Испании в августе 1917 года привела к государственному кризису4. Хотя эта революция не удалась, требование революционной синдикалистской Национальной конфедерации труда (НКТ) предоставить профсоюзам право вето на решения нового парламента не могло не вызывать мыслей о двоевластии, характерным тогда и для России5. Возможность революции по примеру России обеспокоила правящую элиту, так что ее представители стали все больше
1 Подробнее об этом см.: The Agony of Spanish Liberalism: From War to Revolution, 1913-1923. Basingstoke: Paigrave, 2010. P. 92-120.
2 Traverso E. Fire and Blood: The European Civil War, 1914-1945. London: Verso, 2016.
3 Avilés Parré J. La fe que vino de Rusia. La revolución bolchevique y los españoles. Madrid, Biblioteca Nueva-UNED, 1999.
4 О кризисе 1917 года см.: González Calleja E. La razón de la fuerza. Orden público, subversión y violencia política en la España de la Restauración (1875-1917). Madrid: CSIC, 1998. P. 515—534; Lacomba Avellán JA. La crisis española de 1917. Madrid: Ciencia Nueva, 1970. P. 103-212.
5 Lacomba Avellán J.A. La crisis de 1917. P. 49-50.
Крис Илэм 163
переходить на реакционные позиции. Отвергая либерализм, они распространяли истерическую антикоммунистическую пропаганду с целью оправдания контрреволюционных репрессий.
Ниже мы проследим влияние Октябрьской революции на левых и правых. Приверженцы левых идей в Испании традиционно подразделялись на социалистов и анархистов. После Первой мировой войны самый массовый, анархо-синдикалистский профсоюз НКТ был главной силой левого движения в стране6. После Октября различие между реформистским социализмом и революционным анархо-синдикализмом усилилось, к тому же появились еще и проболыневистские группы. Большинство социалистов оставались противниками большевизма. Октябрьские события в России лишь укрепили их приверженность к постепенным переменам в обществе, причем, как это ни удивительно, в печатных изданиях социалистов о революции в России ничего не сообщалось несколько месяцев, будто это могло что-то изменить7.
Совершенно иначе воспринимали случившееся анархо-синдикалисты. Для них события в России стали лучом надежды: Октябрь упрочил их веру в необходимость революции. Можно отметить подъем самостоятельности у пролетариата, теперь рабочие осознавали, что способны сами — без участия политиков - разрешить свои проблемы. Прежде анархо-синдикалисты и анархисты сотрудничали с общественными движениями внеклассового характера (такими, например, как спиритуализм, франкмасонство, республиканизм) или участвовали в них, но теперь главным ориентиром для них все больше становилась НКТ, которую они считали основным средством воздействия на массы. Они рассматривали события 1917 года главным образом под тем углом, что либералы и Керенский оказались неспособны откликнуться на чаяния российского народа. В их рядах доминировало представление о том, что пролетарская революция назрела и вскоре произойдет. На волне подобных оптимистических настроений анархо-синдикалисткая организация НКТ на некоторое время стала членом Коминтерна и в качестве своей цели определила установление режима анархо- коммунизма.
Одновременно создавались коммунистические партии. В 1921 году в Испании, как и в Германии, существовали две конку¬
6 Bar A. La CNT en los años rojos. Madrid: Akal, 1981.
7 Heywood P Marxism and the Failure of Organised Socialism in Spain, 1879— 1936. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
164 Российская революция 1917года и ее место в истории XXвека
рирующие компартии, причем они обе откололись от социалистов. Первая - «Партия ста детей» — вышла из рядов социалистического молодежного движения, вторая появилась на базе социалистического профсоюза. Коминтерн в конечном счете выступил посредником в вопросах их слияния в официальную Коммунистическую партию Испании (РСЕ - Partido Comunista de España). При этом многие пробольшевистски настроенные анархо-синдикалисты, оставаясь верными принципам, отвергли присоединение к любым политическим партиям.
Коминтерн не смог в полной мере воспользоваться сложившейся ситуацией. Согласно доктрине Коминтерна, всемирную революцию следовало подпитывать за счет наиболее радикально настроенных сегментов в рамках старых социалистических партий. Такой подход не работал в Испании, где главными сторонниками большевиков были представители анархо-синдикалистского движения. Например, так называемые «коммунисты-синдикалисты» под руководством Хоакина Маурина и Андреу Нина. Оба проявили себя в Испании как наиболее одаренные теоретики коммунизма. Они заняли критическую позицию, независимую от Москвы (Нин был в 1920-е годы политическим секретарем Троцкого), а в 1930-е годы они основали раскольническую коммунистическую партию ПОУМ (Partido Obrero de Unificación Marxista, или Рабочая партия марксистского единства), которая в годы гражданской войны в Испании, как известно, подверглась жестоким репрессиям. То есть Испания стала родиной самой большой в Европе антисоветской коммунистической партии8.
В то же время просоветская коммунистическая партия была довольно слабой, и ее лучше знали в Москве, нежели в Мадриде или Барселоне. Такое положение существовало вплоть до начала гражданской войны в Испании. По сути, большинство радикально настроенных представителей пролетариата оказались по-прежнему привержены идеям революционного анархо-синдикализма. Действительно, Коммунистическая партия Испании пополнила ряды лишь в годы существования Народного фронта, когда придерживалась самых умеренных позиций9. На начальном этапе существования у КПИ возникали трудности из-за некоторых представителей Коминтерна. Испанские рабочие были очень
8 Durgan Л. ВОС, 1930—1936: El Bloque Obrero у Campesino. Barcelona: Laertes, 1996.
9 Cruz R. El Partido Comunista de España en la Segunda República. Madrid: Siglo XXI, 1987. P. 248-276.
Крис Илэм 165
бедны, поэтому по-боевому настроенным активистам синдикализма, будь они социалистами или анархо-синдикалистами, претили любые буржуазные черты. Многие сочувствовавшие большевикам пролетарии сочли крайне неуместным пристрастие одного из первых агентов Коминтерна, известного под именем «Рамирес», к дорогим сигарам и светской жизни.
Теперь о представителях правого крыла. Крайне удивительно то, что, несмотря на крайнюю малочисленность официальной компартии, страх перед коммунизмом был непропорционально велик. Как уже отмечалось, 1917 год принес испанской элите немало тревог: он ознаменовал начало периода ^прекращающегося политического кризиса, который привел к установлению двух диктатур и в кульминации к кровопролитной гражданской войне. Резко обострилась классовая борьба. Попытка совершения демократической революции в августе встретила серьезный отпор и завершилась жестокими репрессиями. Но это приглушило чувство страха в высших слоях общества ненадолго, поскольку 1918 год охарактеризовался новым революционным подъемом в городах. Он отличался большей организованностью, продолжительностью и расширением географии протестных действий. Дополнительным источником смятения в высших кругах стало то, что протесты, прокатившиеся по стране, сопровождались насилием, в том числе политическими убийствами. До 1917 года политическое насилие в основном ограничивалось Барселоной - консервативные элементы общества с изрядной долей хладнокровия считали это исключительно «каталонской проблемой». Но теперь акты насилия распространились на Севилью, Мадрид, Валенсию и происходили почти по всей стране.
Одновременно начался захват земель в аграрных районах Юга. Период с 1918 по 1921 год получил название «три большевистских года», поскольку жители Испании, в основном безземельные крестьяне, вдохновленные аграрной революцией в России, подняли несколько восстаний. Один из деревенских боевиков по фамилии Кордон даже сменил фамилию на Кордоньев. И хотя направленная в сельские районы армия смогла относительно легко подавить выступления обездоленных, правящие круги и высшее общество все отчетливее понимали: прежнее государственное устройство больше не давало адекватной защиты от новых вызовов снизу. У них было ощущение, что дамбы, защищавшие капиталистический общественный строй, уже прорваны и теперь вполне может произойти революция большевистского толка.
166 Российская революция 1917года и ее место в истории XXвека
В начале 1919 года страхи перед возможной «советской революцией» муссировались в консервативных органах печати, детально освещавших события как в России, так и в Европе, например, восстание спартаковцев в Германии на рубеже 1918-1919 годов. Ужас перед «большевистской угрозой» достиг грандиозных размеров в сознании аристократов. Язык страха в значительной степени формировался и видоизменялся по ходу развития событий в самой Испании. Например, через месяц после восстания немецких спартаковцев произошла самая массовая генеральная забастовка в истории испанского рабочего движения. Консервативная пресса после этого зациклилась на «подрывной деятельности красных». Поскольку испанская компартия представляла собой небольшую секту, то панические измышления о «красной угрозе» сфокусировались на революционной анархо-синдикалистской организации - НКТ. Она и не была коммунистической, но в 1919— 1922 годах на определенных условиях входила в Коминтерн. К тому же, как уже объявлялось, ее объявленной целью был «анархо-ком- мунизм». Но главное: в отличие от официальной, небольшой компартии Испании, НКТ со своими 800 тысячами членов была подлинно массовой организацией, так что консерваторы считали ее смертельно опасной для существующего режима.
Правые политики и все, кто их поддерживал в консервативных органах печати, изобличали «большевизацию» профсоюзного движения, все больше изображая его как местную версию российских большевиков и немецких спартаковцев10 11. Как писала главная консервативная газета Испании АВС, «профсоюзные активисты пытаются совершить революцию как в России, и это означает погружение в хаос, отказ от цивилизованной жизни, посягательство на наш священный долг»11. Когда страхи достигли максимума, на страницах печати даже утверждалось, что Ленин (он не говорил ни на каталанском, ни на кастильском диалекте) якобы приехал в Барселону в январе 1919 года, чтобы организовать революцию в Испании. В действительности Ленин в это время участвовал в II Всероссийском съезде учителей-интернационалистов, проходившем в Москве12.
10 АВС, 07.10.1919.
11 АВС, 16.01.1919.
12 О якобы имевшем место приезде Ленина в Барселону писала газета El Sol от 16 января 1919 года — цит. по: González Calleja Е. El màuser y el sufragio. Orden público, subversión y violencia política en la crisis de la Restauración. Madrid: CSIC, 1999. P. 68.
Крис Илэм 167
Подобные скоропалительные заявления лишь отражали размах контрреволюционной истерии, охватившей представителей власти и правые круги, заставляя их везде и всюду видеть заговоры и подготовку к восстаниям. Соответственно, были созданы новые механизмы для защиты и сохранения статус-кво: организованы контрреволюционные военизированные отряды, начался государственный терроризм, происходили политические расправы над членами профсоюзов, депортации «нежелательных элементов» из числа иностранцев и в конечном счете была установлена диктатура13. Либерализм, демократия и путь реформ - все это отвергли как недостаточные способы защиты от коммунистической подрывной деятельности. Как писала газета АВС, в этой битве не на жизнь, а на смерть «требуется уничтожить профсоюзное движение, поскольку оно способно смести все, что окажется на его пути»14.
К началу 1920-х годов слово «коммунизм» ассоциировалось с рядом оппозиционных групп, будь то анархисты, республиканцы или каталонские националисты15. Хотя в стране было мало коммунистов, распространялись невероятные истории насчет «коммунистических заговоров»16. В 1920-е годы реакционные армейские офицеры, читавшие издававшийся в Женеве антикоммунистический «Бюллетень международного согласия против Третьего Интернационала» (Bulletin de l’Enterite Internationale contre la Troisième Internationale), зачастую раздували до невероятных размеров сообщения о деятельности Коминтерна в Испании. К началу тридцатых годов крайне правые стали бояться международного еврейско-масонско-коммунистического заговора. И вот, незадолго до начала гражданской войны, правая пресса принялась утверждать, будто в Барселону приехал венгерский советский коммунистический политический деятель Бела Кун, чтобы спланировать развитие надвигающейся коммунистической революции17. На самом деле, он в этот момент находился в СССР и тяжело болел. К концу гражданской войны правые стали бояться, что вот-вот
13 Aizpuru М. La expulsión de refugiados extranjeros desde España en 1919: exiliados rusos y de otros países // Migraciones y Exilios, 11, 2010. P. 107—126.
14 ABC. 26.03.1919; 09.05.1919.
15 ABC. 20.01.1932; 29.01.1932.
16 González Calleja. El màuser y el sufragio. P. 417.
17 Preston P The Spanish Holocaust: Inquisition and Extermination in Twentieth-Century Spain. London: Harper, 2012. P. 5-10, 41-42. La actividad comunista internacional en España. О слухах насчет приезда Бела Куна в Барселону см.: АВС.27.03.1936.
168 Российская революция 1917года и ее место в истории XX века
начинающаяся коммунистическая революция превратит Испанию в колонию СССР18. Подобная истерическая риторика нагнеталась для того, чтобы оправдывать усиливавшиеся репрессии, в результате чего в прошедшем столетии это привело к установлению двух диктаторских режимов — и все ради уничтожения «красного вируса». Кстати, в годы диктатуры генерала Франко врачи и психологи действительно проводили исследования в попытках выявить «красный ген».
По прошествии ста лет тон этих панических высказываний представляется лихорадочным и безосновательным. Но в то время они выполняли четкую политическую функцию19. Политически- ориентированная мобилизация страхов жизненно важна для того, чтобы создать ощущение солидарности, объединяющее различные социальные группы20. Испания - прекрасный пример. С 1919 года, антикоммунизм создал отношения взаимной преданности среди прежде разделенных групп испанской элиты. В дальнейшем подобный дискурс поднял ставки в классовой борьбе. Он резко очертил возможности выбора между диктатурой и коммунизмом, благодаря чему помог создать новые, более прочные узы между представителями консервативных кругов общества. Это было особенно важно в таком государстве, как Испания, где существовал большой набор конкурирующих региональных элит: например, крупных землевладельцев Юга страны и промышленников Севера, то есть Каталонии и Страны Басков. В Барселоне, к примеру, паника в связи с «красной угрозой» в 1919 году положила конец двадцатилетней националистической агитации за независимость Каталонии, которую вели крупнейшие промышленники. В новых условиях они объединились в контрреволюционном союзе с представителями крайне правых кругов Испании и военными.
Подводя итоги, можно сказать, что 1917 год безвозвратно изменил политическую картину в Испании. Для некоторых этот год означал появление надежды на возможность создать новый, лучший мир. Но продержалось это недолго. Едва Испании достигли новости о том, что большевики подвергают репрессиям российских анархистов, испанские анархо-синдикалисты (самые востор¬
18 Dictamen de la Comisión sobre ilegitimidad de poderes actuantes el 18 de julio de 1936. Barcelona: Editora Nacional, 1939. P. 67.
19 Относительно утверждений франкистов насчет коммунистической угрозы см.: Herbert Southworth. El mito de la cruzada de Franco, Barcelona: Plaza y Janés, 1986.
20 Joanna Bourke. Fear: A Cultural History, London: Virago 2005; Corey Robin. Fear: the history of a political idea. New York: Oxford University Press, 2004.
Крис Илэм 169
женные и многочисленные сторонники Октябрьской революции) немедленно заняли четкую антикоммунистическую позицию. События 1917 года оказали на испанских правых гораздо более значительное и долгосрочное воздействие. Антикоммунистическая идеология стала основной чертой консервативного сознания. Страх перед красной опасностью гальванизировал боязнь не только радикальных перемен, но даже постепенных, которые отныне рассматривались (на примере Керенского) как рискованное безрассудство, способное лишь расчистить путь революции. Либерализм стали воспринимать как преддверие революции, что создало предлог для уничтожения демократии. Все это ввергло Испанию в гражданскую войну 1930-х годов, произошедшую в силу позиций авторитарных правых кругов, доминировавших на политической сцене Испании большую часть прошлого века.
Октябрьская революция в Каталонии и ее защитники
Жозеп Пучсек Фаррас
Единственной группой каталонского общества, положительно отнесшейся к Октябрьской революции 1917 года в России, были рабочие и среди них, в частности, анархисты, сгруппированные главным образом в объединении профсоюзов Национальной конфедерации труда (НКТ). Оставшаяся часть населения Каталонии либо относилась безразлично к российским событиям, либо выступала против них. Можно выделить несколько основных причин такого безразличия: во-первых, новости о российских событиях, доходившие до Каталонии, были крайне скудными; во-вторых, между Россией и Каталонией существовало значительное физическое расстояние, из-за которого российские события виделись чем-то далеким; и к тому же эти события происходили в стране, культура и традиции которой сильно отличались от каталонских. С другой стороны, возможный выход России из Первой мировой войны и его последствия для европейской политики спровоцировали возникновение противников Российской революции, так как считалось, что выход России из войны благоприятствует победе Центральных держав; такому негативному отношению также способствовало господствующее крайне радикализированное представление о российских революционерах; к тому же не стоит забывать и об опасениях консервативных групп каталонского общества, выступавших против любых попыток социальной революции в Каталонии. В конечном счете Каталония в 1917 году являлась наиболее промышленной зоной Испании, где рабочее движение, соответственно, имело больший количественный и качественный вес, а также было организовано главным образом через анархизм1.
1 Puigsech J. La Revolució Russa i Catalunya. Vic: Eumo, 2017. P. 19-49.
Жозеп Пунсек Фаррас 171
Таким образом, защитники Октябрьской революции 1917 года находились внутри анархистской группы. Конечно, НКТ не имела ни ясного, ни точного представления о том, что происходило в России. Сведения доходили до Каталонии в ограниченном объеме через международные новостные агентства или через иностранные газеты, которые, в свою очередь, получали информацию о России через своих корреспондентов или те же самые вышеупомянутые международные новостные агентства. Но несмотря на это, представители НКТ быстро нашли сходство не только с Октябрьской революцией, но и в целом с революционным процессом, начатым в России до штурма Зимнего дворца.
8 ноября 1917 года по новому стилю члены НКТ еще не знали о победе Октябрьской революции2. Однако они выказывали убежденность в том, что ее триумф неминуем. Причина такой уверенности заключалась в том, что в России, а именно в Петрограде, был создан Революционный комитет, в состав которого входили рабочие и солдаты, и которому, кроме того, удалось установить тесные контакты с военным гарнизоном столицы. Через два дня представители НКТ нуждались в чем-то большем и определили текущую революцию как революцию советов3. Эта интерпретация основывалась на обращении Петроградского военно-революционного комитета, который сообщил, что Временное правительство было свергнуто во имя народной революции. Военно-революционный комитет провозгласил себя новой властью в стране до тех пор, пока не будет установлено сформированное советами правительство. Инструкции для этого будущего правительства были предельно ясными: немедленный выход из Первой мировой войны, а до тех пор, пока это не было достигнуто, войска были временно задержаны на фронте; доступ крестьян к землям, который до сих пор находился в руках землевладельцев; немедленный созыв Учредительного собрания; и, наконец, устройство революционной армии.
11 ноября 1917 года НКТ еще точнее обозначили свое толкование российского революционного процесса, но не победы Октябрьской революции, так как до них еще не дошли новости о том, что осада Зимнего дворца уже произошла. Фактически только на следующий день, 12 ноября, они узнали, что Зимний дворец
2 Creación de un Comité Revolucionario. Solidaridad Obrera [Barcelona], núm. 649 (noviembre 1917). P. 3.
3 La revolución rusa. Las conquistas de los Soviets siguen su curso. Solidaridad Obrera [Barcelona], núm. 651 (noviembre 1917). P. 3.
172 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
был атакован4. Несмотря на отсутствие сведений, они без колебаний обозначили свою позицию на страницах своего печатного органа, газеты Solidaridad Obrera. Она была отражена в опубликованной на первой странице статье, озаглавленной «Русскаяреволюция в действии»5. По мнению НКТ, революция еще не успела охватить весь город Петроград. Существовали очаги сопротивления со стороны сил, преданных правительству Керенского, которые спровоцировали столкновения с революционерами, а также были виновны в ранении и гибели некоторых людей, но тем не менее не смогли предотвратить свержение Временного правительства Керенского. На самом деле, члены НКТ были уверены, что Керенский успел сбежать еще в тот момент, когда уже были задержаны некоторые министры. С другой стороны, они выделяли личность Владимира Ильича Ульянова-Ленина, который представлялся им как наиболее подходящая фигура среди революционеров. Тем не менее, избегалось обозначать его как марксиста и/или коммуниста, несмотря на то, что ему давали идентичный советам статус и характеризовали его как председателя революционеров, сопровождаемого Львом Давидовичем Бронштейном (Троцким), назначенным наркомом иностранных дел6.
Революцию оценивали и характеризовали на основе русского внутреннего видения, формируя ее образ по четырем осям: в первую очередь речь шла о ее отличительной черте, которую представители НКТ обозначали как грандиозную народную революцию. Она не была ни коммунистической, ни анархистской. Это не была и революция советов. Это была революция российского народа против угнетения, которому он подвергался на протяжении столетий со стороны царизма, которое затем продолжилось уже со стороны российской буржуазии, действующей через различные Временные правительства. Революция была народной, потому что ее главные участники были определены как выразители народной воли. От них больше ничего не требовалось. Один из обобщающих терминов возник в результате не только неразборчивых данных, приходящих из России, но и преднамеренного желания НКТ ослабить центральную роль, которую играли большевики, составлявшие политическую
4 La revolución en Rusia. Solidaridad Obrera [Barcelona], núm. 653 (noviembre 1917). P. 3.
5 La revolución rusa en marcha. Solidaridad Obrera [Barcelona], núm. 652 (noviembre 1917). P. 3.
6 La revolución en Rusia. Solidaridad Obrera [Barcelona], núm. 652 (noviembre 1917). P. 3.
Жозеп Пучсек Фарр ас 173
партию, и, таким образом, противоречившие профсоюзной модели, которую защищала НКТ. С другой стороны, фундаментальная основа народной революции была в российских крестьянах. По мнению членов НКТ, они присоединились к революции благодаря обещанию дать доступ к земельной собственности тем, кто на ней работал, что стало основным ориентиром для экономической эмансипации в России; во-вторых, они сосредоточили свое внимание на ритме революционного процесса. Представители НКТ были убеждены в том, что сейчас наступал решающий момент революционного процесса. Силы контрреволюции оказывали сопротивление и в отчаянии попытались бы установить новую форму царизма. Из этого размышления члены НКТ определили революционный процесс в краткосрочной и среднесрочной перспективе, т.е. их завоевания были достигнуты медленными темпами и никогда не происходили незамедлительно. Революция несла социальный характер и, следовательно, речь шла об аспекте, который не мог быть изменен в одночасье; в-третьих, они обозначали революционный процесс как полностью законный процесс и, в то же время, неизбежный и достойный восхищения. Речь шла о движении за свободу, а именно - об освобождении от политического гнета и экономической и социальной эксплуатации, которой подвергался российский народ. Это угнетение достигло допустимых пределов во время продолжающегося участия России в Первой мировой войне. К хроническому дефициту в стране, выражавшемуся в скудных запасах продовольствия у народных слоев населения и сложностях найти место на рынке труда, прибавились тяготы войны, что особенно заметно по количеству погибших во время боевых действий, насчитывавших 5 миллионов солдат, 6 миллионов раненых и 3 миллиона заключенных; наконец, российский революционный процесс был ориентиром для международной народной борьбы. Несмотря на то, что представители НКТ основывали свое прочтение на российском внутреннем видении, они не могли найти связь между российской ситуацией и каталонской и, если смотреть масштабнее, — испанской. Поэтому они заявили, что в России загорелось пламя, которое послужит примером для мировой революционной борьбы, которая, как они надеялись, придет и в Каталонию.
Тем не менее толкование НКТ выделяло международный контекст по отношению к социальным преобразованиям, то есть пацифизм в Первой мировой войне ставился выше социальных последствий революции для России. Однако представители НКТ были реалистами и в то же время не имели возможности получить
174 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
достоверные сведения о том, что происходило в России. 14 ноября 1917 года они признали, что информация, которую они имели на руках, была непосредственно скопирована из иностранной прессы, и поэтому побуждали своих последователей рассматривать ее на относительном расстоянии, поскольку эти источники, как правило, благоприятствовали большевикам или последователям свергнутого Временного правительства. Не вызывал сомнений тот факт, что путаница в отношении происходившего в России росла. Но так же верно и то, что все сведения из прессы, которые доходили до рук НКТ, независимо от их направленности, совпадали в данных об окончательном поражении Временного правительства Керенского и победе революционеров7.
Принимая во внимание эти факты, члены НКТ рискнули поверить в то, что революция в России, наконец, победила. Доказательством стало создание нового Революционного правительства, возглавляемого Лениным и сформированного в форме Совета народных комиссаров, в котором состояли, среди прочих, Троцкий, нарком по иностранным делам, Луначарский, нарком просвещения, и Рыков, нарком внутренних дел. Революционная исполнительная власть делала ставку на немедленный выход из Первой мировой войны и организацию выборов в Учредительное собрание8. Таким образом, 26 ноября 1917 года представители НКТ публично обозначили свою позицию в пользу укрепления революционной власти9. Отправной точкой оставалась та, которую они поддерживали с первого дня. Члены НКТ как революционеры не могли не проявить своих симпатий к революции, которая произошла в России, поскольку они считали ее примером борьбы российского народа за свободу и справедливость. Но, начиная с этого момента, они ставили приоритетом пацифистские выступления и влияние революции на Первую мировую войну.
Это идиллическое видение Октябрьской революции продолжалось в течение многих месяцев, хотя и не хватало некоторых фактов и в то же время сведений о действующих лицах. Члены НКТ признали в мае 1918 года, что Россия погрузилась в процесс социальной революции: частная собственность была ликвидиро¬
7 La revolución en Rusia. Solidaridad Obrera [Barcelona], núm. 655 (noviembre 1917). P. 3.
8 Ibid., núm. 654 (noviembre 1917). P. 3.
9 Al margen de la Revolución Rusa. Solidaridad Obrera [Barcelona], núm. 667 (noviembre 1917). P. 1; y Buenacasa M. Siluetas pacifisctas. ¡Lenin!. Solidaridad Obrera [Barcelona], núm. 667 (noviembre 1917). P. 1.
Жозеп Пучсек Фаррас 175
вана, а буржуазию преследовали, чтобы передать ее собственность в общее пользование. Однако они также признавали, что Россия находилась в разрозненном положении, поскольку революционная власть не смогла охватить всю страну. В довершение всего, видение НКТ было искажено предполагаемой гегемонией анархистов в советах, оттеснивших на второй план большевиков и остальные российские революционные силы10.
Как можно видеть, интерес НКТ к российским событиям хотя и сохранялся в течение 1918 года, но с каждым днем падал из-за ограничений на получение относительно достоверных новостей. Несмотря на это, члены НКТ без колебаний выступили против международной коалиции, которая решила осуществить военное вмешательство в России против революционного правительства. Начало Гражданской войны в России было признано отвратительным актом. Речь шла о международной коалиции между монархическими и империалистическими государствами и республикан- цами-капиталистами, которые намеревались сделать не что иное, как прервать свободы и социальную справедливость, установленные российскими революционерами. Возникшее по этой причине возмущение было подкреплено тем фактом, что это поведение, в частности, держав, которые входили в Антанту в Первой мировой войне, демонстрировало фальшь призывов, которые делала Антанта в защиту прав, свободы и справедливости в глобальном конфликте. И это еще больше утверждало легитимность совершения Российской революции, которая, среди прочего, должна была освободить российский народ от цепей, которые Антанта набросила на него. Эти обвинения также распространялись на испанские власти, которых обвиняли в соучастии в проекте направить в Россию ресурсы против революционеров. По этой же причине НКТ призвала пролетариат всей Испании, включая каталонский, начать движение солидарности с российскими революционерами, и, что более важно, предложила им также повторить на своей территории революционные действия, которые были совершены в России.
Члены НКТ незамедлительно признали, что эта революция стала самой важной революцией за последние столетия. Эти слова имеют еще большую ценность, если учесть тот факт, что Октябрьская революция теперь была признана коммунистической революцией, которая стала возможной благодаря желанию российского народа,
10 Ribe В. La Rusia revolucionaria. Solidaridad Obrera [Barcelona], núm. 754 (maig 1918). P. 2.
17 6 Российская революция 1917 года и ее место в истории XXвека
рабочих и крестьян, и которая была организована в советах. Таким образом, год спустя представители НКТ продолжали интерпретировать Российскую революцию как народную революцию в социальном смысле, но теперь они приписывали ей коммунистический характер в идеологическом смысле. И хотя они указывали на идеологическую дистанцию по отношению к проекту, возглавляемому Лениным и Троцким, они признавали их двойную заслугу: разумные действия во время событий ноября 1917 года в целях свержения Временного правительства и умение гарантировать российскому народу лучшее будущее. Фактически, они считали, что это был великий коммунистический подвиг - восстановить страну так, как это сделали они, после краха, в котором ее оставили царизм и Временное правительство. В этом смысле они особо подчеркнули вклад, внесенный в промышленную сферу, начиная с восстановления уровня производства, находящегося ниже минимального, и осуществления этого через Советы, ставшие орудием народного демократического представительства и эффективным организационным инструментом.
С другой стороны, НКТ также не представила ни одного «но» по отношению к политическому аспекту, который подвергся большей критике в революционном правительстве и который являлся частью процесса восстановления страны, выразившемся в ликвидации Учредительного собрания в январе 1918 года НКТ считала это собрание контрреволюционной силой, где были представлены покровители дореволюционной России, и откуда они планировали действия против российской революции и ее наследия. Таким образом, в итоге представители НКТ полностью поддерживали роспуск Учредительного собрания. И тем более потому, что они считали, что не это собрание, а Всероссийский съезд Советов, давший свое согласие на ликвидацию Учредительного собрания, являлся истинным представителем народа. Принятие Конституции РСФСР летом 1918 года стало кульминационной точкой, поскольку оно устранило любые сомнения относительно глубоко представительного характера революционной России: могла ли народная власть быть лучше представлена, чем в такой конституции, как Конституция РСФСР 1918 года? Ответ для членов НКТ был отрицательным.
Однако точки зрения, которые мы наблюдали до сих пор, в основном отражали видение каталонских анархистов, а именно анархо-синдикализма, представленного организацией НКТ. Тем не менее одновременно существовали и другие точки зрения, которые в рамках анархизма в Каталонии также демонстрирова¬
Жозеп Пунсек Фаррас 177
ли четкое отождествление с направлением Октябрьской революции, но были больше приближены к тем положениям, которые в революционной России отождествляли с анархо-болыиевизмом. Именно эта группа могла бы глубже отождествлять себя с российскими событиями, чем НКТ, со страниц своего печатного органа, газеты Tierra у Libertad11.
С их точки зрения, Российская революция была социальным процессом, обладающим двумя плоскостями. То есть, во-первых, дихотомией между рабочими и буржуазией, между пролетариатом и эксплуататорами; и, во-вторых, в международной плоскости, так как это была революция с европейским и мировым видением. Они признавали, что главными действующими лицами были большевики, которые были определены как социалисты в самом общем марксистском смысле и стремились осуществить все максимы социалистической программы. Взгляды с ними совпадали, так как при осуществлении всех максим социалистической программы высшим этапом социального прогресса стал бы либертарный коммунизм. Важно учесть и их мнение о том, что большевики в значительной степени были проникнуты духом анархизма. Другим значительным аспектом являлось признание того, что некоторые российские анархисты входили в новые руководящие органы революционеров. И это не рассматривалось как противоречие либертарным принципам. Мировая революция пролетариата, которая теперь началась в России, требовала руководящих кадров и власти, как большевиков, так и анархистов, для достижения победы революции во всем мире. Революция требовала власти и авторитаризма против врага. И тем более что процесс, начатый в России, являлся процессом, который требовал нескольких лет для достижения триумфа на мировом уровне11 12.
Эта группа каталонских анархистов была осведомлена о победе Октябрьской революции 14 ноября 1917 года в Петрограде. Они охарактеризовали ее как грандиозную социальную революцию, находящуюся на втором этапе, то есть революционный цикл начался в марте 1917 года, согласно западному календарю, со свержения монархии, а теперь продолжился ликвидацией буржуазной республики, возглавляющей Временное правительство, которое
11 Avilés J. La fe que vino de Rusia. La revolución bolchevique y los españoles (1917-1931). Madrid: Biblioteca Nueva, 1999. P. 57.
12 Gomeri. Los maximalistas y la prensa burguesa. Tierra y Libertad [Barcelona], núm. 367 (desembre 1917). P. 2; y Revolución y anarquía. Tierra y Libertad [Barcelona], núm. 370 (desembre 1917). P. 1.
178 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
считалось орудием на службе российской и международной буржуазии и фактически действовавшее как диктатура. Таким образом, Революция имела две весьма конкретные и законные цели: во-первых, достичь мира для России в рамках Первой мировой войны; и, во-вторых, создать окончательную социальную модель, которая была бы либертарным социализмом. По этой причине они считали, что если эта революция была подлинной (а они думали, что российская революция таковой является), то она также приведет к ликвидации любой формы правительства, поскольку правительства являются моделью политического навязывания. Наконец, они также без колебаний придали ей международную и воспитательную составляющую, то есть Российская революция стала первым этапом пролетарской революции на мировом уровне, которую рабочие всего мира не только должны были поддерживать, но и из которой должны были извлекать все революционные уроки. Поэтому они охарактеризовали ее великой революцией XX века. Они видели в ней преемницу французской революции XVIII века и давали ей мессианскую, и в то же время ясновидящую, предсказывающую мировое будущее составляющую13.
В этом смысле они не ошибались. Двадцатый век был глубоко отмечен Октябрьской революцией. Но они ошибались, считая, что Октябрьская революция стремилась установить либертарный коммунизм. Эта группа каталонских анархистов признавала, что в России еще не был основан либертарный коммунизм, поскольку все еще продолжали существовать правительство, власть и законы. Вместе с тем уже были установлены основные принципы справедливости и равенства в рамках либертарного коммунизма: верховная власть народа, исчезновение заработной платы, натуральные и денежные блага в руках народа. Более того, они были убеждены в том, что если до сих пор не получилось установить либертарный коммунизм, то не из-за отсутствия желания у основных участников, а по причине материальной невозможности сделать это из-за пагубного наследия, которое породил царизм и продолжили Временные правительства. Задача революционеров состояла в том, чтобы избавиться от этого наследия14. По этой причине они одобряли меры, принятые революционерами, сумевшими с ноября 1917 года стабилизировать положение в стране: они стремились
13 Gomeri. La Revolución de Rusia. Tierra y Libertad [Barcelona], núm. 364 (noviembre 1917). P. 2.
14 La sociedad vieja se hunde. Tierra y Libertad [Barcelona], núm. 365 (noviembre 1917). P. 1.
Жозеп Пучсек Фаррас 179
к социальной гармонии посредством устранения элементов эксплуатации человека. Россия определенно шла по пути к либертарному коммунизму15.
Благодаря этой интерпретации, переговоры Революционного правительства, нацеленные на мир с Германией, были восприняты как неотъемлемый элемент Революции, который, по сути, зависел до последнего момента от триумфа пролетарской революции по всей Европе. Более того, они утверждали, что, поскольку Первая мировая война была расценена как конфликт между буржуазиями, которые использовали пролетариат в качестве пушечного мяса в своих интересах, нельзя было сделать ничего другого, кроме как аплодировать пацифистскому желанию российских революционеров. Однако нужно было продолжить революцию пролетариата в остальных европейских странах, копируя российский пример. Только так можно было достичь подлинного и прочного мира16.
Начиная с середины 1918 года, как видение НКТ, так и видение представителей анархо-болылевизма становилось все более ограниченным. Сведения из России почти не доходили, а те, что доходили, не были достоверными. Это привело к тому, что с каждым разом об Октябрьской революции размышляли все меньше. Несмотря на это, в отдельных случаях в конце 1918 года некоторые группы, связанные с анархизмом, демонстрировали безоговорочную поддержку Российской революции. Это могло быть связано с двумя аспектами: как социальная революция и как оплот борьбы с реакционными группами на мировом уровне. Главным действующим лицом была Национальная федерация крестьянских работников Испании. Речь идет об анархо-синдикалистской сельской организации, преобладающей в сельских районах юга Каталонии, где каталонские представители играли решающую роль в государственной сфере. В ходе своего федерального конгресса в декабре 1918 года они без колебаний приветствовали социальные преобразования, которые произошли в России. Эти изменения были отнесены к сельской сфере и отождествлены с доступом крестьян к земле, на которой они работали. Они также поддержали Революционное правительство в Гражданской войне в России, в связи с которой они продемонстрировали готовность организовать всеобщую забастовку по всей территории Испании, если испанское
15 Revolución у anarquía; у Ramon Vaquer. <<Hacia el comunismo>>. Tierra y Libertad [Barcelona], núm. 370 (desembre 1917). P. 1.
16 La guerra revolucionaria. Tierra y Libertad [Barcelona], núm. 371 (gener 1918). P. 1.
180 Российская революция 1917года и ее место в истории XXвека
правительство примет решение о вмешательстве совместно с контрреволюционными силами17.
Все это позволяет нам считать, что в Каталонии Российская революция оказала благоприятное воздействие главным образом в городских слоях, а не в сельских районах. Об этом свидетельствует совокупность мнений, которые образовались как у защитников, так и у критиков Октябрьской революции в Каталонии, которые главным образом принадлежали к городским слоям. С другой стороны, влияние Октябрьской революции на сельские регионы Каталонии пришло с запозданием в хронологическом плане и, кроме того, ограничилось лишь определенной частью этой области и весьма определенными действующими лицами. События развернулись бы по-другому, если бы в Каталонии преобладало сельское население с большинством сельских рабочих, что произошло на юге Испании, где эта группа превратилась в главного сторонника Революции, в результате чего стало возможно известное «Большевистское трехлетие»18. Но ситуация на каталонской территории была совершенно иной, хотя бы потому, что подавляющее большинство членов Национальной федерации крестьянских работников Испании были мелкими землевладельцами и арендаторами.
17 МауауоЛ. El mite de l’URSS en el moviment nacionalista català: revolució і autodeterminació (1917—1989). En: Miscel lània d’homenatge a Josep Benet. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1991. P. 335.
18 Gil C. La aurora proletaria. Orígenes y consolidación de la CNT. En: Julián Casanova (coord.). Cien años de anarquismo en España. Barcelona: Crítica, 2010. P. 100-108.
Италия и Российская революция
В.П. Любин
Тема воздействия российской революции на Италию, считавшуюся, согласно марксистской трактовке, слабым звеном в цепи империализма, вызывает у историков, прежде всего итальянских и российских, большой интерес.
Италия стала страной, на которую события революции в России 1917 года действительно оказали очень сильное влияние. Что из себя представляла эта страна в 1917 году? Объединенная в 1861 году, в начале XX века она, чтобы вступить и закрепиться в рядах ведущих шести держав Европы, а тогда и всего мира, прилагала много усилий, стараясь догнать вырвавшиеся вперед в экономическом развитии другие державы. Были достигнуты заметные успехи в индустриальном развитии. Перейдя из лагеря Тройственного союза с Германией и Австро-Венгрией, в котором Италия состояла с 1882 года, в лагерь Антанты, она в мае 1915 года вступила в войну. Эта война оказалась для страны изнурительной и непосильной. В том же 1917 году, когда в России разразилась революция, во многих городах Италии проходили забастовки рабочих и во многих местах шли демонстрации женщин под лозунгом: «Верните наших мужей из окопов!». У солдат на фронте и внутри страны распространился лозунг «Fare come in Russia!» - «Сделать как в России!». Нарастало глухое недовольство, прорывавшееся в виде антиправительственных выступлений. Самым заметным из них стало восстание туринских рабочих в конце августа 1917 года, когда на улицах города шли вооруженные столкновения рабочих с войсками. Оно было подавлено, но все это не прошло бесследно.
182 Российская революция 1917года и ее место в истории XXвека
К началу сентября 1917 года количество дезертиров достигло 114 тыс. человек. Горький осадок оставил разгром итальянской армии при Капоретто в октябре 1917 года. Лишенная возможности поддержки со стороны русских войск, как часто происходило ранее в ходе войны (так, например, в мае 1916 года Брусиловский прорыв в Галиции остановил успешное наступление австрийских войск и тем самым спас итальянцев от поражения), итальянская армия не выдержала натиска германских и австро-венгерских войск. Они уже выходили на равнины Северной Италии, заняв провинции Удине, Беллуно и частично Тревизо. В ходе этих боев потери итальянцев составили 10 тыс. убитых, 30 тыс. раненых, 265 тыс. пленных. Это вызвало панику в тылу и смену правительства. Отступление остановили лишь при помощи переброшенных к реке Пьяве английских и французских частей. В связи с тем, что из-за этих потрясений все внимание прессы и общественного мнения было сосредоточено на том, что происходило внутри страны, события в России отодвинулись как бы на второй план. Но они продолжали влиять на настроения в Италии.
Картину того, как воздействовала российская революция на Италию, лучше получить через сопоставление трудов российской и итальянской историографии, посвященных данной проблематике.
По теме «Русская революция и Италия» опубликовано немало работ российских и итальянских историков. Можно упомянуть монографии К.Э. Кировой «Русская революция и Италия»1, К.В. Кобылянского «Великий Октябрь и революционное движение в Италии»1 2. В рецензии на них Б.Р. Лопухов писал: «Пример Великой Октябрьской социалистической революции - становится важным фактором такого подъема борьбы масс, который создавал непосредственную угрозу для всего существующего строя». В Италии пришли в движение «огромные массы трудящихся: рабочие, крестьяне, средние слои населения»3.
1 Кирова К.Э. Русская революция и Италия. М., 1968; Она же. Западная Европа. Год 1917. М., 1977.
2 Кобылянский К.В. Великий Октябрь и революционное движение в Италии. М., 1968; Он же. Забастовка солидарности с Советской Россией 20-21 июля 1919 г. // Россия и Италия. М., 1968. С. 340—350. Кирова и Кобылянский авторы главы о времени Первой мировой войны: История Италии. М., 1970. Т. 2. С. 415-492.
3 См. рец. Б.Р. Лопухова на указанные монографии: Вопросы истории. М., 1969. № 7. С. 168—170. (К.В. Кобылянский провел в Италии детство и юность, и часть документов его личного архива хранится в Доме Плеханова, куда еще
В.П. Любин 183
Вклад в разработку темы внесли представительницы российской итальянистики, московские историки К.Ф. Мизиано, И.В. Григорьева, З.П. Яхимович, Н.П. Комолова* 4. В работе ленинградца А.С. Корнеева приведен отзыв газеты «Аванти»: «Русская революция представляет собой первый акт мировой революции» и оценка А. Грамши: «Именно в России начинается история будущего, именно в России зарождается жизнь нового мира»5.
В диссертации и затем монографии Б.Р. Лопухова «Фашизм и рабочее движение в Италии, 1919-1929 гг.» говорилось о воздействии ситуации в России на ситуацию в Италии, опасениях со стороны правящих классов повторения того, что случилось в России в 1917 году. Затронутые сюжеты решались в другом ключе, чем в работах предшественников6.
В отличие от СССР, где тема истории фашизма долго была под запретом, в Италии в 1960-е годы начали выходить фундаментальные исследования по истории страны 1914-1922 годов, а затем и 1922-1943 годов. Главным застрельщиком выступил Ренцо Де Феличе, в 1965 году вышел первый том его многотомной биографии дуче под заглавием «Муссолини-революционер». Его новые подходы привели к тому, что он был объявлен ревизионистом7.
В чем-то соглашаясь, но в ряде аспектов споря со взглядами Де Феличе и других, Лопухов опубликовал монографии, в которых продолжил изучение Италии дофашистского и фашистского периода8. Он
ранее попали документы, связанные с дружбой его отца В.А. Кобылянского с Г.В. Плехановым).
4 См.: Григорьева И.В. Г.В. Плеханов и итальянское социалистическое движение // Россия и Италия. М., 1968. С. 259-285; Она же. Италия в XX в. М., 2006; Комолова Н.П. Новейшая история Италии, М., 1970; Мизиано К.Ф. Итальянское рабочее движение на рубеже ХІХ-ХХ веков. М., 1976; Яхимович З.П. Рабочий класс Италии против империализма и милитаризма. Конец XIX - начало XX вв. М., 1986.
5 Корнеев А.С. Италия в Первой мировой войне // Очерки истории Италии. М., 1959. С. 386. См. также: Грамши А. Тюремные тетради. М., 1991. Ч 1. С. 36, 57, 90, 105, 123.
6 Мне довелось присутствовать на защите его диссертации в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, вызвавшей полемику из-за новизны и «неприемлемости» темы.
7 De Felice R. Mussolini il rivoluzionario, 1883-1920. Torino, 1965. Он же. Intervista sul fascismo. Roma-Bari, 1975; Он же. Rosso e nero. Milano, 1995. В них он отстаивал свои позиции в трактовке фашизма, они противоречили подходам антифашистской марксистской историографии в Италии.
8 См.: Лопухов Б.Р. История фашистского режима в Италии. М., 1977; Он же. Эволюция буржуазной власти в Италии. Первая половинаXX века. М., 1986.
184 Российская революция 1917 года и ее место в истории XXвека
отмечал, что под влиянием Октябрьской революции в стране началось мощное революционное движение с его популярным лозунгом «Сделать как в России!». «Движение за установление в Италии по примеру России диктатуры пролетариата, захват фабрик рабочими и земли крестьянами, самое сильное в это время забастовочное движение, бурный рост численности и влияния социалистической партии и Всеобщей конфедерации труда - все это расшатывало основы либерального государства»9.
Исследования по данной теме довелось продолжить и мне самому. Их результаты представлены в двух монографиях и многих статьях. В книге об Италии накануне ее вступления в Первую мировую войну, на основе документов показано, что развитие событий и политический курс правящих классов неминуемо вели к кризису и краху либерального государства и, как следствие, приходу к власти фашизма10. Влияние русской революции 1917 года на Италию было рассмотрено в монографии «Социалисты в истории Италии: ИСП и ее наследники, 1892-2006 гг.». Подчеркивалось, что итальянские рабочие восприняли революцию в России как возмездие за те страдания, которые они сами перенесли во время войны. Впереди им грезились великие цели - мир и власть рабочих. Революцию в России массы принимали как социальную, а не как политическую. Трудящиеся Италии смотрели на русскую революцию с почти религиозным трепетом. Рабочие праздновали день годовщины революции, 7 ноября, в этот день заводы оставались закрытыми и трудящиеся выходили на демонстрации. Движение под лозунгом «Сделать как в России!» началось еще в 1917 году в окопах на фронте и в тылу среди рабочего класса. Его поддержали левые социалисты, которые в январе 1921 году создали Коммунистическую партию Италии (КПИ), ставшую одной из ведущих партий Коминтерна.
Забастовка металлистов и захват предприятий рабочими в августе-сентябре 1920 г. была расценена Лениным и большевиками как революционная ситуация, они считали, что реформисты в Итальянской социалистической партии (ИСП) - «единственное препятствие на ее пути», и после их изгнания путь революции будет открыт. Руководитель ИСП Дж.М. Серрати возражал Ленину и Зиновьеву, объясняя, что «захват власти осенью 1920 г. невозможен». Умудренному политику Дж. Джолитти удалось сбить
9 Лопухов Б.Р История фашистского режима в Италии. С. 5.
10 Любин В.П. Италия накануне вступления в Первую мировую войну (на пути к краху либерального государства). М., 1982. С. 178.
ВЛ. Любин 185
накал рабочего движения и удержать власть. Рабочее, профсоюзное и социалистическое движение пошли на спад. Они уступили позиции агрессивному фашистскому движению, обрушившему на противников откровенное насилие. В октябре 1922 года, после «похода на Рим», фашисты взяли власть, установив на более чем 20 лет свою диктатуру в стране11.
Что касается итальянской историографии, то о влиянии российской революции на Италию писали С. Каретти, А. Вентури, Э. Чиннелла, Дж. Петракки, Дж. Лами, М. Росси, В. Страда, А. Грациози и др.11 12 Мне довелось опубликовать рецензии на многие их труды.
Тема русского революционного движения XIX - начала XX века и влияния на Италию российской революции часто стояла в повестке дня встреч итальянских и советских историков, начавшихся в 1964 г. и проходивших регулярно до времен перестройки попеременно в Москве и Риме. Это был особый и беспрецедентный феномен времен холодной войны, так как таких встреч с представителями других стран западного блока в то время попросту не было. За это мы должны быть благодарны ведущим итальянским историкам, прежде всего, Франко Вентури, Паоло Алатри, Розарио Виллари, Коррадо Виванти, Эрнесто Раджоньери и многим другим исследователям этого поколения и их наследникам. И конечно советским историкам, школу которых создала и долго возглавляла руководившая в ИРИ РАН исследовательской группой по изучению истории Италии К.Ф. Мизиано13.
11 Любин ВЛ. Социалисты в истории Италии. ИСП и ее наследники, 1892— 2006. М., 2007. С. 213, 217, 227-229, 235.
12 Caretti S. La rivoluzione russa e il socialismo italiano (1917-1921). Pisa, 1974; Cinnella E. 1917: La Russia verso l’abisso. Pisa-Cagliari, 2012; Он же. La vera rivoluzione russa. Pisa-Cagliari, 2008; Чиннелла Э. Как была воспринята революция 1905 г. в Италии // Путешествие в Италию - Путешествие в Россию. М., 2014. С. 35-43; Он же. La rivoluzione bolscevica. Partito e società’ nella Russia sovietica. Lucca, 1994; La tragedia della rivoluzione russa (1917-1921). Milano- Trento, 2000; Он же. La rivoluzione russa. Milano, 2004; Graziosi A. Histoire de l’URSS. Paris, 2010; рус. перевод: Грациози A. История СССР. M., 2016; Lami G. La questione ucraina fra ‘800 e ‘900. Milano, 2005; Petracchi G. Russia rivoluzionaria nella politica italiana 1917-1925. Roma-Bari, 1982; Rossi M. I prigionieri dello Zar (1914—1918). Milano, 1997; Venturi A. Rivoluzionari russi in Italia, 1917-1921. Milano, 1979; Страда В. Россия как судьба. М., 2013.
13 См.: Любин ВЛ. Историографическая оттепель: Конференции советских и итальянских историков в Москве // Путешествие в Италию - Путешествие в Россию. М., 2014. С. 221-228; Вентури А. Историографическая оттепель: Конференции итальянских и советских историков в Риме // Там же. С. 213-220.
186 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
В послевоенные десятилетия в итальянской историографии ощущалось сильное присутствие, если не доминирование марксистской историографии. Но в последние десятилетия наследие антифашизма утрачивалось. В работах современных итальянских историков, связанных с обозначенной темой, больше исследуется проблематика самой России, событий революций 1905 и 1917 годов.
Тематика воздействия событий в России на Италию в 1917 году была поставлена в качестве главной в монографии С. Каретти и в определенной мере в книге А. Вентури. Каретти писал о влиянии событий революции 1917 года на итальянских социалистов, изменении их политической линии в 1917—1921 годах. По его мнению, когда в начале 1917 года из России стали приходить известия о Февральской революции, «итальянские социалисты имели довольно ограниченное представление о русском революционном мире вообще, и о Ленине и о большевиках»14. В листовках, распространявшихся в мае 1917 года среди рабочих и крестьян, сообщалось, что буржуазные правительства и печать распространяют ложь, что русский народ совершил революцию ради войны, но русские солдаты и крестьяне выступают не за продолжение войны, а за осуществление собственных идеалов и интересов15. Ослабление социалистического движения в Италии привело к тому, что организации рабочих, несмотря на их «благородное, но бесплодное сопротивление», не смогли остановить приход к власти фашизма, заключает Каретти16.
В исследовании А. Вентури отражено не только прямое воздействие революционных событий 1917 года в России на ситуацию в Италии, но и непосредственная деятельность в стране представителей русских революционных партий, большевистского и комин- терновского руководства. Автор делает вывод о заметном влиянии партии русских социалистов-революционеров, недооцененном прежней историографией. Их влияние, как и влияние большевиков, осуществлялось через эмигрантов, которые оставались жить в Италии, давшей им прибежище еще во времена царизма. С 1919 года к ним добавились специальные посланцы Коминтерна. Особенно заметен был большевик Н.М. Любарский, он действовал под псевдонимом Николини17.
14 Careni S. Op. cit. P. 23.
15 Ibid. P. 47.
16 Ibid. P. 273.
17 Venturi A. Op. cit. P. 196—258.
В.П. Любин 187
В работах В. Страды обращено внимание на соотношение гуманизма и терроризма в русском революционном движении18.
Публиковавшиеся начиная с 1970-х годов исследования профессора Флорентийского университета, а затем Университета в Удине Джорджо Петракки, участника многих советско-итальянских, затем российско-итальянских и российско-ватиканских конференций историков, затрагивали, прежде всего, дипломатические отношения России и Италии. Одновременно немалое внимание в них уделялось и анализу хода событий в России 1917 г. Автор давал оригинальные для тогдашней итальянской историографии оценки революционных событий, расходившиеся с доминировавшими в левых кругах марксистскими подходами. Все работы этого итальянского ученого глубоко фундированы и опираются на документы итальянских и других западноевропейских архивов.
В монографии Петракки «Дипломатия войны и революция. Италия и Россия от октября 1916 года до мая 1917 года» отмечалось, что итальянский министр иностранных дел С. Соннино и вместе с ним весь итальянский кабинет министров поддержали Временное правительство в Петрограде. Министр вполне осознавал, насколько слабые позиции имеет это правительство, и был озабочен тем, чтобы не навредить ему неуклюжими действиями с итальянской стороны. Все это происходило в мае 1917 года, когда, как пишет Петракки, по замечанию одного дипломата, «в сумерках сомнений революция зажгла две ярких звезды, которыми были Милюков и Керенский, и тут же без основания погасила одну из них». Ленин же в представлении итальянской дипломатии был не более чем неизвестный «утопист», намеревавшийся дать свободу, к которой русский народ был не готов19.
В книге «Революционная Россия в итальянской политике 1917-1925 годов», автором предисловия к которой выступил Ренцо Де Феличе, Петракки расширил рамки предыдущего исследования. Темами новой монографии стали: Октябрьский переворот 1917 года, вызов большевиков Европе, итальянское вмешательство в гражданскую войну в России. Автор не отошел и от магистральной линии своих исследований - политические, дипломатические, экономические отношения либеральной, затем фашистской Италии с Советской Россией и СССР20.
18 Цит. по: Страда В. Гуманизм и терроризм в русском революционном движении // Страда В. Россия как судьба. С. 209267.
19 Petracchi G. Diplomazia di guerra e rivoluzione. Italia e Russia dall’ottobre 1916 al maggio 1917. Bologna, 1974. P. 107.
20 Petracchi G. Russia rivoluzionaria nella politica italiana 1917—1925. P. 262.
188 Российская революция 1917 года и ее место в истории XXвека
В другой монографии Петракки русско-итальянские отношения и события 1917 года в России рассматриваются в рамках широкой исторической перспективы, охватывая период с 1861 по 1941 год. Оценивая роль Ленина среди других лидеров революционных партий в событиях 1917 года, Петракки писал, что итальянская дипломатия открыла для себя вождя большевиков лишь в мае 1917 года, но полностью игнорировала его идеи и его программу. «То же самое можно сказать по поводу отношения к другим большевикам и большевизму как теоретическому и революционному феномену»21.
В 2006 году в Италии был издан сборник под названием «Писатель „горький“ в стране „сладкой“». Максим Горький между Капри, Сорренто и Москвой» с участием российских и итальянских ученых. Специалист по России, профессор Венецианского университета В. Страда писал в предисловии, что в период пребывания Горького на Капри в 1906-1913 годах ему противостоял Ленин, во время его пребывания в Сорренто в 1924-1933 годах - Сталин. Он подчеркивал, что Горький дистанцировался от Октябрьской революции и что его второе пребывание в Италии уже в годы советской власти было «своего рода ссылкой»22.
В исследовании по истории Средней Азии «Перевернутая революция. Центральная Азия от краха царской империи до создания СССР» историк Марко Буттино рассмотрел влияние революционных событий в Петрограде на развитие ситуации 1917— 1922 годов в Средней Азии. В 1917 году правительство и краевой совет в Ташкенте пытались затормозить начавшийся административный хаос в деревне, который был вызван восстанием 1916 года и Февральской революцией, отмечал Буттино. Декреты Временного правительства, нацеленные на аграрную реформу, оказались на практике неосуществимыми. После Октябрьского переворота 1917 г. в Петербурге в Ташкенте был образован Временный исполком Туркестана, в который вошли все политические организации. Мятеж генерала Дутова в Оренбурге, через который шла железнодорожная линия в Туркестан, затормозил революционный процесс в Центральной Азии. Революционное правительство в Петрограде отменило выборы в Учредительное собрание и попыталось править силой в колониях империи. Три года спустя присланный центром большевистский комиссар Сафаров напишет, что «дикта¬
21 Petracchi G. Da San Pietroburgo a Mosca. La diplomazia Italiana in Russia, 1861-1941. Roma: Bonacci, 1993. P. 176.
22 Uno scrittore «amaro» nel paese dolce. Maxim Gorkij fra Capri, Sorrento e Mosca. Capri, 2006. P. 13—14.
В.Л. Любин 189
тура пролетариата в Туркестане, начиная с первых шагов, приняла типично колонизаторское обличье»23.
Революционеры в Ташкенте, исходя из установок Ленина, объясняли, что необходимо «подчинить принцип самоопределения народов принципу самоопределения трудящихся классов»24. Из Ташкента были направлены войска в Коканд, на подавление сформированного там автономного мусульманского правительства как альтернативы Совнаркому. Начался вооруженный конфликт, распространившийся по всему краю. Революционные воззвания достигли деревень, где родились советы крестьян как выражение интересов колонистов, вовлеченных в борьбу с мусульманами. Красная Армия штурмовала в январе 1918 года Коканд и подавила сопротивление центральной власти. После этого на сцену вышло басмачество. Автор отмечает особую роль В.В. Куйбышева и М.В. Фрунзе в проведении большевистской линии в Средней Азии.
По мнению Буттино, в новых условиях компромисс Москвы с национальными коммунистами, который был необходим в наиболее мрачные годы гражданской войны, стал ненужным. Исчезли проект мусульманской Красной Армии и пантюркистский проект государства Туран. Советская власть подвергла репрессиям колонистов и казаков, поднявших против нее мятеж, и расправилась с басмачами, подвергая население кишлаков жесточайшей расправе, отстранила от власти национальных коммунистов, удалив их лидера Т. Рыскулова. После укрепления советской власти мусульман стали снова привлекать к управлению, «руководить ими, воспитывать и модернизировать их». Тем самым была установлена «новая колониальная власть, продолжавшаяся до 1991 года»25, считает Буттино.
Недавно в Италии вышли труды, в которых даются новые трактовки, более глубоко исследуются причины и последствия революционных событий 1917 года. Одна из таких работ — капитальное исследование профессора Пизанской Нормальной школы Этторе Чиннеллы «Трагедия русской революции, 1917-1921 годов»26, во втором издании вышедшее под заглавием «Русская революция»27.
В посвященной русской революции 1917 года новой книге Чиннеллы, критически настроенного к результатам революции,
23 Buttino М. La rivoluzione capovolta. L’Asia centrale tra il crollo deirimpero zarista e la formazione dell’URSS. Napoli, 2003. P. 230.
24 Ibidem.
25 Buttino M. Op. cit. P. 399.
26 Cinnella E. La tragedia della rivoluzione russa (1917—1921). Milano, Trento, 2000.
27 Cinnella E. La rivoluzione russa. Près, di V. Zaslavsky. Milano, 2005.
190 Российская революция 1917года и ее место в истории XXвека
тема ее влияния на Италию напрямую не затронута. Автор отмечает, что читатель здесь встретит тех же протагонистов, как и в его вышедшей четырьмя годами ранее книге «1905 год: Настоящая русская революция»28. Накануне 1917 года Россия представляла собой вулкан, готовый к извержению. Большевики представили себя «выразителями народного гнева», убежденные в том, что за ними стоит большинство населения. Но, несмотря на первые радужные результаты, революция 1917 года привела Россию к экономической и политической катастрофе. После подавления большевиками последних искр революции — восстания моряков и рабочих в Кронштадте и крестьян в Тамбове в 1921 году, на Советскую Россию «опустилась долгая ночь коммунизма», пишет Чиннелла29.
В изданной в 2016 году на русском языке монографии А. Граци- ози «История СССР» двум революциям 1917 года посвящены главы «Война и революция, август 1914 — июль 1917 года», «Революция, война и победа, август 1917 - октябрь 1919». С его точки зрения, в результате революции в конце 1917 года положение бывшей царской империи радикально изменилось. «На место отсталой, но находившейся в эволюции системы пришел зачаток упрощенной и обедненной системы, от которой отделялись значительные территории, города которой теряли свое население, промышленные предприятия которой закрывались, господствующие слои и самодержавие которой были изгнаны, буржуазия которой была уничтожена и села которой утонули в революционной волне, отличавшейся ярко выраженными архаическими чертами. В центре находился, однако, призрак нового государственного ядра, с малой, но молодой и очень агрессивной элитой»30. Эта агрессивность была направлена в декабре 1917 года против Украинской социалистической республики, и начавшийся конфликт между Россией и Украиной ознаменовал собой формальное начало Гражданской войны. Жестокие уроки последствий революции и Гражданской войны привели к кризису и голоду 1920—1922 годов, заключает Грациози.
В монографии профессора Миланского университета Джулии Лами исследуется история Украины на рубеже XIX-XX веков. Одна из частей книги посвящена анализу событий 1917 года на Украине. После того, как в России разразилась Февральская революция 1917 года с последующим отречением от трона Николая II и созда-
28 Cinnella Е. 1905: La vera rivoluzione russa. Pisa, Cagliari, 2008.
29 Cinnella E. 1917: La Russia verso l’abisso. Pisa-Cagliari, 2012. P. 378.
30 Грациози A. Указ. соч. С. 39.
В.П. Любин 191
ниєм Временного правительства, руководившим страной до взятия власти большевиками в октябре 1917 года, пишет Лами, все это нашло быстрый отклик на Приднепровской Украине, где тут же возникли три различных организации. Одна из них - Исполнительный комитет Совета объединенных общественных организаций, в который вошли бывшие царские чиновники, представители политических партий и национальных ассоциаций - поддержал Временное правительство. Вторая включала в себя возникшие в разных городах Украины многочисленные рабоче-крестьянские Советы, созданные по образцу Советов в России. Третьей стала Центральная Рада, которой было суждено стать главным представительным органом политических интересов Украины. «Ситуация на Украине не отличалась от ситуации, создавшейся в России и других частях империи, где крестьяне, рабочие и солдаты пришли в движение и часто оставались вне контроля»31.
Финансированию итальянских левых из Москвы посвящена книга известного итальянского журналиста Валерио Рива. В книге опубликованы 240 документов советских архивов, ставших доступными после 1991 года «В Италию золото Москвы стало поступать более-менее регулярно уже с 1917 года», считает автор32. Рива пишет, что Ленин и Троцкий посылали деньги на подготовку грядущей мировой революции в такие страны, как Франция, Швейцария и прежде всего Италия. Посредником служила русская революционерка, ранее заместитель главного редактора газеты социалистов «Аванти» и член ЦК ИСП А. Балабанова. Первая документально засвидетельствованная передача денег итальянским максималистам из ИСП имеет дату 20 мая 1919 года33.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что в современной итальянской историографии представлен широкий спектр разных взглядов. От позитивного отношения к русской революции, представленного в работах антифашистской, марксистской историографии 1950-х - 1960-х годов, мало что осталось. Поскольку представленная во многих университетах Италии школа русистики работает успешно, следует ожидать новых работ с интересными, оригинальными идеями.
31 Lami G. La questione ucraina fra ‘800 e ‘900. Milano, 2005. P. 138.
32 Riva V. L’oro di Mosca. I finanziamenti sovietici dalla rivoluzione d’Ottobre al crollo dell’URSS. Con 240 documenti inediti dagli archivi moscoviti. Milano, 1999. P. 10.
33 Ibid. P. 11.
Политика Временного правительства в Великом княжестве Финляндском (март-июль 1917 года)
А.Ю. Бахтурина
История политики Временного правительства в отношении Финляндии довольно подробно рассмотрена в отечественной и зарубежной историографии. В работах историков значительное внимание уделяется политическим противоречиям и кризисной ситуации в июле - начале августа 1917 года, когда финляндский Сейм принимает закон «Об осуществлении верховной власти в отношении Финляндии», а Временное правительство пытается ему противостоять1. Несомненный интерес представляет политика Временного правительства в Финляндии в марте - июле 1917 года - время
1 Сюкияйнен И.И. Революционные события 1917—1918 гг. в Финляндии. Петрозаводск, 1962; Дубровская Е.Ю. Гельсингфорсский совет депутатов армии, флота и рабочих (март - октябрь 1917 г). Петрозаводск, 1992; Она же. Общественные настроения российских военнослужащих в Финляндии весной - летом 1917 г. // Военно-историческая антропология 2005/2006: Актуальные проблемы изучения. М., 2007. С. 220-232; Кетола Э., Черняев В.Ю. Революция 1917 года и обретение Финляндией независимости: два взгляда на проблему // Отечественная история. 1993. № 6. С. 27-45; Кетола Э. Русская революция и независимость Финляндии //Анатомия революции. 1917 г. в России: массы, партии, власть. СПб., 1994. С. 294-307; Новикова И.Н. «Финская карта» в немецком пасьянсе: Германия и проблема независимости Финляндии в годы Первой мировой войны. СПб., 2002; Юссыла О. Великое княжество Финляндское 1809—1917. Хельсинки, 2009; Бобовий И.М. Русско-финляндские экономические отношения накануне Великой Октябрьской социалистической революции: (Эпоха империализма). Л., 1968; Старцев В.И. Временное правительство и Финляндия в 1917 году // Россия и Финляндия в XX веке. СПб., 1917. Расила В. История Финляндии. Петрозаводск, 1996; Полвинен Т Октябрьская революция и становление независимости Финляндии // Россия и Финляндия. 1700—1917. Материалы советско-финляндского симпозиума историков. Л., 1980.
А. Ю. Бахту puna 193
до начала июльского конфликта между финляндскими учреждениями и Временным правительством.
После крушения самодержавия финляндские политические деятели начали переговоры с Временным правительством. Для переговоров в Петроград отправилась делегация представителей политических партий Финляндии. В нее вошли К.Ю. Стольберг, Ю.К. Паасикиви, К. Каллио, О.В. Куусинен, Э. Гюллинг, К. Ман- нер, О. Токой, С. Алкио.
7 (20) марта 1917 года был издан «Акт об утверждении Конституции Великого княжества Финляндского». Провозглашалось сохранение «внутренней самостоятельности» финляндского народа и «прав его национальной культуры и языков»2. На переговорах также обсуждался вопрос об отмене российских законов, которые, по мнению финляндских политиков и общественности, противоречили законодательству Финляндии. Дискуссия возникла по поводу формы и сроков отмены законов. Выдвигались предложения о временной отмене их действия с передачей окончательного решения вопроса Учредительному собранию. П.Н. Милюков выступил в поддержку решения об окончательной отмене законов до созыва Учредительного собрания, которое в итоге было принято 4 (17) марта 1917 года. Временное правительство отменило действие Закона 17 июня 1910 года, ограничивавшего законодательные полномочия финляндского Сейма и Сената3. Также было решено передать рассмотрение дел о лицах, привлеченных в Финляндии к следствию и суду по обвинению в государственной измене, финляндским судебным учреждениям и передать финляндским властям охрану внешней границы «от проникновения вражеских агентов»4. При этом оговаривалось, что в пограничных пунктах будут присутствовать представители российского МИДа.
Российское Временное правительство, исходя из действующего законодательства, произвело кадровые перестановки в Великом княжестве Финляндском. Генерал-губернатор А. Ф. Зейн и вице- председатель Финляндского Сената М. М. Боровитинов были сняты с постов и отправлены в Петроград, арестованы и заключены в Трубецкой бастион Петропавловской крепости. Генерал-губернатором Финляндии был назначен 7 (20) марта 1917 года октябрист М. А. Стахович, его помощником — С. А. Корф; министром-статс-
2 Архив новейшей истории России. Серия «Публикации», Журналы заседания Временного правительства. Март—октябрь 1917 г. М., 2001. Т. VII. С. 48—49.
3 Там же. С. 26-29.
4 Там же. С. 121.
194 Российская революция 1917 года и ее место в истории XXвека
секретарем по делам Великого княжества Финляндского 2 (15) марта 1917 года был назначен кадет Ф.И. Родичев5, затем на эту должность назначен финляндский политический деятель К. Энкель, а Родичев стал комиссаром по финляндским делам. Увольнения затронули и других российских чиновников в Финляндии: были уволены помощник финляндского генерал-губернатора А.И. Лип- ский, директор канцелярии финляндского генерал-губернатора Н.Н. Горлов и чиновники особых поручений.
В марте 1917 года произошли изменения не только в составе российской, но и финляндской администрации. Это также было следствием свершившейся революции и межпартийной борьбы. 13 (26) марта изменился состав финляндского Сената. Новое правительство представляло собой коалицию из представителей социал-демократов, старофиннов, младофиннов, Шведской народной партии и Аграрного союза. Председателем Сената по должности оставался генерал-губернатор. Заместителем председателя стал социал-демократ О. Токой, бывший тальман Сейма. В состав Сената вошли социал-демократы В. Таннер и В. Вуолийоки, В. Войонмаа, старофинны А. Туленхеймо и Серлахиус, младофинны Сотяла и Хольсти, представитель Шведской народной партии Л. Эрнрот, Аграрного союза К. Каллио6.
Несмотря на поддержку Временным правительством финляндских законодательных инициатив, к концу весны 1917 года отношения с Финляндией начали ухудшаться.
25 марта 1917 года Временное правительство принимает постановление «О передаче хлеба в распоряжение государства и о местных продовольственных органах», согласно которому хлеб поступал в распоряжение государства, а торговля могла идти только «при посредстве государственных продовольственных органов». Особое значение для Финляндии имела статья постановления о том, что «кооперативные учреждения, общественные организации, а также частные торгово-промышленные предприятия и лица могут быть привлекаемы к заготовкам хлебных продуктов в помощь уполномоченным министра земледелия на комиссионных началах, устанавливаемых особой инструкцией председателя Общегосударственного продовольственного комитета»7. Значительная часть хлеба, ввозимо¬
5 Архив новейшей истории России. Серия «Публикации». Журналы заседания Временного правительства. Март-октябрь 1917 г. М., 2001. Т. VII. С. 43.
6 Известия Ревельс кого Совета рабочих и воинских депутатов. Ревель, 18 (31 марта) 1917. № 7. С. 1.
7 Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистической революции. М.-Л.; 1957. Ч. 2. С. 327-329.
А.Ю. Бахтурына 195
го из Финляндии в Россию, закупалась частными лицами и кооперативными организациями. После 25 марта 1917 года многие из них потеряли возможность свободно закупать хлеб в России и ввозить его в Финляндию. Так, в апреле 1917 года в Финляндию из России было ввезено 1 821 396 кг пшеничной муки, а затем за три месяца, с мая по август 1917 года, 1441 801 кг. Но ухудшилась не только ситуация с хлебом. Ухудшение экономической ситуации в России в целом привело к сокращению поставок каменного угля, сахара — сырца и других товаров. Частично ситуация корректировалась увеличением поставок листового железа и сахара-сырца из Швеции, но объем ввоза этих товаров был примерно в 3 раза меньше по сравнению с аналогичными поставками их России в мае 1917 года8. Ситуация с продовольствием в Финляндии ухудшалась. На территории Великого княжества Финляндского было введено карточное снабжение по отдельным видам продуктов (хлеб, масло, сахар), росли цены, начались забастовки с требованиями повышения заработной платы. В ответ предприниматели объявляли локауты на предприятиях.
Вскоре после прихода к власти Временное правительство столкнулось с проблемой содержания на территории Финляндии российских войск. Для армии требовалось продовольствие и денежное довольствие. Необходимы были финские марки для выплат военным, находящимся в Финляндии и закупок на нужды армии. Курс рубля падал, и в мае 1917 года финляндский Сейм отменил твердый курс рубля для обязательных платежей и размен русских бумажных денег на финские марки9. Временное правительство, обсудив ситуацию, не решилось на жесткие меры по восстановлению в Финляндии твердого курса рубля и обратилось к властям Великого княжества Финляндского с просьбой о займе в финских марках.
В июне с просьбой о займе в Финляндию отправилась делегация Первого Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов. Делегация вела переговоры в конце июня — начале июля 1917 года с представителями Сейма. Финны оценили просьбу о займе как замаскированную контрибуцию, плату за независимость Финляндии. Но при этом социал-демократы, возможно, готовы были обсуждать такое развитие событий. И.Н. Новикова в своей монографии приводит интервью О. Токоя, опубликованное 18 июля 1917 года, где он заметил, что Финляндия может предоста¬
8 Торговля Финляндии с Россией и заграницей. Апрель 1917 года. Хельсинки, 1917. С. 3-45.
9 Бобович И.М. Русско-финляндские экономические отношения накануне Великой Октябрьской социалистической революции. Л., 1968. С. 173.
196 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
вить заем Временному правительству «при условии объявления ее независимой во внутренних делах и передаче решения “финляндского вопроса” международному конгрессу великих держав»10 11.
Параллельно финляндская сторона обращалась к Областному комитету армии флота и рабочих Финляндии, с просьбой выступить в качестве посредника между Временным правительством и органами Финляндии в вопросе о займе, а также гаранта того, что средства займа будут использованы на оплату работающих на строительстве оборонительных укреплений и другие нужды, обозначенные Временным правительством, а не на «военные цели». Этот вопрос обсуждался на заседании областного комитета 27 июня 1917 года. Была принята следующая резолюция: «политика финнов в вопросе о русском займе в Финляндии производит впечатление, что финны избегают непосредственного сношения с Временным правительством и предпочли обратиться в Областной комитет, предлагая ему принять на себя функции чуть ли не Министерства иностранных дел и Государственного контроля на том основании, что Областной комитет «ближе» к финнам, чем ЦИК Советов»11. Областной комитет отказался вмешиваться в переговоры о займе. Во многом это было связано с тем, что Областной комитет поддерживал Временное правительство летом 1917 года и был сторонником ужесточения политики в отношении Финляндии12. По сообщению газеты «Известия Гельсингфорсского совета депутатов армии, флота и рабочих», 29 июня состоялось обсуждение вопроса о русском валютном займе на заседании Сейма. Газета сообщала, что «Финансовая комиссия высказалась за отклонение займа, находя, что большая часть его предназначается на усиление вооружения и предложила Сейму разрешить финляндскому банку выдать 100 млн марок в обмен на русскую валюту по текущему курсу»13. В итоге 30 июня 1917 года Временное правительство получило кредит от США размером 75 млн долларов для приобретения финской валюты. Это должно было помочь в решении вопроса об организации платежей на территории Финляндии.
10 Новикова И.Н. «Финская карта» в немецком пасьянсе: Германия и проблема независимости Финляндии в годы Первой мировой войны. СПб., 2002. С. 153.
11 Заседание Областного комитета армии, флота и рабочих Финляндии 27 июня 1917 г. // ГАРФ. Ф. 6978. Д. 460. On. 1. Л. 13.
12 Там же. Л. 12.
13 Известия Гельсингфорсского совета депутатов армии, флота и рабочих. 7 (20) июля 1917. N9 94.
А.Ю. Бахтурта 197
Во время дискуссий о займе в Финляндии и расширении прав Сейма в июне 1917 года Временное правительство корректирует свою позицию в отношении Великого княжества. Во-первых, 6-8 июня принимается решение отложить обсуждение и принятие проектов о расширении права петиций Сейма14. Во-вторых, принимается ряд экономических мер. По предложению министра земледелия 24 июня принимается следующее решение: «Продовольственные грузы могут быть выпускаемы в Финляндию лишь при условии внесения за них сумм на счета Кредитной канцелярии в финляндской валюте»15. Примечательно, что министр земледелия внес это предложение во Временное правительство 15 апреля, но именно в июне ему был дан ход. Финляндские предприниматели были недовольны постановлением от 24 июня, которое привело «к резкому сокращению финского импорта из России»16. Основными товарами, ввозимыми из Финляндии в Россию, были молоко, сливки, сливочное масло и различные виды рыбы. Ввоз сливочного масла в Россию с мая по август сократился примерно в 20 раз, в несколько раз уменьшился ввоз молока и рыбы17.
Впоследствии ограничения нарастали. Было издано постановление, запрещавшее ввозить грузы из-за границы через Финляндию, кроме дров, золота и сахара18. Военное министерство отказало в предоставлении кораблей для ввоза в Финляндию муки из США19. Но одновременно 24 июня 1917 года был подписан договор о продаже в Финляндию 64 000 000 кг муки по твердым ценам. Для сравнения: в 1916 году в Финляндию из России было ввезено 47 639 311 кг муки20. Эта сделка, по мнению прессы, имела двоякое значение. С одной стороны, ликвидировались продовольственные трудности в Финляндии, с другой - решался вопрос о финляндской валюте и содержании там российских войск21. Таким образом,
14 Архив новейшей истории России. Серия «Публикации». Журналы заседания Временного правительства. Март-октябрь 1917 г. М., 2001. T. VIII. С. 213, 223.
15 Там же.
16 Бобович И.М. Указ. соч. С. 187.
17 Торговля Финляндии с Россией и заграницей. Май 1917 года. Хельсинки, 1917. С. 45-48.
18 Архив новейшей истории России. Серия «Публикации». Журналы заседания Временного правительства. Июль-август 1917 г. М., 2004. T. IX. С. 36.
19 Там же. С. 174.
20 Торговля Финляндии с Россией и заграницей. С. 3—45.
21 Известия Ревельского Совета рабочих и воинских депутатов. Ревель, 2 (15 июля) 1917. №89.
198 Российская революция 1917года и ее место в истории XXвека
обсуждая вопрос о займе, Временное правительство одновременно пыталось достичь компромисса и оказать давление на Финляндию. Шведский историк А. Сандстрем отметил, что поставки хлеба являлись важнейшим средством влияния на позицию финнов: «нужно было только прерывать поставки зерна», чтобы Финляндия полностью была подконтрольна Временному правительству22.
Летом 1917 года пребывание российских войск в Финляндии вызывало недовольство и опасения. Группировка войск в Финляндии была необходима по стратегическим соображениям. Опасение возможного наступления германских войск на Петроград через Южную Финляндию заставляло держать там русские военные части. По подсчетам Е.Ю. Дубровской, на территории Финляндии в августе 1917 года находилось 125 тыс. человек и от 25 до 30 тыс. моряков Балтийского флота. А. Сандстрем считает, что в начале лета 1917 года в Финляндии находилось 100 тыс. сухопутных войск и 20 тыс. моряков23.
По замечанию шведского историка, «Финляндия была беззащитна, а Россия, несмотря на военные неудачи и внутренние проблемы, все равно оставалась великой державой», и «особое напряжение создавало пребывание русских войск в Финляндии»24, русские войска рассматривались как угроза независимости.
Пребывание русских войск в Финляндии, помимо политических мотивов, создавало не менее важные экономические и социальные проблемы. Снижение поставок продовольствия в Финляндию сказывалось и на снабжении войск. Случались разнообразные эксцессы. Летом местные власти Финляндии принимают решение о выводе русских войск. Приходы и местные губернаторы настаивали на удалении войск, мотивируя это тем, что войска приносят вред полям и усложняют продовольственную ситуацию25. Для стабилизации обстановки летом финляндский генерал-губернатор и Сенат приняли решение, согласно которому войска должны были прекратить реквизиции скота у населения, обещая им взамен наладить поставки продовольствия. Но в целом ситуация не улучшилась26. В газетах периодически публиковались сообщения о раз¬
22 Sandström А. Finlands Frihetsväg 1917. 1918. Bokförlaget Librus. Örebro, 1992. S. 54.
23 Там же. С. 54.
24 Там же. С. 53-52.
25 Финляндские известия. 1917. № 3. С. 1.
26 Подробнее см.: Дубровская Е.Ю. Российские военнослужащие и население Финляндии в годы Первой мировой войны (1914-1918). Петрозаводск, 2008.
А.Ю. Бахтурина 199
личных эксцессах с участием российских солдат. Например, 15 (28) августа было напечатано сообщение о том, что 5 солдат напали на милиционера в Выборге27.
Генерал-губернатор М. А. Стахович в своем выступлении на общем собрании Совета депутатов армии, флота и рабочих и представителей ротных, судовых и полковых комитетов в Гельсингфорсе в августе 1917 года отмечал, что «первой причиной недоразумения» в отношениях Временного правительства и Финляндии «были некоторые беспорядки, вызванные неправильными действиями наших воинских частей»28.
Во время июльских событий в Петрограде финляндский Сейм приступил к обсуждению закона «Об осуществлении верховной власти в Финляндии». 4 (17) июля 1917 года, во время его обсуждения, в Сейме была оглашена петиция 15 крестьянских общин северной Финляндии, где в числе основных претензий к Временному правительству выдвигались затруднения в приобретении хлеба и попытка «угрозами требовать заем в 350 млн»29. О. Токой произнес речь на этом заседании Сейма, отметив, что Временное правительство - единственное препятствие к независимости Финляндии - прекратило свое существование. Новости из Петрограда поступали с опозданием, и О. Токой не располагал в тот момент достоверной информацией. Депутаты считали, что Временное правительство пало, и стремились воспользоваться ситуацией до появления новой власти30.
Одновременно можно говорить о том, что объем взаимных претензий и опасений к началу июля 1917 года, моменту принятия закона «Об осуществлении верховной власти в Финляндии», был весьма значителен и, помимо стремления к независимости, влиял на деятельность финляндских политиков.
Основу закона «Об осуществлении верховной власти в Финляндии» составила проблема перехода прав российского императора в отношении Финляндии: Временному правительству, будущему Учредительному собранию или финляндским органам - Сенату
27 Известия Гельсингфорсского совета депутатов армии, флота и рабочих. 15 (28) августа 1917. № 126. С. 4.
28 Известия Гельсингфорсского совета депутатов армии, флота и рабочих. 8 (21) августа 1917. N° 120. С. 1.
29 Известия Гельсингфорсского совета депутатов армии, флота и рабочих. 2 (15) июля 1917. Nq 89.
30 Новикова И.Н. «Финская карта» в немецком пасьянсе: Германия и проблема независимости Финляндии в гады Первой мировой войны. СПб., 2002. С. 154.
200 Российская революция 1917 года и ее место в истории XXвека
и Сейму. Получение императорских прерогатив финляндскими учреждениями означало фактическую независимость Финляндии. Но, стремясь получить права императора, финляндские структуры не выступали как единое целое. В июне 1917 года Сенат и Сейм выступали за расширение автономных прав Финляндии, и одновременно они вели между собой борьбу за то, к какому учреждению перейдут права императора по управлению Финляндией.
5 (18) июля 1917 года финляндский Сейм одобрил закон «Об осуществлении верховной власти в Финляндии». Согласно новому закону, верховная власть «за устранением монаршей власти» переходила к «народному представительству», то есть Сейму. Но подчеркивалось, что Сейм будет осуществлять верховную власть «во внутренних делах страны», закон не затрагивал внешнюю политику и вопросы обороны. Интересно обоснование принятия закона, данное Сеймом в адресе Временному правительству. Депутаты Сейма выделили несколько причин, согласно которым переход верховной власти к Сейму объяснялся закономерным и неизбежным. Во-первых, ссылаясь на форму правления, которая действовала в Финляндии еще со времен шведского владычества, депутаты подчеркивали, что «возможна самостоятельность института народного представительства в тех случаях, когда не существует законного монарха»31. В качестве второго аргумента Сейм указывал, что в период «междуцарствия», то есть с марта 1917 года, Временное правительство по сути затянуло решение вопроса о верховной власти в Финляндии, а I Всероссийский съезд советов заявил о готовности поддерживать Финляндию вплоть до получения независимости. Таким образом, по мнению депутатов Сейма, существовала правовая основа для принятия закона «Об осуществлении Верховной власти в Финляндии» - резолюция I Всероссийского съезда по финляндскому вопросу. Резолюция I съезда Советов, с одной стороны, утверждала, что «окончательное решение» финляндского вопроса во всем его объеме может быть принято только на Всероссийском учредительном собрании32. Но, с другой стороны, в резолюции содержался перечень мер «для осуществления полной автономии Финляндии», а именно: признания за Сеймом права
31 Адрес Сейма Финляндии по поводу изданного Сеймом Закона об осуществлении верховной власти в Финляндии // Россия и Финляндия. Б. м., 1917. С. 3.
32 Резолюция по финляндскому вопросу, принятая 21 июня 1917 года Всероссийским съездом Советов солдатских и рабочих депутатов // Россия и Финляндия. Б. м., 1917. С. 7.
А.Ю. Бахтурина 201
издания и принятия всех законов, касающихся Финляндии, кроме внешнеполитических и военных, права самостоятельного созыва и роспуска, а «за финляндским народом» права «самостоятельно определять свою исполнительную власть33.
Сравнивая текст закона «Об осуществлении верховной власти в Финляндии» и резолюции I Всероссийского съезда Советов, можно однозначно утверждать, что закон повторяет пункты резолюции, касающиеся компетенции Сейма в связи с «прекращением прав монарха в Финляндии». Согласно резолюции, Сейму передавалось право введения в действие законов, созыва и роспуска Сейма, а также формирование исполнительной власти в Финляндии: «Сейм определяет исполнительную власть Финляндии. Высшая исполнительная власть осуществляется временно хозяйственным департаментом финляндского Сената, члены которого назначаются и увольняются Сеймом»34. Депутаты Сейма, обращаясь к Временному правительству, всячески подчеркивали, что закон о верховной власти имеет ограниченный характер, так как новая компетенция Сейма не распространяется на вопросы внешней политики и обороны35. Также в законе отмечалось, что «принятый закон о применении верховной власти имеет целью не провозглашение независимости, а укрепление ее внутренней свободы». В ответ Временное правительство издало манифест о роспуске финляндского Сейма 18 (31) июля и производстве новых выборов, генерал-губернатору Стаховичу были предоставлены неограниченные полномочия «в деле предотвращения анархии в Финляндии»36.
В августе возникла опасность вооруженного вмешательства в дела Финляндии со стороны Временного правительства. А.Ф. Керенский выступил на Московском совещании и сказал, что Временное правительство не отказывается от своих обещаний в отношении Финляндии, но «там, где желают затруднением нашим воспользоваться для насилия над свободной волей русского народа - мы говорим и скажем: «руки прочь»37. Как глава Временного правительства и военный министр Керенский был готов
33 Там же. С. 7.
34 Изданный Сеймом закон об осуществлении верховной власти в Финляндии // Россия и Финляндия. Б. м., 1917. С. 6.
35 Адрес Сейма Финляндии... С. 4.
36 Изданный Сеймом закон об осуществлении верховной власти в Финляндии. С. 6.
37 Известия Гельсингфорсского совета депутатов армии, флота и рабочих. 15 (28) августа 1917. № 126. С. 2.
202 Российская революция 1917года и ее место в истории XXвека
к военному вмешательству, но ситуацию удалось урегулировать. Определенную роль сыграл Гельсингфорсский Совет. 15 августа он принял решение «О недопустимости вмешательства военных сил, имеющих представителей в местном Совете депутатов, в разгоне Сейма»38. Таким образом, Временное правительство фактически утратило возможность использовать русские войска в Финляндии против финнов.
Политика Временного правительства в Финляндии в 1917 году во многом зависела от межпартийной борьбы в Финляндии, скрытой конфронтации между финляндским Сеймом и Сенатом, которые стремились к расширению своих позиций в будущей самостоятельной Финляндии, а также политической и экономической ситуации в России. Попытки Временного правительства силовыми и экономическими мерами подавить активность финляндского Сейма не увенчались успехом. Деятельность российских по своему составу Советов и комитетов армии и флота, а также пребывание российских войск на финляндской территории, не встречали массовой поддержки мирного населения. Ситуация в Великом княжестве летом 1917 года убедительно свидетельствовала о том, что Финляндия, несмотря на мартовские изменения в законодательстве, продолжала движение к независимости.
38 ГАРФ. Ф. 6978. Д. 459. On. 1. Л. 9.
Революция в Финляндии 1918 года
ТВ. Андросова
Идея независимой Финляндии зародилась в середине XIX века в кругах сторонников укрепления позиций народных традиций и финского языка. Сепаратистские настроения, тем не менее никак себя не проявляли вплоть до февральского манифеста 1899 года1. В том же году была создана Рабочая партия Финляндии, с 1903 года - Социал-демократическая партия Финляндии. Однако первыми об отделении от России заговорили активисты, пропагандировавшие свои идеи1 2 еще до организационного оформления в 1904 году Партии активного сопротивления (ПАС)3.
1 Манифест 1899 года, уничтожил все «свободы», которые царизм ранее обещал хранить «в нерушимой и непреложной их силе и действии». Упразднялись самостоятельные финляндские воинские формирования. При генерал- губернаторе Н.И. Бобрикове на территории Финляндии фактически проводилась политика террористической диктатуры, закрывались газеты, проводились обыски, аресты, высылки за границу, вплоть до ссылки в Сибирь. Вместе с тем, современная финляндская историческая наука признает, что влияние Манифеста, равно как и всей политики русификации в свое время было сильно преувеличено. Osmo lussila, Seppo Hentilä, Jukka Nevakivi. Suomen poliittinen historia. WSOY, 2009. S. 14.
2 У активистов были свои газеты, выходившие на шведском языке, «Frihet» (Фрихет) что означает «Свобода», и еженедельная газета «Сопротивление», издававшиеся на шведском (Framtid, Фрамтид) и финском языках (Vastaisuus, Вастайсуус).
3 ПАС просуществовала как нелегальная партия Финляндия немногим более двух лет. В числе ее лидеров были К. Циллиакус, Г. Гуммерус, Ю. Гумме- рус, X. Стенберг, В. Фурухельм и др. Конни Циллиакус занимался, в том числе, подготовкой и сбором средств для организации Парижской конференции 1904 года и Женевской конференции 1905 года российских революционных
20 4 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
В отличие от младофиннов и шведоманов, выступавших за пассивное сопротивление русификаторской политике центральных властей и ограничивавшихся призывами к соблюдению конституционных законов Финляндии и прав ее граждан, ПАС придерживалась жестких методов борьбы, исповедуя тактику индивидуального террора, заимствованную у русских социалистов-революционеров, ставя своей целью также подготовку вооруженного восстания. Помимо организации покушений на русских чиновников, далеко не всегда успешных, активисты (члены ПАС) планировали убийство Николая II на охоте в Койвисто (Карельский перешеек). Самый известный теракт - убийство студентом Е. Шауманом русского генерал-губернатора Н.И. Бобрикова 4 июня 1904 года.
После всеобщей забастовки 1905 года русские революционеры нашли убежище в Финляндии. Активисты считали русских своими союзниками, поскольку те боролись против царизма. В Тампере состоялся съезд РСДРП в ноябре 1906 года. Там же в феврале 1907 года проходил съезд партии социалистов-революционеров. Собственно, все финляндское общество - от социал-демократов, активистов и буржуазной интеллигенции, до студенчества, не говоря уже о рабочих, - оказывало русским революционерам всяческую поддержку. Их обеспечивали жильем и документами, переправляли за границу и т.д. Кроме того, по распоряжению Центрального и Петербургского комитетов РСДРП территория Финляндии была использована для транспортировки оружия и нелегальной литературы в Россию* 4.
Активисты и финляндский «кагал»5 по своим идейным взглядам были очень далеки от социал-демократов. Но и легальное финское рабочее движение в теоретическом плане было изолированно от русской партийной жизни. Российская революция интересовала социал-демократов лишь в той мере, в какой она могла оказать влияние на положение Финляндии. До 1918 года там не было ни большевистской партии, ни ее фракции в составе РСДРП. Социал-демократическая партия Финляндии сформировалась как парламентская партия, отличаясь лояльностью в отношении центральной власти.
партий, нацеленных на подготовку в России вооруженного восстания, а также организацией транспортировки оружия в Россию. Самый известный случай контрабанды оружия в сентябре 1905 — рейс парохода «Джон Графтон».
4 Буренин Н.Е. Памятные годы. Л., 1966. С. 7—8.
5 Такое прозвище пассивистам дала петербургская черносотенная газета «Новое время». Впоследствии они и сами стали называть себя «кагалом».
ТВ. Андросова 205
Февральская революция в России способствовала подъему финляндского рабочего движения. Весной 1917 года стачки охватили не только города, но и сельские районы. Бастующие требовали 8-часового рабочего дня, повышения заработной платы, улучшения продовольственного снабжения. Разорявшиеся торпари (мелкие арендаторы) отказывались работать на землевладельцев и вносить арендную плату.
Катализация социально-политических процессов произошла в значительной степени под влиянием русских военных формирований, дислоцированных в Финляндии. Финляндская революция и революция в российских гарнизонах были тесно переплетены между собой. По сути, можно говорить о взаимной радикализации. Под влиянием восстаний в российских военных частях местное население постепенно пришло к осознанию того, что крах самодержавия имеет судьбоносное значение для Финляндии. В свою очередь, рост национального самосознания среди финского населения, все настойчивее требовавшего расширения автономных прав Финляндии, стимулировал революционную активность российских военных, расквартированных в Финляндии.
20 марта 1917 года Временное правительство отменило прежние постановления, ограничивавшие автономию Финляндии. Спустя несколько дней министр юстиции А.Ф. Керенский объявил «о полной амнистии финским гражданам, которых царизм преследовал за политические преступления»6. Одновременно по всей стране и в российских войсках происходило формирование выборных органов революционной власти, причем без четкого разграничения сфер влияния между военными и гражданскими, русскими и финскими организациями. Воинские комитеты (реже назывались советами) не только контролировали ситуацию в российской армии и решали проблемы русского населения в Финляндии, но также обеспечивали порядок среди местного населения7. Солдаты и матросы патрулировали улицы финской столицы, участвовали в митингах и демонстрациях, зачастую поддерживая
6 Дубровская Е.Ю. Революционная радикализация российских военных в Финляндии и национальные устремления финляндцев в 1917 г. URL: http://rabkrin.org/dubrovskaya-e-yu-revolyutsionnaya-radikalizatsiya-rossiyskih- voennyih-v-finlyandii-i-natsionalnyie-ustremleniya-finlyandtsev-v-1917-g-statya/
7 Ketola E. Kansalliseen kansanvaltaan: Suomen itsenäisyys, sosiaali-demokraa- tit ja Venäjän vallankumous 1917. Helsinki, 1987. S. 66; Казанцев Д.Л. Воспоминания о службе в Финляндии во время Первой мировой войны. 1914-1917. М., 2016. С. 107, 116, 125.
20 6 Российская революция 1917 года и ее место в истории XXвека
социально-политические требования финских рабочих, СДПФ и профсоюзов8. Печатный орган социал-демократов, газета «Työmies» (Тюэмиес) отмечала важность солидарности со стороны русских военных для решения СДПФ программных вопросов, в частности, введения 8-часового рабочего дня9.
Распад государственной власти в России стимулировал активность финляндской политической элиты. Настаивая поначалу на международных гарантиях финляндской автономии, она в итоге расширила свои требования до полного отделения от России10 11. К осени 1917 года СДПФ стала главной опорой национального движения. Показательно, что финские социал-демократы нашли поддержку не у российских парламентских партий, а у большевиков и социал-революционеров. Не только либералы из Временного правительства, но также умеренные социалисты не торопились с решением вопроса о статусе Финляндии, предлагая отложить его рассмотрение до созыва Всероссийского Учредительного собрания.
Правительство большевиков и левых эсеров в Петрограде тщетно подталкивало СДПФ к активным действиям11. Однако в руководстве СДПФ сторонники захвата пролетариатом власти были в явном меньшинстве. Всеобщая стачка, объявленная 13 ноября 1917 года, закончилась через неделю фактически ничем. Принципиальные вопросы - снабжение продовольствием, улучшение ситуации на рынке труда, введение социального страхования - остались нерешенными.
6 декабря 1917 года финляндский парламент провозгласил независимость страны. 31 декабря 1917 года Совет народных комиссаров опубликовал декрет о признании независимости Финляндской республики. К тому времени в Финляндии продовольственное положение резко ухудшилось. 12 января 1918 года
8 Залежский В.Н. Гельсингфорс весной и летом 1917 г. // Пролетарская революция 1923. № 5. С. 126-127.
9 Soikkanen Н. Kansalaissota dokumentteina: valkoista ja punaista sanankäyttöä V. 1917-1918. 1 osa. Helsinki, 1967. S. 19.
10 Новикова И.Н. «Финская карта в немецком пасьянсе»: Германия и проблема независимости Финляндии в годы Первой мировой войны. СПб., 2002. С. 157.
11 На заседании ВЦИК 04 января 1918 года об утверждении декрета о признании независимости Финляндии Сталин заметил, что «финские социал- демократы только из непонятной трусости не предприняли решительных шагов к тому, чтобы самим вырвать из рук господствующей буржуазии свою независимость. Известия ВЦИК, от6 января 1918. РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 35. Д. 2. Л. 61.
Т. В. Андросова 207
президент П.Э. Свинхувуд фактически получил диктаторские полномочия. Шюцкор12 был взят на государственное содержание, участились столкновения белых охранных отрядов с красногвардейцами.
Белое движение опиралось на поддержку зажиточного крестьянства. Эпицентром зарождения белого движения был Выборг, отсюда оно постепенно распространилось на всю Финляндскую Карелию. На севере страны белые создавали продовольственные и оружейные склады на случай дальнейшего обострения политической ситуации. Была введена воинская повинность. Руководство СДПФ поддержало белых, тогда как даже часть правых социал- демократов примкнула к рабочей революции. Отток белых сил на север позволил рабочим захватить власть в Гельсингфорсе без кровопролития. Это произошло вечером 27 января 1918 года.
Вслед за столицей были взяты под контроль практически без всякого сопротивления со стороны белых крупнейшие промышленные города Южной Финляндии. Правительство Свинхувуда бежало в г. Вааса. 28 января было создано революционное правительство — Совет народных уполномоченных (СНУ), в который вошли: О. Куусинен, Ю. Сирола, А. Тайми и др. В Красную гвардию вступили почти 80 тыс. человек. В конце января 1918 года страна фактически была поделена на белый Север и красный Юг. Фронтовая линия протяженностью в 400 км сформировалась уже в первые дни войны, протянувшись от Ботнического залива до Ладожского озера. Красные контролировали наиболее промышленно развитые и культурные районы с важнейшей магистралью Рихимяки — Петроград.
Наибольших успехов рабочая власть достигла в экономической области. 31 января 1918 года СНУ принял Закон о провозглашении крестьян-арендаторов независимыми от землевладельцев. За торпарями и бобылями закреплялись арендованные ими земли. 1 февраля был национализирован Финляндский банк, принят временный Закон о революционных судах. Декретом от 31 января СНУ отменил старую систему найма, по которой прислуга в сельской местности нанималась на год, причем хозяин имел право распоряжаться работниками по своему усмотрению. 12 февраля под государственный контроль были поставлены частные бан¬
12 Шюцкор (фин. Suojeluskunta — «гражданская гвардия», «гражданская стража», швед. Skyddskâren — «охранный корпус») — полувоенная организация, ополчение, существовала в Финляндии в 1917-1944 гг. (с 1940 - часть Вооруженных сил страны).
208 Российская революция 1917 года и ее место в истории XXвека
ки. Поскольку и после принятия закона о 8-часовом рабочем дне предприниматели старались всячески его обходить, специальным декретом их обязали беспрекословно исполнять указанный закон, а также уплачивать рабочим, участвовавшим в революционных забастовках, полную заработную плату за все время забастовки (Декрет от 2 февраля). Ввиду сопротивления со стороны госслужащих красные перешли к тактике социализации. В результате в руках рабочих оказались государственные и коммунальные производственные объекты и целый ряд крупнейших капиталистических предприятий. Большинство фабрик и заводов, а также отдельные крупные земельные поместья работали на удивление хорошо. Была введена дифференцированная шкала налогообложения с освобождением от налогов беднейших категорий населения, упразднены сборы в пользу Церкви.
Полной перестройке подверглось буржуазное судопроизводство. Декретом от 1 февраля прежние суды были заменены революционными судами, члены которых избирались организованными рабочими. При вынесении приговора во внимание принималась степень тяжести преступления: в какой мере оно противоречило интересам трудящегося народа и мешало осуществлению революции.
Более или менее удовлетворительно был разрешен продовольственный вопрос, в том числе за счет поставок хлеба из Сибири, куда отправлялись специальные эшелоны. Советская Россия помогала революционной Финляндии не только продовольствием, но также оружием; русские добровольцы сражались в рядах финской Красной Гвардии.
Участие русских солдат в боях, за исключением Карельского перешейка, было незначительным. Больше всего их было на Выборгском фронте. Русские воевали как младшие и старшие офицеры, их также использовали для решения боевых задач, требовавших определенных навыков, как пулеметчиков, подрывников и т.п.13 Осенью 1917 года в Финляндии находилось около 100 000 бойцов старой царской армии. Начиная с ноября—декабря численность сокращалась в связи с перегруппировкой и демобилизацией, а также из-за падения дисциплины и роста дезертирства. На начало войны, 27 января 1918 года, в Финляндии насчитывалось около 60 000—80 000 российских солдат. Российские войска оставались в Финляндии до середины марта 1918 года. После ратифика¬
13 Suomen poliittinen historia. S. 119.
IB. Андросова 209
ции Брестского мирного договора Советская Россия должна была вывести из страны свои армейские части и Балтийский флот. На начало марта в Финляндии еще оставалось примерно 30 000 российских военных. К концу месяца основная часть войск была выведена с финляндской территории, за исключением 7 000-10 000 чел. Из этого числа лишь 1 000-4 000 солдат и матросов воевало время от времени отрядами по 100-1000 человек, кто за красных, кто за белых. В руководстве красногвардейцев находились русские офицеры: М. Свечников на западе Финляндии, И. Еремеев на востоке. Совместная работа русских и финнов осложнялась незнанием языков и взаимной подозрительностью.
1 марта 1918 года был заключен договор об укреплении дружбы и братства между РСФСР и Финляндской Республикой. Представители Красной Гвардии колебались в вопросе взаимного предоставления прав граждан России и Финляндии, опасаясь, что это даст пищу «белогвардейской шовинистической агитации», так как на этом пункте в свое время настаивало царское правительство в рамках политики русификации. Финны также безуспешно настаивали на том, чтобы в договоре Финляндия была названа финляндской республикой, а не социалистической рабочей республикой14.
Однако в действительности, «красная Финляндия» по площади не превышала {/в части всей территории страны, представляя собой узкую полосу с длинным побережьем, что делало ее уязвимой со стороны моря. Кроме того, в средней и восточной Финляндии фронт проходил местами лишь в 30—40 км от железной дороги Рихимяки - Петроград, находящейся под постоянным ударом со стороны белых.
7 марта 1918 года правительство Финляндии заключило мирный договор с Германией, соглашение о торговле и мореплавании, а также секретное военное соглашение15. Не только немцы, но также скандинавская буржуазия и русские контрреволюционеры помогали финским белым оружием, деньгами, штыками, полевыми лазаретами и т.п. Шведы также направили в Финляндию бри¬
14 РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 35. Д. 2. Л. 57-109.
15 Германия и раньше тайно поставляла оружие в Финляндию для вооружения шюцкора. В обмен на военную помощь финляндское правительство согласилось на создание на территории страны немецких военных баз, взяв на себя обязательство задерживать суда антигерманской коалиции, не вступать в переговоры с соседними государствами о территориальных изменениях, допустить немецкий капитал в экономику.
210 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
гаду, сформированную из числа добровольцев, (по разным источникам, от 500 до 1 500 человек). Благодаря иностранной помощи за короткое время удалось создать регулярную белую армию (около 50 тыс. человек), хорошо вооруженную и укомплектованную профессиональными командирами, включая егерей (2 тыс.), прошедших военную подготовку в Германии.
3 апреля на п-ве Ханко, в тылу Красной Гвардии, при поддержке военных кораблей и авиации высадилась 12-тысячная немецкая «балтийская дивизия» под командованием генерала Рюдигера фон дер Гольца, а немного позже у г. Ловисы - еще один отряд в несколько тысяч солдат. Вмешательство регулярных немецких войск решило исход гражданской войны. Спустя несколько дней белые взяли г. Тампере, крупнейший промышленный центр.
13 апреля германские войска вошли в Гельсингфорс. Руководители правого крыла СДПФ (В. Таннер и др.) опубликовали воззвание к рабочим, призывая сложить оружие. Революционное правительство в спешном порядке перебралось в Выборг, который пал 29 апреля. В первых числах мая все было кончено. Нескольким тысячам красногвардейцам удалось пробиться на территорию Советской России.
Причины поражения революции:
1. Фактическое отсутствие у пролетариата революционного руководства. Левое крыло СДПФ не было готово возглавить революционную борьбу.
2. Инициатива изначально принадлежала правым. Весной 1917 года были созданы боевые отряды шюцкора.
3. Германская интервенция: в конце ноября 1917 года финляндское правительство обратилось к Германии с просьбой прислать войска для подавления революции.
4. На протяжении всей гражданской войны Красная Гвардия демонстрировала «крайнюю медлительность и пассивность» в наступательных операциях и «невероятное упорство» в оборонительных боях.
5. У красных не было обученного командного состава, не хватало оружия, организованной разведки, резервов. Вооружение Красной Гвардии началось только с началом гражданской войны. Первую школу для подготовки командного состава организовали в конце марта. Вместо строгой дисциплины на фронте
ТВ. Андросова 211
процветала социал-демократическая «свобода» - самовольные отпуска на родину и в «баню», «вечеринки и танцульки в самые критические моменты боев»16.
6. Финские социал-демократы мало интересовались теорией, вопросами вооруженной классовой борьбы, в частности. Руководство СДПФ отказалось от парламентской тактики только тогда, когда правительство Свинхувуда потребовало упразднить Красную Гвардию.
7. Политика красных была половинчатой. Из боязни отпугнуть мелкую буржуазию диктатуру пролетариата подменили «чистой демократией».
23 февраля был опубликован проект демократической конституции, Финляндия провозглашалась республикой, в которой вся власть принадлежала демократически избранному народному представительству: правительству отводилась роль исполнительной комиссии. Для чиновников высшего эшелона предусматривалась быстрая ротация. Главные должностные лица, в том числе президент республики, председатель высших судебных учреждений и верховный прокурор избирались народным представительством, которое должно было избираться каждые 3 года на основании всеобщего, прямого, равного, тайного и пропорционального голосования. Всем гражданам гарантировалась полная неприкосновенность и все демократические свободы, отменялась смертная казнь (каких-либо карательных органов создано не было) и т.д.
После поражения революции все социальные завоевания рабочего класса были упразднены. Гражданская война и революция привели к фатальной поляризации финляндского общества. Преодоление раскола наметилось за два года до Зимней войны 1939 года17, в которой рабочий класс, фактически лишенный каких
16 РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 35. Д. 2. Л. 80.
17 В 1937 году коалиционное правительство аграриев и социал-демократов заявило о трех опорах «государства всеобщего благоденствия» - умеренном жизненном уровне, социальной защищенности и комфортном состоянии, а также о готовности общества обеспечить нормальное существование всем гражданам. Среди практических шагов, способствовавших сплочению нации, следует отметить, прежде всего, Закон о народных пенсиях, который стал важным шагом в сторону преодоления средневековой системы презрения бедных, Закон о пособиях матерям по беременности и др. инициативы в области социальной политики. Т.В. Андросова. Истоки современного социального государства в Финляндии //Демократия в западной Европе в XX веке. ИВИ РАН. М., 1996. С. 172-173.
212 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
бы то ни было гражданских прав, поддержал законную власть. Окончательно социально-политический конфликт в Финляндии удалось преодолеть только в 1960-е годы, когда был положен конец взаимным обвинениям, были поставлены памятники и белым, и красным участникам событий, которые сейчас финны предпочитают называть внутренней войной - sisällissota18.
18 В финляндской историографии события начала 1918 года в разные периоды называли по-разному. Красные изначально предпочитали говорить о «революции», «классовой войне» и «восстании», а также «битве за свободу». Белые трактовали события конца 1917 — начала 1918 года, как «мятеж» и «красный мятеж». И красные, и белые с самого начала использовали название «гражданская война».
Революция 1917 года и общественно-политическая, экономическая обстановка в Азербайджане
И.М. Гусейнова
Азербайджан, оказавшийся в начале XX столетия в уникальных условиях стратегического противостояния крупнейших мировых держав, сыграл свою исключительную роль во всемирной истории рассматриваемого периода. Именно в это время начался новый цикл соперничества геополитических акторов за Кавказ и в особенности за Азербайджан, как богатый природными данными и наиболее развитый в промышленном отношении край.
Протекая в общем русле событий в России, революционный период в Азербайджане имел отличительные черты, связанные со многими факторами, в первую очередь со стойким стремлением к независимости.
Погрузившись в «эпоху революций», напомним, что Азербайджан в это время продолжал быть одной из колониальных окраин царской России. Положение Азербайджана, как колониально- эксплуатируемого региона Российской империи с предопределенной структурой экономики, наложило отпечаток также и на всю общественно-политическую жизнь народов края.
Хотя Азербайджан, как ресурсоизбыточная часть капитализирующейся России, уже давно вступил на путь модернизации, урбанизация края была более чем скромной, а аграрный сектор, связанный с помещичьей системой и сопряженной с ней низкой производительностью труда, оставался на архаичных принципах ведения хозяйства. При этом многие крестьяне занимались отходничеством, часть времени работая на селе, а часть — в промышленности. Из-за притока крестьян на городской рынок труда качество большей части рабочей силы оставалось низким, цена ее снижа¬
214 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
лась, а предприниматель мог диктовать рабочим свои условия, так как он всегда мог нанять других людей «с улицы».
Бурное развитие нефтяной индустрии в преддверии XX столетия было вызвано потребностями огромного и емкого рынка империи, а также увеличившимся спросом на нефтепродукты для сфер производства, находившихся в руках крупной промышленной и финансовой олигархии Центральной России. Азербайджан стал международным центром нефтяной промышленности. Только бакинские промыслы давали половину мировой добычи нефти. Баку резко выделялся на фоне в целом экономической отсталости региона и экономическим потенциалом, и политизирующейся обстановкой.
В силу приоритетности имперских интересов, базировавшихся в числе прочих источников на иностранных инвестициях, национальные предприниматели были вынуждены отстаивать свои позиции в жесточайших конкурентных условиях. И тем более стало важным и значительным фактом в истории формирования национальной буржуазии учреждение 4 ноября 1916 г. Нефтяной секции при Совете съездов представителей промышленности и торговли. Это явилось успехом бакинских нефтепромышленников, так как давало им возможность проводить в жизнь политику национальных нефтяных компаний.
Помимо этого органа, в годы войны в Баку функционировали также Комитет по распределению цистерн и Керосиновый комитет. На первых этапах революционной ситуации промышленный капитал края и его представители нуждались в нивелировании центростремительного диктата, осуществляя шаги по реализации собственной политики. В таких условиях их экономические интересы скоротечно перетекают в политическую плоскость и на некоторое время объединяются с потребностями народа, оформляемыми прогрессивной частью интеллигенции в виде политических требований.
Итак, имевшие место в конце XIX и начале XX столетий нефтяной бум и сопутствующее ему развитие экономики постепенно минимизировались, их сменила длительная депрессия. Связанная с ней безработица и трудности, выпавшие на долю пролетариата и крестьянства, превратили Баку в город, широко известный активными волнениями трудящихся масс.
Начавшаяся Первая мировая война также оказала негативное влияние на экономическую жизнь Азербайджана. Связи с Центральной Россией были нарушены, что осложнило снабжение края
И.М, Гусейнова 215
необходимыми продуктами. Цены на нефть упали из-за закрытия черноморских портов и прекращения экспорта нефтепродуктов. Вследствие военных действий на территории Турции сотни тысяч армян хлынули на территорию Эриванской, Елизаветпольской и Бакинской губерний.
Следует отметить большую роль местного предпринимательства в попытках стабилизации хозяйственного положения в Азербайджане. В этот период активизировался процесс формирования новых организационных структур национальной буржуазии. В Баку были созданы I и II Союзы нефтепромышленников. Существовали также Союз керосинозаводчиков, Союз владельцев фирм подрядного бурения и судовладельцев «Зафатема». 23 марта 1917 года был организован Союз судовладельцев, объединивший 43 субъекта судовладения с 289 судами общим тоннажем свыше 232 тыс. тонн1.
В новые исторические условия, которые предопределила Февральская революция, национальная буржуазия вступала как вполне сформировавшаяся социально-экономическая и общественно- политическая сила, способная оказывать существенное влияние на дальнейшие политические события, развернувшиеся в Азербайджане в 1917-1920 годах1 2.
Экономические требования и тяжелые условия жизни способствовали разворачивающемуся со стремительной быстротой народному движению, которое привело к кардинальным событиям, наложившим отпечаток на все грядущее столетие.
Заложенные в основе азербайджанского национального движения социально-экономические предпосылки предопределили особенности процесса последующей политической эволюции вплоть до Февральской революции.
В регионе назревало революционное движение, впоследствии вылившееся в крупные события, кардинально преломившие весь ход мировой истории. Характерной чертой этого периода являлось то, что начало революционного движения народных масс, отстаивавших свои экономические интересы, дало толчок национально- освободительному движению. По выражению азербайджанского историка Балаева А., оно «обрело политическое лицо»3.
1 Рустамова Дж. Общественно-политические процессы в Азербайджане в феврале-октябре 1917 г. и национальная буржуазия // ВГПУ. Баку, 2009. С.120.
2 Там же.
3 Балаев Л. Азербайджанское национальное движение в 1917—1918 гг. Баку, 1998.С. 5.
216 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
Революционные настроения в Азербайджане если не опережали, то шли вровень с событиями, происходившими в крупных городах России и на самом Южном Кавказе. Политическая борьба, переросшая в мощное национально-освободительное движение, полностью охватила весь Азербайджан. Волна сплошных стачек и забастовок покрыла практически все территории, области, города и села, многочисленные промышленные предприятия, крестьянские сообщества.
Нагрянувшая в России Февральская революция изменила общественно-политическую обстановку и в Азербайджане - гражданская власть была передана созданному Особому Закавказскому (Южнокавказскому) Комитету (ОЗАКОМу). Комитет состоял из депутатов, представлявших национальные группы края в Государственной Думе4.
Почти одновременно создавались как Советы рабочих депутатов, так и местные органы Временного правительства, что привело к фактическому двоевластию в Азербайджане. В ночь на 7 марта был окончательно сформирован Совет рабочих депутатов Бакинского района в составе 52 депутатов (из которых только 9 были большевиками), остальные меньшевики и эсеры, - избранные от 52 тыс. рабочих и служащих. В выборах принимало участие более 2/з всего рабочего населения Баку.
В первые дни после революции Совет фактически заменял собой почти все политические организации, взяв на себя в какой- то степени их функции. Буржуазный орган власти - Комитет общественных организаций - включил в свой состав представителей как Совета рабочих депутатов, так и Городской Думы и других общественных организаций. Период марта-апреля 1917 года можно охарактеризовать как период объединения всех демократических сил общества.
В марте 1917 года в Баку был сформирован временный Исполнительный комитет партии эсеров. Касаясь национального вопроса на Южном Кавказе, эсеры считали возможным тактическое соглашение с представителями демократии отдельных национальностей только в лице социалистических партий.
Февральская революция привела в движение широкие мусульманские массы. 27 марта 1917 года в Баку был также образован Временный исполнительный комитет Бакинского мусульманского национального Совета. Его возглавили мусаватисты. После
4 История Азербайджана. Под ред. И. Алиева. Баку, 1995. С. 184.
И.М. Гусейнова 217
свершившейся революции партия «Мусават», выйдя из подполья, начала проводить большую политическую и организаторскую работу по привлечению масс на свою сторону5.
Всего через несколько дней после падения монархии в Гяндже возникла «Тюркская партия федералистов», призывающая к преобразованию Российского государства в федерацию автономных территорий. Основателем и идейным вдохновителем партии был Н. Усуббеков. Находившиеся на противоположном конце политической шкалы религиозные консерваторы поначалу заняли выжидательную позицию, основав в сентябре 1917 года объединенную организацию: клерикальную партию «Русияда мусульманлык» («Мусульманство в России»). Она слилась с Гянджинским «Итти- хади Ислам» (Исламский союз), образовав одну партию — «Русияда мусульманлык — Иттихад». Иттихадисты отвергли идеи тюркизма, при этом проявляя особую враждебность по отношению к азербайджанизму.
3 марта 1917 года возобновила свою деятельность большевистская партия «Гуммет». Бакинские гумметисты во главе с Н. Наримановым объявили себя проболыпевистскими, в то время как комитеты в провинции выразили свое тяготение к меньшевикам, доминировавшим в остальной части Южнокавказского региона.
Первая попытка определить чаяния азербайджанцев в условиях нового революционного подъема была сделана на съезде мусульман Кавказа, проходившем в Баку 15-20 апреля 1917 года. На съезде поднимались вопросы будущего политического устройства России и прав малых народов. По докладу М.Э. Расулзаде съезд принял резолюцию «О национально-политических идеалах мусульман Кавказа». В заключительный день съезда было принято постановление об организации мусульманских национальных комитетов на Кавказе и о создании двух центральных бюро: одно для Северного Кавказа с центром во Владикавказе и другое для Южного - с центром в Баку.
Для революционного движения в Азербайджане характерным становится более четкая расстановка сил классов, партий, различные действия партийно-организационных групп. По-разному располагались очаги активности на политической карте Азербайджана. Наибольший накал активности, безусловно, ощущался в Баку, где был представлен почти весь спектр политических партий с различной степенью влияния и авторитета на различные слои населе¬
5 Там же. С. 185.
218 Российская революция 1917 года и ее место в истории XXвека
ния. Уезды в этом отношении также находились в сложном положении. Сведения о происходящих политических событиях редко доходили до жителей уездов.
Значительным событием в истории всей политической жизни Азербайджана и партии «Мусават» явилось открытие ее I съезда, проходившего с 25 по 29 октября 1917 года. На съезде был избран руководящий состав и принята первая программа партии. Председателем ЦК партии был избран М.Э. Расулзаде. Программа партии «Мусават» состояла из 9 разделов и 76 пунктов, охватывающих земельный, рабочий, национальные и религиозные вопросы, гражданские права и др.
I съезд партии «Мусават» определил тактику и стратегию партии в ее дальнейшей политической борьбе и предоставлению Азербайджану национально-территориальной автономии. В области гражданского права партия выдвигала равенство перед законом всех граждан федеративной республики, независимо от национальности, вероисповедания, партийного убеждения. Земля переходила в полную собственность крестьянам. Устанавливался минимальный размер владения землей. В рабочем вопросе партия «Мусават» в основном приняла рабочую программу РСДРП, принятую на своем II съезде в 1903 году.
Основная деятельность партии относилась к периоду после февраля 1917 года «Мусават» и издаваемая партийная газета «Ачыг сез» были весьма деятельными в политической жизни Азербайджана. Широкое распространение получили идеи национальной свободы, равенства, конституционализма. Как подчеркивал М.Э. Расулзаде, «нация начала убеждаться в том, что без независимости не будет и Азербайджана»6.
Как ни были тяжелы внутренние проблемы азербайджанцев, окончательная их судьба зависела от хода событий в окружающем мире. Чем быстрее общественно-политическая ситуация продвигалась к Октябрьскому перевороту и последующим событиям, тем приоритетнее становились внешнеполитические вопросы. Азербайджан продолжал жить в тени русского гиганта, который, даже будучи вовлеченным в собственные проблемы, не выпускал из виду регион Южного Кавказа и в особенности Азербайджан.
Баку уже тогда стал одним из мировых центров нефтяной промышленности. Накануне войны 83% российского нефтепроиз¬
6 Расулзаде М.Э. Национальное движение в Азербайджане // Вопросы истории. 2002. № 2. С. 13.
И.М. Гусейнова 219
водства приходилось на Апшеронский полуостров. На последнем этапе войны, принимая во внимание, что потребности в горючем влияли на ход военных операций, бакинская нефть стала рассматриваться как решающий фактор победы7.
Накаленная политическая обстановка осенью 1917 года серьезно отражалась на экономике Азербайджана. Достаточно отметить, что добыча нефти в Баку в этот период упала до 402,8 млн пудов против 468 млн в 1913 году; из 54 нефтеперегонных заводов работала лишь половина. В связи с отсутствием в местных частных банках денежных средств прекратилась выдача ссуд нефтепромышленникам, что влекло за собой реальную угрозу закрытия средних и мелких предприятий. Аналогичная ситуация создалась в других отраслях экономики, что способствовало росту безработицы и еще большему обнищанию трудящихся масс8.
Социальная напряженность возрастала в неимоверной степени. «Подоспевшая» Февральская революция, которую поначалу демократические слои Кавказа встретили с энтузиазмом, надеясь получить свободу и независимость для своих народов в рамках внешней лояльности русскому правительству, оказалась лишь катализатором и еще большим усилителем дальнейшей эскалации нестабильности в регионе.
Необходимо отметить, что наиболее характерной особенностью политической ситуации, сложившейся после Февральской революции на Южном Кавказе, являлось несовпадение целей функционировавших в регионе трех национальных движений - азербайджанского, грузинского и армянского9.
С организацией финального «аккорда» революционных событий начала XX столетия — Октябрьского переворота — смена эпох в Азербайджане на этом не завершилась. У народов региона только начинались важные перемены, экономические и общественно- политические, административно-государственные и идеологические. Им предстояло пережить не меньшие тяготы, победы и разочарования, утверждение независимости и последующее поглощение большевиками.
С получением известия о взятии большевиками власти в Петрограде в октябре 1917 года состоялось чрезвычайное собрание расширенного Бакинского Совета рабочих и военных депу-
7 Ллойд Джордж, Дэвид. Военные мемуары. Т. 6. М., 1937. С. 98.
8 Рустамова Дж, Указ. соч. С. 124.
9 Балаев А. Февральская революция и национальные окраины. М., 2008. С. 5.
220 Российская революция 1917года и ее место в истории XX века
татов. От имени трех политических партий (эсеров, меньшевиков и дашнаков) Совет заявил, что вся власть в регионе должна быть передана Учредительному собранию.
Мусаватисты, а также представители Каспийского торгового флота, профсоюзов и городского гарнизона поддержали большевиков. Таким образом, Совет получил всеобщее признание в качестве центра политической власти в Баку. Он был переименован в Совет рабочих и солдатских депутатов. До последнего времени в исторической литературе 2 ноября 1917 года считался днем провозглашения Советской власти в Баку. Однако окончательное установление большевистской власти было впереди10.
12 ноября 1917 года произошла ликвидация буржуазного органа власти - Комитета общественных организаций. Тем самым был сделан еще один серьезный шаг к установлению единовластия Советов. Единственным потенциальным соперником большевистского Совета теперь оставалась продолжавшая функционировать Городская Дума. Не желая подчиниться Совнаркому РСФСР и стремясь уберечь край от анархии, представители Грузинской социал-демократической партии (меньшевиков), «Мусавата», Дашнакцутюна и правых эсеров 11 ноября провели в Тифлисе совещание, которое отказалось признать власть большевистского правительства России и вынесло решение о создании «Неза- висимогого правительства Закавказья». 15 ноября был образован Закавказский (Южнокавказский) комиссариат.
Деятельность комиссариата совпала с началом иностранной интервенции, проводившейся, прежде всего, со стороны Антанты и США. При этом правительства Англии, Франции и США уделяли особое внимание поддержке антибольшевистских сил на Южном Кавказе. В области внешней политики деятельность Закавказского Комиссариата по существу означала новый шаг в сторону отделения края от большевистской России. 5 декабря 1917 года Закавказским комиссариатом в Эрзинджане было заключено сепаратное соглашение о перемирии, а 17 января 1918 года турецкое командование предложило ему начать переговоры о заключении сепаратного мирного договора.
К марту 1918 года политическая коньюнктура Баку достигла максимального напряжения, и достаточно было самого незначительного повода, чтобы произошли открытые столкновения. Растущее влияние партии «Мусават» в массах вызывало опасе-
10 История Азербайджана... С. 187.
КМ. Гусейнова 221
ние со стороны большевиков. Бакинский Совет стал рассматривать «Мусават» как своего главного потенциального противника. Обострившиеся к весне 1918 года противоречия между Бакинским Советом и партией «Мусават», усугубляемые к тому же концентрацией в городе большого количества воинских формирований, подчиняющихся различным и притом противоборствующим политическим силам, создавали взрывоопасную ситуацию, грозившую вылиться в вооруженное столкновение при первом же удобном случае. Такой повод был найден, в результате чего произошли известные трагические события11.
25 февраля 1918 года открылся Закавказский (Южнокавказский) Сейм, который в партийном отношении был представлен членами трех основных политических фракций: от Грузии социал-демократы (меньшевики) в составе 32 депутатов, от Азербайджана - партия «Мусават» и примыкавшая к ним демократическая группа беспартийных в составе 27 депутатов.
Южнокавказский сейм сформировал региональное правительство во главе с Е. Гегечкори. Сейм не признал Брестский договор. Турция, основываясь на решениях Брестского договора, предъявила ультиматум Сейму о немедленном очищении Карса, Батума и Ардагана. В этих условиях 14 марта 1918 года в Трабзоне открылась мирная конференция между Турцией и Закавказьем.
Во время трабзонских переговоров военные действия продолжались. Под давлением мусульманской фракции 22 апреля 1918 года созвано расширенное заседание Сейма и утверждена резолюция о провозглашении Закавказской (Южнокавказской) независимой демократической федеративной республики. На этом заседании правительство, возглавляемое Гегечкери, подало в отставку. 22 апреля 1918 года сейм утвердил новый состав Южнокавказского правительства во главе с А. Чхенкели11 12.
В результате национальных разногласий и под давлением иностранных представителей на состоявшемся 26 мая 1918 года последнем заседании сейма был зафиксирован факт распада Южнокавказской республики. 28 мая 1918 года впервые в истории Востока была создана Азербайджанская Демократическая Республика, которая просуществовала 23 месяца, но успела сыграть весомую роль в дальнейшем развитии и укреплении азербайджанской государственности.
11 Там же. С. 188.
12 Там же. С. 189.
222 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
Создание трех суверенных республик на Южном Кавказе сильно тревожило большевистское правительство. Декретом от 2 июня 1918 года нефтяная промышленность Азербайджана была национализирована. Правительство РСФСР и лично Ленин требовали от Бакинского СНК обеспечить снабжение нефтью.
Декретом Бакинского СНК 5 июня 1918 года, несмотря на протесты судовладельцев, был национализирован также Каспийский торговый флот, который требовался для вывоза бакинской нефти в Россию. В результате мер, принятых БакСНК, в течение апреля-июля 1918 года из Баку было отправлено в Советскую Россию около 1,3 млн тонн нефти и нефтепродуктов13.
25 июля 1918 года состоялось заседание БакСНК, на котором эсеро-меныиевистско-дашнакский блок потребовал приглашения в Баку английских войск. 31 июля 1918 года Бакинский Совнарком сложил с себя полномочия. Власть в Баку перешла в руки право- эсеровско-меныиевистско-дашнакского блока, сформировавшего 1 августа правительство «Диктатуры Центрокаспия и Президиума Временного Исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов».
Таким образом, первый год независимого существования Азербайджанской Республики был полон упорной борьбы и тяжелых испытаний. Молодая республика их выдержала, и перед ней открылся свободный путь к прогрессу на поприще культурного, общественно-политического и экономического развития Азербайджана.
Феномен Февральской революции находится в ряду значительных событий в истории народов Кавказа, сыгравших свою историческую роль в судьбах этих народов.
13 История Азербайджана... С. 190.
Раздел III
ВОСПРИЯТИЕ ВЕЛИКОЙ РОССИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА
Российская революция и анархисты стран Дальнего Востока
В, В. Дамъе
Влияние Российской революции на становление коммунистического движения в странах Дальнего Востока и Восточной Азии основательно изучено историками. Значительно меньшее внимание исследователей привлекают темы, связанные с тем, как воспринимали революцию в России анархистские движения в регионе. Именно этому вопросу и посвящена данная статья.
Прежде всего стоит отметить, что революционные события в Российской империи - могущественном северном соседе дальневосточных и восточноазиатских стран - еще в последней четверти XIX столетия живо интересовали реформаторов, революционеров и ранних социалистов Японии и Китая, пусть даже первая информация об этом была весьма поверхностной и сводилась в первую очередь к индивидуальным покушениям русских народников, а с начала XX века - и социалистов-революционеров1. В первом десятилетии нового столетия возникают и первые прямые контакты с русскими революционными кругами, например, с эмигрантами-эсерами, которые осели в Японии, или с посетив¬
1 О влиянии примера русских «нигилистов» на «Восточную социалистическую партию» в Японии в 1880-х годах, см., например: Suzuki Т Profile of Asian Minded Man (IX): Tõkichi Tarui // The Developing Economies. Official journal of the Institute of Developing Economies. Tokyo, 1968. Voi. 6. Issue 1. March. P. 88; Гольдберг Д.И. Очерк истории рабочего и социалистического движения в Японии (1868-1908 гг.). М., 1975. С. 46; и др. Первой книгой в Китае, в которой содержалась позитивная оценка анархизма, стал в 1902 г. сделанный Ma Сюй- лунем перевод работы о социализме Т. Киркапа, появившийся под заглавием «Великая буря в России» (см.: Müller G. China, Kropotkin und Anarchismus. Eine Kulturbewegung im China des frühen 20. Jahrhunderts unter dem Einfluß des Westens und japanischer Vorbilder. Wiesbaden, 2001. S. 147—148).
224 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
шим эту страну лидером эсеровских боевиков Г. Гершуни2. Внимательно следили на Дальнем Востоке и за событиями революции 1905-1907 годов, в России, которые также придали импульс революционному движению в этих странах.
Первые годы новой, Великой российской революции совпали со временем, когда анархистское и социалистическое движение в странах Дальнего Востока было еще очень молодо, но находилось на подъеме. В Японии оно оправилось от так называемого периода «зимней спячки», наступившего после того, как в 1911 году группа ведущих анархистов и социалистов во главе с Котоку Сюсуй была казнена по обвинению в заговоре против императора, а радикальные группы и издания подверглись беспощадному разгрому. На фоне стремительного роста профсоюзного и забастовочного движения, в стране, несмотря на продолжающиеся репрессии, активизировались социалистические, синдикалистские и анархистские издания и группы, которым удавалось завоевать все более прочные позиции во многих рабочих союзах, бросая вызов реформистским лидерам рабочего движения. Под влиянием анархистов находилась Лига рабочих союзов Токио - крупнейшее профсоюзное объединение японской столицы, которое опиралось на союзы печатников и металлистов, но имело также отделение в Осака и объединяло до 12,5 тысяч членов (в возглавляемое реформистами профобъединение «Содомэй» входило около 16,5 тысяч членов)3. Анархистские группы и профсоюзы возглавляли первомайские демонстрации и многие радикальные забастовочные выступления.
В Китае, в условиях развернувшейся гражданской войны между Севером и Югом, анархисты и социалисты сосредоточили свои усилия в сферах образования и организации рабочего движения. В конце 1910-х - начале 1920-х годов анархистские группы действовали в Гуанчжоу, Шанхае, Нанкине, Пекине, Тяньцзине и других крупных городах страны, работали также почти во всех приморских и центральных провинциях Китая, выпускали многочисленные печатные издания4. Им удалось добиться значительного влия-
2 О японских контактах русских народников и приезде Гершуни в Японию в 1904 году и его встречах с японскими социалистами и китайскими революционерами см.: Tikhonov V. A Russian Radical and East Asia in the Early Twentieth Century: Sudzilovsky, China and Japan // Cross-Currents: East Asian History and Culture Review. E-Journal. 2016. No. 18. March. P. 56—57, 59—60, 65.
3 Нобушима E.K. Япония // Рабочий путь. Орган русских анархо-синдикалистов. Берлин, 1923. № 4. Июнь. С. 12.
4 См., например, доклад британских разведывательных служб: Report respecting Bolshevism and Chinese Communism and Anarchism in the Far East //
В.В.Дамье 225
ния в университетах и студенческих союзах Пекина и Тяньцзиня* 5, а в Гуандуне, Хунани и ряде других провинций анархисты выступили организаторами первых профсоюзов современного типа6. Анархистские группы и активисты шли в первых рядах революционных выступлений против реакционного правительства в Пекине и японского империализма, студенческих протестов. На Юге страны, в провинции Фуцзянь, освобожденной в 1919-1920 годах революционной армией генерала Чэнь Цзюнмина, анархисты возглавляли образовательную и агитационную работу7. По своему распространению в Китае анархизм занимал преобладающее место среди всех левых теорий.
Революцию в России анархисты стран Дальнего Востока встретили с громадным воодушевлением. Здесь, как и повсюду в мире, они увидели в российских событиях, прежде всего, то, что им хотелось увидеть. Такой соблазн был тем выше, что информации о реальном положении вещей в России в первые революционные годы доходило крайне мало.
Как явствует из статей основных анархистских изданий в Китае того периода (например, опубликованных в шанхайском журнале «Лаодун» фуцзяньской газете «Миньсин», «Еженедельнике студентов Пекинского университета» и других)8, а также из
British documents on foreign affairs: reports and papers from the Foreign Office confidential print. Part II. From the First to the second World War. Series E. Asia, 1914-1939. Voi. 26. China, October 1921 - February 1922. Ed. A. Trotter. Bethesda: University Publications of America, 1994. P. 69-72. Поданным, на которые ссылается американский исследователь А. Дирлик, между 1919 и 1928 годами в Китае было создано 92 анархистские группы, правда большинство из них просуществовало недолго (см.: Dirlik A. Anarchism in the Chinese Revolution. Berkeley; Los Angeles; London, 1991. P. 149). Только в одном 1923 году в стране существовала 21 анархистская группа (Nohara Sh. Anarchists and the May 4 Movement in China // Libero International. Kobe, 1975. January. No. 1).
5 РГАСПИ. Ф. 514. On. 1. Д. 3. Л. 36.
6 Подробнее см.: Дамье В.В. Забытый Интернационал. Международное анархо-синдикалистское движение между двумя мировыми войнами. Т. 1. От революционного синдикализма к анархо-синдикализму: 1918-1930. М., 2006. С. 234-237.
7 См.: Виленский (Сибиряков) В. Накануне образования коммунистической партии в Китае // Коммунистический Интернационал. 1920. № 16. С. 3591; Chen L.H.D. Chen Jiongming and the Federalist Movement: Regional Leadership and Nation Building in Early Republican China. Ann Arbor, 1999. P. 88-89; РГАСПИ. Ф.514. On. 1.Д.З.Л. 38.
8 Cm.: Krebs E.S. Shifu, Soul of Chinese Anarchism. Lanham et al., 1998. P. 165; Dirlik A. Op.cit. P. 177-178; Стабурова Е.Ю. Анархизм в Китае 1900-1921. М., 1983. С. 142-143; Müller G. Op. cit. S. 421; Gandini J.-J. Aux sources de la révolution chinoise: Les anarchistes. Contribution historique de 1902 à 1927. Lyon, 1986. P. 137.
226 Российская революция 1917 года и ее место в истории XXвека
заявлений японских анархистов, революция, которая началась в 1917 году в России, воспринималась большинством анархистов Дальнего Востока либо как непосредственно анархистская, либо как, по меньшей, мере, открывающая дорогу к анархизму. Даже если в некоторых анархистских изданиях 1919—1920 годов, таких как нанкинский журнал «Цзиньхуа» и пекинский журнал «Фэндоу»9, появлялась критика в адрес большевистских методов, она явно стояла на втором плане. Анархисты надеялись, что ход революции преодолеет эти недочеты и отступления. А ведущий японский анархист Осуги Сакаэ на одном из митингов в 1918 году даже заявил, что тактика большевиков примерно та же, что у анархистов, а ранние анархисты XIX века также, дескать, поддерживали диктатуру трудящихся10 11.
Подобное первое отношение к революции в России в анархистском движении на Дальнем Востоке не слишком отличалось от того, какое было распространено и в других регионах мира. Особенностью, пожалуй, можно считать то, что российский пример оживил вначале у анархистов и социалистов стремление к созданию общей, единой социалистической организации, в которой должно было найтись место и анархистам, и марксистам и иным социалистам. Такое стремление подпитывалось и тем, что первыми источниками информации о революционных событиях в России для китайских анархистов и социалистов были представители русской социалистической эмиграции, которые принадлежали к различным идейным течениям, но работали вместе и сотрудничали с китайскими активистами. Среди них были преподававшие в Северном Китае университетские профессора большевик С.А. Полевой, анархо-синдикалист А.А. Иванов и меньшевик А.Е. Ходоров, лишь позднее открыто присоединившиеся к большевизму11, и бывший царский генерал А.С. Потапов, который перешел на сторону советской власти и в начале 1920 года посетил Шанхай и Южный Китай12. Такими объединенными, «общесоциалистическими» организациями являлись, например, «общества по изучению социализма», «социалистические лиги», «Партия вели¬
9 См.: Müller G. Op.cit. S. 411-412,436.
10 См.: Stanley TA. A Japanese Anarchist's Rejection of Marxism-Leninism: Osugi Sakae and the Russian Revolution // Selected Papers in Asian Studies: Western Conference of the Association for Asian Studies. New Series. Voi. 1. Paper No. 1. Tucson, 2016. P. 2.
11 РГАСПИ. Ф. 495. On. 154. Д. 27. Л. 39.
12 См.: РГАСПИ. Ф. 514. On. 1. Д. 6.
В.В.Дамье 227
кой гармонии» и другие группы в Китае до 1921 года13 и японская Социалистическая лига, основанная анархистами и социалистами в 1920 г. и запрещенная властями весной 1921 года14.
Стоит отметить, что такая модель совпадала с первоначальными намерениями и замыслами российских большевиков и Коминтерна на Дальнем Востоке. Об этом свидетельствует, например, хранящийся в РГАСПИ протокол заседания Восточного бюро при Сибирской миссии по иностранным делам 18 мая 1920 года, на котором была выдвинута задача содействия созданию «революционно-демократических» и «интернационально-коммунистических» течений на Востоке и организации там «коммунистических ячеек», которые в последующем планировалось соединить вместе15. Иными словами, предполагалось вначале создать своего рода «широкую левую», а затем сформировать на основе ее про- болыиевистских фракций коммунистические партии. Характерно, что в документах Коминтерна (начиная с Восточного бюро и заканчивая более поздним Дальневосточным секретариатом Коминтерна) подчеркивалось, что упор следует делать на национально-освободительные и общедемократические, а не на непосредственно социалистические задачи.
Первыми эмиссарами Коминтерна в Китае (не считая большевиков в Маньчжурии) оказались корейские социалисты, приезжавшие с 1919 года с российского Дальнего Востока в Шанхай, где размещалось Корейское эмигрантское временное правительство; они завязывали контакты также с китайскими социалистами и анархистами16. Корейские эмиссары отправлялись и в Японию. Весной 1920 года Коминтерн направил в Китай своих представителей, которым было поручено организовать коммунистические кружки. Группу возглавил работник Коминтерна Григорий Войтинский17, под руководством которого на протяжении 1920 года были организованы кружки в Шанхае, Пекине и Гуанчжоу. Характерно, однако, что первоначально в этих группах преобладали именно анархисты,
13 Подробнее об этих группах см.: Ыи Лапуi. The Origins of the Chinese Communist Party and the Role Played by Soviet Russia and the Comintern. A Thesis Submitted for the Degree of Doctor of Philosophy the Department of Politics, University of New York. New York, 2000.
14 Nobushima E.K. El movimiento obrero en Japón // Claridad. Órgano oficial de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Santiago de Chile, 20.10.1923. Voi. 4. No. 110.
15 РГАСПИ. Ф. 495. On. 154. Д. 37. Л. 1, Іоб., 2.
16 Ыи Лапу і. Op.cit. P. 266—267.
17 РГАСПИ. Ф. 495. On. 154. Д. 27. Л. 39.
228 Российская революция 1917года и ее место в истории XXвека
отнюдь не собиравшиеся отказываться от своих убеждений18. Более того, издаваемая кружками агитационно-пропагандистская литература включала как большевистские, так и анархистские тексты19. Через отправленных из Шанхая в Японию корейских связных, в Китай был приглашен для встречи ведущий японский анархист Осуги Сакаэ. Как явствует из хранящихся в РГАСПИ отчетов, Осу- ги выразил готовность сотрудничать. Он получил деньги на издание рабочей газеты «Родо ундо» в Японии, но оговорил, что не отказывается от анархистских убеждений и будет действовать автономно20.
Однако сотрудничество анархистов и сторонников большевизма на Дальнем Востоке оказалось недолгим. Слишком уж разными были идеи и стремления сторон. Уже к началу 1921 года анархисты вышли из состава коммунистических кружков в Шанхае, Пекине и Гуанчжоу, отказавшись признать принцип «диктатуры пролетариата»21. Группы пришлось пересоздавать заново, уже на чисто проболыиевистской основе. То же самое произошло в начале 1921 года с Союзом социалистической молодежи Китая, в который первоначально также входили приверженцы различных направлений социализма22. Коминтерн в конце 1920 года передал Войтинскому на нужды работы в Китае 20 тыс. серебряных долларов23. В июле 1921 года на съезде в Шанхае была официально учреждена Коммунистическая партия Китая. Первоначально в ней было всего 53 человека, но партия стала быстро расти.
В Японии Осуги пришлось вскоре обнаружить, что Коминтерн ведет работу за его спиной, в том числе и через членов редакции его газеты. В июне 1921 года он прекратил выпуск газеты. С весны 1921 года, сторонники большевизма (включая бывших анархистов и синдикалистов) несколько раз пытались при помощи Коминтер¬
18 Liu Jianyi. Op.cit. P. 295-296; Новейшая история Китая. 1917-1927. М., 1983 С. 76-77; Стабурова Е.Ю. Указ.соч. С. 145-146.
19 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 154. Д. 27. Л. 27.
20 См.: Stanley ТА. Op. eit. Р. 3-4; Scalapino R.A. The Japanese Communist Movement, 1920-1966. Berkeley; Los Angeles, 1967. P. 12; РГАСПИ. Ф. 495. On. 154. Д. 21. Л. 70.
21 Про раскол в Гуанчжоу см., например: Van de Ven HJ. From Friend to Comrade. The Founding of the Chinese Communist Party, 1920-1927. Berkeley; Los Angeles; Oxford, 1991. P. 65.
22 См.: РГАСПИ. Ф. 495. On. 154. Д. 27. Л. 41; Ishikawa Y. The Formation of the Chinese Communist Party. New York, 2012. P. 165—166; Далин C.A. Китайские мемуары. 1921-1927. M., 1982. С. 36-37, 116.
23 Дальневосточная политика Советской России 1920—1922. Сборник документов. Новосибирск, 1996. С. 180.
В.В.Дамье 229
на создать в Японии коммунистическую партию, и в 1922 года эти попытки в конечном счете увенчались успехом24.
Двойная игра Коминтерна была лишь одной из причин, которые привели к разрыву между большевиками и анархистами на Дальнем Востоке. Другими стали все более выявлявшиеся теоретические разногласия и поступавшая из Советской России информация о репрессиях против российских анархистов. В декабре 1921 года Осуги возобновил выпуск «Родо ундо», как анархистского и синдикалистского издания. Со страниц газеты он подверг критике политику большевиков в Российской революции, их диктатуру и террор против анархистов, сопровождаемый обвинениями в контрреволюции и содействии реставрации старого режима. На протяжении 1922 года Осуги и его товарищи наращивали и ужесточали свою критику большевизма. Он обвинял большевиков в установлении диктатуры, призвал к свободным выборам в Советы, восстановлению гражданских и политических свобод и смене экономической политики, сообщал о преследованиях российских социалистов и анархистов, о произволе, арестах и пытках в большевистских тюрьмах, возмущался подавлением Кронштадтского восстания и махновского движения, осуждал политику большевиков в отношении крестьянства25.
В Китае открытая полемика между приверженцами большевизма и анархизма стала вспыхивать уже в конце 1920 — начале 1921 года Лидер коммунистов Чэнь Дусю со страниц издававшейся им газеты отстаивал применение насилия и принуждения ради освобождения и преодоления эгоизма и лени; он обвинил анархистов в том, что те, отвергая такие инструменты, как государство и законы, действуют якобы на благо буржуазии. В ответ анархисты обвинили Чэня и его сторонников в стремлении увековечить государство; анархизм, заявляли они, не против применения насилия, но именно в борьбе за свободу, а не после революции, уничтожающей частную собственность. С марта 1921 года полемика приобрела уже открытый и прямой характер. Анархисты устами одного из ведущих активистов движения Оу Шэнбая резко отвергли критику со стороны приверженцев большевизма, осудили «диктатуру пролетариата» и сохранение государства после революции, экономическую политику государственного капитализма в Советской России,
24 См.: ScalapinoR.A. Op. cit. P. 15—18; Stanley T.A. Op. cit. P. 6; Beckmann G.M., Genji O. The Japanese Communist Party 1922-1945. Stanford, 1969. P. 42—44.
25 Stanley TA. Op. cit. R 6-8.
230 Российская революция 1917 года и ее место в истории XXвека
организационные принципы централизма, репрессии и другие характерные черты большевистской модели26. В 1922 году отношения между двумя сторонами были окончательно разорваны.
С этого момента анархисты и партийные коммунисты стран Дальнего Востока воспринимали друг друга как врагов. До какой степени доходила эта вражда, свидетельствует история, связанная с поездкой Осуги в Европу в 1923 году. В преддверие ее ЦК японской коммунистической партии направил представителю Коминтерна С. Вильде телеграмму с просьбой расправиться с Осуги, если он поедет через территорию Советской России. Обвинив анархиста в том, что тот якобы является агентом правительства, коммунисты заявили, что он очень опасен «ввиду необыкновенной энергии и популярности», и потребовали «принять энергичные меры и обезвредить его»27. Донос японских коммунистов был переслан в Москву28, и анархиста ждала бы неминуемая гибель. К счастью для себя, он избрал морской путь в Европу через Китай. На сей раз Осуги удалось спастись. Впрочем, ненадолго. Уже после возвращению в Японию осенью 1923 года он был убит японскими жандармами — вместе с подругой и несколькими другими активистами... Эта история стала символом окончательного разрыва между анархистами и партийными коммунистами.
26 DirlikA.Op. cit. P. 204-207, 214-217, 219-221.
27 РГАСПИ.Ф. 514. On. 1. Д. 44. Л. 69.
28 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 154. Д. 139. Л. 11.
Российская анархистская эмиграция об опыте революции
Д.И. Рублев
Оказавшись в эмиграции в начале 1920-х годов, российские анархисты пытались осмыслить уроки событий Великой Российской революции 1917-1922 годов. Некоторые из них (П.А. Аршинов, В.М. Волин, А. Горелик, Г.П. Максимов, Н.И. Махно и Е.З. Ярчук), сочетая историко-мемуарный и публицистический стили, попытались написать альтернативную, анархистскую историю революции. Выражаясь словами В.М. Волина, они пытались рассказать о Махновщине и Кронштадтских движениях, представив каждое из них как модель «свободного, глубоко идейного, - хотя и очень краткого, - творческого и организационного движения широких трудовых масс, формирующих свою, тесно спаянную с ними, военную силу лишь в целях необходимой обороны своей революции и своей свободы»1. Этот подход был важен, поскольку наглядно демонстрировал, что «анархические устремления выявились в русской революции, <...> как реальнейшее, конкретное революционное движение этих масс»1 2.
Прежде всего для работ анархистов характерна попытка представить революцию больше как процесс социальной, нежели политической борьбы. В таком духе трактовались лозунги и требования трудящихся — ее участников: «“Фабрики рабочим! Земля крестьянам!” В этом коротком, но глубоком по своему смыслу лозунге содержалась вся социально-революционная программа масс: низ¬
1 Волин В.М. Предисловие //Аршинов П.А. История Махновского движения (1918-1921). Запорожье: «Дикое Поле», 1995. С. 25.
2 Там же. С. 26.
232 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
вержение капитализма, наемного труда, государственного порабощения и организация новой жизни на началах самоуправления производителей. <...> Все-таки в момент революции 1917 г. классовый интерес и классовый инстинкт воспреобладали и повлекли рабочих непосредственно к их целям — на завоевание земли, фабрик и заводов»3, - писал, например, Петр Аршинов. Более того, анархисты доказывали, что социальные движения действовали не только независимо от политиков, но чаще даже вопреки им.
Наиболее обстоятельный анализ революционных процессов с анархистских позиций представлен в книге В.М. Волина «Неизвестная революция». Оценивая Временное правительство как консервативное и буржуазное, он рассматривал его политический курс, как стремление решить наиболее насущные социально-политические вопросы «по западному образцу», используя при этом «переходный период, по необходимости затягивая его во времени для того, чтобы успокоить, привести к дисциплине народные массы»4. Попытки стабилизировать ситуацию были тщетны, поскольку «в России машина буржуазного государства была сломана в феврале 1917 года» и не обладала мобилизационными возможностями. Кроме того, революционные события окончательно дезорганизовали армию, сделав ее небоеспособной. В этой ситуации «именно народ» заставлял государственный аппарат работать, действуя на основе самоорганизации и опираясь на собственные структуры самоуправления, возникшие в обстановке вакуума власти. Самостоятельные действия масс проявились в экспроприации земли крестьянами, формировании фабрично-заводских комитетов, а также Советов рабочих, солдатских, матросских и крестьянских депутатов5. Рост влияния Советов, массовые революционные действия снизу - все это вело страну к установлению социалистического правительства, проводящего в жизнь программу прекращения войны и радикальных социальных реформ. По мнению Волина, такой режим сумел бы опереться «на реальные общественные силы: крестьянство, рабочий класс, значительную часть интеллигенции, Советы, армию». Однако эта альтернатива развития не была реализована, поскольку лидерам социалистов не хватило смелости для проведения в жизнь собственных программных принципов. Оставшись на позициях «программы-минимум»
3 Аршинов П.Л. История Махновского движения (1918-1921). Запорожье: «Дикое Поле», 1995. С. 38, 40.
4 Волин В.М. Неизвестная революция, 1917—1921. М.: «Праксис», 2005. С. 93.
5 Там же. С. 95-98.
Д.И. Рублев 233
с борьбой за демократическую республику, они вынуждены были подчиниться логике уступок либералам в рамках общей коалиции, проводя «политику, выгодную российскому и международному капитализму»6.
Выводы о возможности альтернативы демократического социализма применительно к ситуации 1917—1918 годов разделял и Г.П. Максимов, утверждавший, что «соглашение, блок русских социалистов всех фракций, несомненно, или совсем устранил бы гражданскую войну, так как поставил бы слабую русскую буржуазию и военную клику в невозможные условия сопротивления, контрреволюционных элементов к разрозненным местным вспышкам, подавить которые не представляло бы большого труда»7. Это неслучайно, ведь петроградские анархисты уже в начале марта 1917 года выступили за переход власти к однородному социалистическому правительству и Советам, опережая позднейшие выводы Волина и Максимова8.
Итогом «правого поворота» в политике социалистов, указывали анархисты, стала постепенная утрата их популярности, а затем - рост влияния большевиков, не имевших равносильных конкурентов «на крайне левом фланге». Речь шла и об отсутствии самостоятельной классовой организации трудящихся как факторе, благоприятствовавшем установлению партийного контроля над социальными движениями: «то, что рабочий класс России почти не имел своих классовых революционных организаций, был организационно распылен, позволили партии легко взять руководство событиями в свои руки»9, — писал Аршинов. Тем более, в России не было массовых либертарных профсоюзов, что отличало, в частности, российский анархизм от испанского. Это противоречие, выражавшееся в наличии широких либертарных, самоорганизаци- онных, самоуправленческих тенденций в социальных движениях, инстинктивного принятия рабочими и крестьянами анархистских лозунгов при отсутствии решающего влияния носителей этой идеологии, отметил Г.П. Максимов: «Примечательная особенность революции состояла в том, что, несмотря на скорее небольшое
6 Там же. С. 101.
7 Maximoff G.P. The Guillotine at work. Vol 1: The Leninist counterrevolution. Somerville. Black Thorn Books. Massachusets. 1979. P. 32.
8 Анархисты. Документы и материалы. 1883-1935 гг. Т. 2. М. РОССПЭН. 1999. С. 18; Речь анархиста перед Советом рабочих и солдатских депутатов // Коммуна. № 1. 17 марта 1917. С. 6-7.
9 Аршинов П.Л. Указ. соч. С. 42-43.
234 Российская революция 1917 года и ее место в истории XXвека
влияние анархистов в массах до ее начала, она с первых же шагов следовала анархистским курсом полной децентрализации; революционные органы, немедленно выведенные на авансцену ходом революции, были анархо-синдикалистскими по своей сути. По своей природе они лучше всего подходили для скорейшего осуществления анархического идеала - Советы, фабрично-заводские комитеты (фабзавкомы), крестьянские земельные комитеты, домовые комитеты и т.д. Внутренняя логика событий и рост этих организаций привели в ноябре (октябре) 1917 года к временному свертыванию государства и потрясению самих основ капиталистической экономики»10 11. По мнению Максимова, отказ от создания анархо-синдикалистских рабочих организаций и ориентация либертариев на работу в существующих рабочих организациях обернулись стратегическим поражением анархизма: «Отсутствие чисто революционных профсоюзов ускорило разрушение анархистского и синдикалистского движений. Разбросанные по большевистским профсоюзам, анархо-синдикалистские силы оказались не в состоянии оказать сопротивление и были сравнены с землей железной политикой “диктатуры пролетариата”»11.
Обладая лучшими интеллектуальными кадрами, имея более широкие связи и опыт многолетней работы в среде рабочего класса, партия большевиков опережала анархистов на несколько ходов вперед12. «Левые эсеры, гораздо более слабые, могли играть лишь роль попутчиков; анархистское движение только зарождалось; а революционного синдикалистского движения, как мы знаем, не существовало вовсе»13, - так оценивал ситуацию Волин. В условиях организационной слабости и разрозненности либертарных сил большевики подхватили анархические лозунги, используя их для захвата власти, а затем, взяв в свои руки структуры народного самоуправления, огосударствили их, широко применяя террор для подавления инакомыслящих14.
Таким образом, основным фактором поражения революции и разгрома российского анархизма авторы анархистской эмигра¬
10 Максимов Г,П. Синдикалисты в Российской революции // Международная ассоциация трудящихся URL: http://www.aitrus.info/node/3396 (дата обращения: 24.01.2018).
11 Там же.
12 См., например: Аршинов П.А. Указ. соч. С. 39.
13 Волин В.М. Неизвестная революция, 1917-1921. С. 102.
14 Аршинов П.А. Указ. соч. С. 41.
Д.И. Рублев 235
ции называли деятельность большевиков15. В значительной мере ее анализ связан с появлением работ, основным содержанием которых стала критика большевистского террора и выявление его генезиса16. В этом анархисты были едины с демократическими социалистами, также обратившимися к критике «красного террора» и советской репрессивной системы. Прежде всего следует вспомнить работы левого эсера И.З. Штейнберга, меньшевиков Г.Я. Аронсона, Д.И. Далина и Б.И. Николаевского17.
Прежде всего в этом плане следует выделить книгу Григория Максимова «Гильотина за работой». Генезис большевистской концепции террора он выводил, прежде всего, из практики французских якобинцев и работ К. Маркса и Ф. Энгельса. Ссылаясь на «Манифест Коммунистической партии», Максимов указывал, что эта работа выражает «требование диктатуры, требование абсолютной централизации политической и экономической жизни в руках государства и правительства», как и «возведение государства на высоту Абсолюта и полное пренебрежение личностью, ее правами и интересами»18. С этой точки зрения весьма характерна параллель, проводимая между работой Маркса «Гражданская война во Франции» и трудами Ленина апреля—ноября 1917 ггода, в которых провозглашались идеи власти Советов и отмирания государства. Оба случая рассматривались анархистами, как примеры манипуляции с целью завоевания политической популярности. Максимов отмечал пронизывающее всю деятельность В. Ленина на посту главы государства стремление к сохранению монополии на власть собственной партии. Эта задача заставляла ужесточать политическую систему, стимулируя большевиков к жестокому подавлению политических противников. Между тем, по мнению Максимова, курс на однопартийную диктатуру помешал установить режим многопартийной социалистической коалиции, как альтернативу гражданской войне. Максимов пришел к выводу, что уже в то время террор Советского государства стал тотальным. Ведь фак¬
15 Там же. С. 41 ; Волин В.М. Предисловие. С. 26.
16 См., например: [Горелик А., Комов А., Волин В.М.] Гонения на анархизм в Советской России. Берлин. Группа Русских Анархистов в Германии, 1922; Maximoff G.P. The Guillotine at work. Vol. 1.
17 См.: Аронсон Г.Я. На заре красного террора. ВЧК - Бутырки - Орловский централ. М.: Кучково поле, 2017; Штейнберг И.З. Нравственный лик революции. М.: Кучково поле, 2017; Dallin D.J., Nicolaevsky В.I. Forced labour in Soviet Russia. New Haven: Yale University Press, 1947.
18 Maximoff G.P. The Guillotine at work. Voi. 1. P. 20.
236 Российская революция 1917 года и ее место в истории XXвека
тически РКП (б) превратило в своих врагов все слои населения «за исключением ничтожной части “пролетариата”, авангарда»19.
Основной ошибкой как либертарных сил, так и участников массовых социальных движений анархисты-эмигранты считали линию на союз с большевиками, доверие к ним и надежды на исключительно идеологический характер борьбы с правящей партией. Так, на союз с красными, как одну из главных ошибок Н.И. Махно и других лидеров украинских либертарных повстанцев, указывали П.А. Аршинов и В.М. Волин20.
Между тем анархистские публицисты не сводили свои выводы к обвинению той или иной политической партии. Проводился анализ классовой сущности большевистской идеологии, чаще всего связываемой с интеллигенцией. Так П.А. Аршинов открыто называет фактором поражения революции «захват политической власти промежуточной группой, так называемой социалистической революционной интеллигенцией - социалистической демократией»21. «Социалистическую демократию» он рассматривал, как «общественно-экономическую группу», а ее социально-политическим идеалом считал «законченную социалистическую государственную систему»22. Фактически же проводившийся большевиками политический курс характеризовался как государственный капитализм. Основу правящего класса нового общественного строя составляла интеллигенция, объединенная с интегрированными в состав правящего класса (бюрократии) выходцами из рабочей среды23. Эти выводы, однако, появились не только вследствие анализа событий 1917-1922 годов. Как мы показали в ряде своих исследований, они имели корни в трудах М.А. Бакунина и теоретических разработках российских анархистов периода 1890-1914 годов24.
19 Maximoff G.P. The Guillotine at work. Vol. 1. P. 41.
20 Аршинов П.А. Указ. соч. С. 91 ; Волин В.М. Неизвестная революция, 1917- 1921. С. 497, 489,497-498.
21 Аршинов П.А. Указ. соч. С. 34.
22 Там же. С. 35.
23 См., например: Лазаревич Н.И. Наша цель // Освобождение профсоюзов. Ноябрь 1928. JSfe 1. С. 1; Он же. К XI-й годовщине Октябрьское революции // Освобождение профсоюзов. Ноябрь 1928. № 1. С. 2.
24 См., например: Рублев Д.И. Диктатура интеллектуалов? Проблема «интеллигенция и революция» в российской анархистской публицистике конца XIX - начала XX веков. М.: МГУП, 2009; Он же. «Привилегированное науко-политическое сословие»: М.А. Бакунин о роли интеллигенции в социально-политическом развитии общества // Человек из трех столетий (Пряму-
Д.И. Рублев 237
Проводя анализ причин поражения откровенно либертарных движений, таких как Махновщина, анархисты говорили о военных действиях, постоянных атаках белых и красных на контролируемые анархистами зоны, как факторе, помешавшем проводить социальные преобразования и осуществлять на практике строительство нового общества. Так, Аршинов подчеркивал, что созданию «в своем чистом виде» запланированных махновцами Вольных Трудовых Советов помешала «повсеместная боевая обстановка района»25. На эту работу было отпущено катастрофически мало времени.
Другим фактором поражения, на что указывал Аршинов, был локализм Махновщины. Так, будучи уверены в своих районах, махновцы не решились вывести движение за их пределы зимой- летом 1919 года. Они не сумели, а чаще всего и не хотели в период своего наибольшего успеха закрепиться в других регионах Украины26: «Знамена махновщины развевались по всей Украине. Не хватало необходимых организационных шагов, чтобы всю многочисленную, рассредоточенную в разных местах Украины боевую силу слить в одну мощную революционно-народную армию, которая стала бы надежным стражем на подступах к революционной территории»27. И здесь Аршинов обнаружил особенность мышления анархистов28, превратившуюся в своеобразную ловушку для оптимистов. Будучи очарованы ростом общественной самоорганизации и радикализмом трудящихся, либертарии верили в то, что широкие массы населения уже усвоили либертарные идеи и готовы воплотить их в жизнь. Недооценивая могущество государственного террора, они полагали, что именно трудящиеся заставят большевиков соблюдать честность в правилах политического диалога. Все это напоминало, отчасти, веру М.А. Бакунина и других русских народников 1870-х годов в «инстинктивный социализм» крестьянина. Многие из анархистов-коммунистов и анархистов-синдика- листов верили в необходимость уже в условиях государства вести созидательную конструктивную работу. Разочарование в этой практике выразил В. Волин, писавший в 1923 году в цикле статей «Письма о пережитом» о недооценке российскими анархистами роли разрушения государства и иных социальных институтов, без
хинские чтения - 2014, международная конференция, посвященная 200-летию со дня рождения М.А. Бакунина). М.: Футурис, 2015. С. 133-149.
25 Аршинов Л.Л. Указ. соч. С. 87.
26 Там же. С. 91.
27 Там же. С. 149.
28 Там же. С. 147-148.
238 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
которого невозможно строить новые общественные отношения: «Пока современная экономическая жизнь не разрушена до основания, - у широких человеческих масс не может быть достаточного стимула для того, чтобы решительно оторваться от прошлого и приступить к строительству нового. Пока экономическая жизнь не разрушена, — всегда найдутся силы, которые захотят и сумеют ухватиться за уцелевшие остатки старого и восстановить на них, в той или иной форме, прежнюю систему... Сказанное об экономической, социальной и технической сторонах относится и к области культуры, политики, права, религии, нравов...»29
Еще одним условием поражения либертарных социальных движений, отмечали анархистские публицисты, было отсутствие налаженных горизонтальных связей между движениями городских рабочих и крестьянства. Сельские и городские социальные движения так и не смогли объединиться и выработать общую повестку дня. «Именно в таком союзе деревни с городом и заключалась возможность укрепления и дальнейшего развития революции»30, - писал Петр Аршинов.
Помимо социальных и политических проблем минувшей революции, ее очевидцы и участники из числа анархистов касались и этическо-психологических проблем. Так, Максимов, и ранее являвшийся сторонником «переходного периода» — этапа долгого и постепенного строительства анархического общества при сохранении элементов государственности и рынка, указывал на невиданный рост жестокости и насилия, отнюдь не способствующие формированию у людей альтруистического мировоззрения: «А для нас, ведь, не может быть сомнений, что гражданская война вызовет у борющихся сторон все раньше глубоко запрятанные и скрытые внешним культурным лоском зоологические инстинкты, инстинкты зверя. Она доведет до наивысшего напряжения и обострения классовую ненависть, создаст, так сказать, “классовый патриотизм”»31. Интересны и попытки ряда анархистских авторов, таких как Е.З. Моравский и М. Мрачный (Кливанский), дать анализ махновщины, как авторитарно-вождистского движения32. Так,
29 Волин В.М. Письма о пережитом // Анархический вестник. Август 1923. № 2. С. 23-24.
30 Аршинов П.А. Указ. соч. С. 93.
31 Максимов Г.П. Беседы с Бакуниным //Дело труда. Октябрь-ноябрь 1934. № 82. С. 19.
32 Си:. Долинин (Моравский) Е.З. В вихре революции. Стихи, проза, фельетоны, критика. Детройт, Мичиган: Изд-во «Друг». 1954. С. 363-364, 366-367;
Д.И. Рублев 239
Мрачный в своей статье «Махновщина (В поисках “батькивщи- ны”)» представил махновское движение, как своеобразное проявление «бегства от свободы», попытку сплотиться вокруг сильного вождя, приобретающего славу защитника униженных и оскорбленных33. Неслучайно, что впоследствии Мрачный стал психоаналитиком, подружившись с Э. Фроммом, близость к взглядам которого он показал в своей статье о Махно34.
Подводя итоги, отметим, что публицистам анархистской эмиграции России удалось обозначить широкий круг проблем, связанных с выявлением причин поражения либертарной социальной альтернативы и победы большевистской диктатуры. Проводя анализ социально-экономических, политических, культурно-психо- логических факторов, они ставили своей целью извлечение уроков для последующего формирования успешных стратегий социально- политической борьбы. Однако целый ряд сделанных ими выводов полезен для современного историка как голос непосредственных участников событий.
Мрачный М. [Кливанский М.] Махновщина (в поисках «батькивщины») // Рабочий путь. Июль 1923. № 5. С. 1-3.
33 Мрачный М. [Кливанский M/Указ. соч. С. 1.
34 Гончарок М. Пепел наших костров. Очерки истории еврейского анархистского движения (идиш-анархизм). М.: Common place, 2017. С. 277; Dol- goff S. Anarchistische Fragmente. Memoiren eines amerikanischen Anarchosyndikalisten. Lieh / Hessen. Verlag Edition AV. 2011. S. 66.
Влияние Октябрьской революции в Испании (на примере книг о путешествиях, изданных в 1920-е годы)
Магдалена Гарридо Кабальеро
Введение
Российская революция, произошедшая в октябре 1917 года, не прошла бесследно для ее современников, оставив след в газетных сообщениях, книгах о путешествиях в Россию1, а также благодаря общей социальной мобилизации общества1 2. Правда, в Испании любое распространение сведений о событиях в России оказывалось связано с рядом затруднений по таким причинам, как высокая стоимость бумаги, конкуренция за место на газетной полосе с внутренними испанскими новостями, а также с событиями, имевшими отношение к Первой мировой войне. Кроме того, после всеобщей забастовки 1917 года все новости подвергались цензуре3.
Что и как сообщалось о Советской России, зависело от влияния актуального политического контекста в самой Испании и от идеологической позиции авторов сообщений, что создавало противоречивые образы. С одной стороны, возникали ожидания, связанные с революционными достижениями: «вера с Востока»4,
1 Sanz Guitián, Pablo: Viajeros españoles en Rusia. Madrid: Compañía Literaria, 1995.
2 Существовало несколько движений в поддержку большевистской России - например, «Руки прочь от Советской России» и «Друзья Советского Союза».
3Almuiña, Celso: “La imagen de la Revolución rusa en España”, IH, 17 (1997). P. 207—217; Andrade, Juan, Hernández, Fernando: La Revolución rusa cien años después. Madrid, Akal, 2017.
4 Aviles, Juan: La fe que vino de Rusia. Madrid, UNED, 1999.
Магдалена Гарридо Кабальеро 241
проявившись в рабочем движении5, привела к созданию будущих коммунистических партий и объединений, которые затем финансировал Коминтерн. С другой стороны, рождались ассоциации с «красным террором», «программой максималистов» или «антихристом», отмеченные в межвоенный период страхом распространения по Европе «революционной заразы» большевистского эксперимента, а с позиций традиционалистской и фашистской идеологий марксизм и вовсе представлялся варварством6.
Традиционно контакты между Испанией и Россией способствовали как путешествиям в обоих направлениях, так и взаимному литературному влиянию7. В XX веке подобные контакты лишь умножились. Ярким моментом стали несколько дней, которые провел в Испании Л. Троцкий: он был заключен в мадридскую тюрьму Модело, пока не получил разрешения уехать в Южную Америку8.
На научных и литературных форумах в разных форматах проходили встречи между советскими и испанскими специалистами, причем последние выражали свой интерес к прогрессу, достигнутому в СССР9. Советское влияние было явно заметно как в литературе с революционным социальным содержанием, так и в книгах о путешествиях. Выражения восторга по поводу советских достижений не мешали критиковать другие аспекты диктатуры пролетариата в Советской России. Так было в текстах анархиста Анхеля Пестаньи, социалиста Фернандо де лос Риоса или же либералов Чавеса Ногалеса и Диего Идальго (члена Международной ассоциации друзей Советского Союза)10. Данная статья концентрируется
5 Forcadell, Carlos: Parlamentarismo у bolchevización. El movimiento obrero español, 1914-1918. Barcelona, Crítica, 1978; Avilés, Juan: “El impacto de la Revolución Rusa en España, 1917-1922”, in W. AA.: La política exterior de España en el siglo XX. Madrid, UNED, 2000. P.17—31; Romero F: The foundations of Civil war. Revolution, Social Conflict and Reaction in Liberal Spain, 1916—1923. London, Routledge & Cañada Blanch Centre, 2008.
6 Egido, M- Ángeles: “Del paraíso soviético al peligro marxista: La Unión Soviética en la España republicana (1931—1936)”, Cuadernos de Historia Contemporánea, 10 (1988). P.139—154.
7 См. в: Vidal, Elena: La imagen de España en Rusia a mediados del siglo XIX (1840-1860). Barcelona, 1978; Fernández Sánchez, José: Viajeros rusos por la España del siglo XIX. Madrid, El Mundo Universal, 1985.
8 Trotsky L. La burocracia soviética y la revolución española. New York Times, 13 January 1937.
9 Kuleshova V. Ispania y SSR. Moskva, 1977.
10 Pestaña Á. Setenta días en Rusia. Lo que yo vi. Barcelona, Tipografía Cosmos, (s.f.); Hidalgo, Diego: Un notario español en Rusia. Madrid, Alianza, 1985 [Cénit,
242 Российская революция 1917года и ее место в истории XXвека
на точках зрения, выражавших разное отношение к советской действительности. Создание мифов и критика советского режима - две стороны одной медали.
Создание Коммунистической партии Испании (КПИ) произошло в силу активности делегатов Коминтерна, стремившихся объединить все коммунистические группы для распространения революции на остальные страны Европы и разрыва со Вторым Интернационалом (Социалистическим интернационалом) как на стратегическом, так и на органическом уровне.
Коминтерн обозначил генеральную линию действий, которой должны были следовать коммунистические партии. СССР внимательно следил за развитием революционных событий 1934 года в Испании, а насильственная высылка в Советский Союз многих главных участников этих событий и последующая эмиграция испанцев в СССР в связи с победой Франко в гражданской войне укрепили контакты между странами. Отношения между Испанией и СССР стали наиболее тесными в годы существования Второй Испанской Республики и во время Гражданской войны 1936—1939 годов. В этот период правительство Испании признало Советский Союз и установило с ним дипломатические отношения, хотя обмен послами состоялся лишь в 1936 году* 11. На разных международных форумах Советский Союз выступал в роли защитника законности республиканского правительства, а гражданская война в Испании широко освещалась в советских репортажах и новостях. В Испании отмечали 20-ю годовщину большевистской революции, изображая СССР как союзника легитимности республики. Но противоположный, враждебный образ СССР, также распространялся в кругах, поддерживавших восстание в июле 1936 года. После победы Франко в Гражданской войне возобладала антикоммунистическая точка зрения.
1929]; De Los Ríos, Fernando: Mi viaje a la Rusia sovietista. Madrid: Alianza, 1970. Дополнительные сведения можно почерпнуть в: Garrido, Magdalena: Compañeros de viaje. Historia y memoria de las Asociaciones de Amistad hispano-soviéticas. Murcia, Editum, 2009.
11 Puigsech J. Los pasos dados por la diplomacia soviética para establecer el consulado de la URSS en Barcelona. Ayer, 86 (2012). P. 169—195.
Магдалена Гарридо Кабальеро 243
От Октябрьской революции до Советской России:
свет и тени на примере «книг о путешествиях» 1920-х годов
В Испании внимательно следили за революционными событиями в России, и доказательством этого является увеличение количества публикаций, связанных с Советским Союзом, в том числе переизданий испанскими издателями книг с «авангардистскими тенденциями», отличавшимися повышенным уровнем социальной составляющей12. Согласно Мартинесу Русу13, эти издательские тенденции возникли как реакция на строгую систему предварительной цензуры, введенной для газет в период диктатуры Мигеля Примо де Риверы14, который, правда, вполне толерантно относился к книгам, объемом превышавших двести страниц, поскольку стоимость таких книг делала их недоступными для большинства граждан страны. В результате возникли издательства «Эдисьонес Ориенте» (1928-1932) и «История Нуэва» (1928-1931 )15. В 1928 году было создано издательское сообщество СІАР (Compañía Iberoamericana de Publicaciones), которое смогло быстро реализовывать свои книги за счет современной коммерческой организации. Так появились в книжном формате репортажи Чавеса Ногалеса «Вокруг Европы на самолете. Буржуазия в Красной России». Благодаря обширной системе реализации продукции, новые книги попадали в небольшие книжные магазины. Такие новые издания, будь это репортажи, путевые заметки или же резолюции политических партий 1920-х годов, помогали испанцам получить разные точки зрения на жизнь в СССР16.
Писательница София Касанова, отличавшаяся консервативными и католическими взглядами, работала в России с 1915 года в качестве репортера для монархической газеты АВС, передавая информацию с места событий о положении в стране. В 1918 г. ей пришлось уехать из России в Польшу, поскольку ее близких встревожили политические перемены в стране. Одним из наиболее при¬
12 Garrido Caballero М. Russia comes on the scene. The influence of October Revolution on Spanish Avant-Garde Novel social of the Twenties. Istoriya. 2.8 (2011).
13 Martínez Rus, M- Jesús: La política del libro durante la II República: socialización de la lectura. Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2001.
14 С 1923 до 1930 года. В 1931 году была провозглашена Вторая Испанская республика.
15 Santonja G. Del lápiz rojo al lápiz libre. La censura de prensa y el mundo del libro. Barcelona, 1986.
16 Дополнительные сведения см. в: Santonja G. La República de los libros. El nuevo libro popular de la II República. Barcelona, 1989. P. 14—25.
244 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
мечательных материалов было ее интервью с Троцким. Она взяла его в 1917 году в Смольном (опубликовано 2 марта 1918 года). Ожидания, возникшие в связи с падением царизма, впоследствии сменились в ее репортажах пессимизмом, связанным с «максималистским» террором. В ноябре 1918 года она сообщила испанцам об ужасающем убийстве царя, о покушении на Ленина и о казни «Доры» (Фанни Каплан)17. В 1921 году С. Касанова отмечала, что если прежде в тюремных камерах сидели противники существующей власти, то теперь в них оказались ожидавшие казни патриоты, те, кто, объединив усилия, боролся против Советской России18.
Репортажи Касановы о Советской России были собраны в книге под названием «О русской революции» {De la revolución rusa), которую в 1917 году выпустило издательство «Ренасимьен- то». Книга эта произвела сильное впечатление на современников - об этом свидетельствовали как положительные рецензии, в которых ее хвалили за «лишенный предрассудков, благородный стиль, отличающийся в то же время живостью и искренностью»19, так и читательский успех. Позже Касанова продолжила «русскую» тему, делясь наблюдениями об отчаянном положении русских эмигрантов в Париже.
В то же время Октябрьская революция, которую левые в целом приветствовали, не избежала критики в текстах, написанных анархистами и социалистами.
Роль Анхеля Пестаньи была ключевой для анархо-синдикалистского восприятия Советского Союза, сформированного в результате его контактов с советской действительностью20. Пестанья принимал участие во Втором конгрессе Исполнительного комитета Коммунистического Интернационала в Москве, который выдвинул идею новой международной организации революционных профсоюзов («Межсовпроф»). В звучавших заявлениях много говорилось о диктатуре пролетариата, и при этом подвергались нападкам профсоюзы, не занимавшиеся политической борьбой.
17 София Гуадалупе Перес Касанова де Лютославски (род. Ла-Корунья, 30 сентября 1861 г., ум. Познань, 1958), писательница и журналистка. Casanova, Sofía: “ABC en Rusia la era del Terror”, ABC, 7 November 1918.
18 Casanova, Sofía: “Rusia de ayer y hoy”, ABC, 23 February 1921.
19 Herce, Femando. Libros Nuevos, La Mañana, 20 February 1918. P. 4 and 8 March 1918. P. 4; Mundo Gráfico, 27 February, 1918. P. 20.
20 Он родился в 1886 году в Санто-Томас де лас Ольяс (близ г. Понферрады) и умер в 1937 году. Он был анархо-синдикалистом и директором Solidaridad Obrera («Рабочая солидарность»).
Магдалена Гарридо Кабальеро 245
Пестанья отказался поставить под выработанными документами свою подпись, поскольку ему была необходима санкция Национальной конфедерации труда (НКТ). По возвращении в Барселону он был арестован. Свои впечатления Пестанья суммировал в отчете, представленном в 1922 г. на Национальном съезде НКТ21. Его критика российской компартии за авторитарность была принята во внимание: НКТ не присоединилась к Коминтерну, а решила вступить в Международную Ассоциацию Трудящихся, организованную в Берлине в том же 1922 году.
Хотя впечатления Анхеля Пестаньи о Советском Союзе были исполнены критики, все же для него и для многих других анархо- синдикалистов Россия воспринималась как родина Бакунина и Кропоткина. В книге «Семьдесят дней в России. Что я видел» (Setenta días en Rusia. Lo que yo vi) Пестанья рассказывал о волнующей встрече со своим кумиром Кропоткиным, которому он сообщил о размахе движения анархистов в Испании22. В противоположность этому, Пестанья описал новое советское общество как диктатуру, где господствует одна партия. Помимо прочего, постигшее автора разочарование возникло из-за репрессий, развернутых в Советской России против анархистов23.
Критика со стороны анархистского движения проявилась как в результате прямого контакта со страной Советов, так и в связи с такими, например, событиями, как подавление матросского мятежа в Кронштадте, что у многих анархистов, включая Эмму Гольдман, также описавшую свой опыт жизни в России, вызвало ярко выраженное ощущение обмана24. Представители других общественных кругов, в том числе интеллектуалы-авангардисты, а также ряд таких партий, как КПИ, по-прежнему продолжали поддерживать революцию в России и воодушевляться ее достижениями.
Что касается Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), Октябрьская революция в России не оправдала ожида¬
21 Pestaña, Ángel: Memoria que al Comité de la Confederación Nacional del Trabajo on the II Congreso de la Tercera Internacional. Peirats, José: Los anarquistas en la crisis política de España, 1976.
22 Pestaña Á. Setenta días en Rusia. Lo que yo vi. Barcelona, Tipografía Cosmos. (S. data), p. 196.
23 Avilés, Juan: El impacto de la revolución rusa en las organizaciones obreras españolas (1917-1923), Espacio, Tiempo y Forma. Serie V. Historia Contemporánea, 13 (2000), P. 28-29; Vadillo J. Por el pan, la tierra y la libertad. El anarquismo en la Revolución Rusa. Guadalajara, Volpük, 2017.
24 Goldman, Emma: My Disillusionment in Russia. New York, Double Day, 1923. [Эмма Гольдман, «Мое разочарование в России»]
246 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
ний ее представителей. Анализ ситуации в СССР, проведенный Фернандо де лос Риосом в его книге «Путешествие в Советскую Россию» ( Viaje a la Rusia Sovietista)25, наиболее ярко отразил мысли социалистов по поводу происходивших в России событий, включая и преимущества, и недостатки ее политической системы. Фернандо де лос Риос и Даниэль Ангиано были делегатами от ИСРП на Втором конгрессе Третьего Интернационала, играя для своей организации ту же роль, что Анхель Пестанья для своей. Рафаэль Мерино, представитель Третьего Интернационала в Испании, выступал в этом же качестве от лица зарождающейся КПИ. Но если Мерино был в восторге от принимавшей стороны, остальным представителям Испании вовсе не понравилось то, что происходило в Советской России. Высказанные ими взгляды - примеры того, насколько привлекала их Москва и принятые там порядки, или же, напротив, выражение их критического отношения к бескомпромиссности, утвердившейся в России.
Фернандо де лос Риос провел сравнение ряда аналогичных культурных черт в испанских и русских песнях. Он считал песни связующим звеном между двумя странами в том, что касалось выражения страданий и лишений простого народа. Став свидетелем изменений в стране Советов после Октябрьской революции, автор представил яркую панораму социальной жизни и политических действий. Он не остался безразличным при виде изнуренных жителей Петрограда, таскавших мешки на спинах26. Задавшись вопросом, было ли это пережитком былого неравенства или же неравенство сохранялось и в 1920 году, он ясно высказал мнение: «главное, что беспокоит любую семью, это где достать еду...» и «[коммунисты] переносят трудности с энтузиазмом и жертвами ради достижения идеала»27. Такое положение сложилось в результате многих лет войны, нехватки продовольствия и международной блокады. Автор книги увидел общество, по-прежнему переносившее лишения, стремясь достичь мессианского идеала - упразднения несправедливости. Но граждане этой страны, безусловно, становились жертвами террора и отчуждения, поскольку общественные разграничения отменены не были, зато созданы новые, основанные на том, является человек членом коммунистической партии или нет.
25 Фернандо де лос Риос родился в г. Ронда в 1879 году и умер в эмиграции в 1949 году. В годы Гражданской войны в Испании он был испанским послом в США.
26 Ibidem. Р. 52-53.
27 Ibidem. Р. 89.
Магдалена Гарридо Кабальеро 247
Типичной картиной в советских городах, как отмечал де лос Риос, было повсеместное присутствие коммунистической пропаганды, с помощью которой простым людям внушали нужные власти идеи28. «Политические принципы Коммунистической партии и страны таковы: диктатура пролетариата осуществляется одной партией, имеющей право интерпретировать все методы и социальные задачи»29. Что касается свободы, понимаемой автором как цель достижения полноценного социалистического общества, то Ф. де лос Риос считал, что для людей это была чрезмерная политическая нагрузка. Отсюда его скрытый пессимизм в текстах о Советской России - роль пролетариата здесь была сведена к минимуму. Его заключительные размышления представляют собой откровенные предостережения относительно отсутствия свободы в советской системе.
С либеральной точки зрения свои впечатления об СССР выразил Диего Идальго, написавший книгу «Испанский нотариус в России» (1929). По профессии нотариус, он был членом общества «Друзья Советского Союза»30. Идальго поразила бедность русских хозяйств и невероятная образованность многих их обитателей - например, некоего Корсунского, бегло говорившего на испанском, который проживал в скромной комнатушке, заваленной книгами и журналами. Такие примеры дают представление о населении, разделяющем великие гуманистические и культурные ценности. Тем, кто пожелает более детально узнать Советский Союз, Идальго рекомендовал «Путеводитель по территории СССР», который на разных языках издавало БОКС (Всесоюзное общество по культурным связям с заграницей). Автор мимоходом описал и само это учреждение, отвечавшее за организацию контактов между советскими и зарубежными организациями, представив его как нейтральное учреждение, отделы которого занимались поддержкой исследований заинтересованных иностранных граждан31. На Идальго произвели глубокое впечатление встречи с А. Деренталем, который, работая в латиноамериканском пресс-бюро, был одним из редакторов «Бюллетеня БОКС». Деренталь обожал испанскую культуру, у него были контакты с такими известными писателями, как Перес Гальдос, Валье-Инклан и Бароха. Возглавляла БОКС
28 Ibidem. Р. 53, 63,
29 Ibidem. Р. 122.
30 Hidalgo, Diego: Un notario español en Rusia. Madrid, Alianza, 1985. P. 29. Впервые опубликована издательством Cénit в 1929 г.
31 Ibidem. P. 139-140.
248 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
О.Д. Каменева, сестра Троцкого. Однако, как отметил Идальго, ни одной фотографии Троцкого он не видел: борьба с оппозицией была неумолимой32.
Хотя Идальго не раз высказывал восхищение увиденным в Советском Союзе, его жизненный опыт и интуиция позволили ему сравнить в этой книге государственное устройство России со структурой религиозной организации, а именно, с иезуитами, а также предложить читателям, точь-в-точь как на жанровых картинах в стиле костумбризма (бытовизма), живописные зарисовки обычаев жителей России. Он описал слишком частые и долгие разговоры по телефону, красоту русских женщин, свободу в обращении друг с другом, болезненность людей, еду и напитки, недостатки административного управления, главные туристские достопримечательности и символы. Такие более прозаические впечатления, однако, как раз лучше всего показывают нам советское общество со всеми его шаблонными атрибутами.
Журналист Мануэль Чавес Ногалес находился в Советском Союзе с августа по ноябрь 1928 года33. Впечатления от поездки отразились в его репортажах, которые печатались в газете Heraldo de Madrid, пока она не перестала выходить в ноябре 1928 года34. А годом позже эти репортажи опубликовало издательство «Мун- до Латино» в книге «Вокруг Европы на самолете», причем в нее вошли некоторые не пропущенные цензурой фрагменты, а также неопубликованные репортажи автора. Эта книга - попытка беспристрастного репортажа о жизни в СССР. Она книга содержит детальную панораму всего того, что либеральный взгляд Диего Идальго смог зафиксировать на советской территории. Чавес посвятил Советской России несколько произведений35, причем в книге «Вокруг Европы на самолете», переизданной в 2012 году, он отобразил многие аспекты советского режима, посвятив особое внимание переменам, происходившим в обществе. Чавес описал Россию как «страну-подростка», поскольку она достигла лишь десятилетнего возраста после хаоса в годы революции и гражданской войны. Вместе с тем с позиции 1928 года он считал нереаль¬
32 Hidalgo, Diego: Un notario español en Rusia. P. 146.
33 Этот журналист родился в Севилье в 1897 году. Жил в эмиграции во Франции и в Великобритании, где и умер в 1944 году.
34 Heraldo de Madrid, 30 November 1928.
35 Он написал La vuelta a Europa en avión. Un pequeño burgués en la Rusia roja (1929), Lo que ha quedado del imperio de los zares (1931); El maestro Juan Martínez que estaba allí ( 1934); Juan Belmonte, matador de toros, su vida y sus hazañas (1935).
Магдалена Гарридо Кабальеро 249
ной возможность какой-либо инволюции существующей политической системы ввиду уже произошедших перемен и связанных с ними последствий. По мнению автора, Советское государство выжило, пожертвовав коммунистической теорией, превратившись в страну государственного капитализма. Разжигая национализм, оно предало забвению свои экспансионистские притязания и создало новую аристократию - Партию, тем самым продемонстрировав как радикальные, коренные перемены, так и недоработки в советском обществе, которое, находясь под постоянным надзором и принуждаемое к дисциплине, изнемогало от голода в процессе построения общества будущего. Анализируя достигнутое, Чавес особое внимание уделил контрастам между городами и далеко расположенными от Москвы селениями. Он писал и о конфликте поколений - между более приспособленной к новым условиям молодежью и старшим поколением, с трудом пытающимся освоить и воспринять случившиеся перемены. Говорит автор и о политических репрессиях и ряде культурных отсылок в связи с цензурой прессы, превратившейся лишь в орудие пропаганды и перестав выполнять роль канала получения информации, что способствовало изоляции советского общества и неприятию официальной информации.
В совокупности взгляды упомянутых авторов предлагают несколько приблизительных оценок советской реальности, со всеми ее плюсами и минусами. Нет, однако, никакого сомнения в том, что официальная позиция правительства Испании определяла отношение к установлению двусторонних отношений с СССР. За годы существования Второй республики и в связи с политическими переменами Испания прошла путь эволюции от отказа признавать СССР до официального признания и установления дипломатических отношений.
Вместо заключения
В год, когда в России отмечается столетие революции, все описанные репортажи и произведения позволяют воспроизвести образ СССР, который предлагался испанским читателям в 1920-е годы - ведь авторы этих произведений в своем желании узнать новое и обойти цензурные ограничения, открывали для себя общество, как им казалось, предлагающее путь к светлому будущему. Их взгляды формировались на основании того, что удалось
250 Российская революция 1917года и ее место в истории XXвека
успешно достичь Советской России. Но все же от внимания испанцев не ускользали недостатки, которые, в том числе, объясняют, почему некоторые левые политические партии не присоединились к Коминтерну.
Еще через десять лет, в контексте гражданской войны в Испании, стандартные представления относительно «советского рая» и «советского террора» сохранялись неизменными, поскольку их видели через разные идеологические призмы. Антикоммунистическая версия господствовала в годы диктатуры Франко, хотя постепенно в ходе эволюции режима сменилась более плюралистической картиной.
Очевидно, что прежде чем мы сформируем какое-либо мнение, важно избегать позиции, описанной известным испанским историком Хавьером Тусселем: «Худшее, что на Западе предпочитают применять на практике, порой преднамеренно, это радикальное невежество»36.
36 fuseli, Javier. La URSS y la perestroika desde España. Madrid, ICE, 1988. P. 179.
Советский Лимерик
Е.Ю. Полякова
Трудно представить страну, более далекую от России, чем Ирландия. Тем не менее отзвуки нашей революции докатились и до нее, оказав на происходившие там события некоторое влияние. Надо отметить, что и в Ирландии этот период был временем революционных потрясений: 1916-1923 годах - время ирландской национальной революции, в ходе которой она обрела независимость.
Ирландцы знали о Февральской революции, об этом писала ирландская пресса, и национально ориентированные силы, прежде всего партия Шин Фейн, приветствовали свержение монархии и провозглашение республики. Особенно вдохновлял ирландцев лозунг о самоопределении наций. В июле 1917 года на международной социалистической конференции в Стокгольме ирландские делегаты в своей программе отмечали, что «Ирландия и Англия находятся между собой в таком же отношении, как Финляндия и Россия. Если социалистический интернационал объявил финляндский вопрос международным и признал за финляндцами право полного самоопределения, такое же право должно быть признано и за ирландцами»1. На него ссылались шинфейнеры в обращении к Парижской мирной конференции.
Революционные события в Ирландии носили национальнобуржуазный характер. Революция в Ирландии была борьбой за независимость, за национальное освобождение, которую возглавила национальная буржуазия. Дело в том, что рабочее движение
1 Архив внешней политики Российской империи (АВПРИ). Ф. 140. Оп. 477. Д. 348. Л. 9.
252 Российская революция 1917года и ее место в истории XXвека
в Ирландии было слабым в силу неразвитости капиталистических отношений (за исключением Ольстера) и расколотым по религиозному признаку, который совпадал с социальным. Лейбористская партия была образована только в 1912 году, тогда она объединилась с Ирландским Конгрессом тред-юнионов, который состоял преимущественно из квалифицированных рабочих, в большинстве своем протестантов. В составе этой рабочей организации (сокращенно ИКТЮЛП) в 1917 году возникла небольшая группа социалистов, называвшая себя Ирландской социалистической партией (СПИ), которую возглавил известный деятель рабочего движения Вильям О’Брайен, прозванный ирландским Лениным. Это было время революционных потрясений, и СПИ на короткое время стала авангардом рабочего движения, сумев привлечь на свою сторону его наиболее радикальных деятелей. Один из них вспоминал, что в тот период все восхищались Февральской революцией в Петрограде, и от имени ИКТЮЛП было послано поздравление Петроградскому Совету по случаю его создания2.
Октябрьская революция вызвала большой энтузиазм ирландских социалистов, и они, как и лейбористы, поддерживали выдвинутую большевиками антивоенную программу мира без аннексий и контрибуций, основанную на принципе национального самоопределения. Изначально СПИ исповедовала идеи синдикализма, но после Октябрьской революции стала проявлять большой интерес к Советской России и большевизму, который в тот период воспринимался как синоним лейборизма. Для ирландцев с точки зрения республиканской перспективы не было больших различий между царским и Временным правительством, тогда как большевики с их антивоенной политикой и поддержкой национального самоопределения казались близкими к идеям Шин Фейна. Немаловажное значение для ирландцев имела позиция Ватикана, который воспринял отделение Православной Церкви от государства как возможность для распространения в России католицизма.
В феврале 1918 года СПИ провела в Дублине десятитысячный митинг в поддержку большевистской революции. Тогда же орган лейбористской партии газета “Voice of Labour” в статье, озаглавленной «Если большевики придут в Ирландию», писала: «Мы приветствуем русскую революцию, и наши сердца отвечают на при¬
2 Emmet O'Connor. Bolshevism as Foreign Policy // Ireland after the Rising 1916-1918 Changed Utterly. Dublin. 2017. P. 42.
Е.Ю. Полякова 253
зыв русского народа объединиться с рабочими Европы в борьбе с империализмом и капитализмом»3.
На конференции социнтерна в Берне в 1919 году ирландские делегаты, представлявшие лейбористов и социалистов, по вопросу об Октябрьской революции не поддержали резолюцию о парламентской демократии, поскольку она осуждала советскую систему правления, а проголосовали за резолюцию Адлера-Лонге в защиту диктатуры пролетариата.
Период 1918 - начала 1920-х годов стал временем нехарактерного для Ирландии подъема рабочего движения, происходившего, на фоне революционных событий в Европе и, в том числе, под влиянием Октябрьской революции. Ирландский Конгресс тред-юнионов увеличил свою численность со 111 000 в 1914 году, до 250 000 в 1920 году и до 300 000 в 19214. В 1920 году на митинге Ирландской гражданской армии5 в Дублине по поводу третьей годовщины Октябрьской революции была принята резолюция, в которой говорилось: «Ирландская гражданская армия приветствует героическую Красную Армию Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, поздравляя ее по поводу трехлетней героической борьбы... от всего сердца выражает свою симпатию революционной борьбе за освобождение пролетариата; обращает внимание своих русских товарищей по оружию на борьбу в Ирландии, которая, мы верим, является лишь частью мировой борьбы, развернувшейся в России и клянется..., что будет продолжать... борьбу, ведя ее всеми способами, - пока не добьется полной победы эксплуатируемых масс над эксплуататорами»6.
По стране прокатилась волна рабочих выступлений и забастовок. В 1919 году 100 000 рабочих приняли участие в праздновании 1 мая дня труда. В 1920 году в Ирландии произошло 233 забастовки, вчетверо больше, чем во время войны. Почти каждый ирландский город пережил всеобщую забастовку. Рабочие захватывали предприятия: шахты, железные дороги, фабрики, создавали рабочие Советы как органы управления, вывешивали красные флаги, объявляли себя большевиками и выдвигали экономические требо¬
3 Ibid. Р. 44.
4 Robert Nielsen. Irish Soviets 1919-23 // URL: https://whistlinginthewind. org/2012/10/08/irish-soviets-1919-23/
5 Рабочая военизированная организация. Создана в 1908 году для защиты рабочих от произвола полиции. Участвовала в Дублинском восстании 1916 году.
6 Резолюция Ирландской гражданской армии. Журнал Коммунистический Интернационал. Коллекция ЦСПИ. № 16. М.; Пг. 1921. С. 3779—3782.
254 Российская революция 1917 года и ее место в истории XXвека
вания. Добившись своих целей, возвращались на работу. Длилось это, как правило, несколько недель. Во время войны за независимость (1919-1921 годы) в Ирландии было создано более 100 Советов7 в различных городах и графствах. Этому довольно много примеров. Даже в Белфасте в январе 1919 года Совет управлял городом во время всеобщей забастовки. В 1920 года транспортные рабочие отказались перевозить британские войска и вооружение. Эта забастовка была настолько успешной, что британская армия фактически лишилась возможности перемещаться по стране8. В этот период многие полагали, что большевизм представляет для британской власти не меньшую угрозу, чем Шин Фейн. Не случайно название книги, посвященной забастовке в Лимерике, звучит так: «Забытая революция. Советский Лимерик 1919, угроза британской власти в Ирландии»9.
Один из современных авторов, обсуждая историческую возможность альтернативного пути развития Ирландии, писал о ее схожести с Россией. Как страна аграрная, религиозная и консервативная, в ней вероятна революция, подобная российской10.
В целом же социальные движения периода ирландской революции мало известны, и не получили должного освещения не только в российской и советской, но и в ирландской историографии, хотя на определенном этапе по значимости стали вровень с национальной борьбой. Рабочее и советское движение было подавлено с помощью военной силы, но его наиболее яркие эпизоды, проявления остаются в исторической памяти.
Среди них - события в Лимерике в 1919 году. Поводом послужила смерть 6 апреля Роберта Бирна, известного тред-юниониста и республиканца, члена ИРА. Бирн работал телефонистом на почтамте и в январе 1919 года потерял работу по политическим мотивам после присутствия на похоронах ирландского волонтера. Он был арестован британскими властями и приговорен к 12 месяцам тюрьмы и тяжелым работам формально за владение оружием. В тюрьме он стал лидером заключенных-республиканцев и начал
7 Слово Совет стало популярно в Ирландии после создания Петроградского Совета и применялось в различных ситуациях. Когда рабочие захватывали предприятия и управляли ими. Оно стало синонимом прямых действий рядовых членов тред-юнионов, угрожавших официальному руководству.
8 Robert Nielsen. Op. Cit.
9 Liam Cahill. Forgotten Revolution: Limerick Soviet 1919, a Threat to British Power in Ireland. Dublin, 1990.
10 Conor Kostick. Revolution in Ireland. Popular Militancy 1917-1923. Cork, 1996.
Е.Ю. Полякова 255
кампанию за статус политзаключенных. В ответ на репрессии и издевательства тюремных властей объявил голодовку. Несмотря на цензуру и запрет публикаций, сведения просочились, и в городе начались митинги и демонстрации в его поддержку.
На специально созванной конференции Лимерикского совета тред-юнионов и лейбористской партии была принята резолюция в поддержку политзаключенных против жестокого обращения и бездействия медицинского персонала и юристов. Обеспокоенные состоянием здоровья Бирна после трехнедельной голодовки тюремные власти перевели его в медицинскую палату работного дома.
Товарищи Бирна предприняли неудачную попытку его освобождения, в ходе которой он был убит. После того как на похороны вышло 10 тысяч человек, власти объявили в городе военное положение. Это значило, что для передвижения по городу было необходимо получать пропуск. А география города была такова, что жилые рабочие районы располагались вне городской черты, и, чтобы попасть на работу, нужно было пройти четыре пропускных пункта. Чтобы получить пропуск, необходимо было получить разрешение от местного полицейского сержанта с подтверждением лояльности властям. Рабочие, члены республиканских организаций, не могли его получить и, соответственно, не могли выйти на работу. Люди были изолированы друг от друга. Кроме того, потребовалось увеличить число полицейских, что увеличивало налоги. Решением о военном положении было затронуто несколько тысяч человек. Помимо этого, две крупнейшие молочные фабрики оказались отрезаны от города, что означало перебои с молоком.
Решение о всеобщей забастовке было принято на специальной встрече делегатов 35 отделений союзов, аффилированных в Конгресс тред-юнионов. Были напечатаны и расклеены прокламации, создан стачечный комитет во главе с Джоном Крониным, а также подкомитеты, отвечающие за пропаганду, финансы, питание. Стачка готовилась всерьез и надолго.
4 апреля 14 тысяч человек (из 38 тысяч населения города) не вышло на работу. Все городские учреждения были закрыты. Созданный для управления забастовкой стачком стал называться Советом, и только с его разрешения могли работать магазины и другие учреждения. Он контролировал продажу продуктов и цены, которые были в два раза ниже обычных. В городе был абсолютный порядок. Большинство союзов платило взнос в фонд забастовки, но денег не хватало. Тогда было решено печатать соб¬
256 Российская революция 1917 года и ее место в истории XXвека
ственные деньги достоинством в 1, 5 и 10 шиллингов11 и их должны были принимать магазины. На купюрах был напечатан лозунг «Против британского милитаризма».
Забастовка в Лимерике стала успешным примером самостоятельности и сплоченности рабочего класса, его организационных возможностей. Выпускаемый стачкомом Рабочий бюллетень 21 апреля 1919 г. писал: «Была выработана новая и совершенная система организации, и мы покажем всему миру, на что способны ирландские рабочие, если опираются на собственные силы»11 12.
В это время в городе оказались иностранные журналисты, съехавшиеся для освещения трансатлантического перелета в Америку летчика майора Вуда, который должен был взлетать со специально построенной полосы вблизи Лимерика. Каждый вечер забастовочный комитет по пропаганде давал брифинг для журналистов, откуда сообщения попадали в мировую прессу. Газеты отмечали царящий в городе порядок и чувство солидарности среди рабочих, которым сочувствовали некоторые полицейские и военные, многие священники, их поддержали рядовые члены тред-юнионов, оказывая помощь продуктами и всем необходимым.
Несмотря на то что события в Лимерике носили чисто национальный характер, британские власти боялись солидарных действий со стороны английских рабочих. Английская пресса делала все возможное, чтобы отобрать у ирландских рабочих их завоевания и возложить ответственность за забастовку на Шин Фейн в надежде, по мнению Рабочего бюллетеня, обмануть английских рабочих. «Это забастовка рабочих, а не шинфейнеров, как и любое другое выступление против тирании и бесчеловечного угнетения, - писал бюллетень, - Томми (британский солдат) не наш враг и должен понять, что является орудием своего империалистического, капиталистического правительства»13.
Забастовщики нуждались в поддержке со стороны руководства рабочим движением и рассчитывали на объявление всеобщей национальной забастовки в стране. Но прибывшие в город члены национального исполкома Конгресса тред-юнионов вместо обещанной поддержки бастующих и объявления всеобщей забастовки призвали к ее прекращению. Причин было несколько. Конгресс
11 Одна из 10-шиллинговых банкнот была в 1999 г. продана на аукционе за 340 фунтов стерлингов.
12 David Lee. The Munster Soviets and the Fall of the House of Cleeve // Made in Limerick. Limerick. 2003. V. 1. P. 294
13 Ibid.
Е.Ю. Полякова 257
не обладал поддержкой тред-юнионов Ольстера, которые выступали против забастовки. Многие рядовые тред-юнионисты были связаны с шинфейнерами, выступавшими против социальных движений. Возглавлявшие борьбу за независимость национальные силы в лице национальной буржуазии и среднего класса не поддерживали социальные движения, во-первых, с классовых позиций, а во-вторых, считая, что они отвлекают от главной задачи освободительной борьбы - обретения независимости. Возглавлявшие национальное движение того периода шинфейнеры, поддерживаемые католической церковью, решительно выступили против большевизма (как они считали) и радикализма Советов. Негативное влияние оказали и религиозные гонения в России, о которых было известно в Ирландии.
Ирландские тред-юнионы не были самостоятельны, они опирались на английские и многие входили туда организационно, как, например, железнодорожники. В то же время ирландские тред- юнионы находились под сильным влиянием синдикалистских идей, тогда как британские выступали за экономическую борьбу и не поддерживали политическую, оставляя ее политическим партиям. Считая лимерикскую забастовку слишком политизированной, они запретили ирландским профсоюзам в ней участвовать. Отказ британских тред-юнионов поддержать забастовочные действия в Лимерике нанес смертельный удар идее всеобщей забастовки. В ходе переговоров со стачечным комитетом под давлением мэра Лимерика (шинфейнера) и местного епископа были предприняты усилия по окончанию забастовки. В результате компромиссного решения в городе отменялось военное положение, и рабочие возвращались на работу. 27 апреля забастовка закончилась.
Как оценивать события в Лимерике? Были они победой или поражением? Конкретная задача была выполнена: военные пропуска были отменены, и это был важный шаг в развитии гражданских свобод. Кроме того, на протяжении двух недель успешно просуществовала модель рабочего управления городом, ставшая, по мнению проправительственной газеты “Irish Times”, «смелым экспериментом ирландского синдикализма»14. Однако в более широком контексте советское и в целом рабочее движение потерпело
14 Цит. по: The Limerick Soviet April 1919: The Triumph of the Limerick Trade Council. An Overview by Frank Prendergast. Limerick, 2013. P. 9. // URL: http:// www.limerickcity.ie/media/limerick%20soviet%2016.pdf
258 Российская революция 1917года и ее место в истории XXвека
поражение. Советский Лимерик был крупнейшим достижением ирландского рабочего движения революционного периода, однако оно не нашло поддержки в стране. После Лимерика национализм оставался движущей силой ирландской революции.
Вудро Вильсон и большевики (от Февраля к Октябрю 1917 года)
С. В Листиков
Мировая война и порожденный ею революционный кризис, начало которому было положено Великой русской революцией 1917 года, осуществили качественный перелом в судьбах народов. Этот перелом позволил ярко проявить свои таланты плеяде блестящих политиков и мыслителей, противоборство которых, в свою очередь, во многом определяло вектор развития человечества. К этой группе без сомнения принадлежали президент США Т. Вудро Вильсон и вождь российских большевиков В.И. Ульянов-Ленин.
Открыто их соперничество проявило себя с 7 ноября 1917 года. О нем много написано как отечественными, так и западными исследователями1. Но противостояние двух лидеров, их идей и ведомых ими сил стало набирать обороты с весны. Именно период от Февраля к Октябрю 1917 года позволяет понять, почему отношения В. Вильсона и вождя «новых хозяев России» впоследствии приобрели столь сложный, неоднозначный характер.
Известно, с каким неподдельным воодушевлением встретили за океаном общество и политическая элита, включая хозяина Белого дома и его ближайшее окружение, известия о Февральских событиях в Петрограде. Ни сам президент, ни его ближайший
1 Мальков В.Л. Вудро Вильсон и новая Россия (февраль 1917 — март 1918 гг.) // Новая и новейшая история. 2000. № 1. С. 123-133; Foglesong D. America’s Secret War Against Bolshevism: US Intervention in the Russian Civil War, 1917-1919. Chapel Hill, 1995; Kennan G.F. Russia Leaves the War. Princeton, 1956; Idem. The Decision to Intervene. London, 1958; Unterberger B.M. Woodrow Wilson and the Bolsheviks: The “Acid Test” of Soviet-American Relations // Diplomatic History. 1987. Voi. 11, № 2 (Spring), P. 71-90.
260 Российская революция 1917года и ее место в истории XXвека
советник по внешнеполитическим вопросам Э. Хауз, ни госсекретарь Р. Лансинг, владевшие «русской темой» весьма поверхностно; ни доверенные специалисты по «русским делам» - профессор Чикагского университета С. Харпер, предприниматель, филантроп, друг президента Ч.Р. Крейн, ученый и журналист Дж. Кен- нан не ожидали той легкости, с которой пал несимпатичный им царский режим, казалось, обладавший завидной степенью прочности2.
К этому моменту В. Вильсон, человек сложный и противоречивый, успешный ученый и искушенный политик, в своей стране приобрел заслуженную репутацию реформатора, искавшего и в делах внешнеполитических новаторские подходы (вспомним сложный поиск отношений США с революционной Мексикой в 1914-1917 годах). Это объясняет, почему для президента уже первые недели существования либерального Временного правительства стали временем не только надежд, но и смутных сомнений в благополучном течении русской революции. Трудно было не услышать предостережений работавшего в России Ф. Вандер- липа из «Нэшнл сити бэнк» или Т. Уитемора из Американской лиги реконструкции, или не принявшего революции, покинувшего пост посла России в США Ю.П. Бахметева. А они посчитали, что в Феврале «камень покатился» и впереди страну ожидает «обвал», внутренние смута и междоусобица, а в итоге - левая или правая диктатура3. Менялась в марте-апреле и позиция посла в России Д. Фрэнсиса, основанная на мнениях консулов в Москве М. Саммерса и в Петрограде - Н. Уиншипа, и американских военных наблюдателей. А они доносили, что социалисты, опиравшиеся на поддержку взбудораженного революцией народа, вели
2 Ганелин Р.Ш. Россия и США. 1914-1917: Очерки истории русско- американских отношений. Л., 1969. С. 154-177; Filene Р Americans and the Soviet Experiment, 1917-1933. Cambridge, 1967. P. 10-16; Lasch Ch. The American Liberals and the Russian Revolution. New York, 1962. P. 27-30, etc.
3 Th. Whittermore to Ch.R. Crane, March 14/27 // Bakhmeteff Archive. Columbia University (New York). Ch.R. Crane Papers. Box 2; S. Harper to R.Williams. April 18, 1917 // Ibid. Box 2; Будницкий О.В. Б.А. Бахметев - посол в США несуществующего правительства России // Новая и новейшая история. 2000. № 1. С. 139, 141-142. Отметим, что как катастрофу Февральские события оценили некоторые американцы, знавшие Россию, но Вильсону неизвестные, в частности, военный корреспондент С. Уошборн, еще в 1914 году отправившийся на Русский фронт от лондонской «Таймс» (S. Washburn to Lord Northcliffe. March 23, 1917 // Manuscript Division, Library of Congress. S. Washburn papers. Box 1. (Далее: MD LC).
С. В. Листиков 261
себя в Петрограде по-хозяйски, через самочинный Совет рабочих и солдатских депутатов фактически управляли ситуацией и контролировали признанное западными державами Временное правительство. И среди левых особую угрозу таило радикальное меньшинство - большевики4.
После вступления США в войну 6 апреля президент с головой окунулся в вопросы участия в ней страны: организации экономики, мобилизации общества, строительства армии. Внимание Вильсона к происходившему в России было ослаблено. Тем более что во внешней политике «русское направление» приоритетным не было. Но течение русской революции, приобретавшее все более очевидный левый крен, набиравшая силу тенденция выхода России из войны все более тревожили Вильсона, втянувшего США в ряды антигерманской коалиции. Все же президент, связывавший демократический выбор России с либералами во власти - Г.Е. Львовым, П.Н. Милюковым, А.И. Гучковым, плохо представлял себе российское социалистическое движение. Даже к умеренной его части он относился с большим предубеждением, не попытавшись толком понять и использовать его расхождения с крайне левыми.
Их образ, складывавшийся от Февраля к Октябрю, оказался весьма устойчив как у американских наблюдателей в России, так и у политиков в США. В оценках большевиков звучали непонимание и уважение, страх и ненависть. Их вполне адекватно считали силой, которая вела за собой меньшую, наиболее угнетенную часть общества. Но во взбаламученной революцией стране большевики настойчиво набирали очки5. Эта тенденция стала определяющей после возвращения из эмиграции 16 апреля их подлинного лидера В.И. Ленина. Упомянем, что его вояж в Россию в изображении посла США в Швейцарии П. Стоувалла оброс немалыми детективными подробностями, давая повод заподозрить в этом предприятии «руку Берлина», заинтересованного в выводе России из войны и дестабилизации ситуации в стране. Тем более что, как это виделось из-за океана, Ульянов был человеком железной воли, фанатично преданным революции, ради достижения цели
4 D. Fransis to the Secretary of State. March 21, 1917 // National Archives. Record Group 59. 861.00/293. (Далее — NA. RG 59); N. Winship to the Secretary of State. April 3, 1917 // Ibid. 861.00/345; N. McCully to War College Division. April 3, 1917 // Ibid. RG 165. F.6497-23. Box 121. (Далее - WCD), etc.
5 D.Fransis to the Secretary of State. April 21, 1917 // NA. RG 59. 861.00/327; N. Winship to the Secretary of State. April 30, 1917 // Ibid. 861.00/386; Idem. May 15, 1917 // Ibid. 861.00/ 395, etc.
262 Российская революция 1917 года и ее место в истории XXвека
готовым не стесняться в средствах, прекрасным тактиком, организатором и конспиратором6. И эти качества вождю и казавшейся единой когорте его соратников — Л.Д. Троцкому, Л.Б. Каменеву, Г.Е. Зиновьеву и другим — удалось передать и всей большевистской организации. А она была опасна своей сплоченностью, умением беспрекословно повиноваться воле вождей, стойко переносить боль поражений и возрождаться, пополняя свои ряды новыми тысячами сторонников, прежде всего рабочих и солдат.
До Вашингтона, особенно в сообщениях консула в Петрограде Н. Уиншипа, нашедшего для себя главную тему русской революции - «радикальное и социалистическое движение в России», - долетали пассажи из документов и выступлений лидеров партии большевиков. При чтении их американец мог «задохнуться от негодования». Ведь большевики обещали России социалистические революцию и республику, диктатуру пролетариата, невиданный ранее радикальный социальный эксперимент - ужасы, способные напугать любого добропорядочного заокеанского гражданина. А вот Уиншип считал, что в обстоятельствах революционного кризиса сила «ленинцев» была в прямоте и ясности лозунгов, понятных простому человеку7.
До ушей хозяина Белого дома имя Ленина и информация о действиях его соратников так или иначе доходили. 11 мая госсекретарь передал президенту донесение Д. Фрэнсиса от 24 апреля о том, что перед толпой на Невском проспекте, собравшейся протестовать против казни в США Т. Муни, выступал какой-то итальянский анархист, но «не Ленин»8. Запомнилось выступление «человека, которого звали Ленин», и прогрессивному американскому журналисту Л. Стеффенсу, весной приехавшему изучать русскую революцию (вслед за мексиканской). По возвращению в США в Белом доме 26 июня он изложил президенту левую версию того, чему стал
6 N.Winship to the Secretary of State. April 23. 1917 // NA. RG 59. 861.00/371; P. Stovall to the Secretary of State. April 27,1917 // Ibid. 861.00/334; Living Age. 1917. June 3. P. 572-573; The Nation. 1917. April 26. P. 482-463, etc.
7 N. Winship to the Secretary of State. May 15, 1917 // NA. RG 59. 861.00/395; D. Fransis to the Secretary of State. June 23, 1917 // Ibid. 861.00/ 398; W Judson to the Secretary of State. Oct. 7. 1917 // Ibid. 861.00/618.
8 R. Lansing to W Wilson, May 11, 1917 // The Papers of Woodrow Wilson / Ed. A.S. Link. Voi. 42. Princeton, 1983. P. 273. (Далее - PWW). Сам Д. Фрэнсис не слышал имени рабочего лидера Т. Муни, в 1917 году осужденного на смертную казнь по сфабрикованному против него обвинению. После массовых протестов во многих странах и личного вмешательства В. Вильсона приговор был заменен на пожизненное заключение.
С. В. Листиков 263
свидетелем в России9. Отметим, что вояж журналиста через океан был вызван желанием творцов внешней политики США, Вильсона и Хауза, глубже разобраться с неблагоприятным для интересов их страны изменением ситуации в России. И привлечь для ее оценки нестандартно мыслящих людей, знакомых с развитием левых течений и революционных процессов, как в России, так и за ее пределами. С начала века интересовавшийся темой русских революционных событий и эмиграции в США журналист А. Буллард, направленный в Россию летом 1917 года Э. Хаузом, в донесении ему 22 августа размышлял о том, в чем крылась причина силы и влияния большевиков. И особо выделил «страстную, почти апостольскую веру» их талантливых вождей в правоту своего дела. Буллард подтверждал ту значимую роль, которую играли в деятельности «ленинцев» немецкие деньги, открывавшие широкие возможности для организационной и пропагандистской работы. Наконец, большевистские лидеры умело использовали ошибки оппонентов во власти, прежде всего, умеренно левых10 11.
С получением подобной информации из разных источников, особенно после Апрельского кризиса, у хозяина Белого дома не могло сложиться иного мнения о политическом процессе в России как о таком, в котором социалисты, вытесняя либералов, подчиняли себе власть - будь то усиление их влияния в коалиционных кабинетах Временного правительства, контроль над ним Петросо- вета, или рост популярности в народе левых партий и идей. Это скатывание «влево» виделось Вашингтону чреватым большими бедами для России. И завершающий акт русской драмы — приход большевиков к власти - стал только крайней точкой падения.
Американские наблюдатели полагали, что большевики изначально не скрывали цели взять власть путем открытого выступления против правительства. И шли к ней, не сворачивая, через череду массовых действий и политических кризисов - от Апрельского с выступлениями 3—4 мая к демонстрации 1 июля (400—500 тыс. участников) и знаковой попытке переворота 16-18 июля. И даже серьезные поражения леворадикалов не останавливали, они быстро восстанавливали силы11.
9 The Autobiography of Lincoln Steffens. N. Y., 1931. P. 757-772.
10 A. Bullard to E. House. Aug. 22, 1917 // Yale-Sterling. E. House papers. F. 671. Box 21.
11 N. Winship to the Secretary of State. June 26, 1917 // NA. RG 59. 861.00/450; Idem. July 3, 1917 // Ibid. 861.00/1724; D. Fransis to the Secretary of State. Aug. 22,
264 Российская революция 1917года и ее место в истории XXвека
Американские дипломаты и военные за этим феноменом наблюдали с искренним изумлением. Привыкшие мерить события в других странах собственным аршином, они и большевикам подобрали в США, казалось, удачную аналогию - боевую анархосиндикалистскую организацию Индустриальные рабочие мира (ИРМ), снискавшую у миллионов законопослушных граждан репутацию разрушителя основ правопорядка и бескомпромиссного борца за радикальные идеалы, а потому безжалостно преследуемую властями* 12.
В США были уверены, что и в России смутьяны-большевики другого не заслуживали. Но там власть, в которой было полно социалистов, еще не избавившихся от восприятия леворадика- лов как соратников по общей борьбе с самодержавным режимом, с какой-то напускной вальяжностью и неуместной терпимостью относилась к действиям «товарищей» крайних взглядов, на полном серьезе нацелившихся на захват власти. Их действиям благоволила среда, созданная в годы войны народными бедствиями и тяготами. Масса простого люда выглядела апатичной. Но особо граждан США угнетало то, что даже буржуазные слои русского общества в большинстве своем реагировали на игры левых как-то обреченно и пассивно, их политическая активность и влияние партии кадетов падали13. Американцы же ждали от них совсем другого: энергичных действий в решающий для судеб Отечества час - во спасение своих жизни и собственности. Эти надежды увяли после поражения тех немногих, кто осмелился выступить вместе с генералом Л. Г. Корниловым (9-14 сентября); Россия, по мнению ряда американских наблюдателей - генерала У. Джадсона, М. Саммерса, утратила шанс на спасение14. Следствием стало то, что болыне-
1917 // Ibid. 861.00/467. Состоявшийся уже 8-16 августа VI съезд РСДРП (б) взял курс на подготовку завоевания власти путем вооруженного восстания.
12 ИРМ возникла в 1905 году, была немногочисленна и хорошо организована, пользовалась популярностью в рабочих «низах», возглавлялась преданными делу вождями (У. Хейвуд, Э. Флинн и др.), которые надеялись приблизить падение власти капитала, используя методы «прямого действия» - стачку, саботаж (Brissen Р The IWW: The Study of Americani Sindycalism. N.Y., 1957; Dubofsky M. We Shall be All: The History of the Industrial Workers of the World. Chicago, 1969).
13 N. Winship to the Secretary of State. June 19, 1917 // NA. RG 59. 861.00/439; J. Ray to the Secretary of State. May 15, 1917 // Ibid. 861.00/401; D. Fransis to the Secretary of State. May 16, 1917 // Ibid. 861.00/363, etc.
14 W. Judson to WCD. Sept. 11. 1917 // NA. RG 165. F. 8806-66. Box 362; M. Summers to the Secretary of State. NA. RG 59. 86100/602.
С.В. Листиков 265
вики остались один на один с Керенским, ветшавшей коалицией умеренных социалистов и либералов. Бытовавшие в Вашингтоне смутные надежды, что им удастся остановить железную поступь большевиков к власти, растаяли 7 ноября.
Отметим, что официальный Вашингтон не поддержал ни малосимпатичных ему умеренно левых, ни еще менее привлекательных сторонников военной диктатуры, оставшись на единственно возможной для него стезе поддержки Временного правительства. Понимая его шаткое положение, не желая тратить на его поддержку те ресурсы, в которых они сами нуждались для решения стратегической задачи — победы над Германией, лидеры США, однако, и для «русского партнера» сделали немало15. Американцы в России не оставались сторонними наблюдателями событий, особенно когда угрозой леворадикального переворота запахло в петроградском воздухе. Д. Фрэнсис задействовал все доступные каналы информации, чтобы наиболее точно оценить обстановку и выведать планы большевиков, пытался укрепить волю их оппонентов к решительным действиям. То же делали и У.Б. Томпсон и его помощник по миссии Американского Красного Креста (АКК) Р. Робинс, попытавшиеся организовать через комитет Общественного просвещения Е.К. Брешко-Брешковской пропагандистскую кампанию во спасение Временного правительства; они не ограничились простым присутствием на Демократическом совещании (27 сентября - 5 октября), ставшем ареной идейного столкновения вождей большевиков и их умеренных оппонентов. Все усилия, однако, оказались тщетными16.
Можно предположить, что президент до конца не терял веры в то, что сделанный русским народом в марте 1917 года выбор был
15 Назовем главное: дипломатическая поддержка (миссия Э. Рута, июнь- июль 1917 г.), работа в России миссий железнодорожной (Дж. Стивенса) и Американского Красного Креста (АКК - У.Б. Томпсона), открытие кредитов на сумму более 325 млн. долл., закупка в США и доставка в Россию товаров военного назначения (Дэвис Д., Трапи Ю. Первая холодная война. Наследие Вудро Вильсона в советско-американских отношениях / пер. с англ. М., 2002. С. 81-126; Лебедев В.В. Русско-американские экономические отношения (1900-1917 гг.). М., 1964. С. 214-361 ; Fike С. The Influence of the Creel Committee and the American Red Cross on Russian-American Relations, 1917-1919 // Journal of Modern History. 1959. № 2 (June). P. 94—95, 101—103, etc.).
16 См. подробнее: Ганелин Р.Ш. Указ. соч. С. 358-364, 370—402; Листиков С. В. США и революционная Россия в 1917 г. К вопросу об альтернативах американской политики от Февраля к Октябрю. М., 2006. С. 191 — 193,201—204, 372-375.
266 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
осознанным. Что в непредсказуемой ситуации нараставшей смуты, в противоборстве умеренных сторонников Временного правительства и его противников, включая леворадикалов, счастливую роль могли сыграть любые обстоятельства, включая внешний фактор американской помощи. Вашингтон демонстрировал завидное самообладание, ничем не выдавая неприязнь по отношению к терявшему почву под ногами Временному правительству. Но, как оказалось, сделанного заокеанским партнером было мало, чтобы серьезно повлиять на развитие событий, несших Россию осенью 1917 года к большевистскому перевороту с последующим выходом России из войны.
Фирменным знаком действий большевиков в первые месяцы их правления стали подготовка и заключение вынужденного, унизительного для России Брестского мира. А вот президент США уже годом ранее, в апреле-мае 1917 года, предполагал такую опасность, поскольку после революции на Россию обрушились сразу две грандиозные проблемы: внутреннего переустройства страны и продолжения участия в войне. И ее народ мог предпочесть заняться первой, сочтя войну «нетерпимым злом» и попытавшись договориться с германской коалицией17. В силу жесткой позиции США и союзников такой мир мог быть только сепаратным.
Столь незавидную участь и России, и союзникам, по мнению советников Вильсона по проблемам международной социал-демократии - правого социалиста У.И. Уоллинга, консервативного вождя Американской федерации труда С. Гомперса и ряда других — готовили умеренные лидеры меньшевистско-эсеровского Петросовета. Весной 1917 года Совет выступил с инициативой по достижению скорейшего мира «без аннексий и контрибуций». Как рассуждали в Вашингтоне, для осуществления «русской формулы» Петроград мог рассчитывать, прежде всего, на ее поддержку весьма влиятельными левых политическими силами нейтральных государств и Четверного союза. А уж они-то, безусловно, действовали с согласия, если не по воле берлинских властей. Увидев в действиях русских социалистов бездумное следование германской интриге, лидеры США и держав Согласия сорвали организацию социалистической конференции в Стокгольме (американские представители паспортов для участия в ней не получили)18.
17 J. Whitehouse Memorandum. April 14. 1917 // PWW. Vol. 42. P. 65-67; Sir C. Spring Rice to D. Lloyd George. April 26 1917 // Ibid. P. 140-141.
18 W.E. Walling to W. Wilson. May 3, 1017 // PWW. Voi. 42. P. 197-199; Idem. May 21, 1917 // Ibid. P. 364-365; Mayer A. Wilson vs Lenin. Political Origins of the
С.В. Листиков 267
При таком негативном восприятии в США даже инициатив умеренных русских социалистов, что говорить о требованиях, доносившихся с крайне левого фланга? А оттуда звучали призывы, в передаче их американцами, к достижению немедленного «мира любой ценой», обвинения в адрес Временного правительства в игнорировании воли граждан России к завершению «империалистической бойни», а в адрес западных союзников - в корыстной заинтересованности в ее продолжении* 19. Так что для вашингтонских политиков односторонний выход России из войны в марте 1918 года вполне логично вытекал из событий, случившихся годом ранее.
По мнению вильсонистов, якобы «мирные инициативы» были не единственным исходившим от социалистов злом, приближавшим Россию к преждевременному и бесславному завершению участия в войне. Ведь с весны 1917 года меньшевики и эсеры пытались восстановить боевой дух армии «революционно-оборонческими» инициативами. Но изменить настрой уставших от войны русских солдат они не могли, армия продолжала разлагаться. И большевистская пропаганда, откровенно антивоенная и антиправительственная, усиливала вредоносную тенденцию. Сообщая об этом в Вашингтон, американские военные наблюдатели - генерал У. Джадсон, военно-морской атташе Н. Мак- Калли, С. Уошборн и другие - с большой опаской восприняли начатое 1 июля 1917 года наступление на Русском фронте. Они понимали, что правительство «играло ва-банк» ради укрепления своего положения, улучшения состояния армии и тыла20. В оценках случившегося в столь решительный момент 16—18 июля в столице мятежа большевиков Н. Уиншип, У. Джадсон, Н. Мак-Калли высказывали мысль, что он был направлен, в том числе, и на срыв наступления, стал «ударом в спину» русским армиям21. После их поражения американцы все чаще проводили ту идею, что процесс распада боевого механизма России шел по нарастающей, и она
New Diplomacy. 1917—1918. Cleveland etc., 1964. P. 51—241; Wade R. The Russian Search for Peace. February-October 1917. Stanford, 1969.
19 N. Winship to the Secretary of State. June 19, 1917 // NA. RG 59. 861.00/434; Idem. July 24, 1917 // Ibid. 861.00/477; W. Judson to H. Scott. Oct. 1,1917 // MD LC. H.L. Scott Papers. Box 30.
20 F. Parker to WCD. May 5,1917 // MD LC. F. L. Parker Papers. Box 1 ; S. Wash- bum to N. Baker. July 8, 1917 // MD LC. N. Baker Papers. Box 4; W. Judson to WCD. Aug. 1, 1917 // NA. RG 165. F. 8807-67. Box 362, etc.
21 N. Winship to the Secretary of State. July 24, 1917 // NA. RG 59. 861.00/477; W. Judson to WCD. Aug. 1, 1917//NA. RG 165. F. 8807-67. Box 362; N. McCullyto WCD. RG 165. F. 6497-31. Box 121.
268 Российская революция 1917 года и ее место в истории XXвека
выпадала из войны. Так что большевики, взяв власть, только поставили последнюю точку.
Все сказанное не отрицает того, что «русские лозунги» всеобщего «мира без аннексий и контрибуций» были созвучны тем антиимпериалистическим идеям достижения справедливого «мира без побежденных» и строительства разумного миропорядка, о котором грезил сам хозяин Белого дома. «Заокеанский пророк» готовил себя к тому, что он во главе США мог стать идейным лидером антигерманской коалиции, убедив союзников принять выдвинутую им новую, построенную на демократических принципах, программу целей войны. Появление 1 августа мирной инициативы папы Бенедикта XV подсказало Вильсону, что на рынке миротворческих идей становилось все теснее и дальше откладывать ее разработку было нельзя. В сентябре для этого была собрана команда экспертов, известная как «Инквайри», руководство проектом взял в свои руки Э. Хауз. Но до завершения срока, отпущенного русской революцией Временному правительству, документ завершить не получилось. И знаменитые «14 пунктов» от 8 января 1918 года прозвучали уже как ответ взявшим власть большевикам, умело подхватившим лозунги «мира без аннексий и контрибуций», «самоопределения народов», «открытой дипломатии» ради решения собственных задач22.
Многое из сказанного выше — не о большевиках как таковых. На деле леворадикальная альтернатива после Февраля пробивала себе дорогу в России через непонятную и малоприемлемую для ведущих заокеанских политиков социалистическую толщу. Все настойчивее проявляя себя по ходу развития революционного кризиса, большевики приучали президента и его окружение к мысли о возможности своего появления во власти, восприятию себя как серьезной, все более состоявшейся силы, способной бросить вызов, говоря языком сегодняшнего дня, «коллективному Западу». И ответ на неординарный «русский вызов» мог потребовать от него немалых усилий, гибкой политики. Победа Ленина и его последователей в ноябре 1917 года предвещала России выход из опостылевшей ее народу войны посредством сепаратного мира и небывалый опыт радикального общественного переустройства. Наконец,
22 Листиков С. В. «14 пунктов» и формирование «русской политики» Вудро Вильсона // Российская история. 2015. № 6. С. 98-113; Gelfand L. The Inquiry: American Preparations for Peace, 1917-1919. New Haven, 1963; Link A. Woodrow Wilson. Revolution, War and Peace. Arlington Heights (111.), 1979. P. 12, 82-85, 95—97, etc.
С.В. Листиков 269
в противовес существовавшему до войны миропорядку и планам его качественного обновления вильсонистами Ленин и большевики предложили свою модель — освобождение трудящихся всех стран от гнета эксплуататоров путем мировой революции и создание того международного братства народов, которое единственно могло обеспечить им мир без войн.
«Красная Вена» как альтернатива «Красной Москве»
И.А. Кукушкина
«Красная Вена» - так называли современники руководимую социал-демократами столицу Австрии в 1919-1934 годах, и это обозначение широко применяется до сих пор для характеристики всех тех свершений, которые были осуществлены в Вене в межвоенный период. «Красная Москва» - условный термин, используемый нами для характеристики политики московских властей в это же время. До сих пор в исторической науке не было попыток сравнить достигнутое муниципалитетами двух городов (фактически - социал- демократами и коммунистами), хотя современники такие попытки иногда предпринимали. И Москву, и Вену посещали иностранные делегации, делившиеся потом своими впечатлениями. Но если московские власти предпочитали показывать своим гостям предприятия и достопримечательности1, наркоматы, а также тюрьмы, иногда - образцовые дома отдыха и объекты культурно-бытового назначения, столовые, больницы, то гости Вены могли составить общую картину результатов работы венского муниципалитета1 2. Такой возможности гости Москвы были лишены3.
«Стартовые условия» в Москве и Вене после Первой мировой войны были вполне сравнимы. Вена после распада Австро-Венгерской империи лишилась многих хозяйственных связей и поставок
1 Заводы AMO, «Динамо». Трехгорную мануфактуру, фабрики «Красная Роза», «Дукат», «Красный Октябрь», «Парижская коммуна», «Большевик» идр. См.: XX век: хроника московский жизни. 1921 — 1930. М., 2011.
2 См.: Hofbauer J. Im roten Wien. Prag, 1926. S. 9.
3 Об этом пишет, в частности, Й. Хофбауэр, посетивший в 1926 г. Вену с группой рабочих из Чехословакии. Ibid. S. 4.
ИА. Кукушкина 271
продовольствия из провинций. Москва с трудом приходила в себя после Гражданской войны и политики «военного коммунизма».
Недавно в качестве учебного пособия вышли воспоминания Г.С. Арефьевой о Москве начала 30-х годов XX века. Автор восхищенно пишет о послереволюционных преобразованиях: бесплатном образовании и здравоохранении, ликвидации безработицы и эксплуатации. По словам Арефьевой, «огромное большинство приняло коммунистические идеи и поверило в возможность создания справедливого строя без насилия и эксплуатации»4. «А теперь попробуем ответить на более конкретный вопрос: как эти люди относились к коммуналкам и порожденному ими быту, страдали они там или нет? - пишет далее автор. - Что и говорить, коммунальные квартиры были далеко не раем земным. Отсутствие горячей воды, одна-единственная раковина на все про все и что еще того хуже, на всех жильцов одна уборная...»5 Но, оказывается, даже коммунальные квартиры были шагом вперед по сравнению с существовавшим до 1917 года положением. «Если же сравнить коммунальную квартиру с перенаселенными общежитиями, где одна семья была отделена от другой по существу только занавесочкой, или холодными и сырыми подвалами и полуподвалами, откуда переселяли в коммунальные квартиры, то их оценка становится иной. Получить комнату в такой квартире, да еще бесплатно, было счастьем, редкостной удачей. Это была ступенька роста, улучшения бытовых условий»6.
К сожалению, решение жилищной проблемы московские власти первоначально видели не столько в строительстве новых домов, сколько в так называемом «подселении». К 1924 году в Москве таким образом было переселено 500 тыс. человек7. «Москвичам объявлено, что каждый обыватель может пользоваться для своего житья площадью не больше 20 кв. аршин на человека (чуть более 10 кв. м)8, а для детей на каждого - 10 кв. аршин»9, - записал в своем дневнике московский обыватель Н.П. Окунев.
Правда, семьям, имевшим детей, согласно постановлению исполкома Моссовета «Об учете и распределении жилых и нежилых
4 Арефьева Г. С. Москва. Эпоха великого перелома: повседневная жизнь глазами молодежи 30-х годов: учебное пособие. М., 2014. С. 11.
5 Там же.
6 Там же.
7 См.: Иконников А.В. Архитектура XX века. Утопии и реальность. T. 1. М., 2001. С. 279.
81 кв. аршин - 0,505805 кв. м.
9 Окунев Н.П. Дневник москвича, 1917-1924: В 2 книгах. Кн. 1 М., 1997. С. 226.
272 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
помещений в городе Москве», полагалась сверх указанной площади еще одна добавочная комната размером 20 кв. аршин10 11. На деле же в 1924 году на одного московского жителя в среднем приходилось 14 кв. аршин11. Для того, чтобы облегчить ситуацию, в 1922 году был принят Декрет ВЦИК и СНК РСФСР «О праве застройки земельных участков», согласно которому разрешалось частное и кооперативное жилищное строительство: лицам, желающим построить жилые дома, отводились в бесплатную аренду земельные участки сроком на 49 лет для каменных построек, до 10 лет - для деревянных строений. В результате за два года (1922-1924 годы) в Москве было построено на кооперативные средства - 84 100 куб. саж. построек, на частные - 105 400, на государственные - 130 70012, то есть кооперативное и частное строительство опережало государственное.
О начале массового жилищного строительства в Москве было объявлено в 1923 году. Однако, поданным газеты «Известия»13, на конец 1924 года, только 47% московской территории было занято под застройку. 17% занимали огороды, пустыри и выгоны. Только 31% от общего количества жилых домов были каменными, 11% - в 3 этажа и выше. По данным переписи населения 17 декабря 1926 года, всего в Москве за четыре года (1923—1926) было построено и достроено 1812 строений общей площадью 424 765 кв. м14. Большинство из них были не выше 4-х этажей15, значительная часть - деревянные и смешанного типа16.
Первоначально предполагалось, что в Москве начнется строительство домов-коммун. Идея опиралась не только на коммунистическую идеологию, но и на движение «снизу». Как пишет в своей монографии историк архитектуры А.В. Иконников, «в бывших
10 Постановления Московского Совета Рабочих и Красноармейских Депутатов по жилищному и земельному вопросам. М., 1918. С. 35.
11 Новая Москва. Очерки работы Московского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. М., 1924. С. 65.
12 1 кубическая сажень = 9,713 куб. м. Там же. С. 64.
13 См.: XX век: хроника московский жизни. С. 469.
14 Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г. Краткие сводки. Выпуск I. Жилищное строительство в городских поселениях РСФСР, Украинской ССР и Белорусской ССР. М., 1927. С. 27.
15 На заседании 19 ноября 1925 года жилищно-строительный комитет Моссовета «пришел к выводу, что постройка коммунальных домов выше четырех этажей нецелесообразна». См.: XX век: хроника московской жизни. С. 569.
16 Жилищное строительство... С. 24. См. также: Рабочее жилищное строительство. Издание Московского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. М., 1924.
И.А. Кукушкина 273
доходных домах группы рабочих создавали бытовые коммуны с общественными кухнями и столовыми, прачечными, детскими садами и пропагандистскими «красными уголками»17. В 1921 году в Москве было 865 таких коммун18. Согласно условиям конкурса на строительство дома-коммуны, объявленном в 1925 году, это должен был быть трех- или четырех этажный дом, рассчитанный на 750—800 человек (как одиноких, так и живущих семьями). Предполагалась центральная кухня для питания 600 человек с подсобными помещениями для посуды и хранения продуктов, душевая на 20 душевых кабинок, центральная прачечная, умывальные комнаты из расчета 1 кран на 10 человек, женские и мужские туалеты из расчета 1 место на 20 человек, детский сад на 30 (!) детей и детские ясли также на 30 (!) детей19.
В Москве по таким проектам был построен дом-коммуна архитектора Николаева и дом Наркомфина. Жизнь, однако, показала, что рабочий класс Москвы вовсе не стремится к установлению новых форм семейных отношений «с обобществленным ХОЗЯЙСТВОМ»20, как это виделось депутатам и чиновникам Моссовета. Кроме того, на такие грандиозные проекты просто не хватало средств21.
Со второй половины 20-х годов XX века началось строительство 5-7-этажных домов и произошел переход к квартальной застройке22. «Пионерами» тут выступили кооперативы23. Согласно официальным справочникам24, за годы первой пятилетки (1928— 1932 гг.) в Москве было построено 1855,8 тыс. кв. м. нового жилья, в том числе муниципального - 501,3 тыс. кв. м., от них немного отставали жилищно-строительные кооперативы, на долю которых приходилось 344, 3 тыс. кв. м. Главными же застройщиками в области жилищного строительства были предприятия и учреждения (968, 8 тыс. кв. м.), использовавшие труд своих собственных работников в свободное от основной работы время25. Однако несмотря на то, что план жилищного строительства в Москве
17 Иконников А.В. Указ. соч. С. 279.
18 Там же.
19 Второй конкурс Московского Совета РК и КД на проект дома-коммуны. М., 1925. С. 5-6.
20 Там же. С. 3.
21 Иконников А.В. Указ. соч. С. 314.
22 Там же. С. 317.
23 XX век: хроника московской жизни. С. 566.
24 Москва в цифрах. М., 1934. С. 106.
25 Полетаев В.Е. Жилищное строительство в Москве в 1931-1934 гг.// Исторические записки. Т. 66. М., 1960. С. 15.
274 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
в годы первой пятилетки был перевыполнен на 16,1%, ситуация с жильем ухудшилась и на одного человека теперь уже приходилось 5,2 кв. м Выход Моссовет нашел в «выселении нетрудового элемента» из муниципальных и национализированных владений, выселив, таким образом 6 000 человек26.
Придя к власти в Вене в 1919 году австрийские социал-демократы не ставили перед собой задачи создать альтернативу «Красной Москве»: они выполняли свои предвыборные обещания и свою партийную программу, одновременно дополняя и корректируя ее в соответствии с практикой. В Вене, в отличие от Москвы, новое жилье в основном строил муниципалитет.
Первая жилищная программа, одобренная 21 сентября 1923 года, предусматривала строительство 25 000 квартир в течение пяти лет. Противники социал-демократии оценили ее как «предвыборную пропаганду»27, однако цель была достигнута гораздо раньше - и в 1926 году муниципалитет обязался к концу срока построить дополнительно 5 000 квартир. На 1927-1933 годы было запланировано строительство еще 30 000 квартир. Всего за 1923— 1933 годы было построено 61 175 квартир, в новые дома переехало 220 000 человек28. В связи с тем, что меры по защите квартиросъемщиков в Австрии продолжали действовать и после войны, средняя доля квартплаты в домашнем бюджете рабочих в 1925 году составляла всего 3%29.
Успехи, достигнутые социал-демократами в области жилищного строительства, становятся еще более впечатляющими, если привлечь в качестве сравнения послевоенную ситуацию. После войны острая нехватка жилья в Вене стала притчей во языцех. Жилья не только катастрофически не хватало. Оно было ужасающе низкого качества. В 92% венских квартир отсутствовала канализация, 95% квартир не имели отдельного водоснабжения. Типичными были жилые дома казарменного типа, где большинство квартир состояло из комнаты и не имеющей прямого солнеч-
26 Материалы к отчету Мособлисполкома и Моссовета. М., 1930. С. 73-75.
27 На плакатах ХСП обещание социал-демократов характеризовалось как «пускание пыли в глаза» и «переброска Вены в страну с молочными реками и кисельными берегами». См.: LehnertD. Kommunale Politik, Parteiensystem und Interessenkonfliktein Berlin und Wien 1919-1932. B., 1988. S. 124.
28 Podbrecky L Rotes Wien. Gehen & Sehen. 5 Routen zu gebauten Experimenten. Von Karl-Marx-Hof bis Werkbundsiedlung. Wien, 2003. S. 16. Weissenstei- ner Fr. Der ungeliebte Staat. Österreichzwischen 1918-1990. Wien, 1990. S. 122.
29 Зидер P Социальная история семьи в Западной и Центральной Европе (конец XVIH-XX вв.) М., 2007. С. 213.
И. А. Кукушкина 275
ного освещения кухни. Однако арендная плата была достаточно высокой, поэтому часть и без того крошечной квартиры сдавалась внаем еще более бедным пролетариям. По подсчетам немецкого историка Д. Ленерта, абсолютное большинство жителей Вены - 50,2% - жило в то время (даже по общепринятым тогда нормам30 в неблагоприятных условиях31.
Квартиры в новых домах, построенных муниципалитетом с 1923 года, кроме жилых помещений, имели прихожую, туалет и кухню с газовой плитой. Полезная площадь составляла не менее 38 кв. м, высота потолков — 2,8 м. Почти все квартиры имели балкон или лоджию. Если сначала строились большей частью однокомнатные квартиры, то с 1927 года стали строить квартиры трех типов: 40 кв. м (кухня, комната, прихожая, туалет), 49 кв. м (кухня, жилая комната, спальная комната, прихожая, туалет), 57 кв. м (кухня, жилая комната, две небольшие спальни, прихожая, туалет)32.
В домах, имевших более 300 квартир, располагались собственные прачечные, оснащенные стиральными машинами, сушильными установками, автоматическими катками для белья, а также душевые и ванные комнаты. Рядом с домами устраивались скверы и детские площадки. В крупных жилых комплексах размещались муниципальные детские сады, библиотеки, продуктовые магазины, зубные клиники, социальные учреждения.
Венский муниципалитет сотрудничал с самыми лучшими архитекторами Австрии, поэтому построенные им «здания получили мировое признание и стали образцами архитектуры для многих стран Европы и мира»33. Многие здания получали имена видных деятелей международного рабочего движения или тех, кого социал-демократы считали своими идейными предшественниками. Наиболее выдающимся сооружением стал «Карл-Маркс-Хоф», имеющий 1400 квартир для 5 000 человек.
Как отмечает австрийский историк Райнхард Зидер, специализирующийся на изучении социальной истории семьи, следствием жилищной политики социал-демократической партии Австрии «стало не только улучшение жилищных условий семей рабочих, но и возникновение нового стандарта семейной жизни и ведения
30 «Нормальным стандартом» считалась квартира, состоящая из спальни для двоих человек и кухни. (См.: Lehnen D. Op. cit, S. 209.)
31 Ibid. S. 210.
32 Bobek H., Lichtenberger E. Wien. Bauliche Gestalt und Entwicklung seit der Mitte des 19.Jahrhunderts. Graz; Köln, 1966. S. 147.
33 Weissensteiner Fr. Op .cit. S. 123.
276 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
домашнего хозяйства... В Вене снижение расходов на квартплату примерно до 3% месячного дохода положило конец “кочевому житью”а и открыло перед рабочими долгосрочные жилищные перспективы: впервые семьи рабочих начали вкладывать средства в оборудование снимаемых ими квартир, а не видеть в них временное пристанище34. Кроме того, грандиозное жилищное строительство способствовало сохранению рабочих мест, уменьшению безработицы, поддержке малого предпринимательства в области жилищного строительства35.
Большое внимание муниципалитет уделял поддержке поселкового кооперативного строительства. Товарищества по строительству поселков получали кредиты, им выделялись муниципальные земли. Общественное предприятие «Gesiba», созданное на основе Закона «Об общественных предприятиях» от 20 июля 1919 года, снабжало их строительными материалами.
Муниципалитет и сам принимал участие в строительстве новых поселений: в 1923-1928 годах им было построено собственными силами и на собственные средства 1234 поселковых дома, 519 квартир и 24 магазина в многосемейных домах. Всего же к концу 1928 года при поддержке или при непосредственном участии муниципалитета появилось 4678 домов, 593 квартиры, 40 магазинов и ряд других зданий общественного характера36.
Жители многих новых поселков могли заниматься приусадебным хозяйством — к домам примыкали небольшие огороды, имелись помещения для содержания мелких домашних животных. Внутри поселений размещались безалкогольные кафе и столовые.
Социальная политика венского муниципалитета, руководимая министром социального обеспечения Юлиусом Тандлером, была направлена на поддержку наиболее нуждающихся в ней слоев общества. Фундаментом всей социальной работы Ю. Тандлер считал обеспечение молодежи, которое (для каждого отдельного человека) начиналось еще до его рождения - с оказания помощи его будущим родителям и продолжалось до достижения им 18-летнего возраста. «Вкладывая средства в пристанища для молодежи, — писал он, — мы тем самым экономим на тюрьмах. Забота о материнстве и детстве делает излишней заботу об инвалидах»37. Высказывание Тандлера «тот, кто строит дворцы молодежи,
34 Зидер Р Указ. соч. С. 215.
35 Podbrecky I. Op. cit. S. 17.
36 DannebergR. Das Neue Wien. Wien, 1930. S. 67.
37 Tandler J. Wohltätigkeit oder Führsorge? Wien, 1925. S. 5.
И.А. Кукушкина 277
не нуждается в строительстве тюрем»38 стало руководящим принципом социальной политики венского муниципалитета.
Социальное обеспечение, по словам председателя венского муниципалитета Р. Даннеберга, «начиналось с эмбриона»39. 35 женских консультаций проводили специальное медицинское обследование будущих матерей, здесь они также получали советы специалистов в вопросах питания и гигиены ребенка. Для родившегося ребенка выдавался бесплатный «набор новорожденного». Молодые матери, не являющиеся членами больничных касс, имели право на получение денежного пособия в течение четырех месяцев после родов.
111 муниципальных детских садов посещали более 10 000 детей, три четверти из них получали бесплатное питание. Для беспризорных детей было построено специальное уютное здание временного детского приюта, откуда детей старались направить в их новые, приемные семьи. Заботу о детях, которые не могли воспитываться в семье, брал на себя муниципалитет40.
14 районных управлений по делам молодежи давали бесплатные врачебные и педагогические консультации. Школьники проходили еженедельный медицинский осмотр. Ежегодно около 25 000 детей Вены направлялись летом за город, чтобы набраться сил и здоровья41. Для детей создавались туристические базы, открытые купальни, в зимнее время — катки, строились детские больницы, а также специальные здания или встроенные помещения для групп продленного дня (Horte). В 1927 году муниципалитет приобрел для молодежи бывший дворец Габсбургов на Вильгельминенберг.
Заботой о молодежи не ограничивалась деятельность управления социального обеспечения. В компетенцию Тандлера входила поддержка безработных, малоимущих, лиц пожилого возраста. Велась борьба против туберкулеза, который после войны получил такое распространение, что его стали называть «венской болезнью». В каждом районе имелись специальные медицинские пункты, где заболевших осматривал врач и назначал им лечение. Здесь же родственники больного могли получить необходимые консультации по уходу за ним.
Москве также пришлось бороться против туберкулеза и для этого предпринимались определенные меры. Так, газета «Вечерняя
38 Дословно: «разрушает стены тюрем» (reißt Kerkermauem nieder).
39 Danneberg R. Die sozialdemokratische Gemeinde-Verwaltung in Wien, S.28.
40 Ibid. S. 28-37.
41 HoßauerJ. Op. cit. S. 35.
278 Российская революция 1917года и ее место в истории XXвека
Москва» 27 ноября 1925 года сообщала, что в Хамовническом районе города при 7-м диспансере открыты несколько вспомогательных учреждений: мужской и женский ночные санатории, детский дневной санаторий, диетическая столовая42. К 1927 году было открыто 8 новых диспансеров (в 1913 году их было 4), а также 36 женских консультаций43 (по другим источникам - ЗО44). В то же время Моссовет не столько открывал новые диспансеры, сколько пытался интенсифицировать работу старых путем простого увеличения нагрузки на врачей. В 1928 году Мосздравотдел открыл под Москвой два летних санатория для детей - на 120 и 130 мест соответственно45.
Сведения о количестве детских садов, построенных в Москве в межвоенный период, в литературе отсутствуют. Доступные нам источники сообщают преимущественно о детских садах при промышленных предприятиях, в то время как в Вене строились муниципальные детские сады.
Большинство культурных мероприятий Москвы носили ярко выраженный политический характер. Так, 31 октября 1929 года в Доме Союзов состоялось «собрание физкультурного актива, на котором была принята резолюция, “осуждающая проявление аполитичности в вопросах физической культуры”»46. Газеты сообщали о торжественных собраниях, посвященных различным годовщинам, диспутах на политические темы, «литературных судах», «дискуссионных просмотрах» кинокартин.
Структура муниципальных доходов, которые затем шли на различные социальные мероприятия в Вене и Москве существенно различалась. В Москве основными были неналоговые доходы: поступления от промышленности и от коммунальных предприятий. В 1929-30 годах их доля составляла 55,9%, налоговые же доходы - 33,7% всех поступлений в бюджет47. Широко практиковалось также самообложение и выпуск государственных займов48.
Основой бюджетной политики венского муниципалитета стало реформирование налоговой системы49. Местные налоги
42 XX век: хроника московской жизни. С. 568.
43 Московский совет за десять лет работы. М., 1927. С. 65—66.
44 Краткий отчет Московского совета Р., К. и К.Д. рабочим гор. Москвы 1926-1928 г. М., 1929. С. 82.
45 XX век: хроника московской жизни. С. 828.
46 Там же. С. 960.
47 Материалы к отчету... С. 82.
48 Краткий отчет Московского совета ... С. 39-40.
49 См. подробнее: Кукушкина И.А. Гуго Брайтнер и «Красная Вена» // Карло Россели и левые в Европе. М., 1999.
И.А. Кукушкина 279
в 1926 году в Вене составили 59,03% всех поступлений в бюджет50, в дальнейшем доля их увеличилась. Основными стали налоги на роскошь, на увеселительные мероприятии и развлечения, а также налоги «на социальное обеспечение», которые платили все предприятия. В 1923 году был введен налог на жилые и производственные помещения (Wohnbausteuer). Этот налог, введенный вместо довоенного налога на арендную плату, предусматривал строго дифференцированное обложение квартиросъемщиков в зависимости от величины и качества занимаемого ими жилья. Указанный налог был целевым: собранные средства направлялись на строительство доступного муниципального жилья и поддержку поселкового кооперативного строительства.
Налоговая политика венского правительства дополнялась новыми принципами тарифной политики. Муниципальные предприятия (газовое хозяйство, электростанции, городской трамвай, водоснабжение и др.) больше не служили средством извлечения прибыли и покрывали лишь расходы на свое содержание. В результате плата за освещение и электричество снизилась почти в два раза, плата за пользование газом — на 25%51. Тридцать пять литров воды на человека в день отпускалось бесплатно52. Также была снижена плата за проезд в общественном транспорте. Для трудящегося населения были введены недельные проездные, а также билеты «туда и обратно», билеты для детей и школьников продавались по символической цене53.
В отличие от советских коммунистов, австрийские социал- демократы никогда не утверждали, что программные цели построения социализма ими достигнуты. «Социализм нельзя построить из одной ратуши, - писал уже в эмиграции Г. Брайтнер, - и венское социал-демократическое правительство никогда не питало таких иллюзий. Цель была, несмотря на неблагоприятные условия, сделать жизнь венского населения лучше, чем она была до войны, и пробудить в нем надежду на лучшее будущее»54. В то же время в Вене ими было построено на практике социальное государство, что вряд ли можно сказать о межвоенной «красной Москве».
50 Reisinger G. Die Finanzpolitik Hugo Breitners. Entstehungund Ausformungdesneuen Wiener Steuersystems in der Ersten Republik. Diss. zur Erlangung des akad. Grades eines Doktors des Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. Wien, 1990. S. 17.
51 HoföauerJ. Im roten Wien. Prag, 1926. S. 24.
52 BreintnerH. Kapitalistische oder sozialistische Steuerpolitik? S. 12.
53 Ibidem.
54IISG Amsterdam, Liste des Archivs Friedrich W. Adler, 84, 4.
Раздел IV
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
Русская революция в мексиканской прессе
Карлос Илъядес
Русская революция - одно из ключевых событий XX века. Если унизительное поражение в Русско-японской войне ускорило Революцию 1905 года, то катастрофа Первой мировой войны создала условия для революции 1917 года. 12 марта 1917 года - в феврале по юлианскому календарю - народное восстание свергло династию Романовых, правившую в течение трех столетий. А 6 и 7 ноября Военно-революционный комитет Петроградского Совета сверг правительство Керенского. Оба восстания не были «кровавыми». Ноябрьская революция - Октябрьская по юлианскому календарю - не началась в тот момент, когда крейсер «Аврора» с невского рейда трижды выстрелил по Зимнему дворцу, где укрывалось Временное правительства. Революционное насилие развернулось позже, когда большевики распустили Учредительное собрание, в котором партия социалистов-революционеров («эсеров») завоевала большинство. Роспуск ускорил Гражданскую войну между красными и белыми. Коалиция бывших царских войск, Православной Церкви и помещиков располагала экономической и военной поддержкой Франции, Англии, Японии и Соединенных Штатов. Еще не было поражения Германии, а Советская Россия стала главным врагом союзников. Характер Февральской и Октябрьской революций был разным. В то время как первая положила конец абсолютизму, вторая экспроприировала знать, провозгласила самоопределение народов, отдала землю крестьянам и отделила церковь от государства.
Мексиканская пресса регулярно сообщала о событиях в России. Обзоры в газете «Эксельсиор» полностью повторяли репортажи европейской и североамериканской прессы. Всего через две
Карлос Илъядес 281
недели после отречения Николая II (2 марта) и создания Временного правительства во главе с князем Львовым, издание предупреждало о двух течениях, претендующих на власть в «Старой империи»: монархического, намеревавшегося, усадить на освободившийся трон Великого князя Михаила Александровича Романова - младшего брата царя; и республиканского, стремившегося «воспользоваться текущим моментам для проведения радикальных реформ»1. Также газета выражала сочувствие несчастьям, преследовавшим императорскую семью, «так как все дети бывшего императора Николая II, за исключением Великой княгини Марии, заразились корью»1 2. Двумя днями позже эта газета проинформировала о том, что «большая демонстрация, в которой участвовали женщины», потребовала включения в новую конституцию «пункта о предоставлении избирательного права женщинам, достигших совершеннолетия», а многочисленная демонстрация «сторонников социалистов» в Петрограде «с красными флагами и призывами к отмщению» требовала суда над царскими министрами. Вместе с тем эта газета отмечала «демократическую политику Керенского», который «красноречивыми фразами» отговорил социалистов от реализации их зловещих намерений3. Кроме того, газета комментировала, что «народ находился в плачевном состоянии из-за нехватки продовольствия»4. Неделю спустя в новостях сообщалось о сходке рабочих, «которые были очень возбуждены» и решили «обратиться к рабочим всех стран мира с призывом свергнуть империалистические правительства во имя свободы»5.
С самого начала «Эксельсиор» выражала враждебность по отношению к революционному движению, больше обращая внимание не на народные требования, а на беспорядок и «анархию», иллюстрируя их карикатурами из американской прессы. По поводу забастовки железнодорожников Петрограда и Москвы газета подчеркивала предъявленные администрации Керенского экономические требования, недовольство других рабочих «движением, развернутым их товарищами в таких сложных для страны условиях»6. Ни слова не было сказано о роли железнодорожников и телеграфистов в предотвращении попытки государственного
1 Excélsior, México. 19 de marzo de 1917.
2 Excélsior. 20 de marzo de 1917.
3 Excélsior. 22 de marzo de 1917.
4 Excélsior. 24 de marzo de 1917.
5 Excélsior. 30 de marzo de 1917.
6 Excélsior, 8 de octubre de 1917.
282 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
переворота, предпринятой Корниловым в сентябре. В то же время газета приветствовала завершение формирования Керенским коалиционного правительства, в котором «будут представлены и буржуазия, и демократия»7.
В отличие от большевиков, выступавших против войны и с февраля призывавших к перемирию с Германией, Временное правительство объявило, что оно будет проводить политику в согласии с союзниками и заявило о «доведении армии до самого высокого уровня эффективности и боевой мощи», не жалея сил на полях битв. Другим приоритетом коалиционного правительства стало «восстановление во что бы то ни стало внутреннего мира в России»8. Для министра внутренних дел Алексея Никитина самой большой угрозой, способной «привести страну к полной гибели», была не бессмысленная война, развязанная царизмом, но «захватывающая людей анархия». Это было бы на благо только немцам, которые «воспользуются существующим беспорядком, чтобы навязать свое иго народу, борющемуся за свободу, которой столько времени был лишен». Зараженная патриотизмом Керенского, призывавшего русские войска оставаться на фронте, «Эксельсиор» вторила: «В речи, полной патриотизма, [Керенский] просит их защищать честь нации», «не отдавать врагу пушки, которыми должны были защищать свою Родину»9. 7 ноября премьер-министр сам оставил свой пост, покинув Петроград на автомобиле с американским флагом.
«Керенский свергнут радикалами» - так «Эксельсиор» озаглавила одну из своих заметок от 9 ноября. Газета опубликовала заявление военного руководителя большевистского восстания Троцкого: «Временное правительство Керенского перестало существовать, а некоторые его министры, управлявшие судьбами страны, были задержаны». В другом сообщении газеты указывалось «о возможности его [Временного правительства] поддержки японцами против максималистов». Кроме того, говорилось: вполне вероятно, что бывший премьер-министр для победы над восставшими получит помощь армии, тем более что он пользовался народной поддержкой, так как «население Петрограда не состоит преимущественно из русской нации, и этот город никогда не отражал истинные ее устремления»10. В номере от 19 числа мексиканская газета была полна оптимизма: «Максималисты потеряют
7 Excélsior, 9 de octubre de 1917.
8 Excélsior, 11 de octubre de 1917.
9 Excélsior, 25 de octubre de 1917.
10 Excélsior, 9 de noviembre de 1917.
Карлос Илъядес 283
власть». Данное утверждение подтверждалось известием о том, что «верные Керенскому войска захватили беспроводную радиостанцию» в Петрограде и «по пути их продвижения по столице России» зафиксировано несколько боев11. За неделю до этого утренний выпуск газеты сообщал о последствиях неконтролируемого народного гнева: «Против разрушительных сил, которые сотрясают это государство, энергия Керенского должна была израсходоваться. Его добрая воля и сила духа тщетно боролись с безумными людьми, чей гнев и страх порождали зверства. Идеи долга, достоинства и чести разбились вдребезги в “водовороте”, в который затянуло этот “табун душ”11 12. По мнению газеты, “пасли” этот “табун душ” “большевики” или “максималисты”, “экстремисты”, “циммер- вальдисты” (по имени Международной социалистической конференции в швейцарской деревне Циммервальд 5-8 сентября 1915 года. - К.И.) и “интернационалисты”, “враги наступательной войны”, выступающие за немедленный всеобщий мир и борющиеся за власть пролетариата, раздел земли и экспроприацию богатых классов»13. Ленин и его люди «из года в год проповедовали социальную войну, а между социальной и окопной войнами есть бесконечно малая дистанция». Далее газета вскользь сообщила: коммунист из Симбирска - вражеский агент, поскольку в противном случае было бы тяжело объяснить, почему «Вильгельмштрассе (правительство Германской империи. — К.И.) позволило ему пересечь немецкую территорию для проезда из Швейцарии в Россию только из восхищения его революционными подвигами»14.
Газета «Эль Универсаль» также настаивала на тезисе о сговоре русских революционеров с немецкими империалистами: «Русский переворот был сделан с помощью немецких денег», - гласил заголовок газеты от 10 ноября15. Что касается политики большевиков, столичная газета называла ее настоящим регрессом, считая, что «персоналии этой революции более деспотичны, чем царь, и не уважают ни законы, ни государственные институты, ни людей»16. В доказательство приводилось закрытие перехода на российско-шведской границе, где «никому не разрешался проход без специального разрешения Военно-революционного комите¬
11 Excélsior, 19 de noviembre de 1917.
12 Excélsior; 11 de noviembre de 1917.
13 Excélsior; 17 de noviembre de 1917.
14 Excélsior, 29 de noviembre de 1917.
15 El Universal, México, 10 de diciembre de 1917.
16 El Universal, 11 de diciembre de 1917.
284 Российская революция 1917года и ее место в истории XXвека
та». Кроме того, газета отмечала слабость сопротивления большевистскому перевороту, так как «казаки, все еще поддерживавшие Керенского, насчитывали только 300 человек», в то время как «максималисты» «контролировали войска в Петроградском и Московском округах и постоянно вооружали рабочих на всей территории России»17. Далее «Эль Универсаль» осуждала то, что «Лев Троцкий навязывает верховенство террора», так как были арестованы подписавшие контрреволюционный манифест, «призывавшее русский народ не признавать большевистское правительство»18. Также газету взволновала новость о том, что революционные власти Москвы захватили «силой все банки»19.
Иную позицию занимал анархист Рикардо Флорес Магон. Разочарованный буржуазным отклонением мексиканской революции, по его мнению, более политической, а не социальной, отправленный в ссылку властями Соединенных Штатов, Флорес Магон написал для газеты «Рехенерасьон» несколько статей с анализом событий Русской революции. Для оахакского (штат на юге Мексики. - К.И.) анархиста она означала «начало великой мировой революции, вызванной европейской войной». Ее «детонатором» явилась «нехватка хлеба» - отсюда ленинский лозунг «Мир, Хлеб и Земля», который вывел людей на улицы. «По истечении времени, - отмечал Магон, — патриотическое опьянение рассеивается, и люди начинают серьезно размышлять». Таким образом, ранее обработанные идеологией массы начинают осознавать, что «войны являются продуктом жадности и амбиций богатых и правителей», «что патриотизм был изобретен богачами и политиками, чтобы люди были готовы разорвать друг друга тогда, когда это в интересах их хозяев». Воодушевленный развитием событий в России, автор «Палачей и жертв» предсказывал: «Приближается новый социальный порядок. Кажется, наконец, человеческое стадо решает начать ходить на двух ногах»20.
Прошли дни, и энтузиазм Магона только рос. Политическая революция обещала превратиться в социальную, поскольку «демократия не удовлетворяла русский народ», чье стремление состояло в «новой форме социального сосуществования, которая гарантировала бы каждому хлеб и свободу». С наступлением социальной революции «демократическое правительство Государственной
17 El Universal, 19 de diciembre de 1917.
18 El Universal, 6 de diciembre de 1917.
19 El Universal, 30 de diciembre de 1917.
20 Regeneración, México, 24 de marzo de 1917.
Карлос Ил ьядес 285
думы призвано исчезнуть, так как все правительства земли исчезнут в этот великолепный век, который вполне можно назвать веком пробуждения всего человечества». «Буржуазная система обречена на убийство самой себя»21. «Грядет революция», но путь ее, по мнению автора, не был прямым22: «Все указывает на то, что следующим этапом этой революции станет установление авторитарного социалистического режима; но вскоре люди поймут, что каждое правительство — плохо, и в конечном итоге будет принята анархистская социалистическая система»23. Революция, освещенная «светом науки», похоронит «в той же яме капитал, правительство и религию - трех палачей человека»24. «Все указывает на то, что революция приближается во всех странах мира»25 (6 октября). Несмотря на временную победу «авторитарного социализма», революционер из муниципалитета Сан-Антонио-Элохочитлан (<сейчас называется Элохочитлан-де-Флорес-Магон. — К.И.) поздравил человечество с «огромным прогрессом в эволюции народов»26. Нужен был только шаг для «освобождения пролетариата». «Старая система рушится. Братья в угнетении, вперед!»27 (16 марта).
Эти первые реакции мексиканской прессы свидетельствуют о переживаниях о судьбе Русской революции. И это не было безосновательно. В Мексике с XIX века существовала устойчивая социалистическая традиция, которая смешалась с советским коммунизмом и другими течениями, породив одну из первых образованных в мире коммунистических партий, Мексиканскую коммунистическую партию, официально основанную 28 ноября 1919 года по инициативе Коминтерна, созданного в марте того же года. Коммунистическое влияние нараду с анархо-синдикализмом также способствовало радикализации мексиканских социальных движений в 20-е годы XX века: патетические изображения Красного Октября размещались на государственных зданиях радом с плакатами о Мексиканской революции, формируя политическое и культурное воображаемое об их общей природе. Русская революция, которая тогда для многих выглядела как неизбежное будущее для всего мира, стала историческим ориентиром для мексиканской революции.
21 Regeneración, México, 24 de marzo de 1917.
22 Regeneración, 21 de abril de 1917.
23 Regeneración, 23 de julio de 1917.
24 Regeneración, 1 de septiembre de 1917.
25 Regeneración, 6 de octubre de 1917.
26 Regeneración, 9 de febrero de 1918.
27 Regeneración, 16 de marzo de 1918.
Эдгар Boor в Мексике: опыт пролетарского интернационализма
Рина Ортис,Энрике Арриола
В данной статье мы попытаемся представить образ Эдгара Воога, он же Альфред Штирнер, одного из наименее известных эмиссаров Коминтерна1, который, однако, обеспечивал связь между Мексиканской компартией (МКП) и центром в Москве. Штирнер отвечал за мексиканское направление в период с 1919 по 1928 год. Он участвовал в качестве представителя Мексики в пленуме исполкома Коммунистического интернационала молодежи (КИМ) в ходе подготовки II конгресса этой организации. Он был представителем Коммунистической партии Мексики на III (1922) и IV ( 1924) конгрессах Коминтерна. На последнем конгрессе он был выбран членом исполкома Коминтерна и представителем Латинской Америки. В качестве члена исполкома Коминтерна Штирнер участвовал в V конгрессе и был выбран в Интернациональную контрольную комиссию от Мексики. Во время гражданской войны в Испании он участвовал в формировании интербригад. Впоследствии он работал генеральным секретарем Швейцарской рабочей (коммунистической) партии и представлял ее наХХ-ХХШ съездах КПСС, а также на праздновании пятидесятилетнего юбилея основания СССР.
Следует отметить, что история деятельности эмиссаров во многом овеяна мифами, что связано с секретностью, которой многие десятилетия придерживались коммунистические партии, бывшие в оппозиции и нередко подвергавшиеся преследованию. В значительной степени искажению и сокрытию своей истории
1 Nueva Sociedad, nüm 247, septiembre-octubre de 2015. P. 152-164.
Рина Ортис, Энрике Арриола 287
способствовали и сами эмиссары. Не стал исключением из общего правила и Альфред Штирнер. В 1973 году в интервью «Опоси- сьон» Штирнер сказал, что приехал в Мексику в феврале 1920 года в поисках работы и вскоре после этого завязал первые связи с мексиканскими коммунистами.
Неясно, были ли у Штирнера по приезду в Мексику прямые связи с Коминтерном. Что известно достоверно, так это то, что в предыдущие годы, в период своего нахождения в Швейцарии, он активно участвовал в молодежном социалистическом движении и был очень близок с В. Мюнценбергом, возглавившим впоследствии Коммунистический интернационал молодежи.
Существовало два канала связи с коммунистическим центром: первым было Американское агентство и Сэн Катаяма, выступавший в качестве основного эмиссара по Мексике, а вторым - Boor, связь с которым шла через Берлин и КИМ. Действовали они параллельно. Доступная информация указывает на то, что, в случае Мексики, в первые годы существования компартии имелось две точки зрения касательно той линии, которой должны были следовать коммунисты. С одной стороны, оказались члены партии, которые стояли на прагматичной позиции, считая необходимым расширять влияние, используя для этого плоды еще не исчерпавшей себя мексиканской революции, и рассматривали крестьянство как обязательный элемент борьбы. По другую сторону оказались те, кто руководствовался в своей деятельности, прежде всего, решениями и директивами Коминтерна.
На протяжении 1920-х годов Boor, уже в то время известный под именем Штирнера, укреплял связи с передовой молодежью. Его переписка указывает на его дружбу с Марией дель Рефухио Гарсия (Кука), человеком очень близким к генералу Франсиско Мухике, одному из наиболее радикально настроенных вождей мексиканской революции. Штирнер активно участвовал в создании Мексиканской федерации коммунистической молодежи, основанной 22 августа 1920 года и возглавленной Хосе Валадесом, Мануэлем Диасом Рамиресом и Росендо Гомесом Лорен- со. Эта группа молодежи станет, как мы увидим далее, ядром коммунистической партии. Несмотря на свою малочисленность, федерация развернула значительную пропагандистскую деятельность, действуя посредством собственных печатных органов: «Хувентуд Мундияль», «Вида Нуэва» и впоследствии «Эль Обреро Комуниста». Руководство Коммунистического интернационала молодежи, признававшее значение Мексики
288 Российская революция 1917 года и ее место в истории XXвека
как потенциального производителя нефти, высоко оценило деятельность Штирнера2.
Тем временем Американское агентство, действуя из своей штаб- квартиры в США, установило контакты с мексиканскими коммунистами: сначала по переписке, а затем, с января 1921 года, - напрямую, через Фрэнка Симэна. Основная задача заключалась в том, чтобы проникнуть в мексиканское рабочее движение и способствовать созданию организации, которая объединит профсоюзы для их последующего присоединения к Профинтерну. В марте того же года в Мексику прибыл Сэн Катаяма, который, действуя в обстановке полной секретности, на протяжении месяцев занимался подготовкой отчетов о состоянии коммунистического движения в Мексике и составлением программных документов, направленных на укрепление коммунистической деятельности внутри страны.
В некоторой степени задачи Симэна и работа, которую вела молодежная коммунистическая организация, совпадали. В феврале 1921 года Коммунистическая федерация мексиканского пролетариата объявила о созыве съезда, указав следующее: «...вплоть до настоящего времени не было проведено ни одного рабочего съезда, на котором был бы представлен весь пролетариат Мексики; данная инициатива признана заполнить собой этот пробел [...]». Первым пунктом повестки дня было определить «форму организации рабочих и крестьян, наилучшим образом отвечающую условиям мексиканского пролетариата [...], и лучшую форму для воплощения в жизнь рационального образования»3. Результатом съезда стало образование Всеобщей конфедерации трудящихся (ВКТ), выступавшего в качестве альтернативы Мексиканской региональной рабочей конфедерации (CROM), на которую открыто опиралось мексиканское правительство. Коммунисты смогли возглавить ВКТ и объявили о присоединении к Профинтерну.
С 1919 по 1929 год Boor неоднократно посещал Мексику, когда этого требовали обстоятельства. В периоды своего отсутствия он поддерживал переписку с основными лидерами коммунистического движения страны. Письма и отчеты Штирнера составляют значительную часть фонда Мексиканской компартии, хранящегося в РГАСПИ. Именно эти документы позволяют нам рассматривать Штирнера как основного представителя и глашатая мексиканских коммунистов в этот период.
2 RGASPI, Fondo 533, Opis 3, exp. 14, f. 23.
3 Vida Nueva, Año I No. XII, febrero 1 de 1921. P. 7-8.
Рина Ортис, Энрике Арриола 289
Как уже было отмечено, Штирнер уехал из Мексики за несколько дней до первого съезда Коммунистической федерации мексиканского пролетариата, прошедшего с 15 по 22 февраля 1921 года, и вернулся в страну спустя несколько месяцев, в сентябре. В этот период времени X. Валадес информировал его о ходе съезда и образовании ВКТ, о поведении отдельных членов организации. Тогда же обнажились внутрипартийные разногласия касательно парламентаризма, отношений с правительством и анархо-синдикализмом. По мнению Штирнера, решения съезда свидетельствовали, что мексиканским коммунистам далеко до своих европейских соратников. «Несмотря на то что они яростно отстаивают Коммунистический интернационал, у них нет четкого понимания и знания научного социализма и методов коммунистической борьбы. Они поддаются аполитичному настрою масс. Так, чтобы не утратить доверия рабочих организаций, МКП заявила, что не станет участвовать в парламентской борьбе»4.
На протяжении всего 1921 года Boor получал информацию из первых рук. Ему представилась возможность встретиться в Москве с М. Диасом Рамиресом, который участвовал в конгрессе Профин- терна, в то время как Штирнер был делегатом на II конгрессе КИМа летом 1921 года. Именно благодаря им руководство Коминтерна имело более полное представление о происходившем в Мексике.
Из переписки следует, что компартия под руководством Хосе Аллена не смогла добиться существенных успехов в первые два года своего существования. А вот Федерация коммунистической молодежи провела свой первый съезд, смогла укрепить свое влияние в ряде профсоюзов и регионов. Эти отчеты подвигли руководство Коминтерна инициировать преобразование компартии на базе ядра молодежной организации. Начиная с ноября 1921 года Штирнер направил свои усилия на обновление партии, в связи с чем ему пришлось остаться в Мексике до конца следующего года.
В декабре 1921 года состоялся съезд, реформировавший мексиканскую компартию. Коминтерн ожидал, что Штирнер сможет установить контакты с другими странами Латинской Америки и будет работать совместно с товарищами из США, чтобы следовать единой линии действий в рамках всего континента5. Парал-
4 RGASPI, Fondo 495, 108, exp. 24.
5 RGASPI, Fondo 533, Opis. 4, exp. 15. Véase también; Informe de Basilio Vadi- 11o, encargado de la Legación de México en Moscú, AHDM, SRE, Exp. 39-8-13 en: Enrique Arriola Woog. Sobre rusos y Rusia, México, Lotería Nacional-1NAH, 1994. P. 280.
290 Российская революция 1917 года и ее место в истории XXвека
дельно он должен был взаимодействовать с руководством МКП, информировать Коминтерн и укреплять свои контакты с Американским агентством. Уже скоро стало очевидно, что такая нагрузка сопряжена с рядом трудностей. В одном из писем Штирнер спрашивает, каким образом он может заниматься всей этой работой, когда он «вынужден зарабатывать себе на хлеб [...]. Что планирует предпринять наш ЦК, чтобы предоставить мне реальную возможность выполнить возложенные на меня обязанности?»6.
В своей переписке Штирнер показывает, что установившаяся в стране политическая ситуация не способствовала коммунистической деятельности, поскольку многое из того, что декларировало правительство, смущало умы населения: правители нередко считали себя большевиками, профсоюзные лидеры объявляли себя истинными представителями пролетариата и заверяли, что они признаны Профинтерном. Некоторые радикальные лидеры, действительно, симпатизировали коммунистам и материально поддерживали их деятельность.
В 1922 году Штирнер оказался в Берлине, а оттуда отправился в Москву. Вопрос о его возвращении поднимался несколько раз, и, хотя нам достоверно неизвестны обстоятельства его отъезда, мы полагаем, что эта возможность представилась ему, когда он отправился в качестве делегата на IV конгресс Коминтерна, состоявшийся в ноябре-декабре 1922 года.
На этом конгрессе была принята тактика единого фронта. В случае Мексики ее применение повлекло за собой серьезные последствия: в 1923 года должны были состояться президентские выборы. В своей переписке с мексиканскими коммунистами Штирнер указывал на необходимость обсудить новую тактику Коминтерна и активизацию участия МКП в политической жизни страны на II съезде МКП, намеченном на апрель 1923 года. Штирнер хорошо видел сложности, связанные с воплощением в жизнь этой новой тактики. Отчасти они были обусловлены распространенностью анархо-синдикалистских идей, отчасти тем, что отдельные коммунисты считали такую новую тактику порочной. Он указывал, что данное решение было принято «после долгого и подробного обсуждения в рамках специально назначенной для этой цели комиссии, в состав которой вошли делегаты из прочих латиноамериканских стран, представители революционных профсоюзов Франции и Испании и другие известные товарищи и старые
6 RGASPI, Fondo 533, Opis. 4, exp. 15.
Рина Ортис, Энрике Арриола 291
большевики... вниманием не был обойден ни один из потенциально спорных пунктов, и это несмотря на то, что участие в политической жизни нравится не всем»7.
В начале 1923 года разразилась забастовка трамвайщиков, над зданиями Мексиканской трамвайной компании взвились красные флаги, а проправительственная CROM организовала при помощи штрейкбрехеров новый профсоюз трамвайщиков, чтобы сорвать забастовку. Коммунисты участвовали и в других масштабных конфликтах, в частности, в штате Веракрус. Им удалось проникнуть в некоторые организации CROM. Несмотря на все эти достижения, организация оставалась слабой. Штирнер писал: «Одним из наиболее интересных аспектов борьбы за эмансипацию мексиканского пролетариата является аполитичность лучших элементов в рядах Коммунистической партии. Большинство наших честных товарищей, которые отдали годы жизни революционной борьбе за Мексику, вплоть до настоящего времени придерживаются исключительно аполитичной тактики»8.
Коммунистическое руководство положительно отреагировало на призыв способствовать вовлечению членов партии в политическую деятельность. Штирнер был проинформирован о том, что съезд единогласно поддержал соответствующее решение. Было принято решение сосредоточить все усилия на выпуске газет «Френте Унико» в Веракрусе и «Ла Плебе»9.
Касательно президентских выборов, в них участвовало два основных кандидата. Отношение к ним членов партии было двойственным и, в определенной степени, отражало раскол между боровшимися за власть вождями революции. Для М. Диаса Рамиреса, члена ЦК партии, было очевидным, что следующим президентом Мексики станет министр финансов Адольфо де ла Уэрта10 11. Руководитель Коммунистической молодежи Рафаэль Каррильо говорил, что ситуацию контролирует министр внутренних дел Плутарко Элиас Кальес11. В результате, коммунисты заняли выжидающую позицию вплоть до декабря 1923 года, когда мятеж Адольфо де ла Уэрта вынудил их поддержать законный порядок
7 Carta de A. Stimer а С. Dehesa, RGASPI, Fondo 495, Opis 108, exp. 34, f. 1-5.
8 Там же.
9 RGASPI, Fondo 495, Serie 108, exp. 33 Carta de Manuel Díaz Ramírez a Edgar Woog, 24 de abril de 1923.
10 RGASPI, Fondo 495, Serie 108, exp. 33. Carta de Manuel Díaz Ramírez a Alfred Stirner, 1 de febrero de 1923.
11 Ibid. Carta de Rafael Carrillo a Edgar Woog, 21 de abril de 1923.
292 Российская революция 1917 года и ее место в истории XXвека
и выразить свою поддержку Плутарко Элиасу Кальесу. Впрочем, сближение это было недолгим.
В первые годы существования МКП ее члены могли действовать достаточно свободно, приспосабливаясь к сиюминутной ситуации, поскольку внутри Коминтерна превалировала так называемая тактика Единого фронта, предполагавшая единство различных сил, противостоявших капитализму, и постепенную популяризацию коммунизма. Считалось, что сила предпринимаемых коммунистами действий поможет сорвать маску с лидеров реформистов. Однако ряд событий повлек за собой изменение политики Коминтерна. Этот процесс начался с 1924 года и получил название большевизации. Его результатом стало точное исполнение директив центра в Москве. Смещение или исключение несогласных членов компартий стало нормой, а управляющая верхушка с каждым разом становилась все более и более зависимой от Москвы12.
Большевизация совпала по времени с приходом к власти Калье- са, по отношению к которому коммунисты занимали двойственную позицию. Мексика признала СССР и установила дипломатические отношения. Полномочным представителем СССР в Мексике стал Станислав Пестковский. Как недавно выяснилось13, посол одновременно был и эмиссаром Коминтерна. И именно вмешательство Пестковского в жизнь МКП вызвало первый серьезный внутренний кризис партии.
Пестковский вручил свои верительные грамоты 7 ноября 1924 года, а 8 декабря того же года уже отправил в Коминтерн14 свой первый отчет, в котором дал оценку текущему состоянию компартии в Мексике на тот момент: численность членов партии не достигала и тысячи, уровень их подготовки был слабым, финансы находились на грани истощения, а из всех руководителей партии только один заслуживал его доверия - Бертрам Вульф, да и он не был мексиканцем.
Пестковский был намерен усилить МКП за счет «чистки». Целью нападок посла стал М. Диас Рамирес, оставивший в мае
12 Kevin Macdermott, Jeremy Agnew Comintern, History of International Communism from Lenin to Stalin, (Ed. en ruso). P. 74.
13 Jeifets Lazar y Victor Jeifets, “Tovarish Andrei...ne tol'ko kak posol, no i как staryi chien russkoi partii...” , Latinskaya Amerika, Nô 6, 1997; “Stanislav Pestkovskii, Tovarich Andrei. Dvoinoi portret v meksikanskom inter'ere” en Latinskaya Amerika, 2002.
14 Fondo 495, Serie 108, exp. 39, f. 10. Пестковский использовал псевдоним «Андрей» или «Андрес».
Рина Ортис, Энрике Арриола 293
1924 года должность генерального секретаря, уступив свое место Рафаэлю Каррильо. По всей видимости, смена руководства повлекла за собой трения внутри МКП, результатом которых стала попытка перенести штаб-квартиру исполкома партии в штат Веракрус, где основной силой партии было движение Аграрных лиг, тесно сотрудничавшее с Диасом Рамиресом.
Из писем Штирнеру основных участников конфликта — Диаса Рамиреса, Каррильо и Вульфа — видно, что за нападками и критикой в отношении личностей кроются политические разногласия. Как уже было сказано, с одной стороны были члены партии, которые стояли на прагматичной позиции необходимости расширять свое влияние, используя плоды еще не исчерпавшей себя революции, рассматривавшие крестьянство как обязательный элемент борьбы. По другую сторону оказались те, кто руководствовался в своей деятельности, прежде всего, решениями и директивами Коминтерна.
Внутри партии образовалось две группы. Диас Рамирес отстранился от управления партией, на что жаловался ее новый секретарь Каррильо, тесно сотрудничавший в свое время с Диасом Рамиресом и руководителем Крестьянских лиг Урсуло Гальваном15. Осенью 1924 года Вульф вернулся из Москвы и, ввиду отсутствия в Мехико Диаса Рамиреса, превратился в центральную фигуру руководства МКП. Пестковский не мог не принимать во внимание его мнения. Не вызывает сомнения и то, что Вульф использовал любую возможность, чтобы дискредитировать Диаса Рамиреса, что видно из его письма Штирнеру, написанного в январе 1925 г.16 Нападки и обвинения Вульфа и Каррильо носили систематический характер. Упор делался, прежде всего, на дурном влиянии Диаса Рамиреса на других членов партии, в частности, на Гальвана и Мануэля Альмансу. Однако, в соответствии с партийными принципами, только съезд имел право рассматривать конфликты внутри МКП и принимать по ним решение. Возможно, что именно Пестковский инициировал созыв третьего съезда партии, призванного решить накопившиеся проблемы. 18 февраля 1925 года Коминтерн дал свое согласие на проведение съезда в апреле того же года17. Хотя на съезде сторонам удалось прийти к временному компромиссу, конфликт не разрешился.
15 Carta de Rafael Carrillo a Edgar Woog, 1 de mayo de 1924, RGASPI, Fondo 495, opis 108, Exp. 41, f. 29.
16 Carta de B. Wolfe a Stirner, 27 de enero de 1925, Rgaspi, Fondo 495, Opis 108, exp. 49, if. 1—3.
17 RGASPI, Fondo 495, Opisl08, exp. 45, f. 21.
294 Российская революция 1917 года и ее место в истории XXвека
В новом отчете Пестковского от августа 1925 года, подробно рассказывается о сложившейся внутри партии сложной ситуации: Диас Рамирес был исключен из партии по инициативе самого Пестковского, а Вульфа депортировали из страны. Вмешательство эмиссара Коминтерна угрожало расколоть слабую партию и навсегда потерять для партии лидера, возглавлявшего самое мощное на тот момент крестьянское движение. Проблема была не в людях и не в личностях, а в том месте, которое отводилось крестьянскому движению в революционной или коммунистической борьбе.
В своем отчете Штирнер пишет: «В июле 1925 г. товарищ Андрес требовал исключения товарища Рамиреса как интеллектуального отца политики Крестьянской лиги. Летом 1925 г. ЦК перехватил письма Рамиреса его жене, в которых Рамирес жаловался на политику ЦК и говорил, что Андрес руководить партией неспособен. Этим воспользовались и, организовав встречу посольства с частью членов ЦК, постановили приостановить членство Рамиреса. Через три дня его членство было приостановлено».
11 августа 1925 года М. Альманса, только что вернувшийся с конгресса Крестинтерна, написал Штирнеру, требуя его вмешательства в конфликт. Альманса опасался, что разногласиями внутри партии воспользуются ее враги: «...мы отпугнем сочувствующих и нанесем удар по престижу нашей молодой партии... Неизвестно, куда заведет нас сумасбродство этих товарищей, если ты не вмешаешься и не окажешь прямого влияния на этот вопрос»18.
Исключение Диаса Рамиреса должно было состояться на сентябрьском съезде партии. Однако Штирнер вмешался и настоял, чтобы Коминтерн вызвал Каррильо и Диаса Рамиреса в Москву, чтобы разрешить их разногласия. Диас Рамирес не смог отправиться в Москву по причинам финансового характера. В результате перед Исполкомом Коминтерна предстал один Каррильо, признавший, что «исключение Рамиреса повлечет за собой разрыв с крестьянским движением штата Веракрус». Хотя Штирнер признавал ошибки в деятельности Гальвана и Диаса Рамиреса, он также понимал необходимость поддерживать рост популярности партии среди крестьянства.
По возвращении Каррильо в Мексику острая фаза конфликта, казалось, сошла на нет, но посол продолжал настаивать, что Каррильо поддался влиянию Штирнера, и требовал исключения
18 RGASPI, Fondo 495, Opis. 108, exp. 49, ff. 34-35.
Рина Ортис, Энрике Арриола 295
Диаса Рамиреса. Дошло до того, что в мае 1926 г. Штирнер был вынужден отправиться в Мексику, чтобы выступить посредником в разрешении конфликта. Он описал эту поездку:
«На следующий день после моего приезда у меня был разговор с Андресом. Мы говорили о перспективах. Он сказал буквально следующее: “Я придерживаюсь мнения, что сегодня мы не можем создать в Мексике партию, охватывающую большие народные массы. Среда, в которой мы действуем, настолько коррумпирована, что стоит нам открыть двери, как партию заполонят оппортунисты, которые станут использовать ее в собственных карьерных целях. Мы должны работать над созданием ячеек, давать им хорошую коммунистическую подготовку и направлять их на работу с профсоюзами и прочими пролетарскими организациями”. Рамиреса он охарактеризовал как коррумпированного элемента, олицетворяющего собой партийный оппортунизм. “Если вы добьетесь реабилитации Рамиреса, я уйду в отставку”, - сказал он под конец.
В реальности никакого Центрального комитета не существовало. Три или четыре товарища из Центрального комитета регулярно посещали посольство. Там, нередко в присутствии одного Каррильо, принимались важнейшие решения, которые затем выносились на рассмотрение заседаний ЦК. В заседаниях ЦК также принимал участие товарищ из Югославии, бывший сотрудником посольства. И именно этот товарищ защищал вплоть до моего приезда (...) ту точку зрения, что необходимо создать третий профсоюзный центр, чтобы противодействовать реформистам. Секретарь посольства, товарищ X., открыто заявлял о том, что является троцкистом, [и] говорил, что крестьянство представляет собой угрозу для партии. Очевидно, что авторитет товарища Андрея как посла и как старого большевика в глазах членов ЦК партии делал значимым для них даже мнение простых сотрудников посольства. При этом то, что посольские товарищи подкрепляли бесчисленным множеством теоретических и политических аргументов, мексиканские товарищи ретранслировали в сыром виде, неподкрепленном никакой теоретической базой. Один из членов ЦК, в частности, сказал на съезде: “Что нам 30 000 членов крестьянских лиг штата Веракрус? Мы справимся и без них”. Тот же товарищ говорил: “ Работа реформистских профсоюзов бесполезна, нам нужно создать новый профсоюзный центр, а рабочие реформисты подтянутся”. Когда товарищ Каррильо говорил в своем докладе об аграрном вопросе, он вышел из себя и гневно заявил, что “товарищи из Крестьянской лиги не хотят признавать гегемонии пролетариата”. Другой член
296 Российская революция 1917года и ее место в истории XXвека
ЦК заявил на заседании Организационной комиссии: “Нам нужна небольшая группа людей с железной дисциплиной (...)”.
Такими были основные тенденции внутри ЦК, нашедшие себе благодатную почву в посольских стенах. Не следует забывать, что в 1919-1920 гг. партия характеризовалась выраженными анархистскими тенденциями, которые сами по себе находят широкий отклик среди мексиканского пролетариата (пусть и не такой сильный, как раньше). Поэтому эти точки зрения “левых” и, предположительно, “врагов любых проявлений оппортунизма” падают на благодатную почву.
Теперь я лучше понимаю, что агрессивная позиция товарища Андрея в отношении товарища Рамиреса - это вопрос принципов: ультралевого уклона в вопросах организации и профсоюзного движения, с одной стороны, и троцкистского подхода к крестьянскому вопросу, с другой»19.
Несмотря на то что посол полагал, что реабилитация Диаса Рамиреса ударит по его авторитету, Штирнер смог аккуратно настоять на своей точке зрения. В результате съезд восстановил Диаса Рамиреса в партии. Казалось, что проблема осталась в прошлом, но Пестковский не собирался сдаваться20. Для советского правительства приоритетом постепенно становилась защита социализма в одной стране. В свете этого официальные представители СССР должны были держаться в тени и избегать прямого вмешательства в дела компартий стран своего пребывания. Вскоре Пестковский был снят с должности. Но и для Штирнера мексиканский вопрос реабилитацией Диаса Рамиреса не закончился. В свете новой политики Коминтерна крестьянство не могло больше играть решающую роль, в авангард движения ставился рабочий класс. МКП должна была приспособиться к новой линии Коминтерна.
В июне 1927 года, было принято новое решение касательно региональных секретариатов. Руководителем Латиноамериканского секретариата был назначен Жюль Юмбер-Дроз21. В его состав уже не вошел Альфред Штирнер, работавший с 1927 по 1928 год в Европейском бюро в Берлине. При этом он продолжил заниматься делами Мексики, представлял МКП в Москве и готовил подробный отчет о ситуации в стране и деятельности МКП.
19 RGASPI, Fondo 495, Opis 19, exp. 179.
20 RGASPI, Fondo 495, Opis 19, exp. 179.
21 Adibekov G.M., Shajnazarova E. у Shirinya K.K. Organizatsionaya Srtuktura Komintema (1919-1943), Moscú, Rosspen, 1997. P. 93-110
Воплощение утопии:
Луис Эмилио Рекабаррен и влияние Российской революции в Чили
Хулио Пинто Вальехос
Луис Эмилио Рекабаррен, основатель Коммунистической партии Чили, «герой» современного левого чилийского движения, был рьяным и убежденным поклонником большевистской революции1. Известия о революции в России застали его в Буэнос-Айресе. Рекабаррен был шокирован новостью. Его реакция была сразу восторженной: «Мечта, утопия этих безумцев, называющихся
1 О Рекабаррене и его политическим наследии см.: Julio César Jobet, Recabarren y los orígenes del movimiento obrero y del socialismo chileno, Santiago, Prensa Latinoamericana, 1971; Alejandro Wither Velasquez, Los trabajos y los días de Recabarren, La Habana, Nuestro Tiempo, 1977; Ivdn Ljubetic V, Don Reca, Santiago, ICAL, 1992; Miguel Silva, Recabarren y el socialismo, Santiago, Taller Artes Gráficas Apus, 1992; Sergio Grez Toso, Historia del comunismo en Chile. La era de Recabarren (1912-1924), Santiago, LOM, 2011; Jaime Massardo, La formación del imaginario político de Luis Emilio Recabarren, Santiago, LOM, 2008; Julio Pinto Vallejos, Luis Emilio Recabarren. Una biografía histórica, Santiago, LOM, 2013 \ Julio Pinto y Verónica Valdivia, ¿Revolución proletaria o "querida chusma"? Socialismo y alessandrismo en la pugna por la politización pampina (1911-1932), Santiago, LOM, 2001.
О влиянии Русской революции в Чили см.: Evguenia Fediakova, "Rusia Soviética en el imaginario político chileno, 1917-1939", en Manuel Loyola y Jorge Rojas (comps.), Por un rojo amanecer. Hacia una historia de los comunistas chilenos, Santiago, Impresora Valus, 2000, P. 107-141; y Santiago Aránguiz Pinto, "Rusia Roja de los Soviets. Recepciones de la Revolución Rusa, del bolchevismo y de la cultura política soviética en el mundo obrero revolucionario chileno (1917-1927)", tesis doctoral inédita, Santiago, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2012; Эстенссоро Сааведра Х.Ф. Тема русской революции на президентских выборах 1920 г. //Латиноамериканский исторический альманах. 2008. № 8. С. 132-161.
О Социалистической рабочей партии до ее переименования в Коммунистическую партию Чили см. Jorge Navarro López, Revolucionarios y parlamentarios. La cultura política del Partido Obrero Socialista, 1912-1922, Santiago, LOM, 2017.
298 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
социалистами, сегодня становится не только реальностью, но и источником прогресса и счастья всего человечества... Программа максималистов, говоривших о немедленном мире и упразднении частной собственности с передачей земель во всеобщее пользование - стала разрушителем капиталистического мира... Максимализм в России сегодня - это факел света для всего мира! Да здравствует эта демократия, демократия честного и трудолюбивого народа!»2. И далее: «Я без колебаний отдаю свой голос за присоединение к русским максималистам, прокладывающим дорогу мира и упразднения буржуазного, капиталистического и варварского режима. Тот, кто не поддерживает это дело, выступает за капиталистический режим со всеми его ужасами»3.
Вернувшись в Чили в начале 1918 года, Рекабаррен ездил по стране, информируя политических и профсоюзных коллег о великом русском подвиге. В условиях тотального подавления рабочих демонстраций и того, что власти считали «подрывными» действиями, Рекабаррен был назван самым опасным пропагандистом «максималистской» модели в Чили4. Благодаря его участию в съезде профсоюзов, результатом которого стала программа Федерации рабочих Чили (ФОЧ), ставившая цель ликвидации капиталистического режима, консервативная пресса стала называть Рекабар- рена «руководителем чилийских максималистов», сравнивая его с Лениным и Троцким5. Сложившаяся обстановка сулила ему скорую ссылку и тюремное заключение. Так, на одном из судебных заседаний судья обвинил Рекабаррена в «мятеже» и «подрывных» выступлениях, в том числе и в призыве следовать революционному примеру России. По данному обвинению Рекабаррен провел в заключении пять месяцев. «Чилийский Ленин», как восхищенно называли его сторонники (и оскорбительно недоброжелатели), использовал тюремный срок для систематизации своих идей
2 Luis Emilio Recabarren, La Rusia Revolucionaria librando al mundo de la guerra (III), Adelante (Talcahuano, Chile), 7 de febrero de 1918 //Ximena Cruzat y Eduardo Devés (eds.), Recabarren, escritos de prensa, Santiago, Nuestra América, 1986, tomo 3, p. 145.
3 Ibid. P. 145-147.
4 О периоде «подрывной» деятельности в политической и общественной жизни, волновавшую Чили в период после окончания Первой мировой войны см. Verónica Valdivia, Subversión, coerción y consenso. Creando el Chile del siglo XX, 1918-1938, Santiago, LOM, 2017; Raymond Craib, The Cry of the Renegade: Politics and Poetry in Interwar Chile, Oxford University Press, 2016.
5 Репортаж, опубликованный в газете La Unión г. Вальпараисо, 23 января 1920 г. напечатан в El Socialista (Антофагаста).
Хулио Пинто Всихъехос 299
о революции. В статье под названием «Веселые вычисления, чтобы скоротать время» он с оптимизмом намекал на то, что другие страны уже заразились идеями русской революции, несмотря на стремление «буржуазных государств» не замечать и скрывать это: «Объяснение этому очень простое, результаты усилий русского народа, начиная с марта 1917 года, станут самым действенным толчком для всех народов мира как можно скорее последовать примеру социалистической России»6. В статье «Высшие блага войны» Рекабаррен поздравил с неожиданным финалом «жестокого жертвоприношения нелепых и выродившихся земельных магнатов, которое с 1914 по 1918 год потрясло весь мир. Рождение первых коммунистических социалистических республик в России, - пояснял он, - свергших постыдную тиранию царей и великих князей... является основополагающим усилием социализма»7. «Я объяснял на конференциях, — отвечал радикально настроенному журналисту, обвинившему Рекабаррена в том, что тот ратует за внедрение в Чили русского максимализма, - что Русская революция и максимализм... - прекрасное свершение, дело высшей цивилизации, что подтверждается сплочением всей нации, за исключением нескольких сотен реакционеров»8. Он даже написал поэтическую оду, посвященную «Советской России». Одна из ее строф гласит: «Радуйся, о Россия! Огромный маяк,/ который дал Свет/ и Новую Жизнь,/ дайте народу силу,/ чтобы сломить рабство!»9.
Кульминацией всей этой пропагандистской работы стало продвижение Рекабарреном идеи формального вступления его Социалистической рабочей партии в Третий Интернационал с выполнением «21 условия». Так, 2 января 1922 года родилась Коммунистическая партия Чили под его руководством. В декларации идейных основ партия приняла обязательства буквально «стать чилийским отделом Коммунистического Интернационала, принять его политику и бороться за торжество его дела, которое является общим делом пролетариата»10.
6 El Socialista, Antofagasta, 8 de junio, 1920.
7 El Socialista, Antofagasta, 10 de junio, 1920.
8 El Socialista, Antofagasta, 16 de septiembre, 1920.
9 El Socialista, Antofagasta, 7 de junio, 1920.
10 Об основании Коммунистической партии Чили см. Sergio Grez, Historia del comunismo en Chile, op. cit., P. 173-179. Ver también Hernán Ramírez Necochea, Origen y formación del Partido Comunista de Chile. Ensayo de historia política y social de Chile, Moscú, Editorial Progreso, 1984; y Andrew Barnard, El Partido Comunista de Chile, 1922—1947, Santiago, Ariadna, 2017 (edición original en inglés, Londres, 1977), capítulo 1.
300 Российская революция 1917 года и ее место в истории XXвека
Восхищение Рекабаррена советским экспериментом привело его в конце 1922 года в Россию, где он участвовал в качестве делегата от ФОЧ в IV конгрессе Коммунистического Интернационала и во II конгрессе Профинтерна. Он смог лично ознакомиться с тем, что сделано за пять лет революционного правления. Это был опыт, который, вопреки некоторым версиям, только усилил его восхищение проектом. Одна из тем, в которой заметно проявлялась «новая душа» большевистской России, была связана с положением женщин. Этому вопросу Рекабаррен посвящал долгие часы размышлений на протяжении всей своей карьеры.
Московские конгрессы завершились 5 декабря 1922 года, и Рекабаррен не спеша стал собираться на родину, где в конце февраля следующего года его торжественно встретили последователи. В речи, произнесенной на Пласа-де-Армас в Сантьяго, он отметил, что «в России нет зарплаты, в России нет господствующей буржуазии, в России нет эксплуататорского капитализма, в России фабрики, поля, производства в руках рабочих»11.
Рекабаррен практически сразу предпринял серию ознакомительных лекций о своей поездке11 12. Он также занялся систематизацией своих записей и впечатлений о путешествии для брошюры под названием «Рабочая и крестьянская Россия», в которую также вошли доклады Ленина и Троцкого на съездах, в которых он участвовал: «Я поехал в Россию с убеждением, что коммунисты еще не смогли построить там коммунистическое общество», - но все равно, «с политической и экономической властью в руках, начиная с 7 ноября 1917 года, они занимались накоплением необходимых элементов для строительства коммунистического общества, которое мы наметили в наших программах и устремлениях»13.
Через 43 дня, когда брошюра была готова, Рекабаррен в заключении написал, что «не обманывал себя, когда говорил о том, что русский пролетариат держит в своих руках всю силу, необходимую для построения будущего счастья, и создает все необходимое для построения коммунистического общества с настоящим господством социальной справедливости»14. Предоставив, помимо прочего, результаты своих наблюдений, он заключил: «Как бы безапелляционно и злостно не заявляла пресса и ее присные про¬
11 La Federación Obrera, Santiago, 20 de febrero, 1923.
12 Rusia obrera y campesina // El pensamiento de Luis Emilio Recabarren, Santiago, Austral, 1971, tomo II. P. 178—193.
13 Ibid. P. 134-135.
14 Rusia obrera y campesina. P. 248-249.
Хулио Пинто Вальехос 301
пагандисты, что я был убежден в провале коммунизма в России», напротив, «я вернулся из России более убежденным, чем прежде, в необходимости ускорить Социальную Революцию, которая передала бы в руки народа всю власть, необходимую для построения коммунистического общества»15. Он надеялся, что «чилийский пролетариат почерпнет из чтения его брошюры многие идеи для своих дальнейших действий, что позволит им успешно продвигаться к краху капиталистического государства, являющегося причиной тирании и эксплуатации, которую мы вынуждены терпеть»16.
Из всего сказанного явно следует, что даже за несколько месяцев до смерти в декабре 1924 года, Рекабаррен продолжал восхищаться большевистским подвигом. Однако, как отмечают многие исследователи, это восхищение не выливалось в стремление механически воспроизвести методы и формулы советского опыта. Исследователи выделяют три аспекта, из которых становится особенно заметно отклонение от российских методов.
Во-первых, структура и работа партии. После присоединения к Коммунистическому Интернационалу Социалистическая рабочая партия сохранила традиционную федеративную структуру с довольно автономными местными группами или отделениями, слабо связанными с областными федерациями и Национальным исполнительным комитетом, который, как это верно отметил Сер- хио Грез, скорее выполнял функции координатора, нежели руководителя. Эти местные центры или секции, как правило, оставались чужды иерархическим принципам и ленинским нормам партийной дисциплины, что выражалось в количестве участников собраний, организационной беспорядочности и склонности к фракционности (замеченной и за самим Рекабарреном). Со стороны деятельность чилийской компартии была похожа скорее на ее подготовку к вступлению в Коминтерн. В целом, речь шла о партии, где демократия явно (если не полностью) преобладала над централизмом. Вскоре Интернационал потребовал провести серьезные изменения в партии. Однако этот процесс, называемый «большевизацией» партии, произойдет уже после смерти Рекабаррена17.
15 Ibid.
16 Ibid.
17 О структуре Коммунистической партии Чили в первые годы ее существование см. Sergio Grez, Historia del comunismo en Chile, op. cit., P. 209-225; Andrew Barnard, El Partido Comunista de Chile, op. cit., P. 47-77; y Hernán Ramírez Necochea, Origen y formación del Partido Comunista de Chile, op. cit.. Sobre la "bol- chevización" del partido ver Olga Ulianova, ’’Primeros contactos entre el Partido
302 Российская революция 1917 года и ее место в истории XXвека
Во-вторых, чилийский коммунизм в версии Рекабаррена отличался от ленинской модели в вопросах использования революционного насилия. По причинам скорее прагматичным, нежели этическим, Рекабаррен всегда с опаской относился к последствиям государственного насилия, куда более разрушительного, чем любое насилие рабочего класса, которое он мог допустить. Поэтому он выбрал тактику «более разумную, менее жестокую, более эффективную, менее шумную: мощная и совершенная организация пролетариата в области экономики, политики и сотрудничества, чтобы провести перемены с умом», то есть без лишних рисков, «в существующем обществе»18.
Так же как и в брошюре, опубликованной в Буэнос-Айресе в 1916 году под названием «На что способен муниципалитет в руках разумных людей», Рекабаррен призывал завоевывать места в муниципалитетах, а также развивать кооперативы, как инструменты для создания «пассивной» силы, достоинство которой заключается в том, чтобы без видимого насилия и опасной борьбы одна система была заменена другой»19. В брошюре «Демонстрация профсоюзов в действии», опубликованной примерно тогда же, он утверждал, что «насилие подавляет, но не убеждает, а побежденный ждет случая отомстить. Профсоюзы не должны стремиться к триумфу посредством насилия, потому что он оставит горькое послевкусие. Мы не хотим, чтобы великая сила, которую мы пытаемся собрать организацией рабочих, тратила драгоценное время на разрушение чего-либо, мы хотим, чтобы она “строила” новое общество. Профсоюз, который остановит капитализм с его стремлением к эксплуатации, создаст единую силу, укрепив ее избирательным правом. И эта постройка, справедливая, нравственная, естественная
Comunista de Chile у el Komintern: 1922-1927", en Olga Ulianova y Alfredo Riquelme (eds.), Chile en los archivos soviéticos 1922-1991, Tomo 1: Komintern y Chile, 1922— 1931, Santiago, DIBAM/LOM, 2005, P. 93-109; y RolandoÁlvarez Vallejos, "Labol- chevización del Partido Comunista de Chile. Antecedentes (1920-1927)", en Patricio Herrera y Santiago Aránguiz (eds.), El Comunismo en América Latina. Experiencias militantes, intelectuales y transnacionales (1917-1955), Valparaíso, Universidad de Valparaíso, 1917.
18 La Voz del Obrero, Taltal, 11, 13 de enero, 1908; El Pueblo Obrero, Iquique, 4 de febrero, 1908.
19 La Vanguardia, Buenos Aires, 6, 9, 10, 16 y 20 de octubre, 1916; полная версия брошюры - El pensamiento de Luis Emilio Recabarren, Santiago, Austral, 1971, tomo II, P. 425-463. Об этом см. также - Gabriel Salazar, "Luis Emilio Recabarren y el municipio en Chile (1900-1925)", // Revista de Sociología, Santiago, Universidad de Chile, №9, 1994.
Хулио Пинто Вальехос 303
и разумная, будет мотивировать не на “разрушение” нынешнего общества, а на “переход” из одной формы государства в другую; что будет означать движение от ошибок к истине, из эпохи несчастья в эпоху счастливого спокойствия. В этом — и состоит наша революция»20.
После большевистского переворота единомышленник Река- баррена Луис Виктор Крус разъяснял в Палате депутатов Конгресса, что их идея социальной революции не должна рассматриваться в насильственном ключе, что это последнее, чего хотят социалисты, «преимущественно пацифисты по своей натуре». «Вот почему мы хотим предупредить правительство, - говорил он, - что, пока бесчеловечное насилие не будет применено к народу, он продолжит свое победное шествие мирным путем, спокойно развиваясь, завоевывая все те блага, к которым стремится»21. К концу того же 1921 года сам Рекабаррен отрицал, что чилийские социалисты хотят видеть «социальную революцию катастрофической, кровавой, пугающей, стремящейся уничтожить все живое». Он говорил, что его вызов режиму частной собственности не означал насильственного изгнания кого-либо, но что «излишки», накопленные за счет эксплуатации рабочих, «должны стать национальным достоянием, которым будет распоряжаться само обществом, а под обществом мы понимаем всех представителей Нации... Достопочтенные депутаты могут убедиться в том, - заключил он, - что коммунистические депутаты видят возможным свершение социальной революции только на основе народной культуры, в рамках существующей цивилизации»22.
Изменилось ли отношение Рекабаррена к «пацифизму» после его поездки в Советский Союз? Равнение на Интернационал в определенной степени обязывало принять понятие «диктатуры пролетариата» в качестве необходимого шага для перехода от капитализма к социализму, что, очевидно, означало признание насилия как инструмента революционного строительства. В дискурсивном плане это было ясно еще до вышеупомянутой поездки. Уже в 1920 году в статье «Наша революция нуждается в большем развитии» Рекабаррен определил диктатуру пролетариата
20 Luis Emilio Recabarren, Proyecciones de la acción sindical, Buenos Aires, talleres gráficos de La Vanguardia, 1917. Переиздано: El pensamiento de Luis Emilio Recabarren, tomo II, P. 7-129.
21 Chile, Cámara de Diputados, sesión ordinaria de 8 de julio de 1921.
22 Chile, Cámara de Diputados, sesiones extraordinarias de 21, 22 y 23 de diciembre de 1921.
ЗО 4 Российская революция 1917 года и ее место в истории XXвека
как инструмент, «руководство рабочими, которые составляют 90% населения, для управления производством в соответствии с интересами этих 90%, что принесет настоящую свободу народу, принимающему на себя всю силу правительства, вплоть до «диктатуры пролетариата»23. В статье, написанной в конце 1923 года под названием «Предпочтительная диктатура», он утверждал, что мир «двигающийся к диктатуре», неизбежно встанет перед выбором между рабочей или буржуазной диктатурой. Рабочая диктатура явно предпочтительней для борьбы с «диктатурой буржуазной, от которой мы страдали столько веков», а также «потому что она уничтожит эксплуатацию, как источник всех пороков», среди которых «голод, гнет, невежество и вечное молчание»24.
Третьей существенной отличительной чертой позиций чилийских коммунистов от советской «модели» была точка зрения, не выходившая за рамки прежнего дискурса и противоречившая советской практике. По крайней мере, так было при жизни Река- баррена, который ни разу не изменил себе ни в пользовании свободой, которую допускала чилийская политическая система, ни в вовлеченности в избирательные, муниципальные или парламентские институты, составляющие эту систему.
Как недавно предположила Вероника Вальдивия, защита общественных свобод самовыражения, собраний и объединений со стороны зарождающегося левого движения слишком укоренилась в его политической деятельности, чтобы списать все на простую тактику25. С другой стороны, размышления Рекабаррена снова и снова демонстрируют его уверенность в пользе, которую может принести социализму вхождение его сторонников в органы местного управления или использование подавляющего большинства народа для получения необходимых результатов на выборах, чтобы без рисков, присущих любым другим действиям, обеспечить приход народа к власти. В одной из статей Рекабаррена середины 1920-х годов в отношении «диктатуры пролетариата» говорилось: «Если у нас есть избирательное большинство, которое составляет нашу “политическую силу”, почему мы не используем его в нашу пользу? Какие есть причины для того, чтобы мы отдали другим эту силу, которую можем использовать? Если мы объединимся,
23 EI Socialista, Antofagasta, 1 de julio, 1920.
24 La Federación Obrera, Santiago, 7 de noviembre, 1923. Отношение Рекабаррена к концепции диктатуры пролетариата было тщательно разобрано в работе Sergio Grez., Historia del comunismo en Chile, op. cit., P. 259—266.
25 Verónica Valdivia, Subversión, coerción y consenso, op. cit.
Хулио Пинто Валъехос 305
подобно эксплуатируемым наемным работникам, заставляющим капиталиста отказаться от эксплуатации, и при помощи выборов используем закон вместе с нашим объединением, мы обяжем капиталиста быть честным и отказаться от эксплуатации»26.
В общем, восторженное, лишенное всякой критики отношение Рекабаррена к Русской Революции, поддержанное его сторонниками, уживалось с общекоммунистическими мировыми тенденциями, по крайней мере, в трех аспектах, упомянутых выше. Несмотря на то что Рекабаррен был сильным редактором и политическим оратором, он лично никогда глубоко не вникал в эту идеологическую дилемму, которая в противном случае стоила бы ему посмертной критики со стороны единомышленников и руководящих органов Третьего Интернационала, что заставляло его поддерживать установленный им порядок, который мог видеться ему более благоприятным для «легальной» работы нежели для вооруженного восстания? Страх за последствия лобового столкновения с установленным порядком, которые могли обернуться разрушениями и гибелью людей, и то, что Рекабаррен не единожды был свидетелем массовых убийств рабочих в условиях «парламентского» режима в Чили? Все эти гипотезы и дилеммы терзали как Рекабаррена, так и чилийское левое движение на протяжении всего XX века. В конце концов, ленинская позиция 1917 года по отношению к революционному насилию и позиция Сальвадора Альенде в 1970-х по большей демократизации сильно отличаются друг от друга.
26 Luis Emilio Recabarren, "La Federación Obrera de Chile. Cómo debe aprovechar las fuerzas que tiene en su seno" // El Socialista, Antofagasta, 12 de junio, 1920.
Х.А. Мелья: Великая русская революция и исторические традиции национальной борьбы на Кубе.
Л.А. Ивкина
Я твердо убежден, что смогу сделать намного больше за годы, что мне отпущены судьбой, для моей страны и всего человечества, чем было сделано мной в университете, и чем сделали до настоящего времени мои судьи.
Х.А. Мелья
16 января 1929 года в советской газете «Комсомольская правда» появилась статья об убийстве в Мексике лидера кубинского студенческого и коммунистического движения Хулио Антонио Мельи. Авторы этой статьи, мексиканские коммунисты, отметили, что «Мелья был не только революционер-практик; были все основания ожидать, что уже в ближайшем будущем он займет место одного из лучших коммунистов — теоретиков Латинской Америки».
Хулио Антонио Мелья (1903-1929) принадлежал к поколению кубинских революционеров первой трети XX века. Годы его формирования как студенческого и коммунистического лидера пришлись на первые десятилетия существования псевдореспублики, когда после продолжительной вооруженной борьбы последней трети XIX века Куба, освободившись от испанского колониального господства, попала в сети еще более сильной зависимости от северного соседа — США. Навязав стране неравноправные экономические договоры и «поправку Платта» (1901), существенно ущемлявшую ее суверенитет, американский империализм с утроенной энергией начал завоевывать важнейшие стратегические позиции в экономике острова, прежде всего в сахарной отрасли. Республика, созданная в 1902 году, не стала той свободной республикой, о которой мечтали и за которую боролись кубинские революционные лидеры К.М. де Сеспедес, Хосе Марти, Антонио Maceo, Максимо Гомес и многие герои великой героической эпопеи последней трети XIX века. Экономический кризис 1920-1922 годов, выразившийся в падении цен на сахар и спровоцировавший разорение сотен кубинских бизнесменов и землевладельцев, не связанных
Л.А. Пекина 307
напрямую с американскими монополиями, ускорил вызревание антиимпериалистических настроений. Осознание произошедшей трагедии все более овладевало умами представителей прогрессивной кубинской общественности: интеллигенции, мелкой и средней буржуазии города, передовых представителей рабочего класса, только начинавшего осознавать себя как класс, студенческой молодежи. В стране пышным цветом расцвели непотизм, взяточничество, стремление к личному обогащению, особенно проявившиеся в годы президентства А. Сайаса (1921-1925) и еще более циничного диктаторского режимах. Мачадо (1925-1933). Вмешательство США во внутренние дела Кубы, коррупция на государственном уровне, разъедавшая все моральные устои общества, воспринимались, как предательство идеалов борьбы за независимость, как причина нищеты и бедствий кубинского народа Общественное мнение все более убеждалось в том, что независимость, достигнутая Кубой в 1902 году после 4-летней оккупации острова США, оказалась не более чем формальным актом.
Именно в таких условиях началось становление нового национального самосознания, новой политической культуры, что нашло отражение в возникновении организованных акций протеста, создании гражданской оппозиции (Хунта национального и гражданского возрождения, Кубинская фаланга действий, группа Меньшинства и др.). Представители прогрессивной национальной кубинской интеллигенции (ученые, писатели, литераторы, журналисты, историки), студенты, ветераны войн за независимость, выступая против падения нравственных и моральных устоев кубинского общества, пытались найти выход из сложившейся ситуации. Огромное влияние на становление антиимпериалистической национальной идеологии нового XX века на Кубе оказали события всемирно исторического значения: Первая мировая война (1914-1918), неоднократные вмешательства США во внутренние дела Кубы и других латиноамериканских государств (Панамы, Никарагуа, Венесуэлы и др.), интервенции американских войск на остров, Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 года, которая тогда казалась главным событием, показавшим порабощенным народам и трудящимся всех полуколониальных и зависимых стран путь освобождения от гнета своих и чужеземных угнетателей.
В таких исторических условиях под лозунгом «За возрождение моральных устоев Родины» выступило молодое поколение кубинцев, которое начало искать новые пути решения тех задач,
308 Российская революция 1917года и ее место в истории XXвека
которые ставило перед собой поколение кубинских борцов за независимость XIX века. Х.А. Мелья принадлежал к этому новому поколению, став выразителем радикальной стратегии революционной антиимпериалистической национальной борьбы в новое время. В этой исторической среде он родился и жил, превратившись из бесспорного лидера студенчества в видного революционе- ра-романтика, основателя многих прогрессивных организаций на Кубе, таких как Федерация университетских студентов, Народный университет Хосе Марти (1924), Антиимпериалистическая лига (1925), активиста и одного из основателей первой Коммунистической партии Кубы (1925), МОПР и многих других общественных, студенческих, рабочих, крестьянских организаций в Мексике, где он жил в последние годы.
Он один из первых молодежных лидеров той эпохи сорвал декоративный орнамент, украшавший первые республиканские правительства, осудил иностранное вмешательство в дела государства, разоблачил продажную прессу, смело критиковал страдавшую духовным бесплодием, деградацией и непрофессионализмом систему высшего образования. Он понимал лучше, чем любой из его современников, драму, постигшую страну, и своей деятельностью наметил новый этап революционной борьбы. С самых первых шагов своей революционной деятельности Мелья пытался обновить и возродить исторические традиции борьбы за национальное освобождение XIX века, показать незавершенность борьбы за подлинную независимость, разоблачить американский империализм и представить его как главного врага свободной Кубы.
Уже в годы борьбы за университетскую реформу Мелья стремился направить студенческое движение на решение таких задач в сфере образования, которые позволили бы сформировать подлинно национальное самосознание и стать стартовой площадкой для дальнейших глубоких социальных преобразований всего кубинского общества. Он считал, что студенческое движение, обладая своими собственными целями и определенной независимостью, в то же время выражало устремления всего кубинского общества1. В статье «Социальные функции Университета» (1923), опубликованной в созданной им в 1922 году студенческой газете «Альма Матер», Мелья писал, что «подлинная функция Университета в обществе не должна и не может ограничиваться только лишь тем,
1 González Carbajal L. Mella y el movimiento estudiantil. La Habana,Ciencias Sociales, 1977. P. 19.
Л. А. Пекина 309
чтобы быть самым высшим центром культуры, простой фабрикой титулов,...; современный Университет должен влиять непосредственно на социальную жизнь, должен определять пути Прогресса, должен своими действиями направлять этот самый Прогресс, должен посредством своего преподавательского состава вырвать науку из небытия и поставить ее на службу человечества»2. Он понимал, что борьба за реформу университета неотделима от патриотической борьбы за полную национальную независимость и радикальные изменения в политической и социальной системе, что существует глубокая связь между социальной системой и системой образования. Отчетливо все эти тенденции проявились в период работы 1-го Национального (революционного) конгресса студентов (октябрь 1923 года). Резолюции, принятые на конгрессе в поддержку рабочего движения, Октябрьской социалистической революции в России, интернациональной солидарности с братскими угнетенными народами не только Латинской Америки, но и всего мира, осуждение агрессивной роли американского империализма и многие другие, свидетельствовали о глубокой социальной и политической направленности кубинского студенческого движения, о складывании серьезной политической силы, наряду с рабочим классом, претендующей на руководство революционной борьбой.
Позднее, уже находясь в Мексике, в статье «Студенты и социальная борьба», написанной в декабре 1927 года, касаясь движения за университетскую реформу, охватившего многие страны Латинской Америки (Аргентину, Чили, Перу, Кубу) и ставшего поистине континентальным движением, или, говоря словами X. Инхеньеро- са, «знамением Нового Времени», он писал, что для «университетской революции характерна социальная направленность, стремление проникнуться нуждами и чаяниями угнетенных масс, выйти из рядов реакции, отмежеваться от безразличных и нейтральных и, определив свои позиции, принять участие в борьбе за Социальную Революцию под руководством пролетариата. Без этого руководства, без этого стремления не может быть университетской революции... Все проявления и социальные акты Университетской революции в Латинской Америке — верные показатели будущих политических преобразований. Нет и не было чисто университетского движения, которое не было бы связано с социальными массами и их проблемами»3.
2 Mella JA. Documentos у Artículos. La Habana: Ed.Ciencias Sociales, 1975. P. 49.
3 Ibid. P. 343, 345.
310 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
Погружение в революционную борьбу, поиск новых путей в достижении подлинной независимости, сближение с трудящимися массами и пролетарскими лидерами, знакомство с трудами деятелей научного социализма подвигло Мелью вновь возвратиться к наследию кубинского революционера-демократа Хосе Марти, придать импульс новому прочтению и пониманию взглядов кубинского Апостола, более детально ознакомиться с эпохой войн за независимость последней трети XX века. Мелья осознал, насколько созвучны были идеи Марти с его мыслями и идеологическими воззрениями. У Марти Мелья взял идеи интернационализма, необходимость единства всех социальных слоев кубинского общества, критическое отношение и осуждение агрессивной экспансионистской политики Соединенных Штатов. Особенно близко Мелья воспринял отношение Марти к пролетариату, его твердые антиимпериалистические позиции и его интернационализм: «Чтобы быть интернационалистом, нет необходимости ненавидеть землю, на которой родился, забывать ее, предавать или нападать на нее. Такие нелепости говорят реакционеры и продажные писаки о нас, сегодняшних интернационалистах. Нет! Интернационализм означает в первую очередь борьбу за национальное освобождение от иностранного империалистического ига и, вместе с тем, солидарность, тесный союз с угнетенными других наций!»4. Он сумел понять место и роль Хосе Марти в истории Кубы и необходимость его использования в новых исторических условиях.
Изучение наследия Марти и исторических традиций борьбы, всего лучшего из революционной практики и опыта в истории Кубы XIX века, помогло ему понять идеологию пролетариата, найти в современной мировой мысли теорию, способную соответствовать вызовам времени, порождаемых новой эпохой, найти свой путь в современных ему исторических условиях. Его ораторский талант, общительность, его прозорливость и интуиция, культура, ум и фундаментальные знания национальной истории и современных идей, социальная активность и огромный творческий потенциал позволили ему понять новые параметры борьбы, возглавить ее, стать лидером современного кубинского освободительного движения, вовлечь в эту борьбу рабочих и крестьян, оставить глубокий след во всех делах, в которых он принимал участие.
Изучение марксизма-ленинизма позволило ему проникнуться антиимпериалистической идеологией, идеями демократии и соци¬
4 Ibid. Р. 271,272.
Л. А. Пекина 311
альной справедливости. Понимание роли пролетариата в современных условиях, его участие в создании первой Кубинской коммунистической партии Кубы дало ему возможность найти ответ на волновавшие его вопросы. В своих практических действиях Мелья взял на вооружение все идеи, идеологии и тенденции, находившиеся в его распоряжении на тот момент: традиции вооруженной борьбы за независимость Латинской Америки, антиимпериализм и интернационализм, а также пример и опыт советской России, которая строила новое общество без классов и социальной дискриминации. Он был первым, кто сумел соединить идеологию марксизма-ленинизма с историческими традициями революционной борьбы Кубы, создать свою программу действий и применить ее в борьбе для достижения полной и окончательной независимости.
В тот период, сто лет назад, пример Великой Октябрьской революции и нового общества, которое было создано на значительном пространстве, явились чрезвычайной силы притягательным политическим, социальным и экономическим событием для всех эксплуатируемых слоев населения во всем мире. Мелья прекрасно понимал ту роль, которую имел опыт Великой Октябрьской революции: «Если бы социальная революция могла произойти только в стране царей, то можно предположить, что огромные усилия большевиков уступают усилиям революционеров 1789 года, деятельность которых заставила почувствовать свою силу даже в достижении независимости далекой Америки»5. Он понимал то идеологическое влияние, которое имело первое социалистическое государство в мире. В своей статье «Новые освободители» он писал, что «дело социализма в целом является общим явлением для Кубы, России, Индии, Соединенных Штатов и Китая. Везде. Единственным препятствием является его адаптация к существующим реалиям»6.
«Борьба за социальную революцию в Америке, - писал он в 1925 году в работе “Куба: народ, который никогда не был свободен”, — это не утопия сумасшедших и фанатиков. Это борьба за новое ближайшее будущее. Только недалекие умы могут полагать, что революция народов Америки завершилась с войной за независимость и созданием факторий, называемых республиками, где управляют люди, может быть, намного худшие, чем испанские вице-короли и генерал-капитаны. Многие считают, что пример
5 Mella JA. Documentos... Р. 182.
6 Ibid. Р. 124.
312 Российская революция 1917 года и ее место в истории XXвека
России будет ограничен лишь современными границами социалистической республики, однако близорукость этих людей достойна сожаления, хотя ею страдают и многие университетские интеллектуалы, поддерживающие это историческое невежество. Социальная революция - это неизбежный исторический факт, не зависящий от всяких пропагандистских фантазий»7.
Детище Октябрьской революции 1917 года - Коммунистический Интернационал (КИ) и другие организации, который он основал, могли бы стать важной основой для продвижения идеологии освобождения по всему миру. Но, к сожалению, практическое применение так называемой тактики «большевизации» коммунистических партий (V съезд КИ, 1924) и принятие трагически ошибочной стратегии международного революционного движения, известной как «класс против класса», принятой VI съездом КИ в 1928 году, привели к серьезным последствиям: отказу от тактики Единого фронта, провозглашенного Лениным на IV съезде КИ (1922). Эти серьезные деформации не позволили широко использовать преимущества советского опыта.
Однако Мелья никогда не стремился слепо копировать опыт революций, которые происходили в других регионах мира и при других обстоятельствах. Мелья был против догматизма, схолатиз- ма, схематизма и слепого подражательства. Свою точку зрения он изложил в статье, опубликованной в студенческом журнале «ЛаХувентуд» (февраль 1924), по случаю смерти В.И. Ленина: «Мы не стремимся осуществить в нашей среде рабские копии революций, совершенных другими борцами в других климатических условиях, в некоторых случаях мы не принимаем определенные преобразования, в других - наше мышление более прогрессивное; но мы были бы слепцами, если бы отказались от того опыта, который нам предоставляет человечество в борьбе за свою свободу. Мы не хотим, чтобы все придерживались той или иной доктрины, это не главное, главное — это человек, люди, то есть люди, которые действуют в соответствии со своими взглядами. Люди мыслящие, а не простые проводники чужих теорий. Личности, а не животные»8.
Мелья постоянно подчеркивал необходимость единения всех прогрессивных слоев кубинского общества для решения задач социальной революции, неизбежной и исторически предопре¬
7 Ibid. Р. 182-183.
8 Ibid. Р. 87-88.
Л.А. Пекина 313
деленной. В письме к своему другу Г. Альдерегии 18 сентября 1926 года Мелья точно определил основные параметры борьбы на тот момент: «Борьба против империализма всех сил и политических направлений от рабочих и крестьян до национальной буржуазии (хотя она чаще всего и способна к предательству) - это в настоящее момент наиболее важная задача... Каково бы не было будущее Кубы... наш долг поставить и решить проблемы: национальные для одних, социальные для других и антимпериалистические — для всех» (курсив мой. - Л.И.)9.
Создание Народного университета Хосе Марти 3 ноября 1923 года стало главным реальным достижением Студенческого конгресса и лично самого Мельи. В уставе этой организации было отмечено, что его задача — сформировать в рабочем классе новую культуру и новое просвещенное, революционное мышление10 11. Мелья подчеркнул важность этого события, призванного нести культуру и знания в народные массы, что явилось неопровержимым свидетельством идеологической связи между мышлением Марти и социалистическими идеями современности. Образование Антиимпериалистической Лиги стало примером реального решения единства всех прогрессивных слоев кубинского общества того времени: трудящихся, крестьян, интеллигенции, студенчества. Это был важный шаг в реализации идей Марти и решений IV съезда КИ (1922).
Значительным шагом в решении задач национальной, демократической и антиимпериалистической революции на Кубе стала созданная Мельей в Мексике в январе 1928 Национальная Ассоциация Новых Революционных Эмигрантов Кубы (АНЭРК). Эта организация была призвана осуществить не в теории, а на практике и в соответствии с историческими традициями революционной борьбы прошлого века незавершенные задачи национального освобождения. «Наша организация - писал Мелья - ставит перед собой цель объединить всех тех, кто, преследуемые мачадовским режимом, был вынужден покинуть Кубу. Кроме того, она должна стать мостом между рабочими и студентами, которые признают необходимость объединения для борьбы за социалистические идеалы и для достижения кубинской независимости, что позволит улучшить положение трудящихся массе»11.
9 Mella J.A. Documentos... P. 259.
10 Mella J.A. 100 años. La Habana: Ed. Oriente, 2003. P. 49-51.
11 Mella J.A. Documentos... P. 433.
314 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
Создавая АНЭРК, лозунг которой был «Свободная Куба! Для трудящихся!», Мелья пытался осуществить реальный конкретный проект освобождения, который объединял задачи социальной революции с националистическими и антиимпериалистическими задачами и учитывал исторические традиции вооруженной борьбы XIX века. Вдохновленный борьбой Сандино в Никарагуа Мелья хотел создать новый фронт борьбы против империализма и мачадовского режима, в котором стремился объединить все прогрессивные силы кубинских эмигрантов. Его план состоял в создании боевой вооруженной группы, которая должна была пересечь Мексиканский залив, достичь Кубы и осуществить национальную, демократическую и антиимпериалистическую революцию.
В своей блестящей статье «Почем наш человек» (май, 1928), опубликованной в первом выпуске «Свободная Куба!» он писал: «Лозунг шести поколений кубинцев от Агуэро до настоящего времени был: Свободная Куба! Что это значит? Великое желание завоевать свободу. Вчера - от испанского режима, сегодня - от мачадовского режима и империализма. Почему до сих пор этот идеал не был осуществлен? Потому что идеал был предан. Свобода Кубы так и не была полностью достигнута, несмотря на усилия Сеспе- деса (не сына, а предшественника) и Марти... Растет тяга людей к свободе и вновь звучат на устах символы Яра, Барагуа, Байре. Сегодня вся Куба - Байре... Чтобы новый призыв к свободе не был предан, чтобы он был по-настоящему народный и демократичный, мы добавим слова “Для трудящихся!”. Эта фраза станет основой для другой. И таким образом она не будет предана. Это уже не будет Свободная Куба для новых тиранов, а только для трудящихся... Это единственная возможность объединить принципы и идеалы Революционной партии 1895 г. и 1928 г.»12.
В 20-е годы XX века, когда на Кубе вновь на повестку дня встал вопрос о борьбе за подлинную независимость, о которой мечтало старое поколение кубинских революционеров, Мелья, будучи представителем радикального крыла кубинской студенческой молодежи, сумел в новых исторических условиях создать новое революционное пространство на Кубе, понять, каким путем необходимо следовать, творчески восприняв заветы и наследие прошлых битв за свободу и независимость. Пример и опыт Октябрьской социалистической революции в России 1917 года продемонстрировал ему, на какие силы необходимо опираться в первую очередь. Мелья
12 Mella JA. Documentos... P. 415.
Л А. Пекина 315
был революционным лидером латиноамериканского масштаба. Обостренное чувство социальной справедливости и революционная интуиция позволила ему найти реальный путь для достижения национального освобождения от американского империализма и коррумпированных национальных правительств.
Автономия и единство: влияние большевистской революции на становление левого движения в Чили. 1922-1938 годы
Вероника Валъдивиа Ортис де Сарате
Левое движение в Чили, состоящее из коммунистов и социалистов, было способно объединить важные народные сектора, которые с начала века бросали вызов олигархическому строю. Оно представляло собой марксистскую альтернативу капитализму. Большевистский переворот сыграл ключевую роль в появлении этого левого движения. Великая русская революция стала примером для подражания для всех тех, кто хотел победить капитализм и построить социалистическое общество. В случае Чили, как и во всем остальном мире, революция породила два течения в левом движении, но в Чили не социал-демократическое и коммунистическое, а две марксистские партии, происхождение и разделение которых связано как с Октябрьской революцией, так и с местной политической борьбой, целью которой было совмещение социализма и демократии.
Рождение левого движения в Чили. Коммунистическая партия.
С конца XIX века активное рабочее движение в Чили, сосредоточенное в экономически важных горнорудных районах, портах и городах страны, возглавило забастовки, массовые акции протеста1. В 1912 году на севере страны рабочий-типограф, активный создатель кооперативов и профсоюзных кружков Луис Эмилио
1 Julio Pinto, Desgarros у utopías en la pampa salitrera. Santiago: Lom, 2007. P. 13-74.
Вероника Вальдивиа Ортис де Сарате 317
Рекабаррен основал Социалистическую рабочую партию. Для него, «социалистическая демократия», предполагавшая отмену частной собственности и солидарность2, была единственной политической альтернативой. Он понимал социализм как упразднение эксплуатации и установление всеобщего благосостояния, контроль за средствами производства всеми людьми, как свободу, науку и отсутствие тирании3. Споря с анархистами, Рекабаррен утверждал, что борьба рабочего класса не должна сводиться только к финансово-трудовому конфликту. Посредством создания партии рабочих он заявлял о задаче завоевания места в политических институтах, муниципалитетах, парламенте. Борьба - утверждал Рекабаррен - должна вестись через революционные профсоюзы и партию.
Октябрьская революция произошла в тот момент, когда рабочий класс уже прошел значительный этап развития как на организационном, так и на политическом уровне. Революция показывала, что мечты социалистов «перестали быть утопией»4. После первоначального восторга, анархисты осудили большевистские репрессии, как противоречащие социальной революции, способствующие насилию и не содействующие уничтожению Государства. В их понимании действия коммунистов рассматривались как максимальное проявление государственного насилия, покушавшегося на понятие свободы5.
Рекабаррен же с радостью воспринял Октябрьскую революцию, в результате которой был положен конец войне, отменена частная собственность, земля передана крестьянам. Он находил в этом подтверждение того, что «революционная и рабочая Россия была самым грозным оплотом истинной демократии»6. В апреле 1918 года он отправил приветствие «первой Социалистической Республике в мире»7.
2 La Reforma, Santiago, 13 de agosto de 1907. Цит. no: Pinto J. Luis Emilio Reca- barren. Una biografía, Lom, 2013. P. 60.
ъ Pinto J. Op. cit. P. 120, 149-151.
4 Estenssoro F La temprana valoración de la Revolución Bolchevique en Chile, 1918-1920. Tesis, Lie. en Historia, PUC, 1992.
5 Aránguiz S. Rusia roja de los soviets. Recepciones de la Revolución Rusa, del bolchevismo y de la cultura política soviética en el mundo obrero revolucionario chileno, 1917-1927. Tesis de Doctorado, PUC, 2012. P. 252-256.
6 Adelante (Talcahuano), 5-7 y 13 de febrero de 1918.
7 El Socialista (Вальпараисо), 13 апреля 1918 года. Cit. por GrezS. Historia del comunismo en Chile, Сантьяго, Lom, 2011. С. 155.
318 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
Большевистский триумф совпал с обострением социального конфликта в Чили, ставшего следствием экономического кризиса конца Первой мировой войны, увеличившего количество профсоюзов, забастовок и социальных протестов. В 1920 году Социалистическая рабочая партия заявила о вступлении в Коммунистический Интернационал, уточняя, что «21 условие» приема будут соблюдены, насколько позволяют «пролетарские возможности»8. Наряду со вступлением в Профинтерн, желая приобщиться к борьбе, которая представлялась ей как всемирное движение, в 1922 году партия сменила название на Коммунистическую9.
Хотя чилийская компартия с энтузиазмом восприняла большевистский переворот, социалистическая модель Рекабаррена отличалась от большевистской в трех аспектах: четко организованная структура, борьба внутри системы с использованием буржуазного институционализма и отказ от применения насилия. Рекабаррен не отрицал необходимость насилия в случае с Россией, но не считал его применимым в Чили, где политический строй создал иные условия для социализма10 11. Хотя национальный характер Коммунистической партии Чили или его так называемый «советизм» стал причиной споров не на жизнь, а на смерть11, большевизация, которой должна была подчиниться партия, была процессом долгим, независимым от Коминтерна. Из-за редких контактов, настоящее влияние Коминтерна ощутилось только в 1926 году с появлением Южноамериканского Секретариата. Сохранилась органичность партии, а, благодаря тому значению, которое придавал Рекабаррен
8 El Socialista (Valparaíso), 13 de abril de 1918. Cit. por Grez S. Historia del comunismo en Chile, Santiago, Lorn, 2011. P. 155.
9 Massardo /. El imaginario político de Luis Emilio Recabarren, Lom, 2008. P. 221,255.
10 Pinto J. Cuando la utopía se hizo carne: Luis Emilio Recabarren y la recepción de la Revolución Rusa. Доклад, представленный на Международной конференции “Российская революция 1917 г. и ее место в истории XX века»”, Москва, 27-28.IX.2017.
11 Grez S. Historia del comunismo, op. cit.; Hernán Ramírez Necochea Origen y formación del Partido Comunista, Moscú, 1984; Ulianova O. Primeros contactos entre el Partido Comunista de Chile y Komintern: 1922-1927 // O. Ulianova y A. Riquelme (editores), Chile en los archivos soviéticos 1922-1991. Tomo 1, Santiago, 2005; Aránguiz S. El Partido Comunista chileno y la Revolución de Octubre: ‘herencia viva’ de la cultura política soviética (1935—1970) // O. Ulianova, M. Loyola y R. Álvarez 1912-2012. El siglo de los comunistas chilenos, IDEA, 2012, P. 219-240; Álvarez R> La bolchevi- zación del Partido Comunista de Chile. Antecedentes (1920-1927) // Patricio Herrera y Santiago Aránguiz (Coordinadores) El comunismo en américa Latina. Experiencias militantes, intelectuales y transnacionales (1917-1955), s/editorial, 2017.
Вероника Валъдивиа Ортис де Сарате 319
ее участию в политическом процессе, после выборов 1925 года два сенатора и шесть депутатов партии заняли места в парламенте.
Кризис привел к военным переворотам (1924-1925) и установлению диктатуры генерала Карлоса Ибаньеса (1927-1931), впервые применившего систематические репрессии против революционного синдикализма и, в особенности, против коммунистов. Волна репрессий, пристальное внимание политической полиции и ее проникновение в профсоюзы, привели к расколу Коммунистической партии на национальном уровне. Четверо из девяти депутатов-ком- мунистов вступили в сговор с Ибаньесом, породив в партии дискуссию о том, как выйти из подполья - по отдельности, или в союзе с другими группами для создания законной оппозиции диктатуре. Другие депутаты выступали за использование профсоюзных структур как средства противостояния. Три состава Центрального комитета партии были арестованы политической полицией Ибаньеса, в то время как в 1930 году под покровительством Южноамериканского Секретариата был организован четвертый состав ЦК.
КПЧ была также ослаблена внутренними конфликтами между ставленником ЮАСКИ Элиасом Лафете и Мануэлем Идальго, сторонником легализации партии и соглашения с Ибаньесом в то время, как Южноамериканский Секретариат настаивал на большевизации в рамках политики «третьего периода». Расхождение мнений относительно тех изменений, которые влекла за собой большевизация, усилилась с расколом и созданием альтернативной КПЧ во главе с прослывшем «троцкистом» Мануэлем Идальго12.
К концу диктатуры в середине 1931 года. Компартия утратила большую часть социальной базы, поскольку регионы горнодобывающей промышленности, ее ведущий сектор, более всего пострадали от Великой депрессии. К июлю 1931 года, когда Карлоса Ибаньеса свергли, рабочее движение было сильно ослаблено, а компартия - расколота.
Социалистическая партия
Преданность Коммунистической партии политике «третьего периода» с ее спорным тезисом о закате капитализма не позволяла ей вступать в союзы с другими политическими и общественными
12 Vega М. ¿Hidalguismo vs Laffertismo? Crisis y disputa por la representación del comunismo en Chile, 1929-1933 en Ulianova, Loyola y Álvarez, op. cit, P. 97-114.
320 Российская революция 1917 года и ее место в истории XXвека
силами. А поддержка восстания моряков ВМФ в сентябре 1931 года и нападение на севере страны на военных во время праздника Рождества обострили антикоммунистические настроения и еще более изолировали партию. В этой связи появились многочисленные организации, вдохновленные социализмом, далекие от приверженности Компартии и Коминтерну13.
В отличие от левого движения, представленного коммунистами, эти социалисты были студентами университетов, интеллигентами, в своем большинстве представителями средних классов. Среди социалистических организаций выделялись: «Новое общественное действие» во главе с Эухенио Матче Уртадо, «Социалистический порядок» и «Марксистская социалистическая партия», а бывшие анархисты организовали «Революционно-социалистический союз», а также «Единую социалистическую партию» и «Независимую социалистическую партию». Они стремились к установлению социализма через демократическое завоевание власти.
По сути, социализм 1931-1932 годов был государственным. Государство должно было защищать слабых, овладеть средствами производства, приобрести социальные, экономические и политические функции, организовать производство таким образом, чтобы удовлетворить материальные и духовные нужды населения и «распределять полученные продукты и блага ... среди людей, которые их производят»14. Социалисты стремились стать альтернативой коммунизму и либеральному реформизму, приняв доктрину марксизма как основу, оставаясь независимыми от Советского Союза, отводя государству патерналистскую роль защитника слабых. Этот чилийский социализм носил националистический характер, его антиимпериалистическая и антиолигархическая направленность отвергала вмешательство со стороны иностранного капитала в природные богатства страны15.
Эти социалистические коалиции были малочисленными, без возможности доступа к власти в период тяжелого политического кризиса. 4 июня 1932 года в результате военного переворота под руководством полковника авиации Мармадуке Грове и социалистов была провозглашена Социалистическая республика. Республика вела бурную деятельность, направленную на продвижение интер-
13 FaúndezJ. Izquierdas у democracia en Chile, 1932-1973, Santiago, ediciones Bat, P. 34-36.
14 Acción (Stgo.), 1 mayo 1932; Vanguardia Socialista (Stgo.), 15 diciembre 1932.
15 Grove S. 25 oct. 1932; Verónica Valdivia O. de Z. Subversión, coerción y consenso, op., cap. V.
Вероника Вальдивиа Ортис де Сарате 321
венционистского государства как в экономической, так и социальной сфере, сочетая быстрые действия с более долгосрочными. Были сделаны благотворные шаги в интересах бедных слоев населения, что укрепило тенденцию вмешательства государства в сферу производства и потребления. Большее вмешательство со стороны государства подготовило бы путь к социализации производства16. Речь шла о трех основных задачах: «Кормить народ, одевать народ, обеспечить народ жильем». Социалистическое правительство занялось проблемой аграрной собственности, создало Министерство труда и здравоохранения для решения проблем здоровья и питания населения17. Этот социализм был смесью корпоратистских тенденций, распространенных среди военных и интеллигенции.
В момент коммунисты чувствовали, что, встав на позицию непринятия социалистов, они ставят под удар свои позиции в массах. Они захватили Главное здание Чилийского университета, вывесив на нем плакат, «призывав народ создавать «Советы рабочих, крестьян, шахтеров, солдат и матросов..., чтобы установить в Чили Социалистическую республику и власть советов»18. Новый орган власти стал называться «Революционный совет рабочих и крестьян», выдвинул радикальные экономические требования по вооружению народа и разоружению фашизма для победы Антиимпериалистический аграрной революции19.
Новое левое социалистическое движение родилось из внутреннего конфликта, в котором страна находилась в начале 30-х годов. Это было левое движение, появившееся как альтернатива просоветскому коммунизму, призывавшее к полуанархистскому и демократическому социализму и принимающее всех, кто считал себя социалистом, а не коммунистом. Ядро Социалистической республики не погибло вместе с ее свержением. На президентских выборах в декабре 1932 года ее сторонники представили кандидатуру Мармадуке Грове, который занял второе место (17%), вслед за победившим кандидатом, либералом Артуро Алекссандри. Коммунист Элиас Лаферте получил только 0,5% голосов.
В апреле 1933 года родилась Социалистическая партия Чили, в составе которой были экс-лидеры анархистского движения, сто¬
16 HenriqueiR. Op. cit., P. 12—14, 23-24.
17 Verónica Valdivia O. de Z. Subversión, coerción y consenso, op. cit, cap. VI.
18 Teitelboim V Un muchacho del siglo XX, Sudamericana, 1997, p. 256.
19 Plaza C. Soviets, cuartelazos y milicias obreras. Los comunistas durante los Doce días de la República Socialista, 1932 // O. Ulianova, M. Loyola y R. Álvarez, op. cit., P. 177-180; Waiss O. El drama socialista, P. 15-16.
322 Российская революция 1917 года и ее место в истории XXвека
ронники Федерации рабочих, бывшие коммунисты20. Социалистическая партия представляла собой смешение идей гровистов (последователей Грове), корпоративистов, антикоммунистов, но не антимарксистов.
Социалистическая партия придерживалась марксизма не как догмата советской версии, а как метода, «обогащенного и исправленного» научными и революционными трудами, выступала за исчезновение государства-угнетателя и упразднение частной собственности. Партия стремилась к плановому социалистическому режиму и коллективной собственности. К этому добавлялась латиноамериканская солидарность и экономическое и политическое единство латиноамериканских народов для создания Федерации Социалистических Республик континента21. Социалистическая партия отличалась от коммунистов отношением к революции, поскольку социалисты верили в классовый союз рабочих и интеллигенции. По этой причине Грове никогда не говорил о гегемонии рабочего класса, ведь социальная эволюция породила техников, управленцев, ученых22.
Коммунисты и социалисты представляли левый фланг политического спектра, но многое их раздело, хотя стремление победить капитализм и установить социализм было общим.
Демократия, единство и социализм
Коммунисты и социалисты, разделенные разными стратегическими концепциями, спорили о гегемонии народного движения. С точки зрения Социалистической партии, КПЧ будучи верным последователем советского пути, указанного Третьим Интернационалом, занимала ультралевую фракционную и раскольническую позицию. Социалистическая партия с ее национальным характером и без подчинения какому-либо международному центру способствовала претворению в жизнь более цельного и реалистичного политического плана23.
20 Drake R Socialismo у populismo en Chile, 1933-1973, Ediciones UCV, 1993, P. 122; Elgueta В. El socialismo en Chile. Una herencia yacente, Santiago, Tiempo Robado editoras, 2015, P. 174-175.
21 Herrera Z). Los anarquistas en la fundación del Partido Socialista de Chile, 1933-1941, Tesis Lie. Historia, Usach, 2010, P. 125-128.
22 Herrera D. Los anarquistas en la fundación del Partido Socialista de Chile, 1933-1941, Tesis Lie. Historia, Usach, 2010. P. 125-128.
23 Arraíe J. Con viento a favor. Del Frente Popular a la Unidad Popular, Lom, 2017. P. 101.
Вероника Валъдивиа Ортис де Сарате 323
В этих двух левых движениях царили разногласия и соперничество — те черты, которые выделяются большинством исследователей при анализе отношений коммунистов и социалистов между 1932 и 1950-ми годами. Но несмотря на эти разногласия, Октябрьская революция, чья годовщина отмечалась каждое 7 ноября (по новому стилю), продолжала служить примером для подражания. Как отмечала социалистическая пресса: «Юбилей Русской революции - самая важная годовщина нашего времени. Ни одно подобное событие не может достигнуть ... далеко идущих социальных и экономических целей революции, которая, наряду со свержением царского самодержавия, породила новое общество, в котором нет эксплуатации человека человеком... Революция, совершенная в ноябре, породила первое социалистическое государство на планете - Советский Союз... самую необычную социальную лабораторию. Народ, порабощенный и подвергшийся жесточайшей эксплуатации, внезапно превратился в свободную, прогрессивную и эгалитарную нацию, где все люди живут достойно и в достатке»24.
Этому союзу способствовали общие горизонты и политические цели. Во-первых, социализм, как финальная точка в рамках ступенчатого видения революции. Во-вторых - борьба за социальную демократизацию и усилением экономического национализма. В-третьих, отказ от авторитаризма и защита общественных свобод. Что касается первого пункта, коммунисты и социалисты отказались от ставки на очередную революцию, признав представительную демократию, включившись в систему, чтобы развивать условия для достижения социализма25.
В связи с резким уменьшением влияния даже на севере страны, которое шло параллельно с расколом Коммунистической партии, ситуация в Федерации рабочих Чили стала критической. В некоторых районах у партии не было ни одного сторонника26. Реструктуризация Федерации рабочих требовала возрождения Коммунистической партии и наоборот. Хотя на первом этапе (1933-1935) ее рост на уровне профсоюзов не вернул федерации былого великолепия, она добилась присутствия в ключевых профсоюзах (преподаватели и железнодорожники).
Для социалистов профсоюзы были не самоцелью, а средством достижения свободы. Поэтому они полагали, что партия
24 Elgueta, op. cit., 197.
25 La Opinion, 7 de noviembre de 1937, p. 3.
26 Moulian T. Democracia y socialismo, Flacso, 1983.
324 Российская революция 1917 года и ее место в истории XXвека
не должна подчинять их себе. На II съезде Соцпартии было принято решение работать над созданием профсоюзов и объединением в них всех работников физического и умственного труда27. Социалисты работали в официальных профсоюзах, и в 1934 году создали Национальную конфедерацию профсоюзов, укрепив свои позиции среди рабочих фабрик, шахт, портов, студентов, среднего класса и крестьян. К середине десятилетия, ввиду того, что многие анархистские союзы вступили в партию, она стала самым крупным оппонентом коммунистов28.
У коммунистов произошла переоценка важности единства профсоюзов и совершенствования тактики переговоров с государством и его управляющим аппаратом29. Коммунистическая оценка ситуации сводилась к следующему: «Главная слабость революционного движения в Чили заключается в раздоре в рядах рабочих и трудящихся»30. Руководители Федерации рабочих предложили в 1935 году создание Федерации, которая объединила бы разные профцентры и допускала наличие различных идеологий31. Так в декабре 1936 года была создана Конфедерация трудящихся Чили, в которую вошли Федерация рабочих Чили, Всеобщая конфедерация труда, Союз работников Чили, заявивших о намерении заменить существующий социально- экономический режим более справедливым, который позволил бы развиваться творческим способностям человека. Признание значимости единства и дистанцированность от фракционной идеологии способствовали тому, что коммунистами и другими левыми движениями были предприняты совместные действия, направленные на поддержку тех, кто преследовался «Комитетом по защите свобод», на поднятие демократического знамени и защиту прав граждан. Хотя эти лозунги были частью политики Коминтерна в антифашистской борьбе, в Чили они звучали не просто как иностранные приказы, а приобрели смысл и силу из-за репрессивного характера правления Артуро Алессандри (1932-1938)32.
27 Álvarez Я La amenaza comunista entre la ‘clase contra clase’ y el Frente Popular. El Partido Comunista de Chile en la década de 1930, Pacarina del sur [en línea], No. 31, 2017, P. 14-15.
28 Garcés “El movimiento obrero”, Tesis, Lie, PUC, 1985, p.95; Herrera D. Op. cit. P. 129-132, 196-199.
29 Drake R Op. cit., P. 147-148.
30Álvarez Я La amenaza comunista entre la ‘clase contra clase... Op. cit. P. 16.
31 “Reunión del Secretariado Latinoamericano del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista”, Moscú, 25 marzo 1935 // Ulianova y Riquelme, op. cit., Voi. Ill (manuscrito inédito)
32 Garcés M. Movimiento obrero en la década del treinta y el Frente Popular. Tesis Lie. Historia, PUC, 1985, P. 138-148.
Вероника Вальдивиа Ортис де Сарате 325
Это укрепило традиции левого движения времен Социалистической рабочей партии: значимость свобод, антиавторитаризм и демократию. С самого начала демократия представлялась борьбой против политического строя, олигархического господства, отличалась приверженностью альтернативной форме правления, эгалитарной, эмансипационной и уважительной по отношению к правам рабочих33. Акцент на большую свободу способствовал сближению с радикалами в Левом блоке (1934-1935), состоящим из социалистов, демократов и радикального сектора, и стало первым шагом в формировании союза с центром.
Поворот КПЧ к политике Народного фронта произошел благодаря убеждению в необходимости срочного объединения и защиты демократии. Народный фронт позволил чилийской Компартии вернуться к основам Социалистической рабочей партии и следовать политике Рекабаррена в отношении политико-партийной борьбы в рамках существовавших политических институтов34.
Со своей стороны, социалисты превратились в партию институционального патернализма через многопартийные коалиции, которые включали не только левые движения, но также центр Народного фронта. В дальнейшем этот многоплановый альянс будет стремиться к развитию индустриализации и социальным реформам. В этом смысле конечной целью социалистов была социальная революция, необходимая для трансформации формальной политической демократии в полную экономическую и социальную демократию35. В середине 1935 года все левые партии призывали к единству. В начале 1936 г. радикалы также присоединились к ним. Что касается Компартии, ее гибкость в формировании союзов стала проявляться еще в 1933 году, и влияние Коминтерна, похоже, было не столь решающим. Из-за опасения, что такое сотрудничество приведет к отклонениям влево или право, отношения партии и Коминтерна в 1936-1937 годах сводились к нулю. К 1937 году партия восстановила численность своих рядов и свое присутствие в социальных структурах и организациях.
В середине 1936 года политическим силам левых и радикалов удалось организовать единый фронт для борьбы с системой и начать процесс политико-институционного преобразований. Это воплотилось в создании Народного фронта (коммунисты,
33 ÁlvarezR. La amenaza comunista...”, op. cit., P. 19—20; Verònica Valdivia O. de Z. La Milicia Republicana. Los civiles en armas (1932-1936), Dibam, 1992.
34 Massardo, op. cit, p. 177.
35 Massardo, op. cit, p. 57.
326 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
социалисты и радикалы). Переход к внутрисистемной стратегии происходил без отступления от классовой борьбы, учитывая значимость промышленного пролетариата, а также тот факт, что восстановление демократии требовало институциализации36. Социализм и демократия оставались главной целью.
^ Drake Р Op. cit., Р. 147-148.
Резкий поворот компартии Чили от политики «класс против класса» к Народному фронту (1928-1936)
Серхио Грее Toco
После десятилетия многочисленных неудачных попыток совершить революцию вслед за триумфом Большевистского переворота (Германия, Венгрия, Китай и т.д.), а также очевидного улучшения экономической ситуации в основных капиталистических странах, на VI съезде Коммунистического Интернационала в июле-августе 1928 года было объявлено о начале третьего периода капиталистического экономического развития после окончания Первой мировой войны. Это был период серьезного экономического кризиса, радикализации трудящихся, обострения классовой борьбы и империалистических войн, повлекших за собой военную агрессию против Советского Союза. Стратегия работы сводилась к «осуществлению единого фронта снизу» с полным исключением «единого фронта сверху» с реформистскими и социал-демократическими лидерами1.
Политика, получившая название «класс против класса», основывалась главным образом на тезисе о «социал-фашизме», то есть
1 Häjeck М. Historia de la Tercera Internacional, Barcelona, Editorial Crítica, 1984, págs. 208 y 209; Olga Ulianova, “Cuando los archivos hablaron. Evolución de la estructura organizativa, de la doctrina y línea política del Komintern a partir de sus archivos” // O. Ulianova y A.R. Segovia (editores), Chile en los archivos soviéticos 1922-1991, Tomo 1: Komintern y Chile 1922-1931, Santiago, Ediciones de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana / Lom Ediciones - Universidad de Santiago de Chile, 2005, P. 48-51. Теоретическое выражение этой политики относительно профсоюзов содержится в документе V Congreso de la I.S.R., Moscú, septiembre de 1930 — Paris, Maison des Syndicats, Pequeña Biblioteca de la Internacional Sindical Roja.
328 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
на определении левого крыла социал-демократии как наиболее опасного, даже более опасного, чем фашизм, на представлении о едином фронте только как об индивидуальном сотрудничестве с социалистическими рабочими или, самое большое, с некоторыми основными группами, и систематическом отказе от всех предложений о совместных действиях со стороны социал-демократических лидеров, и лишь в исключительных случаях на допущении соглашений с их организациями. Политика «класс против класса» на самом деле исключала любую возможность развития пролетарского единого фронта против наступления реакции. Она не позволяла заключать тактические союзы с социалистами и реформистами, чтобы остановить наступление нацизма и фашизма. В 1931 году исполком Коминтерна дал определение социал-демократии как «основной социальной поддержки буржуазной диктатуры», которая с момента Российской революции постоянно эволюционировала в сторону фашизма. Коминтерн призвал коммунистов всего мира разоблачать социал-демократию, оградить народные массы от ее влияния, чтобы пролетариат мог эффективно бороться за освобождение от капиталистического ига2. Однако результаты этой тактики были катастрофическими.
VI конгресс Коминтерна стал первой встречей на высоком уровне, где Латинская Америка заняла важное место в дебатах. Характер революции в регионе был определен как национальнодемократический. Политика «класс против класса» в Чили имела особые свойства, в виду особого политического контекста в этой стране.
До середины 1933 года в Чили не существовало Социалистической партии. Несмотря на это, действия диктаторского режима во главе с полковником Карлосом Ибаньесом дель Кампо (1927-1931) были решительнее, чем его предшественника, носили националистические, реформистские, новаторские и популистские черты, где антиолигархические выступления совмещались с активным преследованием коммунистов, анархистов, автономного рабочего движения и буржуазной оппозиции, выступавших против его политики3. Политические репрессии, наряду с реформистской
2 Las tareas de las secciones de la Internacional Comunista en relación con la agravación de la crisis económica y la maduración, en una serie de países, de las condiciones preliminares de una crisis revolucionaria // Boletín del Buró Sudamericano de la Internacional Comunista, №19 y № 20, Buenos Aires, julio de 1931, Pp. 5—6.
3 О правительстве Ибаньеса, см.: Correa G. V. Historia de Chile (1891 — 1973), Santiago, Empresa Editora Zig-Zag, 1996, vol. IV; Bernedo P Prosperidad económica
Серхио Грее Toco 329
стратегией режима, состоящей в содействии создании легальных профсоюзов и в принятии Трудового кодекса, вобравшего в себя новоиспеченное социальное законодательство, привели к политическому и структурному ослаблению запрещенной Компартии Чили* 4. После государственного переворота большинство депутатов от коммунистов перешло на сторону Ибаньеса или пошло на компромисс с правительством5. Некогда самая влиятельная коммунистическая партия в Южной Америке была до крайности ослаблена не только репрессиями и бегством своих вождей и активистов, но также напряжением и разногласиями внутри партии, возникшими в результате обсуждения тактики, которую необходимо было принять для борьбы против диктатуры, особенно касательно вопросов о партийных альянсых6.
Южноамериканский Секретариат Коммунистического Интернационала, базировавшийся в Буэнос-Айресе (после государственного переворота в Аргентине в 1930 году преобразован в Южноамериканское бюро, штаб был перенесен в Монтевидео) воспользовался ослаблением чилийской партии для продвижения в ней сталинской «большевизации». Для реализации этих замыслов в Чили отправили агентов (в основном аргентинцев по происхождению), оказали финансовую поддержку, а также обеспечили продвижение чилийских кадров, принявших эти идеи. Протестующих исключили, а идеологию партии привели к «норме». Вмешательство Южноамериканского Секретариата основывалось на двух взаимосвязанных аспектах: политика альянсов и зависимость Коммунистической партии от линии Коминтерна. Политика «третьего периода» Коминтерна столкнулась с попытками некоторых
bajo Carlos Ibáñez del Campo 1927-1929. La dimensión internacional de un programa económico de gobierno // Historia, №24, Santiago, 1989, Pp. 5-105.
4 О политике Ибаньеса в отношении рабочего движения см.: Flores J.R. La dictadura de Ibáñez y los sindicatos (1927-1931), Santiago, Ediciones de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 1993. См. также: Barnard A. El Partido Comunista de Chile 1922-1947, Santiago, Ariadna Ediciones, 2017, Pp. 80-82.
5 В качестве примера, см. декларацию двух коммунистических парламентариев, присоединившихся к режиму Ибаньеса: Pedro Reyes у Juan Luis Carmona, “Nuestra explicación a los comunistas del país” // La Nación, Santiago, 9 de marzo de 1927.
6 Barnard, op. cit., págs. 79-86; Ulianova O. El Partido Comunista chileno durante la dictadura de Carlos Ibáñez (1927—1931): primera clandestinidad y 'bol- chevización' estaliniana // Boletín de la Academia Chilena de la Historia, №111, Santiago, 2002, págs. 385-436.
330 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
лидеров Компартии, таких как Мануэль Идальго, организовать единый фронт против диктатуры вместе с буржуазными противниками Ибаньеса. Не обвинения в реформизме и коллаборационизме, а отказ Мануэля Идальго принять новую политику и подчиниться приказам агентов из Буэнос-Айреса (например, таким как приказание оставить свой пост в Сенате, чтобы полностью посвятить себя подпольной борьбе с диктатурой и с легальными профсоюзами) послужили причиной его исключения агентами Коминтерна Виторио Кодовильей, Педро Сотело, Орестесом Гиольди и Паулино Гонсалесом Альберди.
Еще одной точкой разрыва с Коминтерном и его последователями в чилийской партии стало предложение группы сторонников Мануэля Идальго сформировать легальную партию, без отказа от подпольной деятельности Компартии, что позволило бы отвлечь внимание диктатуры с ее репрессивными ударами. Непреклонность Идальго проявилась вскоре после вступления Компартии в качестве полноправного члена в Коммунистический Интернационал (1928), в период, когда велась активная борьбы с Троцким и проводилась политика максимальной унификации латиноамериканских партий. Позиция Идальго не могла остаться безнаказанной.
После изгнания Идальго из партии Южноамериканский Секретариат поставил во главе КПЧ других лидеров. Партия окончательно разделилась в 1930 году. Две оппозиционные группы имели одно и то же название: Чилийская секция Коммунистического интернационала7.
В расколе КПЧ значительную роль сыграли противоречия стилей партийной работы, с одной стороны, авторитарно-приказного руководства Коминтерна, а с другой, основанного на диалоге, внутренней дискуссии и готовности к политическим компромиссам, что восходило к традициям Социалистической рабочей партии8 и чилийский политической культуры, представленного той частью партии, которая была представлена сторонниками Идальго. Причиной раскола Коммунистической партии послужил отказ части
7 Barnard, op. cit., págs. 79-109; Ulianova O. EI Partido Comunista chileno durante la dictadura... op. cit., págs. 385—436; Mariano Vega Jara, ¿Hidalguismo versus laferttismo? Crisis y disputa por la representación del comunismo en Chile, 1929-1933 // Ulianova, Loyola y Álvarez (editores), op. cit., págs. 97-169.
8 Чилийская Социалистическая рабочая партия, основанная в 1912 году Рекабарреном, сменила свое название на Коммунистическую 1 января 1922 года после принятия решения о присоединении к III Интернационалу.
Серхио Грее Toco 331
руководства в лице Мануэля Идальго и его сторонник безоговорочно подчиниться вертикали власти, чего требовал Коминтерн от своей чилийской секции. Кульминацией «большевизации» Компартии в 1933 году посредством ее «идеологической нормализации» стали такие радикальные изменения, как искоренение старой политической культуры и замена ее на сталинизм, уже безоговорочно господствовавший в Коминтерне9.
Чтобы оценить масштаб изменений от вмешательства Коминтерна в работу КПЧ, стоит отметить большую независимость, которую партия проявляла по отношению к Коминтерну при жизни ее основателя Луиса Эмилио Рекабаррена и в первые годы после его смерти в конце 1924 года. До середины 1926 года чилийская партия, несмотря на то, что она была горячо предана идеям русской революции и считала себя частью международного коммунистического движения, поддерживала слабую связь с московским центром: рапорты подавались не так часто, как того требовал Интернационал, не запрашивались инструкции, не получалось финансирование. Сознавая себя сильнейшей среди латиноамериканских партий, КПЧ действовала с уверенностью в своих силах и, в отличие от других, не чувствовала необходимости «быть руководимой» из Москвы. Раздражение руководителей Коминтерна было очевидным. Документация, ставшая доступной после открытия советских архивов, не оставляет в этом сомнений10 11.
Политика «класс против класса», авторитарно внедренная Южноамериканским секретариатом в КПЧ, реализовывалась по нескольким направлениям: отказ заключать тактические союзы с буржуазной оппозицией диктатора Карлоса Ибаньеса, который вначале поддержали только некоторые руководители партии11; решительный отказ от любой возможности взаимопонимания с легальными профсоюзами и реформистскими политиками, даже тяготевших к социализму. Хотя на практике, в некоторых случаях, коммунисты объединялись с другими силами, как, например,
9 Odekerken X. U. Hegemonía у cultura política en el Partido Comunista de Chile. La transformación del militante tradicional (1924-1933), Santiago, Ariadna Ediciones, 2017.
10 Ulianova O. Primeros contactos entre el Partido Comunista de Chile y el Komintern: 1922-1927 // O. Ulianova y A. Riquelme Segovia (editores), Chile en los archivos soviéticos 1922—1991, tomo 1: Komintern y Chile 1922-1931, Santiago, Ediciones de la DI ВАМ — Centro de Investigaciones Diego Barros Arana — Lom Ediciones, 2005, págs. 93-101.
11 Barnard, op. cit., pág. 88; Ulianova, El Partido Comunista chileno durante la dictadura... op. cit., págs. 385—436; Vega, op. cit., págs. 97—169.
332 Российская революция 1917 года и ее место в истории XXвека
в движении за поддержку восстания моряков ВМФ (сентябрь 1931 года) и в создании Антифашистского фронта (1933). Следует уточнить, что последняя инициатива, исходившая от анархистов, была воспринята Компартией как возможность дискредитировать тех руководителей, кто не участвовал в массовых действиях.
Третий аспект политики «класс против класса» состоял в настойчивой агитации за профсоюзное единство вокруг коммунистических профсоюзов, ФОЧ, не допуская каких-либо соглашений с реформистскими профсоюзами и лидерами «легальных» профсоюзов. С конца 1931 года профсоюзная политика КПЧ основывалась на ожидании радикализации масс, происходившей в результате экономического кризиса. КПЧ стремилась сформировать Единый фронт с помощью программы экономических требований, чтобы незамедлительно перейти к революционной политической борьбе. Для достижения нужных результатов, Компартия расширила сферу своей партийной деятельности, обратив внимание на безработных, укрепившись в женских организациях и попытавшись увеличить влияние среди крестьян. ФОЧ призвала к Единому фронту и учредила в 1933 году «Конгресс профсоюзов против голода».
Южноамериканское бюро, со своей стороны, уделило особое внимание профсоюзной политике партии. КПЧ неотступно стремилась завоевать рабочее движение с помощью агрессивных методов борьбы. Стратегия партии, которая возглавила бы революционную деятельность, в итоге вылилась во фракционную борьбу внутри профсоюзов12.
Проявлением политики Коминтерна «класс против класса» было увлечение части лидеров и активистов действиями повстанческого характера, которые позднее сама же партия осудила, назвав «путчистскими» и авантюристскими. Речь идет о восстании на флоте, о так называемом «трагическом Рождество в Копьяпо и Вальенаре» в 1931 году, а также о выступлении крестьян и индей- цев-мапуче в селении Ранкиль в 1934 году.
Официальная предвыборная политика Компартии основывалась на поддержке своих кандидатов профсоюзами в составе ФОЧ. Однако ее региональные секции, действуя с определенной долей автономии, склонялись к прагматичным предвыборным договоренностям. Тем не менее политика «класс против класса» господствовала до 1935 года. Президентские выборы 1931 года и парламентские выборы 1932-го позволили официальной Компартии
12 Barnard, op. cit. С. 91 —101.
Серхио Грее Toco 333
продвинуть программу и показать свои отличия от других партий. Работа ее депутатов в конгрессе была задумана, как возможность критики режима и распространения партийной политики, что исключало участие депутатов-коммунистов в разработке и голосовании за социальные законы13.
Национальная конференция КПЧ в июле 1933 года стала знаковым событием, предвещавшим изменения в политике, которые произошли через два года. На этом собрании, считавшемся кульминационной точкой «большевизации», КПЧ в соответствии с инструкциями Южноамериканского Бюро постановила: ввиду «полуфеодального и полуколониального» характера страны, чилийская революция в ближайшем будущем будет не социалистической, а буржуазно-демократической. Задачи этого этапа революции заключались в том, чтобы положить конец господству крупного землевладения и монополий, национализировать империалистические предприятия и провести аграрную реформу. Для того чтобы изолировать и поразить главных врагов, было необходимо создание союза с отдельными группами национальной буржуазии14.
Незначительные изменения политики «класс против класса» до поворота, осуществленного Коминтерном в 1935 году, стали результатом негативных последствий ее осуществления на практике. Это дополнило причины разделения и ослабления партии, наряду с невозможностью восстановить прежнее влияние ФОЧ, когда усилились позиции легальных профсоюзов. Столь же тревожным было и появление Социалистической партии Чили (июнь 1933 года), которая, быстро превратившись в главную левую силу, стала основным конкурентом Компартии и отобрала у коммунистов ведущую позицию, которую они занимали десятилетие назад15. Результаты Компартии на выборах 1931 и 1932 годов были ничтожными, что свидетельствовало о недостатках политики «класс против класса», которую можно было бы свести к тезису «одни против всего мира», то есть почти полной изоляции КПЧ.
13 Участие чилийских коммунистов в парламенте с момента основания партии рассматривалось как способ агитации и пропаганды. См. Grei,, Historia del comunismo..., op. cit., págs. 121-131.
14 Hacia la formación de un partido de clase. Resoluciones de la Conferencia Nacional del Partido Comunista, realizada en julio de 1933, Santiago, 1933.
15 О создании и первых годах Социалистической партии см.: Jobeî J.C. El Partido Socialista de Chile, tomo I, Santiago, Ediciones Prensa Latinoamericana, 1971, págs. 17-159; Drake P. Socialismo y populismo. Chile 1936-1973, Instituto de Historia Universidad Católica de Valparaíso, 1992, págs. 55-214.
334 Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
Общее положение страны также было неблагоприятным для претензий КПЧ на революционный подъем в краткосрочной или среднесрочной перспективе. Правительства, пришедшие на смену диктатуры Ибаньеса (за исключением эфемерной «Социалистической Республики», существовавшей лишь 12 дней в июне 1932 года), проводили жесткую репрессивную политику, против Компартии и других левых сил. Использование уголовного правосудия как инструмента по урегулированию политических конфликтов в пользу правительства и консервативных сил, создание «районов чрезвычайного положения», контролируемых военными, использование двойного репрессивного аппарата: законного и незаконного16, а также фактический запрет деятельности коммунистов государственными органами, привели партию к полулегальному существованию. Благоприятствование со стороны правительства Алессандри (1932— 1938) по отношению к консервативным боевым отрадам под названием «Республиканская милиция» представляло дополнительную угрозу для Компартии и левых сил. К этому добавился рост чилийского национал-социалистического движения, которое проводило агрессивную политику против левых партий и общественных организаций17. С другой стороны, правительства Хуана Эстебана Мон- теро, Карлоса Давила и Артуро Алессандри (не считая других, более кратковременных) проводили политику жесткой экономии в борьбе с Великой депрессией, что затрагивало широкие народные массы.
Все эти факторы заставили Компартию слегка переформулировать некоторые свои лозунги, внеся изменения и дополнения в политику «класс против класса». Но до середины 1935 года принципиально другая политика все еще не была разработана. Решающий толчок пришел извне. Поведение крупной делегации «советников» или «агентов» от Коминтерна под руководством перуанца Эудосио Равинеса, направленной в Чили Южноамериканским бюро в феврале 1935 года, сыграло ключевую роль, побудившую к переменам. Давление, уговоры, авторитарные доводы Равинеса и его коллег победили нежелание чилийских коммунистов перейти к более радикальным переменам, чем скромные модуляции политики «класс против класса»18.
16 Vial G. Historia de Chile (1891 — 1973). De la República Socialista al Frente Popular (1931-1938), vol. V, Santiago, Zig-Zag, 2001, págs. 295-302.
17 Valenzuela E. La generación fusilada. Memorias del nacismo chileno ( 1932— 1938), Santiago, Editorial Universitaria, 2017.
18 Ravines E. La penetración del Kremlin en Iberoamérica, Estados Unidos, Editorial Pueblos Libres de América, sin fecha, 15á edición, págs. 267-298. Био-
Серхио Грее Toco 335
До начала 1935 года КПЧ продолжала настаивать на том, что единение рабочего класса должно происходить на основе ФОЧ, признавая в лучшем случае вынесенную 13 декабря 1932 года на заседании ЦК резолюцию, основанную на докладе, представленном Элиасом Лаферте, согласно которому во всех местах, где невозможно создать профсоюзы ФОЧ, должна была быть создана «революционная профсоюзная оппозиционная группа», основная задача которой состояла в попытке « максимально демонстрировать верность революционной тактики ФОЧ, а в долгосрочной перспективе подталкивать организации, где будут действовать эти группы, к вступлению в наш профсоюз»* 19. Хотя ФОЧ заявляла о единстве, это делалось в выражениях, дискредитировавших руководителей других течений (в особенности социалистов и сторонников Мануэля Идальго). Их обвиняли в предательстве, несогласованности, раскольничестве и классовом сотрудничестве. Равинес считал, что, хотя у ФОЧ и было славное прошлое, сейчас она в плачевном состоянии. Ее ликвидация была бы целесообразной, чтобы расчистить место для всеобщей конфедерации20.
Еще один камень преткновения состоял в том, что КПЧ и ФОЧ упорно настаивали на разрыве с легальными профсоюзами21. Э. Равинес, наоборот, заявлял, что необходимо использовать положительные стороны Трудового кодекса вместо того, чтобы вести глобальную борьбу против него. И Южноамериканское бюро, и Равинес сходились во мнении: необходимо положить конец нападкам на легальные профсоюзы22.
Непринятие изменений внутри КПЧ было связано и с самой идеей Народного Фронта. Происходило это из-за враждебности, царившей внутри партии по отношению ко многим ее потенциальным союзникам. Некоторых из них обвиняли в том, что они
графическая характеристика членов делегации Коминтерна описана в статье Ольги Ульяновой: Ulianova О. “Develando un mito:...”, op. cit.
19 Resoluciones del C.C. ampliado... op. cit.
20 Muñoz A.S. y Odekerken X.U. Del sindicalismo libre al sindicalismo legal. El Komintern y el viraje táctico del comunismo chileno // Izquierdas, Santiago, 2017. О непринятие лидерами Рабочей федерации новой политики можно прочитать в статье — La convención de los sindicatos legales // Frente Único, Santiago, segunda semana de febrero de 1935.
21 La convención de los sindicatos legales, Frente Único, Santiago, segunda semana de febrero de 1935.
22 Muñoz A. S. y Odekerken X.U. Del sindicalismo libre al sindicalismo legal. El Komintern y el viraje táctico del comunismo chileno // Izquierdas, Santiago, 2017.
336 Российская революция 1917 года и ее место в истории XXвека
не так давно поддерживали антинародную и репрессивную политику23.
Во время осени-зимы (Южного полушария) 1935 года под тройным давлением на руководство Компартии со стороны эмиссаров Коминтерна, ответственных за Латинскую Америку сотрудников Коминтерна в Москве и нарастания национальных проблем, в позиции партии произошли глобальные изменения. За считанные месяцы, с марта по август, был изменен «язык работы с массами». На пленарном заседании в апреле 1935 года КПЧ назвала президента Республики Артуро Алессандри агентом империализма, поддержанного «блоком народного предательства» (либеральноконсервативный блок), состоявшем из правительственных партий и республиканских агентов. Это определение вылилось в задачу объединить все силы, не входившие в правительственный блок, чтобы сражаться с Алессандри и создать Народный Фронт. Создание Единого Фронта с Социалистической партией было основополагающей задачей. Также была поставлена задача вступления в Левый блок - парламентскую коалицию, состоявшую из Социалистической партии, Радикальной партии, Демократической партии и троцкистов - «Левых коммунистов», но при этом компартия должна была добиваться изоляции и исключения из Блока сторонников Ибаньеса и троцкистов. С мая КПЧ и ФОЧ призывали к союзу без исключений и критики, характерной до недавнего времени, проявляя даже готовность распустить коммунистический профсоюзный центр ФОЧ, чтобы создать единый центр с другими течениями рабочего движения24.
К концу 1935 года идея Народного фронта полностью овладела Компартией. Дискуссии внутри нее были связаны лишь с нюансами и незначительными вопросами касательно темпа и тактики развития. Никто не ставил задачу преобразования ФОЧ в будущий единый профцентр. Не было возражений против союза с другими левыми или центристскими партиями, такими как Радикальная. Сопротивление Народному Фронту исходило со стороны других левых движений, Радикальной партии и сторонников Идальго,
23 Tapia VC. Campesino у proletario, Moscú, Editorial de la Agencia de Prensa Nóvosti, Moscú, pág. 84.
24 “Reunión del Secretariado Latinoamericano del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista con representantes del PCCh, 20.10.1935 (Estenograma)”, Centro Ruso para la Conservación y Estudio de los Documentos de la Historia Contemporánea РГАСПИ 495.101.39. Idioma original: ruso // Ulianova y Riquelme, op. cit., tomo 3, págs. 144-150.
Серхио Грее Toco 337
которые с марта 1933 года решили отказаться от названия Коммунистическая партия, сменив его на «Левых Коммунистов», что соответствовало установками троцкистской Международной левой оппозицией.
В декабре 1936 года объединились основные профсоюзные организации страны в союзную с Народным Фронтом Конфедерацию трудящихся Чили. Политика, одобренная на VII конгрессе Коммунистического Интернационала, была успешно применена в КПЧ. В последующие годы она покажет весь свой потенциал, но и пределы возможностей. С 1938 года Чили будет одной из трех стран, наряду с Испанией и Францией, где народные коалиции с участием коммунистов придут к власти без антиолигархической и антиимпериалистической революции, о которой ранее говорили коммунисты как о подготовительном этапе социалистической революции.
Под давлением политической ситуации в стране (необходимость выйти из изоляции, избежать репрессий и перейти в статус легальной организации) и установок, данных эмиссарами Коминтерна, КПЧ провела в 1935 году радикальные изменения от ультралевой политики к антифашистскому союзу партий. Даже отдельные сектора «национальной буржуазии» были привлечены к работе, направленной на изоляцию и борьбу с «главными врагами» империализмом и служившей ему реакционной олигархией. Если измерять новую политику краткосрочными и среднесрочными результатами, нет никаких сомнений в том, что она принесла чилийской партии многочисленные выгоды: партия вышла из изоляции, стала основой союза, который в 1938 г. смог победить на выборах, укрепила свой состав, набрала большое количество активистов и расширила влияние в самых разных социальных сферах, которые до этого были ей недоступны (средние классы, крестьяне и интеллигенты). Возникла партия, сильно отличающаяся от той, что существовала во времена Л.Э. Рекабаррена. Новая линия на политические союзы, легальную деятельность и парламентаризм была с энтузиазмом поддержана партией, позволив ей сочетать старые и новые идеи: готовность к созданию политических союзов и сталинизм, дисциплину, зависимость от советского центра и реформизм. Результатом этого выбора партии стало ее большое политическое и культурное влияние на общество. Эти противоречивые элементы политики КПЧ, диалектически связанные между собой, оставили глубокий долговременный отпечаток в истории Чили.
Тяжелый путь к Народному фронту: 3-я конференция латиноамериканских компартий 1934 года
АЛ. Щелчков
Данная тема практически не освещалась ни в отечественной, ни в зарубежной историографии. Лишь работы И.И. Янчука, В.Л. Хейфеца и Л.С. Хейфеца касались этой тематики1. Янчук даже пытался опубликовать часть материалов конференции на страницах «Латиноамериканского исторического альманаха», однако столкнулся с большими трудностями, связанными с характером и качеством текстов архивных документов, сохранившихся лишь в переводе, притом очень плохом с точки зрения русского языка, а радикальное редактирование могло привести к искажениям смыслов. Поэтому он ограничился некоторыми текстами, в основном по бразильскому вопросу. Между тем конференция, о проведении которой все годы советской власти умалчивалось в коммунистическом движении, является интересным историческим этапом формирования политики Народного фронта на VII конгрессе Коминтерна и отражает противоречивое восприятие латиноамериканскими партиями радикального поворота в политике Интернационала, что привело к явному сопротивлению и саботированию решений в Москве руководством местных компартий.
С начала 1934 года до VII конгресса Коминтерна (август 1935 года) коммунистическое движение переживало переходный период: от сектантской политики «третьего периода» к антифа¬
1 Янчук И.И. На пути к Народному фронту: 3-я конференция латиноамериканских коммунистов 1934 г. //Латиноамериканский исторический альманах. 2002. № 3; Хейфец Л.С., Хейфец В.Л. Латиноамериканские левые на пути к Народному фронту в 30-е годы XX века // Латинская Америка. 2014. №. 5.
А.А. Щелчков 339
шистскому народному фронту. Стратегический поворот в политике Коминтерна на VII Конгрессе «готовился долго и трудно, ибо потребовал преодоления множества стереотипов, укоренившихся в комдвижении и в его руководящей верхушке», и «не был столь решительным, как поначалу казалось»2. В течение всего этого периода в документах Коминтерна и его секций причудливо сочетались самые противоречивые тезисы от непримиримой борьбы с национал-реформизмом и продажной социал-демократией до необходимости самого широкого антифашистского фронта, от подготовки к непосредственному взятию власти вооруженным путем до поддержки буржуазной демократии в противостоянии с фашизмом.
В феврале 1934 года в Коминтерне было принято решение о созыве VII Конгресса осенью того же года. В мае 1934 года была сформулирована повестка дня, но дата созыва так и не была определена. Тем не менее делегаты большинства латиноамериканских партий прибыли в Москву в октябре. Однако решение о сроках Конгресса несколько раз менялись, а Политбюро советской партии приняло решение о финансировании конгресса только 7 октября 1934 года.
Учитывая, что на конгресс должны были приехать многочисленные представители партий континента, по предложению А .Я. Гуральского (Хейфеца) было решено провести осенью 3-ю конференцию представителей компартий Латинской Америки. Так как пока было неясно, когда будет созван Конгресс, а приглашение на участие в нем партии уже получили и собирались прибыть в Москву осенью, было рискованным отменять их приезд, а затем срочно вызывать, когда решение в верхах ВКП (б) состоится. По предложению того же Гуральского треть делегатов конференции осталась в Москве вплоть до созыва конгресса на специальных курсах при МШЛ3. Предстоящая конференция и ее задачи обсуждались на совещаниях лендерсекретариата в марте-апреле 1934 г. под председательством Д.З. Мануильского4.
На заседании 27 марта 1934 года с докладами о предстоящих задачах конференции выступили глава лендерсекретариата Сина-
2 Драбкин Я. С. Идея мировой революции и ее трансформация // История Коммунистического Интернационала, 1919-1943: документальные очерки. М.: Наука, 2002. С. 67.
3 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 79. Д. 199. Л. 75.
4 Янчук И. И. На пути к Народному фронту: 3-я конференция латиноамериканских коммунистов 1934 г. //Латиноамериканский исторический альманах. 2002. № 3. С. 153.
340 Российская революция 1917 года и ее место в истории XXвека
ни (Скалов Г.Б.) и его заместитель А. Гуральский. Основным тезисом доклада Синани было «пророчество» о предстоящих «крупных революционных боях» в Латинской Америке, стоявшей перед началом нового революционного цикла5. Докладчики исходили из положений доклада Сталина на XVII съезде ВКП(б) (январь- февраль 1934 года) об особом типе депрессии в капиталистических странах, о революционном кризисе и необходимости укрепления партий6. В то время в Коминтерне преобладала идея штурма, что и нашло отражение в дискуссии7.
В это же время в журнале «Коммунистический интернационал» (№ 1, 2, 1935) были опубликованы статьи руководителя лендер- секретариата Синани и его сотрудника В. Мирошевского, в которых ставилась задача создания советских районов в латиноамериканских странах и даже «революционных государств» индейцев или негров в отдаленных провинциях таких огромных государств как Бразилия. Ставилась задача борьбы за советскую власть, хотя бы в отдельных провинциях.
Доклад Мануильского на XVII съезде ВКП(б) о работе в Коминтерне предлагал схему анализа для Латиноамериканского лендер- секретариата, по-прежнему представляя социал-демократию как главного виновника прихода фашизма к власти. В Латинской Америке развитию революции, согласно Мануильскому, препятствовал «предательский национал-реформизм»8. Фактически все еще преобладали установки «третьего периода».
На совещании в марте 1934 года Синани в развитие этих тезисов в своем докладе указывал на необходимость борьбы с национал-реформизмом. Латиноамериканские социалисты (особенно жестких слов удостоились аргентинские и чилийские, Х.Б. Хусто и М. Грове) по-прежнему в духе третьего периода характеризовались как социал-фашисты и их приравнивали к буржуазно-помещичьим партиям9. Что касается фашизма, то Синани, ссылаясь на Мануильского, утверждал, что фашизм в латиноамериканских странах «в известном смысле является импортным»10.
5 Коминтерн и Латинская Америка. Сборник документов. М.: Наука, 1998. С. 255.
6 XVII съезд Всесоюзной коммунистической партии (б). 26 января — 10 февраля 1934 г. Стенографический отчет. М.: Партиздат, 1934. С. 12.
7 ДрабкинЯ.С. Идея мировой революции и ее трансформация. С. 67.
8 XVII съезд Всесоюзной коммунистической партии (б). С. 305—310.
9 Коминтерн и Латинская Америка. С. 270.
10 Коминтерн и Латинская Америка. С. 267.
А.А. Щелчков 341
По-прежнему ставилась задача создания советов как органов революционной борьбы за власть, то есть советы были «органами технической и организационно-политической организации масс к восстанию, как органы проведения этого восстания, как будущие органы революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства». Синани при этом осуждал те партии, которые трактовали советы как органы единого фронта11.
Заседания лендерсекретариата марта-апреля 1934 года должны были сформировать программу 3-й конференции и настроить посланцев партии на соответствующее направление дискуссии. Изменения в тактике Коминтерна наметились после обмена мнениями между Сталиными и Димитровым, с апреля 1934 года избранного членом Политсекретариата ИККИ. И только 1 июля Димитров отправил письмо в Комиссию по подготовке VII Конгресса, в котором поставил задачу пересмотра тактики о едином фронте и социал-демократии11 12.
После совещания марта-апреля, но еще до конференции лен- дерсекретариат направил на места указания об «исправлении тактических ошибок». 25 августа 1934 года в адрес Южноамериканского секретариата (ЮАСКИ) было направлено устанавливающее письмо, призывавшее компартию Аргентины к единому фронту с социалистами сначала снизу, а затем и «со всей социалистической партией», «опираясь на опыт французских товарищей». Указывалось, что ошибка предыдущего периода состояла именно «в борьбе с социалистической партией»13. Такой же совет союза с социалистами был дан коммунистам Уругвая, раскритикованным за отказ от такого взаимодействия14.
Третья конференция состоялась в атмосфере бурных дискуссий о будущей тактике, которую предстояло одобрить на VII Конгрессе. С одной стороны, оставались неясными ориентиры верхушки Коминтерна и были невнятными рекомендации XVII съезда ВКП (б), подтверждавшие старые подходы «третьего периода», с другой, намечавшийся новый курс перед лицом угрозы фашизма во всей Европе давали большую свободу для интерпретаций. Появление в Москве Димитрова, его героический образ после Лейпцигского процесса придавали ему значительный вес в Коминтерне. Представитель компартии Аргентины и Южноамериканского секретариа¬
11 Коминтерн и Латинская Америка. С. 289.
12 ДрабкинЯ. С. Идея мировой революции и ее трансформация. С. 68.
13 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 79. Д. 202. Л. 56-57.
14 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 79. Д. 202. Л. 59.
342 Российская революция 1917года и ее место в истории XXвека
та Родольфо Гиольди в своем докладе на 3-й конференции отметил: «Я считаю, что даже после одного часа пребывания в Москве каждый из нас мог глубоко переживать впечатление от смелой тактики Коминтерна в борьбе за завоевание масс в борьбе против фашизма. И это не только в связи с тем, что нам на днях объяснял тов. Эрколи15. Это глубокое впечатление имеет другое объяснение, которое состоит в том, что мы до сих пор еще не понимаем тактических вопросов. Вот почему мы поражаемся этой смелости. Мы во всех вопросах остаемся еще сектантами»16.
3-я конференция латиноамериканских партий состоялась 16-28 октября 1934 года, в ней приняли участие 23 представителя компартий региона. В конференции принимали участие функционеры Коминтерна, Профинтерна, КИМа, латиноамериканские учащиеся и преподаватели Московской Ленинской Школы.
Конференция проходила в один из ключевых моментов изменения общей политики Коминтерна, что нашло отражение в содержании дискуссий. В сентябре 1934 года директивы ИККИ к 12 съезду австрийской партии и воззвание к компартии Испании все еще были выдержаны в духе «третьего периода», но октябрьские решения по французскому вопросу и об угрозе фашизма в Финляндии уже были выдержаны в менее «наступательном» духе.
Основной доклад на конференции делал Родольфо Гиольди (Альтобели). Не менее важными были выступления главы лендер- секретариата Синани и его заместителя А. Гуральского, а также заключительное слово Мануильского.
Главный тезис доклада Гиольди развивал основные положения «третьего периода», то есть о непосредственной близости революционного взятия власти коммунистами, переноса упора партий с пропаганды и подготовки масс к революционным боям, к непосредственной борьбе за власть. Более того, в подготовительных материалах Гиольди к этому выступлению высказывается мысль о завоевании сознания масс «советской идеей»17. Гиольди в своем докладе ссылался на решения VI конгресса Коминтерна, оправдывающие старые сектантские подходы к политическим союзам, приемлемые только при гегемонии пролетариата в борьбе с мелкобуржуазными и реформистскими партиями18.
15 Пальмиро Тольятти.
16 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 101. Д. 22. Л. 37.
17 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 79. Д. 198. Л. 4.
18 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 101. Д. 22. Л. 35.
АЛ. Щелчков 343
Синани (выступление 20 октября) начал свою речь теми же словами, что и доклад на заседании лендерсекретариата весной того же года: о большом революционном подъеме и назревании революционного кризиса в странах региона. Завершалось выступление сентенцией: «В Южной и Караибской Америке мы еще никогда не были так близки к революции, как сейчас»19. Синани напоминал, что речь идет о буржуазно-демократическом этапе революции, что предполагало иной подход к национал-реформизму и другим возможным союзникам20.
Гиольди в своем докладе подчеркивал огромное желание масс, в том числе организованных в буржуазных и реформистских партиях, к единству действий с коммунистами21. При этом важнейшей объединяющей идеей была защита демократии. При всей этой новой риторике в основе союзов и единого фронта стояла борьба за гегемонию в рабочем движении, единство пролетариата. Гиольди более четко сформулировал основы единого фронта в своих предварительных материалах, чем в речи на конференции: он предлагал ограничиться борьбой за единство рабочего класса и за формирование единого фронта с рабочими партиями, с социалистами и анархо-синдикалистами22.
Не все делали акцент на борьбе с фашизмом, как главной опасности. Гуральский считал, что при наступлении фашистских организаций в странах континента «фашизм, тоталитарный режим как основная опора феодально-буржуазного режима там мало возможны». Главная опасность исходила от фашизации части национал-рефор- мистских сил, при том что национал-реформизм в регионе вполне сочетал черты фашизма и революционные элементы, провозглашавшие борьбу за аграрную реформу, за профсоюзы, что входило в программу левых сил23. Эту позицию поддержал перуанец Э. Равинес, указывавший, что в рамках национал-реформизма сосуществуют национал-фашисты, реформисты и даже революционные элементы, что особенно ярко проявлялось на Кубе, в Чили и в Перу24.
Доклад Гиольди поддержал тезисы Синани о союзниках в революции: «под руководством пролетариата могут быть созданы условия для быстрого перерастания революции на более высокую
19 Коминтерн и Латинская Америка. С. 254.
20 Коминтерн и Латинская Америка. С. 230.
21 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 101. Д. 22. Л. 38.
22 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 79. Д. 198. Л. 5.
23 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 101. Д. 22. Л. 295-301
24 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 79. Д. 213. Л. 87-89.
344 Российская революция 1917года и ее место в истории XXвека
ступень, превращения буржуазно-демократической революции в социалистическую, и этот процесс будет относительно недолог»25.
Другим осколком «третьего периода» было утверждение Сина- ни и Гиольди, что в латиноамериканских партиях еще не завершился процесс большевизации, и перед ними стоят «большие задачи в этом отношении». Равинес же предложил ревизовать многие прежние сектантские установки большевизации.
В рамках процесса «большевизации» в Перу и Чили в партиях были объявлены кампании борьбы против маритегизма и рекабарре- низма, соответственно. Равинес призвал пересмотреть эту установку в применении к Мариатеги и Рекабаррену. Для чилийцев Рекабаррен является крупнейшей революционной фигурой: «В Чили допустили много ошибок из-за неосторожности в борьбе против Рекабаррена... Он ошибался, но мы не можем вычеркнуть его имя из истории революционной борьбы в Чили»26. Это выступление Равинеса положило начало идейному переосмыслению в латиноамериканском коммунистическом движении таких ярких явлений как идейно-политическое наследие Мариатеги и Рекабаррена. Это был важный шаг к преодолению сектантства, особенно в Чили.
Синани не стал повторять известные всем присутствовавшим там тезисы «третьего периода», но сразу же предупредил товарищей, что время таково, что надо «быть готовыми к крутым, на первый взгляд внезапным изменениям тактики». Важнейшим тезисом у Синани было «широчайшее применение тактики единого фронта», но в основном в «борьбе за большинство рабочего класса», и «критически применять эту тактику в борьбе за наших союзников, в борьбе за крестьянство, в борьбе за широкие массы мелкой, городской буржуазии». Более широкое применение тактики единого фронта вызывало у Синани опасение правого уклона, «соглашательства с мелкобуржуазными и буржуазными партиями»27. Таким образом, идея единого фронта мало чем отличалась от установок «третьего периода». Новшеством подхода Синани к союзникам, и прежде всего к социалистам и социал-демократам, даже по сравнению с заседаниями лендерсе- кретариата марта 1934 года, было признание ошибок механического переноса тезиса о социал-фашизме на латиноамериканские страны28.
Гиольди, заявляя себя поборником единого фронта, с подачи Мануильского продолжал толковать его с позиции «третьего пери¬
25 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 101. Д. 22. Л. 22—23.
26 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 79. Д. 213. Л. 420-421.
27 Коминтерн и Латинская Америка. С. 228-229.
28 Коминтерн и Латинская Америка. С. 231.
Л.А. Щелчков 345
ода» как борьбу за единый пролетарский фронт при гегемонии коммунистов. Его поддержал влиятельный уругвайский руководитель Эухенио Гомес, который подчеркивал, что видит задачу единого фронта исключительно как тактику профсоюзного единства под руководством коммунистов29.
По-прежнему и Гиольди, и Гомеса волновал не союз с другими левыми и реформистскими партиями, а борьба с этими партиями за влияние на пролетариат. Единственное отличие состояло в том, что теперь он был поборником союза с рабочими-социалистами, анархистами и другими левыми снизу. Он признавал, что в европейских развитых капиталистических странах постановка вопроса о едином фронте с социал-демократами снизу и сверху должна способствовать переходу рабочего класса на позиции коммунистов и укреплять антифашистскую борьбу, но выражал сомнения в применимости этой тактики в латиноамериканских странах30. Гиольди не мог идти против общего настроения в Коминтерне и неохотно, с оговорками, признавал возможность союза «сверху» даже с наци- онал-реформистскими партиями и мелкой буржуазией, но только в отдельных странах, таких как Куба или Бразилия31.
Уже после конференции, в мае 1935 года позиции Гиольди были раскритикованы лендерсекретариатом и названы сектантскими. Гиольди, как и многие другие, о чем можно судить по 3-й конференции, до VII конгресса не приняли идею широкого народного фронта сверху, включая не только некоммунистические рабочие партии, но и мелкобуржуазные и буржуазные, реформистские партии32. Коминтерн требовал не избирательного для определенных стран, применения тактики политических союзов и народного фронта «сверху», как предлагал Гиольди для Кубы и Бразилии, а проведения единой общей линии Народного фронта.
Понимая, что тактика народного фронта как союза сверху и снизу становится все более преобладающей в Москве идеей, уругваец Гомес выразил общее замешательство латиноамериканских делегатов, заявив, что в первую очередь надо попросить ИККИ разъяснить им, какая теперь правильная позиция, чтобы избежать колебаний и ошибок в реализации задач Коминтерна33.
29 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 79. Д. 213. Л. 318.
30 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 101. Д. 23. Л. 172.
31 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 101. Д. 23. Л. 174.
32 Коминтерн и Латинская Америка. С. 300-301.
33 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 79. Д. 213. Л. 323.
346 Российская революция 1917 года и ее место в истории XXвека
В Коминтерне к концу 1934 года идея широкого фронта приобрела самодовлеющий вес, и все его подразделения стали искать формулу этого фронта, не получив пока четких установок сверху. Доклад Синани в этом плане показателен. С одной стороны, он выступал за союз с буржуазно-реформистскими или мелко-буржуазными партиями, национал-реформизмом, но с другой, подчеркивал, что особая опасность для компартии с точки зрения борьбы за гегемонию в пролетарских массах исходит от левых фракций этих партий: речь шла о левом крыле АПРА, аргентинских радикалов, аутентикос на Кубе, либеральной партии в Колумбии. Следовательно, предлагал Синани, нужно применение тактики единого фронта снизу, в отношении низовых организаций этих партий. Вывод делался противоречивым: союз и тактика единого фронта снизу с мелкобуржуазными партиями при одновременном нанесении по ним главного удара34. Такой же подход был в докладе Гиоль- ди: допускался лишь единый фронт снизу, с низовыми массовыми организациями национал-реформистских и мелкобуржуазных партий и движений35.
Что же касается новых установок в отношении будущего народного фронта сверху, Синани лишь раз отметил: «Мы сейчас тактику единого фронта в отношении социал-демократической партии проводим не только снизу, но и сверху»36. Гиольди отмечал, что в ряде компартий имеется «колоссальное сопротивление по отношению к вопросу о едином фронте»37.
Уругваец Мартинес (Хулио Баччино)38 шел дальше в расширительном подходе к единому фронту. Он критиковал сектантскую позицию собственной партии, отказывавшейся от совместных действий с другими, в том числе буржуазно-демократическими, партиями в борьбе за понятные лозунги «За демократию и свободу»39. Среди энтузиастов широкого народного фронта были не только уругвайцы Баччино и Маньин, но и представитель кубинского комсомола Хосе Монпие (Вильфредо Веласкес Кабрера).
Если общие положения установочного доклада Синани свидетельствовали о все еще большой укорененности постулатов третьего периода, то конкретные рекомендации по некоторым стра¬
34 Коминтерн и Латинская Америка. С. 239.
35 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 101. Д. 22. Л. 33.
36 Коминтерн и Латинская Америка. С, 253.
37 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 101. Д. 22. Л. 37.
38 В прошлом социалист.
39 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 79. Д. 213. Л. 95-97.
АЛ. Щелчков 347
нам говорили о переходе к тактике широкого фронта. Особого внимания заслужили Куба и Бразилия. Чили всегда упоминалась в их ряду, но подробно положение в Чили не обсуждалось.
Куба стала центром внимания отдельной резолюции конференции, в которой партия аутентиков во главе с Грау Сан- Мартином была охарактеризована как национал-реформистская, а группа Гитераса (Молодая Куба) как национал-революционная, то есть как вполне подходящие по своим характеристикам для формирования вместе с коммунистами народного антиимпериалистического фронта. При этом в то же самое время на самой Кубе проходил расширенный пленум ЦК КП Кубы, который по старинке назвал аутентиков фашистами, и ни о каких совместных действиях речи не шло40.
Резолюция критиковала компартию Кубы за сектантскую позицию, отказ поддержать реформистские силы. Решения 3-й конференции имели большие последствия для политики КП Кубы. Была смягчена ее позиция в отношении возможных союзников, «Молодой Кубы» и аутентиков. В 1935 году, им и Студенческому директорату было предложено создать единый антиимпериалистический фронт. Однако коммунисты отводили себе руководящую позицию в этом фронте. И только после VII конгресса кубинское коммунисты в мае 1936 года стали проводить последовательную политику народного фронта.
В завершающем слове на конференции Гиольди, признавая все новшества в тактике единого фронта, все же призвал к «штурму», к установлению в странах региона «советской власти как единственного выхода»41. Если сопротивление «слева» новой тактике Коминтерна оказывали старые аппаратчики и видные деятели движения Бела Кун, Кнорин, принадлежавшие к группировке Пятницкого и затем репрессированные вместе с ним42, то в латиноамериканских партиях леваками вдруг оказались «бюрократы» из Буэнос-Айреса, главным глашатаем которых стали Гиольди и другие аргентинские делегаты.
К февралю 1935 года еще не были закончены тексты принятых на конференции резолюций, их редактировали, согласовывали, переписывали. Только на март планировалось подготовить
40 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 79. Д. 225. Л. 8-9.
41 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 101. Д. 23. Л. 184.
42 Ватлин А.Ю. Коминтерн: идеи, решения, судьбы. М.: РОССПЭН, 2009. С. 355-356.
348 Российская революция 1917 года и ее место в истории XXвека
все документы, перевести их на испанский и издать43, чего так никогда и не произошло. Возможно, ввиду того, что не во всем они удовлетворяли руководство Коминтерна, шедшего с иной повесткой дня, с более широкой формулой Народного фронта, нежели решили латиноамериканские коммунисты. Хотя решения 3-й конференции не были опубликованы, они легли в основу аргументов тех в компартиях континента, кто оказывал сопротивление слева новой тактике VII конгресса. Их бастионом стала компартия Аргентины и Южноамериканского секретариата, что лишь ускорило роспуск ЮАСКИ после VII конгресса.
43 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 79. Д. 224. Л. 1-2.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Российские авторы
Торкунов Анатолий Васильевич - академик РАН, ректор МГИМО МИД России
Чубарьян Александр Оганович - академик РАН, научный руководитель ИВИ РАН
Андросова Татьяна Владимировна - кандидат экономических наук, старший научный сотрудник ИВИ РАН
Бахтурина Александра Юрьевна - доктор исторических наук, профессор РГГУ
Дамье Вадим Валерьевич - доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник ИВИ РАН
Ивкина Людмила Андреевна — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИВИ РАН
Кукушкина Ирина Анатольевна — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИВИ РАН
Листиков Сергей Викторович - доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник ИВИ РАН
Любин Валерий Петрович - доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН
Петров Юрий Александрович — доктор исторических наук, директор ИРИ РАН
Полякова Елена Юрьевна — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИВИ РАН
350 Российская революция 1917года и ее место в истории XXвека
Рублев Дмитрий Иванович - кандидат исторических наук, доцент Факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова
Суслопарова Елена Алексеевна — кандидат исторических наук, доцент Исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
Шубин Александр Владленович - доктор исторических наук, главный научный сотрудник И ВИ РАН
Щелчков Андрей Аркадьевич — доктор исторических наук, главный научный сотрудник ИВИ РАН
Зарубежные авторы
Арриола, Энрике — исследователь Архива Хенаро Эстрада МИД Мексики, Мехико
Валле, Роберто — профессор Университета Сапиенца (Италия)
Вальдивия Ортис де Сарате, Вероника — доктор исторических наук, профессор Университета Диего Порталеса, Сантьяго-де- Чили (Чили)
Ван Сяоцзюй — доктор исторических наук, профессор, заведующая отделом истории России и стран Восточной Европы Института всеобщей истории КАОН (Китай)
Ван Ю - доктор юридических наук, постдокторат Института всеобщей истории КАОН, (Китай)
Гарридо Кабальеро, Магдалена — доктор истории, профессор Университета Мурсии (Испания)
Грез Toco, Серхио - профессор Университета Чили
Гусейнова Ирада Мамед-кызы — доктор исторических наук, профессор Бакинского государственного университета (Азербайджан)
Дике, Кристоф — историк, журналист, создатель радио «Storiavoce» (Франция)
Ильядес, Карлос - профессор Автономного университет
Метрополитано, член Мексиканской Академии наук, Мехико
Илэм, Крис - доктор истории, профессор Мадридского кампуса Сент-Луисского университета (США)
Сведения об авторах 351
Каррер д’Анкосс, Элен - постоянный секретарь Французской академии
Легволъд, Роберт — профессор Университета Колумбия (США)
Ортис, Рина - доктор наук, исследователь Национального института истории и антропологии, Халапа, Мехико
Пинто Вальехос, Хулио - профессор Университета Сантьяго-де-Чили (Чили)
Пунсек Фаррас, Жозеп - доктор истории, профессор Автономного университета Барселоны (Испания)
Рабинович, Александр - почетный профессор Университета Индианы (США)
Робертис, Антонио Джулио de - профессор Университета Бари (Италия)
Страда, Витторио - славист, историк мировой и российской
литературы (Италия)
Чони, Паола - директор Итальянского института культуры в Санкт-Петербурге
Российская революция 1917 года и ее место в истории XX века
Художник: Е.А. Ильин
Верстка: С.Л. Голодко
Корректор: Н.А. Самсонова
Подписано в печать 08.06.2018.
Печать офсетная. Бумага офсетная.
Формат 60x90 1/16. Усл. печ. л. 22,0
Тираж 1000 экз.
Заказ № 4728
ООО Издательство «Весь Мир»
109544, г. Москва, ул. Б. Андроньевская д. 5, стр. 1
Тел./факс: (495) 632-47-04, 632-47-06, (495) 678-43-18
E-mail: info@vesmirbooks.ru
http:// vesmirbooks.ru
Отпечатано в АО «Первая Образцовая типография»
Филиал «Чеховский Печатный Двор»
142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1
Сайт: www.chpd.ru. E-mail: sales@chpd.ru
тел. 8 (499) 270-73-59