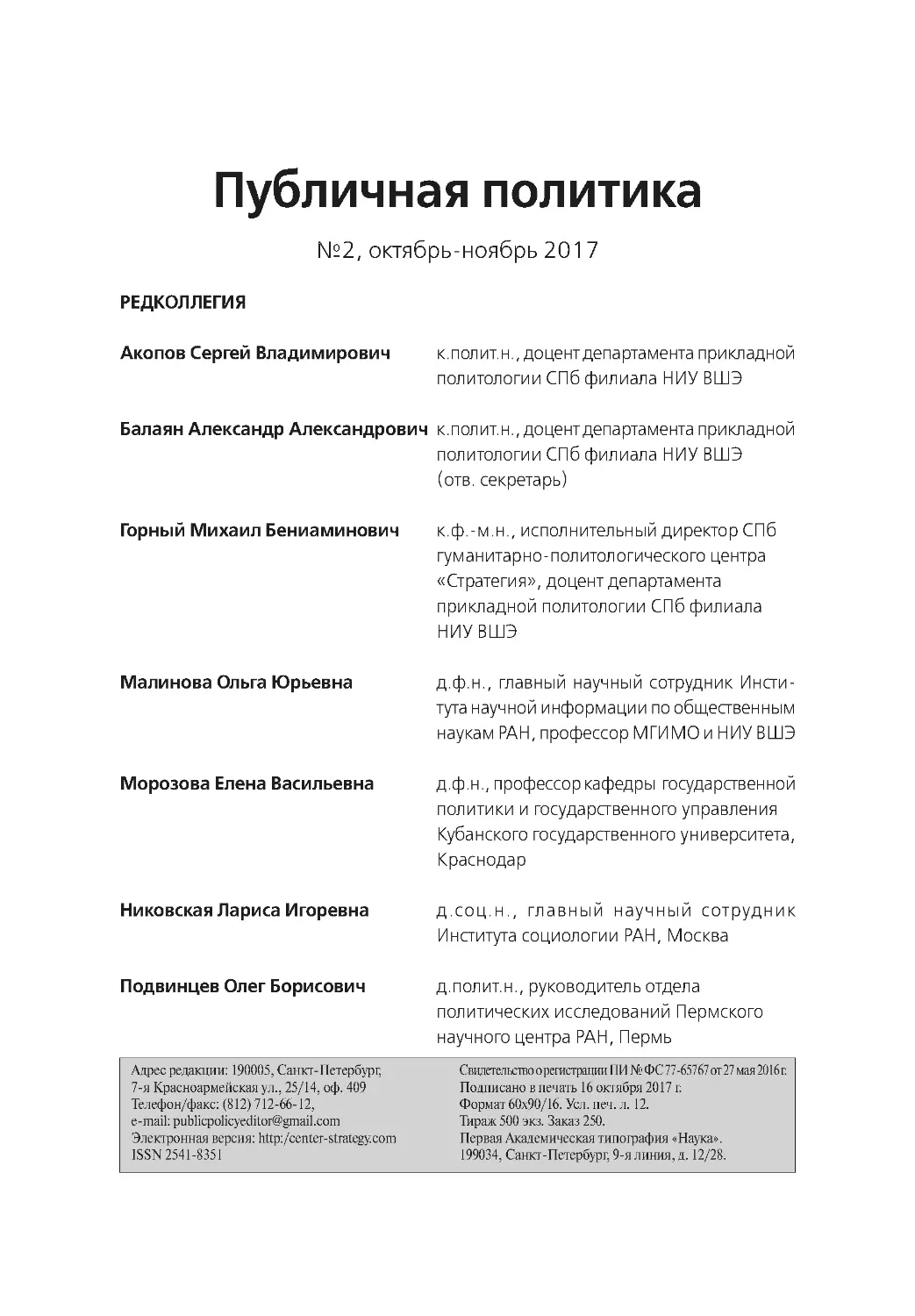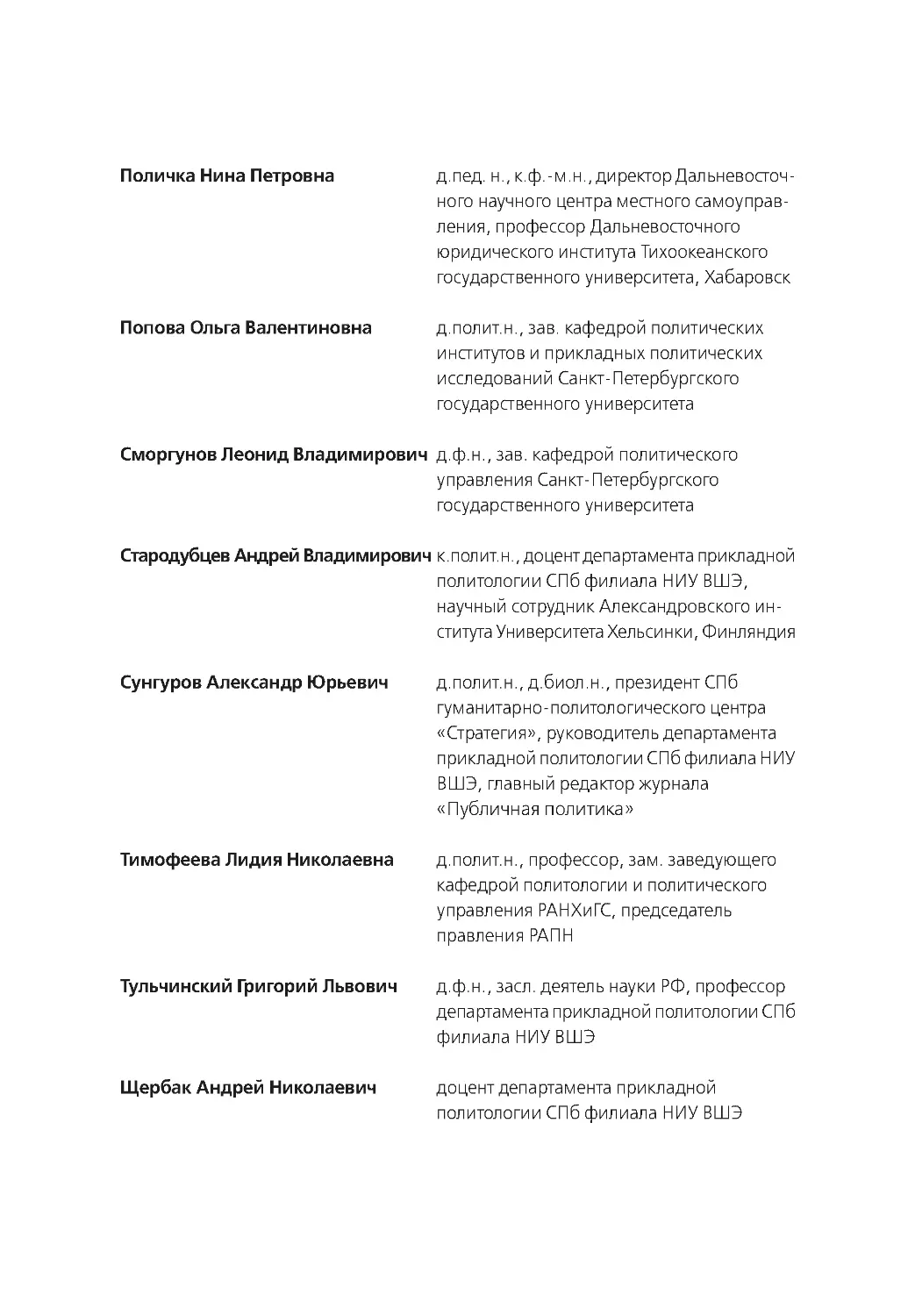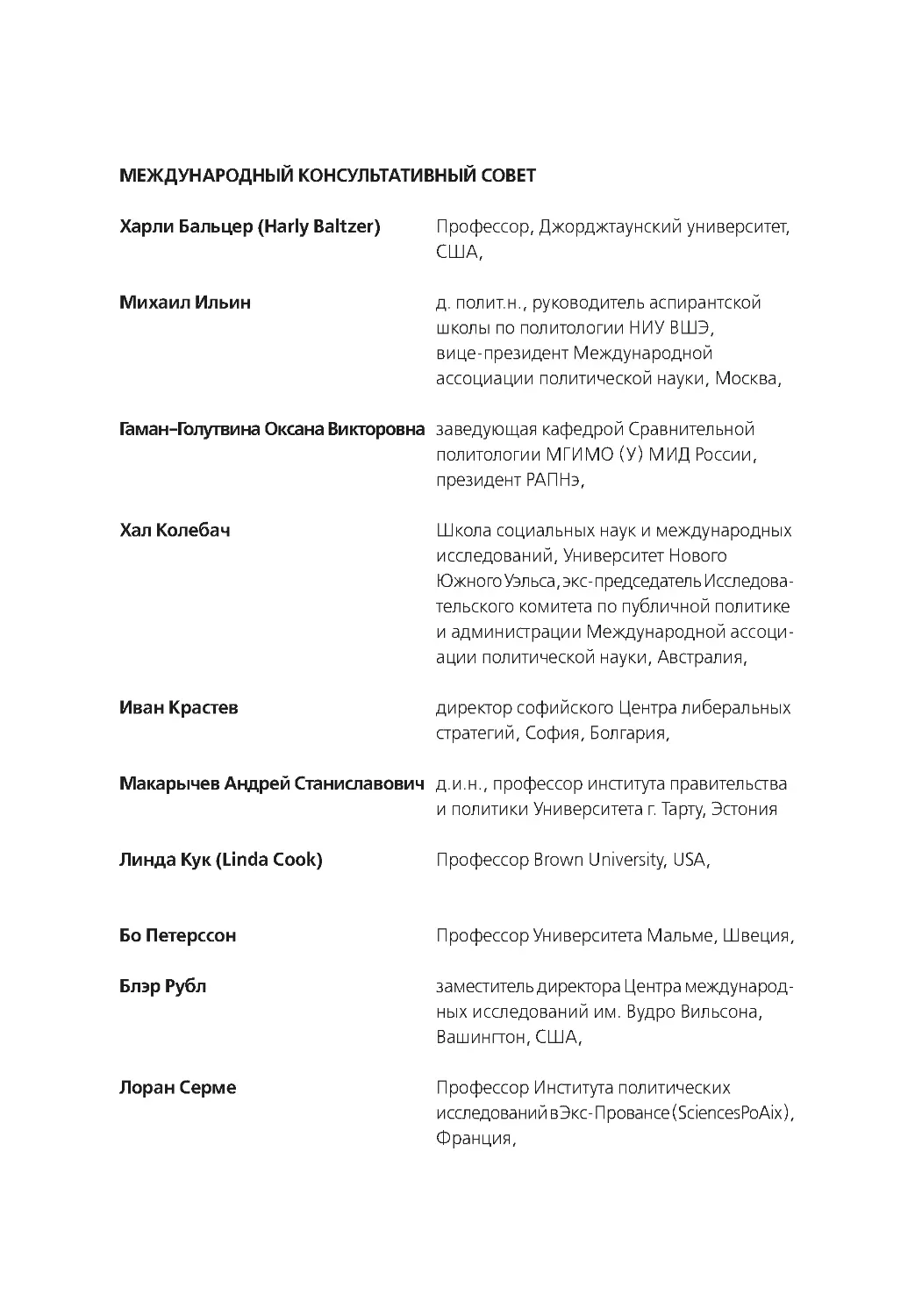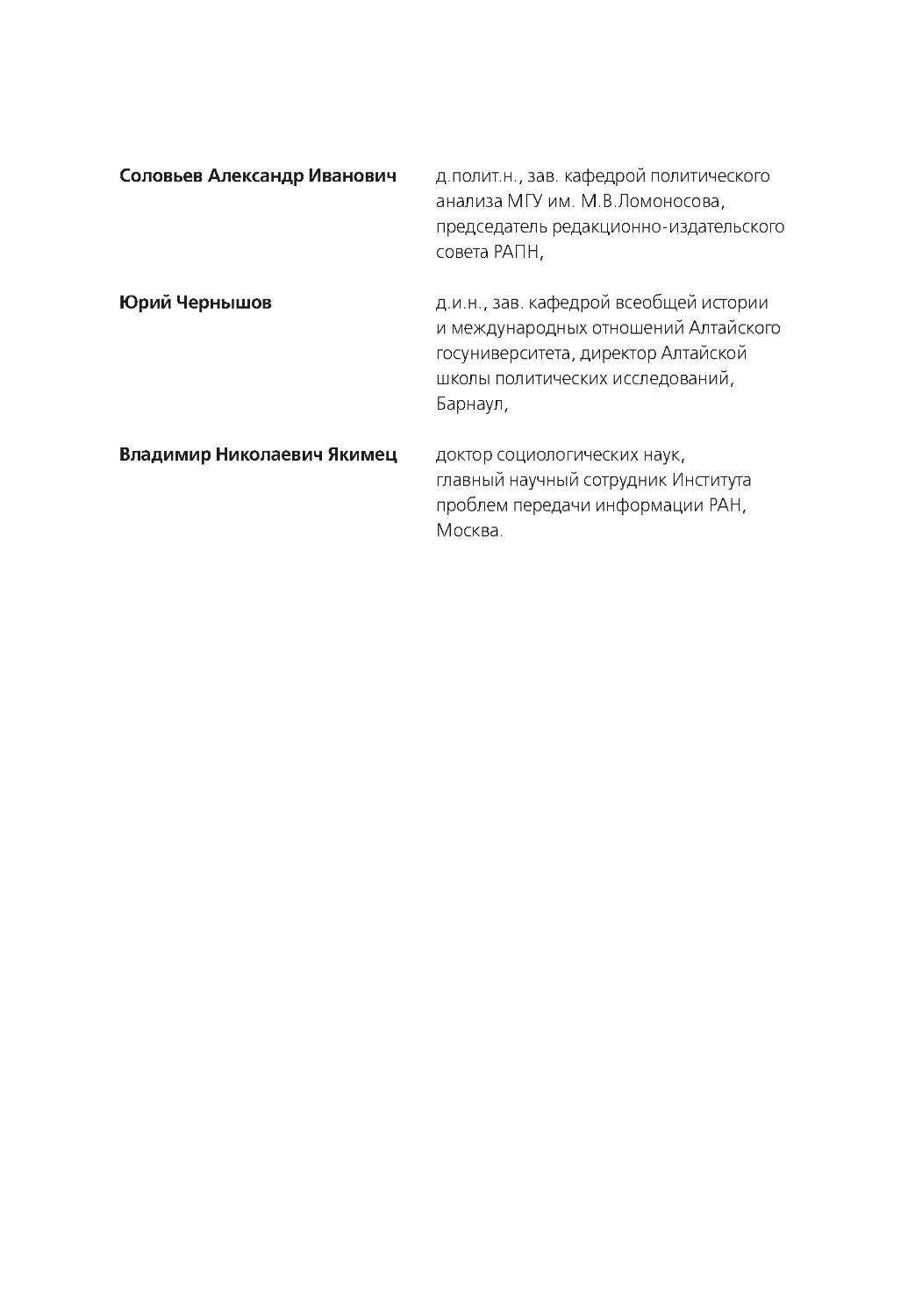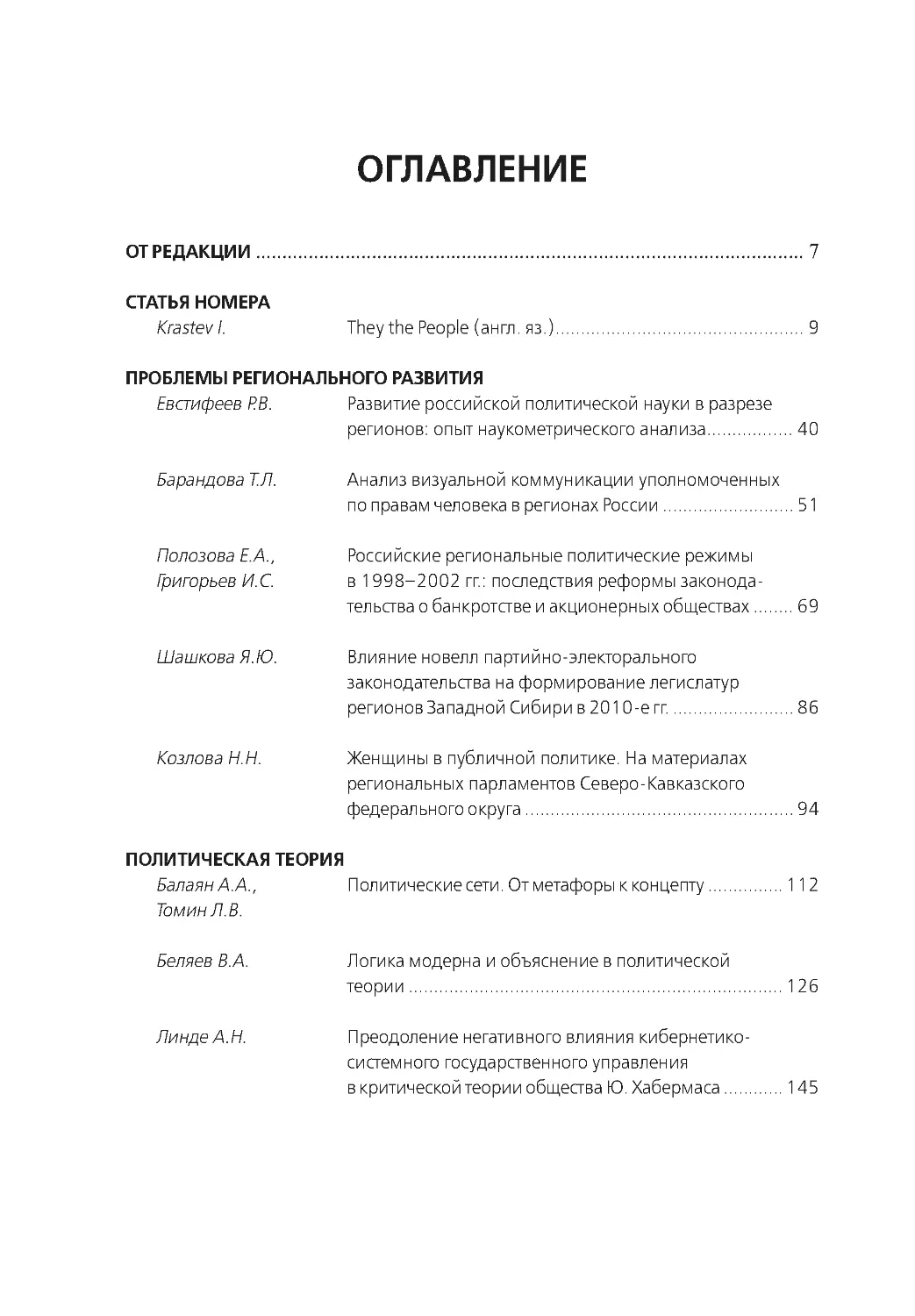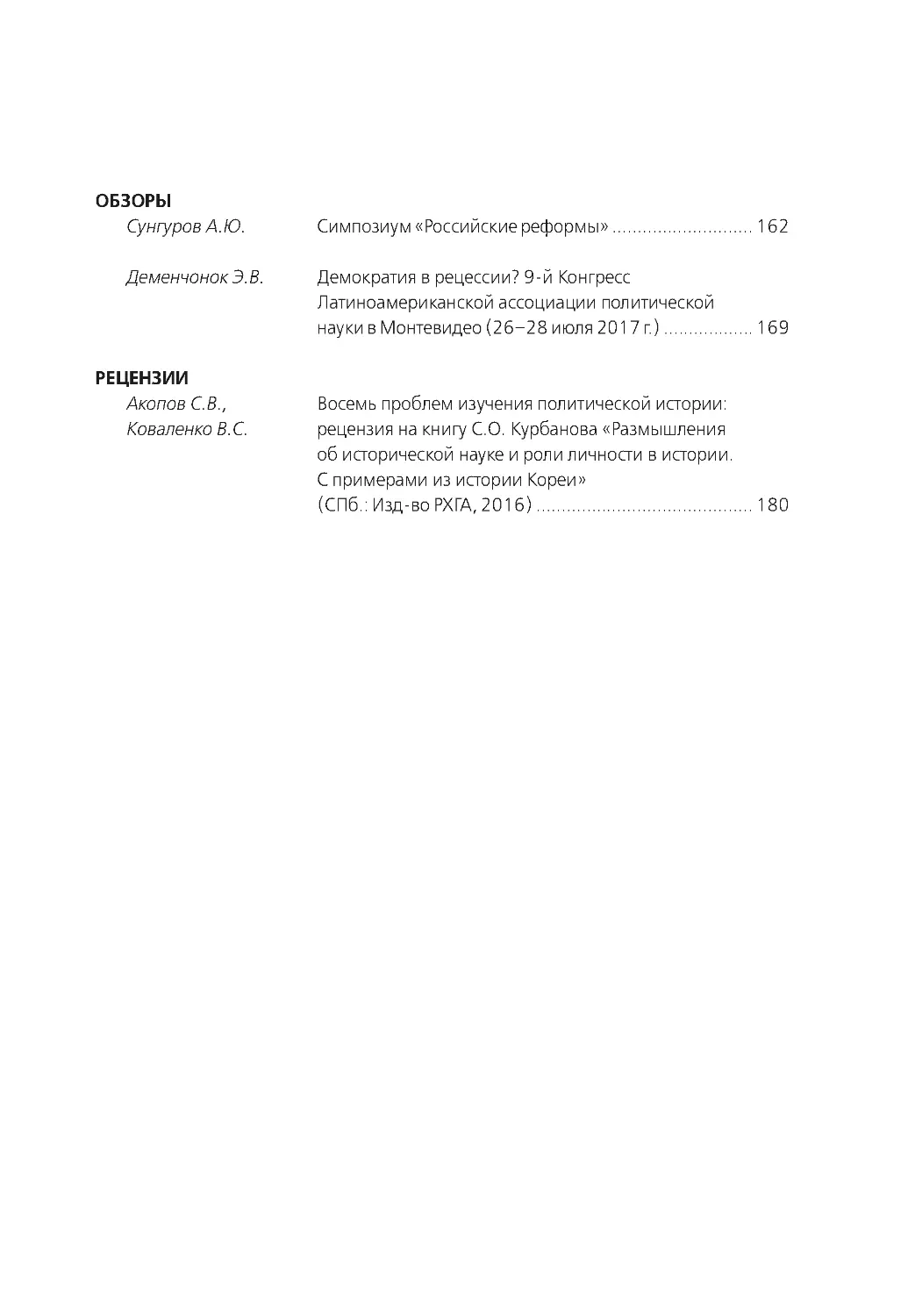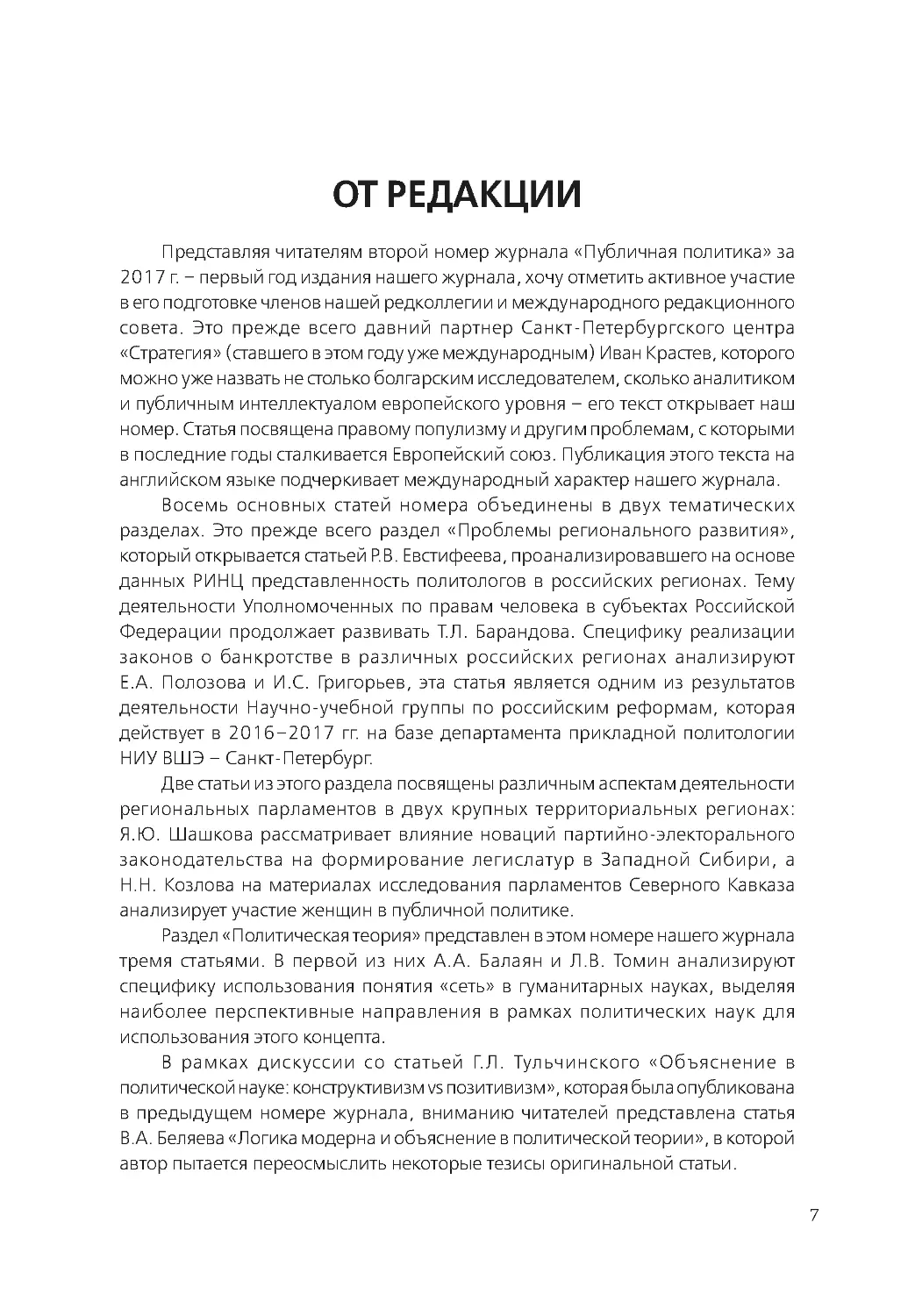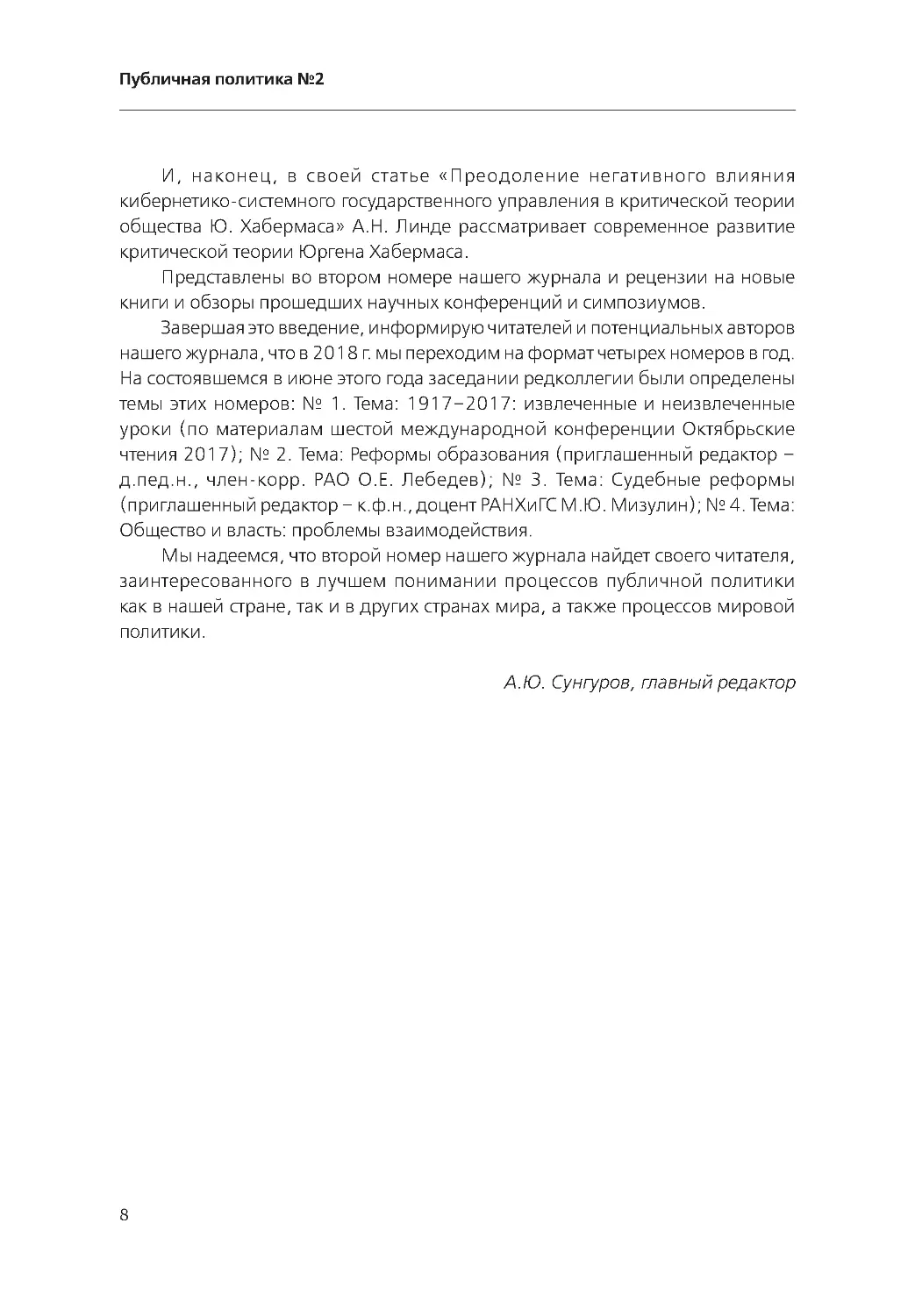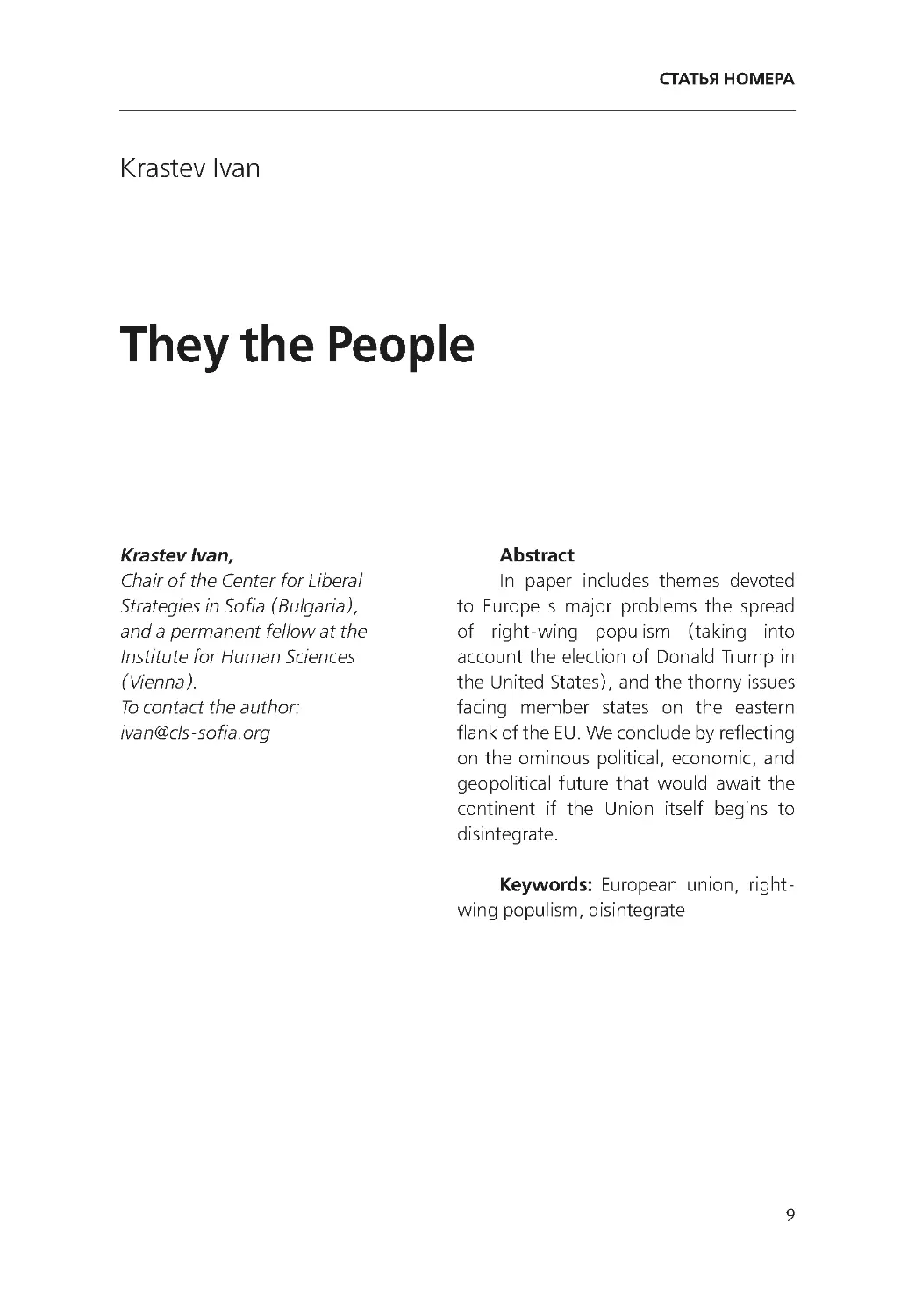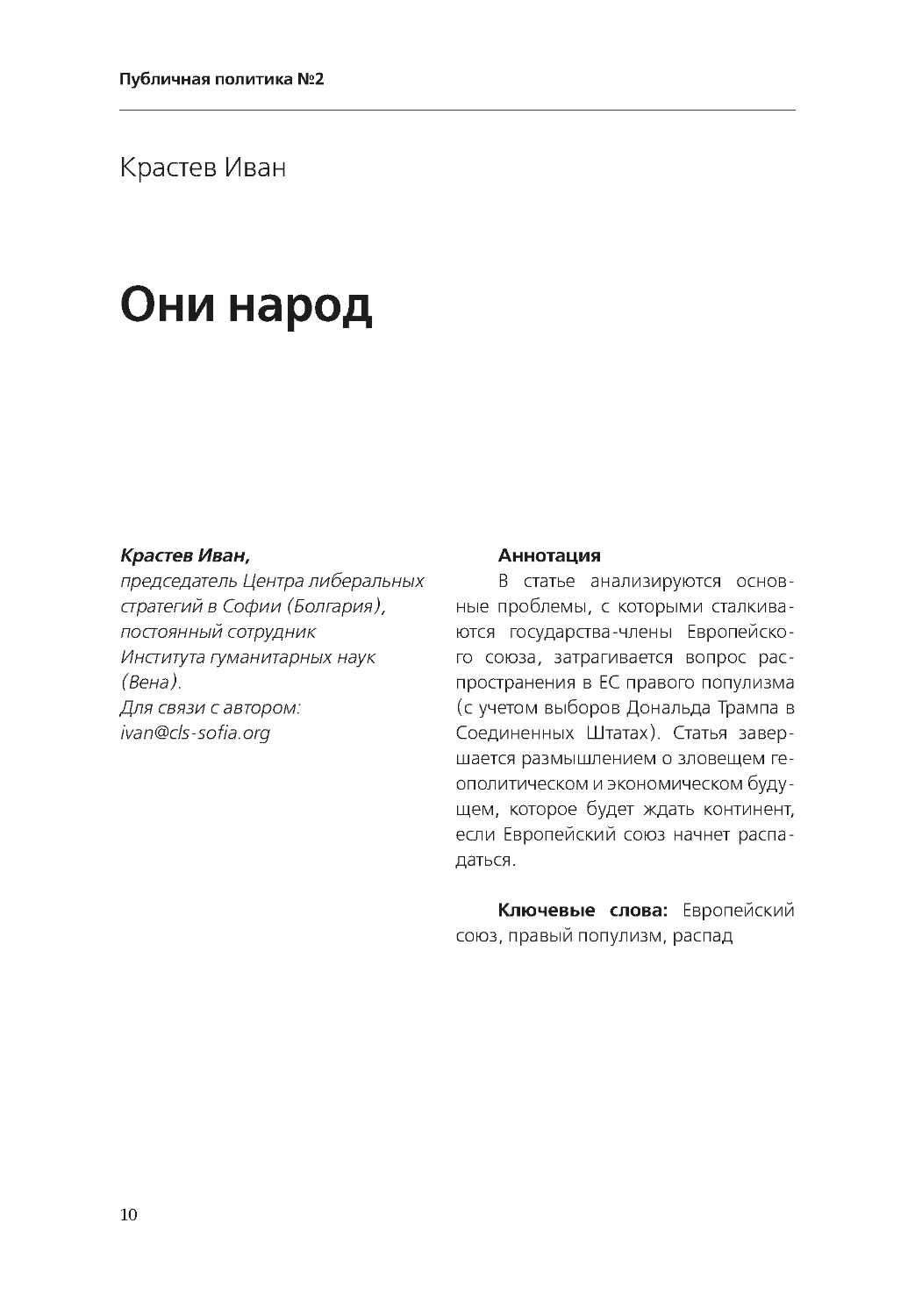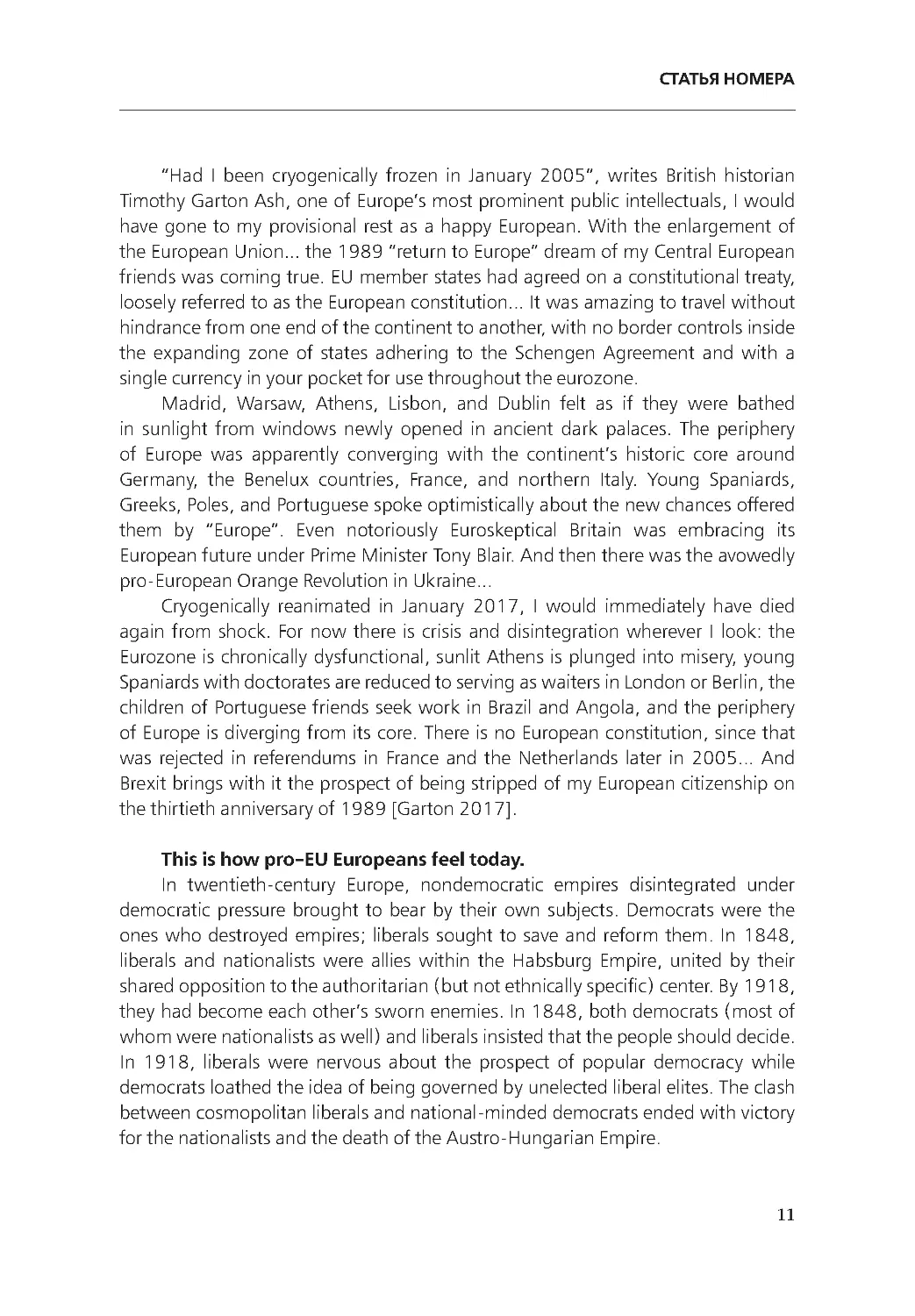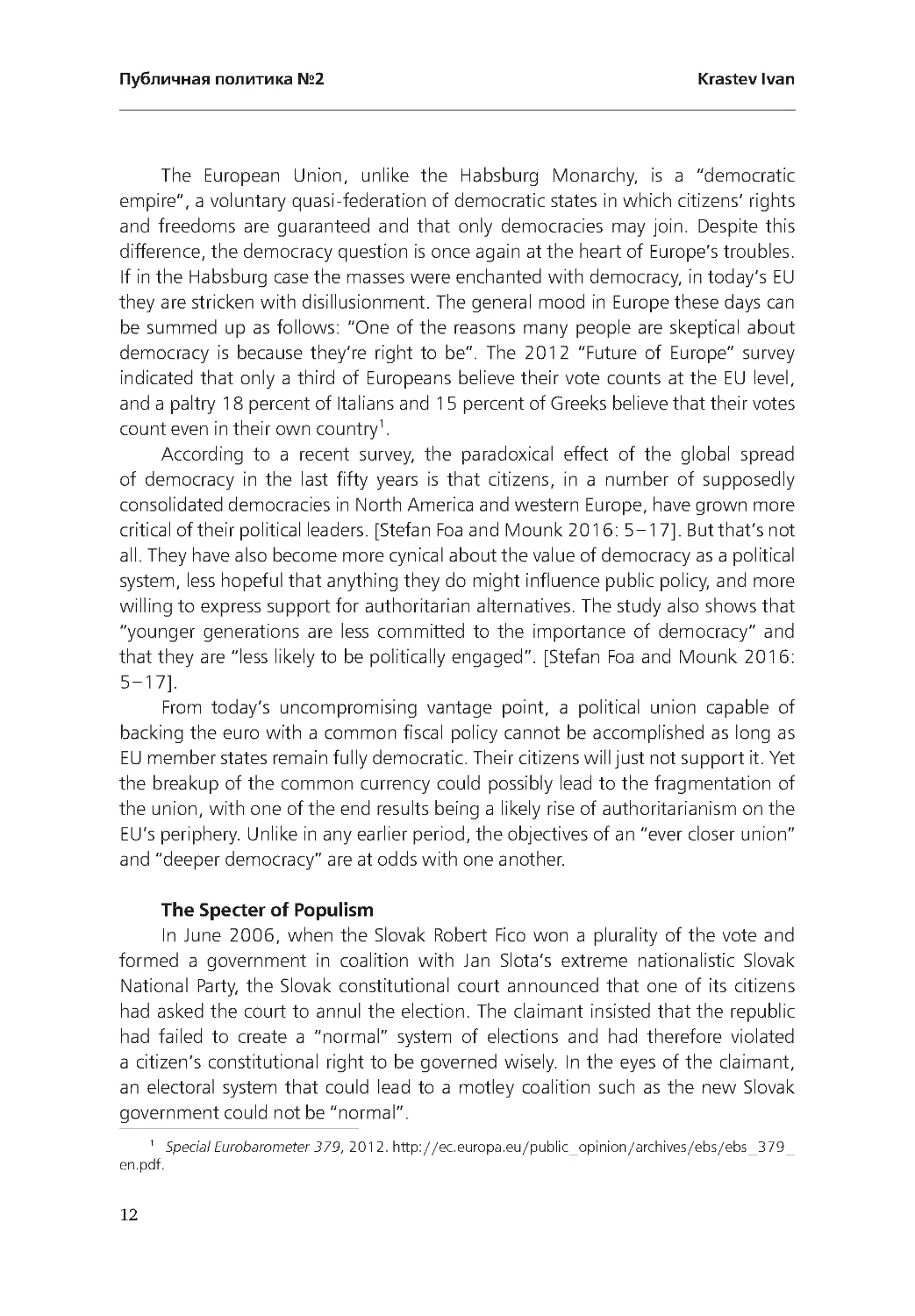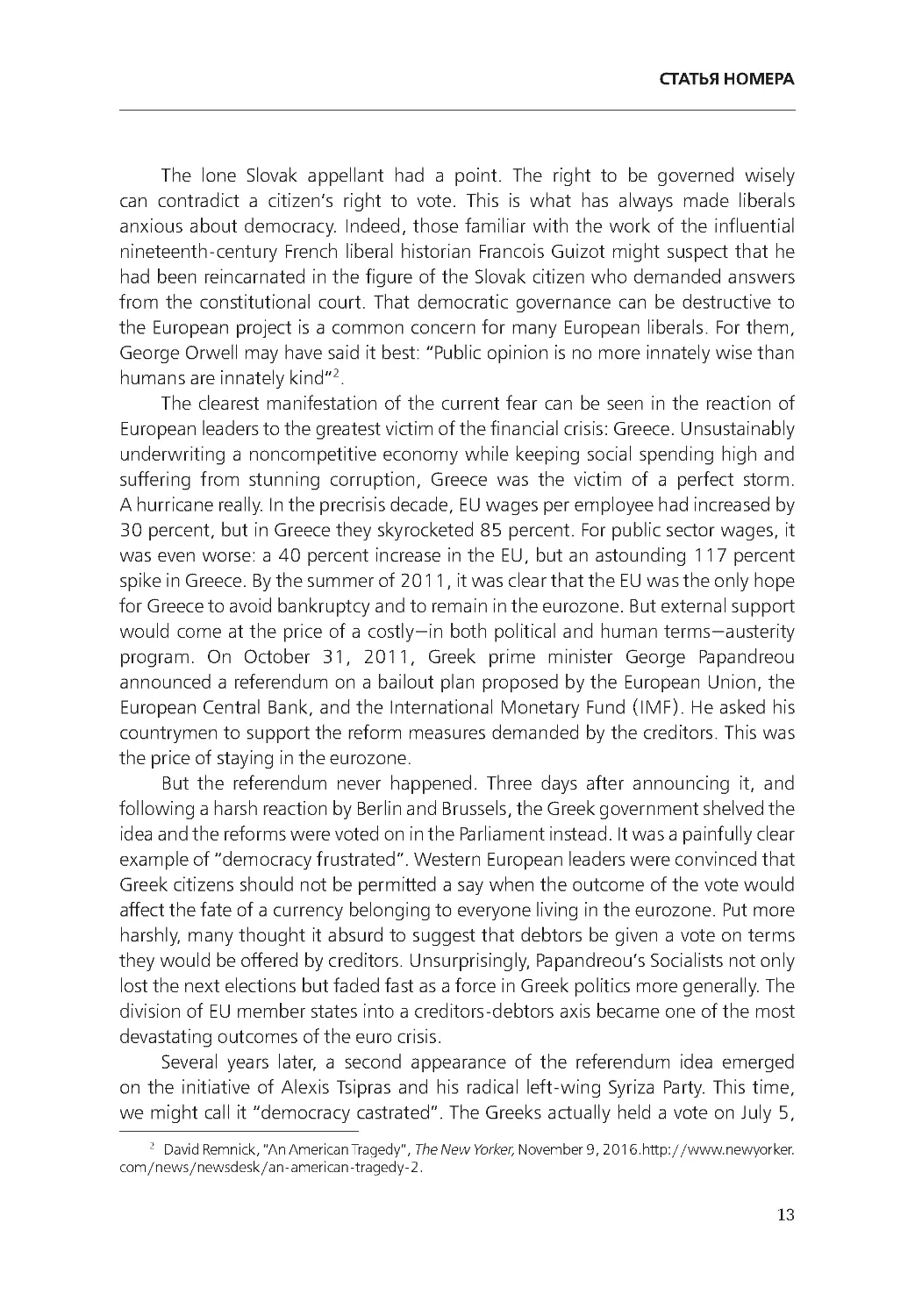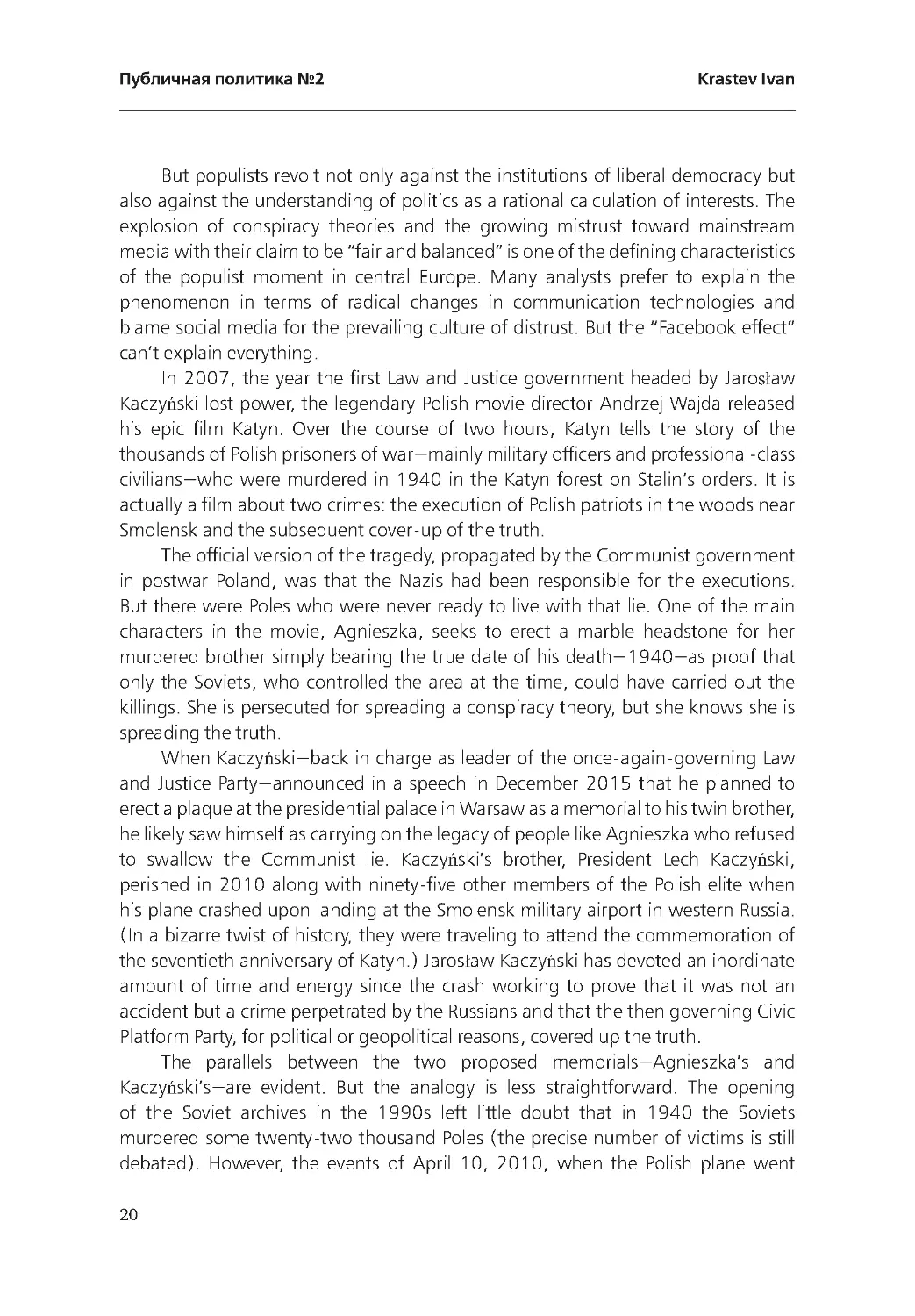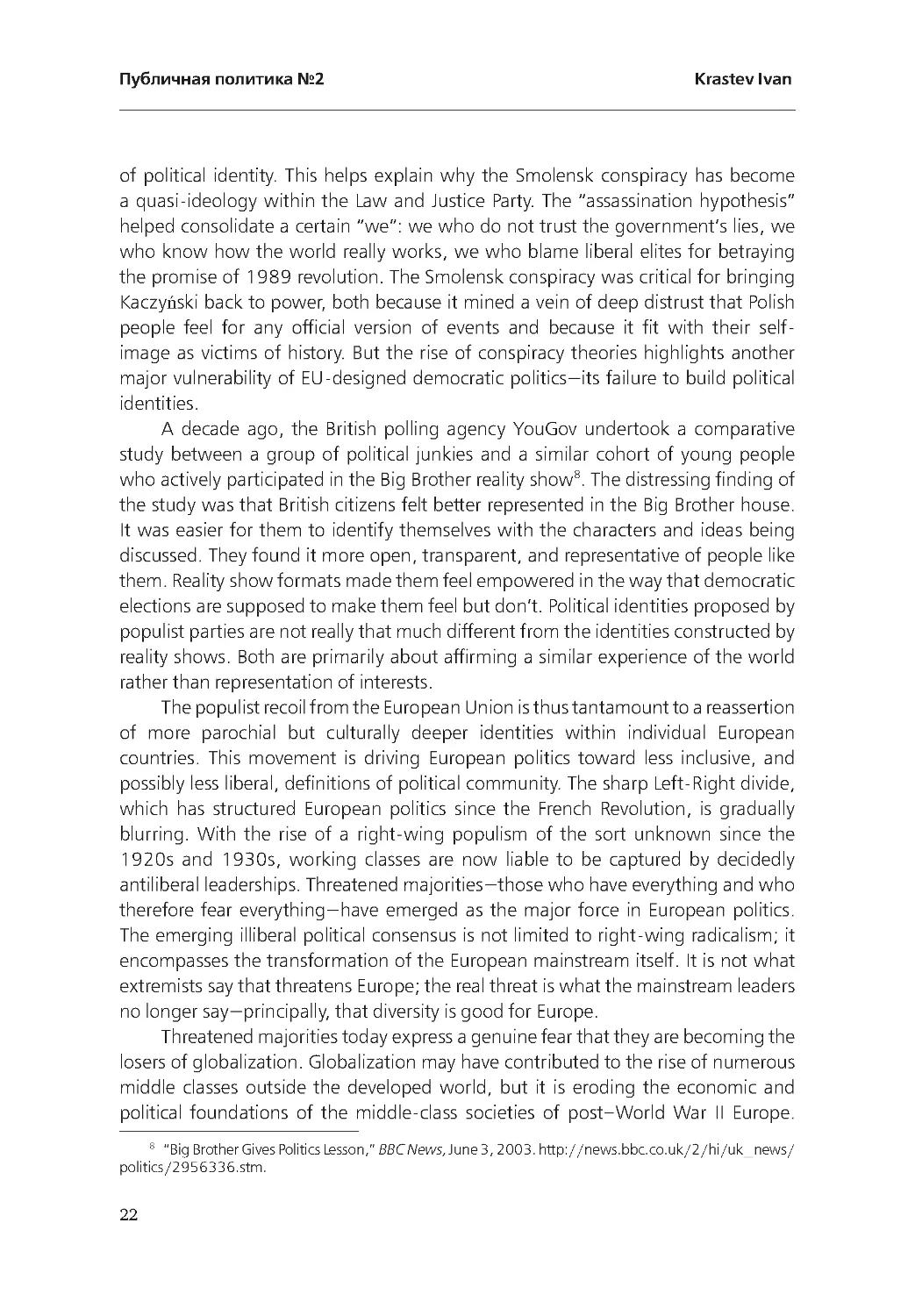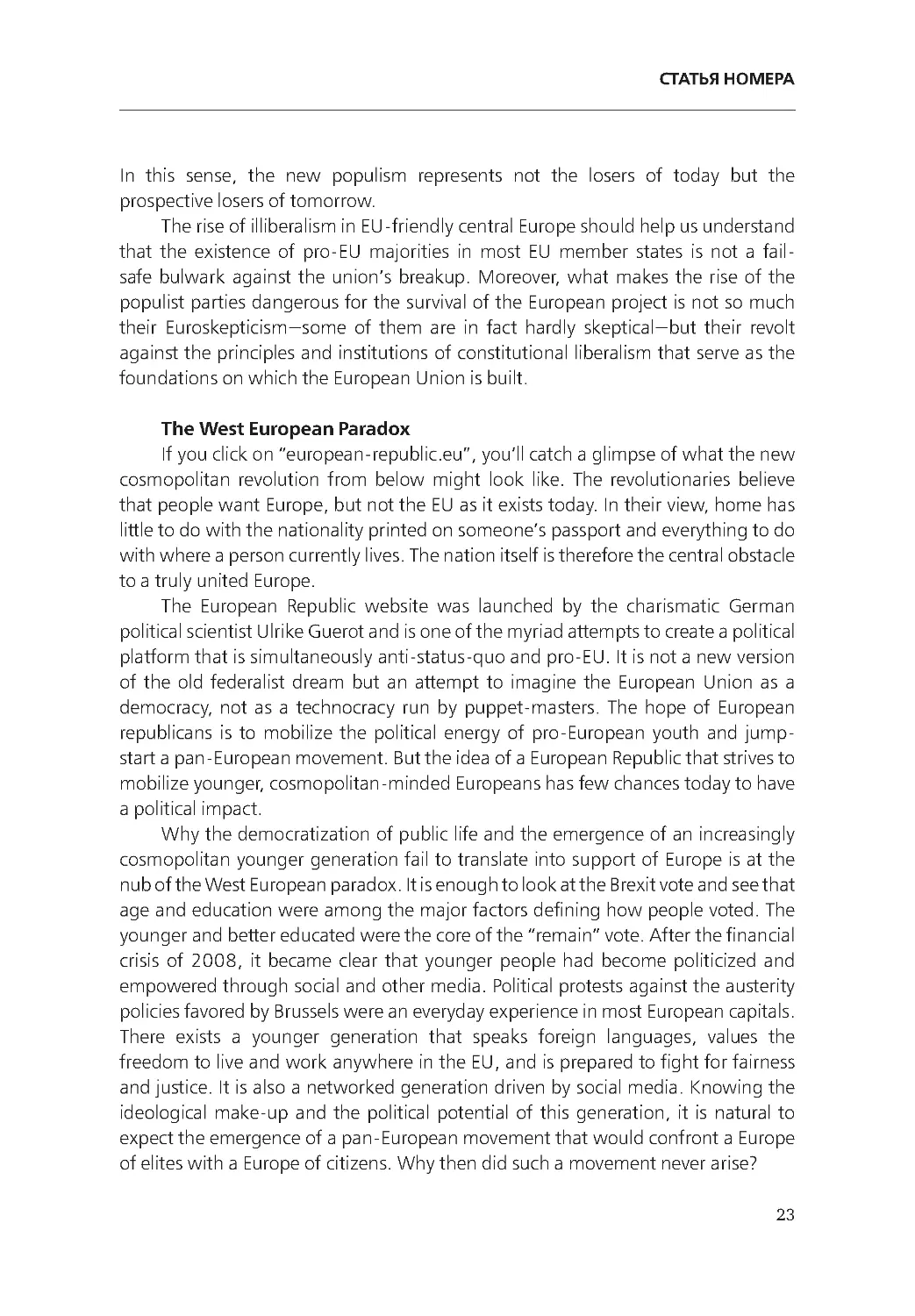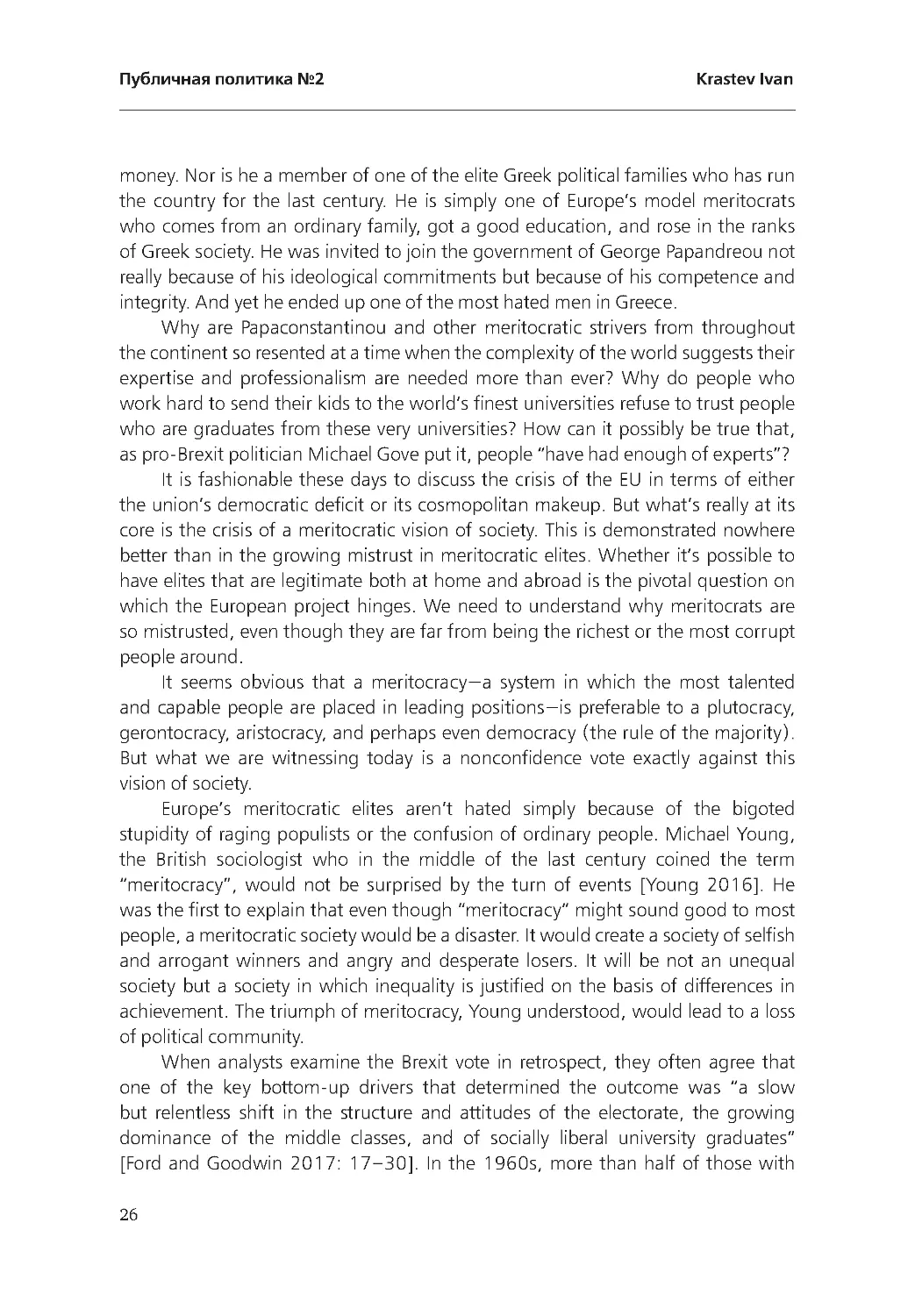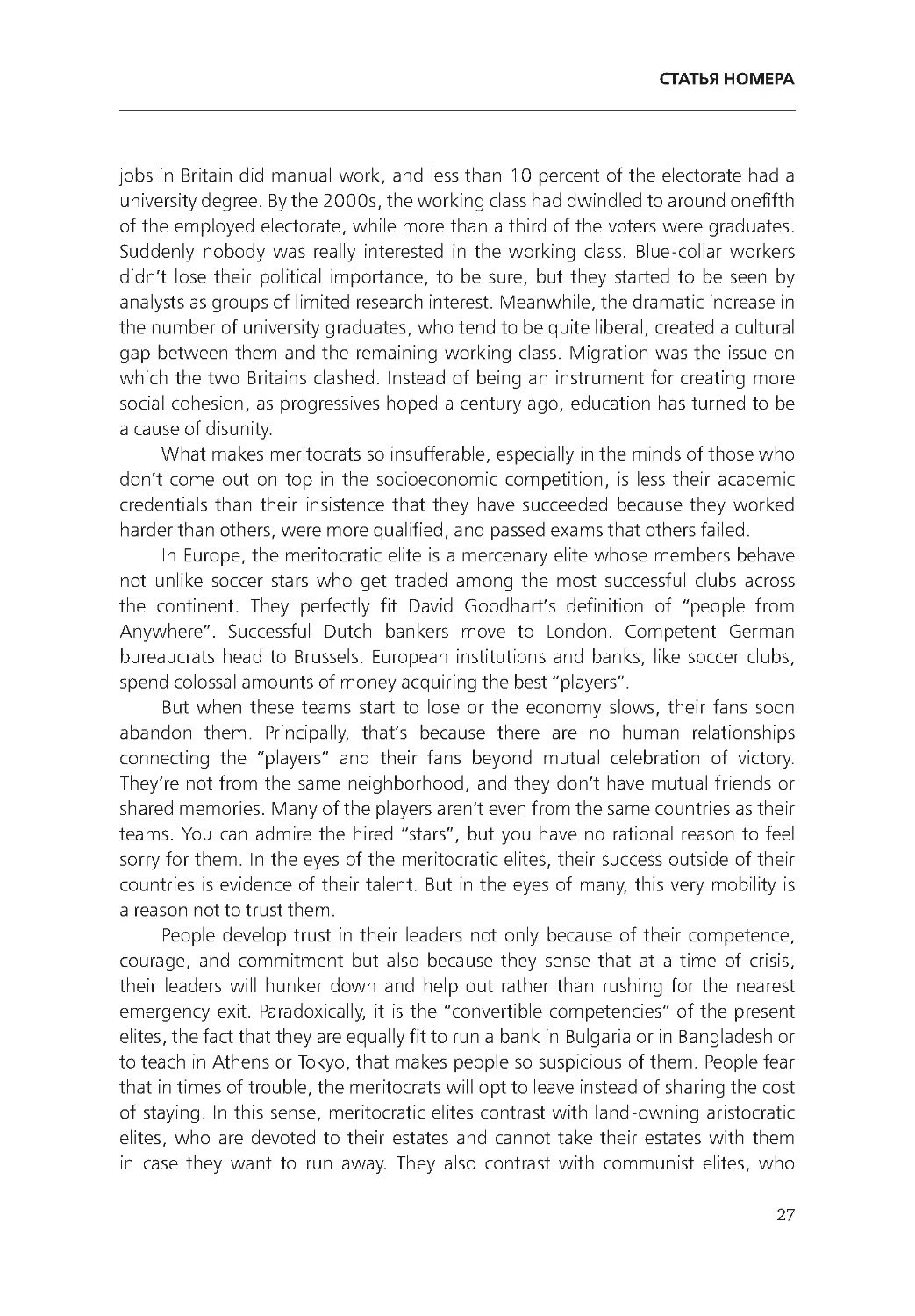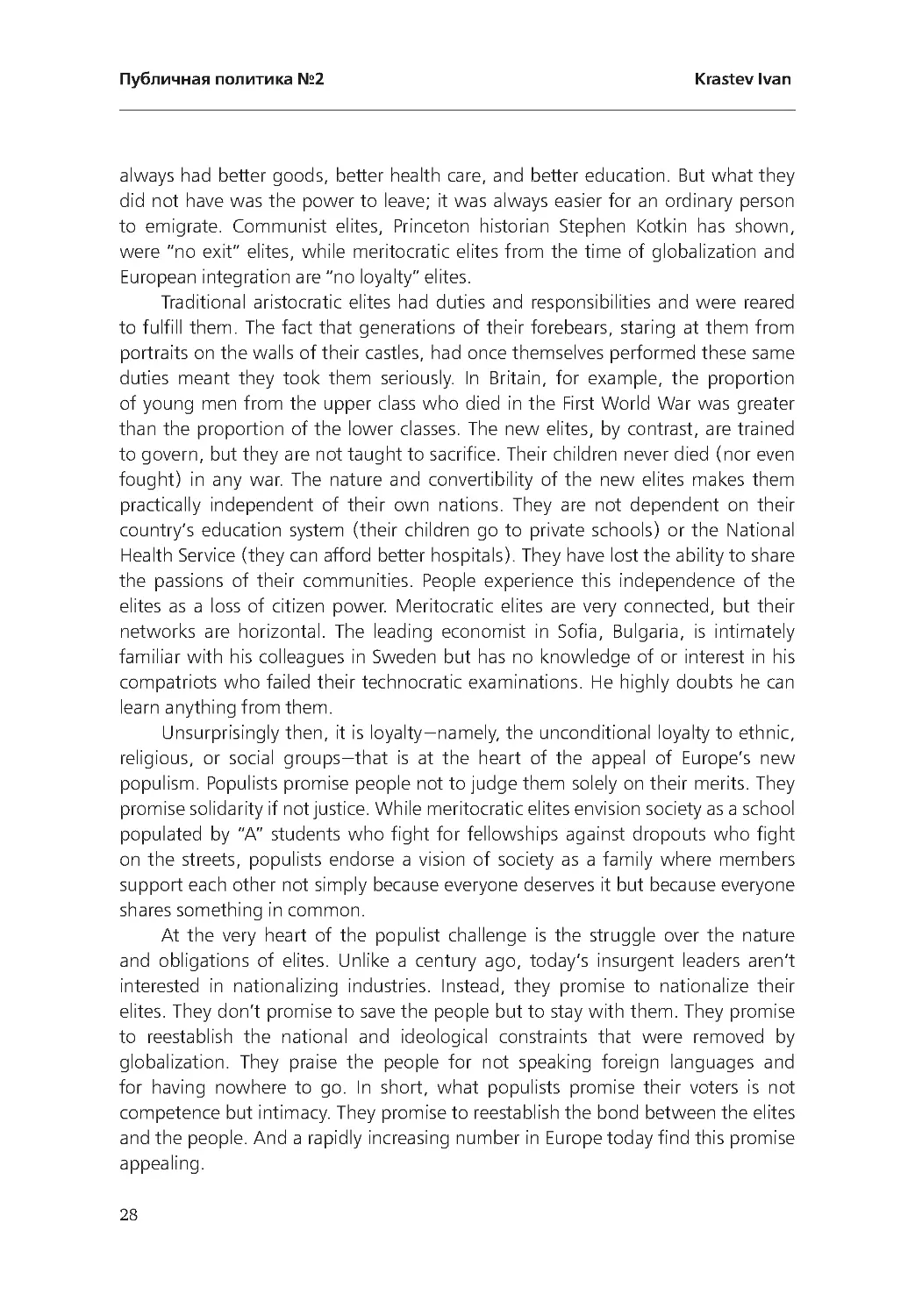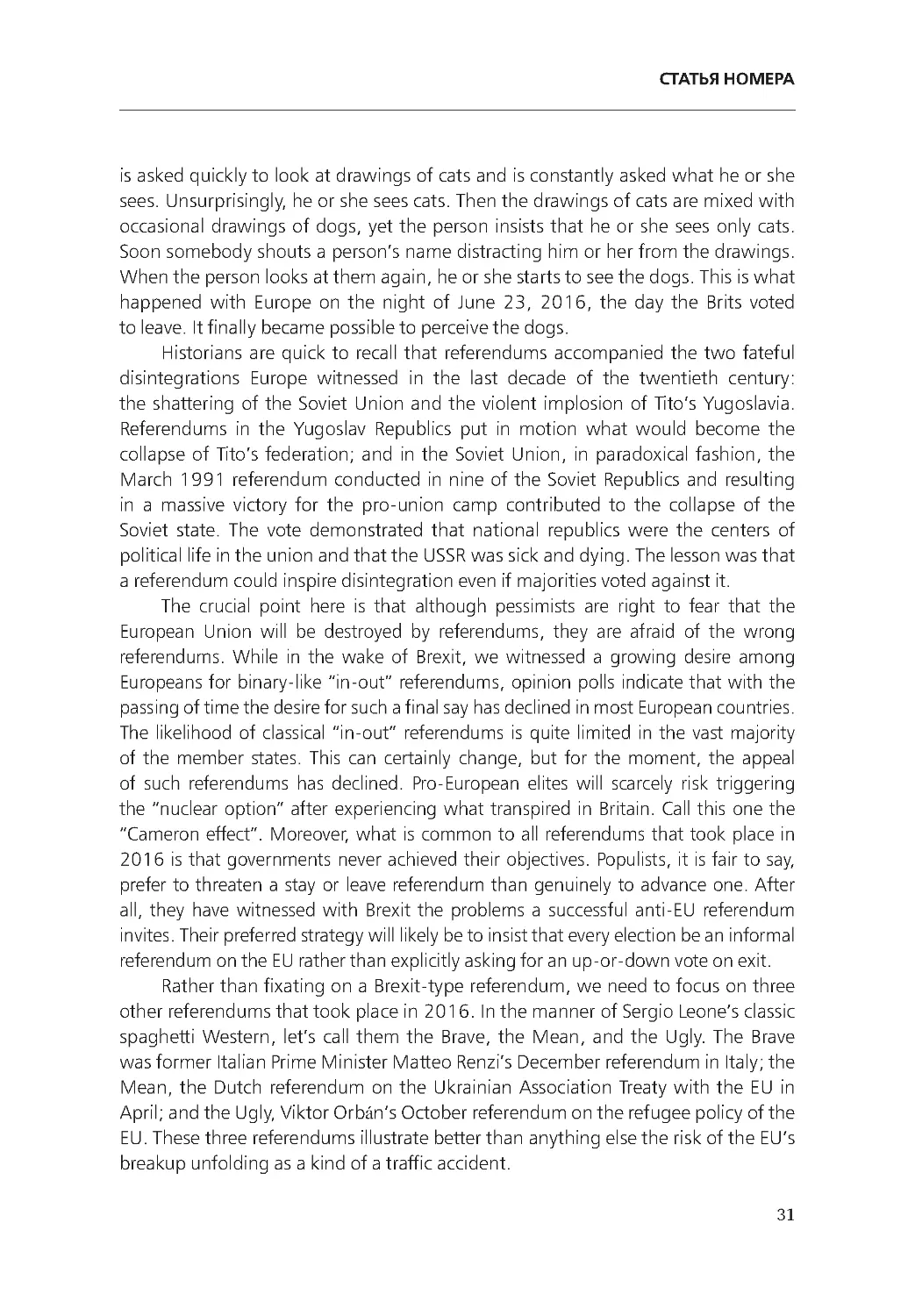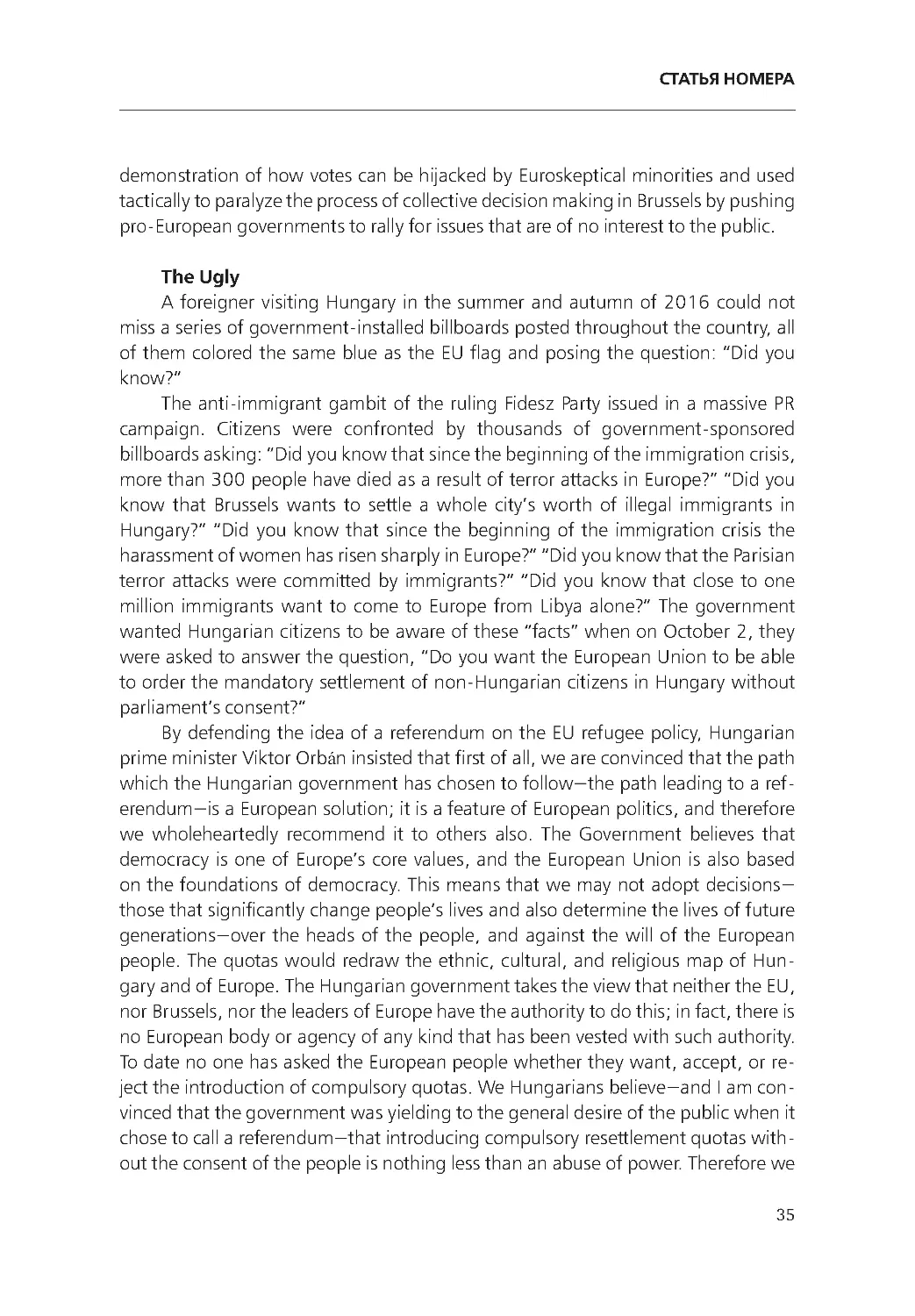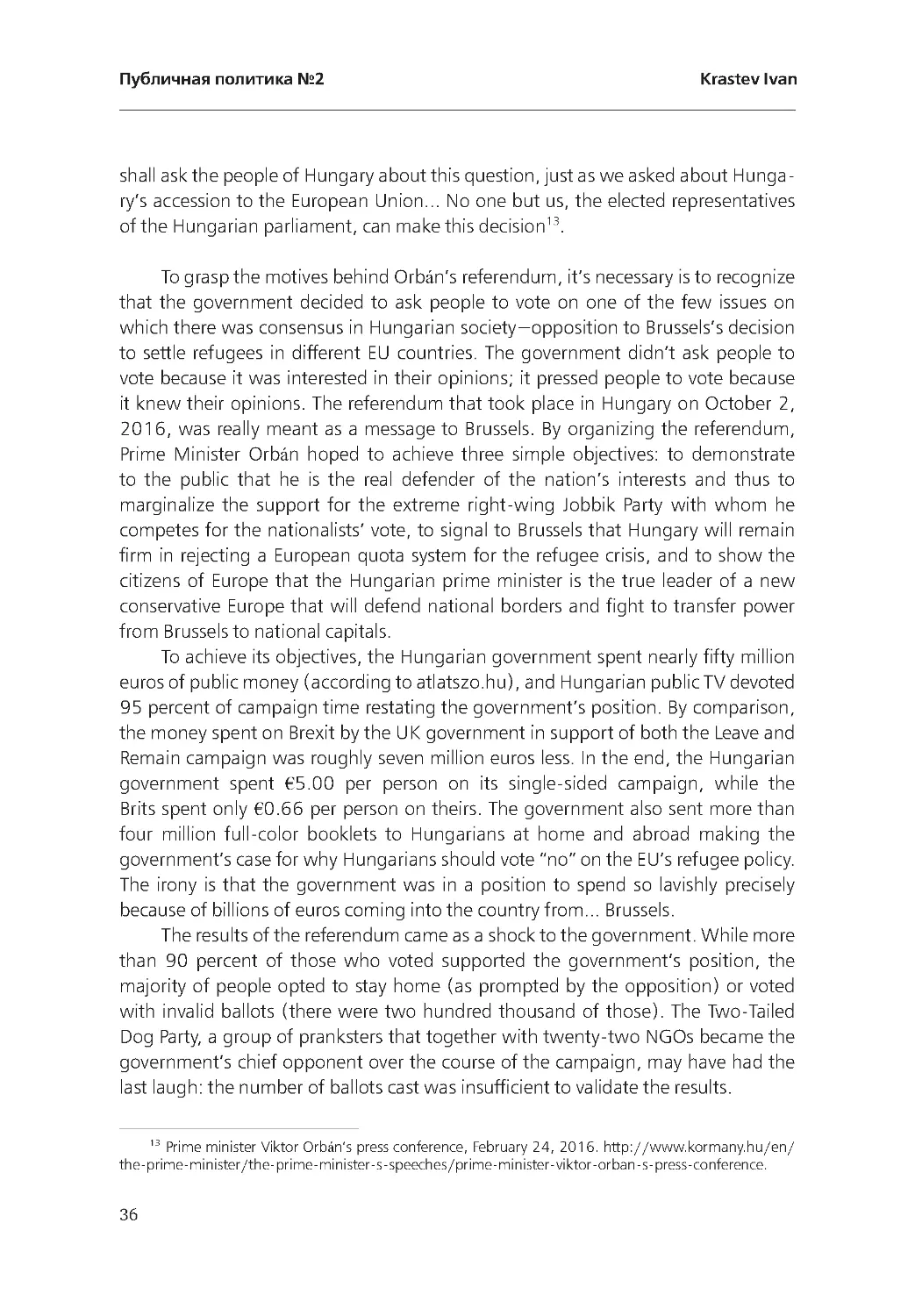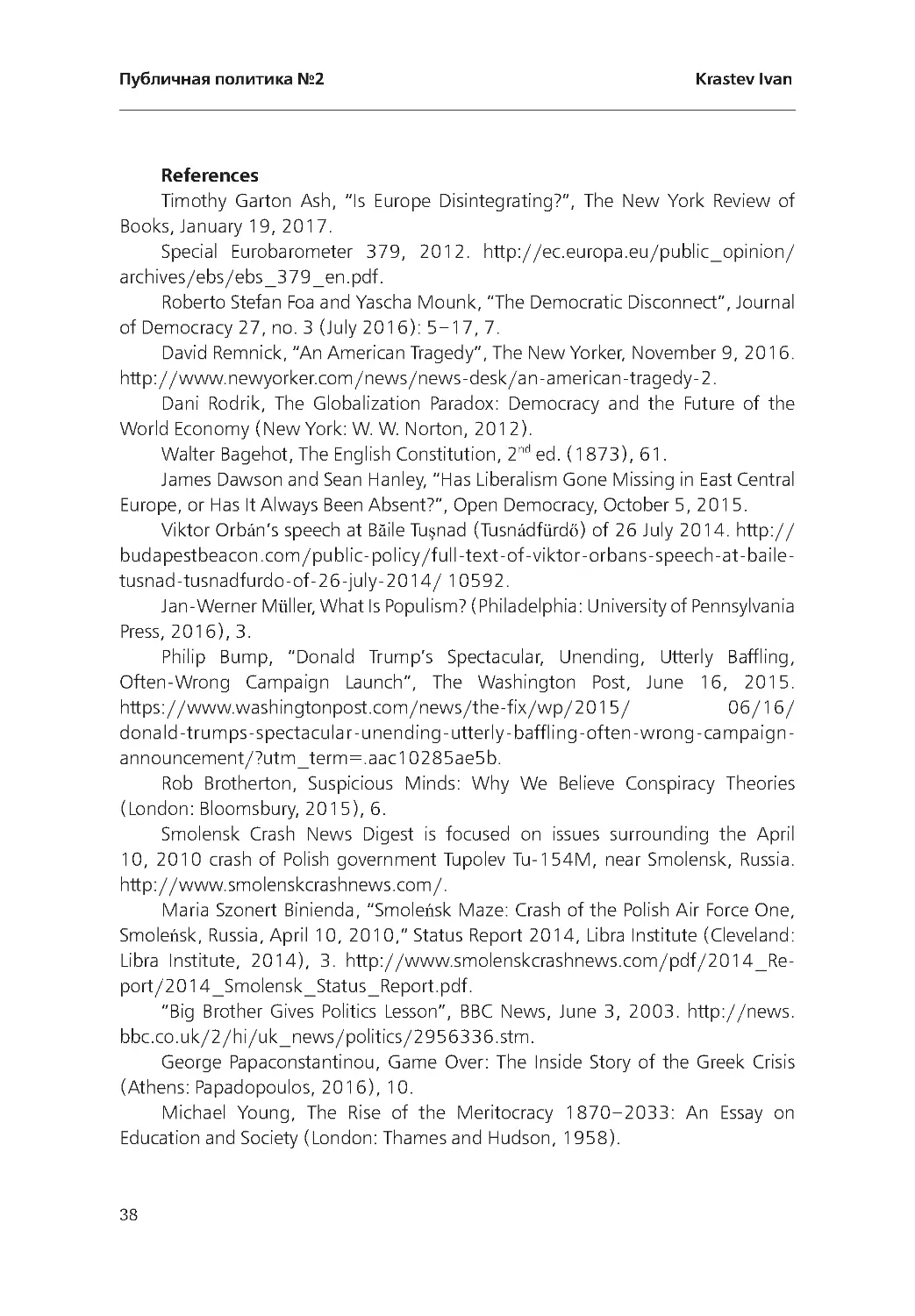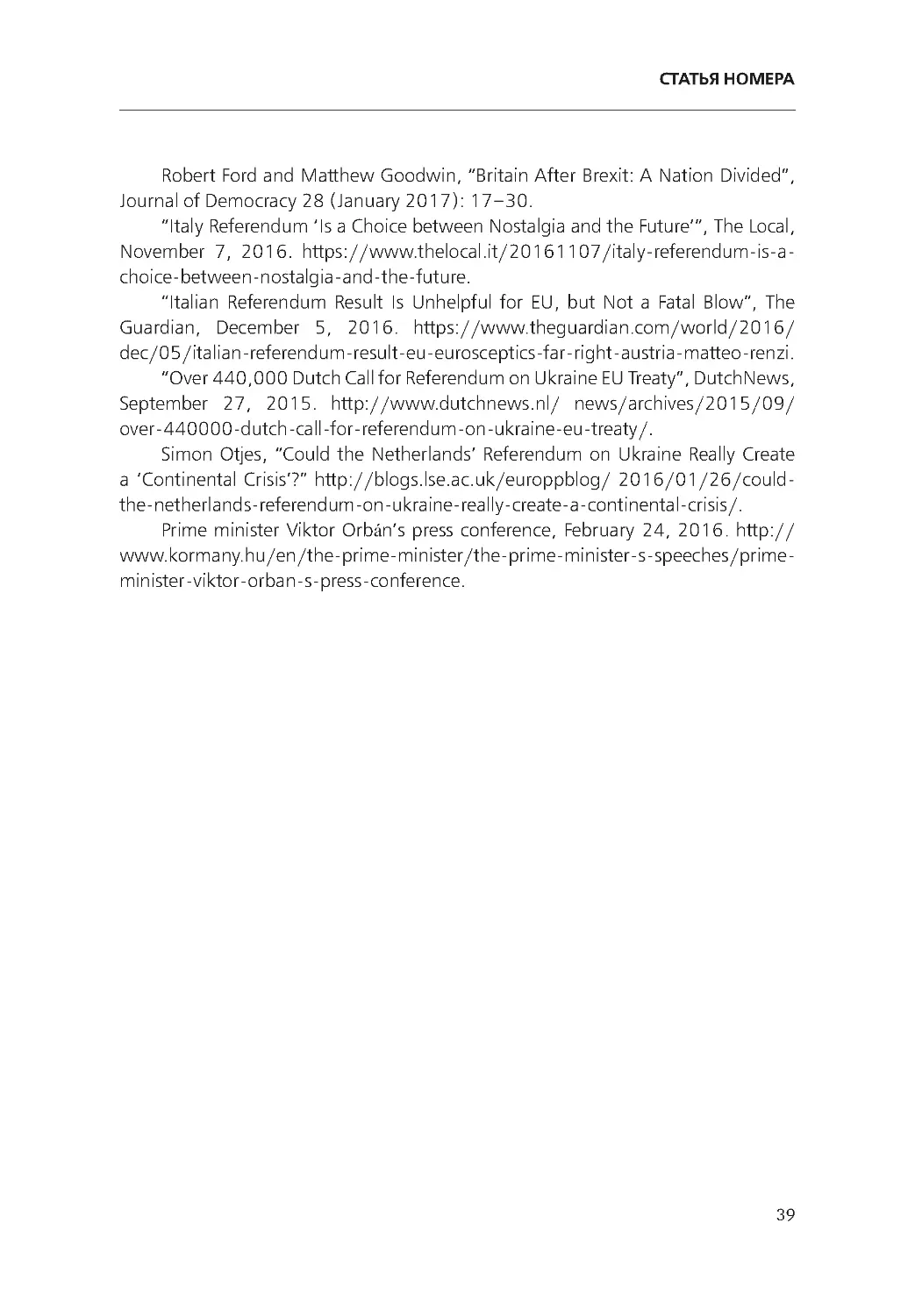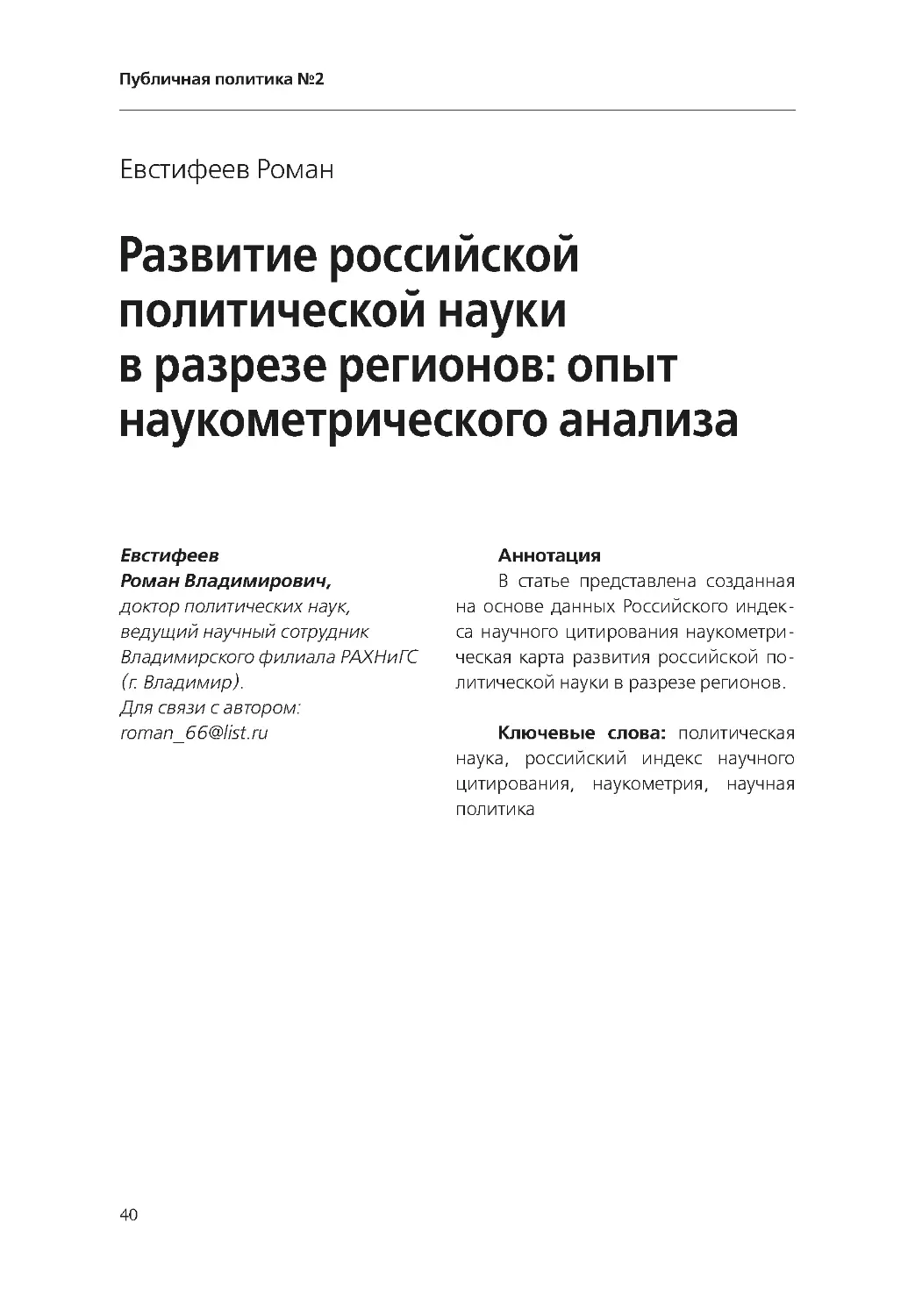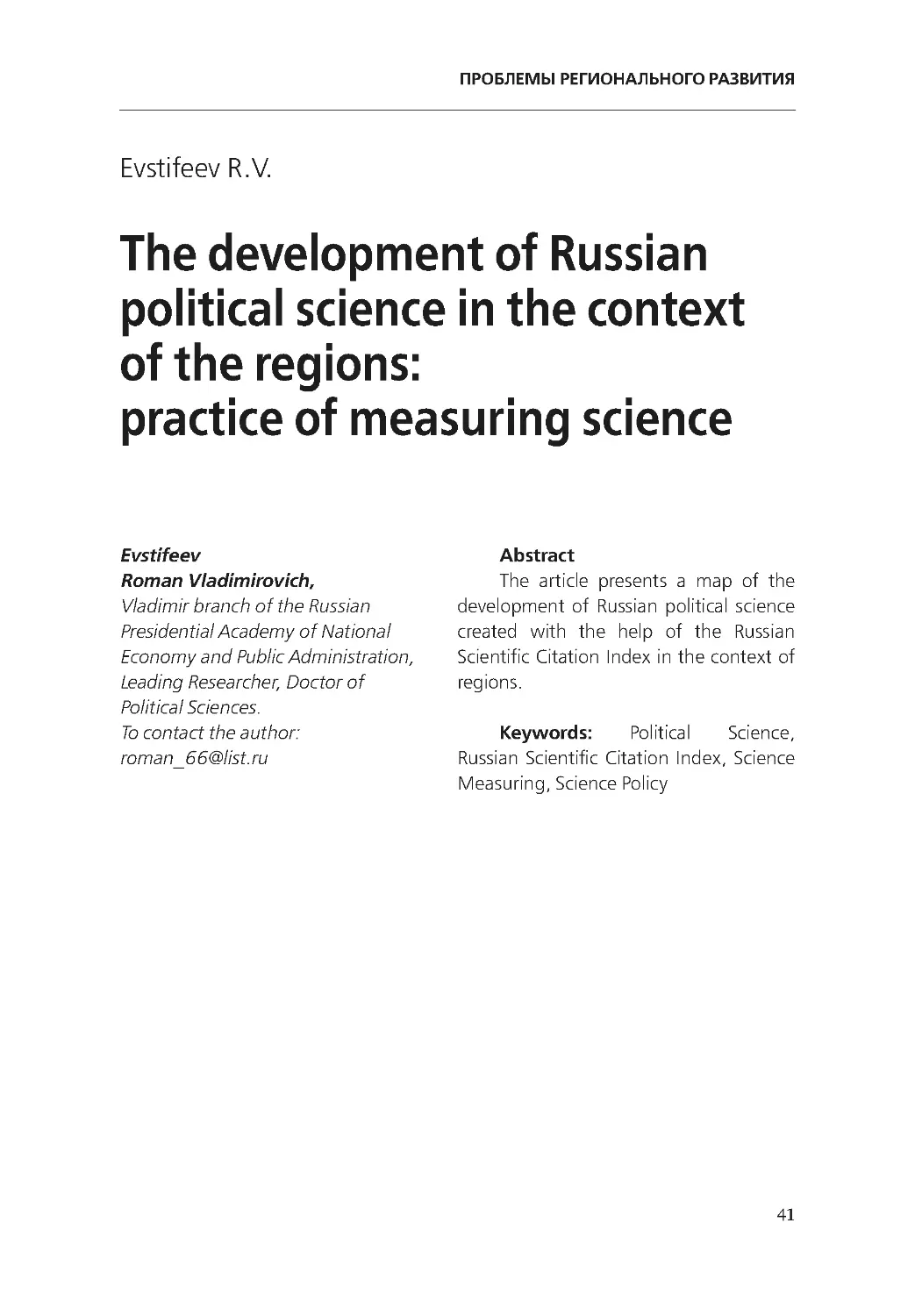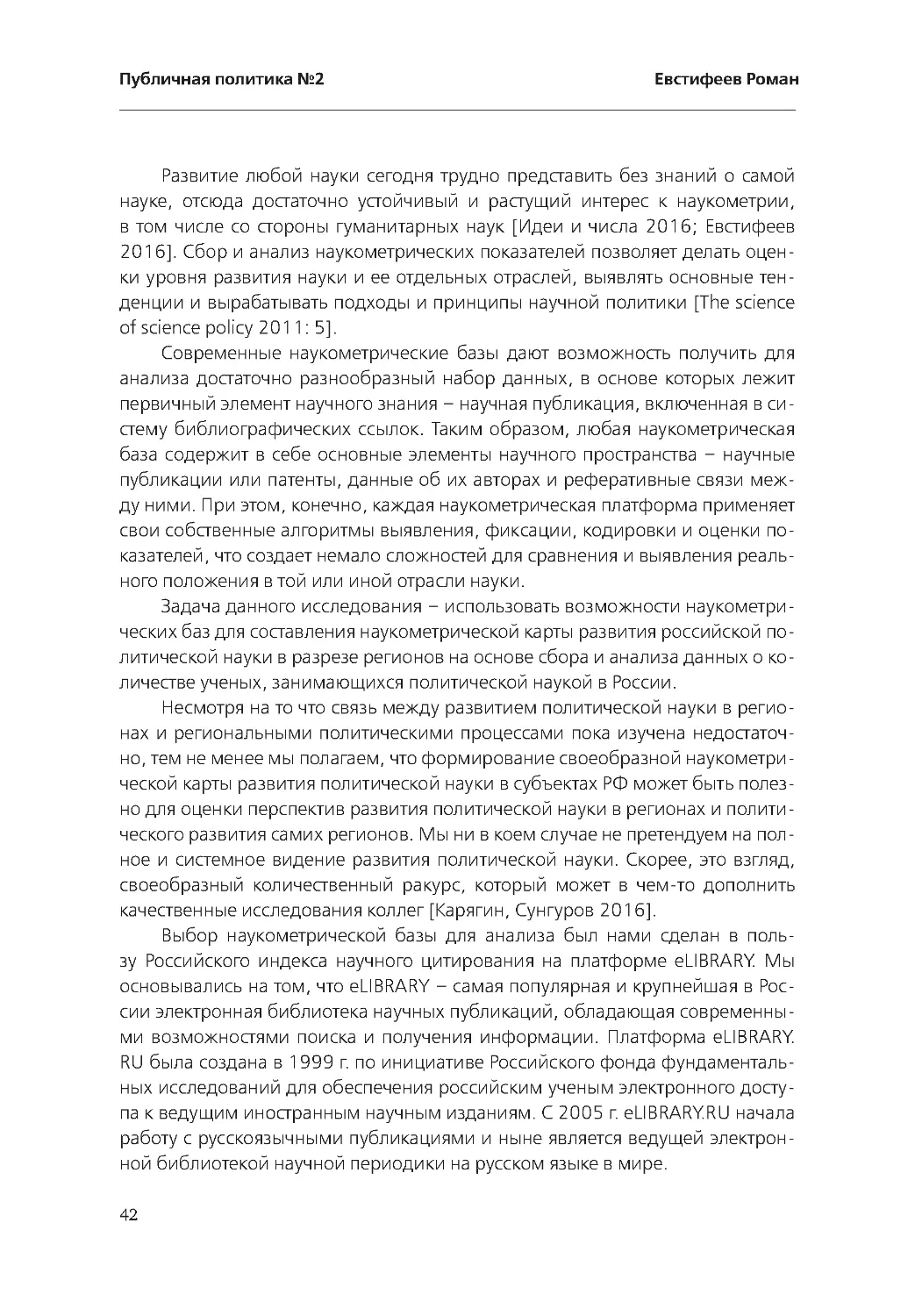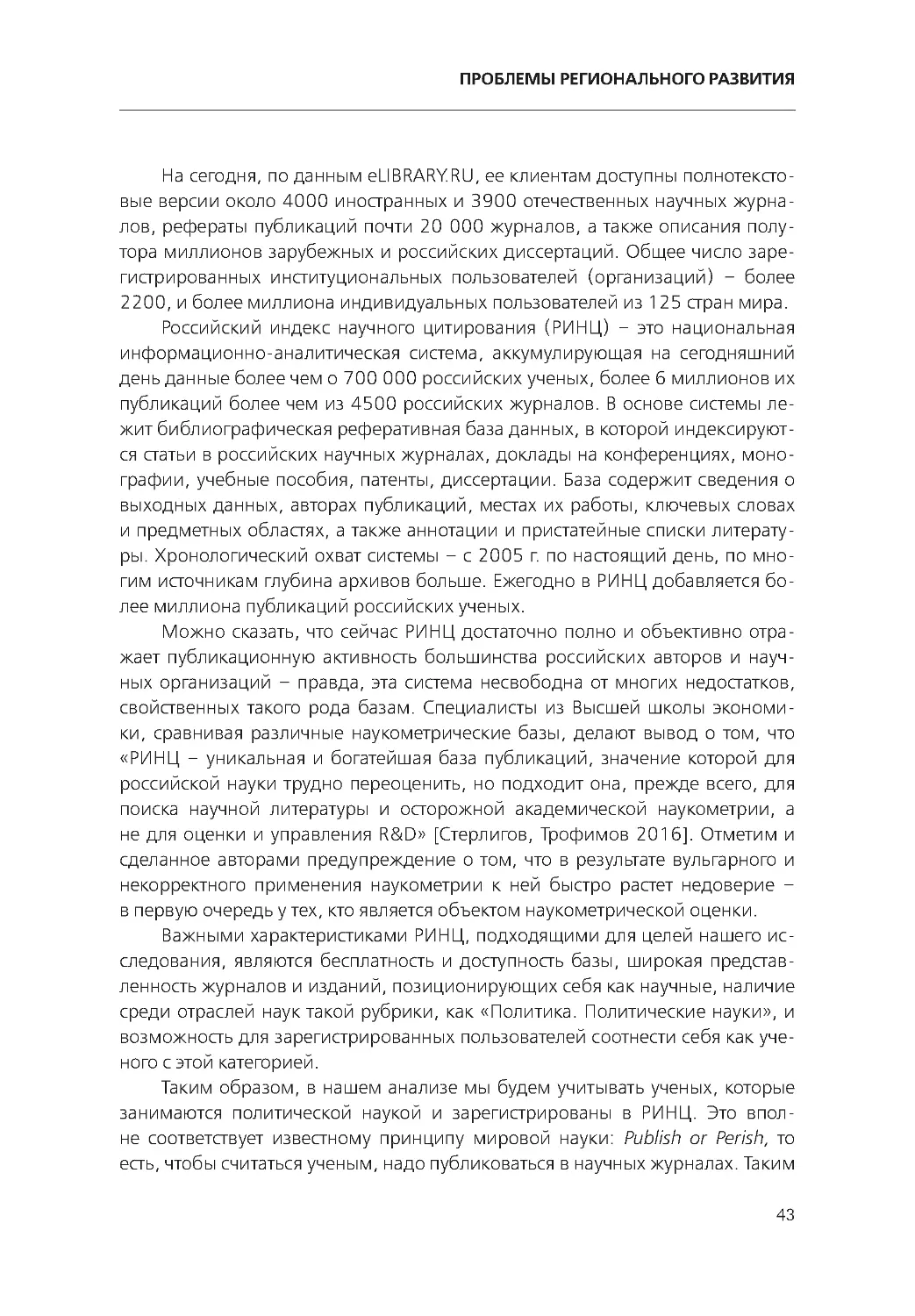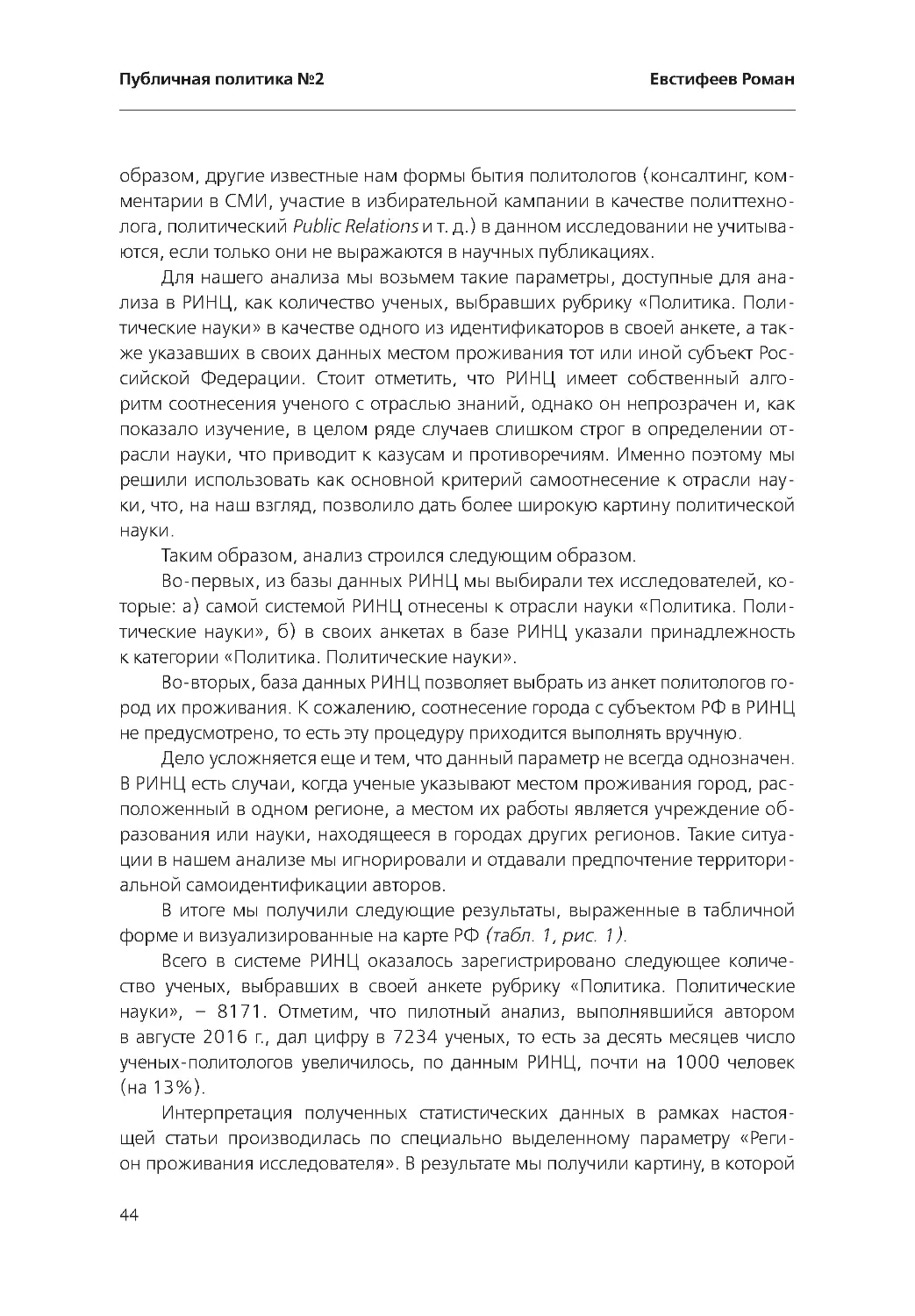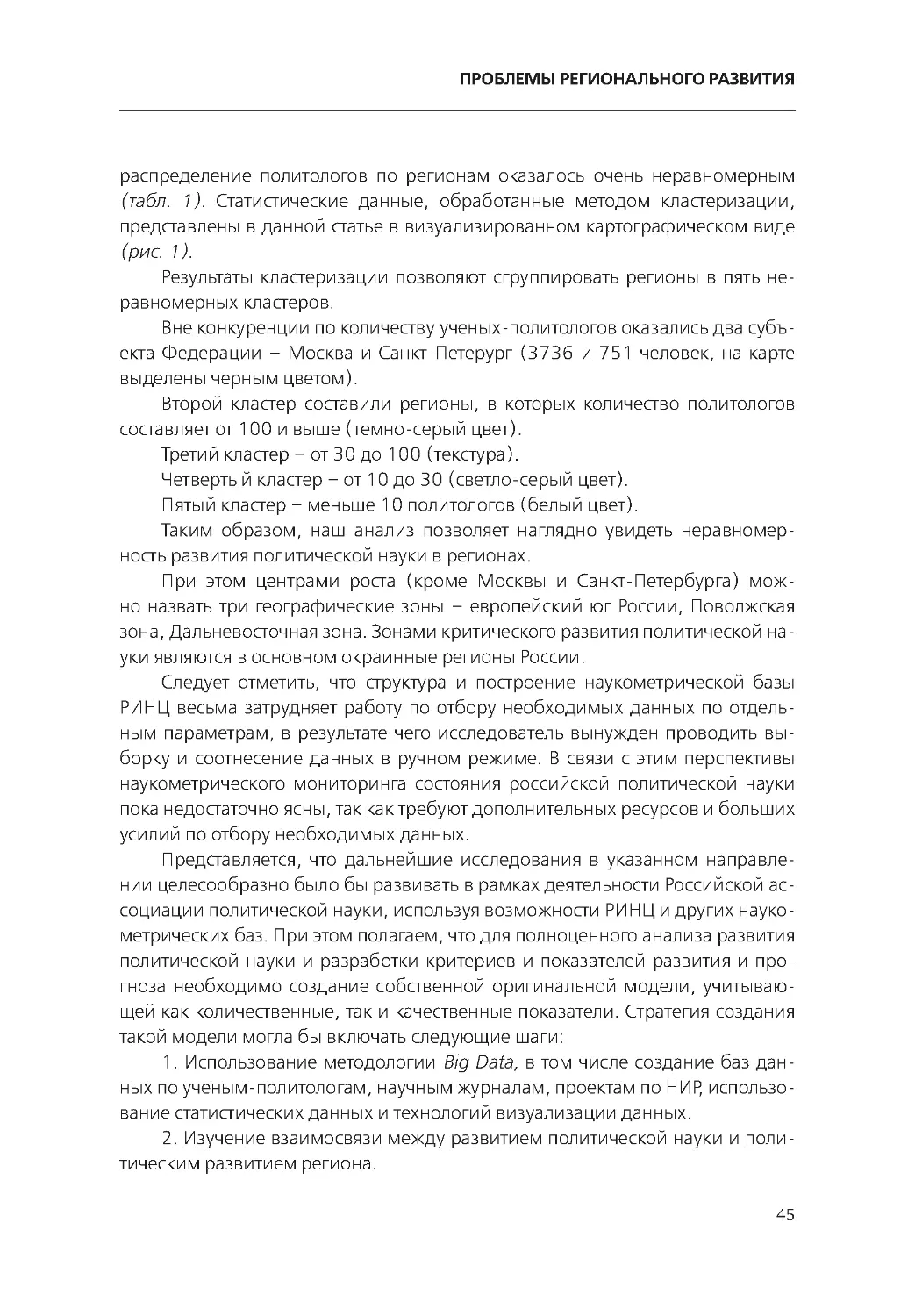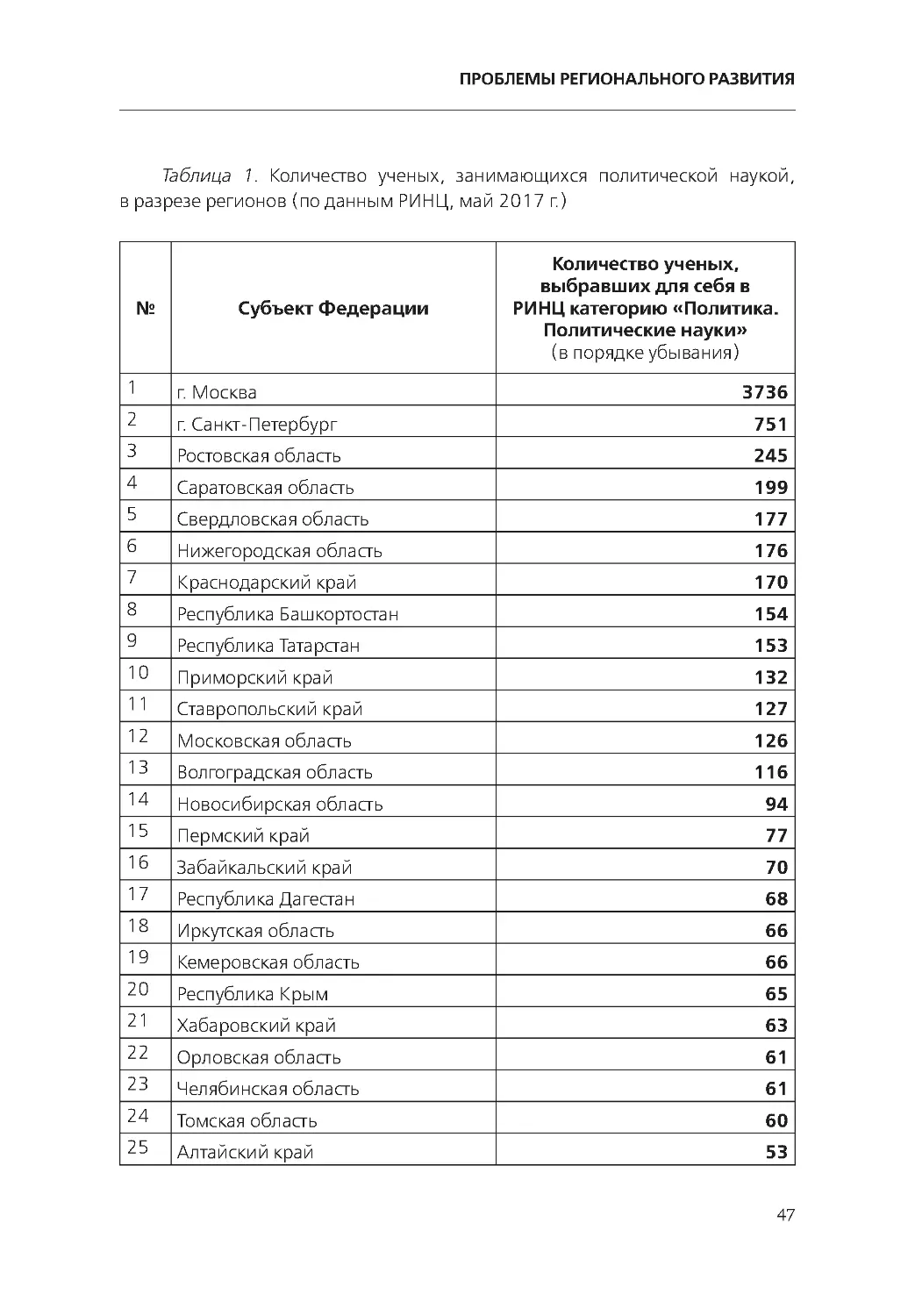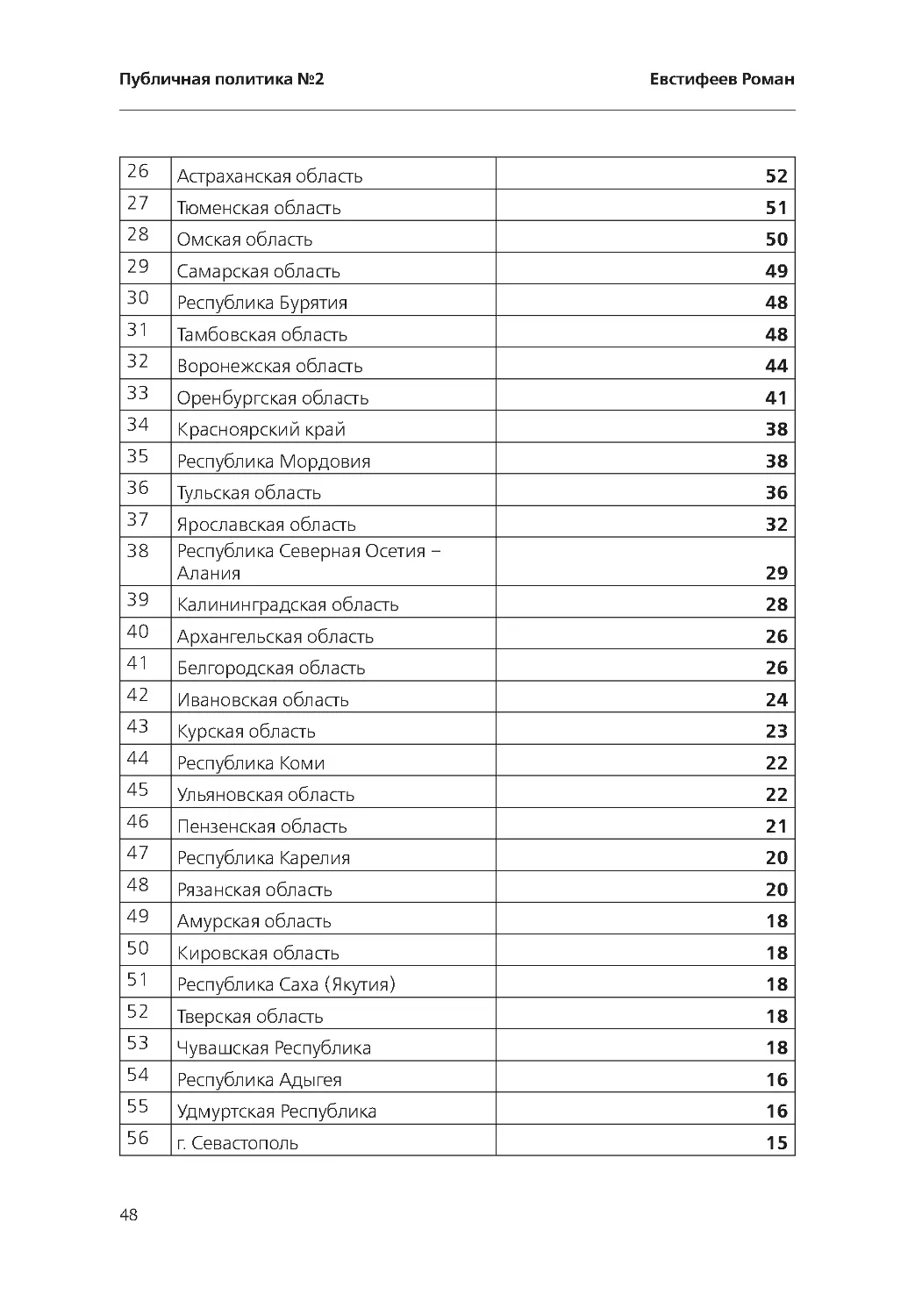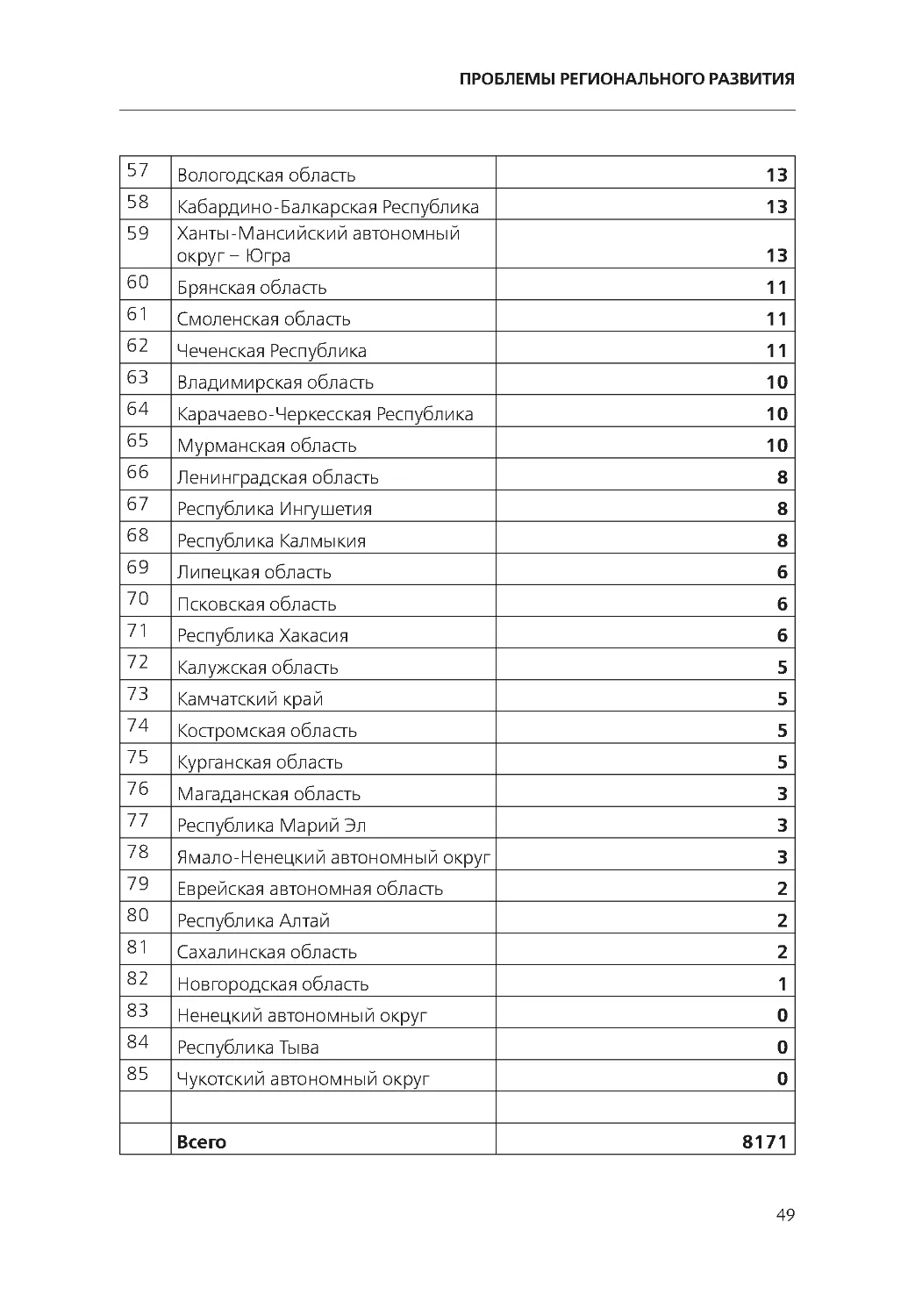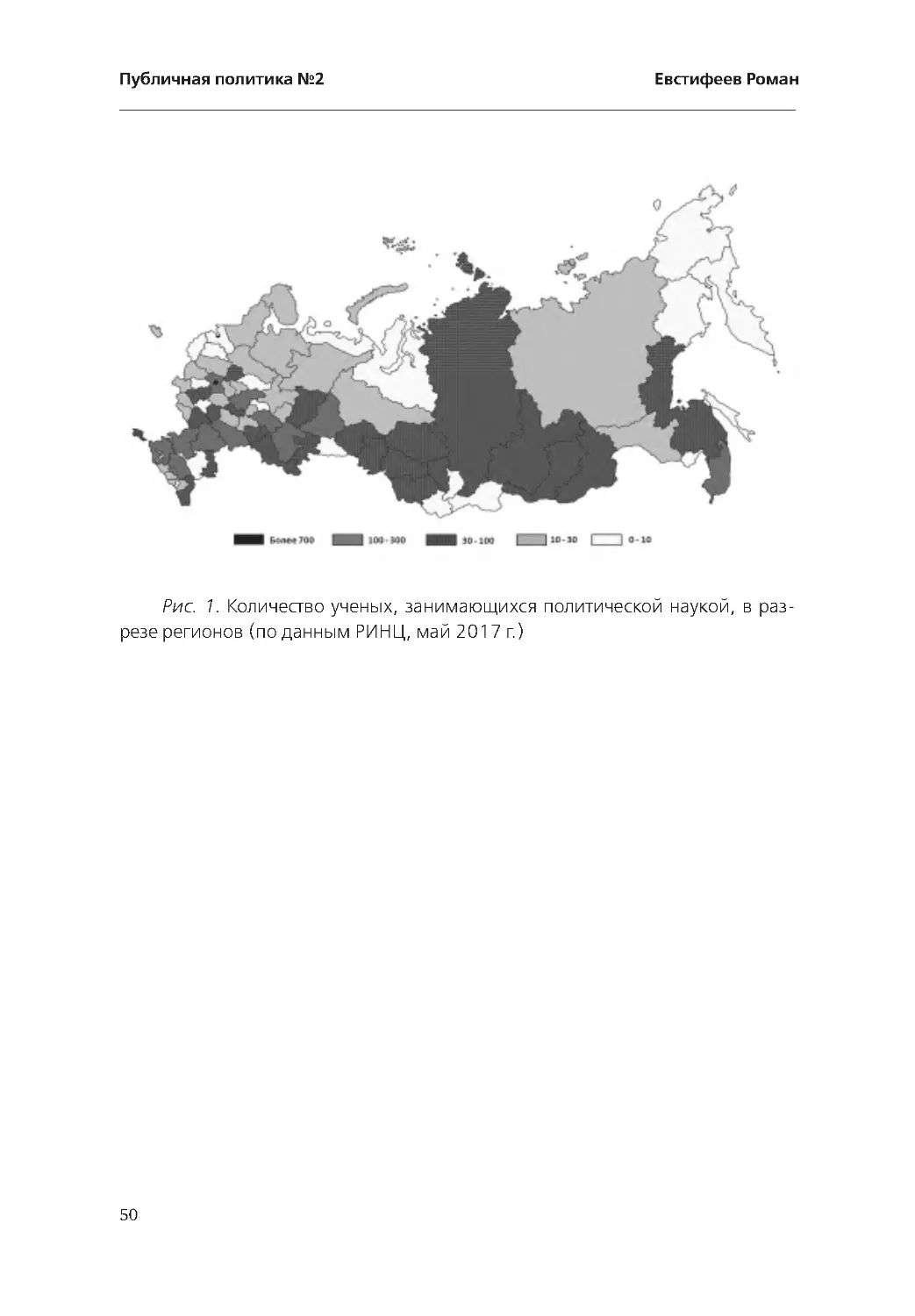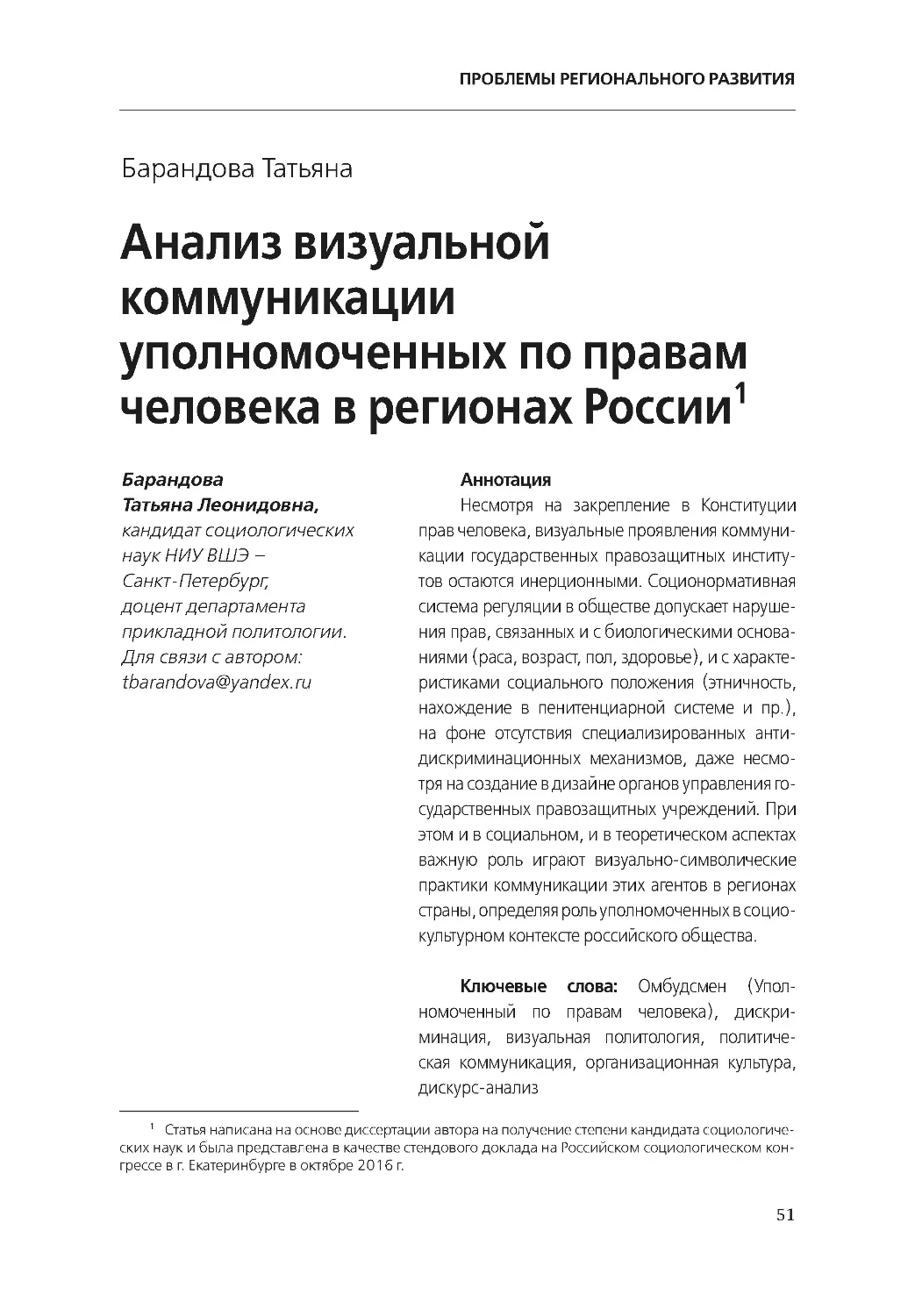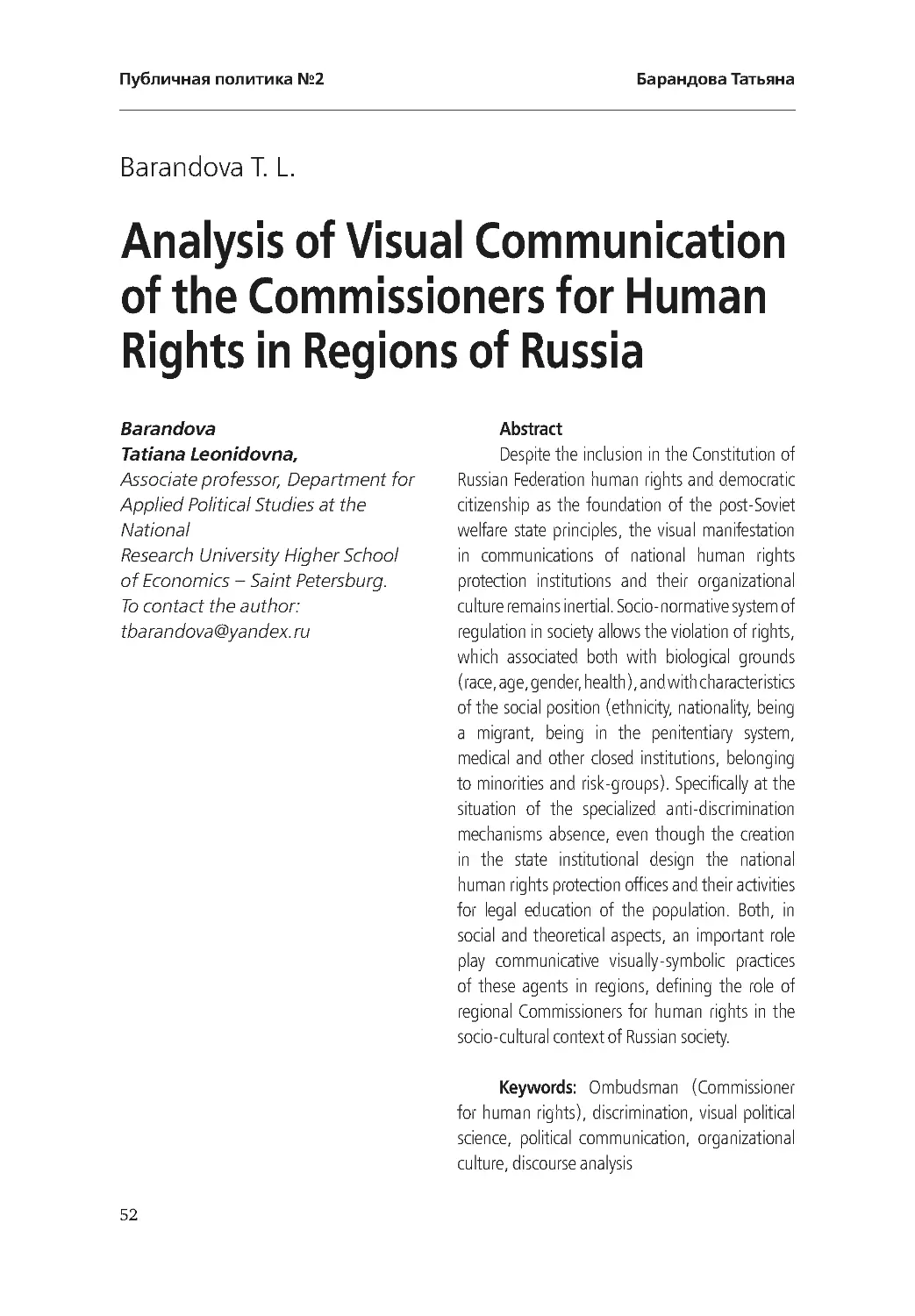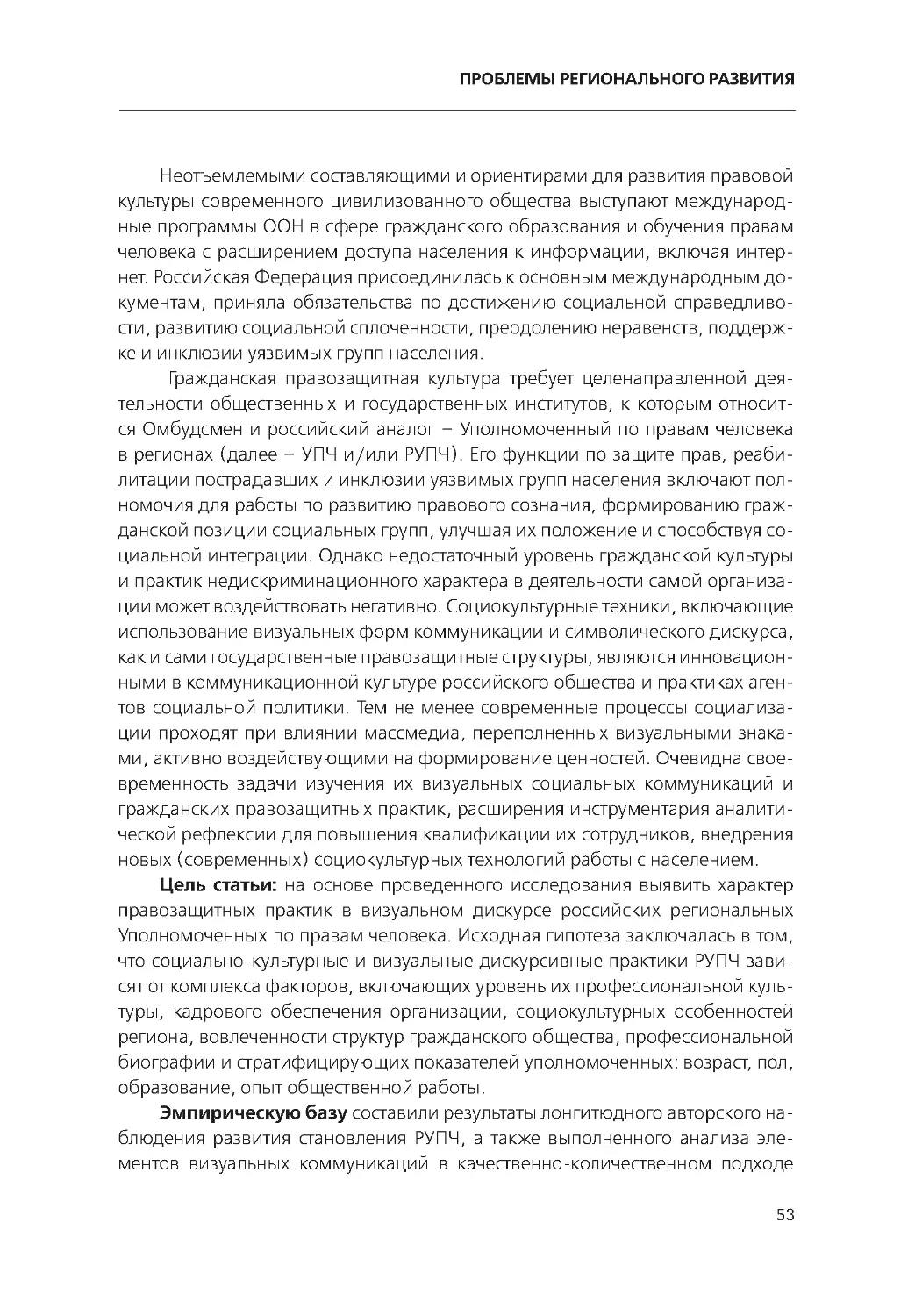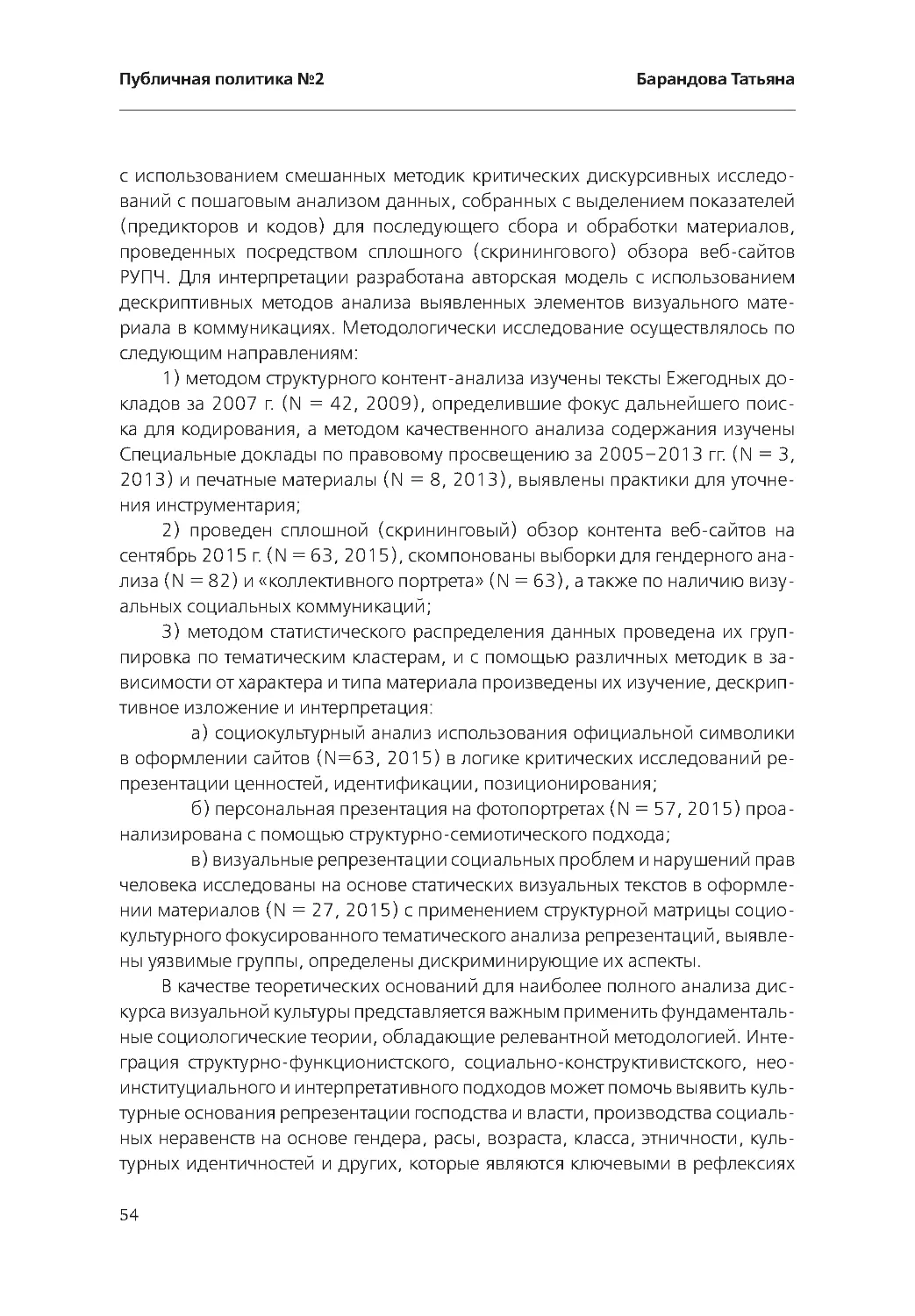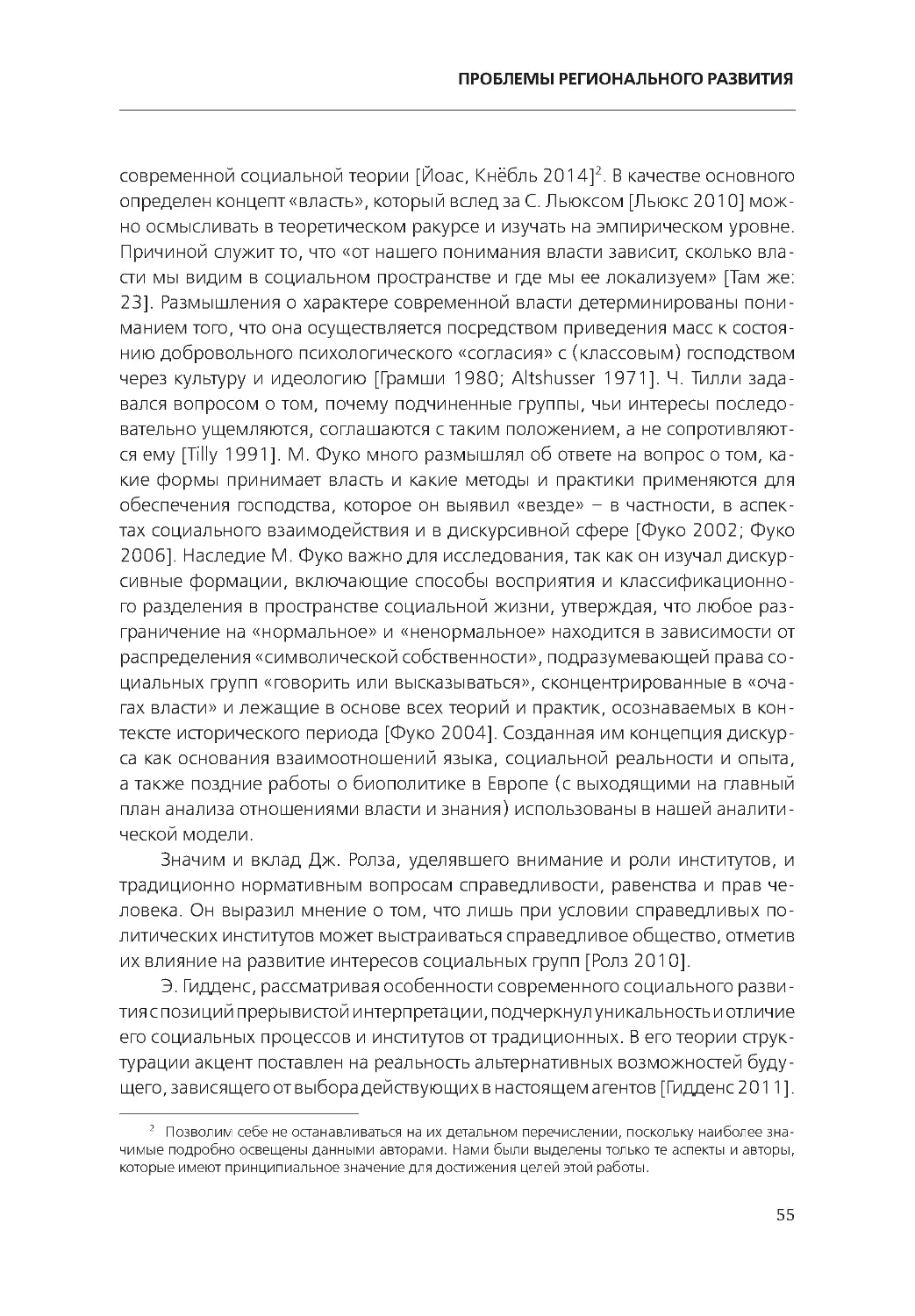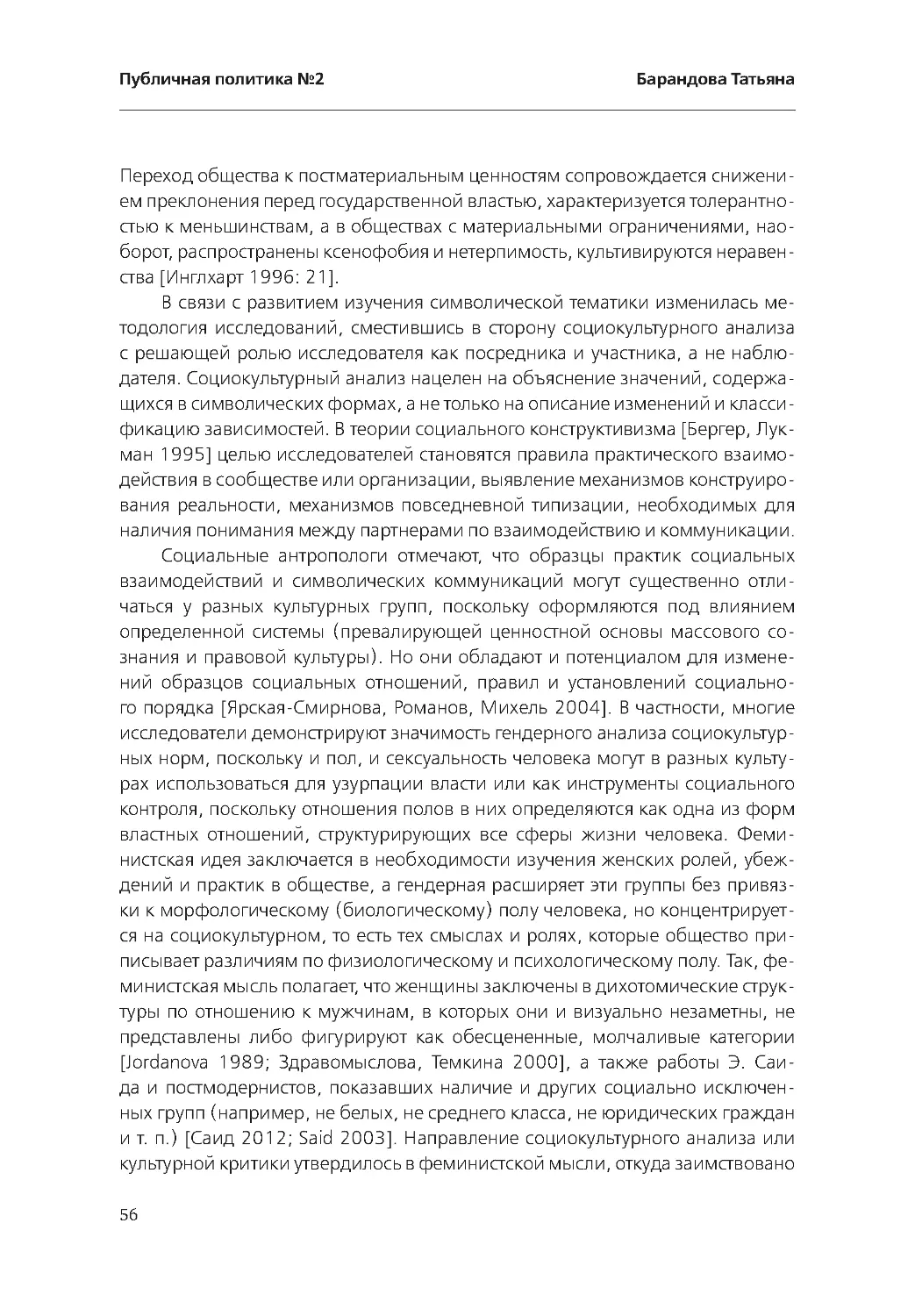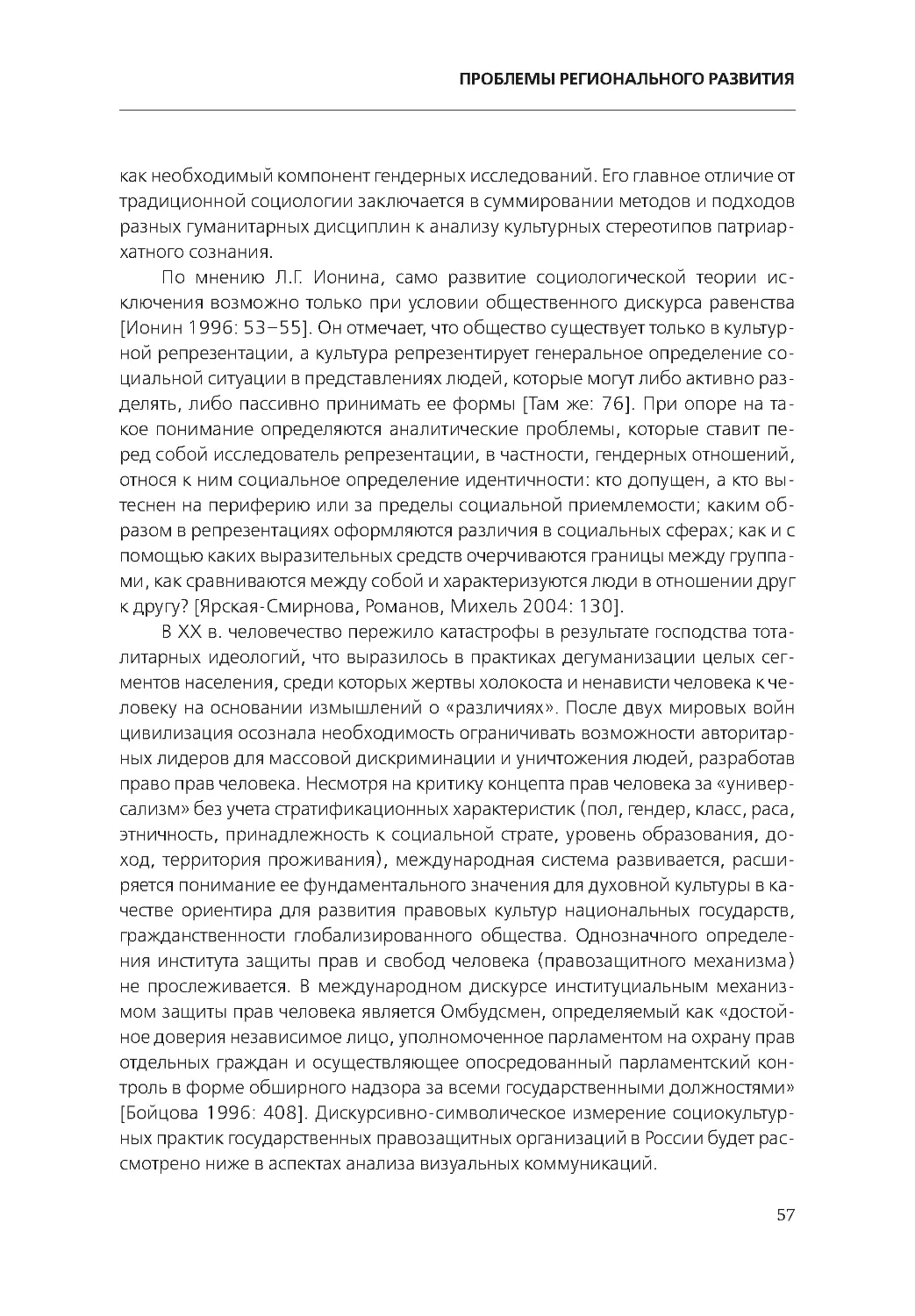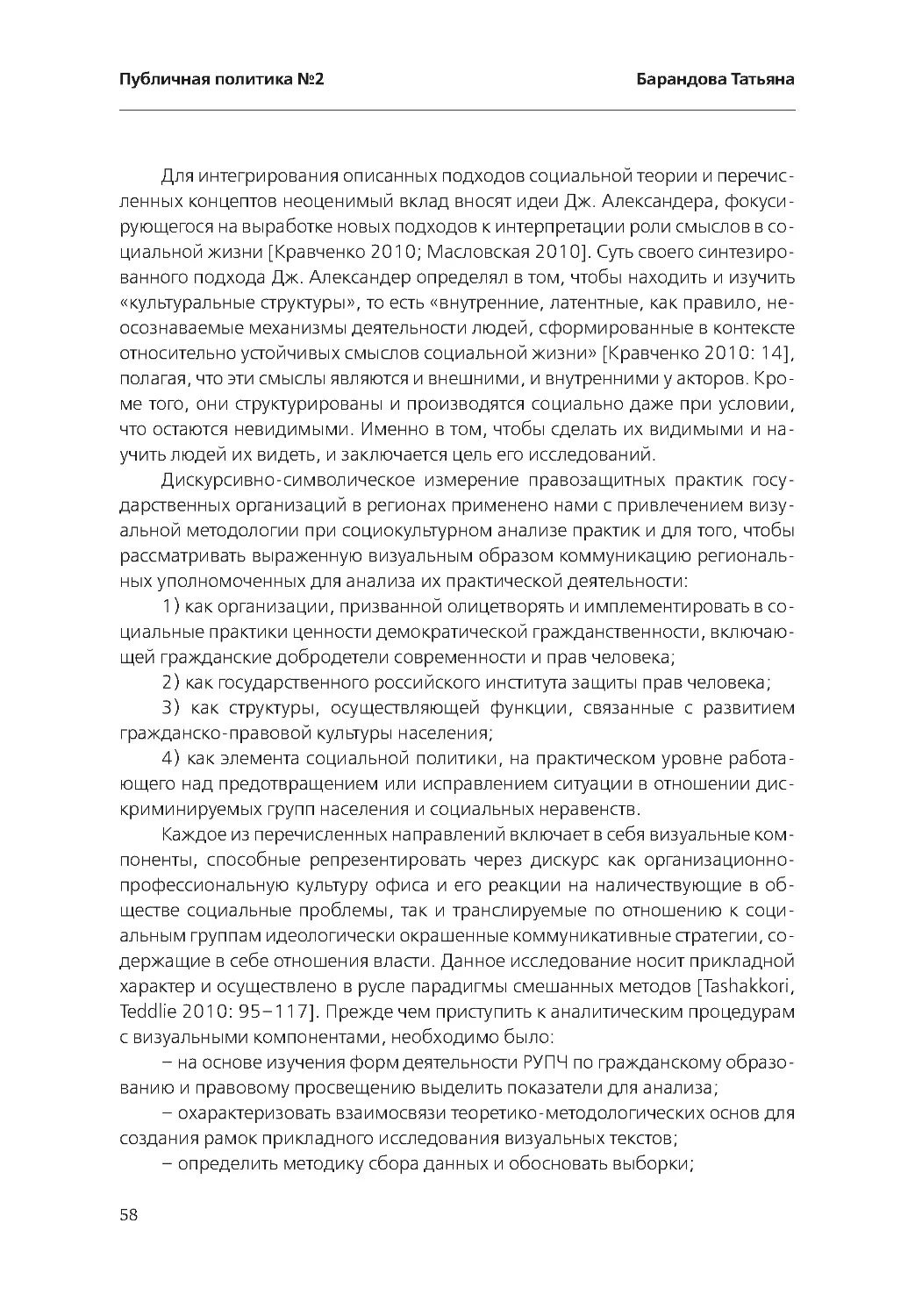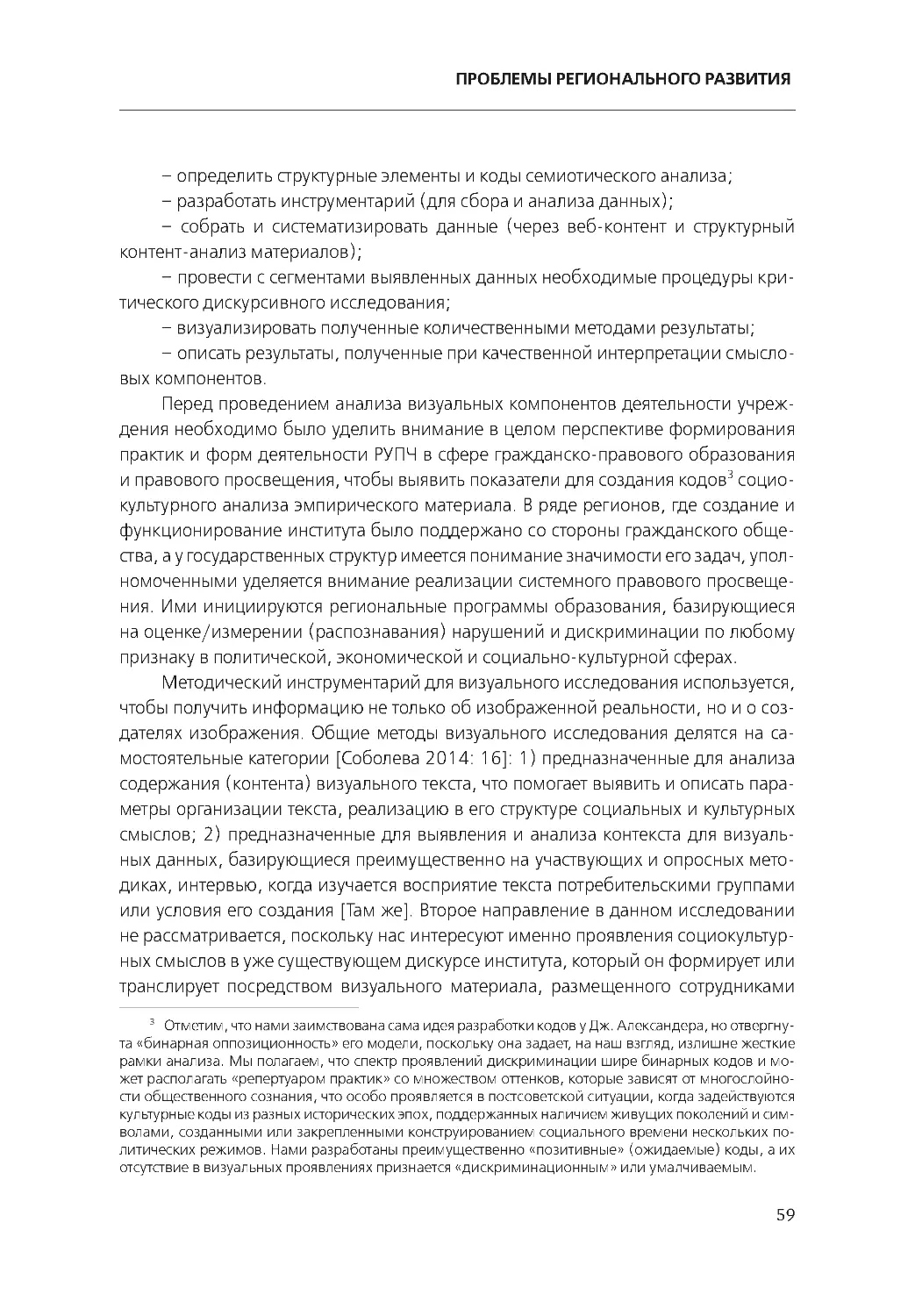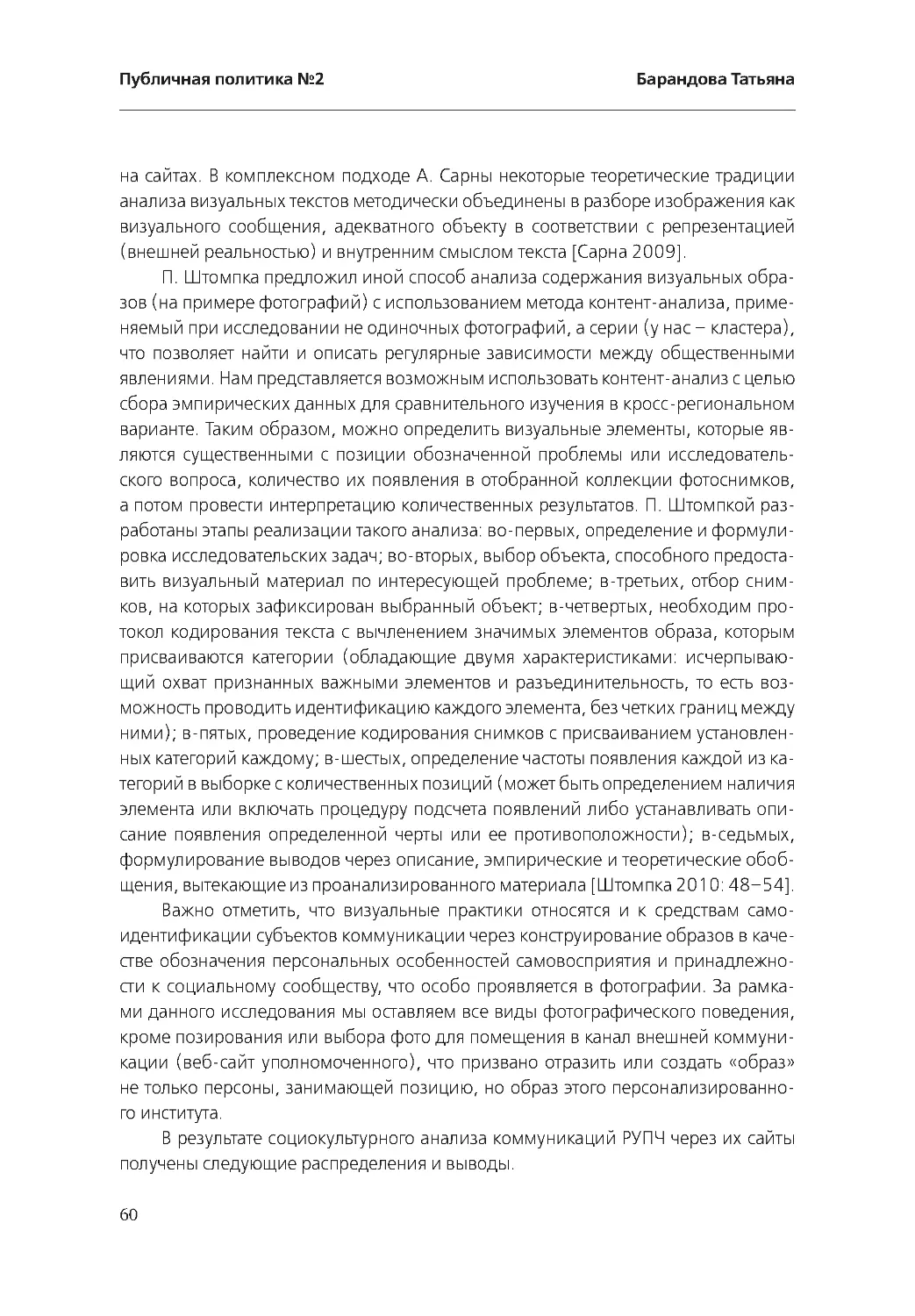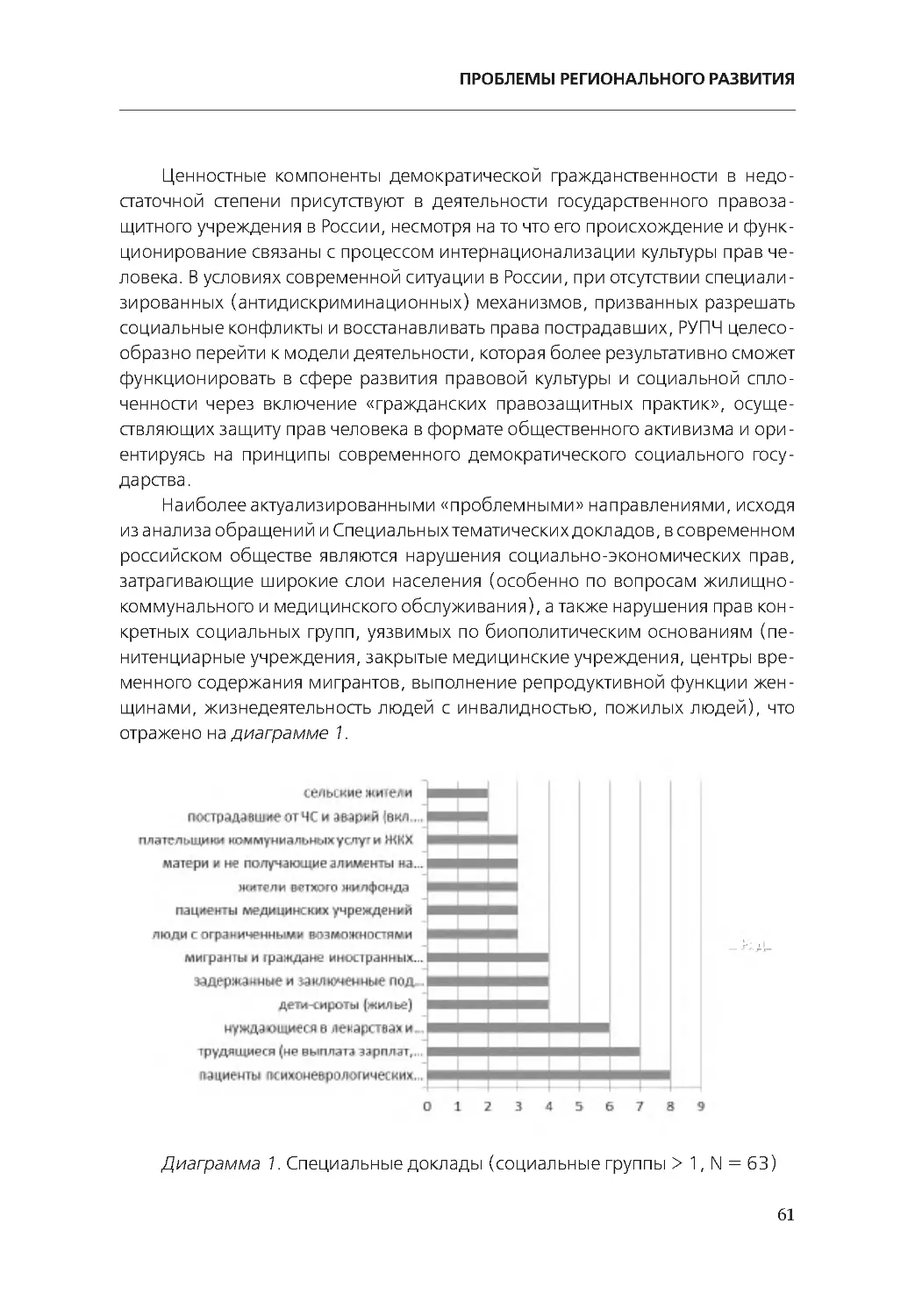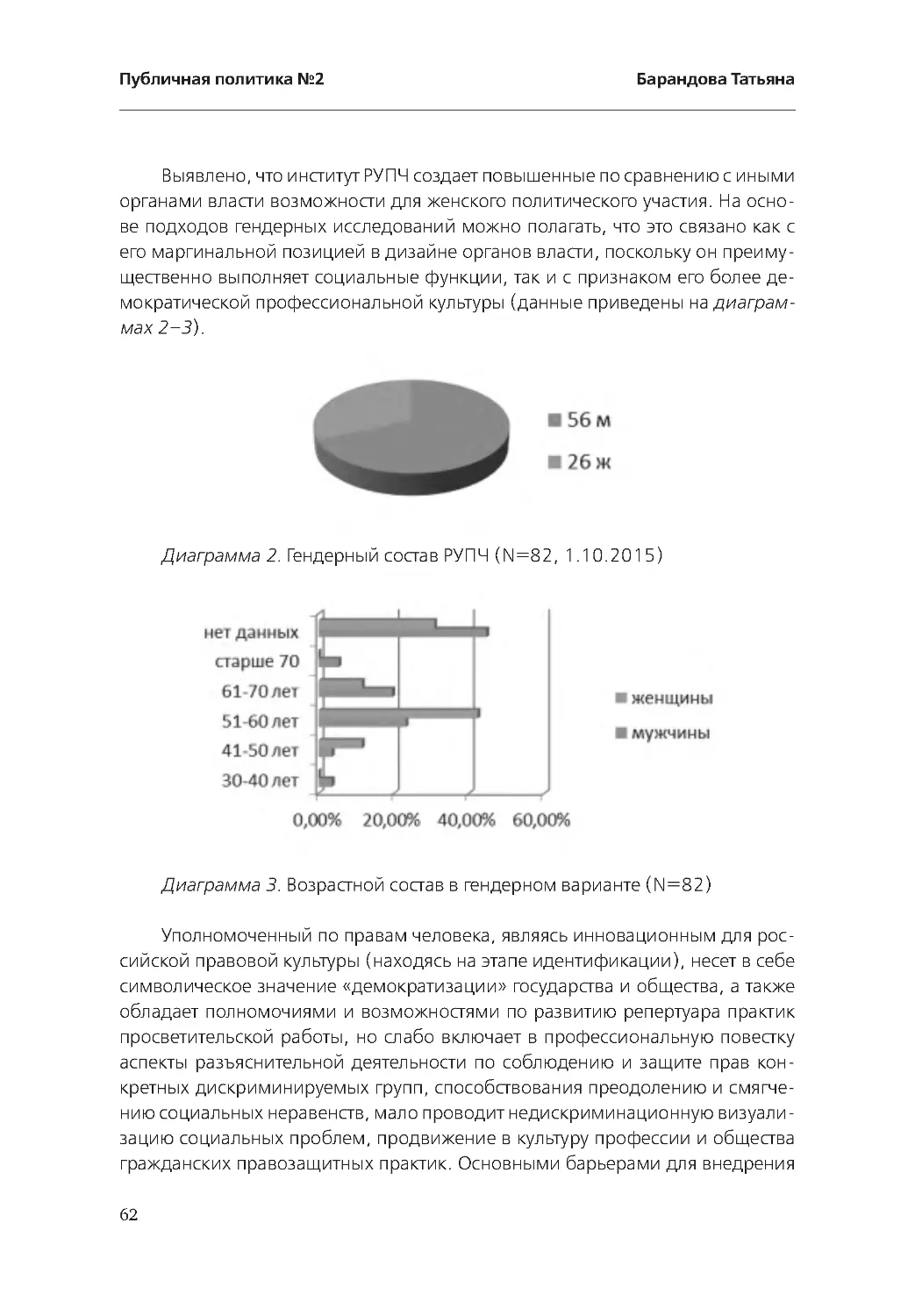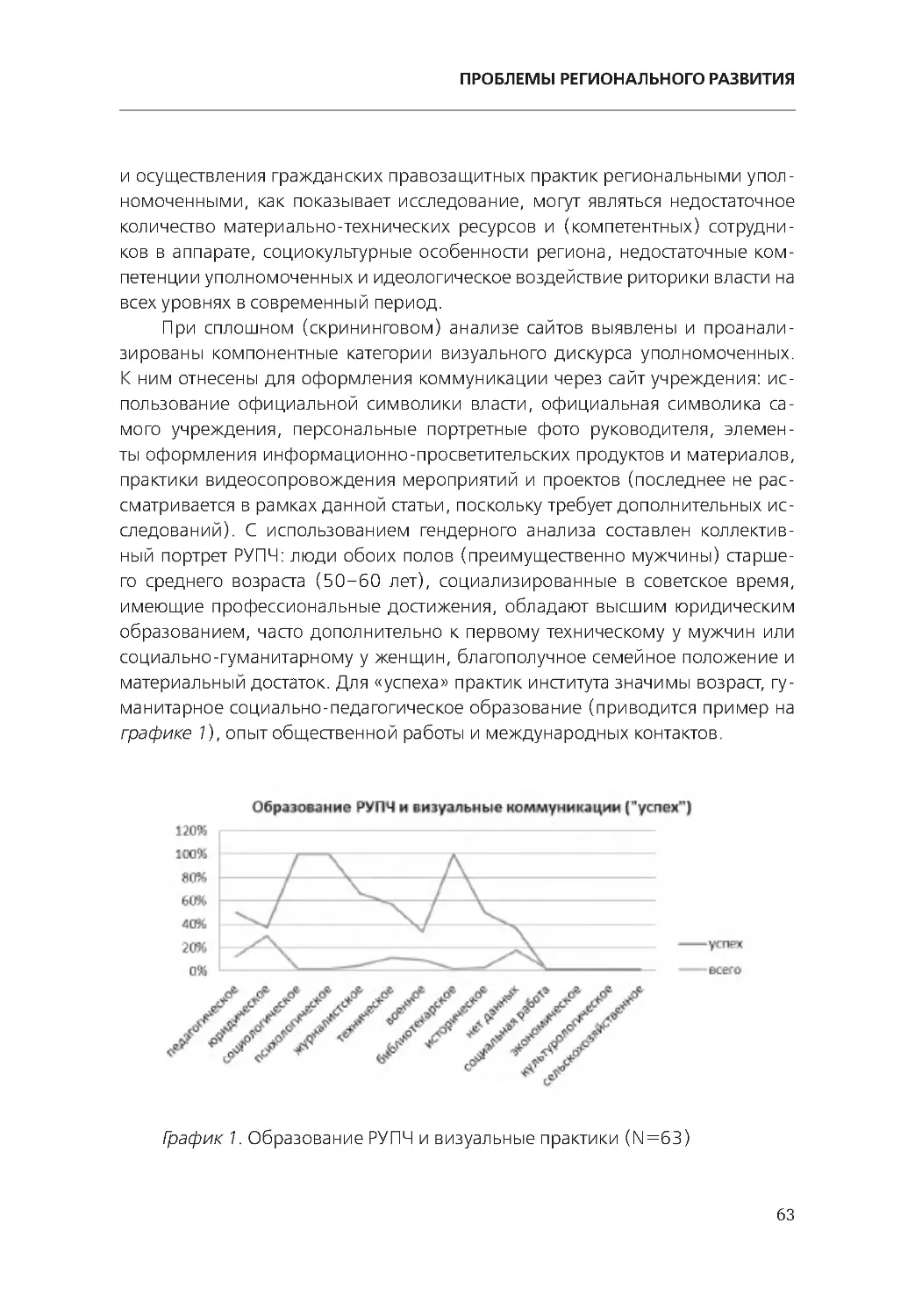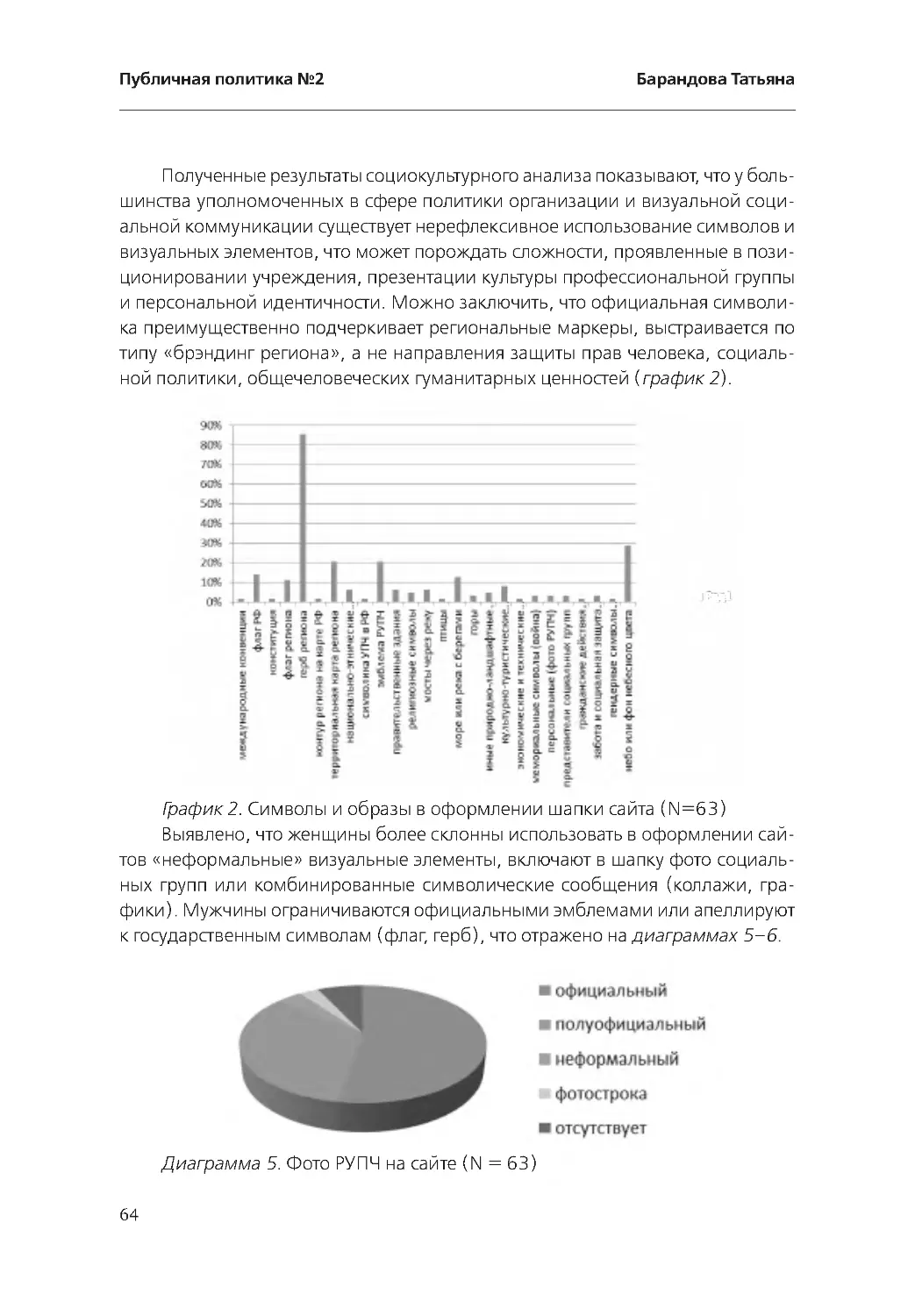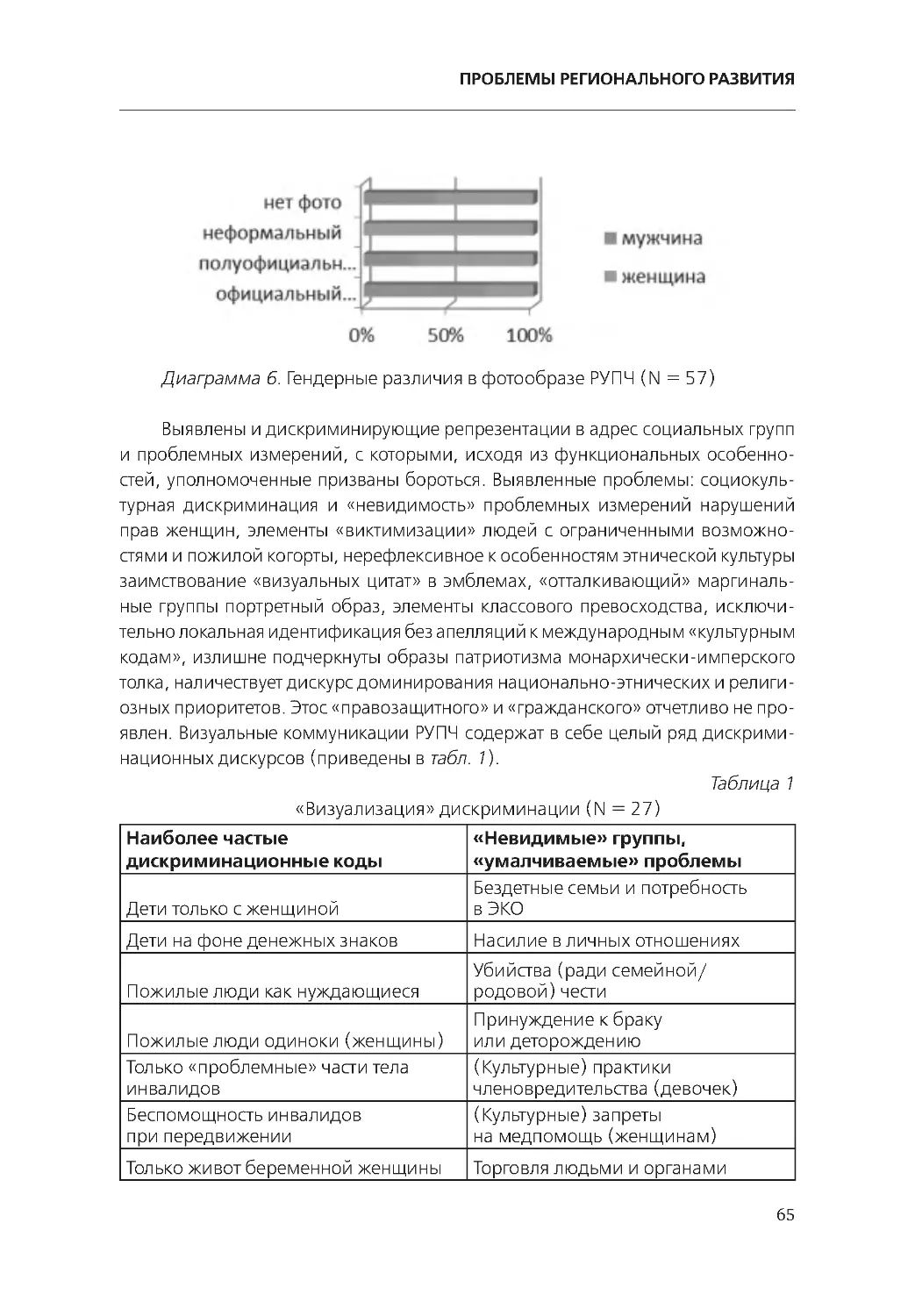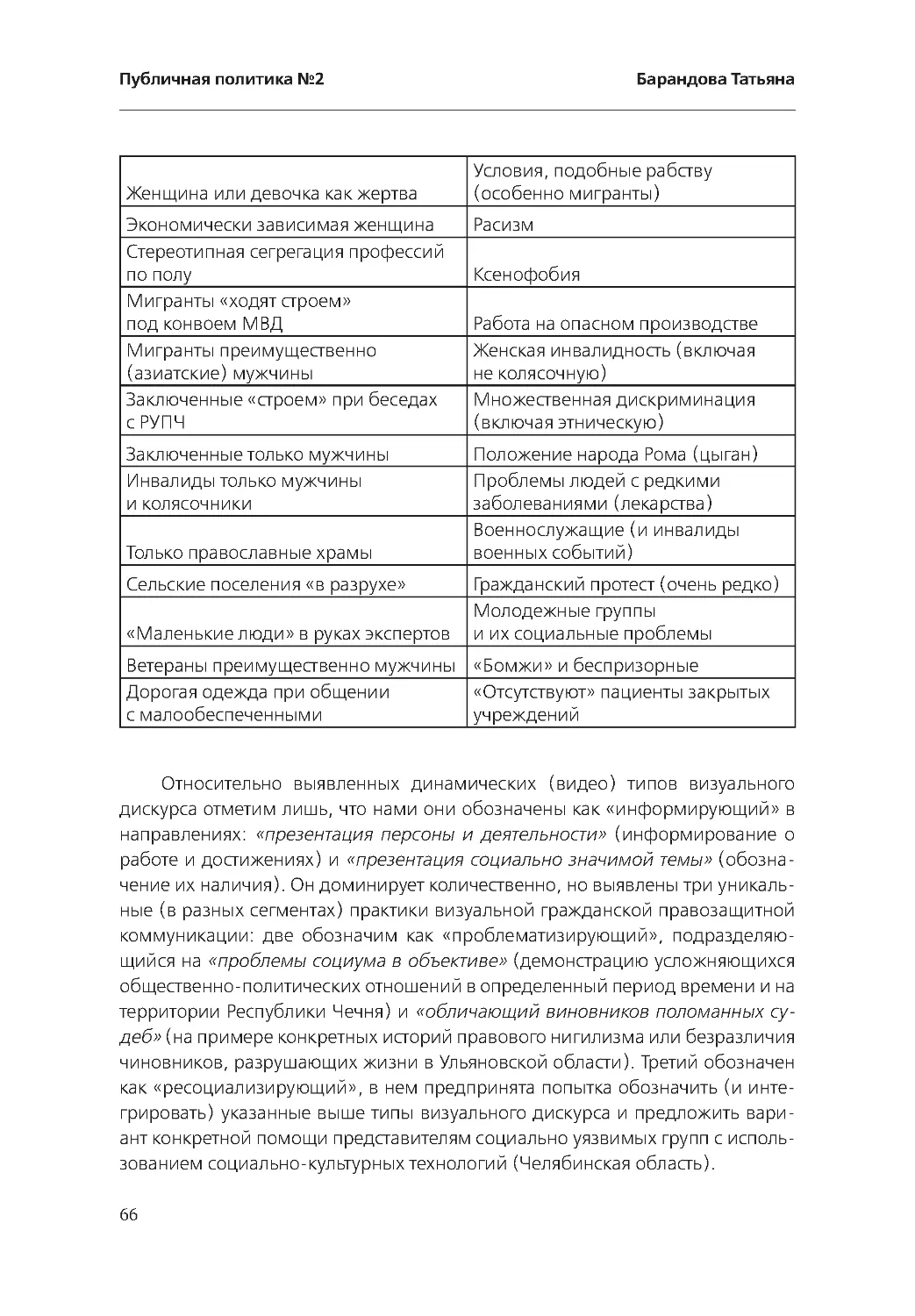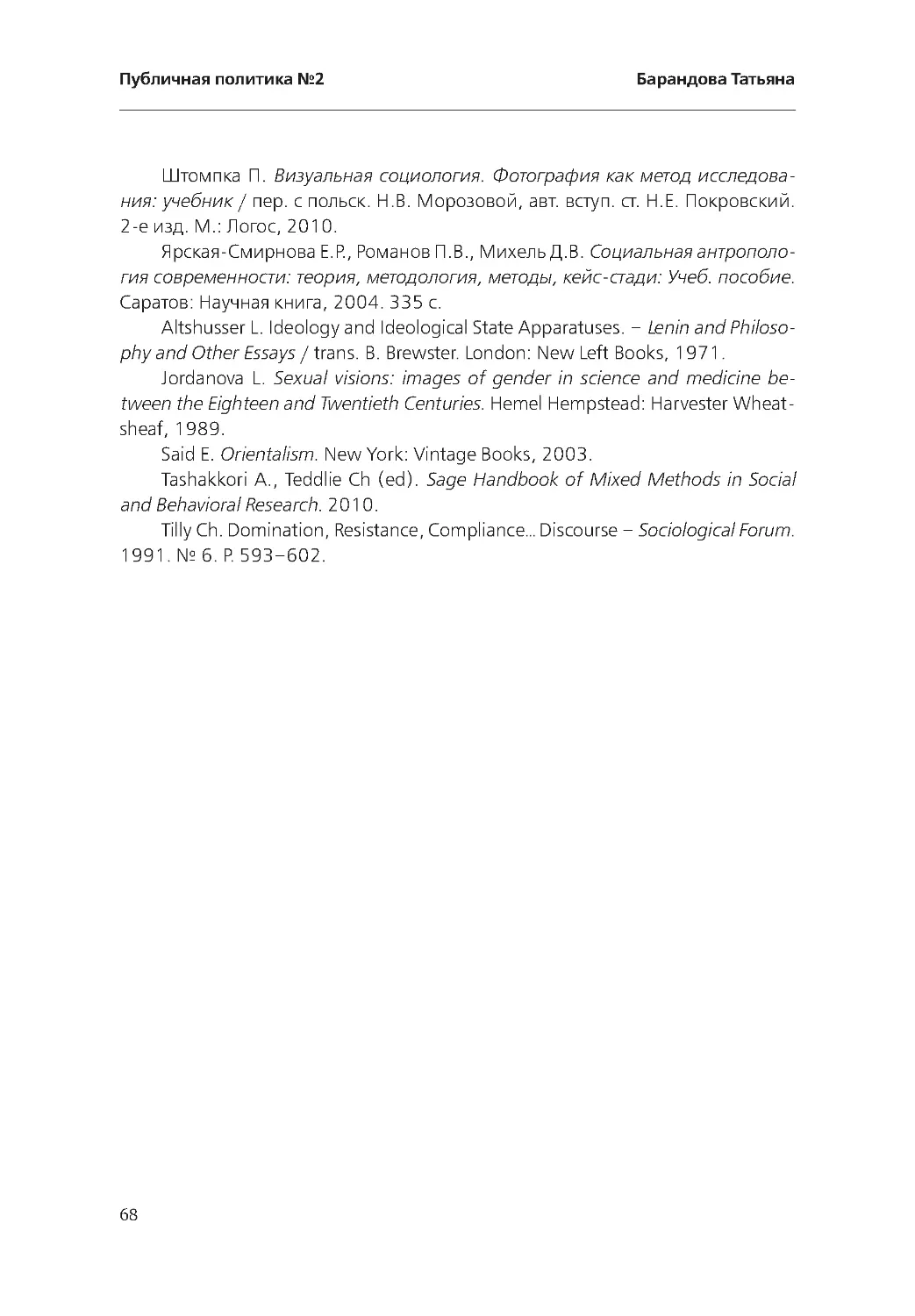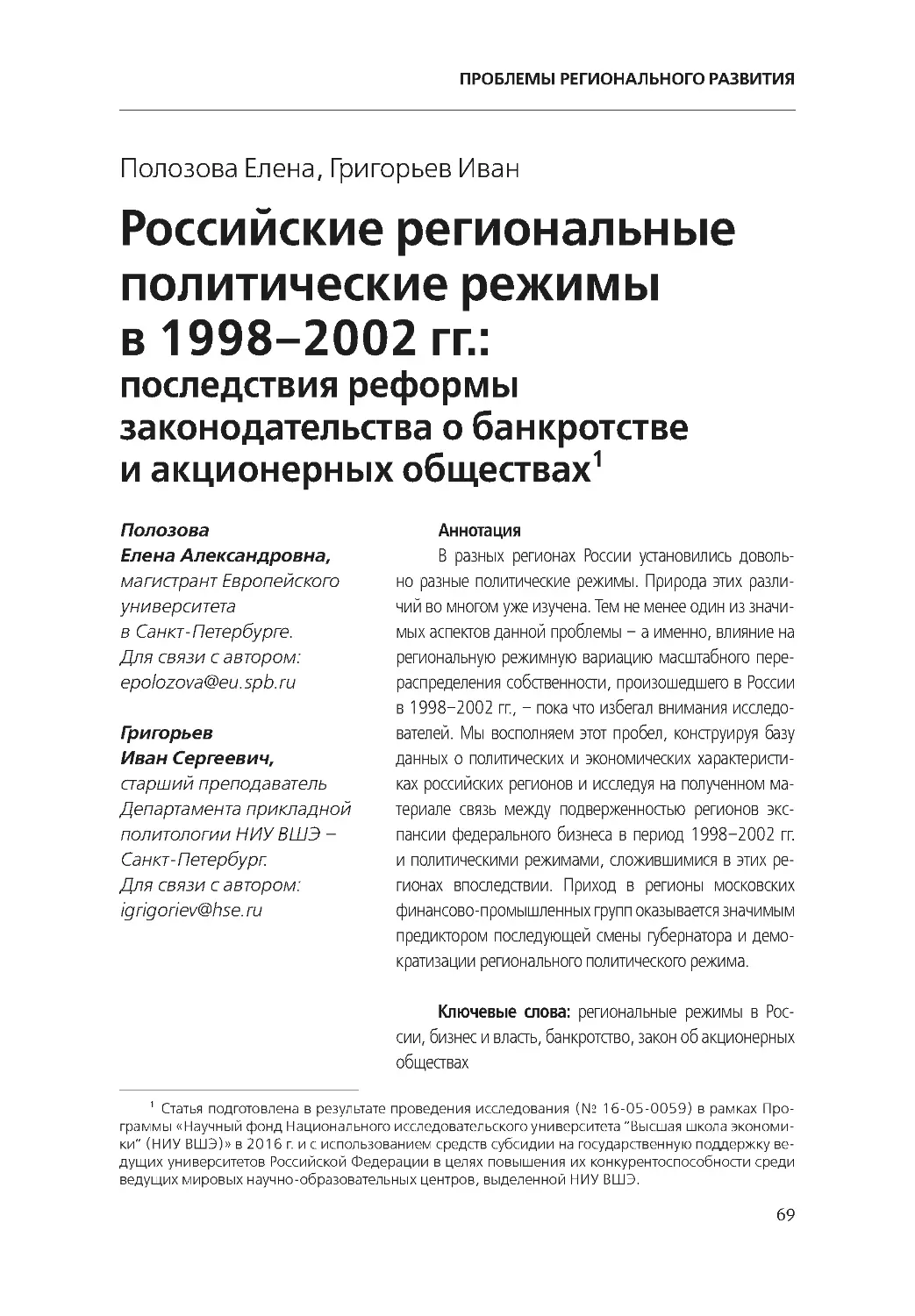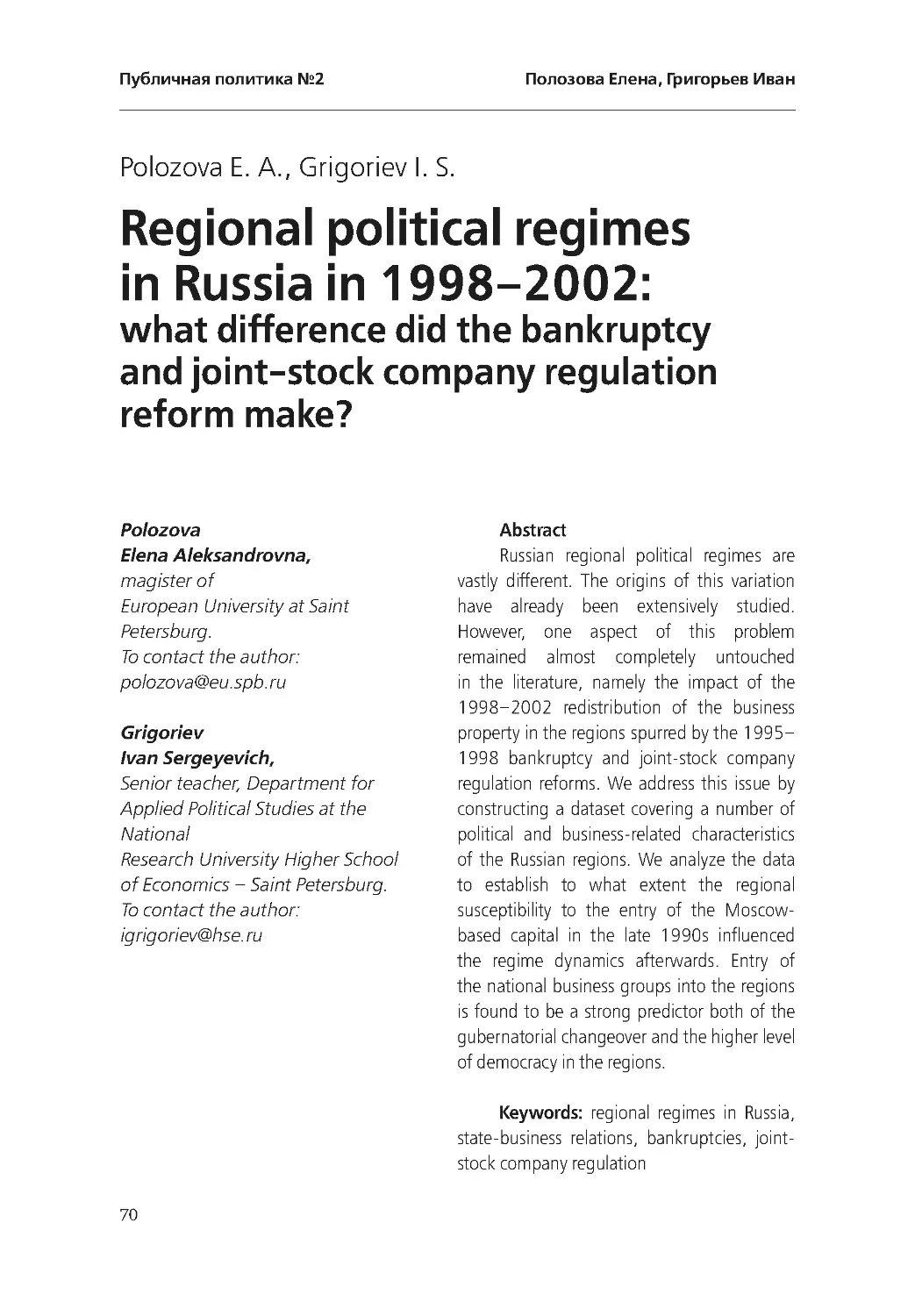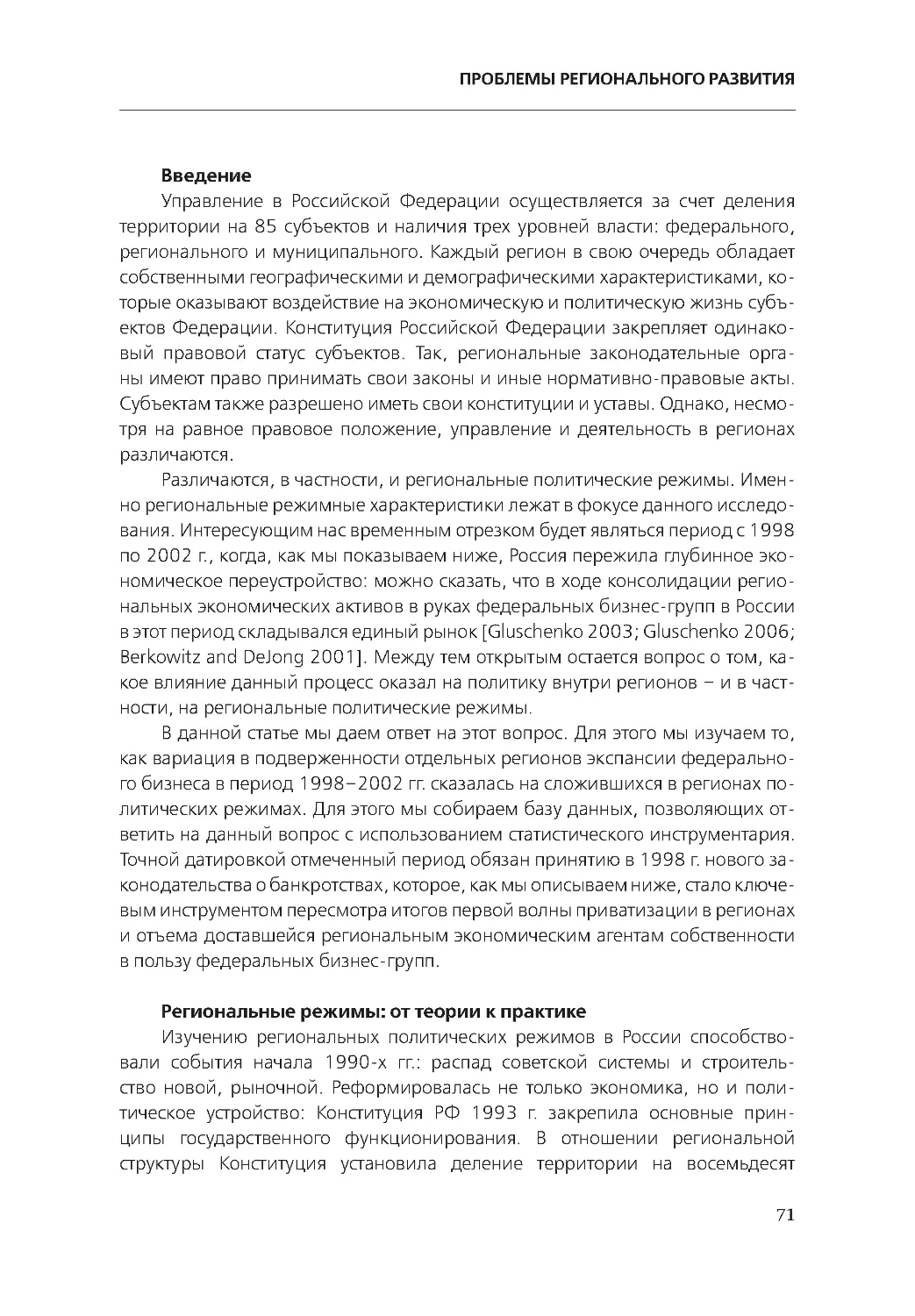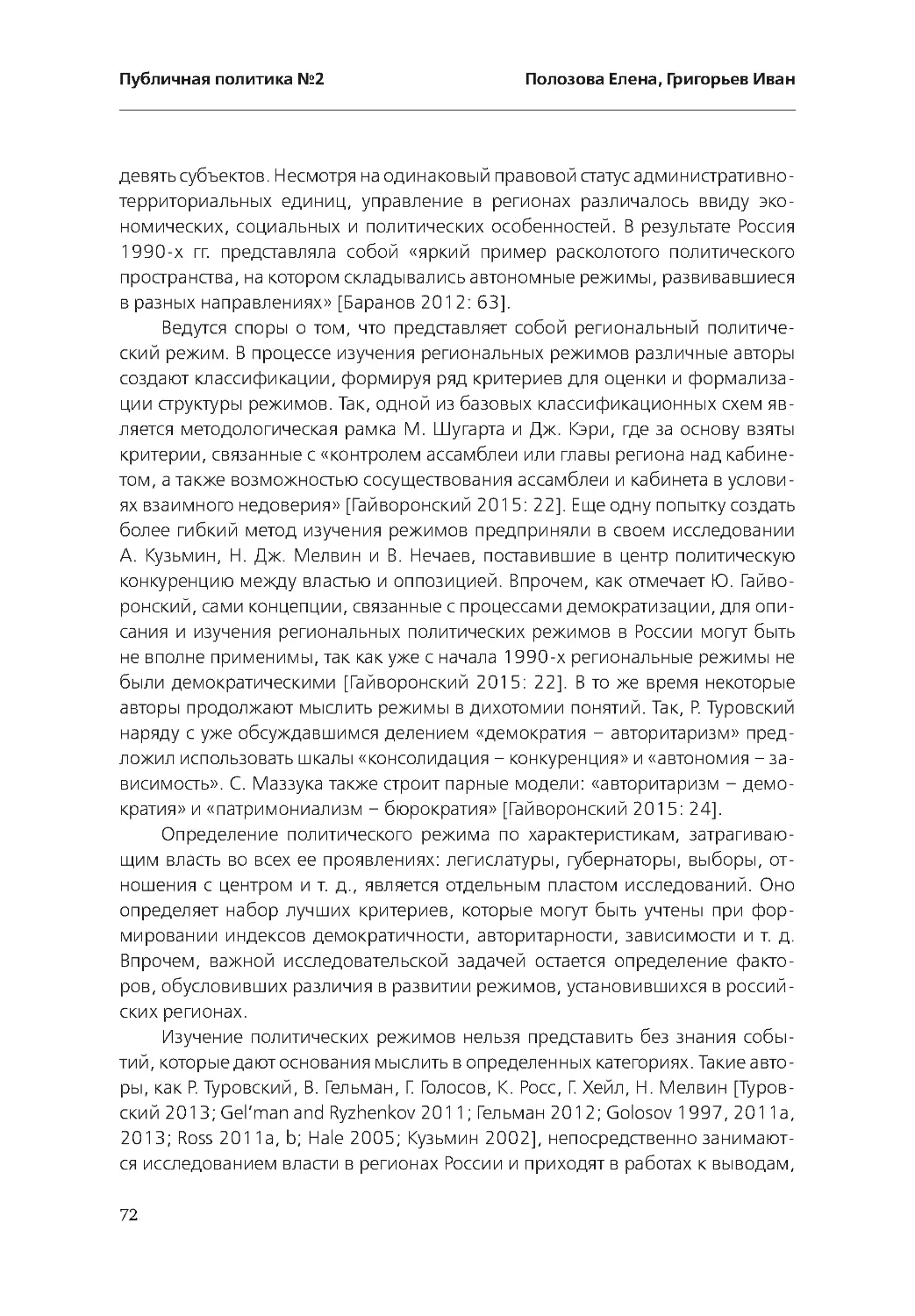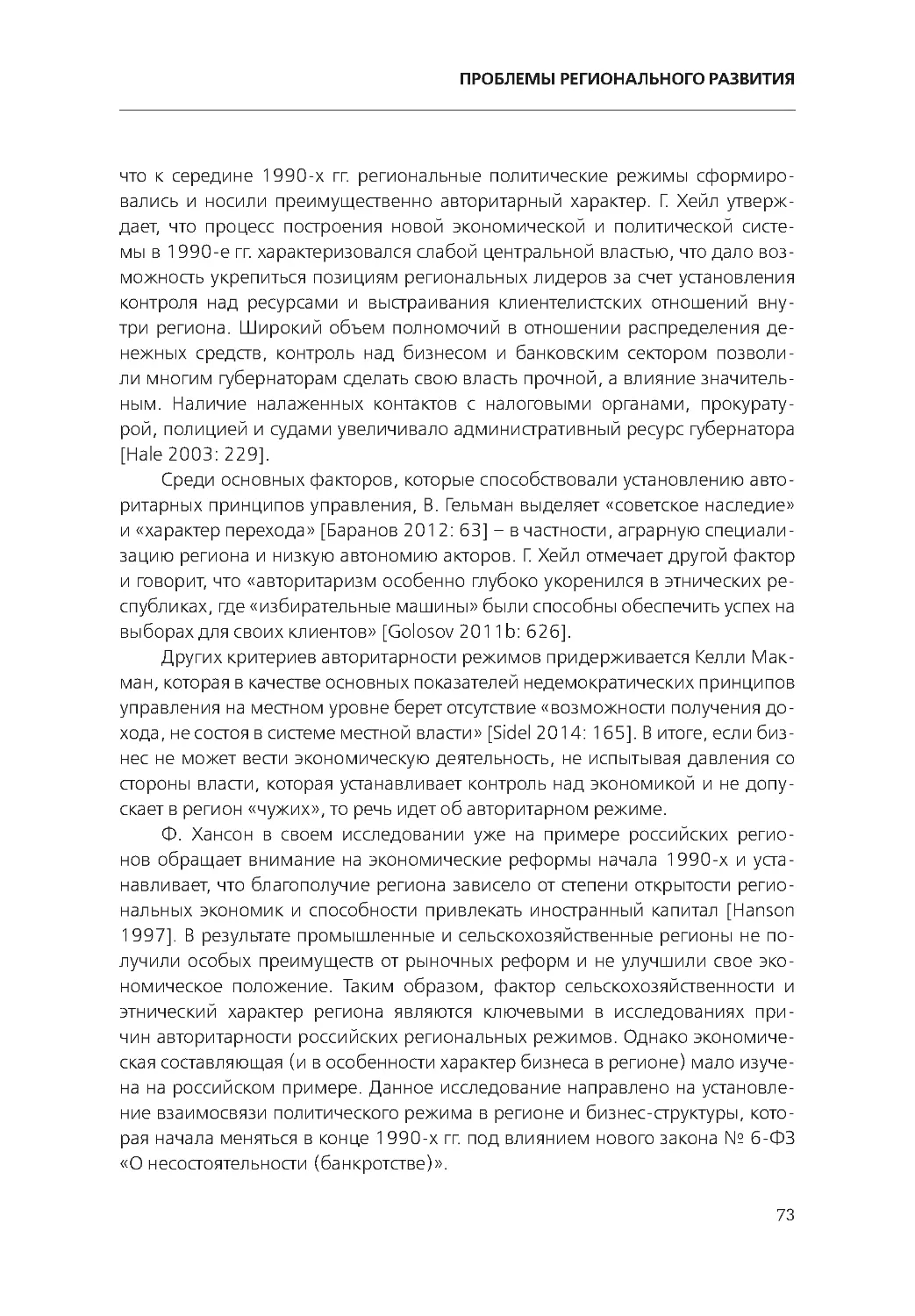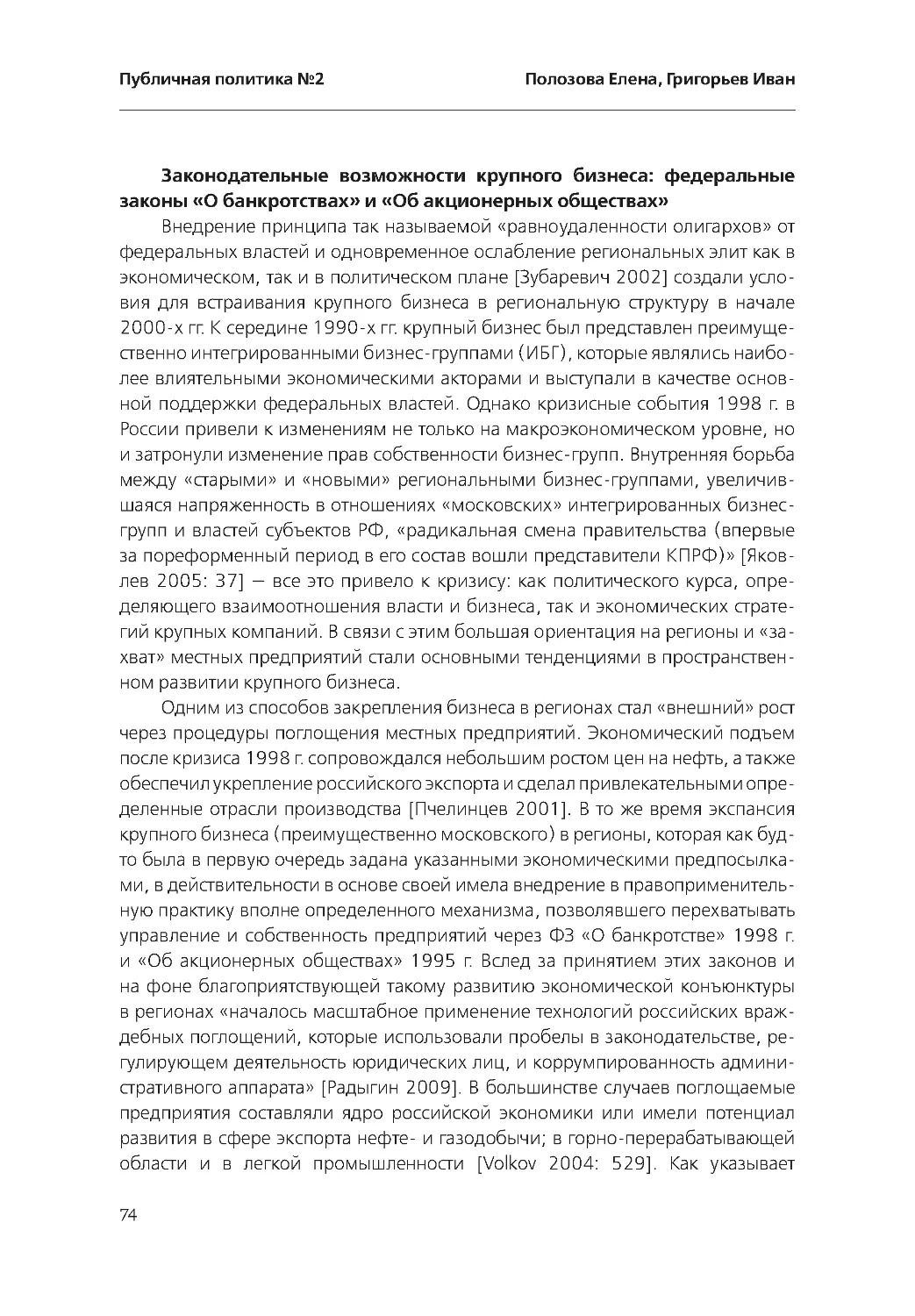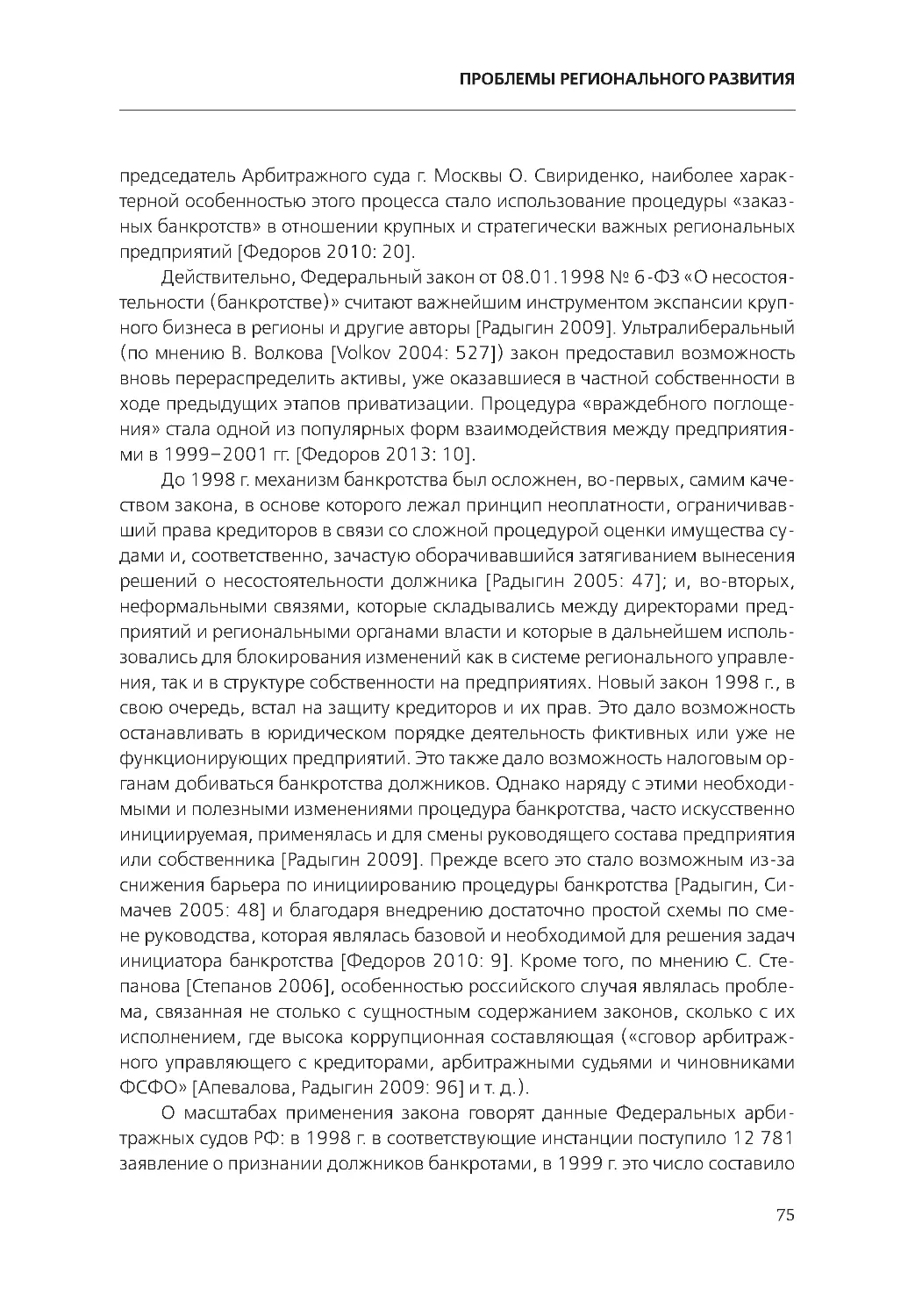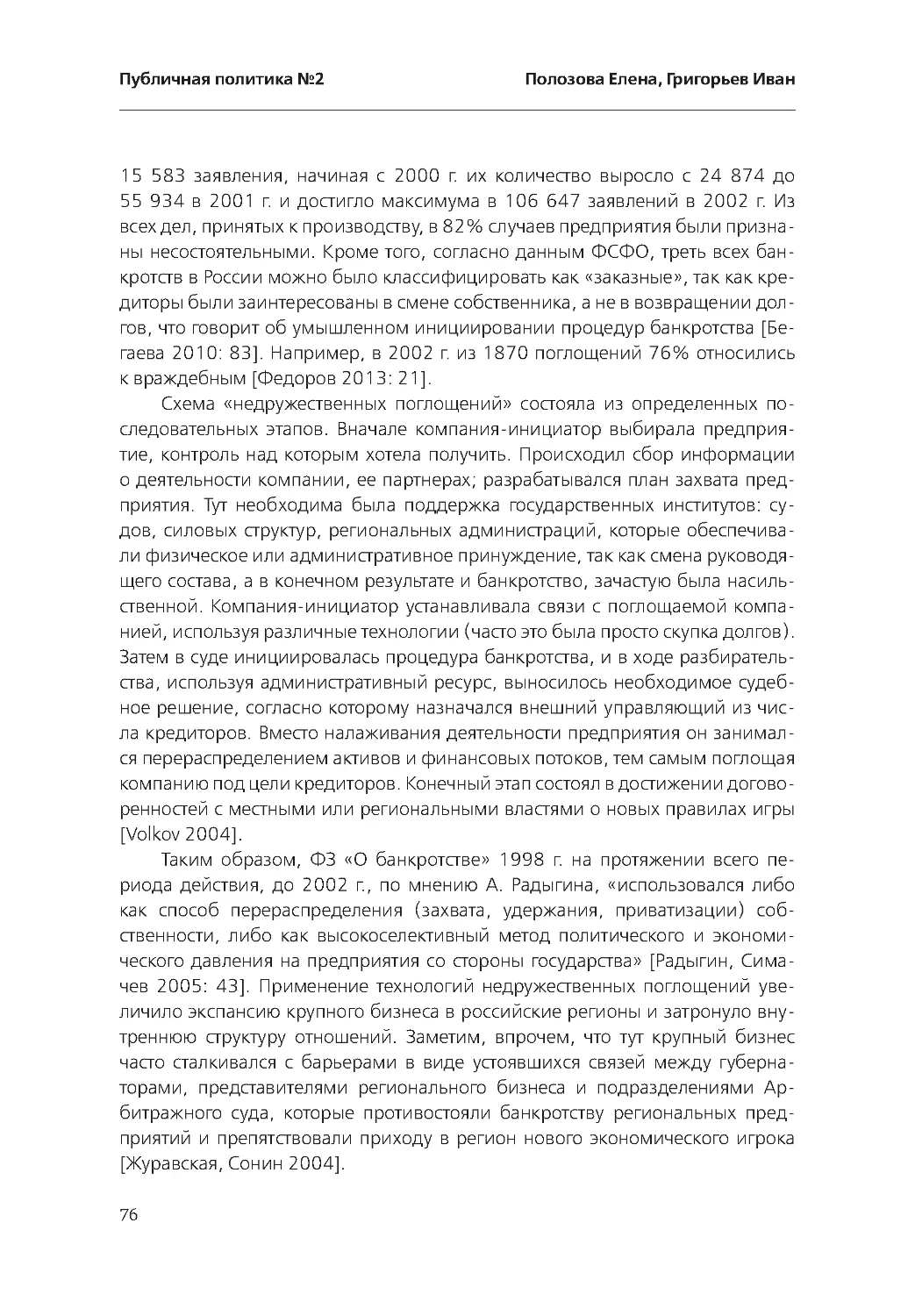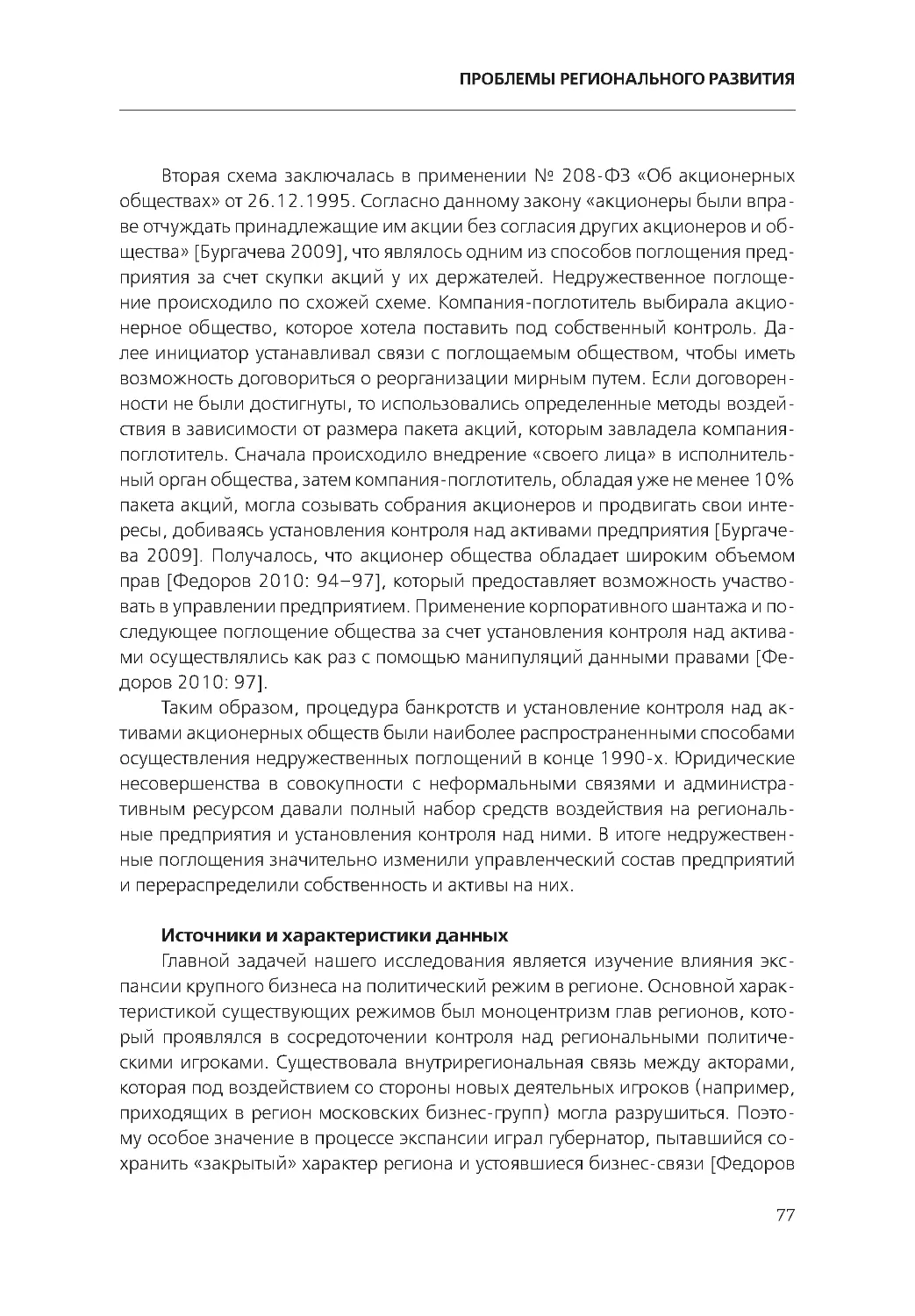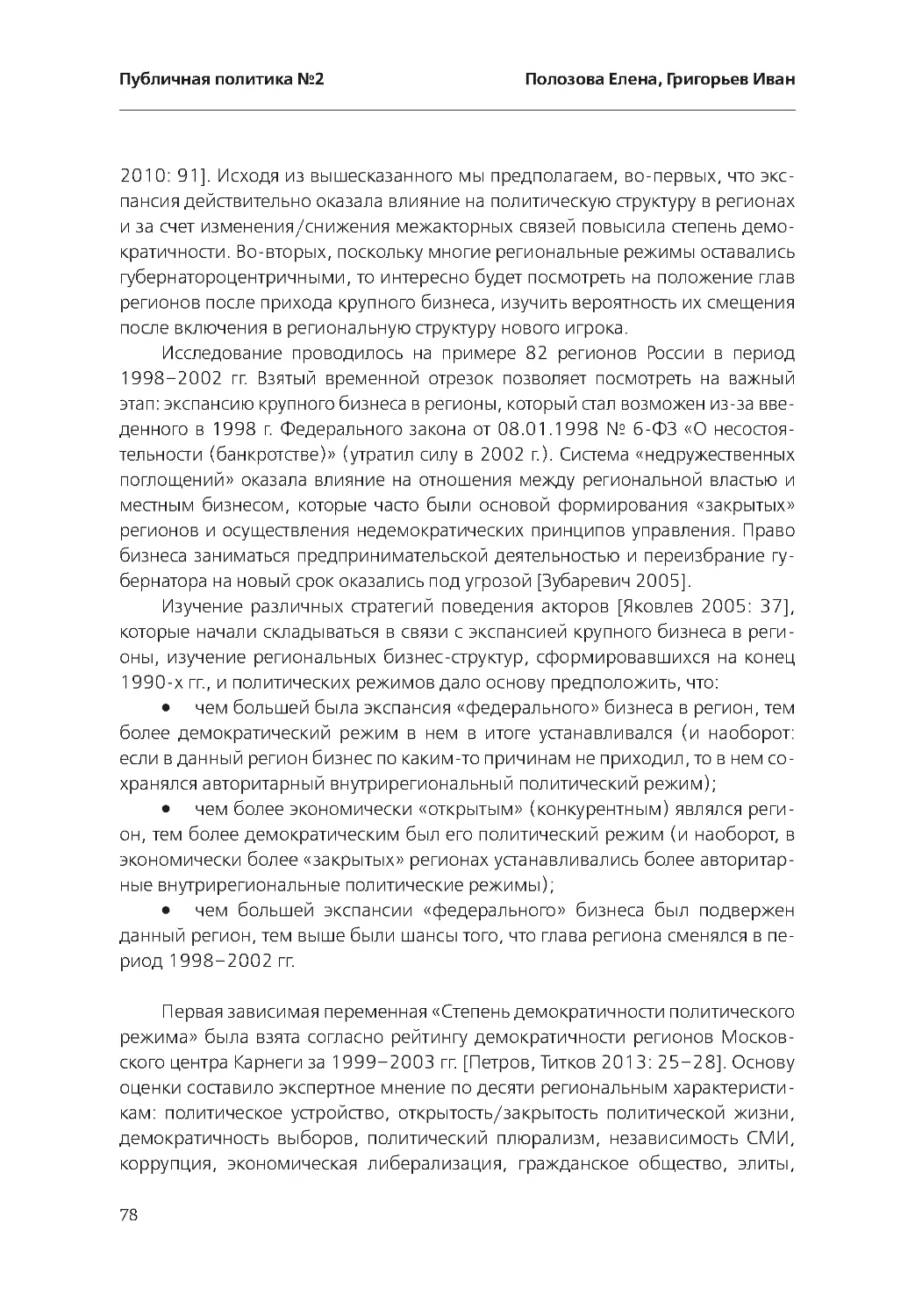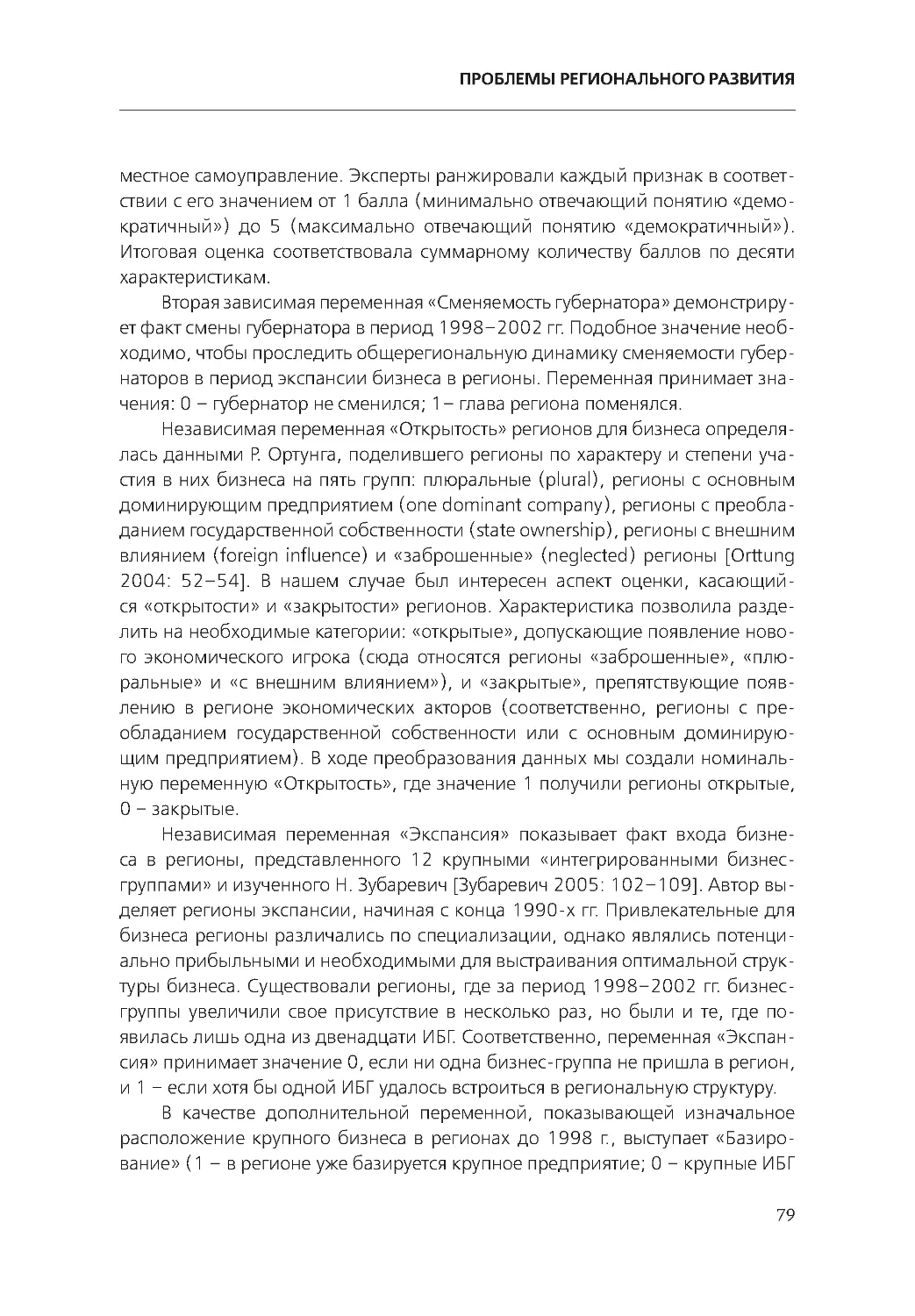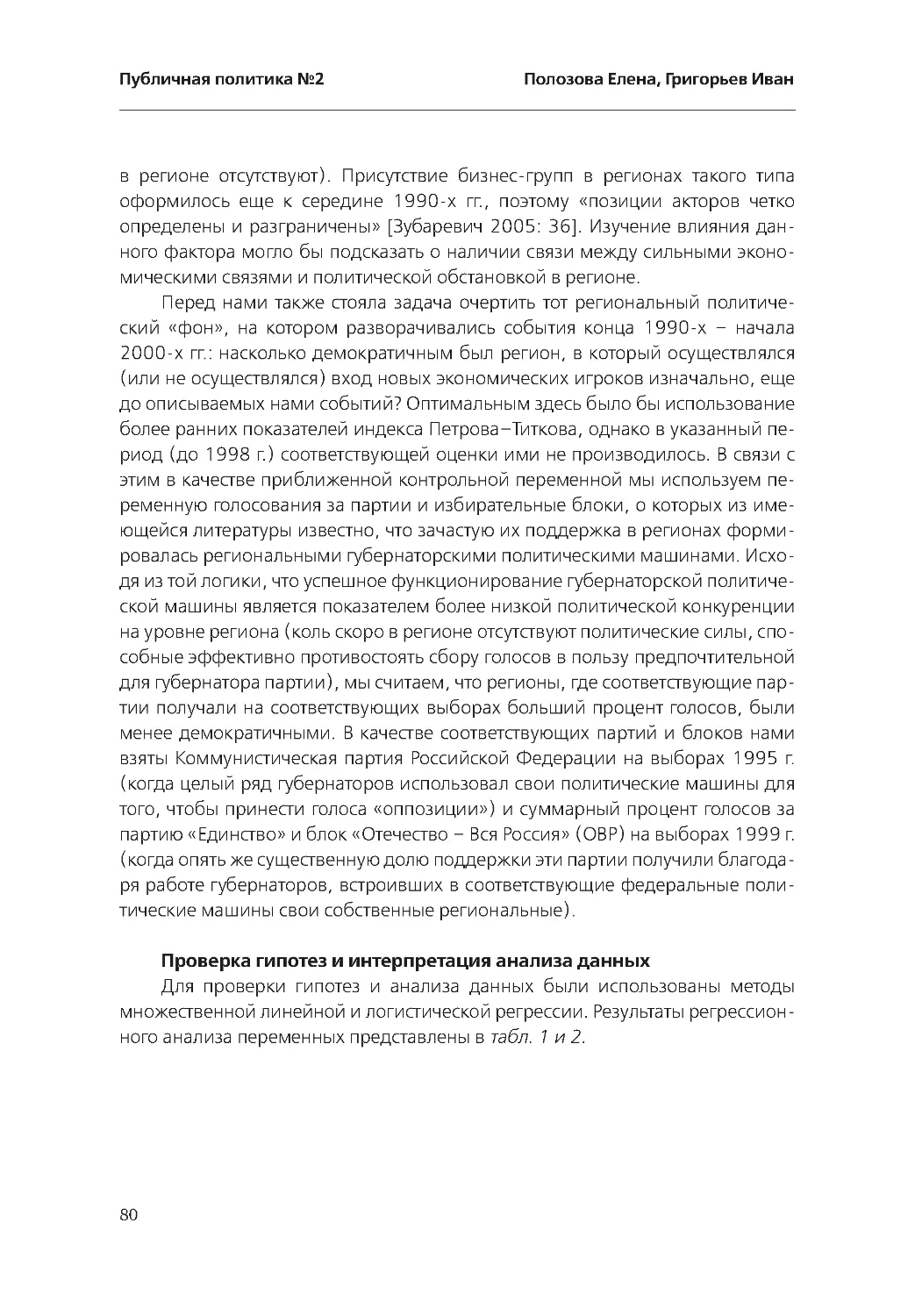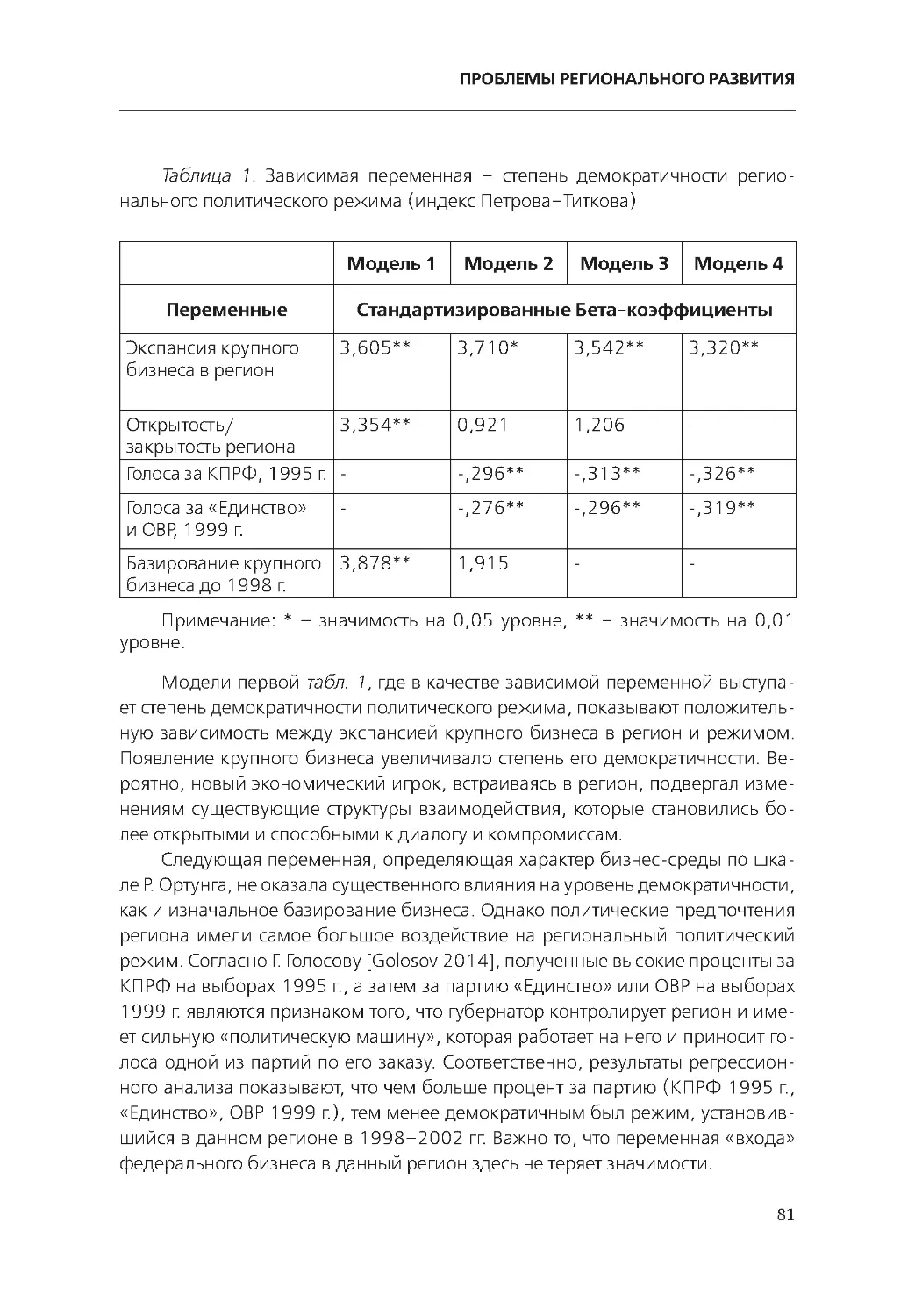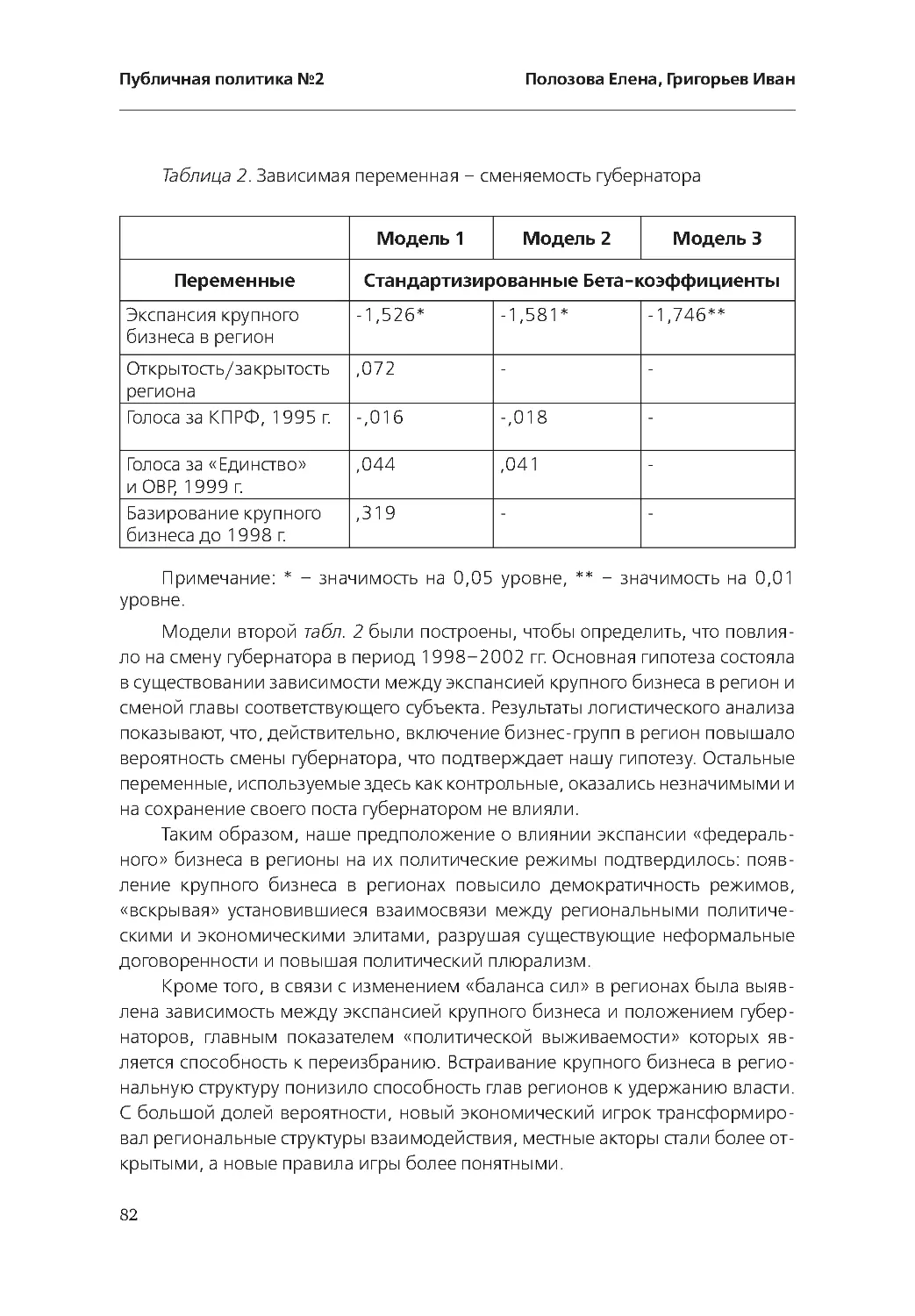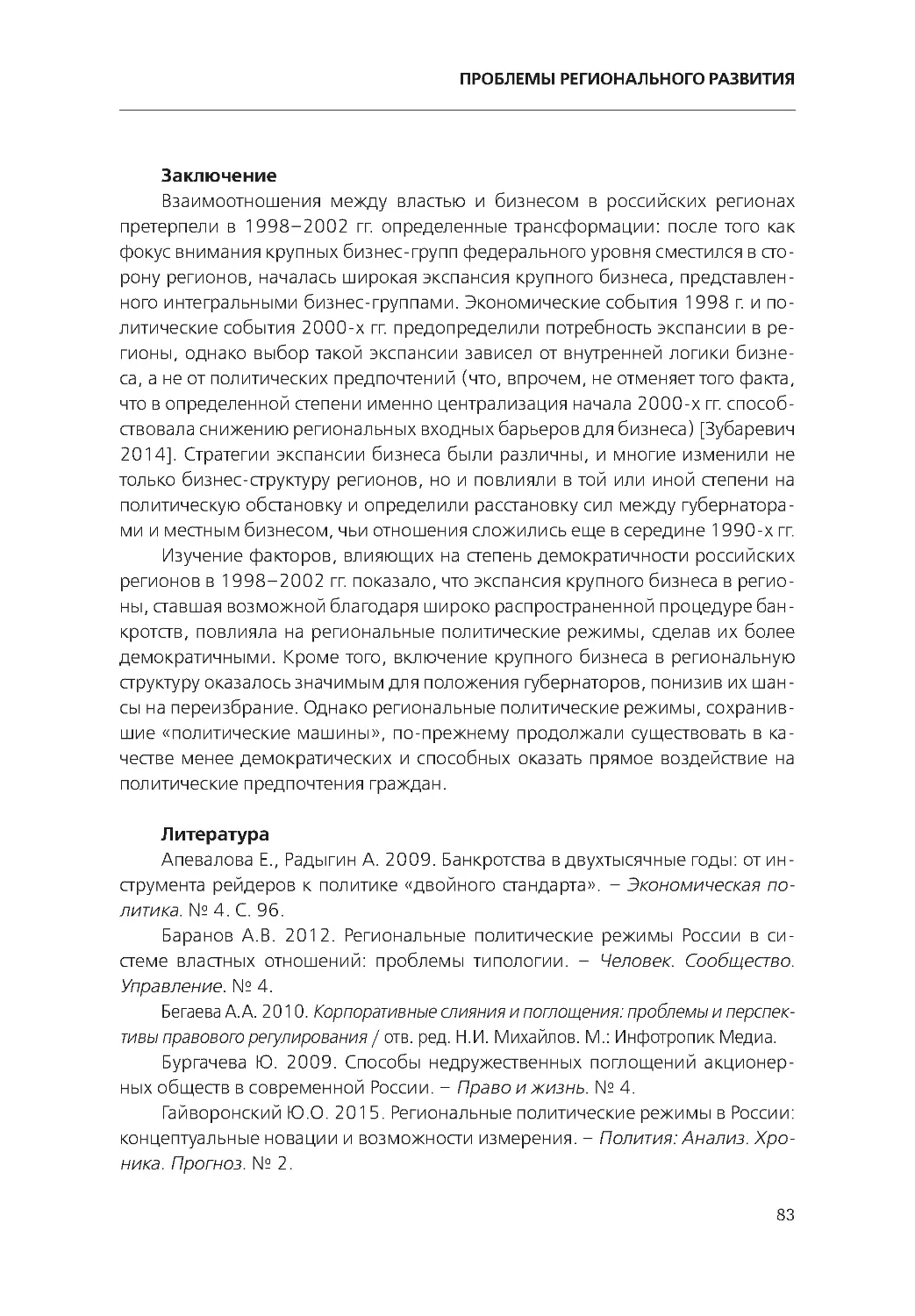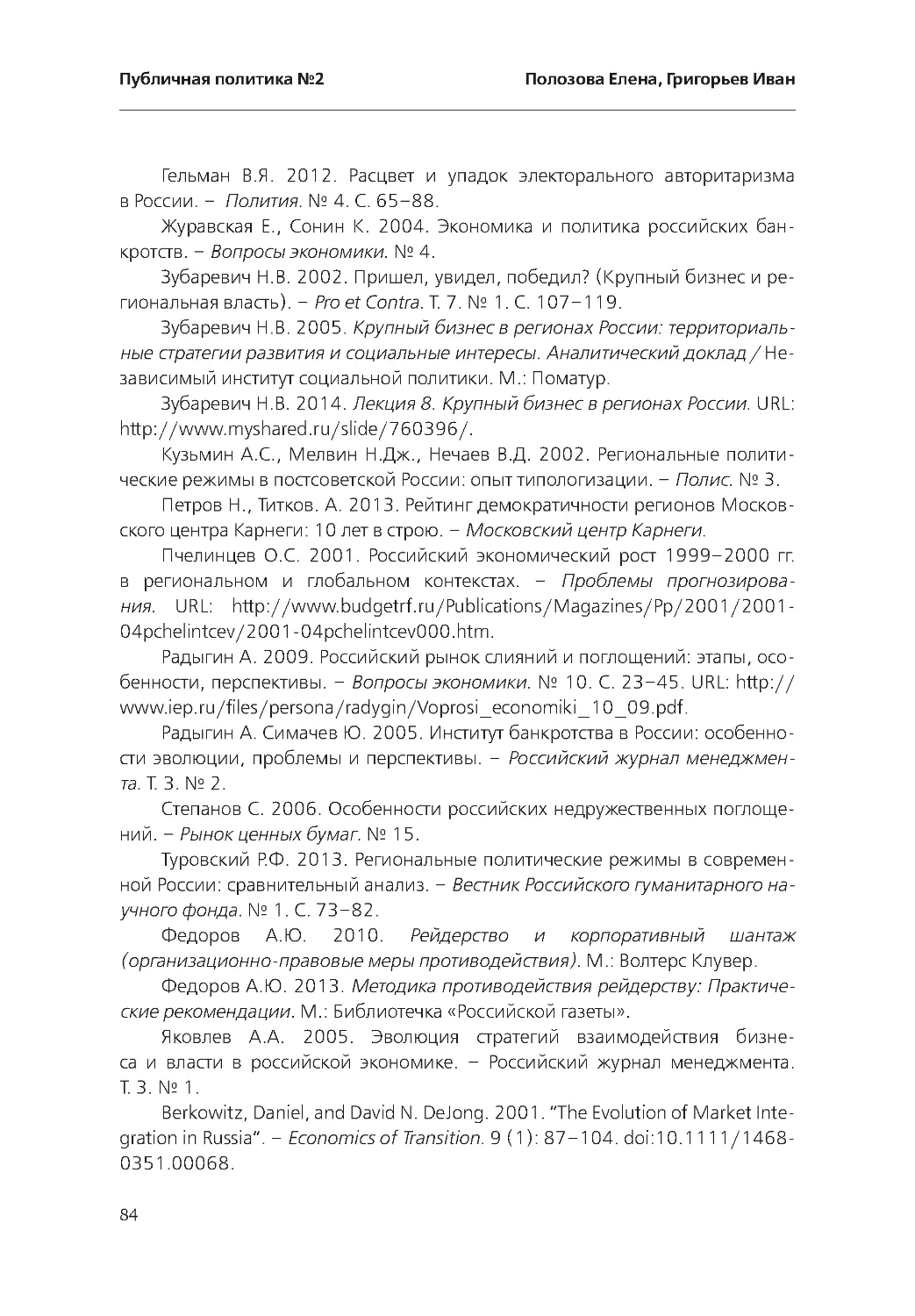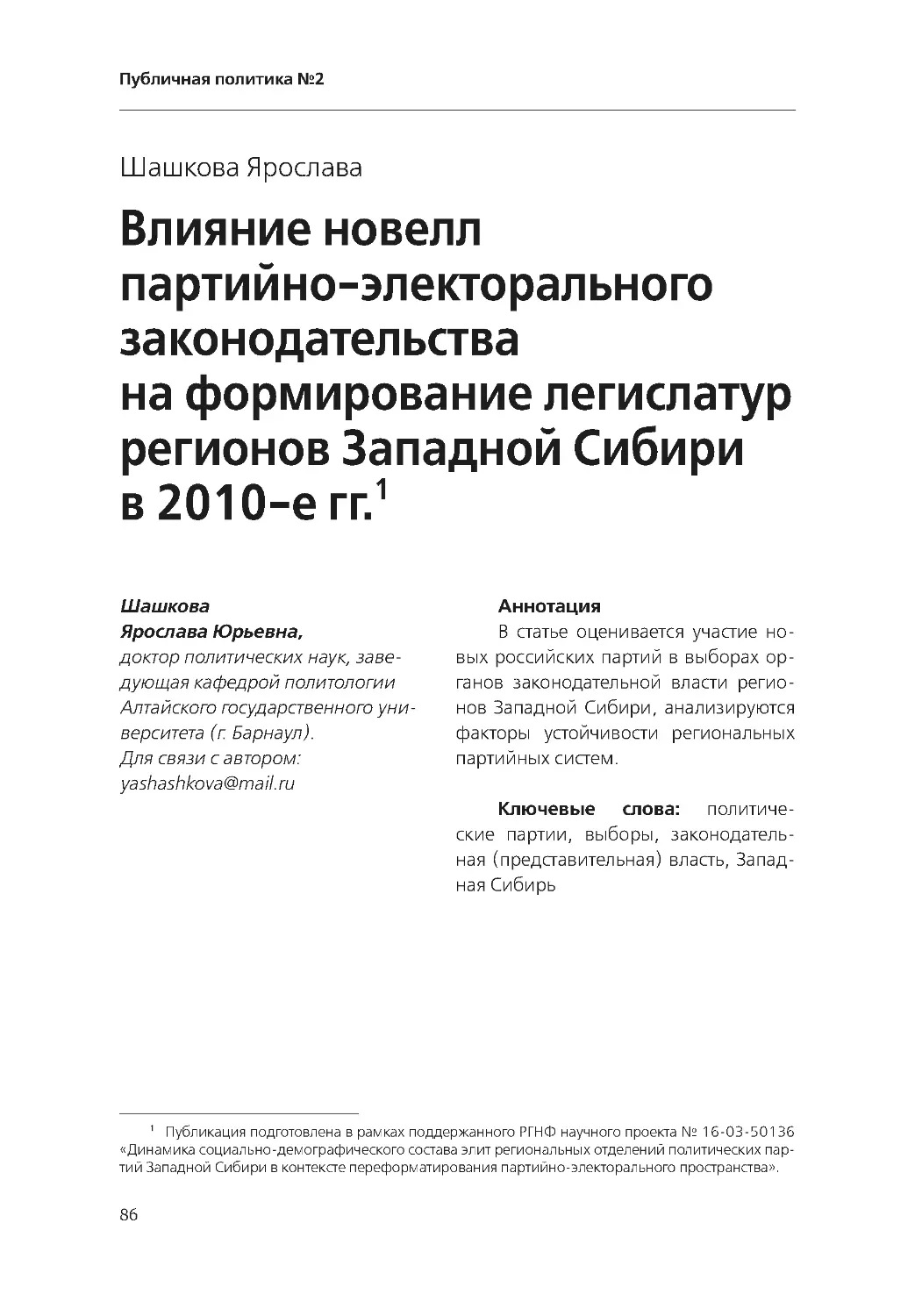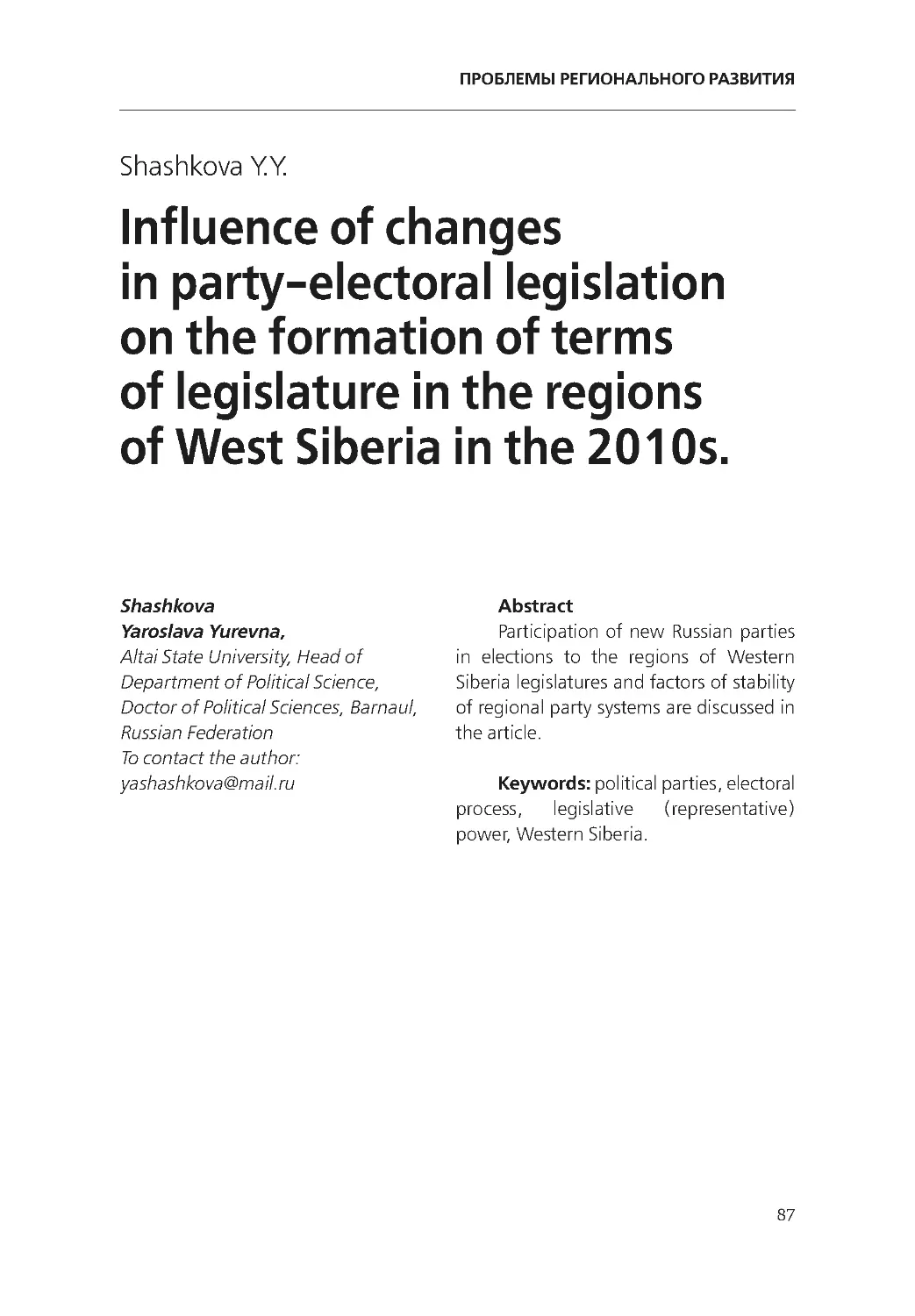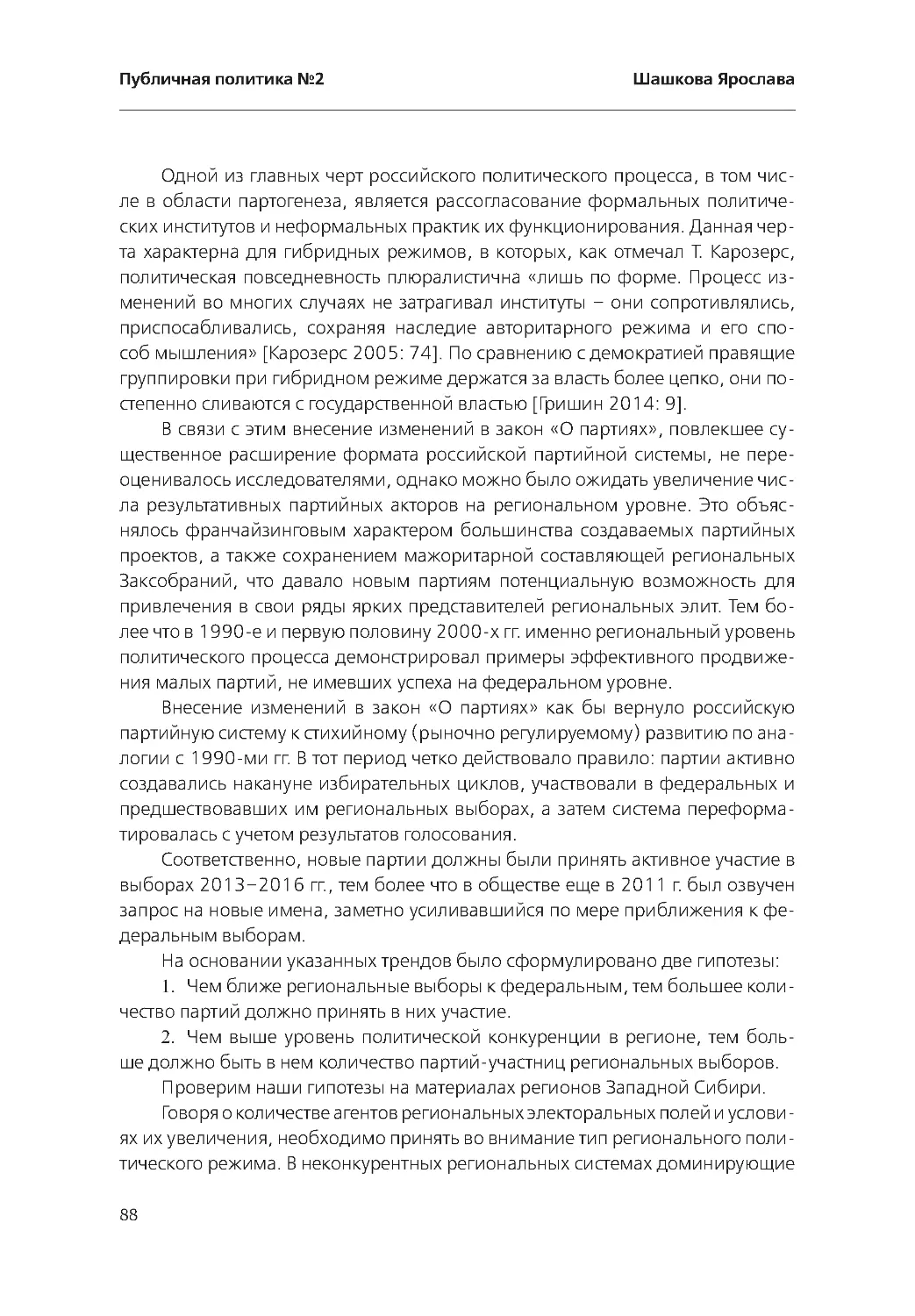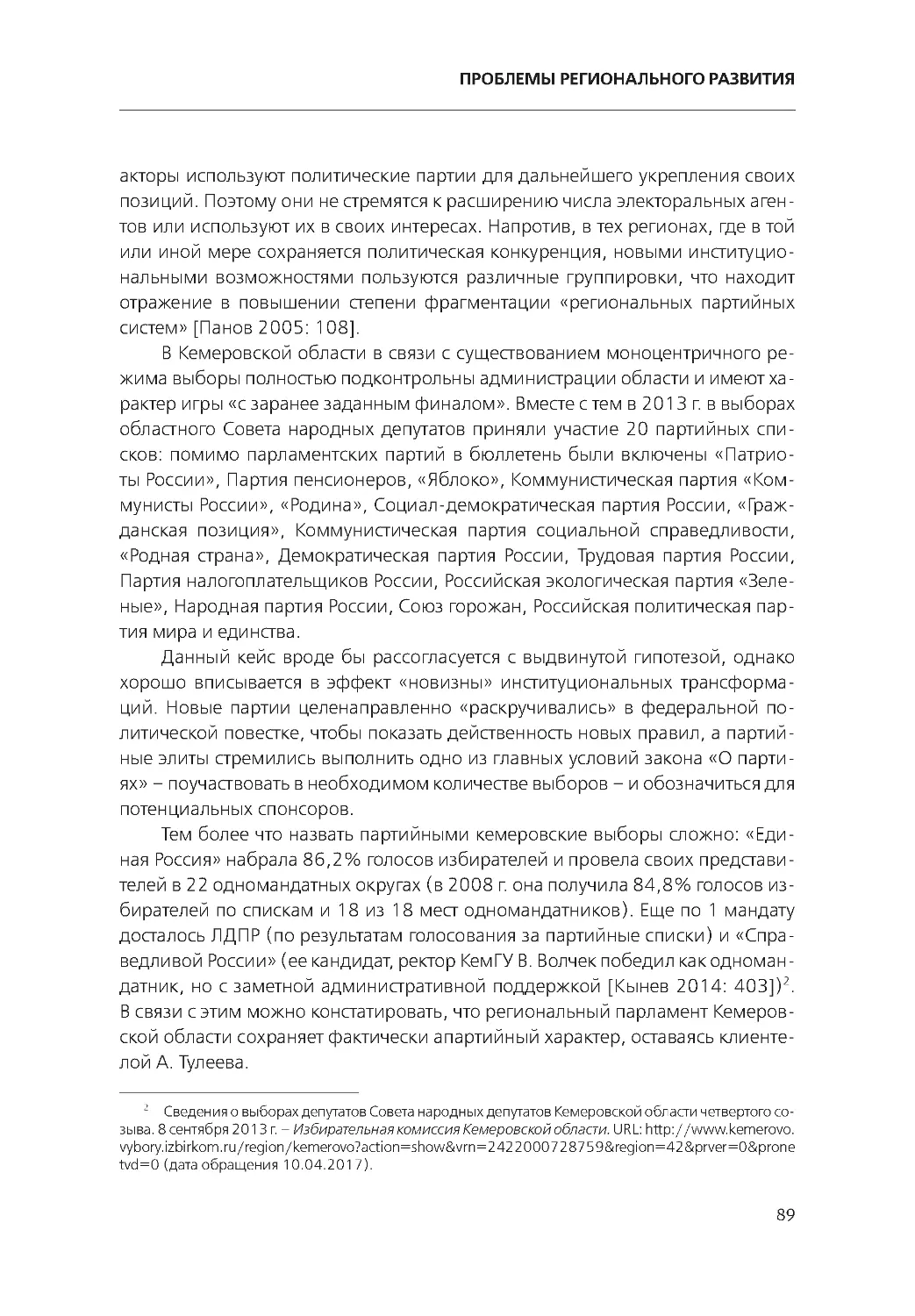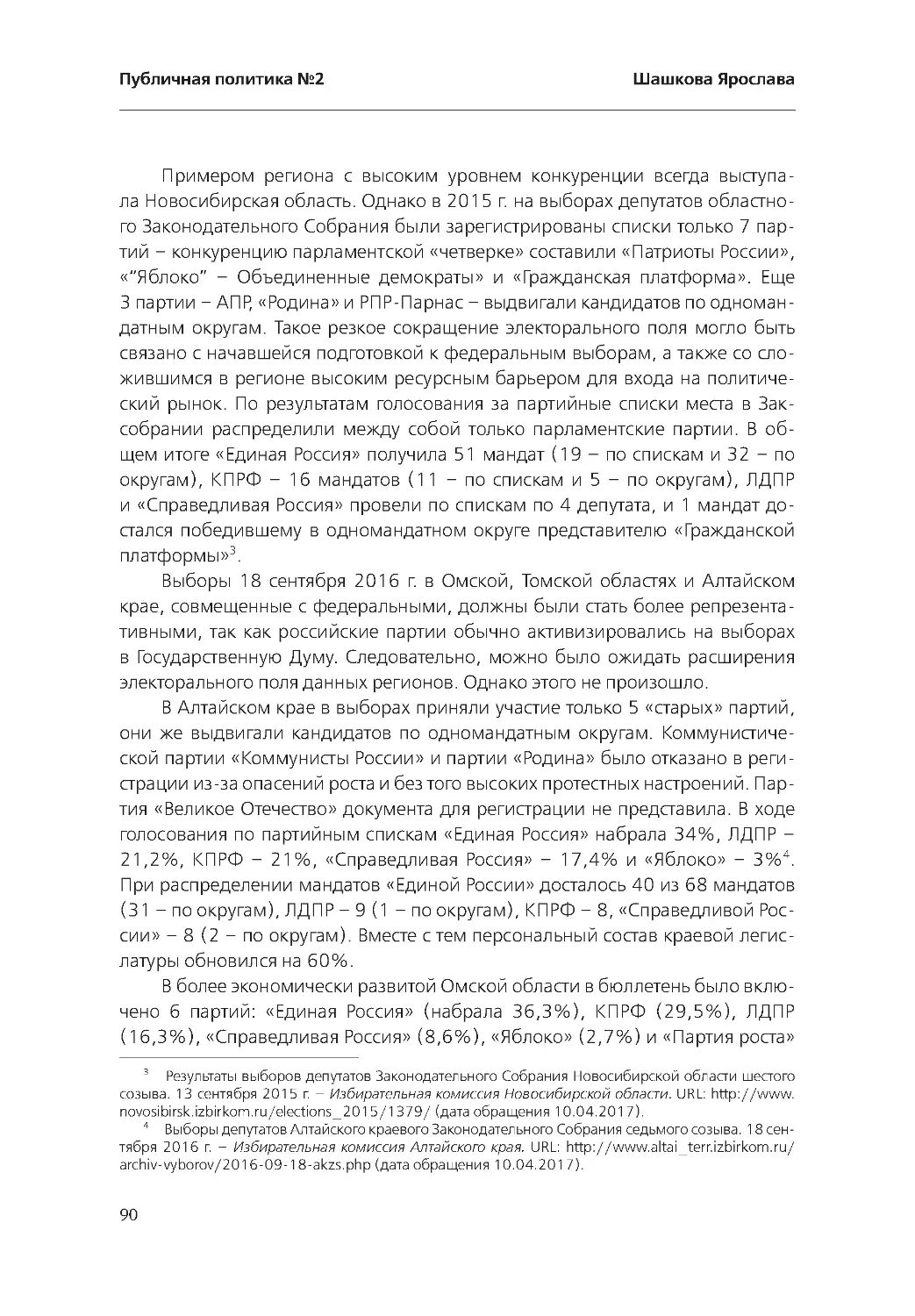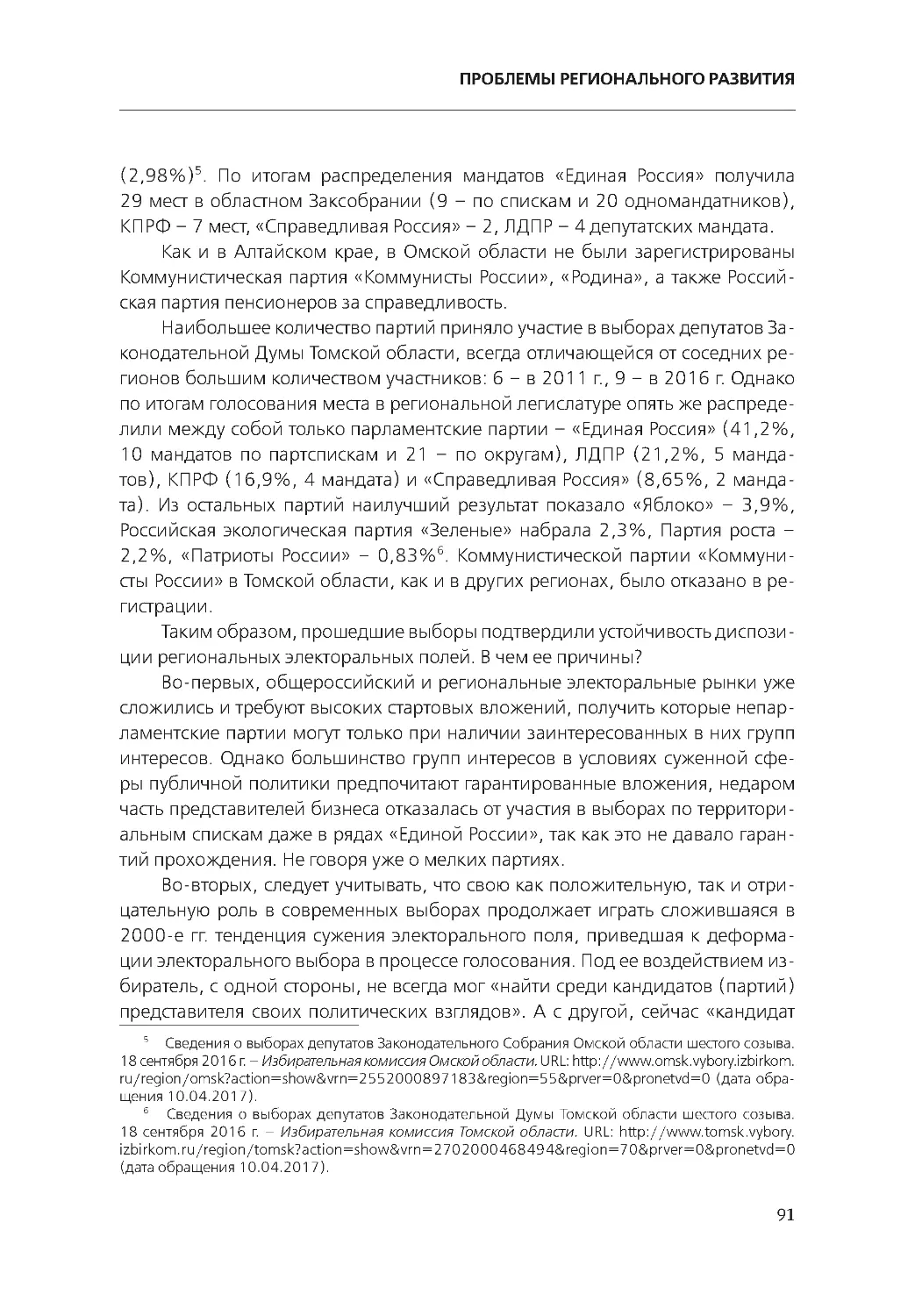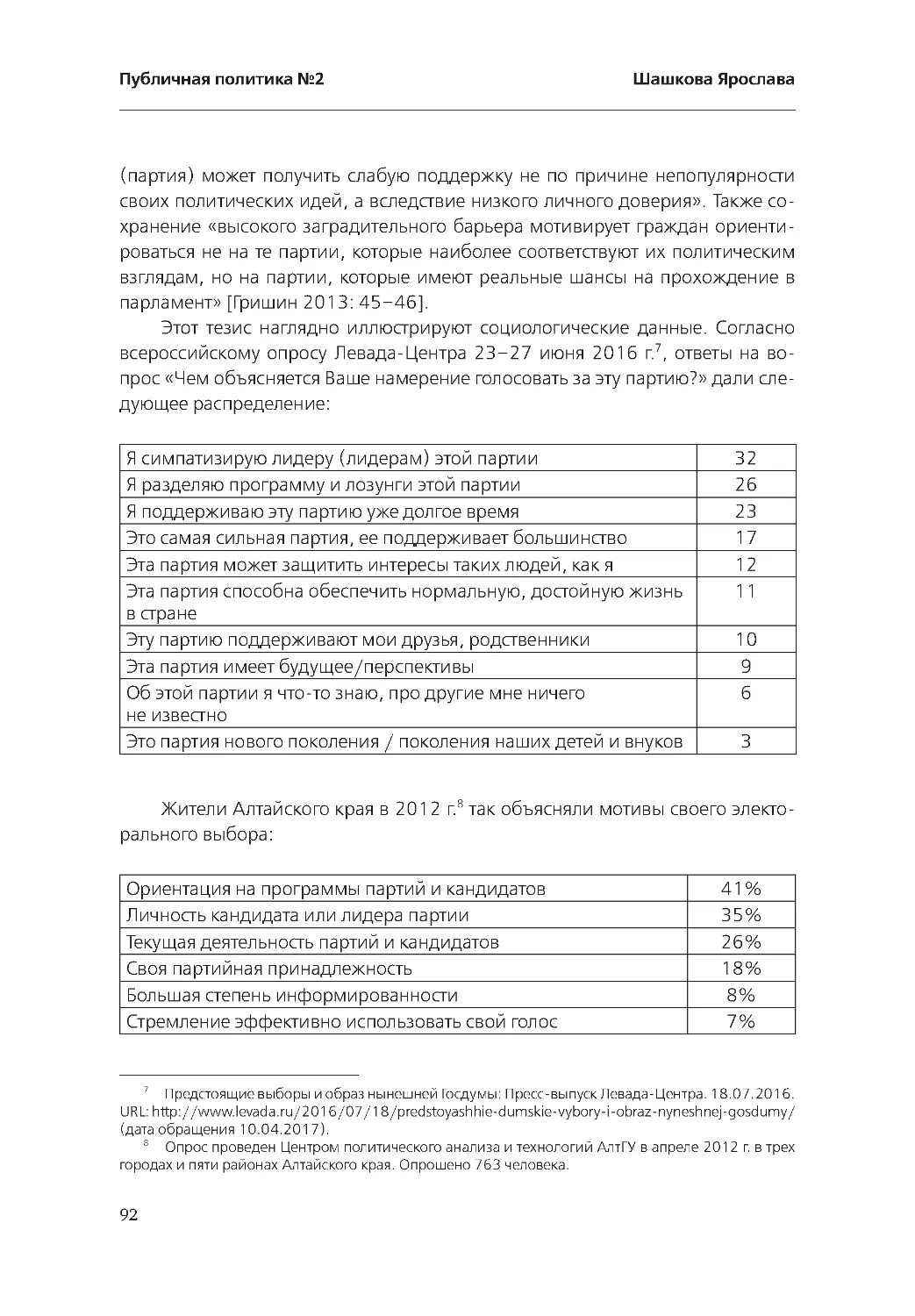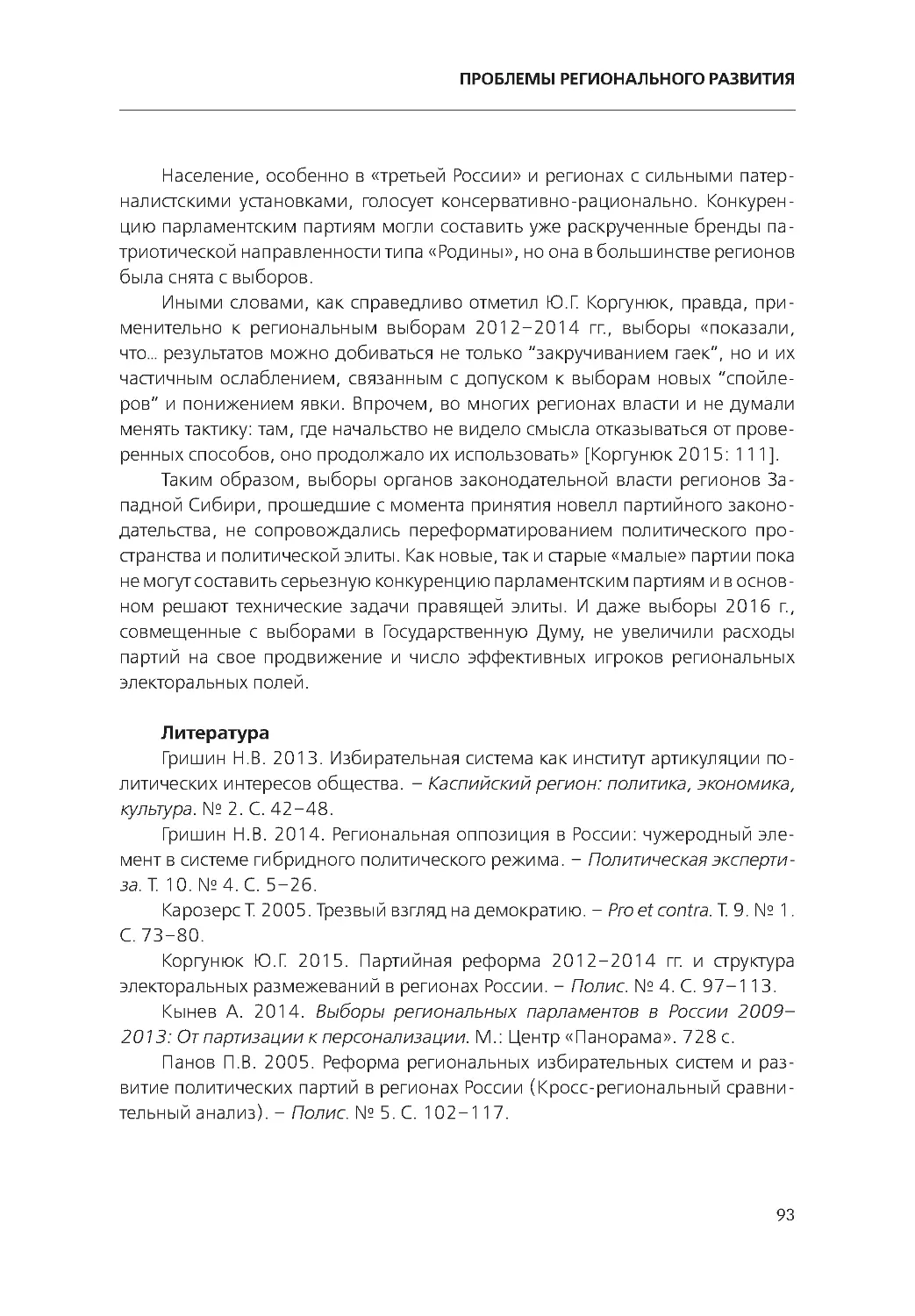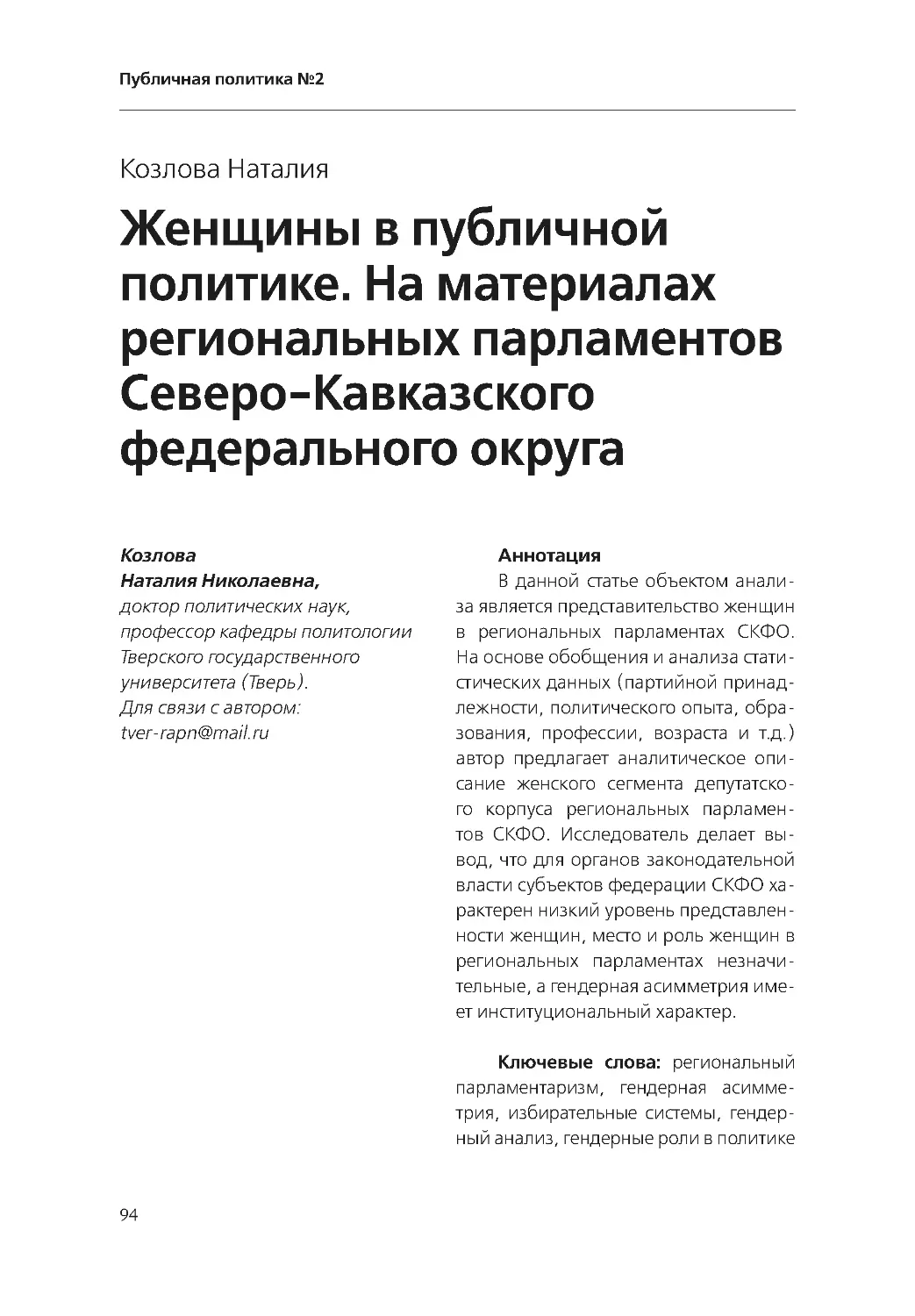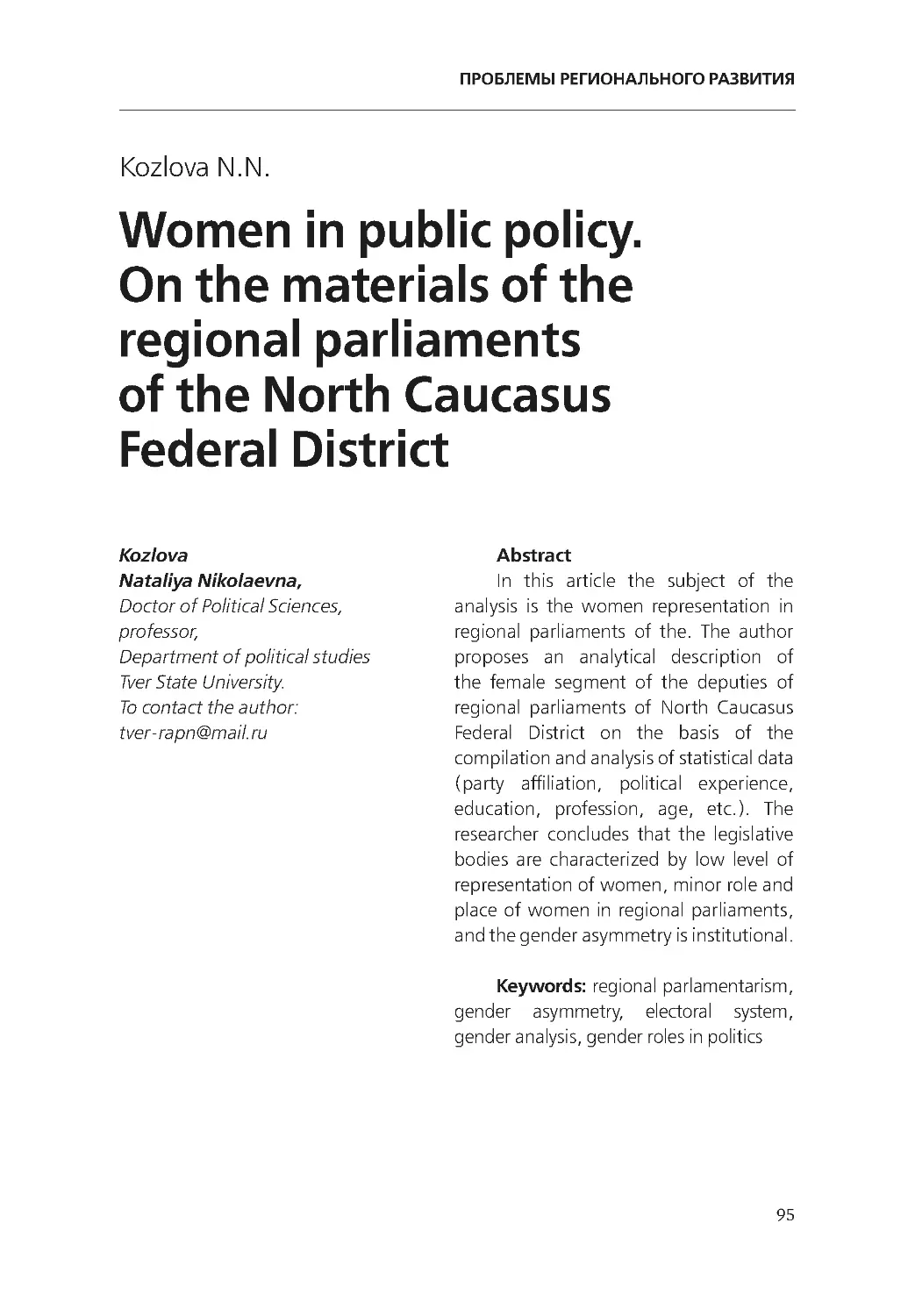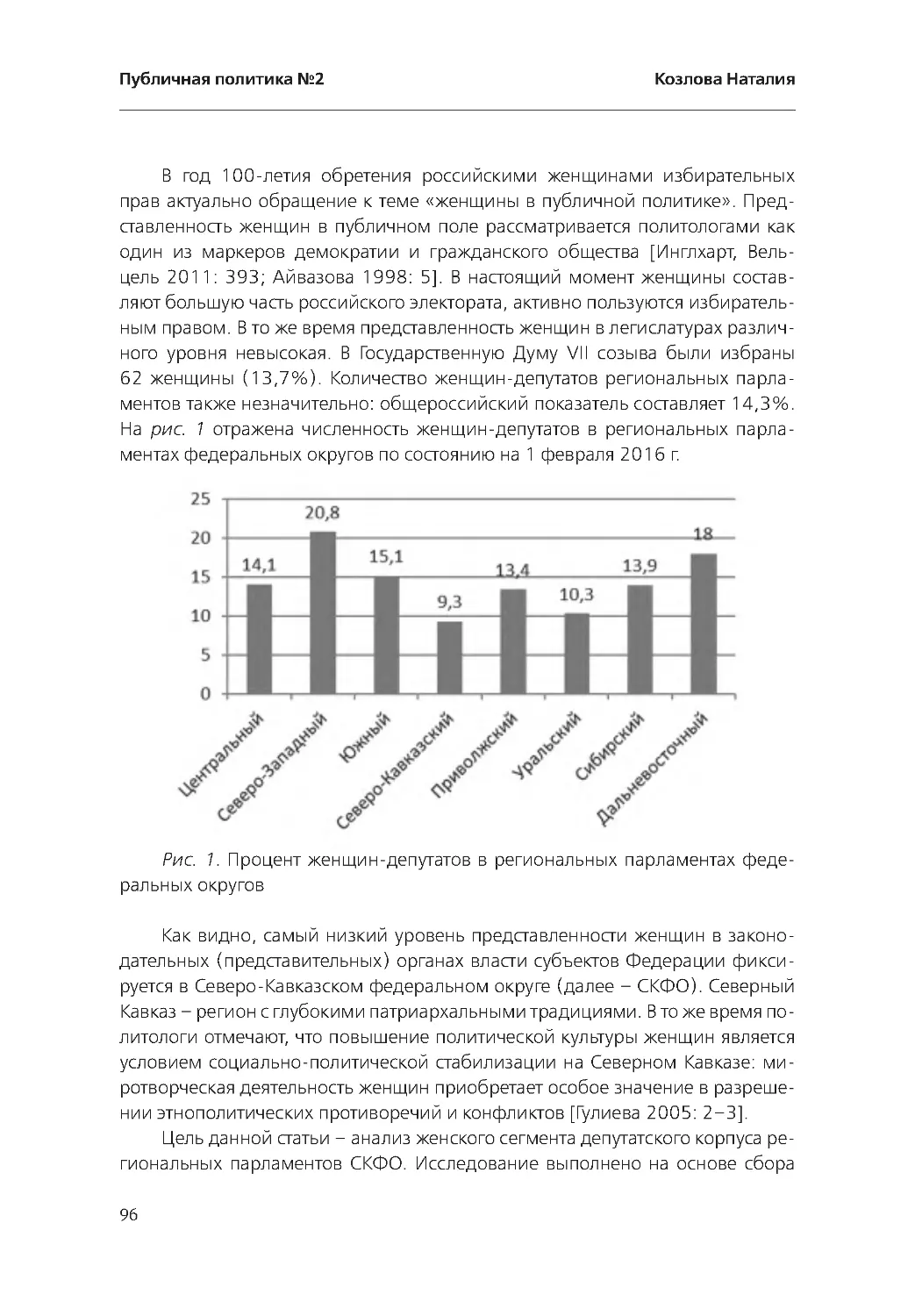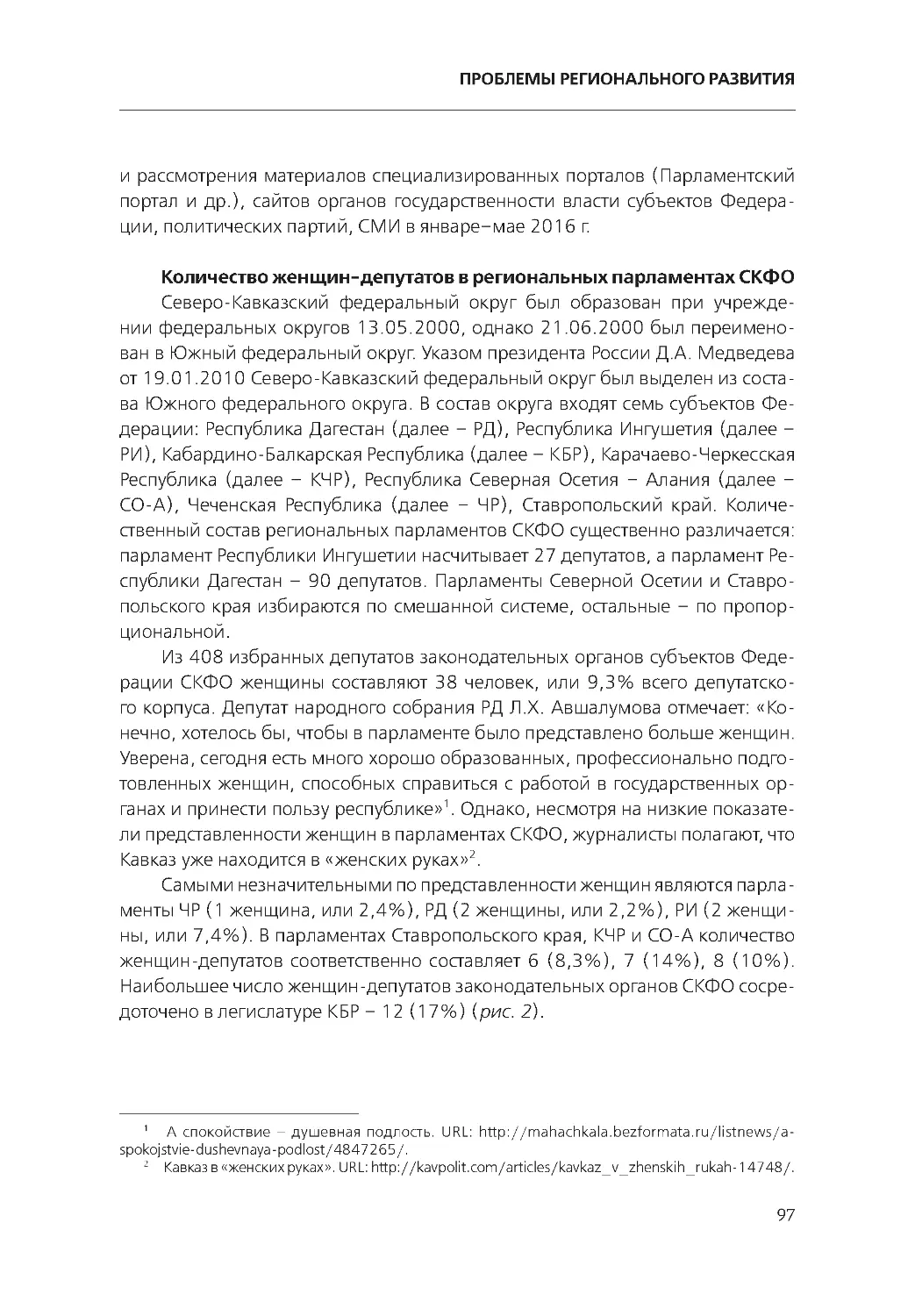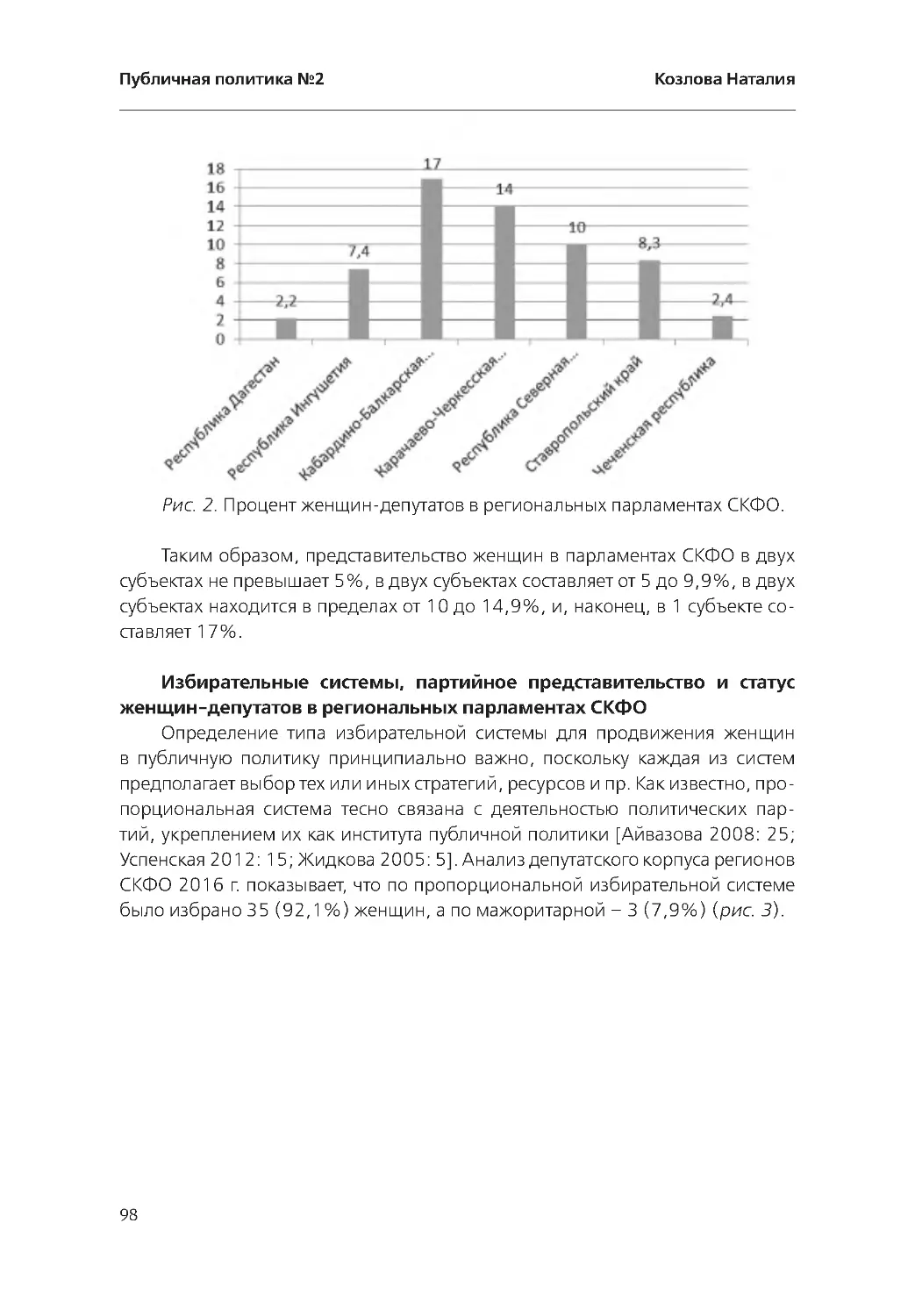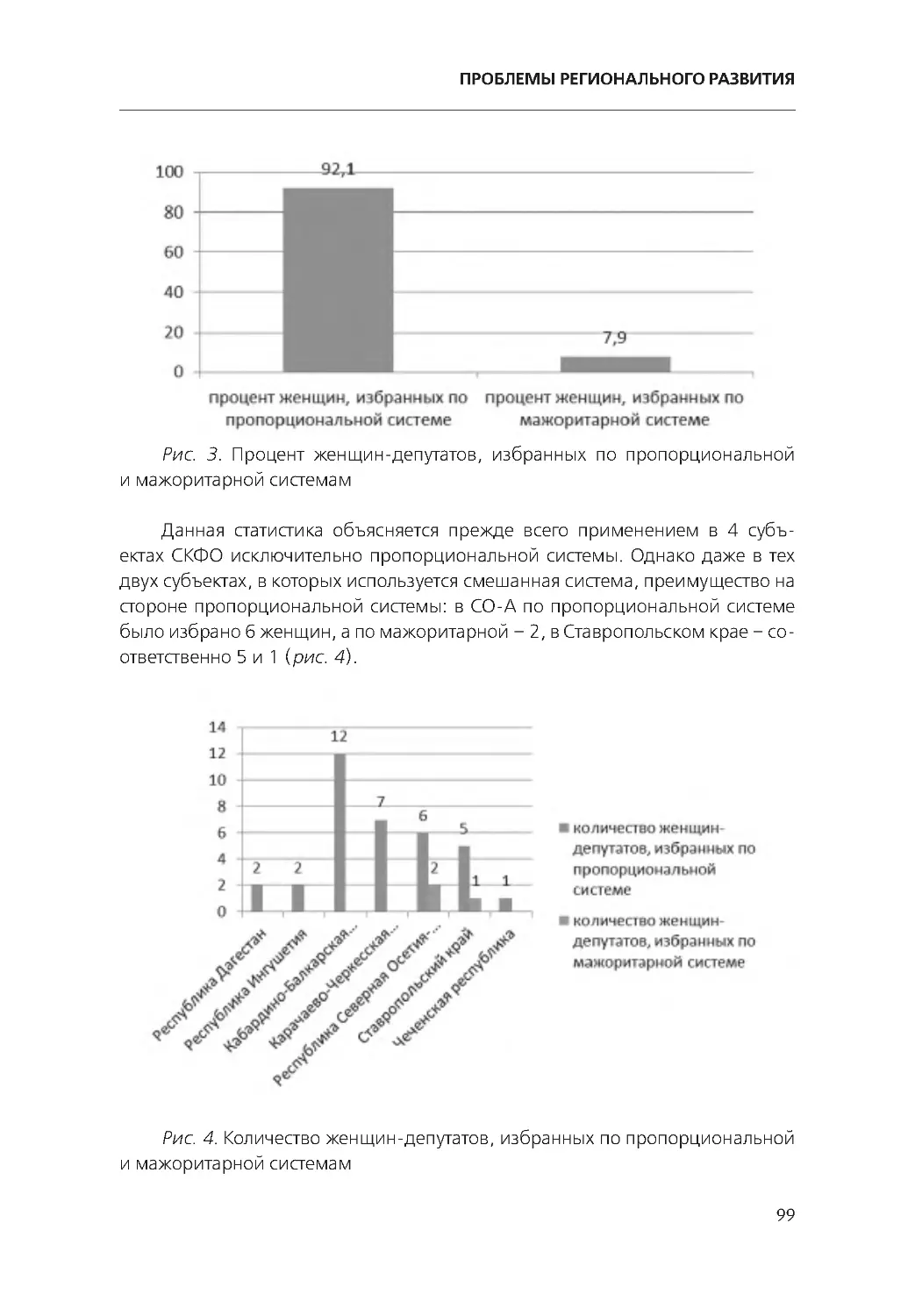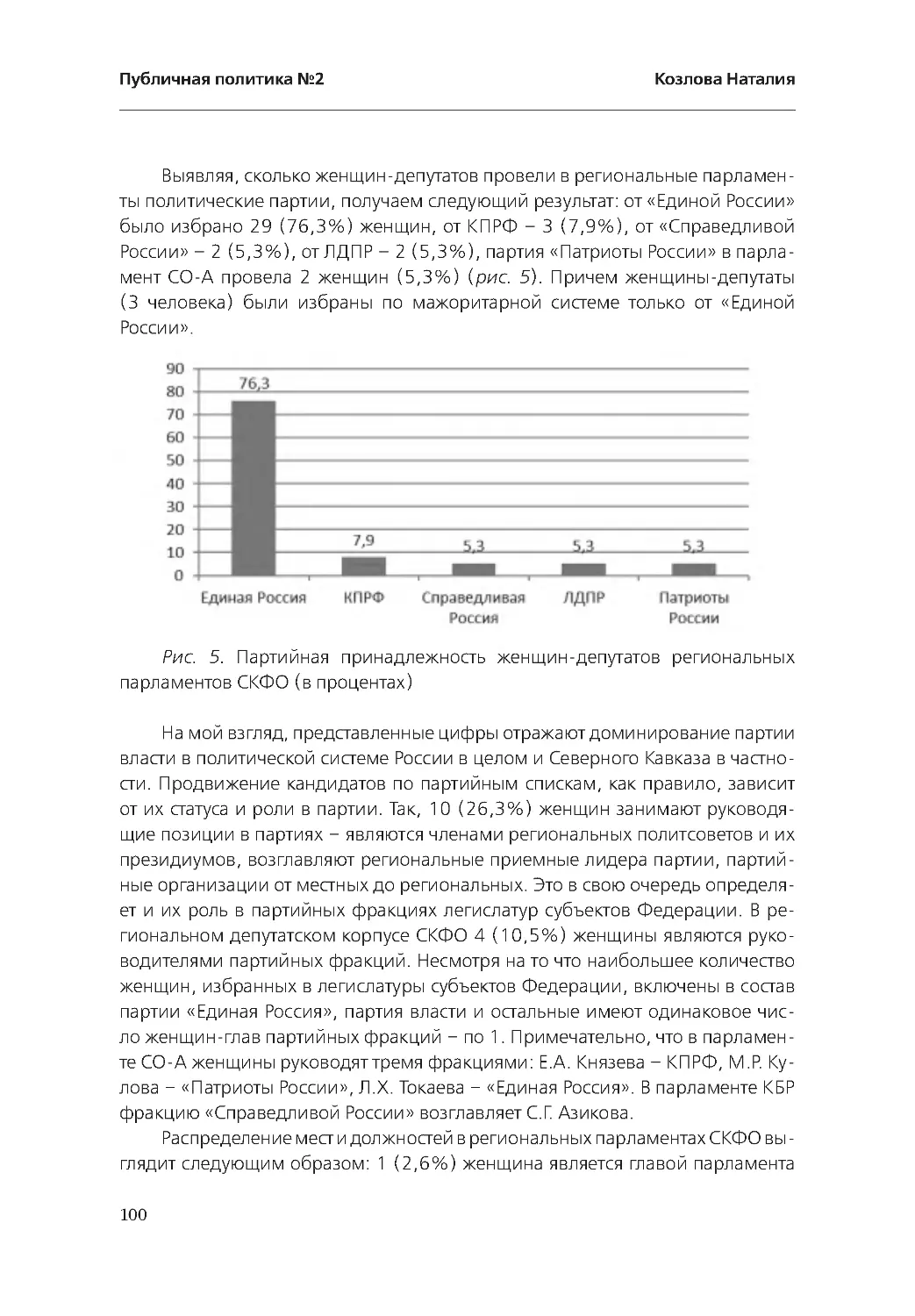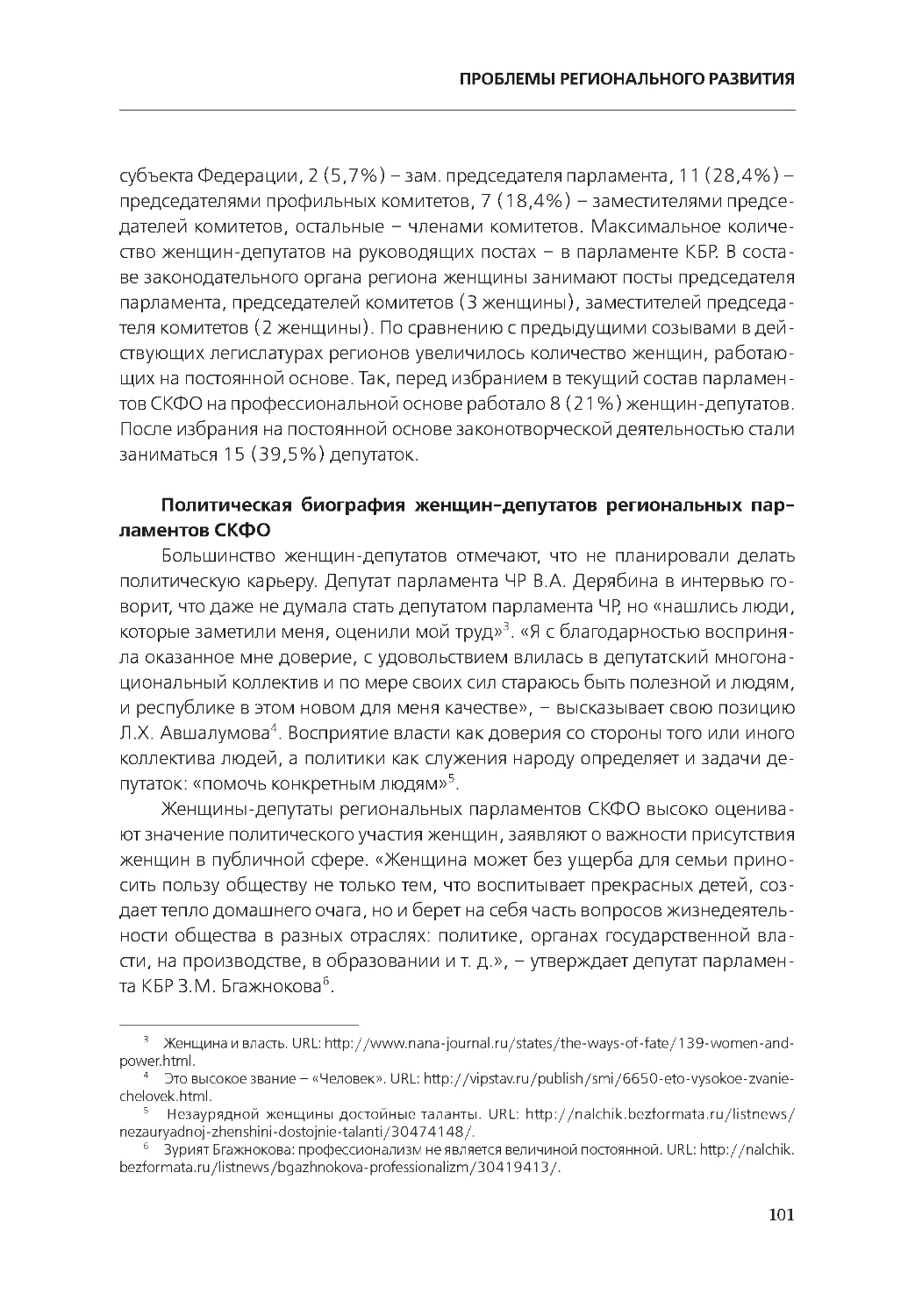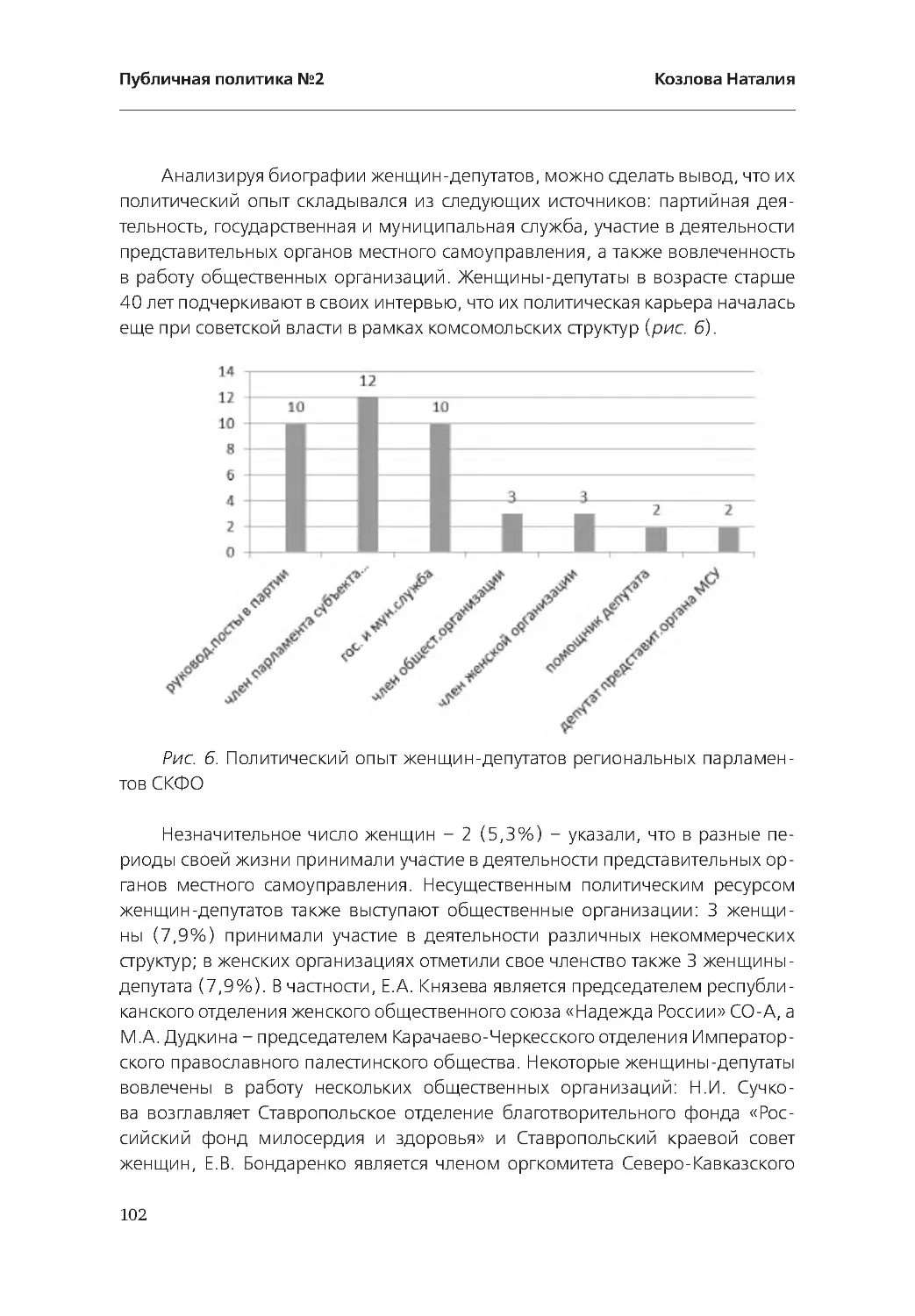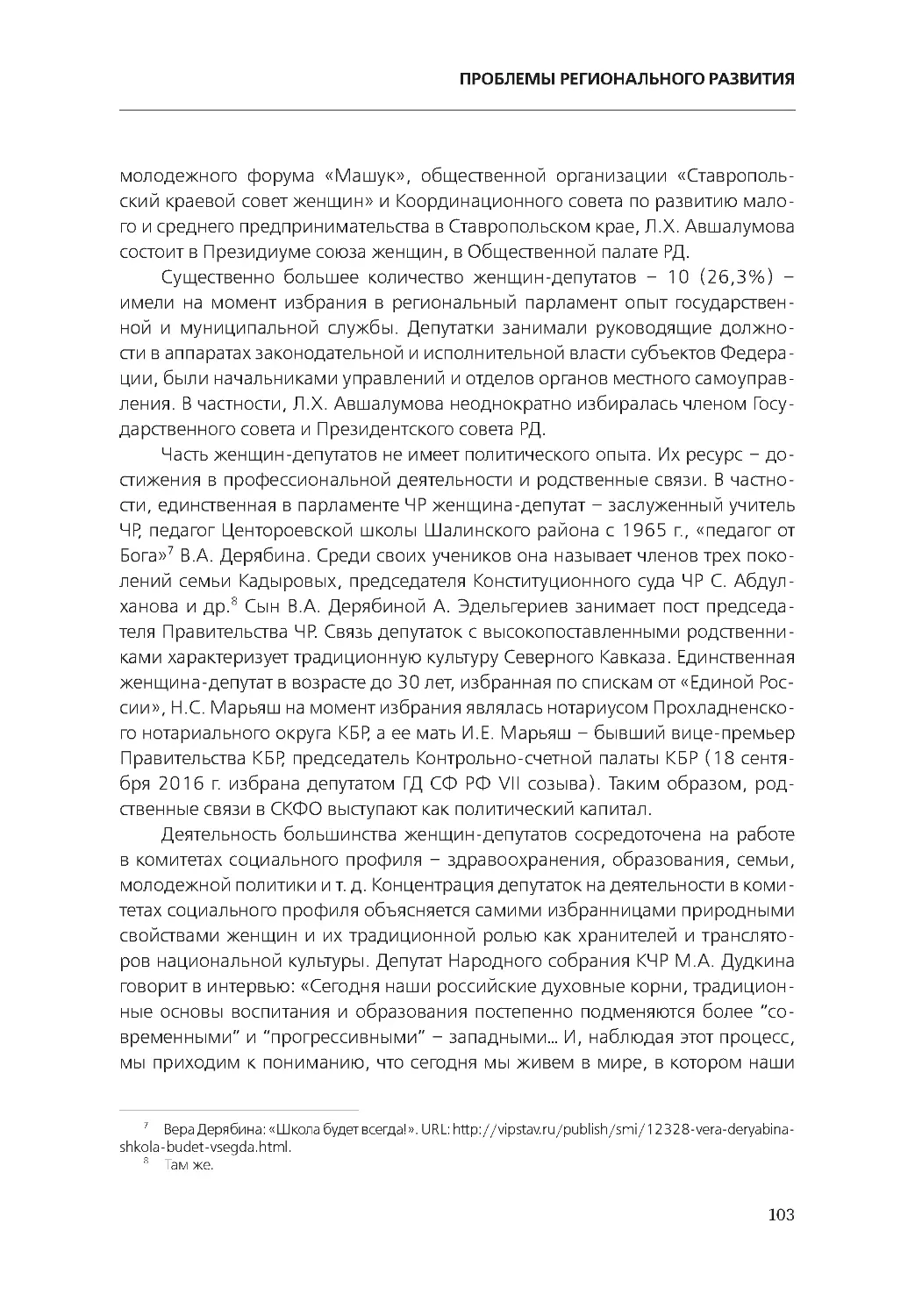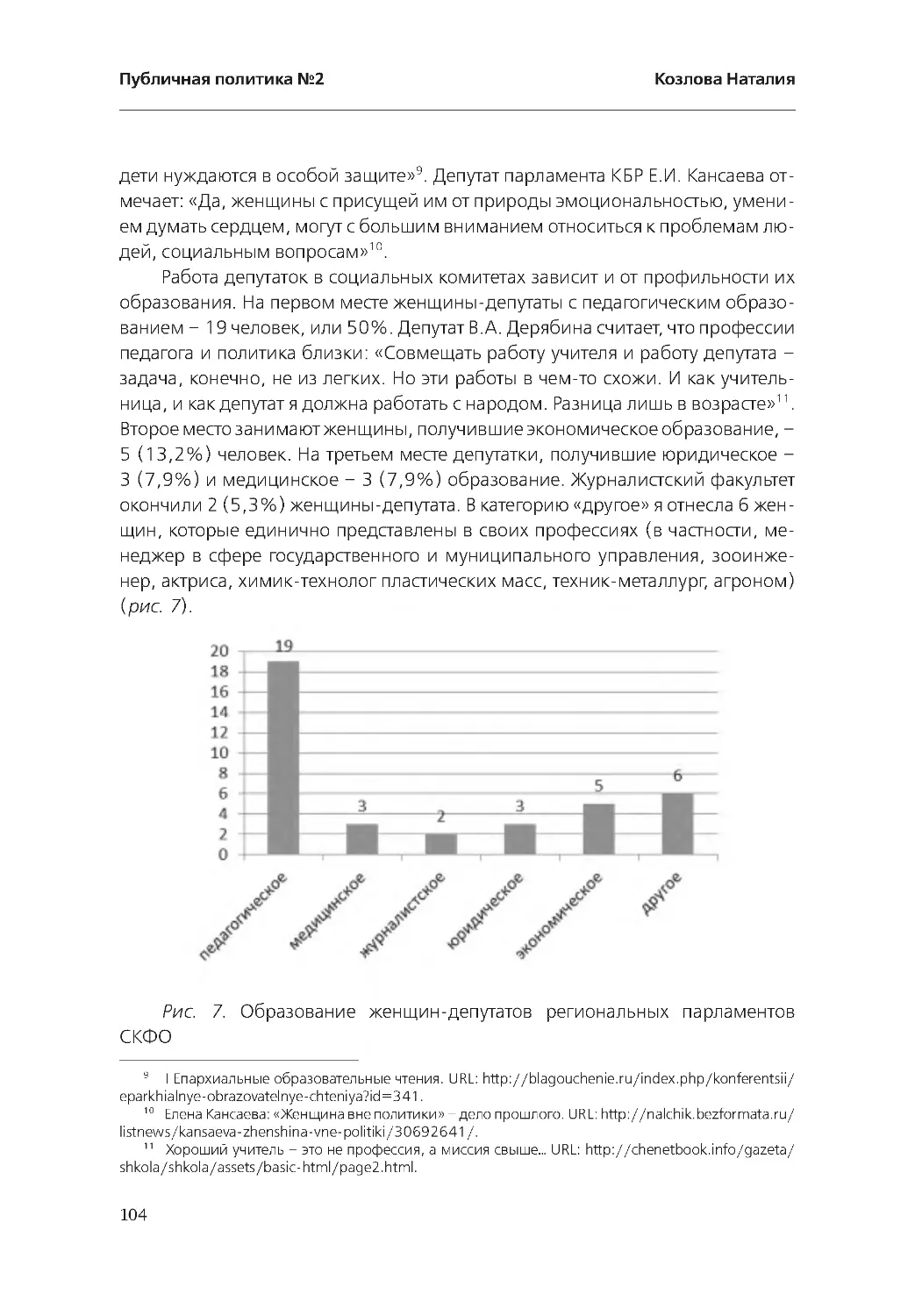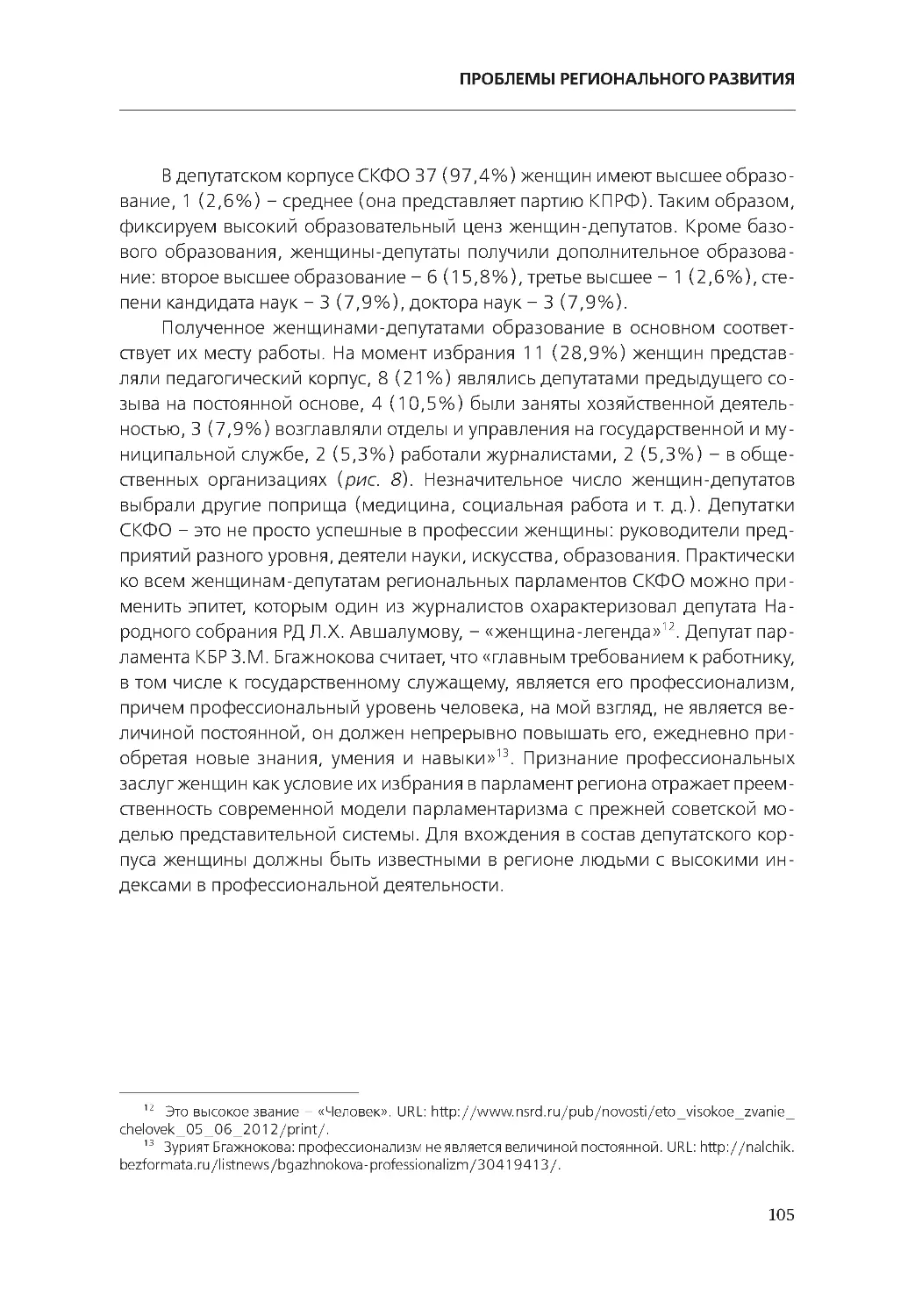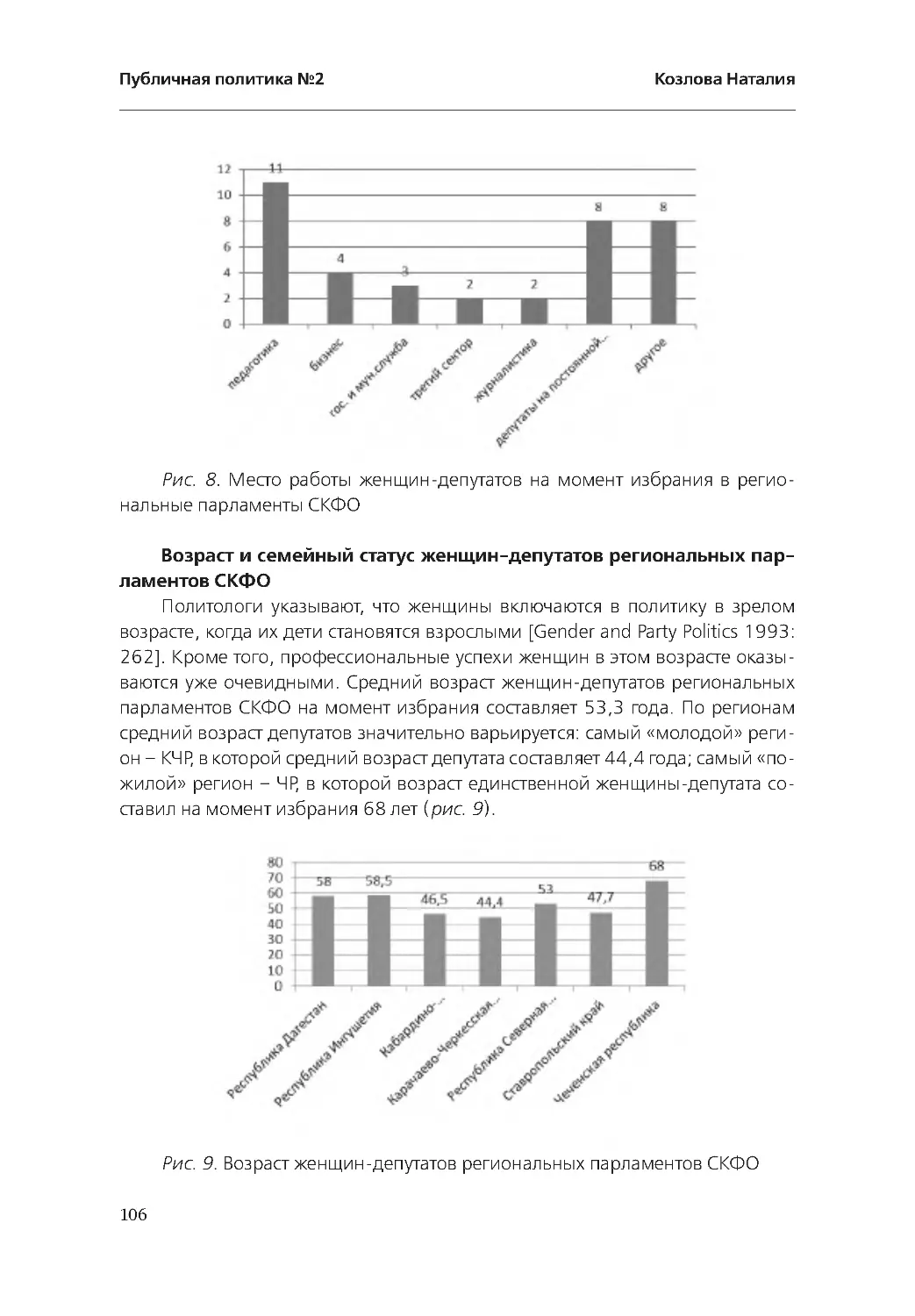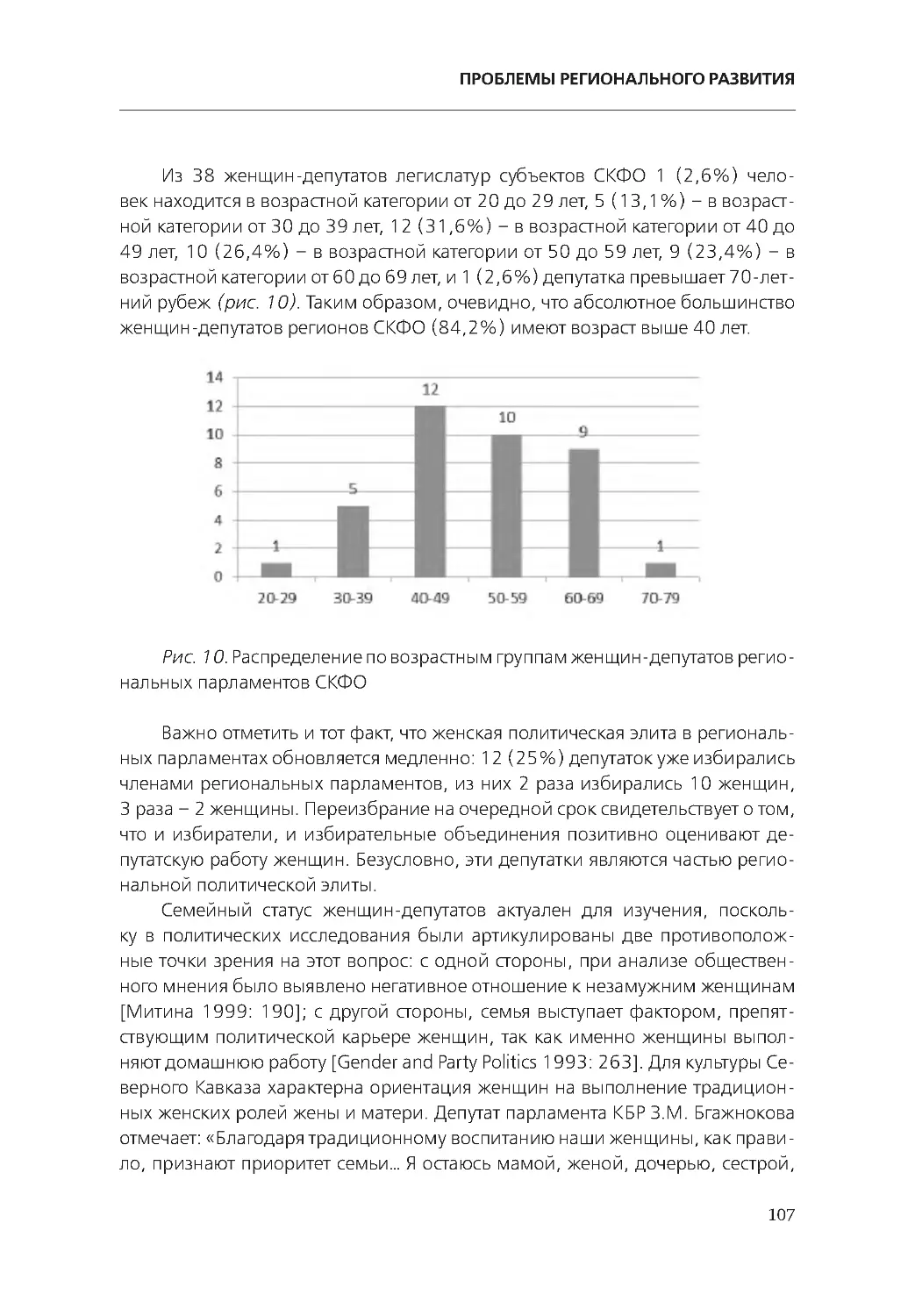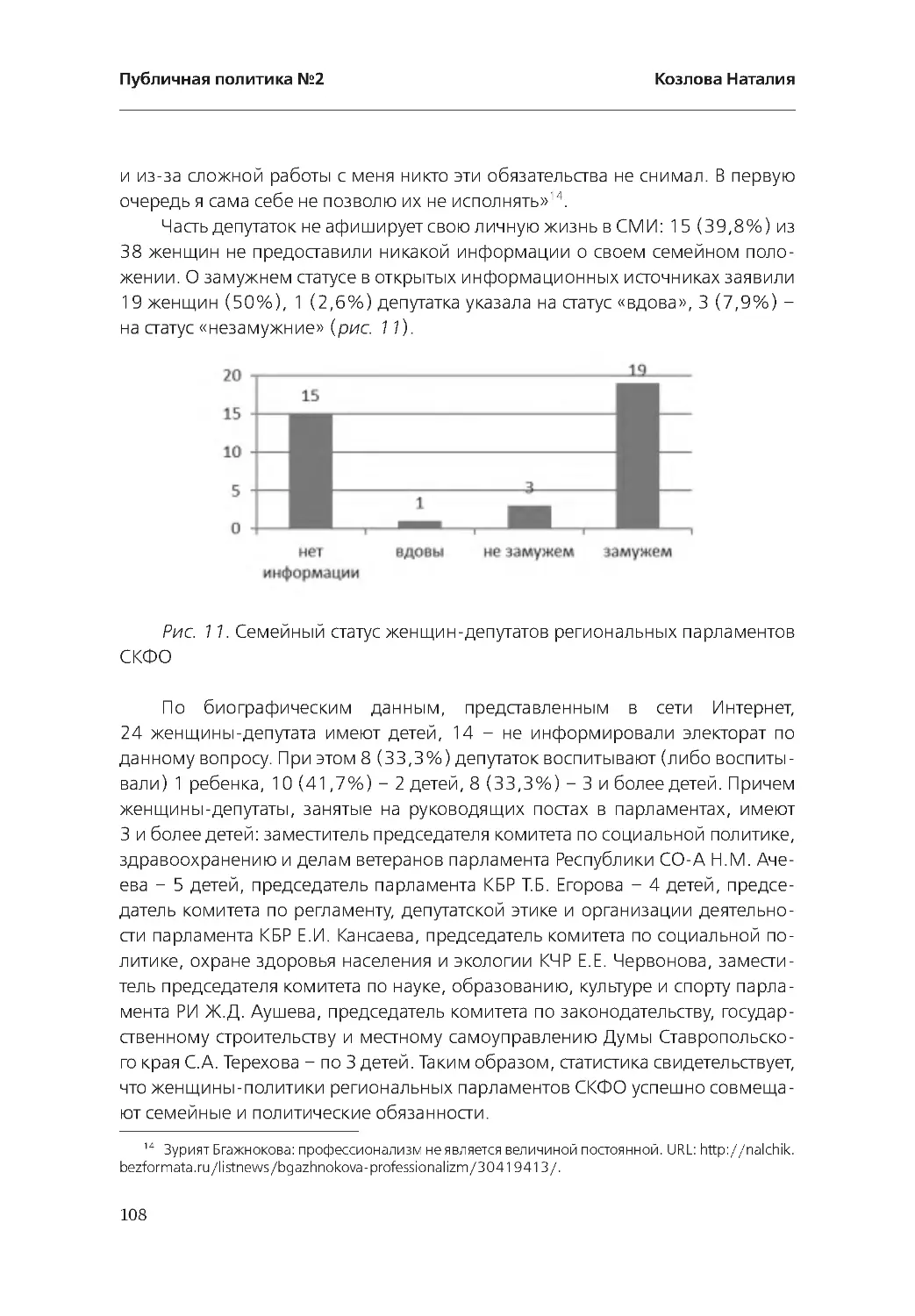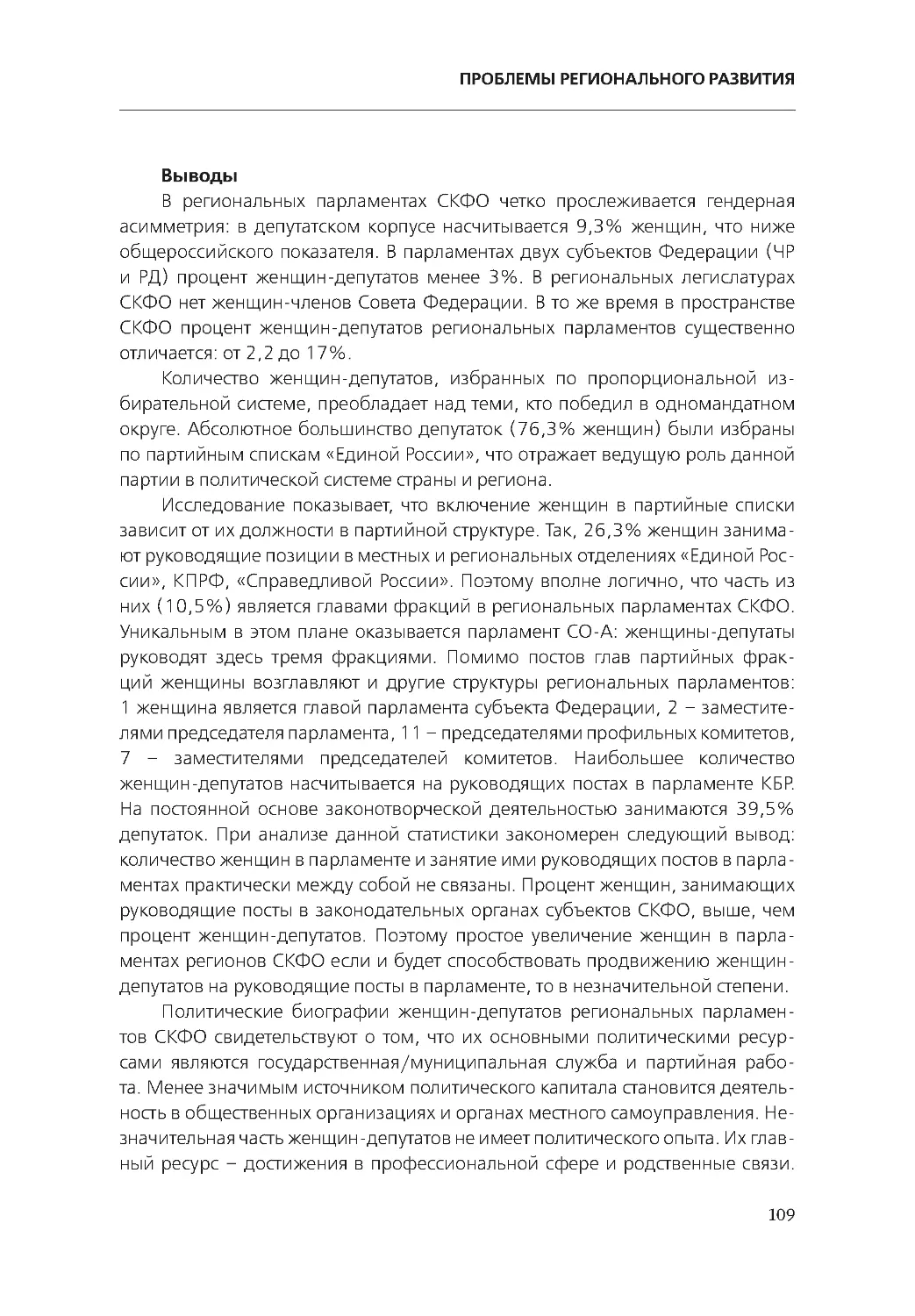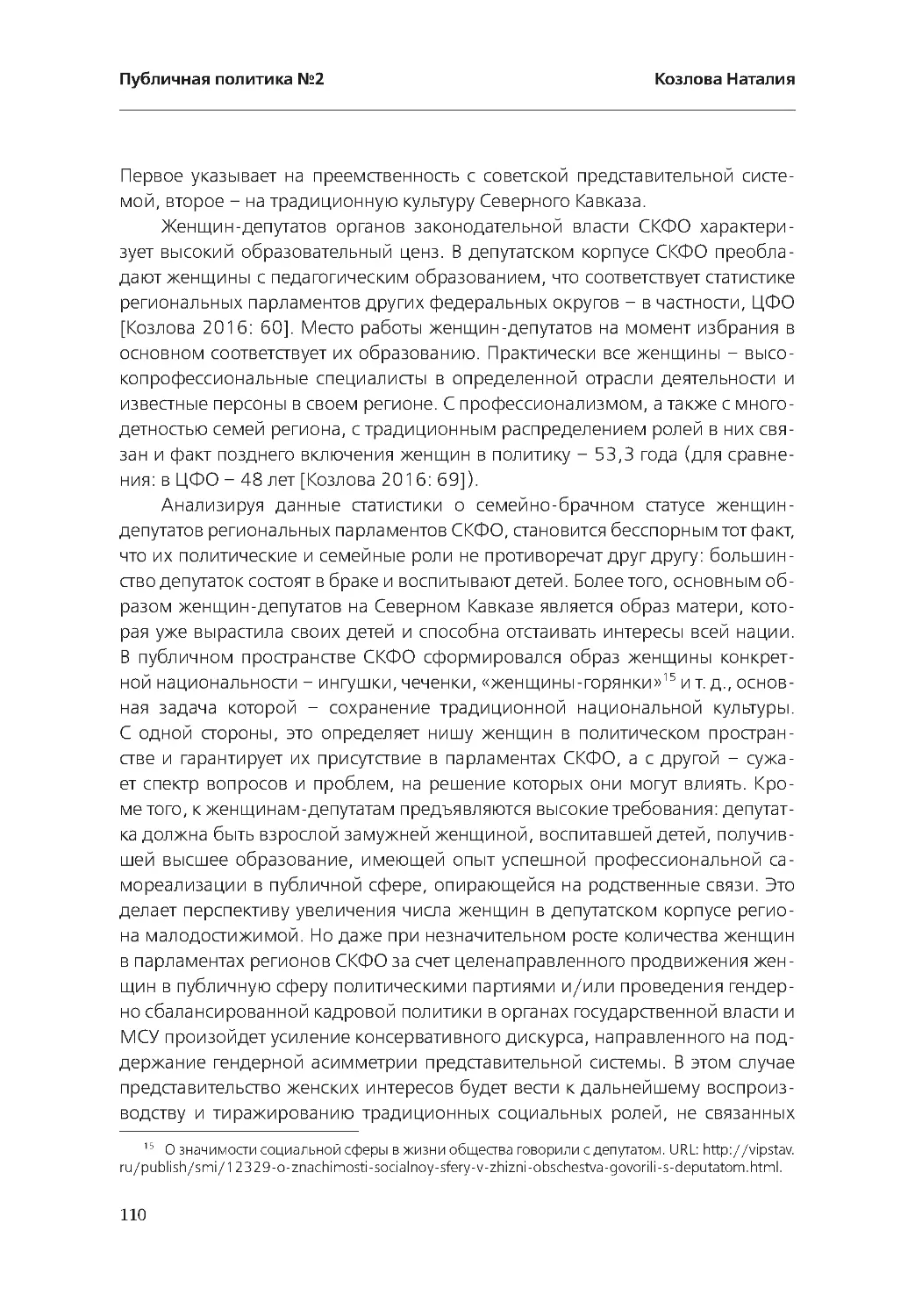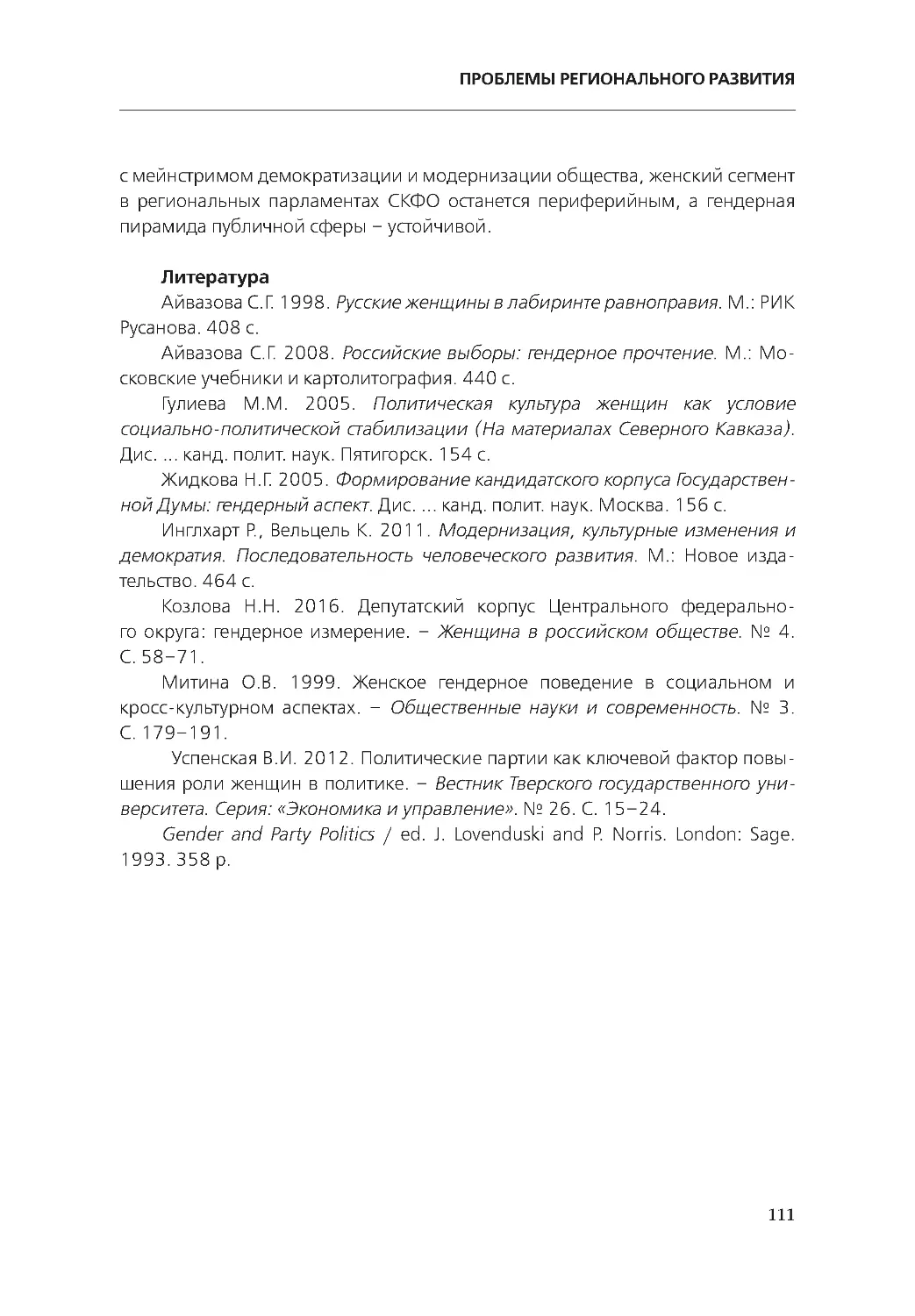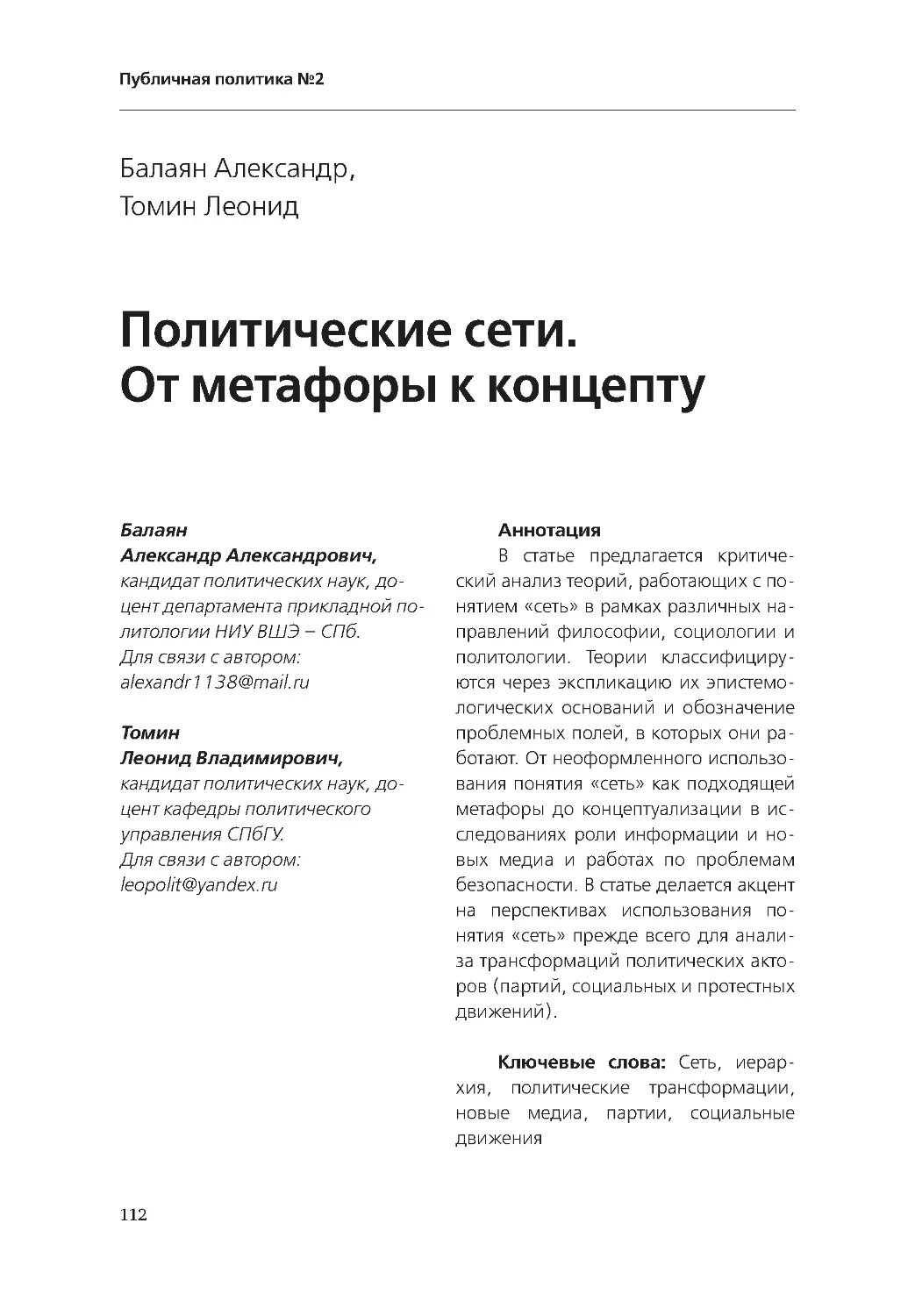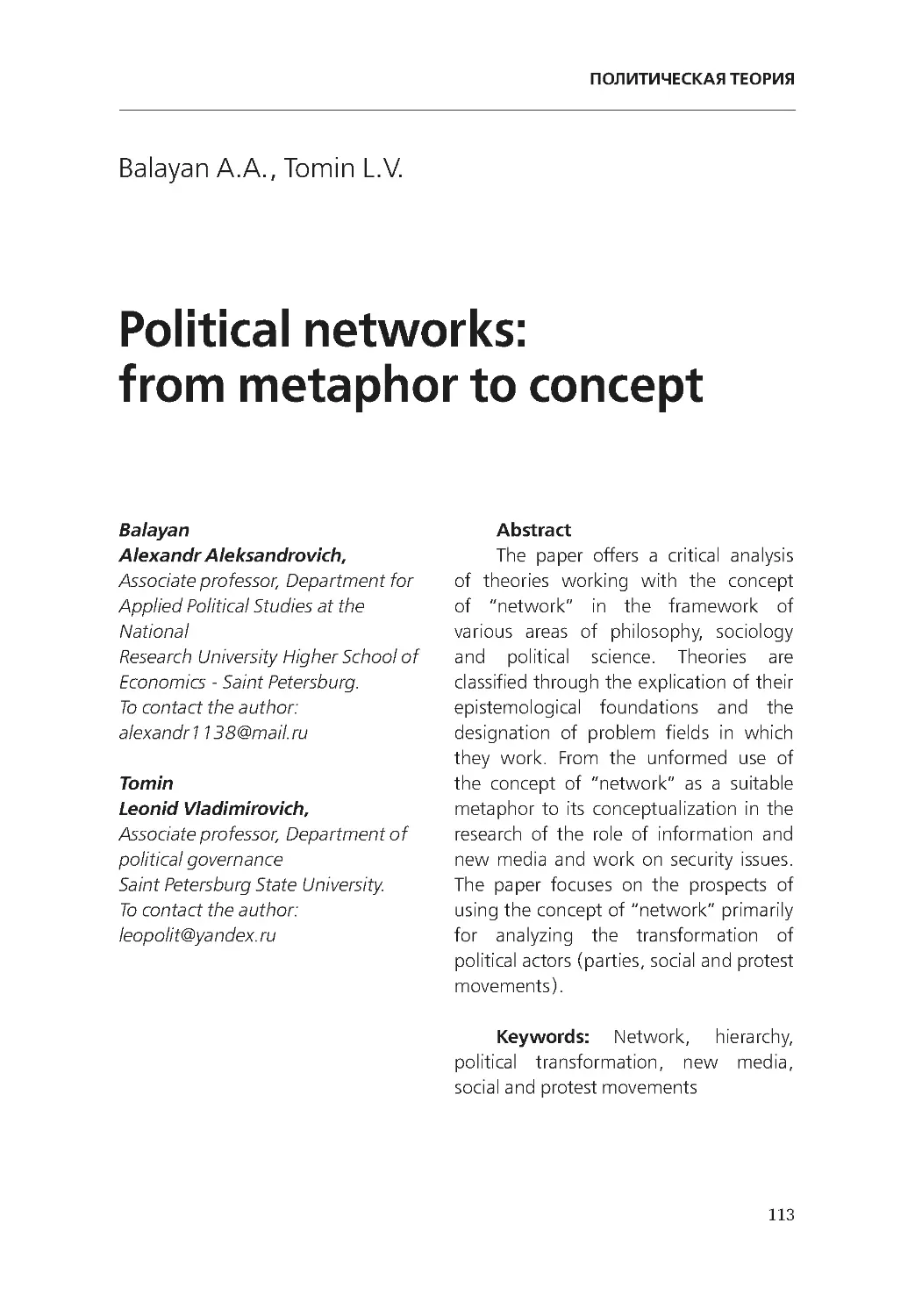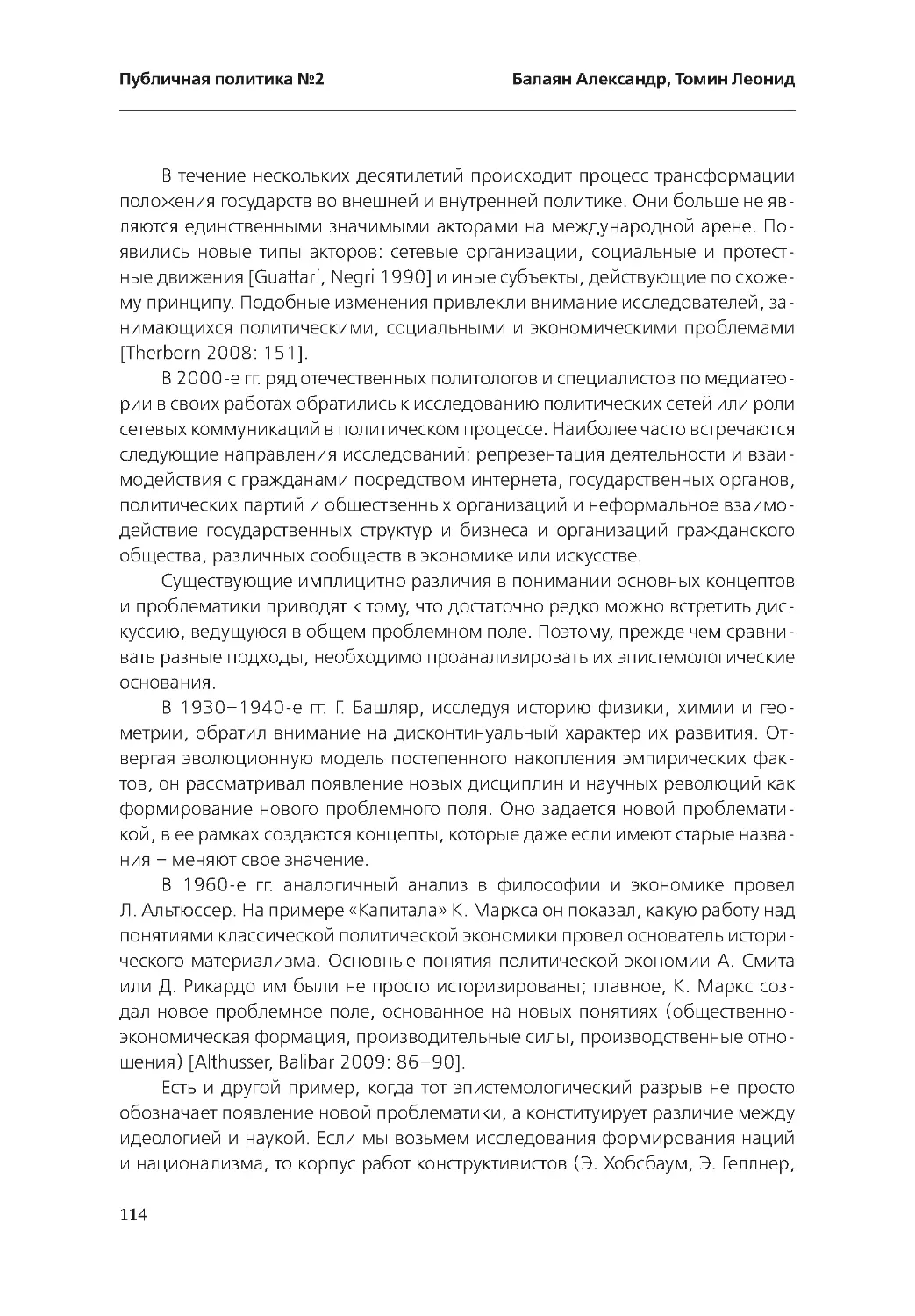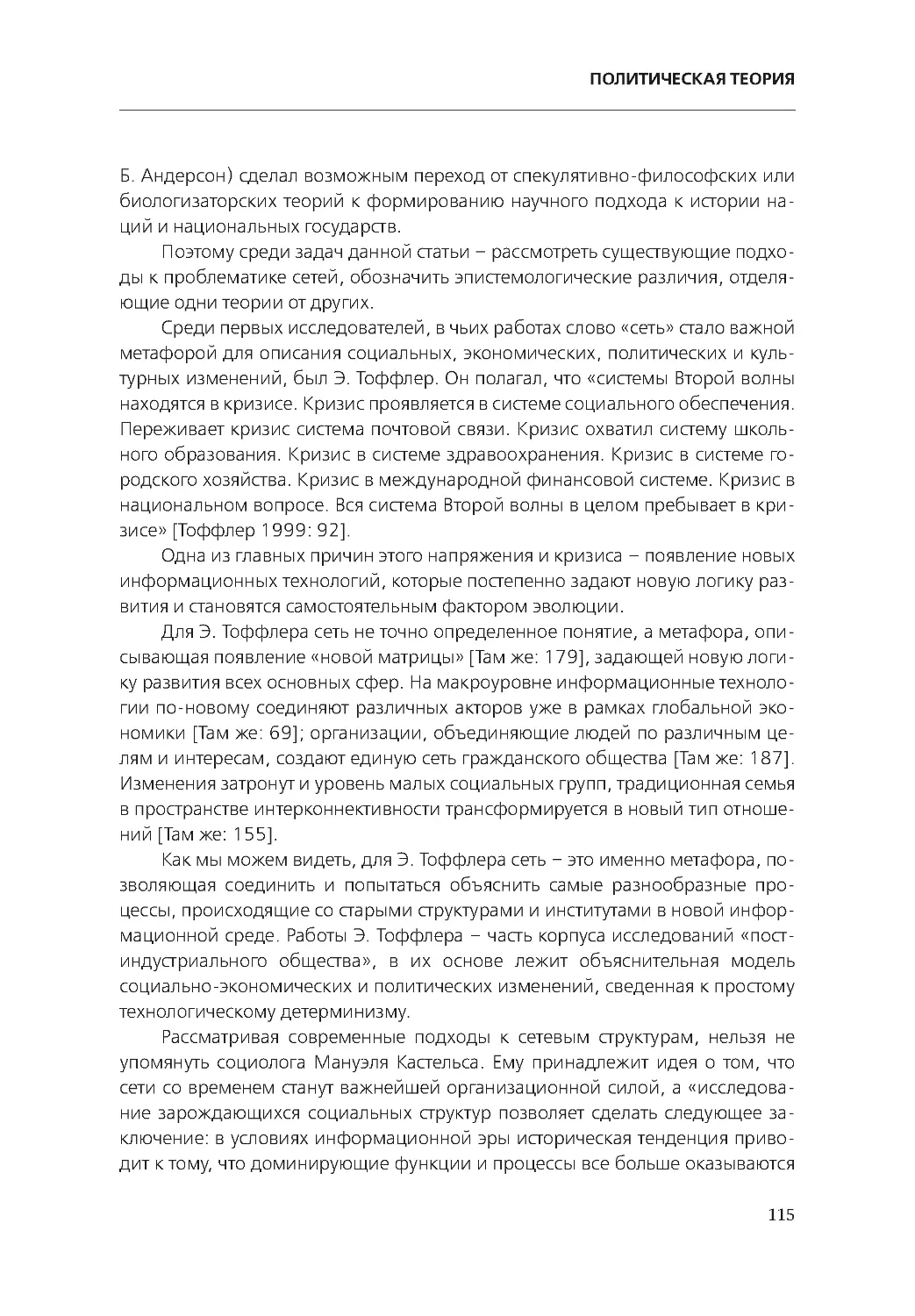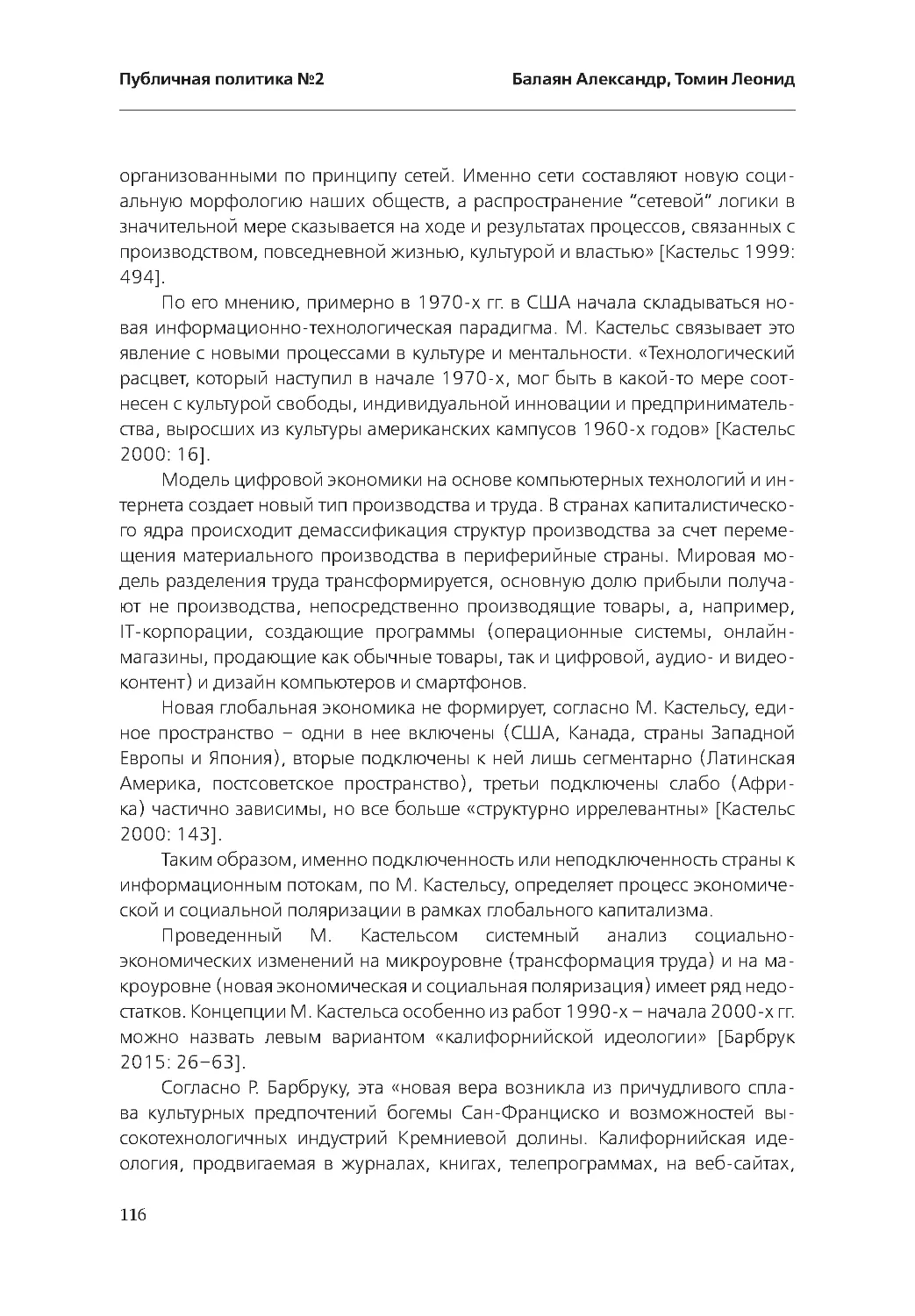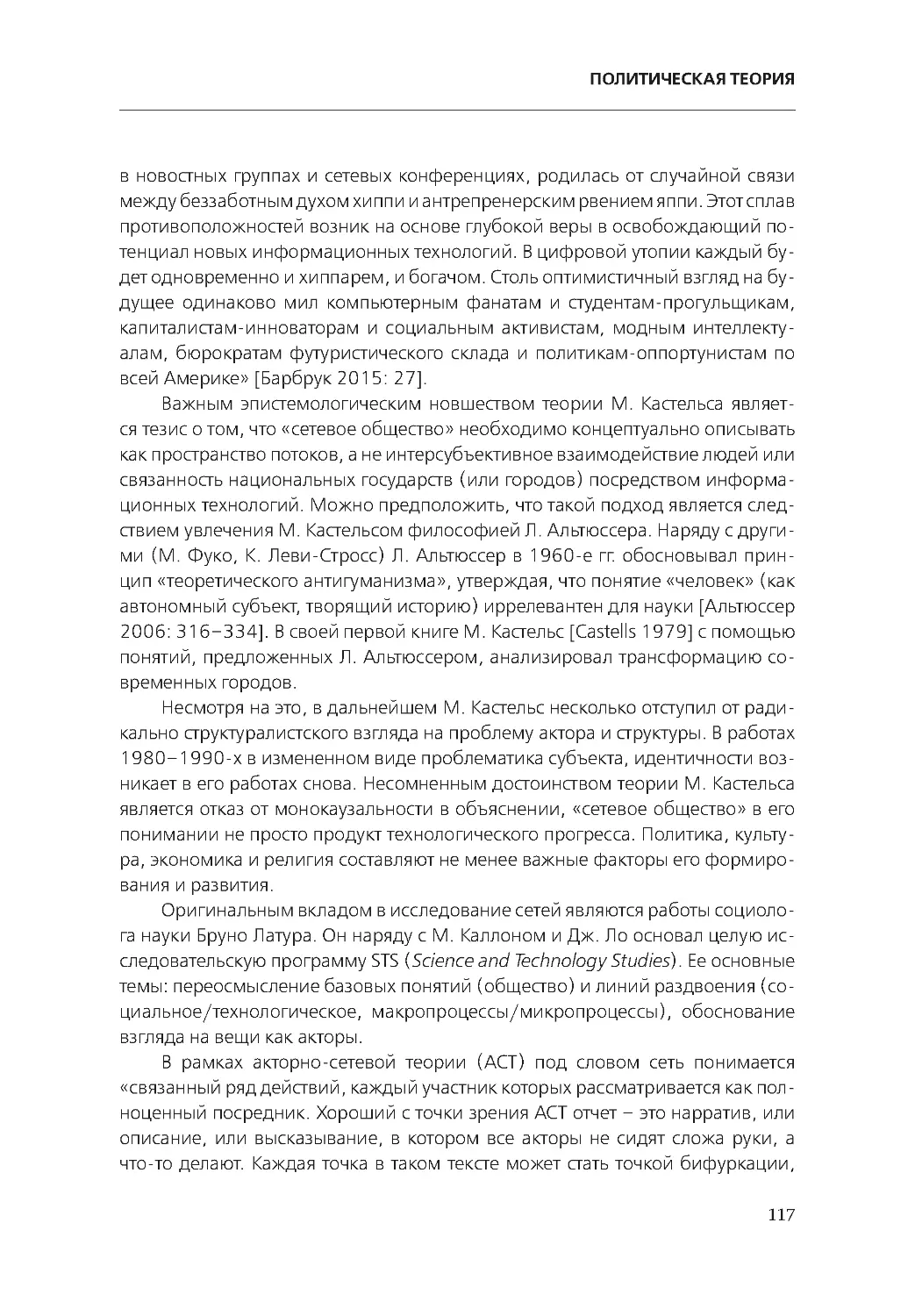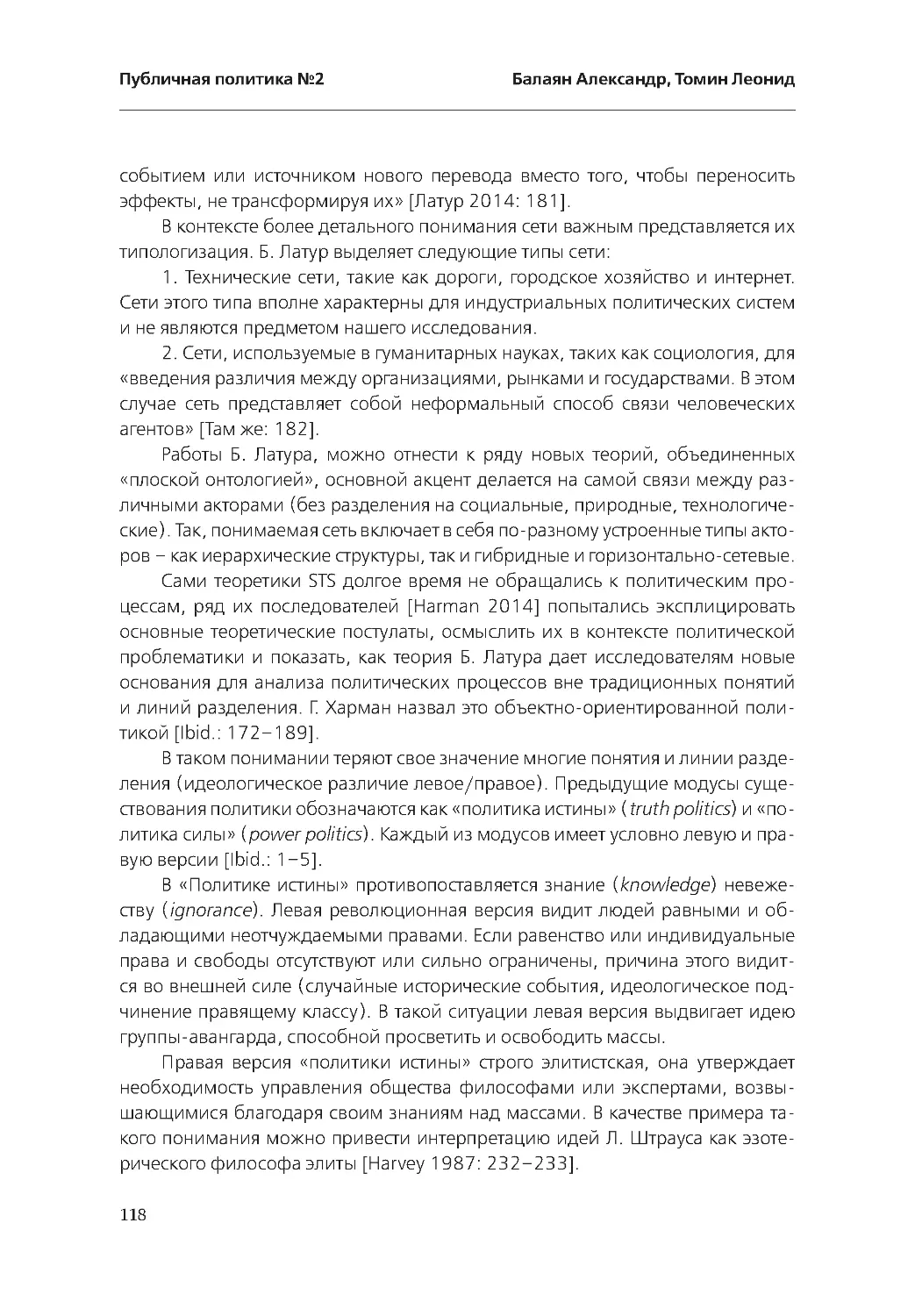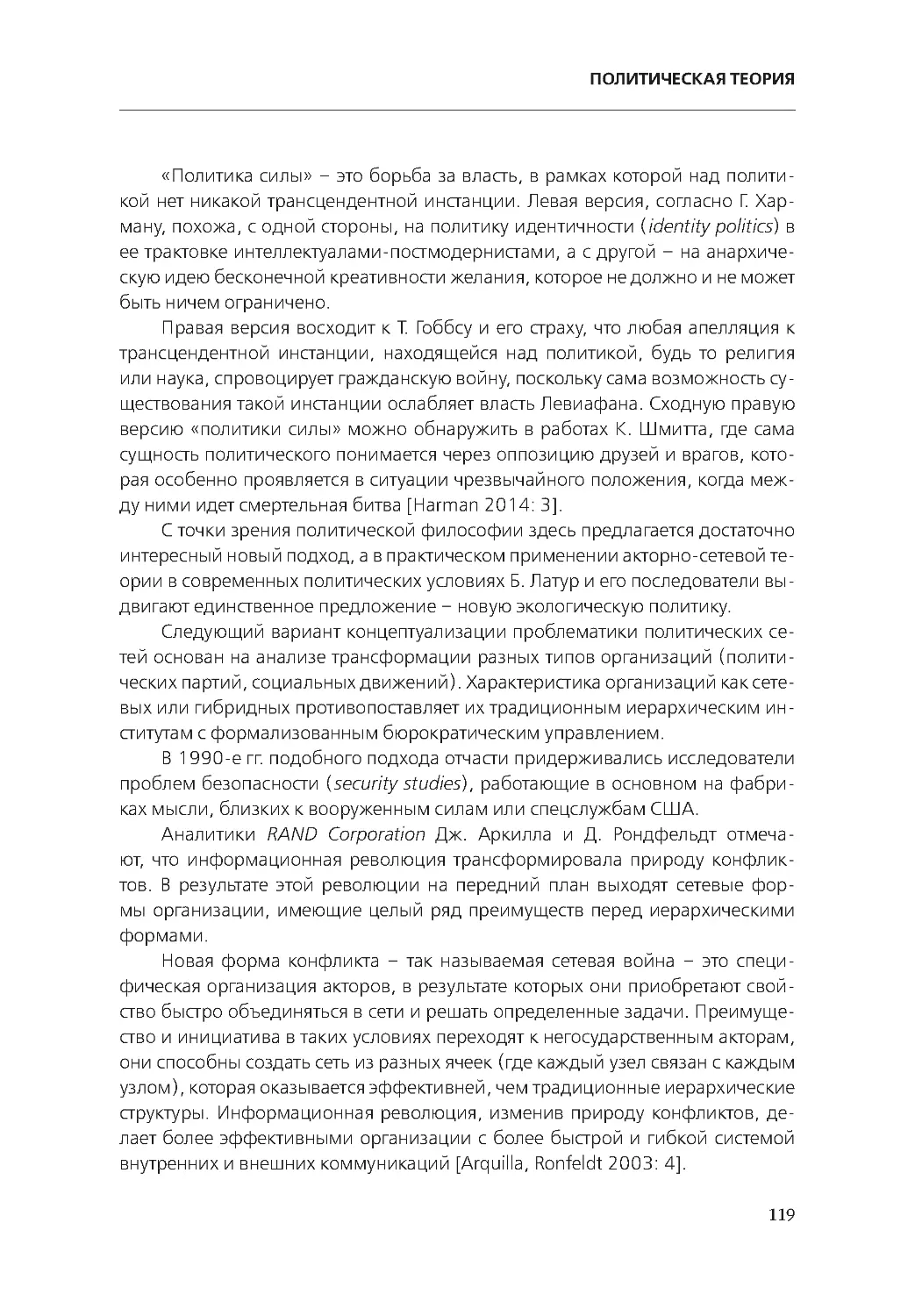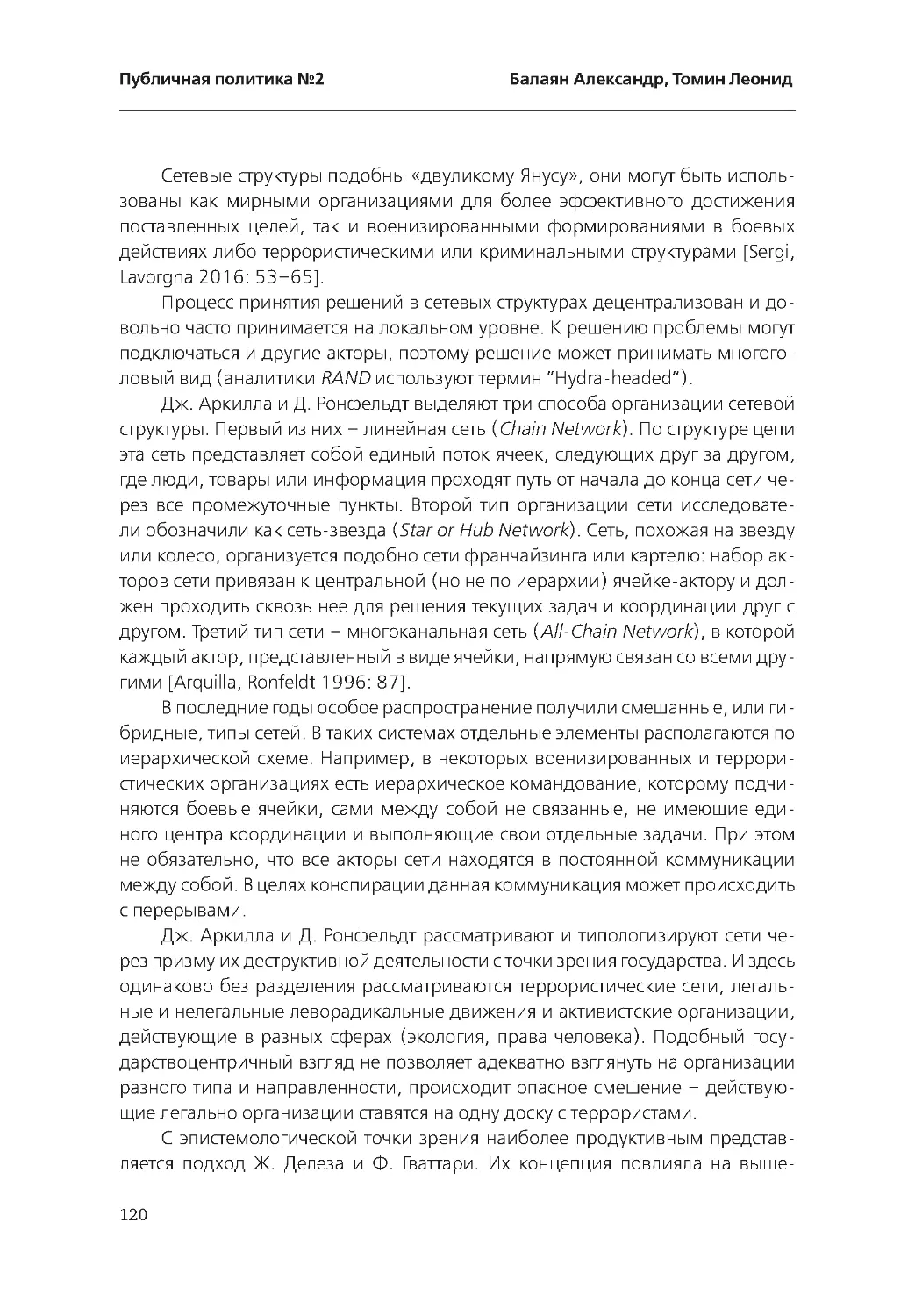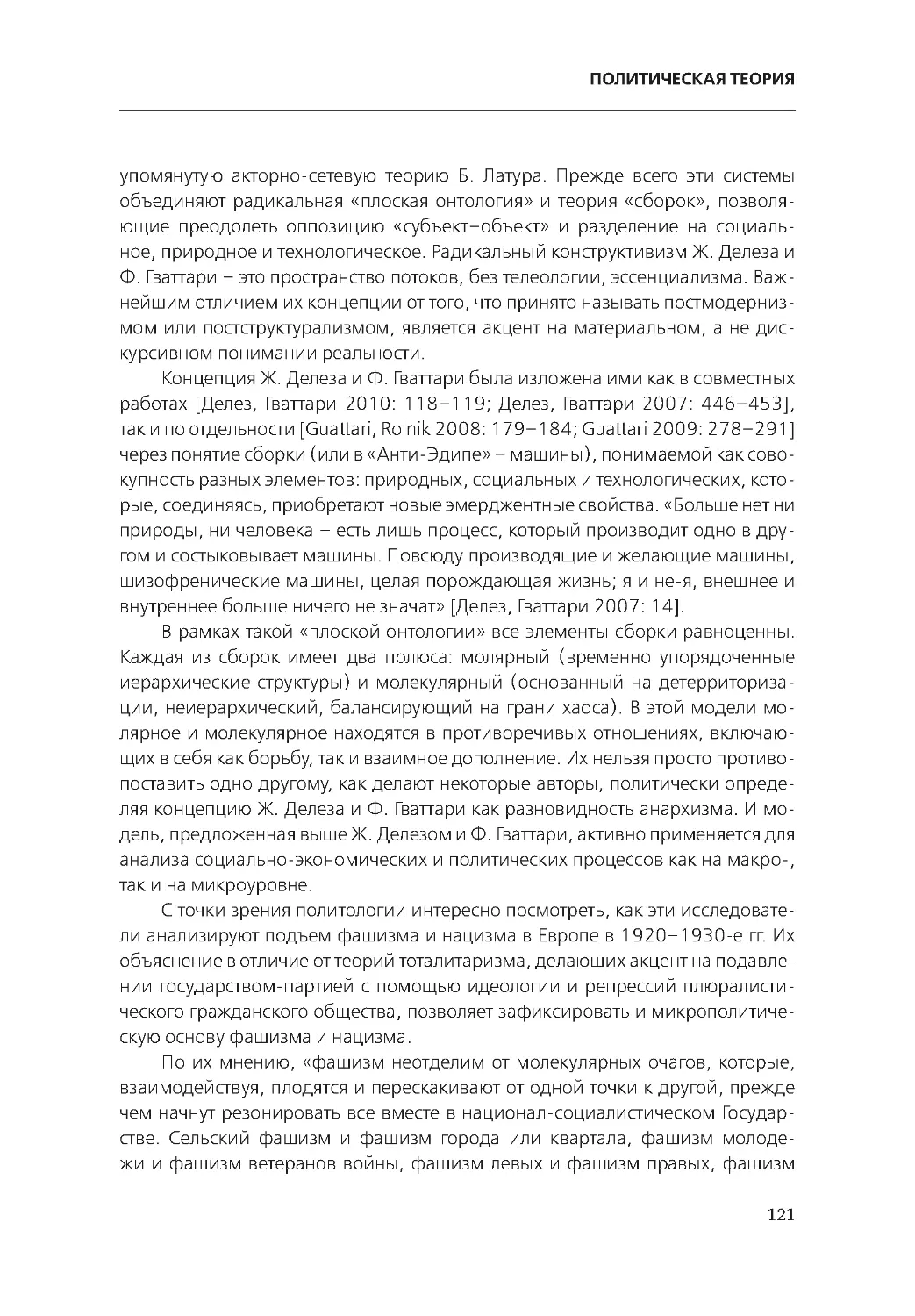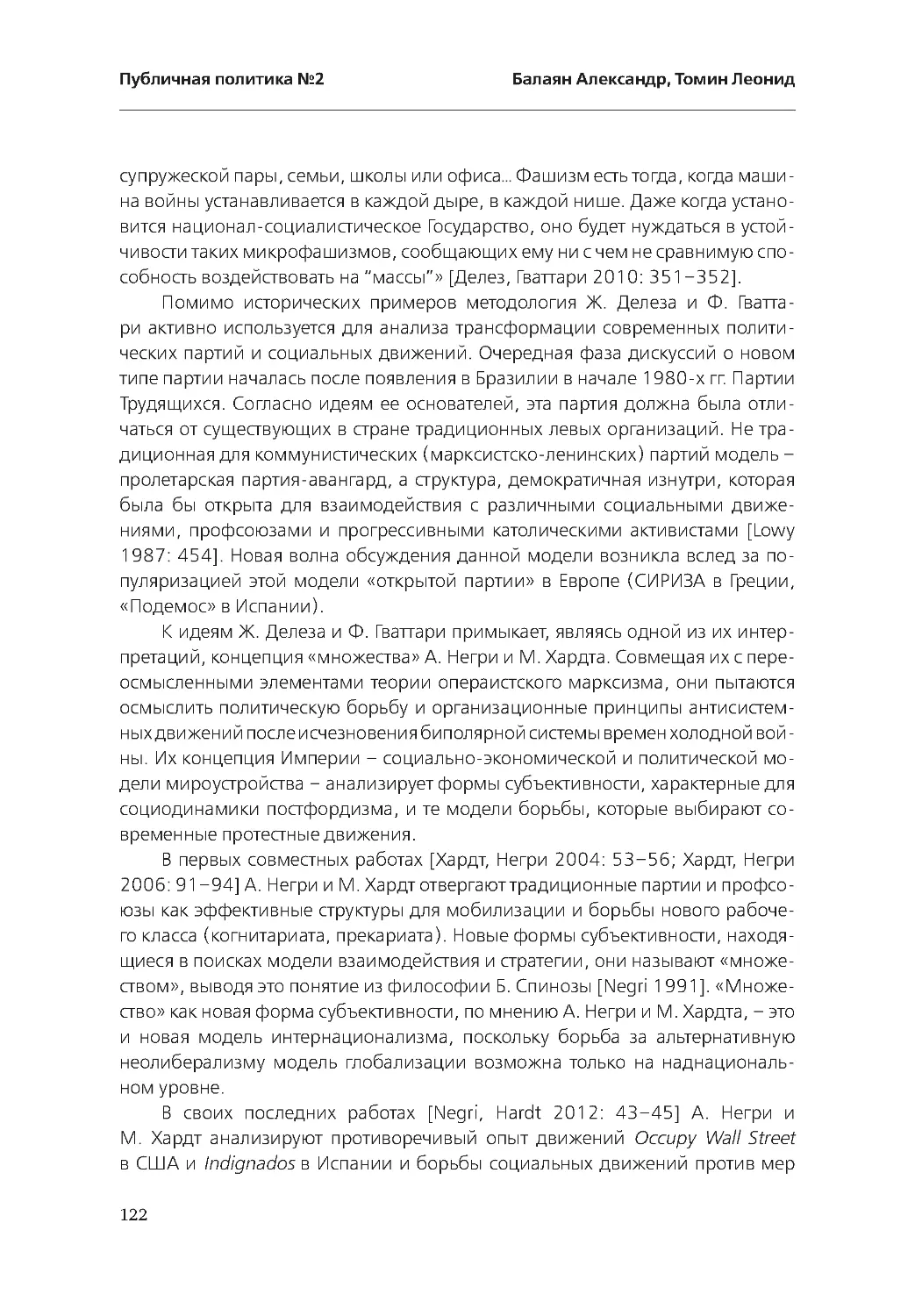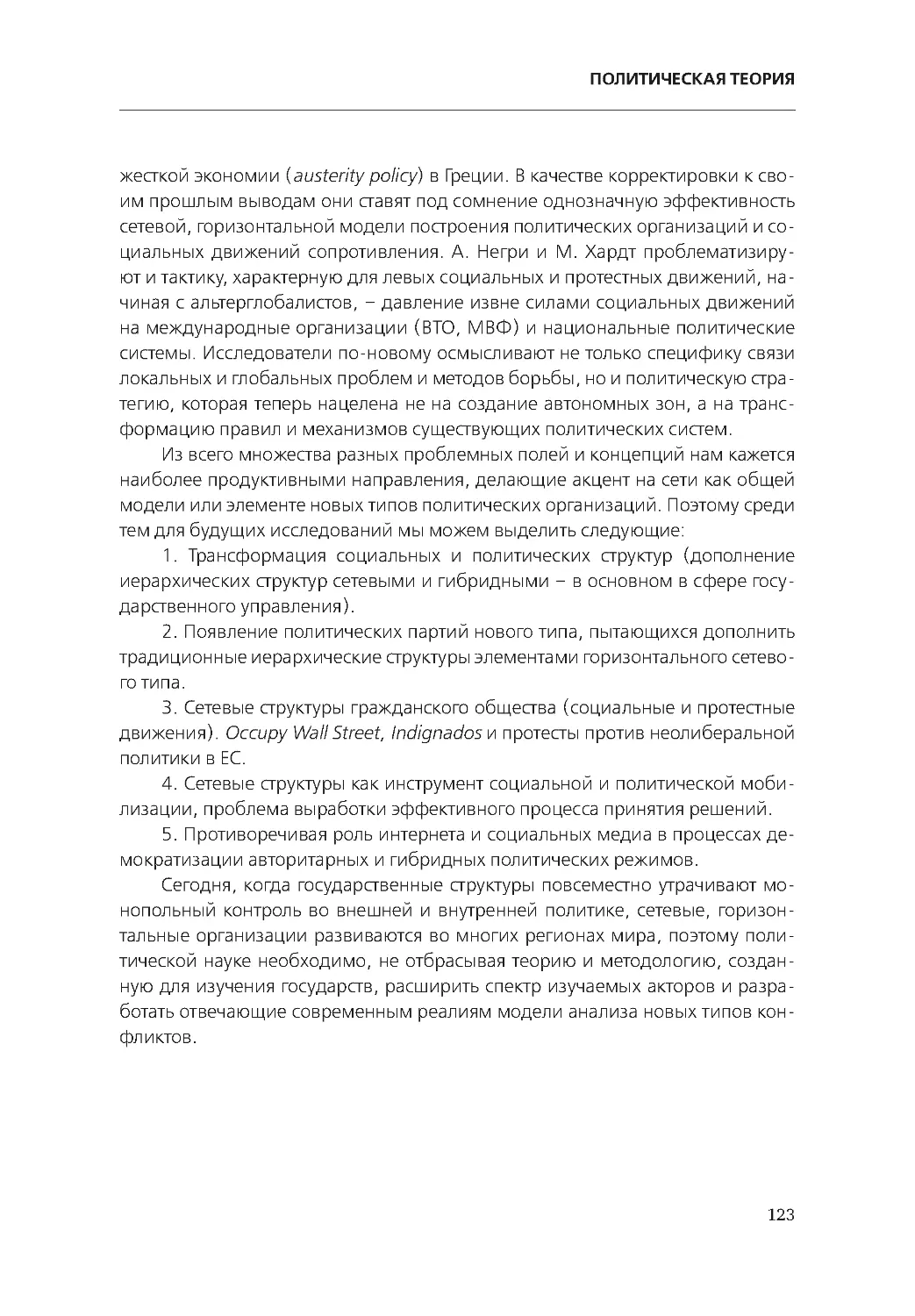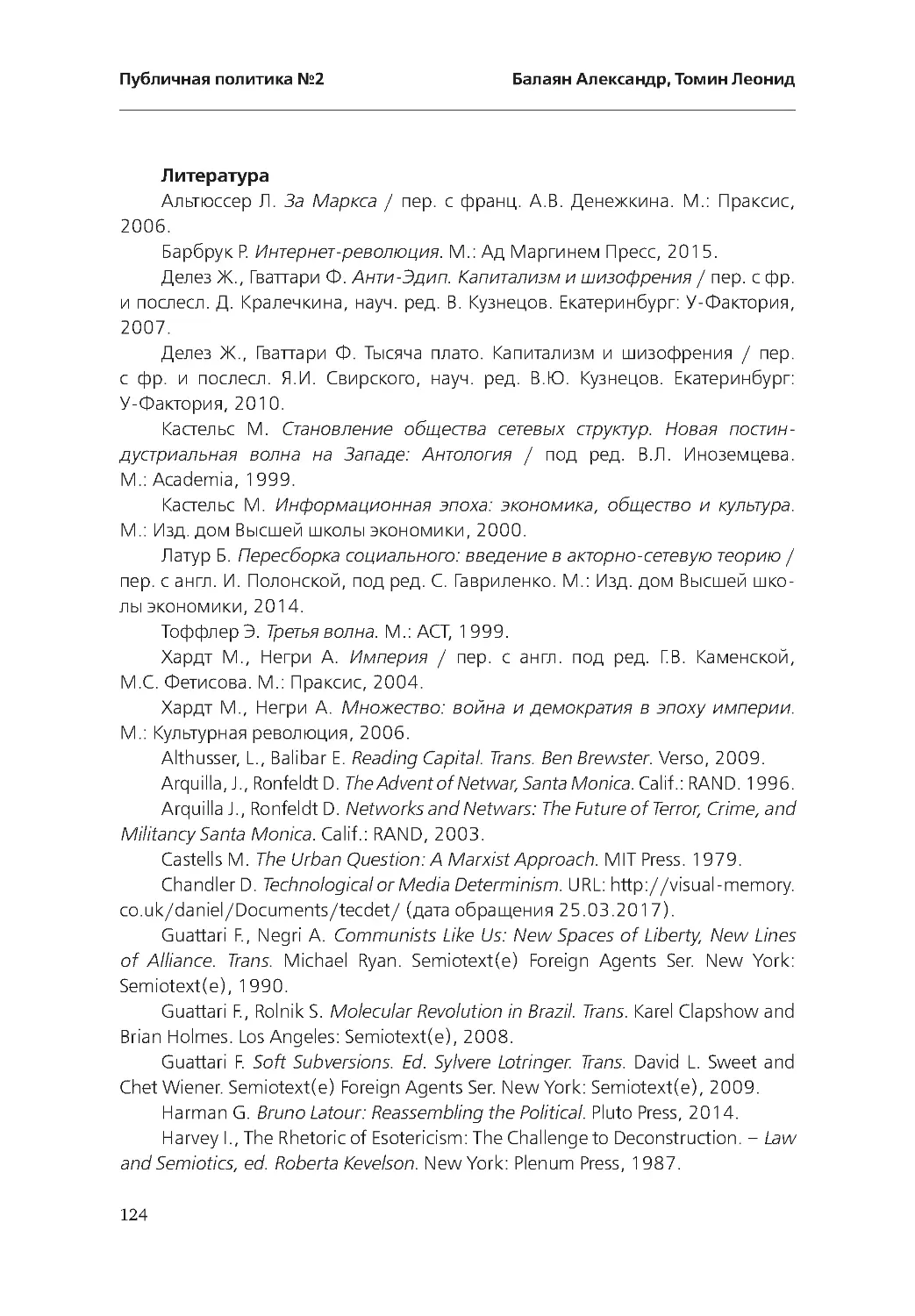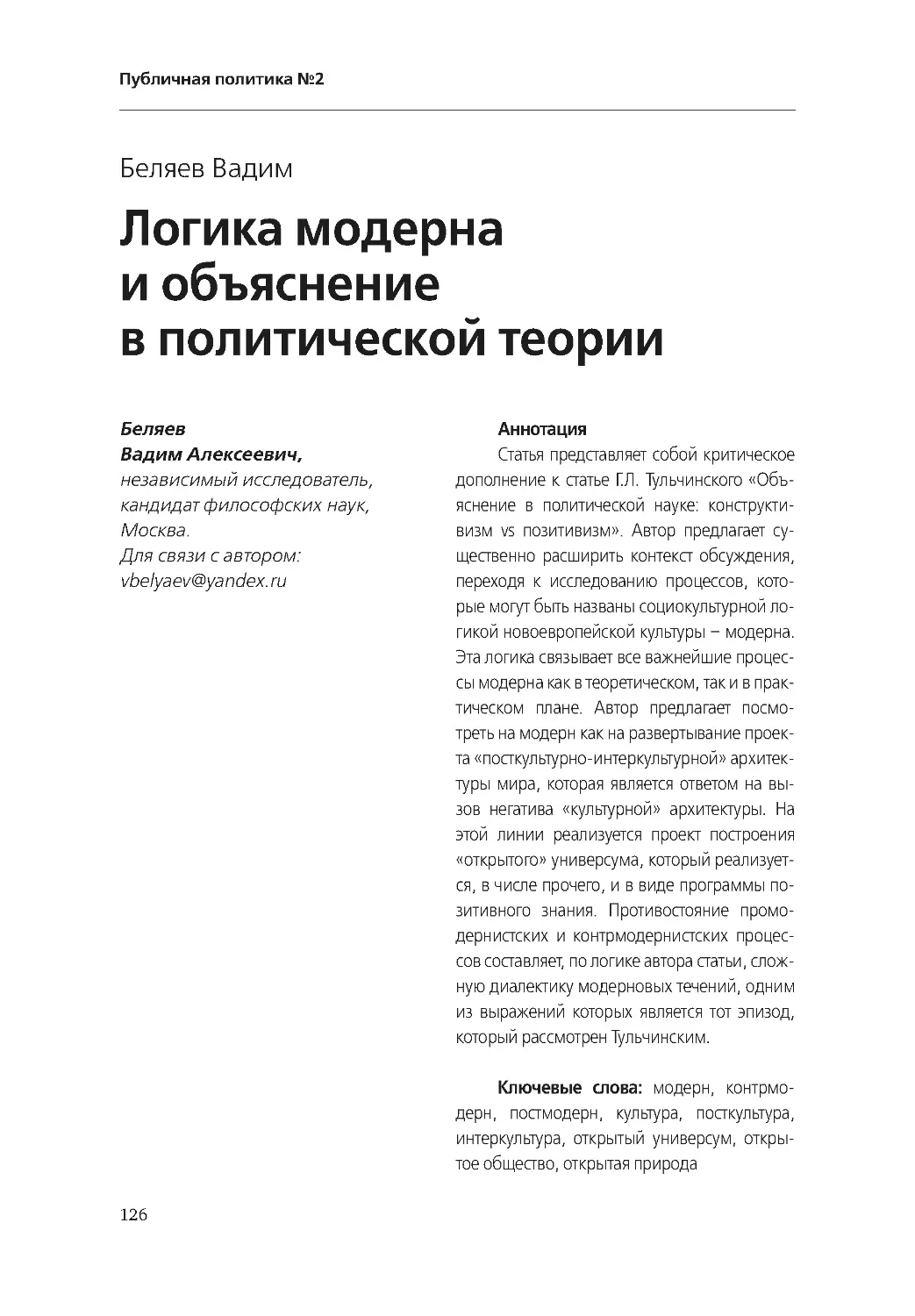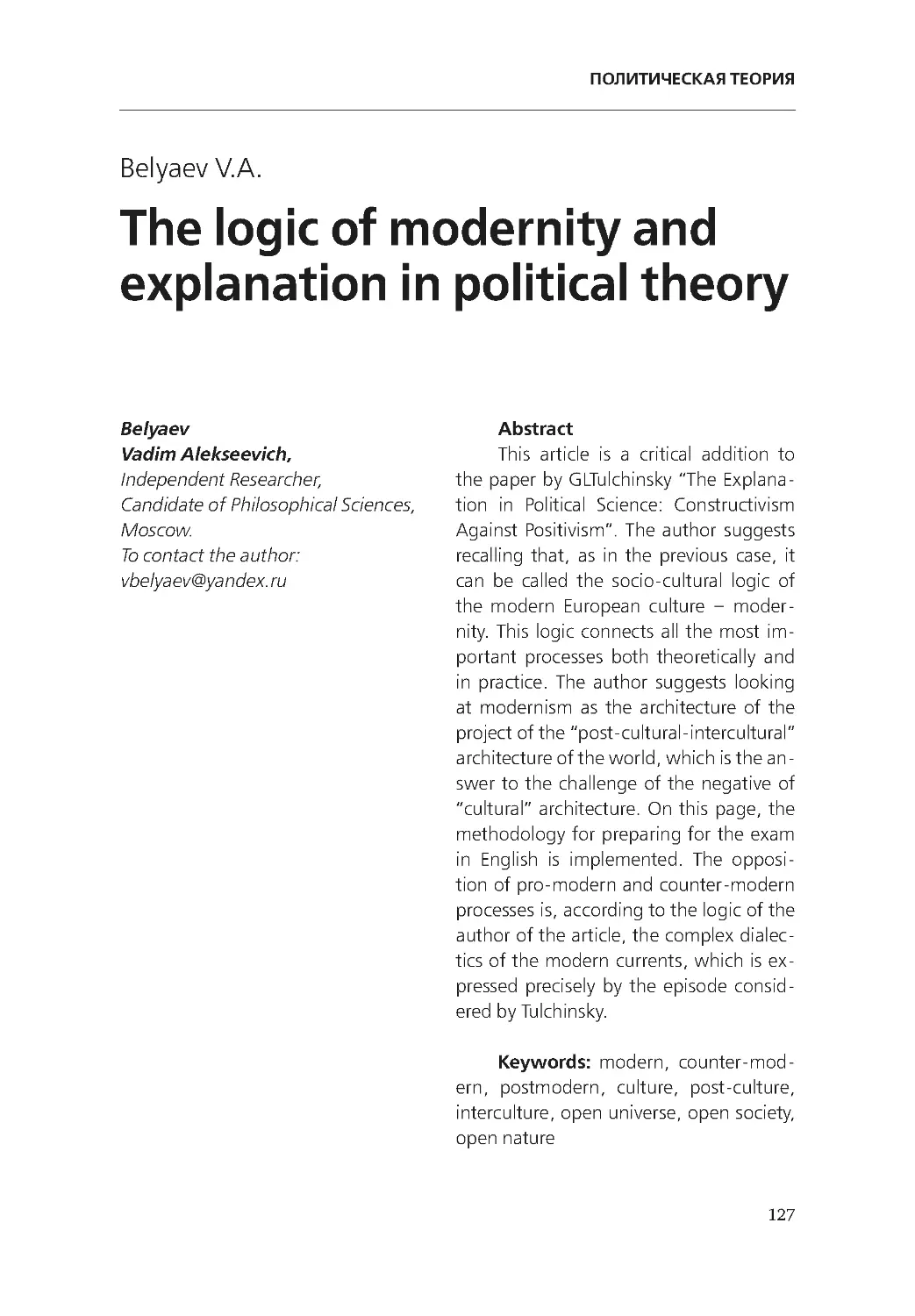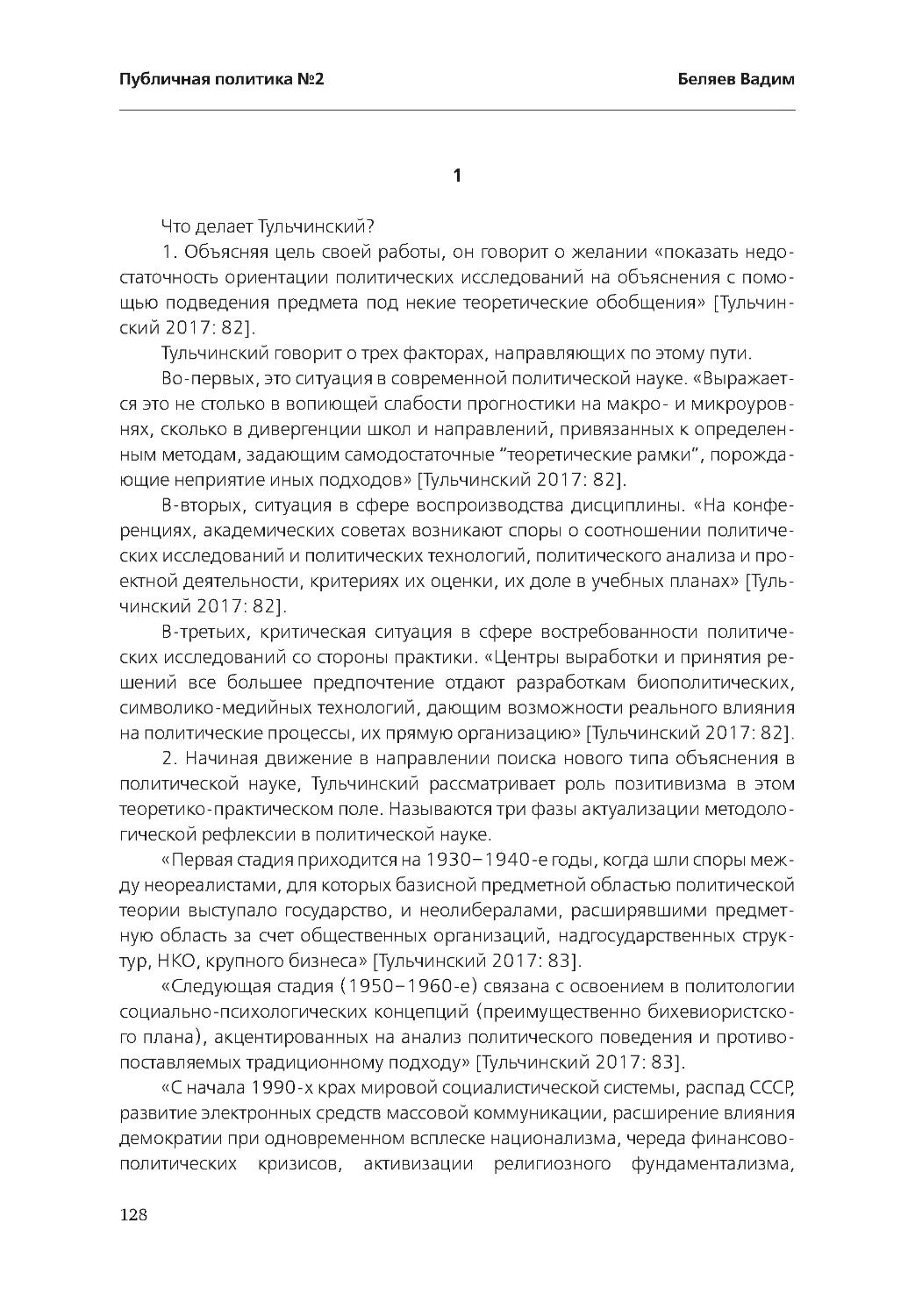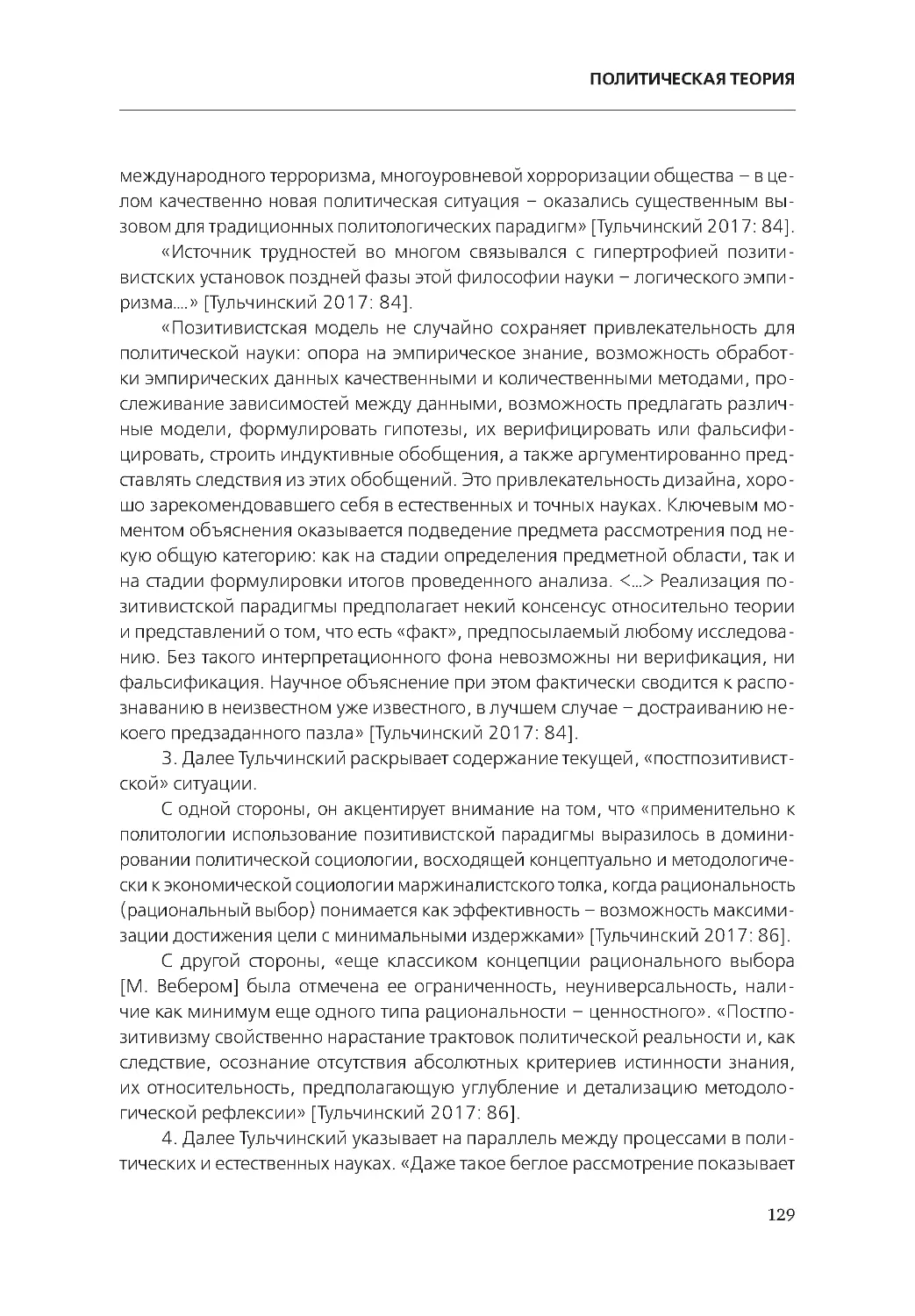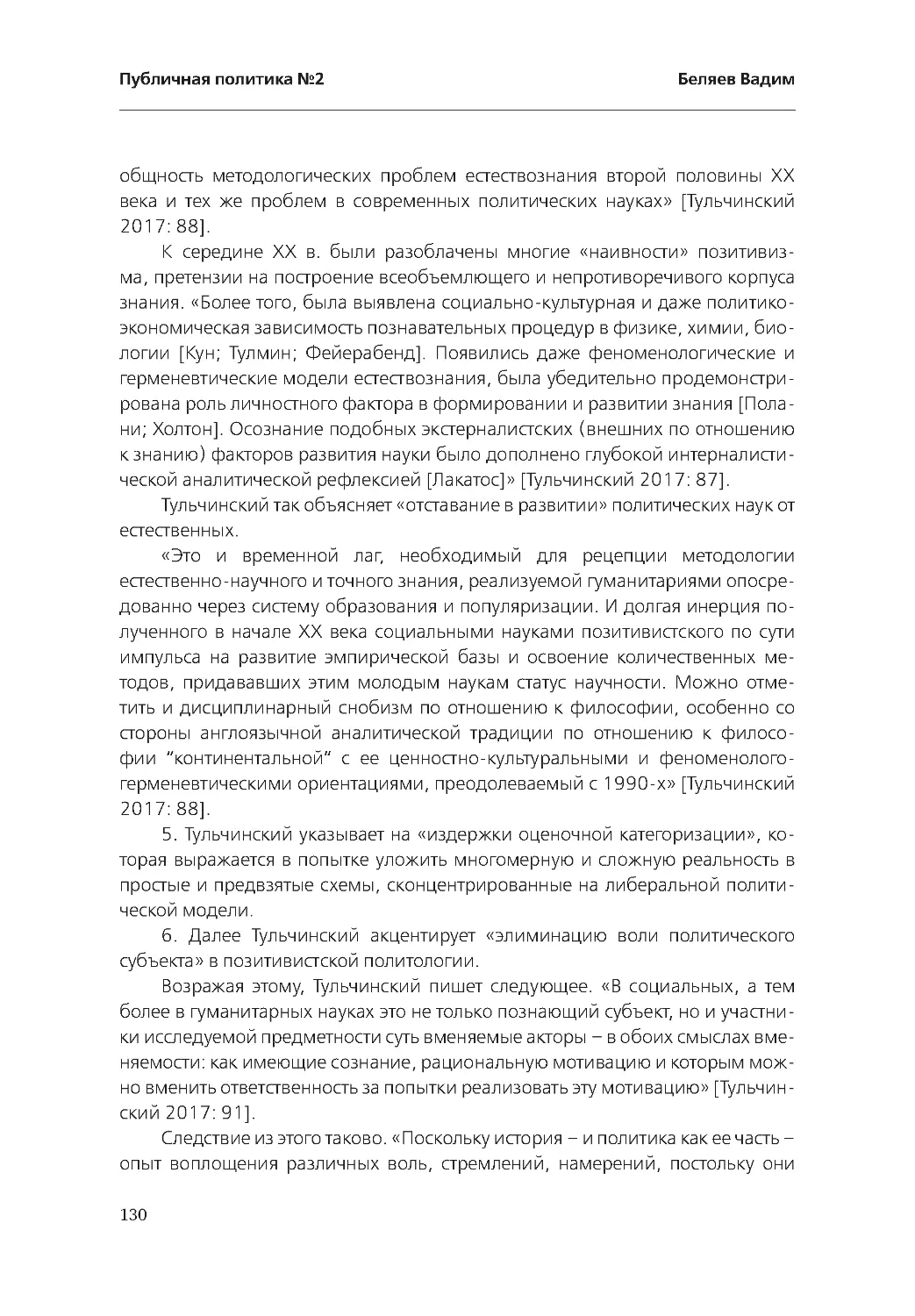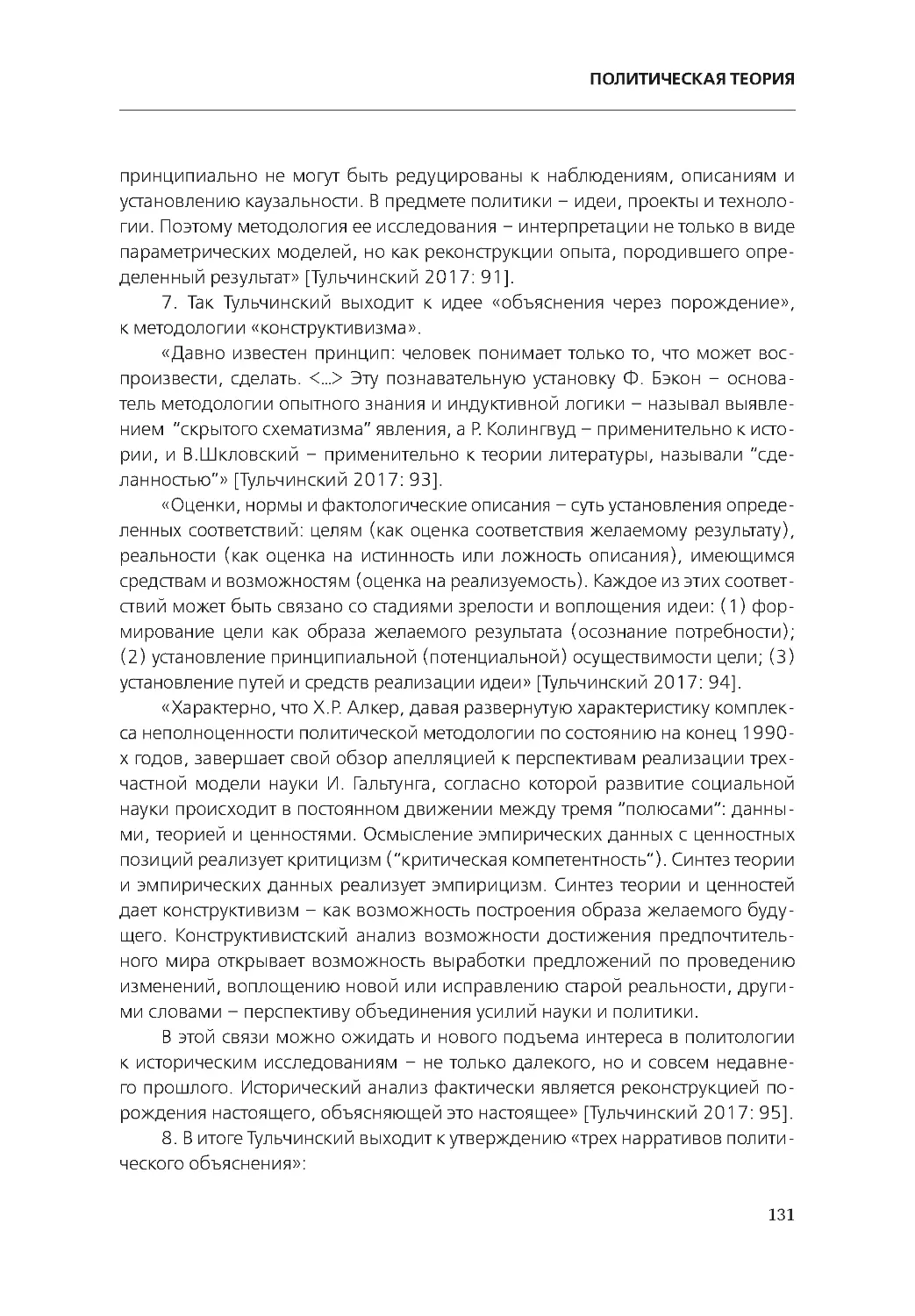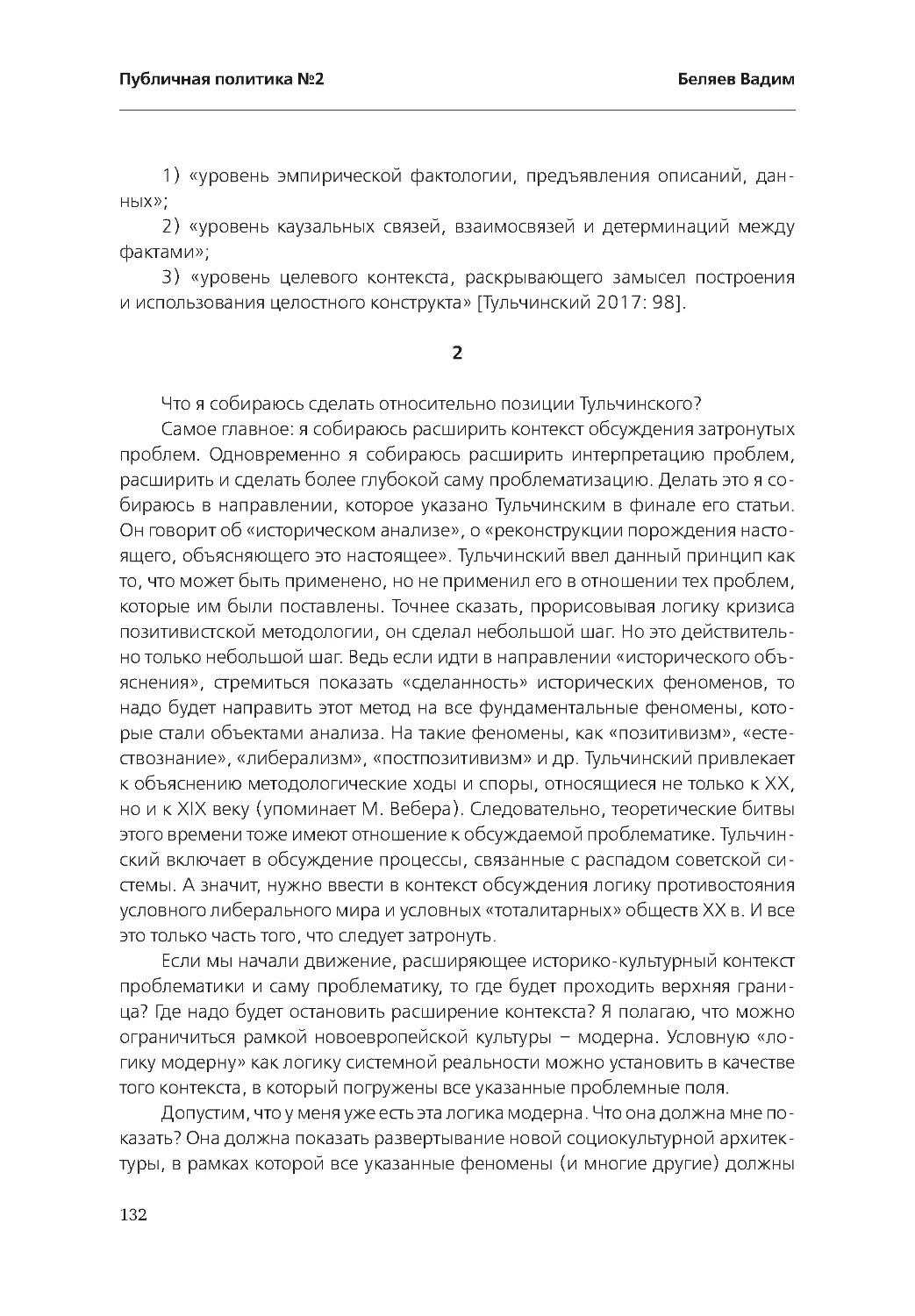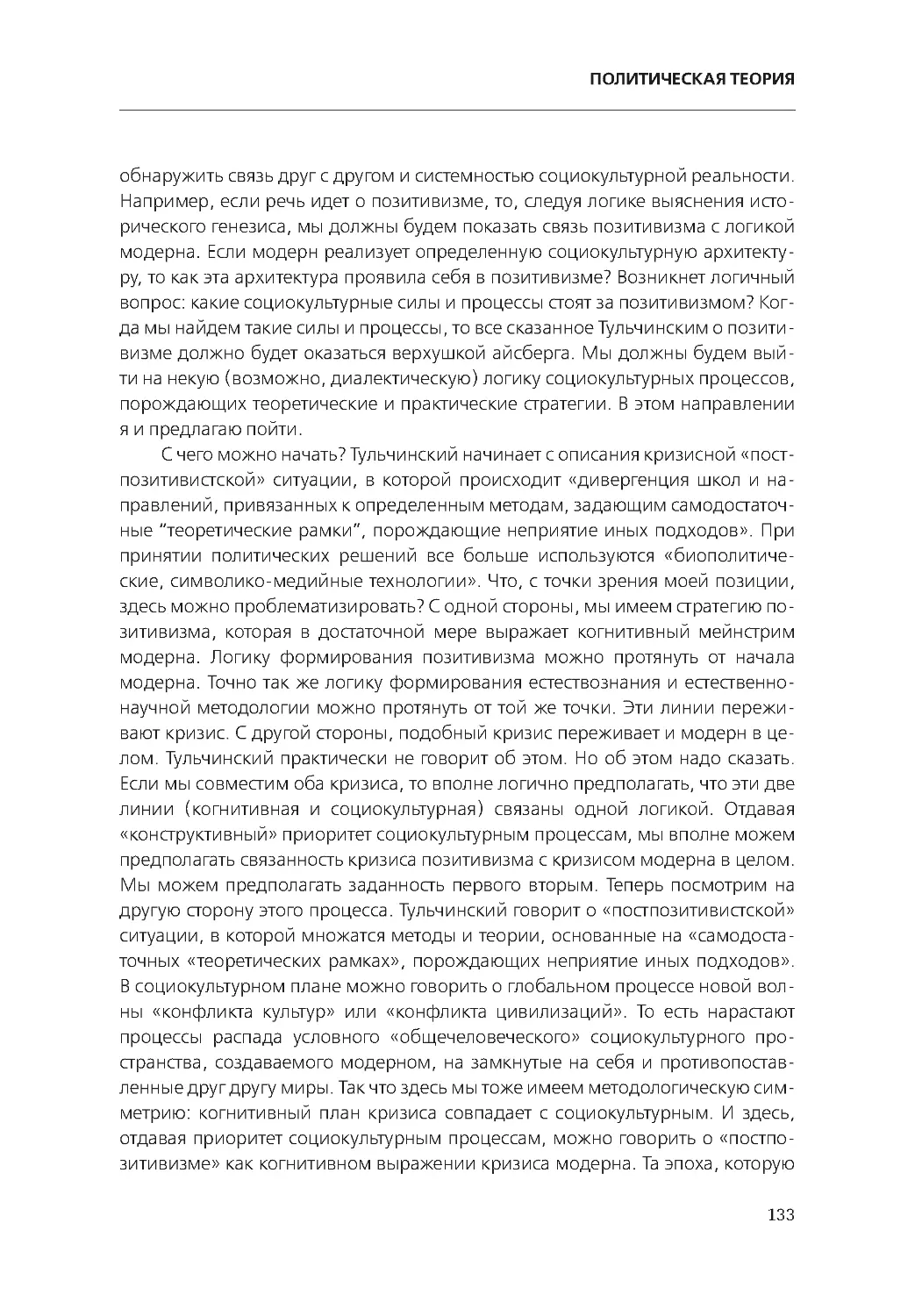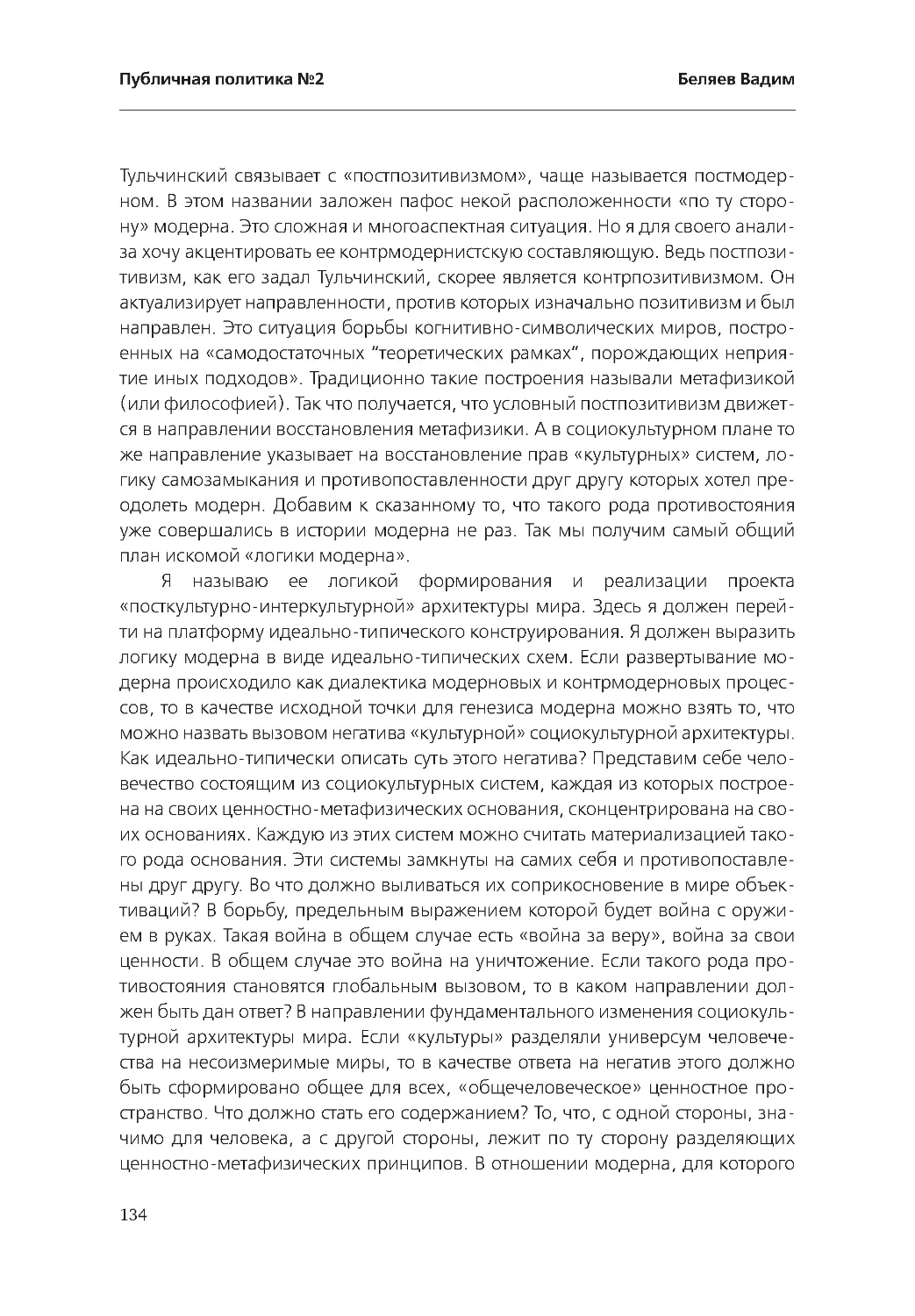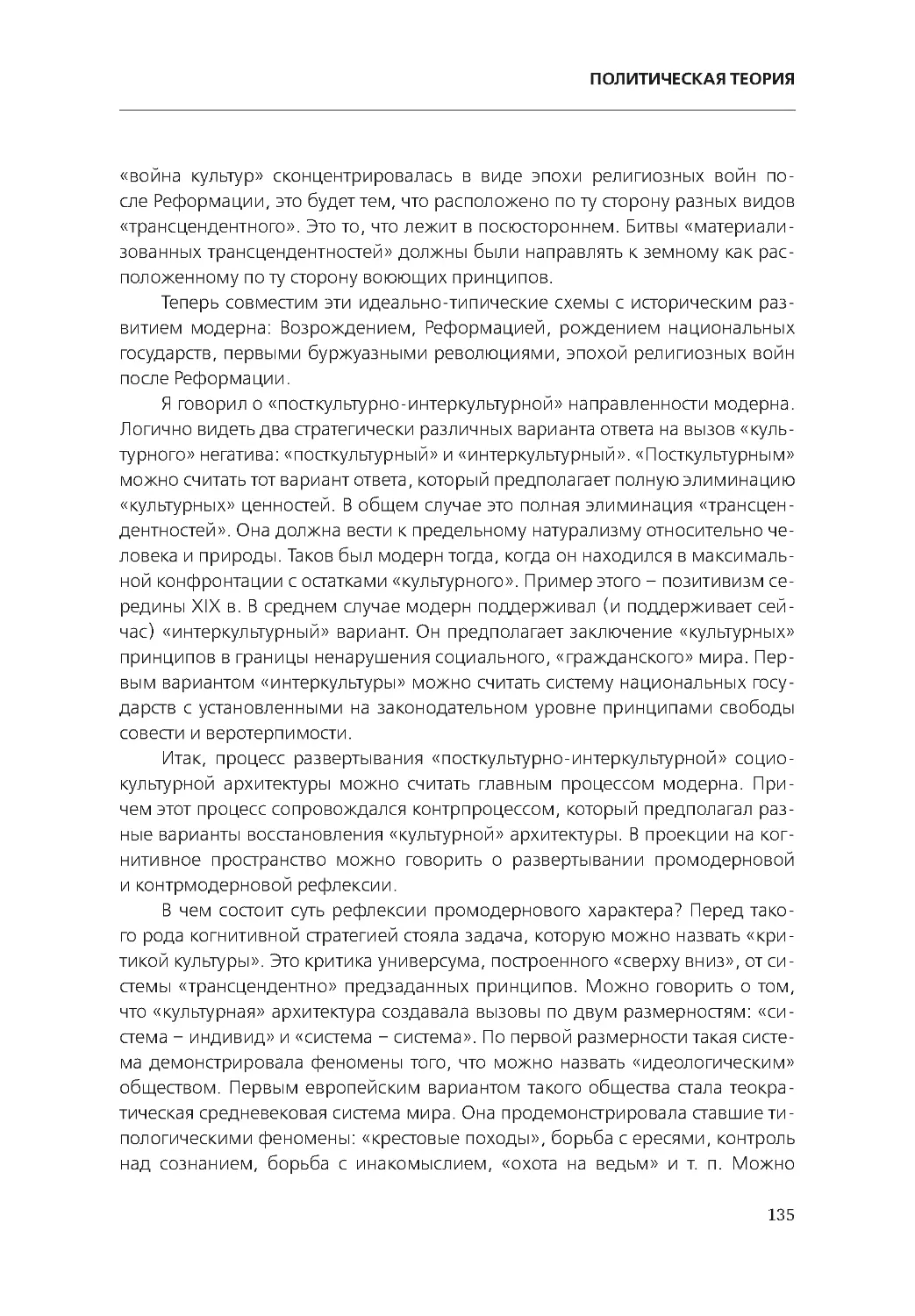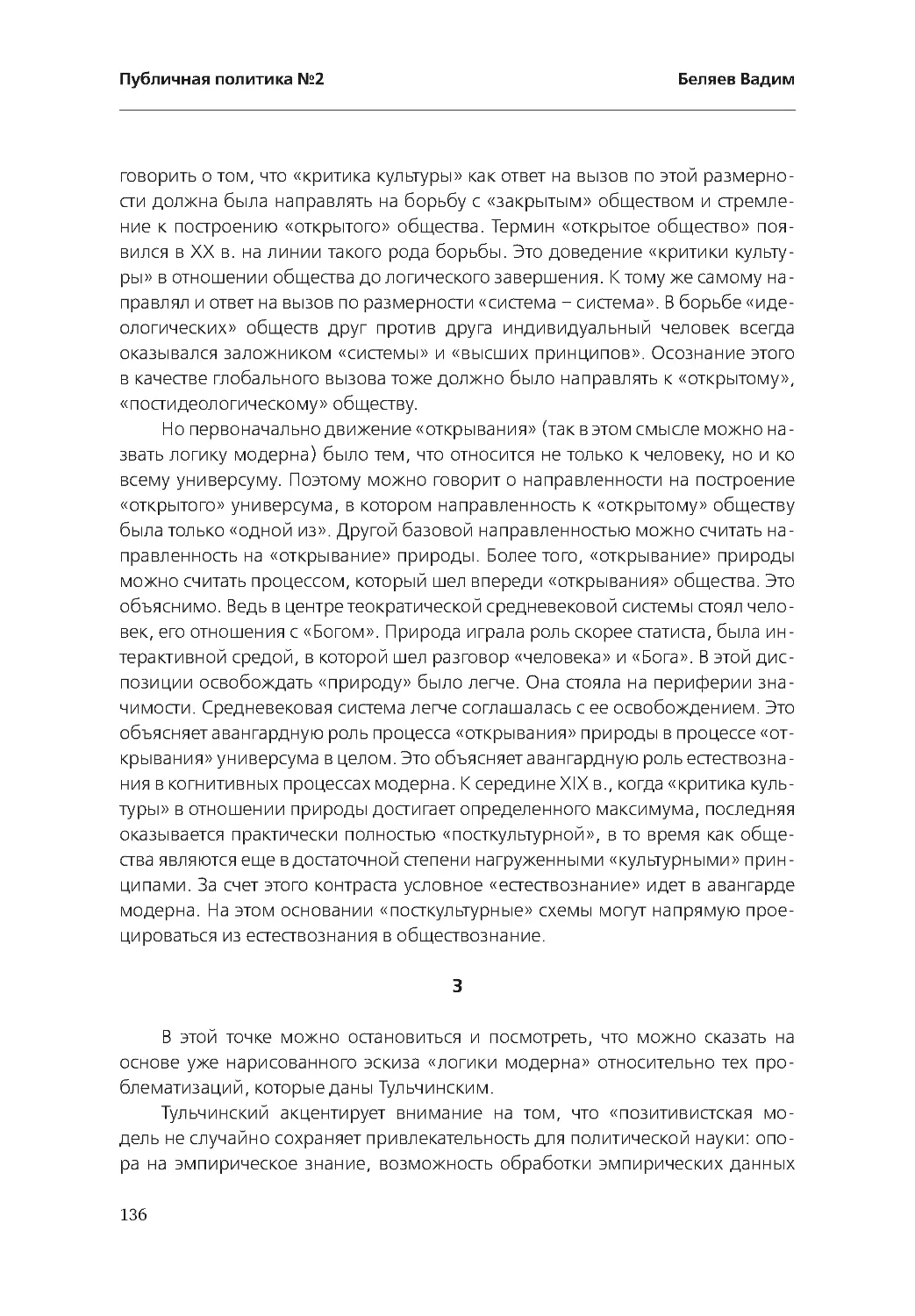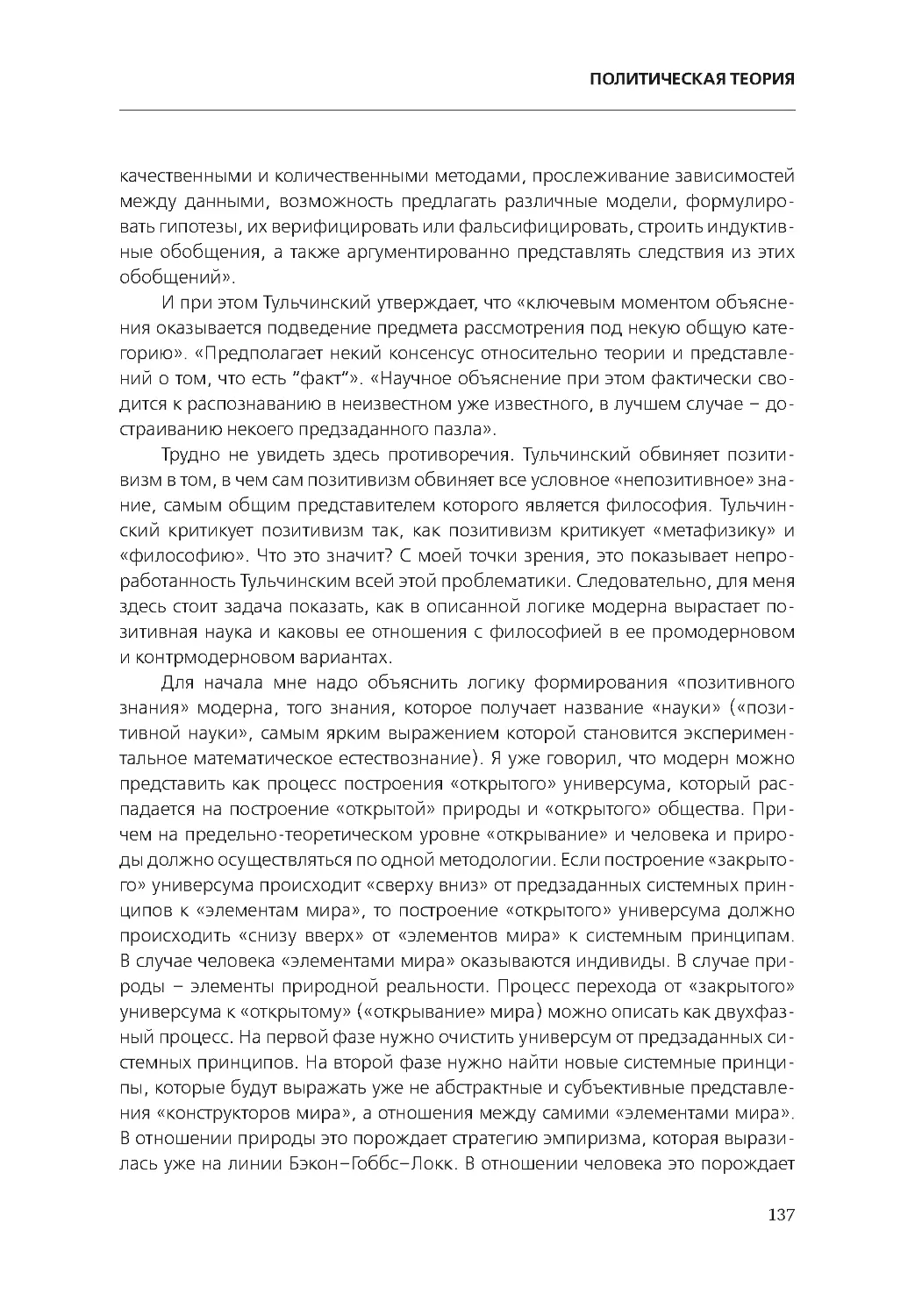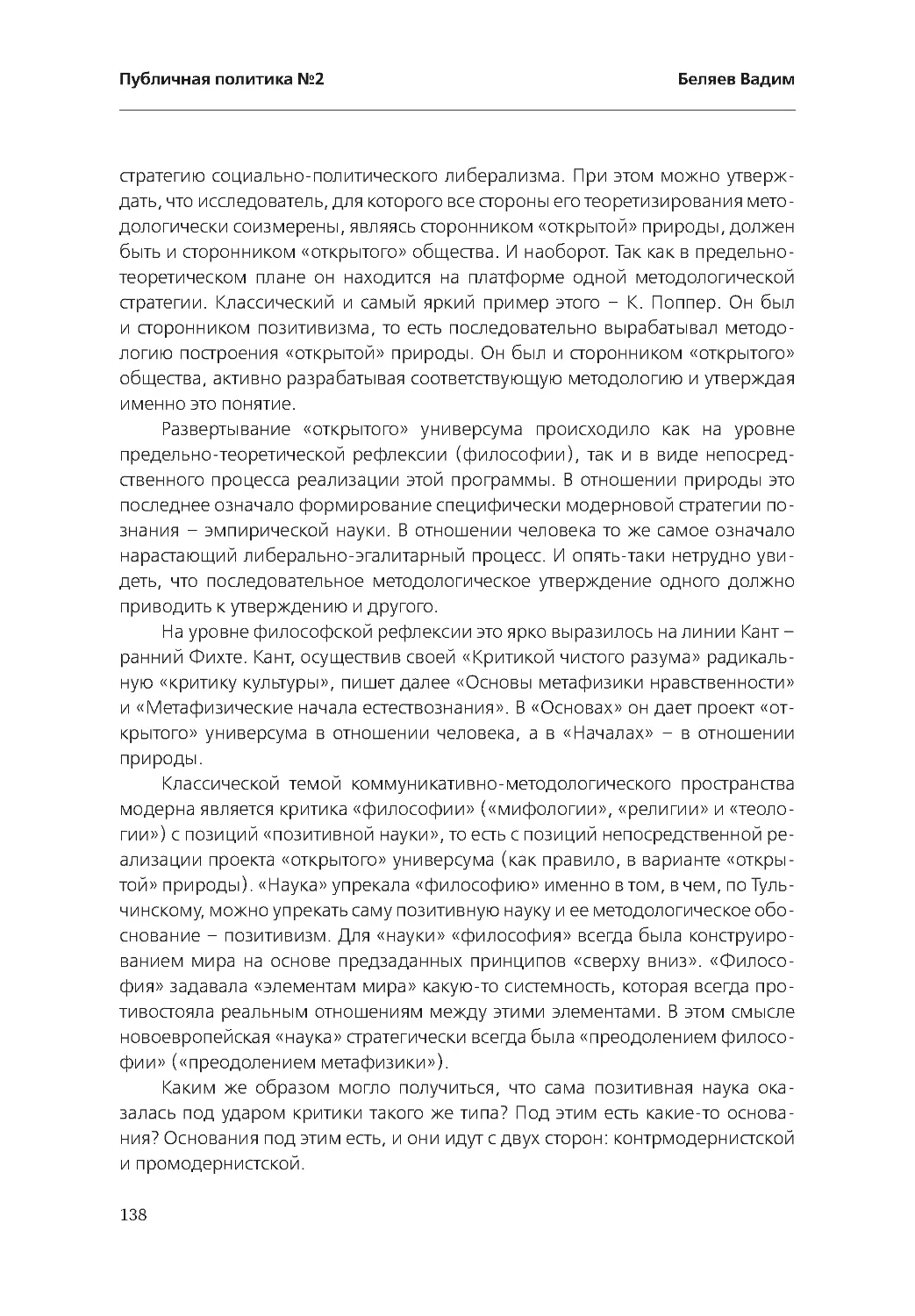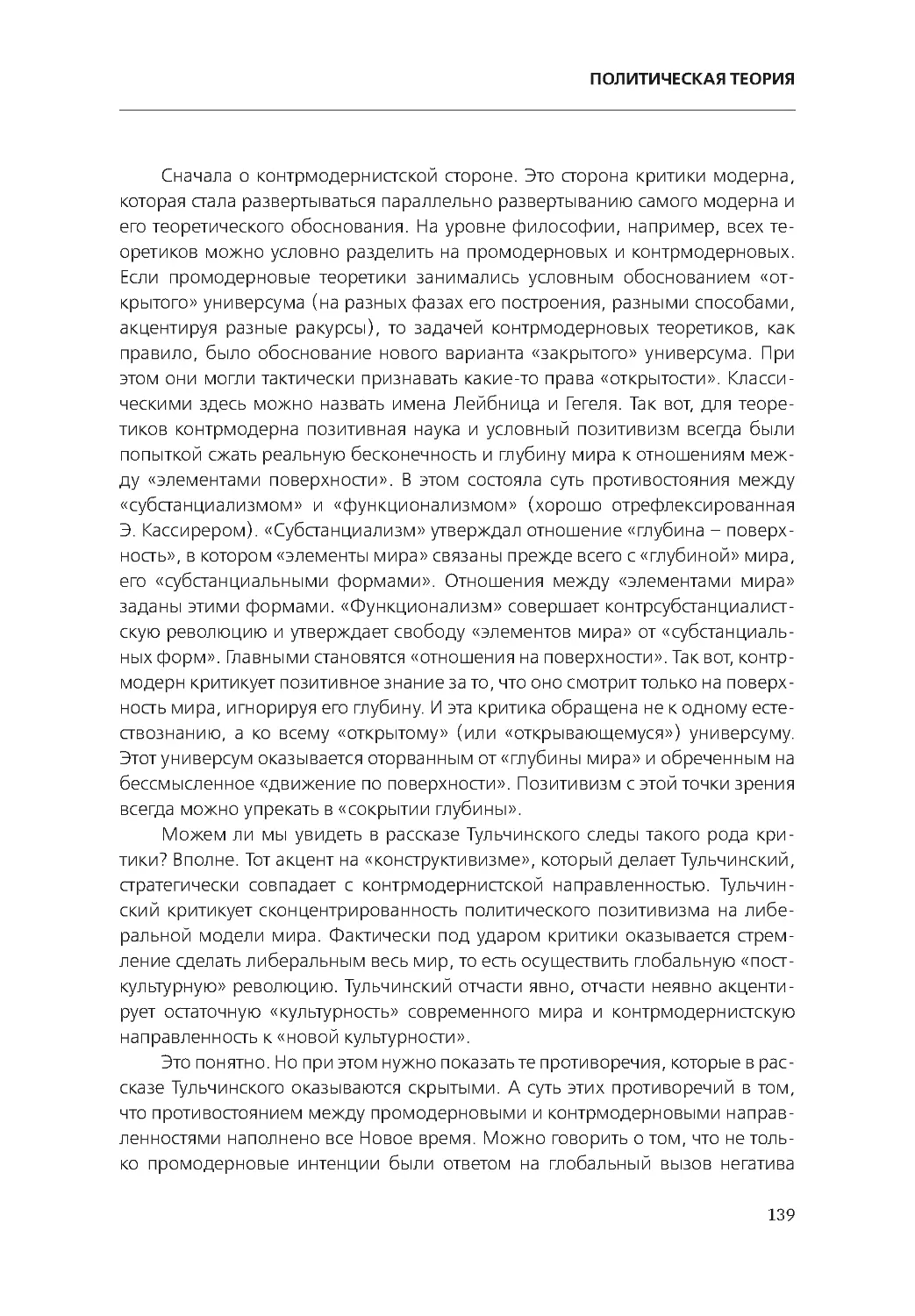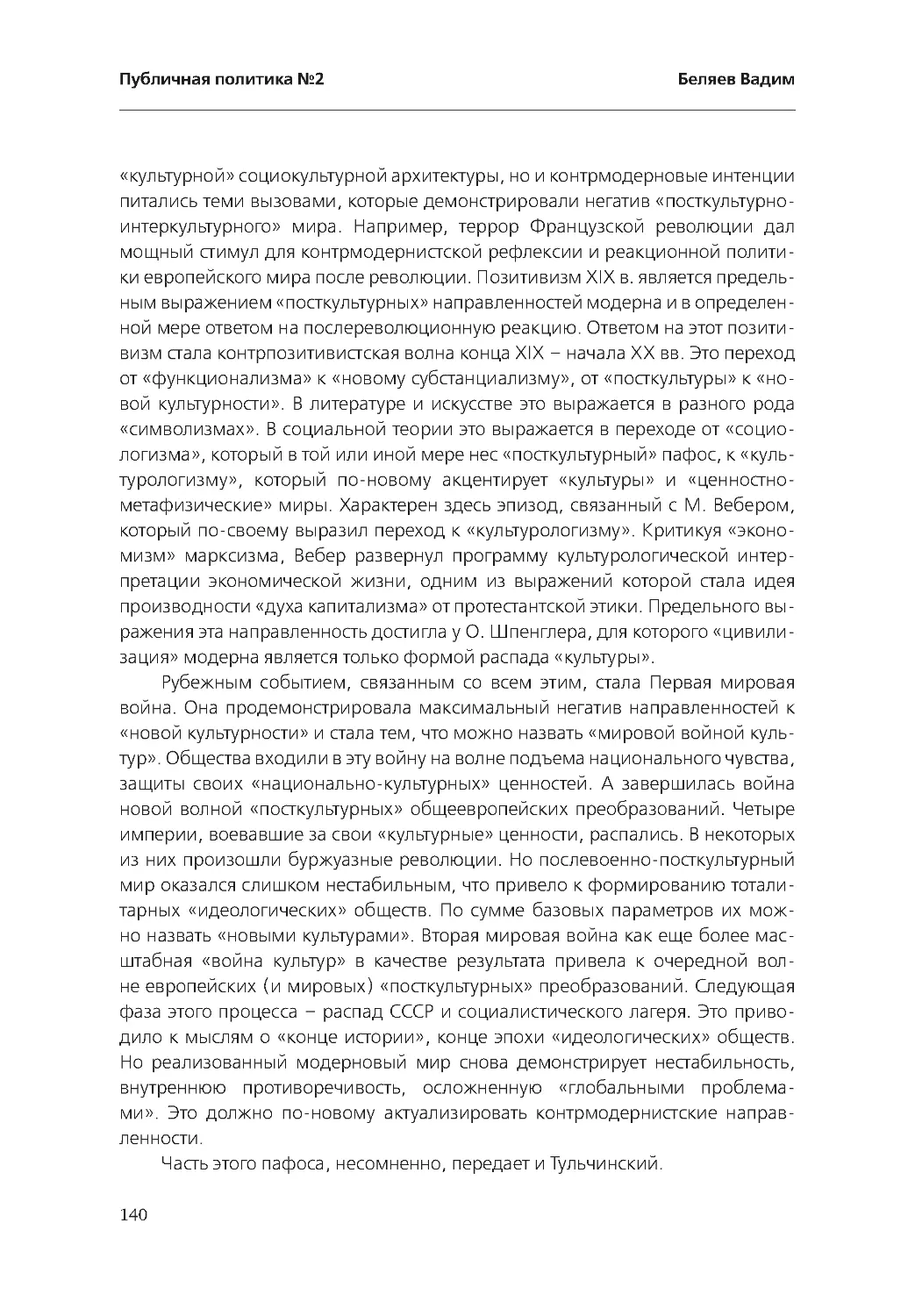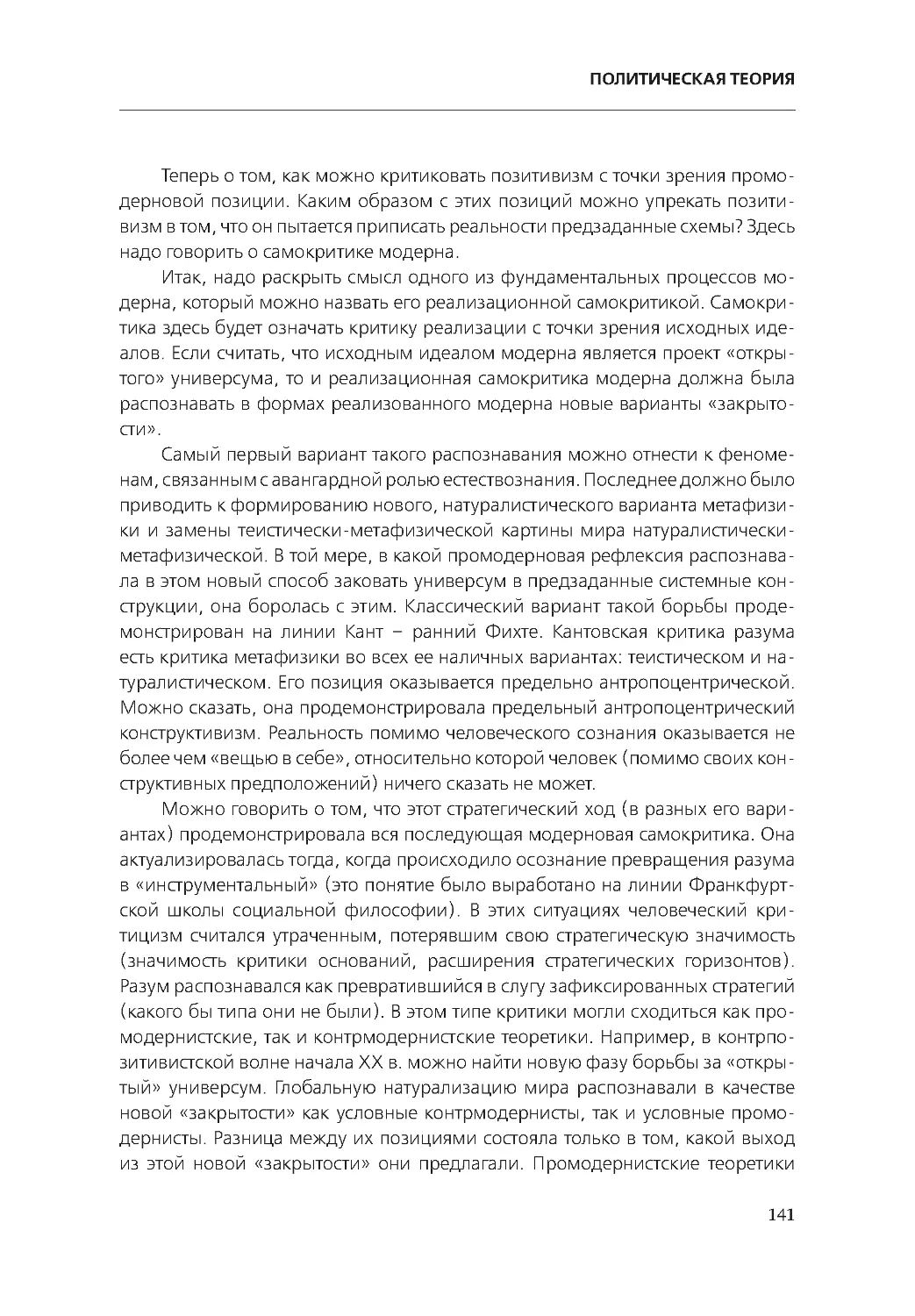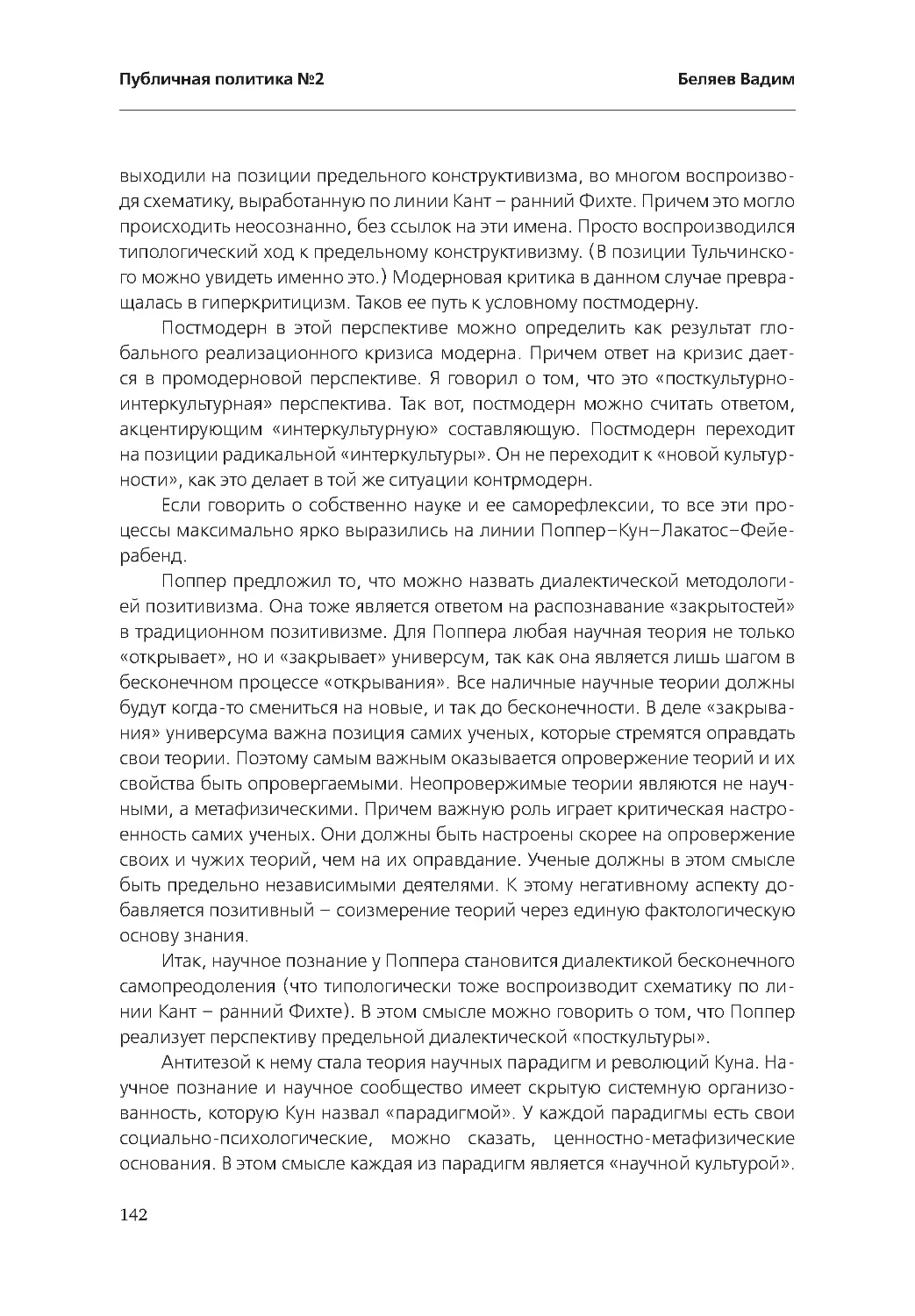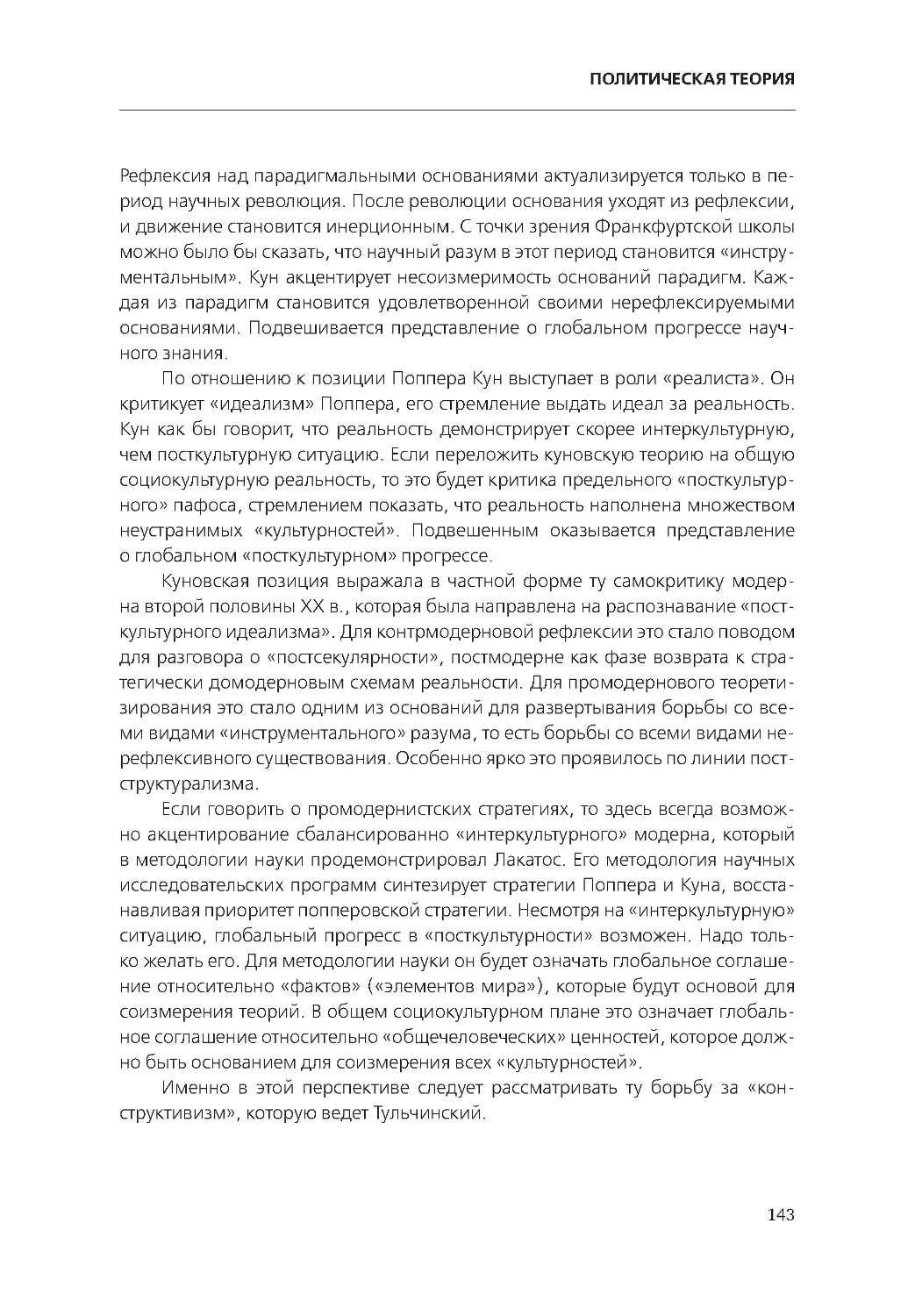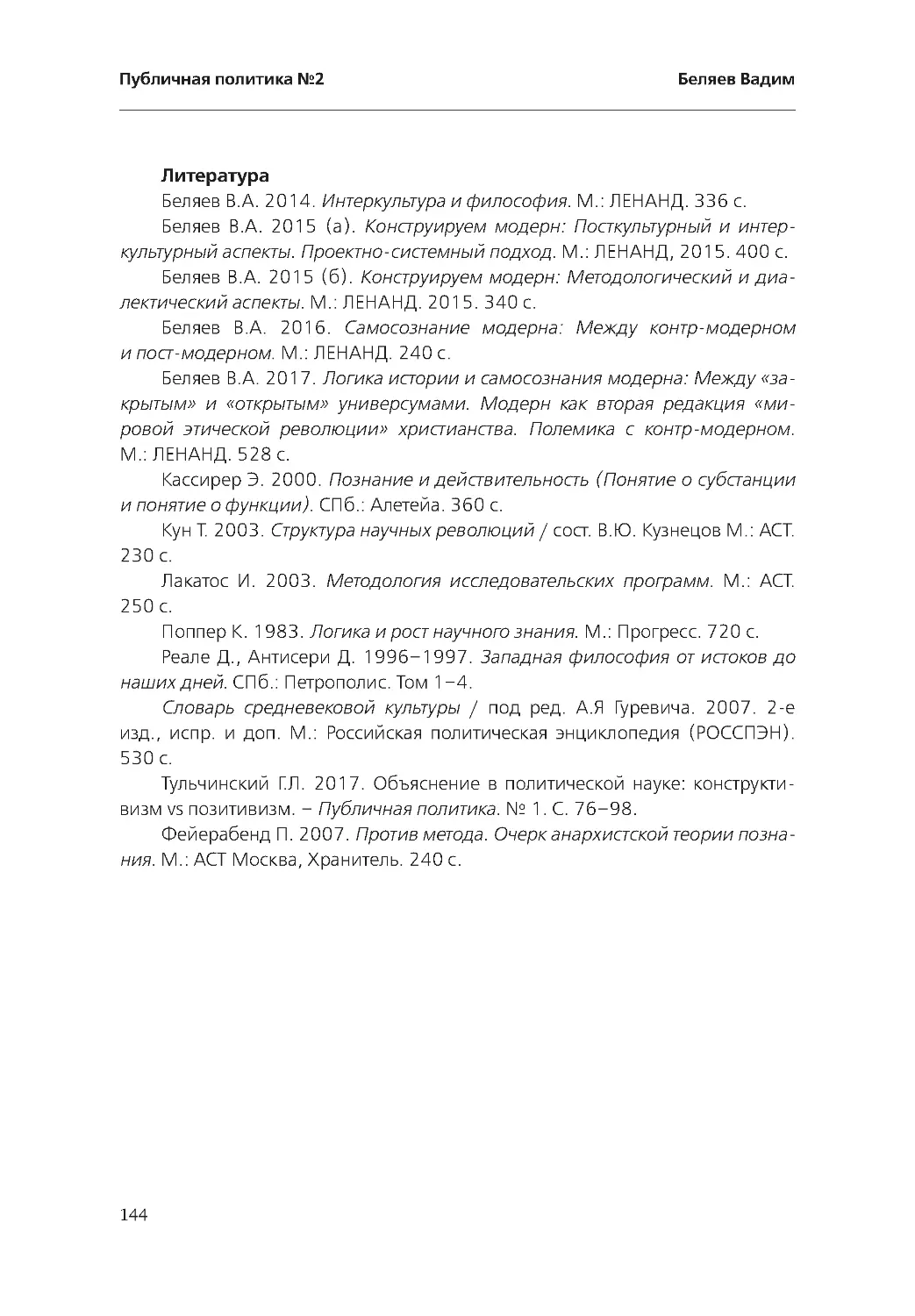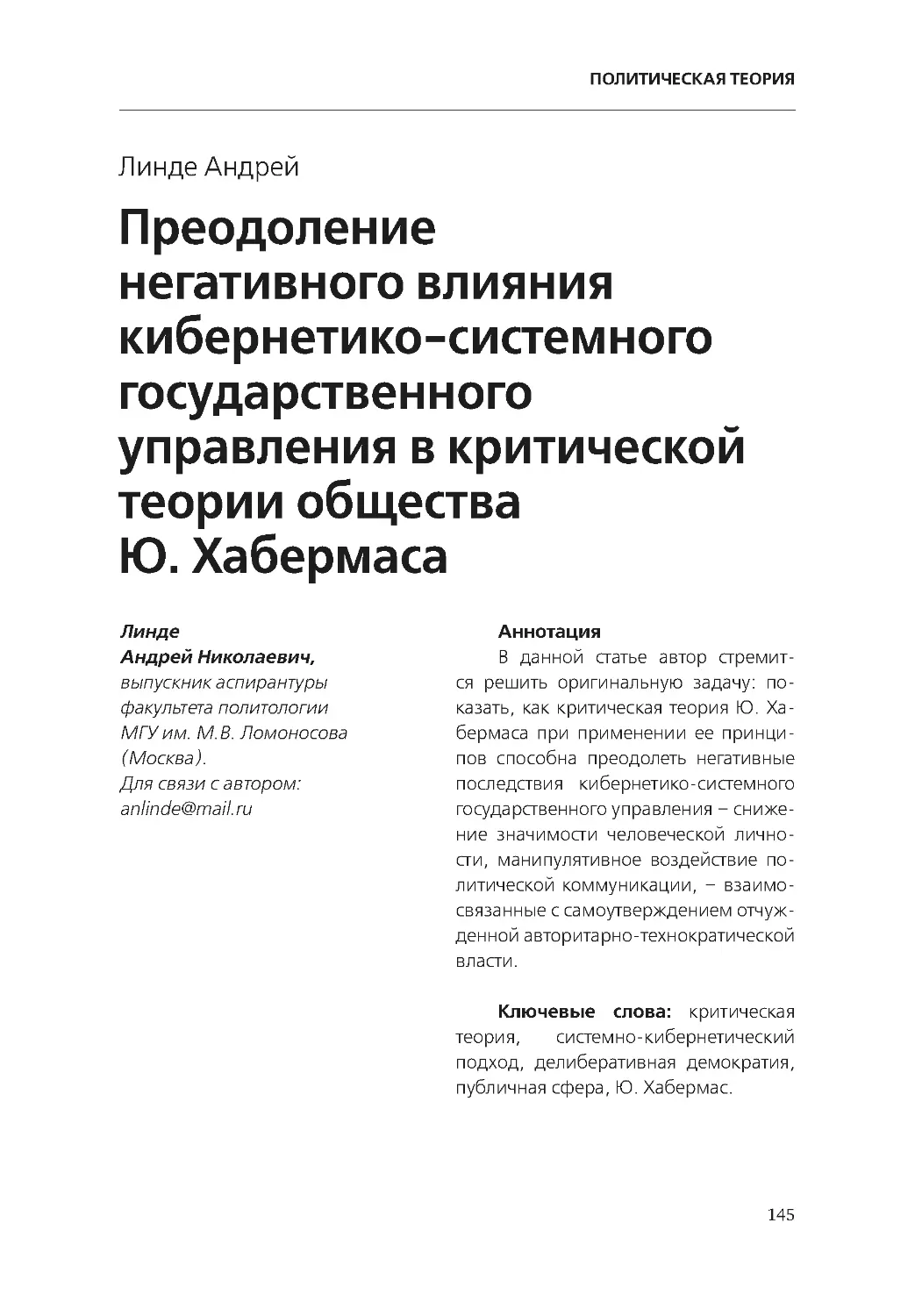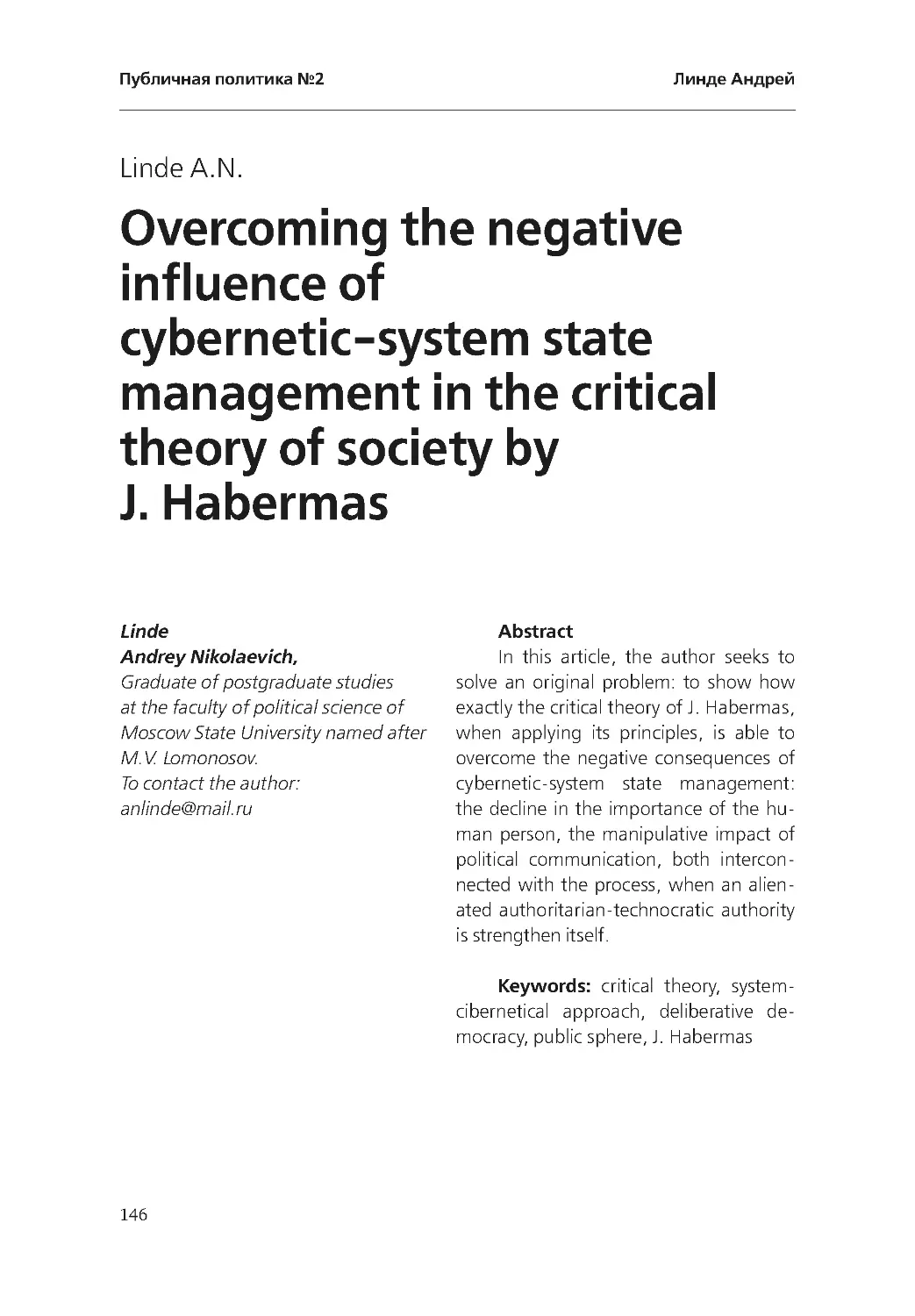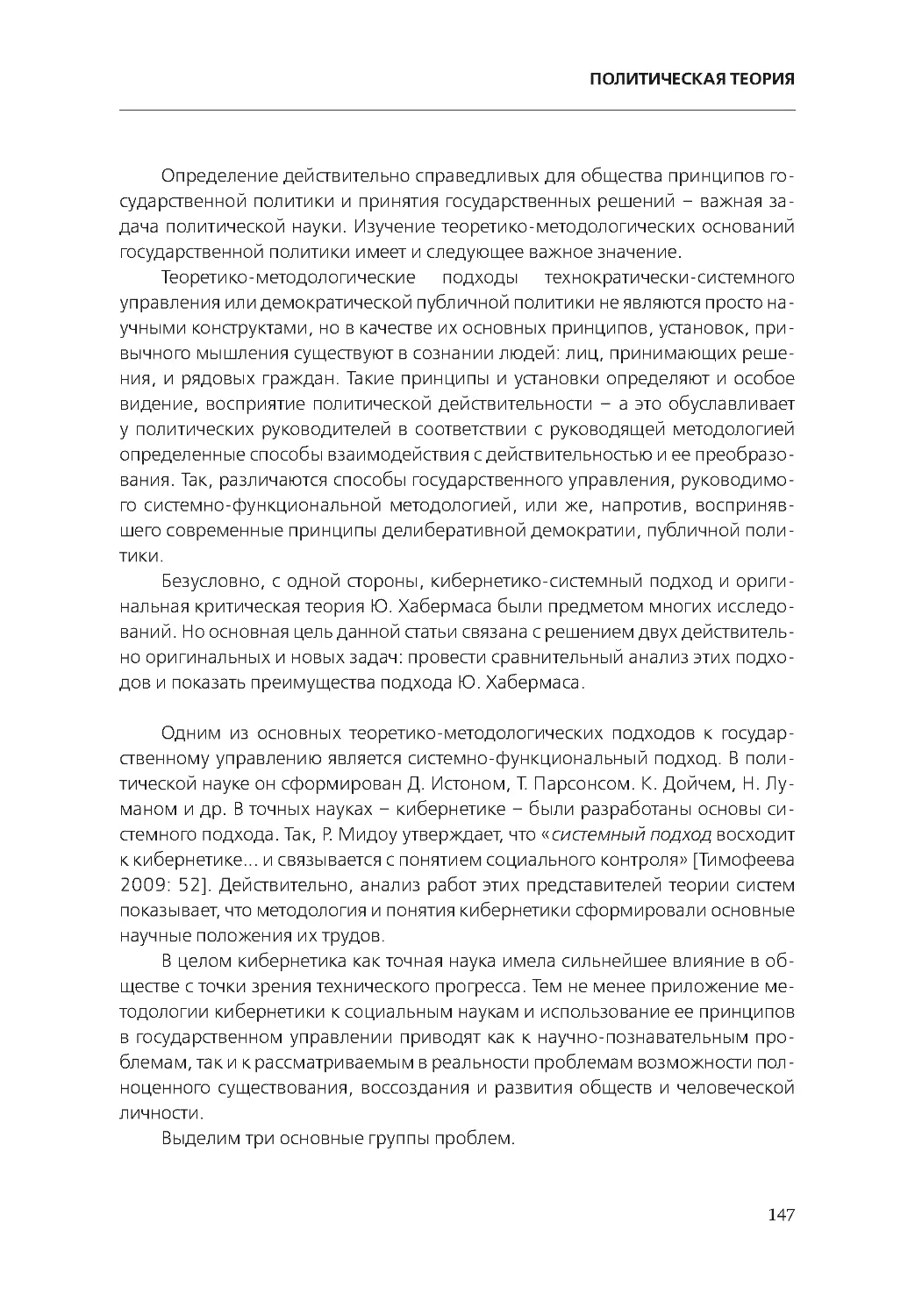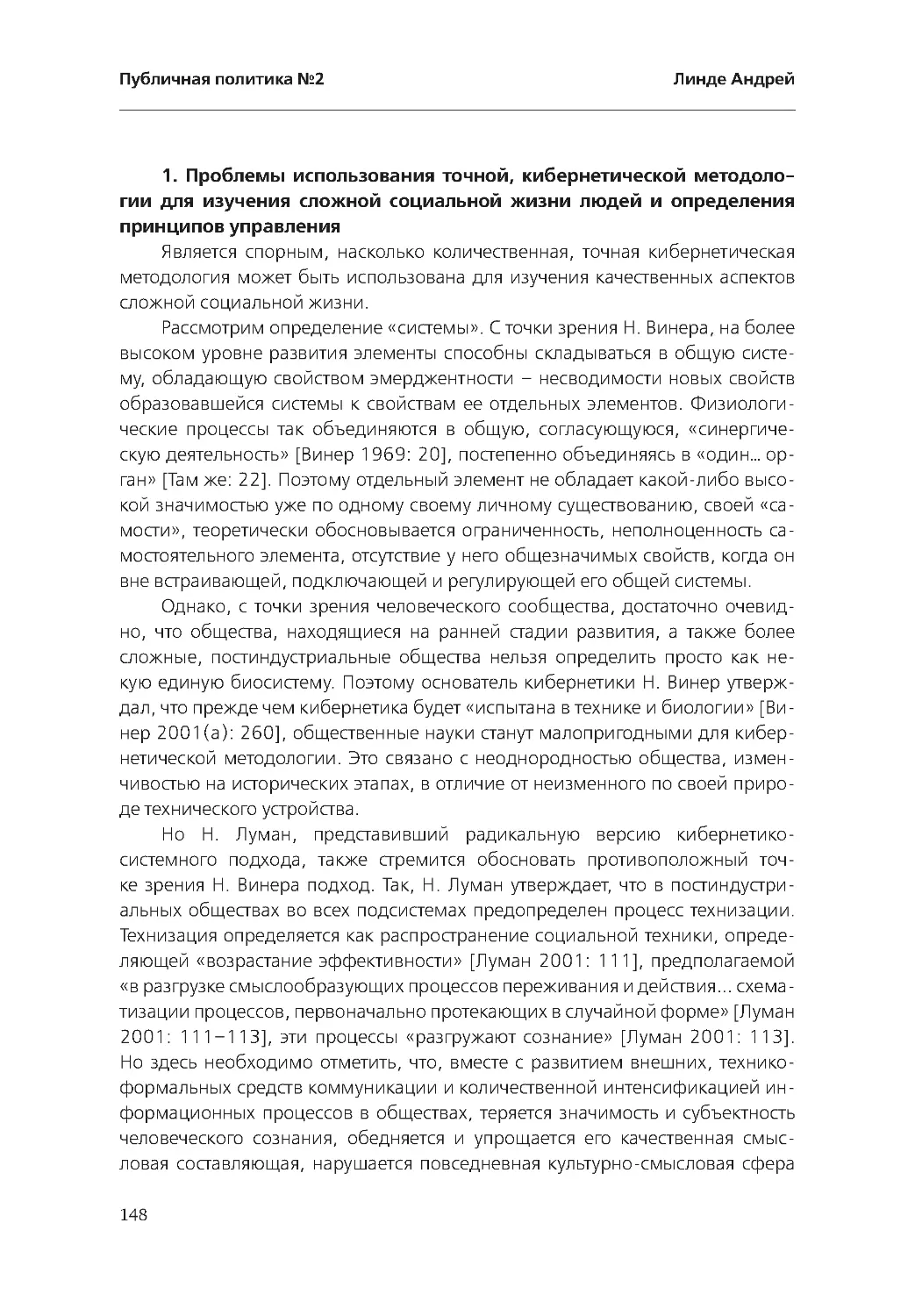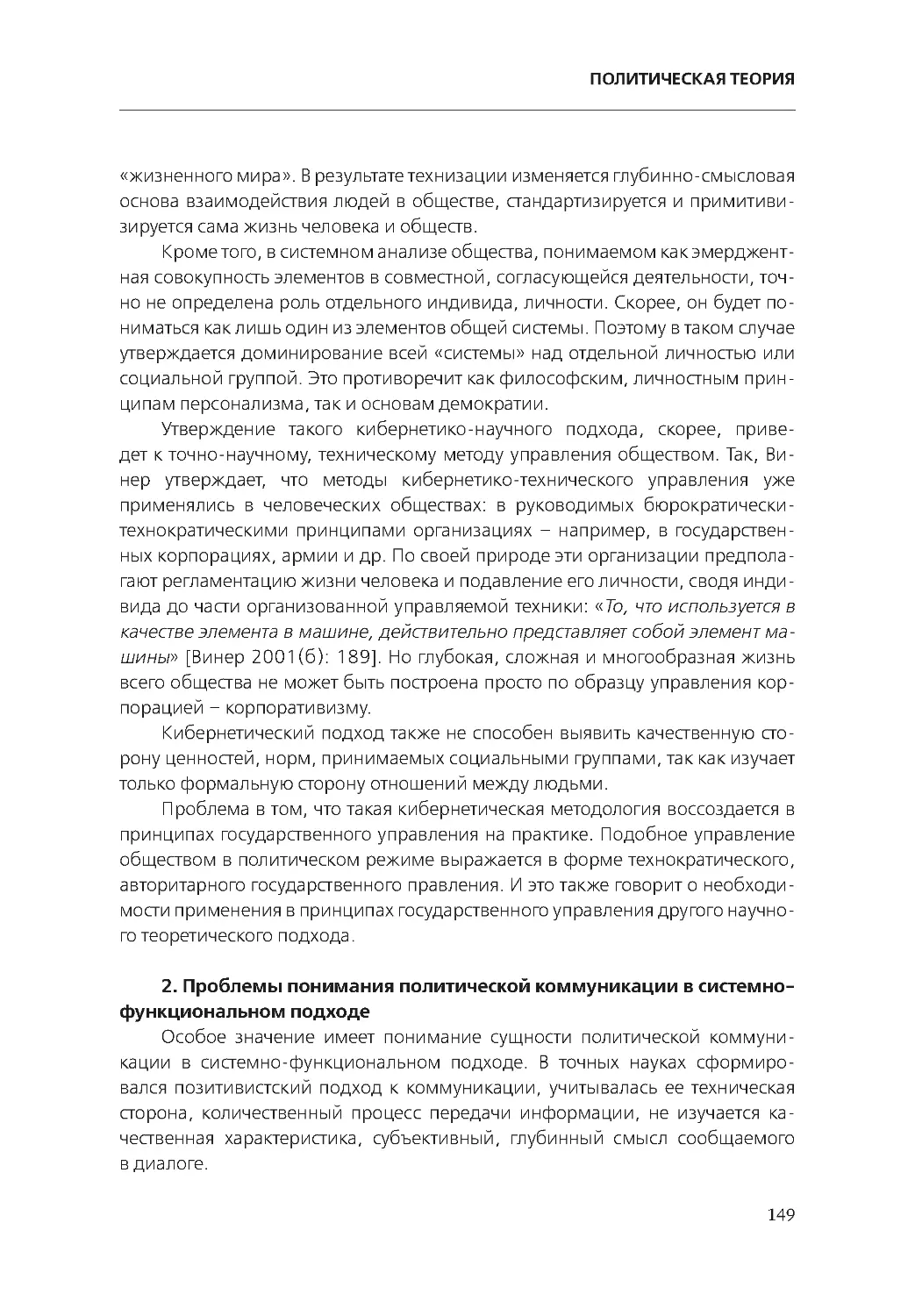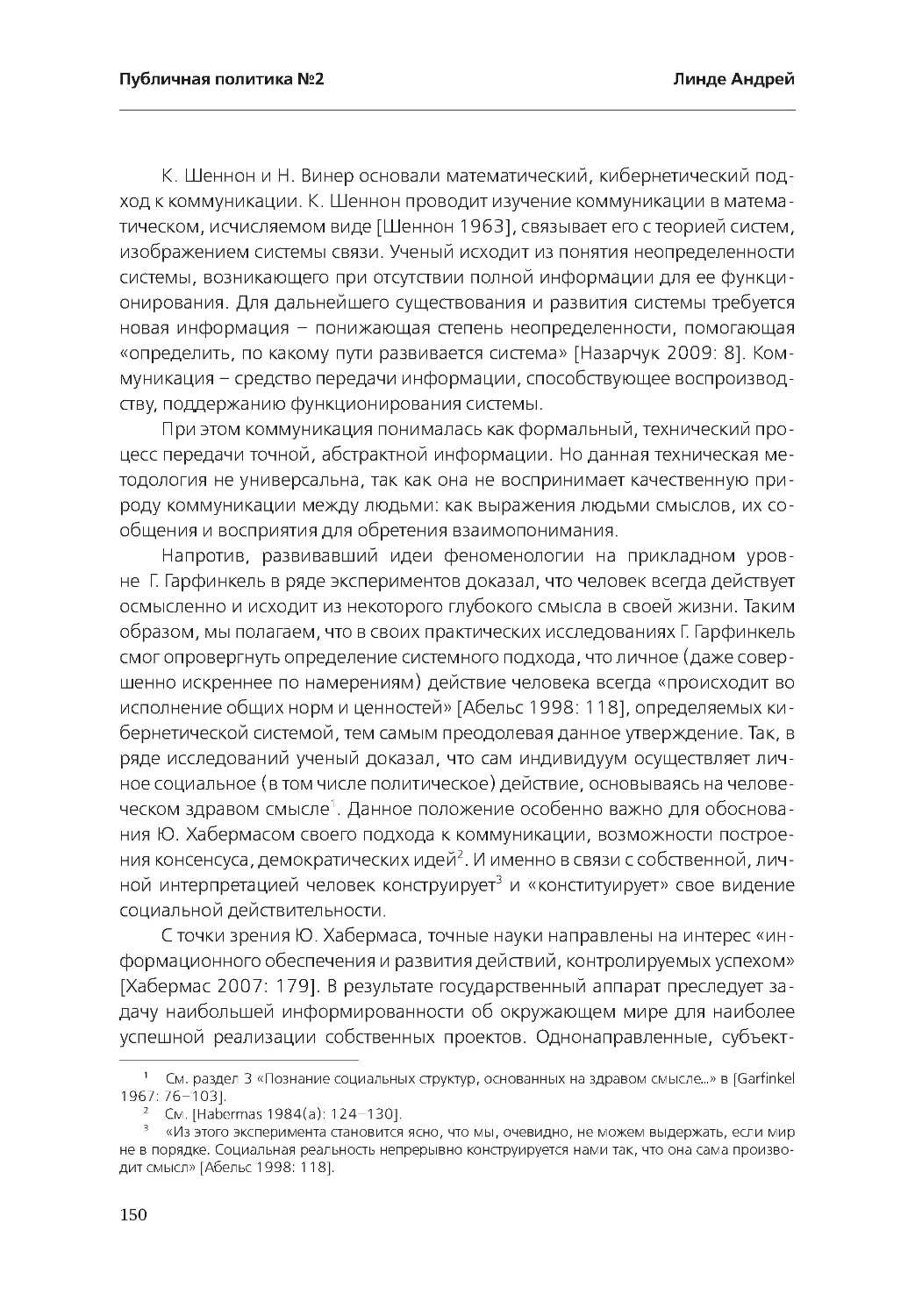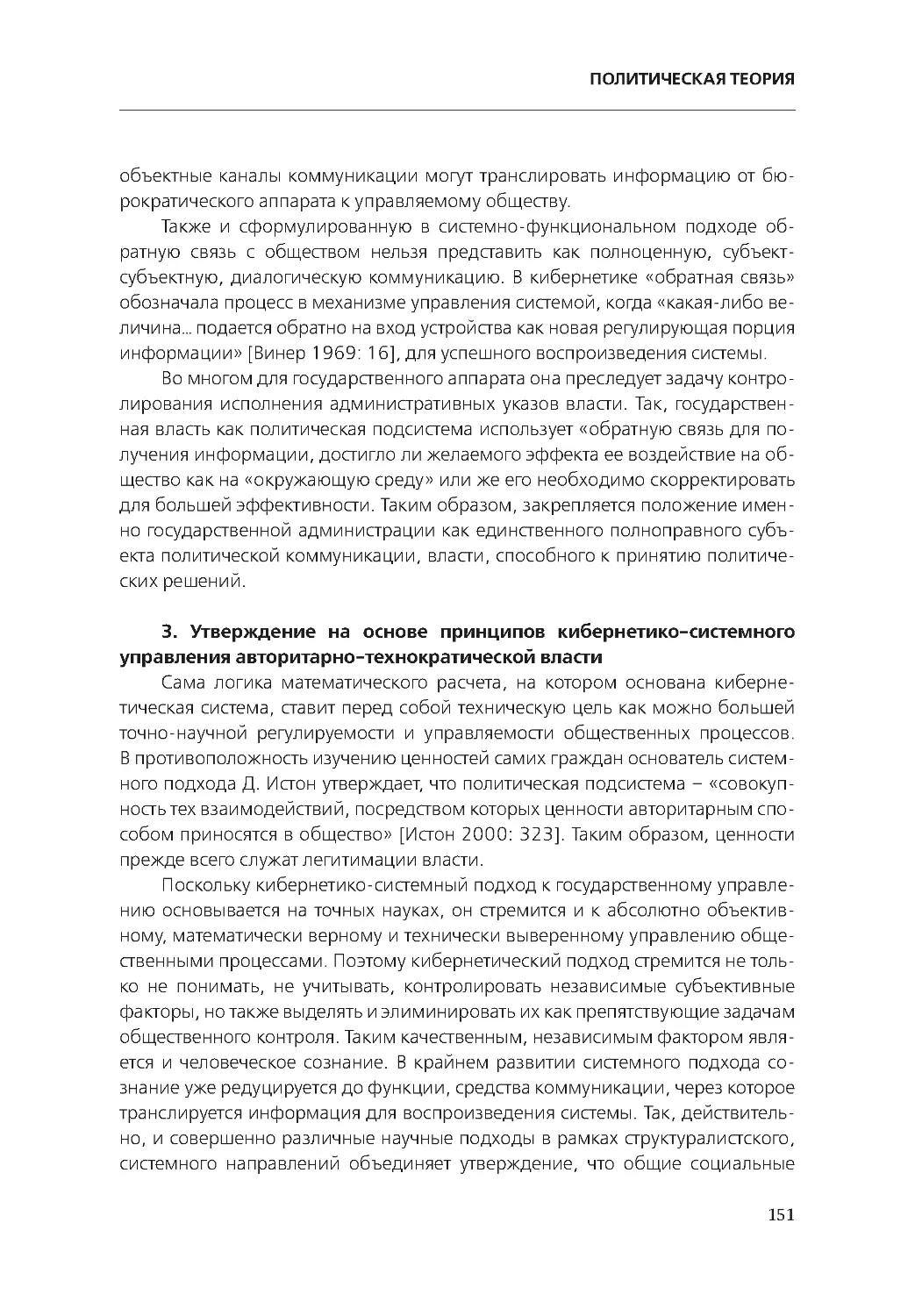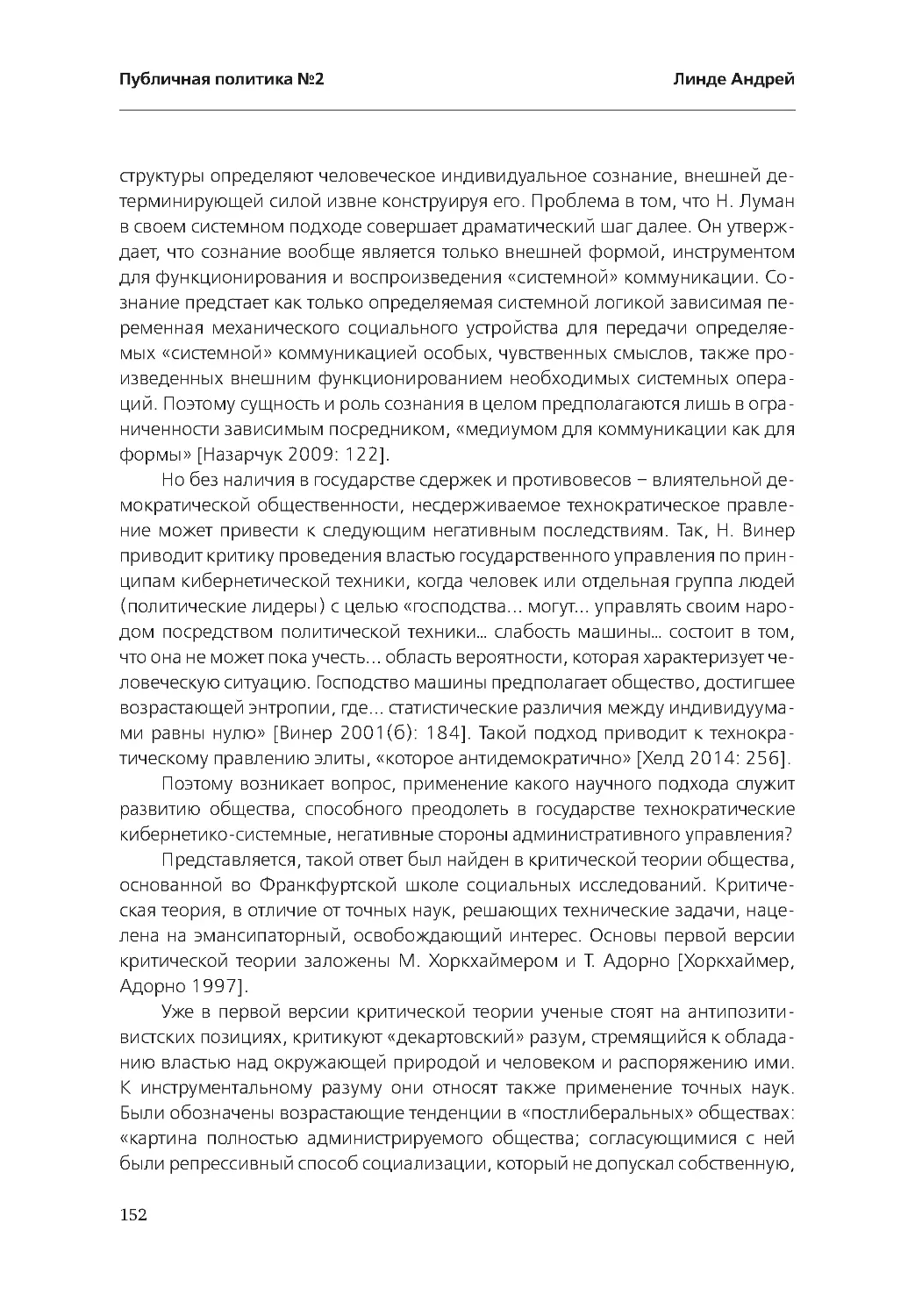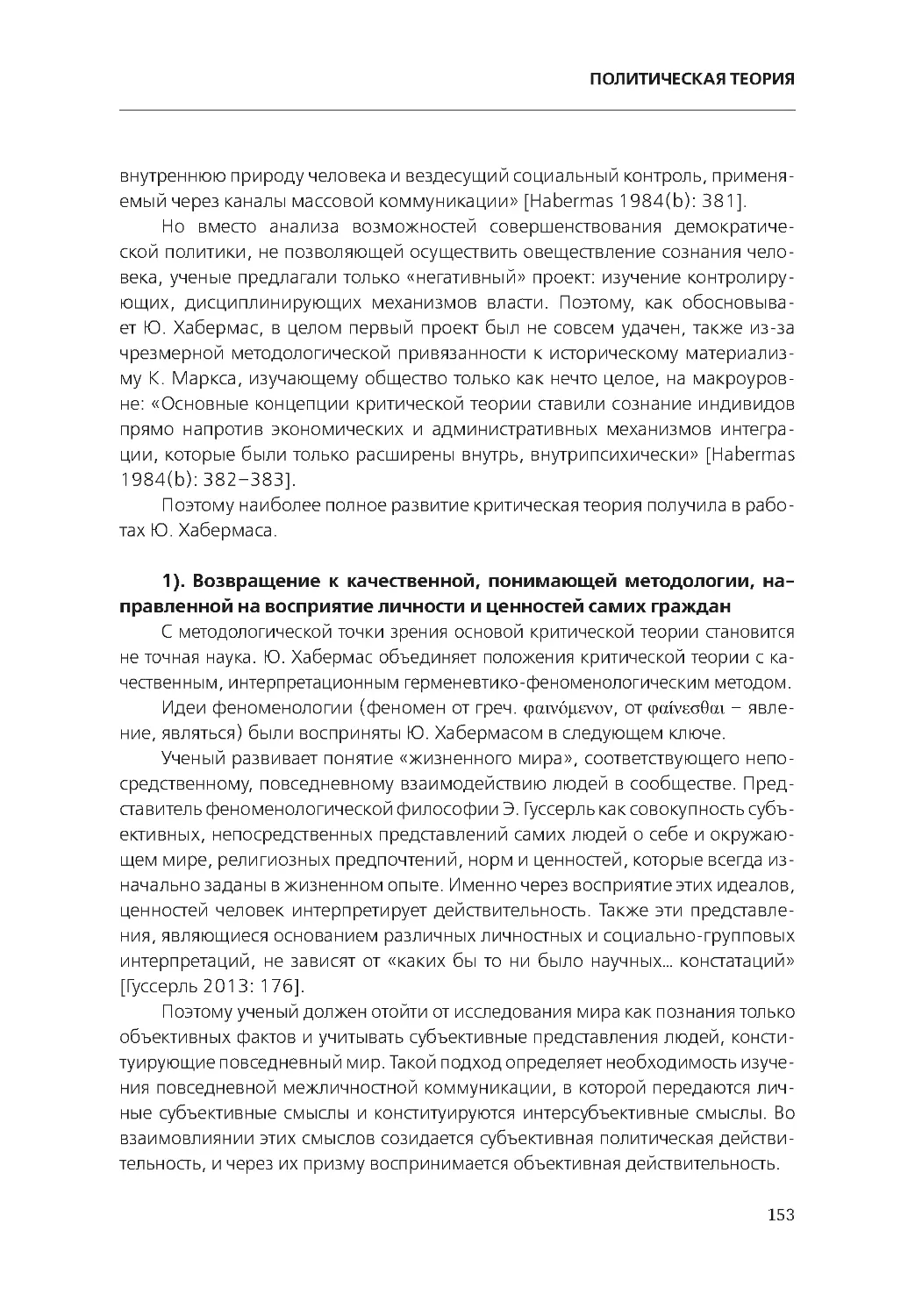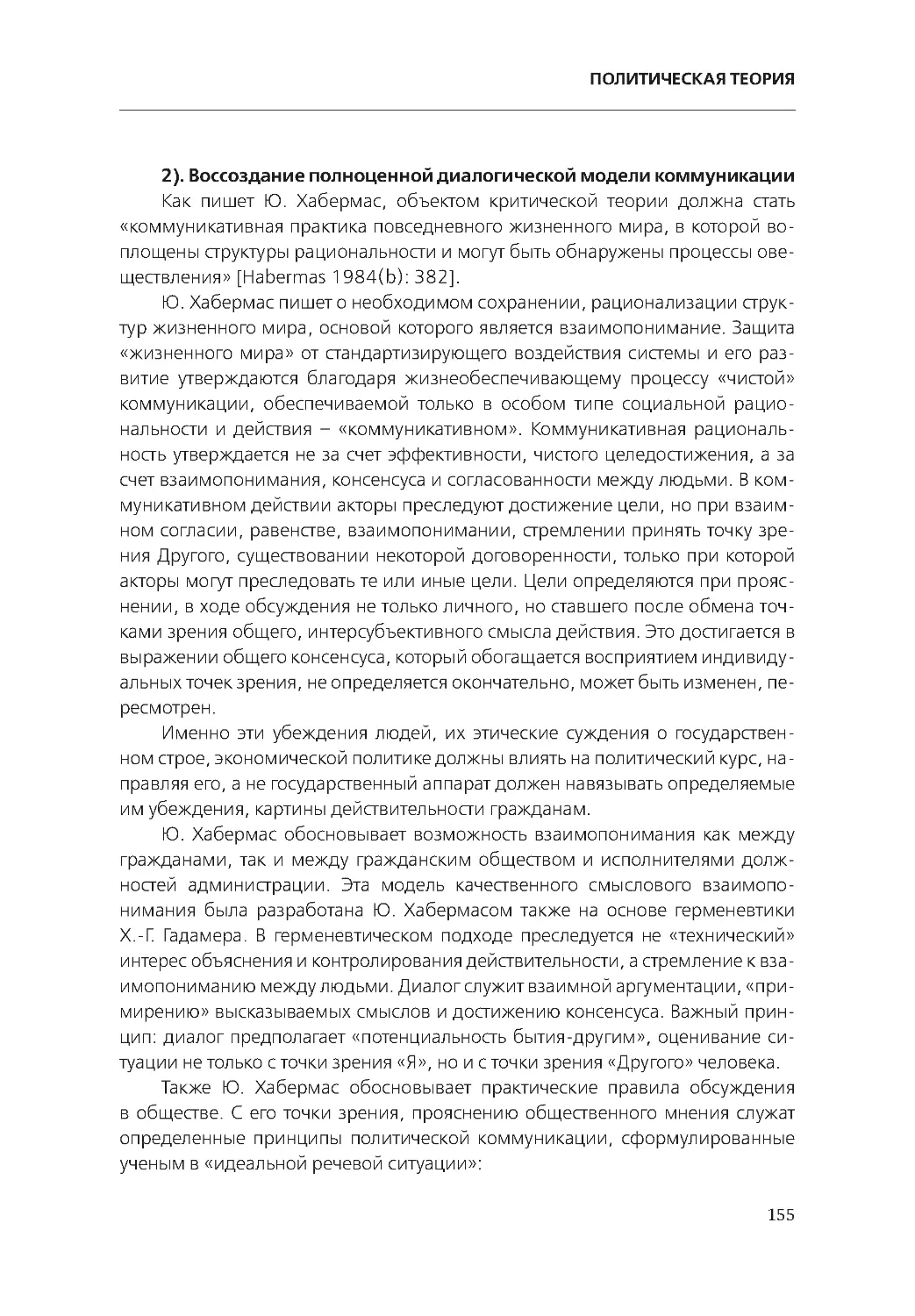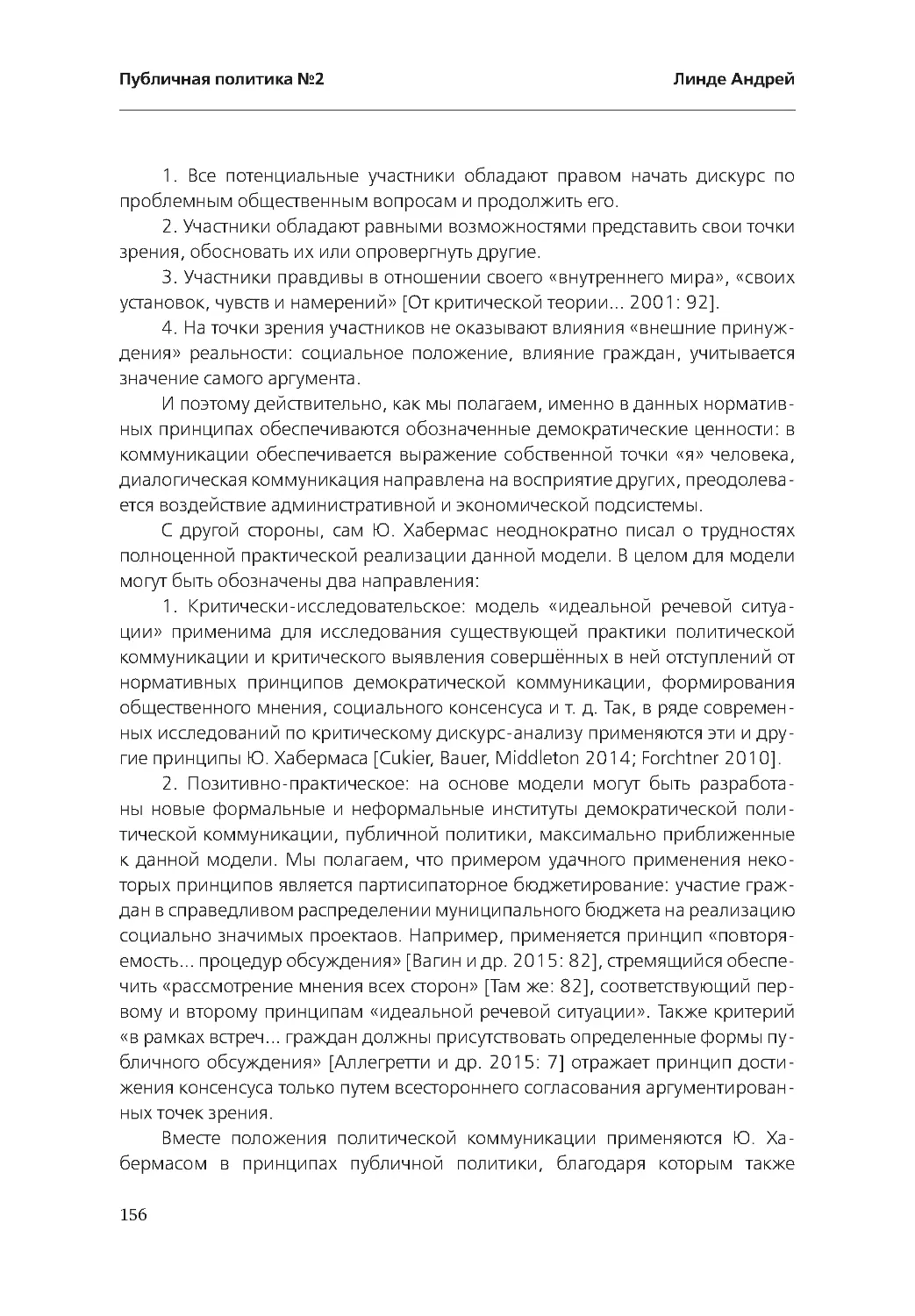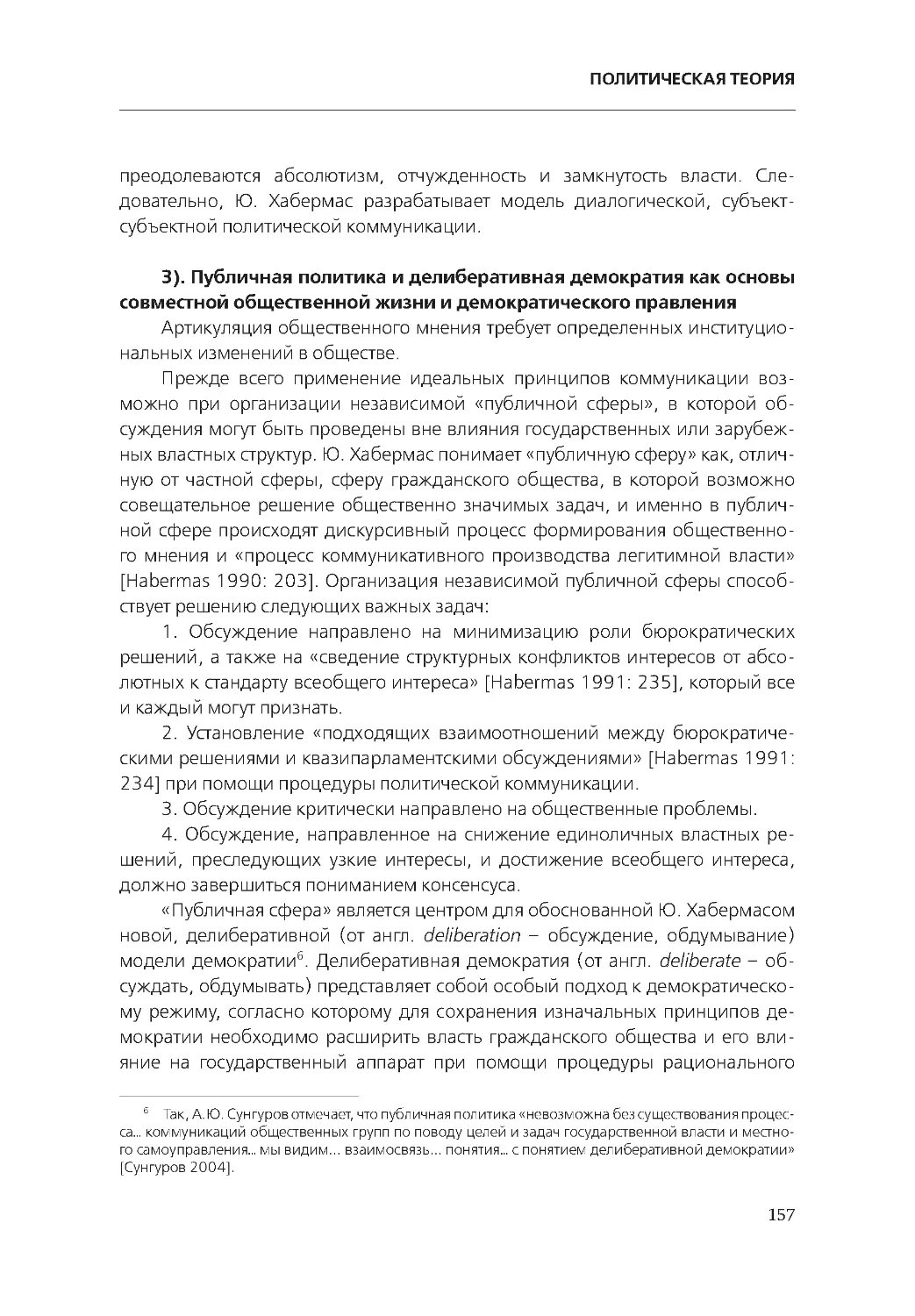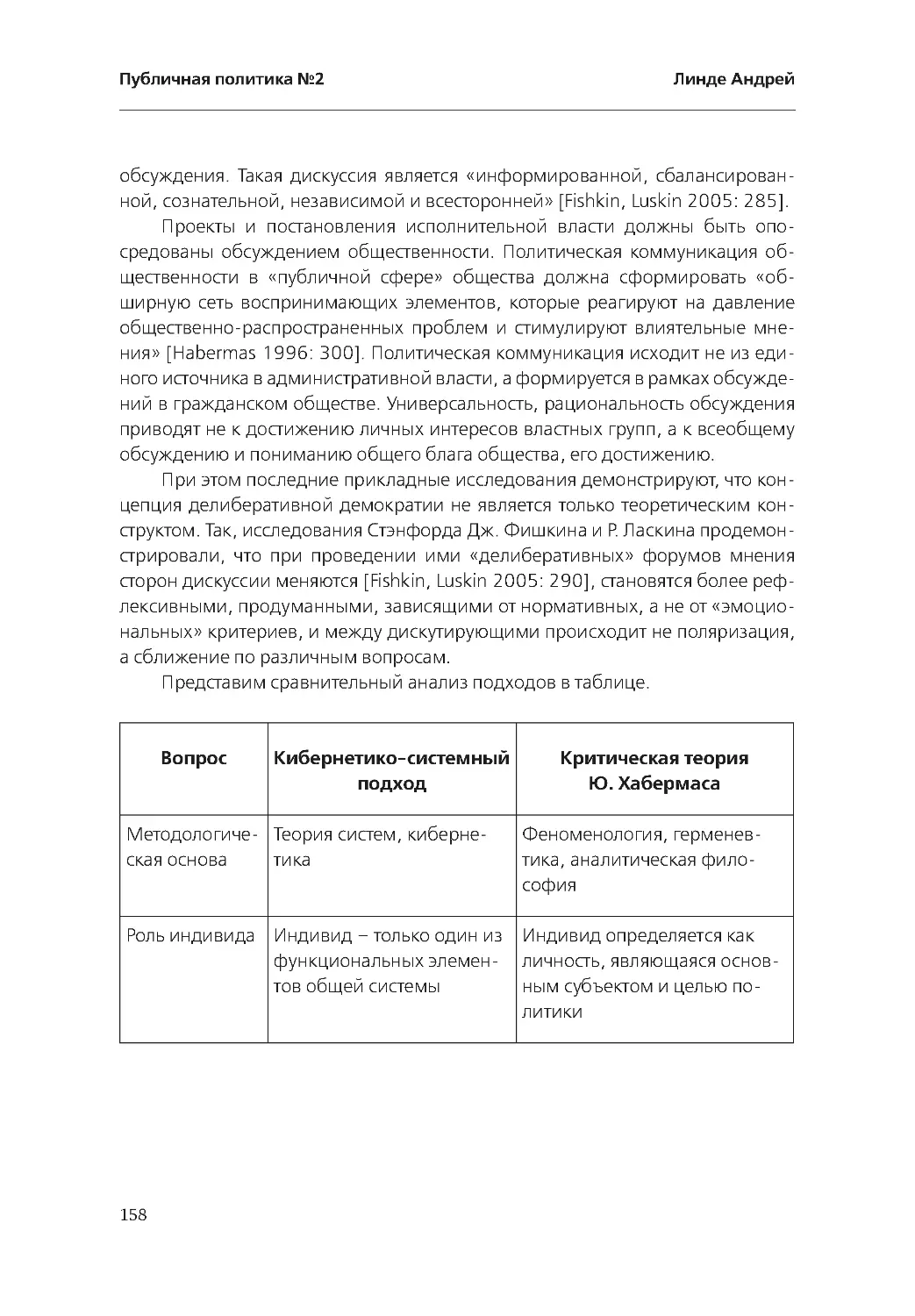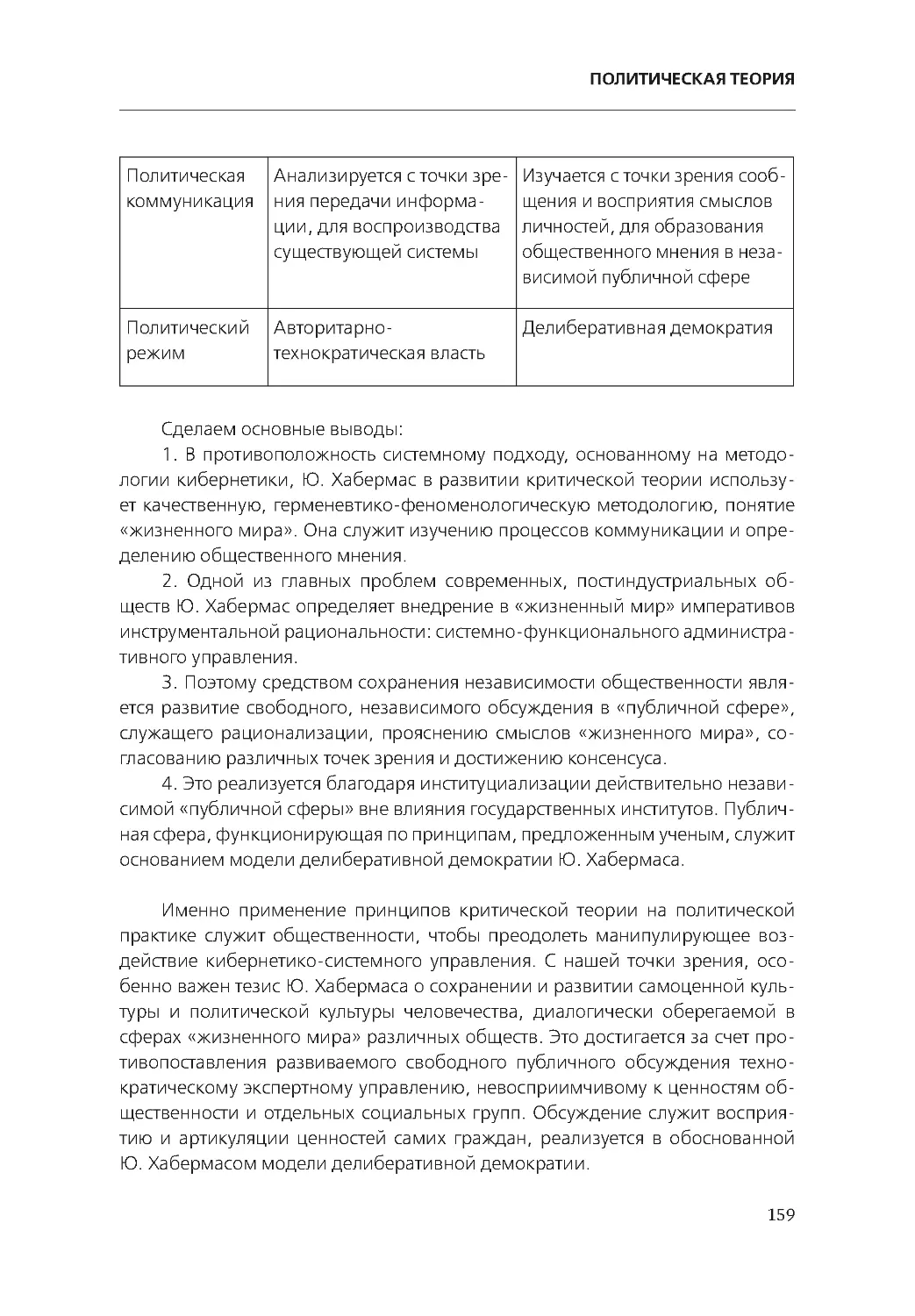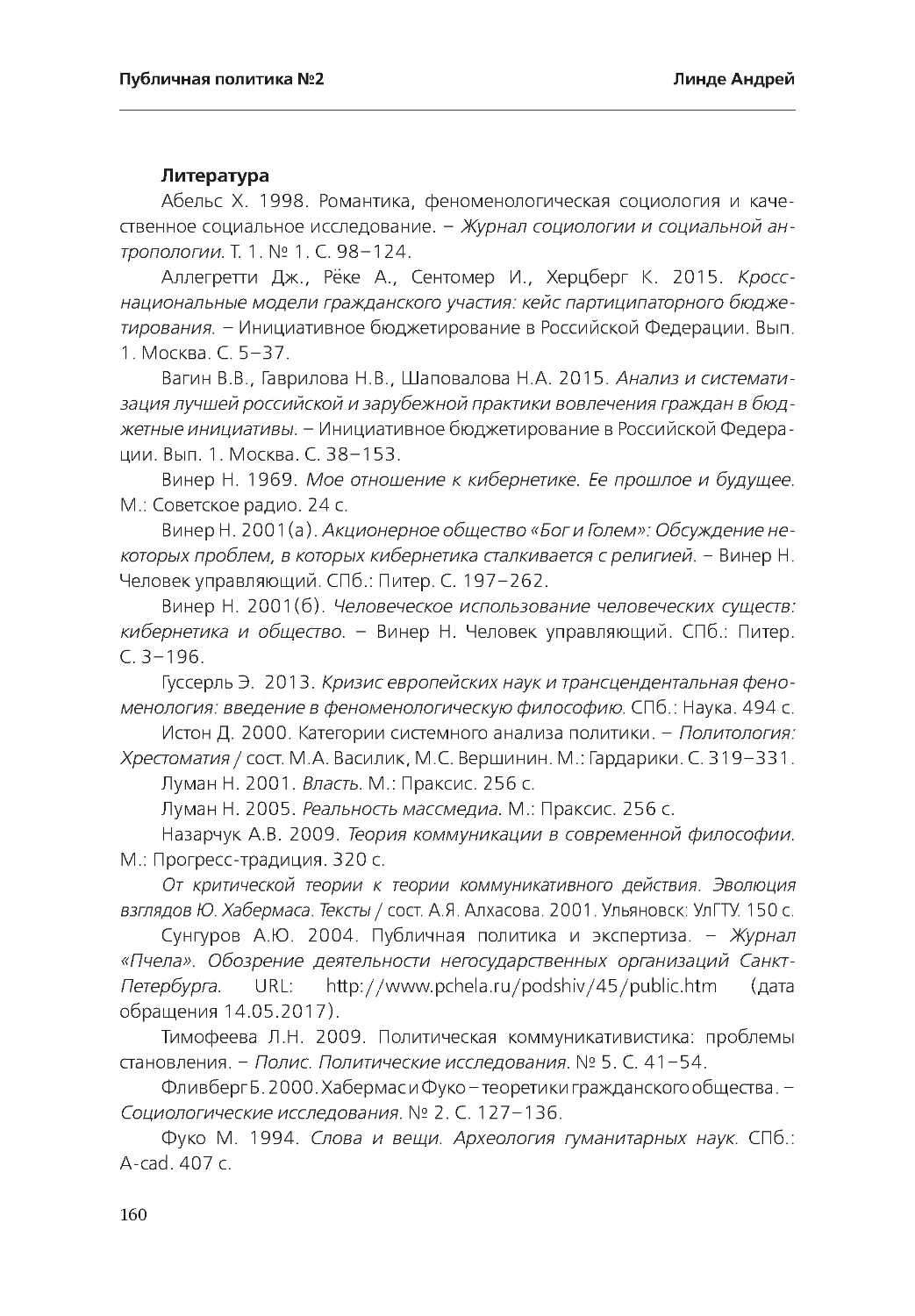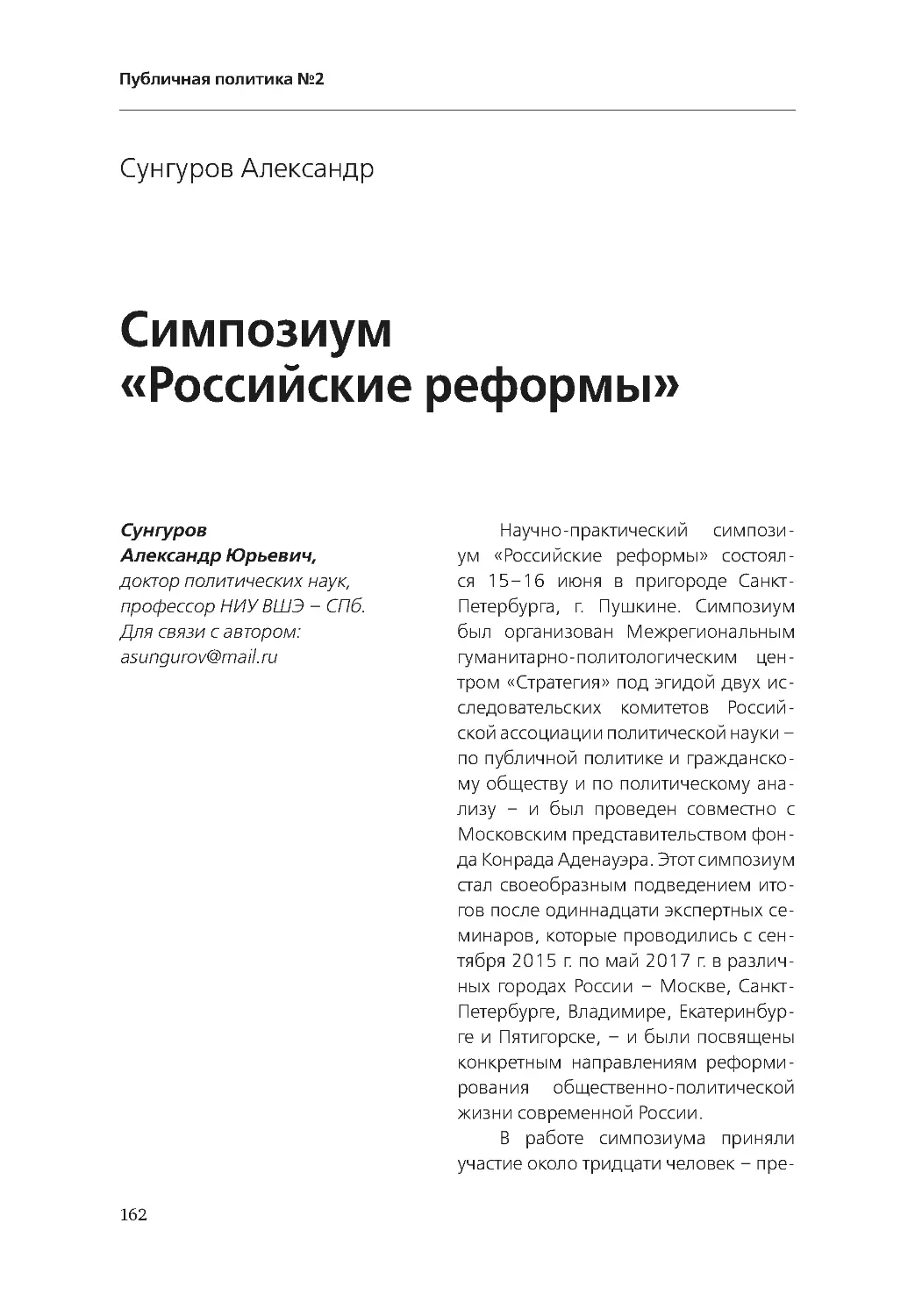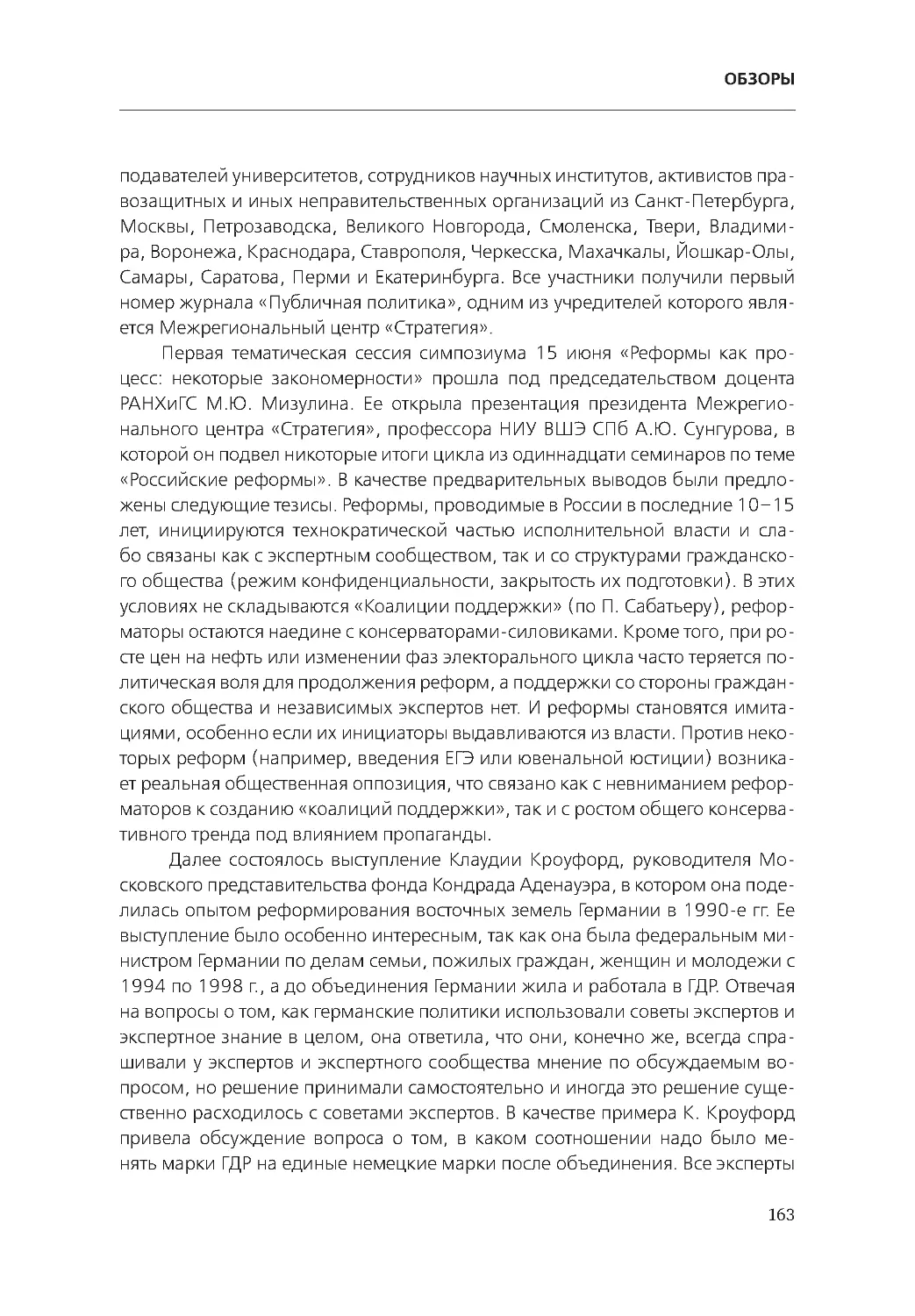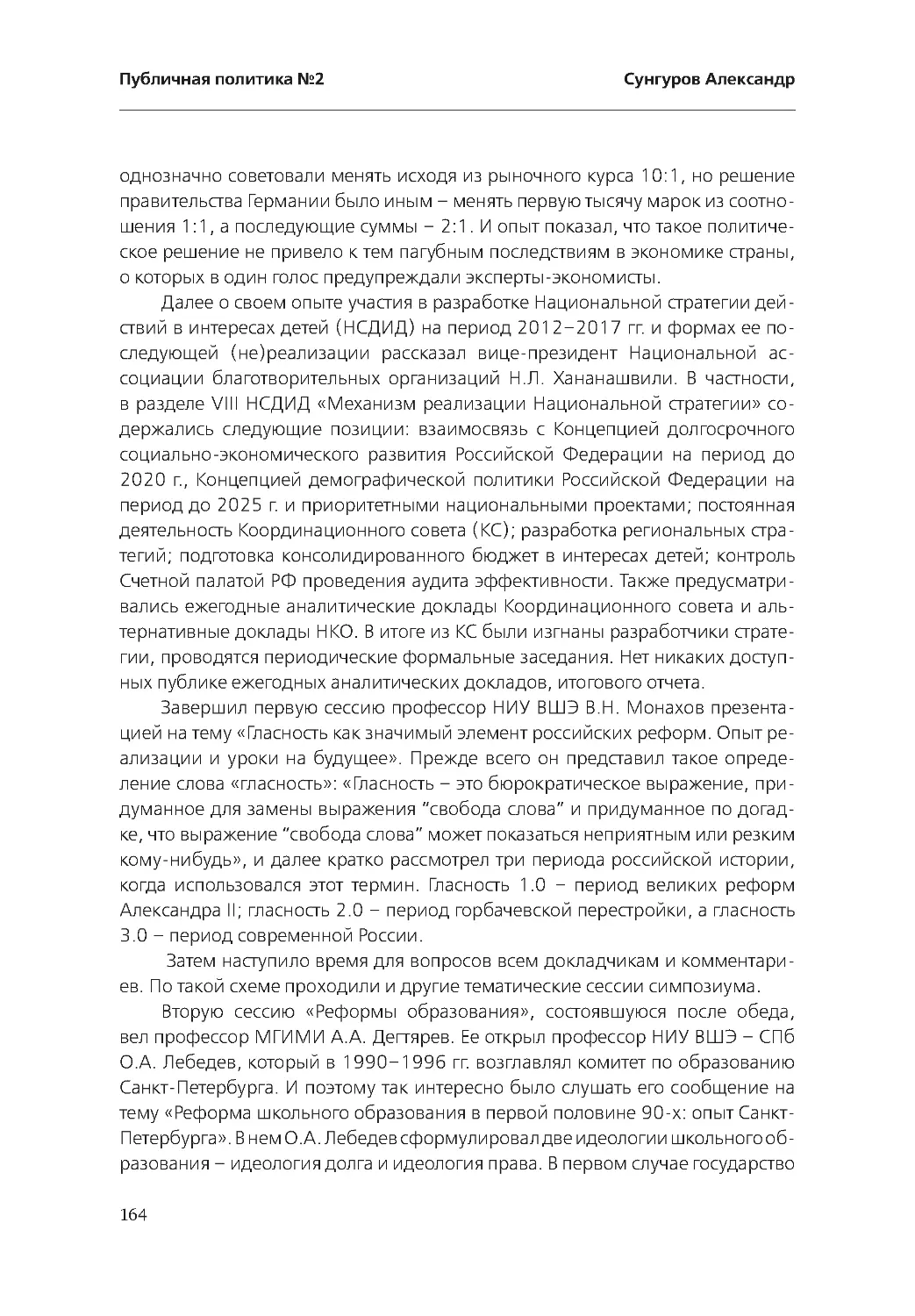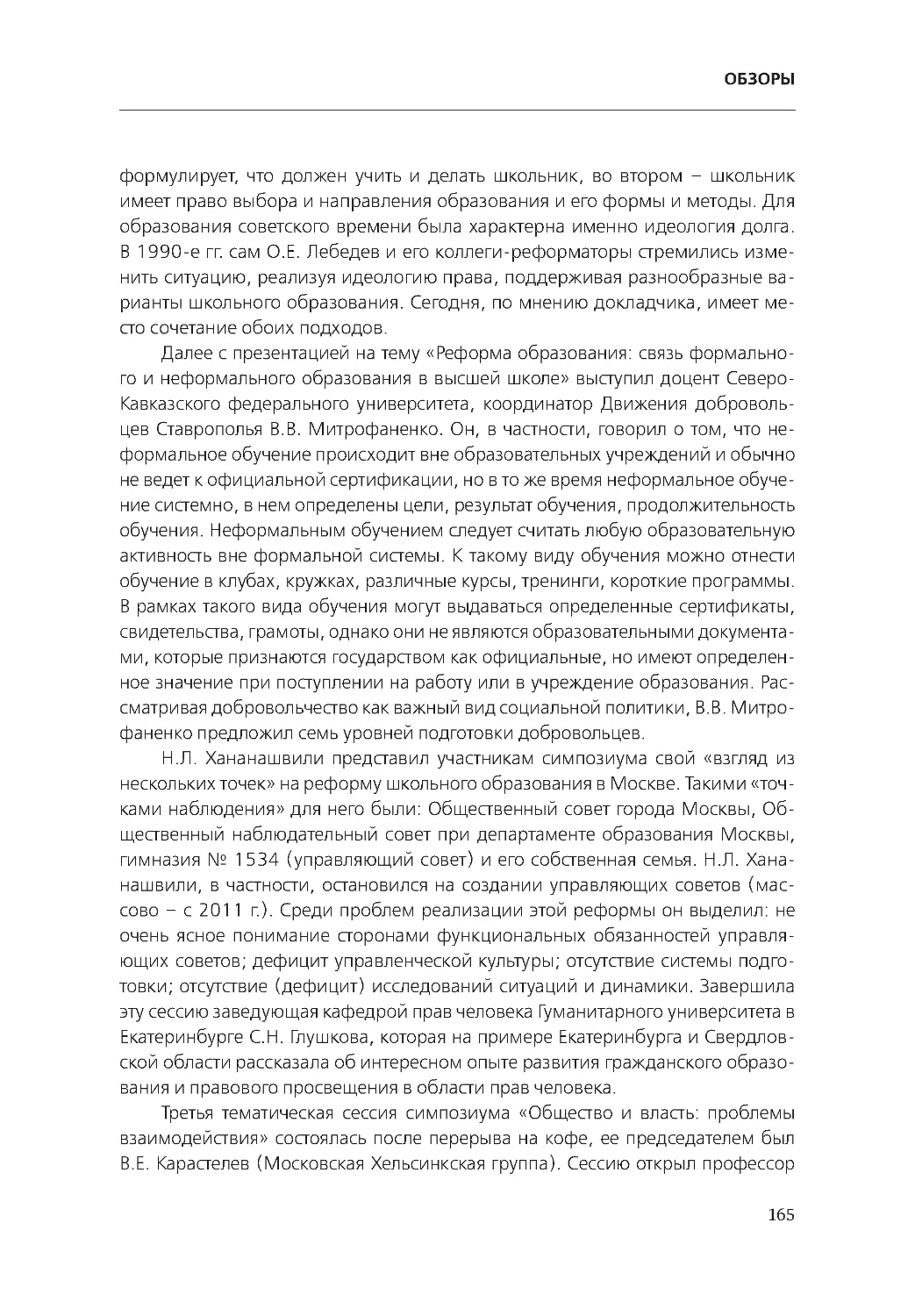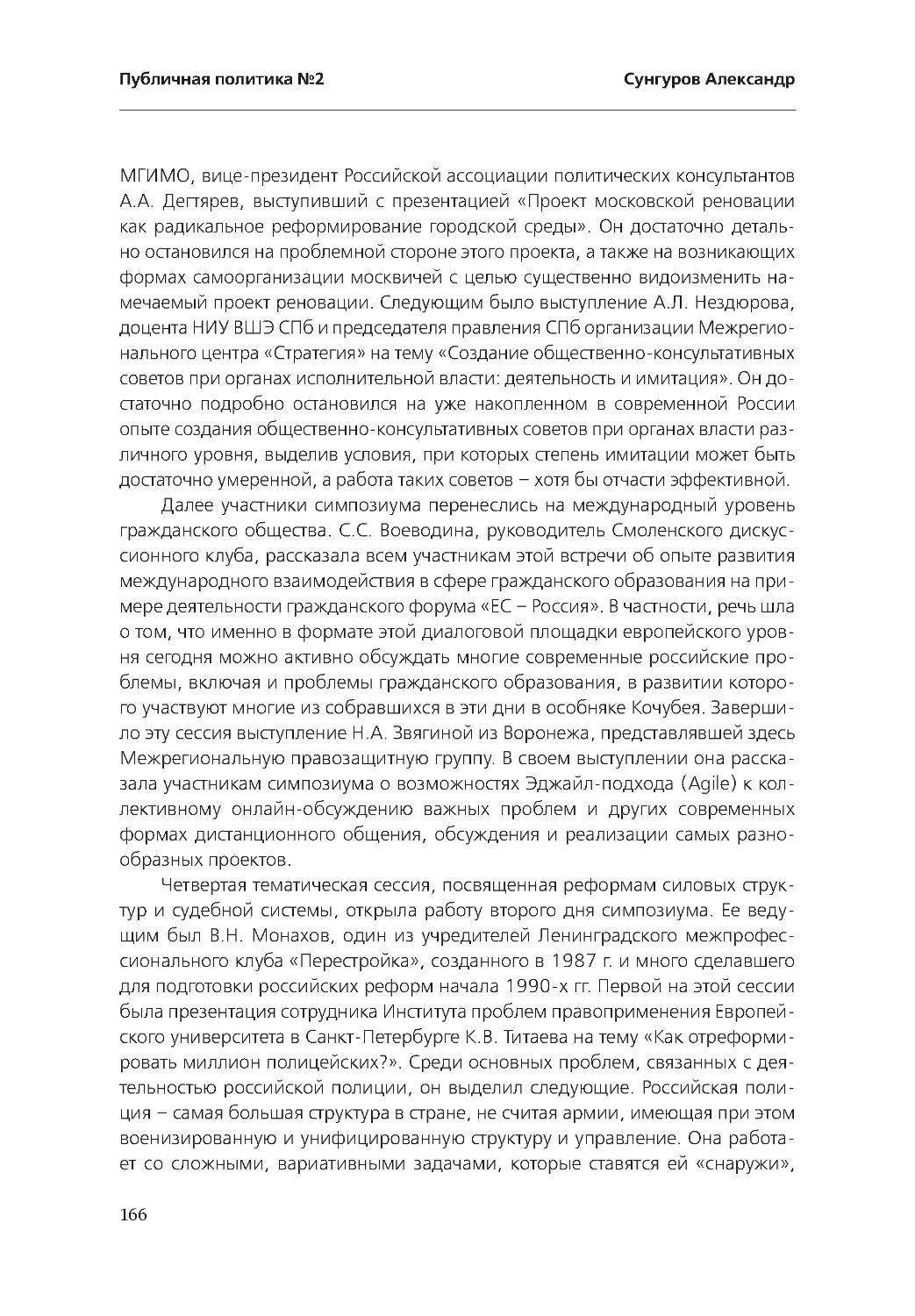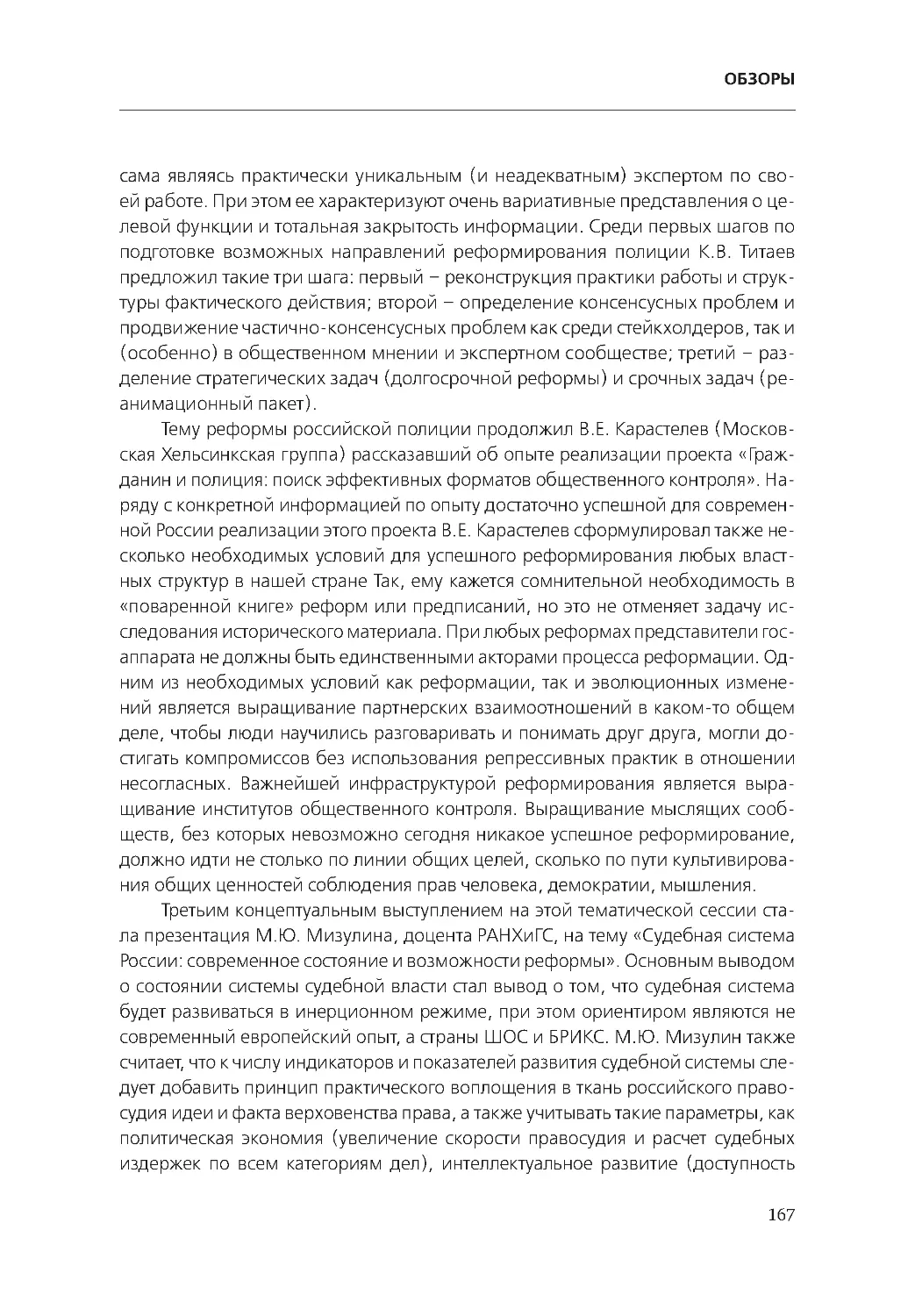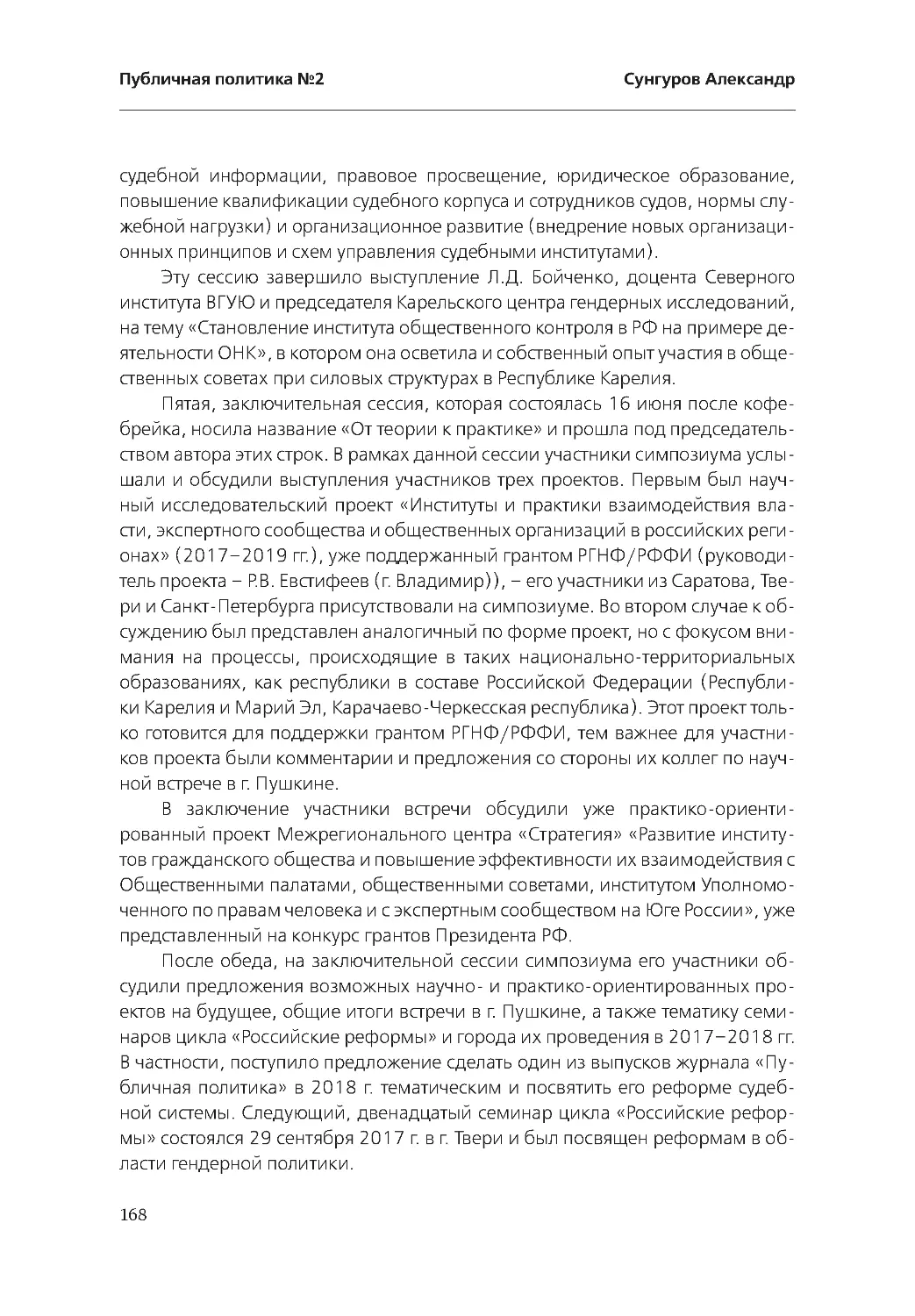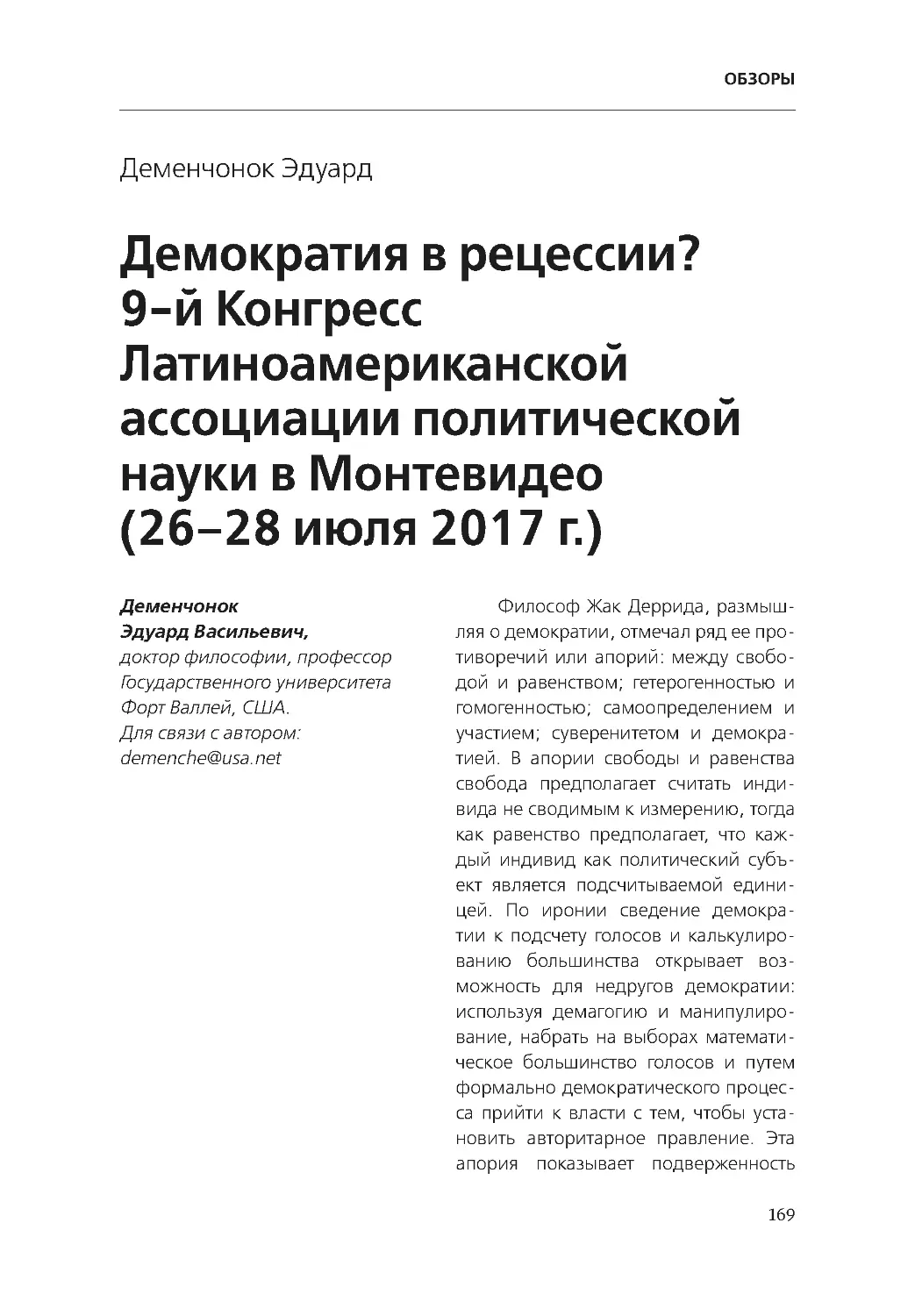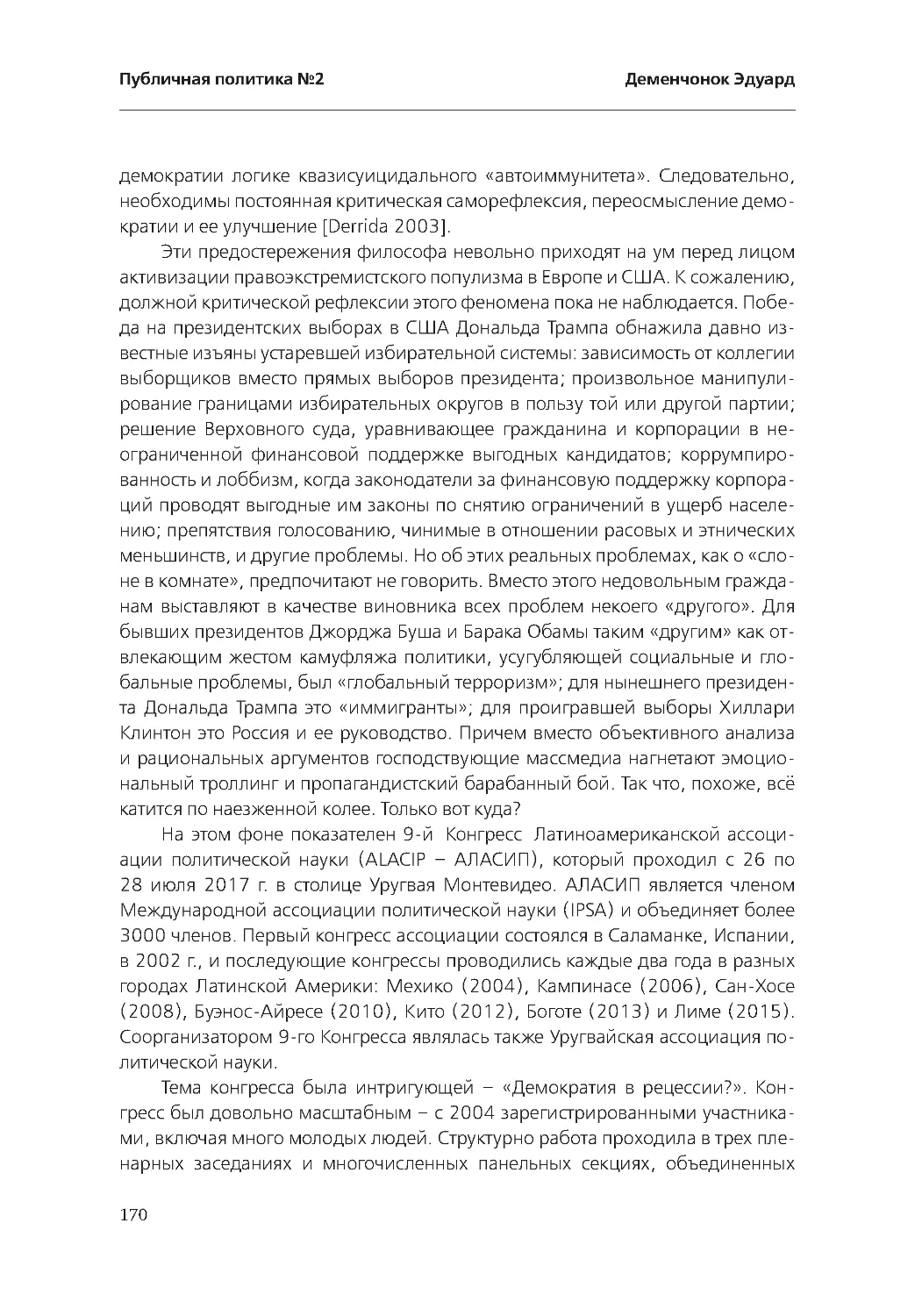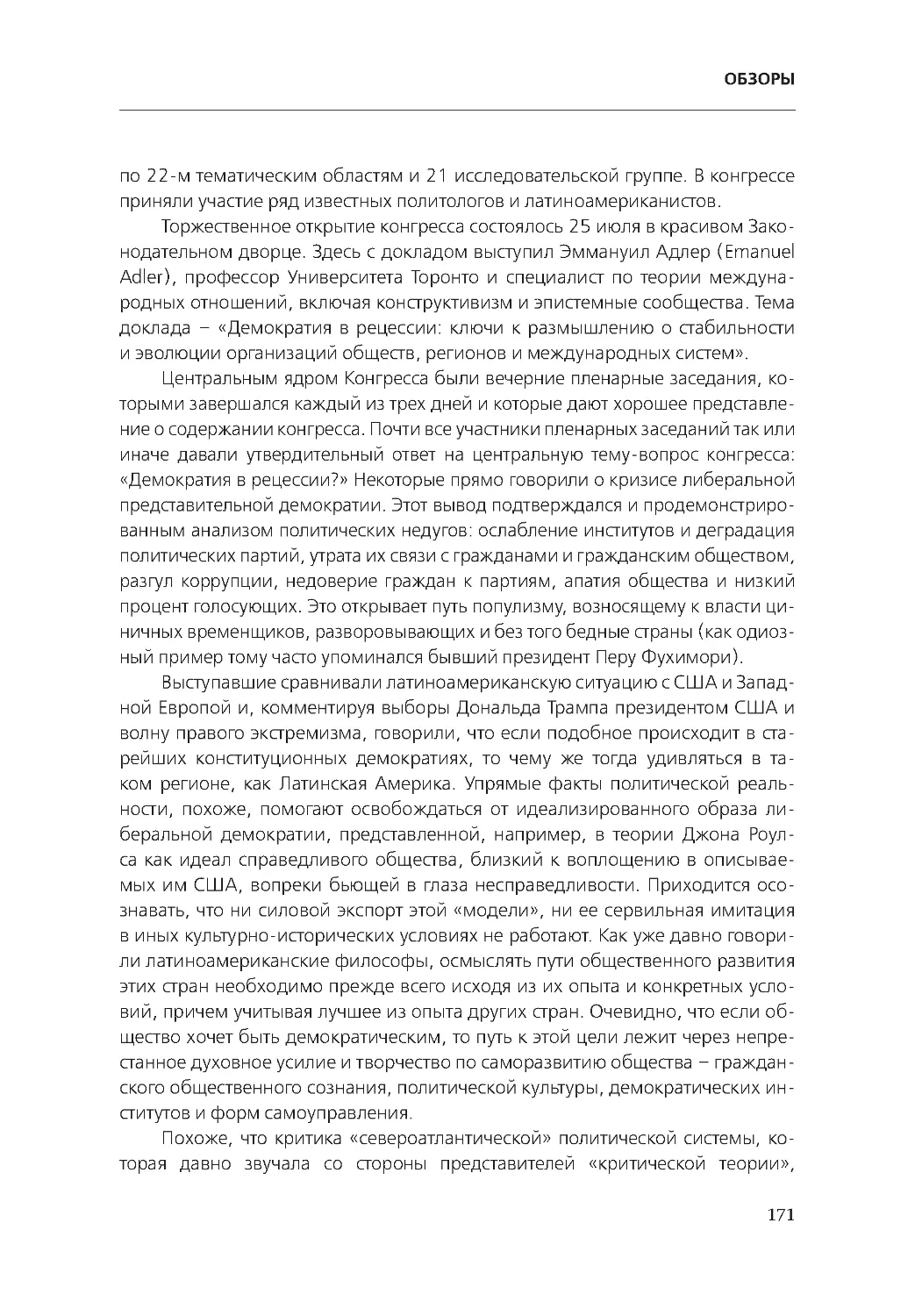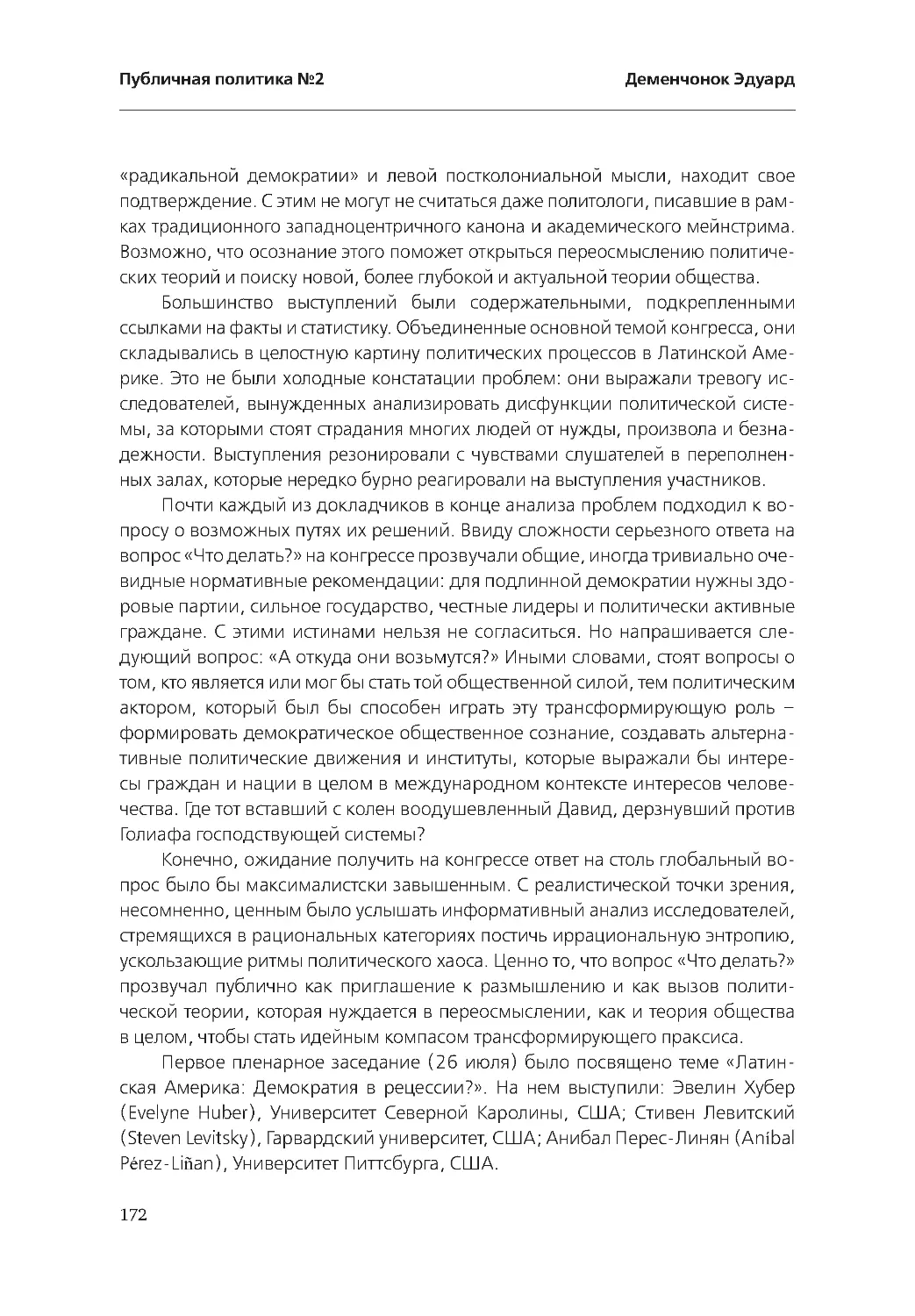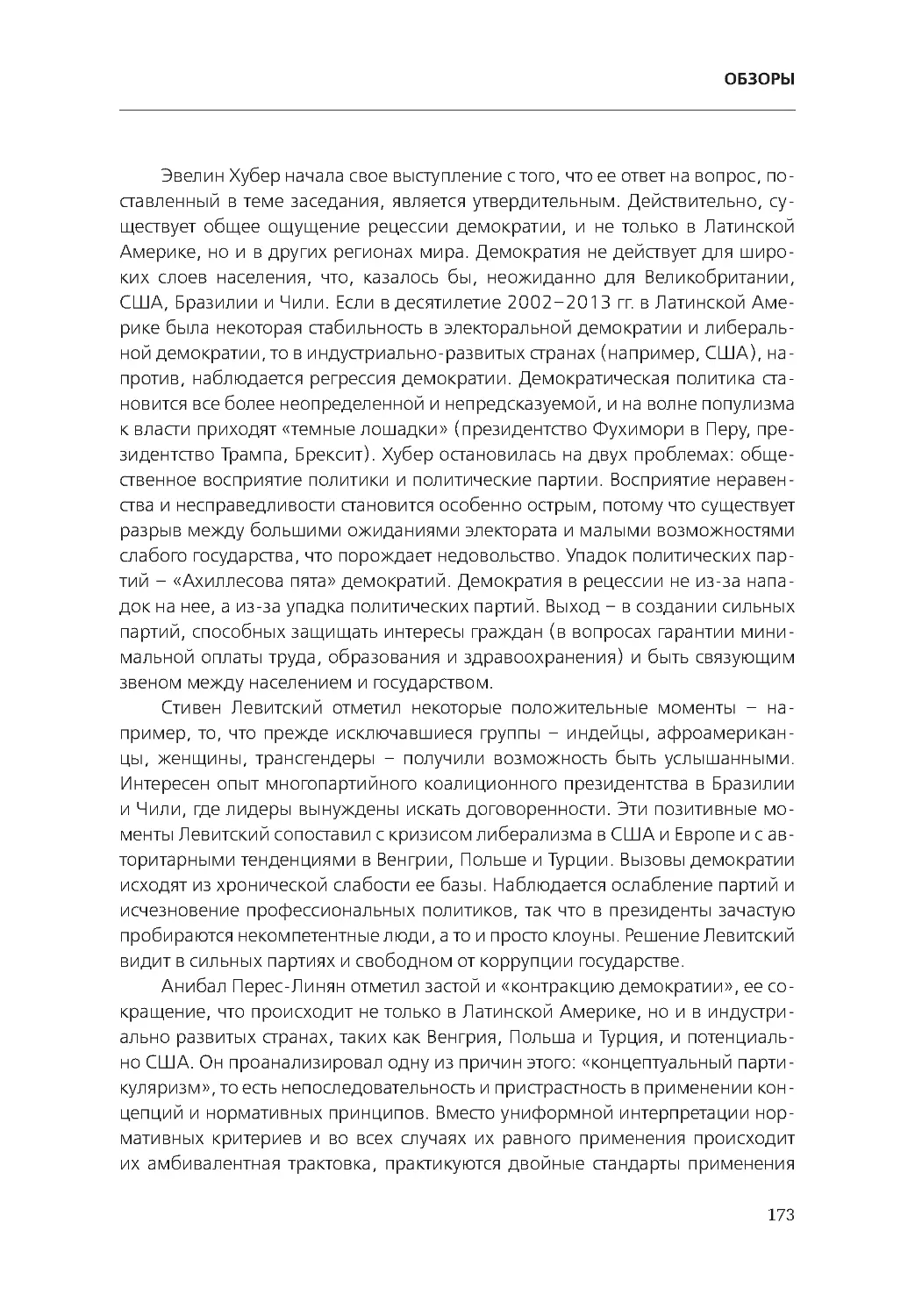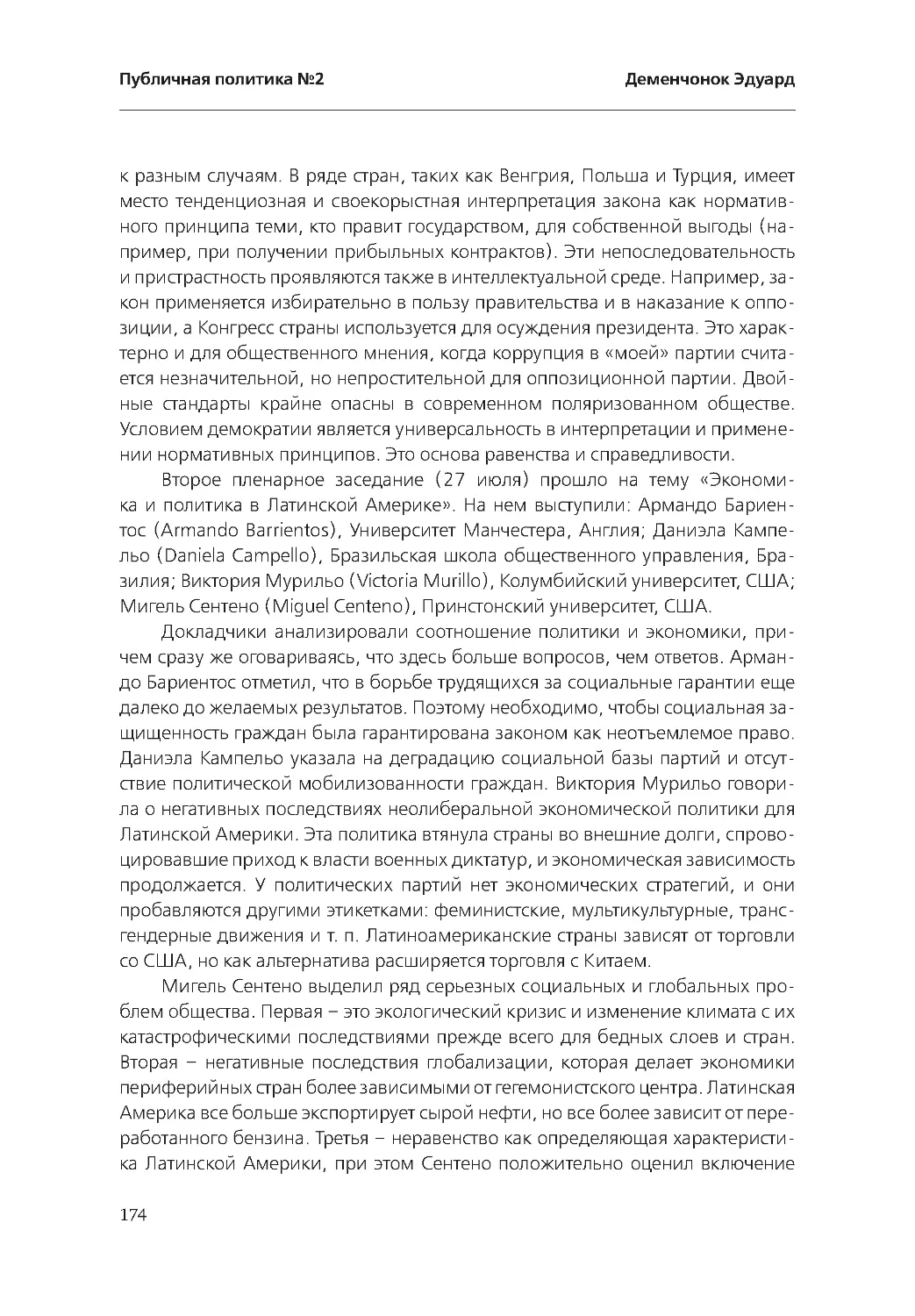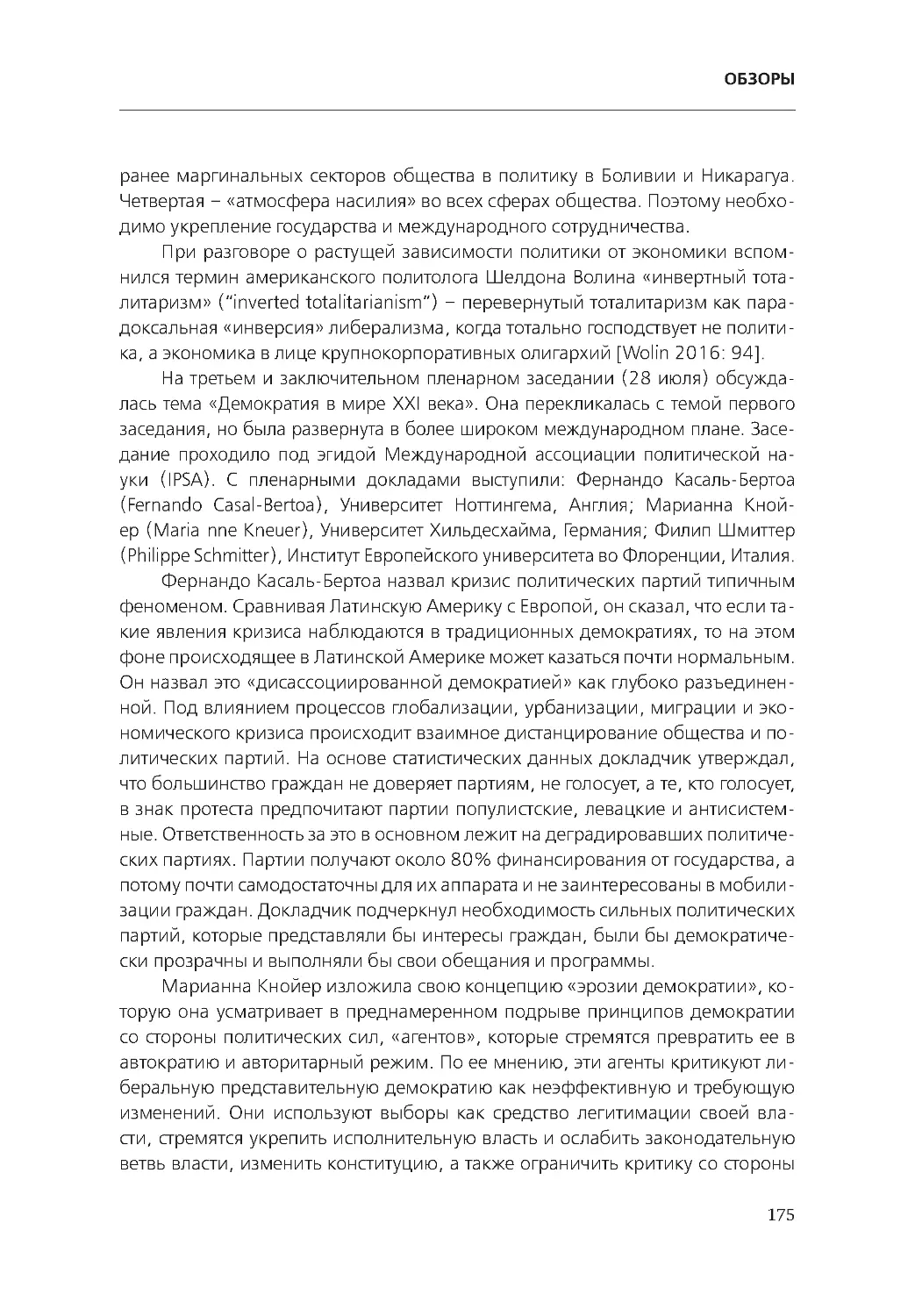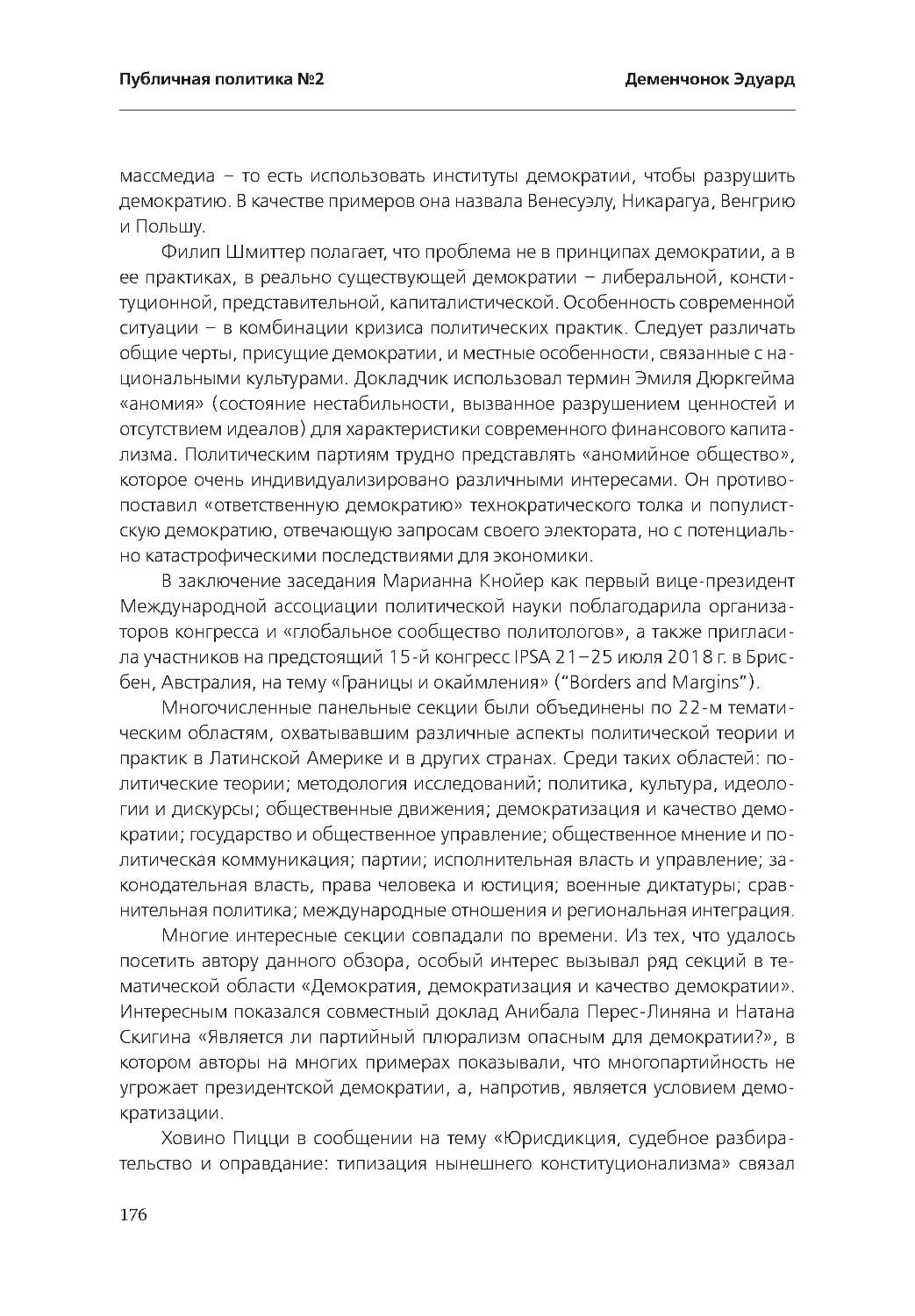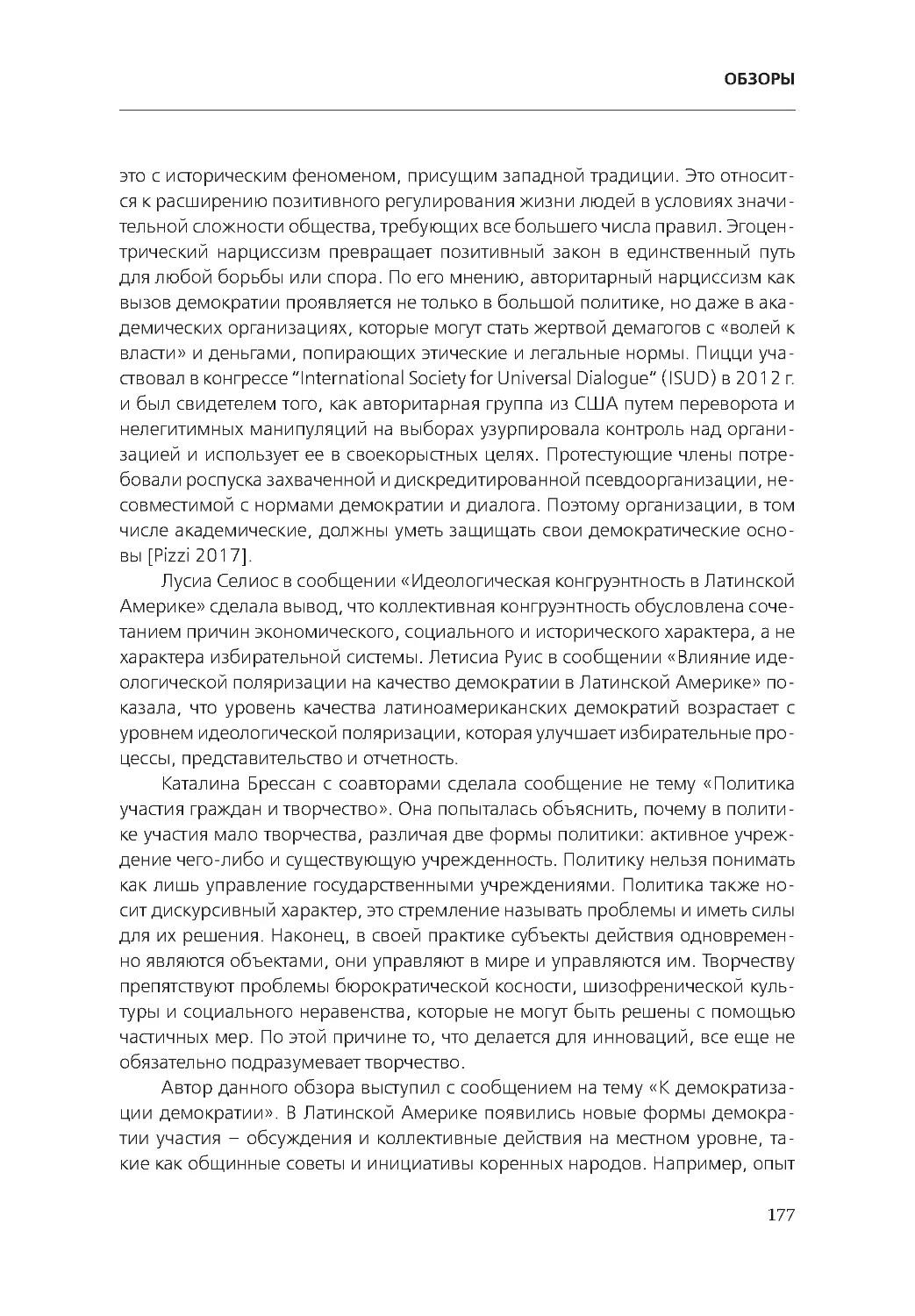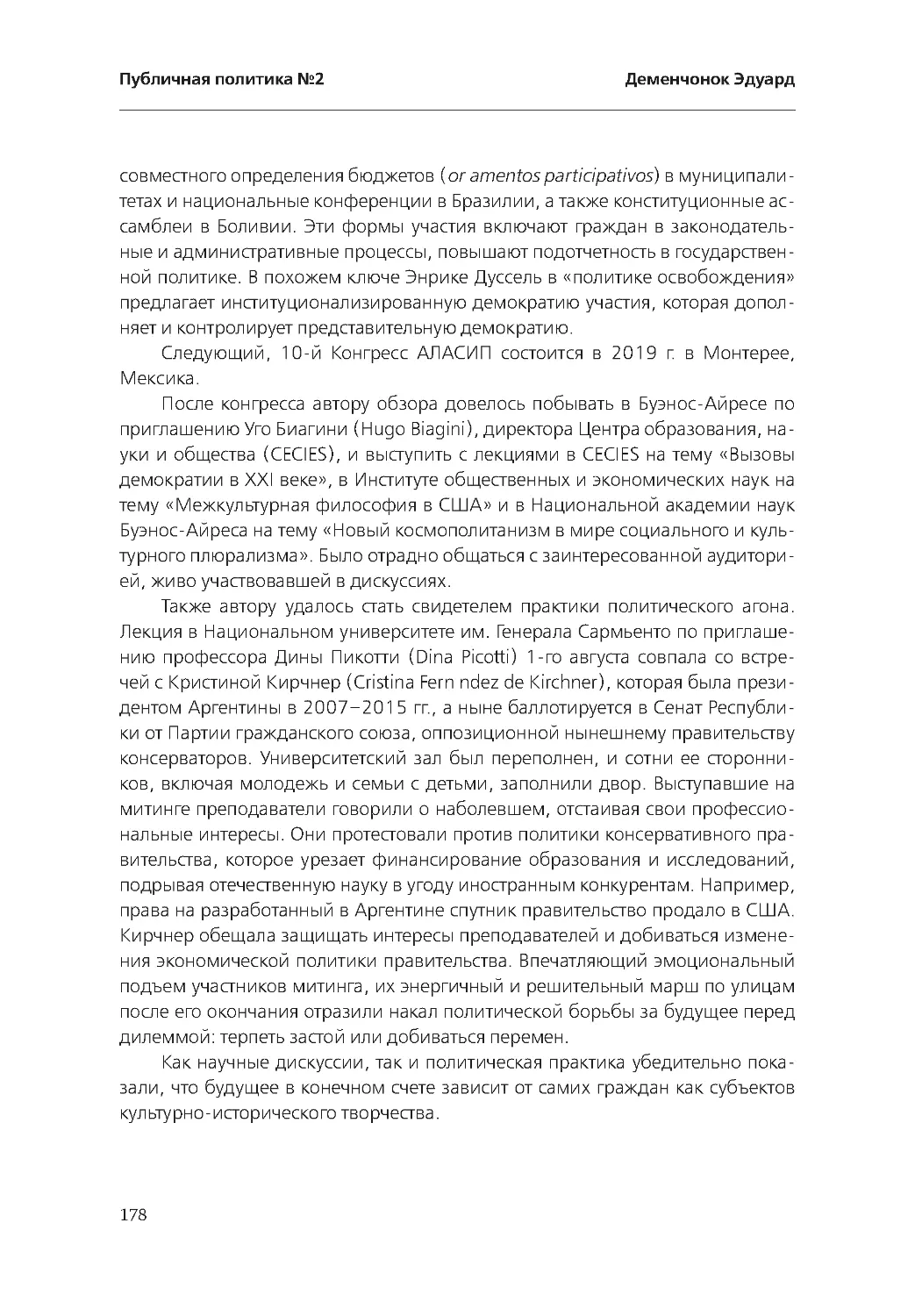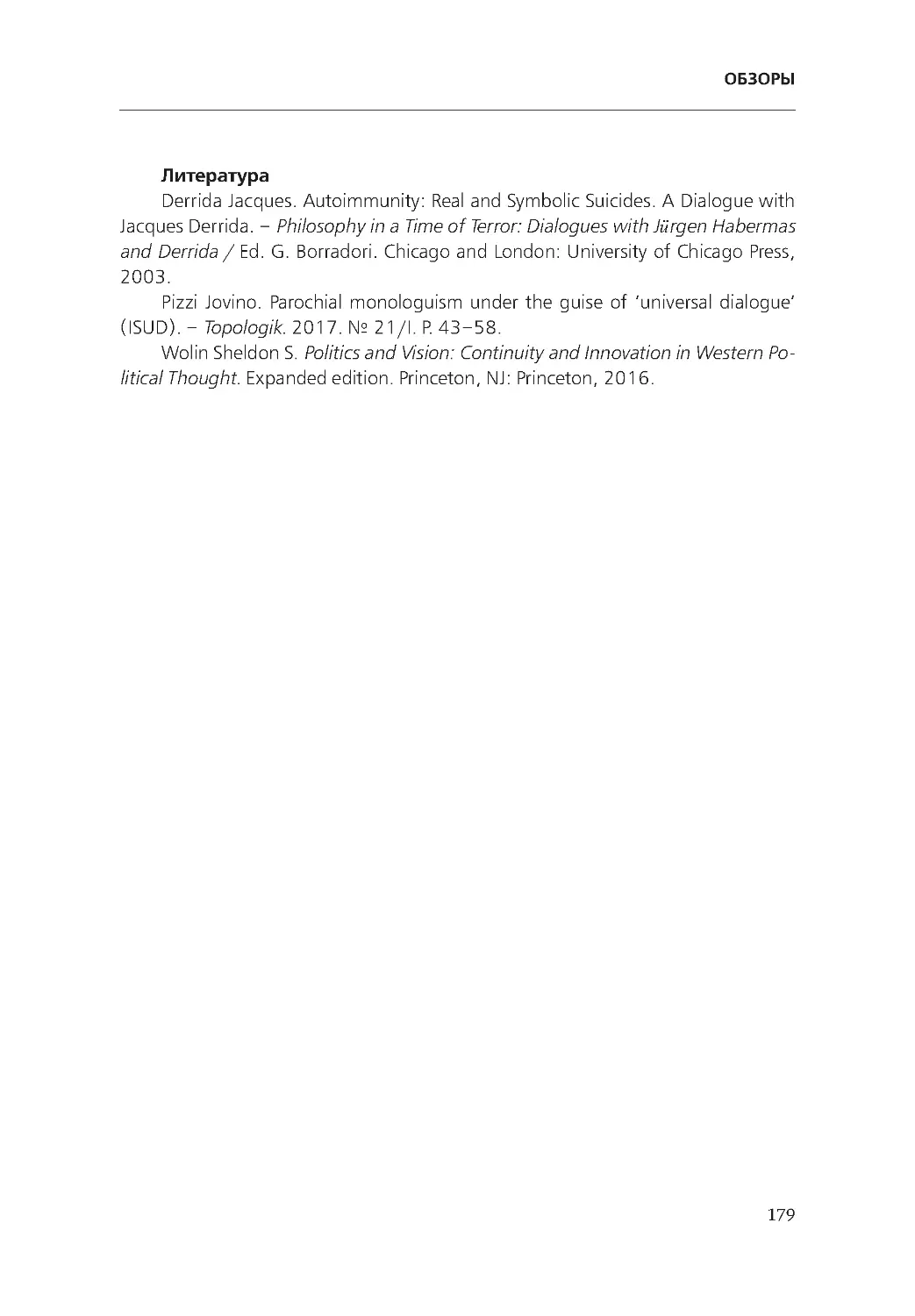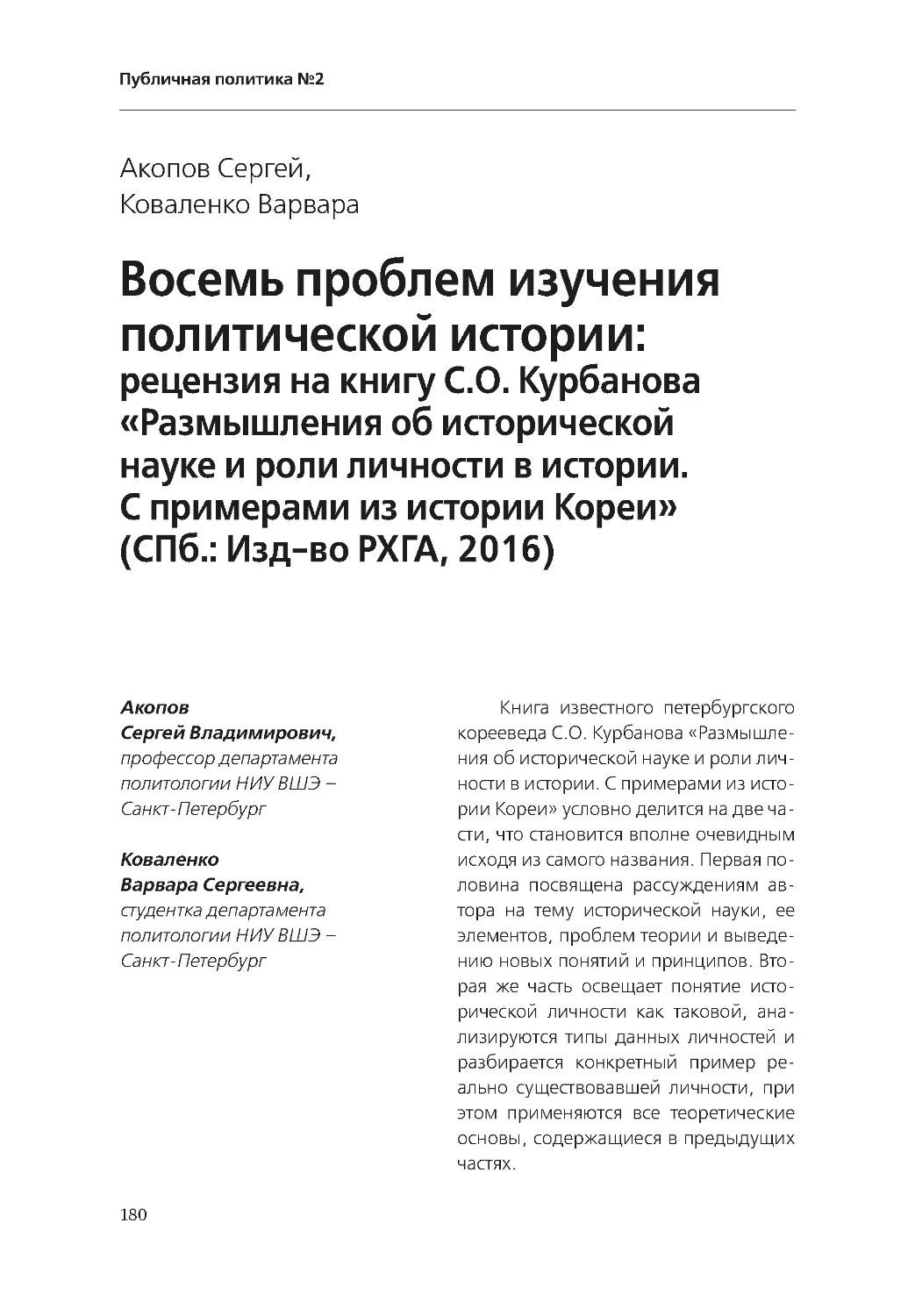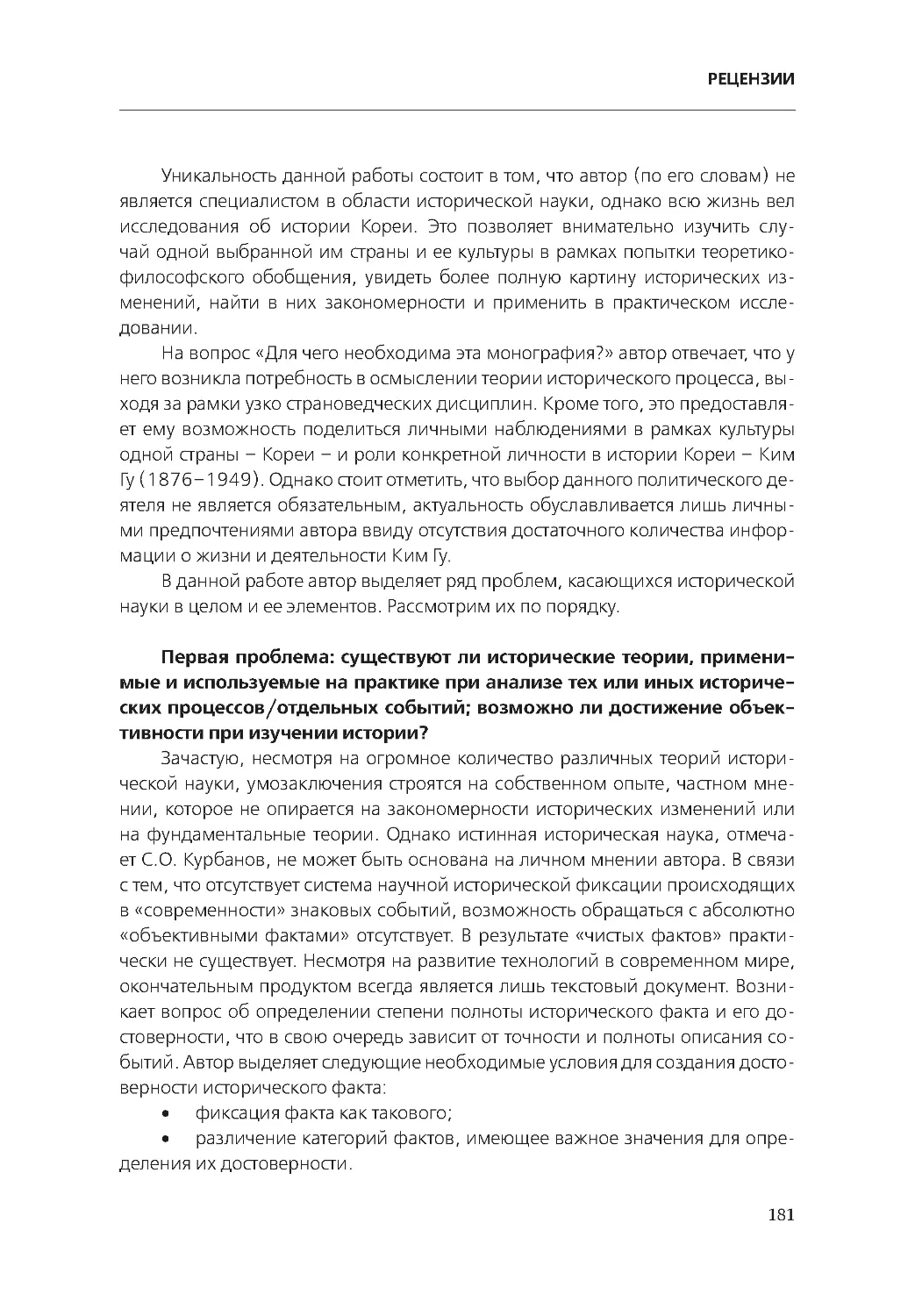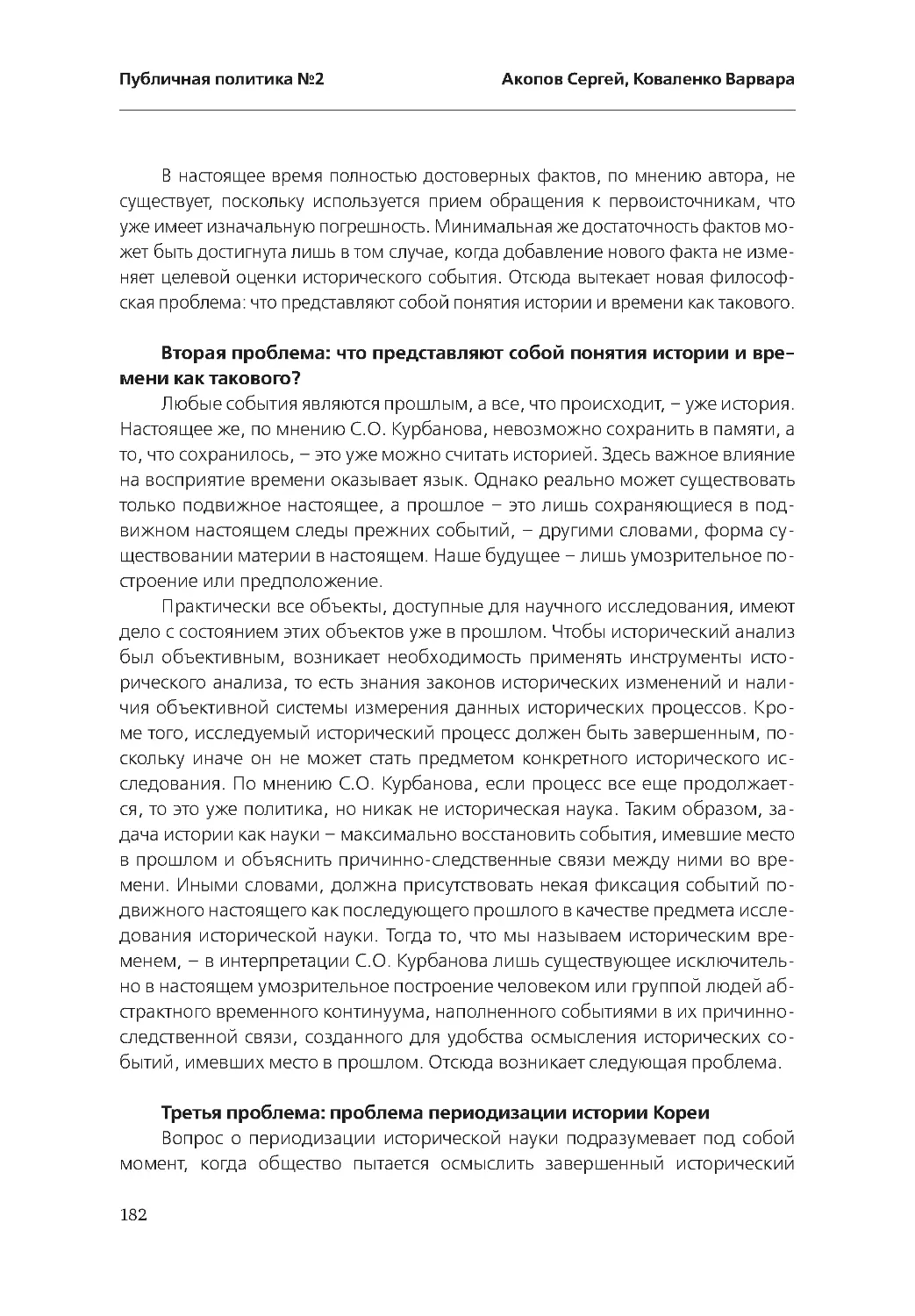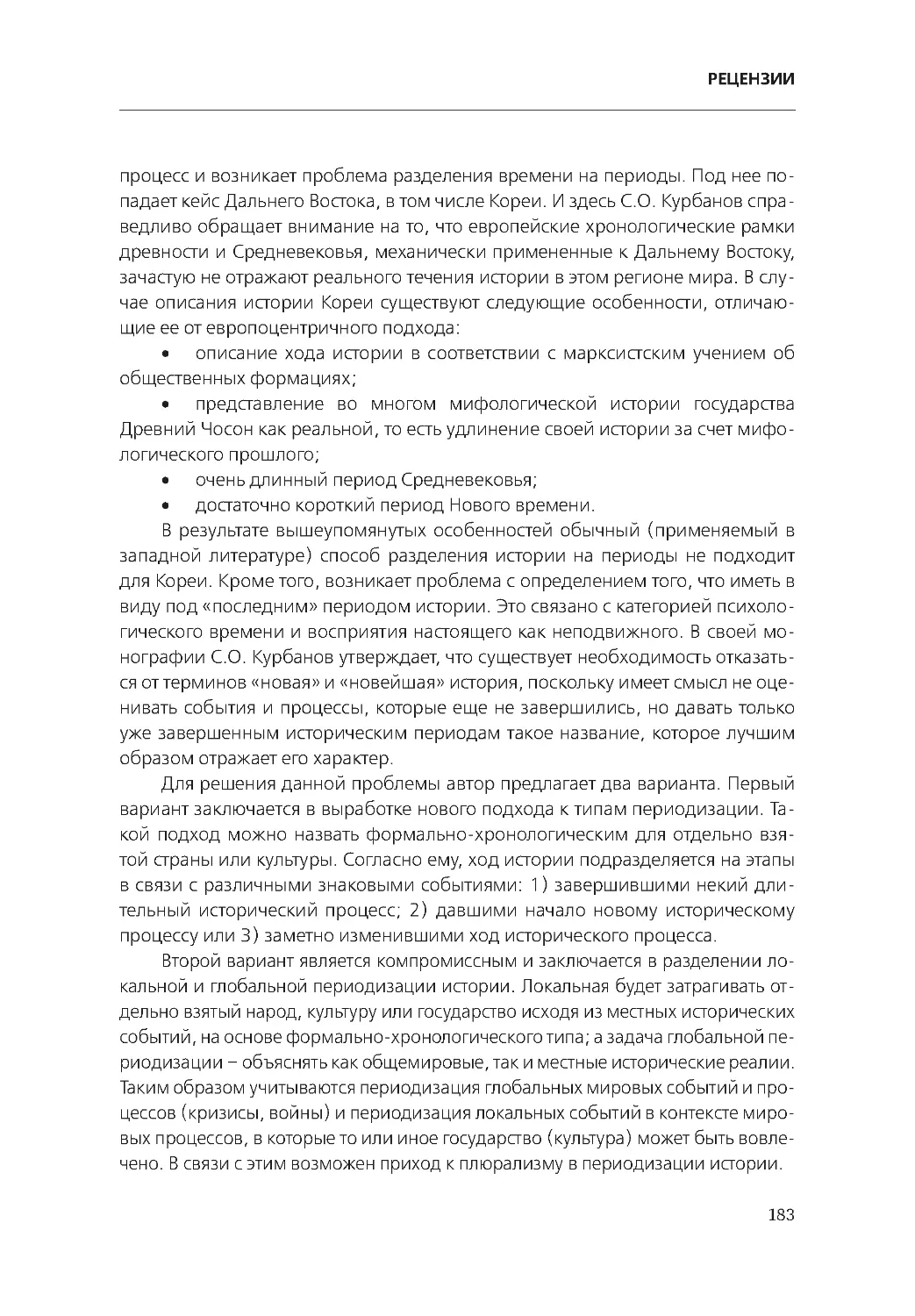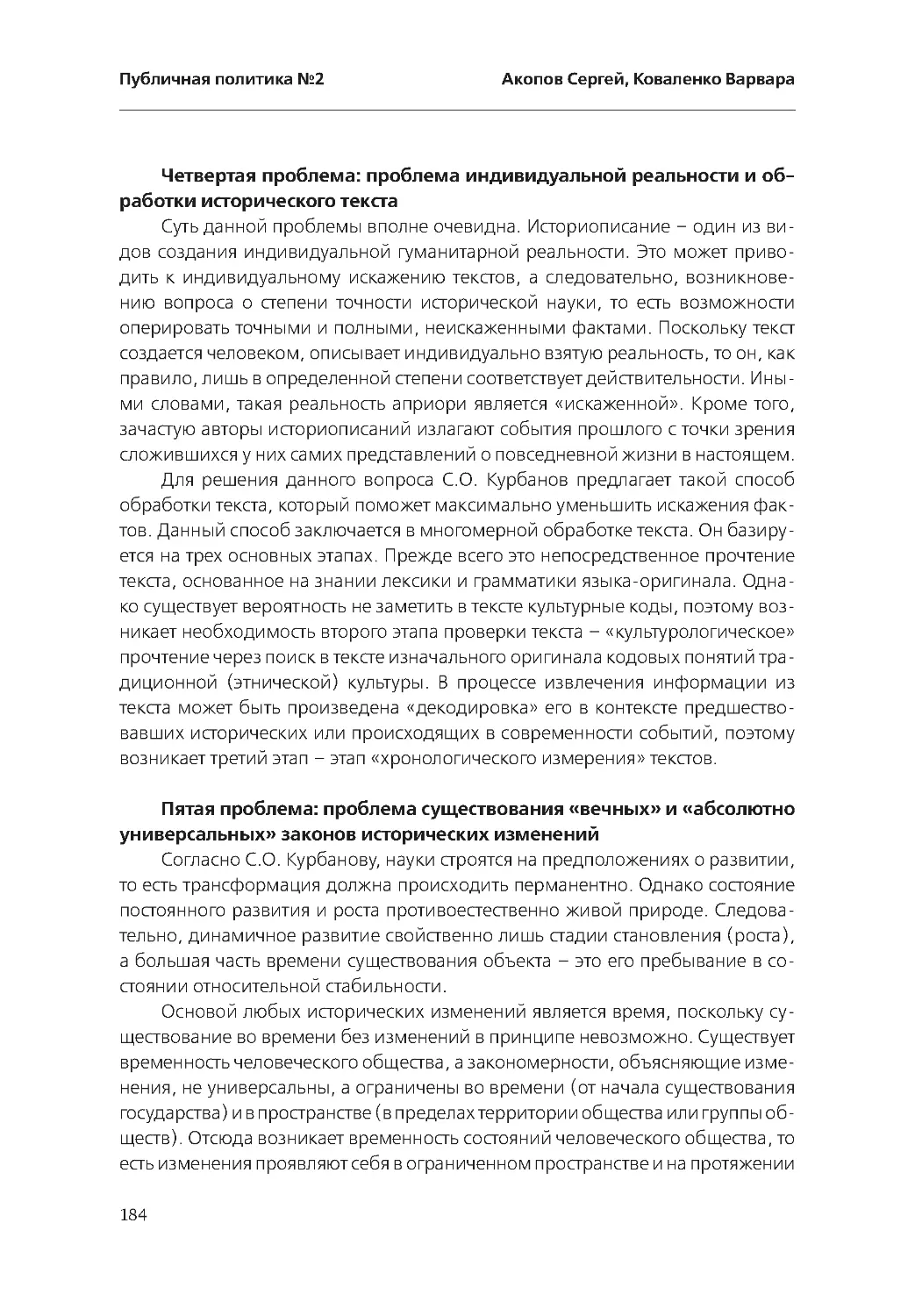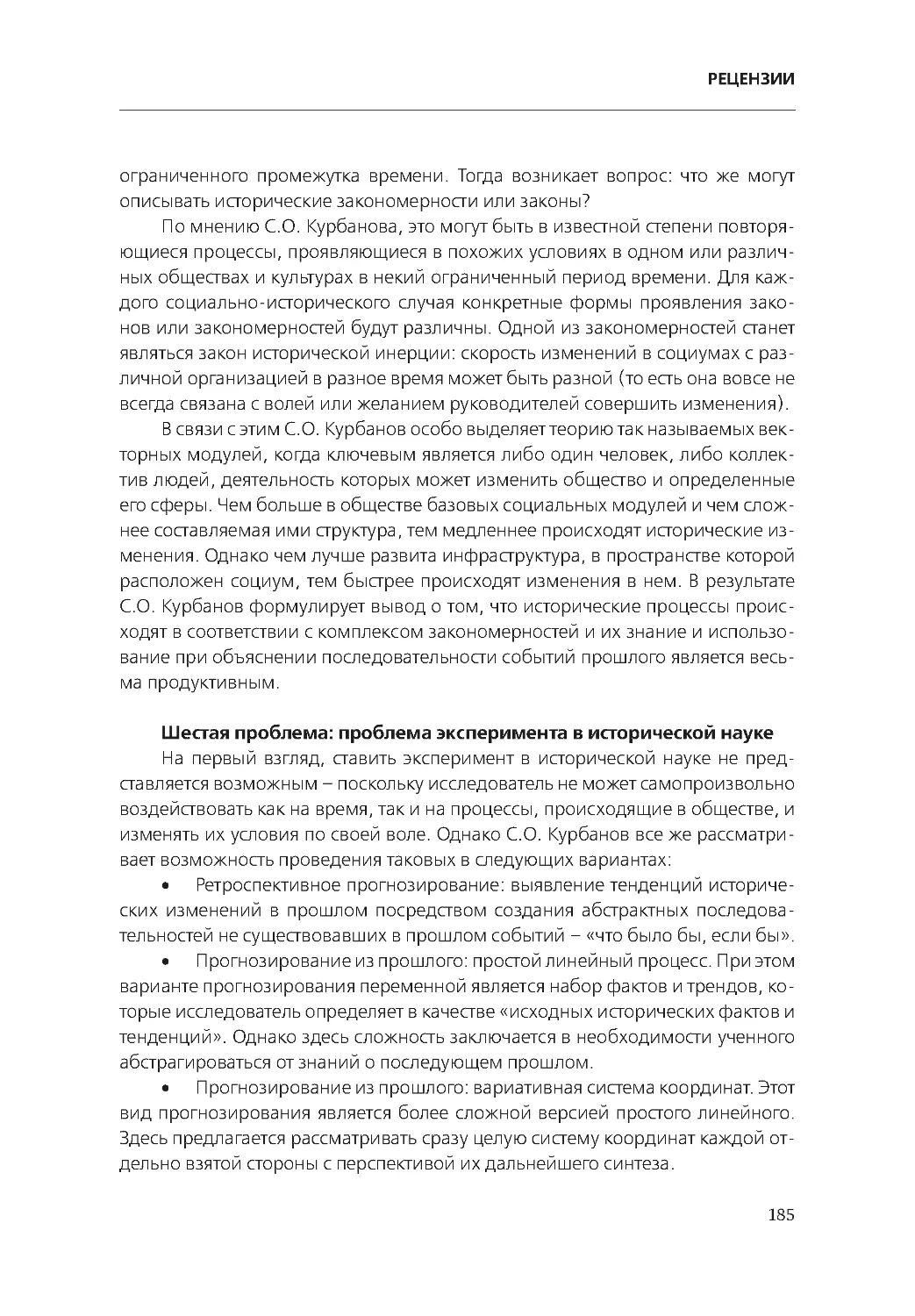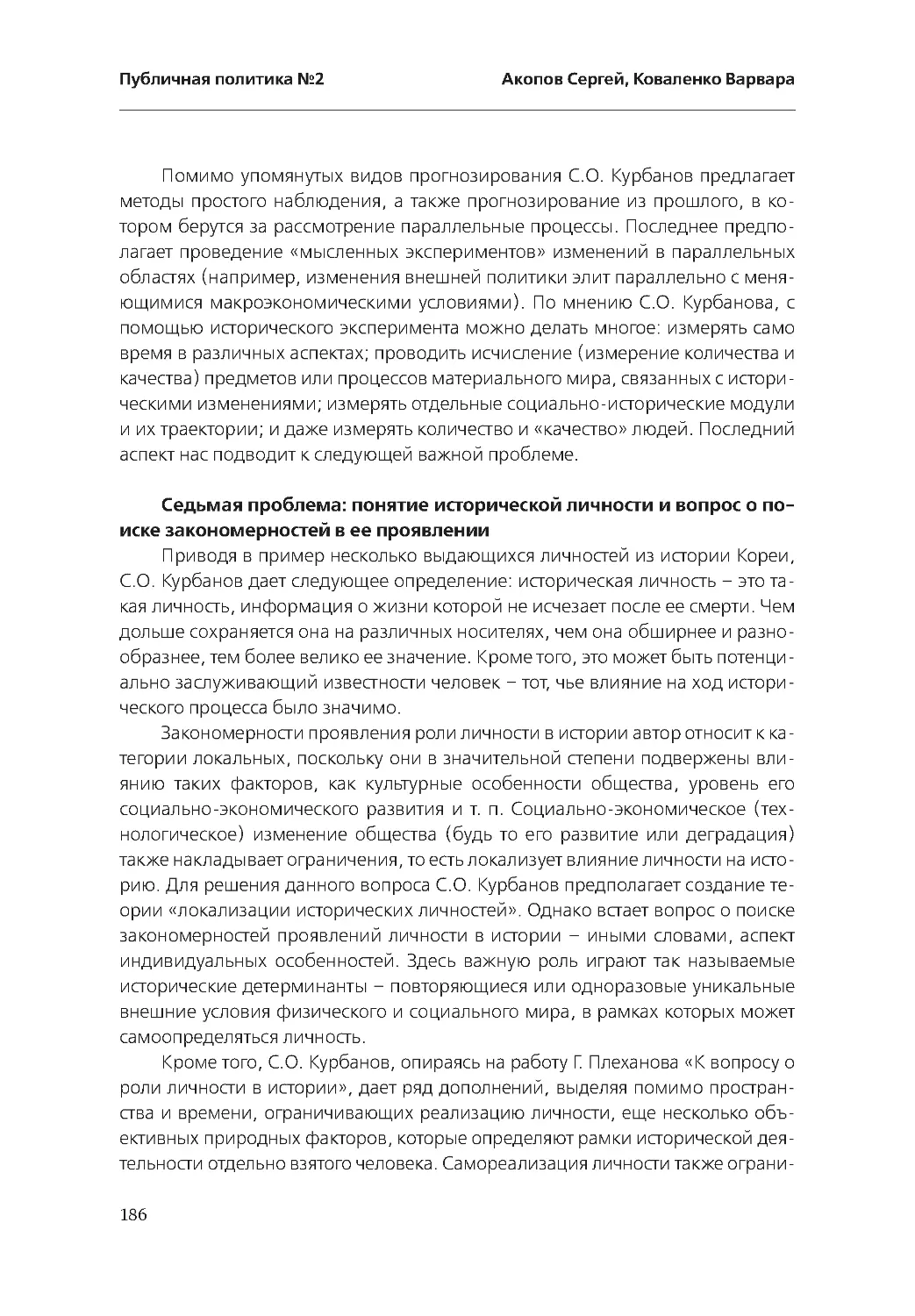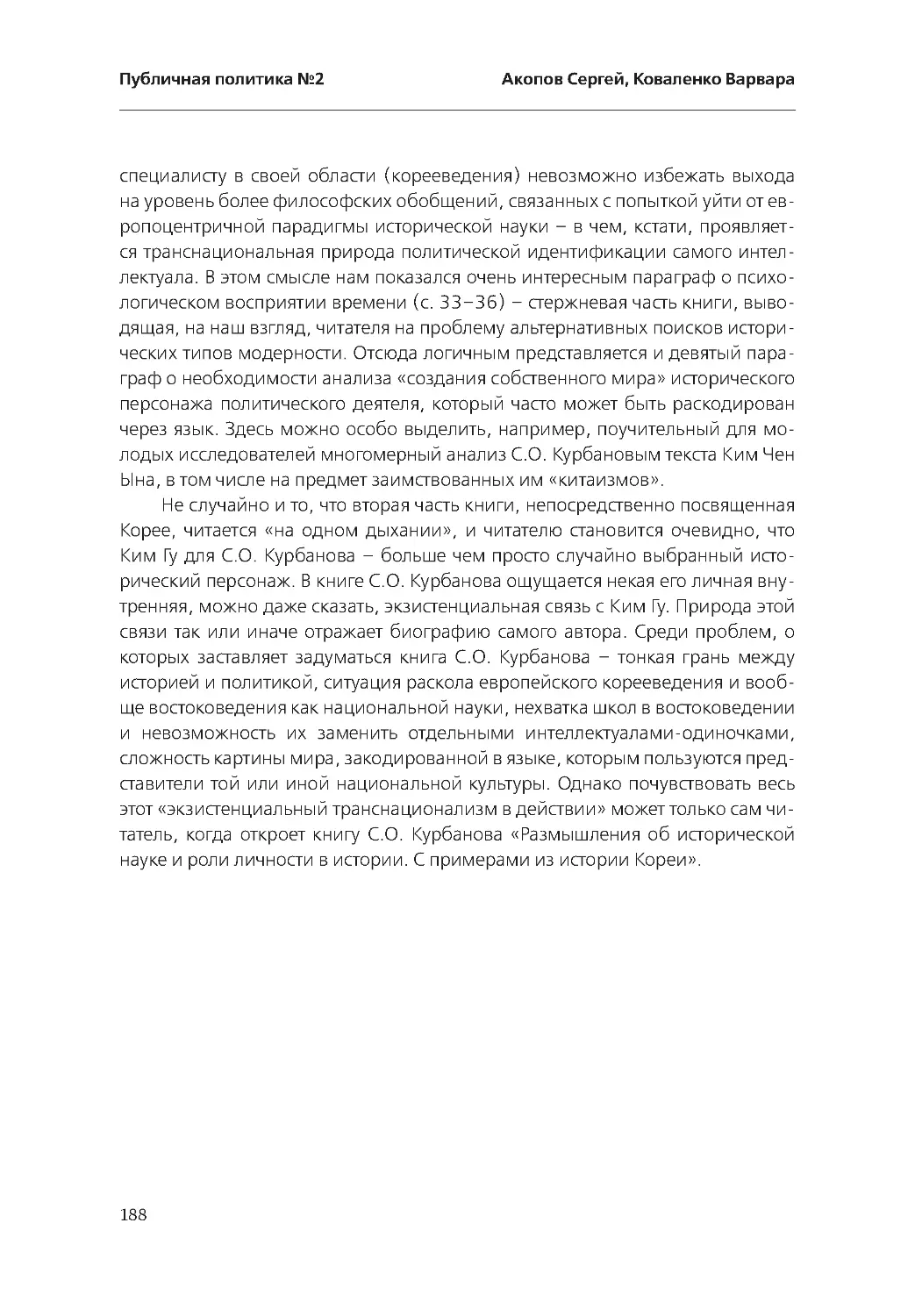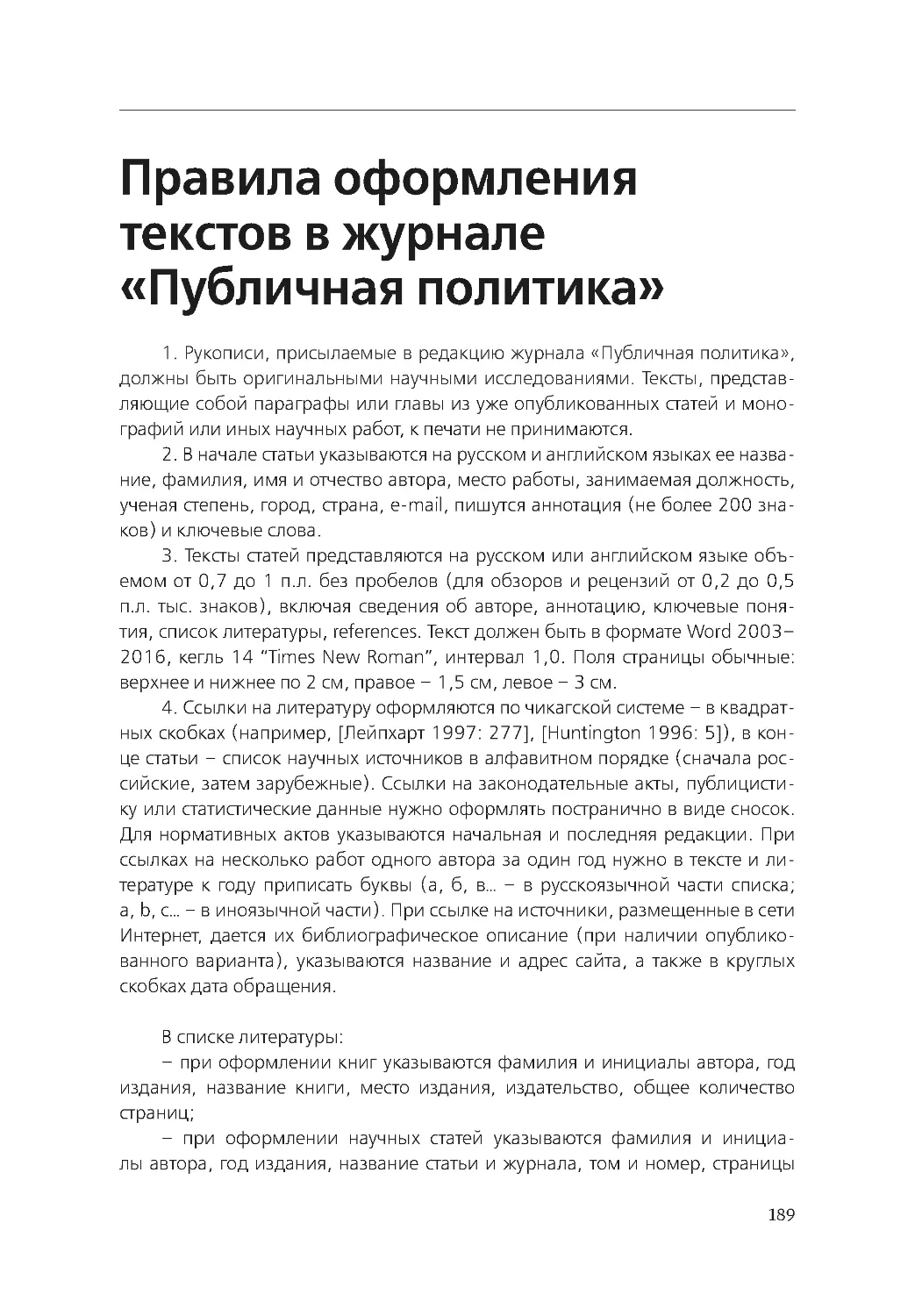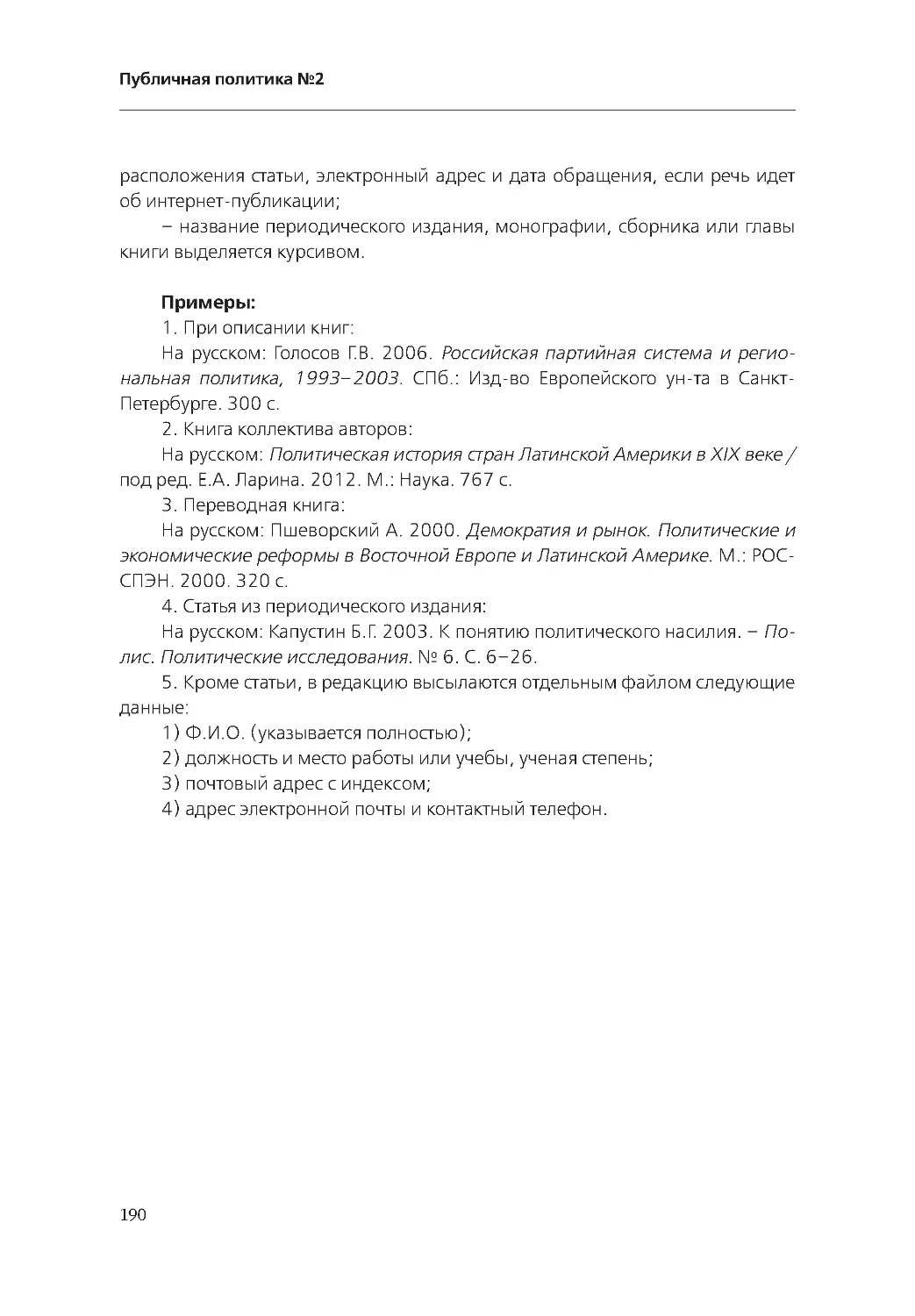Текст
Публичная политика
No2, октябрь-ноябрь 2017
РЕДКОЛЛЕГИЯ
Акопов Сергей Владимирович
к.полит.н. , доцент департамента прикладной
политологии СПб филиала НИУ ВШЭ
Балаян Александр Александрович к.полит.н. , доцент департамента прикладной
политологии СПб филиала НИУ ВШЭ
(отв. секретарь)
Горный Михаил Бениаминович
к.ф.- м .н., исполнительный директор СПб
гуманитарно-политологического центра
«Стратегия», доцент департамента
прикладной политологии СПб филиала
НИУ ВШЭ
Малинова Ольга Юрьевна
д.ф.н. , главный научный сотрудник Инсти-
тута научной информации по общественным
наукам РАН, профессор МГИМО и НИУ ВШЭ
Морозова Елена Васильевна
д.ф .н ., профессор кафедры государственной
политики и государственного управления
Кубанского государственного университета,
Краснодар
Никовская Лариса Игоревна
д.соц.н ., главный научный сотрудник
Института социологии РАН, Москва
Подвинцев Олег Борисович
д.полит.н., руководитель отдела
политических исследований Пермского
научного центра РАН, Пермь
Адрес редакции: 190005, Санкт-Петербург,
7-я Красноармейская ул. , 25/14, оф. 409
Телефон/факс: (812) 712-66 -12 ,
e-mail: publicpolicyeditor@gmail.com
Электронная версия: http:/center-strategy.com
ISSN 2541-8351
Свидетельство о регистрации ПИ No ФС 77-65767 от 27 мая 2016 г.
Подписано в печать 16 октября 2017 г.
Формат 60х90/16. Усл. печ . л. 12.
Тираж 500 экз. Заказ 250.
Первая Академическая типография «Наука».
199034, Санкт-Петербург, 9-я линия, д. 12/28.
Поличка Нина Петровна
д.пед. н. , к.ф. - м .н. , директор Дальневосточ-
ного научного центра местного самоуправ-
ления, профессор Дальневосточного
юридического института Тихоокеанского
государственного университета, Хабаровск
Попова Ольга Валентиновна
д.полит.н., з ав. кафедрой политических
институтов и прикладных политических
исследований Санкт-Петербургского
государственного университета
Сморгунов Леонид Владимирович д.ф.н. , з ав. кафедрой политического
управления Санкт-Петербургского
государственного университета
Стародубцев Андрей Владимирович к.полит.н. , доцент департамента прикладной
политологии СПб филиала НИУ ВШЭ,
научный сотрудник Александровского ин-
ститута Университета Хельсинки, Финляндия
Сунгуров Александр Юрьевич
д.полит.н., д .биол.н., президент СПб
гуманитарно-политологического центра
«Стратегия», руководитель департамента
прикладной политологии СПб филиала НИУ
ВШЭ, главный редактор журнала
«Публичная политика»
Тимофеева Лидия Николаевна
д.полит.н., профессор, зам. заведующего
кафедрой политологии и политического
управления РАНХиГС, председатель
правления РАПН
Тульчинский Григорий Львович
д.ф.н. , з асл. деятель науки РФ, профессор
департамента прикладной политологии СПб
филиала НИУ ВШЭ
Щербак Андрей Николаевич
доцент департамента прикладной
политологии СПб филиала НИУ ВШЭ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ
Харли Бальцер (Harly Baltzer)
Профессор, Джорджтаунский университет,
США,
Михаил Ильин
д. полит.н., руководитель аспирантской
школы по политологии НИУ ВШЭ,
вице-президент Международной
ассоциации политической науки, Москва,
Гаман-Голутвина Оксана Викторовна заведующая кафедрой Сравнительной
политологии МГИМО (У) МИД России,
президент РАПНэ,
Хал Колебач
Школа социальных наук и международных
исследований, Университет Нового
Южного Уэльса, экс-председатель Исследова-
тельского комитета по публичной политике
и администрации Международной ассоци-
ации политической науки, Австралия,
Иван Крастев
директор софийского Центра либеральных
стратегий, София, Болгария,
Макарычев Андрей Станиславович д.и.н., профессор института правительства
и политики Университета г. Тарту, Эстония
Линда Кук (Linda Cook)
Профессор Brown University, USA,
Бо Петерссон
Профессор Университета Мальме, Швеция,
Блэр Рубл
заместитель директора Центра международ-
ных исследований им. Вудро Вильсона,
Вашингтон, США,
Лоран Серме
Профессор Института политических
исследований вЭкс-Провансе (SciencesPoAix),
Франция,
Соловьев Александр Иванович
д.полит.н., з ав. кафедрой политического
анализа МГУ им. М.В .Ломоносова,
председатель редакционно-издательского
совета РАПН,
Юрий Чернышов
д.и.н., з ав. кафедрой всеобщей истории
и международных отношений Алтайского
госуниверситета, директор Алтайской
школы политических исследований,
Барнаул,
Владимир Николаевич Якимец
доктор социологических наук,
главный научный сотрудник Института
проблем передачи информации РАН,
Москва.
ОГЛАВЛЕНИЕ
ОТ РЕДАКЦИИ ........................................................................................................ 7
СТАТЬЯ НОМЕРА
Krastev I.
They the People (англ. яз.)............... ..................... ............. 9
ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Евстифеев Р.В .
Развитие российской политической науки в разрезе
регионов: опыт наукометрического анализа................. 40
Барандова Т.Л .
Анализ визуальной коммуникации уполномоченных
по правам человека в регионах России .......................... 51
Полозова Е.А .,
Российские региональные политические режимы
Григорьев И.С .
в 1998–2002 гг.: последствия реформы законода-
тельства о банкротстве и акционерных обществах ........ 69
Шашкова Я.Ю .
Влияние новелл партийно-электорального
законодательства на формирование легислатур
регионов Западной Сибири в 2010-е гг. ........................ 86
Козлова Н.Н .
Женщины в публичной политике. На материалах
региональных парламентов Северо-Кавказского
федерального округа ..................................................... 94
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Балаян А.А .,
Политические сети. От метафоры к концепту ............... 112
Томин Л.В .
Беляев В.А .
Логика модерна и объяснение в политической
теории .......................................................................... 126
Линде А.Н.
Преодоление негативного влияния кибернетико-
системного государственного управления
в критической теории общества Ю. Хабермаса ............ 145
ОБЗОРЫ
Сунгуров А.Ю .
Симпозиум «Российские реформы» ............................ 162
Деменчонок Э.В .
Демократия в рецессии? 9-й Конгресс
Латиноамериканской ассоциации политической
наукивМонтевидео(26–28июля2017г.) ..................169
РЕЦЕНЗИИ
Акопов С.В .,
Восемь проблем изучения политической истории:
Коваленко В.С .
рецензия на книгу С.О. Курбанова «Размышления
об исторической науке и роли личности в истории.
С примерами из истории Кореи»
(СПб.: Изд-во РХГА, 2016) ........................................... 180
7
ОТ РЕДАКЦИИ
Представляя читателям второй номер журнала «Публичная политика» за
2017 г. – первый год издания нашего журнала, хочу отметить активное участие
в его подготовке членов нашей редколлегии и международного редакционного
совета. Это прежде всего давний партнер Санкт-Петербургского центра
«Стратегия» (ставшего в этом году уже международным) Иван Крастев, которого
можно уже назвать не столько болгарским исследователем, сколько аналитиком
и публичным интеллектуалом европейского уровня – его текст открывает наш
номер. Статья посвящена правому популизму и другим проблемам, с которыми
в последние годы сталкивается Европейский союз. Публикация этого текста на
английском языке подчеркивает международный характер нашего журнала.
Восемь основных статей номера объединены в двух тематических
разделах. Это прежде всего раздел «Проблемы регионального развития»,
который открывается статьей Р.В . Евстифеева, проанализировавшего на основе
данных РИНЦ представленность политологов в российских регионах. Тему
деятельности Уполномоченных по правам человека в субъектах Российской
Федерации продолжает развивать Т.Л . Барандова. Специфику реализации
законов о банкротстве в различных российских регионах анализируют
Е.А . Полозова и И.С . Григорьев, эта статья является одним из результатов
деятельности Научно-учебной группы по российским реформам, которая
действует в 2016–2017 гг. на базе департамента прикладной политологии
НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.
Две статьи из этого раздела посвящены различным аспектам деятельности
региональных парламентов в двух крупных территориальных регионах:
Я.Ю. Шашкова рассматривает влияние новаций партийно-электорального
законодательства на формирование легислатур в Западной Сибири, а
Н.Н. Козлова на материалах исследования парламентов Северного Кавказа
анализирует участие женщин в публичной политике.
Раздел «Политическая теория» представлен в этом номере нашего журнала
тремя статьями. В первой из них А.А. Балаян и Л.В . Томин анализируют
специфику использования понятия «сеть» в гуманитарных науках, выделяя
наиболее перспективные направления в рамках политических наук для
использования этого концепта.
В рамках дискуссии со статьей Г.Л. Тульчинского «Объяснение в
политической науке: конструктивизм vs позитивизм», которая была опубликована
в предыдущем номере журнала, вниманию читателей представлена статья
В.А . Беляева «Логика модерна и объяснение в политической теории», в которой
автор пытается переосмыслить некоторые тезисы оригинальной статьи.
8
Публичная политика No2
И, наконец, в своей статье «Преодоление негативного влияния
кибернетико-системного государственного управления в критической теории
общества Ю. Хабермаса» А.Н. Линде рассматривает современное развитие
критической теории Юргена Хабермаса.
Представлены во втором номере нашего журнала и рецензии на новые
книги и обзоры прошедших научных конференций и симпозиумов.
Завершая это введение, информирую читателей и потенциальных авторов
нашего журнала, что в 2018 г. мы переходим на формат четырех номеров в год.
На состоявшемся в июне этого года заседании редколлегии были определены
темы этих номеров: No 1. Тема: 1917–2017: извлеченные и неизвлеченные
уроки (по материалам шестой международной конференции Октябрьские
чтения 2017); No 2. Тема: Реформы образования (приглашенный редактор –
д.пед.н. , ч лен-корр. РАО О.Е. Лебедев); No 3. Тема: Судебные реформы
(приглашенный редактор – к.ф.н., доцент РАНХиГС М.Ю . Мизулин); No 4. Тема:
Общество и власть: проблемы взаимодействия.
Мы надеемся, что второй номер нашего журнала найдет своего читателя,
заинтересованного в лучшем понимании процессов публичной политики
как в нашей стране, так и в других странах мира, а также процессов мировой
политики.
А.Ю . Сунгуров, главный редактор
9
СТАТЬЯ НОМЕРА
Krastev Ivan
They the People
Krastev Ivan,
Chair of the Center for Liberal
Strategies in Sofia (Bulgaria),
and a permanent fellow at the
Institute for Human Sciences
(Vienna).
To contact the author:
ivan@cls-sofia.org
Abstract
In paper includes themes devoted
to Europe s major problems the spread
of right-wing populism (taking into
account the election of Donald Trump in
the United States), and the thorny issues
facing member states on the eastern
flank of the EU. We conclude by reflecting
on the ominous political, economic, and
geopolitical future that would await the
continent if the Union itself begins to
disintegrate.
Keywords: European union, right-
wing populism, disintegrate
10
Публичная политика No2
Они народ
Крастев Иван
Крастев Иван,
председатель Центра либеральных
стратегий в Софии (Болгария),
постоянный сотрудник
Института гуманитарных наук
(Вена).
Для связи с автором:
ivan@cls-sofia.org
Аннотация
В статье анализируются основ-
ные проблемы, с которыми сталкива-
ются государства-члены Европейско-
го союза, затрагивается вопрос рас-
пространения в ЕС правого популизма
(с учетом выборов Дональда Трампа в
Соединенных Штатах). Статья завер-
шается размышлением о зловещем ге-
ополитическом и экономическом буду-
щем, которое будет ждать континент,
если Европейский союз начнет распа-
даться.
Ключевые слова: Европейский
союз, правый популизм, распад
11
“ Had I been cryogenically frozen in January 2005”, writes British historian
Timothy Garton Ash, one of Europe’s most prominent public intellectuals, I would
have gone to my provisional rest as a happy European. With the enlargement of
the European Union... the 1989 “return to Europe” dream of my Central European
friends was coming true. EU member states had agreed on a constitutional treaty,
loosely referred to as the European constitution... It was amazing to travel without
hindrance from one end of the continent to another, with no border controls inside
the expanding zone of states adhering to the Schengen Agreement and with a
single currency in your pocket for use throughout the eurozone.
Madrid, Warsaw, Athens, Lisbon, and Dublin felt as if they were bathed
in sunlight from windows newly opened in ancient dark palaces. The periphery
of Europe was apparently converging with the continent’s historic core around
Germany, the Benelux countries, France, and northern Italy. Young Spaniards,
Greeks, Poles, and Portuguese spoke optimistically about the new chances offered
them by “Europe” . Even notoriously Euroskeptical Britain was embracing its
European future under Prime Minister Tony Blair. And then there was the avowedly
pro-European Orange Revolution in Ukraine...
Cryogenically reanimated in January 2017, I would immediately have died
again from shock. For now there is crisis and disintegration wherever I look: the
Eurozone is chronically dysfunctional, sunlit Athens is plunged into misery, young
Spaniards with doctorates are reduced to serving as waiters in London or Berlin, the
children of Portuguese friends seek work in Brazil and Angola, and the periphery
of Europe is diverging from its core. There is no European constitution, since that
was rejected in referendums in France and the Netherlands later in 2005... And
Brexit brings with it the prospect of being stripped of my European citizenship on
the thirtieth anniversary of 1989 [Garton 2017].
This is how pro-EU Europeans feel today.
In twentieth-century Europe, nondemocratic empires disintegrated under
democratic pressure brought to bear by their own subjects. Democrats were the
ones who destroyed empires; liberals sought to save and reform them. In 1848,
liberals and nationalists were allies within the Habsburg Empire, united by their
shared opposition to the authoritarian (but not ethnically specific) center. By 1918,
they had become each other’s sworn enemies. In 1848, both democrats (most of
whom were nationalists as well) and liberals insisted that the people should decide.
In 1918, liberals were nervous about the prospect of popular democracy while
democrats loathed the idea of being governed by unelected liberal elites. The clash
between cosmopolitan liberals and national-minded democrats ended with victory
for the nationalists and the death of the Austro-Hungarian Empire.
СТАТЬЯ НОМЕРА
12
Публичная политика No2
The European Union, unlike the Habsburg Monarchy, is a “democratic
empire”, a voluntary quasi-federation of democratic states in which citizens’ rights
and freedoms are guaranteed and that only democracies may join. Despite this
difference, the democracy question is once again at the heart of Europe’s troubles.
If in the Habsburg case the masses were enchanted with democracy, in today’s EU
they are stricken with disillusionment. The general mood in Europe these days can
be summed up as follows: “One of the reasons many people are skeptical about
democracy is because they’re right to be”. The 2012 “Future of Europe” survey
indicated that only a third of Europeans believe their vote counts at the EU level,
and a paltry 18 percent of Italians and 15 percent of Greeks believe that their votes
count even in their own country1
.
According to a recent survey, the paradoxical effect of the global spread
of democracy in the last fifty years is that citizens, in a number of supposedly
consolidated democracies in North America and western Europe, have grown more
critical of their political leaders. [Stefan Foa and Mounk 2016: 5–17]. But that’s not
all. They have also become more cynical about the value of democracy as a political
system, less hopeful that anything they do might influence public policy, and more
willing to express support for authoritarian alternatives. The study also shows that
“younger generations are less committed to the importance of democracy” and
that they are “less likely to be politically engaged”. [Stefan Foa and Mounk 2016:
5–17].
From today’s uncompromising vantage point, a political union capable of
backing the euro with a common fiscal policy cannot be accomplished as long as
EU member states remain fully democratic. Their citizens will just not support it. Yet
the breakup of the common currency could possibly lead to the fragmentation of
the union, with one of the end results being a likely rise of authoritarianism on the
EU’s periphery. Unlike in any earlier period, the objectives of an “ever closer union”
and “deeper democracy” are at odds with one another.
The Specter of Populism
In June 2006, when the Slovak Robert Fico won a plurality of the vote and
formed a government in coalition with Jan Slota’s extreme nationalistic Slovak
National Party, the Slovak constitutional court announced that one of its citizens
had asked the court to annul the election. The claimant insisted that the republic
had failed to create a “normal” system of elections and had therefore violated
a citizen’s constitutional right to be governed wisely. In the eyes of the claimant,
an electoral system that could lead to a motley coalition such as the new Slovak
government could not be “normal” .
1
Special Eurobarometer 379, 2012. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_379_
en.pdf.
Krastev Ivan
13
The lone Slovak appellant had a point. The right to be governed wisely
can contradict a citizen’s right to vote. This is what has always made liberals
anxious about democracy. Indeed, those familiar with the work of the influential
nineteenth-century French liberal historian Francois Guizot might suspect that he
had been reincarnated in the figure of the Slovak citizen who demanded answers
from the constitutional court. That democratic governance can be destructive to
the European project is a common concern for many European liberals. For them,
George Orwell may have said it best: “Public opinion is no more innately wise than
humans are innately kind”
2
.
The clearest manifestation of the current fear can be seen in the reaction of
European leaders to the greatest victim of the financial crisis: Greece. Unsustainably
underwriting a noncompetitive economy while keeping social spending high and
suffering from stunning corruption, Greece was the victim of a perfect storm.
A hurricane really. In the precrisis decade, EU wages per employee had increased by
30 percent, but in Greece they skyrocketed 85 percent. For public sector wages, it
was even worse: a 40 percent increase in the EU, but an astounding 117 percent
spike in Greece. By the summer of 2011, it was clear that the EU was the only hope
for Greece to avoid bankruptcy and to remain in the eurozone. But external support
would come at the price of a costly—in both political and human terms—austerity
program. On October 31, 2011, Greek prime minister George Papandreou
announced a referendum on a bailout plan proposed by the European Union, the
European Central Bank, and the International Monetary Fund (IMF). He asked his
countrymen to support the reform measures demanded by the creditors. This was
the price of staying in the eurozone.
But the referendum never happened. Three days after announcing it, and
following a harsh reaction by Berlin and Brussels, the Greek government shelved the
idea and the reforms were voted on in the Parliament instead. It was a painfully clear
example of “democracy frustrated”. Western European leaders were convinced that
Greek citizens should not be permitted a say when the outcome of the vote would
affect the fate of a currency belonging to everyone living in the eurozone. Put more
harshly, many thought it absurd to suggest that debtors be given a vote on terms
they would be offered by creditors. Unsurprisingly, Papandreou’s Socialists not only
lost the next elections but faded fast as a force in Greek politics more generally. The
division of EU member states into a creditors-debtors axis became one of the most
devastating outcomes of the euro crisis.
Several years later, a second appearance of the referendum idea emerged
on the initiative of Alexis Tsipras and his radical left-wing Syriza Party. This time,
we might call it “democracy castrated” . The Greeks actually held a vote on July 5,
2
David Remnick, “An American Tragedy”, The New Yorker, November 9, 2016.http://www.newyorker.
com/news/newsdesk/an-american-tragedy-2 .
СТАТЬЯ НОМЕРА
14
Публичная политика No2
2015—with the vast majority rejecting (as Tsipras’s government had hoped they
would) the terms for a new, third bailout by the so-called troika of the IMF, the
European Central Bank, and the European Commission. But this heroic resistance to
creditors lasted no more than a week. By the next Monday, Tsipras had swallowed
a much harsher version of the bailout, agreeing to implement policies that he
had only recently deemed “criminal”. The temporary resolution of the Greek crisis
was instructive on one fundamental point. For the common European currency
to survive, voters of debtor nations must be deprived of their right to change
economic policy despite retaining a capacity to change governments. It was the
most powerful restatement that the governing formula of the EU—namely, policies
without politics in Brussels and politics without policies on the national level—had
been reinforced by the crisis. Given what had occurred, it became clear that what
Tsipras and Yanis Varoufakis (his finance minister until July 2016) were fighting
was less the policies proposed by creditors than being held responsible for acceding
to them. The Greek welfare state was transformed into a warfare state. The
government was unable to redistribute wealth, so it worked overtime to redistribute
blame.
In handling the rebellion from Athens, European leaders faced a stark choice.
They could either allow Greece to default and thus put the common currency at
risk, destroy the Greek economy, and send the message that in a political union of
creditors and debtors there is no place for solidarity—or save Greece on Tsipras’s
terms and thereby signal that political blackmail works, inspiring populist parties
across the continent.
Faced with the dilemma, European leaders identified a third option: to save
Greece on such draconian terms that no other populist government would ever be
tempted to follow its example. Tsipras is now the living demonstration that there is
no alternative to the economic policies of the European Union.
The immediate impact of the agreement was expected: the markets calmed,
the Greeks felt demoralized, and the Germans remained skeptical. But did the
victory of economic reason over the will of the voters contribute to the survival of
the union? That story is far less clear cut.
For many, “democracy” in the EU quickly became code for the political
impotence of citizens. Rather than Brussels symbolizing the glory of a common
European home, the EU’s capital came to represent the unrestricted power of the
markets and the destructive power of globalization.
Greeks may have despaired of their failure to resist the imprecations of the
market, but their southern European neighbors, the Italians, were primed to
celebrate them. Silvio Berlusconi’s last act as Italian prime minister in the fall of
2011 was to drive a car through a crowd of protesters who had been taunting him
with epithets like “buffoon” and “shame” .
Krastev Ivan
15
As the seventy-five-year-old oligarch and media mogul met with the
Italian president to tender his resignation, the streets outside the presidential
palace pulsated with chanting demonstrators waving Italian flags and uncorking
champagne bottles. In one corner, a choir sang Leonard Cohen’s “Hallelujah”
accompanied by an impromptu orchestra. Across the way, celebrants formed a
conga line. Cars honked their horns and pedestrians broke into song. It had the
ambience of a revolutionary moment.
But it was far from it. The fall of Berlusconi was hardly a classic triumph of
“people’s power” . Rather, it was an unequivocal triumph of the power of financial
markets. The will of the voters never booted Berlusconi’s corrupt and ineffective
clique out of office; it was brought about by the explicit joining of financial markets
with the commanding bureaucratic heights in Brussels and the European Central
Bank’s leadership in Frankfurt, all of which imparted the fateful message, “Berlusconi
must go”. It was also they who picked the former European commissioner Mario
Monti, a “technocrat” (and thus not “political”) , to be Berlusconi’s successor. People
on the streets of Rome had every reason to feel ecstatic yet powerless. Berlusconi
may be gone, but the voter ceased being the most powerful figure in crisis-torn
Italy. The public’s celebration of the end of the Berlusconi regime resembled the
enthusiasm of Italians upon greeting Napoleon’s victorious army in 1796. People
on the street were not the agents but the spectators of history.
In Greece’s case, Brussels became the symbol of the arrogant elite that shifts
the cost of the crisis onto a weak and defenseless Greek people. For Italy, at least
for a time, Brussels was the citizens’ sole hope to oust an unpopular prime minister
and break the oligarchical regime he created. At the heart of the European Union’s
loss of legitimacy is the fact that, with the deepening of the EU’s crisis, Brussels’s
role as an ally of the people against corrupt national elites dimmed. Italians shifted
their hopes for a better life toward populist Euroskeptical parties like Beppe Grillo’s
Five Star Movement. In a similar way that Italian nationalism inspired by the French
Revolution turned against Napoleon, those Italians who celebrated the ousting of
Berlusconi’s government are today casting their vote for anti-EU parties.
In his book The Globalization Paradox, Harvard political economist Dani
Rodrik suggests that we have three options to manage tensions between national
democracies and globalization. [Rodrik 2012]. We can restrict democracy in order
to gain competitiveness in international markets. We can limit globalization in the
hope of building democratic legitimacy at home. Or we can globalize democracy
at the cost of national sovereignty. What we cannot have, Rodrik makes clear, is
hyperglobalization, democracy, and self-determination simultaneously. But this
is precisely what most governments want. They want people to have the right to
vote yet are unready for those votes to sanction populist policies. They want to be
able to reduce labor costs and ignore social protests while also refusing to enter
СТАТЬЯ НОМЕРА
16
Публичная политика No2
the murky waters of publicly endorsing an authoritarian strong hand. They favor
free trade and interdependence, but they want to be sure that when necessary
(in a moment of crisis like the present) they can return to national control of the
economy. Instead of choosing between a sovereign democracy, a globalized
democracy, or a globalization-friendly authoritarianism, political elites try to
redefine democracy and sovereignty in order to make possible the impossible. The
outcome is unworkable: you end up with democracy without choices, sovereignty
without meaning, and globalization without legitimacy.
What was until recently a competition between two distinctive forms of
government—democracy and authoritarianism—has evolved in the wake of the
global financial crisis into a competition between two different forms of the
statement: “There is no alternative politics”. In democratic Europe, the fact that
“there is no policy alternative” to austerity has become the mantra of the day:
voters can change governments, to be sure, but they are disempowered to change
economic policies. By constitutionalizing many macroeconomic decisions (e.g. ,
budget deficits, levels of public debt), Brussels has de facto extricated them from
the domain of electoral politics.
In Russia and China, the “no alternative” discourse means that it is impossible
to remove their current leaders. The governing elite can be more flexible in
experimenting with different economic policies, but what is excluded in Russia and
China is the possibility to challenge those in power. People are not allowed to elect
“wrong” leaders—therefore, elections are either controlled, rigged, or banned for
the sake of “good governance” .
In order to assess the role of democracy in the current European crisis, we
need to accept that what is driving public sentiment is not a democratic aspiration
but a democratic confusion. This leaves the analyst of Europe’s political crisis
in a trap. At one level, what was true about monarchy more than a century ago
(Walter Bagehot’s notion that “it is an intelligible government [because] the mass
of mankind understand it, and they hardly anywhere in the world understand any
other” [Bagehot 1873: 61]) is now true of democracy. But there is a growing fear
that democracy simply does not work.
To gauge how dissatisfaction with democracy (which often takes the form
of a demand for a different democracy) will affect the chances of the European
Union’s survival, we must make sense of three paradoxes. First, why are Central
European voters, who opinion polls tell us constitute some of the continent’s most
pro-European electorates, ready to put in power anti-EU parties that openly loathe
independent institutions such as courts, central banks, and the media? I will call it
the “Central European paradox”. Second, why has the political mobilization of the
younger generations in western Europe, who according to opinion polls are much
more liberal and friendly to the union than older voters, not led to the emergence
Krastev Ivan
17
of pan-European pro-EU populist movement? I will call it “West European paradox” .
And third, why are Europeans so resentful to Brussels’s elites when they are the
most meritocratic elites in Europe? I will call it “Brussels paradox” .
The Central European Paradox
In the last decade, European integration has been widely understood and
accepted as the major factor guaranteeing the irreversibility of the democratic
changes in the postcommunist countries of central Europe. Much as Europe’s
welfare state guaranteed a safety net to the most vulnerable members of society,
there has been a belief that the European Union is its own safety net for the
new democracies from the East. The EU developed institutional mechanisms of
peer pressure and carrot-and-stick policies that have the capacity to prevent the
backsliding of democratization in its new members. This grand expectation,
however, has turned out to be wrong. The electoral victory of Viktor Orbán in
Hungary and Jarosław Kaczyński in Poland and the “illiberal turn” in most of central
Europe has forced many commentators to upend their view of the “Brussels effect”
on the process of democratic consolidation in central Europe.
In the view of political scientists James Dawson and Sean Hanley, marrying the
process of democratization to the process of European integration has contributed
to the emergence of fair-weather democracies in the East with political elites that
lack genuine commitments to liberal values. [Dawson and Hanley 2015]. Even
more important is the effect of the European Union serving as a kind of safety
net, which mitigates against risk-taking (keeping countries from advancing
irresponsible policies) but incentivizes voters to support irresponsible political
parties and leaders as a way of signaling disappointment and anger. Why should
Poles fear someone like Kaczyński if they know that Brussels will tame him if he
goes too far? Paradoxically, the twinning of Europeanization and democratization
has turned central Europe into a poster child of democratic illiberalism. In the
prophetic words of Hungarian prime minister Viktor Orbán, “A democracy is not
necessarily liberal. Just because something is not liberal, it still can be a democracy”,
Moreover, “One could—and indeed should—say”, he insisted, “that societies
founded upon liberal principles of organizing a state will likely not be able to sustain
their global competitiveness in coming years—rather, it is more likely that they will
suffer a setback, unless they manage to reform themselves substantially”
3
.
In this
context, central Europe’s slide into illiberalism was not an unintended consequence.
It was a choice. And in order to understand this choice, it is important to ascertain
what made central Europeans so nervous about liberal democracy in the first place.
3
Viktor Orbán’s speech at Băile Tuşnad (Tusnádfürdő) of 26 July 2014. http://budapestbeacon.com/
public-policy/full-text-of-viktor-orbans-speech-at-baile-tusnad-tusnadfurdo-of-26 -july-2014/10592.
СТАТЬЯ НОМЕРА
18
Публичная политика No2
The “populist turn” varies in different countries, but we can nonetheless
identify commonalities. The rise of populist sentiments signals a return to political
polarization and a more confrontational style of politics. It is also a return to more
personalized politics in which political leaders play an outsized role and institutions
are frequently mistrusted. The Left-Right divide is being replaced by a conflict
between internationalists and nativists, and the explosion of fears that it unleashes
marks a violent distancing between democracy and liberalism. But populism’s key
feature is a hostility not to elitism but to pluralism. As Jan Werner-Müller writes in
What Is Populism?, “Populists claim that they and they alone, represent the people...
The claim to exclusive representation is not an empirical one; it is always distinctly
moral [Müller 2016 : 3]” . Populists do not claim to stand for all Poles, French,
or Hungarians, but they insist that they stand for all “true Poles”, “true French”,
and “true Hungarians”. The electoral success of the populist parties transforms
democracy from an instrument for inclusion into an instrument of exclusion.
The new populist majorities perceive elections not as an opportunity to choose
between policy options but as a revolt against privileged minorities—in the case of
Europe, elites and a key collective “other”, the migrants. In the rhetoric of populist
parties, elites and migrants are twins who thrive off of one another: neither is like
“us”, both steal and rob from the honest majority, neither pays the taxes that it
should pay, and both are indifferent or hostile to local traditions.
Despite the deep public mistrust of politicians, it is perplexing why people
are nonetheless ready to elect parties eager to dismantle any constraints on
government power. This is the conundrum that will help us unpack the Central
European paradox.
The decision of the populist governments in Hungary and Poland to take
control over their respective constitutional courts, to curb the independence
of central banks, and to declare war on independent media and civil society
organizations should be alarming for those who are mistrustful of their politicians.
But contrary to expectations, the vast majority of Hungarians and a sizable number
of Poles were not concerned by their governments’ decisions to concentrate power
in the hands of each country’s executive. How did the separation of powers lose
its appeal? Is it because people couldn’t distinguish their support for free media or
independent courts from the media outlets they blame for disregarding the truth or
from the judges they see as corrupt and inefficient? Is it possible that in the eyes of
the public the separation of powers is less a way to keep officeholders accountable
than another trick up the sleeves of the elites?
The real appeal of liberal democracy is that it defends not only property rights
and the right of the political majority to govern but also the rights of minorities,
ensuring that those defeated in elections can return to compete in the next contest
and don’t have to flee, go into exile, or hide underground while their possessions
Krastev Ivan
19
are seized by the victors. The little-remarked downside of this arrangement is
that for winners liberal democracy gives no chance for a full and final victory. In
predemocratic times—in other words, for the vast bulk of human history—disputes
were not settled by peaceful debates and orderly handovers of power. Instead, force
ruled. Victorious invaders or the winning parties in a civil war had their vanquished
foes at their mercy, free to do with them as they liked. Under liberal democracy,
the “conqueror” gets no such satisfaction. The paradox of liberal democracy is that
citizens are freer, but they feel powerless. Demand for real victory is a key element
in the appeal of the populist parties. “Our country is in serious trouble”, was the
refrain Donald Trump repeated at his electoral rallies. “ We don’t have victories
anymore. We used to have victories, but we don’t have them. When was the last
time anyone saw us beating, let’s say, China in a trade deal?”
4
The appeal of populist parties is that they promise an unambiguous victory.
They attract those who view the separation of powers (the institution perhaps most
beloved by liberals) not as a way to keep those in power accountable but as way
for elites to evade their electoral promises. What characterizes populists in power
are their constant attempts to dismantle the system of checks and balances and to
bring independent institutions like courts, central banks, media outlets, and civil
society organizations under their control.
Populist and radical parties aren’t just parties; they are constitutional
movements. They promise voters what liberal democracy cannot: a sense of victory
where majorities—not just political majorities, but ethnic and religious ones too—
can do what they please.
The rise of these parties is symptomatic of the explosion of threatened
majorities as a force in European politics. They blame the loss of control over their
lives, real or imagined, on a conspiracy between cosmopolitan-minded elites and
tribal-minded immigrants. They blame liberal ideas and institutions for weakening
the national will and eroding national unity. They tend to see compromise as
corruption and zealousness as conviction.
What makes anxious majorities most indignant is that while they believe
that they are entitled to govern (they are the many after all), they never can have
the final say. And so they are ready to blame the separation of powers and other
inconvenient principles of liberal democracy for their frustration—and readily
endorse parties like Law and Justice in Poland or Fidesz in Hungary that run against
those principles.
4
Philip Bump, “Donald Trump’s Spectacular, Unending, Utterly Baffling, Often-Wrong Campaign
Launch” , The Washington Post, June 16, 2015. https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/
wp/2015/ 06/16/donald-trumps-spectacular-unending-utterly-baffling-often-wrong-campaign-
announcement/?utm_term=. aac10285ae5b.
СТАТЬЯ НОМЕРА
20
Публичная политика No2
But populists revolt not only against the institutions of liberal democracy but
also against the understanding of politics as a rational calculation of interests. The
explosion of conspiracy theories and the growing mistrust toward mainstream
media with their claim to be “fair and balanced” is one of the defining characteristics
of the populist moment in central Europe. Many analysts prefer to explain the
phenomenon in terms of radical changes in communication technologies and
blame social media for the prevailing culture of distrust. But the “Facebook effect”
can’t explain everything.
In 2007, the year the first Law and Justice government headed by Jarosław
Kaczyński lost power, the legendary Polish movie director Andrzej Wajda released
his epic film Katyn. Over the course of two hours, Katyn tells the story of the
thousands of Polish prisoners of war—mainly military officers and professional-class
civilians—who were murdered in 1940 in the Katyn forest on Stalin’s orders. It is
actually a film about two crimes: the execution of Polish patriots in the woods near
Smolensk and the subsequent cover-up of the truth.
The official version of the tragedy, propagated by the Communist government
in postwar Poland, was that the Nazis had been responsible for the executions.
But there were Poles who were never ready to live with that lie. One of the main
characters in the movie, Agnieszka, seeks to erect a marble headstone for her
murdered brother simply bearing the true date of his death—1940—as proof that
only the Soviets, who controlled the area at the time, could have carried out the
killings. She is persecuted for spreading a conspiracy theory, but she knows she is
spreading the truth.
When Kaczyński—back in charge as leader of the once-again-governing Law
and Justice Party—announced in a speech in December 2015 that he planned to
erect a plaque at the presidential palace in Warsaw as a memorial to his twin brother,
he likely saw himself as carrying on the legacy of people like Agnieszka who refused
to swallow the Communist lie. Kaczyński’s brother, President Lech Kaczyński,
perished in 2010 along with ninety-five other members of the Polish elite when
his plane crashed upon landing at the Smolensk military airport in western Russia.
(In a bizarre twist of history, they were traveling to attend the commemoration of
the seventieth anniversary of Katyn.) Jarosław Kaczyński has devoted an inordinate
amount of time and energy since the crash working to prove that it was not an
accident but a crime perpetrated by the Russians and that the then governing Civic
Platform Party, for political or geopolitical reasons, covered up the truth.
The parallels between the two proposed memorials—Agnieszka’s and
Kaczyński’s —are evident. But the analogy is less straightforward. The opening
of the Soviet archives in the 1990s left little doubt that in 1940 the Soviets
murdered some twenty-two thousand Poles (the precise number of victims is still
debated). However, the events of April 10, 2010, when the Polish plane went
Krastev Ivan
21
down in Smolensk, are harder to reconstruct. That said, there is fundamentally no
credible evidence to support the Law and Justice Party’s suspicions that the crash
was an assassination organized by Russians or that Russian air controllers can be
held responsible for the catastrophe. In Wajda’s film, Agnieszka seeks to build a
monument to truth. What Kaczyński is proposing is something quite different:
a tribute to a conspiracy theory.
Kaczyński’s fight for the truth about Smolensk and the glorification of his
brother’s legacy have been at the center of the Law and Justice Party’s political
strategy for the past five years. Kaczyński often personally attended the marches
that took place in Warsaw on the tenth of each month to commemorate the crash
victims, using them as a tool to help mobilize support for the party. For their part,
Poles have seemed increasingly open to persuasion. If, five years ago, most Poles
rejected Kaczyński’s version of events, and even approved of Russia’s handling
of the tragedy, today one in three blames Moscow. According to a 2016 opinion
poll, belief in the Smolensk cover-up was the strongest predictor of whether or not
a person supports Kaczyński.
Poles are not unique in believing, en masse, in the existence of a government
cover-up despite a dearth of evidence. According to opinion polls, between half
and three-quarters of individuals in various Middle Eastern countries doubt
that the planes hijacked on September 11, 2001, were piloted by Arabs; four
out of ten Russians think that Americans faked the moon landings; and half of
Americans think their government is probably hiding the truth about who was
behind the September 11 attacks [Brotherton 2015: 6]. For as long as there have
been suspicious deaths and powerful people, conspiracy theories and conspiracy
theorists have thrived. Scholars tend to agree that such theories are most popular
during periods of major social change and that they represent a desire for order in
a complex and confusing world. The dozens of reports5 that “prove” Smolensk was
not an accident are classics of the form: carefully footnoted, like a doctoral thesis,
and built around both breathtaking generalizations (“when the head of state dies
in [an] airplane crash, invariably... sabotage is involved”)
6
and minute details (the
ten thousand small pieces of debris7 found at the crash site, for instance, which are
pointed to as evidence of an explosion).
But what is happening in Poland today has revealed something more: how, in
some cases, a shared belief in a particular conspiracy theory can play a role previously
reserved for religion, ethnicity, or a well-articulated ideology. It can be a marker
5
Smolensk Crash News Digest is focused on issues surrounding the April 10, 2010 crash of Polish
government Tupolev Tu-154M, near Smolensk, Russia. http://www.smolenskcrashnews.com/.
6
Maria Szonert Binienda, “Smoleńsk Maze: Crash of the Polish Air Force One, Smoleńsk, Russia,
April 10, 2010”, Status Report 2014, Libra Institute (Cleveland: Libra Institute, 2014), 3 . http://www.
smolenskcrashnews.com/pdf/2014_Report/2014_Smolensk_Status.
7
Ibid., 21.
СТАТЬЯ НОМЕРА
22
Публичная политика No2
of political identity. This helps explain why the Smolensk conspiracy has become
a quasi-ideology within the Law and Justice Party. The “assassination hypothesis”
helped consolidate a certain “we”: we who do not trust the government’s lies, we
who know how the world really works, we who blame liberal elites for betraying
the promise of 1989 revolution. The Smolensk conspiracy was critical for bringing
Kaczyński back to power, both because it mined a vein of deep distrust that Polish
people feel for any official version of events and because it fit with their self-
image as victims of history. But the rise of conspiracy theories highlights another
major vulnerability of EU-designed democratic politics—its failure to build political
identities.
A decade ago, the British polling agency YouGov undertook a comparative
study between a group of political junkies and a similar cohort of young people
who actively participated in the Big Brother reality show8
. The distressing finding of
the study was that British citizens felt better represented in the Big Brother house.
It was easier for them to identify themselves with the characters and ideas being
discussed. They found it more open, transparent, and representative of people like
them. Reality show formats made them feel empowered in the way that democratic
elections are supposed to make them feel but don’t. Political identities proposed by
populist parties are not really that much different from the identities constructed by
reality shows. Both are primarily about affirming a similar experience of the world
rather than representation of interests.
The populist recoil from the European Union is thus tantamount to a reassertion
of more parochial but culturally deeper identities within individual European
countries. This movement is driving European politics toward less inclusive, and
possibly less liberal, definitions of political community. The sharp Left-Right divide,
which has structured European politics since the French Revolution, is gradually
blurring. With the rise of a right-wing populism of the sort unknown since the
1920s and 1930s, working classes are now liable to be captured by decidedly
antiliberal leaderships. Threatened majorities—those who have everything and who
therefore fear everything—have emerged as the major force in European politics.
The emerging illiberal political consensus is not limited to right-wing radicalism; it
encompasses the transformation of the European mainstream itself. It is not what
extremists say that threatens Europe; the real threat is what the mainstream leaders
no longer say—principally, that diversity is good for Europe.
Threatened majorities today express a genuine fear that they are becoming the
losers of globalization. Globalization may have contributed to the rise of numerous
middle classes outside the developed world, but it is eroding the economic and
political foundations of the middle-class societies of post–World War II Europe.
8
“ Big Brother Gives Politics Lesson, ” BBC News, June 3, 2003 . http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/
politics/2956336.stm.
Krastev Ivan
23
In this sense, the new populism represents not the losers of today but the
prospective losers of tomorrow.
The rise of illiberalism in EU-friendly central Europe should help us understand
that the existence of pro-EU majorities in most EU member states is not a fail-
safe bulwark against the union’s breakup. Moreover, what makes the rise of the
populist parties dangerous for the survival of the European project is not so much
their Euroskepticism—some of them are in fact hardly skeptical—but their revolt
against the principles and institutions of constitutional liberalism that serve as the
foundations on which the European Union is built.
The West European Paradox
If you click on “european-republic.eu”, you’ll catch a glimpse of what the new
cosmopolitan revolution from below might look like. The revolutionaries believe
that people want Europe, but not the EU as it exists today. In their view, home has
little to do with the nationality printed on someone’s passport and everything to do
with where a person currently lives. The nation itself is therefore the central obstacle
to a truly united Europe.
The European Republic website was launched by the charismatic German
political scientist Ulrike Guerot and is one of the myriad attempts to create a political
platform that is simultaneously anti-status-quo and pro-EU. It is not a new version
of the old federalist dream but an attempt to imagine the European Union as a
democracy, not as a technocracy run by puppet-masters. The hope of European
republicans is to mobilize the political energy of pro-European youth and jump-
start a pan-European movement. But the idea of a European Republic that strives to
mobilize younger, cosmopolitan-minded Europeans has few chances today to have
a political impact.
Why the democratization of public life and the emergence of an increasingly
cosmopolitan younger generation fail to translate into support of Europe is at the
nub of the West European paradox. It is enough to look at the Brexit vote and see that
age and education were among the major factors defining how people voted. The
younger and better educated were the core of the “remain” vote. After the financial
crisis of 2008, it became clear that younger people had become politicized and
empowered through social and other media. Political protests against the austerity
policies favored by Brussels were an everyday experience in most European capitals.
There exists a younger generation that speaks foreign languages, values the
freedom to live and work anywhere in the EU, and is prepared to fight for fairness
and justice. It is also a networked generation driven by social media. Knowing the
ideological make-up and the political potential of this generation, it is natural to
expect the emergence of a pan-European movement that would confront a Europe
of elites with a Europe of citizens. Why then did such a movement never arise?
СТАТЬЯ НОМЕРА
24
Публичная политика No2
In trying to understand the failure of the connected generation to cross national
boundaries and build an effective political movement in support of a stronger EU,
it is worth reflecting on the findings of Zeynep Tufekci, one of the most insightful
analysts of the politics of social media. Tufekci opened a recent talk at MIT’s Media
Lab with a photograph of the Hillary Step just below the summit of Mount Everest.
Taken on a day that four people perished on the mountain, the picture shows the
massive crowding that makes Everest perilous for climbers as they are forced to
wait for others to finish before room opens up on the narrow trail.
Because of new technology and the use of Sherpas, more and more people
who aren’t expert climbers are streaming to Everest. Full-service trips (for a cool
$65,000) get you to the base camp and much of the way up the mountain. But
the guides still cannot adequately prepare people to climb to the peak. People
have proposed fixing a ladder at the Hillary Step, standing at almost nine thousand
meters above sea level, to reduce the risk. But the fundamental problem isn’t the
absence of a ladder; it’s the exceptional difficulty of hiking at such a high altitude.
The mountaineering community has suggested a reasonable solution: requiring
people to climb seven other high peaks before they take on Everest.
This is Tufekci’s analogy for Internet-enabled activism. In discussing the
Internet and collective action, political commentators usually focus on the increased
opportunities for coordination and community building. But in Tufekci’s view,
the wonders of the Internet are also a curse for the building of effective political
movements. Social movements, like inexperienced mountaineers getting to base
camp without adequately acclimating to exceptionally high altitude, show how
some of the Internet’s benefits can have significant handicaps as side effects. The
result is that we are seeing increasing numbers of movements, but they may not
have impact or endurance because they come to the public’s attention too early in
their lifetimes. Movements get stuck at saying “no” , she argues, because they’ve
never needed to develop a capacity for representation and can only coalesce around
the negative rather than building an affirmative agenda.
My own work on protest movements supports Tufekci’s conclusions.
Fascinated by spontaneity and dreaming of a politics of horizontal networks,
the new social movements, whether Indignados, Occupy, or one of the other
antiausterity groups in Europe, succeeded for a period in demonstrating the
power of citizens to resist. But they failed to have lasting political impact. The anti-
institutional culture of the protesters and their rejection of any specific ideology
doomed them to irrelevance. You may be able to spark a revolution with a tweet,
but you can’t tweet a government into power. (Even Donald Trump needed some
help from the Republican Party apparatus.) What these protest movements will
be remembered for are videos, not manifestos; happenings, not speeches; and
conspiracy theories, not political tracts. They are a form of participation without
Krastev Ivan
25
representation. It is thus hardly accidental that the only two important political
parties that came out of the antiausterity youth movements—Syriza in Greece and
Podemos in Spain—only slightly resemble the horizontal dreams of the protesters.
Both are traditional in their political organization, and their successes have been
heavily dependent on the popularity of their respective leaders, Alexis Tsipras and
Pablo Iglesias.
What seems clear are a series of aporias. The protesting citizen wants change
but resents any form of political representation. Basing his theory of social change
on ad copy from Silicon Valley, he values disruption and scoffs at political blueprints.
He longs for political community but refuses to be led by others. He will risk clashing
with the police but is afraid to risk trusting any party or politician. Mary Kaldor of the
London School of Economics, who has been researching the new social movements
in Europe, explains that although these movements have a transnational identity
and protesters from different countries are in constant contact with each other, the
idea of Europe and the reality of the European Union were almost entirely absent
from the passions and interests of activists on the streets. Spontaneity tends to be
local.
The idea of democracy without representation makes any serious discussion
of the future of the European Union nearly impossible. A united Europe cannot exist
without representation. But the uncompromising, anti-institutional ethos of young
pro-EU activists makes a united Europe impossible. More disturbing still is that
the political mobilization of pro-EU youth has led to the emergence of parties like
Syriza and Podemos that strongly link the idea of democracy to the idea of national
sovereignty. Although comprised of pro-EU youth, these parties often build their
legitimacy on opposing Brussels. The fact that pro-Europeans perceive them as
youth parties thus becomes a vulnerability for three reasons. First, young voters
are a shrinking minority in Europe. Second, even when they are passionate about
politics, young people are not in the habit of showing up to vote. And third, the
support of younger people makes liberal politicians believe that the problems they
face today will disappear once older generations die off. This is a grave delusion.
The Brussels Paradox
“ I am persona non grata in my own country, with many blaming me for the crisis
we are in and for their personal difficulties”, writes a bitter George Papaconstantinou,
the former Greek finance minister in his memoirs [Papaconstantinou 2016: 10].
“I was the one who, when the music stopped, turned on the lights and told
everyone the party is over... As a result, I have lived for years under a peculiar sort of
‘house arrest’. Walking the streets became a dangerous sport” . Papaconstantinou
is not one of the corrupt Greek politicians who have robbed the country blind for
decades. Neither is he a superrich fellow who converted his political power into
СТАТЬЯ НОМЕРА
26
Публичная политика No2
money. Nor is he a member of one of the elite Greek political families who has run
the country for the last century. He is simply one of Europe’s model meritocrats
who comes from an ordinary family, got a good education, and rose in the ranks
of Greek society. He was invited to join the government of George Papandreou not
really because of his ideological commitments but because of his competence and
integrity. And yet he ended up one of the most hated men in Greece.
Why are Papaconstantinou and other meritocratic strivers from throughout
the continent so resented at a time when the complexity of the world suggests their
expertise and professionalism are needed more than ever? Why do people who
work hard to send their kids to the world’s finest universities refuse to trust people
who are graduates from these very universities? How can it possibly be true that,
as pro-Brexit politician Michael Gove put it, people “have had enough of experts”?
It is fashionable these days to discuss the crisis of the EU in terms of either
the union’s democratic deficit or its cosmopolitan makeup. But what’s really at its
core is the crisis of a meritocratic vision of society. This is demonstrated nowhere
better than in the growing mistrust in meritocratic elites. Whether it’s possible to
have elites that are legitimate both at home and abroad is the pivotal question on
which the European project hinges. We need to understand why meritocrats are
so mistrusted, even though they are far from being the richest or the most corrupt
people around.
It seems obvious that a meritocracy—a system in which the most talented
and capable people are placed in leading positions—is preferable to a plutocracy,
gerontocracy, aristocracy, and perhaps even democracy (the rule of the majority).
But what we are witnessing today is a nonconfidence vote exactly against this
vision of society.
Europe’s meritocratic elites aren’t hated simply because of the bigoted
stupidity of raging populists or the confusion of ordinary people. Michael Young,
the British sociologist who in the middle of the last century coined the term
“meritocracy”, would not be surprised by the turn of events [Young 2016]. He
was the first to explain that even though “meritocracy” might sound good to most
people, a meritocratic society would be a disaster. It would create a society of selfish
and arrogant winners and angry and desperate losers. It will be not an unequal
society but a society in which inequality is justified on the basis of differences in
achievement. The triumph of meritocracy, Young understood, would lead to a loss
of political community.
When analysts examine the Brexit vote in retrospect, they often agree that
one of the key bottom-up drivers that determined the outcome was “a slow
but relentless shift in the structure and attitudes of the electorate, the growing
dominance of the middle classes, and of socially liberal university graduates”
[Ford and Goodwin 2017: 17–30]. In the 1960s, more than half of those with
Krastev Ivan
27
jobs in Britain did manual work, and less than 10 percent of the electorate had a
university degree. By the 2000s, the working class had dwindled to around onefifth
of the employed electorate, while more than a third of the voters were graduates.
Suddenly nobody was really interested in the working class. Blue-collar workers
didn’t lose their political importance, to be sure, but they started to be seen by
analysts as groups of limited research interest. Meanwhile, the dramatic increase in
the number of university graduates, who tend to be quite liberal, created a cultural
gap between them and the remaining working class. Migration was the issue on
which the two Britains clashed. Instead of being an instrument for creating more
social cohesion, as progressives hoped a century ago, education has turned to be
a cause of disunity.
What makes meritocrats so insufferable, especially in the minds of those who
don’t come out on top in the socioeconomic competition, is less their academic
credentials than their insistence that they have succeeded because they worked
harder than others, were more qualified, and passed exams that others failed.
In Europe, the meritocratic elite is a mercenary elite whose members behave
not unlike soccer stars who get traded among the most successful clubs across
the continent. They perfectly fit David Goodhart’s definition of “people from
Anywhere” . Successful Dutch bankers move to London. Competent German
bureaucrats head to Brussels. European institutions and banks, like soccer clubs,
spend colossal amounts of money acquiring the best “players”.
But when these teams start to lose or the economy slows, their fans soon
abandon them. Principally, that’s because there are no human relationships
connecting the “players” and their fans beyond mutual celebration of victory.
They’re not from the same neighborhood, and they don’t have mutual friends or
shared memories. Many of the players aren’t even from the same countries as their
teams. You can admire the hired “stars”, but you have no rational reason to feel
sorry for them. In the eyes of the meritocratic elites, their success outside of their
countries is evidence of their talent. But in the eyes of many, this very mobility is
a reason not to trust them.
People develop trust in their leaders not only because of their competence,
courage, and commitment but also because they sense that at a time of crisis,
their leaders will hunker down and help out rather than rushing for the nearest
emergency exit. Paradoxically, it is the “convertible competencies” of the present
elites, the fact that they are equally fit to run a bank in Bulgaria or in Bangladesh or
to teach in Athens or Tokyo, that makes people so suspicious of them. People fear
that in times of trouble, the meritocrats will opt to leave instead of sharing the cost
of staying. In this sense, meritocratic elites contrast with land-owning aristocratic
elites, who are devoted to their estates and cannot take their estates with them
in case they want to run away. They also contrast with communist elites, who
СТАТЬЯ НОМЕРА
28
Публичная политика No2
always had better goods, better health care, and better education. But what they
did not have was the power to leave; it was always easier for an ordinary person
to emigrate. Communist elites, Princeton historian Stephen Kotkin has shown,
were “no exit” elites, while meritocratic elites from the time of globalization and
European integration are “no loyalty” elites.
Traditional aristocratic elites had duties and responsibilities and were reared
to fulfill them. The fact that generations of their forebears, staring at them from
portraits on the walls of their castles, had once themselves performed these same
duties meant they took them seriously. In Britain, for example, the proportion
of young men from the upper class who died in the First World War was greater
than the proportion of the lower classes. The new elites, by contrast, are trained
to govern, but they are not taught to sacrifice. Their children never died (nor even
fought) in any war. The nature and convertibility of the new elites makes them
practically independent of their own nations. They are not dependent on their
country’s education system (their children go to private schools) or the National
Health Service (they can afford better hospitals). They have lost the ability to share
the passions of their communities. People experience this independence of the
elites as a loss of citizen power. Meritocratic elites are very connected, but their
networks are horizontal. The leading economist in Sofia, Bulgaria, is intimately
familiar with his colleagues in Sweden but has no knowledge of or interest in his
compatriots who failed their technocratic examinations. He highly doubts he can
learn anything from them.
Unsurprisingly then, it is loyalty—namely, the unconditional loyalty to ethnic,
religious, or social groups—that is at the heart of the appeal of Europe’s new
populism. Populists promise people not to judge them solely on their merits. They
promise solidarity if not justice. While meritocratic elites envision society as a school
populated by “A” students who fight for fellowships against dropouts who fight
on the streets, populists endorse a vision of society as a family where members
support each other not simply because everyone deserves it but because everyone
shares something in common.
At the very heart of the populist challenge is the struggle over the nature
and obligations of elites. Unlike a century ago, today’s insurgent leaders aren’t
interested in nationalizing industries. Instead, they promise to nationalize their
elites. They don’t promise to save the people but to stay with them. They promise
to reestablish the national and ideological constraints that were removed by
globalization. They praise the people for not speaking foreign languages and
for having nowhere to go. In short, what populists promise their voters is not
competence but intimacy. They promise to reestablish the bond between the elites
and the people. And a rapidly increasing number in Europe today find this promise
appealing.
Krastev Ivan
29
The American philosopher John Rawls spoke for many liberals when he argued
that being a loser in a meritocratic society was not as painful as being a loser in an
openly unjust society. In his conception, the fairness of the game would reconcile
people with failure. Today it looks as if the great philosopher may have been wrong.
The crisis of meritocratic elites at least partially explains the crisis of leadership
in Europe. The frequently heard call for “leadership” has two very different meanings
depending on where it is uttered. In Brussels and in many national capitals, the
demand for leadership connotes resistance to populist pressure and courage to
implement the most rational and effective policies. In these places where the elites
of the continent congregate, it refers to a test that should be passed with the right
answers. These elites view the political crisis of the EU mainly as a communications
crisis in which Brussels has simply failed to explain its policies effectively.
But in the deindustrialized and depressed parts of the continent, the demand
for leadership means something very different: a demand for sacrifice and loyalty.
People expect leaders to declare their personal readiness to underwrite the cost of
the crisis and to publicly exhibit their family obligations to their societies. From this
standpoint, the crisis of the European project at bottom isn’t so much the product
of a democratic deficit as a demand for the meritocratic vision of society to be
reimagined. Unfortunately for Europe, the clash between meritocratic elites and
the populists has taken the form of political clash between the Exit Party and the
Loyalty Party. It is not by accident that more often than at any other moment in the
last fifty years, generals are in fashion not only in Russia but also in the West. One
need only looks to the composition of Donald Trump’s administration in order to
see that the populist promise is a government of generals who know how to defend
their countries and business executives who are addicted to ruthless decisions.
Destroyed by Referendums
The electorate is “a sovereign whose vocabulary is limited to two words: ‘Yes’
and ‘No’”, wrote the American political scientist, E . E. Schattschneider. He is basically
right. Citizens tend to believe that only by saying “no”, and much more rarely, “yes”,
their voices will be heard by the ruling class. And so when support for traditional
political parties has plummeted and the confidence in democratic institutions is in
question, many believe that a move to some form of direct democracy is the avenue
to reform the democratic system.
The question of the legitimacy of referendums is one of democracy’s oldest
debates. Advocates of direct democracy argue that they are the most reasonable
and transparent way for citizens to influence public policies beyond electing a
government. In their view, referendums produce clear mandates (something
elections generally can’t do), stimulate public debate, and educate people, thereby
achieving the democratic dream of a society of informed citizens.
СТАТЬЯ НОМЕРА
30
Публичная политика No2
The opponents of direct democracy disagree. They insist that referendums
are not the best way to empower people but the most perverse way to manipulate
them. In the words of Margaret Thatcher, referendums are a device of “dictators
and demagogues” . They dangerously simplify complex policy issues and often
lead to incoherent policies because referendums look at issues in isolation, the
result being that people may approve measures that contradict each other. It is
generally believed that if citizens are going to be asked on the same day to vote for
an increase in social spending and on tax cuts, they may likely support both (while
politicians know full well that cutting taxes will make it impossible to increase social
spending). The critics of direct democracy also argue that referendums are most
often run by emotions and not by arguments. They deny that referendums foster
civic engagement. The evidence bears this out. As referendums have proliferated,
the median turnout for nationwide referendums across Europe has fallen from 71
percent in the early 1990s to 41 percent in the past few years.
What follows is not an argument about the advantages and disadvantages of
direct democracy. What I argue, instead, is that in a political construction like the
EU, where you have a lot of common policies, you have far fewer common politics.
Where nobody can prevent member states voting on issues that can dramatically
affect other states in the union, an explosion of national referendums is the fastest
way to make the union ungovernable. Such an explosion could even trigger a “bank
run” that could catalyze the breakup of the union. Europe can’t exist as a union
of referendums because the EU is a space for negotiation while referendums are
the final word of the people that preclude further negotiations. Referendums are
therefore political instruments that can be easily misused by both Euroskeptical
minorities and euro-pessimistic governments to block the work of the union. If the
EU commits suicide, the weapon used will quite likely be a popular referendum or a
series of popular referendums.
A harsh shock can turn the unthinkable into the inevitable with frightening
speed. This is precisely what happened in Europe after Britons voted to leave the
union. The shock was particularly painful because European and British elites had
managed to convince themselves that the “remain” camp would prevail. Experts,
pollsters, markets—almost everybody predicted that the United Kingdom would
stay in the union. Political oddsmakers gave Remain an astounding 93 percent
chance of victory in the minutes before the first results were announced. All
predictions turned out to be wrong, of course, and everything changedovernight.
The vote in favor of Brexit sent shockwaves around the world, rocking
financial markets, frightening political leaders, and provoking far-reaching political
debates. If the day before Brexit Europeans were arguing about which would be
the next country to join the EU, the day after Brexit the question was who would
next leave. In psychology, there is a well-known experiment in which a person
Krastev Ivan
31
СТАТЬЯ НОМЕРА
is asked quickly to look at drawings of cats and is constantly asked what he or she
sees. Unsurprisingly, he or she sees cats. Then the drawings of cats are mixed with
occasional drawings of dogs, yet the person insists that he or she sees only cats.
Soon somebody shouts a person’s name distracting him or her from the drawings.
When the person looks at them again, he or she starts to see the dogs. This is what
happened with Europe on the night of June 23, 2016, the day the Brits voted
to leave. It finally became possible to perceive the dogs.
Historians are quick to recall that referendums accompanied the two fateful
disintegrations Europe witnessed in the last decade of the twentieth century:
the shattering of the Soviet Union and the violent implosion of Tito’s Yugoslavia.
Referendums in the Yugoslav Republics put in motion what would become the
collapse of Tito’s federation; and in the Soviet Union, in paradoxical fashion, the
March 1991 referendum conducted in nine of the Soviet Republics and resulting
in a massive victory for the pro-union camp contributed to the collapse of the
Soviet state. The vote demonstrated that national republics were the centers of
political life in the union and that the USSR was sick and dying. The lesson was that
a referendum could inspire disintegration even if majorities voted against it.
The crucial point here is that although pessimists are right to fear that the
European Union will be destroyed by referendums, they are afraid of the wrong
referendums. While in the wake of Brexit, we witnessed a growing desire among
Europeans for binary-like “in-out” referendums, opinion polls indicate that with the
passing of time the desire for such a final say has declined in most European countries.
The likelihood of classical “in-out” referendums is quite limited in the vast majority
of the member states. This can certainly change, but for the moment, the appeal
of such referendums has declined. Pro-European elites will scarcely risk triggering
the “nuclear option” after experiencing what transpired in Britain. Call this one the
“Cameron effect”. Moreover, what is common to all referendums that took place in
2016 is that governments never achieved their objectives. Populists, it is fair to say,
prefer to threaten a stay or leave referendum than genuinely to advance one. After
all, they have witnessed with Brexit the problems a successful anti-EU referendum
invites. Their preferred strategy will likely be to insist that every election be an informal
referendum on the EU rather than explicitly asking for an up-or-down vote on exit.
Rather than fixating on a Brexit-type referendum, we need to focus on three
other referendums that took place in 2016. In the manner of Sergio Leone’s classic
spaghetti Western, let’s call them the Brave, the Mean, and the Ugly. The Brave
was former Italian Prime Minister Matteo Renzi’s December referendum in Italy; the
Mean, the Dutch referendum on the Ukrainian Association Treaty with the EU in
April; and the Ugly, Viktor Orbán’s October referendum on the refugee policy of the
EU. These three referendums illustrate better than anything else the risk of the EU’s
breakup unfolding as a kind of a traffic accident.
32
Публичная политика No2
The Brave
It should be no surprise that in the spring of 2016, Matteo Renzi hatched the
idea of a referendum. Five years after the financial markets and the high command
of Brussels succeeded in ejecting Silvio Berlusconi from power, Italy remained
one of the main victims of the EU crisis. The Italian economy was in a kind of
permanent stagnation with its banks particularly vulnerable. The Italian political
system remained as polarized as ever, ineffective, and now marked by the rise of
the eccentric Five Star Movement of political protest. At the same time, the country
had become the portal through which most refugees and immigrants arrived to
Europe. After the closing of the Balkan route in 2016, Italy became the epicenter
of Europe’s migration crisis. Compounding the distress, Matteo Renzi had become
Italy’s prime minister without having had to face the voters. It’s hardly surprising
that in a country where political issues are often decided through referendums, the
young, new prime minister would be tempted to gamble, using the vote as a way
to achieve popular legitimacy as well as support for a reform of the political system
that would issue in a more effective decision-making process. The reluctance of
Italy’s opposition parties to support Renzi’s reform package in the Parliament and
the Senate made a referendum inevitable.
The questions Renzi put before the Italian people were loaded: “Do you
approve the text of the Constitutional Law on ‘Provisions for exceeding the equal
bicameralism, reducing the number of MPs, the containment of operating costs of
the institutions, the suppression of the CNEL, and the revision of Title V of Part II of
the Constitution’? ” Renzi had multiple objectives: reducing the power of the second
chamber of parliament—the Senate, which is currently equal to the Chamber of
Deputies—and thereby reforming the dysfunctional Italian “vetocracy”, cutting
the number of Senators from 315 to 100 and stripping the Senate of the right to
hold votes of “no confidence” in the government, and ending direct elections of
the Senate, populating it instead with twenty-one regional mayors, seventy-four
regional council heads, and five members selected by the president. The proposed
reforms would reduce the powers of Italy’s twenty regional governments, handing
over authority to the central government on such issues as energy, infrastructure,
and foreign trade. Reformists say this would cut the cost of politics by half-a-billion
euros per annum and expedite lawmaking by ending decades of parliamentary
ping-pong. If the referendum had succeeded, it would have ended the system of
“perfect bicameralism”, thus giving more power to the government and enabling
faster passage of legislation.
Opinion polls before the vote suggested that the prime minister’s chances of
success were good and that the referendum would help position him as a rebel
against the status quo, forcing his opponents to defend the existing political mess.
In the words of Renzi himself, the reform was a battle between “nostalgia and the
Krastev Ivan
33
СТАТЬЯ НОМЕРА
future, between those who want to change nothing and those who are looking
ahead”
9
.
On December 4, 2016, more than 65 percent of the electorate voted;
59 percent voted “no” and almost 41 percent “yes” . Renzi’s constitutional reform
proposal was decisively defeated, and he was forced to resign. Analysts have
speculated that it was the prime minister’s own promise to step down in the event
of a loss that transformed the vote from an evaluation of the electoral system to a
judgment on the ambitions of a contested prime minister. However, we can only
speculate how the results would have differed in the absence of Renzi’s pledge.
On the day of the vote, Italy resembled a patient who, facing the date of his
surgery, decides to bolt out of the hospital. The government’s defeat made markets
even more skeptical about Italy’s capacity to deal with the crisis. It weakened
Italy’s position in negotiation with Brussels, and it boosted euro-pessimism among
citizens across the continent. In the words of Marine Le Pen of France’s farright
National Front, “After the Greek referendum, after Brexit, this Italian No adds a new
people to the list of those who would like to turn their backs on absurd European
policies that are plunging the continent into poverty”
10
.
Renzi’s failure on the referendum makes one thing clear. In the context of the
current European crisis, when citizens have lost trust in democratic institutions and
governments are viewed as enemies of the people, any attempt to use referendums
as a way to mobilize support for reforms is most likely to be self-defeating. It
may be true that the government or parliament has the authority to introduce a
referendum question, but it is the people who get to decide what question they will
answer.
The Mean
In 2015, the Dutch Parliament adopted a new referendum law that permits
citizens to call for a consultative public vote on bills that have passed through both
houses of Parliament. It requires three hundred thousand citizens to trigger an
“advisory referendum” on laws and treaties of a “controversial nature. ” In the words
of Gerard Schouw, a member of Parliament from the D66 Party, the referendum
initiative was a way to regain the confidence of citizens. As Schouw notes,
“This law will give citizens a serious opportunity to express their views and an
important voice in the decision-making process”
11
. The escalating antielite, anti-EU
9
“Italy Referendum ‘Is a Choice between Nostalgia and the Future’”, The Local, November 7, 2016.
https://www.thelocal.it/20161107/ italy-referendum-is-a-choice-between-nostalgia-and-the-future.
10
“Italian Referendum Result Is Unhelpful for EU, but Not a Fatal Blow,” The Guardian, December 5,
2016. https://www.theguardian.com/ world/2016/dec/05/italian-referendum-result-eu-eurosceptics-
far-right-austria-matteo-renzi.
11
“Over 440,000 Dutch Call for Referendum on Ukraine EU Treaty”, DutchNews, September 27,
2015. http://www.dutchnews.nl/ news/archives/2015/09/over-440000-dutch-call-for-referendum-
on-ukraine-eu -treaty/.
34
Публичная политика No2
sentiments in Dutch society provoked mainly by citizen opposition to migration and
the enlargement of the European Union made it inevitable that mainstream political
parties would look for ways to demonstrate their readiness to listen to the people’s
concerns. Yet what ultimately occurred is that the new initiative not so much gives
a voice to the people as it amplifies the noise produced by the Euroskeptic wing of
Dutch society.
Exploiting the opportunity created by the new legislation, a group of
Euroskeptical organizations began gathering signatures. They succeeded in
gathering enough of them—more than 420,000—to organize a referendum in
answer to the question: “Are you for or against the Approval Act of the Association
Agreement between the European Union and Ukraine?” Turnout for the vote was
a meager 32 percent of eligible voters, with 61 percent of those casting a ballot
rejecting the agreement. Although the referendum was advisory and nonbinding,
the fact that the turnout exceeded 30 percent (though just barely) and that a
majority voted against it gave the results apparent legitimacy. Never mind that the
referendum was devoted to an issue of essentially no interest to the vast majority
of citizens. (Who would deny that outside of the government nary a soul read
the entire two-thousand-plus pages of the treaty?) The outcome nonetheless
compelled the government to revisit its position and placed into question the EU’s
fragile consensus on Ukraine.
In the words of one commentator, “The decision to focus on the association
agreement between the EU and Ukraine was not oriented against the agreement as
such, but rather against what they [GeenPeil—a provocative Dutch weblog] perceive
as a lack of influence for Dutch voters within the EU” . It may sound perverse, but
the referendum was called as a useful occasion for mobilizing the Euroskeptic vote
on an issue of no major consequence for those who support the union.
Once we grasp that the referendum was primarily about engaging
Euroskeptics, it becomes easy to understand why the governing parties responded
to it with such passivity. They feared that public opinion was in a “no” mood, so
they pinned their hopes on turnout failing to reach the thirty-percent threshold.
The leading parties were also afraid to lobby openly in favor of boycotting the
referendum because doing so would contradict the claim that the new legislation
instituting referendums was meant to permit the people to speak their minds.
“The genius of [the referendum]”, wrote Euroskeptical Amsterdam professor
Ewald Engelton, “is that it has no consequence; the treaty will be ratified anyway.
It is a crystal clear popularity poll: for or against the [political] caste—that is the
question”
12
.
The sad conclusion is that the Dutch referendum was a powerful
12
Simon Otjes, “Could the Netherlands’ Referendum on Ukraine Really Create a ‘Continental Crisis’? ”
http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/ 2016/01/26/could-the-netherlands-referendum-on-ukraine-really-
create-a -continental-crisis/.
Krastev Ivan
35
СТАТЬЯ НОМЕРА
demonstration of how votes can be hijacked by Euroskeptical minorities and used
tactically to paralyze the process of collective decision making in Brussels by pushing
pro-European governments to rally for issues that are of no interest to the public.
The Ugly
A foreigner visiting Hungary in the summer and autumn of 2016 could not
miss a series of government-installed billboards posted throughout the country, all
of them colored the same blue as the EU flag and posing the question: “Did you
know?”
The anti-immigrant gambit of the ruling Fidesz Party issued in a massive PR
campaign. Citizens were confronted by thousands of government-sponsored
billboards asking: “Did you know that since the beginning of the immigration crisis,
more than 300 people have died as a result of terror attacks in Europe?” “Did you
know that Brussels wants to settle a whole city’s worth of illegal immigrants in
Hungary?” “Did you know that since the beginning of the immigration crisis the
harassment of women has risen sharply in Europe?” “Did you know that the Parisian
terror attacks were committed by immigrants?” “Did you know that close to one
million immigrants want to come to Europe from Libya alone?” The government
wanted Hungarian citizens to be aware of these “facts” when on October 2, they
were asked to answer the question, “Do you want the European Union to be able
to order the mandatory settlement of non-Hungarian citizens in Hungary without
parliament’s consent?”
By defending the idea of a referendum on the EU refugee policy, Hungarian
prime minister Viktor Orbán insisted that first of all, we are convinced that the path
which the Hungarian government has chosen to follow—the path leading to a ref-
erendum—is a European solution; it is a feature of European politics, and therefore
we wholeheartedly recommend it to others also. The Government believes that
democracy is one of Europe’s core values, and the European Union is also based
on the foundations of democracy. This means that we may not adopt decisions—
those that significantly change people’s lives and also determine the lives of future
generations—over the heads of the people, and against the will of the European
people. The quotas would redraw the ethnic, cultural, and religious map of Hun-
gary and of Europe. The Hungarian government takes the view that neither the EU,
nor Brussels, nor the leaders of Europe have the authority to do this; in fact, there is
no European body or agency of any kind that has been vested with such authority.
To date no one has asked the European people whether they want, accept, or re-
ject the introduction of compulsory quotas. We Hungarians believe—and I am con-
vinced that the government was yielding to the general desire of the public when it
chose to call a referendum—that introducing compulsory resettlement quotas with-
out the consent of the people is nothing less than an abuse of power. Therefore we
36
Публичная политика No2
Krastev Ivan
shall ask the people of Hungary about this question, just as we asked about Hunga-
ry’s accession to the European Union... No one but us, the elected representatives
of the Hungarian parliament, can make this decision13
.
To grasp the motives behind Orbán’s referendum, it’s necessary is to recognize
that the government decided to ask people to vote on one of the few issues on
which there was consensus in Hungarian society—opposition to Brussels’s decision
to settle refugees in different EU countries. The government didn’t ask people to
vote because it was interested in their opinions; it pressed people to vote because
it knew their opinions. The referendum that took place in Hungary on October 2,
2016, was really meant as a message to Brussels. By organizing the referendum,
Prime Minister Orbán hoped to achieve three simple objectives: to demonstrate
to the public that he is the real defender of the nation’s interests and thus to
marginalize the support for the extreme right-wing Jobbik Party with whom he
competes for the nationalists’ vote, to signal to Brussels that Hungary will remain
firm in rejecting a European quota system for the refugee crisis, and to show the
citizens of Europe that the Hungarian prime minister is the true leader of a new
conservative Europe that will defend national borders and fight to transfer power
from Brussels to national capitals.
To achieve its objectives, the Hungarian government spent nearly fifty million
euros of public money (according to atlatszo.hu), and Hungarian public TV devoted
95 percent of campaign time restating the government’s position. By comparison,
the money spent on Brexit by the UK government in support of both the Leave and
Remain campaign was roughly seven million euros less. In the end, the Hungarian
government spent €5.00 per person on its single-sided campaign, while the
Brits spent only €0.66 per person on theirs. The government also sent more than
four million full-color booklets to Hungarians at home and abroad making the
government’s case for why Hungarians should vote “no ” on the EU’s refugee policy.
The irony is that the government was in a position to spend so lavishly precisely
because of billions of euros coming into the country from... Brussels.
The results of the referendum came as a shock to the government. While more
than 90 percent of those who voted supported the government’s position, the
majority of people opted to stay home (as prompted by the opposition) or voted
with invalid ballots (there were two hundred thousand of those). The Two-Tailed
Dog Party, a group of pranksters that together with twenty-two NGOs became the
government’s chief opponent over the course of the campaign, may have had the
last laugh: the number of ballots cast was insufficient to validate the results.
13
Prime minister Viktor Orbán’s press conference, February 24, 2016. http://www.kormany.hu/en/
the-prime-minister/the-prime-minister-s -speeches/prime-minister-viktor-orban-s-press-conference.
37
СТАТЬЯ НОМЕРА
Despite the inconclusive outcome in this case, the Hungarian vote
demonstrates how referendums can be used as a “national veto” to stymie the
implementation of agreedupon, common European policies. Along with the votes
in Italy and the Netherlands, it illustrates Europe’s potentially fatal referendum
conundrum. The crisis of liberal democracy in EU member states is a product of
the widely shared feeling, significantly worsened since the financial crisis of 2008,
that the votes of individuals have no meaning or effect on European policy. Forced
to address this sensation of impotence, political elites have tried to bolster the
legitimacy of the political system by introducing an element of direct democracy.
Yet that element of direct democracy may well end up sinking the European Union.
As Renzi’s poll clearly demonstrates, the referendum is an unreliable instrument
when institutional reform is the desired end. The Dutch case makes clear how it can
be used to paralyze the union. And the Orbán vote shows how a referendum can be
deployed to advance explicitly anti-Brussels ends. All three kinds of referendums
have the power to shape the EU’s political dynamics and to empower a form of
outright euro-pessimism that goes far beyond the Euroskepticism of recent years.
38
Публичная политика No2
Krastev Ivan
References
Timothy Garton Ash, “Is Europe Disintegrating?”, The New York Review of
Books, January 19, 2017.
Special Eurobarometer 379, 2012. http://ec.europa.eu/public_opinion/
archives/ebs/ebs_379_en.pdf.
Roberto Stefan Foa and Yascha Mounk, “The Democratic Disconnect”, Journal
of Democracy 27, no. 3 (July 2016): 5–17, 7.
David Remnick, “An American Tragedy”, The New Yorker, November 9, 2016.
http://www.newyorker.com/news/news-desk/an-american-tragedy-2.
Dani Rodrik, The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the
World Economy (New York: W. W. Norton, 2012).
Walter Bagehot, The English Constitution, 2
nd
ed. (1873), 61.
James Dawson and Sean Hanley, “Has Liberalism Gone Missing in East Central
Europe, or Has It Always Been Absent?”, Open Democracy, October 5, 2015.
Viktor Orbán’s speech at Băile Tuşnad (Tusnádfürdő) of 26 July 2014. http://
budapestbeacon.com/public-policy/full-text-of-viktor-orbans-speech-at-baile-
tusnad-tusnadfurdo-of-26-july-2014/ 10592.
Jan-Werner Müller, What Is Populism? (Philadelphia: University of Pennsylvania
Press, 2016), 3.
Philip Bump, “Donald Trump’s Spectacular, Unending, Utterly Baffling,
Often-Wrong Campaign Launch”, The Washington Post, June 16, 2015.
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2015/
06/16/
donald-trumps-spectacular-unending-utterly-baffling-often-wrong-campaign-
announcement/?utm_term=.aac10285ae5b.
Rob Brotherton, Suspicious Minds: Why We Believe Conspiracy Theories
(London: Bloomsbury, 2015), 6.
Smolensk Crash News Digest is focused on issues surrounding the April
10, 2010 crash of Polish government Tupolev Tu-154M, near Smolensk, Russia.
http://www.smolenskcrashnews.com/.
Maria Szonert Binienda, “Smoleńsk Maze: Crash of the Polish Air Force One,
Smoleńsk, Russia, April 10, 2010,” Status Report 2014, Libra Institute (Cleveland:
Libra Institute, 2014), 3. http://www.smolenskcrashnews.com/pdf/2014_Re-
port/2014_Smolensk_Status_Report.pdf.
“ Big Brother Gives Politics Lesson”, BBC News, June 3, 2003. http://news.
bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/2956336.stm.
George Papaconstantinou, Game Over: The Inside Story of the Greek Crisis
(Athens: Papadopoulos, 2016), 10.
Michael Young, The Rise of the Meritocracy 1870–2033: An Essay on
Education and Society (London: Thames and Hudson, 1958).
39
СТАТЬЯ НОМЕРА
Robert Ford and Matthew Goodwin, “Britain After Brexit: A Nation Divided”,
Journal of Democracy 28 (January 2017): 17–30.
“ Italy Referendum ‘Is a Choice between Nostalgia and the Future’”, The Local,
November 7, 2016. https://www.thelocal.it/20161107/italy-referendum-is-a -
choice-between-nostalgia-and-the-future.
“ Italian Referendum Result Is Unhelpful for EU, but Not a Fatal Blow”, The
Guardian, December 5, 2016. https://www.theguardian.com/world/2016/
dec/05/italian-referendum-result-eu-eurosceptics-far-right-austria-matteo-renzi.
“ Over 440,000 Dutch Call for Referendum on Ukraine EU Treaty”, DutchNews,
September 27, 2015. http://www.dutchnews.nl/ news/archives/2015/09/
over-440000-dutch-call-for-referendum-on -ukraine-eu-treaty/.
Simon Otjes, “Could the Netherlands’ Referendum on Ukraine Really Create
a ‘Continental Crisis’? ” http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/ 2016/01/26/could-
the-netherlands-referendum-on -ukraine-really-create-a-continental-crisis/.
Prime minister Viktor Orbán’s press conference, February 24, 2016. http://
www.kormany.hu/en/the-prime-minister/the-prime-minister-s -speeches/prime-
minister-viktor-orban-s-press-conference.
40
Публичная политика No2
Развитие российской
политической науки
в разрезе регионов: опыт
наукометрического анализа
Евстифеев Роман
Евстифеев
Роман Владимирович,
доктор политических наук,
ведущий научный сотрудник
Владимирского филиала РАХНиГС
(г. Владимир).
Для связи с автором:
roman_66@list.ru
Аннотация
В статье представлена созданная
на основе данных Российского индек-
са научного цитирования наукометри-
ческая карта развития российской по-
литической науки в разрезе регионов.
Ключевые слова: политическая
наука, российский индекс научного
цитирования, наукометрия, научная
политика
41
ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Evstifeev R.V.
The development of Russian
political science in the context
of the regions:
practice of measuring science
Evstifeev
Roman Vladimirovich,
Vladimir branch of the Russian
Presidential Academy of National
Economy and Public Administration,
Leading Researcher, Doctor of
Political Sciences.
To contact the author:
roman_66@list.ru
Abstract
The article presents a map of the
development of Russian political science
created with the help of the Russian
Scientific Citation Index in the context of
regions.
Keywords:
Political Science,
Russian Scientific Citation Index, Science
Measuring, Science Policy
42
Публичная политика No2
Евстифеев Роман
Развитие любой науки сегодня трудно представить без знаний о самой
науке, отсюда достаточно устойчивый и растущий интерес к наукометрии,
в том числе со стороны гуманитарных наук [Идеи и числа 2016; Евстифеев
2016]. Сбор и анализ наукометрических показателей позволяет делать оцен-
ки уровня развития науки и ее отдельных отраслей, выявлять основные тен-
денции и вырабатывать подходы и принципы научной политики [The science
of science policy 2011: 5].
Современные наукометрические базы дают возможность получить для
анализа достаточно разнообразный набор данных, в основе которых лежит
первичный элемент научного знания – научная публикация, включенная в си-
стему библиографических ссылок. Таким образом, любая наукометрическая
база содержит в себе основные элементы научного пространства – научные
публикации или патенты, данные об их авторах и реферативные связи меж-
ду ними. При этом, конечно, каждая наукометрическая платформа применяет
свои собственные алгоритмы выявления, фиксации, кодировки и оценки по-
казателей, что создает немало сложностей для сравнения и выявления реаль-
ного положения в той или иной отрасли науки.
Задача данного исследования – использовать возможности наукометри-
ческих баз для составления наукометрической карты развития российской по-
литической науки в разрезе регионов на основе сбора и анализа данных о ко-
личестве ученых, занимающихся политической наукой в России.
Несмотря на то что связь между развитием политической науки в регио-
нах и региональными политическими процессами пока изучена недостаточ-
но, тем не менее мы полагаем, что формирование своеобразной наукометри-
ческой карты развития политической науки в субъектах РФ может быть полез-
но для оценки перспектив развития политической науки в регионах и полити-
ческого развития самих регионов. Мы ни в коем случае не претендуем на пол-
ное и системное видение развития политической науки. Скорее, это взгляд,
своеобразный количественный ракурс, который может в чем-то дополнить
качественные исследования коллег [Карягин, Сунгуров 2016].
Выбор наукометрической базы для анализа был нами сделан в поль-
зу Российского индекса научного цитирования на платформе eLIBRARY. Мы
основывались на том, что eLIBRARY – самая популярная и крупнейшая в Рос-
сии электронная библиотека научных публикаций, обладающая современны-
ми возможностями поиска и получения информации. Платформа eLIBRARY.
RU была создана в 1999 г. по инициативе Российского фонда фундаменталь-
ных исследований для обеспечения российским ученым электронного досту-
па к ведущим иностранным научным изданиям. С 2005 г. eLIBRARY.RU начала
работу с русскоязычными публикациями и ныне является ведущей электрон-
ной библиотекой научной периодики на русском языке в мире.
43
На сегодня, по данным eLIBRARY.RU , ее клиентам доступны полнотексто-
вые версии около 4000 иностранных и 3900 отечественных научных журна-
лов, рефераты публикаций почти 20 000 журналов, а также описания полу-
тора миллионов зарубежных и российских диссертаций. Общее число заре-
гистрированных институциональных пользователей (организаций) – более
2200, и более миллиона индивидуальных пользователей из 125 стран мира.
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) – это национальная
информационно-аналитическая система, аккумулирующая на сегодняшний
день данные более чем о 700 000 российских ученых, более 6 миллионов их
публикаций более чем из 4500 российских журналов. В основе системы ле-
жит библиографическая реферативная база данных, в которой индексируют-
ся статьи в российских научных журналах, доклады на конференциях, моно-
графии, учебные пособия, патенты, диссертации. База содержит сведения о
выходных данных, авторах публикаций, местах их работы, ключевых словах
и предметных областях, а также аннотации и пристатейные списки литерату-
ры. Хронологический охват системы – с 2005 г. по настоящий день, по мно-
гим источникам глубина архивов больше. Ежегодно в РИНЦ добавляется бо-
лее миллиона публикаций российских ученых.
Можно сказать, что сейчас РИНЦ достаточно полно и объективно отра-
жает публикационную активность большинства российских авторов и науч-
ных организаций – правда, эта система несвободна от многих недостатков,
свойственных такого рода базам. Специалисты из Высшей школы экономи-
ки, сравнивая различные наукометрические базы, делают вывод о том, что
«РИНЦ – уникальная и богатейшая база публикаций, значение которой для
российской науки трудно переоценить, но подходит она, прежде всего, для
поиска научной литературы и осторожной академической наукометрии, а
не для оценки и управления R&D» [Стерлигов, Трофимов 2016]. Отметим и
сделанное авторами предупреждение о том, что в результате вульгарного и
некорректного применения наукометрии к ней быстро растет недоверие –
в первую очередь у тех, кто является объектом наукометрической оценки.
Важными характеристиками РИНЦ, подходящими для целей нашего ис-
следования, являются бесплатность и доступность базы, широкая представ-
ленность журналов и изданий, позиционирующих себя как научные, наличие
среди отраслей наук такой рубрики, как «Политика. Политические науки», и
возможность для зарегистрированных пользователей соотнести себя как уче-
ного с этой категорией.
Таким образом, в нашем анализе мы будем учитывать ученых, которые
занимаются политической наукой и зарегистрированы в РИНЦ. Это впол-
не соответствует известному принципу мировой науки: Publish or Perish, то
есть, чтобы считаться ученым, надо публиковаться в научных журналах. Таким
ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
44
Публичная политика No2
Евстифеев Роман
образом, другие известные нам формы бытия политологов (консалтинг, ком-
ментарии в СМИ, участие в избирательной кампании в качестве политтехно-
лога, политический Public Relations и т. д .) в данном исследовании не учитыва-
ются, если только они не выражаются в научных публикациях.
Для нашего анализа мы возьмем такие параметры, доступные для ана-
лиза в РИНЦ, как количество ученых, выбравших рубрику «Политика. Поли-
тические науки» в качестве одного из идентификаторов в своей анкете, а так-
же указавших в своих данных местом проживания тот или иной субъект Рос-
сийской Федерации. Стоит отметить, что РИНЦ имеет собственный алго-
ритм соотнесения ученого с отраслью знаний, однако он непрозрачен и, как
показало изучение, в целом ряде случаев слишком строг в определении от-
расли науки, что приводит к казусам и противоречиям. Именно поэтому мы
решили использовать как основной критерий самоотнесение к отрасли нау-
ки, что, на наш взгляд, позволило дать более широкую картину политической
науки.
Таким образом, анализ строился следующим образом.
Во-первых, из базы данных РИНЦ мы выбирали тех исследователей, ко-
торые: а) самой системой РИНЦ отнесены к отрасли науки «Политика. Поли-
тические науки», б) в своих анкетах в базе РИНЦ указали принадлежность
к категории «Политика. Политические науки».
Во-вторых, база данных РИНЦ позволяет выбрать из анкет политологов го-
род их проживания. К сожалению, соотнесение города с субъектом РФ в РИНЦ
не предусмотрено, то есть эту процедуру приходится выполнять вручную.
Дело усложняется еще и тем, что данный параметр не всегда однозначен.
В РИНЦ есть случаи, когда ученые указывают местом проживания город, рас-
положенный в одном регионе, а местом их работы является учреждение об-
разования или науки, находящееся в городах других регионов. Такие ситуа-
ции в нашем анализе мы игнорировали и отдавали предпочтение территори-
альной самоидентификации авторов.
В итоге мы получили следующие результаты, выраженные в табличной
форме и визуализированные на карте РФ (табл. 1, рис. 1).
Всего в системе РИНЦ оказалось зарегистрировано следующее количе-
ство ученых, выбравших в своей анкете рубрику «Политика. Политические
науки», – 8171. Отметим, что пилотный анализ, выполнявшийся автором
в августе 2016 г., дал цифру в 7234 ученых, то есть за десять месяцев число
ученых-политологов увеличилось, по данным РИНЦ, почти на 1000 человек
(на 13%).
Интерпретация полученных статистических данных в рамках настоя-
щей статьи производилась по специально выделенному параметру «Реги-
он проживания исследователя». В результате мы получили картину, в которой
45
распределение политологов по регионам оказалось очень неравномерным
(табл. 1). Статистические данные, обработанные методом кластеризации,
представлены в данной статье в визуализированном картографическом виде
(рис. 1).
Результаты кластеризации позволяют сгруппировать регионы в пять не-
равномерных кластеров.
Вне конкуренции по количеству ученых-политологов оказались два субъ-
екта Федерации – Москва и Санкт-Петерург (3736 и 751 человек, на карте
выделены черным цветом).
Второй кластер составили регионы, в которых количество политологов
составляет от 100 и выше (темно-серый цвет).
Третий кластер – от 30 до 100 (текстура).
Четвертый кластер – от 10 до 30 (светло-серый цвет).
Пятый кластер – меньше 10 политологов (белый цвет).
Таким образом, наш анализ позволяет наглядно увидеть неравномер-
ность развития политической науки в регионах.
При этом центрами роста (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) мож-
но назвать три географические зоны – европейский юг России, Поволжская
зона, Дальневосточная зона. Зонами критического развития политической на-
уки являются в основном окраинные регионы России.
Следует отметить, что структура и построение наукометрической базы
РИНЦ весьма затрудняет работу по отбору необходимых данных по отдель-
ным параметрам, в результате чего исследователь вынужден проводить вы-
борку и соотнесение данных в ручном режиме. В связи с этим перспективы
наукометрического мониторинга состояния российской политической науки
пока недостаточно ясны, так как требуют дополнительных ресурсов и больших
усилий по отбору необходимых данных.
Представляется, что дальнейшие исследования в указанном направле-
нии целесообразно было бы развивать в рамках деятельности Российской ас-
социации политической науки, используя возможности РИНЦ и других науко-
метрических баз. При этом полагаем, что для полноценного анализа развития
политической науки и разработки критериев и показателей развития и про-
гноза необходимо создание собственной оригинальной модели, учитываю-
щей как количественные, так и качественные показатели. Стратегия создания
такой модели могла бы включать следующие шаги:
1. Использование методологии Big Data, в том числе создание баз дан-
ных по ученым-политологам, научным журналам, проектам по НИР, использо-
вание статистических данных и технологий визуализации данных.
2. Изучение взаимосвязи между развитием политической науки и поли-
тическим развитием региона.
ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
46
Публичная политика No2
Евстифеев Роман
3. Формирование научных основ научной политики в России и в реги-
онах, включая выработку стратегии, целей и направлений научной политики
в части развития политической науки.
Литература
Евстифеев Р.В . 2016. Развитие политической науки в регионах России в
условиях российского федерализма: опыт наукометрического анализа. – Рос-
сия в условиях новой политической реальности: стратегия и методы развития.
Материалы Всероссийской научной конференции РАПН, Москва, РАНХиГС
при Президенте РФ, 25–26 ноября 2016 г. С . 102–105.
Идеи и числа. 2016. Основания и критерии оценки результативности фи-
лософских и социогуманитарных исследований. М.: Прогресс-Традиция. 272 c.
Карягин М.Е., С унгуров А.Ю . Современное российское политологическое
сообщество – первые шаги к анализу. – Полис. 2016. No 2. С . 8–20.
Стерлигов И. , Трофимов В. 2016. Наукометрический минимум для уче-
ного. Возможности и ограничения идентификационных баз. URL: https://
okna.hse.ru/news/160270181.html (дата обращения 20.05.2017).
The science of science policy: a handbook / Edited by Kaye Husbands Fealing.
Stanford, California. 2011.
47
Таблица 1. Количество ученых, занимающихся политической наукой,
в разрезе регионов (по данным РИНЦ, май 2017 г.)
No
Субъект Федерации
Количество ученых,
выбравших для себя в
РИНЦ категорию «Политика.
Политические науки»
(в порядке убывания)
1 г. Москва
3736
2 г. Санкт-Петербург
751
3 Ростовская область
245
4 Саратовская область
199
5 Свердловская область
177
6 Нижегородская область
176
7 Краснодарский край
170
8 Республика Башкортостан
154
9 Республика Татарстан
153
10 Приморский край
132
11 Ставропольский край
127
12 Московская область
126
13 Волгоградская область
116
14 Новосибирская область
94
15 Пермский край
77
16 Забайкальский край
70
17 Республика Дагестан
68
18 Иркутская область
66
19 Кемеровская область
66
20 Республика Крым
65
21 Хабаровский край
63
22 Орловская область
61
23 Челябинская область
61
24 Томская область
60
25 Алтайский край
53
ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
48
Публичная политика No2
Евстифеев Роман
26 Астраханская область
52
27 Тюменская область
51
28 Омская область
50
29 Самарская область
49
30 Республика Бурятия
48
31 Тамбовская область
48
32 Воронежская область
44
33 Оренбургская область
41
34 Красноярский край
38
35 Республика Мордовия
38
36 Тульская область
36
37 Ярославская область
32
38 Республика Северная Осетия –
Алания
29
39 Калининградская область
28
40 Архангельская область
26
41 Белгородская область
26
42 Ивановская область
24
43 Курская область
23
44 Республика Коми
22
45 Ульяновская область
22
46 Пензенская область
21
47 Республика Карелия
20
48 Рязанская область
20
49 Амурская область
18
50 Кировская область
18
51 Республика Саха (Якутия)
18
52 Тверская область
18
53 Чувашская Республика
18
54 Республика Адыгея
16
55 Удмуртская Республика
16
56 г. Севастополь
15
49
57 Вологодская область
13
58 Кабардино-Балкарская Республика
13
59 Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра
13
60 Брянская область
11
61 Смоленская область
11
62 Чеченская Республика
11
63 Владимирская область
10
64 Карачаево-Черкесская Республика
10
65 Мурманская область
10
66 Ленинградская область
8
67 Республика Ингушетия
8
68 Республика Калмыкия
8
69 Липецкая область
6
70 Псковская область
6
71 Республика Хакасия
6
72 Калужская область
5
73 Камчатский край
5
74 Костромская область
5
75 Курганская область
5
76 Магаданская область
3
77 Республика Марий Эл
3
78 Ямало-Ненецкий автономный округ
3
79 Еврейская автономная область
2
80 Республика Алтай
2
81 Сахалинская область
2
82 Новгородская область
1
83 Ненецкий автономный округ
0
84 Республика Тыва
0
85 Чукотский автономный округ
0
Всего
8171
ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
50
Публичная политика No2
Евстифеев Роман
Рис. 1. Количество ученых, занимающихся политической наукой, в раз-
резе регионов (по данным РИНЦ, май 2017 г.)
51
ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Анализ визуальной
коммуникации
уполномоченных по правам
человека в регионах России1
1
Статья написана на основе диссертации автора на получение степени кандидата социологиче-
ских наук и была представлена в качестве стендового доклада на Российском социологическом кон-
грессе в г. Екатеринбурге в октябре 2016 г.
Барандова Татьяна
Аннотация
Несмотря на закрепление в Конституции
прав человека, визуальные проявления коммуни-
кации государственных правозащитных институ-
тов остаются инерционными. Соционормативная
система регуляции в обществе допускает наруше-
ния прав, связанных и с биологическими основа-
ниями (раса, возраст, пол, здоровье), и с характе-
ристиками социального положения (этничность,
нахождение в пенитенциарной системе и пр.) ,
на фоне отсутствия специализированных анти-
дискриминационных механизмов, даже несмо-
тря на создание в дизайне органов управления го-
сударственных правозащитных учреждений. При
этом и в социальном, и в теоретическом аспектах
важную роль играют визуально-символические
практики коммуникации этих агентов в регионах
страны, определяя роль уполномоченных в социо-
культурном контексте российского общества.
Ключевые слова: Омбудсмен (Упол-
номоченный по правам человека), дискри-
минация, визуальная политология, политиче-
ская коммуникация, организационная культура,
дискурс-анализ
Барандова
Татьяна Леонидовна,
кандидат социологических
наук НИУ ВШЭ –
Санкт-Петербург,
доцент департамента
прикладной политологии.
Для связи с автором:
tbarandova@yandex.ru
52
Публичная политика No2
Abstract
Despite the inclusion in the Constitution of
Russian Federation human rights and democratic
citizenship as the foundation of the post-Soviet
welfare state principles, the visual manifestation
in communications of national human rights
protection institutions and their organizational
culture remains inertial. Socio-normative system of
regulation in society allows the violation of rights,
which associated both with biological grounds
(race, age, gender, health), and with characteristics
of the social position (ethnicity, nationality, being
a migrant, being in the penitentiary system,
medical and other closed institutions, belonging
to minorities and risk-groups). Specifically at the
situation of the specialized anti-discrimination
mechanisms absence, even though the creation
in the state institutional design the national
human rights protection offices and their activities
for legal education of the population. Both, in
social and theoretical aspects, an important role
play communicative visually-symbolic practices
of these agents in regions, defining the role of
regional Commissioners for human rights in the
socio-cultural context of Russian society.
Keywords: Ombudsman (Commissioner
for human rights), discrimination, visual political
science, political communication, organizational
culture, discourse analysis
Analysis of Visual Communication
of the Commissioners for Human
Rights in Regions of Russia
Barandova T. L .
Barandova
Tatiana Leonidovna,
Associate professor, Department for
Applied Political Studies at the
National
Research University Higher School
of Economics – Saint Petersburg.
To contact the author:
tbarandova@yandex.ru
Барандова Татьяна
53
ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Неотъемлемыми составляющими и ориентирами для развития правовой
культуры современного цивилизованного общества выступают международ-
ные программы ООН в сфере гражданского образования и обучения правам
человека с расширением доступа населения к информации, включая интер-
нет. Российская Федерация присоединилась к основным международным до-
кументам, приняла обязательства по достижению социальной справедливо-
сти, развитию социальной сплоченности, преодолению неравенств, поддерж-
ке и инклюзии уязвимых групп населения.
Гражданская правозащитная культура требует целенаправленной дея-
тельности общественных и государственных институтов, к которым относит-
ся Омбудсмен и российский аналог – Уполномоченный по правам человека
в регионах (далее – УПЧ и/или РУПЧ). Его функции по защите прав, реаби-
литации пострадавших и инклюзии уязвимых групп населения включают пол-
номочия для работы по развитию правового сознания, формированию граж-
данской позиции социальных групп, улучшая их положение и способствуя со-
циальной интеграции. Однако недостаточный уровень гражданской культуры
и практик недискриминационного характера в деятельности самой организа-
ции может воздействовать негативно. Социокультурные техники, включающие
использование визуальных форм коммуникации и символического дискурса,
как и сами государственные правозащитные структуры, являются инновацион-
ными в коммуникационной культуре российского общества и практиках аген-
тов социальной политики. Тем не менее современные процессы социализа-
ции проходят при влиянии массмедиа, переполненных визуальными знака-
ми, активно воздействующими на формирование ценностей. Очевидна свое-
временность задачи изучения их визуальных социальных коммуникаций и
гражданских правозащитных практик, расширения инструментария аналити-
ческой рефлексии для повышения квалификации их сотрудников, внедрения
новых (современных) социокультурных технологий работы с населением.
Цель статьи: на основе проведенного исследования выявить характер
правозащитных практик в визуальном дискурсе российских региональных
Уполномоченных по правам человека. Исходная гипотеза заключалась в том,
что социально-культурные и визуальные дискурсивные практики РУПЧ зави-
сят от комплекса факторов, включающих уровень их профессиональной куль-
туры, кадрового обеспечения организации, социокультурных особенностей
региона, вовлеченности структур гражданского общества, профессиональной
биографии и стратифицирующих показателей уполномоченных: возраст, пол,
образование, опыт общественной работы.
Эмпирическую базу составили результаты лонгитюдного авторского на-
блюдения развития становления РУПЧ, а также выполненного анализа эле-
ментов визуальных коммуникаций в качественно-количественном подходе
54
Публичная политика No2
с использованием смешанных методик критических дискурсивных исследо-
ваний с пошаговым анализом данных, собранных с выделением показателей
(предикторов и кодов) для последующего сбора и обработки материалов,
проведенных посредством сплошного (скринингового) обзора веб-сайтов
РУПЧ. Для интерпретации разработана авторская модель с использованием
дескриптивных методов анализа выявленных элементов визуального мате-
риала в коммуникациях. Методологически исследование осуществлялось по
следующим направлениям:
1) методом структурного контент-анализа изучены тексты Ежегодных до-
кладов за 2007 г. (N = 42, 2009), определившие фокус дальнейшего поис-
ка для кодирования, а методом качественного анализа содержания изучены
Специальные доклады по правовому просвещению за 2005–2013 гг. (N = 3,
2013) и печатные материалы (N = 8, 2013), выявлены практики для уточне-
ния инструментария;
2) проведен сплошной (скрининговый) обзор контента веб-сайтов на
сентябрь 2015 г. (N = 63, 2015), скомпонованы выборки для гендерного ана-
лиза (N = 82) и «коллективного портрета» (N = 63), а также по наличию визу-
альных социальных коммуникаций;
3) методом статистического распределения данных проведена их груп-
пировка по тематическим кластерам, и с помощью различных методик в за-
висимости от характера и типа материала произведены их изучение, дескрип-
тивное изложение и интерпретация:
а) социокультурный анализ использования официальной символики
в оформлении сайтов (N=63, 2015) в логике критических исследований ре-
презентации ценностей, идентификации, позиционирования;
б) персональная презентация на фотопортретах (N = 57, 2015) проа-
нализирована с помощью структурно-семиотического подхода;
в) визуальные репрезентации социальных проблем и нарушений прав
человека исследованы на основе статических визуальных текстов в оформле-
нии материалов (N = 27, 2015) с применением структурной матрицы социо-
культурного фокусированного тематического анализа репрезентаций, выявле-
ны уязвимые группы, определены дискриминирующие их аспекты.
В качестве теоретических оснований для наиболее полного анализа дис-
курса визуальной культуры представляется важным применить фундаменталь-
ные социологические теории, обладающие релевантной методологией. Инте-
грация структурно-функционистского, социально-конструктивистского, нео-
институциального и интерпретативного подходов может помочь выявить куль-
турные основания репрезентации господства и власти, производства социаль-
ных неравенств на основе гендера, расы, возраста, класса, этничности, куль-
турных идентичностей и других, которые являются ключевыми в рефлексиях
Барандова Татьяна
55
современной социальной теории [Йоас, Кнёбль 2014]2
. В качестве основного
определен концепт «власть», который вслед за С. Льюксом [Льюкс 2010] мож-
но осмысливать в теоретическом ракурсе и изучать на эмпирическом уровне.
Причиной служит то, что «от нашего понимания власти зависит, сколько вла-
сти мы видим в социальном пространстве и где мы ее локализуем» [Там же:
23]. Размышления о характере современной власти детерминированы пони-
манием того, что она осуществляется посредством приведения масс к состоя-
нию добровольного психологического «согласия» с (классовым) господством
через культуру и идеологию [Грамши 1980; Altshusser 1971]. Ч . Тилли зада-
вался вопросом о том, почему подчиненные группы, чьи интересы последо-
вательно ущемляются, соглашаются с таким положением, а не сопротивляют-
ся ему [Tilly 1991]. М. Фуко много размышлял об ответе на вопрос о том, ка-
кие формы принимает власть и какие методы и практики применяются для
обеспечения господства, которое он выявил «везде» – в частности, в аспек-
тах социального взаимодействия и в дискурсивной сфере [Фуко 2002; Фуко
2006]. Наследие М. Фуко важно для исследования, так как он изучал дискур-
сивные формации, включающие способы восприятия и классификационно-
го разделения в пространстве социальной жизни, утверждая, что любое раз-
граничение на «нормальное» и «ненормальное» находится в зависимости от
распределения «символической собственности», подразумевающей права со-
циальных групп «говорить или высказываться», сконцентрированные в «оча-
гах власти» и лежащие в основе всех теорий и практик, осознаваемых в кон-
тексте исторического периода [Фуко 2004]. Созданная им концепция дискур-
са как основания взаимоотношений языка, социальной реальности и опыта,
а также поздние работы о биополитике в Европе (с выходящими на главный
план анализа отношениями власти и знания) использованы в нашей аналити-
ческой модели.
Значим и вклад Дж. Ролза, уделявшего внимание и роли институтов, и
традиционно нормативным вопросам справедливости, равенства и прав че-
ловека. Он выразил мнение о том, что лишь при условии справедливых по-
литических институтов может выстраиваться справедливое общество, отметив
их влияние на развитие интересов социальных групп [Ролз 2010].
Э. Гидденс, рассматривая особенности современного социального разви-
тия с позиций прерывистой интерпретации, подчеркнул уникальность и отличие
его социальных процессов и институтов от традиционных. В его теории струк-
турации акцент поставлен на реальность альтернативных возможностей буду-
щего, зависящего от выбора действующих в настоящем агентов [Гидденс 2011].
2
Позволим себе не останавливаться на их детальном перечислении, поскольку наиболее зна-
чимые подробно освещены данными авторами. Нами были выделены только те аспекты и авторы,
которые имеют принципиальное значение для достижения целей этой работы.
ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
56
Публичная политика No2
Переход общества к постматериальным ценностям сопровождается снижени-
ем преклонения перед государственной властью, характеризуется толерантно-
стью к меньшинствам, а в обществах с материальными ограничениями, нао-
борот, распространены ксенофобия и нетерпимость, культивируются неравен-
ства [Инглхарт 1996: 21].
В связи с развитием изучения символической тематики изменилась ме-
тодология исследований, сместившись в сторону социокультурного анализа
с решающей ролью исследователя как посредника и участника, а не наблю-
дателя. Социокультурный анализ нацелен на объяснение значений, содержа-
щихся в символических формах, а не только на описание изменений и класси-
фикацию зависимостей. В теории социального конструктивизма [Бергер, Лук-
ман 1995] целью исследователей становятся правила практического взаимо-
действия в сообществе или организации, выявление механизмов конструиро-
вания реальности, механизмов повседневной типизации, необходимых для
наличия понимания между партнерами по взаимодействию и коммуникации.
Социальные антропологи отмечают, что образцы практик социальных
взаимодействий и символических коммуникаций могут существенно отли-
чаться у разных культурных групп, поскольку оформляются под влиянием
определенной системы (превалирующей ценностной основы массового со-
знания и правовой культуры). Но они обладают и потенциалом для измене-
ний образцов социальных отношений, правил и установлений социально-
го порядка [Ярская-Смирнова, Романов, Михель 2004]. В частности, многие
исследователи демонстрируют значимость гендерного анализа социокультур-
ных норм, поскольку и пол, и сексуальность человека могут в разных культу-
рах использоваться для узурпации власти или как инструменты социального
контроля, поскольку отношения полов в них определяются как одна из форм
властных отношений, структурирующих все сферы жизни человека. Феми-
нистская идея заключается в необходимости изучения женских ролей, убеж-
дений и практик в обществе, а гендерная расширяет эти группы без привяз-
ки к морфологическому (биологическому) полу человека, но концентрирует-
ся на социокультурном, то есть тех смыслах и ролях, которые общество при-
писывает различиям по физиологическому и психологическому полу. Так, фе-
министская мысль полагает, что женщины заключены в дихотомические струк-
туры по отношению к мужчинам, в которых они и визуально незаметны, не
представлены либо фигурируют как обесцененные, молчаливые категории
[Jordanova 1989; Здравомыслова, Темкина 2000], а также работы Э. Саи-
да и постмодернистов, показавших наличие и других социально исключен-
ных групп (например, не белых, не среднего класса, не юридических граждан
и т. п.) [Саид 2012; Said 2003]. Направление социокультурного анализа или
культурной критики утвердилось в феминистской мысли, откуда заимствовано
Барандова Татьяна
57
ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
как необходимый компонент гендерных исследований. Его главное отличие от
традиционной социологии заключается в суммировании методов и подходов
разных гуманитарных дисциплин к анализу культурных стереотипов патриар-
хатного сознания.
По мнению Л.Г
.
Ионина, само развитие социологической теории ис-
ключения возможно только при условии общественного дискурса равенства
[Ионин 1996: 53–55]. Он отмечает, что общество существует только в культур-
ной репрезентации, а культура репрезентирует генеральное определение со-
циальной ситуации в представлениях людей, которые могут либо активно раз-
делять, либо пассивно принимать ее формы [Там же: 76]. При опоре на та-
кое понимание определяются аналитические проблемы, которые ставит пе-
ред собой исследователь репрезентации, в частности, гендерных отношений,
относя к ним социальное определение идентичности: кто допущен, а кто вы-
теснен на периферию или за пределы социальной приемлемости; каким об-
разом в репрезентациях оформляются различия в социальных сферах; как и с
помощью каких выразительных средств очерчиваются границы между группа-
ми, как сравниваются между собой и характеризуются люди в отношении друг
к другу? [Ярская-Смирнова, Романов, Михель 2004: 130].
В ХХ в. человечество пережило катастрофы в результате господства тота-
литарных идеологий, что выразилось в практиках дегуманизации целых сег-
ментов населения, среди которых жертвы холокоста и ненависти человека к че-
ловеку на основании измышлений о «различиях». После двух мировых войн
цивилизация осознала необходимость ограничивать возможности авторитар-
ных лидеров для массовой дискриминации и уничтожения людей, разработав
право прав человека. Несмотря на критику концепта прав человека за «универ-
сализм» без учета стратификационных характеристик (пол, гендер, класс, раса,
этничность, принадлежность к социальной страте, уровень образования, до-
ход, территория проживания), международная система развивается, расши-
ряется понимание ее фундаментального значения для духовной культуры в ка-
честве ориентира для развития правовых культур национальных государств,
гражданственности глобализированного общества. Однозначного определе-
ния института защиты прав и свобод человека (правозащитного механизма)
не прослеживается. В международном дискурсе институциальным механиз-
мом защиты прав человека является Омбудсмен, определяемый как «достой-
ное доверия независимое лицо, уполномоченное парламентом на охрану прав
отдельных граждан и осуществляющее опосредованный парламентский кон-
троль в форме обширного надзора за всеми государственными должностями»
[Бойцова 1996: 408]. Дискурсивно-символическое измерение социокультур-
ных практик государственных правозащитных организаций в России будет рас-
смотрено ниже в аспектах анализа визуальных коммуникаций.
58
Публичная политика No2
Для интегрирования описанных подходов социальной теории и перечис-
ленных концептов неоценимый вклад вносят идеи Дж. Александера, фокуси-
рующегося на выработке новых подходов к интерпретации роли смыслов в со-
циальной жизни [Кравченко 2010; Масловская 2010]. Суть своего синтезиро-
ванного подхода Дж. Александер определял в том, чтобы находить и изучить
«культуральные структуры», то есть «внутренние, латентные, как правило, не-
осознаваемые механизмы деятельности людей, сформированные в контексте
относительно устойчивых смыслов социальной жизни» [Кравченко 2010: 14],
полагая, что эти смыслы являются и внешними, и внутренними у акторов. Кро-
ме того, они структурированы и производятся социально даже при условии,
что остаются невидимыми. Именно в том, чтобы сделать их видимыми и на-
учить людей их видеть, и заключается цель его исследований.
Дискурсивно-символическое измерение правозащитных практик госу-
дарственных организаций в регионах применено нами с привлечением визу-
альной методологии при социокультурном анализе практик и для того, чтобы
рассматривать выраженную визуальным образом коммуникацию региональ-
ных уполномоченных для анализа их практической деятельности:
1) как организации, призванной олицетворять и имплементировать в со-
циальные практики ценности демократической гражданственности, включаю-
щей гражданские добродетели современности и прав человека;
2) как государственного российского института защиты прав человека;
3) как структуры, осуществляющей функции, связанные с развитием
гражданско-правовой культуры населения;
4) как элемента социальной политики, на практическом уровне работа-
ющего над предотвращением или исправлением ситуации в отношении дис-
криминируемых групп населения и социальных неравенств.
Каждое из перечисленных направлений включает в себя визуальные ком-
поненты, способные репрезентировать через дискурс как организационно-
профессиональную культуру офиса и его реакции на наличествующие в об-
ществе социальные проблемы, так и транслируемые по отношению к соци-
альным группам идеологически окрашенные коммуникативные стратегии, со -
держащие в себе отношения власти. Данное исследование носит прикладной
характер и осуществлено в русле парадигмы смешанных методов [Tashakkori,
Teddlie 2010: 95–117]. Прежде чем приступить к аналитическим процедурам
с визуальными компонентами, необходимо было:
– на основе изучения форм деятельности РУПЧ по гражданскому образо-
ванию и правовому просвещению выделить показатели для анализа;
–
охарактеризовать взаимосвязи теоретико-методологических основ для
создания рамок прикладного исследования визуальных текстов;
–
определить методику сбора данных и обосновать выборки;
Барандова Татьяна
59
ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
–
определить структурные элементы и коды семиотического анализа;
–
разработать инструментарий (для сбора и анализа данных);
–
собрать и систематизировать данные (через веб-контент и структурный
контент-анализ материалов);
–
провести с сегментами выявленных данных необходимые процедуры кри-
тического дискурсивного исследования;
–
визуализировать полученные количественными методами результаты;
–
описать результаты, полученные при качественной интерпретации смысло-
вых компонентов.
Перед проведением анализа визуальных компонентов деятельности учреж-
дения необходимо было уделить внимание в целом перспективе формирования
практик и форм деятельности РУПЧ в сфере гражданско-правового образования
и правового просвещения, чтобы выявить показатели для создания кодов3 социо-
культурного анализа эмпирического материала. В ряде регионов, где создание и
функционирование института было поддержано со стороны гражданского обще-
ства, а у государственных структур имеется понимание значимости его задач, упол-
номоченными уделяется внимание реализации системного правового просвеще-
ния. Ими инициируются региональные программы образования, базирующиеся
на оценке/измерении (распознавания) нарушений и дискриминации по любому
признаку в политической, экономической и социально-культурной сферах.
Методический инструментарий для визуального исследования используется,
чтобы получить информацию не только об изображенной реальности, но и о соз-
дателях изображения. Общие методы визуального исследования делятся на са-
мостоятельные категории [Соболева 2014: 16]: 1) предназначенные для анализа
содержания (контента) визуального текста, что помогает выявить и описать пара-
метры организации текста, реализацию в его структуре социальных и культурных
смыслов; 2) предназначенные для выявления и анализа контекста для визуаль-
ных данных, базирующиеся преимущественно на участвующих и опросных мето-
диках, интервью, когда изучается восприятие текста потребительскими группами
или условия его создания [Там же]. Второе направление в данном исследовании
не рассматривается, поскольку нас интересуют именно проявления социокультур-
ных смыслов в уже существующем дискурсе института, который он формирует или
транслирует посредством визуального материала, размещенного сотрудниками
3
Отметим, что нами заимствована сама идея разработки кодов у Дж. Александера, но отвергну-
та «бинарная оппозиционность» его модели, поскольку она задает, на наш взгляд, излишне жесткие
рамки анализа. Мы полагаем, что спектр проявлений дискриминации шире бинарных кодов и мо-
жет располагать «репертуаром практик» со множеством оттенков, которые зависят от многослойно-
сти общественного сознания, что особо проявляется в постсоветской ситуации, когда задействуются
культурные коды из разных исторических эпох, поддержанных наличием живущих поколений и сим-
волами, созданными или закрепленными конструированием социального времени нескольких по-
литических режимов. Нами разработаны преимущественно «позитивные» (ожидаемые) коды, а их
отсутствие в визуальных проявлениях признается «дискриминационным» или умалчиваемым.
60
Публичная политика No2
на сайтах. В комплексном подходе А. Сарны некоторые теоретические традиции
анализа визуальных текстов методически объединены в разборе изображения как
визуального сообщения, адекватного объекту в соответствии с репрезентацией
(внешней реальностью) и внутренним смыслом текста [Сарна 2009].
П. Штомпка предложил иной способ анализа содержания визуальных обра-
зов (на примере фотографий) с использованием метода контент-анализа, приме-
няемый при исследовании не одиночных фотографий, а серии (у нас – кластера),
что позволяет найти и описать регулярные зависимости между общественными
явлениями. Нам представляется возможным использовать контент-анализ с целью
сбора эмпирических данных для сравнительного изучения в кросс-региональном
варианте. Таким образом, можно определить визуальные элементы, которые яв-
ляются существенными с позиции обозначенной проблемы или исследователь-
ского вопроса, количество их появления в отобранной коллекции фотоснимков,
а потом провести интерпретацию количественных результатов. П . Штомпкой раз-
работаны этапы реализации такого анализа: во-первых, определение и формули-
ровка исследовательских задач; во-вторых, выбор объекта, способного предоста-
вить визуальный материал по интересующей проблеме; в-третьих, отбор сним-
ков, на которых зафиксирован выбранный объект; в-четвертых, необходим про-
токол кодирования текста с вычленением значимых элементов образа, которым
присваиваются категории (обладающие двумя характеристиками: исчерпываю-
щий охват признанных важными элементов и разъединительность, то есть воз-
можность проводить идентификацию каждого элемента, без четких границ между
ними); в-пятых , проведение кодирования снимков с присваиванием установлен-
ных категорий каждому; в-шестых, определение частоты появления каждой из ка-
тегорий в выборке с количественных позиций (может быть определением наличия
элемента или включать процедуру подсчета появлений либо устанавливать опи-
сание появления определенной черты или ее противоположности); в-седьмых,
формулирование выводов через описание, эмпирические и теоретические обоб-
щения, вытекающие из проанализированного материала [Штомпка 2010: 48–54].
Важно отметить, что визуальные практики относятся и к средствам само-
идентификации субъектов коммуникации через конструирование образов в каче-
стве обозначения персональных особенностей самовосприятия и принадлежно-
сти к социальному сообществу, что особо проявляется в фотографии. За рамка-
ми данного исследования мы оставляем все виды фотографического поведения,
кроме позирования или выбора фото для помещения в канал внешней коммуни-
кации (веб-сайт уполномоченного), что призвано отразить или создать «образ»
не только персоны, занимающей позицию, но образ этого персонализированно-
го института.
В результате социокультурного анализа коммуникаций РУПЧ через их сайты
получены следующие распределения и выводы.
Барандова Татьяна
61
Ценностные компоненты демократической гражданственности в недо-
статочной степени присутствуют в деятельности государственного правоза-
щитного учреждения в России, несмотря на то что его происхождение и функ-
ционирование связаны с процессом интернационализации культуры прав че-
ловека. В условиях современной ситуации в России, при отсутствии специали-
зированных (антидискриминационных) механизмов, призванных разрешать
социальные конфликты и восстанавливать права пострадавших, РУПЧ целесо-
образно перейти к модели деятельности, которая более результативно сможет
функционировать в сфере развития правовой культуры и социальной спло-
ченности через включение «гражданских правозащитных практик», осуще-
ствляющих защиту прав человека в формате общественного активизма и ори-
ентируясь на принципы современного демократического социального госу-
дарства.
Наиболее актуализированными «проблемными» направлениями, исходя
из анализа обращений и Специальных тематических докладов, в современном
российском обществе являются нарушения социально-экономических прав,
затрагивающие широкие слои населения (особенно по вопросам жилищно-
коммунального и медицинского обслуживания), а также нарушения прав кон-
кретных социальных групп, уязвимых по биополитическим основаниям (пе-
нитенциарные учреждения, закрытые медицинские учреждения, центры вре-
менного содержания мигрантов, выполнение репродуктивной функции жен-
щинами, жизнедеятельность людей с инвалидностью, пожилых людей), что
отражено на диаграмме 1.
Диаграмма 1. Специальные доклады (социальные группы > 1, N = 63)
ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
62
Публичная политика No2
Выявлено, что институт РУПЧ создает повышенные по сравнению с иными
органами власти возможности для женского политического участия. На осно-
ве подходов гендерных исследований можно полагать, что это связано как с
его маргинальной позицией в дизайне органов власти, поскольку он преиму-
щественно выполняет социальные функции, так и с признаком его более де-
мократической профессиональной культуры (данные приведены на диаграм-
мах 2–3).
Диаграмма 2. Гендерный состав РУПЧ (N=82, 1.10.2015)
Диаграмма 3. Возрастной состав в гендерном варианте (N=82)
Уполномоченный по правам человека, являясь инновационным для рос-
сийской правовой культуры (находясь на этапе идентификации), несет в себе
символическое значение «демократизации» государства и общества, а также
обладает полномочиями и возможностями по развитию репертуара практик
просветительской работы, но слабо включает в профессиональную повестку
аспекты разъяснительной деятельности по соблюдению и защите прав кон-
кретных дискриминируемых групп, способствования преодолению и смягче-
нию социальных неравенств, мало проводит недискриминационную визуали-
зацию социальных проблем, продвижение в культуру профессии и общества
гражданских правозащитных практик. Основными барьерами для внедрения
Барандова Татьяна
63
и осуществления гражданских правозащитных практик региональными упол-
номоченными, как показывает исследование, могут являться недостаточное
количество материально-технических ресурсов и (компетентных) сотрудни-
ков в аппарате, социокультурные особенности региона, недостаточные ком-
петенции уполномоченных и идеологическое воздействие риторики власти на
всех уровнях в современный период.
При сплошном (скрининговом) анализе сайтов выявлены и проанали-
зированы компонентные категории визуального дискурса уполномоченных.
К ним отнесены для оформления коммуникации через сайт учреждения: ис-
пользование официальной символики власти, официальная символика са-
мого учреждения, персональные портретные фото руководителя, элемен-
ты оформления информационно-просветительских продуктов и материалов,
практики видеосопровождения мероприятий и проектов (последнее не рас-
сматривается в рамках данной статьи, поскольку требует дополнительных ис-
следований). С использованием гендерного анализа составлен коллектив-
ный портрет РУПЧ: люди обоих полов (преимущественно мужчины) старше-
го среднего возраста (50–60 лет), социализированные в советское время,
имеющие профессиональные достижения, обладают высшим юридическим
образованием, часто дополнительно к первому техническому у мужчин или
социально-гуманитарному у женщин, благополучное семейное положение и
материальный достаток. Для «успеха» практик института значимы возраст, гу-
манитарное социально-педагогическое образование (приводится пример на
графике 1), опыт общественной работы и международных контактов.
График 1. Образование РУПЧ и визуальные практики (N=63)
ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
64
Публичная политика No2
Полученные результаты социокультурного анализа показывают, что у боль-
шинства уполномоченных в сфере политики организации и визуальной соци-
альной коммуникации существует нерефлексивное использование символов и
визуальных элементов, что может порождать сложности, проявленные в пози-
ционировании учреждения, презентации культуры профессиональной группы
и персональной идентичности. Можно заключить, что официальная символи-
ка преимущественно подчеркивает региональные маркеры, выстраивается по
типу «брэндинг региона», а не направления защиты прав человека, социаль-
ной политики, общечеловеческих гуманитарных ценностей (график 2).
График 2. Символы и образы в оформлении шапки сайта (N=63)
Выявлено, что женщины более склонны использовать в оформлении сай-
тов «неформальные» визуальные элементы, включают в шапку фото социаль-
ных групп или комбинированные символические сообщения (коллажи, гра-
фики). Мужчины ограничиваются официальными эмблемами или апеллируют
к государственным символам (флаг, герб), что отражено на диаграммах 5–6 .
Диаграмма 5. Фото РУПЧ на сайте (N = 63)
Барандова Татьяна
65
Диаграмма 6. Гендерные различия в фотообразе РУПЧ (N = 57)
Выявлены и дискриминирующие репрезентации в адрес социальных групп
и проблемных измерений, с которыми, исходя из функциональных особенно-
стей, уполномоченные призваны бороться. Выявленные проблемы: социокуль-
турная дискриминация и «невидимость» проблемных измерений нарушений
прав женщин, элементы «виктимизации» людей с ограниченными возможно-
стями и пожилой когорты, нерефлексивное к особенностям этнической культуры
заимствование «визуальных цитат» в эмблемах, «отталкивающий» маргиналь-
ные группы портретный образ, элементы классового превосходства, исключи-
тельно локальная идентификация без апелляций к международным «культурным
кодам», излишне подчеркнуты образы патриотизма монархически-имперского
толка, наличествует дискурс доминирования национально-этнических и религи-
озных приоритетов. Этос «правозащитного» и «гражданского» отчетливо не про-
явлен. Визуальные коммуникации РУПЧ содержат в себе целый ряд дискрими-
национных дискурсов (приведены в табл. 1).
Таблица 1
«Визуализация» дискриминации (N = 27)
Наиболее частые
дискриминационные коды
«Невидимые» группы,
«умалчиваемые» проблемы
Дети только с женщиной
Бездетные семьи и потребность
в ЭКО
Дети на фоне денежных знаков
Насилие в личных отношениях
Пожилые люди как нуждающиеся
Убийства (ради семейной/
родовой) чести
Пожилые люди одиноки (женщины)
Принуждение к браку
или деторождению
Только «проблемные» части тела
инвалидов
(Культурные) практики
членовредительства (девочек)
Беспомощность инвалидов
при передвижении
(Культурные) запреты
на медпомощь (женщинам)
Только живот беременной женщины Торговля людьми и органами
ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
66
Публичная политика No2
Женщина или девочка как жертва
Условия, подобные рабству
(особенно мигранты)
Экономически зависимая женщина
Расизм
Стереотипная сегрегация профессий
по полу
Ксенофобия
Мигранты «ходят строем»
под конвоем МВД
Работа на опасном производстве
Мигранты преимущественно
(азиатские) мужчины
Женская инвалидность (включая
не колясочную)
Заключенные «строем» при беседах
с РУПЧ
Множественная дискриминация
(включая этническую)
Заключенные только мужчины
Положение народа Рома (цыган)
Инвалиды только мужчины
и колясочники
Проблемы людей с редкими
заболеваниями (лекарства)
Только православные храмы
Военнослужащие (и инвалиды
военных событий)
Сельские поселения «в разрухе»
Гражданский протест (очень редко)
«Маленькие люди» в руках экспертов
Молодежные группы
и их социальные проблемы
Ветераны преимущественно мужчины «Бомжи» и беспризорные
Дорогая одежда при общении
с малообеспеченными
«Отсутствуют» пациенты закрытых
учреждений
Относительно выявленных динамических (видео) типов визуального
дискурса отметим лишь, что нами они обозначены как «информирующий» в
направлениях: «презентация персоны и деятельности» (информирование о
работе и достижениях) и «презентация социально значимой темы» (обозна-
чение их наличия). Он доминирует количественно, но выявлены три уникаль-
ные (в разных сегментах) практики визуальной гражданской правозащитной
коммуникации: две обозначим как «проблематизирующий», подразделяю-
щийся на «проблемы социума в объективе» (демонстрацию усложняющихся
общественно-политических отношений в определенный период времени и на
территории Республики Чечня) и «обличающий виновников поломанных су-
деб» (на примере конкретных историй правового нигилизма или безразличия
чиновников, разрушающих жизни в Ульяновской области). Третий обозначен
как «ресоциализирующий», в нем предпринята попытка обозначить (и инте-
грировать) указанные выше типы визуального дискурса и предложить вари-
ант конкретной помощи представителям социально уязвимых групп с исполь-
зованием социально-культурных технологий (Челябинская область).
Барандова Татьяна
67
Литература
Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по
социологии знания / пер. Е. Руткевич. – М.: Медиум, 1995.
Бойцова В.В. Служба защиты прав человека и гражданина. Мировой
опыт. М. , 1996. 408 с.
Гидденс Э. Последствия современности. М .: Праксис, 2011.
Грамши А. Избранные произведения. М.: Политиздат, 1980.
Здравомыслова Е., Темкина А. Введение. Феминистский перевод: текст,
автор, дискурс. – Хрестоматия феминистских текстов. СПб. , 2000.
Инглхарт Р. Меняющиеся ценности, экономическое развитие и полити-
ческие перемены. – Международный журнал социальных наук. 1996. No 12.
С. 6–32.
Йоас Х., Кнёбль В. Социальная теория. 20 вводных лекций / пер. с нем.
К.И . Тимофеевой. СПб.: Алетейя, 2014. 840 с.
Ионин Л.Г
.
Культура и социальная структура.
–
Социологические чтения.
Вып. 1. М.: Институт социологии РАН, 1996. C . 53–55.
Ионин Л.Г
. Социология культуры. М.: Логос, 1996.
Кравченко С.А. Культуральная социология Дж. Александера (генезис, по-
нятия, возможности инструментария. – СОЦИС. 2010. No 5. C . 13–22.
Льюкс С. Власть: Радикальный взгляд / пер. с англ. А.И . Кырлежева.
М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2010. 240 с.
Масловская Е.В. Эволюция западных концепций социологии права
и гражданской сферы. – СОЦИС. 2010. No 12. С. 70–79.
Ролз Д. Теория справедливости / пер. с англ., предисл. В.В. Целищева.
М.: Изд-во ЛКИ, 2010. 536 с.
Саид Э. Культура и империализм / пер. с англ. А.В. Говорунова. СПб.: Вла-
димир Даль, 2012.
Сарна А.Я. Образ и медиум: основные принципы и методы анализа ви-
зуальных текстов СМИ. – Теория и методы исследований социальной комму-
никации: сб. науч. тр. Вып. 2 / под ред. О .В. Терещенко. Минск: БГУ, 2009.
С. 119–132.
Соболева К.В . О методах анализа визуальных данных. – Актуальные во-
просы общественных наук: социология, политология, философия, история:
сборник статей по материалам XXXIII международной научно-практической
конференции (27.01.2014), г. Санкт-Петербург.
Фуко М. Интеллектуалы и власть. М .: Праксис, 2002. Ч . 1.
Фуко М. Интеллектуалы и власть. М .: Праксис, 2006. Ч . 2.
Фуко М. Ненормальные / пер. с фр. и послесл. А.В . Шестакова, предисл.
В.Ю. Быстрова. СПб.: Наука, 2004. 432 с.
ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
68
Публичная политика No2
Штомпка П. Визуальная социология. Фотография как метод исследова-
ния: учебник / пер. с польск. Н .В . Морозовой, авт. вступ. ст. Н.Е. Покровский.
2-е изд. М.: Логос, 2010.
Ярская-Смирнова Е.Р
., Романов П.В ., Михель Д.В . Социальная антрополо-
гия современности: теория, методология, методы, кейс-стади: Учеб. пособие.
Саратов: Научная книга, 2004. 335 с.
Altshusser L. Ideology and Ideological State Apparatuses. – Lenin and Philoso-
phy and Other Essays / trans. B. Brewster. London: New Left Books, 1971.
Jordanova L. Sexual visions: images of gender in science and medicine be-
tween the Eighteen and Twentieth Centuries. Hemel Hempstead: Harvester Wheat-
sheaf, 1989.
Said E. Orientalism. New York: Vintage Books, 2003.
Tashakkori A. , Teddlie Ch (ed). Sage Handbook of Mixed Methods in Social
and Behavioral Research. 2010.
Tilly Ch. Domination, Resistance, Compliance... Discourse – Sociological Forum.
1991.No6.P
. 593–602.
Барандова Татьяна
69
Российские региональные
политические режимы
в 1998–2002 гг.:
последствия реформы
законодательства о банкротстве
и акционерных обществах1
1
Статья подготовлена в результате проведения исследования (No 16-05-0059) в рамках Про-
граммы «Научный фонд Национального исследовательского университета “Высшая школа экономи-
ки” (НИУ ВШЭ)» в 2016 г. и с использованием средств субсидии на государственную поддержку ве-
дущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди
ведущих мировых научно-образовательных центров, выделенной НИУ ВШЭ.
Полозова Елена, Григорьев Иван
Полозова
Елена Александровна,
магистрант Европейского
университета
в Санкт-Петербурге.
Для связи с автором:
epolozova@eu.spb.ru
Григорьев
Иван Сергеевич,
старший преподаватель
Департамента прикладной
политологии НИУ ВШЭ –
Санкт-Петербург.
Для связи с автором:
igrigoriev@hse.ru
Аннотация
В разных регионах России установились доволь-
но разные политические режимы. Природа этих разли-
чий во многом уже изучена. Тем не менее один из значи-
мых аспектов данной проблемы – а именно, влияние на
региональную режимную вариацию масштабного пере-
распределения собственности, произошедшего в России
в 1998–2002 гг., – пока что избегал внимания исследо-
вателей. Мы восполняем этот пробел, конструируя базу
данных о политических и экономических характеристи-
ках российских регионов и исследуя на полученном ма-
териале связь между подверженностью регионов экс-
пансии федерального бизнеса в период 1998–2002 гг.
и политическими режимами, сложившимися в этих ре-
гионах впоследствии. Приход в регионы московских
финансово-промышленных групп оказывается значимым
предиктором последующей смены губернатора и демо-
кратизации регионального политического режима.
Ключевые слова: региональные режимы в Рос-
сии, бизнес и власть, банкротство, закон об акционерных
обществах
ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
70
Публичная политика No2
Полозова Елена, Григорьев Иван
Regional political regimes
in Russia in 1998–2002:
what difference did the bankruptcy
and joint-stock company regulation
reform make?
Abstract
Russian regional political regimes are
vastly different. The origins of this variation
have already been extensively studied.
However, one aspect of this problem
remained almost completely untouched
in the literature, namely the impact of the
1998–2002 redistribution of the business
property in the regions spurred by the 1995–
1998 bankruptcy and joint-stock company
regulation reforms. We address this issue by
constructing a dataset covering a number of
political and business-related characteristics
of the Russian regions. We analyze the data
to establish to what extent the regional
susceptibility to the entry of the Moscow-
based capital in the late 1990s influenced
the regime dynamics afterwards. Entry of
the national business groups into the regions
is found to be a strong predictor both of the
gubernatorial changeover and the higher level
of democracy in the regions.
Keywords: regional regimes in Russia,
state-business relations, bankruptcies, joint-
stock company regulation
Polozova E. A., Grigoriev I. S.
Polozova
Elena Aleksandrovna,
magister of
European University at Saint
Petersburg.
To contact the author:
polozova@eu.spb.ru
Grigoriev
Ivan Sergeyevich,
Senior teacher, Department for
Applied Political Studies at the
National
Research University Higher School
of Economics – Saint Petersburg.
To contact the author:
igrigoriev@hse.ru
71
Введение
Управление в Российской Федерации осуществляется за счет деления
территории на 85 субъектов и наличия трех уровней власти: федерального,
регионального и муниципального. Каждый регион в свою очередь обладает
собственными географическими и демографическими характеристиками, ко-
торые оказывают воздействие на экономическую и политическую жизнь субъ-
ектов Федерации. Конституция Российской Федерации закрепляет одинако-
вый правовой статус субъектов. Так, региональные законодательные орга-
ны имеют право принимать свои законы и иные нормативно-правовые акты.
Субъектам также разрешено иметь свои конституции и уставы. Однако, несмо-
тря на равное правовое положение, управление и деятельность в регионах
различаются.
Различаются, в частности, и региональные политические режимы. Имен-
но региональные режимные характеристики лежат в фокусе данного исследо-
вания. Интересующим нас временным отрезком будет являться период с 1998
по 2002 г. , когда, как мы показываем ниже, Россия пережила глубинное эко-
номическое переустройство: можно сказать, что в ходе консолидации регио-
нальных экономических активов в руках федеральных бизнес-групп в России
в этот период складывался единый рынок [Gluschenko 2003; Gluschenko 2006;
Berkowitz and DeJong 2001]. Между тем открытым остается вопрос о том, ка-
кое влияние данный процесс оказал на политику внутри регионов – и в част-
ности, на региональные политические режимы.
В данной статье мы даем ответ на этот вопрос. Для этого мы изучаем то,
как вариация в подверженности отдельных регионов экспансии федерально-
го бизнеса в период 1998–2002 гг. сказалась на сложившихся в регионах по-
литических режимах. Для этого мы собираем базу данных, позволяющих от-
ветить на данный вопрос с использованием статистического инструментария.
Точной датировкой отмеченный период обязан принятию в 1998 г. нового за-
конодательства о банкротствах, которое, как мы описываем ниже, стало ключе-
вым инструментом пересмотра итогов первой волны приватизации в регионах
и отъема доставшейся региональным экономическим агентам собственности
в пользу федеральных бизнес-групп.
Региональные режимы: от теории к практике
Изучению региональных политических режимов в России способство-
вали события начала 1990-х гг.: распад советской системы и строитель-
ство новой, рыночной. Реформировалась не только экономика, но и поли-
тическое устройство: Конституция РФ 1993 г. закрепила основные прин-
ципы государственного функционирования. В отношении региональной
структуры Конституция установила деление территории на восемьдесят
ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
72
Публичная политика No2
девять субъектов. Несмотря на одинаковый правовой статус административно-
территориальных единиц, управление в регионах различалось ввиду эко-
номических, социальных и политических особенностей. В результате Россия
1990-х гг. представляла собой «яркий пример расколотого политического
пространства, на котором складывались автономные режимы, развивавшиеся
в разных направлениях» [Баранов 2012: 63].
Ведутся споры о том, что представляет собой региональный политиче-
ский режим. В процессе изучения региональных режимов различные авторы
создают классификации, формируя ряд критериев для оценки и формализа-
ции структуры режимов. Так, одной из базовых классификационных схем яв-
ляется методологическая рамка М. Шугарта и Дж. Кэри, где за основу взяты
критерии, связанные с «контролем ассамблеи или главы региона над кабине-
том, а также возможностью сосуществования ассамблеи и кабинета в услови-
ях взаимного недоверия» [Гайворонский 2015: 22]. Еще одну попытку создать
более гибкий метод изучения режимов предприняли в своем исследовании
А. Кузьмин, Н . Дж. Мелвин и В. Нечаев, поставившие в центр политическую
конкуренцию между властью и оппозицией. Впрочем, как отмечает Ю. Гайво-
ронский, сами концепции, связанные с процессами демократизации, для опи-
сания и изучения региональных политических режимов в России могут быть
не вполне применимы, так как уже с начала 1990-х региональные режимы не
были демократическими [Гайворонский 2015: 22]. В то же время некоторые
авторы продолжают мыслить режимы в дихотомии понятий. Так, Р. Туровский
наряду с уже обсуждавшимся делением «демократия – авторитаризм» пред-
ложил использовать шкалы «консолидация – конкуренция» и «автономия – за-
висимость». С . Маззука также строит парные модели: «авторитаризм – демо-
кратия» и «патримониализм – бюрократия» [Гайворонский 2015: 24].
Определение политического режима по характеристикам, затрагиваю-
щим власть во всех ее проявлениях: легислатуры, губернаторы, выборы, от-
ношения с центром и т. д ., я вл яется отдельным пластом исследований. Оно
определяет набор лучших критериев, которые могут быть учтены при фор-
мировании индексов демократичности, авторитарности, зависимости и т. д .
Впрочем, важной исследовательской задачей остается определение факто-
ров, обусловивших различия в развитии режимов, установившихся в россий-
ских регионах.
Изучение политических режимов нельзя представить без знания собы-
тий, которые дают основания мыслить в определенных категориях. Такие авто-
ры, как Р. Туровский, В. Гельман, Г. Голосов, К . Росс, Г. Хейл, Н . Мелвин [Туров-
ский 2013; Gel’man and Ryzhenkov 2011; Гельман 2012; Golosov 1997, 2011a,
2013; Ross 2011a, b; Hale 2005; Кузьмин 2002], непосредственно занимают-
ся исследованием власти в регионах России и приходят в работах к выводам,
Полозова Елена, Григорьев Иван
73
что к середине 1990-х гг. региональные политические режимы сформиро-
вались и носили преимущественно авторитарный характер. Г
.
Хейл утверж-
дает, что процесс построения новой экономической и политической систе-
мы в 1990-е гг. характеризовался слабой центральной властью, что дало воз-
можность укрепиться позициям региональных лидеров за счет установления
контроля над ресурсами и выстраивания клиентелистских отношений вну-
три региона. Широкий объем полномочий в отношении распределения де-
нежных средств, контроль над бизнесом и банковским сектором позволи-
ли многим губернаторам сделать свою власть прочной, а влияние значитель-
ным. Наличие налаженных контактов с налоговыми органами, прокурату-
рой, полицией и судами увеличивало административный ресурс губернатора
[Hale 2003: 229].
Среди основных факторов, которые способствовали установлению авто-
ритарных принципов управления, В . Гельман выделяет «советское наследие»
и «характер перехода» [Баранов 2012: 63] – в частности, аграрную специали-
зацию региона и низкую автономию акторов. Г
. Хейл отмечает другой фактор
и говорит, что «авторитаризм особенно глубоко укоренился в этнических ре-
спубликах, где «избирательные машины» были способны обеспечить успех на
выборах для своих клиентов» [Golosov 2011b: 626].
Других критериев авторитарности режимов придерживается Келли Мак-
ман, которая в качестве основных показателей недемократических принципов
управления на местном уровне берет отсутствие «возможности получения до-
хода, не состоя в системе местной власти» [Sidel 2014: 165]. В итоге, если биз-
нес не может вести экономическую деятельность, не испытывая давления со
стороны власти, которая устанавливает контроль над экономикой и не допу-
скает в регион «чужих», то речь идет об авторитарном режиме.
Ф. Хансон в своем исследовании уже на примере российских регио-
нов обращает внимание на экономические реформы начала 1990-х и уста-
навливает, что благополучие региона зависело от степени открытости регио-
нальных экономик и способности привлекать иностранный капитал [Hanson
1997]. В результате промышленные и сельскохозяйственные регионы не по-
лучили особых преимуществ от рыночных реформ и не улучшили свое эко-
номическое положение. Таким образом, фактор сельскохозяйственности и
этнический характер региона являются ключевыми в исследованиях при-
чин авторитарности российских региональных режимов. Однако экономиче-
ская составляющая (и в особенности характер бизнеса в регионе) мало изуче-
на на российском примере. Данное исследование направлено на установле-
ние взаимосвязи политического режима в регионе и бизнес-структуры, кото-
рая начала меняться в конце 1990-х гг. под влиянием нового закона No 6-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)».
ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
74
Публичная политика No2
Законодательные возможности крупного бизнеса: федеральные
законы «О банкротствах» и «Об акционерных обществах»
Внедрение принципа так называемой «равноудаленности олигархов» от
федеральных властей и одновременное ослабление региональных элит как в
экономическом, так и в политическом плане [Зубаревич 2002] создали усло-
вия для встраивания крупного бизнеса в региональную структуру в начале
2000-х гг. К середине 1990-х гг. крупный бизнес был представлен преимуще-
ственно интегрированными бизнес-группами (ИБГ), которые являлись наибо-
лее влиятельными экономическими акторами и выступали в качестве основ-
ной поддержки федеральных властей. Однако кризисные события 1998 г. в
России привели к изменениям не только на макроэкономическом уровне, но
и затронули изменение прав собственности бизнес-групп. Внутренняя борьба
между «старыми» и «новыми» региональными бизнес-группами, увеличив-
шаяся напряженность в отношениях «московских» интегрированных бизнес-
групп и властей субъектов РФ, «радикальная смена правительства (впервые
за пореформенный период в его состав вошли представители КПРФ)» [Яков-
лев 2005: 37] — все это привело к кризису: как политического курса, опре-
деляющего взаимоотношения власти и бизнеса, так и экономических страте-
гий крупных компаний. В связи с этим большая ориентация на регионы и «за-
хват» местных предприятий стали основными тенденциями в пространствен-
ном развитии крупного бизнеса.
Одним из способов закрепления бизнеса в регионах стал «внешний» рост
через процедуры поглощения местных предприятий. Экономический подъем
после кризиса 1998 г. сопровождался небольшим ростом цен на нефть, а также
обеспечил укрепление российского экспорта и сделал привлекательными опре-
деленные отрасли производства [Пчелинцев 2001]. В то же время экспансия
крупного бизнеса (преимущественно московского) в регионы, которая как буд-
то была в первую очередь задана указанными экономическими предпосылка-
ми, в действительности в основе своей имела внедрение в правоприменитель-
ную практику вполне определенного механизма, позволявшего перехватывать
управление и собственность предприятий через ФЗ «О банкротстве» 1998 г.
и «Об акционерных обществах» 1995 г. Вслед за принятием этих законов и
на фоне благоприятствующей такому развитию экономической конъюнктуры
в регионах «началось масштабное применение технологий российских враж-
дебных поглощений, которые использовали пробелы в законодательстве, ре-
гулирующем деятельность юридических лиц, и коррумпированность админи-
стративного аппарата» [Радыгин 2009]. В большинстве случаев поглощаемые
предприятия составляли ядро российской экономики или имели потенциал
развития в сфере экспорта нефте- и газодобычи; в горно-перерабатывающей
области и в легкой промышленности [Volkov 2004: 529]. Как указывает
Полозова Елена, Григорьев Иван
75
председатель Арбитражного суда г. Москвы О. Свириденко, наиболее харак-
терной особенностью этого процесса стало использование процедуры «заказ-
ных банкротств» в отношении крупных и стратегически важных региональных
предприятий [Федоров 2010: 20].
Действительно, Федеральный закон от 08.01.1998 No 6-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» считают важнейшим инструментом экспансии круп-
ного бизнеса в регионы и другие авторы [Радыгин 2009]. Ультралиберальный
(по мнению В. Волкова [Volkov 2004: 527]) закон предоставил возможность
вновь перераспределить активы, уже оказавшиеся в частной собственности в
ходе предыдущих этапов приватизации. Процедура «враждебного поглоще-
ния» стала одной из популярных форм взаимодействия между предприятия-
ми в 1999–2001 гг. [Федоров 2013: 10].
До 1998 г. механизм банкротства был осложнен, во-первых, самим каче-
ством закона, в основе которого лежал принцип неоплатности, ограничивав-
ший права кредиторов в связи со сложной процедурой оценки имущества су-
дами и, соответственно, зачастую оборачивавшийся затягиванием вынесения
решений о несостоятельности должника [Радыгин 2005: 47]; и, во-вторых,
неформальными связями, которые складывались между директорами пред-
приятий и региональными органами власти и которые в дальнейшем исполь-
зовались для блокирования изменений как в системе регионального управле-
ния, так и в структуре собственности на предприятиях. Новый закон 1998 г. , в
свою очередь, встал на защиту кредиторов и их прав. Это дало возможность
останавливать в юридическом порядке деятельность фиктивных или уже не
функционирующих предприятий. Это также дало возможность налоговым ор-
ганам добиваться банкротства должников. Однако наряду с этими необходи-
мыми и полезными изменениями процедура банкротства, часто искусственно
инициируемая, применялась и для смены руководящего состава предприятия
или собственника [Радыгин 2009]. Прежде всего это стало возможным из-за
снижения барьера по инициированию процедуры банкротства [Радыгин, Си-
мачев 2005: 48] и благодаря внедрению достаточно простой схемы по сме-
не руководства, которая являлась базовой и необходимой для решения задач
инициатора банкротства [Федоров 2010: 9]. Кроме того, по мнению С. Сте-
панова [Степанов 2006], особенностью российского случая являлась пробле-
ма, связанная не столько с сущностным содержанием законов, сколько с их
исполнением, где высока коррупционная составляющая («сговор арбитраж-
ного управляющего с кредиторами, арбитражными судьями и чиновниками
ФСФО» [Апевалова, Радыгин 2009: 96] и т. д .).
О масштабах применения закона говорят данные Федеральных арби-
тражных судов РФ: в 1998 г. в соответствующие инстанции поступило 12 781
заявление о признании должников банкротами, в 1999 г. это число составило
ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
76
Публичная политика No2
15 583 заявления, начиная с 2000 г. их количество выросло с 24 874 до
55 934 в 2001 г. и достигло максимума в 106 647 заявлений в 2002 г. Из
всех дел, принятых к производству, в 82% случаев предприятия были призна-
ны несостоятельными. Кроме того, согласно данным ФСФО, треть всех бан-
кротств в России можно было классифицировать как «заказные», так как кре-
диторы были заинтересованы в смене собственника, а не в возвращении дол-
гов, что говорит об умышленном инициировании процедур банкротства [Бе-
гаева 2010: 83]. Например, в 2002 г. из 1870 поглощений 76% относились
к враждебным [Федоров 2013: 21].
Схема «недружественных поглощений» состояла из определенных по-
следовательных этапов. Вначале компания-инициатор выбирала предприя-
тие, контроль над которым хотела получить. Происходил сбор информации
о деятельности компании, ее партнерах; разрабатывался план захвата пред-
приятия. Тут необходима была поддержка государственных институтов: су-
дов, силовых структур, региональных администраций, которые обеспечива-
ли физическое или административное принуждение, так как смена руководя-
щего состава, а в конечном результате и банкротство, зачастую была насиль-
ственной. Компания-инициатор устанавливала связи с поглощаемой компа-
нией, используя различные технологии (часто это была просто скупка долгов).
Затем в суде инициировалась процедура банкротства, и в ходе разбиратель-
ства, используя административный ресурс, выносилось необходимое судеб-
ное решение, согласно которому назначался внешний управляющий из чис-
ла кредиторов. Вместо налаживания деятельности предприятия он занимал-
ся перераспределением активов и финансовых потоков, тем самым поглощая
компанию под цели кредиторов. Конечный этап состоял в достижении догово-
ренностей с местными или региональными властями о новых правилах игры
[Volkov 2004].
Таким образом, ФЗ «О банкротстве» 1998 г. на протяжении всего пе-
риода действия, до 2002 г. , по мнению А. Радыгина, «использовался либо
как способ перераспределения (захвата, удержания, приватизации) соб-
ственности, либо как высокоселективный метод политического и экономи-
ческого давления на предприятия со стороны государства» [Радыгин, Сима-
чев 2005: 43]. Применение технологий недружественных поглощений уве-
личило экспансию крупного бизнеса в российские регионы и затронуло вну-
треннюю структуру отношений. Заметим, впрочем, что тут крупный бизнес
часто сталкивался с барьерами в виде устоявшихся связей между губерна-
торами, представителями регионального бизнеса и подразделениями Ар-
битражного суда, которые противостояли банкротству региональных пред-
приятий и препятствовали приходу в регион нового экономического игрока
[Журавская, Сонин 2004].
Полозова Елена, Григорьев Иван
77
Вторая схема заключалась в применении No 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» от 26.12.1995. Согласно данному закону «акционеры были впра-
ве отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и об-
щества» [Бургачева 2009], что являлось одним из способов поглощения пред-
приятия за счет скупки акций у их держателей. Недружественное поглоще-
ние происходило по схожей схеме. Компания-поглотитель выбирала акцио-
нерное общество, которое хотела поставить под собственный контроль. Да-
лее инициатор устанавливал связи с поглощаемым обществом, чтобы иметь
возможность договориться о реорганизации мирным путем. Если договорен-
ности не были достигнуты, то использовались определенные методы воздей-
ствия в зависимости от размера пакета акций, которым завладела компания-
поглотитель. Сначала происходило внедрение «своего лица» в исполнитель-
ный орган общества, затем компания-поглотитель, обладая уже не менее 10%
пакета акций, могла созывать собрания акционеров и продвигать свои инте-
ресы, добиваясь установления контроля над активами предприятия [Бургаче-
ва 2009]. Получалось, что акционер общества обладает широким объемом
прав [Федоров 2010: 94–97], который предоставляет возможность участво-
вать в управлении предприятием. Применение корпоративного шантажа и по-
следующее поглощение общества за счет установления контроля над актива-
ми осуществлялись как раз с помощью манипуляций данными правами [Фе-
доров 2010: 97].
Таким образом, процедура банкротств и установление контроля над ак-
тивами акционерных обществ были наиболее распространенными способами
осуществления недружественных поглощений в конце 1990-х . Юридические
несовершенства в совокупности с неформальными связями и администра-
тивным ресурсом давали полный набор средств воздействия на региональ-
ные предприятия и установления контроля над ними. В итоге недружествен-
ные поглощения значительно изменили управленческий состав предприятий
и перераспределили собственность и активы на них.
Источники и характеристики данных
Главной задачей нашего исследования является изучение влияния экс-
пансии крупного бизнеса на политический режим в регионе. Основной харак-
теристикой существующих режимов был моноцентризм глав регионов, кото-
рый проявлялся в сосредоточении контроля над региональными политиче-
скими игроками. Существовала внутрирегиональная связь между акторами,
которая под воздействием со стороны новых деятельных игроков (например,
приходящих в регион московских бизнес-групп) могла разрушиться. Поэто-
му особое значение в процессе экспансии играл губернатор, пытавшийся со-
хранить «закрытый» характер региона и устоявшиеся бизнес-связи [Федоров
ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
78
Публичная политика No2
2010: 91]. Исходя из вышесказанного мы предполагаем, во-первых, что экс-
пансия действительно оказала влияние на политическую структуру в регионах
и за счет изменения/снижения межакторных связей повысила степень демо-
кратичности. Во-вторых, поскольку многие региональные режимы оставались
губернатороцентричными, то интересно будет посмотреть на положение глав
регионов после прихода крупного бизнеса, изучить вероятность их смещения
после включения в региональную структуру нового игрока.
Исследование проводилось на примере 82 регионов России в период
1998–2002 гг. Взятый временной отрезок позволяет посмотреть на важный
этап: экспансию крупного бизнеса в регионы, который стал возможен из-за вве-
денного в 1998 г. Федерального закона от 08.01.1998 No 6-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» (утратил силу в 2002 г.). Система «недружественных
поглощений» оказала влияние на отношения между региональной властью и
местным бизнесом, которые часто были основой формирования «закрытых»
регионов и осуществления недемократических принципов управления. Право
бизнеса заниматься предпринимательской деятельностью и переизбрание гу-
бернатора на новый срок оказались под угрозой [Зубаревич 2005].
Изучение различных стратегий поведения акторов [Яковлев 2005: 37],
которые начали складываться в связи с экспансией крупного бизнеса в реги-
оны, изучение региональных бизнес-структур, сформировавшихся на конец
1990-х гг., и политических режимов дало основу предположить, что:
•
чем большей была экспансия «федерального» бизнеса в регион, тем
более демократический режим в нем в итоге устанавливался (и наоборот:
если в данный регион бизнес по каким-то причинам не приходил, то в нем со-
хранялся авторитарный внутрирегиональный политический режим);
•
чем более экономически «открытым» (конкурентным) являлся реги-
он, тем более демократическим был его политический режим (и наоборот, в
экономически более «закрытых» регионах устанавливались более авторитар-
ные внутрирегиональные политические режимы);
•
чем большей экспансии «федерального» бизнеса был подвержен
данный регион, тем выше были шансы того, что глава региона сменялся в пе-
риод 1998–2002 гг.
Первая зависимая переменная «Степень демократичности политического
режима» была взята согласно рейтингу демократичности регионов Москов-
ского центра Карнеги за 1999–2003 гг. [Петров, Титков 2013: 25–28]. Основу
оценки составило экспертное мнение по десяти региональным характеристи-
кам: политическое устройство, открытость/закрытость политической жизни,
демократичность выборов, политический плюрализм, независимость СМИ,
коррупция, экономическая либерализация, гражданское общество, элиты,
Полозова Елена, Григорьев Иван
79
местное самоуправление. Эксперты ранжировали каждый признак в соответ-
ствии с его значением от 1 балла (минимально отвечающий понятию «демо-
кратичный») до 5 (максимально отвечающий понятию «демократичный»).
Итоговая оценка соответствовала суммарному количеству баллов по десяти
характеристикам.
Вторая зависимая переменная «Сменяемость губернатора» демонстриру-
ет факт смены губернатора в период 1998–2002 гг. Подобное значение необ-
ходимо, чтобы проследить общерегиональную динамику сменяемости губер-
наторов в период экспансии бизнеса в регионы. Переменная принимает зна-
чения: 0 – губернатор не сменился; 1– глава региона поменялся.
Независимая переменная «Открытость» регионов для бизнеса определя-
лась данными Р. Ортунга, поделившего регионы по характеру и степени уча-
стия в них бизнеса на пять групп: плюральные (plural), регионы с основным
доминирующим предприятием (one dominant company), регионы с преобла-
данием государственной собственности (state ownership), регионы с внешним
влиянием (foreign influence) и «заброшенные» (neglected) регионы [Orttung
2004: 52–54]. В нашем случае был интересен аспект оценки, касающий-
ся «открытости» и «закрытости» регионов. Характеристика позволила разде-
лить на необходимые категории: «открытые», допускающие появление ново-
го экономического игрока (сюда относятся регионы «заброшенные», «плю-
ральные» и «с внешним влиянием»), и «закрытые», препятствующие появ-
лению в регионе экономических акторов (соответственно, регионы с пре-
обладанием государственной собственности или с основным доминирую-
щим предприятием). В ходе преобразования данных мы создали номиналь-
ную переменную «Открытость», где значение 1 получили регионы открытые,
0 – закрытые.
Независимая переменная «Экспансия» показывает факт входа бизне-
са в регионы, представленного 12 крупными «интегрированными бизнес-
группами» и изученного Н. Зубаревич [Зубаревич 2005: 102–109]. Автор вы-
деляет регионы экспансии, начиная с конца 1990-х гг. Привлекательные для
бизнеса регионы различались по специализации, однако являлись потенци-
ально прибыльными и необходимыми для выстраивания оптимальной струк-
туры бизнеса. Существовали регионы, где за период 1998–2002 гг. бизнес-
группы увеличили свое присутствие в несколько раз, но были и те, где по-
явилась лишь одна из двенадцати ИБГ. Соответственно, переменная «Экспан-
сия» принимает значение 0, если ни одна бизнес-группа не пришла в регион,
и 1 – если хотя бы одной ИБГ удалось встроиться в региональную структуру.
В качестве дополнительной переменной, показывающей изначальное
расположение крупного бизнеса в регионах до 1998 г. , выступает «Базиро-
вание» (1 – в регионе уже базируется крупное предприятие; 0 – крупные ИБГ
ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
80
Публичная политика No2
в регионе отсутствуют). Присутствие бизнес-групп в регионах такого типа
оформилось еще к середине 1990-х гг. , поэтому «позиции акторов четко
определены и разграничены» [Зубаревич 2005: 36]. Изучение влияния дан-
ного фактора могло бы подсказать о наличии связи между сильными эконо-
мическими связями и политической обстановкой в регионе.
Перед нами также стояла задача очертить тот региональный политиче-
ский «фон», на котором разворачивались события конца 1990-х
–
начала
2000-х гг.: насколько демократичным был регион, в который осуществлялся
(или не осуществлялся) вход новых экономических игроков изначально, еще
до описываемых нами событий? Оптимальным здесь было бы использование
более ранних показателей индекса Петрова–Титкова, однако в указанный пе-
риод (до 1998 г.) соответствующей оценки ими не производилось. В связи с
этим в качестве приближенной контрольной переменной мы используем пе-
ременную голосования за партии и избирательные блоки, о которых из име-
ющейся литературы известно, что зачастую их поддержка в регионах форми-
ровалась региональными губернаторскими политическими машинами. Исхо-
дя из той логики, что успешное функционирование губернаторской политиче-
ской машины является показателем более низкой политической конкуренции
на уровне региона (коль скоро в регионе отсутствуют политические силы, спо-
собные эффективно противостоять сбору голосов в пользу предпочтительной
для губернатора партии), мы считаем, что регионы, где соответствующие пар-
тии получали на соответствующих выборах больший процент голосов, были
менее демократичными. В качестве соответствующих партий и блоков нами
взяты Коммунистическая партия Российской Федерации на выборах 1995 г.
(когда целый ряд губернаторов использовал свои политические машины для
того, чтобы принести голоса «оппозиции») и суммарный процент голосов за
партию «Единство» и блок «Отечество – Вся Россия» (ОВР) на выборах 1999 г.
(когда опять же существенную долю поддержки эти партии получили благода-
ря работе губернаторов, встроивших в соответствующие федеральные поли-
тические машины свои собственные региональные).
Проверка гипотез и интерпретация анализа данных
Для проверки гипотез и анализа данных были использованы методы
множественной линейной и логистической регрессии. Результаты регрессион-
ного анализа переменных представлены в табл. 1 и 2.
Полозова Елена, Григорьев Иван
81
Таблица 1. Зависимая переменная – степень демократичности регио-
нального политического режима (индекс Петрова–Титкова)
Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4
Переменные
Стандартизированные Бета-коэффициенты
Экспансия крупного
бизнеса в регион
3,605**
3,710*
3,542**
3,320**
Открытость/
закрытость региона
3,354**
0,921
1,206
-
Голоса за КПРФ, 1995 г.
-
-, 296**
-, 313**
- ,326**
Голоса за «Единство»
и ОВР, 1999 г.
-
-, 276**
-, 296**
- ,319**
Базирование крупного
бизнеса до 1998 г.
3,878**
1,915
-
-
Примечание: * – значимость на 0,05 уровне, ** – значимость на 0,01
уровне.
Модели первой табл. 1, где в качестве зависимой переменной выступа-
ет степень демократичности политического режима, показывают положитель-
ную зависимость между экспансией крупного бизнеса в регион и режимом.
Появление крупного бизнеса увеличивало степень его демократичности. Ве-
роятно, новый экономический игрок, встраиваясь в регион, подвергал изме-
нениям существующие структуры взаимодействия, которые становились бо-
лее открытыми и способными к диалогу и компромиссам.
Следующая переменная, определяющая характер бизнес-среды по шка-
ле Р. Ортунга, не оказала существенного влияния на уровень демократичности,
как и изначальное базирование бизнеса. Однако политические предпочтения
региона имели самое большое воздействие на региональный политический
режим. Согласно Г. Голосову [Golosov 2014], полученные высокие проценты за
КПРФ на выборах 1995 г. , а з атем за партию «Единство» или ОВР на выборах
1999 г. являются признаком того, что губернатор контролирует регион и име-
ет сильную «политическую машину», которая работает на него и приносит го-
лоса одной из партий по его заказу. Соответственно, результаты регрессион-
ного анализа показывают, что чем больше процент за партию (КПРФ 1995 г. ,
«Единство», ОВР 1999 г.) , тем менее демократичным был режим, установив-
шийся в данном регионе в 1998–2002 гг. Важно то, что переменная «входа»
федерального бизнеса в данный регион здесь не теряет значимости.
ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
82
Публичная политика No2
Таблица 2. Зависимая переменная – сменяемость губернатора
Модель 1
Модель 2
Модель 3
Переменные
Стандартизированные Бета-коэффициенты
Экспансия крупного
бизнеса в регион
- 1,526*
-1,581*
- 1,746**
Открытость/закрытость
региона
, 072
-
-
Голоса за КПРФ, 1995 г.
- ,016
-, 018
-
Голоса за «Единство»
и ОВР, 1999 г.
, 044
,041
-
Базирование крупного
бизнеса до 1998 г.
, 319
-
-
Примечание: * – значимость на 0,05 уровне, ** – значимость на 0,01
уровне.
Модели второй табл. 2 были построены, чтобы определить, что повлия-
ло на смену губернатора в период 1998–2002 гг. Основная гипотеза состояла
в существовании зависимости между экспансией крупного бизнеса в регион и
сменой главы соответствующего субъекта. Результаты логистического анализа
показывают, что, действительно, включение бизнес-групп в регион повышало
вероятность смены губернатора, что подтверждает нашу гипотезу. Остальные
переменные, используемые здесь как контрольные, оказались незначимыми и
на сохранение своего поста губернатором не влияли.
Таким образом, наше предположение о влиянии экспансии «федераль-
ного» бизнеса в регионы на их политические режимы подтвердилось: появ-
ление крупного бизнеса в регионах повысило демократичность режимов,
«вскрывая» установившиеся взаимосвязи между региональными политиче-
скими и экономическими элитами, разрушая существующие неформальные
договоренности и повышая политический плюрализм.
Кроме того, в связи с изменением «баланса сил» в регионах была выяв-
лена зависимость между экспансией крупного бизнеса и положением губер-
наторов, главным показателем «политической выживаемости» которых яв-
ляется способность к переизбранию. Встраивание крупного бизнеса в регио-
нальную структуру понизило способность глав регионов к удержанию власти.
С большой долей вероятности, новый экономический игрок трансформиро-
вал региональные структуры взаимодействия, местные акторы стали более от-
крытыми, а новые правила игры более понятными.
Полозова Елена, Григорьев Иван
83
Заключение
Взаимоотношения между властью и бизнесом в российских регионах
претерпели в 1998–2002 гг. определенные трансформации: после того как
фокус внимания крупных бизнес-групп федерального уровня сместился в сто-
рону регионов, началась широкая экспансия крупного бизнеса, представлен-
ного интегральными бизнес-группами. Экономические события 1998 г. и по-
литические события 2000-х гг. предопределили потребность экспансии в ре-
гионы, однако выбор такой экспансии зависел от внутренней логики бизне-
са, а не от политических предпочтений (что, впрочем, не отменяет того факта,
что в определенной степени именно централизация начала 2000-х гг. способ-
ствовала снижению региональных входных барьеров для бизнеса) [Зубаревич
2014]. Стратегии экспансии бизнеса были различны, и многие изменили не
только бизнес-структуру регионов, но и повлияли в той или иной степени на
политическую обстановку и определили расстановку сил между губернатора-
ми и местным бизнесом, чьи отношения сложились еще в середине 1990-х гг.
Изучение факторов, влияющих на степень демократичности российских
регионов в 1998–2002 гг. показало, что экспансия крупного бизнеса в регио-
ны, ставшая возможной благодаря широко распространенной процедуре бан-
кротств, повлияла на региональные политические режимы, сделав их более
демократичными. Кроме того, включение крупного бизнеса в региональную
структуру оказалось значимым для положения губернаторов, понизив их шан-
сы на переизбрание. Однако региональные политические режимы, сохранив-
шие «политические машины», по-прежнему продолжали существовать в ка-
честве менее демократических и способных оказать прямое воздействие на
политические предпочтения граждан.
Литература
Апевалова Е., Радыгин А. 2009. Банкротства в двухтысячные годы: от ин-
струмента рейдеров к политике «двойного стандарта».
–
Экономическая по-
литика.No4.С.96.
Баранов А.В . 2012. Региональные политические режимы России в си-
стеме властных отношений: проблемы типологии.
–
Человек. Сообщество.
Управление. No 4.
Бегаева А.А. 2010. Корпоративные слияния и поглощения: проблемы и перспек-
тивы правового регулирования / отв. ред. Н .И. Михайлов. М .: Инфотропик Медиа.
Бургачева Ю. 2009. Способы недружественных поглощений акционер-
ных обществ в современной России. – Право и жизнь. No 4.
Гайворонский Ю.О . 2015. Региональные политические режимы в России:
концептуальные новации и возможности измерения. – Полития: Анализ. Хро-
ника. Прогноз. No 2.
ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
84
Публичная политика No2
Гельман В.Я . 2012. Расцвет и упадок электорального авторитаризма
в России. –
Полития. No 4. С . 65–88.
Журавская Е. , Сонин К. 2004. Экономика и политика российских бан-
кротств. – Вопросы экономики. No 4.
Зубаревич Н.В. 2002. Пришел, увидел, победил? (Крупный бизнес и ре-
гиональная власть). – Pro et Contra. Т. 7. No 1. С . 107–119.
Зубаревич Н.В . 2005. Крупный бизнес в регионах России: территориаль-
ные стратегии развития и социальные интересы. Аналитический доклад / Не-
зависимый институт социальной политики. М .: Поматур.
Зубаревич Н.В. 2014. Лекция 8. Крупный бизнес в регионах России. URL:
http://www.myshared.ru/slide/760396/.
Кузьмин А.С . , Мелвин Н.Дж. , Нечаев В.Д. 2002. Региональные полити-
ческие режимы в постсоветской России: опыт типологизации. – Полис. No 3.
Петров Н. , Титков. А. 2013. Рейтинг демократичности регионов Москов-
ского центра Карнеги: 10 лет в строю. – Московский центр Карнеги.
Пчелинцев О.С . 2001. Российский экономический рост 1999–2000 гг.
в региональном и глобальном контекстах.
–
Проблемы прогнозирова-
ния. URL: http://www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/Pp/2001/2001-
04pchelintcev/2001-04pchelintcev000.htm.
Радыгин А. 2009. Российский рынок слияний и поглощений: этапы, осо -
бенности, перспективы.
–
Вопросы экономики. No 10. С . 23–45 . URL: http://
www.iep.ru/files/persona/radygin/Voprosi_economiki_10_09.pdf.
Радыгин А. Симачев Ю. 2005. Институт банкротства в России: особенно-
сти эволюции, проблемы и перспективы.
–
Российский журнал менеджмен-
та. Т
. 3.No2.
Степанов С. 2006. Особенности российских недружественных поглоще-
ний. – Рынок ценных бумаг. No 15.
Туровский Р.Ф. 2013. Региональные политические режимы в современ-
ной России: сравнительный анализ. – Вестник Российского гуманитарного на-
учного фонда. No 1. С . 73–82.
Федоров А.Ю. 2010. Рейдерство и корпоративный шантаж
(организационно-правовые меры противодействия). М .: Волтерс Клувер.
Федоров А.Ю. 2013. Методика противодействия рейдерству: Практиче-
ские рекомендации. М.: Библиотечка «Российской газеты».
Яковлев А.А. 2005. Эволюция стратегий взаимодействия бизне-
са и власти в российской экономике.
–
Российский журнал менеджмента.
Т.3.No1.
Berkowitz, Daniel, and David N. DeJong. 2001. “The Evolution of Market Inte-
gration in Russia” . – Economics of Transition. 9 (1): 87–104. doi:10.1111/1468-
0351.00068 .
Полозова Елена, Григорьев Иван
85
Gel’man, Vladimir, and Sergei Ryzhenkov. 2011. “ Local Regimes, Sub-National
Governance and the ‘Power Vertical’ in Contemporary Russia” . – Europe-Asia Stud-
ies. 63 (3): 449–465. doi:10.1080/09668136.2011.557538.
Gluschenko, Konstantin. 2003. “ Market Integration in Russia during the Trans-
formation Years” . – Economics of Transition 11 (3): 411–434.
Gluschenko, Konstantin. 2006. “ Russia’s Common Market Takes Shape: Price
Convergence and Market Integration among Russian Regions” . 7/2006. BOFIT
Discussion Papers. Helsinki: Bank of Finland. URL: https://helda.helsinki.fi/bof/
handle/123456789/8200
Golosov, Grigorii V. 1997. “Russian Political Parties and the ‘Bosses’: Evidence
from the 1994 Provincial Elections in Western Siberia” . – Party Politics. 3 (1): 5–21.
Golosov, Grigorii V. 2011a. “ Russia’s Regional Legislative Elections, 2003–
2007: Authoritarianism Incorporated” . – Europe-Asia Studies. 63 (3): 397–414.
Golosov, Grigorii V. 2011b. “ The Regional Roots of Electoral Authoritarianism
in Russia” . – Europe-Asia Studies. 63 (4): 623–639. doi:10.1080/09668136.20
11.566427.
Golosov, Grigorii. 2013. “Machine Politics: The Concept and Its Implications
for Post-Soviet Studies” . – Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democrati-
zation. 21 (4): 459–480.
Golosov, Grigorii V. 2014. “ The Territorial Genealogies of Russia’s Political Par-
ties and the Transferability of Political Machines”. – Post-Soviet Affairs, no. ahead-
of-print: 1–17 .
Hale, Henry E. 2003. “ Explaining Machine Politics in Russia’s Regions: Econo-
my, Ethnicity, and Legacy” . – Post-Soviet Affairs. 19 (3): 228–263.
Hale, Henry E. 2005. “ Regime Cycles: Democracy, Autocracy, and Revolution in
Post-Soviet Eurasia”. – World Politics 58 (01): 133–165. doi:10.1353/wp.2006 .0019.
Hanson, Philip. 1997. “How Many Russias? Russia’s Regions and Their Adjust-
ment to Economic Change” . – The International Spectator. 32 (1): 39–52.
Orttung, Robert W. 2004. “Business and Politics in the Russian Regions” .
–
Problems of Post-Communism. 51 (2): 48–60.
Ross, Cameron. 2011a. “ Regional Elections and Electoral Authoritarianism in
Russia” . – Europe-Asia Studies. 63 (4): 641–661.
Ross, Cameron. 2011b. “The Rise and Fall of Political Parties in Russia’s Re-
gional Assemblies” . –
Europe-Asia Studies. 63 (3): 429–448.
Sidel, John T. 2014. “Economic Foundations of Subnational Authoritarianism:
Insights and Evidence from Qualitative and Quantitative Research” . – Democratiza-
tion. 21 (1): 161–184. doi:10.1080/13510347.2012.725725.
Volkov, Vadim. 2004. “Hostile Enterprise Takeovers: Russia’s Economy in
1998–2002” .
–
Review of Central & East European Law. 29 (4): 527–548.
doi:10.1163/1573035042523668.
ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
86
Публичная политика No2
Влияние новелл
партийно-электорального
законодательства
на формирование легислатур
регионов Западной Сибири
в 2010-е гг.
1
1
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта No 16-03 -50136
«Динамика социально-демографического состава элит региональных отделений политических пар-
тий Западной Сибири в контексте переформатирования партийно-электорального пространства».
Шашкова Ярослава
Шашкова
Ярослава Юрьевна,
доктор политических наук, заве-
дующая кафедрой политологии
Алтайского государственного уни-
верситета (г. Барнаул).
Для связи с автором:
yashashkova@mail.ru
Аннотация
В статье оценивается участие но-
вых российских партий в выборах ор-
ганов законодательной власти регио-
нов Западной Сибири, анализируются
факторы устойчивости региональных
партийных систем.
Ключевые слова: политиче-
ские партии, выборы, законодатель-
ная (представительная) власть, Запад-
ная Сибирь
87
Influence of changes
in party-electoral legislation
on the formation of terms
of legislature in the regions
of West Siberia in the 2010s.
Shashkova Y.Y
.
Shashkova
Yaroslava Yurevna,
Altai State University, Head of
Department of Political Science,
Doctor of Political Sciences, Barnaul,
Russian Federation
To contact the author:
yashashkova@mail.ru
Abstract
Participation of new Russian parties
in elections to the regions of Western
Siberia legislatures and factors of stability
of regional party systems are discussed in
the article.
Keywords: political parties, electoral
process, legislative (representative)
power, Western Siberia.
ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
88
Публичная политика No2
Одной из главных черт российского политического процесса, в том чис-
ле в области партогенеза, является рассогласование формальных политиче-
ских институтов и неформальных практик их функционирования. Данная чер-
та характерна для гибридных режимов, в которых, как отмечал Т. Карозерс,
политическая повседневность плюралистична «лишь по форме. Процесс из-
менений во многих случаях не затрагивал институты – они сопротивлялись,
приспосабливались, сохраняя наследие авторитарного режима и его спо-
соб мышления» [Карозерс 2005: 74]. По сравнению с демократией правящие
группировки при гибридном режиме держатся за власть более цепко, они по-
степенно сливаются с государственной властью [Гришин 2014: 9].
В связи с этим внесение изменений в закон «О партиях», повлекшее су-
щественное расширение формата российской партийной системы, не пере-
оценивалось исследователями, однако можно было ожидать увеличение чис-
ла результативных партийных акторов на региональном уровне. Это объяс-
нялось франчайзинговым характером большинства создаваемых партийных
проектов, а также сохранением мажоритарной составляющей региональных
Заксобраний, что давало новым партиям потенциальную возможность для
привлечения в свои ряды ярких представителей региональных элит. Тем бо-
лее что в 1990-е и первую половину 2000-х гг. именно региональный уровень
политического процесса демонстрировал примеры эффективного продвиже-
ния малых партий, не имевших успеха на федеральном уровне.
Внесение изменений в закон «О партиях» как бы вернуло российскую
партийную систему к стихийному (рыночно регулируемому) развитию по ана-
логии с 1990-ми гг. В тот период четко действовало правило: партии активно
создавались накануне избирательных циклов, участвовали в федеральных и
предшествовавших им региональных выборах, а затем система переформа-
тировалась с учетом результатов голосования.
Соответственно, новые партии должны были принять активное участие в
выборах 2013–2016 гг. , тем более что в обществе еще в 2011 г. был озвучен
запрос на новые имена, заметно усиливавшийся по мере приближения к фе-
деральным выборам.
На основании указанных трендов было сформулировано две гипотезы:
1. Чем ближе региональные выборы к федеральным, тем большее коли-
чество партий должно принять в них участие.
2. Чем выше уровень политической конкуренции в регионе, тем боль-
ше должно быть в нем количество партий-участниц региональных выборов.
Проверим наши гипотезы на материалах регионов Западной Сибири.
Говоря о количестве агентов региональных электоральных полей и услови-
ях их увеличения, необходимо принять во внимание тип регионального поли-
тического режима. В неконкурентных региональных системах доминирующие
Шашкова Ярослава
89
акторы используют политические партии для дальнейшего укрепления своих
позиций. Поэтому они не стремятся к расширению числа электоральных аген-
тов или используют их в своих интересах. Напротив, в тех регионах, где в той
или иной мере сохраняется политическая конкуренция, новыми институцио-
нальными возможностями пользуются различные группировки, что находит
отражение в повышении степени фрагментации «региональных партийных
систем» [Панов 2005: 108].
В Кемеровской области в связи с существованием моноцентричного ре-
жима выборы полностью подконтрольны администрации области и имеют ха-
рактер игры «с заранее заданным финалом». Вместе с тем в 2013 г. в выборах
областного Совета народных депутатов приняли участие 20 партийных спи-
сков: помимо парламентских партий в бюллетень были включены «Патрио-
ты России», Партия пенсионеров, «Яблоко», Коммунистическая партия «Ком-
мунисты России», «Родина», Социал-демократическая партия России, «Граж-
данская позиция», Коммунистическая партия социальной справедливости,
«Родная страна», Демократическая партия России, Трудовая партия России,
Партия налогоплательщиков России, Российская экологическая партия «Зеле-
ные», Народная партия России, Союз горожан, Российская политическая пар-
тия мира и единства.
Данный кейс вроде бы рассогласуется с выдвинутой гипотезой, однако
хорошо вписывается в эффект «новизны» институциональных трансформа-
ций. Новые партии целенаправленно «раскручивались» в федеральной по-
литической повестке, чтобы показать действенность новых правил, а партий-
ные элиты стремились выполнить одно из главных условий закона «О парти-
ях» – поучаствовать в необходимом количестве выборов – и обозначиться для
потенциальных спонсоров.
Тем более что назвать партийными кемеровские выборы сложно: «Еди-
ная Россия» набрала 86,2% голосов избирателей и провела своих представи-
телей в 22 одномандатных округах (в 2008 г. она получила 84,8% голосов из-
бирателей по спискам и 18 из 18 мест одномандатников). Еще по 1 мандату
досталось ЛДПР (по результатам голосования за партийные списки) и «Спра-
ведливой России» (ее кандидат, ректор КемГУ В. Волчек победил как одноман-
датник, но с заметной административной поддержкой [Кынев 2014: 403])2
.
В связи с этим можно констатировать, что региональный парламент Кемеров-
ской области сохраняет фактически апартийный характер, оставаясь клиенте-
лой А. Тулеева.
2
Сведения о выборах депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области четвертого со-
зыва. 8 сентября 2013 г. – Избирательная комиссия Кемеровской области. URL: http://www.kemerovo.
vybory.izbirkom.ru/region/kemerovo?action=show&vrn=2422000728759®ion=42&prver=0&prone
tvd=0 (дата обращения 10.04.2017).
ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
90
Публичная политика No2
Примером региона с высоким уровнем конкуренции всегда выступа-
ла Новосибирская область. Однако в 2015 г. на выборах депутатов областно-
го Законодательного Собрания были зарегистрированы списки только 7 пар-
тий – конкуренцию парламентской «четверке» составили «Патриоты России»,
«“Яблоко” – Объединенные демократы» и «Гражданская платформа». Еще
3 партии – АПР, «Родина» и РПР-Парнас – выдвигали кандидатов по одноман-
датным округам. Такое резкое сокращение электорального поля могло быть
связано с начавшейся подготовкой к федеральным выборам, а также со сло-
жившимся в регионе высоким ресурсным барьером для входа на политиче-
ский рынок. По результатам голосования за партийные списки места в Зак-
собрании распределили между собой только парламентские партии. В об-
щем итоге «Единая Россия» получила 51 мандат (19 – по спискам и 32 – по
округам), КПРФ – 16 мандатов (11 – по спискам и 5 – по округам), ЛДПР
и «Справедливая Россия» провели по спискам по 4 депутата, и 1 мандат до-
стался победившему в одномандатном округе представителю «Гражданской
платформы»
3
.
Выборы 18 сентября 2016 г. в Омской, Томской областях и Алтайском
крае, совмещенные с федеральными, должны были стать более репрезента-
тивными, так как российские партии обычно активизировались на выборах
в Государственную Думу. Следовательно, можно было ожидать расширения
электорального поля данных регионов. Однако этого не произошло.
В Алтайском крае в выборах приняли участие только 5 «старых» партий,
они же выдвигали кандидатов по одномандатным округам. Коммунистиче-
ской партии «Коммунисты России» и партии «Родина» было отказано в реги-
страции из-за опасений роста и без того высоких протестных настроений. Пар-
тия «Великое Отечество» документа для регистрации не представила. В ходе
голосования по партийным спискам «Единая Россия» набрала 34%, ЛДПР –
21,2%, КПРФ – 21%, «Справедливая Россия» – 17,4% и «Яблоко» – 3%4
.
При распределении мандатов «Единой России» досталось 40 из 68 мандатов
(31 – по округам), ЛДПР – 9 (1 – по округам), КПРФ – 8, «Справедливой Рос-
сии» – 8 (2 – по округам). Вместе с тем персональный состав краевой легис-
латуры обновился на 60%.
В более экономически развитой Омской области в бюллетень было вклю-
чено 6 партий: «Единая Россия» (набрала 36,3%), КПРФ (29,5%), ЛДПР
(16,3%), «Справедливая Россия» (8,6%), «Яблоко» (2,7%) и «Партия роста»
3
Результаты выборов депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области шестого
созыва. 13 сентября 2015 г. – Избирательная комиссия Новосибирской области. URL: http://www.
novosibirsk.izbirkom.ru/elections_2015/1379/ (дата обращения 10.04.2017).
4
Выборы депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания седьмого созыва. 18 сен-
тября 2016 г. – Избирательная комиссия Алтайского края. URL: http://www.altai_terr.izbirkom.ru/
archiv-vyborov/2016-09 -18-akzs.php (дата обращения 10.04.2017).
Шашкова Ярослава
91
(2,98%)5
.
По итогам распределения мандатов «Единая Россия» получила
29 мест в областном Заксобрании (9 – по спискам и 20 одномандатников),
КПРФ – 7 мест, «Справедливая Россия» – 2, ЛДПР – 4 депутатских мандата.
Как и в Алтайском крае, в Омской области не были зарегистрированы
Коммунистическая партия «Коммунисты России», «Родина», а также Россий-
ская партия пенсионеров за справедливость.
Наибольшее количество партий приняло участие в выборах депутатов За-
конодательной Думы Томской области, всегда отличающейся от соседних ре-
гионов большим количеством участников: 6 – в 2011 г. , 9 – в 2016 г. Однако
по итогам голосования места в региональной легислатуре опять же распреде-
лили между собой только парламентские партии – «Единая Россия» (41,2%,
10 мандатов по партспискам и 21 – по округам), ЛДПР (21,2%, 5 манда-
тов), КПРФ (16,9%, 4 мандата) и «Справедливая Россия» (8,65%, 2 манда-
та). Из остальных партий наилучший результат показало «Яблоко» – 3,9%,
Российская экологическая партия «Зеленые» набрала 2,3%, Партия роста –
2,2%, «Патриоты России» – 0,83%6
.
Коммунистической партии «Коммуни-
сты России» в Томской области, как и в других регионах, было отказано в ре-
гистрации.
Таким образом, прошедшие выборы подтвердили устойчивость диспози-
ции региональных электоральных полей. В чем ее причины?
Во-первых, общероссийский и региональные электоральные рынки уже
сложились и требуют высоких стартовых вложений, получить которые непар-
ламентские партии могут только при наличии заинтересованных в них групп
интересов. Однако большинство групп интересов в условиях суженной сфе-
ры публичной политики предпочитают гарантированные вложения, недаром
часть представителей бизнеса отказалась от участия в выборах по территори-
альным спискам даже в рядах «Единой России», так как это не давало гаран-
тий прохождения. Не говоря уже о мелких партиях.
Во-вторых, следует учитывать, что свою как положительную, так и отри-
цательную роль в современных выборах продолжает играть сложившаяся в
2000-е гг. тенденция сужения электорального поля, приведшая к деформа-
ции электорального выбора в процессе голосования. Под ее воздействием из-
биратель, с одной стороны, не всегда мог «найти среди кандидатов (партий)
представителя своих политических взглядов». А с другой, сейчас «кандидат
5
Сведения о выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва.
18 сентября 2016 г. – Избирательная комиссия Омской области. URL: http://www.omsk.vybory.izbirkom.
ru/region/omsk?action=show&vrn=2552000897183®ion=55&prver=0&pronetvd=0 (дата обра-
щения 10.04.2017).
6
Сведения о выборах депутатов Законодательной Думы Томской области шестого созыва.
18 сентября 2016 г. – Избирательная комиссия Томской области. URL: http://www.tomsk.vybory.
izbirkom.ru/region/tomsk?action=show&vrn=2702000468494®ion=70&prver=0&pronetvd=0
(дата обращения 10.04.2017).
ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
92
Публичная политика No2
(партия) может получить слабую поддержку не по причине непопулярности
своих политических идей, а вследствие низкого личного доверия». Также со-
хранение «высокого заградительного барьера мотивирует граждан ориенти-
роваться не на те партии, которые наиболее соответствуют их политическим
взглядам, но на партии, которые имеют реальные шансы на прохождение в
парламент» [Гришин 2013: 45–46].
Этот тезис наглядно иллюстрируют социологические данные. Согласно
всероссийскому опросу Левада-Центра 23–27 июня 2016 г.
7
, ответы на во-
прос «Чем объясняется Ваше намерение голосовать за эту партию?» дали сле-
дующее распределение:
Я симпатизирую лидеру (лидерам) этой партии
32
Я разделяю программу и лозунги этой партии
26
Я поддерживаю эту партию уже долгое время
23
Это самая сильная партия, ее поддерживает большинство
17
Эта партия может защитить интересы таких людей, как я
12
Эта партия способна обеспечить нормальную, достойную жизнь
в стране
11
Эту партию поддерживают мои друзья, родственники
10
Эта партия имеет будущее/перспективы
9
Об этой партии я что-то знаю, про другие мне ничего
не известно
6
Это партия нового поколения / поколения наших детей и внуков
3
Жители Алтайского края в 2012 г.
8
так объясняли мотивы своего электо-
рального выбора:
Ориентация на программы партий и кандидатов
41%
Личность кандидата или лидера партии
35%
Текущая деятельность партий и кандидатов
26%
Своя партийная принадлежность
18%
Большая степень информированности
8%
Стремление эффективно использовать свой голос
7%
7
Предстоящие выборы и образ нынешней Госдумы: Пресс-выпуск Левада-Центра. 18.07.2016.
URL: http://www.levada.ru/2016/07/18/predstoyashhie-dumskie-vybory-i -obraz-nyneshnej-gosdumy/
(дата обращения 10.04.2017).
8
Опрос проведен Центром политического анализа и технологий АлтГУ в апреле 2012 г. в трех
городах и пяти районах Алтайского края. Опрошено 763 человека.
Шашкова Ярослава
93
Население, особенно в «третьей России» и регионах с сильными патер-
налистскими установками, голосует консервативно-рационально. Конкурен-
цию парламентским партиям могли составить уже раскрученные бренды па-
триотической направленности типа «Родины», но она в большинстве регионов
была снята с выборов.
Иными словами, как справедливо отметил Ю.Г
.
Коргунюк, правда, при-
менительно к региональным выборам 2012–2014 гг., выборы «показали,
что... результатов можно добиваться не только “закручиванием гаек”, но и их
частичным ослаблением, связанным с допуском к выборам новых “спойле-
ров” и понижением явки. Впрочем, во многих регионах власти и не думали
менять тактику: там, где начальство не видело смысла отказываться от прове-
ренных способов, оно продолжало их использовать» [Коргунюк 2015: 111].
Таким образом, выборы органов законодательной власти регионов За-
падной Сибири, прошедшие с момента принятия новелл партийного законо-
дательства, не сопровождались переформатированием политического про-
странства и политической элиты. Как новые, так и старые «малые» партии пока
не могут составить серьезную конкуренцию парламентским партиям и в основ-
ном решают технические задачи правящей элиты. И даже выборы 2016 г. ,
совмещенные с выборами в Государственную Думу, не увеличили расходы
партий на свое продвижение и число эффективных игроков региональных
электоральных полей.
Литература
Гришин Н.В . 2013. Избирательная система как институт артикуляции по-
литических интересов общества. – Каспийский регион: политика, экономика,
культура. No 2. С . 42–48.
Гришин Н.В . 2014. Региональная оппозиция в России: чужеродный эле-
мент в системе гибридного политического режима. – Политическая эксперти-
за. Т
. 10.No4.С.5–26.
Карозерс Т. 2005. Трезвый взгляд на демократию. – Pro et contra. Т
. 9.No1.
С. 73–80.
Коргунюк Ю.Г
.
2015. Партийная реформа 2012–2014 гг. и структура
электоральных размежеваний в регионах России. – Полис. No 4. С . 97–113.
Кынев А. 2014. Выборы региональных парламентов в России 2009–
2013: От партизации к персонализации. М.: Центр «Панорама». 728 с.
Панов П.В . 2005. Реформа региональных избирательных систем и раз-
витие политических партий в регионах России (Кросс-региональный сравни-
тельный анализ). – Полис. No 5. С . 102–117.
ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
94
Публичная политика No2
Козлова Наталия
Женщины в публичной
политике. На материалах
региональных парламентов
Северо-Кавказского
федерального округа
Козлова
Наталия Николаевна,
доктор политических наук,
профессор кафедры политологии
Тверского государственного
университета (Тверь).
Для связи с автором:
tver-rapn@mail.ru
Аннотация
В данной статье объектом анали-
за является представительство женщин
в региональных парламентах СКФО.
На основе обобщения и анализа стати-
стических данных (партийной принад-
лежности, политического опыта, обра-
зования, профессии, возраста и т.д .)
автор предлагает аналитическое опи-
сание женского сегмента депутатско-
го корпуса региональных парламен-
тов СКФО. Исследователь делает вы-
вод, что для органов законодательной
власти субъектов федерации СКФО ха-
рактерен низкий уровень представлен-
ности женщин, место и роль женщин в
региональных парламентах незначи-
тельные, а гендерная асимметрия име-
ет институциональный характер.
Ключевые слова: региональный
парламентаризм, гендерная асимме-
трия, избирательные системы, гендер-
ный анализ, гендерные роли в политике
95
Kozlova N.N.
Women in public policy.
On the materials of the
regional parliaments
of the North Caucasus
Federal District
Kozlova
Nataliya Nikolaevna,
Doctor of Political Sciences,
professor,
Department of political studies
Tver State University.
To contact the author:
tver-rapn@mail.ru
Abstract
In this article the subject of the
analysis is the women representation in
regional parliaments of the. The author
proposes an analytical description of
the female segment of the deputies of
regional parliaments of North Caucasus
Federal District on the basis of the
compilation and analysis of statistical data
(party affiliation, political experience,
education, profession, age, etc.). The
researcher concludes that the legislative
bodies are characterized by low level of
representation of women, minor role and
place of women in regional parliaments,
and the gender asymmetry is institutional.
Keywords: regional parlamentarism,
gender asymmetry, electoral system,
gender analysis, gender roles in politics
ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
96
Публичная политика No2
В год 100-летия обретения российскими женщинами избирательных
прав актуально обращение к теме «женщины в публичной политике». Пред-
ставленность женщин в публичном поле рассматривается политологами как
один из маркеров демократии и гражданского общества [Инглхарт, Вель-
цель 2011: 393; Айвазова 1998: 5]. В настоящий момент женщины состав-
ляют большую часть российского электората, активно пользуются избиратель-
ным правом. В то же время представленность женщин в легислатурах различ-
ного уровня невысокая. В Государственную Думу VII созыва были избраны
62 женщины (13,7%). Количество женщин-депутатов региональных парла-
ментов также незначительно: общероссийский показатель составляет 14,3%.
На рис. 1 отражена численность женщин-депутатов в региональных парла-
ментах федеральных округов по состоянию на 1 февраля 2016 г.
Рис. 1. Процент женщин-депутатов в региональных парламентах феде-
ральных округов
Как видно, самый низкий уровень представленности женщин в законо-
дательных (представительных) органах власти субъектов Федерации фикси-
руется в Северо-Кавказском федеральном округе (далее – СКФО). Северный
Кавказ – регион с глубокими патриархальными традициями. В то же время по-
литологи отмечают, что повышение политической культуры женщин является
условием социально-политической стабилизации на Северном Кавказе: ми-
ротворческая деятельность женщин приобретает особое значение в разреше-
нии этнополитических противоречий и конфликтов [Гулиева 2005: 2–3].
Цель данной статьи – анализ женского сегмента депутатского корпуса ре-
гиональных парламентов СКФО. Исследование выполнено на основе сбора
Козлова Наталия
97
и рассмотрения материалов специализированных порталов (Парламентский
портал и др.) , сайтов органов государственности власти субъектов Федера-
ции, политических партий, СМИ в январе–мае 2016 г.
Количество женщин-депутатов в региональных парламентах СКФО
Северо-Кавказский федеральный округ был образован при учрежде-
нии федеральных округов 13.05.2000, однако 21.06.2000 был переимено-
ван в Южный федеральный округ. Указом президента России Д.А . Медведева
от 19.01.2010 Северо-Кавказский федеральный округ был выделен из соста-
ва Южного федерального округа. В состав округа входят семь субъектов Фе-
дерации: Республика Дагестан (далее – РД), Республика Ингушетия (далее –
РИ), Кабардино-Балкарская Республика (далее – КБР), Карачаево-Черкесская
Республика (далее – КЧР), Республика Северная Осетия – Алания (далее –
СО-А), Чеченская Республика (далее – ЧР), Ставропольский край. Количе-
ственный состав региональных парламентов СКФО существенно различается:
парламент Республики Ингушетии насчитывает 27 депутатов, а парламент Ре-
спублики Дагестан – 90 депутатов. Парламенты Северной Осетии и Ставро-
польского края избираются по смешанной системе, остальные – по пропор-
циональной.
Из 408 избранных депутатов законодательных органов субъектов Феде-
рации СКФО женщины составляют 38 человек, или 9,3% всего депутатско-
го корпуса. Депутат народного собрания РД Л.Х. Авшалумова отмечает: «Ко-
нечно, хотелось бы, чтобы в парламенте было представлено больше женщин.
Уверена, сегодня есть много хорошо образованных, профессионально подго-
товленных женщин, способных справиться с работой в государственных ор-
ганах и принести пользу республике»
1
. Однако, несмотря на низкие показате-
ли представленности женщин в парламентах СКФО, журналисты полагают, что
Кавказ уже находится в «женских руках»
2
.
Самыми незначительными по представленности женщин являются парла-
менты ЧР (1 женщина, или 2,4%), РД (2 женщины, или 2,2%), РИ (2 женщи-
ны, или 7,4%). В парламентах Ставропольского края, КЧР и СО-А количество
женщин-депутатов соответственно составляет 6 (8,3%), 7 (14%), 8 (10%).
Наибольшее число женщин-депутатов законодательных органов СКФО сосре-
доточено в легислатуре КБР – 12 (17%) (рис. 2).
1
А спокойствие – душевная подлость. URL: http://mahachkala.bezformata.ru/listnews/a-
spokojstvie-dushevnaya-podlost/4847265/.
2
Кавказ в «женских руках». URL: http://kavpolit.com/articles/kavkaz_v_zhenskih_rukah-14748/.
ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
98
Публичная политика No2
Рис. 2. Процент женщин-депутатов в региональных парламентах СКФО.
Таким образом, представительство женщин в парламентах СКФО в двух
субъектах не превышает 5%, в двух субъектах составляет от 5 до 9,9%, в двух
субъектах находится в пределах от 10 до 14,9%, и, наконец, в 1 субъекте со-
ставляет 17%.
Избирательные системы, партийное представительство и статус
женщин-депутатов в региональных парламентах СКФО
Определение типа избирательной системы для продвижения женщин
в публичную политику принципиально важно, поскольку каждая из систем
предполагает выбор тех или иных стратегий, ресурсов и пр. Как известно, про-
порциональная система тесно связана с деятельностью политических пар-
тий, укреплением их как института публичной политики [Айвазова 2008: 25;
Успенская 2012: 15; Жидкова 2005: 5]. Анализ депутатского корпуса регионов
СКФО 2016 г. показывает, что по пропорциональной избирательной системе
было избрано 35 (92,1%) женщин, а по мажоритарной – 3 (7,9%) (рис. 3).
Козлова Наталия
99
Рис. 3. Процент женщин-депутатов, избранных по пропорциональной
и мажоритарной системам
Данная статистика объясняется прежде всего применением в 4 субъ-
ектах СКФО исключительно пропорциональной системы. Однако даже в тех
двух субъектах, в которых используется смешанная система, преимущество на
стороне пропорциональной системы: в СО-А по пропорциональной системе
было избрано 6 женщин, а по мажоритарной – 2, в Ставропольском крае – со -
ответственно 5 и 1 (рис. 4).
Рис. 4. Количество женщин-депутатов, избранных по пропорциональной
и мажоритарной системам
ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
100
Публичная политика No2
Выявляя, сколько женщин-депутатов провели в региональные парламен-
ты политические партии, получаем следующий результат: от «Единой России»
было избрано 29 (76,3%) женщин, от КПРФ – 3 (7,9%), от «Справедливой
России» – 2 (5,3%), от ЛДПР – 2 (5,3%), партия «Патриоты России» в парла-
мент СО-А провела 2 женщин (5,3%) (рис. 5). Причем женщины-депутаты
(3 человека) были избраны по мажоритарной системе только от «Единой
России».
Рис. 5. Партийная принадлежность женщин-депутатов региональных
парламентов СКФО (в процентах)
На мой взгляд, представленные цифры отражают доминирование партии
власти в политической системе России в целом и Северного Кавказа в частно-
сти. Продвижение кандидатов по партийным спискам, как правило, зависит
от их статуса и роли в партии. Так, 10 (26,3%) женщин занимают руководя-
щие позиции в партиях – являются членами региональных политсоветов и их
президиумов, возглавляют региональные приемные лидера партии, партий-
ные организации от местных до региональных. Это в свою очередь определя-
ет и их роль в партийных фракциях легислатур субъектов Федерации. В ре-
гиональном депутатском корпусе СКФО 4 (10,5%) женщины являются руко-
водителями партийных фракций. Несмотря на то что наибольшее количество
женщин, избранных в легислатуры субъектов Федерации, включены в состав
партии «Единая Россия», партия власти и остальные имеют одинаковое чис-
ло женщин-глав партийных фракций – по 1. Примечательно, что в парламен-
те СО-А женщины руководят тремя фракциями: Е.А . Князева – КПРФ, М .Р
. Ку-
лова – «Патриоты России», Л.Х. Токаева – «Единая Россия». В парламенте КБР
фракцию «Справедливой России» возглавляет С.Г
. Азикова.
Распределение мест и должностей в региональных парламентах СКФО вы-
глядит следующим образом: 1 (2,6%) женщина является главой парламента
Козлова Наталия
101
субъекта Федерации, 2 (5,7%) – зам. председателя парламента, 11 (28,4%) –
председателями профильных комитетов, 7 (18,4%) – заместителями предсе-
дателей комитетов, остальные – членами комитетов. Максимальное количе-
ство женщин-депутатов на руководящих постах – в парламенте КБР. В соста-
ве законодательного органа региона женщины занимают посты председателя
парламента, председателей комитетов (3 женщины), заместителей председа-
теля комитетов (2 женщины). По сравнению с предыдущими созывами в дей-
ствующих легислатурах регионов увеличилось количество женщин, работаю-
щих на постоянной основе. Так, перед избранием в текущий состав парламен-
тов СКФО на профессиональной основе работало 8 (21%) женщин-депутатов.
После избрания на постоянной основе законотворческой деятельностью стали
заниматься 15 (39,5%) депутаток.
Политическая биография женщин-депутатов региональных пар-
ламентов СКФО
Большинство женщин-депутатов отмечают, что не планировали делать
политическую карьеру. Депутат парламента ЧР В.А. Дерябина в интервью го-
ворит, что даже не думала стать депутатом парламента ЧР, но «нашлись люди,
которые заметили меня, оценили мой труд»
3
. «Я с благодарностью восприня-
ла оказанное мне доверие, с удовольствием влилась в депутатский многона-
циональный коллектив и по мере своих сил стараюсь быть полезной и людям,
и республике в этом новом для меня качестве», – высказывает свою позицию
Л.Х. Авшалумова4
. Восприятие власти как доверия со стороны того или иного
коллектива людей, а политики как служения народу определяет и задачи де-
путаток: «помочь конкретным людям»
5
.
Женщины-депутаты региональных парламентов СКФО высоко оценива-
ют значение политического участия женщин, заявляют о важности присутствия
женщин в публичной сфере. «Женщина может без ущерба для семьи прино-
сить пользу обществу не только тем, что воспитывает прекрасных детей, соз -
дает тепло домашнего очага, но и берет на себя часть вопросов жизнедеятель-
ности общества в разных отраслях: политике, органах государственной вла-
сти, на производстве, в образовании и т. д .», – утверждает депутат парламен-
та КБР З.М. Бгажнокова6
.
3
Женщина и власть. URL: http://www.nana-journal.ru/states/the-ways-of-fate/139-women -and-
power.html.
4
Это высокое звание – «Человек». URL: http://vipstav.ru/publish/smi/6650-eto-vysokoe-zvanie-
chelovek.html.
5
Незаурядной женщины достойные таланты. URL: http://nalchik.bezformata.ru/listnews/
nezauryadnoj-zhenshini-dostojnie-talanti/30474148/.
6
Зурият Бгажнокова: профессионализм не является величиной постоянной. URL: http://nalchik.
bezformata.ru/listnews/bgazhnokova-professionalizm/30419413/.
ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
102
Публичная политика No2
Анализируя биографии женщин-депутатов, можно сделать вывод, что их
политический опыт складывался из следующих источников: партийная дея-
тельность, государственная и муниципальная служба, участие в деятельности
представительных органов местного самоуправления, а также вовлеченность
в работу общественных организаций. Женщины-депутаты в возрасте старше
40 лет подчеркивают в своих интервью, что их политическая карьера началась
еще при советской власти в рамках комсомольских структур (рис. 6).
Рис. 6. Политический опыт женщин-депутатов региональных парламен-
тов СКФО
Незначительное число женщин – 2 (5,3%) – указали, что в разные пе-
риоды своей жизни принимали участие в деятельности представительных ор-
ганов местного самоуправления. Несущественным политическим ресурсом
женщин-депутатов также выступают общественные организации: 3 женщи-
ны (7,9%) принимали участие в деятельности различных некоммерческих
структур; в женских организациях отметили свое членство также 3 женщины-
депутата (7,9%). В частности, Е.А. Князева является председателем республи-
канского отделения женского общественного союза «Надежда России» СО-А, а
М.А . Дудкина – председателем Карачаево-Черкесского отделения Император-
ского православного палестинского общества. Некоторые женщины-депутаты
вовлечены в работу нескольких общественных организаций: Н.И . Сучко-
ва возглавляет Ставропольское отделение благотворительного фонда «Рос-
сийский фонд милосердия и здоровья» и Ставропольский краевой совет
женщин, Е.В. Бондаренко является членом оргкомитета Северо-Кавказского
Козлова Наталия
103
молодежного форума «Машук», общественной организации «Ставрополь-
ский краевой совет женщин» и Координационного совета по развитию мало-
го и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, Л.Х. Авшалумова
состоит в Президиуме союза женщин, в Общественной палате РД.
Существенно большее количество женщин-депутатов – 10 (26,3%) –
имели на момент избрания в региональный парламент опыт государствен-
ной и муниципальной службы. Депутатки занимали руководящие должно-
сти в аппаратах законодательной и исполнительной власти субъектов Федера-
ции, были начальниками управлений и отделов органов местного самоуправ-
ления. В частности, Л.Х. Авшалумова неоднократно избиралась членом Госу-
дарственного совета и Президентского совета РД.
Часть женщин-депутатов не имеет политического опыта. Их ресурс – до-
стижения в профессиональной деятельности и родственные связи. В частно-
сти, единственная в парламенте ЧР женщина-депутат – заслуженный учитель
ЧР, педагог Центороевской школы Шалинского района с 1965 г., «педагог от
Бога»
7
В.А. Дерябина. Среди своих учеников она называет членов трех поко-
лений семьи Кадыровых, председателя Конституционного суда ЧР С. Абдул-
ханова и др.
8
Сын В.А. Дерябиной А. Эдельгериев занимает пост председа-
теля Правительства ЧР. Связь депутаток с высокопоставленными родственни-
ками характеризует традиционную культуру Северного Кавказа. Единственная
женщина-депутат в возрасте до 30 лет, избранная по спискам от «Единой Рос-
сии», Н.С . Марьяш на момент избрания являлась нотариусом Прохладненско-
го нотариального округа КБР, а ее мать И.Е. Марьяш – бывший вице-премьер
Правительства КБР, председатель Контрольно-счетной палаты КБР (18 сентя-
бря 2016 г. избрана депутатом ГД СФ РФ VII созыва). Таким образом, род-
ственные связи в СКФО выступают как политический капитал.
Деятельность большинства женщин-депутатов сосредоточена на работе
в комитетах социального профиля – здравоохранения, образования, семьи,
молодежной политики и т. д . Концентрация депутаток на деятельности в коми-
тетах социального профиля объясняется самими избранницами природными
свойствами женщин и их традиционной ролью как хранителей и транслято-
ров национальной культуры. Депутат Народного собрания КЧР М.А. Дудкина
говорит в интервью: «Сегодня наши российские духовные корни, традицион-
ные основы воспитания и образования постепенно подменяются более “со -
временными” и “прогрессивными” – западными... И , наблюдая этот процесс,
мы приходим к пониманию, что сегодня мы живем в мире, в котором наши
7
Вера Дерябина: «Школа будет всегда!». URL: http://vipstav.ru/publish/smi/12328-vera-deryabina-
shkola-budet-vsegda.html.
8
Там же.
ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
104
Публичная политика No2
дети нуждаются в особой защите»
9
. Депутат парламента КБР Е.И . Кансаева от-
мечает: «Да, женщины с присущей им от природы эмоциональностью, умени-
ем думать сердцем, могут с большим вниманием относиться к проблемам лю-
дей, социальным вопросам»
10
.
Работа депутаток в социальных комитетах зависит и от профильности их
образования. На первом месте женщины-депутаты с педагогическим образо-
ванием – 19 человек, или 50%. Депутат В.А. Дерябина считает, что профессии
педагога и политика близки: «Совмещать работу учителя и работу депутата –
задача, конечно, не из легких. Но эти работы в чем-то схожи. И как учитель-
ница, и как депутат я должна работать с народом. Разница лишь в возрасте»
11
.
Второе место занимают женщины, получившие экономическое образование, –
5 (13,2%) человек. На третьем месте депутатки, получившие юридическое –
3 (7,9%) и медицинское – 3 (7,9%) образование. Журналистский факультет
окончили 2 (5,3%) женщины-депутата. В категорию «другое» я отнесла 6 жен-
щин, которые единично представлены в своих профессиях (в частности, ме-
неджер в сфере государственного и муниципального управления, зооинже-
нер, актриса, химик-технолог пластических масс, техник-металлург, агроном)
(рис. 7).
Рис. 7. Образование женщин-депутатов региональных парламентов
СКФО
9
I Епархиальные образовательные чтения. URL: http://blagouchenie.ru/index.php/konferentsii/
eparkhialnye-obrazovatelnye-chteniya?id=341.
10
Елена Кансаева: «Женщина вне политики» – дело прошлого. URL: http://nalchik.bezformata.ru/
listnews/kansaeva-zhenshina-vne-politiki/30692641/.
11
Хороший учитель – это не профессия, а миссия свыше... URL: http://chenetbook.info/gazeta/
shkola/shkola/assets/basic-html/page2.html.
Козлова Наталия
105
В депутатском корпусе СКФО 37 (97,4%) женщин имеют высшее образо-
вание, 1 (2,6%) – среднее (она представляет партию КПРФ). Таким образом,
фиксируем высокий образовательный ценз женщин-депутатов. Кроме базо-
вого образования, женщины-депутаты получили дополнительное образова-
ние: второе высшее образование – 6 (15,8%), третье высшее – 1 (2,6%), сте-
пени кандидата наук – 3 (7,9%), доктора наук – 3 (7,9%).
Полученное женщинами-депутатами образование в основном соответ-
ствует их месту работы. На момент избрания 11 (28,9%) женщин представ-
ляли педагогический корпус, 8 (21%) являлись депутатами предыдущего со-
зыва на постоянной основе, 4 (10,5%) были заняты хозяйственной деятель-
ностью, 3 (7,9%) возглавляли отделы и управления на государственной и му-
ниципальной службе, 2 (5,3%) работали журналистами, 2 (5,3%) – в обще-
ственных организациях (рис. 8). Незначительное число женщин-депутатов
выбрали другие поприща (медицина, социальная работа и т. д .) . Депутатки
СКФО – это не просто успешные в профессии женщины: руководители пред-
приятий разного уровня, деятели науки, искусства, образования. Практически
ко всем женщинам-депутатам региональных парламентов СКФО можно при-
менить эпитет, которым один из журналистов охарактеризовал депутата На-
родного собрания РД Л.Х. Авшалумову, – «женщина-легенда»
12
. Депутат пар-
ламента КБР З.М. Бгажнокова считает, что «главным требованием к работнику,
в том числе к государственному служащему, является его профессионализм,
причем профессиональный уровень человека, на мой взгляд, не является ве-
личиной постоянной, он должен непрерывно повышать его, ежедневно при-
обретая новые знания, умения и навыки»
13
.
Признание профессиональных
заслуг женщин как условие их избрания в парламент региона отражает преем-
ственность современной модели парламентаризма с прежней советской мо-
делью представительной системы. Для вхождения в состав депутатского кор-
пуса женщины должны быть известными в регионе людьми с высокими ин-
дексами в профессиональной деятельности.
12
Это высокое звание – «Человек». URL: http://www.nsrd.ru/pub/novosti/eto_visokoe_zvanie_
chelovek_05_06 _2012/print/.
13
Зурият Бгажнокова: профессионализм не является величиной постоянной. URL: http://nalchik.
bezformata.ru/listnews/bgazhnokova-professionalizm/30419413/.
ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
106
Публичная политика No2
Рис. 8. Место работы женщин-депутатов на момент избрания в регио-
нальные парламенты СКФО
Возраст и семейный статус женщин-депутатов региональных пар-
ламентов СКФО
Политологи указывают, что женщины включаются в политику в зрелом
возрасте, когда их дети становятся взрослыми [Gender and Party Politics 1993:
262]. Кроме того, профессиональные успехи женщин в этом возрасте оказы-
ваются уже очевидными. Средний возраст женщин-депутатов региональных
парламентов СКФО на момент избрания составляет 53,3 года. По регионам
средний возраст депутатов значительно варьируется: самый «молодой» реги-
он – КЧР, в которой средний возраст депутата составляет 44,4 года; самый «по-
жилой» регион – ЧР, в которой возраст единственной женщины-депутата со-
ставил на момент избрания 68 лет (рис. 9).
Рис. 9. Возраст женщин-депутатов региональных парламентов СКФО
Козлова Наталия
107
Из 38 женщин-депутатов легислатур субъектов СКФО 1 (2,6%) чело-
век находится в возрастной категории от 20 до 29 лет, 5 (13,1%) – в возраст-
ной категории от 30 до 39 лет, 12 (31,6%) – в возрастной категории от 40 до
49 лет, 10 (26,4%) – в возрастной категории от 50 до 59 лет, 9 (23,4%) – в
возрастной категории от 60 до 69 лет, и 1 (2,6%) депутатка превышает 70-лет-
ний рубеж (рис. 10). Таким образом, очевидно, что абсолютное большинство
женщин-депутатов регионов СКФО (84,2%) имеют возраст выше 40 лет.
Рис. 10. Распределение по возрастным группам женщин-депутатов регио-
нальных парламентов СКФО
Важно отметить и тот факт, что женская политическая элита в региональ-
ных парламентах обновляется медленно: 12 (25%) депутаток уже избирались
членами региональных парламентов, из них 2 раза избирались 10 женщин,
3 раза – 2 женщины. Переизбрание на очередной срок свидетельствует о том,
что и избиратели, и избирательные объединения позитивно оценивают де-
путатскую работу женщин. Безусловно, эти депутатки являются частью регио-
нальной политической элиты.
Семейный статус женщин-депутатов актуален для изучения, посколь-
ку в политических исследования были артикулированы две противополож-
ные точки зрения на этот вопрос: с одной стороны, при анализе обществен-
ного мнения было выявлено негативное отношение к незамужним женщинам
[Митина 1999: 190]; с другой стороны, семья выступает фактором, препят-
ствующим политической карьере женщин, так как именно женщины выпол-
няют домашнюю работу [Gender and Party Politics 1993: 263]. Для культуры Се-
верного Кавказа характерна ориентация женщин на выполнение традицион-
ных женских ролей жены и матери. Депутат парламента КБР З.М. Бгажнокова
отмечает: «Благодаря традиционному воспитанию наши женщины, как прави-
ло, признают приоритет семьи... Я остаюсь мамой, женой, дочерью, сестрой,
ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
108
Публичная политика No2
и из-за сложной работы с меня никто эти обязательства не снимал. В первую
очередь я сама себе не позволю их не исполнять»
14
.
Часть депутаток не афиширует свою личную жизнь в СМИ: 15 (39,8%) из
38 женщин не предоставили никакой информации о своем семейном поло-
жении. О замужнем статусе в открытых информационных источниках заявили
19 женщин (50%), 1 (2,6%) депутатка указала на статус «вдова», 3 (7,9%) –
на статус «незамужние» (рис. 11).
Рис. 11. Семейный статус женщин-депутатов региональных парламентов
СКФО
По биографическим данным, представленным в сети Интернет,
24 женщины-депутата имеют детей, 14 – не информировали электорат по
данному вопросу. При этом 8 (33,3%) депутаток воспитывают (либо воспиты-
вали) 1 ребенка, 10 (41,7%) – 2 детей, 8 (33,3%) – 3 и более детей. Причем
женщины-депутаты, занятые на руководящих постах в парламентах, имеют
3 и более детей: заместитель председателя комитета по социальной политике,
здравоохранению и делам ветеранов парламента Республики СО-А Н.М. Аче-
ева – 5 детей, председатель парламента КБР Т.Б . Егорова – 4 детей, предсе-
датель комитета по регламенту, депутатской этике и организации деятельно-
сти парламента КБР Е.И . Кансаева, председатель комитета по социальной по-
литике, охране здоровья населения и экологии КЧР Е.Е. Червонова, замести-
тель председателя комитета по науке, образованию, культуре и спорту парла-
мента РИ Ж.Д. Аушева, председатель комитета по законодательству, государ-
ственному строительству и местному самоуправлению Думы Ставропольско-
го края С.А. Терехова – по 3 детей. Таким образом, статистика свидетельствует,
что женщины-политики региональных парламентов СКФО успешно совмеща-
ют семейные и политические обязанности.
14
Зурият Бгажнокова: профессионализм не является величиной постоянной. URL: http://nalchik.
bezformata.ru/listnews/bgazhnokova-professionalizm/30419413/.
Козлова Наталия
109
Выводы
В региональных парламентах СКФО четко прослеживается гендерная
асимметрия: в депутатском корпусе насчитывается 9,3% женщин, что ниже
общероссийского показателя. В парламентах двух субъектов Федерации (ЧР
и РД) процент женщин-депутатов менее 3%. В региональных легислатурах
СКФО нет женщин-членов Совета Федерации. В то же время в пространстве
СКФО процент женщин-депутатов региональных парламентов существенно
отличается: от 2,2 до 17%.
Количество женщин-депутатов, избранных по пропорциональной из-
бирательной системе, преобладает над теми, кто победил в одномандатном
округе. Абсолютное большинство депутаток (76,3% женщин) были избраны
по партийным спискам «Единой России», что отражает ведущую роль данной
партии в политической системе страны и региона.
Исследование показывает, что включение женщин в партийные списки
зависит от их должности в партийной структуре. Так, 26,3% женщин занима-
ют руководящие позиции в местных и региональных отделениях «Единой Рос-
сии», КПРФ, «Справедливой России». Поэтому вполне логично, что часть из
них (10,5%) является главами фракций в региональных парламентах СКФО.
Уникальным в этом плане оказывается парламент СО-А: женщины-депутаты
руководят здесь тремя фракциями. Помимо постов глав партийных фрак-
ций женщины возглавляют и другие структуры региональных парламентов:
1 женщина является главой парламента субъекта Федерации, 2 – заместите-
лями председателя парламента, 11 – председателями профильных комитетов,
7 – заместителями председателей комитетов. Наибольшее количество
женщин-депутатов насчитывается на руководящих постах в парламенте КБР.
На постоянной основе законотворческой деятельностью занимаются 39,5%
депутаток. При анализе данной статистики закономерен следующий вывод:
количество женщин в парламенте и занятие ими руководящих постов в парла-
ментах практически между собой не связаны. Процент женщин, занимающих
руководящие посты в законодательных органах субъектов СКФО, выше, чем
процент женщин-депутатов. Поэтому простое увеличение женщин в парла-
ментах регионов СКФО если и будет способствовать продвижению женщин-
депутатов на руководящие посты в парламенте, то в незначительной степени.
Политические биографии женщин-депутатов региональных парламен-
тов СКФО свидетельствуют о том, что их основными политическими ресур-
сами являются государственная/муниципальная служба и партийная рабо-
та. Менее значимым источником политического капитала становится деятель-
ность в общественных организациях и органах местного самоуправления. Не-
значительная часть женщин-депутатов не имеет политического опыта. Их глав-
ный ресурс – достижения в профессиональной сфере и родственные связи.
ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
110
Публичная политика No2
Первое указывает на преемственность с советской представительной систе-
мой, второе – на традиционную культуру Северного Кавказа.
Женщин-депутатов органов законодательной власти СКФО характери-
зует высокий образовательный ценз. В депутатском корпусе СКФО преобла-
дают женщины с педагогическим образованием, что соответствует статистике
региональных парламентов других федеральных округов – в частности, ЦФО
[Козлова 2016: 60]. Место работы женщин-депутатов на момент избрания в
основном соответствует их образованию. Практически все женщины – высо-
копрофессиональные специалисты в определенной отрасли деятельности и
известные персоны в своем регионе. С профессионализмом, а также с много-
детностью семей региона, с традиционным распределением ролей в них свя-
зан и факт позднего включения женщин в политику – 53,3 года (для сравне-
ния: в ЦФО – 48 лет [Козлова 2016: 69]).
Анализируя данные статистики о семейно-брачном статусе женщин-
депутатов региональных парламентов СКФО, становится бесспорным тот факт,
что их политические и семейные роли не противоречат друг другу: большин-
ство депутаток состоят в браке и воспитывают детей. Более того, основным об-
разом женщин-депутатов на Северном Кавказе является образ матери, кото-
рая уже вырастила своих детей и способна отстаивать интересы всей нации.
В публичном пространстве СКФО сформировался образ женщины конкрет-
ной национальности – ингушки, чеченки, «женщины-горянки»
15
ит.д., основ-
ная задача которой – сохранение традиционной национальной культуры.
С одной стороны, это определяет нишу женщин в политическом простран-
стве и гарантирует их присутствие в парламентах СКФО, а с другой – сужа-
ет спектр вопросов и проблем, на решение которых они могут влиять. Кро-
ме того, к женщинам-депутатам предъявляются высокие требования: депутат-
ка должна быть взрослой замужней женщиной, воспитавшей детей, получив-
шей высшее образование, имеющей опыт успешной профессиональной са-
мореализации в публичной сфере, опирающейся на родственные связи. Это
делает перспективу увеличения числа женщин в депутатском корпусе регио-
на малодостижимой. Но даже при незначительном росте количества женщин
в парламентах регионов СКФО за счет целенаправленного продвижения жен-
щин в публичную сферу политическими партиями и/или проведения гендер-
но сбалансированной кадровой политики в органах государственной власти и
МСУ произойдет усиление консервативного дискурса, направленного на под-
держание гендерной асимметрии представительной системы. В этом случае
представительство женских интересов будет вести к дальнейшему воспроиз-
водству и тиражированию традиционных социальных ролей, не связанных
15
О значимости социальной сферы в жизни общества говорили с депутатом. URL: http://vipstav.
ru/publish/smi/12329-o-znachimosti-socialnoy-sfery-v -zhizni-obschestva-govorili-s-deputatom.html.
Козлова Наталия
111
с мейнстримом демократизации и модернизации общества, женский сегмент
в региональных парламентах СКФО останется периферийным, а гендерная
пирамида публичной сферы – устойчивой.
Литература
Айвазова С.Г
. 1998. Русские женщины в лабиринте равноправия. М.: РИК
Русанова. 408 с.
Айвазова С.Г
.
2008. Российские выборы: гендерное прочтение. М.: Мо-
сковские учебники и картолитография. 440 с.
Гулиева М.М. 2005. Политическая культура женщин как условие
социально-политической стабилизации (На материалах Северного Кавказа).
Дис. ... канд. полит. наук. Пятигорск. 154 с.
Жидкова Н.Г
. 2005. Формирование кандидатского корпуса Государствен-
ной Думы: гендерный аспект. Дис. ... канд. полит. наук. Москва. 156 с.
Инглхарт Р. , Вельцель К. 2011. Модернизация, культурные изменения и
демократия. Последовательность человеческого развития. М.: Новое изда-
тельство. 464 с.
Козлова Н.Н. 2016. Депутатский корпус Центрального федерально-
го округа: гендерное измерение.
–
Женщина в российском обществе. No 4.
С. 58–71.
Митина О.В . 1999. Женское гендерное поведение в социальном и
кросс-культурном аспектах.
–
Общественные науки и современность. No 3.
С. 179–191.
Успенская В.И. 2012. Политические партии как ключевой фактор повы-
шения роли женщин в политике.
–
Вестник Тверского государственного уни-
верситета. Серия: «Экономика и управление». No 26. С . 15–24.
Gender and Party Politics / еd. J. Lovenduski and P. Norris. London: Sage.
1993. 358 p.
ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
112
Публичная политика No2
Политические сети.
От метафоры к концепту
Балаян Александр,
Томин Леонид
Балаян
Александр Александрович,
кандидат политических наук, до-
цент департамента прикладной по-
литологии НИУ ВШЭ – СПб.
Для связи с автором:
alexandr1138@mail.ru
Томин
Леонид Владимирович,
кандидат политических наук, до-
цент кафедры политического
управления СПбГУ.
Для связи с автором:
leopolit@yandex.ru
Аннотация
В статье предлагается критиче-
ский анализ теорий, работающих с по-
нятием «сеть» в рамках различных на-
правлений философии, социологии и
политологии. Теории классифициру-
ются через экспликацию их эпистемо-
логических оснований и обозначение
проблемных полей, в которых они ра-
ботают. От неоформленного использо-
вания понятия «сеть» как подходящей
метафоры до концептуализации в ис-
следованиях роли информации и но-
вых медиа и работах по проблемам
безопасности. В статье делается акцент
на перспективах использования по-
нятия «сеть» прежде всего для анали-
за трансформаций политических акто-
ров (партий, социальных и протестных
движений).
Ключевые слова: Сеть, иерар-
хия, политические трансформации,
новые медиа, партии, социальные
движения
113
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Political networks:
from metaphor to concept
Balayan А.А., Tomin L.V.
Balayan
Alexandr Aleksandrovich,
Associate professor, Department for
Applied Political Studies at the
National
Research University Higher School of
Economics - Saint Petersburg.
To contact the author:
alexandr1138@mail.ru
Tomin
Leonid Vladimirovich,
Associate professor, Department of
political governance
Saint Petersburg State University.
To contact the author:
leopolit@yandex.ru
Abstract
The paper offers a critical analysis
of theories working with the concept
of “network” in the framework of
various areas of philosophy, sociology
and political science. Theories are
classified through the explication of their
epistemological foundations and the
designation of problem fields in which
they work. From the unformed use of
the concept of “network” as a suitable
metaphor to its conceptualization in the
research of the role of information and
new media and work on security issues.
The paper focuses on the prospects of
using the concept of “network” primarily
for analyzing the transformation of
political actors (parties, social and protest
movements).
Keywords: Network, hierarchy,
political transformation, new media,
social and protest movements
114
Публичная политика No2
Балаян Александр, Томин Леонид
В течение нескольких десятилетий происходит процесс трансформации
положения государств во внешней и внутренней политике. Они больше не яв-
ляются единственными значимыми акторами на международной арене. По-
явились новые типы акторов: сетевые организации, социальные и протест-
ные движения [Guattari, Negri 1990] и иные субъекты, действующие по схоже-
му принципу. Подобные изменения привлекли внимание исследователей, за -
нимающихся политическими, социальными и экономическими проблемами
[Therborn 2008: 151].
В 2000-е гг. ряд отечественных политологов и специалистов по медиатео-
рии в своих работах обратились к исследованию политических сетей или роли
сетевых коммуникаций в политическом процессе. Наиболее часто встречаются
следующие направления исследований: репрезентация деятельности и взаи-
модействия с гражданами посредством интернета, государственных органов,
политических партий и общественных организаций и неформальное взаимо-
действие государственных структур и бизнеса и организаций гражданского
общества, различных сообществ в экономике или искусстве.
Существующие имплицитно различия в понимании основных концептов
и проблематики приводят к тому, что достаточно редко можно встретить дис-
куссию, ведущуюся в общем проблемном поле. Поэтому, прежде чем сравни-
вать разные подходы, необходимо проанализировать их эпистемологические
основания.
В 1930–1940-е гг. Г
.
Башляр, исследуя историю физики, химии и гео-
метрии, обратил внимание на дисконтинуальный характер их развития. От-
вергая эволюционную модель постепенного накопления эмпирических фак-
тов, он рассматривал появление новых дисциплин и научных революций как
формирование нового проблемного поля. Оно задается новой проблемати-
кой, в ее рамках создаются концепты, которые даже если имеют старые назва-
ния – меняют свое значение.
В 1960-е гг. аналогичный анализ в философии и экономике провел
Л. Альтюссер. На примере «Капитала» К. Маркса он показал, какую работу над
понятиями классической политической экономики провел основатель истори-
ческого материализма. Основные понятия политической экономии А. Смита
или Д. Рикардо им были не просто историзированы; главное, К . Маркс соз-
дал новое проблемное поле, основанное на новых понятиях (общественно-
экономическая формация, производительные силы, производственные отно-
шения) [Althusser, Balibar 2009: 86–90].
Есть и другой пример, когда тот эпистемологический разрыв не просто
обозначает появление новой проблематики, а конституирует различие между
идеологией и наукой. Если мы возьмем исследования формирования наций
и национализма, то корпус работ конструктивистов (Э. Хобсбаум, Э. Геллнер,
115
Б. Андерсон) сделал возможным переход от спекулятивно-философских или
биологизаторских теорий к формированию научного подхода к истории на-
ций и национальных государств.
Поэтому среди задач данной статьи – рассмотреть существующие подхо-
ды к проблематике сетей, обозначить эпистемологические различия, отделя-
ющие одни теории от других.
Среди первых исследователей, в чьих работах слово «сеть» стало важной
метафорой для описания социальных, экономических, политических и куль-
турных изменений, был Э. Тоффлер. Он полагал, что «системы Второй волны
находятся в кризисе. Кризис проявляется в системе социального обеспечения.
Переживает кризис система почтовой связи. Кризис охватил систему школь-
ного образования. Кризис в системе здравоохранения. Кризис в системе го-
родского хозяйства. Кризис в международной финансовой системе. Кризис в
национальном вопросе. Вся система Второй волны в целом пребывает в кри-
зисе» [Тоффлер 1999: 92].
Одна из главных причин этого напряжения и кризиса – появление новых
информационных технологий, которые постепенно задают новую логику раз-
вития и становятся самостоятельным фактором эволюции.
Для Э. Тоффлера сеть не точно определенное понятие, а метафора, опи-
сывающая появление «новой матрицы» [Там же: 179], задающей новую логи-
ку развития всех основных сфер. На макроуровне информационные техноло-
гии по-новому соединяют различных акторов уже в рамках глобальной эко-
номики [Там же: 69]; организации, объединяющие людей по различным це-
лям и интересам, создают единую сеть гражданского общества [Там же: 187].
Изменения затронут и уровень малых социальных групп, традиционная семья
в пространстве интерконнективности трансформируется в новый тип отноше-
ний [Там же: 155].
Как мы можем видеть, для Э. Тоффлера сеть – это именно метафора, по-
зволяющая соединить и попытаться объяснить самые разнообразные про-
цессы, происходящие со старыми структурами и институтами в новой инфор-
мационной среде. Работы Э. Тоффлера – часть корпуса исследований «пост-
индустриального общества», в их основе лежит объяснительная модель
социально-экономических и политических изменений, сведенная к простому
технологическому детерминизму.
Рассматривая современные подходы к сетевым структурам, нельзя не
упомянуть социолога Мануэля Кастельса. Ему принадлежит идея о том, что
сети со временем станут важнейшей организационной силой, а «исследова-
ние зарождающихся социальных структур позволяет сделать следующее за-
ключение: в условиях информационной эры историческая тенденция приво-
дит к тому, что доминирующие функции и процессы все больше оказываются
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
116
Публичная политика No2
Балаян Александр, Томин Леонид
организованными по принципу сетей. Именно сети составляют новую соци-
альную морфологию наших обществ, а распространение “сетевой” логики в
значительной мере сказывается на ходе и результатах процессов, связанных с
производством, повседневной жизнью, культурой и властью» [Кастельс 1999:
494].
По его мнению, примерно в 1970-х гг. в США начала складываться но-
вая информационно-технологическая парадигма. М. Кастельс связывает это
явление с новыми процессами в культуре и ментальности. «Технологический
расцвет, который наступил в начале 1970-х , мог быть в какой-то мере соот-
несен с культурой свободы, индивидуальной инновации и предприниматель-
ства, выросших из культуры американских кампусов 1960-х годов» [Кастельс
2000: 16].
Модель цифровой экономики на основе компьютерных технологий и ин-
тернета создает новый тип производства и труда. В странах капиталистическо-
го ядра происходит демассификация структур производства за счет переме-
щения материального производства в периферийные страны. Мировая мо-
дель разделения труда трансформируется, основную долю прибыли получа-
ют не производства, непосредственно производящие товары, а, например,
IT-корпорации, создающие программы (операционные системы, онлайн-
магазины, продающие как обычные товары, так и цифровой, аудио- и видео-
контент) и дизайн компьютеров и смартфонов.
Новая глобальная экономика не формирует, согласно М. Кастельсу, еди-
ное пространство – одни в нее включены (США, Канада, страны Западной
Европы и Япония), вторые подключены к ней лишь сегментарно (Латинская
Америка, постсоветское пространство), третьи подключены слабо (Афри-
ка) частично зависимы, но все больше «структурно иррелевантны» [Кастельс
2000: 143].
Таким образом, именно подключенность или неподключенность страны к
информационным потокам, по М. Кастельсу, определяет процесс экономиче-
ской и социальной поляризации в рамках глобального капитализма.
Проведенный М. Кастельсом системный анализ социально-
экономических изменений на микроуровне (трансформация труда) и на ма-
кроуровне (новая экономическая и социальная поляризация) имеет ряд недо-
статков. Концепции М. Кастельса особенно из работ 1990-х – начала 2000-х гг.
можно назвать левым вариантом «калифорнийской идеологии» [Барбрук
2015: 26–63].
Согласно Р. Барбруку, эта «новая вера возникла из причудливого спла-
ва культурных предпочтений богемы Сан-Франциско и возможностей вы-
сокотехнологичных индустрий Кремниевой долины. Калифорнийская иде-
ология, продвигаемая в журналах, книгах, телепрограммах, на веб-сайтах,
117
в новостных группах и сетевых конференциях, родилась от случайной связи
между беззаботным духом хиппи и антрепренерским рвением яппи. Этот сплав
противоположностей возник на основе глубокой веры в освобождающий по-
тенциал новых информационных технологий. В цифровой утопии каждый бу-
дет одновременно и хиппарем, и богачом. Столь оптимистичный взгляд на бу-
дущее одинаково мил компьютерным фанатам и студентам-прогульщикам,
капиталистам-инноваторам и социальным активистам, модным интеллекту-
алам, бюрократам футуристического склада и политикам-оппортунистам по
всей Америке» [Барбрук 2015: 27].
Важным эпистемологическим новшеством теории М. Кастельса являет-
ся тезис о том, что «сетевое общество» необходимо концептуально описывать
как пространство потоков, а не интерсубъективное взаимодействие людей или
связанность национальных государств (или городов) посредством информа-
ционных технологий. Можно предположить, что такой подход является след-
ствием увлечения М. Кастельсом философией Л. Альтюссера. Наряду с други-
ми (М. Фуко, К. Леви-Стросс) Л. Альтюссер в 1960-е гг. обосновывал прин-
цип «теоретического антигуманизма», утверждая, что понятие «человек» (как
автономный субъект, творящий историю) иррелевантен для науки [Альтюссер
2006: 316–334]. В своей первой книге М. Кастельс [Castells 1979] с помощью
понятий, предложенных Л. Альтюссером, анализировал трансформацию со-
временных городов.
Несмотря на это, в дальнейшем М. Кастельс несколько отступил от ради-
кально структуралистского взгляда на проблему актора и структуры. В работах
1980–1990-х в измененном виде проблематика субъекта, идентичности воз-
никает в его работах снова. Несомненным достоинством теории М. Кастельса
является отказ от монокаузальности в объяснении, «сетевое общество» в его
понимании не просто продукт технологического прогресса. Политика, культу-
ра, экономика и религия составляют не менее важные факторы его формиро-
вания и развития.
Оригинальным вкладом в исследование сетей являются работы социоло-
га науки Бруно Латура. Он наряду с М. Каллоном и Дж. Ло основал целую ис-
следовательскую программу STS (Science and Technology Studies). Ее основные
темы: переосмысление базовых понятий (общество) и линий раздвоения (со-
циальное/технологическое, макропроцессы/микропроцессы), обоснование
взгляда на вещи как акторы.
В рамках акторно-сетевой теории (АСТ) под словом сеть понимается
«связанный ряд действий, каждый участник которых рассматривается как пол-
ноценный посредник. Хороший с точки зрения ACT отчет – это нарратив, или
описание, или высказывание, в котором все акторы не сидят сложа руки, а
что-то делают. Каждая точка в таком тексте может стать точкой бифуркации,
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
118
Публичная политика No2
Балаян Александр, Томин Леонид
событием или источником нового перевода вместо того, чтобы переносить
эффекты, не трансформируя их» [Латур 2014: 181].
В контексте более детального понимания сети важным представляется их
типологизация. Б . Латур выделяет следующие типы сети:
1. Технические сети, такие как дороги, городское хозяйство и интернет.
Сети этого типа вполне характерны для индустриальных политических систем
и не являются предметом нашего исследования.
2. Сети, используемые в гуманитарных науках, таких как социология, для
«введения различия между организациями, рынками и государствами. В этом
случае сеть представляет собой неформальный способ связи человеческих
агентов» [Там же: 182].
Работы Б. Латура, можно отнести к ряду новых теорий, объединенных
«плоской онтологией», основной акцент делается на самой связи между раз-
личными акторами (без разделения на социальные, природные, технологиче-
ские). Так, понимаемая сеть включает в себя по-разному устроенные типы акто-
ров – как иерархические структуры, так и гибридные и горизонтально-сетевые.
Сами теоретики STS долгое время не обращались к политическим про-
цессам, ряд их последователей [Harman 2014] попытались эксплицировать
основные теоретические постулаты, осмыслить их в контексте политической
проблематики и показать, как теория Б. Латура дает исследователям новые
основания для анализа политических процессов вне традиционных понятий
и линий разделения. Г
.
Харман назвал это объектно-ориентированной поли-
тикой [Ibid.: 172–189].
В таком понимании теряют свое значение многие понятия и линии разде-
ления (идеологическое различие левое/правое). Предыдущие модусы суще-
ствования политики обозначаются как «политика истины» (truth politics) и «по-
литика силы» (power politics). Каждый из модусов имеет условно левую и пра-
вую версии [Ibid.: 1–5].
В «Политике истины» противопоставляется знание (knowledge) невеже-
ству (ignorance). Левая революционная версия видит людей равными и об-
ладающими неотчуждаемыми правами. Если равенство или индивидуальные
права и свободы отсутствуют или сильно ограничены, причина этого видит-
ся во внешней силе (случайные исторические события, идеологическое под-
чинение правящему классу). В такой ситуации левая версия выдвигает идею
группы-авангарда, способной просветить и освободить массы.
Правая версия «политики истины» строго элитистская, она утверждает
необходимость управления общества философами или экспертами, возвы-
шающимися благодаря своим знаниям над массами. В качестве примера та-
кого понимания можно привести интерпретацию идей Л. Штрауса как эзоте-
рического философа элиты [Harvey 1987: 232–233].
119
«Политика силы» – это борьба за власть, в рамках которой над полити-
кой нет никакой трансцендентной инстанции. Левая версия, согласно Г. Хар-
ману, похожа, с одной стороны, на политику идентичности (identity politics) в
ее трактовке интеллектуалами-постмодернистами, а с другой – на анархиче-
скую идею бесконечной креативности желания, которое не должно и не может
быть ничем ограничено.
Правая версия восходит к Т. Гоббсу и его страху, что любая апелляция к
трансцендентной инстанции, находящейся над политикой, будь то религия
или наука, спровоцирует гражданскую войну, поскольку сама возможность су-
ществования такой инстанции ослабляет власть Левиафана. Сходную правую
версию «политики силы» можно обнаружить в работах К. Шмитта, где сама
сущность политического понимается через оппозицию друзей и врагов, кото-
рая особенно проявляется в ситуации чрезвычайного положения, когда меж-
ду ними идет смертельная битва [Harman 2014: 3].
С точки зрения политической философии здесь предлагается достаточно
интересный новый подход, а в практическом применении акторно-сетевой те-
ории в современных политических условиях Б. Латур и его последователи вы-
двигают единственное предложение – новую экологическую политику.
Следующий вариант концептуализации проблематики политических се-
тей основан на анализе трансформации разных типов организаций (полити-
ческих партий, социальных движений). Характеристика организаций как сете-
вых или гибридных противопоставляет их традиционным иерархическим ин-
ститутам с формализованным бюрократическим управлением.
В 1990-е гг. подобного подхода отчасти придерживались исследователи
проблем безопасности (security studies), работающие в основном на фабри-
ках мысли, близких к вооруженным силам или спецслужбам США.
Аналитики RAND Corporation Дж. Аркилла и Д. Рондфельдт отмеча-
ют, что информационная революция трансформировала природу конфлик-
тов. В результате этой революции на передний план выходят сетевые фор-
мы организации, имеющие целый ряд преимуществ перед иерархическими
формами.
Новая форма конфликта – так называемая сетевая война – это специ-
фическая организация акторов, в результате которых они приобретают свой-
ство быстро объединяться в сети и решать определенные задачи. Преимуще-
ство и инициатива в таких условиях переходят к негосударственным акторам,
они способны создать сеть из разных ячеек (где каждый узел связан с каждым
узлом), которая оказывается эффективней, чем традиционные иерархические
структуры. Информационная революция, изменив природу конфликтов, де-
лает более эффективными организации с более быстрой и гибкой системой
внутренних и внешних коммуникаций [Arquilla, Ronfeldt 2003: 4].
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
120
Публичная политика No2
Балаян Александр, Томин Леонид
Сетевые структуры подобны «двуликому Янусу», они могут быть исполь-
зованы как мирными организациями для более эффективного достижения
поставленных целей, так и военизированными формированиями в боевых
действиях либо террористическими или криминальными структурами [Sergi,
Lavorgna 2016: 53–65].
Процесс принятия решений в сетевых структурах децентрализован и до-
вольно часто принимается на локальном уровне. К решению проблемы могут
подключаться и другие акторы, поэтому решение может принимать многого-
ловый вид (аналитики RAND используют термин “Hydra-headed”) .
Дж. Аркилла и Д. Ронфельдт выделяют три способа организации сетевой
структуры. Первый из них – линейная сеть (Chain Network). По структуре цепи
эта сеть представляет собой единый поток ячеек, следующих друг за другом,
где люди, товары или информация проходят путь от начала до конца сети че-
рез все промежуточные пункты. Второй тип организации сети исследовате-
ли обозначили как сеть-звезда (Star or Hub Network). Сеть, похожая на звезду
или колесо, организуется подобно сети франчайзинга или картелю: набор ак-
торов сети привязан к центральной (но не по иерархии) ячейке-актору и дол-
жен проходить сквозь нее для решения текущих задач и координации друг с
другом. Третий тип сети – многоканальная сеть (All-Chain Network), в которой
каждый актор, представленный в виде ячейки, напрямую связан со всеми дру-
гими [Arquilla, Ronfeldt 1996: 87].
В последние годы особое распространение получили смешанные, или ги -
бридные, типы сетей. В таких системах отдельные элементы располагаются по
иерархической схеме. Например, в некоторых военизированных и террори-
стических организациях есть иерархическое командование, которому подчи-
няются боевые ячейки, сами между собой не связанные, не имеющие еди-
ного центра координации и выполняющие свои отдельные задачи. При этом
не обязательно, что все акторы сети находятся в постоянной коммуникации
между собой. В целях конспирации данная коммуникация может происходить
с перерывами.
Дж. Аркилла и Д. Ронфельдт рассматривают и типологизируют сети че-
рез призму их деструктивной деятельности с точки зрения государства. И здесь
одинаково без разделения рассматриваются террористические сети, легаль-
ные и нелегальные леворадикальные движения и активистские организации,
действующие в разных сферах (экология, права человека). Подобный госу-
дарствоцентричный взгляд не позволяет адекватно взглянуть на организации
разного типа и направленности, происходит опасное смешение – действую-
щие легально организации ставятся на одну доску с террористами.
С эпистемологической точки зрения наиболее продуктивным представ-
ляется подход Ж. Делеза и Ф. Гваттари. Их концепция повлияла на выше-
121
упомянутую акторно-сетевую теорию Б. Латура. Прежде всего эти системы
объединяют радикальная «плоская онтология» и теория «сборок», позволя-
ющие преодолеть оппозицию «субъект–объект» и разделение на социаль-
ное, природное и технологическое. Радикальный конструктивизм Ж. Делеза и
Ф. Гваттари – это пространство потоков, без телеологии, эссенциализма. Важ-
нейшим отличием их концепции от того, что принято называть постмодерниз-
мом или постструктурализмом, является акцент на материальном, а не дис-
курсивном понимании реальности.
Концепция Ж. Делеза и Ф. Гваттари была изложена ими как в совместных
работах [Делез, Гваттари 2010: 118–119; Делез, Гваттари 2007: 446–453],
так и по отдельности [Guattari, Rolnik 2008: 179–184; Guattari 2009: 278–291]
через понятие сборки (или в «Анти-Эдипе» – машины), понимаемой как сово-
купность разных элементов: природных, социальных и технологических, кото-
рые, соединяясь, приобретают новые эмерджентные свойства. «Больше нет ни
природы, ни человека – есть лишь процесс, который производит одно в дру-
гом и состыковывает машины. Повсюду производящие и желающие машины,
шизофренические машины, целая порождающая жизнь; я и не-я, внешнее и
внутреннее больше ничего не значат» [Делез, Гваттари 2007: 14].
В рамках такой «плоской онтологии» все элементы сборки равноценны.
Каждая из сборок имеет два полюса: молярный (временно упорядоченные
иерархические структуры) и молекулярный (основанный на детерриториза-
ции, неиерархический, балансирующий на грани хаоса). В этой модели мо-
лярное и молекулярное находятся в противоречивых отношениях, включаю-
щих в себя как борьбу, так и взаимное дополнение. Их нельзя просто противо-
поставить одно другому, как делают некоторые авторы, политически опреде-
ляя концепцию Ж. Делеза и Ф. Гваттари как разновидность анархизма. И мо-
дель, предложенная выше Ж. Делезом и Ф. Гваттари, активно применяется для
анализа социально-экономических и политических процессов как на макро- ,
так и на микроуровне.
С точки зрения политологии интересно посмотреть, как эти исследовате-
ли анализируют подъем фашизма и нацизма в Европе в 1920–1930-е гг. Их
объяснение в отличие от теорий тоталитаризма, делающих акцент на подавле-
нии государством-партией с помощью идеологии и репрессий плюралисти-
ческого гражданского общества, позволяет зафиксировать и микрополитиче-
скую основу фашизма и нацизма.
По их мнению, «фашизм неотделим от молекулярных очагов, которые,
взаимодействуя, плодятся и перескакивают от одной точки к другой, прежде
чем начнут резонировать все вместе в национал-социалистическом Государ-
стве. Сельский фашизм и фашизм города или квартала, фашизм молоде-
жи и фашизм ветеранов войны, фашизм левых и фашизм правых, фашизм
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
122
Публичная политика No2
Балаян Александр, Томин Леонид
супружеской пары, семьи, школы или офиса... Фашизм есть тогда, когда маши-
на войны устанавливается в каждой дыре, в каждой нише. Даже когда устано-
вится национал-социалистическое Государство, оно будет нуждаться в устой-
чивости таких микрофашизмов, сообщающих ему ни с чем не сравнимую спо-
собность воздействовать на “массы”» [Делез, Гваттари 2010: 351–352].
Помимо исторических примеров методология Ж. Делеза и Ф. Гватта-
ри активно используется для анализа трансформации современных полити-
ческих партий и социальных движений. Очередная фаза дискуссий о новом
типе партии началась после появления в Бразилии в начале 1980-х гг. Партии
Трудящихся. Согласно идеям ее основателей, эта партия должна была отли-
чаться от существующих в стране традиционных левых организаций. Не тра-
диционная для коммунистических (марксистско-ленинских) партий модель –
пролетарская партия-авангард, а структура, демократичная изнутри, которая
была бы открыта для взаимодействия с различными социальными движе-
ниями, профсоюзами и прогрессивными католическими активистами [Lowy
1987: 454]. Новая волна обсуждения данной модели возникла вслед за по-
пуляризацией этой модели «открытой партии» в Европе (СИРИЗА в Греции,
«Подемос» в Испании).
К идеям Ж. Делеза и Ф. Гваттари примыкает, являясь одной из их интер-
претаций, концепция «множества» А. Негри и М. Хардта. Совмещая их с пере-
осмысленными элементами теории операистского марксизма, они пытаются
осмыслить политическую борьбу и организационные принципы антисистем-
ных движений после исчезновения биполярной системы времен холодной вой-
ны. Их концепция Империи – социально-экономической и политической мо-
дели мироустройства – анализирует формы субъективности, характерные для
социодинамики постфордизма, и те модели борьбы, которые выбирают со-
временные протестные движения.
В первых совместных работах [Хардт, Негри 2004: 53–56; Хардт, Негри
2006: 91–94] А. Негри и М. Хардт отвергают традиционные партии и профсо-
юзы как эффективные структуры для мобилизации и борьбы нового рабоче-
го класса (когнитариата, прекариата). Новые формы субъективности, находя-
щиеся в поисках модели взаимодействия и стратегии, они называют «множе-
ством», выводя это понятие из философии Б. Спинозы [Negri 1991]. «Множе-
ство» как новая форма субъективности, по мнению А. Негри и М. Хардта, – это
и новая модель интернационализма, поскольку борьба за альтернативную
неолиберализму модель глобализации возможна только на наднациональ-
ном уровне.
В своих последних работах [Negri, Hardt 2012: 43–45] А. Негри и
М. Хардт анализируют противоречивый опыт движений Occupy Wall Street
в США и Indignados в Испании и борьбы социальных движений против мер
123
жесткой экономии (austerity policy) в Греции. В качестве корректировки к сво-
им прошлым выводам они ставят под сомнение однозначную эффективность
сетевой, горизонтальной модели построения политических организаций и со-
циальных движений сопротивления. А . Негри и М. Хардт проблематизиру-
ют и тактику, характерную для левых социальных и протестных движений, на-
чиная с альтерглобалистов, – давление извне силами социальных движений
на международные организации (ВТО, МВФ) и национальные политические
системы. Исследователи по-новому осмысливают не только специфику связи
локальных и глобальных проблем и методов борьбы, но и политическую стра-
тегию, которая теперь нацелена не на создание автономных зон, а на транс-
формацию правил и механизмов существующих политических систем.
Из всего множества разных проблемных полей и концепций нам кажется
наиболее продуктивными направления, делающие акцент на сети как общей
модели или элементе новых типов политических организаций. Поэтому среди
тем для будущих исследований мы можем выделить следующие:
1. Трансформация социальных и политических структур (дополнение
иерархических структур сетевыми и гибридными – в основном в сфере госу-
дарственного управления).
2. Появление политических партий нового типа, пытающихся дополнить
традиционные иерархические структуры элементами горизонтального сетево-
го типа.
3. Сетевые структуры гражданского общества (социальные и протестные
движения). Occupy Wall Street, Indignados и протесты против неолиберальной
политики в ЕС.
4. Сетевые структуры как инструмент социальной и политической моби-
лизации, проблема выработки эффективного процесса принятия решений.
5. Противоречивая роль интернета и социальных медиа в процессах де-
мократизации авторитарных и гибридных политических режимов.
Сегодня, когда государственные структуры повсеместно утрачивают мо-
нопольный контроль во внешней и внутренней политике, сетевые, горизон-
тальные организации развиваются во многих регионах мира, поэтому поли-
тической науке необходимо, не отбрасывая теорию и методологию, создан-
ную для изучения государств, расширить спектр изучаемых акторов и разра-
ботать отвечающие современным реалиям модели анализа новых типов кон-
фликтов.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
124
Публичная политика No2
Балаян Александр, Томин Леонид
Литература
Альтюссер Л. За Маркса / пер. с франц. А .В . Денежкина. М.: Праксис,
2006.
Барбрук Р. Интернет-революция. М.: Ад Маргинем Пресс, 2015.
Делез Ж. , Гваттари Ф. Анти-Эдип. Капитализм и шизофрения / пер. с фр.
и послесл. Д. Кралечкина, науч. ред. В . Кузнецов. Екатеринбург: У-Фактория,
2007.
Делез Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато. Капитализм и шизофрения / пер.
с фр. и послесл. Я.И . Свирского, науч. ред. В .Ю. Кузнецов. Екатеринбург:
У-Фактория, 2010.
Кастельс М. Становление общества сетевых структур. Новая постин-
дустриальная волна на Западе: Антология / под ред. В.Л. Иноземцева.
М.: Academia, 1999.
Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура.
М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2000.
Латур Б. Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию /
пер. с англ. И . Полонской, под ред. С . Гавриленко. М.: Изд. дом Высшей шко-
лы экономики, 2014.
Тоффлер Э. Третья волна. М.: АСТ, 1999.
Хардт М. , Негри А. Империя / пер. с англ. под ред. Г
. В . Каменской,
М.С . Фетисова. М.: Праксис, 2004.
Хардт М., Негри А. Множество: война и демократия в эпоху империи.
М.: Культурная революция, 2006.
Althusser, L . , Balibar E. Reading Capital. Trans. Ben Brewster. Verso, 2009.
Arquilla, J ., Ronfeldt D. The Advent of Netwar, Santa Monica. Calif.: RAND. 1996.
Arquilla J. , Ronfeldt D. Networks and Netwars: The Future of Terror, Crime, and
Militancy Santa Monica. Calif.: RAND, 2003.
Castells М. The Urban Question: A Marxist Approach. MIT Press. 1979.
Chandler D. Technological or Media Determinism. URL: http://visual-memory.
co.uk/daniel/Documents/tecdet/ (дата обращения 25.03.2017).
Guattari F. , Negri A. Communists Like Us: New Spaces of Liberty, New Lines
of Alliance. Trans. Michael Ryan. Semiotext(e) Foreign Agents Ser. New York:
Semiotext(e), 1990.
Guattari F. , Rolnik S. Molecular Revolution in Brazil. Trans. Karel Clapshow and
Brian Holmes. Los Angeles: Semiotext(e), 2008.
Guattari F. Soft Subversions. Ed. Sylvere Lotringer. Trans. David L. Sweet and
Chet Wiener. Semiotext(e) Foreign Agents Ser. New York: Semiotext(e), 2009.
Harman G. Bruno Latour: Reassembling the Political. Pluto Press, 2014.
Harvey I. , The Rhetoric of Esotericism: The Challenge to Deconstruction. – Law
and Semiotics, ed. Roberta Kevelson. New York: Plenum Press, 1987.
125
Lowy M. The Brazilian PT. Latin America Perspectives, Fall 1987.
Negri, A. The Savage Anomaly: The Power of Spinoza’s Metaphysics and Poli-
tics, translated by M. Hardt. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1991.
Negri, A. Hardt M. Declaration. Argo-Navis, 2012.
Sergi A., Lavorgna A. ‘Ndrangheta. The Glocal Dimensions of the Most Power-
ful Italian Mafia. This Palgrave Macmillan, 2016.
Therborn, G . From Marxism to Post-Marxism? Verso, 2008.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
126
Публичная политика No2
Беляев Вадим
Логика модерна
и объяснение
в политической теории
Беляев
Вадим Алексеевич,
независимый исследователь,
кандидат философских наук,
Москва.
Для связи с автором:
vbelyaev@yandex.ru
Аннотация
Cтатья представляет собой критическое
дополнение к статье Г.Л . Тульчинского «Объ-
яснение в политической науке: конструкти-
визм vs позитивизм». Автор предлагает су-
щественно расширить контекст обсуждения,
переходя к исследованию процессов, кото-
рые могут быть названы социокультурной ло-
гикой новоевропейской культуры – модерна.
Эта логика связывает все важнейшие процес-
сы модерна как в теоретическом, так и в прак-
тическом плане. Автор предлагает посмо-
треть на модерн как на развертывание проек-
та «посткультурно-интеркультурной» архитек-
туры мира, которая является ответом на вы-
зов негатива «культурной» архитектуры. На
этой линии реализуется проект построения
«открытого» универсума, который реализует-
ся, в числе прочего, и в виде программы по-
зитивного знания. Противостояние промо-
дернистских и контрмодернистских процес-
сов составляет, по логике автора статьи, слож-
ную диалектику модерновых течений, одним
из выражений которых является тот эпизод,
который рассмотрен Тульчинским.
Ключевые слова: модерн, контрмо-
дерн, постмодерн, культура, посткультура,
интеркультура, открытый универсум, откры-
тое общество, открытая природа
127
Belyaev V.A .
The logic of modernity and
explanation in political theory
Belyaev
Vadim Alekseevich,
Independent Researcher,
Candidate of Philosophical Sciences,
Moscow.
To contact the author:
vbelyaev@yandex.ru
Abstract
This article is a critical addition to
the paper by GLTulchinsky “The Explana-
tion in Political Science: Constructivism
Against Positivism”. The author suggests
recalling that, as in the previous case, it
can be called the socio-cultural logic of
the modern European culture – moder-
nity. This logic connects all the most im-
portant processes both theoretically and
in practice. The author suggests looking
at modernism as the architecture of the
project of the “post-cultural-intercultural”
architecture of the world, which is the an-
swer to the challenge of the negative of
“ cultural” architecture. On this page, the
methodology for preparing for the exam
in English is implemented. The opposi-
tion of pro-modern and counter-modern
processes is, according to the logic of the
author of the article, the complex dialec-
tics of the modern currents, which is ex-
pressed precisely by the episode consid-
ered by Tulchinsky.
Keywords: modern, counter-mod-
ern, postmodern, culture, post-culture,
interculture, open universe, open society,
open nature
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
128
Публичная политика No2
1
Что делает Тульчинский?
1. Объясняя цель своей работы, он говорит о желании «показать недо-
статочность ориентации политических исследований на объяснения с помо-
щью подведения предмета под некие теоретические обобщения» [Тульчин-
ский 2017: 82].
Тульчинский говорит о трех факторах, направляющих по этому пути.
Во-первых, это ситуация в современной политической науке. «Выражает-
ся это не столько в вопиющей слабости прогностики на макро- и микроуров-
нях, сколько в дивергенции школ и направлений, привязанных к определен-
ным методам, задающим самодостаточные “теоретические рамки”, порожда-
ющие неприятие иных подходов» [Тульчинский 2017: 82].
В-вторых, ситуация в сфере воспроизводства дисциплины. «На конфе-
ренциях, академических советах возникают споры о соотношении политиче-
ских исследований и политических технологий, политического анализа и про-
ектной деятельности, критериях их оценки, их доле в учебных планах» [Туль-
чинский 2017: 82].
В-третьих, критическая ситуация в сфере востребованности политиче-
ских исследований со стороны практики. «Центры выработки и принятия ре-
шений все большее предпочтение отдают разработкам биополитических,
символико-медийных технологий, дающим возможности реального влияния
на политические процессы, их прямую организацию» [Тульчинский 2017: 82].
2. Начиная движение в направлении поиска нового типа объяснения в
политической науке, Тульчинский рассматривает роль позитивизма в этом
теоретико-практическом поле. Называются три фазы актуализации методоло-
гической рефлексии в политической науке.
«Первая стадия приходится на 1930–1940-е годы, когда шли споры меж-
ду неореалистами, для которых базисной предметной областью политической
теории выступало государство, и неолибералами, расширявшими предмет-
ную область за счет общественных организаций, надгосударственных струк-
тур, НКО, крупного бизнеса» [Тульчинский 2017: 83].
«Следующая стадия (1950–1960-е) связана с освоением в политологии
социально-психологических концепций (преимущественно бихевиористско-
го плана), акцентированных на анализ политического поведения и противо-
поставляемых традиционному подходу» [Тульчинский 2017: 83].
«С начала 1990-х крах мировой социалистической системы, распад СССР,
развитие электронных средств массовой коммуникации, расширение влияния
демократии при одновременном всплеске национализма, череда финансово-
политических кризисов, активизации религиозного фундаментализма,
Беляев Вадим
129
международного терроризма, многоуровневой хорроризации общества – в це-
лом качественно новая политическая ситуация – оказались существенным вы-
зовом для традиционных политологических парадигм» [Тульчинский 2017: 84].
«Источник трудностей во многом связывался с гипертрофией позити-
вистских установок поздней фазы этой философии науки – логического эмпи-
ризма....» [Тульчинский 2017: 84].
«Позитивистская модель не случайно сохраняет привлекательность для
политической науки: опора на эмпирическое знание, возможность обработ-
ки эмпирических данных качественными и количественными методами, про-
слеживание зависимостей между данными, возможность предлагать различ-
ные модели, формулировать гипотезы, их верифицировать или фальсифи-
цировать, строить индуктивные обобщения, а также аргументированно пред-
ставлять следствия из этих обобщений. Это привлекательность дизайна, хоро-
шо зарекомендовавшего себя в естественных и точных науках. Ключевым мо-
ментом объяснения оказывается подведение предмета рассмотрения под не-
кую общую категорию: как на стадии определения предметной области, так и
на стадии формулировки итогов проведенного анализа. <...> Реализация по-
зитивистской парадигмы предполагает некий консенсус относительно теории
и представлений о том, что есть «факт», предпосылаемый любому исследова-
нию. Без такого интерпретационного фона невозможны ни верификация, ни
фальсификация. Научное объяснение при этом фактически сводится к распо-
знаванию в неизвестном уже известного, в лучшем случае – достраиванию не-
коего предзаданного пазла» [Тульчинский 2017: 84].
3. Далее Тульчинский раскрывает содержание текущей, «постпозитивист-
ской» ситуации.
С одной стороны, он акцентирует внимание на том, что «применительно к
политологии использование позитивистской парадигмы выразилось в домини-
ровании политической социологии, восходящей концептуально и методологиче-
ски к экономической социологии маржиналистского толка, когда рациональность
(рациональный выбор) понимается как эффективность – возможность максими-
зации достижения цели с минимальными издержками» [Тульчинский 2017: 86].
С другой стороны, «еще классиком концепции рационального выбора
[М. Вебером] была отмечена ее ограниченность, неуниверсальность, нали-
чие как минимум еще одного типа рациональности – ценностного». «Постпо-
зитивизму свойственно нарастание трактовок политической реальности и, как
следствие, осознание отсутствия абсолютных критериев истинности знания,
их относительность, предполагающую углубление и детализацию методоло-
гической рефлексии» [Тульчинский 2017: 86].
4. Далее Тульчинский указывает на параллель между процессами в поли-
тических и естественных науках. «Даже такое беглое рассмотрение показывает
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
130
Публичная политика No2
общность методологических проблем естествознания второй половины ХХ
века и тех же проблем в современных политических науках» [Тульчинский
2017: 88].
К середине ХХ в. были разоблачены многие «наивности» позитивиз-
ма, претензии на построение всеобъемлющего и непротиворечивого корпуса
знания. «Более того, была выявлена социально-культурная и даже политико-
экономическая зависимость познавательных процедур в физике, химии, био-
логии [Кун; Тулмин; Фейерабенд]. Появились даже феноменологические и
герменевтические модели естествознания, была убедительно продемонстри-
рована роль личностного фактора в формировании и развитии знания [Пола-
ни; Холтон]. Осознание подобных экстерналистских (внешних по отношению
к знанию) факторов развития науки было дополнено глубокой интерналисти-
ческой аналитической рефлексией [Лакатос]» [Тульчинский 2017: 87].
Тульчинский так объясняет «отставание в развитии» политических наук от
естественных.
«Это и временной лаг, необходимый для рецепции методологии
естественно-научного и точного знания, реализуемой гуманитариями опосре-
дованно через систему образования и популяризации. И долгая инерция по-
лученного в начале ХХ века социальными науками позитивистского по сути
импульса на развитие эмпирической базы и освоение количественных ме-
тодов, придававших этим молодым наукам статус научности. Можно отме-
тить и дисциплинарный снобизм по отношению к философии, особенно со
стороны англоязычной аналитической традиции по отношению к филосо-
фии “континентальной“ с ее ценностно-культуральными и феноменолого-
герменевтическими ориентациями, преодолеваемый с 1990-х» [Тульчинский
2017: 88].
5. Тульчинский указывает на «издержки оценочной категоризации», ко-
торая выражается в попытке уложить многомерную и сложную реальность в
простые и предвзятые схемы, сконцентрированные на либеральной полити-
ческой модели.
6. Далее Тульчинский акцентирует «элиминацию воли политического
субъекта» в позитивистской политологии.
Возражая этому, Тульчинский пишет следующее. «В социальных, а тем
более в гуманитарных науках это не только познающий субъект, но и участни-
ки исследуемой предметности суть вменяемые акторы – в обоих смыслах вме-
няемости: как имеющие сознание, рациональную мотивацию и которым мож-
но вменить ответственность за попытки реализовать эту мотивацию» [Тульчин-
ский 2017: 91].
Следствие из этого таково. «Поскольку история – и политика как ее часть –
опыт воплощения различных воль, стремлений, намерений, постольку они
Беляев Вадим
131
принципиально не могут быть редуцированы к наблюдениям, описаниям и
установлению каузальности. В предмете политики – идеи, проекты и техноло-
гии. Поэтому методология ее исследования – интерпретации не только в виде
параметрических моделей, но как реконструкции опыта, породившего опре-
деленный результат» [Тульчинский 2017: 91].
7. Так Тульчинский выходит к идее «объяснения через порождение»,
к методологии «конструктивизма».
«Давно известен принцип: человек понимает только то, что может вос-
произвести, сделать. <...> Эту познавательную установку Ф. Бэкон – основа-
тель методологии опытного знания и индуктивной логики – называл выявле-
нием “скрытого схематизма” явления, а Р. Колингвуд – применительно к исто-
рии, и В.Шкловский – применительно к теории литературы, называли “сде-
ланностью”» [Тульчинский 2017: 93].
«Оценки, нормы и фактологические описания – суть установления опреде-
ленных соответствий: целям (как оценка соответствия желаемому результату),
реальности (как оценка на истинность или ложность описания), имеющимся
средствам и возможностям (оценка на реализуемость). Каждое из этих соответ-
ствий может быть связано со стадиями зрелости и воплощения идеи: (1) фор-
мирование цели как образа желаемого результата (осознание потребности);
(2) установление принципиальной (потенциальной) осуществимости цели; (3)
установление путей и средств реализации идеи» [Тульчинский 2017: 94].
«Характерно, что Х.Р
. Алкер, давая развернутую характеристику комплек-
са неполноценности политической методологии по состоянию на конец 1990-
х годов, завершает свой обзор апелляцией к перспективам реализации трех-
частной модели науки И. Гальтунга, согласно которой развитие социальной
науки происходит в постоянном движении между тремя “полюсами“: данны-
ми, теорией и ценностями. Осмысление эмпирических данных с ценностных
позиций реализует критицизм (“критическая компетентность“) . Синтез теории
и эмпирических данных реализует эмпирицизм. Синтез теории и ценностей
дает конструктивизм – как возможность построения образа желаемого буду-
щего. Конструктивистский анализ возможности достижения предпочтитель-
ного мира открывает возможность выработки предложений по проведению
изменений, воплощению новой или исправлению старой реальности, други-
ми словами – перспективу объединения усилий науки и политики.
В этой связи можно ожидать и нового подъема интереса в политологии
к историческим исследованиям – не только далекого, но и совсем недавне-
го прошлого. Исторический анализ фактически является реконструкцией по-
рождения настоящего, объясняющей это настоящее» [Тульчинский 2017: 95].
8. В итоге Тульчинский выходит к утверждению «трех нарративов полити-
ческого объяснения»:
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
132
Публичная политика No2
1) «yровень эмпирической фактологии, предъявления описаний, дан-
ных»;
2) «yровень каузальных связей, взаимосвязей и детерминаций между
фактами»;
3) «yровень целевого контекста, раскрывающего замысел построения
и использования целостного конструкта» [Тульчинский 2017: 98].
2
Что я собираюсь сделать относительно позиции Тульчинского?
Самое главное: я собираюсь расширить контекст обсуждения затронутых
проблем. Одновременно я собираюсь расширить интерпретацию проблем,
расширить и сделать более глубокой саму проблематизацию. Делать это я со-
бираюсь в направлении, которое указано Тульчинским в финале его статьи.
Он говорит об «историческом анализе», о «реконструкции порождения насто-
ящего, объясняющего это настоящее». Тульчинский ввел данный принцип как
то, что может быть применено, но не применил его в отношении тех проблем,
которые им были поставлены. Точнее сказать, прорисовывая логику кризиса
позитивистской методологии, он сделал небольшой шаг. Но это действитель-
но только небольшой шаг. Ведь если идти в направлении «исторического объ-
яснения», стремиться показать «сделанность» исторических феноменов, то
надо будет направить этот метод на все фундаментальные феномены, кото-
рые стали объектами анализа. На такие феномены, как «позитивизм», «есте-
ствознание», «либерализм», «постпозитивизм» и др. Тульчинский привлекает
к объяснению методологические ходы и споры, относящиеся не только к ХХ,
но и к XIX веку (упоминает М. Вебера). Следовательно, теоретические битвы
этого времени тоже имеют отношение к обсуждаемой проблематике. Тульчин-
ский включает в обсуждение процессы, связанные с распадом советской си-
стемы. А значит, нужно ввести в контекст обсуждения логику противостояния
условного либерального мира и условных «тоталитарных» обществ ХХ в. И все
это только часть того, что следует затронуть.
Если мы начали движение, расширяющее историко-культурный контекст
проблематики и саму проблематику, то где будет проходить верхняя грани-
ца? Где надо будет остановить расширение контекста? Я полагаю, что можно
ограничиться рамкой новоевропейской культуры – модерна. Условную «ло-
гику модерну» как логику системной реальности можно установить в качестве
того контекста, в который погружены все указанные проблемные поля.
Допустим, что у меня уже есть эта логика модерна. Что она должна мне по-
казать? Она должна показать развертывание новой социокультурной архитек-
туры, в рамках которой все указанные феномены (и многие другие) должны
Беляев Вадим
133
обнаружить связь друг с другом и системностью социокультурной реальности.
Например, если речь идет о позитивизме, то, следуя логике выяснения исто-
рического генезиса, мы должны будем показать связь позитивизма с логикой
модерна. Если модерн реализует определенную социокультурную архитекту-
ру, то как эта архитектура проявила себя в позитивизме? Возникнет логичный
вопрос: какие социокультурные силы и процессы стоят за позитивизмом? Ког-
да мы найдем такие силы и процессы, то все сказанное Тульчинским о позити-
визме должно будет оказаться верхушкой айсберга. Мы должны будем вый-
ти на некую (возможно, диалектическую) логику социокультурных процессов,
порождающих теоретические и практические стратегии. В этом направлении
я и предлагаю пойти.
С чего можно начать? Тульчинский начинает с описания кризисной «пост-
позитивистской» ситуации, в которой происходит «дивергенция школ и на-
правлений, привязанных к определенным методам, задающим самодостаточ-
ные “теоретические рамки”, порождающие неприятие иных подходов». При
принятии политических решений все больше используются «биополитиче-
ские, символико-медийные технологии». Что, с точки зрения моей позиции,
здесь можно проблематизировать? С одной стороны, мы имеем стратегию по-
зитивизма, которая в достаточной мере выражает когнитивный мейнстрим
модерна. Логику формирования позитивизма можно протянуть от начала
модерна. Точно так же логику формирования естествознания и естественно-
научной методологии можно протянуть от той же точки. Эти линии пережи-
вают кризис. С другой стороны, подобный кризис переживает и модерн в це-
лом. Тульчинский практически не говорит об этом. Но об этом надо сказать.
Если мы совместим оба кризиса, то вполне логично предполагать, что эти две
линии (когнитивная и социокультурная) связаны одной логикой. Отдавая
«конструктивный» приоритет социокультурным процессам, мы вполне можем
предполагать связанность кризиса позитивизма с кризисом модерна в целом.
Мы можем предполагать заданность первого вторым. Теперь посмотрим на
другую сторону этого процесса. Тульчинский говорит о «постпозитивистской»
ситуации, в которой множатся методы и теории, основанные на «самодоста-
точных «теоретических рамках», порождающих неприятие иных подходов».
В социокультурном плане можно говорить о глобальном процессе новой вол-
ны «конфликта культур» или «конфликта цивилизаций». То есть нарастают
процессы распада условного «общечеловеческого» социокультурного про-
странства, создаваемого модерном, на замкнутые на себя и противопостав-
ленные друг другу миры. Так что здесь мы тоже имеем методологическую сим-
метрию: когнитивный план кризиса совпадает с социокультурным. И здесь,
отдавая приоритет социокультурным процессам, можно говорить о «постпо-
зитивизме» как когнитивном выражении кризиса модерна. Та эпоха, которую
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
134
Публичная политика No2
Тульчинский связывает с «постпозитивизмом», чаще называется постмодер-
ном. В этом названии заложен пафос некой расположенности «по ту сторо-
ну» модерна. Это сложная и многоаспектная ситуация. Но я для своего анали-
за хочу акцентировать ее контрмодернистскую составляющую. Ведь постпози-
тивизм, как его задал Тульчинский, скорее является контрпозитивизмом. Он
актуализирует направленности, против которых изначально позитивизм и был
направлен. Это ситуация борьбы когнитивно-символических миров, постро-
енных на «самодостаточных “теоретических рамках”, порождающих неприя-
тие иных подходов». Традиционно такие построения называли метафизикой
(или философией). Так что получается, что условный постпозитивизм движет-
ся в направлении восстановления метафизики. А в социокультурном плане то
же направление указывает на восстановление прав «культурных» систем, ло-
гику самозамыкания и противопоставленности друг другу которых хотел пре-
одолеть модерн. Добавим к сказанному то, что такого рода противостояния
уже совершались в истории модерна не раз. Так мы получим самый общий
план искомой «логики модерна».
Я называю ее логикой формирования и реализации проекта
«посткультурно-интеркультурной» архитектуры мира. Здесь я должен перей-
ти на платформу идеально-типического конструирования. Я должен выразить
логику модерна в виде идеально-типических схем. Если развертывание мо-
дерна происходило как диалектика модерновых и контрмодерновых процес-
сов, то в качестве исходной точки для генезиса модерна можно взять то, что
можно назвать вызовом негатива «культурной» социокультурной архитектуры.
Как идеально-типически описать суть этого негатива? Представим себе чело-
вечество состоящим из социокультурных систем, каждая из которых построе-
на на своих ценностно-метафизических основания, сконцентрирована на сво-
их основаниях. Каждую из этих систем можно считать материализацией тако-
го рода основания. Эти системы замкнуты на самих себя и противопоставле-
ны друг другу. Во что должно выливаться их соприкосновение в мире объек-
тиваций? В борьбу, предельным выражением которой будет война с оружи-
ем в руках. Такая война в общем случае есть «война за веру», война за свои
ценности. В общем случае это война на уничтожение. Если такого рода про-
тивостояния становятся глобальным вызовом, то в каком направлении дол-
жен быть дан ответ? В направлении фундаментального изменения социокуль-
турной архитектуры мира. Если «культуры» разделяли универсум человече-
ства на несоизмеримые миры, то в качестве ответа на негатив этого должно
быть сформировано общее для всех, «общечеловеческое» ценностное про-
странство. Что должно стать его содержанием? То, что, с одной стороны, зна-
чимо для человека, а с другой стороны, лежит по ту сторону разделяющих
ценностно-метафизических принципов. В отношении модерна, для которого
Беляев Вадим
135
«война культур» сконцентрировалась в виде эпохи религиозных войн по-
сле Реформации, это будет тем, что расположено по ту сторону разных видов
«трансцендентного». Это то, что лежит в посюстороннем. Битвы «материали-
зованных трансцендентностей» должны были направлять к земному как рас-
положенному по ту сторону воюющих принципов.
Теперь совместим эти идеально-типические схемы с историческим раз-
витием модерна: Возрождением, Реформацией, рождением национальных
государств, первыми буржуазными революциями, эпохой религиозных войн
после Реформации.
Я говорил о «посткультурно-интеркультурной» направленности модерна.
Логично видеть два стратегически различных варианта ответа на вызов «куль-
турного» негатива: «посткультурный» и «интеркультурный». «Посткультурным»
можно считать тот вариант ответа, который предполагает полную элиминацию
«культурных» ценностей. В общем случае это полная элиминация «трансцен-
дентностей». Она должна вести к предельному натурализму относительно че-
ловека и природы. Таков был модерн тогда, когда он находился в максималь-
ной конфронтации с остатками «культурного». Пример этого – позитивизм се-
редины XIX в. В среднем случае модерн поддерживал (и поддерживает сей-
час) «интеркультурный» вариант. Он предполагает заключение «культурных»
принципов в границы ненарушения социального, «гражданского» мира. Пер-
вым вариантом «интеркультуры» можно считать систему национальных госу-
дарств с установленными на законодательном уровне принципами свободы
совести и веротерпимости.
Итак, процесс развертывания «посткультурно-интеркультурной» социо-
культурной архитектуры можно считать главным процессом модерна. При-
чем этот процесс сопровождался контрпроцессом, который предполагал раз-
ные варианты восстановления «культурной» архитектуры. В проекции на ког-
нитивное пространство можно говорить о развертывании промодерновой
и контрмодерновой рефлексии.
В чем состоит суть рефлексии промодернового характера? Перед тако-
го рода когнитивной стратегией стояла задача, которую можно назвать «кри-
тикой культуры». Это критика универсума, построенного «сверху вниз», от си-
стемы «трансцендентно» предзаданных принципов. Можно говорить о том,
что «культурная» архитектура создавала вызовы по двум размерностям: «си-
стема – индивид» и «система – система». По первой размерности такая систе-
ма демонстрировала феномены того, что можно назвать «идеологическим»
обществом. Первым европейским вариантом такого общества стала теокра-
тическая средневековая система мира. Она продемонстрировала ставшие ти-
пологическими феномены: «крестовые походы», борьба с ересями, контроль
над сознанием, борьба с инакомыслием, «охота на ведьм» и т. п . Можно
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
136
Публичная политика No2
говорить о том, что «критика культуры» как ответ на вызов по этой размерно-
сти должна была направлять на борьбу с «закрытым» обществом и стремле-
ние к построению «открытого» общества. Термин «открытое общество» поя-
вился в ХХ в. на линии такого рода борьбы. Это доведение «критики культу-
ры» в отношении общества до логического завершения. К тому же самому на-
правлял и ответ на вызов по размерности «система – система». В борьбе «иде-
ологических» обществ друг против друга индивидуальный человек всегда
оказывался заложником «системы» и «высших принципов». Осознание этого
в качестве глобального вызова тоже должно было направлять к «открытому»,
«постидеологическому» обществу.
Но первоначально движение «открывания» (так в этом смысле можно на-
звать логику модерна) было тем, что относится не только к человеку, но и ко
всему универсуму. Поэтому можно говорит о направленности на построение
«открытого» универсума, в котором направленность к «открытому» обществу
была только «одной из». Другой базовой направленностью можно считать на-
правленность на «открывание» природы. Более того, «открывание» природы
можно считать процессом, который шел впереди «открывания» общества. Это
объяснимо. Ведь в центре теократической средневековой системы стоял чело-
век, его отношения с «Богом». Природа играла роль скорее статиста, была ин-
терактивной средой, в которой шел разговор «человека» и «Бога». В этой дис-
позиции освобождать «природу» было легче. Она стояла на периферии зна-
чимости. Средневековая система легче соглашалась с ее освобождением. Это
объясняет авангардную роль процесса «открывания» природы в процессе «от-
крывания» универсума в целом. Это объясняет авангардную роль естествозна-
ния в когнитивных процессах модерна. К середине XIX в., когда «критика куль-
туры» в отношении природы достигает определенного максимума, последняя
оказывается практически полностью «посткультурной», в то время как обще-
ства являются еще в достаточной степени нагруженными «культурными» прин-
ципами. За счет этого контраста условное «естествознание» идет в авангарде
модерна. На этом основании «посткультурные» схемы могут напрямую прое-
цироваться из естествознания в обществознание.
3
В этой точке можно остановиться и посмотреть, что можно сказать на
основе уже нарисованного эскиза «логики модерна» относительно тех про-
блематизаций, которые даны Тульчинским.
Тульчинский акцентирует внимание на том, что «позитивистская мо-
дель не случайно сохраняет привлекательность для политической науки: опо-
ра на эмпирическое знание, возможность обработки эмпирических данных
Беляев Вадим
137
качественными и количественными методами, прослеживание зависимостей
между данными, возможность предлагать различные модели, формулиро-
вать гипотезы, их верифицировать или фальсифицировать, строить индуктив-
ные обобщения, а также аргументированно представлять следствия из этих
обобщений».
И при этом Тульчинский утверждает, что «ключевым моментом объясне-
ния оказывается подведение предмета рассмотрения под некую общую кате-
горию». «Предполагает некий консенсус относительно теории и представле-
ний о том, что есть “факт”». «Научное объяснение при этом фактически сво-
дится к распознаванию в неизвестном уже известного, в лучшем случае – до-
страиванию некоего предзаданного пазла».
Трудно не увидеть здесь противоречия. Тульчинский обвиняет позити-
визм в том, в чем сам позитивизм обвиняет все условное «непозитивное» зна-
ние, самым общим представителем которого является философия. Тульчин-
ский критикует позитивизм так, как позитивизм критикует «метафизику» и
«философию». Что это значит? С моей точки зрения, это показывает непро-
работанность Тульчинским всей этой проблематики. Следовательно, для меня
здесь стоит задача показать, как в описанной логике модерна вырастает по-
зитивная наука и каковы ее отношения с философией в ее промодерновом
и контрмодерновом вариантах.
Для начала мне надо объяснить логику формирования «позитивного
знания» модерна, того знания, которое получает название «науки» («пози-
тивной науки», самым ярким выражением которой становится эксперимен-
тальное математическое естествознание). Я уже говорил, что модерн можно
представить как процесс построения «открытого» универсума, который рас-
падается на построение «открытой» природы и «открытого» общества. При-
чем на предельно-теоретическом уровне «открывание» и человека и приро-
ды должно осуществляться по одной методологии. Если построение «закрыто-
го» универсума происходит «сверху вниз» от предзаданных системных прин-
ципов к «элементам мира», то построение «открытого» универсума должно
происходить «снизу вверх» от «элементов мира» к системным принципам.
В случае человека «элементами мира» оказываются индивиды. В случае при-
роды – элементы природной реальности. Процесс перехода от «закрытого»
универсума к «открытому» («открывание» мира) можно описать как двухфаз-
ный процесс. На первой фазе нужно очистить универсум от предзаданных си-
стемных принципов. На второй фазе нужно найти новые системные принци-
пы, которые будут выражать уже не абстрактные и субъективные представле-
ния «конструкторов мира», а отношения между самими «элементами мира».
В отношении природы это порождает стратегию эмпиризма, которая вырази-
лась уже на линии Бэкон–Гоббс–Локк. В отношении человека это порождает
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
138
Публичная политика No2
стратегию социально-политического либерализма. При этом можно утверж-
дать, что исследователь, для которого все стороны его теоретизирования мето-
дологически соизмерены, являясь сторонником «открытой» природы, должен
быть и сторонником «открытого» общества. И наоборот. Так как в предельно-
теоретическом плане он находится на платформе одной методологической
стратегии. Классический и самый яркий пример этого – К . Поппер. Он был
и сторонником позитивизма, то есть последовательно вырабатывал методо-
логию построения «открытой» природы. Он был и сторонником «открытого»
общества, активно разрабатывая соответствующую методологию и утверждая
именно это понятие.
Развертывание «открытого» универсума происходило как на уровне
предельно-теоретической рефлексии (философии), так и в виде непосред-
ственного процесса реализации этой программы. В отношении природы это
последнее означало формирование специфически модерновой стратегии по-
знания – эмпирической науки. В отношении человека то же самое означало
нарастающий либерально-эгалитарный процесс. И опять-таки нетрудно уви-
деть, что последовательное методологическое утверждение одного должно
приводить к утверждению и другого.
На уровне философской рефлексии это ярко выразилось на линии Кант –
ранний Фихте. Кант, осуществив своей «Критикой чистого разума» радикаль-
ную «критику культуры», пишет далее «Основы метафизики нравственности»
и «Метафизические начала естествознания». В «Основах» он дает проект «от-
крытого» универсума в отношении человека, а в «Началах» – в отношении
природы.
Классической темой коммуникативно-методологического пространства
модерна является критика «философии» («мифологии», «религии» и «теоло-
гии») с позиций «позитивной науки», то есть с позиций непосредственной ре-
ализации проекта «открытого» универсума (как правило, в варианте «откры-
той» природы). «Наука» упрекала «философию» именно в том, в чем, по Туль-
чинскому, можно упрекать саму позитивную науку и ее методологическое обо-
снование – позитивизм. Для «науки» «философия» всегда была конструиро-
ванием мира на основе предзаданных принципов «сверху вниз». «Филосо-
фия» задавала «элементам мира» какую-то системность, которая всегда про-
тивостояла реальным отношениям между этими элементами. В этом смысле
новоевропейская «наука» стратегически всегда была «преодолением филосо-
фии» («преодолением метафизики»).
Каким же образом могло получиться, что сама позитивная наука ока-
залась под ударом критики такого же типа? Под этим есть какие-то основа-
ния? Основания под этим есть, и они идут с двух сторон: контрмодернистской
и промодернистской.
Беляев Вадим
139
Сначала о контрмодернистской стороне. Это сторона критики модерна,
которая стала развертываться параллельно развертыванию самого модерна и
его теоретического обоснования. На уровне философии, например, всех те-
оретиков можно условно разделить на промодерновых и контрмодерновых.
Если промодерновые теоретики занимались условным обоснованием «от-
крытого» универсума (на разных фазах его построения, разными способами,
акцентируя разные ракурсы), то задачей контрмодерновых теоретиков, как
правило, было обоснование нового варианта «закрытого» универсума. При
этом они могли тактически признавать какие-то права «открытости». Класси-
ческими здесь можно назвать имена Лейбница и Гегеля. Так вот, для теоре-
тиков контрмодерна позитивная наука и условный позитивизм всегда были
попыткой сжать реальную бесконечность и глубину мира к отношениям меж-
ду «элементами поверхности». В этом состояла суть противостояния между
«субстанциализмом» и «функционализмом» (хорошо отрефлексированная
Э. Кассирером). «Субстанциализм» утверждал отношение «глубина – поверх-
ность», в котором «элементы мира» связаны прежде всего с «глубиной» мира,
его «субстанциальными формами». Отношения между «элементами мира»
заданы этими формами. «Функционализм» совершает контрсубстанциалист-
скую революцию и утверждает свободу «элементов мира» от «субстанциаль-
ных форм». Главными становятся «отношения на поверхности». Так вот, контр-
модерн критикует позитивное знание за то, что оно смотрит только на поверх-
ность мира, игнорируя его глубину. И эта критика обращена не к одному есте-
ствознанию, а ко всему «открытому» (или «открывающемуся») универсуму.
Этот универсум оказывается оторванным от «глубины мира» и обреченным на
бессмысленное «движение по поверхности». Позитивизм с этой точки зрения
всегда можно упрекать в «сокрытии глубины».
Можем ли мы увидеть в рассказе Тульчинского следы такого рода кри-
тики? Вполне. Тот акцент на «конструктивизме», который делает Тульчинский,
стратегически совпадает с контрмодернистской направленностью. Тульчин-
ский критикует сконцентрированность политического позитивизма на либе-
ральной модели мира. Фактически под ударом критики оказывается стрем-
ление сделать либеральным весь мир, то есть осуществить глобальную «пост-
культурную» революцию. Тульчинский отчасти явно, отчасти неявно акценти-
рует остаточную «культурность» современного мира и контрмодернистскую
направленность к «новой культурности».
Это понятно. Но при этом нужно показать те противоречия, которые в рас-
сказе Тульчинского оказываются скрытыми. А суть этих противоречий в том,
что противостоянием между промодерновыми и контрмодерновыми направ-
ленностями наполнено все Новое время. Можно говорить о том, что не толь-
ко промодерновые интенции были ответом на глобальный вызов негатива
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
140
Публичная политика No2
«культурной» социокультурной архитектуры, но и контрмодерновые интенции
питались теми вызовами, которые демонстрировали негатив «посткультурно-
интеркультурного» мира. Например, террор Французской революции дал
мощный стимул для контрмодернистской рефлексии и реакционной полити-
ки европейского мира после революции. Позитивизм XIX в. является предель-
ным выражением «посткультурных» направленностей модерна и в определен-
ной мере ответом на послереволюционную реакцию. Ответом на этот позити-
визм стала контрпозитивистская волна конца XIX – начала ХХ вв. Это переход
от «функционализма» к «новому субстанциализму», от «посткультуры» к «но-
вой культурности». В литературе и искусстве это выражается в разного рода
«символизмах». В социальной теории это выражается в переходе от «социо-
логизма», который в той или иной мере нес «посткультурный» пафос, к «куль-
турологизму», который по-новому акцентирует «культуры» и «ценностно-
метафизические» миры. Характерен здесь эпизод, связанный с М. Вебером,
который по-своему выразил переход к «культурологизму». Критикуя «эконо-
мизм» марксизма, Вебер развернул программу культурологической интер-
претации экономической жизни, одним из выражений которой стала идея
производности «духа капитализма» от протестантской этики. Предельного вы-
ражения эта направленность достигла у О. Шпенглера, для которого «цивили-
зация» модерна является только формой распада «культуры».
Рубежным событием, связанным со всем этим, стала Первая мировая
война. Она продемонстрировала максимальный негатив направленностей к
«новой культурности» и стала тем, что можно назвать «мировой войной куль-
тур». Общества входили в эту войну на волне подъема национального чувства,
защиты своих «национально-культурных» ценностей. А завершилась война
новой волной «посткультурных» общеевропейских преобразований. Четыре
империи, воевавшие за свои «культурные» ценности, распались. В некоторых
из них произошли буржуазные революции. Но послевоенно-посткультурный
мир оказался слишком нестабильным, что привело к формированию тотали-
тарных «идеологических» обществ. По сумме базовых параметров их мож-
но назвать «новыми культурами». Вторая мировая война как еще более мас-
штабная «война культур» в качестве результата привела к очередной вол-
не европейских (и мировых) «посткультурных» преобразований. Следующая
фаза этого процесса – распад СССР и социалистического лагеря. Это приво-
дило к мыслям о «конце истории», конце эпохи «идеологических» обществ.
Но реализованный модерновый мир снова демонстрирует нестабильность,
внутреннюю противоречивость, осложненную «глобальными проблема-
ми». Это должно по-новому актуализировать контрмодернистские направ-
ленности.
Часть этого пафоса, несомненно, передает и Тульчинский.
Беляев Вадим
141
Теперь о том, как можно критиковать позитивизм с точки зрения промо-
дерновой позиции. Каким образом с этих позиций можно упрекать позити-
визм в том, что он пытается приписать реальности предзаданные схемы? Здесь
надо говорить о самокритике модерна.
Итак, надо раскрыть смысл одного из фундаментальных процессов мо-
дерна, который можно назвать его реализационной самокритикой. Самокри-
тика здесь будет означать критику реализации с точки зрения исходных иде-
алов. Если считать, что исходным идеалом модерна является проект «откры-
того» универсума, то и реализационная самокритика модерна должна была
распознавать в формах реализованного модерна новые варианты «закрыто-
сти».
Самый первый вариант такого распознавания можно отнести к феноме-
нам, связанным с авангардной ролью естествознания. Последнее должно было
приводить к формированию нового, натуралистического варианта метафизи-
ки и замены теистически-метафизической картины мира натуралистически-
метафизической. В той мере, в какой промодерновая рефлексия распознава-
ла в этом новый способ заковать универсум в предзаданные системные кон-
струкции, она боролась с этим. Классический вариант такой борьбы проде-
монстрирован на линии Кант – ранний Фихте. Кантовская критика разума
есть критика метафизики во всех ее наличных вариантах: теистическом и на-
туралистическом. Его позиция оказывается предельно антропоцентрической.
Можно сказать, она продемонстрировала предельный антропоцентрический
конструктивизм. Реальность помимо человеческого сознания оказывается не
более чем «вещью в себе», относительно которой человек (помимо своих кон-
структивных предположений) ничего сказать не может.
Можно говорить о том, что этот стратегический ход (в разных его вари-
антах) продемонстрировала вся последующая модерновая самокритика. Она
актуализировалась тогда, когда происходило осознание превращения разума
в «инструментальный» (это понятие было выработано на линии Франкфурт-
ской школы социальной философии). В этих ситуациях человеческий кри-
тицизм считался утраченным, потерявшим свою стратегическую значимость
(значимость критики оснований, расширения стратегических горизонтов).
Разум распознавался как превратившийся в слугу зафиксированных стратегий
(какого бы типа они не были). В этом типе критики могли сходиться как про-
модернистские, так и контрмодернистские теоретики. Например, в контрпо-
зитивистской волне начала ХХ в. можно найти новую фазу борьбы за «откры-
тый» универсум. Глобальную натурализацию мира распознавали в качестве
новой «закрытости» как условные контрмодернисты, так и условные промо-
дернисты. Разница между их позициями состояла только в том, какой выход
из этой новой «закрытости» они предлагали. Промодернистские теоретики
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
142
Публичная политика No2
выходили на позиции предельного конструктивизма, во многом воспроизво-
дя схематику, выработанную по линии Кант – ранний Фихте. Причем это могло
происходить неосознанно, без ссылок на эти имена. Просто воспроизводился
типологический ход к предельному конструктивизму. (В позиции Тульчинско-
го можно увидеть именно это.) Модерновая критика в данном случае превра-
щалась в гиперкритицизм. Таков ее путь к условному постмодерну.
Постмодерн в этой перспективе можно определить как результат гло-
бального реализационного кризиса модерна. Причем ответ на кризис дает-
ся в промодерновой перспективе. Я говорил о том, что это «посткультурно-
интеркультурная» перспектива. Так вот, постмодерн можно считать ответом,
акцентирующим «интеркультурную» составляющую. Постмодерн переходит
на позиции радикальной «интеркультуры». Он не переходит к «новой культур-
ности», как это делает в той же ситуации контрмодерн.
Если говорить о собственно науке и ее саморефлексии, то все эти про-
цессы максимально ярко выразились на линии Поппер–Кун–Лакатос–Фейе-
рабенд.
Поппер предложил то, что можно назвать диалектической методологи-
ей позитивизма. Она тоже является ответом на распознавание «закрытостей»
в традиционном позитивизме. Для Поппера любая научная теория не только
«открывает», но и «закрывает» универсум, так как она является лишь шагом в
бесконечном процессе «открывания». Все наличные научные теории должны
будут когда-то смениться на новые, и так до бесконечности. В деле «закрыва-
ния» универсума важна позиция самих ученых, которые стремятся оправдать
свои теории. Поэтому самым важным оказывается опровержение теорий и их
свойства быть опровергаемыми. Неопровержимые теории являются не науч-
ными, а метафизическими. Причем важную роль играет критическая настро-
енность самих ученых. Они должны быть настроены скорее на опровержение
своих и чужих теорий, чем на их оправдание. Ученые должны в этом смысле
быть предельно независимыми деятелями. К этому негативному аспекту до-
бавляется позитивный – соизмерение теорий через единую фактологическую
основу знания.
Итак, научное познание у Поппера становится диалектикой бесконечного
самопреодоления (что типологически тоже воспроизводит схематику по ли-
нии Кант – ранний Фихте). В этом смысле можно говорить о том, что Поппер
реализует перспективу предельной диалектической «посткультуры».
Антитезой к нему стала теория научных парадигм и революций Куна. На-
учное познание и научное сообщество имеет скрытую системную организо-
ванность, которую Кун назвал «парадигмой». У каждой парадигмы есть свои
социально-психологические, можно сказать, ценностно-метафизические
основания. В этом смысле каждая из парадигм является «научной культурой».
Беляев Вадим
143
Рефлексия над парадигмальными основаниями актуализируется только в пе-
риод научных революция. После революции основания уходят из рефлексии,
и движение становится инерционным. С точки зрения Франкфуртской школы
можно было бы сказать, что научный разум в этот период становится «инстру-
ментальным». Кун акцентирует несоизмеримость оснований парадигм. Каж-
дая из парадигм становится удовлетворенной своими нерефлексируемыми
основаниями. Подвешивается представление о глобальном прогрессе науч-
ного знания.
По отношению к позиции Поппера Кун выступает в роли «реалиста». Он
критикует «идеализм» Поппера, его стремление выдать идеал за реальность.
Кун как бы говорит, что реальность демонстрирует скорее интеркультурную,
чем посткультурную ситуацию. Если переложить куновскую теорию на общую
социокультурную реальность, то это будет критика предельного «посткультур-
ного» пафоса, стремлением показать, что реальность наполнена множеством
неустранимых «культурностей». Подвешенным оказывается представление
о глобальном «посткультурном» прогрессе.
Куновская позиция выражала в частной форме ту самокритику модер-
на второй половины ХХ в. , которая была направлена на распознавание «пост-
культурного идеализма». Для контрмодерновой рефлексии это стало поводом
для разговора о «постсекулярности», постмодерне как фазе возврата к стра-
тегически домодерновым схемам реальности. Для промодернового теорети-
зирования это стало одним из оснований для развертывания борьбы со все-
ми видами «инструментального» разума, то есть борьбы со всеми видами не-
рефлексивного существования. Особенно ярко это проявилось по линии пост-
структурализма.
Если говорить о промодернистских стратегиях, то здесь всегда возмож-
но акцентирование сбалансированно «интеркультурного» модерна, который
в методологии науки продемонстрировал Лакатос. Его методология научных
исследовательских программ синтезирует стратегии Поппера и Куна, восста-
навливая приоритет попперовской стратегии. Несмотря на «интеркультурную»
ситуацию, глобальный прогресс в «посткультурности» возможен. Надо толь-
ко желать его. Для методологии науки он будет означать глобальное соглаше-
ние относительно «фактов» («элементов мира»), которые будут основой для
соизмерения теорий. В общем социокультурном плане это означает глобаль-
ное соглашение относительно «общечеловеческих» ценностей, которое долж-
но быть основанием для соизмерения всех «культурностей».
Именно в этой перспективе следует рассматривать ту борьбу за «кон-
структивизм», которую ведет Тульчинский.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
144
Публичная политика No2
Литература
Беляев В.А. 2014. Интеркультура и философия. М.: ЛЕНАНД. 336 с.
Беляев В.А . 2015 (а). Конструируем модерн: Посткультурный и интер-
культурный аспекты. Проектно-системный подход. М.: ЛЕНАНД, 2015. 400 с.
Беляев В.А. 2015 (б). Конструируем модерн: Методологический и диа-
лектический аспекты. М.: ЛЕНАНД. 2015. 340 с.
Беляев В.А. 2016. Самосознание модерна: Между контр-модерном
и пост-модерном. М.: ЛЕНАНД. 240 с.
Беляев В.А. 2017. Логика истории и самосознания модерна: Между «за-
крытым» и «открытым» универсумами. Модерн как вторая редакция «ми-
ровой этической революции» христианства. Полемика с контр-модерном.
М.: ЛЕНАНД. 528 с.
Кассирер Э. 2000. Познание и действительность (Понятие о субстанции
и понятие о функции). СПб.: Алетейа. 360 с.
Кун Т. 2003. Структура научных революций / сост. В.Ю. Кузнецов М.: ACT.
230 с.
Лакатос И. 2003. Методология исследовательских программ. М.: АСТ.
250 с.
Поппер К. 1983. Логика и рост научного знания. М.: Прогресс. 720 с.
Реале Д. , Антисери Д. 1996–1997. Западная философия от истоков до
наших дней. СПб.: Петрополис. Том 1–4.
Словарь средневековой культуры / под ред. А.Я Гуревича. 2007. 2-е
изд. , испр. и доп. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН).
530 с.
Тульчинский Г.Л. 2017. Объяснение в политической науке: конструкти-
визм vs позитивизм. – Публичная политика. No 1. С . 76–98.
Фейерабенд П. 2007. Против метода. Очерк анархистской теории позна-
ния. М.: АСТ Москва, Хранитель. 240 с.
Беляев Вадим
145
Линде Андрей
Преодоление
негативного влияния
кибернетико-системного
государственного
управления в критической
теории общества
Ю. Хабермаса
Линде
Андрей Николаевич,
выпускник аспирантуры
факультета политологии
МГУ им. М.В . Ломоносова
(Москва).
Для связи с автором:
anlinde@mail.ru
Аннотация
В данной статье автор стремит-
ся решить оригинальную задачу: по-
казать, как критическая теория Ю. Ха-
бермаса при применении ее принци-
пов способна преодолеть негативные
последствия кибернетико-системного
государственного управления – сниже-
ние значимости человеческой лично-
сти, манипулятивное воздействие по-
литической коммуникации, – взаимо-
связанные с самоутверждением отчуж-
денной авторитарно-технократической
власти.
Ключевые слова: критическая
теория,
системно-кибернетический
подход, делиберативная демократия,
публичная сфера, Ю . Хабермас.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
146
Публичная политика No2
Линде Андрей
Linde A.N.
Overcoming the negative
influence of
cybernetic-system state
management in the critical
theory of society by
J. Habermas
Linde
Andrey Nikolaevich,
Graduate of postgraduate studies
at the faculty of political science of
Moscow State University named after
M.V. Lomonosov.
To contact the author:
anlinde@mail.ru
Abstract
In this article, the author seeks to
solve an original problem: to show how
exactly the critical theory of J. Habermas,
when applying its principles, is able to
overcome the negative consequences of
cybernetic-system state management:
the decline in the importance of the hu-
man person, the manipulative impact of
political communication, both intercon-
nected with the process, when an alien-
ated authoritarian-technocratic authority
is strengthen itself.
Keywords: critical theory, system-
cibernetical approach, deliberative de-
mocracy, public sphere, J. Habermas
147
Определение действительно справедливых для общества принципов го-
сударственной политики и принятия государственных решений – важная за-
дача политической науки. Изучение теоретико-методологических оснований
государственной политики имеет и следующее важное значение.
Теоретико-методологические подходы технократически-системного
управления или демократической публичной политики не являются просто на-
учными конструктами, но в качестве их основных принципов, установок, при-
вычного мышления существуют в сознании людей: лиц, принимающих реше-
ния, и рядовых граждан. Такие принципы и установки определяют и особое
видение, восприятие политической действительности – а это обуславливает
у политических руководителей в соответствии с руководящей методологией
определенные способы взаимодействия с действительностью и ее преобразо-
вания. Так, различаются способы государственного управления, руководимо-
го системно-функциональной методологией, или же, напротив, восприняв-
шего современные принципы делиберативной демократии, публичной поли-
тики.
Безусловно, с одной стороны, кибернетико-системный подход и ориги-
нальная критическая теория Ю. Хабермаса были предметом многих исследо-
ваний. Но основная цель данной статьи связана с решением двух действитель-
но оригинальных и новых задач: провести сравнительный анализ этих подхо-
дов и показать преимущества подхода Ю. Хабермаса.
Одним из основных теоретико-методологических подходов к государ-
ственному управлению является системно-функциональный подход. В поли-
тической науке он сформирован Д. Истоном, Т. Парсонсом. К . Дойчем, Н. Лу-
маном и др. В точных науках – кибернетике – были разработаны основы си-
стемного подхода. Так, Р. Мидоу утверждает, что «системный подход восходит
к кибернетике... и связывается с понятием социального контроля» [Тимофеева
2009: 52]. Действительно, анализ работ этих представителей теории систем
показывает, что методология и понятия кибернетики сформировали основные
научные положения их трудов.
В целом кибернетика как точная наука имела сильнейшее влияние в об-
ществе с точки зрения технического прогресса. Тем не менее приложение ме-
тодологии кибернетики к социальным наукам и использование ее принципов
в государственном управлении приводят как к научно-познавательным про-
блемам, так и к рассматриваемым в реальности проблемам возможности пол-
ноценного существования, воссоздания и развития обществ и человеческой
личности.
Выделим три основные группы проблем.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
148
Публичная политика No2
1. Проблемы использования точной, кибернетической методоло-
гии для изучения сложной социальной жизни людей и определения
принципов управления
Является спорным, насколько количественная, точная кибернетическая
методология может быть использована для изучения качественных аспектов
сложной социальной жизни.
Рассмотрим определение «системы». С точки зрения Н. Винера, на более
высоком уровне развития элементы способны складываться в общую систе-
му, обладающую свойством эмерджентности – несводимости новых свойств
образовавшейся системы к свойствам ее отдельных элементов. Физиологи-
ческие процессы так объединяются в общую, согласующуюся, «синергиче-
скую деятельность» [Винер 1969: 20], постепенно объединяясь в «один... ор-
ган» [Там же: 22]. Поэтому отдельный элемент не обладает какой-либо высо-
кой значимостью уже по одному своему личному существованию, своей «са-
мости», теоретически обосновывается ограниченность, неполноценность са-
мостоятельного элемента, отсутствие у него общезначимых свойств, когда он
вне встраивающей, подключающей и регулирующей его общей системы.
Однако, с точки зрения человеческого сообщества, достаточно очевид-
но, что общества, находящиеся на ранней стадии развития, а также более
сложные, постиндустриальные общества нельзя определить просто как не-
кую единую биосистему. Поэтому основатель кибернетики Н. Винер утверж-
дал, что прежде чем кибернетика будет «испытана в технике и биологии» [Ви-
нер 2001(а): 260], общественные науки станут малопригодными для кибер-
нетической методологии. Это связано с неоднородностью общества, измен-
чивостью на исторических этапах, в отличие от неизменного по своей приро-
де технического устройства.
Но Н. Луман, представивший радикальную версию кибернетико-
системного подхода, также стремится обосновать противоположный точ-
ке зрения Н. Винера подход. Так, Н . Луман утверждает, что в постиндустри-
альных обществах во всех подсистемах предопределен процесс технизации.
Технизация определяется как распространение социальной техники, опреде-
ляющей «возрастание эффективности» [Луман 2001: 111], предполагаемой
«в разгрузке смыслообразующих процессов переживания и действия... схема-
тизации процессов, первоначально протекающих в случайной форме» [Луман
2001: 111–113], эти процессы «разгружают сознание» [Луман 2001: 113].
Но здесь необходимо отметить, что, вместе с развитием внешних, технико-
формальных средств коммуникации и количественной интенсификацией ин-
формационных процессов в обществах, теряется значимость и субъектность
человеческого сознания, обедняется и упрощается его качественная смыс-
ловая составляющая, нарушается повседневная культурно-смысловая сфера
Линде Андрей
149
«жизненного мира». В результате технизации изменяется глубинно-смысловая
основа взаимодействия людей в обществе, стандартизируется и примитиви-
зируется сама жизнь человека и обществ.
Кроме того, в системном анализе общества, понимаемом как эмерджент-
ная совокупность элементов в совместной, согласующейся деятельности, точ-
но не определена роль отдельного индивида, личности. Скорее, он будет по-
ниматься как лишь один из элементов общей системы. Поэтому в таком случае
утверждается доминирование всей «системы» над отдельной личностью или
социальной группой. Это противоречит как философским, личностным прин-
ципам персонализма, так и основам демократии.
Утверждение такого кибернетико-научного подхода, скорее, приве-
дет к точно-научному, техническому методу управления обществом. Так, Ви-
нер утверждает, что методы кибернетико-технического управления уже
применялись в человеческих обществах: в руководимых бюрократически-
технократическими принципами организациях – например, в государствен-
ных корпорациях, армии и др. По своей природе эти организации предпола-
гают регламентацию жизни человека и подавление его личности, сводя инди-
вида до части организованной управляемой техники: «То, что используется в
качестве элемента в машине, действительно представляет собой элемент ма-
шины» [Винер 2001(б): 189]. Но глубокая, сложная и многообразная жизнь
всего общества не может быть построена просто по образцу управления кор-
порацией – корпоративизму.
Кибернетический подход также не способен выявить качественную сто-
рону ценностей, норм, принимаемых социальными группами, так как изучает
только формальную сторону отношений между людьми.
Проблема в том, что такая кибернетическая методология воссоздается в
принципах государственного управления на практике. Подобное управление
обществом в политическом режиме выражается в форме технократического,
авторитарного государственного правления. И это также говорит о необходи-
мости применения в принципах государственного управления другого научно-
го теоретического подхода.
2. Проблемы понимания политической коммуникации в системно-
функциональном подходе
Особое значение имеет понимание сущности политической коммуни-
кации в системно-функциональном подходе. В точных науках сформиро-
вался позитивистский подход к коммуникации, учитывалась ее техническая
сторона, количественный процесс передачи информации, не изучается ка-
чественная характеристика, субъективный, глубинный смысл сообщаемого
в диалоге.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
150
Публичная политика No2
К. Шеннон и Н. Винер основали математический, кибернетический под-
ход к коммуникации. К . Шеннон проводит изучение коммуникации в матема-
тическом, исчисляемом виде [Шеннон 1963], связывает его с теорией систем,
изображением системы связи. Ученый исходит из понятия неопределенности
системы, возникающего при отсутствии полной информации для ее функци-
онирования. Для дальнейшего существования и развития системы требуется
новая информация – понижающая степень неопределенности, помогающая
«определить, по какому пути развивается система» [Назарчук 2009: 8]. Ком-
муникация – средство передачи информации, способствующее воспроизвод-
ству, поддержанию функционирования системы.
При этом коммуникация понималась как формальный, технический про-
цесс передачи точной, абстрактной информации. Но данная техническая ме-
тодология не универсальна, так как она не воспринимает качественную при-
роду коммуникации между людьми: как выражения людьми смыслов, их со-
общения и восприятия для обретения взаимопонимания.
Напротив, развивавший идеи феноменологии на прикладном уров-
не Г. Гарфинкель в ряде экспериментов доказал, что человек всегда действует
осмысленно и исходит из некоторого глубокого смысла в своей жизни. Таким
образом, мы полагаем, что в своих практических исследованиях Г. Гарфинкель
смог опровергнуть определение системного подхода, что личное (даже совер-
шенно искреннее по намерениям) действие человека всегда «происходит во
исполнение общих норм и ценностей» [Абельс 1998: 118], определяемых ки-
бернетической системой, тем самым преодолевая данное утверждение. Так, в
ряде исследований ученый доказал, что сам индивидуум осуществляет лич-
ное социальное (в том числе политическое) действие, основываясь на челове-
ческом здравом смысле1
.
Данное положение особенно важно для обоснова-
ния Ю. Хабермасом своего подхода к коммуникации, возможности построе-
ния консенсуса, демократических идей2
. И именно в связи с собственной, лич -
ной интерпретацией человек конструирует3 и «конституирует» свое видение
социальной действительности.
С точки зрения Ю. Хабермаса, точные науки направлены на интерес «ин-
формационного обеспечения и развития действий, контролируемых успехом»
[Хабермас 2007: 179]. В результате государственный аппарат преследует за-
дачу наибольшей информированности об окружающем мире для наиболее
успешной реализации собственных проектов. Однонаправленные, субъект-
1
См. раздел 3 «Познание социальных структур, основанных на здравом смысле...» в [Garfinkel
1967: 76–103].
2
См. [Habermas 1984(a): 124–130].
3
«Из этого эксперимента становится ясно, что мы, очевидно, не можем выдержать, если мир
не в порядке. Социальная реальность непрерывно конструируется нами так, что она сама произво-
дит смысл» [Абельс 1998: 118].
Линде Андрей
151
объектные каналы коммуникации могут транслировать информацию от бю-
рократического аппарата к управляемому обществу.
Также и сформулированную в системно-функциональном подходе об-
ратную связь с обществом нельзя представить как полноценную, субъект-
субъектную, диалогическую коммуникацию. В кибернетике «обратная связь»
обозначала процесс в механизме управления системой, когда «какая-либо ве-
личина... подается обратно на вход устройства как новая регулирующая порция
информации» [Винер 1969: 16], для успешного воспроизведения системы.
Во многом для государственного аппарата она преследует задачу контро-
лирования исполнения административных указов власти. Так, государствен-
ная власть как политическая подсистема использует «обратную связь для по-
лучения информации, достигло ли желаемого эффекта ее воздействие на об-
щество как на «окружающую среду» или же его необходимо скорректировать
для большей эффективности. Таким образом, закрепляется положение имен-
но государственной администрации как единственного полноправного субъ-
екта политической коммуникации, власти, способного к принятию политиче-
ских решений.
3. Утверждение на основе принципов кибернетико-системного
управления авторитарно-технократической власти
Сама логика математического расчета, на котором основана киберне-
тическая система, ставит перед собой техническую цель как можно большей
точно-научной регулируемости и управляемости общественных процессов.
В противоположность изучению ценностей самих граждан основатель систем-
ного подхода Д. Истон утверждает, что политическая подсистема – «совокуп-
ность тех взаимодействий, посредством которых ценности авторитарным спо-
собом приносятся в общество» [Истон 2000: 323]. Таким образом, ценности
прежде всего служат легитимации власти.
Поскольку кибернетико-системный подход к государственному управле-
нию основывается на точных науках, он стремится и к абсолютно объектив-
ному, математически верному и технически выверенному управлению обще-
ственными процессами. Поэтому кибернетический подход стремится не толь-
ко не понимать, не учитывать, контролировать независимые субъективные
факторы, но также выделять и элиминировать их как препятствующие задачам
общественного контроля. Таким качественным, независимым фактором явля-
ется и человеческое сознание. В крайнем развитии системного подхода со-
знание уже редуцируется до функции, средства коммуникации, через которое
транслируется информация для воспроизведения системы. Так, действитель-
но, и совершенно различные научные подходы в рамках структуралистского,
системного направлений объединяет утверждение, что общие социальные
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
152
Публичная политика No2
структуры определяют человеческое индивидуальное сознание, внешней де-
терминирующей силой извне конструируя его. Проблема в том, что Н. Луман
в своем системном подходе совершает драматический шаг далее. Он утверж-
дает, что сознание вообще является только внешней формой, инструментом
для функционирования и воспроизведения «системной» коммуникации. Со-
знание предстает как только определяемая системной логикой зависимая пе-
ременная механического социального устройства для передачи определяе-
мых «системной» коммуникацией особых, чувственных смыслов, также про-
изведенных внешним функционированием необходимых системных опера-
ций. Поэтому сущность и роль сознания в целом предполагаются лишь в огра-
ниченности зависимым посредником, «медиумом для коммуникации как для
формы» [Назарчук 2009: 122].
Но без наличия в государстве сдержек и противовесов – влиятельной де-
мократической общественности, несдерживаемое технократическое правле-
ние может привести к следующим негативным последствиям. Так, Н. Винер
приводит критику проведения властью государственного управления по прин-
ципам кибернетической техники, когда человек или отдельная группа людей
(политические лидеры) с целью «господства... могут... управлять своим наро-
дом посредством политической техники... слабость машины... состоит в том,
что она не может пока учесть... область вероятности, которая характеризует че-
ловеческую ситуацию. Господство машины предполагает общество, достигшее
возрастающей энтропии, где... статистические различия между индивидуума-
ми равны нулю» [Винер 2001(б): 184]. Такой подход приводит к технокра-
тическому правлению элиты, «которое антидемократично» [Хелд 2014: 256].
Поэтому возникает вопрос, применение какого научного подхода служит
развитию общества, способного преодолеть в государстве технократические
кибернетико-системные, негативные стороны административного управления?
Представляется, такой ответ был найден в критической теории общества,
основанной во Франкфуртской школе социальных исследований. Критиче-
ская теория, в отличие от точных наук, решающих технические задачи, наце-
лена на эмансипаторный, освобождающий интерес. Основы первой версии
критической теории заложены М. Хоркхаймером и Т. Адорно [Хоркхаймер,
Адорно 1997].
Уже в первой версии критической теории ученые стоят на антипозити-
вистских позициях, критикуют «декартовский» разум, стремящийся к облада-
нию властью над окружающей природой и человеком и распоряжению ими.
К инструментальному разуму они относят также применение точных наук.
Были обозначены возрастающие тенденции в «постлиберальных» обществах:
«картина полностью администрируемого общества; согласующимися с ней
были репрессивный способ социализации, который не допускал собственную,
Линде Андрей
153
внутреннюю природу человека и вездесущий социальный контроль, применя-
емый через каналы массовой коммуникации» [Habermas 1984(b): 381].
Но вместо анализа возможностей совершенствования демократиче-
ской политики, не позволяющей осуществить овеществление сознания чело-
века, ученые предлагали только «негативный» проект: изучение контролиру-
ющих, дисциплинирующих механизмов власти. Поэтому, как обосновыва-
ет Ю. Хабермас, в целом первый проект был не совсем удачен, также из-за
чрезмерной методологической привязанности к историческому материализ-
му К. Маркса, изучающему общество только как нечто целое, на макроуров-
не: «Основные концепции критической теории ставили сознание индивидов
прямо напротив экономических и административных механизмов интегра-
ции, которые были только расширены внутрь, внутрипсихически» [Habermas
1984(b): 382–383].
Поэтому наиболее полное развитие критическая теория получила в рабо-
тах Ю. Хабермаса.
1). Возвращение к качественной, понимающей методологии, на-
правленной на восприятие личности и ценностей самих граждан
С методологической точки зрения основой критической теории становится
не точная наука. Ю. Хабермас объединяет положения критической теории с ка-
чественным, интерпретационным герменевтико-феноменологическим методом.
Идеи феноменологии (феномен от греч. φαινόμενον, от φαίνεσθαι – явле-
ние, являться) были восприняты Ю. Хабермасом в следующем ключе.
Ученый развивает понятие «жизненного мира», соответствующего непо-
средственному, повседневному взаимодействию людей в сообществе. Пред-
ставитель феноменологической философии Э. Гуссерль как совокупность субъ-
ективных, непосредственных представлений самих людей о себе и окружаю-
щем мире, религиозных предпочтений, норм и ценностей, которые всегда из-
начально заданы в жизненном опыте. Именно через восприятие этих идеалов,
ценностей человек интерпретирует действительность. Также эти представле-
ния, являющиеся основанием различных личностных и социально-групповых
интерпретаций, не зависят от «каких бы то ни было научных... констатаций»
[Гуссерль 2013: 176].
Поэтому ученый должен отойти от исследования мира как познания только
объективных фактов и учитывать субъективные представления людей, консти-
туирующие повседневный мир. Такой подход определяет необходимость изуче-
ния повседневной межличностной коммуникации, в которой передаются лич-
ные субъективные смыслы и конституируются интерсубъективные смыслы. Во
взаимовлиянии этих смыслов созидается субъективная политическая действи-
тельность, и через их призму воспринимается объективная действительность.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
154
Публичная политика No2
В том, что феноменология исходит из самого сознания человека, прояв-
ляется и ее гуманистический потенциал. Проблема системного подхода в том,
что он определяет и детерминирует природу элемента системы (также челове-
ка в обществе) исключительно по его функциональности: технической роли,
которую он исполняет в более крупной системе. Напротив, феноменологи-
ческие социальные исследования направлены на познание каждого предме-
та как оригинального явления в его исключительности, а также на существо-
вание различного субъективного восприятия предметов в сознании челове-
ка. Это делает возможным и реализацию «самости» человека, защищаемой от
административного управления развитием норм и принципов публичной де-
мократической политики.
И в этом, с нашей точки зрения, также проявляются существенные обще-
человеческие, нормативно-ценностные и познавательно-исследовательские
преимущества подхода Ю. Хабермаса перед подходами, основанными на
постструктуралистской философии. Так, постструктурализм, в отличие от фе-
номенологии, основан одновременно на системно-структуралистском пред-
ставлении, что сознание, действие и взаимодействия людей внешне детерми-
нируются общими социальными структурами, но и на отличающемся убеж-
дении, что эти структуры имеют не естественно-воспроизводимое происхо-
ждение, а целенаправленно-сконструированное извне для управления и про-
граммирования общества4
.
В постструктурализме это приводит к «негатив-
ной» идее полного отказа от этих структур или их разрушения: как структур
языка, пола, так и социально-политических структур.
Но, как мы полагаем, в совокупности признание абсолютизирующей
роли структур при совмещении с идеей их полного разрушения может также
привести к нарушению естественной человеческой природы, жизнеобразую-
щих общественных отношений, самобытной культуры, к невосстанавливае-
мой по последствиям катастрофе, когда сама природа человека может исчез-
нуть как «лицо, начертанное на прибрежном песке» [Фуко 1994: 19]. Необхо-
дим именно «позитивный» проект. Тогда особое значение приобретает под-
ход Ю. Хабермаса, отстаивавшего самостоятельную роль субъекта и социаль-
ных групп в истории, способность личности к осознанному выбору, направля-
ющему политический процесс вне администрирования структурами5
.
Поэтому для защиты такого свободного действия требуется применение
принципов критической теории.
4
См. идеи радикального структуралистского и постструктуралистского конструктивизма в рабо-
тах о «реальности массмедиа» Н. Лумана [Луман 2005], направляемом создании «гиперреальности»
Ж. Бодрийяра [Baudrillard 1981] и др.
5
Но и в дебатах вокруг идей Ю. Хабермаса и постструктуралистских идей М. Фуко мы полагаем
нормативно-ценностно и познавательно более удачным подход Ю. Хабермаса, не соглашаясь с точ-
кой зрения Б. Фливберга [Фливберг 2000: 127–136].
Линде Андрей
155
2). Воссоздание полноценной диалогической модели коммуникации
Как пишет Ю. Хабермас, объектом критической теории должна стать
«коммуникативная практика повседневного жизненного мира, в которой во-
площены структуры рациональности и могут быть обнаружены процессы ове-
ществления» [Habermas 1984(b): 382].
Ю. Хабермас пишет о необходимом сохранении, рационализации струк-
тур жизненного мира, основой которого является взаимопонимание. Защита
«жизненного мира» от стандартизирующего воздействия системы и его раз-
витие утверждаются благодаря жизнеобеспечивающему процессу «чистой»
коммуникации, обеспечиваемой только в особом типе социальной рацио-
нальности и действия – «коммуникативном». Коммуникативная рациональ-
ность утверждается не за счет эффективности, чистого целедостижения, а за
счет взаимопонимания, консенсуса и согласованности между людьми. В ком-
муникативном действии акторы преследуют достижение цели, но при взаим-
ном согласии, равенстве, взаимопонимании, стремлении принять точку зре-
ния Другого, существовании некоторой договоренности, только при которой
акторы могут преследовать те или иные цели. Цели определяются при прояс-
нении, в ходе обсуждения не только личного, но ставшего после обмена точ-
ками зрения общего, интерсубъективного смысла действия. Это достигается в
выражении общего консенсуса, который обогащается восприятием индивиду-
альных точек зрения, не определяется окончательно, может быть изменен, пе-
ресмотрен.
Именно эти убеждения людей, их этические суждения о государствен-
ном строе, экономической политике должны влиять на политический курс, на-
правляя его, а не государственный аппарат должен навязывать определяемые
им убеждения, картины действительности гражданам.
Ю. Хабермас обосновывает возможность взаимопонимания как между
гражданами, так и между гражданским обществом и исполнителями долж-
ностей администрации. Эта модель качественного смыслового взаимопо-
нимания была разработана Ю. Хабермасом также на основе герменевтики
Х.- Г
.
Гадамера. В герменевтическом подходе преследуется не «технический»
интерес объяснения и контролирования действительности, а стремление к вза-
имопониманию между людьми. Диалог служит взаимной аргументации, «при-
мирению» высказываемых смыслов и достижению консенсуса. Важный прин-
цип: диалог предполагает «потенциальность бытия-другим», оценивание си-
туации не только с точки зрения «Я», но и с точки зрения «Другого» человека.
Также Ю. Хабермас обосновывает практические правила обсуждения
в обществе. С его точки зрения, прояснению общественного мнения служат
определенные принципы политической коммуникации, сформулированные
ученым в «идеальной речевой ситуации»:
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
156
Публичная политика No2
1. Все потенциальные участники обладают правом начать дискурс по
проблемным общественным вопросам и продолжить его.
2. Участники обладают равными возможностями представить свои точки
зрения, обосновать их или опровергнуть другие.
3. Участники правдивы в отношении своего «внутреннего мира», «своих
установок, чувств и намерений» [От критической теории... 2001: 92].
4. На точки зрения участников не оказывают влияния «внешние принуж-
дения» реальности: социальное положение, влияние граждан, учитывается
значение самого аргумента.
И поэтому действительно, как мы полагаем, именно в данных норматив-
ных принципах обеспечиваются обозначенные демократические ценности: в
коммуникации обеспечивается выражение собственной точки «я» человека,
диалогическая коммуникация направлена на восприятие других, преодолева-
ется воздействие административной и экономической подсистемы.
С другой стороны, сам Ю. Хабермас неоднократно писал о трудностях
полноценной практической реализации данной модели. В целом для модели
могут быть обозначены два направления:
1. Критически-исследовательское: модель «идеальной речевой ситуа-
ции» применима для исследования существующей практики политической
коммуникации и критического выявления совершённых в ней отступлений от
нормативных принципов демократической коммуникации, формирования
общественного мнения, социального консенсуса и т. д. Так, в ряде современ-
ных исследований по критическому дискурс-анализу применяются эти и дру-
гие принципы Ю. Хабермаса [Cukier, Bauer, Middleton 2014; Forchtner 2010].
2. Позитивно-практическое: на основе модели могут быть разработа-
ны новые формальные и неформальные институты демократической поли-
тической коммуникации, публичной политики, максимально приближенные
к данной модели. Мы полагаем, что примером удачного применения неко-
торых принципов является партисипаторное бюджетирование: участие граж-
дан в справедливом распределении муниципального бюджета на реализацию
социально значимых проектаов. Например, применяется принцип «повторя-
емость... процедур обсуждения» [Вагин и др. 2015: 82], стремящийся обеспе-
чить «рассмотрение мнения всех сторон» [Там же: 82], соответствующий пер-
вому и второму принципам «идеальной речевой ситуации». Также критерий
«в рамках встреч... граждан должны присутствовать определенные формы пу-
бличного обсуждения» [Аллегретти и др. 2015: 7] отражает принцип дости-
жения консенсуса только путем всестороннего согласования аргументирован-
ных точек зрения.
Вместе положения политической коммуникации применяются Ю. Ха-
бермасом в принципах публичной политики, благодаря которым также
Линде Андрей
157
преодолеваются абсолютизм, отчужденность и замкнутость власти. Сле-
довательно, Ю. Хабермас разрабатывает модель диалогической, субъект-
субъектной политической коммуникации.
3). Публичная политика и делиберативная демократия как основы
совместной общественной жизни и демократического правления
Артикуляция общественного мнения требует определенных институцио-
нальных изменений в обществе.
Прежде всего применение идеальных принципов коммуникации воз-
можно при организации независимой «публичной сферы», в которой об-
суждения могут быть проведены вне влияния государственных или зарубеж-
ных властных структур. Ю. Хабермас понимает «публичную сферу» как, отлич-
ную от частной сферы, сферу гражданского общества, в которой возможно
совещательное решение общественно значимых задач, и именно в публич-
ной сфере происходят дискурсивный процесс формирования общественно-
го мнения и «процесс коммуникативного производства легитимной власти»
[Habermas 1990: 203]. Организация независимой публичной сферы способ-
ствует решению следующих важных задач:
1. Обсуждение направлено на минимизацию роли бюрократических
решений, а также на «сведение структурных конфликтов интересов от абсо-
лютных к стандарту всеобщего интереса» [Habermas 1991: 235], который все
и каждый могут признать.
2. Установление «подходящих взаимоотношений между бюрократиче-
скими решениями и квазипарламентскими обсуждениями» [Habermas 1991:
234] при помощи процедуры политической коммуникации.
3. Обсуждение критически направлено на общественные проблемы.
4. Обсуждение, направленное на снижение единоличных властных ре-
шений, преследующих узкие интересы, и достижение всеобщего интереса,
должно завершиться пониманием консенсуса.
«Публичная сфера» является центром для обоснованной Ю. Хабермасом
новой, делиберативной (от англ. deliberation – обсуждение, обдумывание)
модели демократии6
.
Делиберативная демократия (от англ. deliberate – об-
суждать, обдумывать) представляет собой особый подход к демократическо-
му режиму, согласно которому для сохранения изначальных принципов де-
мократии необходимо расширить власть гражданского общества и его вли-
яние на государственный аппарат при помощи процедуры рационального
6
Так, А.Ю. Сунгуров отмечает, что публичная политика «невозможна без существования процес-
са... коммуникаций общественных групп по поводу целей и задач государственной власти и местно-
го самоуправления... мы видим... взаимосвязь ... понятия ... с понятием делиберативной демократии»
[Сунгуров 2004].
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
158
Публичная политика No2
обсуждения. Такая дискуссия является «информированной, сбалансирован-
ной, сознательной, независимой и всесторонней» [Fishkin, Luskin 2005: 285].
Проекты и постановления исполнительной власти должны быть опо-
средованы обсуждением общественности. Политическая коммуникация об-
щественности в «публичной сфере» общества должна сформировать «об-
ширную сеть воспринимающих элементов, которые реагируют на давление
общественно-распространенных проблем и стимулируют влиятельные мне-
ния» [Habermas 1996: 300]. Политическая коммуникация исходит не из еди-
ного источника в административной власти, а формируется в рамках обсужде-
ний в гражданском обществе. Универсальность, рациональность обсуждения
приводят не к достижению личных интересов властных групп, а к всеобщему
обсуждению и пониманию общего блага общества, его достижению.
При этом последние прикладные исследования демонстрируют, что кон-
цепция делиберативной демократии не является только теоретическим кон-
структом. Так, исследования Стэнфорда Дж. Фишкина и Р. Ласкина продемон-
стрировали, что при проведении ими «делиберативных» форумов мнения
сторон дискуссии меняются [Fishkin, Luskin 2005: 290], становятся более реф-
лексивными, продуманными, зависящими от нормативных, а не от «эмоцио-
нальных» критериев, и между дискутирующими происходит не поляризация,
а сближение по различным вопросам.
Представим сравнительный анализ подходов в таблице.
Вопрос
Кибернетико-системный
подход
Критическая теория
Ю. Хабермаса
Методологиче-
ская основа
Теория систем, киберне-
тика
Феноменология, герменев-
тика, аналитическая фило-
софия
Роль индивида Индивид – только один из
функциональных элемен-
тов общей системы
Индивид определяется как
личность, являющаяся основ-
ным субъектом и целью по-
литики
Линде Андрей
159
Политическая
коммуникация
Анализируется с точки зре-
ния передачи информа-
ции, для воспроизводства
существующей системы
Изучается с точки зрения сооб-
щения и восприятия смыслов
личностей, для образования
общественного мнения в неза-
висимой публичной сфере
Политический
режим
Авторитарно-
технократическая власть
Делиберативная демократия
Сделаем основные выводы:
1. В противоположность системному подходу, основанному на методо-
логии кибернетики, Ю. Хабермас в развитии критической теории использу-
ет качественную, герменевтико-феноменологическую методологию, понятие
«жизненного мира». Она служит изучению процессов коммуникации и опре-
делению общественного мнения.
2. Одной из главных проблем современных, постиндустриальных об-
ществ Ю. Хабермас определяет внедрение в «жизненный мир» императивов
инструментальной рациональности: системно-функционального администра-
тивного управления.
3. Поэтому средством сохранения независимости общественности явля-
ется развитие свободного, независимого обсуждения в «публичной сфере»,
служащего рационализации, прояснению смыслов «жизненного мира», со -
гласованию различных точек зрения и достижению консенсуса.
4. Это реализуется благодаря институциализации действительно незави-
симой «публичной сферы» вне влияния государственных институтов. Публич-
ная сфера, функционирующая по принципам, предложенным ученым, служит
основанием модели делиберативной демократии Ю. Хабермаса.
Именно применение принципов критической теории на политической
практике служит общественности, чтобы преодолеть манипулирующее воз-
действие кибернетико-системного управления. С нашей точки зрения, осо -
бенно важен тезис Ю. Хабермаса о сохранении и развитии самоценной куль-
туры и политической культуры человечества, диалогически оберегаемой в
сферах «жизненного мира» различных обществ. Это достигается за счет про-
тивопоставления развиваемого свободного публичного обсуждения техно-
кратическому экспертному управлению, невосприимчивому к ценностям об-
щественности и отдельных социальных групп. Обсуждение служит восприя-
тию и артикуляции ценностей самих граждан, реализуется в обоснованной
Ю. Хабермасом модели делиберативной демократии.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
160
Публичная политика No2
Литература
Абельс Х. 1998. Романтика, феноменологическая социология и каче-
ственное социальное исследование.
–
Журнал социологии и социальной ан-
тропологии. Т. 1. No 1. С . 98–124.
Аллегретти Дж. , Рёке А.,
Сентомер И.,
Херцберг К. 2015. Кросс-
национальные модели гражданского участия: кейс партиципаторного бюдже-
тирования. – Инициативное бюджетирование в Российской Федерации. Вып.
1. Москва. С . 5–37.
Вагин В.В ., Гаврилова Н.В. , Шаповалова Н.А. 2015. Анализ и системати-
зация лучшей российской и зарубежной практики вовлечения граждан в бюд-
жетные инициативы. – Инициативное бюджетирование в Российской Федера-
ции. Вып. 1. Москва. С . 38–153.
Винер Н. 1969. Мое отношение к кибернетике. Ее прошлое и будущее.
М.: Советское радио. 24 с.
Винер Н. 2001(а). Акционерное общество «Бог и Голем»: Обсуждение не-
которых проблем, в которых кибернетика сталкивается с религией. – Винер Н.
Человек управляющий. СПб.: Питер. С . 197–262.
Винер Н. 2001(б). Человеческое использование человеческих существ:
кибернетика и общество.
–
Винер Н. Человек управляющий. СПб.: Питер.
С. 3–196.
Гуссерль Э. 2013. Кризис европейских наук и трансцендентальная фено-
менология: введение в феноменологическую философию. СПб.: Наука. 494 с.
Истон Д. 2000. Категории системного анализа политики. – Политология:
Хрестоматия / сост. М.А. Василик, М.С . Вершинин. М.: Гардарики. С . 319–331.
Луман Н. 2001. Власть. М.: Праксис. 256 с.
Луман Н. 2005. Реальность массмедиа. М.: Праксис. 256 с.
Назарчук А.В . 2009. Теория коммуникации в современной философии.
М.: Прогресс-традиция. 320 с.
От критической теории к теории коммуникативного действия. Эволюция
взглядов Ю. Хабермаса. Тексты / cост. А.Я . Алхасова. 2001. Ульяновск: УлГТУ. 150 с.
Сунгуров А.Ю . 2004. Публичная политика и экспертиза.
–
Журнал
«Пчела». Обозрение деятельности негосударственных организаций Санкт-
Петербурга.
URL: http://www.pchela.ru/podshiv/45/public.htm (дата
обращения 14.05.2017).
Тимофеева Л.Н. 2009. Политическая коммуникативистика: проблемы
становления. – Полис. Политические исследования. No 5. С. 41–54.
Фливберг Б. 2000. Хабермас и Фуко – теоретики гражданского общества. –
Социологические исследования. No 2. С . 127–136.
Фуко М. 1994. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб.:
A-cad. 407 с.
Линде Андрей
161
Хабермас Ю. 2007. Познание и интерес. – Хабермас Ю. Техника и наука
как «идеология». М.: Праксис. С . 167–191.
Хелд Д. 2014. Модели демократии. М.: Издательский дом «Дело»,
РАНХиГС. 544 с.
Хоркхаймер М. , Адорно Т. 1997. Диалектика Просвещения. Философ-
ские фрагменты. М.; СПб.: Медиум, Ювента. 312 с.
Шеннон К. 1963. Работы по информатике и кибернетике. М.: Изд-во ино-
странной литературы. 829 с.
Baudrillard J. 1981. Simulacres Et Simulation. Paris: Galilee. 235 p.
Cukier W., Bauer R., Middleton C. 2014. Applying Habermas Validity Claims as
a Standard for Critical Discourse Analysis. – Conference: International Federation for
Information Processing Digital Library; Information Systems Research. P. 233–258.
Fishkin J. , Luskin R. 2005. Experimenting with a Democratic Ideal: Deliberative
Polling and Public Opinion. Acta Politica, 40. Р
. 284–298.
Forchtner B. 2010. Jürgen Habermas’ Language Philosophy and the Critical
Study of Language. – Critical Approaches to Discourse Analysis across Disciplines.
Vol. 4 (1). P. 18–37.
Garfinkel H. 1967. Studies in Ethnometodology. New Jersey: Prentice-Hall.
288 p.
Habermas J. 1984(а). The theory of communicative action. Vоl. 1. Boston,
Beacon Press. 562 p.
Habermas J. 1984(b). The theory of communicative action. Vоl. 2. Boston,
Beacon Press. 457 p.
Habermas J. 1990. Die Moderne – ein unvollendetes Projekt: Philosophisch-
politische Aufsätze 1977–1990. Leipzig: Reclam Verlag. 254 S.
Habermas J. 1991. The structural transformation of the public sphere. An in-
quiry into a category of bourgeois society. Massachusets. 301 p.
Habermas J. 1996. Between facts and norms: contributions to a discourse
theory of law and democracy. Massachusetts Institute of Technology. 631 p.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
162
Публичная политика No2
Научно-практический симпози-
ум «Российские реформы» состоял-
ся 15–16 июня в пригороде Санкт-
Петербурга, г. Пушкине. Симпозиум
был организован Межрегиональным
гуманитарно-политологическим цен-
тром «Стратегия» под эгидой двух ис-
следовательских комитетов Россий-
ской ассоциации политической науки –
по публичной политике и гражданско-
му обществу и по политическому ана-
лизу – и был проведен совместно с
Московским представительством фон-
да Конрада Аденауэра. Этот симпозиум
стал своеобразным подведением ито-
гов после одиннадцати экспертных се-
минаров, которые проводились с сен-
тября 2015 г. по май 2017 г. в различ-
ных городах России – Москве, Санкт-
Петербурге, Владимире, Екатеринбур-
ге и Пятигорске, – и были посвящены
конкретным направлениям реформи-
рования общественно-политической
жизни современной России.
В работе симпозиума приняли
участие около тридцати человек – пре-
Сунгуров Александр
Симпозиум
«Российские реформы»
Сунгуров
Александр Юрьевич,
доктор политических наук,
профессор НИУ ВШЭ – СПб.
Для связи с автором:
asungurov@mail.ru
163
ОБЗОРЫ
подавателей университетов, сотрудников научных институтов, активистов пра-
возащитных и иных неправительственных организаций из Санкт-Петербурга,
Москвы, Петрозаводска, Великого Новгорода, Смоленска, Твери, Владими-
ра, Воронежа, Краснодара, Ставрополя, Черкесска, Махачкалы, Йошкар-Олы,
Самары, Саратова, Перми и Екатеринбурга. Все участники получили первый
номер журнала «Публичная политика», одним из учредителей которого явля-
ется Межрегиональный центр «Стратегия».
Первая тематическая сессия симпозиума 15 июня «Реформы как про-
цесс: некоторые закономерности» прошла под председательством доцента
РАНХиГС М.Ю . Мизулина. Ее открыла презентация президента Межрегио-
нального центра «Стратегия», профессора НИУ ВШЭ СПб А.Ю . Сунгурова, в
которой он подвел никоторые итоги цикла из одиннадцати семинаров по теме
«Российские реформы». В качестве предварительных выводов были предло-
жены следующие тезисы. Реформы, проводимые в России в последние 10–15
лет, инициируются технократической частью исполнительной власти и сла-
бо связаны как с экспертным сообществом, так и со структурами гражданско-
го общества (режим конфиденциальности, закрытость их подготовки). В этих
условиях не складываются «Коалиции поддержки» (по П. Сабатьеру), рефор-
маторы остаются наедине с консерваторами-силовиками. Кроме того, при ро-
сте цен на нефть или изменении фаз электорального цикла часто теряется по-
литическая воля для продолжения реформ, а поддержки со стороны граждан-
ского общества и независимых экспертов нет. И реформы становятся имита-
циями, особенно если их инициаторы выдавливаются из власти. Против неко-
торых реформ (например, введения ЕГЭ или ювенальной юстиции) возника-
ет реальная общественная оппозиция, что связано как с невниманием рефор-
маторов к созданию «коалиций поддержки», так и с ростом общего консерва-
тивного тренда под влиянием пропаганды.
Далее состоялось выступление Клаудии Кроуфорд, руководителя Мо-
сковского представительства фонда Кондрада Аденауэра, в котором она поде-
лилась опытом реформирования восточных земель Германии в 1990-е гг. Ее
выступление было особенно интересным, так как она была федеральным ми-
нистром Германии по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи с
1994 по 1998 г. , а до объединения Германии жила и работала в ГДР. Отвечая
на вопросы о том, как германские политики использовали советы экспертов и
экспертное знание в целом, она ответила, что они, конечно же, всегда спра-
шивали у экспертов и экспертного сообщества мнение по обсуждаемым во-
просом, но решение принимали самостоятельно и иногда это решение суще-
ственно расходилось с советами экспертов. В качестве примера К. Кроуфорд
привела обсуждение вопроса о том, в каком соотношении надо было ме-
нять марки ГДР на единые немецкие марки после объединения. Все эксперты
164
Публичная политика No2
однозначно советовали менять исходя из рыночного курса 10:1, но решение
правительства Германии было иным – менять первую тысячу марок из соотно-
шения 1:1, а последующие суммы – 2:1. И опыт показал, что такое политиче-
ское решение не привело к тем пагубным последствиям в экономике страны,
о которых в один голос предупреждали эксперты-экономисты.
Далее о своем опыте участия в разработке Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей (НСДИД) на период 2012–2017 гг. и формах ее по-
следующей (не)реализации рассказал вице-президент Национальной ас-
социации благотворительных организаций Н.Л. Хананашвили. В частности,
в разделе VIII НСДИД «Механизм реализации Национальной стратегии» со-
держались следующие позиции: взаимосвязь с Концепцией долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 г., Концепцией демографической политики Российской Федерации на
период до 2025 г. и приоритетными национальными проектами; постоянная
деятельность Координационного совета (КС); разработка региональных стра-
тегий; подготовка консолидированного бюджет в интересах детей; контроль
Счетной палатой РФ проведения аудита эффективности. Также предусматри-
вались ежегодные аналитические доклады Координационного совета и аль-
тернативные доклады НКО. В итоге из КС были изгнаны разработчики страте-
гии, проводятся периодические формальные заседания. Нет никаких доступ-
ных публике ежегодных аналитических докладов, итогового отчета.
Завершил первую сессию профессор НИУ ВШЭ В.Н . Монахов презента-
цией на тему «Гласность как значимый элемент российских реформ. Опыт ре-
ализации и уроки на будущее». Прежде всего он представил такое опреде-
ление слова «гласность»: «Гласность – это бюрократическое выражение, при-
думанное для замены выражения “свобода слова” и придуманное по догад-
ке, что выражение “свобода слова” может показаться неприятным или резким
кому-нибудь», и далее кратко рассмотрел три периода российской истории,
когда использовался этот термин. Гласность 1.0
–
период великих реформ
Александра II; гласность 2.0 – период горбачевской перестройки, а гласность
3.0 – период современной России.
Затем наступило время для вопросов всем докладчикам и комментари-
ев. По такой схеме проходили и другие тематические сессии симпозиума.
Вторую сессию «Реформы образования», состоявшуюся после обеда,
вел профессор МГИМИ А.А. Дегтярев. Ее открыл профессор НИУ ВШЭ – СПб
О.А. Лебедев, который в 1990–1996 гг. возглавлял комитет по образованию
Санкт-Петербурга. И поэтому так интересно было слушать его сообщение на
тему «Реформа школьного образования в первой половине 90-х: опыт Санкт-
Петербурга». В нем О.А . Лебедев сформулировал две идеологии школьного об-
разования – идеология долга и идеология права. В первом случае государство
Сунгуров Александр
165
формулирует, что должен учить и делать школьник, во втором – школьник
имеет право выбора и направления образования и его формы и методы. Для
образования советского времени была характерна именно идеология долга.
В 1990-е гг. сам О.Е. Лебедев и его коллеги-реформаторы стремились изме-
нить ситуацию, реализуя идеологию права, поддерживая разнообразные ва-
рианты школьного образования. Сегодня, по мнению докладчика, имеет ме-
сто сочетание обоих подходов.
Далее с презентацией на тему «Реформа образования: связь формально-
го и неформального образования в высшей школе» выступил доцент Северо-
Кавказского федерального университета, координатор Движения доброволь-
цев Ставрополья В.В. Митрофаненко. Он, в частности, говорил о том, что не-
формальное обучение происходит вне образовательных учреждений и обычно
не ведет к официальной сертификации, но в то же время неформальное обуче-
ние системно, в нем определены цели, результат обучения, продолжительность
обучения. Неформальным обучением следует считать любую образовательную
активность вне формальной системы. К такому виду обучения можно отнести
обучение в клубах, кружках, различные курсы, тренинги, короткие программы.
В рамках такого вида обучения могут выдаваться определенные сертификаты,
свидетельства, грамоты, однако они не являются образовательными документа-
ми, которые признаются государством как официальные, но имеют определен-
ное значение при поступлении на работу или в учреждение образования. Рас-
сматривая добровольчество как важный вид социальной политики, В.В . Митро-
фаненко предложил семь уровней подготовки добровольцев.
Н.Л . Хананашвили представил участникам симпозиума свой «взгляд из
нескольких точек» на реформу школьного образования в Москве. Такими «точ-
ками наблюдения» для него были: Общественный совет города Москвы, Об-
щественный наблюдательный совет при департаменте образования Москвы,
гимназия No 1534 (управляющий совет) и его собственная семья. Н .Л. Хана-
нашвили, в частности, остановился на создании управляющих советов (мас-
сово – с 2011 г.) . Среди проблем реализации этой реформы он выделил: не
очень ясное понимание сторонами функциональных обязанностей управля-
ющих советов; дефицит управленческой культуры; отсутствие системы подго-
товки; отсутствие (дефицит) исследований ситуаций и динамики. Завершила
эту сессию заведующая кафедрой прав человека Гуманитарного университета в
Екатеринбурге С.Н . Глушкова, которая на примере Екатеринбурга и Свердлов-
ской области рассказала об интересном опыте развития гражданского образо-
вания и правового просвещения в области прав человека.
Третья тематическая сессия симпозиума «Общество и власть: проблемы
взаимодействия» состоялась после перерыва на кофе, ее председателем был
В.Е . Карастелев (Московская Хельсинкская группа). Сессию открыл профессор
ОБЗОРЫ
166
Публичная политика No2
МГИМО, вице-президент Российской ассоциации политических консультантов
А.А. Дегтярев, выступивший с презентацией «Проект московской реновации
как радикальное реформирование городской среды». Он достаточно деталь-
но остановился на проблемной стороне этого проекта, а также на возникающих
формах самоорганизации москвичей с целью существенно видоизменить на-
мечаемый проект реновации. Следующим было выступление А.Л . Нездюрова,
доцента НИУ ВШЭ СПб и председателя правления СПб организации Межрегио-
нального центра «Стратегия» на тему «Создание общественно-консультативных
советов при органах исполнительной власти: деятельность и имитация». Он до-
статочно подробно остановился на уже накопленном в современной России
опыте создания общественно-консультативных советов при органах власти раз-
личного уровня, выделив условия, при которых степень имитации может быть
достаточно умеренной, а работа таких советов – хотя бы отчасти эффективной.
Далее участники симпозиума перенеслись на международный уровень
гражданского общества. С .С. Воеводина, руководитель Смоленского дискус-
сионного клуба, рассказала всем участникам этой встречи об опыте развития
международного взаимодействия в сфере гражданского образования на при-
мере деятельности гражданского форума «ЕС – Россия». В частности, речь шла
о том, что именно в формате этой диалоговой площадки европейского уров-
ня сегодня можно активно обсуждать многие современные российские про-
блемы, включая и проблемы гражданского образования, в развитии которо-
го участвуют многие из собравшихся в эти дни в особняке Кочубея. Заверши-
ло эту сессия выступление Н.А. Звягиной из Воронежа, представлявшей здесь
Межрегиональную правозащитную группу. В своем выступлении она расска-
зала участникам симпозиума о возможностях Эджайл-подхода (Agile) к кол-
лективному онлайн-обсуждению важных проблем и других современных
формах дистанционного общения, обсуждения и реализации самых разно-
образных проектов.
Четвертая тематическая сессия, посвященная реформам силовых струк-
тур и судебной системы, открыла работу второго дня симпозиума. Ее веду-
щим был В.Н. Монахов, один из учредителей Ленинградского межпрофес-
сионального клуба «Перестройка», созданного в 1987 г. и много сделавшего
для подготовки российских реформ начала 1990-х гг. Первой на этой сессии
была презентация сотрудника Института проблем правоприменения Европей-
ского университета в Санкт-Петербурге К.В . Титаева на тему «Как отреформи-
ровать миллион полицейских?». Среди основных проблем, связанных с дея-
тельностью российской полиции, он выделил следующие. Российская поли-
ция – самая большая структура в стране, не считая армии, имеющая при этом
военизированную и унифицированную структуру и управление. Она работа-
ет со сложными, вариативными задачами, которые ставятся ей «снаружи»,
Сунгуров Александр
167
сама являясь практически уникальным (и неадекватным) экспертом по сво-
ей работе. При этом ее характеризуют очень вариативные представления о це-
левой функции и тотальная закрытость информации. Среди первых шагов по
подготовке возможных направлений реформирования полиции К.В . Титаев
предложил такие три шага: первый – реконструкция практики работы и струк-
туры фактического действия; второй – определение консенсусных проблем и
продвижение частично-консенсусных проблем как среди стейкхолдеров, так и
(особенно) в общественном мнении и экспертном сообществе; третий – раз-
деление стратегических задач (долгосрочной реформы) и срочных задач (ре-
анимационный пакет).
Тему реформы российской полиции продолжил В.Е . Карастелев (Москов-
ская Хельсинкская группа) рассказавший об опыте реализации проекта «Граж-
данин и полиция: поиск эффективных форматов общественного контроля». На-
ряду с конкретной информацией по опыту достаточно успешной для современ-
ной России реализации этого проекта В.Е. Карастелев сформулировал также не-
сколько необходимых условий для успешного реформирования любых власт-
ных структур в нашей стране Так, ему кажется сомнительной необходимость в
«поваренной книге» реформ или предписаний, но это не отменяет задачу ис-
следования исторического материала. При любых реформах представители гос-
аппарата не должны быть единственными акторами процесса реформации. Од-
ним из необходимых условий как реформации, так и эволюционных измене-
ний является выращивание партнерских взаимоотношений в каком-то общем
деле, чтобы люди научились разговаривать и понимать друг друга, могли до-
стигать компромиссов без использования репрессивных практик в отношении
несогласных. Важнейшей инфраструктурой реформирования является выра-
щивание институтов общественного контроля. Выращивание мыслящих сооб-
ществ, без которых невозможно сегодня никакое успешное реформирование,
должно идти не столько по линии общих целей, сколько по пути культивирова-
ния общих ценностей соблюдения прав человека, демократии, мышления.
Третьим концептуальным выступлением на этой тематической сессии ста-
ла презентация М.Ю. Мизулина, доцента РАНХиГС, на тему «Судебная система
России: современное состояние и возможности реформы». Основным выводом
о состоянии системы судебной власти стал вывод о том, что судебная система
будет развиваться в инерционном режиме, при этом ориентиром являются не
современный европейский опыт, а страны ШОС и БРИКС. М.Ю. Мизулин также
считает, что к числу индикаторов и показателей развития судебной системы сле-
дует добавить принцип практического воплощения в ткань российского право-
судия идеи и факта верховенства права, а также учитывать такие параметры, как
политическая экономия (увеличение скорости правосудия и расчет судебных
издержек по всем категориям дел), интеллектуальное развитие (доступность
ОБЗОРЫ
168
Публичная политика No2
судебной информации, правовое просвещение, юридическое образование,
повышение квалификации судебного корпуса и сотрудников судов, нормы слу-
жебной нагрузки) и организационное развитие (внедрение новых организаци-
онных принципов и схем управления судебными институтами).
Эту сессию завершило выступление Л.Д. Бойченко, доцента Северного
института ВГУЮ и председателя Карельского центра гендерных исследований,
на тему «Становление института общественного контроля в РФ на примере де-
ятельности ОНК», в котором она осветила и собственный опыт участия в обще-
ственных советах при силовых структурах в Республике Карелия.
Пятая, заключительная сессия, которая состоялась 16 июня после кофе-
брейка, носила название «От теории к практике» и прошла под председатель-
ством автора этих строк. В рамках данной сессии участники симпозиума услы-
шали и обсудили выступления участников трех проектов. Первым был науч-
ный исследовательский проект «Институты и практики взаимодействия вла-
сти, экспертного сообщества и общественных организаций в российских реги-
онах» (2017–2019 гг.) , уже поддержанный грантом РГНФ/РФФИ (руководи-
тель проекта – Р
.В . Евстифеев (г. Владимир)), – его участники из Саратова, Тве-
ри и Санкт-Петербурга присутствовали на симпозиуме. Во втором случае к об-
суждению был представлен аналогичный по форме проект, но с фокусом вни-
мания на процессы, происходящие в таких национально-территориальных
образованиях, как республики в составе Российской Федерации (Республи-
ки Карелия и Марий Эл, Карачаево-Черкесская республика). Этот проект толь-
ко готовится для поддержки грантом РГНФ/РФФИ, тем важнее для участни-
ков проекта были комментарии и предложения со стороны их коллег по науч-
ной встрече в г. Пушкине.
В заключение участники встречи обсудили уже практико-ориенти-
рованный проект Межрегионального центра «Стратегия» «Развитие институ-
тов гражданского общества и повышение эффективности их взаимодействия с
Общественными палатами, общественными советами, институтом Уполномо-
ченного по правам человека и с экспертным сообществом на Юге России», уже
представленный на конкурс грантов Президента РФ.
После обеда, на заключительной сессии симпозиума его участники об-
судили предложения возможных научно- и практико-ориентированных про-
ектов на будущее, общие итоги встречи в г. Пушкине, а также тематику семи-
наров цикла «Российские реформы» и города их проведения в 2017–2018 гг.
В частности, поступило предложение сделать один из выпусков журнала «Пу-
бличная политика» в 2018 г. тематическим и посвятить его реформе судеб-
ной системы. Следующий, двенадцатый семинар цикла «Российские рефор-
мы» состоялся 29 сентября 2017 г. в г. Твери и был посвящен реформам в об-
ласти гендерной политики.
Сунгуров Александр
169
Философ Жак Деррида, размыш-
ляя о демократии, отмечал ряд ее про-
тиворечий или апорий: между свобо-
дой и равенством; гетерогенностью и
гомогенностью; самоопределением и
участием; суверенитетом и демокра-
тией. В апории свободы и равенства
свобода предполагает считать инди-
вида не сводимым к измерению, тогда
как равенство предполагает, что каж-
дый индивид как политический субъ-
ект является подсчитываемой едини-
цей. По иронии сведение демокра-
тии к подсчету голосов и калькулиро-
ванию большинства открывает воз-
можность для недругов демократии:
используя демагогию и манипулиро-
вание, набрать на выборах математи-
ческое большинство голосов и путем
формально демократического процес-
са прийти к власти с тем, чтобы уста-
новить авторитарное правление. Эта
апория показывает подверженность
Деменчонок Эдуард
Демократия в рецессии?
9-й Конгресс
Латиноамериканской
ассоциации политической
науки в Монтевидео
(26–28 июля 2017 г.)
Деменчонок
Эдуард Васильевич,
доктор философии, профессор
Государственного университета
Форт Валлей, США.
Для связи с автором:
demenche@usa.net
ОБЗОРЫ
170
Публичная политика No2
Деменчонок Эдуард
демократии логике квазисуицидального «автоиммунитета». Следовательно,
необходимы постоянная критическая саморефлексия, переосмысление демо-
кратии и ее улучшение [Derrida 2003].
Эти предостережения философа невольно приходят на ум перед лицом
активизации правоэкстремистского популизма в Европе и США. К сожалению,
должной критической рефлексии этого феномена пока не наблюдается. Побе-
да на президентских выборах в США Дональда Трампа обнажила давно из-
вестные изъяны устаревшей избирательной системы: зависимость от коллегии
выборщиков вместо прямых выборов президента; произвольное манипули-
рование границами избирательных округов в пользу той или другой партии;
решение Верховного суда, уравнивающее гражданина и корпорации в не-
ограниченной финансовой поддержке выгодных кандидатов; коррумпиро-
ванность и лоббизм, когда законодатели за финансовую поддержку корпора-
ций проводят выгодные им законы по снятию ограничений в ущерб населе-
нию; препятствия голосованию, чинимые в отношении расовых и этнических
меньшинств, и другие проблемы. Но об этих реальных проблемах, как о «сло-
не в комнате», предпочитают не говорить. Вместо этого недовольным гражда-
нам выставляют в качестве виновника всех проблем некоего «другого». Для
бывших президентов Джорджа Буша и Барака Обамы таким «другим» как от-
влекающим жестом камуфляжа политики, усугубляющей социальные и гло-
бальные проблемы, был «глобальный терроризм»; для нынешнего президен-
та Дональда Трампа это «иммигранты»; для проигравшей выборы Хиллари
Клинтон это Россия и ее руководство. Причем вместо объективного анализа
и рациональных аргументов господствующие массмедиа нагнетают эмоцио-
нальный троллинг и пропагандистский барабанный бой. Так что, похоже, всё
катится по наезженной колее. Только вот куда?
На этом фоне показателен 9-й Конгресс Латиноамериканской ассоци-
ации политической науки (ALACIP – АЛАСИП), который проходил с 26 по
28 июля 2017 г. в столице Уругвая Монтевидео. АЛАСИП является членом
Международной ассоциации политической науки (IPSA) и объединяет более
3000 членов. Первый конгресс ассоциации состоялся в Саламанке, Испании,
в 2002 г., и последующие конгрессы проводились каждые два года в разных
городах Латинской Америки: Мехико (2004), Кампинасе (2006), Сан-Хосе
(2008), Буэнос-Айресе (2010), Кито (2012), Боготе (2013) и Лиме (2015).
Соорганизатором 9-го Конгресса являлась также Уругвайская ассоциация по-
литической науки.
Тема конгресса была интригующей – «Демократия в рецессии?». Кон-
гресс был довольно масштабным – с 2004 зарегистрированными участника-
ми, включая много молодых людей. Структурно работа проходила в трех пле-
нарных заседаниях и многочисленных панельных секциях, объединенных
171
по 22-м тематическим областям и 21 исследовательской группе. В конгрессе
приняли участие ряд известных политологов и латиноамериканистов.
Торжественное открытие конгресса состоялось 25 июля в красивом Зако-
нодательном дворце. Здесь с докладом выступил Эммануил Адлер (Emanuel
Adler), профессор Университета Торонто и специалист по теории междуна-
родных отношений, включая конструктивизм и эпистемные сообщества. Тема
доклада – «Демократия в рецессии: ключи к размышлению о стабильности
и эволюции организаций обществ, регионов и международных систем».
Центральным ядром Конгресса были вечерние пленарные заседания, ко-
торыми завершался каждый из трех дней и которые дают хорошее представле-
ние о содержании конгресса. Почти все участники пленарных заседаний так или
иначе давали утвердительный ответ на центральную тему-вопрос конгресса:
«Демократия в рецессии?» Некоторые прямо говорили о кризисе либеральной
представительной демократии. Этот вывод подтверждался и продемонстриро-
ванным анализом политических недугов: ослабление институтов и деградация
политических партий, утрата их связи с гражданами и гражданским обществом,
разгул коррупции, недоверие граждан к партиям, апатия общества и низкий
процент голосующих. Это открывает путь популизму, возносящему к власти ци-
ничных временщиков, разворовывающих и без того бедные страны (как одиоз-
ный пример тому часто упоминался бывший президент Перу Фухимори).
Выступавшие сравнивали латиноамериканскую ситуацию с США и Запад-
ной Европой и, комментируя выборы Дональда Трампа президентом США и
волну правого экстремизма, говорили, что если подобное происходит в ста-
рейших конституционных демократиях, то чему же тогда удивляться в та-
ком регионе, как Латинская Америка. Упрямые факты политической реаль-
ности, похоже, помогают освобождаться от идеализированного образа ли-
беральной демократии, представленной, например, в теории Джона Роул-
са как идеал справедливого общества, близкий к воплощению в описывае-
мых им США, вопреки бьющей в глаза несправедливости. Приходится осо-
знавать, что ни силовой экспорт этой «модели», ни ее сервильная имитация
в иных культурно-исторических условиях не работают. Как уже давно говори-
ли латиноамериканские философы, осмыслять пути общественного развития
этих стран необходимо прежде всего исходя из их опыта и конкретных усло-
вий, причем учитывая лучшее из опыта других стран. Очевидно, что если об-
щество хочет быть демократическим, то путь к этой цели лежит через непре-
станное духовное усилие и творчество по саморазвитию общества – граждан-
ского общественного сознания, политической культуры, демократических ин-
ститутов и форм самоуправления.
Похоже, что критика «североатлантической» политической системы, ко-
торая давно звучала со стороны представителей «критической теории»,
ОБЗОРЫ
172
Публичная политика No2
«радикальной демократии» и левой постколониальной мысли, находит свое
подтверждение. С этим не могут не считаться даже политологи, писавшие в рам-
ках традиционного западноцентричного канона и академического мейнстрима.
Возможно, что осознание этого поможет открыться переосмыслению политиче-
ских теорий и поиску новой, более глубокой и актуальной теории общества.
Большинство выступлений были содержательными, подкрепленными
ссылками на факты и статистику. Объединенные основной темой конгресса, они
складывались в целостную картину политических процессов в Латинской Аме-
рике. Это не были холодные констатации проблем: они выражали тревогу ис-
следователей, вынужденных анализировать дисфункции политической систе-
мы, за которыми стоят страдания многих людей от нужды, произвола и безна-
дежности. Выступления резонировали с чувствами слушателей в переполнен-
ных залах, которые нередко бурно реагировали на выступления участников.
Почти каждый из докладчиков в конце анализа проблем подходил к во-
просу о возможных путях их решений. Ввиду сложности серьезного ответа на
вопрос «Что делать?» на конгрессе прозвучали общие, иногда тривиально оче-
видные нормативные рекомендации: для подлинной демократии нужны здо-
ровые партии, сильное государство, честные лидеры и политически активные
граждане. С этими истинами нельзя не согласиться. Но напрашивается сле-
дующий вопрос: «А откуда они возьмутся?» Иными словами, стоят вопросы о
том, кто является или мог бы стать той общественной силой, тем политическим
актором, который был бы способен играть эту трансформирующую роль –
формировать демократическое общественное сознание, создавать альтерна-
тивные политические движения и институты, которые выражали бы интере-
сы граждан и нации в целом в международном контексте интересов челове-
чества. Где тот вставший с колен воодушевленный Давид, дерзнувший против
Голиафа господствующей системы?
Конечно, ожидание получить на конгрессе ответ на столь глобальный во-
прос было бы максималистски завышенным. С реалистической точки зрения,
несомненно, ценным было услышать информативный анализ исследователей,
стремящихся в рациональных категориях постичь иррациональную энтропию,
ускользающие ритмы политического хаоса. Ценно то, что вопрос «Что делать?»
прозвучал публично как приглашение к размышлению и как вызов полити-
ческой теории, которая нуждается в переосмыслении, как и теория общества
в целом, чтобы стать идейным компасом трансформирующего праксиса.
Первое пленарное заседание (26 июля) было посвящено теме «Латин-
ская Америка: Демократия в рецессии?». На нем выступили: Эвелин Хубер
(Evelyne Huber), Университет Северной Каролины, США; Стивен Левитский
(Steven Levitsky), Гарвардский университет, США; Анибал Перес-Линян (Aníbal
Pérez-Liñan), Университет Питтсбурга, США.
Деменчонок Эдуард
173
Эвелин Хубер начала свое выступление с того, что ее ответ на вопрос, по-
ставленный в теме заседания, является утвердительным. Действительно, су-
ществует общее ощущение рецессии демократии, и не только в Латинской
Америке, но и в других регионах мира. Демократия не действует для широ-
ких слоев населения, что, казалось бы, неожиданно для Великобритании,
США, Бразилии и Чили. Если в десятилетие 2002–2013 гг. в Латинской Аме-
рике была некоторая стабильность в электоральной демократии и либераль-
ной демократии, то в индустриально-развитых странах (например, США), на-
против, наблюдается регрессия демократии. Демократическая политика ста-
новится все более неопределенной и непредсказуемой, и на волне популизма
к власти приходят «темные лошадки» (президентство Фухимори в Перу, пре-
зидентство Трампа, Брексит). Хубер остановилась на двух проблемах: обще-
ственное восприятие политики и политические партии. Восприятие неравен-
ства и несправедливости становится особенно острым, потому что существует
разрыв между большими ожиданиями электората и малыми возможностями
слабого государства, что порождает недовольство. Упадок политических пар-
тий – «Ахиллесова пята» демократий. Демократия в рецессии не из-за напа-
док на нее, а из-за упадка политических партий. Выход – в создании сильных
партий, способных защищать интересы граждан (в вопросах гарантии мини-
мальной оплаты труда, образования и здравоохранения) и быть связующим
звеном между населением и государством.
Стивен Левитский отметил некоторые положительные моменты – на-
пример, то, что прежде исключавшиеся группы – индейцы, афроамерикан-
цы, женщины, трансгендеры – получили возможность быть услышанными.
Интересен опыт многопартийного коалиционного президентства в Бразилии
и Чили, где лидеры вынуждены искать договоренности. Эти позитивные мо-
менты Левитский сопоставил с кризисом либерализма в США и Европе и с ав-
торитарными тенденциями в Венгрии, Польше и Турции. Вызовы демократии
исходят из хронической слабости ее базы. Наблюдается ослабление партий и
исчезновение профессиональных политиков, так что в президенты зачастую
пробираются некомпетентные люди, а то и просто клоуны. Решение Левитский
видит в сильных партиях и свободном от коррупции государстве.
Анибал Перес-Линян отметил застой и «контракцию демократии», ее со -
кращение, что происходит не только в Латинской Америке, но и в индустри-
ально развитых странах, таких как Венгрия, Польша и Турция, и потенциаль-
но США. Он проанализировал одну из причин этого: «концептуальный парти-
куляризм», то есть непоследовательность и пристрастность в применении кон-
цепций и нормативных принципов. Вместо униформной интерпретации нор-
мативных критериев и во всех случаях их равного применения происходит
их амбивалентная трактовка, практикуются двойные стандарты применения
ОБЗОРЫ
174
Публичная политика No2
к разным случаям. В ряде стран, таких как Венгрия, Польша и Турция, имеет
место тенденциозная и своекорыстная интерпретация закона как норматив-
ного принципа теми, кто правит государством, для собственной выгоды (на-
пример, при получении прибыльных контрактов). Эти непоследовательность
и пристрастность проявляются также в интеллектуальной среде. Например, за -
кон применяется избирательно в пользу правительства и в наказание к оппо-
зиции, а Конгресс страны используется для осуждения президента. Это харак-
терно и для общественного мнения, когда коррупция в «моей» партии счита-
ется незначительной, но непростительной для оппозиционной партии. Двой-
ные стандарты крайне опасны в современном поляризованном обществе.
Условием демократии является универсальность в интерпретации и примене-
нии нормативных принципов. Это основа равенства и справедливости.
Второе пленарное заседание (27 июля) прошло на тему «Экономи-
ка и политика в Латинской Америке». На нем выступили: Армандо Бариен-
тос (Armando Barrientos), Университет Манчестера, Англия; Даниэла Кампе-
льо (Daniela Campello), Бразильская школа общественного управления, Бра-
зилия; Виктория Мурильо (Victoria Murillo), Колумбийский университет, США;
Мигель Сентено (Miguel Centeno), Принстонский университет, США.
Докладчики анализировали соотношение политики и экономики, при-
чем сразу же оговариваясь, что здесь больше вопросов, чем ответов. Арман-
до Бариентос отметил, что в борьбе трудящихся за социальные гарантии еще
далеко до желаемых результатов. Поэтому необходимо, чтобы социальная за-
щищенность граждан была гарантирована законом как неотъемлемое право.
Даниэла Кампельо указала на деградацию социальной базы партий и отсут-
ствие политической мобилизованности граждан. Виктория Мурильо говори-
ла о негативных последствиях неолиберальной экономической политики для
Латинской Америки. Эта политика втянула страны во внешние долги, спрово-
цировавшие приход к власти военных диктатур, и экономическая зависимость
продолжается. У политических партий нет экономических стратегий, и они
пробавляются другими этикетками: феминистские, мультикультурные, транс-
гендерные движения и т. п . Латиноамериканские страны зависят от торговли
со США, но как альтернатива расширяется торговля с Китаем.
Мигель Сентено выделил ряд серьезных социальных и глобальных про-
блем общества. Первая – это экологический кризис и изменение климата с их
катастрофическими последствиями прежде всего для бедных слоев и стран.
Вторая – негативные последствия глобализации, которая делает экономики
периферийных стран более зависимыми от гегемонистского центра. Латинская
Америка все больше экспортирует сырой нефти, но все более зависит от пере-
работанного бензина. Третья – неравенство как определяющая характеристи-
ка Латинской Америки, при этом Сентено положительно оценил включение
Деменчонок Эдуард
175
ранее маргинальных секторов общества в политику в Боливии и Никарагуа.
Четвертая – «атмосфера насилия» во всех сферах общества. Поэтому необхо-
димо укрепление государства и международного сотрудничества.
При разговоре о растущей зависимости политики от экономики вспом-
нился термин американского политолога Шелдона Волина «инвертный тота-
литаризм» (“inverted totalitarianism”) – перевернутый тоталитаризм как пара-
доксальная «инверсия» либерализма, когда тотально господствует не полити-
ка, а экономика в лице крупнокорпоративных олигархий [Wolin 2016: 94].
На третьем и заключительном пленарном заседании (28 июля) обсужда-
лась тема «Демократия в мире ХХI века». Она перекликалась с темой первого
заседания, но была развернута в более широком международном плане. Засе-
дание проходило под эгидой Международной ассоциации политической на-
уки (IPSA). С пленарными докладами выступили: Фернандо Касаль-Бертоа
(Fernando Casal-Bertoa), Университет Ноттингема, Англия; Марианна Кной-
ер (Maria nne Kneuer), Университет Хильдесхайма, Германия; Филип Шмиттер
(Philippe Schmitter), Институт Европейского университета во Флоренции, Италия.
Фернандо Касаль-Бертоа назвал кризис политических партий типичным
феноменом. Сравнивая Латинскую Америку с Европой, он сказал, что если та-
кие явления кризиса наблюдаются в традиционных демократиях, то на этом
фоне происходящее в Латинской Америке может казаться почти нормальным.
Он назвал это «дисассоциированной демократией» как глубоко разъединен-
ной. Под влиянием процессов глобализации, урбанизации, миграции и эко-
номического кризиса происходит взаимное дистанцирование общества и по-
литических партий. На основе статистических данных докладчик утверждал,
что большинство граждан не доверяет партиям, не голосует, а те, кто голосует,
в знак протеста предпочитают партии популистские, левацкие и антисистем-
ные. Ответственность за это в основном лежит на деградировавших политиче-
ских партиях. Партии получают около 80% финансирования от государства, а
потому почти самодостаточны для их аппарата и не заинтересованы в мобили-
зации граждан. Докладчик подчеркнул необходимость сильных политических
партий, которые представляли бы интересы граждан, были бы демократиче-
ски прозрачны и выполняли бы свои обещания и программы.
Марианна Кнойер изложила свою концепцию «эрозии демократии», ко-
торую она усматривает в преднамеренном подрыве принципов демократии
со стороны политических сил, «агентов», которые стремятся превратить ее в
автократию и авторитарный режим. По ее мнению, эти агенты критикуют ли-
беральную представительную демократию как неэффективную и требующую
изменений. Они используют выборы как средство легитимации своей вла-
сти, стремятся укрепить исполнительную власть и ослабить законодательную
ветвь власти, изменить конституцию, а также ограничить критику со стороны
ОБЗОРЫ
176
Публичная политика No2
массмедиа – то есть использовать институты демократии, чтобы разрушить
демократию. В качестве примеров она назвала Венесуэлу, Никарагуа, Венгрию
и Польшу.
Филип Шмиттер полагает, что проблема не в принципах демократии, а в
ее практиках, в реально существующей демократии – либеральной, консти-
туционной, представительной, капиталистической. Особенность современной
ситуации – в комбинации кризиса политических практик. Следует различать
общие черты, присущие демократии, и местные особенности, связанные с на-
циональными культурами. Докладчик использовал термин Эмиля Дюркгейма
«аномия» (состояние нестабильности, вызванное разрушением ценностей и
отсутствием идеалов) для характеристики современного финансового капита-
лизма. Политическим партиям трудно представлять «аномийное общество»,
которое очень индивидуализировано различными интересами. Он противо-
поставил «ответственную демократию» технократического толка и популист-
скую демократию, отвечающую запросам своего электората, но с потенциаль-
но катастрофическими последствиями для экономики.
В заключение заседания Марианна Кнойер как первый вице-президент
Международной ассоциации политической науки поблагодарила организа-
торов конгресса и «глобальное сообщество политологов», а также пригласи-
ла участников на предстоящий 15-й конгресс IPSA 21–25 июля 2018 г. в Брис-
бен, Австралия, на тему «Границы и окаймления» (“Borders and Margins”) .
Многочисленные панельные секции были объединены по 22-м темати-
ческим областям, охватывавшим различные аспекты политической теории и
практик в Латинской Америке и в других странах. Среди таких областей: по-
литические теории; методология исследований; политика, культура, идеоло-
гии и дискурсы; общественные движения; демократизация и качество демо-
кратии; государство и общественное управление; общественное мнение и по-
литическая коммуникация; партии; исполнительная власть и управление; за-
конодательная власть, права человека и юстиция; военные диктатуры; срав-
нительная политика; международные отношения и региональная интеграция.
Многие интересные секции совпадали по времени. Из тех, что удалось
посетить автору данного обзора, особый интерес вызывал ряд секций в те-
матической области «Демократия, демократизация и качество демократии».
Интересным показался совместный доклад Анибала Перес-Линяна и Натана
Скигина «Является ли партийный плюрализм опасным для демократии?», в
котором авторы на многих примерах показывали, что многопартийность не
угрожает президентской демократии, а, напротив, является условием демо-
кратизации.
Ховино Пицци в сообщении на тему «Юрисдикция, судебное разбира-
тельство и оправдание: типизация нынешнего конституционализма» связал
Деменчонок Эдуард
177
это с историческим феноменом, присущим западной традиции. Это относит-
ся к расширению позитивного регулирования жизни людей в условиях значи-
тельной сложности общества, требующих все большего числа правил. Эгоцен-
трический нарциссизм превращает позитивный закон в единственный путь
для любой борьбы или спора. По его мнению, авторитарный нарциссизм как
вызов демократии проявляется не только в большой политике, но даже в ака-
демических организациях, которые могут стать жертвой демагогов с «волей к
власти» и деньгами, попирающих этические и легальные нормы. Пицци уча-
ствовал в конгрессе “International Society for Universal Dialogue” (ISUD) в 2012 г.
и был свидетелем того, как авторитарная группа из США путем переворота и
нелегитимных манипуляций на выборах узурпировала контроль над органи-
зацией и использует ее в своекорыстных целях. Протестующие члены потре-
бовали роспуска захваченной и дискредитированной псевдоорганизации, не-
совместимой с нормами демократии и диалога. Поэтому организации, в том
числе академические, должны уметь защищать свои демократические осно-
вы [Pizzi 2017].
Лусиа Селиос в сообщении «Идеологическая конгруэнтность в Латинской
Америке» сделала вывод, что коллективная конгруэнтность обусловлена соче-
танием причин экономического, социального и исторического характера, а не
характера избирательной системы. Летисиа Руис в сообщении «Влияние иде-
ологической поляризации на качество демократии в Латинской Америке» по-
казала, что уровень качества латиноамериканских демократий возрастает с
уровнем идеологической поляризации, которая улучшает избирательные про-
цессы, представительство и отчетность.
Каталина Брессан с соавторами сделала сообщение не тему «Политика
участия граждан и творчество». Она попыталась объяснить, почему в полити-
ке участия мало творчества, различая две формы политики: активное учреж-
дение чего-либо и существующую учрежденность. Политику нельзя понимать
как лишь управление государственными учреждениями. Политика также но-
сит дискурсивный характер, это стремление называть проблемы и иметь силы
для их решения. Наконец, в своей практике субъекты действия одновремен-
но являются объектами, они управляют в мире и управляются им. Творчеству
препятствуют проблемы бюрократической косности, шизофренической куль-
туры и социального неравенства, которые не могут быть решены с помощью
частичных мер. По этой причине то, что делается для инноваций, все еще не
обязательно подразумевает творчество.
Автор данного обзора выступил с сообщением на тему «К демократиза-
ции демократии». В Латинской Америке появились новые формы демокра-
тии участия – обсуждения и коллективные действия на местном уровне, та-
кие как общинные советы и инициативы коренных народов. Например, опыт
ОБЗОРЫ
178
Публичная политика No2
совместного определения бюджетов (or amentos participativos) в муниципали-
тетах и национальные конференции в Бразилии, а также конституционные ас-
самблеи в Боливии. Эти формы участия включают граждан в законодатель-
ные и административные процессы, повышают подотчетность в государствен-
ной политике. В похожем ключе Энрике Дуссель в «политике освобождения»
предлагает институционализированную демократию участия, которая допол-
няет и контролирует представительную демократию.
Следующий, 10-й Конгресс АЛАСИП состоится в 2019 г. в Монтерее,
Мексика.
После конгресса автору обзора довелось побывать в Буэнос-Айресе по
приглашению Уго Биагини (Hugo Biagini), директора Центра образования, на-
уки и общества (CECIES), и выступить с лекциями в CECIES на тему «Вызовы
демократии в ХХI веке», в Институте общественных и экономических наук на
тему «Межкультурная философия в США» и в Национальной академии наук
Буэнос-Айреса на тему «Новый космополитанизм в мире социального и куль-
турного плюрализма». Было отрадно общаться с заинтересованной аудитори-
ей, живо участвовавшей в дискуссиях.
Также автору удалось стать свидетелем практики политического агона.
Лекция в Национальном университете им. Генерала Сармьенто по приглаше-
нию профессора Дины Пикотти (Dina Picotti) 1-го августа совпала со встре-
чей с Кристиной Кирчнер (Cristina Fern ndez de Kirchner), которая была прези-
дентом Аргентины в 2007–2015 гг., а ныне баллотируется в Сенат Республи-
ки от Партии гражданского союза, оппозиционной нынешнему правительству
консерваторов. Университетский зал был переполнен, и сотни ее сторонни-
ков, включая молодежь и семьи с детьми, заполнили двор. Выступавшие на
митинге преподаватели говорили о наболевшем, отстаивая свои профессио-
нальные интересы. Они протестовали против политики консервативного пра-
вительства, которое урезает финансирование образования и исследований,
подрывая отечественную науку в угоду иностранным конкурентам. Например,
права на разработанный в Аргентине спутник правительство продало в США.
Кирчнер обещала защищать интересы преподавателей и добиваться измене-
ния экономической политики правительства. Впечатляющий эмоциональный
подъем участников митинга, их энергичный и решительный марш по улицам
после его окончания отразили накал политической борьбы за будущее перед
дилеммой: терпеть застой или добиваться перемен.
Как научные дискуссии, так и политическая практика убедительно пока-
зали, что будущее в конечном счете зависит от самих граждан как субъектов
культурно-исторического творчества.
Деменчонок Эдуард
179
Литература
Derrida Jacques. Autoimmunity: Real and Symbolic Suicides. A Dialogue with
Jacques Derrida. – Philosophy in a Time of Terror: Dialogues with Jürgen Habermas
and Derrida / Ed. G . Borradori. Chicago and London: University of Chicago Press,
2003.
Pizzi Jovino. Parochial monologuism under the guise of ‘universal dialogue’
(ISUD). – Topologik. 2017. No 21/I. Р
. 43–58.
Wolin Sheldon S. Politics and Vision: Continuity and Innovation in Western Po-
litical Thought. Expanded edition. Princeton, NJ: Princeton, 2016.
ОБЗОРЫ
180
Публичная политика No2
Книга известного петербургского
корееведа С.О . Курбанова «Размышле-
ния об исторической науке и роли лич-
ности в истории. С примерами из исто-
рии Кореи» условно делится на две ча-
сти, что становится вполне очевидным
исходя из самого названия. Первая по-
ловина посвящена рассуждениям ав-
тора на тему исторической науки, ее
элементов, проблем теории и выведе-
нию новых понятий и принципов. Вто-
рая же часть освещает понятие исто-
рической личности как таковой, ана-
лизируются типы данных личностей и
разбирается конкретный пример ре-
ально существовавшей личности, при
этом применяются все теоретические
основы, содержащиеся в предыдущих
частях.
Акопов Сергей,
Коваленко Варвара
Восемь проблем изучения
политической истории:
рецензия на книгу С.О. Курбанова
«Размышления об исторической
науке и роли личности в истории.
С примерами из истории Кореи»
(СПб.: Изд-во РХГА, 2016)
Акопов
Сергей Владимирович,
профессор департамента
политологии НИУ ВШЭ –
Санкт-Петербург
Коваленко
Варвара Сергеевна,
студентка департамента
политологии НИУ ВШЭ –
Санкт-Петербург
181
Уникальность данной работы состоит в том, что автор (по его словам) не
является специалистом в области исторической науки, однако всю жизнь вел
исследования об истории Кореи. Это позволяет внимательно изучить слу-
чай одной выбранной им страны и ее культуры в рамках попытки теоретико-
философского обобщения, увидеть более полную картину исторических из-
менений, найти в них закономерности и применить в практическом иссле-
довании.
На вопрос «Для чего необходима эта монография?» автор отвечает, что у
него возникла потребность в осмыслении теории исторического процесса, вы -
ходя за рамки узко страноведческих дисциплин. Кроме того, это предоставля-
ет ему возможность поделиться личными наблюдениями в рамках культуры
одной страны – Кореи – и роли конкретной личности в истории Кореи – Ким
Гу (1876–1949). Однако стоит отметить, что выбор данного политического де-
ятеля не является обязательным, актуальность обуславливается лишь личны-
ми предпочтениями автора ввиду отсутствия достаточного количества инфор-
мации о жизни и деятельности Ким Гу.
В данной работе автор выделяет ряд проблем, касающихся исторической
науки в целом и ее элементов. Рассмотрим их по порядку.
Первая проблема: существуют ли исторические теории, примени-
мые и используемые на практике при анализе тех или иных историче-
ских процессов/отдельных событий; возможно ли достижение объек-
тивности при изучении истории?
Зачастую, несмотря на огромное количество различных теорий истори-
ческой науки, умозаключения строятся на собственном опыте, частном мне-
нии, которое не опирается на закономерности исторических изменений или
на фундаментальные теории. Однако истинная историческая наука, отмеча-
ет С.О. Курбанов, не может быть основана на личном мнении автора. В связи
с тем, что отсутствует система научной исторической фиксации происходящих
в «современности» знаковых событий, возможность обращаться с абсолютно
«объективными фактами» отсутствует. В результате «чистых фактов» практи-
чески не существует. Несмотря на развитие технологий в современном мире,
окончательным продуктом всегда является лишь текстовый документ. Возни-
кает вопрос об определении степени полноты исторического факта и его до-
стоверности, что в свою очередь зависит от точности и полноты описания со-
бытий. Автор выделяет следующие необходимые условия для создания досто-
верности исторического факта:
•
фиксация факта как такового;
•
различение категорий фактов, имеющее важное значения для опре-
деления их достоверности.
РЕЦЕНЗИИ
182
Публичная политика No2
В настоящее время полностью достоверных фактов, по мнению автора, не
существует, поскольку используется прием обращения к первоисточникам, что
уже имеет изначальную погрешность. Минимальная же достаточность фактов мо-
жет быть достигнута лишь в том случае, когда добавление нового факта не изме-
няет целевой оценки исторического события. Отсюда вытекает новая философ-
ская проблема: что представляют собой понятия истории и времени как такового.
Вторая проблема: что представляют собой понятия истории и вре-
мени как такового?
Любые события являются прошлым, а все, что происходит, – уже история.
Настоящее же, по мнению С.О . Курбанова, невозможно сохранить в памяти, а
то, что сохранилось, – это уже можно считать историей. Здесь важное влияние
на восприятие времени оказывает язык. Однако реально может существовать
только подвижное настоящее, а прошлое – это лишь сохраняющиеся в под-
вижном настоящем следы прежних событий, – другими словами, форма су-
ществовании материи в настоящем. Наше будущее – лишь умозрительное по-
строение или предположение.
Практически все объекты, доступные для научного исследования, имеют
дело с состоянием этих объектов уже в прошлом. Чтобы исторический анализ
был объективным, возникает необходимость применять инструменты исто-
рического анализа, то есть знания законов исторических изменений и нали-
чия объективной системы измерения данных исторических процессов. Кро-
ме того, исследуемый исторический процесс должен быть завершенным, по-
скольку иначе он не может стать предметом конкретного исторического ис-
следования. По мнению С.О . Курбанова, если процесс все еще продолжает-
ся, то это уже политика, но никак не историческая наука. Таким образом, за -
дача истории как науки – максимально восстановить события, имевшие место
в прошлом и объяснить причинно-следственные связи между ними во вре-
мени. Иными словами, должна присутствовать некая фиксация событий по-
движного настоящего как последующего прошлого в качестве предмета иссле-
дования исторической науки. Тогда то, что мы называем историческим вре-
менем, – в интерпретации С.О . Курбанова лишь существующее исключитель-
но в настоящем умозрительное построение человеком или группой людей аб-
страктного временного континуума, наполненного событиями в их причинно-
следственной связи, созданного для удобства осмысления исторических со-
бытий, имевших место в прошлом. Отсюда возникает следующая проблема.
Третья проблема: проблема периодизации истории Кореи
Вопрос о периодизации исторической науки подразумевает под собой
момент, когда общество пытается осмыслить завершенный исторический
Акопов Сергей, Коваленко Варвара
183
процесс и возникает проблема разделения времени на периоды. Под нее по-
падает кейс Дальнего Востока, в том числе Кореи. И здесь С.О . Курбанов спра-
ведливо обращает внимание на то, что европейские хронологические рамки
древности и Средневековья, механически примененные к Дальнему Востоку,
зачастую не отражают реального течения истории в этом регионе мира. В слу-
чае описания истории Кореи существуют следующие особенности, отличаю-
щие ее от европоцентричного подхода:
•
описание хода истории в соответствии с марксистским учением об
общественных формациях;
•
представление во многом мифологической истории государства
Древний Чосон как реальной, то есть удлинение своей истории за счет мифо-
логического прошлого;
•
очень длинный период Средневековья;
•
достаточно короткий период Нового времени.
В результате вышеупомянутых особенностей обычный (применяемый в
западной литературе) способ разделения истории на периоды не подходит
для Кореи. Кроме того, возникает проблема с определением того, что иметь в
виду под «последним» периодом истории. Это связано с категорией психоло-
гического времени и восприятия настоящего как неподвижного. В своей мо-
нографии С.О . Курбанов утверждает, что существует необходимость отказать-
ся от терминов «новая» и «новейшая» история, поскольку имеет смысл не оце-
нивать события и процессы, которые еще не завершились, но давать только
уже завершенным историческим периодам такое название, которое лучшим
образом отражает его характер.
Для решения данной проблемы автор предлагает два варианта. Первый
вариант заключается в выработке нового подхода к типам периодизации. Та-
кой подход можно назвать формально-хронологическим для отдельно взя-
той страны или культуры. Согласно ему, ход истории подразделяется на этапы
в связи с различными знаковыми событиями: 1) завершившими некий дли-
тельный исторический процесс; 2) давшими начало новому историческому
процессу или 3) заметно изменившими ход исторического процесса.
Второй вариант является компромиссным и заключается в разделении ло-
кальной и глобальной периодизации истории. Локальная будет затрагивать от-
дельно взятый народ, культуру или государство исходя из местных исторических
событий, на основе формально-хронологического типа; а задача глобальной пе-
риодизации – объяснять как общемировые, так и местные исторические реалии.
Таким образом учитываются периодизация глобальных мировых событий и про-
цессов (кризисы, войны) и периодизация локальных событий в контексте миро-
вых процессов, в которые то или иное государство (культура) может быть вовле-
чено. В связи с этим возможен приход к плюрализму в периодизации истории.
РЕЦЕНЗИИ
184
Публичная политика No2
Четвертая проблема: проблема индивидуальной реальности и об-
работки исторического текста
Суть данной проблемы вполне очевидна. Историописание – один из ви-
дов создания индивидуальной гуманитарной реальности. Это может приво-
дить к индивидуальному искажению текстов, а следовательно, возникнове-
нию вопроса о степени точности исторической науки, то есть возможности
оперировать точными и полными, неискаженными фактами. Поскольку текст
создается человеком, описывает индивидуально взятую реальность, то он, как
правило, лишь в определенной степени соответствует действительности. Ины-
ми словами, такая реальность априори является «искаженной». Кроме того,
зачастую авторы историописаний излагают события прошлого с точки зрения
сложившихся у них самих представлений о повседневной жизни в настоящем.
Для решения данного вопроса С.О . Курбанов предлагает такой способ
обработки текста, который поможет максимально уменьшить искажения фак-
тов. Данный способ заключается в многомерной обработке текста. Он базиру-
ется на трех основных этапах. Прежде всего это непосредственное прочтение
текста, основанное на знании лексики и грамматики языка-оригинала. Одна-
ко существует вероятность не заметить в тексте культурные коды, поэтому воз-
никает необходимость второго этапа проверки текста – «культурологическое»
прочтение через поиск в тексте изначального оригинала кодовых понятий тра-
диционной (этнической) культуры. В процессе извлечения информации из
текста может быть произведена «декодировка» его в контексте предшество-
вавших исторических или происходящих в современности событий, поэтому
возникает третий этап – этап «хронологического измерения» текстов.
Пятая проблема: проблема существования «вечных» и «абсолютно
универсальных» законов исторических изменений
Согласно С.О . Курбанову, науки строятся на предположениях о развитии,
то есть трансформация должна происходить перманентно. Однако состояние
постоянного развития и роста противоестественно живой природе. Следова-
тельно, динамичное развитие свойственно лишь стадии становления (роста),
а большая часть времени существования объекта – это его пребывание в со-
стоянии относительной стабильности.
Основой любых исторических изменений является время, поскольку су-
ществование во времени без изменений в принципе невозможно. Существует
временность человеческого общества, а закономерности, объясняющие изме-
нения, не универсальны, а ограничены во времени (от начала существования
государства) и в пространстве (в пределах территории общества или группы об-
ществ). Отсюда возникает временность состояний человеческого общества, то
есть изменения проявляют себя в ограниченном пространстве и на протяжении
Акопов Сергей, Коваленко Варвара
185
ограниченного промежутка времени. Тогда возникает вопрос: что же могут
описывать исторические закономерности или законы?
По мнению С.О . Курбанова, это могут быть в известной степени повторя-
ющиеся процессы, проявляющиеся в похожих условиях в одном или различ-
ных обществах и культурах в некий ограниченный период времени. Для каж-
дого социально-исторического случая конкретные формы проявления зако-
нов или закономерностей будут различны. Одной из закономерностей станет
являться закон исторической инерции: скорость изменений в социумах с раз-
личной организацией в разное время может быть разной (то есть она вовсе не
всегда связана с волей или желанием руководителей совершить изменения).
В связи с этим С.О. Курбанов особо выделяет теорию так называемых век-
торных модулей, когда ключевым является либо один человек, либо коллек-
тив людей, деятельность которых может изменить общество и определенные
его сферы. Чем больше в обществе базовых социальных модулей и чем слож-
нее составляемая ими структура, тем медленнее происходят исторические из-
менения. Однако чем лучше развита инфраструктура, в пространстве которой
расположен социум, тем быстрее происходят изменения в нем. В результате
С.О . Курбанов формулирует вывод о том, что исторические процессы проис-
ходят в соответствии с комплексом закономерностей и их знание и использо-
вание при объяснении последовательности событий прошлого является весь-
ма продуктивным.
Шестая проблема: проблема эксперимента в исторической науке
На первый взгляд, ставить эксперимент в исторической науке не пред-
ставляется возможным – поскольку исследователь не может самопроизвольно
воздействовать как на время, так и на процессы, происходящие в обществе, и
изменять их условия по своей воле. Однако С.О. Курбанов все же рассматри-
вает возможность проведения таковых в следующих вариантах:
•
Ретроспективное прогнозирование: выявление тенденций историче-
ских изменений в прошлом посредством создания абстрактных последова-
тельностей не существовавших в прошлом событий – «что было бы, если бы».
•
Прогнозирование из прошлого: простой линейный процесс. При этом
варианте прогнозирования переменной является набор фактов и трендов, ко-
торые исследователь определяет в качестве «исходных исторических фактов и
тенденций». Однако здесь сложность заключается в необходимости ученного
абстрагироваться от знаний о последующем прошлом.
•
Прогнозирование из прошлого: вариативная система координат. Этот
вид прогнозирования является более сложной версией простого линейного.
Здесь предлагается рассматривать сразу целую систему координат каждой от-
дельно взятой стороны с перспективой их дальнейшего синтеза.
РЕЦЕНЗИИ
186
Публичная политика No2
Помимо упомянутых видов прогнозирования С.О. Курбанов предлагает
методы простого наблюдения, а также прогнозирование из прошлого, в ко-
тором берутся за рассмотрение параллельные процессы. Последнее предпо-
лагает проведение «мысленных экспериментов» изменений в параллельных
областях (например, изменения внешней политики элит параллельно с меня-
ющимися макроэкономическими условиями). По мнению С.О . Курбанова, с
помощью исторического эксперимента можно делать многое: измерять само
время в различных аспектах; проводить исчисление (измерение количества и
качества) предметов или процессов материального мира, связанных с истори-
ческими изменениями; измерять отдельные социально-исторические модули
и их траектории; и даже измерять количество и «качество» людей. Последний
аспект нас подводит к следующей важной проблеме.
Седьмая проблема: понятие исторической личности и вопрос о по-
иске закономерностей в ее проявлении
Приводя в пример несколько выдающихся личностей из истории Кореи,
С.О . Курбанов дает следующее определение: историческая личность – это та-
кая личность, информация о жизни которой не исчезает после ее смерти. Чем
дольше сохраняется она на различных носителях, чем она обширнее и разно-
образнее, тем более велико ее значение. Кроме того, это может быть потенци-
ально заслуживающий известности человек – тот, чье влияние на ход истори-
ческого процесса было значимо.
Закономерности проявления роли личности в истории автор относит к ка-
тегории локальных, поскольку они в значительной степени подвержены вли-
янию таких факторов, как культурные особенности общества, уровень его
социально-экономического развития и т. п . Социально-экономическое (тех-
нологическое) изменение общества (будь то его развитие или деградация)
также накладывает ограничения, то есть локализует влияние личности на исто-
рию. Для решения данного вопроса С.О . Курбанов предполагает создание те-
ории «локализации исторических личностей». Однако встает вопрос о поиске
закономерностей проявлений личности в истории – иными словами, аспект
индивидуальных особенностей. Здесь важную роль играют так называемые
исторические детерминанты – повторяющиеся или одноразовые уникальные
внешние условия физического и социального мира, в рамках которых может
самоопределяться личность.
Кроме того, С.О. Курбанов, опираясь на работу Г. Плеханова «К вопросу о
роли личности в истории», дает ряд дополнений, выделяя помимо простран-
ства и времени, ограничивающих реализацию личности, еще несколько объ-
ективных природных факторов, которые определяют рамки исторической дея-
тельности отдельно взятого человека. Самореализация личности также ограни-
Акопов Сергей, Коваленко Варвара
187
чена набором индивидуальных человеческих качеств, физической возможно-
сти или невозможности совершать что-либо. К тому же конечность существо-
вания личности и временность социально-исторических процессов могут спо-
собствовать или, напротив, не способствовать историческому проявлению ин-
дивидуальных качеств человека. Важной в последнем случае является возмож-
ность совершить действие особого качества для исторической личности, кото-
рое будет иметь заметную объемность, степень охвата, масштаб воздействия.
Восьмая проблема: проблема межкультурной коммуникации
Процессы межкультурного обмена начинаются с того времени, когда рас-
положенные рядом или имеющие общие границы государственные образова-
ния узнают друг о друге и вступают в контакт, при этом не имеют военного про-
тивостояния, а поддерживают мирные отношения. Однако возникает вопрос о
возможности существования межкультурных коммуникаций в «чистом виде».
Другими словами: могут ли взаимодействовать представители разных культур
или «разные культуры как целостности» непосредственно напрямую? С.О . Кур-
банов отвечает на поставленный вопрос отрицательно. Чужая культура, что-
бы быть понятой представителем культуры-реципиента, должна быть адапти-
рована к кодам культуры-реципиента. Необходим тот, кто сможет выступить в
роли «межкультурного коммуникатора». В связи с этим выделяются три основ-
ных способа взаимодействия культур, которые могли бы быть отнесены к ка-
тегории межкультурной коммуникации: a) обмен информацией через комму-
никаторов; б) заимствование элементов других культур через дополнение или
замещение; в) условная межкультурная коммуникация ввиду стирания разли-
чий между двумя и более культурами и их все большей взаимной похожестью.
В связи с выделенными С.О . Курбановым тремя основными способами
взаимодействия культур, его самого справедливо было бы отнести к одному
из межкультурных коммуникаторов. По крайней мере, можно сказать, что по-
следовательно рассмотренные автором восемь методологических трудностей
исторической науки позволяют ему наметить научные принципы, совокуп-
ность которых становится своеобразной теоретической рамкой для его эмпи-
рического анализа кейса жизни одного из наиболее известных деятелей дви-
жения за независимость Кореи от Японии Ким Гу.
Заключение
В завершающей части своей книги С.О . Курбанов применяет все выше-
приведенные теоретические концепции на конкретном кейсе из истории Кореи
и рассматривает автобиографию Ким Гу (составленную самим Ким Гу и его се-
кретарем), начиная с его детства и заканчивая восприятием корейцами лично-
сти Ким Гу сегодня. В целом книга С.О . Курбанова – пример того, что известному
РЕЦЕНЗИИ
188
Публичная политика No2
специалисту в своей области (корееведения) невозможно избежать выхода
на уровень более философских обобщений, связанных с попыткой уйти от ев-
ропоцентричной парадигмы исторической науки – в чем, кстати, проявляет-
ся транснациональная природа политической идентификации самого интел-
лектуала. В этом смысле нам показался очень интересным параграф о психо-
логическом восприятии времени (с. 33–36) – стержневая часть книги, выво-
дящая, на наш взгляд, читателя на проблему альтернативных поисков истори-
ческих типов модерности. Отсюда логичным представляется и девятый пара-
граф о необходимости анализа «создания собственного мира» исторического
персонажа политического деятеля, который часто может быть раскодирован
через язык. Здесь можно особо выделить, например, поучительный для мо-
лодых исследователей многомерный анализ С.О . Курбановым текста Ким Чен
Ына, в том числе на предмет заимствованных им «китаизмов».
Не случайно и то, что вторая часть книги, непосредственно посвященная
Корее, читается «на одном дыхании», и читателю становится очевидно, что
Ким Гу для С.О . Курбанова – больше чем просто случайно выбранный исто-
рический персонаж. В книге С.О . Курбанова ощущается некая его личная вну-
тренняя, можно даже сказать, экзистенциальная связь с Ким Гу. Природа этой
связи так или иначе отражает биографию самого автора. Среди проблем, о
которых заставляет задуматься книга С.О . Курбанова – тонкая грань между
историей и политикой, ситуация раскола европейского корееведения и вооб-
ще востоковедения как национальной науки, нехватка школ в востоковедении
и невозможность их заменить отдельными интеллектуалами-одиночками,
сложность картины мира, закодированной в языке, которым пользуются пред-
ставители той или иной национальной культуры. Однако почувствовать весь
этот «экзистенциальный транснационализм в действии» может только сам чи-
татель, когда откроет книгу С.О . Курбанова «Размышления об исторической
науке и роли личности в истории. С примерами из истории Кореи».
Акопов Сергей, Коваленко Варвара
189
Правила оформления
текстов в журнале
«Публичная политика»
1. Рукописи, присылаемые в редакцию журнала «Публичная политика»,
должны быть оригинальными научными исследованиями. Тексты, представ-
ляющие собой параграфы или главы из уже опубликованных статей и моно-
графий или иных научных работ, к печати не принимаются.
2. В начале статьи указываются на русском и английском языках ее назва-
ние, фамилия, имя и отчество автора, место работы, занимаемая должность,
ученая степень, город, страна, e-mail, пишутся аннотация (не более 200 зна-
ков) и ключевые слова.
3. Тексты статей представляются на русском или английском языке объ-
емом от 0,7 до 1 п.л. без пробелов (для обзоров и рецензий от 0,2 до 0,5
п.л. тыс. знаков), включая сведения об авторе, аннотацию, ключевые поня-
тия, список литературы, references. Текст должен быть в формате Word 2003–
2016, кегль 14 “Times New Roman”, интервал 1,0. Поля страницы обычные:
верхнее и нижнее по 2 см, правое – 1,5 см, левое – 3 см.
4. Ссылки на литературу оформляются по чикагской системе – в квадрат-
ных скобках (например, [Лейпхарт 1997: 277], [Huntington 1996: 5]), в кон-
це статьи – список научных источников в алфавитном порядке (сначала рос-
сийские, затем зарубежные). Ссылки на законодательные акты, публицисти-
ку или статистические данные нужно оформлять постранично в виде сносок.
Для нормативных актов указываются начальная и последняя редакции. При
ссылках на несколько работ одного автора за один год нужно в тексте и ли-
тературе к году приписать буквы (а, б, в...
–
в русскоязычной части списка;
a, b, c... – в иноязычной части). При ссылке на источники, размещенные в сети
Интернет, дается их библиографическое описание (при наличии опублико-
ванного варианта), указываются название и адрес сайта, а также в круглых
скобках дата обращения.
В списке литературы:
–
при оформлении книг указываются фамилия и инициалы автора, год
издания, название книги, место издания, издательство, общее количество
страниц;
–
при оформлении научных статей указываются фамилия и инициа-
лы автора, год издания, название статьи и журнала, том и номер, страницы
190
Публичная политика No2
расположения статьи, электронный адрес и дата обращения, если речь идет
об интернет-публикации;
–
название периодического издания, монографии, сборника или главы
книги выделяется курсивом.
Примеры:
1. При описании книг:
На русском: Голосов Г.В . 2006. Российская партийная система и регио-
нальная политика, 1993–2003. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-
Петербурге. 300 с.
2. Книга коллектива авторов:
На русском: Политическая история стран Латинской Америки в XIX веке /
под ред. Е.А . Ларина. 2012. М.: Наука. 767 с.
3. Переводная книга:
На русском: Пшеворский А. 2000. Демократия и рынок. Политические и
экономические реформы в Восточной Европе и Латинской Америке. М.: РОС-
СПЭН. 2000. 320 с.
4. Статья из периодического издания:
На русском: Капустин Б.Г
. 2003. К понятию политического насилия. – По-
лис. Политические исследования. No 6. С . 6–26.
5. Кроме статьи, в редакцию высылаются отдельным файлом следующие
данные:
1) Ф.И.О . (указывается полностью);
2) должность и место работы или учебы, ученая степень;
3) почтовый адрес с индексом;
4) адрес электронной почты и контактный телефон.
191
192
Публичная политика No2