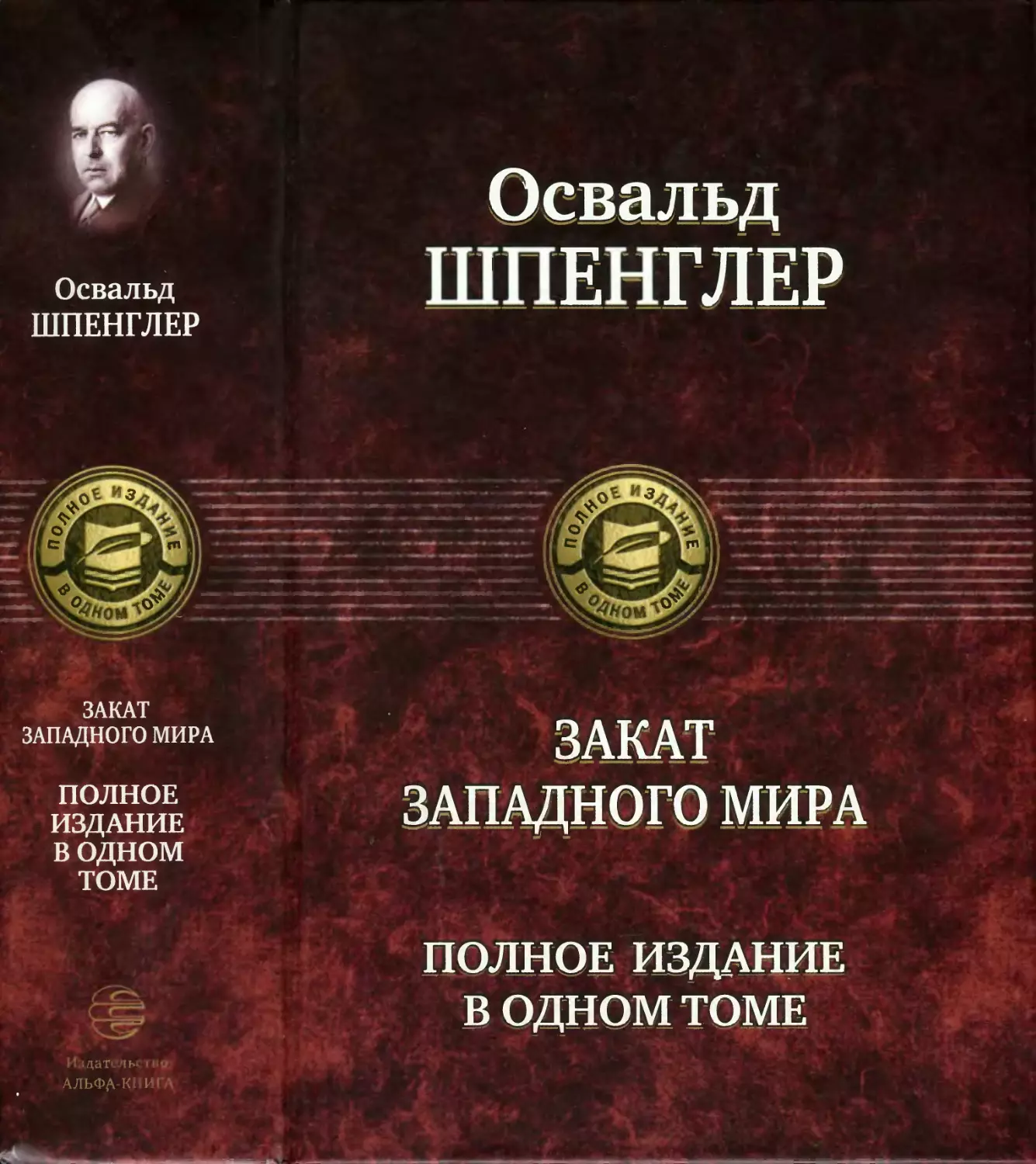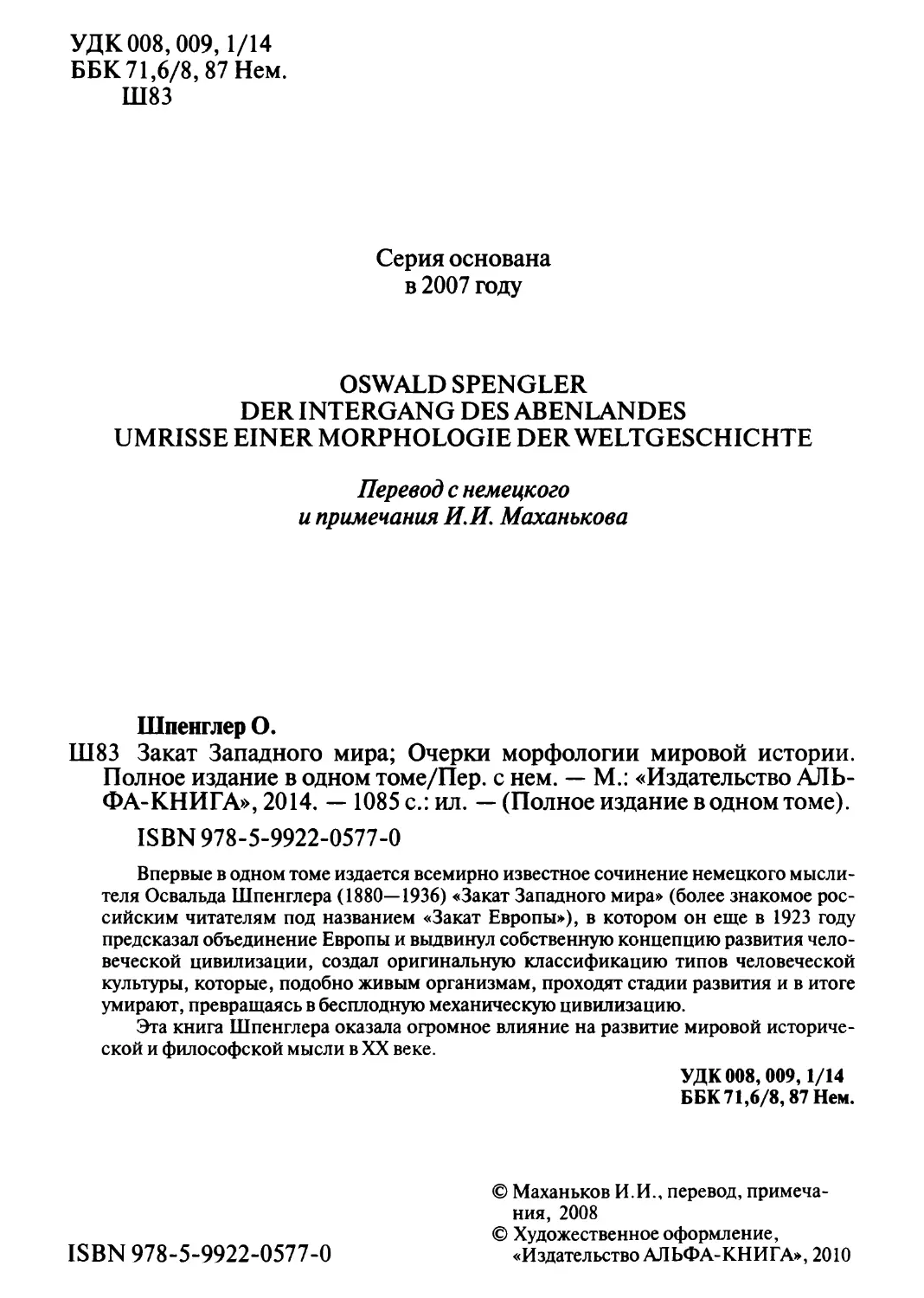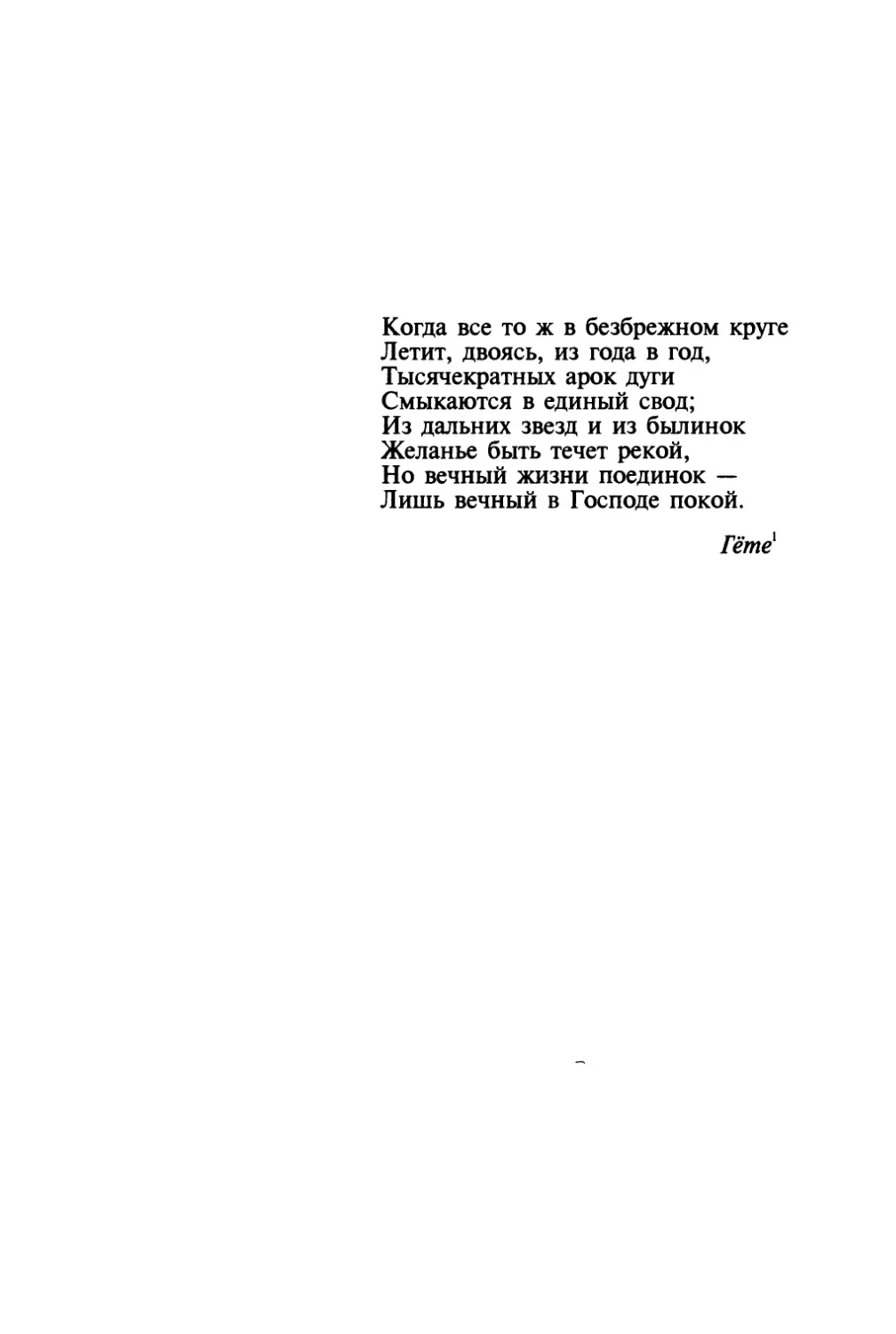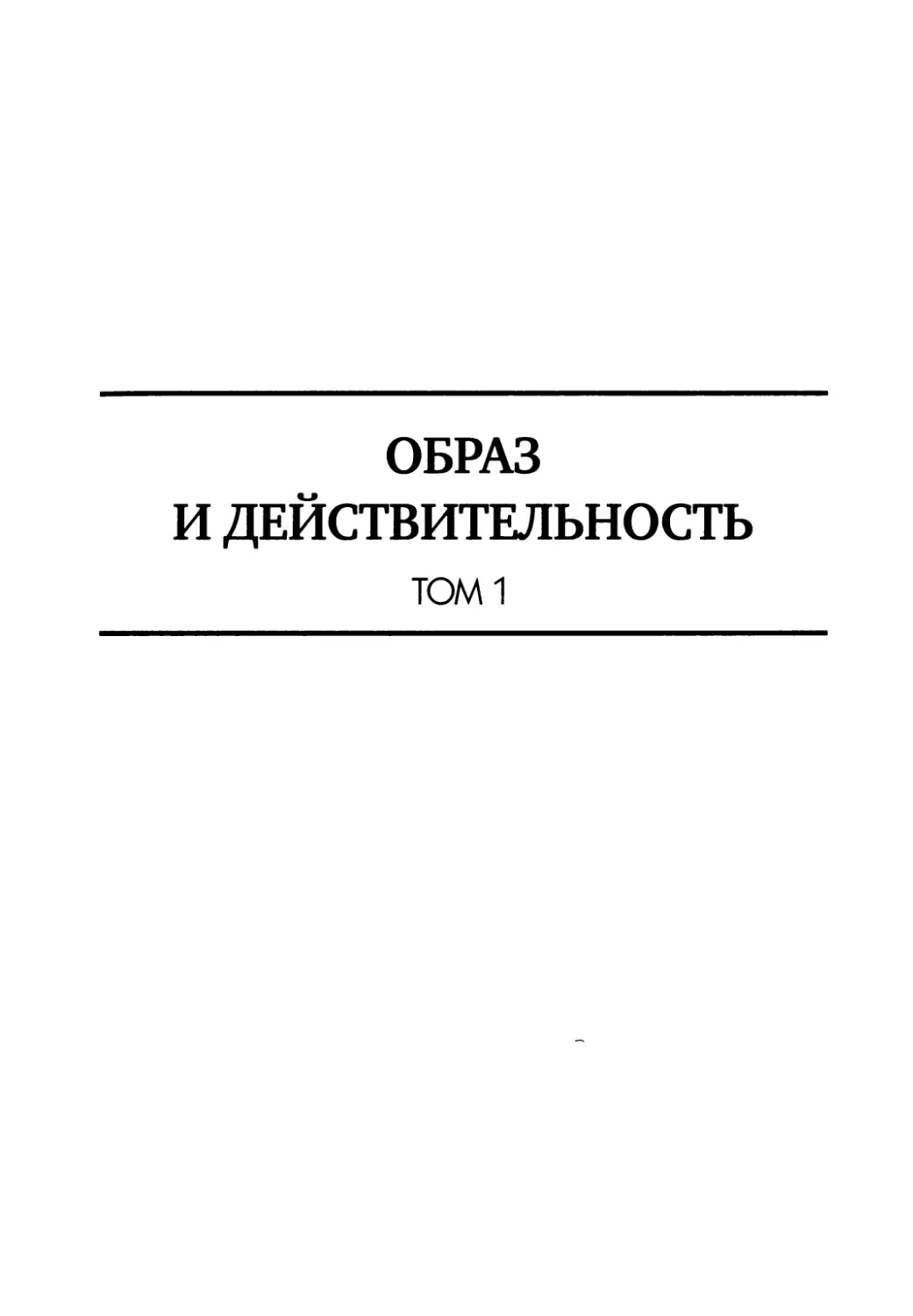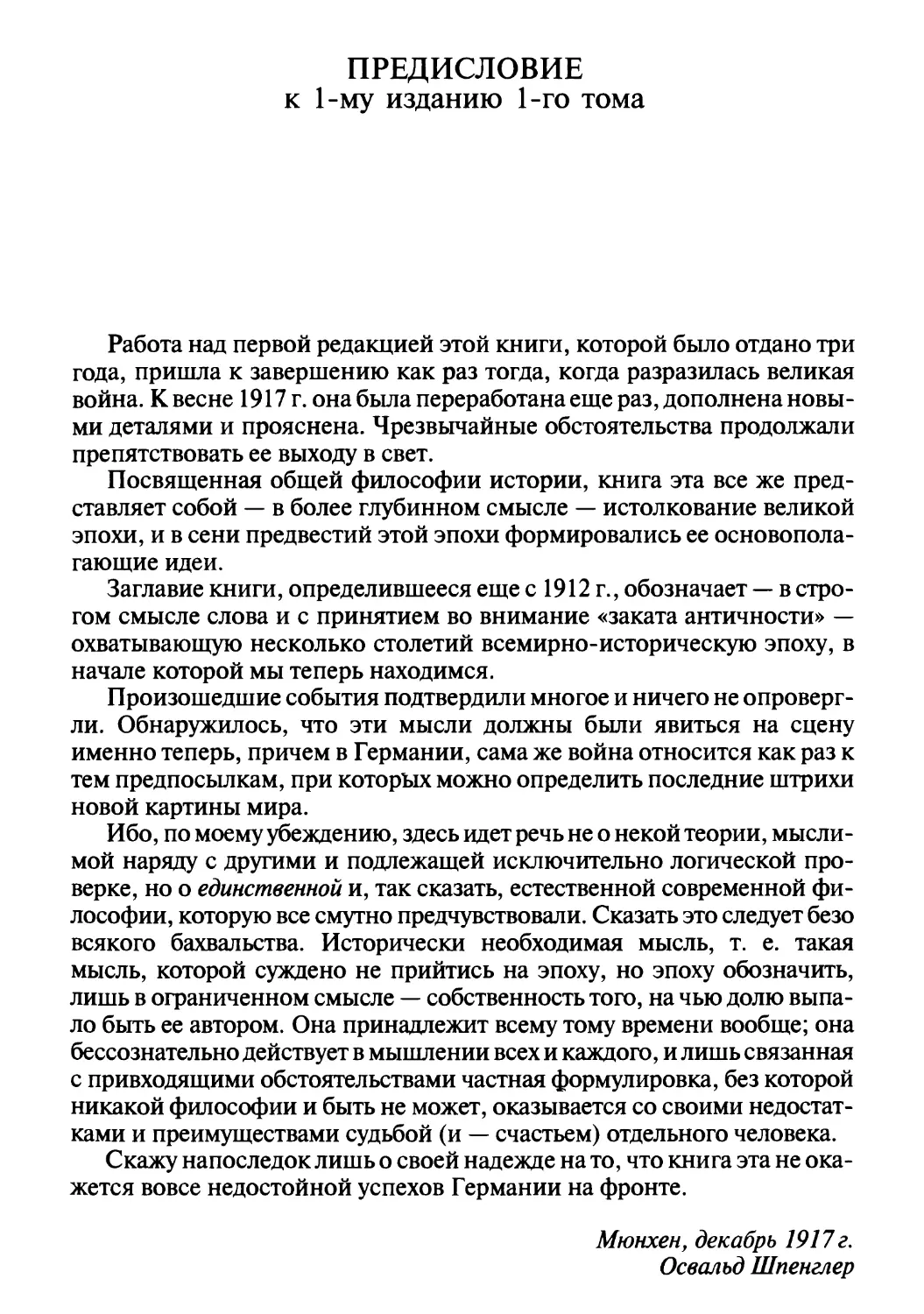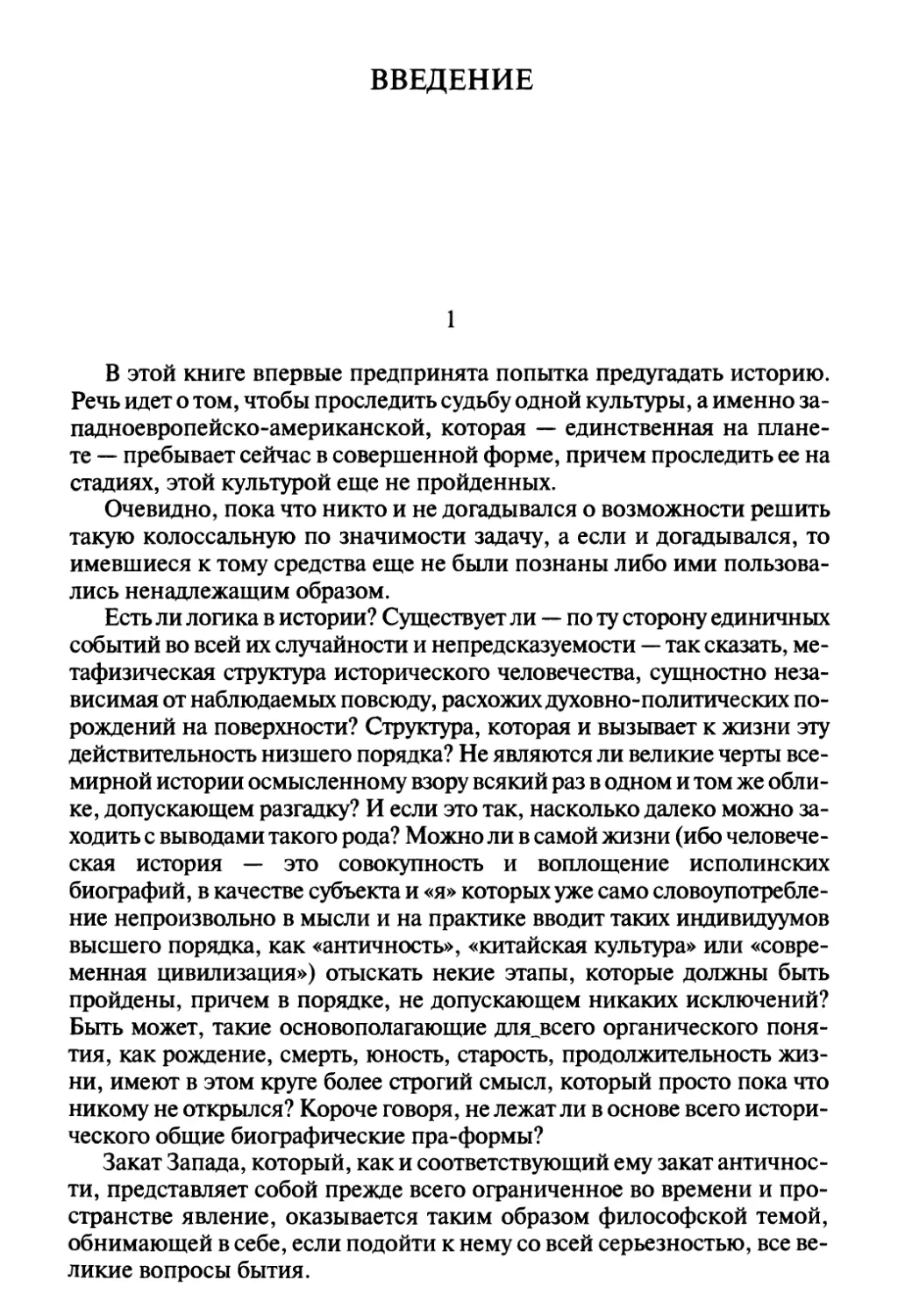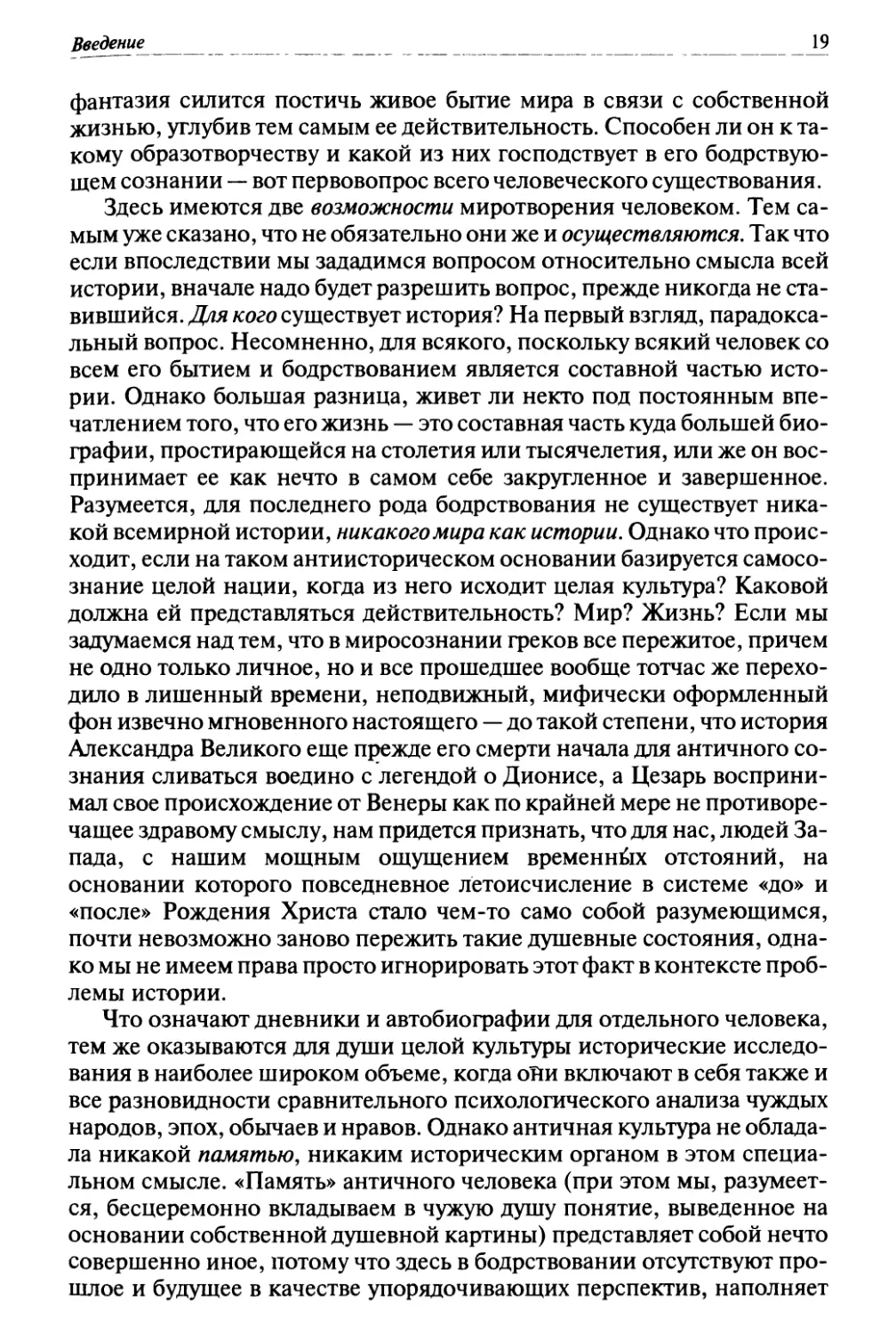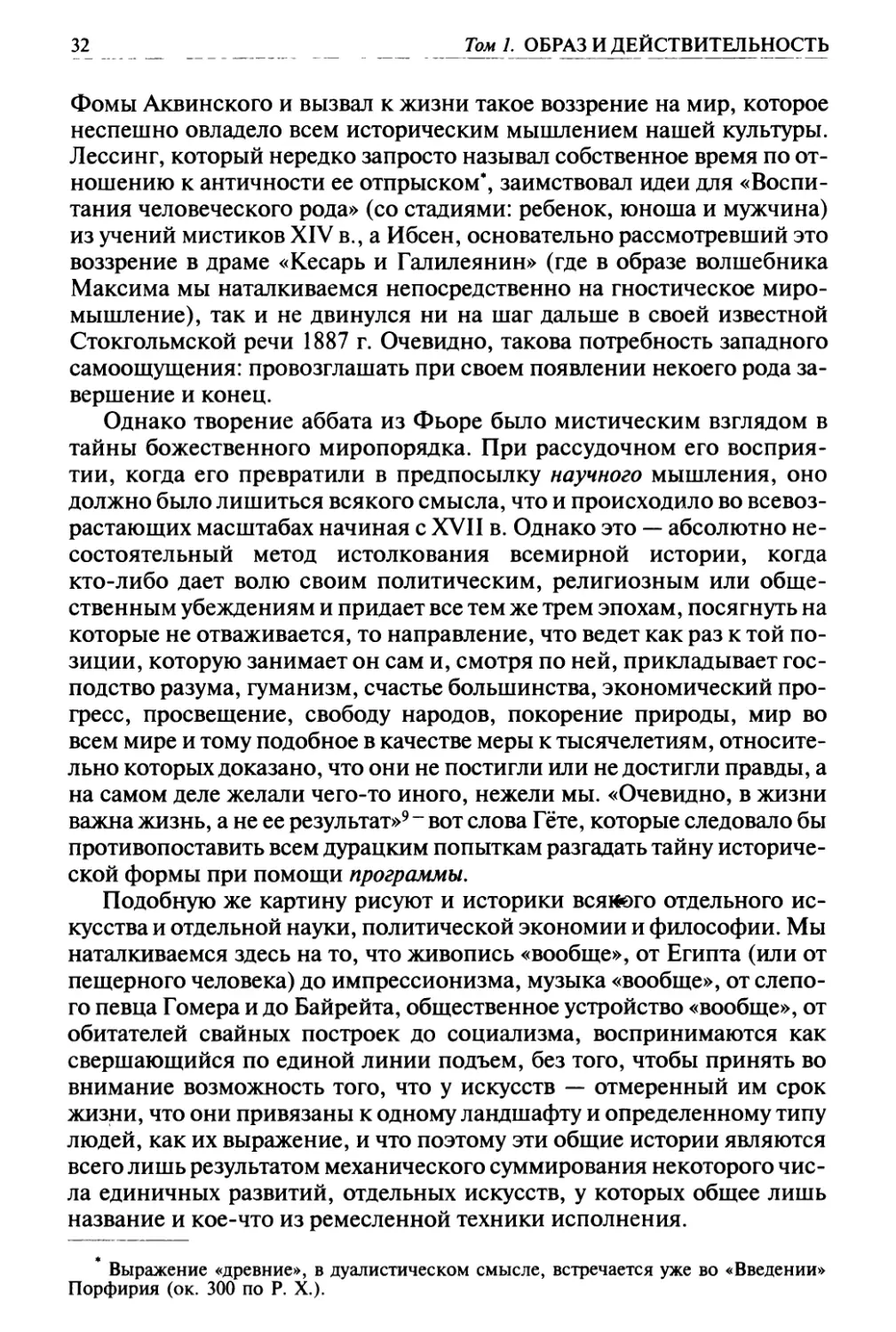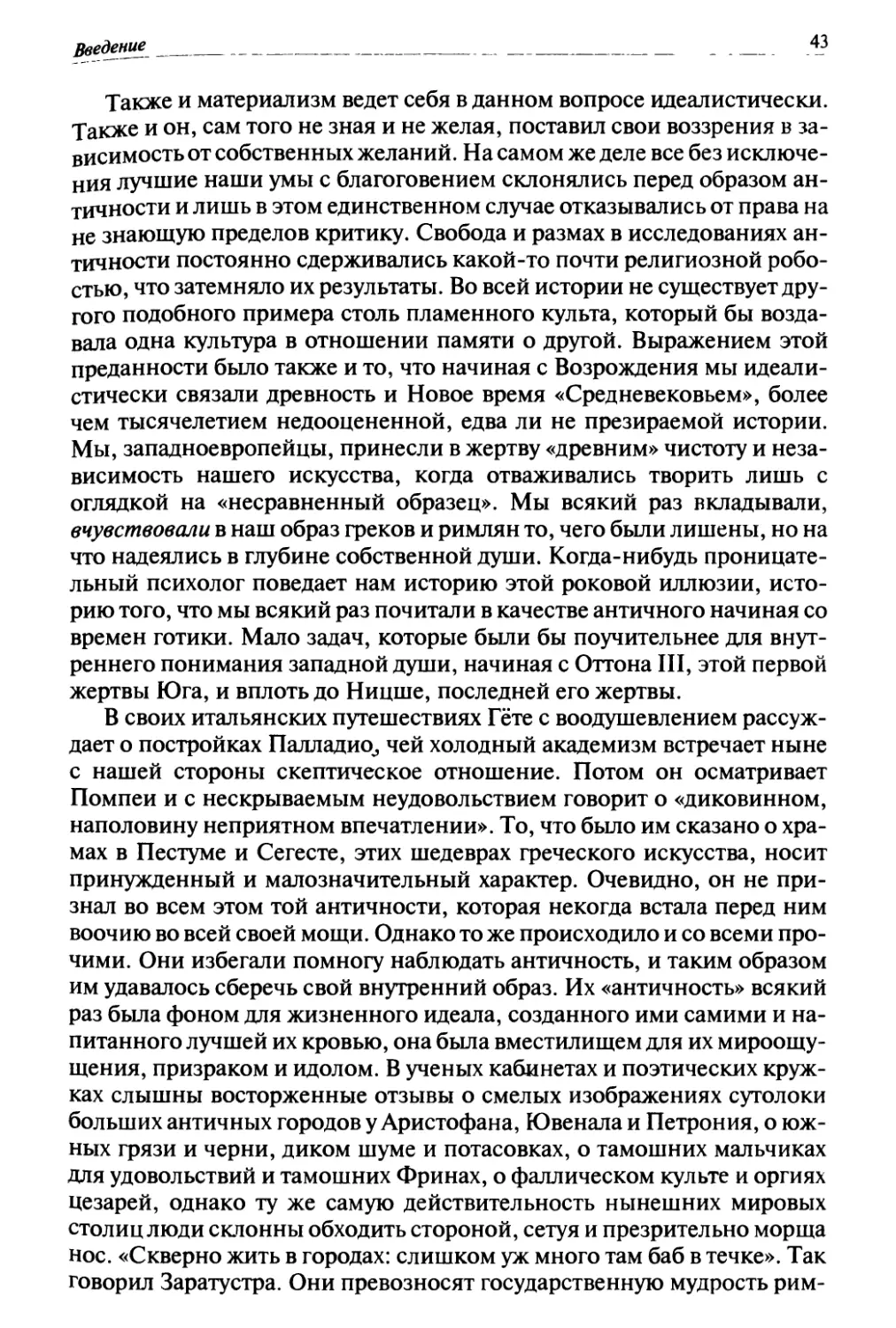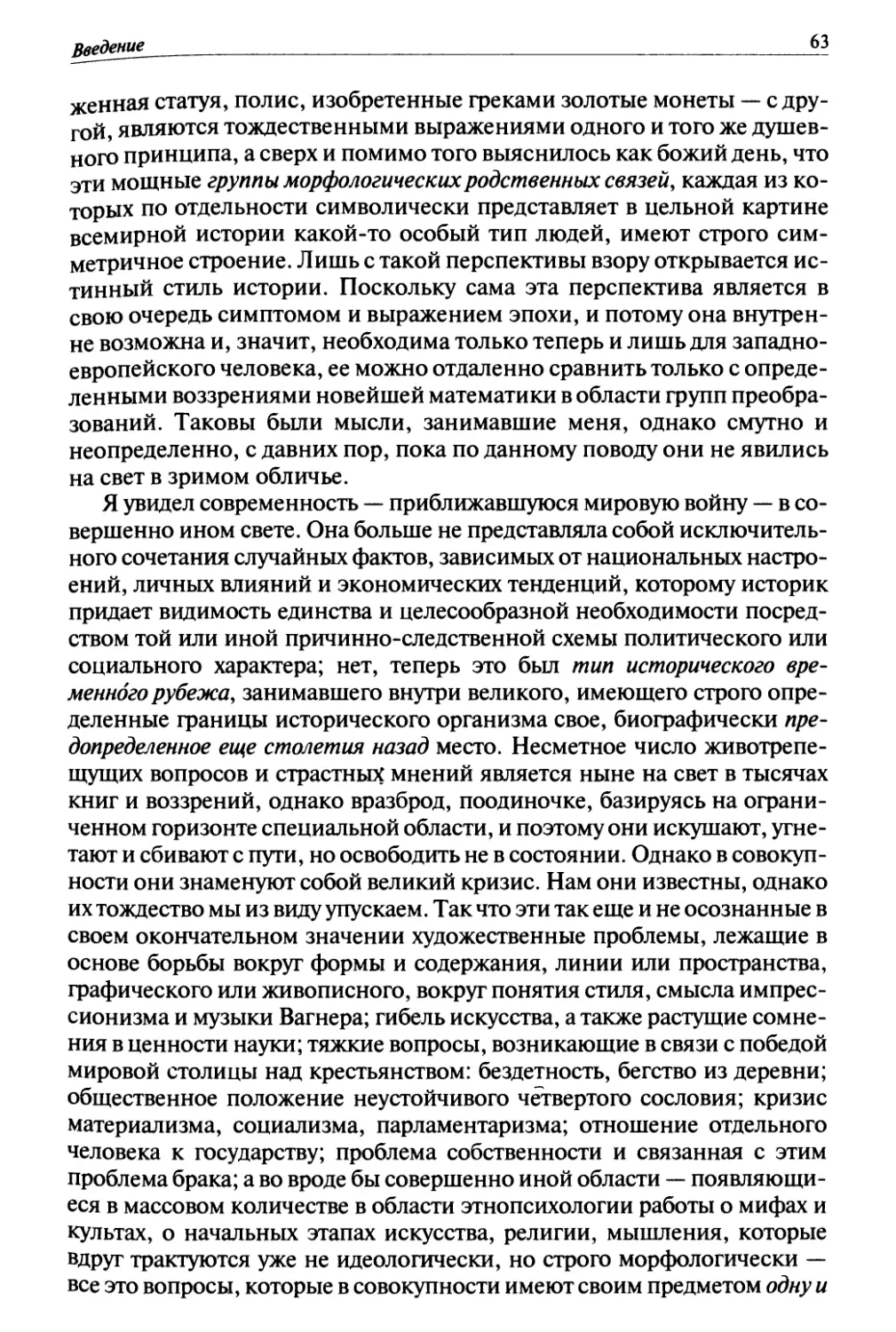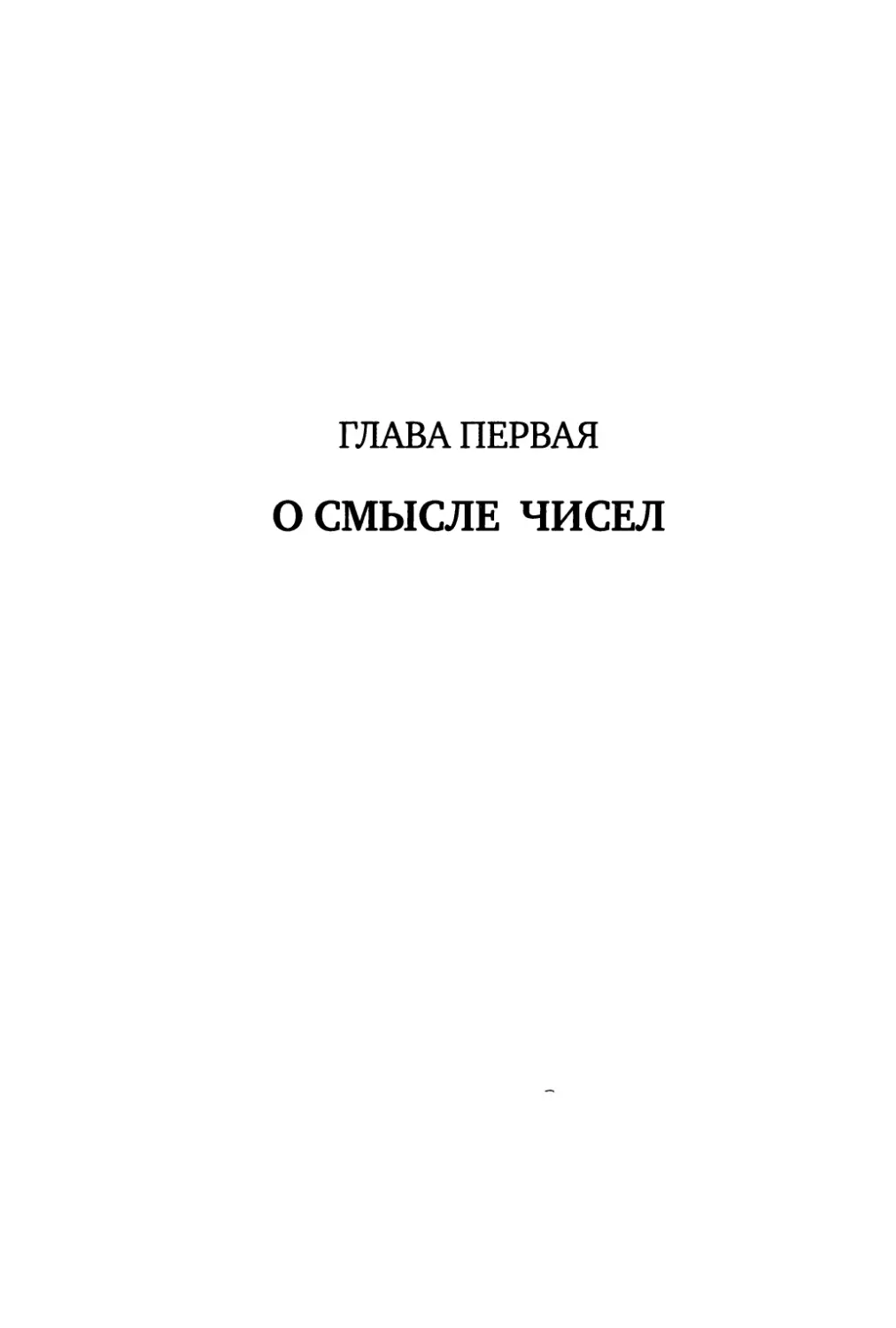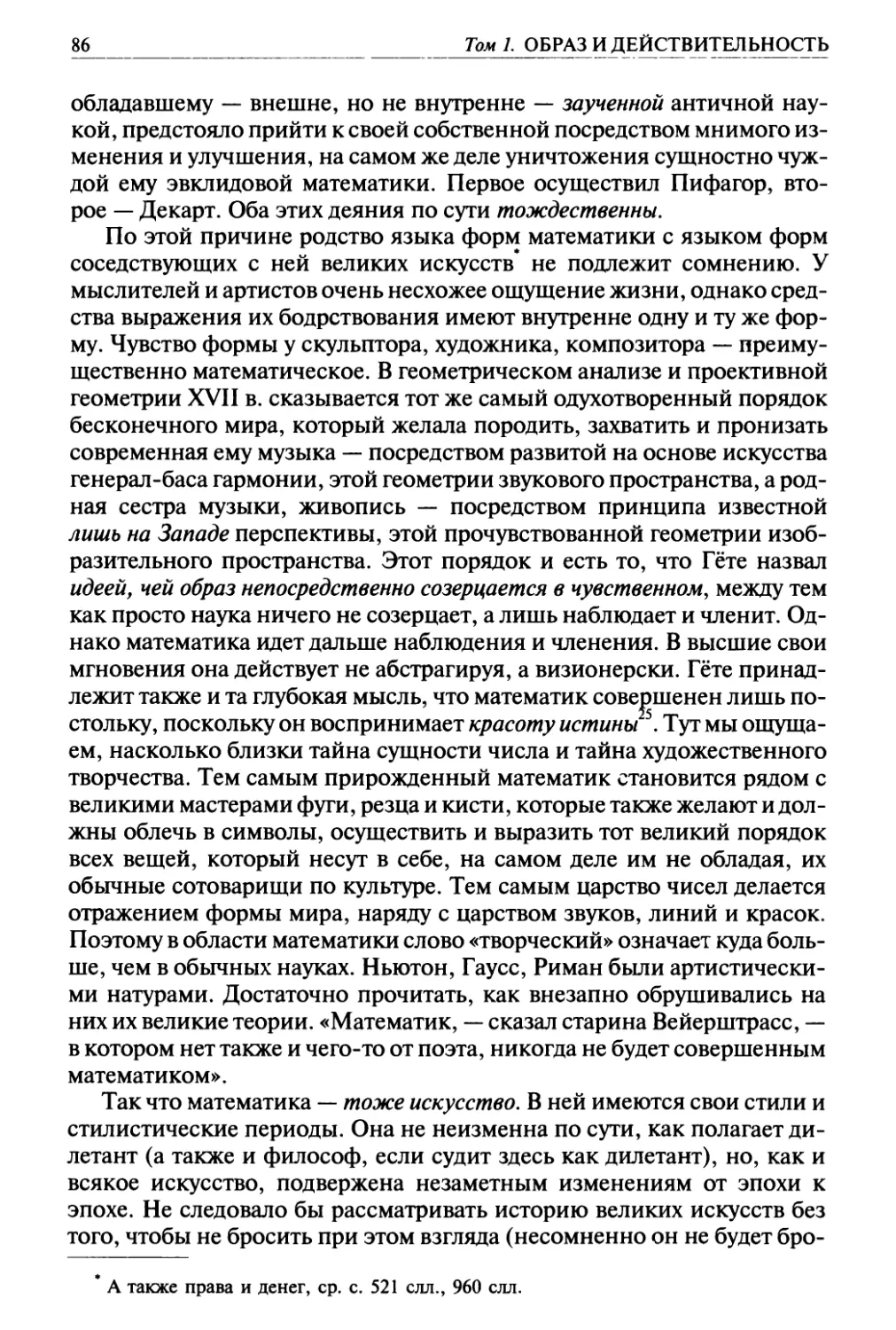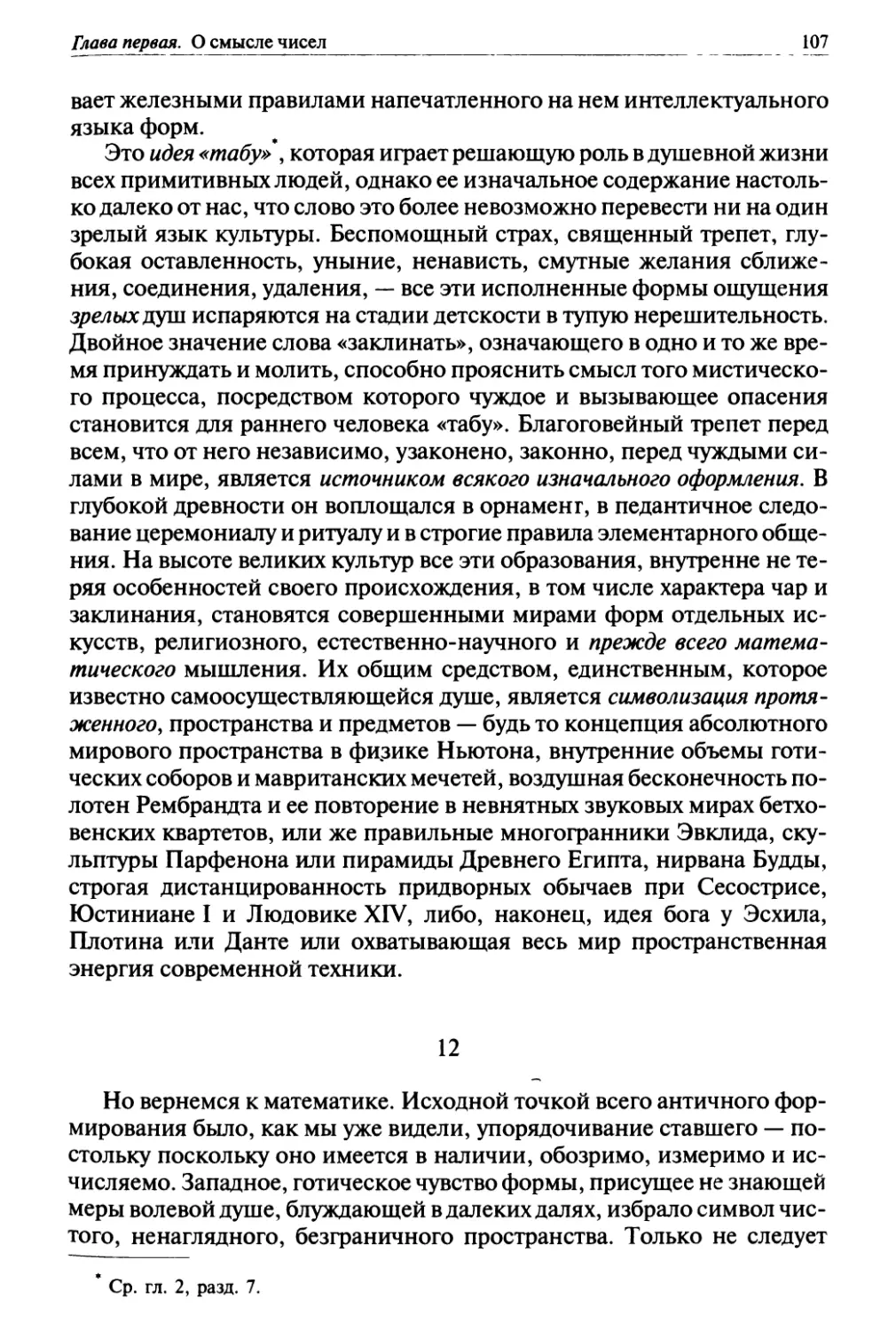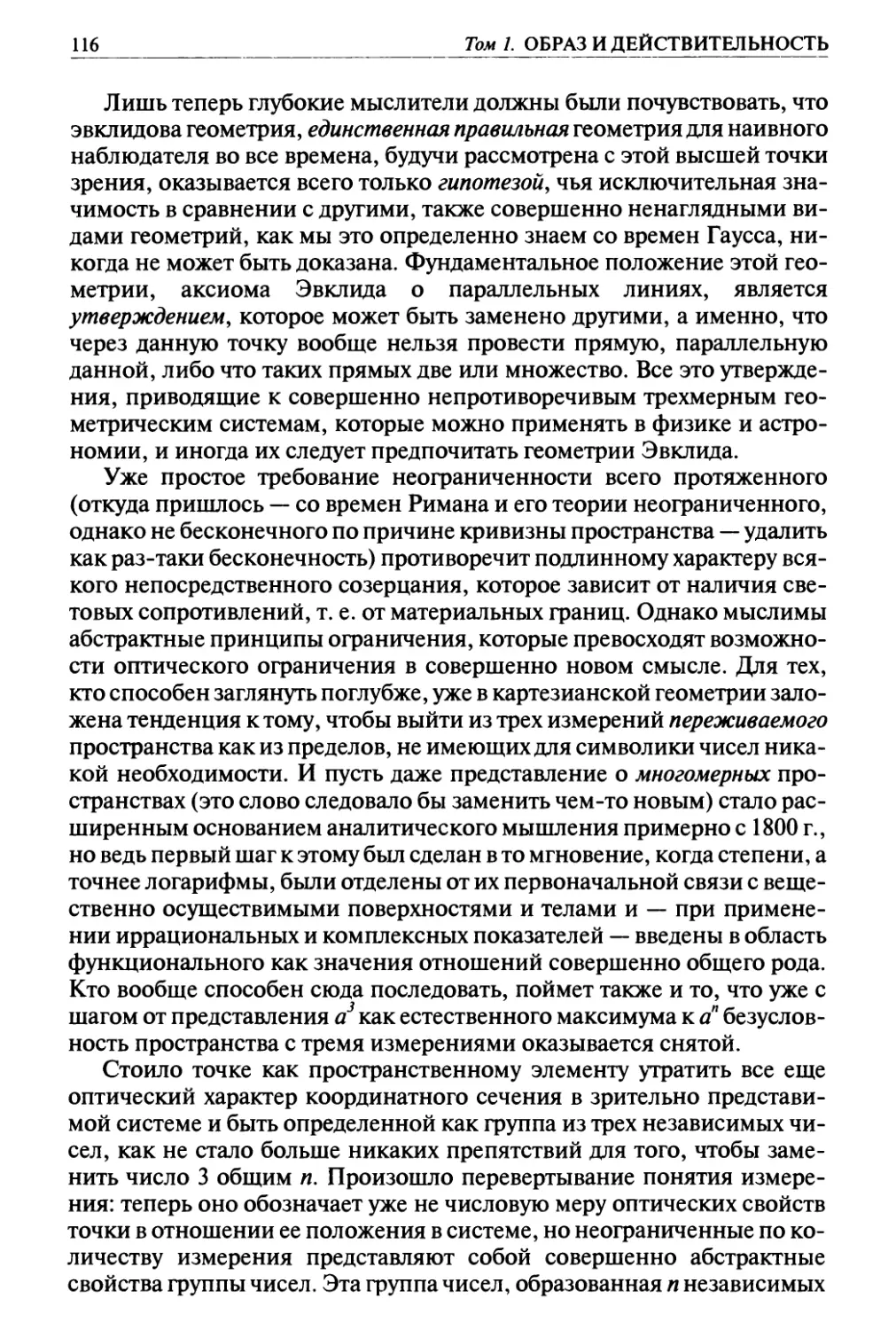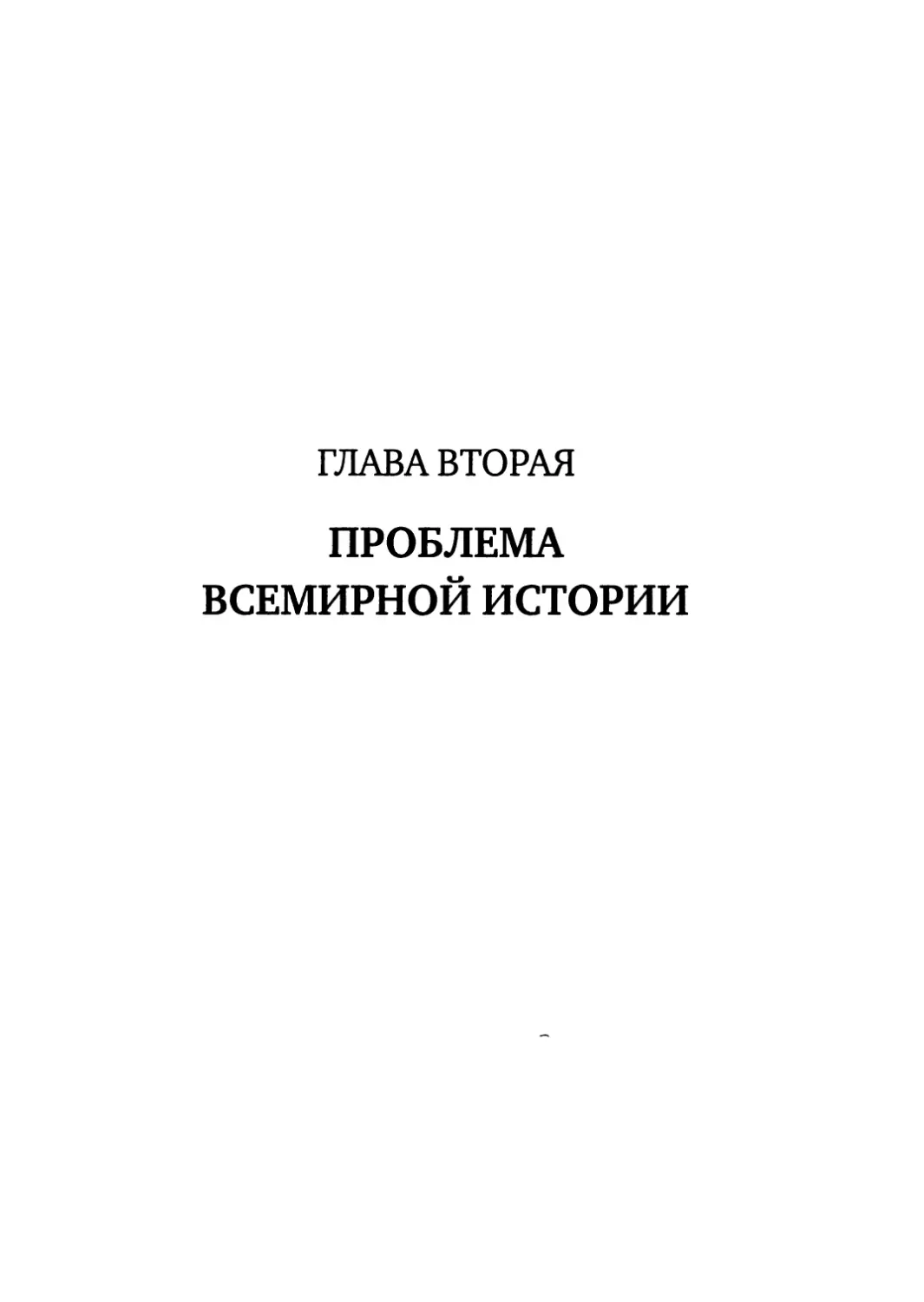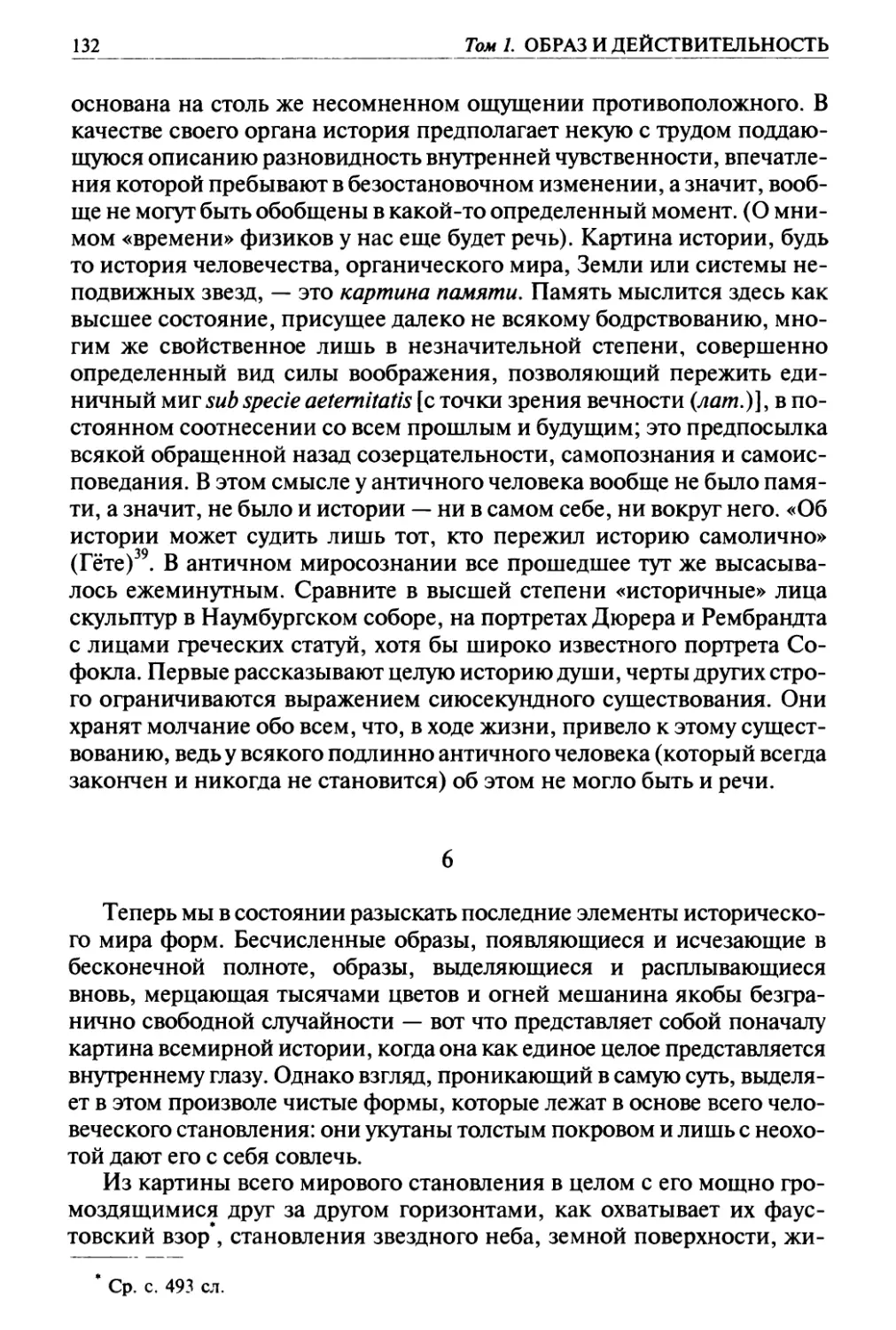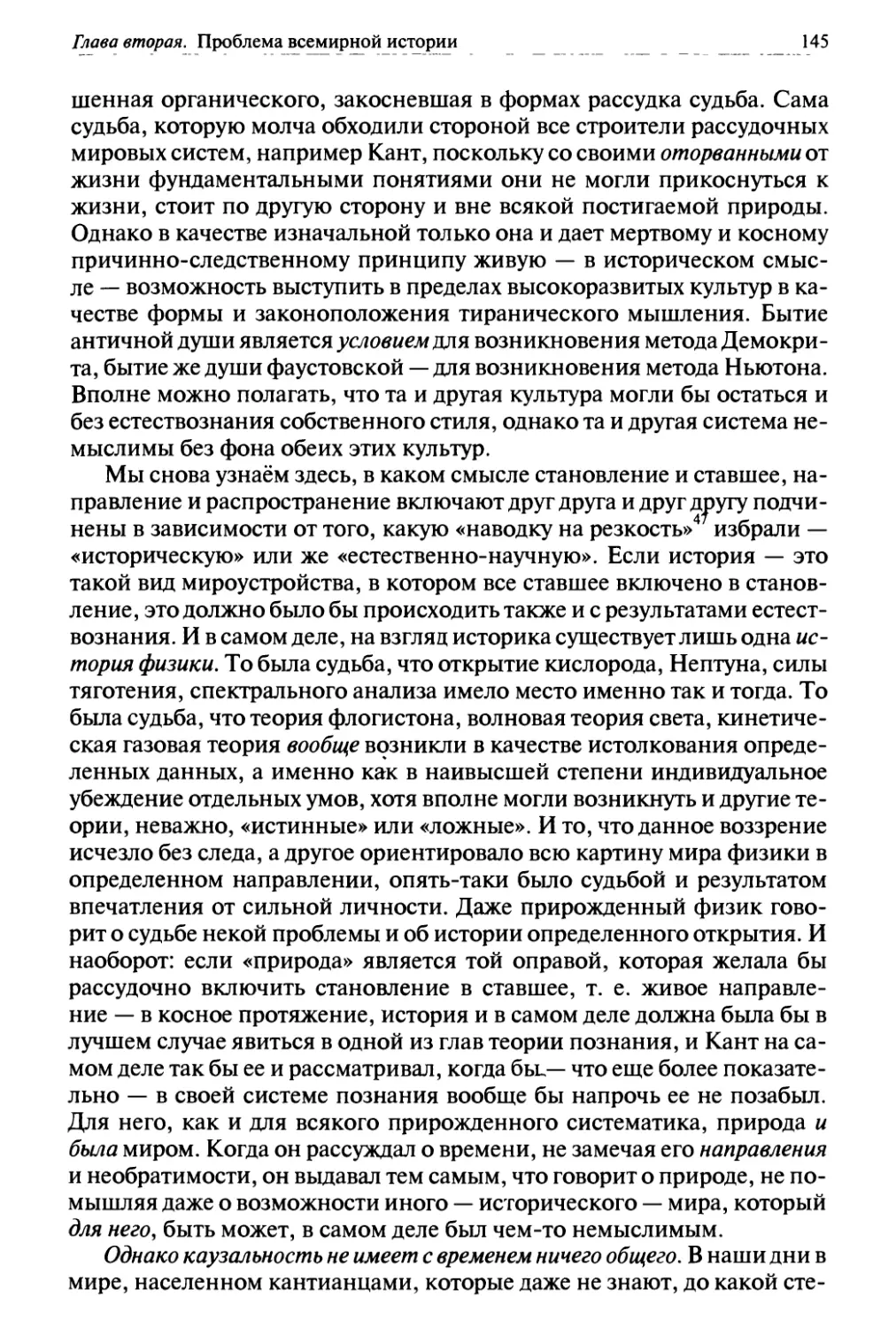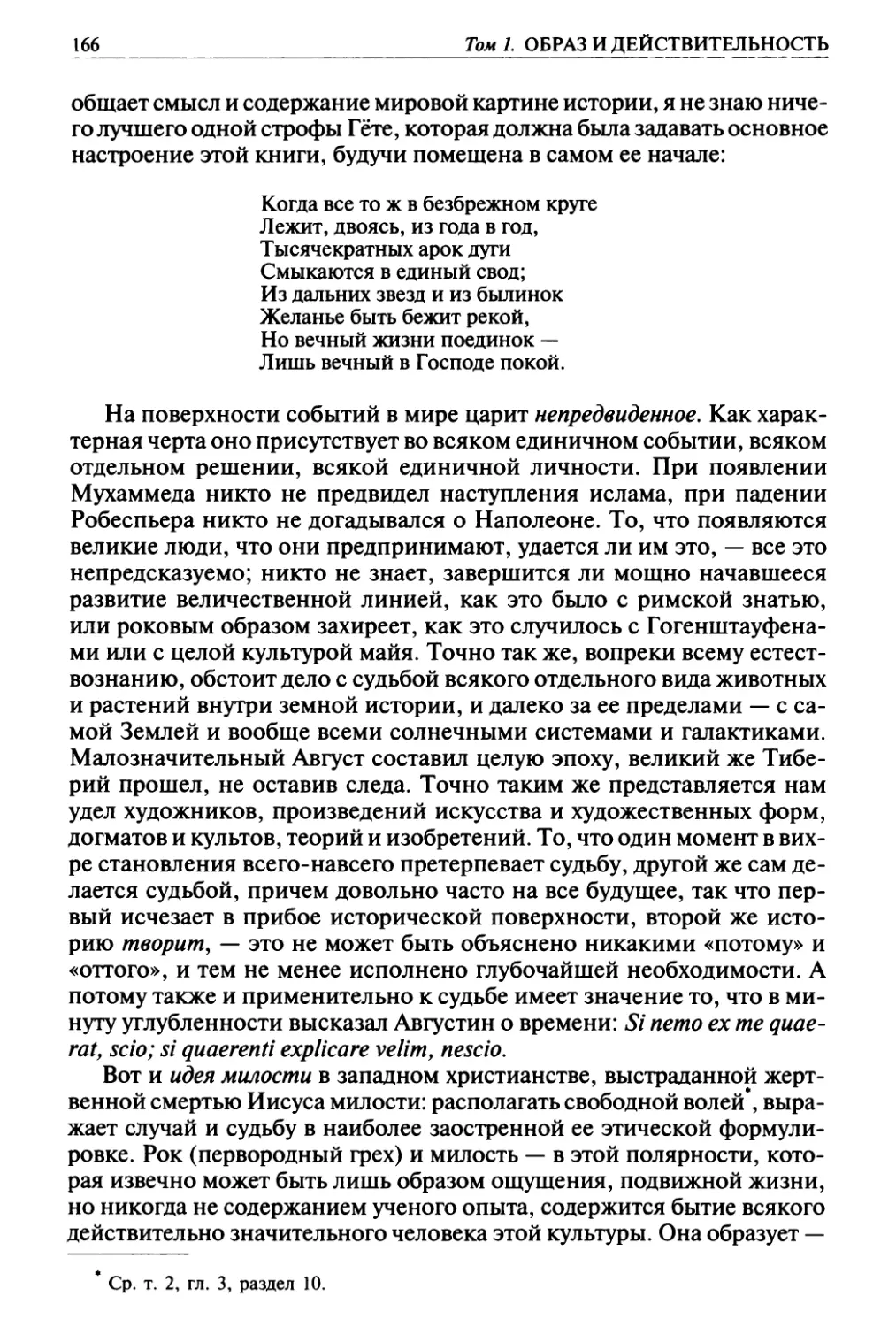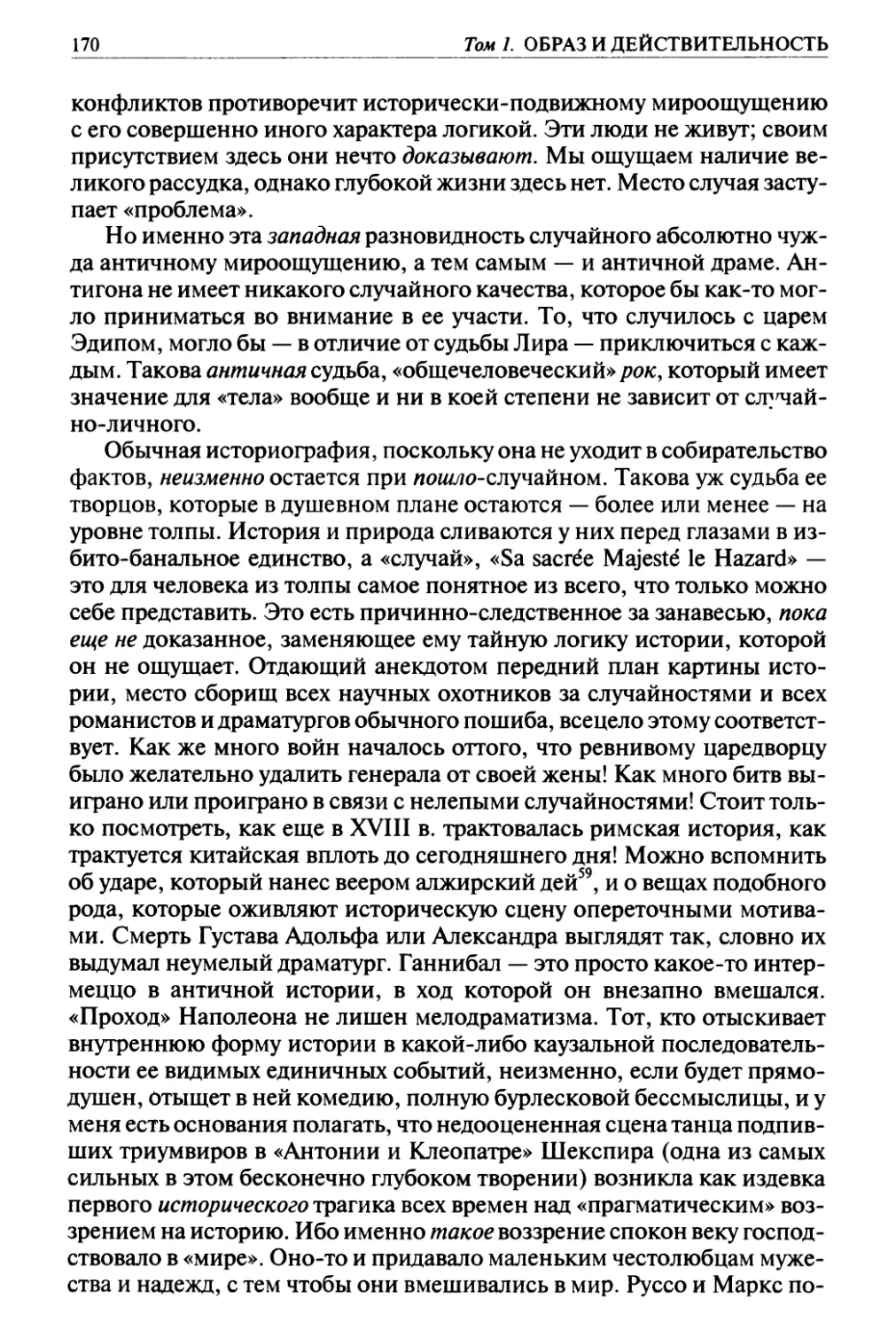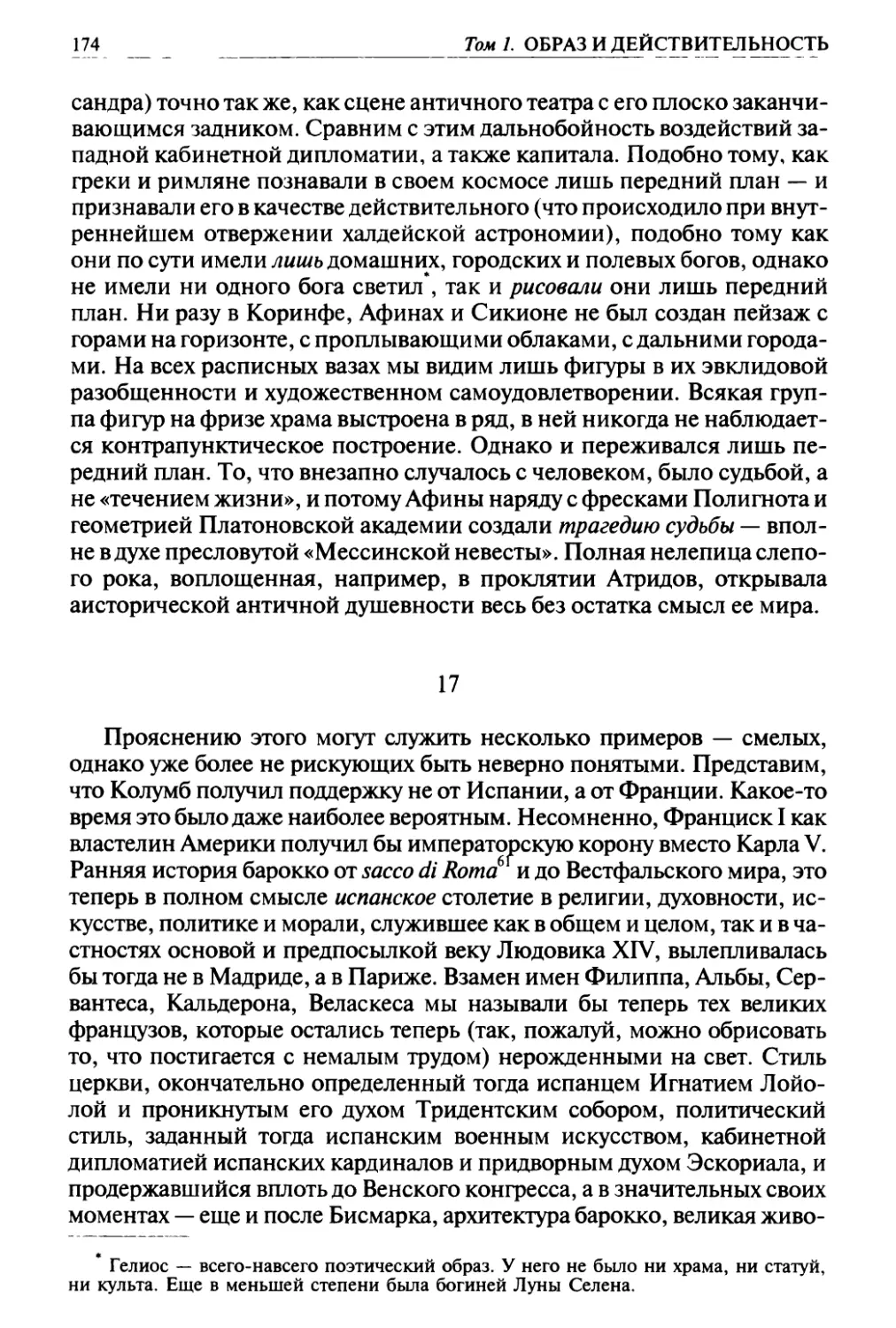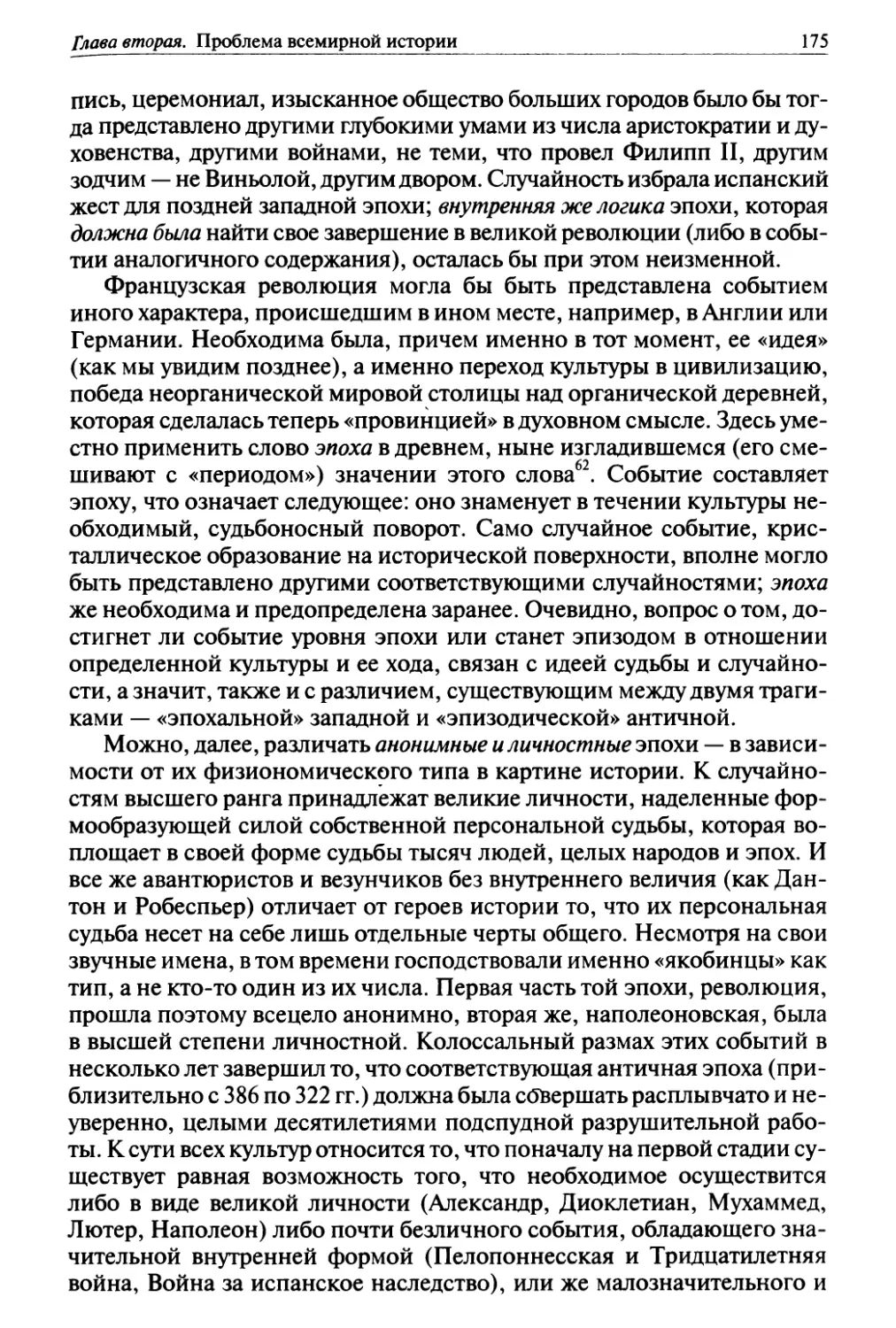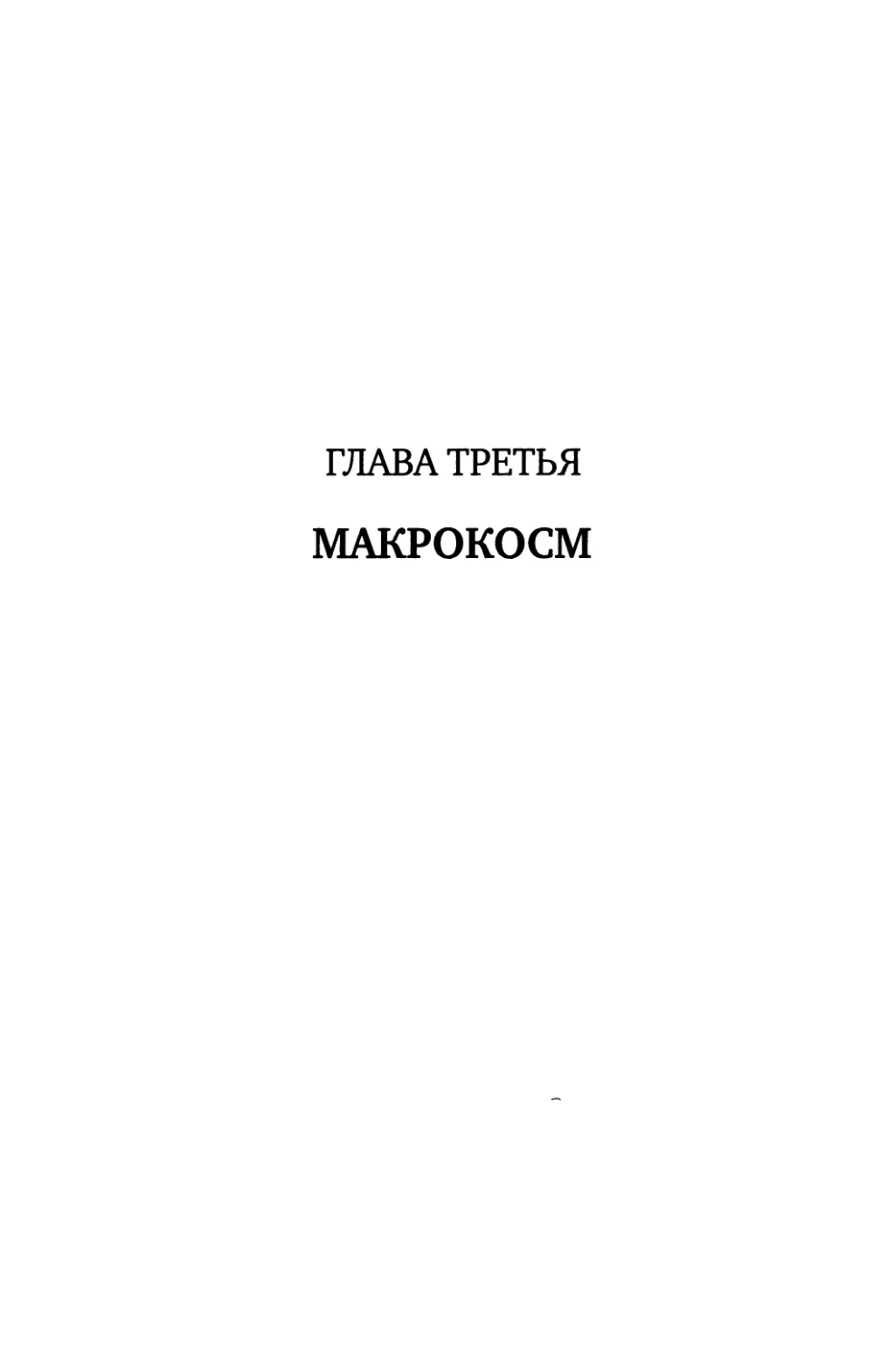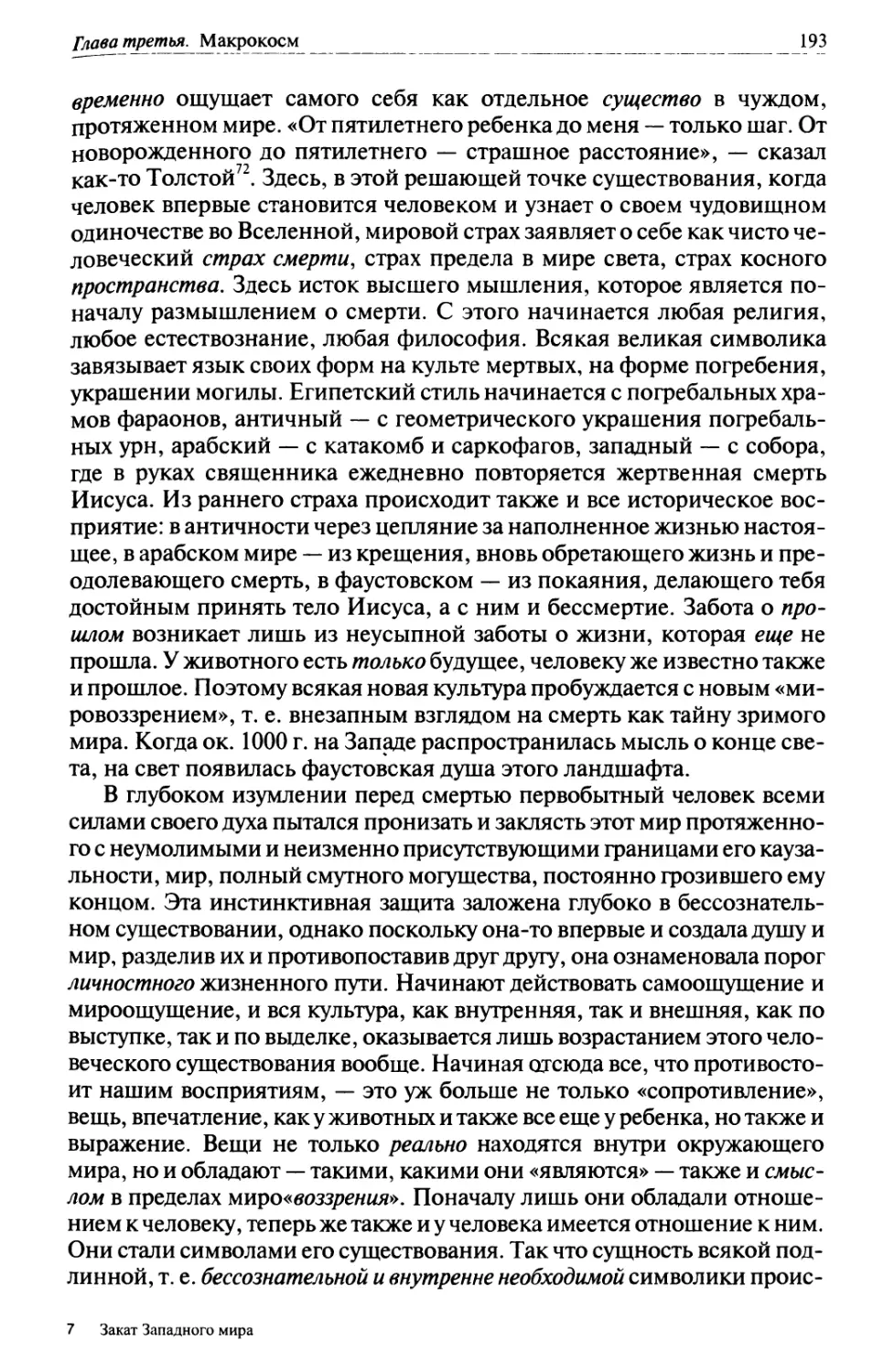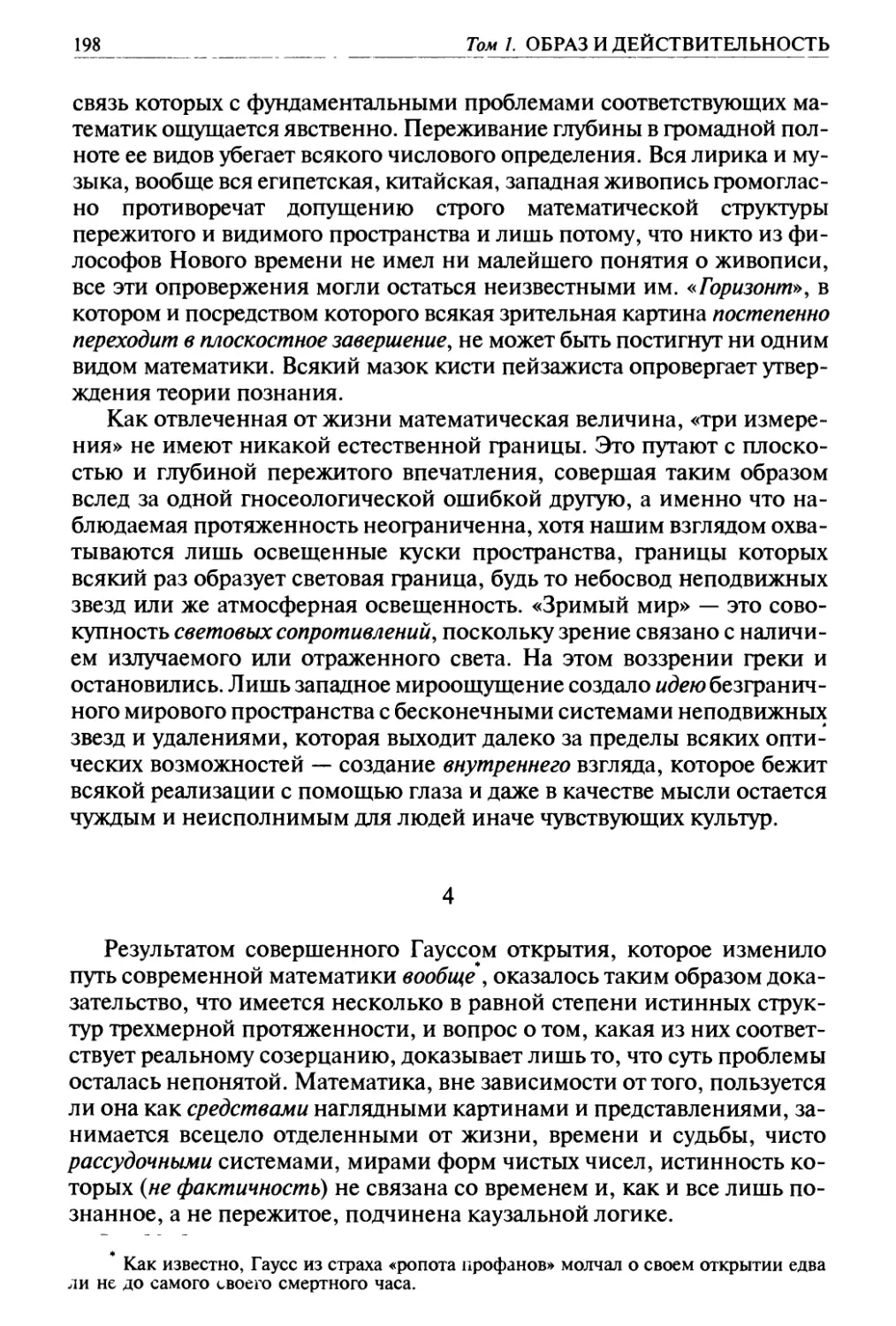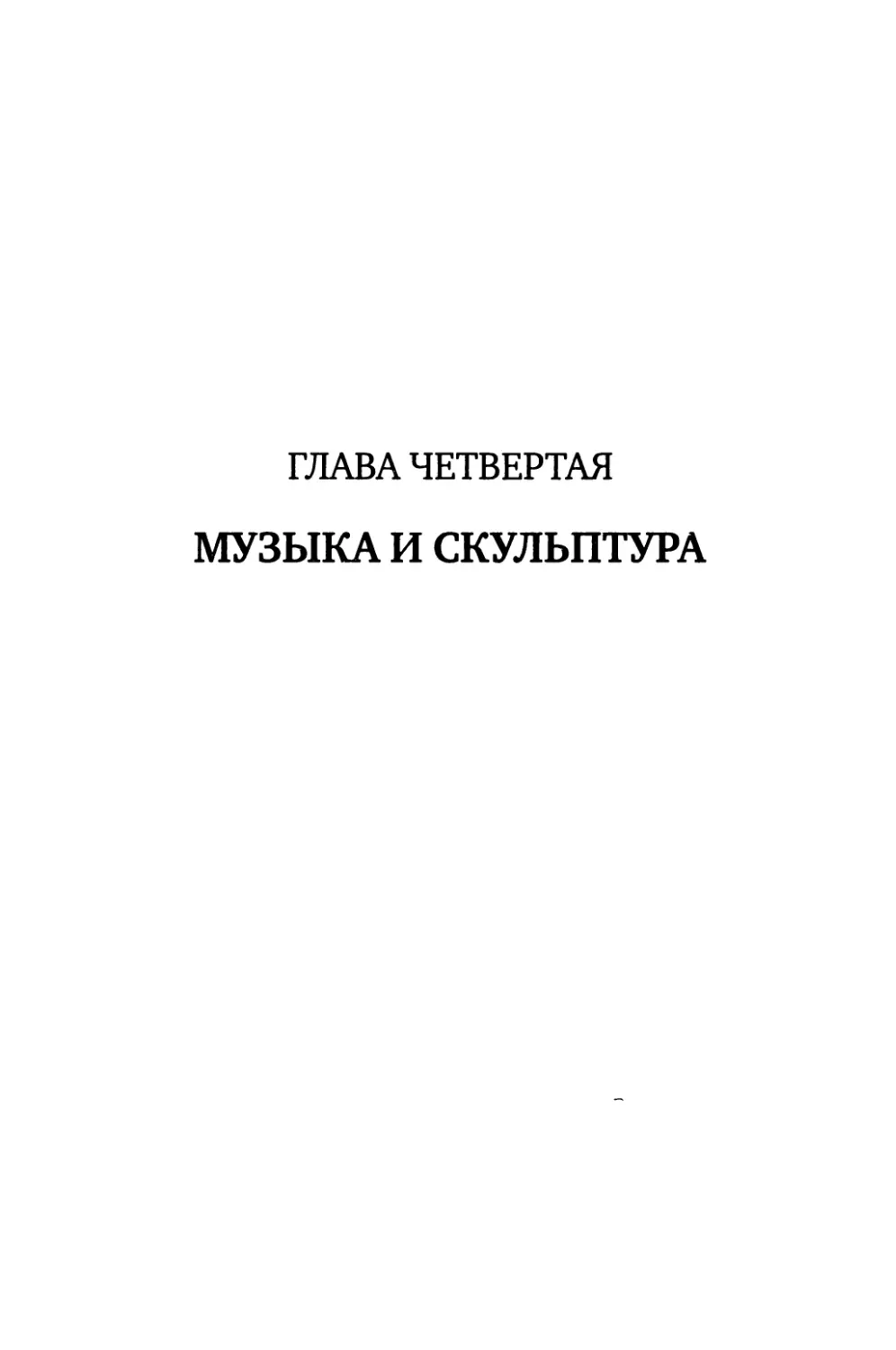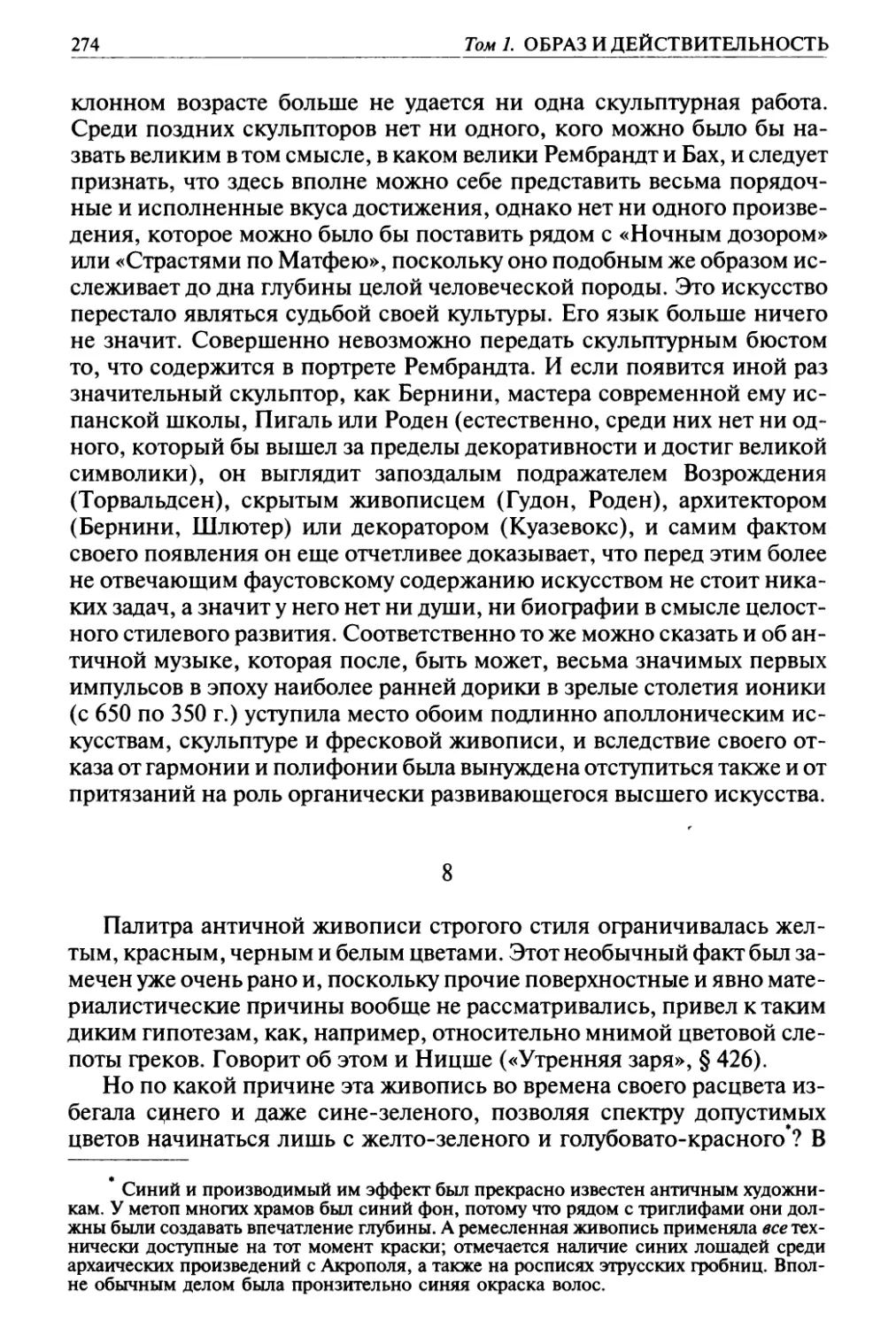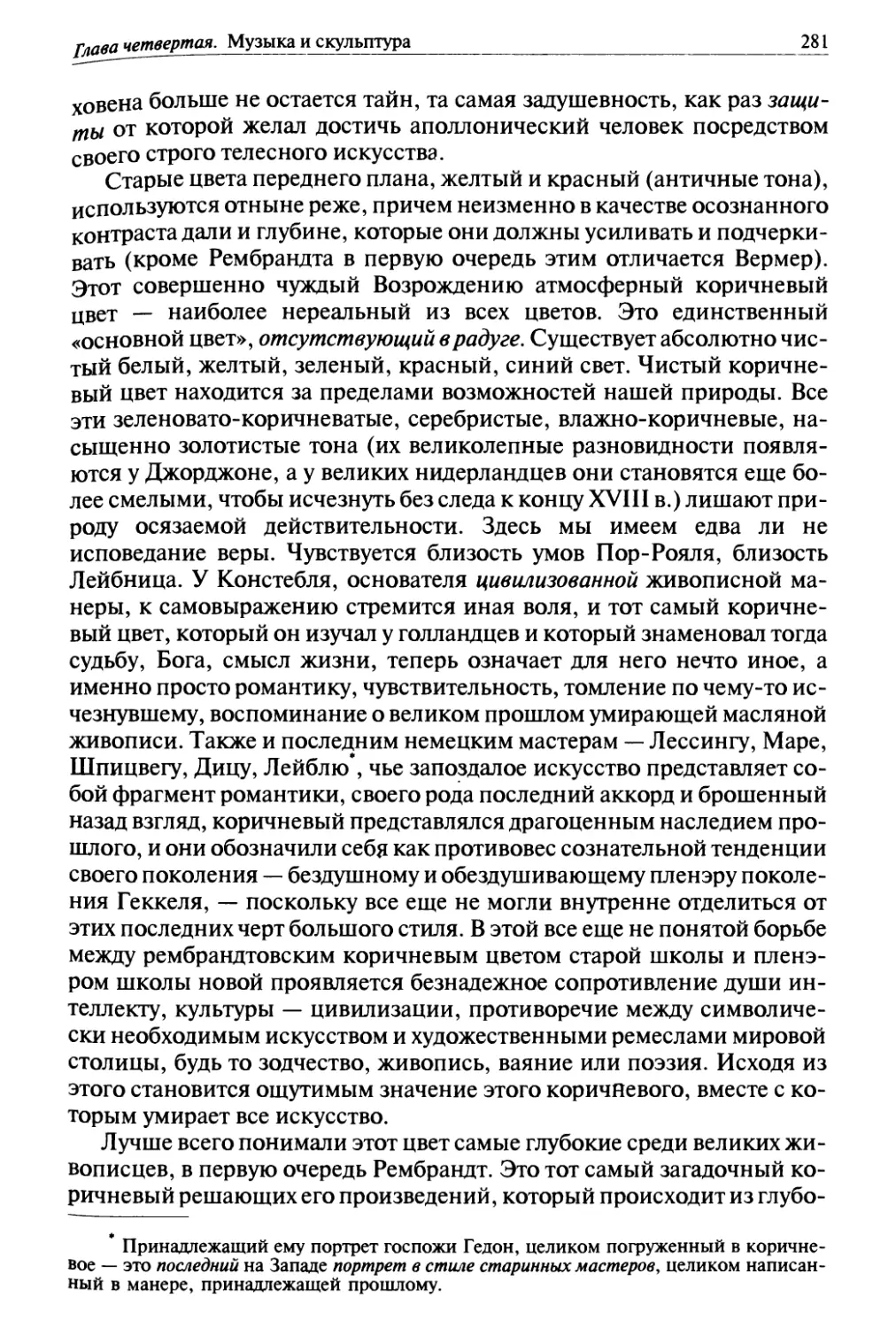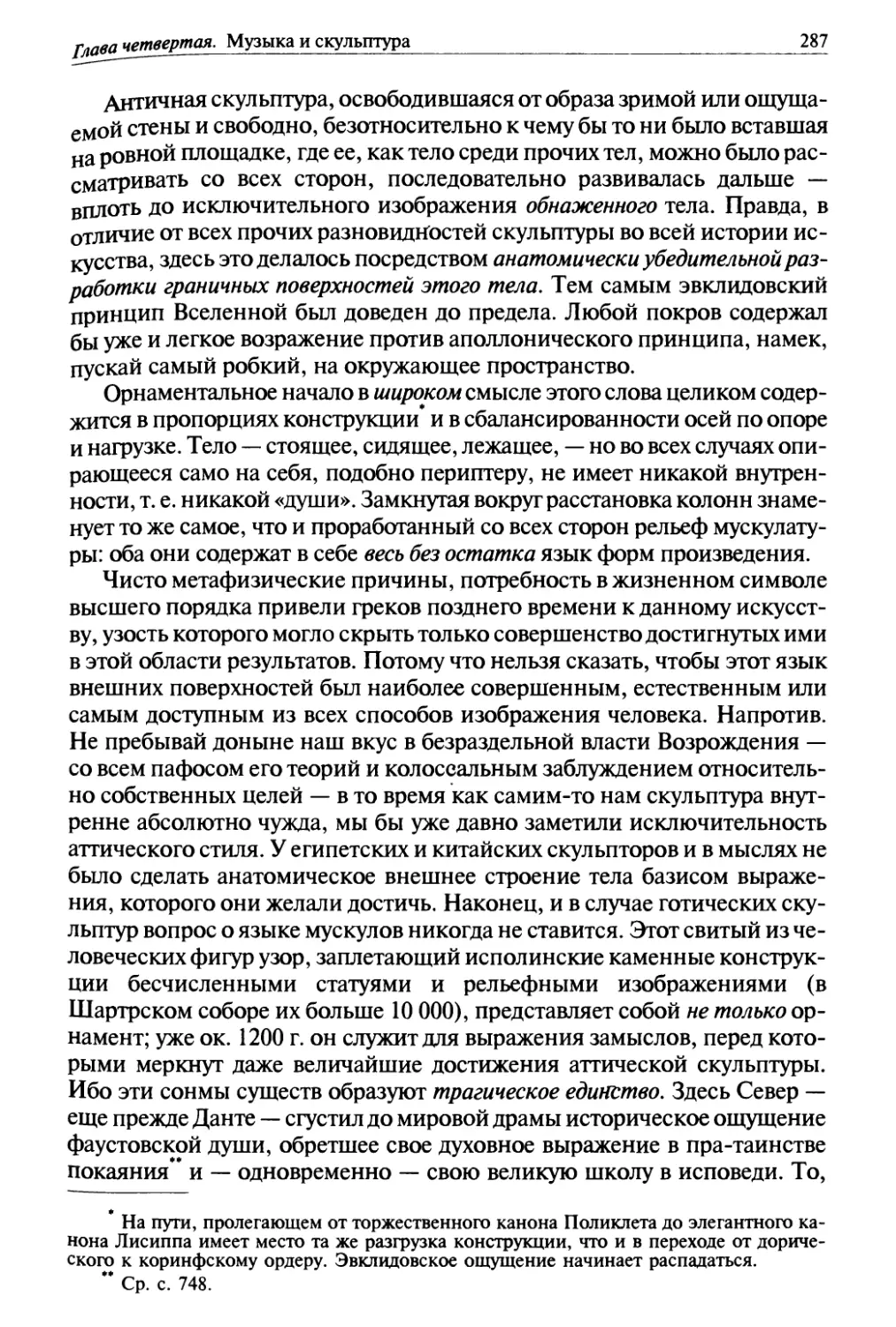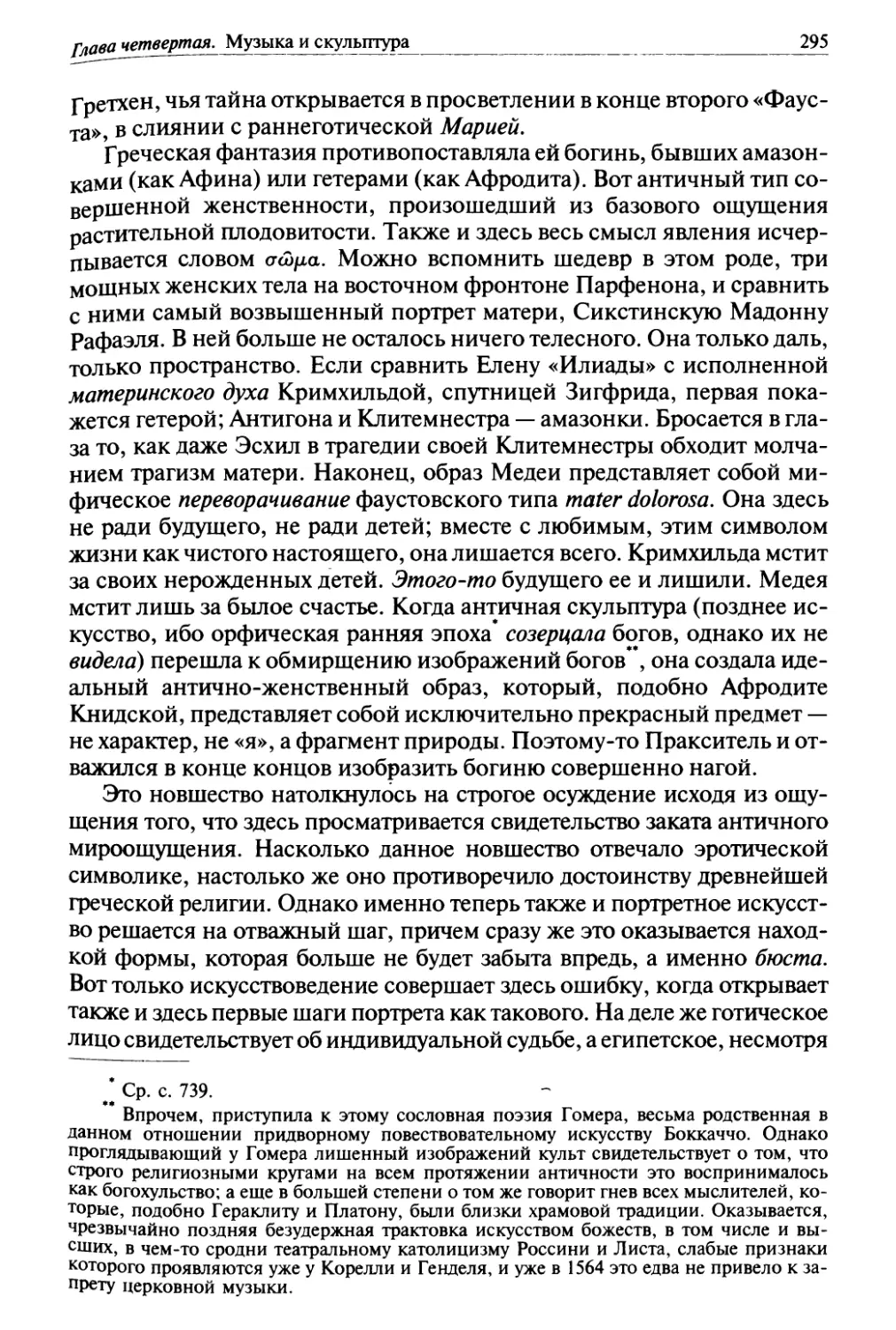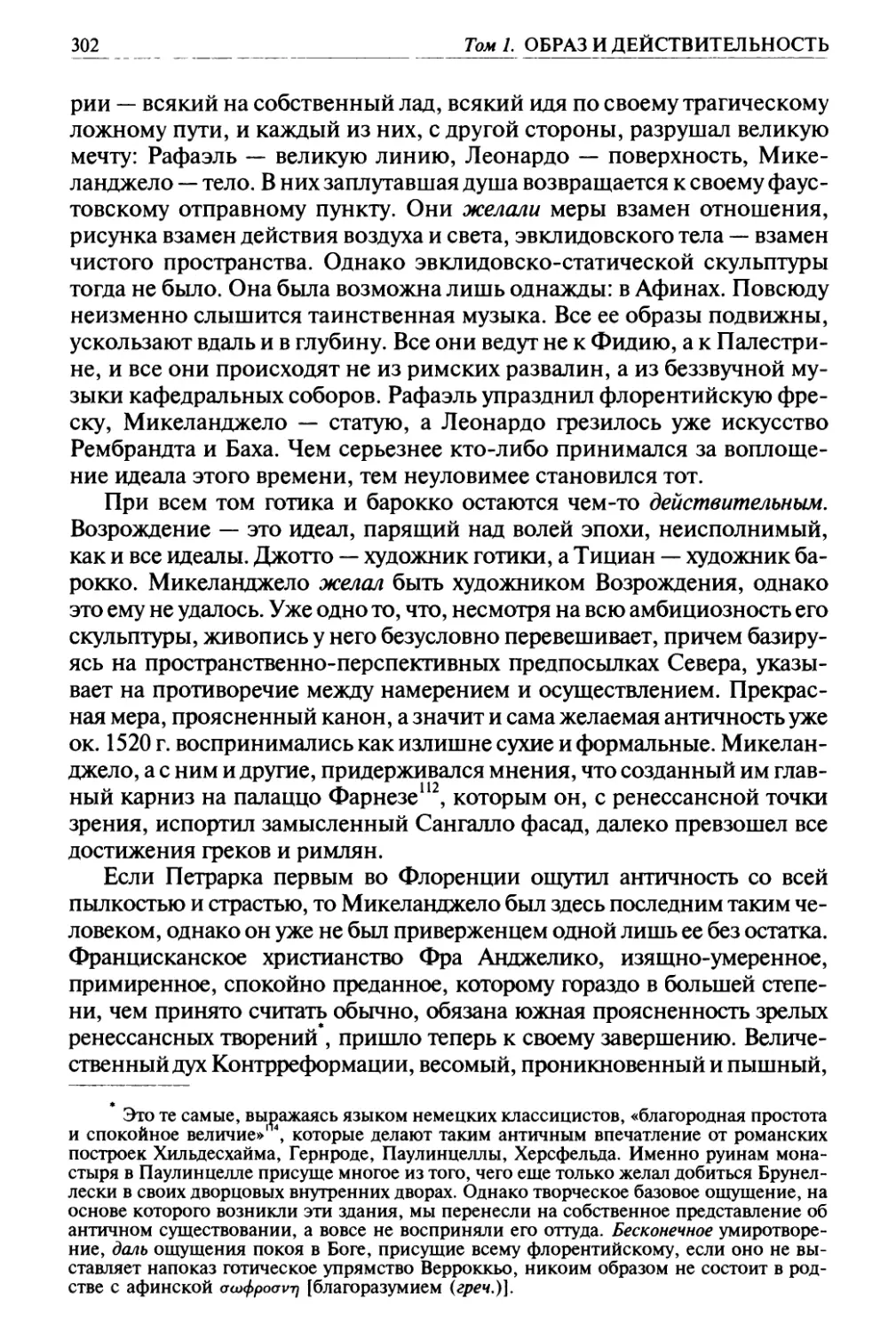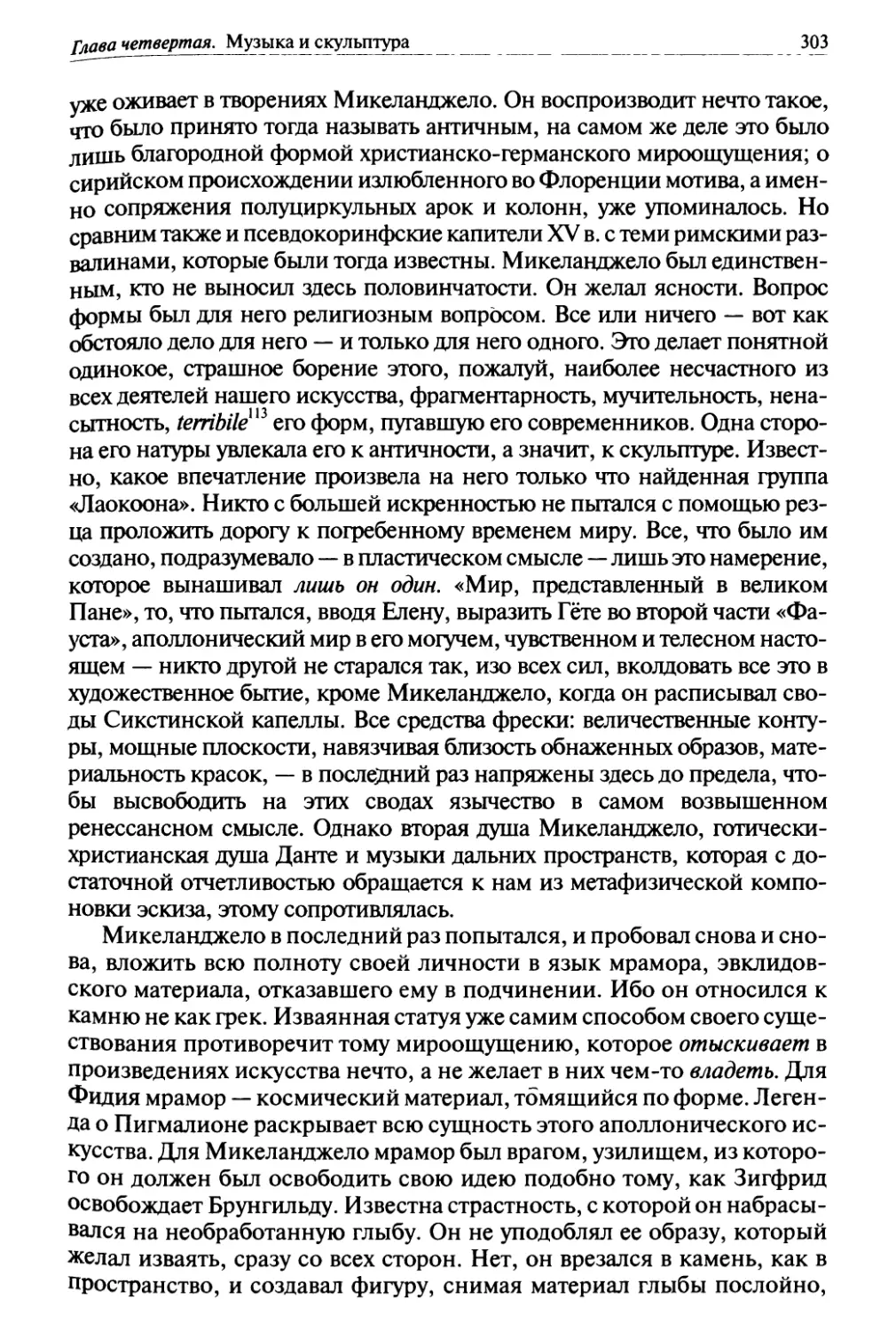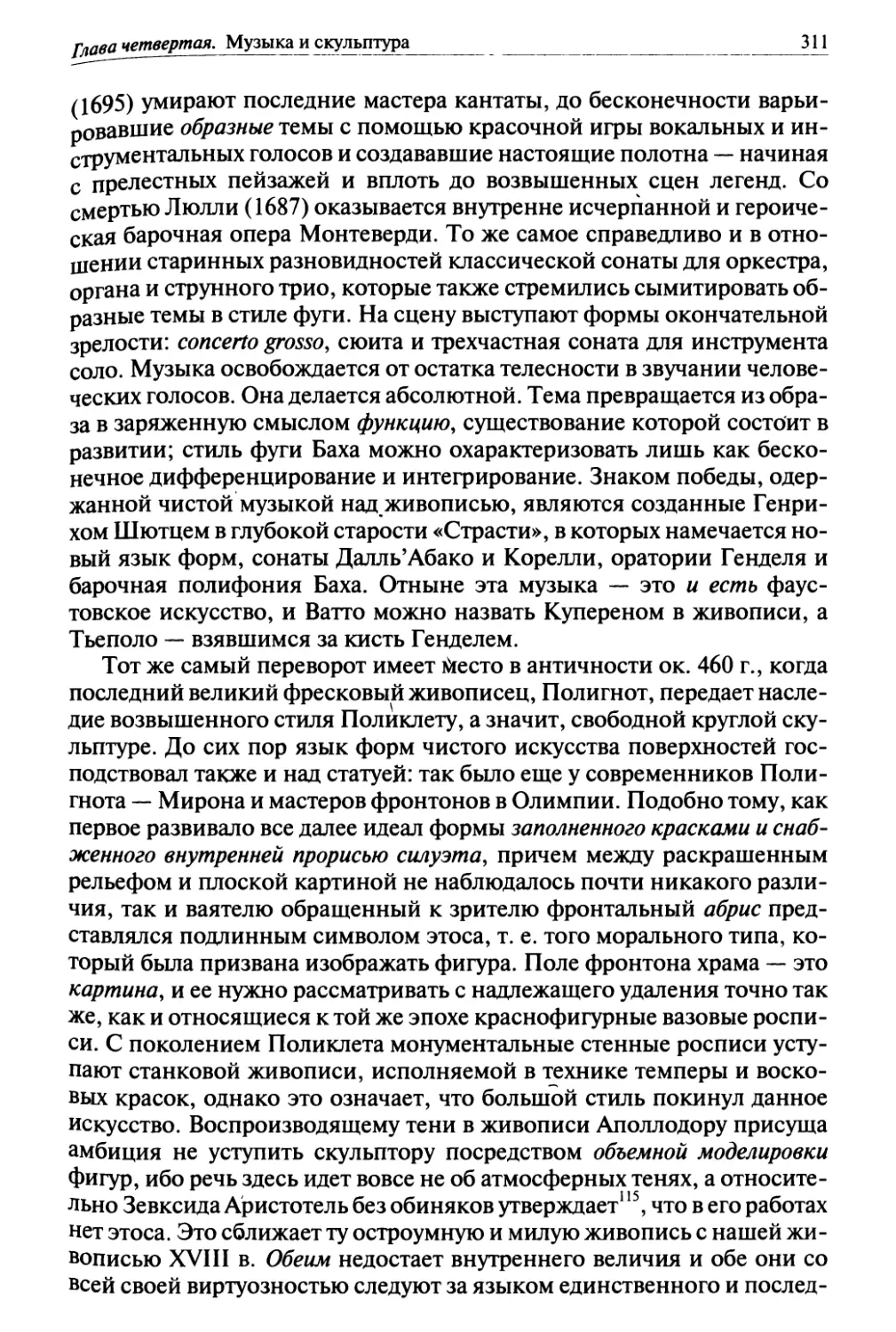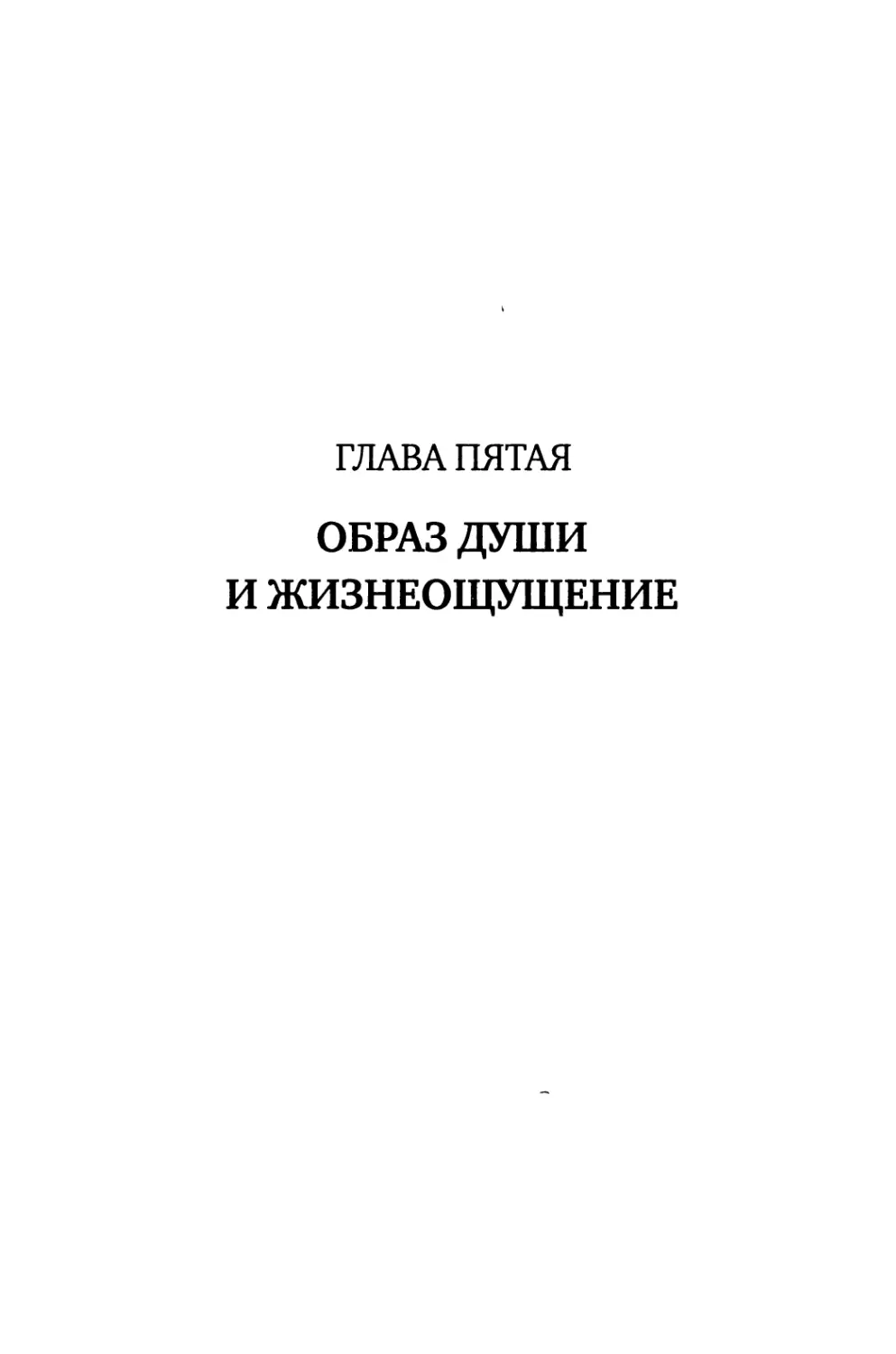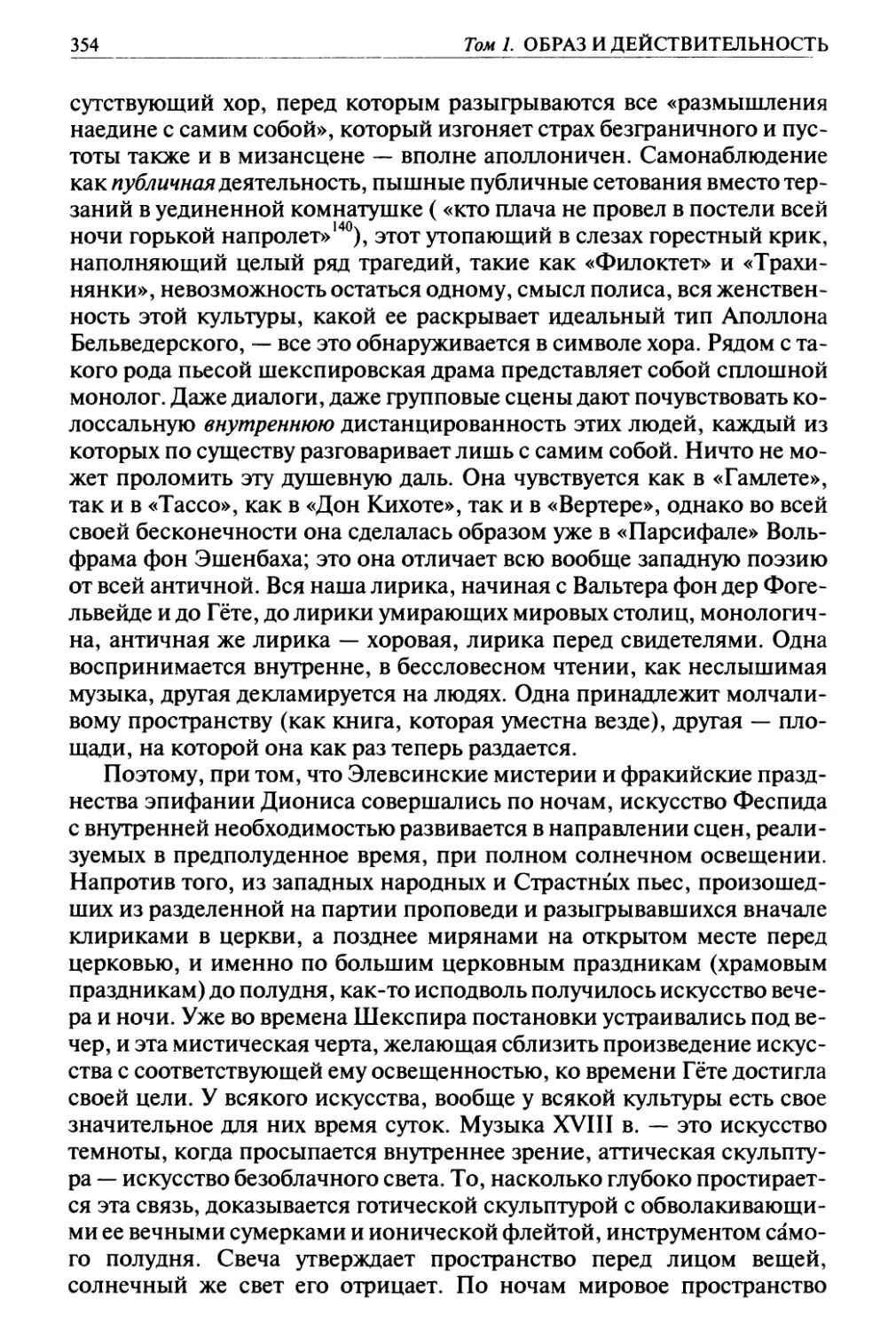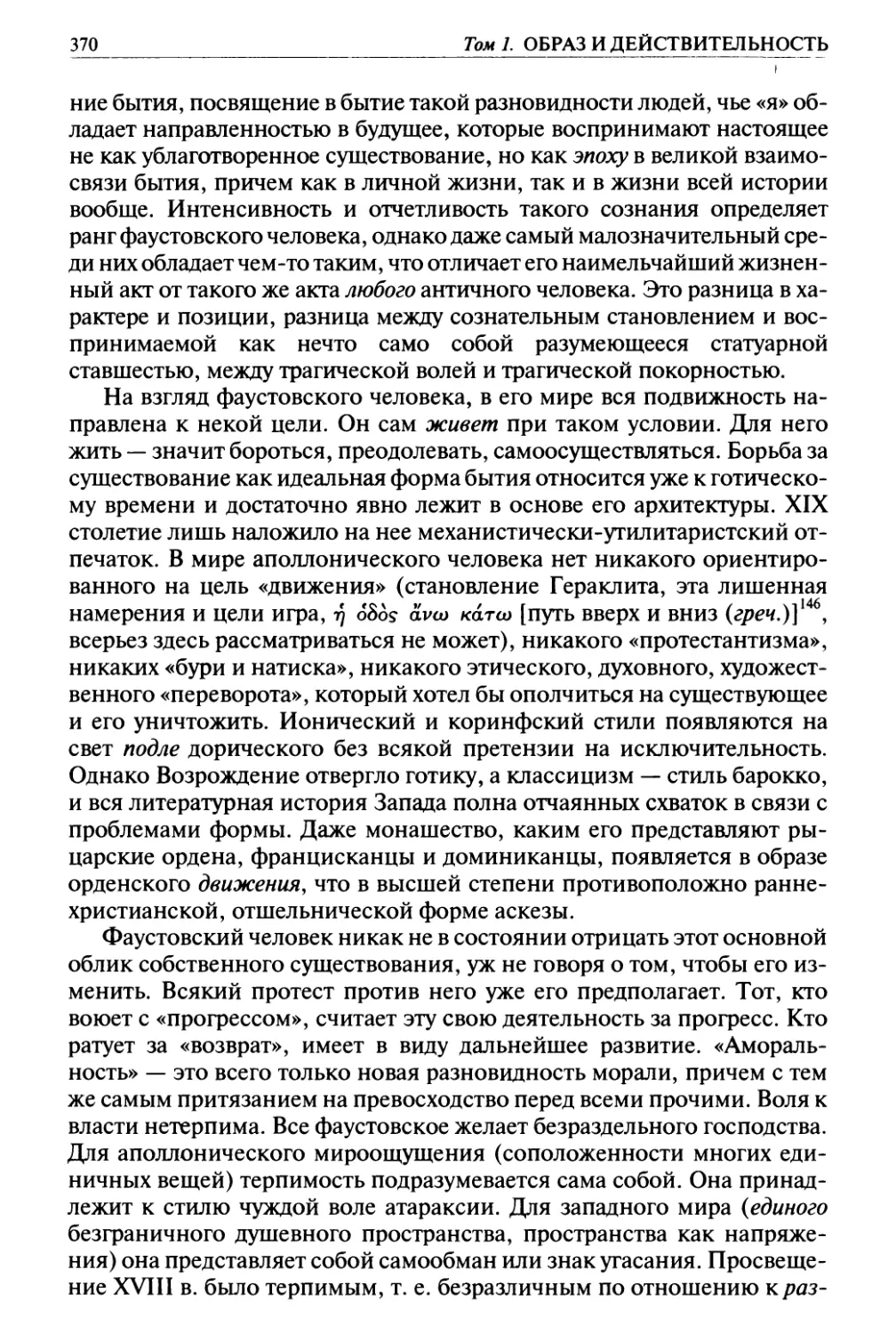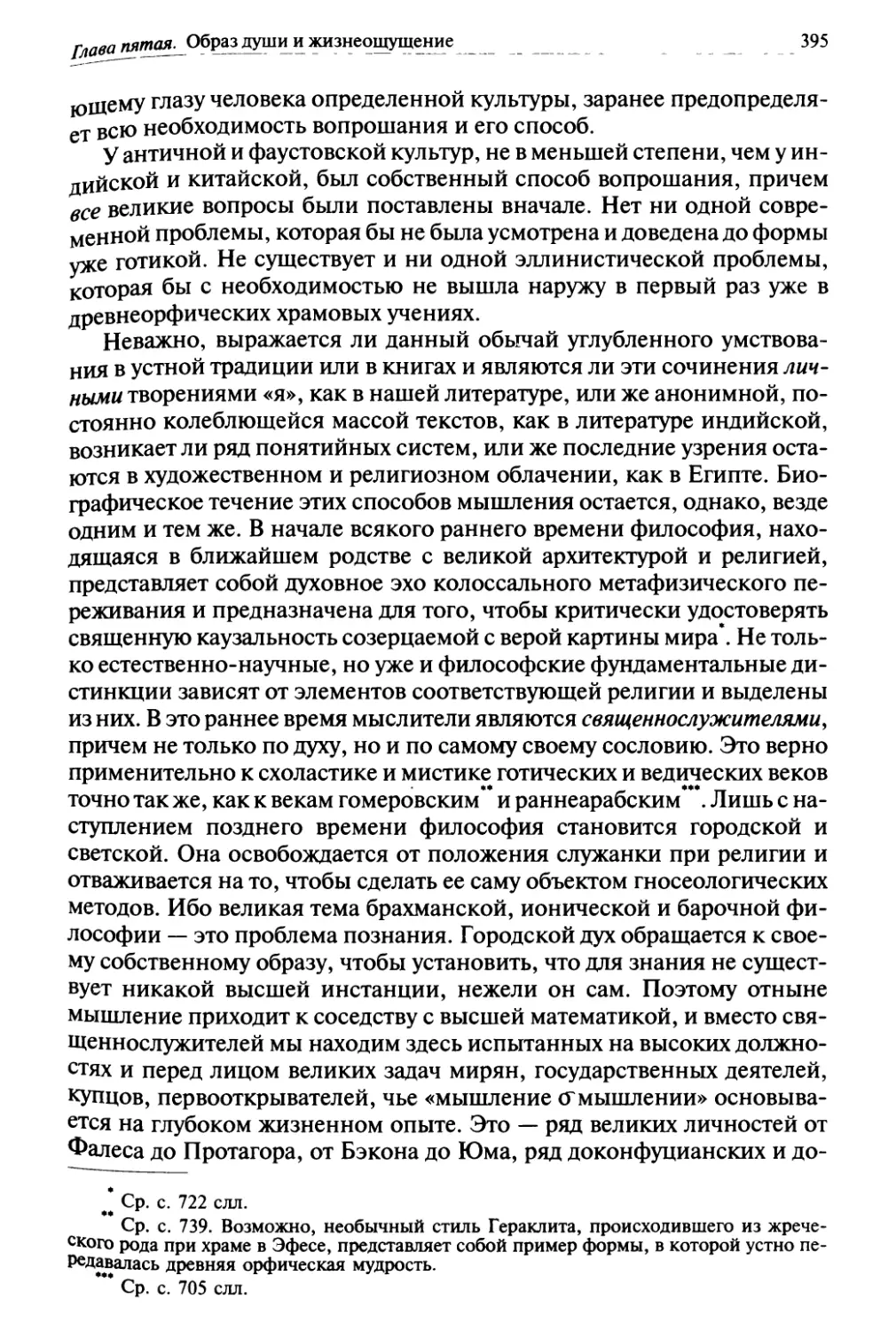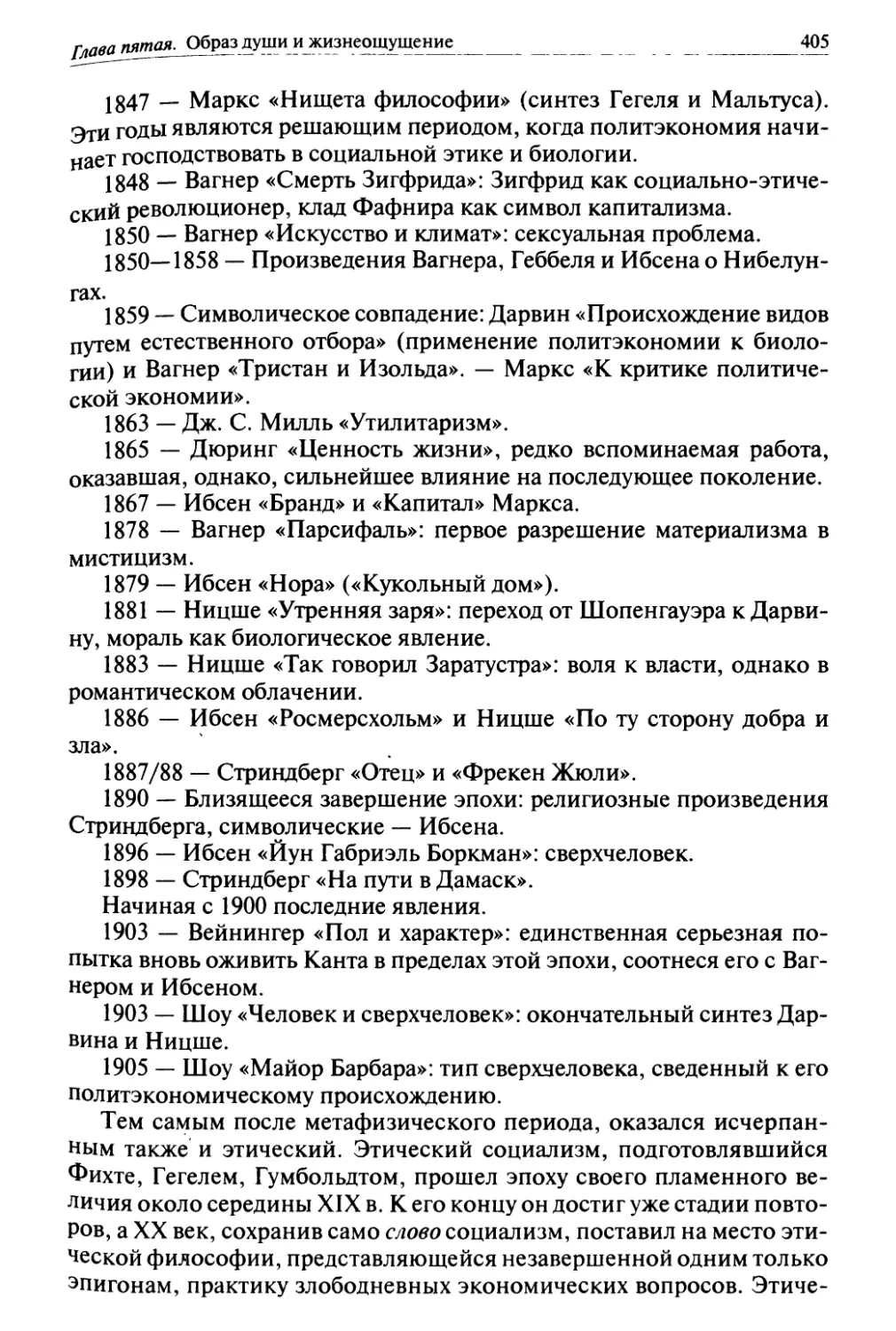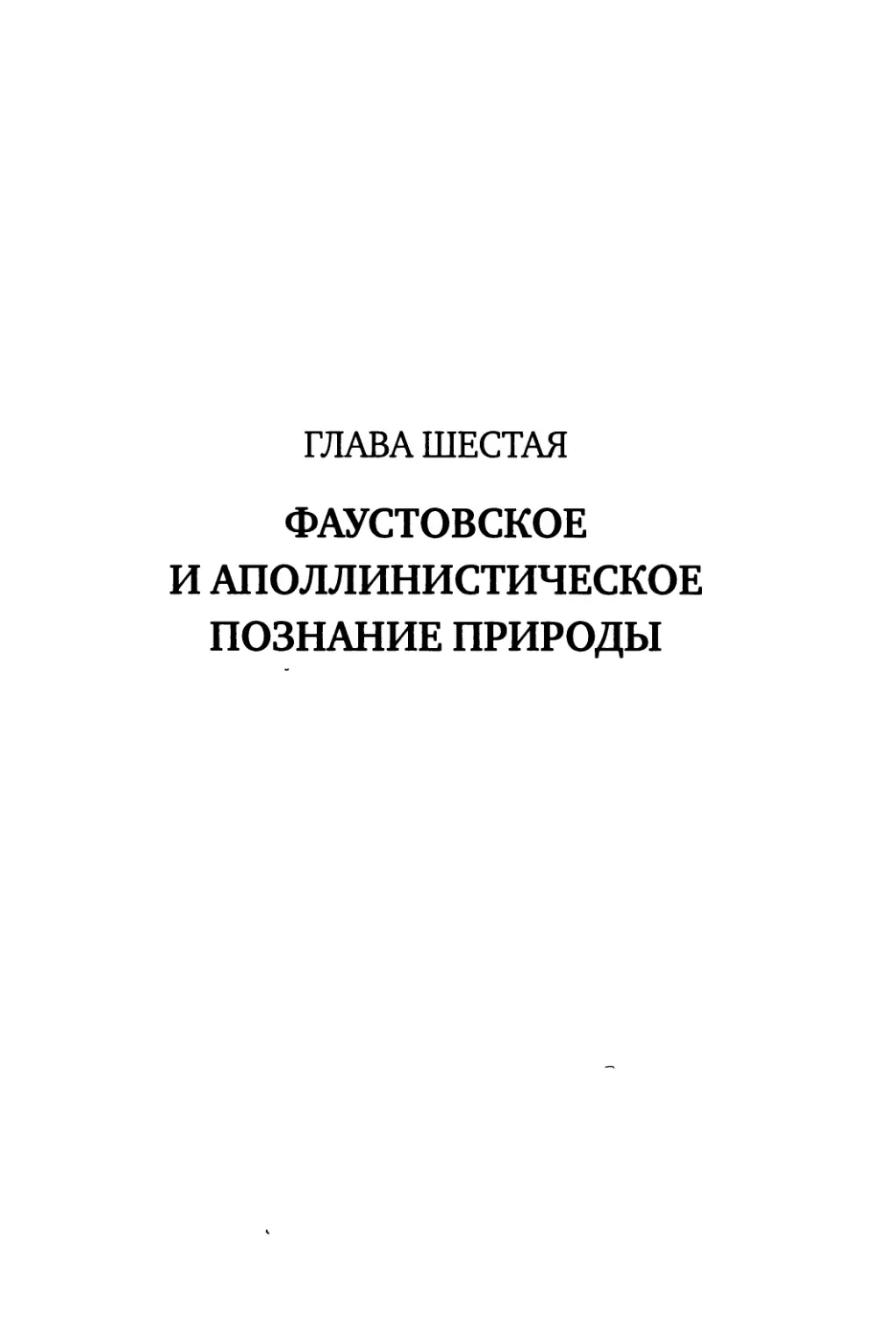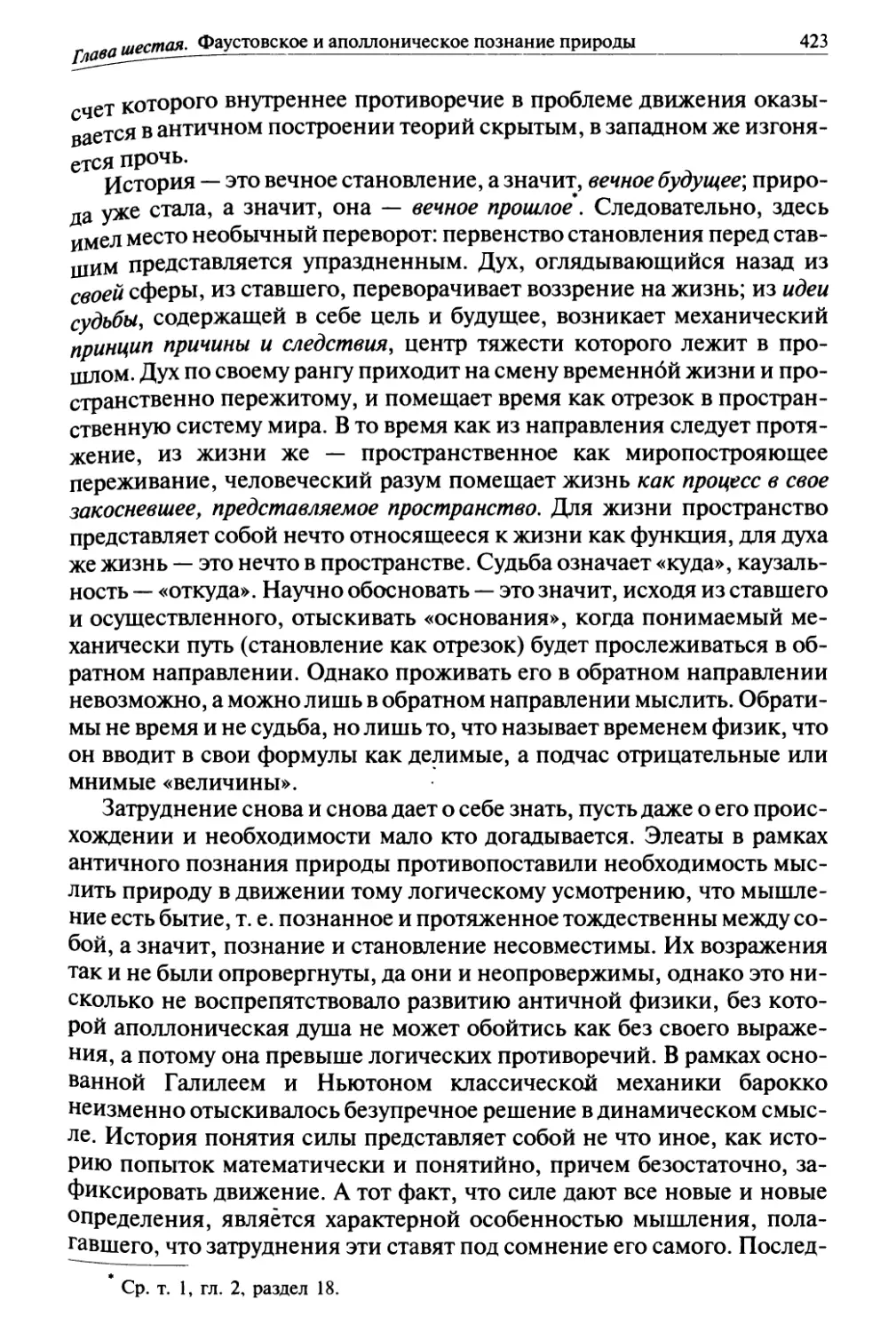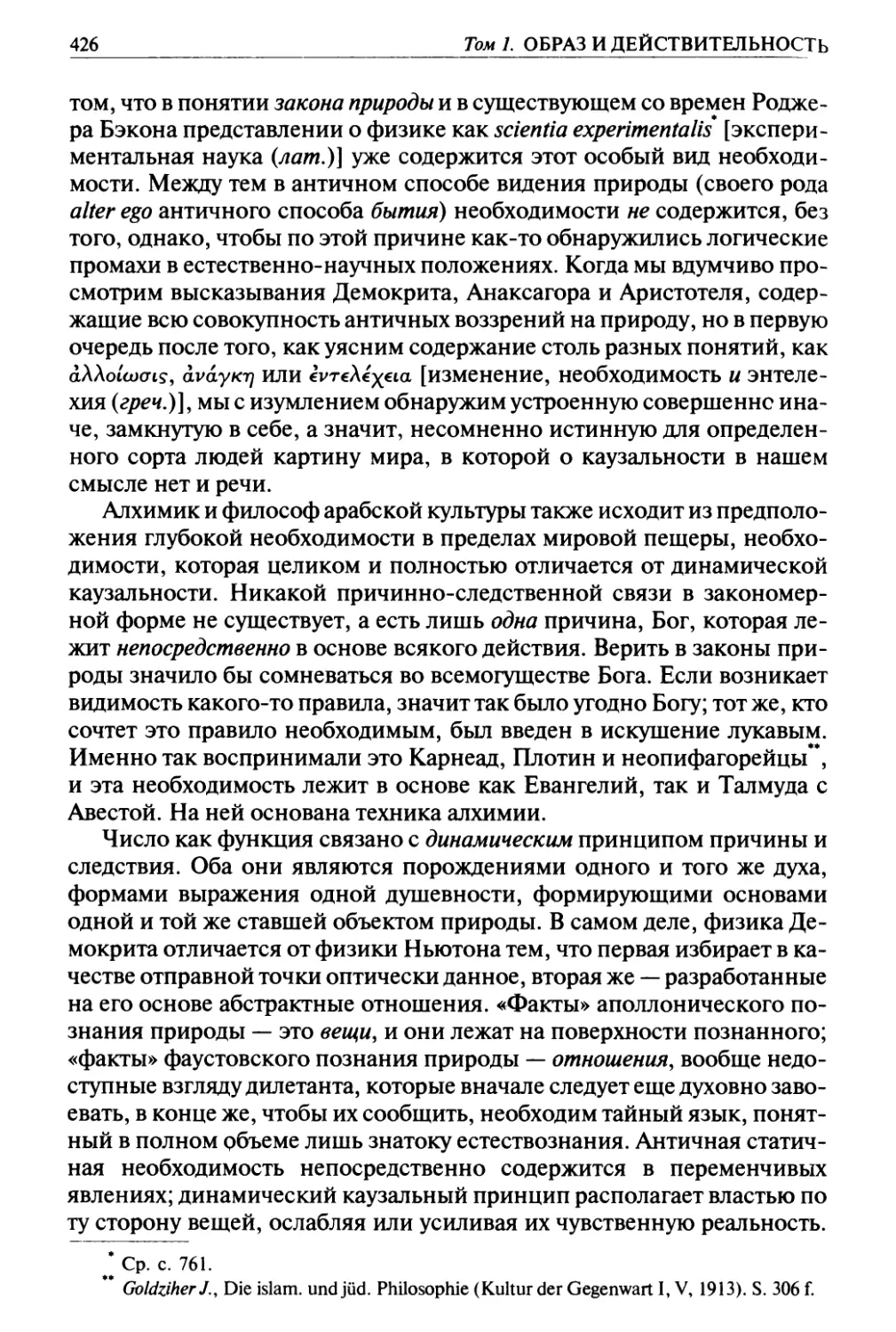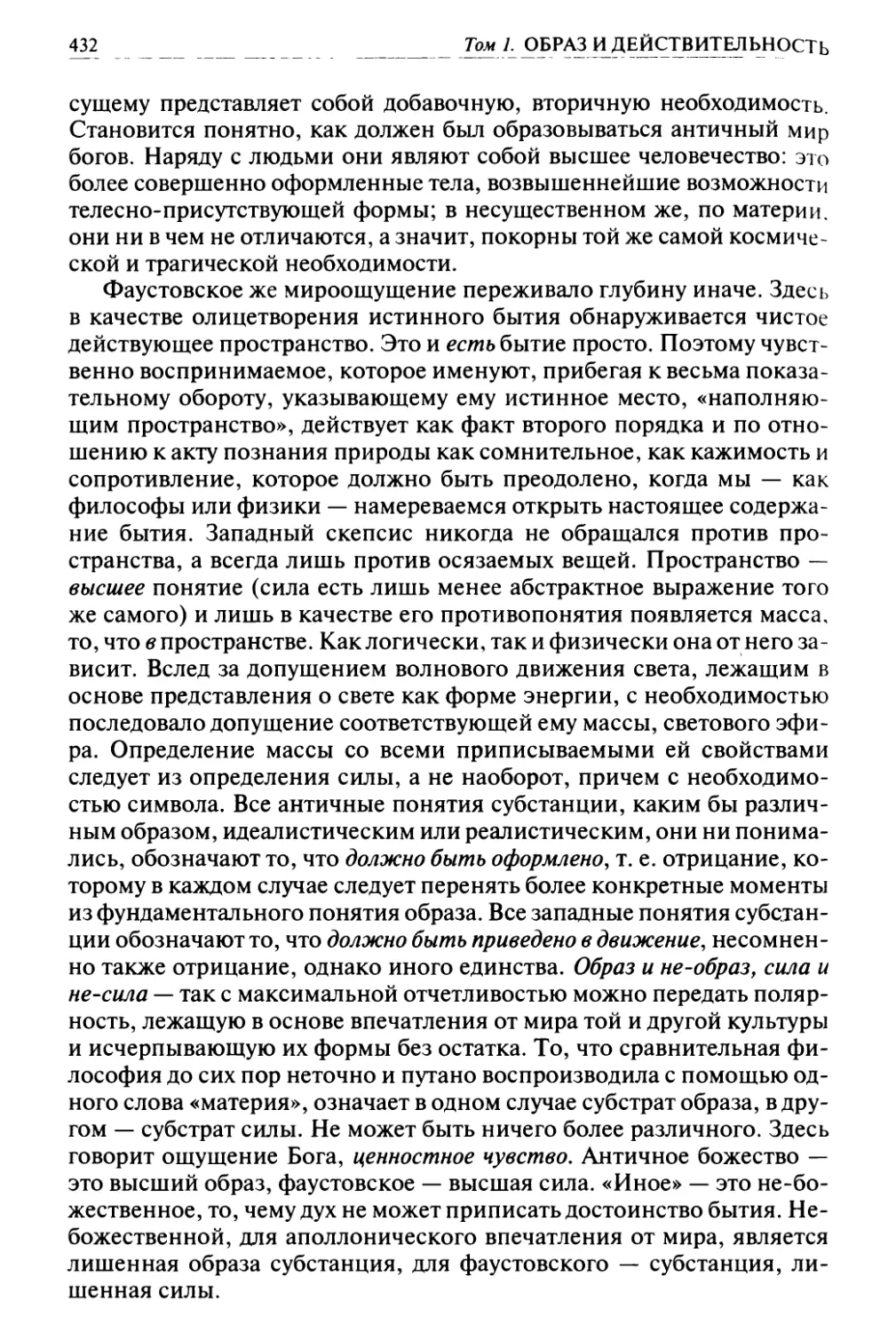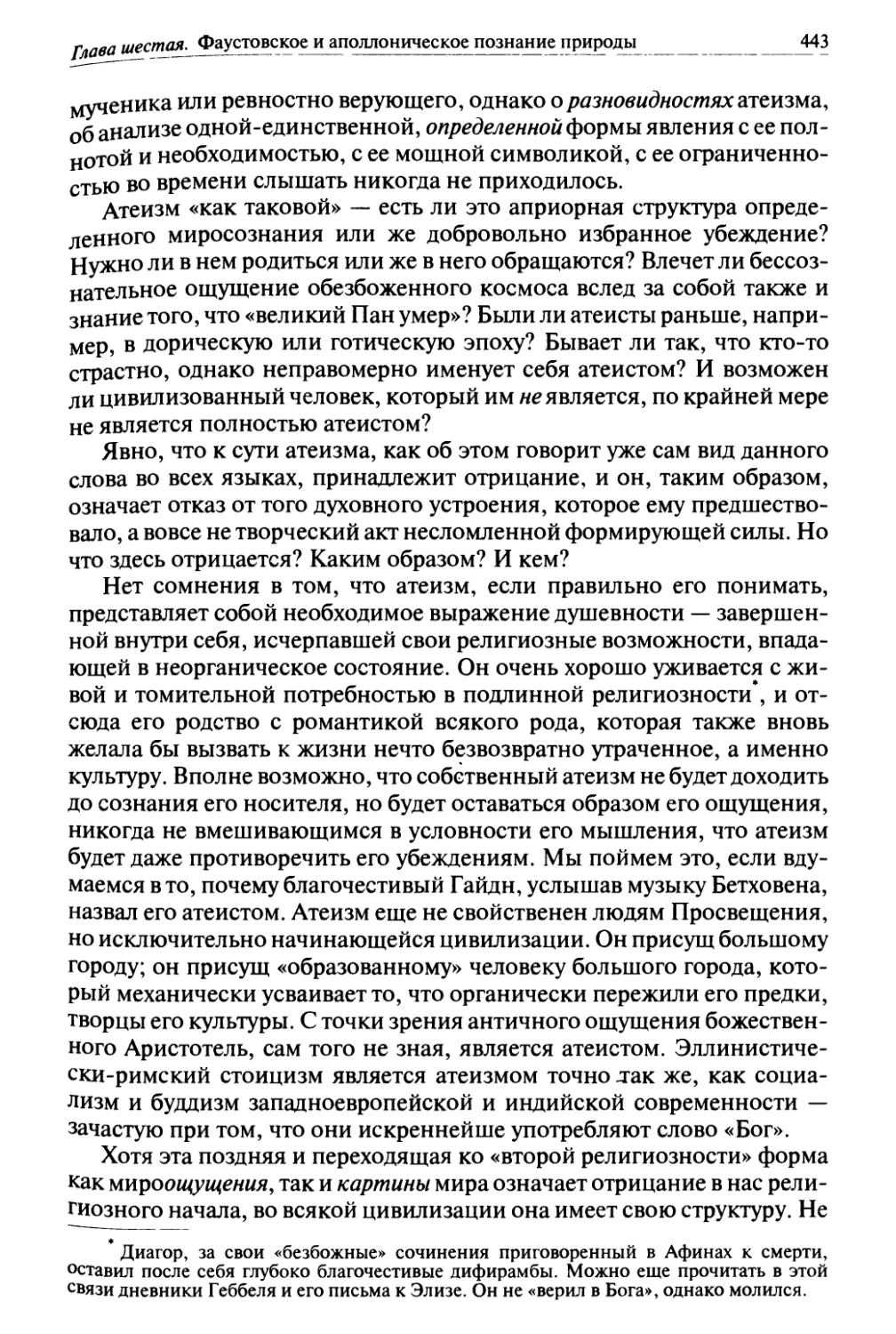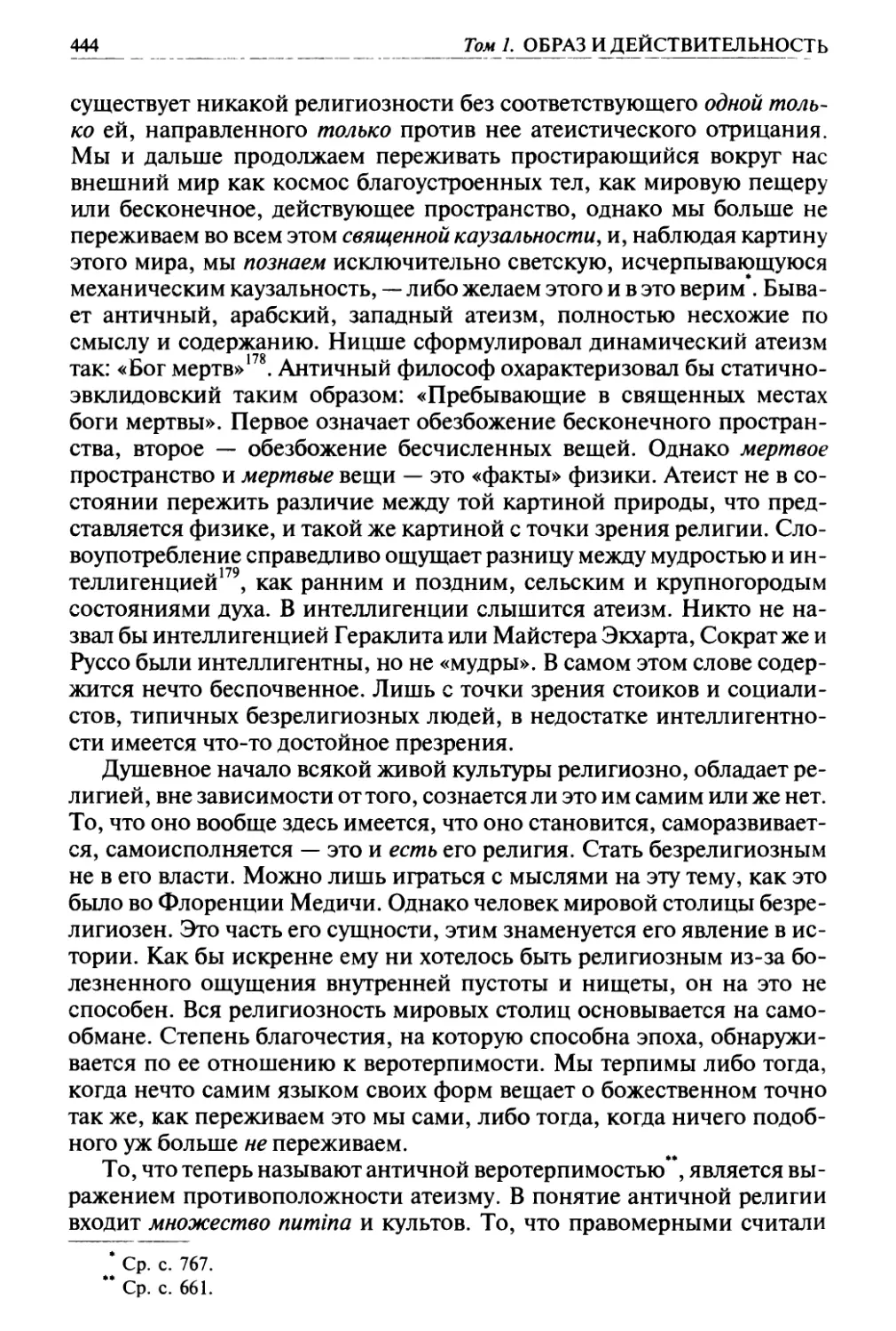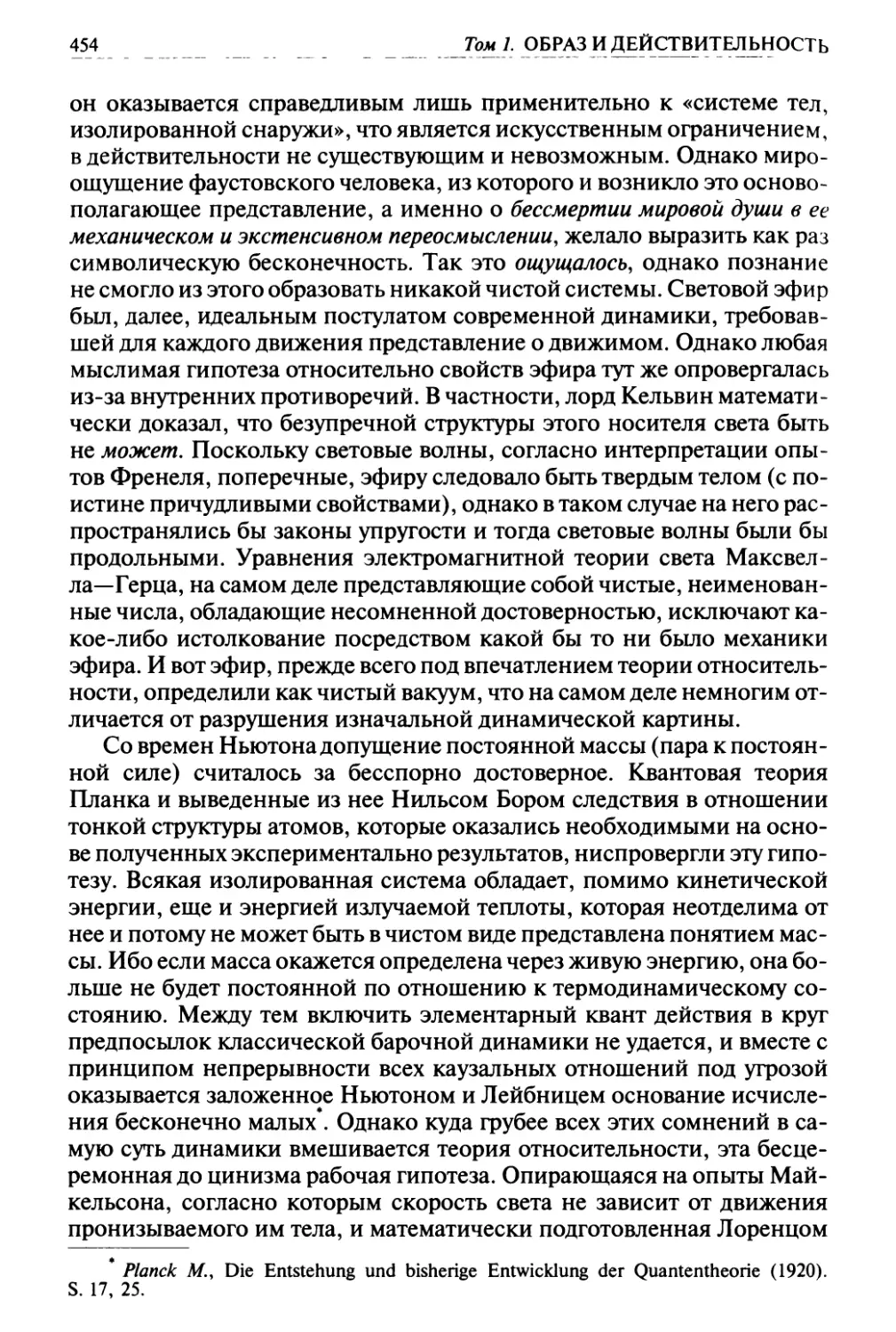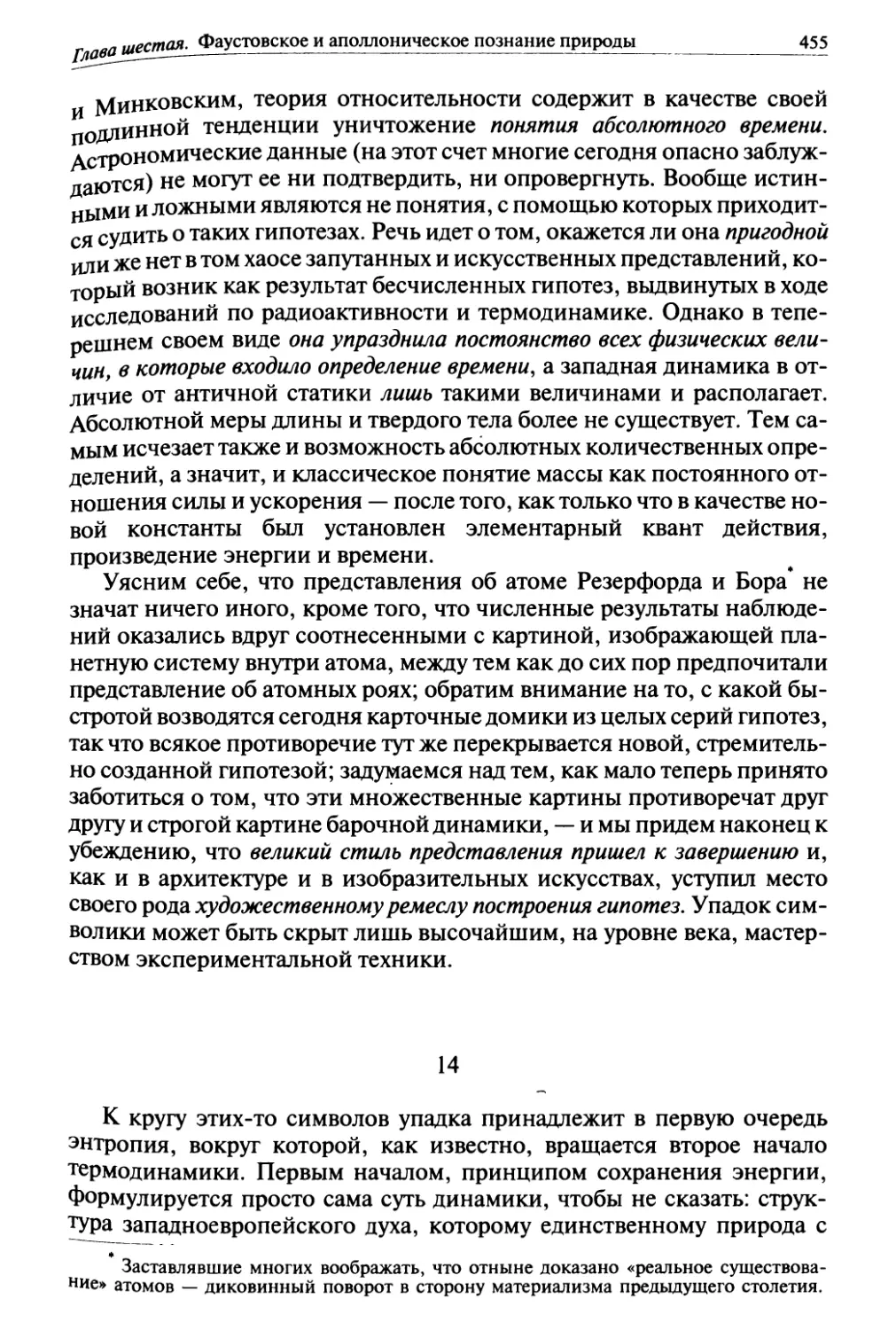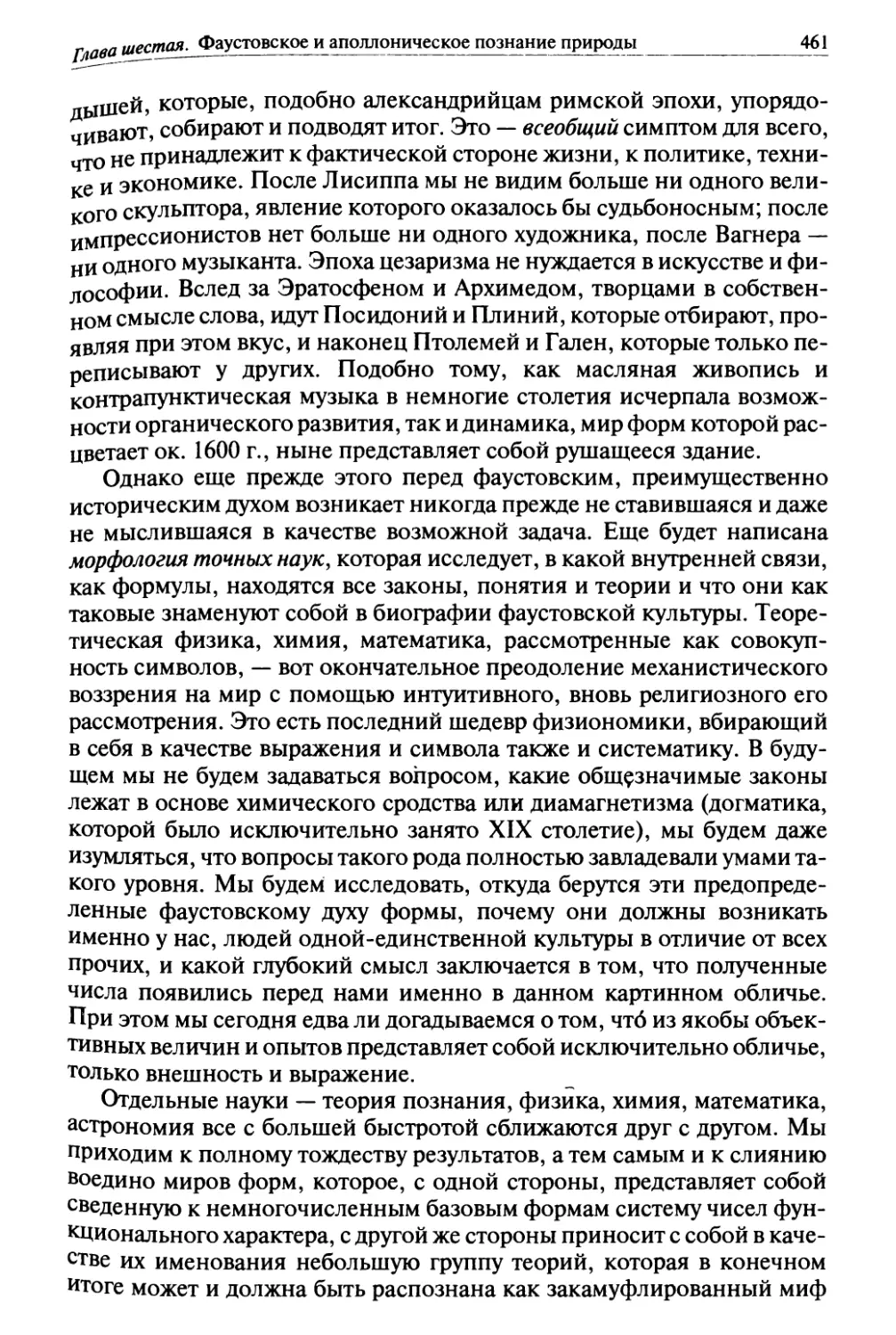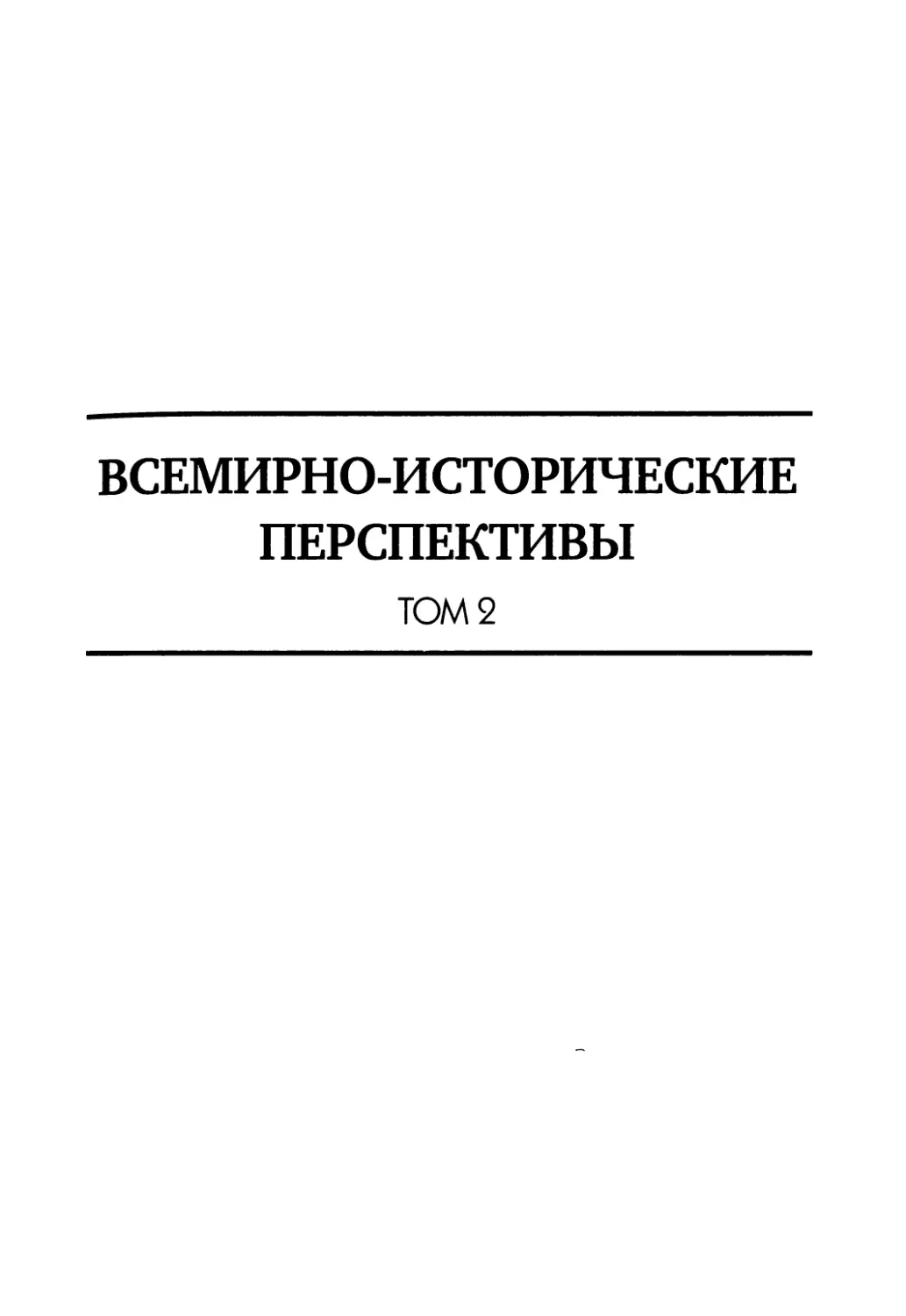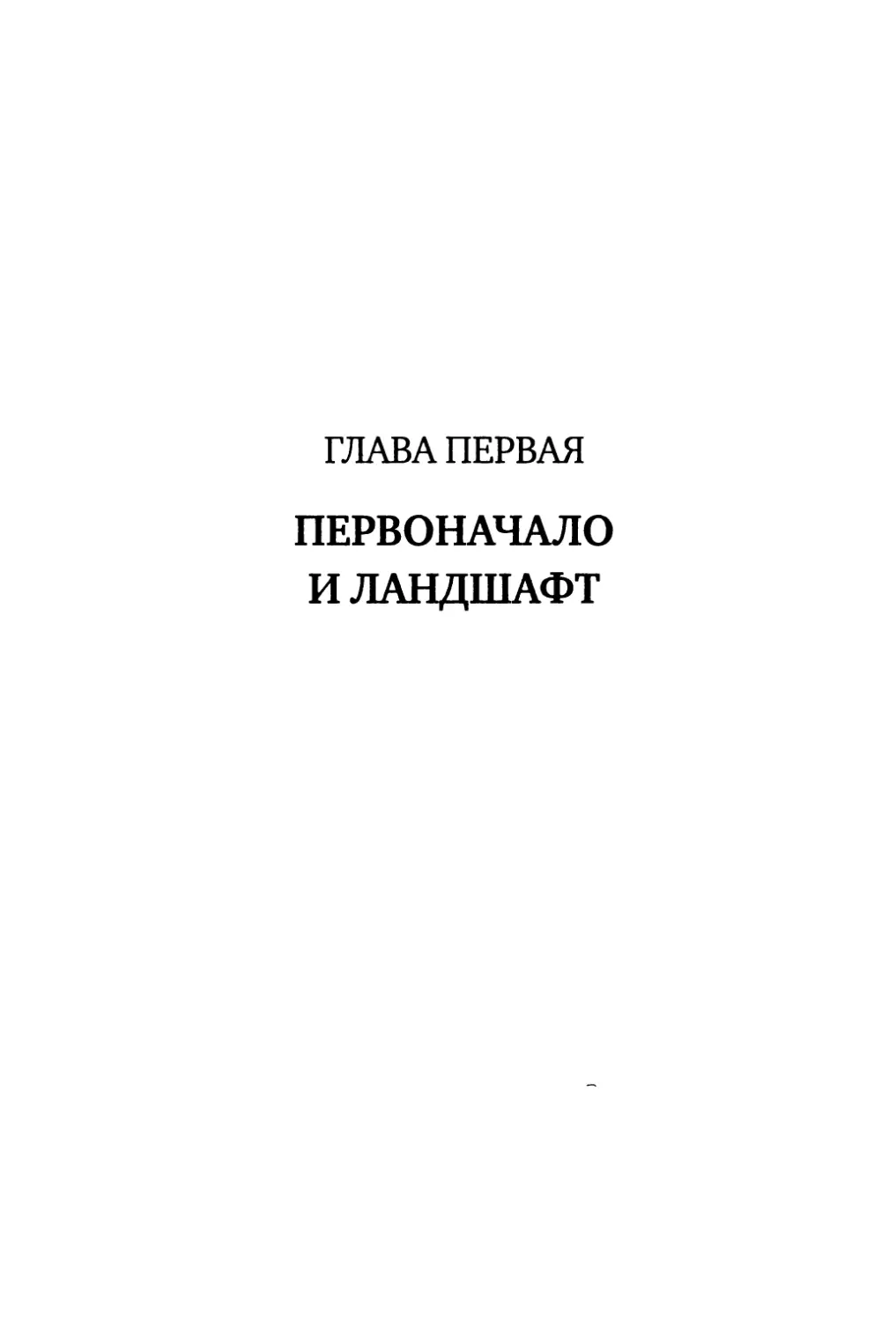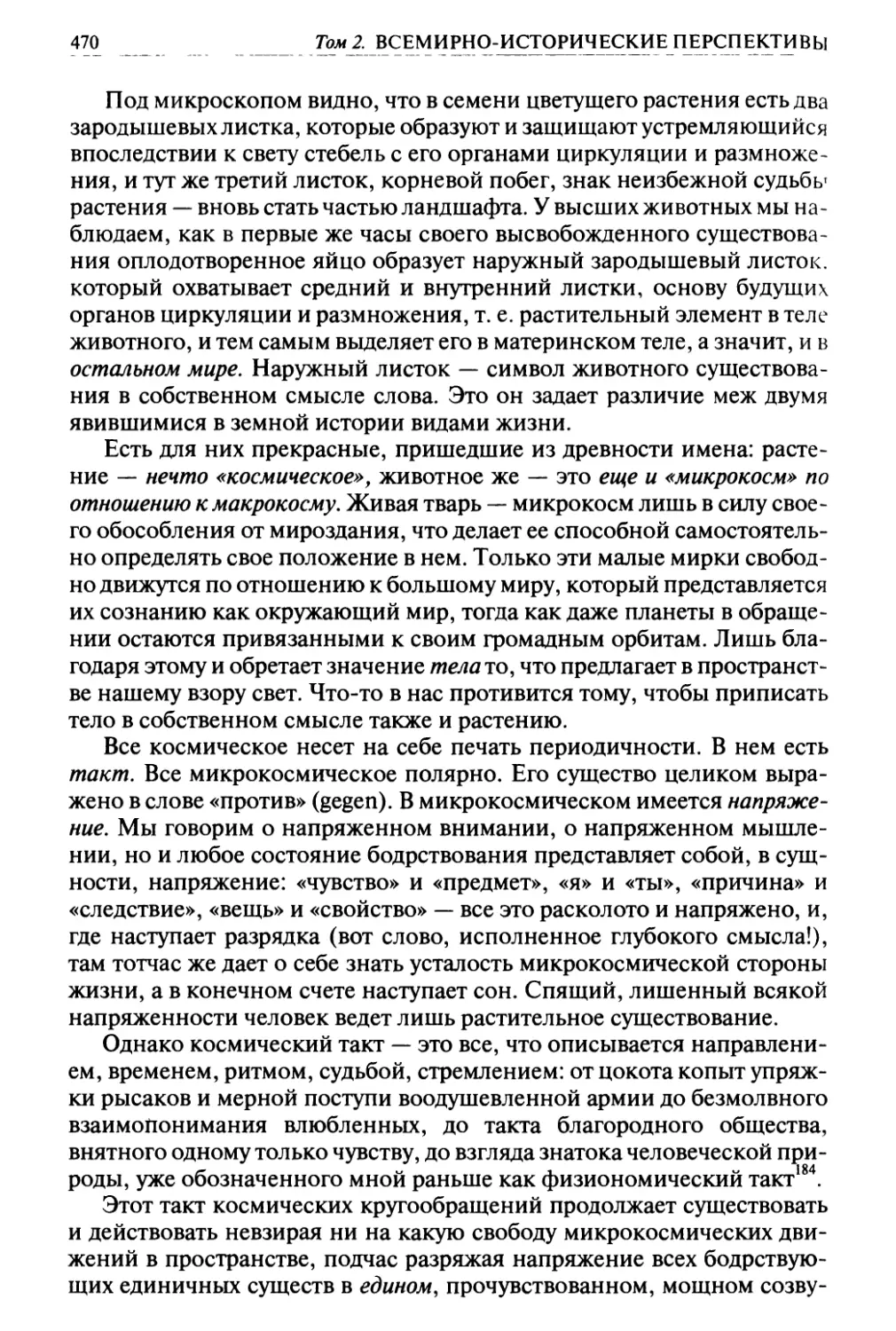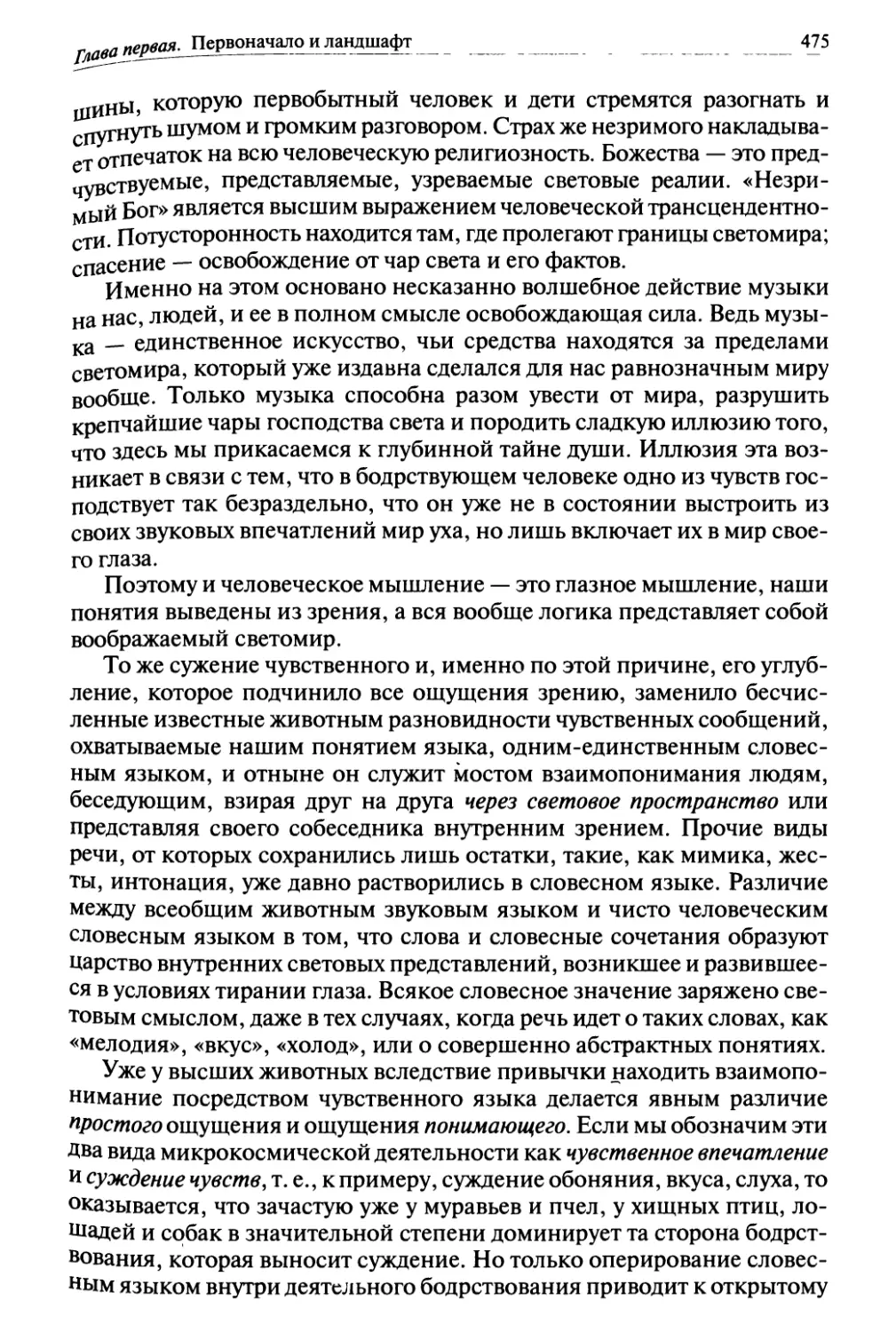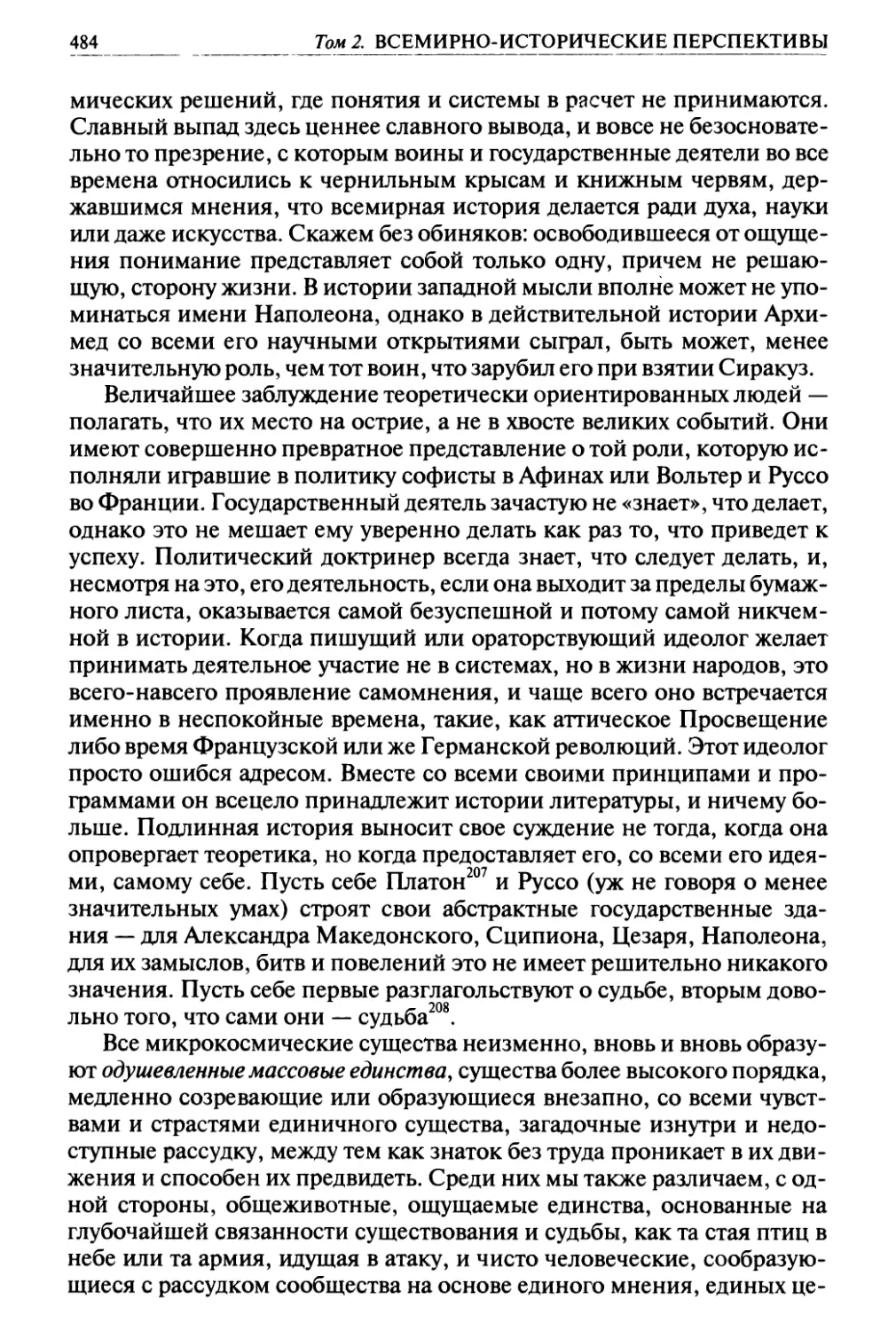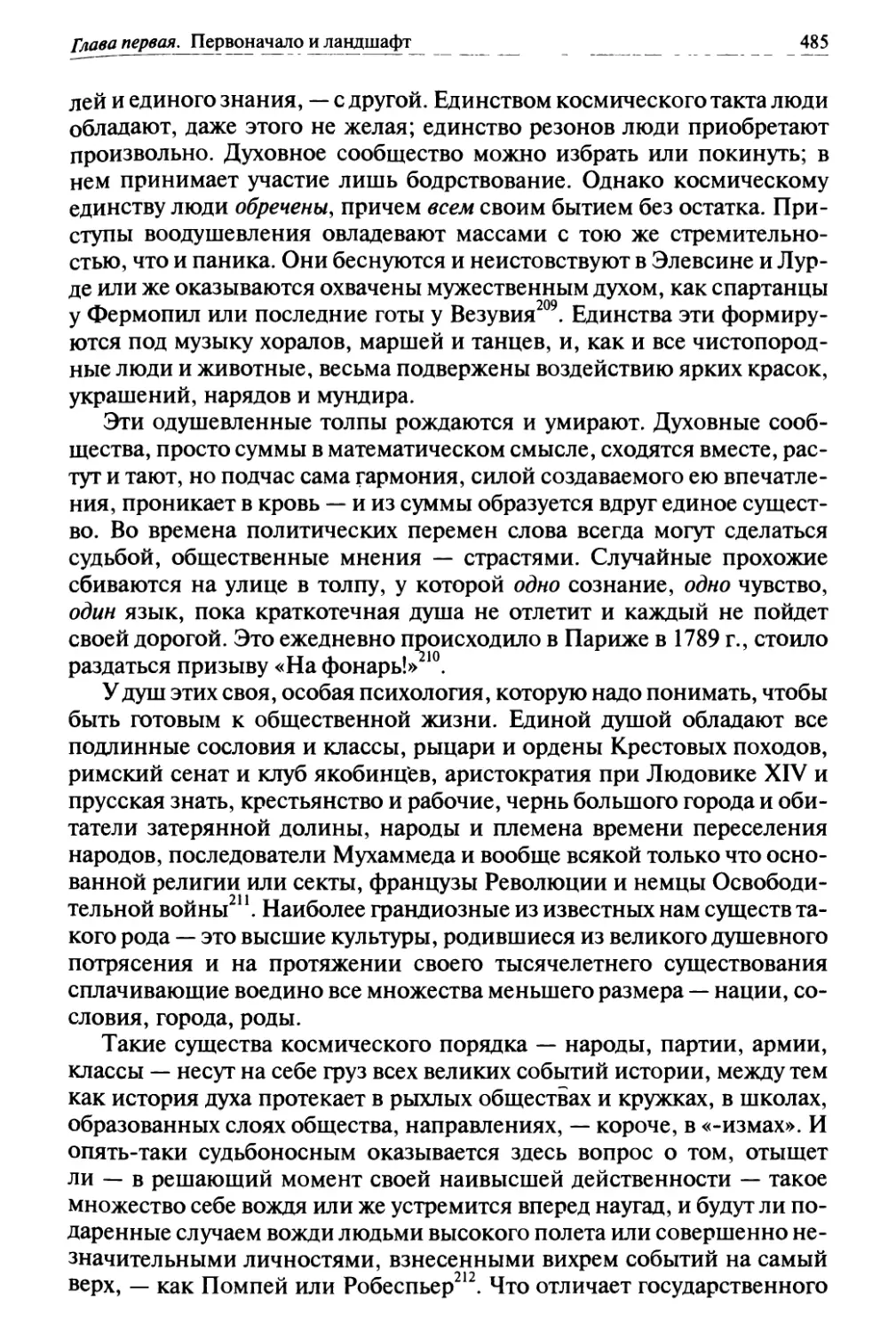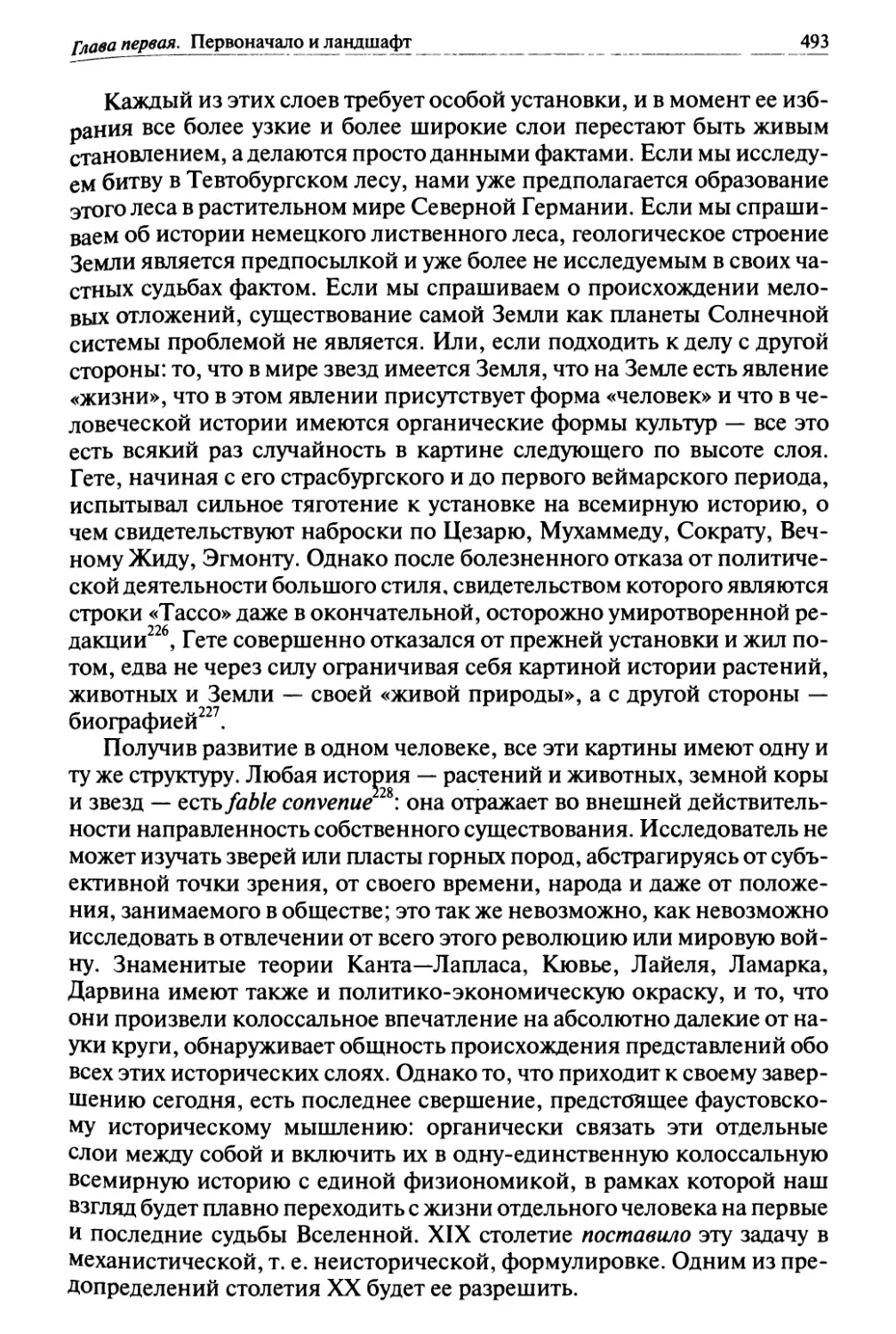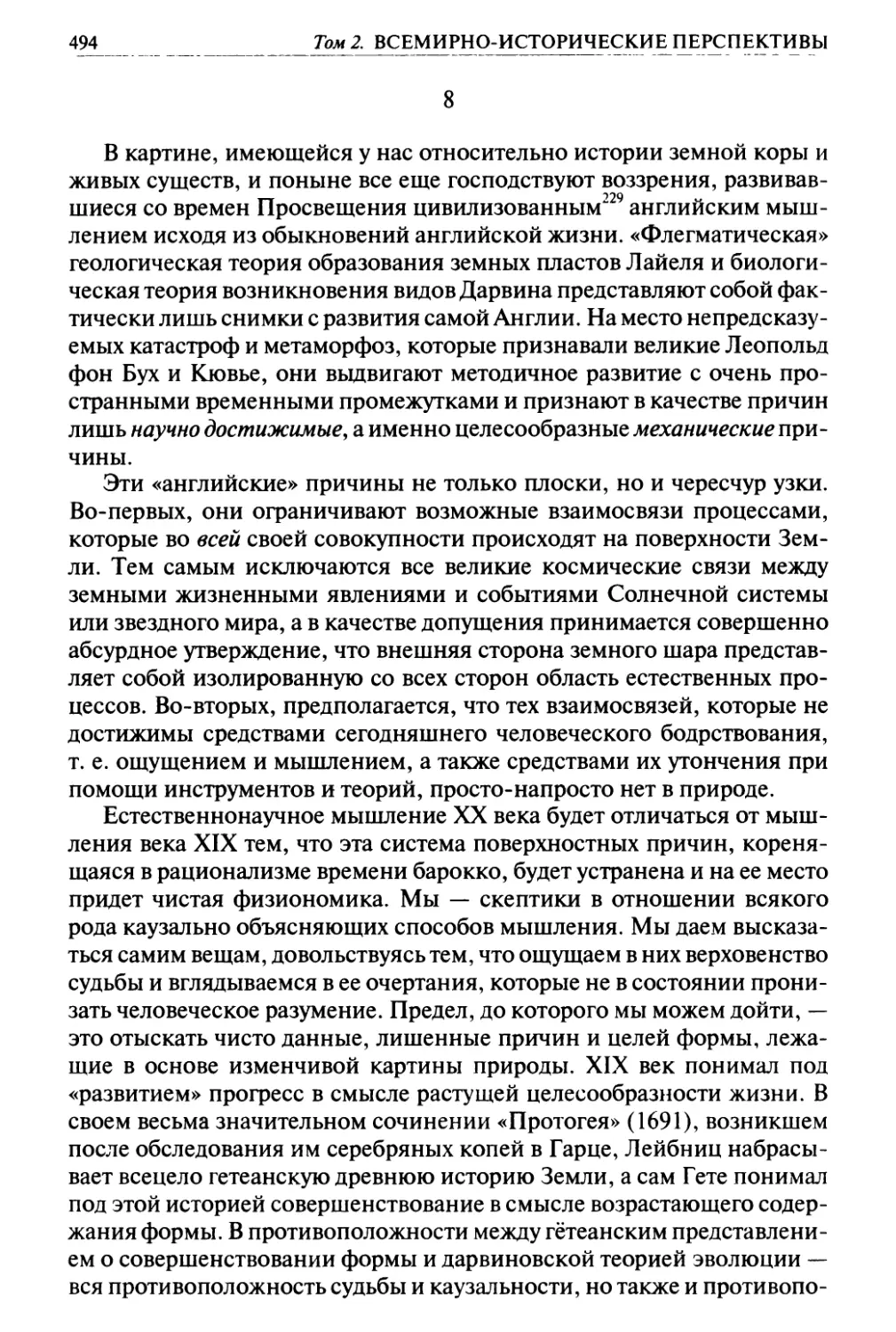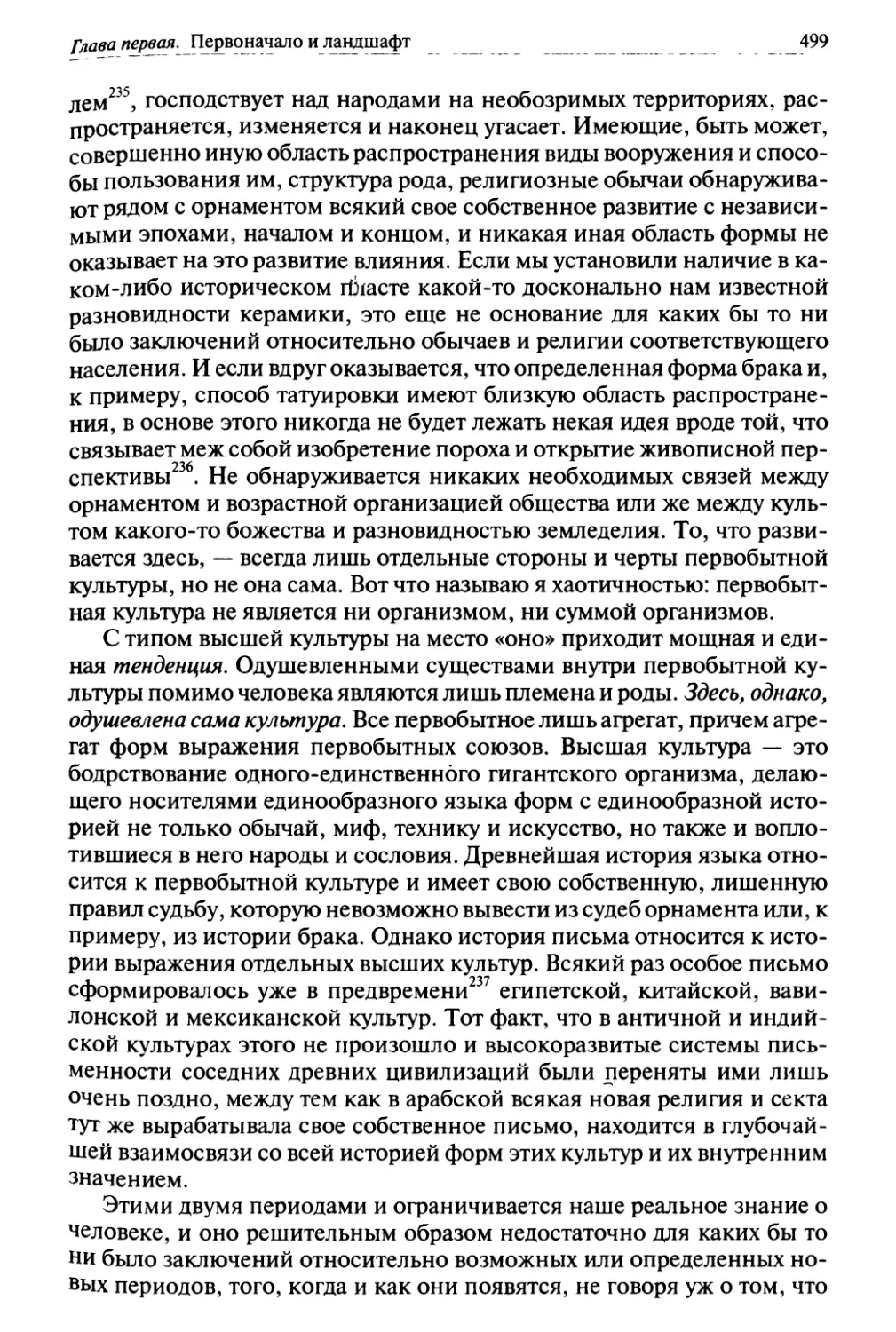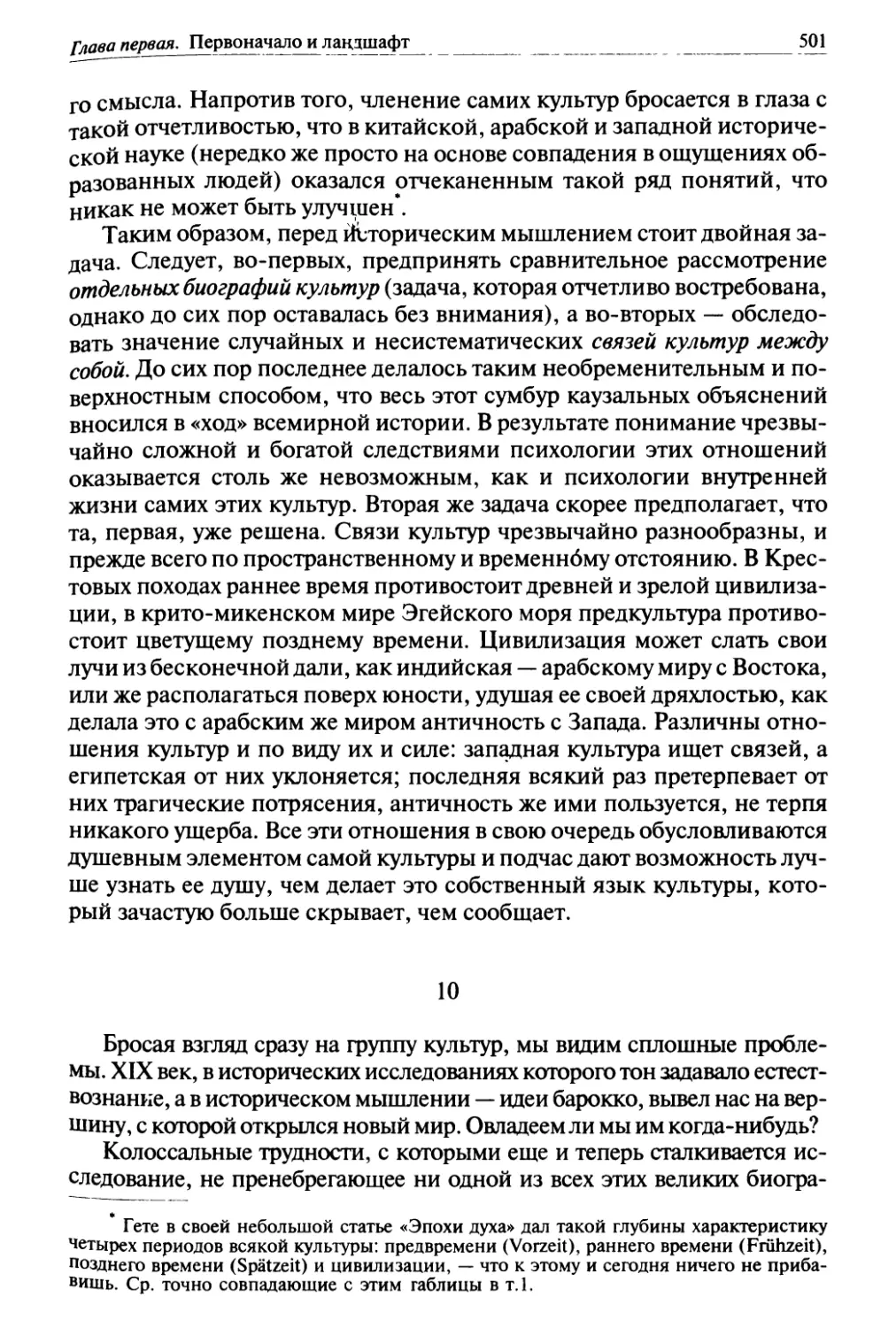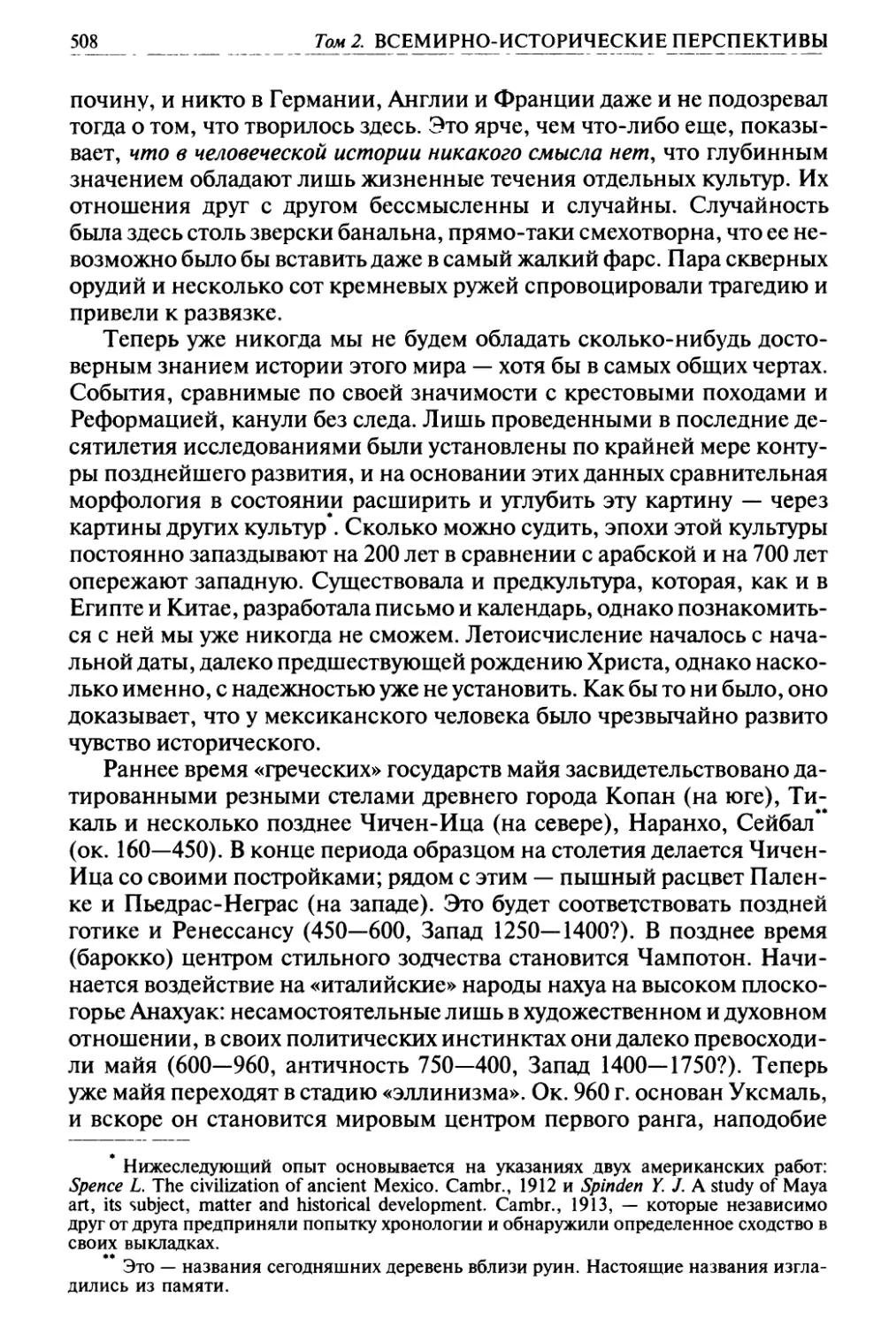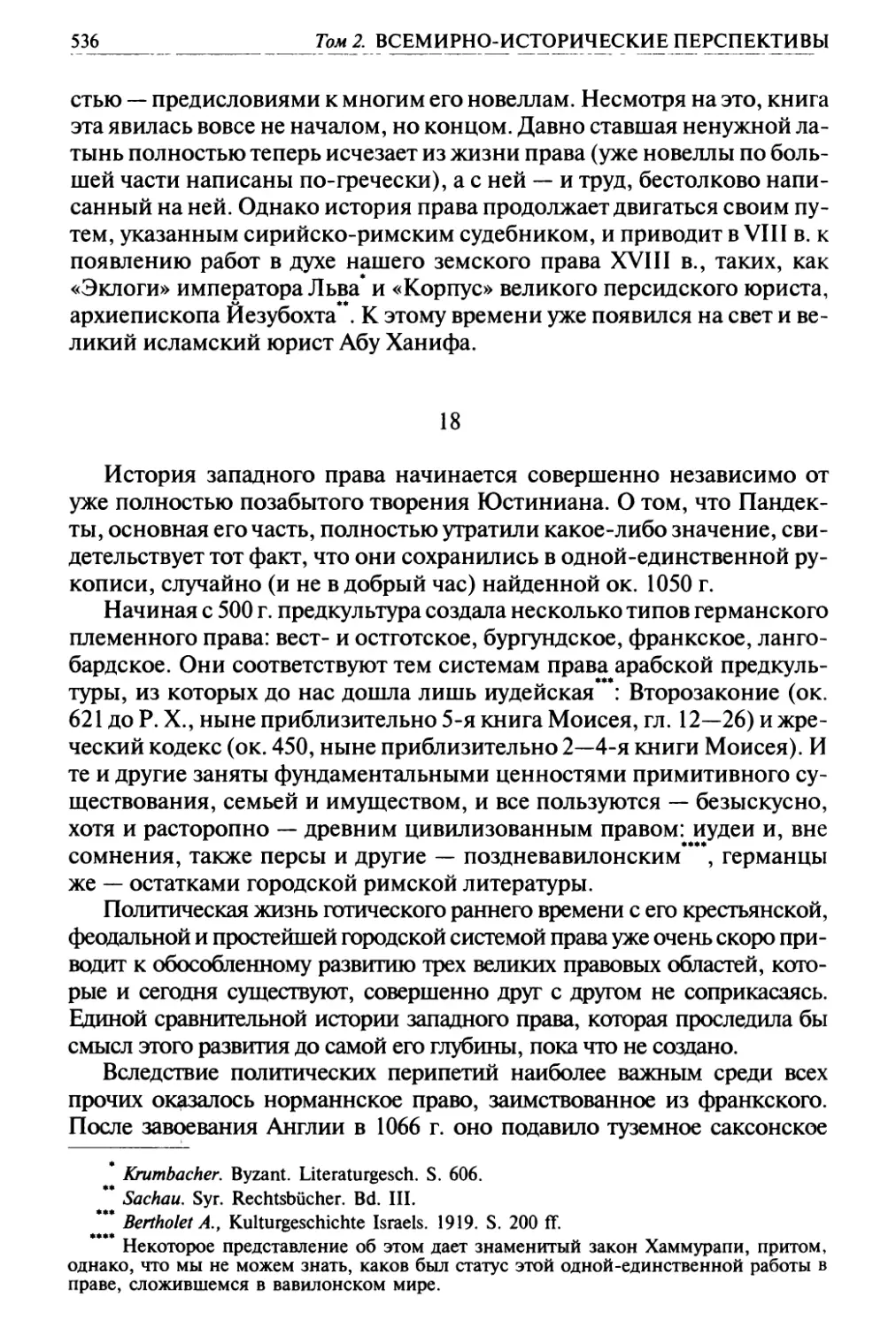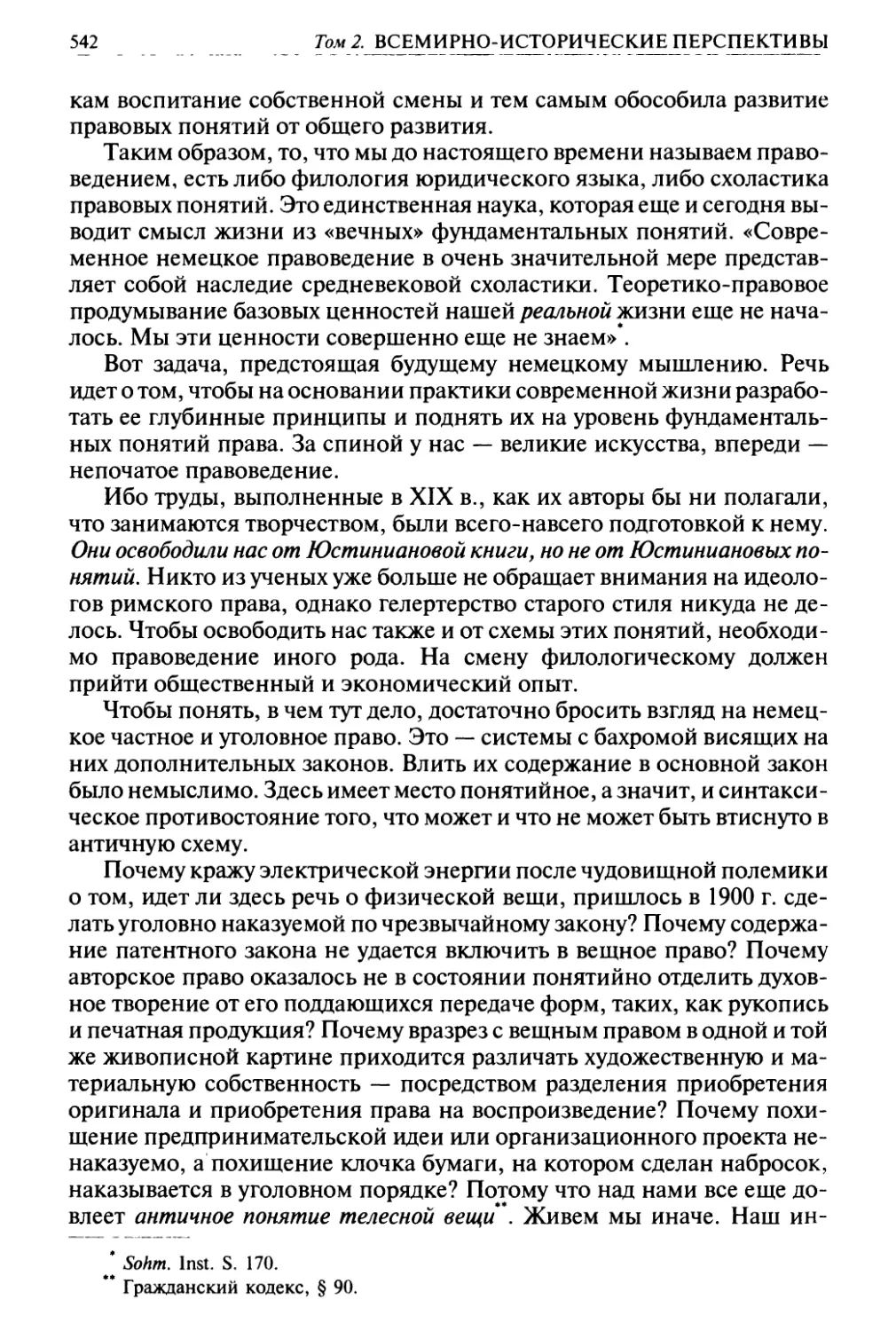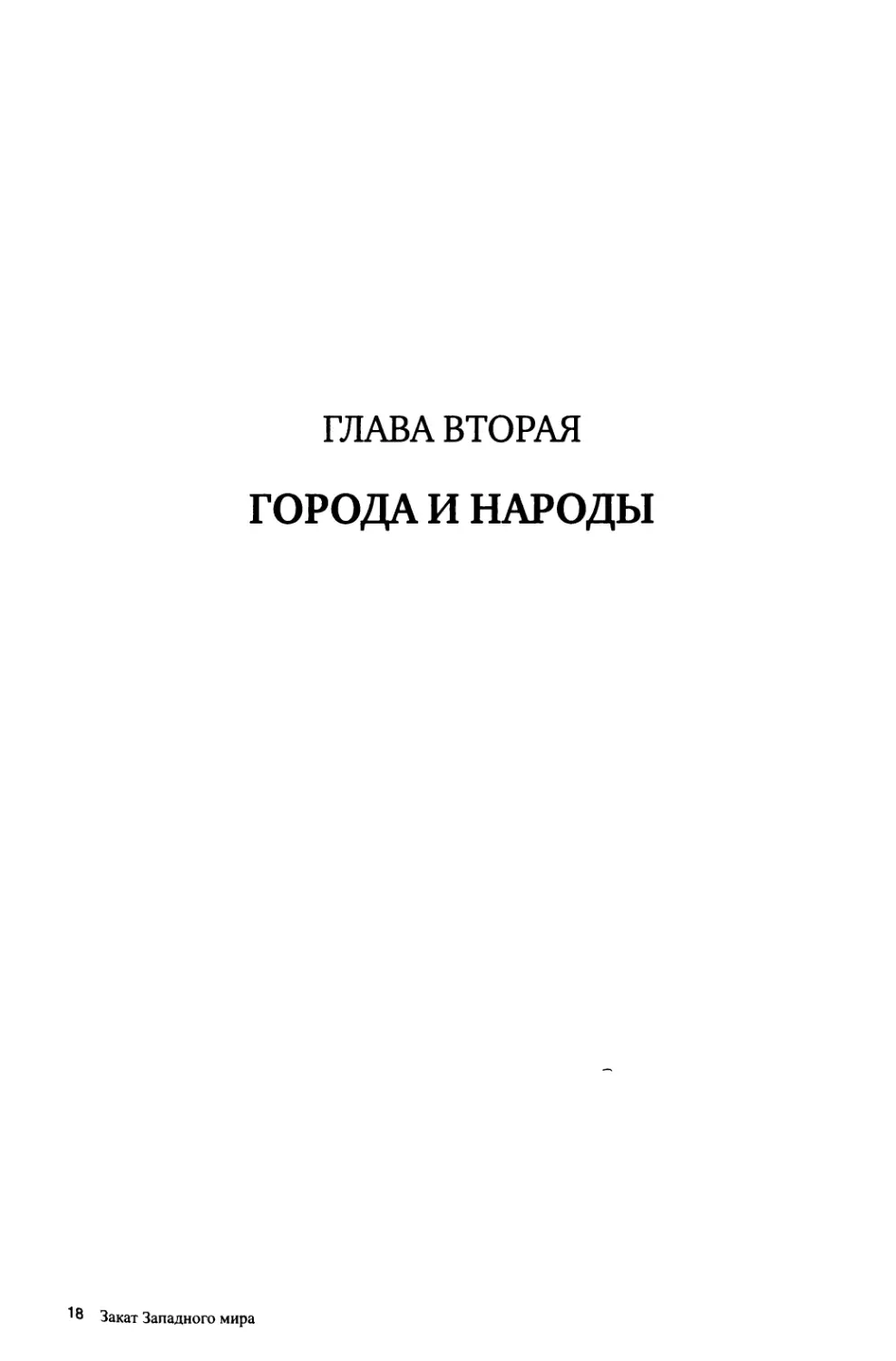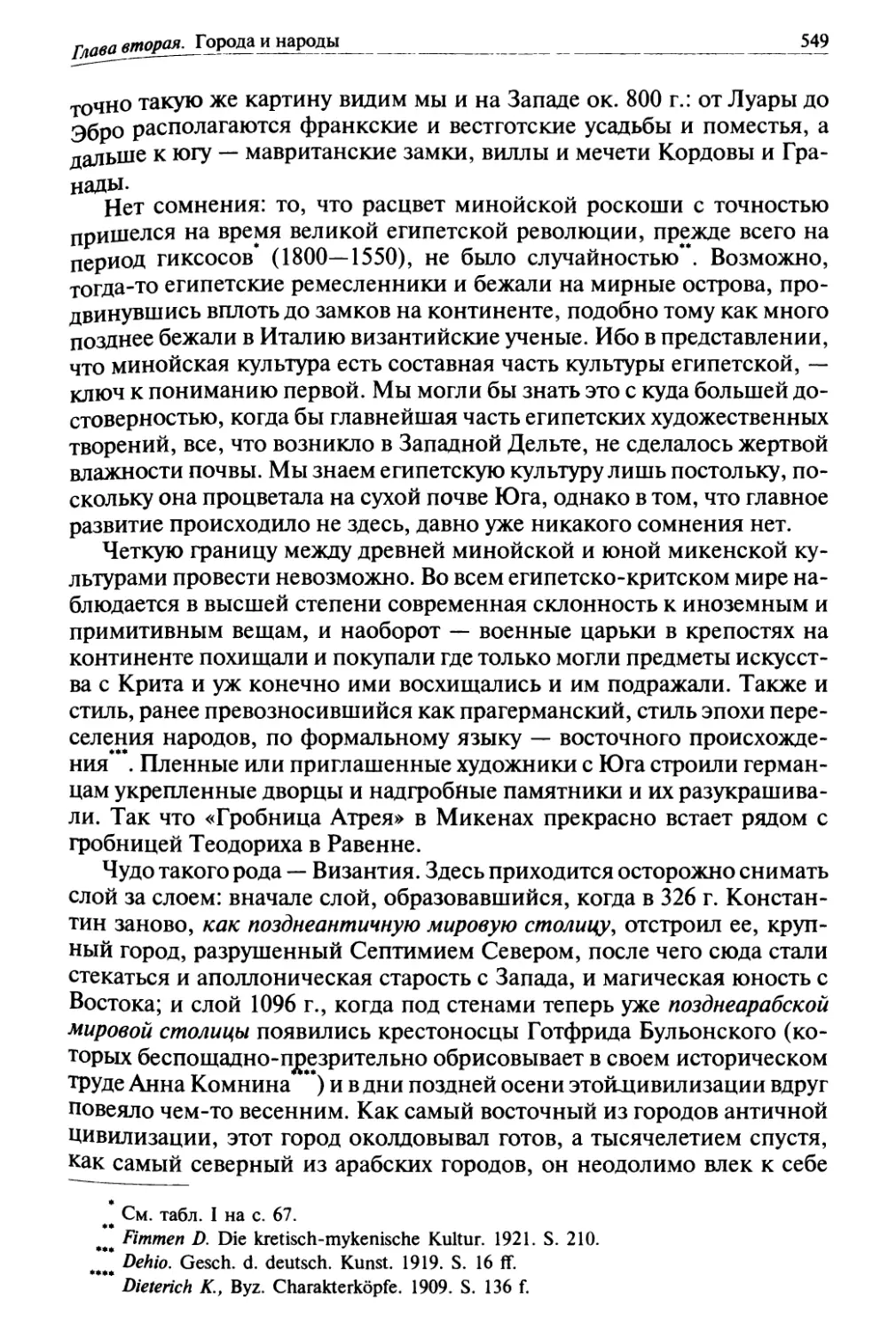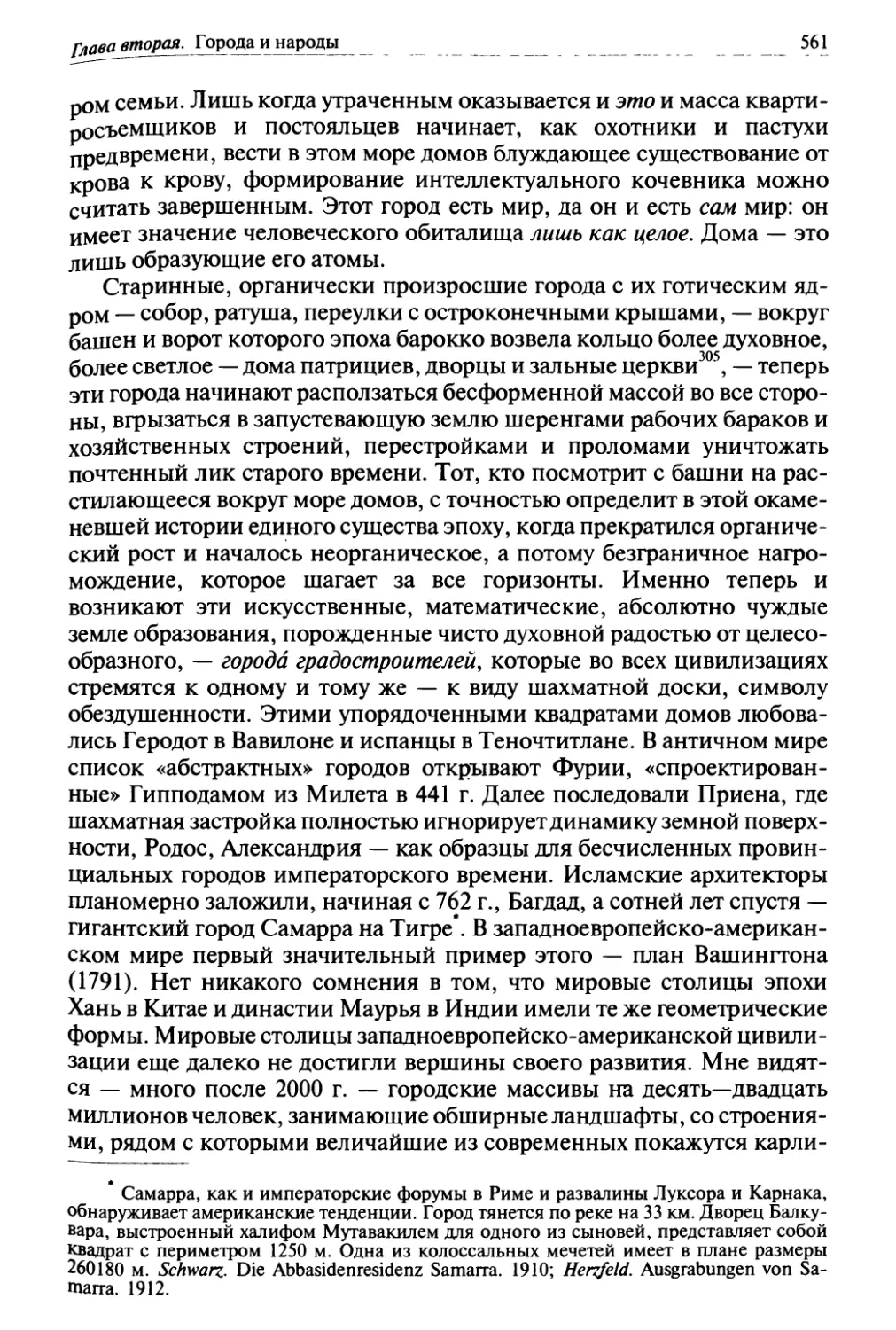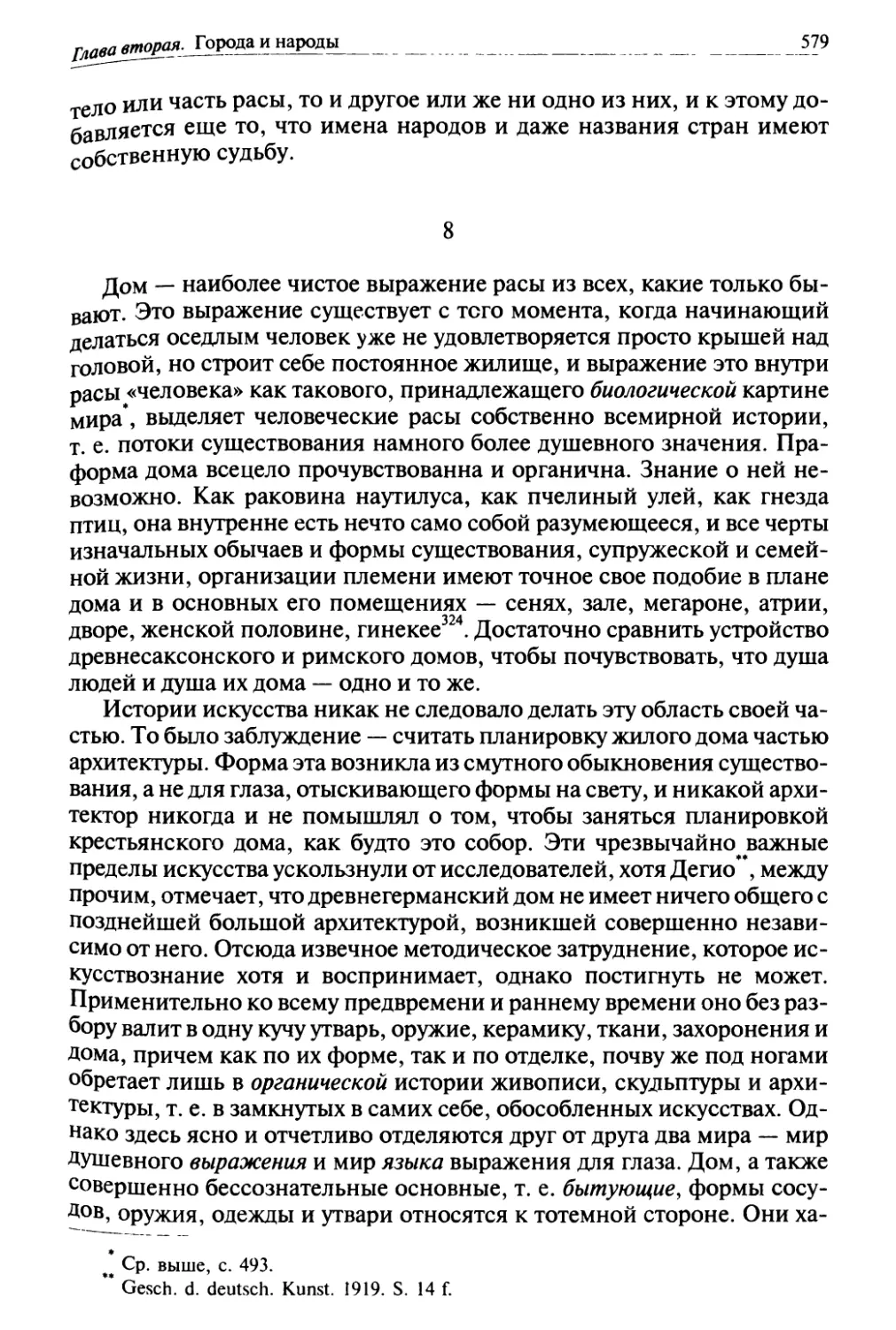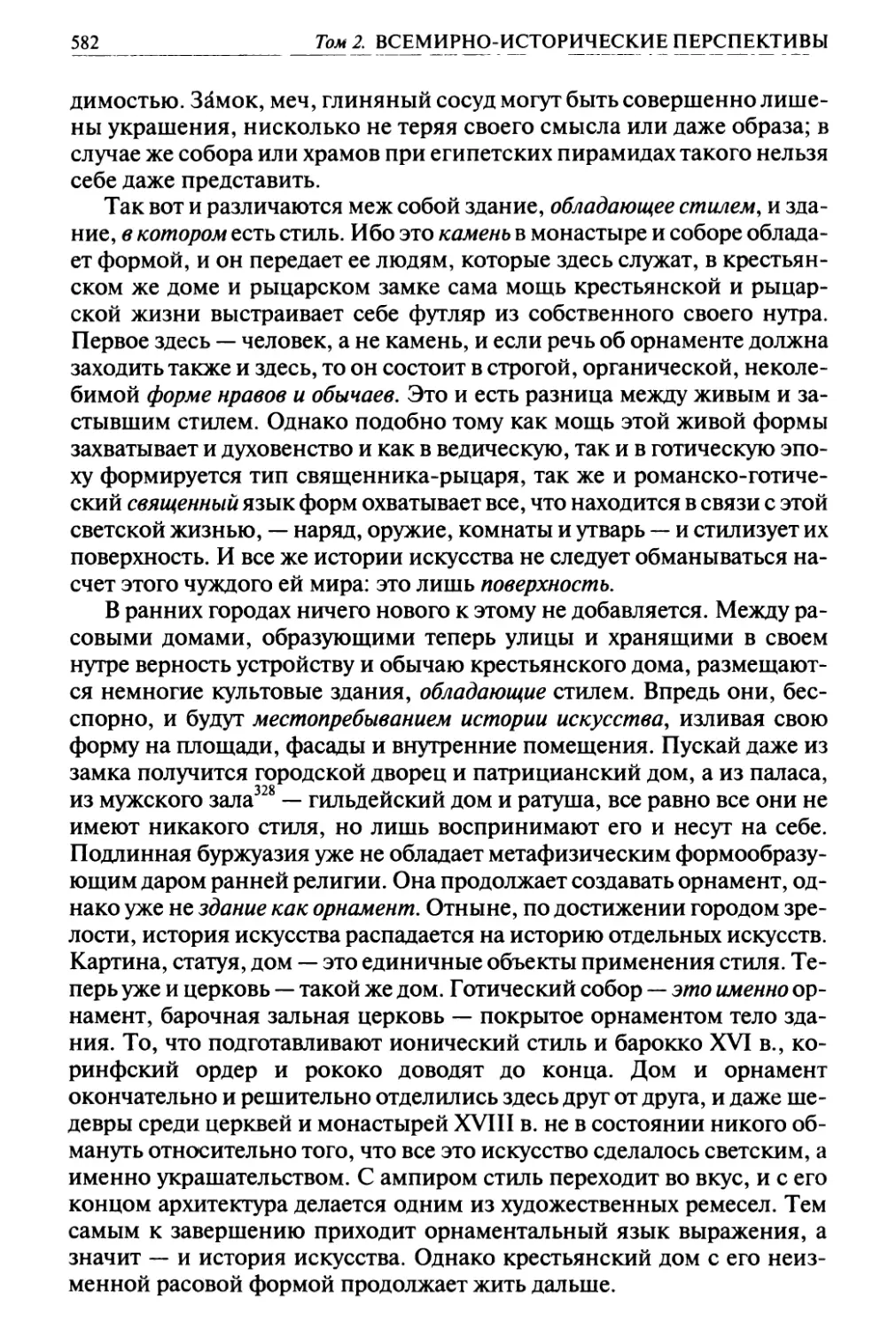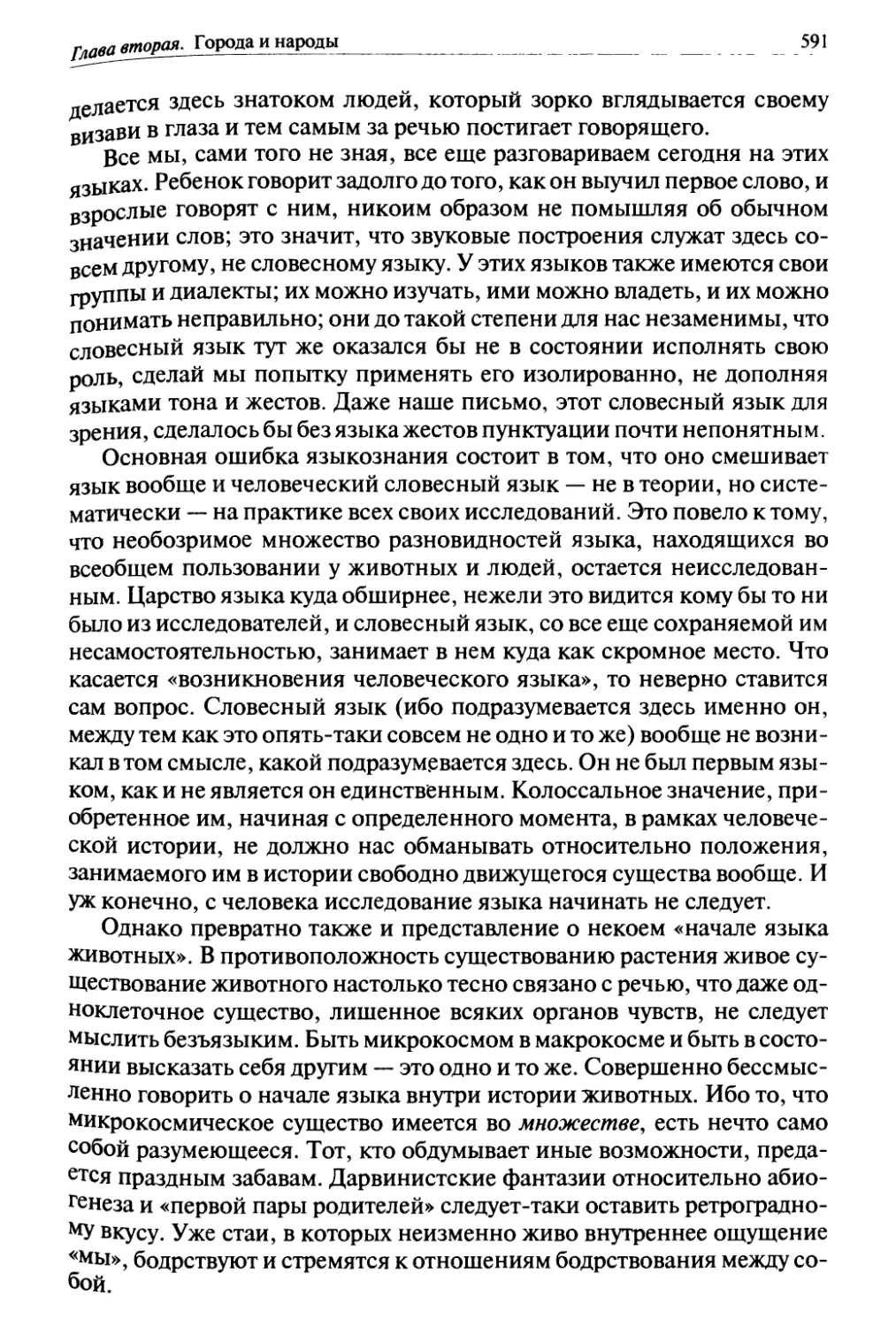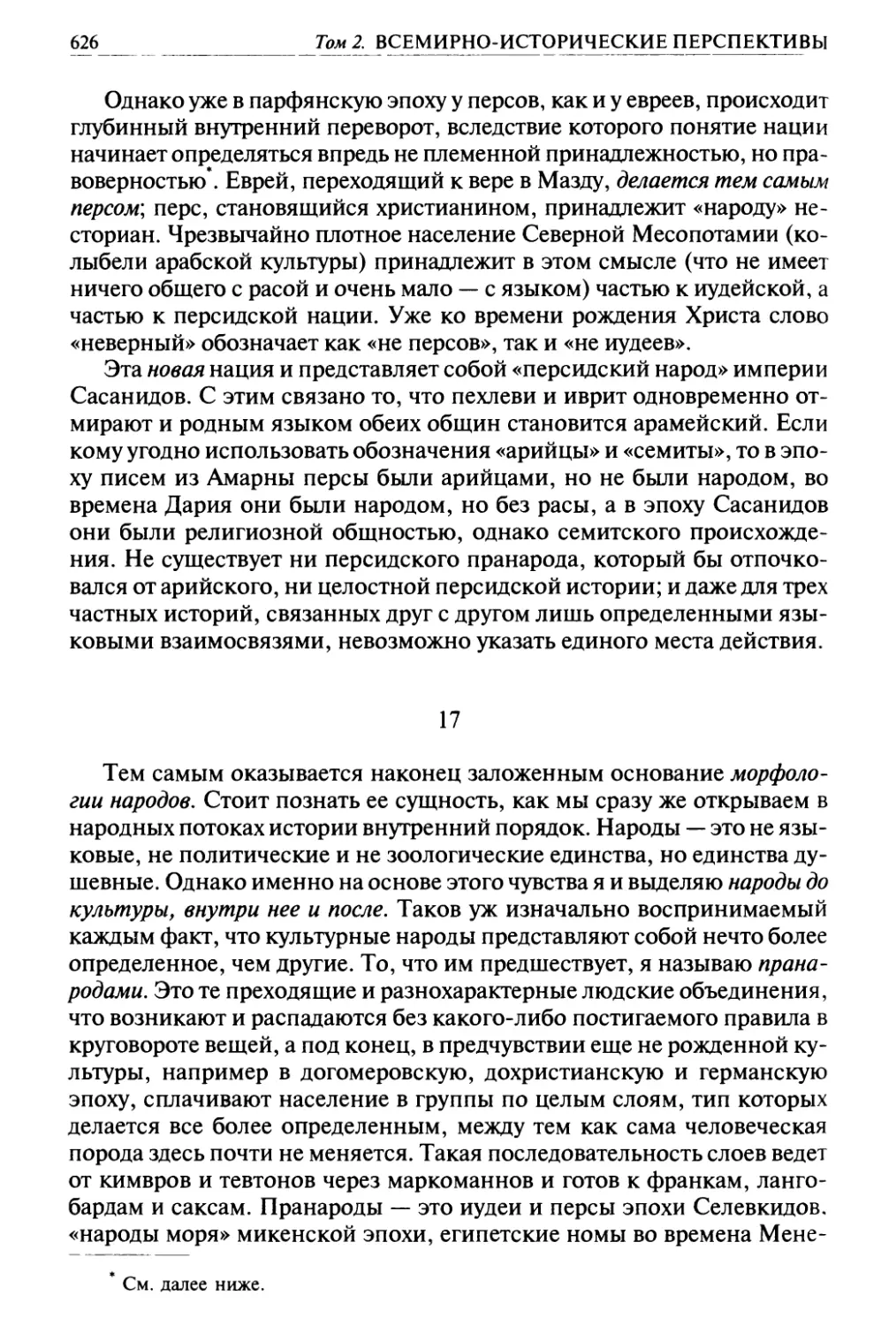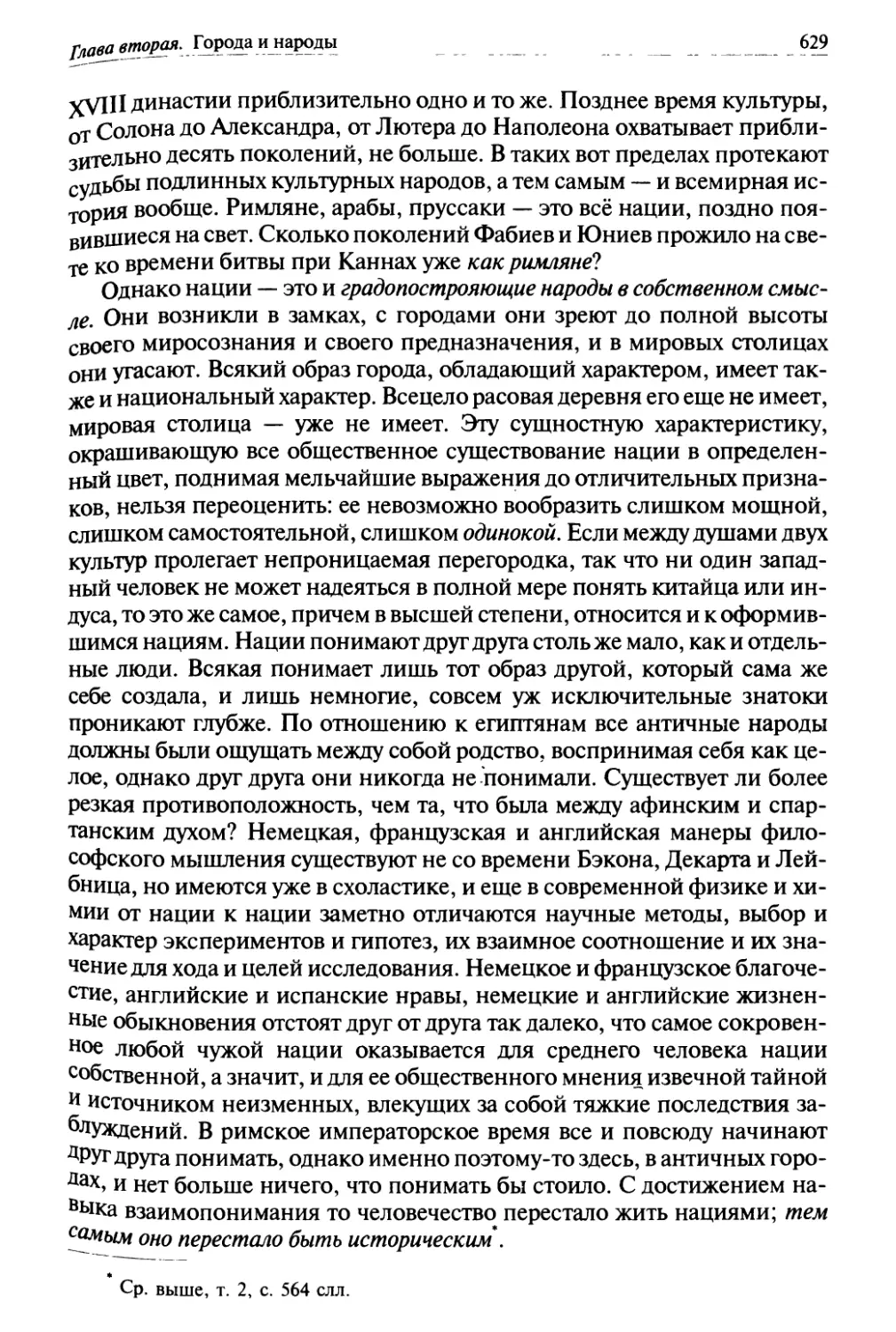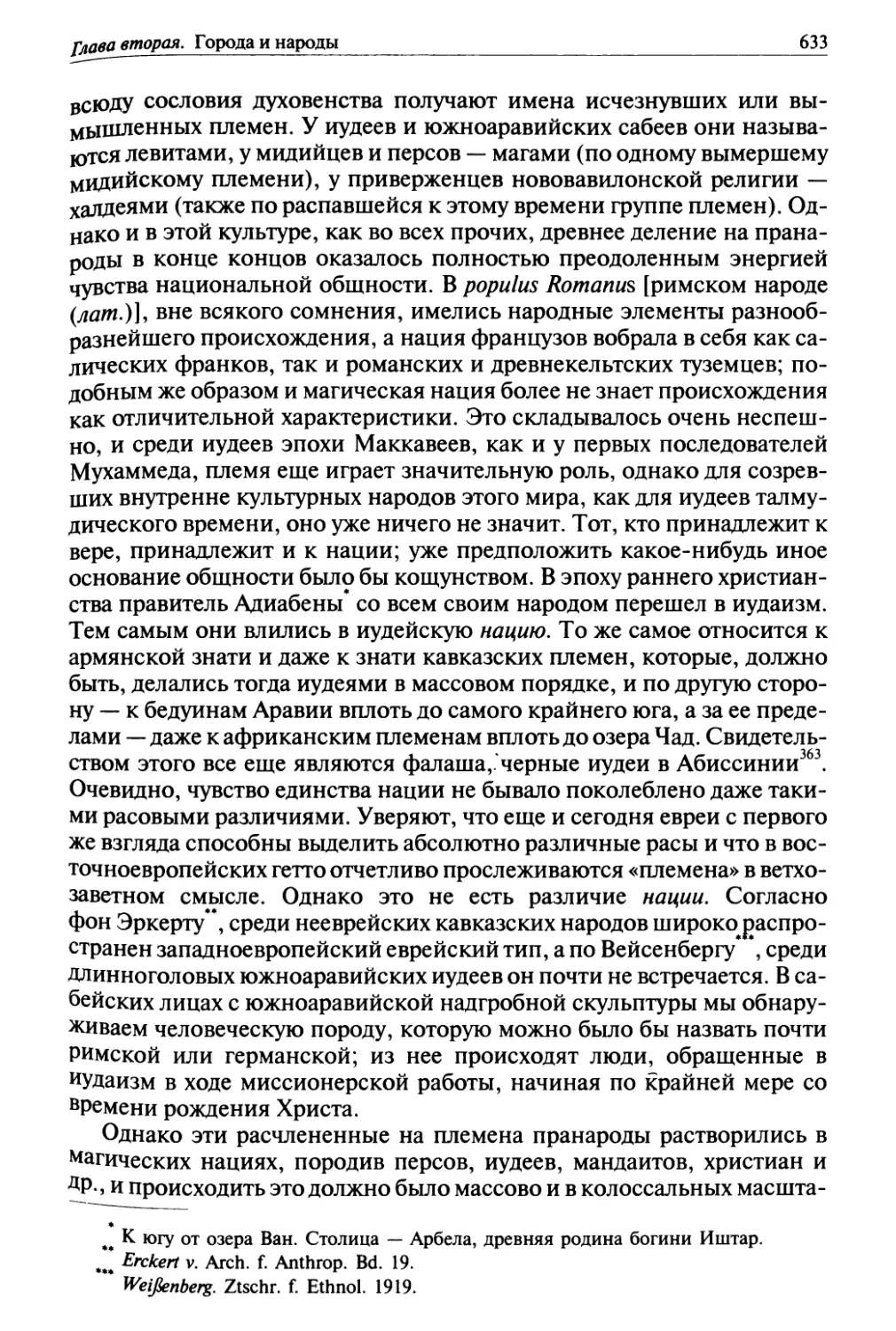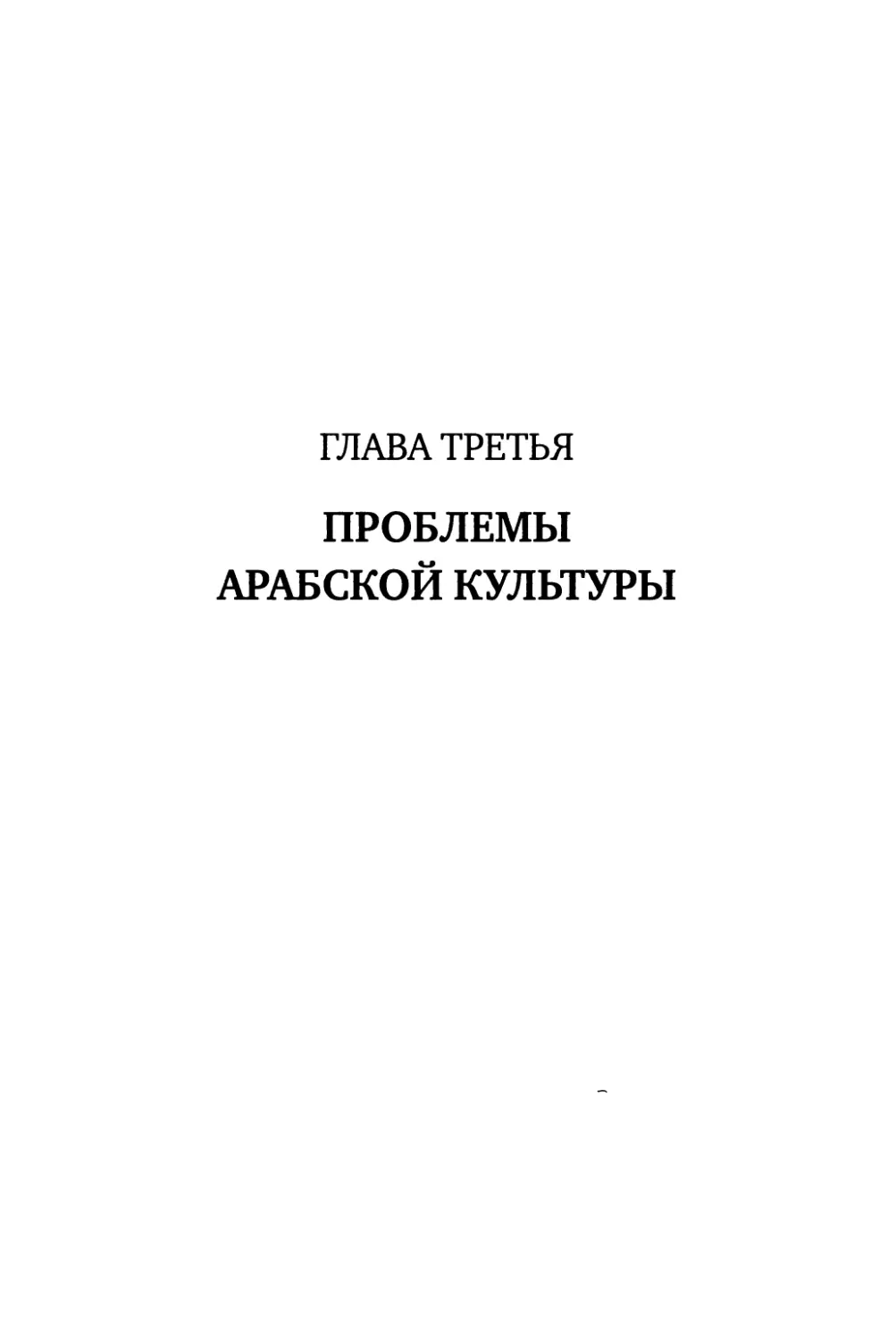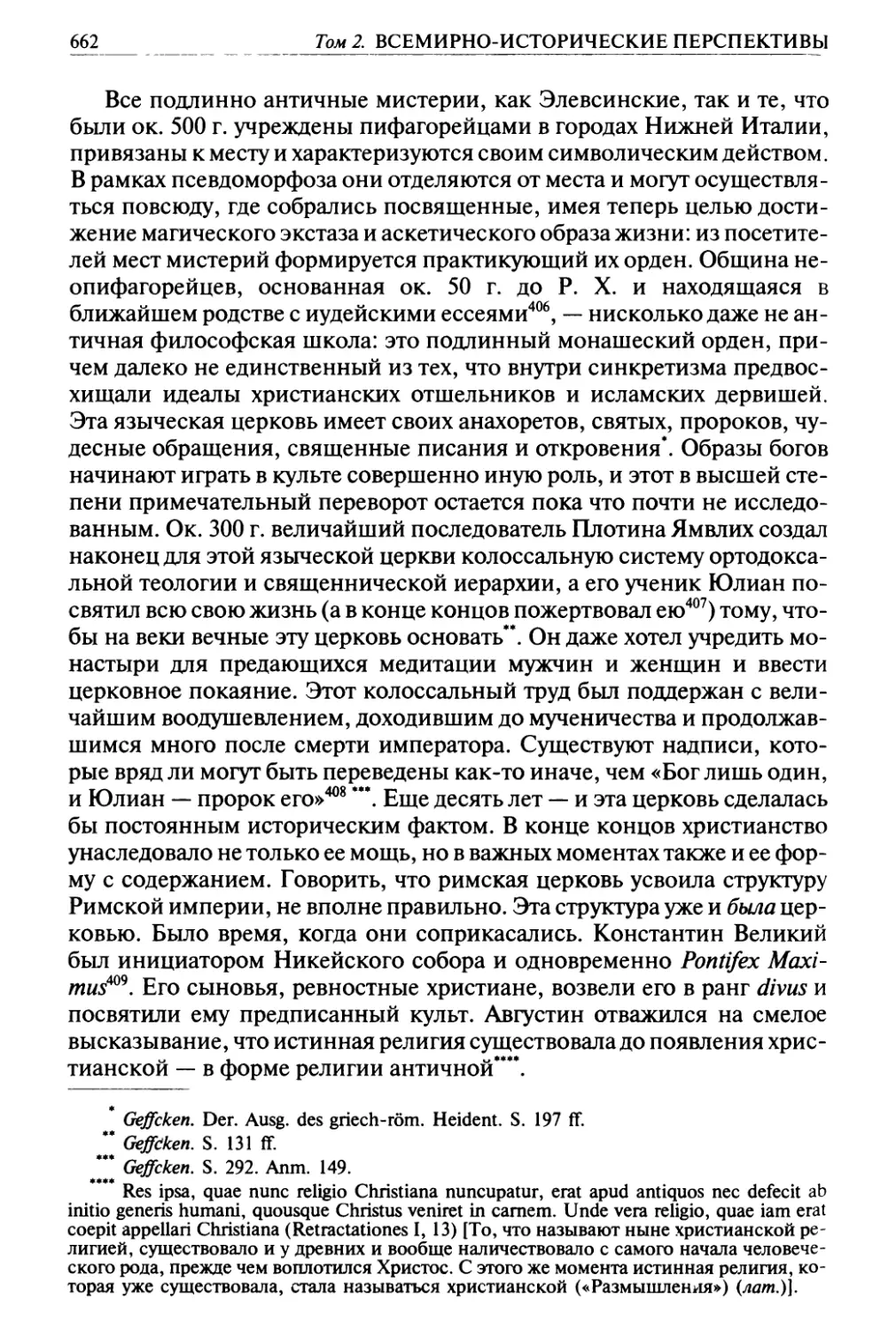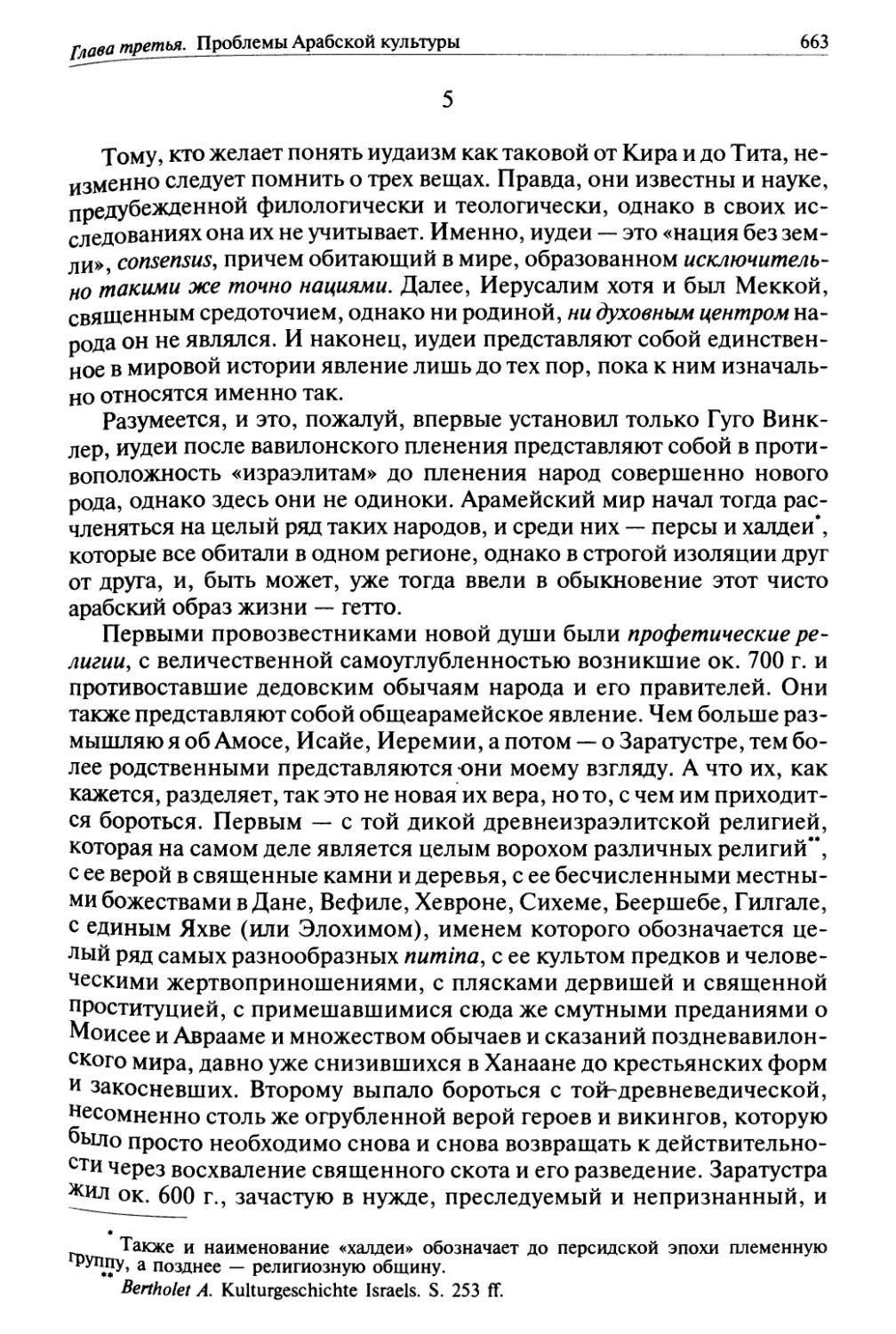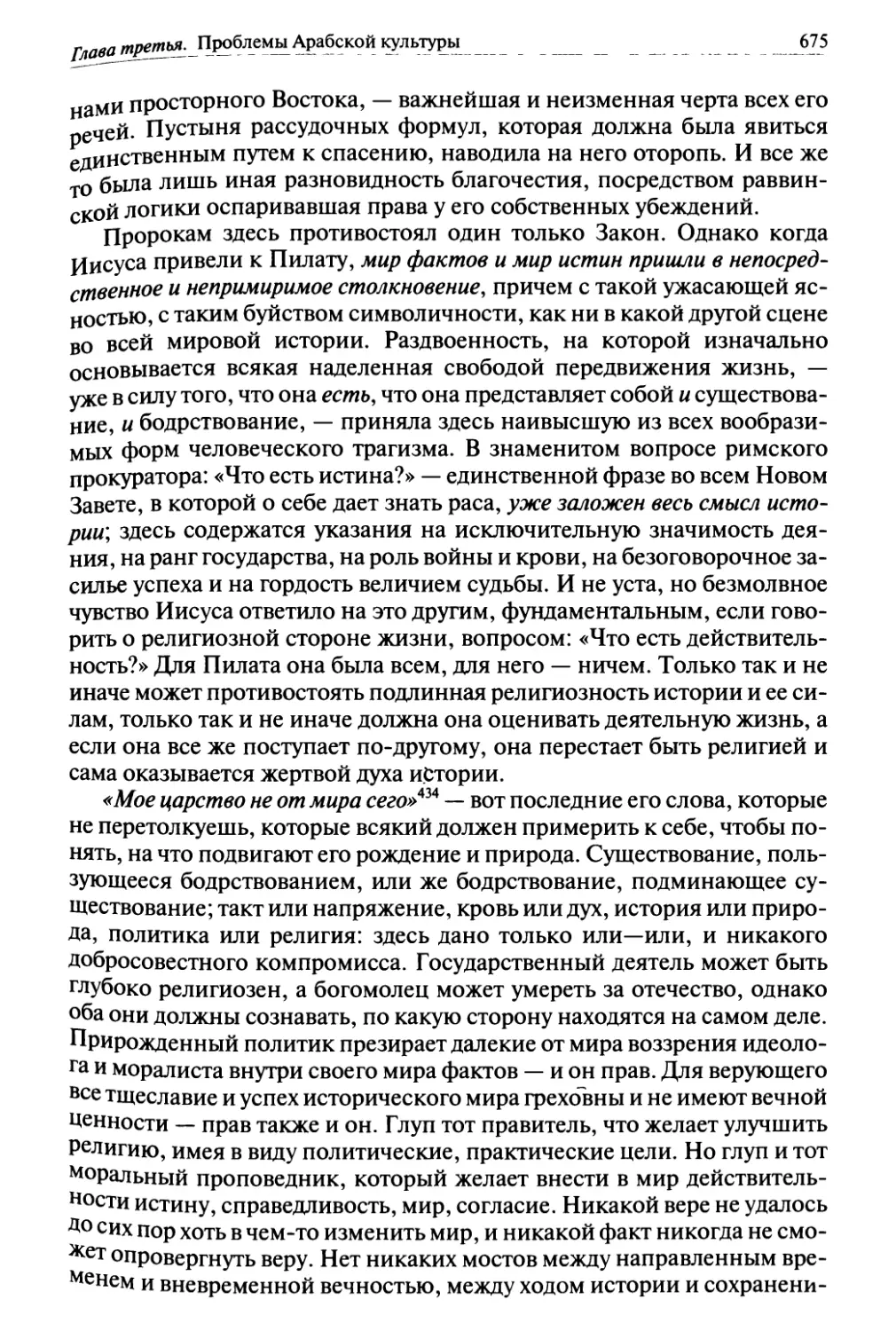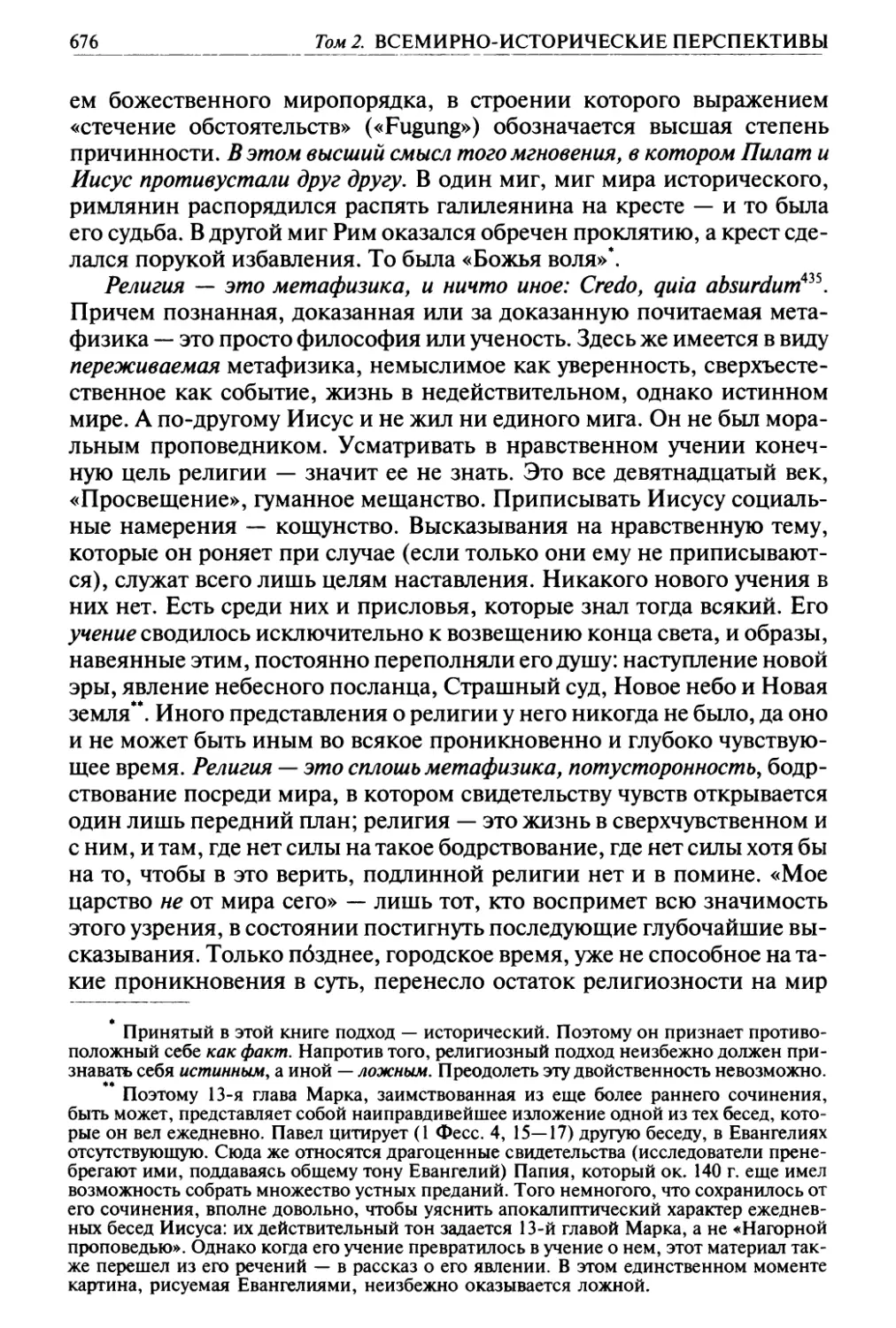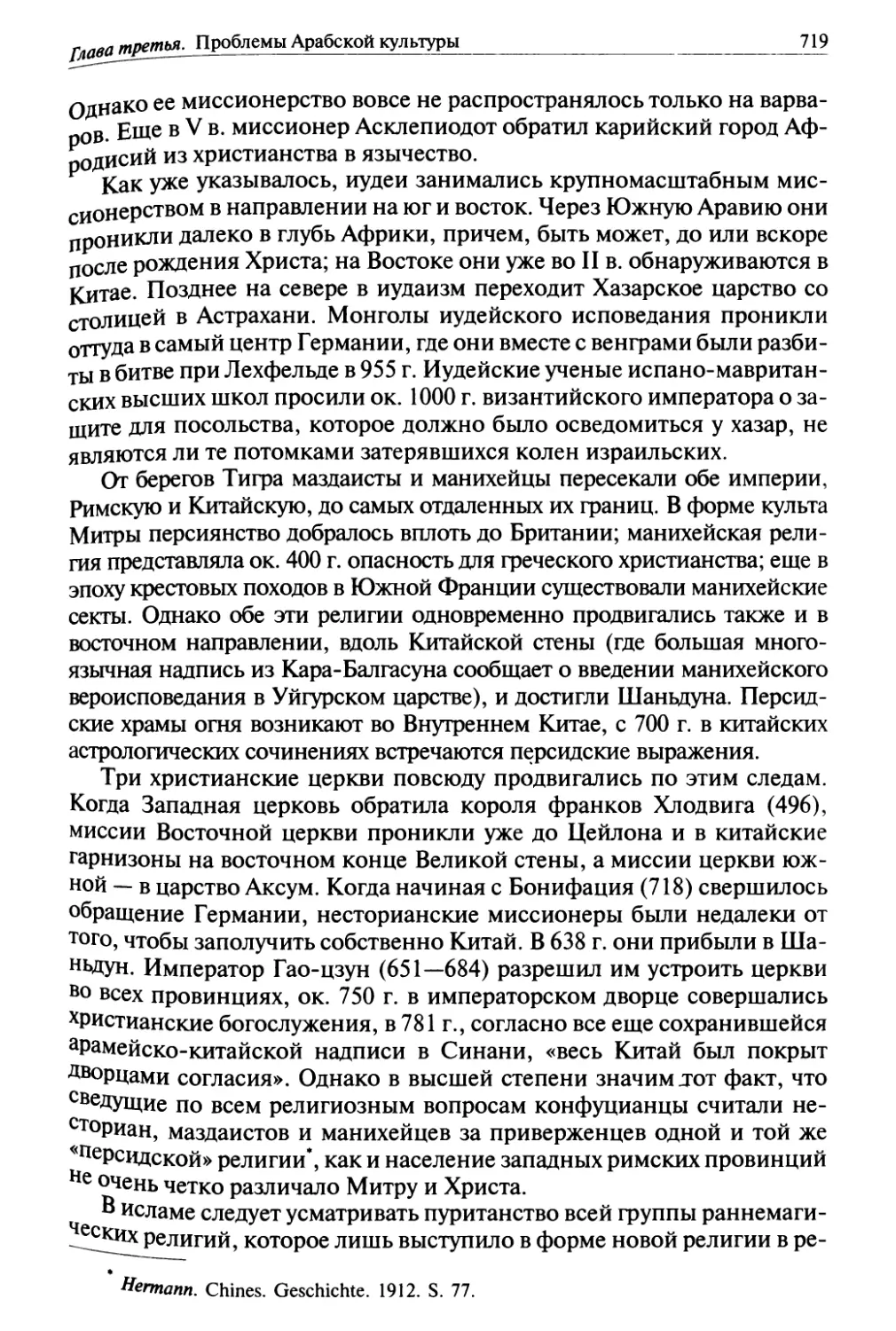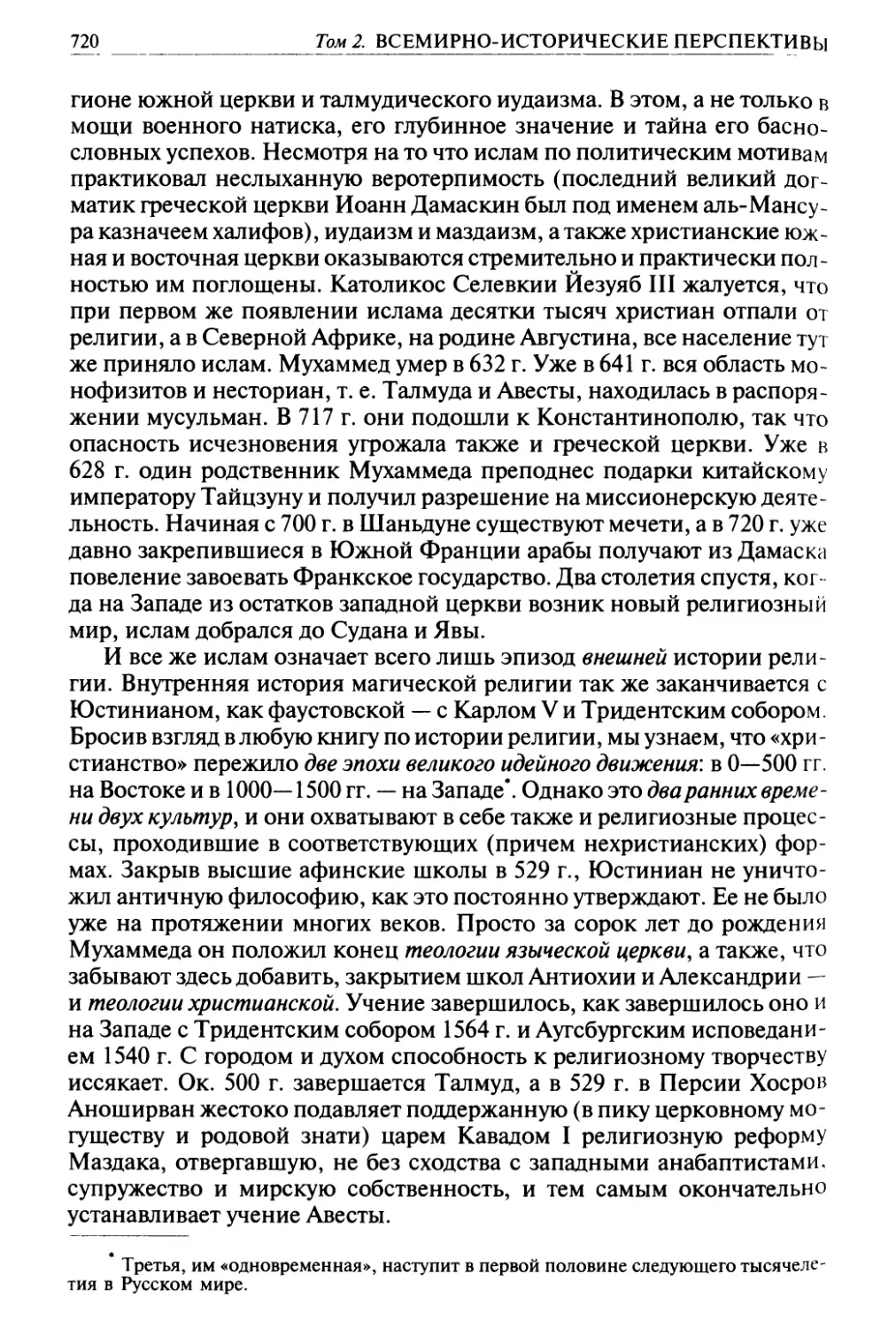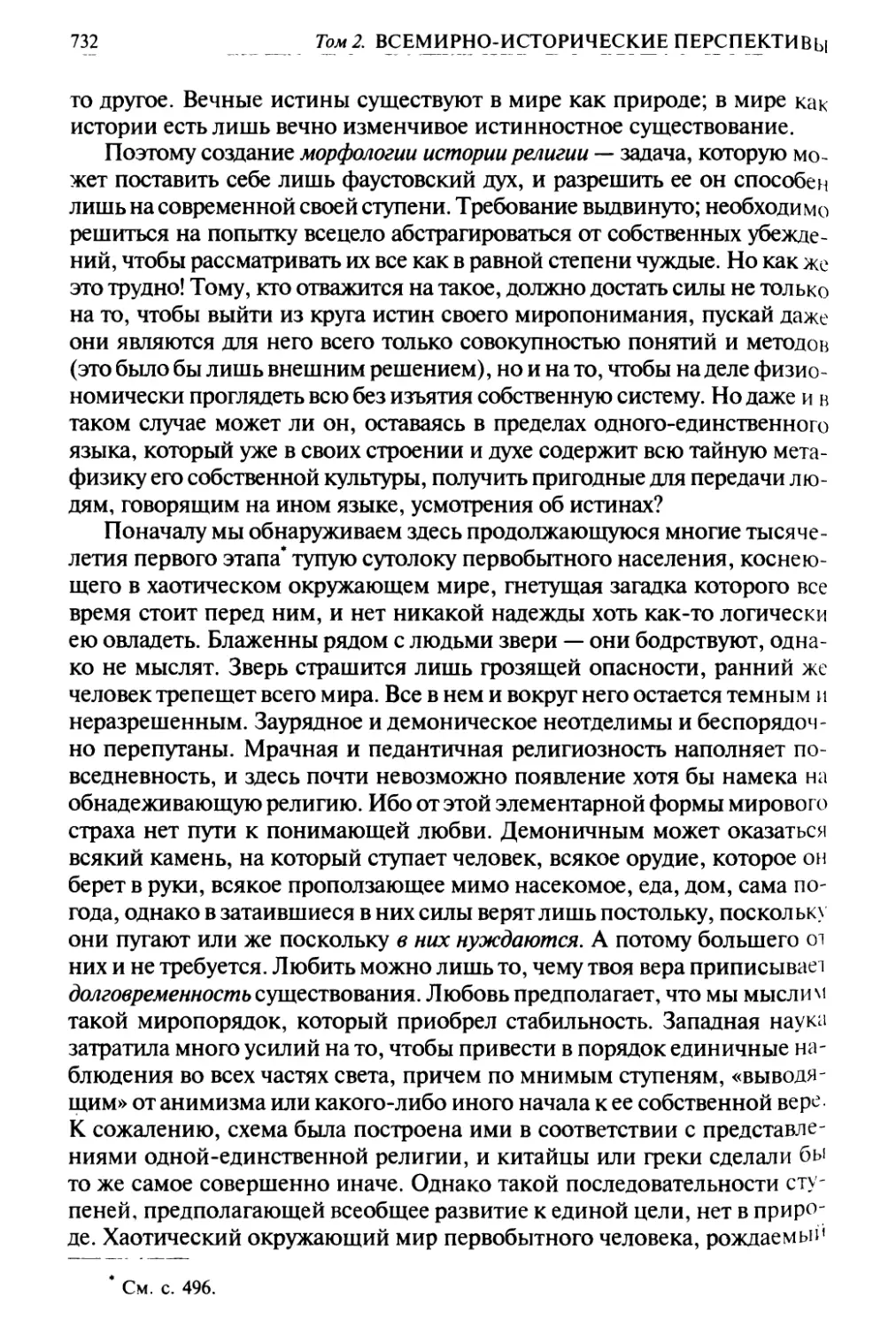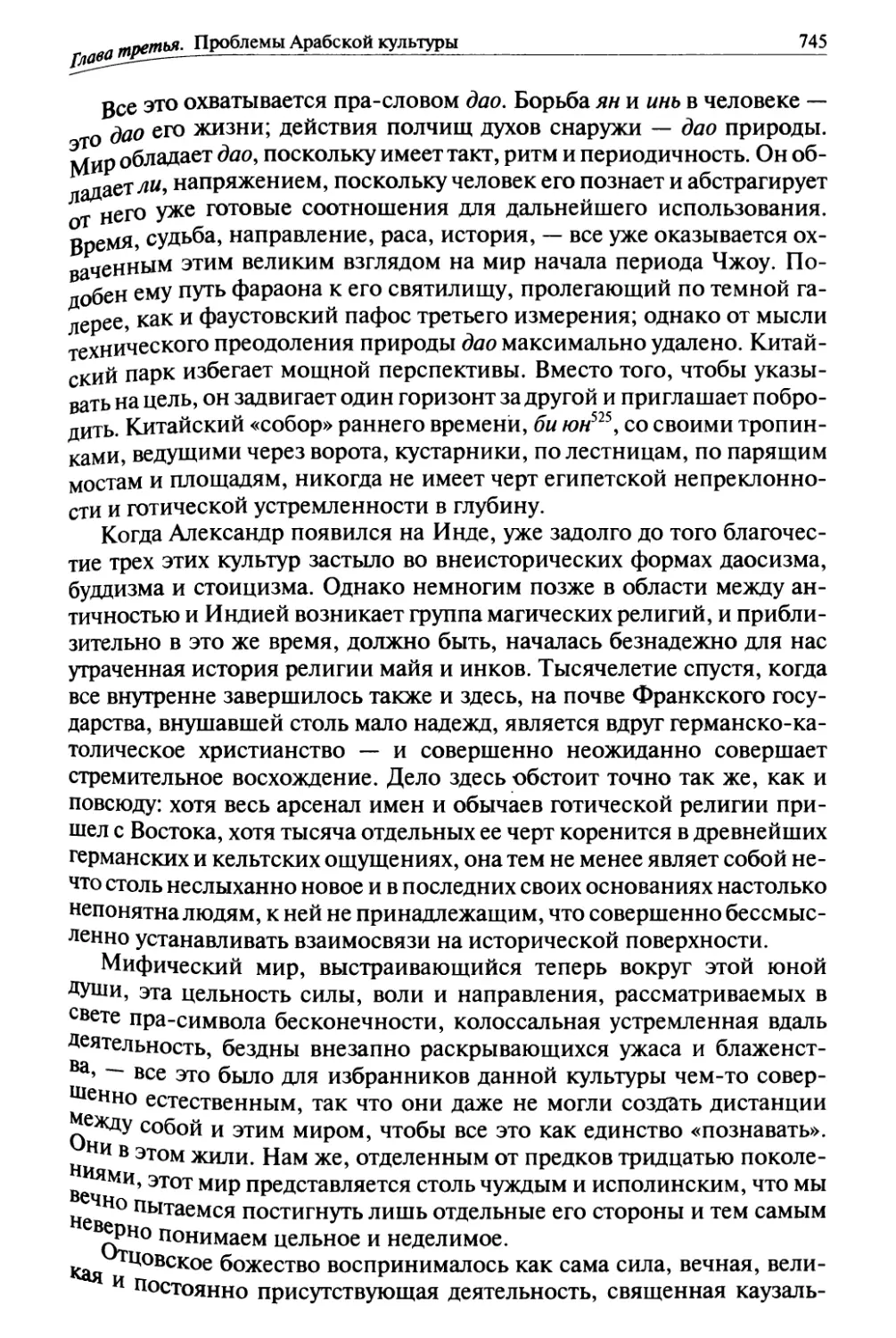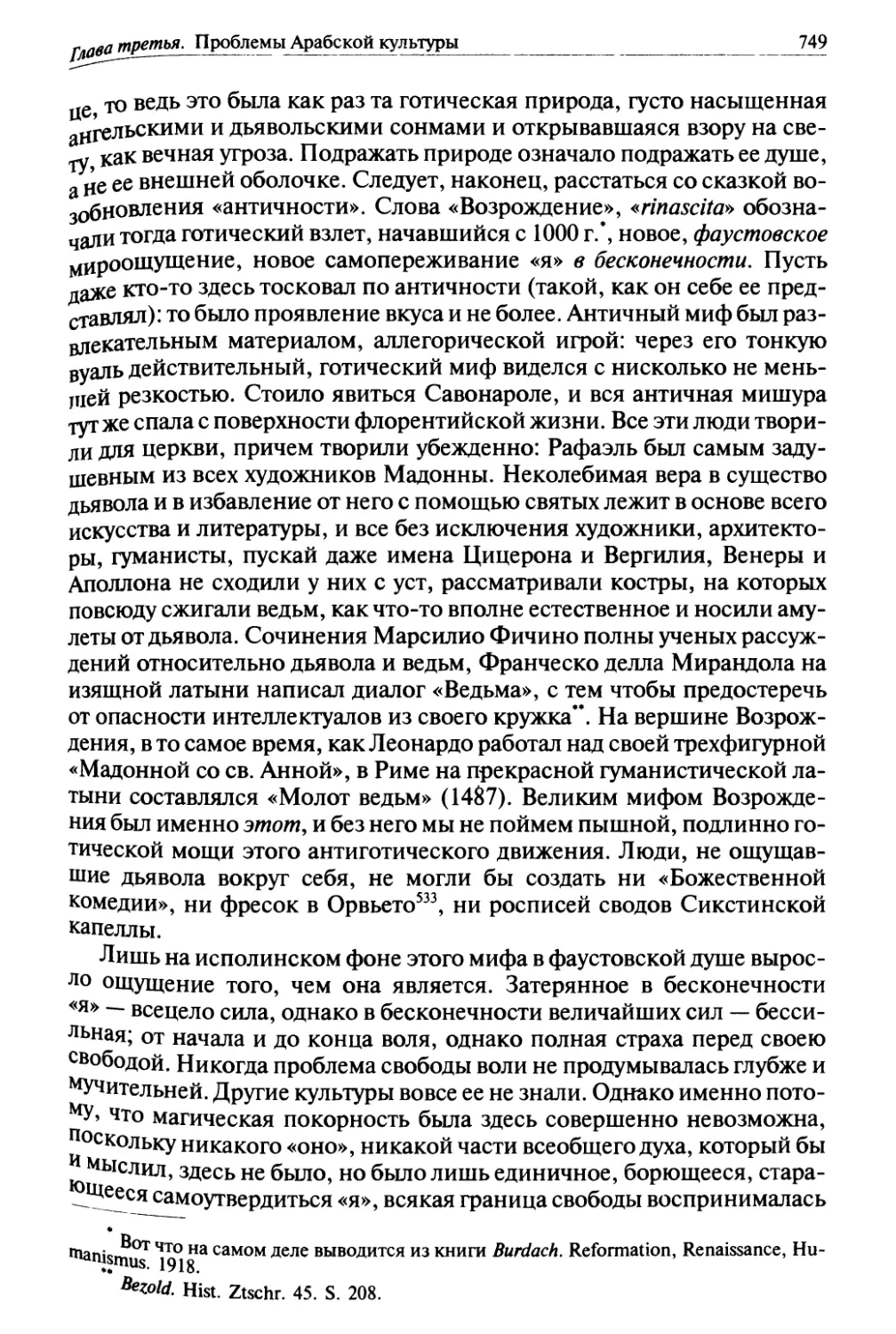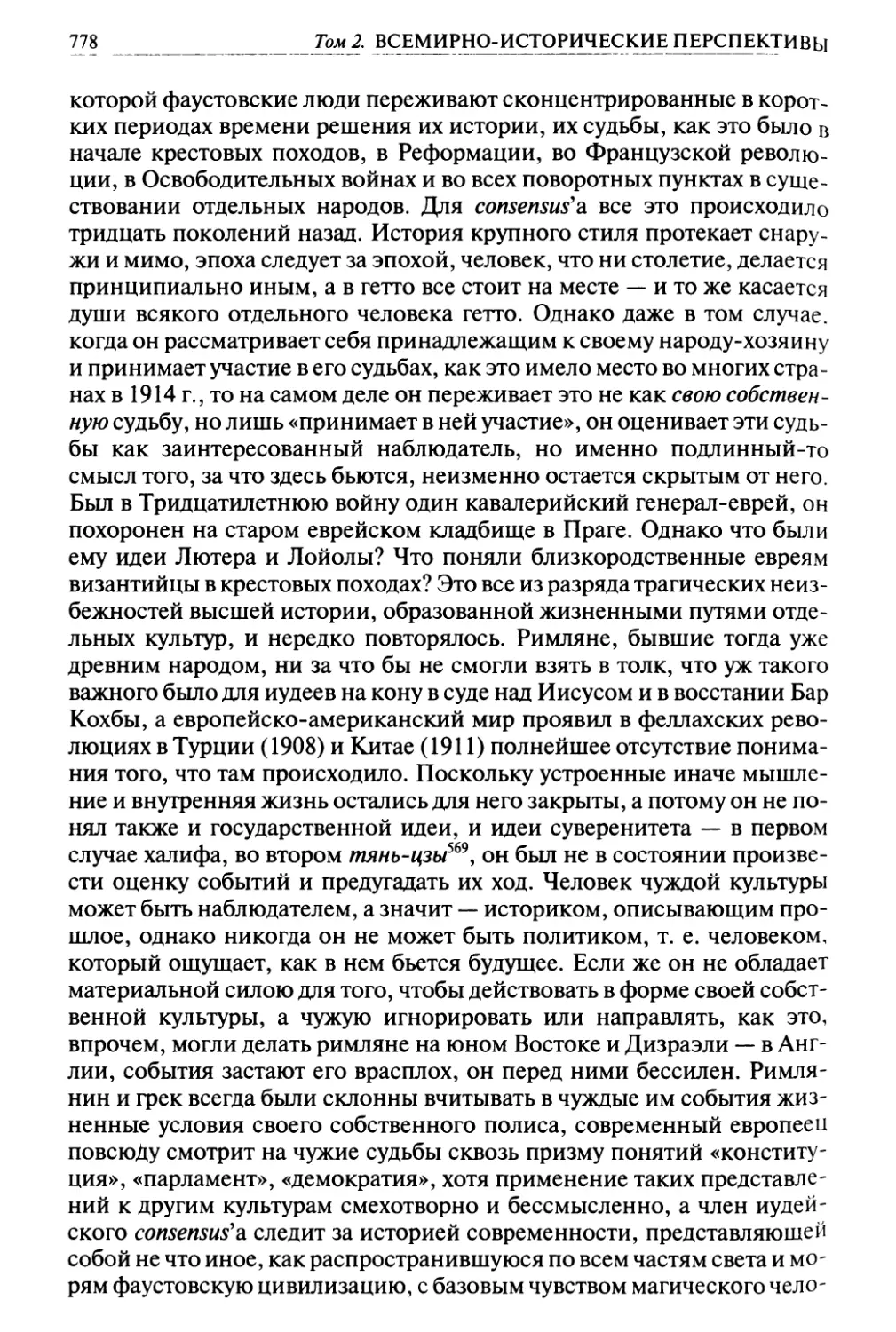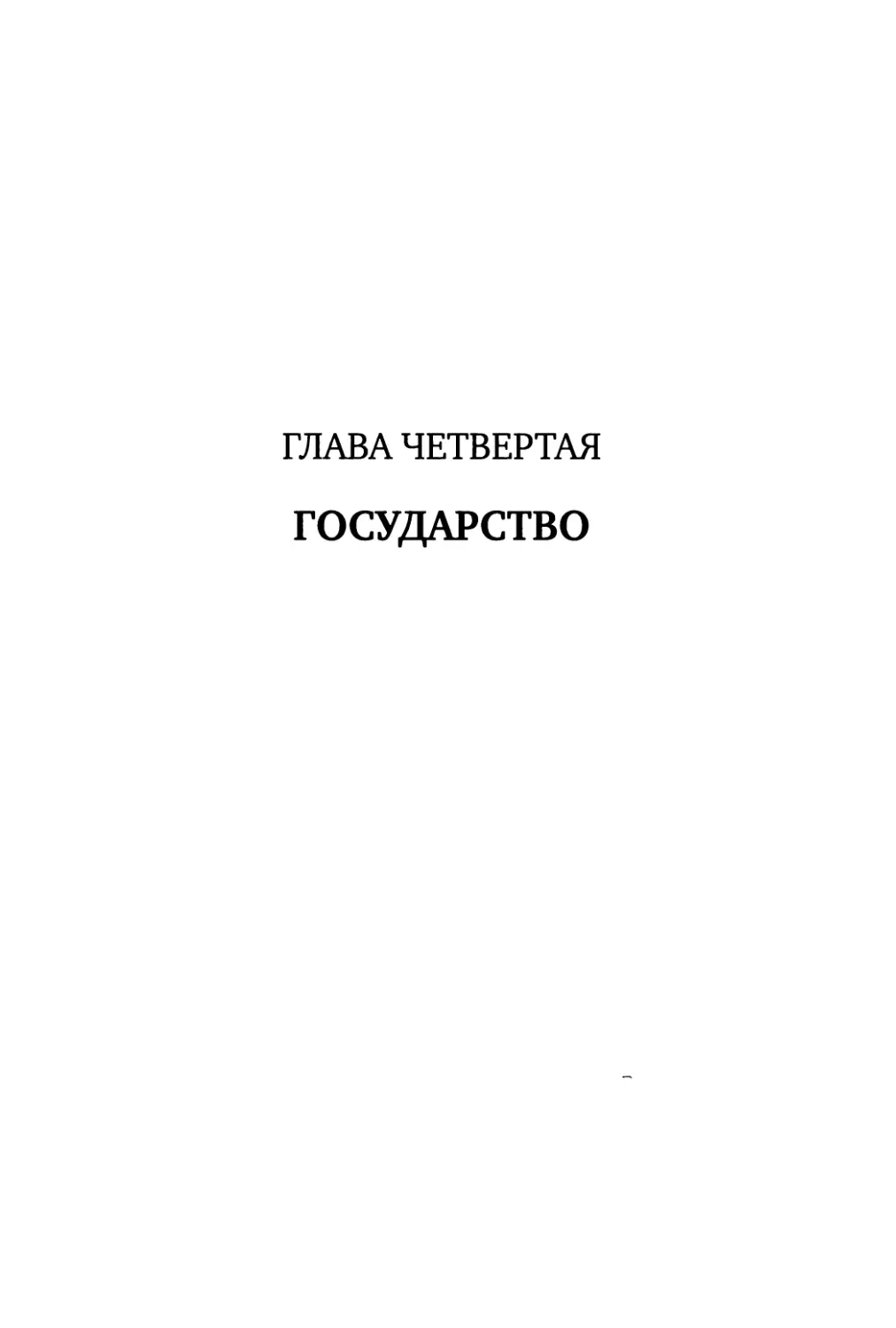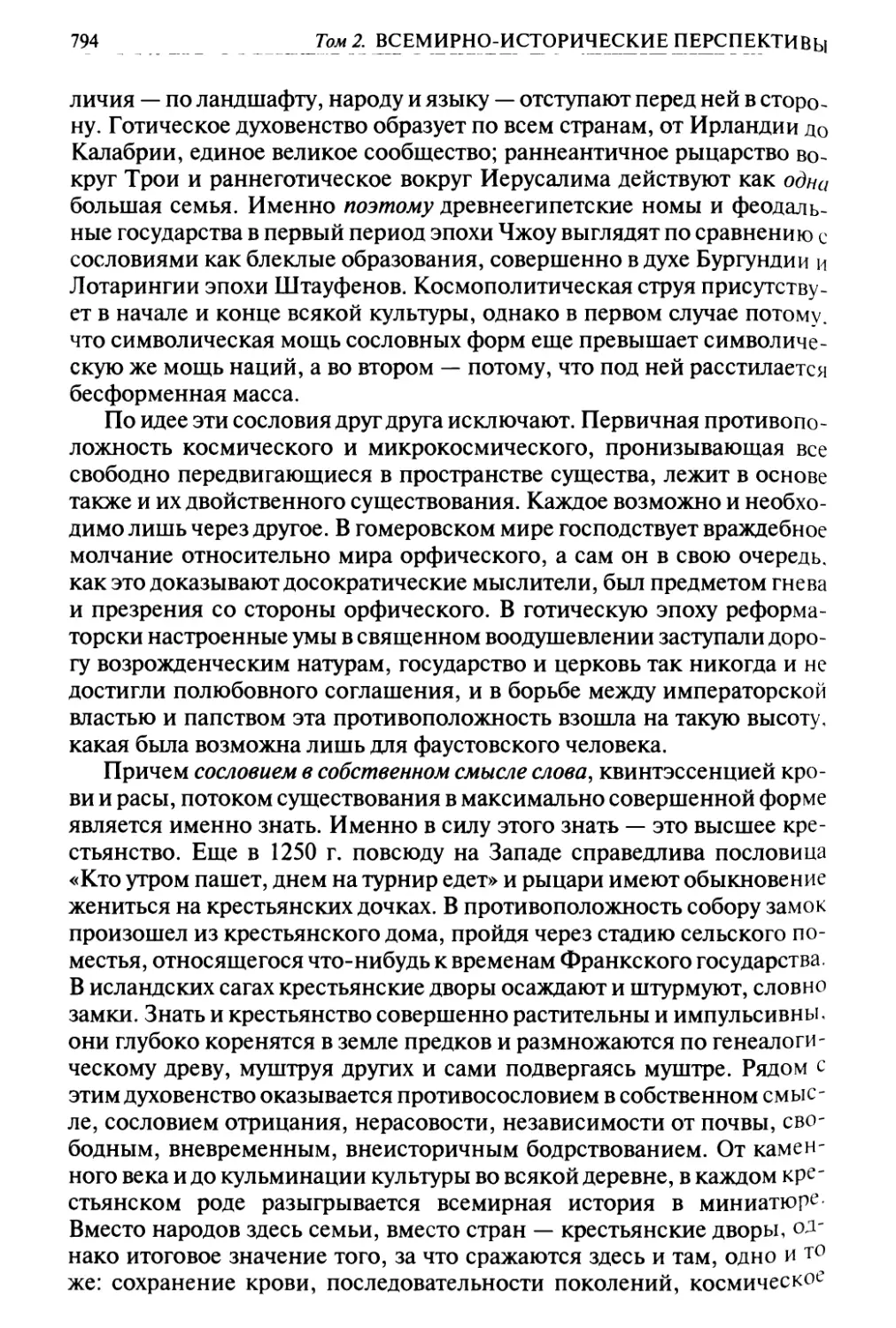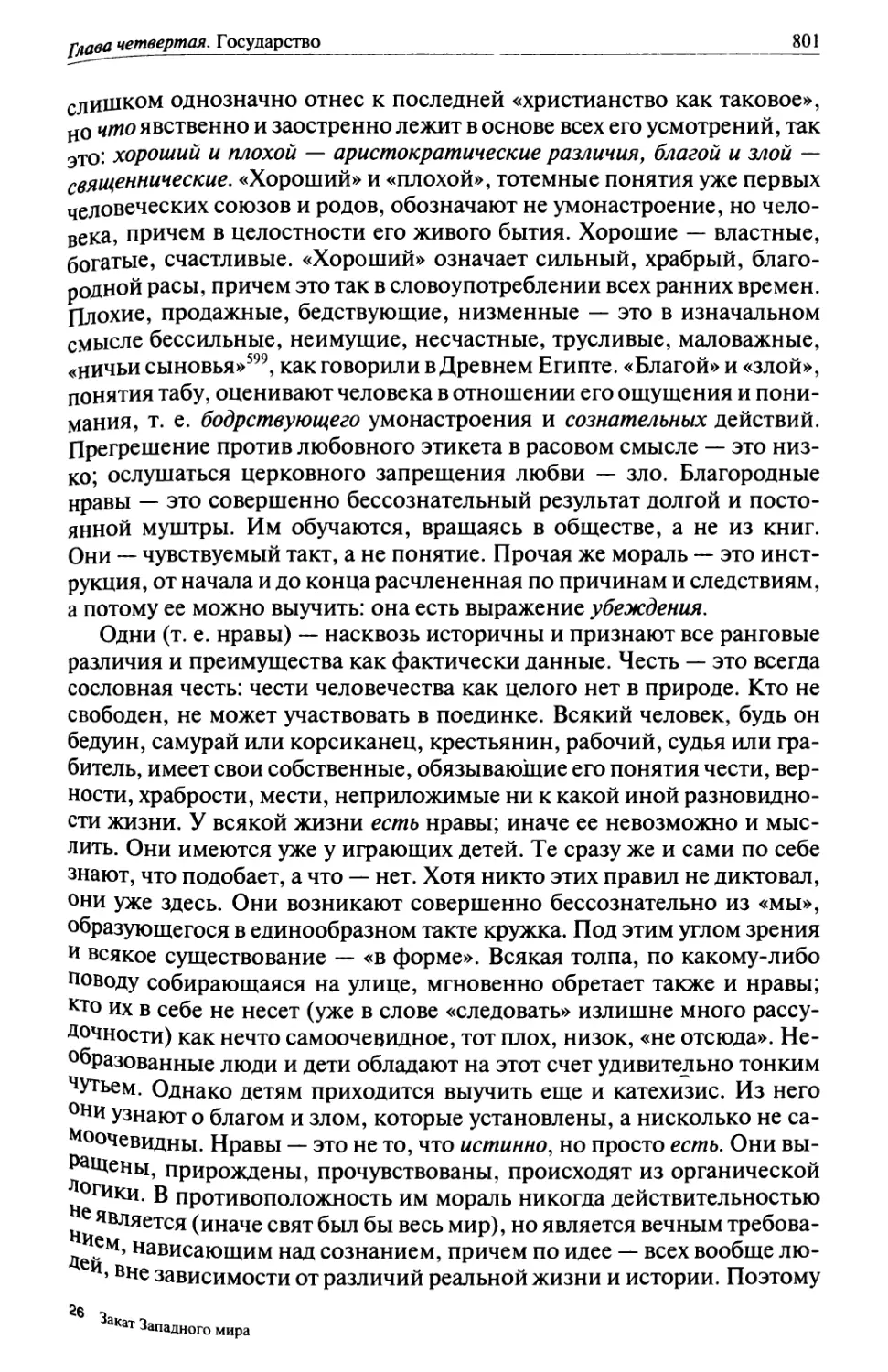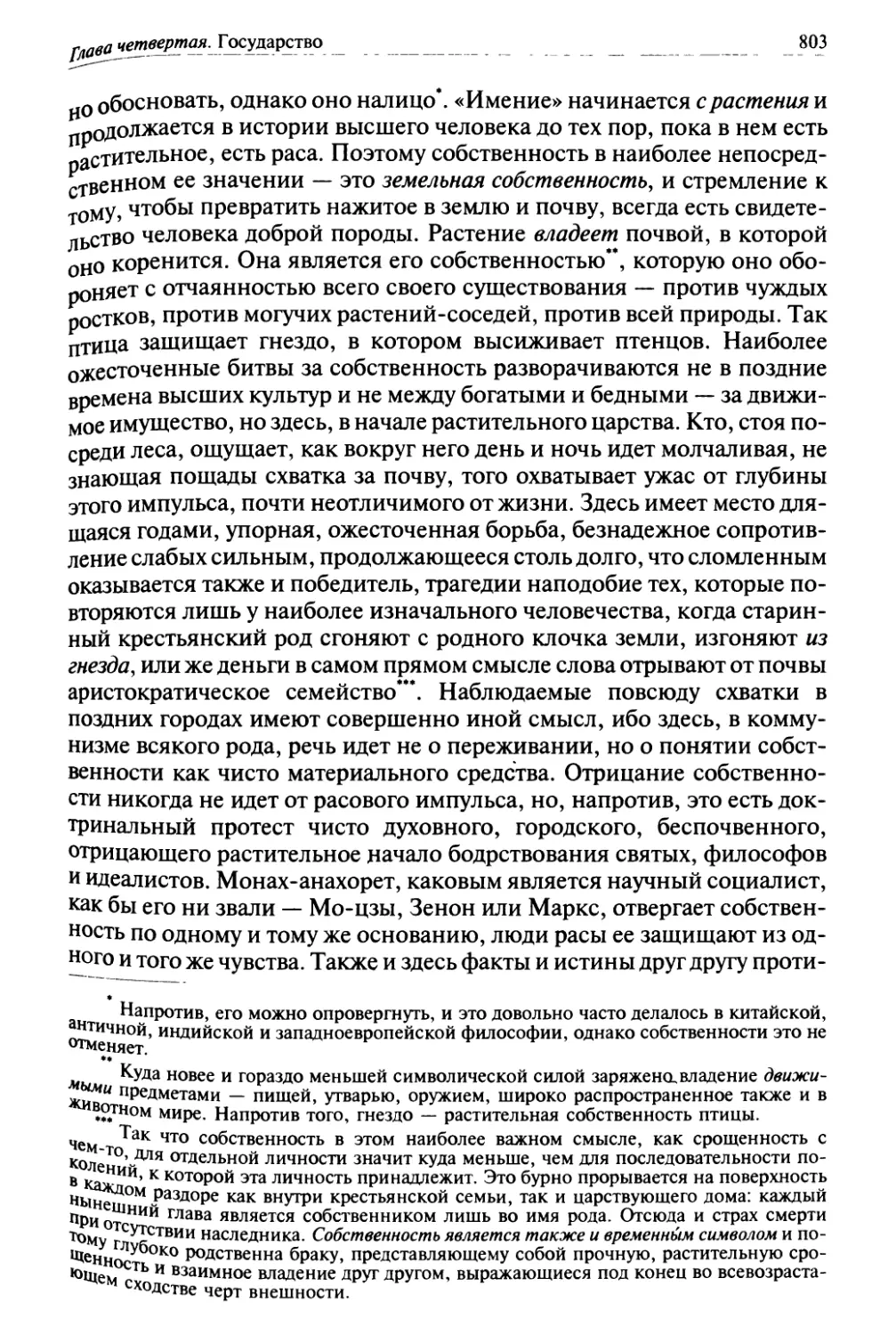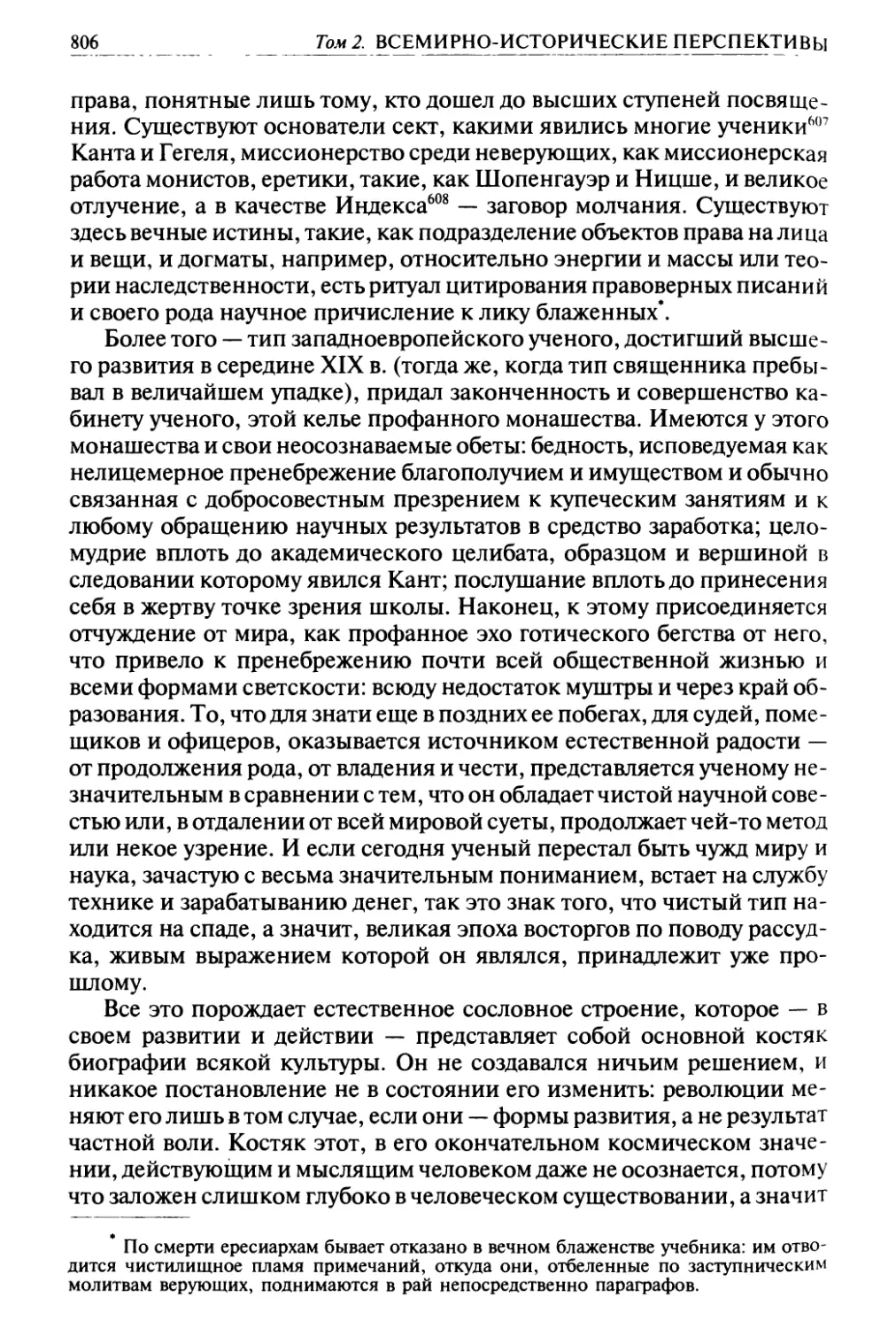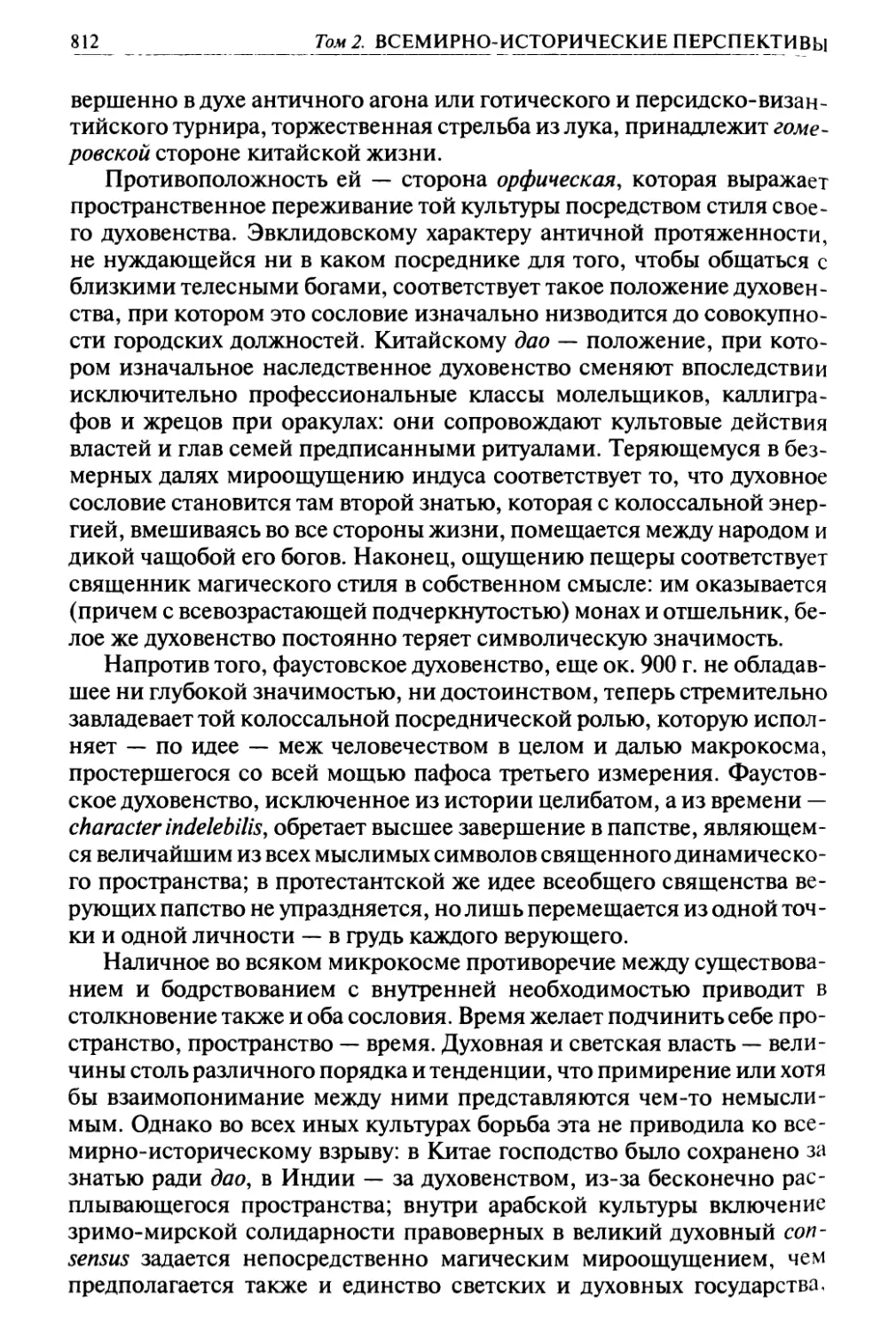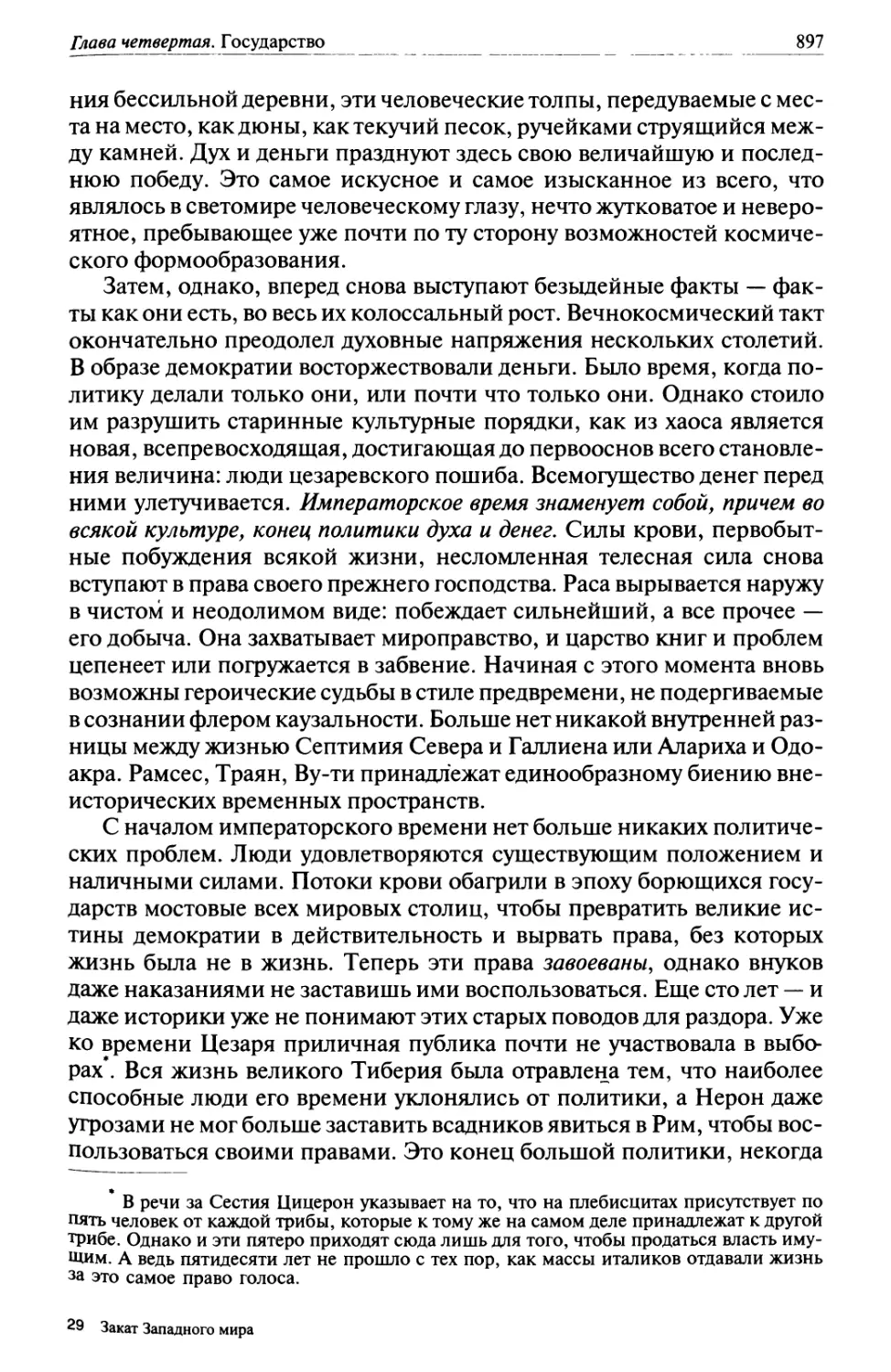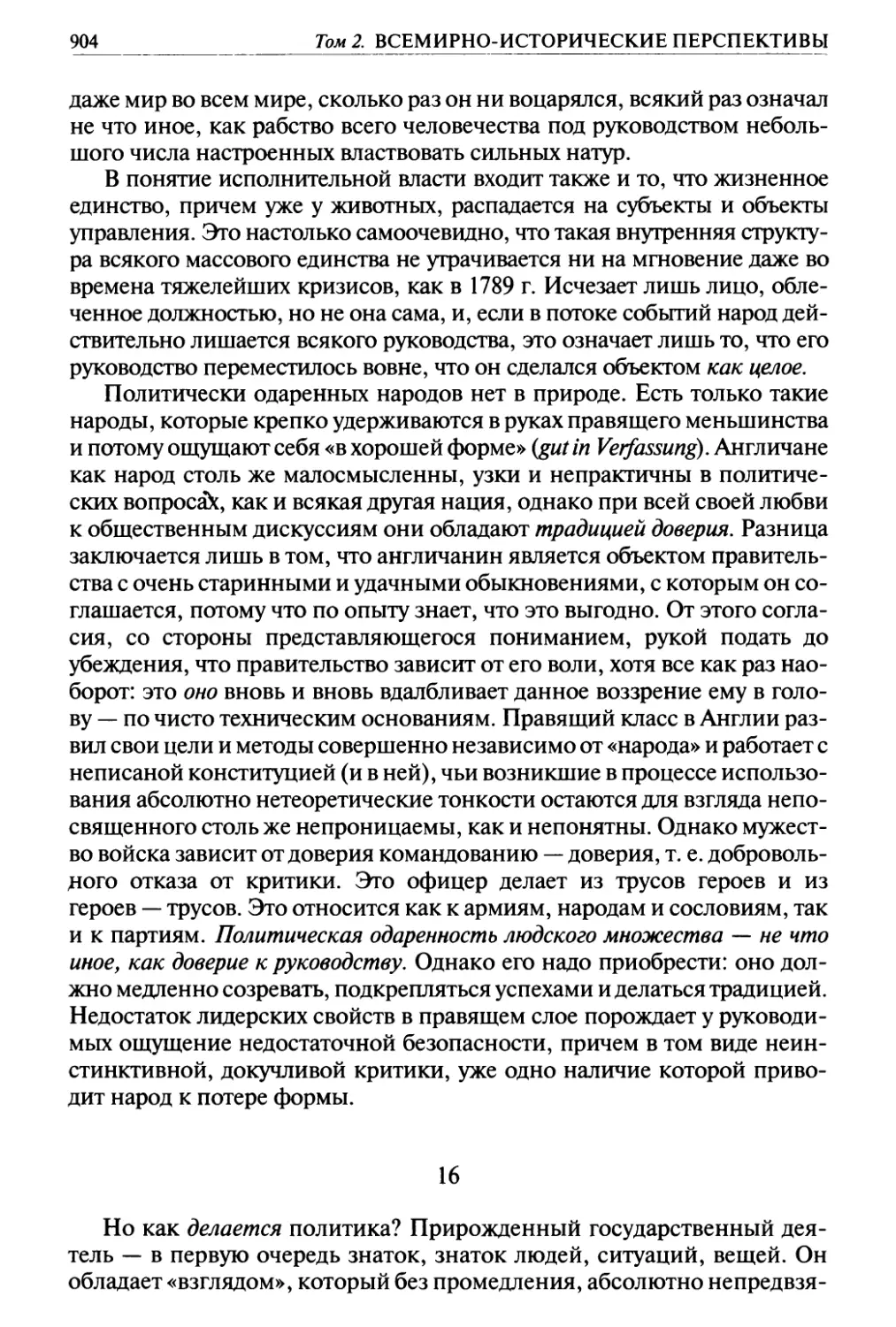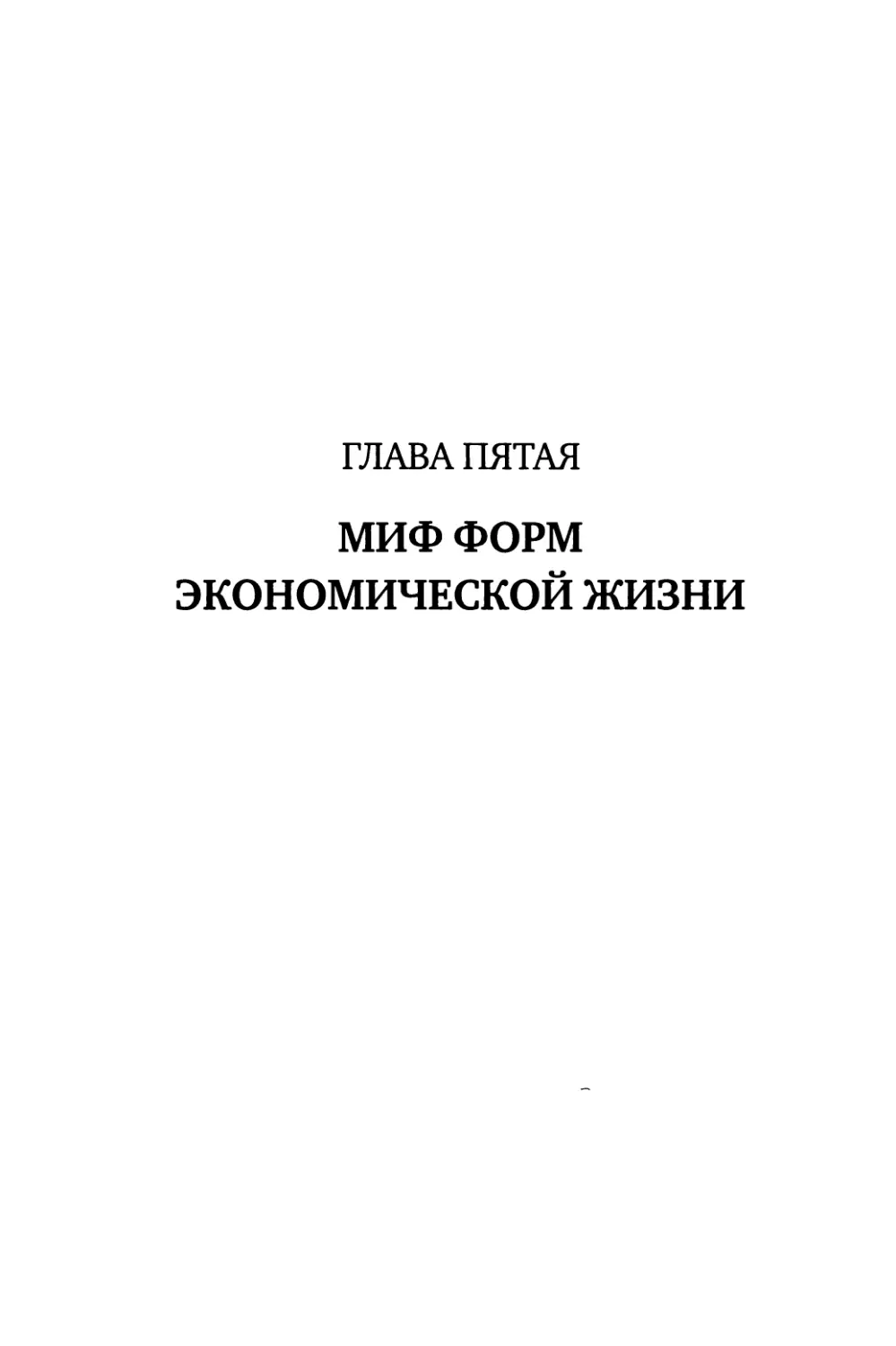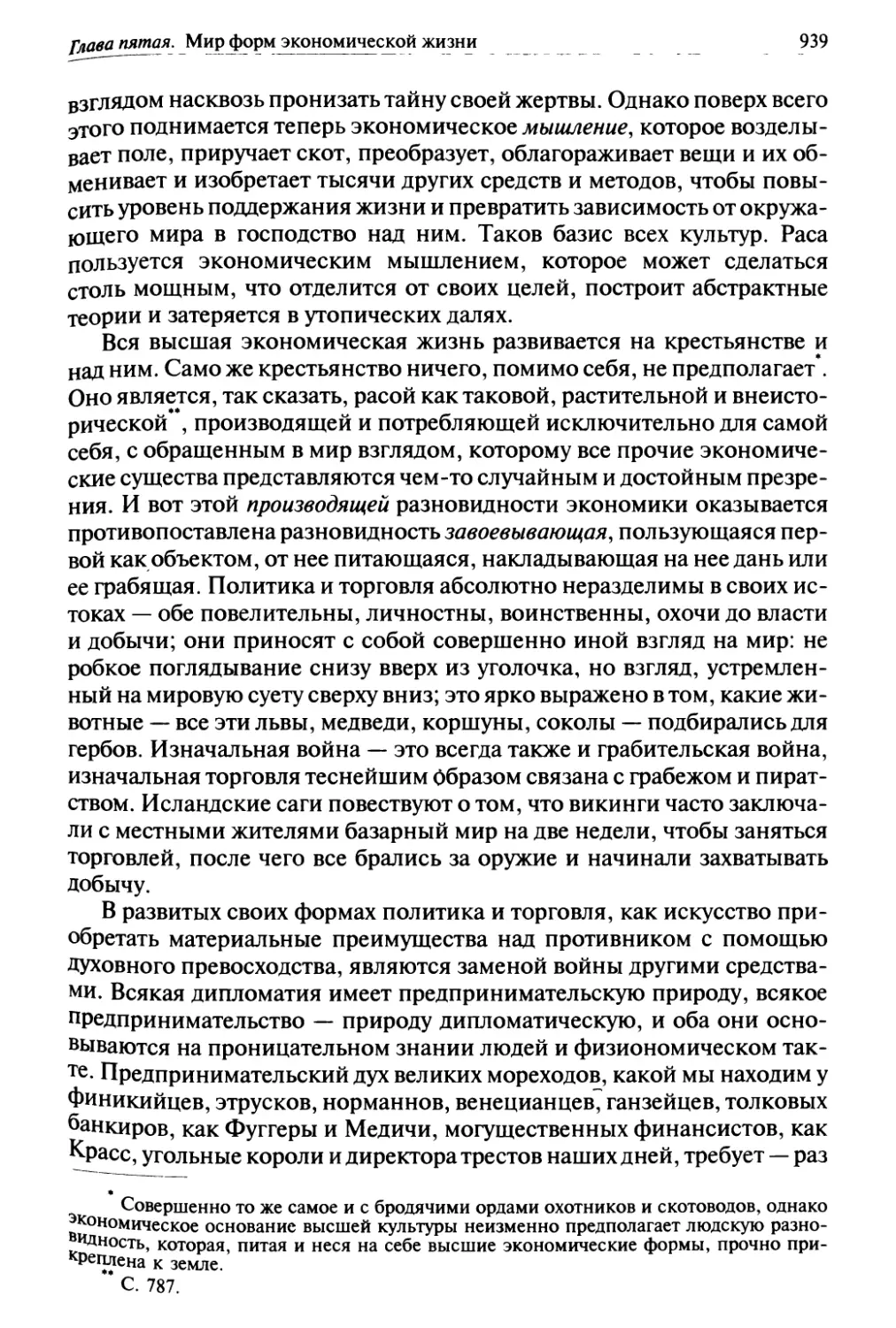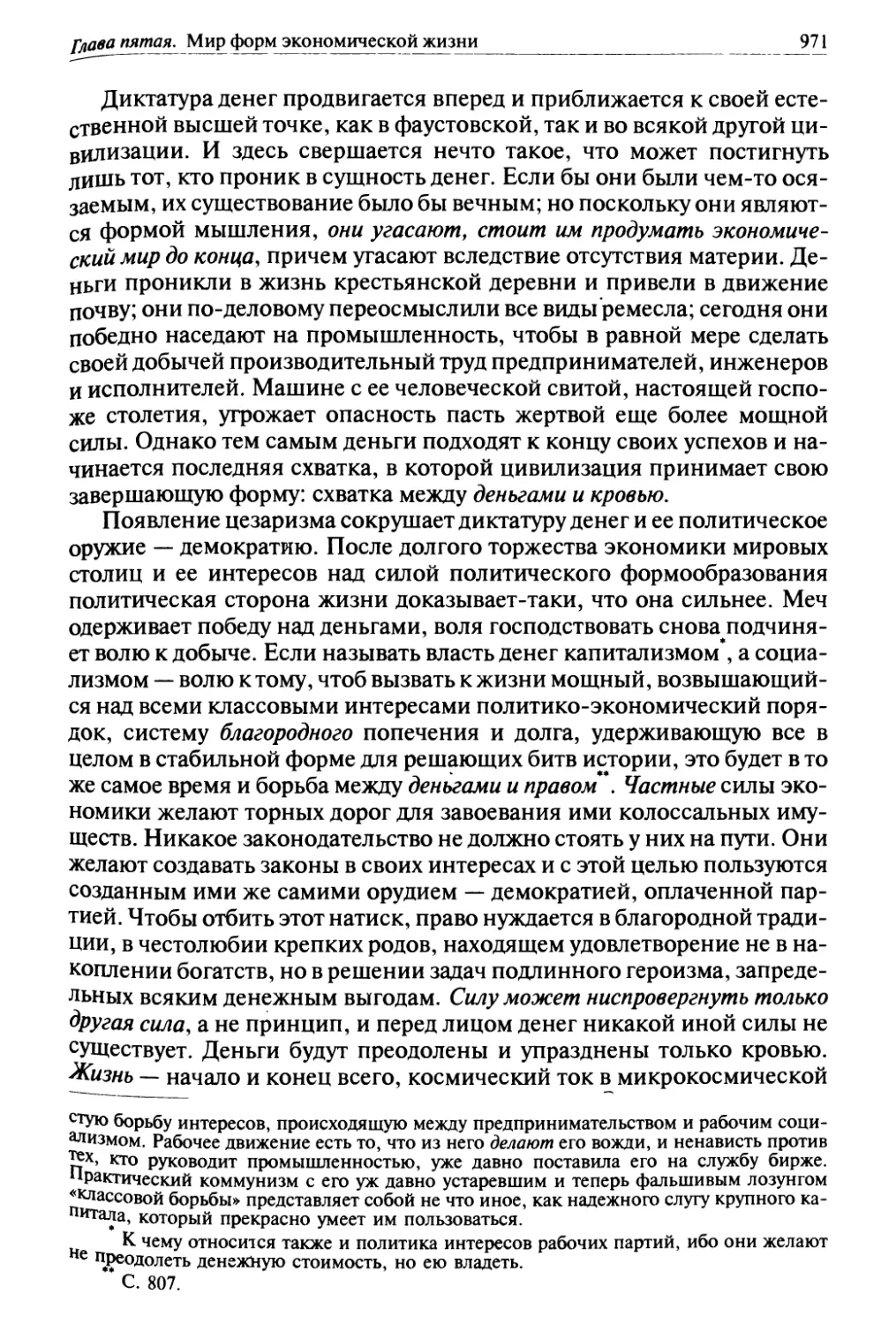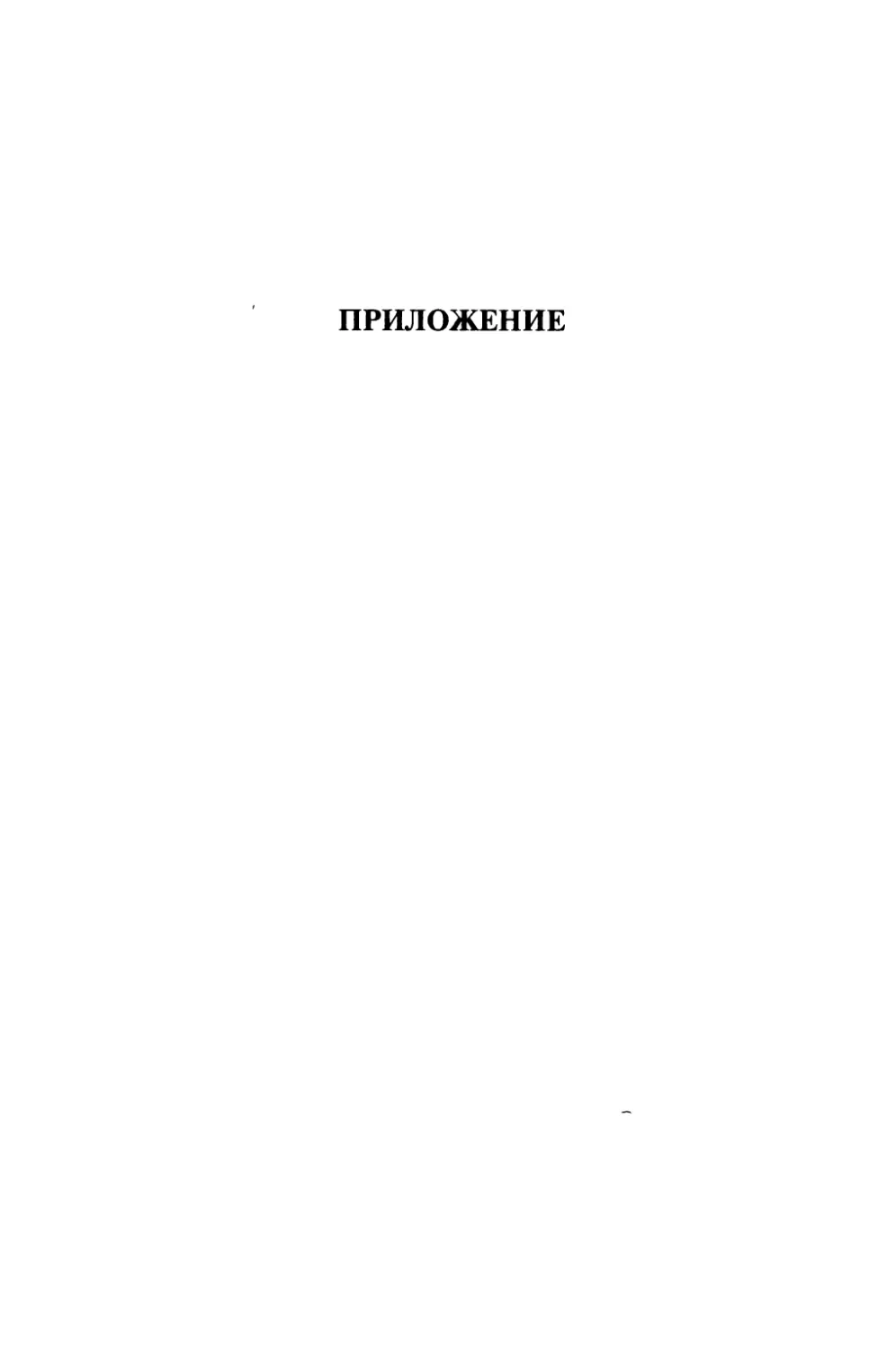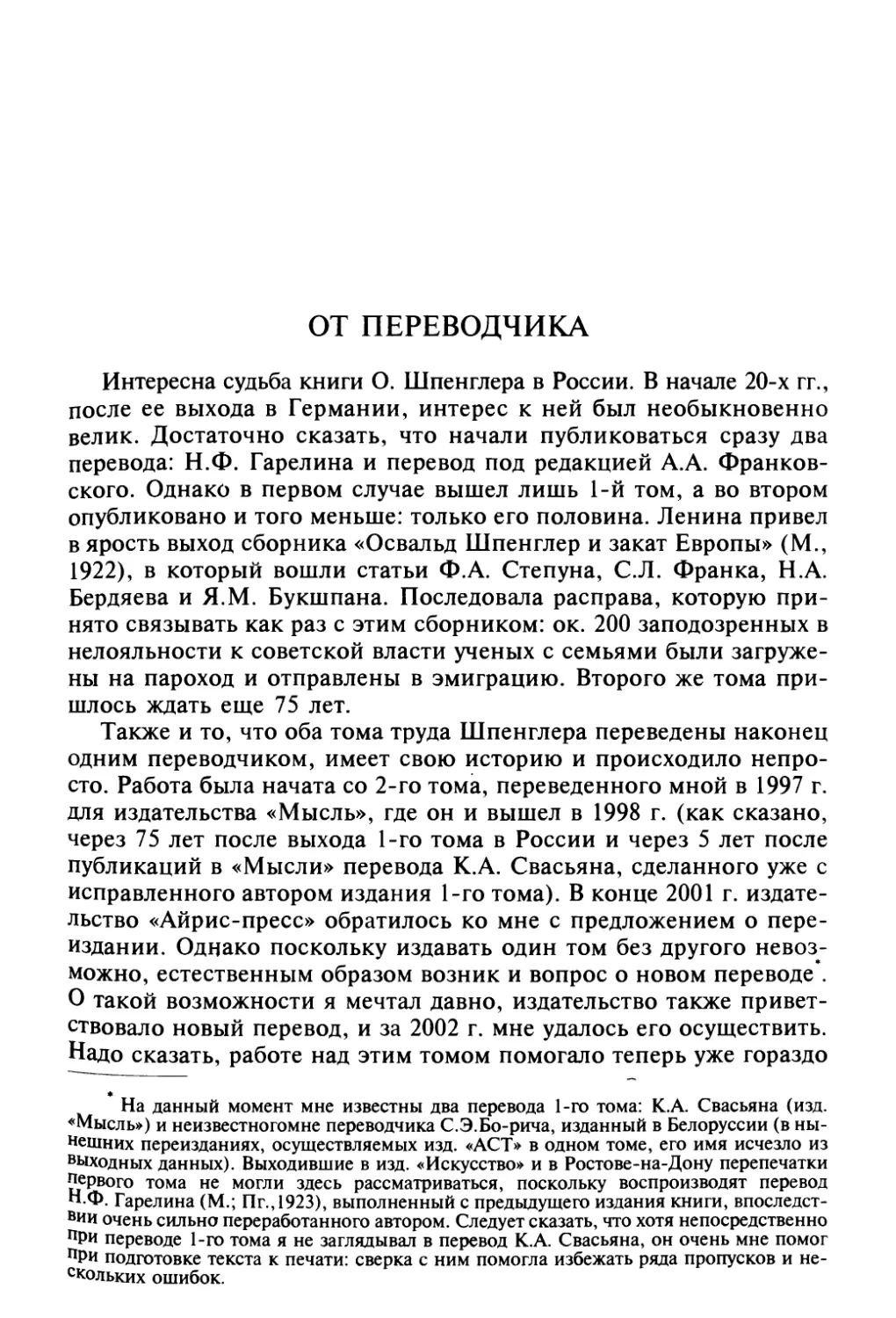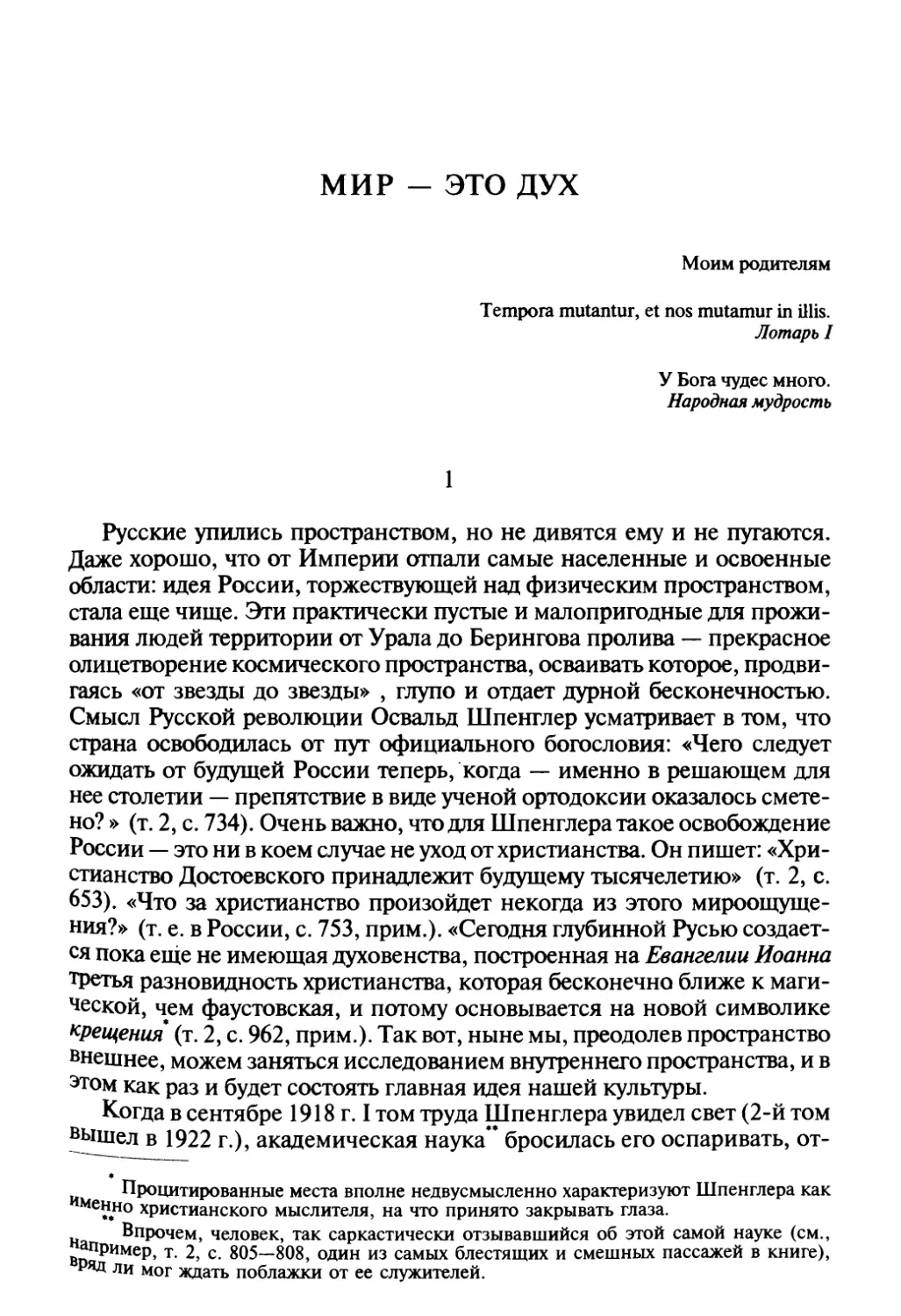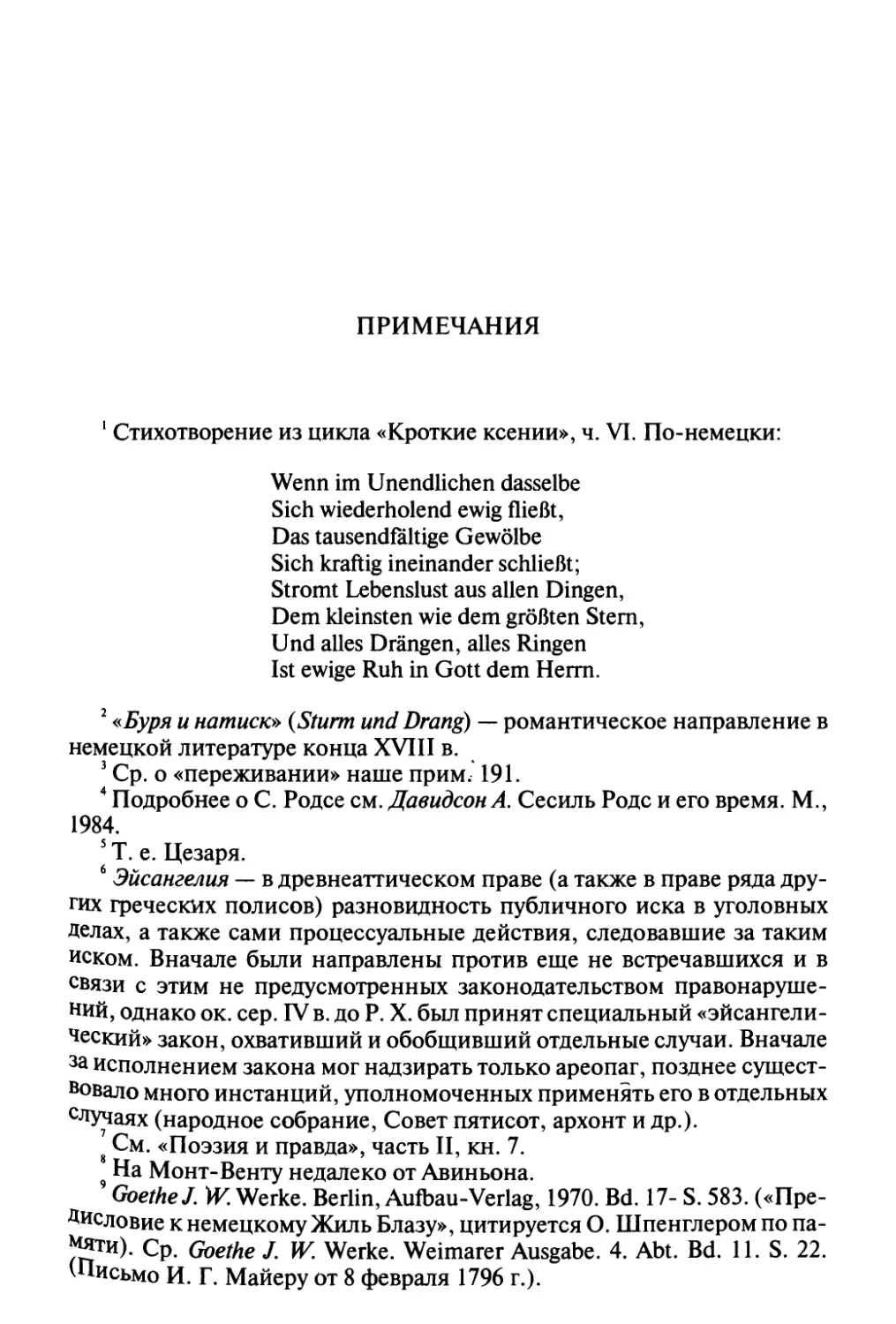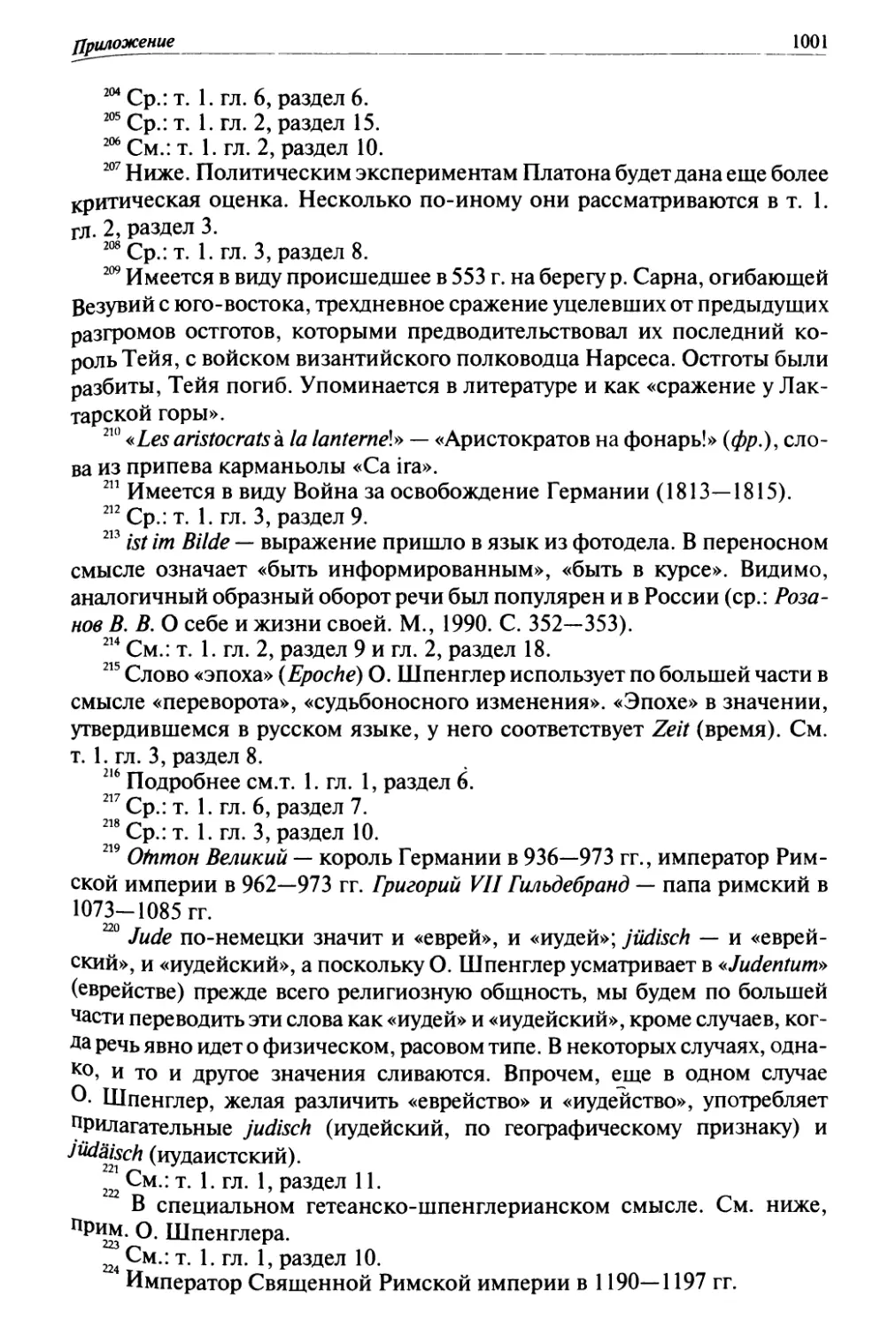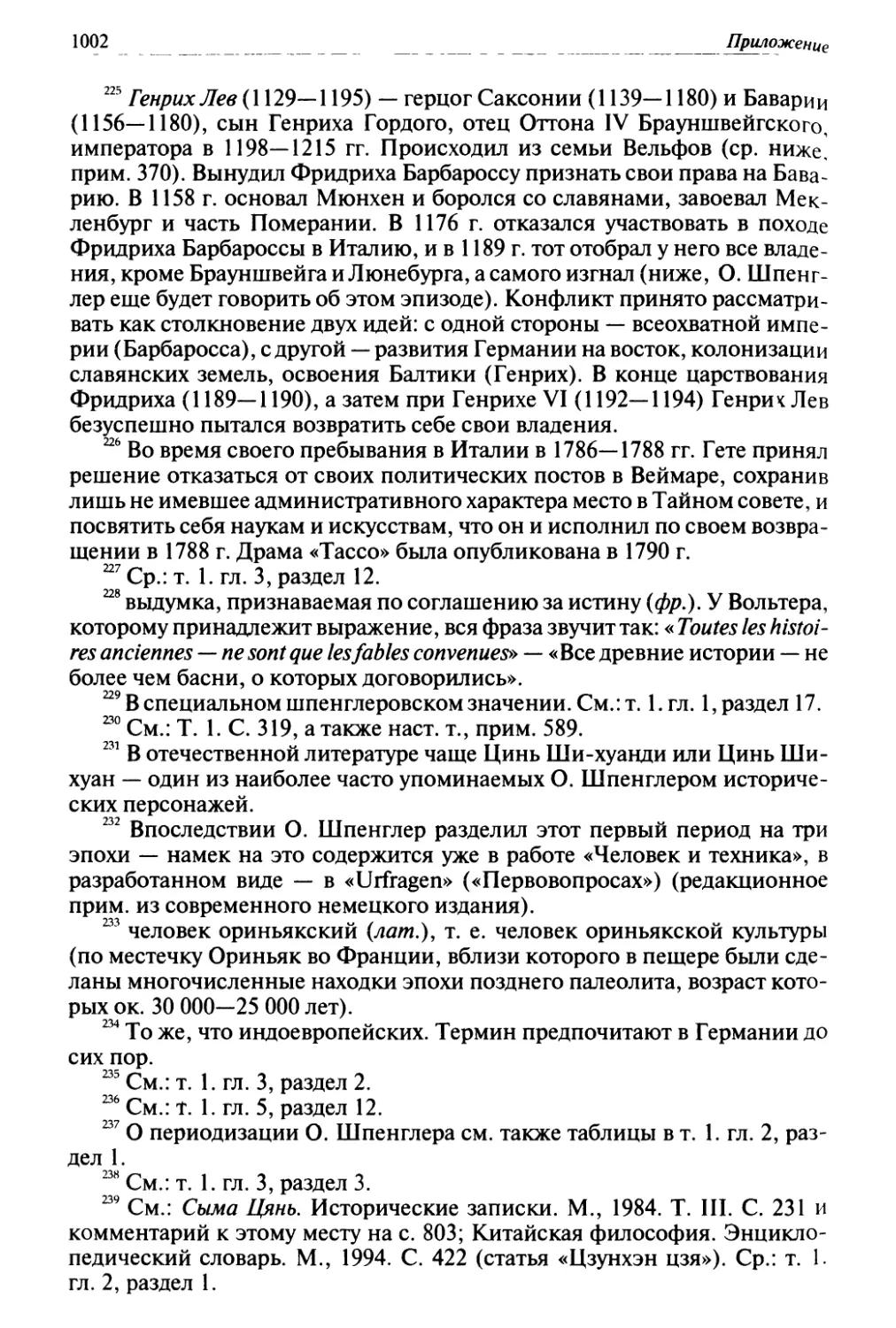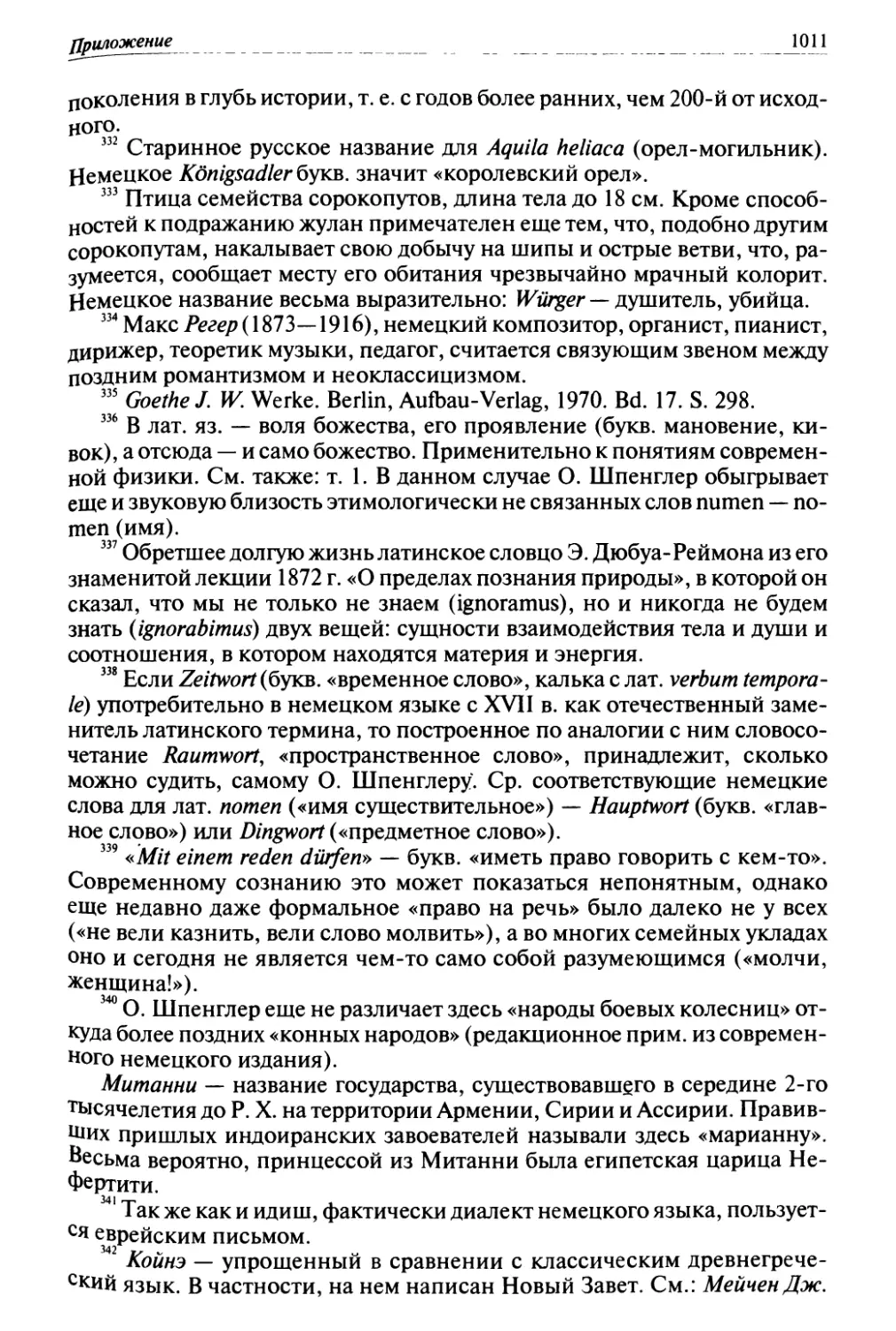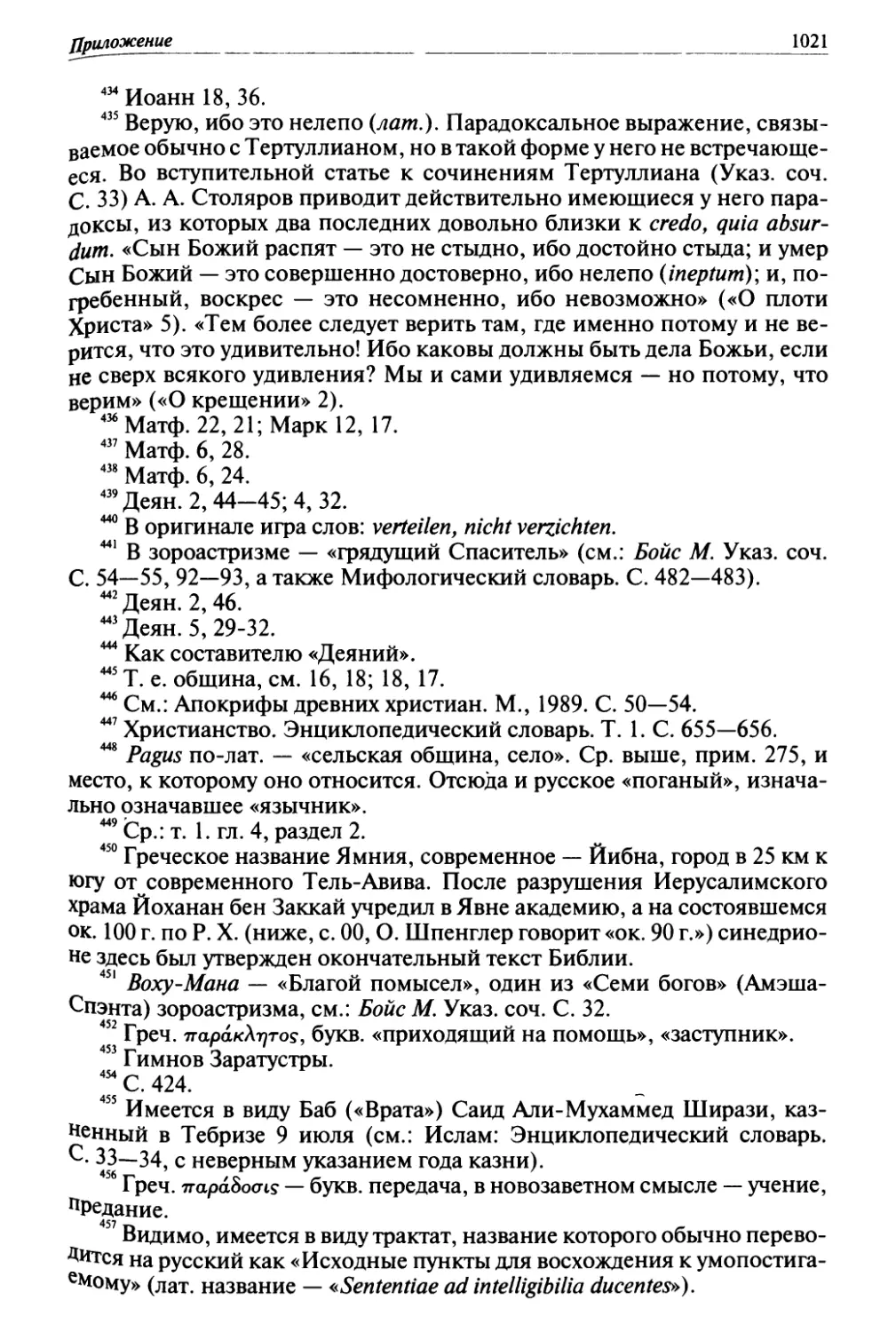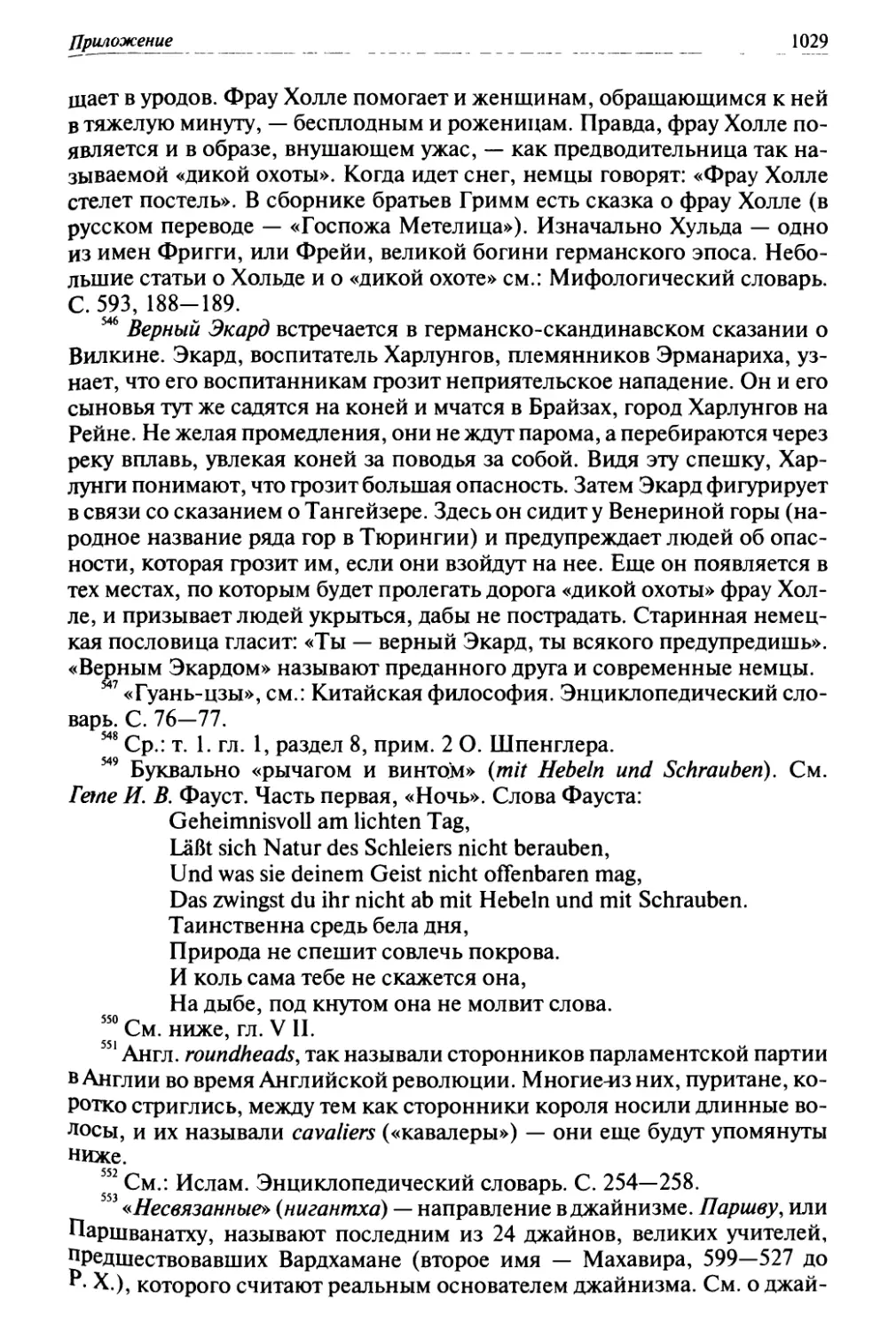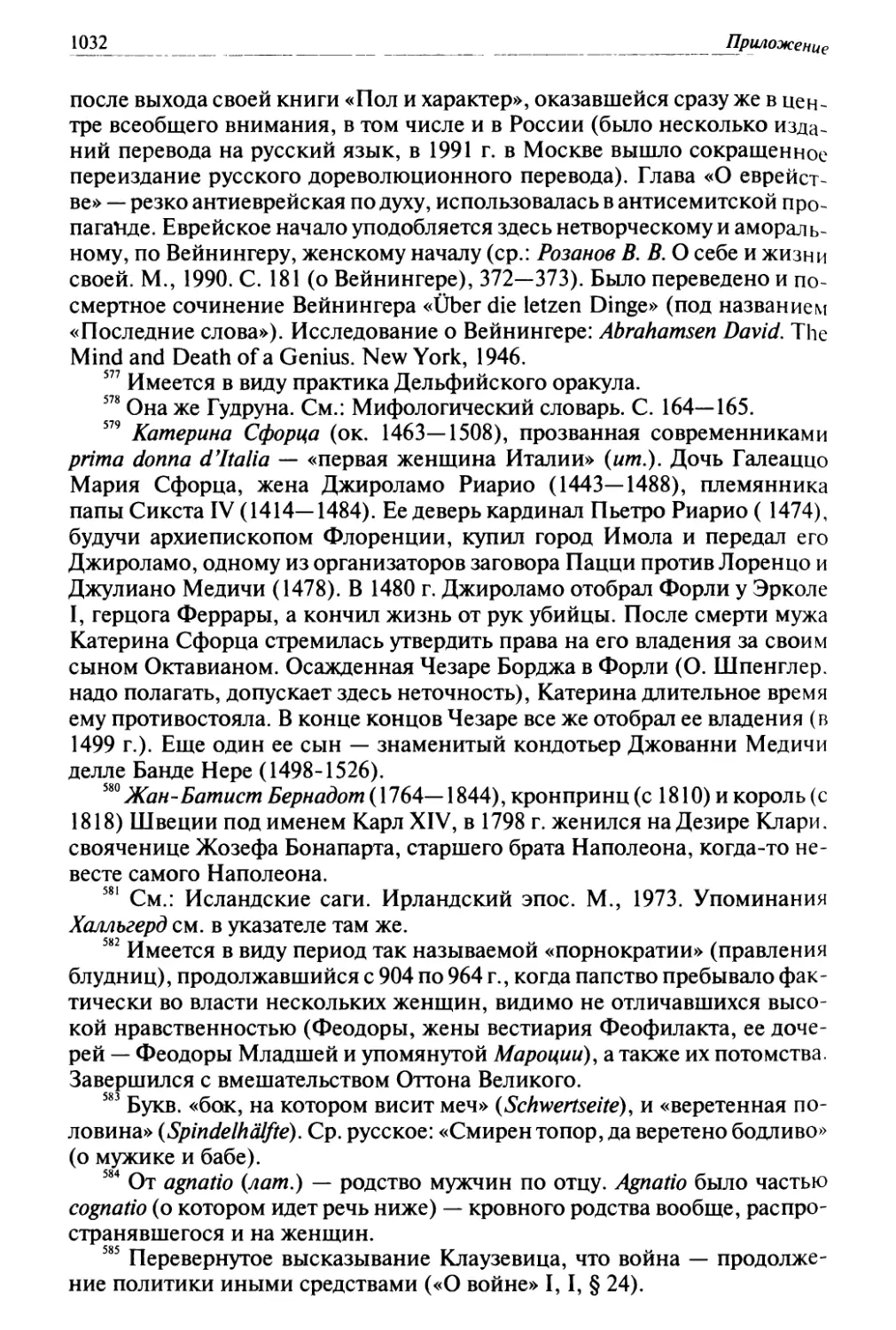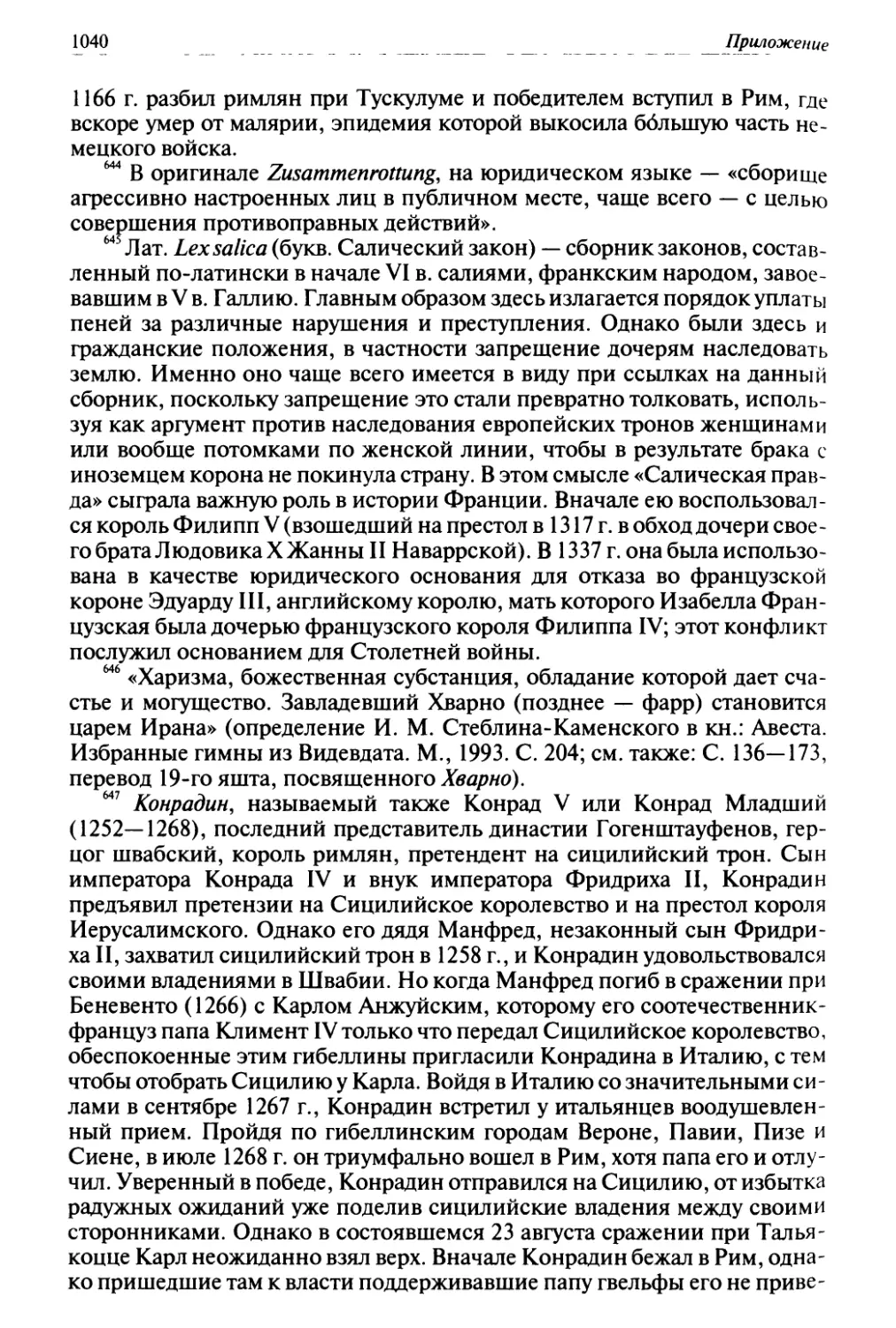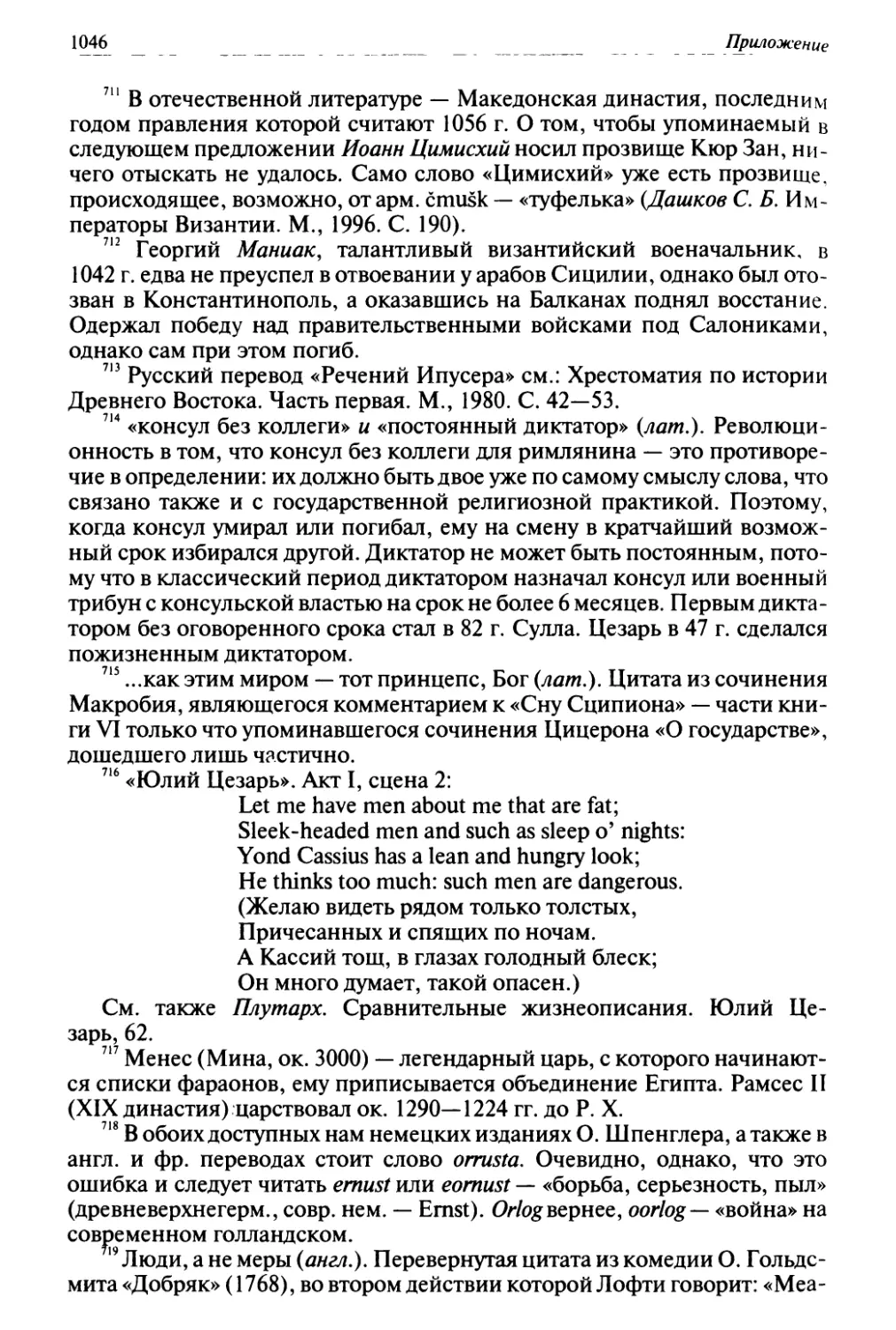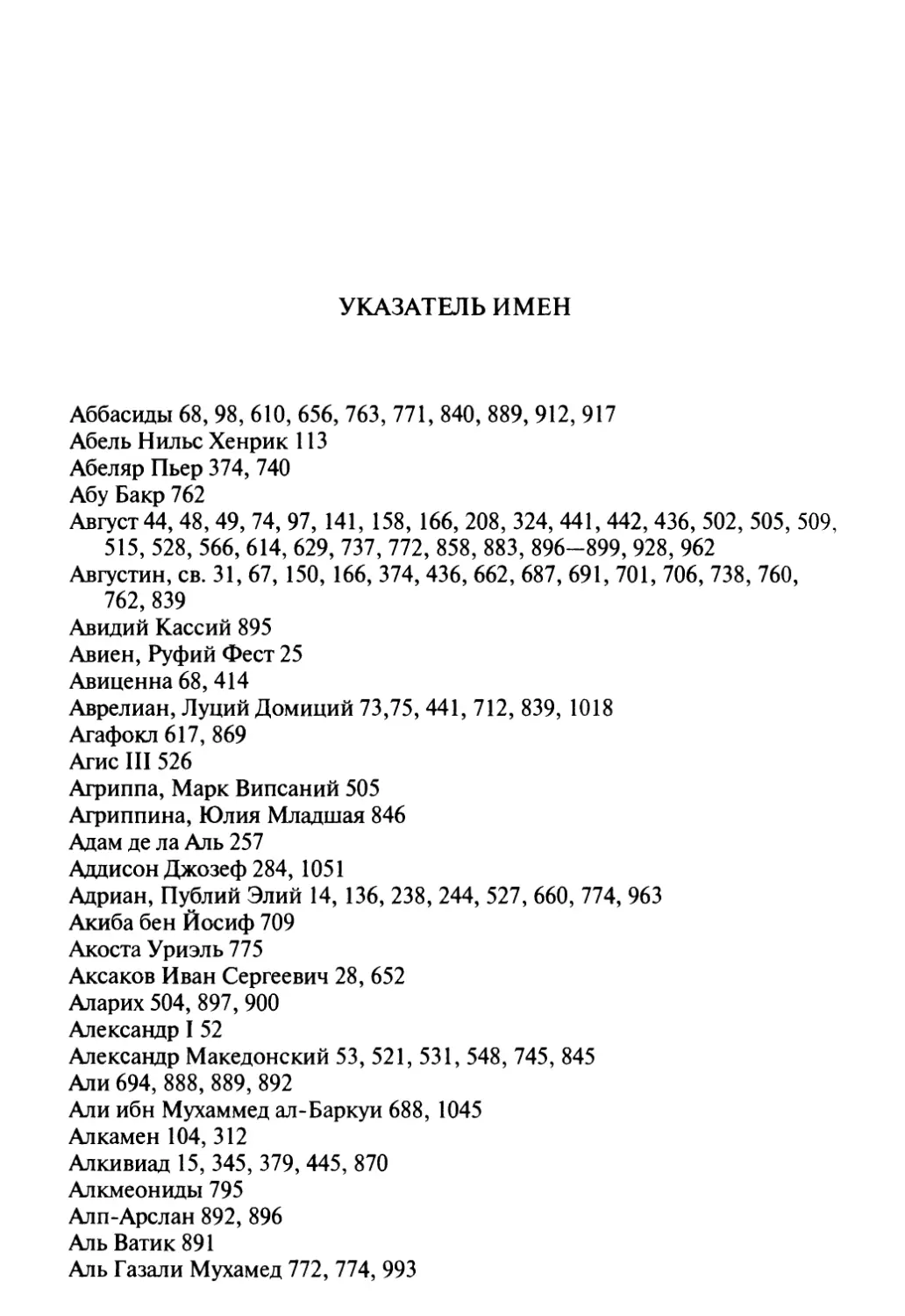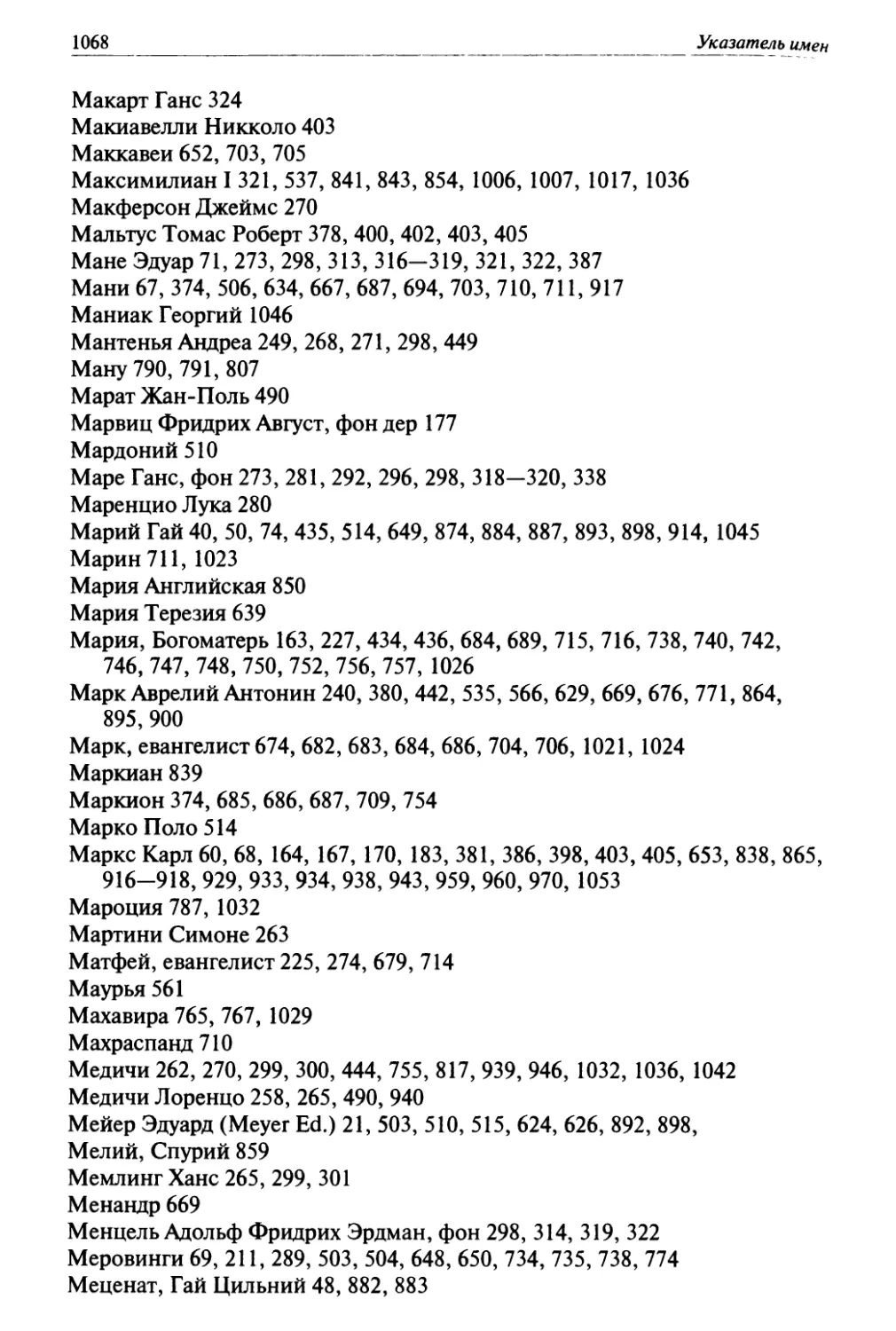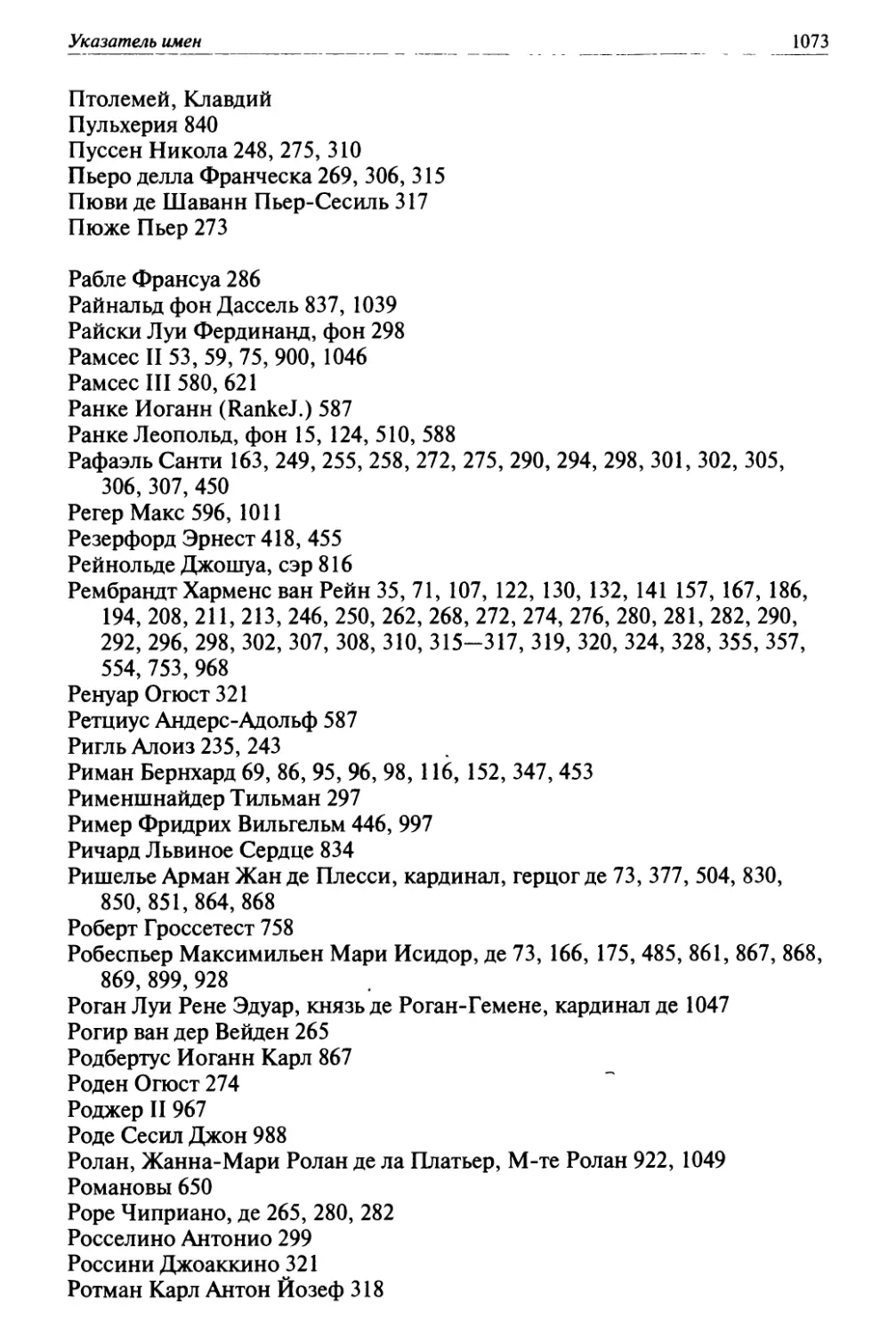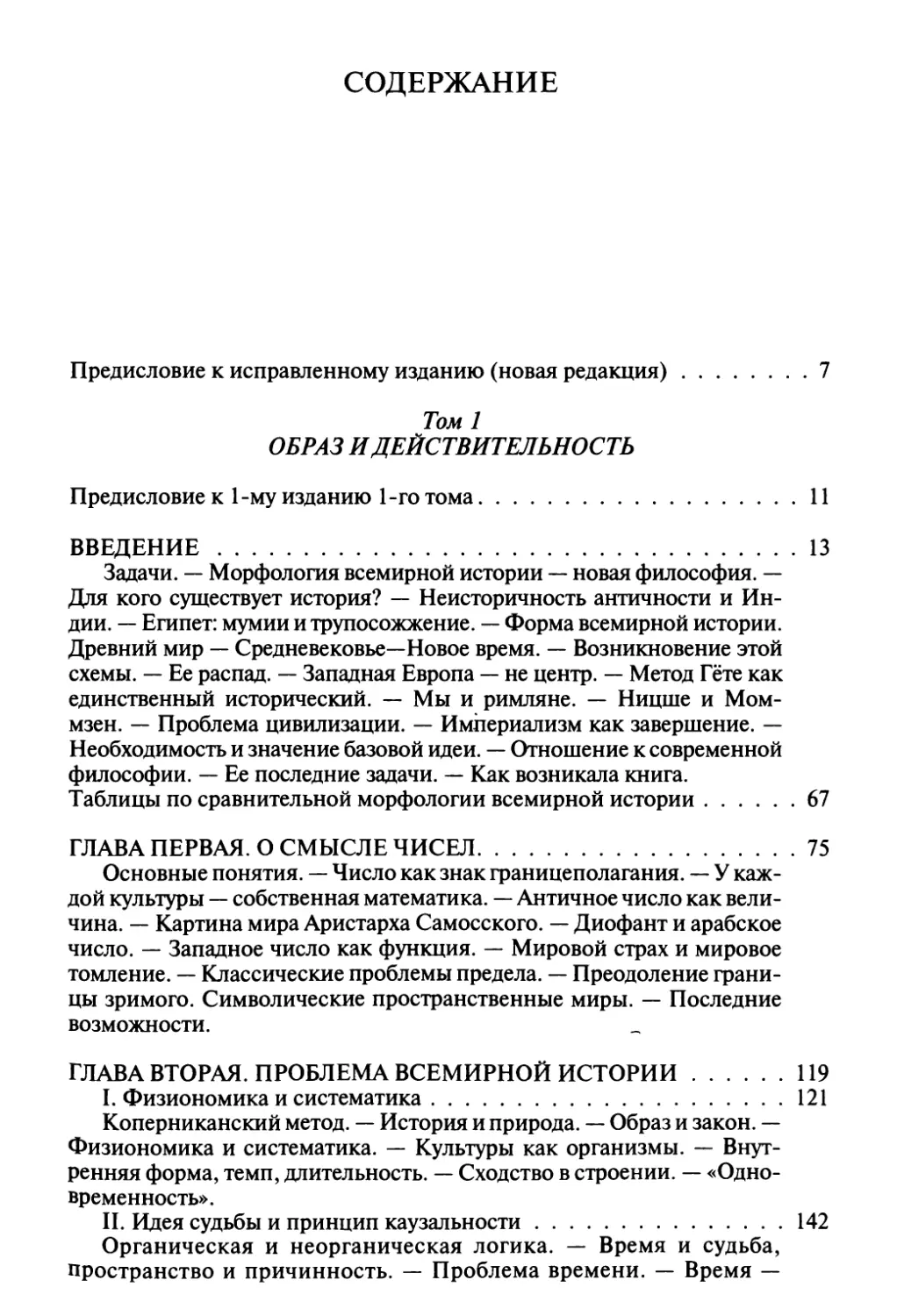Автор: Шпенглер О.
Теги: цивилизация культура прогресс культурное строительство история философия истории всемирная история история запада
ISBN: 978-5-9922-0577-0
Год: 2014
Текст
Освальд
ШПЕНГЛЕР
ЗАКАТ
ЗАПАДНОГО МИРА
ПОЛНОЕ ИЗДАНИЕ
В ОДНОМ ТОМЕ
Издательство
АЛЬФА-КНИГА
Москва
2014
УДК 008,009,1/14
ББК 71,6/8, 87 Нем.
Ш83
Серия основана
в 2007 году
OSWALD SPENGLER
DER INTERGANG DES ABENLANDES
UMRISSE EINER MORPHOLOGIE DER WELTGESCHICHTE
Перевод с немецкого
и примечания И.И. Маханькова
Шпенглер О.
Ш83 Закат Западного мира; Очерки морфологии мировой истории.
Полное издание в одном томе/Пер. с нем. — М.: «Издательство АЛЬ¬
ФА-КНИГА», 2014. — 1085 с.: ил. — (Полное издание в одном томе).
ISBN 978-5-9922-0577-0
Впервые в одном томе издается всемирно известное сочинение немецкого мысли¬
теля Освальда Шпенглера (1880—1936) «Закат Западного мира» (более знакомое рос¬
сийским читателям под названием «Закат Европы»), в котором он еще в 1923 году
предсказал объединение Европы и выдвинул собственную концепцию развития чело¬
веческой цивилизации, создал оригинальную классификацию типов человеческой
культуры, которые, подобно живым организмам, проходят стадии развития и в итоге
умирают, превращаясь в бесплодную механическую цивилизацию.
Эта книга Шпенглера оказала огромное влияние на развитие мировой историче¬
ской и философской мысли в XX веке.
УДК 008,009,1/14
ББК 71,6/8,87 Нем.
О Маханьков И. И., перевод, примеча¬
ния, 2008
О Художественное оформление,
ISBN 978-5-9922-0577-0 «Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2010
Когда все то ж в безбрежном круге
Летит, двоясь, из года в год,
Тысячекратных арок дуги
Смыкаются в единый свод;
Из дальних звезд и из былинок
Желанье быть течет рекой,
Но вечный жизни поединок —
Лишь вечный в Господе покой.
Гёте1
ПРЕДИСЛОВИЕ
к исправленному изданию
(новая редакция)
При завершении занявшего десять лет жизни труда, который из пер¬
вого краткого наброска вырос в неожиданно объемистый окончательный
вариант, будет, пожалуй, уместно бросить прощальный взгляд на то, чего
я желал и чего достиг, каким образом я это отыскал и как на все это смот¬
рю теперь.
Во введении к изданию 1918 г., этом фрагменте как по форме, так и
сущностно, я писал, что тут, по моему убеждению, дается неопровер¬
жимая формулировка мысли, которую, стоит ее раз высказать, никто
уже не возьмется оспаривать. Мне следовало бы сказать: стоит ей быть
понятой. Ибо для этого необходимо, как мне все более очевидно, при¬
чем не только в данном случае, но и в истории идей вообще, новое по¬
коление, которое уже явилось бы на свет с нужными задатками.
Еще я тогда прибавил, что это—лишь первая проба, отягощенная все¬
ми присущими ей промахами, проба неполная и, разумеется, не лишен¬
ная внутренних противоречий. Однако замечание это не было восприня¬
то с той серьезностью, которую придавал ему я сам. Всякий, кому удалось
заглянуть глубоко в предпосылки живого мышления, знает, что внутрен¬
не непротиворечивое узрение последних оснований бытия нам недоступ¬
но. Мыслитель — это человек, которому на веку написано символически
изобразить свою эпоху через собственные наблюдение и понимание. Ему
не остается выбора. Он мыслит так, как должен мыслить, и в конечном
счете для него истинно то, что явилось на свет вместе с ним в качестве
картины его мира. Вот то, что он не измышляет, но открывает в себе са¬
мом. Это его двойник, собственная его сущность, ухваченная в слове,
оформленный в учение смысл его личности, неизменный для его жизни,
потому что он тождествен своей жизни. Необходим лишь этот символи¬
ческий момент, вместилище и выражение человеческой истории. Все же
возникающее как порождение философской учености — излишне, и то¬
лько множит залежи специальной литературы.-.
Так что да будет мне позволено назвать суть мною открытого лишь
словом «истинное», истинное для меня, и, как я полагаю, для ведущих
умов грядущего, а не истинное «само по себе», т. е. в отвлечении от
условий крови и истории, потому что такого не существует в природе.
Однако все записанное мной посреди бури и натиска2 тех лет было, ра¬
зумеется, лишь чрезвычайно несовершенным выражением того, что до
отчетливости ясно маячило передо мной, так что задачей последующих
лет являлось придание моим мыслям убедительного вида, — на том
8
ПРЕДИСЛОВИЕ
уровне, который для меня достижим, — через расстановку фактов и от¬
тачивание словесной формы, в которую они облечены.
Довести этот вид до совершенства не удастся никогда, ведь и саму
жизнь доводит до совершенства только смерть. Однако мной была
предпринята еще одна попытка поднять даже самые ранние части ру¬
кописи на ту высоту наглядного изложения, которая доступна мне на
настоящую минуту, и тем самым я расстаюсь со своим трудом — с его
надеждами и разочарованиями, его достоинствами и промахами.
Между тем достигнутые результаты оказались вполне обнадежива¬
ющими для меня, — как, впрочем, и для других, если мне позволено
судить по тому действию, которое результаты эти начинают неспешно
оказывать на отдаленные области знания. Тем резче следует мне обо¬
значить ту границу, которую я наметил в этой книге для самого себя. В
ней не следует искать всего. В ней содержится лишь одна сторона того,
что вижу я перед собой, новый взгляд исключительно на одну лишь ис¬
торию, философию судьбы, причем первую в своем роде. Книга эта от¬
личается наглядностью от начала и до конца, будучи написана таким
языком, который силится явственно подражать вещам и взаимосвязям
вместо того, чтобы заменять их вереницами понятий, и она обращена
лишь к тем читателям, кто знает толк в переживании3 звучания слов, в
переживании образов. А это непросто, особенно тогда, когда благого¬
вение перед тайной, Гётево благоговение, не дает нам принимать по¬
нятийные членения за глубинные прозрения.
И здесь поднимается вопль насчет пессимизма, тот вопль, с кото¬
рым вечно-вчерашние набрасываются на всякую мысль, предназна¬
ченную исключительно для следопытов завтрашнего дня. Впрочем, я и
не писал для тех, кто принимает рассуждение о сути дела за само дело.
Кто любит дефиниции, тот не знает судьбы.
Понимать мир — это значит для меня стоять с миром вровень. Важна су¬
ровость жизни, а не понятие жизни, как тому учит страусова идеалистиче¬
ская философия. Тот, кто не дает себя обмануть понятиями, не восприни¬
мает это как пессимизм, а до прочих нам дела нет. Для серьезных читате¬
лей, которые ищут взгляда на жизнь, а не определения, я даю (из-за
слишком сжатой формы текста — в примечаниях) ряд трудов, способных
провести этот же взгляд дальше, в более удаленные области нашего знания.
В заключение я испытываю настоятельную потребность еще раз назвать
имена, которым я обязан практически всем: Гёте и Ницше. У Гёте я заимст¬
вовал метод, у Ницше — постановку вопросов, и если бы мне надо было
сформулировать свое отношение к последнему, я бы выразился так: я пре¬
вратил его провидение (Ausblick) в панораму (Uberblick). Гёте же по всему
своему способу мышления, сам того не зная, был учеником Лейбница. По-
тому-то я и воспринимаю вышедшее, к собственному моему удивлению, из
моих рук как нечто такое, что — несмотря на убожество и мерзость этих
лет — с гордостью желал бы назвать по имени: немецкая философия.
Бланкенбург-ам-Гарц, декабрь 1922 г.
Освальд Шпенглер
ОБРАЗ
И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
ТОМ1
ПРЕДИСЛОВИЕ
к 1-му изданию 1-го тома
Работа над первой редакцией этой книги, которой было отдано три
года, пришла к завершению как раз тогда, когда разразилась великая
война. К весне 1917 г. она была переработана еще раз, дополнена новы¬
ми деталями и прояснена. Чрезвычайные обстоятельства продолжали
препятствовать ее выходу в свет.
Посвященная общей философии истории, книга эта все же пред¬
ставляет собой — в более глубинном смысле — истолкование великой
эпохи, и в сени предвестий этой эпохи формировались ее основопола¬
гающие идеи.
Заглавие книги, определившееся еще с 1912 г., обозначает — в стро¬
гом смысле слова и с принятием во внимание «заката античности» —
охватывающую несколько столетий всемирно-историческую эпоху, в
начале которой мы теперь находимся.
Произошедшие события подтвердили многое и ничего не опроверг¬
ли. Обнаружилось, что эти мысли должны были явиться на сцену
именно теперь, причем в Германии, сама же война относится как раз к
тем предпосылкам, при которых можно определить последние штрихи
новой картины мира.
Ибо, по моему убеждению, здесь идет речь не о некой теории, мысли¬
мой наряду с другими и подлежащей исключительно логической про¬
верке, но о единственной и, так сказать, естественной современной фи¬
лософии, которую все смутно предчувствовали. Сказать это следует безо
всякого бахвальства. Исторически необходимая мысль, т. е. такая
мысль, которой суждено не прийтись на эпоху, но эпоху обозначить,
лишь в ограниченном смысле — собственность того, на чью долю выпа¬
ло быть ее автором. Она принадлежит всему тому времени вообще; она
бессознательно действует в мышлении всех и каждого, и лишь связанная
с привходящими обстоятельствами частная формулировка, без которой
никакой философии и быть не может, оказывается со своими недостат¬
ками и преимуществами судьбой (и — счастьем) отдельного человека.
Скажу напоследок лишь о своей надежде на то, что книга эта не ока¬
жется вовсе недостойной успехов Германии на фронте.
Мюнхен, декабрь 1917 г.
Освальд Шпенглер
ВВЕДЕНИЕ
1
В этой книге впервые предпринята попытка предугадать историю.
Речь идет о том, чтобы проследить судьбу одной культуры, а именно за¬
падноевропейско-американской, которая — единственная на плане¬
те — пребывает сейчас в совершенной форме, причем проследить ее на
стадиях, этой культурой еще не пройденных.
Очевидно, пока что никто и не догадывался о возможности решить
такую колоссальную по значимости задачу, а если и догадывался, то
имевшиеся к тому средства еще не были познаны либо ими пользова¬
лись ненадлежащим образом.
Есть ли логика в истории? Существует ли — по ту сторону единичных
событий во всей их случайности и непредсказуемости — так сказать, ме¬
тафизическая структура исторического человечества, сущностно неза¬
висимая от наблюдаемых повсюду, расхожих духовно-политических по¬
рождений на поверхности? Структура, которая и вызывает к жизни эту
действительность низшего порядка? Не являются ли великие черты все¬
мирной истории осмысленному взору всякий раз в одном и том же обли¬
ке, допускающем разгадку? И если это так, насколько далеко можно за¬
ходить с выводами такого рода? Можно ли в самой жизни (ибо человече¬
ская история — это совокупность и воплощение исполинских
биографий, в качестве субъекта и «я» которых уже само словоупотребле¬
ние непроизвольно в мысли и на практике вводит таких индивидуумов
высшего порядка, как «античность», «китайская культура» или «совре¬
менная цивилизация») отыскать некие этапы, которые должны быть
пройдены, причем в порядке, не допускающем никаких исключений?
Быть может, такие основополагающие для_всего органического поня¬
тия, как рождение, смерть, юность, старость, продолжительность жиз¬
ни, имеют в этом круге более строгий смысл, который просто пока что
никому не открылся? Короче говоря, не лежат ли в основе всего истори¬
ческого общие биографические пра-формы?
Закат Запада, который, как и соответствующий ему закат античнос¬
ти, представляет собой прежде всего ограниченное во времени и про¬
странстве явление, оказывается таким образом философской темой,
обнимающей в себе, если подойти к нему со всей серьезностью, все ве¬
ликие вопросы бытия.
14
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Если нам желательно узнать, какой вид будет иметь судьба западной
культуры при своем исполнении, нам прежде следовало бы постичь, что
такое культура, в каком отношении она пребывает к зримой истории, к
жизни, душе, к природе и духу, в каких формах она проявляется и до ка¬
кой степени эти формы — народы, языки и эпохи, битвы и идеи, государ¬
ства и боги, искусства и художественные произведения, науки, права,
экономические формы и мировоззрение, великие люди и великие собы¬
тия — являются символами и должны толковаться в качестве таковых.
2
Средство познания неживых форм — математический закон. Сред¬
ство для понимания живых форм — аналогия. Таково различие между
полярностью и периодичностью мира.
Сознание того, что число форм всемирно-исторических явлений
ограничено, что времена, эпохи, положения, лица повторяются как
типы, существовало всегда. Фигуру Наполеона вообще почти никогда и
не рассматривали без того, чтобы не оглянуться при этом на Цезаря и
Александра Великого (причем первый из них, как мы еще убедимся,
морфологически с ним несопоставим, сравнение же со вторым вполне
оправдано). Сам Наполеон додумался до родства своего положения с
положением Карла Великого. В конвенте говорили о Карфагене, подра¬
зумевая при этом Англию, а якобинцы называли себя римлянами. Быту¬
ют сравнения (весьма неодинаковой степени оправданности) Флорен¬
ции с Афинами, Будды — с Христом, древнего христианства — с совре¬
менным социализмом, римских финансовых воротил времен Цезаря —
с янки. Петрарка, первый страстный археолог (ведь сама археология
представляет собой выражение того чувства, что история повторяется)
вспоминал, размышляя о себе, о Цицероне, и еще совсем недавно Се¬
силь Родс, организатор английской Южной Африки, библиотека кото¬
рого располагала сделанным специально для него переводом жизнеопи¬
саний цезарей, уже применительно к себе — об Адриане4. Настоящим
проклятием для шведского короля Карла XII явилось то, что он с юных
лет таскал в кармане составленное Курцием Руфом жизнеописание
Александра Великого и хотел подражать этому завоевателю во всем.
В собственных политических меморандумах (таких, как «Considera¬
tions» [«Размышления» (фр.)] 1738 г.) Фридрих Великий уверенно про-
лагает себе путь посредством аналогий — дабы обозначить свое пони¬
мание всемирно-политического положения, как, например, когда он
сравнивает французов с македонянами при Филиппе, а немцев — с
греками. «Эльзас и Лотарингия, эти Фермопилы Германии, уже в руках
у Филиппа». Все это относилось главным образом к политике кардина¬
ла Флери. Далее следует сравнение политики, проводимой домами
Габсбургов и Бурбонов, с проскрипциями Антония и Октавиана.
Введение
15
Однако все это продолжало носить отрывочный и произвольный
характер и, как правило, в большей степени отвечало сиюминутной
потребности выразиться поэтично и остроумно, нежели углубленному
историческому чувству формы.
Так, сравнения Ранке, этого мастера искусной аналогии, Киакса-
ра с Генрихом I, набегов киммерийцев с набегами венгров, не имеют
никакого смысла в плане морфологии, и лишь немногим лучше часто
встречающиеся у него же сравнения греческих городов с республика¬
ми Возрождения. Более глубоко, хотя и имеет случайный характер,
сходство Алкивиада с Наполеоном. Ранке, как и остальным, они вну¬
шены плутарховым, т. е. народно-романтическим вкусом, который
принимает во внимание только сходство обстановки на мировой сце¬
не, и действует он уж никак не со строгостью математика, прозреваю¬
щего внутреннее родство двух групп дифференциальных уравнений,
между тем как непосвященный видит в них одни только различия во
внешней форме.
Нетрудно заметить, что, вообще говоря, подбор образов определя¬
ется исключительно прихотью, а вовсе не идеей, не ощущением необ¬
ходимости. Мы еще очень далеки от техники сравнения. Бездна срав¬
нений возникает уже теперь, однако все это бессистемно и бессвязно; и
если подчас они оказываются удачны в глубинном смысле, который
еще предстоит установить, мы обязаны этим везению, куда реже — ин¬
стинкту, и никогда — принципу. До сих пор никто и не помышлял о
том, чтобы разработать в этой области метод. Ни у кого не возникало
даже неясной догадки на тот счет, что здесь следует искать ответ, при¬
чем ответ единственный, из которого может возникнуть великое реше¬
ние проблемы истории.
Сравнения могли бы составить счастье исторического мышле¬
ния, поскольку они раскрывают органическую структуру истории.
Под воздействием всеохватной идеи их технике следовало бы разви¬
ться до не оставляющей выбора необходимости, до логического мас¬
терства. Доныне же они оказывались несчастьем, потому что, как
вопрос исключительно вкуса, сравнения избавляли историка от
осознания й усилия рассматривать язык исторических форм и их ана¬
лиз в качестве своей самой тяжелой и непосредственной, вплоть до
нынешнего времени все еще даже и не понятой (уж не говоря о том,
чтобы ее разрешить) задачи. Сравнения бывали частью поверхност¬
ными, как, например, когда Цезаря называли основателем римской
официальной газеты или, что еще хуже, до крайности запутанными,
связывающими внутренне чуждые для нас явления античного суще¬
ствования с нынешними модными словечками — такими, как соци¬
ализм, импрессионизм, капитализм, клерикализм, подчас же им бы¬
вала свойственна причудливая извращенность, как практиковавше¬
муся якобинцами культу Брута, того самого миллионера и
16
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
ростовщика Брута, который в качестве идеолога олигархического
государственного устройства при одобрении патрицианского сената
зарезал подлинного демократа*5.
3
Так задача, первоначально охватывавшая лишь ограниченную
проблему нынешней цивилизации, раздвигает свои рамки вплоть до
новой философии, и именно философии будущего, поскольку таковая
может произрасти на метафизически истощенной почве Запада. Одна¬
ко это — единственная философия, принадлежащая по крайней мере к
возможностям западноевропейского духа на его последующих стадиях,
выходя на идею морфологии всемирной истории, мира как истории, кото¬
рая в противоположность морфологии природы, бывшей доныне
единственной темой философии, охватывает в себе все образы и дви¬
жения мира в их глубочайшем и окончательнейшем смысле, и хотя де¬
лает это повторно, однако в совершенно ином порядке, обобщая все
познанное не в собирательную картину, но в образ жизни как таковой,
в образ не ставшего, но становящегося.
Мир как история, постигнутый, рассмотренный, оформленный исхо¬
дя из его противоположности, мира как природы — вот новый аспект че¬
ловеческого бытия на этой планете. Разработку этого представления во
всем его колоссальном практическом и теоретическом значении не при¬
знавали в качестве задачи вплоть до сегодняшнего дня, а, быть может,
лишь смутно ощущали, нередко усматривали вдали; однако никогда к
ней — со всеми вытекающими из нее последствиями — не отваживались
приступить. Здесь кроются две возможности того, как человек может
внутренне овладевать окружающим его миром и его переживать. Я мак¬
симально резко разделяю — по форме, но не сущностно — органическое
впечатление от мира от впечатления механического, совокупность обра¬
зов — от совокупности законов, образ и символ — от формулы и систе¬
мы, однажды реализуемое — от постоянно возможного, цель планомер¬
но упорядочивающей силы воображения — от целенаправленно разла¬
гающего опыта, чтобы назвать здесь еще никогда до сих пор не
замеченную, однако полную значения противоположность, а именно
области действия хронологического числа и числа математического".
* См. с. 899 сноска *.
Вот имевший гигантское значение и не преодоленный до сих пор промах Канта:
вначале он совершенно схематически связал внешнего и внутреннего человека с мно¬
гозначными и прежде всего не неизменными понятиями пространства и времени, а тем
самым абсолютно ненадлежащим образом увязал и геометрию с арифметикой, вместо
чего здесь следовало бы по крайней мере назвать куда более глубокую противополож¬
ность математического и хронологического числа. И геометрия и арифметика — это
пространственные исчисления, в высших своих областях вообще неразличимые. Ис¬
числение времени, понятие которого на уровне ощущений предельно ясно простецу, от¬
вечает на вопрос когда, а не что и сколько.
Введение
17
Соответственно вышесказанному в исследовании, подобном на¬
шему, речь должна идти не о том, чтобы принять как должное лежа¬
щие на поверхности злободневные события духовно-политического
порядка, расположить их по «причинам» и «следствиям» и проследить
в соответствии с их мнимыми, доступными для рассудка тенденция¬
ми. Такое — «прагматическое» — обращение с историей было бы не
чем иным, как замаскированным естествознанием, чего и не скрыва¬
ют приверженцы материалистического понимания истории, между
тем как их оппоненты еще недостаточно отчетливо сознают степень
сходства того и другого подхода. Речь идет не о том, чем являются
конкретные факты сами по себе и как таковые, как явления ка¬
кой-либо эпохи, но о том, что означают их явления, на что они намека¬
ют. Современные историки убеждены, что вершат куда больше, чем
от них требуется, когда привлекают религиозные, социальные по¬
дробности, всякого рода мелочи из истории искусств, чтобы «проил¬
люстрировать» политическое содержание эпохи. Однако они забыва¬
ют главное, а именно главное постольку, поскольку зримая исто¬
рия — это выражение, знак, оформившаяся душевность. Я не отыскал
еще ни одного исследователя, который занялся бы всерьез изучением
морфологического родства, внутренне связывающего язык форм всех
культурных областей, кто бы обстоятельно углубился — поверх всех
фактов политической жизни — в краеугольные и основополагающие
математические идеи эллинов, арабов, западноевропейцев, в смысл
их ранней орнаментики, их архитектонических, метафизических,
драматических базовых форм, подбор и направление их великих ис¬
кусств, подробности их художественных приемов и выбор материа¬
лов, уж не говоря о том, чтобы познать все эти предметы в их решаю¬
щем значении для проблемы исторической формы. Кому ведомо, что
между дифференциальным исчислением и династическими госу¬
дарственными принципами эпохи Людовика XIV, между античной
государственной формой полиса и эвклидовой геометрией, между
пространственной перспективой западноевропейской живописи и
преодолением пространства посредством дорог, телефонов и огне¬
стрельного оружия, между контрапунктированной инструменталь¬
ной музыкой и кредитной системой в экономике существует глубин¬
ная формальная связь? Будучи рассмотрены под этим углом зрения,
даже самые прозаические факты из сферы политики принимают сим¬
волический, прямо-таки метафизический характер и, быть может,
впервые в истории такие предметы, как египетская система управле¬
ния, античная монетная система, аналитическая геометрия, чек, Су¬
эцкий канал, китайское книгопечатание, прусская армия и римская
техника возведения дорог понимаются здесь в равной степени как
символы и в качестве таковых истолковываются.
Здесь-то и выясняется, что просветленного посредством теории ис¬
кусства исторического рассмотрения все еще не существует: то, что так
18
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
называют, привлекает свои методы почти исключительно из сферы той
науки, в которой — единственной из всех — методы познания достигли
строгой разработанности, а именно из физики. Прослеживая причин¬
но-следственные связи, историк пребывает в убеждении, что занима¬
ется историческим исследованием. Примечателен тот факт, что фило¬
софия в старом стиле никогда и не помышляла о возможности иного
отношения между понимающим человеческим бодрствованием и
окружающим миром. Кант, установивший в главном своем труде фор¬
мальные правила познания, привлек в качестве объекта деятельности
рассудка лишь природу, причем никто этого так до сих пор и не заметил.
Для него знание — это лишь математическое знание. Когда он говорит
о прирожденных формах созерцания и категориях рассудка, он никог¬
да не помышляет о совершенно иных по характеру понятиях историче¬
ских впечатлений, а Шопенгауэр, который, что весьма многозначите¬
льно, принимает во внимание из кантовских категорий лишь причин¬
ность, говорит об истории исключительно с презрением*. То, что
помимо необходимости причины и следствия (я назвал бы это логикой
пространства) в жизни существует еще и органическая необходимость
судьбы (логика времени), представляет собой факт глубочайшей внут¬
ренней достоверности, факт, наполняющий собой все вообще мифо¬
логическое, религиозное и художественное мышление и образующий
суть и ядро всякой истории в противоположность природе, оставаясь,
однако, недоступным для тех форм познания, которые исследует
«Критика чистого разума». Но до соответствующей теоретической
формулировки еще далеко. Как пишет Галилей в знаменитом месте
своего «Saggiatore» [«Пробирщика» (ши.)], в великую книгу природы
философия «scritta in lingua matematica» [вписана математическим язы¬
ком (ит.)] Однако мы все еще ожидаем ответа философа на вопрос, на
каком языке написана история и как его следует читать.
Математика и принцип причинности ведут к естественному, хроно¬
логия и идея судьбы — к историческому упорядочению явлений. Оба
этих порядка охватывают — каждый для себя — весь мир. Другим оказы¬
вается только глаз, в котором и через который осуществляется этот мир.
4
Природа — это образ, посредством которого человек, принадлежа¬
щий к высшей культуре, придает единство и смысл непосредственным
впечатлениям своих чувств. История — образ, исходя из которого его
Надо быть в состоянии прочувствовать, насколько глубина формального комби¬
нирования и энергия абстрагирования в области, например, исследования Возрожде¬
ния или истории великого переселения народов отстает от тех, которые являются
чем-то само собой разумеющимся для теории функций и теоретической оптики. Срав¬
нивая историка с физиком и математиком, мы видим, насколько небрежен первый,
стоит ему только перейти от собирания и упорядочения материала к его истолкованию.
Введение'
19
фантазия силится постичь живое бытие мира в связи с собственной
жизнью, углубив тем самым ее действительность. Способен ли он к та¬
кому образотворчеству и какой из них господствует в его бодрствую¬
щем сознании — вот первовопрос всего человеческого существования.
Здесь имеются две возможности миротворения человеком. Тем са¬
мым уже сказано, что не обязательно они же и осуществляются. Так что
если впоследствии мы зададимся вопросом относительно смысла всей
истории, вначале надо будет разрешить вопрос, прежде никогда не ста¬
вившийся. Для кого существует история? На первый взгляд, парадокса¬
льный вопрос. Несомненно, для всякого, поскольку всякий человек со
всем его бытием и бодрствованием является составной частью исто¬
рии. Однако большая разница, живет ли некто под постоянным впе¬
чатлением того, что его жизнь — это составная часть куда большей био¬
графии, простирающейся на столетия или тысячелетия, или же он вос¬
принимает ее как нечто в самом себе закругленное и завершенное.
Разумеется, для последнего рода бодрствования не существует ника¬
кой всемирной истории, никакого мира как истории. Однако что проис¬
ходит, если на таком антиисторическом основании базируется самосо¬
знание целой нации, когда из него исходит целая культура? Каковой
должна ей представляться действительность? Мир? Жизнь? Если мы
задумаемся над тем, что в миросознании греков все пережитое, причем
не одно только личное, но и все прошедшее вообще тотчас же перехо¬
дило в лишенный времени, неподвижный, мифически оформленный
фон извечно мгновенного настоящего — до такой степени, что история
Александра Великого еще прежде его смерти начала для античного со¬
знания сливаться воедино с легендой о Дионисе, а Цезарь восприни¬
мал свое происхождение от Венеры как по крайней мере не противоре¬
чащее здравому смыслу, нам придется признать, что для нас, людей За¬
пада, с нашим мощным ощущением временных отстояний, на
основании которого повседневное летоисчисление в системе «до» и
«после» Рождения Христа стало чем-то само собой разумеющимся,
почти невозможно заново пережить такие душевные состояния, одна¬
ко мы не имеем права просто игнорировать этот факт в контексте проб¬
лемы истории.
Что означают дневники и автобиографии для отдельного человека,
тем же оказываются для души целой культуры исторические исследо¬
вания в наиболее широком объеме, когда оВи включают в себя также и
все разновидности сравнительного психологического анализа чуждых
народов, эпох, обычаев и нравов. Однако античная культура не облада¬
ла никакой памятью, никаким историческим органом в этом специа¬
льном смысле. «Память» античного человека (при этом мы, разумеет¬
ся, бесцеремонно вкладываем в чужую душу понятие, выведенное на
основании собственной душевной картины) представляет собой нечто
совершенно иное, потому что здесь в бодрствовании отсутствуют про¬
шлое и будущее в качестве упорядочивающих перспектив, наполняет
20
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
же его с неведомой нам мощью «чистое настоящее», которым так часто
восторгался Гёте во всех проявлениях античной жизни, но в первую
очередь в скульптуре. Это чистое настоящее, величайшим символом
которого является дорическая колонна, оказывается на самом деле от¬
рицанием времени (направления). Для Геродота и Софокла, точно так
же, как для Фемистокла и римского консула прошлое тут же испаряет¬
ся в покоящееся вне времени впечатление с полярной, непериодической
структурой (потому что таков конечный смысл одухотворенного ми¬
фотворчества), в то время как для нашего мироощущения и внутренне¬
го взора прошлое представляет собой четко расчлененный, направлен¬
ный во времени организм, образованный веками и тысячелетиями.
Однако лишь этот фон и придает жизни — как античной, так и запад¬
ной — особую окраску. То, что называл космосом грек, было картиной
мира, который не становится, но есть. Следовательно, сам грек был та¬
ким человеком, который никогда не становился, но извечно был.
Поэтому античный человек, хотя он располагал строгой хроноло¬
гией и календарным исчислением, а потому был прекрасно знаком с
мощным, проявляющимся в наблюдении небесных тел и точном изме¬
рении громадных временнйх протяжений ощущением вечности и ни¬
чтожества настоящего мгновения в вавилонской и прежде всего в еги¬
петской культуре, внутренне ничего из этого не усвоил. То, что упоми¬
нают иной раз античные философы, они лишь услышали от других, но
не испытали сами. Открытое же отдельными светлыми умами, проис¬
ходившими по преимуществу из азиатской Греции, такими как Гип¬
парх и Аристарх, отвергалось как стоическим, так и аристотелевским
умонастроением и вообще не принималось во внимание за узкими пре¬
делами специальной дисциплины. Ни у Платона, ни у Аристотеля не
было обсерватории. В последние годы Перикла в Афинах было прове¬
дено постановление народного собрания, грозившее строгой формой
иска эйсангелии6 всякому, кто станет распространять астрономиче¬
ские теории. То был акт глубочайшей символики, в котором вырази¬
лась воля античной души изгнать из своего миросознания даль в любом
смысле этого слова.
Что касается античной историографии, взглянем на Фукидида. Ма¬
стерство этого автора заключается в подлинно античной способности
осмысленно и на себе самом пережить современные события, к чему до¬
бавляется еще тот изумительный дар проникновения в факты прирож¬
денного государственного деятеля, который сам был полководцем и
администратором. Этот практический опыт, который, к сожалению,
путают с чувством исторического, справедливо делает Фукидида в гла¬
зах чистых ученых, занимающихся историографией, непревзойден¬
ным образцом. Что, однако, осталось для него всецело недоступным —
это тот наделенный перспективой взгляд на историю столетий, кото¬
рый, по нашему представлению, понятие историка должно включать в
себя как нечто само собой разумеющееся. Все славные творения в жан¬
Введение
21
ре античного исторического повествования ограничиваются полити¬
ческой современностью автора, что самым резким образом контрасти¬
рует с нами, поскольку все без исключения наши исторические шедев¬
ры трактуют отдаленное прошлое. Фукидид провалился бы уже на теме
греко-персидских войн, не говоря об общей истории Греции или тем
более истории Египта. Он, как и Полибий с Тацитом, также практиче¬
ские политики, тут же утрачивает всю свою проницательность, стоит
ему натолкнуться в прошлом, зачастую на отстоянии в несколько деся¬
тилетий, на такие движущие силы, которые из собственной практики
знакомы ему не были. Полибию непонятна 1-я Пуническая война, Та¬
циту невнятен уже Август, а совершенно неисторическое (при сравне¬
нии с нашими ориентированными перспективно исследованиями)
мышление Фукидида раскрывается уже в его неслыханном утвержде¬
нии, сделанном им прямо на первой же странице его труда, что до его
времени (приблизительно 400 г.!) в мире не происходило ничего досто¬
памятного (об реуаХа yeveaOai)*.
По этой причине античная история вплоть до греко-персидских
войн, а сверх того еще и традиционная периодизация куда более позд¬
них эпох являются продуктом мифического по сути своей мышления.
История государственного устройства Спарты (Ликург, чья биография
рассказывается во всех подробностях, был, вероятно, незначительным
лесным божеством на Тайгете) представляет собой измышление элли¬
нистического времени, а римская история до Ганнибала пребывала в
состоянии активного созидания еще во времена Цезаря. Изгнание
Тарквиниев Брутом — рассказ, моделью для которого послужил один
В высшей степени наивными оказались начавшиеся лишь очень поздно попытки
греков создать нечто наподобие календаря или хронологии по египетскому образцу.
Исчисление времени по Олимпиадам вовсе не представляет собой эры, как, например,
христианское исчисление времени, а кроме того, это очень поздний, чисто литератур¬
ный паллиатив, не имевший хождения в народе. Народ вообще не испытывал потреб¬
ности в исчислении, при помощи которого можно было бы связать воедино опыт дедов
и прадедов, пускай там отдельные ученые продолжали интересоваться проблемой ка¬
лендаря. Важно здесь не то, плох календарь или хорош, а находится ли он в употребле¬
нии, протекает ли в соответствии с ним жизнь общества в целом. Однако измышлени¬
ем чистой воды являются как списки победителей до 500 г., так и древнейшие списки
аттических архонтов или римских консулов. В отношении колонизации не существует
ни одной подлинной даты (Meyer Ed. , Gesch. d. Alt. II, 442; Beloch, Griech. Gesch. I, 2,
219). До V в. никто в Греции и не помышлял о том, чтобы делать выписки из отчетов об
исторических событиях (Beloch, I, 1, 125). До нас дошла надпись с текстом договора
между Элидой и Хереей, который должен был действовать «сотню лет начиная с ны¬
нешнего года». Что это был за год, не указано. Так что через некоторое время никто
уже и не знал, как долго существует договор, и очевидно, что никто этого и не предви¬
дел. Вероятно, эти люди настоящего вообще о нем забыли уже очень скоро. Отличите¬
льным признаком легендарно-ребяческого характера античной картины истории явля¬
ется то, что упорядоченная датировка таких, например, фактов, как «Троянская вой¬
на», которая по отстоянию соответствует нашим Крестовым походам, была бы воспри¬
нята прямо-таки как погрешность против хорошего стиля. Также и географические
познания античности оказываются далеко позади египетских и вавилонских. Эд. Мей¬
ер (Gesch. d. Alt. Ill, 102) демонстрирует, как на отрезке от Геродота (основывавшегося
на персидских источниках) до Аристотеля приходило в упадок знание о том, как выгля¬
дит Африка. То же касается и римлян как наследников карфагенян. Вначале они пере¬
сказывали чужие сведения, а потом постепенно их забывали.
22
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
из современников цензора Аппия Клавдия (310 г.). Имена римских ца¬
рей были образованы на основе имен разбогатевших плебейских родов
(К. Й. Нойман). Уж не говоря о «Сервиевой конституции», ко времени
Ганнибала не существовало еще даже и знаменитых Л ициниевых земе¬
льных законов (Б. Низе). Стоило Эпаминонду освободить мессенцев и
аркадян и объединить их в одном государстве, как они придумали себе
древнюю историю. Чудовищно здесь не то, что такое происходило, но
то, что истории другого рода по сути и не было вовсе. Невозможно с
лучшей наглядностью продемонстрировать противоположность за¬
падного и античного воззрения на все историческое, нежели указав на
то, что вся римская история до 250 г., какой ее знали при Цезаре, в сущ¬
ности фальшивка, а то немногое, что удалось установить нам, было аб¬
солютно неведомо римлянам более поздних эпох. Отличительной осо¬
бенностью того смысла, который вкладывали в слово «история» в ан¬
тичности, является то, что александрийские романы оказали в
отношении материала сильнейшее действие на вполне серьезную по¬
литическую и религиозную историографию. Никто и не помышлял о
том, чтобы проводить фундаментальное различие между романами и
данными, основанными на актах. Когда в последние годы существова¬
ния республики Варрон взялся за то, чтобы зафиксировать римскую
религию, стремительно исчезавшую из народной памяти, он разделил
божества, служение которым государство скрупулезнейшим образом со¬
блюдало, на dicerti [известные боги (лат.)] и diincerti [неизвестные боги
(лат.)], т. е. на таких, о которых еще было что-то известно, и таких, от
которых, несмотря на продолжающийся общественный культ, оста¬
лось одно лишь имя. И в самом деле, религия римского общества его
времени, какой ее черпали из римских поэтов, не испытывая при этом
никаких подозрений, не только Гёте, но и сам Ницше — это по боль¬
шей части порождение эллинизировавшей литературы и не имело поч¬
ти никакой связи с древним культом, которого никто уже не понимал.
Моммзен четко сформулировал западноевропейскую точку зрения,
когда назвал римских историков (имея в виду в первую очередь Тацита)
людьми, «говорившими то, что можно было бы и умолчать, и замалчи¬
вавшими то, что было необходимо сказать».
Индийская культура, чья идея (брахманской) нирваны является
наиболее определенным выражением совершенно неисторической
души, какое только можно приискать, никогда не обладала ни малей¬
шим чутьем на «когда» в каком бы то ни было смысле. Не существует
никакой подлинно индийской астрономии, никакого индийского ка¬
лендаря, а значит никакой индийской истории, поскольку под этим
понимается духовный концентрат сознательного развития. О зримом
течении этой культуры, органическая часть которой завершилась с
возникновением буддизма, мы знаем куда меньше, нежели об истории
античной, несомненно богатой великими историческими событиями в
период с XII по VIII в. И та, и другая запечатлелась исключительно в
Введение
23
сновидчески-мифическом обличье. Лишь целым тысячелетием спустя
после Будды, ок. 500 г. после Р. X., на Цейлоне возникла «Махавамса»,
отдаленно напоминающая нечто вроде историографии.
Миросознание индийского человека до такой степени неисторич¬
но, что даже появление на свет написанной каким-либо автором книги
не воспринималось им в качестве определенного во временнбм смысле
события. Вместо органического ряда персонально обособленных сочи¬
нений постепенно возникала аморфная масса текстов, в которую вся¬
кий вписывал все, что заблагорассудится, при том, что понятия инди¬
видуальной духовной собственности, развития мысли, духовной эпохи
не играли здесь никакой роли. В таком анонимном виде (а это и вид всей
вообще индийской истории) предстает нашему взору индийская фило¬
софия. Сравните с ней очерченную донельзя резче — как книгами, так
и лицами — историю философии Запада.
Индийский человек забывал все, египетский же ничего не мог за¬
быть. Индийского портретного искусства (этой биографии in писе [в
зародыше (лат.)]) никогда и не существовало вовсе; египетская же ску¬
льптура вообще почти не знает другой темы.
Египетская душа, с ее преимущественно историческими задатками
и ее пра-мировой страстной устремленностью к бесконечности, вос¬
принимала прошлое и будущее в качестве своего цельного мира, а на¬
стоящее, тождественное с бодрствующим сознанием, виделось ей
лишь тонкой границей между двумя неизмеримыми далями. Египет¬
ская культура является воплощением заботы (этого душевного аналога
дали), заботы о будущем, чтонаходило выражение в выборе гранита и
базальта в качестве художественных материалов*, в выбитых на камне
документах, в формировании продуманной до деталей системы управ¬
ления и в развитии густой сети орошения**, и по необходимости связан¬
ной с этим заботы о прошлом. Египетская мумия представляет собой
В противоположность этому — и без каких-либо аналогов в истории искусства —
греки, в пику микенской эпохе, причем в изобилующей камнем стране, от каменного
строительства вернулись обратно к использованию дерева, чем и объясняется отсутст¬
вие архитектурных остатков, относящихся к эпохе между 1200 и 600 гг. Египетская рас¬
тительная колонна изначально была каменной, дорическая же — деревянной. В этом о
себе заявляет глубинная враждебность античной души к длительности.
Выполнил ли хоть один греческий город хотя бы одну масштабную работу, которая
говорила бы о заботе о будущем поколении? Система улиц и оросительная сеть, наличие
которых было доказано в микенскую, т. е. доантичную'эпоху, с явлением на свет антич¬
ных народов (значит, с начала гомеровского времени) пришли в упадок и оказались за¬
быты. Чтобы понять всю необычность того факта, что буквенное письмо было перенято
античностью лишь после 900 г., и то в ограниченном объеме и несомненно лишь для са¬
мых неотложных хозяйственных целей, что с несомненностью доказывается отсутствием
эпиграфических находок, следует вспомнить, что в египетской, вавилонской, мексикан¬
ской и китайской культурах разработка письменности начинается в седой древности, что
германцы создали себе рунический алфавит, а впоследствии засвидетельствовали свое
благоговение перед письмом все вновь и вновь повторяющейся орнаментальной разра¬
боткой каллиграфических шрифтов, между тем как ранняя античность совершенно иг¬
норировала множество употреблявшихся на Юге и Востоке систем письма. Мы распола¬
гаем многочисленными письменными памятниками из хетгской Малой Азии и с Крита,
от гомеровской же эпохи у нас нет ни одного, ср. с. 609 слл.
24
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
символ высшего порядка. Тело покойника увековечивали подобно
тому, как его личности, ка, сообщали вечную длительность посредст¬
вом исполненных зачастую во многих экземплярах скульптурных
изображений, к понимаемому в весьма возвышенном смысле сходству
с которыми она была привязана.
Существует тесная связь между поведением по отношению к исто¬
рическому прошлому и представлением о смерти, что выражается в
форме погребения. Египтянин отрицает бренность, античный человек
подтверждает ее всем языком форм своей культуры. Египтяне сохра¬
няли мумии также и собственной истории: хронологические даты и
числа. В то время как от истории греков до Солона не уцелело ничего —
ни одной даты, ни одного подлинного имени, ни одного реального со¬
бытия — что придает преувеличенную весомость тем остаткам, кото¬
рые нам только и известны, мы знаем имена и даже точные даты прав¬
ления многих египетских царей в 3-м тысячелетии и еще раньше, а уж в
отношении Нового царства на этот счет следовало бы иметь лишенные
пропусков сведения. Еще и сегодня тела великих фараонов с вполне ха¬
рактерными чертами лица возлежат в наших музеях в качестве ужасно¬
го символа этой воли к длительности. На отполированной до блеска
гранитной верхушке пирамиды Аменемхета III еще и теперь можно
прочитать слова: «Аменемхет наблюдает красоту Солнца», а с другой
стороны: «Душа Аменемхета выше, чем высота Ориона, и она связана с
загробным миром». Вот преодоление бренности, чистого настоящего,
и все это в высшей степени неантично.
5
В противоположность этой могучей группе египетских жизненных
символов уже на пороге античной культуры, соответствуя забвению, ко¬
торое она распространяет на все области своего внешнего и внутреннего
прошлого, появляется трупосожжение. Сакральное выделение этой
формы погребения из прочих, в равной степени практиковавшихся пер¬
вобытными народами каменного века, совершенно чуждо микенской
эпохе. Царские могилы свидетельствуют скорее о предпочтении в поль¬
зу трупоположения. Однако в гомеровское время, точно так же, как и в
ведическое, происходит внезапный, имеющий лишь душевное обосно¬
вание переход от погребения к сожжению, которое, как показывает
«Илиада», проводилось со всей силой символического акта как празд¬
ничное уничтожение, отрицание всякой исторической длительности.
С этого момента приходит к завершению и пластичность душевного
развития отдельного человека. Насколько мало допускает античная
драма подлинно исторические мотивы, настолько же мало допускает
она и тему внутреннего развития, и нам известно, как решительно гре¬
ческий инстинкт отвергает портрет в изобразительном искусстве.
Введение
25
Вплоть до императорского времени античное искусство знает лишь
один, так сказать, естественный для себя материал: миф*. Также и иде¬
альные изображения эллинистической скульптуры мифичны, подобно
тому как таковы же и типичные биографии наподобие Плутарховых.
Ни один великий грек так никогда и не написал воспоминаний, кото¬
рые бы зафиксировали ушедшую эпоху перед его духовным взором.
Даже сам Сократ не произнес ничего значительного (в нашем смысле
слова) в отношении своей внутренней жизни. Спрашивается, возмож¬
на ли вообще таковая в античной душе, как то предполагается — в каче¬
стве вполне естественной потребности — самим возникновением Пар-
сифаля, Гамлета и Вертера. В Платоне нам недостает какого-либо со¬
знания развития его собственного учения. Отдельные его сочинения
представляют собой лишь изводы совершенно различных точек зре¬
ния, на которые он переходил в разные периоды. Генетическая связь
между ними вовсе не была предметом его размышлений. Однако уже в
самом начале западной духовной истории на свет является плод глубо¬
чайшего самоанализа, «Новая жизнь» Данте. Уже отсюда можно за¬
ключить, как мало античного, т. е. чисто нынешнего, было в Гёте, ко¬
торый ничего не забывал и произведения которого были, по его же соб¬
ственным словам, лишь отрывками одной большой исповеди7.
После разрушения Афин персами все произведения древнего ис¬
кусства были выброшены на свалку, из которой мы их сегодня извлека¬
ем, и никому и никогда не приходилось слышать, чтобы кто-либо в
Греции озаботился судьбой руин Микен или Феста с целью получения
исторических фактов. Все читали своего Гомера, однако никто и не по¬
мышлял о том, чтобы, подобно Шлиману, раскопать троянский холм.
Требовался миф, а не история. Уже в эллинистическую эпоху была
утрачена часть сочинений Эсхила и досократовских философов. На¬
против того, уже Петрарка собирал древности, монеты, рукописи с
присущим одной лишь этой культуре благоговением и задушевностью
созерцания — как наделенный чувством исторического, оглядываю¬
щийся на отдаленные миры, стремящийся в даль человек (он был пер¬
вым, предпринявшим восхождение на одну из альпийских вершин8),
бывший по существу чужим в своей собственной эпохе. Душу собира¬
теля можно понять только в связи с его отношением к времени. Быть
может, еще больше страсти заключает в себе китайская страсть к соби¬
рательству, однако она имеет иную окрашенность. Тому, кто пускается
в путь в Китае, желательно проследить «древние следы», ку-ци, и толь-
От Гомера и вплоть до трагедий Сенеки, сплошь на протяжении целого тысячеле¬
тия, такие мифические образы, как Фиест, Клитемнестра, Геракл, несмотря на свое
ограниченное число, появляются все вновь и вновь в неизменном виде, между тем как
в поэзии Запада фаустовский человек является сначала как Парсифаль и Тристан, пре¬
ображаясь затем в духе эпохи в Гамлета, Дон Кихота, Дон Жуана, и наконец, в послед¬
нем обусловленном временем Перевоплощении — предстает как Фауст и Вертер, а по¬
том в качестве героя современного романа мировой столицы, однако неизменно это
происходит в атмосфере и обусловленности определенной эпохой.
26
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
ко на основании глубокого исторического чувства следует толковать
недоступное переводу фундаментальное понятие китайского сущест¬
ва, дао\ Все же, что, напротив того, повсюду собирали в эллинистиче¬
скую эпоху, было достопримечательностями, наделенными мифиче¬
ской притягательностью, как описывает их Павсаний, и в их случае
строго исторические «когда» и «почему» вообще не принимались во
внимание, между тем как египетский ландшафт уже во времена вели¬
кого Тутмоса превратился в один исполинский музей со строгими тра¬
дициями.
Это немцы — среди народов Запада — изобрели механические часы,
наглядный символ бегущего времени, и их бой, раздающийся днем и но¬
чью с бесчисленных башен по всей Западной Европе, является, быть мо¬
жет, самым величественным выражением, на которое вообще способно
историческое мироощущение**. Среди вневременных античных ланд¬
шафтов и городов мы ни с чем подобным не столкнемся. Вплоть до Пе¬
рикла время дня оценивали лишь по длине отбрасываемой тени и лишь
начиная с Аристотеля слово Фра приобретает значение «час» (вавилон¬
ское). А прежде того никакого точного подразделения дня вообще не су¬
ществовало. В Вавилоне и Египте водяные и солнечные часы были изоб¬
ретены в древнейшую эпоху, однако только Платон ввел в Афинах дей¬
ствительно пригодную к использованию в качестве часов форму
клепсидры, а еще позднее были заимствованы солнечные часы — лишь
как малозначительная повседневная утварь, без того, чтобы это хоть в
малейшей степени повлияло на античное жизнечувствование.
Здесь следует еще упомянуть соответствующее, весьма глубокое и
никогда в достаточной степени не оцененное различие между антич¬
ной и западной математикой. Античное числовое мышление ухватыва¬
ет вещи такими, каковы они есть, как величины, во вневременном и чис¬
то современном смысле. Это привело к эвклидовой геометрии, мате¬
матической статике и завершению духовной системы учением о
конических сечениях. Мы же постигаем вещи такими, какими они
становятся, как они себя ведут, в качестве функций. Это привело к ди¬
намике, к аналитической геометрии, а от нее — к дифференциальному
исчислению***. Современная теория функций представляет собой ис¬
полинское упорядочение всей этой массы идей. Поразительный, но
находящий строгое душевное обоснование факт: гречесйвя физика
(как статика в противоположность динамике) не знает употребления
* См. с. 744, сноска *.
Ок: 1000 г., т. е. с появлением романского стиля и в начале движения крестонос¬
цев, первых проявлений новой души, монах Герберт (папа Сильвестр II), друг импера¬
тора Оттона III, изобрел конструкцию часов с боем и колесных часов. Ок. 1200 г. также
в Германии появились первые башенные часы, а несколько позже — карманные часы.
Следует обратить внимание н^ весьма значительную связь измерения времени с куль¬
товым зданием.
У Ньютона оно называется, что весьма характерно, исчислением флуксий — с уче¬
том определенных метафизических представлений о сущности времени. В греческой
математике время вообще не встречается.
Введение
27
часов и нисколько от этого не страдает, всецело абстрагируясь от изме¬
рений времени, между тем как мы оперируем тысячными долями се¬
кунды. Аристотелевская энтелехия — вот единственное вневременное
(т. е. неисторическое) понятие развития, которое вообще существует.
Тем самым наша задача определена. Мы, люди западноевропей¬
ской культуры, с нашим чувством исторического, являемся исключе¬
нием, а не правилом, всемирная история — это наша картина мира, а
вовсе не всего «человечества». Для индийского и античного человека
никакой картины становящегося мира не существовало, и быть может,
когда западная цивилизация однажды угаснет, уже никогда больше не
будет культуры, а, значит, и человеческого типа, для которого такой
мощной формой бодрствования была бы «всемирная история».
6
И кстати — что такое всемирная история? Упорядоченное представ¬
ление прошедшего, внутренний постулат, выражение чувства фор¬
мы, — все это так. Однако определенное лишь таким образом чувство
вовсе не является действительной формой, и насколько несомненно
то, что все мы ощущаем всемирную историю, переживаем ее, полагаем,
что с величайшей уверенностью обозреваем ее облик, настолько же не¬
сомненно и то, что еще и сегодня нам знакомы лишь ее формы, но не та
единственная форма, верный слепок нашей внутренней жизни.
Разумеется, всякий, если его об этом спросить, будет убежден, что он
отчетливо и ясно прозревает внутреннюю форму истории. Эта иллюзия
основана на том, что никто всерьез над этим не задумывался и люди не
особенно склонны сомневаться в своем знании именно потому, что ни¬
кто и не догадывается о том, в чем здесь вообще можно сомневаться.
Действительно, образ всемирной истории представляет собой не подле¬
жащее проверке духовное достояние, передававшееся по наследству из
поколения в поколение, в том числе и среди профессиональных истори¬
ков, так что чего здесь в высшей степени недостает, так это небольшой
доли скептицизма, который со временем Галилея расчленил и углубил
прирожденную нам картину природы.
«Древний мир — Средние века — Новое время»: вот в высшей степени
сомнительная и лишенная смысла схема, безоговорочное господство ко¬
торой над нашим историческим мышлением извечно мешало нам пра¬
вильно и по достоинству оценить положение той малой части мира, ко¬
торая со времен германских императоров развивается на территории
Западной Европы, в ее соотнесенности с общей историей высшего че¬
ловечества — оценить ее прежде всего по ее значимости, по образу, по
продолжительности существования. Будущим культурам представится
весьма сомнительным то, что этот наш эскиз с его упрощенным прямо¬
линейным течением, его бессмысленными пропорциями, становящи¬
28
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
мися все более невозможными от века к веку и не допускающими есте¬
ственного включения в себя областей, заново открывающихся свету
нашего исторического сознания, все же так ни разу и не подвергся се¬
рьезной перетряске на предмет своей законности. Потому что никако¬
го значения не имеет то, что у историков уже давно вошло в привычку
выдвигать против этой схемы возражения. Тем самым они лишь зату¬
шевывали единственный имеющийся в наличии набросок, его не заме¬
няя. Можно сколько угодно рассуждать о греческом Средневековье и
германской древности, все равно это не дает нам отчетливой и внут¬
ренне необходимой картины, в которой собственное органическое
место отыскалось бы для Китая и Мексики, Аксумского царства и Са-
санидов. Также и перемещение точки отсчета «Нового времени» с кре¬
стовых походов на Возрождение, а оттуда — на начало XIX в. доказыва¬
ет лишь то, что саму схему продолжают считать неколебимой.
Это сокращает охват истории, однако еще хуже то, что это суживает
и ее сцену. Ландшафт Западной Европы* образует здесь покоящуюся
ось (выражаясь математически, сингулярную точку на поверхности
шара), причем ответа на вопрос, почему это так, не знает никто, если
только не считать основанием для этого тот факт, что мы, авторы этой
картины истории, здесь-то и обитаем, и вокруг этой оси со всей воз¬
можной скромностью обращаются тысячелетия исполинской истории
и расположенные вдали колоссальные культуры. Вот уж действительно
своеобразно измышленная планетная система. Один-единственный
ландшафт был избран в качестве естественной срединной точки одной
исторической системы. Вот центральное светило. Исходя из него все
события истории предстают в подлинном свете. Исходя из этого пунк¬
та происходит оценка их значимости — в перспективном изображении.
На историка здесь также оказывает влияние роковой географический предрассу¬
док (чтобы не сказать: вызванная географической картой суггестия), принимающий в
расчет лишь одну часть света Европу, в силу которого он чувствует себя обязанным
осуществить также и соответствующее идеальное отграничение от Азии. Слово «Евро¬
па» вообще следовало бы вычеркнуть из истории. Никакого «европейца» как историче¬
ского типа не существует. В высшей степени глупо рассуждать о «европейской древно¬
сти» в связи с греками (Гомер, Гераклит и Пифагор были в таком случае «азиатами»?),
как и об их «миссии» по культурному сближению Азии с Европой. Все это слова, про¬
исходящие из поверхностного истолкования географической карты, и в действитель¬
ности им ничего не соответствует. Лишь слово «Европа» с пребывающей под его влия¬
нием совокупностью идей связало в нашем историческом сознании Россию с Западом
в одно ничем не оправданное единство. Здесь, средй воспитанной на книгах читатель¬
ской культуры, чистой воды абстракция привела к колоссальным последствиям в реа¬
льности. Эти читатели в лице Петра Великого на столетия подменили историческую
тенденцию примитивной народной массы, при том, что русский инстинкт справедли¬
во и глубоко — с нашедшей свое воплощение в Толстом, Аксакове и Достоевском
враждебностью — отграничивает «Европу» от «матушки России». Запад и Восток — по¬
нятия, наделенные подлинным историческим содержанием. «Европа» — пустой звук.
Все великое, что произвела на свет античность, возникло под знаком отрицания этой
континентальной границы между Римом и Кипром, Византией и Александрией. Все,
что называется европейской культурой, возникло между Вислой, Адриатикой и Гвадал¬
квивиром. И если мы примем, что во времена Перикла Греция «располагалась в Евро¬
пе», теперь она там больше не находится.
Введете
29
Однако на самом деле здесь заявляет о себе необузданное никаким
скептицизмом тщеславие западноевропейского человека, в уме кото¬
рого и развертывается этот фантом — «всемирная история». Это его
следует нам благодарить за сделавшийся уже давно привычным гран¬
диозный оптический обман, в соответствии с которым насчитываю¬
щая тысячелетия, но находящаяся на отдалении история таких облас¬
тей, как Китай и Египет, съеживается до незначительного эпизода,
между тем как вблизи собственного местоположения со времен Лютера
и особенно Наполеона десятилетия раздуваются как на дрожжах. Нам
известно: это лишь иллюзия, что облако летит тем медленнее, чем
выше оно находится, и движущийся за дальним лесом поезд лишь от¬
сюда представляется едва ползущим, однако мы убеждены, что темп
ранних индийской, вавилонской, египетской культур на самом деле
был замедленным в сравнении с нашим недавним прошлым. Нам ка¬
жется, что их субстанция пожиже, их формы притуплены и разброса¬
ны, потому что мы не научились принимать в расчет внутреннее и
внешнее отдаление.
То, что для культуры Запада существование Афин, Флоренции и
Парижа гораздо важнее, чем существование Лояна и Паталипутры, по¬
нятно само собой. Однако следует ли ценностные оценки такого рода
класть в основание схемы всемирной истории? Тогда бы оказался прав
и китайский историк, наметивший такую всемирную историю, в кото¬
рой Крестовые походы и Возрождение, Цезарь и Фридрих Великий
были бы обойдены молчанием как нечто малозначительное. Почему,
если рассматривать с точки зрения морфологии, XVIII в. должен оказа¬
ться важнее, чем шестьдесят ему предшествовавших? Не смешно ли
«Новое время», охватывающее несколько столетий, да еще и протека¬
ющее по преимуществу в Европе, противопоставлять обнимающей
столько же тысячелетий «Древности», в которую скопом, без попытки
глубокого расчленения, в качестве довеска включены все без исключе¬
ния догреческие культуры? Не разделались ли мы с Египтом и Вавило¬
ном, как с некоей прелюдией античности, лишь для того, чтобы спасти
устарелую схему, между тем как история каждого из них по отдельно¬
сти с многократным запасом перевешивает эту самую иллюзорную
«всемирную историю» от Карла Великого до мировой войны? Могучие
же комплексы индийской и китайской культур мы со смущением на
лицах отнесли в примечание, между тем как великие американские ку¬
льтуры вообще проигнорировали, — потому, мол, что у них отсутствует
«связь» (с чем же это?).
Я называю эту имеющую хождение между нынешними западноев¬
ропейцами схему, в которой высшие культуры прочерчивают свой путь
вокруг нас как мнимой срединной точки всех событий в мире, Птоле¬
меевой системой истории, и я рассматриваю в качестве коперниканско-
го открытия в области истории то, что в настоящей книге на ее место
заступает такая система, в которой античность и Запад занимают свое
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
30
никоим образом не привилегированное место наряду с Индией, Вави¬
лоном, Китаем, Египтом, арабской и мексиканской культурой, этими
отдельными мирами становления, чья весомость в общей картине ис¬
тории ничуть не меньше, а по величественности душевной конститу¬
ции, по мощи взлета они намного превосходят античность.
7
Схема, Древний мир—Средневековье—Новое время была по перво¬
му своему замыслу порождением магического мирочувствования,
впервые возникшего в персидской и иудейской религиях со времени
Кира*; в учении книги Даниила о четырех мировых эпохах ей было
придано апокалиптическое звучание, а в послехристианских религиях
Востока, прежде всего в гностических системах** она получила вид все¬
мирной истории.
В пределах чрезвычайно узких рамок, которые образуют духовные
предпосылки этой выдающейся концепции, она всецело справедлива.
Ни индийская, ни даже египетская история не попадают здесь в поле
зрения. В устах этих мыслителей слова «всемирная история» означают
разовый, в высшей степени драматический акт, разыгрывавшийся на
пространстве между Грецией и Персией. В этом находит выражение
строго дуалистическое мироощущение уроженцев Востока, причем не
полярное, как то было в тогдашней метафизике с ее противоположно¬
стью души и духа, добра и зла, а периодическое***, рассматриваемое как
катастрофа, как смена двух временных эпох между сотворением мира и
его гибелью, и это в отвлечении от всех моментов, которые не были за¬
фиксированы, с одной стороны, в античной литературе, а, с другой — в
Библии или в той священной книге, которая занимала в соответствую¬
щей системе ее место. В этой картине мира в качестве «Древности» и
«Нового времени» является очевидная на тот момент противополож¬
ность языческого и иудейского или христианского, античного и вос¬
точного, статуи и догмата, природы и духа во временном аспекте, как
драма преодоления одного другим. Исторический переход несет на
себе религиозные черты спасения. Несомненно, это — основанная все¬
цело на провинциальных воззрениях, однако логичная и завершенная
точка зрения, однако она привязана к данному ландшафту и данной
человеческой породе и не была способна ни какому естественному
расширению.
Лишь в результате прибавления на западноевропейской почве тре¬
тьей эпохи — нашего «Нового времени» — в картину оказался привне¬
* Ср. с. 490, 695 слл.
" Windelband, Gesch. d. Phil. (1900), S. 275 ff.
В Новом Завете полярная точка зрения представлена по преимуществу диалекти¬
кой апостола Павла, периодическая — Апокалипсисом.
Введение
31
сенным момент движения. Восточная картина была покоящейся, зам¬
кнутой, закосневшей в равновесии антитезой, с единоразовым божест¬
венным действием в качестве среднего элемента. Перенятая и
усвоенная людьми совершенно иного рода, теперь она внезапно, без
того, чтобы кто-либо отдал себе отчет в нелепости такой перемены,
оказалась продолженной в виде линии, которая тянется вверх или
вниз — это смотря по персональному вкусу историка, мыслителя или
художника, с неограниченной свободой интерпретировавшего трех¬
членную картину — от Гомера или Адама (возможность выбора обога¬
тилась ныне индогерманцами, каменным веком и обезьянолюдьми)
через Иерусалим, Рим, Флоренцию и Париж.
Таким образом, к дополнявшим друг друга понятиям язычества и
христианства прибавили завершающее «Новое время», которое по
своему смыслу не допускает продолжения процесса и после того, как
неоднократно «продлевалось» со времени Крестовых походов, пред¬
ставляется теперь уже неспособным к дальнейшему удлинению*. Бы¬
товало не высказанное в явной форме убеждение, что здесь, по другую
сторону древности и Средневековья, начинается нечто окончательное,
третье царство, в котором каким-то образом имеет место исполнение,
высшая точка, цель, открытие которой всякий — от схоластиков до со¬
циалистов наших дней — приписывает лишь себе одному. Итак, то
было прозрение в ход вещей — сколь покойное, столь же и лестное для
того, кто его совершал. Произошло просто-напросто приравнивание
западного духа, как он отображался в уме отдельного человека, к смыс¬
лу всего мира. Великие мыслители обратили духовную нужду в мета¬
физическую добродетель, когда возвысили до основания философии
освященную consensus omnium [всеобщим согласием (лат.)] схему, не
подвергнув ее серьезной критике, и утруждали Бога в качестве автора
того или иного измышленного ими «мирового замысла». И без того уже
мистическая троичность несла в себе некий соблазн для метафизиче¬
ского вкуса. Гердер назвал историю воспитанием рода человеческого,
Кант — развитием понятия свободы, Гегель — самораскрытием миро¬
вого духа, прочие — по-иному. Однако тот, кто вкладывал в данную как
факт троичность эпох абстрактный смысл, полагал, что в достаточной
степени поразмыслил насчет основных форм истории.
Уже на рубеже западной культуры является великий Иоахим Флор-
ский (t 1202)”, первый мыслитель гегелевского чекана, который камня
На камне не оставил от дуалистической картины мира Августина и в
Полном соответствии с ощущениями подлинного человека готики про¬
тивопоставил христианство своего времени, как нечто третье, — рели¬
гии Ветхого и Нового Заветов: эпоха Отца, Сына и Св. Духа. Он внес
смятение в души лучших францисканцев, доминиканцев, Данте и
*
В этом можно убедиться по продиктованному отчаянием и смехотворному выра¬
жению «Новейшая история».
Burdach К., Reformation, Renaissance, Humanismus (1918), S. 48 ff.
32 ______ __ TomL ОБРАЗ и действительность
Фомы Аквинского и вызвал к жизни такое воззрение на мир, которое
неспешно овладело всем историческим мышлением нашей культуры.
Лессинг, который нередко запросто называл собственное время по от¬
ношению к античности ее отпрыском*, заимствовал идеи для «Воспи¬
тания человеческого рода» (со стадиями: ребенок, юноша и мужчина)
из учений мистиков XIV в., а Ибсен, основательно рассмотревший это
воззрение в драме «Кесарь и Галилеянин» (где в образе волшебника
Максима мы наталкиваемся непосредственно на гностическое миро-
мышление), так и не двинулся ни на шаг дальше в своей известной
Стокгольмской речи 1887 г. Очевидно, такова потребность западного
самоощущения: провозглашать при своем появлении некоего рода за¬
вершение и конец.
Однако творение аббата из Фьоре было мистическим взглядом в
тайны божественного миропорядка. При рассудочном его восприя¬
тии, когда его превратили в предпосылку научного мышления, оно
должно было лишиться всякого смысла, что и происходило во всевоз¬
растающих масштабах начиная с XVII в. Однако это — абсолютно не¬
состоятельный метод истолкования всемирной истории, когда
кто-либо дает волю своим политическим, религиозным или обще¬
ственным убеждениям и придает все тем же трем эпохам, посягнуть на
которые не отваживается, то направление, что ведет как раз к той по¬
зиции, которую занимает он сам и, смотря по ней, прикладывает гос¬
подство разума, гуманизм, счастье большинства, экономический про¬
гресс, просвещение, свободу народов, покорение природы, мир во
всем мире и тому подобное в качестве меры к тысячелетиям, относите¬
льно которых доказано, что они не постигли или не достигли правды, а
на самом деле желали чего-то иного, нежели мы. «Очевидно, в жизни
важна жизнь, а не ее результат»9 - вот слова Гёте, которые следовало бы
противопоставить всем дурацким попыткам разгадать тайну историче¬
ской формы при помощи программы.
Подобную же картину рисуют и историки всякого отдельного ис¬
кусства и отдельной науки, политической экономии и философии. Мы
наталкиваемся здесь на то, что живопись «вообще», от Египта (или от
пещерного человека) до импрессионизма, музыка «вообще», от слепо¬
го певца Гомера и до Байрейта, общественное устройство «вообще», от
обитателей свайных построек до социализма, воспринимаются как
свершающийся по единой линии подъем, без того, чтобы принять во
внимание возможность того, что у искусств — отмеренный им срок
жизни, что они привязаны к одному ландшафту и определенному типу
людей, как их выражение, и что поэтому эти общие истории являются
всего лишь результатом механического суммирования некоторого чис¬
ла единичных развитий, отдельных искусств, у которых общее лишь
название и кое-что из ремесленной техники исполнения.
Выражение «древние», в дуалистическом смысле, встречается уже во «Введении»
Порфирия (ок. 300 по Р. X.).
Введение
33
Относительно всякого организма нам известно, что темп, облик и
продолжительность его жизни и всякого его единичного жизненного
проявления определяются особенностями вида, к которому он принад¬
лежит. Никто не предполагает относительно тысячелетнего дуба, что
вот сейчас-то он и начнет развиваться. Никто не ждет от гусеницы, на¬
блюдая за ее ежедневным ростом, что, быть может, это продлится еще
пару лет. Всякому здесь дано наделенное безусловной несомненно¬
стью ощущение рубежа, тождественное с чувством внутренней формы.
По отношению же к истории высшего человечества господствует без¬
брежный, презирающий всякий исторический, а значит и органиче¬
ский, опыт оптимизм в отношении хода будущего, так что всякий в
случайном настоящем усматривает «задатки» некоего особо выдающе¬
гося линеарного «дальнейшего развития», — не потому, что оно научно
доказано, а потому, что он такого развития желает. Здесь принимаются
в расчет только безграничные возможности, и никогда — естественный
конец, и на основании положения в каждый отдельный миг выстраива¬
ется исполненная наивности конструкция продолжения.
Однако у «человечества как такового» нет никакой цели, никакой
идеи, никакого плана, как нет цели у вида бабочек или орхидей. «Чело¬
вечество в целом» — это лишь зоологическое понятие или звук пустой*.
Изгоните этот призрак из круга проблем исторической формы — и вы
увидите, как на сцену явится ошеломляющее богатство форм действи¬
тельных. Вот где неизмеримая полнота, глубина и подвижность живо¬
го, которая скрывалась доныне под лозунгом, под сухой схемой, под
личными «идеалами». Взамен этой унылой картины линиеобразной
всемирной истории, которая может сохранять свою действительность,
лишь пока мы закрываем глаза на подавляющее множество фактов, я
вижу драму с участием множества могучих культур, с первозданной мо¬
щью расцветающих на лоне материнского ландшафта, с которым каж¬
дая из них нерушимо связана на всем протяжении своего существова¬
ния, и каждая из них напечатлевает на своем материале, человечестве,
свою собственную форму, и у каждой — собственная идея, собственные
страсти, собственные жизнь, воля, чувствования, и собственная смерть.
Мы встретим здесь цвета, лучи и движения, которые не открывались до
сих пор ни одному духовному взору. Бывают расцветающие и старею¬
щие культуры, народы, языки, истины, боги, ландшафты, подобно
тому, как бывают молодые и старые дубы и пинии, цветы, ветви и ли¬
стья, однако никакого стареющего «человечества» нет в природе. Вся¬
кая культура располагает своими новыми возможностями выражения,
которые появляются, зреют и увядают, никогда больше не повторяясь.
Существует много в глубинном существе друг с другом не связанных
живописей и ваяний, математик и физик, и всякая из них имеет огра¬
ниченную продолжительность жизни, всякая замкнута в самой себе,
«Человечество? Это*абстракция. Извечно существовали одни только люди, и будут
существовать только люди» (Гёте — Лудену10).
Закат Западного мира
34
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
подобно тому, как имеет свои собственные цветы и плоды, собствен¬
ный тип роста и гибели всякий вид растений. Эти культуры, живые су¬
щества высшего порядка, вырастают в возвышенной бесцельности,
подобно полевым цветам. Как и растения с животными, они относятся
к живой природе Гёте, а не к мертвой природе Ньютона. Во всемирной
истории я усматриваю картину постоянного образования и преобразо¬
вания, восхитительного становления и гибели органических форм. Ре¬
месленному же историку она представляется глистой, неустанно вы¬
членяющей из себя все новые эпохи.
Между тем ряд «Древний мир — Средневековье — Новое время» на¬
конец-то утратил свою действенность. При всей своей угловатой узос¬
ти и плоскости как научного фундамента все же он представлял собой
единственную не вовсе лишенную философского основания формули¬
ровку, которой мы располагали для систематизации наших результа¬
тов, и все, что удалось до сих пор упорядочить как всемирную историю,
обязано своим небогатым содержанием именно ей. Однако число сто¬
летий, которые в самом благоприятном случае могла удерживать воеди¬
но данная схема, уже давно достигнуто. По мере стремительного роста
исторического материала, и в первую очередь такого, который нахо¬
дится всецело за пределами данного порядка, картина начинает распа¬
даться в необозримый хаос. Это видит и чувствует всякий не вовсе ли¬
шенный зрения историк, и он любой ценой держится за единственную
известную ему схему лишь для того, чтобы как-то удержаться на плаву.
Слову «Средневековье»*, изобретенному в 1667 г. проф. Горном в Лей¬
дене, приходится ныне покрывать собой бесформенную, постоянно
распространяющуюся вширь массу всего того, что чисто негативным
образом ни под каким предлогом не может быть причислено к двум
другим, кое-как упорядоченным группам. Примерами этого является
неуверенность процедур и оценок в отношении новоперсидской, араб¬
ской и русской истории. Прежде всего больше нет возможности замал¬
чивать то обстоятельство, что эта якобы история мира на самом деле
поначалу ограничивалась областью Восточного Средиземноморья,
впоследствии же, начиная с переселения народов (важного лишь для
нас одних и потому сильно переоцениваемого события, которое значи¬
мо только для Запада и никак не затрагивает уже арабскую культуру),
имеет место внезапная смена места действия и эта история мира огра¬
ничивается уже средней частью Западной Европы. Гегель простодуш¬
но заявлял, что будет игнорировать те народы, которые не укладывают¬
ся в его систему истории. Однако то было лишь честное признание в
отношении методических предпосылок, без которых ни один историк
и не достигал своей цели. На этом можно проводить проверку состоя-
«Средневековье» — это история области, в которой господствовал латинский —
церковный и ученый — язык. Исполинские судьбы восточного христианства, задолго до
Бонифация продвинувшегося через Туркестан до Китая и через Сабу до Абиссинии, не
принимаются этой «всемирной историей» в расчет.
Введение
тельности целых томов по истории. В самом деле, теперь это уже во¬
прос научного такта: какие исторические явления честно принимают¬
ся в расчет, а какие — нет. Хорошим примером здесь может служить
Ранке.
8
Сегодня мы мыслим частями света. Этого все еще не поняли одни
только наши философы и историки. Что, при таких обстоятельствах,
могут значить для нас понятия и перспективы, выдвигаемые с притяза¬
нием на всеобщую значимость, между тем как их горизонт не выступа¬
ет за пределы духовной атмосферы западноевропейского человека?
Заглянем теперь в лучшие наши книги. Когда Платон говорит о че¬
ловечестве, он подразумевает греков в противоположность варварам.
Это полностью отвечает неисторическому стилю античной жизни и
при данных условиях приводит к таким результатам, которые оказы¬
ваются верными и значимыми для греков. Однако когда насчет нрав¬
ственных идеалов философствует, к примеру, Кант, он настаивает на
значимости своих высказываний для людей любого рода и всех вре¬
мен. Только он этого не высказывает, как нечто понятное само собой
как ему самому, так и его читателям. В своей эстетике он формулирует
не принцип искусства Фидия или искусства Рембрандта, но сразу
принцип искусства вообще. Однако все, что устанавливает в качестве
необходимых форм мышления Кант, все же оказывается лишь необ¬
ходимыми формами мышления человека Запада. Взгляда, брошенно¬
го на Аристотеля и на полученные им существенно иные результаты,
довольно, чтобы научить нас тому, что в данном случае размышляет
сам с собой не менее ясный, но наделенный иными задатками ум.
Русскому мышлению категории мышления западного не менее чуж¬
ды, чем этому последнему — категории китайского и греческого
мышления. Действительное и безостаточное постижение античных
пра-слов невозможно для нас точно так же, как постижение слов рус¬
ских* и индийских, а для современного китайца или араба с их совер¬
шенно иначе устроенным интеллектом вся философия от Бэкона до
Канта — не более, чем курьез.
Вот чего недостает западному мыслителю, между тем как именно у
него-то такого недочета быть бы не должноготсутствие узрения исто-
рически-обусловленного характера полученных им результатов, ко¬
торые сами являются выражением одного-единственного и лишь данно¬
го бытия. Точно так же недостает ему и знания о необходимых преде¬
лах их значимости, и убежденности в том, что его «неопровержимые
Ср. с. 753, сноска *. Базовые представления дарвинизма видятся настоящему рус¬
скому столь же нелепыми, как соответствующие представления коперниканской систе¬
мы — арабу.
36
Том1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
истины» и «вечные узрения» истинны лишь для него одного и вечны
лишь под углом его воззрения на мир и что долг его состоит в том, что¬
бы за их пределами разыскивать такие истины и узрения, которые с
той же уверенностью развили из себя люди иных культур. Вот вопрос
полноты философии будущего. Вот что в первую очередь следует на¬
звать языком исторических форм: понимание живого мира. Здесь нет
ничего непреходящего и всеобщего. И пусть никто больше не загова¬
ривает о формах мышления, принципе трагического, задаче государ¬
ства. Всеобщая значимость — это неизменно ложное заключение о
других — по себе.
Картина начнет внушать куда большую тревогу тогда, когда мы об¬
ратим свое внимание на современных западноевропейских мыслите¬
лей, начиная с Шопенгауэра, в той точке, где центр тяжести философ¬
ствования перемещается из сферы абстрактно-систематического в об¬
ласть практически-нравственного и на место проблемы познания
заступает проблема жизни (воля к жизни, к власти, к действию). Здесь
рассматривается уже не некая идеальная абстракция «человек», как у
Канта, но реальный человек, как он обитает на поверхности Земли в
историческую эпоху, будь то как первобытный или культурный, сгруп¬
пированный в отдельные народы, и будет совершенно лишено смысла,
если также и здесь структура высших понятий будет определяться все
той же схемой Древний мир — Средневековье — Новое время и связан¬
ными с ней локализациями. Однако это именно так.
Рассмотрим исторический горизонт Ницше. Его понятия декадан¬
са, нигилизма, переоценки всех ценностей, воли к власти, коренятся
глубоко в сущности западной цивилизации и играют в ее анализе пря¬
мо-таки решающую роль. Однако какова была их основа? Римляне и
греки, Возрождение и европейская современность, включая также и
беглый взгляд в сторону (неверно понятой) индийской философии,
словом: Древний мир — Средневековье — Новое время. Строго говоря,
из этих рамок Ницше так никогда и не вырвался, а прочие мыслители
его времени преуспели здесь не больше него.
Однако в каком отношении находится тогда принадлежащее ему
понятие дионисийского к внутреннему миру высокоцивилизованного
китайца времен Конфуция или современного американца? Что значит
тип сверхчеловека для исламского мира? Или что должны означать по¬
нятия природа и дух, языческое и христианское, античное и современ¬
ное в качестве формообразующих противоположностей в душевном
мире индуса или русского? Какое дело Толстому до «Средневековья»,
до Дакте, до Лютера, ведь он из самых глубин своей человеческой сущ¬
ности отвергал весь мир западных идей как нечто чуждое и далекое; и
точно так же что японцу до Парсифаля и Заратустры, что индусу до Со¬
фокла? А разве мир идей Шопенгауэра, Конта, Фейербаха, Геббеля,
Стриндберга хоть сколько-то шире? Разве вся их психология, несмотря
на притязания на общемировую значимость, не имеет чисто западного
Введение
37
характера? Какое смехотворное впечатление будут производить жен¬
ские проблемы у Ибсена, которые ведь также выдвигались с притяза¬
нием на внимание всего «человечества», если на место знаменитой
Норы, дамы из мегаполиса Северо-Западной Европы, кругозор кото¬
рой примерно соответствует уровню квартирной платы от 2000 до 6000
марок и протестантскому воспитанию, поставить жену Цезаря, мадам
де Савиньи, японку или крестьянку из Тироля? Однако ведь и у самого
Ибсена кругозор, характерный в недавнем прошлом и теперь для пред¬
ставителя среднего класса из большого города. Его конфликты, душев¬
ные предпосылки которых наличествуют примерно с 1850 г. и навряд
ли переживут 1950 г., не являются ни великосветскими, ни характер¬
ными для низших слоев, уж не говоря о городах с неевропейским насе¬
лением.
Все это вовсе не всемирно-исторические и «вечные» ценности, но
ценности эпизодические и местные, по большей же части они вообще
ограничены нынешней интеллигенцией11 крупных городов западноев¬
ропейского типа; и пусть они все еще настолько важны для поколения
Ибсена и Ницше: именно о непонимании слов «всемирная история»,
которая вовсе не представляет собой выборки, но является тотально¬
стью, свидетельствует то, что лежащие вне области современных инте¬
ресов факторы оказываются подчинены первым, что их недооценива¬
ют или упускают из вида. А ведь в высшей степени именно так и обсто¬
ит дело. Все, что до сих пор высказывали и мыслили на Западе по
проблеме пространства, времени, движения, числа, воли, брака, собст¬
венности, трагического, науки, оставалось узким и сомнительным, по¬
тому что при этом постоянно стремились отыскать единственное реше¬
ние вопроса вместо того, чтобы понять наконец, что множество вопро¬
шающих даст в результате такое же множество ответов, что всякий
философский вопрос представляет собой лишь скрытое желание полу¬
чить определенный ответ, заключенный уже в вопросе, что великие во¬
просы эпохи вообще не могут быть постигнуты с достаточной степе¬
нью преходящести, почему и следует принять целую группу историче¬
ски обусловленных решений, и лишь панорамный взгляд на эти решения —
в отвлечении от всех собственных ценностных мерок — способен от¬
крыть последние тайны. Для подлинного знатока людей не существует
абсолютно верной или неверной точки зрения. Перед лицом таких не¬
простых вопросов, как о времени или браке* недостаточно вопрошать
личный опыт, внутренний голос, рассудок, мнение предшественников
или современников. Так мы узнаем то, что истинно для самого вопро¬
шающего или для его эпохи, однако это еще не все. Явления иных куль¬
тур вещают на иных языках. Для иных людей существуют и иные исти¬
ны. Мыслитель принимает их все либо ни одну из них.
Становится понятно, к какому расширению и углублению способна
западная критика мира, как и то, сколько еще всего, сверх безобидного
релятивизма Ницше и его поколения, должно попасть в поле нашего
38 TomL образ и действительность
зрения, какой утонченности ощущения формы, какой высокой степе¬
ни психологичности, какой самоотверженности и независимости от
практических интересов и незауженности горизонта следует нам до¬
стигнуть, прежде чем мы сможем сказать, что поняли всемирную исто¬
рию, мир как историю.
9
Всем этим произвольным, привнесенным извне, продиктованным
собственными пожеланиями, навязанным истории формам я противо¬
поставляю естественную, «коперниканскую» модель развития собы¬
тий в мире, кроющуюся в его глубинах и открывающуюся исключите¬
льно лишь непредвзятому взгляду.
Напомню о Гёте. То, что называл живой природой он, как раз и есть
то, что именуется всемирной историей в широчайшем значении, миром
как историей — здесь. Гёте, который как художник, как это показывают
«Вильгельм Мейстер» и «Поэзия и правда», все вновь и вновь вылепли¬
вал жизнь, развитие ее форм, становление, а не ставшее, ненавидел ма¬
тематику. Мир как организм противостоял здесь миру как механизму,
живая природа — природе мертвой, образ — закону. Каждая строка,
вышедшая из-под пера Гёте как естествоиспытателя, должна была
представить взору образ становящегося, «чеканный лик, что жизнь
произрастила»12. Сочувствие, созерцание, сравнение, непосредствен¬
ная внутренняя уверенность, точная чувственная фантазия — вот были
его средства придвинуться к таинству подвижного явления. И это же
суть средства исторического исследования вообще. Никаких иных про¬
сто нет. Этот божественный взгляд позволил Гёте произнести вечером у
лагерного костра после сражения при Вальми: «Здесь и отныне нача¬
лась новая эпоха всемирной истории, и вы вправе говорить, что при¬
сутствовали при ее рождении»13. Ни один полководец, ни один дипло¬
мат, уж не говоря о философе, не ощущал так непосредственно исто¬
рию в ее становлении. То было глубочайшее суждение, когда-либо
высказанное относительно великого исторического события в тот са¬
мый момент, когда оно произошло.
И вот подобно тому, как Гёте проследил развитие растительной
формы из листа, возникновение позвоночного животного, складыва¬
ние геологических слоев — как судьбу природы, а не ее причинно-следст¬
венные связи, так и язык форм человеческой истории, ее периодическая
структура, ее органическая логика, должна быть разработана на основе
полноты всех доступных наблюдению частностей.
В прочих отношениях человека по праву причисляют к организмам,
обитающим на земной поверхности. Строение его тела, его естествен¬
ные функции, все его чувственное обличье: все это принадлежит к од¬
ному всеохватному единству. Лишь в одном этом для него делают иск¬
Введение
39
лючение, несмотря на глубоко прочувствованное родство судьбы рас¬
тения с судьбой человека, этой вечной темой всей лирики, несмотря на
сходство человеческой истории с историей любой другой группы вы¬
сших живых существ, этой темой бесчисленных сказок, преданий и ба¬
сен о животных. Вот где необходимо проводить сравнение, давая миру
человеческих культур беспрепятственно и глубоко подействовать на
силу воображения, а не втискивая его в готовую схему; и тогда мы на¬
конец усмотрим в словах «юность», «подъем», «расцвет», «упадок» (в
которых и прежде, и теперь, причем еще больше, чем когда-либо рань¬
ше, были склонны усматривать выражение склонности к субъектив¬
ным оценкам, а также проявление наиболее личностных интересов со¬
циального, нравственного или эстетического рода) объективное обо¬
значение органических состояний; тогда мы поставим античную
культуру, как завершенное в самом себе целое, как тело и выражение
античной души, бок о бок с культурой египетской, индийской, вави¬
лонской, китайской, западной и будем отыскивать типическое в из¬
менчивых судьбах этих великих индивидуумов, необходимое — в не
знающей удержу полноте случайного, и тогда-то наконец мы увидим в
развитии тот образ всемирной истории, который представляется есте¬
ственным нам, людям Запада, и только нам одним.
10
Если вернуться к более узким задачам, то в первую очередь следует
определить в морфологическом смысле положение Западной Европы
и Америки в период с 1800 по 2000 г. Требуется установить «когда» этой
эпохи среди всей западной культуры как целого, понять ее смысл как
биографического отрезка, который в том или ином виде с необходимо¬
стью встречается во всякой культуре, органическое и символическое
значение языка ее политических, художественных, духовных, социаль¬
ных форм.
Сравнительное рассмотрение указывает на «одновременность»
данной эпохи с эллинизмом, причем, в частности, нынешняя высшая
ее точка (обозначенная мировой войной) совпадает с переходом от эл¬
линизма к римской эпохе. Римский дух, с его строжайшим чутьем на
факты, лишенный блеска, варварский, дисциплинированный, прак¬
тичный, протестантский, прусский, всегда останется для нас, вынуж¬
денных обходиться лишь сравнениями, ключом к пониманию собст¬
венного будущего. Греки и римляне — в этом судьбоносный водораздел
также и между тем, что с нами уже произошло, и тем, что нам еще пред¬
стоит. Ибо еще давно можно было и следовало отыскать в «Древнем
мире» события, которые являются совершенной парой к нашим, за¬
падноевропейским. Будучи во всем от них отличными на поверхности,
они тем не менее оказываются во всем равными им по внутренней ди¬
40
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
намике, влекущей великий организм к завершению развития. Начиная
с «Троянской войны» и Крестовых походов, Гомера и Песни о Нибе-
лунгах, через дорический и готический стиль, дионисийское движение
и Возрождение, Поликлета и Себастьяна Баха, Афины и Париж, Ари¬
стотеля и Канта, Александра Великого и Наполеона — и вплоть до ста¬
дии мировых столиц и империализма той и другой культуры, мы отыс¬
киваем в них черту за чертой неизменное alter ego собственной действи¬
тельности.
Однако интерпретация античной картины истории, которая была
при этом предварительным условием, как же односторонне к ней все¬
гда подходили! как поверхностно! как предвзято! как приземленно!
Ощущая себя состоящими с «древними» в слишком уж тесном родстве,
мы слишком упрощали себе задачу. В плоском «сходстве» заложена
опасность, жертвой которой стало все антиковедение, стоило ему пе¬
рейти от доведенного до шедевра упорядочивания и определения нахо¬
док — к душевным истолкованиям. Вот добросовестное заблуждение,
которое мы должны наконец преодолеть, а именно что античность
близка нам внутренне, потому что мы якобы ее ученики и потомки,
между тем как на деле мы — ее обожатели. Вся грандиозная религиоз¬
но-философская, историко-художественная, социально-критическая
работа XIX столетия понадобилась не для того, чтобы научить нас по¬
нимать драмы Эсхила, учение Платона, объяснить Аполлона и Диони¬
са, афинское государство и цезаризм (от этого мы очень далеки), но
чтобы дать нам наконец почувствовать, как неизмеримо нам это все
внутренне чуждо и далеко, — возможно, более чуждо, чем мексикан¬
ские боги и индийская архитектура.
Наши представления относительно греческо-римской культуры не¬
изменно переходили от одной крайности к другой, причем перспекти¬
ва всех точек зрения уже заранее предопределялась схемой Древний
мир — Средневековье — Новое время. Одни, и прежде всего сюда мож¬
но отнести людей, живущих общественными интересами — политэко¬
номов, политиков, юристов, считают, что «современное человечество»
далеко продвинулось по пути прогресса, ставят его очень высоко и из¬
меряют все бывшее прежде в сравнении с ним. Нет ни одной современ¬
ной партии, исходя из принципов которой уже не была бы дана оценка
Клеону, Марию, Фемистоклу, Катилине и Гракхам. Другие же, худож¬
ники, писатели, филологи и философы чувствуют себя неуютно в этой
современности и потому избирают в качестве столь же абсолютной
точки отсчета какую-либо эпоху в прошлом и столь же догматически,
отталкиваясь от нее, судят день нынешний. Одни усматривают в грече¬
ском духе «еще не», другие видят «уже не» в современности, и всегда
это происходит под воздействием картины истории, которая прямой
линией соединяет эпохи между собой.
В этой противоположности нашли воплощение две души Фауста.
Одним угрожает опасность рассудочной поверхностности. В конечном
Введение
41
итоге от всего того, что было античной культурой, отблеском античной
души, в их руках осталась лишь пригоршня социальных, экономиче¬
ских, политических и физиологических фактов. Все прочее имеет ха¬
рактер «вторичных следствий», «рефлексов», «сопутствующих явле¬
ний». В их книгах не ощутишь и следа мифической мощи эсхиловского
хора, колоссальной земной силы древнейшей скульптуры, дорической
колонны, жара аполлонических культов, даже глубины римского им¬
ператорского культа. Другие, в первую очередь запоздалые романтики,
как еще недавно три базельских профессора Бахофен, Буркхардт и Ни¬
цше, стали жертвой опасности, угрожающей всякой идеологии. Они
затерялись в заоблачных высях той древности, которая является иск¬
лючительно зеркальным отражением их получившей настрой от фило¬
логии восприимчивости. Они полагаются на остатки древней литера¬
туры, единственное свидетельство, представляющееся им достаточно
благородным, однако нет ни одной другой культуры, которая была бы
отображена своими великими писателями столь несовершенным обра¬
зом". Первые же полагаются преимущественно на сухой материал ис¬
точников по праву, надписей и монет (чем в особенности, к ущербу для
себя, пренебрегали Буркхардт и Ницше) и подчиняют ему сохранив¬
шуюся литературу с ее зачастую минимальным присутствием правди¬
вости и фактичности. Так что уже в связи с избранными критическими
принципами такие люди не могут воспринимать друг друга всерьез.
Мне не приходилось слышать, чтобы Ницше и Моммзен уделили друг
другу хотя бы минимальное внимание14.
Однако ни тот, ни другой не достиг той высоты наблюдения, откуда
эта противоположность обращается в ничто и которая была тем не ме¬
нее возможна. Такова была плата за перенесение принципа причинно¬
сти из естествознания в историческую науку. Мы бессознательно при¬
шли к прагматизму, поверхностно скопированному с картины физиче¬
ского мира, однако он скрывает и путает совершенно иначе
сложенный язык форм истории, а вовсе его не раскрывает. Чтобы под¬
вергнуть углубленному и упорядочивающему изучению всю массу ис¬
торического материала, не придумали ничего лучшего, как назначить
одну совокупность явлений первичными, т. е. причинами, а прочие со¬
ответственно вторичными, и трактовать их в качестве следствий и резу¬
льтатов. К этому прибегли не одни практики, но также и романтики,
потому что история не открыла собственной логики также и их мечтате¬
льному взгляду и потребность в установлении имманентной необходи-
Решающим обстоятельством был подбор уцелевшего, который определялся не од¬
ним только случаем, но в очень значительной степени тенденцией. Понятие классициз¬
ма было сформировано аттицизмом эпохи Августа, — утомленным, бесплодным, пе¬
дантичным, оглядывающимся назад, и он и признал в качестве классических весьма
небольшую группу сочинений греческих авторов вплоть до Платона. Прочее, в том
числе вся богатая эллинистическая литература, было отброшено и почти полностью
Утрачено. Эта подобранная на учительский вкус группа, которая по большей части уце¬
лела, и определяла потом воображаемый образ «классической древности» как во Фло¬
ренции, так и для Винкельмана, Гёльдерлина, Гёте и даже Ницше.
42
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
мости, наличие которой можно было ощутить, слишком велика, если
только не предпочесть вовсе отвернуться от истории, как это с досадой
сделал Шопенгауэр.
11
Поговорим же теперь без промедления о материалистическом и
идеологическом способе рассмотрения античности. В первом случае
нам объясняют, что причиной опускания одной чаши весов является
поднятие другой. Утверждают, что так бывает во всех без исключения
случаях — вне всякого сомнения, бьющий в самую цель довод. Итак,
мы имеем здесь причину и следствие, причем, само собой разумеется,
социальные и сексуальные, на худой конец чисто политические фак¬
ты составляют причины, а религиозные, духовные, художествен¬
ные — следствия (постольку, поскольку материалист мирится с обо¬
значением последних в качестве фактов). Идеологи же, напротив,
утверждают, что подъем одной чаши имеет причину в опускании дру¬
гой, и доказывают это с той же самой точностью. Они погружаются в
культы, мистерии, обычаи, в тайны стихов и линий и едва удостаива¬
ют взгляда заурядную повседневную жизнь, это прискорбное следст¬
вие земного несовершенства. И те и другие доказывают, имея при¬
чинно-следственные ряды перед глазами, что другие, очевидно, не
видят или не желают видеть истинной взаимосвязи вещей, а кончают
тем, что обзывают друг друга слепыми, плоскими, глупыми, нелепы¬
ми или легкомысленными, забавными придурками или пошлыми
обывателями. Идеолог вне себя, когда кто-либо всерьез занимается
финансовыми проблемами у греков и, к примеру, вместо того, чтобы
рассуждать о глубокомысленных изречениях дельфийского оракула,
говорит о широкомасштабных денежных операциях, которыми зани¬
мались жрецы оракула, используя свезенные к ним сокровища. По¬
литик же мудро усмехается над тем, кто растрачивает свое вдохнове¬
ние на священные формулы и на одеяние аттических эфебов вместо
того, чтобы написать книгу об античной классовой борьбе, усыпав ее
множеством расхожих современных словечек.
Предвестника одного из этих типов мы видим уже в Петрарке. Это
он создал Флоренцию и Веймар, понятия Возрождения и западного
классицизма. С другим можно было столкнуться уже начиная с сере¬
дины XVIII в., с началом цивилизованной, проникнутой экономиче¬
скими принципами мировых столиц политики, а значит, поначалу в
Англии (Грот). Собственно говоря, здесь друг другу противостоят
представления культурного и цивилизованного человека — противо¬
положность, которая слишком глубока и чересчур человечна для того,
чтобы дать почувствовать слабость обеих точек зрения, уж не говоря о
том, чтобы ее преодолеть.
Введение 43
Также и материализм ведет себя в данном вопросе идеалистически.
Также и он, сам того не зная и не желая, поставил свои воззрения в за¬
висимость от собственных желаний. На самом же деле все без исключе¬
ния лучшие наши умы с благоговением склонялись перед образом ан¬
тичности и лишь в этом единственном случае отказывались от права на
не знающую пределов критику. Свобода и размах в исследованиях ан¬
тичности постоянно сдерживались какой-то почти религиозной робо¬
стью, что затемняло их результаты. Во всей истории не существует дру¬
гого подобного примера столь пламенного культа, который бы возда¬
вала одна культура в отношении памяти о другой. Выражением этой
преданности было также и то, что начиная с Возрождения мы идеали¬
стически связали древность и Новое время «Средневековьем», более
чем тысячелетием недооцененной, едва ли не презираемой истории.
Мы, западноевропейцы, принесли в жертву «древним» чистоту и неза¬
висимость нашего искусства, когда отваживались творить лишь с
оглядкой на «несравненный образец». Мы всякий раз вкладывали,
вчувствовали в наш образ греков и римлян то, чего были лишены, но на
что надеялись в глубине собственной души. Когда-нибудь проницате¬
льный психолог поведает нам историю этой роковой иллюзии, исто¬
рию того, что мы всякий раз почитали в качестве античного начиная со
времен готики. Мало задач, которые были бы поучительнее для внут¬
реннего понимания западной души, начиная с Оттона III, этой первой
жертвы Юга, и вплоть до Ницше, последней его жертвы.
В своих итальянских путешествиях Гёте с воодушевлением рассуж¬
дает о постройках Палладио, чей холодный академизм встречает ныне
с нашей стороны скептическое отношение. Потом он осматривает
Помпеи и с нескрываемым неудовольствием говорит о «диковинном,
наполовину неприятном впечатлении». То, что было им сказано о хра¬
мах в Пестуме и Сегесте, этих шедеврах греческого искусства, носит
принужденный и малозначительный характер. Очевидно, он не при¬
знал во всем этом той античности, которая некогда встала перед ним
воочию во всей своей мощи. Однако то же происходило и со всеми про¬
чими. Они избегали помногу наблюдать античность, и таким образом
им удавалось сберечь свой внутренний образ. Их «античность» всякий
раз была фоном для жизненного идеала, созданного ими самими и на¬
питанного лучшей их кровью, она была вместилищем для их мироощу¬
щения, призраком и идолом. В ученых кабинетах и поэтических круж¬
ках слышны восторженные отзывы о смелых изображениях сутолоки
больших античных городов у Аристофана, Ювенала и Петрония, о юж¬
ных грязи и черни, диком шуме и потасовках, о тамошних мальчиках
для удовольствий и тамошних Фринах, о фаллическом культе и оргиях
цезарей, однако ту же самую действительность нынешних мировых
столиц люди склонны обходить стороной, сетуя и презрительно морща
нос. «Скверно жить в городах: слишком уж много там баб в течке». Так
говорил Заратустра. Они превозносят государственную мудрость рим¬
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
44
лян и презирают того, кто ныне не избегает всякого соприкосновения с
общественными делами. Есть род знатоков, видящих магическую силу
в различии между тогой и сюртуком, между византийским цирком и
английской спортплощадкой, античными альпийскими шоссе и
трансконтинентальными железными дорогами, триерами и скоро¬
стными пароходами, римскими копьями и прусскими штыками, и эта
магическая сила гарантированно убаюкивает свободу суждений. Даже
Суэцкий канал, смотря по тому, построил ли его фараон или современ¬
ный инженер, представляется этим людям не одним и тем же. Паровая
машина оказалась бы для них символом человеческой страсти и выра¬
жением духовной энергии лишь тогда, когда бы ее изобрел Герои Алек¬
сандрийский. Им кажется кощунством, когда вместо того, чтобы рас¬
суждать о культе Великой Матери на горе Пессинунта, заговаривают о
римских центральном отоплении и счетоводстве.
Другие, однако, ничего иного и не видят. Они полагают, что исчер¬
пали сущность этой столь чуждой нам культуры, когда без тени сомне¬
ния обращаются с греками как со своей ровней, а делая выводы, они
пребывают в системе отождествлений, которая вообще не затрагивает
античной души. Они и не догадываются о том, что такие слова, как
«республика», «свобода», «собственность» обозначают здесь и там
вещи, которые по внутреннему смыслу не имеют даже малейшего род¬
ства. Они подтрунивают над историками гётевской эпохи, которые
искренне выражали при написании истории античности собственные
политические идеалы и раскрывали личные устремления через имена
Ликурга, Брута, Катона, Цицерона, Августа, — в зависимости от того,
находили ли те у них похвалу или осуждение. Однако сами они не в со¬
стоянии написать главы без того, чтобы не выдать, к какому партийно¬
му направлению принадлежит газета, которую они читают по утрам.
Но не имеет значения, взираешь ли ты на прошлое глазами Дон Кихота
или Санчо Пансы. К цели не приводит ни тот, ни другой путь. Нако¬
нец, каждый из них позволил себе поставить на передний план тот
фрагмент античности, который наиболее соответствовал его собствен¬
ным убеждениям. Для Ницше это были досократовские Афины, для
политэкономов — эллинистический период, для политиков — респуб¬
ликанский Рим, а для поэтов — императорская эпоха.
Не то чтобы религиозные или художественные явления были изна-
чальнее социальных или экономических. Это неверно, как неверно и
обратное. Для того, кто обрел здесь безусловную свободу взгляда,
здесь, по другую сторону всех личных интересов какого бы то ни было
рода, вообще не существует никакой зависимости, никакого предпоч¬
тения, никакого отношения причины и следствия, никакого различия
в ценности и значимости. Вес фактам придает исключительно большая
или меньшая чистота и мощь языка их форм, сила их символики — по
ту сторону всякого благого и дурного, высокого и низкого, пользы и
идеала.
Введение
45
12
Под таким углом зрения закат Запада означает не больше и не мень¬
ше, чем проблему цивилизации. Здесь налицо один из фундаментальных
вопросов всей высшей истории. Что такое цивилизация, рассмотрен¬
ная как органически-логическое следствие, как завершение и исход
культуры?
Ибо у всякой культуры своя собственная цивилизация. Впервые два
этих слова, которым приходилось доныне обозначать неопределенное
различие этического характера, понимаются в периодическом смысле,
как выражения строгого и необходимого органического следования друг
за другом. Цивилизация — это неизбежная судьба культуры. Здесь ока¬
зывается достигнутой вершина, с которой становятся разрешимыми
последние и труднейшие вопросы исторической морфологии. Циви¬
лизации — это наиболее крайние и наиболее искусственные состояния, на
которые только способен человек высшего рода. Они являются ито¬
гом; они следуют за становлением как ставшее, за жизнью — как
смерть, за развитием — как оцепенелость, за деревней и душевным ре¬
бячеством, которые обнаруживают дорический и готический стили, —
как духовная старость и каменный и окаменевающий город. Они пред¬
ставляют собой неотвратимый конец, однако с внутреннейшей необхо¬
димостью к этому концу приходят вновь и вновь.
Лишь исходя из этого становятся понятны римляне как преемники
греков. Лишь так на позднюю античность проливается свет, который
выдает ее глубочайшие тайны. Ведь что означает то, что римляне были
варварами (а оспаривать это можно лишь празднословя), варварами,
которые не предшествовали великому взлету, но его замыкали? Без¬
душные, бесфилософые, лишенные искусства, расовые до зверства,
нацеленные на реальные успехи любой ценой, они стоят между грече¬
ской культурой и ничто. Их ориентированная исключительно на прак¬
тическое сила воображения (у них было священное право, регулиро¬
вавшее отношения между богами и людьми как между частными лица¬
ми, однако не было ни одного чисто римского сказания о богах) — это
черта, которой вообще невозможно встретить в Афинах. Греческая
душа и римский интеллект — вот это что такое. Так отличаются меж со¬
бой культура и цивилизация. И это справедливо не только для антич¬
ности. Этот тип сильных духом, совершенно неметафизических людей
возникает вновь и вновь. В их руках находятся духовные и материаль¬
ные судьбы всякого позднего времени. Они осуществили вавилон¬
ский, египетский, индийский, китайский, римский империализм. В
такие эпохи буддизм, стоицизм и социализм дозревают до окончатель¬
ных миронастроений, еще способных охватить и преобразовать угаса¬
ющее человечество во всем его существе. Чистая цивилизация как ис¬
торический процесс состоит в постепенном демонтаже сделавшихся
неорганическими, отмерших форм.
46 Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Переход от культуры к цивилизации происходит в античности в
IV в., на Западе — в XIX в. Начиная с этого времени великие духовные
решения уже не адресуются, как это было во времена орфического дви¬
жения и Реформации, «всему миру», в котором в конечном счете ни
одна деревня не может быть названа не имеющей совершенно никако¬
го значения, но трем или четырем всосавшим в себя все содержание ис¬
тории мировым столицам, рядом с которыми весь прочий ландшафт
данной культуры снижается до уровня провинции, обязанной, со
своей стороны, теперь лишь питать мировые столицы своими остатка¬
ми высшего человечества. Мировая столица и провинция* — с этими ба¬
зовыми понятиями всякой цивилизации появляется совершенно но¬
вая проблема исторической формы, которую мы, нынеживущие, как
раз и переживаем без того, чтобы хоть отдаленно это осознать со всеми
последствиями. Вместо мира город, точка, в которой собирается вся
жизнь отдаленных стран, между тем как все прочее усыхает; вместо
полного формы, сросшегося с землей народа — новый кочевник, пара¬
зит, обитатель крупного города, чистый, лишенный традиций, высту¬
пающий в виде флуктуирующей массы человек практического склада,
безрелигиозный, рассудительный, бесплодный, с глубинным нераспо¬
ложением к крестьянству (и высшей его форме, поместному дворянст¬
ву), а значит, громадный шаг к неорганическому, к концу, — как все
это понимать? Франция и Англия уже совершили этот шаг, а Германия
собирается. Вслед за Сиракузами, Афинами и Александрией идет Рим.
Вслед за Мадридом, Парижем и Лондоном — Берлин и Нью-Йорк.
Сделаться провинцией — вот судьба целых стран, которые оказывают¬
ся вне поля излучения этих городов, как это случилось некогда с Кри¬
том и Македонией, а ныне происходит со скандинавским Севером**.
Некогда борьба за ту или иную формулировку определяющей эпоху
идеи в сфере метафизически, культово или догматически окрашенных
всемирных проблем разыгрывалась между земляным духом крестьян¬
ства (аристократии и жречества) и «светским» патрицианским духом
славных городов — старинных и небольших — раннего дорического и
готического времени. Таков был характер борьбы вокруг религии Дио¬
ниса (например, при сикионском тиране Клисфене***), а в немецких
имперских городах и в ходе гугенотских войн — вокруг Реформации.
Однако подобно тому, как эти города в конце концов взяли верх над де¬
ревней (с чисто городским мировоззрением мы сталкиваемся уже у
Парменида и Декарта), ныне мировая столица одолевает уже их самих.
Ср. с. 560 слл.
Это не следует упускать из виду в становлении Стриндберга и прежде всего Ибсе¬
на, который неизменно бывал лишь гостем в цивилизованной атмосфере их проблем.
Мотивы «Бранда» и «Росмерсхольма» представляют собой примечательную смесь
врожденного провинциализма и теоретически усвоенного горизонта мировой столицы.
Нора — пра-образ сбившейся с пути в результате усердного чтения провинциалки.
Запретившего культ городского героя Адраста и исполнение гомеровских стихов,
чтобы отсечь корни душевности дорической знати (ок. 560 г.).
Введение
47
Это духовный процесс всякого позднего времени, как ионического,
так и барокко. Ныне, как и во времена эллинизма, чье начало ознаме¬
новано основанием искусственного, а значит чуждого деревне боль¬
шого города Александрии, эти культурные города — Флоренция, Нюр¬
нберг, Саламанка, Брюгге, Прага — стали провинциальными города¬
ми, оказывающими безнадежное внутреннее сопротивление духу
мировых столиц. Мировая столица означает космополитизм вместо
«родины»*, холодное чутье на факты вместо благоговения перед до¬
ставшимся от предков и органически произросшим, научную безрели-
гиозность как окаменелость на месте былой религии сердца, «обще¬
ство» вместо государства, естественные права вместо унаследованных.
Деньги как неорганическая, абстрактная величина, отделенная от всех
связей со смыслом плодородной почвы, от ценностей изначального
жизненного уклада — вот в чем римляне превзошли греков. Начиная с
этого момента возвышенное мировоззрение — это вопрос еще и денег.
Не греческий стоицизм Хрисиппа, а римский стоицизм Катона и Се¬
неки предполагает в качестве своей основы имущество**, и не социаль¬
но-нравственное умонастроение XVIII в., но то, которое мы встречаем
в веке XX, когда оно сделалось помимо профессиональной — и прибы¬
льной — агитации еще и реальным делом, представляет собой занятие
для миллионеров. Мировую столицу образует не народ, но масса. Не¬
понимание ею всего традиционного, когда разворачивается борьба с
культурой (с аристократией, церковью, привилегиями, династическим
принципом, с условностями в искусстве, с пределами познаваемости в
науке), ее превосходящая крестьянскую сметку острая и холодная ин¬
теллигенция, ее натурализм в совершенно новом смысле, который, пе¬
рескакивая через Сократа и Руссо в том, что касается сексуальности и
социальности, зацепляется за пра-человеческие, оставшиеся далеко
позади инстинкты и состояния, это рапет et circenses [хлеба и зрелищ
(лат.)], которое является ныне вновь как борьба за повышение оплаты
труда, как спортплощадка, — все это, в противоположность окончате¬
льно завершенной культуре и провинции, знаменует совершенно но¬
вую, позднюю и не имеющую будущего, однако неизбежную форму че¬
ловеческого существования.
Вот что молит о том, чтобы открыться взору не партийца, не идео¬
лога, не злободневного моралиста, не из закоулка какой бы то ни было
«точки зрения», но со вневременной высоты, при взгляде, направлен¬
ном на исторический мир форм тысячелетий — когда мы действитель¬
но желаем постичь масштабы современного кризиса.
*
Глубокое понятие, обретшее смысл, как только варвар сделался культурным чело¬
веком, и утрачивающее его вновь, стоит цивилизованному человеку избрать девизом
слова «ubi bene, ibi patria» [где хорошо, там и родина (лат.)].
Поэтому-то первыми христианству достались римляне, которые более не могли себе
позволить быть стоиками. Ср. с. 849 сл.
48
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Я усматриваю символы первостепенной важности в том, что в Риме,
где триумвир Красе был всемогущим спекулянтом площадями под за¬
стройку, красующийся на всех надписях римский народ, перед кото¬
рым трепетали далекие галлы, греки, парфяне и сирийцы, в невероят¬
ной нищете ютился в многоэтажных наемных бараках лишенных света
городских предместий* ** и воспринимал успехи в части военной экспан¬
сии с безразличием или же своего рода спортивным интересом; что
многие из великих родов древней знати, потомки победителей над ке¬
льтами, самнитами и Ганнибалом, поскольку они не принимали учас¬
тия в лихорадочной спекуляции, были вынуждены отказаться от своих
родовых домов и переехать в убогие наемные квартиры; что между тем
как вдоль по Аппиевой дороге высились вызывающие изумление до
наших дней надгробные памятники римских финансовых воротил, по¬
койники из простонародья вместе с трупами животных и всем мусором
большого города выбрасывались в чудовищную братскую могилу, пока
при Августе, дабы обезопаситься от эпидемий, это место не было засы¬
пано, и здесь-то Меценат разбил свой знаменитый парк; что в обезлю¬
девших Афинах, живших посещениями заезжих чужаков и средствами
из фондов богатых иноземцев (как, например, царя Иудеи Ирода), где
туристская чернь из числа слишком стремительно разбогатевших рим¬
лян глазела на творения Перикловой эпохи, в которых она смыслила
также мало, как мало смыслят в Микеланджело американские посети¬
тели Сикстинской капеллы, после того как все движимые художест¬
венные произведения были отсюда умыкнуты или выкуплены по фан¬
тастическим, продиктованным модой ценам, были зато отстроены ко¬
лоссальные и претенциозные римские постройки бок об бок с
глубокими и скромными творениями старого времени. Через вещи та¬
кого рода, которые историку не следует ни хвалить, ни порицать, но
морфологически оценивать, взгляду всякого, кто научился видеть, как
раз и открывается непосредственно идея.
Ибо обнаружится, что начиная с этого момента все великие конф¬
ликты мировоззрения, политики, искусства, науки, чувства стоят под
знаком одной этой противоположности. Что такое цивилизованная
политика будущего в противоположность культурной политике про¬
шлого? В античности это риторика, на западе журналистика, причем
стоящие на службе той абстракции, за которой — мощь цивилизации, а
именно денег". Это их дух незаметно пронизывает исторические фор¬
мы народного бытия, зачастую так, что ни в малейшей степени их не
* В Риме и Византии возводились (при ширине улиц самое большее в 3 метра) до¬
ходные дома высотой от шести до десяти этажей, и при полном отсутствии какого-либо
надзора за строительством они достаточно часто обрушивались вместе со своими оби¬
тателями. Преобладающая часть cives Romani [римских граждан (лат.)], для которых
«рапет et circenses» составляли все содержание жизни, располагала лишь оплачиваемой
втридорога койкой в кишащих, словно муравейник, «insulae»" (Pohlmann, Aus AJtertum
u. Gegenwart (1911), S. 199 ff.).
** Cp. c. 921 слл.
Введение 49
меняет и не нарушает. От Сципиона Африканского Старшего и до Ав¬
густа римское государство по своей форме оставалось в основном куда
более неизменным, чем принято считать. Однако массовые партии
лишь кажутся центрами решающих действий. Все определяет неболь¬
шое число превосходных умов, чьи имена, быть может, в данный мо¬
мент не находятся среди наиболее известных, между тем как масса по¬
литиков второго разряда, риторов и трибунов, депутатов и журнали¬
стов, отбор которых осуществляется в соответствии с умственным
горизонтом провинции, поддерживает перед нижестоящими иллюзию
народного самоопределения. А искусство? Философия? Идеалы эпохи
Платона и Канта имели значение для всего высшего человечества в це¬
лом; те же, что характерны для эллинистической эпохи и современно¬
сти, в первую очередь социализм, очень близко связанный с ним внут¬
ренне дарвинизм с его столь негётеанскими формулами борьбы за су¬
ществование и полового отбора, и в свою очередь связанные со всем
этим женские и семейные проблемы у Ибсена, Стриндберга и Шоу,
импрессионистские тенденции анархической чувственности, весь этот
букет современных томлений, искусов и страданий, выражением кото¬
рых являются лирика Бодлера и музыка Вагнера, предназначены не для
мироощущения деревенского и вообще естественного человека, а иск¬
лючительно лишь для городского головного человека. Чем меньше го¬
род, тем бессмысленнее возня с этими живописью и музыкой. Гимна¬
стика, турнир, «агон»16 принадлежат культуре, спорт — цивилизации.
Также и это отличает греческую палестру от римского цирка*. Само ис¬
кусство становится спортом (это и означает I’art pour l’art [искусство
для искусства (фр.)\) для высокоинтеллигентной публики, составлен¬
ной ценителями и покупателями, будет ли речь идти о преодолении аб¬
сурдных инструментальных звуковых масс или гармонических препят¬
ствий или же о «решении» проблемы цвета. На свет является новая фи¬
лософия факта, лишь посмеивающаяся над метафизическими
спекуляциями, новая литература, являющая собой потребность для
рассудка, вкуса и нервов жителя большого города, провинциалу же не¬
понятная и ненавистная. И александрийская поэзия, и пленэр не име¬
ют ни малейшего отношения к «народу». Как тогда, так и теперь пере¬
ход знаменуется рядом скандалов, характерных лишь для данной эпо¬
хи. Негодование, вызванное у афинян Эврипидом и революционной
живописной манерой того же Аполлодора, повторяется уже как проте¬
сты против Вагнера, Мане, Ибсена и Ницше.
Греков можно понять, и не упоминая об их экономических отноше¬
ниях. Римляне же становятся понятны лишь через них. При Херонее и
Лейпциге были в последний разданы сражения ради идеи. В 1 -ю Пуни¬
* После 1813 г. немецкая гимнастика от чрезвычайно провинциальных, первоздан¬
ных форм, которые придал ей тогда Ян, в ходе стремительного развития прошла путь к
гимнастике спортивной. В дни крупных соревнований уже в 1914 г. какая-нибудь спор¬
тивная площадка в Берлине мало отличалась от римского цирка.
50
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
ческую войну и при Седане экономические моменты уже невозможно
упускать из виду. Это лишь римляне с их практической энергией при¬
дали рабовладению тот колоссальный стиль, который для многих
остался господствующим в их представлениях об античном ведении
хозяйства, правотворчестве и образе жизни и в любом случае несрав¬
ненно принизил ценность и внутреннее достоинство стоявшего рядом
с ним вольнонаемного труда. Соответственно то были германские, а не
романские народы Западной Европы и Америки, кому удалось на
основе паровой машины построить тяжелую индустрию, изменившую
облик целых стран. Не следует упускать из виду отношение тех и других
к стоицизму и социализму. Лишь римский, возвещенный в лице Гая
Фламиния, а в Марии впервые обретший конкретное воплощение це¬
заризм свел в рамках античного мира знакомство с превосходством де¬
нег — когда они в руках сильных духом, с размахом скроенных людей
практического склада. Без этого не понять ни цезаризма, ни римского
духа вообще. В каждом греке есть что-то от Дон Кихота, в каждом рим¬
лянине — что-то от Санчо Пансы, и все, чем они были сверх того, от¬
ступает в этом свете на задний план.
13
Что касается римского мирового господства, то было негативное яв-
ление, результат не превосходства одной силы над другой (после сра¬
жения при Заме у римлян такового превосходства больше не было), а
отсутствия сопротивления с другой стороны. Римляне вообще не заво¬
евывали мира*. Они лишь вступили во владение тем, что лежало, до¬
ступное в качестве добычи каждому. Imperium Romanum [Римская им¬
перия (лат.)] возникла на свет не в результате величайшего напряже¬
ния всех военных и вспомогательных финансовых средств, как это
было некогда в случае противостояния Карфагену, но вследствие отка¬
за древнего Востока от внешнего самоопределения. Не следует давать
себя обмануть видимостью блестящих военных успехов. С парой плохо
обученных, плохо направляемых, скверно настроенных легионов Лу¬
кулл и Помпей покорили целые царства, о чем нельзя было и помыс¬
лить во времена сражения при Ипсе. Опасность со стороны Митрида-
та, подлинная опасность для этой никогда всерьез не испытанной сис¬
темы материальных сил, никогда не могла бы даже возникнуть для
победителей Ганнибала. После Замы римляне не вели, да и не могли
вести, ни одной войны против значительной военной державы**. Их
* Ср. с. 888.
Завоевание Галлии Цезарем было неприкрытой колониальной войной, т. е. актив¬
ность в ней проявляла лишь одна сторона. То, что несмотря на это, она все же состав¬
ляет кульминацию поздней римской военной истории, лишь удостоверяет стремитель¬
ное убывание у римлян по части действительных достижений.
Введение 51
классическими войнами были те, что они вели против самнитов, Пирра
и Карфагена. Великий час для них пробил при Каннах. Нет ни одного
народа, который был бы в состоянии столетиями стоять на котурнах.
Прусско-немецкий народ, переживший величественные моменты в
1813, 1870 и 1914 гг., уже превзошел по их количеству прочие народы.
Я учу здесь понимать империализм как типичный символ конца. Меж¬
ду тем в качестве его окаменелости мотуг еще столетиями и тысячелетия¬
ми существовать, переходя от одних завоевателей к другим, такие импе¬
рии, как египетская, китайская, римская, индийский мир и мир ислама —
эти мертвые тела, аморфные, обездушенные человеческие массы, отрабо¬
танное вещество великой истории. Империализм — это цивилизация в
чистом виде. В форме этого явления кроется неотвратимая судьба Запада.
Культурный человек направляет свою энергию внутрь, цивилизован¬
ный — наружу. Поэтому я усматриваю в Сесиле Родсе первого человека
новой эпохи. Он являет собой политический стиль отдаленного будуще¬
го — западного, германского, в первую очередь немецкого. Принадлежа¬
щие ему слова «Распространение — это все» содержат в себе в этой напо¬
леоновской редакции наиболее характерную тенденцию всякой созрев¬
шей цивилизации. Это справедливо в отношении римлян, арабов,
китайцев. Тут не существует выбора. Здесь нет абсолютно никакого места
осознанной воле отдельного человека, целых классов или народов. Тен¬
денция к экспансии — это рок, нечто демоническое и чудовищное, что
хватает позднего человека стадии мировых столиц, ставит его себе на
службу и его потребляет вне зависимости оттого, желает ли того и догады¬
вается ли об этом он сам*. Жизнь — осуществление возможного, а для го¬
ловного человека существуют'лишь экстенсивные возможности *. Как ни
энергично протестует против экспансии нынешний, еще слабо развитый
социализм, в один прекрасный день он с решительностью рока будет са¬
мым первым ее проводником. Здесь формальный язык политики — в ка¬
честве интеллектуального выражения одной разновидности человечест¬
ва — затрагивает метафизическую проблему, а именно того удостоверен¬
ного с безусловной достоверностью причинно-следственного принципа
факта, что дух является дополнением к протяжению.
Борьба, которую в дрейфовавшем в сторону империализма мире
китайских государств в период между 480 и 230 г. (что соответствует в
античности приблизительно 300—50 гг.) вели с принципом империа¬
лизма (.льянхэн), представленным на практике прежде всего «римским»
государством Цинь*** (в теории же его отстаивал философ Джан И),
Современные немцы являют собой блестящий пример народа, сделавшегося экс¬
пансионистским без собственного ведома и желания. Они были таковы еще тогда, ког¬
да полагали, что остаются народом Гёте. Бисмарк и не подозревал об этом глубинном
значении эпохи, основателем которой явился. Он был уверен, что достиг завершения
политического развития, ср. с. 800.
Возможно, это и подразумевали значительные слова, сказанные Наполеоном Гёте:
♦Что нынешнему человеку до судьбы? Политика — вот судьба»17.
Которое дало в конце концов имя и империи в целом: Цинь — это и есть Китай.
52
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
сторонники идеи союза народов (.хэцзун)18, опиравшиеся на целый ряд
мыслей Ван Ху, глубокого скептика, знавшего людей и политические
возможности этого позднего времени, — борьба эта, говорю я, была
лишена каких-либо перспектив. И Джан И, и Ван Ху были противни¬
ками идеологии Лао-цзы с его упразднением политики, однако на сто¬
роне льянхэн было преимущество естественного хода направленной в
сторону экспансии цивилизации*.
Родс является как первый предвестник этого западного цезариан-
ского типа, чье время наступит еще не скоро. Он находится посереди¬
не между Наполеоном и сильными людьми предстоящих столетий,
подобно тому Фламинию, который начиная с 232 г. побуждал римлян
к покорению Цизальпийской Галлии, а тем самым к началу политики
колониальной экспансии, находится между Александром и Цезарем.
Строго говоря, Фламиний был частным лицом**, располагавшим гос¬
подствующим влиянием в государстве в эпоху, когда государственная
идея уступает натиску экономических факторов. Фламиний, несо¬
мненно, первый в ряду типов цезарианской оппозиции в Риме. С ним
приходит к завершению идея государственной службы и начинается
принимающая в расчет лишь силы, а не традиции, воля к власти.
Александр и Наполеон были романтиками на пороге цивилизации,
уже обвеянными ее холодным и прозрачным воздухом; однако одно¬
му нравилось играть Ахилла, а другой читал «Вертера». Цезарь был
всего только человеком практической складки, обладавшим колосса¬
льной силы умом.
Однако уже Родс понимал под успешной политикой исключитель¬
но территориальные и финансовые успехи. То была римская его черта,
что он сам прекрасно сознавал. Западноевропейская цивилизация еще
никогда не воплощалась с такой энергичностью и чистотой. Родс, этот
выходец из семьи пуританского священника, без гроша явившийся в
Южную Африку и сколотивший здесь громадное богатство в качестве
могущественного средства для осуществления политических целей,
мог впадать в своего рода поэтический экстаз уже перед своими геогра¬
фическими картами. Его идея трансафриканской железной дороги,
пролегающей от мыса Доброй Надежды до Каира, его проект южноаф¬
риканской империи, его духовная власть над магнатами-горнозавод-
чиками, железными финансистами, которых он принудил поставить
свое имущество на службу его идеям, его столица Булавайо, которую
он, всемогущий государственный деятель без какого-либо поддающе¬
гося определению отношения к государству, с королевским размахом
заложил в качестве будущей резиденции, его войны, дипломатические
демарши, дорожная сеть, синдикаты, армия, его представление о «ве¬
ликом долге разумного человека перед цивилизацией», — все это вели¬
* Ср. с. 881 слл., 895.
Ибо его реальная власть более не соответствовала понятию о какой-либо дол¬
жности.
Введение
53
чественное и благородное являет собой прелюдию еще предстоящего
нам будущего, которым окончательно завершится история западноев¬
ропейского человека.
Тот, кто не понимает, что в этом исходе ничего не изменишь, что
следует желать именно этого — либо вовсе ничего не желать, что судьбу
эту следует любить или же отчаяться в будущем, в жизни, кто не вос¬
принимает того величия, которое заключено также и в этой деятельно¬
сти исполинских интеллигенций, в этой энергии и дисциплине твер¬
дых как сталь натур, в этой борьбе с помощью наиболее холодных, аб¬
страктных средств, кто пестует в себе идеализм провинциала и жаждет
стиля жизни былых эпох, тому нужно отказаться от мысли понимать
историю, переживать историю, творить историю.
Так Imperium Romanum оказывается уже не уникальным явлением,
но нормальным продуктом строгой и энергичной, по преимуществу
практической, базирующейся в мировых столицах духовности и ти¬
пичным конечным состоянием, уже несколько раз наблюдавшимся,
однако до сих пор не идентифицированным. Поймем ли мы наконец,
что тайна исторической формы не лежит на поверхности и не может
быть постигнута через сходство в костюме или в обстановке, что в чело¬
веческой истории, точно так же, как в истории животных и растений,
имеются явления с обманчивым сходством, не имеющие между собой
внутренне ничего общего: Карл Великий и Гарун ар-Рашид, Александр
и Цезарь, войны германцев против Рима и монгольские набеги на За¬
падную Европу. Но существуют также и другие явления, которые при
всей своей внешней несхожести выражают нечто тождественное, как
Траян и Рамсес II, Бурбоны и аттический демос, Мухаммед и Пифагор.
Поймем же наконец, что XIX и XX столетия, эта как будто бы вершина
восходящей по прямой линии всемирной истории, на самом деле как
возрастная ступень обнаруживаются в любой созревшей до конца ку¬
льтуре, — не с их социалистами, импрессионистами, электрифициро¬
ванными железными дорогами, торпедами и дифференциальными
уравнениями, которые относятся всего-навсего к телесной оболочке
эпохи, но с их цивилизованной духовностью, обладающей также и со¬
вершенно иными возможностями внешнего формообразования, и что
современность, таким образом, представляет собой переходную ста¬
дию, которая наверняка наступает при определенных условиях. Итак,
мы видим, что существуют также и вполне определенные более поздние
состояния, нежели нынешнее западноевропейское, и в протекшей до¬
ныне истории они встречались уже не один раз, так что будущее Запа¬
да — это не безбрежное восхождение по фантастическим временным
пространствам в направлении наших нынешних идеалов, но строго
ограниченное в смысле формы и продолжительности, неотвратимо предо¬
пределенное единичное событие истории продолжительностью в несколь¬
ко столетий, которое можно обозреть и в основных его чертах рассчи¬
тать на основании имеющихся примеров.
54
Том 1. ОБРАЗ И^ЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
14
Тому, кто достиг этой высоты рассмотрения, все прочие плоды до¬
станутся без труда. На одну идею замыкаются и с ее помощью совер¬
шенно непринужденно разрешаются все отдельные проблемы в облас¬
ти религиоведения, истории искусств, гносеологии, этики, политики и
политэкономии, — проблемы, заставлявшие современный дух труди¬
ться над собой со всем пылом, не достигая, однако, окончательного
успеха.
Идея эта относится к истинам, которые более не оспариваются, сто¬
ит их раз высказать с полной ясностью. Она принадлежит к внутренне
необходимым элементам культуры Западной Европы и ее мироощуще¬
ния. Идея эта способна радикальным образом переменить мировоззре¬
ние того, кто полностью ее усвоит, т. е. сделает ее внутренне своей соб¬
ственной. Громадное углубление естественной и необходимой для нас
картины мира знаменуется тем, что ту всемирно-историческую ситуа¬
цию, в которой мы пребываем ныне и которую мы до сих пор научи¬
лись прослеживать как органическое целое в попятном направлении,
теперь можно будет в основных чертах прослеживать также и вперед.
До сих пор о таком мог мечтать только физик в своих расчетах. Это зна¬
менует, повторю это еще раз, замену птолемеевского воззрения на ко-
перниканское также и в области исторического, что означает неизме¬
римое расширение жизненного горизонта.
До сих пор от будущего не возбранялось ожидать всего, чего хоте¬
лось. Там, где нет никаких фактов, властвует чувство. Впредь долгом
всякого будет узнавать о предстоящем то, что произойти может и, зна¬
чит, произойдет с непреложной необходимостью судьбы, и что таким
образом абсолютно независимо от личных идеалов, надежд и пожела¬
ний. Если воспользоваться сомнительным словом «свобода», теперь
мы несвободны реализовывать то или это, но исключительно лишь то,
что неизбежно — или вовсе ничего. Восприятие этого как «блага» отлича¬
ет человека практического склада. Сожалеть об этом и порицать не
означает, однако, быть в состоянии это изменить. В рождении заклю¬
чена смерть, в юности — старость, в жизни как таковой — ее образ и
предопределенные ей границы продолжительности. Современность —
это цивилизованная, а вовсе не окультуренная эпоха. Тем самым ока¬
зывается исключенным, как невозможный, целый ряд жизненных со¬
держаний. Об этом можно сожалеть и облечь свое сожаление в песси¬
мистическую философию и лирику (и в будущем это еще будут делать),
однако тут ничего не изменить. Больше не будет позволено с безразде¬
льной самоуверенностью усматривать в сегодня и завтра рождение или
расцвет того, чего хотелось бы именно теперь, если против этого доста¬
точно весомо выступает также и исторический опыт.
Я готов к тому возражению, что такое воззрение на мир, которое
дает нам уверенность в отношении контуров и направления будущего,
Введение
55
отсекая далеко идущий надежды, враждебно жизни и сделается фату¬
мом для многих в том случае, если когда-либо оно станет чем-то боль¬
шим, нежели просто теория, и выльется в практическое мировоззрение
группы людей, реально значимой в формировании будущего.
Сам я так не считаю. Мы цивилизованные люди, а не люди готики и
барокко; нам приходится считаться с жестокими и холодными факта¬
ми поздней жизни, параллели к которой мы находим не в Перикловых
Афинах, но в Цезаревом Риме. Для западноевропейского человека бо¬
льше не может быть и речи о великих живописи и музыке. Его архитек¬
тонические возможности исчерпаны еще столетие назад. У него оста¬
лись одни лишь экстенсивные возможности. Однако я не вижу, какой
ущерб мог бы произойти от того, что дельное и вскормленное неогра¬
ниченными надеждами поколение вовремя узнает, что часть этих на¬
дежд неизбежно ведет к крушению. Пускай даже то будут самые доро¬
гие их сердцу надежды; тот, кто чего-то стоит, это переживет. Я согла¬
сен, то, что в решающие для них годы ими овладеет уверенность, что
как раз им-то больше нечего свершать в области архитектуры, драмы и
живописи, может кончиться для некоторых из них трагически. Пускай
же они погибнут. До сих пор мы были единодушны в том, что не при¬
знавали здесь пределов какого бы то ни было рода; верилось, что перед
всякой эпохой стоят собственные задачи во всех областях; а раз они
быть должны, их отыскивали — подчас силком и недобросовестно, и
всякий раз только после смерти удавалось установить, насколько осно¬
вательной была эта вера и был ли труд всей жизни необходимым или же
излишним. Однако всякий, кроме отъявленного романтика, отвергнет
такую отговорку. Вовсе не эта гордость отличала римлян. Что нам за
дело до тех, кто предпочитает, чтобы им сказали, указывая на вырабо¬
танную копь: завтра мы приступим здесь к новой жиле (как это делают
современные искусства с их насквозь фальшивыми стилевыми изыс¬
ками), вместо того, чтобы указать на обширное и пока еще неоткрытое
месторождение глины, лежащее тут же рядом? — Я усматриваю в этом
учении благодеяние для будущих поколений, потому что оно указывает
им, что возможно и, значит, необходимо, а что не входит в круг внут¬
ренних возможностей эпохи. До сих пор на ложных путях были растра¬
чены колоссальные духовные и материальные силы. Западноевропей¬
ский человек, при всем своем историческом мышлении и ощущении, в
определенном возрасте никогда не осознавал подлинного своего на¬
правления. Он продвигается на ощупь и блуждает, когда внешние
условия ему не благоприятствуют. И вот наконец длившаяся столетия¬
ми работа дала ему возможность пересмотреть все соотношение своей
жизни с культурой как целым и испытать, что он действительно может
и должен. Если под впечатлением этой книги люди нового поколения
пойдут в инженеры, а не в лирики, в военные моряки, а не в живопис¬
цы, в политики, а не в гносеологи, они сделают то, чего я желаю, и ни¬
чего лучшего им невозможно пожелать.
56
Том!, образ и действительность
15
Остается лишь определить отношение морфологии всемирной исто¬
рии к философии. Всякое подлинное рассмотрение истории является
также и подлинной философией, иначе это будет просто накоплением
фактов. Однако что касается долговременности результатов собствен¬
ной деятельности, систематический философ пребывает в плену глубо¬
кого заблуждения. Он упускает из виду тот факт, что всякая идея живет в
историческом мире и в силу этого разделяет общую судьбу всего прехо¬
дящего. Философ полагает, что высшее мышление располагает вечным
и неизменным предметом, что во все времена великие вопросы остают¬
ся одними и теми же и что в конце концов на них будет дан ответ.
Однако вопрос и ответ представляют здесь собой единое целое, и вся¬
кий великий вопрос, в основе которого уже лежит страстное желание
вполне определенного ответа, имеет значение лишь жизненного симво¬
ла. Никаких вечных истин не бывает. Всякая философия является выра¬
жением своего и лишь своего времени, и в природе не существует двух
эпох, которые имели бы одинаковые философские интенции, если вес¬
ти речь о настоящей философии, а не о всяких там академических пустя¬
ках насчет форм суждения или категорий чувств. Различие пролегает не
между бессмертными и преходящими учениями, но между такими, ко¬
торые живут какое-то время, и теми, что были мертворожденными с са¬
мого начала. Вечная жизнь сформировавшихся идей — это иллюзия. Су¬
щественно то, что за человек обретает в них образ. Чем крупнее человек,
тем истиннее философия — а именно в смысле внутренней истинности
великого произведения искусства, что не зависит от доказуемости и
даже непротиворечивости отдельных высказываний. В самом благопри¬
ятном случае философия способна исчерпать целиком все содержание
эпохи, осуществить его в себе и в таком виде, в виде великой формы, во¬
площенной в великой личности, передать для последующего развития
дальше. От научного одеяния, от ученой личины философии здесь ниче¬
го не зависит. Нет ничего проще, чем основать систему взамен отсутст¬
вующих у тебя идей. Однако даже отличная мысль не имеет большой
ценности, если она высказана тупицей. Лишь жизненная необходи¬
мость определяет достоинство учения.
Поэтому я усматриваю пробный камень того, что касается ценно¬
сти мыслителя, в его зоркости на великие факты его времени. Только
здесь и можно определить, является ли некто всего-навсего набившим
руку ремесленником, без труда выпекающим системы и принципы,
блистает ли он ловкостью и начитанностью только в определениях и
анализах, или же из его трудов и наитий к нам обращается сама душа
времени. Философ, который не постиг и не овладел даже действитель¬
ностью, никогда не выйдет в первые ряды. Досократики были купцами
и политиками большого стиля. Платону едва ли не стоило жизни наме¬
рение воплотить в Сиракузах свои политические идеи. Тот же Платон
Введение
57
открыл ряд геометрических теорем, которые только и дали Эвклиду
возможность построить систему античной математики. Паскаль, кото¬
рого Ницше знает лишь как «надломленного христианина»19, Декарт и
Лейбниц были первыми математиками и механиками своего времени.
Великие «досократики» Китая начиная от Гуань-цзы (ок. 670) и до
Конфуция (551—479) были государственными деятелями, регентами,
законодателями, подобно Пифагору и Пармениду, Гоббсу и Лейбницу.
Лишь начиная с Лао-цзы, противника всякой государственной власти
и большой политики, мечтателя для маленьких мирных общин, сюда
является отчуждение от мира и страх поступка, испытываемый зарож¬
дающейся академической и доморощенной философией. Однако в
свою эпоху, при китайском ancien regime20, он был исключением в срав¬
нении с тем типом крепкого философа, для которого теория познания
означала осведомленность в части великих условий реальной жизни.
И в этом мне видится весомый упрек по адресу всех философов недав¬
него прошлого. Чего им недостает, так это решающей роли в действитель¬
ной жизни. Ни один из них не вмешался в высшую политику, в развитие
современной техники, транспорта, народного хозяйства, в какую бы то ни
было область великой действительности хотя бы лишь одним только по¬
ступком, одной могущественной идеей. Ни одного из них не принимают
хоть сколько-нибудь всерьез в области математики, физики, наук о госу¬
дарстве, как это имело место еще при Канте. Конфуций несколько раз
был министром; Пифагор основал значительное", напоминающее госу¬
дарство Кромвеля и все еще далеко не оцененное антиковедением по
заслугам политическое движение. Гёте, который образцово отправлял
свою министерскую должность и которому, к сожалению, недоставало в
качестве сферы деятельности большого государства, направил свой инте¬
рес на возведение Суэцкого и Панамского каналов и его экономические
последствия, что и сбылось в пределах точно определенного им срока.
Американская экономическая жизнь, ее обратное воздействие на Старый
Свет и находившаяся как раз тогда на подъеме машинная индустрия по¬
стоянно привлекали его внимание. Гоббс был творцом величественного
плана завоевания Англией Южной Америки, и если тогда все не пошло
дальше занятия Ямайки, ему все же досталась слава одного из основате¬
лей британской колониальной империи. Лейбниц, несомненно самый
могучий ум во всей западноевропейской философии, основоположник
дифференциального исчисления и analysis situs [топологии (лат.)], поми¬
мо целого ряда планов из области высшей политики, над которыми он ра¬
ботал, в одном обращенном к Людовику XIV меморандуме, целью кото¬
рого было снизить для Германии политический гнет, указал на значение
Египта для мировой политики Франции. В то время (1672) его идеи насто¬
лько опережали свое время, что впоследствии возникло убеждение, что
Наполеон воспользовался ими в своей экспедиции на Восток. Уже тогда
Ср. с. 762.
58
Том1. образ и действительность
Лейбниц установил то, что все с большей отчетливостью понимал Напо¬
леон начиная с Ваграма: что завоевания на Рейне и в Бельгии не в состоя¬
нии улучшить положение Франции на долгое время, и что однажды Суэц¬
кий перешеек станет ключом к мировому господству. Нет сомнения в
том, что король не был в состоянии по достоинству оценить глубокие по¬
литические и стратегические выкладки философа.
Переводя взгляд с людей такого калибра на современных филосо¬
фов, испытываешь стыд. Какая мелкотравчатость личности! Какая за¬
скорузлость политического и практического поля зрения! Почему уже
одно простое представление о том, что кому-то из них выпало доказы¬
вать свою духовную значимость в качестве государственного деятеля,
дипломата, организатора большого масштаба, управляющего каким-ли¬
бо мощным колониальным, торговым или же транспортным предприя¬
тием, вызывает прямо-таки жалость? Однако это — свидетельство ника¬
кого не богатства внутреннего мира, а легковесности. Я тщетно огляды¬
ваюсь вокруг, надеясь отыскать, не составил ли кто из них себе имя хотя
бы одним-единственным глубоким и упреждающим суждением по тому
или иному решающему судьбы эпохи вопросу. И не нахожу ничего, кро¬
ме провинциальных воззрений, присущих первому встречному. Когда я
раскрываю книгу современного мыслителя, то задаю себе вопрос, заду¬
мывается ли он вообще о реальном содержании мировой политики, о
тяжких проблемах мировых столиц, капитализма, будущего государств,
о положении, которое уготовано технике на исходе цивилизации, о рус¬
скости, о науке. Гёте все это понял бы и полюбил. Из современных же
философов никто всего этого и не замечает. Все это, повторю еще раз, не
есть содержание философии, но несомненный признак ее внутренней
необходимости, ее плодотворности и символического ранга.
Не следует питать никаких иллюзий в отношении значимости этого
отрицательного результата. Очевидно, из поля зрения исчез уже самый
последний смысл философской значимости. Ее путают с проповедью,
агитацией, фельетоном или специальной дисциплиной. С высоты пти¬
чьего полета мы спустились до кротовины. Речь идет не больше и не ме¬
ньше о том, возможна ли вообще подлинная философия сегодня или в
будущем. В ином случае лучше стать плантатором или инженером, чем
угодно взаправдашним и реальным, вместо того чтобы заново переже¬
вывать затертые темы под предлогом «новейшего расцвета философско¬
го мышления», как приятнее сконструировать авиационный мотор, не¬
жели еще одну, столь же никчемную, как предыдущие, теорию аппер¬
цепции. В самом деле, можно только пожалеть того, чья жизнь проходит
в формулировке воззрений на понятие воли и психофизического парал¬
лелизма, осуществляемой несколько иначе, нежели это делала сотня
предшественников. Возможно, это «профессия», но философией это не
является. То, что не захватывает жизни эпохи в целом вплоть до самых
глубочайших ее глубин, следовало обойти молчанием. А то, что было
возможно еще вчера, сегодня уже по крайней мере не необходимо.
Введение _ 5?
Я люблю глубину и изящество математических и физических теорий,
рядом с которыми эстетик и физиолог смотрятся просто халтурщиками.
За великолепно проясненные, высокоинтеллектуальные формы быст¬
роходного парохода, сталелитейного цеха, прецизионного станка, за
изощрённость и элегантность иных химических и оптических процес¬
сов я отдам всю стилевую невнятицу сегодняшних художественных ре¬
месел с живописью и архитектурой заодно. Римский акведук я предпо¬
читаю всем римским храмам и статуям. Я люблю Колизей и колоссаль¬
ные сводчатые конструкции на Палатине, потому что коричневой
массой своих кирпичных конструкций они открывают взору подлинный
римский дух, великолепное практическое чутье его инженеров. Они
были бы мне безразличны, когда бы сохранилось пустое и претенциоз¬
ное мраморное роскошество императоров с его рядами статуй, фризами
и перегруженными антаблементами. Достаточно бросить взгляд на ре¬
конструкцию императорских форумов: здесь мы встречаем настоящее
подобие современным всемирным выставкам — навязчивое, тяжеловес¬
ное, пустое, абсолютно чуждое как взгляду грека времен Перикла, так и
человеку рококо бахвальство при помощи материалов и масштабов, об¬
наруживаемое, однако, также и руинами Луксора и Карнака из эпохи
Рамсеса II, т. е. египетской современности в 1300 г. до Р. X. Не напрасно
истинный римлянин презирал Graeculus histrio [актеришку-грека (лат.)],
«художника», «философа» на почве римской цивилизации. Искусство и
философия более не принадлежат этому времени; они исчерпаны, по¬
треблены, излишни. Это говорило ему его чутье на жизненные реально¬
сти. Один римский закон имел больше веса, чем вся тогдашняя лирика и
метафизика философских школ. И я утверждаю, что сегодня во многих
изобретателях, дипломатах и финансистах живет куда лучший философ,
нежели во всех тех, кто предается пошлому ремеслу экспериментальной
психологии. Вот положение, которое на определенной исторической
ступени неизменно наступает вновь и вновь. Было бы нелепо, когда бы
высокоодаренный умственно римлянин взамен того, чтобы вести ар¬
мию в качестве консула или претора, устраивать дела провинции, стро¬
ить города и дороги или же «быть первым в Риме» вздумал измышлять в
Афинах или на Родосе какое-то еще ответвление постплатонической
академической философии. Естественно, никто из них этого и не делал.
Это не соответствовало направлению времени и потому могло привлечь
только людей низкого уровня, которых всегда влечет как раз-таки к духу
позавчерашней эпохи. Очень серьезный вопрос: наступило ли это время
для нас уже теперь или еще нет?
Целое столетие чисто экстенсивной деятельности в отсутствие ка¬
кой-либо высшей художественной и метафизической продукции, коро¬
че говоря, безрелигиозная эпоха, что в точности совпадает с понятием
мировой столицы — вот время упадка. Разумеется, это так. Однако мы
не выбирали этого времени. Мы не в состоянии изменить того, что поя¬
вились на свет в качестве людей начинающейся зимы развитой цивили¬
60 TomL образ и действительность
зации, а не на солнечных вершинах зрелой культуры во времена Фидия
или Моцарта. Все зависит от того, чтобы отчетливо уяснить и понять это
положение, эту судьбу, что на этот счет можно себе с три короба наврать,
но уйти отсюда невозможно. Всякого, кто себе в этом не сознается, не¬
льзя отнести к его собственному поколению. Он так и останется дура¬
ком, шарлатаном или педантом.
Так что прежде, чем приступить ныне к той или иной проблеме, следу¬
ет задать себе вопрос — вопрос, ответ на который даст уже сам инстинкт
подлинно призванного, а именно, что возможно для человека наших
дней, а что он должен сам себе воспретить. Существует всегда лишь очень
небольшое число метафизических задач, разрешение которых предостав¬
лено эпохе в мышлении. И опять-таки уже целый мир отделяет время Ни¬
цше, когда еще не изгладились последние складки романтики, от совре¬
менности, которая навсегда покончила со всякой романтикой.
С концом XVIII в. систематическая философия завершилась. Кант
привел ее внешние возможности к великой и во многом окончательной
(для западноевропейского духа) форме. За ней, как и за Платоном с Ари¬
стотелем, следует специфически городская, не умозрительная, но прак¬
тическая, безрелигиозная, социально-этическая философия. На Западе
она начинается, соответствуя школам «эпикурейца» Ян Чжу, «социали¬
ста» Мо Ди, «пессимиста» Чжуан-цзы, «позитивиста» Мэн-цзы в китай¬
ской цивилизации и школам киников, киренаиков, стоиков и эпикурей¬
цев — в цивилизации античной, с Шопенгауэра, который вначале поста¬
вил в центр своего учения волю к жизни («творческую жизненную силу»),
однако, и это замаскировало более глубинную тенденцию его учения, под
впечатлением великой традиции все еще сохранил устарелые дистинкции
явления и вещи как таковой, формы и содержания созерцания, рассудка и
разума. Это та же самая творческая воля к жизни, которая на Шопенгауэ¬
ров манер отрицается в «Тристане» и на Дарвинов подтверждается в «Зиг¬
фриде», воля, которую блестяще и театрально сформулировал в «Зарату¬
стре» Ницше. У гегельянца Маркса она вылилась в политэкономическую,
а у мальтузианца Дарвина — в зоологическую гипотезу, и вместе они не¬
приметно изменили мироощущение западноевропейского обитателя бо¬
льшого города. Начиная с «Юдифи» Геббеля и вплоть до «Эпилога» Ибсе¬
на воля эта вызвала к жизни целый ряд трагических концепций одного и
того же типа, однако тем самым круг подлинных философских возмож¬
ностей также оказался исчерпанным.
Ныне систематическая философия бесконечно от нас удалена; эти¬
ческая завершена. Внутри западного духовного мира остается еще тре¬
тья, соответствующая античному скептицизму возможность, которая
характеризуется неведомым прежде методом сравнительной историче¬
ской морфологии. Возможность, т. е. необходимость. Античный скеп¬
тицизм аисторичен: сомневаясь, он просто отрицает. Скептицизму За¬
пада, если он должен обладать внутренней необходимостью, если ему
назначено являться символом нашей склоняющейся к концу душевно¬
Введение
61
сти, следует быть насквозь историчным. Понимая все как относитель¬
ное, как историческое явление, он проводит сокращения. Его процеду¬
ры носят физиономический характер. Скептическая философия вы¬
ступает в эллинизме в качестве отрицания философии — она
объявляется не имеющей смысла. Мы же, напротив того, принимаем
историю философии в качестве последней серьезной темы философии.
Это настоящий скепсис. Имеет место отказ от абсолютных точек зре¬
ния: у грека — когда он подсмеивается над прошлым собственного
мышления; у нас — когда мы воспринимаем его как организм.
В данной книге имеет место попытка сделать набросок этой «нефило¬
софской философии» будущего (она окажется последней философией
Западной Европы). Скептицизм является выражением чистой цивилиза¬
ции: он разлагает картину мира былых культур. Здесь происходит раство¬
рение всех прежних проблем в генетическом. Убеждение, что все сущест¬
вующее также и возникло, что в основе всего природного и познаваемого
лежит нечто историческое (так, в основе мира как действительного — «я»
как возможное, нашедшее в нем свое воплощение), что уж давно глубокая
тайна кроется не только в «что», но также и в «когда» и «как», приводит к
тому факту, что вообще все, чем бы оно ни было сверх того, является вы¬
ражением чего-то живого. Ведь и акты познания, и оценки — все это дей¬
ствия живых людей. Для мышления прошлого внешняя действительность
была продуктом познания и поводом для этических оценок; для будущего
мышления она прежде всего выражение и символ. Морфология всемирной
истории неизбежно становится универсальной символикой.
Тем самым отпадает и притязание высшего мышления на обладание
всеобщими и вечными истинами. Существуют истины лишь примени¬
тельно к определенному человеческому типу. Вот и моя философия ока¬
жется соответственно выражением и отражением лишь западной души, в
отличие, например, от души античной и индийской, причем лишь на ее
нынешней цивилизованной стадии, что и определяет ее содержание в
качестве мировоззрения, ее практическое значение и сферу ее действия.
16
Да будет мне позволено сделать личное замечание в конце. В 1911 г. я
намеревался, базируясь на несколько более расширенном горизонте, на¬
писать об отдельных политических явлениях современности и возмож¬
ных в их свете выводах для будущего. Вот-вот должна была разразиться
мировая война, как сделавшаяся уже неизбежной внешняя форма исто¬
рического кризиса, и речь шла о том, чтобы понять ее исходя из духа пред¬
шествовавших столетий, а не лет. В ходе первоначально небольшого ис¬
следования* возникло убеждение, что для подлинного понимания эпохи
Теперь оно вошло вс. 881 слл., 911 сл., 769 сл.
62 Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
нужен куда более широкий охват базовых предпосылок, что совершенно
невозможно провести исследование такого рода на одной-единственной
эпохе и круге ее политических явлений, удержать его в рамках прагмати¬
ческих соображений и отказаться даже от чисто метафизических, в вы¬
сшей степени трансцендентных наблюдений, если не желаешь при этом
отказаться также и от сколько-нибудь углубленной обязательности полу¬
ченных результатов. Стало ясно, что политическая проблема не может
быть постигнута исходя из самой политики и что существенные, оказыва¬
ющие глубинное действие моменты нередко могут зримо заявлять о себе
лишь в области искусства, зачастую же — лишь в облике чрезвычайно
удаленных научных и чисто философских идей. Оказалось, что даже по¬
литико-социальный анализ последних десятилетий XIX в., периода на¬
пряженного покоя между двумя мощными, видными издалека события¬
ми — одним, которое через революцию и Наполеона предопределило
картину западноевропейской действительности на сто лет, и другим,
имевшим по крайней мере такое же значение и надвигавшимся со всевоз¬
растающей быстротой, так вот, даже такой анализ невозможен без при¬
влечения в конечном итоге всех великих проблем бытия в полном объеме.
Ибо как в исторической, так и в природной картине мира нет ничего,
пусть даже самое незначительного, что не воплощало бы в себе полную
совокупность всех самых глубинных тенденций. Так первоначальная
тема претерпела громадное расширение. Обнаружились бесчисленные по
большей части совершенно новые и головокружительные вопросы и за¬
висимости. Наконец, с окончательной отчетливостью выяснилось, что ни
на один отрезок истории не может быть по-настоящему пролит свет
прежде, чем будет прояснена тайна всемирной истории вообще, а точнее
истории высшего человечества как органического единства, имеющего
упорядоченную структуру. А как раз это-то не было до сих пор сделано
даже в самом отдаленном приближении.
Начиная с этого момента во все большем количестве стали просту¬
пать связи (о них нередко догадывались, подчас затрагивали, однако
никогда их по-настоящему не понимали), которые соединяют формы
изобразительного искусства с формами ведения войны и государствен¬
ного управления, обнаружилось глубинное родство между политиче¬
скими и математическими образованиями одной и той же культуры,
между религиозными и техническими воззрениями, между математи¬
кой, музыкой и скульптурой, между экономическими формами и фор¬
мами познания. Однозначно выяснились глубинная, внутренняя зави¬
симость современнейших физических и химических теорий от мифо¬
логических представлений наших германских предков, полная
конгруэнтность в стиле трагедии, динамичной техники и современно¬
го денежного обращения, тот поначалу странный, а затем представля¬
ющийся само собой разумеющимся факт, что перспектива в масляной
живописи, книгопечатание, система банковского кредита, огнестрель¬
ное оружие, контрапунктированная музыка, с одной стороны, и обна¬
Введение
63
женная статуя, полис, изобретенные греками золотые монеты — с дру¬
гой, являются тождественными выражениями одного и того же душев¬
ного принципа, а сверх и помимо того выяснилось как божий день, что
эти мощные группы морфологических родственных связей, каждая из ко¬
торых по отдельности символически представляет в цельной картине
всемирной истории какой-то особый тип людей, имеют строго сим¬
метричное строение. Лишь с такой перспективы взору открывается ис¬
тинный стиль истории. Поскольку сама эта перспектива является в
свою очередь симптомом и выражением эпохи, и потому она внутрен¬
не возможна и, значит, необходима только теперь и лишь для западно¬
европейского человека, ее можно отдаленно сравнить только с опреде¬
ленными воззрениями новейшей математики в области групп преобра¬
зований. Таковы были мысли, занимавшие меня, однако смутно и
неопределенно, с давних пор, пока по данному поводу они не явились
на свет в зримом обличье.
Я увидел современность — приближавшуюся мировую войну — в со¬
вершенно ином свете. Она больше не представляла собой исключитель¬
ного сочетания случайных фактов, зависимых от национальных настро¬
ений, личных влияний и экономических тенденций, которому историк
придает видимость единства и целесообразной необходимости посред¬
ством той или иной причинно-следственной схемы политического или
социального характера; нет, теперь это был тип исторического вре¬
менного рубежа, занимавшего внутри великого, имеющего строго опре¬
деленные границы исторического организма свое, биографически пре¬
допределенное еще столетия назад место. Несметное число животрепе¬
щущих вопросов и страстных мнений является ныне на свет в тысячах
книг и воззрений, однако вразброд, поодиночке, базируясь на ограни¬
ченном горизонте специальной области, и поэтому они искушают, угне¬
тают и сбивают с пути, но освободить не в состоянии. Однако в совокуп¬
ности они знаменуют собой великий кризис. Нам они известны, однако
их тождество мы из виду упускаем. Так что эти так еще и не осознанные в
своем окончательном значении художественные проблемы, лежащие в
основе борьбы вокруг формы и содержания, линии или пространства,
графического или живописного, вокруг понятия стиля, смысла импрес¬
сионизма и музыки Вагнера; гибель искусства, а также растущие сомне¬
ния в ценности науки; тяжкие вопросы, возникающие в связи с победой
мировой столицы над крестьянством: бездетность, бегство из деревни;
общественное положение неустойчивого четвертого сословия; кризис
материализма, социализма, парламентаризма; отношение отдельного
человека к государству; проблема собственности и связанная с этим
проблема брака; а во вроде бы совершенно иной области — появляющи¬
еся в массовом количестве в области этнопсихологии работы о мифах и
культах, о начальных этапах искусства, религии, мышления, которые
вдруг трактуются уже не идеологически, но строго морфологически —
все это вопросы, которые в совокупности имеют своим предметом одну и
64
Том L ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
ту же, никогда с достаточной отчетливостью не являющуюся сознанию
загадку истории. Мы имеем здесь дело не с бесчисленными задачами, но
неизменно с одним и тем же. Всякий здесь догадывался о чем-то в таком
роде, однако все держались своей узкой точки зрения и никто не пришел
к единственному и всеохватному решению, которое носилось в воздухе
начиная со времен Ницше, в руках которого уже были все решающие
проблемы, однако он, как романтик, не отважился заглянуть суровой
действительности в лицо.
Тут кроется еще и глубокая необходимость завершающего учения,
которое должно было и могло появиться лишь в эту эпоху. Оно ни в
коем случае не посягает на уже существующие идеи и работы. Скорее
оно подтверждает все то, что было разыскано и совершено на протя¬
жении поколений. Этот скептицизм представляет собой высшее про¬
явление всего того, что уже накоплено в части действительно жизнен¬
ных тенденций во всех частных областях, неважно с какой целью.
Но в первую очередь удалось отыскать противоположность, исходя
из которой только и может быть постигнута суть истории, а именно
противоположность истории и природы. Повторяю: человек как эле¬
мент и носитель мира, является не только частью природы, но и частью
истории, этого второго космоса, космоса иного порядка и с иным со¬
держанием, который вся целиком метафизика в угоду первому упуска¬
ла из виду. На размышление об этом фундаментальном вопросе нашего
миросознания меня впервые навело то наблюдение, что современные
историки, хватаясь наугад за доступные чувствам события, за ставшее,
полагают, что уже постигли историю, ее ход, само становление, — пре¬
дубеждение всех тех, кто познает мир одним рассудком и не предается в
то же время еще и созерцанию*. Это поставило в тупик еще великих
элеатов, утверждавших, что не существует (т. е. не существует для по¬
знающего) никакого становления, а есть одно лишь бытие (ставшее).
Иначе говоря: на историю взирали как на природу, в смысле объекта
физика, и соответствующим образом с ней обращались. Отсюда и про¬
истекает то роковое заблуждение, в силу которого принципы причин-
Философией данной книги я обязан философии Гёте, которая практически неиз¬
вестна до сих пор, и лишь в куда меньшей степени — философии Ницше. Роль Гёте в
западноевропейской метафизике все еще совершенно не понята. Когда заходит речь о
философии, его даже не называют. К сожалению, он не свел свое учение в жесткую си¬
стему; потому-то систематики и упускают его из виду. Однако он был философом. По
отношению к Канту он занимает то же положение, что Платон по отношению к Ари¬
стотелю, а ведь сведение Платона к единой системе — также сомнительное предприя¬
тие. Платон и Гёте представляют философию становления, Аристотель и Кант — став¬
шей^ Интуиция противостоит здесь анализу. То, что почти невозможно выразить на
рассудочном уровне, обнаруживается в отдельных замечаниях и стихотворениях Гёте —
таких, как «Орфические пра-слова», таких строфах, как «Когда все то ж в безбрежном
круге» и «Блаженное томление»21, которые следует рассматривать как выражение вполне
определенной метафизики. Я не хотел бы ни слова изменить в следующем высказыва¬
нии: «Божество действенно в живом, а не в мертвом; оно в становящемся и изменяю¬
щемся, а не в ставшем и застывшем. Поэтому и разум в его тяготении к божественному
имеет дело лишь со становящимся, живым, рассудок же — со ставшим, застывшим,
чтобы им воспользоваться» (Эккерману)22. В нем вся моя философия.
Введение
65
но-следственной связи, закона, системы, т. е. структуры косного бы¬
тия, пытаются совместить с аспектом становления. Мы ведем себя так,
словно существует единая человеческая культура, подобно тому как,
например, существует электричество и сила тяжести, и возможности
анализа их всех принципиально одни и те же; мы были полны тщесла¬
вия, когда копировали ухватки естествоиспытателя, так что, пожалуй,
подчас приходилось слышать вопросы о том, что есть готика, ислам,
античный полис, но не о том, почему эти символы живого должны
были появиться там и тогда, именно в такой форме и на такой период
времени. Встречая бесчисленные моменты сходства в далеко отстоящих
друг от друга во времени и пространстве исторических явлениях, удов¬
летворялись тем, что просто фиксировали их, сопровождая глубоко¬
мысленными замечаниями о поразительное™ такого совпадения (на¬
пример, насчет Родоса как «Венеции античности» или Наполеона как
нового Александра), вместо того, чтобы именно здесь, где о себе заяв¬
ляет проблема судьбы как непосредственная проблема истории (а имен¬
но проблема времени), с максимальной серьезностью применить научно
отрегулированную физиономику и отыскать ответ на вопрос, какая не¬
обходимость совершенно иного рода, всецело чуждая причинно-след¬
ственной необходимости, имеет здесь место. То, что всякое явлениеза-
дает нам метафизическую загадку также и в силу того, что возникает
всякий раз в никогда более не повторяющийся момент, что можно зада¬
ться еще и тем вопросом, какая живая взаимозависимость, наряду с не-
органически-природной, имеет место в картине мира (которая пред¬
ставляет собой излучение всего человека в целом, а не только человека
познающего, как полагал Кант), что явление представляет собой не то¬
лько факт для рассудка, но и выражение душевного, не только объект,
но и символ, причем это так начиная с высших религиозных и художе¬
ственных творений и вплоть до мелочей повседневной жизни — во
всем этом имеется философская новизна.
Наконец, я ясно увидел решение — обозначенное колоссальными
контурами, полное внутренней необходимости, решение, восходящее
к одному-единственному принципу, который следовало отыскать, од¬
нако пока что не отысканному, к чему-то такому, что с юности пресле¬
довало меня и манило и что мучило меня, потому что я воспринимал
это как нечто реально существующее, как задание, однако не был в со¬
стоянии его ухватить. Так, по едва ли не случайному поводу, и возник¬
ла эта книга — как предварительное выражение новой картины мира,
отягощенное, как мне прекрасно известно, всеми присущими ему про¬
махами, неполное и, разумеется, не лишенное внутренних противоре¬
чий. Однако, по моему убеждению, оно содержит неопровержимую
формулировку мысли, которую, повторю это еще раз, стоит ее раз вы¬
сказать, никто уже не возьмется оспаривать.
Более узкой темой является, таким образом, анализ заката западно¬
европейской культуры, распространившейся теперь на весь земной
3 Закат Западного мира
66
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
шар. Цель, однако, заключается в разработке философии и присущего
ей, подлежащего здесь проверке метода сравнительной морфологии
всемирной истории. Естественным образом работа распадается на две
части. Первая, «Образ и действительность», отталкивается от языка
форм великих культур, пытается добраться до самых отдаленных их
корней и овладевает таким образом базисом символики. Вторая часть,
«Всемирно-исторические перспективы», исходит из фактов реальной
жизни и пытается на основе исторической практики высшего челове¬
чества получить экстракт исторического опыта, который позволит нам
взять в свои руки формирование собственного будущего.
Нижеследующие таблицы дают обзор того, что явилось результатом
исследования. В то же время они способны дать представление о пло¬
дотворности и значимости нового метода.
[ Предуведомление
В нижеследующих таблицах и в соответствующих местах текста еги¬
петская хронология поправлена в соответствии с современным состоя¬
нием исследований, поскольку в свое время Шпенглер по морфологи¬
ческим основаниям считал за вероятные гораздо более древние дати¬
ровки, в особенности для начала египетской истории, нежели были
приняты тогда.
Я сочла указанные перемены уместными, так как стараниями спе-
циалистов-египтологов (в первую очередь А. Шарфа, X. Штока и
И. фон Бекрата) египетская хронология раннего времени была за это
время в значительной степени уточнена, а также потому, что в связи с
образцовым характером именно данной высшей культуры Шпенглер
неизменно принимал близко к сердцу прояснение и упорядочение еги¬
петской хронологии.
Кроме того, по завершении «Запада на закате» Шпенглер в значите¬
льной степени изменил свои воззрения на период гиксосов: тогда он,
вразрез с господствовавшими представлениями, усматривал в нем эпо¬
ху внутренней революции на переходе от «культуры» к цивилизации и
потому был склонен доверять гипотезам Вейля. Позднее он признал в
гиксосах, вторгшихся после революционного периода XVIII в., пред¬
шественников движения боевых колесниц, которых он еще не отделял
в «Западе на закате» от куда более поздних конных народов.
Помимо неопубликованных «Перво-вопросов» взгляды Шпенглера
на раннюю историю, хронологию и т. д. содержатся в следующих статьях:
Das Alter der amerikanischen Kulturen. 1933.
Der Streitwagen und seine Bedeutung fur den Gang der Weltgeschichte.
1934.
Zur Weltgeschichte des 2. vorchristlichen Jahrtausends. 1935 (все пере¬
печатаны в: Reden und Aufsatze. 1937, Verlag С. H. Beck) X. K.]
Введение
67
Таблица /. «Одновременные» духовные эпохи
Индийская
культура с 1500
Античная
культура с 1100
Арабская культура
сР. X.
Западная культура
с 900
' ВЕСНА
Ландшафтно-интуитивное. Мощные порождения пробуждающейся, отягощенной снови¬
дениями души. Сверхличностные единство и полнота
1. Рождение мифа большого стиля как выражение нового ощущения Бога.
Мировой страх и мировое томление
1500—1200
1100-800
0-300
900-1200
Религия Вед
Греческо-италий¬
ская народная рели¬
гия Деметры
Олимпийский
миф
Прахристианство
Манданты, Марки -
он, гнозис
Синкретизм
[Митра, Баал]
Германский
католицизм
Эдда [Бальдур]
Бернар Клервос-
ский, Иоахим
Флорский, Фран¬
циск Ассизский
Арийские
героические
сказания
Гомер
Евангелия
Апокалиптика
Народный эпос
[Зигфрид]
Рыцарский эпос
[Грааль]
Мифы о Геракле и
Тесее
Христианские, маз-
даитские, языческие
легенды
Западные жития
святых
2. Наиболее раннее мистически-метафизическое оформление нового воззрения
на мир. Высокая схоластика
Содержится в наид¬
ревнейших частях
Вед
Древнейшая, беспи¬
сьменная орфика,
этрусское учение
Последующее дей¬
ствие: Гесиод
Ориген [f 254],
Плотин [f 269],
Мани [f 276],
Ямвлих [| 330]
Фома Аквинский
[t 1274],
Дунс Скот [f 1308],
Данте [f 1321],
Экхарт [f 1329]
Космогонии
Авеста, Талмуд, пат¬
ристика
Мистика
и схоластика
ЛЕТО
Зреющее сознание. Наиболее ранние городские и критические импульсы
3. Реформация: народный бунт внутри религии против крупных форм раннего времени
Брахманизм, древ¬
нейшие элементы
Упанишад
[X—IX вв.]
Орфическое
движение
Дионисийская
религия
«Религия Нумы»
[VII в.]
Августин [| 430]
Несториане [ок. 430]
Монофизиты
[ок. 450]
Маздак [ок. 500]
Николай Кузанский
[t 1464]
Гус [| 1415],
Савонарола,
Карлштадт, Лютер,
Кальвин [f 1564]
4. Начало чисто философской редакции мироощущения. Противоположность идеа¬
листических и реалистических систем
Содержится в Упа-
нишадах
Великие досократи-
ки [VI—V вв.]
Византийская,
иудейская, сирий¬
ская, коптская, пер¬
сидская литература
[VI-VII вв.]
Галилей, Бэкон, Де¬
карт, Бруно, Бёме,
Лейбниц
[XVI-XVII вв.]
68
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
5. Формирование новой математики. Концепция числа как отображения
и высшего символа формы мира
Утрачено
Число как величина
[мера]
[геометрия, арифме¬
тика]
Пифагорейцы с 540
Неопределенное
число [алгебра]
Ход развития не ис¬
следован
Число как функция
[анализ]
Декарт, Паскаль,
I Ферма ок. 1630
Ньютон, Лейбниц
ок. 1670
6. Пуританство: рационалистически-мистическое обеднение религиозного
Следы в Упаниша-
дах
Пифагорейский
союз с 540
Мухаммед с 622
Павликиане, иконо¬
борцы с 650
Английские пурита¬
не с 1620
Французские янсе-
нисты с 1640
[Пор-Рояль]
ОСЕНЬ
Зреющее сознание. Наиболее ранние городские и критические импульсы
1. «Просвещение»: вера во всемогущество разума. Культ «природы».
«Рассудочная религия»
Сутры; санкхья;
Будда; младшие
Упанишады
Софисты [VI—V вв.]
Сократ [f 399]
Демокрит [f ок. 360]
Мутазилиты
Суфизм
Наззам, Аль-Кинди
[ок. 830]
Английские сенсуа¬
листы (Локк)
Французские эн¬
циклопедисты
[Вольтер], Руссо
8. Кульминация математического мышления. Просветление мира числовых форм
Утрачено
[Разрядное значе¬
ние. Нуль как чис¬
ло]
Архит [f 365],
Платон [f 346]
Эвдокс [f 355]
[Конические
сечения]
Не исследовано [Те¬
ория чисел, сфери¬
ческая тригономет-
рия]
Аль-Фараби [t 950]
Эйлер [f 1783],
Лагранж [f 1813]
Лаплас [f 1827]
[Проблема беско¬
нечно малых]
9. Великие завершающие системы
Идеализма: йога,
веданта
Теории познания:
вайшешика
Логики: ньяя
Платон [| 346]
Аристотель [f 322]
Авиценна
[t ок. 1000]
Гёте
Кант
Шеллинг
Гегель
Фихте
ЗИМА
Пробуждение цивилизации мировых столиц. Угасание душевной формообразующей силы.
Проблематичной становится сама жизнь.Этически-практические тенденции иррели-
гиозного и неметафизического бытия мировой столицы
1Q. Материалистическое мировоззрение: культ науки, пользы, благоденствия
Санкхья, чарваки
[локаята]
Киники, киренаи-
ки, последние со¬
фисты [Пиррон]
Коммунистические,
атеистические, эпи¬
курейские секты
эпохи Аббасидов
«Чистые братья»
Бентам, Конт, Дар-
I вин, Спенсер,
| Штирнер, Маркс,
| Фейербах
I
I
Введение
69
11. Социально-общественные жизненные идеалы:
эпоха «философии без математики».Скептицизм
Течения эпохи
Будды
Эллинизм
Эпикур [f 270],
Зенон [f 265]
Течения в исламе
Шопенгауэр, Ниц¬
ше, социализм,
анархизм
Геббель, Вагнер,
Ибсен
12. Внутреннее завершение математического мира форм. Завершающие идеи.
Утрачено | Эвклид,
Аполлоний ок. 300
j Архимед ок. 250
Аль-Хорезми 800,
Ибн Курра 850
Аль-Кархи,
Аль-Бируни X в.
Гаусс [f 1855],
Коши [f 1857],
Риман [| 1866]
13. Снижение абстрактного мышления до уровня специально-научной
катедер-философии. Обзорная литература.
«Шесть классиче¬
ских систем»
Академия, перипа¬
тетики, стоики,
эпикурейцы
Школы в Багдаде
и Басре
Кантианцы
«Логики»
и «психологи»
14. Распространение последнего миронастроения
Индийский буддизм | Эллинистиче-
с 500 ски-римский стои-
1 цизм с 200
Практический фата¬
лизм ислама с 1000
Распространяю¬
щийся с 1900 этиче¬
ский социализм
Таблица II. «Одновременные» эпохи в искусстве
Египетская культура
Античная культура
Арабская культура
Западная культура
ПРЕДВРЕМЯ
Хаос пра-человеческих форм выражения.
Мистическая символика и наивное подражание
Эпоха тинитов
2830-2600
Микенская эпоха
1600-1100
позднеегипетское
[минойское]
поздневавилонское
[малоазиатское]
Персидско-селев-
кидская эпоха
500-0
позднеантичное
[эллинистическое]
позднеиндийское
[индо-иранское?]
Эпоха Меровингов
и Каролингов
500-900
«позднеарабское
[мавританско-ви¬
зантийское]
КУЛЬТУРА
Биография формирующего все внешнее бытие стиля. Язык форм глубочайшей символи¬
ческой необходимости
I. Раннее время: орнамент и архитектура как элементарное
выражение юного мироощущения: «примитивизм»
ДРЕВНЕЕ
ЦАРСТВО
2600-2200
ДОРИКА
1100-650
РАННЕАРАБСКИЙ
МИР ФОРМ
[сасанидский, ви¬
зантийский, армян¬
ский, сирийский,
сабейский, «поздне¬
античный», «древ¬
нехристианский»
0-500
ГОТИКА
900-1500
70
Том1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
1. Рождение и расцвет. Вырастающие из духа ландшафта, бессознательно творимые
формы
4—5-я династии
2550-2320
XI-IX вв.
I—III вв.
XI—XIII вв.
Г еометрический
стиль храмов
Деревянная
архитектура
Культовые
интерьеры
Романский и ранне¬
готический стиль 1
Храмы
при пирамидах
Дорические
колонны
Базилика, куполь¬
ное здание [Панте¬
он как мечеть]
Сводчатые храмы !
Ряды растительных
колонн
Ряды барельефов
1
Архитрав
Геометрический
[дипилонский]
стиль
Арки на колоннах
Заполняющий плос¬
кости растительный
орнамент
Система
контрфорсов
Витражи, скульпту¬
ра кафедр
Погребальные
статуи
Погребальные
урны
Саркофаг
2. Завершение раннего языка форм. Исчерпание возможностей и противоречие
6-я династия
2320-2200
[VIII—VII вв.]
[ГУ—V вв.]
[ХГУ—XV вв.]
Угасание стиля пи¬
рамид и эпичес-
ки-идиллического
рельефного стиля
Расцвет архаическо¬
го скульптурного
портрета
Конец дориче¬
ско-этрусского сти¬
ля высокой архаики
Протокоринфская
и древнеаттическая
[мифологическая]
вазовая живопись
Конец образных
персидско-сирий-
ско-коптских ис¬
кусств
Подъем мозаичной
живописи и арабе¬
ски
Поздняя готика и
Возрождение. Рас¬
цвет и завершение
фрески и статуи: от
Джотто [готика] до
Микеланджело [ба¬
рокко]. Сиена,
Нюрнберг. Готиче¬
ская станковая жи¬
вопись от Ван Эйка
до Гольбейна. Конт¬
рапункт и масляная
живопись.
II. Позднее время: оформление сознательно-городских, отобранных, продвигаемых
силами отдельных личностей искусств: «великие мастера».
СРЕДНЕЕ
ЦАРСТВО
2040-1790
ИОНИКА
650-350
ПОЗДНЕАРАБ-
СКИИМИР ФОРМ
[персидско-несто-
рианский, визан¬
тийско-армянский ,
исламско-мавритан¬
ский]
500-800
БАРОККО
1500-1800
3. Оформление зрелого художественного мастерства.
11-я династия:
2130-1990
Нежное и значите¬
льное, исчезнувшее
почти без следа ис¬
кусство
Завершение здания
храма
[периптер, камен¬
ная кладка]
Ионическая
колонна
Господство
фресковой живопи¬
си вплоть
до Полиглота
[460]
Завершение внут¬
реннего пространст¬
ва мечети
[Центрально-купо¬
льное строение, Св.
София]
Живописный стиль
в зодчестве от Ми¬
келанджело до Бер¬
нини [| 1680]
Введение
71
Подъем ранней
круглой скульптуры
[от «Аполлона
Тенейского»
вплоть до Агелада]
Расцвет мозаичной
живописи
Завершение ковро¬
вого стиля арабески
[Мшатта]
Господство масля¬
ной живописи от
Тициана до Ремб¬
рандта [f 1669]
Подъем музыки от
Орландо ди Лассо
до Г. Шютца
[t 1672]
4. Окончательное завершение одухотворенного языка форм
12-я династия:
1990-1790
Храм с пилонами,
лабиринт
Портретная скуль¬
птура
Исторический
рельеф
Расцвет Афин
480-350
Акрополь
Господство класси¬
ческой скульптуры
от Мирона до Фи¬
дия
Завершение строгой
фресковой и вазо¬
вой живописи
[Зевксид]
Эпоха Омейядов
VII—VIII вв.
Полная победа ли¬
шенного образов
искусства арабески
также и над архи¬
тектурой
Рококо
Музыкальный стиль
в зодчестве
[«Рококо»]
Господство класси¬
ческой музыки от
Баха до Моцарта
Закат классической
масляной живописи
от Ватто до Гойи
5. Угасание строгой формообразующей силы. Распад великой формы. Конец стиля
«классицизм и романтика»
Смуты ок. 1700
Ничего не сохрани¬
лось
Эпоха Александра
Коринфская колон¬
на
Лисипп и Апеллес
Гарун ар-Рашид
[ок. 800]
«Мавританское
искусство»
Ампир
и бидермейер
Классицистский
вкус в зодчестве
Бетховен, Делакруа
ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Существование без внутренней формы. Искусство мировой столицы как привычка,
роскошь, спорт, щекотание ^нервов. Стремительно сменяющие друг друга
модные стили [реанимированные, произвольные находки, заимствованные]
без символического содержания
1. «Современное искусство». «Проблема» искусства. Попытки оформить и пощеко¬
тать сознание мировой столицы. Превращение музыки, зодчества и живописи в про¬
стые художественные ремесла
Эпоха гиксосов:
1675-1550
[см. выше табл. I]
Сохранилось лишь
на Крите: миной-
ское искусство
Эллинизм
Пергамское искус¬
ство [театральные
эффекты]
Эллинистическая
живописная манера
[веристская, при¬
чудливая, субъек¬
тивная]
Роскошная архитек¬
тура городов диадо-
хов
Династии султанов
IX-X вв.
Расцвет испан¬
ско-сицилийского
искусства
Самарра
XIX—XX вв.
Лист, Берлиоз, Ваг¬
нер
Импрессионизм от
Констебля до Лей-
бля и Мане
Американская архи¬
тектура
2. Конец развития формы как такового. Бессмысленная, пустая, вычурная,
нагроможденная архитектура и орнаментика. Подражание архаическим
и экзотическим мотивам
72
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
18-я династия:
1550-1328
Римская эпоха 100
доР. X.-100 по Р. X.
Эпоха сельджуков
с 1050
С 2000
Скальный храм в
Дель-эль-Бахри
Колосс Мемнона.
Искусство Кносса и
Амарны
Нагромождение
трех ордеров колонн
Форумы, театр [Ко¬
лизей], триумфаль¬
ные арки
«Восточное искусст¬
во» во времена Кре¬
стовых походов
3. Финал. Оформление окаменевшего запаса форм. Великолепие Цезарей в отноше¬
нии материалов и крупных воздействий. Провинциальные художественные ремесла
19-я династия:
1328-1195
Колоссальные соо¬
ружения Луксора,
Карнака и Абидоса
Искусство малых
форм [анималисти¬
ческая пластика,
ткани, оружие]
От Траяна до Авре¬
лиана
Громадные форумы,
термы, улицы с ко¬
лоннадами, триум¬
фальные колонны
Римское провинци¬
альное искусство
[керамика, статуи,
оружие]
Монгольская эпоха
с 1250
Исполинские соо¬
ружения (например,
в Индии)
Восточные художе¬
ственные ремесла
[ковры, оружие,
утварь]
Таблица III. «Одновременные» политические эпохи
Египетская культура
Античная культура
Китайская культура
Западная культура
ПРЕДВРЕМЯ
Примитивный народный тип. Племена и вожди. Все еще никакой «политики».
Никакого «государства»
Эпоха тинитов
[МЕНА]
2830-2600
Микенская эпоха
[АГАМЕМНОН]
1600-1100
Эпоха Шань
1700-1300
Франкская эпоха
КАРЛ ВЕЛИКИЙ
500-900
КУЛЬТУРА
Группа народов, обладающая явно выраженным стилем и мироощущением: «нации». Дей¬
ствие имманентной государственной идеи.
I. Раннее время: органическое членение политического бытия. Два ранних сословия:
знать и духовенство. Феодальная экономика чистой стоимости земли.
ДРЕВНЕЕ
ЦАРСТВО
ДОРИЧЕСКАЯ
ЭПОХА
РАННЯЯ ЭПОХА
ЧЖОУ
ГОТИЧЕСКАЯ
ЭПОХА
2600-2200
1100-650
1300-800
900-1500
1. Феодализм. Дух крестьянской страны. «Город» исключительно как рынок или кре¬
пость. Перемещающиеся с места на место резиденции правителей. Рыцарско-религи¬
озные идеалы. Борьба вассалов друг с другом и против государей.
Феодальное госу¬
дарство 4—5-я дина¬
стии 2550—2320
Растущая мощь фе¬
одалов и жречества.
Фараон как вопло¬
щение Ра.
Гомеровское
царство
Возвышение знати
[Итака, Этрурия,
Спарта]
Синойкизм знати
Феодальная знать
урезает права вер¬
ховного правителя
[вана]
Эпоха германских
императоров
Знать Крестовых
походов
Императорская
и папская власть
2. Кризис и распад патриархальных форм: от феодального союза к сословному госу¬
дарству.
Введение
73
6- я династия
2320-2200
Распад империи на
наследуемые княже¬
ства
7— 8-я династия:
междуцарствие
Перерождение цар¬
ской власти в годо¬
вые должности
Олигархия
934—909 изгнание
И-вана вассалами
842 междуцарствие
Земельные князья;
государства Возрож¬
дения, Ланкастеры
и Йорки.
1254 — междуцарст¬
вие
II. Позднее время: осуществление созревшей государственной идеи. Город против де¬
ревни: появление третьего сословия [буржуазия]. Победа денег над товарами
СРЕДНЕЕ
ЦАРСТВО
2040-1790
ИОНИЧЕСКАЯ ПОЗДНИЙ
ЭПОХА ПЕРИОД ЧЖОУ
650-300 800-500
ЭПОХА БАРОККО
1500-1800
3. Формирование мира государств строгой формы. Фронда
11-я династия: нис¬
провержение баро¬
нов фиванскими го¬
сударями
Централизованное
чиновничье госу¬
дарство
VI в. Первая тира¬
ния [Клисфен, Пе¬
ри андр, Поликрат,
Тарквинии] Го¬
род-государство
«Эпоха протекто¬
ров» [Мин-чжу,
685—591] и конгрес¬
сов государей
[-460]
Династический су¬
веренитет и фронда
[Ришелье, Валленш¬
тейн, Кромвель]
ок. 1630
4. Высшее завершение государственной формы [«абсолютизм»]. Единство города и
деревни [«государство и общество», «три сословия»]
12-я династия
[1990-1790]: стро¬
жайше централизо¬
ванная власть
Придворная и де¬
нежная знать
Аменемхет, Сесост-
рис
Чистый полис
[Абсолютизм демо¬
са]. Политика агоры
Возникновение
трибуната
Фемистокл, Перикл
Период «Чунь цю»
[«Вёсны и осени»]
590-480
7 могучих держав.
Совершенная благо¬
родная форма [ли]
Ancien regime, роко¬
ко, придворная
знать [Версаль] и
кабинетная полити¬
ка.
Габсбурги и Бурбо¬
ны.
Людовик XIV,
Фридрих Великий
5. Крах государственной формы [революция и бонапартизм]. Победа города над де¬
ревней [«народа» над привилегированными, интеллигенции над традицией, денег над
политикой]
1790-1675. Револю¬
ции и власть воен¬
ных. Распад импе¬
рии. Мелкие влас¬
тители, частью из
народа
ГУ в. — социальные
революции и вторая
тирания [Дионисий I,
Ясон из Фер, цензор
Алий Клавдий,
Александр]
480 начало периода
Чжаньго. 441 конец
династии Чжоу. Ре¬
волюции и войны
на уничтожение
Конец XVII в. рево¬
люции в Америке и
Франции [Вашинг¬
тон, Фокс, Мирабо,
Робеспьер, Наполе¬
он]
ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Распад народных организмов, имеющих ныне черты преимущественно обитателей круп¬
ных городов, в бесформенные массы. Мировая столица и провинция: четвертое сословие
[масса], неорганичное, космополитическое
1. Господство денег [«демократии»]. Экономические силы пронизывают политиче¬
ские формы и силы
74
Том1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
1675—1550 эпоха
гиксосов:
[см. выше табл. I]
Глубочайший упа¬
док. Диктатуры чу¬
жих военачальников
[Хиан]. После 1600
окончательная
победа правителя
Фив
300—100 политиче¬
ский эллинизм.
От Александра до
Ганнибала и Сци¬
пиона [200] царское
всемогущество; от
Клеомена и Г. Фла-
миния [220] до Ма¬
рия радикальные
народные вожди
480—230 «эпоха бо¬
рющихся госу¬
дарств».
288 — титул импера¬
тора. Империали¬
стические
государственные де¬
ятели Цинь.
С 249 — поглоще¬
ние последних госу¬
дарств
1800-2000. XIX в.:
от Наполеона до
мировой войны,
«Система сверхдер¬
жав», постоянная
армия, конститу¬
ции.
XX в.: переход от
конституционных
к бесформенной
власти отдельных
личностей, войны
на уничтожение,
империализм
2. Формирование цезаризма. Победа политики силы над деньгами. Все более прими¬
тивный характер политических форм. Внутренний распад наций в бесформенное на¬
селение. Его включение в империю, постепенно обретающую все более примитив¬
но-деспотический характер
1550-1328: 18-я ди¬
настия
Тутмос III
100 до Р. Х.-100 по
Р. X.: от Суллы до
Домициана
Цезарь, Тиберий
250 до Р. Х.-26 по
Р. X. дом Ван Чжена
и западной дина¬
стии Хань
221 — титул Августа
[Ши] цезаря Хуан-
ДИ.
140—86 Ву-ти
2000-2200
3. Вызревание окончательной формы: частная и семейная политика единичных прави¬
телей. Мир как добыча. Египтицизм, мандаринство, византинизм. Внеисторическое
окаменение и бессилие также и имперского механизма по отношению к жажде добы¬
чи юных народов или чуждых завоевателей. Медленное проникновение первобытных
состояний в высокоцивилизованный образ жизни
1328-1195:
19-я династия
100—200: от Траяна
до Аврелиана
25—220 — восточная
династия Хань
После 2200
Сет I, Рамсес II
Траян, Септимий
Север
58—76 Мин-ди
ГЛАВА ПЕРВАЯ
О СМЫСЛЕ ЧИСЕЛ
1
Необходимо вначале обозначить некоторые фундаментальные по¬
нятия , которые будут употребляться в ходе рассмотрения в строгом и
отчасти новом значении. Метафизическое содержание этих понятий
само собой выяснится по ходу изложения, однако уже в самом начале
они должны быть однозначно определены.
Популярное, бытующее также и в философии различие бытия и ста¬
новления представляется неподходящим для того, чтобы действитель¬
но выразить существенный момент в той противоположности, кото¬
рую оно подразумевает. Бесконечное становление — действие, «дейст¬
вительность» — будет всегда восприниматься также и как состояние,
примерами чего могут служить понятия постоянной скорости и состо¬
яния движения или фундаментальные представления кинетической
теории газов, а значит, его можно подчинить бытию. Напротив того,
допустимо — вместе с Гёте -4 различать в качестве конечных элементов
того, что просто дано нам в бодрствовании («сознании») и вместе с
ним, становление и ставшее. И уж в любом случае, если мы питаем со¬
мнение в возможности того, чтобы посредством абстрактного констру¬
ирования понятий приблизиться к последним основаниям человече¬
ского, налицо чрезвычайно отчетливое и определенное чувство, на
основании которого и возникает эта фундаментальная, затрагивающая
самые отдаленные границы бодрствования противоположность, наи¬
более изначальное нечто, до которого вообще можно добраться.
Из этого с необходимостью следует, что в основе ставшего всегда
лежит становление, а не наоборот.
Далее, с помощью обозначений «своек и «чужое» я различаю два
пра-факта бодрствования, смысл которых с непосредственной внут¬
ренней несомненностью ясен всякому бодрствующему (т. е. не грезя¬
щему) человеку без того, чтобы с помощью дефиниции его можно было
определить точнее. Элемент чужого всегда находится в том или ином
отношении к изначальному факту, обозначаемому словом восприятие
(«чувственный мир»). Философская формообразующая сила великих
мыслителей вновь и вновь пыталась поточнее ухватить это отношение
Ср. в данной связи т. 2, гл. 1, начало.
78 Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
при помощи полунаглядных схематических разделений, — таких, как
явление и вещь как таковая, мир как воля и представление, «я» и
«не-я», хотя намерение это несомненно превышает возможности точ¬
ного человеческого познания. Также и обозначаемый чувствованием
(«внутренний мир») изначальный факт скрывает в себе элемент своего
на такой манер, что строго выразить это методам абстрактного мышле¬
ния также не под силу.
Словами душа и мир я обозначаю, далее, ту противоположность, на¬
личие которой тождественно с самим фактом чисто человеческого бодр¬
ствования. Имеются степени ясности и остроты этой противополож¬
ности, а значит степени духовности бодрствования, от тупого и все же
подчас просветленного до самой глубины понимающего ощущения пер¬
вобытного человека и ребенка (сюда относятся также все реже встреча¬
ющиеся в поздние эпохи мгновения религиозного и художественного
вдохновения) и вплоть до чисто понимающего бодрствования, напри¬
мер, в состояниях мышления Канта или Наполеона. Здесь из противо¬
положности души и мира возникает противоположность субъекта и
объекта. Эта элементарная структура бодрствования, как факт непо¬
средственной внутренней несомненности, более недоступна для поня¬
тийного членения, и так же несомненно и то, что оба этих разделяемых
лишь с помощью языка и, так сказать, искусственно элемента посто¬
янно присутствуют совместно и пронизывают друг друга, всегда и всю¬
ду выступая как единство, как цельность, без того, чтобы гносеологи¬
ческое предубеждение прирожденных идеалистов и реалистов, соглас¬
но которым либо душа, как первичное (они выражаются «как
причина»), лежит в основе мира, либо мир в основе души, чтобы преду¬
беждение это имело какое-либо обоснование в факте бодрствования
как такового. Ставится ли в данной философской системе ударение на
одно или на другое, является знаком исключительно этой личности и
имеет чисто биографическое значение.
Если применить понятия становления и ставшего к этой структуре
бодрствования как напряжения противоположностей, слово жизнь
приобретет вполне определенный, близко родственный понятию ста¬
новления смысл. Становление и ставшее можно назвать тем образом, в
котором факт и результат жизни существует для бодрствования. Собст¬
венная, продолжающаяся, постоянно самоисполняющаяся жизнь бу¬
дет, пока человек бодрствует, представляться его бодрствованию через
момент становления (данный факт называется настоящее), и он, как и
всякое становление, обладает направлением, этой таинственной харак¬
терной чертой, которую человек попытался духовно околдовать и —
тщетно — объяснить на всех высших языках посредством слова время и
связанными с ним проблемами. Отсюда следует глубокая связь став¬
шего (застывшего) со смертью.
Если мы назовем душу (т. е. прочувствованную ее разновидность, а
не умственную и доступную представлению картину) возможным, мир
Глава первая. О смысле чисел
79
же, напротив того, действительным, — выражения, относительно зна¬
чения которых внутреннее чувство не допускает и тени сомнения, —
жизнь представится в виде образа, в котором происходит осуществление
возможного. С учетом особенности характеристики направления воз¬
можное называется будущим, осуществленное же прошлым. Само же
осуществление, средоточие и смысл жизни, мы называем настоящим.
«Душа» есть то, что следует завершить, «мир» — завершенное,
«жизнь» — завершение. Такие выражения, как мгновение, длитель¬
ность, развитие, содержание жизни, предопределение, объем, цель,
полнота и пустота жизни приобретают тем самым определенное значе¬
ние, существенное для всего последующего, особенно для понимания
исторических явлений.
Наконец, слова история и природа, как уже упоминалось, должны
применяться во вполне определенном, не бытовавшем прежде смысле.
Под ними следует понимать возможные разновидности, охватывать со¬
вокупность сознаваемого — становление и ставшее, жизнь и пережи¬
тое, — в единой и целостной, одухотворенной, отлично упорядоченной
картине мира, в зависимости от того, господствует ли в нераздельном
впечатлении, придавая ему форму, становление или ставшее, направ¬
ление или распространение («время» и «пространство»). Речь здесь
идет не об альтернативе, но о ряде бесчисленных и чрезвычайно разно¬
плановых возможностей обладать «внешним миром» как отблеском и
свидетельством собственного бытия, ряде, крайними членами которо¬
го являются чисто органическое и чисто механическое мировоззрение
(буквально воззрение на мир) I Прачеловек (насколько мы представляем
себе его бодрствование) и ребенок (как мы припоминаем самих себя)
еще не располагают ни одной из этих возможностей с достаточной от¬
четливостью и проработанностью. В качестве условия этого высшего
миросознания следует рассматривать обладание языком, причем не ка¬
ким-то из человеческих языков вообще, но культурным языком: для
первого его еще не существует, для второго же он хотя и существует, но
еще недоступен. Говоря иными словами, и один, и другой еще не обла¬
дает отчетливым и ясным миромышлением: хотя смутная догадка и
имеется, у них нет никакого подлинного знания об истории и природе,
во взаимосвязь которых представляется включенным их собственное
бытие. Никакой культуры у них нет.
Тем самым это важное слово приобретает определенный, весьма
значительный смысл, который будет предполагаться во всем последу¬
ющем. С учетом упоминавшихся выше обозначений души как возмож¬
ного и мира как действительного я различаю возможную и действите¬
льную культуру, т. е. культуру как идею (всеобщего или частного) бытия и
культуру как тело этой идеи, как совокупность ее овеществленных,
ставших пространственными и доступными выражений: поступки и
Убеждения, религия и государство, искусства и науки, народы и города,
экономические и общественные формы, языки, права, нравы, характе¬
80 Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
ры, черты лица и костюмы. Высшая история, будучи тесно связанной с
жизнью, со становлением, является осуществлением возможной куль¬
туры .
Следует прибавить, что эти фундаментальные положения по боль¬
шей части уже не лежат в области опосредованное™ понятиями, опре¬
делениями и доказательствами, что их в глубинном их значении скорее
следует прочувствовать, пережить, усмотреть. Существует редко оце¬
ниваемое по достоинству различие между переживанием и познанием,
между непосредственной несомненностью, обеспечиваемой видами
интуиции (озарение, внушение, художественное узрение, жизненный
опыт, взгляд знатока людей, гётеанская «точная чувственная фанта¬
зия»), и результатами рассудочного опыта и технического эксперимен¬
та. В первом случае на службе у сообщения стоят сравнение, образ,
символ, во втором — формула, закон, схема. Ставшее познается или
скорее, как обнаружится впоследствии, «ставшесть» тождественна для
человеческого духа с осуществленным актом познания. Становление
может быть только пережито, прочувствовано с глубоким бессловес¬
ным пониманием. На этом основывается то, что принято называть зна¬
нием людей. Понимать историю означает быть знатоком людей в вы¬
сшем смысле. Чем чище картина истории, тем исключительнее ее до¬
ступность лишь этому проникающему вплоть до изнанки чужих душ
взгляду, который ничего общего не имеет со средствами познания, ис¬
следуемыми «Критикой чистого разума». Механизм чистой картины
природы, например, мира Ньютона и Канта, познается, постигается,
разлагается в законы и уравнения и наконец приводится к системе. Ор¬
ганизм чистой картины истории, каким был мир Плотина, Данте и
Бруно, созерцается, внутренне переживается, постигается в качестве
образа и символа, и наконец воспроизводится в поэтических и художе¬
ственных концепциях. Гётева «живая природа»23 является историче¬
ской картиной мира**.
2
В качестве примера того, как пытается реализоваться душа в рамках
окружающего ее мира, — поскольку ведь ставшая культура является
выражением и слепком некой идеи человеческого существования, — я
избираю число, лежащее в основе всякой математики как нечто данное.
И именно потому, что математика, доступная во всей своей глубине
очень и очень немногим, удерживает за собой меж всех порождений
духа единственное в своем роде место. Как и логика, математика пред¬
ставляет собой строжайшую науку, однако она шире первой и куда со¬
держательнее ее; она является подлинным искусством, наряду с ваяни-
О понятии безысторического человека ср. с. 512 сл.
А именно с «биологическим горизонтом», ср. с. 493 сл.
Глава первая. О смысле чисел 81
ем и музыкой, в том, что касается потребности в руководстве со сторо¬
ны вдохновения и наличия больших условностей в ее развитии;
наконец, она является высочайшего уровня метафизикой, как это до¬
казывают Платон и в первую очередь Лейбниц. До сих пор всякая фи¬
лософия вырастала в связи с соответствующей математикой. Число
есть символ каузальной необходимости. Как и понятие Бога, оно содер¬
жит окончательный смысл мира как природы. Поэтому существование
чисел мы можем назвать таинством, и под такое впечатление извечно
подпадали религиозные мыслители всех культур*.
Как всякое становление несет на себе изначальную черту направле¬
ния (необратимости), так и все ставшее несет черту протяжения, при¬
чем таким образом, что, как представляется, разделить значение этих
слов можно лишь искусственно. Но сама-то тайна всего ставшего, а
значит, (пространственно-материально) протяженного воплощена в
типе числа математического, в противоположность числу хронологиче¬
скому. Именно, сама его сущность имеет в виду механическое отграни-
чивание. В этом число сродни слову, которое, — как понятие, «пони¬
мая», «обозначая», — также отграничивает меж собой впечатления от
мира. Впрочем, наиболее глубинное здесь неуловимо и невыразимо.
Действительное число, с которым работает математика, точно пред¬
ставленное, высказанное, записанное знаками — число, формула, знак,
фигура — как и мыслимое, высказанное, записанное слово уже являет¬
ся символом этого, овеществленным и опосредованным, чем-то конк¬
ретизированным для внутреннего и внешнего взора, которому и пред¬
стает отображенное отгранцчивание. Происхождение чисел равно
происхождению мифа. Первобытный человек возвышает неопредели¬
мые природные впечатления («чуждое») до божеств, numina, ограничи¬
вая их и заколдовывая с помощью имени. Также и числа представляют
собой нечто такое, что отграничивает природные впечатления и тем са¬
мым их околдовывает. С именами и числами человеческий разум обре¬
тает власть над миром. Знаковый язык математики и грамматика сло¬
весного языка имеют в конечном итоге одинаковое строение. Логика —
всегда в некотором роде математика и наоборот. Тем самым также и во
всех актах человеческого разума, связанных с математическим числом
(измерение, счет, черчение, взвешивание, упорядочивание, разделе¬
ние**) заложена языковая, представленная формами доказательства,
вывода, высказывания, системы, тенденция ограничения протяжен¬
ного, и лишь посредством теперь уже почти не сознаваемых актов тако¬
го рода бодрствующему человеку оказываются даны однозначно опре¬
деленные порядковыми числами предметы, свойства, связи, единич¬
ное, единство и множество, — короче, воспринимаемая в качестве
необходимой и незыблемой структура той картины мира, которую он
называет «природой» и в качестве таковой «познает». Природа — это
* Ср. с. 724 сл.
Сюда относится также «денежное мышление», ср. с. 948 слл.
82
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
исчислимое. История — олицетворение всего того, что не имеет никако¬
го отношения к математике. Отсюда и математическая несомненность
законов природы, дышащее изумлением воззрение Галилея, что при¬
рода «scritta in lingua matematica» и тот отмеченный Кантом факт, что
точная наука продвигается вперед лишь настолько, насколько возмож¬
но в ней применение математических методов24.
Соответственно в числе как знаке завершенного ограничения заложе¬
на сущность всего действительного, которая одновременно становит¬
ся, познается и ограничивается. Это-то с глубинной несомненностью и
открылось Пифагору — или кому-то там еще — с помощью величест¬
венной, всецело религиозной интуиции. Поэтому математику, если
понимать под ней способность практически мыслить в числах, не сле¬
дует смешивать с куда более узкой научной математикой, этим разви¬
ваемым в устной или письменной форме учением о числах. Как изло¬
женная в теоретических трудах философия, так и письменная матема¬
тика столь же мало представляют собой все то достояние, которое
кроется в лоне данной культуры в том, что касается математической и
философской остроты взгляда и мышления. Существуют и совершен¬
но иные способы сделать наглядным пра-чувство, лежащее в основе
чисел. В начале всякой культуры мы встречаем архаический стиль, ко¬
торый можно было бы называть геометрическим не только примените¬
льно к одному лишь раннегреческому искусству. Нечто общее, явно
математическое присутствует как в этом античном стиле X в., так и в
стиле храмов 4-й династии в Египте с его безусловным господством
прямых линий и углов, в рельефах древнехристианских саркофагов и в
романских зданиях и орнаментах. Каждая линия, каждая человеческая
или звериная фигура, с отсутствием в них подражательности, открыва¬
ет здесь мистическое числовое мышление в непосредственной связи с
таинством смерти (закосневшего).
Готический собор и дорический храм представляют собой окаме¬
невшую математику. Разумеется, только Пифагор научно постиг ан¬
тичное число как принцип мирового порядка осязаемых вещей, как
меру или величину. Однако тогда же она была выражена также и в форме
прекрасного порядка чувственно-телесных единиц — через строгий
канон в скульптуре и дорическом ордере. Все великие искусства — это
еще и разновидности полного осмысленности числового ограничения.
Возьмем проблему пространства в живописи. Высокая математическая
одаренность может быть технически продуктивной и без всякой науки,
и в такой форме приходить к полному самоосознанию. И все же ввиду
грандиозных счетных способностей, наличие которых предполагается
еще в Древнем царстве, судя по членению пространства храмов при пи¬
рамидах, а также строительной, оросительной и административной
техникой, уж не говоря о египетском календаре, не следует утверждать,
что никчемная «Счетная книга Ахмеса» из Нового царства свидетель¬
ствует об уровне египетской математики. Коренные австралийцы, чей
Глава первая. О смысле чисел 83
дух всецело относится к ступени прачеловека, обладают математиче¬
ским инстинктом или, что то же самое, еще не выразимым в словах и
знаках мышлением в числах, которое далеко превосходит греческое в
смысле интерпретации чистой пространственное™. В качестве ору¬
жия ими изобретен бумеранг, действие которого позволяет заключить
об интуитивном коротком знакомстве с видами чисел, которое мы
приписали бы высшему геометрическому анализу. В соответствии с
этим (связь одного с другим будет пояснена позднее) они обладают
чрезвычайно усложненным церемониалом и такой утонченной языко¬
вой палитрой степеней родства, которая не наблюдается больше нигде,
даже у высших культур. Этому же соответствует то, что даже на самой
зрелой своей стадии, при Перикле, греки, аналогично эвклидовой ма¬
тематике, не обладали ни склонностью к церемониалу публичной жиз¬
ни, ни к уединению, что являет резкий контраст барокко, при котором,
наряду с пространственным анализом, возник двор Короля-Солнца и
основанная на династических родственных связях система государств.
Это стиль души, открывающийся в мире чисел, но не в научной его
форме.
3
Из этого следует решающее обстоятельство, до сих пор остававшее¬
ся скрытым даже от самих математиков.
Числа как такового не существует и быть не может. Существует не¬
сколько числовых миров, поскольку существует несколько культур.
Таким образом, мы имеем индийский, арабский, западный тип мате-
матаческого мышления и, значит, тип числа, каждый из которых — не¬
что коренным образом иное и неповторимое, каждый — выражение
иного мироощущения, каждый — символ точно определенной также и
научно значимости, принцип порядка ставшего, в котором отражается
глубочайшая сущность одной-единственной и никакой другой души, а
именно той, которая является средоточием именно данной и никакой
иной культуры. Так что и математик не одна, а больше. Ибо вне всяко¬
го сомнения внутреннее строение эвклидовой геометрии совершенно
иное, чем геометрии Декарта, анализ Архимеда отличен от анализа Га¬
усса, причем не только по формальному языку, целям и средствам, но
прежде всего в глубине, в изначальном и не оставляющем выбора
смысле числа, научным выражением которого они являются. Это чис¬
ло, переживание границы, которое, как это само собой разумеется, де¬
лается в нем очевидным, а тем самым также и вся природа, распростра¬
няющийся в пространстве мир, картина которого возникает посредст¬
вом этого ограничения и который извечно доступен для трактовки
лишь одному-единственному виду математики, — все это говорит не о
человечестве вообще, но всякий раз о человечестве вполне определен¬
ном.
Так что для стиля возникающей математики все зависит от того, в
какой культуре она коренится, какого рода люди о ней мыслят. Дух в
состоянии довести заложенные в ней возможности до научного рас¬
крытия, освоиться с ними, достичь в обращении в ними высочайшей
зрелости; однако изменить их совершенно не в его власти. В наиболее
ранних формах античного орнамента и готической архитектуры еще за
столетия до того, как на свет появился первый ученый математик этих
культур, воплощена идея эвклидовой геометрии и исчисления беско¬
нечно малых.
Глубокое внутреннее переживание, настоящее пробуждение «я», де¬
лающее из ребенка высшего человека, члена соответствующей культу¬
ры, знаменует начало понимания как чисел, так и языка. Лишь начи¬
ная с этого момента для бодрствования существуют предметы как не¬
что отграниченное и явно отличное по числу и виду, лишь с него —
точно определимые свойства, понятия, каузальная необходимость, си¬
стема окружающего мира, форма мира, всемирные законы («закон» по
самой своей природе — это всегда ограниченное, косное, подчиненное
числам), и — внезапно — почти метафизическое ощущение страха и
благоговения перед тем, что означает в глубине измерение, счет, черче¬
ние, оформление.
И вот Кант разделил сумму человеческого знания на априорные
(необходимые и имеющие всеобщую значимость) и апостериорные
(возникающие из опыта, от случая к случаю) синтетические суждения,
причислив математическое познание к первым. Несомненно, тем са¬
мым он придал абстрактное выражение сильному внутреннему чувст¬
ву. Однако даже не принимая во внимание того, что между теми и дру¬
гими не существует резкой границы (примеры чего в более чем доста¬
точном количестве доставляют современные высшие математика и
механика), которой безусловно требует вся вообще история возникно¬
вения принципа, еще и суждения a priori, несомненно одна из гениаль¬
нейших концепций во всей критике теории познания, являются весьма
непростым понятием. В нем Кант, не затрудняя себя доказательством
(а таковое ведь и не может быть получено) исходит из предположения
как неизменности формы всей вообще умственной деятельности, так и
ее тождественности для всех людей. Вследствие этого оказалось полно¬
стью упущенным обстоятельство, значение которого невозможно пе¬
реоценить, прежде всего потому, что при проверке своих идей Кант
имел в виду исключительно духовный склад своей эпохи, чтобы не ска¬
зать — лишь собственный духовный склад. Это касается степени неу¬
стойчивости этой «всеобщности». Наряду с определенными чертами
несомненно широкой значимости, которые по крайней мере представ¬
ляются независимыми от того, в какой культуре, к какому столетию
принадлежит познающее лицо, в основе всего мышления лежит еще
Глава первая. О смысле чисел 85
одна, совсем другая необходимость формы, которой как чему-то само
собой разумеющемуся подчинен человек именно в качестве члена ка¬
кой-то определенной и никакой иной культуры. Вот два весьма различ¬
ных вида априорного содержания, и на вопрос о том, где пролегает гра¬
ница между ними и имеется ли таковая вообще, никогда не будет полу¬
чен ответ, поскольку он лежит вне пределов каких-либо возможностей
познания. Доныне никто не отважился признать того факта, что счи¬
тавшееся доныне чем-то само собой разумеющимся постоянство ду¬
ховного склада — лишь иллюзия, и что в пределах истории, с которой
мы имеем дело, существует не один, а несколько стилей познания. Од¬
нако следует напомнить о том, что единогласие в вещах, которые вовсе
еще не были восприняты в качестве проблемы, может оказаться след¬
ствием не только всеобщей истины, но и всеобщего самообмана. Как
бы то ни было, неясное сомнение существовало здесь всегда, и можно
было заключить об истинном положении дел уже по несогласию всех
мыслителей, что открывается первому же взгляду, брошенному на ис¬
торию мышления. Однако открытием является то, что причина этого
коренится не в несовершенстве человеческого ума, не в «еще не» окон¬
чательного познания, что это не порок, а судьбоносная историческая
необходимость. Делать наиболее глубинные и окончательные выводы
следует не по постоянству, а исключительно лишь по различию, причем
по органической логике этого различия. Сравнительная морфология
форм познания — задача, которую еще предстоит решить западному
мышлению.
4
Будь математика просто наукой, подобно астрономии или минера¬
логии, ее предмет можно было бы определить. Однако мы не можем и
никогда не могли этого сделать. Как бы мы, западноевропейцы, ни на¬
вязывали силой собственное научное понятие числа тому, чем занима¬
лись математики в Афинах и Багдаде, несомненным остается то, что
тема, цели и методы одноименной науки были там совершенно иными.
Нет никакой математики, существует лишь ряд математик. То, что
мы называем математикой «как таковой», якобы прогрессивным осу¬
ществлением одного-единственного и неизменного идеала, оказыва¬
ется на деле, стоит лишь заглянуть под обманчивую картину историче¬
ской оболочки, несколькими замкнутыми в самих себе, независимыми
путями развития, всякий раз происходящим заново рождением собст¬
венного и усвоением, преобразованием и преодолением чуждого мира
форм, оказывается чисто органическими и связанными с определен¬
ной длительностью расцветом, созреванием, увяданием и смертью. Не
будем же заблуждаться. Античный разум создал свою математику прак¬
тически из ничего; исторически обусловленному разуму Запада, уже
86
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
обладавшему — внешне, но не внутренне — заученной античной нау¬
кой, предстояло прийти к своей собственной посредством мнимого из¬
менения и улучшения, на самом же деле уничтожения сущностно чуж¬
дой ему эвклидовой математики. Первое осуществил Пифагор, вто¬
рое — Декарт. Оба этих деяния по сути тождественны.
По этой причине родство языка форм математики с языком форм
соседствующих с ней великих искусств* не подлежит сомнению. У
мыслителей и артистов очень несхожее ощущение жизни, однако сред¬
ства выражения их бодрствования имеют внутренне одну и ту же фор¬
му. Чувство формы у скульптора, художника, композитора — преиму¬
щественно математическое. В геометрическом анализе и проективной
геометрии XVII в. сказывается тот же самый одухотворенный порядок
бесконечного мира, который желала породить, захватить и пронизать
современная ему музыка — посредством развитой на основе искусства
генерал-баса гармонии, этой геометрии звукового пространства, а род¬
ная сестра музыки, живопись — посредством принципа известной
лишь на Западе перспективы, этой прочувствованной геометрии изоб¬
разительного пространства. Этот порядок и есть то, что Гёте назвал
идеей, чей образ непосредственно созерцается в чувственном, между тем
как просто наука ничего не созерцает, а лишь наблюдает и членит. Од¬
нако математика идет дальше наблюдения и членения. В высшие свои
мгновения она действует не абстрагируя, а визионерски. Гёте принад¬
лежит также и та глубокая мысль, что математик совершенен лишь по¬
стольку, поскольку он воспринимает красоту истины15. Тут мы ощуща¬
ем, насколько близки тайна сущности числа и тайна художественного
творчества. Тем самым прирожденный математик становится рядом с
великими мастерами фуги, резца и кисти, которые также желают и дол¬
жны облечь в символы, осуществить и выразить тот великий порядок
всех вещей, который несут в себе, на самом деле им не обладая, их
обычные сотоварищи по культуре. Тем самым царство чисел делается
отражением формы мира, наряду с царством звуков, линий и красок.
Поэтому в области математики слово «творческий» означает куда боль¬
ше, чем в обычных науках. Ньютон, Гаусс, Риман были артистически¬
ми натурами. Достаточно прочитать, как внезапно обрушивались на
них их великие теории. «Математик, — сказал старина Вейерштрасс, —
в котором нет также и чего-то от поэта, никогда не будет совершенным
математиком».
Так что математика — тоже искусство. В ней имеются свои стили и
стилистические периоды. Она не неизменна по сути, как полагает ди¬
летант (а также и философ, если судит здесь как дилетант), но, как и
всякое искусство, подвержена незаметным изменениям от эпохи к
эпохе. Не следовало бы рассматривать историю великих искусств без
того, чтобы не бросить при этом взгляда (несомненно он не будет бро-
А также права и денег, ср. с. 521 слл., 960 слл.
Глава первая. О смысле чисел
87
шен впустую) на современную им математику. Детали чрезвычайно
глубоких связей между изменениями в теории музыки и в анализе бес¬
конечности никогда не становились объектом исследования, хотя эс¬
тетика могла бы извлечь отсюда куда больше, чем из всякой там «пси¬
хологии». Еще поучительнее оказалась бы история музыкальных инст¬
рументов, когда бы она исходила не из технической точки зрения
звукоизвлечения, как это постоянно имеет место, но из глубинных ду¬
шевных оснований устремленности к той или иной окрашенности зву¬
ков и их воздействию. Ибо дошедшее до страстного томления желание
сформировать пространственную звуковую бесконечность еще в эпоху
готики произвело на свет, в противоположность античным лире и дуд¬
ке (лира, кифара; авл, свирель) и арабской лютне, оба господствующих
семейства органа (клавира) и смычковых инструментов. Звучащая
душа и того и другого, каким бы ни было их техническое происхожде¬
ние, сформировалась на кельтско-германском Севере между Ирлан¬
дией, Везером и Сеной, органа и клавикордов — несомненно, в Анг¬
лии. Струнные инструменты обрели свой окончательный вид в Верх¬
ней Италии в 1480—1530 гг.; орган — главным образом в Германии —
развился до господствующего над пространством солирующего инстру¬
мента громадных размеров, подобного которому нет во всей истории
музыки. Органная импровизация Баха и его эпохи всецело являет со¬
бой анализ колоссального и простирающегося в даль мира звуков. И
всецело соответствует внутренней форме западного, а не античного
математического мышления то, что струнные и духовые инструменты
разрабатываются не поодиночке, но в соответствии с регистрами чело¬
веческих голосов целыми группами одной и той же звуковой окраски
(струнный квартет, ансамбль деревянных духовых инструментов, груп¬
па тромбонов), так что история современного оркестра со всеми изоб¬
ретениями новых и превращениями старых инструментов представля¬
ет собой на самом деле единую историю звукового мира, которая вполне
поддается описанию с помощью выражений высшего анализа.
5
Когда ок. 540 г. в кругу пифагорейцев пришли к заключению, что
сущностью всех вещей является число, это был не просто «шаг вперед в
развитии математики», но из глубин античной душевности на свет яви¬
лась совершенно новая математика, как самосознающая теория, после
того как она уже с давних пор заявила о себе в метафизической поста¬
новке вопросов и формальных художественных тенденциях. Это была
новая математика, подобно так и оставшейся незаписанной математи¬
ке египетской культуры или получившей алгебраически-астрономиче-
скую форму математике культуры вавилонской с ее эклиптической си¬
стемой координат: обе они некогда явились на свет в великий час исто-
88
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
рии и к тому времени уже давно угасли. Доведенная до завершения во
II в. до Р. X. античная математика канула в небытие (несмотря на свое
длящееся и поныне в нашем способе обозначений призрачное сущест¬
вование), чтобы в отдаленном будущем дать место арабской. То, что
нам известно об александрийской математике, заставляет предполо¬
жить в данной области значительные сдвиги, центр тяжести которых
должен был всецело находиться в таких персидско-вавилонских вы¬
сших школах, как Эдесса, Гондишапур и Ктесифон, в античную же
языковую область проникали лишь частные моменты. Математики в
Александрии были, несмотря на свои греческие имена (Зенодор, зани¬
мавшийся изопериметрическими фигурами, Серен, работавший над
свойствами гармонического пучка лучей в пространстве, Гипсикл,
введший халдейское разделение круга, и в первую очередь Диофант),
вне всякого сомнения, исключительно арамеями, а их сочинения —
лишь небольшой частью написанной преимущественно по-сирийски
литературы*. Эта математика нашла завершение в арабско-исламских
исследованиях и после долгого промежутка за ней последовала, вновь
как всецело новое порождение новой почвы, западная, наша математи¬
ка, в которой мы в нашем поразительном ослеплении усматриваем ма¬
тематику вообще, вершину и цель двухтысячелетнего развития, между
тем как ей столь же строго отмерены ее теперь уже почти истекшие сто¬
летия.
То высказывание, что число представляет собой сущность всех чув¬
ственно воспринимаемых вещей, осталось самым ценным во всей ан¬
тичной математике. Через него число было определено в качестве
меры. В этом кроется все мироощущение страстно обращенной к здесь
и теперь души. Измерение в таком смысле означает измерять нечто
близкое и телесное. Обратимся к высшему проявлению античного ис¬
кусства, свободно стоящей скульптуре обнаженного человека: здесь
имеется все существенное и значительное в бытии, весь ритм которого
исчерпывающим образом задан поверхностями, мерами и чувственны¬
ми отношениями. Пифагорейское понятие гармонии чисел, — хотя,
быть может, оно и выведено из музыки, не знавшей полифонии и гар¬
монии и даже при разработке своих инструментов стремившейся к пас¬
тозному, чуть не телесному единичному тону, — представляется всеце¬
ло предназначенным для этой скульптуры. Обработанный камень
лишь тогда является чем-то, когда обладает взвешенными границами и
отмеренной формой, как то, чем он стал под резцом художника. Без
этого он есть хаос, нечто еще не воплощенное, а значит, пока еще ни¬
что. Это ощущение, переведенное на больший масштаб, создает в каче¬
стве противоположности состоянию хаоса — состояние космоса, про¬
светленное положение во внешнем мире античной души, гармониче¬
ский порядок всех изящно ограниченных и чувственно данных
Ср. с. 634.
Глава первая. О смысле чисел
89
единичных вещей. Сумма этих вещей уже и дает весь мир. Промежуток
между ними, т. е. наше наполненное всем пафосом великого символа
пространство, есть ничто, то ^ 6V. Для античного человека протяже¬
ние означает телесность, для нас же — пространство, в качестве функ¬
ций которого «являются» вещи. Оглядываясь отсюда назад, мы, быть
может, разгадаем глубочайшее понятие античной метафизики, aneipov
Анаксимандра, которое не поддается переводу ни на какой из языков
Запада: это есть то, у чего нет никакого «числа» в пифагорейском смыс¬
ле, никакой измеренной величины и границы, а значит, никакой сущ¬
ности; нечто безмерное, бесформенное, статуя, еще не вырубленная из
глыбы. Это естьарх7? [«начало, принцип, власть» (грен.)], безграничное
и бесформенное в смысле зрительном, что делается чем-то, а именно
миром, лишь посредством границ, посредством чувственного обособ¬
ления. Вот то, что в качестве формы a priori лежит в основе античного
познания, телесность как таковая, и в Кантовой картине мира на ее
место, точно ей соответствуя, является пространство, из которого Кант
якобы был «способен отмыслить все вещи».
Теперь мы в состоянии понять, что отделяет одну математику от
другой, и в первую очередь математику античную — от западной. По
всему своему мироощущению зрелое античное мышление могло
усматривать в математике лишь учение о соотношении величин, мер и
форм материальных тел. Когда на основании этого ощущения Пифа¬
гор высказал решающую формулировку, то именно для него число
было оптическим символом, не формой вообще или абстрактным от¬
ношением, но граничным знаком ставшего, поскольку это последнее
выступает в чувственно обозримых частностях. Вся без исключения
античность рассматривает числа в качестве единиц измерения, вели¬
чин, отрезков, поверхностей. Другого вида протяжения она не в состо¬
янии себе представить. Вся античная математика — это в конечном
счете стереометрия. Говоря о треугольнике, Эвклид, завершивший си¬
стему античной математики в III в., с внутренней необходимостью по¬
дразумевает лишь граничную поверхность тела: у него это никогда не
будет система трех пересекающихся прямых или группа из трех точек в
трехмерном пространстве. Он называет линию «длиной без ширины»
(pfjKos аттХares). В устах нашего современника такое определение име¬
ло бы жалкий вид. В пределах античной математики оно изумительно.
Также и западное число не возникло, как полагали Кант и даже сам
Гельмгольц, из времени как априорной формы созерцания, но пред¬
ставляет собой, как порядок единообразных единств, нечто специфи¬
чески пространственное. Реальное время26, как это будет выясняться
со все большей очевидностью, не имеет с математическими предмета¬
ми вовсе ничего общего. Числа относятся исключительно к сфере про¬
тяженного. Однако сколько существует культур, столько же и возмож¬
ностей (а значит, и необходимостей) представлять себе протяженное в
упорядоченном виде. Античное число — это мышление не пространст¬
90
Том!. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
венных отношений, но отграниченных для телесного глаза, доступных
чувствам единиц. По этой причине — и это следует с необходимо¬
стью — античность знает лишь «натуральные» (положительные, целые)
числа, которые играют ничем не примечательную роль среди множест¬
ва в высшей степени абстрактных разновидностей чисел в западной
математике — комплексных, гиперкомплексных, неархимедовых и
прочих систем.
Поэтому также и представление иррационального числа, т. е. в на¬
шей записи бесконечной десятичной дроби, осталось для греческого
ума всецело неисполнимым. Эвклид говорит (и его следовало бы по¬
нять получше), что несоизмеримые отрезки ведут себя «не как числа». В
осуществленном понятии иррационального числа заключено полное
отделение понятия числа от понятия величины как раз-таки потому, что
такое число, например, число к никогда не может быть представлено
ограниченным или точно воспроизведенным отрезком. Однако из это¬
го следует, что в представлении, например, отношения стороны квад¬
рата к диагонали античное число, являющееся всецело чувственной
границей, завершенной величиной, внезапно соприкасается с совершен¬
но иной разновидностью числа, которая оставалась чуждой и потому
жутковатой для наиболее глубинных основ античного мироощуще¬
ния, — словно накануне открытия опасной для собственного сущест¬
вования тайны. Об этом можно судить по тому диковинному позднег¬
реческому мифу, согласно которому человек, давший публике созер¬
цать иррациональное, исторгнув его из области сокрытого, погиб в
кораблекрушении, «потому что несказанное и лишенное образа всегда
должно оставаться сокрытым». Кто способен ощутить тот страх, кото¬
рый лежит в основе этого мифа, — а он тот же самый, что всякий раз от¬
пугивал греков самого зрелого периода от распространения своих кро¬
шечных городов-государств до политически организованных ланд¬
шафтов, от закладки просторной уличной сети и аллей с далекими
видами и просчитанными завершениями, от вавилонской астрономии
с ее безбрежными звездными пространствами и от выхода за пределы
Средиземного моря по маршрутам, которые были уже давно открыты
судами египтян и финикийцев; это глубокий метафизический страх
распада чувственно постижимого и нынешнего, которым, как оборо¬
нительными стенами, окружила себя античность, позади чего дремлет
нечто жуткое, бездна и первооснова этого, так сказать, искусственно
созданного и утвержденного космоса, — кто постиг это чувство, по¬
стигнет также и окончательный смысл античного числа, меры в проти¬
воположность неизмеримому, как и возвышенную религиозную мораль
в его ограничении. Гёте как естествоиспытателю это было прекрасно
известно — отсюда его едва ли не пугливый протест против математи¬
ки, который был на самом деле непроизвольно направлен (чего никто
еще не понял) всецело против неантичной математики, против лежав¬
Глава первая. О смысле чисел
91
шего в основе современного ему учения о природе исчисления беско¬
нечно малых.
Античная религиозность со всевозрастающей акцентированностью
собирается в чувственно определенных — привязанных к месту — куль¬
тах, которые только и соответствовали «эвклидовому» божеству. Абст¬
рактные, парящие в не ведающих родины пространствах мышления
догматы оставались ему извечно чужды. Такой вот культ и папский
догмат относятся друг к другу так же, как статуя к органу в соборе. Не¬
сомненно, в эвклидовой математике есть нечто культовое. Вспомним о
тайном учении пифагорейцев и об учении о правильных многогранни¬
ках с его значением для эзотерики платоновского кружка. С другой
стороны, этому соответствует глубинное родство анализа бесконечно
малых у Декарта и современной ему догматики с ее продвижением от
последних решений Реформации и Контрреформации к чистому, ли¬
шенному всех чувственных отношений деизму. Декарт и Паскаль были
математиками и янсенистами. Лейбниц был математиком и пиетистом.
Вольтер, Лагранж и Д’Аламбер — современники. Принцип иррациона¬
льного, т. е. разрушения статуарного ряда целых чисел, этих представи¬
телей завершенного в самом себе мирового порядка, воспринимался,
исходя из античной душевности, как кощунство в отношении самого
божества. Это ощущение нельзя не заметить у Платона, в его «Тимее». В
самом деле, с превращением дискретного числовою ряда в континуум
сомнительным становится не только понятие античного числа, но и са¬
мого античного мира. Теперь нам становится понятно, что в античной
математике невозможны даже отрицательные числа, которые мы пред¬
ставляем себе без всякого затруднения, не говоря уже о нуле как числе —
этом глубокомысленном порождении достойной всяческого удивле¬
ния энергии обесплочивания, которое для индийской души, измыс¬
лившей его как основание позиционной системы цифр, является едва
ли не ключом к смыслу бытия. Отрицательных величин не существует.
Выражение —2х -3=+6 ненаглядно и не представляет величин. На +1
числовой ряд приходит к завершению. В графическом представлении
отрицательных чисел (—3 -2 —1 0 +1 +2 +3) отрезки, начиная с
нуля, внезапно становятся положительными символами чего-то отрица¬
тельного. Они что-то значат, но их больше нет. Однако осуществление
этого действия не соответствовало направлению античного числового
мышления.
Так что все явившееся на свет из античного бодрствования оказыва¬
ется возвышенным до ранга действительного лишь посредством скуль¬
птурной ограниченности. Что невозможно начертить, не является
«числом». Платон, Архит и Эвдокс говорят о плоских и телесных чис¬
лах, подразумевая наши вторую и третью степень, и само собой разуме¬
ется, что понятия более высоких целочисленных степеней для них не
существовало. Четвертая степень представилась бы грекам, исходя из
скульптурного основополагающего чувства, которое тут же связывает с
92 Том Л ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
этим выражением четырехмерную, причем материальную протяжен¬
ность, полной нелепицей. Такое выражение, как е"1Х, постоянно встре¬
чающееся в наших формулах, или применявшееся Николаем Оресмом
уже в XIV в. 5х/2, показалось бы им совершенным абсурдом. Эвклид на¬
зывает сомножители произведения сторонами (nXeupal). Исследование
целочисленного отношения двух отрезков производится с помощью
вычислений с дробями — конечными, что понятно само собой. Как раз
поэтому и не может появиться представление о числе нуль, потому что
у него нет никакого графического смысла. Не надо только, исходя из
обыкновений нашего иначе устроенного мышления, выдвигать здесь
то возражение, что это-то как раз и были «начальные ступени» в разви¬
тии математики «вообще». В рамках того мира, который создал вокруг
себя античный человек, античная математика являет собой нечто
вполне завершенное. Не такова она лишь для нас. Вавилонская и ин¬
дийская математика уже давно сделали важными частями своих число¬
вых миров то, что было бессмыслицей для античного числового ощу¬
щения, и многие греческие философы об этом знали. Математика «во¬
обще», скажем это еще раз, — иллюзия. Математическое и вообще
научное мышление тогда является истинным, убедительным, «мыс¬
ленно неизбежным», когда оно всецело соответствует собственному
чувству жизни. В противном случае оно невозможно, ложно, бессмыс¬
ленно, или, как предпочитаем мы выражаться с высокомерием истори¬
ческих умов, «примитивно». Современная математика, этот шедевр за¬
падного гения (разумеется, «истинная» лишь для него), представилась
бы Платону смехотворным и праздным заблуждением, приключив¬
шимся в ходе попытки приблизиться к истинной математике, а именно
к математике античной. Вне всякого сомнения, мы не можем даже и
представить, сколь многому из великих идей чуждых культур мы дали
погибнуть, потому что были неспособны, исходя из нашего собственно¬
го мышления и его пределов, их усвоить, либо, что то же самое, потому
что воспринимали их как ложные, излишние или бессмысленные.
6
Античная математика как учение о наглядных величинах желает
иметь дело исключительно с фактами чувственного и настоящего, и та¬
ким образом она ограничивает свои исследования, как и область своей
применимости, примерами из сферы близкого и малого. Рядом с этой
последовательностью в действиях в практическом поведении западной
математики поступает нечто нелогичное, что, собственно, как следует
признали лишь после открытия неэвклидовых геометрий. Числа суть
порождения отделенного от чувственного восприятия понимания, чис¬
того мышления*. Свою абстрактную значимость они несут в себе самих.
* Ср. с. 475 сл.
Глава первая. О смысле чисел
93
Напротив того, их точная применимость к действительности понимаю¬
щего восприятия представляет собой особую проблему, причем такую,
которая то и дело ставится вновь и никогда не получает удовлетворите¬
льного разрешения. Конгруэнтность математической системы с факта¬
ми повседневного опыта вовсе не разумеется сама собой. Несмотря на
дилетантское предубеждение относительно непосредственной матема¬
тической очевидности созерцания, как мы это находим у Шопенгауэра,
эвклидова геометрия, имеющая поверхностную тождественность с бы¬
товой геометрией всех эпох, приблизительно согласуется с созерцанием
лишь в очень узких пределах («на бумаге»). О том, как обстоит дело при
больших отстояниях, говорит тот простой факт, что для нашего глаза па¬
раллельные на горизонте сходятся. На нем основана вся перспектива в
живописи. Несмотря на это Кант, непростительным для западного мыс¬
лителя образом пасовавший перед «математикой дали», ссылается в
виде примеров на фигуры, в которых как раз по причине их малости во¬
все не может проявиться специфически западная, инфинитезимальная
проблема пространства. Правда, Эвклид также избегал того, чтобы для
придания своей аксиоме наглядной убедительности сослаться, к приме¬
ру, на такой треугольник, углы которого помещаются в месте наблюда¬
теля и на двух неподвижных звездах, ведь это не может быть ни вычерче¬
но, ни «усмотрено», однако с точки зрения античного мыслителя это
было правильно. Здесь о себе заявляло то же самое чувство, которое пу¬
галось иррационального и не отваживалось на то, чтобы воспринять ни¬
что как нуль, как число, а значит, чтобы сохранить символ меры, избега¬
ло неизмеримого также и в созерцании космических связей.
Аристарх Самосский, вращавшийся в 288—277 гг. в Александрии в
кругу астрономов, несомненно поддерживавших связь с халдей¬
ско-персидскими школами, и разработавший там ту гелиоцентриче¬
скую* систему мира, которая при ее повторном открытии Коперником
затронула до самой глубины метафизическую страсть Запада (доста¬
точно вспомнить Джордано Бруно), поскольку являлась исполнением
колоссальных предчувствий и удостоверением того фаустовского, го¬
тического мироощущения, которое принесло жертву идее бесконечно¬
го пространства уже в архитектуре своих соборов, — этот самый Арис¬
тарх Самосский был воспринят античностью с полным безразличием и
уже вскоре (можно было бы сказать — намеренно) забыт вновь. Круг
его сторонников состоял из нескольких ученых, которые почти все
происходили из Передней Азии. Самый известный его поборник Се-
левк(ок. 150)был изСелевкии на Тигре. В самом деле, для этой культу¬
ры Аристархова система не имела в душевном плане никакого значе¬
ния. Она была скорее опасна ее мироощущению. И все же в отличие от
системы Коперника (это решающее обстоятельство постоянно остает¬
* Впрочем, в единственном уцелевшем от него сочинении он придерживается гео¬
центрической точки зрения, так что можно предполагать, что он дал халдейской уче¬
ной гипотезе овладеть собой лишь на время.
94 Том I ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
ся без внимания) благодаря той редакции, которая была ей придана,
она точно соответствовала античному мироощущению. В качестве за¬
вершения космоса Аристарх принял всецело ограниченный телесно, пу¬
стой шар, который можно охватить оптическими средствами наблюде¬
ния, и в его середине находилась мыслившаяся по-коперникански
планетная система. Античная астрономия всегда держала Землю и не¬
бесные тела за что-то принципиально разное, как бы ни воспринима¬
лись происходившие здесь движения в деталях. Подготовленная уже
Николаем Казанским и Леонардо идея, что Земля — лишь звезда в ряду
прочих звезд, способна вписаться в Птолемееву систему ничуть не
хуже, чем в коперниканскую. Однако с принятием концепции небес¬
ного шара был обойден угрожавший чувственно-античному понятию
границы принцип бесконечного. Не возникает даже мысли о безгра¬
ничном мировом пространстве, которая, казалось бы, неизбежна уже
здесь, между тем как соответствующее представление далось вавилон¬
скому мышлению еще давно. Наоборот. В своем знаменитом трактате
«О числе песчинок» (как явствует уже из самого названия, это было
опровержение инфинитезимальных тенденций, хотя его вновь и вновь
рассматривают в качестве первого шага на пути к современным интег¬
ральным методам) Архимед доказывает, что если заполнить это стерео¬
метрическое тело — а ничем иным Аристархов космос не является —
атомами (песчинками), это приведет к очень большим, но не бесконеч¬
ным результатам. Однако это как раз и есть отрицание всего, что озна¬
чает анализ для нас. Вселенная нашей физики представляет собой
энергичнейшее отрицание всякой материальной ограниченности, как
это доказывают неизменно терпящие крушение и тем не менее заново
навязываемые уму гипотезы о материальном, т. е. мыслимом опосре¬
дованно созерцаемым мировом эфире. Эвдокс, Аполлоний и Архимед,
без сомнения наиболее изощренные и отважные математики антично¬
сти, полностью осуществили чисто оптический анализ ставшего на
основе скульптурно-античного граничного значения, прибегая глав¬
ным образом к циркулю и линейке. Они пользуются продуманными и
труднодоступными для нас методами интегрального исчисления, в ко¬
торых проглядывает лишь видимое сходство с методом определенного
интеграла Лейбница, и применяют геометрические места точек и коор¬
динаты, представляющие собой исключительно именованные размер¬
ные числа и отрезки, а не, как это было у Ферма и прежде всего Декар¬
та, неименованные пространственные отношения, значения точек по
отношению к их положению в пространстве. Сюда относится в первую
очередь метод исчерпания Архимеда" в его недавно открытом тракта- ** Strunz F., Gesch. d. Naturwiss. im Mittelalter (1910), S. 90.
Метод исчерпания Архимеда был подготовлен Эвдоксом и использовался для вы¬
числения объема пирамиды и конуса — «средство, к которому прибегали греки, чтобы
обойти запрещенное понятие бесконечного» (Heiberg, Naturwiss. u. Math, im klass. Alt.
(1912), S. 27).
Глава первая. О смысле чисел
95
те, обращенном к Эратосфену, где он, например, обосновывает квад¬
ратуру сегмента параболы на исчислении вписанных прямых углов
(больше уже не подобных многоугольников). Однако как раз остроум¬
ный, бесконечно запутанный способ, которым он, опираясь на неко¬
торые геометрические идеи Платона, достигает результата, являет со¬
бой колоссальную противоположность этой интуиции и вроде бы на
первый взгляд схожей интуиции Паскаля. Не существует (если всецело
отвлечься от Риманова понятия интеграла) более резкой противопо¬
ложности этому, чем то, с чем мы имеем дело в (к несчастью называе¬
мых так и поныне) квадратурах, где «поверхность» дается как ограни¬
ченная функцией и уже даже речи нет о графических средствах. Нигде
та и другая математика не подходит одна к другой так близко и нигде с
большей отчетливостью не сказывается непреодолимый раскол между
душами, выражениями которых они являются.
Чистые числа, сущность которых египтяне словно бы прятали, ис¬
пытывая глубокую робость перед тайной, в кубическом стиле своей
ранней архитектуры, являлись ключом к смыслу всего ставшего, косно¬
го, а значит преходящего также и для греков. Каменное изваяние и науч¬
ная система отрицают жизнь. Математическое число как формальный
базовый принцип простирающегося мира, присутствующее здесь
лишь исходя из человеческого бодрствования и только для него, особен¬
ностью каузальной необходимости связано со смертью, подобно тому,
как хронологическое число связано со становлением, с жизнью, с не¬
обходимостью судьбы. Эта связь строго математической формы с кон¬
цом органического бытия, с появлением его неорганического остатка,
трупа, все с большей отчетливостью выявляется в качестве источника
всякого великого искусства. Развитие ранней орнаментики делается
нам заметным уже на утвари и сосудах погребального культа. Числа —
это символы преходящего. Косные формы отрицают жизнь. Формулы и
законы распространяют по картине природы оцепенение. Числа умер¬
щвляют. Это Матери «Фауста», царящие в величавом одиночестве «в
лишенных образов мирах...
формированье, после измененье,
Извечных смыслов вечное храпенье.
Вокруг всей твари образы кружат».21
В предчувствии окончательной тайны Гёте соприкасается здесь с
Платоном. Матери, заповедное — платоновские идеи — знаменуют
возможности душевности, ее нерожденные формы, которые воплоти¬
лись в зримом мире, с глубочайшей необходимостью упорядоченном
на основе идеи этой душевности, в виде деятельной и созданной куль¬
туры, искусства, идей, государства, религии. На этом основывается
родство числового мышления данной культуры с ее идеей мира, связь,
которая возвышает это мышление над простым знанием и познанием
до значения мировоззрения и приводит к тому, что существует столько
96 Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
же математик — числовых миров — сколько имеется высших культур.
Это делает понятным и даже необходимым тот факт, что величайшие
мыслители в области математики, эти подлинные художники в царстве
чисел, пришли к пониманию решающих математических проблем сво¬
их культур с помощью глубоких религиозных интуиций. Так следует
представлять себе создание античного, аполлонического числа Пифа¬
гором, основателем религии. Это же пра-чувство руководило Николаем
Кузанским, великим епископом Бриксенским, когда ок. 1450 г. он, от¬
талкиваясь от наблюдения бесконечности Бога в природе, открыл
основные характерные особенности исчисления бесконечно малых.
Лейбниц, окончательно установивший свои методы и обозначения
двумя столетиями позже, сам на основе чисто метафизических наблю¬
дений божественного принципа и его связей с бесконечными протяже¬
ниями развил идеи analysis situs [топология (лат.)], эту, быть может, ге¬
ниальнейшую интерпретацию чистого пространства, освобожденного
от всего чувственного, богатые возможности которой были развиты
лишь в XIX в. Грассманом в его «Учении о протяженности» и прежде
всего Риманом, подлинным его творцом, в его символике двусторон¬
них поверхностей, представляющих свойства уравнений. Кеплер же и
Ньютон, оба от природы до крайности религиозные, так и сохранили
незыблемой свою, подобную Платоновой, убежденность в том, что
именно посредством чисел им удалось интуитивно постигнуть сущ¬
ность божественного миропорядка.
7
Лишь Диофант, как приходится слышать вновь и вновь, освободил
античную арифметику от ее привязанности к чувственному, расширил
и повел дальше, алгебру же, как учение о неопределенных величинах,
хотя и не создал, но представил на обозрение — внезапно, несомненно,
как переработку уже имевшихся идей. Правда, то было не обогащение,
но полнейшее преодоление античного мироощущения, и уже одно это
должно было бы доказывать, что внутренне Диофант уже больше не
принадлежал античной культуре. В нем деятельно сказывается новое
ощущение числа или, скажем так, ощущение границы в отношении
действительного, ставшего — уж больше не греческое, из чувствен¬
но-данных граничных значений которого явилась наряду с эвклидовой
геометрией осязаемых тел еще и пластика обнаженной скульптуры и
деньги как монета. Нам неизвестны детали разработки этой новой мате¬
матики. В «позднеантичной» математике Диофант стоит настолько
особняком, что высказывались даже предположения о влиянии со сто¬
роны Индии. Однако вновь это окажется воздействием тех раннеараб¬
ских высших школ, чьи научные результаты, помимо догматических,
исследованы пока еще так недостаточно. Под лежащим на поверхно¬
Глава первая. О смысле чисел
97
сти намерением придерживаться Эвклидова хода мыслей у Диофанта
появляется новое чувство границы (я называю его магическим), вовсе
не сознававшее своей противоположности тому античному представ¬
лению, к которому оно стремилось. Идея числа как величины оказыва¬
ется не просто расширенной, но незаметно снятой. Что такое неопреде¬
ленное число а и неименованное число 3 (оба они не являются ни вели¬
чиной, ни мерой, ни отрезком), — на этот вопрос ни за что не мог бы
ответить грек. Во всяком случае, в основании диофантовых наблюде¬
ний лежит новое, ставшее зримым в этих видах чисел ощущение грани¬
цы. Само же применяемое у нас буквенное исчисление, в обличье ко¬
торого сегодня предстает еще раз полностью переосмысленная алгеб¬
ра, было введено Виета в 1591 г. вначале как ощутимая, но
бессознательная оппозиция падкому на все античное счислению Воз¬
рождения.
Диофант жил ок. 250 г. по Р. X., т. е. в третьем столетии арабской
культуры, чей исторический организм лежал до сих пор погребенным
под поверхностными формами римской императорской эпохи и
«Средневековья»*, между тем как к ней относится все то, что возникло
посреди ландшафта будущего ислама. Именно тогда перед лицом но¬
вого пространственного ощущения купольных строений, мозаик и ре¬
льефов саркофагов в древнехристианско-сирийском стиле изглади¬
лись последние следы пластики античной статуи. Тогда снова появи¬
лись архаическое искусство и строго геометрический орнамент.
Именно тогда Диоклетиан довел до конца создание халифата теперь
уже только по наружности Римской империи. 500 лет отделяют Дио¬
фанта от Эвклида, Плотина — от Платона, первого схоластика только
пробудившейся тогда культуры Дунса Скота — от последнего, замыка¬
ющего мыслителя культуры завершенной, Канта.
Здесь мы впервые сталкиваемся с неведомым прежде существова¬
нием тех великих индивидуумов, чье становление, рост и увядание об¬
разует подлинную субстанцию всемирной истории, протекающей под ты¬
сячеликой, приводящей в замешательство поверхностью. Пришедшая
к своему завершению в римской интеллигенции античная душевность,
чье «тело» образует античная культура с ее произведениями, идеями,
деяниями и развалинами, появилась на свет ок. 1100 г. до Р. X. среди
ландшафта Эгейского моря. Зарождающаяс5Гна Востоке начиная с Ав¬
густа под покровом античной цивилизации арабская культура берет
свое начало всецело из недр ландшафта между Арменией и Южной
Аравией, Александрией и Ктесифоном. В качестве выражения этой но¬
вой души следует рассматривать почти все «позднеантичное» искусст¬
во императорского времени, все пронизанные юным жаром восточные
культы, мандаитскую и манихейскую религии, христианство и неопла¬
* Ср. т. 2, гл. 3.
4 Закат Западного мира
98
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
тонизм, императорские форумы в Риме и возведенный там Пантеон,
эту самую раннюю из всех мечетей.
То, что в Александрии и Антиохии писали все еще по-гречески и
полагали также, что по-гречески мыслят, имеет не большее значение,
чем то обстоятельство, что наука Запада вплоть до Канта предпочитала
латинский язык или что Карл Великий «возродил» Римскую империю.
У Диофанта число больше не есть мера и сущность скульптурных ве¬
щей. На мозаиках Равенны человек более не тело. Греческие обозначе¬
ния незаметно утратили свое первоначальное содержание. Мы покида¬
ем область аттической каХокауавса [физического и нравственного со¬
вершенства (греч.)], стоических авара&а и yaXrjvT] [невозмутимости и
безмятежности (греч.)]. Правда, Диофанту еще неизвестны нуль и от¬
рицательные числа, однако скульптурные единицы пифагорейских чи¬
сел ему уже неизвестны. С другой стороны, неопределенность неиме¬
нованных арабских чисел представляет собой все же нечто совершенно
иное, нежели закономерная изменчивость позднего западного числа,
функции.
Магическая математика вполне последовательно и мощно развива¬
лась (хотя подробности этого нам неизвестны) и после Диофанта (ко¬
торый уже сам предполагает определенное развитие) вплоть до своего
завершения в эпоху Аббасидов в IX в., как это доказывается уровнем
знаний у Аль-Хорезми и Аль-Зиджи. Что означает рядом с эвклидовой
геометрией аттическая скульптура (тот же самый язык форм в ином об¬
личье), что означает рядом с пространственным анализом полифони¬
ческий стиль в инструментальной музыке, то же самое означает радом
с этой алгеброй магическое искусство мозаики, все с большим богатст¬
вом развивавшиеся в империи Сасанидов, а позже в Византии арабе¬
ски с их чувственно-бесплотным улетучиванием (Verschweben) органи¬
ческих формальных мотивов и горельефы константиновского стиля с
неопределенной глубокой темнотой фона, оставленного между сво¬
бодно изваянными фигурами. Как алгебра соотносится с античной
арифметикой и западным анализом, так и купольная церковь соотно¬
сится с дорическим храмом и готическим собором.
Не то чтобы Диофант был великим математиком. То, из-за чего
чаще всего вспоминают его имя, содержится не в его трактатах, а то,
что в них содержится, вне всякого сомнения не является всецело его
собственностью. Его обязанное случаю значение заключается в том,
что — насколько нам известно — у него первого с совершенной несо¬
мненностью заявило о себе новое ощущение числа. Сравнивая его с
мастерами, завершавшими математику, такими как Аполлоний и Архи¬
мед в античной математике и соответствующие им Гаусс, Коши и Ри¬
ман — в математике западной, мы находим у Диофанта, прежде всего в
его формульном языке, нечто примитивное, что до сих пор охотно при¬
писывалось позднеантичному упадку. Впоследствии мы это поймем и
научимся ценить — по образцу той переоценки до сих пор прямо-таки
Глава первая. О смысле чисел 99
презиравшегося якобы позднеантичного искусства в продвигающееся
пока на ощупь самовыражение только еще пробуждающегося ранне -
арабского мироощущения. Такое же архаическое, примитивное и гада¬
тельное впечатление производит и математика Николая Оресма, епис¬
копа Лизье (1323—1382), впервые на Западе введшего свободную раз¬
новидность координат и даже степени с дробными показателями,
которые предполагают — еще неясное, но несомненно наличное —
ощущение числа, которое всецело неантично, но в то же время не по¬
ходит и на арабское. Рядом с Диофантом вспоминаются раннехристи¬
анские саркофаги из римских собраний, а рядом с Оресмом — готи¬
ческие задрапированные статуи из немецких соборов, и нечто родст¬
венное можно заметить также и в ходе математических рассуждений,
которые представляют у того и другого одну и ту же раннюю ступень аб¬
страктного понимания. Стереометрическое ощущение границы в по¬
следней отточенности и изяществе какого-нибудь Архимеда, что пред¬
полагает интеллигенцию мировой столицы, уже давно исчезло без сле¬
да. Повсюду в раннеарабском мире господствует смутный, тоскливый,
мистический настрой, аттических ясности и свободы нет и в помине.
Здесь живут земнородные люди раннего ландшафта, а не такие обита¬
тели крупных городов, как Эвклид и Д’Аламбер . Глубокие и услож¬
ненные построения античного мышления здесь больше не понимали,
но располагали спутанными и новыми, отчетливая духовно-городская
формулировка которых будет получена еще не скоро. Вот готическое
состояние всякой юной культуры, через которое сама античность про¬
шла еще в раннедорическую эпоху, от которой не сохранилось ничего,
за исключением керамики дипилонского стиля. Лишь в Багдаде в IX и
X вв. зрелые мастера, не уступавшие Платону и Гауссу, провели до кон¬
ца и завершили концепции ранней эпохи Диофанта.
8
Решающим свершением Декарта, чья «Геометрия» вышла в свет в
1637 г., явилось не введение нового метода или точки зрения в области
традиционной геометрии, как это постоянно изображают, но оконча¬
тельная концепция новой идеи числа, которая выразилась в отделении
геометрии от зрительных средств конструкции, вообще от измеренных
и измеримых отрезков. Тем самым анализ бесконечно малых сделался
свершившимся фактом. Декарт, если проникнуть в глубину его помыс¬
лов, не усовершенствовал жесткую, так называемую декартову систему
координат, это идеальное представление измеримых величин в полу-
эвклидовом смысле, которая имела величайшее значение в предыду-
Во II в. по Р. X. Александрия уже не была мировой столицей, а превратилась в
оставшуюся от эпохи античной цивилизации массу домов, в которых обитало наделен¬
ное примитивными ощущениями, иное в душевном плане население. Ср. с. 564.
Том L ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
100
щий период, например, у Оресма, но ее преодолел. Его современник
Ферма был ее последним классическим представителем.
На место чувственного момента конкретных отрезков и поверхно¬
стей, этого специфического выражения античного ощущения грани¬
цы, заступает абстрактно-пространственный, а значит неантичный
момент точки, характеризуемой отныне как группа взаимноупорядо¬
ченных чистых чисел. Декарт уничтожил пришедшее из античных тек¬
стов и арабской традиции понятие величины, чувственного размера, и
заменил его переменным значением соотношения положений в про¬
странстве. Это было упразднение геометрии как таковой, которая начи¬
ная с этого момента ведет в пределах числового мира лишь призрачное,
завуалированное античными реминисценциями существование, одна¬
ко этого никто не заметил. Слово «геометрия» ни за что не отлучить от
присутствующего в нем аполлонического смысла. Начиная с Декарта
эта якобы «новая геометрия» представляет собой либо синтетическую
деятельность, которая числами определяет положение точек в теперь
уже не обязательно трехмерном пространстве («точечное многообра¬
зие»), либо аналитическую, которая определяет уже числа положением
точек. Однако заменить отрезки положениями — это значит понимать
протяжение теперь уже чисто пространственно, а не телесно.
Мне представляется, что классическим примером этого уничтоже¬
ния наследия доставшейся от предыдущих поколений конечно-опти¬
ческой геометрии является обращение круговых функций (которые в
каком-то едва ли постижимом для нас смысле были «числами» индий¬
ской математики) в циклометрические с их последующим разложени¬
ем в ряды, утратившие в бесконечной числовой области алгебраиче¬
ского анализа хотя бы самое отдаленное напоминание о геометриче¬
ском образе в духе Эвклида. Число круга, я, возникая повсюду вновь и
вновь в этой числовой области в качестве основания натуральных лога¬
рифмов е, порождает отношения, изглаживающие все границы преж¬
них геометрии, тригонометрии и алгебры, которые не имеют теперь ни
арифметического, ни геометрического характера: теперь в связи с
ними никто более не имеет в виду ни действительно вычерченного кру¬
га, ни степеней, которые следует вычислить.
9
Между тем как благодаря Пифагору ок. 540 г. античная душа при¬
шла к открытию своего, аполлонического числа как измеримой вели¬
чины, душа Запада в точно соответствующий временной момент отыс¬
кала благодаря Декарту и его поколению (Паскаль, Ферма, Дезарг)
идею числа, родившуюся из неодолимого фаустовского пристрастия к
бесконечному. Число как чистая величина, пристегнутая к телесному
присутствию единичной вещи, находит свое контрастное подобие в
Глава первая. О смысле чисел
101
числе как чистом отношении . Если античный мир, космос, исходя из
его глубокой потребности в зримой ограниченности, может быть опре¬
делен как исчисленная сумма материальных вещей, то наше мироощу¬
щение осуществилось в картине бесконечного пространства, в кото¬
ром все зримое, как обусловленное в противоположность необуслов¬
ленному, воспринимается едва ли не как действительность второго
порядка. Его символом оказывается решающее понятие функции, и на¬
мека на которое нет ни в одной другой культуре. Функция — это от¬
нюдь не расширение какого бы то ни было из существующих понятий
числа; она представляет собой полное его преодоление. Тем самым для
действительно значимой математики Западной Европы утрачивает цен¬
ность не только эвклидова, а значит «общечеловеческая», основанная
на повседневном опыте геометрия детей и профанов, но и архимедова
сфера элементарного счета, арифметика. Отныне существует лишь аб¬
страктный анализ. Для людей античности геометрия и арифметика
были замкнутыми в самих себе и совершенными науками высшего
ранга; процедуры той и другой были наглядными, имевшими дело с ве¬
личинами через черчение или счет. Для нас же они — лишь практиче¬
ские вспомогательные средства повседневной жизни. Два античных
метода вычисления величин, сложение и умножение, эти братья гра¬
фических построений, полностью исчезают в бесконечности функци¬
ональных процессов. Сама степень, являющаяся поначалу лишь чис¬
ловым обозначением определенной группы умножений (для произве¬
дений одинаковых величин), оказывается — в новом символе
экспоненты (логарифма) и его применении в комплексной, отрицате¬
льной, дробной форме — всецело отделенной от понятия величины и
переведенной в мир трансцендентных отношений, который должен
был оставаться недоступным грекам, знавшим лишь две положитель¬
ные, целочисленные степени в качестве представителей поверхностей
и тел, — довольно будет привести такие выражения, как
e"x,Vx,0j.
Все глубокие по мысли порождения, которые начиная с Возрожде¬
ния стремительно следовали одно за другим, — мнимые и комплекс¬
ные числа, введенные Кардано уже в 1550 г., бесконечные ряды, надеж¬
но обоснованные в плане теории великим открытием теоремы Ньюто¬
на о биноме, введенные ок. 1610 г. логарифмы, дифференциальная
геометрия, открытый Лейбницем определенный интеграл, множество
как новая числовая единица, намек на что имелся уже у Декарта, такие
новые процессы, как неопределенное интегрирование, разложение
функций в ряды, даже в бесконечные ряды других функций, — все это
Это в точности отвечает соотношению монеты и двойной бухгалтерии в денежном
мышлении той и другой культуры, ср. с. 953 слл.
102 Том 7. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
есть не что иное, как победы, одержанные над коренящимся в нас вуль¬
гарно-чувственным ощущением числа, которое следовало преодолеть
исходя из духа новой математики с ее задачей воплощения нового ми¬
роощущения. Не было доныне второй такой культуры, которая окру¬
жала бы таким благоговением достижения другой, находилась бы под
таким сильным ее влиянием в научном смысле, как это происходит с
западной культурой по отношению к культуре античной. Много, очень
много времени прошло, пока мы собрались с духом и стали пользовать¬
ся собственным мышлением. В основании этого лежало неизменное
желание ни в чем не уступить античности. Тем не менее каждый шаг,
делавшийся с этой целью, был на самом деле удалением от идеала, к
которому стремились. Поэтому история западноевропейской науки
представляет собой последовательное освобождение от античного мыш¬
ления, освобождение, которого никто вовсе и не желал, которое было
навязано нам в глубинах бессознательного. Таким образом, развитие
новой математики вылилось в негласную, долгую, увенчавшуюся в конце
концов победой борьбу против понятия величины .
10
Ориентированные на античность предубеждения мешали нам
по-новому обозначить собственно западное число как таковое. Язык
символов современной математики замазывает этот факт, и прежде
всего на его счет следует отнести то, что еще и сегодня также и среди
математиков господствует убеждение в том, что числа — величины,
ибо на этой предпосылке, разумеется, и основывается наш способ пи¬
сьменных обозначений.
Однако новым числом являются не служащие для выражения функ¬
ции отдельные символы (х, 7г, 5), а сама функция как единство, как эле¬
мент, как переменное отношение, более не вмещающееся в оптиче¬
ские границы. Для него понадобился бы новый, не находившийся под
влиянием античных воззрений формульный язык.
Необходимо давать себе ясный отчет, чем отличаются друг от друга
два таких уравнения (уже само одно это слово не должно было бы одно¬
временно обозначать столь разноплановые вещи), как 3х + 4х = 5х и
хя 4- уя= zn (уравнение теоремы Ферма). Первое образовано нескольки¬
ми «античными числами» (величинами), второе представляет собой
число другого рода, что оказывается сокрытым тождественным спосо¬
бом записи, который развился под впечатлением эвклидовско-архиме-
довских представлений. В первом случае знак равенства является кон¬
статацией жесткой связи определенных, доступных чувствам величин;
во втором он устанавливает существующую внутри группы перемен-
То же самое может быть сказано и о римском праве, ср. , с. 542 слл., и о монете,
ср. с. 958 сл.
Глава первая. О смысле чисел
103
ных образований связь такого рода, что определенные изменения не¬
обходимо влекут за собой другие. Цель первого уравнения — определе¬
ние (измерение) конкретной величины, «результата»; у второго вооб¬
ще нет никакого результата, а является оно лишь отображением и
знаком отношения, которое исключает целочисленные значения для п
> 2 (это и есть знаменитая проблема Ферма), что, возможно, удастся до¬
казать. Греческий математик вообще бы не взял в толк, какова собст¬
венно цель операций такого рода, вообще не направленных на «вычис¬
ление» как таковое.
Понятие неизвестного всецело сбивает с толку, если применить
его к буквам уравнения Ферма. В первом, «античном», х является
определенной и измеримой величиной, которую следует получить. Во
втором слово «определить» для х, у, z и п вовсе не имеет никакого
смысла и, следовательно, мы не желаем получать «значения» этих
символов, т. е. они вообще не являются числами в скульптурном
смысле, а знаками такой взаимозависимости, у которой вообще от¬
сутствуют такие черты, как величина, образ и однозначность, знака¬
ми бесконечности возможных положений одного и того же характера,
которые становятся собственно числами, лишь будучи осознаны как
единство. Все уравнение в целом, в символьной записи, которая, к со¬
жалению, использует много вводящих в заблуждение символов, фак¬
тически является од/шл*-единственным числом, и х, у, zявляются ими
столь же мало, как + и =.
Ибо понятие конкретного, определенного числа оказалось в глу¬
бочайшем своем основании уничтоженным уже с введением понятия
иррационального, всецело антигреческого числа. Теперь эти числа
образуют уже не обозримый ряд нарастающих, дискретных, скуль¬
птурных величин, но поначалу одномерный континуум, каждое сече¬
ние которого (в смысле Дедекинда) представляет «число», которому
вряд ли стоило давать это старое обозначение. Для античного ума
между 1 и 3 существует лишь одно число, для западного их здесь беско¬
нечное множество. Наконец, с введением мнимых (л/—I = /) и комп¬
лексных чисел (в общей форме а + Ы)9 которые расширяют линейный
континуум до в высшей степени трансцендентного образования чис¬
лового тела (этого олицетворения множества однородных членов),
каждое сечение которого является теперь числовой плоскостью (бес¬
конечным множеством меньшей мощности, например, совокупность
всех действительных чисел), оказываются -уничтожены все остатки
антично-вульгарной осязаемости. Эти числовые плоскости, которые
со времен Коши и Гаусса играют важную роль в теории функций, яв¬
ляются чисто умственными образованиями. Даже такое положительное
иррациональное число, как V2, могло быть — хотя бы, так сказать, от
противного — воспринято античным числовым мышлением, когда
его, как apfaros и а\oyos [несказанное и несчетное, абсурдное (греч.)]9
исключали как число; но выражения в форме х + yi вообще находятся
104
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
за пределами каких бы то ни было возможностей античного мышле¬
ния. На распространении арифметических законов на всю область
комплексных, внутри которой они постоянно применяются, основа¬
на теория функций, которая теперь наконец представляет западную
математику в ее чистоте, поскольку она охватывает в себе все единич¬
ные области и их упраздняет. Лишь вследствие этого данная матема¬
тика оказывается всецело применимой к образу одновременно разви¬
вающейся динамической физики Запада, между тем как античная ма¬
тематика представляет собой верное подобие того мира скульптурных
единичных вещей, который теоретически и механически трактовала
статическая физика от Левкиппа до Архимеда.
Классическим столетием этой барочной математики — в проти¬
воположность математике ионического стиля — явился XVIII в., ко¬
торый от решающих открытий Ньютона и Лейбница приводит через
Эйлера, Лагранжа, Лапласа, Д’Аламбера к Гауссу. Бурный взлет это¬
го мощного духовного творения происходил как чудо. Все едва отва¬
живались на то, чтобы верить тому, что открывалось их глазам. Одна
задругой отыскивались истины, представлявшиеся невозможными
утонченным умам этой скептически настроенной эпохи. Это и имел
в виду Д’Аламбер, сказав: «Allez еп avant et la foi vous viendra» [Ступай¬
те вперед, и обретете веру (фр.)]. Это относилось к теории диффе¬
ренциала. Казалось, сама логика протестовала против того, чтобы
основывать все предпосылки на погрешностях, и все же цель была
достигнута.
Это столетие возвышенного упоения всецело абстрактными, отре¬
занными от телесного зрения формами (ибо рядом с этими мастерами
анализа стоят Бах, Глюк, Гайдн, Моцарт), когда узкий кружок избран¬
ных и углубленных умов всецело предавался изысканным открытиям и
отважным догадкам, отрезанными от которых оказались Гёте и Кант, в
точности соответствует по содержанию наиболее зрелому столетию
ионического стиля, к которому принадлежали Эвдокс и Архит
(440—350; к ним опять-таки следует присоединить Фидия, Поликлета,
Алкамена и постройки Акрополя), когда весь мир форм античной ма¬
тематики и скульптуры расцвел во всей полноте своих возможностей и
пришел к завершению.
Только теперь и возможно вполне обозреть элементарную противо¬
положность античной и западной душевности. В пределах целостной
картины истории высшего человечества невозможно — при таком
множестве и силе исторических связей — отыскать ничего более чуж¬
дого друг другу. И как раз потому, что противоположности сходятся,
что они, быть может, указывают на нечто общее в последнем основа¬
нии бытия, мы находим в западной, фаустовской душе эту страстную
тоску по идеалу аполлоническому, который она любила более всех
прочих и которому завидовала из-за силы ее преданности чисто чувст¬
венному настоящему.
Глава первая. О смысле чисел
105
11
Еще до нас замечено, что в прачеловечестве, как и в ребенке, проис¬
ходит внутреннее переживание, рождение «я», благодаря которому они
оба постигают смысл числа, а тем самым обретают соотносящийся с
«я» окружающий мир.
Как только перед изумленным взглядом раннего человека из хаоса
впечатлений крупными штрихами выделяется этот предрассветный
мир упорядоченных протяженностей, осмысленно ставшего, и глубоко
воспринимаемая неотвратимая противоположность этого внешнего
мира и мира внутреннего придает направление и облик бодрствующей
жизни, в этой внезапно осознавшей собственное одиночество душе тут
же рождается пра-чувство томления. Это томление по цели становле¬
ния, по завершению и осуществлению всех внутренних возможностей,
по раскрытию идеи собственного существования. Это томление ребен¬
ка, которое с нарастающей ясностью входит в сознание в качестве чув¬
ства неудержимого направления и впоследствии возникает перед со¬
зревшим духом в форме загадки времени — тревожной, влекущей, не¬
разрешимой. Слова «прошлое» и «будущее» внезапно обретают
роковой смысл.
Однако это томление от переизбытка и блаженства внутреннего
становления оказывается в то же самое время в самой потаенной глу¬
бине всякой души также и страхом. Как всякое становление направле¬
но к ставшему, которым и завершается, так и пра-чувство становления,
томление, уже соприкасается с иным ставшего, страхом. В настоящем
мы ощущаем утекание, в прошлом заложена преходящесть. В этом ко¬
рень вечного страха перед неизбежным, достигнутым, окончательным,
перед преходящестью, перед самим миром как воплощенным, в кото¬
ром одновременно с гранью рождения оказывается заданной и грань
смерти, страх перед мгновением, в которое осуществляется возмож¬
ное, внутренне исполняется жизнь, где сознание приходит к цели. Это
тот глубокий мировой страх детской души, который никогда не поки¬
дает высшего человека, верующего, поэта, художника в их безгранич¬
ном обособлении, страх перед чуждыми силами, которые во всем
своем угрожающем величии, в обличье чувственных явлений, прони¬
кают в предрассветный мир. Также и направлению во всяком станов¬
лении во всей его неумолимости — необрагпимости — человеческое же¬
лание понять дает, как чему-то чуждому и враждебному, имена, с тем
чтобы околдовать непонятное. Это есть нечто неуловимое, превраща¬
ющее будущее в прошлое, и это придает времени в противоположность
пространству ту полную противоречий жутковатость и гнетущую неод¬
нозначность, от которой не способен до конца защититься никакой
значительный человек.
Мировой страх — несомненно, самое творческое из всех пра-чувств.
Это ему человек обязан самыми зрелыми и глубокими из всех форм и
106
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
образов не только собственной сознательной внутренней жизни, но
также и его отражениями в бесчисленных порождениях внешней куль¬
туры. Как некая тайная, доступная не всякому уху мелодия, страх про¬
ходит через язык форм всякого подлинного произведения искусства,
всякой внутренней философии, всякого значительного поступка, и это
он — доступный здесь еще меньшему числу людей — лежит в основе
также и великих проблем всякой математики. Лишь внутренне умер¬
ший человек поздних городов — Вавилона Хаммурапи, птолемеевой
Александрии, исламского Багдада или нынешних Парижа и Берлина,
лишь этот чисто интеллектуальный софист, сенсуалист и дарвинист
уходит от него или его отрицает, воздвигая между собой и чуждым ли¬
шенное тайны «научное мировоззрение».
Если томление связывается с тем неуловимым нечто, чьи тысячели¬
кие неуловимые знаки присутствия скорее скрываются, чем обознача¬
ются словом время, то пра-чувство страха находит выражение в духов¬
ных, доступных, способных к преобразованию символах протяжения.
Так в бодрствовании всякой культуры, во всякой по-своему, присутст¬
вуют противоформы времени и пространства, направления и протяже¬
ния, причем первое лежит в основе второго, как становление — в осно¬
ве ставшего (ибо также и томление лежит в основе страха, это оно дела¬
ется страхом, а не наоборот); первое ускользает от силы духа, а второе
стоит у нее на службе, первое служит только переживанию, второе толь¬
ко познанию. «Бояться и любить Бога» — вот христианское выражение
противоположного смысла того и другого мироощущения.
В душе всего прачеловечества, а значит, и наиболее раннего детства
возникает стремление к тому, чтобы околдовать, принудить, прими¬
рить, т. е. «познать» (в конечном счете все это одно и то же), момент
чуждых сил, которые неумолимо присутствуют во всем протяженном, в
пространстве и посредством пространства. Познать Бога означает на
языке мистики всякого раннего времени его заклясть, сделать его рас¬
положенным к себе, внутренне его присвоить. Это происходит в пер¬
вую очередь посредством слова, «имени», которым человек называет
питеп, призывает его, или прибегая к обрядам культа, которым прису¬
ща тайная сила. Наиболее тонкой, однако также и наиболее могущест¬
венной формой такой защиты является каузальное, систематическое
познание, обозначение границ с помощью понятий и чисел. Так что
человек делается до конца человеком лишь посредством словесного
языка. Вызревшее на словах познание с необходимостью превращает
хаос изначальных впечатлений в «природу» (это для нее существуют за¬
коны, которым она должна повиноваться), «мир сам по себе» — в «мир
для нас» . Оно утоляет мировой страх, поскольку обуздывает испол¬
ненное тайны, преобразует его в доступную действительность, сковы-
Что касается формы, ничего не изменилось от «колдовства на имя» у дикарей и
вплоть до новейшей науки, которая покоряет вещи тем, что чеканит для них имена, а
именно специальные термины. Ср. с. 598 сл., с. 721 слл.
Глава первая. О смысле чисел
107
вает железными правилами напечатленного на нем интеллектуального
языка форм.
Это идея «табу»\ которая играет решающую роль в душевной жизни
всех примитивных людей, однако ее изначальное содержание настоль¬
ко далеко от нас, что слово это более невозможно перевести ни на один
зрелый язык культуры. Беспомощный страх, священный трепет, глу¬
бокая оставленность, уныние, ненависть, смутные желания сближе¬
ния, соединения, удаления, — все эти исполненные формы ощущения
зрелых душ испаряются на стадии детскости в тупую нерешительность.
Двойное значение слова «заклинать», означающего в одно и то же вре¬
мя принуждать и молить, способно прояснить смысл того мистическо¬
го процесса, посредством которого чуждое и вызывающее опасения
становится для раннего человека «табу». Благоговейный трепет перед
всем, что от него независимо, узаконено, законно, перед чуждыми си¬
лами в мире, является источником всякого изначального оформления. В
глубокой древности он воплощался в орнаменг, в педантичное следо¬
вание церемониалу и ритуалу и в строгие правила элементарного обще¬
ния. На высоте великих культур все эти образования, внутренне не те¬
ряя особенностей своего происхождения, в том числе характера чар и
заклинания, становятся совершенными мирами форм отдельных ис¬
кусств, религиозного, естественно-научного и прежде всего матема¬
тического мышления. Их общим средством, единственным, которое
известно самоосуществляющейся душе, является символизация протя¬
женного, пространства и предметов — будь то концепция абсолютного
мирового пространства в физике Ньютона, внутренние объемы готи¬
ческих соборов и мавританских мечетей, воздушная бесконечность по¬
лотен Рембрандта и ее повторение в невнятных звуковых мирах бетхо-
венских квартетов, или же правильные многогранники Эвклида, ску¬
льптуры Парфенона или пирамиды Древнего Египта, нирвана Будды,
строгая дистанцированность придворных обычаев при Сесострисе,
Юстиниане I и Людовике XIV, либо, наконец, идея бога у Эсхила,
Плотина или Данте или охватывающая весь мир пространственная
энергия современной техники.
12
Но вернемся к математике. Исходной точкой всего античного фор¬
мирования было, как мы уже видели, упорядочивание ставшего — по¬
стольку поскольку оно имеется в наличии, обозримо, измеримо и ис¬
числяемо. Западное, готическое чувство формы, присущее не знающей
меры волевой душе, блуждающей в далеких далях, избрало символ чис¬
того, ненаглядного, безграничного пространства. Только не следует
Ср. гл. 2, разд. 7.
108
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
обманываться насчет узкой применимости таких символов, которые с
легкостью могут представиться нам однородными, общезначимыми:
Нашего бесконечного мирового пространства, в отношении реально¬
сти которого, как кажется, нечего и распространяться, с точки зрения
античного человека просто нет в природе. Он не способен его даже во¬
образить. С другой стороны, греческий космос, глубокой отчужденно¬
сти которого от нашего способа восприятия не следовало оставаться
незамеченной так долго, является для грека чем-то само собой разумею¬
щимся. Действительно, абсолютное пространство нашей физики — это
форма с очень многими чрезвычайно запутанными и принимаемыми
по умолчанию предпосылками, которая возникла лишь на основе на¬
шей душевности в качестве ее отображения и выражения, а, значит,
действительна, необходима и естественна лишь для нашего вида бодр¬
ствующего существования. Простые понятия всегда и самые трудные.
Их простота заключается в том, что бесконечно многое из того, что
сказать невозможно, вовсе и не нуждается в том, чтобы быть высказан¬
ным, потому что для людей этого круга оно установлено раз навсегда на
интуитивном уровне, чужакам же как раз по той же самой причине все
это совершенно недоступно. Это относится к специфически западно¬
му содержанию слова пространство. Начиная с Декарта, вся математи¬
ка занята теоретической интерпретацией этого великого, всецело на¬
полненного религиозным содержанием символа. Физика со времен
Галилея ни о чем ином и не помышляет. Античным же математике и
физике вообще неведом смысл этого слова.
Также и здесь античные названия, сохраненные нами из литератур¬
ного наследия греков, затемняют фактическое положение вещей. Гео¬
метрией называется искусство измерения, арифметикой — вычисле¬
ния. Математика Запада больше не имеет ничего общего с обоими эти¬
ми видами ограничения, однако она не нашла для них никаких новых
имен. Слово же «анализ» говорит еще далеко не все.
Античный человек начинает и завершает свои рассуждения единич¬
ным телом и его граничными поверхностями, к которым непрямым
образом относятся сечения конуса и кривые высшего порядка. Мы же,
по сути, знаем лишь абстрактный пространственный элемент точку,
которая представляет собой исключительно лишь отправной пункт —
лишенный всякой наглядности, а также возможности измерения и
именования. Для греков прямая — это измеримое ребро, для нас же она
неограниченный точечный континуум. В качестве примера принципа
бесконечно малых Лейбниц приводит прямую, представляющую со¬
бой предельный случай круга с бесконечно большим радиусом, между
тем как точка является другим предельным случаем. Однако для греков
круг — это поверхность, и проблема заключается в том, чтобы привести
ее в соизмеримый вид. Так квадратура круга сделалась для умов антич¬
ных людей классической задачей на предел. Это представлялось им самой
глубокой из всех вообще задач мировой формы: превратить ограничен¬
Глава первая. О смысле чисел
109
ные кривыми линиями поверхности, не меняя их величины, в прямо¬
угольники и тем самым сделать их измеримыми. Для нас отсюда возник¬
ла малозначительная процедура по представлению числа к алгебраиче¬
скими средствами, без того, чтобы при этом вообще заходила речь о
геометрических построениях.
Античный математик знает лишь то, что видит, что ему доступно.
Там, где прекращается ограниченная и ограничивающая видимость,
тема хода его рассуждений, приходит к концу и его наука. Западный же
математик, как только освободится от античных предубеждений и при¬
надлежит самому себе, отправляется во всецело абстрактную я-мерную
(а уже вовсе не 3-мерную) область бесконечного числового разнообра¬
зия, внутри которой его так называемая геометрия способна и должна
управиться без каких-либо наглядных вспомогательных средств. Если
античный человек берется за художественное выражение своего чувст¬
ва формы, он старается придать танцующему или борющемуся челове¬
ческому телу такое положение в мраморе и бронзе, в котором поверх¬
ности и контуры имели бы как можно больше соразмерности и смысла.
Подлинный же художник Запада зажмуривает глаза и уносится в об¬
ласть бесплотной музыки, где гармония и полифония ведут к образова¬
ниям высшей «запредельности», находящимся вдали от каких-либо
возможностей зрительного определения. Стоит задуматься о том, что
понимают под фигурой афинский скульптор и мастер контрапункта с
Севера, как сразу во всей непосредственности осознаешь противопо¬
ложность того и другого мира, той и другой математики. Греческие ма¬
тематики использовали слово аацха даже для обозначения своих мате¬
матических тел. С другой стороны, язык права пользуется им для обо¬
значения ЛИЦ В противоположность вещам (а салата кои 7Tpayfxara:
personae et res).
Поэтому античное целое, телесное число непроизвольно стремится
к установлению связи с возникновением телесного человека, асоца.
Число 1 еще почти и не воспринимается в качестве настоящего числа.
Оно является архч, протовеществом числового ряда, источником всех
подлинных чисел, а значит, всех величин, всех мер, всей вещественно¬
сти. В пифагорейских кругах, неважно, в какую эпоху, его числовой
символ являлся в то же самое время символом материнского лона, ис¬
точника всякой жизни. 2, первое число в собственном смысле, которое
удваивает 1, оказывается поэтому в связи с мужским началом, и его
символ был имитацией фаллоса. Наконец; пифагорейская священная
тройка знаменовала акт соединения мужчины и женщины, порожде¬
ния (эротический смысл сложения и умножения, этих исключительных
по значимости для античности процессов увеличения величин, их по¬
рождения, лежит на поверхности), и ее символом было объединение
двух первых. Исходя из этого упоминавшийся миф о святотатственном
открытии иррациональности предстает в новом свете. Иррациональ¬
ность, или, выражаясь по-нашему, применение бесконечных десяти¬
по
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
чных дробей, означала разрушение установленного богами органиче-
ски-телесного, порождающего порядка. Нет сомнения в том, что пи¬
фагорейская реформа античной религии вновь базировала ее на
стародавнем культе Деметры. Деметра же близка к Гее, матери-Земле.
Между ее почитанием и этим возвышенным пониманием чисел суще¬
ствует глубокая связь.
Так античность в силу внутренней необходимости постепенно стала
культурой малого. Аполлоническая душа старалась заклясть смысл
ставшего с помощью принципа обозримых границ; ее «табу» было на¬
правлено на непосредственную данность и близость чужого. Все, что
находилось далеко, что невозможно было увидеть, того и не было во¬
все. Греки, как и римляне, приносили жертвы богам той местности, в
которой находились; все прочие исчезали из их поля зрения. Подобно
тому, как в греческом языке не имелось ни одного слова для пространства
(нам еще придется вновь и вновь прослеживать колоссальную симво¬
лику этого языкового феномена), у грека также отсутствует наше ощу¬
щение ландшафта, восприятие горизонта, вкус к видам, далям, обла¬
кам, а также и понятие родины, которая простирается вдаль и охваты¬
вает большую нацию. Для античного человека родина — это то, что он
может охватить взглядом с крепости своего родного города, и не более
того. Все, что находилось за пределами этой оптической границы по¬
литического атома, было чуждым, даже враждебным. Уже здесь берет
начало страх античного существования, и этим объясняется чудовищ¬
ная ожесточенность, с которой уничтожали друг друга эти крохотные
городки. Полис — самая малая из всех мыслимых государственных
форм, и его политика — это неприкрытая политика близи, что в край¬
ней степени противоположно нашей кабинетной дипломатии, поли¬
тике безграничного. Античный храм, который можно охватить одним
взглядом, — самый малый из всех классических типов зданий. Геомет¬
рия от Архита и до Эвклида занимается (как продолжает это делать еще
и сегодня находящаяся под ее впечатлением школьная геометрия) не¬
большими удобными в обращении фигурами и телами, так что от нее
остались скрытыми те трудности, которые возникают при обоснова¬
нии фигур с астрономическими размерами, где уже не во всем приме¬
нима эвклидова геометрия . В противном случае утонченный аттиче¬
ский ум уже тогда догадался бы о проблемах неэвклидовых геометрий,
поскольку от возражений против известной аксиомы о параллельных
прямых", сомнительная и все же не поддающаяся улучшению форму¬
лировка которой вызвала неприятие уже довольно рано, уже совсем не-
* Ныне в современной астрономии начинается применение неэвклидовых геомет¬
рий. Допущение неограниченного, однако конечного, искривленного пространства,
заполненного системой неподвижных звезд диаметром приблизительно в 470 миллио¬
нов астрономических единиц, привело бы также и к допущению соответствующего об¬
раза нашего Солнца, представляющегося нам в виде звезды средней яркости.
Что через точку можно провести лишь одну линию, параллельную данной: выска¬
зывание, которое невозможно доказать.
Глава первая. О смысле чисел
111
далеко до решающего открытия. Как для античного разума чем-то само
собой разумеющимся является исключительное рассмотрение ближ¬
него и малого, так для нашего разума само собой разумеется рассмотре¬
ние бесконечного, перешагивающего границы зрения. Все математи¬
ческие воззрения, которые были открыты или позаимствованы Запа¬
дом, как что-то само собой разумеющееся отдавались во власть языка
форм инфинитезимальных величин, и это задолго до открытия самого
дифференциального исчисления. Арабская алгебра, индийская триго¬
нометрия, античная механика оказываются без долгих проволочек
включенными в анализ. Даже «очевиднейшее» выражение элементар¬
ного счета, о том, что, например, 2x2 = 4, приводит, будучи рассмот¬
ренным с точки зрения анализа, к проблеме, решение которой возмож¬
но лишь посредством выведений из теории множеств, причем во мно¬
гих частностях такое решение еще и не было получено, — что,
несомненно, показалось бы Платону и его эпохе полным безумием и
доказательством решительного отсутствия математического дара.
Можно, что называется, трактовать геометрию алгебраически или
же алгебру — геометрически, т. е. полностью исключать зрение или да¬
вать ему господствовать. Первым занимаемся мы, вторым же занима¬
лись греки. В выполненном Архимедом красивом вычислении спирали
он касается определенных всеобщих фактов, лежащих также и в основе
метода определенного интеграла Лейбница, однако тут же подчиняет
свои выглядящие при поверхностном рассмотрении очень по-совре¬
менному процедуры принципам стереометрии; в подобном случае ин¬
дус прибег бы — как к чему-то само собой разумеющемуся — к триго¬
нометрической формулировке.
13
Коренная противоположность античных и западных чисел приво¬
дит также к еще одной, столь же глубинной противоположности. Я го¬
ворю об отношениях, в которых находятся друг к другу элементы этих
числовых миров. Отношение величин называется пропорцией, отноше¬
ние же соотношений содержится в понятии функции. Покинув пределы
математики, оба этих слова играют чрезвычайно большую роль в тех¬
нике обоих соответствующих искусств, в скульптуре и музыке. Если
всецело отвлечься от смысла, который имеет слово «пропорция» при¬
менительно к членению отдельной статуи, то именно типично антич¬
ные художественные формы статуи, рельефа и фрески допускают уве¬
личение и уменьшение масштаба — слова, не имеющие абсолютно ника¬
кого смысла применительно к музыке. Можно вспомнить и об
искусстве резания гемм, предметом которого было в основном умень-
Сегодня уже невозможно установить, что именно в известной нам индийской ма¬
тематике является древнеиндийским, т. е. создано до Будды.
112 Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
шение мотивов, имевших в оригинале натуральную величину. Напро¬
тив того, решающее значение внутри теории функций имеет понятие
трансформации групп, и музыкант подтвердит, что аналогичные обра¬
зования образуют значительную часть новейшего учения о компози¬
ции. Напомню лишь об одной из самых утонченных инструменталь¬
ных форм XVIII в., «tema con variazioni» [тема с вариациями (ит.)].
Всякая пропорция предполагает постоянство, всякая трансформа¬
ция — изменчивость элементов: здесь достаточно сравнить теоремы
равенства в редакции Эвклида, доказательство которых основывается
фактически на данном соотношении 1:1, с их современным выводом с
помощью круговых функций.
14
Конструкция, которая в широком смысле включает в себя все мето¬
ды элементарной арифметики, является альфой и омегой античной ма¬
тематики: построение одной-единственной и зримо данной фигуры.
Циркуль — вот резец этого по сути еще одного изобразительного ис¬
кусства. Труд исследователей в области теории функций, чья цель во¬
все не результат в виде некой величины, но обсуждение общих форма¬
льных возможностей, можно назвать разработкой своего рода учения о
композиции, имеющего близкое родство с композицией музыкальной.
Целый ряд понятий теории музыки оказался безусловно применимым
также и к аналитическим операциям физики: тональность, фразиров¬
ка, хроматика и другие, и еще вопрос, не выиграли ли бы от такого при¬
менения еще и многие другие отношения.
Всякая конструкция утверждает видимость, всякая же операция ее
отрицает, поскольку первая разрабатывает то, что дано оптически, вто¬
рая же все это упраздняет. Так появляется еще одна противополож¬
ность того и другого вида математических процедур: античная матема¬
тика малого рассматривает конкретный единичный случай, рассчитыва¬
ет определенное задание, исполняет одноразовую конструкцию.
Математика бесконечного имеет дело с целыми классами формальных
возможностей, с группами функций, операций, уравнений, кривых, и
это еще не имея в виду какой бы то ни было результат, но исключитель¬
но продвижение к нему. Прошло вот уже два столетия (в чем едва ли от¬
дают себе отчет современные математики) с тех пор, как возникла идея
общей морфологии математических операций, которую можно было бы
назвать подлинным смыслом всей математики Нового времени. В этом
о себе заявляет всеобъемлющая тенденция западной духовности в це¬
лом, и впоследствии она будет все больше проясняться — тенденция,
являющаяся достоянием исключительно одного только фаустовского
духа и его культуры, поскольку подобных устремлений ни в одной дру¬
гой культуре нет. Преобладающее большинство вопросов, занимаю¬
из
Глава первая. О смысле чисел
щих нашу математику как наиболее близкие ей проблемы (чему у гре¬
ков соответствует квадратура круга), как, например, нахождение кри¬
териев сходимости бесконечных рядов (Коши) или обращение
эллиптических и вообще алгебраических интегралов в многократ¬
но-периодические функции (Абель, Гаусс), вероятно представилось
бы «древним», которые отыскивали в качестве результатов простые
определенные величины, остроумной, но несколько замысловатой иг¬
рой, и в этом они оказались бы всецело поддержанными также и широ¬
кими кругами в наше время. Нет на свете ничего менее популярного,
чем современная математика, и также и здесь проглядывает что-то от
символики бесконечной дали, дистанции. Ясе великие творения Запада
от Данте и до Парсифаля оказывались непопулярными, все же антич¬
ные от Гомера и до Пергамского алтаря были популярными в высшей
степени.
15
И наконец, все содержание западного числового мышления фоку¬
сируется в классической для фаустовской математики проблеме предела,
скрывающей в себе ключ к тому труднодоступному понятию бесконеч¬
ного (фаустовского бесконечного), которое весьма удалено от бесконеч¬
ности арабского и индийского мироощущения. Речь идет о теории пре¬
дела, вне зависимости от того, будет ли соответствующее число рас¬
сматриваться по отдельности как бесконечный ряд, кривая или
функция. Предел этот является полной противоположностью антич¬
ного, до сих не называвшегося данным именем, который обсуждался в
связи с квадратурой круга, этой классической задачей на предел. Еще в
XVIII в. вульгарно-эвклидовские предубеждения затемняли смысл
дифференциального принципа. С какой бы осмотрительностью ни
применялось поначалу вполне доступное понятие бесконечно малого,
все равно на нем тяготело нечто от античной постоянной, тень величи¬
ны, пускай даже Эвклид не усмотрел бы ее здесь и не признал за тако¬
вую. Нуль является константой, целым числом линейного континуума
между +1 и -1; исследованиям Эйлера в области анализа повредило то,
что он (как и многие вслед за ним) считает дифференциалы за нули.
Лишь Коши окончательно прояснил понятие предела, что позволило
покончить с этим остатком античного числового ощущения и превра¬
тило исчисление бесконечно малых в непротиворечивую систему.
Лишь шаг, сделанный от «бесконечно малой величины» к «нижнему
пределу любой возможной конечной величины» приводит к концепции
переменного числа, которое принимает значения, меньшие всякой от¬
личной от нуля конечной величины, и, следовательно, уже не обладает
никаким, даже самым незначительным, свойством величины. В этом
окончательном виде предел вообще не является тем, к чему нечто при¬
114
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
ближается. Он сам представляет собой приближение, т. е. процесс,
операцию. Предел — не состояние, но поведение. Именно здесь, в ре¬
шающей проблеме западной математики, внезапно обнаруживается,
что в нашей душевности заложена историчность .
16
Освобождение геометрии от созерцания, а алгебры — от понятия
величины, объединение их обоих в мощное здание теории функций,
находящееся по другую сторону всех элементарных границ конструк¬
ций и вычислений, — вот великий путь западного числового мышле¬
ния. Так античное постоянное число разрешилось в число переменное.
Ставшая аналитической геометрия упразднила все конкретные фор¬
мы. Она заменяет математические тела, на косном образе которых оты¬
скивались геометрические значения, абстрактно-пространственными
отношениями, которые вообще в конечном счете более не применимы
к фактам чувственно данного созерцания. Вначале она заменяет опти¬
ческие образы Эвклида геометрическими местами точек по отноше¬
нию к системе координат, начальная точка которой может быть произ¬
вольно выбрана, и сводит предметное существование геометрических
объектов к тому требованию, что в ходе операции, которая направлена
теперь уже не на измерения, но на уравнения, выбранная система не
должна изменяться. Однако тотчас же координаты начинают понима¬
ться исключительно как чистые значения, которые не столько опреде¬
ляют положение точек как абстрактных пространственных элементов,
сколько репрезентируют их и заменяют. Число, предел ставшего, те¬
перь символически представляется не образом фигуры, но образом
уравнения. «Геометрия» меняет свой смысл на противоположный: си¬
стема координат исчезает как образ, а точка теперь — это всецело абст¬
рактная группа чисел. То, как благодаря новшествам Микеланджело и
Виньолы архитектура Возрождения переходит в барокко, является точ¬
ным отображением этого внутреннего преобразования анализа. Про¬
ясненные для чувств линии фасадов дворцов и церквей сразу делаются
вдруг недействительными. Взамен четких координат флорентий¬
ско-римской расстановки колонн и членения этажей являются «инфи¬
нитезимальные» элементы изогнутых, текучих строительных украше¬
ний, волютов, картушей. Конструкция исчезает в полноте декоратив¬
ного — выражаясь математически, функционального — момента;
объединенные в группы и пучки колонны и пилястры то собираясь
вместе, то рассеиваясь заполняют собой фронтоны, не давая глазу ус¬
покоиться ни на чем; поверхности стен, крыш, этажей разрешаются в
половодье лепных украшений и орнаментов, исчезают и распадаются
«Если правильно понимать функцию, она оказывается бытием, осмысленным в
деятельности» (Гёте)28. Ср. возникновение фаустовских функциональных денег, с. 952.
Глава первая. О смысле чисел 115
от красочных световых воздействий. Однако свет, который ныне раз¬
ливается по этому миру форм зрелого барокко (начиная с Бернини
ок. 1650 г. и вплоть до рококо в Дрездене, Вене и Париже), стал чисто
музыкальным элементом. Дрезденский Цвингер — это симфония. Заод¬
но с математикой также и архитектура развилась в XVIII в. в мир форм
музыкального характера.
17
На пути развития этой математики должен был наконец наступить
момент, когда не только границы искусственных геометрических по¬
строений, но и границы зрения вообще должны были воспринимать¬
ся — как теорией, так и самой душой в ее порыве к безудержному выра¬
жению собственных внутренних возможностей — как предел, как по¬
меха, и когда, таким образом, идеал трансцендентной протяженности
вступил в принципиальное противоречие с ограниченными возможно¬
стями непосредственной видимости. Античная душа, со всей самоот¬
дачей платонической и стоической авара£1а допускавшая значимость и
господство чувственного начала, эта душа, скорее воспринимавшая, не¬
жели навязывавшая свои великие символы, как видно из подспудного
эротического смысла пифагорейских чисел, никогда не испытывала
желания перешагнуть пределы также и телесных здесь и теперь. Однако
если пифагорейское число открылось в сущности данных единичных
вещей в природе, то число Декарта и математиков, следовавших за ним,
было чем-то таким, что следовало завоевать и вырвать силой, властным
абстрактным отношением, независимым от всей чувственной данно¬
сти и постоянно готовым к тому, чтобы заявить об этой своей незави¬
симости перед лицом природы. Воля к власти (если прибегнуть к вели¬
кой формуле Ницше), которая является характерной чертой северной
души в ее отношении к собственному миру начиная с наиболее ранней
готики «Эдды», Соборов и Крестовых походов, да собственно с завое¬
вателей викингов и готов, заложена также и в этой энергии западного
числа по отношению к созерцанию. Это и есть «динамика». В аполло-
нической математике дух служит зрению, в фаустовской он его преодо¬
левает.
Само математическое, такое неантичное, «абсолютное» простран¬
ство (в своем благоговении перед греческими традициями математика
не отважилась это заметить) с самого начала было не неопределенной
пространственностью повседневных впечатлений, общепринятой жи¬
вописи, якобы столь однозначного и определенного априорного созер¬
цания Канта, но чистой абстракцией, идеальным и неисполнимым по¬
стулатом души, которая все меньше удовлетворялась чувственностью
как средством выражения и в конце концов страстно от нее отврати¬
лась. Пробудилось внутреннее зрение.
116
Том /. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Лишь теперь глубокие мыслители должны были почувствовать, что
эвклидова геометрия, единственная правильная геометрия для наивного
наблюдателя во все времена, будучи рассмотрена с этой высшей точки
зрения, оказывается всего только гипотезой, чья исключительная зна¬
чимость в сравнении с другими, также совершенно ненаглядными ви¬
дами геометрий, как мы это определенно знаем со времен Гаусса, ни¬
когда не может быть доказана. Фундаментальное положение этой гео¬
метрии, аксиома Эвклида о параллельных линиях, является
утверждением, которое может быть заменено другими, а именно, что
через данную точку вообще нельзя провести прямую, параллельную
данной, либо что таких прямых две или множество. Все это утвержде¬
ния, приводящие к совершенно непротиворечивым трехмерным гео¬
метрическим системам, которые можно применять в физике и астро¬
номии, и иногда их следует предпочитать геометрии Эвклида.
Уже простое требование неограниченности всего протяженного
(откуда пришлось — со времен Римана и его теории неограниченного,
однако не бесконечного по причине кривизны пространства — удалить
как раз-таки бесконечность) противоречит подлинному характеру вся¬
кого непосредственного созерцания, которое зависит от наличия све¬
товых сопротивлений, т. е. от материальных границ. Однако мыслимы
абстрактные принципы ограничения, которые превосходят возможно¬
сти оптического ограничения в совершенно новом смысле. Для тех,
кто способен заглянуть поглубже, уже в картезианской геометрии зало¬
жена тенденция к тому, чтобы выйти из трех измерений переживаемого
пространства как из пределов, не имеющих для символики чисел ника¬
кой необходимости. И пусть даже представление о многомерных про¬
странствах (это слово следовало бы заменить чем-то новым) стало рас¬
ширенным основанием аналитического мышления примерно с 1800 г.,
но ведь первый шаг к этому был сделан в то мгновение, когда степени, а
точнее логарифмы, были отделены от их первоначальной связи с веще¬
ственно осуществимыми поверхностями и телами и — при примене¬
нии иррациональных и комплексных показателей — введены в область
функционального как значения отношений совершенно общего рода.
Кто вообще способен сюда последовать, поймет также и то, что уже с
шагом от представления а3 как естественного максимума к а безуслов¬
ность пространства с тремя измерениями оказывается снятой.
Стоило точке как пространственному элементу утратить все еще
оптический характер координатного сечения в зрительно представи¬
мой системе и быть определенной как группа из трех независимых чи¬
сел, как не стало больше никаких препятствий для того, чтобы заме¬
нить число 3 общим п. Произошло перевертывание понятия измере¬
ния: теперь оно обозначает уже не числовую меру оптических свойств
точки в отношении ее положения в системе, но неограниченные по ко¬
личеству измерения представляют собой совершенно абстрактные
свойства группы чисел. Эта группа чисел, образованная п независимых
Глава первая. О смысле чисел
117
упорядоченных элементов, является образом точки; она называется
точкой. Логически выведенное отсюда уравнение называется плоско¬
стью, является образом плоскости. Совокупность всех точек в п изме¬
рений называется я-мерным пространством . В этих трансцендентных
пространственных мирах, которые более не находятся в каком-либо
соотношении ни с какой чувственностью, господствуют отыскивае¬
мые анализом отношения, находящиеся в неизменном соответствии с
результатами экспериментальной физики. Эта пространственность
высшего порядка представляет собой символ, являющийся безразде¬
льным достоянием западного духа. Лишь этот дух попытался заворо¬
жить ставшее и протяженное в этой форме, заклясть, принудить, а тем
самым и «познать» чуждое именно через данный вид присвоения (мож¬
но здесь вспомнить о понятии «табу») — и совладал с этой задачей. То¬
лько в этой сфере числового мышления, которая все еще доступна
лишь чрезвычайно узкому кругу людей, даже такие образования, как
система гиперкомплексных чисел (например, кватернионы векторно¬
го исчисления) и такие пока что совершенно непонятные символы, как
°о", получают характер чего-то реального. То, что действительность —
это не одна лишь чувственная действительность, что душевный эле¬
мент скорее способен воплощать свою идею в совершенно иных, нена¬
глядных образованиях — как раз это-то и следует еще усвоить.
18
Из этой величественной интуиции символических пространствен¬
ных миров следует последняя и заключительная редакция всей запад¬
ной математики, а именно расширение и одухотворение теории функ¬
ций до теории групп. Группы представляют собой множества или сово¬
купности однородных математических образований, как, например,
совокупность всех дифференциальных уравнений определенного
типа, множества, которые построены и упорядочены аналогично Деде-
киндовым числовым телам. Возникает ощущение, что речь здесь идет о
мирах совершенно иных чисел, не вполне свободных от определенной
чувственности для внутреннего зрения посвященных. Необходимы те¬
перь исследования определенных элементов этих колоссальных абст¬
рактных формальных систем, которые остаются независимыми, сохра¬
няют постоянство по отношению к воздействию отдельных групп опе¬
раций, преобразований системы. Таким образом, общая задача этой
математики приобретает (по Клейну) следующий вид: «Даны л-мерное
многообразие («пространство») и группа преобразований. Необходи-
С точки зрения теории множеств вполне упорядоченное множество точек, вне за¬
висимости от числа измерений, называется телом, так что множество в л — 1 измерений
оказывается по отношению к нему поверхностью. «Ограничение» (стена, ребро) множе¬
ства точек представляет собой множество точек меньшей мощности.
118 Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
мо исследовать входящие в многообразие образования в отношении
тех их свойств, которые не изменяются преобразованиями группы».
И вот теперь на этой высочайшей вершине (исчерпав все свои внут¬
ренние возможности и исполнив свое предназначение — быть слепком и
чистейшим выражением идеи фаустовской душевности) завершается раз¬
витие западной математики — в том же самом смысле, в каком это прои¬
зошло с античной математикой в III в. Обе этих науки (единственные,
чья органическая структура все еще может быть исторически прослеже¬
на в наше время) возникли из принадлежавших Пифагору и Декарту
концепций совершенно новых чисел; столетием позднее обе, пройдя че¬
рез великолепный взлет, достигли зрелости, и обе, пройдя через рассвет
продолжительностью в три столетия, завершили здание своих идей, — в
то же самое время, когда культура, к которой они принадлежали, пере¬
шла в цивилизацию мировых столиц. Эта полная глубокого смысла
взаимосвязь будет прояснена впоследствии. Несомненно то, что время
великих математиков для нас миновало. Ныне происходит та же самая
работа по сохранению, закруглению, совершенствованию, отбору — т. е.
исполненная таланта мелочная работа взамен великих творений, — что
и является характерной особенностью александрийской математики
позднего эллинизма.
Прояснить это поможет историческая схема.
Античность
Запад
1. Концепция нового числа
Ок. 540
Ок. 1630
Число как величина
Число как отношение
Пифагорейцы
Декарт, Ферма, Паскаль;
Ньютон, Лейбниц (1670)
(Ок. 470 победа скульптуры над фреско¬
вой живописью)
(Ок. 1670 победа музыки над живописью
маслом)
2. Высшая точка систематического развития
450-350
1750-1800
Платон, Архит, Эвдокс
Эйлер, Лагранж, Лаплас
(Фидий, Пракситель)
(Глюк, Гайдн, Моцарт)
3. Внутреннее завершение числового мира
300-250
После 1800
Эвклид, Аполлоний, Архимед
Гаусс, Коши, Риман
(Лисипп, Леохар)
(Бетховен)
ГЛАВА ВТОРАЯ
ПРОБЛЕМА
ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ
I. Физиономика и систематика
1
Лишь теперь можно наконец сделать решительный шаг и набросать
такую картину истории, которая больше не будет зависеть от случайно¬
го местоположения наблюдателя в каком бы то ни было — именно
его — «настоящем», как и от его свойств как заинтересованного члена
одной-единственной культуры, чьи религиозные, духовные, полити¬
ческие, социальные тенденции сбивают его с толку, организуют исто¬
рический материал исходя из обусловленной временем и пространст¬
вом перспективы и тем самым навязывают событиям произвольную и
скользящую по поверхности форму, которая внутренне им чужда.
Чего нам до сих пор недоставало, так это дистанцированности от
предмета. В случае природы ее достигли уже давно. Впрочем, там ее и
легче было достичь. Физик, как что-то само собой разумеющееся,
строит каузально-механическую картину своего мира так, словно сам в
нем не присутствует.
Однако то же самое возможно и в мире форм истории. Пока что мы
об этом не догадывались. Современные историки гордятся своей объек¬
тивностью, однако тем самым они выдают то, в какой малой степени от¬
дают себе отчет в собственных предубеждениях. Поэтому следует, быть
может, сказать (и когда-нибудь позднее это еще будет сделано), что под¬
линного рассмотрения истории в фаустовском стиле у нас так до сих пор
и нет. Я имею в виду такое рассмотрение, в котором довольно дистанци¬
рованности для того, чтобы рассматривать также и настоящее (которое
ведь является таковым лишь по отношению к одному-единственному из
бесчисленных человеческих поколений) как нечто бесконечно удален¬
ное и чуждое в общей картине всемирной истории, как временной про¬
межуток, обладающий нисколько не большим весом в сравнении со все¬
ми прочими — без фальсифицирующей мерки каких бы то ни было иде¬
алов, без соотнесения с самим собой, без пожеланий, озабоченности и
личного внутреннего участия, на что склонна претендовать реальная
жизнь. Итак, это должна быть такая дистанцированность, которой по¬
зволено (говоря словами Ницше, который сам-то далеко не располагал
ею в достаточной мере) рассматривать весь факт человека с колоссаль¬
ного удаления29: взгляд на культуры, в том числе и на собственную, как
на ряд вершин горного хребта на горизонте.
122
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Здесь необходимо еще раз осуществить деяние, подобное Коперни¬
кову, а именно освобождение от видимости во имя бесконечного про¬
странства, как это давно уже проделал западный дух по отношению к
природе, когда он перешел от птолемеевой системы мира к той, кото¬
рая одна только и сохраняет ныне значимость для нас, тем самым вы¬
ключив в качестве формоопределяющего случайное местоположение
наблюдателя на одной-единственной планете.
Всемирная история нуждается в таком же точно освобождении от
случайно избранной точки наблюдения (соответствующего «Нового
времени») — и способна на это. Наш XIX в. представляется нам куда
более богатым и значительным, чем, например, XIX в. до Р. X., но ведь
и Луна кажется нам больше Юпитера и Сатурна. Физик давно уже
освободился от предрассудка относительного удаления, историк — все
еще нет. Мы позволяем себе именовать греческую культуру древно¬
стью по отношению к нашему Новому времени. Но была ли она тако¬
вой также и для утонченных, стоявших на вершине своего историче¬
ского развития египтян при дворе великого Тутмоса, т. е. за тысячу лет
до Гомера? События, разыгрывавшиеся в 1500—1800 гг. на западноев¬
ропейской почве, наполняют для нас важнейшую треть всемирной ис¬
тории в целом. Для китайского историка, оглядывающегося на 4000 лет
китайской истории и выносящего суждение исходя из нее, она пред¬
ставляет собой краткий и малозначительный эпизод, далеко уступаю¬
щий по весомости столетиям династии Хань (206 до Р. X. — 220 по
Р. X.), составившим эпоху в его «всемирной истории».
Итак, освободить историю от личного предубеждения наблюдате¬
ля, которое в нашем случае делает ее историей по сути лишь одного
фрагмента прошлого, причем целью здесь оказывается то, что случай¬
ным образом установлено в настоящий момент в Западной Европе, а
мерой всего достигнутого и того, что еще следует достигнуть, служат
значимые именно теперь идеалы и интересы — вот что является целью
всего нижеследующего.
2
Природа и история : вот в каком виде, противостоя друг другу, пред¬
стают перед каждым человеком две крайних возможности упорядочить
окружающую его действительность до картины мира. Действитель¬
ность Является природой, поскольку она подводит все становление под
ставшее, и она же — история, поскольку подводит все ставшее под ста¬
новление. Действительность обозревается в ее «припоминаемом» обра¬
зе—к вот возникает мир Платона, Рембрандта, Гёте, Бетховена, или же
критически постигается в ее доступном чувствам нынешнем состоя-
Ср. т. 1, введение, разд. 16.
Глава вторая. Проблема всемирной истории 123
нии — это будут миры Парменида и Декарта, Канта и Ньютона. Позна¬
ние в строгом значении этого слова — это тот самый акт переживания,
осуществленный результат которого называется «природой». Познан¬
ное и природа тождественны друг другу. Все познанное, как доказал
это символ математического числа, равнозначно механически ограни¬
ченному, раз навсегда истинному, узаконенному. Природа — это во¬
площение всего необходимого согласно закону. Существуют одни только
законы природы. Ни один физик, отчетливо сознающий свое предназ¬
начение, никогда не пожелает выйти из этих границ. Его задача заклю¬
чается в том, чтобы установить совокупность, хорошо упорядоченную
систему всех законов, которые можно отыскать в картине его природы,
и, более того, которые исчерпывающе и без остатка представляют кар¬
тину его природы.
С другой стороны, созерцание (на память приходят слова Гёте: «Со¬
зерцание надо четко отличать от всматривания»30) — это тот акт пере¬
живания, который сам, пока совершается, является историей. Пережи¬
тое — это сбывшееся, это история.
Все сбывшееся однократно и никогда больше не повторяется. Оно
несет на себе характеристику направления («времени»), необратимо¬
сти. Сбывшееся с неизбежностью принадлежит прошлому, противо¬
стоя становлению как ставшее, как живому — закосневшее. Соответст¬
вующее этому ощущение — мировой страх. Все же познанное не имеет
времени; не принадлежа ни прошлому, ни будущему, оно просто «дано»
и, таким образом, сохраняет свою значимость. Таковы внутренние
свойства сообразного законам природы. Закон, все узаконенное аис-
торичны. Они исключают случай. Законы природы — это формы не
знающей исключений, а, значит, неорганической необходимости. От¬
сюда понятно, почему математика как упорядочивание ставшего чис¬
лом неизменно относится лишь к законам и причинности, и только к
ним одним.
Становление «не имеет числа». Лишь неживое (а живое — лишь по¬
стольку, поскольку мы отвлекаемся от его живости) может быть посчи¬
тано, измерено, разложено. Чистое становление, жизнь не имеет в этот
смысле никаких границ. Оно находится по ту сторону сферы причины
и действия, закона и меры. Никакое глубокое и подлинное историче¬
ское исследование не отыскивает причинной закономерности; иначе
оно не постигло своего подлинного существа.
Обозреваемая история между тем вовсе не является чистым станов¬
лением; она есть образ, излучаемая из бодрствования наблюдателя ми¬
ровая форма, в которой становление господствует над ставшим. На со¬
держании ставшего, т. е. на изъяне основана возможность что-то изв¬
лечь из нее в научном смысле. И чем выше это содержание, тем
механистичнее, тем рассудочнее, тем каузальней является история
взгляду. Так и «живая природа» Гёте, эта всецело нематематическая
картина мира, все же располагала достаточным содержанием мертвого
124
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
и косного, чтобы он мог научно трактовать по крайней мере ее перед¬
ний план. Если это содержание очень сократится, она окажется почти
одним чистым становлением, а созерцание сделается переживанием,
допускающим лишь те или иные виды художественного изложения.
Тому, что в качестве судеб мира представлялось духовному взору Дан¬
те, он не смог бы придать научную форму, как не смог бы это сделать и
Гёте с тем, что открывалось ему в великие минуты его набросков «Фа¬
уста», и также Плотин и Джордано Бруно — со своими видениями, ко¬
торые не были результатом исследований. В этом и состоит главная
причина полемики о внутренней форме истории. Один и тот же пред¬
мет, один и тот же набор фактов создает у всякого наблюдателя в силу
его задатков всякий раз иное целостное впечатление, непостижимое и
невыразимое, которое лежит в основе его суждений и придает им лич¬
ностную окраску. Взгляду двух разных людей степень ставшести будет
открываться всякий раз по-разному, и это достаточное основание для
того, чтобы они никогда не могли сойтись в отношении задачи и мето¬
да. Всякий винит в этом недостаточную отчетливость мышления у дру¬
гого, и все-таки обозначаемое этим выражением нечто, над структурой
чего нет власти ни у кого, вовсе не представляет собой что-то худшее,
но всего лишь по необходимости иное. То же справедливо и в отноше¬
нии всего естествознания.
Однако следует запомнить раз и навсегда: в желании трактовать ис¬
торию научно всегда в конечном счете есть что-то противоречивое.
Подлинная наука простирается настолько, насколько сохраняют зна¬
чимость понятия истинного и ложного. Это верно в отношении мате¬
матики, и это также верно применительно к исторической преднауке
собирания, упорядочивания и пересмотра материала. Однако истори¬
ческий взгляд в подлинном смысле этого слова, который с этого только
и начинается, относится к области значений, где определяющими сло¬
вами являются не «истинное» и «ложное», но «поверхностное» и «глу¬
бокое». Настоящий физик никогда не бывает глубок, но может быть
«остроумен» («scharfsinnig»). Он может быть глубоким лишь тогда, ког¬
да покидает область рабочих гипотез и касается последних оснований,
однако тогда уже и он сделался метафизиком. Природу следует тракто¬
вать научно, историю надо воспевать. Кажется, старина Леопольд фон
Ранке сказал как-то, что «Квентин Дорвард» Вальтера Скотта все же по
сути представляет собой подлинное историческое сочинение. И верно:
преимущество хорошего исторического труда в том, что читатель в со¬
стоянии стать Вальтером Скоттом для самого себя.
Но, с другой стороны, там, где следовало бы господствовать царству
чисел и точного знания, Гёте называл «живой природой» именно то,
что было непосредственным созерцанием чистого становления и само-
формирования, а значит — историей в установленном здесь значении.
Его мир был прежде всего организмом, существом, и становится понят¬
но, что его исследования, даже когда они по наружности несут на себе
Глава вторая. Проблема всемирной истории 125
физикалистские черты, не ставили своей целью ни числа, ни законы,
ни запрятанную в формулы каузальность, и вообще никакого разложе¬
ния, что они скорее являются морфологией в высшем смысле, а потому
избегают специфически западного (и в высшей степени неантичного)
средства всякого каузального рассмотрения, а именно измеряющего
эксперимента, однако никогда не позволяют об этом пожалеть. На¬
блюдение Гёте поверхности Земли — это всегда геология, никогда не
минералогия (которую он называл наукой о мертвом).
Скажем еще раз: никакой четкой границы между тем и другим ви¬
дом постижения мира не существует. Насколько велика противопо¬
ложность того и другого, настолько же несомненно в каждом из этих
видов понимания присутствуют они оба. Историю переживает тот, кто
взирает на то и другое как на становящееся, как на самосовершенству¬
ющееся; природу познает тот, кто расчленяет то и другое как ставшее,
как усовершенствованное.
Во всяком человеке, всякой культуре, всякой культурной эпохе
имеется изначальная предрасположенность и предназначенность
предпочитать в качестве идеала миропонимания ту или другую из этих
форм. Западный человек имеет в высшей степени исторические задат¬
ки , у человека античности их было несравненно меньше. Мы просле¬
живаем все данное с учетом прошлого и будущего, античность же при¬
знавала в качестве сущего лишь точечное настоящее. Все прочее стано¬
вилось мифом. В каждом такте нашей музыки от Палестрины и до
Вагнера мы имеем перед собой еще и символ становления, греки же в
каждой своей статуе располагали образом чистого настоящего. Телес¬
ный ритм заключен в одновременном соотношении частей, ритм
фуги — во временнбм протекании.
3
Так принципы образа и закона выступают перед нами в качестве
двух основополагающих элементов всякого мирообразования. Чем ре¬
шительнее несет картина мира черты природы, тем безраздельнее вла¬
ствуют в ней закон и число. Чем с большей чистотой созерцается мир
как вечно становящийся, тем более отстраненной от числа оказывается
непостижимая полнота его формирования. «Образ — подвижное, ста¬
новящееся, преходящее. Учение об образе — это учение о превраще¬
нии. Учение о метаморфозе — вот ключ ко всем знакам природы», —
говорится в одной записи из Гётевского наследия32. Так различаются
Антиисторическое как выражение решительно систематической предрасположен¬
ности следует четко отличать от аисторического. Начало 4-й книги «Мира как воли и
представления» (§ 53 )31 весьма показательно для человека, который мыслит антиисто¬
рически, т. е. исходя из теоретических оснований подавляет и отбрасывает наличное в
себе самом историческое — в противоположность аисторической греческой натуре, ко¬
торая им не обладает и его не понимает.
126
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
уже своими методами склоняемая на каждом шагу «точная чувственная
фантазия»33 Гёте, предоставляющая живому воздействовать на себя,
его не касаясь*, и точные, умерщвляющие процедуры современной фи¬
зики. Прочие моменты, которые мы здесь неизменно находим, являют¬
ся в точном естествознании в обличье непременных теорий и гипотез,
наглядное содержание которых наполнено всем косно-числовым и
формульным и получает от него поддержку. В исторических же иссле¬
дованиях это хронология, т. е. та внутренне совершенно чуждая станов¬
лению и тем не менее никогда не воспринимаемая здесь в качестве чу¬
жеродной числовая сеть, которая в качестве каркаса дат или статисти¬
ки обволакивает и пронизывает исторический образный мир — при
том, что здесь и речи нет о математике. Хронологическое число обо¬
значает то, что действительно лишь однажды, математическое же —
постоянно возможное. Первое описывает образы и разрабатывает для
понимающего взгляда очертания эпох и фактов; оно служит истории.
Второе же само является законом, который должно установить, завер¬
шением и целью исследования. Хронологическое число как средство
преднауки заимствовано из науки в собственном смысле слова, из ма¬
тематики. Однако при его использовании на это его свойство закрыва¬
ют глаза. Необходимо вчувствоваться в отличие следующих символов:
12 х 8 = 96 и 18 октября 181335. Употребление чисел отличается здесь
точно так же, как отличается словоупотребление в прозе и поэзии.
Вот еще что необходимо здесь отметить. Поскольку становление
неизменно лежит в основе ставшего и история представляет собой упо¬
рядочение картины мира в смысле становления, то история — это пер¬
воначальная, а природа в смысле детально сконструированного миро¬
вого механизма — поздняя, по сути доступная лишь людям зрелых куль¬
тур форма мира. И правда, погруженный во мрак, прадушевный
окружающий мир** древнейшего человечества, о чем ныне свидетель¬
ствуют лишь его религиозные обычаи и мифы, тот насквозь органиче¬
ский мир, полный произвола, враждебных демонов и привередливых
сил, представляет собой от начала и до конца живое, непостижимое,
загадочно вздымающееся и непредсказуемое целое. Пускай его зовут
природой: все равно это не наша природа, не косное отражение всезна¬
ющего духа. Этот пра-мир, как отзвук давно исчезнувшего человечест¬
ва, порой еще дает о себе знать лишь в душе ребенка и у великих худож¬
ников — посреди строгой «природы», которую городской дух зрелых
культур с тиранической настойчивостью возводит вокруг каждого. В
этом причина обострившейся напряженности между научным («совре¬
менным») и художественным («непрактичным») мировоззрением, с
чем сталкивается всякое позднее время. Практику и поэту никогда друг
друга не понять. Здесь следует усматривать также и основание того, по¬
* «Существуют пра-феномены, которые нам не следует нарушать и калечить во всей
их божественной простоте» (Гёте)34.
** Ср. с. 724 сл.
Глава вторая. Проблема всемирной истории
127
чему любые стремящиеся к научности исторические изыскания, кото¬
рым следовало бы нести в себе что-то детское и сновидческое, нечто
гётеанское, оказываются подвержены опасности сделаться всего-на¬
всего физикой общественной жизни, «материалистическими», как бе¬
зотчетно называют они самих себя.
«Природа» в точном смысле — это более редкостный, ограничен¬
ный исключительно обитателями крупных городов, зрелый, а возмож¬
но, начинающий уже и дряхлеть способ обладания действительностью;
история же — способ наивный и юношеский, а кроме того, и более бес¬
сознательный, присущий всему человечеству в целом. По крайней мере
такой предстает размеренная числом, лишенная тайны, расчлененная
и подлежащая членению природа Аристотеля и Канта, софистов и дар¬
винистов, современной физики и химии — рядом с той пережитой,
безграничной, прочувствованной природой Гомера и «Эдды», дориче¬
ского и готического человека. Упускать это из вида — значит погре¬
шать против самой сути рассмотрения истории. Ведь история-то и есть
в полном смысле естественный аспект души по отношению к ее собст¬
венному миру, точная же, механически упорядоченная природа — ас¬
пект искусственный. Несмотря на это или же именно по этой причине
естествознание дается современному человеку легко, рассмотрение же
истории — весьма и весьма непросто.
Позывы в направлении механистического мышления о мире, которое
базировалось бы всецело на математическом ограничении, логическом
различении, на законе и причинности, дают о себе знать очень рано. С
ними приходится сталкиваться в первые столетия всех культур — пока что
со слабыми, разрозненными, тонущими в гуще религиозного мировоз¬
зрения. Здесь можно было бы назвать Роджера Бэкона. Уже вскоре эти
попытки принимают более строгий характер; как и все духовные завоева¬
ния, которым постоянно грозит опасность со стороны человеческой при¬
роды, они не испытывают недостатка в претензиях на господство и иск¬
лючительность. И вот уже незаметно царство пространственно-понятий¬
ного (ибо понятия по самой своей сути являются числами, имеющими
чисто количественные свойства) пронизывает внешний мир каждого че¬
ловека, порождает в простых впечатлениях чувственной жизни (а заодно с
ними и в их основах) механическую взаимосвязь каузального и количест¬
венно-узаконенного характера и в конце концов подчиняет бодрствую¬
щее сознание культурного человека больших городов (будь то в египет¬
ских Фивах или Вавилоне, в Бенаресе, Александрии или западноевропей¬
ских мировых столицах) столь неотступному принуждению со стороны
мышления, оперирующего законами природы, что предубеждение всей
философии и науки (а это несомненно предубеждение) почти не встречает
возражений, так что продолжает считаться, что это состояние и есть сам
человеческий дух, а его отражение, механическая картина окружающего
мира — это и есть сам мир. Логики вроде Аристотеля и Канта сделали это
воззрение господствующим, однако Платон и Гёте его опровергают.
4
Великая задача познания мира, становящаяся у людей высших ку¬
льтур потребностью, своего рода проникновение в собственное суще¬
ствование, обязанность к чему ощущается ими как перед самими со¬
бой, так и в отношении культуры, вне зависимости от того, будем ли
мы называть соответствующие процедуры наукой или философией,
будем ли с внутренней несомненностью воспринимать их родство с ху¬
дожественным творчеством и религиозной интуицией или его оспари¬
вать, — задача эта в любом случае несомненно остается одной и той же:
представить во всей чистоте предопределенный бодрствованию отдель¬
ного человека язык форм картины мира, который он, пока не сравнива¬
ет, неизбежно должен считать за сам мир.
Ввиду различия природы и истории эта задача должна быть двойст¬
венной. Та и другая говорят на своем собственном, отличающемся во
всех отношениях языке форм; в картине мира неопределенного харак¬
тера — как оно чаще всего и бывает в повседневной жизни — тот и дру¬
гой вполне могут накладываться друг на друга и искажаться, однако
никогда они не сливаются во внутреннее единство.
Направление и распространение — вот господствующие характери¬
стики, которыми различаются историческое и природное впечатление.
Человек вообще не в состоянии одновременно дать ход формирующе¬
му воздействию того и другого. У слова «даль» — красноречивый двой¬
ной смысл. В одном случае оно означает будущее, в другом — простран¬
ственное расстояние. Отметим, что исторический материалист почти
неизбежно воспринимает время как математическое измерение. Для
прирожденного художника (что доказывается лирикой всех народов),
напротив, даль пейзажа, облака, горизонт, садящееся солнце, — все это
оказывается впечатлениями, связывающимися сами собой с ощуще¬
нием чего-то будущего. Греческий поэт отрицает будущее, а следовате¬
льно, он ничего этого не видит и не воспевает. Поскольку он всецело
принадлежит настоящему, он всецело принадлежит также и близи. Ес¬
тествоиспытатель, творческий рассудочный человек в собственном
смысле этого слова, будь то экспериментатор, как Фарадей, теоретик,
как Галилей, или математик, как Ньютон, сталкивается в своем мире
лишь с лишенными направления количествами, которые он меряет,
поверяет и упорядочивает. Исключительно количественное подлежит
ухватыванию числами, определено каузально, может быть сделано до¬
ступно в понятийном смысле и сформулировано в виде закона. Тем са¬
мым возможности всякого чистого познания природы оказываются
исчерпанными. Все законы представляют собой количественные зави¬
симости или, как сказал бы физик, все физические процессы протека¬
ют в пространстве. Античный же физик, исходя из античного, отрица¬
ющего пространство мироощущения, выразил бы то же самое — не ме¬
Глава вторая. Проблема всемирной истории 129
няя существа факта — в том смысле, что все процессы «протекают
между телами».
Всякая количественность чужда историческим впечатлениям. У
них иной орган. У мира как природы и мира как истории — свои собст¬
венные виды постижения. Мы знаем их и ежедневно ими пользуемся,
хотя их противоположности до сих пор не сознавали. Бывает познание
природы и знание людей. Бывает научный опыт и опыт жизненный. Сле¬
дует проследить эту противоположность до самых последний основа-
них, чтобы понять, что я имею в виду.
Все разновидности постижения мира следовало бы в конечном сче¬
те называть морфологией. Морфология механического и протяженного,
наука, открывающая и упорядочивающая законы природы и причинно-
следственные отношения, называется систематикой. Морфология орга¬
нического, истории и жизни, всего того, что несет в себе направление и
судьбу, называется физиономикой.
5
В предыдущем столетии систематический род воззрения на мир до¬
стиг на Западе своей высшей точки и оставил ее позади. Расцвет же
рода физиономического еще впереди. Через сотню лет все науки, всё
еще возможные на этой почве, сделаются фрагментами одной-единст-
венной колоссальной физиономики всего человеческого. Это-то и
означает «морфологию всемирной истории». Во всякой науке, как по ее
цели, так и по содержанию, человек исповедует самого себя. Научный
опыт — это духовное самопознание. С такой точки зрения также и ма¬
тематику следует трактовать как раздел физиономики. Намерения отде¬
льного математика в расчет здесь не принимаются. Ученый как тако¬
вой и его результаты как вклад в сумму знаний различны между собой.
Математик как человек, чья деятельность составляет часть его явле¬
ния, а знания и воззрения образуют часть его выражения, — вот един¬
ственное, что имеет здесь значение, причем именно в качестве органа
культуры. Через него она вещает о себе. Открывая, познавая, форми¬
руя, он принадлежит к ее физиономии, — как личность, как ум.
Всякая математика, которая в форме научной системы или, как в
случае Египта, в архитектурной форме зримо для всех являет прирож¬
денное ее бодрствованию число, является исповеданием души. Наско¬
лько несомненно то, что ее намечавшиеся достижения принадлежат
исключительно к исторической поверхности, настолько же несомнен¬
но и то, что ее бессознательное, как само число и стиль ее развития до
здания завершенного мира форм, образовано выражением бытия, кро¬
ви. История ее жизни, ее расцвет и увядание, ее глубинная связь с изоб¬
разительными искусствами, с мифами и культами той же культуры, —
5 Закат Западного мира
130
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
все это образует морфологию иного, исторического рода, которую
пока что мало кто рассматривал в качестве реальной.
В соответствии с этим открывающийся взору передний план всей
истории имеет то же самое значение, что и такие внешние проявления
отдельного человека, как его стать, выражение, походка, не язык, но
выговор, не написанное, но почерк. Для знатока людей все это налицо.
Тело со всеми его особенностями, ограниченное, ставшее, прошлое —
это выражение души. Однако быть знатоком людей — это значит раз¬
бираться также и в тех человеческих организмах большого стиля, кото¬
рые я называю культурами, понимать их выражение лица, их язык, их
действия точно так же, как понимают всех их у отдельного человека.
Описательная, формирующая физиономика — это перенесенное в
область духовного искусство портрета. Дон Кихот, Вертер, Жюльен Со-
рель — все это портреты эпохи. Фауст представляет собой портрет целой
культуры. Естествоиспытателю, морфологу в качестве систематика
портрет мира известен лишь со своей подражательной стороны. Совер¬
шенно то же самое означают «верность натуре», «сходство» для малю¬
ющего ремесленника, который приступает к работе, вообще говоря,
чисто математически. Однако подлинный портрет в стиле Рембрандта —
это физиономика, т. е. запечатленная в одном мгновении история. Ряд
его автопортретов представляет собой не что иное, как автобиографию в
подлинно гётеанском смысле этого слова. Так и следовало бы писать
биографию великой культуры. Подражательная составляющая, работа
профессионального историка с датами и числами — это всего лишь
средство, но не цель. К чертам на лике истории принадлежит все, что до¬
ныне расценивалось исключительно в соответствии с персональными
мерками, в зависимости от пользы или вреда, добра или зла, одобрения
или неодобрения — как формы государственного устройства, так и эко¬
номики, как сражения, так и искусства, как науки, так и боги, как мате¬
матика, так и мораль. Вообще все ставшее, все являющееся представля¬
ет собой символ, выражение души. Все это нуждается во взгляде знатока
людей, а не в придании формы закона, значение всего этого должно
быть прочувствовано. И вот уже исследование приходит к окончатель¬
ной и высшей несомненности: все преходящее — только подобье36.
В познании природы человека можно натаскать, знатоком истории
следует родиться. Он разом пронизывает людей и факты до самых глу¬
бин, с помощью чутья, которому никто не учит и которое свободно от
всякого целенаправленного воздействия, достаточно редко проявляясь
в высшей своей форме. Разлагать, определять, классифицировать, раз¬
граничивать по причинам и следствиям можно всякий раз, когда забла¬
горассудится. Это просто работа; второе же — творчество. У образа и за¬
кона, сравнения и понятия, символа и формулы совершенно разные ор¬
ганы. В этой противоположности сказывается все то же отношение
жизни и смерти, порождения и разрушения. Рассудок, система, понятие
«познавая» — умерщвляют. Они превращают познанное в косный пред-
Глава вторая. Проблема всемирной истории
131
мет, который допустимо измерять и членить. Созерцание одухотворяет.
Оно включает единичное в живое, внутренне прочувствованное единст¬
во. Стихотворство и историческое исследование сродни друг другу, как
и математика с познанием. Однако, как сказал однажды Геббель, «сис¬
темы не приходят как озарения, произведения же искусства не рассчи¬
тываются или, что то же самое, не измышляются»37. Художник, подлин¬
ный историк созерцает, как возникает нечто. В чертах созерцаемого он
еще раз переживает становление. Систематик, будь то физик, логик,
дарвинист или пиши он прагматическую историю, узнаёт то, что уже
возникло. Душа художника, как и душа культуры, представляет собой
нечто, желающее осуществиться, нечто полное и завершенное или, при¬
бегая к языку старинной философии, микрокосм. Систематический, от¬
влеченный от чувственного, т. е. «абс-трактный»38, дух, представляет со¬
бой позднее, узкое и преходящее явление и принадлежит к наиболее
зрелым состояниям культуры. Он связан с городами, в которых все в бо¬
льшей и большей степени сосредоточивается его жизнь, он возникает
вместе с ними и с ними же исчезает вновь. Античная наука существовала
лишь начиная с ионийцев VI в. и до римской эпохи. Античные художни¬
ки появлялись на свет, пока существовала сама античность. Прояснить
это снова поможет схема:
[Душа
Существование
Бодрствование
Картина мира
реализация —
—>
(жизнь)
становление —
—>
направление
органическое
символ, картина
V
история
такт, образ
физиономика
факты
Мир
действительность
ставшее
протяжение
механическое
число, понятие
природа
напряжение, закон
систематика
истины
Если мы попытаемся уяснить принцип единства, исходя из которо¬
го происходит постижение каждого из этих миров, то окажется, что ма¬
тематически упорядоченное познание, причем тем решительнее, чем
оно чище, всецело связано с неизменно наличным. Картина природы,
как наблюдает ее физик — это именно та, которая развивается в дан¬
ный момент перед его чувствами. К по большей части опускаемым, од¬
нако тем более неколебимым предпосылкам всякого естествознания
принадлежит то, что природа «как таковая» — всегда одна и та же для
всякого бодрствования и во все времена. Поставленный эксперимент
решает дело раз и навсегда. Время не отрицается, но в рамках данной
установки не принимается в расчет. Однако действительная история
132
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
основана на столь же несомненном ощущении противоположного. В
качестве своего органа история предполагает некую с трудом поддаю¬
щуюся описанию разновидность внутренней чувственности, впечатле¬
ния которой пребывают в безостановочном изменении, а значит, вооб¬
ще не могут быть обобщены в какой-то определенный момент. (О мни¬
мом «времени» физиков у нас еще будет речь). Картина истории, будь
то история человечества, органического мира, Земли или системы не¬
подвижных звезд, — это картина памяти. Память мыслится здесь как
высшее состояние, присущее далеко не всякому бодрствованию, мно¬
гим же свойственное лишь в незначительной степени, совершенно
определенный вид силы воображения, позволяющий пережить еди¬
ничный миг sub specie aetemitatis [с точки зрения вечности (лат.)], в по¬
стоянном соотнесении со всем прошлым и будущим; это предпосылка
всякой обращенной назад созерцательности, самопознания и самоис-
поведания. В этом смысле у античного человека вообще не было памя¬
ти, а значит, не было и истории — ни в самом себе, ни вокруг него. «Об
истории может судить лишь тот, кто пережил историю самолично»
(Гёте)39. В античном миросознании все прошедшее тут же высасыва¬
лось ежеминутным. Сравните в высшей степени «историчные» лица
скульптур в Наумбургском соборе, на портретах Дюрера и Рембрандта
с лицами греческих статуй, хотя бы широко известного портрета Со¬
фокла. Первые рассказывают целую историю души, черты других стро¬
го ограничиваются выражением сиюсекундного существования. Они
хранят молчание обо всем, что, в ходе жизни, привело к этому сущест¬
вованию, ведь у всякого подлинно античного человека (который всегда
закончен и никогда не становится) об этом не могло быть и речи.
6
Теперь мы в состоянии разыскать последние элементы историческо¬
го мира форм. Бесчисленные образы, появляющиеся и исчезающие в
бесконечной полноте, образы, выделяющиеся и расплывающиеся
вновь, мерцающая тысячами цветов и огней мешанина якобы безгра¬
нично свободной случайности — вот что представляет собой поначалу
картина всемирной истории, когда она как единое целое представляется
внутреннему глазу. Однако взгляд, проникающий в самую суть, выделя¬
ет в этом произволе чистые формы, которые лежат в основе всего чело¬
веческого становления: они укутаны толстым покровом и лишь с неохо¬
той дают его с себя совлечь.
Из картины всего мирового становления в целом с его мощно гро¬
моздящимися друг за другом горизонтами, как охватывает их фаус¬
товский взор*, становления звездного неба, земной поверхности, жи-
* Ср. с. 493 сл.
Глава вторая. Проблема всемирной истории
133
вых существ, человека мы рассматриваем ныне лишь чрезвычайно ма¬
лую морфологическую единицу «всемирной истории» в обычном
смысле слова, т. е. весьма мало ценившейся поздним Гёте40 истории
высшего человечества, которая охватывает в настоящий момент
ок. 6000 лет, без того, чтобы вникнуть в глубинную проблему внутрен¬
него сходства всех этих моментов. Что придает смысл и содержание
этому мимолетному миру форм, лежавшему доныне глубоко погребен¬
ным под едва проницаемой массой очевидных «дат» и «фактов», так это
феномен великих культур. Лишь после того, как эти праформы будут уз¬
рены, прочувствованы, разработаны, можно будет счесть, что нами по¬
няты сущность и внутренняя форма человеческой истории — в проти¬
воположность сущности природы. Лишь после такого взгляда вглубь и
вдаль можно будет всерьез заговаривать о философии истории. Лишь
тогда сделается возможным постичь всякий факт в исторической кар¬
тине, всякую идею, всякое искусство, всякую войну, всякую личность,
всякую эпоху в их символическом содержании, видя в самой истории
уже не простую, лишенную какого-либо порядка и внутренней необхо¬
димости совокупность всего прошлого, но усматривая в ней строжай¬
шим образом упорядоченный организм с осмысленным членением, в
развитии которого случайное настоящее наблюдателя не знаменует
никакого принимаемого в расчет отрезка, а будущее больше не пред¬
стает бесформенным и не поддающимся определению.
Культуры — организмы . Всемирная история — общая их биография.
Колоссальная история китайской или античной культуры оказывается —
в плане морфологическом — верным подобием малой истории отдельно¬
го человека, животного, отдельного дерева или цветка. Для фаустовского
взгляда это — вовсе никакое не пожелание, а реальный опыт. Если кто же¬
лает ознакомиться с встречающейся повсюду внутренней формой, то со¬
ответствующий метод давно уже подготовлен сравнительной морфоло¬
гией растений и животных* **. Судьбами единичных сменяющих друг дру¬
га, вырастающих одна за другой, взаимно соприкасающихся, затеняющих
одна другую и друг друга подавляющих культур исчерпывается содержа¬
ние всей человеческой истории. Если же попытаться мысленно просле¬
дить их образы, которые были до сих пор слишком глубоко погребены под
наружной поверхностью тривиально протекающей «истории человечест¬
ва», нам удастся отыскать свободный от всего замутняющего и малозна¬
чительного пра-образ культуры как таковощ который как идеал формы
лежит в основании всякой единичной культуры.
Я различаю идею культуры, как олицетворение ее внутренних воз¬
можностей, от ее чувственного явления в картине истории как уже про¬
изошедшего осуществления. Это есть отношение души к живому телу,
ее выражению посреди светового мира наших глаз. История культу-
* Ср. с. 500.
**
Это не препарирующий зоологический «прагматизм» дарвинистов с их охотой за
причинно-следственными связями, но созерцающая и озирающая морфология Гёте.
134
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
ры — это последовательное осуществление того, что для нее возможно.
Завершение — все равно что конец. Так соотносится аполлоническая
душа, которую немногие из нас, быть может, в состоянии понять и
прочувствовать, со своим раскрытием в действительности, с «антично¬
стью», доступные взору и рассудку остатки которой исследуют архео¬
лог, филолог, эстетик и историк.
Культура — пра-феномен всей прошлой и будущей всемирной исто¬
рии. Глубокая и слабо оцененная идея Гёте, открытая им в его «живой
природе», идея, которую он неизменно клал в основу собственных мор¬
фологических исследований, должна быть здесь в наиболее буквальном
смысле применена ко всем полностью вызревшим, иссохшим в самом
цвету, полуразвитым, погибшим в зародыше образованиям человече¬
ской истории. Это метод вчувствования, а не препарирования. «Высшее,
чего в состоянии достичь человек, это изумление, и если пра-феномен
приводит его в изумление, то пусть он этим и удовлетворится; высшего,
чем это, ему не может быть дано, а чего-то следующего за этим ему ис¬
кать не следует: здесь проходит рубеж»41. Пра-феномен — это то, в чем
идея становления являет себя взору во всей чистоте. В образе всякого
единичного, случайно возникшего или вообще лишь возможного расте¬
ния Гёте отчетливо видел перед своим духовным взором идею пра-рас-
тения. В своих исследованиях os intermaxillare2 он исходил из пра-фено-
мена позвоночного животного, в другой области — из геологической стра¬
тификации, из листка как пра-формы всех растительных органов, из
метаморфоза растений как пра-образа всего органического становле¬
ния. «Тот же самый закон можно будет применить также и ко всему жи¬
вому вообще», — писал он из Неаполя Гердеру43, сообщая о своем от¬
крытии. Этот взгляд на вещи был бы понятен Лейбницу, однако столе¬
тию Дарвина он оказался как нельзя более чуждым.
Впрочем, рассмотрения истории, которое было бы вполне свободно
от методов дарвинизма, т. е. систематического, основанного на при¬
чинно-следственных принципах естествознания, вообще еще не суще¬
ствует. Еще даже речи не заходило о строгой и ясной, вполне сознаю¬
щей свои средства и пределы физиономике, методы которой еще толь¬
ко предстоит отыскать. Вот великая задача на XX столетие: тщательно
вскрыть внутреннее строение органических единиц, в которых и через
которые осуществляется всемирная история, отделить морфологиче¬
ски необходимое и существенное от случайного, постичь выражение
событий и установить лежащий в его основе язык.
7
Необозримая масса человеческих существ, безбрежный поток, вы¬
ступающий из темного прошлого там, где наше ощущение времени те¬
ряет свою упорядочивающую действенность и беспокойная фанта-
Глава вторая. Проблема всемирной истории
135
зия — или страх — вколдовал в нас образ геологических периодов раз¬
вития Земли, чтобы скрыть за ним вечно неразрешимую загадку;
поток, теряющийся в столь же темном и безвременном будущем — вот
фон фаустовской картины человеческой истории. Единообразный
прибой бесчисленных поколений волнует широкий простор. Ширятся
блистающие полосы. Проносятся, танцуя, летучие огни; они морщат и
мутят ясное зеркало, меняются, вспыхивают и исчезают. Мы назвали
их родами, племенами, народами, расами. Они охватывают собой ряд
поколений на протяжении ограниченных кругов исторической повер¬
хности. Когда формирующая сила в них угасает, — а сила эта может
быть весьма различной, заранее предопределяющей весьма различную
длительность и пластичность этих образований, — угасают также и фи¬
зиономические, языковые, духовные особенности, и явление в целом
вновь рассыпается на хаос поколений. Арии, монголы, германцы, ке¬
льты, парфяне, франки, карфагеняне, берберы, банту — все это имена
весьма разнообразных образований данного порядка.
Однако по этой поверхности прочерчивают свои величественные
волновые круги великие культуры . Они внезапно появляются, рас¬
пространяются великолепными линиями, изглаживаются, исчезают, и
зеркало потока вновь оказывается заброшенным и спящим.
Культура появляется на свет в тот миг, когда великая душа пробуж¬
дается из состояния прадушевности вечно ребяческого человечества,
когда она выделяется — как образ из безббразного, как ограниченное и
преходящее из безграничного и пребывающего. Она процветает на
почве точно определенного ландшафта и — подобно растению — оста¬
ется привязанной к нему. Культура умирает тогда, когда эта душа осу¬
ществила все без остатка возможности в форме народов, языков, веро¬
учений, искусств, государств, наук, и тем самым снова возвращается в
прадушевное состояние. Однако ее живое существование, эта последо¬
вательность великих эпох, строгими контурами знаменующих посте¬
пенное завершение, представляет собой таящуюся в глубине, страст¬
ную борьбу за утверждение идеи, борьбу, которая идет как с силами ха¬
оса снаружи, так и с бессознательным (в котором злобно укрылись
первые) - внутри. Не только художник борется с сопротивлением ма¬
терии и с уничтожением идеи в самом себе. Всякая культура находится
в глубоко символическом и едва ли не мистическом отношении с про¬
тяженным, с пространством, в котором и посредством которого она
желает осуществиться. Если цель достигнута, если идея, вся полнота
внутренних возможностей осуществлена и наружно реализована, куль¬
тура внезапно каменеет, она умирает, ее кровь свертывается, а силы
оказываются подорванными — она делается цивилизацией. Вот что мы
ощущаем и понимаем под словами «египетский дух», «византийство»,
«мандаринский режим». В таком виде она, подобно засохшему лесно-
Ср. с. 491.
136
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
му дереву-великану, еще способна столетиями и тысячелетиями тянуть
к небу иссохшие сучья. Это знакомо нам по Китаю, по Индии, по ис¬
ламскому миру. Вот и античная цивилизация императорской эпохи,
якобы полная юношеских сил и полноты, высилась когда-то исполи¬
ном, лишая пространства и света юную арабскую культуру на Востоке*.
В этом и заключается идея закатов в истории — предстоящего вся¬
кой живой культуре внутреннего и внешнего завершения, исполнения
всего и вся, — самым отчетливым примером чего в основных своих
очертаниях является для нас «закат античности», между тем как мы
сами уже сегодня отчетливо ощущаем в себе и вокруг себя наиболее
ранние признаки своего собственного, совершенно аналогичного по
течению и длительности явления, к которому принадлежат первые сто¬
летия следующего тысячелетия, а именно «заката Запада»*.
Всякая культура проходит возрастные ступени отдельного челове¬
ка. У всякой — свои детство и юность, свои зрелость и старость. Юная,
оробелая, заряженная предчувствиями душа раскрывается в утренней
заре романского и готического стиля. Она наполняет фаустовский
ландшафт от Прованса трубадуров и до Хильдесхаймского собора епи¬
скопа Бернварда. Здесь веет весенним ветерком. «В творениях старин¬
ной немецкой архитектуры, — говорит Гёте, — нам открываются цветы
необычайного состояния. Тот, кто приходит вдруг в непосредственное
соприкосновение с такими цветами, способен лишь изумленно на них
взирать. Но тот, кто проник взором в потайную внутреннюю жизнь
растения, в брожение внутренних сил и в то, как постепенно развива¬
ется цветок, смотрит на все это другим взором, ему ведомо, что он ви¬
дит»44. Точно так же, весьма близкими речениями заявляет о себе дет¬
ство через раннегомеровский дорический стиль, через древнехристи¬
анское, т. е. раннеарабское, искусство, а также через творения
начинающегося с 4-й династии Древнего царства в Египте. Мифиче¬
ское миросознание борется здесь со всем темным и демоническим в са¬
мом себе и в природе как с некоей виной, чтобы постепенно созреть до
чистого и прозрачного выражения обретенного и постигнутого в конце
концов бытия. Чем ближе подходит культура к полуденной вершине
своего существования, тем более мужественным, четким, сдержан¬
ным, насыщенным становится ее наконец устоявшийся язык форм,
тем увереннее она ощущает собственные силы, тем больше проясня¬
ются ее черты. В раннюю эпоху все было еще неясным, спутанным,
ищущим, наполнено сразу и детским томлением, и страхом. Посмот¬
рим на орнаменты романско-готических церковных порталов Саксо¬
нии и Южной Франции. Припомним древнехристианские катако\^ы
J Ср. с. 647.
Ср. с. 538 слл. Это не катастрофа великого переселения народов, которая, как и
уничтожение культуры майя испанцами, была случайностью без какой-либо глубокой
необходимости, но происходящая начиная с Адриана (соответственно в Китае — начи¬
ная с восточной династии Хань, 25—220 гг.) внутренняя диссимиляция.
Глава вторая. Проблема всемирной истории 137
и вазы дипилонского стиля. Теперь, в полном сознании созревшей
формирующей силы, как показывают это эпохи Среднего царства, Пи-
систратидов, Юстиниана I, Контрреформации, всякая отдельная черта
выражения предстает взвешенной, строгой, отмеренной, для нее ха¬
рактерна поразительная легкость и естественность. Повсюду мы здесь
наталкиваемся на мгновения озаряющей завершенности, мгновения, в
которые возникли бюст Аменемхета III (гиксосский бюст из Таниса),
своды Св. Софии, полотна Тициана. Еще позже — нежные, едва не
ломкие, исполненные болезненной сладости последних октябрьских
дней — появляются Афродита Книдская и кариатиды Эрехтейона,
арабески на подковообразных арках сарацинов, Цвингер в Дрездене,
Ватто и Моцарт. Наконец, в старости занимающейся цивилизации ду¬
шевный огонь угасает. Убывающие силы отваживаются еще раз — с по¬
ловинным успехом — на великое творение в классицизме, не чуждом
ни одной угасающей культуре; душа еще раз меланхолично оглядыва¬
ется — в романтизме — на собственное детство. Наконец, уставшая,
раздосадованная и остывшая, она утрачивает способность испытывать
от существования удовольствие и мечтает — как в римскую император¬
скую эпоху — о том, чтобы после тысячелетнего света вновь погрузить¬
ся во тьму прадушевной мистики, в материнское лоно, в могилу. То
было очарование «второй религиозности» , как ее практиковали тогда
на позднеантичном человеке культы Митры, Исиды и Солнца — те же
самые культы, что наполняли совершенно новой задушевностью про¬
буждавшуюся как раз тогда душу на Востоке — в качестве наиболее
раннего, сновидческого, боязливого выражения ее затерянности в
этом мире.
8
Говоря о габитусе растения, мы подразумеваем присущую лишь ему
разновидность внешнего явления, характер, ход, длительность его
представания световому миру нашего зрения, то, чем каждое из них в
каждой своей части и на каждой ступени своего существования отлича¬
ется от растений всех прочих видов. Это важное для физиономики по¬
нятие я применяю к великим организмам истории и говорю о габитусе
индийской, египетской, античной культуры, истории или духовности.
Неопределенное ощущение этого неизменно лежало в основе понятия
стиля, и говоря о религиозном, научном, политическом, социальном,
экономическом стиле данной культуры, вообще о стиле души, мы лишь
проясняем это понятие и углубляем его. Этот габитус существования в
пространстве, распространяющийся в случае отдельного человека на
его поступки и мышление, его поведение и нрав, охватывает в сущест¬
Ср. с. 553 слл.
138
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
вовании целых культур все жизненное выражение высшего порядка,
как, например, выбор определенных жанров искусства (свободно стоя¬
щей скульптуры, фрески — греками, контрапункта, масляной живопи¬
си — на Западе) и решительное неприятие иных (скульптуры арабами),
склонность к эзотерике (Индия) или популярности (античность), к
речи (античность) или письму (Китай, Запад) как формам духовного
высказывания, типы костюмов, системы правления, транспортные
средства и манеры. Все выдающиеся люди античности образуют осо¬
бую группу, душевный габитус которой четко отличает их от всех вели¬
ких людей арабской или западной группы. Сравним хотя бы Гёте или
Рафаэля с античными людьми, и Гераклит, Софокл, Платон, Алкиви-
ад, Фемистокл, Гораций, Тиберий тут же объединятся в одно семейст¬
во. Всякая античная мировая столица, от Сиракуз Гиерона и до импе¬
раторского Рима, как олицетворение и символ одного и того же жизне¬
ощущения, глубоко отлична от групп индийских, арабских, западных
мировых столиц — своим планом, образом улиц, языком частной и об¬
щественной архитектуры, типом площадей, переулков, дворов, фаса¬
дов, цветовой гаммой, шумом, суматохой, самим духом своих ночей. В
завоеванной Гранаде еще долго чувствовалась душа арабских городов,
Багдада и Каира, между тем как в Мадриде Филиппа II уже можно было
встретить все физиономические особенности современных городских
картин Лондона и Парижа. Во всякой инаковости такого рода кроется
высокая символика: можно вспомнить о западном пристрастии к пря¬
молинейным видам и выставлению домов по красной линии, таким,
как мощные черты Елисейских Полей, если смотреть от Лувра, или
площадь собора Петра, и о противоположности этому, которая наблю¬
дается в почти что намеренной запутанности и узости Священной до¬
роги, Римского форума и Акрополя с их несимметричным и неперс¬
пективным расположением частей. Также и городская застройка по¬
вторяет, будь то на основе неясного побуждения, как в готике, или
сознательно, как это было со времен Александра и Наполеона, в одном
случае принцип лейбницевой математики бесконечного пространства,
в другом — отдельных эвклидовых тел .
Однако к габитусу группы организмов относится также и определен¬
ная продолжительность жизни и определенный темп развития. Эти по¬
нятия обязательно должны приниматься в расчет в учении о структуре"'
истории. Такт античного существования был иным, нежели существо¬
вания Египетского или арабского. Можно говорить об andante греко¬
римского и об allegro con brio фаустовского духа. С понятием продолжи¬
тельности жизни человека, бабочки, дуба, травинки оказывается свя¬
занной определенная величина, причем совершенно независимо от
всех случайностей единичной судьбы. Десять лет означают приблизи¬
тельно равнозначный отрезок в жизни всех людей, а метаморфоз насе-
* Ср. с. 554 слл.
Глава вторая. Проблема всемирной истории
139
комых в отдельных случаях занимает точно известное заранее число
дней. С понятиями pueritia, adolescentia, iuventus, virilitas, senectus [детст¬
во, юность, молодость, зрелость, старость (лат.)] римляне связывали
едва ли не математически выверенные представления. Биология буду¬
щего несомненно сделает предопределенную заранее продолжитель¬
ность жизни видов и родов отправным пунктом совершенно новой по¬
становки проблем — в противоположность дарвинизму и с принципи¬
альным исключением мотива целесообразности для возникновения
видов*. Продолжительность жизни одного поколения — неважно, ка¬
ких существ — представляет собой факт едва ли не мистического значе¬
ния. И вот эти отношения, о чем никто до сих пор не помышлял, ис¬
полнены значимости также и для высших культур. Всякая культура,
всякое раннее время, всякий подъем и упадок, всякая необходимая внут¬
ренне ступень или период имеют определенную, всегда одну и ту же, вечно
повторяющуюся с настойчивостью символа продолжительность. В на¬
стоящей книге пришлось отказаться от того, чтобы раскрыть этот мир
исполненных таинственности взаимосвязей, однако все новые и но¬
вые вспыхивающие по ходу дальнейшего факты укажут на то, что здесь
можно отыскать. Что означает бросающийся в глаза в каждой культуре
50-летний период в ритме политического, духовного, художественного
становления**? Что означают 300-летние периоды барокко, иониче¬
ского стиля, великих математик, аттической скульптуры, мозаики,
контрапункта, механики Галилея? Что означает идеальная продолжи¬
тельность жизни в тысячу лет для каждой культуры, если сопоставить
ее со случаем отдельного человека, чья «жизнь длится 70 лет»45?
Подобно тому как листья, цветы, ветви, плоды своими видом, уб¬
ранством и статью доводят до выражения бытие растения, так религи¬
озные, научные, политические, экономические образования исполня¬
ют то же самое в бытии культуры. Чем был, например, для индивидуа¬
льности Гёте ряд столь разноплановых проявлений, как «Фауст»,
учение о цвете, «Рейнеке-Лис», «Тассо», «Вертер», поездка в Италию,
любовь к Фридерике46, «Западно-восточный диван» и «Римские эле¬
гии», то же самое значили для индивидуальности античности персид¬
ские войны, аттическая трагедия, полис, дионисийство, так же как и
тирания, ионическая колонна, геометрия Эвклида, римский легион,
гладиаторские поединки и «рапет et circenses» [хлеба и зрелищ (лат.)]
императорской эпохи.
* Ср. с. 495 сл.
**
Обращу здесь внимание лишь на отстояние трех Пунических войн друг от дру¬
га и на ряд воспринимаемых столь же ритмически войн за Испанское наследство,
войн Фридриха Великого, Наполеона, Бисмарка и мировой войны. С этим же свя¬
зана и душевная связь деда и внука. Отсюда происходит убеждение примитивных
народов, что душа деда возвращается во внука, и распространенный обычай давать
внуку имя деда, которое своей мистической силой вновь увлекает ее в материаль¬
ный мир.
140
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
В этом-то смысле всякое сколько-нибудь значимое единичное суще¬
ство с глубочайшей необходимостью повторяет все эпохи той культуры,
к которой принадлежит. Внутренняя жизнь пробуждается (в тот самый
решительный миг, начиная с которого каждый знает, что он — это «я») в
каждом из нас там и тогда, как и когда пробудилась некогда душа целой
культуры. Каждый из нас, людей Запада, ребенком переживает еще
раз — в мечтаниях и детских играх — свою готику, свои соборы, рыцар¬
ские замки и героические сказания, переживает «Dieu к veut» [Того же¬
лает Бог (фр.)] Крестовых походов и душевное терзание юного Парсифа-
ля. У всякого молодого грека были своя гомеровская эпоха и свой Мара¬
фон. В Гётевом Вертере, этом образе юношеского кризиса, знакомого
всякому фаустовскому человеку, но неведомого ни одному из людей ан¬
тичности, еще раз оживает ранний период Петрарки и миннезингеров.
Когда Гёте писал своего «Прафауста», он был Парсифалем. Завершив
первую часть, он стал Гамлетом. Лишь со второй частью он сделался
светским человеком XIX в., понимавшим Байрона. Даже старость, эти
претенциозные и бесплодные столетия позднейшего эллинистического
периода, это «впадение в детство» усталой и пресыщенной интеллиген¬
ции, можно изучать не на одном великом старце античности. «Вакхай-
ки» Эврипида и платоновский «Тимей» во многом предвосхитили импе¬
раторскую эпоху: первые в смысле жизненного ощущения, второй же —
в части религиозного синкретизма. И Гётев Фауст из второй части, ваг¬
неровский Парсифаль заранее вещают нам о том, какой вид примет
наша душевность в предстоящие — последние продуктивные — столетия.
Гомологией органов в биологии называется их морфологическая рав¬
нозначность в противоположность аналогии, относящейся к равно¬
значности их функций. Это важное и столь плодотворное по своим
следствиям понятие было замышлено Гёте; следуя ему, он пришел к
открытию os intermaxillare у человека; Оуэн придал этому понятию
строго научную формулировку. Также и это понятие я ввожу в истори¬
ческий метод.
Известно, что всякой части человеческого черепа точно соответст¬
вует другая часть у любого другого позвоночного животного вплоть до
рыб, что грудные плавники у рыб и ноги, крылья, лапы наземных по¬
звоночных животных являются гомологичными органами, даже когда
они утратили хотя бы самое малейшее внешнее сходство. Гомологичны
легкие наземных животных и плавательный пузырь у рыб, аналогии
ны — по своему использованию — легкие и жабры . Здесь сказывается
Не будет излишним прибавить, что эти чистые феномены живой природы удалены
от всего каузального и что материализм должен был вначале исказить их картину, вне¬
ся в нее целесообразные причины, дабы получить систему, доступную пониманию за¬
урядного человека. Гёте, предвосхитивший в дарвинизме приблизительно то самое, что
уцелеет от него через пятьдесят лет, напрочь отвергает принцип каузальности. Отличи¬
тельной особенностью действительной жизни, лишенной причин и целей, является то,
что дарвинисты вообще не заметили отсутствие здесь этого принципа. Понятие пра-
феномена не допускает вообще никаких каузальных предположений, в противном слу¬
чае его просто неверно, механистически поняли.
Глава вторая. Проблема всемирной истории 141
углубленный, приобретенный строжайшим натаскиванием взгляда
морфологический дар, абсолютно чуждый нынешним историческим
исследованиям с их поверхностными сравнениями Христа с Буддой,
Галилея с Архимедом, Валленштейна с Цезарем, карликовости немец¬
ких государств — с карликовостью греческих. По ходу настоящей кни¬
ги будет все больше проясняться, какие колоссальные перспективы от¬
крываются также и перед историческим взглядом, стоит только данно¬
му строгому методу быть понятым и разработанным еще и в рамках
рассмотрения истории. Гомологичными образованиями оказываются,
чтобы назвать здесь лишь немногие, античная скульптура и западная
инструментальная музыка, пирамиды 4-й династии и готические собо¬
ры, индийский буддизм и римский стоицизм (буддизм и христианство
даже не аналогичны), эпоха «сражающихся государств» в Китае, гиксо-
сов и Пунических войн, эпоха Перикла и Омейядов, эпохи Ригведы,
Плотина и Данте. Гомологичны дионисийское движение и Возрожде¬
ние, но то же дионисийское движение и Реформация — аналогичны.
Для нас — Ницше правильно это почувствовал — «Вагнер подводит
итог современности». Следовательно, должно существовать нечто со¬
ответствующее также и в античном модерне: то было пергамское ис¬
кусство. (Данные в начале таблицы могут дать предварительное пред¬
ставление о плодотворности данного воззрения).
Из гомологии исторических явлений незамедлительно следует со¬
вершенно новое понятие. Я называю «одновременными» два разных
факта, которые, каждый в собственной культуре, происходят в точно
том же — относительном — состоянии и имеют в точности соответству¬
ющее значение. Было показано, что развитие античной и западной ма¬
тематики происходит в полной конгруэнтности. Так что здесь одновре¬
менными можно было бы назвать Пифагора и Декарта, Архита и Лапла¬
са, Архимеда и Гаусса. Одновременно имеет место возникновение
ионического стиля и барокко. Современниками оказываются Полигнот
и Рембрандт, Поликлет и Бах. В одно и то же время являются во всех
культурах Реформация, пуританство, но прежде всего поворот к циви¬
лизации. В античности эта эпоха носит имена Филиппа и Александра,
на Западе то же самое событие имеет место в образе революции и Напо¬
леона. Одновременно были построены Александрия, Багдад и Вашин¬
гтон*; одновременно являются на свет античная монета и наша двой¬
ная бухгалтерия, первая тирания и Фронда, Август и Цинь Шихуан,
Ганнибал и мировая война.
Я надеюсь доказать, что все без исключения великие творения и
формы религии, искусства, политики, общества, экономики, науки во
всех вообще культурах одновременно возникают, достигают завершения
и угасают; что внутренней структуре одной всецело соответствуют все
прочие; что в исторической картине одной культуры не существует ни
Ср. с. 560.
142
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
одного явления, имеющего глубокий физиономический смысл, пары
которому, причем в строго определенной форме и на вполне опреде¬
ленном месте, нельзя было бы отыскать в прочих. Разумеется, чтобы
постичь эту гомологию двух фактов, требуется совершенно иная углуб¬
ленность и независимость от того, что открывается взгляду на перед¬
нем плане, нежели те, которые были до сих пор приняты меж истори¬
ками, не смевшими даже и помыслить о том, что протестантизм имеет
свой точный аналог в дионисийском движении и что английский пури¬
танизм на Западе соответствует исламу в арабском мире.
На основе данного воззрения возникает возможность, далеко выхо¬
дящая за пределы самых тщеславных намерений всей прежней исто¬
риографии, ограничивавшейся лишь тем, чтобы систематизировать
прошлое постольку, поскольку оно известно, причем в соответствии с
одномерной схемой. Я говорю о возможности отказаться от настояще¬
го как рубежа исследований и заранее предопределить также еще и не
оставшиеся позади эпохи западной истории — по их внутренней фор¬
ме, длительности, темпу, значению и результату, а кроме этого еще и
реконструировать давно миновавшие без следа и неведомые эпохи, да
что там — целые культуры прошлого, прибегнув для этого к помощи
морфологических взаимосвязей (это процедура имеет много общего с
палеонтологией, способной ныне на то, чтобы по одному-единствен-
ному фрагменту черепа сделать далеко идущие и надежные заключе¬
ния относительно скелета и принадлежности данного экземпляра к
определенному виду).
Сделав допущение насчет физиономического такта, на основании
разрозненных подробностей орнаментики, строительных методов, пи¬
сьма, единичных фактов политического, экономического, религиозно¬
го характера вполне возможно заново отыскать органические фунда¬
ментальные черты исторической картины целых столетий: например,
по элементам художественного языка форм вычитать одновременную
им государственную форму, по формам математическим — соответству¬
ющие экономические формы. Это подлинно гётеанская, восходящая к
Гётевой идее о пра-феномене процедура, которая в ограниченных преде¬
лах употребляется в сравнительных зоологии и ботанике, однако ее в не¬
мыслимой прежде степени можно распространить также и на всю об¬
ласть истории.
II. Идея судьбы и принцип каузальности
9
Данным ходом рассуждений завершается наконец рассмотрение
противоположности, представляющей собой разгадку одной из наибо¬
лее древних и значимых проблем человечества, которая только благо¬
Глава вторая. Проблема всемирной истории
143
даря ему делается доступной и представляется — насколько это вообще
имеет смысл — разрешимой. Я говорю о противоположности идеи судь¬
бы и причинно-следственного принципа, которая до сих пор никем не
была познана как таковая, в своей глубинной, мирообразующей необ¬
ходимости.
Тот, кому вообще понятно, в какой степени душу можно назвать
идеей бытия, догадается и о том, до какой степени близка ей несомнен¬
ность судьбы и насколько саму жизнь, названную мной образом, в ко¬
тором происходит осуществление возможностей, следует признать за
направленную, за непреложную в каждой своей черточке, за судьбонос¬
ную. Прачеловек признает это смутно и боязливо, человек же высших
культур — отчетливо и в форме мировоззрения, которое, впрочем, может
быть сообщено лишь средствами религии и искусства, но не через по¬
нятия и доказательства.
Всякий высший язык располагает некоторым числом слов, окру¬
женных глубокой тайной: участь, рок, случай, удел, предопределение.
Никакая гипотеза, никакая наука не в состоянии даже прикоснуться к
тому, что ощущает человек, погружающийся в смысл и звучание этих
слов. Это символы, а не понятия. Здесь находится центр тяжести кар¬
тины мира, которую я назвал миром как историей в отличие от мира
как природы. Идея судьбы требует жизненного, а не научного опыта,
зрячести, а не расчета, глубины, а не ума. Существует органическая ло¬
гика, инстинктивная, сновидчески-несомненная логика всего бытия в
противоположность логике неорганического, понимания, всего понято¬
го. Существует логика направления в противоположность логике про¬
тяженного. Ни один систематик — ни Аристотель, ни Кант — не знали,
к чему ее приткнуть. Они в состоянии говорить о суждении, восприя¬
тии, внимании, воспоминании, однако хранят молчание о том, что за¬
ключают в себе слова «надежда», «счастье», «отчаяние», «раскаяние»,
«преданность», «упорство». Тот, кто здесь, в живом, отыскивает при¬
чины и следствия и полагает при этом, что глубинная внутренняя уве¬
ренность относительно смысла жизни равнозначна фатализму и пре¬
допределению, вовсе не знает, о чем здесь идет речь, он уже спутал пе¬
реживание с познанным и познаваемым. Каузальность — это
рассудочное, закономерное, выразимое, короче, характерная особен¬
ность всего нашего понимающего бодрствования. Судьба — слово для
не подлежащей описанию внутренней достоверности. Сущность кау¬
зального проясняется с помощью физической или гносеологической
системы, посредством чисел, понятийного расчленения. Идею судьбы
можно высказать лишь художнику — посредством портрета, трагедии,
музыки. Первое требует различения, а значит разрушения, вторая же
творчество от начала и до конца. Отсюда связь судьбы с жизнью, а кау¬
зальности — со смертью.
В идее судьбы открывается мировое томление души, ее устремлен¬
ность к свету, к взлету, к свершению и реализации своего предназначе¬
144 Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
ния. Никому она не чужда, и лишь поздний, лишенный корней чело¬
век, обитатель больших городов со своим чутьем на факты и преобла¬
данием механизирующего мышления над первоначальным
созерцанием теряет ее из виду, пока в один прекрасный час она не воз¬
никает перед ним вновь с чудовищной, перемалывающей всякую кау¬
зальность поверхностной оболочки мира отчетливостью. Ибо мир как
система причинно-следственных взаимосвязей представляет собой
позднее, редкостное — и до некоторой степени искусственное — до¬
стояние, безраздельно принадлежащее лишь энергичному интеллекту
высших культур. Каузальность совпадает с понятием закона. Сущест¬
вуют лишь каузальные законы. Однако подобно тому, как по утвержде¬
нию Канта в каузальном заложена необходимость мыслящего бодрство¬
вания, базовая форма его связи с миром вещей, так и слова «судьба»,
«рок», «предопределение» обозначают неизбежную необходимость
жизни. Подлинная история заряжена судьбой, однако свободна от за¬
конов. Можно предчувствовать будущее, и существует взгляд, глубоко
проникающий в его тайны, однако вычислить его невозможно. Физио¬
номический такт, с помощью которого на человеческом лице можно
вычитать целую жизнь, на картине эпохи — гибель народов, причем со¬
вершенно непринужденно и без «системы», остается бесконечно дале¬
ким от всяких «причин» и «следствий».
Всякий, кто постигает световой мир своего зрения не физиономи-
чески, но систематически, духовно присваивает его посредством кау¬
зальных опытов, в конце концов неизбежно начнет полагать, что пони¬
мает все живое под углом зрения причины и следствия — без тайн, без
внутренней направленности. Но кто, подобно Гёте, подобно любому
человеку в подавляющем большинстве мгновений своей бодрствую¬
щей жизни предоставляет окружающему миру воздействовать исклю¬
чительно на свои чувства и затем смиряется с совокупностью этого впе¬
чатления, тот ощущает ставшее как становящееся и срывает с мира за¬
каменевшую личину каузальности, поскольку однажды не раз¬
думывает. Так вот, для него время внезапно больше не будет загадкой,
не будет понятием, «формой», не будет измерением, а будет чем-то
внутренне несомненным, самой судьбой. Направленность времени,
его необратимость, его живость предстают тогда смыслом историче¬
ского воззрения на мир. Судьба и причинность относятся друг к другу*
как время и пространство.
Итак, в обоих возможных миропостроениях, в истории и природе, в
физиономии всего становления и в системе всего ставшего, господствуют
судьба или причинность. Разница между ними — это разница жизне-
ощущёния и способа познания. Каждое является отправной точкой со¬
вершенного и замкнутого в себе самом, но не единственного мира.
Однако в основе ставшего лежит становление, а тем самым в основе
познания причины и следствия — внутреннее и несомненное ощущение
судьбы. Каузальность — это, если можно так выразиться, ставшая, ли-
Глава вторая. Проблема всемирной истории 145
шейная органического, закосневшая в формах рассудка судьба. Сама
судьба, которую молча обходили стороной все строители рассудочных
мировых систем, например Кант, поскольку со своими оторванными от
жизни фундаментальными понятиями они не могли прикоснуться к
жизни, стоит по другую сторону и вне всякой постигаемой природы.
Однако в качестве изначальной только она и дает мертвому и косному
причинно-следственному принципу живую — в историческом смыс¬
ле — возможность выступить в пределах высокоразвитых культур в ка¬
честве формы и законоположения тиранического мышления. Бытие
античной души является условием для возникновения метода Демокри¬
та, бытие же души фаустовской — для возникновения метода Ньютона.
Вполне можно полагать, что та и другая культура могли бы остаться и
без естествознания собственного стиля, однако та и другая система не¬
мыслимы без фона обеих этих культур.
Мы снова узнаём здесь, в каком смысле становление и ставшее, на¬
правление и распространение включают друг друга и друг д^угу подчи¬
нены в зависимости от того, какую «наводку на резкость»47 избрали —
«историческую» или же «естественно-научную». Если история — это
такой вид мироустройства, в котором все ставшее включено в станов¬
ление, это должно было бы происходить также и с результатами естест¬
вознания. И в самом деле, на взгляд историка существует лишь одна ис¬
тория физики. То была судьба, что открытие кислорода, Нептуна, силы
тяготения, спектрального анализа имело место именно так и тогда. То
была судьба, что теория флогистона, волновая теория света, кинетиче¬
ская газовая теория вообще возникли в качестве истолкования опреде¬
ленных данных, а именно как в наивысшей степени индивидуальное
убеждение отдельных умов, хотя вполне могли возникнуть и другие те¬
ории, неважно, «истинные» или «ложные». И то, что данное воззрение
исчезло без следа, а другое ориентировало всю картину мира физики в
определенном направлении, опять-таки было судьбой и результатом
впечатления от сильной личности. Даже прирожденный физик гово¬
рит о судьбе некой проблемы и об истории определенного открытия. И
наоборот: если «природа» является той оправой, которая желала бы
рассудочно включить становление в ставшее, т. е. живое направле¬
ние — в косное протяжение, история и в самом деле должна была бы в
лучшем случае явиться в одной из глав теории познания, и Кант на са¬
мом деле так бы ее и рассматривал, когда бьь— что еще более показате¬
льно — в своей системе познания вообще бы напрочь ее не позабыл.
Для него, как и для всякого прирожденного систематика, природа и
была миром. Когда он рассуждал о времени, не замечая его направления
и необратимости, он выдавал тем самым, что говорит о природе, не по¬
мышляя даже о возможности иного — исторического — мира, который
для него, быть может, в самом деле был чем-то немыслимым.
Однако каузальность не имеет с временем ничего общего. В наши дни в
мире, населенном кантианцами, которые даже не знают, до какой сте¬
146
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
пени они ими являются, это выглядит как неслыханный парадокс.
Между тем во всякой формуле западной физики «как» по самой своей
сущности отличается от «когда» и «как долго». Каузальная взаимосвязь
ограничивается, стоит лишь нам начать проникать в глубину, исклю¬
чительно тем, что нечто происходит, но не когда это происходит. «Дей¬
ствие» по необходимости должно быть обусловлено «причиной». Их
отстояние друг от друга принадлежит к иному порядку. Оно заложено в
самом понимании, как одной из черт жизни, но не в понятом. В суще¬
стве протяженного содержится преодоление направленности. Про¬
странство противоречит времени, хотя время, как нечто более глубин¬
ное, ему предшествует и лежит в его основе. На то же самое превосход¬
ство претендует и судьба. Сначала у нас есть идея судьбы и лишь в
противоречие ей — из страха, в качестве попытки бодрствования за¬
клясть и преодолеть в пределах чувственного мира неминуемый конец,
смерть — на свет является причинно-следственный принцип, посред¬
ством которого животный страх пытается защититься от судьбы — тем,
что наперекор ей основывает иной мир. Распространяя по его поверхно¬
сти плетение причин и следствий, он создает убедительную картину
вневременной длительности, бытие, облаченное во весь пафос чистого
мышления. Данная тенденция содержится в ощущении: «Знание —
сила», ощущении, которое хорошо знакомом всем зрелым культурам.
При этом подразумевается сила власти над судьбой. Абстрактный уче¬
ный, естествоиспытатель, мыслитель системами, все духовное сущест¬
вование которого основано на принципе причинности, представляет
собой позднее явление бессознательной ненависти к власти судьбы,
власти всего непостижимого. «Чистый разум» отрицает все возможно¬
сти вне себя самого. Тут имеет место извечная борьба строгого мышле¬
ния с великим искусством. Одно протестует и борется, другое уступает.
Такой человек, как Кант, всегда будет ощущать над Бетховеном пре¬
восходство, все равно как взрослый над ребенком, однако это не поме¬
шает Бетховену отвергнуть «Критику чистого разума» как весьма убо¬
гую попытку воззрения на мир. Ложное представление телеологии, эта
высшая нелепость посреди чистой науки, представляет собой не что
иное, как попытку все живое содержание ориентированного на приро¬
ду познания (ибо к познанию принадлежит также и познающий, и если
содержание этого мышления — «природа», то акт мышления — исто- ^
рия), а с ним и саму жизнь — посредством механического принципа —
приравнять к перевернутой каузальности. Телеология — это карикату¬
ра на идею судьбы. То, что Данте ощущает в качестве предопределения,
ученый превращает в цель жизни. Такова характерная и наиболее глу¬
бинная тенденция дарвинизма, интеллектуально-городского миропо¬
нимания в рамках наиболее абстрактной из всех цивилизаций, а также
произросшего из одного корня с ним, также умерщвляющего все жи¬
вое и заряженное судьбой материалистического понимания истории.
Поэтому морфологический элемент каузального — это принцип, соот¬
Глава вторая. Проблема всемирной истории 147
ветствующий же элемент судьбы — идея, которая не позволяет себя
«познавать», описывать, определять, а исключительно ощущается и
переживается внутренне. Один ни за что и никогда этой идеи не по¬
стигнет, другой же всецело в ней уверен, подобно раннему человеку, а
среди поздних — все по-настоящему значительные люди: верующий,
влюбленный, художник, поэт.
Итак, судьба предстает собственным способом существования пра-
феномена, в котором живая идея становления непосредственно рас¬
крывается перед зрителем. Так вот и господствует идея судьбы над всей
картиной мира истории, между тем как вся каузальность, которая
представляет собой способ существования предметов и преобразует
мир восприятия в хорошо различаемые и отграниченные друг от друга
предметы, свойства, отношения, как форма понимания этого alter ego
мира первого, властвует над миром как природой и пронизывает его.
10
Лишь на основании пра-чувства томления и его прояснения в идее
судьбы оказывается теперь возможно подойти к проблеме времени, со¬
держание которой следует вкратце описать, поскольку тема книги ее
затрагивает. Под словом время неизменно подразумевается нечто в вы¬
сшей степени личное, что изначально обозначалось как свое, так как
оно с внутренней несомненностью воспринималось как противопо¬
ложное чему-то чужому, пробивающемуся к единичному существу в
форме впечатлений чувственной жизни, под их оболочкой и одновре¬
менно с ними. Свое, судьба и время — это все синонимы.
Проблема времени, как и проблема судьбы, трактовалась с совер¬
шенным непониманием в первую очередь мыслителями, ограничива¬
ющимися систематизацией всего ставшего. В знаменитой теории Кан¬
та вообще ни слова не говорится о такой особенности времени, как на¬
правленность. Отсутствие высказываний на этот счет ни у кого не
вызвало даже сожаления. Но что это такое: время как отрезок, время
без направления? Все живое обладает — здесь возможно только повто¬
риться — «жизнью», направлением, стремлением, волей, глубочайшим
образом связанной с томлением подвижностью, ничего общего не име¬
ющей с «движением» физика. Живое неделимо и необратимо, одно¬
кратно, не может быть повторено и совершенно неопределимо в своем
ходе механическими средствами: все это принадлежит сущности судь¬
бы. А «время» — то, что по-настоящему ощущается в звучании слова,
что музыка способна объяснить лучше, чем слова, а поэзия лучше про¬
зы — имеет в отличие от мертвого пространства эту органическую сущ¬
ностную черту. Однако тем самым исчезает и та возможность, в суще¬
ствование которой верили Кант и все прочие, а именно что время уда¬
стся подвергнуть гносеологическому рассмотрению наряду с
148
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
пространством и подобно ему. Пространство — это понятие. Время —
слово, предназначенное для того, чтобы намекнуть на нечто непости¬
жимое, звуковой символ, которого совершенно не понимают, когда
также пытаются его научно трактовать в качестве понятия. Даже слово
«направление», которое невозможно заменить ничем, способно сбить
с толку своим оптическим содержанием. Доказательством тому служит
понятие вектора в физике.
Слово «время» ровно ничего не означает для первобытного челове¬
ка. Он живет, не ощущая нужды в чем-то себе противоположном.
Время у него имеется, однако он о том совершенно ничего не ведает.
Все мы сознаем наяву лишь пространство, но не время. Пространство
«налицо», т. е. оно присутствует в нашем чувственном мире и дано че¬
рез него. При этом следует отметить, что, поскольку мы живем естест¬
венной жизнью: грезя, инстинктивно, приглядываясь, «умудренно», —
оно дано нам как некое самораспространение нас самих, в мгновения
же напряженного внимания — как пространство в строгом смысле это¬
го слова. Напротив того, «время» — это открытие, которое мы можем
совершить только мысля; мы порождаем его в качестве представления
или понятия, и лишь куда позднее догадываемся о том, что это мы
сами, поскольку живем, являемся временем . Только под механизирую¬
щим впечатлением «природы», исходя из сознания строгой упорядо¬
ченности всего пространственного, измеримого, понятийного, миро¬
понимание высших культур намечает некий пространственный образ,
призрак времени**, который должен удовлетворить их потребности все
постигнуть, измерить и каузально упорядочить. И этот позыв, прояв¬
ляющийся в каждой культуре очень рано, знак утраченной невинности
бытия, создает по другую сторону подлинного ощущения жизни то, что
все культурные языки называют временем и что становится для город¬
ского духа совершенно неорганической, столь же сбивающей с толку,
сколь расхожей величиной. Однако если тождественные черты протя¬
жения, границы и каузальности означают заклятие и покорение чуж¬
дых сил собственной душевностью (Гёте говорил как-то о «принципе
рассудочного порядка, который мы несем в самих себе и который же¬
лали бы напечатлеть, как знак своей власти, на всем, чего касаемся»48),
если всякий закон является оковами, которые мировой страх налагает
на напирающее чувственное, глубинной самообороной жизни, то кон- ~
цепция сознаваемого времени как пространственного представления
внутри этой взаимосвязи оказывается поздним актом этой самооборо¬
ны, попыткой заклясть мучительную внутреннюю загадку (вдвойне
мучительную для достигшего господства рассудка) посредством содер-
Также и чувственная жизнь, и жизнь духовная — это время; лишь чувственное и
духовное переживание, мир, имеет пространственный характер. (Относительно боль¬
шей близости женского начала и времени ср. с. 785 слл.).
Немецкое слово временное пространство (и соответствующие слова многих других
языков) — знак того, что мы способны мыслить направление лишь как протяжение.
Глава вторая. Проблема всемирной истории
149
жащейся в понятии силы. Когда что-либо загоняют в область меры и
закона, в мир соответствующих форм, в таком духовном процессе при¬
сутствует некая утонченная ненависть. Живое умерщвляют посредст¬
вом включения в пространство, которое безжизненно и делает безжиз¬
ненным. С рождением задана смерть, с завершением — конец. В жен¬
щине, когда она зачинает, что-то умирает, и отсюда — вечная,
рожденная из мирового страха взаимная ненависть полов. Зачиная,
мужчина уничтожает что-то в глубинном смысле: посредством телес¬
ного зачатия — в мире чувственном, посредством «познания» — в мире
духовном. Еще у Лютера в познании содержится побочное значение за¬
чатия49. Через знание о жизни, которое остается чуждо животным, зна¬
ние о смерти вырастает в такую силу, которая господствует во всем че¬
ловеческом бодрствовании. Через картину времени действительное
стало преходящим*.
Уже одно только создание имени «время» было беспримерным осво¬
бождением. Назвать что-либо по имени значит приобрести над ним
власть: это важнейшая часть пра-человеческого колдовства. Называя
злые силы по имени, человек покоряет их. Человек ослабляет или уби¬
вает своего врага, проделывая с его именем определенные магические
процедуры**. Нечто от этого наиболее раннего выражения мирового
страха сохранилось в стремлении всей систематической философии
разделаться с неуловимым, с чересчур могущественным для ума — если
не получалось по-другому — посредством понятия, посредством про¬
стого именования. Мы называем нечто «абсолютом» и уже чувствуем
свое над ним превосходство. «Философия», любовь к мудрости, пред¬
ставляет собой, в глубиннейшем своем основании, защиту от непости¬
жимого. Все, что названо, постигнуто, измерено, — преодолено, закос¬
нело, сделалось «табу»***. Скажем это еще раз: «Знание — сила». В
этом — одно из коренных различий между идеалистическим и реали¬
стическим мировоззрением. Оно соответствует двойному значению
слова «робкий» (scheu). Одни происходят из робкого благоговения,
другие — из отвращения (Abscheu) к недоступному. Одни созерцают,
другие желают покорить, механизировать, обезвредить. Платон и Гёте
смиренно покоряются тайне, Аристотель и Кант желают ее обнажить и
уничтожить. Глубочайшим примером этого подспудного смысла вся¬
кого реализма является проблема времени. То жуткое, что содержится
во времени, — сама жизнь — должно быть здесь заклято и снято поня¬
тийной магией.
Все, что было высказано о времени в «научной» философии, психо¬
логии и физике, — мнимый ответ на вопрос, который и ставить-то не
следовало, а именно что «есть» время, — никогда не затрагивает самой
тайны, а лишь пространственно сформированный, замещающий при-
* Ср. с. 482 сл.
**
Ср. с. 42 сл.
*** Ср. с. 510.
150
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
зрак, в котором живость направления, ее судьбоносная черта, подме¬
няется образом отрезка (сколь бы ни был он перенесен внутрь челове¬
ка) — механическим, измеримым, делимым и обратимым отображени¬
ем того, что на самом деле отображать не следует; это время, которое
может быть математически представлено через такие выражения, как
Vt, t2, — t, которые по крайней мере не исключают допущения времени
величиной в нуль или отрицательных его величин*. Нет сомнения в
том, что область жизни, судьбы, живого, исторического времени вооб¬
ще не принимается здесь в расчет. Речь идет об отвлеченной, даже изо¬
лированной от чувственной жизни системе обозначений. Попробуйте
в каком-либо философском или физическом тексте заменить слово
«время» словом «судьба» — и вы тут же почувствуете, в какие дебри за¬
брело понимание, отделенное языком от восприятия, и до какой степе¬
ни невозможна связка «пространство и время». Все, что не переживает¬
ся и не ощущается, что лишь мыслится, неизбежно принимает про¬
странственные свойства. Этим-то и объясняется, почему ни оди^
философ-систематик ничего не смог поделать с этими окутанными
тайной, манящими вдаль звучными символами: «прошлое» и «буду¬
щее». В Кантовых рассуждениях насчет времени они вообще не встре¬
чаются. Да и не видно, в каком отношении могли бы они находиться к
тому, о чем здесь идет речь. Но только это и делает возможным привес¬
ти «пространство и время» как величины одного порядка к функциона¬
льной зависимости друг от друга, как это особенно явственно обнару¬
живает четырехмерный векторный анализ *. Уже Лагранж ничтоже
сумняшеся назвал (в 1813 г.) механику четырехмерной геометрией, и
даже осторожное введенное Ньютоном понятие tempus absolutum sive
duratio [абсолютное время или длительность (лат.)] не удерживается от
этого логически неизбежного превращения живого в простое протяже¬
ние. Лишь в старинной философии отыскал я одно-единственное глу¬
бокое и благоговейное обозначение времени. Принадлежит оно Авгу¬
стину (Conf. XI, 14): Si пето ex те quaerat, scio; si quaerenti explicare velim,
nescio [Пока у меня никто про него не спрашивает, знаю, что оно такое;
а как соберусь объяснить спросившему — знать перестаю (лат.)].
Когда современные западные философы (а так поступают они все)
высказываются в том смысле, что вещи пребывают «во времени», как в
пространстве, и «вне» него ничто не может «мыслиться», они всего-на^
всего, наряду с обыкновенной пространственностью, вводят другую ее
разновидность. Это все равно, как если бы кто-то пожелал сказать, что
во Вселенной действуют две силы: надежда и электричество. Когда
* Теория относительности, эта рабочая гипотеза, которая намеревается ниспроверг¬
нуть механику Ньютона (в сущности говоря, ее понимание проблемы движения), допус¬
кает случаи, когда обозначения «раньше» и «позже» меняются местами; в математиче¬
ском обосновании этой теории Минковским для целей измерения применяются мни¬
мые единицы времени.
Измерениями являются х, у, z и /, предстающие в ходе преобразований совершен¬
но равнозначными.
Глава вторая. Проблема всемирной истории
151
Кант рассуждал об «обеих формах» созерцания, от него не должно было
ускользнуть то обстоятельство, что мы способны спокойно-научно
объясняться друг с другом относительно пространства (пускай даже не
объясняя его в обычном смысле слова, что лежит за пределами доступ¬
ного науке), между тем как рассмотрение в том же стиле времени абсо¬
лютно немыслимо. Читатель «Критики чистого разума» и «Пролего-
мен» отметит, что между тем как Кант тщательно доказывает взаимо¬
связь пространства и геометрии, он старательно уклоняется от того,
чтобы проделать то же самое в отношении времени и арифметики.
Здесь все так и остается при голом утверждении, и постоянно повторя¬
емая аналогия замазывает брешь, незаполнимостъ которой должна
была бы открыть несостоятельность его схемы. В отличие от «где» и
«как», «когда» формирует себе особый мир: вот что отличает метафизи¬
ку от физики. Пространство, предмет, число, понятие, причинность
так близко связаны друг с другом, что невозможно, как доказывают это
бесчисленные неудачные системы, исследовать одно независимо от
другого. Механика является отображением существующей на данный
момент логики, и наоборот. Описываемая психологией картина мыш¬
ления представляет собой точный слепок пространственного мира, ко¬
торый рассматривает современная ему физика. Понятия и вещи, при¬
чины и следствия, выводы и процессы настолько совпадают друг с дру¬
гом в представлении, что как раз-таки абстрактные мыслители вновь и
вновь не могли устоять перед искушением представить мыслительный
«процесс» в непосредственной графической и табличной форме (мож¬
но вспомнить о Кантовой и Аристотелевой таблицах категорий). Где
нет схемы, там нет и философии — вот потаенный предрассудок всех
записных систематиков в отличие от «созерцателей», которых, как им
кажется, они внутренне намного превосходят. Поэтому Кант в раздра¬
жении и назвал стиль платонического мышления «искусством про¬
странной болтовни»50, и потому же официальная философия до сих
пор хранит молчание насчет философии Гёте. Всякая логическая опе¬
рация может быть вычерчена. Всякая система — это геометрический
способ управляться с мыслями. Поэтому времени не находится места в
«системе» либо оно становится жертвой ее метода.
Тем самым оказывается опровергнутым то недоразумение, которое
заключается в поверхностном соотнесении времени с арифметикой,
геометрии — с пространством: заблуждение, в которое не следовало бы
впадать Канту, пускай даже от Шопенгауэрова непонимания матема¬
тики вряд ли можно было ожидать чего-то другого. Поскольку живой
акт счета некоторым образом соотносится с временем, число то и дело
путали с временем. Однако счет — это никакое не число, как не являет¬
ся чертежом черчение. Счет и черчение — это становление, числа же и
фигуры — ставшее. Кант и прочие рассматривали в одном случае жи¬
вой акт (число), в другом же — его результат (отношения уже готовых
фигур). Но одно принадлежит к сфере жизни и времени, другое же — к
152
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
сфере протяжения и причинности. То, что я считаю, подвластно орга¬
нической логике, то же, что я считаю, — логике неорганической. Вся
целиком математика, именуемая в народе арифметикой и геометрией,
отвечает на как и что, т. е. на вопросы о естественном порядке вещей.
Противоположностью этому является вопрос о когда вещей, специфи¬
чески исторический вопрос, вопрос о судьбе, о будущем и прошлом.
Все это заключается в словах исчисление времени, совершенно недвус¬
мысленно понимаемых простыми людьми.
Никакой противоположности между арифметикой и геометрией
нет*. Любая разновидность числа (что должна была в достаточной мере
доказать первая глава) всецело принадлежит области протяженного и
ставшего, будь то Эвклидова величина, будь то аналитическая функ¬
ция. А к какой из двух областей отнести циклометрические функции,
теорему о биноме, римановы поверхности, теорию групп? Схема Канта
была опровергнута Эйлером и Д’Аламбером еще до того, как он выска¬
зал ее, и лишь незнакомство философов, следовавших за ним, с мате¬
матикой своего времени (что резко отличает их от Декарта, Паскаля и
Лейбница, которые сами создавали математику своего времени на
основании глубин собственной философии) могло привести к тому,
что дилетантские воззрения на связь, существующую между временем
и арифметикой, почти не встречая возражений, продолжали передава¬
ться из рук в руки и дальше. Однако становление никак не соприкаса¬
ется с какой бы то ни было областью математики. Не смогло удержать
своих позиций даже имевшее глубокое обоснование убеждение Нью¬
тона, в котором скрывался незаурядный философ, что с принципом
своего дифференциального исчисления (или исчисления флуксий) он
непосредственно подошел к разрешению проблемы становления, а
значит проблемы времени (причем в куда более утонченной формули¬
ровке, нежели Кантова) — пускай даже такое воззрение находит себе
приверженцев по сегодняшний день. Решающую роль в возникнове¬
нии учения Ньютона о флуксиях сыграла метафизическая проблема
движения. Однако с тех пор, как Вейерштрасс доказал, что существуют
непрерывные функции, которые могут дифференцироваться лишь ча¬
стично или вообще дифференцированию не подлежат, на этой глубо¬
чайшей из всех когда-либо предпринимавшихся попытке подойти к
проблеме времени математически поставлен крест.
11
Время — понятие, противоположное пространству, подобно тому, как
в противоположность мышлению первым делом является не факт жиз¬
ни, но ее понятие, а в противоположность смерти — не факт, а понятие
* Кроме как в элементарной математике, под впечатлением которой, впрочем, под¬
ходит к этим вопросам большинство философов начиная с Шопенгауэра.
Глава вторая. Проблема всемирной истории
153
возникновения, порождения*. Это имеет глубинное обоснование в
сущности всякого бодрствования. Подобно тому как всякое чувствен¬
ное впечатление оказывается замеченным лишь тогда, когда оно вы¬
звано кем-либо другим, так и любой вид понимания как специфически
критической деятельности** возможен лишь вследствие оформления
какого-то нового понятия, противовеса понятию уже существовавше¬
му, или в результате обретения реального существования парой поня¬
тий, заряженных внутренней противоположностью — так сказать,
вследствие их размежевания. Не подлежит сомнению то, о чем догады¬
вались уже давно, а именно что все пра-слова, неважно, обозначают ли
они вещи или свойства, возникали попарно. Однако и позднее, и в
наши дни всякое новое слово обретает собственное содержание в каче¬
стве отблеска другого слова. Руководимое языком понимание, неспо¬
собное включить в собственный мир форм внутреннюю достоверность
судьбы, создало на основе пространства, в качестве его противополож¬
ности — «время». В противном случае у нас бы не было ни слова, ни его
содержания. Между тем данный способ оформления идет настолько
далеко, что исходя из античного стиля протяжения возникло специфи¬
чески античное понятие времени, настолько же отличное от индийско¬
го, китайского и западного, насколько это имело место в случае про¬
странства.
Вопрос относительно области значимости причинно-следственных
взаимосвязей внутри картины природы или, что отныне то же самое,
относительно судеб этой картины природы, становится, однако, куда
более затруднительным, когда мы приходим к тому воззрению, что для
изначальных людей и для ребенка полностью упорядоченного в кауза¬
льном смысле окружающего мира вовсе еще не существует, и что мы,
поздние люди, чье мышление пребывает под давлением превосходя¬
щего, отточенного языком мышления, даже в мгновения наиболее на¬
пряженного внимания (единственные, в которые мы находимся «в фо¬
кусе»51 в строго физическом смысле слова) можем в лучшем случае
утверждать, что этот каузальный порядок содержится в окружающей
нас действительности также и вне этих мгновений. Бодрствуя, мы фи-
зиономически принимаем это действительное, «ткань Бога живую»52, —
непроизвольно и на основе глубинного, достигающего до источников
жизни опыта. Систематические характеристики представляют собой
выражение выделившегося из нынешнего восприятия понимания, и с их
помощью мы подчиняем картину представлений всех отдаленных от
нас времен и людей сиюминутной картине упорядоченной нами сами¬
ми природы. Способ же этого упорядочивания (у не^о имеется собст¬
венная история, на которую мы не можем повлиять даже в самой наи-
малейшей степени) — это не результат действия причины, но судьба.
* Ср. с. 480-483.
** Ср. с. 482.
154
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
На этом же основании и понятие художественной формы (также
«противопонятие») возникает лишь тогда, когда мы осознаем «содер¬
жание» произведений искусства, т. е. когда выразительный язык ис¬
кусства в совокупности своих воздействий перестает восприниматься в
качестве чего-то вполне естественного и само собой разумеющегося,
как это несомненно еще продолжалось во времена строителей пира¬
мид, микенских крепостей и раннеготических соборов. Мы в одноча¬
сье начинаем замечать то, как происходит возникновение произведе¬
ний искусства. Лишь теперь для понимающего глаза происходит разде¬
ление каузальной и судьбоносной стороны всякого живого искусства.
Во всяком произведении, раскрывающем цельного человека, цель¬
ный смысл бытия, страх и томление тесно прилегают друг к другу, одна¬
ко не смешиваются. К страху, к каузальной стороне принадлежит вся
«табу-сторона» искусства: его сокровищница мотивов, как они разра¬
батываются в строгих школах в ходе долгой ремесленной муштры, как
они заботливо сохраняются и без искажений передаются из рук в руки,
все понятийное, выучиваемое, сообразное числу, вся логика в цвете, ли¬
нии, звуке, строении, порядке, т. е. «родной язык» всякого дельного
мастера и всякой великой эпохи. Другая же сторона, противостоящая
как направленное — протяженному, как развитие и судьба искусства —
основаниям и следствиям в пределах его языка форм, выступает в каче¬
стве «гения», а именно в форме всецело личностной формирующей
силы, творческой страсти, глубины и полноты отдельного художни¬
ка — в отличие от всякого простого владения формой, и еще сверх это¬
го в преизобилии расы, которое обусловливает как взлет, так и падение
целых искусств. Эта «тотемная сторона» приводит к тому, что всей эс¬
тетике вопреки не существует какого-то вневременного и единственно
истинного рода художества, но есть история искусства, которой, как и
вообще всему живому, присуща черта необратимости*.
Архитектура большого стиля, которая единственная из всех ис¬
кусств имеет дело с самим чуждым и внушающим страх, с непосредст¬
венно протяженным, с камнем, является по этой причине само собой
разумеющимся ранним искусством всех культур, наиболее математич-
ным из всех, которое лишь постепенно, шаг за шагом уступает свое
первенство городским обособившимся искусствам статуи, картины,
музыкальной композиции с их более светскими формальными средст¬
вами. Микеланджело, меж всех великих художников Запада тяжелее
всех страдавший под постоянным кошмарным бременем мирового
страна, именно по этой причине — единственный из всех мастеров
Возрождения — так никогда и не освободился от архитектонического
элемента. Он и красками-то писал так, словно цветовые поверхности
были камнем, ставшим, косным, ненавистным. Манера его работы
была ожесточенной борьбой с враждебными силами космоса, которые
Ср. т. 2, гл. 2, раздел 7.
Глава вторая. Проблема всемирной истории
155
противостояли ему в форме материала, между тем как цвета томящего¬
ся Леонардо воздействуют на нас как добровольное овеществление ду¬
шевного элемента. Однако во всякой проблеме великого зодчества на¬
ходит выражение неумолимая каузальная логика, даже математика,
будь то в ордерах античных колонн — эвклидово соотношение опоры и
нагрузки, или в «аналитически» замысленной системе контрфорсов го¬
тических сводов — динамическое соотношение силы и массы. Традиция
строительных лож, существовавшая здесь и там, без которой немысли¬
ма также и египетская архитектура (традиция эта развивается во вся¬
кую раннюю эпоху и в позднее время, как правило, оказывается утра¬
ченной), полностью содержит всю совокупность этой логики протя¬
женности. Однако символика направления, судьбы пребывает вне
всякой «техники» великих искусств и вряд ли вообще доступна для
формальной эстетики. Она содержится, к примеру, в неизменно ощу¬
щавшемся, однако так и никогда — ни Лессингом, ни Геббелем — не
проясненном отчетливо противоречии античного и западного трагиз¬
ма, в последовательности сцен древнеегипетских рельефов, вообще в
линейном выстраивании египетских статуй, сфинксов, храмовых поме¬
щений. Та же символика — не в способе обработки, ьо в отборе мате¬
риала от твердейшего диорита до податливейшее дерева, что ведет к
утверждению или отрицанию будущего; она не г формальном языке,
но в появлении и исчезновении отдельных: искусств в победе арабесок
над изобразительным искусством раннехристианского времени, в от¬
ступлении масляной живописи барокко перед камерной музыкой, в
совершенно разных целях, ставившихся перед египетским, китайским
и античным ваянием. Все это принадлежит к сфере необходимости, а
не возможности, и потому ключи к проблеме времени (которая вряд ли
может быть разрешена на почве одной лишь истории) даются нам не ма¬
тематикой и отвлеченным мышлением, но великими искусствами как
ближайшими родичами одновременной им религии.
12
Из того значения, которое было здесь придано культуре как пра-фе-
номену и судьбе — как органической логике бытия, следует, что всякая
культура неизбежно должна обладать своей собственной идеей судьбы,
причем этот вывод содержится уже в самом ощущении, что всякая ве¬
ликая культура является не чем иным, как осуществлением и образом
одной-единственной, неповторимой судьбы. То, что мы зовем роком,
случаем, Провидением, судьбой, что человек античности называл Не-
месидой, Ананкой, Тихэ, Фатумом, что арабы называют «кисмат»53, а
все прочие народы называют каждый по-своему, что никто не может
вполне прочувствовать у другого человека, жизнь которого является
выражением как раз-таки его собственной идеи, и что не поддается да¬
156
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
льнейшему словесному описанию, представляет собой именно эту од¬
нократную, никогда более не повторяющуюся конфигурацию души,
которую каждый вполне отчетливо сознает у себя самого.
Я отваживаюсь на то, чтобы назвать античную формулировку идеи
судьбы эвклидовской. В самом деле, то, что гнала и чем помыкала судьба
Эдипа, была его чувственно-данная личность, его «эмпирическое я»,
более того — его ст/ха [тело (греч.)]. Эдип жалуется, что Креонт нанес
вред его телу , что оракул напророчествовал его телу”. А Эсхил в «Хоэ-
форах» (704) говорит об Агамемноне как о «флотоводящем царском
теле». Это все то же самое слово ст/ха, которое математики неоднократ¬
но использовали применительно к своим телам. Судьба же короля
Лира, судьба аналитическая (напомним также и здесь о соответствую¬
щем числовом мире), всецело покоится во тьме внутренних отноше¬
ний: на поверхность выходит идея отцовства; душевные нити — бесте¬
лесные, потусторонние — выпрядаются по драме и получают своеоб¬
разное освещение со стороны второй, контрапунктно разработанной
трагедии в доме Глостера. Лир — это в конце концов просто имя, центр
чего-то не имеющего границ. Такая трактовка судьбы является «инфи¬
нитезимальной», распространяющейся в бесконечном пространстве
через не имеющее конца время; она вовсе не касается телесного, Эвк¬
лидова бытия; она затрагивает лишь душу. Безумный король в окруже¬
нии юродивого и нищего в бурю на вересковой пустоши — вот проти¬
воположность группе Лаокоона. Вот фаустовская манера страдания в
противоположность аполлонической. Софокл написал также и драму о
Лаокооне. Нет сомнения в том, что там не было речи о чисто душевном
страдании. Антигона гибнет как тело, потому что она предала погребе¬
нию тело брата. Достаточно назвать имена Аякса и Филоктета, а ря¬
дом — принца Гомбургского54 и Гётева Тассо, чтобы ощутить различие
в величинах и отношениях вплоть до самых глубин художественного
творчества.
Тем самым мы подходим к иной взаимозависимости, исполненной
великой символики. Западную драму называют драмой характеров, и
по этой причине драму античную следовало бы называть драмой поло¬
жений. Этим подчеркивается, чтб именно воспринимали люди обеих
культур в качестве базовой формы собственной жизни, а тем самым
ставили под вопрос посредством трагики, судьбы. Стоит нам произне¬
сти слово «необратимость» применительно к направлению жизни, сто¬
ит погрузиться в чудовищный смысл слов «слишком поздно», посред¬
ством которых мимолетный отрезок настоящего достается вечному
прошлому, и мы ощущаем бездну этого трагического поворота. Вре¬
мя — это и есть трагическое, и отдельные культуры различаются по
ощущаемому ими смыслу времени. Поэтому и трагедия большого сти¬
ля получила развитие лишь в тех двух из них, которые наиболее страст-
* «Эдип-царь», 242, ср. Hirzel R., Die Person (1914), S. 9.
«Эдип в Колоне».
Глава вторая. Проблема всемирной истории
157
но отрицали или утверждали время. Перед нами античная трагедия
мгновения и трагедия западная — развития целых биографий. Так вос¬
принимают сами себя аисторическая и крайне историческая душа.
Наш трагизм возник из ощущения неумолимой логики становления. Грек
чувствовал алогичность, слепую случайность момента. Жизнь короля
Лира внутренне вызревает в направлении катастрофы; жизнь царя
Эдипа внезапно наталкивается на внешние обстоятельства. Теперь
становится понятно, почему одновременно с западной драмой расцве¬
ло и угасло могучее портретное искусство (его высшей точкой явился
Рембрандт), своего рода историческое и биографическое искусство,
которое именно по этой причине строжайше преследовалось в класси¬
ческой Греции во времена расцвета аттического театра. Можно в связи
с этим припомнить запрет посвящать в храм статуи, имеющие портрет¬
ное сходство, как и о том, что со времен Деметрия из Алопеки (ок. 400)
робкая разновидность идеализирующего портретного искусства возоб¬
ладала как раз тогда, когда легкие светские пьесы «средней комедии»
оттеснили великую трагедию на задний план. Вообще говоря, все гре¬
ческие статуи носят одну и ту же маску, подобно актеру в театре Диони¬
са. Все они выражают телесные позы и положения в наиболее строгой
форме из всех мыслимых. Физиономически все они немы, телесно все
по необходимости наги. Характерные бюсты отдельных конкретных
личностей, причем уже после жизни, создал только эллинизм. Нам же
это вновь напоминает об обоих соответствующих числовых мирах, в
одном из которых ставка делалась на достижение ощутимого результа¬
та, между тем как в другом проводится морфологическое исследование
характера групп отношений функций, уравнений, вообще формальных
элементов одного порядка, и в качестве таковых они фиксируются по¬
средством закономерных выражений.
13
Способность переживать современную историю и тот способ, кото¬
рым она (но в первую очередь — собственное становление) проживает¬
ся, чрезвычайно различна от человека к человеку.
Всякая культура уже располагает в высшей степени индивидуаль¬
ным способом видеть мир в качестве природы и его познавать или, что
то же самое, у нее имеется ее собственная своеобразная природа, кото¬
рой в точно таком же виде не может обладать никакая иная разновид¬
ность людей. Однако в куда более значительной степени всякая культу¬
ра, а в ней, с различиями меньшего порядка — всякий отдельный чело¬
век, обладает своей собственной разновидностью истории, в картине
которой, в стиле которой он непосредственно созерцает, ощущает и
переживает всеобщее и личное, внутреннее и внешнее, всемирно-ис¬
торическое и биографическое становление. Так, пристрастие западно¬
158 Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
го человечества к автобиографии, какое настойчиво является на свет в
символе индивидуальной исповеди еще в эпоху готики , совершенно
чуждо античности. Крайняя осознанность истории Западной Европы
противостоит почти сновидческой бессознательности истории индий¬
ской. И что предстояло взору магических людей от первых христиан до
мыслителей ислама, когда они произносили слова «всемирная исто¬
рия»? Однако если чрезвычайно тяжело оказывается составить точное
представление даже о природе, о каузально упорядоченном окружаю¬
щем мире других людей (при том, что специфически познаваемое в нем
воссоединено в систему, доступную для передачи), полностью прони¬
зать силами собственной души картину становления, сформирован¬
ную душой всецело иного склада, уже совершенно невозможно. Здесь
мы всегда имеем дело с недоступным остатком, который тем больше,
чем более скудны собственное историческое чутье, физиономический
такт, собственное знание людей. Тем не менее решение этой задачи яв¬
ляется предпосылкой всего углубленного миропонимания. Историче¬
ский окружающий мир иных людей — это часть их существа, и никого
невозможно понять, если не знаешь его ощущения времени, его идеи
судьбы, стиля и степени сознательности его внутренней жизни. Так что
то, что невозможно здесь обнаружить непосредственно в форме при¬
знаний, нам следует заимствовать из символики внешней культуры.
Лишь так и становится доступным непостижимое, и это придает неиз¬
меримую ценность историческому стилю культуры и относящимся к
ней великим временным символам.
В качестве одного из этих вряд ли когда-либо понятых знаков мож¬
но назвать хотя бы часы, творение высокоразвитых культур, которое
делается тем таинственнее, чем больше о нем размышляешь. Античное
человечество умело обходиться без них, и не без умысла; еще много по¬
сле Августа оно оценивало время дня по длине тени, отбрасываемой
собственным телом* **, хотя солнечные и водяные часы постоянно испо¬
льзовались в обоих более древних мирах египетской и вавилонской
души в связи со строгим исчислением времени и глубоким взглядом на
прошлое и будущее***. Однако античное бытие — Эвклидово, безотно¬
сительное, точечное, всецело содержалось в настоящем моменте. Ни¬
что не должно было напоминать о прошлом и будущем. Археология
столь же чужда подлинно античной душе, как и ее душевное обращение,
астрология. Античные оракулы и сивиллы, как и этрусско-римские га-
руспики и авгуры, нисколько не желают узнавать отдаленное будущее,
а лишь дать указание в отношении единичного, непосредственно пред¬
* Ср. с. 751.
** Diels, Antike Technik (1920), S. 159.
Ученые круги в Аттике и Ионии примерно начиная с 400 г. сооружали безыскус¬
ные солнечные часы; наряду с этим начиная с Платона имеет место использование еще
более примитивной клепсидры, однако обе этих формы — подражание куда более со¬
вершенным образцам Древнего Востока, они нисколько не затрагивают античное жиз¬
неощущение; ср. Diels, S. 160 ff.
Глава вторая. Проблема всемирной истории
159
стоящего случая. Не было и никакого проникшего в повседневное со¬
знание летоисчисления, ибо счет по Олимпиадам был исключительно
литературным паллиативом. Речь не о том, хорош или плох календарь,
но о том, кем он употребляется, протекает ли по нему жизнь нации.
Ничто в античных городах не напоминает о длительности, о былом и о
грядущем: ни одной с благочестивой заботливостью сохраняемой руи¬
ны, никаких замышленных для еще нерожденных поколений творе¬
ний, никакого избранного со смыслом, несмотря на технические труд¬
ности, материала. Дорический грек оставил без внимания микенскую
технику камня и вновь строил из дерева и глины, несмотря на микен¬
ские и египетские образцы и несмотря на богатство собственного ланд¬
шафта в части лучших горных пород. Дорический стиль — это деревян¬
ный стиль. Еще во времена Павсания в храме Геры в Олимпии можно
было видеть последнюю еще не смененную деревянную колонну. В ан¬
тичной душе просто отсутствует собственный орган истории, память в
постоянно подразумеваемом здесь смысле, которая неизменно под¬
держивает в наличии картину личного, а за ним и национального, и
всемирно-исторического прошлого*, как и ход собственной и не толь¬
ко собственной внутренней жизни. Никакого времени не существует.
Для взирающего на историю прямо позади собственного настоящего
высится уже неупорядоченный во временнбм, а значит, и в историче¬
ском смысле фон, к которому для Фукидида относятся уже греко-пер¬
сидские войны, а для Тацита — уже гракховские смуты*, и то же самое
справедливо для истории великих римских родов, чья традиция была
не чем иным, как романом: можно вспомнить о цезареубийце Бруте и
его глубокой вере в собственных знаменитых предков. То, что Цезарь
реформировал календарь, следует воспринимать едва ли не как осво¬
бождение от античного жизнеощущения. Однако Цезарь помышлял
еще и о том, чтобы отказаться от Рима и превратить город-государство
в династическую, т. е. подчиненную символу длительности империю с
центром тяжести в Александрии, откуда и происходит его календарь.
Его убийство явилось последним протестом именно этого, враждебно¬
го длительности жизнеощущения, которое воплощается в полисе, в
Urbs Roma [город Рим (лат.)].
Всякий час, всякий день проживался тогда как самодостаточный.
Это справедливо как применительно к отдельным грекам и римлянам,
так и к городу, нации, культуре в целом. Исполненные мощи и горячей
крови пышные процессии, дворцовые оргии и цирковые схватки при
Для нас оно упорядочено христианским летоисчислением и схемой Древний
мир — Средневековье — Новое время; на этом основании со времени ранних дней го¬
тики получали развитие также картины религиозной истории и истории искусства, в
которых постоянно обитает большое число людей на Западе. Предполагать то же самое
для Платона или Фидия — при том, что это уже в высшей степени справедливо для ху¬
дожников Возрождения и постоянно господствует над их ценностными суждениями —
абсолютно невозможно.
Ср. т. 1, Введение, разд. 4.
160 Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Нероне и Калигуле (которые Тацит, как настоящий римлянин, только
и описывает, между тем как у него недостает ни зрячести, ни слов для
постепенного продвижения вперед в жизни обширного ландшафта
провинций) — вот последнее великолепное выражение этого эвкли-
довского мироощущения, обожествляющего тело, настоящее. Инду¬
сы, чья нирвана также выражена через отсутствие какого-либо исчис¬
ления времени, тоже не имели никаких часов, а значит, никакой исто¬
рии, никаких жизненных воспоминаний, никаких забот. То, что мы,
преимущественно исторически предрасположенные люди, называем
индийской историей, было осуществлено без малейшего самосозна¬
ния. Тысячелетие индийской культуры от вед и до Будды производят
на нас впечатление телодвижений спящего человека. Здесь жизнь на
самом деле была сном55. Нет на свете ничего более удаленного от этого
индусского духа, чем тысячелетие западной культуры. Никогда еще,
даже в «одновременном» Китае эпохи Чжоу с его высокоразвитым
ощущением периодов и эпох , человек не бывал пробужденнее, созна¬
тельнее; никогда время не ощущалось глубже и с полным сознанием
его направления и чреватой судьбой подвижности. История Западной
Европы — это судьба желанная, история индийская — судьба случайно
приключившаяся. В античном бытии никакой роли не играют годы, в
индийском — даже десятилетия едва ли значимы; для нас же важны
часы, минуты, наконец, секунды. Ни грек, ни индус не могли иметь
никакого представления о трагическом напряжении исторических
кризисов, когда гнетущее воздействие оказывает уже одно мгновение,
как в августовские дни 1914 г. Однако глубокие натуры на Западе спо¬
собны переживать такие кризисы также и внутри самих себя, подлин¬
ный же грек — никогда. Днем и ночью над нашим ландшафтом разно¬
сится бой часов с тысяч башен, который постоянно связывает будущее
с прошлым и растворяет летучий момент «античного настоящего» в ко¬
лоссальном отношении. Эпоха, знаменующая рождение этой культу¬
ры, время саксонских императоров, увидела также и изобретение ко¬
лесных часов . Западный человек вообще немыслим без скрупулез¬
нейшего измерения времени — хронологии происходящего, которая
полностью соответствует нашей колоссальной потребности в археоло¬
гии, т. е. в сохранении, раскапывании, собирании всего происшедше¬
го. Эпоха барокко довела готический символ башенных часов до уже
гротескного — часов карманных, которые постоянно сопровождают
каждого человека***.
Ср. с. 847 и слл.
Можно ли набраться смелости и высказать предположение о том, что «одновре¬
менно», т. е. на пороге 3-го тысячелетия дохристианской эры, возникли также и вави¬
лонские солнечные, и египетские водяные часы? Историю часов не следует отделять от
внутренне связанной с ними истории календаря, а потому изобретение и внедрение
процедур по измерению времени следует предположить также и для китайской и мек¬
сиканской культуры с их углубленным ощущением истории.
***
Надо представить себе ощущения грека, который узнал бы вдруг об этом обычае.
f/iaea вторая. Проблема всемирной истории
161
А рядом с символом часов высится еще один, столь же глубокий,
столь же непонятый и значимый — форм погребения, как их освятили
все великие культуры в культе и искусстве. В Индии большой стиль на¬
чинается с погребальных храмов, античный же большой стиль берет
начало с погребальных сосудов, египетский — с пирамид, древнехрис¬
тианский — с катакомб и саркофагов. В первобытную эпоху бесчислен¬
ные мыслимые формы хаотически встречаются друг подле друга, в за¬
висимости от племенных обычаев, внешней нужды или целесообраз¬
ности. Но всякая культура тотчас же поднимает один из них на
высочайший символический уровень. Античный человек избрал здесь
на основании глубочайшего, бессознательного жизнеощущения тру-
посожжение, акт уничтожения, посредством которого он энергично
выражал свое привязанное к «здесь» и «теперь» эвклидовское сущест¬
вование. Он не желал никакой истории, никакой длительности, ни
прошлого, ни будущего, ни заботы, ни избавления, и поэтому он унич¬
тожал то, что более не обладало настоящим, тело Перикла или Цеза¬
ря, Софокла или Фидия. Душа же вступала в бесформенную толпу, для
которой были предназначены уже очень рано пренебрегаемые культы
предков и празднества душ живых членов рода, что являло собой вели¬
чайшую противоположность последовательности предков, родовому
древу, увековеченному со всеми знаками исторического порядка в фа¬
мильных склепах западных родов. В этом отношении рядом с античной
культурой просто нечего поставить* — за одним характерным исключе¬
нием, а именно ведической ранней эпохи Индии. Следует подчерк¬
нуть: дорическо-гомеровское раннее время, в первую очередь «Илиа¬
да», окружало данный акт всем пафосом только что созданного симво¬
ла, между тем как в могилах Микен, Тиринфа, Орхомена мертвецов —
тех самых, чьи сражения, быть может, послужили ядром для этого са¬
мого эпоса, — погребали едва ли не на египетский манер. Когда в импе¬
раторскую эпоху наряду с погребальной урной для пепла появился сар¬
кофаг, «пожиратель плоти»** (у христиан, иудеев и язычников), пробу¬
дилось новое ощущение времени, точно так же, как и тогда, когда вслед
за микенскими шахтовыми могилами последовала гомеровская урна.
И египтяне, так добросовестно хранившие свое прошлое в памяти,
в камне и иероглифах, что мы еще и сегодня, по прошествии четырех
тысячелетий, можем определить время правления их царей, увекове¬
чивали также и их тела, так что великие фараоны — символ жуткой воз¬
Также и в китайском культе предков наблюдается окруженный строгим церемони¬
алом генеалогический порядок. Однако в то время как здесь он мало-помалу делается
центром всего благочестия, античный отступает всецело на задний план перед культа¬
ми нынешних богов, так что в Риме его почти уже и не было.
**
С явственным указанием на «воскресение плоти» (к veKpv [из мертвых (греч.)]).
Глубокое, сегодня уже почти непонятное изменение в значении этого слова ок. 1000 г.
получает все большее выражение в слове «бессмертие». С преодолевающим смерть вос¬
кресением время в космосе начинается все равно что заново. Бессмертием время одо¬
левает пространство.
6 Закат Западного мира
162
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
вышенности — со все еще узнаваемыми чертами лиц лежат в наших му¬
зеях, между тем как от царей дорической эпохи не сохранилось даже
имен. Нам точно известны даты рождения и смерти почти всех великих
людей начиная с Данте. Нам это представляется само собой разумею¬
щимся. Однако в эпоху Аристотеля, на вершине античной образован¬
ности, люди не могли с уверенностью сказать, жил ли вообще Левкипп,
основатель атомизма и современник Перикла, т. е. всего-то лишь сто¬
летием прежде. Это все равно как мы бы не были уверены в существо¬
вании Джордано Бруно, а эпоха Возрождения находилась бы уже все¬
цело в области сказаний.
А сами эти музеи, в которые мы сносим всю совокупность сделавше¬
гося чувственно-телесным и сохранившегося прошлого! Не являются ли
также и они символом высочайшего ранга? Не должны ли они хранить в
мумифицированном виде «тело» всего развития культуры? Разве мы не
скапливаем, наподобие бесчисленных дат в миллиардах напечатанных
книг, также и все произведения всех умерших культур в этих сотнях тысяч
залов западноевропейских городов, где в массе собранного воедино
каждый отдельный экспонат оказывается исторгнутым у летучего мгно¬
вения своей подлинной цели (которая только и была бы святой для ан¬
тичной души) и как бы растворенным в бесконечной подвижности вре¬
мени? Припомним, что называли «музеем»56 греки и какой глубокий
смысл присутствует в этом изменении словоупотребления.
14
Господствующим на физиономии как западной, так и египетской и
китайской культуры является пра-чувство заботы, и оно же формирует
также и символику эротического, которая через картину последовате¬
льности поколений отдельных существ отображает протекание потока
никогда не прекращающейся жизни. Также и в этом точечное эвклидо¬
во бытие античности воспринимало лишь «здесь» и «теперь» решаю¬
щего акта, зачатия и рождения. Поэтому в центре культа Деметры на¬
ходились муки роженицы, а в античном мире вообще — дионисийский
символ фаллоса, этот знак всецело посвященной мгновению и забыва¬
ющей в нем как прошлое, так и будущее сексуальности. В индийском
мире ему опять-таки соответствует знак лингама и круг культов, свя-
заннь!х с богиней Парвати. Как здесь, так и там человек ощущает себя
безвольно и беззаботно отданным на откуп смыслу становления — по¬
добно природе, подобно растению. Домашний культ римлянина отно¬
сился к гению, т. е. порождающей силе главы семейства. Глубокая и
полная раздумий забота западной души противопоставила этому знак
материнской любви, которая почти что и не появляется на горизонте
античного мифа, разве что в оплакивании Персефоны или в уже элли¬
нистической сидящей статуе Деметры Книдской. Мать, держащая у
Глава вторая. Проблема всемирной истории 163
груди ребенка, т. е. будущее: культ Марии в этом новом, фаустовском
смысле расцвел только в века готики. Свое высшее выражение он на¬
шел в Сикстинской Мадонне Рафаэля. Это не общехристианский мо¬
тив, ибо магическое христианство подняло Марию как Теотокос, как
Богородицу*, до ощущавшегося совсем иначе символа. Кормящая мать
столь же чужда древнехристианско-византийскому искусству, как и
искусству греческому, пускай даже совсем из других оснований; несо¬
мненно, Гретхен в «Фаусте» с глубоким очарованием своего бессозна¬
тельного материнства ближе к готическим Мадоннам, чем ко всем Ма¬
риям византийских и равеннских мозаик. В задушевности этих отно¬
шений потрясает то, что Мадонна с младенцем Иисусом в точности
соответствует Исиде с младенцем Гором (обе они заботливые матери),
и что этот символ оставался забытым тысячелетиями, на протяжении
всей античной и арабской культуры, для которых он ничего не мог
означать, чтобы оказаться вновь пробужденным фаустовской душой.
От материнской заботы путь пролегает к заботе отцовской, а тем са¬
мым — к высочайшему временному символу, выступающему в кругу
великих культур, к государству. То, что означает для матери дитя, а
именно будущее и продолжение собственной жизни (так что в мате¬
ринской любви словно бы происходит снятие разделенное™ двух су¬
ществ), то же самое означает для мужчин вооруженная община, по¬
средством которой они охраняют дом и очаг, жену и ребенка, а значит
весь народ, его будущее и его потенциал. Государство — это внутрен¬
няя форма, «пребывание в форме» целой нации, и история в великом
смысле этого слова — это и есть государство, понимаемое не как нечто
движимое, но как само движение. Женщина как мать является исто¬
рией, мужчина как воин и политик эту историю вершит*.
И здесь история высших культур вновь обнаруживает три примера
исполненных заботы государственных образований: египетская система
управления уже в Древнем царстве начиная с 3000 г. до Р. X., раннеки¬
тайское государство Чжоу («Чжоули» дает нам такую картину тамошних
порядков, что позднее никто не отваживался поверить в подлинность
этого трактата) и государства Запада, предусмотрительная организация
которых выдает такую волю к будущему, которая ничем не может быть
превзойдена***. И в противоположность этому нам дважды открывается
картина беззаботаой преданности мгновению с его случайностями: ан¬
тичное и индийское государство. Как ни различны стоицизм и буддизм,
эта старческие настроения обоих миров, они едины в своем сопротивле¬
нии историческому ощущению заботы, а значит, в презрении к приле¬
жанию, к организаторским талантам, к сознанию долга, и поэтому при
дворе индийских царей и на форуме античных городов никто не думал о
завтрашнем дне — ни для себя самого, ни для общества в целом. Сагре
* Ср. с. 717 и слл.
Ср. с. 785 и слл.
Ср. к последующему т. 2, гл. 4 и 5.
164
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
diem [пользуйся моментом (лат.)] аполлонического человека сохраняет
свое значение также и для античного государства.
Точно так же как с политической, обстоит дело и с другой стороной
исторического бытия, а именно со стороной экономической. Античной
и индийской любви, которая начинается с наслаждения мгновением и
завершается им же, соответствует перебивание со дня на день. Эконо¬
мическая организация крупного стиля существовала в Египте, где она
наполняет всю картину культуры и вплоть до сегодняшнего дня вещает
нам о том же с тысяч изображений, наполненных прилежанием и поряд¬
ком; в Китае, чьи мифы о богах и легендарных императорах с их исто¬
рией постоянно вращаются вокруг священных задач земледелия; нако¬
нец, в Западной Европе, чья экономика началась с образцовых орден¬
ских хозяйств и достигла своей высшей точки в своей собственной
науке, политэкономии, которая изначально была рабочей гипотезой и по
сути учила не тому, что происходило на деле, но чему происходить следо¬
вало. В античности же, уж не говоря об Индии, люди (при том, что при¬
мер Египта маячил у них перед глазами) вели хозяйство со дня на день,
хищнически разрабатывая не только богатства, но и возможности, с тем
чтобы тут же расточить черни случайно доставшиеся избытки. Перебе¬
рите всех великих государственных деятелей античности, Перикла и Це¬
заря, Александра и Сципиона, даже таких революционеров, как Клеон и
Тиберий Гракх: никто из них не заглядывал — в экономическом смыс¬
ле — вдаль. Ни один город не брал в свои руки осушение или облеснение
той или иной области, как не брались они за внедрение более совершен¬
ных методов, пород скота или сортов растений. «Аграрные реформы»
Гракхов понимаются всецело неверно, когда их истолковывают в запад¬
ном смысле: они желали сделать свою партию собственниками. Задача
воспитать из них фермеров или даже поднять сельское хозяйство в Ита¬
лии была им абсолютно чужда. Будущему позволяли наступать, оказы¬
вать на него воздействие не пытались. И потому социализм, глубоко
родственный египетскому духу и противоположный экономическому
стоицизму античности (не теоретический социализм Маркса, но прак¬
тический, основанный Фридрихом Вильгельмом I социализм пруссаче¬
ства, который ему предшествовал и преодолеет его вновь), оказывается
именно египетским в своей всеохватной заботе о долговременных эко¬
номических взаимосвязях, в своем воспитании отдельного человека в
духе долга перед целым и в освящении прилежания, через которое про¬
исходит утверждение времени и будущего.
15
Заурядный человек любой культуры замечает на физиономии всего
становления, как своего собственного, так и становления живого мира
вокруг, лишь непосредственно доступный передний план. Совокуп¬
fлава вторая. Проблема всемирной истории 165
ность его переживаний, как внутренних, так и внешних, наполняет те¬
чение его дня как простая последовательность фактов. Только значите¬
льный человек ощущает позади расхожих взаимозависимостей колы-
щащейся историей поверхности глубинную логику становления,
которая выступает как идея судьбы и выставляет как нечто случайное
как раз-таки эти поверхностные, бедные смыслом повседневные обра¬
зования.
Поначалу, как представляется, между судьбой и случаем существует
лишь разница по степени содержательного наполнения. Например, мы
воспринимаем как случайность то, что Гёте прибыл в Зессенгейм57, а
его появление в Веймаре — как судьбу. Первое представляется эпизо¬
дом, второе составляет эпоху. Между тем отсюда делается ясно, что
различие зависит от внутренней значительности людей, которые его
проводят. Даже жизнь Гёте представится толпе сплошной цепью анек¬
дотических случайностей; немногие же с изумлением воспринимают
то, какая символическая необходимость присутствует даже в самых не¬
значительных ее моментах. Но не было ли случаем и открытие гелио¬
центрической системы Аристархом, между тем как якобы повторное ее
открытие Коперником, напротив, стало судьбой фаустовской культу¬
ры? Было ли то судьбой, что Лютер, в отличие от Кальвина, вовсе не
имел организаторского таланта — и для кого? Для жизненного единст¬
ва протестантов, немцев или западного человечества в целом? Были ли
Тиберий Гракх и Сулла случайностями, а Цезарь — судьбой?
Область понятийного постижения остается здесь далеко позади;
что является судьбой и что случаем — принадлежит к решающим пере¬
живаниям отдельной души, $ также душ целых культур. Весь ученый
опыт, всякое научное узрение, всякое определение здесь умолкают; а
кто отваживается хотя бы на попытку гносеологически постичь то и
другое, вовсе их не знает. То, что критическое размышление неспособ¬
но передать хотя бы легкое дыхание судьбы, представляет собой внут¬
реннюю убежденность, без которой мир становления остается запер¬
тым. Познать, т. е. различить и вынести суждение, а между тем, что по¬
знано (четко различенными вещами, свойствами, положениями),
установить причинно-следственные связи — это все одно и то же. Тот,
кто приступает к истории, вынося о ней суждение, обнаружит одни
лишь голые факты. То же, что происходит в глубине, будь это провиде¬
нием или роком, можно лишь пережить в гуще нынешних событий или
перед картиной происшедшего некогда, причем с той же потрясаю¬
щей, бессловесной несомненностью, которую пробуждает подлинная
трагедия в настроенном некритически зрителе. Судьба и случай всякий
раз образуют пару противоположностей, в которую душа пытается
одеть то, что может быть лишь чувством, лишь переживанием и созерца¬
нием и что через наиболее искренние творения религии и искусства
проясняется лишь для тех, кто призван к прозрению. Чтобы вызвать
(имя — лишь звук пустой58) это пра-чувство живого бытия, которое со-
166
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
общает смысл и содержание мировой картине истории, я не знаю ниче¬
го лучшего одной строфы Гёте, которая должна была задавать основное
настроение этой книги, будучи помещена в самом ее начале:
Когда все то ж в безбрежном круге
Лежит, двоясь, из года в год,
Тысячекратных арок дуги
Смыкаются в единый свод;
Из дальних звезд и из былинок
Желанье быть бежит рекой,
Но вечный жизни поединок —
Лишь вечный в Господе покой.
На поверхности событий в мире царит непредвиденное. Как харак¬
терная черта оно присутствует во всяком единичном событии, всяком
отдельном решении, всякой единичной личности. При появлении
Мухаммеда никто не предвидел наступления ислама, при падении
Робеспьера никто не догадывался о Наполеоне. То, что появляются
великие люди, что они предпринимают, удается ли им это, — все это
непредсказуемо; никто не знает, завершится ли мощно начавшееся
развитие величественной линией, как это было с римской знатью,
или роковым образом захиреет, как это случилось с Гогенштауфена-
ми или с целой культурой майя. Точно так же, вопреки всему естест¬
вознанию, обстоит дело с судьбой всякого отдельного вида животных
и растений внутри земной истории, и далеко за ее пределами — с са¬
мой Землей и вообще всеми солнечными системами и галактиками.
Малозначительный Август составил целую эпоху, великий же Тибе¬
рий прошел, не оставив следа. Точно таким же представляется нам
удел художников, произведений искусства и художественных форм,
догматов и культов, теорий и изобретений. То, что один момент в вих¬
ре становления всего-навсего претерпевает судьбу, другой же сам де¬
лается судьбой, причем довольно часто на все будущее, так что пер¬
вый исчезает в прибое исторической поверхности, второй же исто¬
рию творит, — это не может быть объяснено никакими «потому» и
«оттого», и тем не менее исполнено глубочайшей необходимости. А
потому также и применительно к судьбе имеет значение то, что в ми¬
нуту углубленности высказал Августин о времени: Si пето ex те quae-
rat, scio; si quaerenti explicare velim, nescio.
Вот и идея милости в западном христианстве, выстраданной жерт¬
венной смертью Иисуса милости: располагать свободной волей*, выра¬
жает случай и судьбу в наиболее заостренной ее этической формули¬
ровке. Рок (первородный грех) и милость — в этой полярности, кото¬
рая извечно может быть лишь образом ощущения, подвижной жизни,
но никогда не содержанием ученого опыта, содержится бытие всякого
действительно значительного человека этой культуры. Она образует —
* Ср. т. 2, гл. 3, раздел 10.
Глава вторая. Проблема всемирной истории
167
в том числе и для протестантов, и для атеистов, пусть даже она спрячет¬
ся за происходящим от нее по прямой линии естественно-научным по¬
нятием «развития» — основание всякой исповеди, всякой автобиогра¬
фии, в которой, будь она написана или нарисована, отказано антично¬
му человеку, потому что его судьба имела иной облик. Она являет
собой окончательный смысл автопортретов Рембрандта и музыки от
Баха до Бетховена. Можно называть это уделом, Провидением, внут¬
ренним развитием**, что придает нечто родственное всем биографиям
всех людей Запада — все равно это остается недоступным для мышле¬
ния. «Свободная воля» — внутренняя достоверность. Но что бы мы ни
желали и ни делали, то, что в действительности следует за всеми реше¬
ниями и из них вытекает — внезапно, ошеломляюще, непредвиденно
для кого угодно на свете — все это служит более глубокой необходимо¬
сти, и для понимающего взгляда, когда он скользит по картине давно
минувшего, укладывается в некий великий порядок. И здесь, когда су¬
дьба оказалась исполнением того, что желалось, неисследимое может
восприниматься как милость. Чего желали Иннокентий III, Лютер,
Лойола, Кальвин, Янсений, Руссо, Маркс — и что из этого вышло в по¬
токе западной истории? Было то милостью или роком? Всякое рацио¬
нализирующее членение здесь останавливается, приходя к бессмысли¬
це. Учение о предопределении у Кальвина и Паскаля (они оба отважи¬
лись на то, чтобы с большей последовательностью, чем Лютер и Фома
Аквинский, дойти до окончательных причинно-следственных выво¬
дов диалектики Августина) — неизбежная нелепица, к которой приво¬
дит рассудочное следование за этими тайнами. Из судьбоносной логи¬
ки мирового становления оно впадает в каузальную логику понятий и
законов, от непосредственного созерцания жизни приходит к механи¬
ческой системе объектов. Жуткие душевные схватки Паскаля — это бо¬
рение человека глубокой внутренней жизни, бывшего в то же самое
время прирожденным математиком и желавшего покорить окончате¬
льные и наиболее серьезные вопросы души в одно и то же время вели¬
ким интуициям пламенной веры и абстрактной точности своих столь
же великих математических задатков. Это привело к идее судьбы или,
выражаясь по-религиозному, к Божественному провидению, схемати¬
ческой форме принципа причинности, а значит, к Кантовой форме деяте¬
В английской философии с легкостью прослеживается путь, ведущий от Кальвина
к Дарвину.
Это относится к извечным спорным моментам западной теории искусства. Антич¬
ная, аисторическая, эвклидова душа не имела никакого «развития», западная же исчер¬
пывается в нем; она представляет собой «функцию» в направлении к завершению.
Одна «есть», вторая «становится». Тем самым весь античный трагизм исходит из посто¬
янства личности, весь же западный — из ее изменчивости. Только это и является «ха¬
рактером» в нашем значении, образ бытия, который состоит в безостановочной по¬
движности и бесконечном богатстве отношений. У Софокла страдание облагоражива¬
ется возвышенным жестом, у Шекспира же возвышенный образ мыслей облагораживает
поступок. Поскольку наша эстетика заимствовала примеры из обеих культур, не разби¬
рая, она не могла не ошибиться в отношении фундаментальной проблемы.
168
Том /. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
льности рассудка, ибо это и означает предопределение, в которой те¬
перь, впрочем, появляется свободная от всякой каузальности, живая и
доступная переживанию лишь в качестве внутренней достоверности
милость — в качестве природной силы, связанной с неизбежными за¬
конами и превращающей религиозную картину мира в косный и уны¬
лый механизм. И не было ли опять же судьбой (как для них самих, так и
для мира) то, что английские пуритане, наполненные этим убеждени¬
ем, не впадали в бездеятельную покорность, но достигали деятельной и
восторженной убежденности, что их воля — это и есть воля Бога?
16
Если теперь мы обратимся к дальнейшему прояснению случайного,
мы уже не будем подвергаться той опасности, чтобы усмотреть в слу¬
чайности исключение или нарушение природной взаимосвязи. Приро¬
да — это не та картина мира, в которой судьба играет существенную
роль. Повсюду там, где устремленный в глубину взгляд отделяется от
чувственно-ставшего и, приближаясь к визионерству, пронизывает
окружающий мир, ощущая воздействие не просто объектов, но пра-
феноменов, в дело вступает великий исторический, внеприродный и
сверхъестественный аспект: это есть взгляд Данте и Вольфрама, а так¬
же старца-Гёте, выражением чего в первую очередь является финал
второго «Фауста». Если мы какое-то время посозерцаем этот мир судь¬
бы и случая, нам, возможно, может показаться случайным то, что на
этой крохотной звездочке среди миллионов солнечных систем в некий
момент разыгрывается эпизод «всемирной истории»; случайно то, что
люди, это своеобразное звероподобное образование на коре этой звез¬
ды, в некий момент исполняют драму «познания», причем именно в та¬
кой, столь по-разному трактуемой Кантом, Аристотелем и прочими
форме; случайно то, что в качестве парного этому познанию полюса
являются именно такие законы природы («вечные и общезначимые») и
вызывают на свет картину «природы», относительно которой каждый
убежден, что она одна и та же для всех. Физика изгоняет — и справед¬
ливо — случай из своей картины мира, однако это опять-таки был слу¬
чай, что она вообще в какой-то момент аллювиального периода земной
поверхности явилась на сцену в качестве умонастроения особого рода.
Мир случая — это мир однократно действенных фактов, на которые
мы взираем как на будущее со страстным стремлением или наполняясь
страхом, которые как живое настоящее возвышают или угнетают нас,
которые мы можем снова пережить радостно или скорбно как прошлое.
Мир причин и следствий — это мир постоянно возможного, мир вневре¬
менных истин, которые мы познаем, разлагая и различая.
Лишь последнее достижимо для науки, тождественно с наукой. Кто
же, подобно Канту и большинству систематиков мышления, оставался
Глава вторая. Проблема всемирной истории
169
слеп к первому, к миру как «Divina commedia», как к драме для Бога,
увидит в нем лишь бессмысленную сумятицу случаев — на сей раз в са¬
мом пошлом смысле этого слова*. Однако также и профессиональное,
лишенное художественности историческое исследование с его собира¬
нием и систематизацией голых фактов представляет собой немногим
больше, чем — пусть даже весьма остроумную — санкцию всего пошло¬
случайного. Лишь проникающий в метафизическое взгляд переживает
в фактах символы происшедшего и тем самым возвышает случай до су¬
дьбы. Тот же, кто — подобно Наполеону — сам является судьбой, не
нуждается в этом взгляде, ибо между ним самим как фактом бытия и
прочими фактами существует созвучие метафизического такта, прида¬
ющее его решениям сновидческую безошибочность *.
Бесподобный, колоссальный взгляд такого рода встречаем мы у
Шекспира, в котором никто пока еще не отыскивал и не подозревал
подлинного трагика случая. И все же здесь заключается как раз окон¬
чательный смысл западного трагизма, являющегося в то же самое
время отображением западной идеи истории и тем самым — ключом к
тому, что значит для нас непонятое Кантом слово «время». То была
случайность, что политическая ситуация в «Гамлете», убийство короля
и вопрос о престолонаследии имеют именно такой характер. Случай¬
но, что Яго, этот заурядный мерзавец, какими полны городские улицы,
взял на мушку именно данного человека, личность которого никак не
назовешь заурядной! А Лир! Бывает ли что-то более случайное (а пото¬
му «естественное»), чем соединение этого властного достоинства с эти¬
ми унаследованными дочерьми роковыми страстями? То, что Шекс¬
пир берет анекдот в том виде, в каком его находит, и как раз в силу этого
наполняет его мощью глубочайшей необходимости (нигде это не дела¬
ется возвышеннее, чем в его римских драмах), этого никто не смог по¬
нять вплоть до сегодняшнего дня. Ибо желание понять оказалось ис¬
черпанным в отчаянных попытках внести сюда нравственную причин¬
ность — некое «потому», взаимосвязь «вины» и «наказания». Однако
это не назовешь даже истинным или ложным (ибо истинное и ложное
принадлежат к миру как природе и означают критику каузального), а
только плоским, и именно по контрасту с глубоким переживанием по¬
этом чисто фактичного анекдота. Лишь тот, кто это ощущает, способен
изумиться величественной наивности вступлений к «Лиру» и «Макбе¬
ту». Нечто противоположное обнаруживает Геббель, который уничто¬
жает глубинность случая посредством системы причин и следствий.
Принужденность, рассудочность его набросков, которые безотчетно
ощущаются всяким, состоит в том, что каузальная схема его душевных
«Plus on vieillit, plus on se persuade, que sa засгёе Ма]е81ё le Hazard fait les trois quarts
de la besogne de се пшёгаЫе Univers» [Чем больше старишься, тем больше уверяешься в
том, что Его Величество Случай исполняет в этом несчастном мире три четверти всей
работы (фр.)\ (Фридрих Великий — Вольтеру). Неизбежно таково восприятие подлин¬
ного рационалиста.
** Ср. с. 482.
170
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
конфликтов противоречит исторически-подвижному мироощущению
с его совершенно иного характера логикой. Эти люди не живут; своим
присутствием здесь они нечто доказывают. Мы ощущаем наличие ве¬
ликого рассудка, однако глубокой жизни здесь нет. Место случая засту¬
пает «проблема».
Но именно эта западная разновидность случайного абсолютно чуж¬
да античному мироощущению, а тем самым — и античной драме. Ан¬
тигона не имеет никакого случайного качества, которое бы как-то мог¬
ло приниматься во внимание в ее участи. То, что случилось с царем
Эдипом, могло бы — в отличие от судьбы Лира — приключиться с каж¬
дым. Такова античная судьба, «общечеловеческий» рок, который имеет
значение для «тела» вообще и ни в коей степени не зависит от сл^ай-
но-личного.
Обычная историография, поскольку она не уходит в собирательство
фактов, неизменно остается при лошло-случайном. Такова уж судьба ее
творцов, которые в душевном плане остаются — более или менее — на
уровне толпы. История и природа сливаются у них перед глазами в из¬
бито-банальное единство, а «случай», «Sa sacrde Majestd le Hazard» —
это для человека из толпы самое понятное из всего, что только можно
себе представить. Это есть причинно-следственное за занавесью, пока
еще не доказанное, заменяющее ему тайную логику истории, которой
он не ощущает. Отдающий анекдотом передний план картины исто¬
рии, место сборищ всех научных охотников за случайностями и всех
романистов и драматургов обычного пошиба, всецело этому соответст¬
вует. Как же много войн началось оттого, что ревнивому царедворцу
было желательно удалить генерала от своей жены! Как много битв вы¬
играно или проиграно в связи с нелепыми случайностями! Стоит толь¬
ко посмотреть, как еще в XVIII в. трактовалась римская история, как
трактуется китайская вплоть до сегодняшнего дня! Можно вспомнить
об ударе, который нанес веером алжирский дей59, и о вещах подобного
рода, которые оживляют историческую сцену опереточными мотива¬
ми. Смерть Густава Адольфа или Александра выглядят так, словно их
выдумал неумелый драматург. Ганнибал — это просто какое-то интер¬
меццо в античной истории, в ход которой он внезапно вмешался.
«Проход» Наполеона не лишен мелодраматизма. Тот, кто отыскивает
внутреннюю форму истории в какой-либо каузальной последователь¬
ности ее видимых единичных событий, неизменно, если будет прямо¬
душен, Отыщет в ней комедию, полную бурлесковой бессмыслицы, и у
меня есть основания полагать, что недооцененная сцена танца подпив¬
ших триумвиров в «Антонии и Клеопатре» Шекспира (одна из самых
сильных в этом бесконечно глубоком творении) возникла как издевка
первого исторического трагика всех времен над «прагматическим» воз¬
зрением на историю. Ибо именно такое воззрение спокон веку господ¬
ствовало в «мире». Оно-то и придавало маленьким честолюбцам муже¬
ства и надежд, с тем чтобы они вмешивались в мир. Руссо и Маркс по¬
Глава вторая. Проблема всемирной истории 171
лагали, что их взгляд на него и его рационалистическую структуру, их
теории способны изменить «ход вещей в мире». Даже социальные или
экономические истолкования политических событий, до которых, как
до некой вершины, поднимаются ныне исторические исследования,
остающиеся, ввиду своего биологического уклона, под постоянным
подозрением причинно-следственных оснований, все еще преимуще¬
ственно плоски и избиты.
В значительные моменты у Наполеона открывалось сильнейшее чу¬
тье на глубинную логику всемирного становления. Тогда он догады¬
вался, в какой степени он сам является судьбой и насколько судьба
присуща ему самому. «Я чувствую, как нечто толкает меня к неведомой
цели. Как только я ее достигну, как только во мне пропадет нужда, бу¬
дет довольно пылинки, чтобы стереть меня в порошок. Однако до этого
момента всех человеческих сил не достанет на то, чтобы меня превоз¬
мочь», — сказал он при начале Русского похода. Это была вовсе не праг¬
матическая мысль. Тогда он догадался о том, насколько мало логика
судьбы нуждается в чем-то определенно-частном, будь то человек или
ситуация. Он сам, как реальный человек, мог быть убит при Маренго. В
таком случае то, что значил он, оказалось бы воплощено в ином образе.
В руках великого музыканта одна и та же мелодия способна обнаружи¬
вать величайшее многообразие. Слуху простых слушателей она может
представать в полностью измененном виде, при том, что в глубине — в
совершенно ином смысле — она останется той же самой. Эпоха гер¬
манского национального воссоединения оказалась воплощенной в
личности Бисмарка, освободительная же война протекла в разбросан¬
ных и почти что не имевших личностного отпечатка событиях. Говоря
на языке музыканта, и та и другая «тема» могла быть исполнена и по-
другому. Бисмарка могли уже вскоре отправить в отставку, а сражение
при Лейпциге могло быть проиграно; группа войн 1864, 1866 и 1870 гг.
могла быть представлена дипломатическими, династическими, рево¬
люционными или экономическими фактами («модуляциями»), хотя
физиономическая выпуклость западной истории, в противоположность
стилю хотя бы той же истории индийской требует — так сказать, кон¬
трапунктически — в решающих местах сильных акцентов, войн или вели¬
ких личностей. Сам Бисмарк указывает в своих воспоминаниях, что
весной 1848 года могло быть проведено объединение в большем масш¬
табе, чем в 1870-м, но осуществлению этого помешала политика прус¬
ского короля, а точнее, его персональный вкус. Однако, и Бисмарк это
также ощущает, то было бы вялым исполнением музыкальной «фра¬
зы», что в любом случае потребовало бы коды {«da capo е poi la coda» [с
начала, а затем кода (ит.)]). Сам же смысл эпохи, т. е. тема, не изме¬
нился бы ни от какого переформирования ее фактического наполне¬
ния. Гёте, возможно, мог умереть в молодости, но его «идея» умереть не
могла. «Фауст» и «Тассо» остались бы ненаписанными, однако они все
172 Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
равно — в некоем весьма таинственном смысле — «явились» бы, пус¬
кай без своей поэтической зримости.
Ибо это случайность, что история высшего человечества протекает
в форме великих культур, как случайность и то, что одна из них пробу¬
дилась в Западной Европе ок. 1000 г. Однако начиная с этого момента
она следовала «закону, что ее определяет»60. В рамках всякой эпохи су¬
ществует неограниченное множество поразительных и непредсказуе¬
мых возможностей запутаться в частных деталях, сама же эпоха необ¬
ходима, потому что в ней присутствует жизненное единство. То, что ее
внутренняя форма именно такова — это ее предопределение. Новые слу¬
чайности могут внести в ее развитие величия или убожества, счастья
или горести, однако изменить его они не в состоянии. Не подлежащий
отмене факт — это не только единичный случай, но и единичный тип: в
истории космоса — тип «Солнечной системы» с обращающимися во¬
круг планетами, в истории нашей планеты — тип «живого существа» с
юностью и старостью, продолжительностью жизни и размножением, в
истории живых существ — тип человеческого существования, на его
«всемирно-исторической» стадии — тип великой единичной культу¬
ры*. А эти культуры по своему существу сродни растениям: на протяже¬
нии всей своей жизни они связаны с той почвой, на которой произрос¬
ли. Типичным, наконец, является тот способ, каким постигают и пере¬
живают судьбу люди одной культуры, пускай даже для всякого единич¬
ного человека соответствующая картина будет окрашена в весьма
разные цвета. То, что здесь высказывается по данному поводу, — не
«истинно», но внутренне необходимо для данной культуры и данного
периода, и оно убедительно для прочих не потому, что истина лишь
одна, но потому, что она принадлежит той же эпохе.
Поэтому эвклидовская душа античности могла пережить свое соб¬
ственное, привязанное к нынешним требованиям существование
лишь в виде случайности в античном стиле. Если для западной души
случайное как судьба имеет очень мало веса, то для души античной, на¬
против, судьба — это раздувшаяся до чудовищных размеров случай¬
ность. Это и означают Ананка, Геймармена и Фатум. Поскольку антич¬
ная душа, собственно, истории не переживала, у нее по сути не было и
чутья на логику судьбы. Не следует позволять словам обманывать себя.
Общенародной богиней греков была Тихэ, которую едва ли кто смог бы
тогда отличить от Ананки. Однако мы воспринимаем судьбу и случай¬
ность со всей весомостью противоположности, от разрешения которой
в глубинах нашего существования все и зависит. Наша история — это
история великих взаимозависимостей; античная история, причем не
один лишь ее образ у историков вроде Геродота, но вся ее значимость —
это история анекдотов, т. е. ряд скульптурных частностей. Анекдотич¬
ным в полном смысле этого слова был и стиль античного существова¬
* На том факте, что мы видим перед собой целую группу этих культур, основывается
сравнительный метод настоящей книги; ср. с. 500 слл.
Глава вторая. Проблема всемирной истории 173
ния вообще, как и стиль всякого отдельного жизненного поприща.
Чувственно-зримая сторона событий сгущается до враждебных исто¬
рии, демонических, абсурдных случаев. Они отрицают и опровергают ло¬
гику событий. Все пьесы образцовых античных трагедий исчерпывают¬
ся случаями, предающими осмеянию осмысленность мира; иначе не¬
возможно истолковать значение слова eipappevrj [Геймармена, судьба
(лат.)] в противоположность шекспировской логике случайности. По¬
вторим еще раз: то, что приключается с Эдипом, будучи совершенно
ничем не обусловлено ни внешне, ни внутренне, могло бы произойти
со всяким без исключения человеком. Такова форма античного мифа.
Сравним с этим глубинно-внутреннюю, обусловленную всем сущест¬
вованием и отношением этого существования к времени необходи¬
мость судьбы Отелло, Дон Кихота, Вертера. Это есть различие (о чем
уже говорилось) трагедии положений от трагедии характеров. Однако
эта же противоположность повторяется также и в самой истории. Вся¬
кая западная эпоха обладает характером, всякая же эпоха античности
представляет собой ситуацию. Жизни Гёте присуща судьбоносная ло¬
гика, между тем как жизнь Цезаря была исполнена мифической слу¬
чайности. Шекспир первым внес сюда логику. Наполеон — это траги¬
ческий характер, между тем как Алкивиад попадает в трагические по¬
ложения. Астрология в том ее виде, в котором она начиная с готики и
до барокко господствовала в мироощущении даже своих отрицателей,
желала овладеть всем будущим течением жизни. Фаустовский горо¬
скоп, наиболее известным примером которого был, возможно, тот, что
составил Кеплер для Валленштейна, предполагает целостное и испол¬
ненное смысла направление всего еще только развивающегося бытия.
Античный оракул, всегда относящийся к отдельным эпизодам, собст¬
венно говоря, является символом бессмысленного случая, мгновения;
он признает в ходе событий наличие чего-то точечного, бессвязного, и
в том, что выходило из-под пера афинских авторов как история, что пе¬
реживалось там в качестве таковой, изречения оракулов вполне умест¬
ны. Бывало ли вообще у грека сознание исторического развития к ка¬
кой-либо цели? Могли ли бы мы без такого сознания вообще размыш¬
лять об истории, историю творить? Если сравнить судьбы Афин и
Франции в соответствующие эпохи Фемистокла и Людовика XIV, мы
обнаружим, что стиль исторического ощущения и стиль действитель¬
ности в каждом из них едины: в первом эта доведенная до крайности
логичность, во втором — такая же нелогичность.
Поймем теперь глубинный смысл этого значительного факта. Ис¬
тория — это осуществление души, и тот же самый стиль господствует в
истории, которую делают люди, как и в той, которую они наблюдают.
Античная математика, а с ней и античная история исключает символ
бесконечного пространства. Это не случайно, что сцена античного су¬
ществования — самая маленькая из всех: отдельно взятый полис Ему
недостает горизонта и перспективы (несмотря на эпизод похода Алек¬
174 Том1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
сандра) точно так же, как сцене античного театра с его плоско заканчи¬
вающимся задником. Сравним с этим дальнобойность воздействий за¬
падной кабинетной дипломатии, а также капитала. Подобно тому, как
греки и римляне познавали в своем космосе лишь передний план — и
признавали его в качестве действительного (что происходило при внут-
реннейшем отвержении халдейской астрономии), подобно тому как
они по сути имели лишь домашних, городских и полевых богов, однако
не имели ни одного бога светил*, так и рисовали они лишь передний
план. Ни разу в Коринфе, Афинах и Сикионе не был создан пейзаж с
горами на горизонте, с проплывающими облаками, с дальними города¬
ми. На всех расписных вазах мы видим лишь фигуры в их эвклидовой
разобщенности и художественном самоудовлетворении. Всякая груп¬
па фигур на фризе храма выстроена в ряд, в ней никогда не наблюдает¬
ся контрапунктическое построение. Однако и переживался лишь пе¬
редний план. То, что внезапно случалось с человеком, было судьбой, а
не «течением жизни», и потому Афины наряду с фресками Полиглота и
геометрией Платоновской академии создали трагедию судьбы — впол¬
не в духе пресловутой «Мессинской невесты». Полная нелепица слепо¬
го рока, воплощенная, например, в проклятии Атридов, открывала
аисторической античной душевности весь без остатка смысл ее мира.
17
Прояснению этого могут служить несколько примеров — смелых,
однако уже более не рискующих быть неверно понятыми. Представим,
что Колумб получил поддержку не от Испании, а от Франции. Какое-то
время это было даже наиболее вероятным. Несомненно, Франциск I как
властелин Америки получил бы императорскую корону вместо Карла V.
Ранняя история барокко от sacco di Roma и до Вестфальского мира, это
теперь в полном смысле испанское столетие в религии, духовности, ис¬
кусстве, политике и морали, служившее как в общем и целом, так и в ча¬
стностях основой и предпосылкой веку Людовика XIV, вылепливалась
бы тогда не в Мадриде, а в Париже. Взамен имен Филиппа, Альбы, Сер¬
вантеса, Кальдерона, Веласкеса мы называли бы теперь тех великих
французов, которые остались теперь (так, пожалуй, можно обрисовать
то, что постигается с немалым трудом) нерожденными на свет. Стиль
церкви, окончательно определенный тогда испанцем Игнатием Лойо-
лой и проникнутым его духом Тридентским собором, политический
стиль, заданный тогда испанским военным искусством, кабинетной
дипломатией испанских кардиналов и придворным духом Эскориала, и
продержавшийся вплоть до Венского конгресса, а в значительных своих
моментах — еще и после Бисмарка, архитектура барокко, великая живо¬
* Гелиос — всего-навсего поэтический образ. У него не было ни храма, ни статуй,
ни культа. Еще в меньшей степени была богиней Луны Селена.
Глава вторая. Проблема всемирной истории
175
пись, церемониал, изысканное общество больших городов было бы тог¬
да представлено другими глубокими умами из числа аристократии и ду¬
ховенства, другими войнами, не теми, что провел Филипп II, другим
зодчим — не Виньолой, другим двором. Случайность избрала испанский
жест для поздней западной эпохи; внутренняя же логика эпохи, которая
должна была найти свое завершение в великой революции (либо в собы¬
тии аналогичного содержания), осталась бы при этом неизменной.
Французская революция могла бы быть представлена событием
иного характера, происшедшим в ином месте, например, в Англии или
Германии. Необходима была, причем именно в тот момент, ее «идея»
(как мы увидим позднее), а именно переход культуры в цивилизацию,
победа неорганической мировой столицы над органической деревней,
которая сделалась теперь «провинцией» в духовном смысле. Здесь уме¬
стно применить слово эпоха в древнем, ныне изгладившемся (его сме¬
шивают с «периодом») значении этого слова62. Событие составляет
эпоху, что означает следующее: оно знаменует в течении культуры не¬
обходимый, судьбоносный поворот. Само случайное событие, крис¬
таллическое образование на исторической поверхности, вполне могло
быть представлено другими соответствующими случайностями; эпоха
же необходима и предопределена заранее. Очевидно, вопрос о том, до¬
стигнет ли событие уровня эпохи или станет эпизодом в отношении
определенной культуры и ее хода, связан с идеей судьбы и случайно¬
сти, а значит, также и с различием, существующим между двумя траги¬
ками — «эпохальной» западной и «эпизодической» античной.
Можно, далее, различать анонимные и личностные эпохи — в зависи¬
мости от их физиономического типа в картине истории. К случайно¬
стям высшего ранга принадлежат великие личности, наделенные фор¬
мообразующей силой собственной персональной судьбы, которая во¬
площает в своей форме судьбы тысяч людей, целых народов и эпох. И
все же авантюристов и везунчиков без внутреннего величия (как Дан¬
тон и Робеспьер) отличает от героев истории то, что их персональная
судьба несет на себе лишь отдельные черты общего. Несмотря на свои
звучные имена, в том времени господствовали именно «якобинцы» как
тип, а не кто-то один из их числа. Первая часть той эпохи, революция,
прошла поэтому всецело анонимно, вторая же, наполеоновская, была
в высшей степени личностной. Колоссальный размах этих событий в
несколько лет завершил то, что соответствующая античная эпоха (при¬
близительно с 386 по 322 гг.) должна была сбЬершать расплывчато и не¬
уверенно, целыми десятилетиями подспудной разрушительной рабо¬
ты. К сути всех культур относится то, что поначалу на первой стадии су¬
ществует равная возможность того, что необходимое осуществится
либо в виде великой личности (Александр, Диоклетиан, Мухаммед,
Лютер, Наполеон) либо почти безличного события, обладающего зна¬
чительной внутренней формой (Пелопоннесская и Тридцатилетняя
война, Война за испанское наследство), или же малозначительного и
176 Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
неполного развития (эпоха диадохов, время гиксосов, германское
междуцарствие63). Какую именно форму предпочтет вероятность — это
уже вопрос исторического, а также трагического, стиля.
Трагическое в жизни Наполеона (остающегося все еще неоткрытым
для поэта, которому достало бы величия на то, чтобы это понять и во¬
плотить в свое произведение) заключается в том, что он, чье существова¬
ние было всецело посвящено борьбе против английской политики, наи¬
более благородной представительницы английского духа, именно этой
борьбой привел английский дух к победе на континенте. Далее же этот
дух оказался достаточно могущественным, чтобы одолеть Наполеона
под видом «освобожденных народов» и заставить впоследствии умирать
на Св. Елене. Это не Наполеон был основателем принципа экспансио¬
низма. Он-то зародился в пуританстве, в окружении Кромвеля, которое
и вызвало к жизни британскую колониальную империю", а со дня сра¬
жения при Вальми, что понял один лишь Гёте, как это доказывают его
знаменитые слова, произнесенные вечером в день битвы, такова была
(при посредничестве прошедших английскую школу умов, таких как
Руссо и Мирабо) тенденция также и революционной армии, которую
подталкивали вперед исключительно идеи английских философов. Не
Наполеон сформировал эти идеи, но, напротив, он сам сформировался
под их влиянием, и взойдя на трон, он должен был следовать им и даль¬
ше против единственной силы, а именно Англии, которая желала того
же самого. Его империя — порождение французской крови, но в англий¬
ском стиле. Локк, Шефтсбери и Кларк, но в первую очередь Бентам раз¬
работали в Лондоне теорию «европейской цивилизации», западного эл¬
линизма, а Бейль, Вольтер и Руссо перенесли ее в Париж. Во имя этой-
то Англии парламентаризма, предпринимательской этики и журнализ¬
ма и были даны сражения при Вальми и Маренго, Йене, Смоленске и
Лейпциге, и во всех этих битвах английский дух одержал победу — над
французской культурой Запада *. Первый консул ни в коем случае не же¬
лал включить Западную Европу во Францию; он желал поначалу (поис¬
тине Александрова идея на пороге всякой цивилизации!) поставить на
место английской колониальной империи французскую, посредством
чего он утвердил бы политико-военное превосходство Франции в запад¬
ном культурном ареале на вполне незыблемом основании. Это была бы
империя Карла V, в которой не заходит солнце, которая, несмотря на
Колумба и Филиппа II, управлялась бы из Парижа и была бы организо¬
* На память здесь приходят слова Каннинга, произнесенные в начале XIX в.: «Да бу¬
дет Южная Америка свободной — и, насколько это возможно, английской!» Экспанси¬
онистский инстинкт никогда еще не получал выражения в более чистом виде.
Зрелая западная культура была насквозь французской, которая начиная с Людови¬
ка XIV выросла из испанской. Однако уже при Людовике XVI в Париже английский
парк одержал победу над французским, сентиментальность одолела esprit, одежда и
формы общественной жизни Лондона — над теми, что были присущи Версалю, Хогарт
победил Ватто, мебель Чиппендейла и фарфор Веджвуда взяли верх над Булем и
Севром.
Глава вторая. Проблема всемирной истории 177
вана не как рыцарско-церковное, но как военно-экономическое един¬
ство. Настолько далеко (быть может) простиралась в его миссии судьба.
Однако Парижский мир 1763 г. уже предрешил вопрос не в пользу Фран¬
ции, и великие планы Наполеона всякий раз расстраивались крохотны¬
ми случайностями. Сначала, при Сен-Жан д’Акр64, это была пара вовре¬
мя доставленных сюда англичанами орудий; далее, после Амьенского
мира, когда в его руках была вся долина Миссисипи вплоть до Великих
озер и он уже завязал отношения с Типпу Сагибом, защищавшим тогда
от англичан Ост-Индию, планы Наполеона потерпели крушение из-за
ошибочного маневра его флотоводца, что побудило его отказаться от
тщательно подготовленного предприятия; наконец, когда он с целью
новой высадки на Востоке, заняв Далмацию, Корфу и всю Италию, сде¬
лал уже вполне французским все Адриатическое море и вел переговоры
о совместных действиях против Индии с персидским шахом — они раз¬
бились о капризы императора Александра, вполне способного в какие-
то моменты поддержать поход на Индию, которому был бы тогда обес¬
печен несомненный успех. Лишь когда после крушения всех внеевро¬
пейских комбинаций Наполеон избрал как ultima ratio [последний довод
(лат.)] в борьбе против Англии аннексию Германии и Испании, т. е.
стран, в которых как раз тогда его собственные революционно-англий¬
ские идеи ополчились против него, их проводника, он сделал шаг, сде¬
лавший излишним его самого*.
Окажется ли теперь мировая колониальная система, заложенная
некогда испанским духом, переформированной на французский или
английский лад, суждено ли «Соединенным Штатам Европы», быв¬
шим тогда слепком с империи диадохов, а ныне, в будущем — с Imperi-
ит Romanum, осуществиться то ли благодаря Наполеону — в качестве
романтической военной монархии на демократической основе, или же
это будет реализовано в XXI в. как экономический организм, усилиями
деловых людей цезарева пошиба — все это относится к моменту слу¬
чайности в исторической картине. Победы и поражения Наполеона, в
которых неизменно таилась победа Англии, победа цивилизации над
культурой, его императорство, его падение, grande nation [великая на¬
ция (фр.)], мимолетное освобождение Италии, которое как в 1796-м,
так и в 1859 г. по сути лишь сменило политический костюм давно уже
сделавшегося лишенным какого-либо значения народа, разрушение
Германской империи, этой готической развалины, — все это поверх¬
ностные образования, за которыми кроется великая логика подлин¬
ной, незримой истории, и в ее духе Запад и осуществил тогда заверше¬
ние культуры, достигшей совершенства во французском образе, как
ancien regime, и приход ей на смену английской цивилизации. В качест¬
* Гарденберг реорганизовал Пруссию в строго английском духе, что поставил ему в
упрек Фридрих Август фон дер Марвиц. Также и реформа армии Шарнхорста пред¬
ставляла собой своего рода «возвращение к природе» в духе Руссо и революцию против
профессиональных армий кабинетных войн времен Фридриха Великого.
178
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
ве символов «одновременных» временнйх переворотов взятие Басти¬
лии, Вальми, Аустерлиц, Ватерлоо и возвышение Пруссии соответст¬
вуют таким образом среди событий античности битвам при Херонее и
Гавгамелах, походу на Индию и победе римлян при Сентине, и делает¬
ся понятным, что в войнах и политических катастрофах, основном ма¬
териале нашей историографии, победа не является существенным мо¬
ментом борьбы, а мир не является целью переворота.
18
Тот, кто усвоил эти соображения, поймет, сколь роковым для пережи¬
вания подлинной истории должен был сделаться принцип каузальности,
присущий в закосневшей своей форме только поздним состояниям куль¬
туры и тем более тиранически воздействующий на картину мира. Кант ве¬
сьма предусмотрительно провозгласил каузальность необходимой фор¬
мой познания, но следует неустанно подчеркивать, что под этим подразу¬
мевалось исключительно рассудочное наблюдение окружающего человека
мира. Слово «необходимость» ласкало слух каждого, однако при этом не
желали слышать об ограничении принципа одной-единственной обла¬
стью познания, которая исключала как раз созерцание и вчувствование в
живую историю. Весь же XIX в. прилагал усилия к тому, чтобы стереть
границу между природой и историей в пользу первой. Чем более «исто¬
рично» желали мыслить, тем больше упускали из виду, как здесь мыслить
не следует. Силой навязывая живому косную схему пространственной и
враждебной времени причинно-следственной связи, историки вносили в
чувственную поверхностную картину событий конструктивные линии
физической картины природы, и никто не ощущал (посреди поздних, го¬
родских умов, привыкших к каузальному мыслительному принуждению)
глубинной абсурдности науки, желавшей постичь органическое станов¬
ление посредством методичного непонимания его как механизма ставше¬
го. Однако день — не причина ночи, юность — не причина старости, цве¬
ток — не причина плода. Все, что мы умственно усваиваем, имеет причину,
все, что мы с внутренней несомненностью переживаем в качестве органи¬
ческого, обладает прошлым. Первым обозначается «случай», который воз¬
можен повсюду и чья внутренняя форма установлена вне зависимости от
того, когда и как часто он наступает, и наступает ли вообще; второе обо¬
значает событие, которое было один раз и никогда больше не повторится.
И в зависимости от того, воспринимаем ли мы что-то в окружающем нас
мире критически-сознательно или физиономически и непринужденно,
делаем ли выводы на основании технического или жизненного опыта, мы
приходим либо к вневременной причине в пространстве или же к направ¬
лению, ведущему от «вчера» к «сегодня» и «завтра».
Однако дух наших больших городов не желает таких заключений.
Окруженный машинной техникой, созданной им же самим, поскольку
Глава вторая. Проблема всемирной истории 179
он вызнал у природы самую опасную ее тайну, закон, он желает техни¬
чески поработить также и историю, как в теории, так и на практике.
Целесообразность — вот великое слово, с помощью которого он уподо¬
бил историю себе. В материалистическом представлении об истории
господствуют законы каузального характера, и отсюда следовало, что
такие прагматические идеалы, как просвещение, гуманизм и мир во
всем мире, должны были быть приняты за цели всемирной истории,
чтобы в ходе «прогресса» их достичь. Однако в этих старческих наброс¬
ках без следа исчезло ощущение судьбы — вместе с юношескими муже¬
ством и отвагой, которые, будучи чреваты будущим, самозабвенно бро¬
саются в темный омут принятого решения.
Ибо одна только юность владеет будущим, является будущим. Однако
эти загадочные слова равнозначны направлению, времени и судьбе. Судь¬
ба всегда юна. Тот, кто ставит на ее место цепочку причин и следствий,
усматривает также и в том, что пока еще не воплотилось, нечто как бы ста¬
рое и минувшее. Здесь недостает направления. Тому же, кто переживает
Нечто в протекающем преизобилии, нет нужды знать о цели и пользе. Он
сам себя воспринимает в качестве смысла происходящего. Такой была
вера в свою звезду, не покидавшая Наполеона и Цезаря, как и великих де¬
ятелей иного рода, и, несмотря на юношескую меланхолию, то же самое
заложено во всяком детстве, во всех юных племенах, народах и культурах,
как и на протяжении всей истории — во всех деятелях и созерцателях, ко¬
торые юны, при том, что седы, и куда более молоды, чем вся эта столь ран¬
няя тяга к вневременной целесообразности. Ибо ощущаемая значимость
всякий раз сиюсекундного окружающего мира также открывается нам в
первые дни детства, которому важны лишь лица и предметы из непосред¬
ственного окружения, и по ходу безмолвного и бессознательного опыта
она расширяется до всеохватной картины, которая является общим выра¬
жением цельной культуры на данной стадии, толкователями же ее могут
быть лишь великие знатоки жизни и историографы.
В этом непосредственное впечатление от настоящего отлично от карти¬
ны прошлого, хранимой в одном только духе, т. е. мир как событие — от
мира как истории. На первый направляют проницательный взгляд знато¬
ка деятели — политики и полководцы, второй же становится предметом
созерцательного внимания историка и поэта. В первый мы вмешиваемся
практически, будь то пассивно или деятельно; второй же достается в удел
хронологии как великому символу неотвратимо миновавшего . Мы огля¬
дываемся назад, а живем вперед, навстречу непредвиденному, однако те¬
перь, уже начиная с технического опыта детства, в картине однократного
события проступают черты того, что предвидеть следует, картина законо-
Которая именно в силу того, что свободна от времени, может пользоваться мате¬
матическими символами. Эти косные числа испокон века означают для нашего глаза
судьбу. Однако их смысл отличен от математического (прошлое — не причина, рок —
не формула), и всякий, кто обращается с ними математически, как исторический мате¬
риалист, на самом деле перестал видеть прошлое как таковое, которое жило однажды и
лишь однажды.
180
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
мерной природы, подлежащей не физиономическому такту, но расчету.
Дичь, к примеру, воспринимается нами как одушевленное существо и тут
же — как пища; мы усматриваем в молнии опасность или электрический
разряд. И эта вторая, поздняя, окаменяющая картина мира все в большей
степени одолевает в больших городах первую: картина прошлого механи¬
зируется, материализуется, из нее извлекается свод причинно-следствен¬
ных правил для прошлого и будущего. Мы верим в исторические законы
и доступный рассудку опыт в связи с ними.
Однако наука — это всегда наука о природе. Каузальное знание, тех¬
нический опыт бывают лишь для ставшего, протяженного, познанно¬
го. Как жизнь принадлежит истории, так знание принадлежит приро¬
де — постигаемому в качестве стихии, наблюдаемому в пространстве,
сформированному по закону причины и следствия чувственному миру.
Так существует ли вообще наука история? Вспомним, как во всякой
персональной картине мира, которая лишь в большей или меньшей
степени соответствует картине идеальной, встречается что-то от обеих:
как не бывает «природы» без живых, так не бывает и истории без кауза¬
льных созвучий. Ибо хотя в рамках природы два однородных испытания
приводят к одному и тому же закономерному результату, однако каж¬
дое из них представляет собой историческое событие, датированное и
никогда более не повторяющееся. А в рамках истории данные по про¬
шлому — хронологические, статистические, имена, образы* — образу¬
ют закосневшее сплетение. Факты «у-становлены», даже когда мы их
не знаем. Все прочее — это картина, теория55, как там, так и здесь, од¬
нако история — это само «пребывание в фокусе», и фактический мате¬
риал ему только служит; в природе теория служит получению этого ма¬
териала как настоящей цели.
Так что никакой науки истории не существует, а есть лишь преднаука
для нее, которая обнаруживает уже существующее. Для самого же истори¬
ческого взгляда данные — всегда символы. Однако естествознание — это
всегда только наука. Имея техническое происхождение и технические
цели, оно желает лишь обнаруживать данные, законы каузального харак¬
тера, а стоит ему только направить взор на что-то другое, как оно сразу
становится л*етияфизикой, чем-то сверхприродным. Но по этой причине
исторические и естественно-научные данные друг от друга отличаются.
Вторые вечно повторяются, первые же не повторяются никогда. Вторые
являются истинами, первые же — фактами. Какими бы близкими друг
другу не представали «случаи» и «причины» в повседневной картине жиз¬
ни, на глубинном уровне они принадлежат к разным мирам. Воистину
картина истории, существующая у данного человека (а с ней и сам чело¬
век) тем площе, чем решительнее в ней господствует зримый случай, а
значит, и историография тем бессодержательнее, чем больше она исчер¬
* Не только даты заключения мира и даты смерти, но также и возрожденческий
стиль, полис, мексиканская культура — все это данные, факты, которые имеются в на¬
личии даже тогда, когда у нас нет о них никакого представления.
Глава вторая. Проблема всемирной истории 181
пывает свой объект установлением чисто фактических отношений. Чем
глубже некто переживает историю, тем реже будут ему выпадать «каузаль¬
ные» впечатления, и тем более несомненно, что он будет их воспринимать
как что-то целиком и полностью малозначительное. Просмотрите естест¬
венно-научные сочинения Гёте, и вы поразитесь, обнаружив там пред¬
ставление живой природы без формул, без законов, почти без единого
следа какой-либо каузальности. Время для него — это не отстояние, а
ощущение. Просто ученый, который лишь критически разлагает и упоря¬
дочивает, а не созерцает и ощущает, вряд ли обладает даром пережить
здесь нечто окончательное и глубинное. Однако история этого требует; и
с полным основанием мы наблюдаем тот парадокс, что исследователь ис¬
тории тем значительнее, чем в меньшей степени он принадлежит к собст¬
венно этой науке.
Нижеследующая схема является обобщением сказанного.
Душа
Мир
Жизнь, направление
Переживать судьбу
однократно, безвозвратно
«факт»
физиономический такт (инстинкт)
Протяжение
Познавать каузальное
постоянно возможно
«истина»
систематическая критика (рассудок):
бодрствование на службе у бытия: картина бодрствование господствует в бытии: кар-
мира истории тина мира природы
жизненный опыт ' научные методы
картина прошлого; формировать созерцая религия, естествознание
(историк, трагик): теоретически: миф, догма, гипотеза
исследовать судьбу
направление в будущее практически: культ, техника
формировать деятельно (политик)
быть судьбой
19
Можем ли мы выдвигать какую-либо группу фактов социального, ре¬
лигиозного, физиологического, морального характера в качестве «при¬
чины» другой группы? Рационалистическая историография и в еще бо¬
льшей степени нынешняя социология по сути только этим и занимают¬
ся. Для них это означает постигать историю, углублять ее познание.
Однако для цивилизованного человека в глубине всегда наличествует
разумная цель. Без этого его мир обессмыслился бы. Разумеется, вовсе не
характерная для той же физики свобода в выборе основополагающих при¬
чин не лишена здесь комизма. Один выбирает в качестве prima causa
182
Том L ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
[первопричины (лат.)] одно, другой — другое, что оказывается неисчер¬
паемым источником взаимной полемики, и все наполняют свои труды
мнимыми объяснениями хода всемирной истории в духе естественных
взаимосвязей. Классическое выражение этому методу дал Шиллер по¬
средством одной из своих бессмертных банальностей, стиха о мировом
механизме, поддерживаемом «голодом и любовью»66. Век XIX, переходя
от рационализма к материализму, возвысил его мнение до канонически
непогрешимого. Тем самым культ пользы был поставлен во главу угла.
Во имя столетия Дарвин принес ему в жертву учение Гёте о природе. Ор¬
ганическая логика фактов жизни была заменена механической в физио¬
логическом облачении. Наследственность, приспособление, половой
подбор — все это целесообразные причины с чисто механическим со¬
держанием. На место исторических предначертаний заступает естест¬
венно-природное движение «в пространстве». Однако существуют ли
исторические, душевные, бывают ли вообще живые «процессы»! Имеют
ли исторические движения, например, эпоха Просвещения или Воз¬
рождения, вообще что-либо общее с естественно-научным понятием
движения? Со словом «процесс» судьба оказалась упраздненной. Тайна
становления была обнажена. У событий в мире более не оказалось тра¬
гической структуры, осталась одна только математическая. Отныне
«строгий» историк исходит из того, что в картине истории наличествует
последовательность состояний механического типа, что они, подобно
физическому эксперименту или химической реакции, доступны для
рассудочного препарирования, и что тем самым основания, средства,
пути, цели должны образовать прочную и осязаемую сеть, лежащую на
поверхности зримого. Картина оказывается ошеломляющим образом
упрощенной. И следует признать, что при достаточной примитивности
наблюдателя данное допущение — лично для него и для его картины
мира — оказывается оправданным.
Голод и любовь* — таковы отныне механические причины механиче¬
ских процессов в «жизни народов». Социальные и сексуальные пробле¬
мы (и те, и другие относятся к физике или химии социального, чересчур
социального существования) становятся само собой разумеющейся те¬
мой утилитаристского рассмотрения истории, а значит, также и соот¬
ветствующей ему трагедии. Ибо рядом с материалистическим воззрени¬
ем на историю неизбежно оказывается социальная драма. И то, что в
«Избирательном сродстве» было судьбой в высшем смысле этого слова,
оказывается в «Женщине с моря» не более чем сексуальной проблемой67.
Ибсен и все рассудочные поэты наших больших городов не «сочиняют».
Они конструируют, причем конструируют каузальную взаимосвязь от
самой первой причины до самого последнего следствия. Все тяжкие ху¬
дожественные борения Геббеля представляли собой исключительно по¬
пытки преодолеть этот неприкрытый прозаизм в его более критических,
* То, что лежит в основе этого, а именно метафизические основания экономики и
политики, рассматривается в т. 2, гл. 3, раздел 14; гл. 4, раздел 9.
Глава вторая. Проблема всемирной истории
183
нежели интуитивных задатках, и продолжать оставаться поэтом им во¬
преки, и отсюда его несоразмерная, совершенно негётеанская склон¬
ность к мотивированию происходящего. Мотивирование означает здесь,
как у Геббеля, так и у Ибсена, желание представить трагическое каузаль¬
ным. Геббель упоминает как-то даже о винтовой резьбе в обосновании
некоего характера; он препарировал и перелицовывал анекдот до тех
пор, пока тот не делался системой, доказательством данного случая: до¬
статочно проследить, как он трактует историю Юдифи68. Шекспир взял
бы ее такой, как она есть, и по физиономической прелести подлинного
происшествия догадался бы о мировой тайне. Однако произнесенные
как-то Гёте слова: «Не следует отыскивать что-то за феноменами; они
сами учение»69, столетию Маркса и Дарвина уже не были понятны.
Люди были далеки от того, чтобы угадывать судьбу в лике прошедшего,
подобно тому, как ни у кого не было желания изобразить в трагедии чис¬
тую судьбу. Как здесь, так и там культ пользы ставил совершенно иные
цели. Изображали, чтоб что-то доказать. «Вопросы» времени трактова¬
лись, социальные проблемы целенаправленно «разрешались». Средст¬
вом для этого оказывалась как сцена, так и исторический труд. Дарви¬
низм, хотя и совершенно бессознательно, превратил биологию в поли¬
тически действенное средство. В гипотетической протоплазме как-то
вдруг воцарилось демократическое оживление, и борьба дождевых чер¬
вей за существование дает хороший урок двуногим неудачникам.
И все же историкам следовало бы поучиться осторожности у пред¬
ставителей самой зрелой и строгой нашей науки, а именно физики.
Пускай это будет даже каузальный метод; претит та плоскость, с кото¬
рой его применяют. Здесь нет ни умственной дисциплины, ни глубины
взгляда, уж не говоря о скептицизме, свойственном использованию ги¬
потез в физике*. Ибо физик рассматривает свои атомы и электроны,
потоки и силовые поля, эфир и массу далеко не так, как это характерно
для посконной веры дилетантов и монистов, но как образы, в качестве
которых он толкует абстрактные отношения своих дифференциальных
уравнений, в которые он облекает лишенные наглядности числа, при¬
чем с определенной свободой выбора между несколькими теориями,
без того, чтобы искать в них какую-то иную действительность, нежели
условный знак *. И он знает, что на этом, единственно возможном для
науки пути внешнего опыта относительно технической структуры
окружающего мира может быть достигнуто только его символическое
толкование — не более того, и уж без всякого сомнения никакого «по¬
Уже в химии построение гипотез происходит с куда меньшей ответственностью, и
именно вследствие ее меньшей связи с математикой. Карточный домик представлений,
который являют собой современные исследования строения атома (ср., например,
Вот М., Der Aufbau der Materie, 1920), был бы невозможен в областях, прилегающих к
электромагнитной теории света, создатели которой неизменно отдавали себе отчет в
наличии границы между математическим прозрением и его наглядным представлением
посредством всего-навсего образа — и не более того!
Между этими картинами и надписями на силовом щите по сути нет никакой разницы.
184
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
знания» в расхожем оптимистическом смысле. Познать картину при¬
роды, это творение и отображение духа, его alter ego в области протя¬
женного, означает не что иное, как познать самого себя.
Если физика является наиболее зрелой нашей наукой, то биология,
которая занята исследованием картины органической жизни, оказыва¬
ется — по своим содержанию и методу — самой слабой из наук. То, чем
на самом деле следовало бы быть историческому исследованию, а имен¬
но чистая физиономика, лучше всего выясняется на ходе проводив¬
шихся Гёте естественно-научных исследований. Вот он занимается
минералогией: тут же перед его взором собираются воедино узрения
картины истории Земли, в которой столь любимый им гранит означает
едва ли не то же самое, что я зову «пра-человеческим» в рамках челове¬
ческой истории. Он исследует известные растения, и ему открывается
пра-феномен метаморфоза, пра-образ истории всякого растительного
существования, а затем он приходит к тому на редкость глубокому про¬
зрению относительно вертикальной и спиральной тенденции в вегета¬
ции, которую как следует не поняли еще и доныне. Его исследования
костей, всецело направленные на созерцание живого, приводят его к
открытию os intermaxillare у человека и к тому прозрению, что черепная
коробка у позвоночных развилась из шести позвоночных костей. Ни¬
где ни слова о каузальности. Гёте воспринимал необходимость судьбы
так, как это выражено в его орфических пра-словах:
Таким ты должен быть, себя не превозмочь:
Доверься в том сивиллам и пророкам.
Чеканный лик, что жизнь произрастила,
Не сокрушат ни час, ни век, ни сила.
Просто химия звезд, математическая сторона физических наблю¬
дений, как и собственно физиология очень мало заботят Гёте, великого
историка природы, потому что все это систематика, опыт ставшего,
мертвого, косного, и из этого исходит его полемика против Ньютона —
случай, в котором правы оба: один познал в мертвом цвете закономер¬
ный естественный процесс, другой, художник, испытал интуитивно¬
чувственное переживание; в этом проявляется противоположность од¬
ного и другого мира, и теперь я подытожу ее во всей ее остроте.
История несет на себе знак однократно-фактического, природа же —
знак постоянно-возможного. До тех пор, пока я наблюдаю картину мира с
той точки зрения, в соответствии с какими законами она должна осущест¬
виться, не принимая в расчет того, происходит ли это на самом деле или
только должно было осуществиться, т. е. вне времени, я являюсь естест¬
воиспытателем и занимаюсь настоящей наукой. Для необходимости при¬
родного закона (а других законов ведь и не бывает) нет никакой, даже са¬
момалейшей разницы, проявляется ли он бесконечно часто или же ни¬
когда, т. е. он не зависит от судьбы. Тысячи химических соединений
никогда не встречаются и никогда не будут реализованы, однако их воз¬
Глава вторая. Проблема всемирной истории
185
можность доказана, а значит они здесь присутствуют — для закрепленной
системы природы, а не для физиономии вращающейся Вселенной. Система
составлена истинами, история основывается на фактах. Факты друг за
другом следуют, истины происходят одна из другой: это разница между
«когда» и «как». Вот блеснула молния — это факт, на который можно
молча указать пальцем. Вслед за молнией раздается гром—для сообщения
этого требуется фраза. Переживание может быть бессловесным; система¬
тическое познание происходит лишь через слова. «Определимо лишь то, у
чего нет истории», — сказал как-то Ницше70. Однако история — это со¬
временные события с устремленностью в будущее и оглядкой на про¬
шлое. Природа находится по ту сторону всякого времени, имея в себе чер¬
ту протяжения, однако без направления. В ней заложена необходимость
математического элемента, в истории же — элемента трагического.
В реальности бодрствующего существования тот и другой мир, мир
наблюдения и мир преданности, переплетаются, подобно тому, как
«создают» картину уток и основа брабантского гобелена. Всякий закон,
чтобы ему вообще представиться разуму, должен быть однажды от¬
крыт вследствие судьбоносного стечения обстоятельств внутри исто¬
рии духа, т. е. должен быть пережит; всякая судьба предстает в том чув¬
ственном облачении лиц, поступков, сцен, жестов, на которые распро¬
страняются законы природы. Жизнь первобытного человека была
отдана на откуп демоническому единству судьбоносного; в сознании
зрелого культурного человека никогда не умолкает противоречие той
ранней и этой поздней картины природы; у цивилизованного человека
трагическое мироощущение оказывается жертвой механизирующего
интеллекта. История и природа противостоят в нас друг другу, как
жизнь и смерть, как вечно становящееся время и вечно ставшее про¬
странство. Становление и ставшее борются между собой в бодрствова¬
нии за преобладание в нашей картине мира. Наиболее высокая и зре¬
лая форма того и другого способа наблюдения, какие возможны только
в зрелых культурах, предстает для античной души в противоположно¬
сти Платона и Аристотеля, для западной — в противоположности Гёте
и Канта: чистая физиономия мира, узренная душой вечного ребенка, и
чистая систематика, познанная рассудком вечного старика.
20
Вот в этом-то я теперь и усматриваю последнюю великую задачу за¬
падной философии, единственную, которая оставлена напоследок стар¬
ческой мудрости фаустовской культуры и которая представляется пре¬
допределенной ей тысячелетним развитием нашей душевности. Ника¬
кая культура не свободна избирать путь и стать своего мышления;
однако здесь культура впервые мох^ет предвидеть, какой именно путь
избрала за нее судьба.
186
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Мне представляется чисто западный способ исследовать историю в
высшем смысле этого слова, прежде никогда еще не встречавшийся и
остававшийся неизбежно чуждым античной и всякой другой душе. Все¬
объемлющая физиономика всего бытия, морфология становления всего
человечества, которое продвигается на своем пути к высшим и последним
идеям; задача проникнуть в мироощущение не только своей собственной,
но и всех душ, в которых до сих пор вообще заявляли о себе великие воз¬
можности и выражением которых в картине действительности являются
отдельные культуры. Этот философский взгляд, правом на который наде¬
ляют нас и только нас аналитическая математика, контрапунктированная
музыка, перспективная живопись, предполагает, выходя далеко за преде¬
лы задатков систематизатора, взор художника, причем такого, который
ощущает, как чувственный и осязаемый мир вокруг него полностью рас¬
творяется в глубокой бесконечности таинственных отношений. Так чув¬
ствовал Данте, так чувствовал и Гёте. Цель в том, чтобы выделить тысяче¬
летие как единство, как личность из сплетения событий в мире и постичь
его в его заветнейших душевных условиях. Созерцать и понимать вели¬
кие, исполненные судьбы черты на лике культуры как человеческого ин¬
дивидуума высшего порядка подобно тому, как мы проникаем в черты
портрета кисти Рембрандта или бюста Цезаря — в этом и заключается но¬
вое искусство. Уже совершались попытки узнать, как выглядит культура в
поэте, в пророке, в мыслителе, в завоевателе, однако погрузиться в антич¬
ную, египетскую, арабскую душу вообще, чтобы сопережить ее с целост¬
ным ее выражением в типичных людях и положениях, в религии и госу¬
дарстве, стиле и тенденции, мышлении и нравах — вот новый вид «жиз¬
ненного опыта». Всякая эпоха, всякий великий образ, всякое божество,
города, языки, нации, искусства, все, что было здесь испокон веков и бу¬
дет еще, — представляет собой физиономическую черту высочайшей
символики, которую знаток людей должен истолковывать в совершенно
новом смысле этого слова. Поэмы и битвы, празднества Исиды и Кибелы
и католические мессы, доменные печи и гладиаторские бои, дервиши и
дарвинисты, железные дороги и римские дороги, «прогресс» и нирвана,
газеты, массы рабов, деньги, машины, — все это в равной степени знаки и
символы в мировой картине прошедшего, которое неспроста хранит в
себе душа. «Все преходящее — только подобье». Здесь скрыты решения и
перспективы, о которых никто пока что даже не догадывался. Проясня¬
ются смутные вопросы, лежащие в основе глубочайших из всех человече¬
ских пра-чувств, всякого страха и всякого томления, вопросы, которые
желание понять переоблачает в проблему времени, необходимости, про¬
странства, любви, смерти, первопричин. Существует колоссальная музы¬
ка сфер, которая желает быть услышанной, и которую услышат некоторые
из наиболее глубоких наших умов. Физиономика мировых событий ста¬
нет последней фаустовской философией.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
МАКРОКОСМ
I. Символика картины мира и проблема пространства
1
Таким образом, идея физиономической по характеру всемирной
истории расширяется до идеи всеохватной символики. Историческое
исследование в том смысле, который требуется от него здесь, должно
лишь проверить картину некогда живого, ныне же оставшегося в про¬
шлом, и установить его внутреннюю форму и логику. Идея судьбы —
вот последнее, до чего оно может добраться. Между тем такое изыска¬
ние, каким бы новым и широким по охвату оно ни оказалось в указан¬
ном здесь направлении, может быть лишь фрагментом и основанием
еще более всеохватного рассмотрения. Бок о бок с ним находится есте¬
ствознание, столь же фрагментарное и ограниченное в круге своих кау¬
зальных отношений. Однако ни трагическое, ни техническое «движе¬
ние» (если можно так выразиться, чтобы отличить глубинные основа¬
ния пережитого и познанного) не исчерпывают самогб живого. Мы
переживаем и познаем, пока бодрствуем, однако мы живем также и
тогда, когда наши ум и чувства'спят. Пускай даже ночь смежит все гла¬
за, кровь не засыпает. Мы движимы в подвижном — так, прибегая к
термину из естествознания, мы пытаемся сделать наглядным неска¬
занное, внутренней несомненностью которого обладаем в часы само¬
углубленности; однако бодрствующему существу «здесь» и «там» пред¬
ставляются неслиянной двоицей. Всякое собственное движение обла¬
дает выражением, всякое чужое производит впечатление, так что все,
что мы сознаем, в каком бы то ни было образе, как то: душа и мир,
жизнь и действительность, история и природа, закон, чувство, судьба,
Бог, будущее и прошлое, настоящее и вечность, обладает для нас еще и
глубочайшим смыслом, и единственное и наиболее внешнее средство
уловить это неуловимое заложено в той разновидности метафизики,
для которой все, чем бы оно ни было, обладает значением символа.
Символы — это чувственные знаки, последние, неделимые и в пер¬
вую очередь невольные впечатления, несущие определенное значение.
Символ — это черта действительности, с непосредственной внутрен¬
ней несомненностью обозначающая для неловека с пробужденными
чувствами нечто такое, что не может быть сообщено средствами рас¬
судка. Дорический, раннеарабский, раннероманский орнамент, вид
крестьянского дома, картины семейства и общения, костюмов и куль¬
190 Том L ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
товых действий, но также и лицо, походка и осанка человека, целых со¬
словий и народов, виды языков и формы поселений всех людей и жи¬
вотных, а сверх того — вообще весь немой язык природы с ее лесами,
пастбищами, стадами, облаками, звездами, с лунными ночами и гроза¬
ми, расцветом и увяданием, далью и близью — все это символическое
впечатление, производимое космическим на нас, бодрствующих, и в
часы самоуглубленности мы вполне понимаем этот язык. С другой же
стороны, это есть ощущение однородного понимания, которое выде¬
ляет из человечества как целого и сплачивает воедино семьи, сословия
и племена, а в конечном счете — целые культуры.
Так что речь здесь будет идти не о том, чтб «есть» мир, но что означает
он для живого существа, которое окружает. С пробуждением для нас
происходит некий разрыв между «здесь» и «там». «Здесь» мы живем, а
«там» переживаем, первое как близкое, а второе как чужое. Это раздво¬
енность между душой и миром как полюсами действительности, и во
втором бывают не только сопротивления, которые мы каузально вос¬
принимаем как вещи и свойства, а также движения, в которых мы ощу¬
щаем действие существ, numina «точно таких же, как мы сами», но еще и
нечто такое, что сразу же раздвоенность снимает. Действительность
(мир по отношению к душе) — это есть для всякого отдельного существа
проекция направленного в область протяженного; она представляет со¬
бой собственное, отражающееся в чужом, она означает его само. По¬
средством столь же творческого, сколь бессознательного акта (это не «я»
воплощаю возможное, но «оно» само воплощается через меня) между
живым «здесь» и «там» оказывается наведен мост символа; внезапно и с
полнейшей необходимостью из совокупности чувственных и припоми¬
наемых элементов возникает мир «как таковой», который мы постига¬
ем: для всякого отдельного существа — «его» собственный.
По этой причине миров столько, сколько имеется бодрствующих
существ и живущих в прочувствованном созвучии групп существ, и в
существовании каждого из них якобы единственный, самостоятель¬
ный и вечный мир (который, как считает каждый, он разделяет с про¬
чими) является всегда новым, однократным и никогда не повторяю¬
щимся переживанием.
Ряд уровней сознания ведет от наиболее изначального смутно-детско¬
го созерцания, в котором еще нет никакого отчетливого мира для одной
души и нет еще никакой сознающей себя души посреди мира, к высшим
видам одухотворенных состояний, на которые способны только люди
вполне зрелых цивилизаций. Это нарастание есть в то же самое время раз¬
витие символики от содержания значения всех вещей к появлению отде¬
льных и определенных знаков. Не только тогда, когда я как ребенок, гре¬
зящий или художник воспринимаю мир полным неясных смыслов; не то¬
лько тогда, когда я бодрствую, однако не постигаю мира с напряженным
вниманием мыслящего и деятельного человека (состояние, которое даже
в сознании мыслителя и человека действия господствует куда реже, чем
Глава третья. Макрокосм
191
полагают), но и вообще всюду и всегда, поскольку вообще может идти
речь о бодрствующей жизни вообще, я сообщаю тому, что вне меня, пол¬
ное собственное содержание, начиная с полусновидческих впечатлений
погруженности в мир и вплоть до косного мира каузальных законов и чи¬
сел, который наваливается на тот, первый, и связывает его. Однако даже в
самом царстве чистых чисел нет недостатка в символическом, и как раз из
него происходят знаки, с которыми глубокомысленное мышление связы¬
вает невыразимый смысл: треугольник, круг, семерка, дюжина.
Такова идея макрокосма, действительности как совокупности всех
символов по отношению к одной душе. Ничто не исключено из этого
свойства значимого. Все сущее является также и символом. Начиная с
телесных явлений — лица, облика, осанки отдельного существа, сосло¬
вий, народов — о чем было известно всегда, и вплоть до якобы вечных и
всеобщезначимых форм познания, математики и физики все говорит о
сущности определенной и никакой иной души.
Однако на большем или меньшем родстве отдельных миров друг с дру¬
гом, поскольку они переживаются людьми одной культуры или душевной
общности, основывается бблыпая или меньшая доступность для переда¬
чи всего увиденного, воспринятого, познанного, т. е. сформированного в
стиле собственного бытия, с помощью средств выражения языка, искус¬
ства и религии, с помощью словесных звучаний, формул, знаков, которые
в свою очередь являются символами. Здесь тут же обнаруживается непре¬
одолимое препятствие для того, чтобы действительно что-то сообщить
иному существу или в самом деле понять его жизненные проявления.
Степень родства миров форм с той и другой стороны является решающим
обстоятельством в отношении того, когда понимание переходит в само¬
обман. Вне всякого сомнения, мы можем лишь с очень большой непол¬
нотой понять индийскую и египетскую душу, которые открываются в со¬
ответствующих людях, нравах, божествах, пра-словах, идеях, зданиях, по¬
ступках. Грекам, в силу того что они были аисторичны, также было
отказано в хотя бы слабейшем представлении о сущности чуждой душев¬
ности. Мы видим, с какой наивностью они отыскивали в богах и культу¬
рах всех иных народов свои собственные представления. Однако перево¬
дя бытующими у нас оборотами такие понятия чужих философов, как рх,
«атман», «дао», также и мы подменяем чужое душевное выражение своим
собственным мироощущением, из которого ведь и происходит значение
наших слов. Черты древнеегипетских и китайских портретов мы также
истолковываем на основании западного жизненного опыта. В обоих слу¬
чаях мы обманываемся. То, что шедевры искусства древних культур все
еще живы для нас (а значит, «бессмертны»), также принадлежит к кругу
этого «во-ображения» в буквальном смысле, которое может сохраняться
лишь через единодушие в превратном толковании. На этом основывает¬
ся, например, воздействие, оказанное на искусство Возрождения группой
Лаокоона или на французскую драму эпохи классицизма — трагедиями
Сенеки.
2
192
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Символы, как нечто осуществленное, принадлежат к области про¬
тяженного. Они ставшие, а не становящиеся (даже тогда, когда они
обозначают становление), а тем самым жестко очерчены и подчинены
законам пространства. Существуют лишь чувственно-пространствен¬
ные символы. Уже само слово «форма» обозначает что-то протяженное
в протяженном и, как мы убедимся, исключением из этого не являются
также и внутренние формы музыки. Однако протяжение — это харак¬
терная черта факта «бодрствование», которое образует лишь одну сто¬
рону единичного существования и теснейшим образом связано с его
судьбами. Поэтому всякая черта деятельного (воспринимающего или
понимающего) бодрствования оказывается прошедшей уже в тот самый
миг, когда мы ее замечаем. Мы можем лишь задумываться о впечатле¬
ниях (показательный оборот), однако то, что для чувственной жизни
животных только прошедшее, преходяще для связанного со словами
понимания человека. Преходяще не только то, что случается (ибо ни¬
какое событие не может быть воспроизведено), но также и всякий вид
значения. Проследим судьбу колонны начиная с египетского погреба¬
льного храма, где их ряды направляли странника, через дорический пе¬
риптер, чье тело они охватывают, и раннеарабскую базилику, чье внут¬
реннее пространство они подпирают, вплоть до фасадов Возрождения,
где они выражают черту устремленности вверх. Прежнее значение бо¬
льше никогда не повторяется. Все, что вступает в царство протяженно¬
го, вместе с началом обретает также и конец. Между пространством и
смертью существует глубокая и рано ощущаемая взаимосвязь. Чело¬
век — единственное существо, которое знает смерть. Все прочие ста¬
рятся, однако с сознанием, всецело сосредоточенным на мгновении,
которое должно представляться им вечным. Они живут, однако ничего
не знают о жизни, как дети в ранние свои годы, когда христианство все
еще рассматривает их как «невинных». И они умирают и видят смерть,
однако ничего об этом не знают71. Лишь полностью пробудившийся,
подлинный человек, понимание которого благодаря речевому навыку
отделено от зрения, обладает помимо восприятия еще и понятием пре¬
хождения, т. е. памятью на прошедшее и опытом безвозвратного. Мы
являемся временем*, однако мы обладаем также и картиной истории, и
на ней рождение предстает по отношению к смерти еще одной загад¬
кой. Для всех прочих существ жизнь протекает без помышления о ее
границах, т. е. без знания о задаче, смысле, продолжительности и цели.
Поэтому пробуждение внутренней жизни в ребенке с глубокой и ис¬
полненной значения тождественностью зачастую оказывается связан*
ным со смертью родственника. Ребенок внезапно постигает безжизнен¬
ный труп, ставший всецело материей, всецело пространством, и одно-
Ср. с. 39.
Глава третья. Макрокосм 193
временно ощущает самого себя как отдельное существо в чуждом,
протяженном мире. «От пятилетнего ребенка до меня — только шаг. От
новорожденного до пятилетнего — страшное расстояние», — сказал
как-то Толстой72. Здесь, в этой решающей точке существования, когда
человек впервые становится человеком и узнает о своем чудовищном
одиночестве во Вселенной, мировой страх заявляет о себе как чисто че¬
ловеческий страх смерти, страх предела в мире света, страх косного
пространства. Здесь исток высшего мышления, которое является по¬
началу размышлением о смерти. С этого начинается любая религия,
любое естествознание, любая философия. Всякая великая символика
завязывает язык своих форм на культе мертвых, на форме погребения,
украшении могилы. Египетский стиль начинается с погребальных хра¬
мов фараонов, античный — с геометрического украшения погребаль¬
ных урн, арабский — с катакомб и саркофагов, западный — с собора,
где в руках священника ежедневно повторяется жертвенная смерть
Иисуса. Из раннего страха происходит также и все историческое вос¬
приятие: в античности через цепляние за наполненное жизнью настоя¬
щее, в арабском мире — из крещения, вновь обретающего жизнь и пре¬
одолевающего смерть, в фаустовском — из покаяния, делающего тебя
достойным принять тело Иисуса, а с ним и бессмертие. Забота о про¬
шлом возникает лишь из неусыпной заботы о жизни, которая еще не
прошла. У животного есть только будущее, человеку же известно также
и прошлое. Поэтому всякая новая культура пробуждается с новым «ми¬
ровоззрением», т. е. внезапным взглядом на смерть как тайну зримого
мира. Когда ок. 1000 г. на Западе распространилась мысль о конце све¬
та, на свет появилась фаустовская душа этого ландшафта.
В глубоком изумлении перед смертью первобытный человек всеми
силами своего духа пытался пронизать и заклясть этот мир протяженно¬
го с неумолимыми и неизменно присутствующими границами его кауза¬
льности, мир, полный смутного могущества, постоянно грозившего ему
концом. Эта инстинктивная защита заложена глубоко в бессознатель¬
ном существовании, однако поскольку она-то впервые и создала душу и
мир, разделив их и противопоставив друг другу, она ознаменовала порог
личностного жизненного пути. Начинают действовать самоощущение и
мироощущение, и вся культура, как внутренняя, так и внешняя, как по
выступке, так и по выделке, оказывается лишь возрастанием этого чело¬
веческого существования вообще. Начиная отсюда все, что противосто¬
ит нашим восприятиям, — это уж больше не только «сопротивление»,
вещь, впечатление, как у животных и также все еще у ребенка, но также и
выражение. Вещи не только реально находятся внутри окружающего
мира, но и обладают — такими, какими они «являются» — также и смыс¬
лом в пределах мщ>о«воззрения». Поначалу лишь они обладали отноше¬
нием к человеку, теперь же также и у человека имеется отношение к ним.
Они стали символами его существования. Так что сущность всякой под¬
линной, т. е. бессознательной и внутренне необходимой символики проис¬
7 Закат Западного мира
194
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
ходит из знания о смерти, в котором раскрывается тайна пространства.
Вся символика означает защиту. Она является выражением глубокой
робости в старинном двойном значении этого слова: язык ее форм гово¬
рит в одно и то же время о вражде и благоговении.
Все ставшее преходяще. Преходящими являются не только народы,
языки, расы, культуры. Через несколько столетий не останется больше
никакой западноевропейской культуры, никаких немцев, англичан,
французов, как в эпоху Юстиниана не было больше никаких римлян.
Не то чтобы угасла последовательность человеческих поколений: не
стало внутренней формы народа, которая сплотила некоторое их число
в единый жест. Civis Romanus [римскому гражданину (лат.)], одному из
наиболее могущественных символов античного существования, была
все же суждена, как форме, продолжительность всего в несколько сто¬
летий. Однако исчезнет также и пра-феномен великой культуры вооб¬
ще, а с ним — и спектакль всемирной истории, в конце же концов ис¬
чезнет и сам человек, а затем — и явление растительной и животной
жизни на поверхности Земли, сама Земля, Солнце и весь мир солнеч¬
ных систем. Всякое искусство смертно, и не только отдельные произ¬
ведения, но и само искусство. Настанет день, когда прекратят сущест¬
вование последний портрет Рембрандта и последний такт музыки Мо¬
царта (хотя, возможно, размалеванный холст и лист партитуры еще
сохранятся) — потому что исчезли последний глаз и ухо, которым был
доступен язык их форм. Преходяща всякая идея, всякая вера, всякая
наука, как только угасли умы, в чьих мирах их «вечные истины» с необ¬
ходимостью воспринимались как истинные. Преходящи даже звезд¬
ные миры, которые «являлись» астрономам на Ниле и Евфрате, как
миры для глаза, ибо наш — также преходящий — глаз уже другой. Мы
это знаем. Зверь этого не знает, а чего он не знает, того не существует в
переживании окружающего его мира. Однако с картиной преходяще-
сти пропадает также и страстное стремление придать преходящему бо¬
лее глубокий смысл. Так что идея о чисто человеческом макрокосме
вновь завязывается на слова, которым должно быть посвящено все да¬
льнейшее изложение: Все преходящее — только подобье.
Такая точка зрения незаметно приводит к проблеме пространства,
причем в новом, необычайном смысле. Ее решение — или, выразимся
скромнее, ее истолкование — оказывается возможным лишь в этой
связи, подобно тому, как проблема времени становится более доступ¬
ной лишь исходя из идеи судьбы. Судьбоносно направленная жизнь
предстает нам, как только мы пробуждаемся, в чувственной жизни в
качестве воспринимаемой глубины. Все распространяется, однако это
еще не есть «пространство», не нечто утвердившееся, но постоянное
самораспространение от подвижного «здесь» к подвижному «там». Пе-'
реживание мира связывается исключительно с сущностью глубины
(дали или отдаления), свойство которой в абстрактной системе матема¬
тики обозначается, наряду с длиной и шириной, в качестве «третьего
Глава третья. Макрокосм
195
измерения». Эта тройка равноупорядоченных элементов изначально
вводит в заблуждение. Несомненно они не равнозначны по простран¬
ственному впечатлению от мира, уж не говоря о том, что они не одно¬
родны. «Длина и ширина», несомненно, как переживание, представля¬
ющие собой единство, а вовсе не сумму, являются, выражаясь осто¬
рожно, чистой формой восприятия. Они представляют собой чисто
чувственное впечатление. Глубина представляет собой выражение, при¬
роду; с нее начинается «мир». Это, само собой разумеется, абсолютно
чуждое математике различие в оценке третьего измерения в противо¬
положность так называемым двум прочим содержится также и в проти¬
вопоставлении понятий восприятие и созерцание. Распространение в
глубину превращает первое во второе. Лишь глубина является измере¬
нием как таковым, в буквальном смысле этого слова, чем-то распро¬
страненным . Бодрствование в ней активно, в прочих же оно исключи¬
тельно пассивно. Это есть символическое содержание одного порядка,
причем в смысле одной-единственной культуры, которая с наиболь¬
шей глубиной заявляет о себе в этом первоначальном и не подлежащем
дальнейшему анализу элементе. Переживание глубины (от понимания
этого зависит все последующее) представляет собой столь же непреду¬
мышленный и необходимый, сколь и совершенно творческий акт, че¬
рез который «я» обретает свой мир, я бы даже сказал — мир оказывает¬
ся навязанным «я». Акт этот создает из потока восприятий оформлен¬
ное единство, подвижную картину, которая отныне, как только
понимание вступит в свои права, оказывается во власти законов, под¬
чинена каузальному принципу и тем самым, как отображение персона¬
льного духа, оказывается преходящей.
Несомненно, хотя рассудок этому и противится, что протяжение это
способно обнаруживать бесконечное разнообразие, будучи разным не то¬
лько у ребенка и взрослого, у первобытного человека и горожанина, у ки¬
тайца и римлянина, но даже у одного и того же человека в зависимости от
того, переживает ли он свой мир задумчиво или внимательно, деятельно
или покойно. Всякий художник воспроизводит все-таки в цветах и лини¬
ях природу как таковую. Всякий физик, будь то греческий, арабский или
немецкий, разлагает на основные элементы природу как таковую — по¬
чему же они не обнаружили все одно и то же? Потому что у всякого своя
собственная природа, хотя всякий из них с наивностью, спасающей его
Слово «измерение» следовало бы употреблять-лишь в единственном числе. Су¬
ществует протяжение, но не протяжения. Тройственность направлений — уже абстрак¬
ция, она не содержится в непосредственном ощущении телесного («душевного») про¬
тяжения. Из сущности направления происходит исполненное таинственности живот¬
ное различие правого и левого, а к этому прибавляется растительное тяготение снизу
вверх — земля и небо. Если последнее — сновидчески ощущаемый факт, то первое —
доступная для изучения истина бодрствования, куда в силу этого может вкрасться пута¬
ница. То и другое находит отражение в зодчестве, а именно в симметрии плана и в
энергии фронтальной проекции, и только по этой причине мы воспринимаем в «архи¬
тектуре» окружающего нас пространства как нечто особенное именно угол в 90°, а не,
скажем, в 60°, который дал бы в результате совершенно иное число «измерений».
196
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
воззрение на жизнь, спасающей его самого, полагает, что она у него общая
с прочими. «Природа» — это достояние, насыщенное всецело персональ-
нейшим содержанием. Природа — функция данной культуры.
3
Итак, Кант полагал, что разрешил великий вопрос, существует ли этот
элемент «а priori» или же получен из опыта, посредством своей знамени¬
той формулы о том, что пространство является формой созерцания, лежа¬
щей в основе всех впечатлений от мира. Несомненно, однако, что «мир»
беззаботного ребенка и грезящего человека обладают этой формой в неу¬
стойчивом и неокончательном виде*, и только напряженное, практиче¬
ское, техническое наблюдение за окружающим миром (ибо свободно пе¬
редвигающиеся существа должны заботиться о своей жизни; лишь поле¬
вые лилии в этом не нуждаются73) позволяет чувственному
самораспространению закоснеть до понятой трехмерности. Только горо¬
жанин высших культур действительно живет в этой пронзительной про¬
бужденное™, и только для его мышления существует полностью отде¬
ленное («абсолютное») от чувственной жизни, мертвое, чуждое времени
пространство в качестве формы уже более не созерцаемого, но понятого.
Нет никакого сомнения в том, что пространства «как такового», какое
Кант с безусловной несомненностью наблюдал вокруг себя, когда раз¬
мышлял о собственной теории, даже в приблизительно столь же строгом
виде не существовало для его предков во времена Каролингов. Величие
Канта основывается на создании им понятия «формы a priori», но не на
том, как он его применил. Мы уже убедились в том, что время вовсе не яв¬
ляется формой созерцания, что оно вообще не есть «форма» (существуют
только протяженные формы) и определяется лишь в качестве понятия,
противоположного пространству. Вопрос не только в том, в точности ли
словом «пространство» покрывается формальное содержание по созерца¬
емому; ведь факт состоит также и в том, что форма созерцания в зависимо¬
сти от удаления меняется: всякая удаленная горная гряда «созерцается»
как плоскость (кулиса). Никто не станет настаивать на том, что видит лун¬
ный диск как тело. Для глаза Луна — чистая плоскость, и лишь будучи си¬
льно увеличенной посредством подзорной трубы (т. е. искусственно при¬
ближенной) она все больше и больше приобретает пространственные
свойства. Так что на данный момент форма созерцания — это функция
отдаления. К этому прибавляется еще и то, что, размышляя, вместо того,
чтобы в точное™ припоминать только что миновавшие впечатления, мы
«представляем себе» картину отвлеченного от них пространства. Однако
это представление вводит нас в заблуждение в отношении живой дейст-1
вительности. Кант поддался заблуждению. Ему вообще не следовало про-
* Отсутствие перспективы в детских рисунках детьми вообще не воспринимается.
Глава третья. Макрокосм 197
водить различие между формами созерцания и рассудка, поскольку его
понятием пространства охватываются уже и те, и другие*.
Подобно тому, как Кант нанес ущерб проблеме времени тем, что со¬
отнес ее с неправильно понятой в своей сущности арифметикой, т. е.
говорил о временнбм призраке, в котором отсутствовало живое на¬
правление, и поэтому он был лишь пространственной схемой, точно
также пострадала от него и проблема пространства — ее соотнесением
с дюжинной геометрией. Случаю было угодно, чтобы через несколько
лет после завершения Кантом своего основного труда Гаусс открыл
первые из неэвклидовых геометрий, непротиворечивое в самом себе
существование которых доказало, что имеется несколько строго мате¬
матических видов трехмерной протяженности, которые все «аpriori не¬
сомненны», при том, что невозможно выделить одну из них в качестве
подлинной формы «созерцания».
То была тяжкая и непростительная для современника Эйлера и Лаг¬
ранжа ошибка — пожелать увидеть отображение античной школьной
геометрий (ведь именно ее Кант всегда и имел в виду) в формах окружа¬
ющей нас природы. Несомненно, в те мгновения, когда мы внимательно
наблюдаем, вблизи от наблюдателя и при достаточно малых соотноше¬
ниях имеется приблизительное совпадение между живым впечатлением
и правилами обычной геометрии. Тонное же совпадение, на котором на¬
стаивает философия, не может быть доказано ни по внешнему виду, ни с
помощью измерительных приборов. И то и другое никак не в состоянии
перешагнуть пределы некой точности, далеко не достаточной для прак¬
тического решения вопроса, например, о том, какая из неэвклидовых
геометрий является геометрией «эмпирического» пространства *. При
больших размерах и отстояниях, там, где переживание глубины полно¬
стью господствует в картине созерцания (например, не перед чертежом,
а перед уходящим вдаль пейзажем), форма созерцания всецело противо¬
речит математике. По всякой аллее мы видим, что параллели сходятся на
горизонте. Именно на этом факте основывается перспектива западной
живописи и — совершенно иная — перспектива живописи китайской,
* Та его мысль, что априорность пространства доказывается наглядной достовер¬
ностью простых геометрических фактов, основана на уже упоминавшемся чересчур
распространенном воззрении, что математика — это геометрия или арифметика. Одна¬
ко уже тогда математика Запада далеко уже вышла за пределы этой наивной, повторен¬
ной след за античностью, схемы. Если современная геометрия строится вместо «про¬
странства» на многократно бесконечных числовых многообразиях, причем трехмерное
представляет собой среди них ничем не примечательный единичный случай, если она
исследует в рамках этих групп функциональные образования в отношении иА структу¬
ры, то всякий вообще мыслимый вид чувственного созерцания формально перестал
иметь что-либо общее с математическими фактами в области таких протяженностей
без того, чтобы это сколько-то снизило их очевидность. Так что математика независи¬
ма от формы созерцаемого. Вопрос лишь в том, много ли останется от пресловутой
очевидности форм созерцания, как только будет признано искусственное перекрытие
одних другими в мнимом опыте.
Разумеется, геометрическую теорему можно доказать, вернее, продемонстриро¬
вать, на чертеже. Однако во всякой иной разновидности геометрии теорема принимает
иной вид, и здесь чертеж уже не является определяющим.
198
Том /. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
связь которых с фундаментальными проблемами соответствующих ма¬
тематик ощущается явственно. Переживание глубины в громадной пол¬
ноте ее видов убегает всякого числового определения. Вся лирика и му¬
зыка, вообще вся египетская, китайская, западная живопись громоглас¬
но противоречат допущению строго математической структуры
пережитого и видимого пространства и лишь потому, что никто из фи¬
лософов Нового времени не имел ни малейшего понятия о живописи,
все эти опровержения могли остаться неизвестными им. «Горизонт», в
котором и посредством которого всякая зрительная картина постепенно
переходит в плоскостное завершение, не может быть постигнут ни одним
видом математики. Всякий мазок кисти пейзажиста опровергает утвер¬
ждения теории познания.
Как отвлеченная от жизни математическая величина, «три измере¬
ния» не имеют никакой естественной границы. Это путают с плоско¬
стью и глубиной пережитого впечатления, совершая таким образом
вслед за одной гносеологической ошибкой другую, а именно что на¬
блюдаемая протяженность неограниченна, хотя нашим взглядом охва¬
тываются лишь освещенные куски пространства, границы которых
всякий раз образует световая граница, будь то небосвод неподвижных
звезд или же атмосферная освещенность. «Зримый мир» — это сово¬
купность световых сопротивлений, поскольку зрение связано с наличи¬
ем излучаемого или отраженного света. На этом воззрении греки и
остановились. Лишь западное мироощущение создало идею безгранич¬
ного мирового пространства с бесконечными системами неподвижных
звезд и удалениями, которая выходит далеко за пределы всяких опти¬
ческих возможностей — создание внутреннего взгляда, которое бежит
всякой реализации с помощью глаза и даже в качестве мысли остается
чуждым и неисполнимым для людей иначе чувствующих культур.
4
Результатом совершенного Гауссом открытия, которое изменило
путь современной математики вообще , оказалось таким образом дока¬
зательство, что имеется несколько в равной степени истинных струк¬
тур трехмерной протяженности, и вопрос о том, какая из них соответ¬
ствует реальному созерцанию, доказывает лишь то, что суть проблемы
осталась непонятой. Математика, вне зависимости оттого, пользуется
ли она как средствами наглядными картинами и представлениями, за¬
нимается всецело отделенными от жизни, времени и судьбы, чисто
рассудочными системами, мирами форм чистых чисел, истинность ко¬
торых (не фактичность) не связана со временем и, как и все лишь по¬
знанное, а не пережитое, подчинена каузальной логике. ** Как известно, Гаусс из страха «ропота профанов» молчал о своем открытии едва
ли не до самого своего смертного часа.
Глава третья. Макрокосм
199
Тем самым делается очевидным отличие живого созерцания от ма¬
тематического языка форм, и тайна пространственного становления
раскрывается.
Подобно тому, как становление лежит в основе ставшего, безостано¬
вочно живущая история — в основе завершенной и мертвой природы,
органическое — в основе механического, судьба — в основе каузального
закона, объективно узаконенного, так и направление является источни¬
ком протяжения. Затронутая словом «время» тайна самоусовершенству-
ющейся жизни образует основание того, что, достигнув завершения, по¬
средством слова «пространство» делается не столько понятным, сколько
обозначенным для внутреннего чувства. Всякая реальная протяженность
осуществляется лишь в переживании глубины и посредством этого пе¬
реживания; и как раз это удлинение в глубину и в даль (вначале для вос¬
приятия, в первую очередь для глаза, и лишь затем для мышления), шаг
от лишенного глубины чувственного впечатления к макрокосмически
упорядоченной картине мира с таинственно вырисовывающейся в ней
подвижностью есть то, что прежде всего обозначается словом «время».
Человек воспринимает себя, и это есть состояние подлинного, напря¬
женно-взрывного бодрствования, «в» окружающей его со всех сторон
протяженности. Следует только проследить за этим пра-впечатлением
миросообразности, чтобы убедиться в том, что на самом деле существует
лишь одно подлинное измерение пространства, а именно направление
от себя в даль, «туда», в будущее, и что абстрактная система трех измере¬
ний является механическим представлением, а никаким не фактом жиз¬
ни. Переживание глубины растягивает восприятие до мира. Направ¬
ленность жизни была с глубоким смыслом обозначена как необрати¬
мость и остаток этой решающей особенности времени содержится в
потребности также и глубину мира воспринимать исключительно от
себя, никогда не от горизонта — к себе. Именно к такому направлению
склонны подвижные тела всех животных и человека. Мы двигаемся
«вперед» — навстречу будущему, приближаясь с каждым шагом не толь¬
ко к цели, но и к старости, а всякий взгляд назад воспринимаем как
взгляд на нечто прошедшее, уже ставшее историей*.
Если обозначить основную форму понятого, каузальность, в каче¬
стве застывшей судьбы, то пространственную глубину можно назвать
застывшим временем. То, что не только человек, но уже животное ощу¬
щает вокруг себя как властное господство судьбы, воспринимается ими
на ощупь, на взгляд, нюхом, как движение, каузально застывшее перед
напряженным вниманием. Мы чувствуем: приближается весна, и мы
заранее ощущаем, как вокруг нас распространяется весенний пейзаж;
однако мы знаем, что Земля движется в космическом пространстве, об¬
ращаясь вокруг собственной оси, и что продолжительность весны «со¬
* Лишь исходя из этого направления в строении тела мы припоминаем о различии
правого и левого, ср. с. 195., прим. «Перед» вообще не имеет для тела растения никако¬
го смысла.
200
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
ставляет» девяносто таких обращений, т. е. дней. Время порождает
пространство, однако пространство умерщвляет время.
Если бы Кант острее мыслил, он вместо того, чтобы рассуждать о
«двух формах созерцания», назвал бы время формой созерцания, а про¬
странство — формой созерцаемого, и тогда, быть может, ему открылась
бы взаимосвязь того и другого. Логик, математик и естествоиспытатель
знает в мгновения напряженного размышления только ставшее, отде¬
ленное от однократного происшествия именно посредством размыш¬
ления о нем, истинное, систематическое пространство, в котором все
обладает свойством математически определимой «продолжительно¬
сти». Однако здесь имеется намек на то, как безостановочно становит¬
ся пространство. Пока мы задумчиво устремляем взгляд в даль, все во¬
круг пребывает в движении. Если нас внезапно выведут из задумчиво¬
сти, перед сфокусированным взором тут же растягивается незыблемое
пространство. Это пространство есть, тем фактом, что оно есть, оно
пребывает вне времени, будучи оторванным от него, а тем самым — и
от жизни. В качестве признанного свойства вещей в нем господствует
продолжительность, отрезок умершего времени; и поскольку мы по¬
знаем самих себя как сущих в этом пространстве, мы знаем о своей соб¬
ственной продолжительности и ее границах, о которых безостановоч¬
но напоминают стрелки наших часов. Однако и косное пространство,
которое само преходяще и исчезает из красочной протяженности окру¬
жающего нас мира с каждым послаблением духовного напряжения,
именно в силу этого является знаком и выражением самой жизни, наи¬
более изначальным и могущественным из ее символов.
Ибо не оставляющий возможности выбора смысл глубины, который
с энергией элементарного события господствует в бодрствовании, зна¬
менует одновременно с пробуждением внутренней жизни еще и границу
между ребенком и взрослым. Символическое переживание глубины —
вот что отсутствует у ребенка, который хватается за Луну, еще не ведает
никакого смысла внешнего мира и подобно душе первобытного челове¬
ка грезит в сновидческой связанности со всем имеющим форму воспри¬
ятия. Не то чтобы у ребенка не имелось никакого простейшего рода
опыта в отношении протяженного; однако мировоззрения здесь еще нет;
даль воспринимается, но она еще не обращается к душе. Лишь с пробуж¬
дением души также и направление возвышается до живого выражения.
И античным оказывается здесь закрытое для всего далекого и будущего
успокоение в ближайшем настоящем, фаустовской — энергия направ¬
ления с взглядом, прикованным лишь к отдаленнейшим горизонтам,
китайским — бесцельное блуждание, все же приводящее однажды к
цели, а египетской — решительная поступь по однажды проложенному
пути. Так во всякой жизненной черте о себе заявляет идея судьбы. Лишь
в силу этого мы принадлежим одной-единственной культуре, членов ко¬
торой связывает между собой общее мироощущение, а на его основе —
общая форма мира. Глубинная тождественность связывает между собой
Глава третья. Макрокосм
201
то и другое: пробуждение души, ее рождение к яркому существованию во
имя данной культуры, и внезапное постижение дали и времени, рожде¬
ние внешнего мира посредством символа протяжения, который отныне
остается пра-символом этой жизни и придает ей свой стиль и форму
своей истории как последовательному осуществлению своих внутрен¬
них возможностей. Лишь из способа направленности следует протяжен¬
ный пра-символ, а именно для античного воззрения на мир — близкое,
четко очерченное, замкнутое в себе тело, для западного — бесконечное
пространство с напором из глубины третьего измерения, для арабско¬
го — мир как пещера. Древний вопрос философии разрешается здесь в
ничто: это прирожденный пра-образ мира, поскольку он является изна¬
чальным достоянием души этой культуры, выражение которой форми¬
рует всю нашу жизнь; он унаследован, поскольку всякая отдельная душа
еще раз повторяет для себя этот акт творения и развертывает предопреде¬
ленный ее существованию символ глубины в раннем детстве, подобно
вылупившейся бабочке, раскрывающей свои крылья. Первое постиже¬
ние глубины — это акт рождения, не только телесного, но и душевного.
С ним культура оказывается рожденной на свет из собственного ланд¬
шафта, и на всем ее протяжении то же самое повторяет всякая отдельная
душа. Это-то и назвал «припоминанием» Платон, опиравшийся на древ¬
нее греческое верование74. Определенность той формы мира, которая
внезапно возникает для всякой пробуждающейся души, объясняется ис¬
ходя из становления, между тем как систематик Кант с его понятием ап¬
риорной формы исходит при истолковании той же самой загадки из
мертвого результата, а не из живого пути к нему.
Отныне способ протяженности следует называть пра-символом ку¬
льтуры. Из него следует выводить весь язык форм ее действительности,
ее физиономию, отличную от всякой иной культуры и прежде всего от
почти безликого окружающего мира первобытного человека; ибо ис¬
толкование глубины возвышается теперь до поступка, до формирую¬
щего выражения в делах, до преобразования действительности, кото¬
рое больше не служит жизненным потребам, как у животных, но дол¬
жно утвердить символ жизни, пользующийся всеми элементами
протяжения, материи, линий, цветов, звуков, движений, и зачастую
уже по миновании столетий, когда он проявляется и творит свои чары в
картине мира позднейших существ, то свидетельствует о том способе,
каким понимали мир его творцы.
Однако пра-символ не реализуется сам по себе. Он действует в ощу¬
щении формы всякого человека, всякой общины, временнбго периода
и эпохи и диктует им стиль всех вообще жизненных проявлений. Он за¬
ложен в государственном устройстве, в религиозных мифах и культах,
нравственных идеалах, в формах живописи, музыки и поэзии, в фунда¬
ментальных понятиях всякой науки, однако он не изображается ими.
Следовательно, он не может быть изображен также и словами в поня¬
тийной форме, ибо языки и формы познания сами являются производ¬
202
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
ными символами. Всякий отдельный символ говорит о нем, однако го¬
ворит внутреннему чувству, а не рассудку. Если впредь о пра-символе
античной души будет говориться как о единичном материальном теле,
о пра-символе души западной — как о чистом, бесконечном простран¬
стве, при этом никогда не следует упускать из виду то, что понятия не
изображают того, что не может быть понято, что звучания слов скорее
могут пробудить лишь ощущение соответствующего смысла.
Бесконечное пространство — это идеал, который вновь и вновь отыс¬
кивала западная душа в окружающем ее мире. Она желала увидеть его не¬
посредственно воплощенным в этом мире, и только это придает глубокий
смысл, как симптомам определенного мироощущения, бесчисленным
теориям пространства последнего столетия, вне зависимости от всех их
мнимых результатов. В какой степени в основе всего вещественного лежит
безграничная протяженность? Вряд ли отыщешь другой вопрос, который
был бы продуман с такой серьезностью, так что можно было бы едва ли не
уверовать в то, что всякий другой вопрос о мире зависит от этого — о сущ¬
ности пространства. А разве это на самом деле не так — для нас? Почему
никто так и не заметил, что вся античность не проронила ни слова на эту
тему, да что там — у нее даже и слова-то не было для того, чтобы точно об¬
рисовать данную проблему?* Почему безмолвствуют великие досократи-
ки? Не упустили ли они из виду в своем мире чего-то такого, что представ¬
ляется нам загадкой всех загадок? Не следовало ли нам еще давно понять,
что как раз в этом-то молчании и кроется разгадка? Как объяснить, что в
соответствии с нашим глубочайшим ощущением «мир» представляет ссь
бой не что иное, как это совершенно своеобразно рожденное пережива¬
нием глубины мировое пространство, благородная пустота которого еще
раз удостоверяется затерянной в нем системой неподвижных звезд? Смог
ли бы кто-либо донести это ощущение мира до античного мыслителя
хотя бы лишь на понятийном уровне? Тут же бы выяснилось, что эта «веч¬
ная проблема», которую Кант трактовал от имени человечества со всей
страстью символического деяния, является чисто западной и вообще от¬
сутствует в духе прочих культур.
Что же тогда представлялось в качестве первичной проблемы всего
бытия античному человеку, чей взгляд на его окружающий мир был не¬
сомненно не менее проясненным? Вопрос об архч, о материальной осно¬
ве всех чувственно-воспринимаемых вещей. Если мы поймем это, мы
вплотную подойдем к смыслу факта — не пространства, а вопроса о том,
Ни в греческом, ни в латыни: ronos (= locus) — это место, местность, а также по¬
ложение в социальном смысле; х^Ра (= spatium) — отстояние («между»), дистанция,
ранг, а также земля и почва (та ек rrjs x^pas — плоды земледелия); то Kevov (= vacuum)
совершенно недвусмысленно обозначает пустое тело, причем ударение стоит на обо¬
лочке. В литературе императорского времени, стремившейся воспроизвести магическое
ощущение пространства с помощью античных слов, прибегали к таким беспомощным
выражениям, как oparos ronos («чувственный мир») или spatium inane («бесконечное
пространство», но также и обширная поверхность; корень слова spatium означает «набу¬
хать», «толстеть»). В подлинно античной литературе не было и потребности в иносказа¬
тельном описании, поскольку полностью отсутствовало само представление.
203
Глава третья. Макрокосм
почему пространственная проблема с фатальной необходимостью дол¬
жна была стать проблемой западной души и лишь ее одной*. Именно
эту-то всемогущую пространственность, которая всасывает в себя суб¬
станцию всех вещей и вновь порождает ее из себя, это наиболее под¬
линное и высочайшее с точки зрения нашей Вселенной, античное чело¬
вечество, вовсе не знающее слова, а значит, и понятия «пространства»,
единогласно низводит до то уьг) 6V, т. е. того, чего вовсе нет. Невозможно
проникнуть в значение пафоса этого отрицания на достаточную глуби¬
ну. С его помощью вся страстность античной души символически отго¬
родилась от того, что она «с желала воспринимать в качестве действите¬
льного, чему не следовало быть выражением сосуществования. Нашему
взгляду внезапно раскрывается мир, окрашенный в иные тона. Антич¬
ная статуя в ее великолепной телесности, всецело фронтальный вид и
выразительная поверхность без каких бы там ни было бестелесных до¬
полнительных соображений, содержит для античного глаза всецело, без
какого-либо остатка, то, что называется действительностью. Вещест¬
венное, зримо ограниченное, осязаемое, непосредственно присутству¬
ющее — этим исчерпываются характеристики данного рода протяже¬
ния. Античная Вселенная, космос, упорядоченное множество всех близ¬
ких и полностью обозримых вещей, замыкается телесным небосводом.
Более ничего не существует. Наша потребность вновь мыслить «про-
Это содержится, не будучи признано до сих пор, в знаменитой аксиоме Эвклида
о параллельных линиях («Через точку можно провести лишь одну прямую, параллель¬
ную данной»), единственном из всех античных математических высказываний, остав¬
шемся недоказанным, — недоказуемом, как это известно нам сегодня. Однако именно
это делает его догматом в противоположность всему опыту, а тем самым — метафизи¬
ческим центром, носителем данной геометрической системы. Все прочие, как аксиомы,
так и постулаты — лишь подходы или следствия. Это единственное высказывание, ко¬
торое необходимо и общезначимо для античного духа — и тем не менее невыводимо.
Что это значит? Что это символ высшего разряда. Он содержи^ структуру античной те¬
лесности., Именно этот теоретически слабейшее звено античной геометрии, против ко¬
торого выдвигались возражения уже в эллинистическую эпоху, раскрывает ее душу, и
именно это само собой разумеющееся для повседневного опыта высказывание было
тем, на которое оперлось сомнение происходящего из бестелесных пространственных
далей фаустовского числового мышления. К глубочайшим симптомам нашего бытия
относится то, что мы противопоставили эвклидовой геометрии не одну, но несколько
других геометрий, которые для нас в равной степени истинны и непротиворечивы.
Подлинная направленность этой группы геометрий, которые следует понимать как
яятмэвклидовы (где через одну точку вовсе нельзя провести прямую, параллельную
данной, либо можно провести две параллельных или бесчисленное их множество), за¬
ключается в том, что именно своей множественностью они полностью упраздняют те¬
лесный смысл протяженного, объявленного священным посредством эвклидовского по¬
стулата, так как множественность эта противоречит воззрению, требуемому всей телес¬
ностью, однако отрицаемому всей чистой пространственностью. Вопрос о том, какая
из трех неэвклидовых геометрий является «правильной», лежащей в основе действите¬
льности (хотя сам Гаусс и занимался всерьез его проверкой), античен по своему миро¬
ощущению, а значит, вообще не должен был бы ставиться мыслителями нашей культу¬
ры. Он загораживает взгляд в подлинный глубинный смысл следующего соображения:
специфически западный символ заключается не в действительности той или другой
геометрии, но в множестве в равной степени возможных геометрий. Лишь с помощью
группы пространственных структур, среди изобилия которых античное понимание об¬
разует просто граничный случай, остаток телесности оказывается растворенным в чис¬
том ощущении пространства.
204
Том L ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
странство» за пределами этой чаши напрочь отсутствовала в античном
мироощущении. Стоики объявили телами даже свойства и отношения
вещей. Божественная пневма для Хрисиппа — это тело; для Демокрита
зрение заключается в проникновении материальных частиц того, что
видится. Государство — это тело, состоящее из суммы всех тел граждан;
право признает лишь телесные лица и телесные вещи. Наконец, это
ощущение находит возвышенное выражение в каменном теле антично¬
го храма. Лишенное окон внутреннее пространство заботливо скрыто за
колоннадой; однако снаружи не отыскать ни одной прямой линии. Всем
ступеням основания придана легкая обращенная наружу кривизна, при¬
чем каждой — своя. Фронтон, коньки, боковые стороны изгибаются.
Каждой колонне придано легкое вздутие; ни одна из них не стоит совер¬
шенно вертикально и не отстоит на равное расстояние от соседних. Од¬
нако вздутия, наклоны и промежутки меняются от углов к середине сто¬
роны исходя из тщательно продуманной пропорции. Так все тело обре¬
тает вид чего-то таинственно кружащегося вокруг центра. Искривления
столь малы, что глазу они, так сказать, невидимы, а лишь ощутимы. Од¬
нако именно вследствие этого направление в глубину оказывается сня¬
тым. Готический стиль устремляется, дорический трепещет. Внутрен¬
нее пространство собора с первобытной силой стремится вверх и вдаль;
храм располагается на месте в величественном покое. Однако то же са¬
мое может быть сказано и применительно к фаустовскому и аполлони-
ческому божеству, и о соответствующих картинах фундаментальных по¬
нятий физики. Принципам положения, материи и формы мы уже проти¬
вопоставили понятия устремленного движения, силы и массы, причем
последняя определяется как постоянное отношение силы и ускорения, с
тем чтобы наконец заклясть их обоих в уже всецело пространственных
элементах емкости и напряженности. Из этого способа постижения дей¬
ствительности с необходимостью должна была возникнуть в качестве
господствующего искусства инструментальная музыка великих масте¬
ров XVIII в., единственное меж всех искусств, мир форм которого внут¬
ренне сродни созерцанию чистого пространства. В нем, в противовес
статуям на участке античного храма или на базарной площади, имеются
бестелесные царства звуков, звуковые пространства, звуковые моря; ор¬
кестр бушует, швыряется волнами, стихает; вырисовываются дали, све¬
товые лучи, тени, бури, проплывающие облака, молнии, совершенной
запредельности цвета; на ум приходят пейзажи инструментовки Глюка и
Бетховена. «Одновременно» с «Каноном» Поликлета, сочинением, в ко¬
тором Великий скульптор изложил строгие правила строения человече¬
ского т^ела, сохранявшие господство вплоть до Лисиппа, ок. 1740 г. Ста-
мицем был завершен строгий канон четырехчастной сонатной формы,"
который соблюдается с меньшей неукоснительностью лишь начиная с
поздних квартетов и симфоний Бетховена, пока наконец в одиноком,
всецело «инфинитезимальном» мире звуков музыки «Тристана» не утра¬
чивается всякая земная осязаемость. Это пра-чувство освобождения,
Глава третья. Макрокосм 205
спасения, высвобождения души в бесконечность, избавления души от
всякой материальной тяжести, которое неизменно пробуждают высшие
моменты нашей музыки, высвобождает также и порыв фаустовской
души вглубь, между тем как действие античных произведений искусства
связывает, ограничивает, закрепляет телесное чувство, отвлекает взгляд
от дали к уже насыщенным близи и пококх
5
Так что каждая из великих культур пришла к тайному языку миро¬
ощущения, который всецело внятен лишь тому, чья душа принадлежит
к данной культуре. Ибо не будем обманывать самих себя. Быть может,
мы еще в состоянии сколько-то читать в античной душе, поскольку язык
ее форм представляет собой едва ли не полную противоположность за¬
падному; с весьма непростого вопроса о том, в какой степени это воз¬
можно и насколько это было достигнуто до сих пор, должна начинаться
всякая критика Возрождения. Но когда мы слышим, что, вероятно (пе¬
реосмысление столь чужеродных жизненных проявлений при всех усло¬
виях остается весьма проблематичной попыткой), индусы измыслили
такие числа, которые по нашим понятиям не обладали ни значением, ни
величиной, ни качеством отношения, и которые лишь в зависимости от
положения становились положительными и отрицательными, больши¬
ми и малыми единицами, мы вынуждены признать, что у нас отсутствует
возможность в точности пережить то, что в душевном плане лежит в
основе данной разновидности чисел. 3 для нас — это всегда нечто, будь
то положительное или отрицательное; для грека это была безусловно ве¬
личина, +3; для индуса же это есть лишенная значения возможность, к
которой пока %ще неприменимо слово «нечто», пребывающая по ту сторо¬
ну бытия и небытия, которые оба являются лишь дополнительными
свойствами. Так что +3, — 3, ‘/3 — это эманирующие реальности более
низкого порядка, покоящиеся в загадочной субстанции (3) совершенно
недоступным для нас способом. Для того чтобы воспринять эти числа
как само собой разумеющиеся, как идеальные знаки совершенной в себе
формы мира, необходима брахманская душа; нам же они непонятны точ¬
но так же, как брахманская нирвана, которая, пребывая по ту сторону
жизни и смерти, сна и бодрствования, страдания, сострадания и бесстра¬
стности все же оказывается чем-то реальным, для чего у нас самих отсут-«
ствуют языковые средства выражения. Лишь из этой душевности могла
произойти величественная концепция ничто как подлинного чиога, нуля,
причем нуля индийского, для которого реальность и иллюзорность — в
равной степени поверхностные обозначения*.
Когда арабские мыслители наиболее зрелой эпохи va среди них были
такие первоклассные умы, как аль-Фараби и аль-Каби) в своей полеми¬
ке против учения Аристотеля о бытии доказывают, что существование
206
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
тела как такового не обязательно предполагает пространство, и выводят
сущность этого пространства, т. е. арабского вида протяженности, из
свойства «пребывания на месте», это свидетельствует не о том, что они
находились в заблуждении в отличие от Аристотеля и Канта или же (как
мы с излишне большой легкостью обозначаем то, что не может умести¬
ться в наших головах) что они неясно мыслили, но о том, что у арабского
духа — свои собственные категории мира. Исходя из собственного по¬
нятийного языка они опровергли бы Канта с той же утонченностью ве¬
дения рассуждений, как сам Кант проделал бы это с ними, и всякий бы
остался при убеждении о правильности своих воззрений.
Когда мы рассуждаем сегодня о пространстве, мы все, без всякого со¬
мнения, мыслим в приблизительно одном и том же стиле, подобно тому,
как мы пользуемся одним языком и одними словесными знаками, будет
ли идти речь о пространстве математики, физики, живописи или действи¬
тельности, хотя всякое философствование, которое взамен этого родства
смысловых ощущений желает (и должно) настаивать на тождестве пони¬
мания, остается несколько проблематичным. Однако ни один грек, ни
один египтянин, ни один китаец не ощущал чего-то подобного этому, и
никакое произведение искусства или система идей не смогли бы им не¬
двусмысленно указать, что означает «пространство» для нас. Античные
изначальные понятия, происходящие из совершенно иной внутренней
жизни, такие, как apxfb vtfb ^°рФть исчерпывают содержание иначе устро¬
енного мира, остающегося чуждым и далеким для нас. То, что мы со свои¬
ми языковыми средствами переводим с греческого как «первоначало»,
«материя», «форма», представляет собой плоское уподобление, слабую
попытку проникнуть в мир ощущений, который тем неявнее остается не¬
мым в том, что в нем наиболее утонченно и глубоко. Это все равно как
если бы кто вздумал положить скульптуры Парфенона на струнную музы¬
ку или отлить в бронзе бога Вольтера. Принципиальные особенности
мышления, жизни, миросознания столь же различны, как и черты лица
отдельных людей; имеются «расы» и «народы» также и в данном отноше¬
нии, хотя они и догадываются об этом не больше, чем способны обратить
внимание на то, является ли «красное» или «желтое» для другого тем же
самым или же чем-то принципиально иным; общая символика в первую
очередь языка питает иллюзию однородно устроенной внутренней жизни
и тождественной формы мира. Великие мыслители отдельных культур
подобны в данном отношении не догадывающимся о своем положении
дальтоникам, каждый из который подсмеивается над ошибками другого. ** Этот нуль, который, быть может, дает некоторое представление об индийской
идее протяженного, об этой рассматриваемой в «Упанишадах», всецело чуждой нашему,,
пространственному сознанию пространственности мира, само собой разумеется, отсут¬
ствовал в античности. Через арабскую математику, кружным путем, будучи полностью
переосмысленным, нуль дошел до нас, где его впервые ввел в 1544 г. Штифель, причем,
что коренным образом изменило его сущность, в качестве середины между +1 и —1, как
сечение в линейном числовом континууме; это означает, что нуль был усвоен запад¬
ным числовым миром в совершенно неиндийском смысле отношения.
Глава третья. Макрокосм
207
Перехожу к выводам. Существует множество пра-символов. Пере¬
живание глубины, посредством которого становится мир, посредством
которого восприятие расширяется до мира, значительное для души, ко¬
торой оно принадлежит, и только для нее одной, происходит всякий
раз иначе при бодрствовании и грезах, при приятии и наблюдении,
иначе у ребенка и старика, у горожанина и крестьянина, у мужчины и
женщины, — вот это-то переживание и осуществляет, причем с глубо¬
чайшей необходимостью для всякой высшей культуры, возможность
формы, на которой основывается все ее существование. Все базовые
слова, такие, как масса, субстанция, материя, вещь, тело, протяжение
и тысячи иных сохраняемых в языках других культур словесных знаков
соответствующего рода представляют собой не оставляющие выбора,
предопределенные судьбой знаки, которые во имя отдельной культуры
выделяют из бесконечного изобилия мировых возможностей единст¬
венно значимые и потому необходимые. Ни одно из них непереносимо
с точностью в переживание и познание другой культуры. Ни одно из
этих пра-слов больше не повторяется. Все определяется выбором пра-
символа в то самое мгновение, когда душа культуры пробуждается к са¬
мосознанию посреди своего ландшафта, причем в^тбор этот сопровож¬
дается определенным потрясением для всякого, кто способен так же
рассматривать всемирную историю.
Культура как олицетворение чувственно-ставшего выражения души
в жестах и деяниях, как ее тело, смертное, преходящее, подвластное за¬
кону, числу и причинности; культура как исторический спектакль, как
картина в совокупном облике всемирной истории; культура как олице¬
творение великих символов жизни, чувства и понимания: вот единст¬
венный язык, с помощью .которого душа способна высказать, что ее
мучит75.
Также и макрокосм — это достояние отдельной души, и мы никогда
не узнаем, как обстоит дело с макрокосмом другого. То что, выходя за
рамки всех возможностей понятийного взаимопонимания, призвано
означать «бесконечное пространство», это творческое истолкование
переживания глубины нами, людьми Запада, и нами одними, этот вид
протяжения, который греки называли ничем, мы же — всем, окраши¬
вает наш мир в цвет, которого не было на палитре античной, индий¬
ской, египетской души. Одной душе переживание мира слышится в ля-
бемоль мажоре, другой — в фа миноре; одна воспринимает его эвкли-
довски, другая контрапунктированно, третья магически. От чисто ана¬
литического пространства и от нирваны целый ряд пра-символов при¬
водит к наителеснейшей аттической телесности, и каждый из них спо¬
собен на то, чтобы выстроить из себя совершенную форму мира.
Подобно тому как далек, необычен и зыбок индийский или вавилон¬
ский мир по своей идее для людей пяти или шести последующих куль¬
тур, так же непостижимым некогда станет и западный мир для людей
еще неродившихся культур.
208 Том1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
II. Аполлоническая, фаустовская, магическая душа
6
Отныне я желал бы называть душу античной культуры, которая избра¬
ла чувственно-наличное единичное тело в качестве идеального типа про¬
тяженного, душой аполлонической. После Ницше такое обозначение по¬
нятно каждому. Против нее я выставляю фаустовскую душу, чей пра-сим-
вол — чистое безграничное пространство, а «тело» ее — западная
культура, как она расцвела с рождением романского стиля в X в. на север-
Hbtx равнинах между Эльбой и Тахо. Аполлонической является статуя об¬
наженного человека, фаустовским — искусство фуги. Аполлоническими
являются механическая статика, чувственные культы олимпийских бо¬
гов, политически раздробленные греческие государства, рок Эдипа и
символ фаллоса; фаустовскими — динамика Галилея, католически-про-
тестантская догматика, великие династии эпохи барокко с их кабинетной
политикой, судьба Лира и идеал Мадонны от Дантовой Беатриче до фи¬
нала второй части «Фауста». Аполлонической оказывается та живопись,
которая ограничивает отдельные тела контурами, фаустовской же та, что
формирует пространство посредством светотени: этим отличаются друг
от друга фреска Полиглота и полотно Рембрандта. Аполлоническим бу¬
дет существование грека, который обозначает собственное «я» как аацш и
у которого отсутствует идея внутреннего развития, а тем самым и дейст¬
вительная внутренняя или внешняя история. Фаустовское — то сущест¬
вование, которое проводится с глубочайшей сознательностью и которое
отслеживает само себя, решительно личностная культура мемуаров, раз¬
мышлений, итогов и перспектив, а также совести. А далеко в стороне —
при том, что она несет и посредническую миссию, занимая, перетолко¬
вывая и наследуя формы, появляется магическая душа арабской культуры,
которая пробуждалась во времена Августа на ландшафте между Тигром и
Нилом, Черным морем и Южной Аравией со своими алгеброй, астроло¬
гией и алхимией, своими мозаиками и арабесками, халифатами и мечетя¬
ми, таинствами и священными книгами персидской, иудейской, христи¬
анской, «позднеантичной» и манихейской религии.
«Пространство» есть духовное нечто (теперь я могу говорить, прибе¬
гая к фаустовскому словоупотреблению), четко отделенное от сиюми¬
нутного чувственного настоящего, которое и не должно было быть пред¬
ставлено на аполлоническом языке, т. е. по-гречески и по-латински.
Однако сформированное пространство выражения столь же чуждо и
всем аполлоническим искусствам. Крошечная целла раннеантичного
храма представляет собой замалчиваемое, темное ничто, первоначально
возводимое из наименее долговечных материалов, оболочку мгнове¬
ния — в противоположность вечным сводам магических куполов и готи¬
ческих церковных нефов. А завершенная колоннада должна назидатель¬
но подчеркивать, что по крайней мере в этом теле никакой внутренно¬
209
Глава третья. Макрокосм
сти для глаза нет. Ни в какой другой культуре момент прикрепленное™,
цоколь не акцентируются с такой силой. Дорическая колонна ввинчива¬
ется в землю; античные сосуды неизменно воспринимаешь снизу вверх,
между тем как в эпоху Возрождения они парят над основанием; основ¬
ная проблема школ ваяния состоит во внутреннем закреплении облика.
Поэтому в произведениях архаики суставы несоразмерно подчеркнуты,
нога опирается на всю ступню, а понизу ниспадающих драпировок
оставлен просвет, чтобы показать «опирание» ноги. Античный рельеф
строго стереометрически надет на плоскость. Промежутки между фигу¬
рами оставлены, однако никакой глубины нет. Напротив того, пейзаж
Лоррена — это лишь пространство. Все частные моменты призваны здесь
служить его прояснению. Все тела обретают атмосферное и перспектив¬
ное значение лишь в качестве носителей света и тени. Импрессио¬
низм — это развоплощение мира, доведенное до конца во имя простран¬
ства. На основании этого мироощущения фаустовская душа должна
была в свое раннее время прийти к архитектурной проблеме, центр тя¬
жести которой лежал в пространственном своде мощного, ущемляю¬
щегося от портала в глубину хоров собора. То было выражение ее пере¬
живания глубины. Однако, в противоположность пещерообразному ма¬
гическому пространству выражения , сюда еще присоединяется
устремленность вовне, в дали Вселенной. Магические своды, будь то ку¬
пола, бочарные своды или даже горизонтальные перекрытия базилики,
перекрывают. Стржиговский совершенно справедливо назвал зодческие
идеи Св. Софии перенесенными внутрь готическими контрфорсами с
запахнутой внешней оболочкой* . Напротив того, согласно готическому
эскизу от 1367 г. купол Флорентийского собора опирается на продоль¬
ный неф, а в наброске Браманте для Св. Петра всё еще возвышается — до
нагромождения, великолепное «Excelsior!» [выше {лат.)] которого было
доведено Микеланджело до совершенства, так что теперь купол парит
над широкими сводами, высоко на свету. Этому пространственному
чувству античность противопоставляет всецело телесный, охватывае¬
мый одним взглядом дорический периптер.
В связи с этим античная культура начинается с величественного от¬
каза от уже имевшегося в наличии богатого, живописного, едва не пе¬
резрелого искусства, которому не следовало являться выражением ее
новой души. Рядом с минойским искусством раннедорическое искус¬
ство геометрического стиля начиная с 1100 г. выглядит суровым и уз¬
ким, скудным на наш взгляд и впадающим в варварство***. Мы не име-
ем даже намека на какую-то архитектуру по итогам трех столетий, соот¬
ветствующих расцвету готики. Лишь ок. 650 г., «одновременно» с
переходом Микеланджело к барокко, появляется тип дорического и
этрусского храма. Всякое раннее искусство религиозно, и это символи-
Выражение «ощущение пещеры» принадлежит Л. Фробениусу, Paideuma S. 92.
Ursprung der christlichen Kirchenkunst (1920), S. 80.
Cp. c. 547.
210
Том1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
ческое «нет» следует трактовать в качестве такового в не меньшей сте¬
пени, чем готическое и египетское «да». Идея трупосожжения совмес¬
тима с культовым местом, но не с культовым зданием. Так что ранняя
античная религия, скрывающаяся для нас позади весомых имен Кал-
ханта, Тиресия, Орфея, а, возможно, также и Нумы*, располагала для
своих обрядов тем, что остается, если отвлечься от архитектурной идеи
здания, а именно священной границей. Поэтому изначальным культо¬
вым сооружением был этрусский templum, разбитый авгурами только
по поверхности земли священный участок с запретной для пересече¬
ния границей и приносящим удачу входом на востоке . Templum созда¬
ется там, где должны предприниматься культовые действия или же где
пребывают носители государственного авторитета, сенат и войско. Он
существует лишь на преходящее время пользования, а затем запрет
снимается. Быть может, лишь ок. 700 г. античная душа преодолела себя
в том отношении, чтобы воплотить линейную символику этого архи¬
тектонического ничто в теле сооружения. Эвклидовское чувство было
сильнее отвращения к длительности.
Напротив того, фаустовское зодчество большого стиля начинается с
первых порывов нового благочестия (клюнийской реформы ок. 1000 г.) и
нового мышления (что проявилось в эвхаристических разногласиях
Беренгара Турского и Ланфранка ок. 1050 г.), и сразу вслед за этим с
проектов, внушенных такой колоссальной волей, что вся община зача¬
стую не была в состоянии заполнить собор, как в случае Шпейерского,
или же он никогда не мог быть закончен. Страстный язык этой архи¬
тектуры повторяется в поэзии *. Как ни далеки друг от друга латинские
гимны христианского Юга и «Эдда» оставшегося языческим Севера, по
внутренней пространственной бесконечности просодии, по ритмике
фраз и языку образов они тождественны. Прочитайте «Dies irae» сразу
вслед за возникшей немногим раньше «Велуспой»78: и здесь, и там одна
и та же железная воля, преодолевающая и сокрушающая все препятст¬
вия со стороны зримого. Никогда не бывало ритма, который бы рас¬
пространял вокруг себя столь исполинские пространства и дали, как
древненордический:
J Ср. с. 739.
** Muller-Deecke, Die Etrusker (1877) II, S. 128 ff. Wissowa, Religion und Kultus der
Romer (1912), S. 527. Templum был древнейшим городским учреждением в Roma quadra-
ta76, контуры которого, вне всякого сомнения, зависели не от застройки, а от священ¬
ных установлений, как это доказывает значение pomerium, т. е. этой самой границы, в
более позднюю эпоху. Templum — это также и римский военный лагерь, прямоугольник
которого прослеживается еще и по сегодняшний день в плане многих римских городов:
это освященный участок, где войско пребывает под защитой богов, изначально не име¬
ющий ничего общего с происходящим из эллинистического времени укреплением. Бо¬
льшинство римских каменных храмов (aedes) никакими templa не являлись; напротив
того, древнейший греческий re^evos77 в гомеровскую эпоху означал нечто сходное.
Ср. мое предисловие к Ernst Droem, Gesange, S. IX, теперь Reden u. Aufsatze
(1937), S. 54 ff.
Глава третья. Макрокосм
211
На горе будут — и слишком долго
Мужи и жены — на свет являться.
Но мы-то оба останемся вместе,
Я и Сигурд.
Ударения гомеровского стиха — легкое дрожание листка на полу¬
денном солнце, ритм материи; аллитерация же — подобно потенциа¬
льной энергии в картине мира современной физики — создает сдер¬
жанное напряжение в пустоте, безграничности, дальние ночные грозы
над высочайшими вершинами. В ее бушующей неопределенности рас¬
творяются все слова и вещи: это языковая динамика, а не статика. То
же самое можно сказать и об унылых ритмах «Media vita in morte sumus»
[Посреди жизни мы пребываем в смерти {лат.)]19. Здесь заявляют о
себе цветовая палитра Рембрандта и инструментовка Бетховена. Без¬
граничное одиночество воспринимается здесь как родина фаустовской
души. Что такое Вальгалла? Неведомая германцам эпохи переселения
народов и даже еще периода Меровингов, она была измышлена про¬
буждающейся фаустовской душой, вне всякого сомнения под впечат¬
лением антично-языческого и арабско-христианского мифа обеих
старших южных культур, повсюду вторгавшихся в новую жизнь со сво¬
ими классическими или священными книгами, своими руинами, мо¬
заиками, миниатюрами, со своими культами, обрядами и догматами. И
все же, несмотря на это, Вальгалла парит по ту сторону всякой ощути¬
мой действительности — в отдаленных, темных, фаустовских областях.
Олимп покоится на близкой греческой почве; Рай отцов церкви — это
волшебный сад где-то в магической Вселенной. Вальгалла же нигде.
Затерянная в безграничном, со своими нелюдимыми богами и витязя¬
ми, она представляется колоссальным символом одиночества. Зигф¬
рид, Парсифаль, Тристан, Гамлет, Фауст — самые одинокие герои всех
культур. В Вольфрамовом «Парсифале» мы имеем изумительное пове¬
ствование о пробуждении внутренней жизни. Возникающее в лесу
томление, загадочное сострадание, несказанная покинутость: все это
фаустовское и исключительно фаустовское. Это ведомо каждому из нас.
В «Фаусте» Гёте этот мотив встречается вновь во всей своей глубине:
Непостижимые, возвышенные грезы
Гнали меня сквозь лес, по пашне и стерне,
Рыданья били в грудь, катились градом слезы,
Я чувствовал: рождался мир во мне.
Как аполлонический, так и магический человек — ни Гомер, ни Еван¬
гелия — не знают о таком переживании мира ровным счетом ничего. Ку¬
льминацией поэмы Вольфрама является то чудное утро Страстной пятни¬
цы, когда герой, находящийся в разладе с Богом и с самим собой, встреча¬
ет благородного Гавана. «Что, если я сыщу у Бога помощь?» И он
отправляется в паломничество к Тревриценту. Здесь — источник фаус¬
товской религии. Здесь становится понятным чудо эвхаристии, объединя-
212
Том L ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
ющее причастных к нему в мистическую общину, в церковь, которая одна
способна даровать блаженство. Из мифа о священном Граале и его ры¬
царстве делается понятной внутренняя необходимость германско-норди¬
ческого католицизма. В отличие от античного жертвоприношения, со¬
вершавшегося каждому отдельному божеству в его храме, здесь нам явля¬
ется одна бесконечная жертва, совершающаяся повсюду и ежедневно. Это
фаустовская идея IX—XII вв., эпохи «Эдды», и англо-саксонские мисси¬
онеры, такие, как Винфрид, ее предчувствовали, однако только теперь
она достигла своей зрелости. Собор, главный алтарь которого скрывает в
себе свершившееся чудо, является ее окаменевшим выражением .
Множественность отдельных тел, в которой предстает античный
космос, требует такого же мира богов: вот в чем идея античного полит¬
еизма. Единственное пространство Вселенной, будь то мировая пещера
или вселенская даль, требует единственного бога магического или фаус¬
товского христианства. Афина и Аполлон могут быть изображены ста¬
туей, однако люди уже давно ощущали, что божество Реформации и
Контрреформации может «явиться» только в буре органной фуги или в
праздничной поступи кантаты либо мессы. От полноты образов
«Эдды» или одновременных ей легенд о святых и вплоть до Гёте миф
развивается в оппозиции античному. В последней — все углубляющий¬
ся вплоть до необозримого множества богов ранней империи распад
божественного, в первом же — упрощение вплоть до деизма XVIII в.
Магическая небесная иерархия, пролегающая от ангелов и святых
вплоть до Лиц Троицы, иерархия, которую церковь в области западного
псевдоморфоза” поддерживала всей мощью своего авторитета, распред-
мечивается, все больше блекнет, а с нею из числа возможностей фаус¬
товского мироощущения незаметно пропадает и сатана, этот великий су¬
постат в готической мировой драме*”. Его, в которого еще Лютер запускал
своей чернильницей, протестантские теологи уже давно обходят смущен¬
ным молчанием. Одиночество фаустовской души не способно мириться с
двойственностью мировых сил. Сам Бог и является всем. В конце XVII в.
эта религиозность перестает справляться с языком форм живописи, и ин¬
струментальная музыка становится единственным и последним средст¬
вом религиозного выражения. Можно было бы сказать, что католическая
и протестантская вера относятся друг к другу так, как картина в алтаре и
оратория. Уже вокруг германских богов и героев распространяются недо¬
ступные дали, загадочная угрюмость; они погружены в музыку — по но¬
чам, поскольку дневной свет создает границы для глаза, а значит, и телес¬
ные вещи. Ночь развоплощает; день обездушивает. Аполлон и Афина ли¬
шены «души». На Олимпе покоится вечный свет донельзя прозрачного
южного дня. Аполлонический час — это самый полдень, когда спит вели¬
кий Пан8'1. Вальгалла лишена света. Уже в «Эдде» дают о себе знать те глу-
* Ср. с. 749.
Ср. с. 659.
Ср. т. 2, гл. 3, раздел 17.
Глава третья. Макрокосм 213
бокие полуночные часы, когда Фауст размышляет в своем кабинете, когда
возникают офорты Рембрандта, в которых теряются звуковые цвета Бет¬
ховена. Вотан, Бальдур, Фрейя никогда не имеют «эвклидовского» обли¬
ка. Из них, как из ведических богов Индии, «не сделать ни идола, ни изоб¬
ражения»82. Эта невозможность содержит священность вечного про¬
странства как высочайшего символа, в противоположность телесному
изображению, которое низводит его до «окружения», лишает священно¬
сти и отрицает. Этот глубоко прочувствованный мотив лежит в основе
иконоборчества в исламе и в Византии (оба они имели место в VII в.), как
и впоследствии в основе внутренне родственного им иконоборчества
протестантского Севера. Не было ли иконоборчеством также и изобрете¬
ние Декаргом антиэвклидовского анализа пространства? Античная гео¬
метрия оперирует с числовым миром дня, теория функций — это подлин¬
но ночная математика.
7
То, что душа Запада выражала в необычайном богатстве выразите¬
льных средств, в словах, звуках, цветах, живописных перспективах,
философских системах, легендах, а в неменьшей степени — в про¬
странствах готических соборов и в формулах теории функций, а имен¬
но ее мироощущение, то же самое египетская душа, далекая от всякого
теоретического и литературного честолюбия, выразила почти исклю¬
чительно через непосредственный язык камня. Вместо того, чтобы уг¬
лубляться в словесные забавы относительно формы своей протяжен¬
ности, своего «пространства» и своего «времени», вместо того, чтобы
создавать гипотезы, числовые системы и догматы, она безмолвно воз¬
двигла свои колоссальные символы посреди нильского пейзажа. Ка¬
мень — это великий символ ставшего безвременным. Пространство и
смерть представляются связанными в нем друг с другом. «Люди были
скорее склонны строить для мертвых, нежели для живых, — пишет Ба-
хофен в автобиографии, — и если для того промежутка времени, кото¬
рый отведен последним, довольно недолговечного деревянного строе¬
ния, то вечность первого жилища требует прочного земного камня. С
камнем, обозначающим место погребения, связан древнейший культ,
с могильным склепом — древнейшая храмовая постройка, с могиль¬
ным украшением — возникновение искусства и орнаментики. В моги¬
лах оформился символ. То, о чем помышляют, что воспринимают, о
чем безмолвно молятся у могилы, не может быть выражено никакими
словами; на это может намекнуть только покоящийся в вечно неизмен¬
ной искренности символ». Мертвец больше не стремится. Он больше
не является временем, а остается теперь исключительно пространст¬
вом, чем-то пребывающим или еще и исчезнувшим, но ни в коем случае
не созревающим для будущего; и отсюда — пребывающее в строжай-
Том!. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
214
тем смысле этого слова, камень как выражение того, как отражается
мертвец в бодрствовании живых. Фаустовская душа ожидала бессмер¬
тия после телесного конца, словно обручения с бесконечным про¬
странством, и она развоплощала камень в готической системе раскосов
(одновременно с унисонной последовательностью церковного пения),
пока он не открывал взгляду исключительно пламенную устремлен¬
ность этого самораспространения вглубь и ввысь. Аполлоническая
душа желала видеть мертвеца сожженным, уничтоженным, и именно
по этой причине на протяжении всего раннего времени она избегала
строить из камня. Египетская душа представляла саму себя шествую¬
щей по узкому и безоговорочно предписанному жизненному пути, о
котором ей некогда предстоит дать отчет судьям в загробном царстве
(125 гл. «Книги мертвых»). То была ее идея судьбы. Египетское сущест¬
вование — это существование путника, двигающегося все в одном и
том же направлении; весь язык форм его культуры служит воплоще¬
нию одного этого мотива. Наряду с бесконечным пространством Севе¬
ра и телом античности пра-символ египетского существования может
быть лучше всего выражен через слово путь. Это и есть весьма чуже¬
родный и труднодоступный для западного мышления способ подчер¬
кивать в сущности протяженности исключительно одно направление
вглубь. Погребальный храм Древнего царства, в первую очередь гран¬
диозные храмы при пирамидах 4-го царства, в отличие от мечети и со¬
бора, не представляют собой осмысленно расчлененного пространст¬
ва, а ритмически расчлененную последовательность пространств. Свя¬
щенная дорога, постоянно сужаясь, ведет от портала на Ниле через
проходы, залы, аркадные дворики и пилонные залы — вплоть до моги¬
льного склепа*, и точно также храмы Солнца 5-й династии вовсе не
являются «зданиями», но охваченным мощной каменной оправой пу¬
тем\ Рельефы и росписи постоянно даются рядами, которые с убеди¬
тельной принудительностью препровождают зрителя в определенном
направлении; на то же самое нацелены аллеи баранов и сфинксов в
Новом царства. Решающее для формы мира египтянина переживание
глубины настолько усиленно подчеркивалось в отношении направле¬
ния, что пространство, так сказать, оставалось в постоянном осуще¬
ствлении. Эта даль не была оцепеневшей. Лишь поскольку человек
движется вперед и тем самым сам делается символом жизни, он вступа¬
ет в отношение с каменной частью этой символики. «Путь» означает
судьбу и третье измерение в одно и то же время. Мощные стеновые по¬
верхности, рельефы, ряды колонн, вдоль которых он ведет, являются
«шириной и высотой», т. е. простым восприятием чувств, которое рас¬
ширяет до мира лишь устремляющаяся вперед жизнь. Так что шагаю-
Holscher, Grabdenkmal des Konigs Chephren; Borchardt, Grabdenkmal des Sahu-re;
Curtius, Die antike Kunst, S. 45.
Cp. c. 737.; Borchardt, Reheiligtum des Nowoserre; Meyer Ed., Gesch. d. Altertums I,
§ 251.
Глава третья. Макрокосм
215
щий в процессиях египтянин переживает пространство, так сказать, в
его все еще не объединенных элементах, между тем как приносивший
жертву перед храмом грек вообще его не воспринимал, а молившегося в
соборе человека готических столетий пространство окружало в покоя¬
щейся бесконечности. По этой причине данное искусство стремится к
плоскостному воздействию и ни к чему иному даже там, где оно пользу¬
ется телесными средствами. Пирамида над гробницей царя была для
египтянина треугольником, колоссальной, завершающей путь и гос¬
подствующей над пейзажем плоскостью, наделенной величайшей си¬
лой выражения, откуда бы он к ней ни приближался; колонны внут¬
ренних проходов и дворов, на темном фоне, размещенные чрезвычай¬
но тесно и покрытые украшениями, действовали исключительно как
плоские вертикальные полосы, ритмически сопровождавшие жрече¬
скую процессию; рельеф скрупулезно (и в противоположность антич¬
ности) сведен к плоскости; за период с 3-й по 5-ю династию он делает¬
ся тоньше, переходя от толщины пальца к толщине бумажного лица,
пока наконец вообще не погружается в поверхность*. Господство го¬
ризонтали, вертикали и прямого угла, избегание всякого ракурса под¬
держивают принцип двухмерное™ и обособляют переживание про¬
странственной глубины, которая совпадает с направлением пути и
целью — самой гробницей. Это искусство не допускает никакого откло¬
нения, которое облегчило бы напряжение души.
Однако не это ли как раз — будучи выражено в данном случае на са¬
мом возвышенном языке, который только можно мыслить — и желает
быть высказанным во всех наших пространственных теориях? Это ме¬
тафизика в камне, рядом с которой метафизика письменная (напри¬
мер, Канта) производит впечатление беспомощного лепета.
И все же существовала одна культура, душа которой при всех глу¬
бинных отличиях пришла к родственному пра-символу: это культура
китайская с воспринимаемым всецело в смысле направления вглубь
принципом дао**. Однако между тем как египтянин проходит предна¬
чертанный путь до конца с железной необходимостью, китаец блужда¬
ет по своему миру; и по этой причине к божеству или гробнице пред¬
ков его препровождают не каменные теснины с гладкими, лишенными
зазоров стенами, но сама приветливая природа. Нигде ландшафт не
сделался до такой степени материалом самой архитектуры. «Величест¬
венная закономерность и единство всех зданий развились здесь на ре¬
лигиозной основе, которая повсюду сохранила схожую принципиаль¬
ную схему портала, зданий по бокам, дворов и залов вместе со строго
соблюдаемой во всех сооружениях осью север-юг, что привело в конце
концов к выработке столь грандиозных проектов и к такому безразде¬
льному господству над участками земли и пространствами, что можно
Relief еп сгеих [рельеф в углублении (фр.)], ср. Schafer Von agyptischer Kunst
(1919), I, S. 41.
** Cp. c. 743.
216
Том L ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
с полным правом говорить о строительстве и оперировании с самим
ландшафтом»*. Храм вовсе не представляет собой отдельное здание, но
является строением, в котором холмы и воды, деревья, цветы и целена¬
правленно сформированные и упорядоченные камни столь же важны,
как ворота, стены, мосты и дома. Это единственная культура, в которой
парковое искусство сделалось религиозным искусством большого сти¬
ля. Имеются парки, отражающие сущность определенных буддистских
сект**. Лишь исходя из ландшафтной архитектуры становится возмож¬
ным объяснить архитектуру зданий, их плоское самораспространение
и подчеркивание крыши как подлинного носителя выражения. И по¬
добно тому, как запутанные пути приводят в конце концов к цели — че¬
рез ворота и мосты, вокруг холмов и стен, так и живопись ведет зрителя
от одной частности к другой, между тем как египетский рельеф властно
указывает ему строгое направление. «Картина в целом не должна охва¬
тываться всего лишь одним взглядом. Временная последовательность
предполагает последовательность пространственных частей, по кото¬
рым, переходя от одной к другой, должен блуждать взгляд»*** ****. Египет¬
ская архитектура преодолевает образ ландшафта, китайская же при¬
слоняется к нему; однако и в том, и в другом случае именно направле¬
ние вглубь неизменно поддерживает и хранит переживание
пространственного становления.
8
Все искусство — это язык выражения ***. Причем в наиболее древ¬
них приступах к нему, которые заходят глубоко в животный мир, это
язык подвижного существа, обращенный лишь к самому себе. Нет и
мысли о свидетелях, хотя в их отсутствие потребность к выражению
умолкла бы сама собой. Еще на весьма поздних этапах зачастую вмес¬
то художников и зрителей существует лишь толпа творцов искусства.
Все танцуют, изображают и поют, и «хор» как совокупность присутст¬
вующих так никогда и не исчезал вполне из истории искусства. Толь¬
Fischer О., Chinesische Landschaftsmalerei (1921) S. 24. Величайшая трудность, свя¬
занная для нас с китайским (а также и индийским) искусством, заключается в том, что
все произведения раннего периода, а именно области Хуанхэ с 1300 по 800 г. до Р. X.,
как и добуддистской Индии, исчезли без следа. То, что мы называем теперь китайским
искусством, соответствует египетскому приблизительно начиная с 20-й династии. Па¬
раллель великим художественным школам отыскивается в школах ваяния эпохи Санс¬
ской династии и Птолемеев, в том числе в перипетиях утонченных и архаизирующих
вкусовых направлений без внутреннего развития. На примере Египта можно оценить,
до какой степени допустимо строить заключения о прошлом, об искусстве ранней эпо¬
хи Чжоу и ведического периода.
** Glaser С, Die Kunst Ostasiens (1920), S. 181. Cp. Gothein M., Geschichte der Garten-
kunst. (1914), II, S. 331 ff.
*** Glaser C., S. 43.
**** Cp. c. 550 сл.
fjiaea третья. Макрокосм
217
ко высшее искусство — это исключительно «искусство перед свидете¬
лями», прежде всего, как заметил однажды Ницше, перед высшим
свидетелем: Богом*83.
Это выражение оказывается либо орнаментом, либо подражанием.
Таковы высшие возможности, противоположность которых едва ощу¬
щается вначале. Причем подражание безусловно более изначально,
как стоящее ближе к расе. Подражание исходит из физиономически
понятого «ты», невольно заманиваемого к совместному резонирова¬
нию в жизненном такте; орнамент же свидетельствует о сознающем
собственную своеобычность «я». Первое широко распространено в
животном мире, второй же принадлежит едва ли не исключительно од¬
ному только человеку.
Подражание возникает из тайного ритма всего космического. Бодрст¬
вующему существу единое представляется разбросанным и простертым:
«здесь» и «там», собственное и чужое нечто; микрокосм по отношении? к
макрокосму как полюсы чувственной жизни, и эта раздвоенность оказы¬
вается перекрытой ритмом подражания. Всякая религия — это желание
бодрствующей души переправиться к силам окружающего мира, и иск¬
лючительно того же желает подражание, всецело религиозное в наиболее
торжественные свои мгновения. Ибо это одна и та же внутренняя по¬
движность, в которой тело и душа здесь и окружающий мир там сливают¬
ся и становятся единством. Подобно тому, как птица раскачивается в
бурю и пловец отдается ласкающему биению волн, как при звуках марша
в члены тела вливается необоримый такт, точно такое же заразительное
воздействие оказывает и копирование чужой мимики и движений, где ве¬
ликими мастерами оказываются именно дети. Это может дойти до «уно¬
сящего» воздействия совместных песнопений, маршевых движений и
танцев, которые создают из многих разнящихся единиц единство ощуще¬
ния и выражения, единое «мы». Но и «удачный» портрет человека или
пейзаж возникают из прочувствованного созвучия рисующего движения
с потаенными колебаниями и движениями того живого, что нам противо¬
стоит. Это физиономический такт, который становится действенным, ко¬
торый предполагает знатока, обнажающего за поверхностной игрой
идею, душу чужого. В определенные мгновения самозабвения все мы яв¬
ляемся знатоками такого рода, и тогда — когда мы с незаметным ритмом
следуем музыке или мимике — перед нами внезапно разверзаются тайны
зияющих глубин. Всякое подражание желает обмануть, а «обман» проис¬
ходит от «обмена». Это перенесение себя в чужое «оно», подмена места и
Также и монологическое искусство весьма одиноких натур — это на самом деле
диалог с самим собой как «ты». — Лишь в духовности больших городов потребность в
выражении оказывается преодоленной потребностью в сообщении (с. 551). Отсюда
возникает тенденциозное искусство, желающее наставлять, обращать и доказывать,
будь то политико-социальные или нравственные воззрения, в выдвигаемой же против
этого формулировке «I’art pour ГаП» [искусство для искусства (фр.)] о себе заявляет не
столько практика, сколько воззрение, которое по крайней мере напоминает об изнача¬
льном смысле художественного выражения.
218
Том /. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
сущности, в соответствии с которым один живет теперь в другом, пред¬
ставляя или отражая его, пробуждает полноту чувства созвучия, которое
восходит от молчаливого самозабвения до неудержимейшего смеха, дохо¬
дя до последних оснований эротического элемента, который невозможно
отделить от творческой силы. Так возникают народные танцы круже¬
ния — в качестве подражания любовному глухариному ухаживанию воз¬
ник баварский шуплатглер84; однако совершенно то же самое имеет в виду
и Вазари, когда он хвалит Чимабуэ и Джотто, поскольку они первыми
85 ^ w
вновь взялись подражать «природе» , а именно той самой природе ран¬
них людей, про которую Майстер Экхарт сказал: «Бог истекает во всю
тварь, и потому все созданное есть Бог»81. То, что мы наблюдаем как дви¬
жение в этом окружающем мире и тем самым ощущаем в его внутреннем
значении, мы воспроизводим через движение. Поэтому всякое подража¬
ние является игрой на публику в самом широком значении этого слова.
Мы играем на публику через движение кисти или резца, через голосовую
партию в песне, через тон рассказчика, стих, изображение, танец. Однако
то, что мы видя и слыша переживаем — это есть неизменно чужая душа, с
которой мы воссоединяемся. ЛиШь разобъясненное и обездушенное ис¬
кусство мировых столиц переходит к натурализму в современном значе¬
нии: подражание сиюминутной привлекательности, научно доказывае¬
мому достоянию чувственных признаков.
От подражания четко отделяется орнамент, который не следует те¬
чению жизни, но жестко ему противостоит. Вместо физиономиче¬
ских черт, подсмотренных у чужого существования, он воспроизводит
установленные мотивы, напечатленные на нем символы. Здесь желате¬
льно не обмануть, но заклясть. «Я» перевешивает «ты». Подражание —
это лишь говорение, чьи средства рождены мгновением и больше не по¬
вторяются; орнаментика же пользуется отделенным от говорения язы¬
ком, сокровищницей форм, обладающей длительностью и избавлен¬
ной от произвола всякой единичной личности*.
Подражать можно лишь живому, и лишь его можно воспроизво¬
дить, причем в движениях, через которые оно открывается чувствам
художников и зрителей. В силу этого подражание принадлежит време¬
ни и направлению; все эти танцы, рисунки, представления, отображе¬
ния для глаза и уха необратимо направлены, и поэтому высшие воз¬
можности подражания заключаются в воспроизведении судьбы, будь
то в звуках, стихах, в портрете или разыгранной сцене*. Напротив того,
Ср. с. 573. К последующему см.: Worringer, Abstraktion und Einftihlung, S. 66 ff.
Поскольку подражание — это жизнь, оно оказывается завершенным в самый миг
своего свершения (падает занавес) и оказывается обреченным на забвение либо, когда
результатом оказывается долговечное произведение искусства, входит в историю ис¬
кусства. От песен и танцев древних культур ничего не сохраняется, от их картин и поэ¬
зии — немногое, и также это немногое содержит почти исключительно орнаменталь¬
ную сторону изначального подражания, от великих постановок — лишь текст, а не кар¬
тина и не звучание, от стихотворения — лишь слова, а не исполнение, от всей музы¬
ки — в лучшем случае ноты, а не звуковая окраска инструментов. Все существенное
безвозвратно исчезает, и всякое «повторение» является чем-то новым и иным.
Глава третья. Макрокосм
219
орнамент — некое изъятое из времени, чистое, устойчивое, упорное
протяжение. В то время как подражание выражает нечто постольку, по¬
скольку оно реализуется, орнамент способен на это лишь когда он, уже
готовый, предстоит чувствам. Это есть само сущее, при полном игно¬
рировании его возникновения. Всякое подражание имеет начало и ко¬
нец, у орнамента же есть только длительность. По этой причине вос¬
произведена может быть лишь единичная судьба, как, например, Анти¬
гоны или Дездемоны. Посредством же орнамента, символа можно
обозначить лишь идею судьбы вообще, например, античную — через
дорическую колонну. Подражание предполагает талант, орнамент
же — сверх того еще и выучиваемое знание.
Существуют грамматика и синтаксис языка форм всех строгих ис¬
кусств — со своими правилами и законами, с внутренней логикой и
традицией. Это верно не только применительно к ложам строителей
дорических храмов и готических соборов, к школам ваяния в Египте*,
Афинах и школам скульпторов соборов Северной Франции, примени¬
тельно к китайской и античной школам живописи, а также тем, что су¬
ществовали в Голландии, на Рейне и во Флоренции, но также и к чет¬
ким правилам скальдов и миннезингеров, которым выучивались и в
которых практиковались, все равно как в ремеслах, причем не только в
отношении членения фразы и строения стиха, но и языка жестов и под¬
бора образов *. Это верно и применительно к технике сказительства ве¬
дического, гомеровского и кельтско-германского эпоса, к строению
фраз и интонации готической'проповеди, как немецкой, так и латин¬
ской, и наконец к античной ораторской прозе*** и правилам француз¬
ской драмы. В орнаментальной стороне произведения искусства отра¬
жается священная каузальность макрокосма, какой она предстает вос¬
приятию и пониманию данной породы людей. В том и другом имеется
система. Оба пронизаны базовыми чувствами религиозной стороны
жизни: страхом и любовью****. Подлинный символ способен внушить
страх или освободить от страха. «Верный» освобождает, «ложный» тер¬
зает и угнетает. Напротив того, подражательная сторона искусства
ближе к собственно расовым ощущениям: ненависти и любви. Отсюда
возникает противоположность безобразного и прекрасного. Она всецело
связана с живым, внутренний ритм которого отталкивает или увлекает
за собой, даже если речь идет об облаках, окрашенных вечерней зарей
или о приглушенных вздохах машины. Подражание прекрасно, орна¬
мент значителен. В этом — различие направления и протяженности,
органической и неорганической логики, жизни и смерти. То, что ка¬
Относительно мастерской Тутмеса в Тель-эль-Амарне ср. Mitt. d. Deutsch. Ori-
ent-Ges. N. 52, S. 28 ff.
Burdach К., Deutsche Renaissance, S. 11. Также и все вообще изобразительное ис¬
кусство готического периода строго типично и символично.
Norden Е., Antike Kunstprosa, S. 8 ff.
220
Том /. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
жется прекрасным, «достойно подражания». Непринужденно вступая
в резонанс, оно заманивает к воспроизведению, подпеванию, повторе¬
нию; оно «заставляет сильней биться сердце», а члены тела приводит в
движение. Оно опьяняет до преизбыточного ликования, но поскольку
прекрасное принадлежит времени, ему также отведено «свое время».
Символ пребывает; прекрасное же преходит с пульсом жизни того, кто
воспринимает его в качестве такового исходя из космического такта,
будь то отдельный человек, народ или раса. Не только «красота» антич¬
ных скульптур и поэтических произведений была для античного глаза
чем-то иным, нежели для нас, так что она безвозвратно утрачена вмес¬
те с античной душой — ибо то, что мы здесь «находим прекрасным»,
является свойством, верным исключительно для нас; не только то, что
прекрасно для одного рода жизни, безразлично или безобразно для
другого, как вся наша музыка для китайцев или мексиканская скуль¬
птура для нас; но и для одной и той же жизни привычное, заурядное, как
нечто пребывающее никогда не может быть прекрасным.
Лишь здесь противоположность этих двух сторон всякого искусства
заявляет о себе во всей своей глубине: подражание одушевляет и ожив¬
ляет, орнаментика заклинает и умерщвляет. Первое «становится», вто¬
рая «есть». Поэтому подражание сродни любви, причем в первую оче¬
редь — в песне, опьянении и танце — любви половой, в которой сущест¬
вование обращается к будущему, орнамент же сродни заботе о
прошлом, воспоминанию*, погребению. К прекрасному страстно
устремляются, значительное же внушает страх. Поэтому не бывает бо¬
лее глубинной противоположности, чем дома живых и дома мертвых *.
Крестьянский дом***, а вслед за ним дворянское поместье, пфальц и за¬
мок являются раковинами жизни, бессознательным выражением теку¬
щей по жилам крови; их не создавало никакое искусство, и никакое ис¬
кусство не в состоянии их изменить. Идея семьи проступает в плане
первобытного дома, внутренняя форма племени — в плане селений,
который по миновании столетий, после многократной смены обитате-
„ ****
леи позволяет опознать расу тех, кто их основал , жизнь нации и ее
общественное строение — в плане (не в профиле, не в силуэте!) горо¬
да*** *. С другой стороны, орнаментика большого стиля развивается на
застывшем символе смерти, .погребальной урне, саркофаге, надгробии
и погребальном храме , а сверх того — на храмах богов и соборах, ко¬
торые являются всецело орнаментом, не выражением расы, но языком
Отсюда же орнаментальный характер письменности.
Ср. с. 213.
*** Ср. с. 552.
+ *** гг.
Таковы славянские круговые поселения и германские деревни с уличнои плани¬
ровкой к востоку от Эльбы. Также по распространению круглых и прямоугольных в
плане домов в античной Италии можно сделать выводы о многих событиях гомеров¬
ской эпохи.
:р. с. 664.
Ср. с. 579.
Глава третья. Макрокосм
221
мировоззрения, насквозь чистым искусством, между тем как крестьян¬
ский дом и замок вообще не имеют с искусством ничего общего*.
И тот, и другой являются скорее зданиями, в которых творится ис¬
кусство, причем искусство подражательное в собственном смысле: ве¬
дический, гомеровский, германский эпос, героическая песнь, кресть¬
янский и рыцарский танец, песня шпильмана. Собор же, напротив
того, не только есть искусство, но и единственное искусство, которое
ничему не подражает. Оно является всецело напряжением пребываю¬
щих форм, исключительно трехмерной логикой, выражающейся в реб¬
рах, поверхностях и объемах. Искусство деревень и замков происходит
из сиюминутной прихоти, из возникающих за столом, во время игр ве¬
селья и задора, и настолько привязано к времени, что трубадуры обяза¬
ны своим именем «изобретению»87 и импровизация (как это имеет место
еще сегодня в цыганской музыке) является не чем иным, как расой, от¬
крывающейся по велению часа чужим чувствам. Духовное искусство
противопоставляет этой свободной формирующей силе строгую шко¬
лу, в которой всякий, будь то в гимне или же в зодчестве и изобразите¬
льном искусстве, служит логике вневременных форм. Поэтому во всех
культурах раннее культовое сооружение — это подлинное пребывание
истории стиля. В замках стилем обладает жизнь, а не здание. В городах
план — отображение судьбы народа; лишь выступающие вверх в силуэ¬
те башни и купола повествуют о логике в картине мира своих строите¬
лей, о последних причинах и действиях в их Вселенной.
В здании живых камень служит мирской цели; в культовом сооруже¬
нии он является символом \ Ни от чего так не пострадала история вели¬
ких архитектур, как от того, что ее принимали за историю техники
строительства, а не за историю зодческих идей, которые брали свои
технические средства выражения там, где их находили. Это все равно
как история музыкальных инструментов"*, которая ведь также разви¬
валась на основе музыкального языка. Были ли арочный свод, контр¬
форсы и купол на тромпах изобретены специально для большого архи¬
тектурного стиля либо их появление объясняется заимствованием из
ближнего или дальнего окружения, имеет для истории искусства так
же мало значения, как и вопрос о том, происходят ли — технически —
смычковые инструменты из Аравии или же из кельтской Британии.
Пускай даже дорическая колонна, как ремесленный продукт, позаим¬
ствована из храмов египетского Нового царства, позднеримское купо¬
льное здание — у этрусков, а флорентийский внутренний двор с колон¬
надой — у мавров Северной Африки, все равно дорический периптер,
Пантеон и палаццо Фарнезе принадлежат уже совершенно иному
миру: они служат художественному выражению пра-символа трех ку¬
льтур.
Ср. гл. 2, раздел 8.
Ср. с. 300.
Ср. с. 87.
222
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
9
Соответственно во всякое раннее время существует два собственно
орнаментальных, не подражательных искусства, а именно зодчество и
отделка. В предшествовавшее предвремя, в столетия предчувствий и бе¬
ременности к орнаментике принадлежит одни лишь мир элементарного
выражения. Эпоха Каролингов представлена только им одним. Ее архи¬
тектурные попытки находятся «между стилями». Им недостает идеи.
Также и с утратой всех микенских построек мы — в смысле истории ис¬
кусств — ничего не потеряли*. Однако с началом великой культуры зда¬
ние как орнамент внезапно поднимается до такой мощи выражения, что
на протяжении почти столетия простая отделка робко тушуется. Сфор¬
мированные из камня объемы, поверхности и ребра говорят сами за себя.
В погребальном храме Хефрена достигнута вершина математической
простоты; повсюду прямые углы, квадраты, прямоугольные столбы; ни¬
каких украшений, никаких надписей, никаких переходов. Снижающий
напряжение рельеф отваживается вторгнуться в возвышенную магию
этих пространств лишь несколькими поколениями позже. То же самое
можно сказать и о благородных романских постройках Вестфалии и
Саксонии (Хильдесхайм, Гернроде, Паулинцелла, Падерборн), Южной
Франции и норманнов (Норвич, Петерборо в Англии), которые способ¬
ны с неописуемой внутренней мощью и достоинством вложить весь
смысл мира в одну линию, одну капитель, одну арку.
Лишь на вершине мира форм ранней эпохи соотношение устанавли¬
вается таким образом, что здание приобретает решающее значение, а
богатый орнамент, причем орнамент в наиболее широком смысле, ему
служит. Ибо сюда относятся не только единичный античный мотив с его
покойно уравновешенной симметрией или меандровым дополнением \
заплетающие поверхность арабески и немногим отличные от них повер¬
хностные узоры майя, «молниевидные узоры» и иные мотивы ранней
эпохи Чжоу, которые опять-таки доказывают, что древнекитайская ар¬
хитектура представляет собой формирование ландшафта, обретают же
значение вне всякого сомнения лишь с помощью линий паркового
окружения, в которое встроены бронзовые сосуды. Кроме них орнамен¬
тально воспринимаются также и образы воинов на дипилонских вазах и
в еще гораздо большей степени — толпы статуй в готических соборах.
«Фигуры включаются в столбы и представляются зрителю выстроенны¬
ми рядами, подобно ритмическим ^>угам восходящей к небу и разнося¬
щейся во все стороны симфонии»**. Складки драпировок, жесты, типы
Это в равной мере справедливо применительно к постройкам эпохи тинитов в
Египте и селевкидско-персидскпм храмам Солнца и Огня в века, предшествовавшие
христианству.
К последующему Worrmger, Formprobleme der Gotik, S. 36 fif.
Dvorak, Idealismus und Naturalismus in der got. Skulptur und Malerei, Hist. Zeitschrift
1918, S. 44 f.
Глава третья. Макрокосм
223
образов, но также и гимническое построение строф и параллельное ве¬
дение голосов церковных песнопений являются орнаментом на службе
главенствующей над всем зодческой идеи*. Лишь с началом позднего
времени очарование великой орнаментики оказывается разрушенным.
Архитектура выступает в группе городских светских обособленных ис¬
кусств, которые делаются все более услужливыми и остроумно подража¬
тельными, а тем самым индивидуализированными. Применительно к
подражанию и орнаменту справедливо то, что было сказано выше о вре¬
мени и пространстве: время порождает пространство, однако простран¬
ство умерщвляет время \ В начале косная символика превратила все жи¬
вое в камень. Тело готической статуи вообще не должно жить: это есть
лишь линейный образ в человеческой форме. Теперь орнамент расстает¬
ся со всей священной строгостью и все в большей степени делается укра¬
шением архитектурного окружения утонченной и полной форм жизни.
Лишь в качестве такового, т. е. приукрашивающего, вкус Возрождения
оказался воспринятым придворным и патрицианским миром Севера —
и только им одним!*** В Древнем царстве орнамент означает нечто совер¬
шенно иное, чем в Среднем, в геометрическом стиле — нечто совершен¬
но иное, чем в эллинистическую эпоху, для нас, например, ок. 1200 г. —
нечто совершенно иное, чем ок. 1700 г.. Наконец и архитектура прини¬
мается живописать и музицировать, и всякий раз ее формы как бы наме¬
реваются подражать чему-то в картине окружающего мира. Так можно
объяснить путь, ведущий от ионической к коринфской капители и от
Виньолы через Бернини — к рококо.
С началом цивилизации подлинный орнамент угасает, а тем са¬
мым — и большое искусство вообще. Переход образуют, причем в той
или иной форме во всякой культуре, «классицизм и романтика». Пер¬
вый означает грезы об орнаменте (правилах, законах, типах), давно
уже сделавшемся старомодным и бездушным, вторая же — мечтатель¬
ное подражание уже не жизни, но прежнему подражанию. Место архи¬
тектурного стиля заступает архитектурный вкус. Живописная и лите¬
ратурная манера, старинная и современная, коренные и заимство¬
ванные формы меняются с модой. Недостает внутренней
необходимости. Нет больше никакой «школы», потому что всякий
выбирает мотивы где и как желает. Искусство становится художест-
K орнаменту в высшем смысле принадлежит наконец письмо, а тем самым и кни¬
га, которая по сути представляет собой дополнение к культовому зданию и в качестве
произведения искусства неизменно является или исчезает вместе с ним (с. 614 сл.). В
письме образ обретает не зрение, а понимание. Этими значками символизируются не
сущности, а отвлеченные от них с помощью слов понятия, и поскольку парой привыч¬
ному к языку человеческому духу является косное пространство, пра-символ культуры,
помимо каменного строения, нигде не выражается с большей чистотой, чем в письме.
Совершенно невозможно понять арабеску, если упустить из виду бесчисленные виды
арабской письменности, и от египетской и китайской истории стиля невозможно отде¬
лить историю знаков письма, их упорядочивания и применения.
** Ср. с. 199.
224 Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
венным ремеслом, причем в полном своем объеме, в архитектуре и му¬
зыке, в поэзии точно так же, как в драме. Наконец возникает сокро¬
вищница изобразительных и литературных форм, с которой опериру¬
ют исходя из вкуса, без какого-либо глубокого смысла. В этой
последней, всецело лишенной истории и развития форме орнамент
художественных ремесел открывается нам в узорах восточных ковров,
персидской и индийской работы по металлу, китайского фарфора, но
кроме того еще и египетского (и вавилонского) искусства, каким его
застали греки и римляне. Художественным ремеслом в чистом виде
является минойское искусство на Крите, этот северный побег египет¬
ского искусства начиная с эпохи гиксосов, и всецело ту же роль удоб¬
ной привычки и остроумной игры исполняет «одновременное» элли-
нистически-римское искусство примерно начиная со Сципиона и
Ганнибала. Начиная с пышно украшенных перекрытий форума Нер¬
вы в Риме и вплоть до поздней провинциальной керамики на Западе
имеет место то же самое формирование неизменного художественно¬
го ремесла, которое можно проследить также в Египте и в исламском
мире, в Индии же и Китае мы можем предполагать его наличие в века
после Будды и Конфуция.
10
И вот теперь, и именно исходя из различия, несмотря на все их глу¬
бинное родство, собора и храма при пирамиде, становится понятным
колоссальный феномен фаустовской души, чей порыв вглубь не дал
себя околдовать пра-символом пути, а с самого изначального этапа
стремится преодолеть все границы оптически связанной чувственно¬
сти. Возможно ли что-то более чуждое идее египетского государства,
общую направленность которого можно было бы обозначать как бла¬
городное здравомыслие, нежели политическое честолюбие великих
саксонских, франкских и штауфенских императоров, погубленных
своим нежеланием считаться с любыми фактами государственной дей¬
ствительности? Признание границы было бы для них равнозначно ди¬
скредитации идеи их господства. Бесконечное пространство как пра-
символ во всей своей неописуемой мощи вступает здесь в круг сущест¬
вования в сфере реальной политики, и к фигурам Отгонов, Конрада II,
Генриха VI и Фридриха II можно было бы еще прибавить норманнов
как завоевателей Руси, Гренландии, Англии, Сицилии и едва ли не
Константинополя, а еще великих пап Григория VII и Иннокентия III,
которые все до одного желали приравнять зримую сферу своей власти к
известному на тот момент миру. Это отличает гомеровских героев с их
столь невзыскательным в смысле географии кругозором от постоянно
скитающихся в бесконечном героев Грааля, Артура и сказания о Зигф¬
риде. Это отличает также и Крестовые походы, когда воины с берегов
Глава третья. Макрокосм
225
Эльбы и Луары выехали к границам известного мира, от исторических
событий, лежащих в основе «Илиады», о пространственной узости и
обозримости которых можно с уверенностью заключить по стилю ан¬
тичной душевности.
Дорическая душа осуществила символ телесно присутствующей
единичной вещи, прибегнув к отказу от всех великих и простирающих¬
ся вдаль творений. У того, что первая послемикенская эпоха ничего не
доставила нашим археологам, имеется вполне здравая причина. Ее до¬
стигнутым в конце концов выражением был дорический храм, оказы¬
вающий воздействие лишь снаружи, как массивное образование, кото¬
рое помещено в ландшафт и отрицает вообще игнорируемое в художе¬
ственном смысле пространство внутри себя как /хт) av, нечто такое,
чего вообще не должно было бы быть здесь. Египетская колоннада не¬
сла потолок зала. Грек позаимствовал этот мотив и применил его по
собственному разумению, вывернув здание, словно перчатку. Внеш¬
няя расстановка колонн — это, так сказать, остатки отрицаемого внут¬
реннего пространства .
Напротив того, магическая и фаустовская душа позволяют своим
каменным сновидческим образованиям вздыматься вверх как пере¬
крытиям исполненных смысла внутренних объемов, чья структура
предвосхищает дух обеих математик, алгебры и анализа. В зодческих
приемах, излучавшихся из Бургундии и Фландрии, крестовый ребри¬
стый свод с его распалубками и контрфорсами означает высвобожде¬
ние замкнутого, определенного чувственно-осязаемыми граничны¬
ми поверхностями пространства как такового". В магическом внут¬
реннем пространстве «окна представляют собой исключительно
негативный момент, никак еще не дооформившуюся до художествен¬
ности утилитарную форму, грубо говоря, всего только отверстия в
стене» . Там, где по практическим соображениям без них невозмож¬
но было обойтись, их для художественного впечатления скрывали эм-
порами, как в восточной базилике. Архитектура окна — один из наи¬
более значительных символов фаустовского переживания глубины и
принадлежит исключительно ему. Здесь ощущается воля проникнуть
изнутри в безграничное, как впоследствии того же самого желала чув¬
ствующая себя под этими сводами как дома музыка контрапункта,
чьим бесплотным миром навсегда остался мир первой готики. Когда в
позднейшие эпохи полифоническая музыка достигала своих высо¬
чайших возможностей, как в «Страстях по Матфею», в «Героической ** Греки, когда они перешли от храма в антах к периптеру, вне всякого сомнения
находились под мощным впечатлением египетских колоннад. И в это же самое время
свободно стоящая статуя также освободилась у них от несомненно египетских рельефо¬
образных образцов, влияние которых все еще ощущается в фигурах Аполлона. Это ни¬
как не отражается на том факте, что мотив античной колонны и античное применение
принципа ряда представляют собой нечто совершенно своеобычное.
Ограниченного пространства, а не камня: Dvordk, Histor. Zeitschrift 1918, S. 17 f.
Dehio, Geschichte der deutschen Kunst I, S. 16.
8 Закат Западного мира
226
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
симфонии» и в «Тристане» и «Парсифале» Вагнера, она с внутренней-
шей необходимостью становилась соборной и возвращалась на свою
родину, к каменному языку времени Крестовых походов. Чтобы изг¬
нать отсюда даже слабый призвук античной телесности, следовало
призвать на помощь всю мощь глубокомысленной орнаментики с ее
диковинно-жуткими трансформациями растительных, животных и
человеческих тел (Сен-Пьер в Муассаке), которая отрицает ограни¬
чивающее воздействие каменной породы, которая растворяет все ли¬
нии в мелодии и вариации одной темы, все фасады — в многоголосые
фуги, а материальность статуй — в музыку ниспадающих складками
драпировок. Только это придает глубокий смысл громадным стеклян¬
ным окнам собора с их цветной, прозрачной, а значит всецело невеще¬
ственной живописью — искусство, которое больше нигде и никогда не
повторяется и составляет наиболее резкую из мыслимых противопо¬
ложностей античной фреске. В наиболее отчетливом виде это наблю¬
дается, например, в Сен-Шапель в Париже, где рядом с блистающим
стеклом камень почти что исчезает. В противоположность фреске,
картине, телесно приросшей к стене, краски которой оказывают ма¬
териальное воздействие, мы встречаем здесь цвета, наделенные про¬
странственной свободой звуков органа, полностью отделенные от
среды несущей поверхности, образы, свободно парящие в безгранич¬
ном. Сравните с фаустовским духом этих церковных нефов — почти
лишенных стен, с высокими сводами, устремленных к хорам, воздей¬
ствие арабских — а значит, древнехристианско-византийских купо¬
льных сооружений. Словно бы парящий над базиликой или восьме¬
риком висячий купол также знаменует преодоление античного прин¬
ципа естественной тяжести, как его выражает соотношение колонны
и антаблемента. Также и здесь все телесное отрицает в зодчестве само
себя. Никакого «вне» не существует. Однако плотно сложенная стена
тем решительнее замыкает со всех сторон пещеру, откуда не может
вырваться никакой взгляд, никакая надежда. Призрачно спутанное
взаимопересечение шара и многоугольника, нагрузка невесомо ле¬
жит на каменном кольце и парит над землей, плотно охватывая внут¬
ренний объем, все тектонические линии скрадены, в высочайшем
своде небольшие отверстия, через которые вливается неуверенный
свет, еще неумолимее подчеркивающий элементы стен — вот какими
предстают взору шедевры этого искусства, Сан-Витале в Равенне,
Св. София в Византии, Собор скалы8* в Иерусалиме. Вместо египет¬
ского рельефа с его чисто плоскостной проработкой, изо всех сил из¬
бегающей указывающего вглубь ракурса, вместо стеклянных панно
соборов, вовлекающих внешнее пространство, мерцающие мозаики
и арабески, в которых преобладает золотой тон, одевают все стены и
погружают пещеру в сказочное зыбкое сияние, навсегда сохранившее
свое притягательное для северного человека очарование во всяком
мавританском искусстве.
Глава третья. Макрокосм
227
11
Итак, явление большого стиля происходит из сущности макрокосма,
из пра-символа великой культуры. Относись мы с надлежащим уваже¬
нием к смыслу этого слова «стиль», которое обозначает не запас форм,
а историю формы, мы не стали бы приводить фрагментарные и хаоти¬
ческие художественные проявления первобытного человечества к все¬
охватной определенности какого бы то ни было развивающегося сто¬
летиями стиля. Стилем обладает лишь воздействующее своими выра¬
жением и смыслом как единое целое искусство великих культур,
причем теперь уже не одно только искусство.
К органической истории стиля следует отнести его предысторию,
его наследие и то, что остается вне него. «Бычья табличка» эпохи 1-й
династии еще не является «египетской»*. Лишь начиная с 3-й династии
художественные произведения внезапно обретают стиль, причем стиль
весьма определенный. Также и каролингское искусство находится
«между стилей». Заметно нащупывание, опробование различных
форм, однако никакого внутренне необходимого выражения здесь еще
нет. Творец кафедрального собора в Аахене «мыслит и строит уверен¬
но, однако чувствует он все еще неуверенно»**. Пару церкви Марии в
цитадели Вюрцбурга (ок. 700) мы отыскиваем в Салониках (Св. Геор¬
гий); церковь в Жерминьи-де-Пре (ок. 800) с ее куполом и подковооб¬
разными арками — почти что мечеть. В 850—950 гг. на всем Западе на¬
блюдается зияние. Также и русское искусство все еще пребывает сегод¬
ня в «междустилье». На первоначальное, распространенное от
Норвегии и до Манчжурии деревянное зодчество с крутыми восьми¬
угольными шатровыми крышами наступают из-за Дуная византийские
мотивы, из-за Кавказа — армянско-персидские. Избирательное срод¬
ство русской и магической душ между собой вполне ощутимо, однако
пра-символ русскости, бесконечная равнина , как в религиозном смыс¬
ле, так и в смысле архитектоническом все еще не отыскала себе опреде¬
ленного выражения. Церковная крыша едва возвышается холмом над
ландшафтом, а на вершины ее шатровой крыши посажены «кокошни¬
ки», призванные скрадывать и снимать устремление вверх. Они не
вздымаются, как готические башни, и не перекрывают, как купола ме¬
чети, но именно «сидят» и тем самым подчеркивают горизонталь зда¬
ния, которое призвано восприниматься исключительно снаружи. Когда
Schafer Н., Von agyptischer Kunst I, S. 15 f.
** Frankl, Baukunst des Mittelalters (1918), S. 16 ff.
Cp. c. 752., прим. Отсутствие какой-либо вертикальной тенденции в русском
ощущении жизни проявляется также и в былинном образе Ильи Муромца. У русского
нет ни малейшей связи с Богом-Отцом. Его этос — это не сыновняя, но братская лю¬
бовь, во все стороны излучающаяся по человеческой равнине. Также и Христос вос¬
принимается как брат. Фаустовское, всецело вертикальное стремление к индивидуаль¬
ному совершенствованию представляется подлинному русскому суетным и непонят¬
ным. Русские представления о государстве и собственности также лишены какой-либо
вертикальной тенденции.
228
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
ок. 1670 г. Синод запретил шатровые крыши и предписал православ¬
ные луковичные главы, тяжелые купола стали помещаться на тонких
цилиндрах, в сколь угодно большом числе* «посаженные» на равнине
крыши*. Это все еще не стиль, но обещание стиля, который проснется
лишь с подлинно русской религией.
На фаустовском Западе пробуждение имело место незадолго до
1000 г.. Романский стиль оказался вдруг сформированным — сразу, од¬
ним махом. Взамен неуверенного членения объемов с нечеткой плани¬
ровкой внезапно явилась напряженная динамика пространства. Инте¬
рьер и внешний облик были изначально приведены в жесткое соответ¬
ствие, так что стена оказалась пронизанной языком форм, как ни в
одной другой культуре; с самого начала и впредь определилось значе¬
ние окон и башен. Идея формы была безоговорочно задана, теперь
предстояло лишь развитие.
С подобного по бессознательности и символической мощи творче¬
ского акта начинается и египетский стиль. Пра-символ пути внезапно, с
началом 4-й династии (2550 г. до Р. X.), явился в свет. Миропострояю-
щее переживание этой душой глубины воспринимает свое содержание
от самого фактора направления: в выражении господствуют глубина
пространства как оцепеневшее время, даль, смерть, сама судьба; чисто
чувственные измерения длины и ширины делаются сопровождающей
поверхностью, которая сужает и предписывает путь судьбы. Также вне¬
запно примерно в начале 5-й династии появляется египетский плоский
рельеф, рассчитанный на восприятие сблизи и своим рядоположным
расположением принуждающей зрителя шагать вдоль поверхностей
стен в предписанном направлении* *. Еще более поздние ряды сфинксов
и статуй, скальные и террасные храмы постоянно усиливают тенденцию
в направлении единственной дали, известной миру египтянина — моги¬
лы и смерти. Необходимо обратить внимание на то, что уже колоннады
раннего времени расчленены по диаметру и отстоянию мощных стволов
таким образом, что они перекрывают всякий взгляд, обращенный вбок.
Такого мы больше не встретим ни в одной другой архитектуре.
Величие этого стиля представляется нам косным и неизменным. Ра¬
зумеется, он находится вне страсти, которая все еще пребывает в поиске
и страхе и потому еще столетиями сообщает подчиненным деталям ка¬
кую-то индивидуальную неугомонную подвижность. Однако нет ника¬
кого сомнения в том, что фаустовский стиль, также образующий цель¬
на церкви погоста в Кижах их 22.
Грабарь И., История русского искусства (1911, на русском языке) I—III. Eliasberg А.,
Russ. Baukunst (1922), введение.
***
Ясность в структуре египетской и западной истории допускает проводить доходя¬
щие до частностей сравнения, вполне достойные особого исследования по истории ис¬
кусств. 4-я династия со строгим стилем пирамид (2550—2450, Хеопс, Хефрен) соответст¬
вует романскому стилю (980—1100), 5-я династия (2450—2320, Сахура) — ранней готике
(1100—1230); 6-я династия, расцвет архаического искусства ваяния (2320—2190, Пиопи I
и И) — высокой готике (1230—1400). [См. примечание на таблице после с. 66—67. X. К.]
Глава третья. Макрокосм 229
ное единство от самых ранних романских творений вплоть до рококо и
ампира, с его непокоем и постоянными поисками показался бы египтя¬
нину куда более единообразным, чем мы могли бы себе представить. Не
будем забывать, что исходя из выдвинутого здесь понятия стиля романи-
ка, готика, Возрождение, барокко, рококо являются лишь ступенями од¬
ного и того же стиля, в котором мы сами, и это естественно, замечаем в
первую очередь перемены, взгляду же людей, устроенных иначе, будет
открываться пребывающее неизменным. В самом деле, нисколько не
режущие глаз бесчисленные перестройки романских зданий в стиле ба¬
рокко, позднеготических же — в стиле рококо, внутреннее единство се¬
верного Возрождения, как и крестьянского искусства, в которых готика
и барокко стали полностью тождественными, улицы старинных горо¬
дов, чьи щипцы и фасады придают всем стилевым разновидностям еди¬
ное чистое созвучие, а также невозможность в отдельных случаях вооб¬
ще отличить романику от готики, Возрождение от барокко, барокко от
рококо, — все это доказывает, что «фамильное сходство» этих этапов
куда больше, чем представляется тем, кто в них посвящен.
Египетский стиль чисто архитектоничен вплоть до угасания данной
души. Он — единственный, в котором рядом с архитектурой напрочь от¬
сутствует украшающий орнамент. Он не допускает никакого уклонения в
развлекающие искусства, никакой станковой живописи, никаких бюс¬
тов, никакой светской музыки. В античности с появлением ионического
ордера центр тяжести формирования стиля перемещается с архитектуры
к независимой от нее скульптуре; в барокко он переходит к музыке, язык
форм которой, в свою очередь, господствует над всем зодчеством XVIII в.
В арабском мире начиная с Юстиниана и персидского царя Хосрова Ано-
ширвана арабеска разрешает архитектуру, живопись и скульптуру в такие
стилевые воздействия, которые мы сегодня могли бы обозначить как ре¬
месленно-художественные. В Египте же главенство архитектуры остается
бесспорным. Она лишь смягчает свой язык. В залах храмов при пирами¬
дах 4-й династии (пирамида Хефрена) высятся лишенные украшений
столбы с острыми гранями. В строениях 5-й династии (пирамида Сахура)
появляется растительная колонна. Грандиозные окаменевшие связки ло¬
тоса и папируса вырастают из пола, выполненного из просвечивающего
алебастра, который обозначает воду; они заключены в пурпурные стены.
Потолок украшен птицами и звездами. Священный путь от портала к по¬
гребальной камере, этот образ жизни, представляет собой поток. Это сам
Нил, становящийся тем самым единым целым с пра-символом направле¬
ния. Дух материнского ландшафта объединяется с произошедшей от него
душой. В Китае на место мощной пилонной стены, угрожающей тому,
кто приближается, узкими воротами, заступает «стена духов» (инь-пи), за¬
крывающая вход. Китаец проскальзывает в жизнь, и точно так же он будет
впредь следовать дао жизненного пути; и подобно тому, как долина Нила
относится к холмистым равнинам ландшафта на Хуанхэ, так и забранный
в камень храмовый путь относится к запутанным тропам китайской пар¬
ковой архитектуры. Точно также эвклидовское бытие античной культуры
230
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
таинственным образом сопрягается с множеством маленьких островов и
предгорий Эгейского моря, а постоянно блуждающая в бесконечном
страсть Запада связана с обширными франкскими, бургундскими и сак¬
сонскими равнинами.
12
Египетский стиль является выражением храброй души. Сам египтя¬
нин никогда не воспринимал его строгости и мощи и никогда их не под¬
черкивал. Отваги хватало на все, однако никто об этом не распростра¬
нялся. В готике и барокко, напротив того, преодоление тяжести стано¬
вится неизменно сознаваемым мотивом языка форм. Трагедия
Шекспира в полный голос заявляет об отчаянной борьбе воли и мира.
Античный человек был слаб перед лицом внешних «сил». Катарсис стра¬
ха и сострадания, выдох аполлонической души в мгновение перипетии —
вот что, по Аристотелю, было преднамеренной целью аттической траге¬
дии. Когда грек наблюдал картину того, как некто знакомый (ибо всякий
знал миф и его героев, всякий в нем жил) оказывается бессмысленно
раздавленным роком, притом что нельзя было даже и помыслить о со¬
противлении внешним силам, и героически, с вызовом погибает, сохра¬
няя горделивую осанку, в его эвклидовской душе случался удивитель¬
ный подъем. Пускай даже жизнь никчемна, был в ней все же великий
жест, с которым с ней прощались. Отваги и решимости не хватало ни на
что, однако пьянящую красоту находили в терпении. Об этом свидетель¬
ствует уже образ многострадального Одиссея, и в еще куда большей сте¬
пени — Ахилл, этот пра-образ грека. Мораль киников, Стой, Эпикура,
общегреческий идеал софросины и атараксии, преклоняющийся перед
decopia в своей бочке Диоген — все это замаскированное малодушие пе¬
ред лицом всего тяжелого, требующего принятия ответственности, и в
высшей степени отлично от гордости египетской души. Аполлониче-
ский человек по сути убегает жизни — вплоть до самоубийства, которое
в одной только этой культуре (если опять-таки не принимать во внима¬
ние родственные индийские идеалы) получает достоинство высоко¬
нравственного поступка и окружается торжественностью сакрального
символа. Дионисийское опьянение можно заподозрить в насильствен¬
ном сокрытии чего-то, что вовсе не было знакомо душе египетской. И
по этой-то причине эта культура — культура всего небольшого, легкого,
простого. Если сравнивать ее технику с египетской и вавилонской, она
представляет собой остроумную безделицу*. Ее орнамент беден идеями
как никакой другой. Ее скульптурные типы по положению тела и позе
можно пересчитать по пальцам. «При бросающейся в глаза бедности
форм дорического стиля, пускай даже в начале развития она, должно
быть, была не столь выраженной, как впоследствии, все вращалось во-
* Ср. с. 939., прим. 1.
Глава третья. Макрокосм
231
круг пропорций и меры»*. Но также и здесь — какая сноровка в избега¬
нии! Греческая архитектура с ее равновесием опоры и нагрузки и при¬
сущими ей малыми масштабами производит впечатление постоянного
бегства от тяжелых тектонических проблем, которые прямо-таки на¬
меренно, из своего рода неясного чувства долга, выискивали зодчие на
Ниле и позднее — на далеком Севере. Эти же проблемы были известны
и в микенскую эпоху, где их, конечно, также не избегали. Египтянин
любил твердый камень исполинских зданий; он соответствовал его са¬
мосознанию — избирать в качестве задачи только самое трудное; грек
же всего этого избегал. Поначалу его зодчество выискивало небольшие
задачи, а после оно вовсе иссякло. Если сравнить греческое зодчество в
полном его объеме с совокупностью того, что имеется в египетском,
мексиканском или даже западном зодчестве, нас поразит ничтожность
стилевого развития. Греческое зодчество исчерпывается несколькими
вариациями типа дорического храма, а с изобретением коринфской
капители (ок. 400) оно уже завершено. Все позднейшее — лишь перепе¬
вы уже имеющегося.
Это привело к почти телесному закреплению типов форм и видов
стилей. Можно было выбирать тот или иной из них, однако перешаги¬
вать их четко очерченные границы не разрешалось. Ведь это было бы
до некоторой степени признанием бесконечного числа возможностей.
Имелось три ордера колонн и определенное членение антаблемента
для каждого из них. Поскольку при чередовании триглифов и метоп по
углам возникал рассматривавшийся уже Витрувием конфликт, послед¬
ние интерколумнии делались более узкими, ибо никто и не помышлял
0 том, чтобы выдумать здесь новую форму. Если кому-то были угодны
большие габариты, просто увеличивали количество элементов — друг
над другом, друг подле друга, друг за другом. У Колизея три яруса, в ми¬
летском Дидимейоне — три ряда колонн спереди, фриз Гигантов в
Пергаме представляет собой бесконечную последовательность отдель¬
ных мотивов, не связанных между собой. Точно так же обстоит дело и
со стилевыми разновидностями прозы, с типами лирики, рассказа и
трагедии. Во всех случаях затраты, связанные с очерчиванием базовой
формы, ограничиваются минимумом, а формирующей силе художни¬
ка предписано заниматься отделкой частностей: вот чистая статика
жанров, находящаяся в острейшем противоречии с фаустовской дина¬
микой порождения все новых типов и областей формы.
1 _
13
Организм великих стилевых последовательностей сделался теперь
обозримым. Первым, кому открылась эта картина, был опять же Гёте.
В своем «Винкельмане» он говорит о Веллее Патеркуле: «С того места,
* Koldewey-Puchstein, Eiie griech. Tempel in Unteritalien und Sizilien I, S. 228.
232
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
где он находился, у него не было возможности рассматривать все ис¬
кусство как живое существо (£a>ov), которому, как и всякому другому
органическому существу, следовало обнаруживать свое незаметное воз¬
никновение, медлительный рост, блистательный миг своего завершения,
постепенный упадок, с той только разницей, что здесь это по необходи¬
мости должно было происходить на многих индивидуумах»89. Эта фраза
заключает в себе всю морфологию истории искусства. Стили не сле¬
дуют один за другим, подобно волнам или ударам пульса. Они не име¬
ют ничего общего с личностью отдельного художника, с его волей и
сознанием. Напротив того, это стиль создает тип художника. Стиль,
как и культура — это пра-феномен в строжайшем гётеанском смысле
этого слова, будь то стиль искусств, религий, идей или же стиль самой
жизни. Подобно тому как «природа» представляет собой постоянно
новое переживание бодрствующего человека, как его alter ego и ото¬
бражение в окружающем мире, так же точно и стиль. По этой причине
в целостной исторической картине данной культуры может наличест¬
вовать лишь один стиль, а именно стиль данной культуры. То было за¬
блуждение, когда обычные стилевые периоды, такие как романика,
готика, барокко, рококо, ампир различали между собой как настоя¬
щие стили, ставя их на одну доску с единствами совершенно иного
порядка, такими, как египетский, китайский стиль или даже «доисто¬
рический стиль». Готика и барокко: вот юность и старость одной и той
же совокупности форм, зреющий и созревший стиль Запада. В дан¬
ном случае нашему искусствоведению недостает широты, непреду¬
бежденности взгляда и доброй воли к абстрактному мышлению. Мы
пошли по легкому пути, выстроив все без разбора остро воспринима¬
емые области формы друг подле друга в качестве «стилей». Вряд ли
есть нужда упоминать о том, что схема Древний мир — Средневеко¬
вье — Новое время исказила перспективу также и здесь. В самом деле,
даже такой выдержанный в строжайшем духе Возрождения шедевр,
как двор палаццо Фарнезе, стоит бесконечно ближе к вестибюлю цер¬
кви Св. Патрокла в Зёйсте, интерьеру Магдебурге кого собора и лест¬
ницам южногерманских замков XVIII в., чем к храму в Пестуме или
Эрехтейону. То же соотношение наблюдается и между дорическим и
ионическим ордерами. По этой причине ионическая колонна может
образовать с дорическими архитектурными формами столь же совер¬
шенное сочетание, как и поздняя готика с ранним барокко в церкви
Св. Лоренца в Нюрнберге или поздняя романика — с поздним барок¬
ко, как в прекрасной верхней части западных хоров Майнцского со¬
бора. По этой причине наш взгляд едва способен выделять в египет¬
ском стиле соответствующие дорически-готической юности и иони¬
ческо-барочной старости элементы Древнего и Среднего царства,
которые начиная с 12-й династии с совершенной гармонией прони¬
зывают язык форм всех более крупных произведений.
Глава третья. Макрокосм
233
Перед историей искусств стоит задача написать сравнительные био¬
графии великих стилей. История жизни всех их, как организмов одного
и того же вида, имеет родственную структуру.
В начале имеет место понурое, смиренное, чистое выражение то¬
лько пробуждающейся души, все еще отыскивающей отношение к
миру, который, несмотря на то, что является ее собственным творе¬
нием, тем не менее противостоит ей как нечто чуждое и отчужденное.
В постройках епископа Бернварда Хильдесхаймского, в древнехрис¬
тианских росписях катакомб и колонных залах начала 4-й династии
сквозит детский страх. Над ландшафтом нависает предвестие весны
искусства, глубинное предчувствие будущего изобилия образов,
мощное, сдержанное напряжение. Сам же ландшафт, пока еще всеце¬
ло крестьянский, украшается первыми крепостцами и городишками.
Далее следует ликующий взлет высокой готики, эпохи Константина с
ее колонными базиликами и купольными церквями и украшенные
рельефами храмы 5-й династии. Постигается существование; распро¬
страняется блеск священного, полностью освоенного языка формы,
и стиль дозревает до величественной символики глубинного направ¬
ления и судьбы. Однако юношеское упоение подходит к концу. Про¬
тиворечие зарождается в самой душе. Возрождение, дионисийски-
музыкальная вражда по отношению к аполлонической дорике, огля¬
дывающийся на Александрию — в противоположность радостно-не¬
брежному антиохийскому искусству — стиль Византии ок. 450 г. зна¬
менуют миг отторжения и пробного либо уже достигнутого уничтоже¬
ния всего завоеванного (весьма непростое обоснование сказанного
было бы здесь излишним). Тем самым история стиля вступает в пору
зрелости. Культура становится духом больших городов, которые гос¬
подствуют теперь над ландшафтом; она одухотворяет также и стиль.
Возвышенная символика блекнет; буйство сверхчеловеческих форм
приходит к концу; более умеренные и светские искусства изгоняют
великое искусство одушевленного камня; даже в Египте скульптура и
фреска отваживаются теперь двигаться с большей раскованностью.
Появляется художник. Ныне он «набрасывает» то, что прежде вырас¬
тало прямо из почвы. И существование, осознавшее само себя, отде¬
лившееся от почвенно-грезимого и мистического, опять становится
сомнительным и борется за выражение своего нового предназначе¬
ния: в начале барокко, когда Микеланджело в дикой неудовлетворен¬
ности, бунтуя против границ своего искусства, громоздит купол на
собор Петра; в эпоху Юстиниана I, когда начиная с 520 г. возникают
Св. София и украшенные мозаиками купольные базилики Равенны; в
Египте к началу 12-й династии, чей расцвет греки в обобщенной фор¬
ме связали с именем Сесостриса; и ок. 600 г. в Греции, где много по¬
зже еще Эсхил повествует о том, что могла и должна была выражать
греческая архитектура в эту решающую эпоху.
234
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Здесь для стиля наступают лучезарные осенние деньки: еще раз в
нем вырисовывается счастье души, сознающей свое окончательное со¬
вершенство. Возвращение к «природе», еще тогда ощущаемое и возве¬
щаемое мыслителями и поэтами, Руссо, Горгием и всеми их «совре¬
менниками» в других культурах как настоятельнейшая необходимость,
возвещает о себе в мире, художественных форм как сентиментальное
томление и предчувствие конца. Ярчайшая духовность, бодрая учти¬
вость и печаль прощания — именно об этих последних красочных деся¬
тилетиях культуры Талейран впоследствии сказал: «Qui п’а pas ve'cu
avant 1789f пе connaitpas la douceur de vivre» [«Тому, кто не жил до 1789,
неведома сладость жизни» (фр.)]. Таким представляется свободное,
солнечное, изысканное искусство в эпоху Сесостриса III (ок. 1850). Те
же самые краткие мгновения ублаготворенного счастья проблескива¬
ют и тогда, когда при Перикле возникли пестрое великолепие Акропо¬
ля и произведения Фидия и Зевксида. Тысячелетием позже, в эпоху
Омейядов мы наталкиваемся на них же в радостном сказочном мире
мавританских сооружений с их хрупкими подарочными колоннами и
подковообразными арками, которые так и стремятся раствориться в
воздухе в сиянии арабесок и сталактитов, а еще тысячелетие спустя — в
музыке Гайдна и Моцарта, в пасторальных группах мейсенского фар¬
фора, в полотнах Ватто и Гварди и творениях немецких архитекторов в
Дрездене, Потсдаме, Вюрцбурге и Вене.
Затем стиль угасает. За одухотворенным до крайней степени, лом¬
ким, близким к самоуничтожению языком форм Эрехтейона и Цвин-
гера в Дрездене следует вялый одряхлевший классицизм — в крупных
эллинистических городах точно так же, как в Византии ок. 900 г. и в се¬
верном ампире. Апатическое существование в пустых унаследованных
формах, на время вновь оживляемых через архаизацию или эклекти¬
ку — это конец. Художество пребывает во власти полусерьезное™ и со¬
мнительной подлинности. Вот в таком состоянии мы ныне и пребыва¬
ем. Это долгая игра с мертвыми формами, которой мы желали бы под¬
держать иллюзию живого искусства.
14
Явление арабского искусства, доныне никем не воспринятое как
единство, при том, что им полностью охватывается первое тысячеле¬
тие нашего летоисчисления, обретает образ лишь при выполнении
нескольких условий. Нужно освободиться от наваждения той антич¬
ной корки, которая покрывает юный Восток в императорскую эпоху в
продолжении давно умерших внутренне художественных экзерсисов,
в архаизирующем или произвольном духе мешающих собственные и
чужие мотивы. Затем следует признать в древнехристианском искус¬
стве и во всем, что действительно живо в «позднеримском» элементе,
Глава третья. Макрокосм
235
раннее время арабского стиля. Тогда мы увидим в эпохе Юстиниана I
точное подобие испанско-венецианского барокко, как оно господст¬
вовало в Европе при великих Габсбургах Карле V и Филиппе II, а в ви¬
зантийских дворцах с их величественными батальными картинами и
сценами небывалой роскоши, давно поблекшее великолепие которых
воспевают в напыщенных речах и стихах такие придворные эрудиты,
как Прокопий Кесарийский, — подобие дворцов раннего барокко в
Мадриде, Венеции и Риме и колоссальные декоративные полотна Ру¬
бенса и Тинторетто. Поскольку арабское искусство занимает в общей
картине истории искусств решающее место, господствовавшее до сих
пор неверное понимание препятствовало познанию органических
взаимосвязей как таковых*.
Примечательно, а для того, кто обрел здесь способность видеть
остававшееся до сих пор неизвестным — прямо-таки захватывающе
наблюдать то, как эта юная душа, которую удерживает в оковах дух ан¬
тичной цивилизации и которая не отваживается на то, чтобы свободно
двигаться под впечатлением в первую очередь политического всемогу¬
щества Рима, покорно подчиняется состарившимся и чуждым формам
и пыталась довольствоваться греческим языком, греческими идеями и
греческими художественными мотивами. Пламенная готовность отда¬
ться силам юного дневного мира, характерная для юности всякой куль¬
туры, смирение готического человека в его благочестивых, с высокими
сводами внутренних объемах с колоннами в статуях и заполненными
светом стеклянными картинами, высокое напряжение египетской
души посреди ее мира пирамид, лотосовидных колонн и покрытых ре¬
льефами зал мешается здесь'с духовным коленопреклонением перед
умершими формами, которые принимают за вечные. И если несмотря
на все это их усвоение и дальнейшее формообразование не удались,
если против воли и незаметно, без всякой готической гордости собст¬
венными достижениями, здесь, в Сирии императорской эпохи, возник
замкнутый новый мир форм (едва ли не оплакиваемый и не восприни¬
маемый как упадок), заполонивший своим духом под видом греческо-
римских архитектурных приемов сам Рим, где Пантеон и император¬
ские форумы возводили сирийские мастера, это, как никакой иной при¬
мер, доказывает первобытную силу той юной душевности, которой
еще предстояло завоевать свой мир.
Как всякое раннее время, так и это пытается вложить выражение
своей душевности в новую орнаментику, в первую очередь в ее верши¬
ну, религиозную архитектуру. Однако до самого недавнего времени из
этого весьма богатого мира форм во внимание принимали лишь те, что
относились к западной окраине, и потому их-то и воспринимали в ка¬
честве родины и местопребывания магической истории стиля, хотя
(как и в религии, науке, общественной и политической жизни) через
К последующему т. 2, гл. 3.
236
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
восточную границу Римской империи на запад пробивались только от¬
блески* ** * **** *****. Ригль" и Стржиговски* * признали этот факт, однако чтобы
вслед за этим прийти к полной картине развития арабского искусства,
следует в равной мере освободиться также и от филологических и рели¬
гиозных предубеждений. К несчастью, искусствознание если пока еще
и не признает религиозных границ, все же бессознательно принимает
их за основу. Ибо не существует ни позднеантичного, ни древнехрис¬
тианского, ни исламского искусства — в том смысле, чтобы община
исповедующих соответствующую религию выработала в своем кругу
свой собственный стиль. Скорее совокупность этих религий от Арме¬
нии до Южной Аравии и Аксума и от Персии до Византии и Александ¬
рии, несмотря на все противоречия в частностях , обладает художест¬
венным выражением великого единства. Все эти религии, — христиан-
*****
ская, иудейская, персидская, манихейская, синкретическая , —
располагали культовыми сооружениями и, по крайней мере на письме,
орнаментом высшего разряда; и какими бы различными ни были их
учения в частностях, всех их тем не менее пронизывает схожая религи¬
озность, которая находит выражение в схожем переживании глубины с
вытекающей отсюда пространственной символикой. В базиликах хри¬
стиан, иудеев и почитателей Ваала, в митрейонах, маздаистских храмах
огня и мечетях имеется нечто, свидетельствующее об одинаковой ду¬
шевности: ощущение пещеры.
Науке следует наконец предпринять решительную попытку устано¬
вить остававшуюся до сих пор в полном пренебрежении архитектуру
южноаравийских и персидских храмов, сирийских, а также месопотам¬
ских синагог, культовых построек восточной Малой Азии и даже Абис¬
синии * , а из христианских церквей принимать о внимание не только
те, что находятся на павлинистском Западе, но и церкви несторианского
Востока от Евфрата и до Китая, где их в старинных хрониках весьма
многозначительно именуют «персидскими храмами». Если из всех этих
строений в глаза нам до сих пор не бросилось практически ничего, при¬
чина этого вполне может заключаться в том, что с проникновением сюда
христианства, а затем ислама культовые места меняли религию таким
образом, что идея здания и стиль его этому не противоречили. Относи-
^ Ср. с. 657.
Stilfragen: Grundlagen zu einer Geschichte der Omamentik (1893). Spatromische Kun-
stindustrie (1901).
** Amida (1910). Die btidende Kunst des Ostens (1916). Altai-Iran (1917). Die Baukunst
der Armdnier und Europa (1918).
**** ^ _
Они не больше, чем между дорическим, аттическим и этрусским искусством и
наверняка меньше тех, что существовали ок. 1450 г. между флорентийским Возрожде¬
нием, северофранцузской, испанской восточногерманской (кирпичной) готикой.
***** Ср. с. 707.
****** тт
Древнейшие места христианского культа в Аксумском царстве несомненно сов¬
падают с языческими сабейскими центрами.
Глава третья. Макрокосм
237
тельно позднеантичных храмов нам это известно, однако сколько церк¬
вей в Армении могли некогда являться храмами огня?
Художественный центр этой культуры, как справедливо определил
Стржиговски, несомненно находится в треугольнике городов Эдесса-
Нисибис-Амида. К западу отсюда господствует «позднеантичный»
псевдоморфоз: павлинистское, одержавшее победу на Эфесском и
Халкедонском ** соборах, принятое в Византии и Риме христианство,
западный иудаизм и синкретические культы. Характерный для псевдо¬
морфоза тип строения — базилика, причем также и для иудеев с язычни¬
ками***. Базилика средствами античности выражает противополож¬
ность ей же самой, не будучи в состоянии избавиться от этих средств: в
этом и заключается сущность и трагедия псевдоморфоза. Чем в боль¬
шей степени эвклидовское место, в котором разместился определен¬
ный культ, переходит в «античном» синкретизме в неопределенную в
пространственном отношении общину, исповедующую культ, тем
важнее становится внутренность храма в противоположность его
внешней стороне, причем без того, чтобы следовало производить су¬
щественные изменения в плане здания, расположении колонн и кры¬
ши. Пространственное ощущение становится иным, а средства выра¬
жения — поначалу — прежние. В языческих культовых сооружениях
императорского времени четко прослеживается остающийся все еще
без внимания путь от всецело телесных храмов в августовском стиле,
чья целла не означает архитектонически вообще ничего, — к таким, в
которых лишь один интерьер и имеет значение. В конце концов внеш¬
няя картина дорического периптера оказывается перенесенной на че¬
тыре внутренние стены. Колоннада перед лишенной окон стеной от¬
рицает пространство, лежащее позади, однако в первом случае это про¬
исходит для наружнего наблюдателя, во втором же — для общины
внутри. В сравнении с этим куда меньшее значение имеет то обстояте¬
льство, перекрыт ли весь внутренний объем полностью, как в настоя¬
щей базилике, или же только Святая Святых^ как в храме Солнца в Баа-
льбеке с его громадным передним двором*** *, который позднее сдела¬
ется постоянной принадлежностью мечети, происходя, возможно, из
Южной Аравии*****. В пользу значения среднего нефа как первонача¬
льного внутреннего двора с колоннадой говорит не только особое раз¬
витие типа базилики в восточносирийских степях, в первую очередь в
Хауране, но также и подразделение на вестибюль, неф и алтарное по¬
* Ср. с. 647.
" Ср. с. 715.
Kohl und Watzinger, Antike Synagogen in Galilaa (1^16). Базиликами являются свя¬
тилища Ваала в Пальмире, Баальбеке и многих других местах, отчасти более древних,
чем христианство, и перешедших в его распоряжение куда позднее.
”” Ср. с. 659.
Frauberger, Die Akropolis von Baalbek, Tf. 22.
******
Diez. Die Kunst der islamischen Volker, S. 8 f. В древнесабейских храмах перед ча¬
совней оракула (маканат) находится алтарный двор (махдар).
238
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
мещение, причем к последнему как храму в собственном смысле слова
ведут ступени, а боковые нефы как первоначальные боковые залы дво¬
ра упираются в стену, так что апсида соответствует одному только сред¬
нему нефу. В римской церкви Сан-Паоло эта первоначальная плани¬
ровка проступает вполне отчетливо; и все же псевдоморфоз, а именно
выворачивание античного храма, определил выразительные средства:
колонна и архитрав. Символическое впечатление производит христи¬
анская перестройка храма в Афродисиаде в Карии, когда целла внутри
колоннады была разобрана, зато снаружи возвели новую стену*.
Однако за пределами области псевдоморфоза ощущение пещеры
могло свободно развивать свой язык форм, и по причине этого здесь
подчеркивается элемент потолочного перекрытия, между тем как в пер¬
вом случае из протеста против античного ощущения выделялся «интерь¬
ер» как таковой. Как уже говорилось, вопрос о том, когда и где возникли
различные технические возможности свода или купола, крестового сво¬
да или бочарного свода с подпружными арками, значения не имеет. Ре¬
шающим обстоятельством остается то, что с нарастанием нового миро¬
ощущения приблизительно ко времени Рождества Христова новая про¬
странственная символика должна была начать пользоваться этими
формами и сообразно выражению развивать их дальше. Быть может, еще
удастся доказать, что купольными сооружениями были месопотамские
храмы огня и синагоги, а, возможно, также и храм Аттара в Южной Ара¬
вии*. Несомненно таким был храм Марна в Газе; и задолго до того, как
данной формой овладело христианство павлинистского толка при Кон¬
стантине, строители восточного происхождения разнесли ее во все кон¬
цы империи, где она доставляла редкостное наслаждение вкусу мировых
столиц. При Траяне Аполлодор из Дамаска применил купольные пере¬
крытия для сводов храмов Венеры и Ромы. Купольные объемы терм Ка-
ракаллы и выстроенного при Галлиене храма Минервы Медики возве¬
дены сирийцами. Однако шедевром, самой ранней из всех мечетей, явил¬
ся заново выстроенный Адрианом Пантеон, который несомненно
должен был здесь подражать, и это отвечало вкусу императора, культо¬
вым сооружениям, виденным им на Востоке***.
Центрально-купольное сооружение, в котором магическое миро¬
ощущение достигает выражения в самой чистой своей форме, разви¬
лось вне римских пределов. Для несториан это была единственная
форма, которую они сообща с манихейцами и маздаистами распро¬
Wulff. Altchristl. und byz. Kunst, S. 227.
Богатство которой храмами отмечает Плиний. Вероятно, от южноарабского типа
храма происходит также и базилика в виде поперечного нефа (со входом с длинной сто¬
роны здания), которая встречается в Хауране, что нашло четкое отражение в разделен¬
ном в поперечном направлении алтарном объеме церкви Сан-Паоло в Риме.
Этот образец чисто интерьерной архитектуры не имеет ничего общего с этрус¬
скими круговыми постройками (Altmann, Die ital. Rundbauten, 1906) ни в плане техни¬
ческом, ни по пространственному ощущению. Напротив, он отвечает куполам тибур-
тинской виллы Адриана.
Глава третья. Макрокосм
239
страняли от Армении до Китая. Однако с падением псевдоморфоза и с
исчезновением последних синкретических культов оно победоносно
наступает также и на западную базилику. В Южной Франции, где ма-
нихейские секты существовали еще во времена Крестовых походов,
восточная форма прижилась. При Юстиниане в Византии и Равенне
произошло сращивание того и другого в купольную базилику. Чистая
базилика оказалась оттесненной на германский Запад, где она впо¬
следствии благодаря энергии фаустовского порыва вглубь преобразо¬
валась в собор. Купольная же базилика распространилась из Византии
и Армении в Россию, где она постепенно снова стала восприниматься в
качестве здания, ориентированного вовне, причем центром символи¬
ческого сделалось строение кровли. Однако в арабском мире ислам как
наследник монофизитского и несторианского христианства, а также
иудеев с персами довел развитие до конца. Превратив Св. Софию в ме¬
четь, он лишь снова овладел своей старинной собственностью. Ислам¬
ское купольное сооружение последовало за такими же манихейскими и
маздаистскими постройками до Шаньдуна и Индии, идя приблизите¬
льно теми же маршрутами; на дальнем Западе мечети возникли в Испа¬
нии и на Сицилии*, причем, сколько можно судить, скорее в восточно-
арамейско-персидском, чем в западноарамейско-сирийском стиле. И
между тем как Венеция очарованно взирала на Византию и Равенну
(Сан-Марко), эпоха блестящего расцвета норманнского господства
Штауфенов в Палермо научила города по западному побережью, а так¬
же и Флоренцию, восхищаться этими мавританскими постройками и
подражать им. Немало мотивов, сходивших у Ренессанса за античные,
как, например, внутренний двор с колоннадой или сопряжение арки с
колонной, происходит именно оттуда.
То, что верно применительно к архитектуре, еще в большей степени
приложимо к орнаментике, которая в арабском мире очень рано прео¬
долела и вобрала в себя всяческое фигурное подражательство. А затем
уже орнаментика как искусство арабески с соблазнительным очарова¬
нием является взору юной художественной воли Запада.
Раннехристианско-позднеантичное искусство псевдоморфоза об¬
наруживает то же самое орнаментальное и фигуративное смешение
унаследованного чужого и прирожденного своего, что и каролингско-
раннероманское искусство прежде всего в Южной Франции и Верхней
Италии. Там эллинистическое приходит в смешение с раннемагиче¬
ским, здесь же мавританско-византийское смешивается с фаустов¬
ским. Чтобы отделить один слой от другого, исследователь должен, от¬
* Вероятно, синагоги как купольные строения появились там, а также в Марокко
задолго до ислама, а именно благодаря усилиям занимавшегося миссионерством месо¬
потамского иудейства (с. 669), вкусы которого были близки персидским, между тем как
иудейство псевдоморфоза строило базилики и также в своих римских катакомбах в ху¬
дожественном отношении было близко западному христианству. Начиная с Испании
иудейско-персидский стиль сделался образцовым для синагог на Западе, — тенденция,
до сих пор полностью ускользавшая от внимания искусствоведения.
240 Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
талкиваясь от чувства формы, обследовать линию за линией, орнамент
за орнаментом. В каждом архитраве, каждом фризе, во всякой капите¬
ли идет скрытая борьба между желанными древними мотивами и нево¬
льными, однако одерживающими победу новыми. Взаимопроникно¬
вение позднегреческих и раннеарабских мотивов сбивает с толку по¬
всюду — в портретных бюстах из Рима, где волосы зачастую
воспроизводятся уже в соответствии с новым способом выражения; в
краях акантового листа зачастую одного и того же фриза, где резец и бу¬
рав соседствуют друг с другом; в саркофагах III в., где ребяческие на¬
строения в духе Джотто и Пизано пересекаются с сознательным позд¬
ним натурализмом большого города, глядя на который вспоминаешь
Давида или Карстенса; наконец, в таких сооружениях, как базилика
Максенция и многие другие воспринимаемые все еще в значительной
степени как античные части терм и императорских форумов.
И все же что касается самого своего расцвета, арабская душевность
оказалась обделена — как молодое дерево, когда его росту препятствует,
заставляя чахнуть, обрушившийся матерый ствол. Здесь нам не отыскать
такой лучезарной эпохи, которая именно как таковая была бы прочувст¬
вована и прожита, — наподобие той, когда в одно время с Крестовыми
походами деревянные перекрытия собора сомкнулись в каменные крес¬
товые своды и их внутренностью оказалась осуществлена и завершена
идея бесконечного пространства. У красивого политического творения
Диоклетиана, этого первого халифа, оказались подрезаны крылья из-за
массы характерных для города Рима административных обычаев, кото¬
рые Диоклетиану, пребывавшему на античной почве, пришлось признать
за данность, что низвело весь его труд до простой реформы устарелого по¬
ложения дел. И все же с ним идея арабского государства выступает воо¬
чию с наибольшей яркостью. Лишь исходя из произведенной Диоклетиа¬
ном закладки основания, а также несколько более ранней и служившей
для него во всех отношениях образцом закладки Сасанидского государст¬
ва мы можем догадываться об идеале, который должен был получить здесь
развитие. То же самое касается и всего прочего. До наших дней люди вос¬
хищаются как последними творениями античности тем, что и само не
могло представить как-то иначе: мышлением Плотина и Марка Аврелия,
культами Исиды, Митры, бога Солнца, диофантовой математикой и, на¬
конец, всем искусством, лучи которого сияли от восточной границы 1т-
perium Romanum, находя в Антиохии и Александрии лишь опорные точки.
Только одним этим объясняется колоссальная энергичность, с кото¬
рой арабская культура, наконец освобожденная и раскрепощенная исла¬
мом также и в художественном отношении, набросилась на земли, внут¬
ренне принадлежавшие ей вот уже на протяжении столетий, — знак души,
которая ощущает, что не может больше терять времени, которая в страхе
примечает первые следы старости прежде, чем наступила юность. Это
освобождение магического человечества просто беспримерно. Сирия
была завоевана, можно сказать, освобождена, в 634 г., Дамаск пал в 635 г.,
Глава третья. Макрокосм
241
Ктесифон в 637 г.. В 641-м достигнуты Египет и Индия, в 647 г. — Карфа¬
ген, в 676 г. — Самарканд, в 710 г. — Испания; в 732 г. арабы стоят уже под
Парижем. Так здесь в спешке немногих лет оказалась собрана вместе вся
сбереженная страсть, все запоздавшие творения, отложенные деяния, ко¬
торыми другие культуры, постепенно восходя, могли бы наполнить исто¬
рию столетий. Крестоносцы перед Иерусалимом, Гогенштауфёны в Си¬
цилии, Ганза в Балтийском море, орденские рыцари на славянском Вос¬
токе, испанцы в Америке, португальцы в Ост-Индии, империя Карла V, в
которой не заходит солнце, зачатки английского колониального могуще¬
ства при Кромвеле — все это собрано здесь в одну-единственную вспышку,
приведшую арабов в Испанию, Францию, Индию и Туркестан.
Это правда: все культуры, за исключением египетской, мексикан¬
ской и китайской, находились под опекой более ранних культурных
впечатлений; чуждые черты проступают в каждом из этих миров форм.
Фаустовская душа готики, подталкиваемая в направлении своего бла¬
гоговения уже арабским происхождением христианства, ухватилась за
богатейшее сокровище позднеарабского искусства. Арабесковый узор
бесспорно южной, я бы даже сказал, арабской готики заплетает фасады
кафедральных соборов Бургундии и Прованса, посредством каменной
магии господствует в языке внешнего оформления Страсбургского со¬
бора, и повсюду на статуях и порталах в узорах драпировок, резьбе, ра¬
боте по металлу и не в последнюю очередь в фантастических фигурах
схоластических мыслителей и одном из высших западных символов, в
сказании о святом Граале, ведет безмолвную борьбу с нордическим
пра-чувством викинговской готики, как она господствует в интерьере
Магдебургского собора, на шпиле собора во Фрайбурге и в мистике
Майстера Экхарта. Стрельчатые арки во многих случаях угрожают тем,
что разорвут свою связывающую линию и перейдут в подковообразную
арку мавританско-норманнских построек.
Аполлоническое искусство раннего дорического времени, первые
опыты которого исчезли почти без следа, несомненно переняло в боль¬
шом количестве египетские мотивы, чтобы на них и через них прийти к
собственной символике. Только магическая душа псевдоморфоза не
отважилась на то, чтобы присвоить себе средства без того, чтобы им
поддаться, и это-то и делает физиономику арабского стиля столь бога¬
той выводами.
15
Так из идеи макрокосма, которая в проблеме стиля упрощается и
становится более зримой, вырастает целое множество задач, которые
еще предстоит решить в будущем. Сделать мир художественных форм
Помимо древнекельтских моментов сказание о Граале содержит также и выра¬
женные арабские черты; однако образ Парсифаля — там, где Вольфрам фон Эшенбах
выходит за пределы своего образца Кретьена де Труа — чисто фаустовский.
242
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
доступным для пронизывания душевным элементом целых культур,
постигая этот мир всецело физиономически и символически, — вот до¬
стойное предприятие, между тем как для всех совершенных до сих пор
попыток такого рода характерно бесспорное убожество. Нам почти
ровным счетом ничего не известно о психологии метафизических ба¬
зисных форм всех великих архитектур. Мы и не догадываемся о том,
какие объяснения содержатся в том изменении значения, которое пре¬
терпевает формирование чисто протяженного при его восприятии дру¬
гой культурой. История колонны так еще и не написана. У нас нет ника¬
кого представления о глубине символики художественных средств, ху¬
дожественных инструментов.
Вот мозаики, которые во времена греков — непрозрачные, телесно-
эвклидовские, собранные из кусочков мрамора, — украшали полы, как
знаменитая битва Александра в Неаполе, теперь, с пробуждением
арабской души, состоят из стеклянных столбиков и, имея подложку из
золотой смальты, в равной мере покрывают стены и потолки куполь¬
ных базилик. Эта раннеарабская, берущая начало из Сирии мозаичная
живопись полностью соответствует по стадии стеклянным картинам
готических соборов: мы имеем здесь два ранних искусства на службе у
религиозной архитектуры. Одно с помощью вливающегося света рас¬
ширяет объем церкви до космического пространства, другое же пре¬
вращает его в ту магическую сферу, золотое мерцание которой перено¬
сит от земной действительности к видениям Плотина, Оригена, мани-
хейцев, гностиков, Отцов Церкви и апокалиптических поэм.
Вот пышный мотив сопряжения полуциркульной арки с колонной,
также сирийское, если не североаравийское творение III столетия
(так сказать, столетия «высокой готики»)*. Революционное значе¬
ние этого специфически магического мотива, принимаемого повсеме¬
стно за античный, а для большинства из нас античность прямо-таки
олицетворяющего, до сих пор не было признано хотя бы в самой отда¬
ленной степени. Египтянин оставлял свои растительные колонны без
какого-либо углубленного соотношения с потолком. Они олицетворя¬
ют рост, а не силу. Античность, для которой монолитная колонна была
мощнейшим символом эвклидовского существования, всецело тела,
всецело единства и покоя, связывала их с архитравом в строгом равно¬
весии вертикали и горизонтали, силы и нагрузки. Однако здесь, в Си¬
рии (вот мотив, излюбленный Возрождением, — с поистине трагикоми¬
ческим заблуждением — как явно античный, мотив, которым антич¬
ность не обладала и обладать немогла\) из тонких колонн вырастает —
при отрицании телесного принципа нагрузки и косности — легкая
арка. Осуществленная здесь идея освобождения от всякой земной тя¬
жести при одновременном связывании пространства теснейшим обра-
* Соотношение колонны и арки соответствует — в душевном плане — соотноше¬
нию стен и купола. Как только между квадратом и куполом появляется барабан, также
и между капителью и пятой аркой возникает импост.
Глава третья. Макрокосм
243
зом связана с равнозначной идеей свободно парящего над полом и все
же завершающего пещеру купола, с этим мощнейшей выразительно¬
сти магическим мотивом, который вполне последовательно нашел
свое завершение в «рококо» мавританских мечетей и замков, где по-
неземному нежные колонны, вырастающие из пола зачастую без вся¬
кой базы, лишь благодаря какому-то тайному волшебству представля¬
ются способными нести целый мир бесчисленных зубчатых арок, свер¬
кающих орнаментов, сталактитов и насыщенных цветом сводов. Что¬
бы подчеркнуть все значение этой архитектонической базовой формы
арабского искусства, связывание колонны и архитрава можно назвать
аполлоническим лейтмотивом, колонны и полуциркульной арки —
магическим, столба и стрельчатой арки — лейтмотивом фаустовским.
Возьмем далее историю мотива аканта*. В той форме, в какой мы ви¬
дим его, например, на памятнике Лисикрата, он представляет собой
один из характернейших образцов античной орнаментики. Он телесен.
Он остается обособленным предметом. Мотив аканта во всей его
структуре можно охватить одним взглядом. Уже в искусстве римских
императорских форумов (например, форумов Нервы и Траяна), на хра¬
ме Марса Ультора он предстает утяжеленным и обогащенным. Органи¬
ческое членение становится таким запутанным, что его, как правило,
приходится изучать. Проявляется тенденция заполнить поверхность. В
византийском искусстве (о «скрытых сарацинских чертах» которого за¬
говаривает уже Ригль, не догадываясь о вскрытых здесь взаимосвязях)
акантовый лист оказывается разложенным в бесконечный раститель¬
ный орнамент, который, как в Св. Софии, совершенно неорганически
покрывает и заполняет целые поверхности. К античному мотиву при¬
соединяются древнеарамейские мотивы виноградного листа и паль¬
метты, играющие роль уже в иудейском орнаменте. На вооружение
принимаются переплетающиеся ленточные узоры, в том числе и гео¬
метрические, «позднеримских» мозаичных полов и граней саркофагов,
пока наконец во всем персидско-переднеазиатском мире не возникает
арабеска — с характерной для нее нарастающей подвижностью и оше¬
ломляющим воздействием. Это донельзя антипластический, в равной
степени враждебный как картине, так и всему телесному подлинно ма¬
гический мотив. Сам лишенный телесности, он развоплощает и тот
предмет, который с бесконечной полнотой покрывает. Шедевром это¬
го рода, примером архитектуры, всецело ушедшей в орнаментику, яв¬
ляется фасад замка Мшатта, построенного Гассанидами в пустыне.
Распространенное по всему раннему Западу и всецело господствующее
в империи Каролингов художественное ремесло византийско-магоме¬
танского стиля (которое до сих пор именуют ломбардским, франк¬
ским, кельтским или древненордическим) практикуют по преимуще¬
ству восточные художники — или же импортируют его в качестве об-
* RieglA. Stilfragen (1893). S. 248 ff., 272 ff.
244
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
разца для тканей, изделий из металла, оружия*. Равенна, Лукка,
Венеция, Гранада, Палермо являются центрами уже тогда высокоци¬
вилизованного языка форм, который безраздельно господствовал в
Италии еще и после 1000 г., когда на Севере уже определились и утвер¬
дились формы новой культуры.
Наконец, изменившееся представление о человеческом теле. С
победой арабского мироощущения оно претерпевает полный перево¬
рот. Почти в каждом римском бюсте из Ватиканского собрания, воз¬
никшем в период с 100 по 250 г., прослеживается противоположность
между аполлоническим и магическим ощущением, между обоснова¬
нием выражения в размещении мускулистых частей или же во «взгля¬
де». Мастера зачастую (в самом Риме — со времен Адриана) работают
буравом, инструментом, который целиком и полностью противополо¬
жен эвклидовскому ощущению камня. Обрабатывая мраморную глыбу
резцом, который подчеркивает граничные поверхности, мастер утвер¬
ждает ее телесность, материальность, работая же буравом, который
дробит поверхности и тем самым создает игру света и тени, он ее отри¬
цает. Соответственно, вне зависимости от того, идет ли речь о «языче¬
ских» или христианских художниках, чувство явления обнаженного
человеческого тела угасает. Взглянем на плоские и пустые статуи Анти¬
ноя, которые, как подразумевали их творцы, были всё еще несомненно
античными. Физиономически примечательным здесь является только
лицо, чего никогда не бывало в аттической скульптуре. Драпировки
приобретают совершенно новый смысл, безраздельно господствую¬
щий во впечатлении в целом. Яркими примерами этого являются ста¬
туи консулов из Капитолийского музея . Посредством высверленных
зрачков, направленных вдаль глаз, все выражение оказывается ото¬
рванным от тела и вложенным в тот «пневматический», магический
принцип, который в не меньшей степени предвосхищается в человеке
неоплатонизмом и постановлениями христианских соборов, нежели
религией Митры и маздаизмом. Ок. 300 г. языческий Отец Церкви Ям-
влих написал книгу о божественных изваяниях***, в которых божест¬
венное субстанциально присутствует и воздействует на зрителя. Про¬
тив этой, принадлежащей псевдоморфозу идеи изображения с Юга и
Востока поднялась волна иконоборчества, предполагающего такое
представление о художественном произведении, которое вряд ли нам
доступно.
Dehio, Gesch. d. d. Kunst I. S. 16.
Wulff,; Altchristl. und byz. Kunst, S. 153 ff.
Cp. c. 714. Geffcken, Der Ausgang des griech.-rom. Heidentums (1920), S. 113.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
МУЗЫКА И СКУЛЬПТУРА
I. Изобразительные искусства
1
Если отвлечься от круга математически-естественно-научных
представлений и символики их фундаментальных понятий, мироощу¬
щение высших людей с наибольшей отчетливостью находит символи¬
ческое выражение в изобразительных искусствах, которых существует
бесчисленное множество. Сюда относится также и музыка, и если бы
вместо того, чтобы отделять ее от области живописно-пластических
искусств — попробовать привлечь весьма различные ее виды в иссле¬
дования по истории искусств, мы бы продвинулись в понимании того,
о чем идет речь в этом развитии к некой цели, гораздо дальше. Однако
нам никогда не понять формирующего порыва, сказывающегося в бес¬
словесных искусствах, если мы будем считать различие между оптиче¬
скими и акустическими искусствами принципиальным. Однако не это
отличает искусства друг от друга. Искусство глаза и искусство уха — пу¬
стые слова. Только XIX столетие могло переоценивать даже физиологи¬
ческие условия выражения, восприятия, опосредования. Насколько
мало, по сути, обращено к телесному глазу «поющее» полотно Лоррена
или Ватто, также мало и напрягающая пространство музыка, начиная с
Баха, обращается к телесному уху. Античное соотношение между про¬
изведением искусства и органом чувств, которое неизменно имеют
здесь в виду, причем совершенно превратным образом — всецело иное,
нежели наше, оно куда более упрощенное и материальное. Мы читаем
Как только слово, коммуникативный знак понимания, становится средством вы¬
ражения искусств, человеческое бодрствование перестает что-либо выражать как целое
или воспринимать что-либо, как впечатление, в целом. Также и художественно исполь¬
зуемые звучания слов (уж не говоря о прочитываемом слове высших культур, этом по¬
среднике собственно литературы) исподволь разделяют слышание и понимание, по¬
скольку привычное значение слова также играет здесь роль, и в условиях постоянно
нарастающей мощи этого искусства также и бессловесные искусства приходят к таким
способам выражения, которые связывают мотивы со значениями слов. Так возникает
аллегория, мотив, означающий одно слово, как в барочной скульптуре начиная с Берни¬
ни; так живопись зачастую становится своего рода иероглифическим письмом, как в
Византии после 2-го Никейского собора (787), который лишил художников права вы¬
бирать и компоновать картины; и так же отличаются друг от друга ария Глюка, мелодия
которой зацветает на значении текста, от арии Алессандро Скарлатти, безразличный
сам по себе текст которой должен лишь нести на себе голос певца. Всецело свободен от
значения слова контрапункт высокой готики XIII в., чистая архитектура человеческих
голосов, в которой одновременно поются многие тексты, даже разноязычные, как ду¬
ховные, так и светские.
248
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
«Отелло» и «Фауста», мы изучаем партитуры, т. е. мы переменяем чув¬
ство, чтобы дух данных произведений подействовал на нас абсолютно
чистым образом. От внешних чувств здесь всегда происходит апелля¬
ция к «внутренней», подлинно фаустовской и всецело неантичной
силе воображения. Лишь так следует понимать бесконечную смену ме¬
ста действия у Шекспира в сравнении с античным единством места
действия. В крайнем случае, как это имеет место в том же «Фаусте»,
подлинная постановка, которая бы исчерпывала содержание вещи в
целом, вообще невозможна. Но также и в музыке, уже в исполнении а
капелла в стиле Палестрины, а далее — в высшей степени в «Страстях»
Генриха Шютца, в фугах Баха, в последних квартетах Бетховена и в
«Тристане» мы переживаем позади чувственного впечатления целый
мир иных впечатлений, в котором только и выявляется вся полнота и
глубина и о котором можно говорить и нечто сообщать лишь посредст¬
вом переносных образов, ибо гармония волшебным образом заставля¬
ет нас здесь увидеть светлые, коричневые, мрачные, золотистые тона,
сумерки, горные вершины удаленных хребтов, бури, весенние пейза¬
жи, поглощенные пучиной города, диковинные лица. Далеко не слу¬
чайно, что Бетховен написал свои лучшие произведения, будучи глу¬
хим. Как будто это освободило его от последних пут. Для этой музыки
зрение и слух — в равной мере мосты к душе, и не более того. Эта визио¬
нерская разновидность наслаждения искусством греку абсолютно чуж¬
да. Глазом он ощупывает мрамор; пастозный звук авла почти что телес¬
но прикасается к нему. Глаз и ухо являются для него приемниками всего
желательного впечатления. Для нас же они больше не были таковыми
еще во времена готики.
В действительности звуки представляют собой нечто в не меньшей
степени протяженное, ограниченное, исчислимое, чем линии и крас¬
ки; гармония, мелодия, рифма, ритм — в не меньшей степени, чем пер¬
спектива, пропорция, тень и контур. Разрыв между двумя разновидно¬
стями живописи может быть куда более значительным, чем между од¬
новременными живописью и музыкой. В сравнении со статуей
Мирона пейзаж Пуссена и пасторальная камерная кантата его време¬
ни, Рембрандт и органные произведения Букстехуде, Пахельбеля и
Баха, Гварди и оперы Моцарта все принадлежат к одному и тому же ис¬
кусству. Их внутренний язык форм тождествен до такой степени, что в
сравнении с этим различие оптических и акустических средств изгла¬
живается.
То значение, которое искусствознание издавна придавало вневре¬
менному понятийному разграничению отдельных областей искусства,
доказывает лишь то, что мы не уяснили себе дела во всей его глубине.
Искусства — жизненные единства, а ничто живое не может препариро¬
ваться. Ученые педанты всегда первым делом намеревались разделить
бесконечно большую область на якобы вечные участки (с неизменны¬
ми формальными принципами!) в соответствии с наиболее поверхно¬
Глава четвертая. Музыка и скульптура
249
стными художественными средствами и техниками. «Музыку» отделя¬
ли от «живописи» и от «драмы», «живопись» — от «скульптуры», а затем
давали определение «живописи» вообще, «скульптуры» вообще, «тра¬
гедии» вообще. Однако технический язык форм — это не более чем ли¬
чина собственно произведения. Стиль не продукт материала, техники и
цели, как полагал плоский Земпер (настоящий современник Дарвина
и материализма). Напротив, он является тем, что вообще недоступно
художественному рассудку: откровение чего-то метафизического, та¬
инственное долженствование, судьба. С материальными границами
отдельных искусств у него нет совершенно ничего общего.
Так что подразделить искусства по условиям воздействия на чувст¬
ва — значит исказить проблему формы с самого начала. Как можно ис¬
ходить из допущения «скульптуры» вообще, как вида, и желать на ее
основе развивать всеобщие фундаментальные законы? Что такое «ску¬
льптура» вообще? «Живописи» как таковой вообще в природе не суще¬
ствует. Зарисовки Рафаэля и Тициана, когда первый работает контура¬
ми, а второй — пятнами светотени, принадлежат к двум различным ис¬
кусствам; искусство Джотто или Мантеньи и Вермера или Ван Гойена
вообще не имеет меж собой почти ничего общего, поскольку одни маз¬
ком кисти создают своего рода рельеф, другие же вызывают к жизни
своего рода музыку на цветной поверхности; фреска же Полигнота и
мозаичная картина из Равенны не могут быть отнесены к тому же роду
искусства уже исходя из соответствующего им инструментария. Тот,
кто не чувствует всего этого, ни за что не поймет более глубоких проб¬
лем. А что общего у офорта с искусством Фра Анджелико, у протоко-
ринфской вазовой росписи — с окном готического собора, у египет¬
ского рельефа — с рельефом Парфенона?
Если у искусства вообще имеются границы — границы его ставшего
формой души, — то это границы исторические, а не технические или
физиологические*. Данное искусство — это организм, а никакая не си¬
стема. Нет ни одного вида искусства, который бы существовал на про¬
тяжении всех столетий и культур. Даже там, где взгляд поначалу обма¬
нывается пресловутыми техническими традициями (как в случае Воз¬
рождения), будто бы свидетельствующими о вечной значимости
законов античного искусства, на глубине царит полная несхожесть. Во
всем греческо-римском искусстве вообще нет ничего, что находилось
бы в родстве с языком форм статуи Донателло, фрески Синьорелли,
фасада Микеланджело. Только одновременная кватроченто готика
внутренне связана с ним. Если египетские статуи «воздействовали» на
архаический греческий тип Аполлона или росписи этрусских гроб¬
ниц — на раннетосканскую живопись, этому следует придавать не бо-
Следствие наших научных методов — история искусства при исключении из нее
истории музыки. Если первая является непременной составной частью высшего обра¬
зования, то вторая осталась уделом кругов специалистов. Это все равно как если бы
кто-то вознамерился написать историю Греции, выпустив из нее Спарту. Однако тем
самым теория «искусства» вообще становится добросовестной подделкой.
250
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
лыие значения, чем когда Бах пишет фугу на чужую тему, чтобы пока¬
зать, что способен через нее выразить. Всякое единичное искусство,
как китайский ландшафт, так и египетская скульптура и готический
контрапункт, появляются лишь однажды и никогда больше не повто¬
ряются со своей душой и символикой.
2
Тем самым понятие формы претерпевает громадное расширение.
Средством выражения является не только технический инструмент, не
только язык формы, но и сам выбор вида искусства. То, что означает для
отдельного художника создание главного произведения его жизни, а
именно эпоха, которой явился «Ночная стража» для Рембрандта,
«Мейстерзингеры» — для Вагнера, знаменуется в истории жизни куль¬
туры созданием рода искусства, взятого как целое. Каждое из этих ис¬
кусств, если не принимать во внимание самые поверхностные паралле¬
ли, является самостоятельным организмом, не имеющим ни предше¬
ственников, ни последователей. Вся теория, техническая сторона, все
условности относятся к их же характеру и не имеют ничего вечного и
общезначимого. Вопрос о том, когда то или иное из этих искусств воз¬
никает и когда угасает, угасает ли оно или же превращается в другое ис¬
кусство, почему те или другие искусства отсутствуют в данной культуре
или господствуют в ней — все это еще относится к форме в высшем
смысле,точно также, какивсякий другой вопросотом, почему тот или
иной художник или музыкант совершенно бессознательно отказывает¬
ся от определенных цветовых тонов и гармоний, другие же предпочи¬
тают до такой степени, что по ним-то их и отличают.
Теория, в том числе и современная, все еще не признала значения
данной группы вопросов. И все же лишь эта сторона физиономики ис¬
кусств дает ключ к их пониманию. До сих пор все искусства — при
условии упомянутого «подразделения» — без какого-либо продумыва¬
ния этих весьма непростых вопросов считали за возможные везде и
всюду, и если то или иное из них отсутствовало, это приписывали слу¬
чайной нехватке творческих личностей или поощрения со стороны об¬
стоятельств или меценатов, которые сгодились бы на то, чтобы «повес¬
ти искусство по его пути далее». Вот что я называю переносом принци¬
па каузальности из мира ставшего в мир становления. Будучи слепы к
совершенно иным по характеру логике и необходимости живого, к су¬
дьбе и неизбежным и ее никогда более не повторяющимся выразитель¬
ным возможностям, люди привлекают осязаемые, лежащие на поверх¬
ности причины, чтобы сконструировать поверхностную последовате¬
льность событий в области истории искусства.
Уже в самом начале было указано на то, что плоское представление
о линейном поступательном развитии «человечества» как такового от
Глава четвертая. Музыка и скульптура
251
древности через Средневековье к Новому времени лишило нас воз¬
можности видеть истинную историю высших культур и ее структуру.
Особенно ярким примером этого является история искусства. После
того как наличие определенного числа постоянных и хорошо очер¬
ченных областей искусств было принято за само собой разумеющее¬
ся, история этих отдельных областей была выстроена в соответствии
со столь же само собой разумеющейся схемой Древний мир — Сред¬
невековье — Новое время, причем для индийского искусства и искус¬
ства Восточной Азии, для искусства Аксума и Сабы, Сасанидов и Рос¬
сии здесь не нашлось места, так что они рассматриваются в качестве
приложения или вообще остаются без рассмотрения, а никому и в го¬
лову не приходило заключить по данной последовательности о неле¬
пости всего метода: данная схема предназначалась к тому, чтобы те¬
перь любой ценой наполниться фактами, и они должны были ее на¬
полнить. Исследователи бездумно прослеживали взлеты и падения. О
состояниях затишья говорили как о «естественных паузах», об «эпо¬
хах упадка» — там, где в действительности умерло великое искусство,
об «эпохах возрождения» — там, где (вполне явно для непредубежден¬
ного взгляда) на свет являлось другое искусство на ином ландшафте и
в качестве выражения совсем другого человечества. Еще и сегодня
продолжают вещать, что Ренессанс явился возрождением античнос¬
ти. Наконец, отсюда выводится возможность и право вновь оживлять
те искусства, которые ослабели или уже умерли (современность пред¬
ставляется в данном отношении настоящим полем брани) — посред¬
ством сознательно создаваемых новообразований, программ или на¬
сильственного «реанимирования».
Однако именно вопрос о том, почему великое искусство должно
завершаться с производящей символическое действие внезапно¬
стью (аттическая драма — с Эврипидом, флорентийская скульпту¬
ра — с Микеланджело, инструментальная музыка — с Листом, Ваг¬
нером и Брукнером) способен пролить свет на органичность этих
искусств. Присмотримся повнимательнее и мы убедимся в том, что
никогда и речи не было о «возрождении» хотя бы одного значитель¬
ного искусства.
Ничего из пирамидного стиля не перешло в стиль дорический. Ни¬
что не связывает античный храм с восточной базиликой, ибо усвоение
античной колонны в качестве строительного элемента (самое сущест¬
венное для поверхностного взгляда) имеет не больше значения, чем ис¬
пользование Гёте античной мифологии в его классической Вальпурги¬
евой ночи. Вот уж в высшей степени диковинная фантазия — верить в
возрождение какого бы то ни было античного искусства на Западе в XV в.
Сама же поздняя античная эпоха отказалась от музыки большого сти¬
ля, перед которой открывались вполне реальные возможности еще в
дорическое раннее время: свидетельством этого служит значение
Древней Спарты (здесь творили Терпандр, Талет, Алкман, между тем
252
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
как в другом месте возникло искусство ваяния) для всего, что было за¬
метно в музыке впоследствии. Точно так же в конце концов перед ли¬
цом арабески исчезает все то, что вначале опробовала магическая куль¬
тура во фронтальной статуе, в горельефе и в мозаике, а перед венециан¬
ской масляной живописью и инструментальной музыкой барокко —
исчезло все, что было создано в скульптуре в тени готических соборов в
Шартре, Реймсе, Бамберге, Наумбурге и наконец — в Нюрнберге Пи¬
тера Фишера и во Флоренции Верроккьо.
3
Храм Посейдона в Пестуме и кафедральный собор в Ульме, эти про¬
изведения наиболее зрелого дорического и готического стиля, различ¬
ны меж собой как эвклидова геометрия телесных граничных поверхно¬
стей и аналитическая геометрия положений точек по отношению к
пространственным осям. Все античное зодчество начинается снаружи,
все западное — внутри. Внутри начинается также и арабское, однако
оно там и остается. Только фаустовская душа и никакая другая испы¬
тывала потребность в стиле, который бы прорывался сквозь стены в
безбрежную Вселенную и превращал бы как внешний, так и внутрен¬
ний облик здания в соответствующие образы одного и того же миро¬
ощущения. Как базилика, так и купольное сооружение могут быть ар¬
хитектонически украшены снаружи, однако архитектурой они там не
являются. То, что при приближении к ним открывается взору, произ¬
водит впечатление некой защиты, чего-то скрывающего в себе тайну.
Язык форм пещерных сумерек явлен только общине, и в этом родство
между высшими образцами данного стиля и самыми незатейливыми
митреями и катакомбами. То было первое энергичное выражение но¬
вой души. Стоило германскому духу овладеть этим базиликальным ти¬
пом, как началось поразительное преобразование всех строительных
элементов и по положению, и по смыслу. Здесь, на фаустовском Севе¬
ре, отныне и впредь внешний облик строения, причем любого, от собо¬
ра до простого жилища, соотносится со смыслом, в котором осуществ¬
лено членение внутреннего пространства. Мечеть умалчивает об этом,
храму такая проблема вообще неведома. У фаустовского здания имеет¬
ся «лицо», а не только фасад (напротив того, фронтальная сторона пе¬
риптера — это всего лишь одна сторона, между тем как центрально-ку¬
польное строение по идее не обладает даже и фронтоном), а к лицу, к
голове присоединяется членящееся туловище, которое либо простира¬
ется по обширной площади, как Шпейерский собор, либо тянется к
небу бесчисленными остриями шпилей, как Реймсский собор по пер¬
воначальному наброску. Мотив фасада, взирающего на наблюдателя и
повествующего ему о внутреннем смысле дома, господствует не только
253
Глава четвертая. Музыка и скульптура
в наших отдельных великих постройках, но и во всей насыщенной ок¬
нами картине наших улиц, площадей и городов*.
Ранняя великая архитектура приходится матерью всем прочим ис¬
кусствам. Она определяет их подбор и их дух. По этой причине история
античного изобразительного искусства представляет собой непрестан¬
ную работу над завершением одного-единственного идеала, т. е. по заво¬
еванию свободно стоящего человеческого тела как олицетворения чис¬
того, вещного настоящего. Храм обнаженного тела отстраивали в антич¬
ности подобно тому, как фаустовская музыка начиная с самого раннего
контрапункта и вплоть до инструментальной фразы XVIII в. неизменно
возводит собор из голосов. Пафос этой продолжавшейся столетиями
аполлонической тенденции оставался абсолютно непонятым, потому
что никто и никогда не чувствовал, что как архаический рельеф, так и
коринфская вазопись и аттическая фреска подразумевали чисто мате¬
риальное, бездушное тело (ведь и храм тела также лишен «интерьера»!),
пока Поликлет и Фидий не дали урок того, как полностью им овладе¬
вать. Эту скульптуру с поразительной слепотой принимают за общезна¬
чимую и возможную повсюду, за скульптуру как таковую, и пишут ее ис¬
торию и теорию, в которой перечисляются все времена и народы. Под
впечатлением без проверки принятых на веру возрожденческих учений
наши скульпторы еще и сегодня продолжают рассуждать о том, что об¬
наженное человеческое тело представляет собой наиболее возвышен¬
ный и подлинный предмет изобразительных искусств как таковых. На
самом же деле ваяние, свободно ставившее обнаженное тело на плос¬
кость и разрабатывавшее его со всех сторон, существовало лишь однаж¬
ды, а именно в античности и только там, потому что только эта культура
категорически отвергла выход ради пространства за пределы чувствен¬
ных границ. Египетская статуя всегда создавалась с расчетом на вид спе¬
реди, а значит, была некой разновидностью барельефа, воспринимае¬
мые же в качестве внешне античных ренессансные статуи (изумляет их
небольшое число, что обнаруживается, стоит начать их подсчитывать )
являются не чем иным, как полуготическими вариациями.
Развитием этого безоговорочно лишенного пространства искусства
наполнены три века, с 650 по 350 г., т. е. с завершения дорики, которое
произошло одновременно с началом тенденции к освобождению фи¬
гуры от фронтальной египетской скованности (борьба за постановку
проблемы иллюстрируется рядом «фигур Аполлона»* ), и вплоть до на¬
чала эллинизма с его иллюзионистской живописьюгкоторая завершает
большой стиль. Мы никогда не сможем оценить эту скульптуру, если
Ср. с. 555. Что-то подобное мог также представлять собой облик улиц в древнем
Египте, если мы вправе делать заключения на основе найденных на Крите табличек с
изображениями домов (Bossert Я, Alt-Kreta (1921). Т. 14), а ведь пилон — это в полном
смысле слова фасад.
Гиберти и даже сам Донателло еще не ушли от готики; Микеланджело же вос¬
принимает уже по-барочному, т. е. музыкально.
йёоппа. Les Apollons archai'ques (1909).
254
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
не поймем ее в качестве последнего и высшего античного искусства —
произошедшего из искусства плоскостного и поначалу повиновавшегося
фресковой живописи, а затем ее преодолевшего. Разумеется, в техниче¬
ском смысле его можно возвести к попыткам эпохи зрелой архаики фи¬
гурно обработать колонну или же служившие для облицовки стены
храма плитьГ; здесь же время от времени имеет место подражание еги¬
петским произведениям (сидячие изваяния из Дидимейона близ Ми¬
лета), хотя очень немногие греческие художники могли видеть хоть
одно из них. Однако в качестве идеала формы статуя — через рельеф —
возникает из архаической вазописи, из которой развилась также и ан¬
тичная фреска. Оба они лепятся к телесной стене. Всю эту скульптуру
вплоть до Мирона можно рассматривать как отделенный от плоскости
рельеф. Наконец, фигура разрабатывается сама по себе, наряду со всем
объемом здания, однако она остается силуэтом перед стеной . В отсут¬
ствие глубинного направления она распространяется перед зрителем
фронтально, и еще Марсия Мирона оказывается возможно с легко¬
стью и без каких-либо значительных ракурсов отобразить на вазах и
монетах* ***. По причине этого начиная с 650 г. из двух поздних искусств
большого стиля первенство несомненно принадлежит фреске. Неболь¬
шой запас мотивов неизменно подтверждается прежде всего роспися¬
ми на вазах, которым зачастую точно соответствуют очень многие
поздние скульптуры. Нам известно, что группа кентавров с западного
фронтона в Олимпии создавалась по мотивам картины. Развитие, про¬
деланное на пути от западного к восточному фронтону храма на Эгине,
знаменует шаг от фресковое™ к телесности. С Поликлетом ок. 460 г.
происходит переворот, и отныне уже скульптурные группы, напротив,
становятся образцом для строгой живописи. Всесторонняя же телесная
разработка становится вполне реалистической, проведенной как
«факт» лишь начиная с Лисиппа. Вплоть до него, даже у Праксителя,
имеет место фронтальное развитие с резкими контурами, рассчитан¬
ное на восприятие лишь с одной или двух точек.
Непреходящим свидетельством происхождения круглой скульпту¬
ры из живописи является цветная роспись мрамора (о чем Ренессанс и
классицизм не имели никакого представления и, более того, воспри¬
няли бы это как варварство****), а также статуи из золота и слоновой ко¬
сти и эмалевые украшения бронзовых, светящихся естественным золо¬
тистым тоном, скульптур.
Woermann. Gesch. der Kunst I (1915), S. 236. Примером первого может служить
Гера Херамия90, а также неизменно наблюдаемое стремление превратить колонны в ка¬
риатид; примером второго — Артемида Никандра с ее связью с древнейшей техникой
исполнения метоп.
Большинство произведений — группы на фронтонах или метопы, однако также и
фигуры Аполлона и «девушки» с Акрополя не могли стоять свободно.
*** Salts A. v., Kunst der Griechen (1919), S. 47, 98 f.
Именно решительное предпочтение белого камня характерно для противополож¬
ности античного и ренессансного восприятия.
Глава четвертая. Музыка и скульптура
255
4
Соответствующая стадия западного искусства охватывает три сто¬
летия с 1500 по 1800 г., с конца поздней готики до упадка рококо, а зна¬
чит, до конца большого фаустовского стиля вообще. В соответствии со
все явственнее доходившей до сознания волей к пространственной
трансценденции, в этот период происходит выдвижение инструмента¬
льной музыки на роль господствующего искусства. Поначалу, в XVII в.,
музь1ка живописует при помощи характерных звуковых тонов инстру¬
ментов, при помощи противоположности струнных и духовых, вокаль¬
ных и инструментальных голосов. Она претендует (совершенно бес¬
сознательно) на то, чтобы сравняться с великими мастерами от Тициа¬
на и до Веласкеса. Музыка предлагает картины: во всякой фразе тема с
вариациями на фоне генерал-баса — таков сонатный стиль от Габриели
(f 1612) до Корелли (f 1713). В пасторальных кантатах она пишет геро¬
ические пейзажи; с помощью мелодической линии в Монтевердиевой
жалобной песне Ариадны (1608) она рисует портрет. С выходом на сце¬
ну немецких мастеров все это отступает на задний план. Живопись бо¬
льше не задает тон. Музыка становится абсолютной, и это уже она
(опять-таки бессознательно) господствует в XVIII в. над живописью и
архитектурой. Скульптура все с большей решительностью изгоняется
из круга более глубоких возможностей этого мира форм.
Что является отличительной особенностью живописи до и после ее
перемещения из Флоренции в Венецию, а значит, что характерно для
живописи Рафаэля и Тициана как двух совершенно разных искусств,
так это скульптурный дух первого, что приближает его картины к рель¬
ефу, и музыкальный дух второго, что при его технике, оперирующей с
помощью видных глазу мазков кисти и глубинных воздушных воздей¬
ствий, весьма недалеко от хроматики струнных и духовых хоров. По¬
стижение того, что здесь имеет место противоположность, а никакой
не переход, является определяющим для понимания организмов этих
искусств. Вот уж где нам следует остерегаться абстрактного допущения
«вечных законов искусства». Живопись — всего лишь слово. Готиче¬
ская живопись по стеклу была составной частью готической архитекту¬
ры. Она служила ее строгой символике, подобно тому как делала это и
раннеегипетская, и раннеарабская, как служит ей любое другое искус¬
ство на данной стадии языка камня. Драпированные фигуры возводи¬
лись подобно соборам. Складки были орнаментом — в высшей степени
чистым и строгим по выражению. Неверно критиковать их за «одереве¬
нелость», как это подчас делают, исходя из натуралистически-подра-
жательной точки зрения.
Также и «музыка» — всего лишь слово. «Музыка» существует всегда
и всюду, в том числе и до всякой культуры вообще, в том числе и у жи¬
вотных. Однако античная музыка высокого стиля была не чем иным,
как скульптурой для слуха. Группы тетрахордов, хроматика и энгармо-
256
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
ника* заряжены тектоническим, а не гармоническим значением: одна¬
ко это ведь и есть различие тела и пространства. Музыка эта одноголос¬
ная. Немногочисленные инструменты рассчитаны на скульптурность
тона, египетская же арфа (возможно, несколько схожая с чембало по
окраске тона) как раз по этой причине отвергается. Но самое главное
то, что мелодия (как и античный стих начиная от Гомера и вплоть до
времени Адриана) строится количественно, а не по акцентам, т. е. сло¬
ги являются телами, и их объемом определяется ритм. Как видно из
скудных уцелевших фрагментов, нам не понять, в чем заключалась
привлекательность этого искусства для восприятия, однако это дол¬
жно было бы заставить нас задуматься также и о разнице между пред¬
полагаемым и реальным впечатлением от статуй и фресок, ибо здесь
мы уж точно не способны изведать той прелести, которой они влекли к
себе античный взор.
Также непонятна нам и китайская музыка, в который мы, по утвер¬
ждению образованных китайцев, не в состоянии различать веселые и
печальные места** ***, и, напротив, китаец воспринимает всю без исключе¬
ния западную музыку как марш, что прекрасно передает впечатление,
производимое ритмичной динамикой нашей жизни на ритмически не-
акцентированное дао китайской души. Однако так воспринимает чу¬
жак и всю нашу культуру вообще: энергетику направления церковных
нефов и поэтажное членение всех фасадов, глубинную перспективу
живописных полотен, развитие трагедии и повествования, а кроме
того — и технику всей вообще частной и общественной жизни. Этот
такт у нас в крови и поэтому мы его вовсе не замечаем. В созвучии же с
ритмом чужой жизни он производит впечатление невыносимого дис¬
сонанса.
Чем-то совершенно иным представляется мир арабской музыки. До
сих пор мы рассматривали исключительно псевдоморфоз: византий¬
ские гимны и иудейские псалмодии, да и те лишь постольку, поскольку
они проникли в церковь дальнего Запада — в виде антифонов, респон-
сориев и амвросианского пения. Однако понятно само собой, что не
только у религий к западу от Эдессы, таких как синкретические куль¬
ты, в первую очередь сирийская религия Солнца, гностики и мандеи,
но также и у восточных — маздаистов, манихейцев, общин Митры, си¬
нагоги в Ираке, а позднее у несториан была духовная музыка одного и
того же стиля, что рядом с ней получила развитие бодрая, светская му¬
зыка в первую очередь южноаравийского и сасанидского рыцарства* *,
и что обе они получили свое завершение в мавританском стиле, рас¬
пространенном от Испании до Персии.
* В соответствии с александрийским словоупотреблением. Для нас эти слова озна¬
чают нечто совершенно иное.
Точно так же и мы воспринимаем всю русскую музыку как бесконечно печаль¬
ную, каковой она, по уверению настоящих русских, для них самих вовсе не является.
*** Ср. с. 655.
Глава четвертая. Музыка и скульптура
257
Из всего этого богатства фаустовская душа заимствовала лишь отде¬
льные формы западной церкви, однако тут же, еще в X в. они были
внутренне перетолкованы (Хукбальд, Гвидо д’Ареццо) как марш и
олицетворение бесконечного пространства. Первое имело место по¬
средством такта и темпа мелодики, второе — посредством полифонии
(и одновременно в поэзии — посредством рифмы). Чтобы это понять,
следует различать подражательную* и орнаментальную сторону музы¬
ки, и если нам по причине мимолетности всех вообще звуковых творе¬
ний* известна лишь музыкальная культура Запада, этого вполне доста¬
точно для того, чтобы явить нам две стороны процесса развития, без
чего вообще невозможно понять историю искусства. Первая — это
душа, ландшафт, чувство, вторая — строгая форма, стиль, школа. Пер¬
вая проявляется в том, что отличает музыку отдельных людей, народов
и рас, вторая же — в правилах строения фразы. В Западной Европе су¬
ществует орнаментальная музыка большого стиля (та самая, которой со¬
ответствует античная скульптура строгого стиля). Она связана с исто¬
рией возведения соборов, стоит на короткой ноге со схоластикой и ми¬
стикой и находит собственные законы в отеческом ландшафте
высокой готики между Сеной и Шельдой. Контрапункт развивается
одновременно с системой контрфорсов, причем из «романского» стиля
дисканта и фобурдона с их простым параллельным и противодвижени¬
ем. Это архитектура человеческих голосов, и точно так же, как скуль¬
птурные группы и росписи по стеклу, они мыслимы только в сплете¬
нии этих каменных сводов — вот высокое искусство того же самого
пространства, которое математически постиг Николай Оресм, епис¬
коп Лизье*** ****, посредством введения координат. Вот настоящие rinascita
и reformatio [возрождение (ит.) и реформация (лат.)], какими их про¬
зревал ок. 1200 г. Иоахим Флорский** *, рождение новой души, отра¬
женной в языке форм нового искусства.
Наряду с этим в замках и деревнях возникает светская, подражате¬
льная музыка трубадуров, миннезингеров и шпильманов, которая ок.
1300 г., во времена Данте и Петрарки, в качестве Ars nova91 проникает из
провансальских дворов во дворцы тосканских патрициев. Это всего
лишь мелодии под аккомпанемент, трогающие сердце своими мажо¬
ром и минором, — канцоны, мадригалы, качча. Имеется здесь и своего
рода придворная оперетта, «Игра о Робене и Марион» Адама де ла Аль.
После 1400 г. из всего этого возникают многоголосные формы фразы —
рондо и баллада. Это уже «искусство» для публики. Композиторы ими-
* «Подражание» в барочной музыке означает нечто совершенно другое, а именно
копирование мотива в иной окраске (высотной ступени).
Ибо все уцелевшие ноты что-то говорят лишь тому, кто все еще знает и владеет
звуками и обращением с соответствующими средствами выражения.
1323—1382, современник Машо и Филиппа де Витри, чье поколение окончатель¬
но сформулировало правила и запреты строгого контрапункта.
**** Ср. с. 747.
9 Закат Западного мира
258
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
тируют сцены из жизни — любовь, охоту, героизм. Здесь важна мело¬
дическая изобретательность, а не символика ведения голосов.
Так что замок и собор различны меж собой также и в музыкальном
отношении. Собор сам является музыкой, в замке же музыку исполня¬
ют. Первая начинается с теории, вторая же с импровизации: так разли¬
чаются бодрствование и существование, певец духовный и певец ры¬
царский. Подражание ближе к жизни и направлению и потому начина¬
ется с мелодии. Символика контрапункта относится к протяженности
и трактует бесконечное пространство посредством многоголосия. В
результате мы имеем кладезь «вечных» правил и неистощимую сокро¬
вищницу народных мелодий, что дает пищу еще и XVIII столетию. В
художественном отношении данная антитеза проявляется также и в со¬
словной противоположности Возрождения и Реформации*. Придвор¬
ный вкус во Флоренции противен духу контрапункта. Развитие стро¬
гой музыкальной фразы от мотета к четырехголосной мессе, осуществ¬
ленное Данстейплом, Беншуа и Дюфаи (ок. 1430) остается
привязанным к ареалу готической архитектуры. От Фра Анджелико и
до Микеланджело в орнаментальной музыке безраздельно господству¬
ют великие голландцы. Лоренцо де’ Медичи пришлось приглашать в
собор Дюфаи, потому что во Флоренции ничего не смыслили в строгом
стиле. И между тем как здесь писали картины Леонардо и Рафаэль, на
Севере Окегем (| 1495 ) и его школа и Жоскен Депре (| 1521) подняли
вокальное многоголосие на вершину его формального совершенства.
Поворот к позднему времени заявляет о себе в Риме и Венеции. С
началом барокко ведущая роль в музыке переходит к Италии, однако
одновременно с этим архитектура утрачивает роль задающего тон ис¬
кусства; оформляется группа отдельных фаустовских искусств, средо¬
точием которых является масляная живопись. Ок. 1560 г., со стилем а
cappella Палестрины и Орландо ди Лассо (оба 1 1594) господству вокала
приходит конец. Его скованный звук более не в состоянии выражать
страстный порыв к бесконечному и уступает звуку хоров струнных и
духовых инструментов. Одновременно в Венеции возникает тицианов¬
ский стиль нового мадригала, мелодические волны которого воспроиз¬
водят смысл текста. Музыка готики — архитектоничная и вокальная,
музыка барокко — живописная и инструментальная. Если первая кон¬
струирует, то вторая работает с мотивами; тем самым был сделан еще и
шаг от безличной формы к индивидуальному выражению великих мас¬
теров. Ибо все искусства сделались городскими, а значит светскими.
Возникший в Италии незадолго до 1600 г. метод генерал-баса рассчи¬
тан на виртуозов, а вовсе не на аскетов.
Великой задачей сделалось теперь расширение звукового тела до
бесконечности, а вернее его растворение в бесконечном пространстве
звуков. Готика довела развитие инструментов до семейств с определен-
* Ср. с. 756.
четвертая. Музыка и скульптура
259
Глава
ной звуковой окрашенностью; ныне возникает «оркестр», который бо¬
льше не ограничивается требованиями человеческого голоса, а напро¬
тив, подчиняет его прочим голосам. Это соответствует проделанному в
то же самое время переходу от геометрического анализа Ферма к чисто
функциональному Декарта*. В учении Царлино о гармонии (1558) име¬
ет место настоящая перспектива чистого звукового пространства. На¬
чинают различать орнаментальные и фундаментальные инструменты.
На основе мелодики и орнаментики возникает новый «мотив», и его
разработка приводит к рождению заново контрапунктного духа, к сти¬
лю фуги, первым мастером которого был Фрескобальди, а вершиной —
Бах. В противоположность вокальным мессе и мотету на свет являются
великие барочные формы — мыслимые чисто инструментальными
оратория (Кариссими), кантата (Виадана), опера (Монтеверди). И вне
зависимости от того, солирует ли теперь мелодия баса в сравнении с
верхними голосами или это верхние голоса солируют друг против друга
на фоне генерал-баса, это неизменно суть звуковые миры с характер¬
ным выражением, которые в бесконечности звукового пространства не
только друг другу противодействуют, но и взаимно друг друга поддер¬
живают, наращивают, уничтожают, освещают, стращают, затеняют —
игра, которую можно передать едва ли не исключительно представле¬
ниями одновременного анализа.
Из этих форм раннего живописного барокко в XVII в. возникают
разновидности сонаты — сюита, симфония, concerto grosso со все более
прочной внутренней структурой фраз и их последовательностей, с те¬
матической разработкой и модуляцией. Тем самым была найдена боль¬
шая форма, через которую, благодаря ее колоссальной динамике, Ко¬
релли, Гендель и Бах возвысили ставшую бесплотной музыку до веду¬
щего искусства Запада. Когда ок. 1670 г. Ньютон и Лейбниц открыли
исчисление бесконечно малых, фугированный стиль был уже завер¬
шен. А ок. 1740 г., когда Эйлер приступил к окончательной формули¬
ровке функционального анализа, Стамиц и его поколение отыскали
последнюю и наиболее зрелую форму музыкальной орнаментики, а
именно четырехчастной фразы как чистой бесконечной подвижности.
Ибо оставалось еще сделать завершающий шаг: тема фуги «есть», тема
же новой фразы «становится». В первом случае разработка дает в резу¬
льтате картину, во втором же — драму. Вместо ряда картин возникает
циклическая последовательность *. Источник этого музыкального
языка заложен в достигнутых наконец-то возможностях нашей глубо¬
чайшей и задушевнейшей струнной музыки, и поскольку скрипка не¬
сомненно является благороднейшим из всех инструментов, которые
измыслила и разработала фаустовская душа, чтобы быть в состоянии
разговаривать о своих последних тайнах, также несомненно и то, что ее
запредельнейшие, святейшие моменты полного просветления имеют
Ср. с. 98-99.
Einstein A., Gesch. der Musik, S. 67.
260 TomJ. ^)БРАЗ и действительность
место в струнном квартете и скрипичной сонате. Здесь, в камерной му¬
зыке, западное искусство вообще достигает своей вершины. Пра-символ
бесконечного пространства обретает здесь столь же совершенное вы¬
ражение, как в «Дорифоре» Поликлета — пра-символ ублаготворенной
телесности. Когда — у Тартини, Нардини, Гайдна, Моцарта и Бетхове¬
на — одна из этих несказанно томительных скрипичных мелодий
блуждает в пространстве, которое распространяют вокруг нее звуки со¬
провождающего оркестра, мы оказываемся лицом к лицу с искусством,
рядом с которым можно поставить исключительно лишь творения Ак¬
рополя.
Тем самым фаустовская музыка возобладала над всеми прочими ис¬
кусствами. Она изгоняет скульптурную пластику и терпит лишь всеце¬
ло музыкальное, изысканно неантичное и противоположное Возрож¬
дению малое искусство фарфора, изобретенное, когда камерная музы¬
ка вышла на ведущие позиции. Между тем как готическая
скульптура — это всецело архитектонический орнамент, причудливая
ритмическая композиция из человеческих фигур, скульптура рококо
является примечательным примером мнимой пластики, которая на са¬
мом деле полностью отдается языку музыкальных форм. Тут становит¬
ся понятно, до какой степени господствующая на переднем плане ху¬
дожественной жизни техника способна противоречить скрытому поза¬
ди нее подлинному выразительному языку. Сравним «Венеру на
корточках» Куазевокса (1686) в Лувре с ее античным образцом в Вати¬
кане. Вот скульптура как музыка, с одной стороны, и скульптура в под¬
линном смысле слова — с другой. Та разновидность подвижности, с
которой мы имеем здесь дело, течение линий, текучесть в сущности са¬
мого камня, который, подобно фарфору, до некоторой степени поки¬
нул твердое агрегатное состояние, лучше всего может быть передана
музыкальными оборотами: staccato, accelerando, andante, allegro. Отсюда
и ощущение того, что зернистый мрамор здесь неуместен. Отсюда и аб¬
солютно неантичное обыгрывание светотени. Налицо соответствие ве¬
дущему принципу масляной живописи со времен Тициана. То, что
именуют колоритом в XVIII в. — колоритом офорта, рисунка, скульп¬
турной группы — есть музыка. Она господствует в живописи Ватто и
Фрагонара, в искусстве гобелена и пастели. Разве мы не говорим с тех
пор о цветовых тонах и о звучании цветов? Разве тем самым не оказа¬
лась признанной наконец-то достигнутая однородность двух столь раз¬
личных на первый взгляд искусств? И не лишаются ли смысла такие
обозначения применительно ко всякому античному искусству? Но эта
же музыка породила также и дух — переведя ее в рококо — архитектуры
Берниниева барокко, по трансцендентальной орнаментике которой
«играют» отблески — звуки, растворяя потолки, стены, арки, вообще
все конструктивное и существенное в многоголосии и гармонии, чьи
архитектонические трели, каденции и пассажи приводят к заверше¬
нию тождество языка форм этих залов и галерей с сочиненной для них
fлава четвертая. Музыка и скульптура 261
музыкой. Дрезден и Вена являются отчизной этого позднего и стреми¬
тельно угасающего волшебного мира зримой камерной музыки, изог¬
нутой мебели, зеркальных кабинетов, пасторальной поэзии и фарфо¬
ровых групп. То было последнее, по-осеннему солнечное и совершен¬
ное выражение большого стиля западной души. В Вене времен
Конгресса с ним было покончено.
5
Если смотреть на искусство Возрождения с такой точки зрения (да¬
леко его не исчерпывающей*), оно оказывается протестом против духа
фаустовской, лесоподобной музыки контрапункта, которая вознамери¬
лась было установить свое господство над всем вообще языком форм
западной культуры. Искусство Возрождения возникло из зрелой готи¬
ки, в которой соответствующая воля явлена в неприкрытой форме.
Этого своего происхождения оно никогда не отрицало, как и своего
чисто противонаправленного характера, что неизбежно сохраняло его
зависимость от форм изначального движения, ведь искусство Возрож¬
дения является обратным воздействием готики на мятущуюся душу.
Именно по этой причине оно лишено подлинной глубины, причем
сразу в обоих смыслах — как глубины идейной, так и глубины явления.
Что до первого, достаточно припомнить вырвавшуюся на свободу
страстность, с которой разражается над всем западным ландшафтом
готическое мироощущение, чтобы ощутить, какой именно характер
носило движение, исходившее ок. 1420 г. от небольшого кружка изб¬
ранных умов — ученых, художников, гуманистов*. Если в первом слу¬
чае речь идет о том, быть или не быть новой душе, то во втором — иск¬
лючительно о вопросах вкуса. Готика захватывает всю жизнь целиком,
до самых потаенных ее уголков. Она создала нового человека, новый
мир. Она наложила отпечаток языка своей единообразной символики
на все и вся: от идеи католицизма до представлений германских импе¬
раторов о государственности, от рыцарских турниров до образа только
что возникших городов, от собора до крестьянской горницы, от языко¬
вого строя до подвенечного наряда деревенских девушек, от масляной
картины до песни шпильмана. Возрождение же овладело отдельными
изобразительными и словесными искусствами — и тем самым все было
завершено. Оно никак не переменило способ мышления Западной Ев-
К последующему с. 745.
Оно не только носит итальянский национальный характер (такова была и италь¬
янская готика), но и является чисто флорентийским, да и в самой Флоренции пред¬
ставляет собой искчючительно великосветский идеал. То, что именуют Возрождением
в треченто, имело центр в Провансе, прежде всего при папском дворе в Авиньоне, и
представляло собой придворно-рыцарскую культуру Южной Европы от Верхней Ита¬
лии и до Испании, которая находилась под сильнейшим воздействием мавританского
благородного общества в Испании и на Сицилии.
262 Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
ропы, ее жизнеощущения. Оно проникло вплоть до костюма и жеста,
но не до корней бытия, ибо даже в самой Италии мировоззрение барок¬
ко по внутренней своей сути является продолжением готики*. Возрож¬
дение не произвело на свет ни одной по-настоящему великой личности
за эпоху от Данте и до Микеланджело, которые уже выходят за его пре¬
делы. Что же касается второго аспекта, даже во Флоренции Возрожде¬
ние не затронуло народных масс, в чьих глубинах (лишь это и делает
понятным явление Савонаролы с его совершенно иной властью над ду¬
шами) придонное готически-музыкальное течение спокойно перете¬
кает в барокко.
Возрождению как антиготическому и враждебному духу многого¬
лосной музыки движению соответствует в античности дионисийское
движение — как антидорическое и противопоставленное скульптурно-
аполлоническому мироощущению. Оно не «возникло» из фракийского
культа Диониса. Оно лишь привлекло этот культ в качестве оружия и
противосимвола олимпийской религии, совершенно так же, как и во
Флоренции культ античности привлекли только для оправдания и уси¬
ления собственного чувства. Великий протест имел место там в VII в.,
здесь же, таким образом, в XV в. В обоих случаях можно говорить о рас¬
коле в культурном базисе, который нашел свое физиономическое вы¬
ражение в целой эпохе картины истории, в первую очередь в ее художе¬
ственном мире форм, а также о сопротивлении души собственной су¬
дьбе, которую она постигает теперь уже в полном ее объеме. Внутренне
противящиеся силы, вторая душа Фауста, желающая отделиться от
первой, пытаются перековать смысл культуры; неизбежную необходи¬
мость следует опровергнуть, упразднить, обойти; тут присутствует
страх завершения исторических судеб в ионике и барокко. Там хвата¬
ются за культ Диониса с его развоплощающе-музыкальным, расточаю¬
щим тело оргиазмом, здесь же — за традицию «античности» и за ее
культ всего телесно-скульптурного. Однако и то и другое сознательно
привлекается как чуждое средство выражения, чтобы за счет мощи их
противоположного языка форм придать веса, собственной патетики
угнетенному чувству и тем самым создать заслон на пути движения, ко¬
торое ведет там от Гомера и геометрического стиля к Фидию, здесь
же — от готических соборов через Рембрандта к Бетховену.
Из противонаправленного характера движения следует, что легче
легкого определить, с чем оно борется, сказать же, чего оно добивается,
весьма непросто. В этом трудность всего вообще ренессансоведения. В
готике же (и дорике) все как раз наоборот. Она борется за, а не против
чего бы то ни было. Однако искусство Возрождения — это антиготиче-
ское искусство в подлинном смысле слова. Музыка Возрождения —
противоречие в себе самом. Музыка при дворе Медичи — южно-фран-
Орнамент Возрождения — не более как украшение, сознательная художественная
выдумка. Только явный стиль барокко вновь обнаруживает «принудительность» высо¬
кой символики.
Глава четвертая. Музыка и скульптура
263
цузское ars nova; во Флорентийском же соборе звучала музыка нидер¬
ландского контрапункта; однако и та и другая — в равной мере готиче¬
ские и принадлежат всему Западу в целом.
Расхожие представления о Возрождении являют собой характер¬
ный пример того, как можно принять декларируемые во всеуслышание
намерения движения за его глубинный смысл. Уже начиная с Буркхар-
дта критика опровергла все до одного утверждения ведущих умов Воз¬
рождения относительно его направленности, однако и после того, как
это имело место, слово Возрождение продолжает использоваться по
сути в прежнем своем значении. Конечно, стоит перевалить через Аль¬
пы, как различие в архитектонике, да и вообще в целостной художест¬
венной образности бросается в глаза. Однако именно по той причине,
что это ощущение уж слишком расхоже, ему не следует поддаваться,
задавшись вопросом, не происходит ли здесь подмены в различии меж¬
ду Севером и Югом внутри одного и того же мира форм — различием
между готическим и «античным». Также и в Испании многое произво¬
дит впечатление античного — лишь потому, что это Юг. Если спросить
дилетанта, относятся ли к готике большой монастырский двор церкви
Санта Мария Новелла или фасад палаццо Строцци, ответ будет вне
всякого сомнения неверный. В противном случае отсчет внезапной
смене впечатления пришлось бы начинать не по ту сторону Альп, а еще
по ту сторону Апеннин, ибо Тоскана являет собой художественный
остров внутри самой Италии. Вся Верхняя Италия в целом принадле¬
жит к окрашенной в византийские тона готике; в частности, Сиена —
это в полном смысле слова город Контрвозрождения. Рим — это уже ро¬
дина барокко. Однако смена восприятия идет в ногу со сменой карти¬
ны ландшафта.
На самом деле Италии не довелось внутренне пережить рождение
готического стиля. Ок. 1000 г. она находилась в безраздельной власти
византийского вкуса на Востоке, мавританского — на Юге. Здесь пус¬
тила корни только зрелая готика (причем с такой проникновенной мо¬
щью, которой не отыскать ни в одном из великих созданий Ренессан¬
са, — можно указать хотя бы на возникшие здесь «Stabat mater» и «Dies
irae», на Екатерину Сиенскую, на Джотто и Симоне Мартини), однако
как инородный элемент — по-южному просветленный и одновремен¬
но климатически смягченный. Готике этой пришлось перенимать или
изгонять вовсе не мнимые отзвуки античности, а исключительно ви-
зантийски-сарацинский язык форм, который ежечасно и повсеместно
апеллировал к чувствам в постройках Венеции и Равенны, но еще в
куда большей степени — в орнаментике привезенных с Востока тка¬
ней, утвари, сосудов и оружия.
Будь Возрождение возобновлением античного мироощущения (да и
что это вообще такое?), ему следовало бы заменить символ замкнутого
и ритмически члененного пространства — символом замкнутого архи¬
тектурного тела. Однако об этом никогда нет речи. Напротив того,
264
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Возрождение культивирует исключительно архитектуру пространства,
предписанную ему готикой, вот только ее дыхание, ее ясный уравнове¬
шенный покой в противоположность буре и натиску Севера становят¬
ся другими, а именно южными, солнечными, беззаботными, самозаб¬
венными. Разница только в этом. Никакой новой архитектурной идеи
здесь нет. Едва ли не всю эту архитектуру можно свести к фасадам и дво¬
рам.
Однако подлинно готической оказывается сосредоточенность вы¬
ражения на «лике» насыщенного окнами уличного или дворового фа¬
сада, который неизменно отражает дух внутренней структуры; в самых
своих глубинах она связана с портретным искусством. Внутренний же
двор с колоннадой, от храма Солнца в Баальбеке и до Львиного двора в
Альгамбре имеет подлинно арабский характер. Храм в Пестуме, это тело
и только тело, высится посреди этого искусства в полной изоляции.
Никто не обращал на него внимания, никто не пытался ему подражать.
Столь же мало и флорентийская скульптура является свободно стоящей
круглой скульптурой аттического чекана. Каждая из ее статуй все еще
ощущает позади себя невидимую нишу, в которую готическое ваяние
вставляло настоящие их пра-образы. Что касается отношения к фону и
строения тела, «Мастер королевских бюстов» Шартрского собора и
Мастер хоров Георгия в Бамберге обнаруживают то же самое взаимо¬
проникновение «античных» и готических средств выражения, которые
не были подняты Пизано, Гиберти и даже самим Верроккьо на новую
высоту способа выражения и которым они никогда не противоречили.
Если вычесть из числа пра-образов Возрождения все то, что было
создано после римской императорской эпохи, а значит, принадлежит к
магическому миру форм, не останется вообще ничего. Даже из самих
позднеримских построек было последовательно, деталь за деталью,
исключено все то, что происходило из великого периода зари эллини¬
стической эпохи. Решающим оказывается тот факт, что тот мотив, ко¬
торый прямо-таки господствует в Возрождении и по причине своего
южного характера сходит у нас за его благороднейший отличительный
признак, а именно связывание полукруглой арки с колонной, хотя и
впрямь весьма неготический по характеру, вовсе не встречается в ан¬
тичном стиле и скорее представляет собой зародившийся в Сирии
лейтмотив магической архитектуры.
Вот теперь-то с Севера и были восприняты те решающие импульсы,
которые только и помогли осуществить на Юге полное освобождение
от Византии, а затем сделать шаг от готики к барокко. На ландшафте
между Амстердамом, Кельном и Парижем* (в этом противополюсе То¬
сканы в истории стиля нашей культуры) были помимо готической ар¬
хитектуры созданы еще и контрапункт и масляная живопись. Отсюда в
* Париж принадлежит сюда же. Еще в XV в. здесь говорили по-фламандски не ме¬
ньше, чем по-французски, и старинными частями своего архитектонического образа
Париж относится туда же, куда и Брюгге с Гентом, а не Труа и Пуатье.
fAaea четвертая. Музыка и скульптура
265
1428 г. в папскую капеллу явился Дюфаи, а в 1516 г. — Вилларт, и в 1527 г.
этот последний основал сыгравшую в музыке барокко решающую роль
венецианскую школу. Его преемником здесь явился де Pope из Антвер¬
пена. Некий флорентиец заказал Хуго ван дер Гусу алтарь Портинари
для церкви Санта Мария Нуова, а Мемлингу — Страшный суд. Однако
наряду с этим были получены и многие другие картины, в первую оче¬
редь нидерландские портреты, которые произвели здесь мощнейшее
воздействие, а ок. 1450 г. сам Рогир ван дер Вейден явился во Флорен¬
цию, где его искусством восхищались и ему подражали. Ок. 1470 г. Йос
ван Гент принес масляную живопись в Умбрию, а прошедший нидер¬
ландскую школу Антонелло да Мессина — в Венецию. Как же много
нидерландского и как мало «античного» в картинах Филиппино Лип¬
пи, Гирландайо и Боттичелли, но в первую очередь — в гравюрах на
меди Поллайоло и даже у Леонардо! До сих пор почти никто так и не от¬
важился признать влияние готического Севера на архитектуру, музы¬
ку, живопись, скульптуру Возрождения в полном объеме*.
Именно тогда также и Николай Кузанский, кардинал и епископ
Бриксена (1401—1464), ввел в математику инфинитезимальный прин¬
цип, этот контрапунктический числовой метод, выведенный им из
идеи Бога как бесконечного существа. Ему Лейбниц обязан решающим
толчком к окончательному осуществлению своего дифференциально¬
го исчисления. Однако тем самым он выковал уже и оружие для дина¬
мической, барочной физики Ньютона, с помощью которого она окон¬
чательно преодолела статичную идею южной физики, восходившей к
Архимеду и действенной еще у Галилея.
Высокое Возрождение представляет собой миг мнимого вытеснения
музыкального из фаустовского искусства. Во Флоренции, этой единст¬
венной точке, где античный и западный культурный ландшафт сопри¬
касались друг с другом, за считаные десятилетия посредством единст¬
венного грандиозного акта по-настоящему метафизического отверже¬
ния утвердилась такая картина античности, которая всеми без
исключения более глубинными своими чертами обязана отрицанию
готического и тем не менее сохраняла свое значение для Гёте и все еще
сохраняет его, по нашим ощущениям, для нас (хотя не для нашей кри¬
тики). Флоренция Лоренцо де’ Медичи и Рим Льва X — вот что для нас
вправду антично; вот извечная цель наших потаеннейших устремле-
ний;юдно это избавляет нас от всякой тяжести, всякой дали лишь по¬
тому, что это антиготично. Вот в какой непримиримой форме предста¬
ет противоположность аполлонической и фаустовской душевности.
Не следует, однако, обманываться относительно масштабов этой ил¬
люзии. В отличие от готических росписей по стеклу и византийских мо¬
заик с их золотым фоном, во Флоренции занимались фреской и релье¬
фом. То был единственный период в западной истории, когда скульпту¬
Schmarsow A., Gotik in der Renaissance (1921). Haendke В., Der niederl. EinfluB auf
die Malerei Toskana-Umbriens (Monatsh. f. Kunstwiss. 1912).
266
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
ра достигла положения доминирующего искусства. На изображениях
преобладают уравновешенные тела, упорядоченные группы, тектониче¬
ские архитектурные элементы. Задний план не имеет самостоятельной
ценности и служит лишь заполнением между и позади насыщенного об¬
разами переднего плана. Живопись здесь действительно какое-то время
пребывала под пятой у скульптуры. Верроккьо, Поллайоло и Боттичел¬
ли были златокузнецами. И несмотря на это в этих фресках нет ни грана
духа Полигнота. Достаточно пройтись по крупному собранию античных
ваз (отдельный экспонат или иллюстрация создают ложное впечатле¬
ние; рисунки на вазах — вот единственный род античных произведений
искусства, имеющихся у нас в таком количестве находящихся друг подле
друга оригиналов, которого достаточно для восприятия убедительной
картины волевого импульса самого искусства), чтобы воочию убедиться в
полностью неантичном духе ренессансной живописи. Великое деяние
Джотто и Мазаччо, создание фресковой живописи, лишь представляет¬
ся возобновлением аполлонического способа ощущения. Переживание
глубины, идеал протяжения, который лежит в ее основе — это не апол-
лоническое лишенное пространственное™, заключенное в самом себе
тело, но готическое образное пространство. Задний план, как он ни ма¬
ловажен, все же никуда не девается. И опять-таки потоки света, эта про¬
зрачность, великий полуденный покой Юга — вот что превращает в Тос¬
кане, и только в ней одной, динамическое пространство в статичное, ма¬
стером которого стал Пьеро делла Франческа. И хотя здесь писали
образные пространства, их все же переживали не как неограниченное,
музыкально устремленное вглубь и пульсирующее бытие, но с учетом их
внутренней ограниченности. Им, так сказать, придавали тела. Их упоря¬
дочивали, выстраивая послойно. Создавая впечатление близости к гре¬
ческому идеалу, здесь культивировали рисунок, четкие контуры, гра¬
ничные поверхноста тела (с той лишь разницей, что единое перспектав-
ное пространство отграничивалось здесь от вещей, в Афинах же
единичные вещи отграничены от ничто); и по мере того, как валы Воз¬
рождения становятся более пологими, жесткость данной тенденции
также смягчается по пута от фресок Мазаччо в капелле Бранкаччи до
Станц Рафаэля; а сфумато Леонардо, это слияние контуров с фоном,
ставит на место идеала подобной рельефу живописи — музыкальный
идеал. Нельзя не признать также и скрытого динамизма тосканской ску¬
льптуры. Среди аттических произведений просто нечего поставить ря¬
дом с конной статуей работы Верроккьо. Это искусство было личиной,
вкусом избранного общества, а подчас комедией, однако никогда коме¬
дия не была лучше сыграна до самого конца. Рядом с несказанно заду¬
шевной чистотой ренессансной формы забываешь обо всех преимуще¬
ствах готики в отношении первозданной мощи и глубины. Следует, од¬
нако, повторить еще раз: готика представляет собой единственный
источник Возрождения. Возрождению не довелось даже коснуться на¬
стоящей античности, уж не говоря о том, чтобы его понять и «пережить
Глава четвертая. Музыка и скульптура 267
заново». Находившееся всецело под влиянием литературных впечатле¬
ний сознание флорентийского кружка выработало вводящее в заблуж¬
дение название, чтобы придать негативизму движения поворот в сторо¬
ну положительности. Название это доказывает лишь то, как мало подоб¬
ные течения знают сами о себе. Здесь не отыскать ни одного великого
произведения, которое не отвергли бы как совершенно чуждое себе даже
современники Цезаря, уж не говоря о современниках Перикла. Эти
дворцовые дворики — дворики мавританские; полуциркульные же арки
на тонких колоннах — сирийского происхождения. Чимабуэ обучал свое
столетие с помощью кисти подражать искусству византийских мозаик.
Из обоих знаменитых купольных сооружений Возрождения купол Фло¬
рентийского собора представляет собой шедевр поздней готики, купол
же собора Св. Петра — шедевр раннего барокко. И когда Микеланджело
дерзнул здесь «взгромоздить Пантеон на базилику Максенция», он сам
сослался на два сооружения чистейшего раннеарабского стиля. А орна¬
мент — существует ли вообще подлинный ренессансный орнамент? Во
всяком случае здесь нет ничего такого, что можно было бы сравнить с
символической мощью готической орнаментики. Но каково же проис¬
хождение всех этих радостных и благородных украшений, которым при¬
суще большое внутреннее единство и чьему обаянию поддалась вся За¬
падная Европа? Родина вкуса — это одно, а место происхождения
средств его выражения — нечто совершенно иное. В раннефлорентий¬
ских мотивах Пизано, Майано, Гиберти, делла Кверчиа — много север¬
ного. Во всех этих кафедрах, надгробных памятниках, нишах, порталах
следует различать внешнюю, переносимую с места на место форму (в ка¬
честве таковой ведь даже ионическая колонна — египетского происхож¬
дения) — от духа языка форм, который усваивает ее в качестве средства и
знака. Все отдельные античные черты ничего не значат, поскольку в
способе их применения выражается нечто неантичное. Однако еще у
Донателло они встречаются куда реже, чем в высоком барокко. Строго
античной капители вообще не отыскать.
И все же на какой-то момент здесь было достигнуто нечто чудесное,
что не передать музыкой: ощущение счастья от совершенной близости,
от чистых, покойных, избавляющих пространственных воздействий —
прозрачных по структуре, свободных от страстного непокоя готики и
барокко. Все это неантично, а представляет собой мечту об античном
бытии, единственную, которая грезится фаустовской душе, в которой
она желала бы забыться. 66
И лишь теперь, в XVI в., в западной живописи происходит решаю¬
щий переворот. Главенство архитектуры на Севере, скульптуры в Ита¬
лии сходит на нет. Живопись становится многоголосной, «живопис-
268 Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
ной», ускользающей в бесконечное. Цвета становятся звуками. Искус¬
ство кисти теперь сродни стилю кантаты и мадригала. Техника
масляной живописи становится основанием искусства, желающим за¬
воевать пространство, в котором теряются предметы. С Леонардо и
Джорджоне берет начало импрессионизм.
Тем самым в картине происходит переоценка всех элементов.
Прежде равнодушно набрасываемый, рассматриваемый в качестве за¬
полнения, почти замалчиваемый как пространство задний фон приоб¬
ретает решающее значение. Проявляется тенденция, не имеющая ни¬
чего подобного ни в какой иной культуре, даже в весьма родственной в
прочих отношениях китайской: задний план как знак бесконечного
одолевает чувственно-осязаемый передний план. Наконец удается (та¬
ков живописный стиль в противоположность стилю рисовальному)
вколдовать переживание глубины фаустовской души в движение кар¬
тины. «Пространственный рельеф» Мантеньи с его плоскими слоями
распадается в энергию направления у Тинторетто. На картине появля¬
ется горизонт как великий символ безграничного мирового простран¬
ства, охватывающего зримые единичные вещи как частные случаи. Его
изображение на пейзажных полотнах до такой степени воспринима¬
лось как нечто само собой разумеющееся, что никто и никогда не зада¬
вался имеющим решающее значение вопросом, где же все-таки гори¬
зонт повсеместно отсутствует и что это отсутствие означает. Однако
мы не встречаем даже намека на горизонт ни на египетском рельефе,
ни в византийской мозаике, ни на античных росписях ваз и фресках,
даже на относящихся к эллинистической эпохе с их пространственно-
стью переднего плана. Эта линия, в ирреальном тумане которой небо и
земля сливаются друг с другом, высшее проявление и мощнейший
символ дали, содержит в себе живописный принцип бесконечно ма¬
лых. От дали горизонта истекает музыка картины, и поэтому великие
голландские пейзажисты пишут, собственно говоря, лишь задний план,
только воздух, между тем как такие «антимузыкальные» мастера, как
Синьорелли и в первую очередь Мантенья писали лишь передний
план — «рельеф». На горизонте музыка одерживает верх над скульпту¬
рой, страсть протяжения — над его субстанцией. Можно даже сказать,
что ни на одном полотне Рембрандта нет «переда». На Севере, на роди¬
не контрапункта, уже очень рано встречается глубокое понимание
смысла горизонта и просветленных далей, между тем как на Юге еще
долгое время сохраняется господство плоско завершающего золотого
фона арабско-византийских картин. В созданных ок. 1416 г. Часосло¬
вах герцога Беррийского (из Шантийи и из Турина) и у ранних рейн¬
ских мастеров впервые обнаруживается чистое чувство пространства, а
затем оно медленно завоевывает станковую живопись.
Тот же самый символический смысл имеют и облака, в художест¬
венной интерпретации которых античности было также полностью от¬
казано. Художники Возрождения трактовали облака с несколько игри¬
269
Глава четвертая. Музыка и скульптура
вой поверхностностью, между тем как готический Север уже очень
рано создает всецело мистические виды — как самих облачных масс,
так и с их помощью, а венецианцы, прежде всего Джорджоне и Паоло
Веронезе, раскрывают все волшебство облачного мира, небесные про¬
сторы, наполненные этими парящими, тянущимися вдаль, набухши¬
ми, окрашенными в тысячу цветов существами; наконец, Грюневальд
и нидерландцы доводят соответствующее ощущение до трагического.
Эль Греко перенес великое искусство облачной символики в Испанию.
В садово-парковом искусстве, достигшем зрелости тогда же, одновре¬
менно с масляной живописью и контрапунктом, появляются соответст¬
венно вытянутые пруды, буковые дорожки, аллеи, сквозные виды, гале¬
реи — с тем, чтобы также и в природной картине довести до выражения
ту же самую тенденцию, которая воспринималась ранними нидерланд¬
цами в качестве основной задачи их искусства и которую являет собой
на полотнах теоретически обоснованная Брунеллески, Альберти и Пье¬
ро делла Франческа линейная перспектива. Обнаруживается, что имен¬
но тогда ее осуществляли с определенной нарочитостью — как матема¬
тическое посвящение пространства картины (будь то пейзаж или инте¬
рьер), ограниченного с боков рамой и мощно выдвигающегося в
глубину. Пра-символ возвещает о себе. В бесконечности находится точ¬
ка, в которой линии перспективы сходятся. У античной живописи, избе¬
гавшей бесконечности, не признававшей дали, в силу этого не было и
перспективы. Поэтому также и парк, сознательное преобразование при¬
роды в смысле отдаленного пространственного воздействия, в рамках
античного искусства невозможно. В Афинах и Риме не существовало
сколько-нибудь значительного садового искусства. Лишь император¬
ская эпоха находила вкус в восточных парковых хозяйствах, сжатые и
подчеркнутые пределы которых становятся видны с первого же взгляда,
брошенного на уцелевшие планы*. Однако первый западный теоретик
паркового искусства, Л. Б. Альберти, уже в 1450 г. проповедовал отноше¬
ние парка к дому, т. е. его воздействие на наблюдателя в доме, и начиная
с его набросков и вплоть до парков вилл Людовизи и Альбани обнаружи¬
вается все более мощное использование перспективных сквозных про¬
светов. Со времен Франциска I Франция прибавила к этому еще и про¬
тяженные полосы воды (Фонтенбло).
Таким образом, наиболее важным элементом паркового образа на
Западе является point de vue [точка обозрения (фр.)] большого парка в
стиле рококо: навстречу ей открываются аллеи и подстриженные лист¬
венные дорожки парка, и она же уводит взгляд прочь, заставляя его за¬
теряться вдали. Даже в китайском парковом искусстве point de vue от¬
сутствует. Однако полную ей аналогию мы находим в определенных
светлых, серебристых «далеких красках» пасторальной музыки начала
XVIII в., например, у Куперена. Лишь point de vue лает ключ к понима-
* Svoboda, Romische und romanische Palaste (1919); Rostowzew, Pompejanische Land-
schaften und romische Villen (Rom. Mitt. 1904).
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
270
нию этого необычного людского способа подчинять природу символи¬
ческому языку форм искусства. Родственным принципом является
разложение конечных числовых образований в бесконечные ряды. По¬
добно тому как формула остаточного члена раскрывает в последнем
случае смысл ряда, так и взгляд в безграничное обнаруживает глазу фа¬
устовского человека смысл природы. Это мы, а не греки и не люди вы¬
сокого Возрождения стали ценить бескрайние дальние виды с высоких
гор и стремиться к ним. Вот страстное фаустовское томление. Мы же¬
лаем быть с бесконечным пространством один на один. Доведение этого
символа до предела — вот что было великим деянием северо-француз¬
ских мастеров паркового искусства, в первую очередь Ленотра, следо¬
вавшего за составившим эпоху творением Фуке в Во-ле-Виконте.
Сравните ренессансный парк эпохи Медичи с его обозримостью, его
радостной близью и закругленностью, с соизмеримостью его линий,
абрисов и групп деревьев — с этой таинственной устремленностью
вдаль, пронизывающей все каскады фонтанов, ряды статуй, кустарни¬
ки, лабиринты, и в данном фрагменте истории паркового дела перед
вами вновь предстанут судьбы западной масляной живописи.
Однако даль — это в то же самое время и историческое восприятие. В
дали пространство оборачивается временем. Горизонт означает буду¬
щее. Барочный парк — это парк позднего времени года, близкого конца,
опадающих листьев. Ренессансный парк мыслился для лета и полудня.
Он вне времени. Ничто в его языке форм не напоминает о преходяще-
сти. Лишь перспектива пробуждает догадку о чем-то преходящем, ле¬
тучем, последнем.
Уже само слово «даль» обладает в западной лирике на всех языках
щемяще-осенним привкусом, который мы бы напрасно стали отыски¬
вать в греческой и латинской поэзии. Мы находим его уже в Оссиано-
вых песнях Макферсона, у Гёльдерлина, а затем в Дионисовых дифи¬
рамбах у Ницше и, наконец, у Бодлера, Верлена, Георге и Дрёма92.
Поздняя поэзия увядающих аллей, бесконечных проспектов наших
мировых столиц, выстроенных рядами столбов собора, вершин даль¬
ней горной цепи вновь свидетельствует о том, что переживание глуби¬
ны, создаваемое в нас Вселенной, в конечном счете является внутрен¬
ней несомненностью судьбы, предопределенного направления, време¬
ни, всего безвозвратного. Здесь, в переживании горизонта как
будущего, непосредственно проявляется тождество времени с «треть¬
им измерением» пережитого пространства, живого самораспростране-
ния. Под конец мы подчинили этой судьбоносной процессии версаль¬
ского парка также и образ улиц больших городов, заложив мощные
прямолинейные, исчезающие вдали вереницы фасадов даже ценой
принесения в жертву старинных кварталов исторической застройки
(символика которых сделалась теперь не столь значительной). Между
тем античные мировые столицы с пугливой заботливостью продвигают
переплетения кривых переулочков, с тем чтобы аполлонический чело¬
Глава четвертая. Музыка и скульптура
271
век ощущал себя в них как тело среди других тел*. Практические по¬
требности были здесь, как и всегда, только личиной заложенной в по¬
таенной глубине вынужденности.
Отныне горизонт аккумулирует в себе углубленную форму, полное
метафизическое значение картины. Зримое и передаваемое подписью
под картиной содержание, подчеркивавшееся и признававшееся ренес¬
сансной живописью, становится теперь средством, простым носителем
смысла, который более не может быть исчерпан словами. У Мантеньи и
Синьорелли карандашный набросок мог сойти за картину даже без про¬
работки в цвете. В некоторых случаях возникает даже желание, чтобы
все так и осталось на картоне. Для скульптурообразных набросков
цвет — всего-навсего довесок; однако Тициану довелось-таки выслу¬
шать от Микеланджело упрек в том, что он дурной рисовальщик. «Пред¬
мет», а именно то, что оказывается ухваченным эскизным рисунком,
близкое и вещественное, утратил свою художественную действитель¬
ность, и начиная с этих пор теория искусства, оставшаяся под впечатле¬
нием Возрождения, пребывает под знаком этой необычной и несконча¬
емой борьбы относительно «формы» и «содержания» художественного
произведения. Формулировка этого вопроса основывается на недоразу¬
мении и затушевывает его в высшей степени значительный смысл. Пер¬
вое, что следовало бы принять здесь во внимание, — это надо ли пони¬
мать живопись пластически или музыкально, как статику вещей или как
динамику пространства (ибо в этом глубинная противоположность фре¬
сковой и масляной техники). Второй же существенный момент — это
противоположность фаустовского и аполлонического ощущения фор¬
мы. Контры ограничивают материальное, цветовые тона трактуют про¬
странство . Однако первое имеет непосредственно чувственный харак¬
тер. Это повествование. Пространство же по самой своей сути трансцен-
дентно. Оно обращается к силе воображения. Для искусства, которое
находится под действием его символики, повествовательная сторона яв¬
ляется принижением и затемнением глубинной тенденции, и теоретик,
который ощущает здесь скрытое недоразумение, однако его не понима¬
ет, хватается за лежащую на поверхности противоположность содержа¬
ния и формы. Проблема эта носит чисто западный характер, и она нео¬
бычным образом вскрывает полный переворот, имевший место в значе¬
нии элементов картины с завершением Возрождения и появлением
инструментальной музыки большого стиля. В античности такая пробле¬
ма, как формы и содержания, в указанном смысле не могла бы даже и
возникнуть. Для аттической статуи одно и другое полностью тождест¬
венны друг другу: человеческое тело. В случае же барочной живописи
Ср. с. 561.
В античной живописи свет с тенью были впервые комплексно применены Зевк-
сидом, однако лишь как средство оттенивания самой вещи, чтобы освободить пластику
написанных тел от рельефовидности, а значит безо всякой связи тени с временем дня.
Напротив того, уже у самых ранних голландцев свет и тень являются цветовыми оттен¬
ками и связаны с воздухом картины.
272 Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
все становится еще более запутанным по причине конфликта общедо¬
ступного и высшего восприятия. Все эвклидовски-осязаемое является од¬
новременно также и популярным, а значит вся «античность» — это
общедоступное искусство в подлинном смысле слова. Свет на это обсто¬
ятельство не в последнюю очередь проливает несказанно чарующее впе¬
чатление, производимое всем античным на фаустовские умы, поскольку
им приходится вести борьбу за собственное выражение, отвоевывать его
у мира. Созерцание античной художественной воли — величайшее от¬
дохновение для нас. Здесь ничего не нужно завоевывать. Все дается само
собой. И правда, нечто родственное этому произвело на свет антиготи-
ческое движение во Флоренции. Многие стороны творчества Рафаэля
отличает популярность, Рембрандт же ни за что не мог бы быть таковым.
Начиная с Тициана живопись становится все более эзотерической, и то
же самое касается поэзии и музыки. Готика — Данте, Вольфрам фон
Эшенбах — была такой с самого начала. Толпе прихожан ни за что не по¬
нять мессы Окегема, Палестрины или даже Баха. Моцарт и Бетховен за¬
ставляют ее скучать. Толпа эта дает музыке действовать лишь на свое на¬
строение. С тех пор как Просвещение выдвинуло лозунг об искусстве
для всех, на концертах и в галереях все лишь убеждают самих себя в соб¬
ственной заинтересованности. Однако фаустовское искусство предназ¬
начено не для всех. Это относится к самой глубинной его сути. Если но¬
вая живопись обращается теперь лишь к небольшому, делающемуся все
уже кругу знатоков, это соответствует уходу от общепонятных предме¬
тов. Тем самым отрицается самодовлеющая ценность «содержания» и
признается собственная действительность пространства, благодаря ко¬
торому — по Канту — только и обретают бытие вещи. С тех пор в живо¬
писи появился труднодоступный метафизический элемент, который не
склонен обнаруживать себя дилетанту. Однако для Фидия слово «диле¬
тант» не имело бы никакого смысла. Его скульптура всецело обращается
к телесному, а не духовному взору. Непространственное искусство a prio¬
ri нефилософично. 77
С этим же связан важный принцип композиции. Отдельные вещи мож¬
но неорганически разбросать по картине — так, что они будут располага¬
ться одна над другой, друг подле друга и одна позади другой, без перспек¬
тивы и взаимного отношения, т. е. без подчеркивания зависимости их ре¬
альности от структуры пространства, хотя это и не будет означать ее
отрицания. Так рисуют первобытные люди и дети, пока переживание глу¬
бины не подчинит впечатления от мира более глубокому порядку. Однако
порядок этот, смотря по пра-символу, в каждой культуре свой. Являю¬
щийся для нас само собой разумеющимся способ перспективного обоб¬
щения — лишь единичный случай, и живопись иных культур его не при-
Глава четвертая. Музыка и скульптура 273
знает и не желает. Египетское искусство любило изображать одновремен¬
ные события рядами друг над другом. Тем самым из впечатления,
производимого картиной, исключалось третье измерение. Аполлониче-
ское искусство располагало отдельные фигуры и группы по полю карти¬
ны с намеренным избеганием пространственных и временных отноше¬
ний. Знаменитый пример этого — фрески Полигнота в Книдской лесхе в
Дельфах. Здесь нет фона, который бы связывал единичные сцены. Он
подверг бы сомнению значение вещей как единственно реальных — в
противоположность пространству как не-сущему. На фронтоне храма в
Эгине, в процессии богов на вазе Франсуа и фризе гигантов из Пергама
мы имеем меандрическое выстраивание взаимозаменяемых единичных
мотивов, никакой органичности. Только эллинистический период (са¬
мым ранним дошедшим до нас примером этого является фриз Телефа с
Пергамского алтаря) приносит с собой неантичный мотив единой после¬
довательности. Также и здесь восприятие Возрождения было чисто готи¬
ческим. Оно даже подняло групповую композицию на такую высоту, ко¬
торая оставалась образцом для всех последующих столетий, однако этот
порядок исходил из пространства и был в конечном своем основании без¬
звучной музыкой озаренного цветом протяжения, которое посредством
незримого такта и ритма уводит вдаль все рожденные из него световые со¬
противления, постигаемые понимающим взором как предметы и сущест¬
ва. Но с выстраиванием в пространстве этого порядка, который незамет¬
но заменяет линейную перспективу — воздушной и световой, Возрожде¬
ние оказывалось уже внутренне преодоленным.
И вот по завершении Возрождения появляется густая цепь великих
музыкантов начиная с Орландо ди Лассо и Палестрины вплоть до Ваг¬
нера, а начиная с Тициана и до Мане, Маре и Лейбля — ряд великих
живописцев, между тем как скульптура оказывается низведенной до
полной утраты своей значимости. Масляная живопись и инструмента¬
льная музыка проходят органическое развитие, цель которого была по¬
стигнута в готическую эпоху, а достигнута во времена барокко. То и
другое искусство — фаустовские в высшем смысле этого слова — явля¬
ются в этих рамках пра-феноменами. Они обладают душой и физионо¬
мией, а значит, у них, но только у них одних, есть история. Ваяние
ограничивается парой изящных случайностей, затененных живопи¬
сью, парковым искусством или архитектурой. Однако в целостной кар¬
тине западного искусства без них вполне можно было бы обойтись.
Никакого скульптурного стиля больше не существует — в том смысле,
в каком имеется живописный и музыкальный стиль. Произведения
Мадерны, Гужона, Пюже и Шлютера не связывает меж собой ни
устойчивая традиция, ни необходимая взаимосвязь. Уже у Леонардо
постепенно развивается настоящее презрение к ваянию. В крайнем
случае он еще признает бронзовое литье по причине его живописных
преимуществ — в противоположность Микеланджело, подлинной сти¬
хией которого все еще был тогда белый мрамор. Однако и ему в пре¬
274
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
клонном возрасте больше не удается ни одна скульптурная работа.
Среди поздних скульпторов нет ни одного, кого можно было бы на¬
звать великим в том смысле, в каком велики Рембрандт и Бах, и следует
признать, что здесь вполне можно себе представить весьма порядоч¬
ные и исполненные вкуса достижения, однако нет ни одного произве¬
дения, которое можно было бы поставить рядом с «Ночным дозором»
или «Страстями по Матфею», поскольку оно подобным же образом ис¬
слеживает до дна глубины целой человеческой породы. Это искусство
перестало являться судьбой своей культуры. Его язык больше ничего
не значит. Совершенно невозможно передать скульптурным бюстом
то, что содержится в портрете Рембрандта. И если появится иной раз
значительный скульптор, как Бернини, мастера современной ему ис¬
панской школы, Пигаль или Роден (естественно, среди них нет ни од¬
ного, который бы вышел за пределы декоративности и достиг великой
символики), он выглядит запоздалым подражателем Возрождения
(Торвальдсен), скрытым живописцем (Гудон, Роден), архитектором
(Бернини, Шлютер) или декоратором (Куазевокс), и самим фактом
своего появления он еще отчетливее доказывает, что перед этим более
не отвечающим фаустовскому содержанию искусством не стоит ника¬
ких задач, а значит у него нет ни души, ни биографии в смысле целост¬
ного стилевого развития. Соответственно то же можно сказать и об ан¬
тичной музыке, которая после, быть может, весьма значимых первых
импульсов в эпоху наиболее ранней дорики в зрелые столетия ионики
(с 650 по 350 г.) уступила место обоим подлинно аполлоническим ис¬
кусствам, скульптуре и фресковой живописи, и вследствие своего от¬
каза от гармонии и полифонии была вынуждена отступиться также и от
притязаний на роль органически развивающегося высшего искусства.
8
Палитра античной живописи строгого стиля ограничивалась жел¬
тым, красным, черным и белым цветами. Этот необычный факт был за¬
мечен уже очень рано и, поскольку прочие поверхностные и явно мате¬
риалистические причины вообще не рассматривались, привел к таким
диким гипотезам, как, например, относительно мнимой цветовой сле¬
поты греков. Говорит об этом и Ницше («Утренняя заря», § 426).
Но по какой причине эта живопись во времена своего расцвета из¬
бегала сцнего и даже сине-зеленого, позволяя спектру допустимых
цветов начинаться лишь с желто-зеленого и голубовато-красного*? В
* Синий и производимый им эффект был прекрасно известен античным художни¬
кам. У метоп многих храмов был синий фон, потому что рядом с триглифами они дол¬
жны были создавать впечатление глубины. А ремесленная живопись применяла все тех¬
нически доступные на тот момент краски; отмечается наличие синих лошадей среди
архаических произведений с Акрополя, а также на росписях этрусских гробниц. Впол¬
не обычным делом была пронзительно синяя окраска волос.
Глава четвертая. Музыка и скульптура
275
данном ограничении, вне всякого сомнения, находит выражение пра-
символ эвклидовской души.
Синий и зеленый — это цвета неба, моря, плодородных равнин,
теней в южный полдень, цвет вечера и дальних гор. Это в значитель¬
ной степени атмосферные, а не предметные цвета. Они холодные;
они развоплощают и создают впечатление простора, дали и безбреж¬
ности.
По причине этого начиная с венецианцев и до XIX в. «инфините¬
зимальные» синий и зеленый, при том, что фрески Полигнота упор¬
но от них отказываются, проходят через всю историю перспектив¬
ной масляной живописи в качестве создающего пространство эле¬
мента. Причем в качестве основного тона, который имеет
абсолютное преобладание по своему значению, неся на себе вообще
весь смысл колорита, вроде генерал-баса, в то время как теплые
желтые и красные тона наносятся экономно, ориентируясь на пер¬
вых. Здесь подразумевается не насыщенный, радостный, близкий зе¬
леный, который подчас — и довольно редко — применяют Рафаэль
или Дюрер для драпировок, но не подающийся определению, отда¬
ющий тысячей оттенков в белый, серый и коричневый сине-зеле¬
ный цвет, нечто глубоко музыкальное, во что погружен весь воздух
картины в целом, в том числе и в первую очередь атмосфера гобеле¬
на. Почти исключительно на нем одном основывается то, что при¬
нято называть воздушной перспективой в противоположность перс¬
пективе линейной, а можно было бы назвать в противоположность
ренессансной перспективе — барочной перспективой. Мы встреча¬
емся с ним в Италии — с нарастающей силой глубинного воздейст¬
вия у Леонардо, Гверчино, Альбани, и в Голландии — у Рёйсдала и
Гоббемы, но в первую очередь у великих французов начиная с Пус¬
сена, Лоррена и Ватто и вплоть до Коро. Синий цвет, также перс¬
пективный цвет, неизменно находится в связи с темным, лишенным
света, нереальным. Он не наступает, а увлекает вдаль. В своем уче¬
нии о цвете Гёте назвал его «притягательным ничто»93.
Синий и зеленый — трансцендентные, духовные, неосязаемые
цвета. Они отсутствуют на фресковых росписях строгого аттического
стиля, а значит, они же господствуют в масляной живописи. Желтый
и красный, античные цвета — это цвета материи, близости и языка
крови. Красный — в подлинном смысле слова цвет сексуальности;
поэтому он — единственный, оказывающий действие на животных.
Он ближе всего к символу фаллоса, а значит, к статуе и дорической
колонне, подобно тому, как, с другой стороны, чистым синим цветом
просветляется покров Мадонны. С глубоко прочувствованной необ¬
ходимостью эта связь сама собой установилась во всех великих шко¬
лах. Фиолетовый — преодоленный синим красный — это цвет жен¬
щин, утративших плодовитость, а также живущих в безбрачии свя¬
щенников.
276
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Желтый и красный — это общенародные цвета, цвета толпы, детей,
женщин и дикарей. Благородный человек у испанцев и венецианцев
избирает — на основании бессознательного ощущения разделяющей
дистанции — великолепный черный или синий цвет. Наконец, желтый
и красный — как эвклидовские, аполлонические, политеистические цве¬
та — это цвета переднего плана, в том числе и в социальном смысле, а
значит, цвета шумного общества, рынка, народного празднества, цвета
наивного и беззаботного жития, античного фатума и слепого случая,
цвета сосредоточенного в одной точке существования. Синий и зеле¬
ный — фаустовские, монотеистические цвета — это цвета уединения,
заботы, связи мгновения с прошлым и будущим, цвета судьбы как при¬
сущего мирозданию рока.
Выше уже была установлена связь шекспировской судьбы с про¬
странством, софокловской — с единичным телом. Для всех культур,
обладающих глубокой трансцендентностью, всех, чей пра-символ тре¬
бует преодоления мгновения, жизни как борьбы, а не принятия уже дан¬
ного, характерно одно и то же метафизическое пристрастие к про¬
странству — точно так же, как к синему и черному. В исследованиях
Гёте по энтоптическим94 цветам в атмосфере мы находим глубокие на¬
блюдения в связи с отношением между идеей пространства и смыслом
цвета. С изложенной им в его учении о цвете символикой всецело сов¬
падает та, что была здесь выведена из идеи пространства и судьбы.
С наиболее значительным использованием темно-зеленого как цвета
судьбы мы встречаемся у Грюневальда, с чьими ночными эффектами в
их неописуемой мощи смог сравниться лишь один Рембрандт. Здесь со¬
здается впечатление, что этот синевато-зеленый цвет, тот самый, кото¬
рым зачастую бывает окутан интерьер большого собора, можно было бы
назвать специфически католическим цветом — при том условии, что ка¬
толичеством мы будем считать исключительно то обоснованное Лате-
ранским собором в 1215 г. и завершенное Тридентским собором фаус¬
товское христианство — с эвхаристией как его средоточием. Этот цвет в
его молчаливом величии несомненно столь же далек от роскошного зо¬
лотого фона древнехристианско-византийских картин, как и от болтли¬
во-радостных, «языческих» цветов раскрашенных греческих храмов и
статуй. Следует принимать во внимание, что действенность этого цвета
предполагает интерьер в качестве места для выставления произведений
искусства, в противоположность желтому и красному; античная живо¬
пись столь же решительно публична, как западная — искусство мастер¬
ской. Вся великая масляная живопись от Леонардо и до конца XVIII в.
рассчитана не на яркий дневной свет. Здесь мы вновь имеем дело с про¬
тивоположностью камерной музыки и свободно стоящей статуи. Легко¬
весное обоснование данного факта исходя из климатических различий
опровергается (если это вообще нуждается в опровержении) примером
египетской живописи. Поскольку бесконечное пространство — это пол¬
ное ничто для античного жизнеощущения, синий и зеленый с их ирреа-
277
Глава четвертая. Музыка и скульптура
лизующей и создающей даль силой поставили бы под вопрос безразде¬
льное господство переднего плана, отдельных тел, а тем самым и собст¬
венный смысл аполлонических произведений искусства. Картина,
исполненная в цветах Ватто, представилась бы взгляду афинянина пус¬
той и исполненной трудновыразймых на словах пустоты и неправды.
Чувственно воспринимаемая, отражающая свет поверхность становится
благодаря этим цветам не свидетельством и границей предмета, а пере¬
оценивается — уже в свидетельство и границу окружающего простран¬
ства. Потому-то они и отсутствуют там и господствуют здесь.
9
Арабское искусство выразило магическое мироощущение с помо¬
щью золотого фона своих мозаик и картин. Мы знакомимся с его при¬
водящим в замешательство сказочным воздействием, а тем самым и с
его символическими целями по мозаикам из Равенны, а также по про¬
изведениям раннерейнских и прежде всего североитальянских масте¬
ров, все еще всецело зависимых от своих ломбардско-византийских
образцов, и не в последнюю очередь — по готическим книжным мини¬
атюрам, образцом для которых являлись византийские «пурпурные ко¬
дексы»95. Душу трех культур можно испытать здесь на примере реше¬
ния сходных задач. Аполлоническая признавала за действительное
лишь то, что непосредственно привязано к месту и времени, и отрица¬
ла в своих произведениях искусства фон; фаустовская же стремилась
через все чувственные границы к бесконечности — и посредством пер¬
спективы перемещала центр тяжести идеи картины вдаль; магическая
душа воспринимала все происходящее как выражение загадочных сил,
пронизывающих мировую пещеру своими духовными субстанциями —
и изолировала сцену с помощью золотого фона, т. е. такого средства,
которое находится за пределами всякого естественного колорита. Ведь
золотой — это и не цвет вовсе. В отличие от желтого, он создает услож¬
ненное чувственное впечатление просвечивающей по поверхности
среды — посредством рассеянного металлического отблеска. Вообще
цвета естественны, будь то окрашенное вещество заглаженной поверх¬
ности стены (фреска) или красителя, нанесенного с помощью кисти;
практически же не встречающийся в природе металлический блеск* —
сверхъестествен. Он напоминает о прочих символах этой культуры, об
алхимии и каббале, о философском камне, о священных книгах, об
арабеске и внутренней форме сказок из «Тысячи и одной ночи». Бли-
* Близкое по характеру глубоко символическое значение имеет также блистающая
полировка камня в египетском искусстве. Она поддерживает движение взгляда по
внешней стороне статуи и тем самым оказывает дематериализующее действие. И на¬
оборот, переход греков от мрамора с Пороса через наксосский — к просвечивающему
паросскому и пентелийскому мрамору свидетельствует о намерении заставить взгляд
проникнуть в вещественную сущность тела.
278
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
стающий золотой отбирает у обстановки, у жизни, у самих тел их ося¬
заемое бытие. Все, чему учили относительно сущности вещей, их не¬
зависимости от пространства и их случайных причин в круге Плотина
и гностиков (все эти парадоксальные и почти непостижимые для на¬
шего мироощущения воззрения), содержится в символике этого зага¬
дочно иератического фона. Между неопифагорейцами и неоплатони¬
ками, как впоследствии между школами Багдада и Басры, имелись
принципиальные разногласия в вопросе о сущности тел. Сухраварди
отличал протяжение как первичную сущность тела от его длины, ши¬
рины и высоты как акциденций. Наззам отрицал наличие в атомах те¬
лесной субстанции и свойства наполнения пространства. Все это
были метафизические воззрения, через которые раскрывалось араб¬
ское мироощущение начиная с Филона и Павла и вплоть до послед¬
них великих деятелей исламской философии. Они сыграли решаю¬
щую роль в разыгрывавшейся на Вселенских соборах борьбе относи¬
тельно субстанции Христа*. Так что в области западной церкви
золотой фон этих картин имеет явный догматический смысл. Он вы¬
ражает суть и действие божественного духа. Он представляет собой
арабский образ христианского миросознания, и он глубинным обра¬
зом связан с тем, что на протяжении тысячи лет такая разработка
фона для изображений христианских легенд представлялась единст¬
венно возможной и достойной с метафизической и даже этической
точки зрения. Как только в ранней готике появляются первые «насто¬
ящие» задние планы — с сине-зеленым небом, широким горизонтом
и глубинной перспективой, поначалу они выглядят неблагочестивы¬
ми и светскими, и произошедший здесь переворот в догматике впол¬
не ощущался, пусть даже и не был признан. Это видно по заднему
фону тех гобеленов, которыми с благоговейным трепетом закрыва¬
лась сама реальная глубина. О ней догадываются, однако не решаются
выставить на обозрение. Мы уже видели, что как раз тогда, когда фа¬
устовское (германско-католическое) христианство, эта новая рели¬
гия в старом обличье, выработав таинство покаяния, пришло к созна¬
нию самого себя, осуществился настоящий переворот в смысле живо¬
писи — благодаря покоряющей пространство перспективной и
цветовой тенденции искусства францисканцев. Западное христиан¬
ство относится к восточному, как символ перспективы — к символу
золотого фона, и окончательный разрыв в церкви и искусстве проис¬
ходит почти одновременно. Пейзажный задний план изображенного
на картине постигается заодно с динамической бесконечностью Бога;
и вместе с золотым фоном церковных картин западные Соборы лиша¬
ются тех магических, онтологических проблем Божества, которыми
определялось страстное кипение всех восточных Соборов, таких как
Никейский, Эфесский и Халкедонский.
* Ср. с. 713.
четвертая. Музыка и скульптура
279
Глава
10
Венецианцы открыли манеру письма видимым мазком и ввели его в
масляную живопись как музыкальный, создающий пространство мотив,
флорентийские же мастера никогда не ставили под сомнение отдающую
античностью и все же стоящую на службе у готики манеру создания —
посредством заглаживания всех переходов — чистых, резко очерченных,
покоящихся красочных поверхностей. В их картинах присутствует нечто
сущее, причем в отчетливо ощущаемой противоположности проникав¬
шим через Альпы готическим выразительным средствам с их таинствен¬
ной подвижностью. Манера нанесения красок в XV в. отрицает прошлое
и будущее. Историческое восприятие заявляет о себе лишь в остающейся
зримой и в то же время никогда не коснеющей работе кисти. В произве¬
дении живописца хотят видеть не только то, что уже стало, но также и
нечто становящееся. Как раз этого-то и желал избежать Ренессанс. Де¬
таль одежды в исполнении Перуджино ровно ничего не говорит о том,
как она — в художественном смысле — появилась на свет. Она уже гото¬
ва, дана, просто здесь присутствует. Отдельные мазки кисти, с которы¬
ми, как с совершенно новым языком форм, мы впервые сталкиваемся в
старческих работах Тициана, столь же характерные, как оркестровые
цвета Монтеверди, мелодический поток, как в венецианском мадригале
этих лет, эти полосы и пятна, нанесенные непосредственно друг подле
друга, взаимно пересекающиеся, перекрывающие и путающие друг дру¬
га, привносят в цветовую стихию бесконечную подвижность. Также и
одновременный геометрический анализ дает своим объектам возмож¬
ность не быть, но становиться. Через почерк всякой картины проступает
история, которой картина не скрывает. И глядя на эту картину, фаустов¬
ский человек ощущает собственное развитие. Ко всякому большому
пейзажу барочного мастера допустимо применить слово «историче¬
ский», чтобы почувствовать в нем тот смысл, что совершенно чужд атти¬
ческой статуе. Вечное становление, направленное время, динамические
судьбы мира покоятся также и в мелодике этих непокойных и безбреж¬
ных мазков. Живописный и рисовальный стиль: если смотреть на дело
под таким углом зрения, это означает противоположность исторической
и аисторической формы, подчеркивание или отрицание внутреннего
развития, вечности и мгновения. Античное произведение искусства —
это событие, западное же — поступок. Одно символизирует подобное
точке «теперь», другое же — органическое протекание. Физиономика
ведения кисти, этот совершенно новый, бесконечно богатый и личност¬
ный, неизвестный ни одной другой культуре вид орнаментики — чисто
музыкальна. Allegro feroce Франса Хальса можно противопоставить an¬
dante con moto Ван Дейка, минор Гверчино — мажору Веласкеса. Отныне
и впредь понятие темпа принадлежит к живописному исполнению, и
оно напоминает о том, что это — искусство души, которая, в противопо¬
ложность античной, ничего не забывает и не потерпит забвения того,
280
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
что некогда существовало. Воздушная сеть мазков кисти в то же самое
время растворяет чувственную поверхность предмета. Контуры теряют¬
ся в светотени. Зрителю приходится отступить далеко назад, чтобы на
основе цветовых пространственных величин составить телесные впе¬
чатления. Цветно-подвижный воздух — вот что неизменно порождает из
себя предметы.
Одновременно в западных картинах, как первостепенный символ,
появляется «коричневый колорит мастерской», который начинает все
в большей и большей степени приглушать воздействие прочих цветов.
Он был неведом еще флорентийцам более старшего поколения, равно
как и старшим нидерландским и рейнским мастерам. Пахер, Дюрер и
Гольбейн, сколь ни страстным выглядит их устремленность к про¬
странственной глубине, всецело от него свободны. Он появляется то¬
лько под конец XVI в. Этот коричневый цвет не отрекается от своего
происхождения из «инфинитезимального» зеленого с фона Леонардо,
Шонгауэра и Грюневальда, но ему дана бблыиая власть над предмета¬
ми. Он доводит борьбу пространства с материальным началом до за¬
вершения. Коричневый преодолевает также и более примитивное
средство линейной перспективы с ее ренессансным характером, свя¬
занным с архитектоническими образными мотивами. Он неизменно
состоит в таинственной связи с импрессионистской техникой зримого
мазка. Оба они окончательно растворяют в атмосферную кажимость
доступное ощущениям бытие чувственного мира, т. е. мира мгновения
и переднего плана. С тонированной картины исчезает линия. Магиче¬
ский золотой фон грезил лишь о загадочной мощи, которая господст¬
вует над закономерностью телесного мира в этой мировой пещере и на¬
рушает ее; коричневый цвет этих полотен открывает взгляд в чистую
исполненную формы бесконечность. Его открытие знаменует высшую
точку в становлении западного стиля. В этом цвете, в противополож¬
ность предшествовавшему зеленому, есть нечто протестантское. Он
предвосхищает северный, ускользающий в бесконечность пантеизм
XVIII в., как его выражают слова архангелов в Прологе «Фауста» Гёте.
Ему сродни атмосфера «Короля Лира» и «Макбета». Одновременное
стремление инструментальной музыки ко становящимся все более
обогащенным энгармониям у де Pope и Луки Маренцио, разработка
звукового тела хора смычковых и духовых всецело соответствует но¬
вым тенденциям в масляной живописи, направленным на то, чтобы
посредством бесчисленных коричневатых оттенков и контрастного
воздействия расположенных непосредственно друг подле друга цвето¬
вых мазков создать из чистых цветов живописную хроматику. Оба ис¬
кусства распространяют теперь через свои звуковые и красочные миры
(цветовые тона и звучащие цвета) атмосферу чистейшей пространст¬
венное™, окружающую и знаменующую человека теперь уже не как
образ и тело, но сама лишенная оболочки душа. Достигается такая за¬
душевность, для которой в самых глубоких работах Рембрандта и Бет¬
четвертая. Музыка и скульптура
281
Глава
ховена больше не остается тайн, та самая задушевность, как раз защи-
тЫ от которой желал достичь аполлонический человек посредством
своего строго телесного искусства.
Старые цвета переднего плана, желтый и красный (античные тона),
используются отныне реже, причем неизменно в качестве осознанного
контраста дали и глубине, которые они должны усиливать и подчерки¬
вать (кроме Рембрандта в первую очередь этим отличается Вермер).
Этот совершенно чуждый Возрождению атмосферный коричневый
цвет — наиболее нереальный из всех цветов. Это единственный
«основной цвет», отсутствующий в радуге. Существует абсолютно чис¬
тый белый, желтый, зеленый, красный, синий свет. Чистый коричне¬
вый цвет находится за пределами возможностей нашей природы. Все
эти зеленовато-коричневатые, серебристые, влажно-коричневые, на¬
сыщенно золотистые тона (их великолепные разновидности появля¬
ются у Джорджоне, а у великих нидерландцев они становятся еще бо¬
лее смелыми, чтобы исчезнуть без следа к концу XVIII в.) лишают при¬
роду осязаемой действительности. Здесь мы имеем едва ли не
исповедание веры. Чувствуется близость умов Пор-Рояля, близость
Лейбница. У Констебля, основателя цивилизованной живописной ма¬
неры, к самовыражению стремится иная воля, и тот самый коричне¬
вый цвет, который он изучал у голландцев и который знаменовал тогда
судьбу, Бога, смысл жизни, теперь означает для него нечто иное, а
именно просто романтику, чувствительность, томление по чему-то ис¬
чезнувшему, воспоминание о великом прошлом умирающей масляной
живописи. Также и последним немецким мастерам — Лессингу, Маре,
Шпицвегу, Дицу, Лейблю , чье запоздалое искусство представляет со¬
бой фрагмент романтики, своего рода последний аккорд и брошенный
назад взгляд, коричневый представлялся драгоценным наследием про¬
шлого, и они обозначили себя как противовес сознательной тенденции
своего поколения — бездушному и обездушивающему пленэру поколе¬
ния Геккеля, — поскольку все еще не могли внутренне отделиться от
этих последних черт большого стиля. В этой все еще не понятой борьбе
между рембрандтовским коричневым цветом старой школы и пленэ¬
ром школы новой проявляется безнадежное сопротивление души ин¬
теллекту, культуры — цивилизации, противоречие между символиче¬
ски необходимым искусством и художественными ремеслами мировой
столицы, будь то зодчество, живопись, ваяние или поэзия. Исходя из
этого становится ощутимым значение этого коричневого, вместе с ко¬
торым умирает все искусство.
Лучше всего понимали этот цвет самые глубокие среди великих жи¬
вописцев, в первую очередь Рембрандт. Это тот самый загадочный ко¬
ричневый решающих его произведений, который происходит из глубо- ** Принадлежащий ему портрет госпожи Гедон, целиком погруженный в коричне¬
вое — это последний на Западе портрет в стиле старинных мастеров, целиком написан¬
ный в манере, принадлежащей прошлому.
282
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
кого освещения множества окон готических церквей, из сумерек собо¬
ров с высокими сводами. Насыщенный золотистый тон великих
венецианцев — Веронезе, Тициана, Пальма, Джорджоне неизменно
напоминает нам о том старинном, угасшем искусстве северной живо¬
писи на стекле, о существовании которой они едва ли догадывались.
Также и здесь Возрождение с его ориентированным на телесность ко¬
лоритом представляет собой только эпизод, исключительно результат
поверхностности, сверхсознательности, а не фаустовски-бессознате-
льного начала в западной душе. В этом сияющем золотисто-коричне¬
вом цвете венецианской живописи смыкаются готика и барокко, ис¬
кусство той ранней живописи на стекле и сумрачная музыка Бетхове¬
на — как раз тогда, когда нидерландцы Вилларт и де Pope, а также
старший их Габриели основали венецианскую школу и тем самым ба¬
рочный стиль живописной музыки.
Коричневый делается теперь настоящим цветом души, исторически
ориентированной души. Кажется, Ницше как-то упомянул о коричне¬
вой музыке Бизе96. Однако скорее это относится к музыке, написанной
Бетховеном для струнных инструментов* и, наконец, к звучанию орке¬
стра у Брукнера, так часто наполняющего пространство коричневатым
золотым цветом. Всем прочим цветам отведена исключительно служеб¬
ная роль: светлому желтому и киновари Вермера, которые на самом деле
словно из иного мира привносят в пространственный элемент метафи¬
зический акцент, а также желто-зеленым и кроваво-красным огням, ко¬
торые у Рембрандта затевают едва ли не игру с символикой пространст¬
ва. У Рубенса, блестящего живописца, но нисколько не мыслителя, ко¬
ричневый почти что безыдеен, это цвет тени. (Борьбу с коричневым за
первенство ведет у него и у Ватто «католический» сине-зеленый). Мы
видим, как то же самое средство, которое становится символом в руках
глубоких мастеров, так что впоследствии оно способно вызвать к жизни
колоссальную трансцендентность рембрандтовских пейзажей, для про¬
чих художников оказывается всего-навсего техническим навыком.
Итак, как мы только что убедились, художественно-техническая «фор¬
ма», мыслимая в качестве противоположности «содержанию», не имеет
ничего общего с подлинной формой великих произведений.
Я назвал коричневый историческим цветом. Он превращает атмо¬
сферу пространства картины в знак направленности, будущего. Он за¬
глушает в изображении болтовню сиюсекундного. Это значение про¬
Струнная группа представляет в звучании оркестра цвета дали. Синевато-зеле¬
ный Ватто встречается уже в bel canto неаполитанцев, у Куперена, у Моцарта и Гайдна,
коричневатый голландцев — у Корелли, Генделя и Бетховена. Также и деревянные ду¬
ховые создают представление о светлых далях. Напротив того, желтый и красный, цве¬
та близи, вульгарные цвета, относятся к звучанию медных инструментов, создающих
впечатление телесности вплоть до заурядности. Звук старинной скрипки совершенно
бесплотен. Следует отметить, что греческая музыка, как ни незначительна она была,
перешла от дорической лиры к ионической флейте (авлу и свирели) и что строгие до¬
рийцы осуждали это стремление к изнеженности и низменности еще во времена Пе¬
рикла.
Глава четвертая. Музыка и скульптура 283
стирается также и на прочие цвета дали и приводит к дальнейшему ве¬
сьма престранному обогащению западной символики. Под конец
греки стали предпочитать раскрашенному мрамору бронзу, нередко
позолоченную, с тем чтобы с помощью возникающего эффекта сверка¬
ния под темно-синим небом выразить идею уникальности всего телес¬
ного*. В эпоху Возрождения эти статуи выкапывали покрытыми мно¬
говековой патиной, черными и зелеными; тогдашние люди, исполнен¬
ные благоговения и- томления, наслаждались «историчностью»
производимого впечатления, и с тех пор наше ощущение формы окру¬
жило эти «далекие» черный и зеленый ореолом святости. Теперь без
них вообще немыслимо впечатление, производимое на наш глаз брон¬
зой, как бы для того, чтобы лукаво проиллюстрировать тот факт, что
весь этот род искусства больше нас не трогает. Что означают для нас ку¬
пол собора, бронзовая статуя без патины, которая превращает близкое
блистание в звучание стародавности и дали? Не дошли ли мы наконец
до того, чтобы создавать эту патину искусственно?
Однако в возвышении благородной ржавчины до имеющего само¬
стоятельное значение художественного средства можно усмотреть еще
иное. Следует задаться вопросом, а не воспринял бы грек образование
патины как разрушение произведения искусства? И дело не только в
цвете, в удаленном пространственно зеленом, которого он избегал по
душевным основаниям; патина — символ преходящести и тем самым
она приобретает примечательную связь с символами часов и формы
погребения. Выше уже заходила речь о стремлении фаустовской души
к руинам и свидетельствам давнего прошлого — склонность, заявив¬
шая о себе еще во времена Петрарки собиранием древностей, рукопи¬
сей, монет, а также паломничествами на Forum Romanum и в Помпеи,
раскопками и филологическими штудиями. Могла ли греку когда-ли¬
бо прийти в голову мысль озаботиться судьбой развалин Кносса и Ти-
ринфа? «Илиаду» знали все, но никто и не помышлял о том, чтобы рас¬
копать холм, на котором стояла Троя. Питая ко всему развалившемуся
тайное благоговение, мы сохраняем акведуки Кампании, этрусские
гробницы, руины Луксора и Карнака, обваливающиеся замки на
Рейне, римский Limei1, Херсфельд и Паулинцеллу — именно как руи¬
ны, потому что смутно чувствуем, что в случае их восстановления ока¬
жется утраченным нечто с трудом выразимое словами, нечто невоспро¬
изводимое заново. Можно ли отыскать что-то более чуждое человеку
античности, чем это благоговение перед обветшавшими свидетельст¬
вами давно минувших времен? Все, что больше не говорило о настоя¬
щем, тут же удалялось с глаз. Старое никогда не сохраняли только по¬
тому, что оно старое. Когда персы разрушили Афины, горожане побро¬
сали с Акрополя колонны, статуи, рельефы, вне зависимости от того,
* Не следует путать ту тенденцию, которая лежит в основе золотистого сияния сто¬
ящего посреди пустого места тела, с тенденцией мерцающего арабского золотого фона,
замыкающею в сумрачных ишерьерах пространство позади фигур.
284 Том1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
были они повреждены или же нет, и этот отвал сделался для нас бога¬
тейшим раскопом по искусству VI в. Это, соответствовало стилю куль¬
туры, которая возвысила трупосожжение до символа и пренебрегала
привязкой повседневной жизни к исчислению времени. Также и здесь
мы избрали противоположность. Героический пейзаж в стиле Лоррена
немыслим без руин, и английский парк с его воздушными настроения¬
ми, вытеснивший ок. 1750 г. парк французский заодно с его задуман¬
ной с размахом перспективой, взамен чего теперь возобладала сенти¬
ментальная «природа» Аддисона и Поупа, прибавил сюда же еще мотив
искусственной руины, которая углубляет картину ландшафта в истори¬
ческом аспекте . Вряд ли можно придумать что-то более диковинное.
Египетская культура реставрировала постройки ранней эпохи, однако
она ни за что не отважилась бы на строительство руин как символа
прошлого. А ведь мы, собственно говоря, любим даже не античную ста¬
тую, но античный торс. У него за спиной — целая судьба; его окружает
нечто указывающее вдаль, и наш взгляд охотно пытается заполнить пу¬
стое пространство недостающих членов — тактом и ритмом незримых
линий. Попробуем их удачно дополнить — и таинственного волшебст¬
ва бесконечных возможностей как не бывало. Берусь утверждать, что
только эта транспозиция в музыкальное сделала остатки античной ста¬
туи такими близкими нам. Зеленая бронза, почерневший мрамор, ис¬
калеченные члены фигуры удаляют временнйе и пространственные
границы, стоящие на пути нашего внутреннего зрения. Это стали име¬
новать живописным («целые» статуи, постройки, не пришедшие в оди¬
чание парки — неживописны), и в самом деле это соответствует более
глубокому смыслу «коричневого мастерской»**, однако в конечном
итоге подразумевается здесь все же дух инструментальной музыки.
Если бы мы увидели «Дорифора» Поликлета стоящим перед нами в
сверкающей бронзе, с эмалевыми глазами и позолоченными волосами,
разве впечатление от него было бы тем же самым, что и от зачерненного
временем? Не лишился бы чего-то существенного хранящийся в Вати¬
кане торс Геракла, если бы в один прекрасный день отыскались его не¬
достающие члены? Не утратили бы башни и купола наших старинных
городов своего глубокого метафизического очарования, если бы их по¬
крыли новехонькой медью? Для нас, как и для египтян, старость обла¬
гораживает все предметы. Для античного человека она лишает их цен¬
ности.
С этим, наконец, связан и тот факт, что на основании того же чувст¬
ва западная трагедия предпочитала «исторический» материал, причем
не такой, реальность или возможность которого могла бы быть доказа¬
на (смысл этого слова говорит вовсе не о том), но материал отдаленный,
Хоум, английский философ XVIII в., поясняет в своем трактате об устройстве
английских парков, что готические руины знаменуют собой торжество времени над си¬
лой, греческие же — торжество варварства над вкусом. Только тогда и была открыта
красота Рейна с его руинами. С тех пор и впредь он стал исторической рекой немцев.
Глава четвертая. Музыка и скульптура
285
патинированный, между тем как чисто сиюминутное событие, без про¬
странственного и временнбго отдаления, античный трагический факт,
вневременной миф не смог бы выразить того, что хотела и должна была
выразить фаустовская душа. Так что у нас есть трагедии прошлого и
трагедии будущего (к последним, в которых приходящий в мир человек
является носителем судьбы, принадлежат, в некотором смысле, «Фа¬
уст», «Пер Гюнт», «Сумерки богов»), однако современных трагедий у
нас нет, если не принимать в расчет мелкотравчатой социальной дра¬
матургии XIX в. Шекспир, когда ему хотелось выразить нечто важное
для современности, неизменно избирал по крайней мере иные земли, в
которых никогда не бывал, предпочтительно Италию; немецкие же пи¬
сатели охотно останавливались на Англии и Франции — и все это из
неприятия той пространственной и временнбй близи, которую еще
подчеркивала аттическая драма даже в мифе.
II. Обнаженная фигура и портрет
11
Античность называют культурой тела, северную же культуру — ку¬
льтурой духа, причем не без тайного умысла о том, чтобы обесценить
первую в угоду второй. Как ни банально по большей части то, что при¬
нимал ренессансный вкус за противоположность античного и совре¬
менного, языческого и христианского, все же из этого можно было бы
сделать решающие выводы — при том условии, что нам удалось бы
отыскать в формуле ее истоки.
Если окружающий человека мир, вне зависимости от того, чем еще
мог бы он быть сверх этого, оказывается макрокосмом по отношению к
микрокосму, колоссальной совокупностью символов, то и сам человек,
поскольку он заткан паутиной сущего, поскольку он есть явление, за¬
хватывается этой символикой. Но что претендует на роль символа в
том впечатлении, которое производит человек на своих ближних, что
могло бы собрать в себе смысл его существования и осязаемо открыть
этот смысл взору? Ответ дает искусство.
Однако для всякой культуры ответу следовало бы быть иным. У
каждой свое впечатление от жизни, потому что всякая живет по-свое¬
му. Решающим моментом для образа всего челойеческого, как в плане
метафизики, так и нравственности, и искусства, является то обстояте¬
льство, воспринимает ли отдельный человек себя как тело среди других
тел или же как центр бесконечного пространства, приходит ли он в ре- **** Потемнение старинных полотен делает их, по нашему ощущению, более содер¬
жательными, что бы там ни твердила в опровержение этого художественная рассудоч¬
ность. Если бы случилось так, что применявшиеся масла приводили бы к выцветанию
картин, это бы воспринималось как разрушение.
286
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
зультате размышлений к выводу об одиночестве своего «я» или же о его
существенном участии во всеобщем consensus's, подчеркивает ли он
направленность тактом и ходом своей жизни или же отрицает ее. Во
всем этом проявляется пра-символ великих культур. Все это мироощу¬
щения, однако с ними совпадают жизненные идеалы. Из античного
идеала следовало безоглядное приятие чувственной видимости, из за¬
падного — столь же страстное ее преодоление. Аполлоническая душа,
точечная и эвклидовская, воспринимала эмпирическое, видимое тело
как совершенное выражение своего способа существования; фаустов¬
ская, блуждающая в далеких далях, находила это выражение не в лице,
не в ог/ха, но в личности, в характере (или как там еще принято все это
называть). Для настоящего грека «душа» была в конечном итоге фор¬
мой его тела. Так ее определил Аристотель. Для фаустовского человека
тело было сосудом души. Так его воспринимал Гёте.
Но результатом этого оказываются весьма существенные различия
в подборе и разработке изображающих человека искусств. Если Глюк
выражает горе Армиды при помощи мелодии и безутешно терзающего
звучания сопровождающих инструментов, то в пергамских скульпту¬
рах это делается посредством языка всей мускулатуры. Эллинистиче¬
ские портреты пытаются через строение головы передать духовный
тип. Выражение глаз и складки в углах рта святых, изображенных Линь
Янь Ши, свидетельствуют о внутренней жизни, исполненной личностно¬
го начала.
Характерное для античности пристрастие заставлять вещать одно
только тело никоим образом не говорит об избыточности расы. Не
было здесь посвящения на крови (человек, наделенный ашфроотт]
[благоразумием (греч.)], не способен расточать кровь почем зря ), и не
было, в противоположность тому, что думал Ницше, оргиастического
упоения свободной от оков энергией и перехлестывающей через край
страстью. Все это скорее могло бы оказаться идеалами германско-ка¬
толического и индийского рыцарства. Единственно, на что могли пре¬
тендовать лично для себя аполлонический человек и его искусство, так
это апофеоз телесного облика в буквальном смысле, ритмическая со¬
размерность строения членов и гармоническая разработка мускулату¬
ры. Это не есть язычество в противоположность христианству. Это —
атгицизм в противоположность барокко. Только человек барокко, будь
он христианин или язычник, рационалист или монах, был далек от это¬
го культа осязаемого огЛ/ха, далек вплоть до крайней телесной нечисто¬
ты, господствовавшей в окружении Людовика XIV**, чей костюм, на¬
чиная со свисающих париков и до кружевных манжет и туфель с пряж¬
ками, покрывал орнаментальным плетением все тело целиком.
Здесь достаточно сопоставить греческих художников с Рубенсом и Рабле.
Насчет которого одна его любовница жаловалась, qu 41 puait сотте ипе charogne
[что от него несло падалью (фр.)]. Впрочем, притчей во языцех всегда была нечистоп¬
лотность как раз-таки музыкантов.
четвертая. Музыка и скульптура
287
Глава
Античная скульптура, освободившаяся от образа зримой или ощуща¬
емой стены и свободно, безотносительно к чему бы то ни было вставшая
на ровной площадке, где ее, как тело среди прочих тел, можно было рас¬
сматривать со всех сторон, последовательно развивалась дальше —
вплоть до исключительного изображения обнаженного тела. Правда, в
отличие от всех прочих разновидностей скульптуры во всей истории ис¬
кусства, здесь это делалось посредством анатомически убедительной раз¬
работки граничных поверхностей этого тела. Тем самым эвклидовский
принцип Вселенной был доведен до предела. Любой покров содержал
бы уже и легкое возражение против аполлонического принципа, намек,
пускай самый робкий, на окружающее пространство.
Орнаментальное начало в широком смысле этого слова целиком содер¬
жится в пропорциях конструкции* и в сбалансированности осей по опоре
и нагрузке. Тело — стоящее, сидящее, лежащее, — но во всех случаях опи¬
рающееся само на себя, подобно периптеру, не имеет никакой внутрен¬
ности, т. е. никакой «души». Замкнутая вокруг расстановка колонн знаме¬
нует то же самое, что и проработанный со всех сторон рельеф мускулату¬
ры: оба они содержат в себе весь без остатка язык форм произведения.
Чисто метафизические причины, потребность в жизненном символе
высшего порядка привели греков позднего времени к данному искусст¬
ву, узость которого могло скрыть только совершенство достигнутых ими
в этой области результатов. Потому что нельзя сказать, чтобы этот язык
внешних поверхностей был наиболее совершенным, естественным или
самым доступным из всех способов изображения человека. Напротив.
Не пребывай доныне наш вкус в безраздельной власти Возрождения —
со всем пафосом его теорий и колоссальным заблуждением относитель¬
но собственных целей — в то время как самим-то нам скульптура внут¬
ренне абсолютно чужда, мы бы уже давно заметили исключительность
аттического стиля. У египетских и китайских скульпторов и в мыслях не
было сделать анатомическое внешнее строение тела базисом выраже¬
ния, которого они желали достичь. Наконец, и в случае готических ску¬
льптур вопрос о языке мускулов никогда не ставится. Этот свитый из че¬
ловеческих фигур узор, заплетающий исполинские каменные конструк¬
ции бесчисленными статуями и рельефными изображениями (в
Шартрском соборе их больше 10 000), представляет собой не только ор¬
намент; уже ок. 1200 г. он служит для выражения замыслов, перед кото¬
рыми меркнут даже величайшие достижения аттической скульптуры.
Ибо эти сонмы существ образуют трагическое единство. Здесь Север —
еще прежде Данте — сгустил до мировой драмы историческое ощущение
фаустовской души, обретшее свое духовное выражение в пра-таинстве
покаяния** и — одновременно — свою великую школу в исповеди. То,
* На пути, пролегающем от торжественного канона Поликлета до элегантного ка¬
нона Лисиппа имеет место та же разгрузка конструкции, что и в переходе от дориче¬
ского к коринфскому ордеру. Эвклидовское ощущение начинает распадаться.
** Ср. с. 748.
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
288
что как раз в то же время прозревал Иоахим Флорский в своем апулий¬
ском монастыре: образ мира не как космоса, но как истории спасения в
последовательности трех мировых эпох, возникло в Шартре, Реймсе,
Амьене и Париже как последовательность изображений от грехопаде¬
ния до Страшного суда. Каждая сцена, каждый великий символический
образ обретает в священном здании значимое место. Каждая играла в
колоссальной мировой поэме свою роль. Отныне и всякий человек ощу¬
щал вплетенность его собственной жизни, как орнамента, в замысел
священной истории, и он переживал эту личностную связь в формах по¬
каяния и исповеди. Поэтому эти каменные тела не только находились на
службе у архитектуры; еще и сами по себе они знаменовали нечто глубо¬
кое и уникальное, что все с большей задушевностью выражается также и
в надгробных памятниках, начиная с королевских гробниц в Сен-Дени:
они свидетельствуют о личности. То, что означала для античного челове¬
ка совершенная проработанность телесной поверхности — ибо это, в
конце концов, и есть окончательный смысл всего анатомического оча¬
рования греческих художников: исчерпать сущность живого явления
посредством формирования его граничных поверхностей, — для фаус¬
товского человека на вполне законных основаниях стало портретом, са¬
мым непосредственным и исчерпывающим раз и навсегда выражением
его жизнеощущения. Греческая трактовка обнаженного тела — великое
исключение, и лишь в этом единственном случае она привела к возник¬
новению искусства высокого уровня .
То и другое, ню и портрет, еще никем не воспринимались как про¬
тивоположность, и потому их пока что не поняли во всей глубине их
явления в истории искусства. И тем не менее полная противополож¬
ность двух миров проявляется прежде всего в противоборстве двух
этих идеалов формы. Там существо выставлено на обозрение через
осанку внешнего строения его тела. Здесь к нам через «лицо» обраща¬
ется внутренняя человеческая структура, душа — подобно тому, как
интерьер собора обращается к нам через фасад. У мечети вовсе нет
лица, и поэтому иконоборчество мусульман и христианских павлики-
ан, разразившееся при Льве III также и над Византией, должно было
изгнать портретность из изобразительных искусств, обладавших начи¬
ная с этого времени лишь основательным запасом человеческих арабе¬
сок. В Египте лицо статуи тождественно пилону как лику устройства
собора — мощный выступ на каменном объеме тела, как мы видим это
на «гиксосском сфинксе из Таниса», портрете Аменемхета III. В Китае
лицо — это все равно что ландшафт, изборожденный морщинами и ** Чтобы предупредить особенно несуразные и плоские возражения, следует ска¬
зать, что в прочих ландшафтах, таких, как Египет или Япония, вид обнаженного чело¬
веческого тела был делом куда более заурядным, чем в тех же Афинах, однако совре¬
менному японскому знатоку искусства навязчивое воспроизведение ню представляется
смехотворным и банальным. Обнаженная фигура попадается, подобно тому, как мы
видим их в изображении Адама и Евы уже в Бамбергском соборе, однако как предмет,
лишенный сколько-нибудь значительных возможностей.
Глава четвертая. Музыка и скульптура
289
маленькими чертами, которые все что-то означают. Для нас же порт¬
рет — это музыка. Взгляд, игра складок рта, посадка головы, руки —
это фуга, заряженная нежнейшим смыслом, многоголосо звучащая на¬
встречу взору понимающего зрителя.
Однако чтобы познать значение западного портрета в противопо¬
ложность также и египетскому с китайским, необходимо проследить
глубинное изменение, которое происходит в языках Запада и возвещает
начиная с эпохи Меровингов возникновение нового жизнеощущения.
Оно в равной мере захватывает древнегерманский и народную латынь,
однако для того и другого это распространяется лишь на языки в преде¬
лах материнского ландшафта надвигающейся культуры, а значит, на
норвежский и испанский, но не на румынский. То, что словоупотребле¬
ние возвышается до символа, не может быть объяснено исходя из духа
языков или «воздействия» одного на прочие, а лишь из духа человечест¬
ва. Вместо sum [я есмь (лат.)], готское im, теперь говорят: ich bin, Iamj'e
$ш/8; вместо fecisti [ты сделал (лат.)] говорится: tu habes factum, tu as fait,
du habes gitan", а еще: daz wip [женщина (ср-в-нем.)], un homme100, man
hatm. Доныне это представлялось загадкой , потому что языковые се¬
мейства было принято считать отдельными существами. Таинствен¬
ность пропадает, когда мы открываем в построении фразы отображение
души. Фаустовская душа приступает здесь к приспособлению различно¬
го происхождения грамматических состояний к собственным потребно¬
стям. В этом выступающем вперед «я» содержатся проблески занимаю¬
щейся зари той идеи личности, которая много позднее создала таинство
покаяния и личное отпущение грехов. Это «ego habeo factum» [я сделал
(нар. лат.)], включение между деятелем и поступком вспомогательных
глаголов haben и sein — вместо feci [я сделал (лат.)], подвижного тела, за¬
меняет мир тел миром функций между центрами сил, статику предложе¬
ния — динамикой. И эти «я» и «ты» разрешают тайну готического порт¬
рета. Статуя эллинистической эпохи — это поза, в ней нет никакого
«ты», никакой исповеди перед тем, кто это создал или понимает. Наши
портреты отражают нечто уникальное, что было лишь раз и никогда не
повторится, историю жизни в выражении мгновения, центр мира, для
которого все прочее является его миром, подобно тому как «я» становит¬
ся центром силы фаустовского предложения.
Мы уже показали, каким образом переживание протяженного про¬
исходит из живого направления, из времени, из судьбы. Из совершенного
бытия свободно стоящего обнаженного тела переживание глубины
исключается; «взгляд» портрета ведет нас в сверхчувственно-бесконеч¬
ное. По этой причине античная скульптура — это искусство близи, ося¬
заемого, лишенного времени. Поэтому же она так выделяет моменты
краткого, кратчайшего отдыха между двумя движениями: последнего
мгновения перед броском диска, первого — после полета Ники Пеония,
* Kluge, Deutsche Sprachgeschichte (1920), S. 202 ff.
10 Закат Западного мира
290
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
где телесный порыв уже закончен, а реющие одежды еще не опали (это
поза, в равной степени удаленная от длительности и направления, бу¬
дучи изолированной как от будущего, так и от прошлого). Veni, vidi,
vici — именно такая поза. Я — пришел, я — увидел, я — победил: ста¬
новление происходит здесь еще раз в самом строении предложения.
Переживание глубины — это становление, и оно влечет за собой
ставшее; оно означает время и вызывает к жизни пространство; оно кос-
мично и исторично в одно и то же время. Живое направление обращено
к горизонту, как к будущему. О будущем грезит уже Мадонна с портала
Св. Анны собора Парижской Богоматери (1230), а позже — «Мадонна с
цветком гороха» мастера Вильгельма (1400)102. О судьбе размышляет, за¬
долго до «Моисея» Микеланджело, «Моисей» Клауса Слютера с Колод¬
ца пророков в Дижоне (1390), и также Сивиллам Сикстинской капеллы
предшествуют Сивиллы Джованни Пизано с кафедры в Пистойе (1300).
Наконец, фигуры на всех готических надгробиях отдыхают от долгой су¬
дьбы — в полной противоположности вневременным серьезности и игри¬
вости, изображаемым на надгробных стелах аттических кладбищ . За¬
падный портрет бесконечен во всех смыслах, начиная с 1200 г., когда он
пробуждается из камня, и вплоть до XVII в., когда он становится всецело
музыкой. Портрет этот трактует человека не просто как центр природ¬
ного мироздания, которое обретает образ и значение от человеческого
существования; он трактует его прежде всего в качестве центра мира как
истории. Античная статуя — это фрагмент наличной природы и не более
того. Античная поэзия воспроизводит статуи в словах. В этом — причина
того, что наши чувства склонны приписывать грекам чистую предан¬
ность природе. Мы никогда не сможем освободиться от ощущения, что
рядом с греческим готический стиль ненатурален, т. е. он — больше, чем
«природа». Вот только мы утаиваем от самих себя, что в этом о себе заяв¬
ляет восприятие того, что у греков чего-то недостает. Западный язык
форм богаче. Портрет принадлежит как природе, так и истории. Над¬
гробный памятник, созданный великими нидерландцами, которые на¬
чиная с 1260 работали над королевскими гробницами в Сен-Дени,
портрет кисти Гольбейна, Тициана, Рембрандта или Гойи — это био¬
графия; автопортрет — это историческая исповедь. Исповедоваться —
значит не просто сознаться в проступке, но и изложить судье внутрен¬
нюю историю этого проступка. Проступок известен всем; но вот корни
его — это личная тайна. Когда протестант и вольнодумец протестуют
против личной исповеди, им невдомек, что они отвергают не саму
идею, а лишь ее внешнюю форму. Они уклоняются от того, чтобы ис¬
поведоваться священнику, однако они исповедуются самим себе, другу
или толпе. Вся северная поэзия — искусство прилюдной исповеди. То
же самое можно сказать о портрете Рембрандта и музыке Бетховена.
То, что Рафаэль, Кальдерон и Гайдн поверяли священнику, они пере-
* Conze A., Die attischen Grabreliefs (1893 ff.).
Глава четвертая. Музыка и скульптура 291
несли и в язык своих творений. Тот, кто вынужден молчать, потому что
ему отказано в величии формы, пригодной вместить в том числе и самое
изначальное, — гибнет, как Гёльдерлин. Западный человек живет с со¬
знанием становления, со взором, постоянно прикованным к прошлому
и будущему. Грек живет точечно, аисторически, соматически. Ни один
грек не был бы способен на настоящую самокритику. И это также зало¬
жено в явлении обнаженной статуи, этом совершенно аисторическом
отображении человека. Автопортрет полностью соответствует авто¬
биографии в духе «Вертера» или «Тассо», и оба они в высшей степени
чужды античности. Не существует ничего более безличного, чем грече¬
ское искусство. Невозможно даже вообразить, чтобы Скопас или Ли¬
сипп изваяли свой собственный портрет.
Рассмотрим закругленность лба, губы, посадку носа, слепо обра¬
щенные вперед глаза у Фидия, у Поликлета, у любого другого мастера
после персидских войн: все это выражение абсолютно безличной, рас¬
тительной, бездушной жизненной позиции. Спрашивается, был ли в со¬
стоянии этот язык форм хотя бы только намекнуть на внутреннее пере¬
живание. Никогда еще не бывало искусства, внимание которого с та¬
кой исключительностью сосредоточивалось бы на осязаемой глазом
наружной поверхности тела. У Микеланджело, который предавался
анатомическим штудиям со всей страстью своей натуры, телесное яв¬
ление, несмотря на это, неизменно является выражением работы всех
внутренних костей, сухожилий, органов; живое под кожей заявляет о
себе, хотя это и не входило в намерения. То, что им создавалось, было
физиономикой, а вовсе не систематикой мускулатуры. Однако это уже
делало подлинной отправной точкой ощущения формы личную судь¬
бу, а не материальное тело. В руке какого-нибудь микеланджеловского
раба больше психологии (и меньше «природы»), чем в лице изваянного
Праксителем Гермеса. В Мироновом «Дискоболе» внешняя форма су¬
ществует целиком и полностью сама по себе, без какой-либо связи с
внутренними органами, уж не говоря о «душе». Сравним с лучшими
произведениями этой эпохи древнеегипетские статуи, например, дере¬
венского старосту или фараона Пиопи или, с другой стороны, «Дави¬
да» Донателло, — и сразу поймем, что значит признавать тело лишь ис¬
ходя из его материальных границ. Грек изо всех сил старается избежать
всего, что могло бы заставить лицо выразить что-то сокровенное и ду¬
ховное. Это проявляется как раз у Мирона. Но стоит нам заметить это,
как даже лучшие скульптурные лица эпохи расцвета, рассмотренные
под углом зрения нашего направленного в противоположную сторону
мироощущения, станут через какое-то время представляться невнят¬
ными и тупыми. Им недостает биографичности, судьбы. Не случайно
тогда было запрещено жертвовать в храмы скульптурные портреты.
Статуи победителей в Олимпии — это безличные изображения боевой
стойки103. Вплоть до Лисиппа мы не найдем ни одного по-настоящему
характерного лица. Есть только маски. А еще можно обозреть всю ста¬
292
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
тую целиком: с каким мастерством ваятель избегает впечатления, что
лицо — это избранная часть тела. Потому-то эти головы так малы, так
незначительны по своему положению, так слабо пролеплены. Всякий
раз голова трактуется исключительно как часть тела, подобно руке и
бедру, и никогда — как седалище и символ «я».
Наконец, мы придем к выводу, что женственное, даже бабское вы¬
ражение многих из этих лиц, относящихся к V в. и в еще большей сте¬
пени — к IV*, оказывается результатом, хотя и непреднамеренным,
стремления полностью исключить всякую личностную характеристи¬
ку. Быть может, правильным будет тот вывод, что идеальный тип лица
этого искусства, несомненно не совпадавший с народным типом, как
это сразу же доказывается позднейшей реалистической портретной
скульптурой, возник в качестве совокупности явных отрицаний, а
именно личностных и исторических, т. е. из сведения оформления
лица к чисто эвклидовскому принципу.
Напротив того, портрет времени расцвета барокко всеми средствами
живописного контрапункта, которые стали нам известны как носителям
пространственных и исторических далей, с помощью погруженной в ко¬
ричневое атмосферы, перспективы, подвижного мазка кисти, дрожа¬
щих цветовых оттенков и света трактует тело как нечто само по себе не¬
действительное, как полную выражения оболочку господствующего над
пространством «я». (Техника фрески, будучи всецело эвклидовской, на¬
прочь исключает решение такой задачи.) У всей картины лишь одна
тема: душа. Обратите внимание на то, как прописаны руки и лоб у Ремб¬
рандта (например, на гравюре, изображающей бургомистра Сикса или
на портрете архитектора из Касселя), а под занавес — еще раз у Маре и
Лейбля (на портрете госпожи Гедон), как они — вплоть до полного рас¬
творения материи — одухотворены, полны визионерства и лиризма, и
сравните с ними руку и лоб Аполлона или Посейдона времени Перикла.
По этой причине укутывание тела соответствовало подлинному и
глубинному ощущению готики — и не из-за тела, но с тем, чтобы разра¬
ботать в орнаментике драпировки язык форм, который, подобно фуге
жизни, будет в созвучии с языком лица и рук: именно так соотносятся
голоса в контрапункте, а в эпоху барокко — генерал-бас с верхними го¬
лосами оркестра. У Рембрандта костюм неизменно ведет басовую ме¬
лодию, поверх которой звучит мотив лица.
Древнеегипетская статуя, как и готическая задрапированная фигу¬
ра, отрицает самоценность тела. Первая делает это, удерживая тело
(как пирамиду или обелиск) в рамках математической схемы и ограни¬
чивая индивидуальное начало лицом, что удается ей с такой проникно¬
венностью, которая не давалась больше никому — во всяком случае в
* Винкельман и его современники восторгались и превозносили как изображение
Музы хранящегося в Мюнхене Аполлона с кифарой. Еще недавно скопированная с
оригинала Фидия голова Афины из Болоньи считалась за изображение полководца. Та¬
кие заблуждения были бы совершенно немыслимы в случае такого физиономического
искусства, как искусство барокко.
Глава четвертая. Музыка и скульптура
293
скульптуре. Второй же это удается посредством трактованной исклю¬
чительно орнаментально одежды, физиономия которой усиливает
язык лица и рук. В Афинах расположение складок должно открывать
смысл тела, на севере же оно призвано сводить его на нет. В первом
случае драпировка становится телом, во втором же — музыкой: вот глу¬
бокая противоположность, приводящая в творениях высокого Воз¬
рождения к скрытой борьбе между тем идеалом, к которому стремится
художник, и тем, который бессознательно выходит наружу. В этой бо¬
рьбе первый, антиготический, идеал довольно часто одерживает побе¬
ду на поверхности, между тем как второй, пролагающий дорогу от го¬
тики к барокко, неизменно торжествует в глубине.
12
Теперь я обобщу противоположность идеала аполлонического и
фаустовского человечества. Обнаженная фигура и портрет соотносят¬
ся так, как тело и пространство, как мгновение и история, передний
план и глубина, как эвклидовское число — с числом аналитическим,
как мера и отношение. Статуя укоренена в почве, музыка же (а запад¬
ный портрет — это и есть музыка, сотканная из цветовых оттенков
душа) пронизывает безбрежное пространство. Фреска связана со сте¬
ной, приросла к ней; масляная картина, как станковая, свободна от
привязанности к месту. Аполлонический язык форм открывает став¬
шее, фаустовский же в первую очередь — еще и становление.
По этой причине западное искусство причисляет детский портрет и
семейные портреты к своим лучшим, наиболее задушевным достиже¬
ниям. Аттической скульптуре было полностью отказано в этих моти¬
вах, и если в эллинистическую эпоху амурчики становятся используе¬
мым в шутку мотивом, это происходит потому, что на этот раз он несет
в себе нечто иное, а не потому, что в нем заложено становление. Ребе¬
нок связывает прошлое и будущее. Во всяком изображающем человека
искусстве, вообще претендующем на символическое значение, ребе¬
нок знаменует постоянство в изменчивости явлений, бесконечность
жизни. Однако античная жизнь исчерпывалась полнотой мгновения, а
на временные дали никто не обращал внимания. Все думали лишь о
близких по крови людях, которых приходилось видеть рядом, а вовсе
не о будущих поколениях. И поэтому никогда еще не бывало искусст¬
ва, которое бы с такой решительностью отказалось от углубленного
изображения детей, как греческое. Окинем мысленным взором то изо¬
билие детских образов, которые возникли в западном искусстве начи¬
ная с ранней готики и вплоть до испускающего последний дух рококо,
но в первую очередь в эпоху Возрождения, и попробуем поставить ря¬
дом хотя бы одно значительное античное произведение вплоть до вре¬
мени Александра, где бы рядом со сформировавшимся телом мужчины
294 Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
или женщины художник намеренно поместил фигуру ребенка, чье су¬
ществование относится только к будущему.
Идея материнства заключает в себе бесконечное становление. Жен¬
щина-мать — это и есть время, это и есть судьба. Подобно тому как мис¬
тический акт переживания глубины выстраивает из чувственного протя¬
женное, а значит, мир, так и телесный человек возникает через материн¬
ство как единичный член этого мира, в котором у него будет теперь своя
судьба. Все символы времени и дали — это также и символы материнст¬
ва. Забота — это пра-чувство будущего, а всякая забота связана с мате¬
ринством. Она выражается в образованиях и идеях семьи и государства и
в принципе наследственности, которая лежит в основе того и другого.
Можно ее подтверждать или отрицать; можно жить с попечением или
беспечно. Также и время можно обобщать в знаке вечности или в знаке
мгновения, и соответственно воплощать всеми доступными искусству
средствами, как символы жизни в пространстве, драму зачатия и рожде¬
ния или же мать с ребенком у груди. Первым занимались Индия и ан¬
тичность, вторым — Египет и Запад*. В фаллосе и лингаме есть идея не¬
коего чистого присутствия, безотносительности, и нечто связанное с
этим проступает в явлении дорической колонны и аттической статуи.
Кормящая мать указывает на будущее, и она-то как раз напрочь отсутст¬
вует в античном искусстве. Нельзя и помыслить о том, чтобы увидеть ее
хотя бы однажды изображенной в стиле Фидия. Мы чувствуем, что такая
форма противоречила бы смыслу данного явления.
В религиозном искусстве Запада не было более благородной задачи.
По мере пробуждения готики Богородица византийских мозаик стано¬
вится Mater Dolorosa [скорбящей матерью (лат.)], Матерью Божьей,
матерью вообще. В германских мифах она появляется, несомненно
еще в эпоху Каролингов, как Фригга и фрау Холле104. С близким чувст¬
вом мы сталкиваемся в таких изысканных оборотах миннезингеров,
как дама Солнце, дама Мир, дама Любовь. Всю картину мира раннего¬
тического человечества пронизывает нечто материнское, заботливое,
терпеливое, и когда германско-католическое христианство дозрело до
полного самосознания в окончательной формулировке таинств и одно¬
временно готического стиля, оно поставило в середину своей картины
мира не страдающего Спасителя, но страдающую Мать. Ок. 1250 г. гос¬
подствующее место посреди главного портала в великом скульптурном
эпосе Реймсского кафедрального собора отведено Мадонне, между тем
как еще в Париже и Амьене его занимал Христос, и приблизительно в
то же самое время тосканская школа в Ареццо и Сиене (Гвидо ди Сие¬
на) начинает вкладывать в византийский иконный тип Богоматери-
Теотокос выражение материнской любви. Мадонны Рафаэля ведут да¬
лее к светскому барочному типу, к возлюбленной-матери, к Офелии и
* Ср. с. 162, 742.
Глава четвертая. Музыка и скульптура
295
Гретхен, чья тайна открывается в просветлении в конце второго «Фаус¬
та», в слиянии с раннеготической Марией.
Греческая фантазия противопоставляла ей богинь, бывших амазон¬
ками (как Афина) или гетерами (как Афродита). Вот античный тип со¬
вершенной женственности, произошедший из базового ощущения
растительной плодовитости. Также и здесь весь смысл явления исчер¬
пывается словом огЛ/ха. Можно вспомнить шедевр в этом роде, три
мощных женских тела на восточном фронтоне Парфенона, и сравнить
с ними самый возвышенный портрет матери, Сикстинскую Мадонну
Рафаэля. В ней больше не осталось ничего телесного. Она только даль,
только пространство. Если сравнить Елену «Илиады» с исполненной
материнского духа Кримхильдой, спутницей Зигфрида, первая пока¬
жется гетерой; Антигона и Клитемнестра — амазонки. Бросается в гла¬
за то, как даже Эсхил в трагедии своей Клитемнестры обходит молча¬
нием трагизм матери. Наконец, образ Медеи представляет собой ми¬
фическое переворачивание фаустовского типа mater dolorosa. Она здесь
не ради будущего, не ради детей; вместе с любимым, этим символом
жизни как чистого настоящего, она лишается всего. Кримхильда мстит
за своих нерожденных детей. Этого-то будущего ее и лишили. Медея
мстит лишь за былое счастье. Когда античная скульптура (позднее ис¬
кусство, ибо орфическая ранняя эпоха* созерцала богов, однако их не
видела) перешла к обмирщению изображений богов**, она создала иде¬
альный антично-женственный образ, который, подобно Афродите
Книдской, представляет собой исключительно прекрасный предмет —
не характер, не «я», а фрагмент природы. Поэтому-то Пракситель и от¬
важился в конце концов изобразить богиню совершенно нагой.
Это новшество натолкнулось на строгое осуждение исходя из ощу¬
щения того, что здесь просматривается свидетельство заката античного
мироощущения. Насколько данное новшество отвечало эротической
символике, настолько же оно противоречило достоинству древнейшей
греческой религии. Однако именно теперь также и портретное искусст¬
во решается на отважный шаг, причем сразу же это оказывается наход¬
кой формы, которая больше не будет забыта впредь, а именно бюста.
Вот только искусствоведение совершает здесь ошибку, когда открывает
также и здесь первые шаги портрета как такового. На деле же готическое
лицо свидетельствует об индивидуальной судьбе, а египетское, несмотря
Ср. с. 739.
Впрочем, приступила к этому сословная поэзия Гомера, весьма родственная в
данном отношении придворному повествовательному искусству Боккаччо. Однако
проглядывающий у Гомера лишенный изображений культ свидетельствует о том, что
строго религиозными кругами на всем протяжении античности это воспринималось
как богохульство; а еще в большей степени о том же говорит гнев всех мыслителей, ко¬
торые, подобно Гераклиту и Платону, были близки храмовой традиции. Оказывается,
чрезвычайно поздняя безудержная трактовка искусством божеств, в том числе и вы¬
сших, в чем-то сродни театральному католицизму Россини и Листа, слабые признаки
которого проявляются уже у Корелли и Генделя, и уже в 1564 это едва не привело к за¬
прету церковной музыки.
296
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
на строгий схематизм фигуры, несет на себе узнаваемые черты отдель¬
ной личности, поскольку лишь в этом случае фигура эта сможет сделать¬
ся обиталищем высшей души покойника, ка. В античности же развива¬
ется мода на характерные изображения, подобно одновременной аттиче¬
ской комедии, где также встречаются лишь типы людей и ситуаций,
которым даются те или иные имена. «Портрет» отличают не индивидуа¬
льные черты, но лишь подписанное имя. Это широко распространенная
практика, принятая среди детей и первобытных людей, и она находится
в глубокой связи с колдовством имени. Вместе с именем в предмет ока¬
зывается вколдованным нечто от именуемого, и всякий зритель теперь
также видит это здесь. Таковы, должно быть, были статуи тираноубийц в
Афинах105, статуи царей (этрусские) на Капитолии и «иконические»106
портреты победителей в Олимпии: не «похожие», но именованные. Од¬
нако к этому еще добавляется создавшая также и коринфскую колонну
обращенность эпохи в сторону жанрово-художественных поделок. Раз¬
рабатываются типы, присутствующие на сцене жизни, 'fjdos, что мы не¬
верно переводим как «характер», ибо все это — разновидности обще¬
ственных ролей и их повадки: данные вообще, неиндивидуально суро¬
вый «полководец», трагический «поэт», снедаемый страстью «оратор»,
всецело ушедший в размышления «философ». Лишь исходя из этого ста¬
новятся понятны знаменитые эллинистические портреты, которые в
высшей степени неверно принимают за выражение глубокой душевной
жизни. Не так уж важно, носит ли произведение имя давно умершего
(статуя Софокла создана ок. 340 г.) или живущего человека, как принад¬
лежащее Кресилаю изображение Перикла. Лишь после 400 г. Деметрий
из Алопеки принялся за подчеркивание индивидуальных особенностей
во внешней конституции человека, а о его современнике Лисистрате,
брате Лисиппа, Плиний рассказывает, что он изготавливал портреты,
снимая с лица гипсовый отпечаток, подвергавшийся затем лишь небо¬
льшой обработке107. Нам ни в коем случае нельзя обознаться: все это ни¬
сколько не портреты в смысле Рембрандгова искусства. Здесь недостает
души. Ослепительный веризм в первую очередь римских бюстов прини¬
мают за физиономическую глубину. То, что отличает творения более
высокого уровня от этих ремесленнических и виртуозных работ, являет¬
ся в полном смысле противоположностью художественным замыслам
Маре или Лейбля. Значительное здесь не извлекают из предмета, но на¬
носят на него. Примером этого служит статуя Демосфена, создатель ко¬
торой, вероятно, действительно видел оратора. Особенности наружной
поверхности тела здесь подчеркнуты, быть может, даже преувеличены
(это именовали тогда верностью натуре), и уже затем в данную конст¬
рукцию был встроен характерный тип «сурового оратора», каким мы ви¬
дим его на иной «основе» в портретах Эсхина и Лисия в Неаполе. Это
правда жизни, однако такая, которой ее воспринимал античный чело¬
век, типическая и безличная. Мы увидели результат своими собственны¬
ми глазами и потому неверно его поняли.
fjtaea четвертая. Музыка и скульптура
297
13
Начиная с конца Возрождения глубину художника, работающего в
области масляной живописи, можно безошибочно оценивать по со¬
держательности его портрета. Правило это почти не знает исключений.
Все образы на картине, вне зависимости от того, изображаются ли они
поодиночке или как участники сцен, даны группами или толпами*, яв¬
ляются по физиономическому базовому ощущению портретами, при¬
чем неважно, следует ли им быть таковыми или же нет. Выбору отдель¬
ного художника это неподвластно. Нет ничего более поучительного,
чем наблюдать, как в руках действительно фаустовского человека даже
изображение обнаженной фигуры превращается в набросок портрета**.
Возьмем таких двух немецких мастеров, как Лукас Кранах и Тильман
Рименшнайдер. Никакие теории их не затрагивали, и в противополож¬
ность Дюреру, который был склонен к эстетическим умствованиям, а
значит податлив к чуждым воздействиям, они продолжали работать в
совершенной наивности. В своих — весьма редких — изображениях на¬
гого тела они обнаруживают полную неспособность вложить выраже¬
ние своего произведения в непосредственно присутствующую, огра¬
ниченную поверхностями телесность. Общий смысл образа человека, а
тем самым — и всей работы в целом, как правило, оказывается собран¬
ным в лице, остается физиономическим, а не анатомическим, и это от¬
носится, несмотря на противоположную направленность замысла и на
все итальянские штудии, также и к Дюреровой «Лукреции». Фаустов¬
ская обнаженная натура — это противоречие в самом себе. Отсюда так
много характерных лиц венчает весьма неудачную попытку изобразить
нагое тело, что относится уже к мотиву Иова, попадающемуся среди
скульптур старофранцузских соборов. Отсюда и надсадная вымучен¬
ность, шаткость и отчужденность таких попыток, которые слишком
явно выставляют себя жертвами эллинистически-римского идеала —
жертвами, которые приносит художественный рассудок, а не душа. Во
всей живописи после Леонардо мы больше не встретим ни одной зна¬
чительной или показательной работы, смысл которой покоился бы на
эвклидовском существовании нагого тела. Если кто пожелает назвать
здесь Рубенса и как-то соотнести его буйную динамику пухлых тел с
искусством Праксителя или даже Скопаса, это будет означать лишь
полное непонимание Рубенса. Как раз-таки роскошная чувственность
удерживает его в отдалении от статики тел Синьорелли. Если сущест¬
вовал когда-либо художник, который бы вкладывал в красоту обна¬
женных тел максимум становления, максимум истории этого телесного
цветения, происходящего из совершенно негреческого излучения
Даже барочные пейзажи развиваются от собранных воедино задников — к портре¬
там определенных местностей, чья душа отображается на картине. Они обретают лица.
Античное портретное искусство можно было бы даже назвать процессом, на¬
правленным в противоположную сторону.
298
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
внутренней бесконечности, так это Рубенс. Сравните голову лошади с
фронтона Парфенона с головами лошадей на его «Битве с амазонка¬
ми», и вы также и здесь ощутите глубокую метафизическую противо¬
положность в трактовке одного и того же элемента. У Рубенса (вспом¬
ним вновь противоположность фаустовской и аполлонической мате¬
матики) тело никогда не является величиной, но всегда отношение; так
что не рассудочное правило его внешнего членения, но полнота теку¬
щей в нем жизни, путь от юности к старости будет здесь мотивом, кото¬
рый в «Страшном суде»108, где тела становятся пламенем, связывается с
подвижностью мирового пространства: абсолютно неантичный син¬
тез, нечуждый также и изображениям нимф у Коро, чьи образы вот-вот
растворятся в цветовые пятна, отражения бесконечного простраг ства.
Но античная обнаженная натура вовсе не это имела в виду. Не следует
также путать греческий идеал формы (замкнутого в самом себе пласти¬
ческого существования) с просто виртуозным изображением прекрас¬
ных тел, которые то и дело встречаются начиная с Джорджоне и до
Буше, эти мясистыми натюрмортами, жанровыми картинами, кото¬
рые, подобно «Женщине в мехах»109 Рубенса, выражают радостную
чувственность и далеко отстают в том, что касается символической ве¬
сомости достигнутого (что является полной противоположностью воз¬
вышенному этосу античной обнаженной натуры)*.
Именно оттого эти — надо сказать, превосходные — живописцы не
достигли вершин ни в области портрета, ни в изображении глубин ми¬
рового пространства посредством пейзажа. Их коричневому и зелено¬
му, их перспективе недостает «религии», будущего, судьбы. Они масте¬
ра исключительно в области элементарных форм, осуществлением ко¬
торых их искусство и исчерпывается. Это они, это составленная из них
толпа образует саму материю истории развития великого искусства.
Однако если великий артист начинал пробиваться к иной, охватыва¬
ющей всю душу и весь мир форме, в рамках античного искусства ему
приходилось идти к проработке обнаженного тела, в северном же искус¬
стве ему этого делать не следовало. Рембрандт не написал ни одного
этюда с обнаженной натурой в этом смысле переднего плана; Леонар¬
до, Тициан, Веласкес, а среди недавних Менцель, Лейбль, Маре, Мане
делали это по крайней мере редко (и в этом случае, я бы сказал, тела
всегда разрабатывались как пейзажи). Портрет остается безошибоч¬
ным пробным камнем *.
Ничто не могло бы с большей явственностью обозначить отмирание западного
искусства начиная с середины XIX в., нежели нелепая, поставленная на поток живо¬
пись, изображающая обнаженную натуру. Глубинный смысл этюда с обнаженной нату¬
рой и значение мотива оказались полностью утраченными.
Рубенс, а среди новейших прежде всего Бёклин и Фейербах при этом проигрыва¬
ют, а Гойя, Домье, в Германии прежде всего Олдах, Васман, Райски и многие другие
почти забытые художники начала XIX в. — выигрывают. Маре оказывается в ряду са¬
мых великих.
Глава четвертая. Музыка и скульптура
299
Однако таких мастеров, как Синьорелли, Мантенья, Боттичелли и
даже Верроккьо ни в коем случае не следует оценивать по значимости
их портретов. Воздвигнутый в 1330 г. конный памятник Кангранде яв¬
ляется портретом в куда более высоком смысле, чем статуя Бартоломео
Коллеони11 . При оценке деятельности Рафаэля принадлежащие ему
портреты, лучшие из которых, как, например, портрет папы Юлия II,
возникали под влиянием венецианца Себастьяно дель Пьомбо, можно
совершенно проигнорировать. Только у Леонардо они имеют важное
значение. Очевидно тонкое противоречие между фресковой техникой
и портретной живописью. Собственно говоря, изображение дожа Ло-
редана, принадлежащее кисти Джованни Беллини — это первый боль¬
шой портрет маслом. Также и здесь характер Возрождения заявляет о
себе как протест против фаустовского духа Запада. Эпизод, разыгры¬
вавшийся во Флоренции, знаменует попытку заменить портрет в готи¬
ческом стиле (т. е. не позднеантичный идеальный портрет, известный
главным образом по бюстам императоров) как символ человеческо¬
го — изображением обнаженной натуры. Следовательно, во всем ис¬
кусстве Возрождения физиономические черты должны были бы отсут¬
ствовать. Однако мощный глубинный поток фаустовской художест¬
венной воли, причем не только в более мелких городах и школах
Средней Италии, но даже и в сфере бессознательного великих масте¬
ров, поддерживал никогда не прерывавшуюся готическую традицию.
Физиономика готического стиля подчинила даже столь чуждую себе
стихию по-южному нагого тела. То, что здесь возникает, — это не тела,
обращающиеся к нам статикой своих граничных поверхностей; мы за¬
мечаем мимику, которая распространяется от лица по всем членам тела
и для более острого глаза даже в тосканскую наготу вкладывает глубин¬
ное тождество с готическими драпировками. Нагота эта — оболочка, а
никакая не граница. И уж тем более покоящиеся нагие фигуры Мике¬
ланджело в капелле Медичи — это исключительно лик и язык души. Но
в первую очередь всякое написанное или изваянное лицо само собой
становится портретом, в том числе и лица богов или святых. Все, чего
добились в области портрета А. Росселино, Донателло, Бенедетто да
Майано, Мино да Фьезоле, находится очень недалеко от духа Ван
Эйка, Мемлинга и раннерейнских мастеров — зачастую вплоть до того,
что их можно спутать. Я утверждаю, что вообще не существует и не мо¬
жет существовать ренессансного портрета в собственном смысле сло¬
ва, если понимать под ним наполнение одного лица тем самым художе¬
ственным мировоззрением, которое отделяет двор палаццо Строцци от
Лоджии деи Ланци1 п и Перуджино — от Чимабуэ. В области архитекто¬
ники можно было создать антиготическое произведение, как бы мало
ни было в нем аполлонического духа; в портрете же, который уже как
род искусства представляет собой фаустовский символ, это невозмож¬
но. Микеланджело уклонился от такого задания. В своем страстном
преследовании пластического идеала он воспринял бы занятие портре¬
300
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
том как снижение уровня. Его бюст Брута — столь же мало портрет, как
и созданная им фигура Джулиано де’ Медичи, чей портрет кисти Бот¬
тичелли — это настоящий портрет, а значит, представляет собой явно
готическое творение. Изваянные Микеланджело лица — это аллегории
в стиле пробуждающегося барокко, и даже с некоторыми эллинистиче¬
скими работами у них отмечается лишь поверхностная общность.
Можно сколько угодно превозносить достоинства изваянного Дона¬
телло бюста Уццано, этого, быть может, самого значительного дости¬
жения той эпохи и данного кружка; однако придется признать, что ря¬
дом с портретами венецианцев его почти невозможно воспринимать
всерьез.
Следует отметить, что это во всяком случае вожделенное преодо¬
ление готического портрета якобы античным изображением обна¬
женной натуры (глубоко исторической и биографической формы —
всецело аисторической) сопровождается одновременным упадком
способности к внутренней самопроверке и к художественной испове¬
ди в гётеанском смысле. Ни одной подлинно ренессансной натуре не¬
ведомо душевное развитие. Они были способны жить всецело внеш¬
ней жизнью. В этом — высокое блаженство кватроченто. В промежут¬
ке между «Новой жизнью» Данте и сонетами Микеланджело не
появилось ни одной поэтической исповеди, ни одного автопортрета
высокого уровня. Ренессансный художник и гуманист — это единст¬
венный на Западе человек, для которого уединение остается пустым
словом. Его жизнь протекает на ярком свету придворного существова¬
ния. Он чувствует и воспринимает публично, без потаенного неудо¬
вольствия, без стыда. Напротив того, жизнь великих нидерландцев
той же эпохи протекала в тени их произведений. Нужно ли к этому
прибавлять, что таким образом также и тот, другой символ историче¬
ской дали, заботы, длительности и раздумчивости, а именно государ¬
ство, в период от Данте и до Микеланджело исчезает из сферы ренес¬
сансных интересов? Как в «ветреной Флоренции», которую горько
упрекали за это все ее великие граждане (неспособность Флоренции
создавать что-либо в области политики, если сопоставить ее с прочи¬
ми западными государственными формами, прямо-таки непостижи¬
ма), так и повсюду в тех местах, где антиготический (а под таким уг¬
лом зрения — антидинастический) дух наделяется живой действите¬
льностью в искусстве и общественной жизни, государство уступает
подлинно греческому убожеству в образе Медичи, Сфорца, Борджа,
Малатеста и бесшабашных республик. Лишь там, где скульптуре вовсе
не нашлось места, где южная музыка чувствовала себя в полном пра¬
ве, где готика и барокко протягивали друг другу руки в масляной жи¬
вописи Джованни Беллини и Возрождение бывало предметом люби¬
тельства, возникавшего от случая к случаю, — лишь там, наряду с
портретом, существовала утонченная дипломатия и воля к политиче¬
ской долговечности. Я говорю о Венеции.
Глава четвертая. Музыка и скульптура
301
14
Возрождение явилось на свет из чувства противоречия. Поэтому ему
недостает глубины, широты и безошибочности формообразующих ин¬
туиций. Это единственная эпоха, оказавшаяся более последовательной
в теории, чем в собственно достижениях. Кроме того, то была единст¬
венная эпоха (и опять-таки в резком контрасте с готикой и барокко), в
которой теоретически сформулированная воля предшествовала реаль¬
ным возможностям и довольно часто их превосходила. Однако, хотя от¬
дельные искусства были насильственно сориентированы на подражаю¬
щую античности скульптуру, это никак не могло повлиять на фундамен¬
тальные основания этих искусств, а вызвало лишь обеднение их
внутренних возможностей. Тема Возрождения вполне способна удов¬
летворить средние натуры. Мало того, ясностью своих формулировок
она даже превосходит их ожидания, и именно поэтому нам будет недо¬
ставать здесь готической борьбы с могущественными и непроясненны¬
ми проблемами, столь характерной для рейнских и нидерландских
школ. Соблазнительная легкость и ясность основываются не в послед¬
нюю очередь на избегании углубленного противостояния посредством
следования чересчур упрощенным правилам. Для людей такой напря¬
женной внутренней жизни, как Мемлинг, и такой мощи, как Грюне¬
вальд, явись они на свет в области этого тосканского мира форм, это
вполне могло оказаться роковым обстоятельством. Они не смогли бы
прийти к раскрытию своих сил среди этих форм и с их помощью — но
исключительно в противостоянии им. Мы склонны переоценивать че¬
ловеческое начало Возрождения лишь потому, что не обнаруживаем в
нем никаких слабостей по части формы. Однако в готике и барокко дей¬
ствительно великий художник исполняет свою миссию, углубляя и со¬
вершенствуя их язык; в Возрождении же ему приходилось этот язык раз¬
рушать.
Именно это и случилось с Леонардо, Рафаэлем и Микеланджело,
единственными со времен Данте в полном смысле слова великими лю¬
дьми Италии. Не удивительно ли, что между готическими мастерами,
которые были всего лишь молчаливыми тружениками каждый в своем
искусстве и тем не менее добились величайших результатов — в тех
пределах, что были им отведены — в служении этой условности, и ве¬
нецианцами и голландцами образца 1600 г., которые опять-таки были
всего только работниками, возвышаются эти трое, не только живопис¬
цы, не только скульпторы, но и мыслители, причем мыслители по нуж¬
де? Занимаясь, помимо всех мыслимых родов художественного выра¬
жения, еще и несметным количеством иных вещей, они пребывали в
вечном непокое, были постоянно неудовлетворены, поскольку желали
Добраться до сути и цели собственного существования (а значит, не на¬
ходили таковых в душевных условиях самого Возрождения). Эти три
великана попробовали быть античными в смысле Медичиевой тео¬
302
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
рии — всякий на собственный лад, всякий идя по своему трагическому
ложному пути, и каждый из них, с другой стороны, разрушал великую
мечту: Рафаэль — великую линию, Леонардо — поверхность, Мике¬
ланджело — тело. В них заплутавшая душа возвращается к своему фаус¬
товскому отправному пункту. Они желали меры взамен отношения,
рисунка взамен действия воздуха и света, эвклидовского тела — взамен
чистого пространства. Однако эвклидовско-статической скульптуры
тогда не было. Она была возможна лишь однажды: в Афинах. Повсюду
неизменно слышится таинственная музыка. Все ее образы подвижны,
ускользают вдаль и в глубину. Все они ведут не к Фидию, а к Палестри¬
не, и все они происходят не из римских развалин, а из беззвучной му¬
зыки кафедральных соборов. Рафаэль упразднил флорентийскую фре¬
ску, Микеланджело — статую, а Леонардо грезилось уже искусство
Рембрандта и Баха. Чем серьезнее кто-либо принимался за воплоще¬
ние идеала этого времени, тем неуловимее становился тот.
При всем том готика и барокко остаются чем-то действительным.
Возрождение — это идеал, парящий над волей эпохи, неисполнимый,
как и все идеалы. Джотто — художник готики, а Тициан — художник ба¬
рокко. Микеланджело желал быть художником Возрождения, однако
это ему не удалось. Уже одно то, что, несмотря на всю амбициозность его
скульптуры, живопись у него безусловно перевешивает, причем базиру¬
ясь на пространственно-перспективных предпосылках Севера, указы¬
вает на противоречие между намерением и осуществлением. Прекрас¬
ная мера, проясненный канон, а значит и сама желаемая античность уже
ок. 1520 г. воспринимались как излишне сухие и формальные. Микелан¬
джело, а с ним и другие, придерживался мнения, что созданный им глав¬
ный карниз на палаццо Фарнезе112, которым он, с ренессансной точки
зрения, испортил замысленный Сангалло фасад, далеко превзошел все
достижения греков и римлян.
Если Петрарка первым во Флоренции ощутил античность со всей
пылкостью и страстью, то Микеланджело был здесь последним таким че¬
ловеком, однако он уже не был приверженцем одной лишь ее без остатка.
Францисканское христианство Фра Анджелико, изящно-умеренное,
примиренное, спокойно преданное, которому гораздо в большей степе¬
ни, чем принято считать обычно, обязана южная проясненность зрелых
ренессансных творений , пришло теперь к своему завершению. Величе¬
ственный дух Контрреформации, весомый, проникновенный и пышный,
Это те самые, выражаясь языком немецких классицистов, «благородная простота
и спокойное величие»114, которые делают таким античным впечатление от романских
построек Хильдесхайма, Гернроде, Паулинцеллы, Херсфельда. Именно руинам мона¬
стыря в Паулинцелле присуще многое из того, чего еще только желал добиться Брунел¬
лески в своих дворцовых внутренних дворах. Однако творческое базовое ощущение, на
основе которого возникли эти здания, мы перенесли на собственное представление об
античном существовании, а вовсе не восприняли его оттуда. Бесконечное умиротворе¬
ние, даль ощущения покоя в Боге, присущие всему флорентийскому, если оно не вы¬
ставляет напоказ готическое упрямство Верроккьо, никоим образом не состоит в род¬
стве с афинской <no<f>po<jvrj [благоразумием (греч.)].
Глава четвертая. Музыка и скульптура
303
уже оживает в творениях Микеланджело. Он воспроизводит нечто такое,
что было принято тогда называть античным, на самом же деле это было
лишь благородной формой христианско-германского мироощущения; о
сирийском происхождении излюбленного во Флоренции мотива, а имен¬
но сопряжения полуциркульных арок и колонн, уже упоминалось. Но
сравним также и псевдокоринфские капители XV в. с теми римскими раз¬
валинами, которые были тогда известны. Микеланджело был единствен¬
ным, кто не выносил здесь половинчатости. Он желал ясности. Вопрос
формы был для него религиозным вопросом. Все или ничего — вот как
обстояло дело для него — и только для него одного. Это делает понятной
одинокое, страшное борение этого, пожалуй, наиболее несчастного из
всех деятелей нашего искусства, фрагментарность, мучительность, нена¬
сытность, terribilem его форм, пугавшую его современников. Одна сторо¬
на его натуры увлекала его к античности, а значит, к скульптуре. Извест¬
но, какое впечатление произвела на него только что найденная группа
«Лаокоона». Никто с большей искренностью не пытался с помощью рез¬
ца проложить дорогу к погребенному временем миру. Все, что было им
создано, подразумевало — в пластическом смысле—лишь это намерение,
которое вынашивал лишь он один. «Мир, представленный в великом
Пане», то, что пытался, вводя Елену, выразить Гёте во второй части «Фа¬
уста», аполлонический мир в его могучем, чувственном и телесном насто¬
ящем — никто другой не старался так, изо всех сил, вколдовать все это в
художественное бытие, кроме Микеланджело, когда он расписывал сво¬
ды Сикстинской капеллы. Все средства фрески: величественные конту¬
ры, мощные плоскости, навязчивая близость обнаженных образов, мате¬
риальность красок, — в последний раз напряжены здесь до предела, что¬
бы высвободить на этих сводах язычество в самом возвышенном
ренессансном смысле. Однако вторая душа Микеланджело, готически-
христианская душа Данте и музыки дальних пространств, которая с до¬
статочной отчетливостью обращается к нам из метафизической компо¬
новки эскиза, этому сопротивлялась.
Микеланджело в последний раз попытался, и пробовал снова и сно¬
ва, вложить всю полноту своей личности в язык мрамора, эвклидов-
ского материала, отказавшего ему в подчинении. Ибо он относился к
камню не как грек. Изваянная статуя уже самим способом своего суще¬
ствования противоречит тому мироощущению, которое отыскивает в
произведениях искусства нечто, а не желает в них чем-то владеть. Для
Фидия мрамор — космический материал, томящийся по форме. Леген¬
да о Пигмалионе раскрывает всю сущность этого аполлонического ис¬
кусства. Для Микеланджело мрамор был врагом, узилищем, из которо¬
го он должен был освободить свою идею подобно тому, как Зигфрид
освобождает Брунгильду. Известна страстность, с которой он набрасы¬
вался на необработанную глыбу. Он не уподоблял ее образу, который
желал изваять, сразу со всех сторон. Нет, он врезался в камень, как в
пространство, и создавал фигуру, снимая материал глыбы послойно,
304 Том1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
начиная с лицевой стороны, и постепенно проникал вглубь, так что
члены статуи медленно проступали из массы. Невозможно с большей
отчетливостью выразить мировой страх перед ставшим, страх смерти,
которую он пытался здесь заклясть посредством подвижной формы.
Ни один другой художник Запада не обладал столь задушевным и в то
же самое время столь принужденным отношением к камню как к сим¬
волу смерти, к враждебному в нем принципу, который его демониче¬
ская природа желала покорить вновь и вновь, неважно, то ли вырубая
из него свои статуи или громоздя — также из камня — свои грандиоз¬
ные постройки*. Микеланджело был единственным скульптором свое¬
го времени, для которого речь всегда могла идти исключительно о мра¬
море. Бронзовое литье, допускавшее компромисс с живописными тен¬
денциями, и именно в силу этого чуждое ему, было куда ближе прочим
художникам Возрождения, а также более мягким грекам.
Однако античный скульптор ухватывал в статуе мгновенное телесное
положение. Фаустовский человек на это уже не способен. Подобно
тому, как он усматривает в любви в первую очередь не чувственный акт
соединения мужчины и женщины, но великую любовь Данте, а сверх
того — еще и идею заботливой матери, так и здесь. Эротика Микеланд¬
жело, поистине бетховенская эротика, была в высшей степени неантич¬
ной; она пребывала под знаком вечности и дали, а не чувства и сиюми¬
нутного мгновения. В исполненных Микеланджело изображениях об¬
наженных тел, этих жертвах, принесенных его греческому идолу, душа
отрицает и заглушает зримую форму. Первая желает бесконечности,
вторая — меры и правила, первой угодно связать воедино прошлое и бу¬
дущее, второй — быть запертой в настоящем. Античный глаз впивает в
себя скульптурную форму. Однако Микеланджело видел духовным взо¬
ром и проламывал язык переднего плана непосредственной чувственно¬
сти. И наконец, он уничтожил условия этого искусства. Мрамор оказал¬
ся слишком незначительным для его воли к реализации формы. Мике¬
ланджело перестает быть скульптором и переходит к архитектуре. В
глубокой старости, когда он осуществлял лишь такие буйные фрагмен¬
ты, как «Мадонна Ронданини», и почти что перестал вырубать свои об¬
разы из необработанных глыб, о себе дала знать музыкальная тенденция
его художества. Воля к контрапунктической форме наконец перестала
* Никто и никогда не обратил внимания на то, насколько пошлым было отноше¬
ние к мрамору немногочисленных скульпторов после Микеланджело. Это начинаешь
ощущать, лишь сравнивая его с глубоко прочувствованным отношением великих музы¬
кантов к их любимым инструментам. Вспоминается рассказ о скрипке Тартини, раско¬
ловшейся, когда мастер умер. Подобных историй сотни. Это фаустовская аналогия ска¬
занию о Пигмалионе. Можно напомнить и о гофмановском образе капельмейстера
Крейслера, ничем не уступающем Фаусту, Вертеру и Дон Жуану. Чтобы ощутить их
символическую значимость и их внутреннюю необходимость, сравните их с опереточ¬
ными образами художников у романтиков того же времени, образами, которые никоим
образом не связаны с идеей живописи. Художник просто не в состоянии представлять
судьбу фаустовского искусства, и в этом — приговор всем созданным в XIX в. романам
о художниках.
Глава четвертая. Музыка и скульптура 305
смиряться, и как итог глубочайшего недовольства искусством, на кото¬
рое Микеланджело потратил жизнь, его вечно ненасытная потребность
в выражении сломала архитектонические правила Возрождения и созда¬
ла римское барокко. На место соотношения материала и формы он по¬
ставил борьбу силы и массы. Он сплачивает колонны в пучки или задви¬
гает их в ниши; он пробивает этажи мощными пилястрами; фасад стано¬
вится каким-то колышащимся и напирающим; мера уступает мелодии,
статика — динамике. Тем самым фаустовская музыка поставила себе на
службу первое из всех прочих искусств.
С Микеланджело завершается история западной скульптуры. Все,
что явилось на свет после него, — сплошь недоразумения и реминис¬
ценции. Законным его наследником является Палестрина.
Леонардо выражается на ином языке, нежели его современники. В
важных вопросах его дух достигал в следующее столетие, и ничто не
привязывало его, как Микеланджело, всеми струнами сердца к тос¬
канскому идеалу формы. Лишь у него не было амбиций становиться
ни скульптором, ни архитектором. Своим анатомическим занятиям
(вот своеобразный ложный путь Ренессанса в попытке подобраться
поближе к греческому жизнеощущению и его культу внешней телес¬
ной поверхности!) он предавался уже не ради скульптуры, как Мике¬
ланджело; он занимался уже не топографической анатомией передне¬
го плана и верхнего слоя тела, но физиологией, причем ради внутрен¬
них тайн. Микеланджело хотел втиснуть весь без остатка смысл
человеческого существования в язык зримого тела; эскизы и наброс¬
ки Леонардо обнаруживают противоположную тенденцию. Его вызы¬
вавшее столько восторгов сфумато представляет собой первый знак
отрицания телесных границ ради пространства. Отсюда берет начало
импрессионизм. Леонардо начинает с внутренности, с пространст¬
венно-душевного, а не с уравновешенных линий контура, и под ко¬
нец укладывает (если он вообще это делает, а не оставляет картину не¬
законченной) красочную субстанцию, подобно нежному дуновению
поверх самбй бестелесной и совершенно не поддающейся описанию
композиции картины. Полотна Рафаэля распадаются на «планы», на
которые поделены благоупорядоченные группы, и задний фон взве¬
шенно замыкает целое. Леонардо знает лишь одно, дальнее, вечное
пространство, в котором как бы парят его образы. Так что один дает в
пределах рамок картины совокупность отдельных, ближних вещей,
другой же — срез бесконечного.
Леонардо открыл кровообращение. То, что навело его на это, нисколь¬
ко не было ренессансным ощущением. Ход его мышления выделяет его
из всего круга его современников. Ни Микеланджело, ни Рафаэлю это
бы не удалось, потому что художническая анатомия обращала внимание
лишь на форму и положение, а не на функцию частей. Выражаясь мате¬
матически, она была стереометрична, а не аналитична. Разве изучение
трупов не считали достаточным для того, чтобы исполнять полотна с
306 Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
массовыми сценами? Однако это значило подавлять становление в угоду
ставшему. Мертвецов звали на помощь, чтобы сделать античную ата-
ра&а [невозмутимость (грен.)] доступной для северной формирующей
силы. Однако Леонардо, как Рубенс, ищет жизни в теле, а не тела самого
по себе, как Синьорелли. В его открытии усматривается глубинное род¬
ство с одновременным открытием Колумба: это есть победа бесконеч¬
ного над вещественной ограниченностью нынешнего и осязаемого. До¬
водилось ли хоть кому из греков находить вкус к вещам такого рода? Они
также мало задавались вопросом о внутренности собственного организ¬
ма, как об истоках Нила. И то, и другое, поставило бы под вопрос эвкли-
довское представление об их собственном существовании. Барокко же,
напротив, это в полном смысле слова эпоха великих открытий. Уже в са¬
мом этом слове «открытие» присутствует резко неантичный привкус.
Античный человек остерегался того, чтобы с чего бы то ни было косми¬
ческого сорвать покров, телесную связь — будь то в реальности или же
только в мыслях. Однако как раз на это-то и устремлена подлинно фаус¬
товская натура. Почти что одновременно произошли такие совершенно
равнозначные на глубинном плане события, как открытие Нового Све¬
та, кровообращения и коперниканской системы мира, а несколько ра¬
нее — открытие пороха, т. е. дальнодействующего оружия, и книгопеча¬
тания, т. е. дальнодействующего письма.
Леонардо был первооткрывателем до мозга костей. Это и было его
сутью. Он не проводил различия между кистью, резцом, прозектор¬
ским ножом, грифелем, циркулем — все они означали для него то же,
что компас для Колумба. Когда Рафаэль заполнял красками обозна¬
ченный четкими контурами набросок, каждый его мазок служил под¬
тверждением телесности. Взглянем, однако, на сангинные наброски
Леонардо и его задние планы: здесь каждая черточка несет на себе ат¬
мосферные тайны. Также он был первым, кто задумался о том, чтобы
попробовать взлететь. Полететь, освободиться от Земли, затеряться в
далях Вселенной: все это в высшей степени по-фаустовски. Даже наши
сновидения заполнены этим. Никогда не замечали, к какому чудесно¬
му просветлению данного мотива в западной живописи привела хрис¬
тианская легенда? Все эти тщательно выписанные вознесения и соше¬
ствия во ад, парение над облаками, блаженная отрешенность ангелов и
святых, убедительно изображаемая свобода от всякой земной тяже¬
сти — все это символы фаустовского душевного полета и в высшей сте¬
пени чуждо византийскому стилю.
15
Преображение фрески Возрождения в венецианскую масляную живо¬
пись — часть истории души. Все узрения зависят здесь от наинежнейших и
потаеннейших черт. Почти на каждой картине, от «Чуда со статором» Ма¬
Глава четвертая. Музыка и скульптура
307
заччо в капелле Бранкаччи, через парящий задний план на портретах Фе-
дериго и Баттисты Урбинских кисти Пьеро делла Франческа и вплоть до
«Передачи ключей» Перуджино, фресковое начало борется с наступаю¬
щей новой формой. Едва ли не единственным наглядным примером здесь
может служить живописное развитие Рафаэля в ходе его работы над Стан-
цами в Ватикане. Флорентийская фреска отыскивает действительность в
отдельных вещах и дает в пределах архитектонического обрамления неко¬
торую их совокупность. Масляная картина со всевозрастающей уверен¬
ностью выражения признает лишь протяженность как целое, а всякий
предмет здесь — лишь ее представитель. Фаустовское мироощущение со¬
здало для себя новую технику. Оно отвергло рисовальный стиль, подобно
тому как отвергло координатную геометрию времен Оресма. Оно преоб¬
разовало связанную с архитектурными мотивами линейную перспективу
в чисто атмосферную, построенную на неуловимых оттенках тонов. Од¬
нако общее неестественное положение ренессансного искусства, непо¬
нимание им собственных глубинных тенденций, невозможность осуще¬
ствить антиготический принцип затруднили и затемнили переход. Вся¬
кий художник пытался осуществить его на свой лад. Один пишет по
сырой стене масляными красками. Поэтому «Тайная вечеря» Леонардо
оказалась обреченной на разрушение. Другие пишут станковые картины,
словно фрески. Так обстояло дело с Микеланджело. Бывают смелые
шаги, прозрения, поражения и отказы. Борьба между рукой и душой,
между глазом и инструментом, между формой, которая видится художни¬
ку, и той, которая угодна времени, — все это одна и та же борьба, борьба
между пластикой и музыкой.
Только теперь мы наконец понимаем исполинский по замыслу набро¬
сок Леонардо для «Поклонения волхвов» в Уффици, этого величайшего
живописного дерзновения Возрождения. Вплоть до Рембрандта ни о чем
подобном никто и не помышлял. Сверх и помимо всего того, что имено¬
вали тогда рисунком, контуром, композицией, группой Леонардо пытает¬
ся здесь пробиться к поклонению вечному пространству, в котором все
телесное парит, как планеты в коперниканской системе, как звуки бахов-
ской органной фуги в сумраке старинных церквей. В общем, то была кар¬
тина, исполненная такого динамизма дали, что в пределах технических
возможностей той эпохи ей суждено было так и остаться незаконченной.
Контурной линией, вобравшей в себя все содержание картины,
«Сикстинская Мадонна» Рафаэля подводит итог Возрождению в це¬
лом. Это последняя великая линия западного искусства. Ее колоссальная
задушевность, доводящая скрытое противоречие с условностью до
крайней степени напряжения, делает из Рафаэля наименее понятого
художника Возрождения. Он не боролся с проблемами. Он о них и не
подозревал. Однако он подводил искусство к их порогу, к месту, где бо¬
льше невозможно было уклоняться от решения. Рафаэль умер, совер¬
шив все в рамках мира форм этого искусства. Толпе это кажется по¬
шлым. Ей и невдомек, что на самом деле происходит в его набросках. А
308
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
заметил кто-нибудь утренние облачка, которые, превращаясь в дет¬
ские головки, окружают высящуюся фигуру? Это сонмы нерожденных,
которых Мадонна увлекает к жизни. В том же самом смысле эти свет¬
лые облака появляются и в мистической заключительной сцене второй
части «Фауста». Как раз отчужденность, непопулярность в изящней¬
шем смысле включает здесь внутреннее преодоление ренессансного
ощущения. Перуджино понятен с первого же взгляда; про Рафаэля же
так только кажется. Хотя поначалу как раз в линиях, в рисовалыциче-
ской тенденции проступает античное начало, все тем не менее парит в
пространстве, дышит неземным, бетховенским. В этом произведении
Рафаэль оказывается более загадочным, чем кто-либо другой, куда бо¬
льше, чем даже Микеланджело, замысел которого становится очевид¬
ным сквозь фрагментарность его работ. Фра Бартоломмео еще вполне
контролирует линию контура: она является всецело передним планом;
ее смысл исчерпывается отграничением тел. У Рафаэля она умолкает,
ждет, таится. Вся в напряжении, она оказывается здесь непосредствен¬
но накануне растворения в бесконечности, в пространстве и музыке.
Леонардо же эту границу уже перешел. Его эскиз к «Поклонению
волхвов» — это уже музыка. Глубокий смысл кроется в том обстоятель¬
стве, что здесь, как и в случае его «Иеронима», он не пошел дальше ко¬
ричневого подмалевка, этой «Рембрандтовой ступени», коричневой
атмосферы следующего столетия. Для него этим состоянием оказыва¬
лись достигнуты высшее совершенство и проясненность намерения.
Каждый дальнейший шаг в проработке цветов, поскольку дух худож¬
ников был все еще в плену у метафизических условий фрескового сти¬
ля, внес бы дисгармонию в душу эскиза. Именно по той причине, что
Леонардо предчувствовал символику масляной живописи во всей ее
глубине, он страшился фресковое™ художников-«цепенителей», ко¬
торые опошлили бы его идеи. Подготовительные работы к картине по¬
казывают, насколько родственна была ему гравюра в стиле Рембрандта,
искусство с родины контрапункта, которого не знала Флоренция.
Лишь венецианцы, пребывавшие вне флорентийских условностей, до¬
стигли того, чего отыскивал здесь Леонардо: мира цветов, который слу¬
жит пространству, а не вещам.
По той же самой причине Леонардо — после бесчисленных попы¬
ток — оставил незаконченным лицо Христа на «Тайной Вечери». Человек
той эпохи еще не созрел также и для портрета в великой рембрандтовской
трактовке, для выстроенной из движущихся мазков кисти, света и цвето¬
вых оттенков истории души. Однако только Леонардо был в достаточной
мере велик для того, чтобы пережить это ограничение как судьбу. Прочие
же как раз лицо и стали бы писать — причем так, как это было им предпи¬
сано школой. Леонардо, заставивший здесь в первый раз заговорить так¬
же и руки, причем с таким физиономическим мастерством, которого
позднее подчас, бывало, достигали, но превзойти не мог никто и никогда,
Леонардо желал несравненно большего. Его душа затерялась в отдален¬
Глава четвертая. Музыка и скульптура 309
ном будущем, однако его человеческое начало, его глаз и его рука повино¬
вались духу его эпохи. Вне всякого сомнения, он был роковым образом
самым свободным из троих великих. Многое из того, с чем тщетно боро¬
лась могучая натура Микеланджело, Леонардо уже вовсе не касалось. Он
прекрасно осведомлен в проблемах химии, геометрического анализа, фи¬
зиологии (Гётева «живая природа» была также и природой Леонардо), ог¬
нестрельного оружия. Будучи глубже Дюрера, отважнее Тициана, всеох¬
ватнее любого другого человека той эпохи, Леонардо так и остался в соб¬
ственном смысле фрагментарным художником*, однако по иной причине,
нежели Микеланджело, этот припозднившийся скульптор, и в противо¬
положность Гёте, для которого все, что было недостижимым для творца
«Тайной вечери», осталось уже позади. Микеланджело желал заставить
умерший мир форм ожить еще раз, Леонардо уже ощущал новый мир в
будущем, Гёте догадывался, что никакого мира форм больше нет. Между
ними пролегают три столетия зрелости фаустовского искусства.
16
Остается только в основных чертах проследить завершение запад¬
ного искусства. Здесь проявляется наиисконнейшая необходимость,
свойственная всякой истории. Мы научились рассматривать искусства
как пра-феномены. Мы более не отыскиваем причинно-следственных
связей в физическом смысле, чтобы придать связности их развитию.
Мы дали понятию судьбы искусства утвердиться в своих правах. Нако¬
нец, мы признали искусства организмами: в большом организме куль¬
туры они занимают определенное место, появляются на свет, созрева¬
ют, старятся и безвозвратно умирают.
С завершением Возрождения, этого последнего заблуждения, за¬
падная душа достигла зрелого сознания собственных сил и возможно¬
стей. Она избрала свои искусства. Позднему времени, как барокко, так
и ионике, известно, что должен значить язык форм искусства. До сих
пор он был философской религией, теперь же он становится религиоз¬
ной философией. Он делается городским и светским. На место безы¬
мянных школ приходят великие мастера. Когда какая-либо культура
достигает зрелости, в ней разыгрывается спектакль с участием велико¬
лепной группы великих искусств, прекрасно упорядоченных и связан¬
ных лежащим в основе пра-символом в единое целое. В центре аполло-
нической группы, к которой принадлежат вазопись, фреска, рельеф, ар¬
хитектура классических ордеров, аттическая драма, танец, находится
скульптура обнаженной статуи. Фаустовская группа формируется во¬
круг идеала чистой пространственной бесконечности. Центром ее яв¬
* В ренессансных творениях излишняя завершенность нередко производит тягост¬
ное впечатление. Мы ощущаем в этом недостаток «бесконечности». В них никаких
тайн и открытий.
310 Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
ляется инструментальная музыка. Тончайшими нитями музыка эта со¬
единяется со всеми духовными языками форм, сплетая в колоссальную
целостность душевного выражения инфинитезимальную математику,
динамическую физику, пропаганду ордена иезуитов и динамизм зна¬
менитых лозунгов Просвещения, современную машинную технику,
кредитную систему и династически-дипломатически организованное
государство. Начинаясь с внутреннего ритма собора и завершаясь
«Тристаном» и «Парсифалем» Вагнера, художественное освоение бес¬
конечного пространства достигает полного своего раскрытия ок. 1550 г..
Скульптура угасает в Риме вместе с Микеланджело, как раз тогда, когда
планиметрия, до тех пор господствовавшая в математике, становится
ее малозначительной частью. Одновременно с учением о гармонии и
теорией контрапункта Царлино (1558) и также происходившим из Ве¬
неции методом генерал-баса, которые оба являются перспективой и
анализом звукового пространства, начинается взлет их ближайшего се¬
верного родственника, инфинитезимального исчисления.
Масляная живопись и инструментальная музыка, эти пространст¬
венные искусства, вступают в свои права безраздельного господстза. В
античности то были, следовательно, материально-эвклидовские искус¬
ства: строго плоскостная фреска и свободно стоящая статуя, которые
выступают на передний план одновременно, ок. 600 г.. Причем первым
делом зрелости достигли именно та и другая разновидность живописи,
язык форм которых был более умеренным и доступным. Период с 1550
по 1650 г. так же бесспорно принадлежит масляной живописи, как фре¬
ске и рисунку на вазе — VI в. Символика пространства и тела, которая
выражает средствами искусства перспективу здесь и пропорцию там,
оказывается лишь намеченной в опосредованном языке картины. Эти
искусства, способные лишь на то, чтобы имитировать на поверхности
изображения соответствующий пра-символ, т. е. возможности протя¬
женного, вполне могли обозначить и вызвать к жизни соответственно
античный и западный идеалы, однако завершить их они были не в со¬
стоянии. На путях позднего времени они предстают в качестве ступе¬
ни, ведущей к окончательной зрелости. По мере приближения боль¬
шого стиля к завершению все более решительным становится порыв к
орнаментальному языку с его неумолимой ясностью символики. Жи¬
вописи на это явно недостаточно. Группа высших искусств упрости¬
лась еще больше. Ок. 1670 г., как раз тогда, когда Ньютон и Лейбниц
открыли дифференциальное исчисление, масляная живопись достигла
предела своих возможностей. Умерли последние великие мастера: Ве¬
ласкес в 1660 г., Пуссен в 1665-м, Франс Хальс в 1666-м, Рембрандт в
1669-м., Вермер в 1675-м, Мурильо, Рёйсдал и Лоррен в 1682 г.. Доста¬
точно назвать лишь несколько видных их преемников — Ватто, Хогар-
та, Тьеполо — и мы явственно ощутим снижение, конец искусства.
Именно теперь отжили свой век и великие формы живописной музыки:
с Генрихом Шютцем (1672), Кариссими (1674), а также Пёрселлом
fyaea четвертая. Музыка и скульптура
311
(1695) умирают последние мастера кантаты, до бесконечности варьи¬
ровавшие образные темы с помощью красочной игры вокальных и ин¬
струментальных голосов и создававшие настоящие полотна — начиная
с прелестных пейзажей и вплоть до возвышенных сцен легенд. Со
смертью Люлли (1687) оказывается внутренне исчерпанной и героиче¬
ская барочная опера Монтеверди. То же самое справедливо и в отно¬
шении старинных разновидностей классической сонаты для оркестра,
органа и струнного трио, которые также стремились сымитировать об¬
разные темы в стиле фуги. На сцену выступают формы окончательной
зрелости: concerto grosso, сюита и трехчастная соната для инструмента
соло. Музыка освобождается от остатка телесности в звучании челове¬
ческих голосов. Она делается абсолютной. Тема превращается из обра¬
за в заряженную смыслом функцию, существование которой состоит в
развитии; стиль фуги Баха можно охарактеризовать лишь как беско¬
нечное дифференцирование и интегрирование. Знаком победы, одер¬
жанной чистой музыкой над живописью, являются созданные Генри¬
хом Шютцем в глубокой старости «Страсти», в которых намечается но¬
вый язык форм, сонаты Далль’Абако и Корелли, оратории Генделя и
барочная полифония Баха. Отныне эта музыка — это и есть фаус¬
товское искусство, и Ватто можно назвать Купереном в живописи, а
Тьеполо — взявшимся за кисть Генделем.
Тот же самый переворот имеет йесто в античности ок. 460 г., когда
последний великий фресковый живописец, Полигнот, передает насле¬
дие возвышенного стиля Поликлету, а значит, свободной круглой ску¬
льптуре. До сих пор язык форм чистого искусства поверхностей гос¬
подствовал также и над статуей: так было еще у современников Поли-
гнота — Мирона и мастеров фронтонов в Олимпии. Подобно тому, как
первое развивало все далее идеал формы заполненного красками и снаб¬
женного внутренней прорисъю силуэта, причем между раскрашенным
рельефом и плоской картиной не наблюдалось почти никакого разли¬
чия, так и ваятелю обращенный к зрителю фронтальный абрис пред¬
ставлялся подлинным символом этоса, т. е. того морального типа, ко¬
торый была призвана изображать фигура. Поле фронтона храма — это
картина, и ее нужно рассматривать с надлежащего удаления точно так
же, как и относящиеся к той же эпохе краснофигурные вазовые роспи¬
си. С поколением Поликлета монументальные стенные росписи усту¬
пают станковой живописи, исполняемой в технике темперы и воско¬
вых красок, однако это означает, что большой стиль покинул данное
искусство. Воспроизводящему тени в живописи Аполлодору присуща
амбиция не уступить скульптору посредством объемной моделировки
фигур, ибо речь здесь идет вовсе не об атмосферных тенях, а относите¬
льно Зевксида Аристотель без обиняков утверждает115, что в его работах
нет этоса. Это сближает ту остроумную и милую живопись с нашей жи¬
вописью XVIII в. Обеим недостает внутреннего величия и обе они со
всей своей виртуозностью следуют за языком единственного и послед¬
312
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
него искусства, представляющего орнаментику высокого уровня. Поэ¬
тому Поликлета и Фидия можно поставить рядом с Бахом и Генделем,
и подобно тому, как последние освободили строгую музыкальную фра¬
зу от методов живописного исполнения, так и первые наконец освобо¬
дили статую от остатков рельефообразности.
С появлением этой музыки и этой скульптуры цель оказывается до¬
стигнутой. Становится возможной математической строгости чистая
символика: это означает «Канон», тот самый трактат Поликлета о соот¬
ношениях человеческого тела, и в качестве пары ему — «Искусство
фуги» и «Хорошо темперированный клавир» его «современника» Баха.
Оба этих искусства достигают наибольшей окончательности в части
проявленности и напряженности чистой формы. Сравним-ка звуковое
тело фаустовской инструментальной музыки, а внутри него — опять-та¬
ки тело струнных и все еще действующее у Баха как единое целое тело
духовых — с телом аттических статуй; сравним то, что подразумевали
под фигурой Гайдн и что — Пракситель, а именно фигуру ритмического
мотива в ткани голосов или фигуру атлета.’ Обозначение это было заим¬
ствовано из математики, и оно выдает то обстоятельство, что эта достиг¬
нутая теперь цель представляет собой объединение художественного и
математического духа, ибо одновременно с музыкой и скульптурой ана¬
лиз бесконечно малых и эвклидовская геометрия с полной отчетливо¬
стью постигли свои задачи и окончательный смысл своего числового
языка. Больше нельзя разделять математику прекрасного и прекрасное
математического начала. Бесконечное пространство звуков и свободное
со всех сторон тело из мрамора или бронзы представляют собой непо¬
средственную интерпретацию протяженного. Они относятся к области
числа как отношения и числа как меры соответственно. Во фреске, как и
в масляной картине, в законах соотношений и перспективы мы найдем
лишь намеки на математическое. Но оба этих окончательных искусства
являются математикой. На этой вершине как фаустовское, так и аполло-
ническое искусство представляются достигшими совершенства.
За достижением фресковой и масляной живописью своего заверше¬
ния следует плотный ряд великих мастеров абсолютной скульптуры и
абсолютной музыки. За Поликлетом идут Фидий, Пеоний, Алкамен,
Скопас, Пракситель, Лисипп, за Бахом и Генделем — Глюк, Стамиц,
сыновья Баха, Гайдн, Моцарт, Бетховен. Появляется множество уди¬
вительных, теперь уже давно позабытых инструментов, целый волшеб¬
ный мир западного духа первооткрывателей и изобретателей — с тем,
чтобы привлечь на службу все новые и новые звуки и звуковые оттенки
и усилить их выражение, и теперь же в изобилии возникает множество
строжайше выстроенных форм — величественных, торжественных,
нежных, легких, шутливых, смеющихся, рыдающих, в которых теперь
уже никто не смыслит. Тогда, прежде всего в Германии XVIII в., суще¬
ствовала подлинная культура музыки, пронизывавшая и наполнявшая
собой целую жизнь, к которой принадлежит по типу гофмановский ка¬
Глава четвертая. Музыка и скульптура
313
пельмейстер Крейслер и от которой теперь остались разве одни воспо¬
минания.
Наконец, с XVIII в., умирает также и архитектура. Она истаивает,
она тонет в музыке рококо. Все, что в этих последних поразительных,
хрупких цветах западного зодчества принято порицать (потому что
люди не понимают их возникновения из духа фуги): безмерность и бес¬
форменность, парение и колыхание, блистание, разрушение поверх¬
ностей и членений для глаза — все это есть лишь победа звуков и мело¬
дий над линиями и стенами, триумф чистого пространства над мате¬
рией, абсолютного становления — над ставшим. Все эти аббатства,
замки и церкви с их изгибающимися фасадами, порталами и дворами с
инкрустациями в форме раковин, с мощными лестничными пролета¬
ми, с галереями, залами и кабинетами — это уж более не архитектурные
тела, но обратившиеся в камень сонаты, менуэты, мадригалы, прелю¬
дии; камерная музыка в лепнине, мраморе, слоновой кости и древеси¬
ны ценных пород; кантилены волют и картушей, каденции наружных
лестниц и коньков. Цвингер в Дрездене — наиболее совершенное му¬
зыкальное произведение во всей истории всемирной архитектуры, с
орнаментами, подобными звучанию благородной старой скрипки, не¬
кое allegro fugitive для небольшого оркестра.
Германия произвела на свет великих музыкантов, а значит, также и
великих зодчих этого столетия: Пёппельмайа, Шлютера, Бара, Ноймана,
Фишера фон Эрлаха, Динценхофера. В масляной живописи ее значение
равно нулю, в инструментальной музыке она играет определяющую роль.
17
Слово, впервые вошедшее в оборот во времена Мане (поначалу в
насмешку, подобно барокко и рококо), в высшей степени удачно ухва¬
тывает фаустовский способ преподнесения искусства, как он посте¬
пенно развился в предпосылках масляной живописи. Об импрессио¬
низме говорят, вовсе не догадываясь о том, каков истинный объем и
глубинный смысл этого понятия, производя его от поздних цветов того
искусства, которое всецело и без остатка к нему принадлежит. Ведь что
такое подражание «впечатлению»? Несомненно, нечто вполне запад¬
ное, родственное идее барокко, даже бессознательным целям готиче¬
ской архитектуры и прямо противоположное'намерениям Возрожде¬
ния. Разве тенденция бодрствования не означает того, чтобы рассмат¬
ривать чистое бесконечное пространство как безусловную
действительность высшего порядка и воспринимать все чувственные
образования «в нем» как нечто второстепенное и обусловленное, при¬
чем с глубочайшей необходимостью? Тенденция, способная заявить о
себе в художественных творениях, при том, что ей известна бездна
иных возможностей для проявления. «Пространство есть априорная
314
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
форма созерцания», эта формулировка Канта — разве не звучит она как
программа движения, начавшегося с Леонардо? Импрессионизм — это
переворачивание эвклидовского мироощущения. Он пытается как
можно дальше отойти от скульптурного языка и приблизиться к языку
музыкальному. Мы даем освещенным, отбрасывающим свет предме¬
там воздействовать на себя не в силу того, что они здесь находятся, но
так, словно бы «самих по себе» их здесь и не было. Да и не тела они во¬
все, а пространственные препятствия для света, обманчивая плотность
которых оказывается разоблаченной мазками кисти. Воспринимается
и воспроизводится исключительно впечатление от таких препятствий,
которые в силу никак не оговоренного соглашения оцениваются в ка¬
честве чистых функций «потусторонней» (трансцендентной) протя¬
женности. Тело пронизывается внутренним взором, чары его материа¬
льных границ подвергаются распадению, его приносят в жертву вели¬
чию пространства. И одновременно с этим впечатлением и под его
воздействием мы ощущаем бесконечную подвижность чувственной
стихии, которая образует резкую противоположность статуарной ата¬
раксии фрески. Потому-то и не существует никакого греческого имп¬
рессионизма. Потому-то античная скульптура и является искусством,
исключающим его с самого начала.
Импрессионизм — это всеохватное выражение мироощущения, и по¬
нятно само собой, что он пронизывает всю физиономию нашего позднего
искусства. Существует импрессионистская, намеренно и с особым ударе¬
нием перешагивающая оптические границы математика. Таков анализ
начиная с Ньютона и Лейбница. К ней относятся визионерские образова¬
ния числовых полей, множеств, групп преобразований, многомерных
геометрий. Существует импрессионистская физика, которая «видит»
вместо тел системы материальных точек, единицы, представляющиеся
исключительно постоянными отношениями переменных эффективно¬
стей. Существуют импрессионистская этика, трагика и логика. В пиетиз¬
ме существует также импрессионистское христианство.
В живописном и музыкальном смысле речь здесь идет об искусстве
несколькими линиями, пятнами или звуками создавать неисчерпае¬
мую по содержанию картину, целый микрокосм для слуха и зрения фа¬
устовского человека, т. е. художественными средствами околдовывать
действительность бесконечного пространства — посредством беглого,
почти бестелесного намека на нечто предметное, который, так сказать,
и заставляет это предметное проявиться. Это есть движение неподвиж¬
ного, на которое больше ни у кого не хватило отваги. Начиная со стар¬
ческих работ Тициана и вплоть до Коро и Менцеля парообразная мате¬
рия трепещет и струится в результате таинственного действия, произ¬
веденного мазками кисти и рассыпанными там и сям цветом и светом.
К тому же самому стремится, в отличие от собственно мелодии, «тема»
музыки барокко, звуковое образование, сопровождающееся действием
всех прелестей гармонии, инструментальных окрасок, такта и темпа,
fyaea четвертая. Музыка и скульптура
315
которое развивается от мотивного воздействия насквозь подражатель¬
ной музыкальной фразы времен Тициана и вплоть до вагнеровского
лейтмотива и включает целый мир чувств и переживаний. В момент ку¬
льминации немецкой музыки это искусство проникает в немецко¬
язычную лирику (во французском оно невозможно), где со времен
Гётева «Прафауста» и последних стихотворений Гёльдерлина им со¬
здан целый ряд небольших шедевров, текстов объемом в несколько
строк, которых до сих пор никто так и не заметил, уж не говоря о том,
чтобы их собрать. Импрессионизм — это метод утонченнейших откры¬
тий. В мелком и мельчайшем он постоянно повторяет деяния Колумба
и Коперника. Ни в какой другой культуре не существует орнаменталь¬
ного языка со столь мощной динамикой впечатления при такой незна¬
чительной затрате средств. Каждая цветовая точка или линия, каждый
едва слышный короткий звук обнаруживает пьянящую очарователь¬
ность и наделяет воображение все новыми моментами творящей про¬
странство энергии. У Мазаччо и Пьеро делла Франческа действитель¬
ные тела омываются воздухом. Только Леонардо открыл переходы ат¬
мосферических света и тьмы, мягкие края, сливающиеся с глубиной
контуры, области света и тени, из которых уже невозможно выделить
отдельные образы. Наконец, у Рембрандта предметы расплываются
просто в цветовые впечатления; образы утрачивают специфически че¬
ловеческое; в едином страстном глубинном ритме они действуют на
нас как линия и цветовое пятно. И эта даль означает теперь также и бу¬
дущее. Импрессионизм заставляет остановится краткий миг, который
был всего лишь раз и никогда больше не повторится. Пейзаж — это ни¬
какое не бытие и пребывание, но летучий момент их истории. Подобно
тому, как портрет работы Рембрандта ориентирован не на анатомиче¬
ский рельеф головы, но на второе лицо в ней, как с помощью орнамента
мазков кисти он улавливает не глаз, а взгляд, не лоб, а переживание, не
губы, но чувственность, так и импрессионистская картина вообще не
показывает природы переднего плана, но также и здесь второе лицо,
взгляд, душу ландшафта. Будет ли идти речь о католически-героиче-
ском пейзаже Лоррена, о paysage intime [задушевном пейзаже (фр.)\
Коро, о море, берегах рек и деревнях Кёйпа и Ван Гойена, неизменно
возникает портрет в физиономическом смысле, нечто однократное,
непредвиденное и вышедшее на свет в первый и последний раз. Как раз
предпочтение, отдаваемое пейзажу, пейзажу физиономическому, ха¬
рактерному, т. е. такому мотиву, который вообще немыслим во фрес¬
ковом стиле и оставался совершенно недоступным античности, рас¬
ширяет портретное искусство от непосредственно человеческого до
опосредованного: приводит его к изображению мира как части «я»,
мира, в который художник помещает самого себя и в котором зритель
обретает себя вновь. Ибо в этой простирающейся вдаль природе ото¬
бражается судьба. В этом искусстве существует трагический, демониче¬
ский, смеющийся, стенающий пейзаж, нечто такое, о чем вовсе ника¬
316
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
кого представления не имеют люди иных культур, у которых просто нет
на это органа. Тот, кто ставит этот мир форм на одну доску с иллюзио¬
нистской живописью эллинизма, не знает разницы между орнаменти¬
кой высокого уровня и бездушной имитацией, обезьянничаньем кажи¬
мости. Если Лисипп, согласно Плинию116, сказал, что изображает лю¬
дей такими, какими они ему представляются, это вполне соответствует
честолюбию детей, дилетантов и дикарей, но не художников. Здесь от¬
сутствует большой стиль, значимость, глубокая необходимость. Так
писали и обитатели пещер каменного века. Однако художники элли¬
нистического времени на самом деле были способны на большее, чем
входило в их намерения. Еще стенные росписи в Помпеях и пейзажи из
«Одиссеи» в Риме содержат символ: на каждом из них изображена груп¬
па тел, среди которых имеются скалы, деревья и даже — как тело среди
прочих тел! — «море» как таковое. Никакой глубины не возникает, а то¬
лько соположенность. Чему-то должно было достаться наиболее уда¬
ленное место, однако с фаустовским прояснением далей эта техниче¬
ская необходимость не имеет ничего общего.
18
Я сказал, что в конце XVII в., когда все великие мастера поумирали
один за другим, масляная живопись пресеклась. Но ведь импрессио¬
низм в более специальном смысле слова — это порождение XIX в.? Так
все же процветала ли живопись на протяжении еще 200 лет, или, быть
может, она существует еще и сегодня? Не будем обманывать самих себя.
Между Рембрандтом и Делакруа или Констеблем пролегает мертвая по¬
лоса, и то, что начинается с последними, несмотря на все имеющиеся
связи в плане техники и исполнения, весьма отличается от того, что за¬
вершилось с первым. Чисто декоративным художникам XVIII в. нечего
делать здесь, где идет речь о живом искусстве, обладающем высочайшей
символикой. Не будем обманываться и в отношении характера нового
живописного эпизода, который после 1800 г., этой границы культуры и
цивилизации, мог вновь пробудить иллюзию великой культуры живо¬
писи. Она сама обозначила свою тему как пленэр и тем самым с доста¬
точной отчетливостью выявила значение собственного летучего явле¬
ния. Пленэр — это сознательный, интеллектуальный и грубый уход от
того, что стали вдруг называть «коричневым соусом» и что, как мы убе¬
дились, являлось подлинно метафизическим цветом на полотнах вели¬
ких мастеров. На нем выстраивалась живописная культура школ, преж¬
де всего нидерландской, которая безвозвратно пропала в эпоху рококо.
Этот коричневый, символ пространственной бесконечности, превра¬
щавший для фаустовского человека картину в душевное Нечто, внезап¬
но стали воспринимать как противоестественный. Что случилось? Не
доказывает ли произошедшее изменение, что отсюда исподволь удали¬
Глава четвертая. Музыка и скульптура
317
лась и душа, для которой этот просветленный цвет знаменовал нечто ре¬
лигиозное, был знаком томления, нес на себе весь смысл живой приро¬
ды? Материализм западноевропейских мировых столиц подул на угли и
вызвал к жизни это необычное и краткое позднее цветение двух поколе¬
ний живописцев — ибо с поколением Мане все завершилось вновь. Я
назвал возвышенный зеленый цвет Грюневальда, Лоррена, Джорджоне
католическим цветом пространства, а трансцендентный коричневый —
цветом протестантского мироощущения. Пленэр, разворачивающий те¬
перь новую цветовую палитру, знаменует, напротив, безрелигиозность*.
Импрессионизм возвратился из сфер бетховенской музыки и кантов¬
ских звездных пространств обратно на землю. Пространство это позна¬
ется, а не переживается, видится, а не созерцается; в нем имеется на¬
строение, а не судьба; то, что вносят в свои пейзажи Курбе и Мане, есть
механический физический объект, а не прочувствованный мир пастора¬
льной музыки. В этом умирающем искусстве осуществляется все то, что
проповедовал Руссо под маркой трагически удачного выражения «воз¬
врат к природе». Так день ото дня все больше возвращается «обратно к
природе» старик. Новый художник — работник, а не творец. Он уклады¬
вает на полотно, один подле другого, чистые цвета спектра. Тонкий по¬
черк, танец мазков кисти уступает место огрубленным приемам: точки,
квадраты, обширные неорганические массивы накладываются на по¬
лотно, множатся, ширятся. Наряду с широкой плоской кистью в качест¬
ве инструмента появляется шпатель. В качестве средства воздействия
привлекается масляный грунт холста, причем местами он остается не¬
закрашенным. Опасное искусство, мучительно холодное, больное, для
сверхутонченных нервов, однако беспредельно научное, энергичное во
всем, что касается преодоления технических трудностей, программно
заостренное: это просто сатировская драма117 по отношению к великой
масляной живописи от Леонардо до Рембрандта. Искусство это могло
чувствовать себя как дома лишь в бодлеровом Париже. Серебристые
пейзажи Коро с их зеленовато-серыми и коричневыми тонами все еще
грезят о душевном старинных мастеров. Курбе и Мане овладевают голым
физическим пространством, пространством как «фактом». На смену
мечтательному первооткрывателю Леонардо приходит живописец-экс¬
периментатор. Коро, этот вечный ребенок, француз, а не парижанин,
повсюду отыскивал свои потусторонние пейзажи; Курбе, Моне, Мане,
Сезанн снимают портрет одной и той же местности вновь и вновь — му¬
чительно, натужно, с обедненной душой: лес Фонтенбло, берега Сены у
Аржантейля или ту примечательную долину близ Арля. Мощные пейза-
Поэтому-то и абсолютно невозможно перейти от пленэра к подлинно религиоз¬
ной живописи. Заложенное в живописи мироощущение до некоторой степени безрели-
гиозно и может сойти лишь за «рассудочную религию», так что любая из многочислен¬
ных, предпринимавшихся с вполне серьезными намерениями попыток в этом направ¬
лении производит пустое и фальшивое впечатление (Уде, Пюви де Шаванн). Одна-
единственная пленэрная картина тут же обмирщает церковный интерьер и низводит
его до выставочного павильона.
318
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
жи Рембрандта пребывают исключительно во Вселенной, пейзажи
Мане находятся недалеко от станции железной дороги. Пленэристы, эти
настоящие жители крупных городов, забрали музыку пространства у
наиболее рассудочных испанцев и голландцев, Веласкеса, Гойи, Гоббе-
мы, Франса Халса, чтобы с помощью английских пейзажистов, а позд¬
нее — японцев, этих рассудочных и высокоцивилизованных умов, пере¬
вести ее в нечто эмпирическое и естественнонаучное. Вот различие пе¬
реживания природы и естествознания, сердца и ума, веры и знания.
Иначе обстояло дело в Германии. Если Франции предстояло завер¬
шать великую живопись, то здесь ее следовало нагонять. Ибо начиная с
Ротмана, Васмана, К. Д. Фридриха и Рунге и вплоть до Маре и Лейбля
живописный стиль предполагает наличие всех моментов развития; они
лежат в основе технической стороны искусства, и всякий раз, как школа
желает перейти на новый стиль, она нуждается в завершенной внутрен¬
ней традиции. Отсюда как сильные, так и слабые стороны немецкой жи¬
вописи последнего времени. У французов имелась собственная тради¬
ция от раннего барокко до Шардена и Коро. Существует живая связь
между Лорреном и Коро, Рубенсом и Делакруа. Однако все великие не¬
мцы XVIII в. становились, как артисты, музыкантами. Одной из особен¬
ностей немецкой романтики оказалось то, что эта музыка, не меняя своей
сокровенной сущности, после Бетховена все-таки еще раз обернулась
живописью. Здесь она цвела долее всего, здесь она принесла очаровате¬
льнейшие свои плоды. Ибо эти лица и эти пейзажи представляют собой
потаенную, полную томления и стремления музыку. Нечто от Эйхен-
дорфа и Мёрике можно найти еще у Тома и Бёклина. Вот только то, в
чем не было собственной внутренней традиции, нуждалось в заимство¬
ванном учении. Все эти художники отправлялись в Париж. Однако по^
мере того, что они, подобно Мане и его кружку, изучали и копировали
также и старинных мастеров 1670 г., они воспринимали и совершенно
новые, совершенно иные воздействия, между тем как французы видели
в этом лишь воспоминания о том, что давно стало частью их искусства.
Так что находящееся вне музыки немецкое изобразительное искусство
представляет собой — с 1800 г. — запоздалое явление, поспешное, бояз¬
ливое, запутанное, пребывающее в недоумении относительно собствен¬
ных средств и целей. Нельзя было терять ни минуты. Ибо за одно или два
поколения живописцев следовало наверстать то, чем стали немецкая
музыка и французская живопись за столетия. Угасающее искусство
стремилось к своей окончательной форме, что привело к необходимости
разом, словно во сне, пролететь сквозь все оставшееся позади. Так здесь
появляются такие удивительные фаустовские натуры, как Маре и
Бёклин, нестойкие во всем формальном: в нашей музыке с ее устойчи¬
вой традицией (вспомним здесь Брукнера) они были бы абсолютно не¬
мыслимы. Этот трагизм столь же мало знаком проясненному в програм¬
мном отношении и тем более обедненному внутренне искусству фран¬
цузских импрессионистов. Однако то же самое справедливо и
четвертая. Музыка и скульптура
Глава
319
применительно к немецкой литературе, которая начцчая с времен Гёте
испытывала потребность каждым своим крупным произведением нечто
обосновать и должна была им же нечто завершить. Подобно тому как
Клейст чувствовал себя Шекспиром и Стендалем в одно и то же время и с
отчаянными усилиями, в вечном недовольстве, изменяя и разрушая, же¬
лал сплавить воедино два столетия психологического искусства; подоб¬
но тому как Геббель втиснул в единственный тип драмы всю проблемати¬
ку от «Гамлета» до «Росмерсхольма»118, так и Мендель, Лейбль, Маре
пытались уплотнить в одну-единственную форму старые и новые образ¬
цы: Рембрандта, Лоррена, Ван Гойена, Ватто, Делакруа, Курбе и Мане.
Между тем как маленькие ранние интерьеры Менделя предвосхищают
все открытия круга Мане, а Лейбль осуществил многое из того, на чем
потерпел поражение Курбе, в их картинах, с другой стороны, метафизи¬
ческий коричневый и зеленый старых мастеров снова приходят к полно¬
му выражению внутреннего переживания. Мендель действительно пе¬
режил заново и пробудил вновь что-то от прусского рококо, Маре про¬
делал то же самое с каким-то моментом Рубенса, а Лейбль в своем
портрете госпожи Гедон действительно возобновил нечто от рембранд¬
товского портретного искусства. Бок о бок с «коричневым цветом мас¬
терской» XVI в. стояло еще одно искусство в высшей степени фаустов¬
ского содержания, а именно гравюра. И в том и в другом Рембрандт ока¬
зался первым мастером Ьсех эпох. Также и в гравюре имеется нечто
протестантское, и она неизменно удалена от более южных, католиче¬
ских художников сине-зеленой атмосферы и гобелена. Лейбль, как по¬
следний художник коричневого, был также и последним великим грави¬
ровщиком, чьи листы пронизаны.той рембрандтовской бесконечно¬
стью, которая позволяет зрителю открывать все новые и новые тайны.
Наконец, Маре располагал мощной интуицией великого барочного сти¬
ля, которую Жерико и Домье все еще были способны вколдовать в зам¬
кнутую форму, но которая, однако, в его случае, а именно в отсутствие
крепкой опоры на западную традицию, не могла пробиться в мир живо¬
писного явления.
19
С «Тристаном» умирает цоследнее фаустовское искусство. Это про¬
изведение является колоссальным замковым камнем западной музы¬
ки. Живопись не добраласьдо столь мощного финала. Мане, Мендель
и Лейбль, в чьих пленэрных этюдах словно бы выходит из могилы мас¬
ляная живопись в старинном стиле, напротив того, мельчат.
Аполлоническое искусство достигло своего завершения «одновре¬
менно», в пергамской скульптуре. Пергам — это двойник Байрёйта.
Сам знаменитый алтарь представляет собой позднее и, быть может, не
самое значительное произведение эпохи. Следует предполагать нал и-
320 Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
чие здесь (ок. 330-220) длительного, канувшего без следа развития. Од¬
нако все то, что выдвинул Ницше против Вагнера и Байрёйта, против
«Кольца» и «Парсифаля», вполне можно, используя те же самые выра¬
жения, такие как декаданс и фиглярство, применить также и к этой
скульптуре, шедевральное творение которой дошло до нас в виде фриза
гигантов великого алтаря (также «кольца»). Та же самая театральность,
та же опора на старые мифические мотивы, которым больше нет веры,
то же безоглядное массированное воздействие на нервы, однако и те же
самые сознательный размах, величие и благородство, которые тем не
менее не в состоянии полностью скрыть недостаток внутренней силы.
Нет сомнения в том, что бык Фарнезе и более старый пра-образ группы
«Лаокоона» происходят из этого круга.
Что характерно для угасающей творческой потенции, так это отсут¬
ствие формы и меры, в которых нуждаются художники, чтобы все-таки
создать нечто закругленное и цельное. Я имею в виду не только вкус ко
всему исполинскому, который не является выражением внутреннего ве¬
личия, как это было в готике и в стиле пирамид, а лишь стремится
скрыть его отсутствие: это кичение ненаполненными размерами характер¬
но для всех пробуждающихся цивилизаций и господствует начиная с ал¬
таря Зевса в Пергаме и известной как Колосс Родосский статуи Гелиоса,
созданной Харетом, вплоть до римских построек императорского вре¬
мени, точно так же, как в Египте в начале Нового царства и теперь в Аме¬
рике. Куда примечательнее произвол и чрезмерность, насилующие и ло¬
мающие все выработанные веками условности. Чего больше не перено¬
сят как здесь, так и там, так это надличностного правила, абсолютной
математики формы, судьбы медленно вызревавшего языка великого ис¬
кусства. Лисипп в этом смысле ниже Поликлета, а творцы групп гал¬
лов — ниже Лисиппа. Это соответствует пути, проходящему от Баха че¬
рез Бетховена — к Вагнеру. Ранние художники ощущают себя повелите¬
лями великой формы, поздние — ее рабами. То, что совершенно
свободно и беззаботно в пределах строжайших условностей удавалось
сказать Праксителю с Гайдном, Лисипп и Бетховен создают лишь в ре¬
зультате изнасилования. Верные знаки всякого живого искусства: чис¬
тая гармония воли, долга и умения, самоочевидность цели, бессознате¬
льность исполнения, единство искусства и культуры — всего этого нет
теперь и в помине. Коро и Тьеполо, Моцарт и Чимароза еще владели ма¬
теринским языком своего искусства. Отныне его начинают коверкать,
однако никто этого уже не замечает, потому что никто больше не в со¬
стоянии бегло говорить. Некогда свобода и необходимость были тожде¬
ственны друг другу. Ныне под свободой понимают недостаток выучки.
Слишком хорошо знакомая нам драма, когда кто-то «не справляется со
своей задачей», была совершенно немыслима во времена Рембрандта и
Баха. Судьба формы пребывала в расе, в школе, а не в тенденциях част¬
ного лица. Находясь под чарами великой традиции, даже некрупный ху¬
дожник способен достичь совершенства, поскольку его сводит с задачей
Глава четвертая. Музыка и скульптура 321
живое искусство. Сегодня этим художникам приходится желать того, на
что они больше не способны, и прикладывать свой художественный рас¬
судок, рассчитывать и комбинировать там, где угас взрощенный школой
инстинкт. Все они прошли через это. Маре не удалось осуществить ни
один из своих больших замыслов. Лейбль не отваживался расстаться со
своими последними работами, пока в результате бесконечных перерабо¬
ток они не делались холодными и черствыми. Сезанн и Ренуар оставили
многое из лучшего, что было ими создано, незаконченным, поскольку
при всей своей энергии и усилиях они не могли двигаться дальше. Напи¬
сав тридцать картин, Мане надорвался, и несмотря на колоссальное на¬
пряжение, о котором свидетельствует каждая черточка самого полотна и
набросков, своим «Расстрелом императора Максимилиана» он едва ли
достиг того, чего с легкостью добился Гойя в картине, служившей ему
образцом, «Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года». Бах, Гайдн,
Моцарт и тысячи безымянных музыкантов XVIII в. могли достигать со¬
вершенства в ходе скорой повседневной работы. Вагнер знал, что под¬
нимется на вершину лишь тогда, когда соберет воедино всю свою энер¬
гию и в мучениях воспользуется лучшими моментами своего художест¬
венного дарования.
У Вагнера с Мане глубинное родство. Немногие его ощущают, од¬
нако такой знаток всего декадентского, как Бодлер, обнаружил его уже
очень рано119. Выколдовать из цветовых линий и пятен пространствен¬
ный мир — вот в чем состояло высшее, утонченнейшее искусство имп¬
рессионистов. Вагнер добивается того же с помощью трех тактов, в ко¬
торые у него уплотняется целый мир души. Всего несколькими звука¬
ми своего мотива он с совершенной отчетливостью выписывает цвета
звездной ночи, проплывающих облаков, осени, жутко-тоскливого рас¬
света, ошеломляющие виды залитых солнцем далей, мировой страх,
приближение рока, безнадежность, отчаянный порыв, внезапно за¬
рождающуюся надежду — все это впечатления, о которых прежде не
помышлял ни один музыкант. Здесь оказывается достигнутой крайняя
противоположность греческой скульптуре. Все погружено в бестелес¬
ную бесконечность; ни одной линеарной мелодии больше не выделя¬
ется из неясных звуковых масс, которые диковинными валами вызыва¬
ют на свет воображаемое пространство. Мотив всплывает из мрачной и
чудовищной глубины, когда на него мимолетно падает пронзительный
свет; внезапно он оказывается ужасно близко; мотив улыбается, ласка¬
ется и грозит; он то исчезает в царстве струнных инструментов, то сно¬
ва приближается из бесконечной дали, легко варьируемый одним-
единственным гобоем, будучи исполнен все новой глубины душевных
тонов. Все это не есть ни живопись, ни музыка, если иметь в виду пред¬
шествовавшие работы в строгом стиле. Когда Россини спросили, что
он думает о музыке «Гугенотов»120, он ответил: «Музыка? А разве там
звучала какая-то музыка?» Точно такое же суждение можно было услы¬
шать в Афинах относительно нового живописного искусства азиатской
11 Закат Западного мира
322
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
и сикионской школ, и немногим отличалось бы то, что произнесли бы
в египетских Фивах насчет искусства Кносса и Тель-эль-Амарны.
Все, что сказано Ницше о Вагнере, приложимо и к Мане. Якобы
возвращение к элементарному, к природе в противоположность сю¬
жетной живописи и абсолютной музыке, на деле их искусство означает
уступку варварству больших городов, начинающемуся распаду, как он
выражается в области чувственного через смесь брутальности и утон¬
ченности, — шаг, который по необходимости должен быть последним.
Искусственное искусство неспособно ни на какое дальнейшее органи¬
ческое развитие. Оно знаменует конец.
Отсюда следует (и это горькое признание), что западное изобразите¬
льное искусство пришло к неминуемому завершению. Кризис XIX в.
был агонией. Фаустовское искусство умирает, как и аполлоническое,
как и египетское, как и всякое другое, — от старческой немощи, после
того, как оно реализовало все свои внутренние возможности, после того,
как оно исполнило свое предназначение в биографии своей культуры.
То, что практикуется ныне в качестве искусства, — как музыка по¬
сле Вагнера, так и живопись после Мане, Сезанна, Лейбля и Менце-
ля, — представляет собой бессилие и ложь.
Попытаемся же отыскать великие личности, которые могли бы
оправдать утверждение, что искусство, заряженное судьбоносной не¬
обходимостью, все еще существует. Поищем самоочевидные и насущные
задачи, которые ждали бы своего решения от этих людей. Обойдем все
выставки, концерты, театры — и не найдем здесь никого, кроме сует¬
ливых дельцов и шумных дураков, которые довольствуются поделками
на продажу, хотя внутренне все это уже давно воспринимается как из¬
лишнее. На каком низком уровне внутреннего и внешнего достоинства
пребывает сегодня все то, что принято именовать искусством и худож¬
никами! Да на общем собрании любого акционерного общества или
среди инженеров первого попавшегося машиностроительного завода
мы отыщем больше интеллигенции121, вкуса, характера и мастерства,
чем во всей живописи и музыке современной Европы! На одного вели¬
кого художника всегда приходилась сотня лишних людей, подвизав¬
шихся в искусстве. Однако пока существовала великая условность, а
значит подлинное искусство, даже и из-под их рук выходило нечто по¬
рядочное. Существование этой сотни было извинительным, потому
все сообща эти люди и были той самой почвенной традицией, которая
рождала одного. Но ныне только эти 10 ООО122 и занимаются делом,
«чтобы как-то жить» (в необходимости чего никакой уверенности у нас
нет), и несомненно лишь одно: все художественные заведения можно
было бы сегодня позакрывать, само же искусство этого даже и не заме¬
тит. Нам было бы довольно перенестись в Александрию в 200 г. до Р. X.,
чтобы получить представление о создаваемой вокруг искусства шуми¬
хе, посредством которой цивилизация мировых столиц умудряется об¬
мануться насчет смерти своего искусства. Там, как и теперь в мировых
Глава четвертая. Музыка и скульптура
323
столицах Западной Европы, шла погоня за иллюзиями дальнейшего
художественного развития, персональной самобытности, «нового сти¬
ля», «непредвиденных возможностей», звучала теоретизирующая бол¬
товня, привлекали всеобщее внимание претенциозные позы модных
художников, подобных акробатам, жонглирующим («ходдирую-
щим»123) гирями из папье-маше, можно было видеть литератора вместо
поэта, наблюдать позорный фарс организованного торговцами от ис¬
кусства экспрессионизма, выдаваемого за главу в истории искусств,
познакомиться с воззрением на мышление, чувства и творчество как
художественное ремесло. В Александрии тоже были свои драматурги
на животрепещущие темы и режиссеры, которых предпочитали Со¬
фоклу, были и художники, изобретавшие новые течения и ошеломляв¬
шие свою публику. Что имеем мы сегодня под именем «искусства»? Во-
первых, фальшивую музыку, полную деланого шума массированно пу¬
скаемых в ход инструментов. Во-вторых, изолгавшуюся живопись,
полную идиотических, экзотических и плакатных эффектов. В-треть¬
их, лживую архитектуру, которая каждые десять лет, порывшись в за¬
пасниках форм прошедших тысячелетий, «основывает» новый стиль, и
уж под его маркой каждый делает, что ему заблагорассудится. Наконец,
лживую скульптуру, обкрадывающую Ассирию, Египет и Мексику. И
все же во внимание, как выражение и знамение времени, принимается
один только вкус светских кругов. А все прочее, что, напротив, продол¬
жает «держаться» за старые идеалы, становится уделом исключительно
одних провинциалов.
Великая орнаментика прошлого сделалась мертвым языком, как
санскрит и церковная латынь*. Вместо того чтобы служить ее символи¬
ке, ее мумию, ее наследие используют на готовых формах, размножа¬
ют, подвергают совершенно неорганичным изменениям. Всякий мо¬
дернизм почитает отклонение за развитие. На место действительного
становления приходят реанимированные старые стили и их гибриды. В
Александрии тоже были свои прерафаэлитствующие паяцы — с ваза¬
ми, стульями, картинами и теориями, свои символисты, натуралисты и
экспрессионисты. В Риме себя выдают то за представителей греко-ази¬
атской школы, то греко-египетской, то архаической, а то — по Пракси¬
телю — новоаттической. Рельефы XIX династии, этот египетский мо¬
дернизм, которые массивно, бессмысленно и неорганично оплетают
стены, статуи и колонны, производит впечатление пародии на искусст¬
во Древнего царства. Наконец, птолемеевский храм Гора в Эдфу невоз¬
можно было бы превзойти по пустоте произвольно нагроможденных
форм. Это хвастливый и навязчивый стиль также и наших улиц, мону¬
ментальных площадей и выставок, хотя мы пребываем еще только в на¬
чале такого развития.
Ср. с. 576.
324
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Наконец, иссякает даже та энергия, которая необходима, чтобы хотя
бы только желать чего-то иного. Уже великий Рамсес присваивал по¬
стройки своих предшественников, повелевая вырубать их имена с над¬
писей и сцен рельефов и заменять их на собственное. То же самое при¬
знание в художественной импотенции подвигло и Константина укра¬
сить собственную триумфальную арку в Риме скульптурами, снятыми с
других зданий. Много раньше, примерно с 150 г. до Р. X., в регионе ан¬
тичного искусства возникает техника копирования старинных шедев¬
ров — не потому, что в них еще хоть что-то понимали, но потому, что ни¬
кто больше не мог создавать оригиналы. Ибо мы должны как следует
усвоить: копиисты эти были художниками той эпохи. Их работы, испол¬
ненные в том или ином стиле в соответствии с требованиями моды, зна¬
менуют максимум имевшейся на тот момент творческой потенции. Во¬
обще все римские портретные статуи, будь то мужские или женские,
сводятся к весьма малому числу греческих типов позы и жеста, которые,
что касается торса фигуры, копировались с большей или меньшей вер¬
ностью стилю, между тем как лицо делалось «похожим» с помощью при¬
митивной ремесленной способности потрафить заказчику. Так, напри¬
мер, знаменитая статуя Августа в доспехах выполнена по образцу «Дори-
фора» Поликлета. Примерно в таком соотношении находятся (если
называть первые предварительные признаки соответствующей стадии
на Западе) Ленбах к Рембрандту и Макарт — к Рубенсу. Точно так же на
протяжении 1500 лет, от Яхмоса I до Клеопатры, копил все новые и но¬
вые скульптуры и египетский дух. Вместо развивавшегося древними
вплоть до конца Среднего царства большого стиля здесь господствует
мода, заставляющая вновь оживать вкус то одной, то другой династии.
Среди турфанских находок124 имеются остатки индийских драм времени
Рождения Христа, нисколько не уступающие созданным Калидасой не¬
сколькими столетиями позже. Известная нам китайская живопись на
протяжении более тысячелетия демонстрирует непрестанную смену
стилевой моды при отсутствии развития, и так, должно быть, обстояло
дело уже в эпоху Хань. Окончательным результатом является устояв¬
шийся, без устали копируемый запас форм, как нам это демонстрируют
ныне индийское, китайское и арабско-персидское искусство, и в соот¬
ветствии с ним исполняются картины и ткани, стихи и сосуды, мебель,
драмы и музыкальные произведения*, — и это при невозможности по
языку орнаментики определить хотя бы век, к которому относится дан¬
ная работа, уж не говоря о десятилетии, что неизменно удавалось во всех
культурах вплоть до завершения позднего времени.
Ср. т. 1, гл. 3, раздел 10.
ГЛАВА ПЯТАЯ
ОБРАЗ ДУШИ
И ЖИЗНЕОЩУЩЕНИЕ
I. О форме души
1
Всякий профессиональный философ вынужден, не прибегая к се¬
рьезной проверке, верить в существование чего-то такого, с чем, на его
взгляд, можно оперировать с помощью рассудка, потому что от такой
возможности зависит все духовное бытие его самого. Поэтому у всяко¬
го логика и психолога, какими бы скептиками они ни были, есть пунк¬
тик, в котором умолкает критика и начинается вера, где даже строжай¬
ший аналитик перестает применять свой метод (а именно против само¬
го себя и по вопросу о разрешимости и даже просто наличии стоящей
перед ним задачи). Так, высказывание: «С помощью мышления можно
установить формы мышления» Кант под сомнение не ставил, каким бы
сомнительным ни представлялось оно нефилософу. В высказывании:
«Существует душа, структура которой доступна для научных методов;
то, что я с помощью критического разбора сознательных бытийствен-
ных актов устанавливаю в форме психических «элементов», «функ¬
ций», «комплексов» — и есть моя душа» не усомнился пока что ни один
психолог. И тем не менее здесь должны были бы зародиться глубочай¬
шие сомнения. Вообще возможна ли абстрактная наука о душевном
элементе? Соответствует ли то, что мы находим, следуя по этому
пути — тому, что искали? Почему вся вообще психология, если взять ее
не как знание людей и жизненный опыт, но как науку, изначально
остается самой плоской и никчемной из философских дисциплин, уде¬
лом — при всей своей пустоте — исключительно посредственных умов
и бесплодных систематиков? Причину этого несложно отыскать. Беда
«эмпирической» психологии в том, что у нее нет даже объекта в смысле
какой бы то ни было научной техники. То, как она отыскивает пробле¬
мы и их разрешает, — сущая борьба с тенями и призраками. Что это та¬
кое — душа? Если бы здравый смысл мог дать ответ на этот вопрос, нау¬
ка оказалась бы излишней.
Ни один из тысячи современных психологов не смог дать подлинно¬
го анализа или определения воли «как таковой», раскаяния, страха, рев¬
ности, прихоти, художественной интуиции. Еще бы, ведь разбирать
можно только нечто системное, а определять можно только понятия с
помощью других понятий. Все изыски духовной игры с понятийными
Дистинкциями, все мнимые наблюдения взаимосвязей чувственно-те¬
328
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
лесных данных с «внутренними процессами» никак не затрагивают того,
о чем здесь на самом деле идет речь. Воля — это не понятие, а имя, пра-
слово, все равно что Бог, знак чего-то, в чем мы внутренне непосредст¬
венно убеждены, не будучи в состоянии хоть когда-нибудь это описать.
То, что имеется здесь в виду, остается извечно недоступным для
ученого исследования. Не напрасно всякий язык своими путающими
на тысячи ладов обозначениями заказывает нам теоретически делить
душевное, желать его систематически упорядочить. Здесь нечего упо¬
рядочивать. Критические — «препарирующие» — методы приложимы
исключительно к миру как природе. Скорее вам удастся с помощью
скальпеля или кислоты разложить бетховенскую тему, чем средствами
абстрактного мышления — душу. У познания природы и познания че¬
ловека нет никаких общих целей, путей и методов. Первобытный чело¬
век переживает «душу» вначале в других людях, а затем также и в себе
как питеп, подобно тому, как ему известны numina в окружающем
мире, и свои впечатления он толкует мифическим образом. Соответст¬
вующие слова являются символами, звуками, означающими для того,
кто понимает, нечто неописуемое. Они вызывают к жизни образы,
сравнения, и объясняться относительно душевного на ином языке мы
не научились и по сей день. С помощью автопортрета или пейзажа
Рембрандт может поведать что-то о своей душе тому, кто ему внутрен¬
не близок, а Гёте некий Бог наделил даром сказать про то, как он стра¬
дает125. Некоторые неуловимые для слов душевные порывы, чувства
могут быть сообщены другим людям взглядом, парой тактов мелодии,
едва заметным движением. Это подлинный язык души, который оста¬
ется непонятным посторонним. Слово как звук, как поэтический эле¬
мент в состоянии установить здесь связь, слово как понятие, как эле¬
мент научной прозы — никогда.
Для человека, поскольку он не только живет и ощущает, но и, на¬
блюдая, примечает, «душа» — это образ, происходящий из всецело из¬
начального опыта смерти и жизни. Образ этот столь же стар, как и от¬
деленное словесными языками от зрения и следующее за ним раз¬
мышление вообще. Окружающий нас мир мы видим; поскольку всякое
свободно двигающееся в нем существо, чтобы не погибнуть, должно
его еще и понимать, из повседневного малого, технического, нащупы¬
вающего опыта развивается совокупность устойчивых черт, смыкаю¬
щаяся для привыкшего к словам человека в образ понятого, в мир как
природу*. То, что не является внешним миром, мы не видим; однако
мы ощущаем его присутствие, как в других, так и в самих себе. Своим
способом физиономически давать о себе знать «оно» пробуждает страх
и любознательность, и таким образом возникает раздумчивый образ
антимира, посредством которого мы представляем, зримо устанавли¬
ваем перед собой то, что самому глазу остается извечно чуждым. Образ
Ср. т. 1, гл. 2, раздел 2.
Глава пятая. Образ души и жизнеощущение
329
души мифичен и является предметом культов души постольку, поско¬
льку мы взираем на образ природы по-религиозному; он превращается
в научное представление и делается предметом научной критики, как
только мы начинаем критически наблюдать «природу». Подобно тому
как «время» является понятием, противоположным* пространству, так
и «душа» — антимир к «природе» и — совместно с природой — ежемо-
ментно определяется представлением о ней. Уже было показано, как
«время» возникло из ощущения направления пребывающей в вечном
движении жизни, из внутренней несомненности судьбы в качестве
мысленного негатива к положительной величине, как воплощение
того, что не есть протяженность, и что вообще все «свойства» времени,
посредством абстрактного препарирования которых, полагали фило¬
софы, они смогут разрешить проблему времени, постепенно сформи¬
ровались и упорядочились в уме как вывернутые наизнанку свойства
пространства. Совершенно таким же был путь возникновения пред¬
ставления о душевном как о переворачивании и негативе представле¬
ния о мире с привлечением на помощь пространственной полярности
«внешнее—внутреннее» и соответствующего переосмысления харак¬
теристик. Всякая психология есть антифизика.
Абсурдно желать получить «точное знание» об остающейся вечно ис¬
полненной тайны душе. Однако поздняя городская склонность к абст¬
рактному мышлению все равно принуждает «физика внутреннего мира»
к тому, чтобы пояснять иллюзорный мир представлений все новыми
представлениями, а понятия — понятиями. Он переосмысливает непро¬
тяженное в протяженное, он строит систему в качестве причины того,
что усматривается исключительно физиономически, и верит, что в этой
системе его взору открывается структура «души». Но уже сами слова,
подбираемые во всех культурах для того, чтобы сообщить эти результаты
научной работы, выдают тайну. Речь здесь идет о функциях, комплексах
ощущений, побудительных пружинах, порогах сознания, о протекании,
ширине, интенсивности, параллелизме душевных процессов. Однако
все эти слова происходят из способа представления естествознания.
«Воля соотносится с предметом» — да ведь это пространственный образ.
Сознательное и бессознательное — в основу этого слишком уж явно по¬
ложена схема надземного и подземного. В современных теориях воли
мы находим весь язык форм электродинамики. Мы говорим о волевых
Функциях и мыслительных функциях совершенно в том же смысле, что
и о работе системы сил. Анализировать ощущение —^значит математи¬
чески разобрать его теневое отображение на собственной душе, разде¬
лить его на части и измерить. Всякое исследование души в таком стиле,
каким бы возвышенным ни почитало оно само себя в сравнении с анато¬
мией мозга, полно механических привязок и, само того не замечая, при¬
бегает к воображаемой системе координат внутри воображаемого ду¬
*
Ср. Введение, с. 64 сл.
330
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
шевного пространства. «Чистый» психолог и не замечает вовсе, что во
всем копирует физика. Так что вовсе не удивительно, что приемы по¬
следнего точка в точку совпадают с самыми нелепыми методами экспе¬
риментальной психологии. По способу представления мозговые пути и
ассоциативные нити всецело соответствуют оптической схеме: «волевой
процесс» или «процесс восприятия»; в обоих случаях речь идет о родст¬
венных, а именно пространственных фантомах. Нет большой разницы,
будем ли мы определять психическую способность на понятиях или же
станем ограничивать соответствующую область коры большого полуша¬
рия графически. Научная психология разработала замкнутую систему
образов и оперирует с ней как с чем-то само собой разумеющимся. Рас¬
смотрите любое отдельно взятое высказывание любого отдельно взятого
психолога и вы получите лишь вариации этой системы в стиле соответ¬
ствующего внешнего мира.
Четкое, абстрагированное от зрения мышление предполагает в качест¬
ве средства дух языка культуры, то, что, будучи создано душевным эле¬
ментом культуры как часть и носитель ее выражения* **, образует «природу»
значений слов, языковой космос, внутри которого абстрактные понятия,
суждения, выводы (отображения числа, каузальности, движения) ведут
свое механически предопределенное существование. Так что ежемомент-
ный образ души зависит от словоупотребления и его глубинной символики.
Все западные, т. е. фаустовские, языки имеют понятие «воли» — мифиче¬
ской величины, которая в то же самое время делается наглядной посред¬
ством преобразования глагола и создает решительный противовес антич¬
ному способу употребления языка, а значит, и образу души. Ego habeo fac¬
tum вместо feci* — в этом проступает питеп внутреннего мира. Так что в
научной картине души всех западных психологий образ воли, определен¬
ный языком, появляется в качестве хорошо обособленной способности,
само по себе существование которой, при том что ее по-разному опреде¬
ляют в отдельных школах, никакой критики не вызывает.
2
Итак, я утверждаю, что научная психология, будучи крайне далека
от того, чтобы раскрыть сущность души или хотя бы только к ней при¬
коснуться (следует прибавить, что каждый из нас, сам того не зная, за-
* Праязыки никоим образом не могут служить основой для абстрактного хода рас-
суждений. Однако в начале всякой культуры происходит внутреннее преобразование
имеющегося в наличии тела языка, которое делает его способным к решению высших
символических задач развития культуры. Так в одно время с романским стилем из гер¬
манских языков франкской эпохи возникают немецкий и английский, а из lingua rustica
[сельского языка (лат.)] бывших римских провинций — французский, итальянский и
испанский: несмотря на столь разное происхождение, это все языки тождественного
метафизического содержания.
** Ср. с. 289.
пятая. Образ души и жизнеощущение
Глава
331
нимается психологией такого рода, когда пытается «представить» соб¬
ственные или чужие душевные движения), прибавляет ко всем симво¬
лам, составляющим макрокосм культурного человека, еще один. Как и
все завершенное, а не завершающее само себя, он представляет собой
механизм вместо организма. В этой картине отсутствует то, что напол¬
няет собой наше жизнеощущение и должно было бы быть как раз-таки
«душой»: судьбоносность, не оставляющее выбора направление бытия,
возможное, осуществляемое жизнью в ее протекании. Не думаю, что¬
бы хоть в одной из психологических систем встречалось слово «судь¬
ба», и известно, что нет в мире ничего более удаленного от действите¬
льного жизненного опыта и знания людей, чем такая система. Ассоци¬
ации, апперцепции, аффекты, движущие пружины, мышление,
чувство, воля — все это мертвые механизмы, топография которых об¬
разует безотносительное содержание науки о душе. Хотели отыскать
жизнь, а напали на понятийный орнамент. Душа осталась тем, чем и
была, что нельзя ни помыслить, ни представить, тайной как таковой,
самим вечно становящимся, самим чистым переживанием.
Это воображаемое тело души (выговорим это здесь в первый раз) ни в
коем случае не является чем-то помимо верного зеркального отображе¬
ния того образа, в виде которого зрелый человек культуры видит свой
внешний мир. Как здесь, так и там благодаря переживанию глубины ре¬
ализуется протяженный мир*. Тайна, намек на которую содержит пра-
слово «время», создает пространство как таковое как из восприятия
внешнего, так и из представления о внутреннем. Также и картина души
имеет свое направление вглубь, свой горизонт, свою ограниченность
или бесконечность. «Внутреннее око» видит, «внутреннее ухо» слышит.
Существует отчетливое представление о внутреннем порядке, который,
как и порядок внешний, несет на себе черту каузальной необходимости.
Тем самым после всего, что было сказано в этой книге о явлении
высших культур, открывается перспектива колоссального расширения
и обогащения исследований души. Все, что ныне говорят и пишут пси¬
хологи (речь при этом идет не только о систематической науке, но так¬
же и о физиономическом познании человека в широчайшем смысле
этого слова), относится исключительно к современному состоянию за¬
падной души, между тем как считавшееся до сих пор само собой разуме¬
ющимся мнение о том, что эти опыты применимы также и к «человече¬
ской душе» вообще, принималось на веру без всякой проверки.
Образ души — это всякий раз образ вполне определенной души. Нет
наблюдателя, который мог бы хоть раз уйти от условий своего времени
и своего круга, что бы он ни «изучал»: всякое приобретенное таким об¬
разом знание уже является — по отбору, направлению и внутренней
форме — выражением его собственной души. Уже первобытный чело¬
век на основании фактов своей жизни составляет себе картину души,
формирующее действие на которую оказывают первичные опыты как
Ср. т. 1, гл. 3, раздел 4.
332 Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
бодрствования (различие «я» и мира, «я» и «ты»), так и существования
(различие тела и души, жизни чувств и размышления, половой жизни и
восприятия). В связи с тем что размышляют об этом именно задумчи¬
вые люди, здесь — в противоположность прочим — неизменно появля¬
ется внутренний питеп: дух, логос, «ка», «руах». То же, как при этом
происходит подразделение и соотношение в частностях и как пред¬
ставляют себе люди душевные элементы: как слои, силы, субстанции,
как единство, полярность или множество — это уже характеризует раз¬
мышляющего как члена определенной культуры. И если кто-то полага¬
ет, что в состоянии познать душевное начало иных культур по его дей¬
ствиям, он подменяет его своим собственным образом души. Новые
опыты включаются им в уже существующую систему, и неудивительно,
что в конце концов он искренне считает, что открыл вечные формы.
Наделе же всякая культура обладает своей собственной систематиче¬
ской психологией, подобно тому, как она обладает собственным стилем
познания человека и жизненным опытом. И подобно тому, как даже
всякая отдельная стадия, будь то эпоха схоластики, софистики или Про¬
свещения, выстраивает образ числа, мышления или природы, который
подходит только ей, так в конечном счете и всякое столетие отражается в
собственном образе души. Лучший западноевропейский знаток людей
заблуждается, тщась понять араба или японца, и то же самое справедли¬
во в отношении обратной ситуации. Но заблуждается и ученый, когда он
переводит базовые слова арабской или греческой системы словами язы¬
ка собственного. «Нефеш>> — это не animus, а «атман» — не «душа». То,
что мы повсюду обнаруживаем под наименованием «воля», античный
человек в собственном образе души не наблюдал.
Так что никаких сомнений относительно величайшего значения от¬
дельных то и дело появляющихся во всемирной истории мышления об¬
разов души больше быть не может. Античный (аполлонический, пре¬
данный точечному, эвклидовскому бытию) человек взирал на собст¬
венную душу как на космос, упорядоченный в группу прекрасных
частей. Платон называл их vous, dvfxos, етби^а [ум, ярость, вожделение
{грен.)] и сравнивал с человеком, животным и растением, а как-то
раз — даже с обитателем Юга, обитателем Севера и греком . То, что
здесь по видимости имитируется, есть природа, как она раскрывается
взору античного человека: благоупорядоченная совокупность осязае¬
мых частей, перед лицом которых пространство воспринимается как
несуществующее. Где в этой картине «воля»? Где представление функ¬
циональных взаимосвязей? Где прочие создания нашей психологии?
Можно ли поверить, чтобы Платон и Аристотель меньше смыслили в
анализе и не видели чего-то такого, что у нас само лезет в глаза каждому
профану? Или воля отсутствует здесь потому, что в античной матема¬
тике отсутствует пространство, а в античной физике — сила?
Возьмем, напротив, какую угодно из западных психологий. Всякий
раз мы повстречаем здесь функциональный порядок и никогда не обнару¬
жим телесного; у =/(х) — вот пра-образ всех впечатлений, воспринимав-
Глава пятая. Образ души и жизнеощущение
333
мых нами изнутри, потому что там — основа нашего внешнего мира.
Мышление, ощущение, воля, — избавиться от этой троицы не может, как
ни желает, ни один западноевропейский психолог, однако уже полемика
готических мыслителей относительно примата воли или разума показы¬
вает, что в этом усматривается связь между силами, и не имеет никакого
значения, преподносятся ли эти учения как результаты собственного ис¬
следования или же были вычитаны у Августина и Аристотеля. Ассоциа¬
ции, апперцепции, волевые процессы и прочие элементы картины, как
бы они там ни назывались, все без исключения принадлежат к типу мате-
матически-физических функций и по своей форме совершенно неантич¬
ны. Поскольку речь здесь не о жизненных чертах, которые следует толко¬
вать физиономически, но о «душе» как объекте, психологов вновь ставит
в тупик проблема движения. У античности имелась также внутренняя
проблема элеатов, а в схоластических спорах относительно функциональ¬
ного превосходства разума или воли о себе заявляет опасная слабость ба¬
рочной физики, оказавшейся не в состоянии отыскать не подлежащее со¬
мнению соотношение силы и движения. В античной и индийской карти¬
не души энергия направления отрицается (ибо все здесь расставлено по
местам и закруглено), в фаустовской же и египетской утверждается (здесь
имеются совокупности воздействий и центры сил), однако именно по
причине этого заряженного временем содержания чуждое времени мыш¬
ление приходило в противоречие с самим собой.
Фаустовский и аполлонический образ души жестко друг другу про¬
тивостоят. Все предыдущие противоречия вновь вырываются на по¬
верхность. Воображаемое единство можно обозначить в одном случае
телом души, в другом — пространством души. Тело имеет части, в про¬
странстве протекают процессы. Античный человек воспринимает свой
внутренний мир скульптурно. Об этом говорят уже языковые особен¬
ности Гомера, в которых, возможно, проглядывают древнейшие хра¬
мовые учения, в том числе относительно душ в Аиде, которые являют¬
ся вполне узнаваемым слепком тела. Такой же видится душа и досокра-
товской философии. Три ее прекрасно упорядоченные части —
Хоуктпкбу, £т6ицг]ти<ау, 9v(jlo€i8€s [разумная, вожделеющая, яростная
{грен.)] — напоминают группу Лаокоона. Мы пребываем под музыкаль¬
ным впечатлением: главной темой сонаты внутренней жизни оказыва¬
ется воля, а мышление и чувство — темы побочные; фраза подлежит
строгим правилам душевного контрапункта, отыскание которых явля¬
ется задачей психологии. Наипростейшие элементы различаются так
же, как античные и западные числа: там они величины, а здесь — отно¬
шения. Душевной статике аполлонического бытия (стереометриче¬
скому идеалу асo<f>poavvrj и авара&а [благоразумия и невозмутимости
(греч.)]) противостоит душевная динамика бытия фаустовского.
Аполлонический образ души (платоновская колесница, запряжен¬
ная двумя лошадьми, с vos в качестве возницы128) сразу же испаряется с
приближением к магической душевности арабской культуры. Он блек-
334
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
нетуже в поздней Стое, главы которой происходили преимущественно с
арамейского Востока. В раннюю императорскую эпоху даже в городской
римской литературе можно повстречать только воспоминание о нем.
Магическая картина души несет на себе черты строгого дуализма
двух загадочных субстанций, духа и души. Соотношение, господствую¬
щее между ними, — это ни античное, статическое, ни западное, функ¬
циональное, но некое устроенное совершенно иначе, которое можно
обозначить именно лишь как магическое. В противоположность физи¬
ке Демокрита и физике Галилея на ум приходят алхимия и философ¬
ский камень. Этот специфически восточный образ души с внутренней
необходимостью лежит в основе всех психологических, прежде всего
теологических рассмотрений, наполняющих «готическое» раннее вре¬
мя арабской культуры (0—300). Евангелие Иоанна принадлежит сюда с
не меньшим правом, чем сочинения гностиков и Отцов Церкви, нео¬
платоников и манихейцев, догматические тексты в Талмуде и Авесте и
выражающееся вполне по-религиозному старческое настроение Impe-
rium Romanum, заимствовавшей немногое живое в своем философство¬
вании с юного Востока, из Сирии и Персии. Уже великий Посидоний,
этот подлинный исполненный раннеарабского духа семит, несмотря
на античную внешнюю сторону своей колоссальной учености, воспри¬
нял в качестве истинной эту магическую структуру души — в глубочай¬
шем противоречии аполлоническому ощущению жизни. Пронизыва¬
ющая тело субстанция пребывает в явном ценностном контрасте со вто¬
рой, нисходящей на человека из мировой пещеры — абстрактной,
божественной, на которой основывается consensus всех, кто к ней при¬
частен . Этот-то «дух» и вызывает к жизни вышний мир, порождая ко¬
торый он одерживает верх над обычной жизнью, «плотью», природой.
Вот пра-образ, который, понимаемый то религиозно, то философски,
то художественно (вспоминается портрет эпохи Константина с не¬
движно устремленными в бесконечность глазами; этот взгляд и изоб¬
ражает TTvevfxa) лежит в основе ощущения «я». Плотин и Ориген так
это и воспринимали. Павел проводит различие (например, I Кор. 15,44)
между crcofia ifjvx^Kov и ст/ха 7rv€L>/xartKov [тело психическое и тело духов¬
ное (греч.)]. В гностицизме было распространено представление о
двойном, телесном или духовном экстазе и о разделении людей на низ¬
ших и высших, на психиков и пневматиков. Плутарх возвел распро¬
страненную в позднеантичной литературе психологию, а именно дуа¬
лизм vovs и ipvxfj [ума и души (греч.)], к восточным образцам. Дуализм
этот тут же соотнесли с противоположностью христианского и языче¬
ского, духа и природы, откуда далее у гностиков, христиан, персов и
иудеев и появилась все еще не преодоленная схема всемирной истории
как драмы человечества, разыгрывающейся между творением и
Страшным судом, с вмешательством Бога посередине. * *** Ср. с. 690 сл.
** Ср. с. 713 сл.
Глава пятая. Образ души и жизнеощущение
335
Своего научного завершения магическая картина души достигает в
школах Багдада и Басры. Аль-Фараби и аль-Кинди* подробно рассмот¬
рели запутанную и малодоступную для нас проблему этой магической
психологии. Не следует недооценивать их влияния на юное, совершен¬
но абстрактное учение о душе (не на ощущение «я»), существовавшее на
Западе. Схоластическая и мистическая психология переняла от маври¬
танской Испании, Сицилии и Востока ровно столько же элементов фор¬
мы, сколько и готическое искусство. Не следует забывать, что арабство
является культурой институционализированных религий откровения,
которые все предполагают дуалистический образ души. Вспомним Каб¬
балу и участие иудейских философов в так называемой философии
Средневековья, т. е. вначале позднем арабстве, а затем ранней готике.
Назову лишь один показательный пример, на который почти не обра¬
щают внимания, и пример последний: Спинозу . Выходец из гетто Спи¬
ноза — последний припозднившийся представитель магического миро¬
ощущения и гость в мире форм мироощущения фаустовского (вместе со
своим персидским современником Ширази). Способный ученик эпохи
барокко, он смог придать своей системе оттенки западного мышления;
но в глубине он находится всецело под влиянием арабского дуализма
двух душевных субстанций. Вот подлинная, внутренняя причина, по кото¬
рой у него отсутствует понятие силы Галилея и Декарта. Это понятие яв¬
ляется центром тяжести динамической Вселенной и в силу этого чуждо
магическому мироощущению. Не может быть никакого примирения
между идеей философского камня (которая в скрытом виде содержится
в идее Спинозы о Божестве как causa sui) и каузальной необходимостью
нашей картины природы. Поэтому его детерминизм воли — это тот са¬
мый «кисмат», который отстаивалиЪртодоксы в Багдаде, и там же следу¬
ет искать родину процедуры «тоге geometrico»129, общей Талмуду, Авесте
и арабскому каламу* * ***, в спинозовской же этике он представляет собой
гротескный уникальный случай в рамках нашей философии.
Немецкой романтике довелось еще раз мимолетно расколдовать этот
магический образ души. Магией и извилистыми мыслительными хода¬
ми готических философов романтики наслаждались не меньше, чем
идеалами Крестовых походов монастырей и рыцарских замков, а прежде
всего еще и сарацинскими искусством и поэзией, при том, что в этих да¬
леких предметах смыслили тогда мало. Шеллинг, Окен, Баадер, Гёррес и
их круг предавались бесплодным умствованиям в арабско-иудейском
стиле, которые с явным удовлетворением воспринимались как темные,
как «глубокие», чем они на самом деле не были для восточных людей,
между тем как сами они, пожалуй, то, что говорили, понимали не вполне
и надеялись, что также и слушатели не вполне это поймут. Во всем этом
* De Boer, Gesch. d. Philos, im Islam (1901), S. 93, 108.
Windelband. Gesch. d. neueren Philos. (1919), I. S. 208, und Hinneberg. Kultur der
Gegenwart I, V (1913). S. 484.
*** Cp. c. 700 слл.
336 Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
эпизоде примечательно лишь очарование непроясненности, внушавше¬
еся данными идейными кругами. Позволительно сделать заключение,
что наиболее ясные и доступные формулировки фаустовских мыслей,
какие мы встречаем у Декарта и в Кантовых «Пролегоменах», должны
были бы производить на арабского метафизика то же самое впечатление
туманности и запутанности. То, что истинно для нас, ложно для них — и
наоборот: это справедливо как для образа души отдельных культур, так и
любого другого результата научного размышления.
3
В будущем придется отважиться на решение непростой задачи по про¬
ведению такого же обособления исходных моментов в мировоззрении и
философии готического стиля, как и в орнаментике кафедральных собо¬
ров и в тогдашней примитивной живописи, которая все никак не реша¬
лась сделать выбор между плоским золотым фоном и обширными пейза¬
жами на заднем плане (магический и фаустовский способ узрения Бога в
природе). Как становится видно по этой философии, в раннем образе
души с робкой незрелостью приходят в смешение черты христианско-
арабской метафизики, дуализма духа и души — с северными озарениями,
людьми пока что непризнанными, функциональных душевных сил. Эта
двойственность лежит в основе спора о преобладании воли или разума,
этой основной проблемы готической философии, которую пытаются разре¬
шить то в арабском, то в новом западном смысле. Эго тот же самый поня¬
тийный миф, который в постоянно изменяющейся редакции определял
ход развития всей нашей философии и резко обособляет ее от всякой
иной. У Канта и якобинцев рационализм позднего барокко со всей гор¬
дыней уверившегося в собственных силах городского духа сделал выбор в
пользу богини Разума. Однако уже XIX столетие (прежде всего здесь сле¬
дует назвать Ницше) вновь остановилось на более мощной формуле: vo¬
luntas superior intellectu [воля превосходит разум (лат.)], которая у всех нас
содержится в крови*. Шопенгауэр, последний великий систематик, при¬
вел это к формуле «мира как воли и представления», и решение против
воли исходит не от его метафизики, а от его этики.
Здесь потаеннейшее основание и смысл всякого философствова¬
ния внутри данной культуры заявляет о себе в непосредственной фор¬
ме. Ибо то фаустовская душа пыталась на протяжении многовековых
усилий нарисовать собственный автопортрет, картину, которая обна¬
руживала бы глубоко прочувствованное созвучие с картиной мира. Го¬
тическое мировоззрение с его борьбой между разумом и волей на са-
* Поэтому если и в настоящей книге времени, направлению и судьбе отводится
преимущество перед пространством и причинностью, к такой убежденности приводят
не доводы рассудка, но (совершенно бессознательно) тенденции жизнеощущения,
снабжающие себя доказательствами. Другого способа возникновения философских
идей не существует.
Глава пятая. Образ души и жизнеощущение 337
мом деле является выражением жизнеощущения этих людей Крестовых
походов, эпохи Штауфенов и великого возведения соборов. Душу виде¬
ли такой потому, что такими были.
В образе души воля и мышление — это направление и протяжение, ис¬
тория и природа, судьба и причинность в картине внешнего мира. В этих
основных чертах того и другого момента обнаруживается то, что на¬
шим пра-символом является бесконечная протяженность. Воля связы¬
вает будущее с настоящим, мышление связывает безграничное с
«здесь». Исторический горизонт является становящийся далью, беско¬
нечный же всемирный горизонт — далью ставшей: вот смысл фаустов¬
ского переживания глубины. Ощущение направления реально, почти
мифически, представляется как «воля», ощущение пространства — как
«рассудок»: так возникает картина, которую наши психологи с необхо¬
димостью извлекают из внутренней жизни.
То, что фаустовская культура является культурой воли, есть лишь
иное выражение преимущественно исторической предрасположенно¬
сти ее души. «Я» в словоупотреблении (ego habeofactum), а значит, дина¬
мическое построение фразы с точностью воспроизводит тот стиль дей¬
ствий, который следует из этой предрасположенности и со своей энер¬
гией направления господствует не только в картине «мира как
истории», но и в самой нашей истории. Это «я» вздымается кверху в го¬
тической архитектуре; шпили и контрфорсы — это «я», и потому вся во¬
обще фаустовская этика — это сплошное «ввысь»: от Фомы Аквинского
и до Канта мы видим здесь совершенствование «я», нравственную ра¬
боту над «я», оправдание «я» верой и благими делами, уважительное от¬
ношение к «ты» в ближнем ради собственного «я» и его спасения; и, на¬
конец, высочайшее: бессмертие «я».
Именно это-то и представляется подлинному русскому суетным, это-то
он здесь и презирает. Русская, безвольная душа, пра-символом которой яв¬
ляется бесконечная равнина*, пытается, услужая и безымянно, вся без остат¬
ка раствориться в братском мире, в горизонтальном. Помышлять о ближ¬
нем, отправляясь от себя, нравственно возвышать себя посредством любви
к ближнему, желать покаяться самому, — все это для русского признаки за¬
падного тщеславия и кощунственно, как и желание наших соборов проби¬
ться к небу в противоположность усеянной куполами равнине крыш рус¬
ских церквей. Герой Толстого Нехлюдов шлифует свое нравственное «я»,
словно ногти, и потому Толстой принадлежит к петринистскому псевдо¬
морфозу. Напротив того, Раскольников — это всегр лишь некто в «мы». Его
грех — это всеобщий грех *. Уже только рассматривать свои грехи как что-
то принадлежащее лишь тебе говорит о надменности и тщеславии. Нечто
близкое этому лежит в основе также и магического образа души. «Если кто
придет ко мне, — говорит Иисус (Лук. 14, 26), — и не возненавидит отца,
мать, жену, братьев и сестер, но прежде всего свое собственное «я» (rrjv
Ср. гл. 3, раздел 11 и далее.
Ср. с. 753 слл.
338
Том!. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
еаитоу 1/^77v), он не сможет быть моим учеником». Исходя из данного ощу¬
щения он называет себя «дитя человеческое»*. Также и consensus правовер¬
ных безличен и проклинает «я» как грех, и сюда же относится подлинно
русское понятие «правды» как безымянного согласия призванных.
Античный человек, всецело принадлежащий настоящему, также
лишен этой нашей господствующей над миром и душой энергии на¬
правления, которая собирает все чувственные впечатления в порыв,
устремленный вдаль, а все внутренние переживания толкует в смысле
будущего. Он «безволен». Античная идея судьбы не оставляет на этот
счет никаких сомнений, а еще того меньше — символ дорической ко¬
лонны. Если борьба между мышлением и волей является потайной те¬
мой всех значительных портретов начиная с Ван Эйка и до Маре, то в
античных портретах не может содержаться ничего подобного, ибо в ан¬
тичных образах души рядом с мышлением (vovs), внутренним Зевсом,
содержатся аисторические единицы животных и растительных побуж¬
дений {dvyios и cmBvpia) — всецело телесно, совершенно без сознатель¬
ного порыва и стремления к цели.
Неважно, как мы будем обозначать фаустовский принцип, принад¬
лежащий нам и только нам. Имя — лишь «звук пустой»130. Также и про¬
странство — это слово, которое на тысячу ладов могло бы выразить
одно и то же неописуемое нечто в устах математика, мыслителя, поэта,
художника, слово, которое по видимости принадлежит всему челове¬
честву и все же именно с данным метафизическим подтекстом, с внут¬
ренней необходимостью приписываемом ему нами, имеет хождение
лишь в рамках западной культуры. Значение великого символа имеет
не само понятие «воли», но то обстоятельство, что оно вообще сущест¬
вует для нас, между тем как греки вовсе его не знали. В конце концов нет
никакой разницы между глубинным пространством и волей. В антич¬
ных языках отсутствует обозначение как для одного, так и для друго¬
го**. Чистое пространство фаустовской картины мира — это не просто
«Сын человеческий» — вводящий в заблуждение перевод «барнаша», в основе
которого лежит не сыновнее отношение, но безличное растворение в человеческой
равнине.
свеХо) и fiovXofxai означают «иметь намерение», «желание», «быть намеренным»;
fiovXri означает «совет», «замысел»; имени существительного к ШХсо вообще не сущест¬
вует1 . Voluntas [воля (лат.)] — вовсе не психологическое понятие, но в подлинно рим¬
ском фактологическом смысле, как и potestas [власть, возможность (лат.)] с virtus [до¬
блесть, мужество (лат.)] — обозначение практического, внешнего, зримого дара, мощи
отдельного человеческого существования. Мы в этом случае пользуемся заимствован¬
ным словом «энергия». «Воля» Наполеона и «энергия» — это две в высшей степени раз¬
ные вещи, как, например, подъемная сила и сила тяжести. Не следует путать направ¬
ленную наружу интеллигенцию, которая отличает римлянина как цивилизованного че¬
ловека от культурного эллина, с тем, что называется волей здесь. Цезарь не был воле¬
вым человеком в наполеоновском смысле. Показательно словоупотребление в римском
праве, которое в сравнении с поэзией показывает куда более изначальное основное
ощущение римской души. Умысел называется здесь animus (animus occidendi [намерение
убить (лат.)]), желание, направленное на нечто наказуемое dolus — в противополож¬
ность ненамеренному правонарушению (culpa). Voluntas в качестве технического выра¬
жения вообще не встречается.
рлава пятая. Образ души и жизнеощущение
339
протяжение, но распространение вдаль как эффективность, как прео¬
доление только чувственного, как напряжение и тенденция, как духов¬
ная воля к власти. Мне прекрасно известно, сколь недостаточны эти
описания. Совершенно невозможно точными понятиями передать
различие между тем, что называем пространством мы и что называют
им люди арабской или индийской культуры, что они думают, воспри¬
нимают и представляют в связи с этим словом. То, что это — в самом
деле нечто всецело различное, доказывают чрезвычайно разные фунда¬
ментальные воззрения соответствующей математики и изобразитель¬
ного искусства, и прежде всего непосредственные жизненные проявле¬
ния. Мы убедимся в том, как находит свое выражение тождество про¬
странства и воли в деяниях Коперника и Колумба, как и в деяниях
Гогенштауфенов и Наполеона (покорение мирового пространства),
однако иным образом оно заложено также и в физических понятиях
силового поля и потенциала, которые невозможно было бы объяснить
ни одному греку. Пространство как форма созерцания a priori, форму¬
ла, в которой Кант окончательно высказал то, что непрестанно отыс¬
кивала философия барокко — это означает притязание души на господ¬
ство над чуждым. «Я» господствует посредством формы мира*.
Это выражает глубинную перспективу масляной живописи, кото¬
рая делает мыслимое бесконечным пространство картины зависимым
от наблюдателя, в буквальном смысле слова господствующего над ним с
избранного удаления. Это и есть тот порыв вдаль, что приводит к типу
героического, воспринимаемого исторически пейзажа как в картине, так и
в парке эпохи барокко, тот же, что выражает физико-математическое
понятие вектора. На протяжении столетий живопись страстно стреми¬
лась к этому великому символу, в котором содержится все, что может
быть выражено словами «пространство», «воля», «сила». Ему соответ¬
ствует постоянная тенденция метафизики сформулировать функцио¬
нальную зависимость вещей от духа посредством таких пар понятий,
как явление и вещь сама по себе, воля и представление, «я» и не-«я»,
которые все имеют чисто динамическое содержание. Это очень сильно
отличается от учения Протагора о человеке как мере всех вещей, т.е. не
об их творце. Для античной метафизики человек — это тело среди про¬
чих тел, и познание здесь — некоего рода соприкосновение, переходящее
от познаваемого к познающему, а не наоборот. Оптические теории
Анаксагора и Демокрита далеки от того, чтобы допустить человече¬
скую активность в чувственном восприятии. Платон никогда не вос-
Китайская душа «блуждает в мире»: вот смысл живописной перспективы Восточ¬
ной Азии, точка схождения линий которой лежит в центре картины, а не в ее глубине.
Посредством перспективы вещи покоряются «я», которое упорядочивающе их постига¬
ет, и античное отрицание перспективного заднего плана означает таким образом также
и недостаток «воли», притязаний на господство над миром. Китайской перспективе,
как и китайской технике (с. 966, прим. 2), недостает энергии направления, и поэтому я
бы хотел, в противоположность тому мощному порыву вглубь, что отличает нашу пей¬
зажную живопись, сказать о перспективе дао восточных азиатов, что указывает на дей¬
ствующее в картине мироощущение, которое следует надлежащим образом понять.
340
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
принимает «я» как центр трансцендентной сферы воздействий, что
было внутренней потребностью для Канта. Пленники в его знамени¬
той пещере — это действительно пленники, рабы внешних впечатле¬
ний, а не их повелители, они освещены всеобщим солнцем, а не сами
солнца, просвещающие мироздание132.
Физическое понятие пространственной энергии (совершенно не¬
античное представление о том, что уже пространственное отстояние
есть форма энергии, даже пра-форма всякой вообще энергии, ибо на
этом основываются понятия емкости и напряженности) проливает
свет также и на отношение воли к воображаемому душевному про¬
странству. Мы чувствуем, что как динамическая картина мира Галилея
и Ньютона, так и динамический образ души с волей в качестве центра
тяжести и отправного пункта означают одно и то же. Оба они — порож¬
дения барокко, символы достигшей полной зрелости фаустовской ку¬
льтуры.
Неправильно, как это зачастую случается, считать культ «воли»
если не общечеловеческим, то по крайней мере общим для всех хрис¬
тиан и выводить его из этоса раннеарабских религий. Эта взаимосвязь
относится исключительно к исторической поверхности; за историю
идей и словесных значений принимают судьбы таких слов, как voluntas,
не замечая глубинной символической смены их смысла. Когда араб¬
ский психолог, например Муртада, говорит о возможности многих
«воль»: об одной «воле», которая совпадает с поступком, о другой, не¬
зависимой, ему предшествующей, о «воле», которая вообще не имеет
отношения к поступку, а лишь порождает «желание» и так далее, при¬
чем определяется все это глубинным значением арабского слова, то пе¬
ред нами, очевидно, такой образ души, который полностью отличен от
фаустовского.
Для всякого человека, к какой бы культуре он ни принадлежал,
элементы души представляют собой божества внутренней мифологии.
То, чем является Зевс для внешнего Олимпа, тем же для внутреннего
мира, и это с полной ясностью очевидно всякому греку, является vos,
господствующий над прочими частями души. То, что есть «Бог» для
нас, Бог как мировое дыхание, как всеохватная сила, как вездесущее
действие и провидение, этим же самым, будучи отражением из Все¬
ленной в воображаемых душевных пространствах (мы же по необхо¬
димости воспринимаем это отражение как реально существующее),
является «воля». Микрокосмический дуализм магической культуры,
руахинефеш, пневмуипсюхэ неизбежно дополняет макрокосмическая
противоположность Бога и дьявола, персидских Ормузда и Аримана,
иудейских Яхве и Вельзевула, исламских Аллы и Иблиса, абсолютно¬
го Добра и абсолютного Зла, и мы еще увидим, что в западном миро¬
ощущении обе эти противоположности в одно и то же время блекнут.
По мере того как из готической борьбы за превосходство между intel-
lectus или voluntas оформляется воля как центр душевного монотеизма,
341
Гловапятая. Образдуши и жизнеощущение
и3 реального мира исчезает образ дьявола. Ко времени барокко непо¬
средственным следствием пантеизма внешнего мира явился панте¬
изм мира внутреннего, и то, что должна была бы означать (в любом
смысле) противоположность Бога и мира, то же самое всякий раз
означает и слово «воля» в противоположность душе вообще: всемогу¬
щая сила в своем царстве*. Стоит только религиозному мышлению
перейти в строго научное, как двойственный понятийный миф про¬
должает сохраняться в физике и психологии. Происхождение поня¬
тий «сила», «масса», «воля», «эмоция» основывается не на объектив¬
ном опыте, но на жизнеощущении. Дарвинизм представляет собой не
что иное, как необычайно плоскую редакцию этого ощущения. Ни
один грек не стал бы использовать слово «природа» в значении абсо¬
лютной и планомерной деятельности, как это делает современная
биология. «Воля Божья» является для нас плеоназмом. Бог (или «при¬
рода») есть не что иное, как воля. Точно так же, как понятие Бога на¬
чиная с Возрождения неприметно становится тождественным с поня¬
тием бесконечного космического пространства и утрачивает чувст¬
венные, личностные качества (всеприсутствие и всемогущество стали
едва ли не математическими понятиями), оно становится и незримой
мировой волей. Поэтому ок. 1700 г. чисто инструментальная музыка и
берет верх над живописью в качестве единственного и последнего
средства сделать доступным это ощущение Бога. Припомним в про¬
тивоположность этому гомеровских богов. Зевс вовсе не обладает
полной властью над миром; даже на Олимпе он (как того требует
аполлоническое мироощущение) только primus inter pares [первый
среди равных {лат.)], тело среди прочих тел. Слепая необходимость,
Ананка, которую усматривает в космосе античное бодрствование, ни¬
коим образом от него не зависит. Напротив: боги покоряются ей. Эс¬
хил открыто высказал это в одном выразительном месте «Прометея»,
однако это чувствуется уже у Гомера в битве богов и в том решающем
месте, когда Зевс поднимает весы судеб не для того, чтобы распоряди¬
ться жребием Гектора, но чтобы его узнать133. Так что античная душа с
ее частями и свойствами представляется Олимпом малых богов, и
идеалом греческого жизнеустройства, софросины и атараксии являет¬
ся поддержание дружеского согласия между ними. Именуя высшую
часть души, vos, Зевсом, многие философы позволяют заключать о
наличии такой взаимосвязи. Аристотель приписывает своему божест¬
ву в качестве единственной функции вешра, созерцательность134; это
идеал и Диогена: дозревшая до совершенства статика жизни в проти¬
воположность столь же совершенной динамике жизненного идеала
XVIII в.
Понятно само собой, что атеизм здесь не является исключением. Когда материа¬
лист или дарвинист рассуждает о «природе», которая что-то целесообразно упорядочи¬
вает, производит отбор, что-то порождает или уничтожает, он в сравнении с деизмом
XVIII в. заменяет лишь одно слово, а мироощущение оставляет неизменным.
342
Том L ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Так что загадочное нечто в образе души, обозначаемое словом
«воля», страсть третьего измерения, представляет собой по сути все¬
цело порождение барокко, — как и перспектива масляной живописи,
как и понятие силы новой физики, как звуковой мир чистой инстру¬
ментальной музыки. Во всех этих случаях готика заранее истолковы¬
вала то, что привели к зрелости эти столетия одухотворения. Будем же
здесь, где идет речь о стиле фаустовской жизни в противоположность
всякой иной, исходить из того, что пра-слова «воля», «сила», «про¬
странство», «Бог», несомые и одушевляемые фаустовским чувством
смысла, являются символами, основными творческими свойствами
ббльших, родственных друг другу миров форм, в которых выражается
это бытие. До сих пор было принято полагать, что здесь мы непосред¬
ственно прикасаемся к «сущим сами по себе», вечным фактам, кото¬
рым в один прекрасный миг предстоит быть окончательно установ¬
ленными, «познанными», доказанными на путях критического ис¬
следования. Данная иллюзия естествознания была в равной мере и
иллюзией психологии. Уразумение того, что эти «всеобщезначимые»
основания принадлежат лишь к барочному стилю созерцания и пони¬
мания, как формы выражения имеют преходящее значение и «истин¬
ны» лишь для западноевропейской разновидности духа, изменяет
весь смысл этих наук, которые оказываются не только субъектами си¬
стематического познания, но и в куда большей степени объектами
физиономического рассмотрения.
Как мы уже видели, архитектура барокко началась тогда, когда Ми¬
келанджело заменил тектонические элементы Возрождения, опору и
нагрузку — динамическими, силой и массой. Если в задуманной Бру¬
неллески капелле Пацци нашло выражение безмятежное спокойствие,
то созданный Виньолой фасад Иль Джезу — это в полном смысле воля в
камне. Новый стиль в его церковном воплощении был назван иезуит¬
ским, в первую очередь по причине того совершенства, которого он до¬
стиг у Виньолы и Делла Порта; и в самом деле тесная связь существует
между ним и творением Игнатия Лойолы, чей орден представляет со¬
бой чистую, абстрактную волю церкви : потаенная, простирающаяся в
бесконечное действенность этой воли оказывается дополнением к ана¬
лизу и искусству фуги.
Отныне более не будет восприниматься в качестве парадокса, если в
будущем речь будет заходить о стиле барокко и даже иезуитском стиле в
психологии, математике и теоретической физике. Язык форм динами¬
ки, устанавливающий на место телесно-безвольных материи и формы
энергетическую противоположность емкости и напряженности, общ
для всех духовных творений этих веков.
Не следует упускать из виду большую роль, которую сыграли иезуиты в развитии
теоретической физики. Патер Бошкович был первым, кто отталкиваясь от Ньютона,
создал систему центробежных сил (1759). В иезуитстве приравнивание Бога к чистому
пространству ощущается еще сильнее, чем в кругу янсенистов Пор-Рояля, к которому
были близки математики Декарт и Паскаль.
пятая. Образ души и жизнеощущение
343
Глава
4
Теперь следует ответить на вопрос о том, в какой степени сам человек
этой культуры исполняет то, что позволяет от него ожидать созданный им
образ души. Если тему западной физики можно в самом общем виде обо¬
значить как тему эффективного пространства, этим определены также и
способ бытия, содержание бытия человека того же времени. Мы, фаустов¬
ские натуры, привыкли включать отдельного человека в общую картину
нашего жизненного опыта с точки зрения его действенного, а не скуль-
птурно-покоящегося образа. То, чем является человек, мы оцениваем по
его деятельности, которая может быть направлена как внутрь него, так и
наружу; и исходя из этого мы рассматриваем все отдельные намерения,
основания, силы, убеждения, привычки. Слово, которым мы обобщаем
данную сторону человека, — это характер. Мы говорим о характерных
лицах, о характерных ландшафтах. Характер орнаментов, мазков кисти,
росчерков целых искусств, эпох и культур: вот обычные для нас речевые
обороты. Музыка барокко — это в подлинном смысле слова искусство ха¬
рактеристического, что в равной мере справедливо как для мелодии, так и
для инструментовки. Этим словом также обозначается нечто не поддаю¬
щееся описанию, что-то такое, что выделяет фаустовскую культуру из
всех прочих. Причем невозможно не обратить внимания на его глубинное
родство со словом «воля»: то, чем является воля в образе души, тем оказы¬
вается характер в картине жизни, какой она как нечто само собой разуме¬
ющееся представляется нам и только нам, западноевропейцам.
То, что у человека должен быть характер, есть коренное требование
всех наших этических систем, какими бы различными ни были их ме¬
тафизические или практические формулы в остальном. Характер (ко¬
торый формируется в потоке мира, «личность», отношение жизни к по¬
ступку) — это фаустовское впечатление от человека, и значительное
сходство с физической картиной мира наблюдается в том, что, несмот¬
ря на тончайшие теоретические исследования, векторное понятие
силы с его тенденцией направления не поддается обособлению от по¬
нятия движения. Также невозможно и строго обособить волю и душу,
характер и жизнь. На вершине этой культуры, вне всякого сомнения,
начиная с XVII в., мы воспринимаем слово «жизнь» просто как равно¬
значное воле. Такие выражения, как «жизненная сила», «воля к жиз¬
ни», «деятельная энергия», как нечто само собой разумеющееся напол¬
няют нашу этическую литературу, между тем какгна греческий язык
эпохи Перикла их было бы невозможно даже просто перевести.
Становится очевидным (притязание всего нравственного на вре¬
менную и пространственную всеобщность до сих пор это камуфлирова¬
ло), что всякая культура как цельное существо высшего порядка облада¬
ет своим собственным нравственным обличьем. Моралей столько же, ско¬
лько культур. Ницше, первый догадавшийся об этом, все же остался
весьма удален от действительно объективной морфологии морали — по
344
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
ту сторону от всякого добра и всякого зла. Он оценивал античную, индий¬
скую, христианскую, ренессансную мораль в соответствии с собствен¬
ными представлениями, вместо того чтобы рассматривать их стиль в ка¬
честве символа. Однако пра-феномен морали как таковой не должен
ускользнуть именно от нашего исторического взора. Между тем, как ка¬
жется, мы дозреваем для этого лишь теперь. Представление о человече¬
стве как едином целом — деятельном, борющемся и продвигающемся
вперед, столь нам необходимо, причем уже со времен Иоахима Флор-
ского и Крестовых походов, что будет трудно признать, что этот исклю¬
чительно западный способ воззрения имеет преходящую значимость и
ограниченное время существования. Античному духу человечество
представлялось неизменной массой, и этому соответствует совершенно
иначе устроенная мораль, наличие которой можно проследить от гоме¬
ровского раннего времени вплоть до императорской эпохи. Вообще мы
обнаруживаем, что в высшей степени активному жизнеощущению фа¬
устовской культуры близки китайская и египетская культуры, а строго
пассивному жизнеощущению культуры античной — индийская.
Если какая-либо группа наций постоянно имела перед глазами борь¬
бу за существование, то это была античная культура, где все города и го¬
родишки сражались друг против друга на уничтожение — без плана, без
смысла, без пощады, грудь в грудь, на основании совершенно антиисто¬
рического инстинкта. Однако, несмотря на Гераклита, греческая этика
была далека от того, чтобы сделать из борьбы нравственный принцип.
Как стоики, так и эпикурейцы проповедовали как идеал именно отказ от
нее. Преодоление сопротивления — это скорее типичное побуждение
западной души. Имеется спрос на деятельность, решимость, самоутвер¬
ждение; борьба против уютного переднего плана жизни, против сиюмо-
ментных впечатлений, против близкого, осязаемого, легкого, осуществ¬
ление того, чему свойственны всеобщность и длительность, что в душев¬
ном плане соединяет прошлое и будущее, — вот содержание всех
фаустовских императивов начиная с самых ранних дней готики и до
Канта с Фихте, а после них — к этосу колоссальных силовых и волевых
проявлений наших городов, экономических институций и нашей техни¬
ки. Carpe diem [пользуйся моментом (лат.)], ублаготворенное бытие ан¬
тичной точки зрения представляет собой полную противоположность
тому, что воспринимали в качестве единственно ценного Гёте, Кант,
Паскаль, что виделось таковым как церкви, так и вольнодумству — а
именно деятельному, борющемуся, преодолевающему бытию*.
* Практическую деятельность (то, что Гёте назвал требованием дня) Лютер поста¬
вил в центр нравственности, и это явилось одной из наиболее существенных причин
воздействия протестантизма именно на глубокие натуры. «Благие дела», в которых
энергия направления в указанном здесь смысле отсутствует, безусловно отходят на зад¬
ний план. В высокой их оценке, как и в Возрождении, сказывался остаток южного чув¬
ства. Здесь обнаруживаются глубинные этические причины для возрастающего презре¬
ния, которое начиная с этих пор навлекает на себя монастырский образ жизни. Во вре¬
мена готики уход в монастырь, отказ от забот, поступка, воли был актом высочайшего
нравственного уровня. То была высочайшая мыслимая жертва, а именно принесение в
пятая. Образ души и жизнеощущение
345
Глам
Подобно тому как все формы динамики — живописной, музыка¬
льной, физической, социальной, политической — выявляют беско¬
нечные взаимосвязи и рассматривают не единичный случай и их со¬
вокупность, подобно античной физике, а типичный процесс и его
функциональные правила, так и под характером следует понимать не¬
что остающееся под воздействием жизни принципиально неизмен¬
ным. В противном случае говорится о бесхарактерности. Характер,
как форма подвижной экзистенции, в которой при наибольшей мыс¬
лимой переменчивости в единичном достигается высшее постоянст¬
во в фундаментальном, и есть то, что делает вообще возможной такую
значительную биографию, как «Истина и поэзия» Гёте. В отличие от
этого в полном смысле слова античные биографии Плутарха пред¬
ставляют собой собрания анекдотов, выстроенные исключительно
хронологически, а не по законам исторического развития, и мы вы¬
нуждены признать, что относительно Алкивиада, Перикла или вооб¬
ще любого чисто аполлонического человека мыслима биография
лишь второго, а не первого рода. Их переживаниям недостает не объе¬
ма, но сопряженности; в них имеется нечто атомарное. Говоря о фи¬
зической картине мира: грек вовсе не забывал о том, чтобы отыски¬
вать в совокупности своих опытных знаний всеобщие законы; просто
он не мог их в своем космосе найти.
Отсюда следует, что наука о характерах, в первую очередь физио¬
номика и графология, должна была бы выглядеть в пределах антично¬
сти весьма скудной. Взамен неведомого нам почерка это доказывает¬
ся античным орнаментом, который в сравнении с готическим (вспо¬
минается меандр и узор аканфа) являет собой невероятную
упрощенность и слабость характерного выражения, но при этом обла¬
дает никогда более не достигнутой сбалансированностью во вневре¬
менном смысле.
Понятно само собой, что, обратившись к античному жизнеощуще¬
нию, мы должны будем найти там базовый элемент этического досто¬
инства, так же противопоставленный характеру, как статуя — фуге, эв-
клидовская геометрия — анализу, тело — пространству. Это жест. Тем
самым задан фундаментальный принцип душевной статики, и слово,
которое значится в античных языках на месте нашей личности, — это
ттраалгоу, persona, а именно роль, маска. В позднегреческо-римском
словоупотреблении оно обозначает социальное обличье и манеры, а зна¬
чит, в собственном смысле слова сущностное ядро античного человека.
Об ораторе говорили, что он выступает как жреческий или как солда¬
фонский ТГрОСТСОТГOV. Раб был 0L7TрОССОТГ0£, ОДНаКО Нв бЫЛ aawpLCLTOS, Т. е. У
него не было никакой позиции, которая могла бы быть учтена как со¬
ставная часть общественной жизни, но «душа» у него была. То, что су¬
дьбой было кому-либо уготовано в роли царя или полководца, римля¬
Жертву жизни. В эпоху барокко даже католики этого больше не ощущают. Жертвой духа
Просвещения пали не места отречения от мира, но места праздного наслаждения.
346
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
нин передавал словами persona regis, imperatoris. В этом возвещает о
себе аполлонический стиль жизни. Речь идет не о раскрытии внутрен¬
них возможностей посредством деятельного стремления, но о постоян¬
но закрытой позиции и строжайшей приспособленности к, так сказать,
скульптурному идеалу бытия. Только в античной этике играет роль
определенное понятие красоты. Как бы ни называли этот идеал —
aa><f>poavvr], каХокауавса [физическое и нравственное совершенство
(грен.)] или же авара&а, всегда это будет благоупорядоченная группа
особенностей — чувственно осязаемых, всецело явленных в социаль¬
ном смысле, предназначенных не для себя, но для других. Человек был
не субъектом, но объектом внешней жизни. Чисто настоящее, мгно¬
венное, передний план не преодолевались, а разрабатывались. В таком
смысле внутренняя жизнь оказывается невозможным понятием. Не
поддающееся переводу, постоянно неверно понимаемое в западноев¬
ропейском смысле £а)ov ttoXltlkov [общественное животное (греч.)]
Аристотеля относится к людям, которые поодиночке, в отрыве от дру¬
гих, представляют собой ничто и означают что-то лишь во множестве
(что за комичную фигуру представлял бы собой афинянин в роли Ро¬
бинзона!), на агоре, на форуме, где всякий отражается в других и лишь
в силу этого обретает собственную действительность. Все это уже со¬
держится в выражении ашрьата поХесид: граждане города. Становится
понятно, что портрет, этот пробный камень искусства барокко, тожде¬
ствен изображению человека, поскольку он обладает характером, и
что, с другой стороны, в аттическую эпоху расцвета изображение чело¬
века в плане его позитуры, человек как «persona» должен был заверши¬
ться идеалом формы обнаженной статуи.
5
Эта противоположность привела к двум принципиально различ¬
ным во всех отношениях формам трагедии. В самом деле, у фаустов¬
ской драмы, драмы характеров, и аполлонической, драмы возвышенного
жеста, общее лишь имя .
Эпоха барокко со все большей решительностью делала (и, что ха¬
рактерно, базируясь исключительно на Сенеке, а не на Эсхиле и Со¬
фокле — это в точности соответствует архитектонической привязке к
императорским постройкам, а не к храму в Пестуме) центром тяжести
всего в целом вместо событийной канвы — характер, который стано¬
В древнегреческом языке TTpaamov означает лицо, позднее в Афинах — маску.
Аристотель еще не знал этого слова в значении «личность». Только юридическое выра¬
жение persona, которое изначально (оно этрусского происхождения) означает театраль¬
ную маску, придало в императорскую эпоху выраженно римский смысл также и грече¬
скому npoamov. Ср. Hirzel R., Die Person (1914), S. 40 ff.
** Cp. c. 301.
Greizenach, Gesch. d. neueren Dramas II (1918). S. 346 f.
Глляа пятая. Образ души и жизнеощущение 347
вится, так сказать, точкой отсчета душевной системы координат, наде¬
ляющей все сценические факты положением, значением и ценностью
по отношению к себе. Так возникает трагизм воли, действующих сил,
внутренней, не обязательно переводимой на зримый план подвижнос¬
ти между тем как Софокл скрывает неизбежный минимум действия за
сценой в первую очередь с помощью такого искусственного средства,
как рассказы вестников. Античный трагизм связан с общими положе¬
ниями, а не с частными личностями; Аристотель выразительно выра¬
жает его как pbipLrjcns ovk avOpdmojv аХХа пра^есод ка1 filov [подражание
не людям, но поступкам и жизни (греч.)\. То, что он в своей вне вся¬
кого сомнения роковой для нашей поэзии «Поэтике» называет 'fjdos, а
именно идеальная позиция идеального греческого человека в мучитель¬
ном положении, имеет с нашим понятием характера как определяю¬
щего события свойства «я» так же мало общего, как плоскость в геомет¬
рии Эвклида — с одноименным образованием, например, в Римановой
теории алгебраических уравнений. То, что rjdos переводили как «харак¬
тер», вместо того, чтобы описать то, что вряд ли может быть в точности
воспроизведено, словами «роль», «позиция», «жест», оказалось на про¬
тяжении столетий столь же вредоносным, как и выведение слова 8рар,а
от «действия»136. Отелло, Дон Кихот, Мизантроп, Вертер, Гедда Габ-
лер — это характеры. Трагическое заложено уже просто в самом суще¬
ствовании так устроенных людей посреди их мира. Неважно, против
кого: против мира, против себя, против других — борьба оказывается
навязанной самим характером, а не чем-то приходящим извне. Это и
есть участь — участие души во взаимосвязи противоречивых отноше¬
ний, не допускающей никакого чистого решения. Античные же сцени¬
ческие образы — это роли, а вовсе никакие не характеры. На сцене по¬
являются все одни и те же персонажи: старик, герой, убийца, влюблен¬
ный, все одни и те же с трудом передвигающиеся, шагающие на
котурнах, замаскированные тела. Поэтому также и в позднее время ма¬
ска в античной драме была глубоко символической внутренней необхо¬
димостью, между тем как наши пьесы даже и «исполнены» быть не мо¬
гут без мимики лица исполнителей. И не надо в качестве возражения
ссылаться на размеры греческих театров; исполнители ставившихся по
тому или иному случаю мимов137 также носили маски (как и портрет¬
ные статуи ), и если бы ощущалась глубинная потребность в более ин¬
тимных пространствах, соответствующая архитектоническая форма
отыскалась бы сама собой.
Трагические по отношению к данному характеру события происхо¬
дили в итоге долгого внутреннего развития. В трагических же проис¬
шествиях с Аяксом, Филоктетом, Антигоной и Электрой внутренняя
предыстория (даже там, где ее следы в античном человеке отыскать
было можно) не имеет для последствий никакого значения. Решающее ** Ср. с. 392. I
348 Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
событие обрушивается на них вдруг, совершенно случайно и внешне,
на их месте мог оказаться кто угодно, и результат был бы абсолютно та¬
ким же. Не обязательно даже, чтобы это был человек того же пола.
Противоположность античного и западного трагизма окажется выяв¬
лена с недостаточной резкостью, если мы будем говорить лишь о поведе¬
нии или событии. Фаустовская трагедия биографична, аполлоническая же
анекдотична, т. е. первая охватывает направленность целой жизни, вторая
же — мгновение, существующее само по себе; ибо какое отношение имеет
все внутреннее прошлое Эдипа или Ореста к тому губительному событию,
которое внезапно разражается с ними*? В отличие от анекдотов в антич¬
ном стиле нам известен тип характеристического, личностного, антами -
фического анекдота — это новелла, мастерами которой были Сервантес,
Клейст, Гофман, Шторм. Новелла становится тем значительнее, чем
острее мы ощущаем, что ее мотив был возможен лишь однажды, лишь
тогда и только с такими людьми, между тем как ранг мифического анек¬
дота (фабулы) определяется чистотой противоположных качеств. Так что
здесь перед нами, с одной стороны, судьба, ударяющая как молния, без¬
различно когда, и — с другой — судьба, спрядаемая как незримая нить на
протяжении жизни и отличающая именно данную жизнь от всех прочих.
В прошлой жизни Отелло, этого шедевра психологического анализа, нет
ни малейшей черточки, которая бы не имела отношения к катастрофе.
Расовая ненависть, одиночество выскочки в кругу патрициев, мавр как
солдат, как природный человек, как одинокий старый муж — ни один из
этих моментов не лишен значения. Попробуем разработать экспозицию
«Гамлета» или «Лира» в сравнении с драмами Софокла. Они всецело пси¬
хологичны, а не являются совокупностью внешних данных. Греки не
имели даже представления о том, что мы называем сегодня психологом, а
именно творящим знатоком внутренних эпох, что стало для нас почти
тождественным с понятием поэта. Насколько мало были они аналитика¬
ми в математике, столь же мало были они ими и в области душевного, и в
отношении античной души, пожалуй, иначе быть и не могло. «Психоло¬
гия» — вот надлежащее слово для западного способа изображения людей.
Это так же хорошо подходит к рембрандтовскому портрету, как и к музы¬
ке «Тристана», к Жюльену Сорелю Стендаля, как и к «Новой жизни» Дан¬
те. Ни одна другая культура не ведает ничего подобного. Как раз это-то и
было строго-настрого заказано группе античных искусств. «Психоло¬
гия» — это форма, в которой воля, человек как олицетворенная воля, а не
человек как сг/ха, делается пригодной для искусства. Если кто назовет в
этой связи Эврипида, он распишется в непонимании того, что такое пси¬
хология. Какое изобилие характерного содержится уже в северной мифо¬
логии с ее дошлыми гномами, неповоротливыми великанами, забавными
эльфами, с Локи, Бальдуром и прочими образами, и каким же типиче¬
ским представляется рядом с этим гомеровский Олимп! Зевс, Аполлон,
Ср. т. 1, гл. 2, раздел 16.
пятая. Образ души и жизнеощущение
349
Глава
Посейдон, Арес — это просто «мужчины», Гермес — «юноша», Афина —
созревшая Афродита, а более младшие боги (как это доказывается позд¬
нейшей скульптурой) отличаются друг от друга лишь именем. То же самое
в полном объеме относится и к образам аттической сцены. У Вольфрама
фон Эшенбаха, Сервантеса, Шекспира, Гёте трагизм отдельной жизни
развивается изнутри, динамически, функционально, и жизненный путь
становится понятным лишь на основании исторического фона данного
столетия; у трех же великих трагиков Афин трагизм приходит снаружи —
статично, эвклидовски. Если повторить выражение, которое было ранее
применено к всемирной истории: в первом случае разрушительное собы¬
тие знаменует собой эпоху, во втором же оно является причиной эпизода.
Даже смертельный исход — это всего лишь последний эпизод состоящего
из сплошных случайностей существования.
Барочная трагедия — это не что иное, как воспроизведенный еще
раз лидирующий характер, лишь доведенный до раскрытия в световом
мире глаза, как кривая вместо уравнения, как энергия кинетическая
вместо потенциальной. Зримая личность — это возможный характер,
поведение — характер самореализующийся. Вот и весь смысл нашего
учения о трагическом, все еще погребенного под реминисценциями
всего античного и ложным его пониманием. Трагический человек ан¬
тичности — это эвклидовское тело, которому Геймармена нанесла удар
в том его положении, которого оно не выбирало и которое оно не в со¬
стоянии изменить, причем при освещении своих поверхностей внеш¬
ними событиями тело это обнаруживает неизменность. В этом смысле
в «Хоэфорах» об Агамемноне говорится как о «флотоводящем царском
теле», а Эдип в Колоне говорит, что высказывание оракула относится к
«его телу»*. Во всех значительных людях греческой истории вплоть до
Александра мы сталкиваемся с примечательной непластичностью. Я
не знаю ни одного, кого бы жизненная борьба изменила хоть в отдален¬
ном приближении к Лютеру и Лойоле. То, что со слишком большой по¬
спешностью обычно называют выписыванием характеров у греков,
представляет собой не что иное, как отражение событий на i$0os’e ге¬
роя, и ни в коем случае не реакцию личности на события.
Вот и понимаем мы, фаустовские люди (причем понимаем с внут¬
ренней необходимостью), драму как нечто максимально деятельное, а
греки (с той же самой необходимостью) — как максимально бездеятель¬
ное . В аттической трагедии вообще никакого «действия» не было. Ан¬
* Ср. с. 301 сл.
Это соответствует изменению значений античных слов ттаво? и passio. Последнее
как имитация первого было образовано лишь в императорскую эпоху и сохранило свое
изначальное значение в выражении «Passio Christi» [«Страсти Христовы» (лат.)]. В ран¬
неготическое вр^мя происходит перемена в ощущении значения, и именно в слово¬
употреблении спиритуалов ордена францисканцев и учеников Иоахима Флорского.
Наконец, passio как выражение глубоко взволнованного состояния, стремящегося к
разрядке, стало обозначать душевную динамику вообще, и в этом смысле силы воли и
энергии направления в 1647 г. оно было введено Цезеном в немецкий язык как «Lei-
denschaft» [страсть, эмоция (нем.)].
350
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
тичные мистерии (а Эсхил, который был родом из Элевсина, только и
создал высокую драму посредством переноса формы мистерии с ее пе¬
рипетией) все сплошь были Ьрраата или Sppbd)€vа, литургическими праз¬
днествами. Аристотель называет трагедию подражанием событию. Это,
т. е. подражание, тождественно с пресловутой профанацией мистерий, а
мы знаем, что Эсхил, который также навсегда ввел сакральное одеяние
элевсинских жрецов в качестве костюма аттической сцены, был по этой
причине привлечен к суду*. Ибо сама-то Ьрарьа с ее перипетией от стена¬
ний к ликованию содержалась не в рассказываемой здесь фабуле, но в
стоявшем на заднем плане культовом действии, действии символиче¬
ском, которое зритель постигал и прочувствовал в глубочайшем его зна¬
чении. С данным моментом негомеровской ранней религии * соединял¬
ся еще и момент крестьянский: бурлескные (фаллические, дифирамби¬
ческие) сценки на весенних праздниках Деметры и Диониса. Из
звериных плясок*** и сопровождающего пения развился трагический
хор, противостоявший исполнителю, «отвечалыцику» Феспида (534).
Собственно трагедия произросла из торжественного оплакивания
мертвеца, «френа» (naenia). В какой-то момент из веселых игрищ на
праздник Диониса (бывший также и праздником душ) получился скорб¬
ный хор, а сатировская игра оказалась отодвинутой в конец. В 494 г.
Фриних поставил «Падение Милета», вовсе не историческую пьесу, а
просто плач обитательниц Милета, за что Фриниха строго наказали, по¬
тому что он напомнил о горе, постигшем город138. Лишь введение Эсхи¬
лом второго исполнителя привело античную трагедию к совершенству и
законченности: в сопровождение сетованию как заданной теме давалось
зримое образование великого человеческого страдания — как мотив на¬
стоящего. Фабула переднего плана (рвод) представляет собой не «дейст¬
вие», а повод для песни хора, который как прежде, так и впредь и пред¬
ставляет собой трагедию в собственном смысле слова. Совершенно не¬
важно, будут ли происходящие события исполняться на сцене или
пересказываться. Зритель, который был осведомлен о смысле происхо¬
дящего, чувствовал, что торжественными словами подразумеваются он
сам и его судьба. В нем и осуществляется перипетия, которая, собствен¬
но, и была целью священных сцен. Будучи окружен рассказами и пове¬
ствованиями, литургический плач о бедствиях рода человеческого неиз¬
менно оставался центром тяжести всего в целом. Отчетливее всего это
видно по «Прометею», «Агамемнону» и «Царю Эдипу». Однако теперь****
* Никаких тайн в элевсинских мистериях не было. То, что там происходило, было
известно всякому. Однако у верующих они вызывали таинственное потрясение, и они
оказывались «преданными», т. е. лишенными святости, когда их священным формам
подражали вне храмовой области. К поел. ср. Dietcrich A., Kl. Schr. (1911). S. 414 ff.
#** Ср. с. 739.
Сатиры были козлами; Силен, как солист, носил лошадиный хвост; однако воз¬
можно, что птицы, лягушки и осы Аристофана указывают еще и на другие костюмы.
Это произошло в то же самое время, когда с Поликлетом скульптура одержала
победу над фресковой живописью. Ср. с. 319 слл.
пятая. Образ души и жизнеощущение
351
Глава
высоко над жалобами поднимается величие страдальца, его возвышен¬
ная позитура, его вод, которые демонстрируются в мощных сценах меж¬
ду партиями хора. Темой оказывается не героический деятель, воля ко¬
торого растет и сокрушается от противостояния внешних сил или же де¬
монов в собственной груди, но безвольно страдающий человек, чье
телесное бытие уничтожается (следует добавить: без сколько-нибудь се¬
рьезных оснований). Эсхил начинает свою трилогию о Прометее как раз
с того места, где Гёте ее, вероятно, закончил бы. Безумие короля Лира
является результатом трагического действия. Напротив того, Афина
ввергает софокловского Аякса в безумие прежде, чем начинается драма.
Вот разница между характером и движущимся по сцене образом. В са¬
мом деле, как описывает Аристотель, страх и жалость являются необхо¬
димым действием, производимым античной трагедией на античного, и
только на античного зрителя. Это становится ясно сразу же, как только
мы узнаём, какие именно сцены тот зритель расценивал как наиболее
сильные, а именно сцены внезапной перемены судьбы и сцены узнава¬
ния. К первым прежде всего относятся впечатление фо/Зод (боязни), ко
вторым — iXeos (умиления). Тот катарсис, к которому следует стремить¬
ся, может быть пережит лишь исходя из атараксии, т. е. идеала существо¬
вания. Античная «душа» — это чистое присутствие, чистое оацха, непо¬
движное точечное бытие. Самое ужасное, что может случиться — видеть,
как это бытие оказывается поставленным под сомнение вследствие за¬
висти богов, слепого рока, который подобно молнии без разбора может
разразиться над каждым. Это сотрясает самые основы античного суще¬
ствования, между тем как фаустовского, отваживающегося на все чело¬
века это-то как раз и оживляет. И вот Катарсис, видеть свое избавление,
когда грозовые тучи темными пластами укладываются на горизонте и
солнце вновь пробивается к земле, глубокое чувство радости от излюб¬
ленного широкого жеста, вздох облегчения, испускаемый истерзанной
мифической душой, наслаждение от обретенного снова равновесия. Од¬
нако это еще и предполагает такое жизнеощущение, которое нам абсо¬
лютно чуждо. Слово «катарсис» вряд ли может быть переведено на наши
языки и восприятия. Потребовались все эстетические усилия и произ¬
вол барокко и классицизма (на фоне беззаветного благоговения по отно¬
шению к античным сочинениям), чтобы убедить нас в необходимости
этого душевного основания также и для нашей трагедии, и это при том,
что ее действие строго противоположно античной, что она избавляет не
от пассивных переживаний, но вызывает на свет, возбуждает и доводит
До предела активные динамические переживания, что она пробуждает
пра-чувства энергичного человеческого существования: свирепость, ра¬
дость от напряжения, опасности, насилия, победы, преступления, ощу¬
щения счастья победителя и искоренителя — чувства, которые спали в
глубине всякой нордической души с эпохи викингов, деяний Гогеншта-
Уфенов и Крестовых походов. Вот каково действие, производимое
Шекспиром. «Макбета» грек бы вообще не перенес; прежде всего он не
352 Jom L ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
понял бы смысл этого могучего биографического искусства с его тен¬
денцией направления. Такие образы, как Ричард III, Дон Жуан, Фауст,
Михаэль Кольхас, Голо139, в которых нет ничего античного, пробуждают
в нас не сочувствие, но своеобразную глубокую зависть, не страх, а зага¬
дочное удовольствие от мук, и еще гложущее желание совершенно ино¬
го со-страдания. Эти персонажи повествуют нам сегодня, когда фаус¬
товская трагедия в ее позднейшей, немецкой форме также окончательно
испустила дух, о том, каковы неизменные мотивы западноевропейской
литературы мировых столиц, которые можно сравнить с соответствую¬
щими александрийскими мотивами: в «щекочущих нервы» приключен¬
ческих и детективных историях и совсем уж напоследок в кинодраме,
которая всецело воспроизводит позднеантичный мим, о себе все еще
дает знать остаток безудержного фаустовского стремления к преодоле¬
нию и открытию.
Этому в точности соответствуют аполлонические и фаустовские де¬
корации, доводящие до завершения произведение искусства, как оно
замышлялось поэтом. Античная драма — это нечто из области скуль¬
птуры, группа патетических сцен, по характеру напоминающих рель¬
еф, шоу исполинских марионеток перед плоско заканчивающейся зад¬
ней стеной театра*. Это есть воспринимаемый исключительно крупно
жест, между тем как скудные события фабулы скорее торжественно де¬
кламируются, чем исполняются. Противоположного желает добиться
техника западной драмы: непрерывная подвижность и беспощадное
отсекание бедных действием, статичных моментов. Три знаменитых
единства места, времени и действия, как они были в Афинах не то что
сформулированы, но бессознательно разработаны, описывают тип ан¬
тичной мраморной статуи. И они же тем самым незаметно обозначают
также и жизненный идеал античного человека, привязанного к полису,
к чистому настоящему, к жесту. В совокупности эти единства имеют
смысл отрицаний: отрицается пространство, отрицаются прошлое и
будущее, отклоняются все уходящие вдаль душевные связи. Атарак¬
сия — вот слово, которым можно было бы их охватить. Ни в коем случае
не следует путать эти требования с поверхностно схожими в драме ро¬
манских народов. Испанский театр XVI в. покорился принуждению
«античных» правил, однако мы понимаем, что кастильская честь вре¬
мен Филиппа II ощущала в этих правилах некую обращенность к себе,
причем не зная их изначального духа, да и не желая ничего о нем знать.
Великие испанцы, в первую очередь Тирсо де Молина, создали «три
единства» барокко, однако не как метафизические отрицания, а лишь
как выражение благородных придворных нравов, и Корнель, этот спо¬
собный воспитанник испанского блеска, в этом смысле и заимствовал
их оттуда. Отсюда и пошли все беды. Флорентийское подражание без-
Созерцаемые изнутри декорации трех великих трагиков, вероятно, можно было
бы сравнить с той последовательностью в истории стилей, которую являют собой
фронтоны храмов в Эгине и Олимпии, а также фронтон Парфенона.
Гла#р^1ята* Образ души и жизнеощущение 353
мерно боготворимой античной скульптуре, которой в последних ее
основаниях никто не понимал, не могло ничего испортить, потому что
никакой северной скульптуры, которой можно было бы навредить,
тогда уже вовсе не было. Однако существовала возможность мощной,
чисто фаустовской трагедии, неожиданной по форме и бесстрашию.
Причиной того, что она не появилась, того, что германская драма, как
ни велик Шекспир, так никогда полностью и не преодолела заклятия
неверно понятых условностей, была слепая вера в авторитет Аристоте¬
ля. А что могло бы получиться из драмы барокко под воздействием ры¬
царского эпоса, пасхальных представлений и мистерий готики, при¬
чем в соседстве с церковными ораториями и «Страстями», если бы ни¬
кому и никогда не довелось узнать хоть что-то о греческом театре!
Трагедия на основе контрапунктической музыки, без оков бессмыс¬
ленной для нее скульптурной связанности, драматическая поэзия, ко¬
торая от Орландо ди Лассо и Палестрины и далее рядом с Генрихом
Шютцем, Бахом, Генделем, Глюком, Бетховеном свободно развива¬
лась бы до своей собственной и чистой формы — вот что было возмож¬
но, но теперь так и осталось нереализованным. Лишь тому счастливому
обстоятельству, что вся целиком греческая фресковая живопись по¬
гибла, мы обязаны внутренней свободой нашей масляной живописи.
6
Трех единств было недостаточно. Аттическая драма требовала вмес¬
то мимики косной маски — так она запрещала душевную характери¬
стику, подобно тому, как было запрещено устанавливать портретные
статуи. Она требовала котурнов и превышающей натуральную величи¬
ну, укутанной до неподвижности фигуры с волочащимися драпировка¬
ми — и тем самым уничтожала индивидуальность явления. Наконец,
она требовала чтения нараспев, монотонно раздающегося из подобно¬
го раструбу ротового отверстия.
Один лишь текст, как мы его сегодня читаем (не без того, чтобы не
привносить сюда исподволь дух Гёте и Шекспира, а также всю нашу
мощь перспективного зрения), способен воспроизвести лишь немно¬
гое от глубинного смысла этих пьес. Античные произведения искусст¬
ва созданы исключительно для античного взора, причем взора телес¬
ного. Подлинные секреты способна открыть лишь чувственная форма
постановки. И здесь мы замечаем такую черту, которая была бы невы¬
носима для всякого истинного трагизма в фаустовском стиле: неиз¬
менное присутствие хора. Хор — это пра-трагедия, потому что без него
rjdos был бы невозможен. Характером всякий обладает сам по себе; по¬
зиция же существует лишь по отношению к другим.
Этот хор как толпа, как идеальная противоположность одинокому,
внутреннему человеку, монологу западной сцены, этот постоянно при¬
12 Закат Западного мира
354
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
сутствующий хор, перед которым разыгрываются все «размышления
наедине с самим собой», который изгоняет страх безграничного и пус¬
тоты также и в мизансцене — вполне аполлоничен. Самонаблюдение
как публичная деятельность, пышные публичные сетования вместо тер¬
заний в уединенной комнатушке («кто плача не провел в постели всей
ночи горькой напролет»140), этот утопающий в слезах горестный крик,
наполняющий целый ряд трагедий, такие как «Филоктет» и «Трахи-
нянки», невозможность остаться одному, смысл полиса, вся женствен¬
ность этой культуры, какой ее раскрывает идеальный тип Аполлона
Бельведерского, — все это обнаруживается в символе хора. Рядом с та¬
кого рода пьесой шекспировская драма представляет собой сплошной
монолог. Даже диалоги, даже групповые сцены дают почувствовать ко¬
лоссальную внутреннюю дистанцированность этих людей, каждый из
которых по существу разговаривает лишь с самим собой. Ничто не мо¬
жет проломить эту душевную даль. Она чувствуется как в «Гамлете»,
так и в «Тассо», как в «Дон Кихоте», так и в «Вертере», однако во всей
своей бесконечности она сделалась образом уже в «Парсифале» Воль¬
фрама фон Эшенбаха; это она отличает всю вообще западную поэзию
от всей античной. Вся наша лирика, начиная с Вальтера фон дер Фоге-
львейде и до Гёте, до лирики умирающих мировых столиц, монологич-
на, античная же лирика — хоровая, лирика перед свидетелями. Одна
воспринимается внутренне, в бессловесном чтении, как неслышимая
музыка, другая декламируется на людях. Одна принадлежит молчали¬
вому пространству (как книга, которая уместна везде), другая — пло¬
щади, на которой она как раз теперь раздается.
Поэтому, при том, что Элевсинские мистерии и фракийские празд¬
нества эпифании Диониса совершались по ночам, искусство Феспида
с внутренней необходимостью развивается в направлении сцен, реали¬
зуемых в предполуденное время, при полном солнечном освещении.
Напротив того, из западных народных и Страстных пьес, произошед¬
ших из разделенной на партии проповеди и разыгрывавшихся вначале
клириками в церкви, а позднее мирянами на открытом месте перед
церковью, и именно по большим церковным праздникам (храмовым
праздникам) до полудня, как-то исподволь получилось искусство вече¬
ра и ночи. Уже во времена Шекспира постановки устраивались под ве¬
чер, и эта мистическая черта, желающая сблизить произведение искус¬
ства с соответствующей ему освещенностью, ко времени Гёте достигла
своей цели. У всякого искусства, вообще у всякой культуры есть свое
значительное для них время суток. Музыка XVIII в. — это искусство
темноты, когда просыпается внутреннее зрение, аттическая скульпту¬
ра — искусство безоблачного света. То, насколько глубоко простирает¬
ся эта связь, доказывается готической скульптурой с обволакивающи¬
ми ее вечными сумерками и ионической флейтой, инструментом само¬
го полудня. Свеча утверждает пространство перед лицом вещей,
солнечный же свет его отрицает. По ночам мировое пространство
пятая. Образ души и жизнеощущение
355
Глава
одерживает победу над материей, на свете полудня ближние вещи от-
ицают отдаленное пространство. Так различаются между собой атти¬
ческая фреска и северная масляная живопись. Так Гелиос и Пан стали
античными символами, а звездное небо и вечерняя заря — фаустовски¬
ми символами. И души покойников также совершают обход в полночь,
прежде всего в двенадцать долгих ночей после Рождества. Античные
души принадлежали дню. Еще древняя церковь рассуждала о ScoSe-
кагцмероу, двенадцати святых днях; с пробуждением западной культуры
из них получились «двенадцать ночей».
Античная вазовая роспись и фресковая живопись (этого так до сих
пор никто и не заметил) вообще не знают времени суток. Ни одна тень
не указывает положения солнца, на небе вовсе не видно звезд; не быва¬
ет ни утра, ни вечера, ни весны, ни осени; повсюду господствует чис¬
тая, вневремененная освещенность*. Коричневый цвет мастерской
классической масляной живописи также как нечто само собой разуме¬
ющееся развивался в противоположном направлении, независимой от
времени сумеречности, этой подлинной атмосферы фаустовского ду¬
шевного пространства. Это имеет тем большее значение, что с самого
начала пространства картин нацелены на то, чтобы передать время дня
и года, т. е. исторически. Однако все эти рассветы, облака на вечерней
заре, последние отблески света над гребнем далеких гор, освещенная
свечой комната, весенние луга и осенние леса, длинные и короткие
тени кустов и поднятых плугом борозд все же пронизаны смягченным
сумраком, происходящим не от обращения небесных тел. В самом деле,
античную и западноевропейскую живопись, античную и западноевро¬
пейскую сцену отделяют друг от друга неизменная освещенность и не¬
изменные сумерки. И не следует ли назвать Эвклидову геометрию ма¬
тематикой дня, а анализ — математикой ночи?
Изменение места действия, вне всякого сомнения бывшее для грека
своего рода кощунственным святотатством, является для нас едва ли не
религиозной потребностью, требованием нашего мироощущения. В
остающейся неизменной сцене «Тассо» есть что-то языческое. Мы
нуждаемся внутренне в драме полномасштабных перспектив и дальних
задних планов, в сцене, которая отменяет все чувственные рамки и
включает в себя весь мир. Шекспир, родившийся, когда умер Мике¬
ланджело, и переставший сочинять, когда на свет появился Рембрандт,
достиг максимума бесконечности, страстного преодоления всякой ста¬
тичной связанности. Его леса, моря, улочки, сады, поля битвы пребы¬
вают в дальнем, безграничном. В считанные минуты пролетают годы.
Безумный Лир между шутом и свихнувшимся нищим в бурю на ночной
пустоши, затерянное в пространстве в глубочайшем одиночестве «я» —
Подчеркнем еще раз: эллинистическая «теневая живопись» Зевксида и Аполло-
Дора моделирует отдельные тела, так чтобы они производили на глаз впечатление ску¬
льптуры. Им было очень далеко до того, чтобы трактовать тень как воспроизведение
освещенного пространства. Само тело «оттенено», однако никаких теней оно не отбра¬
сывает.
356
Том1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
вот фаустовское жизнеощущение. И то, что сцена елизаветинской эпо¬
хи лишь намечает все это, между тем как духовный взор на основе скуд¬
ных намеков набрасывает картину мира, и среди нее разыгрываются
постоянно распространяющиеся на далекие события сцены, которых
ни за что не воспроизвести на античных подмостках, — все это наводит
мосты уже к внутренне узренным, прочувствованным пейзажам вене¬
цианской музыки ок. 1600 г.. Греческая сцена — никогда не пейзаж;
она вообще ничто. В крайнем случае ее можно было бы охарактеризо¬
вать как постамент блуждающих статуй. Фигуры — это все, как в теат¬
ре, так и на фреске. Если мы отрицаем в античных людях чувство при¬
роды, то это касается фаустовского чувства, коренящегося в простран¬
стве и потому в пейзаже — постольку, поскольку он представляет собой
пространство. Античная природа — это тело, и стоит нам погрузиться в
этот способ чувствования, как мы вдруг понимаем, какими глазами
следил грек за подвижным рельефом мускулатуры обнаженного тела.
Вот что было его живой природой, а не облака, звезды и горизонт.
7
Однако все чувственно близкое общепонятно. В силу этого из всех
культур, которые существовали до сих пор, наиболее доступной была
античная, наименее же доступной — западная. Общепонятность — это
такая особенность произведения, что оно с первого же взгляда со всеми
своими тайнами отдается любому зрителю; произведение, смысл кото¬
рого воплощается во внешней стороне и лежит на самой поверхности.
Общепонятно во всякой культуре то, что здесь осталось от пра-челове-
ческих состояний и образований без перемен; то, что человек последо¬
вательно понимает начиная с детства — без того, чтобы ему приходи¬
лось отвоевывать новый способ рассмотрения; вообще то, что не дол¬
жно отвоевываться, что дается само собой, что непосредственно лежит
на поверхности в чувственно данном, а не только в нем намечено, так
что его следует отыскивать (причем способны на это немногие, в неко¬
торых случаях — вообще единицы). Существуют общедоступные виды,
произведения, люди, ландшафты. У всякой культуры — своя вполне
определенная степень эзотеричности или популярности, присутствую¬
щая во всех ее достижениях, поскольку они обладают символическим
значением. Общепонятное снимает различие между людьми как в от¬
ношении объема, так и глубины их душевности. Эзотерика подчерки¬
вает его и усугубляет. Наконец, применительно к изначальному пере¬
живанию глубины пробудившегося до самосознания человека и тем
самым в связи с пра-символом его существования и стилем его окружа¬
ющего мира: к пра-символу телесного относится все чисто популяр¬
ное, «наивное», к символу же бесконечного пространства — открыто
пятая. Образ души и жизнеощущение
357
необшедоступное отношение между творениями культуры и соответст¬
вующими людьми культуры.
Античная геометрия — геометрия ребенка, всякого дилетанта. Эвк¬
лидовы «Элементы геометрии» до сих пор используются в Англии в ка¬
честве школьного учебника. Обыденный рассудок всегда будет почи¬
тать ее за единственно правильную и истинную. Все прочие виды есте¬
ственной геометрии, которые возможны и которые были нами
обнаружены в ходе напряженного преодоления широко распростра¬
ненной иллюзии, понятны лишь кругу профессиональных математи¬
ков. Знаменитые Эмпедокловы четыре элемента принадлежат всякому
наивному человеку и его «природной физике». Развитое исследовани¬
ями радиоактивности представление об изотопах едва понятно даже
ученым в смежных областях науки.
Все античное можно охватить одним взглядом, будь то дорический
храм, статуя, полис, культ богов; никаких задних планов и тайн не су¬
ществует. Но сравним после этого фасад готического собора — с Про¬
пилеями, гравюру — с росписью вазы, политику афинского народа — с
современной кабинетной политикой. Вспомним еще и то, что всякое
из наших составивших эпоху творений поэзии, политики и науки вы¬
звало на свет целую поясняющую литературу, да еще с весьма сомните¬
льными результатами. Скульптуры Парфенона были открыты всякому
греку, музыка же Баха и его современников была музыкой для музы¬
кантов. У нас имеется тип знатока Рембрандта, тип знатока Данте, зна¬
тока контрапунктической музыки, а по адресу Вагнера был выдвинут
упрек — вполне оправданный — в том, что круг вагнерианцев смог
слишком расшириться, что слишком немногое из его музыки смогло
остаться доступным лишь прирожденным музыкантам. Но что такое
группа знатоков Фидия? Или даже знатоков Гомера? В этой связи ста¬
новится понятным — в качестве симптомов западного жизнеощуще¬
ния — целый ряд явлений, которые до сих пор все были склонны оце¬
нивать с морально-философской или скорее мелодраматической точ¬
ки зрения как последствия общечеловеческой ограниченности.
«Непонятый художник», «умирающий с голоду поэт», «осмеянный
изобретатель», мыслитель, «понятый лишь через века» — все это типы
эзотерической культуры. В основе этих судеб лежит пафос дистан¬
ции141, в котором кроется склонность к бесконечному, а значит, воля к
власти. В кругу фаустовского человечества они столь же необходимы,
как немыслймы среди людей аполлонических.
На Западе все возвышенные творцы были, что касается их собст¬
венных намерений, от начала и до конца понятны лишь узкому кругу.
Микеланджело сказал, что его стиль призван плодить дураков. Гаусс
тридцать лет умалчивал о своем открытии неэвклидовой геометрии,
потому что страшился «ропота профанов». Лишь теперь из общей тол¬
пы начинают выделять великих мастеров скульптуры готических собо¬
ров. Однако то же самое можно сказать и о всяком живописце, всяком
358
7ол< 7. 0БРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЯЬНОСТЬ
государственном деятеле, всяком философе. Давайте сравним мысли¬
телей той и другой культуры, Анаксимандра, Гераклита, Протагора — с
Джордано Бруно, Лейбницем или Кантом. Вспомним, что ни один во¬
обще заслуживающий упоминания немецкий поэт заурядным челове¬
ком понят быть не может и что ни на одном из западных языков не су¬
ществует творения такого же уровня и вместе такой же простоты, как
гомеровские поэмы. «Песнь о Нибелунгах» — это неприступная и за¬
крытая поэзия, а «понимание Данте», по крайней мере в Германии,
редко оказывается чем-то большим, чем литературной позой. «Форма
для избранных», чего в античности не бывало никогда, на Западе при¬
сутствует неизменно. Целые эпохи, такие как провансальская культура
и рококо, в высшей степени избирательны и недружественны. Их
идеи, их язык форм существуют лишь для весьма малочисленного
класса высших людей. Как раз то, что Ренессанс, это якобы возрожде¬
ние столь неэксклюзивной, столь невзыскательной в отношении своей
публики античности, не является здесь исключением, что он с начала и
до конца был творением кружка и отдельных избранных умов, вкусом,
изначально отталкивавшим толпу, и что, напротив, народ Флоренции
взирал на Ренессанс безразлично, с изумлением или неодобрительно, а
подчас, как в случае с Савонаролой, с удовольствием крушил и жег ше¬
девры, доказывает то, как далеко заходит эта душевная отчужденность.
Ибо аттической культурой обладал всякий гражданин. Она никого не
исключала, и поэтому ей была вовсе неведома разница между глубоким
и пошлым, которая имеет для нас решающее значение. «Популярный» и
«пошлый» — это для нас взаимозаменимые понятия, как в искусстве,
так и в науке; для античного же человека это не так. «Поверхностные —
от глубины» — так однажды назвал греков Ницше142.
Рассмотрим теперь наши науки, которые все без исключения поми¬
мо элементарных имеют еще и «высшие», недоступные профанам об¬
ласти — это также символ бесконечного и энергии направления. В
мире имеется в лучшем случае тысяча людей, для которых пишутся се¬
годня последние главы теоретической физики. Определенные пробле¬
мы современной математики доступны еще куда более узкому кругу.
Все общедоступные науки — это теперь изначально никчемные, неу¬
дачные, подложные науки. У нас имеется не только художество для ху¬
дожников, но и математика для математиков, политика для политиков
(никакого представления о которой не имеет profanum vulgus143 читате¬
лей газет*, между тем как античная политика никогда не поднималась
выше духовного уровня агоры), религия для «религиозных гениев» и
поэзия для философов. Начинающийся явно ощутимый упадок запад¬
ной науки можно оценить уже только по одной потребности в широте
действия; и то, что строгий эзотеризм эпохи барокко воспринимается
* Подавляющее большинство социалистов тут же перестали бы ими быть, если бы
они смогли хотя бы в общих чертах оценить социализм тех девяти или десяти человек,
которые постигли его сегодня во всех его крайних исторических последствиях.
пятая. Образ души и жизнеощущение
359
Глава___—
как гнет, свидетельствует об упадке сил, об убыли ощущения дистан¬
ции, почтительно признающего эту границу. Немногие науки, которые
все еще сохранили до сих пор всю свою утонченность, глубину и энер¬
гию умозаключений и не стали добычей фельетонистов (а их теперь
уже немного: теоретическая физика, математика, католическая догма¬
тика, возможно, еще и юриспруденция), обращены к весьма узкому,
избранному кругу знатоков. Но как раз знатока-то, вместе с его проти¬
воположностью, профаном, и не было в античности, где всякий знает все.
Эта полярность знатока и профана имеет для нас значение великого
символа, и когда напряжение этой дистанции начинает ослабевать,
угасает и фаустовское жизнеощущение.
Эта взаимосвязь позволяет сделать в отношении последних успехов
западных исследований (т. е. на ближайшие два столетия, а возможно,
даже и не на два, а меньше) тот вывод, что чем острее становится пусто¬
та и избитость публичных, ставших «практическими» искусств и наук,
тем с большей строгостью посмертный дух культуры укрывается в
чрезвычайно узкие круги, чтобы там без какого-либо взаимодействия с
общественностью трудиться над идеями и формами, которые будут
что-то означать лишь для чрезвычайно небольшого числа привилеги¬
рованных людей.
8
Ни одно античное произведение искусства не пытается завязать от¬
ношения со зрителем. Ведь это значило бы утвердить бесконечное про¬
странство, в котором теряется отдельное произведение, посредством
его же языка форм, заставить произведение вмешаться в производимое
им действие. Аттическая статуя — это всецело эвклидовское тело, вне¬
временное и безотносительное, полностью завершенное в самом себе.
Она хранит молчание. Она лишена взгляда. Ей ничего не известно о зри¬
теле. Подобно тому, как она в противоположность пластическим тво¬
рениям всех прочих культур стоит целиком и полностью особняком и
не входит ни в какой другой, более крупный архитектонический поря¬
док, так же независимо держится она и подле античного человека: тело
подле тела. Он воспринимает лишь простую ее близость, а не наступа¬
тельную ее мощь, никакого пронизывающего пространство воздейст¬
вия. Так выражается аполлоническое жизнеощущение.
Пробуждавшееся магическое искусство тут же переиначило
смысл этих форм. Крупные и неподвижные, глаза статуй и портре¬
тов в константиновском стиле не отрываются от зрителя. Они пред¬
ставляют собой высшую из двух душевных субстанций, а именно
пневму. Античность ваяла глаз слепым; ныне просверливается зра¬
чок, и неестественно увеличенный глаз поворачивается в то самое
пространство, которое он в античном искусстве не признал бы даже
360
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
за существующее. На античной фресковой картине лица были бы об¬
ращены друг к другу; ныне, на мозаиках Равенны и уже на рельефах
раннехристианско-позднеримских саркофагов, все они поворачи¬
ваются на зрителя и не спускают с него одухотворенного взгляда.
Потаенно проникновенное дальнодействие переходит от мира про¬
изведения искусства в сферу зрителя. Нечто от этой магии можно
почувствовать еще по раннефлорентийским и раннерейнским кар¬
тинам с золотым фоном.
Рассмотрим теперь западную живопись начиная с Леонардо, когда
она пришла к полному сознанию собственного предназначения. Как
постигает она единое бесконечное пространство, к которому принадле¬
жат как произведение, так и зритель, являющиеся оба просто центрами
тяжести пространственной динамики? Полное фаустовское жизне¬
ощущение, страсть третьего измерения захватывает форму «картины»,
этой проработанной красками поверхности, и неслыханным образом
ее преобразует. Картина не остается сама по себе, она не обращается к
зрителю; она просто захватывает его в свою сферу. Ограниченный рам¬
ками картины фрагмент — эта раешная картинка, верный спутник сце¬
нической декорации — представляет собой само пространство. Перед¬
ний и задний план утрачивают свою вещественно-близкую тенденцию
и, вместо того, чтобы ограничивать, раскрываются. Дальние горизон¬
ты углубляют картину до бесконечности; цветная разработка близи
разрушает идеальную перегородку поверхности картины и так расши¬
ряет пространство картины, что зритель задерживается в нем. Место, с
которого картина воздействует наиболее благоприятным образом,
определяется не им; место и удаление указывает ему сама картина. Пе¬
ресечения с рамой, становящиеся после 1500 г. все более частыми и
смелыми, лишают ценности также и боковую границу. Греческий зри¬
тель фрески Полигнота стоял перед картиной. Мы «погружаемся» в
картину, т. е. нас втягивает в нее той мощью, с которой было трактова¬
но пространство. Тем самым достигается единство мирового про¬
странства. И вот теперь в этой бесконечности, развивающейся через
картину во все стороны, безраздельно царствует западная перспекти¬
ва , а от нее лежит прямой путь к пониманию нашей астрономической
картины Вселенной с ее страстным пронизыванием бесконечных про¬
странственных далей.
Аполлонический человек никогда не желал замечать обширных
просторов Вселенной; все его философские системы хранят на этот
счет молчание. Ему известна лишь проблема осязаемо реальных ве¬
щей, а тому, что «между вещами», невозможно приписать ничего ско¬
лько-нибудь положительного и значительного. Он принимает земной
шар, на котором стоит и который даже у Гиппарха окружен прочным
шаром неба, просто за весь мир как он есть, и в высшей степени пре-
Ср. т. 1, гл. 4, раздел 6.
пятая. Образ души и жизнеощущение
361
Глава
странное впечатление на всякого желающего усмотреть здесь еще и
глубиннейшие и потаеннейшие основания производят постоянно по¬
вторяющиеся попытки так теоретически подчинить этот небесный ку¬
пол Земле, чтобы никоим образом не посягнуть на ее символическое
первенство.
Сравним с этим то потрясающее впечатление, с которым пронизало
душу Запада открытие Коперника, этого «современника» Пифагора, и
глубокое благоговение, с которым Кеплер открыл законы обращения
планет, представлявшиеся ему непосредственным откровением Бога;
как известно, он не осмелился сомневаться в их круговой форме, пото¬
му что всякая иная казалась ему символом слишком незначительного
достоинства. Древненордическое жизнеощущение, стремление ви¬
кингов к безграничному вступили здесь в свои права. Это придает глу¬
бокий смысл подлинно фаустовскому изобретению телескопа. Прони¬
кая в пространства, остающиеся закрытыми для простого глаза, в кото¬
ром воля к власти над космическим пространством наталкивается на
границу, телескоп расширяет ту Вселенную, которой мы «обладаем».
Истинно религиозное чувство, охватывающее современного человека,
которому в первый раз удалось бросить этот взгляд в звездные про¬
странства, ощущение власти, — то же самое, которое желали бы пробу¬
дить величайшие трагедии Шекспира, — представилось бы Софоклу
наиболее кощунственным из святотатств.
Потому-то и следует знать, что отрицание «небосвода» — это воле¬
вое решение, а вовсе не чувственный опыт. Все современные представ¬
ления о сущности наполненного звездами пространства или, говоря
осторожнее, протяжения, обозначенного световыми знаками, основы¬
ваются вовсе не на несомненном знании, которым наделяет нас зрение
посредством телескопа, ибо в телескоп мы видим лишь маленькие
светлые диски различной величины. Фотографическая пластинка пре¬
доставляет нам весьма отличную от этого картину, не более отчетли¬
вую, но иную, и чтобы получить потребную нам завершенную картину
мира, ту и другую картину следует еще совместно истолковать, прибе¬
гая к помощи многих чрезвычайно смелых гипотез, т. е. таких создан¬
ных нами же самими образных элементов, как отстояние, величина и
движение. Стиль этой картины соответствует стилю нашей души. На
самом деле мы не знаем, насколько различаются светимости звезд и не
меняются ли они в различных направлениях; мы не знаем, не изменяет
ли свет свои свойства на колоссальных пространствах — не ослабевает
ли он, не гаснет ли. Мы не знаем, остаются ли в силе наши земные
представления о сущности света со всеми выведенными из них теория¬
ми и законами также и вдали от Земли. Все, что мы «видим», — это иск¬
лючительно световые знаки; то, что мы «понимаем» — это символы нас
самих.
Ср. т. 1, гл. 1, раздел 6.
362
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Пафос коперниканского миросознания, которое принадлежит иск¬
лючительно нашей культуре и (здесь я отваживаюсь на утверждение,
которое ныне все еще представится парадоксом) обратилось бы и еще
обратится насильственным забвением совершенного открытия, стоит
лишь ему представиться угрожающим душе будущей культуры*, пафос
этот покоится на уверенности в том, что отныне космос распрощался с
телесно-статичным началом, с символическим преобладанием скуль¬
птурного земного тела. Прежде небо, также мыслившееся или по край¬
ней мере воспринимавшееся как материальная величина, пребывало в
полярном равновесии с Землей. Теперь во Вселенной господствует
пространством «мир» означает пространство, и звезды представляют
собой нечто едва ли большее, чем математические точки, крохотные
шарики в том необъятном, чья материальность больше не затрагивает
мироощущение. Демокрит, который во имя аполлонической культуры
желал и должен был создать здесь телесную границу, измыслил слой
крючковидных атомов, который заключает в себе космос, словно в
оболочке. Напротив того, наш вечно ненасытный голод отыскивает все
новые мировые дали. В столетия барокко система Коперника неизме¬
римо расширилась, вначале это сделал Джордано Бруно, которому ви¬
делись тысячи таких систем, парящих в бескрайности. Сегодня мы
«знаем», что совокупность всех солнечных систем (примерно 35 мил¬
лионов) образуют замкнутую звездную систему; доказана и конеч¬
ность * этой системы, имеющей форму эллипсоида вращения, экватор
которого приблизительно совпадает с Млечным Путем. Рои солнеч¬
ных систем, подобно стаям перелетных птиц, пересекают это про¬
странство, имея одно направление и одинаковую скорость. Одну такую
стаю, апекс которой находится в созвездии Геркулеса, образует наше
Солнце вместе с яркими звездами Капеллой, Вегой, Альтаиром и Бете-
льгейзе. Считается, что ось колоссальной системы, от центра которой
наше Солнце находится в настоящее время не очень далеко, в 470 мил¬
лионов раз больше, чем расстояние от Солнца до Земли. Ночное звезд¬
ное небо дает нам одновременно впечатления, разделенные меж собой
3700 годами: именно столько времени требуется свету, чтобы преодо¬
леть путь от внешней границы до Земли. В течении истории, разверты¬
вающемся перед нашими глазами, это соответствует длительности, за¬
хватывающей всю античную и арабскую культуры и доходящей до вы¬
сшей точки культуры египетской, времени XII династии. Такая
картина (повторяю: всего лишь образ, никакой не опыт) представляет¬
ся фаустовскому духу возвышенной***; аполлоническому она показа-
" Ср. с. 754.
При возрастании мощности телескопа число показывающихся вновь звезд резко
снижается в направлении границы.
Опьяняющее воздействие больших чисел — весьма показательное переживание,
ведомое лишь человеку Запада. Как раз этот символ, страсть к колоссальным величи¬
нам, к бесконечно большим и бесконечно малым измерениям, к рекордам и статистике
играет в современной цивилизации небывалую роль.
рлава пятая. Образ души и жизнеощущение 363
лась бы ужасной, полным уничтожением глубочайших условий его су¬
ществования. Избавлением представилось бы ему провозглашение
края звездных тел окончательной границей всего для нас ставшего и
сущего. Однако мы с неизбежной необходимостью задаемся уже но¬
вым вопросом: существует ли что-то вне этой системы? Существуют ли
на отдалениях, рядом с которыми чрезвычайно малыми оказываются
те что были здесь приведены, множества таких систем? Надо пола¬
гать, для чувственного опыта абсолютная граница уже достигнута: че¬
рез эти в основном пустые пространства, являющиеся для нас чисто
логической необходимостью, ни свет, ни гравитация не в состоянии
подать какого бы то ни было знака о существовании. Но душевная
страсть, потребность в полной реализации нашей идеи бытия в симво¬
лах, тяжко страдает от этой границы наших чувственных восприятий.
9
Поэтому-то древненордические племена, в пра-человеческой душе
которых уже ожило фаустовское начало, и изобрели еще в седой древ¬
ности парусник, освобождавший от материка*. Египтянам парус был
известен, однако они извлекали из него лишь экономию усилий. Как и
раньше, на своих гребных судах они плавали вдоль берегов в Пунт144 и
Сирию, никак не воспринимая при этом идеи плавания в открытом
море, ее освобождающего и символического значения. Ибо плавание
под парусами преодолевает эвклидовское понятие суши. В начала XIV в.
происходит почти одновременное, (и одновременное также с формиро¬
ванием масляной живописи и контрапункта!) изобретение пороха и
компаса, т. е. оружия дальнего действия и дальнего сообщения, которые
также оба с глубинной необходимостью были изобретеныл внутри ки¬
тайской культуры. Это дух викингов, Ганзы, духтехпра-народов, кото¬
рые рассыпали по широким равнинам курганы как памятники одино-
Во 2-м тысячелетии до Р. X. от Исландии и Северного моря через мыс Финисте-
ре они достигли Канарских островов и Западной Африки, о чем сохранились воспоми¬
нание в греческих сказаниях об Атлантиде. Как представляется, центром этих транс¬
портных сообщений было Тартесское царство при устье Гвадалквивира. Ср. Frobenius L.,
Das unbekannte Afrika. S. 139. В какой-то связи с этим должны были находиться «наро¬
ды моря», ватаги викингов, которые после долгого сухопутного пути с севера на юг
вновь строили суда на Черном или Эгейском море и начиная с Рамсеса II (1292—1225)
Устремлялись на Египет. Типы их кораблей на египетских рельефах коренным образом
отличаются от местных и финикийских, однако, быть может, родственны тем, с кото¬
рыми познакомился еще Цезарь у венетов в Бретани. Позднейший пример таких напа¬
дений мы видим по варягам в России и Константинополе. Вероятно, в скором времени
следует ожидать дальнейшей информации относительно этих блуждающих потоков.
[Уже несколько лет спустя Шпенглер, глубже вникнув в предмет, коренным образом
изменил свои взгляды на раннюю историю и обособил плавающий по морю «Древний
Запад» от более юной «нордической» ранней культуры. Сведения по этому поводу мож¬
но получить из статей «К всемирной истории 2-го тысячелетия до Р. X.» и о боевой ко¬
леснице (Обе они были вновь напечатаны в „Reden und Aufsatzen“, 1937, Miinchen,
c- Я. Beck. (X. К.)]
364
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
ким душам (вместо уютных греческих урн с прахом), это он побуждал
их пускать своих покойных королей на горящих кораблях в открытое
море — потрясающий знак смутного стремления к безграничному! — и
это он же побудил их ок. 900 г., когда родившаяся западная культура
возвестила о себе, на крохотных лодчонках достичь берегов Америки,
между тем как уже осуществленное египтянами и карфагенянами пла¬
вание вокруг Африки оставило античное человечество совершенно
безразличным. О том, насколько статуарным было его существование
также и в отношении средств сообщения, можно судить по тому факту,
что весть о 1-й Пунической войне, одной из наиболее масштабных в
истории античности, достигла Афин лишь в качестве неясного слуха с
Сицилии. Даже души греков собраны в Аиде без всякого движения —
как теневые образы (etScoAa), лишенные сил, желаний и ощущений.
Нордические же души присоединялись к «буйствующему войску», ко¬
торое не зная устали летает в воздухе.
На той же ступени развития культуры, что и открытия испанцев и
португальцев в XIV в., имела место великая греческая колонизация
VIII в. до Р. X. Однако в то время как первых одолевал дух приключе¬
ний, устремлявшийся к неосвоенным далям и всему неведомому и
полному опасности, грек осмотрительно шел от точки к точке по уже
известным следам финикийцев, карфагенян и этрусков, и его любо¬
пытство ни в коей мере не простиралось на то, что лежало по другую
сторону Геркулесовых столпов или Суэцкого перешейка, как ни лег¬
ко ему было туда добраться. Несомненно, в Афинах слыхали о пути в
Северное море, в Конго, на Занзибар, в Индию; во времена Герона
было известно местоположение южной оконечности Индии и Зонд-
145
ских островов ; однако от всего этого греки затворялись точно так
же, как от астрономических знаний древнего Востока. Даже когда ны¬
нешние Марокко и Португалия стали римскими провинциями, ника¬
кого нового атлантического сообщения по морю не возникло, и Ка¬
нарские острова остались позабытыми. Колумбова страсть осталась
аполлонической душе столь же чуждой, как и страсть Коперника. Эти
столь одержимые идеей наживы греческие торговцы испытывали глу¬
бокую метафизическую робость перед расширением своего географи¬
ческого горизонта. Также и здесь принято было держаться близи и пе¬
реднего плана. Бытие полиса, этого примечательного идеала государ¬
ства как статуи, было ведь не чем иным, как прибежищем от
«широкого мира» этих народов моря. И ведь это при том, что антич¬
ность была единственной среди всех появлявшихся доныне культур,
чья метрополия находилась не на поверхности одного континента, но
размещалась по берегам островного моря и окаймляла море как на¬
стоящий свой центр тяжести. Несмотря на это, даже эллинизм с его
пристрастием к техническим забавам не освободился от употребле-
Ср. с. 966.
пятая. Образ души и жизнеощущение
365
ния весел, привязывавших корабли к берегам. Кораблестроение соо-
пужало тогда (в Александрии) громадные корабли длиной в 80 м, и в
принципе пароход могли бы изобрести там еще раз. Однако есть от¬
крытия, обладающие пафосом великого и необходимого символа, ко¬
торые выявляют нечто в высшей степени сокровенное, а бывают и та¬
кие, что являются исключительно умственной игрой. Для аполлони-
ческого человека пароход является вторым, а для фаустовского —
первым. Лишь положение в макрокосме в целом придает изобрете¬
нию и его использованию глубину или поверхностность.
Открытия Колумба и Васко да Гама расширили географический го¬
ризонт до необъятных размеров: мировой океан вступил в точно такие
же отношения к материку, как космическое пространство к земле.
Лишь теперь разрядилось политическое напряжение фаустовского ми-
росознания. Для греков Эллада была и оставалась важной частью зем¬
ной поверхности; с открытием Америки Запад сделался провинцией в
исполинском целом. Начиная с этого момента история западной куль¬
туры приобретает планетарный характер.
У всякой культуры — свое собственное понятие о родине и отечест¬
ве. Ощутить его непросто, а выразить словами почти невозможно; оно
полно неясных метафизических связей, и все же недвусмысленно по
своей направленности. Античное чувство родины, совершенно телес¬
но и эвклидовски привязывавшее отдельного человека к полису*, про¬
тивостоит здесь той загадочной тоске северян по родине, в которой
присутствует нечто музыкальное, летучее и неземное. Античный чело¬
век воспринимает в качестве родины лишь то, что может обозреть с
крепости своего родного города. Там, где горизонт Афин подходит к
концу, начинается чужбина, враг, «отчизна» других людей. Даже на ис¬
ходе республиканской эпохи римлянин понимал под patria ни в коем
случае не Италию, и даже не Лаций, а всегда только Urbs Roma [город
Рим (лат.)]. По мере возрастания зрелости античный мир распадается
на бессчетные отчие точки, между которыми существует потребность
телесного обособления в форме ненависти, которая никогда с такой
силой не проявляется в отношении варваров. И ничто в данном плане
не может ярче обозначить окончательное угасание античного миро¬
ощущения и победу над ним магического, нежели пожалование Кара-
каллой (212) прав римского гражданства всем провинциалам *. Тем са¬
мым античное, статуарное понятие гражданина было упразднено. Те¬
перь существовала «Империя», и существовал, следовательно, новый
род принадлежности к ней. Показательно соответствующее римское
понятие войска. В подлинно античные времена никакого «римского
войска», в том смысле, как говорят о прусском войске, не существова¬
ло; были лишь войска, т. е. определенные в качестве таковых назначе¬
нием легата войсковые части («войсковые тела»), как ограниченные и
* Ср. т. 2, гл. 2, раздел 18.
Ср. т. 2, гл. 1, раздел 16.
366^ Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
зримо присутствующие тела: exercitus Scipionis, Crassi [войско Сципио¬
на, Красса (лат.)], но никакого exercitus Romanus [римского войска].
Лишь фактически упразднивший своим эдиктом понятие civis Romanus
[римского гражданина] Каракалла, который уничтожил римскую госу¬
дарственную религию посредством уравнивания городских богов со
всеми чужими божествами, создал также и — неантичное, магическое —
понятие императорской армии, проявляющейся в форме отдельных леги¬
онов, между тем как древнеримские войска ничего не означали, ко иск¬
лючительно чем-то были. Выражение fides exercituum [верность войск]
заменяется на надписях выражением fides exercitus [верность войска];
место воспринимавшихся телесно отдельных божеств (Верность, Сча¬
стье легиона), которым приносил жертвы легат, заступил всеобщий ду¬
ховный принцип. Эта перемена смысла произошла также и в чувстве
родины восточных людей императорской эпохи — и не одних только
христиан. Для аполлонического человека, пока остаток мироощуще¬
ния сохраняет в нем силу, родина представляет собой почву (в исклю¬
чительно телесном смысле), на которой построен его город. Здесь
вспоминается принцип «единства места» аттических трагедий и статуй.
Для магических людей — христиан, персов, иудеев, «греков»*, мани-
хейцев, несториан, мусульман — родина никак не связана с географи¬
ческими реалиями. Для нас она представляет собой неуловимое един¬
ство природы, языка, климата, нравов, истории; не земля, но «страна»,
не точечное настоящее, но историческое прошлое и будущее, не сово¬
купность людей, богов и домов, но идея, которая уживается с не знаю¬
щим покоя странничеством, глубочайшим одиночеством и тем пра-не-
мецким стремлением на юг, от которого погибали лучшие из лучших —
начиная с саксонских императоров и до Гёльдерлина с Ницше.
По этой причине фаустовская культура была в сильнейшей мере на¬
правлена на распространение, будь то политического, экономического
или духовного характера; она преодолевала все географически-мате-
риальные границы; безо всякой практической цели, лишь ради симво¬
ла, она старалась достичь Северного и Южного полюса; наконец, она
превратила всю земную поверхность в единую колониальную область и
экономическую систему. То, чего желали все мыслители начиная с
Майстера Экхарта и до Канта, а именно покорить мир «как явление»
властным притязаниям познающего «я», это-то и делали все вожди на¬
чиная с Оттона Великого и до Наполеона. Подлинной целью их често¬
любия было безграничное — всемирная монархия великих Салиев и
Штауфенов, планы Григория VII и Иннокентия III, та империя испан¬
ских Габсбургов, «в которой не заходило солнце», и империализм, ради
которого ныне ведется далеко еще не завершенная мировая война. Ан¬
тичный человек в силу внутренних причин завоевателем быть не мог,
несмотря на поход Александра, который, как романтическое исключе-
T. е. приверженцы синкретических культов, ср. т. 2, гл. 2, раздел 18.
пятая. Образ души и жизнеощущение
367
Глам
ние, лишь подтверждает правило (а еще большим подтверждением слу¬
жит внутреннее сопротивление его спутников). Созданные северной
душой гномы, русалки и домовые — это существа, которые с неутоли¬
мой страстью желают освободиться от связывающего их элемента; гре¬
ческим дриадам и ореадам эта страсть вырваться вдаль и на свободу
была совершенно неизвестна. Греки основали сотни отпочковавшихся
городов на береговой линии Средиземного моря, однако мы не видим
здесь даже самомалейшей попытки проникнуть с целью завоевания
вглубь суши. Поселиться вдали от берега значило бы упустить из вида
родину; а уж поселиться в одиночку, что представлялось идеалом трап¬
перам американских прерий, а еще задолго до них — героям исланд¬
ских саг, для античного человека совершенно немыслимо. Исключите¬
льно фаустовскими оказываются и такие сюжеты, как переселение в
Америку (каждый полагается при этом на собственные силы и испыты¬
вает глубокую потребность остаться одному), испанские конкистадо¬
ры, поток калифорнийских золотоискателей, необузданное желание
свободы, одиночества, безграничной независимости, это исполинское
отрицание все еще как-то ограниченного чувства родины. Ни одной
другой культуре, в том числе и китайской, ничто подобное неведомо.
Греческий переселенец — все равно, что ребенок, который держит¬
ся за материнский фартук: переехать из старого города в новый, кото¬
рый вместе с согражданами, богами и обычаями является точной ко¬
пией старого, при сообща бороздимом море неизменно перед глазами;
продолжать там на агоре обычное существование £аюу ttoXltlkov — за
пределы этого не была в состоянии выйти смена декораций аполлони-
ческого бытия. Для нас, не способных отказаться от свободы передви¬
жения, по крайней мере как права человека и идеала, это означало бы
горчайшее рабство. Под этим углом зрения следует оценивать римскую
экспансию, которую очень легко понять в превратном смысле. Дело в
том, что она весьма далека от распространения родины вширь. Экспан¬
сия эта удерживается в точности в пределах той области, которой люди
культуры уже овладели; теперь же она досталась им как добыча. Даже
речи никогда не заходит о планах мирового господства в стиле Гогенш-
тауфенов или Габсбургов, об империализме, который можно было бы
сравнить с современностью. Римляне не сделали никаких попыток
проникнуть во внутреннюю Африку. Свои войны более позднего вре¬
мени они вели лишь с целью обеспечить сохранность своих владений,
безо всякого честолюбия, без символического порыва к распростране¬
нию, и без сожалений они расстались вновь с Германией и Месопота¬
мией.
Обобщим все это еще раз: аспект звездных пространств, до которого
расширилась Коперникова картина мира, господство западного чело¬
века над земной поверхностью как следствие открытия Колумба, перс¬
пектива масляной живописи и сценическая перспектива, а также оду¬
хотворенное чувство родины; прибавим к этому цивилизованную
368 Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
страсть к скоростному передвижению, овладение воздухом, экспеди¬
ции на Северный полюс и восхождение на почти недоступные горные
пики, — из всего этого проступает пра-символ фаустовской души, без¬
граничное пространство, в качестве производных которого следует
нам понимать такие особые, в данной форме чисто западноевропей¬
ские образования душевного мифа, как «воля», «сила», «дело».
II. Буддизм, стоицизм, социализм
10
Тем самым становится наконец понятным явление морали — как ду¬
ховное истолкование жизни ею же самой. Мы взошли на вершину, с
которой возможен свободный взгляд на эту обширнейшую и сомните¬
льнейшую из всех областей человеческого размышления. Однако
именно тут-то и необходима та объективность, до которой пока что ни¬
кто так всерьез и не поднялся. Пускай на первых порах мораль будет
чем угодно: сам ее анализ частью морали никак быть не может. К суще¬
ству дела приводит здесь не то, что мы должны делать, к чему должны
стремиться, как мы должны оценивать, но то усмотрение, что эта по¬
становка вопроса уже по своей форме является симптомом исключите¬
льно западного мироощущения.
Западноевропейский человек, причем всякий, без исключения,
пребывает здесь в плену колоссального оптического обмана. Все друг
от друга чего-то требуют. Фраза «ты должен» высказывается в том
убеждении, что здесь в самом деле что-то должнб и может быть измене¬
но, оформлено, упорядочено. Вера в это, как и в соответствующее пра¬
во, оказывается непоколебимой. Здесь приказывают и требуют пови¬
новения. Это-то в первую очередь и именуется у нас моралью. В нрав¬
ственной сфере Запада все оказывается направлением, претензией на
власть, преднамеренным дальнодействием. В этом нет никакой разни¬
цы между Лютером и Ницше, папами и дарвинистами, социалистами и
иезуитами. Их мораль заявляет о себе вместе с претензиями на всеоб¬
щую и долговременную значимость. Это оказывается одним из непре¬
менных моментов фаустовского бытия. Всякий, кто мыслит, учит и во-
лит как-то иначе — грешник и отступник, короче, враг. Ему объявляют
беспощадную войну. Человек должен. Государство должно. Общество
должно. Такая форма морали представляется нам чем-то само собой
разумеющимся; вот для нас подлинный и единственный смысл всякой ** Речь здесь идет исключительно о сознательной, религиозно-философской мора¬
ли, которую познают и проповедуют, а также следуют ей, а не о том бессознательно
данном такте жизни, «нраве», что является производной от расы. Первая вращается
вокруг таких духовных понятий, как добродетель и грех, добро и зло, второй — вокруг
идеалов крови: честь, верность, храбрость, и выносимых чувством такта решений от¬
носительно того, что благородно, а что низко. Ср. с. т. 2, гл. 4, раздел 3.
Глава пятая. Образ души и жизнеощущение 369
морали. Но ни в Индии, ни в Китае, ни в античности так не было. Будда
подал пример, следовать которому был волен всякий; Эпикур давал по¬
лезные советы. Также и это есть форма высшей — при свободе воли —
морали.
Исключительности нравственной динамики мы не приметили вовсе.
Принимая, что социализм, если понимать его этически, а не экономи¬
чески, представляет собой такое мироощущение, которое отстаивает
собственное мнение от имени всех и каждого, все мы без исключе¬
ния — социалисты, причем неважно, догадываемся мы об этом или же
нет. Даже такой страстный противник всякой «стадной морали», как
Ницше, был не в состоянии ограничить — в античном смысле — свое
рвение лишь самим собой. Он мыслит исключительно о «человечестве
в целом». Он нападает на всякого, кто мыслит иначе. Эпикуру же было
в высшей степени безразлично, что думают и делают другие. У него и в
мыслях не было преобразовать человечество. Он и его друзья довольст¬
вовались тем, что они именно такие, а не какие-нибудь другие. Антич¬
ным идеалом было отсутствие интереса {аттавекх) к ходу дел в мире, т. е.
как раз к тому, господство над чем составляет все содержание жизни
фаустовского человека. Сюда же можно отнести важное понятие
Ьсафора [безразличное (греч.)]. В Греции существовал также и нравст¬
венный политеизм. Это доказывается мирным сосуществованием эпи¬
курейцев, киников и стоиков. Но весь «Заратустра», пребывая якобы
по ту сторону добра и зла, дышит страстным желанием видеть людей
такими, какими хочется, чтобы они были, и глубокой, такой неантич¬
ной склонностью посвятить жизнь их переделке — разумеется, в своем
собственном, единственном смысле. А как раз это-то, всеобщая пере¬
оценка, и представляет собой этический монотеизм и (если взять это
слово в новом, более глубоком значении) социализм. Все усовершен-
ствователи мира — социалисты. Следовательно, в античности и поми¬
на не было ни о каких усовершенствователях мира.
Нравственный императив как форма морали представляет собой фа¬
устовское и исключительно фаустовское явление. Не имеет абсолютно
никакого значения то, что Шопенгауэр теоретически желал бы отрица¬
ния воли к жизни, Ницше же — ее утверждения. Это поверхностные раз¬
личия. Они знаменуют персональный вкус, темперамент. Важно то, что
Шопенгауэр ощущает весь мир как волю, как движение, жизнь, силу,
направление; в этом он оказывается родоначальником всей этической
современности. В этом фундаментальном ощущении уже заключена вся
наша этика. Все прочее — лишь подвиды. То, что мы называем поступ¬
ком, а не только деятельностью*, представляет собой насквозь историче¬
ское, насыщенное энергией направления понятие. Это есть утвержде-
После того, что сказано прежде об отсутствии в античных языках отчетливо вы¬
раженных слов для «воли» и «пространства», а также о глубинном смысле этих пробе¬
лов, никого не должно удивлять также и то, что ни в греческом, ни в латинском невоз¬
можно с точностью передать разницу между «поступком» и «деятельностью».
370
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
ние бытия, посвящение в бытие такой разновидности людей, чье «я» об¬
ладает направленностью в будущее, которые воспринимают настоящее
не как ублаготворенное существование, но как эпоху в великой взаимо¬
связи бытия, причем как в личной жизни, так и в жизни всей истории
вообще. Интенсивность и отчетливость такого сознания определяет
ранг фаустовского человека, однако даже самый малозначительный сре¬
ди них обладает чем-то таким, что отличает его наимельчайший жизнен¬
ный акт от такого же акта любого античного человека. Это разница в ха¬
рактере и позиции, разница между сознательным становлением и вос¬
принимаемой как нечто само собой разумеющееся статуарной
ставшестью, между трагической волей и трагической покорностью.
На взгляд фаустовского человека, в его мире вся подвижность на¬
правлена к некой цели. Он сам живет при таком условии. Для него
жить — значит бороться, преодолевать, самоосуществляться. Борьба за
существование как идеальная форма бытия относится уже к готическо¬
му времени и достаточно явно лежит в основе его архитектуры. XIX
столетие лишь наложило на нее механистически-утилитаристский от¬
печаток. В мире аполлонического человека нет никакого ориентиро¬
ванного на цель «движения» (становление Гераклита, эта лишенная
намерения и цели игра, rj 686s avco катсо [путь вверх и вниз (греч.)]1Л6,
всерьез здесь рассматриваться не может), никакого «протестантизма»,
никаких «бури и натиска», никакого этического, духовного, художест¬
венного «переворота», который хотел бы ополчиться на существующее
и его уничтожить. Ионический и коринфский стили появляются на
свет подле дорического без всякой претензии на исключительность.
Однако Возрождение отвергло готику, а классицизм — стиль барокко,
и вся литературная история Запада полна отчаянных схваток в связи с
проблемами формы. Даже монашество, каким его представляют ры¬
царские ордена, францисканцы и доминиканцы, появляется в образе
орденского движения, что в высшей степени противоположно ранне¬
христианской, отшельнической форме аскезы.
Фаустовский человек никак не в состоянии отрицать этот основной
облик собственного существования, уж не говоря о том, чтобы его из¬
менить. Всякий протест против него уже его предполагает. Тот, кто
воюет с «прогрессом», считает эту свою деятельность за прогресс. Кто
ратует за «возврат», имеет в виду дальнейшее развитие. «Амораль¬
ность» — это всего только новая разновидность морали, причем с тем
же самым притязанием на превосходство перед всеми прочими. Воля к
власти нетерпима. Все фаустовское желает безраздельного господства.
Для аполлонического мироощущения (соположенности многих еди¬
ничных вещей) терпимость подразумевается сама собой. Она принад¬
лежит к стилю чуждой воле атараксии. Для западного мира (единого
безграничного душевного пространства, пространства как напряже¬
ния) она представляет собой самообман или знак угасания. Просвеще¬
ние XVIII в. было терпимым, т. е. безразличным по отношению к раз-
Глава пятая. Образ души и жизнеощущение 371
линиям христианских вероисповеданий; что же до себя самого, то по от¬
ношению к церкви вообще, стоило ему прийти к власти, оно терпимым
ни в коей мере не было. Фаустовский инстинкт, деятельный, волевой, с
вертикальной направленностью готических соборов и этой многозна¬
чительной перекройкой feci в ego habeo factum, направленный в даль и в
будущее, требует терпения, т. е. пространства для собственной деяте¬
льности, однако исключительно для нее. Вспомним, например, наско¬
лько готова проявлять терпение демократия крупных городов в отно¬
шении церкви при ее манипулировании религиозными средствами
власти, между тем как для себя самой эта демократия требует безгра¬
ничного применения собственных средств и, когда это возможно, ори¬
ентирует в этом же направлении «всеобщее» законодательство. Всякое
«движение» желает одержать верх; всякая античная «позиция» желает
лишь собственного пребывания и очень мало заботится об этосе про¬
чих. Бороться с духом времени или ополчаться против него, продвигать
реформы или отход назад, отстраивать, переоценивать или разру¬
шать — все это в равной мере неантично и не по-индийски. И как раз в
этом-то и состоит разница между софокловским и шекспировским
трагизмом, трагизмом людей, которые просто пребывают и которые
желают победить.
Неправильно связывать с нравственным императивом христианст¬
во «как таковое». Это не христианство переформировало фаустовского
человека, а он переформировал христианство, причем не просто в но¬
вую религию, но и в направлении новой морали. «Оно» делается «я» со
всем пафосом центра мира, как образует его предпосылка таинства
личного покаяния. Воля к власти также и в области нравственности,
страстное желание возвысить собственную мораль до всеобщей исти¬
ны, навязать ее человечеству, желать переосмыслить, преодолеть,
уничтожить все, что не таково — вот исконнейшее наше достояние. В
этом смысле (это был глубинный и еще никем не понятый процесс)
мораль Иисуса, духовно-покоящаяся, рекомендуемая исходя из маги¬
ческого мироощущения как целебное поведение, знание которой ни¬
сходит на человека как особая благодать*, была в готическое раннее
время внутренне перетолкована в повелительную*.
* Ср. с. 704 слл.
«У кого есть уши, чтобы слышать, пусть услышит»147, — в этом нет никакого при¬
тязания на власть. Западная же церковь так на собственную миссию не смотрела. «Бла-
говестие» Иисуса, как и Заратустры, Мани, Мухаммеда, неоплатоников и всех соседст¬
вовавших магических религий — это таинственные благодеяния, которые можно поре¬
комендовать, но не навязать. Юное христианство, когда оно влилось в античный мир,
подражало исключительно миссии поздней, также давно уже ставшей магической
Стой. Павла можно находить назойливым, и в самом деле, как доказывает литература,
стоических странствующих проповедников действительно считали назойливыми, од¬
нако с повелительными интонациями они не выступают. Можно прибавить к этому
пример из удаленной области и противопоставить врачей магического толка, которые
восхваляют свои таинственные «арканы» — западным, которые желали бы наделить
свое знание принудительностью закона (обязательная прививка, ветеринарный осмотр
туш на трихиноз и т. д.).
372
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Всякая этическая система, будь то религиозного или философского
происхождения, уже в силу этого находится по соседству с великими
искусствами, в первую очередь с архитектурой. Это есть структура вы¬
сказываний, несущая на себе каузальный отпечаток. Всякая истина,
предопределенная к практическому применению, преподносится с
«потому что» или «чтобы». Повсюду здесь, как в четырех истинах Буд¬
ды, так и в кантовской «Критике чистого разума» и во всяком популяр¬
ном катехизисе, присутствует математическая логика. Не может быть
ничего более удаленного от этих признаваемых за истинные учений,
чем некритическая логика крови, усматриваемая во всяких достигших
зрелости нравах сословий и людей практической направленности, —
нравах, доходящих до сознания лишь через прегрешения против них. С
наибольшей отчетливостью мы обнаруживаем это в рыцарской муш¬
тре148 эпохи Крестовых походов. Систематическая мораль — все равно,
что орнамент, и она проявляется не только в высказываниях, но также
и в трагическом стиле, и даже в художественном мотиве. Например,
меандр — стоический мотив; в дорической колонне прямо-таки вопло¬
щен античный жизненный идеал. Как раз поэтому она единственная
из античных форм колонны, от которой стиль барокко должен был бе¬
зусловно отказаться. Даже в искусстве Возрождения ее избегают по
причине глубинных душевных оснований. Преобразование магиче¬
ского купольного здания в русское с его символом крыши в виде рав¬
нины*, китайская ландшафтная архитектура с ее запутанными тропин¬
ками, готическая башня кафедрального собора — все это также симво¬
лы морали, возникшей из бодрствования данной и только данной
культуры.
11
Ныне разъясняются древние, как мир, загадки и недоумения. Су¬
ществует столько же моралей, сколько культур, не больше и не ме¬
ньше. Свободного выбора здесь ни у кого нет. Так же точно, как у
всякого художника или музыканта имеется нечто такое, что вообще
не доходит до его сознания по причине своей внутренней мощи, а
между тем изначально определяет язык форм его произведений и
отличает их от художественных достижений всех прочих культур, так
и у всякого жизненного представления культурного человека изнача¬
льно, a priori в строжайшем кантовском смысле имеется свойство,
заложенное еще глубже, чем все сиюминутные суждения и устрем¬
ления и позволяющее в своем стиле признать стиль вполне опреде¬
ленной культуры. Отдельный человек может поступать морально
или аморально, «хорошо» или «плохо» исходя из пра-чувства его ку-
* Ср. т. 1, гл. 3, раздел 12.
Глава пятая. Образ души и жизнеощущение
373
льтуры, однако теория его поведения уже задана. Для этого у всякой
культуры имеется своя собственная мера, значимость которой начи¬
нается и завершается вместе с ней самой. Никакой общечеловече¬
ской морали не существует.
Так что и подлинного «обращения» в глубочайшем смысле этого
слова не бывает и быть не может. Всякая разновидность сознательно¬
го поведения на основе убеждений является пра-феноменом, сделав¬
шимся «вневременной истиной» основным направлением данного
существования. Неважно, какими словами и образами сопровождает
человек его выражение, будь то божественное установление или резу¬
льтат философского размышления, будь то высказывания или симво¬
лы, то ли как обнародование собственной убежденности или опро¬
вержение чужой; довольно, что оно имеется в наличии. Данное
основное направление существования можно пробудить и обобщить
в теорию, можно изменить и прояснить его духовное выражение; од¬
нако создать его невозможно. Насколько мы не в состоянии изменить
собственное мироощущение (до того, что даже попытка изменения
протекает в его стиле и вместо того, чтобы его преодолевать, его под¬
тверждает), точно так же у нас нет власти над этической базовой фор¬
мой нашего бодрствования. Установить определенное различие на
словах здесь удалось, и этику назвали наукой, а мораль — заданием,
однако никакого задания в этом смысле не существует. Насколько не
под силу Возрождению было вновь вызвать из небытия античность,
насколько интенсивно оно каждым античным мотивом выражало
исключительно противоположность аполлоническому мироощуще¬
нию, а именно поюжневшую, «антиготическую готику», настолько же
невозможно и обращение человека в чуждую его существу мораль.
Что бы там сегодня ни говорили о переоценке всех ценностей, как бы
ни «обращались» нынешние обитатели больших городов обратно в
буддизм, язычество или в римский католицизм, как бы ни бредил
анархист индивидуалистической, а социалист — общественной эти¬
кой, все равно всякий делает, волит и ощущает одно и то же. Обраще¬
ние в теософию или вольномыслие, все эти нынешние переходы из
мнимого христианства в мнимый атеизм или наоборот — все это пере¬
мена исключительно слов и понятий, религиозной или интеллектуа¬
льной поверхности, и не более того. Ни одно из наших «движений»
человека не переменило.
Строгая морфология всякой морали — дело будущего. Также и здесь
Ницше совершил главное, сделал первый, решающий для нового
взгляда шаг. Однако сам он не исполнил своего собственного требова¬
ния к философу — встать по ту сторону добра и зла. Он желал быть
скептиком и пророком, критиком морали и ее проповедником в одно и
то же время. Но совместить это невозможно. Нельзя быть первоклас¬
сным психологом, пока остаешься романтиком. Точно так же и здесь,
как и во всех своих решающих узрениях, Ницше добрался до дверей, но
374 Том L ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
в них не вошел. При всем том ничего лучшего никто так и не создал. До
сих пор мы были слепы также и в отношении необозримого богатства
языка моральных форм. Мы не видели его и не понимали. Даже скеп¬
тик не понимал своей задачи; в конечном счете он возвышал собствен¬
ное, определяемое личной предрасположенностью, личным вкусом
представление о морали — до нормы, которой и мерил всех прочих. Все
модерновейшие революционеры — Штирнер, Ибсен, Стриндберг,
Шоу — только этим и занимались. Их хватало лишь на то, чтобы
скрыть данные факты (даже от себя самих) под новыми формулами и
лозунгами.
Однако мораль, подобно скульптуре, музыке или живописи,
представляет собой замкнутый в себе, выражающий определенное
мироощущение мир форм, который просто имеется в наличии, в
глубине же неизменен и заряжен внутренней необходимостью. В
пределах собственного исторического круга она неизменно истин¬
на, а вне его неизменно ложна. Уже было показано*, что примерно
тем же, чем являются отдельные произведения для данного поэта,
художника, музыканта, оказываются виды искусств как органиче¬
ские единства — для великих индивидуумов культур. Так что эпоху в
культуре составит вся целиком масляная живопись, вся целиком обна¬
женная скульптура, контрапунктическая музыка, рифмованная поэ¬
зия, которые поднимаются до великого жизненного символа. В обо¬
их случаях, как в истории культуры, так и в единичном существова¬
нии, речь идет об осуществлении возможного. Внутренне душевное
становится стилем мира. Рядом с этими великими единствами
форм, чье становление, зрелость и завершение охватывает предо¬
пределенный заранее ряд человеческих поколений и которые неиз¬
бежно погибают, просуществовав считаные столетия, пребывает
группа фаустовских моралей, как и совокупность моралей аполло-
нических, которые также следует воспринимать как единства вы¬
сшего порядка. Их наличие — это судьба, с которой приходится счи¬
таться; результатом откровения или же научного узрения оказывает¬
ся только сознательное их изложение.
Существует нечто с трудом поддающееся описанию, чем охватыва¬
ются все учения от Гесиода и Софокла и до Платона и Стой и что про¬
тивостоит всему тому, что проповедовалось начиная с Франциска Ас¬
сизского и Абеляра до Ибсена и Ницше, так что и мораль Иисуса пред¬
ставляет собой всего лишь благороднейшее выражение той всеобщей
морали, иные изложения которой мы встречаем у Маркиона и Мани,
Филона и Плотина, Эпиктета, Августина и Прокла. Всякая античная
этика — это этика позиции, всякая западная — этика поступка. И нако¬
нец, совокупность всех китайских и всех индийских систем также об¬
разует свой обособленный в себе мир.
* Ср. т. 1, гл. 3, раздел 13.
пятая. Образ души и жизнеощущение
Глава
375
12
Всякая вообще мыслимая античная этика формирует отдельного
пребывающего в покое человека, как тело среди других тел. Все оценки
Запада относятся к человеку, поскольку он является центром действия
бесконечной всеобщности. Этический социализм — вот образ мыслей,
отвечающий поступку, действующему через пространство вдали, мо¬
ральный пафос третьего измерения, в качестве знака которого над всей
этой культурой витает пра-чувство заботы как о живущих ныне, так и о
будущих поколениях. Отсюда и получается, что в самом виде египет¬
ской культуры для нас наличествует нечто социалистическое. С другой
стороны, нацеленность на исполненную покоя позицию, отсутствие
желаний, статичную завершенность отдельного человека в самом себе
напоминает об индийской этике и сформированном для нее человеке.
Вспомните сидящие, «созерцающие собственный пуп» статуи Будды,
от которых не так уж далеко ушла атараксия Зенона. Этический идеал
античного человека был тем, к чему вела трагедия. Здесь раскрывается
глубочайший смысл катарсиса, высвобождения аполлонической души
от того, что не аполлонично, несвободно от «дали» и направления. Он
становится понятен лишь тогда, когда мы признаем стоицизм за зре¬
лую его форму. То, что создавалось драмой в торжественную минуту,
Стое желательно было распространить на всю жизнь: статуарный по¬
кой, безвольный этос. И вот еще: тот буддистский идеал нирваны, эта
весьма поздняя формулировка, но вполне индийская и прослеживаю¬
щаяся уже с ведических времен — разве она не близка катарсису? Разве
в свете этого понятия не сходятся вместе идеальный античный и идеа¬
льный индийский человек, стоит их сравнить с фаустовским челове¬
ком, чью этику можно с той же ясностью уловить из трагедии Шекспи¬
ра с ее динамическим развитием и катастрофой? В самом деле, Сокра¬
та, Эпикура и прежде всего Диогена вполне можно представить на
Ганге. В одной же из западноевропейских мировых столиц Диоген был
бы никчемным дурачком. А с другой стороны, Фридрих Вильгельм I,
этот пра-образ социалиста в великом смысле этого слова, вполне мыс¬
лим в рамких государственного устройства на Ниле. О Перикловых же
Афинах этого не скажешь.
Наблюдай Ницше свое собственное время непредубежденней, не
будь он так зависим от романтических бредней определенными эти¬
ческими порождениями, он бы заметил, что якобы специфически
христианской морали сострадания в смысле самого Ницше вообще не
существует на западноевропейской почве. Не следует давать себя об¬
мануть словесным звучанием гуманных формулировок относительно
их фактического смысла. Между той моралью, которой мы реально
обладаем, и той, которую только считаем своей, существует трудно¬
уловимое и весьма непостоянное отношение. Как раз здесь неподкуп¬
ная психология была бы весьма уместна. Сострадание — опасное ело-
376
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
во. При всей виртуозности Ницше, у нас все же так и не появилось ис¬
следования того, что понимали под состраданием и что в связи с ним
переживали в разные времена. Христианская мораль во времена Ори-
гена — нечто совершенно иное, нежели при Франциске Ассизском.
Здесь не место исследовать, что представляет собой фаустовское со¬
страдание как жертва или как беспринципность, а затем — уже вновь
как расовое чувство рыцарского общества* в отличие от магически-
христианского, фаталистического сострадания, и насколько следует
его понимать как дальнодействие, как практическую динамику и, с
другой стороны, как самопринуждение гордой души или опять-таки
как выражение обдуманного чувства дистанции. Неизменному запасу
этических оборотов, каким обладает Запад с эпохи Возрождения,
приходится быть в ответе за неисчерпаемое изобилие различных умо¬
настроений, имеющих чрезвычайно несхожее содержание. Поверх¬
ностное чутье, которому мы доверяем, простое знание об идеалах у та¬
ких людей, как мы, с нашей предрасположенностью к историчности и
к оглядыванию назад, является выражением благоговения перед про¬
шлым, в данном случае — перед религиозной традицией. Однако сло¬
весное выражение убеждений никогда не может быть мерой для под¬
линной убежденности. Человек редко знает, во что он на самом деле
верит. Лозунги и учения неизменно несут на себе некий налет попу¬
лярности и остаются далекими от глубин всякой духовной действите¬
льности. По сути говоря, теоретическое почитание новозаветных
установлений недалеко ушло от преклонения Возрождения и класси¬
цизма перед античностью. Первое столь же мало переменило челове¬
ка, как второе — дух произведений. Неизменно вновь и вновь называ¬
емые примеры нищенствующих орденов, гернгутеров, Армии спасе¬
ния уже одним своим незначительным числом, а еще больше —
незначительным своим весом доказывают, что они представляют со¬
бой исключение из чего-то принципиально иного, а именно фаустов¬
ско-христианской морали в собственном смысле этого слова. Впрочем,
мы впустую искали бы ее формулировку у Лютера и в решениях Три-
дентского собора, однако все христиане крупного стиля, Иннокентий III
и Кальвин, Лойола и Савонарола, Паскаль и святая Тереза, носили ее,
никогда о том не догадываясь, в самих себе — вразрез с собственными
теоретическими убеждениями.
Достаточно сравнить чисто западное понятие той мужественной
добродетели, которую Ницше обозначил как virtu «без моралина»149,
как grandezza испанского и grandeur французского барокко, с той ве¬
сьма женской aperrj [добродетелью] греческого идеала, в качестве
проявлений которой то и дело возникают способность наслаждаться
(TjbovTj), спокойствие духа (yaXrjv 77, аттавеса), нетребовательность и в
первую очередь вновь и вновь авара£1а. То, что Ницше называл бело-
Ср. т. 2, гл. 3, раздел 15 (в конце).
пятая. Образ души и жизнеощущение
377
Глава
курой бестией150 и что, как он считал, нашло свое воплощение в пе¬
реоцененном им типе ренессансного человека, который был всего
лишь аналогом (подобным крупным хищникам из числа кошачьих)
великих немцев эпохи Штауфенов, является полной противополож¬
ностью того типа, о котором мечтали все античные моралисты и ко¬
торый воплощали собой все видные люди античности. Сюда отно¬
сятся железные люди, целый ряд которых пронизывает фаустовскую
культуру, в античной же такого не сыскать ни одного. Ибо Перикл и
фемистокл — это изнеженные натуры в смысле аттической калока-
гатии, Александр — так никогда и не пробудившийся мечтатель, Це¬
зарь же — толковый счетчик; единственным «мужчиной» среди них
всех был только чужак Ганнибал. Люди раннего времени, о которых
можно судить на основании Гомера, эти Одиссеи и Аяксы, поразите¬
льно бы выделялись на фоне рыцарства Крестовых походов. Бывает
ведь и зверство в качестве обратной реакции весьма женственных
натур, и по этому разряду проходит греческая жестокость. Здесь же,
на Севере, на пороге раннего времени являются великие саксон¬
ские, франкские и штауфеновские императоры в окружении целого
сонма таких исполинов, как Генрих Лев и Григорий VII151. Далее
идут люди Возрождения, война Алой и Белой розы, гугенотские вой¬
ны; испанские конкистадоры, прусские курфюрсты152 и короли, На¬
полеон, Бисмарк, Сесиль Родс. Была ли где-нибудь вторая такая ку¬
льтура, которую можно было бы хоть в чем-то сравнить со всем
этим? Где во всей греческой истории отыскать сцену, равную по
мощи той, что имела место при Леньяно, когда вышла наружу враж¬
да между Штауфенами и Вельфами153? Витязи эпохи переселения
народов, испанское рыцарство, прусская дисциплина, наполеонов¬
ская энергия — во всем этом мало античного. А где на вершинах фа¬
устовского человечества можно было бы отыскать эту самую «раб¬
скую мораль», эту мягкую самоотверженность, это милосердие в
смысле, который придают ему богомолки? В тех словах, на которые
принято обращать внимание, и более нигде. Еще я думаю здесь о ти¬
пах фаустовского священства, о тех великолепных епископах време¬
ни германских императоров, которые сидя на боевом скакуне вели
своих людей в кровавые сечи, о тех папах, которым уступили Генрих
IV и Фридрих II, о немецких рыцарских орденах в Восточной марке,
о той Лютеровой строптивости, в которой древненордическое язы¬
чество ополчилось против древнеримского, о великих кардиналах
Ришелье, Мазарини и Флёри, которые, собственно, и создали Фран¬
цию. Вот фаустовская мораль. Надо быть слепым, чтобы не обнару¬
живать деятельного присутствия этой неукротимой жизненной
силы во всей картине западноевропейской истории. И лишь на
основе этих великих примеров светской неистовости, в которых на¬
ходит свое выражение сознание призвания, делается понятной ду¬
ховная неистовость большого стиля, возвышенное милосердие, кото¬
378
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
рому ничего не противостоит и которое со своей динамикой пред¬
стает в совсем ином свете рядом с античной умеренностью и
раннехристианской кротостью. В той разновидности со-страдания,
который практиковали немецкие мистики, немецкие и испанские
орденские рыцари, французские и английские кальвинисты, при¬
сутствует твердость. С таким русским состраданием, как расколь-
никовское, дух теряется в братской толпе; с фаустовским он над ней
воспаряет. «Ego habeo factum» — это также и форма того личного ми¬
лосердия, которое оправдывает отдельного человека перед Богом.
Это причина также и того, почему «сострадательная мораль», о ко¬
торой в повседневном ее значении мы неизменно отзываемся с таким
уважением, философы же то ее оспаривают, то к ней стремятся, что эта
самая мораль, говорю я, так никогда и не была осуществлена. Кант ре¬
шительно ее отверг. В самом деле, она находится в глубоком противо¬
речии с категорическим императивом, который усматривает смысл
жизни в поступке, а не в уступках размягченным настроениям. «Раб¬
ская мораль» Ницше — мираж. Реальностью является его мораль господ.
Не нужно было даже ее планировать, потому что она существовала из¬
давна. Если сорвать романтическую маску Борджа и те туманные виде¬
ния сверхчеловека, в остатке получится сам фаустовский человек, ка¬
ков он ныне и каким он был уже во времена исландских саг — как тип
энергичной, императивной, динамической культуры. Как бы там ни
обстояло дело в античности, наши великие благодетели — это великие
деятели, чьи забота и попечение отражаются на миллионах, великие
государственные деятели и организаторы. «Высшая разновидность лю¬
дей, которые, благодаря превосходству в воле, знаниях, богатстве и
влиянии пользуются демократической Европой как самым удобным и
послушным инструментом, чтобы взять в свои руки судьбы Земли, что¬
бы, подобно художникам, ваять самого “человека”. Довольно, настает
день, когда политике придется учиться заново»154. Так говорится в на¬
бросках из наследия Ницше, которые куда конкретнее, чем закончен¬
ные работы. «Нам следует либо тренировать политические способно¬
сти, либо погибнуть от демократии, навязанной нам недоброй памяти
старинными альтернативами», — говорится у Шоу («Человек и сверх¬
человек»). Шоу, который превосходит Ницше практической выучкой
и меньшей степенью идеологизированное™, каким бы ограниченным
ни представлялся его философский кругозор в прочих отношениях, в
своем «Майоре Барбара» перевел в образе миллиардера Андершэфта
идеал сверхчеловека на неромантический язык Нового времени, из ко¬
торого он, кружным путем через Мальтуса и Дарвина, на самом деле
происходит также и у Ницше. Эти-то практического склада люди круп¬
ного стиля и представляют ныне волю к власти над судьбами других, а
тем самым и фаустовскую этику вообще. Люди такого рода не швыря¬
ют своих миллионов для удовлетворения безбрежной благотворитель¬
ности на потребу мечтателям, «художникам», слабым, неудачникам;
ГлаМ пятая^Образ души и жизнеощущение 379
они используют их для тех, кто идет в зачет как материал для будущего.
С их помощью они преследуют цель. Они создают центр сил для суще¬
ствования поколений, которое будет длиться за пределами персональ¬
ного существования. Деньги тоже могут вырабатывать идеи и делать
историю. Так в завещании распорядился собственным имуществом
Родс, в котором просматривается чрезвычайно значительный тип
XXI столетия. Когда мы не в состоянии отличить литературной болтов¬
ни популярных социальных моралистов и апостолов гуманизма от глу¬
бинных этических инстинктов западноевропейской цивилизации, это
в высшей степени пошло и служит доказательством неспособности
внутренне постичь историю.
Социализм (в высшем его понимании, а не в том, которое связыва¬
ет с ним толпа), как и все фаустовское, представляет собой идеал для
избранных, который обязан своей популярностью полному непони¬
манию даже со стороны своих доверенных лиц. Именно, социализм
якобы является олицетворением прав, а не обязанностей, он пред¬
ставляет собой упразднение кантовского императива, а не еще боль¬
шее его заострение, с ним связано ослабление, а не еще большее на¬
пряжение энергии направления. И эта банальная поверхностная тен¬
денция на благотворительность, «свободу», гуманизм, счастье
большинства содержит только отрицательные моменты фаустовской
этики, что в высшей степени противоположно античному эпикуреиз¬
му, для которого блаженное состояние на самом деле было средоточи¬
ем и итогом всего этического. Как раз здесь-то и заложены чрезвы¬
чайно родственные внешне настроения, которые не означают в од¬
ном случае ровным счетом ничего, а в другом — все. С такой точки
зрения содержание античной этики также можно обозначить как фи¬
лантропию, которую отдельный человек оказывает себе самому, свое¬
му or/ха. На нашей стороне оказывается здесь авторитет Аристотеля,
который применяет слово фсХуврсопод [человеколюбивый] именно в
этом смысле, над которым ломали головы лучшие умы времени клас¬
сицизма, в первую очередь Лессинг. Аристотель обозначает воздейст¬
вие, которое аттическая трагедия оказывает на аттического зрителя,
как филантропическое155. Ее перипетия избавляет его от сочувствия
себе самому. Своего рода теория господской и рабской морали суще¬
ствовала также и в раннем эллинизме, например, у Калликла, само
собой разумеется, в строгом эвклидово-телесном смысле. Идеалом
первой является Алкивиад, который делает как раз то, что представ¬
ляется ему в данный момент целесообразным по отношению с собст¬
венной персоне. Его воспринимали и им восторгались как подлин¬
ным типом античной калокагатии. Протагор высказался еще с боль¬
шей ясностью в своем знаменитом, имевшем исключительно
этическую направленность изречении о том, что человек (всякий для
себя самого) является мерой вещей. Вот господская мораль статуар¬
ной души.
380
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
13
Когда Ницше впервые записал слова «переоценка всех ценно¬
стей», душевное движение того столетия, посреди которого мы жи¬
вем, отыскало наконец свою формулировку. Переоценка всех цен¬
ностей — вот наиглубиннейшая характерная черта всякой цивилиза¬
ции. Она начинается с того, чтобы перекроить все формы
предыдущей культуры, переосмыслить их и иначе ими распорядить¬
ся. Она больше ничего не рожает, а только перетолковывает. В этом
заключается негативизм всех эпох такого рода. Они предполагают,
что собственно акт творения уже имел место. Они лишь вступают во
владение наследством, образованным великими реалиями. Огля¬
немся на позднюю античность и поищем там, где находится соответ¬
ствующее событие: оно имело место внутри эллинистически-рим-
ского стоицизма, а значит, в рамках долгой агонии аполлонической
души. Вернемся от Эпиктета и Марка Аврелия обратно к Сократу,
этому духовному отцу Стой, в котором впервые заявило о себе внут¬
реннее обеднение античной жизни, ставшей мегаполисной и интел¬
лектуальной. Между ними залегает переоценка всех античных бы-
тийственных идеалов. Бросим взгляд на Индию. При жизни царя
Ашоки, ок. 250 до Р. X., имела место переоценка брахманской жиз¬
ни: сравните между собой части Веданты, записанные до и после
Будды. А мы? В рамках этического социализма в изложенном здесь
смысле, как основного настроя фаустовской души, запертой в ка¬
менных толщах больших городов, переоценка происходит именно
теперь. Руссо является предтечей этого социализма. Руссо стоит бок о
бок с Сократом и Буддой, двумя другими этическими ходатаями по де¬
лам великих цивилизаций. Его неприятие всех великих культурных
форм, всех исполненных глубокого смысла условностей, его знаме¬
нитый «возврат к природе», его практический рационализм не
оставляют никаких сомнений на этот счет. Всякий из них схоронил
тысячелетнюю задушевность. Они проповедуют евангелие человеч¬
ности, однако это человечность интеллигентного городского чело¬
века, сытого по уши поздним городом, а вместе с ним и культурой,
человека, чей «чистый», а именно бездушный рассудок ищет осво¬
бождения от нее и от ее повелительной формы, от ее жесткости, от ее
более не переживаемой внутренне и потому ненавистной символи¬
ки. Культура диалектически уничтожается. Припомним одно за дру¬
гим великие имена XIX в., с которыми связывается для нас эта вели¬
чественная драма: Шопенгауэр, Геббель, Вагнер, Ницше, Ибсен,'
Стриндберг, и мы окинем взором то, что назвал по имени Ницше в
фрагментарном предисловии к своему незавершенному главному
труду: возникновение нигилизма156. Его не избежала ни одна из вели¬
ких культур. С глубочайшей необходимостью оно является частью
конца этих могучих организмов. Сократ был нигилистом, как был
Глава пятая. Образ души и жизнеощущение
381
им и Будда. Бывает как западноевропейское, так и египетское, араб¬
ское, китайское обездушивание человеческого. Речь здесь не идет о
политических и экономических переменах, и даже не о переменах
религиозных или художественных в собственном смысле этого сло¬
ва. Здесь вообще не подразумевается что-то осязаемое, нечто факти¬
ческое, но сущность души, осуществившей все свои возможности
без остатка. Не надо возражать, ссылаясь на громадные достижения,
которых добились именно эллинистическая эпоха и западноевро¬
пейская современность. Рабовладельческая экономика и машинная
индустрия, «прогресс» и атараксия, александризм и современная
наука, Пергам и Байрёйт, социальные условия, подразумеваемые
«Политией» Аристотеля и «Капиталом» Маркса, — все это лишь
симптомы на поверхностной исторической картине. Речь здесь идет
не о внешней жизни, не об образе жизни, институтах, нравах, но о
глубочайшем и исконнейшем, а именно о внутренней законченности
жителя всемирных столиц — и провинциала*. Для античности она
наступила ко времени римского господства. Для нас она относится
ко времени после 2000.
Культура и цивилизация — вот живое тело душевности и его му¬
мия. Так различны меж собой бытие Западной Европы до и после 1800
г., та наполненная, текущая как нечто само собой разумеющееся
жизнь, образ которой произрос и возник изнутри, причем одним ма¬
хом — от готического детства до Гёте и Наполеона, и та искусствен¬
ная, лишенная корней жизнь наших больших городов, формы кото¬
рой намечены интеллектом. Культура и цивилизация — это вырос¬
ший посреди ландшафта организм и возникший в результате его
окостенения механизм. Человек культуры живет внутрь, человек ци¬
вилизации живет наружу, в пространстве, среди тел и «фактов». То,
что один ощущает как судьбу, второй понимает как причинно-следст¬
венную связь. Всякий теперь материалист в имеющем значение иск¬
лючительно для цивилизации смысле — неважно, хочет он этого или
же нет и имеются ли здесь буддистские, стоические, социалистиче¬
ские учения в религиозной форме.
Весь колоссальный мир форм искусства, религии, морали, государ¬
ства, науки, общества с легкостью даются человеку готики и дорики,
как и человеку ионики и барокко. Он несет их в себе и осуществляет на
Деле, их не «зная». По отношению к символической составляющей ку¬
льтуры он обладает тем же непринужденным мастерством, что и Мо-
Царт — применительно к его искусству. Культура — это нечто само со¬
бой разумеющееся. Вот первые признаки начинающей утомляться
Души: ощущение собственной отчужденности среди всех этих форм,
Упраздняющий свободу творчества гнет, вынужденная необходимость
Поверять все данное нам рассудком, чтобы сознательно это применять,
Ср. с. 561 сл.
382
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
а также неизбежность рассуждения, губительная для любого испол¬
ненного тайны творчества. Только больной ощущает свои органы. То,
что люди занимаются построением неметафизической религии и бун¬
туют против культа и догматов, то, что естественное право противопос¬
тавляется историческим правам, то, что в искусстве «изобретаются»
новые стили, потому что стиля как такового более не переносят и им не
владеют, то, что государство понимается как «общественный строй»,
который можно и даже нужно изменять (рядом с contrat social [обще¬
ственным договором (фр.)] Руссо можно назвать полностью равно¬
значные ему творения времени Аристотеля), — все это доказывает, что
нечто окончательно развалилось. Мировая столица как предел неорга¬
нического лежит посреди культурного ландшафта, чье население она
отделяет от корней, втягивает в себя и потребляет.
Научные миры — это миры поверхностные, миры практические, без¬
душные и чисто экстенсивные. Все они в равной мере лежат в основе буд¬
дистских, стоических и социалистических воззрений*. Проживать жизнь
не как нечто само собой разумеющееся, едва сознаваемое, не оставляю¬
щее никакого выбора, не принимать ее как угодную Богу судьбу, но рас¬
сматривать ее как проблему, исходя из интеллектуальных предпосылок
оформлять ее как постановку, «целесообразно», «рассудочно» — вот ка¬
ким оказывается фон во всех трех случаях. Мозг господствует, ибо душе
дана отставка. Культурные люди живут бессознательно, люди цивилизо¬
ванные — сознательно. Коренящееся в почве крестьянство у ворот боль¬
ших городов, которыми одними — скептически, практически, искусст¬
венно — представлена теперь цивилизация, в расчет больше не принима¬
ется. «Народ» — это ныне лишь городской народ, неорганическая масса,
нечто колеблющееся. Крестьянин — не демократ (ибо также и это поня¬
тие принадлежит к механическому и городскому существованию**), и по¬
тому его ни в грош не ставят, осмеивают, презирают и ненавидят. После
исчезновения старинных сословий, аристократии и духовенства, это —
единственный органический человек, реликт ранней культуры. Ни в стои¬
ческом, ни в социалистическом мышлении ему не находится места.
Так что Фауст первой части трагедии, этот пылкий полуночный
исследователь-одиночка, вполне логично вызывает на свет Фауста
второй части и нового столетия, а именно тип чисто практической,
дальновидной, направленной вовне деятельности. В этом Гёте пси¬
хологически предугадал всю судьбу Западной Европы. Это цивили¬
зация вместо культуры, внешний механизм вместо внутреннего ор¬
ганизма, интеллект как душевная окаменелость вместо самой угас¬
шей души. В таком же отношении друг к другу, как Фауст первой и
второй части трагедии, находятся грек времени Перикла и римля¬
нин времени Цезаря.
* Буддизм основан на атеистической системе санкхьи, стоицизм — на софистике
(через посредничество Сократа), социализм — на английском сенсуализме.
** Ср. с. 817.
Глт пятая. Образ души и жизнеощущение
383
14
Пока человек находящийся на гребне своего развития культуры про¬
сто проживает свою жизнь — естественно, как что-то само собой разуме¬
ющееся, его жизни свойственна позиция, не оставляющая возможности
выбора. Это его инстинктивная мораль, которая может воплощаться в
тысячу вызывающих споры формул, при том, что саму ее не оспаривают,
потому что ею обладают. Но как только жизнь начинает утомлять, как
только мы (на искусственной почве больших городов, образующих те¬
перь самодовлеющие самостоятельные духовные миры) начинаем нуж¬
даться в теории для того, чтобы целенаправленно оформить жизнь как
постановку, как только жизнь превращается в объект рассмотрения, мо¬
раль становится проблемой. Культурная мораль — это та, которой обла¬
даешь, цивилизованная — та, которую ищешь. Первая слишком глубока
для того, чтобы быть исчерпанной логическими средствами, вторая же
является функцией логики. Еще у Канта и Платона этика представляет
собой просто диалектику, игру с понятиями, подытоживание метафизи¬
ческой системы. Собственно говоря, никакой нужды в ней не испыты¬
вали. Категорический императив — это просто абстрактная формули¬
ровка того, что было для Канта несомненным. Начиная с Зенона и Шо¬
пенгауэра это уже не так. Здесь в качестве правила бытия должно быть
отыскано, изобретено, вымучено то, что более не удостоверено инстинк¬
том. Отсюда начинается цивилизованная этика, представляющая собой
не отражение жизни на познание, но отражение познания на жизнь. Во
всех этих измышленных системах, наполняющих первые столетия всех
цивилизаций, чувствуется нечто искусственное, бездушное и наполови¬
ну фальшивое. Это уже не задушевнейшие, чуть не небесные творения,
ни в чем не уступающие великим искусствам. Теперь метафизика боль¬
шого стиля, всякая чистая интуиция исчезает перед тем, что внезапно
становится позарез необходимо, перед обоснованием практической мо¬
рали, которая должна управлять жизнью, потому что жизнь больше не в
состоянии саморегулироваться. Вплоть до Канта, Аристотеля и учений
йоги и веданты философия представляла собой последовательность мо¬
гучих мировых систем, в которых формальной этике отводилось скром¬
ное место. Теперь же философия становится моральной философией, с
метафизикой в качестве фона. Гносеологическая страстность уступает
первенство практической потребности: социализм, стоицизм, буд¬
дизм — это все философии в таком стиле.
Вместо того чтобы созерцать мир с высоты, как Эсхил, Платон, Дан¬
те, Гёте, — смотреть на него под углом зрения повседневной нужды и не¬
отступной действительности: вот что я называю заменой взгляда на жизнь
с птичьего полета на взгляд из кротовины. А именно это и является ни¬
схождением от культуры к цивилизации. Всякая этика формулирует
взгляд души на ее судьбу: героический или практический, возвышенный
Пли низменный, мужественный или старческий. Точно также различаю
384 Том1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
я трагическую и плебейскую мораль. Трагическая мораль культуры знает
и постигает бремя существования, однако она извлекает отсюда ощуще¬
ние гордости тем, что это бремя несет. Так это чувствовали Эсхил, Шекс¬
пир и мыслители брахманской философии, так это воспринимали Данте
и германский католицизм. Это присутствует в буйном боевом хорале
лютеранства: «Господь нам крепость и оплот»157, и отзвуки того же слы¬
шатся еще в Марсельезе. Плебейская мораль Эпикура и Стой, сект вре¬
мени Будды, XIX столетия составляет план битвы с тем, чтобы обойти
судьбу. То, что Эсхил замешивал на крови, Стоя заваривала на пиве.
Здесь больше не было полноты жизни, а была ее нищета, холод и пусто¬
та, и римляне лишь возвысили эти интеллектуальные холод и пустоту до
величественности. Налицо то же самое соотношение и между этическим
пафосом великих мастеров барокко, Шекспиром, Бахом, Кантом, Гёте,
между мужественной волей быть внутренне господином природных ве¬
щей, потому что ты знаешь, насколько они тебя ниже, с одной стороны,
и желанием европейской современности внешним образом обойти эти
вещи (под видом попечения, гуманизма, мира во всем мире, счастья бо¬
льшинства), потому что знаешь, что находишься с ними на одном уров¬
не. И вот что представляет собой воля к власти в противоположность ан¬
тичной покорности неизбежному; страсть и склонность к бесконечно¬
сти содержатся также и здесь, однако есть *- узница — в
метафизическом и материальном величии преодоления. Недостает глу¬
бины, того, что прежние люди звали Богом. Фаустовское мироощуще¬
ние деяния, сказывавшееся во всяком великом человеке начиная от
Штауфенов и Вельфов и вплоть до Фридриха Великого, Гёте и Наполео¬
на, опошлилось до философии труда (Arbeit), причем для внутреннего
ранга неважно, будем ли мы ее защищать или ополчаться против. Куль¬
турное понятие деяния и цивилизованное понятие труда соотносятся
так же, как позиция эсхиловского Прометея — с позицией Прометея ди-
огеновского. Первый — страстотерпец, второй просто бездельник. Га¬
лилей, Кеплер, Ньютон совершили деяния в науке, современный физик
занят ученым трудом. Плебейская мораль на основе повседневного су¬
ществования и «здравого человеческого рассудка» — вот что лежит в
основе всякого воззрения на жизнь, несмотря на все громкие заявления
начиная с Шопенгауэра и до Шоу.
15
Так что у всякой культуры — свой способ душевно угасать, причем
лишь один, и этот способ с глубочайшей необходимостью следует из
всей ее жизни. Поэтому буддизм, стоицизм, социализм — все это, с
морфологической точки зрения, равноценные завершающие явления.
Да, и буддизм, глубинный смысл которого до сих пор неизменно
понимали неправильно. Это никакое не пуританское движение, как,
Глава пятая. Образ души и жизнеощущение 385
например, ислам и янсенизм, никакая не реформация, как дионисий¬
ское движение против аполлинизма, никакая не новая религия, да и
вообще не религия, как религия Вед и апостола Павла*, но последнее
чисто практическое миронастроение утомленных жителей больших
городов, за спиной у которых завершенная культура, а впереди — ника¬
кого внутреннего будущего. Буддизм — это базовое ощущение индий¬
ской цивилизации, а потому он «одновременен» и равнозначен стои¬
цизму и социализму. Квинтэссенцию этого насквозь светского, не ме¬
тафизического настроя мы находим в знаменитой Бенаресской
проповеди, «четырех благородных истинах о страдании», которыми
философствовавший принц приобрел первых своих приверженцев.
Корни буддизма — в рационалистически-атеистической философии
санкхьи, мировоззрение которой предполагается здесь по умолчанию,
точно так же, как социальная этика XIX в. происходит из сенсуализма и
материализма XVIII в., а Стоя, несмотря на опошленное использова¬
ние ею Гераклита — из Протагора и софистов. Всемогущество разу¬
ма — вот какова во всех случаях исходная точка всякого нравственного
рассуждения. О религии, поскольку под ней понимается вера в мета¬
физическое, нет и речи. Не может быть ничего более враждебного ре¬
лигии, нежели эти системы в их изначальном виде. Того, что произош¬
ло с ними на ^--нейших стадиях цивилизации, мы здесь не рассмат¬
риваем.
Буддизм отвергает всякое размышление о Боге и космических
проблемах. Ему важно лишь человеческое «я», лишь устроение дей¬
ствительной жизни. Не признается также и душа. Как современный
западноевропейский психолог (а с ним — и «социалист») разделыва¬
ется с внутренним человеком, сводя его к пучку представлений и
скоплению электрохимических энергий, точно так же проделывал
это и психолог индийский времени Будды. Учитель Нагасена дока¬
зывает царю Милинде158, что части колесницы, на которой он едет,
не являются самой колесницей, и что «колесница» — это всего лишь
слово; и точно так же дело обстоит и с душой. Душевные элементы
обозначаются как скандхи («куча», «скопление»), которым свойст¬
венна преходящесть. Это всецело соответствует воззрениям ассоци¬
ативной психологии.'В учении Будды много материализма**. Подоб¬
но тому как стоик присваивает гераклитовское понятие логоса, что¬
бы материально его опошлить, подобно тому, как социализм в своих
Дарвинистских основаниях (через посредничество Гегеля) механи¬
чески лишает глубины гётеанское понятие развития, так же поступа-
Лишь через века из буддистского воззрения на жизнь, которое не признает ни
Бога, ни метафизики, посредством обращения к давно закостеневшей брахманской те¬
ологии, а через нее — к древнейшим народным культам возникла феллахская религия.
Ср. с. 765.
Понятно само собой, что всякая культура обладает также и своей собственной
разновидностью материализма, определяемой во всех частностях целостным мироощу¬
щением данной культуры.
13 Закат Западного мира
386
Том1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
ет и буддизм с брахманистским понятием карман, почти недоступ¬
ным для нашего мышления представлением о деятельно самоосуще¬
ствляющемся бытии, который, как оказывается, довольно часто
трактуют вполне материалистически, как пребывающее в измене¬
нии мировое вещество.
Итак, здесь перед нами три формы нигилизма (если употреблять
это слово в смысле Ницше). Вчерашние идеалы, выраставшие на про¬
тяжении столетий религиозные, художественные, государственные
формы, оказываются упраздненными, при том, однако, что сам этот
последний акт культуры, ее самоотрицание, еще раз выражает пра-
символ всего ее существования. Фаустовский нигилист, будь то Иб¬
сен или Ницше, Маркс или Вагнер, крушит идеалы; аполлонический
нигилист, как Эпикур или Антисфен с Зеноном, дает им прийти в
упадок у него на глазах; нигилист индийский укрывается от них в себе
самом. Стоицизм направлен на поведение отдельного человека, на ста¬
туарное, чисто сиюминутное бытие, без всякой связи с будущим и
прошлым или с прочими людьми. Социализм представляет собой ди¬
намическую разработку той же темы: та же самая защита распростра¬
няется не на позицию, но на результат жизни, однако с той же самой
мощно проявляющейся устремленностью в даль, на все будущее и на
всю человеческую массу, которой должны быть подчинены все еди¬
ничные методы. Буддизм, который могут сравнивать с христианством
только религиоведы-дилетанты*, почти невозможно воспроизвести,
выражаясь на западных языках. Позволительно, однако, говорить о
стоической нирване, указывая при этом на образ Диогена. Обосно¬
вать можно и понятие социалистической нирваны, подразумевая под
этим бегство от борьбы за существование, облеченное европейской
утомленностью в такие лозунги, как мир во всем мире, гуманизм и об¬
щечеловеческое братство. Однако ничего из этого даже близко не
подходит к до жути глубокому понятию буддистской нирваны. Мож¬
но подумать, что душа всех культур в последних утонченностях, уми¬
рая, испытывает ревностное отношение к исконнейшему своему до¬
стоянию, своему содержанию по части формы, к рожденному вместе
с ней пра-символу. В буддизме нет ничего, что могло бы быть «хрис¬
тианским», а в стоицизме нет ничего, что встречалось бы в исламе
ок. 1000 г. по Р. X., у Конфуция же нет ничего общего с социализмом.
Высказывание «si duofaciunt idem, non est idem» [если двое делают одно
и то же, это не одно и то же (лат.)], которое следовало бы поставить во
главу всякого исторического исследования, имеющего дело с живым,
никогда не повторяющимся становлением, а не с логически, каузаль¬
но и численно постижимым ставшим, имеет значение прежде всего
Причем неважно (это следует подчеркнуть особо), будет ли это христианство От¬
цов Церкви или же христианство Крестовых походов, поскольку это две различные ре¬
лигии в одном и том же культово-догматическом облачении. Тот же самый дефицит
психологической утонченности обнаруживается в излюбленном сравнении нынешнего
социализма с ранним христианством.
387
Глава пятая. Образ души и жизнеощущение
для этих завершающих культурное движение проявлений. Во всех ци¬
вилизациях на смену одушевленному бытию приходит бытие одухотво¬
ренное, однако в каждом отдельном случае дух обладает иной структу¬
рой, а язык форм подчинен иной символике. Как раз при любой еди¬
ничности бытия, создающего эти действующие в бессознательном
поздние образования исторической поверхности, решающее значе¬
ние имеет их родство по исторической ступени. То, что они выражают,
различается, однако то, что они выражают это именно так, отличает
их как «одновременные». Стоицизмом веет от отказа Будды от полной
и деятельной жизни, подобно тому как от соответствующего отказа
стоиков веет буддизмом. Выше уже указывалось на связь катарсиса
аттической драмы с идеей нирваны. Возникает ощущение, что этиче¬
ский социализм, хотя уже целое столетие было посвящено его разра¬
ботке, все еще не достиг и сегодня ясной, четкой, безотносительной
формулировки, которой следовало бы быть окончательной. Быть мо¬
жет, он обретет зрелую формулу, подобную той, что дал Стое Хри-
сипп, в несколько ближайших десятилетий. Однако уже теперь вы¬
сшие, чрезвычайно узкие круги могут производить стоическое впе¬
чатление благодаря своей тенденции к самовоспитанию и
самоотверженности в силу сознания великого предназначения, т. е.
римско-прусскому, абсолютно недоступному толпе элементу в соци¬
ализме. Впечатление же буддизма создает в социализме его пренебре¬
жение сиюминутной ублаготворенностью, тем самым carpe diem. Не¬
сомненно эпикурейским представляется популярный в народе соци¬
алистический идеал, которому социализм исключительно и обязан
своей действенностью на низы и широкой распространенностью, тот
самый культ rjSovri [удовольствия (греч.)], причем не всякого отдель¬
ного человека для себя самого, но отдельного — во имя всех в целом.
У всякой души имеется религия. Это лишь иное слово для обозначе¬
ния ее существования. Все живые формы, в которых самовыражается
душа, все искусства, учения, обычаи, все метафизические и математи¬
ческие миры форм, всякий орнамент, всякая колонна, всякий стих,
всякая идея в самых глубинных своих основаниях религиозны и обяза¬
ны такими быть. Отныне же для них возможно такими более не быть.
Сущность всякой культуры — это религия; следовательно, сущностью
всякой цивилизации является безрелигиозность. Также и это — всего то¬
лько два разных слова для обозначения одного и того же явления. Тот,
кто не ощущает этого в творчестве Мане в противовес Веласкесу, в
творчестве Вагнера в противовес Гайдну, Лисиппа — в противовес Фи¬
дию, Феокрита — в противовес Пиндару, тому недоступно все лучшее,
что есть в искусстве. Даже в самых светских своих творениях зодчество
рококо все еще религиозно. Римские же постройки, в том числе и хра¬
мы богов, безрелигиозны. Пантеон, эта пра-мечеть с пронзительным
магическим ощущением Бога в ее внутреннем пространстве, оказался
в Древнем Риме как единственный образец подлинно религиозного
388
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
зодчества. Сами мировые столицы в сравнении с культурными города¬
ми (Александрия — с Афинами, Париж — с Брюгге, Берлин — с Нюрн¬
бергом) всеми своими подробностями вплоть до картины улиц, до язы¬
ка, до сухих интеллигентных черт лиц* производят впечатление безре-
лигиозности (что не следует смешивать с антирелигиозностью). И
соответственно безрелигиозны, бездушны также и те этические миро-
настроения, которые всецело соответствуют языку форм мировых сто¬
лиц. Социализм — это сделавшееся безрелигиозным фаустовское жиз¬
неощущение; об этом свидетельствует также и мнимое («истинное»)
христианство, которым с такой охотой тычет всем в глаза английский
социалист и под которым он понимает нечто вроде «недогматической
морали». Безрелигиозны и стоицизм с буддизмом по отношению к ор¬
фической и ведической религии, и совершенно неважно то, что рим¬
ский стоик одобряет и практикует культ императора, поздний буддист
с убежденностью отрицает свой атеизм, а социалист настаивает на соб¬
ственной внеконфессиональной религиозности или даже «продолжает
верить в Бога».
Это угасание живой внутренней религиозности, которое постепен¬
но формирует и наполняет собой в том числе даже самые малозначите¬
льные черты существования, и представляет собой то, что оказывается
в исторической картине мира поворотом культуры к цивилизации, в
качестве климакса культуры, как я назвал это прежде, как временнбй
переворот, когда душевная плодовитость определенного сорта людей
оказывается навсегда исчерпанной и на место порождения приходит
конструкция. Если понимать слово «бесплодность» во всей его изнача¬
льной неумолимости, оно знаменует всю без остатка судьбу головных
людей мировых столиц, и к самым значительным моментам историче¬
ской символики относится то, что этот переворот выражается не толь¬
ко в угасании великого искусства, общественных форм, великих фило¬
софских систем, великого стиля вообще, но также и всецело телесно в
бездетности и расовой смерти цивилизованных, отделенных от земли
слоев — явление, о котором много говорили и на которое немало сето¬
вали как в римскую, так и в китайскую императорскую эпоху, однако,
как водится, ничего здесь поделать не могли *.
16
Ввиду этих новых, чисто духовных образований не следует испы¬
тывать никаких иллюзий относительно их живых носителей, того
«нового человека», каким его с надеждой воспринимают все эпохи
Обратите внимание на поразительное сходство многих лиц римских портретов с
лицами нынешних деловых людей в американском стиле и, пусть не столь явствен¬
но, — с многими египетскими лицами с портретов Нового царства. Ср. с. 562.
Ср. с. 564 слл.
Глава пятая. Образ души и жизнеощущение 389
падка. Это бесформенно фланирующая по всем большим городам
чернь вместо народа, лишенная корней городская масса, о 7гоЛЛо,
как выражались в Афинах, — взамен сросшегося с природой, даже на
городской почве все еще крестьянского человечества культурного
ландшафта. Это завсегдатай агоры Александрии и Рима, а также его
«современник», нынешний читатель газет; как тогда, так и ныне, это
«образованец», всякий приверженец культа духовной умеренности и
общественности как места отправления культа; это античный и за¬
падный завсегдатай театров и увеселительных заведений, поклон¬
ник спорта и модной литературы. Эта-то поздно выступающая мас¬
са, а не «человечество», и является объектом стоической и социали¬
стической пропаганды, и рядом можно было бы поставить
аналогичные явления в египетском Новом царстве, буддистской
Индии, конфуцианском Китае.
Этому соответствует характерная форма общественной деятельно¬
сти, а именно диатриба . Рассматривавшаяся поначалу как эллини¬
стическое явление, она принадлежит к формам деятельности всякой
цивилизации. Насквозь диалектичная, практическая, плебейская,
она заменяет дальнодействующий образ великого человека безудерж¬
ной агитацией мелких, однако сообразительных людишек, идеи под¬
меняет целями, а символы — программой. Экспансионизм всякой
цивилизации, этот империалистический заменитель внутреннего, ду¬
шевного — внешним пространством, характерен также и для диатри¬
бы: количество заменяет качество, распространение — глубину. Эту
поспешную и плоскую деятельность не следует путать с фаустовской
волей к власти. Она говорит лишь о том, что творческая внутренняя
жизнь пришла к концу и духовное существование возможно теперь
поддерживать лишь вовне, в пространстве городов, и только материа¬
льно. Диатриба с необходимостью принадлежит к «религии безрели-
гиозных»; это есть их душевное попечение в собственном смысле слова.
Она появляется как индийская проповедь, как античная риторика,
как западная журналистика. Она обращается к большинству, а не к
лучшим. Она оценивает свои средства числом своих успехов. Умство¬
вание ранних эпох она заменяет интеллектуальной мужской прости¬
туцией — устной и письменной, которая наполняет все залы и площа¬
ди мировых столиц и в них господствует. Риторична вся вообще элли¬
нистическая философия; журналистикой отдает социально¬
этическая система Спенсера, точно так же, как роман Золя и драма
Ибсена. Эту духовную проституцию не следует смешивать с изначаль¬
ным выступлением христианства. Глубинная сущность христианской
миссии почти неизменно понимается превратно *. Однако изначаль¬
ное христианство, магическая религия основателя, душа которого во-
Wendland Р., Die hellenist.-rom. Kultur (1912). S. 75 ff.
** Cp. c. 717.
390
Том I ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
все не была способна к этой грубой деятельности без такта и глубины,
оказалась втянутой в поле зрения шумной демагогической обще¬
ственности Imperium Romanum лишь через эллинистическую практи¬
ку Павла* (как известно, при ожесточеннейшем сопротивлении изна¬
чальной общины). Каким бы незначительным ни было эллинистиче¬
ское образование Павла, внешне оно сделало его сочленом античной
цивилизации. Иисус призывал к себе рыбаков и крестьян, Павел же
держится агор крупных городов, а значит, и характерных для них
форм пропаганды. Слово «язычник» (paganus) еще и сегодня выдает
то, на кого она в конечном итоге оказывала воздействие. Как же непо¬
хожи Павел и Бонифаций! Со своей фаустовской страстью, посреди
лесов и затерянных долин, Бонифаций знаменует собой нечто строго
противоположное Павлу — точно так же, как радостные цистерциан¬
цы с их сельским хозяйством и рыцари немецких орденов на славян¬
ском Востоке. То была снова юность, расцвет, страстное томление
посреди крестьянского ландшафта. Только в XIX в. на этой состарив¬
шейся тем временем почве появляется диатриба со всем тем, что для
нее существенно, с большим городом в качестве основания и челове¬
ческой массой в качестве публики. Подлинное крестьянство так же
мало попадает в поле зрения социализма, как и Будды со Стоей. Толь¬
ко здесь, в городах европейского Запада, тип Павла вновь отыскивает
себе подобных вне зависимости от того, будет ли теперь идти речь о
христианских или антицерковных течениях, социальных или теософ¬
ских интересах, о свободомыслии или о начале выпуска изделий ре¬
лигиозно-художественного ремесла.
Что всего характернее в этом решающем повороте к внешней жиз¬
ни, которая отныне только и осталась, к биологическим фактам, кото¬
рые в отличие от судьбы являются исключительно в форме причинно-
следственных отношений, так это этический пафос, с которым люди
обращаются теперь к философии пищеварения, питания, гигиены. Во¬
просы потребления алкоголя и вегетарианства рассматриваются с ре¬
лигиозной серьезностью: на данный момент это, очевидно, самые важ¬
ные из проблем, до которых «новый человек» может подняться. Так
оно и соответствует взгляду, который возносит из своей кротовины это
поколение. Религии в том виде, как они возникли на пороге великих
культур, — орфическая и ведическая, магическое христианство Иисуса
и фаустовское германских рыцарей — сочли бы ниже своего достоин¬
ства снисходить до вопросов подобного рода хотя бы на один миг. Те¬
перь же до них поднимаются. Буддизм вообще немыслим без телеснбй
диеты, наряду с диетой душевной. То же самое приобретает все боль¬
шее значение в кругу софистов, Антисфена, стоиков и скептиков. Уже
Аристотель писал о винопитии, целый ряд философов посвятили свои
трактаты вегетарианству, и между аполлоническим и фаустовским ме-
Ср. с. 679.
пятая. Образ души и жизнеощущение
391
Глава
годом разница лишь в том, что киники вводят в круг своих теоретиче¬
ских интересов собственное пищеварение, между тем как Шоу — пи¬
щеварение всех «людей». Один отказывается, другой запрещает. Изве¬
стно, что даже Ницше в своем «Ессе homo» воздал должное вопросам
такого рода159.
17
Бросим еще раз взгляд на социализм как на фаустовский пример
цивилизованной этики, вне зависимости от одноименного экономи¬
ческого движения. Все, что говорят о нем друзья и враги — как то, что в
нем проглядывает образ будущего, так и что он является признаком
упадка, — в равной мере справедливо. Все мы социалисты, неважно,
догадываемся мы об этом или нет. Даже сопротивление ему несет на
себе его форму.
Все античные люди позднего времени были с той же самой внутрен¬
ней необходимостью стоиками, сами о том не зная. У всего римского
народа, как тела, была стоическая душа. Подлинный римлянин, даже
такой, который решительнейшим образом принялся бы это оспари¬
вать, является стоиком с большей степенью строгости, нежели им ког¬
да-либо мог бы быть грек. Латинский язык последнего дохристианско¬
го столетия остался величайшим творением стоицизма.
Этический социализм представляет собой в принципе достижимый
максимум жизнеощущения в плане целеполагания . Ибо подвижное на¬
правление существования, ощутимое в словах «время» и «судьба», сто¬
ит только ему сделаться косным, осознанным, познанным, преобразу¬
ется в духовный механизм средств и целей. Направление — живое,
цель — мертвое. Страсть к продвижению вперед оказывается вообще
фаустовской, социалистическим же, в частности, ее механический
остаток, «прогресс». Они относятся друг к другу, как тело и скелет. В то
же время это отличает социализм от буддизма и стоицизма: со своими
идеалами нирваны и атараксии они настроены столь же механистично,
однако динамическая страсть к распространению, воля к бесконечно¬
му, пафос третьего измерения им неведомы.
Этический социализм, несмотря на бросающиеся в глаза иллюзии,
вовсе не представляет собой систему сострадания, гуманности, мира и
попечения, но систему воли к власти. Все прочее — самообман. Цель —
всецело империалистическая: благотворительность, однако в смысле
экспансии, в отношении не больных, но энергичных и деятельных, ко¬
торым мы желали бы предоставить свободу действий, причем сделать
это силой, невзирая на сопротивление собственности, родовых прав и
традиции. Мораль, основанная на чувстве, мораль, направленная на
Ср. к последующему «Пруссачество и социализм», S. 22 ff.
392
Том I ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
«счастье» и выгоду, никогда не будет у нас последним инстинктом, как
бы часто ни убеждали себя в этом носители таких инстинктов. Нам сле¬
дует неизменно ставить во главу угла моральной современности Канта,
в данном случае ученика Руссо, чья этика отвергает мотив сострадания
и чеканит формулу: «Действуй так, что...». Вся этика в этом стиле же¬
лает быть выражением воли к бесконечности, а воля эта требует прео¬
доления мгновения, настоящего, переднего плана жизни. Уже Бэкон
выдвинул на место Сократовой формулы «Знание — добродетель» ло¬
зунг «Знание — сила». Стоик принимает мир таким, как он есть. Соци¬
алист желает организовать его по форме и содержанию, преобразовать
его, наполнить его своим духом. Стоик приноравливается. Социалист
повелевает. Весь мир должен нести на себе форму его воззрения — так
оказывается возможным перенести идею «Критики чистого разума» в
область этического. Вот окончательный смысл категорического импе¬
ратива, который социалист применяет к политической, социальной,
экономической сфере: «Действуй так, словно максима твоего действия
должна посредством твоей воли сделаться всеобщим законом». И такой
тиранической тенденции не лишены даже наиболее банальные явле¬
ния нашего времени.
Формировать следует не позицию и жесты, но деятельность. Подоб¬
но тому, как это было в Китае и Египте, жизнь попадает в поле нашего
рассмотрения лишь в той мере, в какой она является поступком. И
лишь так, через механизацию органической картины поступка, возни¬
кает труд в нынешнем словоупотреблении, как цивилизованная форма фа¬
устовской деятельности. Эта мораль, настоятельная потребность при¬
дать жизни максимально мыслимую активную форму, оказывается си¬
льнее разума, моральные программы которого, как бы мы их ни
освящали, как бы пламенно в них ни верили, как бы страстно их ни за¬
щищали, оказываются действенными лишь постольку, поскольку они
совпадают с направлением этой потребности или же неверно толкуют¬
ся в соответствующем смысле. Во всем прочем они остаются словами.
Во всем современном необходимо как следует различать его простона¬
родную сторону — сладкое ничегонеделание, заботу о здоровье, сча¬
стье, беззаботности, мире во всем мире, короче, мнимо христианский
этос — от этоса высшего, непонятного и неугодного массам, как и все
фаустовское, этоса, ценящего только поступок, от величественной
идеализации цели, а значит — труда. Если мы пожелаем в противовес
римскому «Рапет etcircenses» [хлеба и зрелищ (лат.)], этому последне¬
му эпикурейско-стоическому, а по сути также и индийскому жизнен¬
ному символу, выставить соответствующий символ Севера, а значит
опять-таки древних Китая и Египта, то это должно быть право на труд,
которое лежит в основе воспринятого всецело в прусском смысле госу¬
дарственного социализма Фихте, сделавшегося ныне европейским, на
последних же, чудовищных стадиях развития все это увенчается уже
обязанностью трудиться.
Глава пятая- °бРаз ДУ11111 и жизнеощущение 393
Рассмотрим, наконец, наполеоновское в социализме, то самое аеге
perennius [долговечней меди (лат.)]160, волю к длительности. Аполло-
нический человек оглядывался на Золотой век; это избавляло его от раз¬
мышлений о грядущем. Социалист — умирающий Фауст второй час¬
ти — это человек исторического попечения, человек грядущего, вос¬
принятого им как задание и цель, в сравнении с которыми презренным
представляется сиюминутное счастье. Античный дух с его оракулами и
гаданием по птицам желает только знать будущее, западный же желает
его творить. Третий рейх — это германский идеал, вечное утро, с кото¬
рым связывали свою жизнь все великие люди (эти «стрелы томления по
другому берегу», как говорится в «Заратустре» 61) от Иоахима Флорско-
го до Ницше и Ибсена. Жизнь Александра была чудесным опьянением,
сновидением, в котором вновь волшебным образом ожила гомеров¬
ская эпоха; жизнь Наполеона была колоссальным трудом — не на себя,
не на Францию, но на будущее вообще.
Здесь я хотел бы вернуться назад и еще раз напомнить о том, каким
различным образом представляли себе всемирную историю великие ку¬
льтуры: античный человек видел лишь себя и собственную историю
как покоящуюся близь, он не задавался вопросами о том, куда и откуда.
Всеобщая история была для него чем-то немыслимым. Это статиче¬
ское восприятие истории. Магическому человеку история видится как
великая всемирная драма между творением и гибелью, как борьба меж¬
ду душой и духом, добром и злом, Богом и дьяволом, строго ограничен¬
ное рамками событие с однократной перипетией в качестве кульмина¬
ции: явлением Спасителя. Фаустовский человек усматривает в исто¬
рии напряженное развитие к цели. Последовательность Древний
мир—Средневековье—Новое время — это динамическая картина. Фа¬
устовский человек даже и не в состоянии представлять историю иначе,
и пускай даже это не будет всемирная история как таковая, вообще, но
всего-навсего картина всемирной истории в фаустовском стиле, кото¬
рая начинается с бодрствования западноевропейской культуры и вмес¬
те с ним перестает быть истинной и вообще существовать, все же логи¬
ческим и практическим венцом этого представления является социа¬
лизм в высшем смысле. В нем картина обретает подготовлявшееся еще
с готики завершение.
И здесь-то социализм — в противоположность стоицизму и буддиз¬
му — становится трагичным. Глубочайший смысл заключен в том об¬
стоятельстве, что Ницше выражается с совершенной ясностью и уве¬
ренностью до тех пор, пока речь идет о том, что должно быть сокруше¬
но и переоценено; и он же отделывается туманными общими местами,
как только приходится говорить о том, для чего, о цели. Его критика
Декадентства неопровержима; его учение о сверхчеловеке — воздуш¬
ный замок. То же самое можно сказать об Ибсене (его Бранде и Рос-
мерсхольме, Юлиане Отступнике и строителе Сольнесе), о Геббеле,
Вагнере, вообще обо всех. И это глубоко неизбежно, ибо начиная с
394
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Руссо фаустовскому человеку не на что надеяться во всем, что касается
большого стиля жизни. Что-то здесь пришло к своему завершению.
Нордическая душа исчерпала свои внутренние возможности, и оста¬
лись лишь одни динамические буря и натиск, выражающиеся во все¬
мирно-исторических видениях будущего, измеряющихся тысячелети¬
ями, голое стремление, жаждущая творения страсть, форма без содер¬
жания. Эта душа была волей и ничем иным; ее Колумбову томлению
нужна была только цель; ей необходимо было хотя бы обмануться в отно¬
шении смысла и цели своей деятельности, так что тонкий наблюдатель
обнаруживает во всей современности, даже в самых высоких ее прояв¬
лениях, нечто от Ялмара Экдаля. Ибсен назвал это ложью жизни162.
Что-то от нее присутствует ныне во всей духовности западноевропей¬
ской цивилизации, поскольку она ориентируется на религиозное, ху¬
дожественное, философское будущее, на социально-этические цели,
на Третий рейх, между тем как в потаенной глуби никак не желает
умолкнуть тупое ощущение того, что все это кипучее рвение является
не чем иным, как отчаянным самообманом души, неспособной и него¬
товой отдыхать. Из этой трагической ситуации (перевернутого гамле¬
товского мотива) возникла вымученная концепция Ницше о Вечном
Возвращении, в которое он никогда добросовестно не верил, но тем не
менее упорно за нее держался, чтобы спасти в себе чувство призванно-
сти. На этой же жизненной лжи основывается и Байрёйт, лишь желав¬
ший быть чем-то в противоположность Пергаму, который чем-то был.
И привкус той же самой лжи присутствует во всем политическом, эко¬
номическом, этическом социализме, который изо всех сил хранит мол¬
чание относительно губительной серьезности своих окончательных
прозрений, чтобы спасти иллюзию исторической необходимости соб¬
ственного существования.
18
Осталось еще сказать несколько слов относительно морфологии
истории философии.
Не бывает философии вообще: у всякой культуры своя собственная
философия; она представляет собой часть общего символического вы¬
ражения данной культуры и вместе со своей постановкой проблем и ме¬
тодами мышления образует духовную орнаментику, находящуюся в
строгом соответствии с архитектурой и изобразительными искусства¬
ми. Глядя на все издали и сверху, в высшей степени неважно, к каким
именно получившим словесное выражение «истинам» пришли эти
мыслители внутри их школ, ибо школа, условность и запас форм явля¬
ются здесь базовым моментом, как и во всяком великом искусстве.
Куда важнее ответов вопросы, а именно их подбор и внутренняя фор¬
ма, поскольку тот особый способ, каким предстает макрокосм понима-
fjtaea пятая. Образ души и жизнеощущение 395
юшему глазу человека определенной культуры, заранее предопределя¬
ет всю необходимость вопрошания и его способ.
У античной и фаустовской культур, не в меньшей степени, чем у ин¬
дийской и китайской, был собственный способ вопрошания, причем
все великие вопросы были поставлены вначале. Нет ни одной совре¬
менной проблемы, которая бы не была усмотрена и доведена до формы
уже готикой. Не существует и ни одной эллинистической проблемы,
которая бы с необходимостью не вышла наружу в первый раз уже в
древнеорфических храмовых учениях.
Неважно, выражается ли данный обычай углубленного умствова¬
ния в устной традиции или в книгах и являются ли эти сочинения лич¬
ными творениями «я», как в нашей литературе, или же анонимной, по¬
стоянно колеблющейся массой текстов, как в литературе индийской,
возникает ли ряд понятийных систем, или же последние узрения оста¬
ются в художественном и религиозном облачении, как в Египте. Био¬
графическое течение этих способов мышления остается, однако, везде
одним и тем же. В начале всякого раннего времени философия, нахо¬
дящаяся в ближайшем родстве с великой архитектурой и религией,
представляет собой духовное эхо колоссального метафизического пе¬
реживания и предназначена для того, чтобы критически удостоверять
священную каузальность созерцаемой с верой картины мира*. Не толь¬
ко естественно-научные, но уже и философские фундаментальные ди-
стинкции зависят от элементов соответствующей религии и выделены
из них. В это раннее время мыслители являются священнослужителями,
причем не только по духу, но и по самому своему сословию. Это верно
применительно к схоластике и мистике готических и ведических веков
точно так же, как к векам гомеровским** и раннеарабским***. Лишь с на¬
ступлением позднего времени философия становится городской и
светской. Она освобождается от положения служанки при религии и
отваживается на то, чтобы сделать ее саму объектом гносеологических
методов. Ибо великая тема брахманской, ионической и барочной фи¬
лософии — это проблема познания. Городской дух обращается к свое¬
му собственному образу, чтобы установить, что для знания не сущест¬
вует никакой высшей инстанции, нежели он сам. Поэтому отныне
мышление приходит к соседству с высшей математикой, и вместо свя¬
щеннослужителей мы находим здесь испытанных на высоких должно¬
стях и перед лицом великих задач мирян, государственных деятелей,
купцов, первооткрывателей, чье «мышление С'мышлении» основыва¬
ется на глубоком жизненном опыте. Это — ряд великих личностей от
Фалеса до Протагора, от Бэкона до Юма, ряд доконфуцианских и до¬
Ср. с. 722 слл.
**
Ср. с. 739. Возможно, необычный стиль Гераклита, происходившего из жрече¬
ского рода при храме в Эфесе, представляет собой пример формы, в которой устно пе¬
редавалась древняя орфическая мудрость.
Ср. с. 705 слл.
396 Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
буддистских мыслителей, о которых нам мало известно сверх того, что
они действительно существовали.
В конце этого ряда стоят Кант и Аристотель*. То, что начинается
вслед за ними, представляет собой философию цивилизации. Во вся¬
кой великой культуре имеется восходящее мышление, которое ставит
перво-вопросы в начале и со всевозрастающей энергией духовного вы¬
ражения исчерпывает их все новыми ответами (ответами, которые
имеют, как было сказано, орнаментальное значение), и мышление ни¬
сходящее, для которого проблема познания оказывается уже каким-то
образом решенной, преодоленной, малозначительной. Бывает мета¬
физический период, имеющий поначалу религиозную, а под конец ра¬
ционалистическую оболочку, когда мышление и жизнь еще несут в
себе хаос и происходит миросозидание на основе бьющей через край
полноты, и период этический, когда сделавшаяся крупногородой
жизнь представляется сомнительной себе самой и вынуждена пускать
остаток формирующей философской силы на собственное поддержа¬
ние и выживание. В первом жизнь открывается,; второй же имеет
жизнь в качестве предмета. Первый «теоретичен», созерцателен в вы¬
соком значении этого слова, второй поневоле имеет практическое на¬
правление. Еще кантовская система была в самых глубинных своих
чертах узрена и лишь после этого логически и систематически сформу¬
лирована и упорядочена.
Доказательством может служить отношение Канта к математике.
Тот, кто не проник в мир числовых форм, кто не пережил числа как са¬
мостоятельные символы, не является подлинным метафизиком. На са¬
мом деле метафизиками были великие мыслители барокко, создавшие
математический анализ, и то же самое справедливо в отношении до-
сократиков и Платона. Декарт и Лейбниц наряду с Ньютоном и Гаус¬
сом, Пифагор и Платон наряду с Архитом и Архимедом — это вершина
математического развития. Однако уже Кант не имеет никакого значе¬
ния как математик. Ему так же мало удалось проникнуть в высшие
утонченности тогдашнего исчисления бесконечно малых, как и усво¬
ить аксиоматику Лейбница. В этом он во всем равен своему «современ¬
нику» Аристотелю, и с этих пор ни одного философа больше не следует
принимать в расчет как математика. Фихте, Гегель, Шеллинг и роман¬
тики были совершенно нематематичны, точно так же, как Зенон и
Эпикур. Шопенгауэр в данной области слаб до тупости, а уж о Ницше и
говорить не приходится. С миром числовых форм оказалась утрачен¬
ной великая условность. С тех пор не видно не только тектоники систе¬
мы; не видно также и того, что можно было бы назвать великим стилем
мышления. Шопенгауэр называл сам себя «мыслителем по случаю».
Это схоластическая сторона позднего времени; сторона мистическая, от который
были недалеки Протагор и Лейбниц, достигает своей вершины в Платоне и Гёте и име¬
ет после Гёте продолжение в романтиках, Гегеле и Ницше, между тем как схоластика,
исчерпавшая свои задачи, после Канта (и Аристотеля) вырождается в катедерфилосо-
фию, занятую узкоспециализированной наукой.
397
Гл0ва пятая. Образ души и жизнеощущение
Теперь этика переросла свой ранг как часть абстрактной теории.
Отныне она и есть философия, делающая прочие области своими ча¬
стями; в центре рассмотрения оказывается практическая жизнь. Жар
чистого мышления остывает. Метафизика, вчерашняя госпожа, ста¬
новится ныне служанкой. Теперь она должна только представить
основу, которая несет на себе практический образ мыслей. И основа
эта постоянно становится все более никчемной. Метафизическим,
непрактичным, «камнем вместо хлеба» пренебрегают, его осмеивают,
у Шопенгауэра первые три книги написаны ради четвертой. Кант то¬
лько полагал, что с ним дело обстоит так же. На самом же деле средо¬
точием творения является для него все еще чистый, а не практиче¬
ский разум. Точно такой же водораздел проходит по античной фило¬
софии до и после Аристотеля: там взятый в целом космос, едва
обогащенный формальной этикой, здесь же сама этика как программа,
как необходимость — на основе вскользь и впопыхах замысленной
метафизики. Между тем мы чувствуем, что логическая бессовест¬
ность, с которой подобные теории наскоро набрасывал, например,
Ницше, никоим образом не способна снизить ценность его собствен¬
ной философии.
Как известно, Шопенгауэр* не приходил от своей метафизики к
пессимизму, но напротив, это пессимизм, обрушившийся на него в
17-летнем возрасте, привел его к разработке собственной системы.
Шоу, этот весьма примечательный свидетель, обращает в своей
«Квинтэссенции ибсенизма» внимание на то, что в случае Шопенгау¬
эра, как выражается Шоу, мы вполне можем усвоить его философию,
между тем как метафизику его отвергнем. Тем самым то, благодаря
чему он сделался первым мыслителем Нового времени, оказывается
вполне справедливо отделенным от того, что в соответствии с отжив¬
шей традицией принадлежало еще тогда к полноценной философии.
Никто не стал бы проводить подобное разделение в случае Канта. Да
оно бы и не удалось. В случае же Ницше без труда удается установить,
что вся его «философия» от начала и до конца была внутренним, чрез¬
вычайно ранним переживанием, между тем как свою потребность в
метафизике он скорыми темпами и зачастую довольно скверно удов¬
летворил с помощью нескольких книг и даже этическое свое учение
не был в состоянии точно изложить. Точно такое же соотношение жи¬
вых, отвечающих духу времени этических идейных наслоений с тре¬
буемыми по привычке метафизическими слоями, без которых можно
было бы обойтись, мы можем констатировать и у Эпикура со стоика¬
ми. Это явление не оставляет сомнений относительно сущности ци¬
вилизованной философии.
Строгая метафизика исчерпала свои возможности. Мировая столи¬
ца окончательно одолела село, и ее дух строит теперь свою собствен-
Neue Paralipomena § 656.
398 Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
ную, неизбежно направленную наружу, механическую, бездушную тео¬
рию. Не зря вместо души теперь принято говорить «мозг». А поскольку
в западноевропейском «мозге» воля к власти, тираническая нацелен¬
ность на будущее, на организацию всего в целом требуют практическо¬
го выражения, этика по мере того, как она все больше теряет из виду
собственное метафизическое прошлое, все в большей степени прини¬
мает социально-этический и политэкономический характер. Восходящая
к Гегелю и Шопенгауэру современная философия, постольку посколь¬
ку она являет собой дух времени (чего, например, не делают Л отце и
Гербарт) — это социальная критика.
С тем же вниманием, которое стоик уделяет собственному телу, за¬
падный мыслитель рассматривает тело общества. Вовсе не случайно,
что из школы Гегеля вышли социализм (Маркс, Энгельс), анархизм
(Штирнер) и проблематика социальной драмы (Геббель). Социа¬
лизм — это политэкономия, преобразованная в этику, а именно в импе¬
ративность. Пока существовала метафизика большого стиля, вплоть
до Канта, политическая экономия оставалась наукой. Стоило только
«философии» сделаться равнозначной практической этике, она заняла
место математики как основание миромышления. В этом значение Кузе¬
на, Бентама, Конта, Милля и Спенсера.
Как философу не приходится свободно избирать свой материал, так
и в круге внимания философии отнюдь не всегда и не повсюду пребы¬
вают одни и те же проблемы. Никаких вечных вопросов не существует:
есть лишь вопросы, прочувствованные и поставленные на основе
определенного существования. «Все преходящее — только подобье» —
это справедливо также и в отношении всякой подлинной философии
как духовного выражения этого существования, как осуществления ду¬
шевных возможностей в мире форм, образованном понятиями, сужде¬
ниями и мысленными построениями, обобщенными в живом явлении
их творца. Всякая из них с первого и до последнего слова, начиная с
наиотвлеченнейшей темы и вплоть до наиболее личностной черты
представляет собой ставшее, то, что перелилось из души в мир, из цар¬
ства свободы — в царство необходимости, из непосредственно живо¬
го — в пространственно-логическое, а в силу этого стало преходящим,
имеющим определенный темп и определенную продолжительность
жизни. По этой причине в выборе темы заключена непреложная необ¬
ходимость. У всякой эпохи — своя собственная тема, имеющая значе¬
ние лишь для нее и больше ни для какой другой. Прирожденного фило¬
софа отличает то, что он не совершает здесь промаха. Вся же прочая
философская продукция не имеет никакого значения, это просто узко
специализированная наука, унылое нагромождение систематической
и понятийной мелочовки.
И потому философией, отличающей специально XIX столетие, ока¬
зывается исключительно этика, исключительно социальная критика в
плодотворном смысле этого слова — и ничего сверх этого. Поэтому,
пятая. Образ души и жизнеощущение
399
Глава__
если не принимать в расчет практических деятелей, самыми значитель¬
ными ее представителями оказываются драматурги (это отвечает фаус¬
товской деятельности), рядом с которыми не выдержит никакого срав¬
нения любой катедер-философ со всей его логикой, психологией или
систематикой. Лишь тому обстоятельству, что эти ничтожества, обра¬
зованны в чистом виде, неизменно писали также и историю филосо¬
фии (и какую историю! просто собрание дат и «результатов»), мы обя¬
заны тем, что никто теперь уже и не догадывается, что такое история
философии и чем она могла бы быть.
Поэтому глубокое органическое единство в мышлении этой эпохи
так еще и не было увидено. Ее философскую суть можно свести к фор¬
муле, задавшись вопросом, в какой мере Шоу является учеником и
продолжателем Ницше. Мы говорим об этой связи без какой-либо
иронии. Шоу — единственный значительный мыслитель, последовате¬
льно продвигавшийся в том же направлении, что и подлинный Ницше,
а именно как конструктивный критик западной морали; с другой же
стороны, он, как писатель, извлек все уроки из Ибсена и ради практи¬
ческих диспутов отказался в своих пьесах от каких-либо остатков худо¬
жественного оформления.
Ницше в общем и частностях, в той мере, в какой сидевший в нем
припозднившийся романтик не определял стиля, звучания и позиции
его философии, был выучеником материалистических десятилетий.
Что его страстно влекло к Шопенгауэру, причем так, что ни он сам, ни
кто-либо другой об этом не задумывался, так это тот момент в Шо-
пенгауэровом учении, с помощью которого он разрушил метафизику
большого стиля и которым он невольно пародировал своего учителя
Канта, а именно оборачивание всех глубоких понятий барокко в ося¬
заемые и механистические. Кант выражает свои мысли о мире как яв¬
лении неадекватными словами, за которыми скрывается колоссаль¬
ная, труднодоступная интуиция; Шопенгауэр называет это миром
как мозговым явлением. В нем совершается превращение трагиче¬
ской философии в философское плебейство. Достаточно будет при¬
вести из него одну цитату. В «Мире как воле и представлении» (II, гла¬
ва 19) говорится: «Воля, как вещь сама по себе, наполняет собой внут¬
реннюю, подлинную и неразрушимую сущность человека; сама же по
себе она, однако, лишена сознания. Ибо сознание обусловлено ин¬
теллектом, этот же последний является простой акциденцией нашей
сущности; ведь он есть функция мозга, который вместе с относящи¬
мися к нему нервами и спинным мозгом представляет собой просто
плод, произведение, до некоторой степени даже паразит прочего ор¬
ганизма, поскольку он не вмешивается напрямую во внутреннюю его
Деятельность, но служит цели самосохранения просто посредством
того, что регулирует его отношения с внешним миром». Однако это и
есть дословно фундаментальное воззрение наиболее плоского мате¬
риализма. Не напрасно Шопенгауэр, как в свое время Руссо, посту¬
400 Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
пал на обучение к английским сенсуалистам. У них он научился пре¬
вратно понимать Канта в духе крупногородой, направленной на целе¬
сообразность современности. Интеллект как орудие воли к жизни*,
как оружие в борьбе за существование, то, что Шоу довел до гротеск¬
ной драматической формы**, — именно это Шопенгауэрово воззрение
на мир и сделало его в одночасье, когда на свет явился основной труд
Дарвина (1859), модным философом. Шопенгауэр, в противополож¬
ность Шеллингу, Гегелю и Фихте, был единственным, чьи метафизи¬
ческие формулы без труда ухватывались интеллектуальными посредст¬
венностями. Ясности Шопенгауэра, которой он гордился, постоянно
грозит та опасность, что обнаружится ее тривиальность. Здесь можно
было усвоить цивилизованное мировоззрение в полном его объеме, не
отказываясь при этом от формулировок, распространявших вокруг
себя атмосферу глубокомыслия и исключительности. Система Шопен¬
гауэра — это предугаданный дарвинизм, для которого кантовские язы¬
ковые обороты и понятия индусов служили лишь оболочкой. В его
книге «О воле в природе» (1835) мы уже обнаруживаем борьбу за само¬
утверждение в природе, человеческий интеллект — как наиболее дей¬
ственное оружие в этой борьбе, а половую любовь как бессознатель¬
ный подбор * в биологических интересах.
Это — то самое воззрение, которое Дарвин кружным путем через
Мальтуса с неодолимым успехом провозгласил как якобы соответству¬
ющее картине животного мира. Политэкономическое происхождение
дарвинизма доказывается тем фактом, что эта система, измышленная
на основе сходства высших животных с человеком, не соответствует
уже миру растений и приходит к нелепостям, когда ее с ее волевой тен¬
денцией (половой подбор, мимикрия) всерьез желают применить к
**** _
примитивным органическим формам . Доказать для дарвиниста —
это так расположить и образно истолковать специально подобранные
факты, что они будут соответствовать его историко-динамическому
базовому ощущению «развития». «Дарвинизм», т. е. совокупность ве¬
сьма разнохарактерных и противоречащих друг другу воззрений, об¬
щим моментом в которых является исключительно применение кауза¬
льного принципа к живому, т. е. метод, а вовсе не результат, был во
всех деталях известен уже в XVIII в. Теорию происхождения человека
от обезьяны Руссо отстаивает уже в 1754 г.. От Дарвина здесь лишь ман¬
честерская система, популярность которой объясняется ее скрытым по¬
литическим содержанием.
У него отыскивается и современная идея о том, что бессознательные, инстинк¬
тивные жизненные акты приводят к совершенным достижениям, между тем как интел¬
лект способен лишь на неумелые действия (II, глава 30).
В пьесе «Человек и сверхчеловек».
В главе «К метафизике половой любви» (II, 44) в полном объеме предвосхищена
мысль о половом подборе как средстве для сохранения вида.
Ср. т. 1, гл. 1, раздел 8.
f/iaea пятая. Образ души и жизнеощущение __ __ _ 401
Здесь нам открывается духовное единство столетия. Начиная с Шо¬
пенгауэра и до Шоу все как один, сами о том не догадываясь, оформля¬
ли один и тот же принцип. Все руководствовались идеей развития, в
том числе и те, кто, как Геббель, ничего не знали о Дарвине, причем не
в ее глубокой гётеанской, но в плоской цивилизованной редакции,
будь то с политэкономическим или же биологическим отпечатком. В
рамках идеи развития, фаустовской от начала и до конца, резко проти¬
воположной вневременной аристотелевской энтелехии, поскольку в
ней обнаруживается страстный порыв к бесконечному будущему, еди¬
ная воля, единая цель, идеи, которая a priori представляет собой форму
нашего видения природы и даже не нуждалась в том, чтобы быть от¬
крытой как принцип, поскольку она имманентна фаустовскому духу и
только ему одному, в ее рамках, говорю я, происходит также и переход
от культуры к цивилизации. У Гёте она возвышенная, у Дарвина плос¬
кая, у Гёте органическая, у Дарвина механическая, у того она — пере¬
живание и символ, у другого — познание и закон, там она зовется внут¬
ренним совершенством, а здесь — «прогрессом». Дарвиновская борьба
за существование, которую он навязал природе, а не вычитал из нее —
это всего лишь плебейская редакция того пра-чувства, которое движет
великими событиями в шекспировских трагедиях. То, что там внутрен¬
не видится как судьба, ощущается и воплощается в образы, понимается
здесь как причинно-следственная связь и приводится к поверхностной
системе целесообразностей. И эта система, а не то пра-чувство, лежит в
основе речей Заратустры, трагики «Привидений»163, проблематики
«Кольца Нибелунгов». Один только Шопенгауэр, за которого изо всех
сил держится Вагнер, как первый в ряду, ужаснулся тому, что было им
открыто (в этом — корень его пессимизма, высшее выражение которо¬
го мы встречаем в музыке «Тристана»), между тем как те, что следовали
за ним, и прежде всего Ницше, приходили от этого в восторг, подчас
несколько принужденный.
В разрыве Ницше с Вагнером, этом последнем событии в истории
немецкого духа, на котором лежит отпечаток величия, кроется смена
им учителя, его бессознательный переход от Шопенгауэра к Дарвину,
от метафизической к физиологической формулировке одного и того
же мироощущения, от отрицания к утверждению того воззрения, кото¬
рый признают они оба, а именно воли к жизни, тождественной с борь¬
бой за существование. В «Шопенгауэре как воспитателе» развитие еще
означает внутреннюю зрелость; сверхчеловек — продукт механической
«эволюции». Так что «Заратустра», этот плод ревности одного провоз¬
вестника другому, в плане этическом выражает бессознательное сопро¬
тивление «Парсифалю», оставаясь в плане художественном в полной от
него зависимости.
Однако Ницше был еще и социалистом, сам того не зная. Социали¬
стическими, практическими были не его лозунги, а инстинкты, на¬
правленные на физиологическое «благо человечества», о чем ни Гёте,
402
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
ни Кант никогда и не помышляли. Материализм, социализм и дарви¬
низм можно разделить лишь искусственно и на поверхности. Потому-
то и оказывается возможным то, что Шоу было достаточно придать
тенденциям морали господ и выведения сверхчеловека небольшой,
причем логичный поворот, чтобы получить в третьем акте «Человека и
сверхчеловека», одном из наиболее значительных и характерных про¬
изведений конца эпохи, самую настоящую формулировку своего соци¬
ализма. Здесь Шоу лишь высказал (однако без всякого стеснения и
ясно, с полным сознанием тривиальности) то, что должно было быть
сказано в неисполненных частях «Заратустры» со всей вагнеровской
театральностью и всей романтической расплывчатостью. Надо лишь
уметь отыскивать необходимые практические, вытекающие из структу¬
ры общественной жизни предпосылки и следствия хода рассуждений
Ницше. Он обходится такими неопределенными оборотами, как «но¬
вые ценности», «сверхчеловек», «смысл земли» и остерегается или бо¬
ится излагать все точнее. Шоу на это идет. Ницше замечает, что дарви¬
нистская идея сверхчеловека вызывает на свет понятие выведения, од¬
нако дальше этого звучного выражения не идет. Шоу же задается
вопросом (ведь бессмысленно об этом говорить, если ты ничего не же¬
лаешь сделать), как это должно произойти и приходит к тому, чтобы
требовать превращения человечества в конный завод. Однако это всего
лишь навсего вывод из «Заратустры», на который у него самого недо¬
стало мужества, пускай это было бы даже мужество дурного вкуса. Ког¬
да заговаривают о планомерном выведении, всецело материалистиче¬
ском и утилитаристском понятии, необходимо дать ответ также и на
вопрос о том, кто должен выводить, кого, где и как. Но романтическое
нежелание Ницше выводить весьма прозаические социальные следст¬
вия, его страх подвергать поэтические идеи испытанию на прочность
посредством столкновения их с сухими фактами, заставляют его хра¬
нить молчание относительно того, что все его учение, как произошед¬
шее из дарвинизма, предполагает также и социализм, а именно социа¬
листическое принуждение в качестве средства; что всякому системати¬
ческому выведению класса высших людей должно предшествовать
строго социалистическое переустройство общества и что «дионисий¬
ская» идея, поскольку речь здесь идет о совместной акции, а не о част¬
ном деле живущего на отшибе мыслителя, демократична вне зависи¬
мости от того, как бы ее ни перевертывали. Тем самым этическая дина¬
мика «Ты должен» достигает кульминации: чтобы наложить на мир
форму собственной воли, фаустовский человек приносит в жертву са¬
мого себя.
Выведение (Zuchtung) сверхчеловека следует из понятия полового
подбора (Zuchtwahl/64. С тех пор как Ницше писал афоризмы, он был
бессознательным учеником Дарвина, однако сам Дарвин переработал
идеи развития XVIII в. на основе политэкономических тенденций, ко¬
торые перенял у своего учителя Мальтуса и спроецировал на царство
403
Глава пятая. Образ души и жизнеощущение
высших животных. Мальтус изучал фабричную промышленность Лан¬
кастера, и всю данную систему в целом, только примененную не к жи¬
вотным, а к людям, мы находим уже в «Истории цивилизации в Анг¬
лии» Бокля (1857).
Так что «мораль господ» этого последнего романтика весьма приме¬
чательным, однако показательным для духа времени образом происхо¬
дит из атмосферы английской машинной индустрии, этого источника
всей духовной современности. Макиавеллизм, который Ницше пре¬
возносил как ренессансное явление, тот самый макиавеллизм, чье
родство с дарвиновским понятием мимикрии не следует упускать из
виду, был на самом деле рассмотрен в «Капитале» Маркса (другого
знаменитого ученика Мальтуса), а подготовительная ступень этого
начавшего выходить с 1867 г. основополагающего труда политическо¬
го (не этического) социализма, сочинение «К критике политической
экономии», увидела свет одновременно с главным трудом Дарвина.
Такова генеалогия морали господ. «Воля к власти», пересаженная в
сферу реальности, политики, политэкономии, с наибольшей мощью
выражается в «Майоре Барбара» Шоу. Нет сомнения в том, что Ни¬
цше как личность представляет собой высшую точку этого ряда эти-
ков, однако здесь Шоу, этот партийный политик, встает с ним нарав¬
не как мыслитель. Воля к власти представлена ныне обоими полюса¬
ми общественной жизни, рабочим классом, с одной стороны, и
людьми громадных денег и выдающихся умственных способностей —
с другой, с куда большей решительностью, нежели это когда-либо де¬
лал какой-нибудь Борджа. Миллиардер Андершэфт в этой лучшей ко¬
медии Шоу — это и есть сверхчеловек. Да вот только романтик Ни¬
цше не признал бы в нем своего идеала. Он постоянно говорил о пе¬
реоценке всех ценностей, о философии будущего, а значит, в первую
очередь будущего западноевропейского, а не китайского или афри¬
канского, однако когда его постоянно блуждавшие в дионисийской
дали мысли однажды действительно сгустились до осязаемых картин,
воля к власти представилась ему с такими аксессуарами, как кинжал
и яд, а не забастовка и энергия денег. И тем не менее он рассказывал,
что эта идея впервые его осенила в войну 1870 г., при виде шедших в
битву прусских полков.
Драма этой эпохи — это уже не литературное сочинение в преж¬
нем, культурном смысле, но форма агитации, дискуссии и проведе¬
ния доказательства: театральные подмостки рассматриваются теперь
исключительно «как нравственное учреждение»165. Сам Ницше неод¬
нократно склонялся к драматическому изложению своих идей. Ри¬
хард Вагнер в своей поэме о Нибелунгах, прежде всего в самой ранней
Редакции ок. 1850 г., изложил свои общественно-революционные
идеи, и Зигфрид кружным путем через художественные и внехудоже-
ственные воздействия еще и в завершенном «Кольце» остается сим¬
волом четвертого сословия, клад Фафнира — символом капитализма,
404
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
а Брунгильда — символом «свободной женщины». Музыка к полово¬
му подбору, теория которого, «Происхождение видов», проявилась в
1859 г., слышится как раз в это же самое время в третьем акте «Зигф¬
рида» и в «Тристане». То не было случайностью, что Вагнер, Геббель и
Ибсен почти одновременно занялись инсценировкой материала
«Песни о Нибелунгах». Геббель, когда он ознакомился в Париже с со¬
чинениями Фридриха Энгельса, выразил (письмо от 2 апреля 1844 г.)
свое изумление тем обстоятельством, что понимает социальный
принцип эпохи, который он как раз тогда задумал выразить в драме
«Когда угодно», совершенно так же, как автор «Коммунистического
манифеста». При первом же знакомстве с Шопенгауэром Геббеля
ошеломляет (письмо от 29 марта 1857 г.) также и родство «Мира как
воли и представления» с значительными тенденциями, положенны¬
ми им в основу его Олоферна и «Ирода и Мариамны». Дневники Геб¬
беля, наиболее важная часть которых была написана в период между
1835 и 1845 гг., представляют собой одно из наиболее глубоких фило¬
софских достижений столетия, при том, что сам он этого не сознавал.
Мы не станем удивляться тому, что целые его фразы дословно встре¬
чаются у Ницше, который никогда не был с ним знаком и не всегда в
состоянии встать с ним вровень.
Ниже я даю обзор настоящей философии XIX в., единственной и
подлинной темой которой является воля к власти в цивилизованно¬
интеллектуальном, этическом или социальном облике, как воля к жиз¬
ни, как жизненная сила, как практически-динамический принцип,
как понятие или драматический образ. Завершающийся Шоу период со¬
ответствует античному между 350 и 250 гг.. Все прочее, выражаясь сло¬
вами Шопенгауэра — лишь профессорская философия профессоров
философии166.
1819 — Шопенгауэр «Мир как воля и представление»: воля к жизни
впервые поставлена в центр рассмотрения как единственная реаль¬
ность («пра-сила»), однако под впечатлением предшествовавшего ему
идеализма все еще рекомендуется ее отрицание.
1836 — Шопенгауэр «О воле в природе»: предвосхищение дарвиниз¬
ма, однако в метафизическом облачении.
1840 — Прудон «Qu’est-се que la propridtd?» [«Что такое собствен¬
ность?» (фр.)]: краеугольный камень анархизма. — Конт «Cours de phi¬
losophic positive» [«Курс позитивной философии» (фр.)]: формула «ord-
re et prog^s» [«порядок и прогресс» (фр.)].
1841 — Геббель «Юдифь»: первая драматическая концепция «новой
женщины» и сверхчеловека (Олоферн). — Фейербах «Сущность хрис¬
тианства».
1844 — Энгельс «Очерк критики политической экономии»: фунда¬
мент материалистического понимания истории. — Геббель «Мария
Магдалина»: первая социальная драма.
405
Глава пятая. Образ души и жизнеощущение
1847 — Маркс «Нищета философии» (синтез Гегеля и Мальтуса).
Эти годы являются решающим периодом, когда политэкономия начи¬
нает господствовать в социальной этике и биологии.
1848 — Вагнер «Смерть Зигфрида»: Зигфрид как социально-этиче¬
ский революционер, клад Фафнира как символ капитализма.
1850 — Вагнер «Искусство и климат»: сексуальная проблема.
1850—1858 — Произведения Вагнера, Геббеля и Ибсена о Нибелун-
гах.
1859 — Символическое совпадение: Дарвин «Происхождение видов
путем естественного отбора» (применение политэкономии к биоло¬
гии) и Вагнер «Тристан и Изольда». — Маркс «К критике политиче¬
ской экономии».
1863 — Дж. С. Милль «Утилитаризм».
1865 — Дюринг «Ценность жизни», редко вспоминаемая работа,
оказавшая, однако, сильнейшее влияние на последующее поколение.
1867 — Ибсен «Бранд» и «Капитал» Маркса.
1878 — Вагнер «Парсифаль»: первое разрешение материализма в
мистицизм.
1879 — Ибсен «Нора» («Кукольный дом»).
1881 — Ницше «Утренняя заря»: переход от Шопенгауэра к Дарви¬
ну, мораль как биологическое явление.
1883 — Ницше «Так говорил Заратустра»: воля к власти, однако в
романтическом облачении.
1886 — Ибсен «Росмерсхольм» и Ницше «По ту сторону добра и
зла».
1887/88 — Стриндберг «Отец» и «Фрекен Жюли».
1890 — Близящееся завершение эпохи: религиозные произведения
Стриндберга, символические — Ибсена.
1896 — Ибсен «Йун Габриэль Боркман»: сверхчеловек.
1898 — Стриндберг «На пути в Дамаск».
Начиная с 1900 последние явления.
1903 — Вейнингер «Пол и характер»: единственная серьезная по¬
пытка вновь оживить Канта в пределах этой эпохи, соотнеся его с Ваг¬
нером и Ибсеном.
1903 — Шоу «Человек и сверхчеловек»: окончательный синтез Дар¬
вина и Ницше.
1905 — Шоу «Майор Барбара»: тип сверхчеловека, сведенный к его
политэкономическому происхождению.
Тем самым после метафизического периода, оказался исчерпан¬
ным также и этический. Этический социализм, подготовлявшийся
Фихте, Гегелем, Гумбольдтом, прошел эпоху своего пламенного ве¬
личия около середины XIX в. К его концу он достиг уже стадии повто¬
ров, а XX век, сохранив само слово социализм, поставил на место эти¬
ческой философии, представляющейся незавершенной одним только
эпигонам, практику злободневных экономических вопросов. Этиче-
406
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
ское миронастроение Запада так и останется «социалистическим»,
однако его теория перестала представлять проблему. Имеется воз¬
можность третьей и последней ступени западноевропейской филосо¬
фии: физиономического скептицизма. Загадка бытия последователь¬
но представляется как проблемапознания, проблема ценности, проб¬
лема формы. Канту этика виделась как объект познания, XIX в.
познание представлялось как объект оценки. Скептик станет рас¬
сматривать и то и другое исключительно как историческое выражение
данной культуры.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
ФАУСТОВСКОЕ
И АПОЛЛИНИСТИЧЕСКОЕ
ПОЗНАНИЕ ПРИРОДЫ
1
В 1869 г. Гельмгольц сказал в своей ставшей знаменитой речи: «Ко¬
нечная цель естествознания состоит в том, чтобы отыскать движения и
их движущие силы, которые лежат в основе всех изменений, т. е. в том,
чтобы разрешиться в механику». В механике это означает сведение всех
качественных впечатлений к неизменным количественным базовым
величинам, т. е. к протяженному и изменению его положения; далее,
если вспомнить о противоположности становления и ставшего, пере¬
житого и познанного, образа и закона, картины и понятия, это означа¬
ет сведение увиденной картины природы к воображаемой картине еди¬
нообразного, количественного порядка с измеримой структурой. Под¬
линная тенденция западной механики направлена на духовное
овладение посредством измерения; поэтому она оказывается вынужден¬
ной отыскивать сущность явления в системе постоянных, всецело до¬
ступных элементов, наиболее важный из которых, по определению Ге¬
льмгольца, обозначается словом движение (заимствованным из по¬
вседневного жизненного опыта).
Физику такое определение представляется недвусмысленным и ис¬
черпывающим; для скептика же, отслеживающего психологию этого
научного убеждения, это вовсе не так. Первый усматривает в современ¬
ной механике логичную систему ясных однозначных понятий и столь
же простых, сколь необходимых отношений; для второго же она — ха¬
рактеризующая структуру западноевропейского духа картина, пускай
даже обладающая высшей последовательностью построения и вели¬
чайшей убедительностью. То, что все практические успехи и открытия
ничего не прибавляют к «истинности» теории, самой картины, понят¬
но само собой . Впрочем, большинству механика «как таковая» пред¬
ставляется само собой разумеющимся обобщением-природных впечат¬
лений, однако она только кажется такой. Ибо что такое движение? То,
что все качественное сводимо к движению неизменных, однородных
материальных точек — разве это уже не есть чисто фаустовский, ни в
коем случае не общечеловеческий постулат? К примеру, Архимед вовсе
не ощущал потребности переосмыслить механические воззрения в
представления движения. А движение вообще разве является чисто ме-
Ср. с. 963.; Lenard F., Relativitatsprinzip, Ather, Gravitation (1920). S. 20 ff.
410
Том 7. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
ханической величиной? Есть ли это слово, соответствующее зритель¬
ному опыту, или же извлеченное из него понятие? Обозначает ли оно
число, могущее быть получено посредством измерения эксперимента¬
льно вызванных на свет фактов, или лежащую в их основе картину? И
если физике в самом деле в один прекрасный день удастся достичь
своей мнимой цели и привести все чувственно постижимое к лишен¬
ной пробелов системе закономерно фиксированных «движений» и
сил, которые, надо полагать, действуют за ними, продвинется ли она в
«познании» того, что происходит хотя бы на один шаг? Становится ли в
этой связи язык форм механики менее догматическим? Разве он, на¬
против, не включает миф пра-слов, оформляющих опыт вместо того,
чтобы на нем базироваться, причем в самой выраженной его разновид¬
ности? Что такое сила? Что такое причина? Что такое процесс? Да и во¬
обще имеется ли у физики, даже на основе ее собственных определе¬
ний, своя задача? Есть ли у нее конечная цель, которая бы сохраняла
значение на протяжении столетий? Имеется ли у нее хотя бы единст¬
венная бесспорная мысленная величина для того, чтобы выражать
свои результаты?
Ответ можно предугадать заранее. Современная физика, как нау¬
ка — колоссальная система знаков в форме имен и чисел, которая по¬
зволяет работать с природой как с машиной , — может иметь точно
определимую конечную цель; как часть истории со всеми судьбами и
превратностями в жизни участвовавших в ней личностей и в ходе самих
исследований, физика по задачам, методам и результатам является вы¬
ражением и реализацией культуры, органически развивающейся ха¬
рактеристикой ее существа, и каждый из ее результатов представляет
собой символ. Физика существует исключительно в бодрствовании
живых людей культуры, и то, что, как она ошибочно полагает, ей удает¬
ся отыскать при их посредстве, уже было заложено в самих образе и
способе их поисков. Если не смотреть на формулы, по своему образно¬
му содержанию их открытия носили чисто мифический характер в умах
даже таких осторожных исследователей, как Ю. Р. Майер, Фарадей и
Герц. Ввиду высокой физической точности во всяком природном зако¬
не следует проводить четкое различие между неименованными числа¬
ми и их именованиями, между простым разграничением* ** и его теоре¬
тическим истолкованием. Формулы представляют собой общие логи¬
ческие величины, чистые числа, т. е. объективные пространственные и
граничные элементы, однако формулы немы. Выражение s = У2 g? во¬
обще ничего не означает до тех пор, пока мы не в состоянии мыслить в
связи с каждой буквой определенные слова и их образный смысл. Од¬
нако стоит только мне облачить мертвый знак в такое слово, придать
ему плоть, тело, жизнь, вообще чувственное значение в мире, как я уже
переступил границы чистого порядка, ©ecopla — это картина, видёние.
* Ср. с. 756.
** Ср. с. 761, 963.
411
f/швв шестая. Фаустовское и аполлоническое познание природы
Только она делает из математической формулы настоящий закон при¬
воды. Все точное само по себе бессмысленно', всякое физическое наблю¬
дение устроено таким образом, что его результат доказывает что-то то¬
лько при условии некоторого числа образных допущений, которые с
этих пор производят более убедительное действие. Если от этого отвле¬
чься, результат состоит исключительно из голых цифр. Однако мы не в
состоянии отвлечься от таких допущений. Даже тогда, когда исследо¬
ватель откладывает в сторону все известные ему гипотезы, он тем не
менее не в состоянии, поскольку приступает он к данному заданию
мысля, взять власть над бессознательной формой этого мышления (это
она над ним господствует!), поскольку он ведь неизменно действует
как живущий человек данной культуры, данной эпохи, данной напол¬
ненной традицией школы. Вера и «познание» — это лишь две разно¬
видности внутренней убежденности, однако вера старше и владеет все¬
ми условиями знания, каким бы точным оно ни было. Так что именно
теории, а не чистые числа являются носителями всего познания приро¬
ды. Бессознательное томление всякой подлинной науки, которая (по¬
вторим это еще раз) существует исключительно в уме людей культуры,
устремлено на постижение мировой картины природы, проникнове¬
ние в нее и овладение ею, а не на измерительную деятельность саму по
себе, которая неизменно доставляла радость лишь незначительным
умам. Числам всегда следовало бы быть исключительно ключами к
тайне. Ни один выдающийся человек не станет приносить жертвы ради
чисел как таковых.
Впрочем, в одном известном месте Кант говорит: «Я утверждаю, что
во всяком частном учении о природе цодлинной науки отыщется лишь
столько, сколько там математики»167. Подразумевается чистое разгра¬
ничение в сфере ставшего, поскольку оно проявляется как закон, фор¬
мула, число, система, однако закон без слов, числовой ряд как резуль¬
тат простого считывания показаний измерительных приборов невоз¬
можно даже представить, как умственную процедуру, в полной
чистоте. Всякий эксперимент, всякий метод, всякое наблюдение про¬
израстает из целостного созерцания, выходящего за рамки математи¬
ческого. Всякий ученый опыт, чем бы он ни был помимо и сверх того,
является также свидетельством символических способов представле¬
ния. Всякий Сформулированный на словах закон — это живой, на¬
сквозь одушевленный порядок, наполненный наиболее глубинным со¬
держанием одной и только одной культуры. Если кому-то будет угодно
заговорить о необходимости, поскольку она является одним из требо¬
ваний всякого точного исследования, то здесь в наличии имеется даже
Двойная: необходимость в области душевного и живого, ибо то, что ис¬
тория всякого единичного исследования вообще имеет место, а также
Когда и как это происходит — это судьба; и еще необходимость в рамках
Познанного, для которой у нас, западноевропейцев, в ходу наименова¬
ние каузальность. Пускай чистые числа физической формулы пред¬
412 Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
ставляют собой каузальную необходимость; наличие теории, ее воз¬
никновение и продолжительность жизни — это судьба.
Во всяком факте, даже наипростейшем, уже содержится теория.
Факт — это однократное впечатление на бодрствующее существо, и все
зависит от того, был ли тот, на кого он пришелся, человеком античнос¬
ти или Запада, готики или же барокко. Задумаемся над тем, как воздей¬
ствует молния на воробья или же на ведущего наблюдение как раз в
этот же самый момент естествоиспытателя, и насколько больше содер¬
жится в этом «факте» для последнего в сравнении с «фактом» для пер¬
вого. Современный физик слишком легко забывает о том, что уже та¬
кие слова, как «величина», «положение», «процесс», «изменение со¬
стояния», «тело» представляют собой специфически западные образы,
со смысловым ощущением, которое больше не может быть ухвачено
словом и остается всецело чуждым для античного или арабского мыш¬
ления и чувства. Однако это смысловое ощущение полностью господ¬
ствует над характером научных фактов как таковых, над способом изв¬
лечения познания. Еще в большей степени это относится к таким
усложненным понятиям, как «работа», «напряжение», «квант дейст¬
вия», «количество теплоты», «вероятность» , каждое из которых содер¬
жит в себе настоящий природный миф. Мы воспринимаем подобные
мысленные образования как результат непредубежденного исследова¬
ния, да в некоторых случая к тому же считаем их окончательными.
Между тем какой-нибудь незаурядный мыслитель времен Архимеда по
основательном изучении современной теоретической физики несо¬
мненно бы сказал, что ему непостижимо, каким образом кто-либо мо¬
жет именовать наукой такие произвольные, причудливые и спутанные
представления, да еще считать их необходимыми следствиями из име¬
ющихся фактов. Научно обоснованными следствиями были бы ско¬
рее... — и он, со своей стороны, на основе тех же самых «фактов», а
именно фактов, которые увидены его глазами и оформлены в его уме,
развил бы такие теории, которым наши физики внимали бы с изумлен¬
ной усмешкой.
Каковы же тогда те фундаментальные представления, что с внут¬
ренней последовательностью развились в целостной картине совре¬
менной физики? Поляризованные пучки света, блуждающие ионы,
разбегающиеся и ускоряющиеся частицы газа кинетической теории га¬
зов, магнитные силовые поля, электрические потоки и волны — разве
все это не представляет собой фаустовских видений, фаустовских сим¬
волов, теснейшим образом связанных с романской орнаментикой, с
устремленностью готических сооружений ввысь, с походами викингов
в неведомые моря и с томлением Колумба и Коперника? Разве этот мир
форм и образов не вырос в точном соответствии с современными ему
Например, во втором начале термодинамики в формулировке Больцмана: «Лога¬
рифм вероятности состояния пропорционален энтропии этого состояния». Здесь во
всяком слове содержится полное воззрение на природу, которое может быть лишь про¬
чувствовано, но не описано.
Глаеа шестая. Фаустовское и аполлоническое познание природы
413
искусствами, перспективной масляной живописью и инструменталь¬
ной музыкой? Разве это не та же страстная наша направленность, па¬
фос третьего измерения, символического выражения которого мы до¬
стигли как в душевном образе, так и в воображаемой картине природы?
2
Отсюда следует, что в основе всякого «знания» о природе, пускай
даже самого точного, лежит религиозная вера. Чистая механика, к ко¬
торой западная физика хотела бы свести природу, усматривая в этом
свою конечную цель, цель, которой служит этот образный язык, пред¬
полагает догмат, а именно религиозную картину мира готических сто¬
летий, посредством которой она стала духовным достоянием западно¬
го культурного человечества и лишь его одного. Не бывает науки без
бессознательных предпосылок такого рода, над которыми не властен
исследователь, причем таких предпосылок, которые можно возвести к
самым первым дням пробуждающейся культуры. Не бывает естество¬
знания без предшествовавшей ему религии. В этом моменте не существу¬
ет никакой разницы между католическим и материалистическим воз¬
зрением на природу: оба они разными словами говорят одно и то же.
Имеется религия и у атеистического естествознания; современная ме¬
ханика — это буквальная копия религиозного созерцания.
Предрассудок городского человека, достигшего в Фалесе и Бэконе
вершин ионики и барокко, приводит критическую науку к высокомер¬
ному противостоянию предшествующей религии еще лишенной горо¬
дов земли, поскольку наука будто бы занимает преимущественные по¬
зиции по отношению к вещам и обладает присущими исключительно
ей истинными методами познания, а потому вправе эмпирически и
психологически объяснять саму религию и ее «преодолевать». Однако
история высших культур показывает, что «наука» представляет собой
поздний и преходящий спектакль*, который относится к осени и зиме
этих великих биографий. Как в античном, так и в индийском, арабском
и китайском мышлении она продолжалась несколько столетий, за ко¬
торые исчерпала свои возможности. Античная наука угасла в проме¬
жутке между битвами при Каннах и nj)H Акции, вновь уступив место
картине мира «второй религиозности» *. Соответственно можно пред¬
положить, когда границы своего развития достигнет западное мышле¬
ние о природе.
Нет совершенно никаких оснований для того, чтобы отдавать этому
Духовному миру форм преимущество над другим. Всякая критическая
наука, как и всякий миф, всякая религиозная вера вообще, основыва¬
йся на внутренней убежденности; их порождения иначе построены и
^ Ср. с. 760.
* Ср. с. 768.
414
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
по-другому звучат, однако принципиально друг от друга не отличают¬
ся. Все упреки, направляемые наукой по адресу религии, ударяют по
ней самой. Нечего сказать, большое преимущество — быть всякий раз в
состоянии утвердить на месте «антропоморфных» представлений «ис¬
тину». Но ведь никаких иных представлений вообще нет. Во всяком,
которое вообще возможно, отражается существование его автора.
«Человек создал Бога по своему образу»: с той же самой несомненно¬
стью, с какой это справедливо в отношении любой исторической ре¬
лигии, это правда также и относительно всякой физической теории,
как бы хорошо она вроде бы ни была обоснована. Античные исследо¬
ватели представляли себе природу света таким образом, что она со¬
стоит из телесных отображений, двигающихся от источника света к
глазу. Для арабского мышления несомненно уже в персидско-иудей¬
ских университетах Эдессы, Резаина и Пумбедиты (для Порфирия же
тому имеется непосредственное свидетельство) цвета и формы вещей
магическим («духовным») образом подводятся к представляемой ве¬
щественным образом силе зрения, содержащейся в глазных яблоках.
Так учили Ибн аль Хайтам, Авиценна и «Чистые братья»*. То, что свет
представляет собой силу (impetus), уже ок. 1300 г. было представлени¬
ем кружка парижских оккамистов, группировавшихся вокруг Бурида-
на, Альберта Саксонского и Николая Оресма, изобретателя коорди¬
натной геометрии *. Каждая культура создала себе совокупность об¬
разов процессов, которые истинны для нее одной и сохраняются до
тех пор, пока культура жива и занята реализацией своих внутренних
возможностей. Как только культура приходит к завершению, а тем са¬
мым угасают творческий элемент, образная сила и символика, от нее
остаются одни «пустые» формулы, скелеты безжизненных систем, ко¬
торые люди иных культур вполне буквально воспринимают как бес¬
смысленные и не имеющие никакой ценности, механически их со¬
храняют или презирают их и предают забвению. Числа, формулы, за¬
коны ничего не означают и представляют собой ничто. Им
необходимо тело, которым их способно наделить лишь живое челове¬
чество, живущее с ними и через них, их выражающее, внутренне ими
овладевающее. И потому никакой абсолютной физики не существует,
а есть лишь совокупность единичных физик, выныривающих и плы¬
вущих в рамках единичных культур.
«Природа» античного человека обрела свой высший художествен¬
ный символ в обнаженной статуе; из нее вполне последовательно вы¬
росла статика тел, физика близи. Арабской культуре принадлежат ара¬
беска и пещерообразный свод мечети; из этого мироощущения воз¬
никла алхимия с ее представлениями о таинственно действующих
субстанциях, таких как «философский Меркурий», который не являет-
Wiedemann Е., Uber die Naturwiss. bei den Arabem (1890). Strunz F., Gesch. der Na-
turwiss. im Mittelalter (1910). S. 58 f.
Duhem P., Etudes sur Leonard de Vinci, 3. Reihe (1913).
шестая. Фаустовское и аполлоническое познание природы
415
Глава
ся ни веществом, ни свойством, а чем-то таким, что магическим обра¬
зом лежит в основе цветового существования металлов и способен вы¬
зывать их превращение друг в друга* * *. Наконец, «природа» фаустовско¬
го человека породила динамику неограниченного пространства, физику
дали. Первой природе соответствуют представления о материи и форме,
второй, вполне в спинозистском духе, — представления о субстанциях
и их зримых или тайных свойствах *, третьей — представления о силе и
массе. Аполлоническая теория — это безмятежное созерцание, магиче-
ская — заветное знание (здесь можно усмотреть также и религиозное
происхождение механики) о «Святых тайнах» алхимии, фаустовская —
изначально рабочая гипотеза . Грек вопрошал о сущности зримого
бытия; мы вопрошаем о возможности овладеть незримыми силами,
движущими становлением. То, что было для того сладостным погруже¬
нием в кажимость, является для нас насильственным вопрошанием
природы, методическим экспериментом.
Подобно постановке проблем и методам, также и основные поня¬
тия являются символами одной и лишь одной данной культуры. Ан¬
тичные пра-слова aireipov, &рху> Iх°рФ17 j ЗА77 не могут быть переведены на
наши языки; перевести dрхч как «пра-материя» означает лишить его
аполлонического содержания и заставить то, что осталось, слово как
таковое, нести на Себе отзвук чуждого смысла. То, что античный чело¬
век наблюдал как «движение» в пространстве, он понимал как
aWoiwGLs, изменение положения тел. Из того способа, каким зритель¬
но переживаем движения мы, получилось понятие «процесса» (от рго-
cedere, «продвигаться»), чем выражается вся энергия направления, без
которой для нас невозможно никакое размышление о природных про¬
цессах. Античная натурфилософия установила в качестве первичных
различий зримые агрегатные состояния, знаменитые четыре элемента
Эмпедокла, а именно неподвижно-телесный, подвижно-телесный и
бестелесный****. Арабские «элементы» содержатся в представлениях о
потайных структурах и констелляциях, которые определяют вид, в ко¬
тором вещь является зрению. Попробуйте подойти поближе к этому
способу ощущения и вы убедитесь, что противоположность твердого и
жидкого означает совершенно разные вещи для ученика Аристотеля и
Для сирийца, а именно в первом случае это будет степень телесности, а
во втором — магическое свойство. Так возникает образ химического эле¬
мента, той разновидности магических субстанций, которая посредст¬
^ Berthe lot М.у Die Chemie im Altertum und Mittelalter (1909). S. 64 ff.
Для металлов «Меркурий» (ртуть) является принципом субстанциального харак¬
тера (блеск, растяжимость, плавкость), а «сульфур» (сера) — принципом таких атрибу¬
тивных свойств, как горение и превращение, ср. Strunz, Gesch. der Naturwiss. im Mitte-
lalter (l910). S. 73 ff.
“* Cp. c. 761, 966.
**** ’
Земля, вода, воздух. Для античного зрения огонь относится сюда же как четвер¬
тый. Он производит сильнейшее зрительное впечатление, и потому античный ум не до¬
пускал сомнения в его телесности.
416 Том 1. ОБРАЗ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
вом таинственной каузальности является из вещей и вновь исчезает в
них и даже подвластна влиянию небесных светил. Алхимия несет в себе
глубокое научное сомнение в скульптурной действительности вещей,
ацата греческих математиков, физиков и поэтов, которые она раство¬
ряет и уничтожает, чтобы отыскать тайну их сущности. Это настоящее
иконоборчество, подобное иконоборчеству ислама и византийских бо¬
гомилов. Здесь открывается глубокое неверие в осязаемый образ, в ко¬
тором является природа, образ, бывший для греков священным. Борь¬
ба по поводу личности Христа на всех ранних соборах, приведшая к не-
сторианскому и монофизитскому расколам, — это есть алхимическая
проблема . Ни одному античному физику не пришло бы в голову иссле¬
довать вещи, отрицая или уничтожая их зримую форму. Поэтому ника¬
кой античной химии не существует, точно также, как не было никакой
античной теории субстанции Аполлона вместо способов его явления.
Химический метод в арабском стиле является знаком нового миро-
сознания. Его открытие связывается с именем загадочного Гермеса
Трисмегиста, который, должно быть, жил в Александрии одновременно
с Плотином и Диофантом, основателем алгебры. С механической ста¬
тикой, аполлоническим естествознанием, разом было покончено. И
опять-таки одновременно с окончательным освобождением фаустов¬
ской математики Ньютоном и Лейбницем также и западная химия *
освободилась от своей арабской формы благодаря Шталю (1660—1734)
с его теорией флогистона. Как одна, так и другая становятся чистым
анализом. Уже Парацельс (1493—1541) преобразовал магическую
склонность к получению золота в научно-фармацевтическую. В этом
ощущается изменение мироощущения. Роберт Бойль (1626—1691) со¬
здал затем аналитический метод, а тем самым и западноевропейское по¬
нятие элемента. Однако не следует обманываться в этом отношении:
то, что принято называть основанием современной химии, эпохи кото¬
рой ознаменованы именами Шталя и Лавуазье, вовсе не представляет
собой разработки «химических» идей, если понимать под ними алхи¬
мические воззрения на природу. Это есть конец химии в собственном
смысле, ее растворение в глобальной системе чистой динамики, ее
включение в то механическое воззрение на природу, которое было
основано Галилеем и Ньютоном в эпоху барокко. Элементы Эмпедок¬
ла обозначают телесное поведение, элементы теории горения Лавуазье
(1777), которая последовала за открытием кислорода (1771), — доступ¬
ную человеческой воле энергетическую систему. «Твердый» и «жид¬
кий» — это теперь обозначения для отношений напряжения между мо¬
лекулами. Наши анализы и синтезы не только вопрошают и уговарива-
Ср. с. 713 слл.
Не игравшая, в отличие от физико-математических исследований, никакой
творческой роли на протяжении столетий готики, несмотря на заслуги испанского до¬
миниканца Арнальда из Виллановы (t 1311).
f ава шестая. Фаустовское и аполлоническое познание природы
417
ют природу, но и ее принуждают. Современная химия — это раздел
современной физики поступка.
То, что мы именуем статикой, химией, динамикой (исторические
обозначения, не имеющие для современного естествознания глубоко¬
го смысла) представляет собой три физические системы аполлониче-
ской, магической и фаустовской души, каждая из которых выросла в
своей культуре, так что и значимость каждой ограничена лишь одной
культурой. Этому соответствуют математика эвклидовой геометрии,
алгебра, высший анализ, а также искусство статуи, арабески, фуги.
Если мы пожелаем различать три вида физики (рядом с которыми вся¬
кая иная культура может и должна была бы поставить еще и свою) по их
представлению о проблеме движения, получится механический поря¬
док состояний, скрытых сил, процессов.
3
В силу же того, что устроенное неизменно по каузальным принци¬
пам человеческое мышление имеет тенденцию сводить картину приро¬
ды к возможно более простым количественным единицам формы, до¬
пускающим причинно-следственное постижение, измерение и исчис¬
ление, короче, механические дистинкции, в античной, западной и
вообще всякой другой возможной физике неизбежно возникает учение
об атомах. Про индийское и китайское учение об атомах нам известно,
что некогда они существовали; арабское отличается такой усложнен¬
ностью, что его изложение представляется ныне совершенно немыс¬
лимым. Что же до аполлонического и фаустовского, между ними суще¬
ствует глубокая символическая противоположность.
Античные атомы представляют собой миниатюрные формы, запад¬
ные же являются наименьшими количествами, а именно количествами
энергии. В первом случае основным условием для образа оказывается
наглядность, чувственная приближенность, во втором же это абстрак¬
ция. Атомистические представления современной физики, к которым
принадлежат также* теория электронов и квантовая теория термодина¬
мики, все в большей и большей степени предполагают то — чисто фа¬
устовское — внутреннее созерцание, которое требуется также во мно¬
гих областях высшей математики, таких, как неэвклидовы геометрии
или теория групп, и недоступно дилетанту. Динамический квант — это
протяженность в отвлечении от любых чувственных качеств, избегаю¬
щая каких бы то ни было взаимодействий со зрением или осязанием,
Для которой выражение «образ» не имеет никакого смысла, т. е. нечто
абсолютно непредставимое для античного естествоиспытателя. Это
справедливо уже применительно к монадам Лейбница, а далее в еще
После того, как уже Гельмгольц попытался объяснить явления электролиза с по¬
мощью допущения атомарной структуры электричества.
^4 Закат Западного мира
418
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
большей степени — к картине, нарисованной Резерфордом в отноше¬
нии тонкой структуры атома (с положительно заряженным ядром и
планетной системой отрицательных электронов), которую Нильс Бор
объединил в новую картину с элементарным квантом действия План¬
ка*. Атомы Левкиппа и Демокрита были различны по форме и величи¬
не, т. е. являлись чисто скульптурными единицами и, как говорит само
слово, «неделимы» лишь с этой точки зрения. Атомы западной физики,
«неделимость» которых имеет совершенно иной стиль, сравнимы с му¬
зыкальными фигурами и темами. Их «сущность» заключается в коле¬
баниях и излучении; их соотношение с природными процессами такое
же, как у мотива с музыкальной композицией *. Античный физик пове¬
ряет внешний вид, западный же — действие этих последних элементов
картины ставшего. Это и означают такие фундаментальные понятия,
как материя и форма там и емкость и напряженность — здесь.
Есть стоицизм атома и социализм атома. Таковы определения ста-
тически-скульптурного и динамически-контрапунктического пред¬
ставления об атоме, во всяком законе, во всякой дефиниции которых
ощущается родство с образованиями соответствующей этики. Множе¬
ство неупорядоченных атомов Демокрита, разбросанных и покорных,
толкаемых и гонимых — подобно Эдипу — слепым случаем, который
Демокрит, как и Софокл, называл ал>аукг)\ и в противоположность это¬
му действующие как единое целое системы абстрактных силовых то¬
чек, агрессивных, энергетически (как «поле») властвующих над про¬
странством и преодолевающих сопротивление — подобно Макбету. На
основе этого базового ощущения и возникли обе механические карти¬
ны природы. Согласно Левкиппу, атомы летают в пустоте «сами по
себе»; Демокрит принимает в качестве формы смены положения иск¬
лючительно толчок и противотолчок; Аристотель объявляет единич¬
ные движения случайными; у Эмпедокла встречаются обозначения
«любовь» и «ненависть», у Анаксагора — схождение и расхождение. Все
это оказывается также и элементами античной трагедии. Так ведут себя
фигуры на сцене аттического театра. А значит, это также и формы су¬
ществования античной политики. Мы обнаруживаем здесь эти крохот¬
ные городки, политические атомы, длинными цепочками рассеянные
по островам и берегам, каждый из которых ревностно стоит сам за себя
и тем не менее вечно нуждается в поддержке, каждый завершен в самом
себе и своенравен до карикатурности, будучи бросаем из стороны в
сторону лишенными плана и порядка событиями античной истории:
нынче он высоко вознесен, а назавтра изничтожен. А в противополож¬
ность им мы видим династические государства XVII и XVIII вв., поли¬
тические силовые поля, далеко прозревающие из центров действия ка¬
бинетов и великих дипломатов, управляемые и руководимые согласно
плану. Лишь по этой противоположности той и другой души нам ста-
* Вот М.у Aufbau der Materie (1920). S. 27.
Cp. т. 1, гл. 4, раздел 4.
f ава шестая. Фаустовское и аполлоническое познание природы
419
ловится понятен дух античной и западной истории; также и атомисти¬
ческая базовая картина той и другой физики становится понятной
лишь из этого сопоставления. Галилей, создавший понятие силы, и
представители милетской школы, которым принадлежит понятие рх,
Демокрит и Лейбниц, Архимед и Гельмгольц — современники, члены
одной и той же духовной ступени совершенно разных культур.
Однако внутреннее родство атомной теории и этики идет и дальше.
Уже было показано, что фаустовская душа, чье бытие — в преодолении
видимости, чье чувство — одиночество, что эта душа, тоскующая по
бесконечности, вкладывает эту свою потребность в отшельничестве,
дали, обособленности во все свои реалии, в свой социальный, духов¬
ный и художественный мир форм. Этот пафос дистанции, если воспо¬
льзоваться выражением Ницше168, чужд именно античности, в которой
все человеческое нуждается в близости, опоре и общности. Это отлича¬
ет дух барокко от духа ионики, культуру ancien regime — от культуры пе-
рикловых Афин. И этот пафос, разделяющий героического деятеля и
героического страстотерпца, вновь обнаруживается в картине запад¬
ной физики: как напряжение. Это то, чего не было в воззрениях Демо¬
крита. Принцип толчка и противотолчка содержит отрицание господ¬
ствующей в пространстве, тождественной с ним силы. Соответственно
в картине античной души отсутствует момент воли. Между античными
людьми, государствами, мировоззрениями не существует никакого
внутреннего напряжения, несмотря на свары, зависть и ненависть, ни¬
какой глубинной потребности в дистанции, одиночестве, превосходст¬
ве, — а значит, не существует их и между атомами античного космоса.
Принцип напряжения (развиваемый в теории потенциала), который
абсолютно непереносим в античные языки, а значит, и в мышление,
стал основополагающим в современной физике. В нем содержится
следствие из понятия энергии, воли к власти в природе, и потому он
столь же неизбежен для нас, как невозможен для античного человека. 44
Всякое учение об атомах, в соответствии с этим, представляет собой
миф, а вовсе не опыт. В нем культура открывает самой себе свою сокро¬
веннейшую сущность — посредством формирующей теоретической
силы своих великих физиков. То, что существует протяженность как
таковая, вне зависимости от чувства формы и мироощущения познаю¬
щего субъекта, — это критический предрассудок. Мы полагаем, что в
состоянии исключить жизнь; мы забываем, что познание так же отно¬
сится к познанному, как направление — к протяженности, и что только
Живое направление расширяет воспринятое в глубину и в даль, до про¬
странства. «Познанная» структура протяженного — это символ позна¬
ющего существа.
420 Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Выше уже было указано* на решающее значение переживания глуби¬
ны, тождественного с пробуждением души, а значит, с сотворением от¬
носящегося к ней внешнего мира. Соответственно в простом восприя¬
тии чувств имеется лишь длина и ширина; посредством живого, осуще¬
ствляющегося с глубочайшей необходимостью акта истолкования,
который, как и все живое, обладает направлением, подвижностью, не¬
обратимостью (сознание этого и составляет настоящее содержание
слова «время») сюда прибавляется глубина, а тем самым создается дей¬
ствительность, мир. Сама жизнь включается в пережитое как третье из¬
мерение. Двойной смысл слова «даль», как будущее и как горизонт, об¬
наруживает глубокий смысл этого измерения, которое только и вызы¬
вает на свет протяжение как таковое. Оцепеневшее, только что
прошедшее становление — это ставшее, оцепеневшая, только что про¬
шедшая жизнь — это пространственная глубина познанного. Декарт и
Парменид сходятся в том, что мышление и бытие, т. е. представленное
и протяженное, тождественны. Cogito, ergo sum [я мыслю, следователь¬
но, существую (лат.)] — это всего только формулировка переживания
глубины: «Я познаю, следовательно, я в пространстве». Однако в стиле
этого познания, а значит, и познанного, приобретает значение пра-
символ отдельной культуры. Осуществленное протяжение обладает в
античном сознании чувственно-телесным присутствием, в западном
же ему присуща нарастающая пространственная трансцендентность,
так что постепенно разрабатывается цельная внечувственная поляр¬
ность емкости и напряженности в отличие от антично-зрительной по¬
лярности материи и формы.
Однако из этого следует, что в пределах познанного о живом време¬
ни еще не может даже идти речи. Оно уже вошло в познанное, в «бы¬
тие», в качестве глубины, так что длительность, т. е. вневременность, и
протяженность тождественны между собой. Только познание обладает
свойством направления. Физическое, мыслимое, измеримое время,
чистое измерение — это ошибка. Спрашивается лишь, можно ли ее из¬
бежать или нет. Заменим в первом попавшемся физическом законе
«время» на «судьбу» — и мы почувствуем, что в рамках чистой «приро¬
ды» о времени нет и речи. Мир форм физики простирается вдаль ровно
на столько же, на сколько родственные ему миры чисел и понятий, а
мы уже видели, что, несмотря на Канта, между математическим чис¬
лом и временем не существует даже самомалейшей связи какого бы то
ни было рода. Однако этому противоречит факт движения в картине
окружающего мира. Это нерешенная и неразрешимая проблема элеа-
тов. Бытие или мышление несовместимы с движением. Движения
«нет» (оно — «кажимость»).
И здесь естествознание во второй раз делается догматическим и ми¬
фологическим. Для того, кто пользуется словами «время» и «судьба» по
наитию, ими затрагивается жизнь в глубиннейшей ее сути, вся жизнь,
* Ср. т. 1, гл. 3, раздел 4.
fyaeo шестая. Фаустовское и аполлоническое познание природы
421
которую невозможно отделить от пережитого. Однако физика, т. е. на¬
блюдающий рассудок, обязана их разделить. Пережитое «само по себе»,
мыслимое отделенным от живого акта наблюдателя, ставшее объек¬
том, мертвое, неорганическое, косное — вот что теперь такое «приро¬
да», нечто подлежащее исчерпанию средствами математики. В этом
смысле познание природы — это измерительная деятельность. И все же
мы живем даже и тогда, когда наблюдаем, а значит, с нами живет и на¬
блюдаемое. Та черта в картине природы, благодаря которой она не то¬
лько «есть», от мгновения к мгновению, но и единым непрерывным
потоком «становится» вокруг нас и с нами вместе — это знак взаимной
принадлежности бодрствующего существа и его мира. Эта черта имену¬
ется движением, и она противоречит природе как картине. Она пред¬
ставляет собой историю этой картины, и отсюда следует: точно так же,
как посредством словесного языка наше понимание отвлекается от
восприятия, как математическое пространство — от световых сопро¬
тивлений, «вещей»*, так же точно и физическое время отвлекается от
впечатления движения.
«Физика» исследует «природу». Следовательно, время известно ей
только как отрезок. Однако сам-то физик «как таковой» живет посреди
истории этой природы. Поэтому он вынужден понимать движение как
математически устанавливаемую величину, как именование получен¬
ных в эксперименте и сведенных в формулы чистых чисел. «Физика
есть полное и простое описание движений» (Кирхгоф). Ее намерение
всегда было таковым. Речь, однако, идет не о движении на картине, но
о движении самой картины. Движение в рамках физически понимае¬
мой природы представляет собой, не что иное, как метафизическое не¬
что, посредством которого только и возникает сознание следования
одного за другим. Познанное лишено времени и чуждо движению. Это
означает «ставшесть». Из органической последовательности познанного
возникает впечатление движения. Содержание этого слова затрагивает
физика не в качестве «рассудка», но как цельного человека, постоянной
функцией которого является не «природа», но весь мир. Однако это
есть мир как история. «Природа» — это выражение соответствующей
культуры**. Вся физика представляет собой трактовку проблемы дви¬
жения, в которой содержится проблема самой жизни, и не так, словно
она будет однажды разрешена, но несмотря на то, что она неразрешима
и именно в силу этого. Тайна движения пробуждает в человеке страх
смерти***.
Исходя из того, что познание природы представляет собой утончен¬
ный род самопознания (если понимать природу как отображение, как
зеркало человека), попытка разрешить проблему движения есть попыт¬
ка познания выйти на след своей собственной тайны, своей судьбы.
* Ср. С. 289.
**
^ Ср. т. 1, гл. 3, раздел 3 (начало).
Ср. т. 1, гл. 2, раздел 2.
422
Том]. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
5
Удасться это может исключительно физиономическому такту, ког¬
да он становится творческим, а это испокон века происходит в искусст¬
ве, прежде всего в трагической поэзии. Движение приводит в замеша¬
тельство лишь мыслящего человека; для созерцающего оно разумеется
само собой. Полной системой механического созерцания природы яв¬
ляется, однако, не физиономика, но именно система, т. е. чистая про¬
тяженность, упорядоченная логически и численно, никак не живая, но
нечто ставшее и мертвое.
Гёте, который был поэтом, а не счетчиком, заметил поэтому: «У
природы нет никакой системы; у нее есть, т. е. она сама есть жизнь и
последовательность от неизвестного центра к непознаваемому преде¬
лу»169. Однако для того, кто не переживает природу, но ее познает, она
имеет систему; если она — система и ничего сверх этого, то, следовате¬
льно, движение в ней является противоречием. Она может его скрыть
посредством искусственной формулировки, однако в фундаменталь¬
ных понятиях оно продолжает сохраняться. Толчок и противотолчок
Демокрита, энтелехия Аристотеля, понятие силы от impetus's, окками-
стов ок. 1300 г. и вплоть до элементарных квантов действия теории из¬
лучения начиная с 1900 г. — все они содержат это противоречие. Стоит
обозначить движение в рамках физической системы как ее старение (и
в самом деле, она старится, а именно как переживание наблюдателя),
как мы явственно ощутим нечто роковое в слове «движение» и во всех
выведенных из него представлениях с их неуничтожимым органиче¬
ским содержанием. Механика не должна была бы иметь со старением, а
значит, и с движением, ничего общего. Итак (поскольку без проблемы
движения естествознание вообще немыслимо), никакой лишенной
пробелов, замкнутой в самой себе механики быть не может; где-то все¬
гда имеется органическая отправная точка системы, там, где вторгается
непосредственная жизнь — пуповина, которой дитя духа связано с ма¬
теринским телом, мыслимое — с мыслящим.
Здесь мы узнаем основы фаустовского и аполлонического познания
природы с совершенно иной стороны. Никакой чистой природы не су¬
ществует. Во всякой содержится нечто от сущности истории. Если че¬
ловек аисторичен, как грек, все впечатления которого от мира оказы¬
ваются впитанными чистым, точечным настоящим, картина природы
становится статичной, завершенной в самой себе в каждый отдельный
миг, а именно по отношению к прошлому и будущему. В греческой фи¬
зике повстречать время — такая же редкость, как в аристотелевском
понятии энтелехии. Если же человек имеет исторические задатки, воз¬
никает динамическая картина. Число, предельное значение ставшего,
становится в аисторическом случае мерой и величиной, в историческом
же — функцией. Мы измеряем только наличное и прослеживаем течение
только чего-то такого, что имеет прошлое и будущее. Вот различие, за
шестая. Фаустовское и аполлоническое познание природы
423
Гла&
счет которого внутреннее противоречие в проблеме движения оказы¬
вается в античном построении теорий скрытым, в западном же изгоня¬
ется прочь.
История — это вечное становление, а значит, вечное будущее; приро¬
да уже стала, а значит, она — вечное прошлое. Следовательно, здесь
имел место необычный переворот: первенство становления перед став¬
шим представляется упраздненным. Дух, оглядывающийся назад из
своей сферы, из ставшего, переворачивает воззрение на жизнь; из идеи
судьбы, содержащей в себе цель и будущее, возникает механический
принцип причины и следствия, центр тяжести которого лежит в про¬
шлом. Дух по своему рангу приходит на смену временнбй жизни и про¬
странственно пережитому, и помещает время как отрезок в простран¬
ственную систему мира. В то время как из направления следует протя¬
жение, из жизни же — пространственное как миропострояющее
переживание, человеческий разум помещает жизнь как процесс в свое
закосневшее, представляемое пространство. Для жизни пространство
представляет собой нечто относящееся к жизни как функция, для духа
же жизнь — это нечто в пространстве. Судьба означает «куда», каузаль¬
ность — «откуда». Научно обосновать — это значит, исходя из ставшего
и осуществленного, отыскивать «основания», когда понимаемый ме¬
ханически путь (становление как отрезок) будет прослеживаться в об¬
ратном направлении. Однако проживать его в обратном направлении
невозможно, а можно лишь в обратном направлении мыслить. Обрати¬
мы не время и не судьба, но лишь то, что называет временем физик, что
он вводит в свои формулы как делимые, а подчас отрицательные или
мнимые «величины».
Затруднение снова и снова дает о себе знать, пусть даже о его проис¬
хождении и необходимости мало кто догадывается. Элеаты в рамках
античного познания природы противопоставили необходимость мыс¬
лить природу в движении тому логическому усмотрению, что мышле¬
ние есть бытие, т. е. познанное и протяженное тождественны между со¬
бой, а значит, познание и становление несовместимы. Их возражения
так и не были опровергнуты, да они и неопровержимы, однако это ни¬
сколько не воспрепятствовало развитию античной физики, без кото¬
рой аполлоническая душа не может обойтись как без своего выраже¬
ния, а потому она превыше логических противоречий. В рамках осно¬
ванной Галилеем и Ньютоном классической механики барокко
неизменно отыскивалось безупречное решение в динамическом смыс¬
ле. История понятия силы представляет собой не что иное, как исто¬
рию попыток математически и понятийно, причем безостаточно, за¬
фиксировать движение. А тот факт, что силе дают все новые и новые
определения, является характерной особенностью мышления, пола¬
гавшего, что затруднения эти ставят под сомнение его самого. Послед-
Ср. т. 1, гл. 2, раздел 18.
424
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
нюю значительную попытку, которая, как и все предыдущие, неизбеж¬
но потерпела неудачу, мы имеем в механике Герца.
Герц попытался, не отыскивая самого источника всех затруднений
(это до сих пор не удалось ни одному физику), вообще исключить по¬
нятие силы, поскольку обоснованно ощущал, что ошибку всякой меха¬
нической системы следует отыскивать в одном из фундаментальных
понятий. Он хотел выстроить картину физики лишь из величин време¬
ни, пространства и массы, однако он не заметил, что как раз само-то
время, которое как фактор направления входит в понятие силы, было
органическим элементом, без которого динамическая теория выражена
быть не может, но с которым чистое решение недостижимо. Помимо
же этого понятия сила, масса и движение образуют догматическое
единство. Они так обусловливают друг друга, что применение одного
уже незримо включает два других. В античном пра-слове apxq содер¬
жится вся проблема движения в ее аполлоническом аспекте, в понятии
же силы — она же в аспекте западном. Понятие массы — лишь допол¬
нение к понятию силы. Ньютон, глубоко религиозная натура, только
выразил фаустовское мироощущение, когда он, чтобы сделать понят¬
ным смысл слов «сила» и «движение», говорил о массах как точках при¬
ложения силы и носителях движения. Так понимали Бога и его отно¬
шение к миру мистики XIII в. Своим знаменитым «hypotheses non fingo»
[гипотез я не измышляю (лат.)] Ньютон отверг метафизический эле¬
мент, однако его обоснование механики насквозь метафизично. В ме¬
ханической картине природы западного человека сила является тем же,
что воля в его картине души и бесконечное божество — в его картине
мира. Фундаментальные идеи этой физики были установлены задолго
до того, как на свет появился первый физик; они содержались в наибо¬
лее раннем религиозном миросознании нашей культуры.
6
Тем самым раскрывается также и религиозное происхождение фи¬
зического понятия необходимости. Речь идет о механической необхо¬
димости в том, чем мы духовно обладаем как природой, и не следует за¬
бывать, что в основе этой необходимости лежит другая, органическая,
судьбоносная необходимость самой жизни. Последняя формирует,
первая ограничивает; та следует из внутренней несомненности, а эта из
доказательства: вот различие между трагической и технической, исто¬
рической и физической логикой.
Впрочем, в рамках необходимости, которой требует и которую
предполагает естествознание, а именно причинно-следственной необхо¬
димости, имеются и иные различия, до сих пор ускользавшие от чьего
бы то ни было внимания. Речь здесь идет о весьма непростых сообра¬
жениях, имеющих колоссальное значение. Познание природы являет-
425
f авй шестая. Фаустовское и аполлоническое познание природы
ся производной познания в определенном стиле, вне зависимости от
того, как эта взаимозависимость будет описываться философией. Так
что естественная, природная необходимость имеет стиль соответству¬
ющего ей духа, и здесь-то начинаются историко-морфологические раз¬
личия. Можно усматривать в природе строгую необходимость, без
того, однако, чтобы она дала себя выразить в законах природы. По¬
следнее само собой разумеется для нас, но не для людей иных культур,
и это предполагает совершенно особую и характерную для фаустовско¬
го духа форму понимания вообще, а тем самым — также и познания
природы. Существует ведь и такая возможность, что механическая не¬
обходимость будет иметь такую форму, при которой каждый отдель¬
ный случай будет морфологически обособлен, ни один из них не будет
в точности повторяться, так что познание невозможно будет уложить в
постоянно значимые формулы. Природа явится нам тогда в таком
виде, который можно себе представить, например, по аналогии с бес¬
конечными, однако непериодическими десятичными дробями в отли¬
чие от дробей чисто периодических. Именно так, вне всякого сомне¬
ния, виделось это античности. Соответствующее ощущение явно ле¬
жит в основе ее физических пра-понятий. Собственное движение
атомов, например, у Демокрита, представляется таким, что предвари¬
тельный расчет движений исключается.
Законы природы — это формы познанного, в которых совокупность
единичных случаев оказывается включенной в единство высшего по¬
рядка. Живое время в расчет не принимается, т. е. безразлично, имеет
ли вообще данное событие место, когда и как часто оно наступает, и
речь здесь идет не о хронологическом следовании одного за другим, но
о математическом выведении одного из другого*. Однако в сознании
того, что никакая сила в мире не может потрясти этот расчет, заложена
наша воля к господству над природой. Это по-фаустовски. Лишь с дан¬
ной точки зрения чудо представляется нарушением законов природы.
Магический человек усматривает в чуде только обладание властью, ко¬
торая имеется не у каждого, при том, что никакого противоречия с
«природой» здесь нет. А античный человек, согласно Протагору, был
только мерой, но не творцом вещей. Тем самым он бессознательно от¬
казывается от преодоления природы посредством открытия законов и
их применения.
Тут-то и обнаруживается, что принцип каузальности в той его фор¬
ме, в какой он представляется нам чем-то само собой разумеющимся и
необходимым и в какой его как фундаментальную истину единогласно
трактуют математика, физика и теория познания, — это западное, а
точнее, барочное явление. Он не может быть доказан, потому что вся¬
кое доказательство на западном языке и всякий опыт западного духа
Уже его предполагают. Всякая постановка проблемы уже предполагает
ее разрешение. Научный метод — это и есть сама наука. Нет сомнения в
Ср. т. 1, гл. 2, раздел 9.
426
Том L ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
том, что в понятии закона природы и в существующем со времен Родже¬
ра Бэкона представлении о физике как scientia experimentalis [экспери¬
ментальная наука (лат.)] уже содержится этот особый вид необходи¬
мости. Между тем в античном способе видения природы (своего рода
alter ego античного способа бытия) необходимости не содержится, без
того, однако, чтобы по этой причине как-то обнаружились логические
промахи в естественно-научных положениях. Когда мы вдумчиво про¬
смотрим высказывания Демокрита, Анаксагора и Аристотеля, содер¬
жащие всю совокупность античных воззрений на природу, но в первую
очередь после того, как уясним содержание столь разных понятий, как
aXXoicoois, avayKrj или evreXeyetа [изменение, необходимость и энтеле-
хия (греч.)], мы с изумлением обнаружим устроенную совершенно ина¬
че, замкнутую в себе, а значит, несомненно истинную для определен¬
ного сорта людей картину мира, в которой о каузальности в нашем
смысле нет и речи.
Алхимик и философ арабской культуры также исходит из предполо¬
жения глубокой необходимости в пределах мировой пещеры, необхо¬
димости, которая целиком и полностью отличается от динамической
каузальности. Никакой причинно-следственной связи в закономер¬
ной форме не существует, а есть лишь одна причина, Бог, которая ле¬
жит непосредственно в основе всякого действия. Верить в законы при¬
роды значило бы сомневаться во всемогуществе Бога. Если возникает
видимость какого-то правила, значит так было угодно Богу; тот же, кто
сочтет это правило необходимым, был введен в искушение лукавым.
Именно так воспринимали это Карнеад, Плотин и неопифагорейцы**,
и эта необходимость лежит в основе как Евангелий, так и Талмуда с
Авестой. На ней основана техника алхимии.
Число как функция связано с динамическим принципом причины и
следствия. Оба они являются порождениями одного и того же духа,
формами выражения одной душевности, формирующими основами
одной и той же ставшей объектом природы. В самом деле, физика Де¬
мокрита отличается от физики Ньютона тем, что первая избирает в ка¬
честве отправной точки оптически данное, вторая же — разработанные
на его основе абстрактные отношения. «Факты» аполлонического по¬
знания природы — это вещи, и они лежат на поверхности познанного;
«факты» фаустовского познания природы — отношения, вообще недо¬
ступные взгляду дилетанта, которые вначале следует еще духовно заво¬
евать, в конце же, чтобы их сообщить, необходим тайный язык, понят¬
ный в полном рбъеме лишь знатоку естествознания. Античная статич¬
ная необходимость непосредственно содержится в переменчивых
явлениях; динамический каузальный принцип располагает властью по
ту сторону вещей, ослабляя или усиливая их чувственную реальность.
" Ср. с. 761.
GoldziherJ., Die islam. und jiid. Philosophic (Kultur der Gegenwart I, V, 1913). S. 306 f.
f ава шестая. Фаустовское и аполлоническое познание природы
427
Спросим себя,какое значение связывается ныне, при условии наличия
всех современных теорий, с понятием «магнит».
Принцип сохранения энергии, который после установления его
jO р. Майером с полной серьезностью рассматривается в качестве
логически необходимого, на самом деле представляет собой перефор¬
мулировку динамического каузального принципа посредством физи¬
ческого понятия силы. Ссылка на «опыт» и споры вокруг того, являет-
сялиданное положение логически необходимым или эмпирическим,
а значит, истинно ли оно, в соответствии с обозначениями Канта (ко¬
торый очень сильно заблуждался насчет расплывчатой границы меж¬
ду тем и другим), a priori или же a posteriori, характерны для устройства
западного мышления. Согласно нашим представлениям, «опыт» во¬
обще является наиболее естественным и недвусмысленным источни¬
ком точной науки. Эксперимент фаустовского рода, который осно¬
вывается на рабочей гипотезе и пользуется измерительными метода¬
ми, представляет собой не что иное, как систематическое и
исчерпывающее использование этого опыта. Однако никому и ни¬
когда не доводилось замечать, что такое понятие опыта с его динами¬
ческим и наступательным содержанием уже включает в себя целое
мировоззрение и что опыта в таком весьма специальном смысле для
людей иных культур не существует и существовать не может. Если мы
воздерживаемся от того, чтобы признать научные выкладки Анакса¬
гора или Демокрита в качестве результатов подлинного опыта, это во¬
все не означает, что эти античные люди не были способны интерпре¬
тировать свои наблюдения, что они разрабатывали чистые фанта¬
зии, — но что нам недостает в их обобщениях именно того
каузального момента, в котором для «ас заключается весь смысл слова
«опыт». Очевидно, никто до сих пор в достаточной мере не размыш¬
лял о своеобразии этого чисто фаустовского понятия. Характерным
для него моментом является не лежащая на поверхности противопо¬
ложность вере. Наоборот, по своей структуре точный чувственно-ду¬
ховный опыт полностью идентичен с тем, что узнавали глубоко рели¬
гиозные натуры Запада, например, Паскаль, бывший математиком и
янсенистом в силу точно такой же внутренней необходимости, но уз¬
навали, пожалуй в качестве опыта сердца, как озарение в наиболее
значительные моменты их существования. Опыт означает для нас та¬
кую деятельность духа, которая не ограничивается сиюминутными и
чисто наличными впечатлениями, не мирится с ними как данностью,
чтобы их признать и упорядочить, но выискивает их и вызывает на
свет, чтобы преодолеть их в чувственном настоящем и привести к без¬
граничному единству, с помощью которого их очевидная разобщен¬
ность будет упразднена. То, что мы зовем опытом, обладает устрем¬
ленностью от единичного к бесконечному. Именно в силу этого он про¬
тиворечит античному ощущению природы. То, как мы получаем
°пыт, представится греку способом его утратить. По этой причине на¬
428
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
сильственные методы экспериментирования остаются от него дале¬
ки. По этой причине вместо мощной системы разработанных абст¬
рактных законов и формул, которая насилует и подчиняет чувствен¬
ную данность (только знание — сила!), грек под именем физики
обладал совокупностью хорошо упорядоченных впечатлений, чувст¬
венно подкрепленных образами, а вовсе ими не упраздненных, при¬
чем совокупность эта оставляла природу в ее совершенном существо¬
вании незатронутой. Наше точное естествознание императивно, ан¬
тичное же — decjopia в буквальном смысле этого слова, результат
пассивной созерцательности.
7
Не остается больше никаких сомнений: мир форм естествознания
полностью согласуется с соответствующим миром форм математики,
религии и изобразительных искусств. Глубокий математик (не искус¬
ный счетчик, но всякий человек, живо ощущающий в себе дух чисел)
понимает, что тем самым он «знает Бога». Пифагор и Платон знали это
так же хорошо, как Паскаль и Лейбниц. В своих посвященных Цезарю
исследованиях по древней римской религии Теренций Варрон с чисто
римской четкостью различает theologia civilis [гражданскую теологию
(лат,)], совокупность признанных в обществе верований, от theologia
mythica [мифической теологии], представлений поэтов и художников,
и от theologiaphysica [физической теологии], т. е. философских мудрст¬
вований. Если перенести это на фаустовскую культуру, к первому раз¬
ряду будет относиться то, чему учили Фома Аквинский и Лютер, Каль¬
вин и Лойола, ко второму — Данте и Гёте, к третьему же научная физи¬
ка, поскольку она вкладывает в свои формулы образы.
Не только первобытный человек и ребенок, но и высшие животные
на основе крошечных повседневных опытов совершенно самостояте¬
льно создают такую картину природы, которая содержит совокупность
технических знаков, повторяющихся, как было замечено, все время.
Орел «знает», в какое мгновение он должен стремительно пасть на до¬
бычу; сидящая на яйцах певчая птица «узнает» о близости куницы;
дичь «отыскивает» места, обильные кормами. Этот совокупный опыт
чувств сузился и углубился у человека до зрительного опыта. Но поско¬
льку теперь к этому прибавляется еще обыкновение выражаться сло¬
весно, понимание оказывается отвлеченным от зрения и продолжает
теперь формироваться самостоятельно: к мгновенно понимающей
технике добавляется теория, представляющая собой размышление.
Техника направлена на зримую близь и естественную потребность. Те¬
ория обращается вдаль, на созерцание невидимого. К мелкому повсед¬
невному знанию теория присоединяет веру, и тем не менее она еще
разрабатывает новое знание и новую технику высшего порядка: к мифу
f ово шестая. Фаустовское и аполлоническое познание природы
429
оибавляется культ. Если первый учит познавать numina, то второй —
их заклинать. Ибо теория в возвышенном смысле насквозь религиоз¬
на Лишь на весьма поздних стадиях, по мере того, как методы осозна¬
ются, из религиозной теории развивается естественно-научная. Кроме
этого мало что меняется. Образный мир физики остается мифом, ее
процедуры остаются заклинающим присутствующие в вещах силы ку¬
льтом, характер же образов и процедур сохраняет свою зависимость от
соответствующей религии*.
Со времен позднего Возрождения представление о Боге в уме всех
значительных людей становится все более похожим на идею чистого,
бесконечного пространства. Бог, подразумеваемый «Exercitia spiritua-
Иа» [духовное упражнение (лат.)] Игнатия Лойолы, — это также и Бог
лютерова песнопения «Господь нам — крепость и оплот», импроперий
Палестрины и кантат Баха. Он более не Отец Франциска Ассизского и
соборов с высокими сводами, как воспринимали его художники готи¬
ки, такие как Джотто и Стефан Лохнер, — лично присутствующего, за¬
ботливого и милостивого, но безличный принцип, непредставимый,
непостижимый, таинственно действующий в бесконечности. Все, что
оставалось здесь от личности, растворяется в невообразимой абстрак¬
ции, такой идее Бога, подражание которой осталось под конец под
силу лишь инструментальной музыке большого стиля, между тем как
живопись XVIII в. спасовала и отошла на задний план. Это чувство
Бога сформировало естественно-научную картину мира Запада, нашу
природу, наш «опыт», а тем самым и наши теории и методы в противо¬
положность тем, которыми располагал античный человек. Сила, дви¬
гающая массой: вот что написал Микеланджело на сводах Сикстин¬
ской капеллы; вот что, со времён образца Иль Джезу, возвысило до не¬
обузданной выразительности фасады соборов Делла Порты и
Мадерны; вот что, после Генриха Шютца, привело к проясненным зву¬
ковым мирам церковной музыки XVIII в.; вот что в качестве событий в
мире наполняет собой расширенные в бесконечность сцены в трагеди¬
ях Шекспира; и вот что, наконец, вколдовали в свои формулы и поня¬
тия Галилей и Ньютон.
Слово «Бог» звучит под сводами готических соборов и на монастыр¬
ских дворах Маульбронна и Санкт-Галлена иначе, нежели в базиликах
Сирии и в храмах республиканского Рима. В лесоподобности собора, в
мощном возвышении среднего нефа над боковыми в противополож¬
ность базилике с ее плоской крышей, в превращении колонн, которые
благодаря базе и капители устанавливались в пространстве как завер¬
шенные, обособленные предметы, в пилоны и пучки пилонов, которые
вырастают из земли и чьи ветви и линии делятся и переплетаются в бес¬
конечности, перевалив через вершину, между тем как от растворивших
в себе стену колоссальных окон через пространство льется зыбкий
свет, — все это заключает в себе архитектоническое осуществление
*
Ср. т. 2, гл. 1, раздел 6.
430 Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
того мироощущения, которое отыскало свой наиболее изначальный
символ в высокоствольном лесе северных равнин. А именно в листвен¬
ном лесу с исполненной таинственности путаницей его ветвей и с ше¬
лестом вечно подвижных масс листьев над головой наблюдателя, высо¬
ко над землей, от которой макушка пытается оттолкнуться стволом.
Снова вспомним романскую орнаментику и ее глубокую связь с идеей
леса. Бесконечный, уединенный, сумеречный лес так и остался тайной
страстью всех западных архитектурных форм. Поэтому стоит лишь
ослабнуть энергии стилевых форм, будь то в поздней готике или на ис¬
ходе барокко, как сдержанный абстрактный язык линий вновь непо¬
средственно распадается в натуралистический узор из ветвей, усиков,
побегов и листьев.
Кипарисы и пинии производят телесное, эвклидовское впечатле¬
ние; они никогда не смогли бы сделаться символами бесконечного
пространства. Дуб, бук и липа с блуждающими пятнами света в напол¬
ненных тенью пространствах создают впечатление бестелесности, бес¬
предельности, духовности. В четкой колонне массы иголок ствол кипа¬
риса обретает совершенное завершение своей вертикальной направ¬
ленности; дуб же, как кажется, бесплодно и неутомимо стремится за
пределы своей макушки. В ясене, надо полагать, устремленным вверх
ветвям также удается одержать победу над слитностью кроны. В том,
как они выглядят, есть какая-то раскованность, видимость свободного
распространения в пространстве и, возможно, поэтому Мировой ясень
стал символом северной мифологии. Шум леса, волшебство которого
осталось так никогда и не воспринятым ни одним античным поэтом, с
его заветным вопросом «куда» и «откуда», с его погружением мгнове¬
ния в вечность, находится в глубинной связи с судьбой, с ощущением
истории и длительности, с фаустовским мрачно озабоченным направ¬
лением души в бесконечно далекое будущее. Поэтому-то орган, глубо¬
кое и светлое гудение которого наполняет наши церкви, чье звучание, в
противоположность ясным, пастозным тонам античных лиры и флей¬
ты, обладает чем-то безграничным и неизмеримым, сделался инстру¬
ментом нашего благоговения. Собор и орган образуют такое же симво¬
лическое единство, как храм и статуя. История изготовления органов,
одна из самых глубокомысленных и трогательных глав истории нашей
музыки, — это история томления по лесу, по языку этого подлинного
храма западного богопочитания. Начиная со звучания стихов Воль¬
фрама фон Эшенбаха и вплоть до музыки «Тристана» это томление
оставалось неизменно плодотворным. Устремление звучания оркестра
в XVIII в. было неизменно направлено на то, чтобы как можно ближе
подойти к звуку органа. Слово «парящий», не имеющее никакого
смысла применительно к античным вещам, играет в равной степени
важную роль в теории музыки, в масляной живописи, в архитектуре, в
динамической физике барокко. Стоя посреди высокого леса, между
шестая. Фаустовское и аполлоническое познание природы
431
Глава
могучих стволов, и слыша, как над тобой разыгрывается буря, ты вне¬
запно понимаешь смысл идеи силы, которая движет массу.
Так из пра-чувства ставшего задумчивым бытия возникает все более
определенное представление о Божественном во внешнем мире. По¬
знающий воспринимает впечатление движения во внешней природе.
Он ощущает вокруг себя с трудом поддающуюся описанию чуждую
жизнь неизвестных сил. Он возводит происхождение этих воздействий
к numina, к «иному», постольку поскольку оно также обладает жизнью.
Из изумления чужим движением возникают религия и физика. Они со¬
держат истолкование природы или картины окружающего мира в од¬
ном случае посредством души, в другом — посредством рассудка.
«Силы» оказываются первым объектом как поклонения — боязливого
или любящего — так и критического исследования. Существуют опыт
религиозный и опыт научный.
Следует, однако, обращать пристальное внимание на то, каким об¬
разом сознание отдельных культур духовно сгущает первоначальные
numina. Оно обкладывает их полными смысла словами, именами, и та¬
ким образом их околдовывает (постигает и ограничивает). Тем самым
они оказываются подчиненными духовной мощи человека, который
властен над именем. А ведь уже говорилось, что вся философия, все ес¬
тествознание, вообще все, что находится в какой-либо связи с «позна¬
нием», в конечном итоге представляет собой не что иное, как беско¬
нечно утонченный способ применять к «чуждому» связанные с именем
чары первобытного человека. Произнесение верного имени (в физике —
верного понятия) — это заклинание. Так что божества и фундамента¬
льные научные понятия возникают вначале как имена, к которым об¬
ращаются и с которыми связывается все более определенное в чувст¬
венном плане представление. Какое раскрепощающее волшебство со¬
держится для многих ученых людей уже в простом произнесении таких
слов, как «вещь как она есть», «атом», «энергия», «сила тяжести», «при¬
чина», «развитие»! То же самое чувство охватывало и латинских кресть¬
ян в связи со словами Церера, Коне, Янус, Веста*.
Для античного мироощущения, в соответствии с аполлоническим
переживанием глубины и его символикой, единичное тело и было бы¬
тием. Так что вполне логично, что его представлявшийся на свету образ
воспринимался как нечто сущностное, как подлинный смысл слова
«бытие». Того, что не имеет образа и не есть образ, вообще не существу¬
ет. Исходя из этого базового ощущения, мощь которого невозможно
преувеличить, античный ум создал в качестве противопонятия * к обра¬
зу — «иное», не-образ, материю, архч или ЯЛт?, то, что как таковое вооб¬
ще не обладает бытием и лишь в качестве дополнения к действительно
Можно утверждать, что несокрушимая вера, которую, например, Геккель связы¬
вал со словами атом, материя, энергия, не особенно-то отличается от фетишизма неан¬
дертальца.
** Ср. с. 296.
432 Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
сущему представляет собой добавочную, вторичную необходимость.
Становится понятно, как должен был образовываться античный мир
богов. Наряду с людьми они являют собой высшее человечество: это
более совершенно оформленные тела, возвышеннейшие возможности
телесно-присутствующей формы; в несущественном же, по материи,
они ни в чем не отличаются, а значит, покорны той же самой космиче¬
ской и трагической необходимости.
Фаустовское же мироощущение переживало глубину иначе. Здесь
в качестве олицетворения истинного бытия обнаруживается чистое
действующее пространство. Это и есть бытие просто. Поэтому чувст¬
венно воспринимаемое, которое именуют, прибегая к весьма показа¬
тельному обороту, указывающему ему истинное место, «наполняю¬
щим пространство», действует как факт второго порядка и по отно¬
шению к акту познания природы как сомнительное, как кажимость и
сопротивление, которое должно быть преодолено, когда мы — как
философы или физики — намереваемся открыть настоящее содержа¬
ние бытия. Западный скепсис никогда не обращался против про¬
странства, а всегда лишь против осязаемых вещей. Пространство —
высшее понятие (сила есть лишь менее абстрактное выражение того
же самого) и лишь в качестве его противопонятия появляется масса,
то, что в пространстве. Как логически, так и физически она от него за¬
висит. Вслед за допущением волнового движения света, лежащим в
основе представления о свете как форме энергии, с необходимостью
последовало допущение соответствующей ему массы, светового эфи¬
ра. Определение массы со всеми приписываемыми ей свойствами
следует из определения силы, а не наоборот, причем с необходимо¬
стью символа. Все античные понятия субстанции, каким бы различ¬
ным образом, идеалистическим или реалистическим, они ни понима¬
лись, обозначают то, что должно быть оформлено, т. е. отрицание, ко¬
торому в каждом случае следует перенять более конкретные моменты
из фундаментального понятия образа. Все западные понятия субстан¬
ции обозначают то, что должно быть приведено в движение, несомнен¬
но также отрицание, однако иного единства. Образ и не-образ, сила и
не-сила — так с максимальной отчетливостью можно передать поляр¬
ность, лежащую в основе впечатления от мира той и другой культуры
и исчерпывающую их формы без остатка. То, что сравнительная фи¬
лософия до сих пор неточно и путано воспроизводила с помощью од¬
ного слова «материя», означает в одном случае субстрат образа, в дру¬
гом — субстрат силы. Не может быть ничего более различного. Здесь
говорит ощущение Бога, ценностное чувство. Античное божество —
это высший образ, фаустовское — высшая сила. «Иное» — это не-бо-
жественное, то, чему дух не может приписать достоинство бытия. Не¬
божественной, для аполлонического впечатления от мира, является
лишенная образа субстанция, для фаустовского — субстанция, ли¬
шенная силы.
Глава шестая. Фаустовское и аполлоническое познание природы 433
8
То, что мифы и представления о богах являются порождением пер¬
вобытного человека и что с «прогрессом культуры» душа утрачивает
способность творить мифы, — научный предрассудок. Как раз наобо¬
рот. Не останься морфология истории вплоть до наших дней миром
едва приоткрытых проблем, мы бы уже давно обнаружили, что якобы
общераспространенная мифическая формирующая сила ограничива¬
ется отдельными эпохами и поняли бы наконец, что эта способность
души наполнить свой мир образами, чертами и символами, причем еди¬
нообразного характера, относится вовсе не к эпохе первобытной культу¬
ры, но исключительно к раннему времени высших культур*. Всякий
миф большого стиля стоит в начале пробуждающейся душевности. Он
является ее первым формирующим деянием. Его можно отыскать то¬
лько там и более нигде, но там это имеет место с необходимостью.
Я исхожу из того, что то, чем обладали в качестве религиозных пред¬
ставлений пра-народы, такие, как египтяне эпохи тинитов, иудеи и
персы до Кира**, герои микенских крепостей и германцы времен пере¬
селения народов***, вовсе еще не было высшим мифом, т. е. являло со¬
бой совокупность рассеянных и беспорядочно сменяющих друг друга
характеристик, завязанных на имена культов, обрывков мифотворче¬
ства, но здесь все еще не было никакой божественной иерархии, ника¬
кого мифического организма, никакой завершенной, с единообразной
физиономией картины мира, да и орнаментику этой ступени я никак
не могу назвать искусством. Кроме того, величайшие сомнения вызы¬
вают сами символы и сказания, бытующие сегодня или пускай даже
столетиями среди якобы первобытных народов, поскольку вот уже на
протяжении тысячелетий ни один ландшафт Земли не остался полно¬
стью незатронутым воздействием чуждых высших культур.
Поэтому существует столько же миров форм великого мифа, ско¬
лько имеется культур, и столько же, сколько было прежде архитектур.
То, что им предшествует во времени, тот хаос неустоявшегося круга
образов, в котором блуждает современное мифоведение, лишенное
руководящего принципа, остается при таких условиях вне поля зре¬
ния; с другой стороны, сюда относятся такие образования, о которых
прежде никто и не подозревал. В гомеровское время (1100—806)*** и в
соответствующий рыцарско-германский период (900—1200)*** *, эпи¬
ческие эпохи, не позже и не раньше, возникла великая картина мира
новой религии. В Индии им соответствует ведическая эпоха, а в Егип¬
те — время пирамид; в один прекрасный день обнаружится, что на са-
*
* Об эпохе первобытной и высшей культуры ср. с. 496 слл.
Ср. с. 708.
Ср. с. 732.
Ср. с. 738.
Ср. с. 742 слл.
*++*
434
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
мом деле египетская мифология дозрела до глубины при 3-й и 4-й ди¬
настиях.
Только так можно понимать неизмеримое богатство религиозно¬
интуитивных творений, которые наполняют первые три столетия не¬
мецкого императорского времени. То, что здесь возникло, было фаус¬
товской мифологией. До сих пор мы были незрячи в отношении объема
и единства этого мира форм, поскольку религиозные и научные преду¬
беждения принуждали нас к фрагментарному рассмотрению либо его
католической, либо нордически-языческой части. Однако никакого
различия здесь нет. Глубинная смена смыслов внутри христианского
круга представлений, как творческий акт, идентична обобщению в
единое целое древнеязыческих культов во времена переселения наро¬
дов. Сюда относятся вообще все западноевропейские народные сказа¬
ния, обретшие тогда символическую проработку, пускай даже они, как
чистый материал, возникли куда раньше, а гораздо позже оказались
связанными с новыми внешними переживаниями и обогащены созна¬
тельными чертами. Сюда же относятся великие, сохранившиеся в
«Эдце» сказания о богах и ряд мотивов из евангельских поэм ученых
монахов. К этому прибавляются немецкие героические сказания круга
Зигфрида, Гудруны, Дитриха и Виланда, которые достигают своей вер¬
шины в «Песне о Нибелунгах», а наряду с ними чрезвычайно богатые,
возникшие на основе кельтских сказок и как раз тогда завершенные на
французской почве рыцарские сказания: о короле Артуре и рыцарях
Круглого стола, о священном Граале, о Тристане, Парсифале и Ролан¬
де. И наконец, помимо оставшегося незамеченным, однако оттого тем
более глубокого душевного переосмысления всех моментов Страстей
Христовых, сюда еще следует присоединить все богатство католиче¬
ских сказаний о святых, расцветом которых наполнены X и XI вв. Тогда
возникли «Жизнь Марии», жития свв. Роха, Себальда, Северина,
Франциска, Бернгарда и Одилии. Ок. 1250 г. была составлена «Legenda
аигеа» [«Золотая легенда» (лат.)]110; то был Золотой век придворного
эпоса и исландской поэзии скальдов. Великим богам Вальгаллы соот¬
ветствуют «четырнадцать заступников», которые были в то же самое
время объединены в одну мифическую группу в Южной Германии. На¬
ряду с изображением рагнарёка, заката богов, в «Вёлуспе» существует
также и христианская редакция — в южнонемецкой «Муспилли»171.
Как и героическая поэзия, этот великий миф развивается на высшей
точке раннего человечества. Оба они принадлежат пра-сословиям,
аристократии или священству. Их родина — замок и собор, а не дерев¬
ня. Здесь же, среди народа, наряду с ними столетиями бытует незатей¬
ливый мир сказаний, которые именуют сказками, народной верой и
суевериями, и тем не менее он не может быть отделен от миров высше¬
го созерцания*.
* Ср. с. 739.
Глава шестая. Фаустовское и аполлоническое познание природы 435
Ничто не характеризует глубинный смысл этих религиозных творе¬
ний с большей выпуклостью, чем тот факт, что Вальгалла не древнегер¬
манского происхождения и не была еще вовсе известна племенам эпо¬
хи переселения народов, но что она оформилась только теперь, причем
разом, на основании глубочайшей необходимости в сознании вновь
возникших на почве Запада народов, т. е. «одновременно» с Олимпом,
который известен нам по гомеровскому эпосу и который также ни в
коей мере не микенского происхождения. Впрочем, Вальгалла произ¬
росла исключительно в картине мира двух высших сословий — из пред¬
ставления о Хеле; в народных же верованиях Хель так и остался царст¬
вом мертвых.
Пока что никто не обращал внимания на глубинное единство это¬
го фаустовского мира мифов и сказаний и на абсолютно единообраз¬
ную символику их языка форм. Однако Зигфрид, Бальдур, Роланд,
Гелианд171 — это все разные имена одного и того же образа. Вальгалла и
Аваллон, поля блаженных, Круглый стол короля Артура и пир Эйнхе-
риев, Мария, Фригга и Фрау Холле означают одно и то же. Напротив
того, внешняя генеалогия мотивов и элементов содержания, которой
мифоведение посвятило непомерно много рвения, представляет собой
исключительно поверхностное явление и не имеет глубокого значе¬
ния. Для смысла мифа его происхождение не означает ровным счетом
ничего. Сам питеп, пра-образ мироощущения, представляет собой чис¬
тое, не допускающее выбора и бессознательное творение и не может
быть переведен. То, что получает один народ от другого вследствие об¬
ращения или восхищенного подражания, есть имя, облачение и маска
для его собственного ощущения, но никогда не само это ощущение.
Древнекельтские и древнегерманские мифологические мотивы, точно
так же, как и сохраненную учеными монахами сокровищницу форм
античной веры, как и перенятые западной церковью в полном объеме
формы восточно-христианской веры следует рассматривать лишь как
материал, из которого фаустовская душа создала в эти века свою собст¬
венную мифическую архитектуру. На этой ступени только что пробу¬
дившейся душевности не имеет совершенно никакого значения, были
ли те, чей ум и сказительский дар вызвали к жизни этот миф, «отдель¬
ными» скальдами, миссионерами, священниками или «народом». Для
внутренней независимости того, что здесь возникло, не имело также
никакого значения то, что его форму решающим образом определяли
христианские представления.
В каждом случае, в раннее время античной, арабской и западной ку¬
льтуры, мы имеем дело с мифом статичного, магического и динамиче¬
ского стиля. Подвергнем пересмотру все частности формы: если там в
основе всего осанка, то здесь поступок, если там — бытие, то здесь
воля; если в античности преобладает телесно ощутимое, насытившееся
чувственно, и именно поэтому, что касается формы богопочитания, ** Mogk ЕGerman. Mythol., Grundr. d. germ. Philol. Ill (1900). S. 340.
436
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
центр тяжести здесь лежит на полном чувственной выразительности
культе, то на Севере господствуют пространство, сила, а тем самым ре¬
лигиозность, носящая преимущественно догматическую окраску.
Именно в этих самых ранних творениях юной души проступает родст¬
во между олимпийскими образами, аттической статуей и телесным до¬
рическим храмом, затем — между сводчатой базиликой, «Духом Божь¬
им» и арабеской, и, наконец, между Вальгаллой и легендой о Марии,
устремленным вверх средним нефом собора и инструментальной му¬
зыкой.
За века, прошедшие от Цезаря до Константина, арабская душа
сформировала свой миф, эту фантастическую, почти что необозримую
до сих пор массу культов, видений и легенд*. Здесь возникли такие син¬
кретические культы, как сирийского Ваала, Исиды и Митры (который
подвергся на сирийской почве полной переделке), Евангелия, Деяния
Апостолов и колоссальное число Откровений, христианские, персид¬
ские, иудейские, неоплатонические, манихейские легенды, восходя¬
щие к Отцам Церкви и гностикам небесные иерархии ангелов и духов.
В евангельской истории Страстей, этом подлинном эпосе христианской
нации, окруженном историей детства Иисуса и Деяниями Апостолов, и
в оформившейся в то же самое время легенде о Заратустре мы видим ге¬
роические образы раннеарабской эпики, занимающие место рядом с
Ахиллом, Зигфридом и Парсифалем. Сцены в Гефсиманском саду и на
Голгофе можно поставить бок о бок с наиболее возвышенными карти¬
нами греческих и германских сказаний. Почти все без исключения ма¬
гические видения возникали под впечатлением умирающей античнос¬
ти, от которых они по сути никогда не получали содержания, но тем с
большей частотой заимствовали форму. Невозможно переоценить,
сколько аполлонического должно было быть переосмыслено прежде,
чем древнехристианский миф обрел то устойчивое содержание, кото¬
рое было ему свойственно ко времени Августина.
9
В соответствии с этим для античного политеизма характерен стиль,
который отличает его от всякого другого мироощущения, каким бы
близким внешне ни было его обличье. Такая особенность, как облада¬
ние богами, а не божеством, встречается лишь однажды, а именно в
единственной культуре, которая воспринимала статую обнаженного
человека в качестве квинтэссенции всего искусства. Природа, как ее
ощущал и познавал вокруг себя античный человек, совокупность пре¬
красно оформленных телесных вещей, не могла быть обожествлена ни
в каком ином виде. Римлянин усматривал в притязании Яхве на то,
чтобы признавали только его, нечто атеистическое. Один бог не был
* Ср. с. 658 сл., 708 слл.
437
fjiaea шестая. Фаустовское и аполлоническое познание природы
для него богом. Отсюда энергичное неприятие философов со стороны
всего греческо-римского народного сознания, поскольку они были
пантеистами, а значит, безбожниками. Боги — это тела, <та>/хата наибо¬
лее совершенного рода, а к слову о-Л/ха как в математическом, так и фи¬
зическом, юридическом и поэтическом словоупотреблении полагается
множественное число. Понятие £a>ov ttoXitlkov сохраняет силу также и
применительно к богам; ничто им так не чуждо, как одиночество, обо¬
собленное или направленное лишь на себя существование. Тем с боль¬
шей решительностью их бытию присуща черта неизменной близи. Ве¬
сьма значим тот факт, что именно в Греции нет богов небесных светил,
как numina дали. У Гелиоса имелся культ лишь на наполовину восточ¬
ном Родосе, а у Селены его вообще не было. Они оба представляют со¬
бой, как это было уже в придворной поэзии Гомера, исключительно ху¬
дожественные методы выражения, если прибегать к римскому обозна¬
чению, то был genus mythicum [род мифический (лат.)], а не genus civile
[род гражданский (лат.)]. Древнейшей римской религии, в которой
античное мироощущение выразилось с особенной чистотой, неизвест¬
ны, в качестве божеств, ни Солнце, ни Луна, ни буря, ни облака. Шум
леса и лесное уединение, гроза и морской прибой, которые всецело
властвуют над чувством природы фаустовского человека, да уже над
чувством природы кельтов и германцев, оставляют античного человека
равнодушным. В существа для него могут сгуститься лишь вполне кон¬
кретные объекты, очаг и дверь, отдельный лес и отдельное поле, эта
река и та гора. Бросается в глаза, что все имеющее даль, что производит
впечатление безграничности и бестелесности и в силу этого способно
втянуть в ощущаемую природу пространство в качестве сущего и боже¬
ственного, оказывается исключенным из мифа, точно также, как обла¬
ка и горизонты, которые только и сообщают пейзажной живописи ба¬
рокко смысл и душу, полностью отсутствуют на лишенных фона ан¬
тичных фресках. Неограниченное число античных богов (всякое
дерево, всякий источник, всякий дом и даже любая часть дома — это
бог) означает, что всякая осязаемая вещь представляет собой сущест¬
вующее самостоятельно существо, а значит, никакая из них функцио¬
нально не подчинена другой.
В основе аполлонической и фаустовской картины природы повсю¬
ду лежат противопоставленные символы единичной вещи и одного
пространства. Олимп и подземный мир четко определены в чувствен¬
ном смысле; царство гномов, эльфов, кобольдов, Вальгалла и Ни-
фльгейм — все это затеряно где-то в пространстве. В древней римской
религии Tellus mater [Мать-земля (лат.)] — не «праматерь», но само
осязаемое поле. Фавн — это определенный пес, Вольтурн — определенная
река; сев именуется Церерой, а жатва — Консом. Когда Гораций хочет
сказать: «Под холодным небом», он, выражаясь чисто по-римски, пи¬
шет: «Sub love frigido» [под холодным Юпитером (лат.)\. Здесь не
было даже попыток воспроизвести божество художественными средст¬
438 Том L ОБРАЗ И^^ЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
вами на месте поклонения, поскольку это означало бы его удвоение.
Еще в достаточно поздние времена не только римская, но и греческая
интуиция отвергала изображения богов; это доказывает становившая¬
ся все более светской скульптура в противоположность народным ве¬
рованиям и благочестивой философии*. В доме за бога Янус, дверь, за
богиню — Веста, очаг; обе функции дома стали, прямо в своих предме¬
тах, существом, богом. Греческие речные боги, такие, как Ахелой, яв¬
ляющийся в виде быка, явно обозначают саму реку, и никто не подра¬
зумевает, что они в реке обитают. Паны и сатиры — это воспринимае¬
мые как существа, как следует ограниченные поля и пастбища в
полуденный час. Дриады и гамадриады — это и есть деревья. Во многих
местах почитаются отдельные, особенно буйно разросшиеся деревья,
притом что имени им не дают, а просто украшают лентами и приноше¬
ниями. Напротив, призраки, духи, гномы, ведьмы, валькирии и армия
родственных им блуждающих повсюду по ночам неприкаянных душ
нисколько не обладают этой привязанной к месту вещественностью.
Наяды — это и есть источники. Между тем русалки и альрауны, дре¬
весные духи и эльфы, лишь заточены в источники, деревья и дома вол¬
шебной силой и желают быть освобождены, чтобы снова скитаться по
свету. Это полная противоположность скульптурному восприятию
природы. Вещи переживаются здесь лишь как пространства иного
рода. Нимфа, т. е. источник, может, пожалуй, принять человеческий
вид, когда хочет навестить красивого пастуха; однако русалка — это
околдованная принцесса, с кувшинкой в волосах, которая в полночь
выходит из озера, в глубине которого она живет. Император Ротбарт
заключен в Кифхойзере, а фрау Венус — в Хёрзельберге173. Похоже, в
фаустовской Вселенной нет ничего вещественного, непроницаемого.
В вещах видятся иные миры; их плотность, их твердость — это только
кажимость, и (черта, которая вообще не могла встретиться в античном
мифе, которая бы его упразднила) избранные смертные обретают дар
смотреть в глубину, сквозь скалы и горы. Но не таково же ли и потай¬
ное убеждение наших физических теорий? Разве новая гипотеза — это
всякий раз не своего рода разрыв-трава? Ни одной другой культуре не¬
ведомо столько сказаний о сокровищах, покоящихся в горах и озерах, о
таинственных подземных царствах, дворцах, садах, в которых обитают
иные существа. Фаустовское ощущение природы отрицает вообще всю
вещественность зримого мира. Ничего землистого больше нет; дейст¬
вительно одно только пространство. Сказка растворяет природную ма¬
терию подобно тому, как это делает готический стиль с каменной мас¬
сой своих соборов, призрачно парящих во всей полноте форм и линий,
в которых нет более никакой тяжести, которым неведомы никакие гра¬
ницы.
Античный политеизм, который был со всевозрастающей выражен¬
ностью направлен на телесное обособление, с наибольшей отчетливо-
Ср. т. 1, гл. 4, раздел 13.
шестая. Фаустовское и аполлоническое познание природы
439
Глава
стью проясняется, быть может, в позиции, занятой им по отношению к
«чуждым богам». Для античных людей боги египтян, финикийцев, гер¬
манцев, поскольку с ними можно было связать образное представле¬
ние, также являлись настоящими богами. Слова о том, что они «не су¬
ществуют», не имели в рамках этого мироощущения никакого смысла.
Грек почитает их, когда соприкасается с их страной. Боги, как и статуя,
полис, эвклидовское тело, привязаны к месту. Они являются сущест¬
вами близи, а не всеобщего пространства. Поскольку, когда вы пребы¬
ваете в Вавилоне, Зевс и Аполлон отступают на задний план, вам осо¬
бенно следует почитать местных богов. В этом и заключался смысл ал¬
тарей с надписью «неведомому богу», которой Павел в Деяниях
Апостолов дал такое характерно ложное магически-монотеистическое
истолкование174. Это боги, которых грек не знает по имени, но которых
почитают чужеземцы в большом порту, например, в Пирее или Корин¬
фе, и которым по этой причине уделяется пиетет. С классической яс¬
ностью это открывает римское жреческое право и строго сохранявшие¬
ся формулы обращения, например, generalis invocatio [общее призыва¬
ние {лат.)]. Поскольку Вселенная представляет собой совокупность
вещей, а боги — это вещи, то в качестве таковых признаются также и те
боги, с которыми у римлянина пока что не возникло практически-ис-
торических отношений. Он их не знает или они являются богами его
врагов, однако они боги, потому что обратное этому невозможно себе
вообразить. Вот что означает этот сакральный оборот у Ливия (VIII 9,
6): di quibus est potestas nostrorum hostiumque [боги, власть которых рас¬
пространяется на нас и на наших врагов (лат.)]. Римский народ созна¬
ется в том, что круг его богов ограничен лишь в данный момент, и с по¬
мощью этой формулы в конце молитвы, после того, как собственные
боги перечислены с их именами, он желает не слишком нарушать пра¬
ва других. Согласно жреческому праву, с овладением чужими странами
к городу Риму переходит целый сонм религиозных обязанностей, кото¬
рые связаны с данной областью и с данным божеством — таково логи¬
ческое следствие аддитивного античного ощущения бога. То, что при¬
знание божества вовсе не равнозначно признанию форм его культа, до¬
казывает случай Великой Матери из Пессинунта, которая была
принята в Риме во 2-ю Пуническую войну на основании одного выска¬
зывания Сивиллы, между тем как ее имеющий в высшей степени неан¬
тичную окраску культ (практиковавшийся приехавшими вместе с ней с
ее родины жрецами) находился под строгим полицейским запретом, и
наказание за вступление в жрецы грозило не только римским гражда¬
нам, но даже их рабам. Принятием богини античному мироощущению
было воздано должное, однако личное отправление ее культа, подозри¬
тельного для римлян, нанесло бы этому мироощущению урон. Решаю¬
щим в таких случаях оказывается поведение сената, между тем как на¬
род, при постоянно возраставшей примеси восточных народностей,
Wissowa, Religion und Kultus der Romer (1912). S. 38.
440
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
находил в таких культах вкус, и римская армия императорского време¬
ни по причине своей комплектации сделалась даже одним из главных
носителей магического мироощущения.
Исходя из этого культ обожествленных людей становится необходи¬
мым элементом в пределах этого мира религиозных форм. Однако следу¬
ет проводить резкую границу между античными и поверхностно похо¬
жими на них явлениями на Востоке. Римский культ императора, т. е. по¬
читание гения живущего принцепса, а также почитание его умерших
предшественников как dim [божественные (.пат.)], до сих пор путали с
церемониальным почитанием правителя в переднеазиатских империях,
в первую очередь в Персии*, а еще больше — с поздним, имевшим в виду
нечто совершенно иное обожествлением халифов, что получило полное
развитие уже при Диоклетиане и Константине. На самом деле речь здесь
идет о весьма различных вещах. Пускай даже на Востоке срастание этих
символических форм трех культур достигло высокой степени, в Риме
античный тип претворялся в жизнь недвусмысленно и в чистом виде.
Уже к некоторым грекам, таким как Софокл и Лисандр, но прежде всего
к Александру, обращались как к богам не одни только льстецы, но и сам
народ воспринимал их в таком качестве, причем во вполне определен¬
ном смысле. От божественности вещи, рощи, источника, наконец, ста¬
туи, изображающей бога, — лишь один шаг до божественности выдаю¬
щегося человека, который становится вначале героем, а затем богом.
Как в одном, так и в другом почитали совершенный образ, в котором
осуществилась мировая субстанция, сама по себе небожественная. Сту¬
пенью, ведшей к этому, был консул в день своего триумфа. Он облачался
здесь в доспехи капитолийского Юпитера, а в более древние времена его
лицо и руки красились в красный цвет, чтобы усилить сходство с терра¬
котовой статуей бога, питеп которого воплощался в него в этот момент.
10
За несколько первых поколений императорской эпохи античный
политеизм растворяется в магическом монотеизме, при том, что во
многих случаях во внешней, культовой или мифической форме ничего
не меняется**. Появилась новая душа, и она иначе переживала отжив¬
шие формы. Имена продолжали существовать, однако они подразуме¬
вали иные numina.
Все «позднеантичные» культы, культ Исиды и Кибелы, Митры, Солн¬
ца и Сераписа, уже не относятся к привязанным к месту, скульптурно
воспринимаемым существам. На Акрополе, при входе на него, некогда
почитался Гермес Пропилейный. В считаных шагах от него находилось
В Египте культ правителя первым ввел Птолемей Филадельф. Почитание фарао¬
нов имело совершенно иной смысл.
** Ср. с. 658.
шестая. Фаустовское и аполлоническое познание природы
441
Глава
культовое место Гермеса, супруга Аглавры; впоследствии здесь был возве¬
ден Эрехтейон. На южной вершине Капитолия, совсем рядом со святили¬
щем Юпитера Феретрия, в котором вместо статуи находился священный
камень (silex), было святилище Юпитера Лучшего Высочайшего (Optimus
Maximus), и когда Август возводил для этого последнего громадный храм,
ему пришлось принять все меры к тому, чтобы сберечь место, с которым
был связан питеп первого. Однако в раннехристианское время Юпитера
Долихена и Непобедимое Солнце можно было почитать повсюду, где
«двое или трое собирались в их имя»175, и все эти божества все больше и
больше воспринимались как один-единственный питеп, вот только вся¬
кий приверженец отдельного культа был убежден, что знает этот питеп
под его истинным образом. В этом смысле говорилось о «миллионнои¬
менной Исиде». До сих пор имена были обозначениями столь же многих,
различных телесно и по местоположению богов, теперь же все они явля¬
ются титулами одного Бога, которого всякий и подразумевает.
Этот магический монотеизм проявляется во всех религиозных по¬
рождениях, наполняющих империю с Востока — в александрийской
Исиде, в предпочитавшемся Аврелианом боге Солнца (Ваале из Паль¬
миры), во взятом Диоклетианом под защиту Митре, персидский образ
которого подвергся в Сирии полной переработке, в почитавшейся
Септимием Севером Баалат из Карфагена (Танит, Dea caelestis), кото¬
рые уже больше не умножали на античный манер число конкретных
богов, но, напротив, вбирали их в себя способом, который все больше и
больше уклонялся от образного изображения. Вот алхимия вместо ста¬
тики. Этому же соответствует то, что взамен изображения на первый
план выходят определенные символы — бык, агнец, рыба, треуголь¬
ник, к^ест. «In hoc signo vinces» [С этим знамением победишь
(лат.)]16 — это звучит уже вовсе не по-античному. Здесь подготовляет¬
ся уход от искусства, изображающего человека, который привел позд¬
нее к запрету изображений в исламе и Византии.
Вплоть до Траяна, когда последнее дуновение аполлонического ми¬
роощущения уже давно замерло на греческой почве, римский государ¬
ственный культ располагал мощью, необходимой для того, чтобы со¬
хранять эвклидовскую тенденцию продолжающегося преумножения
мира богов. Божества покоренных стран и народов получают в Риме
признанные культовые места, жречество и ритуал, между тем как сами
они в качестве четко ограниченных индивидуумов становятся рядом с
богами прошлых времен. Теперь же магический дух одерживает победу
также и здесь, несмотря на достойное уважения сопротивление, место¬
пребыванием которого оказывается небольшое число древнейших пат¬
рицианских родов . Образы богов исчезают из сознания как таковые,
как тела, чтобы освободить место трансцендентному ощущению Бога,
которое более не основывается на непосредственном свидетельстве
чувств, и обычаи, праздники и легенды сливаются друг с другом. Когда
Wissowa, Religion u. Kult. d. Romer (1912). S. 98 ff.
442
Том1. образ и действительность
в 217 г. Каракалла упразднил сакрально-правовое различие между рим¬
скими и чужими божествами, что фактически сделало Исиду первым
божеством Рима*, охватывающим в себе все более древние женские пи-
mina, а тем самым — опаснейшим врагом христианства, навлекшим на
себя смертельную ненависть Отцов Церкви, Рим стал частью Востока,
религиозной провинцией Сирии. Баалы из Долихи, Петры, Пальмиры,
Эмесы начали тогда сливаться воедино в монотеизм Солнца, которое
позднее, как божество империи, одолел Константин — в лице почитав¬
шего его Лициния. Об античном или же магическом речи больше нет
(христианство могло даже выражать по отношению к греческим боже¬
ствам своего рода безобидную симпатию), но о том, какая из магиче¬
ских религий придаст миру античной империи религиозную форму.
Эта убыль скульптурного восприятия весьма явственно ощущается в
стадиях развития культа императора, когда поначалу умершего импе¬
ратора постановлением сената принимали в число государственных
богов (первым был Dims lulius в 42 г. до Р. X.) и ему выделяется собст¬
венное жречество, так что с этих пор его изображение больше не про¬
носят по случаю семейных праздников в числе портретов предков; на¬
чиная же с Марка Аврелия никакого нового жречества для служения
обожествленного императора не появляется, а вскоре после этого не
освящается уже и никакой новый храм, потому что религиозному чув¬
ству представляется достаточным общий templum divorum [храм богов
(лат.)], и обозначение dims превращается наконец в титул члена им¬
ператорского дома. Такой исход знаменует победу магического ощу¬
щения. Мы увидим, что нагромождение имен на посвятительных над¬
писях, как, например, Исида-Великая Мать-Юнона-Астарта-Беллона
или Митра-Непобедимое Солнце-Гелиос уже давно приняло значение
титула единственного существующего Бога *.
11
До сих пор как психологи, так и религиоведы почти не видели в ате¬
изме предмета, достойного тщательного рассмотрения. О нем очень
много писали и рассуждали без затей, будь то в духе вольномыслящего
Wissowa, Religion u. Kult. d. Romer (1912). S. 355.
Здесь невозможно передать символическое значение титула и его связь с понятием
и идеей личности. Обратим внимание только на то, что античная культура единственная
среди всех вообще не знала титула. Это бы противоречило строго соматическому момен¬
ту в ее обозначениях. Помимо имен и прозвищ у нее имелись только технические назва¬
ния фактически отправлявшихся должностей. «Август» тут же сделался именем собст¬
венным, Цезарь — уже очень скоро названием должности. Поступательное продвижение
магического ощущения можно проследить по тому, как среди позднеримского чиновни¬
чества такие вежливые обороты, как vir clarissimus [светлейший муж (лат.)]'77, становятся
постоянными титулатурами, которые можно присваивать и снимать. Точно так же имена
чужих и устаревших богов становятся титулами признанного божества. «Спаситель»
(Асклепий) и «Благой Пастырь» (Орфей) стали титулами Христа. В античные же времена
даже эпитеты римских божеств постепенно становились самостоятельными божествами.
Глава шестая. Фаустовское и аполлоническое познание природы 443
л1ученика или ревностно верующего, однако о разновидностях атеизма,
об анализе одной-единственной, определенной формы явления с ее пол¬
нотой и необходимостью, с ее мощной символикой, с ее ограниченно¬
стью во времени слышать никогда не приходилось.
Атеизм «как таковой» — есть ли это априорная структура опреде¬
ленного миросознания или же добровольно избранное убеждение?
Нужно ли в нем родиться или же в него обращаются? Влечет ли бессоз¬
нательное ощущение обезбоженного космоса вслед за собой также и
знание того, что «великий Пан умер»? Были ли атеисты раньше, напри¬
мер, в дорическую или готическую эпоху? Бывает ли так, что кто-то
страстно, однако неправомерно именует себя атеистом? И возможен
ли цивилизованный человек, который им не является, по крайней мере
не является полностью атеистом?
Явно, что к сути атеизма, как об этом говорит уже сам вид данного
слова во всех языках, принадлежит отрицание, и он, таким образом,
означает отказ от того духовного устроения, которое ему предшество¬
вало, а вовсе не творческий акт несломленной формирующей силы. Но
что здесь отрицается? Каким образом? И кем?
Нет сомнения в том, что атеизм, если правильно его понимать,
представляет собой необходимое выражение душевности — завершен¬
ной внутри себя, исчерпавшей свои религиозные возможности, впада¬
ющей в неорганическое состояние. Он очень хорошо уживается с жи¬
вой и томительной потребностью в подлинной религиозности*, и от¬
сюда его родство с романтикой всякого рода, которая также вновь
желала бы вызвать к жизни нечто безвозвратно утраченное, а именно
культуру. Вполне возможно, что собственный атеизм не будет доходить
до сознания его носителя, но будет оставаться образом его ощущения,
никогда не вмешивающимся в условности его мышления, что атеизм
будет даже противоречить его убеждениям. Мы поймем это, если вду¬
маемся в то, почему благочестивый Гайдн, услышав музыку Бетховена,
назвал его атеистом. Атеизм еще не свойственен людям Просвещения,
но исключительно начинающейся цивилизации. Он присущ большому
городу; он присущ «образованному» человеку большого города, кото¬
рый механически усваивает то, что органически пережили его предки,
творцы его культуры. С точки зрения античного ощущения божествен¬
ного Аристотель, сам того не зная, является атеистом. Эллинистиче-
ски-римский стоицизм является атеизмом точно лак же, как социа¬
лизм и буддизм западноевропейской и индийской современности —
зачастую при том, что они искреннейше употребляют слово «Бог».
Хотя эта поздняя и переходящая ко «второй религиозности» форма
как миро ощущения, так и картины мира означает отрицание в нас рели¬
гиозного начала, во всякой цивилизации она имеет свою структуру. Не
Диагор, за свои «безбожные» сочинения приговоренный в Афинах к смерти,
оставил после себя глубоко благочестивые дифирамбы. Можно еще прочитать в этой
связи дневники Геббеля и его письма к Элизе. Он не «верил в Бога», однако молился.
444
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
существует никакой религиозности без соответствующего одной толь¬
ко ей, направленного только против нее атеистического отрицания.
Мы и дальше продолжаем переживать простирающийся вокруг нас
внешний мир как космос благоустроенных тел, как мировую пещеру
или бесконечное, действующее пространство, однако мы больше не
переживаем во всем этом священной каузальности, и, наблюдая картину
этого мира, мы познаем исключительно светскую, исчерпывающуюся
механическим каузальность, — либо желаем этого и в это верим*. Быва¬
ет античный, арабский, западный атеизм, полностью несхожие по
смыслу и содержанию. Ницше сформулировал динамический атеизм
так: «Бог мертв»178. Античный философ охарактеризовал бы статично-
эвклидовский таким образом: «Пребывающие в священных местах
боги мертвы». Первое означает обезбожение бесконечного простран¬
ства, второе — обезбожение бесчисленных вещей. Однако мертвое
пространство и мертвые вещи — это «факты» физики. Атеист не в со¬
стоянии пережить различие между той картиной природы, что пред¬
ставляется физике, и такой же картиной с точки зрения религии. Сло¬
воупотребление справедливо ощущает разницу между мудростью и ин¬
теллигенцией179, как ранним и поздним, сельским и крупногородым
состояниями духа. В интеллигенции слышится атеизм. Никто не на¬
звал бы интеллигенцией Гераклита или Майстера Экхарта, Сократ же и
Руссо были интеллигентны, но не «мудры». В самом этом слове содер¬
жится нечто беспочвенное. Лишь с точки зрения стоиков и социали¬
стов, типичных безрелигиозных людей, в недостатке интеллигентно¬
сти имеется что-то достойное презрения.
Душевное начало всякой живой культуры религиозно, обладает ре¬
лигией, вне зависимости от того, сознается ли это им самим или же нет.
То, что оно вообще здесь имеется, что оно становится, саморазвивает-
ся, самоисполняется — это и есть его религия. Стать безрелигиозным
не в его власти. Можно лишь играться с мыслями на эту тему, как это
было во Флоренции Медичи. Однако человек мировой столицы безре-
лигиозен. Это часть его сущности, этим знаменуется его явление в ис¬
тории. Как бы искренне ему ни хотелось быть религиозным из-за бо¬
лезненного ощущения внутренней пустоты и нищеты, он на это не
способен. Вся религиозность мировых столиц основывается на само¬
обмане. Степень благочестия, на которую способна эпоха, обнаружи¬
вается по ее отношению к веротерпимости. Мы терпимы либо тогда,
когда нечто самим языком своих форм вещает о божественном точно
так же, как переживаем это мы сами, либо тогда, когда ничего подоб¬
ного уж больше не переживаем.
То, что теперь называют античной веротерпимостью**, является вы¬
ражением противоположности атеизму. В понятие античной религии
входит множество numina и культов. То, что правомерными считали
f/iaea шестая. Фаустовское и аполлоническое познание природы 445
сразу их всех, было не веротерпимостью, но само собой разумеющимся
выражением античного благочестия. Напротив того, тот, кто требовал
здесь исключений, именно в силу этого обнаруживал свою безбож-
ность. Христиане и иудеи считались атеистами, и они неизбежно явля¬
лись такими для всякого, чья картина мира представляла собой сово¬
купность единичных тел. Когда в императорскую эпоху это перестали
так воспринимать, завершилось и античное ощущение божественного.
Впрочем, здесь и вообще исходили из предположения уважения к фор¬
ме привязанного к месту культа, к изображениям богов, к мистериям, к
жертвоприношениям и праздничным традициям, и всякий, кто их
осмеивал или разоблачал, тут же узнавал пределы античной веротерпи¬
мости. Можно вспомнить осквернение герм в Афинах или процессы в
связи с богохульством в отношении Элевсинских мистерий, т. е. ко¬
щунственным подражанием чувственной стороне в них. Для фаустов¬
ской же души был важен догмат, а не зримый культ. Это противопо¬
ложность тела и пространства, признания сиюминутной видимости и
ее преодоления. Безбожным нам представляется бунт против учения.
Отсюда берет начало пространственно-духовное понятие еретичества.
Фаустовская религия по самой своей природе не могла допустить ни¬
какой свободы совести — это противоречит ее пронизывающей про¬
странство динамике. Также и свободомыслие не составляет никакого
исключения в данном отношении. За кострами последовала гильоти¬
на, за сжиганием книг — их замалчивание, за всемогуществом пропо¬
веди — всемогущество прессы. Среди нас не бывает веры без склонно¬
сти к инквизиции в той или иной форме. Если выражаться с помощью
соответствующего электродинамического образа: силовое поле убеж¬
дения подчиняет своему напряжению все находящиеся в нем умы. У
того, кто этого не желает, нет больше никаких крепких убеждений. Вы¬
ражаясь критически, он безбожник. Однако для античности безбожи¬
ем было презрение к культу (буквально аае/Зеш.), и здесь аполлониче-
ская религия не допускала никакой свободы поведения. Тем самым в
обоих случаях была обозначен предел той веротерпимости, которой
требовало ощущение божественного и которую оно же запрещало.
В данном отношении позднеантичная философия, софистическо-
стоическая теория (но не стоическое миронастроение) противостояла
религиозному восприятию, и здесь афинский народ (тот самый, что
возводил также и алтари еще «неизвестных» богов) проявлял ту же неу¬
молимость, что и испанская инквизиция. Достаточно пересмотреть
ряд античных мыслителей и исторических личностей, принесенных в
Жертву культовому благочестию. Сократ и Диагор были казнены за
<W/?€ia; Анаксагора, Протагора, Аристотеля, Алкивиада спасло только
бегство. Число казненных за преступления против культа лишь в одних
Афинах и только за десятилетия Пелопоннесской войны исчисляется
сотнями. После приговора, вынесенного Протагору, его сочинения ра¬
зыскивали по домам и сжигали. В Риме акции такого рода, о которых
446 Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
еще сохранились исторические сведения, начинаются с назначенного
сенатом в 181 г. публичного сожжения пифагорейских «Книг Нумы», и
за этим беспрерывно следовали высылки отдельных философов и це¬
лых школ, а позднее — казни и торжественное сожжение сочинений,
которые могли стать опасными религии. Сюда же относится тот факт,
что только во времена Цезаря консулы пять раз разрушали места по¬
клонения Исиде, и что Тиберий распорядился бросить изображение
богини в Тибр. За отказ совершить жертвоприношение перед изобра¬
жением императора было назначено наказание. Во всех этих случаях
речь идет об «атеизме», каким он оказывался на основе античного ощу¬
щения божественного или каким он проявлялся в качестве теоретиче¬
ского или практического пренебрежения зримым культом. Тот, кто не
способен отказаться в этих вещах от своего собственного, западного
восприятия, никогда не сможет проникнуть в сущность картины мира,
лежащей здесь в основе всего. Поэты и философы могли вволю приду¬
мывать мифы и переформировывать образы богов. Догматическое ис¬
толкование чувственно данного было открыто всякому. Истории о бо¬
гах можно было осмеивать в сатировских драмах и комедиях (даже это
не покушалось на их эвклидовское существование), но изображения
бога, культа, скульптурного оформления богопочитания касаться не
следовало. Мы имеем неверное представление об утонченных умах им¬
ператорской эпохи, когда усматриваем ханжество в том, что они, не
принимая вообще никакие мифы всерьез, возлагали на себя все обя¬
занности государственного культа, в первую очередь в связи с глубоко
воспринимаемым культом императора. Напротив того, поэту и мысли¬
телю зрелой фаустовской культуры не возбранялось «не посещать цер¬
кви», избегать исповеди, оставаться дома во время шествий, жить в
протестантском окружении без какой-либо связи с церковными обы¬
чаями, но касаться догматических частностей строго запрещалось. Это
было опасно внутри всех конфессий и сект (что вполне определенно
относится также и к вольномыслию). Пример римлянина-стоика, ко¬
торый безо всякой веры в мифологию благочестиво наблюдает за сак¬
ральными формами, находит себе пару в таких людях эпохи Просвеще¬
ния, как Лессинг и Гёте, которые, не исполняя церковных обрядов, тем
не менее никогда не сомневались в «фундаментальных истинах веры».
12
Если мы вернемся от принявшего образное выражение ощущения
природы к ставшему системой познанию природы, то увидим, что Бог
или боги являются источником тех построений, с помощью которых дух
зрелых культур пытается понятийно овладеть окружающим миром. Гёте
заметил как-то Римеру: «Рассудку столько же лет, сколько и миру, рассу¬
док есть и у ребенка; однако не во все эпохи он применяется одним и тем
шестая. Фаустовское и аполлоническое познание природы
447
Глава
же образом и к одним и тем же предметам. Прежние столетия обретали
идеи в созерцаниях фантазии; наше же сводит их в понятия. Великие
жизненные прозрения приводились тогда к образам, к богам; сегодня их пе¬
реводят в понятия. Там была ббльшая творческая мощь, сегодня же бо¬
льше мощь разрушения или искусство анализа»180. Истовая религиоз¬
ность ньютоновской механики* и современная динамика, сформулиро¬
ванная почти совершенно атеистически, несут на себе одну и ту же
окраску и позицию, а также исходят из отрицания одного и того же пра-
чувства. Физическая система неизбежно содержит все особенности той
души, к миру форм которой она относится. С динамикой и аналитиче¬
ской геометрией неразрывно связан деизм барокко. Три его основопо¬
лагающих принципа: Бог, свобода и бессмертие — это в переводе на
язык механики принцип инерции (Галилей), принцип наименьшего
действия (Д’Аламбер) и принцип сохранения энергии (Ю. Р. Майер).
То, что мы ныне называем в самой общей форме физикой, на самом
деле представляет собой произведение искусства барокко. Теперь уж
не будет казаться парадоксом, если я, исходя из основанного Виньолой
в архитектуре иезуитского стиля, назову иезуитским стилем в физике
прежде всего тот способ представления, который основывается на до¬
пущении действующих на расстоянии сил, а также абсолютно чуждых
наивно-античному созерцанию дальнодействия, притяжения и оттал¬
кивания, точно также, как, на мой взгляд, иезуитский стиль в матема¬
тике представлен исчислением бесконечно малых, которое как раз тог¬
да же возникло лишь на Западе, где оно только и могло возникнуть. В
рамках этого стиля «верной» оказывается та рабочая гипотеза, которая
углубляет технику экспериментирования. Как для Лойолы, так и для
Ньютона речь идет не о простом отражении природы, но о методе.
По внутренней форме западной физике присущ догматизм, а не ку-
льтовость. Ее содержание — это догмат о силе, идентичной с простран¬
ствами, с отстоянием, учение о механическом поступке, а не о механи¬
ческой позиции во Вселенной. В соответствии с этим она направлена
на последовательное преодоление зрительной кажимости. Исходя из
еще весьма «античного» подразделения на физику глаза (оптика), уха
(акустика) и осязания (учение о теплоте), она постепенно совершенно
исключила чувственные восприятия и заменила их системой абстракт¬
ных отношений, так что, например, излучаемая теплота вследствие
представлений о динамическом движении эфира рассматривается те¬
перь в оптике, оптика же не имеет никакого отношения к глазу.
«Сила» — это мифическая величина, которая вовсе не обязана сво¬
им возникновением научному опыту, но, напротив, заранее предопре¬
деляет его структуру. Только в представлениях о природе фаустовского
В знаменитом заключении своей «Оптики» (1706), которое произвело колоссаль¬
ное впечатление и стало исходной точкой совершенно новой постановки вопросов в
теологии, он проводит границу между механическими причинами и первой божествен¬
ной причиной, органом восприятия которой должно стать само бесконечное простран¬
ство.
448 Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
человека вместо магнита может быть магнетизм, в силовом поле кото¬
рого лежит кусок железа, вместо светящегося тела — лучистая энергия,
а далее еще такие персонификации, как электричество «как таковое»,
температура «как таковая», радиоактивность «как таковая» .
Что эта сила или энергия представляет собой лишь закосневший до
понятия питеп и нисколько не является результатом научного опыта,
удостоверяется тем зачастую упускаемым из виду фактом, что основопо¬
лагающий принцип динамики, известное первое начало механической
теории теплоты, вообще ничего не говорит о сущности энергии. То, что
им провозглашается «сохранение энергии» — на самом деле ложное, од¬
нако весьма характерное с точки зрения психологии выражение. Экспе¬
риментальным измерением, по самой его природе, может быть установ¬
лено только число, которое было названо (также очень показательно) ра¬
ботой. Однако динамический стиль нашего мышления требовал, чтобы
мы поняли его как разницу энергий, несмотря на то, что абсолютная ве¬
личина энергии — это только образ, который никак не может быть пере¬
дан определенным числом. Так что, как принято выражаться, аддитив¬
ная константа остается всякий раз неопределенной, т. е. мы пытаемся
зафиксировать постигаемый внутренним взором образ энергии, хотя
научная практика не принимает в этом никакого участия.
Из такого происхождения понятия силы следует, что оно столь же
мало поддается определению, как также отсутствующие в античных
языках пра-слова «воля» и «пространство». Всегда остается ощутимый и
зримый остаток, превращающий всякое личное определение в едва не
религиозное исповедание его автора. У каждого естествоиспытателя ба¬
рокко имелось здесь внутреннее переживание, которое он облекал в сло¬
ва. Можно вспомнить Гёте, который бы не смог, да и не пожелал бы
определить свое понятие мировой силы, однако нисколько в ней не со¬
мневался. Кант назвал силу явлением сущего самого по себе: «Субстан¬
цию в пространстве, тело, мы познаем только посредством сил». Лаплас
назвал ее неизвестным, познаваемым нами только по действиям; Нью¬
тон задумывался о нематериальных дальнодействующих силах. Лей¬
бниц говорил о vis viva [живой силе (лат.)] как о количестве, которое об¬
разует вместе с материей единство монады. Декарт помышлял о том,
чтобы принципиально отделить движение от движимого так же мало,
как и отдельные мыслители XVIII в. (Лагранж). Наряду с potentia, impe¬
tus, virtus уже в готическую эпоху мы встречаем такие попытки косвенно¬
го описания, как conatus и nisus, где, очевидно, сила не отделена от запус¬
кающей ее причины. Вполне можно различать католическое, протес -
Как было показано выше, первым делом западное словоупотребление с его ego
habeo factum вместо feci вывело на Божий свет динамическую структуру нашего мышле¬
ния, и с тех пор мы со все большей решительностью фиксируем все, что происходит, с
помощью динамических оборотов. Мы говорим, что «промышленность» открывает
себе области сбыта и что «рационализм» добился господства. Ни один античный язык
таких выражений не допускает. Никакой грек не заговорил бы о «стоицизме» вместо
стоиков. В этом также сущностное различие между образами античной и западной поэ¬
зии.
f ава шестая. Фаустовское и аполлоническое познание природы
449
антское и атеистическое понятие силы. В уме Спинозы как еврея, т. е.
человека, душевно принадлежавшего к магической культуре, фаустов¬
ское понятие силы вообще не укладывалось. В его системе оно отсутст¬
вует • И поразительным свидетельством потайной мощи пра-понятий
является то, что Г. Герц, единственный еврей среди великих физиков
недавнего прошлого, был также и единственным, сделавшим попытку
разрешить дилемму механики с помощью исключения понятия силы.
Догмат о силе — вот единственная тема фаустовской физики. То, что
под названием статики было пронесено через все системы и столетия в
качестве части естествознания — это фикция. Дело с «современной
статикой» обстоит не иначе, нежели в «арифметикой» и «геометрией»,
буквально учениями о числах и измерениях, которые также, если мы
вообще будем продолжать связывать со словами их изначальный
смысл, представляют собой внутри современного анализа пустые име¬
на, литературные обломки античных наук, упразднить которые или по
крайней мере признать их лишь за иллюзорные образования не давало
до сих пор благоговение перед всем античным. Не существует никакой
западной статики, т. е. никакого естественного для западного духа спо¬
соба истолкования механических фактов, в основе которых лежали бы
понятия формы и субстанции (или по крайней мере пространства и
массы) вместо пространства, времени, массы и силы. Это может быть
перепроверено по каждой отдельной области. Даже «температуру», ко¬
торая все же скорее всего могла бы производить антично-статичное
впечатление пассивной величины, оказывается возможным включить
в эту систему лишь тогда, когда ее будет охватывать картина силы: ко¬
личество теплоты как совокупность чрезвычайно быстрых, тончай¬
ших, неупорядоченных движений атомов тела, а его температура как
средняя живая сила этих атомов.
Поздний Ренессанс уверовал в то, что вновь пробудил архимедов¬
скую статику, точно так же как он верил, что продолжает греческую
скульптуру. В обоих случаях он лишь подготавливал окончательные
выразительные формы барокко, причем на основе духа готики. Манте¬
нья принадлежит к статике изобразительных мотивов, как и Синьорел¬
ли, чьи рисунок и положение тел впоследствии находили скованными
и холодными; с Леонардо начинается динамика, а Рубенс — это уже
максимум подвижности пышных тел.
Еще в 1629 г. иезуит Николай Кабеон разработал в духе физики Воз¬
рождения теорию магнетизма на основе аристотелевского представле¬
ния о мире, которая, как и труд Палладио об архитектуре (1578), не
могла иметь по себе никаких последствий, и не потому, что она была
ложной, но потому, что она противоречила фаустовскому ощущению
природы, освобожденному мыслителями и исследователями XIV в. от
арабско-магической опеки и нуждавшемуся теперь в собственных
формах для выражения своего познания мира. Кабеон отказывается от
* Ср. т. 1, гл. 5, раздел 3.
15 Закат Западного мира
450
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
понятия силы и массы и ограничивается классическими: материя и
форма, т. е. он возвращается от духа архитектуры стареющего Мике¬
ланджело и Виньолы обратно к архитектуре Микелоццо и Рафаэля и
намечает систему, столь завершенную в самой себе, однако не имею¬
щую никакого значения для будущего. Магнетизм как состояние еди¬
ничных тел, а не как сила в безграничном пространстве — это никак не
могло символически удовлетворить внутреннее зрение фаустовского
человека. Нам нужна теория дали, а не близи. Другой иезуит, Бошко-
вич, первым сформировал ньютоновские механико-математические
принципы в настоящую обобщающую динамику (1758).
Сам Галилей еще находился под впечатлением мощных отзвуков
ренессансного ощущения, усматривавшего что-то чуждое и неуютное
в противоположности силы и массы, из которой в архитектоническом,
живописном и музыкальном стиле следует элемент крупного движения.
Представление о силе он еще ограничивает силами соприкосновения
(толчок) и формулирует всего только сохранение количества движе¬
ния. Тем самым он придерживается простой подвижности с исключе¬
нием пространственного пафоса, и лишь Лейбниц в полемике с ним
развил идею собственно сил, действующих в бесконечном пространст¬
ве, сил свободных к направленных (живая сила, activum thema), которые
он затем последовательно воплотил в связи со своими математически¬
ми открытиями. На место сохранения количества движения приходит
сохранение живых сил. Это соответствует замене числа как величины
числом как функцией.
Понятие массы получило отчетливую разработку лишь несколько
позднее. У Галилея и Кеплера на ее месте фигурирует «объем», и только
Ньютон понял ее определенно функционально: мир как функция Бога.
Ренессансному восприятию противоречит то, что масса (определяемая
теперь как постоянное отношение силы и ускорения с привязкой к си¬
стеме материальных точек) ни в коей мере не пропорциональна объе¬
му, важный пример чего являют собой планеты.
И все же Галилею уже приходилось задаваться вопросом о причинах
движения. В рамках собственно статики, ограничивавшейся понятия¬
ми материи и формы, этот вопрос не имел никакого смысла. Смена по¬
ложения не имела для Архимеда значения рядом с формой (Gestalt) как
подлинной сущностью всего телесного существования; что могло бы
действовать на тела, да еще снаружи, ведь пространство — «ничто»?
Вещи двигаются, они не являются функциями движения. Только Нью¬
тон совершенно независимо от ренессансного способа ощущения со¬
здал понятие сил дальнодействия, притяжения и отталкивания масс че¬
рез пространство. Отстояние — это для него уже есть сила. В этой идее
нет уже ничего чувственно ощутимого, и сам Ньютон испытал в связи с
ней некоторое смущение. Это она ухватила его, а не он — ее. Это конт¬
рапунктическое, абсолютно нескульптурное представление, причем не
лишенное внутреннего противоречия, вызвал к жизни обращенный к
451
f/ioea шестая. Фаустовское и аполлоническое познание природы
бесконечному пространству дух самого барокко. Эти силы дальнодей¬
ствия так никто удовлетворительно и не определил. Никому так никог¬
да и не удалось постигнуть, что собственно представляет собой центро¬
бежная сила. Является ли причиной этого движения вращающаяся во-
круг своей оси Земля или наоборот? Или же они тождественны друг
другу? Является ли такая причина, взятая сама по себе, силой или дру¬
гим движением? Чем сила и движение отличаются друг от друга? Изме¬
нения в Солнечной системе должны вызываться действием центро¬
бежной силы. Однако тогда тела должны были бы сходить со своих ор¬
бит, а поскольку этого не происходит, приходится принять еще и
центростремительную силу. Но что означают эти слова? Именно не¬
возможность внести сюда порядок и ясность и подвигла Генриха Герца
вообще отказаться от понятия силы и посредством весьма искусствен¬
ного допущения устойчивых соотношений между положением и ско¬
ростью свести собственную систему механики к принципу касания
(толчка). Однако это лишь скрывает, но не снимает затруднения. Они
носят специфически фаустовский характер и коренятся в глубинной
сущности динамики. «Можем ли мы говорить о силах, которые и воз-
никают-то лишь посредством движения?» Разумеется, нет. Но можем
ли мы отказаться от прирожденныхзападному духу пра-понятий9 пускай
даже они не поддаются определению? По крайней мере сам Герц не де¬
лал попыток дать своей системе практическое применение.
Это символическое затруднение современной механики ни в коей
мере не устранила основанная Фарадеем теория потенциалов (после
того, как центр тяжести физического мышления переместился из дина¬
мики материи в электродинамику эфира). Известный экспериментатор,
всецело визионер и единственный нематематик среди всех мастеров со¬
временной физики заметил в 1846 г.: «В любой части пространства, не¬
важно, будет ли она в соответствии с обычным словоупотреблением пус¬
той или наполненной материей, я не воспринимаю ничего кроме сил и
линий, по которым они действуют». В этом описании о себе отчетливо
заявляет тенденция направления. Неявно органическая и историческая
по содержанию, а также характеризующая переживание познающего,
тенденция эта говорит о том, что Фарадей метафизически отталкивается
от Ньютона: силы дальнодействия последнего отсылают нас к мифиче¬
скому фону, критику которого благочестивый физик определенно от¬
вергал. Второй остававшийся возможным путь прийти к однозначному
понятию силы (исходя из «мира», а не из «Бога»^, из объекта, а не из субъ¬
екта естественного состояния подвижности) привел как раз тогда же к
выдвижению понятия энергии, которая в отличие от силы является коли¬
чеством направленности, не представляет никакого направления и в
силу этого отталкивается от Лейбница с его идеей живой силы с ее неиз¬
менным количеством. Мы видим, что сюда оказались перенесены суще¬
ственные особенности понятия массы, — до того, что здесь рассматри¬
вается даже фантастическая мысль об атомарной структуре энергии.
452
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Между тем с новым расположением базовых, основополагающих
слов ощущение наличия мировой силы и ее субстрата не претерпело
изменения, и тем самым неразрешимость проблемы движения оказа¬
лась неопровергнутой. Что было сюда привнесено на пути, пролегшем
от Ньютона до Фарадея (или от Беркли до Милля), так это замена рели¬
гиозного понятия действия на безрелигиозное понятие работы (Arbe¬
it)* **. В картине природы Бруно, Ньютона и Гёте нечто божественное вы¬
ражается в деяниях; в картине мира современной физики природа со¬
вершает работу. Это означает воззрение, в соответствии с которым
всякий «процесс», в смысле первого начала механической теории теп¬
лоты, измерим по потреблению энергии, которому соответствует ко¬
личество совершенной работы в форме связанной энергии.
Поэтому решающее открытие Ю. Р. Майера совпадает с рождением
социалистической теории. Теми же понятиями оперируют также и по-
литэкономические теории; со времен Адама Смита проблема стоимо¬
сти приведена в соотношение с количеством работы *; в сравнении с
Кенэ и Тюрго это — шаг от органической к механической структуре
экономической картины. То, что лежит здесь в основе теории в качест¬
ве «работы», понимается чисто динамически, и таким физическим
принципам, как сохранения энергии, энтропии, наименьшего движе¬
ния можно было бы подобрать точно соответствующие им политэко-
номические принципы.
Так что если рассмотреть стадии, которые оставило позади центра¬
льное понятие силы начиная от своего рождения в раннем барокко,
причем в точнейшем соответствии с мирами форм великих искусств и
математики, мы обнаружим их всего три. В XVII в. (Галилей, Ньютон,
Лейбниц) оно выступало в образной форме наряду с великой масляной
живописью, которая угасла ок. 1680 г.. В XVIII в., столетии классиче¬
ской механики (Лаплас, Лагранж) понятие силы пребывало подле му¬
зыки Баха и восприняло абстрактный характер фугированного стиля. В
XIX в., когда искусство приходит к концу и цивилизованная интелли¬
генция одерживает верх над душевностью, понятие силы появляется в
сфере чистого анализа, причем в первую очередь теории функций мно¬
гих комплексных переменных, без которой оно вообще навряд ли мо¬
жет быть понятым в своем наиболее современном значении.
13
Однако тем самым (и на этот счет никому не следует обманываться)
западноевропейская физика подошла вплотную к границе своих внут¬
ренних возможностей. Окончательный смысл ее исторического явле¬
ния состоял в том, чтобы претворить фаустовское ощущение природы
* Ср. т. 1, гл. 5, раздел 15.
** Ср. с. 956.
f/iaee шестая. Фаустовское и аполлоническое познание природы
453
в понятийное познание, образы веры ранней эпохи — в механические
формы точного знания. Вряд ли следует говорить о том, что возрастав¬
шее до поры до времени семимильными шагами получение практиче¬
ских или хотя бы лишь научных знаний (само по себе и то, и другое от¬
носится к поверхностной истории науки; к глубинной ее стороне при¬
надлежит исключительно история ее символики и ее стиля) не имеет
ничего общего со стремительным разложением ее сущностного ядра.
Вплоть до конца XIX в. все шаги делались в направлении внутреннего
совершенствования, растущей чистоты, заостренности и полноты ди¬
намической картины природы; с этих же пор, когда оптимальная вели¬
чина ясности в области теоретического была достигнута, шаги эти на¬
чинают вдруг производить разлагающее действие. Это происходит без
алого умысла; это даже не доходит до сознания светлых голов совре¬
менной физики. В этом заключается неотвратимая историческая необ¬
ходимость. Античная физика внутренне завершилась на той же стадии,
ок. 200 г. до Р. X. С Гауссом, Коши и Риманом анализ достиг своей цели
и сегодня только заполняет бреши в своем строении.
Отсюда эти внезапные губительные сомнения в вещах, составляв¬
ших еще вчера несомненный фундамент физической теории — в значе¬
нии принципа энергии, в понятии массы, пространства, абсолютного
времени, каузального закона природы вообще. Причем это уже не те
продуктивные сомнения раннего барокко, которые вели к цели позна¬
ния: это сомнения в возможности естествознания как такового. Какой
глубокий и, очевидно, вовсе даже не оцененный по достоинству свои¬
ми авторами скептицизм содержится уже в стремительно возрастаю¬
щем использовании числовых, статистических методов, которые стре¬
мятся исключительно к вероятности результатов и не обращают ника¬
кого внимания на абсолютную точность закона природы, какой ее с
надеждой понимали раньше!
Мы приближаемся к тому мгновению, когда наступит окончатель¬
ный отказ от возможности завершенной и не имеющей внутренних
противоречий механики. Мной уже было показано то, как всякая фи¬
зика должна потерпеть поражение на проблеме движения, в которой
живая личность познающего методически врывается в неорганиче¬
ский мир форм познанного. Однако все новейшие гипотезы содержат
это же затруднение в чрезвычайно заостренной, достигнутой после
трехсот лет мыслительной работы форме, насчет которой невозможно
обмануться. Теория гравитации, бывшая со вфемен Ньютона неоспо¬
римой истиной, признается за ограниченное во времени и шаткое до¬
пущение. Принцип сохранения энергии не имеет никакого смысла,
если энергия мыслится как бесконечная в бесконечном же пространст¬
ве. Принятие принципа оказывается невозможным совместить ни с ка¬
кой разновидностью трехмерной структуры мирового пространства,
ни с бесконечным эвклидовым, ни (в случае неэвклидовых геометрий)
со сферическим с его неограниченным, но конечным объемом. Так что
454 Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
он оказывается справедливым лишь применительно к «системе тел,
изолированной снаружи», что является искусственным ограничением,
в действительности не существующим и невозможным. Однако миро¬
ощущение фаустовского человека, из которого и возникло это осново¬
полагающее представление, а именно о бессмертии мировой души в ее
механическом и экстенсивном переосмыслении, желало выразить как раз
символическую бесконечность. Так это ощущалось, однако познание
не смогло из этого образовать никакой чистой системы. Световой эфир
был, далее, идеальным постулатом современной динамики, требовав¬
шей для каждого движения представление о движимом. Однако любая
мыслимая гипотеза относительно свойств эфира тут же опровергалась
из-за внутренних противоречий. В частности, лорд Кельвин математи¬
чески доказал, что безупречной структуры этого носителя света быть
не может. Поскольку световые волны, согласно интерпретации опы¬
тов Френеля, поперечные, эфиру следовало быть твердым телом (с по¬
истине причудливыми свойствами), однако в таком случае на него рас¬
пространялись бы законы упругости и тогда световые волны были бы
продольными. Уравнения электромагнитной теории света Максвел¬
ла—Герца, на самом деле представляющие собой чистые, неименован¬
ные числа, обладающие несомненной достоверностью, исключают ка¬
кое-либо истолкование посредством какой бы то ни было механики
эфира. И вот эфир, прежде всего под впечатлением теории относитель¬
ности, определили как чистый вакуум, что на самом деле немногим от¬
личается от разрушения изначальной динамической картины.
Со времен Ньютона допущение постоянной массы (пара к постоян¬
ной силе) считалось за бесспорно достоверное. Квантовая теория
Планка и выведенные из нее Нильсом Бором следствия в отношении
тонкой структуры атомов, которые оказались необходимыми на осно¬
ве полученных экспериментально результатов, ниспровергли эту гипо¬
тезу. Всякая изолированная система обладает, помимо кинетической
энергии, еще и энергией излучаемой теплоты, которая неотделима от
нее и потому не может быть в чистом виде представлена понятием мас¬
сы. Ибо если масса окажется определена через живую энергию, она бо¬
льше не будет постоянной по отношению к термодинамическому со¬
стоянию. Между тем включить элементарный квант действия в круг
предпосылок классической барочной динамики не удается, и вместе с
принципом непрерывности всех каузальных отношений под угрозой
оказывается заложенное Ньютоном и Лейбницем основание исчисле¬
ния бесконечно малых . Однако куда грубее всех этих сомнений в са¬
мую суть динамики вмешивается теория относительности, эта бесце¬
ремонная до цинизма рабочая гипотеза. Опирающаяся на опыты Май-
кельсона, согласно которым скорость света не зависит от движения
пронизываемого им тела, и математически подготовленная Лоренцом ** Planck М, Die Entstehung und bisherige Entwicklung der Quantentheorie (1920).
S. 17, 25.
шестая. Фаустовское и аполлоническое познание природы
455
Глава
й Минковским, теория относительности содержит в качестве своей
подлинной тенденции уничтожение понятия абсолютного времени.
Астрономические данные (на этот счет многие сегодня опасно заблуж¬
даются) не могут ее ни подтвердить, ни опровергнуть. Вообще истин¬
ными и ложными являются не понятия, с помощью которых приходит¬
ся судить о таких гипотезах. Речь идет о том, окажется ли она пригодной
или же нет в том хаосе запутанных и искусственных представлений, ко¬
торый возник как результат бесчисленных гипотез, выдвинутых в ходе
исследований по радиоактивности и термодинамике. Однако в тепе¬
решнем своем виде она упразднила постоянство всех физических вели¬
чин, в которые входило определение времени, а западная динамика в от¬
личие от античной статики лишь такими величинами и располагает.
Абсолютной меры длины и твердого тела более не существует. Тем са¬
мым исчезает также и возможность абсолютных количественных опре¬
делений, а значит, и классическое понятие массы как постоянного от¬
ношения силы и ускорения — после того, как только что в качестве но¬
вой константы был установлен элементарный квант действия,
произведение энергии и времени.
Уясним себе, что представления об атоме Резерфорда и Бора* не
значат ничего иного, кроме того, что численные результаты наблюде¬
ний оказались вдруг соотнесенными с картиной, изображающей пла¬
нетную систему внутри атома, между тем как до сих пор предпочитали
представление об атомных роях; обратим внимание на то, с какой бы¬
стротой возводятся сегодня карточные домики из целых серий гипотез,
так что всякое противоречие тут же перекрывается новой, стремитель¬
но созданной гипотезой; задумаемся над тем, как мало теперь принято
заботиться о том, что эти множественные картины противоречат друг
другу и строгой картине барочной динамики, — и мы придем наконец к
убеждению, что великий стиль представления пришел к завершению и,
как и в архитектуре и в изобразительных искусствах, уступил место
своего рода художественному ремеслу построения гипотез. Упадок сим¬
волики может быть скрыт лишь высочайшим, на уровне века, мастер¬
ством экспериментальной техники.
14
К кругу этих-то символов упадка принадлежит в первую очередь
энтропия, вокруг которой, как известно, вращается второе начало
термодинамики. Первым началом, принципом сохранения энергии,
формулируется просто сама суть динамики, чтобы не сказать: струк¬
тура западноевропейского духа, которому единственному природа с
Заставлявшие многих воображать, что отныне доказано «реальное существова¬
ние» атомов — диковинный поворот в сторону материализма предыдущего столетия.
456
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
необходимостью представляется в форме контрапунктически-дина-
мической каузальности — в противоположность статически-скуль-
птурной каузальности Аристотеля. Базовый элемент фаустовской
картины мира — не позиция, но деяние, а если смотреть на это под ме¬
ханическим углом зрения, процесс, и данное положение фиксирует
исключительно математический характер таких процессов в форме
переменных и констант. Однако второй принцип продвигается глуб¬
же, устанавливая одностороннюю тенденцию природных процессов, ко¬
торая никоим образом не была заранее обусловлена понятийными
основаниями динамики.
Математически энтропия оказывается представлена определяемой
мгновенным состоянием изолированной системы тел величиной, ко¬
торая может только возрастать, но ни в коем случае не уменьшаться
при всех возможных изменениях физического или химического харак¬
тера. В благоприятном случае она остается неизменной. Энтропия, по¬
добно силе и воле, — это нечто такое, что представляется внутренне от¬
четливым и ясным каждому, кто вообще оказался способен проник¬
нуть в сущность данного мира форм, однако всякий дает собственную,
очевидно, недостаточную ее формулировку. Также и здесь дух оказы¬
вается несостоятельным перед лицом потребности мироощущения в
выражении.
В зависимости оттого, возрастает энтропия или же нет, все природ¬
ные процессы делятся на необратимые и обратимые. В случае любого
процесса первого рода свободная энергия превращается в связанную;
если же эта мертвая энергия должна быть вновь преобразована обратно
в живую, это может произойти лишь посредством того, что одновре¬
менно во втором процессе окажется связанным еще какое-то количе¬
ство живой энергии. Самым известным примером является сжигание
угля, т. е. превращение скопленной в нем живой энергии в связанную
посредством газовой формы углекислоты теплоту, когда скрытая энер¬
гия воды оказывается преобразованной в давление пара и далее в дви¬
жение. Отсюда следует, что энтропия в мироздании в целом постоянно
возрастает, так что, очевидно, динамическая система приближается к
одному и тому же неизменному конечному состоянию. К необратимым
процессам относятся теплопроводность, диффузия, трение, световое
излучение, химические реакции, к обратимым — гравитация, электри¬
ческие колебания, электромагнитные и звуковые волны.
Что дает мне основания усматривать в положении об энтропии
(1850) начало заката физики динамического стиля, этого шедевра за¬
падноевропейской интеллигенции (никто до сих пор этого не заме¬
тил), так это глубокая противоположность между теорией и действите¬
льностью, впервые явно внесенная здесь в саму теорию. После того как
первым принципом была нарисована строгая картина причинно-след¬
ственного природного процесса, второе начало введением необрати¬
мости выявляет принадлежащую к непосредственной жизни тенден¬
Глава шестая. Фаустовское и аполлоническое познание природы
457
цию, кардинально противоречащую сути всего механического и логи¬
ческого.
Если проследить, какие следствия вытекают из учения об энтропии,
оказывается, во-первых, что теоретически все процессы должны быть
обратимыми. Это — одно из фундаментальных требований динамики.
Этого же со всей заостренностью требует и первое начало. Во-вторых,
однако, оказывается, что в реальности все вообще природные процессы
необратимы. Даже в искусственных условиях экспериментального про¬
цесса самый наипростейший процесс невозможно в точности пустить
наоборот, т. е. снова восстановить уже пройденное состояние. Нет ниче¬
го более характерного для современного состояния системы, чем введе¬
ние гипотезы «элементарного беспорядка» с тем, чтобы компенсировать
противоречием между духовным требованием и тем, что переживается
реально: «мельчайшие частицы» тел (мысленная картина, и не более
того) сплошь выполняют обратимые процессы; мельчайшие частицы в
реальных вещах пребывают в беспорядке и мешают друг другу. Вследст¬
вие этого природный, переживаемый исключительно наблюдателем не¬
обратимый процесс со средней вероятностью связан с возрастанием эн¬
тропии. Так теория становится разделом из теории вероятности и вза¬
мен точных методов в реальности являются статистические.
Очевидно, никто не заметил, что это означает. Статистика, как и
хронология, относится к области органического, к переменчиво по¬
движной жизни, к судьбе и случайности, а не к миру законов и вневре¬
менной каузальности. Всем известно, что она в первую очередь служит
для характеристики политических и экономических, т. е. исторических
явлений. В классической механике Галилея и Ньютона ей не было мес¬
та. То, что здесь внезапно постигается и становится постижимым ста¬
тистически, с вероятностной, а не с априорной точностью, которой в
один голос требовали мыслители барокко, так это сам человек, кото¬
рый переживает природу, ее познавая, который переживает в ней само¬
го себя. То, что с внутренней необходимостью изображает теория, эти
не существующие в действительности обратимые процессы, представ¬
ляет собой остаток той строго духовной формы, остаток великой ба¬
рочной традиции, что шла рука об руку с контрапунктическим стилем.
Обращение к статистике обнаруживает иссякание действовавшей в
этой традиции упорядочивающей силы. Становление и ставшее, судь¬
ба и каузальность, исторические и природные элементы начинают рас¬
плываться. Наружу выступают формальные элементы жизни: рост,
старение, продолжительность жизни, направление, смерть.
Под таким углом зрения это должно означать необратимость при¬
родных процессов. В отличие от физического знака t, они являются
выражением подлинного, исторического, внутренне пережитого вре¬
мени, тождественного судьбе.
Физика барокко была от начала и до конца строгой систематикой,
пока теориям, подобным данной, еще не дозволялось потрясать ее осно-
458
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
ваний, пока в ее картине невозможно было найти ничего такого, что вы¬
ражало бы случайность и простую вероятность. Однако с данной тео¬
рией она стала физиономикой. Прослеживается «ход вещей в мире». Идея
конца света возникает в обличье формулы, которая по сути формулой
больше не является. Тем самым в физику проникает нечто гётеанское, и
вся весомость этого факта обнаружится лишь тогда, когда мы уясним,
что означала страстная полемика Гёте против Ньютона в области учения
о цвете. Узрение возражало здесь рассудку, жизнь — смерти, творческий
образ — упорядочивающему закону. Критический мир форм природове¬
дения возник на основе противоречия из ощущения природы, из ощуще¬
ния Бога. Здесь, на исходе позднего времени он достиг максимума от¬
стояния, а теперь возвращается обратно к своему истоку.
Так действующая в динамике сила воображения своими чарами еще
раз вызывает на свет великие символы исторической страсти фаустов¬
ского человека — вечное попечение, пристрастие к удаленнейшим да¬
лям прошлого и будущего, оглядывающееся вспять историческое ис¬
следование, всматривающееся в будущее государство, исповеди и са¬
монаблюдения, далеко разносящиеся над всеми народами и
отмеряющие жизнь удары колоколов. Этос слова «время», каким вос¬
принимаем его мы и только мы одни, каким оно заполняет инструмен¬
тальную музыку в противоположность статуарной скульптуре, направ¬
лен к цели. Во всех жизненных видениях Запада эта цель находила свое
зримое воплощение в качестве третьего царства, новой эпохи, задачи
человечества, наконец, результата развития. И это-то и означает энт¬
ропия для целостного существования и судьбы фаустовского мира как
природы.
Уже мифическое понятие силы, предпосылка всего этого догмати¬
ческого мира форм, молчаливо предполагает ощущение направления,
связь с прошлым и грядущим; она становится еще более явственной в
обозначении природных явлений как процессов. Поэтому следует ска¬
зать, что энтропия как бесконечная сумма всех природных событий,
обобщенная в качестве исторического и физиономического единства, не¬
явным образом изначально лежит в основе всех физических понятий¬
ных образований, и что в один прекрасный день она обнаружится как
«открытие» на путях научной индукции — и тогда ее надо будет наде¬
лить «целостным обоснованием» со стороны прочих теоретических
элементов системы. Чем больше приближается динамика к цели вслед¬
ствие исчерпания внутренних возможностей, тем решительнее на пер¬
вый план выступают исторические черты картины, тем отчетливее на¬
ряду с неорганической необходимостью о себе заявляет органическая
необходимость судьбы, наряду с факторами чистой протяженности —
объемом и напряженностью — фактор направления. Все это происхо¬
дит посредством целого ряда смелых гипотез одинакового строения,
которые лишь на первый взгляд получают обоснование со стороны
459
f/iaee шестая. Фаустовское и аполлоническое познание природы
данных экспериментов, на самом же деле все они уже предчувствова¬
лись мироощущением и мифологией еще готической эпохи.
В первую очередь сюда относится сумасбродная гипотеза распада
атома, дающая истолкование радиоактивным явлениям. Согласно ей,
атомы урана, которые на протяжении миллионов лет, несмотря на все
внешние воздействия, сохраняли свою сущность неизменной, внезап¬
но и без какой-либо видимой причины взрываются и рассеивают по
мирозданию свои мельчайшие частицы со скоростью, составляющей
тысячи километров в секунду. Эта судьба постигает среди множества
радиоактивных атомов лишь отдельные, в то время как соседние оста¬
ются ею совершенно незатронутыми. Также и эта картина представля¬
ет собой историю, а не природу, и если также и здесь необходимым
оказывается применение статистики, возможным оказывается гово¬
рить едва ли не о замене числа математического — хронологическим*.
С этим представлением мифическая формообразующая сила фаус¬
товской души возвращается к своему истоку. Как раз тогда, когда в на¬
чале готики были сконструированы первые механические часы, сим¬
вол исторического мироощущения, возник и миф о рагнарёке, конце
света, закате богов. И пускай даже это представление, каким мы его
имеем в «Вёлуспе» и в христианской редакции — в «Муспилли», как и
все якобы прагерманские мифы, возникало не без пра-образа антич¬
ных и в первую очередь христианско-апокалиптических мотивов, в
данной своей форме оно является выражением и символом фаустов¬
ской и никакой другой души. Мир олимпийских богов внеисторичен.
Он не знает никакого становления, никаких переломов, никакой цели.
Однако страстное тяготение к дали — фаустовская черта. Сила и воля
обладают целью, а там, где имеется цель, для исследовательского
взгляда существует также и конец. То, что выражала в перспективе ве¬
ликой масляной живописи точка схождения прямых, в барочном пар¬
ке — point de vue [точка обозрения (фр.)], в математическом же анали¬
зе — остаточный член бесконечного ряда, а именно завершение иско¬
мого направления, выступает здесь в понятийной форме. Фауст второй
части трагедии умирает, потому что он достиг своей цели. Конец света
как завершение внутренне необходимого развития — вот закат богов.
Это-то и означает учение об энтропии — как последняя, как безрелиги-
озная редакция мифа.
15
Остается только обрисовать конец западной науки в целом, кото¬
рый ныне, когда она полого идет вниз, может быть с надежностью пред¬
угадан заранее.
*
В самом деле, представление о продолжительности жизни элементов произвело
на свет понятие полураспада в 3,85 дня (Fajans К., Radioaktivitat. 1919. S. 12).
460
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Также и это, предвидение неотвратимой судьбы, относится к при¬
даному исторического взгляда, которым обладает лишь один фаустов¬
ский дух. Умерла также и античность, однако она об этом и не догады¬
валась. Она верила в вечное существование. И даже последние дни,
каждый из них по отдельности, переживались ею с ощущением безоб¬
лачного счастья, как дар богов. Мы знаем свою историю. Нам еще
предстоит последний духовный кризис, который охватит весь европей¬
ско-американский мир. О его протекании нам рассказывает поздний
эллинизм. Тирания рассудка, которая не воспринимается нами, пото¬
му что мы сами пребываем в ее зените — это во всякой культуре эпоха,
пролегающая между зрелым мужчиной и стариком, и не более того.
Наиболее явным ее выражением является культ точных наук, диалек¬
тики, доказательства, опыта, каузальности. В ионике и в барокко мы
видим расцвет этого культа; спрашивается, в каком виде он придет к
своему завершению.
Предсказываю: еще в настоящем столетии, столетии научно-крити¬
ческого александризма, столетии великой жатвы и окончательных ре¬
дакций, воля к победе науки окажется преодоленной новой чертой за¬
душевности. Точная наука приходит к самоуничтожению вследствие
все большего утончения собственной постановки вопросов и собст¬
венных методов. Вначале (в XVIII в.) были опробованы ее средства, за¬
тем (в XIX в.) была опробована ее мощь; теперь мы наконец видим ее
историческую роль. Однако от скепсиса дорога ведет к «второй религи¬
озности» , которая наступает не до культуры, но после нее. Мы воздер¬
живаемся от доказательств; мы желаем верить, а не расчленять. Крити¬
ческое исследование перестает быть духовным идеалом.
Отдельный человек заявляет о своем отказе, откладывая в сторону
книги. Отказ культуры заключается в том, что она перестает обнаружи¬
ваться в высших научных интеллигенциях; однако наука существует
лишь в живом мышлении великих поколений ученых, и книги — ни¬
что, если они не оживают и не действуют в людях, которым они по пле¬
чу. Научные результаты — это исключительно элементы духовной тра¬
диции. Смерть науки заключается в том, что она больше ни для кого не
событие. Однако наступило пресыщение двумястами годами научных
оргий. Пресытились не отдельные люди, нет, пресытилась сама душа
культуры. Это выражается в том, что те исследователи, которых высы¬
лает в исторический мир современности душа культуры, оказываются
все мельче, уже, бесплоднее. Великим столетием античной науки был
III век, после смерти Аристотеля. Когда явились римляне, когда умер
Архимед, все уже было по сути завершено. Нашим великим столетием
оказался XIX век. Уже ок. 1900 г. почти не было ученых, чей стиль мож¬
но было бы сравнить со стилем Гаусса, Гумбольдта, Гельмгольца. Как в
физике, так и в химии, как в биологии, так и в математике великие мас¬
тера вымерли, и теперь мы переживаем decrescendo блестящих после-
* Ср. с. 769.
рлава шестая. Фаустовское и аполлоническое познание природы
461
дышей, которые, подобно александрийцам римской эпохи, упорядо¬
чивают, собирают и подводят итог. Это — всеобщий симптом для всего,
что не принадлежит к фактической стороне жизни, к политике, техни¬
ке и экономике. После Лисиппа мы не видим больше ни одного вели¬
кого скульптора, явление которого оказалось бы судьбоносным; после
импрессионистов нет больше ни одного художника, после Вагнера —
ни одного музыканта. Эпоха цезаризма не нуждается в искусстве и фи¬
лософии. Вслед за Эратосфеном и Архимедом, творцами в собствен¬
ном смысле слова, идут Посидоний и Плиний, которые отбирают, про¬
являя при этом вкус, и наконец Птолемей и Гален, которые только пе¬
реписывают у других. Подобно тому, как масляная живопись и
контрапунктическая музыка в немногие столетия исчерпала возмож¬
ности органического развития, так и динамика, мир форм которой рас¬
цветает ок. 1600 г., ныне представляет собой рушащееся здание.
Однако еще прежде этого перед фаустовским, преимущественно
историческим духом возникает никогда прежде не ставившаяся и даже
не мыслившаяся в качестве возможной задача. Еще будет написана
морфология точных наук, которая исследует, в какой внутренней связи,
как формулы, находятся все законы, понятия и теории и что они как
таковые знаменуют собой в биографии фаустовской культуры. Теоре¬
тическая физика, химия, математика, рассмотренные как совокуп¬
ность символов, — вот окончательное преодоление механистического
воззрения на мир с помощью интуитивного, вновь религиозного его
рассмотрения. Это есть последний шедевр физиономики, вбирающий
в себя в качестве выражения и символа также и систематику. В буду¬
щем мы не будем задаваться вопросом, какие общезначимые законы
лежат в основе химического сродства или диамагнетизма (догматика,
которой было исключительно занято XIX столетие), мы будем даже
изумляться, что вопросы такого рода полностью завладевали умами та¬
кого уровня. Мы будем исследовать, откуда берутся эти предопреде¬
ленные фаустовскому духу формы, почему они должны возникать
именно у нас, людей одной-единственной культуры в отличие от всех
прочих, и какой глубокий смысл заключается в том, что полученные
числа появились перед нами именно в данном картинном обличье.
При этом мы сегодня едва ли догадываемся о том, чтб из якобы объек¬
тивных величин и опытов представляет собой исключительно обличье,
только внешность и выражение.
Отдельные науки — теория познания, физика, химия, математика,
астрономия все с большей быстротой сближаются друг с другом. Мы
приходим к полному тождеству результатов, а тем самым и к слиянию
воедино миров форм, которое, с одной стороны, представляет собой
сведенную к немногочисленным базовым формам систему чисел фун¬
кционального характера, с другой же стороны приносит с собой в каче¬
стве их именования небольшую группу теорий, которая в конечном
итоге может и должна быть распознана как закамуфлированный миф
462
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
раннего времени, а также сведена к образным базовым чертам, имею¬
щим, однако, физиономический смысл. Эта конвергенция осталась
незамеченной, потому что после Канта, а собственно говоря, уже после
Лейбница ни один ученый больше не владел проблематикой всех точ¬
ных наук.
Еще столетие назад химия и физика были друг другу чужды; сегодня
их уже невозможно рассматривать по отдельности. Вспомним о таких
областях, как спектральный анализ, радиоактивность и тепловое излу¬
чение. Пятьдесят лет назад самое существенное в химии еще можно
было выразить почти что без математики; теперь химические элементы
стоят накануне того, чтобы испариться в математические постоянные
переменных комплексов отношения. Однако элементы в их чувствен¬
ной осязаемости были последними напоминавшими об античной ску¬
льптурности величинами естествознания. Физиология готова сделать¬
ся разделом органической химии и пользоваться средствами исчисле¬
ния бесконечно малых. Четко разделенные в соответствии с органами
чувств области старой физики: акустика, оптика, учение о теплоте ока¬
зались ныне растворившимися и слитыми воедино в динамику мате¬
рии и динамику эфира, чисто математические границы которых уже
более невозможно с точностью соблюдать. Ныне последние наблюде¬
ния теории познания объединяются с наблюдениями высшего матема¬
тического анализа и теоретической физики в чрезвычайно труднодо¬
ступную область, к которой, например, принадлежит или должна была
бы принадлежать теория относительности. Теория излучения различ¬
ных видов радиоактивных излучений представляется таким символь¬
ным языком, в котором не содержится больше ничего наглядного.
Химия стоит накануне того, чтобы вообще отказаться от наглядных
качеств элементов (валентности, веса, сродства, реакционной способ¬
ности) — вместо того, чтобы с как можно большей точностью их опре¬
делять. То, что элементы, в зависимости от их «происхождения» из сое¬
динений, могут характеризоваться по-разному; то, что они представля¬
ют собой комплексы разноплановых единиц, которые хоть и
действуют в экспериментальных условиях («реально») как единство
высшего порядка, а тем самым практически неразделимы, однако об¬
наруживают глубокие различия в том, что касается радиоактивности;
то, что посредством излучения лучистой энергии имеет место разложе¬
ние, а значит, можно говорить о продолжительности жизни элемента,
что, очевидно, полностью противоречит первоначальному понятию
элемента, а тем самым и созданной Лавуазье современной химии, —
все это придвигает соответствующие представления к учению об энт¬
ропии с ее сомнительной противоположностью каузальности и судь¬
бы, природы и истории. Этим самым оказывается обозначенным путь
нашей науки к открытию тождества ее логических или числовых резу¬
льтатов со структурой самого разума, с одной стороны, с другой же — к
тому прозрению, что и вся вообще облачающая эти числа теория пред¬
шестая. Фаустовское и аполлоническое познание природы
463
Глава
ставляет собой исключительно символическое выражение фаустов¬
ской жизни.
Наконец, здесь будет уместно назвать в качестве одного из важней¬
ших ферментов всего мира форм подлинно фаустовское учение о мно¬
жествах, которое резко отличается от прежней математики тем, что за¬
нимается уже не единичными величинами, но совокупностями каким-
то образом одноплановых морфологически величин, например, сово¬
купностью всех квадратных чисел или всех дифференциальных урав¬
нений определенного типа. Теория множеств усматривает в этих сово¬
купностях новые единства, числа высшего порядка и подвергает их ис¬
следованию под новым, ранее совершенно неизвестным углом зрения
в отношении их мощности, порядка, равносильности, счетности . Ко¬
нечные (счетные, ограниченные) множества мы характеризуем в плане
их мощности как «кардинальные числа», в плане их порядка — как «по¬
рядковые» и устанавливаем законы и способы их исчисления. Так что
последнее расширение теории функций, которая постепенно включи¬
ла в язык своих форм всю математику, пребывает в состоянии реализа¬
ции, в соответствии с которой она действует в том, что касается харак¬
тера функций, по принципам теории групп, в том же, что касается зна¬
чений переменных, — по базовым принципам теории множеств. При
этом математика полностью отдает себе отчет в том, что здесь послед¬
ние соображения относительно сущности числа сливаются с логиче¬
скими положениями, так что приходится говорить об алгебраической
логике. Современная геометрическая аксиоматика всецело сделалась
разделом теории познания.
Незаметная цель, к которой все устремляется и которую в первую
голову ощущает как внутренний позыв всякий настоящий исследова¬
тель, — это разработка чистой, количественной трансцендентности,
полное и безоговорочное преодоление кажимости и ее замена непо¬
нятным и неосуществимым для дилетанта образным языком, внутрен¬
нюю необходимость которому сообщит великий фаустовский символ
бесконечного пространства. Круг западного познания природы замы¬
кается. Ввиду глубокого скептицизма этих последних узрений дух сно¬
ва ухватывается за формы раннеготической религиозности. Неоргани¬
ческий, познанный, препарированный окружающий мир, мир как
природа, как система оказывается углубленным до чистой сферы фун¬
кциональных чисел. Мы познали число как один из наиболее изнача¬
льных символов всякой культуры, а отсюда следует, чтсгвозврат к чис¬
тому числу представляет собой возврат бодрствования к его собствен¬
ной тайне, является откровением его формальной необходимости. По
Достижении цели взгляду в конце концов представляется исполинская,
делающаяся все менее доступной чувствам, все более прозрачной сеть,
«Множество» рациональных чисел — счетное, а вещественных — нет. Множест¬
во комплексных чисел двумерное, и из этого следует понятие n-мерного множества,
которое включает в теорию множеств также и геометрические области.
464
Том 1. ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
которая обволакивает все естествознание: это не что иное, как внут¬
ренняя структура привязанного к слову понимания, полагавшего, что
смогло преодолеть кажимость, выделить из нее «истину как таковую».
Однако под ней вновь обнаруживается наиболее исконное и глубин¬
ное, миф, непосредственное становление, сама жизнь. Чем менее ант¬
ропоморфным полагает себя естествознание, тем в большей степени
оно является таковым на самом деле. Оно постепенно устраняет отде¬
льные человеческие черты картины природы только для того, чтобы в
конце концов увидеть, что то, что осталось у него в остатке в качестве
якобы чистой природы, — это и есть сама человечность в несмешанном
и цельном виде. Отбрасывая тень на религиозную картину мира, из го¬
тической души возник городской дух, это alter ego иррелигиозного по¬
знания природы. Ныне, на закате научной эпохи, в период побеждаю¬
щего скептицизма, тучи рассеиваются и утренний ландшафт вновь вы¬
рисовывается с полной отчетливостью.
Последним завершением фаустовской мудрости, пускай лишь в
моменты высочайшего ее взлета, является растворение всего знания в
колоссальную систему морфологических взаимосвязей. Динамика и
анализ по своему смыслу, по языку форм, по самой своей субстанции
тождественны романской орнаментике, готическим соборам, христи¬
анско-германскому вероучению и династическому государству. Из
всего вещает одно и то же мироощущение. Все это родилось и состари¬
лось вместе с фаустовской душой. Их культура — это поставленная
ими в мире, на свету и в пространстве, историческая драма. Объедине¬
ние всех отдельных научных аспектов в целое будет нести на себе все
черты великого искусства контрапункта. Инфинитезимальная музыка
безграничных мировых далей — таково глубинное устремление этой
души в противоположность душе античной с ее скульптурно-эвкли-
довским космосом. Вот великое завещание этой души духу грядущих
культур. Согласно этому завещанию, приведенному как логическая
необходимость фаустовского космического рассудка к формуле дина-
мически-императивной каузальности, развившемуся до повелитель¬
ного, трудящегося, преобразующего Землю естествознания, душа на¬
шей культуры отказывает наследникам мощнейшей трансцендентно¬
сти формы, однако само это завещание, возможно, никогда не будет
прочитано. Тем самым утомленная собственными порывами западная
наука возвратится однажды на свою душевную родину.
ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ
ТОМ 2
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ПЕРВОНАЧАЛО
И ЛАНДШАФТ
I. Космическое и микрокосм
Г
Посмотри на цветы по вечеру, когда один за другим они смыкают
свои лепестки в лучах заходящего солнца. Чем-то жутковатым веет от
них: это слепое, дремотное, привязанное к Земле бытие внушает тебе
безотчетный страх182. Немой лес, безмолвный луг, тот куст и этот вью¬
нок не тронутся с места. Это ветерок играет с ними. Свободна лишь ме¬
ленькая мошка, все еще танцующая в вечернем свете: она летит куда
пожелает.
Само по себе растение — это ничто. Оно образует часть ландшафта,
в котором случай вынудил его пустить корни. Сумерки, прохлада и за¬
крытие всех цветов — это не причина и следствие, грозящая опасность
и ответ на нее, но целостный природный процесс, происходящий под¬
ле растения, с ним и в нем. Каждый отдельный цветок несвободен вы¬
ждать, пожелать или выбрать.
А вот животное выбирать способно. Оно освобождено от связан¬
ности всего прочего мира. Всякий рой мошкары183, все еще толку¬
щей мак над дорогой, одинокая птица, пролетающая в сумерках, ли¬
сица, подстерегающая птичий выводок, — самостоятельные малые
миры в другом, большем мире. Инфузория, которая влачит в капле
воды уже невидимое для человеческого глаза существование, дляще¬
еся секунду и разыгрывающееся в крошечной частичке этой малой
капли, эта инфузория свободна и независима перед лицом целого
мироздания. Дуб-великан, с одного из листьев которого свешивает¬
ся эта капля, — нет!
Связанность и свобода — вот как можно выразить глубочайшее и ко¬
ренное различие растительного и животного существования. Ибо ведь
только растение — всецело то, что оно есть. В существе животного зало¬
жена некая двойственность. Растение лишь растение, но животное —
это растение плюс что-то еще. Стадо, которое, чуя опасность, сбивает¬
ся в плотный сгусток, ребенок, который с плачем виснет на матери, от¬
чаявшийся человек, который хотел бы укрыться в своем Боге, — все
они желают возвратиться из бытия на свободе назад, в то связанное,
растительное, из которого были отпущены в одиночество.
Нижеследующие соображения заимствованы мной из метафизического сочине¬
ния, которое я надеюсь в скором времени издать181.
470 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Под микроскопом видно, что в семени цветущего растения есть два
зародышевых листка, которые образуют и защищают устремляющийся
впоследствии к свету стебель с его органами циркуляции и размноже¬
ния, и тут же третий листок, корневой побег, знак неизбежной судьбы
растения — вновь стать частью ландшафта. У высших животных мы на¬
блюдаем, как в первые же часы своего высвобожденного существова¬
ния оплодотворенное яйцо образует наружный зародышевый листок,
который охватывает средний и внутренний листки, основу будущих
органов циркуляции и размножения, т. е. растительный элемент в теле
животного, и тем самым выделяет его в материнском теле, а значит, и в
остальном мире. Наружный листок — символ животного существова¬
ния в собственном смысле слова. Это он задает различие меж двумя
явившимися в земной истории видами жизни.
Есть для них прекрасные, пришедшие из древности имена: расте¬
ние — нечто «космическое», животное же — это еще и «микрокосм» по
отношению к макрокосму. Живая тварь — микрокосм лишь в силу свое¬
го обособления от мироздания, что делает ее способной самостоятель¬
но определять свое положение в нем. Только эти малые мирки свобод¬
но движутся по отношению к большому миру, который представляется
их сознанию как окружающий мир, тогда как даже планеты в обраще¬
нии остаются привязанными к своим громадным орбитам. Лишь бла¬
годаря этому и обретает значение тела то, что предлагает в пространст¬
ве нашему взору свет. Что-то в нас противится тому, чтобы приписать
тело в собственном смысле также и растению.
Все космическое несет на себе печать периодичности. В нем есть
такт. Все микрокосмическое полярно. Его существо целиком выра¬
жено в слове «против» (gegen). В микрокосмическом имеется напряже¬
ние. Мы говорим о напряженном внимании, о напряженном мышле¬
нии, но и любое состояние бодрствования представляет собой, в сущ¬
ности, напряжение: «чувство» и «предмет», «я» и «ты», «причина» и
«следствие», «вещь» и «свойство» — все это расколото и напряжено, и,
где наступает разрядка (вот слово, исполненное глубокого смысла!),
там тотчас же дает о себе знать усталость микрокосмической стороны
жизни, а в конечном счете наступает сон. Спящий, лишенный всякой
напряженности человек ведет лишь растительное существование.
Однако космический такт — это все, что описывается направлени¬
ем, временем, ритмом, судьбой, стремлением: от цокота копыт упряж¬
ки рысаков и мерной поступи воодушевленной армии до безмолвного
взаимопонимания влюбленных, до такта благородного общества,
внятного одному только чувству, до взгляда знатока человеческой при¬
роды, уже обозначенного мной раньше как физиономический такт184.
Этот такт космических кругообращений продолжает существовать
и действовать невзирая ни на какую свободу микрокосмических дви¬
жений в пространстве, подчас разряжая напряжение всех бодрствую¬
щих единичных существ в едином, прочувствованном, мощном созву¬
первая. Первоначало и ландшафт
471
ГлаМ
чии. Тому, кто когда-либо наблюдал, как стая птиц в небе, не меняя
конфигурации, взмывает вверх, поворачивает, вновь меняет курс и те¬
ряется вдали, доводилось ощутить в этом общем движении раститель-
ную надежность, «оно», «мы», не нуждающиеся ни в каких мостках
взаимопонимания между «я» и «ты». В этом смысл военных и любов¬
ных танцев у людей и животных; так сплавляется в одно целое полк,
идущий в атаку под вражеским огнем, так взбудораженная происшест¬
вием толпа сплачивается в единое тело, которое мыслит и действует
резко, слепо и непостижимо, а через несколько мгновений может рас¬
пасться вновь. Микрокосмические границы оказываются снесенны¬
ми. Здесь бушует и грозит, здесь ломится и тянется, здесь летит, пово¬
рачивает и раскачивается оно. Тела сливаются, ноги мчат сами собой,
один крик рвется из всех глоток, одна судьба ожидает всех. Из сложения
маленьких единичных мирков внезапно возникает целое185.
Восприятие космического такта мы называем чувствованием
(Fuhlen), восприятие микрокосмических напряжений — ощущением
(Empfinden)m. Двойственность значения слова «чувственность» смазы¬
вает это в высшей степени отчетливое различие, существующее между
общерастительной и исключительно животной стороной жизни. Глу¬
бинная же их взаимосвязь обнаруживается в том, что про одну сторону
мы говорим «родовая», или «половая», жизнь (Geschlechtsleben)187, а
про другую — «чувственная» жизнь (Sinnenleben). Первая неизменно
несет в себе момент периодичности, такта: это проявляется в ее созву¬
чии с великими кругообращениями небесных тел, в связи женской
природы с Луной, жизни вообще .— с ночью, с весной, теплом. Вторая
образована напряжениями: свет и освещаемое, познание и познанное,
боль и орудие, ее причинившее. У высокоразвитых видов та и другая
сторона жизни нашла выражение в особых органах. Чем они совер¬
шеннее и завершеннее, тем более очевиден смысл этих сторон жизни.
Мы обладаем двумя органами обращения космического бытия: кровооб¬
ращением и половым органом, и двумя органами различения микрокос-
мической подвижности: чувствами и нервами. Следует предполагать,
что первоначально все тело было органом обращения и в то же время
органом осязания.
Кровь для нас — символ живого. Беспрерывно, никогда не иссякая,
во сне и наяву, перетекая из материнского тела в тело ребенка, цирку¬
лирует она по телу от его зачатия и до смерти. Кровь предков течет по
Цепи потомков, объединяя всех их великой взаимозависимостью судь¬
бы, такта и времени. Первоначально размножение происходило иск¬
лючительно через деление, а затем все новое и новое деление кругооб¬
ращений, пока наконец не появился настоящий орган полового раз¬
множения, сделавший символом длительности единственный миг. И
то, как оплодотворяют и зачинают все живые существа, как стремится
в них растительное начало размножаться дальше, чтобы дать длиться
вечному обращению вовне себя, как бьется единый пульс в удаленных
472
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
друг от друга душах, притягивая их и понуждая, препятствуя им и даже
их уничтожая, — вот глубочайшая из всех тайн жизни, проникнуть в
которую пытаются все религиозные мистерии и все великие литератур¬
ные творения. Этого трагизма коснулся Гёте в стихотворении «Бла¬
женное томление^и в «Избирательном сродстве», где ребенок был об¬
речен на смерть, поскольку его произвели на свет чуждые круги крово¬
обращения, и потому над ним словно тяготела космическая вина.
В микрокосме, поскольку он свободно движется по отношению к
макрокосму, добавляется еще орган различения, «чувство», изначаль¬
но являющееся осязанием и больше ничем. То, что мы, пребывая уже
на такой высокой ступени развития, называем в общем смысле осяза¬
нием, — осязанием посредством глаза, слуха, рассудка, — есть, в сущ¬
ности, простейшее обозначение подвижности существа и возникаю¬
щей отсюда необходимости непрерывно устанавливать свое положе¬
ние по отношению к окружающему. Однако установить положение —
значит определить место. Поэтому все чувства, как бы высокоразвиты
они ни были и как бы ни различались по происхождению, являются,
собственно говоря, чувствами места: никаких иных просто не сущест¬
вует. Ощущение любого рода различает свое и чужое, и чутье служит
собаке, чтоб определить положение чужого по отношению к себе, так
же хорошо, как слух оленю и глаз орлу. Цвет, свет, звук, запах, вообще
все возможные способы ощущения знаменуют расстояние, отдаление,
протяжение.
Как и космическое кровообращение, первоначально единством
была также и различающая деятельность чувств: активное чувство —
это всегда также и понимающее чувство; поиск и нахождение были на
этой примитивной стадии слиты именно в то, что мы вполне обосно¬
ванно назвали осязанием. Лишь позднее в связи с повышенными тре¬
бованиями к развитым чувствам ощущение уже не является в то же
время и пониманием ощущения, так что понимание постепенно все
отчетливее обособляется от простого ощущения. В наружном зароды¬
шевом листке от органа чувств отделяется критический орган — подоб¬
но тому как прежде отделился от кровообращения половой орган, а ор¬
ган чувств в свою очередь вскоре делится на резко обособленные орга¬
ны единичных чувств. О том, с какой несомненностью воспринимаем
мы все понимание как таковое в качестве производного от ощущения и
с каким единообразием действует то и другое в ходе распознающей де¬
ятельности еще даже человека, свидетельствуют такие выражения, как
«проницательный», «подозрительный», «узрение», «пронюхать»,
«смотреть в суть», не говоря уже о таких логических терминах, как «по¬
нятие» (Begriff) и «вывод» (SchluB)188, всецело происходящих из сферы
зрения.
Скажем, вот безучастно лежит собака, но вдруг она начинает напря¬
женно прислушиваться и принюхиваться: к простому ощущению до¬
бавляется понимание. Однако и собака может быть задумчивой — тут
i. Первоначало и ландшафт
473
еятельно почти одно только понимание, играющее притупленными
ощущениями. Старинные языки очень четко выражали соответствую¬
щее нарастание понимания, обособляя каждую новую его ступень в ка¬
честве деятельности особого рода и давая ей собственное имя: слу-
щагь — слышать — внимать; нюхать — обонять — чуять; смотреть —
видеть — зреть. Содержание понимания в сравнении с ощущением в
таких рядах постоянно растет.
И вот, наконец, развивается высшее из всех чувств. Нечто в миро¬
здании, чему определено оставаться вечно непроницаемым для нашего
желания понять, пробуждает себе телесный орган: возникает глаз и в
глазе, вместе с глазом, в качестве другого его полюса, возникает свет. И
пускай себе абстрактное мышление желает отмыслить свет и рисует
нам взамен него умозрительные образы «волн» или «лучей», — жизнь
как действительность с этого момента и впредь охвачена светомиром
глаза и к нему приобщена. Вот чудо, на котором базируется все прочее,
что связано с человеком. Лишь в светомире глаза дали обретают цвет¬
ность и светность, лишь в этом мире существуют день и ночь, зримые
вещи и зримые движения в широко раскинувшемся световом про¬
странстве, мир бесконечно далеких светил, кружащих вокруг Земли,
световой горизонт отдельной жизни, далеко простирающийся за то,
что соседствует с телом. В этом-то светомире, истолковываемом всей
наукой лишь с помощью опосредованных, внутризрительных пред¬
ставлений («теоретически»189), все и происходит: по планетке Земля
бродят зрячие человеческие толпы, а вся жизнь здесь определяется в
том числе и световым половодьем, захлестывающим египетскую или
мексиканскую культуру, либо нависшей над Севером световой засу¬
хой. Это глазу предназначает человек чары своих архитектурных творе¬
ний, тем самым преобразуя в них телесно-осязательное чувство текто¬
ники в светорожденные отношения. Религия, искусство, мышление
возникли для света, а все различия между ними сводятся к тому, обра¬
щаются ли они к телесному глазу или к «глазу ума».
Это позволяет вполне уяснить то различие, которое обыкновенно
бывает также смазано нечеткостью понятия «сознание». Я различаю
существование (Dasein) и бодрствование (Wachsein)m. У существования
имеются такт и направление, бодрствование есть напряжение и протя¬
жение. В существовании господствует судьба, бодрствование различа¬
ет причины и следствия. Первому всего важнее первовопросы «когда?»
и «почему?», второму — «где?» и «как?».
Растение ведет жизнь существования без бодрствования. Во сне все
существа становятся растениями: напряжение по отношению к окру¬
жающему миру сп&ю, такт жизни длится. Растению известны лишь
«когда?» и «почему?». Проклевывание из-под зяби первого зеленого
ростка, набухание почек, буйная мощь цветения, аромата, красочно¬
сти, вызревания — все это есть желание исполнить судьбу и неизменно
томительный вопрос «когда?».
474
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
«Где?» не имеет для растительного существования никакого смыс¬
ла. Это вопрос, которым ежедневно задается в отношении мира про¬
буждающийся человек. Ибо только пульс существования сохраняется
на протяжении всех поколений. Бодрствование для каждого микро¬
косма начинается заново: в этом разница между зачатием и рождением.
Одно — залог длительности, второе — ее начало. И потому-то растение
зачинается, но не рождается. Вот оно, здесь, однако никакое пробуж¬
дение, никакой первый день не распахивают ему чувственного мира.
2
Но вот перед нами человек. Уж более ничто в его чувственном бодр¬
ствовании не покушается на безраздельность господства глаза. Всяче¬
ские ночные шумы, ветер, дыхание зверей, аромат цветов пробуждают
лишь «куда?» и «откуда?» в мире света. Даже о мире чутья, которым
упорядочивает свои зрительные впечатления ближайший спутник че¬
ловека, собака, мы не имеем совершенно никакого представления, как
ничего не знаем о мире бабочки, чей кристаллический глаз не создает
никакого образа, и об окружающем мире животных, наделенных чув¬
ствами, однако лишенных зрения. Нам осталось одно только простран¬
ство глаза. И остатки иных чувственных миров — звуки, запахи, тепло¬
та и холод — обрели здесь свое место в качестве «свойств» и «действий»
световых вещей. Тепло исходит от видимого огня; аромат исходит от на¬
блюдаемой в световом пространстве розы; мы говорим о звуке скрип¬
ки. Что до звезд, наши отношения бодрствования с ними ограничены
тем, что мы их видим. Они светят у нас над головами и прокладывают
свой зримый путь. Несомненно, животные и даже первобытные люди
еще связаны с ними вполне отчетливыми для них самих ощущениями
совершенно иного рода, которыми мы отчасти опосредованно овладе¬
ваем через научные представления, отчасти же овладеть уже не в состо¬
янии.
Это обеднение чувственного означает в то же самое время и неизме¬
римое его углубление. Отныне человеческое бодрствование не означает
простого напряжения между телом и окружающим миром. Теперь оно
представляет собой жизнь в замкнутом со всех сторон светомире. Тело
движется в видимом пространстве. Переживание191 глубины192 представ¬
ляет собой колоссальное проникновение в зримые дали из светоцент-
ра — точки, называемой нами «я». «Я» — световое понятие. Начиная с
этого момента, жизнь «я» — это жизнь под солнцем, а ночь родственна
смерти. Отсюда возникает новое чувство страха, вбирающее в себя все
прочие: страх незримого, того, что человек слышит, ощущает, о чем он
догадывается и чье действие видит, без того, чтобы увидеть его само.
Животным ведомы совершенно иные, загадочные для людей формы
страха, ибо у высших людей обречен на исчезновение также и страх ти-
fyaea первая. Первоначало и ландшафт 475
щины, которую первобытный человек и дети стремятся разогнать и
спугнуть шумом и громким разговором. Страх же незримого накладыва¬
ет отпечаток на всю человеческую религиозность. Божества — это пред¬
чувствуемые, представляемые, узреваемые световые реалии. «Незри¬
мый Бог» является высшим выражением человеческой трансцендентно¬
сти. Потусторонность находится там, где пролегают границы светомира;
спасение — освобождение от чар света и его фактов.
Именно на этом основано несказанно волшебное действие музыки
на нас, людей, и ее в полном смысле освобождающая сила. Ведь музы¬
ка — единственное искусство, чьи средства находятся за пределами
светомира, который уже издавна сделался для нас равнозначным миру
вообще. Только музыка способна разом увести от мира, разрушить
крепчайшие чары господства света и породить сладкую иллюзию того,
что здесь мы прикасаемся к глубинной тайне души. Иллюзия эта воз¬
никает в связи с тем, что в бодрствующем человеке одно из чувств гос¬
подствует так безраздельно, что он уже не в состоянии выстроить из
своих звуковых впечатлений мир уха, но лишь включает их в мир свое¬
го глаза.
Поэтому и человеческое мышление — это глазное мышление, наши
понятия выведены из зрения, а вся вообще логика представляет собой
воображаемый светомир.
То же сужение чувственного и, именно по этой причине, его углуб¬
ление, которое подчинило все ощущения зрению, заменило бесчис¬
ленные известные животным разновидности чувственных сообщений,
охватываемые нашим понятием языка, одним-единственным словес¬
ным языком, и отныне он служит мостом взаимопонимания людям,
беседующим, взирая друг на друга через световое пространство или
представляя своего собеседника внутренним зрением. Прочие виды
речи, от которых сохранились лишь остатки, такие, как мимика, жес¬
ты, интонация, уже давно растворились в словесном языке. Различие
между всеобщим животным звуковым языком и чисто человеческим
словесным языком в том, что слова и словесные сочетания образуют
царство внутренних световых представлений, возникшее и развившее¬
ся в условиях тирании глаза. Всякое словесное значение заряжено све¬
товым смыслом, даже в тех случаях, когда речь идет о таких словах, как
«мелодия», «вкус», «холод», или о совершенно абстрактных понятиях.
Уже у высших животных вследствие привычки находить взаимопо¬
нимание посредством чувственного языка делается явным различие
простого ощущения и ощущения понимающего. Если мы обозначим эти
Два вида микрокосмической деятельности как чувственное впечатление
и суждение чувств, т. е., к примеру, суждение обоняния, вкуса, слуха, то
оказывается, что зачастую уже у муравьев и пчел, у хищных птиц, ло¬
шадей и собак в значительной степени доминирует та сторона бодрст¬
вования, которая выносит суждение. Но только оперирование словес¬
ным языком внутри деятельного бодрствования приводит к открытому
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
476
противопоставлению ощущения и понимания — т. е. напряжению, со¬
вершенно немыслимому у животных, ибо даже у самого человека, надо
полагать, оно изначально могло иметь место лишь в редких случаях.
Развитие словесного языка приводит к решающему обстоятельству:
эмансипации понимания от ощущения.
Неразделимо целостное понимающее ощущение все чаще и чаще
подменяется пониманием значения чувственных впечатлений, сами же
ощущения при этом почти полностью игнорируются. В конце концов
эти впечатления вытесняются воспринимаемыми значениями привыч¬
ных словесных звучаний. Слово, изначально имя зримой вещи, испод¬
воль становится знаком мыслимой вещи, «понятия». Мы далеки от того,
чтобы четко постигать смысл такого имени (это имеет место лишь в слу¬
чае совершенно новых имен), и одно слово мы никогда не используем
дважды в одном и том же значении; никто не понимает данное слово в
точности так, как другой. И тем не менее понимание при помощи обще¬
го для людей языка возможно — на основе и посредством вводимого
употреблением языка мировоззрения, в котором оба собеседника живут
и действуют так, что обычного звучания слов достаточно для пробужде¬
ния родственных представлений. А значит, именно отвлеченное от зре¬
ния посредством словесного звучания, абс-трактноет мышление уста¬
навливает резкую границу между общеживотной и присоединяющейся
к ней чисто человеческой разновидностью бодрствования (как ни редко
можно встретить людей, у которых бы мышление обладало достаточной
степенью автономности). Подобным же образом на более ранней ступе¬
ни и бодрствование как таковое установило границу между общерасти¬
тельным и чисто животным существованием.
Отвлеченное от ощущения понимание называется мышлением. Мыш¬
ление навсегда внесло в человеческое бодрствование раскол. Оно из¬
начально дало оценку рассудку как высшим душевным194 силам, а чув¬
ственности — как низшим. Оно создало роковую противоположность
между светомиром глаза, который обозначается отныне как мир кажи¬
мости и обмана чувств, с одной стороны, и миром представления в бук¬
вальном смысле, где копошатся понятия с их никогда не блекнущей
легкой световой окрашенностью, — с другой. Лишь последний стано¬
вится теперь для человека, поскольку он «мыслит», подлинным миром,
миром как он есть. Первоначально «я» равнялось бодрствованию вооб¬
ще, поскольку, видя, оно воспринимало себя как средоточие светоми-
ра; теперь оно становится «духом», а именно чистым пониманием, «по¬
знающим» себя как таковое, и уже вскоре начинает воспринимать как
уступающие ему в ценности не только окружающий мир, но и прочие
элементы жизни, «тело». Знаком этого служит как прямохождение че¬
ловека, так и одухотворенность черт его лица, выражение которого все
более сосредоточивается во взгляде и в строении лба и висков .
* Отсюда и животность — в горделивом или низменном смысле слова — в выраже¬
нии лица тех людей, которые привычкой к мышлению не обладают.
Глава r*PeanL Первоначало и ландшафт
477
Понятно само собой, что сделавшееся самостоятельным мышление
открыло для себя новое применение. К практическому мышлению, на¬
правленному на свойства световых вещей в связи с той или иной пред¬
стоящей задачей, присоединяется теоретическое, прозирающее мыш¬
ление — раздумье, желающее постигнуть свойства этих вещей как они
есть, «суть вещей». Свет абстрагируется от видимого, переживание
глубины глазом явственно и энергично перерастает в переживание глу¬
бины в царстве окрашенных светом словесных значений. Люди пола¬
гают, что внутренним взглядом можно всмотреться в действительные
вещи, пронизать их насквозь195. Вырабатываются одно представление
за другим, и наконец мы приходим к мыслительной архитектуре боль¬
шого стиля, строения которой также предстают нам с полной явствен¬
ностью в сиянии внутреннего света.
С теоретическим мышлением внутри человеческого бодрствова¬
ния возникла новая разновидность деятельности. В результате сдела¬
лась неизбежной теперь еще и борьба между существованием и бодр¬
ствованием. Животный микрокосм, в котором существование и бодр¬
ствование связаны в само собой разумеющееся жизненное единство,
знает бодрствование лишь на службе у существования. Животное про¬
сто «живет», оно о жизни не размышляет. Однако безусловное гос¬
подство глаза заставляет жизнь предстать в качестве жизни зримого
существа в свете, и тотчас связанное с языком понимание образует по¬
нятие мышления, а в качестве противоположного — понятие жизни, и
в конце концов приходит к различению жизни как она есть и какой
она должна быть. На смену беззаботной жизни является противопо¬
ложность «мышление и действие». Она не только возможна, чего в
животном не было: уже вскоре она становится фактом для всякого че¬
ловека, а в конце концов — альтернативой для него. Это оформило
всю историю зрелого человечества со всеми ее явлениями, и, чем
выше культура, тем безраздельнее господствует данная противопо¬
ложность как раз в наиболее значительных мгновениях ее бодрство¬
вания.
Растительно-космическое, судьбоносное существование, кровь,
пол обладают изначальным господством и его сохраняют. Они суть
жизнь. Прочее лишь служит жизни. Однако это прочее не желает
служить. Оно хочет господствовать и полагает, что господствует. Об¬
ладание властью над телом, над «природой» — одно из главнейших
притязаний человеческого духа; возникает, однако, вопрос: а не слу¬
жит ли жизни сама вера в такую власть? Почему наше мышление
мыслит именно так? Быть может, потому, что этого желает космиче¬
ское, «оно»? Мышление доказывает свою власть, называя тело пред¬
ставлением, познавая его ничтожество и заставляя голос крови
смолкнуть. Однако кровь действительно господствует, когда молча
Принуждает деятельность мышления начаться — и прекратиться.
Различие между речью и жизнью также и в этом. Существование мо¬
478
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
жет обойтись без бодрствования, а жизнь — без понимания, но не
наоборот. Что бы там ни было, мышление господствует лишь в «цар¬
стве мысли».
3
Рассматриваем ли мы мышление как создание человека или высше¬
го человека — как порождение мышления, разница будет лишь словес¬
ной. Однако само мышление всегда определяло свое положение внут¬
ри жизни неверно, слишком высоко — не замечая никаких отличных
от себя видов удостоверения в чем бы то ни было либо не признавая их,
а потому непредубежденным оно быть не могло. И в самом деле, все во¬
обще профессиональные мыслители (ибо во всех культурах тон здесь
задают почти исключительно одни они) усматривали в холодном, абст¬
рактном мышлении самоочевидную деятельность, посредством кото¬
рой человек достигает «последних предметов». Как в чем-то несомнен¬
ном, они убеждены: то, к чему они приходят на этом пути как к «исти¬
не», есть именно то, к чему они как к истине стремились, а вовсе не
иллюзорная картина недоступных тайн.
Хоть человек и мыслящее существо, он далек от того, чтобы быть
созданием, чье существование состоит в мышлении. Прирожденные
мудрователи не обратили на это внимания. Цель мышления — исти¬
на1 . Истины устанавливаются, т. е. извлекаются в форме понятий из
живой неуловимости светомира, чтобы обрести постоянное место в си¬
стеме, в некоего рода духовном пространстве. Истины абсолютны и
вечны, т. е. ничего общего с жизнью они более не имеют.
Однако для животного существуют только факты и никаких истин.
В этом различие практического и теоретического понимания. Факты и
истины различаются точно так же, как время и пространство, как судь¬
ба и причинность. Факт наличествует в полноценном бодрствовании,
т. е. состоящем у существования на службе, а не только в одной его сто¬
роне, при якобы выключенном существовании. Действительная
жизнь, история знает лишь факты. Жизненный опыт и знание людей
направлены только на факты. Деятельный человек, человек действую¬
щий, водящий, борющийся, который изо дня в день обязан самоутвер¬
ждаться перед властью фактов, ставить их себе на службу или им поко¬
риться, смотрит на голые истины свысока, как на нечто малозначите¬
льное. Для подлинного государственного деятеля есть лишь
политические факты и никаких политических истин. Знаменитый во¬
прос Понтия Пилата — это вопрос всякого делового человека197.
Одно из величайших достижений Ницше — то, что он наметил
проблему ценности истины, знания, науки. В глазах всякого прирож¬
денного мыслителя и ученого, усматривающего здесь покушение на
самое свое существование, это было легкомысленным богохульством.
и Первоначало и ландшафт
479
fjiaea№P!¥¥L-
Тот же Декарт желал усомниться во всем198, но уж явно не в ценности
своего вопроса.
Однако ставить вопросы и верить в их разрешимость — далеко не
одно и то же. Растение живет и этого не знает. Животное живет и знает
это. Человек дивится своей жизни и вопрошает. Однако и человек не в
состоянии дать ответ. Он может лишь верить в его правильность, и в
этом Аристотель ничем не отличается от самого жалкого дикаря.
Но почему тайны следует разгадать, а на вопросы дать ответ? Не
проглядывающий ли уже в детских глазах испуг (это жуткое дополне¬
ние к человеческому бодрствованию, между тем как соответствующее
бодрствованию освобожденное от чувств понимание пребывает теперь
в неясном самодостаточном брожении), не этот ли страх должен про¬
никнуть во все глубины окружающего мира, достигая избавления лишь
в решениях199? Способна ли отчаянная вера в знание освободить от
кошмара великих вопросов?
«Ведь трепет — наше высшее отличье»200. Тот, кому судьба отказала
в этом, должен попытаться обнажить тайны, пощупать то, к чему сле¬
дует испытывать благоговение, все разложить и уничтожить — и изв¬
лечь отсюда свой улов знания. Стремиться создать систему означает
стремиться уничтожить живое: оно устанавливается, цепенеет, укла¬
дывается в логическую цепь. Дух одерживает победу, доведя дело до
полного оцепенения.
Когда употребляют слова «разум» и «рассудок», обыкновенно име¬
ют в виду различие между, с одной стороны, растительным предчувст¬
вием и чувствованием, которые лишь пользуются языком глаза и слова,
а с другой — самим животным пониманием, которое языком вводится.
Разум вызывает к жизни идеи, рассудок находит истины; истины без¬
жизненны и могут сообщаться другим, идеи принадлежат непосредст¬
венно живой самости того, кто их создает, и могут лишь соощущаться.
Сущность рассудка — критика, сущность разума — творчество. Разум
порождает существенное, рассудок его предполагает. О том же глубо¬
кое суждение Бейля, что рассудка достает лишь на обнаружение оши¬
бок, но не на открытие истин. И в самом деле, понимающая критика
поначалу практикуется и развивается на связанном с ней чувственном
ощущении. Здесь, в чувственном суждении, ребенок и научается по¬
стигать и различать. Абстрагировавшись от этой стороны и обратив¬
шись к себе самой, критика нуждается в какой-то замене чувственной
Деятельности, служившей ей прежде объектом. Но замена может быть
найдена лишь в уже существующем способе мышления, на котором аб¬
страктная критика теперь и практикуется. Иного мышления, такого,
которое бы свободно выстраивало что-то из ничего, не бывает.
Ведь первобытный человек создал себе религиозную картину мира
еще задолго до того, как стал мыслить абстрактно. Картина эта и явля¬
ется тем предметом, над которым теперь критически трудится рассу¬
док. Вся наука выросла при религии, в свете всех до единой душевных
480
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
предпосылок религии201, и не является ничем, кроме как абстрактным
улучшением этого прежнего менее абстрактного учения, рассматрива¬
емого теперь как ложное. Всякая наука продолжает сохранять религи¬
озное ядро в багаже своих фундаментальных понятий, очередных задач
и научных методов. Всякая обнаруживаемая рассудком новая истина
представляет собой не что иное, как критическое суждение относите¬
льно другой, уже имевшейся. Вследствие полярности нового и старого
знания в мире рассудка имеется лишь относительно верное, а именно
суждения более убедительные, чем прочие. Критическое знание поко¬
ится на вере в превосходство сегодняшнего понимания над вчераш¬
ним. А тем, что принуждает нас к этой вере, оказывается опять-таки
жизнь.
Так способна ли критика разрешить великие вопросы, или она мо¬
жет лишь устанавливать их неразрешимость? В начале знания мы ве¬
рим в первое. Чем больше мы узнаём, тем более очевидным для нас ста¬
новится второе. Пока мы сохраняем надежду, мы называем тайну
проблемой.
Таким образом, перед бодрствующим человеком возникает дилем¬
ма бодрствования и существования, или пространства и времени, или
мира как природы и мира как истории, или мира как напряжения и
мира как такта. Бодрствование старается понять не только само себя,
но и нечто ему чуждое. Даже если внутренний голос скажет ему, что все
возможности понимания исчерпаны, все равно страх убедит всякое
живое существо продолжать искать дальше и удовлетворится скорее
кажимостью решения, чем взглядом, упертым в пустоту. 44
Бодрствование состоит из ощущения и понимания, сущность их —
в неустанной ориентировке в макрокосме. В силу этого бодрствование
значит то же, что «самоопределение», причем неважно, идет ли речь об
осязании инфузории или человеческом мышлении высшего уровня.
Так что осязающее само себя бодрствование первым делом приходит к
проблеме познания. Что такое познание? Что такое познание познания?
И как соотносится то, что подразумевалось вначале, с тем, что впослед¬
ствии улавливается словом? Бодрствование и сон сменяют друг друга с
обращением звезд, как день и ночь. Познание и сновидение также сме¬
няют друг друга. Как отличаются они друг от друга?
Однако бодрствование, причем как ощущающее, так и понимаю¬
щее, означает то же, что существование противоположностей, напри¬
мер противоположностей между познанием и познанным, или вещью
и свойством, или предметом и событием. В чем сущность этих проти¬
воположностей? Так, в качестве второй проблемы здесь появляется
проблема причинности2°2. Два чувственных элемента обозначаются как
f ава первая. Первоначало и ландшафт
481
ичина и действие или два духовных — как основание и следствие: это
П ть определение соотношений по силе и порядку. Если имеется одно,
еолжно быть и другое. Время при этом полностью исключается из
игры. Речь здесь идет не ° Фактах судьбы, но о каузальных истинах, не о
«когда?», но о закономерной зависимости. Несомненно, это наиболее
многообещающая деятельность понимания. Находкам в таком роде
люди обязаны, возможно, счастливейшими мгновениями своей жиз¬
ни. Так по бесконечным рядам последовательностей и восходят они от
противоположностей, с которыми сталкиваются непосредственно в
настоящем, в повседневной близости, в обе стороны — вплоть до пер¬
вой и последней причины в природном устройстве, называемой ими
Богом и смыслом мира. Человек подбирает, выстраивает и пересмат¬
ривает свою систему или свой догмат закономерных взаимосвязей, на¬
ходя здесь убежище от непредсказуемого. Кто способен доказывать,
тому уже не страшно. Однако в чем сущность каузальности? Состоит
ли она в познании, или в познанном, или же в единстве того и другого?
Миру напряжений — как таковому — следовало бы быть застывшим
и мертвым, т. е. являться «вечной истиной», чем-то запредельным вся¬
кому времени, неким состоянием. Однако действительный мир бодр¬
ствования полон изменений. Животное не изумляется этому, а вот
мышление мыслителя теряется: покой и движение, постоянство и из¬
менение, ставшее и становление — разве то, что эти противоположно¬
сти обозначают, уже не запредельно пониманию и не должно тем са¬
мым содержать абсурд203? Не такие ли это факты, которые уже невоз¬
можно абстрагировать от чувственного мира в форме истин? В
познаваемом в безвременье мире' выявляется здесь нечто временнбе:
напряжения предстают как такт, к протяжению присоединяется на¬
правление. Вся сомнительность понимающего бодрствования собира¬
ется воедино в последней и труднейшей проблеме, а именно в проблеме
движения, и на ней освободившееся мышление терпит неудачу204. Тут
обнаруживается, насколько постоянно, сегодня и всегда, все микро-
космическое зависит от космического, чтб для всякого нового сущест¬
ва, причем уже с самого его начала, доказывается наличием наружного
зародышевого листка как простой телесной оболочки. Жизнь способ¬
на существовать без мышления, однако мышление лишь один из видов
жизни. Какие бы грандиозные цели ни намечало себе мышление, в ре¬
альности жизнь использует мышление для своих целей и ставит перед
ним живую цель, совершенно независимую от абстрактных задач. Ре¬
шения проблем могут быть верными или неверными для мышления,
Для жизни же они ценны или бесполезны. Если на проблеме движения
воля к познанию терпит крушение, то, быть может, некий замысел
жизни этим как раз и осуществляется. Несмотря на это и именно в силу
этого все высшее мышление вращается вокруг данной проблемы. Вся
мифология и вся наука возникли из изумления перед тайной движе¬
ния.
16 Закат Западного мира
482
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Проблема движения касается уже тех тайн существования, которые
чужды бодрствованию, однако продолжают оказывать на него давле¬
ние, так что бодрствование не в состоянии от них освободиться. Это
есть желание понять то, что не может быть понято никогда, понять
«когда?» и «почему?», понять судьбу, кровь — все то, что мы ощущаем,
и о чем в глубине души догадываемся, и что мы, рожденные для зрения,
желаем поэтому также увидеть перед собой, на свету, чтобы постичь
это в подлинном смысле слова, удостовериться в этом на ощупь.
Наблюдатель не отдает себе отчета в следующем основополагаю¬
щем факте: все его поиски направлены не на жизнь, но на вйдение жиз¬
ни, не на смерть, но на вйдение смерти. Мы силимся постигнуть кос¬
мическое таким, как оно предстает микрокосму в макрокосме — как
жизнь тела в световом пространстве между рождением и смертью,
между зачатием и разложением, — с тем различением тела и души, ко¬
торое с необходимостью возникает из переживания внутренне-собст¬
венного в качестве чувственно-чуждого.
То, что мы не только живем, но и знаем о «жизни», есть результат этого
созерцания нашего телесного существа на свету. Правда, животное знает
только жизнь, но не смерть. А если бы мы были чисто растительными су¬
ществами, мы бы умирали, не замечая этого, поскольку ощутить смерть и
умереть было бы для нас одним и тем же. Но предсмертный крик слышат
и животные, как видят они труп и чуют разложение; они наблюдают уми¬
рание, однако его не понимают. Лишь с чистым пониманием, посредст¬
вом языка освободившимся от бодрствования глаза, смерть представляет¬
ся человеку как великая загадка, окутывающая его в светомире.
Отныне жизнь становится коротким промежутком времени между
рождением и смертью. Мы начинаем усматривать в зачатии вторую
тайну лишь с оглядкой на смерть. Только теперь животный страх перед
миром становится человеческим страхом смерти205, и это именно он яв¬
ляет миру в качестве судьбоносных, наиглубиннейших вопросов и
фактов любовь между мужчиной и женщиной, отношение матери к
сыну, цепь предков, доходящую до потомков, а сверх того — семью, на¬
род и, наконец, историю человечества вообще. Со смертью, которую
должен претерпеть всякий увидевший свет человек, связаны идеи
вины и наказания, существования как кары, новой жизни по ту сторо¬
ну озаряемого светом мира, а также спасения, кладущего конец всяко¬
му страху смерти. Лишь в результате познания смерти возникает то,
чем мы, люди, обладаем в отличие от животных, — мировоззрение.
5
Людьми судьбы и людьми причинности не становятся, а рождают¬
ся. Целая бесконечность отделяет человека, живущего в подлинном
смысле слова, — крестьянина и воина, государственного деятеля, пол-
fytaea первая. Первоначало и ландшафт
483
0дЦа, светского человека, купца — словом, всякого, кто желает обо¬
гащаться и повелевать, господствовать и сражаться, вообще отважива¬
ется на поступок, — организатора и предпринимателя, авантюриста,
убаку и игрока — от «духовного» человека, от святого, священнослу¬
жителя, ученого, идеалиста и идеолога вне зависимости от того, был ли
он предопределен к тому силой своего мышления или же недостаточ¬
ной полнокровностью. Существование и бодрствование, такт и напря¬
жение, порывы и понятия, органы обмена и органы осязания — редко
отыщется человек с положением, у которого бесспорный перевес не
оставался бы за одной из этих сторон. Все порывистое и инстинктив¬
ное, глубинное проникновение в людей и ситуации, вера в звезду206,
которой наделен всякий призванный к действию и которая представ¬
ляет собой нечто совершенно иное, чем простая убежденность в собст¬
венной правоте; принимающий решения голос крови и несокрушимой
невозмутимости совесть, способная оправдать всякую цель и всякое
средство, — во всем этом отказано созерцателю. Человек факта и шага¬
ет иначе — основательнее, чем мыслитель и мечтатель, в котором чисто
микрокосмическое не в состоянии обрести никакого надежного отно¬
шения к Земле.
Это судьба делает отдельного человека таким или иным — раздум¬
чивым и робким или же деятельным и презирающим мышление. Одна¬
ко деятельный человек — человек целостный; в созерцателе же один-
единственный орган желает действовать без тела и против него. Еще
хуже, когда он желает овладеть также и действительностью. Тогда-то
мы и получаем те этико-политико-социальные идеи усовершенствова¬
ния, которые в совокупности своей весьма убедительно показывают,
как все должно быть и как это реализовать; получаем учения, которые
все без исключения основываются на допущении, что все люди устрое¬
ны точно так же, как творцы этих учений, а именно богаты идеями и
бедны порывами (при условии, что творцы эти знают сами себя). Одна¬
ко ни одно из этих учений, даже когда они выступали под сенью весо¬
мого религиозного авторитета или знаменитого имени, до сих пор не
смогло хоть в чем-то изменить жизнь. Они предлагают нам лишь иначе
мыслить о жизни. В этом проклятие поздних, много пишущих и много
читающих культур: противоположность жизни и мышления то и дело
принимается за противоположность мышления о жизни и мышления о
мышлении. Все усовершенствователи мира, священники и философы,
едины во мнении, что жизнь лишь повод для углубленнейшего раз¬
мышления, однако жизнь мира идет своим ходом и нимало не заботит¬
ся о том, что о ней думают. И даже когда какому-то сообществу удастся
жить «по учению», в лучшем случае оно добьется лишь того, что в буду¬
щей всемирной истории о нем упомянут в примечании — после рас¬
смотрения всего существенного и важного.
Ибо лишь человек действующий, человек судьбы живет в конечном
счете в действительном мире, в мире политических, военных и эконо¬
484
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
мических решений, где понятия и системы в расчет не принимаются.
Славный выпад здесь ценнее славного вывода, и вовсе не безосновате¬
льно то презрение, с которым воины и государственные деятели во все
времена относились к чернильным крысам и книжным червям, дер¬
жавшимся мнения, что всемирная история делается ради духа, науки
или даже искусства. Скажем без обиняков: освободившееся от ощуще¬
ния понимание представляет собой только одну, причем не решаю¬
щую, сторону жизни. В истории западной мысли вполне может не упо¬
минаться имени Наполеона, однако в действительной истории Архи¬
мед со всеми его научными открытиями сыграл, быть может, менее
значительную роль, чем тот воин, что зарубил его при взятии Сиракуз.
Величайшее заблуждение теоретически ориентированных людей —
полагать, что их место на острие, а не в хвосте великих событий. Они
имеют совершенно превратное представление о той роли, которую ис¬
полняли игравшие в политику софисты в Афинах или Вольтер и Руссо
во Франции. Государственный деятель зачастую не «знает», что делает,
однако это не мешает ему уверенно делать как раз то, что приведет к
успеху. Политический доктринер всегда знает, что следует делать, и,
несмотря на это, его деятельность, если она выходит за пределы бумаж¬
ного листа, оказывается самой безуспешной и потому самой никчем¬
ной в истории. Когда пишущий или ораторствующий идеолог желает
принимать деятельное участие не в системах, но в жизни народов, это
всего-навсего проявление самомнения, и чаще всего оно встречается
именно в неспокойные времена, такие, как аттическое Просвещение
либо время Французской или же Германской революций. Этот идеолог
просто ошибся адресом. Вместе со всеми своими принципами и про¬
граммами он всецело принадлежит истории литературы, и ничему бо¬
льше. Подлинная история выносит свое суждение не тогда, когда она
опровергает теоретика, но когда предоставляет его, со всеми его идея¬
ми, самому себе. Пусть себе Платон207 и Руссо (уж не говоря о менее
значительных умах) строят свои абстрактные государственные зда¬
ния — для Александра Македонского, Сципиона, Цезаря, Наполеона,
для их замыслов, битв и повелений это не имеет решительно никакого
значения. Пусть себе первые разглагольствуют о судьбе, вторым дово¬
льно того, что сами они — судьба208.
Все микрокосмические существа неизменно, вновь и вновь образу¬
ют одушевленные массовые единства, существа более высокого порядка,
медленно созревающие или образующиеся внезапно, со всеми чувст¬
вами и страстями единичного существа, загадочные изнутри и недо¬
ступные рассудку, между тем как знаток без труда проникает в их дви¬
жения и способен их предвидеть. Среди них мы также различаем, с од¬
ной стороны, общеживотные, ощущаемые единства, основанные на
глубочайшей связанности существования и судьбы, как та стая птиц в
небе или та армия, идущая в атаку, и чисто человеческие, сообразую¬
щиеся с рассудком сообщества на основе единого мнения, единых це¬
Глава первая. Первоначало и ландшафт 485
лей и единого знания, — с другой. Единством космического такта люди
обладают, даже этого не желая; единство резонов люди приобретают
произвольно. Духовное сообщество можно избрать или покинуть; в
нем принимает участие лишь бодрствование. Однако космическому
единству люди обречены, причем всем своим бытием без остатка. При¬
ступы воодушевления овладевают массами с тою же стремительно¬
стью, что и паника. Они беснуются и неистовствуют в Элевсине и Лур¬
де или же оказываются охвачены мужественным духом, как спартанцы
у Фермопил или последние готы у Везувия209. Единства эти формиру¬
ются под музыку хоралов, маршей и танцев, и, как и все чистопород¬
ные люди и животные, весьма подвержены воздействию ярких красок,
украшений, нарядов и мундира.
Эти одушевленные толпы рождаются и умирают. Духовные сооб¬
щества, просто суммы в математическом смысле, сходятся вместе, рас¬
тут и тают, но подчас сама гармония, силой создаваемого ею впечатле¬
ния, проникает в кровь — и из суммы образуется вдруг единое сущест¬
во. Во времена политических перемен слова всегда могут сделаться
судьбой, общественные мнения — страстями. Случайные прохожие
сбиваются на улице в толпу, у которой одно сознание, одно чувство,
один язык, пока краткотечная душа не отлетит и каждый не пойдет
своей дорогой. Это ежедневно происходило в Париже в 1789 г., стоило
раздаться призыву «На фонарь!» 10.
У душ этих своя, особая психология, которую надо понимать, чтобы
быть готовым к общественной жизни. Единой душой обладают все
подлинные сословия и классы, рыцари и ордены Крестовых походов,
римский сенат и клуб якобинцев, аристократия при Людовике XIV и
прусская знать, крестьянство и рабочие, чернь большого города и оби¬
татели затерянной долины, народы и племена времени переселения
народов, последователи Мухаммеда и вообще всякой только что осно¬
ванной религии или секты, французы Революции и немцы Освободи¬
тельной войны211. Наиболее грандиозные из известных нам существ та¬
кого рода — это высшие культуры, родившиеся из великого душевного
потрясения и на протяжении своего тысячелетнего существования
сплачивающие воедино все множества меньшего размера — нации, со¬
словия, города, роды.
Такие существа космического порядка — народы, партии, армии,
классы — несут на себе груз всех великих событий истории, между тем
как история духа протекает в рыхлых общестйах и кружках, в школах,
образованных слоях общества, направлениях, — короче, в «-измах». И
опять-таки судьбоносным оказывается здесь вопрос о том, отыщет
ли — в решающий момент своей наивысшей действенности — такое
множество себе вождя или же устремится вперед наугад, и будут ли по¬
даренные случаем вожди людьми высокого полета или совершенно не¬
значительными личностями, взнесенными вихрем событий на самый
верх, — как Помпей или Робеспьер212. Что отличает государственного
486 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
деятеля, так это способность абсолютно безошибочно проницать мас¬
совые души, возникающие и распадающиеся в потоке времени, —
определять их мощь и время жизни, их ориентацию и намерения; во¬
прос же о том, сможет ли он ими управлять, или они увлекут его за со¬
бой, также остается уделом случая.
II. Группа высших культур
6
Однако вне зависимости от того, рожден ли человек для жизни или
для мышления, раз он действует или наблюдает — он бодрствует, и в
качестве бодрствующего он постоянно «в фокусе»213, а именно настро¬
ен на тот смысл, которым обладает для него светомир в данный миг.
Ранее уже отмечалось, что бесчисленные установки, сменяющиеся
одна за другой в бодрствовании человека, отчетливо распадаются на
две группы — на миры судьбы и такта и миры причин и напряжений.
Всякий может вспомнить то почти мучительное чувство, которое охва¬
тывало его, когда посреди физического опыта что-то вдруг заставляло
задуматься о чем-то чисто бытовом. Я называю эти картины «мир как
история» и «мир как природа» . В первой жизнь пользуется критиче¬
ским пониманием, зрение находится в ее распоряжении, данный в чув¬
ствовании такт делается внутренне созерцаемой волновой линией, пе¬
режитые потрясения становятся эпохами215. Во второй господствует
само мышление; причинно-следственная критика делает жизнь за¬
стывшим процессом, живое содержание факта — абстрактной исти¬
ной, напряжение — формулой.
Но как это возможно? И то и другое представляет собой зримую
картину, однако в первом случае мы полностью отдаемся никогда бо¬
лее не повторяющимся фактам, а во втором хотим привести истины в
неизменную систему. В картине истории, лишь опирающейся на зна¬
ние, космическое пользуется микрокосмическим. В том, что мы зовем
памятью и воспоминанием, вещи пребывают как бы залитыми внут¬
ренним светом и пронизанными тактом нашего существования. Хро¬
нологический момент в широчайшем смысле этого слова — даты, име¬
на, числа — обнаруживает, что история, как только она начинает мыс¬
литься, не может избавиться от основного условия всякого
бодрствования. В картине природы чужеродна и вводит в заблуждение
постоянно Присутствующая субъективность, в мире истории в заблуж¬
дение вводит столь же неизбежный объективный момент, число.
Природные установки могут и должны быть до определенной сте¬
пени безличными. За ними мы забываем самих себя. Однако картина
истории, которой обладает всякий человек, всякий класс, всякая на¬
ция и семья, складывается у них применительно к самим себе. Природа
Глава первая. Первоначало и ландшафт
487
обладает характерной особенностью протяженности, включающей в
себя абсолютно все. История же есть то, что выходит на взирающего из
темного прошлого и собирается идти от него дальше, в будущее. Одна¬
ко, пребывая в современности, сам он всегда является ее центром, так
что абсолютно невозможно исключить из чувственного порядка фак¬
тов направление, идущее от жизни, а не от мышления. Всякая эпоха,
всякая страна, всякое живое человеческое множество имеют свой ис¬
торический горизонт, и профессиональный историк обнаруживает
себя именно в том, что он действительно рисует ту картину истории,
которой требует его время.
В силу этого природа и история различаются между собой как под¬
линная и мнимая критика — критика, понятая как противоположность
жизненному опыту. Естествознание представляет собой одну критику,
и ничего больше. Однако в истории критика способна задать только
предпосылку для знания, на которой исторический взгляд впоследст¬
вии развивает свой горизонт. История есть сам этот взгляд вне зависи¬
мости оттого, куда он направлен. Тот, кто этим взглядом наделен, спо¬
собен понять «исторически» всякий факт и всякую ситуацию. Природа
же есть система, а систему можно заучить.
Историческая установка начинается для каждого с самых ранних
детских впечатлений. Глаза у ребенка зоркие, и факты ближайшего
окружения, жизнь семьи, дома, улицы глубоко прочувствуются им и
отзовутся в нем еще задолго до того, как в поле его зрения попадет го¬
род с его жителями, до того, как слова «народ», «страна», «государство»
начнут обладать для него сколько-нибудь уловимым содержанием.
Столь же основательным знатоком всего, что в качестве живой исто¬
рии открывается его взору в ближайшем окружении, является перво¬
бытный человек. И прежде всего это сама жизнь, драма рождения и
смерти, болезни и старости, а затем история военных и любовных стра¬
стей, которые пережил сам или же довелось наблюдать у других, судьба
ближних, рода, деревни, поступки этих людей и последующая их оцен¬
ка, рассказы о застарелой вражде, схватках, победах и мести. Жизнен¬
ные горизонты расширяются, возникает и проходит жизнь, причем
уже не чья-то жизнь, а жизнь вообще; взору предстают уже не деревни и
роды, а отдаленные племена и земли и не годы, но века. Действительно
сопережитая история, такая, которую еще возможно соощутить, ни¬
когда не простирается далее поколения дедов, идет ли речь о древних
германцах или сегодняшних неграх, о Перикле или Валленштейне.
Здесь жизненный горизонт замыкается и открывается новый пласт,
картина которого основывается на предании и исторической тради¬
ции, подчиняющих непосредственное переживание отчетливо увиден¬
ному и утвержденному долгими упражнениями образу памяти, образу,
который для людей различных культур охватывает весьма неодинако¬
вую временную протяженность. С этого образа собственно история, в
которой мы живем sub specie aetemitatis [«под знаком вечности» (лат.)],
488
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
для нас начинается, а для римлян и греков она им заканчивается. Для
Фукидида никакого живого значения не имели уже события греко¬
персидских войн*, а для Цезаря — войн Пунических.
А сверх и помимо этого возникают новые единичные исторические
картины судеб растительного и животного мира, ландшафта и светил,
и все это вместе с последними картинами природы сливается в мифи¬
ческие представления о начале мира и его конце.
Картина природы, как для ребенка, так и для первобытного челове¬
ка, складывается из мелкой техники повседневности217, которая неиз¬
менно принуждает и того и другого перейти от боязливого разглядыва¬
ния отдаленной природы к критическому взгляду на положение дел в
ближайшем окружении. Как и молодые животные, ребенок постигает
свои первые истины в игре. Обследовать игрушку, сломать куклу, пере¬
вернуть зеркало, чтобы посмотреть, что сзади, испытать чувство тор¬
жества в связи с тем, что что-то удалось правильно установить и так оно
теперь навсегда и должно остаться, — дальше этого никакое естество¬
знание так и не пошло. Первобытный человек приобретает этот крити¬
ческий опыт как в связи с оружием и орудиями, так и с теми вещества¬
ми, что идут ему в пищу, из которых изготавливаются его одежда и жи¬
лище, т. е. в связи с вещами, поскольку они мертвы. То же относится и к
животным, в которых человек вдруг перестает видеть живых существ,
когда, как преследователю или преследуемому, ему приходится наблю¬
дать и рассчитывать их движения, и смотрит на них как на механиче¬
скую, отвлеченную от свойства живости, сумму мяса и костей; и точно
так же он рассматривает некое событие то как деяние демона, то (сразу
же вслед за этим) как каузальную цепочку. Точно такое же переверты¬
вание неизменно, ежедневно и ежечасно проделывает человек зрелой
культуры218. Дальше его природного горизонта лежит область, образуе¬
мая из впечатлений дождя, молнии и бури, дня и ночи, лета и зимы, фаз
Луны и обращения светил. Исполненный страха и благоговения рели¬
гиозный трепет вынуждает его приступить здесь к критике совершенно
иного порядка. Как в картине истории он желал доискаться до послед¬
них фактов бытия, так здесь старается установить последние природ¬
ные истины. То, что находится за пределами всяческого понимания,
он называет Богом, все же, лежащее по эту сторону, он старается по¬
стичь каузально — как действие, творение и откровение Божества.
Таким образом, с первобытных времен во всякой совокупности
того, что установлено о природе, неизменно прослеживаются две тен¬
денции. Одна направлена на создание как можно более полной систе¬
мы технического знания, служащего практическим, экономическим и
военным целям, знания, с высокой степенью совершенства разрабо¬
танного уже многими видами животных и идущего далее через освое¬
ний огня и металлов ранним человеком — по прямой линии к машин¬
ой установил, что до его времени ничего значительного не произошло, — так
пишет он (ок. 400 до Р. X.!) на первой странице своего исторического труда216.
Глава первая. Первоначало и ландшафт 489
ной технике сегодняшней фаустовской культуры. Другая, которая поя¬
вилась только по освобождении чисто человеческого мышления — с
помощью словесного языка — от зрения, стремится к столь же полному
теоретическому знанию; в первоначальной его форме мы называем это
знание религиозным, а производное от него в позднейших культурах —
естественнонаучным. Для воина огонь — оружие, для ремесленника —
часть его инструментария, для жреца — знак божества, а для ученого —
проблема. Однако все это относится к природной установке бодрство¬
вания. В мире как истории мы видим не огонь вообще, но пожар Кар¬
фагена и Москвы и пламя костров, на которых были сожжены Ян Гус и
Джордано Бруно.
7
Повторяю: всякое существо переживает другое существо и его судь¬
бу лишь применительно к самому себе. Совершенно различными взгля¬
дами встречают одну и ту же стаю голубей хозяин поля, на которое она
опустилась, идущий по дороге любитель природы и ястреб в воздухе.
Крестьянин видит в сыне свое продолжение и наследника, сосед видит
в нем крестьянина, офицер — солдата, чужак — местного. Будучи им¬
ператором, Наполеон воспринимал людей и вещи иначе, чем в быт¬
ность лейтенантом. Поместите человека в совершенно другое положе¬
ние, сделайте революционера министром, солдата — генералом, и ис¬
тория с ее носителями разом представится ему в ином свете. Талейран
видел людей своего времени насквозь, потому что сам был одним из
них. Окажись он вдруг в среде Красса, Цезаря, Катилины и Цицерона,
он понял бы их со всеми их поступками и намерениями неверно или
вовсе бы не понял. Истории как таковой нет в природе. История вся¬
кой семьи предстает каждому из ее членов по-своему, история страны
своеобычна для каждой партии, а что до современной истории, то она
своя у всякого народа. Немец смотрит на мировую войну не так, как ан¬
гличанин, экономическая история видится рабочему не так, как пред¬
принимателю, у западного историка перед глазами совсем другая все¬
мирная история, чем у великих арабских и китайских историков. Исто¬
рия того или иного периода могла бы быть объективно изображена
лишь с очень большого отдаления и при отсутствии внутреннего чувст¬
ва сопричастности, однако, как мы видим, даже лучшие современные
историки не способны оценить и изобразить вне связи с сегодняшни¬
ми интересами даже Пелопоннесскую войну и битву при Акции.
Глубочайшее знание людей не то что не исключает, но даже требует,
чтобы выносимые им суждения несли на себе глубокую печать того,
кто таким знанием обладает. Именно недостаток знания людей и жиз¬
ненного опыта приводит к обобщениям, искажающим или полностью
Упускающим из виду все значительное в истории, а именно ее одно¬
490
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
кратность, и самое ужасное — к тому материалистическому воззрению
на историю, определение которого практически исчерпывается слова¬
ми «отсутствие физиономического дара». И все же, несмотря на это и
именно по этой причине, для каждого человека, поскольку он принад¬
лежит к классу, времени, нации и культуре, существует типическая
картина истории, как в свою очередь и для этих времени, класса, куль¬
туры в целом она существует такой, какой применительно к ним дол¬
жна быть. Совокупное бытие всякой культуры обладает в качестве вы¬
сшей возможности символическим для этой культуры первообразом
своего мира как истории, и все установки отдельных людей и действую¬
щих как живые существа множеств представляют собой его отображе¬
ния. Если один человек оценивает воззрения другого как значительные
или плоские, оригинальные или банальные, ложные или старомодные,
это происходит всякий раз с оглядкой, причем бессознательной, на
требуемый в данный момент образ как постоянную производную вре¬
мени и человека.
Понятно само собой, что всякий человек фаустовской культуры
имеет свою картину истории, причем не одну, но бесчисленное их чис¬
ло, начиная с юности, — картины, беспрестанно колеблющиеся и из¬
меняющиеся под влиянием впечатлений дня и года. А как различны в
свою очередь типичные картины истории, принадлежащие людям раз¬
ных периодов и сословий: мир Оттона Великого и Григория VII219, мир
венецианского дожа и бедного паломника! В сколь различных мирах
жили Лоренцо Медичи, Валленштейн, Кромвель, Марат, Бисмарк,
крепостной готики и ученый барокко, офицеры времен Тридцатилет¬
ней, Семилетней и Освободительной войн, а если брать только наше
время — как различается мир фризского крестьянина, реально живу¬
щего только своим ландшафтом и его населением, от мира крупного
гамбургского торговца и мира профессора физики! И, несмотря ни на
что, у всех их, вне зависимости от возраста, положения и эпохи каждо¬
го, имеется общая черта, отличающая совокупность этих образов, их
прообраз, от всякой иной культуры.
Что, однако, всецело отделяет античную и индийскую картину ис¬
тории от китайской и арабской, а с еще большей резкостью — от за¬
падной ее картины, так это узость горизонта. То, что могли и должны
были знать греки об истории Древнего Египта, они никогда не допус¬
кали в свою собственную картину истории, замыкавшуюся для боль¬
шинства из них событиями, о которых еще в состоянии были поведать
старейшие из ныне живущих: эта картина устанавливала, даже для
светлейших греческих умов, Троянскую войну как рубеж, по другую
сторону которого никакой исторической жизни просто не должно
было быть.
Арабская культура первой отважилась на поразительный шаг в сфе¬
ре исторического мышления (причем сделали его как иудеи220, так и
персы приблизительно со времени Кира), а именно связать легенду о
Глава первая. Первоначало и ландшафт 491
сотворении мира с современностью реальным летоисчислением; при¬
чем у персов были даже хронологически предустановлены Страшный
суд и явление Мессии. Это четкое, даже узкое ограничение всей чело¬
веческой истории (персидская охватывает всего двенадцать тысячеле¬
тий, иудейская до сих пор не насчитала и шести) представляет собой
необходимое выражение магического мироощущения в иудейско-пер¬
сидском сказании о сотворении мира, что делает его полностью отлич¬
ным по глубинному смыслу от представлений вавилонской культуры,
хотя оно и заимствовало у последней много внешних черт. Перед ки¬
тайским и египетским историческим мышлением, основанным на со¬
вершенно ином ощущении, открывается широкая перспектива без
конца, а именно хронологически удостоверенная последовательность
династий, теряющаяся во мгле тысячелетий.
Подготовленная христианским летоисчислением*, фаустовская
картина всемирной истории начинается сразу с колоссального расши¬
рения заимствованного западной церковью магического образа, кото¬
рый Иоахим Флорский взял ок. 1200 г. за основу глубокого переосмыс¬
ления всей мировой судьбы как последовательности трех периодов —
Отца, Сына и Св. Духа221. Это сопровождалось все большим раздвига¬
нием географического горизонта, который уже во времена готики уси¬
лиями викингов и крестоносцев протянулся от Исландии до отдален¬
ных регионов Азии**. Наконец (и в отличие от всех прочих культур), для
выдающихся людей барокко примерно с 1500 г. ареной человеческой
истории впервые становится вся Земля. Лишь благодаря компасу и
подзорной трубе чисто теоретическое допущение шаровидности Земли
стало у образованных людей этого позднего времени222 действитель¬
ным ощущением того, что они обитают на шаре в космическом про¬
странстве. Упраздняется как пространственный, так и временной го¬
ризонт, последний — в силу двойной бесконечности летоисчисления в
ту и другую сторону от рождения Христа. И под впечатлением этого
планетарного образа, охватывающего в конечном итоге все высшие ку¬
льтуры, происходит сегодня распад того готического подразделения
истории на Древний мир, Средневековье и Новое время223, которое
давно уже сделалось плоским и пустым.
Во всех прочих культурах моменты всемирной истории и истории
человека совпадают: начало мира есть начало также и человека; конец
человечества — это также и конец мира. Во времена барокко фаустов¬
ское пристрастие к бесконечному впервые отделяет эти понятия друг
от друга и делает человеческую историю — хоть и расширившуюся, как
никогда ранее, — только эпизодом во всемирной истории, а Землю, лишь
Зародилось в 522 г., во время остготского правления в Риме, однако лишь начи¬
ная с Карла Великого быстро распространилось по германскому Западу.
При том, что в сознании подлинного человека Возрождения имеет место весьма
показательное сужение фактически переживаемого образа истории.
492 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
часть поверхности которой рассматривалась другими культурами как
«мир», — маленькой звездочкой среди миллионов солнечных систем.
Это расширение исторической картины мира побуждает современ¬
ную культуру, причем с куда большей настойчивостью, чем это случа¬
лось с любой другой, тщательно разграничить повседневную установку
большинства людей и ту максимальную установку, к которой способ¬
ны лишь величайшие умы и которая, правда, даже и в них реализуется
лишь на какие-то мгновения. Возможно, различие между историче¬
ским горизонтом Фемистокла и любого аттического крестьянина было
не так уж велико, тогда как разница между картиной истории импера¬
тора Генриха VI224 и той, что имел какой-нибудь крепостной его време¬
ни, колоссальна, а с подъемом фаустовской культуры высочайшие из
возможных установок так укрупняются и углубляются, что круг тех,
кому они остаются доступны, постоянно сужается. Одновременно вы¬
страивается пирамида возможностей, и каждый занимает в ней в соот¬
ветствии со своими задатками такую ступень, которая отвечает высшей
доступной для него установке. Но при этом между людьми западной
культуры возникает барьер взаимного непонимания по жизненно важ¬
ным историческим вопросам, роковой непреодолимости которого, не¬
сомненно, не знала ни одна другая культура. В состоянии ли сегодня
рабочий по-настоящему понять крестьянина? Или дипломат — ремес¬
ленника? Историко-географический горизонт, ориентируясь на кото¬
рый формулируют важнейшие для себя вопросы тот и другой, настоль¬
ко различен, что их общение стало бы разговором двух глухих. Разуме¬
ется, подлинный знаток людей понимает установку также и другого
человека и сообразует с ней свое сообщение (как делаем это все мы, об¬
щаясь с детьми), однако искусство в такой же мере вживаться в картину
истории человека прошлого, Генриха Льва225 или Данте, чтобы, не¬
смотря на огромную дистанцию между бодрствованиями, постигать,
как само собой разумеющиеся, его мысли, чувства и принимаемые им
решения, встречается крайне редко. Ок. 1700 г. никто даже и не по¬
мышлял ставить такую задачу, и лишь начиная с 1800 г. это становится
требованием к историческому сочинению, правда, исполняемым чрез¬
вычайно редко.
Подлинно фаустовское выделение собственно человеческой исто¬
рии из куда более пространной всемирной истории приводит к тому, что
с конца барокко в нашей картине мира обособленными друг от друга
слоями размещаются уже несколько горизонтов, для исследования ко¬
торых возникают частные науки более или менее выраженного истори¬
ческого характера. Астрономия, геология, биология, антропология на¬
блюдают соответственно судьбы мира звезд, земной коры, мира живой
природы, человека, и лишь после них идет та самая (называемая так еще
и теперь) «всемирная история» высших культур, за которой следуют ис¬
тория отдельных элементов культуры, семейная хроника и, наконец, по¬
лучившая значительное развитие именно на Западе биография.
Глава первая. Первоначало и ландшафт
493
Каждый из этих слоев требует особой установки, и в момент ее изб¬
рания все более узкие и более широкие слои перестают быть живым
становлением, а делаются просто данными фактами. Если мы исследу¬
ем битву в Тевтобургском лесу, нами уже предполагается образование
этого леса в растительном мире Северной Германии. Если мы спраши¬
ваем об истории немецкого лиственного леса, геологическое строение
Земли является предпосылкой и уже более не исследуемым в своих ча¬
стных судьбах фактом. Если мы спрашиваем о происхождении мело¬
вых отложений, существование самой Земли как планеты Солнечной
системы проблемой не является. Или, если подходить к делу с другой
стороны: то, что в мире звезд имеется Земля, что на Земле есть явление
«жизни», что в этом явлении присутствует форма «человек» и что в че¬
ловеческой истории имеются органические формы культур — все это
есть всякий раз случайность в картине следующего по высоте слоя.
Гете, начиная с его страсбургского и до первого веймарского периода,
испытывал сильное тяготение к установке на всемирную историю, о
чем свидетельствуют наброски по Цезарю, Мухаммеду, Сократу, Веч¬
ному Жиду, Эгмонту. Однако после болезненного отказа от политиче¬
ской деятельности большого стиля, свидетельством которого являются
строки «Тассо» даже в окончательной, осторожно умиротворенной ре¬
дакции226, Гете совершенно отказался от прежней установки и жил по¬
том, едва не через силу ограничивая себя картиной истории растений,
животных и Земли — своей «живой природы», а с другой стороны —
биографией227.
Получив развитие в одном человеке, все эти картины имеют одну и
ту же структуру. Любая история — растений и животных, земной коры
и звезд — есть fable convenue2%\ она отражает во внешней действитель¬
ности направленность собственного существования. Исследователь не
может изучать зверей или пласты горных пород, абстрагируясь от субъ¬
ективной точки зрения, от своего времени, народа и даже от положе¬
ния, занимаемого в обществе; это также невозможно, как невозможно
исследовать в отвлечении от всего этого революцию или мировую вой¬
ну. Знаменитые теории Канта—Лапласа, Кювье, Лайеля, Ламарка,
Дарвина имеют также и политико-экономическую окраску, и то, что
они произвели колоссальное впечатление на абсолютно далекие от на¬
уки круги, обнаруживает общность происхождения представлений обо
всех этих исторических слоях. Однако то, что приходит к своему завер¬
шению сегодня, есть последнее свершение, предстоящее фаустовско¬
му историческому мышлению: органически связать эти отдельные
слои между собой и включить их в одну-единственную колоссальную
всемирную историю с единой физиономикой, в рамках которой наш
взгляд будет плавно переходить с жизни отдельного человека на первые
и последние судьбы Вселенной. XIX столетие поставило эту задачу в
механистической, т. е. неисторической, формулировке. Одним из пре¬
допределений столетия XX будет ее разрешить.
494
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
8
В картине, имеющейся у нас относительно истории земной коры и
живых существ, и поныне все еще господствуют воззрения, развивав¬
шиеся со времен Просвещения цивилизованным229 английским мыш¬
лением исходя из обыкновений английской жизни. «Флегматическая»
геологическая теория образования земных пластов Лайеля и биологи¬
ческая теория возникновения видов Дарвина представляют собой фак¬
тически лишь снимки с развития самой Англии. На место непредсказу¬
емых катастроф и метаморфоз, которые признавали великие Леопольд
фон Бух и Кювье, они выдвигают методичное развитие с очень про¬
странными временными промежутками и признают в качестве причин
лишь научно достижимые, а именно целесообразные механические при¬
чины.
Эти «английские» причины не только плоски, но и чересчур узки.
Во-первых, они ограничивают возможные взаимосвязи процессами,
которые во всей своей совокупности происходят на поверхности Зем¬
ли. Тем самым исключаются все великие космические связи между
земными жизненными явлениями и событиями Солнечной системы
или звездного мира, а в качестве допущения принимается совершенно
абсурдное утверждение, что внешняя сторона земного шара представ¬
ляет собой изолированную со всех сторон область естественных про¬
цессов. Во-вторых, предполагается, что тех взаимосвязей, которые не
достижимы средствами сегодняшнего человеческого бодрствования,
т. е. ощущением и мышлением, а также средствами их утончения при
помощи инструментов и теорий, просто-напросто нет в природе.
Естественнонаучное мышление XX века будет отличаться от мыш¬
ления века XIX тем, что эта система поверхностных причин, кореня¬
щаяся в рационализме времени барокко, будет устранена и на ее место
придет чистая физиономика. Мы — скептики в отношении всякого
рода каузально объясняющих способов мышления. Мы даем высказа¬
ться самим вещам, довольствуясь тем, что ощущаем в них верховенство
судьбы и вглядываемся в ее очертания, которые не в состоянии прони¬
зать человеческое разумение. Предел, до которого мы можем дойти, —
это отыскать чисто данные, лишенные причин и целей формы, лежа¬
щие в основе изменчивой картины природы. XIX век понимал под
«развитием» прогресс в смысле растущей целесообразности жизни. В
своем весьма значительном сочинении «Протогея» (1691), возникшем
после обследования им серебряных копей в Гарце, Лейбниц набрасы¬
вает всецело гетеанскую древнюю историю Земли, а сам Гете понимал
под этой историей совершенствование в смысле возрастающего содер¬
жания формы. В противоположности между гётеанским представлени¬
ем о совершенствовании формы и дарвиновской теорией эволюции —
вся противоположность судьбы и каузальности, но также и противопо¬
Глава первая. Первоначало и ландшафт
495
ложность немецкого и английского мышления и в конечном счете не¬
мецкой и английской истории.
Ничто так убедительно не опровергает Дарвина, как результаты па¬
леонтологических исследований. Элементарная вероятность говорит,
что находки окаменелостей могут быть лишь выборочными образцами.
Так что всякий экземпляр должен был бы представлять собой иную
ступень развития. В результате должны были бы получаться лишь «пе¬
реходы» и никаких границ, а значит — никаких видов. Однако вместо
этого внутри обширных временных отрезков мы обнаруживаем совер¬
шенно определенные и неизменные формы, которые вовсе не форми¬
ровались целесообразно, но являлись внезапно и сразу же в окончатель¬
ной форме и которые не переходят в формы еще более целесообразные,
но становятся редкими и исчезают, между тем как на их месте обнару¬
живаются уже совершенно иные формы. А что развивается во все боль¬
шем богатстве форм, так это большие классы и роды живых существ,
которые изначально и без всяких промежуточных образований имелись в
наличии в сегодняшней расстановке. Мы наблюдаем, что среди рыб
поначалу на передний план истории выходят многочисленные разно¬
видности селахиев с их простыми формами, после чего они медленно
сходят со сцены, между тем как телеостии постепенно приводят к гла¬
венству в типе рыб более совершенной формы, и то же самое относится
к растительным формам хвощей и папоротников, которые ныне почти
исчезают со своими последними видами среди полностью развитого
царства цветущих растений. Однако нет никакого реального основа¬
ния предполагать за этим наличие целесообразных и вообще видимых
причин*. Это судьба призвала в мир жизнь вообще, предопределила
всевозрастающую противоположность растения и животного и всякий
единичный тип, всякий вид и род. Само их существование уже задает
определенную энергию формы, с которой последняя отчетливо утверж¬
дает себя в продолжении совершенствования либо делается слабовы-
раженной и неясной и ускользает в множество разновидностей или вы¬
рождается. Той же энергией задана и продолжительность жизни этой
формы, которую, правда, в свою очередь может сократить случайность,
но, если та не происходит, все завершается естественным старением и
угасанием вида.
Что же касается человека, то делювиальные находки со все боль¬
шей явственностью обнаруживают, что все существовавшие тогда
формы соответствуют живущим ныне и нет никаких доказательств
развития к более целесообразно оформленной расе, а отсутствие ка¬
ких-либо третичных находок все определеннее указывает на то, что
жизненная форма «человек», как и любая другая, обязана своим про-
Первое доказательство того, что основные формы растительного и животного
мира не развиваются, но являются внезапно, дал начиная с 1886 г. X. Де Фриз в своем
Учении о мутациях. Выражаясь на языке Гете, мы видим, как один «напечатленный
лик»230 развивается в единичных экземплярах, а не то, как он напечатляется для всего рода.
496 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
исхождением некоему внезапному перевороту, и здесь наши вопро-
шания «откуда?», «как?» и «почему?» останутся без ответа. И в самом
деле, если бы имела место эволюция в английском смысле, не могло
бы существовать ни обособленных земных пластов, ни отдельных
классов животных, но лишь одна-единственная геологическая масса
и хаос отдельных живых форм, сохранившихся в борьбе за существо¬
вание. Однако все, что мы наблюдаем, приводит к убеждению, что
время от времени имеют место глубокие и совершенно внезапные из¬
менения в основах бытия животных и растений, причем изменения
космического порядка, ни в коем случае не ограничивающиеся обла¬
стью земной поверхности, а их причины (если мы вообще об этих из¬
менениях догадываемся) непостижимы для человеческого ощущения
и понимания*. И точно также мы видим, что резкие и глубокие пере¬
мены в истории великих культур случаются так, что не может быть и
речи о видимых причинах, влияниях и целях. Готика и стиль пира¬
мид возникли с той же внезапностью, что и китайский империализм
при Цинь Шихуане231 или римский при Августе, что и эллинизм, буд¬
дизм и ислам, и точно также обстоит дело с событиями во всякой зна¬
чительной единичной жизни. Тот, кто этого не знает, — никудышный
знаток людей, и прежде всего не знает детей. Всякое существование,
деятельное или созерцательное, идет к совершенству, двигаясь от
эпохи к эпохе, и вот как раз такие эпохи следует нам предполагать в ис¬
тории Солнечной системы и мира неподвижных звезд. Происхожде¬
ние Земли, происхождение жизни, происхождение обладающих сво¬
бодной подвижностью животных — как раз такие эпохи, и именно в
силу этого — тайны, с которыми нам следует свыкнуться.
9
То, что знаем мы о человеке, четко распадается на два больших пе¬
риода его существования. Точкой отсчета для первого232 служит нам та
глубокая отметина в судьбе планеты, которую мы называем сегодня на¬
чалом ледникового периода и относительно которой можем устано¬
вить в рамках картины истории Земли лишь то, что здесь имела место
космическая перемена; завершается же он началом высших культур
бассейнов Нила и Евфрата, когда весь смысл человеческого существо¬
вания внезапно делается иным. Резкая граница третичного периода и
делювия обнаруживается повсюду, и по сю ее сторону мы сталкиваемся
с человеком как с уже полностью сформировавшимся типом, имею-
Тем самым становится излишним считать, что события седой человеческой древ¬
ности отстоят от нас на колоссальные временные промежутки и древнейшего из изве¬
стных ныне людей отделяет от начала египетской культуры период времени, в сравне¬
нии с которым 5000 лет исторической культуры вовсе не являются исчезающей величи¬
ной.
497
Глава перёая. Первоначало и ландшафт
щим обычаи, мифы, искусство, украшения, технику, а также обладаю¬
щим строением тела, не претерпевшим с тех пор заметных перемен.
Если мы назовем первый период периодом первобытной культуры,
то единственным регионом, в котором эта культура, хотя и в своей весь¬
ма поздней форме, оставалась живой и сравнительно не тронутой на
всем протяжении второго периода вплоть до сегодняшнего дня, оказы¬
вается Северо-Западная Африка. Признал это в четкой форме Л. Фробе-
ниус\ и в этом его великая заслуга. Главная причина такого явления — в
том, что здесь от давления со стороны более высоких культур убереглись
не несколько первобытных племен, а целый мир первобытной жизни. То
же, что жадно выискивают этнографы по всем пяти континентам, пред¬
ставляет собой, напротив того, обломки народов, общим для которых
является тот чисто негативный факт, что они живут посреди высших ку¬
льтур, внутренним образом в них не участвуя. Так что все это частью от¬
сталые, частью малоценные, частью выродившиеся племена, да еще с
безнадежно запутанными внешними проявлениями.
Однако первобытная культура была мощной и цельной, как была она
в высшей степени живой и действенной. Вот только она столь резко от¬
личается от всего, чем в качестве душевных возможностей обладаем
мы, люди высшей культуры, что можно сомневаться, позволительно ли
делать заключения относительно состояний Древнего времени, судя
даже по таким народам, с их сегодняшними способами существования
и бодрствования, у которых второй период все еще глубоко пронизан
первым.
Вот уже на протяжении тысячелетий человеческое бодрствование
находится под воздействием того факта, что постоянство соприкосно¬
вения племен и народов друг с другом представляет нечто само собой
разумеющееся и заурядное. Однако, если говорить о первом периоде,
нам следует иметь в виду, что люди тогда жили редкими и малочислен¬
ными группками и оказывались затерянными на бесконечных просто¬
рах ландшафта, в котором безраздельно господствовали огромные ста¬
да животных. Это со всей несомненностью доказывается редкостью
соответствующих находок. Во времена homo Aurignacensi5233 по террито¬
рии Франции бродило, быть может, около дюжины орд численностью
приблизительно в несколько сот особей, и, когда они вдруг обнаружи¬
вали существование других людей, это воспринималось ими как зага¬
дочное происшествие, оставлявшее по себе глубочайшее впечатление.
В состоянии ли мы вообще себе это представить^ каково жить в почти
безлюдном мире? Мы, для которых вся природа в целом уже давно сде¬
лалась фоном миллионноголового человечества? Как должно было пе¬
ремениться миросознание, когда посреди ландшафта, меж лесов и стад
животных, человеку все чаще стали попадаться люди «совсем как мы»!
Нет сомнений в том, что это (происшедшее также в высшей степени
Und Afrika sprach, 1912. Paideuma, Umrisse einer Kultur- und Seelenlehre, 1920. —
Фробениус различает три периода.
498
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
внезапно) возрастание численности людей оказалось наиболее глубо¬
ким и богатым следствиями событием для истории человеческой души.
В результате «собратья» стали постоянным, повседневным явлением, и
впечатление изумления, возникавшее в связи с этим прежде, с необхо¬
димостью сменилось чувствами радости или вражды, вследствие чего
сам собою оказался вызван к жизни целый новый мир опыта и непро¬
извольных, неизбежных связей. Лишь видя пример чуждых жизненных
форм, человек стал сознавать свою собственную, и одновременно с
этим к системе отношений внутри круга кровных родственников доба¬
вилось все богатство внешних отношений родов друг с другом, так что
впредь эти внешние отношения безраздельно господствуют в перво¬
бытной жизни и мышлении. Вспомним и о том, что именно тогда из
чрезвычайно простых видов чувственного объяснения друг с другом
возникли зачатки словесных языков (а тем самым и абстрактное мыш¬
ление) и в них — некоторые чрезвычайно удачные понятия, относите¬
льно свойств которых мы теперь не имеем и не можем иметь никакого
представления, но которые, однако, нам необходимо предполагать в
качестве наиболее ранней исходной точки позднейших индогерман¬
ских234 и семитских языковых групп.
И вот из этой первобытной культуры человечества, повсеместно
сплачиваемого воедино межродовыми отношениями, внезапно ок.
3000 г. до Р. X. вырастают египетская и вавилонская культуры. Прои¬
зошло это после того, как, быть может, на протяжении еще одного ты¬
сячелетия в том и другом ландшафте подготавливалось нечто корен¬
ным образом отличное от всякой первобытной культуры — по самому
способу своего развития, по его преднамеренности, по внутреннему
единству всех его форм выражения и по направлению жизни вообще к
одной цели. Мне представляется весьма вероятным, что на всей зем¬
ной поверхности или по крайней мере во внутреннем существе челове¬
ка тогда произошел некий переворот. И то, что впоследствии в качест¬
ве первобытной культуры высокого уровня еще продолжает повсюду
существовать между высшими культурами, лишь постепенно перед
ними отступая, оказывается в таком случае чем-то совершенно иным,
нежели культура первого периода. Но то, что подразумеваю под «пред¬
культурой» я и что совершенно единообразно, как это можно обнару¬
жить, протекает в начале всякой высшей культуры, представляет собой
сравнительно с любым видом первобытной культуры нечто совершен¬
но своеобразное и новое.
Во всяком примитивном существовании «оно», космическое как
таковое, принимается за дело так энергично, что все микрокосмиче-
ские проявления в мифе, обычае, технике и орнаменте лишь повину¬
ются его ежесекундному напору. В отношении длительности, скоро¬
сти, самого хода развития этих проявлений не существует никаких до¬
ступных для нашего познания правил. Так, мы наблюдаем, что
орнаментальный язык форм, который не следует здесь называть сти¬
Глава первая. Первоначало и ландшафт 499
лем235, господствует над народами на необозримых территориях, рас¬
пространяется, изменяется и наконец угасает. Имеющие, быть может,
совершенно иную область распространения виды вооружения и спосо¬
бы пользования им, структура рода, религиозные обычаи обнаружива¬
ют рядом с орнаментом всякий свое собственное развитие с независи¬
мыми эпохами, началом и концом, и никакая иная область формы не
оказывает на это развитие влияния. Если мы установили наличие в ка¬
ком-либо историческом Пласте какой-то досконально нам известной
разновидности керамики, это еще не основание для каких бы то ни
было заключений относительно обычаев и религии соответствующего
населения. И если вдруг оказывается, что определенная форма брака и,
к примеру, способ татуировки имеют близкую область распростране¬
ния, в основе этого никогда не будет лежать некая идея вроде той, что
связывает меж собой изобретение пороха и открытие живописной пер¬
спективы236. Не обнаруживается никаких необходимых связей между
орнаментом и возрастной организацией общества или же между куль¬
том какого-то божества и разновидностью земледелия. То, что разви¬
вается здесь, — всегда лишь отдельные стороны и черты первобытной
культуры, но не она сама. Вот что называю я хаотичностью: первобыт¬
ная культура не является ни организмом, ни суммой организмов.
С типом высшей культуры на место «оно» приходит мощная и еди¬
ная тенденция. Одушевленными существами внутри первобытной ку¬
льтуры помимо человека являются лишь племена и роды. Здесь, однако,
одушевлена сама культура. Все первобытное лишь агрегат, причем агре¬
гат форм выражения первобытных союзов. Высшая культура — это
бодрствование одного-единственного гигантского организма, делаю¬
щего носителями единообразного языка форм с единообразной исто¬
рией не только обычай, миф, технику и искусство, но также и вопло¬
тившиеся в него народы и сословия. Древнейшая история языка отно¬
сится к первобытной культуре и имеет свою собственную, лишенную
правил судьбу, которую невозможно вывести из судеб орнамента или, к
примеру, из истории брака. Однако история письма относится к исто¬
рии выражения отдельных высших культур. Всякий раз особое письмо
сформировалось уже в предвремени237 египетской, китайской, вави¬
лонской и мексиканской культур. Тот факт, что в античной и индий¬
ской культурах этого не произошло и высокоразвитые системы пись¬
менности соседних древних цивилизаций были переняты ими лишь
очень поздно, между тем как в арабской всякая новая религия и секта
тут же вырабатывала свое собственное письмо, находится в глубочай¬
шей взаимосвязи со всей историей форм этих культур и их внутренним
значением.
Этими двумя периодами и ограничивается наше реальное знание о
человеке, и оно решительным образом недостаточно для каких бы то
ни было заключений относительно возможных или определенных но¬
вых периодов, того, когда и как они появятся, не говоря уж о том, что
500 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
мы совершенно не способны принять в расчет космические взаимо¬
связи, господствующие над судьбой человеческого рода.
Мой способ размышления и наблюдения ограничивается физионо¬
микой действительного. Однако там, где опыт знатока людей, направ¬
ленный на современников, оказывается недостаточным, а жизненный
опыт человека действия применительно к фактам исчерпывается, на
преграду наталкивается и этот взгляд. Итак, наличие двух данных пе¬
риодов — факт исторического опыта. Если говорить о первобытной ку¬
льтуре, наш опыт сводится к тому, что здесь мы обозреваем остатки че¬
го-то уже завершенного, причем глубинное значение этого все еще мо¬
жет быть нами прочувствовано на основании некоего внутреннего
родства. Во втором же периоде нам открыта возможность опыта совер¬
шенно иного рода. То, что внутри человеческой истории внезапно
явился тип высшей культуры, есть случайность, смысл которой допол¬
нительной проверке не подлежит. Неясно также, не приведет ли какое-
то внезапное событие в земной истории к появлению еще новой фор¬
мы. Однако тот факт, что перед нашим взором простирается восемь та¬
ких культур, все одинакового строения, единообразного развития и
продолжительности, позволяет проводить их сравнительное рассмот¬
рение, а тем самым приобретать о них знание, простирающееся назад,
за миновавшие эпохи, и вперед, за эпохи предстоящие, разумеется, при
условии, что некая судьба иного порядка не заменит внезапно этот мир
форм на какой-то другой238. Право на это нам дает общий опыт органи¬
ческого существования. Мы не в состоянии предвидеть, возникнет ли
новый вид в истории хищных птиц или хвойных деревьев и когда это
случится; так же точно и в истории культуры мы не можем знать, воз¬
никнет ли новая культура в будущем и когда это произойдет. Однако с
того момента, когда в материнском теле зачинается новое существо
или в почву погружается семя, нам уже известна внутренняя форма те¬
чения новой жизни, и все обрушивающиеся на нее сторонние силы спо¬
собны лишь нарушить покой ее развития и совершенствования, но
сущности ее уже не изменить.
Этот опыт говорит, далее, что цивилизация, завоевавшая ныне всю
земную поверхность, не является третьим периодом, но есть неизбеж¬
ная стадия одной западной культуры, которую отличает от всякой дру¬
гой лишь безудержность ее распространения. Этим опыт и исчерпыва¬
ется. Ломать же голову относительно того, в каких новых формах будет
вести свое существование будущий человек, наступят ли вообще эти
новые формы или даже набрасывать их величественные контуры на бу¬
маге, приговаривая при этом «Так быть должно, так все и будет», —
игры, представляющиеся мне слишком мелочными для того, чтобы пе¬
реводить на них силы хоть сколько-нибудь значимой жизни.
Никаким органическим единством группа высших культур не явля¬
ется. То, что они возникли именно в таком числе, в этих местах и в это
время, представляется на взгляд человека случайностью без глубинно¬
Глава первая. Первоначало и ландшафт
501
го смысла. Напротив того, членение самих культур бросается в глаза с
такой отчетливостью, что в китайской, арабской и западной историче¬
ской науке (нередко же просто на основе совпадения в ощущениях об¬
разованных людей) оказался отчеканенным такой ряд понятий, что
никак не может быть улучшен*.
Таким образом, перед йсторическим мышлением стоит двойная за¬
дача. Следует, во-первых, предпринять сравнительное рассмотрение
отдельных биографий культур (задача, которая отчетливо востребована,
однако до сих пор оставалась без внимания), а во-вторых — обследо¬
вать значение случайных и несистематических связей культур между
собой. До сих пор последнее делалось таким необременительным и по¬
верхностным способом, что весь этот сумбур каузальных объяснений
вносился в «ход» всемирной истории. В результате понимание чрезвы¬
чайно сложной и богатой следствиями психологии этих отношений
оказывается столь же невозможным, как и психологии внутренней
жизни самих этих культур. Вторая же задача скорее предполагает, что
та, первая, уже решена. Связи культур чрезвычайно разнообразны, и
прежде всего по пространственному и временнбму отстоянию. В Крес¬
товых походах раннее время противостоит древней и зрелой цивилиза¬
ции, в крито-микенском мире Эгейского моря предкультура противо¬
стоит цветущему позднему времени. Цивилизация может слать свои
лучи из бесконечной дали, как индийская — арабскому миру с Востока,
или же располагаться поверх юности, удушая ее своей дряхлостью, как
делала это с арабским же миром античность с Запада. Различны отно¬
шения культур и по виду их и силе: западная культура ищет связей, а
египетская от них уклоняется; последняя всякий раз претерпевает от
них трагические потрясения, античность же ими пользуется, не терпя
никакого ущерба. Все эти отношения в свою очередь обусловливаются
душевным элементом самой культуры и подчас дают возможность луч¬
ше узнать ее душу, чем делает это собственный язык культуры, кото¬
рый зачастую больше скрывает, чем сообщает.
10
Бросая взгляд сразу на группу культур, мы видим сплошные пробле¬
мы. XIX век, в исторических исследованиях которого тон задавало естест¬
вознание, а в историческом мышлении — идеи барокко, вывел нас на вер¬
шину, с которой открылся новый мир. Овладеем ли мы им когда-нибудь?
Колоссальные трудности, с которыми еще и теперь сталкивается ис¬
следование, не пренебрегающее ни одной из всех этих великих биогра-
Гете в своей небольшой статье «Эпохи духа» дал такой глубины характеристику
четырех периодов всякой культуры: предвремени (Vorzeit), раннего времени (Friihzeit),
позднего времени (Spatzeit) и цивилизации, — что к этому и сегодня ничего не приба¬
вишь. Ср. точно совпадающие с этим таблицы в т.1.
502 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
фий, происходит оттого, что отдаленными регионами всерьез просто ни¬
кто не занимался. В этом опять-таки дает о себе знать надменность запад¬
ноевропейца, который желает постигать лишь то, что пришло к нему,
восходя через Средневековье от Древнего мира (в той или иной его фор¬
ме), а все, что свершалось независимо, видит вполглаза. В китайском и
индийском мире пока что рассмотрены отдельные области: искусство,
религия и философия. Политическая история, если ее вообще затрагива¬
ют, серьезного отношения не удостаивается. Никто и не помышляет о
том, чтобы рассмотреть великие политико-правовые проблемы Китая:
гогенштауфеновскую судьбу Ли-вана (842 до Р. X.), первый конгресс мо¬
нархов (659), противоборство между принципами империализма (льян-
хэн), представляемого «римским государством» Цинь, и идеей федерации
народов (хэцзун)239 в период между 500 и 300 гг., восхождение китайского
Августа Цинь Шихуана (221) — так же основательно, как проделал это
Моммзен с принципатом Августа. Как ни позабыта государственная ис¬
тория Индии самими индусами, от времени Будды у нас все же больше
материала, чем по античной истории IX и VIII вв., однако еще и сегодня
мы делаем вид, будто всякий индус жил философией — точь-в-точь как
афинянин, который, если верить нашим классицистам, провождал жизнь
среди всяческих красот, философствуя на брегу Илисса240. Однако едва ли
кто-то вообще задумывался также и о египетской политике. Под именем
«периода гиксосов» позднейшие египетские историки скрыли тот же са¬
мый кризис, который рассматривается китайскими как «время борющих¬
ся царств». Никто этого не исследовал. И в арабском мире наш интерес
распространяется лишь в те области, которые захватывает область клас¬
сических языков241. Чего не понаписали о государственном строительстве
Диоклетиана! А что за материалы собраны, к примеру, по совершенно ни¬
кого не трогающей истории администрации малоазиатских провинций —
потому что они написаны по-гречески! Однако государство Сасанидов,
во всех отношениях служившее образцом для Диоклетиана, попадает в
наше поле зрения лишь постольку, поскольку как раз в это время оно вело
войну с Римом. Но как обстоит дело с его собственной историей управле¬
ния и права? Собрано ли вообще по праву и экономике Египта, Индии и
Китая что-либо такое, что можно было бы поставить рядом с работами по
античному праву?*
Нет у нас также и истории ландшафта (т. е. истории почвы, растительного по¬
крова и климата), среди которого разыгрывалась история человечества на протяжении
последних пяти тысячелетий. Однако историю человека так трудно отделить от исто¬
рии ландшафта, они остаются настолько крепко связанными тысячью нитей, что по¬
нять без последней жизнь, душу, мышление совершенно невозможно. Что касается
ландшафта Южной Европы, то с конца ледникового периода на смену неукротимому
изобилию растительного мира постепенно приходит скудость. Следствием египетской,
античной, арабской и западной культур явилось изменение климата по берегам Среди¬
земного моря, вследствие чего крестьяне были вынуждены вместо того, чтобы бороться
против растительного мира, теперь уже биться за него: вначале они должны были по¬
беждать девственные леса, а потом — пустыню. Во времена Ганнибала Сахара начина¬
лась далеко к югу от Карфагена, сегодня она наступает уже на север Испании и Ита¬
лии; где же она была в эпоху египетских строителей пирамид, на рельефах которых
Глава первая. Первоначало и ландшафт
503
Ок. 3000 г. , после длительной «эпохи Меровингов», все еще отчет¬
ливо прослеживающейся в Египте, в чрезвычайно ограниченных по
площади регионах в нижнем течении Нила и Евфрата возникают обе
древнейшие культуры. Раннее и позднее время уже давно выделены
здесь как Древнее и Среднее царство и, соответственно, Шумер и Ак¬
кад. Начало египетской эпохи феодализма обнаруживает такое порази¬
тельное сходство с положением дел в раннюю китайскую эпоху начи¬
ная с И-вана (934—909), а в западной — со времени императора Генри¬
ха IV242, что следовало бы кому-нибудь решиться-таки на их
сравнительное исследование. Как здесь, так и там возникновение на¬
следной знати влечет за собой (в Египте — начиная с VI династии) упа¬
док раннего царства. В начале вавилонского «барокко» на сцену явля¬
ется великий Саргон (2300), который доходит до Средиземного моря,
завоевывает Кипр и называет себя, во вкусе Юстиниана I и Карла V,
«Господином четырех частей света». И вот теперь, на Ниле ок. 1800 г., в
«Аккаде и Шумере» — несколько раньше, берут начало первые циви¬
лизации, из которых азиатская обнаруживает величайшую экспансио¬
нистскую мощь. «Достижения вавилонской цивилизации», многое из
того, что связано с измерением, исчислением, расчетами, распростра¬
нилось отсюда, быть может, вплоть до Северного и Желтого морей. Не¬
мало вавилонских клейм на инструментах, возможно, почитались гер¬
манскими дикарями как волшебные знаки и послужили основой «пра¬
германского» орнамента. Сам вавилонский мир между тем, однако,
переходил из рук в руки. Касситы, ассирийцы, халдеи, мидийцы, пер¬
сы, македонцы, всё сплошь маленькие вооруженные отряды с энер¬
гичным предводителем во главе, сменяли друг друга в столице, не
встречая серьезного сопротивления со стороны населения. Вот первый
изображаются леса и сцены охоты? Когда испанцы изгнали морисков, исчез поддержи¬
вавшийся до того в неприкосновенности уже исключительно искусственными средст¬
вами характер ландшафта Испании, который образовывали леса и поля. Города сдела¬
лись оазисами в пустыне. В римские времена таких последствий не было бы.
Новый метод сравнительной морфологии позволяет проводить надежную про¬
верку датировок древних культур, которые до сих пор пробовали осуществлять совер¬
шенно иными методами. Даже в случае утраты всех прочих известий не следовало бы
относить дату рождения Гете за сто лет до создания «Прафауста», а насчет Александра
Великого подозревать, что это был старик. И точно так же — по отдельным чертам го¬
сударственной жизни, духу искусства, мышления и религии — можно доказать, что
возникновение египетской культуры произошло ок. 3000 г., а китайской — ок. 1400 г.
Расчеты французских исследователей, а недавно еще и Борхардта (Die Annalen und die
zeitliche Festlegung des Alten Reiches, 1919) столь же ошибочны изначально, как и расчи-
танная китайскими историками продолжительность легендарных династий Ся и Шан.
Также абсолютно невозможно, чтобы египетский календарь был введен в 4241 г. Сле¬
дует исходить из того, что развитие египетского летоисчисления, как и всякого другого,
сопровождалось глубокими календарными реформами, а тем самым понятие началь¬
ной даты полностью обессмысливается.
Эд. Мейер (Gesch. d. Altertums III 97) оценивает численность персидского наро¬
да, возможно еще ее преувеличивая, в полмиллиона человек, — пустяк сравнительно с
пятьюдесятью миллионами Вавилонской империи. Соотношение величин того же по¬
рядка существовало между германскими народами и легионами какого-нибудь солдат¬
ского императора III столетия, с одной стороны, и римским населением — с другой,
квк и между войсками Птолемеев и римлян — и египетским населением.
504
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
пример «римской императорской эпохи». В Египте события развива¬
лись точно так же. При касситах преторианцы произвольно ставят и
смещают правителей; ассирийцы, как и солдатские императоры со
времен Коммода, оставляют в силе прежние государственно-правовые
формы; перс Кир и остгот Теодорих ощущали себя регентами импе¬
рии, а мидийцы и лангобарды представлялись сами себе народом гос¬
под в чужой стране. Однако все это государственно-правовые, а не
фактические различия. Легионы африканца Септимия Севера желали
абсолютно того же, что вестготы Алариха, и в битве при Адрианополе243
«римлян» уже почти невозможно отличить от «варваров».
Начиная с 1500 г. до Р. X. возникают три новые культуры: вначале
индийская в Верхнем Пенджабе, ок. 1400 г. — китайская в среднем те¬
чении Хуанхэ, ок. 1100 г. — античная на Эгейском море. Когда китай¬
ские историки говорят о трех великих династиях, Ся, Шан и Чжоу, это
звучит приблизительно так же, как слова Наполеона, говорившего о
себе как об основателе четвертой династии после Меровингов, Каро-
лингов и Капетингов: на деле третья династия всякий раз полностью
вбирала в себя весь предшествовавший ход культуры. Когда в 441 г. но¬
ситель титула императора династии Чжоу сделался пенсионером «вос¬
точного герцога»244, а в 1792 г. казнили «Людовика Капета», в том и дру¬
гом случае это означало, что культура перешла в цивилизацию. От
позднего времени Шан сохранилось сколько-то чрезвычайно древних
изделий из бронзы, так же относящихся к позднейшему искусству, как
микенская керамика — к раннеантичной, а каролингское искусство —
к романскому. В ведическом, гомеровском и китайском раннем време¬
ни — с их крепостями и замками, с рыцарством и господством феода¬
лов — мы усматриваем полную картину готики, а «эпоха великих про¬
текторов» (Мин-джу, 685—591) всецело соответствует времени Кром¬
веля, Валленштейна, Ришелье и древнейших античных тираний.
Период 480—230 гг., который китайские историки определяют как
«время борющихся царств», завершился столетием непрестанных
войн. Ведшиеся массовыми армиями и сопровождавшиеся чудовищ¬
ными социальными потрясениями, эти войны вывели на сцену в каче¬
стве основателя китайской империи «римское» государство Цинь. Еги¬
пет пережил то же самое в 1800—1550 гг. (с 1675 г. — период гиксосов),
античность — начиная с битвы при Херонее и в самой чудовищной
форме — начиная с Гракхов и до битвы при Акции (133—31); такова же
и судьба западноевропейско-американского мира в XIX и XX вв.
Центр тяжести при этом перемещается как из Аттики — в Лаций,
так с Хуанхэ (в Хэнани) — на Янцзы (ныне провинция Хубэй). Река
Сицзянь была тогда для китайских ученых столь же незначительна, как
для александрийских — Эльба, а о существовании Индии они даже еще
не имели понятия.
Как на другой стороне земного шара являются императоры дома
Юлиев — Клавдиев, так здесь выступает могучий Ван Чжен, который
рлава первая. Первоначало и ландшафт
505
приводит Цинь в результате побед, одержанных в решающих битвах, к
единоличному господству и принимает в 221 г. до Р. X. титул «Август»
(Ши значит совершенно то же самое) и имя «Цезарь» — Хуанди. Он за¬
кладывает «китайский мир», проводит в измотанной империи свои ве¬
ликие социальные реформы и уже начинает, вполне в римском духе,
строительство китайского Limes245, знаменитой стены, для чего в 214 г.
завоевывает часть Монголии. (У римлян представление об определен¬
ной границе по отношению к варварам стало формироваться начиная с
битвы Вара246, укрепления начали возводить уже в I в.) Также первым в
ходе масштабных военных походов он покорил варварские племена к
югу от Янцзы и обеспечил безопасность региона шоссейными дорога¬
ми, поселениями и крепостями. Такой же римский колорит имеет и се¬
мейная история его дома, в скором времени пресекшегося в неронов-
ских зверствах, определенную роль в которых сыграли канцлер Люй
Ши247, первый супруг матери императора, и великий государственный
деятель Ли Сы, Агриппа своего времени и создатель единого китайско¬
го письма. Затем последовали две династии Хань (западная — 206 до
Р. X. — 23 по Р. X., восточная — 25—220), при которых границы про¬
должали раздвигаться, между тем как в столице евнухи-министры, ге¬
нералы и солдаты произвольно ставили и смещали правителей. Бывали
редкие моменты, когда при императорах У-ди (140—86) и Мин-ди
(58—76) мировые державы — китайско-конфуцианская, индийско-
буддистская и антично-стоическая — настолько приближались к Кас¬
пийскому морю, что соприкосновение между ними вполне могло
иметь место*.
Случаю было угодно устроить так, что как раз тогда китайская гра¬
ница приняла на себя тяжелейшие набеги гуннов, но всякий раз нахо¬
дился энергичный император, который их отражал. В 124—119 гг. по¬
следовало решающее поражение гуннов от китайского Траяна Ву-ти,
который кроме этого окончательно поглотил Южный Китай, чтобы
овладеть путем в Индию, и построил колоссальную, укрепленную, как
крепость, шоссейную дорогу до Тарима. Гунны же в конце концов об¬
ратились на запад; впоследствии они появились перед римскими пог¬
раничными валами, гоня перед собой толпу германских племен. Тут их
ждала удача. Римская империя погибла, и теперь лишь китайская и ин¬
дийская империи являются излюбленными объектами приложения
все время сменяющих друг друга внешних сил. «Рыжеволосые варва¬
ры» Запада играют сегодня в глазах высокоцивилизованных браминов
и мандаринов точно такую же, ничуть не лучшую роль, чем в свое время
моголы и маньчжуры, и этих варваров со временем также сменит кто-
то еще. Напротив того, если говорить о колонизованных областях раз¬
рушенной Римской империи, то на ее северо-западе подготавливалась
Ибо сама Индия проявила тогда при династиях Маурья и Шунга империалисти¬
ческие тенденции, которые в силу свойств индийской натуры могли иметь лишь хаоти¬
ческий и оставшийся без последствий характер.
506
Том 2 ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
предкультура Запада, между тем как на востоке уже развилось арабское
раннее время.
Эта арабская культура — открытие*. Жившие в позднее время арабы
догадывались о ее единстве, между тем как от внимания западных ис¬
ториков оно ускользнуло до такой степени, что даже удачного наиме¬
нования для этой культуры не придумано. По господствовавшим здесь
языкам ее предкультуру и раннее время можно было бы назвать ара¬
мейскими, а позднее время — арабским. Однако настоящего имени у
нее нет. Культуры находились здесь в тесном соседстве, и потому рас¬
пространившиеся вширь цивилизации многократно перекрывали друг
друга. Само арабское предвремя, которое можно проследить у персов и
иудеев, всецело находилось в области древневавилонского мира, ран¬
нее же время пребывало под обаянием мощных, действовавших с Запа¬
да, чар античной цивилизации, лишь накануне достигшей полной зре¬
лости. Дают о себе знать и воздействия египетской и индийской циви¬
лизаций. Однако впоследствии арабский дух, по большей части в
позднеантичном обличье, оказал чарующее действие на начинающую¬
ся культуру Запада, и арабская цивилизация, которая образовала в
душе народа в Южной Испании, Провансе и Сицилии пласт, легший
поверх еще и теперь не вполне изгладившейся здесь античности, стала
образцом, на котором воспитывался дух готики.
Соответствующий ей ландшафт весьма примечательным образом
растянут и изрезан. Представим, что мы перенеслись в Пальмиру или
Ктесифон. И вот, на север от нас — Осроэна: Эдесса была Флоренцией
арабского раннего времени. На западе — Сирия и Палестина, где воз¬
никли Новый Завет и иудейская Мишна, с Александрией в качестве
постоянного форпоста. Колоссальное обновление, соответствующее
рождению Мессии в иудаизме, претерпел на востоке маздаизм: о нем
мы на основании обрывков авестийской литературы можем заключить
лишь то, что он должен был иметь место. Здесь также возникли Талмуд
и религия Мани. Далеко на юге, на будущей родине ислама, как и в го¬
сударстве Сасанидов, рыцарская эпоха могла полностью пройти путь
своего развития. Еще и сегодня здесь находятся развалины необследо¬
ванных крепостей и замков, откуда велись разжигавшиеся по диплома¬
тическим каналам из Рима и Персии решающие войны между лежав¬
шим на африканском берегу христианским государством Аксум и
иудейским государством Химьяритов, находившимся на аравийском248.
На крайнем севере — Византия с ее своеобразным смешением поздне¬
цивилизованных античных и ранних рыцарских форм, крайне причуд¬
ливым образом отзывавшимся прежде всего на византийском военном
деле. В конце концов — хоть и слишком поздно — ислам внес в этот
мир сознание единства, и это определило характер его победы, проис¬
шедшей как нечто само собой разумеющееся и почти без сопротивле¬
ния отдавшей христиан, иудеев и персов в его руки. Впоследствии из
Ср. всю 3 гл. этого тома.
Глава первая. Первоначало и ландшафт 507
ислама развилась арабская цивилизация, находившаяся на ступени
своего высшего духовного совершенства, когда на нее обрушились,
ибо она оказалась на пути, западные варвары, двигавшиеся на Иеруса¬
лим. Что виделось в этом благородному арабу? Возможно, нечто в бо¬
льшевистском духе? Положение во «Франкистане»249 было для полити¬
ки арабского мира чем-то не стоящим внимания. Когда английский
посланник в Константинополе сделал попытку восстановить Турцию
против дома Габсбургов250, — это имело место уже во время Тридцати¬
летней войны, которая, если взирать на нее отсюда, шла «далеко на за¬
паде», — последовавшие в ответ шаги были, вне всякого сомнения,
основаны на уверенности, что, говоря о политическом положении в
огромном регионе от Марокко до Индии, эти мелкие грабительские го¬
сударства на горизонте арабского мира вполне можно игнорировать.
Даже при высадке Наполеона в Египте широкие круги здесь и не подо¬
зревали, что сулит им будущее.
Между тем в Мексике возникла новая культура. Она была так удале¬
на от всех прочих, что никаких известий ни от нее, ни к ней никогда не
поступало. И тем поразительней ее сходство с античной. Если перед
этим теокалли251 напомнить филологу о его родимом дорическом хра¬
ме, такая мысль повергнет его в ужас, и все же недостаточная воля к
овладению техникой, определяющей способы вооружения, что делает
возможной катастрофу, — это прямо-таки античная черта.
Дело в том, что культура эта являет собой единственный пример на¬
сильственной гибели. Она не зачахла, не была подавлена или задержа¬
на, но умерщвлена во всем великолепии своего раскрытия, уничтоже¬
на, как подсолнечник, чью голову сбил палкой прохожий. Все государ¬
ства этой культуры, среди которых были и мировая держава, и не один
союз государств с размерами и средствами, далеко превосходившими
то, что имелось у греческо-римских государств во времена Ганниба¬
ла, — эти государства со всей их высшей политикой, с тщательно упо¬
рядоченными финансами, высокоразвитым законодательством, с иде¬
ями управления и экономическими обыкновениями, которые бы ока¬
зались не по зубам министрам Карла V, с богатой литературой на
нескольких языках, с одухотворенным и благородным обществом в бо¬
льших городах (на Западе тогда ни о чем подобном и не слыхали) — все
это вовсе не разрушилось в результате отчаянной войны, но было в не¬
многие годы искоренено кучкой бандитов настолько основательно,
что уже в скором времени остатки населения не сохраняли об этом
Даже памяти. От гигантского города Теночтитлан не осталось камня на
камне, тесно расположенные в джунглях Юкатана крупные города го¬
сударства майя стремительно разрушаются растительностью. Мы не
знаем названия ни одного из них. От всей литературы уцелело три кни¬
ги, которых никто не в состоянии прочитать.
Однако чудовищнее всего здесь то, что западной культуре это ни¬
чуть не было необходимо. Все делали авантюристы по собственному
508 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
почину, и никто в Германии, Англии и Франции даже и не подозревал
тогда о том, что творилось здесь. Это ярче, чем что-либо еще, показы¬
вает, что в человеческой истории никакого смысла нет, что глубинным
значением обладают лишь жизненные течения отдельных культур. Их
отношения друг с другом бессмысленны и случайны. Случайность
была здесь столь зверски банальна, прямо-таки смехотворна, что ее не¬
возможно было бы вставить даже в самый жалкий фарс. Пара скверных
орудий и несколько сот кремневых ружей спровоцировали трагедию и
привели к развязке.
Теперь уже никогда мы не будем обладать сколько-нибудь досто¬
верным знанием истории этого мира — хотя бы в самых общих чертах.
События, сравнимые по своей значимости с крестовыми походами и
Реформацией, канули без следа. Лишь проведенными в последние де¬
сятилетия исследованиями были установлены по крайней мере конту¬
ры позднейшего развития, и на основании этих данных сравнительная
морфология в состоянии расширить и углубить эту картину — через
картины других культур*. Сколько можно судить, эпохи этой культуры
постоянно запаздывают на 200 лет в сравнении с арабской и на 700 лет
опережают западную. Существовала и предкультура, которая, как и в
Египте и Китае, разработала письмо и календарь, однако познакомить¬
ся с ней мы уже никогда не сможем. Летоисчисление началось с нача¬
льной даты, далеко предшествующей рождению Христа, однако наско¬
лько именно, с надежностью уже не установить. Как бы то ни было, оно
доказывает, что у мексиканского человека было чрезвычайно развито
чувство исторического.
Раннее время «греческих» государств майя засвидетельствовано да¬
тированными резными стелами древнего города Копан (на юге), Ти-
каль и несколько позднее Чичен-Ица (на севере), Наранхо, Сейбал**
(ок. 160—450). В конце периода образцом на столетия делается Чичен-
Ица со своими постройками; рядом с этим — пышный расцвет Пален¬
ке и Пьедрас-Неграс (на западе). Это будет соответствовать поздней
готике и Ренессансу (450—600, Запад 1250—1400?). В позднее время
(барокко) центром стильного зодчества становится Чампотон. Начи¬
нается воздействие на «италийские» народы нахуа на высоком плоско¬
горье Анахуак: несамостоятельные лишь в художественном и духовном
отношении, в своих политических инстинктах они далеко превосходи¬
ли майя (600—960, античность 750—400, Запад 1400—1750?). Теперь
уже майя переходят в стадию «эллинизма». Ок. 960 г. основан Уксмаль,
и вскоре он становится мировым центром первого ранга, наподобие
* Нижеследующий опыт основывается на указаниях двух американских работ:
Spence L. The civilization of ancient Mexico. Cambr., 1912 и Spinden Y. J. A study of Maya
art, its subject, matter and historical development. Cambr., 1913, — которые независимо
друг от друга предприняли попытку хронологии и обнаружили определенное сходство в
своих выкладках.
Это — названия сегодняшних деревень вблизи руин. Настоящие названия изгла¬
дились из памяти.
Глава первая. Первоначало и ландшафт 509
мировых столиц Александрии и Багдада, также основанных на пороге
цивилизации; рядом мы обнаруживаем еще целый ряд блестящих
крупных городов, таких, как Лабна, Майапан, Чакмультун и снова Чи-
чен-Ица. Они знаменуют высшую точку величественной архитектуры,
которая более не порождает новых мотивов, но с изысканным вкусом и
с колоссальным размахом использует прежние. Политическое господ¬
ство — за знаменитой федерацией Майапана (960—1195), союзом трех
ведущих государств, которые, несмотря на большие войны и неодно¬
кратные революции, все же, сколько можно судить, сохраняют свою
гегемонию, пускай даже несколько искусственно и не без натуги (ан¬
тичность 350—150, Запад 1800—2000).
Окончание этого периода отмечено большой революцией, в связи с
чем «римские» силы нахуа предпринимают решительное вмешательст¬
во в ситуацию у майя. С их помощью Хунак Кеель произвел всеобщий
переворот и разрушил Майапан (ок. 1190, античность ок. 150)25z. То,
что последовало дальше, есть типичная история вызревшей цивилиза¬
ции, в которой за военное превосходство борются отдельные народы.
Великие города майя погружаются в созерцательное блаженство рим¬
ских Афин и Александрии. Между тем, однако, на самом краю области
нахуа выдвигаются вперед ацтеки, младший из этих народов — само¬
бытные варвары, наделенные неутолимой волей к власти. В 1325 г. они
основывают Теночтитлан (античность — ок. эпохи Августа), который
вскоре делается городом, руководящим всем мексиканским миром.
Ок. 1400 г. начинается военная экспансия большого стиля; спокойст¬
вие завоеванных областей обеспечивается военными поселениями и
сетью шоссейных дорог; выдающаяся дипломатия удерживает в узде
подвластные государства, не дает им объединиться. Исполинских раз¬
меров достигает императорский Теночтитлан со своим интернациона¬
льным населением, среди которого были представлены все языки ми¬
ровой державы. Стабильность провинций нахуа обеспечена как в по¬
литическом, так и в военном отношении; идет стремительное
продвижение на юг; здесь уже готовятся прибрать к рукам и государст¬
ва майя; невозможно вообразить, какой оборот приняли бы дела в бли¬
жайшие сто лет, — но внезапно всему настал конец.
Тогда Запад пребывал приблизительно на ступени, пройденной
майя ок. 700 г. Лишь эпоха Фридриха Великого дозрела до того, чтобы
понимать политику федерации Майапана. То, что ацтеки организова¬
ли ок. 1500 г., предстоит нам в далеком будущем. Чем, однако, отличал¬
ся фаустовский человек от человека всякой другой культуры уже тогда,
так это неукротимым порывом вдаль, что в конечном итоге и привело к
Уничтожению мексиканской и перуанской культур. Порыв этот бес¬
примерен и дает о себе знать во всех сферах. Разумеется, ионийскому
стилю подражали в Карфагене и Персеполе, эллинистический вкус
отыскал восторженных поклонников в индийском искусстве Гандха-
Ры; в результате будущих исследований, быть может, обнаружится, как
510 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
много китайского проникло в прагерманское деревянное зодчество
Крайнего Севера. Стиль мечетей господствовал от Индокитая до Се¬
верной Руси и Западной Африки с Испанией. Однако все это бледнеет
рядом с экспансионистской мощью западного стиля. Само собой разу¬
меется, история стиля как такового может быть завершена лишь на его
материнской почве, однако соответствующие результаты не признают
никаких границ. На том месте, где стоял Теночтитлан, испанцы возве¬
ли собор в стиле барокко, украшенный шедеврами испанской живопи¬
си и скульптуры; португальцы работали уже в Передней Индии, италь¬
янские и французские архитекторы позднего барокко — в польской и
российской глубинке. Английский рококо, а в еще большей степени
ампир широко распространены в плантаторских штатах Северной
Америки, однако их восхитительные интерьеры и мебель слишком
мало известны в Германии. Классицизм вовсю работал уже в Канаде и
Кейптауне; с тех пор никаких рамок уже более просто не существует.
Также и во всех прочих областях формы связь этой юной цивилизации
с древними, но еще существующими, состоит в том, что они сплошь
перекрываются все более плотным пластом западноевропейско-аме¬
риканских жизненных форм, под которыми старинная собственная
форма медленно исчезает.
11
От этой картины человеческого мира, которой определено заме¬
нить столь закрепившуюся даже в самых светлых умах схему Древний
мир — Средневековье — Новое время, можно ожидать также и нового
и, как я полагаю, окончательного для нашей цивилизации ответа на во¬
прос: «Что такое история?»
В предисловии к «Всемирной истории» Ранке говорится: «История
начинается лишь тогда, когда памятники становятся понятными и в
наличии имеются достойные доверия письменные свидетельства». Вот
ответ собирателя и упорядочивателя данных. Несомненно, то, что про¬
изошло фактически, подменяется здесь тем, что произошло в пределах
поля зрения соответствующего исторического исследования. Переста¬
ет ли быть историей тот факт, что Мардоний был разбит при Платеях,
если 2000 лет спустя ученый об этом больше ничего не знает? Или
жизнь является фактом лишь тогда, когда о ней написали в книжке?
Наиболее значительный историк после Ранке, Эд. Мейер*, пишет:
«Исторично то, что действенно или было действенно... Лишь истори¬
ческое рассмотрение выделяет единичное происшествие из бесконеч¬
ной массы одновременных происшествий и тем самым делает его исто-
Zur Theorie und Methodik der Geschichte (Kl. Schr.), 1910, далеко превосходящая
все прочие работа по философии истории, написанная противником всяческой фило¬
софии.
Глава первая. Первоначало и ландшафт
511
рическим событием». Сказано совершенно в духе и вкусе Гегеля. Во-
первых, важны факты, а не наше случайное знание о них. Но как раз
новая картина истории принуждает нас к тому, чтобы по великим по¬
следствиям признать за имевшиеся в наличии факты первого поряд-
ка? __ такие факты, о которых мы в гелертерском смысле слова никогда
уже не узнаем. Нам следует, причем в широчайших пределах, научить¬
ся принимать в расчет неизвестное. А во-вторых, истина существует
для ума; факт же дается лишь применительно к жизни. Историческое
рассмотрение, или, в соответствии с моим способом выражаться, фи¬
зиономический такт, — это вердикт крови, распространенное на про¬
шлое и будущее знание людей, прирожденная зоркость на лица и поло¬
жения, на то, что такое событие, что было необходимо и что должно
иметь место, а не просто научная критика данных и владение ими. Для
всякого подлинного историка научный опыт — нечто лишь побочное
или дополнительное. Опыт всего-навсего еще раз развернуто — средст¬
вами понимания и сообщения — доказывает (причем доказывает для
бодрствования) то, что уже было доказано для существования в един¬
ственный миг озарения.
Именно потому, что мощь фаустовского существования создала се¬
годня такой горизонт внутреннего опыта, каким раньше не могли об¬
ладать никакой человек и никакая эпоха, именно потому, что самые
отдаленные события приобретают для нас сегодня во всевозрастающем
масштабе смысл и связь, которых они не могли иметь для всех прочих
людей, даже для тех, кто ближайшим образом их сопереживал, — имен¬
но поэтому многое из того, что не было историей еще сто лет назад, ста¬
ло для нас историей сегодня, а именно жизнью, созвучной нашей соб¬
ственной жизни. Революция Тиберия Гракха, факты которой Тацит,
возможно, «знал», более не имела для него никакого реального значе¬
ния, а для нас она его имеет. История монофизитства и его взаимоот¬
ношений с окружением Мухаммеда — абсолютно пустое место для лю¬
бого приверженца ислама; но мы можем здесь еще раз, в иных услови¬
ях, познакомиться с развитием английского пуританства. Вообще
говоря, с точки зрения цивилизации, охватывающей весь мир, ничего
неисторического больше нет: ее сценой сделалась вся Земля. Схема
Древний мир — Средневековье — Новое время, как понимал ее
XIX век, содержит лишь выборку очевидных связей. Однако то воздей¬
ствие, которое начинает оказывать на нас сегодня фаннекитайская и
мексиканская история, имеет более тонкий, более духовный характер:
тут мы приобретаем опыт относительно последних данностей жизни
как таковой. Там, в ином течении жизни, мы узнаем самих себя таки¬
ми, каковы мы есть, какими мы должны быть и какими мы будем: это
великая школа нашего будущего. Мы, те, кто еще обладает историей и
историю вершит, узнаём здесь, на удаленнейшей границе историче¬
ского человечества, что такое история.
512 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Когда во времена Цезаря случается битва между двумя негритянски¬
ми племенами Судана или между херусками и хаттами, либо, что, в сущ¬
ности, то же самое, когда в схватку меж собой вступают два муравьиных
народца, — это всего лишь сцена из живой природы. Однако, когда в 9 г.
херуски разбивают римлян или же ацтеки — тлаксаланов, это есть исто¬
рия. Здесь уже имеет значение «когда?», здесь важно каждое десятиле¬
тие, даже каждый год. Здесь идет речь о продвижении вперед великой
биографии, в которой всякое решение приобретает значимость эпохи.
Здесь есть цель, к которой устремлены все события, существование, ко¬
торое желает исполнить свое предназначение, есть темп, есть органиче¬
ская длительность, а не беспорядочные метания скифов, галлов, кари¬
бов, отдельные эпизоды которых столь же малозначительны, как те, что
происходят в колонии бобров или в степи, заполненной стадами газе¬
лей. Это — зоологические события, и они принадлежат к установке совер¬
шенно иного рода: речь тут не о судьбе отдельных народов и стад, но о
судьбе человека вообще, газелей вообще, муравьев вообще — как вида. У
первобытного человека есть история лишь в биологическом смысле. К
ее выяснению и сводятся все исследования, относящиеся к доисториче¬
скому периоду. Освоение огня, каменных инструментов, металлов, ме¬
ханических законов действия оружия — это лишь отличительные при¬
знаки развития типа и заложенных в нем возможностей. В рамках исто¬
рии такого рода совершенно безразличен результат, которого с
помощью этого оружия удается достичь в ходе борьбы двух племен. Ка¬
менный век и барокко — это два разных возраста: один — в существова¬
нии рода, другой — культуры, т. е. два организма, пребывающие в облас¬
ти двух принципиально различных установок. Таким образом, я заяв¬
ляю протест против двух допущений, пагубно сказывавшихся до сих пор
на всем историческом мышлении: против допущения конечной цели
всего человечества и против отрицания конечных целей вообще. Жизнь
имеет цель. Это исполнение того, что было задано с ее порождением.
Однако уже в силу самого факта своего рождения отдельный человек
принадлежит либо к одной из высших культур, либо к человеческому
типу вообще. Третьего великого жизненного единства для него не суще¬
ствует. Но тем самым его судьба попадает в рамки либо зоологической,
либо «всемирной» истории. «Исторический человек», как понимаю это
слово я и как его всегда понимали все великие историки, — это человек
культуры, пребывающей на пути к самореализации. До нее, после нее и
вне ее он неисторичен, и судьба народа, к которому он принадлежит,
оказываетсй тогда столь же безразличной, как судьба Земли, рассмот¬
ренная в зеркале не геологии, но астрономии.
Но отсюда вытекает имеющий величайшее значение факт, впервые
установленный именно здесь: что человек неисторичен не только пе¬
ред возникновением культуры, но и вновь делается неисторичен, как
только цивилизация оформляется до своего полного и окончательного
образа, а тем самым завершается живое развитие культуры, оказывают-
первая. Первоначало и ландшафт
513
Глава__
ся исчерпанными последние возможности осмысленного существова¬
ния. То, что мы видим в египетской цивилизации после Сети I (1300) и
наблюдаем в китайской, индийской, арабской цивилизациях еще и се¬
годня, является вновь зоологическими метаниями первобытной эпо¬
хи, пусть даже все это одето оболочкой в высшей степени одухотворен¬
ных религиозных, философских и прежде всего политических форм.
Будут ли в Вавилоне господствовать касситы, как разнузданные сол¬
датские орды, или же персы, как благонравные наследники, — когда,
как долго и насколько успешно будут они это делать, с точки зрения са¬
мого Вавилона лишено какой-либо значимости. Разумеется, для само¬
чувствия населения эти вещи вовсе даже не безразличны, однако в том
факте, что душа этого мира угасла и потому все события лишились глу¬
бинного значения, они совершенно ничего не меняли. Новая, чужая
ли, местная ли, династия в Египте, революция в Китае или его завоева¬
ние, новый очутившийся в Римской империи германский народ, — все
это принадлежит к истории ландшафта, как изменение количества
дичи или перелет стаи птиц на новое место. Что всегда стояло на кону в
действительной истории высшего человека и лежало в основе всех
имевших животный характер вопросов о власти, даже тогда, тогда дея¬
тели или те, на кого они воздействовали, ни в малейшей степени не от¬
давали себе отчета в символике своих поступков, намерений и судеб,
всякий раз оказывалось осуществлением чего-то всецело одушевлен¬
ного, переводом идеи в живую историческую картину. Это касается
также и борьбы между великими стилевыми направлениями в искусст¬
ве — готикой и Возрождением, или же между философиями — стоика¬
ми и эпикурейцами, или государственными идеями — олигархией и
тиранией, или экономическими формами — капитализмом и социа¬
лизмом.
Отныне обо всем этом более нет речи. В остатке лишь борьба за го¬
лую власть, за животное превосходство как оно есть. И если прежде
власть, даже выглядевшая самой безыдейной, некоторым образом все
еще служит идее, то в поздних цивилизациях даже самая убедительная
видимость идеи — это лишь маска, под которой решаются чисто зооло¬
гические вопросы о власти.
Чем отличается индийская философия до и после Будды? Первая —
великое движение, солидарное с индийской душой и пребывавшее в
ней как предопределенная цель индийского мышления, вторая же вы¬
родилась в безостановочное перетасовывание мыслительного багажа,
от этого не обновлявшегося. Все решения уже даны, меняется лишь
манера, в какой они выговариваются. То же относится и к китайской
живописи до и после начала династии Хань (вне зависимости от того,
знаем мы это или же нет), и к египетской архитектуре до и после начала
Нового царства. Не иначе обстоит дело и с техникой. Западные изобре¬
тения, паровая машина и электричество, получают распространение
среди китайцев совершенно таким же образом (и с тем же религиозным
17 Закат Западного мира
514
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
благоговением), как было это с бронзой и плугом четыре тысячи лет
назад, а еще много раньше — с огнем. В плане душевном и то и другое
резко отличается от изобретений, совершенных самими китайцами в
эпоху Чжоу и означавших всякий раз новый период в их внутренней
истории*. До и после того даже столетия имеют далеко не то значение,
что имели десятилетия, а зачастую и отдельные годы внутри культу¬
ры, ибо значимыми вновь постепенно становятся биологические вре¬
менные промежутки. Это сообщает таким очень поздним — вполне ес¬
тественным для своих носителей — состояниям тот характер торжест¬
венной неизменности, который с изумлением отмечали в них, при
сравнении с темпом собственного развития, подлинные люди культу¬
ры, например Геродот в Египте и, начиная с Марко Поло, — западно¬
европейцы в Китае.
Не пришла ли античная история к своему концу с битвой при Акции
и с установлением pax Romana253? Великих решений, густо замешенных
на смысле всей культуры в целом, больше никто не принимает. Начи¬
нается господство бессмыслицы, зоологии. Отныне безразлично (для
мира, а не для действующих частных лиц), как именно завершится то
или иное событие. Все великие вопросы политики разрешены так, как
они в конечном итоге разрешаются во всех цивилизациях: вопросы
просто перестают восприниматься в качестве таковых; вопросов боль¬
ше на задают. Еще немного — и исчезает также и понимание того, из-за
чего же на самом деле приключались прежние катастрофы. Чего чело¬
век не изведал сам, того он не переживет и в отношении другого. Когда
поздние египтяне рассуждают о периоде гиксосов, а поздние китай¬
цы — о «времени борющихся царств», они оценивают внешнюю карти¬
ну в соответствии со своим собственным образом жизни, который бо¬
льше не знает загадок. Они видят здесь голую борьбу за власть; они не
видят, что эти отчаянные внешние и внутренние войны, когда чужаков
призывали для борьбы с собственными согражданами, велись ради
идеи. Сегодня мы понимаем, что происходило в чудовищных нараста¬
ниях и спадах напряжения в связи с убийствами Тиберия Гракха и Кло-
дия254. В 1700 г. мы еще не были способны это понять, и уже не сможем
в 2200 г. Точно так же обстоит дело с Хианом, этим наполеоновским
явлением, для которого египетские историки не нашли ничего лучше¬
го, чем назвать его «фараон гиксосов». Не явись сюда германцы, тыся¬
челетием спустя римская историография, быть может, сделала бы из
Гракха, Мария, Суллы и Цицерона династию, свергнутую Цезарем.
Сравним смерть Тиберия Гракха со смертью Нерона, когда в Рим при¬
шло известие о восстании Гальбы, или победу Суллы над сторонниками
Мария с победой Септимия Севера над Песценнием Нигером. Изменили
ли вторые события в парах общий ход дел в империи хоть на волос? Не
* Раньше японцы относились к китайской цивилизации, а теперь принадлежат
еще и к западной. Японской культуры в собственном смысле слова не существует. Так
что японский американизм следует оценивать по иным канонам.
Глава первая. Первоначало и ландшафт 515
правы уже Моммзен и Эд. Мейер*: они заходят слишком далеко, когда
скрупулезно прослеживают различия между «монархией» Цезаря и
«принципатом» Помпея или Августа. Все это лишь пустые государст¬
венно-правовые формулы; но пятьюдесятью годами ранее здесь еще
имела бы место противоположность двух идей. Когда в 68 г. Виндекс и
Гальба думали восстановить «республику», они играли с этим понятием,
ибо в их эпоху понятий с подлинной символикой более не существова¬
ло. Вопрос заключался исключительно в том, в чьи руки попадет чисто
материальная власть. Становившиеся все более «негритянскими»255
схватки за титул Цезаря могли теперь длиться столетиями в делавшихся
все более примитивными и потому более «вечными» формах.
У этих популяций более нет души. Поэтому у них больше не может
быть собственной истории. В лучшем случае они могут приобрести
значение объекта в истории чужой культуры, и глубинный смысл этого
отношения между ними будет определять исключительно та, чуждая
жизнь. На почве этих древних цивилизаций продолжается «историооб-
разное» действие — «ход событий» не потому, что в них принимает уча¬
стие сам человек этой почвы, но потому, что это делают за него другие
люди. Однако тем самым все явление «всемирной истории» в целом
снова выступает в двух своих аспектах: биографии великих культур и
отношения между ними.
III. Отношения между культурами
12
Хотя отношения эти вторичны, первичны же сами культуры, тем не
менее современное историческое мышление исходит из обратного.
Чем меньше известны ему сами биографии культур, из которых состав¬
ляется кажущееся единство хода событий в мире, тем усерднее оно си¬
лится отыскать жизнь в переплетении связей и тем меньше способно
понять что-либо также и тут. Как богаты психологически происходя¬
щие меж культурами отыскание и отторжение, а также выбор и переос¬
мысление, соблазн и проникновение, и наконец — навязывание себя,
причем как между культурами, которые непосредственно соприкаса¬
ются, изумляются одна другой и друг с другом борются, так и между
живой культурой и миром форм культуры мертвой, останки которой
все еще возвышаются среди ландшафта! И как же узки и бедны пред¬
ставления, которые перед лицом этого связывает историк со словами
«влияние», «долговечность» и «продолжающееся действие»!
Вот уж подлинно XIX век! Человеческому взору открывается лишь
Цепочка причин и следствий. Ничего первоначального, все лишь из че¬
го-то «следует». Из того, что поверхностные элементы формы более
*
Casars Monarchic und das Prinzipat des Pompejus. 1918, S. 501 ff.
516
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
древних культур повсюду обнаруживаются в культурах более юных, за¬
ключают, что они «продолжили воздействие», и, собрав ряд таких воз¬
действий, полагают, что сделали что-то достойное и правильное.
В основе данного способа рассмотрения лежит картина единой и
полной смысла истории человечества, как она некогда зародилась у ве¬
ликих представителей готики. Именно тогда было замечено, что люди
и народы на Земле меняются, а идеи остаются. Впечатление, произве¬
денное этой картиной, было чрезвычайно мощным, и она не потеряла
своей действенности еще и сегодня. Изначально подразумевался план,
которому следовал Бог в отношении человеческого рода; однако и
позднее можно было продолжать видеть вещи именно в таком свете,
поскольку схема Древний мир — Средневековье — Новое время сохра¬
няла свое обаяние, а люди замечали лишь то, что здесь якобы сохраня¬
лось, но не то, что менялось фактически. Между тем наш взгляд сде¬
лался другим, стал трезвее и шире, и наше знание уже давно шагнуло за
границы этой схемы. Всякий, кто все еще пребывает в плену такого
представления, заблуждается. Не произведение «воздействует», это
творческое начало «перенимает». Путают существование и бодрство¬
вание, жизнь — со средствами, через которые она самовыражается. Те¬
оретическое мышление, да уже просто бодрствование, повсюду усмат¬
ривает пребывающие в движении теоретические единства. В этом —
подлинно фаустовский динамизм. Ни в какой другой культуре люди не
представляли себе историю таким образом. Грек с его всецело телес¬
ным миропониманием никогда бы не смог проследить «воздействий»
таких чисто смысловых единиц выражения, как «аттическая драма»
или «египетское искусство».
Начинается с того, что система форм выражения получает здесь еди¬
ное имя, в результате чего становится виден целый комплекс связей.
Проходит совсем немного времени, и под именем начинают мыслить
некую сущность, а под связью — воздействие. Всякий, кто рассуждает
сегодня о греческой философии, о буддизме, о схоластике, в каком-то
смысле подразумевает под ними нечто живое, некое силовое единство,
которое выросло и окрепло, так что теперь уже это оно овладевает людь¬
ми, подчиняет себе их бодрствование и даже существование и в конеч¬
ном счете принуждает их продолжать действовать в жизненном направ¬
лении данной сущности. Это — мифология от начала и до конца, и ха¬
рактерно, что внутри такого образа и с ним живут только люди западной
культуры, мифу которых известно еще много демонов того же рода —
«электричество» вообще, «потенциальная энергия» вообще.
На деле же эти системы существуют лишь в человеческом бодрство¬
вании, причем именно как способы деятельности. Религия, наука, ис¬
кусство — все это виды деятельности бодрствования, в основе которых
лежит единое существование. Вера, размышление, оформление и вооб¬
ще все, что требует от зримой деятельности эти незримые ее виды (на¬
пример, жертвоприношение, молитва, физический эксперимент, рабо¬
Глаеа первая. Первоначало и ландшафт 517
та над статуей, обобщение опыта в доступных другим людям словах) —
виды деятельности бодрствования, и ничто иное. Прочие люди усматри¬
вают здесь лишь зримую составляющую и слышат только слова. При
этом в самих себе они что-то такое переживают, однако как соотносится
пережитое ими с тем, что переживал сам творец, они абсолютно не пред¬
ставляют. Мы видим форму, однако мы не знаем, чем именно в душе
другого человека она была порождена. Тут уж возможна только вера во
что-то, и мы верим в это, вкладывая собственную душу. В каких бы по¬
нятных словах религия о себе ни свидетельствовала, это все же слова, и
слушатель понимает их по-своему. Как бы ни убедительно действовал на
зрителя художник своими звуками и цветами, тот видит и слышит в них
лишь себя самого. Если он на это не способен, произведение искусства
для него бессмысленно. Речь здесь не о чрезвычайно редком и исключи¬
тельно современном даре отдельных в высшей степени исторических
людей «входить в чужое положение». Германец, которого обращает в
христианство св. Бонифаций, не вживается в дух миссионера. Та весен¬
няя знобкость, что охватила тогда весь юный мир Севера, означала
лишь, что в результате обращения йсякий человек внезапно обрел для
своей религиозности язык. Глаза ребенка светлеют, когда ему называют
имя предмета, который он держит в своей руке. То же было и здесь.
Значит, не микрокосмические единства блуждают туда и сюда, но их
избирают и присваивают единства космические. Если бы дело обстояло
иначе, если бы эти системы были действительными существами, способ¬
ными на деятельность (ибо «влияние» — это органическая деятельность),
картина истории была бы совершенно иной. Следует-таки обратить вни¬
мание на то, что всякий подрастающий человек и всякая живая культура
постоянно имеют вокруг себя бессчетное число возможных влияний, из
которых как таковые допускаются лишь немногие, подавляющее же их
число не проходит. Кто производит отбор — деяния или люди?
Падкий на каузальные ряды историк исчисляет лишь те влияния,
которые налицо; недостает обратного подсчета. К психологии положи¬
тельного относятся также и «негативные» воздействия. Именно так и
следовало бы ставить проблему: это сулит богатые выводы и лишь так
можно ее разрешить; тем не менее пока что никто на это не отважился.
Если же «негативные» воздействия в расчет не принимать, возникает
ложная в принципе картина непрерывного всемирно-исторического
процесса, в котором ничего не пропадает.
Две культуры могут соприкоснуться меж собой — при контакте двух
людей или же когда человек одной культуры видит перед собой мерт¬
вый мир форм другой культуры в ее доступных для восприятия остан¬
ках. В обоих случаях деятелен только человек. Осуществленное деяние
одного может одушевиться другим лишь на основе его собственного
существования. Тем самым оно становится его внутренней собствен¬
ностью, его делом и частью его самого. Это не «буддизм вообще» про¬
следовал из Индии в Китай, но часть запаса представлений индийских
518 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
буддистов была воспринята китайцами, принадлежавшими к особому
направлению мироощущения, и из нее был получен новый вид религи¬
озного выражения, что-то означавший исключительно для одних толь¬
ко китайских буддистов. Важен всегда бывает не первоначальный
смысл формы, но лишь сама форма, в которой деятельное ощущение и
понимание наблюдателя обнаруживают возможность для собственно¬
го творчества. Смыслы непередаваемы. Ничто не в состоянии приту¬
пить глубокого душевного одиночества, пролегающего между сущест¬
вованиями двух людей, принадлежащих к разным породам. Пусть даже
индусы и китайцы воспринимали друг друга как буддисты, это не дела¬
ло их менее близкими внутренне. Те же слова, те же ритуалы, те же зна¬
ки — и тем не менее две разные души и каждая шествует своей дорогой.
Можно пересмотреть под этим углом зрения все культуры, и повсюду
мы удостоверимся в одном и том же: созданное прежде вовсе не продол¬
жало существование в чем-то позднем, нет, но более младшее существо
всегда завязывало весьма небольшое число связей с существом более
старым, причем совершенно игнорируя первоначальное значение того,
что оно тем самым приобретало. Как, скажем, обстоит дело с «вечными
завоеваниями» в философии и науке? То и дело приходится слышать,
как много из греческой философии продолжает жить еще и сегодня. Од¬
нако это лишь оборот речи без сколько-нибудь основательного анализа
того, чтб из нее вначале магический, а затем фаустовский человек с глу¬
бокой мудростью непреклонного инстинкта отверг, не заметил или по¬
следовательно понял иначе, сохраняя сами схемы в неприкосновенно¬
сти256. Наивная вера гелертерского энтузиазма обманывает здесь сама
себя. Такой список оказался бы очень длинным, и рядом с ним первый
совершенно бы потерялся. Мы имеем обыкновение обходить молчани¬
ем такие вещи, как «видики» Демокрита257, донельзя телесный мир идей
Платона и пятьдесят две сферические оболочки мира Аристотеля, как
несущественные погрешности. Настоящая претензия на лучшее, в срав¬
нении с самими покойниками, знание их собственных мыслей! Однако
все это — существенные истины, да только не для нас. То, что мы дейст¬
вительно, пусть даже поверхностно, усвоили из греческой философии,
стремится к нулю. Надо только быть честным и принимать древних
мыслителей дословно: для нас же ни одно высказывание Гераклита, Де¬
мокрита, Платона не является истиной, если только мы его не попра¬
вим. Что переняли мы из метода, понятий, задач, средств греческой нау¬
ки, не говоря уже о ее вообще непостижимых для нас терминах? Ренес¬
санс, говорите вы, находился всецело под «влиянием» античного
искусства? Но как тогда быть с формой дорического храма, с иониче¬
ской колонной, с соотношением колонн и антаблемента, с подбором
цветов, непроработанностью заднего плана и отсутствием перспективы
в картинах, с принципами группировки фигур, с вазописью, мозаикой,
энкаустикой, тектоникой скульптуры, с пропорциями Лисиппа? Поче¬
му все это не произвело никакого действия?
519
Глава первая. Первоначало и ландшафт
Потому что то, что желал выражать Ренессанс, было известно с само¬
го начала, и потому из того мертвого багажа, который открывался в ан¬
тичности, человек по сути видел лишь то немногое, что желал видеть,
причем так, как желал это видеть, а именно в направлении собственных
намерений, а не намерений автора, о которых никакое живое искусство
никогда серьезно не задумывалось. Необходимо скрупулезно, штрих за
штрихом прослеживать «влияние» египетской скульптуры на раннегре¬
ческую, чтобы в результате убедиться, что влияния как такового вообще
не было, но греческая воля к форме позаимствовала в данном случае из
древних художественных запасников некоторые черты, которые она так
или иначе нашла бы и без них. Вокруг античного ландшафта работали
египтяне, критяне, вавилоняне, ассирийцы, хетты, персы, финикийцы,
и греки знали их создания в очень большом числе — постройки, орна¬
менты, произведения искусства, культы, государственные формы, пи¬
сьменность, науки. И что из этого всего привлекла античная душа в ка¬
честве средства для самовыражения? Повторяю: повсюду мы наблюдаем
лишь те связи, которые были допущены. Но сколько не было допущено?
Почему, например, здесь нет египетских пирамид, пилонов, обелисков,
иероглифического письма и клинописи? Что не было позаимствовано
готическим искусством, готическим мышлением в Византии, у мавров
на Востоке, в Испании и на Сицилии? Невозможно не изумляться бес¬
сознательной мудрости производимого выбора и столь решительного
перетолкования. Всякая допущенная связь представляет собой не толь¬
ко исключение, но также и непонимание, и ни в чем, быть может, внут¬
ренняя мощь существования не выражается с такой отчетливостью, как
в этом искусстве планомерного непонимания. Чем громче кто-то пре¬
возносит принципы чужого мышления, тем основательнее он наверня¬
ка изменил их смысл. Проследим-ка за раздающимся на Западе славо¬
словием по адресу Платона! От Бернарда Шартрского и Марсилио Фи-
чино до Гёте и Шеллинга! Чем смиренней кто-либо перенимает чужую
религию, тем с большей полнотой принимает она форму его души. Сле¬
довало бы как-нибудь написать историю «трех Аристотелей», а именно
греческого, арабского и готического, у которых нет ни одного общего
понятия, ни одной общей мысли. Или история превращения магиче¬
ского христианства в фаустовское! Мы слышим и заучиваем, что рели¬
гия эта, сохраняя неизменной свою сущность, распространилась по За¬
паду от древней церкви. На самом же деле из целостной глубины дуали¬
стического миросознания магическим человеком был развит язык его
собственного религиозного бодрствования, который мы называем «хри¬
стианством» как таковым. Те моменты данного переживания, которые
могли быть переданы другим: слова, формулы, ритуалы, — человек
позднеантичной цивилизации перенял в качестве средства для своей ре¬
лигиозной потребности; этот язык форм передавался от человека к чело¬
чку вплоть до германцев западной предкультуры, сохраняя звучание
слов неизменным, но постоянно изменяя их значение. Улучшить исход-
520
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ное значение священных слов никто и никогда бы не отважился, однако
значения этого вовсе и не знали. Кто в этом сомневается, пусть рассмот¬
рит, как «одна и та же» идея благодати направляется у Августина в дуали¬
стическом смысле на цельную человеческую субстанцию, у Кальвина
же, в смысле динамическом, — на человеческую волю. Или взять почти
не понятное нам магическое представление о «consensus»*, предполага¬
ющее наличие в каждом человеке пневмы как истечения божественной
пневмы, вследствие чего в согласном мнении призванных пребывает
непосредственная божественная истина. На этом убеждении основы¬
вается авторитетность постановлений раннехристианских соборов, а
также научный метод, который и поныне господствует в исламском
мире. Поскольку человек Запада этого не понял, соборы позднеготиче¬
ского времени сделались для него своего рода парламентами, которые
должны были ограничить духовную свободу передвижения папства.
Так понималась идея соборов еще в XV в. (можно вспомнить Констан-
цский259 и Базельский260 соборы, Савонаролу и Лютера), но в конце кон¬
цов она, как слишком вольная и лишенная смысла, должна была отсту¬
пить перед идеей папской непогрешимости. Или взять общую ранне¬
арабскую идею воскрешения плоти, также предполагающую
представление о божественной и человеческой пневме. Античность ис¬
ходила из того, что душа как форма и смысл тела каким-то образом воз¬
никает вместе с ним. Греческие мыслители об этом почти и не говорят. У
такого молчания может быть две причины: соответствующая идея либо
неизвестна, либо до такой степени очевидна, что даже не доходит до со¬
знания как проблема. Именно так здесь и обстоит дело. А для арабского
человека таким же самоочевидным является представление о том, что
его пневма обосновывается в его теле как излияние божественного. От¬
сюда убеждение, что, когда в день Страшного суда человеческому духу
нужно будет восстать, чему-то уже следует иметься в наличии: отсюда и
воскрешение Zk veKpwv, из трупов. Глубинные основы такого воззрения
абсолютно непонятны для западного мироощущения. Сама словесная
формулировка священного учения под сомнение не ставилась, однако
занимавшие высокий духовный ранг католики и — весьма отчетливо —
Лютер бессознательно наполнили ее другим смыслом, тем, что мы се¬
годня подразумеваем под словом «бессмертие», т. е. продолжение суще¬
ствования души как центра сил на протяжении всей бесконечности. До¬
велись апостолу Павлу или Августину познакомиться с нашими пред¬
ставлениями о христианстве, они отвергли бы все наши книги, все
догматы и понятия как превратные и еретические.
Здесь я хотел бы привести историю римского права как наиболее яр¬
кий пример системы, якобы прошествовавшей через два тысячелетия в
неизменном в основных своих чертах виде, между тем как в действите¬
льности в трех разных культурах она прошла три полных процесса раз¬
вития всякий раз с абсолютно иным смыслом.
По-арабски иджма258, ср. 534.
Глава первая. Первоначало и ландшафт
521
13
Античное право — это право, созданное гражданами и для граждан. Оно
предполагает, как что-то само собой разумеющееся, государственную
форму полиса. Лишь на основе этой базовой формы общественного су¬
ществования возникает, причем опять-таки как что-то само собой разу¬
меющееся, понятие личности (персоны) как человека, в своей целостно¬
сти тождественного с телом (о-Л/ха) государства. Из этого-то формально¬
го факта античного мироощущения и развилось все античное право.
Таким образом, персона есть специфически античное понятие, обла¬
дающее смыслом и значимостью лишь внутри этой культуры. Единич¬
ная личность — это тело (о-Л/ха), принадлежащее наличному составу по¬
лиса. Права полиса распространяются л ишь на него. Далее право перехо¬
дит вниз, в вещное право, — здесь границу образует правовое положение
раба, являющегося телом, но ни в коей мере не персоной, и вверх, в бо¬
жественное право, — здесь границу образует герой, который из персоны
сделался божеством и обладает правовыми притязаниями на культ, как
Лисандр и Александр в греческих городах, а позднее в Риме — возвысив¬
шиеся до D/v/261 императоры. Последовательно развивавшееся таким об¬
разом античное юридическое мышление способно нам объяснить и та¬
кое понятие, как capitis deminutio media262, западному человеку в высшей
степени чуждое: мы в состоянии себе представить лишь то, что у лично¬
сти, в нашем смысле, оказались отобранными некоторые или же все
права. Античный же человек вследствие этого наказания перестает быть
персоной, хотя телесно существовать он продолжает. Специфически ан¬
тичное понятие вещи, res, уясняется лишь в противоположности с этим
понятием персоны — в качестве объекта последней.
Поскольку античная религия — всецело государственная, нет ника¬
кой разницы в источниках вещного и божественного права: все право-
творчество в руках у граждан. Вещи и боги находятся к личностям в
одинаково упорядоченном правовом отношении. Решающим для ан¬
тичного права оказывается то обстоятельство, что оно создается на
основе непосредственного общественного опыта, причем не профес¬
сионального опыта судьи, но общепрактического опыта человека, за¬
нимающего видное место в политико-экономической жизни вообще.
Тот, кто вступал в Риме на служебную лестницу, неизбежно делался
юристом, полководцем, главой администрации и казначеем. В качест¬
ве претора он осуществлял судопроизводство, приобретя весьма значи¬
тельный опыт в совершенно иных областях. Античности неведомы су¬
дьи как сословие, получающее профессиональную и даже теоретиче¬
скую подготовку для этой деятельности. Этим определяется весь дух
позднего правоведения. Римляне не были здесь ни систематиками, ни
историками, ни теоретиками, а исключительно блестящими практика -
Hirzel R., Die Person. 1914. S. 17.
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
522
ми. Их юриспруденция — это опытная наука единичных случаев, одухо¬
творенная техника, а вовсе не какое-то абстрактное построение .
Когда греческое и римское право противопоставляют друг другу как
две однопорядковые величины, возникает превратная картина. Рим¬
ское право в его целостном развитии представляет собой частный слу¬
чай городского права среди многих сотен других, а греческого права
как единства не существовало никогда. И то, что говорившие по-грече¬
ски города очень часто разрабатывали весьма схожее право, ничуть не
отменяет того факта, что всякий город обладал своим собственным.
Никогда не возникало даже мысли о всеобщем дорическом или даже
греческом законодательстве. Такие представления весьма далеки от
античного мышления. Римское ius civile [гражданское право (лат.)] от¬
носилось исключительно к квиритам263; иностранцы, рабы, весь мир
вне города в расчет не принимались, между тем как уже в «Саксонском
зерцале»264 присутствует, как глубоко прочувствованная, мысль, что на
самом-то деле право может быть лишь одно. Вплоть до позднего импе¬
раторского времени в Риме существовало строгое различение между ius
civile для граждан и ius gentium265 (нечто совершенно иное, нежели наше
международное право) для «прочих», пребывавших в сфере римской
власти в качестве объектов ее судопроизводства. Римское право заняло
главенствующее положение не по причине своего внутреннего превос¬
ходства, а лишь вследствие того, что Рим как отдельный город добился
господства над античной империей (что при ином развитии событий
могло выпасть на долю Александрии), т. е. прежде всего из-за полити¬
ческих успехов, а уже затем из-за того, что лишь здесь имелся практи¬
ческий опыт большого стиля. Оформление общеантичного права в эл¬
линистическом стиле (если таким понятием можно обозначить родст¬
венный дух многих единичных совокупностей права) относится к тому
времени, когда Рим был третьестепенной политической величиной. И
когда римское право начало принимать крупномасштабные формы,
это было лишь одной из сторон того факта, что римский дух покорил
эллинизм: разработка позднего античного права переходит от элли¬
низма к Риму, а тем самым — от совокупности городов-государств, на¬
ходившихся к тому же под впечатлением того факта, что никакое из
них не обладает реальной властью, к одному-единственному, вся дея¬
тельность которого в конечном счете свелась к пользованию этим гос¬
подством. Поэтому-то до разработки правоведения на греческом языке
дело и не дошло. Ко времени, когда античность наконец созрела для
этой, самой последней среди всех, науки, существовал лишь один дик¬
товавший право город, который мог здесь иметь значение.
Таким образом, в случае греческого и римского права недостаточно
учитывается тот факт, что речь должна идти не об их параллельном, но
о последовательном существовании. Римское право младше; оно пред-
Wenger L., Das Recht der Griechen und Romer. 1914. S. 170. Mayr R. v., Romische
Rechtsgeschichte II 1, S. 87.
Глада перваяПервоначало иландшафт _ _ 523
полагает существование других совокупностей права с их длительным
опытом", само же оно разрабатывалось поздно и весьма стремитель¬
но — под впечатлением образца. Существенно то, что расцвет стоиче¬
ской философии, оказавшей глубокое воздействие на правовое мыш¬
ление, состоялся после расцвета в формировании греческого права и
до формирования права римского.
14
Однако оформление это произошло в мышлении людей в высшей
степени неисторических. Вследствие этого античное право — от начала
и до конца право повседневности, даже мгновения. По идее оно создает¬
ся в каждом отдельном случае и на данный случай, а с завершением по¬
следнего правом быть перестает. Допустить его значимость также и на
будущее противоречило бы античному чувству современности.
Вступая в должность на год, римский претор издает эдикт, где сообща¬
ет правовые нормы, в соответствии с которыми предполагает действо¬
вать, однако его преемника это никоим образом не связывает. И даже
ограничение действующего права одним годом не отражает его фактиче¬
скую продолжительность. Напротив, претор (а именно со времени изда¬
ния lex Aebutia266) в каждом отдельном случае формулирует конкретную
правовую норму под тот приговор, который должны вынести присяж¬
ные267, и в соответствии с этой нормой должен быть вынесен именно этот
приговор и никакой другой. Тем самым претор создает «современное
право» в строжайшем смысле этого слова — безо всякой длительности**.
Гениальная в подлинном смысле слова германская черта в англий¬
ском праве — правотворческая власть судьи — лишь кажется схожей с
античной практикой, по смыслу же она совершенно от нее отлична и
именно потому так хорошо годится на то, чтобы камуфлировать глубо¬
кую пропасть между античным и западным правом. Английский судья
применяет право, которое обладает по идее вечной значимостью. Уже
само применение существующего закона в судопроизводстве, в распо¬
рядке которого только и проявляется цель закона, он может корректиро¬
вать по собственному усмотрению посредством своих «Rules>> , предпи¬
саний для исполнения, не имеющих ничего общего с упомянутой пре-
торской письменной формулой. Если же в каком-то случае в отношении
конкретных фактов он обнаруживает в действующем праве пробел, он
Уполномочен тут же его заполнить и таким образом прямо по ходу про¬
цесса создать новое право, которое (предполагая, что судейское сосло¬
вие его одобрит во вполне определенных формах) впредь принадлежит к
Иногда бывает еще возможно установить «зависимость» античного права от еги¬
петского: крупный торговец Солон заимствовал в своем аттическом правовом творче¬
стве из египетского законодательства определения относительно долгового рабства,
обязательственного права, тунеядства и безработицы; см. Диодор, I, 77, 79, 94.
Wenger L., Das Recht der Griechen und Romer. S. 166 f.
524 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
неизменному правовому арсеналу. Но именно это-то в высшей степени не¬
антично. Лишь потому, что течение общественной жизни внутри одного
периода остается во многом неизменным, так что наиважнейшие право¬
вые ситуации то и дело повторяются, в Риме постепенно формируется
запас формул, который в опытном порядке (но не потому, что он наделен
силой, распространяющейся на будущее) неизменно устанавливается
вновь, однако в некоторой степени постоянно порождается заново. И
вот совокупность этих формул, вовсе не система, но собрание, образует
«право», как оно содержится в позднейшем преторском эдиктовом зако¬
нодательстве, существенные части которого один претор из соображе¬
ний целесообразности перенимает у другого.
Поэтому «опыт» означает для античного правового мышления не¬
что иное, нежели для нас: не обзорный взгляд на слитную, лишенную
пробелов массу законов, предусматривающую все возможные случаи и
практику их применения, но знание, что ситуации определенных при¬
говоров то и дело возникают вновь, почему и возможно обойтись без
образования для них всякий раз нового права.
Так что подлинно античная форма, в которой медленно собирается
законодательный материал, — это происходящее почти что само собой
суммирование отдельных vofxoi, leges, edicta [законы (грен.), законы,
эдикты (лат.)\, как во времена преторского должностного права в
Риме. Все так называемые законодательства Солона, Харонда, XII таб¬
лиц есть не что иное, как оказавшиеся пригодными к использованию
случайные собрания таких эдиктов. Право Гортины, относящееся при¬
близительно к тому же времени, что и XII таблиц, представляет собой
группу новелл к более старому собранию. Вновь основанный город тут
же обзаводился таким собранием, во многом весьма дилетантским. Вот
и Аристофан высмеивает в «Птицах» [ст. 1036—1054] бойких законо¬
творцев. И нигде нет речи о системе, еще меньше — о намерении тем
самым установить право на длительное время.
На Западе, в разительнейшей противоположности этому, существу¬
ет тенденция с самого начала сводить весь живой правовой материал в
навсегда упорядоченный и исчерпывающе обобщающий кодекс, в ко¬
тором всякий вообще мыслимый в будущем случай будет решен зара¬
нее269. Все западное право несет на себе отпечаток будущего, все антич¬
ное — отпечаток мгновения.
15
Кажется, этому противоречит тот факт, что в античности реально
существовали сборники законов, которые были составлены професси¬
оналами, причем с целью продолжительного использования. Разуме¬
ется, о раннеантичном праве (1100—700) мы не имеем даже малейших
сведений, и можно быть уверенным, что здесь не было списка кресть¬
Глава первая. Первоначало и ландшафт 525
янских и раннегородских обычных прав — в противоположность тому,
что имелось в готическую и раннеарабскую эпоху («Саксонское зерца¬
ло», Сирийский судебник). Старейший еще сколько-то доступный на¬
шему познанию слой образуют возникшие начиная с 700 г. собрания,
которые приписывались мифическим или полумифическим лично¬
стям: Ликургу, Залевку, Харонду, Драконту* и некоторым римским ца¬
рям*. Они существовали, это вытекает из самой формы сказания, од¬
нако ни их действительные авторы, ни действительный ход кодифика¬
ции не были известны грекам уже ко времени войн с персами.
Второй слой, соответствующий «Кодексу Юстиниана», этой рецеп¬
ции римского права в Германии, связывается с именами Солона (600),
Питтака (550) и других. Это уже разработанные права, пронизанные
духом города. Они обозначаются словами TroXirtia, vopos в противопо¬
ложность древним названиям Bea^oi или рг\траС \ Так что на самом деле
мы знаем историю лишь позднеантичного права. Ну и откуда же вдруг
берутся эти кодификации? Уже один взгляд, брошенный на эти имена,
показывает, что в конечном счете во всех этих процессах речь шла во¬
все не о праве, которое должно было отложиться как результат чистого
опыта, но о решении политических вопросов власти.
Полагать, что может существовать право, в равной мере воспаряю¬
щее над всеми вещами и совершенно независимое от политико-эконо¬
мических интересов, — величайшее заблуждение. Такое можно только
воображать, и люди, почитающие изображение политических возмож¬
ностей за политическую деятельность, всегда это так себе и вообража¬
ли. Однако это ничего не меняет и в исторической действительности
такого абстрактного права не бывает. Всякое право содержит в себе в
отвлеченной форме картину мира своего автора, и всякая историче¬
ская картина мира содержит политико-экономическую тенденцию, ко¬
торая зависит не от того, что думает в плане теории тот или этот чело¬
век, но от того, чего на практике желает сословие, держащее в своих
руках фактическую власть, а тем самым — и законотворчество. Всякое
право создается во имя общества в целом одним-единственным сосло¬
вием. Анатоль Франс как-то сказал, что «наше право с изумительной
объективностью запрещает как богатому, так и бедному красть хлеб и
попрошайничать на углу». Несомненно, это справедливость для одних.
«Другие» же будут зато всегда пытаться провести, как единственно
справедливое, иное право — исходя из своей жизненной позиции. Так
что все эти законодательства представляют собой политические, при¬
чем партийно-политические, акты. Либо они содержат, как демокра¬
тическое законодательство Солона, конституцию (iroXiTeia) в связи с
частным правом (vo/xot) в духе равноправия, или предполагают, как
Beloch, Griech. Gesch. I 1. S. 350.
За которыми стоит этрусское право, праформа древнеримского. Рим был одним
из этрусских городов.
Busolt. Griech. Staatskunde. 1920. S. 528.
526 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
олигархическое законодательство Драконта и децемвиров , такую ttoXl-
T€ta, которая должна будет подкрепляться частным правом. Лишь при¬
выкшие к своему долговременному праву западные историки недооце¬
нили значение этой связи. Античный же человек прекрасно понимал,
чтб здесь имело место. То, что создали децемвиры, было в Риме по¬
следним правом в чисто патрицианском духе. Тацит характеризует его
как завершение справедливого права (finis aequi iuris, Анналы III 27).
Ибо как после свержения децемвиров на сцену являются, неся в себе
отчетливую символику, трибуны, также числом десять, так и за работу
против ius XII таблиц и лежащей в их основе конституции принимают¬
ся постепенно их подрывающие leges rogatae210, народное право, кото¬
рое с чисто римской настойчивостью стремится к тому же, что одним
махом реализовал Солон против созданной Драконтом ттаrpios iroXiTela
[букв, «отчая полития» (грен.)], правового идеала аттической олигар¬
хии. Отныне «Драконт» и «Солон» — боевые кличи в затяжной борьбе
между олигархией и демосом. В Риме этому соответствовали учрежде¬
ния сената и трибуната. Спартанская конституция («Ликург») не толь¬
ко являла собой идеал Драконта и XII таблиц, но и сохранила его. Два
царя, если сравнить это с аналогичной ситуацией, существовавшей в
Риме, постепенно переходили с положения тиранов-Тарквиниев на
статус трибунов гракховского толка: свержение последних Тарквиниев
или назначение децемвиров (что было некоторым образом государст¬
венным переворотом против трибуната и его тенденций) приблизите¬
льно соответствует гибели Клеомена (488) и Павсания (470), а револю¬
ция Агиса III и Клеомена III (ок. 240) — начавшейся несколькими го¬
дами спустя деятельности Г. Фламиния. Однако одержать сколько-
нибудь значимую победу в борьбе с эфорами (соответствующими пар¬
тии сената) царям так никогда и не удалось.
Между тем Рим сделался большим городом — в смысле античного
позднего времени. Городская интеллигенция271 все в большей степени
подавляла крестьянские инстинкты"* **. В соответствии с этим в право¬
творчестве, приблизительно с 350 г., помимо lexrogata, народного пра¬
ва, появляется lex data, должностное право преторов. Борьба между ду¬
хом права XII таблиц и lex rogata отходит на задний план, и эдиктовое
законодательство преторов делается игрушкой в руках у партий.
* Что нам поэтому важно в праве XII таблиц — это не мнимое их содержание, от
которого уже ко времени Цицерона не сохранилось ни одной подлинной фразы, но сам
политический акт кодификации, который по тенденции соответствует свержению ти¬
рании Тарквиниев олигархией сената, и нет сомнения, что XII таблиц и были призва¬
ны застраховать на будущее этот успех, подвергавшийся тогда опасности. Текст, кото¬
рый мальчики во времена Цезаря выучивали наизусть, постигла та же судьба, что и
списки консулов древнейшего времени, в которые стали имя за именем заносить пред¬
ставителей тех родов, которые достигли богатства и влияния намного позже. И если те¬
перь Пайс и Ламберт отвергают это законодательство напрочь, они, возможно, правы
относительно XII таблиц (постольку, поскольку в них должно было заключаться то, что
считалось их содержанием впоследствии), но не в связи с политическим процессом
ок. 450 г. до Р. X.
** Ср. т. 2, гл. 2, I.
Глава первая. Первоначало и ландшафт
527
Уже очень скоро претор оказывается безусловным центром как зако¬
нодательства, так и правовой практики, и то, что ius civile городского пре¬
тора в том, что касается области его применения, отступает перед ius genti¬
um, перед правом «прочих», находящимся в компетенции praetorperegrinus
[претор по делам чужестранцев (лат.)], в самом деле отвечает политиче¬
скому распространению римской мощи. Поскольку все население антич¬
ного мира, не обладавшее римским гражданством, принадлежало в ко¬
нечном итоге к этим «прочим», iusperegrinum [право чужестранцев (лат.)]
города Рима фактически становится имперским правом. Все прочие го¬
рода (а даже альпийские народы и племена кочевых бедуинов организу¬
ются в административном отношении как «города», civitates) обретают
свое собственное право лишь постольку, поскольку римское право чуже¬
странцев не содержит никаких соответствующих определений.
Итаку конец античного правотворчества как такового знаменует edic-
tumperpetuum [вечный эдикт (лат.)],. изданный по распоряжению Адриа¬
на (ок. 130); в результате ежегодно издававшиеся правовые нормы пре¬
торов, обретшие стабильность еще задолго до того, были приведены к
единой форме и дальнейшие изменения в них запрещены. Как всегда,
претор был обязан открыто оповещать о «праве своего года», и право это
было действенным лишь в силу его должностных полномочий, но не как
закон государства; однако теперь претор должен был придерживаться
установленного текста. Это то самое знаменитое «одеревенение дол¬
жностного права», подлинный символ позднейшей цивилизации**.
С эллинизмом начинается античное правоведение, планомерное
постижение применяемого права. Поскольку правовое мышление
предполагает в качестве своей материи политические и экономические
отношения, точно так же, как математическое мышление — познания
в физике и технике***, уже очень скоро Рим сделался городом античной
юриспруденции. Точно так же и в мексиканском мире именно победо¬
носные ацтеки в своих высших школах, таких, как Тешкоко, по пре¬
имуществу культивировали право. Античная юриспруденция — это нау¬
ка римлян, и она так и осталась единственной их наукой. Как раз тогда,
когда творческая математика пришла с Архимедом к своему заверше¬
нию, с «Tripertita» Элия (198 г., комментарий к XII таблицам) началась
литература по праву****. Ок. 100 г. Муций Сцевола написал первый сис¬
тематический курс частного права. Годы с 200 по 0 являются периодом
«классического правоведения» в подлинном смысле, хотя это название
сегодня широко и достаточно произвольно применяется к периоду
раннеарабского272 права. По обрывкам той литературы оказывается
возможным определить всю меру отстояния мышления одной культу¬
ры от другой. Римляне рассматривают исключительно частные случаи
Sohm. Institutionen. 14. Ausg. S. 101.
Lenel. Das edictum perpetuum. 1907; Wenger L., S. 168.
Уже школьная таблица умножения предполагает при подсчете знакомство с эле¬
ментами динамики.
**** Mayr v. II 1, S. 85. Sohm. S. 105.
528 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
и их проявления, но никогда не предпринимают анализа фундамента¬
льного понятия, такого, например, как судебная ошибка. Они скрупу¬
лезно различают виды договоров; но понятие договора им неизвестно.
Точно так же неизвестна им и теория, — к примеру, правовой ничтож¬
ности или оспоримости. «Из всего этого вполне очевидно, что римляне
никак не могут служить для нас образцом научного метода» .
Завершали все школы сабинианцев и прокулианцев — от времен Ав¬
густа и приблизительно до 160 г. Это научные школы, подобные фило¬
софским школам в Афинах; возможно, что в них в последний раз дала о
себе знать противоположность между сенатской и трибунской (цезари-
анской) концепциями: среди сабинианцев мы находим двух потомков
убийц Цезаря; одного из прокулианцев избрал своим преемником Тра¬
ян. Между тем как разработка методики была в существенных чертах за¬
вершена, здесь происходит практическое объединение древнего ius civile
и преторского ius honorarium [должностное право (лат.)].
Последним доступным нашему взору памятником античного права
являются «Институции» Гая (ок. 161).
Античное право — это право тела, или эвклидова математика обще¬
ственной жизни, ибо оно различает в составе мира телесные личности
и телесные вещи и устанавливает отношения между ними. Правовое
мышление теснейшим образом родственно математическому. И то и
другое желает отделить от зримого глазом все чувственно-случайное,
чтобы отыскать мыслительно-принципиальное: чистую форму пред¬
мета, чистый тип ситуации, чистую связь причины и действия. Поско¬
льку античная жизнь в том своем образе, который она обнаруживает
античному критическому бодрствованию, обладает всецело эвклидо¬
выми чертами, возникает картина тел, отношений между ними по по¬
ложению и взаимных воздействий посредством толчка и отталкива¬
ния, как у атомов Демокрита. Это есть юридическая статика \
16
Первым созданием арабского права было понятие бестелесной лич¬
ности.
Чтобы в полной мере оценить эту столь характерную для нового
мироощущения величину, отсутствующую в подлинно античном пра¬
ве и внезапно появляющуюся у «классических» юристов, бывших
сплошь арамеями, необходимо знать истинную область охвата араб¬
ского права. * * **** Ленель в Enzykl. d. Rechtswiss. I. S. 357.
Египетское право периода гиксосов, китайское «времени борющихся царств»
должны были строиться, в отличие от античного права и индийского права «Дармасут-
ры», на совершенно иных понятиях, нежели телесные личности и вещи. Когда немец¬
кой науке удалось это установить, тб было великим освобождением от давления со сто¬
роны римских «древностей».
*** Sohm. S. 220.
Глава первая. Первоначало и ландшафт 529
Новый ландшафт охватывает Сирию и Северную Месопотамию,
Южную Аравию и Византию. Повсюду здесь происходит становление
нового права, устного или письменного обычного права раннего стиля,
каким мы знаем его по «Саксонскому зерцалу». И вот что удивительно:
из права отдельных городов-государств, как это само собой разумелось на
античной почве, здесь совершенно незаметно возникает право вероиспо¬
ведных общин. Оно всецело магично. Оно всегда является одной пневмой,
единым духом, единым тождественным знанием и пониманием одной-
единственной истины, которая всякий раз приводит поборников одной
и той же религии к единству воли и действия и обобщает их в одну юриди¬
ческую личность. Так что юридическая личность является коллективным
существом, обладающим, как целое, намерениями, принимающим ре¬
шения и несущим ответственность. Понятие это, если говорить о хрис¬
тианстве, справедливо уже применительно к древней общине в Иеруса¬
лиме", и оно распространяется вплоть до триединства лиц Божества"".
Еще до Константина позднеантичное право императорского указа
(<constitutiones, placita), хотя римская форма городского права строго со¬
храняется, распространяется исключительно на верующих «синкретиче¬
ской церкви»* ***, т. е. суммы культов, пронизанных одной и той же религи¬
озностью. В тогдашнем Риме, в этом нет сомнения, правом все еще вос¬
принималось значительной частью населения как право города-
государства, однако с каждым шагом, сделанным в направлении на Вос¬
ток, чувство это ослабевало. Объединение верующих в одну правовую об¬
щину было по всей форме реализовано культом императора, всецело яв¬
лявшимся божественным право. В связи с этим иудеи и христиане (пер¬
сидская церковь появлялась на античной почве лишь в форме античного
культа Митры, т. е. в рамках синкретизма), как неверующие, подлежа¬
щие своему собственному праву, были отнесены к чужой правовой об¬
ласти. Когда в 212 г. арамей Каракалла дал посредством constitutio Antoni-
па всем обитателям империи, за исключением dediticii , право граж¬
дан, форма этого акта была подлинно античной, и, без сомнения,
нашлось много людей, которые так его и поняли. Тем самым город Рим
буквально «инкорпорировал» в себя граждан всех прочих городов. Одна¬
ко сам император воспринимал свой акт совершенно иначе: им он пре¬
вратил всех граждан в подданных «правителя верных», почитаемого как
divus верховного главы культовой религии. С Константином произошло
великое изменение: в качестве объекта императорского халифского пра¬
ва он поместил на место синкретической вероисповедной общины —
общину христианскую и тем самым основал христианскую нацию. Обо¬
Деяния Апостолов, 15; здесь — основание понятия церковного права.
Ислам как юридическое лицо: Horten М., Die religiose Gedankenwelt des Volkes im
heutigen Islam. 1917. S. XXIV.
***
Cp. . Это выражение допустимо, потому что приверженцев всех позднеантич¬
ных культов объединяло меж собой общее благочестивое чувство точно так же, как и
отдельные христианские общины.
Ыауг v. III. S. 38; Wenger. S. 193.
530
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
значения «благочестивый» и «неверный» меняются местами. Со време¬
ни Константина «римское» право совершенно незаметно все решитель¬
ней становится правом правоверных христиан, и в качестве такового оно
понимается и воспринимается обращенными в христианство азиатами
и германцами. Тем самым в старой форме возникло совершенно новое
право. В соответствии с античным брачным правом было невозможно,
чтобы, например, римский гражданин женился на дочери гражданина
Капуи, если между этими городами не было никакой правовой общнос¬
ти, никакого сопиЫит214* **. Теперь вопрос заключался в том, в соответст¬
вии с каким правом христианин или иудей, будь он по местожительству
римлянин, сириец или мавр, мог жениться на неверующей. Ибо в маги¬
ческом мире права никакого сопиЫит между иноверцами не существует.
Когда ирландец женится в Византии на негритянке, если оба они хрис¬
тиане, никакого осложнения не возникает, однако как может в одной и
той же сирийской деревне христианин-монофизит жениться на несто-
рианке? Возможно, они оба из одного и того же рода — однако принад¬
лежат к двум различным по праву «нациям».
Это арабское понятие нации представляет собой всецело новый и ре¬
шающий факт. Граница между родиной и чужбиной пролегает в аполло-
нической культуре всякий раз между двумя городами, в магической —
всякий раз между двумя вероисповедными общинами. То, чем был для рим¬
лянина peregrinus, hostis [чужеземец, неприятель, враг (лат.)], является для
христианина язычник, для иудея — амхаарец. Тем, чем было для галла
или для грека принятие римского гражданства во времена Цезаря, стано¬
вится теперь христианское крещение: через него человек вступает в веду¬
щую нацию ведущей культуры*. В противоположность времени Ахеме-
нидов персидский народ времени Сасанидов уже не представляет собой
единства по языку и происхождению, но видится единством верующих в
Мазду — в противоположность неверным, пускай даже большинство не-
сториан были по происхождению такими же чистыми персами. Точно так
же и иудеи, а позже манданты276 и манихейцы, а еще позже — христиан¬
ские церкви несториан и монофизитов воспринимали себя как нации,
как правовые общины и юридические лица в новом смысле.
Таким образом появляется группа раннеарабского права, столь же
решительно подразделяющаяся по религиям, как группа античного пра¬
ва — по городам-государствам. В государстве Сасанидов развиваются
несколько правовых школ зороастрийского права; иудеи, составляющие
значительную часть местного населения от Армении до Сабы, создают
себе праро в Талмуде, завершенном немногими годами прежде Corpus
iurii11. Каждая из этих церквей обладает собственным судопроизводст¬
вом, независимым от государственных границ, как это имеет место еще
и на современном Востоке, и лишь в случае тяжбы между приверженца¬
ми разных религий дело решает судья, принадлежащий к господствую¬
* XII таблиц запрещали сопиЫит даже между патрициями и плебеями.
** Ср. т. 2, гл. 3, I.
Глава первая. Первоначало и ландшафт 531
щей в стране религии. Никто в Римской империи и не оспаривал у иуде¬
ев права на собственную юрисдикцию, однако и несториане с монофи-
зитами уже вскоре после своего отделения начали оформление
собственного права со самостоятельным судопроизводством. И таким
«негативным» способом, а именно через постепенное отделение всех
иноверных, римское императорское право сделалось правом христиан,
объявлявших о своей принадлежности к вере императора. Именно поэ¬
тому так важен сохранившийся на многих языках римско-сирийский
судебник. Возникший, вероятно, до Константина в канцелярии анти¬
охийского патриарха, он представляет собой", несомненно, свод ранне¬
арабского обычного права в неуклюжей позднеантичной редакции,
распространенностью же своей, как показывают его переводы, судеб¬
ник обязан своей оппозиции ортодоксальной императорской церкви.
Нет сомнения в том, что он является основанием монофизитского пра¬
ва и вплоть до возникновения исламского права господствует на терри¬
тории, далеко превосходящей сферу применимости Corpus iuris.
Возникает вопрос о том, какой практической значимостью могла на
деле обладать в этом мире разных прав латинская письменная состав¬
ляющая. Пока что историки права по своей филологической зашорен-
ности рассматривали только ее и по этой причине были не в состоянии
заметить даже того, что такая проблема здесь действительно есть. Тек¬
сты для них — это просто право, право, пришедшее к нам из Рима, и за¬
дачу свою они видели исключительно в том, чтобы исследовать исто¬
рию этих текстов, а не их фактическое значение в жизни восточных на¬
родов. Дело, однако, в том, что высокоцивилизованное право дряхлой
культуры раннего времени навязывалось здесь культуре юной. Оно по¬
падало сюда в качестве научной литературы, причем попадало именно
вследствие политических свершений, которые могли иметь совершен¬
но иной характер, проживи дольше Александр и Цезарь или победи
Антоний при Акции. Раннеарабскую историю нам следует рассматри¬
вать из Ктесифона, а не из Рима. Не сделалось ли здесь давно завер¬
шенное право дальнего Запада не более чем литературой? Какое учас¬
тие принимало оно в реальном правовом мышлении, правотворчестве
и правовой практике данного ландшафта? И как много римского, да и
вообще античного в нем сохранилось? "
История этого написанного по-латински права принадлежит начи¬
ная со 160 г. арабскому Востоку; весьма многозначительно уже то, что
она протекает в точном соответствии с историей иудейской, христиан - * *** Lenel. I. S. 380.
**
Mitteis (Reichsrecht und Volksrecht. S. 13) уже в 1891 г. указал на восточную струю в
законодательстве Константина. Collinet (Etudes historiques sur le droit de Justinien I. 1912)
очень и очень многое сводит, правда на основе немецких исследований, к эллинисти¬
ческому праву. Однако как много из этого «эллинистического» было на самом деле гре¬
ческим, а не было лишь написано по-гречески? Исследования интерполяций Дигест
Юстиниана приводят к действительно сокрушительным результатам для их «антично¬
го» духа.
532
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ской и персидской литературы*. Классические юристы (160—220) Па-
пиниан, Ульпиан и Павел были арамеями; Ульпиан с гордостью назы¬
вал себя финикийцем из Тира. Так что они происходили из того же на¬
селения, что и таннаимт, вскоре после 200 г. завершившие Мишну, и
большинство христианских апологетов (Тертуллиан, 160—223). В это же
самое время христианские ученые создают канон и текст Нового Завета,
иудейские — Ветхого Завета (что сопровождалось полным уничтожени¬
ем прочих рукописей), персидские же — Авесты. Это высокая схоласти¬
ка арабского раннего времени. Дигесты и комментарии этих юристов на¬
ходятся к закостеневшему античному законодательному материалу в аб¬
солютно том же отношении, что Мишна — к Моисеевой Торе, а много
позже Хадис — к Корану, т. е. представляют собой «Галаху»**, новое
обычное право, которое воспринималось как интерпретация дошедшей
из прошлого высокоавторитетной массы законов. Используемый казу¬
истический метод повсюду один и тот же. У вавилонских иудеев имеется
разработанное гражданское право, преподававшееся в высших школах
Суры и Пумбедиты. Повсюду оформляется сословие ученых-правове-
дов: prudentes христиан, раввины иудеев, позже — улемы (по-персидски
моллы) исламской нации; они дают свои заключения, responsa, по-араб¬
ски фетва19. Если улем признан на государственном уровне, он зовется
муфтий (по-византийски: ex auctoritate principis [с одобрения принцепса
(лат.)]): формы повсюду одни и те же.
Ок. 200 г. на смену апологетам приходят собственно Отцы Церкви, на
смену таннаим — амореит, великим казуистам юридического права (ius) —
истолкователи и собиратели права конституций (lex). Конституции импе¬
раторов, с 200 г. единственный источник нового «римского» права, опять-
таки представляют собой новую «Галаху» к той, что была сведена в единое
целое в сочинениях юристов; тем самым они в точности соответствуют Ге-
маре, развившейся сразу же из истолкования Мишны. Оба направления
нашли свое одновременное завершение в Corpus iuris и в Талмуде.
Противоположность ius и lex в арабско-латинском словоупотребле¬
нии явно отражается на Юстиниановом творении. Институции и Диге¬
сты — это ius; они всецело обладают значением канонических текстов.
Конституции и новеллы — это leges, новое право в форме разъяснений.
Таково же соотношение канонических писаний Нового Завета и свято¬
отеческой традиции.
Сегодня в ориенталистском характере тысяч конституций никто уже
не сомневается. Это настоящее обычное право арабского мира, которое
под напором живого развития должно было прийти на смену ученым тек¬
стам***. Бесчисленные постановления христианского правителя в Визан¬
* Ср. т. 2, гл. 3, I.
** Fromer. Der Talmud. 1920. S. 190.
Mitteis (Romisches Privatrecht bis auf die Zeit Diokletians. 1908) предисловие, отме¬
чает, «что при сохранении античных правовых форм само право сделалось во всем
иным».
Глава первая. Первоначало и ландшафт 533
тии, персидского — в Ктесифоне, иудейского реш-галуташ — в Вавило¬
нии, наконец, исламского халифа — все они означают одно и то же.
Какое значение имела, однако, другая часть этой якобы античности,
древнее право юристов? Истолкованием текстов здесь не отделаешься.
Необходимо уяснить, в каком отношении находится текст к правовому
мышлению и судопроизводству. Может оказаться и так, что одна и та
же книга приобретет в бодрствовании двух разных групп народов зна¬
чение двух принципиально различных творений.
Очень скоро выработалась привычка вообще больше не применять
древние законы города Рима к фактическому материалу единичных случа¬
ев, но цитировать юристов как Библию* **. Что это означает? Для наших ро¬
манистов это есть признак глубокого упадка всей правовой системы. Одна¬
ко с точки зрения арабского мира все как раз наоборот: это есть доказатель¬
ство того, что этим людям наконец-таки удалось внутренним образом
усвоить чуждую, навязанную им литературу в той единственной форме, ко¬
торая могла иметь значение для их собственного мироощущения. В этом
вся противоположность античного и арабского мироощущений.
17
Античное право создавалось гражданами на основе практического
опыта; арабское происходит от бога, возвещающего его через дух при¬
званных и просветленных. Римское различение между ius nfafS2 (содер¬
жание которого к тому же всегда восходит к человеческому размышле¬
нию) тем самым обессмысливается. Всякое право, будь оно светским
или духовным, возникло deo auctore [по велению бога (лат.)], как гласят
первые слова Дигест Юстиниана. Уважение к античному праву основы¬
вается на успешном результате, к арабскому — на авторитете того име¬
ни, которое оно на себе несет *. Существует, однако, колоссальная раз¬
ница в ощущениях человека в зависимости от того, воспринимает ли он
закон в качестве волеизъявления своего собрата или же как составную
часть божественного порядка. В одном случае он усматривает здесь
справедливость или уступает силе, в другом же он доказывает свою пре¬
данность («ислам»283). Человек Востока не требует, чтобы применяемый
к нему закон имел практическую цель, как не желает видеть логических
оснований приговора. Поэтому отношения кадиле народом вообще не¬
сравнимы с теми, что были у претора. Последний основывает свои ре¬
шения на проницательности (Einsicht), опробованной на высоких по¬
стах, первый же — на духе, который каким-то образом в нем о себе заяв¬
ляет и из него вещает. Однако отсюда следует и совершенно различное
* Mayr v. IV. S. 45 f.
**
Отсюда вымышленные имена создателей бесчисленных книг всех арабских лите-
ратур; Дионисий Ареопагит, Пифагор, Гермес, Гиппократ, Энох, Барух, Даниил, Соло¬
мон, апостольские имена в заглавиях многих Евангелий и апокалипсисов.
534 Том 2 ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
отношение судьи к письменному праву: претора — к своему эдикту,
кади — к текстам юристов. Для претора это квинтэссенция приобретен¬
ного им опыта, для кади они некоего рода оракул, который следует таин¬
ственным образом вопрошать. Ибо практическое намерение, изначаль¬
ный повод, послуживший причиной возникновения данного места тек¬
ста, кади и не рассматривает. Он вопрошает слова и даже буквы, причем
не в их значении в повседневной жизни, но в соответствии с магическим
отношением, в котором они могут находиться к данному случаю. Нам
известно об этом отношении духа к книге по гностике, по раннехристи¬
анской, иудейской, персидской апокалиптике и мистике, по неопифа-
горейской философии, Каббале, и нет никакого сомнения в том, что в
низовой судебной практике арамеев латинские кодексы использовались
точно так же. Убеждение в том, что дух Бога вселяется в тайный смысл
букв, находит символическое отражение в том факте, что все религии
арабского мира разрабатывают собственное письмо, которым должны
записываться священные книги, — письмо, с поразительной настойчи¬
востью утверждающее себя в качестве отличительного знака «нации»,
даже если та меняет свой язык.
Однако и в праве истина также определяется большинством тек¬
стов, т. е. на основе consensus'а духовно призванных, иджмы . Ислам¬
ская наука последовательно разрабатывала соответствующую теорию.
Мы пытаемся найти истину каждый для себя, на основании собствен¬
ного рассуждения. Арабский же ученый всякий раз опробывает и уста¬
навливает, каково всеобщее убеждение тех, кто сюда относится и кто
не может ошибиться по той простой причине, что дух Бога и дух общи¬
ны — это один и тот же дух. Если достигнут consensus, истина уже уста¬
новлена. Иджма — таков смысл всех раннехристианских, иудейских и
персидских соборов. Однако это также и смысл знаменитого закона о
цитировании Валентиниана III от 426 г., который при полном непони¬
мании его духовных оснований наткнулся на всеобщее презрение со
стороны историков права. Закон этот ограничивает число великих
юристов, текст которых может цитироваться, пятью. Тем самым был
создан канон в смысле Ветхого и Нового Завета, которые также содер¬
жали в себе сумму текстов, из которых возможны канонические цита¬
ты. При различии мнений вопрос решается большинством, при равен¬
стве голосов решающий — у Папиниана". Из того же воззрения проис¬
ходит и метод интерполяции, в широком масштабе примененный
Трибонианом при создании Дигест Юстиниана. По идее, канониче¬
ский текст был вневременным и потому не мог быть улучшен. Однако
фактические потребности духа меняются. Поэтому возникает техника
тайных поправок, сохраняющая фикцию наружной неизменности; к * **Horten М., Die religiose Gedankenwelt des Volkes im heutigen Islam. S. XVI. Cp.
гл. Ill I.
** Mayr v. IV, S. 45 f.
Глава первая. Первоначало и ландшафт
535
ней широко прибегали все религиозные писания арабского мира, в том
числе и библейские.
Вслед за Марком Антонием самой зловещей в арабской истории лич¬
ностью явился Юстиниан. Как и его «современник»284 Карл V, он испор¬
тил все, к чему был призван. Как через всю политическую романтику За¬
пада прошествовало фаустовское видёние восстановления Священной
Римской империи, затемняя смысл фактов еще Наполеону и августей¬
шим дурням 1848 года, так и Юстиниан был одержим донкихотством от¬
воевания обратно всей империи. Вместо того чтобы смотреть на свой
мир, на Восток, он постоянно обращал взгляд на далекий Рим. Еще до
своего восшествия на престол он вступил в переговоры с папой рим¬
ским, который не признавался тогда великими патриархами христиан¬
ского мира даже еще в качестве primus inter pares [первого среди равных
(лат.)]. По требованию папы был введен халкидонский диофизитский
Символ веры — и тем самым все монофизитские ландшафты сразу же
оказались утраченными навсегда. Следствием Акция было то, что фор¬
мирование христианства в первые два решающих столетия перемести¬
лось на Запад, в сферу античности, духовная верхушка которой держа¬
лась от него поодаль. Затем, в монофизитах и несторианах, изначальный
дух древнего христианства снова выправился. Юстиниан оттолкнул его
обратно и тем самым вызвал на свет ислам — в качестве новой религии, а
не пуританского течения внутри восточного христианства. А кроме того,
в тот самый момент, когда для кодификации созрели концепции обыч¬
ного восточного права, он создал латинский кодекс, которому было на
роду написано остаться всего лишь литературой: на Востоке уже в силу
языковых причин, на Западе же в силу причин политических.
Сам этот труд, точно так же как и соответствующие ему законодате¬
льства Драконта и Солона, возник при переходе к позднему времени,
причем с целями явно политическими. Вестготы, бургунды и остготы
уже составили ок. 500 г. на Западе для покоренных ими «римлян» латин¬
ские своды законов, а между тем фикция продолжения существования
Imperium готапит спровоцировала совершенно бессмысленные походы
сюда Велисария и Нарсеса. Этим-то сводам следовало теперь противо¬
поставить из Византии подлинно римский сборник законов. На Востоке
иудейская нация также только что завершила свой кодекс, Талмуд; по¬
скольку число тех, кто подлежал в Византийской империи юрисдикции
императора, было огромно, существовала необходимость создать свод
законов для собственной нации императора, христианской.
Ибо создававшийся с непомерной поспешностью и технически не¬
совершенный Corpus iuris представляет собой, несмотря ни на что,
арабское, т. е. религиозное, творение; это доказывается и христианской
тенденцией многих интерполяций*, и тем, что относящиеся к церков-
Ному праву конституции, которые находились еще в «Кодексе Феодо¬
сия» в конце, здесь поставлены в начало, и — с величайшей отчетливо-
Wenger. S. 180.
536 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
стью — предисловиями к многим его новеллам. Несмотря на это, книга
эта явилась вовсе не началом, но концом. Давно ставшая ненужной ла¬
тынь полностью теперь исчезает из жизни права (уже новеллы по боль¬
шей части написаны по-гречески), а с ней — и труд, бестолково напи¬
санный на ней. Однако история права продолжает двигаться своим пу¬
тем, указанным сирийско-римским судебником, и приводит в VIII в. к
появлению работ в духе нашего земского права XVIII в., таких, как
«Эклоги» императора Льва* и «Корпус» великого персидского юриста,
архиепископа Йезубохта*. К этому времени уже появился на свет и ве¬
ликий исламский юрист Абу Ханифа.
18
История западного права начинается совершенно независимо от
уже полностью позабытого творения Юстиниана. О том, что Пандек¬
ты, основная его часть, полностью утратили какое-либо значение, сви¬
детельствует тот факт, что они сохранились в одной-единственной ру¬
кописи, случайно (и не в добрый час) найденной ок. 1050 г.
Начиная с 500 г. предкультура создала несколько типов германского
племенного права: вест- и остготское, бургундское, франкское, ланго¬
барде кое. Они соответствуют тем системам права арабской предкуль¬
туры, из которых до нас дошла лишь иудейская***: Второзаконие (ок.
621 до Р. X., ныне приблизительно 5-я книга Моисея, гл. 12—26) и жре¬
ческий кодекс (ок. 450, ныне приблизительно 2—4-я книги Моисея). И
те и другие заняты фундаментальными ценностями примитивного су¬
ществования, семьей и имуществом, и все пользуются — безыскусно,
хотя и расторопно — древним цивилизованным правом: иудеи и, вне
****
сомнения, также персы и другие — поздневавилонским , германцы
же — остатками городской римской литературы.
Политическая жизнь готического раннего времени с его крестьянской,
феодальной и простейшей городской системой права уже очень скоро при¬
водит к обособленному развитию трех великих правовых областей, кото¬
рые и сегодня существуют, совершенно друг с другом не соприкасаясь.
Единой сравнительной истории западного права, которая проследила бы
смысл этого развития до самой его глубины, пока что не создано.
Вследствие политических перипетий наиболее важным среди всех
прочих оказалось норманнское право, заимствованное из франкского.
После завоевания Англии в 1066 г. оно подавило туземное саксонское
* Krumbacher. Byzant. Literaturgesch. S. 606.
Sachau. Syr. Rechtsbucher. Bd. III.
*** Bertholet A., Kulturgeschichte Israels. 1919. S. 200 ff.
Некоторое представление об этом дает знаменитый закон Хаммурапи, притом,
однако, что мы не можем знать, каков был статус этой одной-единственной работы в
праве, сложившемся в вавилонском мире.
Глава первая. Первоначало и ландшафт
537
право, и с тех пор в Англии «право государей — право также и всего наро¬
да». Оно сохраняло нерушимым чисто германский дух начиная со своей
неслыханно жесткой феодальной редакции и вплоть до тех правовых сис¬
тем, что действуют сегодня в Канаде, Индии, Австралии, Южной Африке
и Соединенных Штатах. Право это не только влиятельное, но и самое по¬
учительное во всей Западной Европе. В отличие от правовых систем про¬
чих стран его дальнейшее развитие не находилось в руках теоретиков-про-
фессоров права. Изучение римского права в Оксфорде удерживалось на
отдалении от практики. В 1236 г. в Мёртоне285 высшая знать прямо его от¬
вергает. Само судейское сословие продолжает формирование прежнего
судебного материала при помощи творческого создания прецедентов, и
на основании их практических решений (reports) возникают судебники,
такие, как Судебник Брактона (1259). С тех самых пор и вплоть до сегод¬
няшнего дня здесь продолжают бок о бок существовать сохраняющее
свою живость посредством практических судебных решений статутное
право и обычное право, постоянно проглядывающее в судебной практи¬
ке, — так что никакой необходимости в разовых законодательных актах
органов народного представительства не возникает.
На Юге господствовали уже упомянутые германско-романские
кодексы: в Южной Франции — вестготский, как droit ecrit [писаное
право (фр.)] в противоположность франкскому droit coutumier [обыч¬
ное право (фр.)], в Италии вплоть до позднего Возрождения еще про¬
должал существовать наиболее значительный среди них всех почти
чисто германский лангобардский кодекс. В Павии возникла высшая
школа германского права, откуда ок. 1070 г. вышло наиболее значите¬
льное достижение того времени, далеко превосходящее все прочие, —
«Expositio», а сразу за ним — сборник законов «Lombarda»*. Правовое
развитие всего Юга было прервано и подменено «Code civil» [«Граж¬
данским кодексом» (фр.)] Наполеона. Во всех романских странах и
далеко за их пределами этот кодекс сделался базисом для дальнейше¬
го творчества и тем самым оказался наиболее значимым после анг¬
лийского права.
Начавшееся в Германии очень бурно с готических племенных прав
(«Саксонское зерцало», 1230; «Швабское зерцало», 1274) движение за¬
кончилось ничем. Возникла неразбериха мелких городских и террито¬
риальных прав — пока правом не занялись мечтатели и фантазеры вро¬
де императора Максимилиана286, чья политическая романтика была
чужда жизни и расцвела лишь благодаря скудости фактов. В 1495 г. со¬
стоявшийся в Вормсе рейхстаг учредил положение о верховных судах
по итальянскому образцу. Имперское римское право явилось в Свя¬
щенную Римскую империю как обычное немецкое. Старонемецкие су¬
дебные процедуры были заменены на итальянские, судьи должны
были учиться по другую сторону Альп, и они обретали опыт не из окру¬
жавшей их жизни, но из жонглирующей понятиями филологии. Лишь
Sohm. S. 156.
538
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
в этой стране с тех пор продолжают существовать идеологи римского
права, защищающие Corpus iuris от действительности как святыню.
Но что же это был за предмет, который попал под этим именем в ду¬
ховное владение небольшого числа людей готики? Ок. 1100 г. один не¬
мец, Ирнерий, подвизавшийся в высшей школе Болоньи, сделал упомя¬
нутую единственную рукопись Пандект объектом настоящей правовой
схоластики. Он перенес лангобардский метод на новый текст, «вера в
истинность которого как ratio scripta [письменно изложенный разум
(лат.)] была так же крепка, как вера в Библию и Аристотеля»*. Вера ве¬
рой, однако готическое понимание, связанное с готической жизненной
позицией, было бесконечно далеко от того, чтобы хоть сколько-нибудь
проникнуть в дух текстов, заключавших в себе принципы цивилизован¬
ной жизни мировой столицы. Эта школа глоссаторов, как и вся схола¬
стика, находилась под обаянием реализма понятий (согласно которому
подлинно действительным, субстанцией мира являются не вещи, но об¬
щие понятия), и ей представлялось несомненным, что истинное право
устанавливается не в привычке и обычае, как это делает «жалкая и гряз¬
ная» «Lombardo», но посредством перетасовывания абстрактных поня¬
тий** *** *. Проявляя к книге чисто диалектический интерес**, они и в мыс¬
лях не имели применить свою ученость к жизни. Лишь после 1300 г. их
направленные против ломбардского права возрожденческих городов
глоссы и «Суммы» медленно двинулись в наступление. Юристы поздней
готики, и прежде всего Бартоло287, объединили каноническое и герман¬
ское право в единое целое, предназначенное для практического исполь¬
зования. Они внесли сюда и актуальные идеи, причем такие, которые
соответствовали начинавшемуся позднему времени, аналогичные, к
примеру, законодательству Драконта и постановлениям императоров от
Диоклетиана до Феодосия. Творение Бартоло вступило в силу в Испании
и Германии в качестве «римского права»; лишь во Франции юриспру¬
денция барокко обратилась начиная с Куяция и Донелла288 к еще более
раннему тексту — уже не схоластическому, но византийскому.
Однако в той же самой Болонье помимо чисто абстрактного дости¬
жения Ирнерия имело место и нечто в высшей степени знаменательное.
В 1140 г. монах Грациан составил здесь свой знаменитый декрет. Тем са-
****
мым он создал западную науку церковного права, поскольку привел в
систему древнекатолическое (магическое) церковное право начиная с
раннеарабского***** прототаинства крещения. Теперь новокатоличе¬
ское — фаустовское — христианство нащупало форму выражения собст¬
венного существования правовыми средствами. Это случилось на осно¬
* Lenel. I. S. 395.
Принадлежащее Хугуцио (1200 г.) обыгрывание лангобардского faex и римского lex.
*** Goetz W. Arch. f. Kulturgesch., 10, 28 ff.
В соответствии с последним исследованием Зома (Sohm): Das altkatolische Kirc-
henrecht und das Dekret Gratians, 1918.
Глава первая. Первоначало и ландшафт 539
ве готического алтарного прототаинства (и его опоры — священниче¬
ского рукоположения). В 1234 г. в «Liberextra» [«Дополнительной книге»
(лат.)] получила свое завершение основная часть «Corpus iuris canonici»
[«Свода канонического права» (лат.)]. То, чего не смогла осуществить
императорская власть — создать общеевропейский «Corpus iuris germanici»
[«Свод германского права» (лат.)] на основе тех богатых предпосылок,
что имелись в племенных правах, удалось папству. Полное гражданское
право вместе с уголовным правом и регламентацией процесса возникли
по германской методе из церковно-светского правового материала готи¬
ки. Это и есть «римское» право, дух которого со времени Бартоло прони¬
зывает также и исследования творений Юстиниана. Но тем самым так¬
же в праве заявляет о себе и великий фаустовский раскол, вызвавший
колоссальное борение между императорской властью и папством. Как в
арабском мире противоречие между ius и fas немыслимо, так в западном
оно неизбежно. Оба являются выражением одной воли к власти над бес¬
конечным: светская правовая воля происходит из обычая и простирает
свою длань на будущие поколения, духовная происходит из мистиче¬
ской уверенности и дает вневременной вечный закон*. Эта борьба рав¬
ных по достоинству противников так и не была завершена; она все еще
продолжается у нас на глазах в брачном праве, в противостоянии цер¬
ковного и гражданского бракосочетания.
С началом барокко жизнь, принявшая городские и товарно-денеж¬
ные формы, выдвинула требование такого права, какое устанавливали
античные города-государства со времени Солона. Все понимают теперь
цель действующего права, однако никто не в состоянии ничего поделать
с роковым наследием готики, с тем, что ученое сословие рассматривает
создание «прирожденного права» в качестве своей привилегии.
Городской рационализм обращается, как это было уже в филосо¬
фии софистов и стоиков, к естественному праву начиная с его основа¬
ния Ольдендорпом и Боденом и вплоть до его ниспровержения Геге¬
лем. В Англии величайший ее юрист Коук защищает германское право,
которому продолжают следовать на практике, от последней совершен¬
ной Тюдорами попытки ввести право пандектное. Однако на конти¬
ненте ученые системы развивались в римских формах вплоть до немец¬
кого земского права и проектов ancien regime , на которые опирался
Наполеон. Так что принадлежащий Блакстону комментарий к «Laws of
England» [«Законам Англии» (англ.)] (1765) представляет собой единст¬
венный чисто германский кодекс на пороге западной цивилизации.
19
Тем самым я у цели и могу оглянуться вокруг. Взору открываются три
Истории права, соединенные меж собой лишь элементами языковой и
Ср. т. 2, гл. IV, 1.
540 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
синтаксической формы, которую одна позаимствовала либо должна
была позаимствовать у другой, без того, однако, чтобы получить через
это употребление хотя бы минимальное представление о чуждом суще¬
ствовании, которое лежало в основе этой формы. Две из этих историй
завершены. В третьей мы теперь пребываем сами, причем в решающем
ее моменте, где только и начинается созидательная работа большого
стиля, выпадавшая ранее на долю одних лишь римлян и ислама.
Ну и чем же было римское право для нас до сих пор? Что было им
погублено? Чем может оно явиться для нас в будущем?
Лейтмотив нашего права — борьба между книгой и жизнью. На Запа¬
де книга — это не оракул и не магический текст с тайным волшебным
смыслом, но фрагмент сохраненной истории. Это есть спрессованное
прошлое, желающее сделаться будущим, причем через нас, читателей, в
которых снова оживает его содержание. В отличие от человека антично¬
го фаустовский человек считает, что он призван не завершать свою
жизнь как что-то замкнутое в самом себе, но продолжать ту жизнь, что
началась задолго до него и оканчивается много после. В размышлениях
готического человека о самом себе не было места вопросу, следует ли
ему привязать к истории собственное существование; вопрос заключал¬
ся лишь в том, где именно это сделать. Он нуждался в прошлом, чтобы
придать смысл и глубину настоящему. Если духовному его взору являлся
Древний Израиль, то мирскому представлялся Древний Рим, руины ко¬
торого он видел повсюду, и он поклонялся им не за’их величие, но за
древность и отдаленность. Узнай эти люди Египет, в сторону Рима они
бы даже не посмотрели. Язык нашей культуры сделался бы тогда иным.
Поскольку то была книжная и читательская культура, во всех облас¬
тях, где еще существовали античные рукописи, имела место «рецеп¬
ция», и развитие приняло форму медленного и неохотного освобожде¬
ния. Однако рецепция Аристотеля, Эвклида, Corpus iuris означала для
этой культуры (на магическом Востоке все было иначе) слишком ран¬
нее обнаружение сосуда собственных идей, причем уже наполненного.
Но тем самым человек с историческими задатками становится рабом
понятий. Не то чтобы чуждое жизнеощущение проникло в его мышле¬
ние (сюда оно не проникает), однако оно мешает его собственному
жизнеощущению выработать непринужденный язык.
Вот и правовое мышление вынуждено сопрягаться с чем-то уже на¬
личным. Правовые понятия должны быть от чего-то отвлечены. И в
этом-то и заключается злой рок: вместо того чтобы получать их из
устойчивого и строгого обычая общественного и экономического су¬
ществования, они преждевременно и излишне быстро абстрагируются
из латинских рукописей. Западный юрист становится филологом, а
практический опыт подменяется гелертерским опытом чисто логиче¬
ского разложения и соединения правовых понятий, основанных все¬
цело на самих себе.
Глава первая. Первоначалом ландшафт 541
Тем самым нами был совершенно упущен из виду один факт, а
именно, что частное право должно ежеминутно отражать дух обще¬
ственного и экономического бытия. Отчетливого сознания этого не на¬
блюдается ни в «Code civil», ни в прусском земском праве, ни у Грота с
Моммзеном. Ни система подготовки юридического сословия, ни лите¬
ратура не содержат никакого, хотя бы самого слабого намека насчет
этого подлинного «источника» действующего права.
Вследствие этого мы имеем частное право, построенное на при¬
зрачном основании позднеантичной экономики. Глубокая ожесточен¬
ность, с которой с самого начала цивилизованной западной экономи¬
ческой жизни друг другу противопоставляются слова «капитализм» и
«социализм», по большей части происходит оттого, что гелертерское
правовое мышление, а вслед за ним и мышление всех образованных
людей, связывает такие фундаментальные понятия, как «лицо», «вещь»
и «собственность», с состояниями и распорядком античной жизни.
Между фактами и их постижением встает книга. Образованный чело¬
век (т. е. получивший образование по книгам) оценивает все по сути в
античном духе. Тот, кто занят исключительно делом и не обучен выда¬
вать суждения, чувствует себя непонятым. Он замечает противоречие
между жизнью эпохи и ее правовым постижением и ищет того, кто со¬
здал это противоречие — как он полагает, из корысти.
Еще вопрос: кем и для кого было создано западное право? Римский
претор был землевладёлец и офицер, имел опыт в администрировании
и финансах и именно на такой основе приобретал выучку, делавшую
его способным к судебной и одновременно законотворческой деятель¬
ности. Praetor peregrinus развивал право чужеземцев в качестве права,
регулирующего экономическое обращение позднеантичной мировой
столицы, причем делал это без плана и предвзятости, но лишь на осно¬
вании действительно возникающих случаев.
Однако фаустовская воля к длительности требует книги, которая бу¬
дет иметь силу «отныне и навсегда»*, системы, в которой заранее преду¬
смотрен любой возможный случай. Понятно, что такую книгу, ученую
работу, создавало ученое сословие правотворцев и правоприказчиков:
доктора факультетов, старинные немецкие юридические семейства,
французское noblesse de robe290. Английские judges291, которых немногим
более сотни, притом что они набираются из высшего адвокатского со¬
словия (barristers), по положению стоят выше даже.министров.
Ученое сословие чуждо миру. Опыт, происходящий не из мышле¬
ния, оно презирает. Между текучими обычаями практической жизни и
«научным сословием» разгорается неизбежная борьба. Рукопись Пан-
Дект Ирнерия сделалась за века «миром», в котором живет юрист. Даже
в Англии, где нет факультетов права292, гильдия юристов прибрала к ру-
Что в Англии неизменно сохраняет силу, так это непременная форма развития
пРава через практику.
542 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
кам воспитание собственной смены и тем самым обособила развитие
правовых понятий от общего развития.
Таким образом, то, что мы до настоящего времени называем право¬
ведением, есть либо филология юридического языка, либо схоластика
правовых понятий. Это единственная наука, которая еще и сегодня вы¬
водит смысл жизни из «вечных» фундаментальных понятий. «Совре¬
менное немецкое правоведение в очень значительной мере представ¬
ляет собой наследие средневековой схоластики. Теоретико-правовое
продумывание базовых ценностей нашей реальной жизни еще не нача¬
лось. Мы эти ценности совершенно еще не знаем»*.
Вот задача, предстоящая будущему немецкому мышлению. Речь
идет о том, чтобы на основании практики современной жизни разрабо¬
тать ее глубинные принципы и поднять их на уровень фундаменталь¬
ных понятий права. За спиной у нас — великие искусства, впереди —
непочатое правоведение.
Ибо труды, выполненные в XIX в., как их авторы бы ни полагали,
что занимаются творчеством, были всего-навсего подготовкой к нему.
Они освободили нас от Юстиниановой книги, но не от Юстиниановых по¬
нятий. Никто из ученых уже больше не обращает внимания на идеоло¬
гов римского права, однако гелертерство старого стиля никуда не де¬
лось. Чтобы освободить нас также и от схемы этих понятий, необходи¬
мо правоведение иного рода. На смену филологическому должен
прийти общественный и экономический опыт.
Чтобы понять, в чем тут дело, достаточно бросить взгляд на немец¬
кое частное и уголовное право. Это — системы с бахромой висящих на
них дополнительных законов. Влить их содержание в основной закон
было немыслимо. Здесь имеет место понятийное, а значит, и синтакси¬
ческое противостояние того, что может и что не может быть втиснуто в
античную схему.
Почему кражу электрической энергии после чудовищной полемики
о том, идет ли здесь речь о физической вещи, пришлось в 1900 г. сде¬
лать уголовно наказуемой по чрезвычайному закону? Почему содержа¬
ние патентного закона не удается включить в вещное право? Почему
авторское право оказалось не в состоянии понятийно отделить духов¬
ное творение от его поддающихся передаче форм, таких, как рукопись
и печатная продукция? Почему вразрез с вещным правом в одной и той
же живописной картине приходится различать художественную и ма¬
териальную собственность — посредством разделения приобретения
оригинала и приобретения права на воспроизведение? Почему похи¬
щение предпринимательской идеи или организационного проекта не¬
наказуемо, а похищение клочка бумаги, на котором сделан набросок,
наказывается в уголовном порядке? Потому что над нами все еще до¬
влеет античное понятие телесной вещи *. Живем мы иначе. Наш ин-
Sohm. Inst. S. 170.
** Гражданский кодекс, § 90.
Глава первая. Первоначало и ландшафт 543
стинктивный опыт исходит из функциональных понятий рабочей силы,
духа изобретательства и предпринимательства, умственной, телесной,
художественной, организаторской энергии, соответствующих им спо¬
собностей и дарований. Наша физика, с ее продвинувшейся далеко
вперед теорией, верной копией с нашего теперешнего образа жизни,
вообще уже не знает старинного понятия тела, что доказывается как
раз учением об электричестве. Почему наше право в понятийном отно¬
шении бессильно перед лицом великих фактов сегодняшней экономи¬
ки? Потому что и оно знает личность лишь как тело.
Западное правовое мышление, переняв античные выражения, усво¬
ило лишь поверхностное их значение. Контекст раскрывает лишь логи¬
ческое словоупотребление, но не жизнь, лежащую в его основе. Умолк¬
шую метафизику древних правовых понятий не пробудить мышлением
чуждых ей людей, сколько бы они их ни применяли. Ведь самое глав¬
ное, глубинное подразумевается здесь само собой, ни в какой из систем
права в мире о нем не говорится. Всякое право предполагает самое су¬
щественное, специально это не оговаривая; право обращено к людям, а
люди и помимо уложений внутренне понимают то, что никогда не про¬
говаривается, — понимают именно в силу этого и прекрасно этим по¬
льзуются. Всякое право есть по преимуществу (и в гораздо большей
степени, чем мы можем это себе вообразить) обычное право: пускай
себе закон дает формулировки — толкует их жизнь.
Но когда ученые желают навязать собственному праву трактуемый
ими чужой юридический язык с присущей тому понятийной схемой,
понятия остаются пусты, а жизнь — немой. Право делается не оружи¬
ем, но обузой, и действительность продолжает двигаться дальше не
вместе с историей права, но помимо нее.
Потому-то и оказывается, что правовой материал, которого требу¬
ют факты нашей цивилизации, лишь поверхностно соприкасается с
античной схемой кодексов, отчасти же вообще никак с ней не соотно¬
сится, вследствие чего он все еще лишен формы и потому практически
не существует для правового мышления, а значит, и для мышления об¬
разованных людей.
Являются ли вообще лица и вещи в смысле нашего нынешнего за¬
конодательства юридическими понятиями? Нет! Они лишь прочерчи¬
вают элементарную границу между человеком и всем прочим, они осу¬
ществляют, так сказать, естественнонаучное различение. Однако с ан¬
тичным понятием persona была связана целая метафизика античного
бытия: различие между человеком и божеством, сущность полиса, ге¬
роя, раба, космоса из материи и формы, жизненный идеал атараксии —
все это само собой разумеющиеся, полностью для нас исчезнувшие
предпосылки. Слово «собственность» отягощено в нашем мышлении
статичным античным определением и потому во всех случаях исполь¬
зования фальсифицирует динамический характер нашего жизненного
стиля. Мы оставляем такие определения на откуп чуждым миру и абст¬
544 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
рактным этикам, юристам, философам, допускаем играть ими полити¬
ческих доктринеров, занятых бессмысленной сварой, а между тем на
метафизике одного этого понятия покоится вообще все понимание эко¬
номической истории наших дней.
И потому да будет здесь заявлено со всей остротой: античное право
было правом тел, наше же право — это право функций. Римляне создали
юридическую статику, нашей задачей является юридическая динами¬
ка. Для нас лица — это не тела, но энергетические и волевые единицы, а
вещи — не тела, но цели, средства и порождения этих единиц. Антич¬
ное отношение между телами — положение; отношение же между си¬
лами есть действие. Для римлянина раб был вещью, производящей но¬
вые вещи. Понятие духовной собственности никогда не приходило в
голову даже такому писателю, как Цицерон, уже не говоря о собствен¬
ности на практическую идею или гениальные способности. Однако для
нас организатор, изобретатель и предприниматель являются творче¬
ской силой, которая воздействует на другие, исполняющие силы, задавая
им направление, намечая цель и средства собственного действия. И те
и другие принадлежат экономической жизни не как владельцы вещей,
но как носители энергии.
Требованием будущего становится перестройка всего правового
мышления по аналогии с высшей физикой и математикой. Жизнь в це¬
лом: социальная, экономическая, техническая — ждет того, чтобы ее
наконец-то поняли в этом смысле; для достижения такой цели нам по¬
требуется не менее столетия напряженнейшей и глубочайшей работы
мысли. А для этого необходима подготовка юристов совершенно иного
рода. Она требует:
1. Непосредственного расширенного практического знакомства с
современной экономической жизнью;
2. Точного знания истории западного права при постоянном срав¬
нении немецкого, английского и романского хода его развития;
3. Знания античного права, причем не как образца для значимых
ныне понятий, но как блестящего примера развития права на основе
чисто практической жизни эпохи.
Римское право перестало быть для нас источником вечно значимых
фундаментальных понятий. Для нас оно ценно как свидетельство от¬
ношений, существовавших между римским бытием и римскими пра¬
вовыми понятиями. Оно может научить нас тому, как на основании
собственного опыта выстроить собственное право.
ГЛАВА ВТОРАЯ
ГОРОДА И НАРОДЫ
18 Закат Западного мира
1. Душа города
1
В середине второго тысячелетия до Р. X. на Эгейском море друг дру¬
гу противостояли два мира. Один — микенский мир, пронизанный
смутными предчувствиями, переполненный надеждами, упоенный
страстью и делом, — неспешно вызревал для будущего. Другой — ми-
нойский на Крите, веселый и ублаготворенный, — оставив все пробле¬
мы далеко позади, располагался среди сокровищ древней культуры,
изящной и легкой.
Нам никогда по-настоящему не понять этого явления, которое делает¬
ся предметом научного интереса именно в наше время, если мы не отда¬
дим себе отчета в том, что здесь налицо непреодолимая противополож¬
ность двух душ. Должно быть, люди той эпохи глубоко ее ощущали, одна¬
ко вряд ли она была ими «познана». Живо представляю себе, с каким
благоговением, снизу вверх смотрели жители крепостей Тиринф или Ми¬
кены на недостижимую духовность обыденной жизни в Кноссе и с каким
презрением тамошние лощеные обитатели взирали на их главарей и дру¬
жину; и все же, с другой стороны, присутствовало здесь и скрытое чувство
превосходства здоровых варваров, которым обладал всякий германский
солдат в сравнении с дряхлым римским сановником.
Но откуда можем мы об этом знать? Так ведь история насчитывает
немало моментов, когда люди двух культур заглядывали друг другу в
глаза. Нам известно не одно «межкультурье», когда обнаруживаются
настроения, которые можно отнести к значительнейшим явлениям че¬
ловеческой души.
Нет сомнения, между Кноссом и Микенами складывались отноше¬
ния, похожие на те, что вырисовывались между византийским двором
и германской знатью, которая, как Отгон II, брала себе оттуда жен. со
стороны рыцарей и графов — нескрываемое восхищение, а в ответ на
него — презрительное удивление утонченной, хотя и несколько дряб¬
лой и утомленной цивилизации по поводу медвежатной утреннести и
свежести германской земли, как это описывает в своем «Экхарте»
Шеффель294.
То же смешение первобытной человеческой душевности накануне
пробуждения с накладывающейся на нее поздней духовностью выпукло
проявляется в Карле Великом. По некоторым чертам правления его
548
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
вполне можно было бы назвать халифом Франкистана; но с другой сто¬
роны, он еще и предводитель германского племени; в смешении этих
разных черт, как в смешении форм ахенской дворцовой капеллы, уже не
мечети, но еще не собора, символичность явления в целом. Германско-
западноевропейская предкультура продолжает между тем неспешно, ис¬
подволь продвигаться вперед; однако то внезапное просветление, кото¬
рое мы довольно неудачно обозначаем словами «каролингское Возрож¬
дение», возникло здесь как отблеск Багдада. Не следует закрывать глаза
на то обстоятельство, что эпоха Карла Великого — эпизод, не оставив¬
ший глубокого следа. Нечто случайное, не имевшее последствий, тут же
с ней и завершилось. После 900 г., после спада, начинается нечто новое,
заявляющее о себе с неотвратимостью судьбы и с глубиной, обещающей
долговечность. Однако ок. 800 г. над всеми землями, как солнце, под¬
нявшееся от мировых столиц Востока, взошла арабская цивилизация, —
точно так же, как в свое время эллинистическая цивилизация, сияние
которой и без всякого Александра и даже еще прежде него доходило до
индусов. Александр ее не пробуждал и не распространял: он отправился
на Восток по ее следам, а не шел во главе ее.
На холмах Тиринфа и Микен высятся крепости и замки в безыскус¬
ном германском вкусе. Критским дворцам, которые представляют со¬
бой не королевские замки, а громадные культовые сооружения для
многочисленной общины жрецов и жриц, присуща характерная имен¬
но для мировых столиц поистине позднеримская роскошь. У подно¬
жия холмов, на которых высятся замки, теснятся хижины горожан-
земледельцев и крепостных. На Крите же (как в Гурнии и Агиа Триаде)
раскапывают города и виллы, и по ним можно заключить о наличии
здесь высокоцивилизованных потребностей, а также строительной
техники, которая имела за плечами длительный опыт и вполне освои¬
лась с самыми изысканными запросами в отношении формы мебели и
художественной отделки стен, со световыми колодцами, канализаци¬
онными сооружениями, лестничными клетками и другими задачами в
том же роде. Там план дома являет собой строгий символ жизни,
здесь — выражение рафинированной «целесообразности». Сравните
Камаресские вазы с Крита и тамошние фрески по заглаженной штука¬
турке со всем подлинно микенским. Это сплошь художественные ре¬
месла,, изящные и пустые, а вовсе не великое и глубокое искусство, с тя¬
желой, неуклюжей символикой вызревающее в Микенах до геометри¬
ческого стиля. А там и не стиль вовсе, но вкус*. В Микенах обитает
исконная раса, выбирающая себе место по плодородию почвы и защи¬
щенности от врагов. Минойские жители селятся, руководствуясь дело¬
выми соображениями, как это совершенно явно видно в случае города
Филакопи на Мелосе, заложенного в связи с экспортом обсидиана.
Микенский дворец обещает, минойский как бы прощается. Однако
Теперь это признается также и искусствоведением: Salis v. Die Kunst der Griec-
hen. 1919. S. 3 ff.; Bossert B. Th. Alt Kreta. 1921, введение.
Глава втора* Города и народы 549
точно такую же картину видим мы и на Западе ок. 800 г.: от Луары до
Эбро располагаются франкские и вестготские усадьбы и поместья, а
дальше к югу — мавританские замки, виллы и мечети Кордовы и Гра¬
нады*
Нет сомнения: то, что расцвет минойской роскоши с точностью
пришелся на время великой египетской революции, прежде всего на
период гиксосов* (1800—1550), не было случайностью**. Возможно,
тогда-то египетские ремесленники и бежали на мирные острова, про¬
двинувшись вплоть до замков на континенте, подобно тому как много
позднее бежали в Италию византийские ученые. Ибо в представлении,
что минойская культура есть составная часть культуры египетской, —
ключ к пониманию первой. Мы могли бы знать это с куда большей до¬
стоверностью, когда бы главнейшая часть египетских художественных
творений, все, что возникло в Западной Дельте, не сделалось жертвой
влажности почвы. Мы знаем египетскую культуру лишь постольку, по¬
скольку она процветала на сухой почве Юга, однако в том, что главное
развитие происходило не здесь, давно уже никакого сомнения нет.
Четкую границу между древней минойской и юной микенской ку¬
льтурами провести невозможно. Во всем египетско-критском мире на¬
блюдается в высшей степени современная склонность к иноземным и
примитивным вещам, и наоборот — военные царьки в крепостях на
континенте похищали и покупали где только могли предметы искусст¬
ва с Крита и уж конечно ими восхищались и им подражали. Также и
стиль, ранее превозносившийся как прагерманский, стиль эпохи пере¬
селения народов, по формальному языку — восточного происхожде¬
ния***. Пленные или приглашенные художники с Юга строили герман¬
цам укрепленные дворцы и надгробные памятники и их разукрашива¬
ли. Так что «Гробница Атрея» в Микенах прекрасно встает рядом с
гробницей Теодориха в Равенне.
Чудо такого рода — Византия. Здесь приходится осторожно снимать
слой за слоем: вначале слой, образовавшийся, когда в 326 г. Констан¬
тин заново, как позднеантичную мировую столицу, отстроил ее, круп¬
ный город, разрушенный Септимием Севером, после чего сюда стали
стекаться и аполлоническая старость с Запада, и магическая юность с
Востока; и слой 1096 г., когда под стенами теперь уже позднеарабской
мировой столицы появились крестоносцы Готфрида Бульонского (ко¬
торых беспощадно-презрительно обрисовывает в своем историческом
труде Анна Комнина **) и в дни поздней осени этойцивилизации вдруг
повеяло чем-то весенним. Как самый восточный из городов античной
Цивилизации, этот город околдовывал готов, а тысячелетием спустя,
как самый северный из арабских городов, он неодолимо влек к себе
См. табл. I на с. 67.
Fimmen D. Die kretisch-mykenische Kultur. 1921. S. 210.
Dehio. Gesch. d. deutsch. Kunst. 1919. S. 16 ff.
****
Dieterich K., Byz. Charakterkopfe. 1909. S. 136 f.
550 Том 2 ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
русских: возвещая русскую предкультуру, в Москве высится возведен¬
ный в 1554 г. огромный Васильевский собор295, пребывающий в «меж-
дустилье», — подобно тому как более чем за два тысячелетия до этого
между мировой столицей Вавилоном и ранним христианством вырос
храм Соломона.
2
Изначальный человек — бродячее животное, это существование с
бодрствованием, неустанно ощупывающим жизнь, он — всецело мик¬
рокосм, не привязанный к месту и безродный, с обостренными и пуг¬
ливыми чувствами, постоянно в поиске — как бы чего урвать у враж¬
дебной природы. Глубокое изменение начинается лишь с земледели¬
ем, ибо оно является чем-то искусственным, для охотников и пастухов
весьма и весьма далеким: тот, кто копает и пашет, хочет не грабить при¬
роду, но ее изменять. Сажать — значит не забирать, но порождать. Од¬
нако тем самым человек сам превращается в растение, а именно в кре¬
стьянина: человек пускает корни в ту почву, которую возделывает.
Душа человека обнаруживает душу в ландшафте: заявляют о себе но¬
вая, земная, привязанность существования, новые чувства. Враждеб¬
ная природа делается подругой. Земля делается Матерью-Землей. Воз¬
никает глубоко прочувствованная связь между севом и зачатием, жат¬
вой и смертью, ребенком и зерном. В хтонических культах новое
благочестие обращается на плодородную землю, с которой человек
срастается воедино. Как совершенное выражение этого жизнеощуще¬
ния повсюду возникает символический образ крестьянского дома, кото¬
рый устройством помещений и каждой чертой внешней формы свиде¬
тельствует о крови своего обитателя. Крестьянский дом — это великий
символ оседлости. Он сам — растение: он глубоко пускает корни в «соб¬
ственную» почву. Это собственность в самом святом смысле. Добрые
духи очага и двери, земельного участка и помещений: Веста, Янус,
Лары и Пенаты — имеют здесь каждый свое определенное место, точно
так же как и сам человек.
Вот предварительное условие всякой культуры, которая опять-таки
сама, подобно растению, вырастает из своего материнского ландшаф¬
та, еще углубляя душевную привязанность человека к почве. Что для
крестьянина его дом, то для культурного человека город. Чем являются
для дома добрые духи, тем оказывается для города его бог-покровитель
или святой. Город также подобен растению. Точно так же, как и кре¬
стьянству, ему чуждо все кочевое, все чисто микрокосмическое. По
этой причине всякое развитие высшего языка форм привязано к ланд¬
шафту. Ни искусство, ни религия не в состоянии сменить место своего
роста. Лишь в цивилизации с ее городами-исполинами снова возника¬
ет презрение к этим корням душевности и она отрывается от них. Ци-
вторая. Города и народы
551
Глава
вилизованный человек, этот интеллектуальный кочевник, — вновь все¬
цело микрокосм, он совершенно безроден и свободен духовно, как
были чувственно свободны охотники и пастухи. Ubi bene ibipatria296 —
справедливо до и после культуры. В предвесну переселения народов то
было девическое и одновременно уже материнское германское томле¬
ние: они искали себе родину на Юге, чтоб выстроить гнездо для своей
будущей культуры. Сегодня, на исходе этой культуры, неприкаянный
дух скитается среди всех ландшафтных и мыслительных возможно¬
стей. Однако между тем и другим — время, когда за пядь земли человек
умирает.
Факт, что все великие культуры — культуры городские, является аб¬
солютно определяющим и в полном своем значении так и не оценен.
Высший человек второго периода — градопострояющее животное. Вот
подлинный критерий «всемирной истории», четко выделяющий ее из
истории человечества вообще: всемирная история — это история город¬
ского человека. Народы, государства, политика и религия, все искусст¬
ва, все науки покоятся на единственном пра-феномене человеческого
существования, на городе. Поскольку все мыслители всех культур сами
обитают в городах (даже если пребывают телесно в сельской местнос¬
ти), они абсолютно себе не представляют, что за поразительная штука
город. Чтобы это понять, нам следовало бы целиком погрузиться в
изумление прачеловека, впервые видящего посреди ландшафта махину
из камня и дерева с мостовыми улр;ц и вымощенными камнем площа¬
дями, эту диковинной формы скорлупу, в которой кишит народ.
Но что уж подлинно чудо, так это рождение души города. Как массо¬
вая душа совершенно нового рода, последнее основание которой на¬
всегда останется для нас тайной, она внезапно выделяется из общей ду¬
шевности своей культуры. Пробудившись, она выстраивает себе зри¬
мое тело. Из стоящих друг подле друга деревенских усадеб, у каждой из
которых — своя собственная история, возникает единое целое. И это це¬
лое живет, дышит, растет, обретает облик, внутреннюю форму и исто¬
рию. Начиная с этого момента не только отдельный дом, собор или
дворец, но также и образ самого города представляет собой предметное
единство языка форм и истории стиля, которое присутствует во всем
жизненном течении культуры.
Понятно само собой, что город и деревня отличаются друг от друга
не размером, но наличием души. Не только в таких примитивных со¬
стояниях, как сегодняшняя внутренняя Африка, но и в поздних Китае
и Индии, во всех промышленных областях современной Европы и
Америки существуют очень большие поселения, городами тем не ме¬
нее не являющиеся. Они центры края, однако внутренне они самосто¬
ятельного мира не образуют. У них нет души. Их примитивное населе¬
ние живет всецело крестьянской, приземленной жизнью. Такого суще¬
ства, как «город», для них не существует. Что внешним образом
отделяет их от деревни, есть не город, но рынок, простое место Пересе¬
552
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
чения земледельческих жизненных интересов, которое еще никак не
предполагает обособленной жизни. Обитатели рыночного местечка,
даже если они ремесленники или торговцы, живут и думают как кре¬
стьяне. Нам следует прочувствовать, чтб это означает, когда из ранне¬
египетской, раннекитайской или германской деревни — точки, зате¬
рявшейся среди широких просторов, возникает город, который внеш¬
не, быть может, ничем не выделяется, и тем не менее в плане душевном
это отныне такое место, где человек переживает весь край как «окруже¬
ние», как нечто иное и подчиненное. Начиная с этого момента имеются
две жизни — жизнь внутри и снаружи, и крестьянин воспринимает это
с тою же отчетливостью, что и горожанин. Деревенский и городской
кузнецы, деревенский староста и бургомистр живут в двух разных ми¬
рах. Сельский и городской человек — два разных существа. Вначале
они эту разницу ощущают, затем она начинает над ними господство¬
вать; в конце концов они перестают понимать друг друга. Сицилий¬
ский крестьянин сегодня ближе крестьянину из Бранденбурга, чем
берлинец. Собственно, с возникновения такой установки и появляют¬
ся подлинные города, и само собой разумеется, что именно она лежит
вообще в основе бодрствования всех культур.
Раннее время всякой культуры — это всегда также и раннее время по¬
явления новой сущности города. Великая робость охватывает человека
предкультуры перед этими образованиями, к которым он не способен
выработать никакого внутреннего отношения. Германцы неоднократно
(например, в Страсбурге) селились на Рейне и Дунае перед воротами
римских городов, между тем как сами города оставались незаселенньь
ми*. Вторгшиеся на Крит завоеватели сожгли там дотла такие города, как
Гурниа и Кносс, а на развалинах выстроили деревни. Орден западноев¬
ропейской предкультуры, бенедиктинцы, и прежде всего клюнийцы и
премонстранцы, селились, как рыцари, в чистом поле. Лишь франци¬
сканцы и доминиканцы, когда произошло пробуждение новой души го¬
рода, обосновываются в раннеготических городах. Однако и здесь во
всех постройках, во всем вообще францисканском искусстве еще при¬
сутствует легкая грусть, отзвук почти мистического страха отдельного
человека перед лицом нового, яркого, бодрого — всего того, с чем еще
тупо примиряется коллектив. Мало кто решается больше не быть кре¬
стьянином. Только иезуиты начинают жить в состоянии зрелого и высо¬
комерного бодрствования подлинных обитателей крупных городов. Во
всяком раннем времени правители обзаводятся двором в постоянно пе¬
реносимых с места на место укрепленных дворцах, и это символ безу¬
словного превосходства сельской местности, город все еще не признаю¬
щей. В египетском Древнем царстве многонаселенный центр админист¬
рации находится при «Белых стенах», рядом с храмом Птаха позднего
Мемфиса297, однако так же, как государи шумерской Вавилонии и каро-
* Dehio. Gesch. d. deutsch. Kunst. 1919. S. 13 f.
Глава вторая. Города и народы
553
лингской империи, фараоны беспрерывно меняют места своих резиден¬
ций*- Начиная с 1109 г. раннекитайские правители династии Чжоу воз¬
водили свой укрепленный дворец, как правило, у Лояна (ныне в Хэна¬
ни), однако лишь начиная с 770 г., что соответствует нашему XVI в., это
место обретает статус постоянного города-резиденции.
Чувство связанности с землей, чувство растительно-космического
нигде не заявляло о себе с такой мощью, как в архитектуре этих крошеч¬
ных ранних городов, редко когда представлявших собой нечто большее,
чем рынок, одна-две улицы, крепость или храм. И если где возможно с
полной отчетливостью убедиться в том, что всякий большой стиль сам
является растением, так это именно здесь. Дорийская колонна, египет¬
ская пирамида, готический собор сурово, судьбоносно растут из поч¬
вы — это существование без бодрствования; ионийская колонна, по¬
стройки Среднего царства и барокко покоятся на ней — вполне пробу¬
дившиеся, полные самосознания, свободные и уверенные в себе.
Отделенное от сил ландшафта, а мостовой под ногами прямо-таки отре¬
занное от них, существование делается здесь более приглушенным, а
ощущение и понимание постоянно нарастают. Человек становится «ду¬
хом», «свободным», он вновь похож на кочевника и в то же время делает¬
ся уже и холодней. «Дух» есть специфически городская форма понимающе¬
го бодрствования. Все искусство, вся религия и наука медленно делаются
духовными — и чуждыми селу, непонятными землистым крестьянам. С
цивилизацией начинается климактерический период298. Древлебытий-
ные корни существования иссыхают в каменной толще ее городов. Сво¬
бодный дух — поистине роковое слово! — является как пламя, пышно
взлетающее вверх и мгновенно прогорающее.
3
Новая душа города говорит на новом языке, который уже очень ско¬
ро становится совершенно равнозначным языку культуры. Это бьет по
деревне с ее поселянами: она уже не понимает этого языка, она робеет и
немеет. Вся подлинная история стиля разыгрывается в городах. То, что
обращается к глазу в логике зримых форм, представляет собой исключи¬
тельно судьбы города и переживания городских людей. Наиболее ран¬
няя готика росла еще из ландшафта и захватывала крестьянский дом с
его обитателями и утварью. Стиль Возрождения вырастает уже исклю¬
чительно в возрожденческом городе, стиль барокко — лишь в городе ба¬
рокко, не говоря уже о принадлежащей исключительно большому горо¬
ду коринфской колонне или о стиле рококо. Быть может, ландшафт
подчас бывает еще способен ощутить легкое дуновение, исходящее от¬
сюда, однако сама деревня более неспособна даже на самомалейшее
Meyer Ed. Gesch. d. Altertums I. S. 188.
554
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
творчество. Она умолкает и отворачивается. Крестьянин и крестьян¬
ский дом как были готическими, так остались таковыми до сегодняшне¬
го дня. Эллинистическая сельская местность сохранила верность гео¬
метрическому стилю, египетская деревня — стилю Древнего царства.
Но что прежде всего обладает историей, так это «лицо» города, «вы¬
ражение» этого лица, а по его «мимике» мы можем проследить едва ли не
всю историю души самой культуры. Вначале это малые протогорода го¬
тики и всех прочих ранних культур, почти теряющиеся среди ландшаф¬
та; они всё еще образованы настоящими крестьянскими домами, кото¬
рые жмутся друг к другу в тени крепости или святилища и становятся го¬
родскими без перемены внутренней формы, а только в силу того, что
они произрастают теперь уже из окружения не полей и лугов, но сосед¬
них домов. Народы ранней культуры постепенно становятся городски¬
ми народами, так что существуют специфически китайский, индий¬
ский, аполлонический, фаустовский образы города или опять-таки ар¬
мянская или сирийская, ионийская или этрусская, немецкая,
французская или английская физиономии города. Есть город Фидия,
есть город Рембрандта и город Лютера. Эти имена — знаки, так что уже
одни названия «Гранада», «Венеция», «Нюрнберг» как по волшебству
вызывают вполне определенный зримый образ, ибо именно в таких го¬
родах и возникло все, что создала культура в религии, искусстве и зна¬
нии. Крестовые походы вышли еще из духа рыцарских крепостей и сель¬
ских монастырей, Реформация же — горожанка, она обитает в узеньких
переулках, среди заостренных крыш. Великий эпос, повествующий о
расцвете и воспевающий его, принадлежит крепости и замку, однако
драма, в которой опробывает себя бодрствующая жизнь, — это городская
поэзия, а великий роман, взгляд освобожденного духа на все человече¬
ское, предполагает уже город — мировую столицу. Существуют лишь го¬
родская лирика (если исключить подлинную народную песню) и лишь
городская живопись и архитектура с бурной и краткой историей (если не
принимать во внимание «вечное» крестьянское искусство).
А чего стоит хотя бы звучный язык форм этих великих каменных об¬
разований, созданных городским человечеством — всецело зрение и
дух — в своем светомире, являющих полную противоположность более
приглушенному языку ландшафта! Силуэт большого города — крыши с
трубами, башни и купола на горизонте! Как много говорит уже один
взгляд, брошенный на Нюрнберг и Флоренцию, на Дамаск и Москву,
на Пекин и Бенарес! Что можем мы знать о духе античных городов,
если нам неведомы их контуры на фоне южного неба — на свету полу¬
дня, в облачную погоду, поутру, в звездную ночь! Эти вереницы улиц —
прямых или искривленных, широких или узких, дома — низкие и вы¬
сокие, светлые и темные, своими фасадами, своими лицами выгляды¬
вающие во всех западных городах на улицу, а во всех восточных лишен¬
ные окон и повернутые к улице задом. Дух площадей и углов, тупиков и
просветов меж домами, водокачек и памятников, церквей, храмов и
Глава вторая. Города и народы
555
мечетей, амфитеатра и вокзала, базара и ратуши. А далее — вновь пред¬
местья, дома с приусадебными участками и шеренги бараков бедноты
среди мусора и огородов, аристократические и бедные кварталы, Субу-
ра в античном Риме и Сен-Жерменское предместье в Париже, древние
Байи и сегодняшняя Ницца, миниатюрные городские виды Ротенбур-
га и Брюгге и море домов Вавилона и Теночтитлана, Рима и Лондона! У
всего этого имеется история; все это есть история. Лишь одно значите¬
льное политическое событие — и на лицо города ложатся уже другие
складки. Наполеон придал другое выражение Парижу Бурбонов, а
Бисмарк — мелкодержавному Берлину. Земщина же стоит рядом со
всем этим, как стояла — мрачно и гневно.
В самые ранние времена в человеческом зрении господствует исклю¬
чительно картина ландшафта. Она оформляет душу человека, она виб¬
рирует вместе с ним. Один и тот же такт — в человеческом ощущении и в
шуме леса. Весь облик человека, его походка, даже само его одеяние
стремятся слиться с лугами и кустарниками. Деревня с ее смирными
холмящимися крышами, вечерним дымком, колодезью, изгородями и
животными полностью теряется в ландшафте и в нем утопает. Земский
город (Landstadt) удостоверяет землю, он является возвышением ее об¬
раза; только поздний город бросает ей вызов. Своим силуэтом он проти¬
воречит линиям природы. Он отрицает всю природу. Он желает быть
чем-то иным и высшим. Эти острые щипцы, причудливые купола, шпи¬
ли и зубцы не имеют и не желают иметь с природой ничего общего, а под
конец возникает исполинский город — мировая столица, город как мир,
рядом с которым ничего иного быть и не должно, исполняющий труд по
разрушению картины ландшафта. Когда-то прежде город отдавался
ландшафту, теперь город желает создавать его сам, причем подобным
себе. И вот уже за городской чертой из проселочных дорог возникают
шоссе, из лесов и лугов — парки, из гор — площадки обозрения; в самом
городе изобретается искусственная природа: вместо источников — фон¬
таны, вместо лужаек, прудов и кустов — цветочные клумбы, полосы во¬
доемов, подстриженные живые изгороди. В деревне крытая соломой
крыша все еще смотрится холмом, проулок — межой. В городе же ули¬
цы, наполненные разноцветной пылью и причудливым шумом, тянутся
вдаль и разверзаются глубокими ущельями; и среди всего этого обитают
люди — так, как не могло и присниться никакому природному существу.
Одеяния и даже сами лица определяются каменным фоном. Днем кипит
уличная толчея, сопровождаемая диковинными красками и звуками, по
ночам зажигается свет, затмевающий сияние луны. И растерянный кре¬
стьянин стоит на мостовой — комичная фигура, ничего не понимающая
и никем не понимаемая, годная лишь на то, чтобы быть помещенной в
комедию и... чтобы кормить этот мир.
Из этого, однако, следует нечто куда более важное, чем все прочее: и
политическая, и экономическая история может быть постигнута лишь
в том случае, если мы признаем, что город, все более и более обособля¬
556 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ясь от земли, наконец полностью ее обесценил и стал сам определять
ход и смысл высшей истории вообще. Всемирная история — это город¬
ская история.
Естественно, что античный человек исходя из своего эвклидовского
ощущения бьггия связывает понятие государства со стремлением к мини¬
мальному протяжению и потому все настойчивее отождествляет государ¬
ство с каменным телом единичного полиса. Но и совершенно независимо
от этого уже очень скоро во всякой культуре появляется тип столичного
города. Как говорит уже само его название2", полное глубокого смысла,
это тот город, чей дух, чьи политические и экономические методы, чьи
цели и решения господствуют над землей, над страной. Вся страна с ее
обитателями становится средством и объектом этого руководящего духа.
Она не знает толком, что здесь такое происходит. Да ее и не спрашивают.
Крупные партии во всех странах всех поздних культур, революции, цеза¬
ризм, демократия, парламент — все это формы, в которых столичный дух
сообщает стране, чего ей желать и за что ей при известных обстоятельст¬
вах придется умирать. И античный форум, и западная пресса — это все
исключительно духовные средства власти господствующего города. Сель¬
ский житель, способный в это время понять, что такое политика, и чувст¬
вующий, что до нее дорос, отправляется в город, быть может, не телесно,
но уж духовно — вне всякого сомнения. Настроения и общественное мне¬
ние земщины, поскольку о них вообще можно говорить, предписываются
и направляются городом в письменной и устной форме. Фивы — это Еги¬
пет, Рим — orbis terrarum30°, Багдад — это ислам, Париж — это Франция.
История всякого раннего времени разыгрывается во множестве неболь¬
ших центров отдельных ландшафтов. Египетские номы, гомеровские гре¬
ческие народы, готические графства и вольные города некогда вершили
историю. Однако мало-помалу политика сосредоточивается в немногих
главных городах, в прочих же сохраняется лишь видимость политической
жизни. С этим ничего не смогла поделать даже античная атомизация мира
на города-государства. Уже в Пелопоннесской войне политику фактиче¬
ски осуществляли лишь Афины и Спарта. Прочие государства, лежавшие
на Эгейском море, лишь оказывались в сфере действия той или иной по¬
литики. Ни о чем подлинно собственном нет больше и речи. Под конец
античная история разыгрывается исключительно на одном только рим¬
ском форуме. Пусть Цезарь бьется в Галлии, пускай цезареубийцы сража¬
ются в Македонии или Антоний — в Египте: то, что там происходит, обре¬
тает смысл лишь применительно к Риму. 44
Подлинная история начинается с образования двух пра-сословий,
знати и духовенства, которые возвышаются над крестьянством. Проти¬
востояние крупной и мелкой знати, короля и вассалов, светской и ду-
^пяавторая. Города и народы 557
ховной власти представляет собой основную форму всей раннегомеров¬
ской, древнекитайской, готической политики, — до тех пор, пока с по¬
явлением города, буржуазии, третьего сословия стиль истории не
меняется. Однако весь смысл истории сосредоточивается исключитель¬
но в этих сословиях, в их сословном сознании. Крестьянин внеисторичен.
Деревня стоит вне всемирной истории, и все развитие от «Троянской»
войны до Митридатовой и от саксонских императоров до мировой вой¬
ны движется поверх этих маленьких точек ландшафта — подчас их унич¬
тожая, подпитываясь их кровью, однако никогда не касаясь их нутра.
Крестьянин — это вечный человек, независимый от всякой культу¬
ры, гнездящейся в городах. Крестьянин — эта мистическая душа, этот
сухой, прилепившийся к практическому рассудок, изначальный и веч¬
нотекущий источник крови, делающей в городах всемирную исто¬
рию — предшествовал культуре и он ее переживет, тупо продолжая
свой род из поколения в поколение, ограниченный завязанными на
землю занятиями и способностями.
Все, что выдумывает там, в городах, культура в смысле государст¬
венных форм и экономических обычаев, догматов веры, инструмен¬
тов, знаний и искусства, — все это он в конце концов недоверчиво и не¬
решительно перенимает, не меняя, однако, при этом своей сути. Так,
внешним образом западноевропейский крестьянин принял все учения
великих соборов, от великого Латеранского до Тридентского, точно
так же как принял он достижения машинной техники и Французскую
революцию. И потому он остался тем же, чем и был, чем он стал еще до
Карла Великого. Сегодняшнее крестьянское благочестие старше хрис¬
тианства. Боги крестьянина старше любой высшей религии. Снимите с
него гнет больших городов, и он, ничего не лишившись, вернется в
свое первобытное состояние. Настоящая его этика, настоящая его ме¬
тафизика, которые ни один городской ученый не счел достойными от¬
крытия, лежат вне всякой истории религии и духа. У них вообще нет
никакой истории.
Город — это дух. Большой город — это «свободный дух». Буржуазия,
сословие духа, начинает сознавать свое обособленное существование с
протеста против «феодальности», т. е. засилья крови и традиции. Бур¬
жуазия опрокидывает троны и ограничивает старые права во имя разу¬
ма и прежде всего — во имя «народа», под которым теперь понимается
исключительно народ городов. Демократия — это политическая фор¬
ма, при которой от крестьянина требуют мировоззрения горожанина.
Городской дух реформирует великую религию раннего времени и уста¬
навливает рядом со старинной сословной новую буржуазную рели¬
гию — свободную науку. Город берет на себя руководство экономиче¬
ской историей, ставя на место земли, первичной ценности, которая
никак не может быть отделена от крестьянских жизни и мышления,
понятие отвлеченных от товаров денег. Извечное деревенское слово для
товарооборота — это обмен. Даже когда речь идет об обмене вещи на
558 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
благородный металл, в основе процесса не видно никакого «денежного
мышления», понятийно отделяющего от вещи ее стоимость и выража¬
ющего ее в фиктивной величине или количестве металла, которые с
этого момента предназначены мерить «иное», «товар». В раннее время
от села к селу идут купеческие караваны, плывут викинги, и это значи¬
ло «обмен и добычу». В позднее время корабли и караваны соединяют
меж собой города, и это значит «деньги». В этом различие норманнов
до крестовых походов и ганзейских и венецианских купцов после
них , античных мореплавателей в микенскую эпоху и во времена ве¬
ликой колонизации. Город означает не только дух, но и деньги*.
Начинается эпоха, когда город развился настолько, что ему более
нет нужды самоутверждаться по отношению к селу, по отношению к
крестьянству и рыцарству, и теперь уже село со своими пра-сословия-
ми ведет безнадежную оборону против единоличного господства горо¬
да: в плане духовном — против рационализма, политическом — против
демократии, экономическом — против денег. В это время города, кото¬
рые можно рассматривать в качестве ведущих в истории, можно уже
пересчитать по пальцам. Возникает глубокое прежде всего душевное
различие большого и малого города, и этот последний под весьма много¬
значительным названием «земский город» становится частью села, ко¬
торое в качестве активного начала в расчет более не принимается. Про¬
тивоположность между селянами и горожанами не делается в этих ма¬
лых городах меньше, однако она отступает перед пропастью,
отделяющей их от большого города. Крестьянско-местечковая до-
шлость и интеллигенция большого города — это две разные формы по¬
нимающего бодрствования, которые говорят на совершенно разных
языках302. Ясно также, что дело здесь не в числе обитателей, но в духе.
Понятно и то, что во всех больших городах имеются уголки, где сохра¬
няется население, все еще остающееся сельским, оно обитает в своих
переулках, как на селе, и соседи через улицу поддерживают друг с дру¬
гом почти деревенские связи. То, что город накладывает на сущность
человека отпечаток разной степени глубины, может быть изображено в
виде пирамиды, в основании которой окажутся эти почти крестьян¬
ского типа люди, в узкой же ее части разместится небольшое число
подлинных людей большого города, ощущающих себя как дома везде,
где будут созданы потребные им душевные условия.
Полной абстрактности достигает тем самым и понятие денег. Они
более не служат пониманию экономического обращения; они подчи¬
няют товарооборот собственному развитию. Они больше не служат ме¬
рой взаимной оценки вещей, но оценивают их по отношению к себе. То,
что деньги как-то относятся к пахотной земле и приросшему к ней че¬
ловеку, настолько изглаживается, что отношение это не играет ника¬
кой роли в экономическом мышлении ведущих городов — «финансо-
Ср. т. 2, гл. VI.
Глава вторая. Города и народы
559
вых площадок». Деньги становятся теперь силой, причем чисто духов¬
ной, лишь представленной металлом силой в бодрствовании верхнего
слоя экономически активного населения, и сила эта делает поглощен¬
ных деньгами людей столь же зависимыми от нее, как прежде земля —
крестьян. Существует «денежное мышление», подобно тому как суще¬
ствуют математическое и юридическое мышление.
Однако почва действительна и естественна, а деньги — нечто абст¬
рактное и искусственное, чистая категория, как «добродетель» в мыш¬
лении Просвещения. Значит, та первоначальная, т. е. негородская,
экономика зависит от космических сил, от почвы, климата и породы
людей — и потому держится в рамках, между тем как возможности де¬
нег как чистой формы обращения внутри бодрствования столь же мало
ограничены действительностью, как и величины математического или
логического мира. Как никакие факты не мешают нам конструировать
сколько угодно неэвклидовых геометрий, так внутри оформившейся
экономики большого города не существует никакого препятствия ум¬
ножать «деньги» — мысля, так сказать, иными денежными измерения¬
ми, что не имеет абсолютно ничего общего с возможным накоплением
золота или вообще действительной стоимости. Не существует никако¬
го реального масштаба и никакого рода товаров, посредством которых
можно было бы сравнить стоимость таланта303 во времена греко-пер¬
сидских войн и его же стоимость в добыче, захваченной Помпеем в
Египте. Деньги для человека как £<pov oIkovo^lkov304 сделались формой
деятельного бодрствования, уже не имеющей никаких корней в суще¬
ствовании. На этом основывается их колоссальная власть над любой
начинающейся цивилизацией, являющейся всякий раз безусловной
диктатурой «денег» в характерном для данной культуры виде, но отсю¬
да и отсутствие у них точки опоры, вследствие чего деньги в конце кон¬
цов утрачивают свою власть и смысл и полностью исчезают из мышле¬
ния поздней цивилизации, как во времена Диоклетиана, вновь уступая
место первичным, основанным на почве ценностям.
Наконец возникает мировая столица, этот чудовищный символ и
вместилище полностью освобожденного духа, центр, в котором наконец
сосредоточился весь ход всемирной истории. Мировые столицы — это
считаные гигантские города всех зрелых цивилизаций, которые прези¬
рают и обесценивают, как провинцию, материнский ландшафт своей
культуры. Всё теперь провинция — и село, и малый город, и город боль¬
шой, за исключением этих двух или трех точек. Нет больше дворян и
буржуазии, нет свободных и рабов, нет греков и варваров, нет правовер¬
ных и неверных, есть лишь жители мировых столиц и провинциалы. Все
прочие противоположности блекнут перед этой единственной, господ¬
ствующей во всех событиях, жизненных привычках и мировоззрениях.
Самыми первыми мировыми столицами были Вавилон и Фивы Но¬
вого царства; минойский мир на Крите, несмотря на весь его блеск, —
египетская провинция. Первым примером мировой столицы в антич¬
560 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ности была Александрия: старая Эллада вмиг сделалась провинцией.
Ни Рим, ни заселенный заново Карфаген, ни Византия не смогли по¬
теснить Александрию с этого места. В Индии славились, и слава их раз¬
носилась до Китая и Явы, огромные города Удджайн, Канаудж, но
прежде всего Паталипутра; на Западе слышали о сказочном обаянии
Багдада и Гранады. В мексиканском мире, как можно полагать, первой
мировой столицей империи майя сделался Ушмаль, основанный в
950 г. и ставший провинцией с возвышением Тешкоко и Теночтитлана,
мировых столиц тольтеков.
Не следует забывать о том, где впервые является на свет слово рго-
vincia: таково было государственно-правовое обозначение римлянами
Сицилии, с покорением которой впервые происходит принижение не¬
когда ведущего культурного ландшафта до простого объекта. Сиракузы
раньше всех, когда Рим был еще незначительным земским городом,
сделались по-настоящему крупным городом античного мира. Но те¬
перь провинциальным городом являются уже Сиракузы — по отноше¬
нию к Риму. И точно так же в XVII в. ведущими крупными городами
были габсбургский Мадрид и папский Рим, пока, начиная с конца
XVIII в., они не были низведены до уровня провинции мировыми сто¬
лицами Лондоном и Парижем. Возвышение Нью-Йорка до уровня ми¬
ровой столицы в результате Гражданской войны 1861—1865 гг., — быть
может, самое значимое по последствиям событие прошлого столетия.
5
Этот каменный колосс, «мировая столица», высится в конце жиз¬
ненного пути всякой великой культуры. Душевно сформированный
землей культурный человек оказывается полоненным своим собствен¬
ным творением, городом, он делается им одержим, становится его по¬
рождением, его исполнительным органом и, наконец, его жертвой. Эта
каменная махина есть абсолютный город. В его образе, когда он во всей
своей величественной красоте вырисовывается в светомире человече¬
ского глаза, содержится вся возвышенная символика смерти окончате¬
льно «ставшего». Пронизанный душой камень готических строений
сделался в конце концов, в ходе тысячелетней истории стиля, обезду¬
шенным материалом этой демонической каменной пустыни.
Эти последние города — всецело дух. Их дома уже больше не являют¬
ся, как в ионических городах и городах барокко, потомками старинно¬
го крестьянского дома, с которого некогда началась культура. Да это и
вообще больше не дома, в которых Веста и Янус, Пенаты и Лары могли
бы найти себе хоть какое-то место, а в чистом виде жилье, созданное не
кровью, но целью, не чувством, но духом экономического предприни¬
мательства. Связь с землей не исчезает до тех пор, пока очаг, в благоче¬
стивом смысле этого слова, остается действительным, значимым цент¬
Глава вторая. Города и народы
561
ром семьи. Лишь когда утраченным оказывается и это и масса кварти¬
росъемщиков и постояльцев начинает, как охотники и пастухи
предвремени, вести в этом море домов блуждающее существование от
крова к крову, формирование интеллектуального кочевника можно
считать завершенным. Этот город есть мир, да он и есть сам мир: он
имеет значение человеческого обиталища лишь как целое. Дома — это
лишь образующие его атомы.
Старинные, органически произросшие города с их готическим яд¬
ром — собор, ратуша, переулки с остроконечными крышами, — вокруг
башен и ворот которого эпоха барокко возвела кольцо более духовное,
более светлое — дома патрициев, дворцы и зальные церкви305, — теперь
эти города начинают расползаться бесформенной массой во все сторо¬
ны, вгрызаться в запустевающую землю шеренгами рабочих бараков и
хозяйственных строений, перестройками и проломами уничтожать
почтенный лик старого времени. Тот, кто посмотрит с башни на рас¬
стилающееся вокруг море домов, с точностью определит в этой окаме¬
невшей истории единого существа эпоху, когда прекратился органиче¬
ский рост и началось неорганическое, а потому безграничное нагро¬
мождение, которое шагает за все горизонты. Именно теперь и
возникают эти искусственные, математические, абсолютно чуждые
земле образования, порожденные чисто духовной радостью от целесо¬
образного, — города градостроителей, которые во всех цивилизациях
стремятся к одному и тому же — к виду шахматной доски, символу
обездушенное™. Этими упорядоченными квадратами домов любова¬
лись Геродот в Вавилоне и испанцы в Теночтитлане. В античном мире
список «абстрактных» городов открывают Фурии, «спроектирован¬
ные» Гипподамом из Милета в 441 г. Далее последовали Приена, где
шахматная застройка полностью игнорирует динамику земной поверх¬
ности, Родос, Александрия — как образцы для бесчисленных провин¬
циальных городов императорского времени. Исламские архитекторы
планомерно заложили, начиная с 762 г., Багдад, а сотней лет спустя —
гигантский город Самарра на Тигре*. В западноевропейско-американ¬
ском мире первый значительный пример этого — план Вашингтона
(1791). Нет никакого сомнения в том, что мировые столицы эпохи
Хань в Китае и династии Маурья в Индии имели те же геометрические
формы. Мировые столицы западноевропейско-американской цивили¬
зации еще далеко не достигли вершины своего развития. Мне видят¬
ся — много после 2000 г. — городские массивы на десять—двадцать
миллионов человек, занимающие обширные ландшафты, со строения¬
ми, рядом с которыми величайшие из современных покажутся карли-
Самарра, как и императорские форумы в Риме и развалины Луксора и Карнака,
обнаруживает американские тенденции. Город тянется по реке на 33 км. Дворец Балку-
вара, выстроенный халифом Мутавакилем для одного из сыновей, представляет собой
квадрат с периметром 1250 м. Одна из колоссальных мечетей имеет в плане размеры
260180 м. Schwarz. Die Abbasidenresidenz Samarra. 1910; Herzfeld. Ausgrabungen von Sa-
niarra. 1912.
562
Том 2 ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ками, где будут осуществлены такие идеи в сфере средств сообщения,
которые мы сегодня иначе как безумными не назвали бы.
Телесная точка оказывается для античного человека идеалом фор¬
мы даже в этом последнем облике его существования. В то время как
гигантские города сегодняшнего дня обнаруживают нашу склонность
к бесконечному: город пронизывает обширный ландшафт своими
предместьями и колониями загородных вилл, во все стороны раскиды¬
вается мощная сеть средств сообщения, а внутри площади плотной за¬
стройки — упорядоченное скоростное движение вдоль широких улиц,
а также выше их и ниже, подлинно античный город не желал расширя¬
ться, но все более и более уплотнялся, улицы его, узкие и тесные, иск¬
лючали спешное передвижение (которое все же было вполне развито
на римских шоссейных дорогах); никакой склонности к тому, чтобы
жить за городом или хотя бы создавать к тому условия. Городу и теперь
следовало оставаться единым телом, плотным и круглым, аЛ/ха в стро¬
жайшем смысле слова. Синойкизм, который в античное раннее время
повсеместно согнал сельское население в города и только тем и создал
тип полиса, повторяется в самом конце в абсурдной форме: всякий хо¬
чет жить в центре города, в его уплотненном ядре, иначе он не чувству¬
ет себя городским человеком.
Все эти города — Сити, и не больше, один лишь внутренний город.
Новый синойкизм образует вместо пояса предместий мир верхних эта¬
жей. В 74 г., несмотря на то что императоры вели обширнейшее строи¬
тельство, периметр Рима составляет прямо-таки смехотворную вели¬
чину в 19,5 км*. Это приводит к тому, что тела эти в ширину уже не рас¬
тут, но непрестанно тянутся ввысь. Доходные клетушки Рима, как
недоброй памяти Insula Feliculae306, достигают при ширине улиц в
3—5 м** такой высоты, которая в Западной Европе пока вообще еще не
встречается, а в Америке — лишь в немногих городах. При Веспасиане
крыши домов возле Капитолия достигли уже высоты седловины холма***.
Любой из этих великолепных мегаполисов становится приютом для
чудовищной нужды, местом одичания всех жизненных обыкновений,
которые уже теперь взращивают между крышами и мансардами, в под¬
валах и на задних дворах нового первобытного человека. В Багдаде и
Вавилоне это было точно так же, как в Теночтитлане, как сегодня в
Лондоне и Берлине. Диодор повествует об одном низложенном египет¬
ском царе, который был вынужден обитать в Риме в жалких номерах на
верхнем этаже.
Friedlander. Sittengesch. Roms I. S. 5; сравните это с далеко не так плотно населен¬
ной Самаррой: «позднеантичные» большие города на арабской почве не являются ан¬
тичными также и в этом отношении. Садовое предместье Антиохии славилось по всему
Востоку.
В Тель-эль-Амарне, городе, который построил себе египетский Юлиан Отступник,
Аменофис IVулицы были шириной до 45 м. Borchardt. Ztschr. f. Bauwesen, LXVI, 524.
Pohlmann, Aus Altertum und Gegenwart. 1910. S. 211 ff.
Глава вторая. Города и народы 563
Однако никакая нужда, никакая принудительность, даже никакое
ясное понимание полного сумасбродства такого развития не уменьша¬
ет притягательности этого демонического образования. Колесо судьбы
катится к концу; рождение города влечет за собой его смерть. Начало и
конец, крестьянский дом и городской квартал относятся друг к другу,
как душа и интеллигенция, как кровь и камень. Однако не зря «время»
означает собой факт невозвратимое™. Здесь возможно лишь движение
вперед, и никакого поворота вспять. Крестьянство некогда породило
рынок, земский город, и питало его лучшей своей кровью. Теперь го¬
род-гигант жадно высасывает сельский край, требуя и поглощая все
новые людские потоки, — пока наконец не обессилевает и не умирает
посреди едва обитаемой пустыни. Тот, кто поддался однажды обаянию
греховной красоты этого последнего чуда всей истории, более никогда
от него не освободится. Первобытные народы могут отделиться от поч¬
вы и отправиться вдаль. Духовный кочевник на это уже не способен.
Ностальгия по большому городу, быть может, сильнее всякой другой.
Родиной является для нее любой из таких городов, ближняя деревня —
чужбина. Такой человек скорее умрет на мостовой, чем вернется на
село. И даже отвращение к этому великолепию, утомленность от этого
многоцветного блистания, taedium vitae [пресыщение жизнью (лат.)],
под конец охватывающее многих, не делают их свободными. Они несут
город с собой на море и в горы. Они утратили землю в себе и уже не най¬
дут ее вовне.
Человек мирового города не способен жить на какой бы то ни было
почве, кроме искусственной, ибо космический такт ушел из его суще¬
ствования, а напряжения бодрствования становятся между тем все бо¬
лее опасными. Не надо забывать о том, что это животная сторона, бод¬
рствование, присоединяется в микрокосме к растительному существо¬
ванию, а не наоборот. Такт и напряжение, кровь и дух, судьба и
причинность относятся друг к другу так же, как цветущий край — к
окаменевшему городу, как нечто, существующее само по себе, — к
иному, от него зависимому. Напряжение без одушевляющего его кос¬
мического такта есть переход в ничто. Однако цивилизация — это на¬
пряжение, и ничего больше. В лицах всех достигших видного положе¬
ния цивилизованных людей безраздельно господствует выражение си¬
льнейшего напряжения. Во всякой культуре такие лица — это тип ее
«последнего человека»308. Сравните с ними лица^крестьян, когда они
появляются среди уличной кутерьмы большого города. Путь от кресть¬
янской сообразительности (дошлости, смекалки, впитанной с моло¬
ком матери, инстинкта, которые, как и у всех умных животных, осно¬
вываются на ощущаемом такте) через городской дух к интеллигенции
(уже само резкое звучание этого слова прекрасно передает убыль кос¬
мической основы) мировой столицы можно обозначить как постепен¬
ную убыль ощущения судьбы и непрестанное нарастание потребности
в каузальности. Интеллигенция — это замена бессознательного жиз¬
564
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ненного опыта навыком мастерского владения мышлением, нечто су¬
хое и тощее. Интеллигентные лица всех рас схожи меж собой. Сама
раса отходит в них на задний план. Чем меньше ощущение необходи¬
мости и несомненности существования, чем привычнее манера общу-
пывать все вокруг, чтобы «уяснить до конца», тем больше страх бодрст¬
вования утишается каузально. Отсюда отождествление знания с дока¬
зуемостью и замена религиозного мифа каузальным, научной теорией.
Отсюда и абстрактные деньги как чистая каузальность экономической
жизни в противоположность сельскому товарообороту, являющемуся
тактом, а не системой напряжений.
Интеллектуальному напряжению известна лишь одна специфиче¬
ски присущая мировой столице форма отдыха: разрядка, «развлече¬
ние». Подлинная игра, радость жизни, удовольствие, упоение, которые
возникают из космического такта, в сути своей теперь непонятны.
Вновь и вновь во всех мировых столицах всех цивилизаций повторяет¬
ся переход от напряженнейшей практической мыслительной работы к
ее противоположности, вызываемому сознательно расслаблению, ду¬
ховное напряжение заменяется телесным, спортивным напряжением,
телесное — чувственным «наслаждением» и духовным «возбуждением»
посредством игры и пари, чистая логика повседневной работы замеща¬
ется сознательно употребляемой музыкой. Кино, экспрессионизм, те¬
ософия, боксерские бои, негритянские пляски, покер и бега — все это
можно встретить уже в Риме, и знатоку следовало бы включить в круг
обследуемого материала индийские, китайские и арабские мировые
столицы. Достаточно привести лишь один пример: читая «Камасут-
ру»309, понимаешь, что за люди находили вкус также и в буддизме, и
начинаешь другими глазами смотреть на сцены боя быков в критских
дворцах. Несомненно, в основе культ, однако и над ним нависает такой
же аромат, как над фешенебельным римским городским культом Иси-
ды в соседстве с Большим цирком.
Итак, существование все более лишается корней, бодрствование же
охватывает все большее напряжение, а тем самым спектаклю испод¬
воль готовится конец; и вот теперь все оказывается внезапно залитым
ярким светом истории: мы стоим перед фактом бесплодия цивилизован¬
ного человекат. Речь идет не о том, что можно понять средствами по¬
вседневной каузальности, например физиологически, как это, разуме¬
ется, пыталась сделать современная наука. Нет, здесь налицо всецело
метафизический поворот к смерти. Последний человек города не хочет
больше жить, не как отдельный человек, но как тип, как множество: в
этом совокупном существе угасает страх смерти. Мысль о вымирании
семьи и рода, наполняющая подлинного крестьянина глубоким и не¬
объяснимым ужасом, утрачивает теперь всякий смысл. Продолжение
родственной себе крови внутри зримого мира уже не является для этой
крови долгом, жребием, всем, оно не воспринимается больше как судь¬
ба. Дети не появляются не потому только, что сделались совершенно
565
рлава вторая. Города и народы
несносны, но прежде всего потому, что возвысившаяся до крайности
интеллигенция более не находит никаких оснований для их существо¬
вания. Заглянем в душу^крестьянина, который с незапамятных времен
сидит на своем наделе31 или же завладел им недавно, с тем чтобы
утвердить здесь свою кровь. Он укоренен в нем как потомок своих пра¬
щуров и как пращур будущих потомков. Его дом, его собственность: это
означает здесь не мимолетную встречу тела и имущества, длящуюся не¬
сколько лет, но долговременное и внутреннее сопряжение вечной зем¬
ли и вечной крови. Лишь вследствие этого, лишь на основе обретения
оседлости в мистическом смысле великие эпохи обращения, зачатия,
рождения и смерти обретают метафизическую прелесть, которая сим¬
волически выражена в обычаях и религии всех привязанных к земле
народов. Для «последнего человека» всего этого более не существует.
Интеллигенция и бесплодие связаны меж собой в старых семьях, ста¬
рых народах, старых культурах не только потому, что внутри всякого
единичного микрокосма напряженная сверх меры животная сторона
жизни выедает сторону растительную, но и потому, что бодрствование
усваивает привычку каузального регулирования существования. То,
что человек рассудка в высшей степени красноречиво называет «есте¬
ственным побуждением», он не только «каузально» познает, но еще и
оценивает и находит ему подобающее место в кругу прочих своих по¬
требностей. Все радикально меняется, когда в повседневном мышле¬
нии высококультурного населения появляются «основания» для нали¬
чия детей. Природа не знает никаких оснований. Повсюду, где имеется
настоящая жизнь, господствует внутренняя органическая логика,
«оно», побуждение, совершенно независимое от бодрствования и его
каузальных цепочек и им вовсе не замечаемое. Многоплодие изначаль¬
ного населения представляет собой природное явление, о котором никто
даже и не задумывается и тем более не задается вопросом о его пользе
или вреде. Когда в сознании возникают жизненные вопросы вообще,
это значит, что сама жизнь уже под вопросом. Отсюда берет начало
мудрое ограничение числа рождающихся, оплакиваемое уже Полиби¬
ем как роковое для Греции обстоятельство, однако широко практико¬
вавшееся в больших городах еще задолго до него, а в римскую эпоху
принявшее устрашающие масштабы; поначалу оно обосновывалось
материальной нуждой, но уже очень скоро вообще никак не обосновы¬
валось. Около этого времени обозначается также проблема — в качест¬
ве духовной — выбора «спутницы жизни» (крестьянин и всякий изна¬
чальный человек выбирает мать своих детей), причем в буддистской
Индии точно так же, как в Вавилоне, в Риме — как в современных горо¬
дах. Появляется ибсеновский брак, «высшая духовная общность», в
которой обе стороны «свободны», а именно свободны как интеллиген¬
ции, причем свободны от растительного давления крови, желающей
продолжиться. И вот уже Шоу набирается духу сказать, «что женщина
не сможет эмансипироваться, если она не отбросит прочь свою женст-
566 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
венность, свой долг перед мужем, перед своими детьми, перед обще¬
ством, перед законом и перед всем — за исключением долга перед са¬
мой собой» . Праженщина, крестьянская женщина — это мать. В этом
слове заключается все ее предназначение, о котором она нетерпеливо
помышляет с самого детства. Теперь же является ибсеновская женщи¬
на, подруга, героиня целой западной городской литературы от север¬
ной драмы до парижского романа. Вместо детей у нее «душевные кон¬
фликты», брак — какое-то рукоделие вроде вышивки: главное здесь,
оказывается, «понять друг друга». Абсолютно неважно, что американ¬
ская дама не находит достаточного основания иметь детей, потому что
не желает пропустить ни одного сезона, парижанка — потому что боит¬
ся, что любовник ее бросит, ибсеновская же героиня — потому что
«принадлежит сама себе». Все они принадлежат сами себе, и все они
бесплодны. Такой же точно факт в связи с теми же самыми «основани¬
ями» встречаем мы в александрийском, римском, и, само собой разу¬
меется, в любом другом цивилизованном обществе, но прежде всего в
том, где вырос Будда312, и повсюду — в эллинизме и в XIX в. точно так
же, как в эпоху Лао-цзы и учения чарваков, — налицо этика для мало¬
детной интеллигенции и литература про внутренние конфликты Норы
и Наны313.
Многочадье, которое у Гете в «Вертере» еще представляет собой
картину, достойную восхищения, делается чем-то провинциальным. В
больших городах многодетный отец — это карикатура, и у Ибсена, не
оставившего факт без внимания, она имеется в его «Комедии любви».
Теперь все цивилизации входят в стадию чудовищного обезлюдения,
растянувшуюся на несколько столетий. Исчезает целая пирамида при¬
годных для культуры людей. Убыль начинается с вершины — вначале
мировые столицы, далее провинциальные города и, наконец, само село,
которое возросшим сверх всякой меры бегством лучшего населения на
некоторое время замедляет опустошение городов. В конце концов оста¬
ется лишь примитивная кровь, из которой, однако, высосаны наиболее
крепкие и богатые будущим элементы. Возникает тип феллаха.
Хорошо всем известный «закат античности», завершившийся еще
задолго до нападения германских кочевых народов, служит наилуч¬
шим доказательством того, что каузальность не имеет с историей ниче¬
го общего"". Империя наслаждается полнейшим миром; она богата, она
высокообразованна; она хорошо организована: от Нервы и до Марка
Аврелия она выдвигает столь блестящую когорту правителей, что вто¬
рой такой невозможно указать ни в каком другом цезаризме на стадии
цивилизации. И все равно население стремительно и массово убыва¬
ет — невзирая на отчаянные законы о браке и детях, изданные Авгу¬
стом, lex de maritandis ordinibusm которого ошеломил римское общество
куда сильней поражения Вара, несмотря на массовые усыновления и ** Shaw В. Ibsenbrevier. S. 57.
Для последующего ср. изображение у: Meyer Ed. Kl. Schr. S. 145 ff.
^авторая. Города и народы 567
непрекращающееся заселение обезлюдевших земель солдатами вар¬
варского происхождения и на колоссальные благотворительные фон¬
ды, основанные Нервой и Траяном в пользу детей неимущих родите¬
лей. Италия, затем Северная Африка и Галлия и, наконец, Испания,
которые были населены при первых императорах гуще, чем все прочие
части империи, становятся безлюдными и пустынными. В знаменитых
й? что характерно, то и дело повторяемых применительно к современ¬
ной экономике словах Плиния: latifundia perdidere Italiam, iam vero et
provincial*15 — поменяны местами начало процесса и его завершение.
Именно, крупное землевладение никогда бы не приобрело такого рас¬
пространения, если бы крестьянство не оказалось еще прежде высоса¬
но городами и земля не была уже заброшена, по крайней мере внутрен¬
не. Эдикт Пертинакса от 193 г. наконец-то выявляет ужасающее состо¬
яние дел: всякому теперь позволяется забирать во владение
обезлюдевшую в Италии и в провинциях землю. Если он ее возделает,
то вправе получить ее в полную собственность. От историка требуется
лишь с серьезностью подойти к прочим цивилизациям, чтобы повсюду
обнаружить то же явление. Городская планировка, какой ее осущест¬
вил Аменофис IV в Тель-эль-Амарне, с чередой улиц шириной до 45 м,
была бы немыслимой при прежней плотности населения, при которой
не было бы нужды и в спешной организации обороны от «народов
моря», чьи виды на завоевание империи были тогда, несомненно, не
хуже, чем у германцев в IV в., и, наконец, невозможно было бы непре¬
станное продвижение ливийцев в Дельту, где около 945 г. их предводи¬
тель — точь-в-точь как в 476 г. Одоакр — принял на себя правление им¬
перией. Однако то же самое ощущается й на примере истории полити¬
ческого буддизма, начиная с Цезаря Ашоки". Если за короткое время
после испанского завоевания население майя практически исчезло и
джунгли поглотили огромные обезлюдевшие города, это свидетельст¬
вует не только о жестокости завоевателей, которые бы ничего не смог¬
ли сделать с молодой и плодовитой культурной человеческой породой,
но об угасании изнутри, несомненно начавшемся уже задолго до того.
А если мы обратимся к собственной цивилизации, то старинные се¬
мейства французской аристократии по большей части вымерли начи¬
ная с 1815 г., а не были искоренены революцией. С аристократии бес¬
плодие распространилось и на буржуазию, а начиная с 1870 г. — на кре¬
стьянство, почти сплошь заново созданное революцией. То
«самоубийство расы», против которого направлена известная книга
Рузвельта316, с давних пор в широких масштабах совершается в Англии,
а в еще более значительной степени — на востоке Соединенных Шта¬
тов среди наиболее ценного, давно въехавшего в страну населения.
Нам известно, что в Китае в III в. до Р. X. (т. е. в китайское августовское время!)
принимались меры для увеличения численности населения. V. Rosthom V. Das soziale
1-eben d. Chinesen. 1919. S. 6.
568
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Повсюду в этих цивилизациях уже очень рано можно встретить за¬
пустевшие провинциальные города, а в конце развития стоят пустыми
огромные города, и в их каменной толще обитает незначительное фел-
лахизированное население, совсем как люди каменного века — в пеще¬
рах и свайных постройках317. Самарра была заброшена уже в X в.; рези¬
денция Ашоки, Паталипутра, была, когда ее ок. 635 г. посетил китай¬
ский путешественник Сюань Цзан, колоссальной, полностью
необитаемой пустыней из домов, и многие из больших городов майя,
должно быть, были пусты уже ко времени Кортеса. У нас есть целый
ряд античных описаний, начиная с Полибия и дальше*: знаменитые в
древности города, в которых ряды домов стоят пустыми и постепенно
рушатся, между тем как на форуме и в гимнасии пасутся стада коров, а
в амфитеатре растет пшеница, из которой все еще выступают статуи и
гермы. В V в. Рим был по населению равен деревне, однако в импера¬
торских дворцах еще можно было жить.
Тем самым история города подходит к своему завершению. Вырас¬
тая из первоначального рынка в культурный город, а в конце концов в
город мировой, он приносит в жертву этому величественному разви¬
тию и ее последнему цвету, духу цивилизации, кровь и душу своих со¬
здателей — и тем самым уничтожает также и самого себя.
6
Если раннее время означает рождение города из земли, позднее вре¬
мя — борьбу между городом и селом, то цивилизация — победу города,
благодаря которой она отделяется от почвы и от которой погибает
сама. Лишенная корней, умершая для космического и безвозвратно от¬
данная на откуп камню и духу, развивает она язык форм, передающих
все особенности ее сущности: они характерны не для становления, но
для ставшего, готового, которое хоть и меняется, но развития не допус¬
кает. Здесь есть лишь каузальность — и никакой судьбы, лишь протя¬
жение — и никакого живого направления. Отсюда следует, что во вся¬
кой культуре язык форм совокупно с историей ее развития привязан к
изначальному месту, но при этом всякая цивилизованная форма чувст¬
вует себя как дома везде, и потому как только появляется, начинает
безгранично распространяться вширь. Разумеется, ганзейские города
возводили в своих северорусских факториях сооружения в готическом
стиле, а испанцы в Южной Америке — в стиле барокко, однако абсо¬
лютно немыслимо, чтобы история готического стиля прошла хотя бы
самомалейший свой отрезочек вне Западной Европы, и столь же невоз¬
можно, чтобы стиль античной и английской драмы, или же искусство
фуги, или религия Лютера и орфиков не то что продолжали свое даль-
* Страбон, Павсаний, Дион Хризостом, Авиен и др. Meyer Ed. Kl. Schr. S. 164 ff.
Г^япвторая. Города и народы
569
нейшее развитие силами людей иных культур, но хотя бы были ими
внутренне усвоены. То же, что возникает в рамках александрийства и
нашей романтики, принадлежит всем городским людям без разбора. С
романтикой для нас началось то, что Гете провидчески назвал всемир¬
ной литературой: это ведущая литература мировых столиц, рядом с ко¬
торой лишь с очень большим трудом утверждается прикрепленная к
почве, однако малозначительная провинциальная литература. Венеци¬
анское государство или же государство Фридриха Великого либо анг¬
лийский парламент, каким он является на самом деле и как он работа¬
ет, повторены быть не могут, однако «современные конституции» ока¬
зывается возможным «ввести» во всякой африканской и азиатской
стране, как и античные полисы — у нумидийцев и британцев. Во всеоб¬
щее употребление вошло не иероглифическое письмо, но буквенное —
несомненно, техническое изобретение египетской цивилизации*. И
точно так же повсюду выучиваются не подлинные языки культуры, та¬
кие, как аттический Софокла или немецкий Лютера, но мировые язы¬
ки, все до одного произошедшие — и эллинистическое койнэ, и араб¬
ский, и вавилонский, и английский — из повседневной практики ми¬
ровых столиц. Можно заехать куда угодно, и повсюду снова найдешь те
же Берлин, Лондон и Нью-Йорк; точно так же и отправлявшийся в
путь римлянин повсюду — в Пальмире, Трире, Тимгаде и в эллинисти¬
ческих городах вплоть до индусов и Аральского моря — мог обнару¬
жить свои колоннады, украшенные статуями площади и храмы. Одна¬
ко то, что здесь распространяется, есть уже не стиль, но вкус, никакие
не подлинные обычаи, но манеры и не народный костюм, но мода. По¬
тому-то отдаленные народы и могут не только усваивать «вечные до¬
стижения» такой цивилизации, но и в собственной редакции переда¬
вать их дальше. Такими областями «цивилизации лунного света» явля¬
ются Южный Китай и прежде всего Япония, которая была
«китаизирована» лишь с началом эпохи Хань (220), Ява как распро¬
странительница брахманской цивилизации и Карфаген, восприняв¬
ший свои формы у Вавилона.
Все это формы крайнего бодрствования, не сдерживаемого и не свя¬
зываемого более никакими космическими силами, бодрствования
чисто духовного и чисто экстенсивного, а потому обладающего такой
мощью распространения, что последние и самые летучие его лучи про¬
стираются почти над всей Землей и накладываются друг на друга.
Фрагменты цивилизованных китайских форм, возможно, следует на¬
ходить в скандинавском деревянном зодчестве, вавилонские меры,
возможно, — в морях южного полушария Тихого океана, античные мо¬
неты — в Южной Африке, египетские и индийские влияния, возмож¬
но, — в стране инков.
* После открытия Сета. Ср.: Eisler R. Die kenitischen Weihinschriften der Hyksoszeit
usw. 1919.
570 Том 2 ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Между тем, однако, как это распространение шагает через все гра¬
ницы, осуществляется, причем в грандиозном масштабе, образование
внутренней формы; оно протекает в три четко различимых этапа: отде¬
ление от культуры — культивирование беспримесной цивилизованной
формы — оцепенение. Для нас это развитие уже началось, причем я
усматриваю подлинную миссию немцев как последней нации Запада в
том, чтобы увенчать колоссальное здание. На данной стадии все вопро¬
сы жизни, а именно жизни аполлонической, магической, фаустов¬
ской, продуманы до конца и доведены до последнего состояния знания
или незнания. Никто более не сражается за идеи. Последняя идея, идея
самой цивилизации, сформулирована в своих основных моментах, и
также завершены — в проблемном смысле — техника и экономика. Одна¬
ко это значит, что теперь только и начинается грандиозная работа ис¬
полнения всех требований и применение данных форм ко всему суще¬
ствованию Земли. Закрепление формы начинается лишь тогда, когда
эта работа совершена и цивилизация окончательно установилась не
только в своем образе, но и в своей толще. Стиль в культурах — это бие¬
ние пульса самоосуществления. Ныне возникает — если угодно употре¬
бить это слово — цивилизованный стиль как выражение окончательно¬
сти. Он достиг изумительного совершенства, прежде всего в Египте и
Китае, и это пронизывает там все проявления жизни — неизменной,
начиная с этого момента, в своем нутре — от церемониала и выражения
лиц до в высшей степени изящного и одухотворенного художественно¬
го упражнения. Об истории в смысле стремления к идеалу формы не
может быть и речи, все тонет в легкой поверхностной ряби, то и дело
исторгающей у данного раз и навсегда языка вопросики и ответики ху¬
дожественного характера. В этом заключается вся известная нам «исто¬
рия» китайско-японской живописи и индийской архитектуры. И как
эта иллюзорная история отличается от действительной истории готи¬
ческого стиля, точно так же и рыцарь крестовых походов отличается от
китайского мандарина — как становящееся сословие от сословия завер¬
шенного. Одно есть история, другое давно ее преодолело. Ибо, как
было установлено, история этих цивилизаций есть кажимость, и это
относится также и к большим городам, лицо которых постоянно меня¬
ется, не делаясь другим. Ведь у городов этих нет духа. Они — окамене¬
лая земля.
Что здесь погибает? И что остается? То, что германские народы за¬
няли под давлением гуннов романский ландшафт и тем самым прерва¬
ли развитие «китайского» финального состояния античности, было
чистой случайностью. «Народам моря», которые начиная с 1400 г. в
своем схожем до мелочей странствии надвигались на египетский мир,
удача улыбнулась лишь в островной области Крита. Их энергичные на¬
скоки на ливийский и финикийский берега в сопровождении флотов
викингов были пресечены точно так же, как набеги гуннов на Китай.
Так что античность — это единственный пример цивилизации, пре¬
Глава вторая. Города и народы 571
рванной в момент своей наивысшей зрелости. Несмотря на это, гер¬
манцы уничтожили лишь поверхностный слой форм, заменив его
ясизнью своей собственной предкультуры. До «вечного» подстилающе¬
го слоя они не добрались. Однако он, упрятанный и полностью пере¬
крытый новым языком форм, продолжает сохраняться в глубинном
основании всей последующей истории и как вполне ощутимые пере-
яситки существует еще и сегодня на юге Франции, юге Италии и на се¬
вере Испании. Здесь у народной католической религии имеется позд¬
неантичный колорит, резко отличающий ее от церковного католициз¬
ма западноевропейского высшего слоя. В церковных праздниках на
юге Италии сегодня все еще можно обнаружить античные и доантич-
ные культы, и повсюду — божества (святых), в почитании которых, не¬
смотря на их католические имена, просматривается античный отпеча¬
ток.
Однако здесь проступает уже иной элемент, обладающий собствен¬
ным значением. Итак, перед нами проблема расы.
II. Народы, расы, языки
7
На протяжении всего XIX в. научная картина истории искажалась то
ли из романтики происходящим, то ли только доведенным ею до логиче¬
ского конца представлением, а именно понятием «народ» в нравствен¬
но-воодушевленном словоупотреблении. Если где-либо в предшеству¬
ющем времени возникали новая религия, орнаментика, строительный
прием, письменность, даже империя или, наоборот, опустошение, ис¬
следователь тут же так формулировал свой вопрос: а как имя народа, вы¬
звавшего это явление? Такая постановка вопроса характерна для запад¬
ного духа в сегодняшнем его состоянии, однако во всех своих частностях
она до того ложна, что создаваемая с ее помощью картина хода событий
неизбежно должна быть искаженной. «Народ» как праформа просто, в
которой исторически действуют люди, «прародина», «праобитель», а
также «переселения» народов как таковых — на всем этом отражается
бурный расцвет понятий «нация» в 1789 г. и «народ» в 1813 г., а оба они в
конечном итоге восходят к английско-пуританскому самосознанию.
Однако именно в силу того, что понятие это заключает в себе возвышен¬
ную патетику, оно свободно уходит от критики. Даже одаренный тон¬
ким чутьем исследователь обозначает им, сам того не осознавая, сотню
абсолютно разнохарактерных вещей, и в результате «народ» выступает
как мнимо однозначная величина, которая и вершит всю историю. Все¬
мирная история представляется нам сегодня именно историей народов,
что, конечно же, чем-то само собой разумеющимся никак не назовешь, а
греческому и китайскому мышлению такое воззрение и вовсе чуждо. Все
Том 2 ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
572
прочее — культура, язык, искусство, религия — создается народами. Го¬
сударство есть форма народа.
Так вот, это романтическое понятие будет теперь уничтожено. Дело
в том, что начиная с ледникового периода на Земле обитают люди, а не
«народы». Поначалу их судьба определяется тем, что телесная последо¬
вательность родителей и детей, связь крови образует естественные
группы, обнаруживающие явную склонность к тому, чтобы пустить
корни в каком-либо ландшафте. Даже племена кочевников ограничи¬
вают свои передвижения определенными ландшафтными рамками.
Тем самым задается длительность космически-растительной стороны
жизни, существования. Вот что называю я расой. Племена, кровные
родичи, поколения, семьи — все это, вместе взятое, является обозначе¬
нием факта циркулирования крови посредством производимых в более
широком или же узком ландшафте зачатий.
Однако эти люди обладают еще и микрокосмически-животной сто¬
роной бодрствования, ощущения и понимания, и форму, в которой
бодрствование одного вступает в связь с бодрствованием других, я на¬
зываю языком; поначалу он оказывается не чем иным, как бессознате¬
льным живым выражением, которое воспринимается чувственно, од¬
нако постепенно развивается в сознательную технику сообщения, поко¬
ящуюся на совпадающем ощущении значения знака.
В конечном счете всякая раса представляет собой одно-единствен-
ное великое тело, а всякий язык — форму деятельности одного велико¬
го, связывающего много единичных существ бодрствования. Мы ни¬
когда не сможем до конца разобраться в том и другом, если не будем их
рассматривать вместе и постоянно сравнивая.
Однако мы также никогда не сможем понять и историю высшего че¬
ловечества, если упустим из виду человека как элемент расы и носите¬
ля языка, или же человека, поскольку он происходит из единства крови
и поскольку он включен в единство взаимопонимания, т. е. позабудем
о том, что существование и бодрствование человека имеют каждое
свою собственную судьбу. Причем происхождение, развитие и длите¬
льность расовой стороны и языковой стороны у одной и той же популя¬
ции совершенно друг с другом не связаны. Раса — это нечто космическое
и душевное. Некоторым образом она периодична и в своем нутре обу¬
словлена великими астрономическими связями. Языки — это каузаль¬
ные образования: они действуют через полярность своих средств. Мы
говорим о расовых инстинктах и о духе языка. Однако это два разных
мира. К расе относятся глубиннейшие значения слов «время» и «стрем¬
ление», к языку — значения слов «пространство» и «страх». Теперь, од¬
нако, все это оказывается погребенным под понятием «народ».
Так что бывают потоки существования и связи бодрствования. У пер¬
вых есть своя физиономия, в основе вторых лежит система. Раса есть,
если рассматривать ее в контексте окружающего мира, совокупность
всех телесных отличительных признаков, как они являются чувствен¬
рлава вторая. Города и народы
573
ному ощущению бодрствующих существ. Здесь нам следовало бы
вспомнить о том, что тело с детства и до старости развивает и совер¬
шенствует данную с зачатием и присущую ему внутренне форму, меж¬
ду тем как то, чем является тело, если от формы отвлечься, непрестанно
обновляется. Так что в мужчине практически уже ничего не остается от
мальчика, кроме живого смысла его существования, и мы познаем из
этого смысла не больше, чем представляется в мире бодрствования.
Хотя для высшего человека впечатление расы ограничивается едва ли
не исключительно тем, что открывается его глазу в светомире, а значит,
раса есть, в сущности, совокупность зримых черт, для него сохраняет
свое значение и немалый остаток черт неоптических — запах, голоса
животных, но прежде всего человеческая манера говорить. Напротив
того, для высших животных взаимное впечатление от расы определяет¬
ся совсем не зрением. Куда важнее чутье; однако сюда добавляются
еще и такие способы восприятия, которые от человеческого знания
всецело ускользают. Отсюда следует, что растение, поскольку оно об¬
ладает существованием, также имеет расу (садоводы и цветоводы пре¬
красно об этом знают), но лишь животные воспринимают впечатления
расы. Я неизменно бываю потрясен, когда весной мне случается ви¬
деть, что все эти цветущие растения, томящиеся по зачатию и оплодо¬
творению, при всей своей светоносной силе нисколько друг друга не
привлекают и даже не замечают, но оказываеются вынужденными об¬
ращаться к животным, для которых только и существуют эти цвета и
запахи.
Языком я называю всю свободную деятельность бодрствующего
микрокосма, поскольку она выражает нечто для другого. Растения не
обладают бодрствованием и подвижностью, а потому у них нет и языка.
Однако бодрствование животных существ есть речь от начала и до кон¬
ца вне зависимости от того, составляет ли такая речь смысл отдельных
актов или же нет, и даже тогда, когда сознательная или бессознатель¬
ная цель поступка лежит в совершенно ином направлении. Нет сомне¬
ния в том, что, распуская хвост, павлин разговаривает сознательно, од¬
нако котенок, который играет с клубком пряжи, разговаривает с нами
бессознательно — изяществом своих движений. Всякому известна раз¬
ница в собственных движениях, возникающая в зависимости от того,
знаешь ли ты, что за тобой наблюдают, или же нет. Мы вдруг начинаем
сознательно «говорить» посредством всего, что делаем.
Однако вследствие этого возникает чрезвычайно значимое разли¬
чие в видах языка: язык, который является лишь выражением для мира и
внутренняя необходимость которого заложена в стремлении всякой
жизни осуществить себя перед свидетелями или засвидетельствовать
собственное существование самому себе; и язык, который желает, что¬
бы его поняли определенные существа. Таким образом, бывают языки
выражения и языки сообщения. Первые предполагают одно лишь бодр¬
ствование, вторые — связь бодрствований. Понять — это значит отве¬
574 Том 2 ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
тить на впечатление от знака собственным ощущением значения. Объ¬
ясняться, «вести беседу», обращаться к «ты» означает, таким образом,
предполагать в этом «ты» ощущение значения, соответствующее свое¬
му собственному. Язык выражения перед свидетелями доказывает
лишь наличие «я». Язык сообщения предполагает «ты». «Я» есть гово¬
рящий, «ты» есть то, что должно понять язык «я». Для первобытного
человека «ты» могут быть дерево, камень, облако. Все божества есть
«ты». В сказках нет ничего, что не могло бы вступить в беседу с челове¬
ком. И стоит нам застигнуть самих себя в мгновения гневного возбуж¬
дения или поэтического подъема, как мы убеждаемся, что еще и сегод¬
ня всякая вещь может сделаться для нас «ты». Наконец, всякий мысля¬
щий человек говорит сам с собой как с «ты». Да и знание «я»
пробуждается лишь на «ты». Таким образом, «я» обозначает, что к дру¬
гому существу имеется мостик.
Четкую границу между религиозным и художественным языком
выражения и чистым языком сообщения провести невозможно. Это
весьма важно в том числе и для высших культур с обособленным разви¬
тием их индивидуальных формальных сфер. Ибо, с одной стороны, ни¬
кто не может говорить без того, чтобы в сам способ своего говорения не
вкладывать еще и значимое выражение, зачастую неизвестное ему са¬
мому и в любом случае сообщению не служащее. А с другой стороны,
все мы можем привести примеры пьес, авторы которых желали «ска¬
зать» нечто такое, что они с таким же точно успехом и даже удачнее
могли выразить с помощью воззвания; известны картины, своим со¬
держанием призванные наставлять, увещевать, улучшать; далее —
ряды икон во всякой греко-ортодоксальной318 церкви, образующие
строгий канон и явно служащие цели в предельно убедительном виде
изъяснить религиозные истины такому зрителю, которому книга ниче¬
го не говорит; гравюры Хогарта, заменяющие проповедь; и наконец,
молитва, непосредственный разговор с Богом, которая также может
быть заменена исполнением у него на глазах культовых действий, чей
язык ему понятен. Теоретическая полемика относительно цели искус¬
ства проистекает из требования, чтобы художественный язык выраже¬
ния ни в коей мере не являлся языком сообщения, а в основе появле¬
ния духовенства — убеждение, что лишь оно знает тот язык, которым
человек может объясняться с Богом.
На всех потоках существования лежит отпечаток истории, на всех
связях бодрствования — религии. То, что с несомненностью установ¬
лено относительно религиозного или художественного языка форм и
что в особенности обнаруживает нам повсюду история письма (пись¬
мо — это словесный язык для глаза), справедливо также и для возник¬
новения человеческого звукового языка вообще. Пра-слова, о свойст¬
вах которых мы уже совершенно ничего не знаем, вне всякого сомне¬
ния, имеют также и культовую окраску. Однако раса состоит в
соответствующей взаимосвязи со всем тем, в чем мы усматриваем
fлпвавтоРая- Города и народы
575
лсизнь как борьбу за власть, историю как судьбу, со всем тем, что мы на¬
зываем сегодня политикой. Быть может, излишне дерзко было бы
усматривать что-то вроде политического инстинкта в том, как лиана
отыскивает точки опоры, посредством которых охватывает дерево,
преодолевает его сопротивление и в конце концов удушает, чтобы
высоко воспарить над его верхушкой, а в песне взлетающего жаворон¬
ка — видеть нечто вроде религиозного мироощущения. Однако нет со¬
мнения в том, что непрерывный ряд выражений существования и бод¬
рствования, такта и напряжения начинается именно отсюда — вплоть
до сформировавшихся политических и религиозных форм всякой со¬
временной цивилизации.
Но это дает нам наконец ключ к тем двум примечательным словам,
что были обнаружены этнографическими исследованиями в двух со¬
вершенно разных точках Земли, причем применялись они там не
слишком широко, однако теперь исподволь все больше выходят на пе¬
редний план обсуждения: тотем и табу. Чем загадочнее и многознач¬
нее они становятся, тем интенсивнее мы ощущаем, что через них при¬
касаемся к последним жизненным основаниям не одного лишь перво¬
бытного человечества. А из вышесказанного определяется еще и
настоящее значение того и другого: тотем и табу обозначают послед¬
ний смысл существования и бодрствования, судьбу и каузальность,
расу и язык, время и пространство, стремление и страх, такт и напря¬
жение, политику и религию. Тотемная сторона жизни растительна и
принадлежит всем существам, сторона табу — животная и предполага¬
ет свободное передвижение существа в мире. У нас имеются тотемные
органы кровообращения и размножения и табу—органы чувств и нер¬
вов. Все, что относится к тотему, обладает физиономией, все, что есть
табу, имеет систему. В тотемистическом содержится общее ощущение
существ, принадлежащих одному и тому же потоку существования. Его
невозможно перенести или устранить, это есть факт, исключительно¬
го значения факт как таковой. Все, что является табу, обозначает собой
связи бодрствования: этому можно выучиться, это можно передать, и
как раз потому табу — тщательно оберегаемая тайна культовых общин,
школ мышления и гильдий художников, которые все обладают некоего
рода тайным языком*.
Однако существование можно мыслить и без бодрствования; а вот
бодрствование без существования — нет. Из этого следует, что раса без
языка возможна, но языка без расы не бывает. Поэтому все расовое об¬
ладает своим собственным, независимым от всякого бодрствования,
присущим растениям точно так же, как животным, выражением (не
путать с языком выражения, состоящим в активном изменении выраже-
Понятно, что тотемистические факты, поскольку они оказываются замеченными
бодрствованием, получают также и значение табу, как многое в половой жизни, напол¬
няющее человека глубоким страхом, потому что оно остается недоступным его жела¬
нию понять.
576 Том 2 ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ния), не предназначенным для свидетелей, но просто здесь наличным:
физиономией. Однако во всяком так называемом (с глубоким смыс¬
лом) живом языке прослеживается помимо выучиваемой стороны табу
абсолютно невыучиваемая расовая черта, вымирающая вместе с носи¬
телями языка: она состоит в мелодии, ритме и ударении, в окраске, зву¬
чании и поступи произношения, в употреблении языка, в сопровожда¬
ющем жесте. Поэтому следует различать язык и речь. Первый есть мерт¬
вая кладовая знаков, вторая — это деятельность, влияющая посредст¬
вом знаков*. Если у человека более нет возможности слышать и видеть
данный язык, то, как на нем говорят, он знает в нем лишь костяк, но не
тело. Так дело обстоит с шумерским и готским языками, с санскритом
и всеми другими языками, расшифрованными нами лишь по текстам и
надписям и с полным основанием называемыми мертвыми — потому
что исчезла человеческая община, которая была образована этим язы¬
ком. Мы знаем египетский язык, но не египетскую речь. Мы прибли¬
зительно знаем звучание букв латыни эпохи Августа и знаем смысл
слов, однако мы не знаем, как звучала произносившаяся Цицероном с
ростр речь, и уж тем более не знаем, как декламировали свои стихи Ге¬
сиод и Сапфо и как воспринимало ухо беседу на афинском рынке. Ког¬
да в эпоху готики на латыни действительно снова заговорили, тб было
нечто совершенно новое: формирование этой готической латыни, на¬
чавшись с такта и звучания речи, о которых мы теперь также не можем
составить никакого представления, уже вскоре затронуло словарный
запас и синтаксис. Но никакого воскрешения не означала и антиготи-
ческая латынь гуманистов, замышлявшаяся как цицероновская. Мы
сможем вполне оценить значение расовой стороны речи, если сопоста¬
вим немецкий язык Ницше и Моммзена, французский Дидро и Напо¬
леона и заметим при этом, что по употреблению языка Лессинг ближе
Вольтеру, чем Гёльдерлину.
Так же обстоит дело и с искусством, этим наиболее значимым из
всех, какие только есть, языком выражения. Все, что относится к табу,
а именно запас форм, условные правила, стиль, поскольку его состав¬
ляет совокупность устоявшихся оборотов (что можно сравнить со сло¬
варным запасом и синтаксисом словесных языков), представляет со¬
бой сам выучиваемый язык. Он выучивается и передается в больших
школах живописи, в традициях строительных лож320, вообще в строгой
школе ремесла, какая само собой разумеется для всякого подлинного
искусства и целью которой во все времена является уверенное овладе¬
ние вполне определенной, живой именно в настоящий момент мане¬
рой речи. Ибо живые и мертвые языки бывают также и здесь. О языке
форм искусства оказывается возможным говорить как о живом лишь
В. фон Гумбольдт («О различии в строении человеческих языков») был, пожалуй,
первым, кто подчеркнул, что язык — это не вещь, но деятельность. «Если угодно заост¬
рить выражение, вполне можно сказать: никакого языка нет — точно так же как нет ни¬
какого духа; однако человек говорит, и человек действует духовно»319.
577
^апйторая. Города и народы
тогда, когда все художническое сословие в целом применяет его как об¬
щий родной для себя язык, которым пользуются, даже не думая о его
свойствах. В таком смысле готический стиль был мертвым языком в
XVI в., а рококо — ок. 1800 г. Сравните безусловную уверенность, с ко¬
торой выражаются архитекторы и музыканты XVII и XVIII вв., с запин¬
ками Бетховена, с мучительным, приобретенным, так сказать, через
самообразование знанием языка Шинкеля и Шадова321, с лепетом пре¬
рафаэлитов и неоготиков и, наконец, с беспомощными попытками се¬
годняшних художников создать свой язык.
Говорить на художественном языке форм, каким он представлен в
произведениях искусства, — значит познавать тотемную сторону, расу,
причем в равной мере как отдельных художников, так и целых их поко¬
лений. Творцы дорических храмов нижней Италии и Сицилии, а также
кирпичной северонемецкой готики322 были крепкой расой, как и не¬
мецкие музыканты от Генриха Шюца до Себастьяна Баха. К тотемной
стороне относится влияние космического обращения, о значении ко¬
торого для образа истории искусства почти никто и не догадывается
(познать же его досконально нам вообще не суждено), а также творче¬
ское время весны и любовного хмеля, которые совершенно независи¬
мо от степени уверенности в передаче формы решают вопрос относи¬
тельно воздействия формы, глубины концепции отдельных произведе¬
ний и целых искусств. Мы понимаем, что формалист может стать
таковым от глубины мирового страха или от недостаточности расы, и
понимаем, что лишенное формы величие может быть обусловлено пе¬
реизбытком крови или недостаточностью школы. Мы понимаем, что
есть разница между историей художников и историей стилей и что пе¬
реносить язык искусства из страны в страну возможно, но мастерское
владение им — нет.
Раса имеет корни. Раса и ландшафт едины. Где растение коренит¬
ся, там оно и умирает. Можно, пожалуй, задавать вопрос о «родине»
расы, однако надо знать, что там, где ее родина, там раса со своими
вполне определенными чертами тела и души и остается. Если мы ее
там не обнаруживаем, ее больше нет вообще нигде. Раса не переселя¬
ется. Люди переходят с места на место; последующие их поколения
рождаются тогда в постоянно меняющихся ландшафтах; ландшафт
приобретает тайную силу над растительным в их существе, и наконец
выражение расы радикально меняется: старое угасает и является но¬
вое. То не англичане и немцы выехали в Америку, но люди эти отпра¬
вились туда как англичане и немцы; и теперь их правнуки пребывают
там как янки, ведь давно уже ни для кого не секрет, что индейская
почва оказала свое на них воздействие: из поколения в поколение они
Делаются все более похожими на искорененное население. Гоулд и
Бакстер показали, что белые любого происхождения, индейцы и нег¬
ры приобретают одни и те же средние размеры тела и скорость роста,
причем так быстро, что въехавшие недавно ирландцы (с очень малой
19 Закат Западного мира
578
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
скоростью роста) испытывают воздействие ландшафта уже непосред¬
ственно на себе самих. Боас323 продемонстрировал, что родившиеся
уже в Америке дети длинноголовых сицилийских и короткоголовых
немецких евреев имеют одну и ту же форму головы. Однако то же са¬
мое будет верно где угодно и когда угодно, из чего вытекает необходи¬
мость проявлять величайшую осторожность в отношении тех истори¬
ческих переселений, насчет которых нам известны лишь некоторые
названия переселявшихся племен и немногочисленные фрагменты
языков, как это имеет место в античной предыстории с данайцами,
этрусками, пеласгами, ахейцами, дорийцами. О расах этих «народов»
такие сведения ничего не говорят. Нет сомнения: то, что влилось в
южноевропейские страны под именами готов, лангобардов, ванда¬
лов, было особой расой. Однако уже ко времени Возрождения они
полностью срослись с расовыми особенностями, укорененными в
прованской, кастильской и тосканской почве.
Не то с языком. «Родина» языка означает лишь случайное место
его возникновения, никакой связи с его внутренней формой не име¬
ющее. Языки переходят с места на место, когда они распространяют¬
ся от племени к племени и уносятся племенами за собой. Но важнее
всего то, что язык оказывается возможным сменить, и можно предпо¬
ложить, что в раннее время раса меняет свой язык сколь угодно часто.
Что при этом усваивается, повторим это еще раз, есть запас форм, а не
речь языка, точно так же как примитивные народности беспрестанно
усваивают орнаментальные мотивы, чтобы с полной уверенностью
использовать их в качестве элемента собственного языка форм. В
раннее время того факта, что данный народ оказался более сильным
или что язык этого народа лучше в пользовании, бывает достаточно
для того, чтобы (зачастую из подлинного религиозного благоговения)
отказаться от языка собственного. Проследим за сменой языка у нор¬
маннов, которые появлялись в Нормандии, Англии, Сицилии и перед
Византией все время с разным языком — и всякий раз были готовы к
тому, чтобы снова его переменить. Благоговение перед материнским
языком — со всем нравственным весом, в этом слове содержащим¬
ся, — которое постоянно приводит к ожесточенным языковым схват¬
кам, есть черта поздней западноевропейской души, и людям других ку¬
льтур оно почти неведомо, а первобытным — вовсе не известно. Од¬
нако наши историки негласно его предполагают повсюду, что ведет к
бесчисленным ложным заключениям относительно значения резуль¬
татов языковых исследований для судеб «народов». Представьте, ка¬
кая могла бы получиться реконструкция «дорического переселения»
из распределения позднейших греческих диалектов. Отсюда следует,
что невозможно делать заключения относительно судеб расовой сто¬
роны народонаселения исключительно на основании названий мест,
собственных имен, надписей, диалектов, языковой стороны вообще.
Мы никогда заранее не знаем, обозначает ли имя народа языковое
вторая. Городи и народы
Глава^
579
тело или часть расы, то и другое или же ни одно из них, и к этому до¬
бавляется еще то, что имена народов и даже названия стран имеют
собственную судьбу.
8
Дом — наиболее чистое выражение расы из всех, какие только бы¬
вают. Это выражение существует с того момента, когда начинающий
делаться оседлым человек уже не удовлетворяется просто крышей над
головой, но строит себе постоянное жилище, и выражение это внутри
расы «человека» как такового, принадлежащего биологической картине
мира*, выделяет человеческие расы собственно всемирной истории,
т. е. потоки существования намного более душевного значения. Пра-
форма дома всецело прочувствованна и органична. Знание о ней не¬
возможно. Как раковина наутилуса, как пчелиный улей, как гнезда
птиц, она внутренне есть нечто само собой разумеющееся, и все черты
изначальных обычаев и формы существования, супружеской и семей¬
ной жизни, организации племени имеют точное свое подобие в плане
дома и в основных его помещениях — сенях, зале, мегароне, атрии,
дворе, женской половине, гинекее324. Достаточно сравнить устройство
древнесаксонского и римского домов, чтобы почувствовать, что душа
людей и душа их дома — одно и то же.
Истории искусства никак не следовало делать эту область своей ча¬
стью. То было заблуждение — считать планировку жилого дома частью
архитектуры. Форма эта возникла из смутного обыкновения существо¬
вания, а не для глаза, отыскивающего формы на свету, и никакой архи¬
тектор никогда и не помышлял о том, чтобы заняться планировкой
крестьянского дома, как будто это собор. Эти чрезвычайно важные
пределы искусства ускользнули от исследователей, хотя Дегио**, между
прочим, отмечает, что древнегерманский дом не имеет ничего общего с
позднейшей большой архитектурой, возникшей совершенно незави¬
симо от него. Отсюда извечное методическое затруднение, которое ис¬
кусствознание хотя и воспринимает, однако постигнуть не может.
Применительно ко всему предвремени и раннему времени оно без раз¬
бору валит в одну кучу утварь, оружие, керамику, ткани, захоронения и
дома, причем как по их форме, так и по отделке, почву же под ногами
обретает лишь в органической истории живописи, скульптуры и архи¬
тектуры, т. е. в замкнутых в самих себе, обособленных искусствах. Од¬
нако здесь ясно и отчетливо отделяются друг от друга два мира — мир
Душевного выражения и мир языка выражения для глаза. Дом, а также
совершенно бессознательные основные, т. е. бытующие, формы сосу¬
дов, оружия, одежды и утвари относятся к тотемной стороне. Они ха-
^ Ср. выше, с. 493.
Gesch. d. deutsch. Kunst. 1919. S. 14 f.
580
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
растеризуют не вкус, но образ ведения войны, образ жизни и образ тру¬
да. Всякое первоначальное приспособление для сидения является ото¬
бражением присущей расе осанки; всякая ручка сосуда удлиняет
подвижную руку. Напротив того, живопись и резьба на доме, одежда
как украшение, отделка оружия и утвари относятся к стороне жизни,
являющейся табу. Для раннего человека в этих узорах и мотивах нали¬
чествует также и волшебная сила. Нам известны германские клинки
эпохи переселения народов с ориентальным узором и микенские
зймки с минойской художественной отделкой. Так различаются кровь
и чувства, раса и язык — политика и религия.
Так что не существует пока (а это было бы одной из настоятельней¬
ших задач будущего исследования) никакой всемирной истории дома и
его рас, которую следовало бы рассматривать совсем иными средства¬
ми, нежели историю искусства. По отношению к темпу всей истории
искусства крестьянский дом так же «вечен», как сам крестьянин. Он
стоит вне культуры, а тем самым и вне высшей человеческой истории и
сохраняет себя в своей идее неизменным при всех преобразованиях ар¬
хитектуры, осуществляемых исключительно на нем, но не в нем. Мы зна¬
ем древнеиталийскую круглую хижину еще по императорскому време¬
ни*. Форма прямоугольного римского дома, знак существования вто¬
рой расы, встречается в Помпеях и даже в императорских дворцах на
Палатине. С Востока заимствуются все подряд виды украшений и сти¬
ля, однако ни одному римлянину и в голову не могло прийти перенять
форму, скажем, сирийского дома. И в точно такой же неприкосновен¬
ности оставили эллинистические градостроители мегаронную форму
домов Тиринфа и Микен, а также описываемый Галеном древнегрече¬
ский крестьянский дом. Саксонский и франкский крестьянские дома
сохранили свое сущностное ядро начиная от сельской усадьбы и даль¬
ше — через дома бюргеров старых вольных имперских городов325
вплоть до патрицианских строений XVIII в., между тем как все подряд
стили — готический, ренессансный, барочный, ампир — скользят по
его поверхности, вволю орудуют на фасаде и во всех помещениях от по¬
греба до крыши, не внося никакого смятения в душу самого дома. То
же касается и формы мебели, которую следовало бы в плане психологи¬
ческом тщательно отделить от ее художественной разработки. Прежде
всего часть истории расы, а вовсе не стиля, представляет собой разви¬
тие североевропейской мебели для сидения вплоть до мягкого каби¬
нетного кресла. Любой другой отличительный признак может нас об¬
мануть относительно судьбы расы: имя этрусков среди «народов моря»,
которых разбил Рамсес III, загадочная надпись с Лемноса326, стенная
живопись в гробницах Этрурии никакого надежного заключения отно¬
сительно телесной взаимосвязи стоящих за этим людей сделать не по¬
зволяют. Хотя к концу каменного века в обширной области к востоку
* Altmann W. Die ital. Rundbauten. 1906.
рлава вторая. Города и народы 581
от Карпат возникает и устойчиво сохраняется в высшей степени харак¬
терная орнаментика, расы здесь вполне могли приходить одна другой
на смену. Если бы эпоха от Траяна до Хлодвига оставила нам по Запад¬
ной Европе одну лишь керамику, мы не могли бы даже заподозрить о
том, что произошло переселение народов. Однако эпизод из истории
расы обнаруживается, например, в одном овальном доме, раскопан¬
ном в эгейском регионе*, и в другом весьма своеобразном овальном
доме — в Родезии** или в сходстве (много обсуждавшемся) саксонского
крестьянского дома с ливийско-кабильским. Орнаменты распростра¬
няются, когда население включает их в свой язык форм; форма дома
пересаживается только вместе с расой. Если исчезает орнамент, это
значит, что изменился только язык; если же исчезает тип дома, угасла
раса.
Из этого следует, что история искусства нуждается в исправлени¬
ях. В ее ходе также следует тщательно отделять расовую сторону от
собственно языковой. В начале культуры над крестьянской деревней
с ее расовыми строениями возносятся две яркие формы высшего по¬
рядка как выражение существования и как язык бодрствования — за¬
мок и собор *. Различие между тотемом и табу, стремлением и страхом,
кровью и духом достигает в них величественной символики. Древне¬
египетский, древнекитайский, античный, южноарабский, западно¬
европейский замки, как гнезда сменяющих друг друга поколений,
близки крестьянскому дому. Как слепки с реальной жизни, с зачатия
и смерти, они остаются вне всякой истории искусства. История не¬
мецких замков — это всецело эпизод расовой истории. Хотя ранняя
орнаментика дерзко принимается и за замок, и за дом, украшая здесь
перекрытия, а там ворота или лестничную клетку, однако свобода вы¬
бора типа орнамента при этом сохраняется, или же его вообще может
не быть. Никакой внутренне необходимой связи между телом здания
и орнаментом нет. Напротив того, собор не орнаментирован: он сам
есть орнамент. Его история (как и история дорического храма и всех
прочих ранних культовых построек) совпадает с готической историей
стиля, причем с такой полнотой, что здесь, как и во всех ранних куль¬
турах, об искусстве которых мы вообще что-то знаем, никому не бро¬
силось в глаза, что строгая архитектура, являющаяся не чем иным, как
чистой орнаментикой высшего рода, ограничивается исключительно
культовым зданием. Все изящные формы зданий, наблюдаемые в Ге-
льнхаузене, Госларе и Вартбурге327, перенесены из соборной архитек¬
туры и являются украшением, а не продиктованы внутренней необхо-
Bulle. Orchomenos. S. 26 ff.; Noak. Ovalhaus und Palast in Kreta. S. 53 ff. Возможно,
что все еще обнаруживаемые и в более позднем времени очертания дома эгейско-мало-
азиатского региона внесут некоторую ясность в вопрос о местном населении предан-
Тичног° времени. Языковые фрагменты на это не способны.
Mediaeval Rhodesia, London, 1906.
*** Ср. т. 2, гл. IV, 1.
582
Том 2 ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
димостью. 3£мок, меч, глиняный сосуд могут быть совершенно лише¬
ны украшения, нисколько не теряя своего смысла или даже образа; в
случае же собора или храмов при египетских пирамидах такого нельзя
себе даже представить.
Так вот и различаются меж собой здание, обладающее стилем, и зда¬
ние, в котором есть стиль. Ибо это камень в монастыре и соборе облада¬
ет формой, и он передает ее людям, которые здесь служат, в крестьян¬
ском же доме и рыцарском замке сама мощь крестьянской и рыцар¬
ской жизни выстраивает себе футляр из собственного своего нутра.
Первое здесь — человек, а не камень, и если речь об орнаменте должна
заходить также и здесь, то он состоит в строгой, органической, неколе¬
бимой форме нравов и обычаев. Это и есть разница между живым и за¬
стывшим стилем. Однако подобно тому как мощь этой живой формы
захватывает и духовенство и как в ведическую, так и в готическую эпо¬
ху формируется тип священника-рыцаря, так же и романско-готиче¬
ский священный язык форм охватывает все, что находится в связи с этой
светской жизнью, — наряд, оружие, комнаты и утварь — и стилизует их
поверхность. И все же истории искусства не следует обманываться на¬
счет этого чуждого ей мира: это лишь поверхность.
В ранних городах ничего нового к этому не добавляется. Между ра¬
совыми домами, образующими теперь улицы и хранящими в своем
нутре верность устройству и обычаю крестьянского дома, размещают¬
ся немногие культовые здания, обладающие стилем. Впредь они, бес¬
спорно, и будут местопребыванием истории искусства, изливая свою
форму на площади, фасады и внутренние помещения. Пускай даже из
замка получится городской дворец и патрицианский дом, а из паласа,
из мужского зала328 — гильдейский дом и ратуша, все равно все они не
имеют никакого стиля, но лишь воспринимают его и несут на себе.
Подлинная буржуазия уже не обладает метафизическим формообразу¬
ющим даром ранней религии. Она продолжает создавать орнамент, од¬
нако уже не здание как орнамент. Отныне, по достижении городом зре¬
лости, история искусства распадается на историю отдельных искусств.
Картина, статуя, дом — это единичные объекты применения стиля. Те¬
перь уже и церковь — такой же дом. Готический собор — это именно ор¬
намент, барочная зальная церковь — покрытое орнаментом тело зда¬
ния. То, что подготавливают ионический стиль и барокко XVI в., ко¬
ринфский ордер и рококо доводят до конца. Дом и орнамент
окончательно и решительно отделились здесь друг от друга, и даже ше¬
девры среди церквей и монастырей XVIII в. не в состоянии никого об¬
мануть относительно того, что все это искусство сделалось светским, а
именно украшательством. С ампиром стиль переходит во вкус, и с его
концом архитектура делается одним из художественных ремесел. Тем
самым к завершению приходит орнаментальный язык выражения, а
значит — и история искусства. Однако крестьянский дом с его неиз¬
менной расовой формой продолжает жить дальше.
вторая- Города и народы
583
Глава
9
Лишь отвлекшись от расового выражения дома, нам становится по¬
нятно, как трудно подобраться к сущности расы. Не к внутренней ее
сущности, душе, ибо об этом нам с достаточной отчетливостью говорят
наши чувства: что такое «человек расы», мы понимаем с первого же
взгляда. Каковы, однако, те черты, по которым мы опознаем и разли¬
чаем расы и которые даны нашим ощущениям, прежде всего зрению?
Несомненно, все это относится к физиономике, точно так же как рас¬
пределение языков относится к систематике. Однако чего только не
следует нам здесь учитывать! Как много безвозвратно утрачивается уже
со смертью, а сколько еще уносит разложение! Чтб может поведать
нам скелет — то единственное, что мы в лучшем случае имеем от доис¬
торического человека? Да практически ничего. Работающие в этой об¬
ласти исследователи с наивным рвением чего только не готовы вычи¬
тать по единственной челюсти или кости руки, однако достаточно
вспомнить лишь о каком-нибудь одном массовом захоронении в Се¬
верной Франции, относительно которого мы точно знаем, что там по¬
хоронены люди всех рас, белые и цветные, крестьяне и горожане, юно¬
ши и зрелые мужчины329. Если бы люди будущего не знали об этом из
иных источников, они, без сомнения, не установили бы этого с помо¬
щью антропологических исследований. Так что над краем могут про¬
нестись колоссальные расовые потрясения, а исследователи, судящие
на основании скелетных останков, об этом и не догадаются. Значит,
выражение пребывает главным образом в живом теле: не в строении ча¬
стей, но в их движении, не в лицевой;стороне черепа, но в выражении
лица. Однако насколько полно расовое выражение открывается даже
наиболее острому чутью? Сколь многого мы просто не видим и не слы¬
шим? На что у нас вообще нет (вне сомнения, в отличие от многих ви¬
дов животных) особого органа чувств?
В эпоху дарвинизма наука разделывается с этим вопросом с чрезвы¬
чайной легкостью. Как плоско, как неуклюже, как механистично то
понятие, с которым она работает! Во-первых, оно охватывает совокуп¬
ность черт, доступных самым грубым чувствам, поскольку эти черты
можно установить на основании анатомических наблюдений, т. е. так¬
же и на трупах. О наблюдении тела, пока оно живет, нет даже и речи. А
во-вторых, исследуются лишь те характерные признаки, которые от¬
крываются весьма неутонченному зрению, и лишьЪостольку, поско¬
льку их можно измерить и исчислить. Дело решает микроскоп, а не
чувство такта. Если в качестве определяющей характеристики привле¬
кают язык, никто и не думает о том, что человеческие расы делятся по
манере речи, а не по грамматическому строению языка, также являю¬
щемуся лишь примером анатомии и системы. Абсолютно никто пока
не заметил того, что одной из важнейших задач исследования может
°казаться изучение этих речевых рас. На деле все мы, как знатоки лю¬
584
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
дей, знаем из повседневного опыта, что манера разговора — это одна из
наиболее показательных черт расы современного человека. Примеры
этого не поддаются исчислению и известны каждому в большом коли¬
честве. В Александрии на одном и том же греческом языке говорили на
чрезвычайно различный расовый манер. Мы видим это еще и сегод¬
ня — по способу записи текста. Несомненно, что в Северной Америке
все, кто там родились, говорят совершенно одинаково, будь то англи¬
чане, немцы или даже индейцы. Что в разговоре восточноевропейских
евреев является расовой чертой ландшафта, а значит, присутствует и в
манере разговора русских, а что — расовая черта крови, т. е. обще всем
евреям, независимо от области обитания народа-хозяина, в разговоре
на всех их «родных» европейских языках? Как обстоит здесь дело в ча¬
стностях — со звукообразованием, ударением, порядком слов?
Однако наука не заметила даже того, что раса укорененных растений
и раса подвижных животных — это не одно и то же, что вместе с микро-
космической жизненной стороной является группа новых черт, причем
черт решающих для животного существа. Не видят, что «человеческие
расы» внутри единой расы «человек» опять-таки представляют собой
нечто совершенно иное. Говорят о приспособлении и наследственности
и тем самым бездушной каузальной цепочкой поверхностных черт из¬
ничтожают то, что является там выражением крови, а здесь властью поч¬
вы над кровью, — тайны, которые невозможно видеть и измерять, а
можно лишь переживать и чувствовать, глядя друг другу в глаза.
Не договорились даже относительно ранжирования поверхностных
характеристик. Блуменбах разделил расы по форме черепа; Фридрих
Мюллер — совершенно по-немецки — по волосам и грамматической
структуре языка; Топинар — совершенно по-французски — по цвету
кожи и форме носа; Хаксли — совершенно по-английски, — так ска¬
зать, по спортивным показателям. Несомненно, что последнее само по
себе в высшей степени оправданно, однако всякий лошадник мог бы
ему возразить, что никакая гелертерская терминология не способна
уловить расовые свойства. Вообще все эти объявления «Разыскивается
раса» столь же никчемны, как и те полицейские объявления, на кото¬
рых свое теоретическое знание людей опробует какой-нибудь сыщик.
Очевидно, мы и представления не имеем, насколько хаотично цело¬
стное выражение человеческого тела. Даже не принимая во внимание
обоняние, которое, например, для китайцев образует характеристиче¬
ский признак расы, и слух, устанавливающий на уровне чувств глубо¬
кие различия в речи, пении и в первую очередь в смехе, различия, ни¬
какому научному методу не доступные, уже зрительный образ оказыва¬
ется так головокружительно богатым реально открывающимися глазу,
а для углубленного взгляда, так сказать, ощутимыми частностями, что
об их обобщении по немногим пунктам нечего и думать. А ведь все эти
стороны и черты в образе независимы друг от друга и имеют свою соб¬
ственную историю. Бывают случаи, когда костное строение, и прежде
вторая- Городам народы
585
Глава_ —
всего форма черепа, полностью меняется без того, чтобы выражение
мясистых частей, т. е. лица, сделалось иным. В одной семье дети могут
соединять в себе почти все отличительные особенности по Блуменба-
ху, Мюллеру и Хаксли, но их живое расовое выражение для всякого на¬
блюдателя совершенно одно и то же. Еще чаще можно встретить сход¬
ство в строении тела при разительном отличии живого выражения. До¬
статочно напомнить о громадном различии, существующем между
подлинной крестьянской расой% такой, как фризы или бретонцы, и
подлинными городскими расами*. Однако к энергии крови, которая на
протяжении столетий неизменно запечатляет одни и те же телесные
черты («фамильные черты»), и к власти почвы («человеческая порода»)
добавляется еще загадочная космическая сила равного такта тесно свя¬
занных общин. Когда говорят, что беременная «засмотрелась»330, это
лишь малозначительный пример одного из глубочайших и мощней¬
ших принципов формирования всего расового. Всякому приходилось
наблюдать, что престарелые супруги после долгой жизни душа в душу
становятся поразительно похожи друг на друга, хотя наука со своими
инструментами, возможно, «докажет» противоположное. Невозможно
переоценить формирующую силу этого живого такта, этого мощного
внутреннего ощущения для завершения собственного расового типа.
Ощущение красоты расы — в противоположность в высшей степени
сознательному вкусу зрелого городского человека в отношении духов¬
но-индивидуальных черт красоты — развито у первоначальных людей
чрезвычайно сильно и именно в силу этого даже не доходит до их со¬
знания. Однако такое ощущение является расоформирующим. Несо¬
мненно, у перемещавшихся с места нд место племен оно доводило те¬
лесный идеал типа воина и героя до степени все большей чистоты, так
что имело бы смысл вести речь о расовом образе норманнов или остго¬
тов, и то же самое имеет место в случае любой старинной аристокра¬
тии, обладающей острым и глубоким ощущением себя как единого це¬
лого и именно потому абсолютно бессознательно приходящей к фор¬
мированию телесного идеала. Боевое товарищество выковывает расы.
Французская noblesse и прусское поместное дворянство — это подлин¬
ные обозначения рас. Однако совершенно то же самое — на протяже¬
нии тысячелетнего существования в гетто — выделало также и тип ев¬
ропейского еврея с его колоссальной расовой энергией, и вообще вся¬
кий раз, как население будет на протяжении длительного времени
Душевно сплачиваться перед лицом единой судьбы, это будет сплав¬
лять его в единую расу. Где существует расовый идеал, а это в сильней¬
шей степени имеет место во всякой ранней культуре: в ведическую, го¬
меровскую, штауфеновскую рыцарскую эпоху, — там стремление гос-
В связи с этим следовало бы кому-нибудь провести физиономические исследова¬
ния на встречающихся в массовом количестве римских бюстах (по типу вполне кресть¬
янских), на портретах ранней готики и уже явно городского Возрождения, а еще того
лучше — на аристократическом английском портрете начиная с конца XVIII в. Необо¬
зримый материал для этого содержат крупные фамильные галереи.
586
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
подствующего класса к этому идеалу, желание быть именно такими и
не иными действует, причем совершенно независимо от выбора жен,
таким образом, что в конце концов идеал этот осуществляется. Сюда
добавляется еще и учитываемое далеко не достаточно соображение
числового характера. Именно, у всякого ныне живущего человека уже
ок. 1300 г. был миллион предков, а ок. 1000 г. — миллиард331. Этот факт
говорит о том, что всякий современный немец находится в кровном
родстве с любым без исключения европейцем эпохи Крестовых похо¬
дов и степень кратности родства возрастает тем значительнее, причем в
сотни и тысячи раз, чем более тесно проведенными оказываются гра¬
ницы ландшафта, так что едва ли не двадцати поколений достаточно
для того, чтобы население одной страны сплотилось в одну-единствен¬
ную семью. Вместе же с выбором и голосом крови, циркулирующей в
поколениях и неизменно притягивающей людей расы друг к другу, —
расторгая и руша браки, хитростью и силой одолевая все препятствия,
воздвигнутые обычаем, — это приводит, причем совершенно бессозна¬
тельно, к бесчисленным зачатиям, исполняющим волю расы.
Поначалу это растительные расовые черты, «физиономия положе¬
ния» в отвлечении от движения подвижного, т. е. все, что не различает
живого и мертвого тела животного и что должно выражаться также и в
оцепенелых частях. Несомненно, в «комплекциях» каменного дуба и
итальянского тополя есть нечто схожее с человеческими фигурами —
«коренастой», «стройной», «худой». Также и линия спины дромедара,
и рисунок шкуры тигра или зебры — это растительные расовые черты.
Сюда же относится и впечатление от движений, вызываемых природой
в том или ином существе или посредством его. Береза и нежный ребенок,
клонящиеся на ветру, дуб с узорчатой кроной, птицы, спокойно паря¬
щие или пугливо мечущиеся в бурю, — все это растительная сторона
расы. Однако на чьей стороне оказываются такие черты в борьбе между
кровью и почвой за внутреннюю форму «укорененного» животного или
человеческого вида? И сколь много подобного имеется в образе души,
в образе обычая и дома?
Совершенно иная картина возникает, стоит нам обратиться к впе¬
чатлению, производимому чисто животным. Дело здесь заключается,
если мы припомним о различии растительного существования и жи¬
вотного бодрствования, не в самом бодрствовании и его языке, но в
том, что космическое и микрокосмическое образуют здесь свободно
подвижное тело, микрокосм по отношению к макрокосму. Самостоя¬
тельная жйзнь и деятельность этого тела обладают всецело собствен¬
ным выражением, отчасти пользующимся органами бодрствования и
по большей части, как это произошло с коралловыми животными,
утрачивающимся вместе с подвижностью.
Если расовое выражение растения состоит по сути в физиономии
положения, то выражение животного заложено в физиономии движе¬
ния,, а именно в образе — поскольку он движет сам себя, в самом движе¬
г^п^ггюрая- Города и народы 587
нии и в форме членов в той мере, в какой они передают смысл движе¬
ния. Уже очень многое из этого расового выражения оказывается не¬
возможным обнаружить в спящем животном; в мертвом, части
которого научно обследует ученый, оно делается гораздо более скуд¬
ным; а костное строение позвоночного животного почти совсем ниче¬
го из него не передает. Потому у позвоночных животных суставы более
выразительны, чем кости, потому члены тела представляют собой под¬
линное местопребывание выражения в противоположность ребрам и
костям черепа (исключением являются только челюсти, потому что
своим строением они обнаруживают животный характер питания,
между тем как питание растения есть чисто природный процесс), и пото¬
му скелет насекомого, поскольку он одевает собою тело, выразитель¬
нее скелета птицы, который его лишь поддерживает. Расовое выраже¬
ние аккумулируют в себе прежде всего органы наружного зародышево¬
го листка, причем не глаз как таковой, по форме его и цвету, но взгляд,
выражение лица, рот, поскольку он в связи с речевыми навыками несет
на себе выражение понимания; и вообще всецело подлинным место¬
пребыванием нерастительной стороны жизни делается не череп, но
«голова» с ее линиями, образованными исключительно плотью. Пораз¬
мыслим, какие цели мы преследуем, разводя орхидеи и розы, и какие —
разводя лошадей и собак, и какие цели показались бы нам более всего
симпатичными при разведении человеческой породы. Однако — по¬
вторим еще раз — эта физиономия возникает не из математической
формы зримых частей, но исключительно из выражения движения.
Если мы с первого же взгляда улавливаем расовое выражение непо¬
движного человека, то это основывается на опытности глаза, усматри¬
вающего уже в членах соответствующее им движение. Подлинное ра¬
совое явление зубра, форели, имперского орла332 невозможно передать
перечислением очертаний и измерений, и они бы не были столь при¬
влекательны для художника, когда бы тайна расы не открывалась одной
только душе в произведении искусства, а не в подражании тому, что
уже зримо. Надо увидеть и, видя, прочувствовать, как чудовищная
энергия этой жизни концентрируется в голове и холке, как она обра¬
щается к нам из красноватого глаза, из короткого литого рога, из орли¬
ного клюва, из профиля хищной птицы, — в общем, все, что не может
быть сообщено словесным языком в рассудочной форме и что можно
выразить для других лишь языком искусства.
Однако отличительные особенности этих благороднейших видов
животных подводят нас очень близко к тому понятию расы, которым
создаются различия внутри типа «человек». Различия эти уже выходят
за пределы растительного и животного, они более духовны и как раз в
силу этого куда менее доступны для средств науки. Грубые черты кост¬
ного строения уже вообще не имеют здесь никакого самостоятельного
значения. Еще Ретциус (1860) положил конец вере Блуменбаха в то, что
раса и строение черепа совпадают, и И. Ранке обобщает полученные
588 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
им результаты следующим образом: «То, что представляет собой чело¬
вечество в смысле различных форм черепов, мы в уменьшенном масш¬
табе имеем уже во всяком племени, собственно, уже во всякой значите¬
льных размеров общине племени: собрание различных форм черепов,
объединяющее в себе крайности посредством постепенного, с мини¬
мальным шагом перехода промежуточных форм друг в друга»*. Конеч¬
но, можно отобрать идеальные основные формы, однако следует при¬
знаться самим себе, что это — именно идеалы и что, несмотря на все
объективные методы измерения, реальные границы здесь проводит и
осуществляет классификацию вкус. Куда важнее всех попыток от¬
крыть единый принцип упорядочивания тот факт, что все эти формы в
своей совокупности наличествуют внутри единой человеческой расы с
самого раннего ледникового периода, что они не претерпели значите¬
льных изменений и встречаются безо всякого разбора даже внутри од¬
них и тех же семей. Единственным установленным с надежностью на¬
учным результатом является наблюдение Ранке, что, если выстроить
формы черепов в ряды, некоторые средние цифровые показатели будут
характеризовать не «расу», но ландшафт.
И в самом деле, расовое выражение человеческой головы вполне
совместимо с любой вообще мыслимой формой черепа. Решающим
моментом являются не кости, но плоть, взгляд, мимика. Начиная с
эпохи романтизма заговорили об индогерманской расе. Однако суще¬
ствуют ли арийский и семитский черепа! Возможно ли отличить друг от
друга кельтский и франкский или хотя бы даже бурский и кафрский че¬
репа? А если нет, то какая только история рас не была в состоянии про¬
течь на Земле, не оставив по себе ровно никакого свидетельства, по¬
скольку Земля ведь не сохраняет для нас ничего, кроме костей? Но на¬
сколько они безразличны для того, что мы называем расами высших
людей, можно увидеть из чрезвычайно наглядного примера: будем рас¬
сматривать людей, обладающих самыми резкими расовыми различия¬
ми, через рентгеновский аппарат, мысленно настраиваясь при этом на
«расу». Результат будет смехотворным: при просвечивании внезапно
окажется, что «раса» исчезает.
То же немногое, что сохраняет характерность в костном строе¬
нии, — следует это подчеркивать снова и снова, — произращено ланд¬
шафтом, а не есть функция крови. Элиот Смит в Египте, а фон Лушан
на Крите исследовали колоссальный материал из захоронений от ка¬
менного века до нашего времени. По этому региону проследовали все
новые и новые людские потоки — от «народов моря» в середине 2-го
тысячелетия до Р. X. до арабов и турок, однако усредненное костное
строение осталось неизменным. «Раса», так сказать, обтекала незыбле¬
мую форму скелета, как плоть. В альпийской области ныне осели гер¬
манские, романские и славянские «народы» различнейшего происхож-
Ranke J. Der Mensch. 1912. II. S. 205.
Глава вторая- Города и народы 589
пения, и следует лишь отступать во времени назад, чтобы обнаружи¬
вать здесь все новые и новые племена, в том числе этрусков и гуннов,
однако костное строение в человеческом образе с неизменностью ока¬
зывается здесь повсюду одним и тем же, плавно переходя, с продвиже¬
нием во все концы в сторону равнины, в иные, столь же определенные
формы. Поэтому знаменитые находки доисторических костей от чере¬
па неандертальца до homo Aurignacensis абсолютно ничего не доказыва¬
ют для расы и расовых перемещений первобытного человека. Они ука¬
зывают (если не принимать во внимание некоторые заключения об об¬
разе питания по форме челюсти) исключительно лишь на глубинную
форму края, сохраняющуюся здесь еще и сегодня.
Это все та же таинственная сила почвы, которую можно проследить
во всяком живом существе, стоит лишь найти отличительный признак,
независимый от неуклюжих лапающих методов эпохи дарвинизма. Ви¬
ноград был принесен римлянами с Юга на Рейн, и там он, конечно же,
зримо, т. е. ботанически, не изменился. Однако «расу» оказывается
возможным установить и здесь, только иными средствами. Существует
неизменное, связанное с почвой различие не только между южным и
северным вином, между рейнским и мозельским, но и между винами
каждого отдельно взятого ряда винограда на одном горном склоне. И
то же самое справедливо для всякой благородной плодовой расы, для
чая и табака. Этот аромат, подлинный отпрыск ландшафта, принадле¬
жит к неизмеряемым и потому тем более значимым характерным осо¬
бенностям подлинной расы. Однако благородные человеческие расы
различаются меж собой совершенно тем же духовным образом, что и
благородные вина. Один и тот же элемент, который оказывается воз¬
можным обнаружить лишь тончайшим чутьем, легкий аромат в любой
его форме исподволь, сквозь все высшие культуры связывает в Тоскане
этрусков с Возрождением, а на Тигре связывает между собой шумеров
3000 г., персов 500 г. и прочих персов исламского времени.
Для измеряющей и взвешивающей науки все это недостижимо. Оно
открывается с первого же взгляда и с полной безошибочностью — ощу¬
щению, но не гелертерскому наблюдению. Так что я прихожу к заклю¬
чению, что раса, подобно времени и судьбе, является чем-то таким, что
имеет абсолютно определяющее значение для всех жизненных вопро¬
сов, о чем всякий человек ясно и отчетливо знает до тех пор, пока он не
совершает попытку постигнуть ее рассудочным, а потому обездушива¬
ющим препарированием и упорядочиванием. Раса, время и судьба не¬
разделимы. В то самое мгновение как к ним приближается научное
мышление, слово «время» приобретает значение измерения, слово «су¬
дьба» — значение каузальной цепи, а раса, в отношении которой мы
асе еще обладаем вполне надежным чувством, делается необозримой
сумятицей абсолютно разных и разнохарактерных отличительных осо¬
бенностей, беспорядочно блуждающих по всем ландшафтам, эпохам,
культурам и племенам. Некоторые пристают к данному племени на¬
590 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
долго, неотвязно, и их оказывается возможно перенести за собой, дру¬
гие скользят по людям, как тени облаков, а иные подобны демонам
земли, приобретающим власть над каждым, стоит ему здесь останови¬
ться. Некоторые друг друга исключают, а другие друг друга требуют.
Расы не подлежат устойчивому упорядочиванию, этому пределу мечта¬
ний всей этнографии. Уже одна только попытка такого упорядочива¬
ния противоречит самой сущности расы, и любой мыслимый система¬
тический набросок с неизбежностью оказывается подменой, игнори¬
рующей то, чтб здесь только и значимо. В противоположность языку
раса исключительно несистематична. В конечном счете каждый отде¬
льный человек и даже каждое мгновение его существования обладает
собственной расой. Поэтому единственным средством освоения то¬
темной стороны жизни будет не упорядочивание, но физиономиче¬
ский такт.
10
Тот, кто желает проникнуть в суть языка, пусть оставит в стороне
все гелертерские исследования слов и понаблюдает, как охотник разго¬
варивает со своей собакой. Собака следит за вытянутым пальцем; она
напряженно вслушивается в звучание слов и затем встряхивает голо¬
вой: такого человеческого языка она не понимает. Затем она делает
пару прыжков, чтобы обозначить свое понимание, замирает и лает:
это — предложение на ее языке, в котором содержится вопрос, то ли
имел в виду хозяин. Далее следует, также выраженная на собачьем язы¬
ке, радость, если собака видит, что была права. Точно так же пытаются
объясниться два человека, не говорящие ни на каком общем для того и
другого языке. Когда сельский священник объясняет что-то крестьян¬
ке, он пристально на нее смотрит и непроизвольно вкладывает в свои
жесты все то, чего она никак не могла бы понять в церковных формули¬
ровках. Все вообще современные языки могут привести к взаимопони¬
манию лишь в соединении с другими видами языка. Самими по себе
ими не пользовались нигде и никогда.
И вот, если собака чего-то желает, она виляет хвостом, недовольная
глупостью хозяина, не понимающего этого чрезвычайно отчетливого и
выразительного языка. Она прибавляет сюда еще и звуковой язык — и
лает, и, наконец, язык жестов — что-то изображает. Кто здесь глуп, так
это человек, не выучившийся еще даже говорить.
И наконец происходит нечто чрезвычайно примечательное. Когда
собакой испробовано все для того, чтобы постичь различные языки
своего хозяина, она вдруг становится перед ним, и ее взгляд погружает¬
ся в его глаза. Здесь происходит нечто таинственное: «я» и «ты» перехо¬
дят непосредственно в ощущение. «Взгляд» освобождает от ограничен¬
ности бодрствования. Существование объясняется без знаков. Собака
Главпйторая. Города и народы
591
делается здесь знатоком людей, который зорко вглядывается своему
визави в глаза и тем самым за речью постигает говорящего.
Все мы, сами того не зная, все еще разговариваем сегодня на этих
языках. Ребенок говорит задолго до того, как он выучил первое слово, и
взрослые говорят с ним, никоим образом не помышляя об обычном
значении слов; это значит, что звуковые построения служат здесь со¬
всем другому, не словесному языку. У этих языков также имеются свои
группы и диалекты; их можно изучать, ими можно владеть, и их можно
понимать неправильно; они до такой степени для нас незаменимы, что
словесный язык тут же оказался бы не в состоянии исполнять свою
роль, сделай мы попытку применять его изолированно, не дополняя
языками тона и жестов. Даже наше письмо, этот словесный язык для
зрения, сделалось бы без языка жестов пунктуации почти непонятным.
Основная ошибка языкознания состоит в том, что оно смешивает
язык вообще и человеческий словесный язык — не в теории, но систе¬
матически — на практике всех своих исследований. Это повело к тому,
что необозримое множество разновидностей языка, находящихся во
всеобщем пользовании у животных и людей, остается неисследован¬
ным. Царство языка куда обширнее, нежели это видится кому бы то ни
было из исследователей, и словесный язык, со все еще сохраняемой им
несамостоятельностью, занимает в нем куда как скромное место. Что
касается «возникновения человеческого языка», то неверно ставится
сам вопрос. Словесный язык (ибо подразумевается здесь именно он,
между тем как это опять-таки совсем не одно и то же) вообще не возни¬
кал в том смысле, какой подразумевается здесь. Он не был первым язы¬
ком, как и не является он единственным. Колоссальное значение, при¬
обретенное им, начиная с определенного момента, в рамках человече¬
ской истории, не должно нас обманывать относительно положения,
занимаемого им в истории свободно движущегося существа вообще. И
уж конечно, с человека исследование языка начинать не следует.
Однако превратно также и представление о некоем «начале языка
животных». В противоположность существованию растения живое су¬
ществование животного настолько тесно связано с речью, что даже од¬
ноклеточное существо, лишенное всяких органов чувств, не следует
мыслить безъязыким. Быть микрокосмом в макрокосме и быть в состо¬
янии высказать себя другим — это одно и то же. Совершенно бессмыс¬
ленно говорить о начале языка внутри истории животных. Ибо то, что
микрокосмическое существо имеется во множестве, есть нечто само
собой разумеющееся. Тот, кто обдумывает иные возможности, преда¬
стся праздным забавам. Дарвинистские фантазии относительно абио¬
генеза и «первой пары родителей» следует-таки оставить ретроградно¬
му вкусу. Уже стаи, в которых неизменно живо внутреннее ощущение
«Мы», бодрствуют и стремятся к отношениям бодрствования между со-
592
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Бодрствование — деятельность в протяженном, причем деятель¬
ность произвольная. Это отличает движения микрокосма от механиче¬
ской подвижности растения или даже животного либо человека, по¬
скольку они являются растениями, т. е. пребывают в состоянии сна.
Понаблюдайте за животной деятельностью питания, размножения,
обороны, нападения: одна ее сторона, как правило, состоит в ощупы¬
вании макрокосма при помощи чувств, будь то недифференцирован¬
ное ощущение одноклеточного существа или же зрение высокоразви¬
того глаза. Здесь имеется отчетливая воля к восприятию впечатлений;
это мы называем ориентацией. К этому, однако, уже с самого начала
присоединяется воля к порождению впечатлений в других, кого следует
приманивать, отпугивать, изгонять. Мы называем это выражением, и с
ним задана речь как деятельность животного бодрствования. Ничего
принципиально нового с тех пор здесь не появилось. Всемирные языки
высоких цивилизаций представляют собой не что иное, как донельзя
утонченные разработки тех возможностей, что уже всецело присутст¬
вуют в том факте, что одноклеточные существа намеренно производят
впечатление друг на друга.
Однако в основе этого факта заложено прачувство страха. Бодрство¬
вание рвет космическое и закладывает между обособленными, отчуж¬
денными друг от друга частями пространство. Ощущение своего одино¬
чества — первое впечатление ежедневного пробуждения. И отсюда пра-
стремление: навязать себя друг другу среди этого чужого мира,
чувственно удостовериться в близости этого другого, отыскать с ним со¬
знательную связь. «Ты» — это освобождение от страха одиночества. От¬
крытие «ты», когда оно, как иная самость, оказывается органически, ду¬
шевно выделенным из чуждого мира, — великий миг в ранней истории
животного элемента. Тем самым возникают животные. Следует лишь
долго и внимательно понаблюдать в микроскоп за мирком водяной кап¬
ли, чтобы прийти к убеждению, что открытие «ты», а тем самым и «я» в
наипростейшей мыслимой форме имеет место уже здесь. Эти маленькие
существа знают не только другое, но и другого; они обладают не только
бодрствованием, но и отношениями бодрствования, а тем самым не то¬
лько выражением, но и элементами языка выражения.
Вспомним теперь о различии между двумя большими языковыми
группами. Язык выражения рассматривает другого как свидетеля и
стремится лишь вызвать в нем впечатление; язык сообщения рассмат¬
ривает его как собеседника и ожидает ответа. Понимать — значит вос¬
принимать впечатления с собственным ощущением значения; на этом
основывается воздействие высшего человеческого языка выражения —
искусства*. Достигая с кем-то взаимопонимания, поддерживая беседу,
Искусство полностью разработано у животных. Поскольку оно доступно челове¬
ку по аналогии, оно состоит в ритмическом движении («танец») и звукоизвлечении
(«песня»). Однако этим художественные впечатления, оказываемые на животных, да¬
леко не исчерпываются.
Гл0«пвторая. Города и народы
593
мы предполагаем в другом то же ощущение значения. Элемент языка
выражения мы называем мотивом. Владение мотивом есть основа тех¬
ники выражения. С другой стороны, впечатление, создаваемое с целью
взаимопонимания, есть знак, и он образует элемент всякой техники со¬
общения, т. е. в случае высшей своей формы — человеческий словес¬
ный язык.
О том, как соотносятся в человеческом бодрствовании оба языко¬
вых мира, нет сегодня почти никакого представления. К языку выра¬
жения, выступающему повсюду в наиболее раннее время с полной ре¬
лигиозной серьезностью табу, относится не только весомый и строгий
орнамент, первоначально совпадающий с понятием искусства как та¬
кового и делающий все косные вещи носителями выражения, но и тор¬
жественный церемониал, оплетающий своими формами всю обще¬
ственную жизнь и даже жизнь семьи*, и «язык наряда», а именно обла¬
дающих целостным значением одеяния, татуировки и украшения.
Исследователи прошлого века тщетно возводили происхождение
одежды к чувству стыда или целесообразным мотивам. Она делается
понятной лишь как средство языка выражения, и она им в наибольшей
степени является во всех высших цивилизациях, даже еще и сегодня.
Достаточно припомнить то, как «мода» господствует во всем складе об¬
щественной жизни — предписание одежды для всех значительных ак¬
тов и торжеств, ранжирование вечернего костюма, подвенечного пла¬
тья, траура, военного мундира, священнического облачения; припом¬
нить об орденах и знаках отличия, митре и тонзуре, парике с длинными
локонами и трости, пудре, перстнях, фризурах — обо всем, что при
этом со значением прикрывается и обнажается, — о наряде мандари¬
нов и сенаторов, одалисок и монахинь, одеяниях придворных Нерона,
Саладина и Монтесумы, уже не говоря о деталях народного костюма и
о языке цветов, красок и драгоценных камней. Называть здесь язык ре¬
лигии нет нужды, ибо все это религия и есть.
Языки сообщения, из которых никакое мыслимое чувственное
ощущение не изымается окончательно, постепенно развили для людей
высших культур три преобладающих знака — образ, звук и жест, слив¬
шиеся в письменном языке западной цивилизации в единство буквы,
слова и пунктуации.
В ходе этого долгого развития происходит наконец отделение языка
от речи. В истории нет более значительного события. Несомненно, по¬
началу все мотивы и знаки рождаются мгновением и предназначены
лишь для единичного акта деятельности бодрствования. Их действите¬
льное, ощущаемое и потому желаемое значение — одно и то же. Знак
есть движение, а не подвижное. Однако все становится иным, стоит то¬
лько стабильному запасу знаков противостать живому обозначению.
* Лк. 10, 4. Иисус говорит семидесяти ученикам: «Никого по пути не приветствуй¬
те». Церемониал приветствия под открытым небом был столь громоздок, что тому, кто
спешит, следовало от него отказаться. Bertholet A. Kulturgeschichte Israels. S. 162.
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
594
Не только деятельность отделяется от своих средств, но и средство —
от своего значения. Единство обоих не только перестает быть чем-то
само собой разумеющимся, но делается невозможным. Ощущение зна¬
чения живо и, как все, связанное с временем и судьбой, разово и нево¬
зобновимо. Никакой знак, как бы знаком и привычен он ни был, ни¬
когда не повторяется в совершенно том же значении. Поэтому перво¬
начально никакой знак никогда не повторялся в той же самой форме.
Мир закосневших знаков есть нечто безусловно ставшее и чисто про¬
тяженное, нисколько не организм, но система, обладающая собственной
каузальной логикой и несущая непреодолимую противоположность
пространства и времени, духа и крови также и в сопряжении бодрство¬
ваний двух существ.
Если мы желаем принять участие в соответствующей общности
бодрствования, следует изучать этот стабильный запас знаков и моти¬
вов с его мнимо стабильными значениями и в нем упражняться. С от¬
делившимся от речи языком неизбежно связано понятие школы. Она пол¬
ностью сформирована у высших животных и во всякой замкнутой в
себе религии, во всяком искусстве, во всяком обществе является пред¬
варительным условием того, что ты действительно являешься верую¬
щим, художником или воспитанным человеком. Начиная с этого мо¬
мента у всякой общины имеется резко обозначенная граница. Чтобы
быть членом общины, нужно знать ее язык, т. е. ее догматы, обычаи,
правила. Ощущение и добрая воля так же мало способны ввести в конт¬
рапункт, как привести в католицизме к достижению блаженства. Куль¬
тура подразумевает невероятное углубление формального языка и его
строгость во всех сферах; тем самым для каждого, кто к ней принадле¬
жит, она, как его личная (религиозная, нравственная, общественная,
художественная) культура, состоит в заполняющем всю его жизнь вос¬
питании и обучении для этой жизни. Поэтому принадлежащее к чуде¬
сам человечества мастерство владения формой бывает достигнуто во
всех великих искусствах, в великих церквах, мистериях и орденах, в
высших обществах благородных сословий; но в конечном итоге это ма¬
стерство, достигнув высшей ступени своих притязаний, терпит круше¬
ние. Во всех культурах такое крушение независимо от того, будет ли об
этом сказано или же нет, называется одинаково — «возврат к природе».
Мастерство это простирается также и на словесный язык: рядом с ари¬
стократическим обществом в эпоху греческих тиранов и трубадуров,
рядом с фугами Баха и вазописью Эксекия пребывает искусство атти¬
ческого красноречия и французской светской беседы, которые, как и
любое другое искусство, предполагают строгую и медленно разрабаты¬
ваемую условность, а для отдельного человека — длительное и напря¬
женное упражнение.
В метафизическом смысле значение этого выделения закосневшего
языка невозможно переоценить. Повседневная привычка общения в
стабильных формах и господство их над всем бодрствованием, т. е. гос¬
Глава вторая1 Города и народы 595
подство форм, которые воспринимаются теперь уже не как становящи¬
еся, но как просто имеющиеся в наличии и требующие понимания в
подлиннейшем смысле, ведут ко все более резкому обособлению пони¬
мания от ощущения внутри бодрствования. Изначальная речь воспри¬
нималась с пониманием; но пользование языком требует восприятия
известного языкового средства, а затем уже понимания намерения,
вложенного в него на этот раз. Соответственно суть всякого школьно¬
го воспитания заключается в приобретении знаний. Всякая церковь за¬
являет четко и ясно, что ее средства спасения достижимы не чувством,
но знанием; всякий подлинный артистизм покоится на уверенном зна¬
нии форм, которые каждый человек должен не изобретать, но изучать.
«Рассудок» мыслится как знание, сделавшееся неким существом. Он
есть то, что всецело чуждо крови, расе, времени; противоположность
закосневшего языка и текучей крови, становящейся истории порожда¬
ет негативные идеалы абсолютного, вечного, общезначимого — идеа¬
лы церквей и школ.
В конечном итоге из этого, однако, следует несовершенство всех
языков и в этом причина вечного противоречия между использовани¬
ем языков и тем, чего желала или должна была желать речь. Ложь, мож¬
но сказать, явилась на свет с отделением языка от речи. Знаки стабиль¬
ны, а значение нет; вначале это ощущают, потом об этом знают, и, на¬
конец, этим пользуются. Так было изначально: человек хочет что-то
сказать, а слова его «подводят»; человек выражается неверно и в дейст¬
вительности говорит нечто отличное от того, что имел в виду; человек
говорит правильно, однако его неверно понимают. Наконец возникает
широко распространенное уже среди лшвотных, например у кошек,
искусство: «пользоваться словами, чтобы скрывать мысли». Говорят не
все, говорят нечто совсем иное, говорят официально, чтобы сказать не¬
многое, и говорят с воодушевлением, чтобы совсем ничего не сказать.
Или же подражают чужому языку. Обыкновенный жулан (Lanius collu-
rio)m подражает строфам мелких певчих птиц, чтобы их подманить.
Это общераспространенная охотничья уловка, однако она предполага¬
ет установившиеся мотивы и знаки точно так же, как подражание ста¬
ринному художественному стилю или подделка подписи. И все эти
черты, которые мы встречаем в позе и мимике в не меньшей степени,
чем в почерке и произношении, повторяются снова в языке всякой ре¬
лигии, всякого искусства, всякого общества. Вспомним только о поня¬
тиях лицемера, святоши, вольнодумца, об английском cant [ханжество,
лицемерие], о переносном значении слов «дипломат», «иезуит» и «ар¬
тист», о масках и хитростях культурного общения и о сегодняшней жи¬
вописи, в которой больше нет ничего подлинного, так что каждая вы¬
ставка — это представляемая зрению демонстрация фальшивого выра¬
жения во всех мыслимых формах.
Нельзя быть дипломатом, пользуясь языком, на котором говоришь
с запинками. Однако владение языком чревато тем, что отношение
596
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
между средством и его значением может сделаться новым средством.
Возникает духовное искусство игры с выражением. Сюда относятся
александрийцы и романтики: в лирике — Феокрит и Брентано, в музы¬
ке — Регер334, в религии — Кьеркегор.
В конце концов язык и истина взаимно друг друга исключают . Однако
именно по этой причине в эпоху закосневших языков о себе в полный
голос заявляет тип знатока людей, т. е. раса в чистом виде, точно знаю¬
щий цену говорящему существу. Пристально заглянуть каждому в гла¬
за, рассмотреть говорящего, пользуется ли он просторечием или при¬
бегает к философским рассуждениям, увидеть за молитвой сердце, а за
хорошим тоном персональный общественный статус, причем разобра¬
ться в этом тут же, непосредственно, с непринужденностью всего кос¬
мического, — вот чего недостает подлинному человеку табу, который
верит по меньшей мере в один язык. Священник, являющийся в то же
время и дипломатом, настоящим священником быть не может. Этик
кантовского пошиба никогда не будет знатоком людей.
Тот, кто лжет на языке слов, обнаруживает себя в языке своих жес¬
тов, за которыми не следит. Кто лицемерит в жестах, выдает себя то¬
ном. Именно потому, что закосневший язык разделяет средство и на¬
мерение, пользующийся им никогда не достигнет своей цели, имея
дело со знатоком. Знаток читает между строк и понимает человека,
едва взглянув на его походку или почерк. Чем глубже и задушевнее об¬
щность, тем скорее отказывается она от знака, от связи через бодрство¬
вание. Настоящее боевое товарищество поймет без лишних слов, под¬
линная вера промолчит. Наиболее чистый символ взаимопонимания,
вновь преодолевшего язык, — пожилая крестьянская чета, сидящая ве¬
чером перед домом и безмолвно беседующая. Каждый из двоих знает,
что думает и чувствует другой. Слова только нарушили бы созвучие.
Есть в этом взаимном понимании что-то, простирающееся в праисто¬
рию всякого свободно движущегося тела много раньше возникновения
общественной жизни высшего животного мира. Здесь на мгновение
оказывается почти достигнутым избавление от бодрствования.
11
Из всех закосневших знаков нет ни одного более чреватого следст¬
виями, чем тот, который мы в нынешнем его состоянии называем
«словом». Несомненно, слово относится к чисто человеческой истории
языка, однако представление о «происхождении словесного языка» —
как оно систематически мыслится и рассматривается со всеми следую- ** «Во всякой форме, даже самой прочувствованной, есть нечто неистинное»
(Гете)335. В систематической философии намерения мыслителя не совпадают ни с напи¬
санными словами, ни с пониманием читателя, ни — поскольку это есть мышление в
словесных значениях — с самим собой в ходе изложения.
597
Глава вторая. Города и народы
щими отсюда выводами — столь же лишено смысла, как и представле¬
ние об исходном пункте, с которого начался язык вообще. У этого по¬
следнего нет никакого мыслимого начала потому, что он дан сразу же,
вместе с сущностью микрокосма, и в нем содержится, у словесного же
языка начала нет потому, что им предполагается наличие уже весьма
совершенных языков сообщения, в спокойно развивающейся картине
которых он занимает место лишь отдельного момента, достигающего
преобладания лишь очень и очень медленно. Ошибка столь противо¬
положных друг другу теорий, как теории Вундта и Есперсена*, заклю¬
чается в том, что они исследуют речь, осуществляемую посредством
слов, как нечто всецело новое и существующее само по себе, что с неиз¬
бежностью приводит к абсолютно неверной психологии. Между тем
словесная речь — это нечто чрезвычайно позднее и отпочковавшееся,
последний цвет на древе звуковых языков, а вовсе не молодой побег.
В действительности чистого словесного языка вообще не бывает.
Никто не разговаривает без того, чтобы при этом не применить поми¬
мо закосневшего словесного запаса еще и другие виды языка — по¬
средством ударения, такта и мимики, которые куда изначальнее при¬
меняемого словесного языка и полностью срослись с ним. Прежде
всего необходимо иметь в виду, что донельзя запутанное царство се¬
годняшних словесных языков не представляет по своему строению
цельного внутреннего единства, имеющего одну историю. Всякий из¬
вестный нам словесный язык чрезвычайно многосторонен, и у каж¬
дой из его сторон имеется собственная судьба в рамках истории цело¬
го. Нет такого чувственного ощущения, которое бы совершенно ни¬
чего не значило для истории словоупотребления. Следует также
проводить строжайшее различие между звуковым и словесным язы¬
ками: первый имеет хождение уже у простейших видов животных, по¬
следний же хоть отличается от него всего лишь в нескольких момен¬
тах, но именно эти моменты оказываются для нас особенно значимы¬
ми. Кроме того, во всяком звуковом языке животных следует
отчетливо разделять мотивы выражения (крик во время течки) и зна¬
ки сообщения (предупредительный крик). Это, несомненно, отно¬
сится и к наиболее ранним словам. Однако возникли словесный язык
как язык выражения или как язык сообщения? Были ли тот и другой
относительно независимы от каких-либо языков для глаза (образ,
жест) уже на очень ранних своих стадиях? На такие вопросы не суще¬
ствует ответа, потому что о праформах «слова» в собственном смысле
мы не имеем даже малейшего понятия. Наука проявляет удивитель¬
ную наивность, когда полагает, что сможет найти ключ к происхожде¬
нию слова в том, что мы называем примитивными языками и что яв¬
ляется лишь несовершенным отображением чрезвычайно поздней
ступени существования языка. Слово в них — существующее уже дав-
*
Который выводит язык из поэзии, танца и особенно из любовного ухаживания.
Progress in language. 1894. S. 357.
598
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ным-давно, высокоразвитое и само собой разумеющееся средство,
однако ничто действительно «изначальное» таким быть не должно.
Знак, посредством которого (и это сомнению не подлежит) то,
чему предстояло сделаться словесными языками, смогло выделиться
из общих звуковых языков животных, я называю именем и понимаю
под ним звуковое образование, служащее отличительным знаком че¬
го-то, сущностным образом воспринимаемого в окружающем мире и
сделавшегося посредством именования питеп' ом. Все рассуждения
о том, каковы были свойства этих первых имен, абсолютно излишни.
Ни один из ныне нам доступных человеческих языков ничего нам о
них не говорит. Однако в отличие от современной науки я считаю, что
определяющим моментом было здесь не изменение голосовых свя¬
зок, не возникновение какого-то особого способа звукообразования
или что-то еще из физиологических явлений (если они вообще имели
тут место), как и не возрастание у имеющихся средств способности
выражения, например переход от слова к фразе (Г. Пауль)*, но глубо¬
кое преобразование в душе: с именем возник новый взгляд на мир.
Если и вообще речь возникла из страха, из безотчетной робости перед
фактами бодрствования, которая гонит все существа друг к другу, что¬
бы получить впечатление близости другого, то с именем происходит
мощный подъем. Имя одновременно затрагивает смысл бодрствова¬
ния и источник страха. Мир не просто имеется: в нем ощущается тай¬
на. Помимо всех целей выражения и сообщения посредством языка
мы еще стремимся именовать то, что загадочно. Животное не знает за¬
гадок. Можно себе представить, какими торжественностью и благо¬
говением было окружено изначальное наречение имен. Имя не следу¬
ет называть всуе: его надо хранить в тайне, оно обладает опасной вла¬
стью. С именем был сделан шаг от повседневной физики животного к
метафизике человека. Это был величайший поворот в истории челове¬
ческой души. Теория познания обыкновенно ставит язык и мышле¬
ние друг возле друга, и, если принимать в расчет лишь те языки, кото¬
рые все еще доступны нам сегодня, так оно и есть. Однако я полагаю,
что возможен куда более глубокий подход: с именем внутри бесфор¬
менной, общерелигиозной робости возникла определенная религия,
религия в собственном смысле. Религия в таком смысле означает ре¬
лигиозное мышление. Это есть новое состояние отделившегося от
ощущения творческого понимания. У нас имеется очень показатель¬
ный оборот речи: «размышлять над чем-то». С началом понимания
названных по имени вещей над всем воспринимаемым возникает вы¬
сший мир, высший по отчетливой символике и в связи с положением
головы, которую человек, нередко с болезненной ясностью, ощущает
* Подобные фразам комплексы звуков известны уже собакам. Когда австралий¬
ская динго, сделав шаг назад от домашнего животного к хищнику, вновь перешла от
лая к волчьему вою, это вполне возможно толковать как переход к куда более простым
звуковым знакам, однако со «словами» это не имеет ничего общего.
f1f,«aemopa*. Города и народы
599
как родину своих мыслей. Мир этот сообщает прачувству страха цель
и перспективу избавления. Все философское, гелертерское, научное
мышление позднейших эпох вплоть до последних его оснований
осталось зависимым от этого религиозного прамышления.
Первые имена следует мыслить как некие полностью обособленные
элементы в арсенале знаков высокоразвитых звуковых языков и языков
жеста, о богатстве и возможностях выражения которых у нас более не
имеется никакого представления, поскольку словесные языки сделали
все прочие средства зависимыми от себя и их дальнейшее развитие ве¬
лось словесными языками лишь применительно к себе самим*. Однако к
тому времени, как с именем начался переворот и одухотворение техники
сообщения, зрение уже безоговорочно возобладало над прочими чувст¬
вами. Человек бодрствовал в световом пространстве, его переживанием
глубины было излучение зрения к световым источникам и световым со¬
противлениям, и свое «я» он воспринимал как центр в световой среде.
Альтернатива «видимое-невидимое» всецело господствует в том пони¬
мании, в котором возникли первые имена. Быть может, первыми numina
были вещи светомира, которые человек воспринимал, слышал, наблю¬
дал результаты их действий, однако не видел! Нет сомнения, что группа
имен (как и все, что когда-либо составляло эпоху в судьбах мира) про¬
шла период быстрого и мощного развития. Весь светомир, где каждая
вещь обладает свойствами положения и длительности в пространстве,
был уже очень скоро со всеми своими напряжениями между причиной и
действием, вещью и качеством, вещью и «я», размечен бесчисленными
именами и тем самым закреплен в памяти. Ибо то, что мы сегодня назы¬
ваем памятью, есть способность сохранять для понимания названное по¬
средством имени. Над царством понятых зримых вещей возникает ду¬
ховный мир названий, у них общие логические свойства — чистая эк¬
стенсивность, полярная упорядоченность и подчиненность принципу
каузальности. Все связанные со словом образования (возникшие гораз¬
до позже), такие, как падеж, местоимение, предлог, имеют по отноше¬
нию к именуемым единствам каузальный или локальный смысл; прила¬
гательные, а также глаголы во многих случаях возникают парами проти¬
воположностей: зачастую это поначалу одно и то же слово, которое, как
в изученном Вестерманом языке эве, произносится высоко или низко,
чтобы обозначить, к примеру, большое или маленькое, далекое или
близкое, пассивное или активное. Впоследствии этот остаток языка же¬
стов всецело переходит в словесную форму, как это все еще вполне от-
*
Все вообще сегодняшние языки жестов (Delbriick. Grundfragen d. Schprachforsch.
S- 49 ff. со ссылкой на работу Jorio о жестах неаполитанцев) предполагают словесный
язык и всецело зависимы от его мыслительной систематики, например язык жестов,
Разработанный североамериканскими индейцами, чтобы их племена, при большом
Разнообразии и несходстве отдельных словесных языков, могли объясняться друг с
Другом {Wundt. Volkerpsychologie I. S. 212. Так, на этом языке возможно выразить следу¬
ющее сложное предложение: «Белые солдаты, которых ведет офицер высокого звания,
°ДНако недалекого ума, поймали индейцев мескалеро»), или мимика актеров.
600
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
четливо обнаруживается в словах р.акрод и f.икрод [большой, малый] в гре¬
ческом и в звуке «и» в египетских понятиях, связанных со страданием.
Эта форма мышления противоположностями, начинаясь с пар противо¬
поставленных слов, становится основой всей неорганической логики и
превращает любой научный поиск истин в движение в понятийных про¬
тивоположностях, в котором неизменно преобладает оценка старого
воззрения как заблуждения, а нового — как истины.
Второй великий перелом наступает с возникновением грамматики.
После того как к имени добавляется предложение, а к словесному зна¬
ку — словосочетание, размышление (мышление в словесных связях,
имеющее место по восприятии того, для чего имеются словесные обо¬
значения) становится определяющей особенностью человеческого бод¬
рствования. Праздный вопрос — содержались ли настоящие предложе¬
ния в языках сообщения еще до появления подлинных имен. Правда,
предложение в сегодняшнем значении развилось из собственных предпо¬
сылок, пройдя собственные этапы внутри этих языков, однако оно тем
не менее уже предполагает существование имени. Только духовный пе¬
релом, наступивший с появлением имен, делает возможными предло¬
жения как мыслительные связи. Причем нам следует допустить, что в
чрезвычайно развитых бессловесных языках, при постоянном ими по¬
льзовании, один момент вслед за другим оказывается преобразованным
в словесную форму и тем самым включается во все более и более замкну¬
тую конструкцию, пра-форму всех современных языков. Таким обра¬
зом, внутреннее строение всех словесных языков покоится на куда более
древних структурах и его дальнейшее формирование не зависит от сло¬
варного запаса и его судеб. Верно скорее обратное.
Дело в том, что вместе с возникновением строения предложения
первоначальная группа единичных имен превращается в систему слов,
характер которых определяется уже не их собственным, но граммати¬
ческим их значением. Имя возникает как нечто новое, исключительно
само по себе. Части речи же возникают как элементы предложения; и
теперь сюда в необозримом количестве устремляются единицы содер¬
жания бодрствования, которые желают быть обозначенными, быть
представленными в этом мире слов, пока наконец «все» в размышле¬
нии тем или иным образом не становится словом.
Начиная с этого момента главным и решающим становится предло¬
жение. Мы говорим предложениями, а не словами. Попытки опреде¬
лить то и другое предпринимаются без конца, и всегда без успеха. По
Ф. Н. Финку, словообразование — это аналитическая деятельность
духа, а построение предложений — синтетическая, причем первая
предшествует второй. Обнаруживается, что воспринимаемая действи¬
тельность может пониматься очень несхоже, и потому слова можно
группировать, исходя из чрезвычайно разнообразных точек зрения*.
Die Haupttypen des Sprachbaus. 1910.
Гяаел«пюрая. Города и народы
601
Однако, согласно общепринятому определению, предложение есть
языковое выражение одной мысли, по Г. Паулю, оно есть символ, свя¬
зывающий в душе говорящего несколько представлений. Все эти опре¬
деления друг другу противоречат. Мне кажется, постигнуть суть пред¬
ложения в связи с его содержанием абсолютно невозможно. Просто мы
называем относительно наибольшие механические единства в исполь¬
зовании языка предложениями, а относительно наименьшие — слова¬
ми. Далее этого значимость грамматических законов не простирается.
Однако продолжающая свое поступательное движение речь уже более
не является механизмом и прислушивается не к законам, но к такту.
Так что расовая черта содержится уже в том, как укладывается в пред¬
ложения то, что необходимо сообщить. У Тацита и Наполеона предло¬
жения не такие, как у Цицерона и Ницше. Англичанин синтаксически
подразделяет материал иначе, чем немец. Не представления и мысли,
но мышление, образ жизни, кровь определяют в языковых общнос¬
тях — первобытной, античной, китайской, западноевропейской — тип
разграничения предложений как единств, а тем самым — и механиче¬
скую связь слова с предложением. Границу между грамматикой и син¬
таксисом следует намечать там, где завершается механический мо¬
мент — язык и начинается органический — речь: употребление языка,
обычай, физиономия того, как человек себя выражает. Другая граница
пролегает там, где механическая структура слова переходит в органиче¬
ские факторы звукообразования и произношения. По выговору анг¬
лийского th — этой расовой черточке ландшафта — зачастую еще мож¬
но опознать даже детей иммигрантов. Лишь то, что находится в проме¬
жутке между произношением и выражением, «язык» как таковой,
обладает системой, является техническим средством и потому изобре¬
тается, улучшается, изменяется, снашивается; сами же выговор и вы¬
ражение накрепко связаны с расой. По выговору мы узнаем своего зна¬
комого, даже его не видя, как и представителя чужой расы, хотя бы он
говорил на абсолютно правильном немецком. У значительных пере¬
движек согласных, как в староверхненемецком в каролингскую и в
средневерхненемецком — в позднеготическую эпоху, имеется ланд¬
шафтная граница, и они затрагивают лишь речь, но не внутреннюю
форму предложения и слова.
Слова — это, как сказано, относительно наименьшие механические
единства в предложении. Быть может, ничто не характеризует мышле¬
ние человеческого вида с такой яркостью, как тот способ, каким полу¬
чаются эти единства. Для негра банту одна вещь, которую он видит,
сперва принадлежит очень большому числу категорий постижения. В
силу этого слово состоит из ядра (корень) с некоторым числом одно¬
сложных префиксов. Если он говорит о женщине в поле, соответству¬
ющее слово приблизительно таково: живое-одно-большое-старое-
*енское-там-человек. Здесь семь слогов, однако они обозначают один-
602
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
единственный, острый и чрезвычайно чуждый для нас акт постижения.
Есть языки, в которых слово почти совпадает с предложением.
Таким образом, предложение формируется в ходе постепенной,
осуществляющейся шаг за шагом замены телесных или звуковых жес¬
тов грамматическими, но процесс этот так никогда и не заканчивается.
Чистых словесных языков не бывает. Особенность деятельности гово¬
рения словами, как это все с большей отчетливостью вырисовывается,
состоит в том, чтобы посредством звуков слов пробуждать ощущения
значений, которые через словосочетания вызывают в нас ощущения
последующих связей. Школа языка научила нас понимать эти сжатые,
лишь намекающие формы как световых предметов и световых связей,
так и отвлеченных от них мыслительных предметов и мыслительных
связей. Слова лишь называются, а не употребляются как определения,
и слушающий должен почувствовать, что имеется в виду. Иной речи не
существует, и потому в понимании сегодняшней речи жесты и тон при¬
нимают куда большее участие, чем полагают обыкновенно.
Последнее великое событие в этой истории, с которым формирова¬
ние языка приходит до некоторой степени к своему завершению, —
возникновение глагола. Глагол предполагает уже чрезвычайно высо¬
кую степень абстракции, ибо существительные — это слова, также вы¬
деляющие для размышления предметы, чувственно обособленные
(«незримое» ведь тоже обособлено) в световом пространстве; глаголы
же обозначают типы изменения, которые не видятся, но устанавлива¬
ются посредством отвлечения от особенностей единичных случаев,
имеющих место в безграничной подвижности светомира, и возникают
в виде понятий. «Падающий камень» — вот изначальное единство впе¬
чатления. Однако вначале происходит разделение движения и движу¬
щегося, а затем «падать» как один род движения обособляется от бес¬
численных прочих, имеющих не поддающееся учету число переходов
(«опускаться», «парить», «рушиться», «скользить»). Различия мы не
«видим»: оно «познается». Можно еще предположить, что многие виды
животных обладают предметными знаками, а вот что глагольными —
ни в коем случае. Различие между «убегать» и «бежать» или «лететь» и
«уноситься» выходит далеко за пределы видимого и постижимо лишь
для привычного к слову бодрствования. В основе этого различия нечто
метафизическое. Однако теперь, с «мышлением в глаголах», доступной
для размышления сделалась и сама жизнь. Из живого впечатления,
производимого на бодрствование, из становления, которому язык жес¬
тов без труда подражает и суть которого, таким образом, остается им не
затронутой, незаметно выделяется однократное, т. е. сама жизнь, а
остаток с исключительно экстенсивной определенностью входит в
знаковую систему как следствие одной причины («ветер дует», «света¬
ет», «крестьянин пашет»). Необходимо полностью погрузиться в за¬
косневшие различия подлежащего и сказуемого, действительного и
страдательного залогов, настоящего времени и перфекта, чтобы уви¬
Глава вторая. Города и народы
603
деть, как управляет здесь чувствами рассудок, как он обездушивает
действительность. В случае существительных мыслительный предмет
(представление) можно рассматривать как отображение зримого пред¬
мета, в случае же глагола оказывается, что на место органического по¬
мещено нечто неорганическое. Тот факт, что мы живем, а тем самым —
что в данный момент мы нечто воспринимаем, становится длительно¬
стью как качеством воспринимаемого; если выразить это в глагольной
форме: воспринимаемое длится. Оно «есть». Так в конце концов офор¬
мляются категории мышления, упорядоченные в зависимости от того,
что для него естественно, а что нет; так время оказывается измерением,
судьба — причиной, живое — химическим или психическим механиз¬
мом. Так возникают стили математического, юридического, догмати¬
ческого мышления.
Отсюда раскол, который представляется нам неотделимым от сущ¬
ности человека, на деле же он выражает лишь господство в его бодрст¬
вовании словесного языка. Это средство связи между «я» и «ты» пре¬
вратило из-за своего совершенства животное понимание ощущения в
мышление посредством слов, которое берет ощущение под опеку.
«Размышлять» — значит общаться с самим собой посредством словес¬
ных значений. Вот деятельность, абсолютно невозможная в рамках лю¬
бой другой разновидности языка и делающаяся с завершением словес¬
ного языка характерным признаком жизненной привычки целых клас¬
сов людей. Если с выделением из речи закосневшего обездушенного
языка истину оказывается невозможным вложить в произносимое, то
это фатальным образом относится и к знаковой системе слов. Отвле¬
ченное мышление состоит в употреблении конечной словесной струк¬
туры, в схему которой оказывается втиснутым бесконечное жизненное
содержание. Понятия уничтожают существование и фальсифицируют
бодрствование. Некогда, в раннее время истории языка, когда понима¬
ние еще пыталось самоутвердиться перед лицом ощущения, эта меха¬
низация была для жизни безразлична. Теперь человек из существа, ко¬
торое иной раз думает, сделался мыслящим существом и идеал всех си¬
стем мысли состоит в том, чтобы окончательно и всецело подчинить
жизнь власти духа. Это происходит в теории, когда за действительное
признают только познанное, а действительное клеймят как кажимость
и обман чувств. Это происходит и на практике, когда с помощью обще¬
этических принципов заставляют умолкнуть голос крови*.
И то и другое, логика и этика, являются системами абсолютных и
вечных истин для духа, и именно в силу этого обе они неистинны для
истории. Какую бы убедительную победу ни одерживал в царстве мыс¬
лей внутренний глаз над глазом внешним, в царстве фактов вера в веч-
Всецело истинна одна лишь техника, поскольку слова представляют здесь всего
только ключи к действительности и предложения исправляются до тех пор, пока они
Не сделаются действенными, а вовсе даже не «истинными». Гипотеза претендует не на
ВеРНость, но на применимость.
604 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ные истины оказывается мелочной и абсурдной драмой, разыгрываю¬
щейся в отдельных человеческих головах. Истинной системы мысли
существовать не может, поскольку никакой знак не заменяет действи¬
тельности. Глубокие и честные мыслители неизменно приходили к за¬
ключению, что всякое знание заранее определено своей собственной
формой и никогда не в состоянии достичь того, что подразумевается
словом, за исключением опять-таки техники, в которой понятия явля¬
ются средством, а не самоцелью. И этому ignorabimus337 соответствует
узрение всех подлинных мудрецов, что абстрактные фундаментальные
жизненные принципы получают права гражданства лишь как обороты
речи, под которыми продолжает свое неизменное течение повседнев¬
ная жизненная практика. В конечном счете раса оказывается сильнее
языка, и потому среди всех великих влияние на жизнь оказывали лишь
те мыслители, которые были личностями, а не ходячими системами.
12
В соответствии со сказанным во внутренней истории словесных
языков обнаруживается три этапа. На первом внутри высокоразвитых,
однако бессловесных языков сообщения появляются первые имена
как величины небывалого прежде понимания. Мир пробуждается как
тайна. Начинается религиозное мышление. На втором этапе полный
язык сообщения оказывается постепенно переведенным в граммати¬
ческие величины. Жест делается предложением, а предложение пре¬
вращает имена в слова. В то же время предложение становится великой
школой понимания в противоположность ощущению, и восприятие
значения, делающееся все более чувствительным к абстрактным свя¬
зям в механизме предложения, вызывает на свет льющееся через край
изобилие флексий, навешивающихся прежде всего на существитель¬
ное и глагол, «пространственное» и «временнбе» слова338 соответствен¬
но. Это — расцвет грамматики, который следует (с большой, правда,
осторожностью) отнести ко времени, быть может, за два тысячелетия
до начала египетской и вавилонской культур. Для третьего этапа харак¬
терно стремительное увядание флексий и тем самым замена граммати¬
ки синтаксисом. Одухотворение человеческого бодрствования заходит
так далеко, что оно более не нуждается в создаваемой флексиями на¬
глядности и способно с уверенностью и непринужденностью выразить
себя — взамен пестрой чащобы словесных форм — посредством едва
заметных намеков (частица, порядок слов, ритм) при максимально ла¬
коничном употреблении языка. Через речь при помощи слов понима¬
ние достигает господства над бодрствованием; сегодня оно изготавли¬
вается к тому, чтобы освободиться от принуждения чувственно-языко¬
вого механизма в пользу чистой механики духа. В контакт вступают не
чувства, но умы.
Глава вторая. Города и народы
605
И вот на этом третьем этапе истории языка, которая как таковая
происходит в биологической картине мира* и потому принадлежит че¬
ловеку как типу, в дело вступает история высших культур, которая со¬
вершенно новым «языком дали», письмом, мощью его внутренней
сути производит в судьбе словесных языков внезапный поворот.
Египетский язык уже начиная с 3000 г. пребывает в состоянии стре¬
мительного грамматического разложения, то же — и шумерский в так
называемом eme-sal («женском языке»), т. е. литературном языке, пи¬
сьменный же китайский, который в противоположность всем разго¬
ворным языкам китайского мира издавна является обособленным в
себе языком, лишен флексий уже в самых древних известных нам тек¬
стах, так что лишь совсем недавно удалось установить, что флексия в
нем действительно когда-то была. Индогерманская система известна
нам лишь в полном упадке. От падежа древневедийского языка (ок.
1500) в античных языках тысячелетие спустя уцелели лишь обломки.
Начиная с Александра Великого из эллинистического разговорного
языка исчезают: из склонения — двойственное число, из спряжения —
весь пассивный залог. Западноевропейские языки, хотя их происхож¬
дение в высшей степени разнообразно, и германские языки происхо¬
дят из примитивных условий, романские же — из высокоцивилизован¬
ных, видоизменяются в одном направлении: романские падежи, за
исключением немногих, исчезают, английские же с Реформацией про¬
падают напрочь. В начале XIX в. немецкий разговорный язык оконча¬
тельно распрощался с генитивом и собирается отказаться от датива.
Лишь попытавшись перевести отрывок тяжелой и богатой смыслами
прозы, к примеру Тацита или Моммзена, «обратно» на чрезвычайно
древний флексионный язык (вся наша переводческая работа соверша¬
ется от более древних состояний языка к более новым), мы получим яв¬
ное доказательство того, что за это время техника знака улетучилась в
технику мысли, прибегающую к сокращенному, однако насыщенному
смыслом знаку лишь в качестве намека, понимаемого только теми, кто
посвящен в соответствующую языковую общность. Вот почему для за¬
падного человека безусловно исключено понимание священных ки¬
тайских книг, но также и понимание пра-слов всякого другого куль¬
турного языка, Aoyos и рх [«слово, расчет, соотношение, рассудок» и
«начало, принцип, власть» (греч.)], атмана и брахмана в санскрите, —
слов, отсылающих к мировоззрению, в котором следует вырасти, что¬
бы понимать его знаки.
Можно считать, что внешняя история языка в ее важнейших эле¬
ментах всецело нами утрачена. Ее раннее время залегает глубоко в пер¬
вобытной эпохе, и напомним еще раз**, что нам следует представлять
себе «человечество» в то время в виде малых обособленных толп, зате¬
рянных на широких просторах. Переворот в душе наступает тогда, ког-
Ср. выше т. 2, с. 493 сл.
Ср. выше т. 2, с. 497 сл.
606
Том 2 ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
да взаимное соприкосновение делается правилом и, наконец, чем-то
само собой разумеющимся, однако именно потому нет никакого со¬
мнения в том, что с помощью языка это соприкосновение вначале оты¬
скивалось, а впоследствии — упорядочивалось или предотвращалось и
что лишь впечатление, производимое густо заселенной людьми Зем¬
лей, делает единичное бодрствование более напряженным, духовным,
умным, заставляя взмыть вверх и словесный язык, так что, возможно,
возникновение грамматики связано с многочисленностью как расовой
характеристикой.
Никаких новых грамматических систем с тех пор не возникало,
лишь производные от тех, что уже имелись. Об этих подлинных праязы¬
ках, их строении и звучании мы не знаем совершенно ничего. Как бы
далеко в прошлое мы ни заглянули, мы видим, что каждый уже пользу¬
ется окончательно оформившимися системами языка как чем-то впол¬
не естественным, каждый ребенок их изучает. Нам кажется невероят¬
ным, чтобы когда-либо могло быть по-другому, чтобы когда-то, быть
может, слушание таких редких и таинственных языков сопровожда¬
лось глубоким трепетом, как это было и все еще продолжает быть в ис¬
торическое время с письмом. И тем не менее нам следует считаться с
возможностью того, что в мире бессловесных способов сообщения
словесные языки делались сословной привилегией, ревностно охраня¬
емым тайным владением. То, что склонность к этому существует, явст¬
вует из тысячи примеров — французский язык как язык дипломатов,
латынь — как язык ученых, санскрит — как язык жрецов. Это предмет
гордости породистых кругов — быть в состоянии говорить друг с дру¬
гом так, чтобы «другие» тебя не понимали. Язык, предназначенный для
всех и каждого, низок. Находиться с кем-либо «в речевом обще¬
нии»339 — это привилегия или претензия. Свидетельством настоящей
буржуазной спеси является употребление образованными литератур¬
ного языка и презрение к диалекту. Только мы живем в такой цивили¬
зации, в которой дети учатся читать как ходить, как чему-то само собой
разумеющемуся. Во всех ранних культурах это было редкое и не всяко¬
му доступное искусство. Я убежден, что и со словесным языком неког¬
да было точно так же.
Темп языковой истории чудовищно скор. Уже столетие означает
здесь очень много. Вспоминается язык жестов североамериканских
индейцев, сделавшийся необходимым, потому что стремительное из¬
менение диалектов исключило другой способ наладить взаимопонима¬
ние между племенами. Можно также сравнить открытую недавно на
форуме надпись (ок. 500) с латынью Плавта (ок. 200), а его язык — с
языком Цицерона. Если принять, что древнейшие ведические тексты
отразили состояние языка на 1200 г., то уже состояние 2000 г. окажется
настолько иным, что никакого, даже самого отдаленного о нем пред¬
ставления не сможет составить ученый-индогерманист с его методом
обратных заключений. Однако allegro обращается в lento в тот самый
£1Галвторая- Города и народы
607
момент, как на сцену является письмо, язык длительности, удерживая
систему на совершенно различных возрастных ступенях и ее парали¬
зуя. Именно потому все развитие оказывается от нас скрытым: мы об¬
ладаем лишь остатками письменных языков. От египетского и вави¬
лонского языкового мира у нас еще имеются оригиналы от 3000 г., од¬
нако древнейшие индогерманские остатки — это копии, языковое
состояние которых куда младше содержания.
Все это принципиально различным образом определяет судьбу
грамматики и словарного запаса. Первая связана с духом, второй — с
предметами и местами. Естественному внутреннему преобразованию
подвергаются лишь грамматические системы. Напротив того, к психо¬
логическим предпосылкам словоупотребления относится то, что, хотя
произношение и меняется, внутренняя механическая звуковая струк¬
тура делается тем стабильнее, ибо на ней основывается суть именова¬
ния. Большие семьи языков — это исключительно грамматические семьи.
Слова в них, так сказать, безродны и кочуют из одной в другую. Прин¬
ципиальная ошибка языкознания, и в первую очередь индогерманско¬
го, заключается в том, что оно рассматривает грамматику и словарный
запас как нечто единое. Все профессиональные языки: язык охотни¬
ков, солдат, спортсменов, моряков, ученых — есть на самом деле лишь
словесные арсеналы, которые могут быть использованы в рамках любой
грамматической системы. Полуантичный словарный запас химии,
французский — дипломатии, английский — ипподрома в равной мере
приобрели права гражданства во всех современных языках. И если мы
заговариваем в связи с этим об «иностранных словах», то к ним можно
отнести бблыпую часть «корней» всех дрецних языков. Все имена при¬
крепляются к вещам, которые они обозначают, и разделяют судьбу
этих вещей. В греческом языке названия металлов — чужого происхож¬
дения, а такие слова, как ravpog, xtT^v> ov°s [бык, хитон, вино], —
семитские. В хеттских текстах из Богазкея* встречаются индийские
числительные, причем в технических выражениях, пришедших туда
вместе с разведением лошадей. Латинские административные выраже¬
ния проникли во множестве на греческий Восток**, немецкие, начиная
с Петра Великого, — в русский язык, арабские слова — в западную ма¬
тематику, химию и астрономию. Норманны, сами германцы, наводни¬
ли английский французскими словами. В банковском деле германских
языковых областей кишмя кишат итальянские выражения. В еще куда
более значительной степени из одного языка в другой доджны были пе¬
рекочевывать массы обозначений в первобытное время — с культурой
зерновых, разведением крупного рогатого скота, с металлами, оружи¬
ем и вообще со всяким ремеслом, обменом и правовыми отношениями
Между племенами. Точно так же и совокупность географических назва¬
ний всегда переходит во владение господствующего в данный момент
Jensen Р. Sitz. PreuB. Akad. 1919. S. 367 ff.
**
Hahn L. Rom und Romanismus im griech. Rom. Osten, 1906.
608
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
языка, так что значительная часть греческих географических назва¬
ний — карийского происхождения, а немецких — кельтского. Без пре¬
увеличения можно утверждать: чем более общеупотребительно индо¬
германское слово, тем оно моложе и тем с большей вероятностью оно
иностранное. Как раз наидревнейшие имена относятся к строго обере¬
гаемой личной собственности. У латыни и греческого общими являют¬
ся лишь очень молодые слова. Или же слова «телефон», «газ», «автомо¬
биль» — из словесной кладовой «пранарода»? Предположим, для при¬
мера, что три четверти арийских «пра-слов» происходят из египетского
или вавилонского языков 3-го тысячелетия; так вот, в санскрите через
тысячу лет его бесписьменного развития мы бы не смогли обнаружить
ни одного из них, ибо также и бесчисленные заимствованные немец¬
ким языком из латыни слова сделались в нем совершенно неузнавае¬
мыми. Окончание -ette в Henriette этрусского происхождения. Вот и
спрашивается: сколько еще «подлинно арийских» или «подлинно
семитских» окончаний может оказаться тем не менее заимствованны¬
ми, просто теперь уже невыявляемыми в качестве чужих? Как объяс¬
нить необычайное сходство многих слов австралийских и индогерман¬
ских языков?
Несомненно, индогерманская система самая юная и потому наибо¬
лее духовная. Выведенные из нее языки господствуют сегодня на Зем¬
ле, однако существовала ли она вообще ок. 2000 г. в качестве особой
грамматической конструкции? Как известно, сегодня предполагается
одна-единственная исходная форма для арийской, семитской и хамит¬
ской систем. Древнейшие индийские письменные фрагменты фикси¬
руют состояние языка, возможно, на 1200 г., древнейшие греческие,
возможно, на 700 г. Однако индийские имена людей и богов встреча¬
ются в Сирии и Палестине уже куда раньше этого*, причем их носители
появляются вначале как воины-наемники, а затем — как властители *.
Можно вспомнить о том, как некогда подействовало на мексиканцев
испанское огнестрельное оружие. Не могли ли эти сухопутные викин¬
ги, эти первые всадники — люди, сросшиеся с лошадью, вселявшие
ужас, который все еще отражается в сказании о кентаврах, странствуя в
поисках приключений, утвердиться ок. 1600 г. на северных равнинах,
принеся с собой язык и мир богов индийского рыцарского времени за¬
одно с арийским сословным идеалом расы и образа жизни? В соответ¬
ствии с тем, что сказано о расе выше, это и без всякого «переселения»
«пранарода» объяснило бы расовый идеал говорящей по-арийски об¬
ласти. Рыцари-крестоносцы основывали свои государства на Востоке
точно так же, причем делали это как раз на том месте, где за 2500 лет до
них — герои с именами Митанни340.
Или же эта система была ок. 3000 г. всего лишь незначительным
диалектом утраченного языка? Романская языковая семья господство-
* Meyer Ed. Gesch. d. Altertums. I. § 455, 465.
См. следующий раздел.
609
jy^mopaM. Города и народы
вала ок. 1600 г. по Р. X. по всем морям. Ок. 400 г. до Р. X. «праязык» на
Тибре обладал областью распространения в 50 кв. миль. Географиче¬
ская картина грамматических семей наверняка была ок. 4000 г. все еще
весьма пестрой. Семито-хамито-арийская группа (если она была не¬
когда единой) вряд ли имела тогда такое уж большое значение. Мы то и
дело натыкаемся на обломки древних языковых семей, некогда несо¬
мненно принадлежавших к очень распространенным системам. К ним
относятся этрусский, баскский, шумерский, лигурский, древние мало-
азийские языки. В архиве из Богазкёя установлено пока что восемь но¬
вых языков, бывших в ходу ок. 1000 г. При тогдашних темпах измене¬
ния ок. 2000 г. арийский мог образовывать единство с языками, о кото¬
рых мы сегодня не можем и догадываться.
13
Письменность — совершенно новый вид языка, означающий пол¬
ное изменение человеческих отношений бодрствования, поскольку
она освобождает их от диктата современности. Образные языки, обо¬
значающие предметы зрительно, куда старше, старше, быть может, чем
все слова; однако в письменности картинка обозначает зримую вещь
не непосредственно, но сперва — слово, нечто уже отвлеченное от ощу¬
щения. Это первый и единственный пример языка, который изначаль¬
но требует наличия развитого мышления, а не приносит его с собой.
Таким образом, поскольку деятельность письма и чтения куда абст¬
рактнее деятельности речи и слуха, письменность предполагает полно¬
стью развитую грамматику. Читать — это значит следовать письменному
образу с ощущением значения соответствующих звучаний слов. Письмен¬
ность содержит знаки не для вещей, но для других знаков. Грамматиче¬
ский смысл должен дополняться мгновенным пониманием.
Слово принадлежит человеку вообще; письменность принадлежит
исключительно культурному человеку. В отличие от словесного языка
она не частично, но всецело обусловлена политическими и религиоз¬
ными судьбами всемирной истории. Все виды письменности возника¬
ют в отдельных культурах и принадлежат к их глубочайшим символам.
Однако обобщающей истории письменности все еще нет, а что до пси¬
хологии ее форм и их метаморфоз, то не было даже попытки ее создать.
Письменность — это великий символ дали, и не только в пространствен¬
ном смысле, но в первую очередь — длительности, будущего, воли к
вечности. Речь и слушание свершаются лишь вблизи и в настоящем;
однако при помощи письма человек обращается к людям, которых ни¬
когда не видел или которые даже еще не родились, и голос человека де¬
лается слышен спустя столетия после его смерти. Письмо есть один из
первых отличительных признаков исторического дара. Именно поэто¬
му ничто так ярко не характеризует культуру, как ее внутреннее отно-
Закат Западного мира
610
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
шение к письму. Если мы знаем об индогерманском языке так мало, то
это связано с тем, что две наиболее ранние культуры, пользовавшиеся
его системой, индийская и античная, вследствие свойственной им не-
историчности не только не изобрели собственной письменности, но
даже чужую позаимствовали только в позднее время. И в самом деле,
все искусство античной прозы создано непосредственно для уха. Чита¬
ли ее, словно говорили вслух; мы же, напротив, говорим все «как по пи¬
саному» и потому из-за извечного колебания между письменным обра¬
зом и словесным звучанием так и не пришли к разработанному в атти¬
ческом смысле стилю прозы. Напротив того, в арабской культуре
всякая религия разрабатывала собственную письменность и сохраняла
ее даже при смене языка: долговременность священных книг и учений
и письмо как символ длительности образуют здесь неразрывное целое.
Древнейшие свидетельства буквенного письма мы имеем в восходя¬
щих, быть может, к X в. до Р. X. южноаравийских видах письменно¬
сти — минейском и сабейском (несомненно, принадлежащих разным
сектам). Иудеи, манданты и манихейцы в Вавилоне говорили на вос¬
точноарамейском языке, однако все они имели собственную письмен¬
ность. Со времени Аббасидов господствующей здесь становится араб¬
ская письменность, однако христиане и иудеи продолжают писать по-
своему и дальше341. Ислам распространял арабскую письменность сре¬
ди своих приверженцев повсюду, говорили ли они на семитских, мон¬
гольских, арийских или негритянских языках*. С традицией письма
повсюду возникает неизбежное различие между письменным и разго¬
ворным языком. Письменный язык применяет символику длительно¬
сти к состоянию собственной грамматики, которая медленно и неохот¬
но следует за изменениями разговорного языка, и поэтому последний
всегда представляет собой состояние^языка более новое. Так, сущест¬
вует не одно эллинистическое /cotv342 **, но два, и колоссальное отстоя¬
ние письменной латыни от живой в императорскре время в достаточ¬
ной степени засвидетельствовано строением раннероманских языков.
Чем древнее цивилизация, тем резче различие, вплоть до того отстоя¬
ния, что существует ныне между письменным китайским языком и гуа-
ньхуа43, языком северокитайских образованных кругов. Это уже не два
диалекта, но два совершенно чужих друг другу языка.
Однако в этом уже находит отражение тот факт, что письмен¬
ность — предмет в высшей степени сословный и с незапамятных вре¬
мен является привилегией духовенства. Крестьянство внеисторично и
потому бесписьменно. Существует, правда, и явное нерасположение
расы к письму. Как мне кажется, это имеет величайшее значение для
графологии: чем больше в писце расы, тем самовластнее обращается
он с орнаментальным строением письма, которое становится у него
* Lidzbarski. Sitz. Berl. Akad. 1916. S. 1218. Богатый материал имеется у: Mieses М.
Die Gesetze der Schriftgeschichte. 1919.
Kretschmer P. в Gercke-Norden, Einl. i. d. Altertumswissenschaft I. S. 551.
Глава вторы Горож и народы 611
всецело персональным построением линий. Некоторое благоговение
перед своеобразными формами знака возникает при письме лишь у че¬
ловека табу, так что он непроизвольно старается воспроизвести их
вновь и вновь. В этом — различие между деятельным человеком, творя¬
щим историю, и ученым, который ее только запечатляет, «увековечи¬
вает». Во всех культурах письменность находится в распоряжении ду¬
ховенства, к которому следует причислить также писателя и ученого.
Знать письмо презирает. Она «велит записать». Испокон века эта дея¬
тельность имела отношение к духовности и духовенству. Вечными ис¬
тины становятся вовсе не в речи, но лишь на письме. Это все та же про¬
тивоположность замка и собора: что должно здесь длиться — деяние
или истина? Первоисточник сохраняет факты, священное писание —
истины. То, что там есть хроника и архив, здесь — учебник и библиоте¬
ка. И потому помимо культового сооружения существует еще нечто та¬
кое, что не украшено орнаментом, но само есть орнамент* — книга. Ис¬
тория искусства всех ранних времен должна была бы поставить во гла¬
ву угла письмо, причем скорее скоропись, чем монументальное
письмо. Здесь можно в наиболее чистом виде познать, что есть готиче¬
ский, а что — магический стиль. Никакой орнамент не имеет той заду¬
шевности, которой обладает форма единственной буквы или исписан¬
ная страница. Нигде арабеска не является в более совершенном виде,
чем в изречениях из Корана на стене мечети. А есть ведь еще великое
искусство буквиц, архитектура книжной иллюстрации, скульптура пе¬
реплета! Каждая страница Корана, написанного куфическим письмом,
кажется гобеленом. Готический евангелиарий344 — как маленький со¬
бор. Весьма характерно для античного искусства то, что оно хватается
за всякий предмет и его украшает, за исключением одного только пись¬
ма и книжного свитка. В этом проявляется ненависть античности к
длительности, презрение к технике, которая, несмотря ни на что, есть
больше, чем техника. Ни в Греции, ни в Индии не было искусства мо¬
нументальной надписи, какое существовало в Египте, и никому, как
кажется, и в голову не приходило, что лист, собственноручно исписан¬
ный Платоном, — это реликвия, как не думали и о том, чтобы, к приме¬
ру, сохранять на Акрополе драгоценный экземпляр драм Софокла.
В результате возвышения города над селом к знати и духовенству
Добавляется буржуазия и городской дух выдвигает претензию на гос¬
подство, письмо же из глашатая славы аристократии и вечных истин
становится средством делового и научного общения. Если античная и
индийская культуры вообще отвергли его как глашатая, то на служеб¬
ную роль они его допустили, призвав из чужих краев: буквенное пись¬
мо постепенно проникает сюда в качестве презренного, повседневного
инструмента. Одновременными и по значимости равными этому со¬
бытию были введение фонетического знака в Китае ок. 800 г. и — преж-
*
Ср. выше т. 2, с. 584 сл.
612 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
де всего — изобретение книгопечатания на Западе в XV в.: символ дли¬
тельности и дальности был чрезвычайно подкреплен большим количе¬
ством. Наконец, цивилизации совершили последний шаг к тому,
чтобы привести письменность к целесообразной форме. Как упомина¬
лось, изобретение буквенного письма было в египетской цивилизации
ок. 2000 г. чисто техническим новшеством; то же самое можно сказать
и о единой китайской письменности, которую Ли Сы, канцлер китай¬
ского Августа, ввел в 227 г.; наконец, новый вид письменности возник
также и у нас, подлинное значение чего было оценено немногими. То,
что египетское буквенное письмо вовсе не было чем-то окончатель¬
ным и завершенным, доказывается изобретением стенографии, кото¬
рая достоинством равна алфавиту и является не только сокращенным
письмом, но и преодолением буквенного письма — как новый, в высшей
степени абстрактный принцип сообщения. Вполне может статься, что
письменные формы в этом роде полностью вытеснят в следующем сто¬
летии буквы.
14
Следует ли совершать попытку написания морфологии культурных
языков уже сегодня? Нет сомнения: пока что наука даже и не видит пе¬
ред собой такой задачи. Культурные языки — это языки исторического
человека. Их судьба протекает не в рамках биологических периодов:
она следует органическому развитию строго вымеренного течения
жизни. Культурные языки — это исторические языки. Прежде всего это
означает, что нет такого исторического события и такого политическо¬
го института, которые не определялись бы также и духом применявше¬
гося тогда языка и которые в свою очередь не влияли бы на дух и форму
этого языка. Строение латинского предложения — еще один результат
римских сражений, поставивших все в целом мышление народа на
службу управления тем, что было в них завоевано. Отсутствие устано¬
вившейся нормы в немецкой прозе — дошедшие до настоящего време¬
ни отзвуки Тридцатилетней войны, и раннехристианская догматика
приняла бы иную форму, когда бы древнейшие письменные памятни¬
ки не были все составлены по-гречески, но, как у мандантов, — по-си-
рийски. Это, однако, означает следующее: всемирная история пребы¬
вает во власти факта существования письма как подлинно исторического
средства взаимопонимания, между тем как наука об этом почти и не до¬
гадывается. Государство (в высшем смысле) имеет в качестве своего
предварительного условия письменное сообщение; стиль всей полити¬
ки прямо-таки определяется тем значением, которым в историко-по¬
литическом мышлении народа в данный момент обладают первоис¬
точник, архив, подпись, публицистика; борьба вокруг права — это бо¬
рьба за или против писаного права; конституции заменяют
Глава вторая То^ааи народы 613
материальную силу редакцией параграфов и придают клочку текста
действенность оружия. Язык образует единое целое с современностью,
а письменность — с длительностью, однако не менее едины устное взаи¬
мопонимание и практический опыт, с одной стороны, письменность и
теоретическое мышление — с другой. К этим противоположностям
можно возвести значительнейшую часть внутриполитической истории
всех поздних эпох. Вечно изменчивые факты письму противостоят, ис¬
тины его требуют — вот всемирно-историческая противоположность
двух великих партий, которые в той или иной форме присутствуют во
всех культурах во времена великих кризисов. Одна живет в действите¬
льности, другая противопоставляет ей письменный текст; все великие
революции предполагают литературу.
Группа западноевропейских культурных языков заявляет о себе в
X в. Существующие языковые организмы, а именно германские и ро¬
манские устные диалекты, включая сюда также и монастырскую ла¬
тынь, на основе единого духа оказываются оформлены в письменные
языки. В развитии немецкого, английского, итальянского, француз¬
ского, испанского языков с 900 по 1900 г. необходимо должна быть
одна общая черта, как и в истории греческих и италийских языков,
включая этрусский, с 1100 г. до императорского времени. Однако что
здесь вне зависимости от области распространения языковой семьи и
расы определяется исключительно ландшафтными границами культу¬
ры(? Какие общие изменения происходили в эллинистическом языке и
латыни начиная с 300 г., причем общие в произношении, в словоупот¬
реблении, в метрике, грамматике и стилистике, какие — в немецком и
итальянском с 1000 г.? И почему в итальянском и румынском этого
нет? Такими вопросами пока еще никто систематически не занимался.
Всякая культура при своем пробуждении обнаруживает уже суще¬
ствующие крестьянские языки, языки лишенной городов сельской
местности, «вечные», почти не принимающие участия в событиях бо¬
льшой истории, а в качестве бесписьменных диалектов продолжаю¬
щие существовать еще на протяжении позднего времени и цивилиза¬
ции, претерпевая медленные неприметные изменения. И вот теперь
над ними возвышается язык первых двух пра-сословий, как первое
проявление отношения бодрствования, обладающего культурой, куль¬
турой являющегося. Именно здесь, в кругу аристократии и духовенства,
языки делаются культурными языками, причем речь принадлежит зам-
КУ> а язык — собору: так на пороге развития растительное отделяется от
животного, судьба живого — от судьбы мертвого, органическая сторо¬
на взаимопонимания — от механической стороны. Ибо тотемная сто¬
рона утверждает кровь и время, а сторона табу их отрицает. Тут мы по-
всюду и уже очень рано находим закосневшие культовые языки, свя¬
тость которых гарантирует их неизменность, — вневременные, давно
°™ершие или отчужденные от жизни и искусственно парализованные
сИстемы со строго сохраняемым словарным запасом, каковой является
614 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
условием для формулировки вечных истин. Так окостенел древневе¬
дийский в качестве религиозного, а санскрит — в качестве языка нау¬
ки. Египетский язык Древнего царства неизменно сохранялся как язык
духовенства, так что священные формулировки понимались в Новом
царстве так же мало, как Carmen saliare и песня Арвальских братьев345 —
во времена Августа*. В предвремя арабской культуры разом отмерли в
качестве разговорных языков вавилонский, еврейский и авестийский
языки (вероятно, во 2-м тысячелетии до Р. X.), однако именно в силу
этого они были противопоставлены арамейскому и пехлеви346 в свя¬
щенных писаниях халдеев, иудеев и персов. То же самое значение име¬
ла готическая латынь для церкви, гуманистическая латынь — для уче¬
ного сословия барокко, церковнославянский — в России и, пожалуй,
шумерский язык — в Вавилоне.
В противоположность этому забота о речи оказывается уместной
при ранних дворах и в ранних замках. Здесь формируются живые куль¬
турные языки. Речь — это языковой обычай, языковая выучка, хоро¬
ший тон в звукообразовании и оборотах, изысканный такт в выборе
слов и способе выражения. Все это — характерные черты расы; этому
выучиваются не в монастырской келье и не в кабинете ученого, но в
благородном обращении и на живом примере. Как язык Гомера**, так и
старофранцузский язык времени крестовых походов и средневерхне¬
немецкий язык эпохи Штауфенов возвысились над сельскими говора¬
ми в качестве отличительной сословной особенности аристократиче¬
ских кругов. Если их творцами называют велйких эпиков, скальдов и
трубадуров, то не следует забывать, что для выполнения этой задачи
они должны были вначале получить воспитание в тех кругах, в которых
вращались, в том числе и в языковом отношении. Это великое деяние,
вследствие которого культура становится совершеннолетней, является
достижением расы, а не цеха.
Цель языковой культуры духовенства — понятия и заключения.
Она работает над тем, чтобы слова и формы предложения применя¬
лись максимально диалектически: так возникает и все возрастает раз¬
личие между схоластическим и придворным, рассудочным и свет¬
ским употреблением языка, так что, несмотря на все границы между
языковыми семействами, в способе выражения Плотина и Фомы Ак¬
винского, Вед и Мишны имеется нечто общее. Здесь — исходный мо¬
мент всякого зрелого гелертерского языка, который на Западе, будь
он немецкий, английский или французский, еще и посейчас не изба¬
вился от последних следов своего происхождения из схоластической
латыни, и здесь же — начало всякой методики профессиональных вы-
Поэтому я полагаю также, что этрусский язык играл значительную роль в рим¬
ских жреческих коллегиях еще в очень позднюю эпоху.
Именно поэтому следует отчетливо уяснить, что зафиксированные лишь в эпоху
греческой колонизации гомеровские песни могли существовать только на городском
литературном языке — но не на принятом при дворе разговорном языке, на котором
они поначалу исполнялись.
Глава вторая. Города и народы
615
ражений и формы посылок в выводе. Эта противоположность между
способами взаимопонимания большого света и науки продолжается в
пределах позднего времени еще очень долго. Главное в истории фран¬
цузского языка, несомненно, вершится в расе, т. е. в речи — при дворе
Версаля и в парижских салонах. Здесь находит свое дальнейшее про¬
должение espritргёаеих [высокое остроумие (фр.)] романов о короле
Артуре, поднимающийся до господствующей над всем Западом con¬
versationi, беседы, до классического искусства речи. Величайшие за¬
труднения для греческой философии изначально подготовлялись тем
фактом, что ионийско-аттический язык также всецело формировался
при дворах тиранов и на застольях. Впоследствии говорить о силлоги¬
стике на языке Алкивиада было почти невозможно. С другой сторо¬
ны, немецкая проза, не нашедшая в решающий момент барокко ни¬
какой опоры для высшего своего развития, стилистически все еще и
сегодня колеблется между французскими и латинскими — придвор¬
ными или учеными — оборотами, в зависимости оттого, желает ли ав¬
тор выразиться красиво или точно. А наши классики благодаря своей
родословной, восходящей к церковной кафедре и кабинету ученого, и
пребыванию в замках и при малых дворах в качестве воспитателей вы¬
работали, правда, собственный стиль, которому можно подражать,
однако не создали обязательной для всех специфически немецкой
прозы.
Город добавляет к этим сословным языкам третий, и последний,
язык буржуазии, собственно письменный язык, рассудочный, целе¬
сообразный, прозу в строжайшем смысле слова. Язык этот слегка
колеблется между благородно светским и ученым способами выра¬
жения, в первом случае изобретая все новые обороты и модные сло¬
вечки, во втором же — упорно придерживаясь существующих поня¬
тий. Однако по сути своей этот язык имеет экономическую природу.
Он всецело ощущает себя отличительным признаком сословия в
противоположность внеисторичной, вечной манере разговора «на¬
рода», к которой прибегали Лютер и другие, чем вызывали величай¬
шее негодование своих лощеных современников. С окончательной
победой города городские языки вбирают в себя также и язык благо¬
родного света, и язык науки. В верхнем слое населения мировых сто¬
лиц возникает однообразное, интеллигентное, практичное, устра¬
няющееся от диалектов и от поэзии /cotv, — такое, какое принадле¬
жит к символике всякой цивилизации, нечто насквозь механичное,
точное, холодное, сопровождаемое минимумом жестов. Эти послед¬
ние, безродные и беспочвенные языки, может выучить всякий тор¬
говец и грузчик: эллинистический — в Карфагене и на Оксе347, ки¬
тайский — на Яве, английский — в Шанхае, и «речь» не имеет для их
понимания никакого значения. Что же касается их подлинного со¬
здателя, им оказывается не дух расы или религии, но всего-навсего
ДУХ экономики.
616
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
III. Пранароды, культурные народы,
феллахские народы
15
Только теперь мы можем, наконец, с чрезвычайной осторожностью
подступить к понятию «народ» поближе и внести порядок в хаос народ¬
ных форм, который современная историческая наука только усугуби¬
ла. Другого слова, которое использовалось бы так часто и в то же время
некритично, не сыскать. Даже весьма скрупулезные историки, сколь¬
ко-то потрудившись над теоретическим прояснением вопроса, в ходе
своих дальнейших исследований опять используют понятия «народ»,
«часть расы» и «языковая общность» как совершенно равнозначные.
Обнаружат название народа — и сразу используют его и в качестве обо¬
значения языка; найдут надпись в три слова — сразу же устанавливают
расовые родственные связи. Если совпадет несколько «корней», тут же
как из-под земли вырастает «пранарод» с его находящейся вдали «пра¬
родиной». Современное национальное чувство еще усилило это «мыш¬
ление народ оединицами».
Однако являются ли греки, дорийцы или же спартанцы народом? А
кельты, галлы и сеноны? Если римляне были народом, то кем были
тогда латиняне? И что за единство подразумевает под собой название
этрусков среди населения Италии ок. 400 г.? Не определяется ли их
«национальность» — точно так же, как басков или фракийцев, — в за¬
висимости от строения их языка? И понятия о каких народах лежат в
основе таких слов, как «американец», «швейцарец», «еврей», «бур»?
Кровь, язык, вера, государство, ландшафт — что среди всего этого яв¬
ляется определяющим для формирования народа? Вообще говоря,
языковое и кровное родство устанавливаются исключительно науч¬
ным способом. Единичный человек абсолютно его в себе не сознает.
Индогерманец — не более чем научное, причем филологическое, по¬
нятие. Попытка Александра Великого сплавить воедино греков и пер¬
сов полностью провалилась, а силу англо-немецкого чувства общности
мы как раз сейчас испытываем на собственных боках. Однако народ —
это взаимосвязь, которая сознается. Проследим общепринятое слово¬
употребление. Всякий человек обозначает как свой «народ» ту об¬
щность, которая ему всего ближе по внутреннему чувству (а он принад¬
лежит к многим), причем обозначает с пафосом*. Более того, он оказы¬
вается склонен переносить это весьма специальное понятие,
происходящее из личного переживания, на самые разнохарактерные
людские союзы. Для Цезаря арверны были civitasm, для нас «нацией»
являются китайцы. Поэтому народом были не греки, но афиняне, и
Это заходит настолько далеко, что рабочие крупных городов обозначают как на¬
род себя, исключая тем самым из этого понятия буржуазию, с которой их не связывает
никакого чувства общности, однако буржуазия 1789 г. поступала точно так же.
fnпва вторая. Города и народы
617
лишь отдельные из них, как Исократ, ощущали себя прежде всего элли¬
нами. Поэтому один из двух братьев может называть себя швейцарцем,
а друг0**» с точно таким же правом, — немцем. Это не ученые понятия,
но исторические факты. Народ — союз людей, ощущающий себя еди¬
ным целым. Если чувство угасает, пусть даже название и всякая отдель¬
но взятая семья продолжают существовать дальше — народа больше
нет. В этом смысле спартиаты народом себя ощущали, «дорийцы» —
возможно, ок. 1100 г., но ок. 400 г. — несомненно, нет. Клятва при
Клермоне сделала крестоносцев в подлинном смысле слова единым
народом, мормонов же сделало таковым их изгнание из Миссури
(1839)*, мамертинцев, уволенных наемников Агафокла, сплотила не¬
обходимость завоевать себе пристанище349. Так ли уж различался прин¬
цип народообразования у якобинцев и гиксосов? Как многие народы
могли произойти от дружины вождя племени или из кучки беглецов?
Такой союз может сменить расу — как османы, появившиеся в Малой
Азии в качестве монголов, язык — как сицилийские норманны350, на¬
звание — как ахейцы или данайцы. Пока имеется чувство общности,
народ как таковой существует.
От судьбы народов нам необходимо отделять судьбу имен народов.
Часто это единственное, о чем вообще сохранилось свидетельство; од¬
нако можно ли по имени каким бы то ни было образом заключать об
истории, происхождении, языке или хотя бы лишь идентификации его
носителей? Ошибка исследователей опять-таки в том, что отношение
между тем и другим, причем не в плане теории, но практически, видит¬
ся им таким же простым, как, к примеру, в случае теперешних личных
имен. Но имеет ли вообще кто-нибудь представление о количестве за¬
ложенных здесь возможностей? Среди ранних человеческих союзов
бесконечно важен уже сам акт наречения имени. Группа людей созна¬
тельно себя выделяет с помощью имени как некоторого рода сакраль¬
ной величины. Однако при этом друг с другом могут сосуществовать
культовые и воинские имена, кроме того, эта группа могла отыскать в
данной местности и другие уже бытующие здесь имена или их унасле¬
довать; название племени может быть заменено на имя героя, как у
османов, и, наконец, по всем границам данной человеческой общнос¬
ти могут в неограниченном количестве возникать иноязычные назва¬
ния, известные, быть может, лишь части соплеменников. Если уцелели
лишь такие имена, почти всякая попытка сделать заключение об их но¬
сителях ведет к заблуждению. Несомненно сакральные имена фран¬
ков, алеманнов и саксов пришли на смену большому числу племенных
имен времени битвы Вара. Если бы мы этого не знали, мы до сих пор
были бы убеждены, что здесь имело место вытеснение или уничтоже¬
ние более древних племен новыми. Названия «римляне» и «квириты»,
«спартанцы» и «лакедемоняне», «карфагеняне» и «пунийцы» сосуще¬
Meyer Ed. Ursprung und Geschichte der Mormonen. 1912. S. 128 ff.
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
618
ствуют; однако здесь можно было предполагать существование двух
народов. Мы никогда не узнаем, в каком отношении находились друг к
другу имена «пеласги», «ахейцы» и «данайцы» и какие факты послужи¬
ли причиной для их возникновения. Однако если бы мы знали одни то¬
лько эти слова, наука уже давно связала бы с каждым из них народ,
присвоив им также собственные языки и расовую принадлежность.
Разве не совершались попытки вывести из названия ландшафта «До¬
рида» маршрут дорийского переселения? Как часто народ мог сменить
свое имя на название страны и отправиться дальше уже с ним? Пример
этого мы имеем в сегодняшнем наименовании пруссаков, но также и у
современных парсов, евреев (Juden) и турок; противоположный при¬
мер представляют собой Бургундия и Нормандия. Название «эллины»
возникло ок. 650 г., так что переселение народов здесь роли не играло.
Лотарингия получила имя не вторгшегося сюда народа, а совершенно
малозначительного князя, причем произошло это вследствие дележа
наследства351. Немцев в Париже в 1814 г. называли allemands, в 1870 г. —
prussiens, в 1914 г. — boches; в другую эпоху за этими названиями откры¬
ли бы три разных народа. На Востоке западноевропейцев называют
франками, евреев — спаниолами; это имеет историческую подоплеку,
однако что заключил бы филолог на основании одних этих слов?
Невозможно даже представить, к каким результатам могут прийти
педанты-ученые в 3000 г., если они и тогда продолжат пользоваться се¬
годняшними методами работы с названиями, остатками языков и по¬
нятиями «прародина» и «переселение»352. Немецкие рыцари в XIII в.
изгнали язычников-пруссов. В 1870 г. этот народ внезапно является из
своего странствия под Парижем. Вытесненные готами римляне пере¬
селились с Тибра на Нижний Дунай. А может быть, часть их достигла
Польши, где в сейме говорили на латыни? Карл Великий разбил саксов
на Везере, и тогда они отправились отсюда в район Дрездена, между
тем как их землю заняли ганноверцы (происходящие, судя по назва¬
нию династии, из своей праколыбели на берегах Темзы)353. Вместо ис¬
тории народов историки написали историю имен, однако у имен —
своя судьба, и как с их помощью, так и на основании языков, их стран¬
ствий, изменений, побед и поражений оказывается невозможно хоть
что-либо доказать даже в отношении факта существования соответст¬
вующего народа. Вот коренное заблуждение науки, и прежде всего ин-
догерманистики. Если в историческое время названия «Пфальц» и
«Калабрия»354 перемещались с места на место, древнееврейский язык
занесло в Варшаву, а персидский — с Тигра в Индию, то разве можно
после этого о чем бы то ни было заключать на основании истории на¬
звания этрусков и якобы «тирсенской» надписи с Лемноса?355 Или
французы с гаитянскими неграми, как доказывает это общий язык, со¬
ставляли некогда один пранарод? На пространстве от Будапешта до
Константинополя говорят сегодня на двух монгольских, одном семит¬
ском, двух античных и трех славянских языках, и каждая из языковых
Глава вторая. Города и народы 619
общностей ощущает себя особым народом*. Если бы кто-то пожелал на
этом основании выстроить историю переселения, возникнет весьма
диковинный продукт ошибочной методики. Дорийский язык — всего
лишь обозначение диалекта; ничего сверх этого мы не знаем. Несо¬
мненно, некоторые диалекты этой группы распространились быстро,
однако это совершенно не служит доказательством распространения
или хотя бы существования соответствующей человеческой породы**.
16
Здесь мы сталкиваемся с излюбленным понятием современного ис¬
торического мышления. Попадется сегодня историку народ, который
что-то такое в истории совершил, он просто обязан задаться вопросом:
откуда он появился? Прямо-таки правила хорошего тона требуют от
народа, чтобы он откуда-нибудь происходил и имел прародину. Что он
может оказаться у себя дома именно там, где находится теперь, — пред¬
положение едва ли не оскорбительное. «Переселение» — излюбленный
мотив сказаний изначального человечества, однако его применение в
серьезных исследованиях превратилось едва не в манию. Уже не спра¬
шивают о том, проникли ли китайцы в Китай, а египтяне — в Египет;
спрашивают лишь, когда это произошло и откуда. Ученые с большей
готовностью вывели бы семитов из Скандинавии, а арийцев — из Ха¬
наана, чем отказались бы от понятия прародины.
Факт значительной подвижности всех ранних народностей сомне¬
нию не подлежит. Такого рода тайна кроется в проблеме ливийцев. Ли¬
вийцы или их предки говорили на хамитском языке, однако по своей
телесной конституции, как показывают это уже египетские рельефы,
были высокорослы, светловолосы и голубоглазы, т. е., несомненно, се¬
вероевропейского происхождения***. В Малой Азии с 1300 г. установле¬
но по крайней мере три слоя переселений, которые, быть может, нахо¬
дятся в связи с нападениями северных «народов моря» на Египет, и то
же доказано для мексиканского мира. Однако о сути этих передвиже¬
ний нам ничего не известно, и о переселениях, как их склонен себе во¬
В XIX в. сербы, болгары и греки основали в Македонии христианские школы для
враждебного туркам населения. Если случалось так, что в какой-либо деревне препода¬
вание велось на сербском, уже следующее поколение.состояло там из фанатичных сер¬
бов. Так что сегодняшняя мощь той или иной «нации» есть следствие всего-навсего
предшествовавшей школьной политики.
**
О скептическом отношении Белоха к мнимому дорийскому переселению ср. его
Gnechische Gesch. I 2, Abschn. VIII.
*** ’
Mehlis C, Die Berberfrage (Archiv f. Anthropologie, 39, S. 249 ff.), где говорится
также о родстве северогерманской и мавританской керамики и даже многих названий
Рек и гор. Древние пирамидальные постройки в Западной Африке близкородственны,
с одной стороны, могильным курганам северных витязей, а с другой — царским гроб¬
ницам Древнего царства. (Несколько изображений в: Frobenius L. Der kleinafrikanische
Grabbau. 1916.)
620 Том 2 ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ображать сегодняшний историк, когда народы, как сплоченные в еди¬
ное целое тела, пересекают страны, друг с другом сражаясь и один дру¬
гого изгоняя, не может быть и речи. Не сами изменения, но наши о них
представления — вот что на самом деле исказило наши понятия о сущ¬
ности народов. «Народы», как понимаем мы их сегодня, не странству¬
ют, а то, что странствовало тогда, нуждается в чрезвычайно коррект¬
ном наименовании, и не везде — одинаковом. Да и неизменно выдви¬
гаемый в качестве причины этих странствий мотив материальной
нужды — плоский и потому вполне достойный предыдущего столетия.
Голод повел бы к попыткам совершенно иного рода, и, уж конечно, он
явился бы последней из всех причин, способных погнать людей расы
из их гнезда, хотя он, понятно, чаще всего выдвигался в качестве дово¬
да, когда такие вот отряды внезапно натыкались на военный отпор.
Нет сомнения в том, что в этих сильных и простых людях существовал
изначальный микрокосмический порыв к движению на широких про¬
сторах, поднимавшийся из глубины души, чтобы оформиться в страсть
к приключениям, дух бродяжничества, одержимость судьбой, в стрем¬
ление к власти и добыче, в слепящее томление — какого мы теперь про¬
сто уже не можем себе представить — по поступку, по радостной сече и
героической смерти. Нередко же причиной служили внутренние рас¬
при и бегство от мести сильнейшего, однако в основе неизменно было
нечто мужественное и сильное. И болезнь эта прилипчива. Это слабак
оставался сидеть сиднем на своем клочке. Неужели это низменная
жизненная нужда явилась причиной даже еще крестовых походов, пу¬
тешествий Кортеса и Писарро либо, уже в наши времена, приключе¬
ний трапперов на Диком Западе Штатов? Когда в истории мы видим,
как небольшая группка победоносно вторгается на обширные про¬
странства, гонит их, как правило, голос крови, томление по великой
судьбе, героизм подлинного человека расы.
Необходимо, однако, не упускать из виду картину положения на
землях, через которые странствия пролегали. Такие походы последова¬
тельно меняли свой характер, и это определялось не только духом ко¬
чевавших, но во все большей и большей степени — особенностями
оседлого населения, под конец всегда имевшего решительный перевес
в численности. Ясно, что на почти безлюдных пространствах простой
уход более слабого от конфликта был возможен, и даже чаще всего он¬
то и имел место.
Однако позднее, в условиях увеличивавшейся плотности, именно
слабейший оказывается лишенным родины, так что он должен защи¬
щаться или биться за новую землю. Начинается давка. Всякое племя
живет, ощущая со всех сторон соприкосновение с соседями, его насто¬
роженная душа постоянно готова оказать сопротивление. Жестокая
необходимость войны закаляет мужчин. Внутреннее величие народов
вырастает за счет других народов, в противоборстве с ними. Оружие
направляется теперь против человека, а не против зверя. И наконец на-
f/шва вторая. Города и народы
621
ступает та форма переселения, о которой только и может идти речь в
историческое время: блуждающие отряды двигаются туда и сюда в пол¬
ностью заселенных областях, население которых в качестве сущест¬
венной составной части того, что завоевано, остается оседлым и сохра¬
няется; победители в меньшинстве, так что возникает совершенно но¬
вое положение. Народы, обладающие более крепкой внутренней
формой, размещаются поверх куда более значительного численно, од¬
нако аморфного населения, и дальнейшие превращения народов, язы¬
ков, рас зависят от чрезвычайно запутанных частностей. После вне¬
сших сюда определенность исследований Белоха* и Дельбрюка * мы
знаем, что все странствующие народы — а народами в этом смысле
были как персы Кира, мамертинцы и крестоносцы, так и остготы и
«народы моря» с египетских надписей — были очень малы по отноше¬
нию к населению занятых областей, насчитывая немногие тысячи вои¬
нов, и превосходили туземцев лишь своей решимостью: ими двигал по¬
рыв сделаться судьбой, а не претерпевать ее. Присваивалась не пригод¬
ная к обитанию, но обитаемая земля, что сразу же превращало
отношения пришельцев и туземцев в сословный вопрос, переселение в
целом — в кампанию, а приобретение оседлости — в политический акт.
И вот теперь, когда мы установили, что успех крошечной кучки воинов
с его последствиями — распространением имени и языка победите¬
лей — слишком с большой легкостью представляется с исторического
отдаления «переселением народов», следует еще раз задаться вопро¬
сом: что же все-таки способно переселяться?
Название ландшафта или людского, объединения (это может быть
также и имя героя, которое носят его потомки), поскольку оно распро¬
страняется, в одном месте угасает, а в ином перенимается совсем дру¬
гим населением или же присваивается ему, поскольку переходит со
страны на людей и перемещается с ними или наоборот. Язык победите¬
лей или побежденных либо какой-то третий язык, принимаемый теми
и другими, чтобы друг с другом объясняться. Потомство вождя, поко¬
ряющее целые страны и размножающееся, порождая детей от женщин,
доставшихся в качестве добычи, либо случайное скопище авантюри¬
стов различного происхождения, либо целая народность с женщинами
и детьми, как филистимляне, которые ок. 1200 г. совершенно в герман¬
ском духе отправились со своими повозками, запряженными четвер¬
нями быков, по берегу Финикии на Египет***. И потому следует спро¬
сить еще раз: можно ли по судьбе языка или имени делать заключения
относительно судеб народов или рас? Возможен лишь один ответ: ре¬
шительное «нет».
„„ Die Bevolkerung der griechisch-romischen Welt 1886.
„„„ Geschichte der Kriegskunst, впервые — 1900 г.
д Разгромивший их Рамсес III изобразил их поход на своем рельефе в Мединет-
Miiller W. М. Asien und Europa. S. 366.
622 Том 2 ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Среди «народов моря», то и дело нападавших на Египет в XIII в., по¬
являются названия данайцев и ахейцев, однако у Гомера то и другое —
почти мифические обозначения; затем название лукка, связываемое
впоследствии с Ликией, жители которой, однако, называют себя тра-
милами; и наконец, названия этрусков, сардов и сикулов, однако отсю¬
да вовсе не следует, что эти «турша» говорили на том, что сделалось
впоследствии этрусским языком, как ничего невозможно утверждать и
относительно существования материальной связи между ними и носи¬
телями того же названия, обитавшими в Италии; если бы даже то и дру¬
гое было удостоверено, это нисколько бы не давало нам права говорить
об «одном и том же народе». Если мы допустим, что лемносская над¬
пись действительно этрусская, а этрусский язык — индогерманский,
для истории языка это будет иметь чрезвычайно значимые последст¬
вия, для истории же расы не будет значить совершенно ничего. Рим —
этрусский город. Разве душе римского народа этот факт не был абсо¬
лютно безразличен? Разве римляне являются индогерманцами потому,
что они случайно стали разговаривать на одном из диалектов латинян?
Этнографы выделяют средиземноморскую и альпийскую расы356, а к
северу и к югу от них указывают на поразительное телесное сходство
между северогерманцами и ливийцами, однако филологам известно,
что баски по языку являются остатком доиндогерманского (иберий¬
ского) населения. Мнения эти взаимно друг друга исключают. Были ли
строители Микен и Тиринфа «эллинами»? С такими же основаниями
можно спрашивать, были ли остготы немцами. Должен признаться, та¬
кая постановка вопросов не укладывается у меня в голове.
Для меня народ — это единство души. Все великие события истории,
собственно говоря, совершены народами не были, но скорее породили
на свет их самих. Всякий поступок изменяет душу деятеля. Пускай даже
поначалу кто-то сплотился вокруг знаменитого имени; то, однако, что
за его звучанием стоит народ, а не шайка, — скорее следствие, а не
предпосылка великого события. Остготы и османы стали тем, чем ста¬
ли, лишь благодаря судьбам, которые постигли их в ходе странствий.
«Американцы» не переселились из Европы: имя флорентийского гео¬
графа Америго Веспуччи обозначает сегодня в первую очередь часть
света, однако вслед за этим — и настоящий народ, обретший свой са¬
мостоятельный характер вследствие душевного потрясения 1775 г., но
прежде всего в результате Гражданской войны 1861—1865 гг.
Иного содержания у слова «народ» нет. Ни единство языка, ни
единство телесного происхождения не играют здесь определяющей
роли. Что неизменно отличает народ от населения, выделяя его из на¬
селения и позволяя ему вновь в нем раствориться, — это внутреннее
переживание «мы». Чем глубже это чувство, тем сильнее жизненная
сила союза. Существуют энергичные и вялые, преходящие и несокру¬
шимые формы народов. Они могут менять язык, расу, имя и страну:
пока живет их душа, они внутренне присоединяют к себе людей какого
Глава вторая- Города и народы _ _ 623
угодно происхождения и их переделывают. Название «римляне» обо¬
значает во времена Ганнибала народ, а в эпоху Траяна — всего только
население.
Но если, несмотря на это, народы и расы, и с немалым основанием,
упоминаются друг подле друга, общепринятое сегодня понятие расы
эпохи дарвинизма при этом не подразумевается. Не следует полагать,
что какой бы то ни было народ могло сплачивать просто единство телес¬
ного происхождения и такая форма могла бы продержаться хотя бы на
протяжении десяти поколений. Необходимо повторить еще и еще, что
это физиологическое происхождение существует только для науки и ни
в коем случае — не для народного сознания и что этим идеалом чистой
крови никакой народ никогда не вдохновлялся. Обладание расой — это
вовсе не что-то там материальное, но нечто космическое, нечто направ¬
ленное, ощущаемое созвучие судьбы, единого шага и поступи в истори¬
ческом бытии. Из непонимания этого абсолютно метафизического так¬
та возникает расовая ненависть, которая между немцами и французами
нисколько не слабее, чем между немцами и евреями, но, с другой сторо¬
ны, из одинакового биения пульса возникает подлинная, родственная
ненависти любовь мужчины и женщины. В ком нет расы, тому эта опас¬
ная любовь неведома. Если часть человеческой массы, пользующейся
сегодня индогерманскими языками, находится сегодня очень близко к
определенному расовому идеалу, то это указывает на метафизическую
силу этого идеала, оказавшего формирующее (zuchtend)357 действие, а во¬
все не на «пранарод» в гелертерском вкусе. Величайшее значение имеет
как раз то, что идеал этот никогда не бывает выражен во всем населении,
но по преимуществу — в его военном элементе, и прежде всего в подлин¬
ной аристократии, т. е. в тех людях, которые живут всецело в мире фак¬
тов, под обаянием исторического становления, в людях судьбы, которые
чего-то желают и на что-то отваживаются, хотя именно в раннее время
иноплеменник, занимающий высокий ранг по внешним и внутренним
качествам, не встречал каких-либо препятствий при принятии в господ¬
ское сословие; в особенности же по «расе» и, уж конечно, никак не по
происхождению выбирались жены358. А где расовые черты выражены
всего слабее, так это как раз по соседству — в натурах подлинных свя¬
щенников и ученых , хотя они, быть может, находятся с первыми в бли¬
жайшем кровном родстве. Сильная душевность обрабатывает тело как
произведение искусства. Римляне, сами чрезвычайно разнородного
происхождения, образуют посреди италийской путаницы племен расу,
обладающую строжайшим внутренним единством, — ни этрусскую, ни
латинскую, ни «античную» вообще, но специфически римскую*. Если
*
Изобретших именно по этой причине бессмысленное понятие «духовная аристо¬
кратия».
Хотя именно в Риме вольноотпущенники, т. е., как правило, люди совершенно
чУЖдой крови, получают права граждан, и уже цензор Аппий Клавдий (310) включил
сыновей бывших рабов в сенат. Один из них, Флавий, сделался уже тогда курульным
эДилом.
624 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
кто желает воочию убедиться в крепости народного элемента, пусть по¬
любуется на римские бюсты последнего республиканского времени.
В качестве примера назову еще персов. Нет более яркого случая за¬
блуждений, которые неизбежно влекут за собой эти гелертерские пред¬
ставления о народе, языке и расе. Они также — последнее и, быть мо¬
жет, решающее обстоятельство, почему организм арабской культуры
так до сих пор и не признан. Персидский — арийский язык, так что
«персы» — «индогерманский народ». Так кому следует изучать персид¬
скую историю и религию? Правильно: «иранской» филологии!
Начать с того, является ли персидский язык однопорядковым с ин¬
дийским, происходя от одного общего с ним праязыка, ши же есть
лишь диалект индийского? Лишь через 700 лет бесписьменного, т. е.
стремительнейшего, развития древневедийского языка, известного
нам по индийским текстам, возникли Бехистунские надписи359 Дария.
Не большее отстояние по времени отделяет латынь Тацита от француз¬
ского языка Страсбургской клятвы (842)360. Однако от середины 2-го
тысячелетия (т. е. ведической рыцарской эпохи) по письмам из Амар-
ны и архиву Богазкея нам известны многочисленные «арийские» име¬
на лиц и богов, причем в Сирии и Палестине. Эд. Мейер при этом за¬
мечает, что эти имена — индийские, а не персидские, то же можно ска¬
зать и об открытых ныне числительных *. О персах здесь нет и речи, еще
менее того — о «народе» в смысле наших историков. То были индий¬
ские герои, прискакавшие на запад и знаменовавшие повсюду в ста¬
рившемся вавилонском мире власть — своим драгоценным оружием,
своими скаковыми лошадьми и своей кипучей деятельностью.
Начиная с 600 г. посреди этого мира обозначается маленький ланд¬
шафт Персида с политически сплоченным крестьянско-варварским
населением. Геродот рассказывает, что лишь три из их племен были
собственно персидской национальности. Не сохранился ли в этих го¬
рах язык тех рыцарей и не есть ли «персы» название земли, перешедшее
на народ? Так, очень схожие с ними мидийцы носят всего лишь назва¬
ние края, в котором высший воинский слой привык вследствие вели¬
ких политических успехов ощущать себя единым целым. В ассирий¬
ских первоисточниках Саргона и его преемников (ок. 700) помимо неа¬
рийских географических названий встречаются многочисленные
«арийские» личные имена, причем сплошь людей высокого положе¬
ния, однако Тиглатпаласар IV361 (745—727) называет народ «черново¬
лосым»* . Лишь с этого времени мог начать формироваться «персид¬
ский народ» Кира и Дария — из людей различного происхождения, об¬
ладавших, бднако, ярко выраженным единством переживания.
Однако, когда менее двух столетий спустя македоняне покончили с их
Die altesten datierten Zeugnisse der iranischen Sprache, Zeitschr. f. vgl. Sprachf. 42.
S. 2*;
См. выше, т. 2, с. 1060.
*** Meyer Ed. a. a. O. S. 1 ff.
Глава вторая. Города и народы
625
господством, существовали ли еще «персы» как таковые в этой самой
форме? Действительно ли в Италии ок. 900 г. еще обитал народ ланго¬
бардов? Не подлежит сомнению, что распространение повсюду пер¬
сидского языка как имперского и распределение колоссального круга
военных и административных задач между немногими тысячами
взрослых мужчин из Персиды уже давно привели к растворению этого
народа, так что название персов перенеслось на верхний слой обще¬
ства, ощущавший себя политическим единством, хотя те, кто происхо¬
дил из Персиды, были здесь крайне редки. И в самом деле, не сущест¬
вует даже такой страны, которую можно было бы обозначить в качестве
определенной сцены персидской истории. То, что имеет место отДария
до Александра, происходит частью в Северной Месопотамии, т. е. сре¬
ди говорящего по-арамейски населения, частью — в древнем Шинеаре362,
т. е. опять-таки не в Персиде, где затеянное Ксерксом грандиозное
строительство никакого продолжения не имело. Парфяне — монголь¬
ское племя, усвоившее персидский диалект и старавшееся воплотить в
себе персидское национальное чувство посреди этого населения.
Здесь наряду с персидским языком и расой обнаруживается в качест¬
ве проблемы еще и религия . Наука, как что-то само собой разумеющее¬
ся, объединила ее с теми двумя и рассматривает в постоянной связи с
Индией. Однако религия этих сухопутных викингов была не родственна
ведической, но с нею тождественна, как доказывают это пары богов
Митра—Варуна и Индра—Насатья из текстов Богазкёя. И вот тут-то,
прямо внутри этой, строго поддерживавшейся в вавилонском мире ре¬
лигии, является Заратустра — в качестве реформатора из простонародья.
То, что он не был персом, общеизвестно. То, что было им создано (я на¬
деюсь это еще доказать), есть перевод ведической религии в формы ара¬
мейского миромышления, в котором уже понемногу готовится магическая
религиозность. Девы (daevas), боги древнеиндийской веры, превраща¬
ются в демонов семитской религии, в джиннов арабов. Яхве и Вельзевул
противостоят друг другу в этой насквозь арамейской, т. е. возникшей из
нравственно-дуалистического мироощущения, крестьянской религии
не иначе, чем Ахура-Мазда и Ариман. Эд. Мейер** совершенно правиль¬
но обозначил различие между индийским и «иранским» мировоззрени¬
ем, однако из-за своих неверных предпосылок не определил происхож¬
дения последнего. Заратустра — попутчик израильских пророков, кото¬
рые так же и в то же самое время перевернули моисеево-ханаанскую
народную религию. В высшей степени показательно то, что вся в целом
эсхатология является общим достоянием персидской и иудейской рели¬
гии и что изначально в парфянскую эпоху тексты Авесты были написа¬
ны по-арамейски, и лишь затем их перевели на пехлеви***.
Ср. к нижеследующему т. 2, гл. III.
Gesch. d. Altertums I. § 590 f.
*** °
Andreas und Wackemagel. Nachr. d. Gott. Ges. d. Wiss. 1911. S. 1 ff.
626 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Однако уже в парфянскую эпоху у персов, как и у евреев, происходит
глубинный внутренний переворот, вследствие которого понятие нации
начинает определяться впредь не племенной принадлежностью, но пра¬
воверностью*. Еврей, переходящий к вере в Мазду, делается тем самым
персом; перс, становящийся христианином, принадлежит «народу» не-
сториан. Чрезвычайно плотное население Северной Месопотамии (ко¬
лыбели арабской культуры) принадлежит в этом смысле (что не имеет
ничего общего с расой и очень мало — с языком) частью к иудейской, а
частью к персидской нации. Уже ко времени рождения Христа слово
«неверный» обозначает как «не персов», так и «не иудеев».
Эта новая нация и представляет собой «персидский народ» империи
Сасанидов. С этим связано то, что пехлеви и иврит одновременно от¬
мирают и родным языком обеих общин становится арамейский. Если
кому угодно использовать обозначения «арийцы» и «семиты», то в эпо¬
ху писем из Амарны персы были арийцами, но не были народом, во
времена Дария они были народом, но без расы, а в эпоху Сасанидов
они были религиозной общностью, однако семитского происхожде¬
ния. Не существует ни персидского пранарода, который бы отпочко¬
вался от арийского, ни целостной персидской истории; и даже для трех
частных историй, связанных друг с другом лишь определенными язы¬
ковыми взаимосвязями, невозможно указать единого места действия.
17
Тем самым оказывается наконец заложенным основание морфоло¬
гии народов. Стоит познать ее сущность, как мы сразу же открываем в
народных потоках истории внутренний порядок. Народы — это не язы¬
ковые, не политические и не зоологические единства, но единства ду¬
шевные. Однако именно на основе этого чувства я и выделяю народы до
культуры, внутри нее и после. Таков уж изначально воспринимаемый
каждым факт, что культурные народы представляют собой нечто более
определенное, чем другие. То, что им предшествует, я называю прана-
родами. Это те преходящие и разнохарактерные людские объединения,
что возникают и распадаются без какого-либо постигаемого правила в
круговороте вещей, а под конец, в предчувствии еще не рожденной ку¬
льтуры, например в догомеровскую, дохристианскую и германскую
эпоху, сплачивают население в группы по целым слоям, тип которых
делается все более определенным, между тем как сама человеческая
порода здесь почти не меняется. Такая последовательность слоев ведет
от кимвров и тевтонов через маркоманнов и готов к франкам, ланго¬
бардам и саксам. Пранароды — это иудеи и персы эпохи Селевкидов.
«народы моря» микенской эпохи, египетские номы во времена Мене-
* См. далее ниже.
627
f/iaea вторая. Города и народы
са. То, что за культурой следует, я называю феллахскими народами — по
наиболее знаменитому их примеру, египтянам эпохи римского господ¬
ства.
В X в. внезапно пробуждается фаустовская душа, обнаруживая себя
в бесчисленных образах. Среди них мы видим, наряду с орнаментом и
архитектурой, четко выраженные формы народов. Из народных обра¬
зований каролингской империи, из саксов, швабов, франков, вестго¬
тов, лангобардов внезапно возникают немцы, французы, испанцы,
итальянцы. Вся прежняя историческая наука вне зависимости от того,
знала ли она это и принимала ли в расчет или же нет, воспринимала эти
культурные народы как нечто существующее само по себе и первичное,
культуру же — как вторичное, как их порождение. Индусы, греки, рим¬
ляне, германцы — вот кто расценивался ею как исключительно творче¬
ские единства истории. Греческая культура была созданием эллинов, и
в соответствии с этим эллины должны были существовать уже задолго
до того, т. е. быть пришлыми. Иное представление о творце и творении
казалось чем-то немыслимым.
В том, что из изложенных здесь фактов следует прямо противопо¬
ложное, я усматриваю фундаментальное открытие. Необходимо уста¬
новить раз и навсегда: великие культуры есть нечто всецело изначаль¬
ное, поднимающееся из глубочайших недр душевности. Напротив
того, народы, находящиеся под обаянием культуры, оказываются и по
своей внутренней форме, и по всему своему явлению не творцами, но
произведением этой культуры. Эти образования, в которых человечест¬
во воспринимается и преобразуется в качестве материала, обладают
своим стилем и историей стиля — точно так же, как виды искусств и
способы мышления. Афинский народ — символ не в меньшей степени,
чем дорический храм, англичанин — символ не в меньшей степени,
чем современная физика. Бывают народы аполлонического, фаустов¬
ского и магического стиля. «Арабы» не создали арабской культуры.
Скорее это магическая культура, ко времени Христа начинавшаяся,
создала в качестве своего последнего великого произведения народот-
ворчества арабский народ, представляющий собой, как и иудейский и
персидский, вероисповедную общность, в данном случае объединен¬
ную исламом. А народы — лишь символические формы, сплотившись
в которые люди этих культур исполняют свою судьбу.
В каждой из этих культур, — как мексиканской, так и китайской,
как индийской, так и египетской, — вне зависимости от того, знаем мы
°б этом или нет, присутствует группа великих народов одного и того же
стиля, которая появляется на переходе к раннему времени, основывает
государства и несет на себе историю, увлекая к единой цели на протя¬
жении всего развития также и форму, лежащую в основе этого разви-
Тия* Народы, входящие в такую группу, в высшей степени разнятся
Меж собой. Немыслима, кажется, бблыиая противоположность, чем
Между афинянами и спартанцами, немцами и французами, Цинь и Чу,
628 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
и, как показывает вся военная история, именно национальная нена¬
висть оказывается наиболее предпочтительной средой для принятия
исторических решений. Однако, стоит лишь в поле зрения таких вра¬
гов попасть культурно чуждому народу, в них сразу пробуждается нео¬
долимое чувство душевного родства, и понятие варвара как человека,
внутренне к данной культуре не принадлежащего, в равной степени
близко как египетским номонародам и миру китайских государств, так
и античности. Энергия формы так мощна, что захватывает также и со¬
седние народы, накладывая свой отпечаток и на них; так, карфагеняне,
как народ полуантичного стиля, пребывают в римской истории, а рус¬
ские, как народ западноевропейского стиля, от Екатерины Великой и
до конца петровского царизма — в нашей.
Народ, по стилю принадлежащий одной культуре, я называю нацией
и уже одним этим словом отличаю от образований, имеющих место до
и после. Это наизначительнейшее из всех великих объединений внут¬
ренне сплачивается не только мощным чувством «мы». В основе нации
лежит идея. В этих потоках общего существования имеется глубинная
связь с судьбой, с временем и историей, оказывающаяся иной во вся¬
ком отдельном случае, определяя также и отношение народа к расе,
языку, стране, государству и религии. Как различны меж собой души
древнекитайских и античных народов, так отличаются и стили китай¬
ской и античной истории.
Через что проходят пранароды и феллахские народы, так это те самые
уже неоднократно упоминавшиеся зоологические приливы и отливы,
происшествия, лишенные плана, без цели и без определенной длитель¬
ности, когда случается очень многое и в то же время в каком-то значите¬
льном смысле не происходит ничего. Лишь исторические народы, наро¬
ды, существование которых есть всемирная история, являются нациями.
Следует хорошо усвоить, что это означает. Остготы пережили великую
судьбу, и тем не менее у них — внутренне — никакой истории не было.
Их битвы и их поселения были лишены необходимости и потому оказа¬
лись эпизодом. Их конец не имел никаких последствий. То, что жило ок.
1500 г. вокруг Микен и Тиринфа, нацией вовсе еще не было, на миной -
ском же Крите это уже не было нацией. Тиберий был последним прави¬
телем, пытавшимся исторически повести римскую нацию вперед, спас¬
ти ее для истории, тогда как Марк Аврелий лишь защищал римское на¬
селение, для которого, разумеется, и далее происходили события,
однако истории больше не было. На протяжении скольких поколений
существовал народ мидийцев, ахейцев или гуннов, в рамках каких сою¬
зов народов жили предыдущие или последующие поколения, определе¬
нию совершенно не поддается и не зависит ни от какого правила. Одна¬
ко продолжительность жизни нации определена, как определены по¬
ступь и такт, в которых осуществляется ее история. Число поколений от
начала династии Чжоу до правления Цинь Шихуана, от событий, лежав¬
ших в основе троянского сказания, до Августа, от эпохи тинитов до
Глава вторая. Города и народы 629
XVIII династии приблизительно одно и то же. Позднее время культуры,
оТ Солона до Александра, от Лютера до Наполеона охватывает прибли¬
зительно десять поколений, не больше. В таких вот пределах протекают
судьбы подлинных культурных народов, а тем самым — и всемирная ис¬
тория вообще. Римляне, арабы, пруссаки — это всё нации, поздно поя¬
вившиеся на свет. Сколько поколений Фабиев и Юниев прожило на све¬
те ко времени битвы при Каннах уже как римляне?
Однако нации — это и градопострояющие народы в собственном смыс¬
ле. Они возникли в замках, с городами они зреют до полной высоты
своего миросознания и своего предназначения, и в мировых столицах
они угасают. Всякий образ города, обладающий характером, имеет так¬
же и национальный характер. Всецело расовая деревня его еще не имеет,
мировая столица — уже не имеет. Эту сущностную характеристику,
окрашивающую все общественное существование нации в определен¬
ный цвет, поднимая мельчайшие выражения до отличительных призна¬
ков, нельзя переоценить: ее невозможно вообразить слишком мощной,
слишком самостоятельной, слишком одинокой. Если между душами двух
культур пролегает непроницаемая перегородка, так что ни один запад¬
ный человек не может надеяться в полной мере понять китайца или ин¬
дуса, то это же самое, причем в высшей степени, относится и к оформив¬
шимся нациям. Нации понимают друг друга столь же мало, как и отдель¬
ные люди. Всякая понимает лишь тот образ другой, который сама же
себе создала, и лишь немногие, совсем уж исключительные знатоки
проникают глубже. По отношению к египтянам все античные народы
должны были ощущать между собой родство, воспринимая себя как це¬
лое, однако друг друга они никогда не-понимали. Существует ли более
резкая противоположность, чем та, что была между афинским и спар¬
танским духом? Немецкая, французская и английская манеры фило¬
софского мышления существуют не со времени Бэкона, Декарта и Лей¬
бница, но имеются уже в схоластике, и еще в современной физике и хи¬
мии от нации к нации заметно отличаются научные методы, выбор и
характер экспериментов и гипотез, их взаимное соотношение и их зна¬
чение для хода и целей исследования. Немецкое и французское благоче¬
стие, английские и испанские нравы, немецкие и английские жизнен¬
ные обыкновения отстоят друг от друга так далеко, что самое сокровен¬
ное любой чужой нации оказывается для среднего человека нации
собственной, а значит, и для ее общественного мнения извечной тайной
и источником неизменных, влекущих за собой тяжкие последствия за¬
блуждений. В римское императорское время все и повсюду начинают
Друг друга понимать, однако именно поэтому-то здесь, в античных горо-
Дах, и нет больше ничего, что понимать бы стоило. С достижением на-
выка взаимопонимания то человечество перестало жить нациями; тем
С(Шым оно перестало быть историческим .
*
Ср. выше, т. 2, с. 564 слл.
630 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Именно по причине глубины всех этих переживаний невозможно,
чтобы весь народ, как единое целое, был в равной мере культурным на-
родом, был нацией. У пранародов каждый отдельный человек имел
одинаковое с другими людьми чувство общенародной спаянности.
Однако пробуждение нации к сознанию себя самой протекает всегда
ступенчато, а значит — главным образом в одном-единственном со¬
словии, обладающем самой крепкой душой и силой своего пережива¬
ния зачаровывающем все прочие сословия. Перед историей всякую на¬
цию представляет меньшинство. В начале раннего времени это мень¬
шинство — знать, возникающая именно теперь как цвет народа*, в ее
кругу национальный характер, несознаваемый, однако тем сильнее
ощущаемый в своем космическом такте, обретает большой стиль.
«Мы» — это рыцарство, как в египетскую феодальную эпоху 2700 г.,
так и в индийскую и китайскую 1200 г. Гомеровские герои — это и
есть данайцы. Норманнские бароны — это Англия. Еще несколько
старомодный герцог Сен-Симон говаривал: «В приемной собралась
вся Франция», и было время, когда Рим и сенат действительно пред¬
ставляли собой одно и то же. С подъемом городов носительницей на¬
ционального становится буржуазия, причем, что соответствует про¬
буждающейся духовности, — носительницей национального созна¬
ния, воспринятого ею от аристократии и доведенного до конца. Неиз¬
менно существуют (причем с бесчисленными градациями) опреде¬
ленные круги, способные жить, чувствовать, действовать и умирать во
имя народа, и круги эти становятся все шире. В XVIII в. возникло за¬
падное понятие нации, заключавшее в себе претензию на то, чтобы
нацию представлял каждый без исключения, причем при определен¬
ных обстоятельствах эта претензия отстаивалась весьма энергично.
На самом же деле мы знаем, что эмигранты, как и якобинцы, были
убеждены, что они и есть народ, подлинные представители француз¬
ской нации. Не бывает так, чтобы «культурный народ» совпадал бы со
«всем» народом. Это возможно лишь среди пранародов и феллахских
народов, лишь в народном существовании без глубины и без истори¬
ческой значимости. Пока народ является нацией, исполняет судьбу
нации, в нем имеется меньшинство, которое представляет и осущест¬
вляет его историю во имя всех.
18
Античные нации являют собой, как это и соответствует статично¬
эвклидовой душе их культур, мельчайшие из всех мыслимых телесных
единств. Нации здесь — это не эллины или ионийцы, но демос всякого
отдельного города, союз взрослых мужчин, обособленный юридиче¬
* Ср. т. 2, гл. IV, 1.
^«авторая. Города и народы
631
ски, а тем самым — и национально: сверху — от типа героя, а снизу — от
рабов*. Синойкизм, этот загадочный процесс раннего времени, когда
обитатели одного ландшафта покидали свои деревни и объединялись в
город, знаменует рубеж, когда пришедшая к самосознанию античная
нация конституирует себя как таковая. Все еще возможно проследить,
как эта форма нации одерживает верх с гомеровского времени * до эпо¬
хи великой колониальной экспансии. Нация эта всецело отвечает ан¬
тичному пра-символу: всякий народ был видимым и обозримым телом,
о-Л/ха, которое решительно отрицало понятие географического про¬
странства.
Для античной истории совершенно безразлично, были ли этруски в
Италии телесно или в языковом отношении тождественны с носителя¬
ми этого имени среди «народов моря», или каково соотношение между
догомеровскими единствами пеласгов или данайцев и позднейшими
носителями имен дорийцев или эллинов. Если ок. 1100 г., быть может,
существовали дорийский и этрусский пранароды, то этрусской и до¬
рийской наций просто никогда не было в природе. В Тоскане, как и на Пе¬
лопоннесе, имелись лишь города-государства, национальные тонки, ко¬
торые во время колонизации могли увеличиваться в числе посредством
поселений, однако расширяться не могли. Этрусские войны римлян все¬
гда велись против одного или нескольких городов, и ни персам, ни кар¬
фагенянам с «нациями» иного типа сталкиваться не приходилось. В
корне неверно говорить о «греках и римлянах» так, как это у нас обык¬
новенно принято, а привычка эта досталась нам еще от XVIII в. Грече¬
ский «народ» в нашем смысле — это недоразумение: греки вообще ни¬
когда не знали этого понятия. Появившееся ок. 650 г. название «элли¬
ны» обозначает не какой-либо^ народ, но совокупность античных
культурных людей, сумму наций* * в противоположность варварству. И
римляне, этот подлинно городской народ, не были в состоянии «мыс¬
лить» свою империю как-то иначе, чем в форме бесчисленных нацио¬
нальных точек, civitates, на которые они раздробили все пранароды
своей империи также и в правовом отношении. В тот момент, когда на¬
циональное чувство в этой его форме угасло, завершилась также и ан¬
тичная история.
Проследить на восточных странах Средиземноморья, как от поко¬
ления к поколению в античное позднее время одна за другой угасают
античные нации, между тем как магическое национальное чувство
См. выше, т. 2, с. 522 слл. Раб к нации не принадлежит. Поэтому неизбежное в
случае нужды привлечение неграждан в войско города всегда воспринималось как по¬
трясение для национальной идеи.
Уже в «Илиаде» обнаруживается тенденция к тому, чтобы ощущать себя в малых
И мДльчайших группах народом.
Именно, следует принимать во внимание, что ни Платон, ни Аристотель в своих
политических сочинениях не могли представлять себе идеальный народ как-то иначе,
ем в форме полиса, но столь же естественно и то, что мыслители XVIII в., следуя вку-
ам Щефтсбери и Монтескьё, тоже видели «древних» как нации; вот только нам следо-
ал° бы уже все это преодолеть.
632
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
утверждается все с большей силой, — одна из труднейших задач буду¬
щих исторических исследований.
Нация в магическом стиле — это общность исповедников, союз всех
тех, кто знает истинный путь к спасению и внутренне связан между со¬
бой иджмои этой веры. Человек принадлежит к античной нации благо¬
даря обладанию правами гражданства, в нацию же магическую вхо¬
дит посредством совершения сакраментального акта: в иудейскую — об¬
резания, в мандаитскую и христианскую — вполне определенного
способа крещения. Что для античного народа гражданин чужого города,
то же для народа магического неверующий. Никакое общение и ника¬
кой брачный союз с ним невозможны, и эта национальная замкнутость
простирается настолько далеко, что в Палестине друг подле друга фор¬
мируются иудейско-арамейский и христианско-арамейский диалекты * * *.
В то время как фаустовская нация хоть и связана с определенным видом
религиозности, однако непременной связи с вероисповеданием не име¬
ет, в то время как античная вообще не состоит в каких-то исключитель¬
ных отношениях с отдельными культами, магическая нация с понятием
церкви просто совпадает. Античная нация внутренне связана с одним го¬
родом, западноевропейская — с ландшафтом, арабская же не знает ни
отчего края, ни родного языка. Выражением ее мироощущения является
только письменность, которую всякая «нация» создает сразу же по своем
возникновении. Однако как раз поэтому на нас, фаустовских людей, от
этого в полном смысле слова магического национального чувства веет
чем-то совершенно загадочным и жутким: уж очень оно задушевно и не¬
зыблемо, при том, что понятия родины в нем нам явно недостает. Эта
негласная и само собой разумеющаяся спаянность, — например, еще се¬
годняшних иудеев среди их западных народов-хозяев — проникла в раз¬
работанное арамеями «классическое» римское право в качестве понятия
юридического лица* , не означающего ничего, помимо магической об¬
щности. Иудейство после вавилонского пленения было юридическим
лицом задолго до того, как люди открыли само это понятие.
Пранароды, которые предшествуют этому развитию событий, су¬
ществуют главным образом в форме племенных общностей, и среди
них с начала 1-го тысячелетия до Р. X. были южноаравийские миней-
цы, название которых исчезает ок. 100 г. до Р. X., халдеи, появляющие¬
ся также ок. 1000 г. как группа говоривших по-арамейски племен и в
625—539 гг. правившие вавилонским миром, израэлиты до пленения****
и персы Кира , причем форма эта укореняется в народном ощуще¬
нии так основательно, что со времени Александра развивающиеся по¬
* Ср. выше, 529 сл.
Finch F. N. Die Sprachstamme des Erdkreises. 1915. S. 29.
Вероятно, к концу II в. по Р. X. Ср. 528 слл.
**** г»
Рыхлая группа эдомитских племен, составлявших тогда с моавитянами, амалеки-
тянами, измаилитами и пр. довольно однородное, говорившее на иврите население.
Глава вторая. Города и народы
633
всюду сословия духовенства получают имена исчезнувших или вы¬
мышленных племен. У иудеев и южноаравийских сабеев они называ¬
ются левитами, у мидийцев и персов — магами (по одному вымершему
мидийскому племени), у приверженцев нововавилонской религии —
халдеями (также по распавшейся к этому времени группе племен). Од¬
нако и в этой культуре, как во всех прочих, древнее деление на прана-
роды в конце концов оказалось полностью преодоленным энергией
чувства национальной общности. В populus Romanus [римском народе
(лат.)], вне всякого сомнения, имелись народные элементы разнооб¬
разнейшего происхождения, а нация французов вобрала в себя как са¬
лических франков, так и романских и древнекельтских туземцев; по¬
добным же образом и магическая нация более не знает происхождения
как отличительной характеристики. Это складывалось очень неспеш¬
но, и среди иудеев эпохи Маккавеев, как и у первых последователей
Мухаммеда, племя еще играет значительную роль, однако для созрев¬
ших внутренне культурных народов этого мира, как для иудеев талму¬
дического времени, оно уже ничего не значит. Тот, кто принадлежит к
вере, принадлежит и к нации; уже предположить какое-нибудь иное
основание общности было бы кощунством. В эпоху раннего христиан¬
ства правитель Адиабены* со всем своим народом перешел в иудаизм.
Тем самым они влились в иудейскую нацию. То же самое относится к
армянской знати и даже к знати кавказских племен, которые, должно
быть, делались тогда иудеями в массовом порядке, и по другую сторо¬
ну — к бедуинам Аравии вплоть до самого крайнего юга, а за ее преде¬
лами — даже к африканским племенам вплоть до озера Чад. Свидетель¬
ством этого все еще являются фалаша,.'черные иудеи в Абиссинии363.
Очевидно, чувство единства нации не бывало поколеблено даже таки¬
ми расовыми различиями. Уверяют, что еще и сегодня евреи с первого
же взгляда способны выделить абсолютно различные расы и что в вос¬
точноевропейских гетто отчетливо прослеживаются «племена» в ветхо¬
заветном смысле. Однако это не есть различие нации. Согласно
фон Эркерту", среди нееврейских кавказских народов широко распро¬
странен западноевропейский еврейский тип, а по Вейсенбергу* *, среди
длинноголовых южноаравийских иудеев он почти не встречается. В са¬
бейских лицах с южноаравийской надгробной скульптуры мы обнару¬
живаем человеческую породу, которую можно было бы назвать почти
римской или германской; из нее происходят люди, обращенные в
иудаизм в ходе миссионерской работы, начиная по крайней мере со
времени рождения Христа.
Однако эти расчлененные на племена пранароды растворились в
магических нациях, породив персов, иудеев, мандантов, христиан и
ДР-, и происходить это должно было массово и в колоссальных масшта-
^ К югу от озера Ван. Столица — Арбела, древняя родина богини Иштар.
^ Erckert v. Arch. f. Anthrop. Bd. 19.
Weifienberg. Ztschr. f. Ethnol. 1919.
634 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
бах. Я уже указывал на то решающее обстоятельство, что задолго до на¬
чала нашего летоисчисления персы представляют собой исключитель¬
но религиозную общину, и нет сомнения в том, что вследствие перехо¬
да в религию маздаизма их число бесконечно умножилось.
Вавилонская религия тогда исчезла (так что ее приверженцы стали ча¬
стью «иудеями», а частью «персами»), однако существует произошед¬
шая из нее, новая по своему внутреннему существу и родственная как
персидской, так и иудейской астральная религия, носящая название
халдейства, приверженцы которой представляют собой подлинную,
говорящую по-арамейски нацию. Из этого арамейского населения
халдейско-иудейско-персидской нации произошли как вавилонский
Талмуд, гнозис и религия Мани, так и — в исламскую эпоху, после
того, как нация эта почти вся перешла в арабскую, — суфизм и шиизм.
Также и население античного мира представляется, глядя из Эдес-
сы, нацией магического стиля: «греки» в восточном словоупотребле¬
нии — это есть совокупное обозначение всех людей, которые держатся
синкретических культов и объединяются воедино иджмой позднеан¬
тичной религиозности. Здесь вырисовываются уже не эллинистиче¬
ские города-нации, но лишь единая община верующих, «мистерио-
поклонников», почитающих под именем Гелиоса, Юпитера, Митры,
веод vifncros [высочайший бог (грен.)] некоторого рода Яхве или Аллаха.
Эллинство на всем Востоке — это установившееся религиозное поня¬
тие, и оно всецело соответствует тогдашней реальности. Чувство поли¬
са почти угасло, а магическая нация не нуждается в отчизне и в единст¬
ве происхождения. Уже эллинизм империи Селевкидов, завоевывав¬
ший себе приверженцев в Туркестане и на Инде, по своей внутренней
форме стоял близко к иудаизму после пленения и к персидскому духу.
Арамей Порфирий, ученик Плотина, совершил позднее попытку орга¬
низовать это эллинство в качестве культовой церкви по образцу хрис¬
тианской и персидской церкви, и император Юлиан сделал ее государ¬
ственной церковью. Это был не только религиозный, но прежде всего
еще и национальный акт. Если иудей приносил жертву Солнцу или
Аполлону, он делался эллином. Так переходит «из христиан в эллины»
Аммоний Саккас (242), учитель Плотина и, возможно, Оригена, а так¬
же Порфирий, который, как и римский юрист Ульпиан , был фини¬
кийцем из Тира и первоначально носил имя Малх*\ Юристы и чинов¬
ники принимают в этом случае латинские имена, философы — грече¬
ские. Историо- и религиоведению, в которых сегодня господствуют
филологические воззрения, этого оказывается достаточно, чтобы ви¬
деть в них римлян и греков античных городов-наций. Но сколько из ве¬
ликих александрийцев были, возможно, греками лишь в магическом
смысле? А Плотин и Диофант были по происхождению, быть может,
евреи или халдеи364.
* Дигесты 50, 15.
Geffcken. Der Ausg. des griech-rom. Heident. (1920). S. 57.
рлава вторая. Города и народы _ 635
Однако и христиане также с самого начала ощущали себя нацией в
магическом духе, и не иначе воспринимали их и другие — как греки
(«язычники»), так и иудеи. Последние небезосновательно рассматри¬
вали их отпадение от иудейства как предательство, а первые видели в их
миссионерском проникновении в античные города завоевание. Хрис¬
тиане же называли иноверцев rot dvrj365. Когда монофизиты и несториа-
не отделились от ортодоксальной церкви, с новыми церквами возник¬
ли сразу же и новые нации. Начиная с 1450 г. несторианами правит
мар-шимун, являющийся одновременно главой и патриархом народа и
занимающий в империи точно такое же место по отношению к султа¬
ну, какое некогда занимал в Персидской империи реш-галута. Если мы
хотим понять позднейшие преследования христиан, нам не следует
оставлять без внимания это само собой разумеющееся национальное
сознание, коренящееся во вполне определенном мироощущении. Ма¬
гическое государство неотделимо от понятия правоверности. Халифат,
нация и церковь образуют внутреннее единство. Адиабена перешла в
иудейство как государство, Осроэна — уже около 200 г. — из эллинства
перешла в христианство, Армения в VI в. — из греческой церкви в мо-
нофизитскую. Тем самым всякий раз выявлялось, что государство в ка¬
честве юридического лица тождественно с общиной правоверных.
Если в исламском государстве живут христиане, в персидском — не-
сториане, в византийском — иудеи, то как неверные они к нему не при¬
надлежат и потому подлежат своей собственной подсудности
(с. 635 слл.). Если своей численностью или миссионерством они угро¬
жают существующему тождеству между государством и правоверной
церковью, их преследование делается национальным долгом. Поэтому
в Персидской империи вначале преследованиям подвергаются орто¬
доксы («греки»), а позже — несториане. Диоклетиан, как халиф366 (do-
minus et deus [господин и бог (лат.)]) связавший языческую церковь с
империей и всецело ощущавший себя повелителем этих верующих,
также не мог не исполнить своего долга по подавлению второй церкви.
Константин сменил «истинную» церковь, а тем самым одновременно —
и национальность Византийской империи. Начиная с этого момента
имя греков медленно и совершенно незаметно переходит на христиан¬
скую нацию, причем на ту, которую признал император в качестве по¬
велителя верных и которую он представлял на Великих соборах. Отсю¬
да — неясность в историческом образе Византийской империи: орга¬
низованная ок. 290 г. в качестве античной империи, она тем не менее с
самого начала была магическим национальным государством, сменив¬
шим непосредственно после этого (с 312) нацию, не поменяв названия.
Вначале язычество как нация, под именем «греков», боролось против
христиан, а затем, под тем же именем, христианство как нация — про¬
тив ислама. В ходе обороны от него, от «арабской» нации, националь¬
ность утверждалась со всевозраставшей отчетливостью, так что сегод-
*нщщие греки представляют собой порождение магической культуры,
636 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
созданное вначале христианской церковью, затем — священным язы¬
ком этой церкви и, наконец, — названием этой церкви. Ислам принес с
собой с родины Мухаммеда название «арабы» в качестве обозначения
своего национального единства. Отождествлять этих «арабов» с беду¬
инскими племенами пустынь — неверно. Эта новая нация с ее страст¬
ной и упорной душой возникла через consensus новой веры. Она так же
мало, как и христианская, иудейская или персидская, представляет со¬
бой единство расы и не связана с родиной; поэтому она также и не
«странствует», а скорее бурно распространяется посредством приня¬
тия большей части раннемагических наций в свой союз. С концом пер¬
вого тысячелетия все эти нации переходят в форму феллахских наро¬
дов; в качестве таковых с того самого времени и жили христианские на¬
роды Балканского полуострова при турецком господстве, парсы в
Индии и евреи в Западной Европе.
Нации фаустовского стиля во все более определенных контурах вы¬
ступают начиная с Оттона Великого и уже очень скоро приходят на
смену пранародам каролингского времени*. Ок. 1000 г. наиболее вид¬
ные люди уже воспринимали себя повсюду как немцы, итальянцы, ис¬
панцы или французы, между тем как меньше чем за шесть поколений
до этого их предки ощущали себя в глубине души франками, лангобар¬
дами или вестготами.
В основе народной формы этой культуры, точно так же, как в осно¬
ве готической архитектуры и исчисления бесконечно малых, лежит тя¬
готение к бесконечному, причем как в пространственном, так и во вре¬
менном смысле. Национальное чувство охватывает, с одной стороны,
географический горизонт, подобного которому нет ни в какой другой
культуре, горизонт, который можно охарактеризовать лишь словом
«грандиозный», учитывая столь раннее время и тогдашние средства пе¬
редвижения. Люди чуждых культур никогда не смогут понять отчизну
во всей символической глубине и мощи — как простор, как область,
границы которой отдельному человеку вряд ли когда-либо приходи¬
лось видеть, но защищая которую он тем не менее готов умереть. У ма¬
гической нации как таковой вообще никакой земной родины не имеет¬
ся; античная обладает ею лишь в качестве точки, в которую она уплот¬
нилась. То, что уже в готическую эпоху имелось нечто такое, по
отношению к чему членами одного союза ощущали себя люди в долине
Адидасе и в орденском замке в Литве, совершенно немыслимо в Древ¬
нем Китае и Египте и создает разительный контраст с Римом или Афи¬
нами, где все члены демоса, так сказать, постоянно были друг у друга на
виду.
Я убежден, что нации Китая, возникшие в большом числе к началу эпохи Чжоу в
области средней Хуанхэ (как и номонароды египетского Древнего царства, каждый из
которых имел собственную столицу и религию, так что еще к началу римского времени
они вели друг с другом форменные религиозные войны), по своей внутренней форме
ближе западноевропейским народам, чем народы античные и арабские. Между тем на¬
ука проблем такого рода еще даже и не заметила.
Глава вторая. Города м народы 637
Еще сильней пафос отдаленности во временном смысле. Идея отчиз¬
ны, которая следует из национального существования, повлекла за со¬
бой другую, которая, собственно, и порождает фаустовские нации: ди¬
настическую идею. Фаустовские народы — это исторические народы,
они ощущают свою связь не через место или consensus, но через исто¬
рию; и в качестве символов и носителей общей судьбы повсюду являет¬
ся зримый правящий дом. Для людей китайской или египетской куль¬
туры династия была символом с совершенно иным значением. Для них
она, как волевое и действующее начало, означает время. В существова¬
нии одного-единственного рода люди усматривали то, чем они были и
чем они желали быть. Эта идея воспринималась так глубоко, что ни¬
чтожество той или иной царствующей персоны не могло поколебать
династическое чувство: важна была идея, а не лицо. И это ради идеи
тысячи людей с убежденностью шли на смерть при возникновении ге¬
неалогического спора. Античная история была с точки зрения антич¬
ного человека цепью случайностей, ведшей от одного мгновения к дру¬
гому; магическая история была для ее людей последовательной реали¬
зацией составленного богом всемирного плана, который выполнялся
от сотворения и до гибели — в судьбах народов и посредством народов.
Фаустовская история, на наш взгляд, есть осуществление одной-един-
ственной великой воли сознательной логики, и правители здесь пред¬
водительствуют нациями и представляют их. Это есть черта расы. Обо¬
сновать ее невозможно. Так это воспринималось, и потому из верности
дружины князю эпохи германского переселения развилась ленная вер¬
ность готики, лояльность барокко и лишь кажущееся нединастиче¬
ским национальное чувство XIX в. Не следует обманываться насчет
глубины и степени значимости этого чувства, имея перед глазами бес¬
конечную череду нарушений вассалами и народами своих клятв и из¬
вечную картину придворного подобострастия и низменного раболеп¬
ства. Все великие символы душеподобны и могут быть постигнуты
лишь в высших своих формах. Частная жизнь папы не имеет к идее
папства никакого отношения. Как раз отпадение Генриха Льва367 сви¬
детельствует в эпоху формирования нации о том, с какой силой значи¬
тельный правитель ощущает, что в нем олицетворена судьба «его» на¬
рода. Он представляет свой народ перед историей и в известных обсто¬
ятельствах обязан принести ему в жертву свою честь.
Все нации Запада — династического происхождения. Еще в роман¬
ской и раннеготической архитектуре промелькивала душа каролинг¬
ских пранародов. Не существует никакой французской и немецкой го¬
тики, но лишь готика салически-франкская, рейнско-франкская,
швабская, как и романская архитектура может быть вестготской (свя¬
зывающей Южную Францию и Северную Испанию), лангобардской и
саксонской. Однако поверх всего этого уже постепенно распространя¬
ется меньшинство людей расы, которое воспринимает свою принад¬
лежность к нации как великую историческую миссию. Это они были
638
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
движущей силой Крестовых походов, это из них формируется подлин¬
но немецкое и французское рыцарство. Отличительным признаком
фаустовских народов является то, что они отдают себе отчет в направ¬
лении своей истории. Однако направление это прочно привязано к по¬
следовательности поколений. Расовый идеал имеет всецело генеалоги¬
ческую природу (в этом смысле дарвинизм с его учениями о наследст¬
венности и происхождении — почти карикатура на готическую
геральдику), и мир как история, в картине которой живет всякий отде¬
льный человек, содержит не только родовое древо отдельной семьи, пра¬
вившей до сих пор, но и древо народа как базовой формы всего проис¬
ходящего368. Если приглядеться попристальнее, становится очевидно,
что фаустовско-генеалогический принцип со всецело историческими
понятиями равенства по происхождению и чистоты крови так же чужд
египтянам и китайцам, как и римской знати и византийскому импера¬
торству. Напротив, ни наше крестьянство, ни городской патрициат без
этой идеи немыслимы. Препарированное мною выше гелертерское по¬
нятие народа происходит, по сути, из генеалогического восприятия го¬
тической эпохи. К идее родового древа народа восходят как гордость
итальянцев тем, что они являются потомками римлян, так и ссылки
немцев на их германских предков, что принципиально отлично от ан¬
тичной веры во вневременное происхождение от героев и богов. Под
конец, когда после 1789 г. нация стала определяться не только династи¬
ческим принципом, но и родным языком, первоначально чисто науч¬
ная фантазия относительно индогерманского пранарода оформилась в
глубоко прочувствованную генеалогию «арийской расы», причем сло¬
во «раса» сделалось здесь едва ли не синонимом судьбы.
Однако «расы» Запада — это не творцы великих наций, но их след¬
ствие. В каролингскую эпоху всех их еще просто не существовало. Как
в Германии, так и в Англии, Франции и Испании существовал сослов¬
ный идеал рыцарства, который формировал и воспитывал (zuchtend) в
различных направлениях и в значительной мере реализовал то, что
ощущается и переживается сегодня отдельными нациями в качестве
расы. На этом покоятся, как уже упоминалось, исторические и потому
совершенно чуждые античности понятия чистоты крови и равенства
по происхождению. Поскольку кровь правящего рода воплощает в себе
судьбу, существование всей нации, государственная система барокко
имеет чисто генеалогическую структуру, и большинство великих кри¬
зисов принимают форму войн за наследство. Крах Наполеона на сотню
лет определил политическое членение мира. Но то, что он начался как
дерзкая попытка авантюриста вытеснить своей кровью старинные ди¬
настии и это было покушением на символ, сделало сопротивление На¬
полеону исторически-священным долгом. Ибо все европейские наро¬
ды были следствием судеб династий. То, что существует португальский
народ, а потому — и португальское государство Бразилия посреди ис¬
панской Южной Америки, есть следствие брака графа Генриха Бургун¬
Глава вторая. Города и народы 639
дского (1095)369. То, что есть швейцарцы и голландцы, — следствие со¬
противления дому Габсбургов. То, что Лотарингия как название земли
существует, а народа такого нет, есть следствие бездетности Лотаря II.
Это императорская идея сплотила некоторое число пранародов ка¬
ролингской эпохи в немецкую нацию. Германия и императорство —
неразделимые понятия. Закат Штауфенов370 означал замену великой
династии — пригоршней малых и мельчайших; это внутренне надло¬
мило немецкую нацию готического стиля еще до начала барокко, как
раз тогда, когда в ведущих городах — Париже, Мадриде, Лондоне,
Вене — национальное сознание поднималось на более духовную сту¬
пень. Тридцатилетняя война вовсе не прерывала расцвета Германии,
совсем напротив, — именно то, что она оказалась столь безжалостной,
подтвердило и обнаружило шедший уже издавна процесс распада; и то
было последнее следствие краха Гогенштауфенов. Возможно, нет бо¬
лее наглядного доказательства того, что фаустовские нации — это ди¬
настические единства. Однако салические франки и Штауфены — по
крайней мере в идее — создали из романцев, лангобардов и норманнов
итальянскую нацию, которая одна только и могла прямо через голову
императорской власти возводить себя к римской античности. Притом,
что чуждая сила вызвала здесь сопротивление со стороны буржуазии,
расколола оба пра-сословия и привлекла знать на сторону император¬
ской власти, а церковь — на сторону городов; притом, что в этой борьбе
между гвельфами и гибеллинами знать уже очень скоро утратила свое
значение, а папство, опираясь на настроенные антидинастически го¬
рода, поднялось до политического господства; притом, что под конец
здесь осталась лишь чересполосица крошечных разбойничьих госу¬
дарств, чья «ренессансная политика» противостояла взмывавшему все¬
мирно-политическому духу императорской готики с той же враждеб¬
ностью, как некогда Милан — воле Барбароссы, — тем не менее идеал
«ипа Italia»371, в жертву которому Данте принес спокойствие своей жиз¬
ни, был чисто династическим порождением великих немецких импе¬
раторов. Возрождение с его историческим горизонтом городского пат¬
рициата увело нацию от ее осуществления так далеко, как только было
возможно, и на протяжении всего барокко страна была принижена до
объекта чуждой тиранической политики. Лишь романтика 1800 г.
вновь пробудила готическое чувство, да с такой мощью, которая при¬
дала ему весомость политической силы.
Это короли французского народа сплотили его в единое целое из
Франков и вестготов. В 1214 г. при Бувине372 французский народ выу¬
чился ощущать свое единство. Но еще значительнее было то, что свер¬
шил дом Габсбургов: он создал из населения, которое не было связано
ни языком, ни народным элементом, ни преданием, австрийскую на¬
цию, выдержавшую испытание — первое, а также и последнее — в ходе
защиты Марии Терезии и борьбы против Наполеона. Политическая
история эпохи барокко — это главным образом история домов Бурбо¬
640 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
нов и Габсбургов. Выдвижение Веттинов на место Вельфов явилось
причиной того, почему ок. 800 г. «Саксония» находилась на Везере, а
ныне она на Зале. Династические события, а под конец — вмешатель¬
ство Наполеона привели к тому, что половина Баварии принимала уча¬
стие в истории Австрии и что баварское государство состоит по боль¬
шей части из Франконии и Швабии.
Самая поздняя западноевропейская нация — это прусская, творение
Гогенцоллернов, как римляне были последним творением полисного
чувства, а арабы последними возникли из религиозного consensus'а. При
Фербеллине373 юная нация себя легитимировала, а при Росбахе она
одержала для Германии победу. Созданную тогда «Минну фон Барн-
хельм»374 Гете, умевший безошибочно определять исторические эпохи,
назвал первым немецким литературным сочинением со специфически
национальным содержанием. То, что Германия тогда одним махом сно¬
ва обрела свой поэтический язык, опять-таки является глубинным сви¬
детельством династической определенности западноевропейских на¬
ций. Крах Штауфенов означал также и конец немецкой литературы го¬
тического стиля. То, что обрывочно здесь возникает в последующие
столетия, составившие великую эпоху всех западных литератур, не за¬
служивает такого названия. Новая литература начинается с победой
Фридриха Великого: от Лессинга до Геббеля, т. е. от Росбаха до Седана.
Если в предпринятой тогда попытке восстановить прервавшуюся связь
она вначале сознательно опиралась на французов, а затем на Шекспира,
на народную песню и, наконец, силами романтиков — на поэзию ры¬
царской эпохи, однако так никакой цели и не достигла, то по крайней
мере вызвала к жизни единственное в своем роде явление искусства,
почти целиком состоящее из гениальных подступов.
В конце XVIII в. происходит примечательный духовный переворот:
национальное сознание пытается эмансипироваться от династическо¬
го принципа. Может показаться, что в Англии это произошло уже ра¬
ньше: многие здесь вспомнят о Великой хартии 1215 г.; от других же не
укроется то, что в результате этого признания нации через ее предста¬
вителей династическое чувство как-то само собой сделалось более глу¬
боким и утонченным, до чего народам на континенте было очень и
очень далеко. Если современный англичанин, самый консервативный
человек в мире, вовсе таким не выглядит со стороны, и вследствие это¬
го его политика на самом деле успевает совершить столь много с помо¬
щью национального такта и молча, без громогласных дискуссий, и по¬
тому была вплоть до настоящего момента наиболее успешной, то это
основывается на ранней эмансипации династического чувства от его
выраженности в монаршей власти.
Напротив того, Французская революция означает в этом отношении
всего лишь успех рационализма. Она освободила скорее понятие нации,
чем саму нацию. Династический элемент проник западноевропейским
расам в кровь: именно потому он так ненавистен духу. Ибо династия
fqnfia вторая. Города и народы
641
представляет историю, она есть одевшаяся плотью история страны, а
дух безвремен и неисторичен. Все идеи революции «вечны» и «истин¬
ны». Всеобщие права человека, свобода и равенство — это литература и
абстракция, а никакие не факты. Все это можно было бы назвать «рес¬
публиканством»; несомненно, однако, что и здесь опять-таки имелось
меньшинство, во имя всех желавшее внести в мир фактов новый идеал.
Оно сделалось властью, однако ценою идеала. На деле же оно лишь за¬
менило преданность чувств убежденным патриотизмом XIX в., т. е. воз¬
можным лишь в одной нашей культуре цивилизированным национа¬
лизмом, который даже в сегодняшней Франции все еще бессознательно
династичен, и понятием отчизны как династического единства, высту¬
пившим на сцену вначале в испанском и прусском восстаниях против
Наполеона, а затем — в немецкой и итальянской династических o&bejm-
нительных войнах. На противоположности расы и языка, крови и духа
основывается принятое ныне противопоставление генеалогического
идеала столь же специфически западноевропейскому идеалу родного
языка: в обеих странах375 есть мечтатели, полагающие, что смогут заме¬
нить единящую силу императора и короля смычкой республики и поэ¬
зии. В этом был некий момент возврата, возврата от истории — к приро¬
де. На смену войнам за наследство пришли языковые кампании, в кото¬
рых одна нация старается навязать фрагментам другой свой язык, а с
ним — и свою национальность. Однако ни для кого не секрет, что и ра¬
ционалистическое понятие нации, способное игнорировать династиче¬
ское чувство, уничтожить его не в состоянии, — этого можно ожидать
также мало, как и того, чтобы эллинистический грек внутренне преодо¬
лел полисное сознание или современный еврей — национальную идж-
му. «Родной язык» — уже продукт династической истории. Без Капетин-
гов не было бы никакого французского языка, а существовали бы ро¬
манско-франкский на севере и провансальский — на юге Франции; ита¬
льянский письменный язык — заслуга германских императоров, и
прежде всего Фридриха II. Современные нации — в первую очередь на¬
селение древних династических областей. Несмотря на это, альтерна¬
тивное понятие нации как единства литературного языка уничтожило в
ходе XIX в. австрийскую нацию и, возможно, создало американскую. С
этих пор во всех странах наличествуют две партии, представляющие на¬
цию в противоположных смыслах, как династически-историческое и
как духовное единство, — партии расы и языка, однако эти размышле¬
ния переходят уже в проблемы политики (гл. ГУ). 1919
Это аристократия начала представлять нацию, в высшем смысле
этого слова, в лишенном городов краю. Крестьянство, внеисторичное
и «вечное», было народом до прихода культуры; в очень существенных
21
Закат Западного мира
642
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
чертах оно остается пранародом; переживет оно и форму нации. Как и
все великие культурные символы, «нация» является внутренним до¬
стоянием немногих людей. К ней надо родиться, как к искусству и фи¬
лософии. В ней также присутствует нечто, позволяющее различить
творца, знатока и дилетанта, причем в античном полисе — точно так
же, как в иудейском consensus's или в западном народе. Если нация
поднимается в порыве, чтобы сражаться за свою свободу или честь,
подъем всегда начинает меньшинство, которое прямо-таки «вооду¬
шевляет» массы. Слова «народ пробуждается» — нечто большее, чем
просто оборот речи. В такой миг о себе действительно заявляет бодрст¬
вование целого. Все эти индивидуумы, еще только вчера суетившиеся с
чувством «мы», простиравшимся лишь на семью, работу и, быть может,
родную сторону, внезапно вдруг становятся прежде всего мужчинами
своего народа. Их ощущение и мышление, их «я», а тем самым и «оно» в
них преобразились до самых глубин: они сделались историческими.
Тогда и внеисторичный крестьянин делается членом своей нации, так
что и для него начинается время, в котором он переживает историю, а
не только ее перемогает.
Именно в мировых столицах наряду с меньшинством, обладающим
историей и переживающим в себе нацию, с меньшинством, ощущаю¬
щим себя представителем нации и желающим вести ее за собой, возни¬
кает другое меньшинство — вневременные, внеисторичные, литератур¬
ные люди, люди резонов и оснований, а не судьбы, внутренне отчужден¬
ные от крови и существования, сплошь мыслящее бодрствование,
которое более не находит в понятии нации никакого «разумного» со¬
держания. И в самом деле, они к ней больше не принадлежат, ибо куль¬
турные народы — это формы потоков существования; космополитизм
же есть просто бодрствующая связь «интеллигенций». Здесь налицо
ненависть к судьбе, и прежде всего ненависть к истории как выраже¬
нию судьбы. Все национальное настолько расово, что оно не в состоя¬
нии отыскать языка и остается до фатальности неловким и беспомощ¬
ным во всем, что требует мышления. Космополитизм — это литерату¬
ра, и он остается ею, очень сильный по основаниям и очень слабый в их
защите не с помощью новых оснований, но кровью.
Однако именно поэтому такое духовно всех превосходящее мень¬
шинство сражается духовным оружием и у него хватает смелости на
это, ибо мировые столицы — это чистый дух, они беспочвенны и уже
как таковые принадлежат всем и каждому. Урожденные космополиты,
мечтатели о мире во всем мире и о примирении народов — в Китае бо¬
рющихся царств, в буддистской Индии, при эллинизме и сегодня — яв¬
ляются духовными вождями феллахства. Рапет et circenses [хлеба и зре¬
лищ (лат.)] — всего лишь иная форма пацифизма. В истории всех культур
всегда наличествовал антинациональный элемент, неважно, знаем мы
об этом или же нет. Чистое, направленное само на себя мышление все¬
гда было чуждо жизни и потому враждебно истории, невоинственно,
fygea вторая- Города и народы J>43
безрасово. Вспомним о гуманизме и классицизме, об афинских софис¬
тах, о Будде и Лао-цзы, уж не говоря о страстном презрении к любому
национальному честолюбию со стороны великих поборников священ¬
нического и философского мировоззрения. Как бы ни были различны
меж собой эти случаи, все они одинаковы в том, что расовое мироощу¬
щение, политическое и потому фактическое чувство (right or wrong, ту
country!376), решимость быть субъектом, а не объектом исторического
процесса (ибо третьего не дано), короче, воля к власти вдруг оказыва¬
ется преодолена тенденцией, чьи вожди — зачастую люди с атрофиро¬
ванными изначальными побуждениями, однако тем сильнее одержи¬
мы они логикой, чувствуя себя как дома в мире истин, идеалов и уто¬
пий, книжные люди, полагающие, что могут заменить реальное
логическим, власть фактов — абстрактной справедливостью, судьбу —
разумом. Начинается это с людей, которых постоянно обуревает страх,
так что они объявляют всемирную историю не имеющей значения и
удаляются от действительности в монастыри, мыслильни и духовные
общества, а заканчивается во всякой культуре — апостолами мира во
всем мире. Такое — с исторической точки зрения — отребье произво¬
дит на свет сам народ. Уже их лица образуют в плане физиономическом
особую группу. В «истории духа» они занимают высокое положение,
среди них целый ряд знаменитых имен, однако с точки зрения действи¬
тельной истории они — ничтожества.
Судьба нации посреди событий ее мира зависит от того, насколько
посчастливится расе лишить данное явление исторической действен¬
ности. Быть может, еще сегодня можно будет показать, что в мире ки¬
тайских государств империя Цинь одержала победу ок. 250 г. до Р. X.
потому, что лишь ее нация осталась свободна от настроений даосизма.
И уж во всяком случае римский народ одержал победу над всем прочим
античным миром потому, что при проведении собственной политики
не поддался феллахским инстинктам эллинизма.
Нация — это осуществленное в живой форме человечество. Прак¬
тический результат теорий по улучшению мира — это, как правило,
бесформенная и потому внеисторическая масса. Все улучшатели мира и
космополиты отстаивают феллахские идеалы вне зависимости от
того, знают они об этом или же нет. Их успех означает сход нации со
сцены внутри истории, и не в пользу вечного мира, но в пользу других на¬
ций. Мир во всем мире — это всякий раз одностороннее решение. У
Рих Romana было лишь одно практическое следствие для позднейших
солдатских императоров и германских королей-военачальников: он
сделал население в сотни миллионов человек объектом воли к власти
небольших воинских шаек. Этот мир стоил миролюбцам таких жертв,
Рядом с которыми ничтожными кажутся те, что были принесены при
ваннах. Вавилонский, китайский, индийский и египетский миры пе-
рех°Дили из рук одних завоевателей в руки других и оплачивали их
свары собственной кровью. Вот каким он оказался — их мир. Когда в
644
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
1401 г. монголы завоевали Месопотамию, они из 100 000 черепов жи¬
телей Багдада, которые не оказали им сопротивления, сложили па¬
мятник в честь одержанной победы. Разумеется, с угасанием наций
феллахский мир духовно возвышается над историей, он окончатель¬
но цивилизован, «вечен». В царстве фактов он возвращается обратно
в естественное состояние, колеблющееся между долготерпением и
преходящей яростью, однако все это кровопролитие (не делающееся
меньше ни с каким миром во всем мире) абсолютно ничего не меняет.
Когда-то они проливали кровь за самих себя, теперь им приходится
делать это ради других, и зачастую лишь на потеху им — вот и вся раз¬
ница. Вождь с крепкой хваткой, собравший вокруг себя десять тысяч
авантюристов, может всем распоряжаться, как ему заблагорассудит¬
ся. Если представить, что весь мир сделался одной-единственной им¬
перией, это всего-навсего максимально расширило бы сцену для ге¬
роических деяний таких завоевателей.
«Lever doodtals Sklaav»377, — гласит старофризская крестьянская по¬
говорка. Всякая поздняя цивилизация избирает своим девизом обрат¬
ное утверждение, и каждой из них довелось испытать, чего он стоит.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ПРОБЛЕМЫ
АРАБСКОЙ КУЛЬТУРЫ
I. Исторические псевдоморфозы
1
В слой скальной породы включены кристаллы минерала. Но вот по¬
являются расколы и трещины; сюда просачивается вода и постепенно
вымывает кристалл, так что остается одна пустая его форма. Позднее
происходят вулканические явления, которые разламывают гору; сюда
проникает раскаленная масса, которая затвердевает и также кристалли¬
зуется. Однако она не может сделать это в своей собственной, присущей
именно ей форме, но приходится заполнить ту пустоту, что уже имеется,
и так возникают поддельные формы, кристаллы, чья внутренняя струк¬
тура противоречит внешнему строению, род каменной породы, являю¬
щийся в чужом обличье. Минералоги называют это псевдоморфозом.
Историческими псевдоморфозами378 я называю случаи, когда чуж¬
дая древняя культура довлеет над краем с такой силой, что культура
юная, для которой край этот — ее родной, не в состоянии задышать
полной грудью и не только что не доходит до складывания чистых, соб¬
ственных форм, но не достигает даже полного развития своего самосо¬
знания. Все, что поднимается из глубин этой ранней душевности, из¬
ливается в пустотную форму чуждой жизни; отдавшись старческим
трудам, младые чувства костенеют, так что где им распрямиться во весь
рост собственной созидательной мощи?! Колоссальных размеров до¬
стигает лишь ненависть к явившейся издалека силе.
Таков случай арабской культуры. Ее предыстория лежит всецело в
регионе древнейшей вавилонской цивилизации*, бывшей на протяже¬
нии двух тысячелетий добычей сменявших друг друга завоевателей. Ее
«меровингская эпоха» отмечена диктатурой крошечной персидской
племенной группы**, такого же пранарода, как и остготы, двухсотлетнее,
почти не оспаривавшееся господство которой имело своей предпосыл¬
кой бесконечную утомленность этого феллахского мира. Однако, начи¬
ная с 300 г. до Р. X., по юным народам этого говорящего по-арамейски от
^^пкщдо загр0са МИра пробегает мощная волна пробуждения***. Как и
** Ср. т. 2, с. 624 слл. и 635 слл.
*** Оиэ составляла менее сотой доли общего населения империи.
Рает ?ледует отметить, что питомник вавилонской культуры, древний Шинеар, не иг-
в будущих событиях совершенно никакой роли. Для арабской культуры значима
область к северу от Вавилона, а не к югу от него.
648
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
во времена Троянской войны или саксонских императоров, все сущест¬
вующие религии вне зависимости от того, чье имя носит та или иная из
них — Ахура-Мазды, Ваала или Яхве, пронизывает новое отношение че¬
ловека к Богу, совершенно новое мироощущение. По всему видно, что
вот-вот свершится нечто великое и небывалое, но именно в это время —
причем так, что внутреннюю связь между этими событиями всецело
исключить нельзя (ибо мощь персиянства основывалась на душевных
предпосылках, которые исчезли именно теперь), — сюда являются ма¬
кедоняне (глядя из Вавилона, всего-навсего новая ватага авантюристов,
ничем не превосходящая все прежние) и распространяют тонкий слой
античной цивилизации над всеми здешними странами вплоть до Индии
и Туркестана. Государства диадохов могли бы, правда, совершенно не¬
заметно сделаться государствами предарабского духа: государство Се-
левкидов, практически совпадавшее с областью распространения ара¬
мейского языка, уже было им ок. 200 г. Однако после сражения при Пид-
не379 его западные области постепенно включаются в античную
империю и оказываются таким образом подвержены мощному воздей¬
ствию духа, исходящему из чрезвычайно удаленного центра. Тем самым
подготавливается возникновение псевдоморфоза.
Магическая культура — территориально и географически наиболее
срединная в группе высших культур, единственная, которая в про¬
странственном и временнбм отношении соприкасается почти со всеми
другими. Поэтому все вообще строение целостной истории в нашей
картине мира полностью зависит от того, познаем ли мы внутреннюю
форму магической культуры, которая была подменена внешней; одна¬
ко именно внутренняя форма и не была до сих пор познана по причине
филологических и теологических предубеждений, а еще более — из-за
раздробленности современных научных дисциплин. Западная наука
уже давно не только по материалу и методике, но и по мышлению рас¬
палась на некоторое число специальных областей, противоестествен¬
ное разграничение которых препятствовало тому, чтобы хотя бы уви¬
дать проблему. Если что явилось роком для проблем арабского мира,
так это «специальность». Историки в собственном смысле придержи¬
вались сферы интересов классической филологии, с востока же ее го¬
ризонт был ограничен античной языковой границей, — и потому они
так никогда и не заметили цельности развития, происходившего по ту
и другую сторону этого никогда не существовавшего в душевном смыс¬
ле рубежа. Результатом явилась перспектива: Древний мир — Средне¬
вековье — Новое время, обособлявшаяся от всего прочего и объеди¬
нявшаяся фактом употребления греческого и латыни. Аксум, Саба и
даже само государство Сасанидов были недоступны для знатоков древ¬
них языков, придерживавшихся «текста», а потому, в плане историче¬
ском, для них все равно что не существовали. Литературоведы, также
филологи, путали дух языка с духом самого произведения. То, что было
написано или хотя бы сохранено на греческом языке в сфере арамей¬
Глава третья. Проблемы Арабской культуры
649
ского языка, интегрировалось в «позднегреческую» литературу: имен¬
но на это и был выделен специальный период этой литературы. Тексты
на иных языках в поле зрения их специальности не попадали и потому
искусственно объединялись в другие истории литературы. Однако как
раз в случае магической культуры мы имеем разительнейший пример
того, что ни одна история литературы не совпадает с одним языком*.
Здесь имелась замкнутая группа магических национальных литератур,
проникнутых одним духом, однако существовавших на нескольких язы¬
ках, среди которых присутствовали также и античные. Существуют
талмудическая, манихейская, несторианская, иудейская, даже неопи-
фагорейская национальные литературы, однако никакой эллинской или
ивритской нет в природе.
Религиоведение рассекло всю область на отдельные специальности
по западноевропейским конфессиям, и восточная «филологическая гра¬
ница» оказалась для христианской теологии определяющей — и все
еще таковой остается. Персиянство попало в руки иранской филоло¬
гии. Поскольку тексты Авесты не были написаны на арийском диалек¬
те, но на нем распространялись, колоссальная проблема, связанная с
Авестой, рассматривалась как побочная задача индологов и тем самым
полностью исчезла из поля зрения христианской теологии. Для исто¬
рии же талмудического иудейства, поскольку гебраистская филология
образует с исследованиями Ветхого Завета одну специальность, ника¬
кой отдельной специальности создано не было, почему всеми извест¬
ными мне капитальными историями религии, рассматривающими
особо всякую примитивную негритянскую религию (поскольку этно¬
графия как специальность все же существует) и каждую индийскую
секту, оно и было полностью позабыто. Такова гелертерская подготов¬
ка к великим задачам, стоящим сегодня перед исторической наукой.
2
Римский мир о своем положении вполне догадывался. У поздней¬
ших писателей полно жалоб на обезлюдение и духовное опустошение
Африки, Испании, Галлии, и прежде всего коренных античных облас¬
тей —• Италии и Греции. Однако дух уныния, присущий этому обзору,
как правило, их покидает, когда речь заходит о тех провинциях, кото¬
рые относятся к магическому миру. Из них особенно плотно заселена
Сирия, которая, как и парфянская Месопотамия, пышно расцветает —
как кровью своей, так и душой. Перевес юного Востока ощущается все-
ми, и в конце концов он должен был найти себе и политическое выра¬
жение. С этой точки зрения революционные войны между Марием и
Суллой, Цезарем и Помпеем, Антонием и Октавианом представляют
Это важно также и для литературы Запада: немецкая литература отчасти написа¬
на по-латински, английская отчасти — по-французски.
650
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
собой фрагмент истории переднего плана, за которым все более отчет¬
ливо вырисовывается попытка эмансипации этого Востока от делаю¬
щегося неисторичным Запада, мира пробуждающегося — от феллах¬
ского. Великим символом явился здесь перенос столицы в Византию.
Диоклетиан выбрал Никомедию, Цезарь помышлял об Александрии
или Илионе; в любом случае более удачным выбором была бы Анти¬
охия. Однако этот акт произошел с опозданием на триста лет, а они
были решающими для магического раннего времени.
Псевдоморфоз начинается с Акция: победить там должен был Анто¬
ний. Здесь сводились решающие счеты не между «римскостью» и элли¬
низмом: те бои отшумели при Каннах и Заме, где бился Ганнибал, тра¬
гическая судьба которого заставила его на самом деле сражаться не за
свою страну, но за эллинство. При Акции нерожденная арабская куль¬
тура противостояла дряхлой античной цивилизации: аполлонический
или магический дух, боги или единый Бог, принципат или халифат — вот
как стоял вопрос. Победа Антония высвободила бы магическую душу;
его поражение вывело окостенелое императорство на просторы ее
ландшафта. Результат можно было бы сравнить с последствиями битвы
при Туре и Пуатье в 732 г.380, победи там арабы и сделай они «Франки-
стан» своим Северо-Восточным халифатом. Здесь возобладали бы
арабский язык, религия и общество, на Луаре и Рейне выросли бы го¬
рода-гиганты наподобие Гранады и Кайравана, готическое чувство
было бы принуждено выражаться в давно закостенелых формах мечети
и арабески, а вместо немецкого мистицизма у нас был бы некоего рода
суфизм. То, что в арабском мире так оно на самом деле и произошло,
явилось результатом неспособности сирийско-персидского населения
выдвинуть из своих рядов Карла Мартелла, который бы сражался про¬
тив Рима бок о бок с Митридатом, с Брутом и Кассием или же с Анто¬
нием — и независимо от них, сам по себе.
Другой псевдоморфоз сегодня у всех на виду: петровская Русь. Рус¬
ские героические сказания — былинные песни — достигают своей вер¬
шины в киевском круге сказаний о князе Владимире (ок. 1000) с его
«рыцарями круглого стола» и о народном герое Илье Муромце*. Всю
неизмеримость различия между русской и фаустовской душой можно
проследить уже на разнице между этими песнями и «одновременны¬
ми» им сказаниями об Артуре, Германарихе и Нибелунгах времени ры¬
царских странствий — в форме песней о Хильдебранде и о Вальтере381.
Русская эпоха Меровингов начинается с ниспровержения татарского
господства Иваном III (1480) и ведет через последних Рюриковичей и
первых Романовых — к Петру Великому (1689—1725). Эта эпоха точно
соответствует времени от Хлодвига до битвы при Тертри382 (687), в ре¬
зультате которой Каролинги фактически получили всю полноту влас¬
ти. Я советую всякому прочесть «Историю франков» Григория Турско-
Wollner. Untersuchungen iiber die Volksepik der Grofirussen. 1879.
Глава третья. Проблемы Арабской культуры
651
го, а параллельно с этим — соответствующие разделы старомодного
Карамзина, прежде всего те, что повествуют об Иване Грозном, Борисе
Годунове и Шуйском. Большего сходства невозможно представить.
Вслед за этой московской эпохой великих боярских родов и патриар¬
хов, когда старорусская партия неизменно билась против друзей запад¬
ной культуры, с основанием Петербурга (1703) следует псевдоморфоз,
втиснувший первобытную русскую душу вначале в чуждые формы вы¬
сокого барокко, затем Просвещения, а затем — XIX столетия. Петр Ве¬
ликий сделался злым роком русскости. Припоминается его «современ¬
ник» Карл Великий, планомерно и со всею свойственной ему энергией
осуществивший то, чему ранее своей победой помешал Карл Мартелл:
господство мавританско-византийского духа. Имелась возможность
подойти к русскому миру на манер Каролингов или же Селевкидов, а
именно в старорусском или же «западническом» духе, и Романовы
приняли решение в пользу последнего. Селевкиды желали видеть во¬
круг себя эллинов, а не арамеев.
Примитивный московский царизм — это единственная форма, ко¬
торая впору русскости еще и сегодня, однако в Петербурге он был фа¬
льсифицирован в династическую форму Западной Европы. Тяга к свя¬
тому югу, к Византии и Иерусалиму, глубоко заложенная в каждой
православной душе, обратилась светской дипломатией, с лицом, по¬
вернутым на Запад. За пожаром Москвы, величественным символиче¬
ским деянием пранарода, в котором нашла выражение маккавейская
ненависть ко всему чуждому и иноверному, следует вступление Алек¬
сандра в Париж, Священный союз и вхождение России в «Европей¬
ский концерт» великих западных держав. Народу, чье предназначе¬
ние — еще поколениями жить вне истории, была навязана искусствен¬
ная и неподлинная история, дух которой прарусскость просто никак не
может постигнуть. Были заведены поздние искусства и науки, просве¬
щение, социальная этика383, материализм мировой столицы, хотя в это
предвремя религия — единственный язык, на котором человек спосо¬
бен был понять себя и мир; и в лишенном городов краю с его изначаль¬
ным крестьянством, как нарывы, угнездились отстроенные в чуждом
стиле города. Они были фальшивы, неестественны, невероятны до са¬
мого своего нутра. «Петербург самый отвлеченный и умышленный го¬
род на всем земном шаре», — замечает Достоевский384. Хотя он здесь и
родился, у него не раз возникало чувство, что в одно прекрасное утро
город этот растает вместе с болотным туманом385. Вот и полные духов¬
ности эллинистические города были повсюду рассыпаны по арамей¬
скому крестьянскому краю — словно жемчужины, глядя на которые
хочется протереть глаза. Такими видел их в своей Галилее Иисус. Тако-
Во> должно быть, было ощущение и апостола Петра, когда он увидал
императорский Рим.
Все, что возникло вокруг, с самой той поры воспринималось под¬
линной русскостью как отрава и ложь. Настоящая апокалиптическая
652 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ненависть направляется против Европы. А «Европой» оказывалось все
нерусское, в том числе и Рим с Афинами, — точно так же, как для маги¬
ческого человека были тогда античными, языческими, бесовскими
Древний Египет и Вавилон. «Первое условие освобождения русского
народного чувства это: от всего сердца и всеми силами души ненави¬
деть Петербург», — пишет Аксаков Достоевскому в 1863 г. Москва свя¬
тая, Петербург — сатана; в распространенной народной легенде Петр
Великий появляется как Антихрист386. То же самое слышится нам и из
всех апокалипсисов арамейского псевдоморфоза: от книг Даниила и
Эноха и до эпохи Маккавеев, вплоть до Откровения Иоанна, Баруха и
4-й книги Эздры — против Антиоха, Антихриста, против Рима, Вави¬
лонской блудницы, против городов Запада с их духом и пышностью,
против всей вообще античной культуры. Все, что возникает, неистин¬
но и нечисто: это избалованное общество, пронизанные духовностью
искусства, общественные сословия, чуждое государство с его цивили¬
зованной дипломатией, судопроизводство и администрация. Не суще¬
ствует большей противоположности, чем русский и западный, иудео-
христианский и позднеантичный нигилизм: ненависть к чуждому,
отравляющему еще не рожденную культуру, пребывающую в материн¬
ском лоне родной земли, — и отвращение к собственной, высотою ко¬
торой человек наконец пресытился. Глубочайшее религиозное миро¬
ощущение, внезапные озарения, трепет страха перед приближающим¬
ся бодрствованием, метафизические мечтания и томления обретаются
в начале истории; обострившаяся до боли духовная ясность — в ее кон¬
це. В двух этих псевдоморфозах они приходят в смешение. «Все они те¬
перь на улицах и базарах толкуют о вере», — говорится у Достоевского.
Это можно было бы сказать и об Иерусалиме с Эдессой. Эти молодые
русские перед войной, неопрятные, бледные, возбужденные, пристро¬
ившиеся по уголкам и все занятые одной метафизикой, рассматриваю¬
щие всё одними лишь глазами веры, даже тогда, когда разговор, как ка¬
жется, идет об избирательном праве, химии или женском образова¬
нии387, — это просто иудеи и первохристиане эллинистических боль¬
ших городов, на которых римляне взирали так иронично, брезгливо и с
затаенным страхом. В царской России не было никакой буржуазии, во¬
обще никаких сословий в подлинном смысле слова, но лишь крестьяне
и «господа», как во Франкском государстве. «Общество» было стояв¬
шим особняком миром, продуктом западнической литературы, чем-то
чуждым и грешным. Никаких русских городов никогда и не бывало.
Москва была крепостью — Кремлем, вокруг которого расстилался ги¬
гантский рынок. Город-морок, который теснится и располагается во¬
круг, как и все прочие города на Матушке-Руси, стоит здесь ради двора,
ради чиновников, ради купечества; однако то, что в них живет, это есть
сверху — обретшая плоть литература, «интеллигенция» с ее вычитан¬
ными проблемами и конфликтами, а в глубине — оторванный от кор¬
ней крестьянский народ со всей своей метафизической скорбью, со
Глава третья. Проблемы Арабской культуры 653
страхами и невзгодами, которые пережил вместе с ним Достоевский, с
постоянной тоской по земному простору и горькой ненавистью к ка¬
менному дряхлому миру, в котором замкнул их Антихрист. У Москвы
никогда не было собственной души. Общество было западным по духу,
а простой народ нес душу края в себе. Между двумя этими мирами не
существовало никакого понимания, никакой связи, никакого проще¬
ния. Если хотите понять обоих великих заступников и жертв псевдо¬
морфоза, то Достоевский был крестьянин, а Толстой — человек из об¬
щества мировой столицы. Один никогда не мог внутренне освободить¬
ся от земли, а другой, несмотря на все свои отчаянные попытки, так
этой земли и не нашел.
Толстой — это Русь прошлая, а Достоевский — будущая. Толстой свя¬
зан с Западом всем своим нутром. Он — великий выразитель петров¬
ского духа, несмотря даже на то, что он его отрицает. Это есть неизмен¬
но западное отрицание. Также и гильотина была законной дочерью
Версаля. Это толстовская клокочущая ненависть вещает против Евро¬
пы, от которой он не в состоянии освободиться. Он ненавидит ее в
себе, он ненавидит себя. Это делает Толстого отцом большевизма. Все
бессилие этого духа и «его» революции 1917 г. выплескивается из остав¬
шихся в его наследии сцен «И свет во тьме светит». Достоевскому такая
ненависть незнакома. С тою же самой страстною любовью он вбирал в
себя и все западное. «У меня две родины, Россия и Европа». Для него
все это, и дух Петра, и революция, уже более не обладает реальностью.
Он взирает на все это как из дальнего далека — из своего будущего. Его
душа апокалиптична, порывиста, отчаянна, однако она в этом буду¬
щем уверена. «Я хочу в Европу съездить, — говорит Иван Карамазов
своему брату Алеше, — и ведь я знаю, что поеду лишь на кладбище, но
на самое, на самое дорогое кладбище, вот что! Дорогие там лежат по¬
койники, каждый камень над ними гласит о такой горячей минувшей
жизни, о такой страстной вере в свой подвиг, в свою истину, в свою бо¬
рьбу и в свою науку, что я, знаю заранее, паду на землю и буду целовать
эти камни и плакать над ними»388. Толстой — это всецело великий рас¬
судок, «просвещенный» и «социально направленный». Все, что он ви¬
дит вокруг, принимает позднюю, присущую крупному городу и Западу
форму проблемы. Что такое проблема, Достоевскому вообще неизвест¬
но. Между тем Толстой — событие внутри европейской цивилизации.
Он стоит посередине, между Петром Великим и большевизмом. Все
они русской земли в упор не видят. То, с чем они борются, оказывается
вновь признанным самой той формой, в которой они это делают. Это
все не апокалиптика, но духовная оппозиция. Ненависть Толстого к
собственности имеет политэкономический характер, его ненависть к
обществу — характер социально-этический; его ненависть к государст¬
ву представляет собой политическую теорию. Отсюда и его колоссаль¬
ное влияние на Запад. Каким-то образом он оказывается в одном ряду с
Марксом, Ибсеном и Золя. Его произведения — это не Евангелия, но
654 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
поздняя, духовная литература. Достоевского не причислишь ни к кому,
кроме как к апостолам первого христианства. Его «Бесы» были ошика¬
ны русской интеллигенцией за консерватизм. Однако Достоевский
этих конфликтов просто не видит. Для него между консервативным и
революционным нет вообще никакого различия: и то, и то — западное.
Такая душа смотрит поверх всего социального. Вещи этого мира пред¬
ставляются ей такими маловажными, что она не придает их улучшению
никакого значения. Никакая подлинная религия не желает улучшить
мир фактов. Достоевский, как и всякий прарусский, этого мира просто
не замечает: они все живут во втором, метафизическом, лежащем по
другую сторону от первого мира. Что за дело душевной муке до комму¬
низма? Религия, дошедшая до социальной проблематики, перестает
быть религией. Однако Достоевский обитает уже в действительности
непосредственно предстоящего религиозного творчества. Его Алеша
ускользнул от понимания всей литературной критикой, и русской в
том числе; его Христос, которого он неизменно желал написать, сде¬
лался бы подлинным Евангелием, как и Евангелия прахристианства,
стоящие всецело вне всех античных и иудейских литературных форм.
Толстой же — это маэстро западного романа, к уровню его «Анны Ка¬
рениной» никто даже близко не подошел; и точно так же он, даже в
своей крестьянской блузе, является человеком из общества.
Начало и конец сходятся здесь воедино. Достоевский — это святой,
а Толстой всего лишь революционер. Из него одного, подлинного на¬
следника Петра, и происходит большевизм, эта не противополож¬
ность, но последнее следствие петровского духа, крайнее принижение
метафизического социальным и именно потому всего лишь новая фор¬
ма псевдоморфоза. Если основание Петербурга было первым деянием
Антихриста, то уничтожение самим же собой общества, которое из Пе¬
тербурга и было построено, было вторым: так должно было оно внут¬
ренне восприниматься крестьянством. Ибо большевики не есть народ,
ни даже его часть. Они низший слой «общества», чуждый, западный,
как и оно, однако им не признанный и потому полный низменной не¬
нависти. Все это от крупных городов, от цивилизации — социально-
политический момент, прогресс, интеллигенция, вся русская литера¬
тура, вначале грезившая о свободах и улучшениях в духе романтиче¬
ском, а затем — политико-экономическом. Ибо все ее «читатели» при¬
надлежат к обществу. Подлинный русский — это ученик389 Достоев¬
ского, хотя он его и не читает, хотя — и также потому что — читать он
не умеет. Он сам — часть Достоевского. Если бы большевики, которые
усматривают в Христе ровню себе, просто социального революционе¬
ра, не были так духовно узки, они узнали бы в Достоевском настоящего
своего врага. То, что придало этой революции ее размах, была не нена¬
висть интеллигенции. То был народ, который без ненависти, лишь из
стремления исцелиться от болезни, уничтожил западный мир руками
его же подонков, а затем отправит следом и их самих — тою же дорогой;
рлава третья. Проблемы Арабской культуры
655
не знающий городов народ, тоскующий по своей собственной жизнен¬
ной форме, по своей собственной религии, по своей собственной буду¬
щей истории. Христианство Толстого было недоразумением. Он гово¬
рил о Христе, а в виду имел Маркса. Христианство Достоевского при¬
надлежит будущему тысячелетию.
3
За пределами псевдоморфоза и с тем большей силой, чем слабее до¬
влеет над страной мощь античного духа, наружу пробиваются все фор¬
мы подлинной рыцарской эпохи. Схоластика и мистика, вассальная
преданность, миннезингерство, энтузиазм крестовых походов — все
это имелось в наличии в первые столетия арабской культуры, нужно
только уметь искать. Легионы номинально существуют и после Септи¬
мия Севера, однако на Востоке они теперь выглядят как дружина гер¬
цога; кто-то назначается чиновником, однако речь при этом фактиче¬
ски идет о том, что графу отдан лен; в то время как титул Цезаря попа¬
дает на Западе в руки вождей, Восток преобразуется в ранний халифат,
поразительно схожий с ленным государством зрелой готики. В госу¬
дарстве Сасанидов, в Хауране, в Южной Аравии наступает подлинная
рыцарская эпоха. Один король Сабы, Шамир Джугариш390, продолжал
жить, подобно Роланду и королю Артуру, в арабских сказаниях, от¬
правлявших его через Персию до самого Китая*. Государство Ма’ин в
первое тысячелетие до рождения Христа существовало бок о бок с из¬
раильским, и по остаткам его возможно сравнивать с Микенами и Ти-
ринфом; следы его простираются глубоко в Африку**. Однако теперь
по всей Южной Аравии и даже в абиссинских горах расцветает эпоха
феодализма***. В Аксуме в раннехристианскую эпоху возникают огром¬
ные замки и царские гробницы с самыми большими в мире монолита¬
ми****. За царями стоит ленная знать из графов (kail) и наместников (ка-
bir), вассалов, чья преданность зачастую оставляет желать лучшего, об¬
ширные владения которых все больше сужают внутреннюю власть
Царей. Бесконечные христианско-иудейские войны между Южной
Аравией и царством Аксум***** носят рыцарский характер и зачастую
выливаются в личные междоусобицы, которые бароны ведут из своих
крепостей. В Сабе правят Хамданиды (сделавшиеся впоследствии хри-
^ Schiele. Die Religion in Geschichte und Gegenwart I. S. 647.
Bent. The sacred City of the Ethiopians. London, 1893. P. 134 — о развалинах Джехи
’ южноаРавийские надписи которой Глазер относит к VII—V вв. до Р. X. Muller D.
{Jurgen un(i Schlosser Sudarabiens, 1879.
**** Grimme. Mohammed. S. 26 ff.
***** Deutsche Aksum-Expedition. 1913. Bd. II.
Начиная с седой древности народная тропа из Персии в Абиссинию и на Нил про-
*** через Южную Аравию — по морским теснинам Ормузского и Баб-эль-Мандеб-
ог° проливов. Исторически этот путь важнее северного — через Суэцкий перешеек.
656
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
стианами). За ними находится христианское, союзное Риму государст¬
во Аксум, простирающееся ок. 300 г. от Белого Нила и до берегов Сома¬
ли и Персидского залива; в 525 г. Аксум сокрушил иудеев Химьяритов.
В 542 г. в Марибе состоялся конгресс государей, на котором Византия и
Персия были представлены послами. Еще и сегодня повсюду здесь рас¬
сыпано множество развалин мощных замков, возникновение которых
в исламское время могли относить лишь на счет демонов. Крепость
Гомдан представляла собой укрепление высотой в двадцать этажей*.
В государстве Сасанидов господствовало рыцарство динкан, и блес¬
тящий двор этих «штауфеновских императоров» раннего Востока был
во всех отношениях примером для византийского двора со времени
Диоклетиана. Уже много позже Аббасиды в своей основанной вновь
резиденции, Багдаде, не нашли ничего лучшего, как в крупном масш¬
табе подражать тому же сасанидскому идеалу придворной жизни. При
дворах Хасанидов и Лахмидов в Северной Аравии получила развитие
подлинная трубадурская и миннезингере кая поэзия, и ко времени от¬
цов церкви рыцарственные поэты проводили свои состязания «сло¬
вом, копьем и мечом». Среди них был также и иудей Самуил, комен¬
дант крепости Аль-Аблак, выдержавший ради пяти роскошных доспе¬
хов знаменитую осаду царя Эль-Хиры**. Рядом с этой лирикой
позднеарабская, а именно та, что начиная с 800 г. расцвела в Испании,
есть не что иное, как романтика, и к тому древнеарабскому искусству
она находилась совсем в том же отношении, что Уланд и Эйхендорф —
к Вальтеру фон дер Фогельвейде.
Наши специалисты по античности и теологи не уделяют этому юно¬
му миру первых веков после Христа совершенно никакого внимания.
Занятые тем, что происходило в позднереспубликанском и император¬
ском Риме, они видят здесь лишь примитивные и уж во всяком слу¬
чае — малозначительные явления. Однако парфянские конные отря¬
ды, которые вновь и вновь налетают на римские легионы, — это вооду¬
шевленные рыцарским духом маздаисты. Над их армиями витал дух
крестовых походов. То же самое могло бы произойти и с христианст¬
вом, когда бы оно всецело не подпало под влияние псевдоморфоза.
Тертуллиан говорит о militia Christi39 \ а таинство упоминается им как
присяга знамени. В позднейших языческих преследованиях Христос
был героем, за которого его дружина выходила на поле брани. Однако
пока что вместо христианских рыцарей и графов были лишь римские
легаты, а вместо замков и турниров по эту сторону римской границы
были одни только военные лагеря и казни. И тем не менее то, что раз¬
разилось в 115 г. при Траяне, было настоящим крестовым походом
иудеев, а никакой не парфянской войной. Тогда в качестве возмездия
за разрушение Иерусалима было уничтожено все неверующее («грече¬
Grimme. S. 43. Изображение колоссальных руин Гомдана. S. 81. Ср. также рекон¬
струкции в немецком труде по Аксуму.
Brockelmann. Gesch. d. arab. Lit.. S. 34.
f/iaea третья. Проблемы Арабской культуры
657
ское») население Кипра, как считается, всего 240 000 человек392. В ходе
Прославленной обороны иудеи отстояли тогда осажденный Нисибис.
Воинственная Адиабена была иудейским государством. Во всех вед¬
шихся против Рима парфянских и персидских войнах крестьянско-ры¬
царское ополчение месопотамских иудеев сражалось в первых рядах.
Однако также и Византия не смогла вполне устоять перед воздей¬
ствием духа арабского феодализма, который привел к возникнове¬
нию в ней, а именно во внутренней Малой Азии, подлинной ленной
системы под тонким слоем позднеантичных форм управления. Тут
существовали могущественные семейства, на чью вассальную вер¬
ность невозможно было положиться, обладавшие достаточным чес¬
толюбием для того, чтобы претендовать на византийский престол.
«Первоначально привязанная к столице, которую она могла поки¬
дать лишь с позволения императора, позднее эта знать уселась на
своих обширных доменах в провинции и образовала начиная с IV в. в
качестве провинциальной аристократии настоящее сословие, пре¬
тендовавшее с течением времени на определенную независимость
от императорской власти»*.
Менее чем за два столетия «римские войска» на Востоке откатились
назад — от современной армии к рыцарскому войску. Мероприятия,
проведенные Северами ок. 200 г., привели к исчезновению римского
легиона**. На Западе легионы выродились в орды; на Востоке же в IV в.
возникло позднее, однако подлинное рыцарство. Это слово было ис¬
пользовано уже Моммзеном, хотя он и не признал всю значимость
того, что отсюда следовало***. Юного дворянина заботливо и тщательно
обучали единоборству, конному бою, обращению с луком и копьем.
Одно из самых значительных и несчастливых явлений эпохи солдат¬
ских императоров — император Галлиен, друг Плотина и строитель
Порта Нигра393, составил ок. 260 г. из германцев и мавров новый род
конных войск, свою верную дружину. Примечательно то, что в религии
римской армии старые городские божества отходят на задний план и
под именами Марса и Геркулеса во главу угла становятся германские
боги личного геройства****. Palatini [дворцовые воины (лат.)] Диокле¬
тиана — это не замена распущенным Септимием Севером преториан¬
цам, но небольшая дисциплинированная рыцарская армия, между тем
как comitatenses [императорские воины (лат.)], т. е. широкий призыв,
организуются по numeri, отрядам пехотинцев394. Тактика — та же самая,
что и во всяком раннем времени, когда геройство —предмет личной
гордости. Нападение осуществляется германским строем Gevierthau-
fenm («кабанья голова»). При Юстиниане полностью оформляется в
точности соответствующая эпохе Карла V система ландскнехтов, вер¬
Roth, Sozial- und Kulturgesch. d. Byzant. Reiches. S. 15.
^ Delbriick. Gesch. d. Kriegskunst II. S. 222.
Ges. Schriften IV. S. 532.
****
Domaszemki v. Die Religion des rom. Heeres. S. 49.
658
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
буемых кондотьерами* на манер Фрундсберга396 и образующих между
собой землячества. Прокопий описывает поход Нарсеса** совершенно
в духе великих вербовочных кампаний Валленштейна397.
Однако здесь же, рядом, в эти ранние столетия является также вели¬
колепная схоластика и мистика магического стиля, чувствующая себя
как дома в знаменитых высших школах всего арамейского региона:
персидских в Ктесифоне, Резаине, Гондишапуре, иудейских в Суре,
Негардее, Пумбедите, прочих «наций»398 — в Эдессе, Нисибисе, Кин-
несрине. Здесь сосредоточены главные центры астрономии, филосо¬
фии, химии и медицины, однако в направлении на запад это великое
явление оказывается исковерканным псевдоморфозом. То, что было
магическим по происхождению и духу, переходит в Александрию и
Бейрут в форме греческой философии и римского правоведения; запи¬
санное на античных языках, все это оказывается втиснутым в чуждую и
давно закостенелую форму и фальсифицируется одрябшим способом
мышления построенной на совершенно иных принципах цивилиза¬
ции. Именно тогда, а не с началом ислама начинается арабская наука.
Однако поскольку наши филологи «открывали» лишь то, что появляет¬
ся в позднеантичной редакции в Александрии и Антиохии, а о колосса¬
льном изобилии арабского раннего времени и подлинном центре та¬
мошних исследований и наблюдений даже и не догадывались, могло
возникнуть абсурдное мнение относительно того, что «арабы» были ду¬
ховными эпигонами античности. На деле же вообще все то, что с точки
зрения Эдессы лежит по ту сторону установленной филологами грани¬
цы и представляется современному взгляду плодом позднеантичного
духа, есть не что иное, как отблеск раннеарабской самоуглубленности.
Тем самым мы оказываемся лицом к лицу с псевдоморфозом магиче¬
ской религии.
4
Античная религия живет в бесчисленных единичных культах, кото¬
рые, будучи в такой форме естественными и само собой разумеющи¬
мися для аполлонического человека, практически недоступны в своей
настоящей сущности для любого чужака. Пока культы такого рода воз¬
никали, античная культура существовала. Как только они изменили
свою сущность в позднюю римскую эпоху, душа этой культуры пресек¬
лась. За пределами античного ландшафта ей никогда не доводилось
быть подлинной и живой. Божественное постоянно связано с одним-
единственным местом и им ограничивается. Это соответствует статич¬
ному и эвклидовскому мироощущению. Отношение человека к боже¬
ству имеет форму также связанного с местом культа, значение которого
bucellarii — Delbriick. II. S. 222.
«Война с готами» IV, 26.
Глава третья. Проблемы Арабской культуры 659
состоит в образе ритуального действия, а не в его догматическом тай¬
ном смысле. Как население распадается на бесчисленные националь¬
ные точки, так и его религия дробится на те крошечные культы, каж¬
дый из которых полностью независим от любого прочего. Расти может
не их охват, но одна лишь их численность. Это единственная форма роста
в пределах античной религии, и она полностью исключает всяческое
миссионерство. Ибо эти культы люди практикуют, однако к ним не
принадлежат; никаких античных «общин» не существует. И если позд¬
нее мышление в Афинах принимает несколько более общий характер в
отношении вопросов божественного и культа, то это уже не религия,
но философия, которая ограничивается мышлением отдельного чело¬
века и не производит на восприятие нации, а именно полиса, ни ма¬
лейшего воздействия.
Невозможно отыскать ничего более противоположного этому, чем
зримая форма магической религии — церковь, общность правоверных,
не знающая никакой родины и никаких земных границ. Относительно
магического божества справедливы слова Иисуса: «Где двое или трое
собрались ради моего имени, там и я среди них»399. Понятно само со¬
бой, что для каждого верующего истинным и благим может быть толь¬
ко один Бог, боги же других — ложные и злые*. Отношения между этим
Богом и человеком основываются не на выражении, но на тайной силе,
на магии определенных действий: чтобы они были эффективны, следу¬
ет точно знать их форму и значение и в соответствии с этим исполнять.
Знание этого значения находится во владении церкви, оно есть сама
церковь как община знающих — и тем самым центр тяжести всякой ма¬
гической религии не в культе, но в учении, в исповедании400.
До тех пор пока античность в душевном отношении не сдается,
псевдоморфоз заключается в том, что все восточные церкви оказыва¬
ются перенесены в культы западного стиля. Это существенная сторона
синкретизма. Сюда проникает персидская религия — в качестве культа
Митры, халдейско-сирийская — как культы небесных тел и Ваала
(Юпитер Долихен, Сабазий, Sol invictus, Атаргата401), иудаизм — в фор¬
ме культа Яхве (ибо египетские общины эпохи Птолемеев оказывается
невозможно именовать как-то иначе**), а также наиболее раннее хрис¬
тианство — как культ Иисуса (явным свидетельством чего служат по¬
слания Павла и римские катакомбы). Пусть даже все эти культы, кото¬
А вовсе не «несуществующие». Вложить в обозначение «истинный Бог» фаустов¬
ско-динамический смысл значило бы неверно понять магическое мироощущение,
^лужение кумирам, с которым здесь борются, предполагает полную реальность куми-
Е?в и демонов. Израильские пророки и не помышляли о том, чтобы отрицать Ваала.
Г?чно так же дьявольскими, однако в высшей степени действенными силами являются
wrrpa и Исида — для ранних христиан, Иегова — для христианина Маркиона,
Нисус для манихейцев. Что «в них не следует верить» — бессмыслица с точки зрения
магического ощущения: к ним не следует обращаться. Это есть, в соответствии с давно
УЖе вошедшим в обыкновение обозначением, генотеизм, а не монотеизм.
. Schiirer. Geschichte des judischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi III. S. 499; Wend-
and. Die hellinistisch-roomische Kultur. S. 192.
660
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
рые, начиная приблизительно с эпохи Адриана, всецело оттеснили в
сторону подлинно античные городские божества, громогласно предъ¬
являют претензии на то, чтобы быть откровением единственной ис¬
тинной веры (Исида заявляет о себе как о deorum dearumquefacies unifor-
mis402), тем не менее все они несут на себе характерные особенности ча¬
стного античного культа. Они множатся до бесконечности, всякая
община стоит особняком и ограничена в пространственном отноше¬
нии, все эти храмы, катакомбы, митрейоны, домовые часовни пред¬
ставляют собой культовые места, к которым божество привязано не
явно, но в чувстве; и тем не менее в благочестии этом проглядывает ма¬
гическое ощущение. Античные культы человек практикует, причем в
любом количестве, каждому же из этих он принадлежит без остатка.
Там миссионерство немыслимо, здесь же оно разумеется само собой, и
смысл религиозной практики явно смещается в сторону наставитель¬
ности.
С увяданием аполлонической души и расцветом души магической,
начиная со II в., соотношение радикальным образом переворачивает¬
ся. Проклятие псевдоморфоза остается, однако теперь это культы За¬
пада делаются новой церковью Востока. Из совокупности единичных
культов развивается общность тех людей, которые веруют в эти боже¬
ства и практические действия, и по образцу персиянства и иудейства в
качестве магической нации возникает эллинство. Из скрупулезно уста¬
новленных форм отдельных действий при жертвоприношениях и мис¬
териях возникает некоего рода догмат относительно общего смысла
этих отправлений. Культы могут взаимно представлять друг друга; соб¬
ственно говоря, их более не практикуют, но «им принадлежат». Айз бо¬
жества места, причем так, что никто и не сознает всей значимости
этого превращения, возникает присутствующее в данном месте боже¬
ство.
Как ни тщательно исследуется синкретизм вот уже на протяжении
десятилетий, однако никто так и не постиг основной особенности его
развития: вначале превращение восточных церквей в западные культы,
а затем — возникновение культовой церкви с противоположной тен¬
денцией*. Однако истории религии раннехристианских веков иначе
нам никак не понять. Шедшая в Риме борьба между Христом и Митрой
как культовыми божествами приобретает по другую сторону Антиохии
форму борьбы между персидской и христианской церквами. Однако
самым тяжелым испытанием, которое пришлось выдержать христиан¬
ству после того, как оно само стало жертвой псевдоморфоза и потому
обратилось ликом своего духовного развития на Запад, было не проти¬
воборство с настоящей античной религией, которой христианство
практически не замечало: ее общественные городские культы уже дав-
По причине этого он предстает бесформенной мешаниной всех религий, какие
ни на есть. Не может быть большего заблуждения. Оформление проходит вначале с За¬
пада на Восток, а затем с Востока на Запад403.
fAaea третья. Проблемы Арабской культуры 661
но внутренне примерли и не имели никакой власти над сердцами лю¬
дей. Нет, противником христианства было язычество, или эллинство,
как новая и полная сил церковь, возникшая из того же духа, что и оно
само. Под конец на Востоке империи существовала не одна культовая
церковь, но две, и если одна состояла лишь из общин Христа, то общи¬
ны второй также сознательно почитали один и тот же божественный
принцип, хотя и под тысячью имен.
Много говорят об античной терпимости. Быть может, яснее всего мы
понимаем сущность религии из границ ее терпимости, и такие границы
существовали также и для древних городских культов. То, что их всегда
было множество и они во множестве же практиковались, есть часть их
наиболее существенного смысла, и потому вообще ни в каком снисхо¬
дительном отношении не нуждалось. Однако предполагалось также, что
всякий человек с почтением относится к форме культа как такового. И
всякий, кто отказывал культу, будь то словом или же делом, в этом поч¬
тении, тут же ощущал всю меру античной терпимости на себе, как это
бывало со многими философами, а также приверженцами чужестран¬
ных религий. Нечто абсолютно иное лежит в основе преследований ма¬
гическими церквами друг друга: здесь присутствует генотеистический
долг по отношению к истинной вере, запрещающий признание веры
ложной. Античные культы мирились с наличием культа Иисуса рядом с
собой. Культовая церковь должна была обрушиться на церковь Иисуса.
Это она, а не «римское» государство, инициировала все великие пресле¬
дования христиан, в точности соответствующие поздним гонениям на
язычников, и они были политическими лишь постольку, поскольку так¬
же и культовая церковь была в то же самое время нацией и отчизной. Мы
замечаем, что маска почитания императора скрывает под собой две ре¬
лигиозные практики: в античных городах Запада с Римом во главе воз¬
ник особый культ dims как последнее выражение того эвклидовского
ощущения, в соответствии с которым имелся правовой, а потому также
и сакральный переход от aa>fia гражданина к такому же aa>fia бога; на
Востоке отсюда получилось вероисповедание императора как Спасите¬
ля и Богочеловека, Мессии всех синкретистов, обобщенное их церко¬
вью в высшую национальную форму. Жертва, принесенная за импера¬
тора, является высшим таинством этой церкви; оно вполне соответст¬
вует христианскому крещению, так что становится понятно, какое
символическое значение во времена гонений должны были придавать
требованию исполнить это действие и отказу от негоГТаинства имеются
У всех этих церквей: священные трапезы, как питье хаомы404 у персов,
пасха у иудеев, вечерняя трапеза405 у христиан, подобная же практика в
культе Аттиса и Митры; обряды крещения у мандантов, христиан, почи¬
тателей Исиды и Кибелы. Поэтому в отдельных культах языческой цер¬
кви можно усматривать едва ли не секты или ордена, что очень помогает
Понять их междуусобныые схоластические баталии, а также весь их вза¬
имный прозелитизм.
662
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Все подлинно античные мистерии, как Элевсинские, так и те, что
были ок. 500 г. учреждены пифагорейцами в городах Нижней Италии,
привязаны к месту и характеризуются своим символическим действом.
В рамках псевдоморфоза они отделяются от места и могут осуществля¬
ться повсюду, где собрались посвященные, имея теперь целью дости¬
жение магического экстаза и аскетического образа жизни: из посетите¬
лей мест мистерий формируется практикующий их орден. Община не¬
опифагорейцев, основанная ок. 50 г. до Р. X. и находящаяся в
ближайшем родстве с иудейскими ессеями406, — нисколько даже не ан¬
тичная философская школа: это подлинный монашеский орден, при¬
чем далеко не единственный из тех, что внутри синкретизма предвос¬
хищали идеалы христианских отшельников и исламских дервишей.
Эта языческая церковь имеет своих анахоретов, святых, пророков, чу¬
десные обращения, священные писания и откровения*. Образы богов
начинают играть в культе совершенно иную роль, и этот в высшей сте¬
пени примечательный переворот остается пока что почти не исследо¬
ванным. Ок. 300 г. величайший последователь Плотина Ямвлих создал
наконец для этой языческой церкви колоссальную систему ортодокса¬
льной теологии и священнической иерархии, а его ученик Юлиан по¬
святил всю свою жизнь (а в конце концов пожертвовал ею407) тому, что¬
бы на веки вечные эту церковь основать**. Он даже хотел учредить мо¬
настыри для предающихся медитации мужчин и женщин и ввести
церковное покаяние. Этот колоссальный труд был поддержан с вели¬
чайшим воодушевлением, доходившим до мученичества и продолжав¬
шимся много после смерти императора. Существуют надписи, кото¬
рые вряд ли могут быть переведены как-то иначе, чем «Бог лишь один,
и Юлиан — пророк его»408 ***. Еще десять лет — и эта церковь сделалась
бы постоянным историческим фактом. В конце концов христианство
унаследовало не только ее мощь, но в важных моментах также и ее фор¬
му с содержанием. Говорить, что римская церковь усвоила структуру
Римской империи, не вполне правильно. Эта структура уже и была цер¬
ковью. Было время, когда они соприкасались. Константин Великий
был инициатором Никейского собора и одновременно Pontifex Maxi¬
mus409. Его сыновья, ревностные христиане, возвели его в ранг divus и
посвятили ему предписанный культ. Августин отважился на смелое
высказывание, что истинная религия существовала до появления хрис¬
тианской — в форме религии античной****.
Geffcken. Der. Ausg. des griech-rom. Heident. S. 197 ff.
Geffcken. S. 131 ff.
*** Geffcken. S. 292. Anm. 149.
Res ipsa, quae nunc religio Christiana nuncupatur, erat apud antiquos nec defecit ab
initio generis humani, quousque Christus veniret in camem. Unde vera religio, quae iam erat
coepit appellari Christiana (Retractationes I, 13) [To, что называют ныне христианской ре¬
лигией, существовало и у древних и вообще наличествовало с самого начала человече¬
ского рода, прежде чем воплотился Христос. С этого же момента истинная религия, ко¬
торая уже существовала, стала называться христианской («Размышления») {лат.)].
663
Г^пватретья. Проблемы Арабской культуры
5
Тому, кто желает понять иудаизм как таковой от Кира и до Тита, не¬
изменно следует помнить о трех вещах. Правда, они известны и науке,
предубежденной филологически и теологически, однако в своих ис¬
следованиях она их не учитывает. Именно, иудеи — это «нация без зем¬
ли», consensus, причем обитающий в мире, образованном исключитель¬
но такими же точно нациями. Далее, Иерусалим хотя и был Меккой,
священным средоточием, однако ни родиной, ни духовным центром на¬
рода он не являлся. И наконец, иудеи представляют собой единствен¬
ное в мировой истории явление лишь до тех пор, пока к ним изначаль¬
но относятся именно так.
Разумеется, и это, пожалуй, впервые установил только Гуго Винк¬
лер, иудеи после вавилонского пленения представляют собой в проти¬
воположность «израэлитам» до пленения народ совершенно нового
рода, однако здесь они не одиноки. Арамейский мир начал тогда рас¬
членяться на целый ряд таких народов, и среди них — персы и халдеи*,
которые все обитали в одном регионе, однако в строгой изоляции друг
от друга, и, быть может, уже тогда ввели в обыкновение этот чисто
арабский образ жизни — гетто.
Первыми провозвестниками новой души были профетические ре¬
лигии, с величественной самоуглубленностью возникшие ок. 700 г. и
противоставшие дедовским обычаям народа и его правителей. Они
также представляют собой общеарамейское явление. Чем больше раз¬
мышляю я об Амосе, Исайе, Иеремии, а потом — о Заратустре, тем бо¬
лее родственными представляются они моему взгляду. А что их, как
кажется, разделяет, так это не новая их вера, но то, с чем им приходит¬
ся бороться. Первым — с той дикой древнеизраэлитской религией,
которая на самом деле является целым ворохом различных религий**,
с ее верой в священные камни и деревья, с ее бесчисленными местны¬
ми божествами в Дане, Вефиле, Хевроне, Сихеме, Беершебе, Гилгале,
с единым Яхве (или Элохимом), именем которого обозначается це¬
лый ряд самых разнообразных numina, с ее культом предков и челове¬
ческими жертвоприношениями, с плясками дервишей и священной
проституцией, с примешавшимися сюда же смутными преданиями о
Моисее и Аврааме и множеством обычаев и сказаний поздневавилон¬
ского мира, давно уже снизившихся в Ханаане до крестьянских форм
и закосневших. Второму выпало бороться с той-древневедической,
Несомненно столь же огрубленной верой героев и викингов, которую
было просто необходимо снова и снова возвращать к действительно¬
сти через восхваление священного скота и его разведение. Заратустра
Жил ок. 600 г., зачастую в нужде, преследуемый и непризнанный, и
Также и наименование «халдеи» обозначает до персидской эпохи племенную
РУппу, а позднее — религиозную общину.
Bertholet A. Kulturgeschichte Israels. S. 253 ff.
664
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
уже стариком погиб на войне против неверных*. Он был современни¬
ком бедного Иеремии, которого собственный его народ за пророчества
ненавидел, а царь заточил в темницу; когда же разразилась катастрофа,
беглецы утащили его с собой в Египет, где и убили. И вот, полагаю я,
великая эта эпоха произвела на свет еще и третью профетическую ре¬
лигию.
Именно, можно взять на себя смелость предположить, что из оста¬
точных образований древневавилонской религии возникла тогда так¬
же и «халдейская» религия с ее астрономическим пронизывающим
взглядом и ошеломляющей всякого нового наблюдателя самоуглуб¬
ленностью, причем возникла она усилиями творческих личностей ран¬
га Исайи**. Ок. 1000 г. халдеи были, как и израэлиты, группой говоря¬
щих по-арамейски племен на юге Шинеара. Еще и сегодня родной
язык Иисуса называют подчас халдейским. Ко времени Селевкидов
это название обозначает широко распространившуюся религиозную
общину, и прежде всего — ее священников. Халдейская религия — аст¬
ральная, какой вавилонская (до Хаммурапи) не была. Она представляет
собой самое глубокомысленное истолкование магического мирового
пространства, мировой пещеры с действующим в ней кисматом41°, из
всех, какие только есть, почему она и осталась фундаментом вплоть до
самых поздних тенденций в исламском и иудейском философстова-
нии. Это она, а не вавилонская культура формировала начиная с VII в.
астрономию в качестве точной науки, а именно как жреческую технику
наблюдения, обладающую поразительной остротой взгляда***. Она заме¬
нила вавилонскую лунную неделю планетной неделей. Народным ли¬
ком древней религии была Иштар, богиня жизни и плодовитости. Те¬
перь она — планета. Таммуз, умирающий и снова возрождающийся
весной растительный бог, становится неподвижной звездой. Наконец,
о себе дает знать генотеистическое чувство. Для великого Навуходоно¬
сора Мардук — единственный и истинный бог милосердия, а Набу,
древний бог Борсиппы411, — его сын и посланец к людям. На протяже¬
нии целого столетия (625—539) халдейские цари правили миром, одна¬
ко они были также и провозвестниками новой религии. При постройке
По Jackson W. Zoroaster. 1901.
Как и талмудическая религия, халдейская также является пасынком религиозно¬
исторической науки. Все внимание последней направлено на религию вавилонской ку¬
льтуры, халдейская же рассматривается лишь как ее тень. Однако такой подход изнача¬
льно исключает возможность понимания. Материалы по халдейской религии специа¬
льно никак не выделяются, а рассыпаны по всем работам об ассирийско-вавилонской
религии (Zimmem Н. Die Keilinschriften u. d. alte Testament II; Gunkel. Schopfung und
Chaos; Jastrow M. C. Bezold и др.), однако, с другой стороны, предполагается (как, на¬
пример, у Bousset. Hauptprobleme der Gnosis. 1907), что они основательно изучены сами
по себе.
То, что халдейская наука представляет собой в сравнении с вавилонскими по¬
пытками нечто совершенно новое, ясно установил Бецольд {Bezold): Astronomie, Him-
melsschau und Astrallehre bei der Babyloniem. 1911. S. 17 ff. Отдельные античные ученые
пользовались далее результатами халдеев в соответствии с их же методами, а именно
как прикладной математикой, однако сами они никакого ощущения дали не имели.
fyaea третья. Проблемы Арабской культуры 665
храмов они самолично носили кирпичи. Сохранилась молитва, с кото¬
рой Навуходоносор обращался к Мардуку при восшествии на престол.
По глубине и чистоте ее можно поставить рядом с лучшими образцами
израэлитских пророческих творений. Халдейским покаянным псал¬
мам, тесно связанным с иудейскими также по ритму и внутренней
структуре, ведома вина, в которой сам человек не отдает себе отчета, и
ведомо страдание, от которого можно оборониться покаянным при¬
знанием перед лицом гневающегося бога. Здесь то же доверие к мило¬
сердию божества, что нашло свое подлинно христианское выражение
также и в надписях храма Ваала412 в Пальмире*.
Профетическое учение магично уже по своей сути: существует лишь
один истинный бог как принцип блага, будь то Яхве, Ахура-Мазда или
Мардук-Ваал; прочие боги бессильны и злы. Отсюда мессианские на¬
дежды, очень отчетливые у Исайи, однако в последующие столетия с
внутренней необходимостью прорывающиеся наружу повсюду. В этом
заключена фундаментальная магическая идея; в ней — допущение все¬
мирно-исторической борьбы между добром и злом с верховенством зла
в среднем периоде и окончательной победой добра в день Страшного
суда. Такая морализация всемирной истории обща для персов, халдеев
и иудеев. Однако в связи с ней понятие прикрепленного к определен¬
ной почве народа упраздняется и подготавливается возникновение ма¬
гических наций без земной родины и границ. На сцену является поня¬
тие избранного народа**. Понятно, однако, что люди крепкой расы,
ощущающие у себя за плечами великие поколения, внутренне отверга¬
ли такие чересчур поповские идеи и в пику профетизму ссылались на
древнюю крепкую племенную веру. Согласно исследованиям Кюмона,
религия персидских царей была политеистической и без таинства хао-
мы, так что не вполне соответствовала той, что проповедовал Заратуст¬
ра. То же самое справедливо и в отношении большинства израэлитских
царей и почти наверняка — последнего халдея Набонида, которого Кир
смог свергнуть при поддержке его же народа как раз по причине отхода
от религии Мардука. Обрезание и празднование субботы (халдейское)
были как таинства приобретены иудеями лишь в пленении.
И все же вавилонское пленение создало-таки между иудеями и пер¬
сами величайшее различие, причем не в смысле последних истин бла¬
гочестивого бодрствования, но в фактах реальной жизни, а потому и в
глубочайших ощущениях по отношению к этой жизни. Это ведь веру¬
ющим в Яхве позволили возвратиться к себе домой, между тем как при-
верженцы Ахура-Мазды разрешили им это сделать. Из двух небольших
племенных групп, которые, возможно, двумя столетиями раньше об-
^ Hehn J. Hymnen und Gebete an Marduk. 1905.
Халдеям и персам не было нужды себя в этом убеждать: с помощью своего бога
они покорили весь мир. Евреям же приходилось цепляться за свою литературу, которая
buia теперь за недостатком фактических доказательств преобразована в доказательства
еоРетические. Этот в высшей степени своеобразный багаж обязан своим происхожде-
нием в конечном счете постоянно угрожавшей опасности презрения к самим себе.
666
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ладали равным числом мужчин, способных носить оружие, одна завое¬
вала весь мир, и между тем как на севере Дарий переправился через Ду¬
най, на юге его власть распространялась на Восточную Аравию вплоть
до острова Сокотра у берегов Сомали*; вторая же была совершенно ни¬
чтожным по значению объектом чужой политики.
Это и сделало одну религию столь царственной, другую же столь
униженной. Почитаем Иеремию, а после великую Бехистунскую над¬
пись413 Дария: какая ослепительная гордость царя своим победонос¬
ным Богом проступает в ней! И как отчаянны те доводы, с помощью
которых пытаются спасти свой образ бога израэлитские пророки!
Здесь, в изгнании, где глаза всех иудеев в связи с одержанной персами
победой оказались прикованы к учению Заратустры, чисто иудейский
профетизм (Амос, Осия, Исайя, Иеремия) переходит в апокалиптиче¬
ский (Второисайя414, Иезекииль, Захария). Все новые видения Сына
Человеческого, сатаны, архангелов, семи небес и Страшного суда —
это ведь всё персидские мотивы общего мироощущения. В 41-й гл. Исайи
является сам Кир, торжественно встречаемый как мессия. Не было ли
это озарение воспринято великим творцом Второго Исайи от одного из
учеников Заратустры? Быть может, сами персы ощутили внутреннее
родство того и другого учения и поэтому отпустили иудеев на родину?
Несомненно, что и те и другие разделяли глубоко народные представ¬
ления о высших предметах, а также ощущали и выражали одинаковую
ненависть к неверным, принадлежащим к старовавилонской и антич¬
ной религиям, вообще ко всем чуждым верованиям, но не друг к другу.
Однако на это «возвращение на родину» следует взглянуть еще
раз — уже из Вавилона. От подавляющего иудейского большинства,
крепкого в расовом отношении, мысль эта была на самом деле в вы¬
сшей степени далека, и оно допускало ее лишь как идею, как мечтание;
вне всякого сомнения, то была густого замеса порода крестьян и ремес¬
ленников вкупе с находившейся в процессе формирования земельной
аристократией, спокойно продолжавшей сидеть на своих владениях,
причем под властью своего собственного государя, реш-галута, чья ре¬
зиденция находилась в Негардее**. Возвращавшиеся на родину были в
абсолютном меньшинстве: то были упрямцы, фанатики. Их было всего
40 000, с женами и детьми415. Это не была даже десятая, ни даже двадца¬
тая часть общего числа. Тот, кто примет этих переселенцев и их судьбу
за иудейство вообще***, не сможет проникнуть в глубинный смысл всех
Glaser. Die Abessinier in Arabien und Afrika. 1895. S. 124. Глазер убежден, что здесь
будут найдены наиважнейшие абиссинские, пехлевийские и персидские клинописные
надписи.
Этот «царь изгнания» был в Персидской империи видной и политически значи¬
мой личностью, упразднили же его лишь в эпоху ислама.
Именно этим страдают обе теологии — христианская и иудейская. Они различны
лишь в том, как истолковывают израэлитскую литературу, перерабатывавшуюся впо¬
следствии в Иудее в направлении иудаизма: одна идет в сторону Евангелий, другая —
Талмуда.
fAaea третья. Проблемы Арабской культуры
667
последовавших событий. Малый иудейский мир вел обособленную духов-
ную жизнь, которую нация в целом во внимание принимала, однако ниско¬
лько не разделяла. На Востоке пышным цветом расцветала апокалипти¬
ческая литература, наследница профетической. Здесь народная поэзия
ощущала себя как дома, и от нее нам остался шедевр, Книга Иова*, с ее
исламским и нисколько не иудейским духом, между тем как множество
других сказок и сказаний, среди них Юдифь, Товия, Ахикар417, распро¬
странились в качестве мотивов по всем литературам «арабского» мира.
В Иудее же пышным цветом расцветал один лишь закон: талмудиче¬
ский дух впервые заявляет о себе у Иезекииля (гл. 40 слл.) и начиная с
450 г. находит свое воплощение у знатоков писания (соферим) с Эздрой
во главе. Начиная с 300 г. до Р. X. и по 200 г. по Р. X. таннаим излагали
здесь Тору, разрабатывая таким образом Мишну. Ни выступление
Иисуса, ни разрушение Храма этого абстрактного занятия не прерва¬
ли. Иерусалим сделался Меккой ортодоксов; в качестве Корана был
признан сборник законов, в который была мало-помалу включена вся
целиком древнейшая история с халдейско-персидскими мотивами —
впрочем, в фарисейской их обработке**. Однако светскому искусству,
поэзии и учености не было в этом кругу совершенно никакого места.
Все, что есть в Талмуде в смысле астрономической, медицинской и
юридической науки, — исключительно месопотамского происхожде¬
ния***. Вероятно, уже там, в изгнании, началось то халдейско-персид¬
ско-иудейское формирование сект, которое продолжалось в начале
магической культуры вплоть до образования великих религий и до¬
стигло своей вершины в учении Мани. «Закон и пророки» — в этом
едва ли не все различие между Иудеей и Месопотамией. В позднейшей
персидской и во всякой другой магической теологии представлены оба
направления, и только здесь они разделены пространственно. Реше¬
ния, принимаемые в Иерусалиме, признаются повсюду; вопрос, одна¬
ко, заключается в том, насколько им следуют. Уже Галилея была подо¬
зрительна для фарисеев; в Вавилонии не мог получить посвящение ни
один раввин. Великого Гамалиэля, учителя Павла418, превозносят за то,
что его распоряжениям следуют иудеи «даже за границей». Доказатель¬
ством того, как независимо жили они в Египте, служат открытые не¬
давно первоисточники из Элефантины и Асуана****. Около 170 г. Ония
испрашивает у царя разрешение возвести храм «по меркам иерусалим¬
ского»419, обосновывая это тем, что множество существующих вопреки
^ Какой-то фарисейский умник, однако, исказил ее вставкой глав 32—37416.
Если предположение о существовании халдейского профетизма наряду с профе-
тизмом Исайи и Заратустры верно, то в таком случае книга Бытия обязана своими уди¬
вительно I лубокими сказаниями о сотворении мира именно этой юной, внутренне род-
сШенной и одновременной астральной религии, точно так же как персидская — видения¬
ми конца света.
**** Funk S. Die Entstehung des Talmuds. 1919. S. 106.
Sachau E. Aram. Papyros und Ostraka aus Elefantine. 1911.
668 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
закону храмов является поводом к возникновению постоянных рас¬
прей между общинами.
Необходимо рассмотреть еще один момент. Со времени пленения
иудейство, как и персиянство, начавшись с малого племенного союза,
чрезвычайно выросло количественно, причем произошло это посред¬
ством обращения и переходов. Это единственная форма завоевания, на
которую способна нация, не имеющая земли, и потому она столь естест¬
венна и самоочевидна для магической религии. На севере иудейство уже
очень рано распространилось по иудейскому государству Адиабене
вплоть до Кавказа, на юге же, вероятно, вдоль Персидского залива —
до Сабы. На западе оно задавало тон в Александрии, Кирене и на Кип¬
ре. Управление Египтом и политика Парфянского царства в значите¬
льной степени находились в руках иудеев.
Однако движение это исходит исключительно из Месопотамии. В
нем присутствует апокалиптический, а не талмудический дух. В Иеру¬
салиме Закон ставит все новые препоны на пути неверных. Отказа от
новых обращений уже недостаточно. Язычника нельзя иметь даже сре¬
ди предков. Один фарисей осмеливается потребовать от любимого все¬
ми царя Гиркана (135— Ю6420), чтобы тот сложил с себя сан первосвя¬
щенника, потому что его мать была в плену у неверных*. Это та же
узость, что проявляется и у древнейшей христианской общины в про¬
тиводействии миссионерству среди язычников. На Востоке никому бы
даже в голову не пришло обозначать здесь какую-то границу: это про¬
тиворечило бы самому понятию магической нации. Отсюда, однако,
следует духовное превосходство обладающего широтой Востока. Пускай
даже иерусалимский синедрион пользуется неоспоримым религиоз¬
ным авторитетом, политически, а тем самым и исторически реш-галу-
та представляет собой силу совершенно иного порядка. Это упускает
из виду как христианская, так и иудейская наука. Насколько мне изве¬
стно, никто не обратил внимания на тот важный факт, что преследова¬
ние Антиоха Эпифана было обращено не против «иудейства» вообще,
но против Иудеи, а это приводит нас к уяснению еще более важного об¬
стоятельства.
Разрушение Иерусалима затронуло лишь очень малую часть нации,
причем в высшей степени малозначительную как политически, так и ду¬
ховно. Неверно, что иудейский народ жил «в рассеянии» с тех пор. Нет,
он уже на протяжении столетий жил в такой форме, которая ни к какой
земле привязана не была, причем не один, а вместе с персидским и дру¬
гими народами. Неверно понимают также и впечатление, произведен¬
ное этой войной на собственно иудейство, которое Иудея рассматри¬
вала как свой придаток и соответственно с ним обращалась. Победа
язычников и гибель святыни были прочувствованы до глубины души**,
* Иосиф Флавии. Иудейские древности XIII 10, 291—292.
**
Так же, как, например, восприняла бы католическая церковь разрушение Вати¬
кана.
Глава третья. Проблемы Арабской культуры 669
и в ходе крестового похода 115 г. было совершено страшное мщение,
однако это имело значение для иудейского, а не иудаисте кого идеала .
«Сионизм» воспринимался тогда всерьез — как раньше, при Кире, так
и как теперь — лишь весьма небольшим и духовно ограниченным ме¬
ньшинством. Если бы беду действительно воспринимали как «утрату
родины», как представляем это себе мы с точки зрения западного ощу¬
щения, то со времени Марка Аврелия было сто случаев отвоевать себе
эту землю обратно. Однако это противоречило бы магическому нацио¬
нальному ощущению. Идеальной формой нации была «синагога», con¬
sensus в чистом виде, как протокатолическая «зримая церковь» и как
ислам422, а как раз она-то только и была вполне осуществлена вследствие
уничтожения Иудеи и действовавшего здесь племенного духа.
Война Веспасиана, ведшаяся исключительно против Иудеи, была
освобождением иудаизма. Ибо, во-первых, тем самым было покончено
с претензиями населения этой крошечной области на то, чтобы быть
нацией в подлинном смысле слова, а также с приравниванием ее голой
духовности к душевной жизни целого. Приходит-таки час восточных
университетов с их научными изысканиями, схоластикой и мистикой.
В высшей школе в Негардее верховный судья Карна приблизительно
одновременно с Ульпианом и Папинианом составляет свод первого
гражданского права*. А во-вторых, то было спасением этой религии от
опасностей псевдоморфоза, жертвой которого в это же самое время
пало христианство. Начиная с 200 г. существовала полуэллинистиче-
ская иудейская литература. «Проповедник» Соломона («Кохелет»)423
содержит пирронические настроения. Далее идут «Премудрость Соло¬
мона», 2-я Маккавейская книга, Феодот424, послание Аристея425 и др.;
имеются такие памятники, как, например, собрание изречений Ме¬
нандра, относительно которых вообще не представляется возможным
решить, следовало бы им быть греческими или иудейскими. Ок. 160 г.
были первосвященники, которые нападали на иудейскую религию,
стоя на позициях эллинистического духа, и позднейшие правители, та¬
кие, как Гиркан и Ирод, пытавшиеся осуществить то же политически¬
ми средствами. 70 год426 резко и окончательно положил этой опасности
конец.
Во времена Иисуса в Иерусалиме существовали три течения, кото¬
рые можно рассматривать как общеарамейские: фарисеи, саддукеи и ес-
сеи. Хотя понятия и имена здесь весьма неустойчивы, а в воззрениях
как христианской, так и иудейской науки наблюдается разнобой, все
Же можно сказать следующее.
Первое умонастроение с наибольшей чистотой проявляется в иуда¬
изме, второе — в халдействе, третье — в эллинизме427 **. Возникновение
в^восточной Малой Азии подобного ордену культа Митры носило ес-
Ср. т. 2, с. 531 сл.
У Schiele (Die Religion in Gesch. u. Gegenwart III. S. 812) два последних течения
Няются названиями, однако в явлении как таковом это ничего не меняет.
670 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
сейский характер, система Порфирия в культовой церкви — фарисей¬
ский. Саддукеи, хотя в самом Иерусалиме они появляются как неболь¬
шой элитарный кружок (Иосиф сравнивает их с эпикурейцами428), все¬
цело арамеизированы своими апокалиптическими и эсхатологически¬
ми настроениями, тем, что в это раннее время родственно духу Досто¬
евского. Они и фарисеи соотносятся, как мистика и схоластика, как
Иоанн и Павел, как Бундехеш и Вендидад429 у персов. Апокалиптика
народна и проступает во многих чертах всеобщего душевного досто¬
яния арамейского мира. Талмудическое и авестийское фарисейство
нетерпимо, оно старается как можно резче обособиться от любой про¬
чей религии. Самое важное для него — это не вера и видения, но стро¬
гий ритуал, который должен выучиваться и соблюдаться, так что с его
точки зрения непосвященный вовсе не может быть благочестивым, по¬
скольку не знает закон.
Ессеи появляются в Иерусалиме в качестве монашеского ордена
вроде неопифагорейцев. У них имеются тайные писания*. В широком
смысле они являются представителями псевдоморфоза и потому после
70 г. полностью пропадают из иудейства, между тем как именно теперь
христианская литература становится чисто греческой — не в послед¬
нюю очередь потому, что эллинизированное западное иудейство поки¬
нуло уклоняющийся в сторону Востока иудаизм и постепенно раство¬
рилось в христианстве.
Однако также и апокалиптика — форма выражения человечества,
не знающего городов и им враждебного, — очень скоро приходит к
своему завершению внутри синагоги, еще раз пережив удивительный
расцвет под впечатлением катастрофы**. Когда вполне определилось,
что учение Иисуса переросло не в реформу иудаизма, но в новую рели¬
гию, и ок. 100 г. были введены ежедневные формулы проклятия иуде-
охристиан, апокалиптика осталась при юной религии — на весь тот не¬
продолжительный срок, что остался ей существовать.
6
Образ Иисуса — вот то несопоставимое, чем юное христианство
возвышается над всеми религиями того изобильного раннего времени.
Во всех великих творениях тех лет нет ничего, что можно было бы по¬
ставить с ним рядом. Всякому, кто читал тогда историю его страданий и
слышал, как она происходила незадолго до того, — последний приход в
Иерусалим, последняя жуткая вечеря, минута отчаяния в Гефсиман-
ском саду и смерть на кресте, — плоскими и пустыми должны были
представляться все легенды и священные приключения Митры, Атти-
са и Осириса.
* Bousset. Rel. d. Jud. S. 532.
Барух, 4-я книга Эздры, первоначальная редакция Откровения Иоанна.
рлава третья. Проблемы Арабской культуры
671
Здесь нет никакой философии. Высказывания Иисуса, многие из
которых его соратники дословно сохраняли в своей памяти до глубо¬
кой старости, — все равно что речи ребенка посреди чуждого и боль-
лого мира-перестарка. Никаких социальных наблюдений, никаких
проблем, никакого мудрствования. Посреди эпохи великого Тибе¬
рия, вдали от всякой всемирной истории, как безмятежный блажен¬
ный остров, застыла на Генисаретском озере жизнь этих рыбаков и
ремесленников: им и невдомек, что за события вершатся; а вокруг
блистают эллинистические города с их храмами и театрами, с утон¬
ченным западным обществом и шумливыми развлечениями черни, с
римскими когортами и греческой философией. Когда друзья и спут¬
ники Иисуса состарились, а брат казненного возглавил иерусалим¬
ский кружок, из высказываний и рассказов, которые были широко
распространены в этих малых общинах, собралась картина жизни та¬
кой трогающей за живое задушевности, что она сама собой вызвала на
свет форму изложения, не имевшую прообраза ни в античной, ни в
арабской культуре, — Евангелие. Христианство — единственная в ми¬
ровой истории религия, которая делает данную в непосредственном
настоящем человеческую судьбу символом и средоточием всего тво¬
рения.
Весь арамейский мир сотрясла тогда волна колоссального возбуж¬
дения, подобная той, что изведал германский мир ок. 1000 г. Магиче¬
ская душа пробудилась. Ныне исполнялось то, что как предчувствие
содержали в себе профетические религии, что явилось ко времени
Александра в метафизических очертаниях. И исполнение это с неви¬
данной силой пробудило прачувство;страха. То, что рождение «я» и ми¬
рового страха тождественны меж собой, — одна из величайших тайн
человечества и вообще жизни, наделенной свободой передвижения.
Макрокосм, раскрывающийся перед микрокосмом, — широкий,
сверхмощный; эта бездна бытия и деятельности, чуждых, залитых сле¬
пящим светом, заставляет крохотную, одинокую самость робко заби¬
ться в саму себя. Никакой взрослый, даже в самые мрачные минуты
своей жизни, не в состоянии снова пережить тот страх собственного
бодрствования, который подчас нападает на детей430. Довлел этот смер¬
тный страх и над зарей новой культуры. В этой утренней свежести ма¬
гического миросознания, пребывавшего в смятении, сомнении, неяс¬
ности относительно себя самого, в новом свете предстал близкий ко¬
нец света. Это самая первая мысль, с которой до сих пор приходила к
самосознанию каждая культура. Всякую душу, склонную к самоуглуб¬
лению, захлестнуло половодье откровений, чудес, последних узрений
первоосновы вещей. Все мыслили, все жили исключительно в апока¬
липтических образах. Действительность сделалась иллюзией. Повсюду
таинственно рассказывали о необычных, жутких видениях, их вычиты-
вали из неясных, темных сочинений — и тут же с непосредственной
внутренней уверенностью их постигали. Такие писания, которые не¬
672
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
возможно даже отнести к какой-то одной религии*, странствовали от
общины к общине, переходили из деревни в деревню. Они имеют пер¬
сидскую, халдейскую, иудейскую окраску, но вобрали в себя все, что
происходило тогда в умах и душах. Если канонические книги национа¬
льны, то апокалиптические — в буквальном смысле интернациональ¬
ны. Они просто имеются здесь, в наличии, словно никто их и не писал.
Содержание их зыблется, представляясь сегодня одним, а завтра —
иным. Однако с «сочинительством» все это не имеет ничего общего**.
Они подобны внушающим ужас образам с фасадов романских соборов
Франции, которые также вовсе никакое не «искусство», но окаменев¬
ший страх. Всякому были известны эти ангелы и демоны, эти вознесе¬
ния божественных существ на небеса и сошествия их во ад, эти праче-
ловекили второй Адам, посланец Бога в день конца света, Сын Челове¬
ческий, Вечный град и Страшный суд***. И пускай где-то далеко, в
чуждых городах, у высоких престолов строгого персидского и иудей¬
ского духовенства, вырабатываются отвлеченные учения о тонкихдис-
тинкциях и ломаются из-за них копья; здесь же, среди простого народа,
нет почти никакой обособившейся религии, а есть общая магическая
религиозность, она наполнила все души и ее идеи и образы могут иметь
какой угодно источник. Приблизился конец света. Его ждали. Все зна¬
ли, что теперь должен появиться «Он», тот, о ком шла речь во всех от¬
кровениях. Восставали пророки. Люди сходились во все новые общи¬
ны и кружки в убеждении, что так они лучше познают свою исконную
религию или найдут религию истинную. В эту эпоху колоссальнейше¬
го, росшего от года к году напряжения, во время, очень близкое к рож¬
дению Иисуса, среди бесчисленных общин и сект возникла и религия
спасения мандантов, ни основателя, ни происхождения которой мы не
знаем. Как кажется, несмотря на ненависть ее приверженцев к иеруса¬
лимскому иудаизму и на их склонность к персидской трактовке идее
спасения, они были очень близки и к народным верованиям сирийско¬
го иудейства. Их удивительные сочинения становятся теперь, фраг-
Таковы Книга наассенов (Wendland Р. Hellenist.-гот. Kultur. S. 177 ff.), «литургия
Митры» (изд. Dieterich), герметический Поймандр (изд. Reitzenstein), псалмы Соломона.
Деяния апостолов Фомы и Петра, Пистис София и т. д., предполагающие еще более
примитивную литературу от 100 г. до Р. X. по 200 г. по Р. X.
Как и «Сон смешного человека» Достоевского.
Теперь благодаря находкам Турфанских рукописей, которые поступают в Берлин
начиная с 1903 г.411, становится возможным вынести окончательное суждение относи¬
тельно этого мира раннемагических представлений. Тем самым в нашей науке (но в
первую очередь в самом нашем подходе) преодолевается фальсифицирующий, еще бо¬
лее усугубленный находками папирусов в Египте, перекос в сторону западно-эллини¬
стического материала, и все наши воззрения подвергаются коренному пересмотру. На¬
конец-то будет по достоинству оценен подлинный и почти не тронутый наукой Восток
со всеми этими апокалипсисами, гимнами, литургиями, книгами поучений, принадле¬
жащими персам, мандантам, манихейцам и бесчисленным сектам. И тем самым раннее
христианство окажется помещенным в тот круг, которому оно обязано своим внутрен¬
ним происхождением (ср. Luders Н. Sitz. Berl. Ак. 1914; Reitzenstein R. Das iranische
Erlosungsmysterium. 1921).
Глава п,ретъя. Проблемы Арабской культуры 673
мент за фрагментом, общим достоянием. Цель ожиданий повсюду —
«Он», Сын Человеческий, посланный в глубины избавитель, который
сам должен быть избавлен. В книге Иоанна Отец, высоко вознесенный
в Доме совершенства, залитый сиянием, обращается к своему Сыну:
«Сын мой, будь моим посланцем, отправься в мир тьмы, куда не проби¬
вается ни один луч света». И Сын взывает к нему снизу: «Великий Отче,
чем я согрешил, что ты послал меня в глубину?» И наконец: «Без поро¬
ка взошел я наверх, и не было во мне ни греха, ни изъяна»*.
В основе здесь — сразу все характерные особенности великих про-
фетических религий, все сокровища глубочайших узрений и образов,
копившихся с тех пор в апокалиптике. В этом подспудном мире маги¬
ческого ни тени античного мышления и ощущения. Разумеется, корни
всякой новой религии скрываются без следа и навек. Однако один ис¬
торический образ мандаитства, столь же трагический в своем волении
и гибели, как и сам Иисус, выступает перед нами с явственностью, от
которой захватывает дух: это Иоанн Креститель**. Уже почти не при¬
надлежащий иудейству и исполненный жгучей ненависти к иеруса¬
лимскому духу (здесь просматривается точное соответствие прарус-
ской ненависти к Петербургу), он проповедует конец света и прибли¬
жение барнаша433, Сына Человеческого, который является теперь уже
не обетованным национальным Мессией, но должен принести с собой ми¬
ровой пожар***. К нему пришел Иисус и сделался одним из его учени¬
ков****. Ему было тридцать, когда наступило его пробуждение. Начиная
с этого момента все его сознание наполнил апокалиптический, и в ча¬
стности мандаитский идеальный мир. Прочий мир, мир исторической
действительности, простирался вокруг него иллюзорным, чуждым и
бессмысленным. То, что теперь явится «Он» и положит этой столь не¬
действительной действительности конец, было его величайшим убеж¬
дением, и он, как и его учитель Иоанн, выступил в качестве провозве-
Lidzbarski. Das Johannesbuch der Mandaer. Кар. 66. Далее: Bousset Hauptprobleme
der Gnosis. 1907; Reitzenstein. Das mandaische Buch des Herm der GroBe. 1919, — прибли¬
зительно одновременный с древнейшими Евангелиями Апокалипсис. Относительно
текстов по Мессии, Сошествия во ад и песен мертвых: Lidzbarski. Mandaische Liturgien.
1920 и Книга мертвых (прежде всего вторая и третья книги левой Генза12) у: Reitzenstein.
Das Jranische Erlosungsmysterium (прежде всего S. 43 ff.).
Сюда — Reitzenstein. S. 124 ff. и приведенная там литература.
Новый Завет, получивший свою окончательную редакцию всецело в сфере за¬
падно-античного мышления, совершенно игнорирует мандаитскую религию и принад¬
лежащую к ней секту учеников Иоанна, и вообще все восточное исчезает здесь из виду.
Кроме того, имела место явная вражда между широко распространенной в то время об¬
щинной Иоанна и первохристианами (Деяния, гл. 18-19. Ср.: Dibelius. Die urchristliche
Uberlieferung von Johannes dem Taufer). Впоследствии манданты так же резко отвергали
христианство, как и иудаизм; Иисус был для них ложным Мессией; в их апокалипсисе
° *°$поде Великом постоянно возвещается явление Эноша.
По Reitzenstein. Das mandaische Buch des Herm der GroBe. S. 65, он был приговорен
.Иерусалиме как ученик Иоанна. По Lidzbarski (Mand. Lit., 1920, XVI) и Zimmem
пей*14 Morg. Gesellsch. 1920. S. 429), выражение «Иисус Назарей», или «Назо-
реи», позднее перенесенное христианской общиной на Назарет (Матф. 2, 23, с подде-
Ной цитатой), указывает на принадлежность к одному мандаитскому ордену.
22
Закат Западного мира
674
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
стника этой убежденности. Еще и теперь древнейшие Евангелия,
включенные в Новый Завет, позволяют заглянуть в это время, когда он
сознавал себя не кем иным, как пророком*.
Однако наступает в его жизни момент, когда им овладевает пред¬
чувствие, а после и возвышенная уверенность: «Это ты и есть». То была
тайна, в которой он поначалу едва признавался себе сам, затем поведал
о ней своим ближайшим друзьям и спутникам, которые делили теперь
ее с ним, храня полное молчание, пока наконец не отважились разгла¬
сить ее перед всем светом — роковым появлением в Иерусалиме. Наи¬
более яркое свидетельство совершенной чистоты и благородства его
мыслей — это сомнение: «А не обманываюсь ли я?» — сомнение, кото¬
рое охватывает его снова и снова и о котором его ученики с полной
прямотой поведали впоследствии. Тут он приходит к себе на родину.
Сбегается вся деревня. В нем узнают прежнего плотника, забросивше¬
го свое ремесло, и возмущаются. Вся семья — мать, многочисленные
братья и сестры — его стыдится и хочет его остановить. И здесь, когда
он ощущает на себе взгляд знакомых глаз, он приходит в смятение и
магическая сила его покидает (Марк, гл. 6). В Гефсиманском саду со¬
мнение в своей призванности** соединяется с леденящим страхом гря¬
дущего, и уже на кресте можно было слышать его исполненный муки
крик, что Бог его покинул.
Даже в эти свои последние часы он жил всецело образом своего апо¬
калиптического мира. На самом деле он никогда другого и не видел.
То, что считали действительностью римляне, стоявшие под ним в ка¬
рауле, было для него объектом беспомощного изумления, миражем,
который мог невзначай обратиться ничем. В нем была чистая и нелож¬
ная душа лишенной городов земли. Городская жизнь, дух в городском
смысле слова были ему абсолютно чужды. Да видел ли он доподлинно
полуантичный Иерусалим, в который вошел как Сын Человеческий,
понял ли его в его исторической сущности? Что берет нас за живое в
последних его днях, так это столкновение фактов и истин, двух миров,
вечно неспособных понять друг друга, и его совершенное непонима¬
ние того, что с ним происходит.
Так в полноте своей вести прошел он через свою страну, однако
страна эта была Палестина. Он родился в античной империи и жил под
присмотром иерусалимского иудаизма, но стоило его изумленной
душе, ощутившей свою миссию, оглядеться вокруг, как она натолкну¬
лась на действительность римского государства и фарисейства. Отвра¬
щение к этим косным и своекорыстным идеалам, которое он разделял
со всем мандаитством и, вне всякого сомнения, с иудейскими сельча-
Например, Марк, гл. 6 и сюда же — великий переворот, Марк. 8, 27 слл. Не су¬
ществует другой такой религии, от времени возникновения которой сохранились бы
столь безыскуственные отчеты.
Нечто близкое — Марк. 1, 35 слл., где он поднимается еще ночью и отыскивает
укромное место, чтобы подкрепить себя молитвой.
Глаео третья. Проблемы Арабской культуры _ _ _ _ 675
нами просторного Востока, — важнейшая и неизменная черта всех его
печей. Пустыня рассудочных формул, которая должна была явиться
единственным путем к спасению, наводила на него оторопь. И все же
то была лишь иная разновидность благочестия, посредством раввин¬
ской логики оспаривавшая права у его собственных убеждений.
Пророкам здесь противостоял один только Закон. Однако когда
Иисуса привели к Пилату, мир фактов и мир истин пришли в непосред¬
ственное и непримиримое столкновение, причем с такой ужасающей яс¬
ностью, с таким буйством символичности, как ни в какой другой сцене
во всей мировой истории. Раздвоенность, на которой изначально
основывается всякая наделенная свободой передвижения жизнь, —
уже в силу того, что она есть, что она представляет собой и существова¬
ние, и бодрствование, — приняла здесь наивысшую из всех вообрази¬
мых форм человеческого трагизма. В знаменитом вопросе римского
прокуратора: «Что есть истина?» — единственной фразе во всем Новом
Завете, в которой о себе дает знать раса, уже заложен весь смысл исто¬
рии; здесь содержатся указания на исключительную значимость дея¬
ния, на ранг государства, на роль войны и крови, на безоговорочное за¬
силье успеха и на гордость величием судьбы. И не уста, но безмолвное
чувство Иисуса ответило на это другим, фундаментальным, если гово¬
рить о религиозной стороне жизни, вопросом: «Что есть действитель¬
ность?» Для Пилата она была всем, для него — ничем. Только так и не
иначе может противостоять подлинная религиозность истории и ее си¬
лам, только так и не иначе должна она оценивать деятельную жизнь, а
если она все же поступает по-другому, она перестает быть религией и
сама оказывается жертвой духа истории.
«Мое царство не от мира сего»434 — вот последние его слова, которые
не перетолкуешь, которые всякий должен примерить к себе, чтобы по¬
нять, на что подвигают его рождение и природа. Существование, поль¬
зующееся бодрствованием, или же бодрствование, подминающее су¬
ществование; такт или напряжение, кровь или дух, история или приро¬
да, политика или религия: здесь дано только или—или, и никакого
добросовестного компромисса. Государственный деятель может быть
глубоко религиозен, а богомолец может умереть за отечество, однако
оба они должны сознавать, по какую сторону находятся на самом деле.
Прирожденный политик презирает далекие от мира воззрения идеоло¬
га и моралиста внутри своего мира фактов — и он прав. Для верующего
все тщеславие и успех исторического мира грехо~вны и не имеют вечной
Ценности — прав также и он. Глуп тот правитель, что желает улучшить
Религию, имея в виду политические, практические цели. Но глуп и тот
моральный проповедник, который желает внести в мир действитель¬
ности истину, справедливость, мир, согласие. Никакой вере не удалось
Д° сих пор хоть в чем-то изменить мир, и никакой факт никогда не смо¬
жет опровергнуть веру. Нет никаких мостов между направленным вре¬
менем и вневременной вечностью, между ходом истории и сохранени¬
676
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ем божественного миропорядка, в строении которого выражением
«стечение обстоятельств» («Fugung») обозначается высшая степень
причинности. В этом высший смысл того мгновения, в котором Пилат и
Иисус противустали друг другу. В один миг, миг мира исторического,
римлянин распорядился распять галилеянина на кресте — и то была
его судьба. В другой миг Рим оказался обречен проклятию, а крест сде¬
лался порукой избавления. То была «Божья воля»*.
Религия — это метафизика, и ничто иное: Credo, quia absurdum435.
Причем познанная, доказанная или за доказанную почитаемая мета¬
физика — это просто философия или ученость. Здесь же имеется в виду
переживаемая метафизика, немыслимое как уверенность, сверхъесте¬
ственное как событие, жизнь в недействительном, однако истинном
мире. А по-другому Иисус и не жил ни единого мига. Он не был мора¬
льным проповедником. Усматривать в нравственном учении конеч¬
ную цель религии — значит ее не знать. Это все девятнадцатый век,
«Просвещение», гуманное мещанство. Приписывать Иисусу социаль¬
ные намерения — кощунство. Высказывания на нравственную тему,
которые он роняет при случае (если только они ему не приписывают¬
ся), служат всего лишь целям наставления. Никакого нового учения в
них нет. Есть среди них и присловья, которые знал тогда всякий. Его
учение сводилось исключительно к возвещению конца света, и образы,
навеянные этим, постоянно переполняли его душу: наступление новой
эры, явление небесного посланца, Страшный суд, Новое небо и Новая
земля**. Иного представления о религии у него никогда не было, да оно
и не может быть иным во всякое проникновенно и глубоко чувствую¬
щее время. Религия — это сплошь метафизика, потусторонность, бодр¬
ствование посреди мира, в котором свидетельству чувств открывается
один лишь передний план; религия — это жизнь в сверхчувственном и
с ним, и там, где нет силы на такое бодрствование, где нет силы хотя бы
на то, чтобы в это верить, подлинной религии нет и в помине. «Мое
царство не от мира сего» — лишь тот, кто воспримет всю значимость
этого узрения, в состоянии постигнуть последующие глубочайшие вы¬
сказывания. Только пбзднее, городское время, уже не способное на та¬
кие проникновения в суть, перенесло остаток религиозности на мир
* Принятый в этой книге подход — исторический. Поэтому он признает противо¬
положный себе как факт. Напротив того, религиозный подход неизбежно должен при¬
знавать себя истинным, а иной — ложным. Преодолеть эту двойственность невозможно.
Поэтому 13-я глава Марка, заимствованная из еще более раннего сочинения,
быть может, представляет собой наиправдивейшее изложение одной из тех бесед, кото¬
рые он вел ежедневно. Павел цитирует (1 Фесс. 4, 15—17) другую беседу, в Евангелиях
отсутствующую. Сюда же относятся драгоценные свидетельства (исследователи прене¬
брегают ими, поддаваясь общему тону Евангелий) Папия, который ок. 140 г. еще имел
возможность собрать множество устных преданий. Того немногого, что сохранилось от
его сочинения, вполне довольно, чтобы уяснить апокалиптический характер ежеднев¬
ных бесед Иисуса: их действительный тон задается 13-й главой Марка, а не «Нагорной
проповедью». Однако когда его учение превратилось в учение о нем, этот материал так¬
же перешел из его речений — в рассказ о его явлении. В этом единственном моменте
картина, рисуемая Евангелиями, неизбежно оказывается ложной.
Глава третья. Проблемы Арабской культуры 677
внешней жизни, заменив тем самым религию гуманными чувствами и
настроениями, а метафизику — моральной проповедью и социальной
этикой. В Иисусе мы находим именно обратное. «Дайте Цезарю цеза-
рево»436, т. е. покоритесь силам мира фактов, терпите, страдайте и не
спрашивайте, «справедливо» ли это. Важно лишь спасение души. «По¬
смотрите на лилии полевые»437, т. е. не беспокойтесь о богатстве и бед¬
ности. И то и другое приковывает душу к заботам этого мира. «Служить
надо Богу или маммоне»438 — под маммоной здесь имеется в виду вся
действительность в целом. Надо быть пошляком и трусом, чтобы пере¬
толковывать эти слова, пытаясь лишить их величия. Иисус вообще не
ощутил бы никакой разницы между трудом ради собственного богатст¬
ва и ради социальной устроенности «всех». И если богатство его пуга¬
ло, а древняя иерусалимская община, орден со строгим уставом (а во¬
все не клуб социалистов), отвергла собственность439, то в этом — вели¬
чайшая из всех мыслимых противоположность любого рода
«социальной ориентированности». Убеждения такого рода не возника¬
ют, если внешнее положение признается всем, но только если оно не
ставится ни во что, и появляются они не тогда, когда посюсторонней
ублаготворенности придается исключительная ценность, но когда к
ней проявляется безусловное презрение. Но разумеется, должно здесь
существовать нечто такое, в сравнении с чем все земное счастье обра¬
щается в прах. И вновь мы видим расхождение между Толстым и До¬
стоевским. Толстой, горожанин и западник, усмотрел в Иисусе лишь
социального этика и, как и весь цивилизованный Запад, способный
лишь распределять, но не смиряться440, принизил древнее христианст¬
во до уровня социально-революционного движения, причем именно
по причине отсутствия в себе метафизической мощи. Достоевский,
этот бедняк, подчас делавшийся почти святым, никогда не помышлял
о социальных улучшениях: разве поможешь душе, упразднив собствен¬
ность?
Через несколько дней среди друзей и учеников, которые были внут¬
ренне раздавлены чудовищным финалом прихода в Иерусалим, рас¬
пространилось известие о его воскресении и явлении. Люди поздних
эпох никогда не в состоянии вполне уяснить, что означало это для та-
ких ДУШ и в такое время. Тем самым оказывались исполненными все
ожидания апокалиптики этого раннего времени: восшествие в конце
нынешнего зона спасенного Спасителя, Саошйанта441, Эноша, или
ЬаРнаша, или как бы там еще «его» ни называли и себе ни представля-
Ли> в световое царство Отца. Тем самым возвещенное будущее и новая
эра, «Царство небесное», сделались непосредственным настоящим.
Юди эти вдруг очутились в решающем моменте истории спасения. Та-
678 Том 2 ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
кая уверенность полностью переменила взгляд маленького кружка на
мир. «Его» учение, как оно проистекало из его мягкой и благородной
натуры, его внутреннее ощущение соотношения между человеком и
Богом и смысла времен вообще, исчерпывающим образом обозначав¬
шееся словом «любовь», ушло на задний план, и на это место вступило
учение о нем. В качестве «Воскресшего» их учитель сделался в рамках
апокалиптики новым образом, причем образом самым значительным
и завершающим. Однако тем самым картина будущего превратилась в
картину, хранившуюся в памяти. В таком вступлении пережитой само¬
лично действительности в круг великих видений было нечто радикаль¬
ное, неслыханное во всем магическом идейном мире. Иудеи, и среди
них молодой Павел, и манданты, среди которых были ученики Крести¬
теля, бросились страстно это оспаривать. Для них он был ложным Мес¬
сией, о котором говорили уже древнейшие персидские источники*.
Для них «он» еще должен был прийти; для малой же общины «он» уже
здесь был. Они «его» видели, жили с «ним» рядом. Следует всецело
вжиться в это сознание, чтобы постичь всю меру колоссального его
превосходства в ту эпоху. Вместо неуверенного взгляда куда-то вдаль —
зримое, захватывающее настоящее, вместо выжидательного страха —
освобождающая уверенность, вместо сказания — сообща пережитая
человеческая судьба. То, что возвещалось здесь, действительно было
«благой вестью».
Но возвещалось кому? Уже в самые первые дни возникает вопрос,
становящийся решающим для всей судьбы нового откровения. Иисус и
его друзья были иудеями по рождению, однако они не принадлежали к
иудейской стране. Здесь, в Иерусалиме, ждали Мессию древних свя¬
щенных книг, который должен был прийти лишь для иудейского народа
как племенной общности в прежнем смысле. Однако весь прочий ара¬
мейский край ожидал освободителя мира, Спасителя и Сына Человече¬
ского всех апокалиптических писаний независимо от того, существова¬
ли ли они в иудейской, персидской, халдейской или мандаитской редак¬
ции**. В одном случае смерть и воскресение Иисуса были событиями
всего лишь местного значения, в другом — они знаменовали собой все¬
мирный поворот. Ибо, в то время как повсюду иудеи стали магической
нацией без родины и единства происхождения, в Иерусалиме крепко
держатся за племенное представление. Речь шла не о миссионерстве
среди «иудеев» или «язычников»: раскол пролегал куда глубже. Само
слово «миссионерство» имеет здесь два разных значения. С точки зре¬
ния иудаизма ни в какой агитации, собственно, и не было нужды; на-
* Сам Иисус об этом знал: Матф. 24, 5 и 11.
Обозначение «Мессия» (Христос) — древнеиудейское, обозначения «Господь»
(,Kvpios, divus) и «Спаситель» (сга>тр, Asclepios) — восточноарамейского происхождения.
В рамках псевдоморфоза Христос делается именем, а Спаситель — титулом Иисуса; од¬
нако Господь и Спаситель уже до того были титулами эллинистического культа импе¬
ратора: в этом — вся судьба ориентированного на Запад христианства (ср. теперь: Reit-
zenstein. Das iran. Erlosungsmysterium. S. 132 Anm.).
Проблемы Арабской культуры
679
Главатретья^
огив, она противоречит идее Мессии. Понятия «племя» и «миссио¬
нерство» — взаимоисключающие. Тем, кто принадлежит к избранному
народу, и прежде всего его духовенству, следовало лишь убедиться, что
ныне обетование исполнилось. Идеей же магической, основанной на
consensus’е нации, подразумевалось, что Воскресением дается полная и
окончательная истина, а значит, с consensus'ом в отношении ее — и осно-
ва истинной нации, которая должна теперь распространяться вширь,
пока не вберет в себя все более древние, по идее своей менее совершен¬
ные нации. «Один пастух, одно стадо» — вот какова была формулировка
новой всемирной нации. Нация избавителя была тождественна с челове¬
чеством. Если мы оглядим предысторию этой культуры, то окажется,
что спорный вопрос Собора апостолов* был на деле предрешен уже за
500 лет до этого: после вавилонского плена иудейство (за единственным
исключением замкнутого в себе кружка Иудеи), точно так же как персы
и халдеи, в широчайшем масштабе проводило миссионерство среди не¬
верных от Туркестана до Внутренней Африки, не обращая внимания на
то, кто они и откуда, и никто не брался это оспаривать. У этой общины и
в мыслях не было, что может быть как-то иначе. Она сама была результа¬
том национального существования, пребывавшего в распространении.
Древнеиудейские тексты были тщательно оберегаемым сокровищем, а
правильное их истолкование, галаху, раввины приберегли для себя. Ве¬
личайшей противоположностью этому являлась апокалиптическая ли¬
тература: написанная, чтобы пробуждать все умы без каких-либо огра¬
ничений, она передавалась на истолкование каждому.
Как представляли себе это самые старые друзья Иисуса, видно из того
факта, что они, как община конца времен, обосновались в Иерусалиме и
постоянно бывали в храме442. Для этих простых людей, среди которых
были его братья, поначалу решительно его отвергшие, и мать, теперь уве¬
ровавшая в казненного сына**, власть иудейской традиции была покрепче
апокалиптического духа. Их намерение убедить иудеев не осуществилось,
хотя поначалу к ним переходили даже фарисеи; они остались одной из
сект в рамках иудаизма, и результат, «Исповедание Петра»443, вполне
можно понимать в том смысле, что это они представляют теперь истин¬
ное иудейство, синедрион же представляет иудейство ложное***.
Мы не знаем, какова была дальнейшая судьба этого кружка****: он
оказался забыт в результате того, что новое апокалиптическое учение
Деяния, гл. 15; Гал., гл. 2.
Деяния, 1, 14; ср. Марк, гл. 6.
Именно из такого представления исходит, в противоположность Луке444, Мат¬
феи. Это единственное Евангелие, в котором встречается слово «экклесиа»445, причем
но подразумевает истинных иудеев в противоположность толпе, не желающей внимать
Ризыву Иисуса. Это вовсе не миссионерство, как не занимался миссионерством
во0^1’ «Община» означает здесь внутрииудейский орден. (Предписания в 18, 15—20
обще несовместимы со всеобщим распространением.)
ты447 ,^озднее он сам распался на секты, среди которых были эбиониты446 и элкесаи-
^ необычной священной книгой «Элксай»: Bousset. Hauptprobleme der Gnosis.
680
Том 2 ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
сильнейшим образом воздействовало на весь мир магического ощуще¬
ния и мышления. Среди позднейших последователей Иисуса было
много таких, ощущение которых было по-настоящему магическим,
так что они были совершенно свободны от фарисейского духа. Вопрос
относительно миссионерства был ими негласно разрешен еще задолго
до Павла. Они просто не могли жить не возвещая, и повсюду, от Тигра
до Тибра, они собирали вокруг себя маленькие кружки, в которых ис¬
толковывавшийся на разные лады образ Иисуса оказывался погружен¬
ным в пласты уже существовавших видений и учений*. И в словах о
миссионерстве среди язычников или иудеев обозначился второй рас¬
кол, и раскол этот был куда важнее, чем та заранее предрешенная борь¬
ба между Иудеей и миром: Иисус жил в Галилее. Должно ли учение о
нем направиться на Запад или на Восток? Как культ Иисуса или как ор¬
ден Избавителя? В теснейшем контакте с персидской или же синкрети¬
ческой церковью, которые обе пребывали тогда в состоянии формиро¬
вания?
Решение об этом принял Павел, первая великая личность в новом
движении, первый, кто смыслил не только в истине, но и в фактах. Как
молодой раввин западной школы, ученик одного из знаменитейших
таннаим, он преследовал христиан как внутрииудейскую секту. Про¬
будившись, как это случалось тогда нередко, он обратился к множеству
малых культовых общин Запада и создал из них церковь своего чекана.
Начиная с этого момента и вплоть до Ямвлиха и Афанасия (оба ок. 330)
языческая и христианская культовые церкви развивались бок о бок, в
теснейшем взаимодействии. Преследуя свою великую цель, он испы¬
тывал к иерусалимской общине Иисуса почти неприкрытое презрение.
Во всем Новом Завете не найти более мучительного текста, чем начало
Послания к Галатам: он самолично тащил воз, учил и наставлял так,
как считал нужным. Наконец через четырнадцать лет он отправляется
в Иерусалим, чтобы принудить старинных товарищей Иисуса — своим
духовным превосходством, своим успехом и фактом своей от них неза¬
висимости — признать истинным учение, созданное им самим. Но
Петр и те, что с ним, всем фактам вопреки не признали всей значимо¬
сти обсуждения, так что отныне древняя община сделалась излишнею.
Павел был раввином по духу и апокалиптиком по ощущению. Он
признавал иудаизм, однако как предысторию. Вследствие этого впредь
существовало две магических религии с одним и тем же священным
писанием, а именно Ветхим Заветом. Но к нему оказалась приложен¬
ной двоякая галаха: одна, направленная на Талмуд, которую развивали
таннаим в Иерусалиме начиная с 300 г. до Р. X., и другая, направленная
на Евангелие, которую основал Павел и завершили Отцы Церкви. А все
В «Деяниях Апостолов» и во всех посланиях Павла такие секты подвергаются на¬
падкам; не было, пожалуй, ни одной позднеантичной и арамейской религии или фило¬
софского направления, из которых не произошла бы того или иного рода секта Иисуса.
Несомненно, существовала опасность, что история Страстей сделается не сутью новой
веры, но объединяющей составной частью всего, что уже имелось в наличии.
Проблемы Арабской культуры
681
ГлаватР^пья.
изобилие бывшей тогда в обращении апокалиптики с ее обетованием
спасения* он преобразовал в целостную уверенность спасения — как
оНа была непосредственно ему одному возвещена пред Дамаском.
«Иисус — Избавитель, а Павел — пророк Его» — таково полное содержа¬
ние того, что возвещается им. Не может быть большего сходства с Му¬
хаммедом и в манере пробуждения, и в профетическом самосознании,
н в выводах относительно исключительности своего права и безуслов¬
ной истинности своих истолкований.
С Павлом в этом кругу появляется городской человек, а с ним и «ин¬
теллигенция». Остальные, даже если они знали Антиохию или Иеру¬
салим, никогда не понимали сущности таких городов. Они жили на
селе, будучи привязаны к земле — всецело душа и чувство. И вот явля¬
ется выросший в больших городах античного стиля дух, не понимав¬
ший и не ценивший крестьянской земли. С Филоном они могли бы
друг друга понять, с Петром же — нет. Это Павел первый увидел пере¬
живание Воскресения как проблему, и блаженное созерцание дере¬
венских апостолов превратилось у него в голове в поединок духовных
принципов. И в самом деле, как различно все это было — борение в
Гефсиманском саду и мгновение перед Дамаском: дитя и муж, страх
душевный и духовное решение, смирение перед смертью и переход на
другую сторону. Поначалу Павел усматривал в новой иудейской секте
опасность для иерусалимского фарисейского учения и вдруг понял,
что назарейцы «правы» — слово, о котором у Иисуса и подумать не¬
возможно. И вот уже он защищает их дело от иудаизма, подымая его
тем самым до значимости духовной величины, между тем как до сих пор
оно было знанием о пережитом: «Духовная величина» — и тем самым
он совершенно бессознательно сближает то, что защищает, с иными
существовавшими тогда духовными силами: западными городами. Чи¬
стая апокалиптика никакого «духа» не замечает. Старые товарищи
Иисуса были абсолютно не в состоянии понять Павла. Должно быть,
они смотрели на него, когда он к ним обращался, со страхом и печа¬
лью. Живой для них образ Иисуса (а Павел никогда его не видел)
блекнул на этом ослепительном свету понятий и утверждений. С этих
пор начинается преобразование священного воспоминания в школь¬
ную систему. Однако Павел совершенно верно чувствовал, где лежит
истинная родина его мыслей. Все свои миссионерские поездки он на¬
правил на Запад, оставив Восток без какого-либо внимания. Он ни¬
когда не покидал региона античных государств.Почему он отправился
+
Он досконально ее знал. Многие из его внутреннейших узрений немыслимы без
26??ы?СКИХ и манДаитских впечатлений, как, например, Римл. 7, 22—24; 1-е Кор. 15,
Rsm ^ слл* с цитат°й персидского происхождения: Reitzenstein, Das iran. Erlosun-
^mysterium. S. 6 и 132 слл. Однако это никак не может служить доказательством непо-
был СТВеНН0Г0 знакомства Павла с персидско-мандаитской литературой. Эти истории
пш Тогда так же расПр0СТранены как прежде легенды и народные сказки у нас. Их
^ЖДому доводилось слушать в детстве, они ежедневно были на слуху. Никто и не дога-
как сильно он ими околдован.
682
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
в Рим, в Коринф, а не в Эдессу и Ктесифон? И почему в одни только го¬
рода, а никогда не шел из деревни в деревню?
Павел, и только он, придал ходу вещей такой поворот. Перед лицом
его практической энергии чувства всех остальных в расчет не принима¬
лись. Тем самым была предрешена городская и западная тенденция
юной церкви. Последних язычников называли впоследствии ра-
gani44S — сельские жители. Возникала колоссальная опасность, прео¬
долеть которую смогли лишь молодость и первозданная сила оформ¬
лявшегося христианства: на него покусилось феллахство античных ми¬
ровых столиц, явственные следы чего христианство хранит и поныне.
Как же все это далеко от самого Иисуса, жившего в тесной связи с зем¬
лей и ее людьми! Он совершенно не замечал псевдоморфоза, посреди
которого родился, и не имел в душе своей ни малейшей от него черты, и
вот теперь, всего поколение спустя, когда мать его была, быть может,
еще жива, то, что произросло в результате его смерти, сделалось уже
центральным моментом стремления псевдоморфоза к оформленности.
Уже очень скоро античные города сделались единственным местом ку¬
льтового и догматического развития. Община распространялась на
восток только украдкой, словно опасаясь себя обнаружить*. Ок. 100 г.
были христиане уже за Тигром, однако для хода церковного развития
всех их со всеми их убеждениями все равно что не существовало.
И вот из непосредственного окружения Павла явилось также и дру¬
гое творение, существенным образом определившее образ новой церк¬
ви, — Евангелия. То, что они существуют, является, как ни значитель¬
но способствовали литературному их оформлению сама личность и ис¬
тория Иисуса, заслугой одного-единственного человека, Марка**.
Павел и Марк застали в общинах устоявшуюся традицию, «Евангелие»
как таковое — изустную «благую весть» и пересказ ее по цепи дальше.
Лишенные формы, малозначительные заметки на арамейском и грече¬
ском поддерживали эту традицию, однако ни о каком связном изложе¬
нии не шло и речи. Не было сомнения, что настанет время и появятся
важные письменные сочинения, однако в духе кружка, жившего с
Иисусом, как и в духе Востока вообще, естественным было бы канони¬
ческое собрание его высказываний — дополненных на соборах, дове¬
денных до конца и снабженных комментарием, а к этому — еще один
апокалипсис Иисуса, с его Вторым пришествием как центральным мо¬
ментом. Имевшиеся к этому предпосылки были окончательно похоро¬
* Раннее миссионерство на Востоке почти что не исследовалось, да и нелегко его
проследить в частностях. Sachau. Chronik von Arbela. 1915; Он же. Die Ausbreitung des
Christentums in Asien, Abh. Pr. Ak. d. Wiss. 1919; Hamack. Mission und Ausbreitung des
Christentums II. S. 117 ff.
Исследователи, которые чересчур по-гелертерски ломают копья вокруг Прото¬
марка, источника Q, «источника двенадцати», упускают из виду принципиальную но¬
визну. Марк — это первая «книга» христианства, нечто планомерное и цельное. Такое
никогда не может быть естественным следствием развития, но всегда является заслугой
одного человека, и именно это-то и означает здесь исторический поворот.
я. Проблемы Арабской культуры
683
ненЫ Евангелием Марка, написанным ок. 65 г., одновременно с по¬
следними посланиями Павла, причем, как и они, по-гречески. Тем са-
*1Ь1М автор, и не догадывавшийся о значении своего небольшого
сочинения, стал одной из самых значительных личностей не только
христианства, но и арабской культуры вообще. Все более ранние про¬
бы исчезли. В качестве источников об Иисусе остались лишь сочине¬
ния в форме Евангелия. Это произошло настолько естественно, что
вместо содержания «Евангелие» стало теперь обозначать форму. Про¬
изведение это обязано своим происхождением пожеланию павлинист-
ского, привыкшего к литературе кружка, никогда не слышавшего, как
об Иисусе рассказывает кто-то из его товарищей. Это апокалиптиче¬
ская картина жизни издали: переживание заменено рассказом, причем
таким безыскусным и искренним, что апокалиптическая тенденция
вовсе не заметна*. И тем не менее она образует здесь предварительное
условие. Материалом являются не слова Иисуса, но учение о нем в пав-
линистской редакции. Первая христианская книга происходит из тво¬
рения Павла, однако уже очень скоро само это творение оказывается
невозможно себе и вообразить без этой книги и тех, что за ней последо¬
вали.
Ибо тем самым возникло то, чего Павел, этот ревностный схола¬
стик, никогда не желал, но что он неизбежно вызвал направлением
своей деятельности, — культовая церковь христианской нации. Между
тем как синкретическая вероисповедная община по мере того, как она
достигала самосознания, объединяла в себе бесчисленные древние го¬
родские культы и новые магические, придавая этому образованию ге¬
нотеистическую форму с помощью высшего культа, культ Иисуса
древнейших западных общин дробился и обогащался, пока на его
основе не возникла масса культов, построенных совершенно анало¬
гично**. Вокруг рождения Иисуса, о котором ученики не знали вообще
ничего, сложилась история детства. У Марка ее еще нет. Правда, в
древнеперсидской апокалиптике Саошйант как Спаситель последних
дней должен быть рожден от девы; однако новый западный миф имел
совершенно другое значение и повлек за собой необозримые последст¬
вия. Ибо теперь в области псевдоморфоза рядом с Иисусом как Сы¬
ном, неизмеримо над ним возвышаясь, встал образ Богоматери, Мате¬
ри Бога — также простая человеческая судьба столь захватывающей
силы, что она превзошла тысячу дев и матерей синкретизма: Исиду,
Тинит, Кибелу, Деметру — и все мистерии рождения''и страдания, пре-
Марк — это, собственно, и есть Евангелие. После него начинаются партийные
чинения, такие, как Лука и Матфей; тон повествования переходит в подобающий ле-
Им46 И заканчивается — по другую сторону Евангелия евреев и Иоанна — романами об
исУсе, такими, как Евангелия Петра и Якова.
^ Если употреблять слово «католический» в древнейшем его значении (Игнатий.
обеМИ^Н‘ все°бщина как сумма культовых общин, «католическими» оказываются
^ Церкви. На Востоке слово это совершенно теряет смысл. Несторианская церковь,
и персидская, нисколько не сумма, но магическое единство.
684 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
взошла и в конечном итоге вобрала их в себя. По Иринею, она Ева но¬
вого человечества. Ориген отстаивает ее приснодевственность. Собст¬
венно, это она, родив Бога-Избавителя, спасла мир. Теотокос Мария,
Богородица, была величайшим соблазном для христиан по Другую сто¬
рону границы античности, и развившиеся из этого представления дог¬
маты послужили в конце концов для монофизитов и несториан пово¬
дом к тому, чтобы отделиться и восстановить чистую религию Иисуса.
Однако когда пробудилась фаустовская культура и ей потребовался ве¬
ликий символ, чтобы в чувственной форме ухватить свое прачувство
нескончаемого времени, истории и последовательности поколений,
она поставила в центр германско-католического христианства готики
Mater dolorosa [скорбящую Мать (лат.)], а не страждущего Спасителя, и
на протяжении целых веков цветущей задушевности этот женский об¬
раз являлся высшим проявлением фаустовского мироощущения и це¬
лью всей поэзии, искусства и благочестия. Еще и сегодня в культе и мо¬
литвах католической церкви, но прежде всего в чувствах верующих
Иисус занимает второе после Мадонны место* 449.
Рядом с культом Марии возникли бесчисленные культы святых, ко¬
личество которых, несомненно, превысило количество античных
местных божеств, и когда языческая церковь наконец угасла, христи¬
анская — в форме почитания святых — вобрала в себя все богатство
местных культов.
Однако Павел с Марком определили еще один момент, который не¬
возможно переоценить. Следствием его миссионерства явилось то, что
греческий язык сделался языком церкви и ее Священных Писаний, и
прежде всего первого Евангелия, хотя изначально даже предположить
такое никому бы не пришло в голову. Священная греческая литерату¬
ра — только представьте себе, что это значит! Церковь Иисуса была ис¬
кусственно отделена от своего духовного источника и пристегнута к
чуждому, ученому. Контакт с народным духом родной арамейской зем¬
ли был утрачен. Начиная с этого момента обе культовые церкви имели
один и тот же язык, одну и ту же понятийную традицию, один и тот же
книжный арсенал одинаковых школ. Тем самым была отсечена воз¬
можность соучастия в жизни церкви куда более изначальных арамей¬
ских литератур Востока, литератур собственно магических, писавших¬
ся и замышлявшихся на языке Иисуса и его товарищей. Их больше не
могли читать, за ними больше не следили, в конце концов их позабыли.
Пускай даже священные тексты персидской и иудейской религий со¬
ставлялись на авестийском языке и иврите, тем не менее языком их ав¬
торов и истолкователей, языком всей апокалиптики, из которой вы¬
росло учение Иисуса и учение о нем, наконец, языком ученых во всех
высших школах Месопотамии был арамейский. И все это теперь исчез¬
ло из поля зрения, а на освободившееся место встали Платон и Аристо-
Meyer Ed. Urspr. u. Anfange d. Christentums. 1921. S. 77 ff.
Глаеа третья^ ^Проблемы Арабской культуры
685
которых схоластики обеих культовых церквей сообща перераба¬
тывали и в равной степени превратно понимали.
Завершающий шаг в этом направлении хотел сделать человек, рав¬
ный Павлу по организаторскому дарованию, а по способности духов¬
ного созидания далеко его превосходивший; однако он уступал Павлу в
том, что можно назвать чутьем на возможное и фактическое и потому,
несмотря на все свои далеко шедшие намерения, потерпел поражение.
То был Маркион*. Он усмотрел в творении Павла, со всеми вытекаю¬
щими из него следствиями, лишь фундамент для основания подлин¬
ной религии избавления. Он прочувствовал всю абсурдность того фак¬
та что христианство и иудаизм, безоговорочно друг друга отвергавшие,
должны иметь одно и то же священное писание, а именно иудейский ка¬
нон. Нам представляется сегодня непостижимым, что на протяжении
ста лет так оно и было на самом деле. Следует вспомнить, что значит
священный текст для любого рода магической религиозности. В этом
Маркион усмотрел настоящий «заговор против истины» и непосредст¬
венную опасность для того учения, которого желал Иисус и которое, с
его точки зрения, так и не было осуществлено. Павел, пророк, объявил
Ветхий Завет исполненным и завершенным; Маркион, основоположник
религии, объявляет его преодоленным и упраздненным. Он желает иск¬
лючить все иудейское до последнего штриха. На протяжении всей
своей жизни он не сражался ни с чем, кроме как с иудаизмом. Как вся¬
кий подлинный основатель религии, как всякий творческий в религи¬
озном смысле период, он, подобно Заратустре, израильским проро¬
кам, гомеровским грекам и обращенным в христианство германцам,
превратил старых богов в дурные силы**. Иегова как Бог-Творец —
«справедливый», а значит, злой", Иисус в качестве воплощения Бога-
Избавителя является в этом злом творении «чуждым», а значит, благим
принципом. Здесь совершенно явственно дает о себе знать магическое,
и прежде всего персидское, ощущение, лежащее в основе всего. Мар¬
кион происходил из Синопы, старинной столицы Митридатовой дер¬
жавы, о религии которой свидетельствует уже само имя ее царя. Здесь
когда-то возник культ Митры.
Однако этому новому учению соответствовало и новое священное
писание. Бывшие до тех пор каноническими для всего христианства
«Закон и Пророки» являлись Библией иудейского Бога, текст которой
как раз тогда был окончательно определен синедрионом в Явне450. Та¬
ким образом, христиане держали в руках сатанинскую книгу. И вот те-
^рь Маркион противопоставил ей Библию Бога-Избавителя, причем
1^21 ^К* ^ гг.; СР* тепеРь: Hamack. Markion: Das Evangelium vom fremden Gott.
**
*** HQmack. S. 136 fif.; Bonwetsch N. Grundr. d. Dogmengesch. 1919. S. 45 f.
Ви^ To, что Маркион приравнял «справедливое» злу и в этом смысле противопоста-
Вс йзакон Ветхого Завета Евангелию Завета Нового, есть одна из глубочайших идей
тоЛВОоби* истории религии, и она обречена на то, чтобы оставаться вечно не поня-
и олагочестивой массой.
686 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
тоже составленную из сочинений, имевших прежде хождение в общи¬
нах в качестве нравоучительных, но не имевших ореола канонично¬
сти*. На место Торы он поместил единственное и истинное Евангелие,
которое сам целиком составил из нескольких искаженных и фальси¬
фицированных, по его убеждению, Евангелий, а на место израильских
пророков — послания Павла, единственного пророка Иисуса.
Тем самым Маркион явился подлинным творцом Нового Завета.
Однако как раз поэтому следует теперь указать на весьма близкую ему
фигуру того загадочного автора, который незадолго перед этим напи¬
сал Евангелие «от Иоанна». В отличие от Марка он не желал ни умно¬
жить, ни заменить собственно Евангелия, но вполне сознательно со¬
здавал первую «священную книгу» в христианской литературе, Коран но¬
вой религии**. Книга доказывает, что эта религия воспринималась уже
как нечто завершенное и долговременное. «Иоанн» и Маркион ото¬
двигают в сторону всецело наполнявшую Иисуса и еще разделявшуюся
Павлом и Марком идею относительно наступающего с минуты на ми¬
нуту конца света. Апокалиптика завершилась, и начинается мистика.
Содержанием является не учение Иисуса, как и не павлинистское уче¬
ние о нем, но тайна мироздания, мировой пещеры. О Евангелии нет и
речи: смыслом и центром всего происходящего является не образ Из¬
бавителя, но принцип Логоса. История детства вновь оказывается от¬
брошенной: Бог не рождается; он уже есть и принимает образ челове¬
ческий на Земле. И этот Бог есть Троица: Бог, Дух Бога, Слово Бога.
Эта священная книга наиболее раннего христианства впервые содер¬
жит магическую проблему субстанции, которая всецело доминирует на
протяжении последующих столетий и в конце концов приведет к рас¬
падению религии на три церкви; причем сама она находится, что сви¬
детельствует об очень многом, ближе всего к тому решению, которое
отстаивалось как истинное несторианским Востоком. Несмотря на
греческое слово «Логос» — или как раз по причине его, — это самое
«восточное» из Евангелий, и, кроме того, согласно этому Евангелию,
Иисус вовсе не приносит окончательное и целостное откровение. Он
второй посланник. Придет еще и другой (14, 16. 26; 15, 26). Это порази¬
тельное учение, возвещаемое самим Иисусом, и оно определяет в этой
таинственной книге все. Здесь внезапно обнаруживает себя вера маги¬
ческого Востока. Если не идет Логос, не может прийти и Параклит***452
(16,7), однако между ними пролегает последний эон, царство Аримана
* Ок. 150 г.: Ср. Hamack. S. 32 ft*.
О понятиях Корана и Логоса см. ниже. Как и в случае Марка, не так важно, что
служило ему основой; куда существеннее вопрос о том, как вообще мог возникнуть со¬
вершенно новый замысел такой книги, предвосхищающий и только и делающий воз¬
можным план Маркиона создать христианскую Библию. Книга эта предполагает вели¬
кое духовное движение (в Восточной Малой Азии?), которому вряд ли вообще было
что-либо известно об иудеохристианах и которое очень далеко также и от мира павли-
нистских — западных — идей, однако о том, где именно оно было распространено и
что из себя представляло, мы не знаем совершенно ничего.
Boxy-Мана, дух истины, в образе Саошйанта451.
687
^^претья. Проблемы Арабской культуры
/14 30). Церковь псевдоморфоза, в которой господствовал павлинист-
ский дух, длительное время сражалась с Евангелием Иоанна и призна¬
ла его лишь тогда, когда возмутительное, неясно намеченное учение
оказалось перекрытым павлинистским его истолкованием. О том, как
на самом деле это происходило, можно судить по отсылающему к
устной традиции движению монтанистов (ок. 160 г. в Малой Азии),
возвещавшему устами Монтана явившегося Параклита и конец света.
Они пользовались колоссальной популярностью. Начиная с 207 г. к
ним примкнул Тертуллиан в Карфагене. Ок. 245 г. Мани, очень хорошо
знакомый с течениями в восточном христианстве*, отверг в своем вели¬
ком религиозном творении павлинистского, человеческого Иисуса как
демона и признал Иоаннов Логос в качестве истинного Иисуса, себя
же провозгласил Параклитом Иоанна. Манихейцем в Карфагене сде¬
лался Августин, и тот факт, что оба движения в конце концов соедини¬
лись в единое целое с тем же Маркионом, свидетельствует о многом.
Возвращаясь к самому Маркиону, следует сказать, что он исполнил
идею «Иоанна» и создал христианскую Библию. И вот теперь он, буду¬
чи уже почти стариком, когда от него в ужасе отшатнулись общины
крайнего Запада**, приступил к основанию собственной церкви Изба¬
вителя, выстраивая ее как организационный шедевр***. В 150—190 гг.
она была силой, и лишь в следующем веке старшей церкви удалось
принизить маркионитов до уровня секты, хотя на просторах Востока,
вплоть до Туркестана, они пользовались значительным влиянием и
много позднее, пока наконец, что весьма показательно для их базового
v ****
ощущения, не слились с манихеицами .
Несмотря на это, осуществленное Маркионом великое деяние,
приступая к которому в полном сознании собственного превосходства
он недооценил заложенные в уже существующем силы инерции, не
оказалось бесплодным. Как Павел до него и Афанасий после, он явил¬
ся спасителем христианства в тот самый момент, когда тому угрожал
распад, и величию его идей нисколько не вредит тот факт, что объеди¬
нение произошло не через него, но в сопротивлении ему. Раннекато¬
лическая церковь, т. е. церковь псевдоморфоза, возникла в ее величест¬
венной форме лишь ок. 190 г., причем из необходимости обороняться
против церкви Маркиона, переняв у него всю его организацию. И Биб¬
лию Маркиона она заменила другой, однако имеющей совершенно та¬
кой же замысел: Евангелиями и Посланиями Апостолов, которые свя¬
зала затем в единое целое с Законом и Пророками. И наконец, после
того как посредством связывания обоих Заветов оценка иудаизма была
окончательно предрешена, она обратилась и против третьего создания
** К нему и «Иоанну» близки также Вардесан и система Деяний Фомы.
*** Harnack. S. 24. Разрыв с существовавшей церковью последовал в Риме в 144 г.
.... Натаск. S. 181 ff.
0На ^ак и у всякой магической религии, у них имелась собственная письменность, и
становилась все более похожей на манихейскую.
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
688
Маркиона, его учения о спасении, начав оформление своей собствен¬
ной теологии на основе его постановки проблемы.
Однако это развитие происходило исключительно на античной
почве, и в силу этого церковь, ополчившаяся против Маркиона и от¬
вержения им иудаизма, становилась для талмудического иудейства, ду¬
ховный центр которого теперь всецело находился в Месопотамии и ее
высших школах, тоже всего-навсего моментом эллинистического язы¬
чества. Разрушение Иерусалима — событие, воздвигшее барьер, и в
мире фактов его невозможно было преодолеть никакой духовной си¬
лой. Бодрствование, религия и язык слишком связаны друг с другом
внутренне, и потому полное отделение греческого языкового региона
псевдоморфоза и арамейского, принадлежащего арабскому ландшафту
в собственном смысле, не могло не привести к возникновению, начи¬
ная с 70 г., двух обособленных сфер магического религиозного разви¬
тия. На западном краю юной культуры языческая культовая церковь,
изгнанная туда Павлом церковь Иисуса и говорившее по-гречески
иудейство вроде Филона были в языковом и литературном отношении
так тесно друг с другом связаны, что последнее перешло в христианство
уже в первом веке, и христианство это сформировало общую с эллинст-
вом раннюю философию. Однако в арамейском языковом регионе от
Оронта и до Тигра иудейство и персиянство, создавшие теперь в виде
Талмуда и Авесты строгую теологию и схоластику, пребывали в тесном
взаимодействии, и обе эти теологии оказывали начиная с IV в. сильней¬
шее воздействие на противившееся псевдоморфозу христианство арамей¬
ского языка, пока оно не отделилось окончательно в виде несториан-
ской церкви.
Здесь, на Востоке, заложенное во всяком человеческом бодрствова¬
нии различие между воспринимаемым пониманием и пониманием
языковым (т. е. пониманием зрительным и буквенным) развилось в
чисто арабские методы мистики и схоластики. Апокалиптическая уве¬
ренность, гнозис в духе I века, каким желал его сообщить Иисус*, пре¬
дугадывающие узрение и ощущение — это черты израильских проро¬
ков, гат453 и суфизма, и они все еще чувствуются у Спинозы, у польско¬
го мессии Баалынема** и у Мирзы Али Мухаммеда455, мечтательного
основателя секты бабаитов (казнен в Тегеране в 1850 г.). Другое, пара-
досис456, является в собственном смысле слова талмудическим методом
истолкования слов; им в совершенстве владел Павел***, и он пронизы¬
вает все позднейшие произведения Авесты, а также несторианскую
диалектику**** и всю теологию ислама.
Матф. 11, 25 слл. и к этому — Meyer Ed. Urspr. u. Anfange d. Christ. S. 286 ft., где
описывается как раз древняя и восточная, т. е. подлинная, форма гнозиса.
См. ниже454.
Яркий пример этого — Гад. 4, 24-26.
**** Loofs. Nestoriana. 1905. S. 165 ft*.
fuaea третья. Проблемы Арабской культуры
689
В противоположность этому псевдоморфоз представляет собой со¬
вершенно единую область как по магическому приятию верой (пис-
тис), так и по метафизическому осознанию (гнозис)\ Магическую веру
в западной форме сформулировали для христиан Ириней и прежде все¬
го Тертуллиан. Знаменитое «Credo, quia absurdum» последнего пред¬
ставляет собой квинтэссенцию этой уверенности веры. Языческую
пару этому предлагают Плотин в «Эннеадах» и в особенности Порфи-
рий в трактате «О возвращении души к Богу»457 *\ Однако также и для
великих схоластиков языческой церкви существуют Отец (Нус), Сын и
промежуточное существо, как уже у Филона Логос был первородным
Сыном и вторым Богом. Учения об экстазе, об ангелах и демонах, об
обеих субстанциях души свойственны им всем в равной мере, и на при¬
мере Плотина и Оригена, бывших учениками одного учителя, мы ви¬
дим, что схоластика псевдоморфоза состоит в том, что магические по¬
нятия и идеи развиваются на основе платоновских и аристотелевских
текстов посредством планомерного их перетолковывания.
Подлинно центральное понятие всего мышления псевдоморфоза — ло¬
гос", этот верный символ мышления в его применении и развитии. О
воздействии «греческого» (античного) мышления здесь не может быть
и речи: не было тогда на свете ни единого человека, в духовной органи¬
зации которого хоть самое скромное место занимали бы понятия о ло¬
госе Гераклита и Стой. Однако обосновавшиеся в Александрии друг
подле друга теологии были столь же мало способны обеспечить свобод¬
ное развитие и подразумевавшейся под логосом магической величины,
которая, как Дух или Слово Бога, играет в халдейских и персидских
представлениях столь же определяющее значение, как в иудейских
руахи мемра458. В учении о Логосе античная формулировка через Фило¬
на и Евангелие Иоанна, непреходящее влияние которого ощущается
на Западе в сфере схоластики, стала не только элементом христиан¬
ской мистики, но в конце концов догматом"". Это было неизбежно.
Этот догмат обеих церквей полностью соответствует в качестве сторо¬
ны знания стороне веры, которая была представлена синкретическим
культом, с одной стороны, и культом Марии и святых — с другой. Про¬
тив того и другого — как догмата, так и культа — начиная с ГУ в. восста¬
ло само чувство Востока.
Однако для зрения история этих идей и понятий повторяется в исто¬
рии магической архитектуры Основной формой псевдоморфоза явля-
Наилучшую картину развития общей для обеих церквей совокупности идей дает
"indelband (Gesch. d. Philosophic. 1900. S. 177 fif.) изложение истории догматики христи-
нской церкви — Натаск (Dogmengeschichte, 1914); в точности соответствующую это-
дУ «историю догматики языческой церкви» дает, сам того не сознавая, Geffcken. Der
Usg. des griech-гбш. Heident.
... Geffcken. S. 69.
•*.. CP- следующий раздел.
***** HQrnack Dogmengeschichte. S. 165.
T. 1, гл. III.
690
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ется базилика; она была известна западным иудеям и эллинистическим
сектам халдеев еще до христиан. Как Логос Евангелия Иоанна есть ма¬
гическое протопонятие в античной редакции, так и базилика является
магическим пространством, чьи внутренние стены — это внешние по¬
верхности тела античного храма, ушедшее вовнутрь культовое сооруже¬
ние. Строительная форма чистого Востока — это купольное сооружение,
мечеть, и она, вне всякого сомнения, задолго до древнейших христиан¬
ских церквей уже имелась в храмах персов и халдеев, в синагогах Месо¬
потамии и, быть может, в храмах Сабы. Попытки достичь полюбовного
соглашения между Западом и Востоком на созывавшихся в византий¬
скую эпоху соборах в конце концов нашли свое символическое выраже¬
ние в смешанной форме купольной базилики. Таким образом в истории
церковной архитектуры нашел свое выражение тот великий переворот в
христианстве, который наступил с Афанасием и Константином, послед¬
ними его великими спасителями. Один создал стабильную западную
догматику и монашество, в чьи руки постепенно переходит закосневаю-
щее учение; второй основал государство христианской нации, которая и
стала в конце концов именоваться «греки»: купольная базилика являет¬
ся архитектоническим символом этого развития.
И. Магическая душа
8
Мир, как простирается он перед магическим бодрствованием, об¬
ладает такого рода протяженностью, которую можно было бы назвать
пещерообразной* — настолько затруднительно оказывается для чело¬
века Запада при всем обилии его понятий отыскать хоть одно слово, с
помощью которого он смог бы по крайней мере приблизительно опре¬
делить идею магического «пространства». Ибо «пространство» в вос¬
приятии той и другой культуры — это две принципиально разные
вещи. Мир как пещера столь же отличен от фаустовского мира как про¬
стора с его страстным порывом в глубину, как и от античного мира как
совокупности телесных вещей. Коперниканская система, в которой
теряется Земля, видится арабскому мышлению чем-то нелепым и лег¬
комысленным. Противясь представлению, несовместимому с миро¬
ощущением Иисуса, Западная церковь была совершенно права. И хал¬
дейская астрономия пещеры, которая для персов и иудеев, людей псев¬
доморфоза и ислама, была чем-то совершенно естественным и
убедительным, оказывалась доступна лишь немногим знакомившимся
с ней настоящим грекам, да и то лишь через перетолковывание отправ¬
ных пространственных представлений.
* По выражению Frobenius L. Paideuma. S. 92.
Глава третья. Проблемы Арабской культуры 691
Тождественное с бодрствованием напряжение между макрокосмом
и микрокосмом ведет в картине мира всякой культуры к последующим
противоположностям, также имеющим символическое значение. Все
ощущение или понимание, вся вера или знание человека оформляются
первичной противоположностью: хотя она и создает из них деятель¬
ность единичного существа, но при этом делает ее выражением всеоб¬
щего. В античности нам известна господствующая во всяком бодрство¬
вании противоположность материи и формы, на Западе — силы и мас¬
сы459. Однако в первом случае напряжение рассеивается в малом и
единичном, во втором же оно разряжается в отдельных эпизодах дейст¬
вия. В мировой пещере оно застывает в неразрешенном состоянии, в
непрестанных биениях неясной борьбы, возвышаясь тем самым до
того «семитического» прадуализма, который в тысяче обличий — и тем
не менее вечно один и тот же — наполняет магический мир. Свет про¬
низывает пещеру и сопротивляется тьме (Ин. 1, 5). И то и другое — ма¬
гические субстанции. Верх и Низ, Небо и Земля делаются сущностны¬
ми силами, сражающимися друг с другом. Однако эти противополож¬
ности изначальнейшего чувственного ощущения смешиваются с
противоположностями размышляющего и оценивающего понимания:
Добро и Зло, Бог и Сатана. Для творца Евангелия Иоанна, как и для
правоверного мусульманина, Смерть — это не конец Жизни, но Нечто,
некая сила рядом с человеком, и одна и другая борются меж собой за то,
чтобы им обладать.
Однако еще более важной представляется противоположность духа
и души — по-еврейски руах и нефеш, по-персидски аху и урван, по-ман-
даитски монухмед и гиан, по-гречески' пневма и псюхэ, — возникающая
поначалу в базовом ощущении профетических религий, а затем про¬
низывающая всю апокалиптику и оформляющая и определяющая все
мировоззрение пробудившейся культуры: у Филона, Павла и Плотина,
у гностиков и мандантов, у Августина и в Авесте, в исламе и Каббале460.
Руах изначально значит «ветер», нефеш — «дыхание»*. Нефеш всегда
каким-то образом связана с телом, с земным, с нижним, злым, с
тьмою. Стремление ее — «вверх». Руах относится к божественному, к
верхнему и свету. Нисходя, она вызывает в человеке героизм (Самсон),
священный гнев (Илия), озарение судьи, выносящего решение (Соло¬
мон)**, и всевозможные виды прорицания и экстаза. Она изливается***.
Начиная с Исайи, 11,2, Мессия — олицетворение руах. Согласно Фи-
Также и «камни души» на иудейских, сабейских и исламских могилах называют¬
ся нефеш. Несомненно, они являются символами «вверх». Сюда принадлежат и колос¬
сальные многоэтажные стелы в Аксуме, относящиеся к I—III вв. по Р. X., т. е. к велико-
периоду магической религии. Низверженная в незапамятные времена исполинская
стела представляет собой самый большой цельный камень из всех известных истории
искусства, больше любого из египетских обелисков (Deutsche Aksum-Expedition. 1913.
Bd- H. S. 28 ff.).
На этом основана вся идея и практика магического права.
Исайя 32, 15; 4-я кн. Эздры 14, 39—40; Деяния, гл. 2.
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
692
лону и исламской теологии, люди от рождения делятся на психиков и
пневматиков («избранные» — подлинное понятие мировой пещеры и
кисмата). Все сыновья Иакова — пневматики. Для Павла (1-е Кор.,
гл. 15) смысл Воскресения состоит в противоположности психическо¬
го и пневматического тела, которая для него, для Филона и Апокалип¬
сиса Баруха совпадает с противоположностью Неба и Земли, Света и
Тьмы*. Спаситель для него — это небесная пневма**. В Евангелии
Иоанна он как Логос сливается со Светом воедино; в неоплатонизме
он в соответствии с античным словоупотреблением как Ум либо Пер¬
воединое выступает в качестве противоположности природе*** ****. Павел
и Филон в соответствии с «античным», т. е. западным, распределением
понятий приравнивают дух и плоть благу и злу соответственно, Авгу-
стин же, как манихеи , в рамках персидско-восточной классифика¬
ции понятий противопоставляет и то и другое как зло по природе Богу
как единственному Благу и основывает на этом свое учение о благода¬
ти, развившееся в таком же виде совершенно независимо от него так¬
же и в исламе.
Однако в глубине своей души единичны и раздроблены; пневма
едина и всегда неизменна. Человек обладает душой, духу же света и
блага он только причастен; божественное нисходит в него, связывая та¬
ким образом все единичное внизу с Единым вверху. Это прачувство,
господствующее вообще в вере и помышлениях всех магических лю¬
дей, представляет собой нечто совершенно исключительное, отделяю¬
щее не только мировоззрение, но и все остальные стороны магической
религиозности по самой ее сути от других ее видов. Как уже было пока¬
зано, эта культура являлась в собственном смысле слова срединной.
Она вполне могла заимствовать формы и идеи у большинства других; и
то, что она этого не делала, что, несмотря на все давление со стороны и
искусы, она осталась безраздельной госпожой своей собственной
внутренней формы, доказывает всю непреодолимость различия. Из со¬
кровищниц вавилонской и египетской культур она допустила в себя
едва несколько имен; античная и индийская культуры, вернее их циви¬
лизованное наследие — эллинизм и буддизм внесли в ее выражение
сумбур вплоть до псевдоморфоза, однако даже не затронули ее сущно¬
сти. Каждая из религий магической культуры, начиная с творений
Исайи и Заратустры и до ислама, являет совершенное единство миро¬
ощущения, и насколько невозможно в веровании Авесты найти хоть
одну брахманскую черту, а в древнем христианстве хотя бы след антич¬
ного ощущения, но лишь одни имена, образы и внешние формы, так
же мало способно было и западное германско-католическое христиан¬
* Reitzenstein. Das iran. Erlosungsmysterium. S. 108 f.
Bousset. Kyrios Christos. S. 142.
Windelband. Gesch. d. Philosophic. S. 189 fif.; Windelband-Bonhoffer. Gesch. d. antiken
РЫ1М912. S. 328 f.; Geffcken. Der Ausg. des griech-rom. Heident. S. 51 f.
**** Jodi Geschichte der Ethik I. S. 58.
рлава третья. Проблемы Арабской культуры 693
ство воспринять хотя бы легкий привкус мироощущения той религии
Иисуса (при том что оно переняло весь ее арсенал высказываний и
обычаев).
Если фаустовский человек, как «я», сила, опирающаяся на саму
себя, в конечном счете принимает решения и относительно бесконеч¬
ного, если аполлонический человек, как одно <тЛ/ха среди многих дру¬
гих, решает лишь относительно самого себя, то магический человек с
его духовным бытием является лишь составной частью пневматическо¬
го «мы», которое, спускаясь сверху во все, до чего ему есть дело, остает¬
ся повсюду одним и тем же. Как тело и душа он принадлежит лишь сам
себе; однако в нем пребывает нечто иное, чуждое и высшее, и потому
он со всеми своими воззрениями и убеждениями ощущает себя лишь
членом consensus’а, который в качестве излияния божественного иск¬
лючает не то что ошибку оценивающего «я», но даже саму возможность
его существования. Истина для магического человека — нечто совер¬
шенно иное, чем для нас. Все наши методы познания, основывающие¬
ся на собственном единичном суждении, есть для него сумасбродство и
ослепление, а наши научные результаты представляют собой дело рук
лукавого, запутавшего дух и обманувшего его в отношении возможно¬
стей и целей. В этом последняя, совершенно непостижимая для нас
тайна магического мышления в его пещерообразном мире: невозмож¬
ность мыслящего, верящего, знающего «я» есть предварительное усло¬
вие всех фундаментальных представлений этих религий. В то время как
античный человек противостоит своим богам, как одно тело другому, в
то время как фаустовское, волящее «я» повсюду ощущает в своем про¬
сторном мире действие всемогущего «я» такого же фаустовского и во¬
дящего божества, магическое божество есть та неясная, загадочная вы¬
шняя сила, которая по собственному усмотрению гневается или изли¬
вает благодать, нисходит во Тьму или же возвышает душу к Свету.
Бессмысленно даже хотя бы только помышлять о собственной воле,
ибо «воля» и «мысль» в человеке — это уже действия, производимые в
нем божеством. Из этого непоколебимого прачувства, в котором лю¬
бые обращения, озарения и размышления могут изменить лишь выра¬
жение, но не его самого, с необходимостью вытекает идея божествен¬
ного посредника, того, кто преобразует это состояние из муки в бла¬
женство, идея, объединяющая все магические религии и отделяющая
ее от религий всех прочих культур.
Извлеченная из магического восприятия света в пещере, идея Лого¬
са в наиболее широком ее смысле представляет собой точную пару это-
МУ восприятию в магическом мышлении. Она означает, что от недо¬
стижимого божества отделяется его дух, его «Слово» как носитель Све-
Та и Добра и вступает в отношения с человеческим существом, чтобы
ег° возвысить, наполнить и освободить. Это отдельное бытие трех суб¬
станций, не противоречащее в религиозном мышлении их единому
оытию, известно уже профетическим религиям. Светозарная душа
694 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Ахура-Мазды — это Слово (Яшт 13, 31), и его Святой дух (Спэнта-Ма-
инйу) беседует в одном из древнейших гат со злым духом (Ангра-Ма-
инйу, Ясна 45, 2). То же представление пронизывает и всю древне¬
иудейскую литературу. У халдеев идея разделения Бога и его Слова
оформилась в противопоставление Мардука и Набу и впоследствии
мощно прорвалась наружу во всей арамейской апокалиптике, еще дол¬
го сохраняя свою живость и творческую потенцию. Через Филона и
Иоанна, Маркиона и Мани она проникла в талмудические учения, а
оттуда — в каббалистические книги «Йецира» и «Зогар»461, в труды со¬
боров и писания отцов церкви, в позднейшую Авесту и, наконец, в ис¬
лам, где Мухаммед постепенно сделался Логосом, а в качестве мисти¬
чески присутствующего, живого Мухаммеда народной религии слился
с образом Христа*. Это представление оказывается настолько самооче¬
видным для магического человека, что оно взломало даже строго моно¬
теистическую оболочку ислама, так что рядом с Аллахом в качестве
Слова Бога (калима) появляются Святой дух (рух) и Свет Мухаммеда462.
Ибо для народной религии Свет Мухаммеда и есть самый первый
возникший из мирового творения свет — в образе павлина**, созданно¬
го из «белого жемчуга» и окутанного покрывалами. Однако павлин —
посланник Бога и прадуша*** уже у мандантов, а на древнехристианских
саркофагах он — символ бессмертия. Лучезарный жемчуг, освещаю¬
щий темное здание тела, — это вселившийся в человека дух, мыслимый
в качестве субстанции как у мандантов, так и в Деяниях Фомы**** *****. Ези-
ды почитают Логос, как павлина и свет; вслед за друзами они в наи¬
более чистом виде сохранили древнеперсидское представление суб¬
станциальной троичности.
Так идея Логоса постоянно возвращается в форме светового ощу¬
щения, из которого она посредством магического понимания и была
извлечена. Мир магического человека наполнен ощущением сказочно¬
сти Дьявол и злые духи угрожают человеку, ангелы и феи его защи¬
щают. Существуют амулеты и талисманы, таинственные земли, города,
здания и существа, тайные письмена, печать Соломона и камень муд¬
рости. И на все это проливается блистающий пещерный свет, которому
постоянно угрожает опасность быть поглощенным призрачной ночью.
Тот, кому эта роскошь образов представляется изумительной, должен
вспомнить, что в ней-то и жил Иисус и что его учение может быть по¬
* Horten М. Die religiose Gedankenwelt des Volkes im heutigen Islam. S. 381 f. Шииты
перенесли идею Логоса на Али.
Wolff. Muhammedanische Eschatologie 3, 2 ff.
Книга Иоанна мандантов, гл. 75.
Usener. Vortr. u. Aufs. S. 217.
*****
«Дьяволопоклонники» в Армении: Horten М. Der neue Orient. 1918. Marz. Назва¬
ние возникло потому, что они не признали сатану в качестве существа, вследствие чего
посредством очень запутанных представлений производят Зло от самого Логоса. Этой
же проблемой занимались и иудеи под впечатлением чрезвычайно древних персидских
учений: обратите внимание на различие во 2-й Царств 24, 1 и 1-й Пар. 21, 1.
695
р^пйотретья. Проблемы Арабской культуры
нято только на ее основе. Апокалиптика — это лишь возвышенное до
величайшей трагической силы сказочное видение. Уже в книге Эноха
появляется стеклянный дворец Бога, горы из драгоценных камней и
тюрьма для звезд-предательниц. Сказочен весь потрясающий мир
представлений мандантов, а позже — мир гностиков, манихейцев, сис¬
тема Оригена и картины персидской Бундехеш. А когда миновало вре-
мя великих видёний, эти представления перешли в сказочную поэзию
и бесчисленные религиозные романы, среди которых нам известны та¬
кие христианские сочинения, как Евангелия Детства Иисуса, Деяния
Фомы и направленные против Павла Псевдоклементины463. Существу¬
ет история о тридцати отчеканенных Авраамом сребрениках Иуды и
сказка о «пещере сокровищ», в которой глубоко под Голгофой покоят¬
ся золотые сокровища Рая и кости Адама* 464. То, что сочинил Данте,
было именно сочинительством; а это все было действительностью и
единственным миром, в котором постоянно жил человек. Для челове¬
ка, живущего с динамической картиной мира и в ней, такое восприятие
оказывается недостижимым. Если мы желаем получить хотя бы слабое
представление о том, насколько чужда нам всем внутренняя жизнь
Иисуса (горькая истина для западного христианина, который бы с ра¬
достью оперся на него в своем благочестии также и в смысле внутрен¬
нем), так что сегодня ее по-настоящему может пережить лишь благоче¬
стивый мусульманин, нам следует погрузиться в сказочные детали этой
картины мира — то была картина Иисуса. Лишь тогда мы поймем, как
мало фаустовское христианство переняло из богатств псевдоморфной
церкви: оно ничего не взяло у нее в смысле мироощущения, позаимст¬
вовало кое-что из внутренней формы и усвоило многое в части поня¬
тий и образов.
9
Из «где?» магической души вытекает ее «когда?». Опять-таки это не
есть аполлоническое привязывание себя к точечному настоящему и
столь же мало — фаустовская гонка и стремление к бесконечно отда¬
ленной цели. У существования здесь иной такт, что создает в бодрство¬
вании иной смысл времени — не противоположный магическому про¬
странству. Самое первое, что ощущает над собой в качестве кисмата
человек магической культуры — от ничтожнейшего раба или поденщи¬
ка до пророка или халифа, — есть не бесконечный бег времени, не по¬
зволяющий возвратиться ни одному утраченному мгновению, но уста¬
новленные раз и навсегда начало и конец «этих дней», между которыми
******
Horten М. Die religiose Gedankenwelt des Volkes im heutigen Islam. S. XXI. Книга
Редставляет собой наилучшее введение в действительно существующую народную ре-
игию ислама, значительно отклоняющуюся от официального учения.
Baumstark. Die christl. Literaturen d. Orients I. S. 64.
696
Том 2 ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
изначально определено человеческое существование. Не только миро¬
вое пространство, но и мировое время оказывается пещерообразным, и
из этого следует внутренняя, подлинно магическая уверенность: всему
«свое время», от прибытия Избавителя, час которого назначен в древ¬
них текстах, до мельчайших повседневных событий, что делает фаус¬
товскую спешку бессмысленной и непонятной. На этом основывается
и раннемагическая, в особенности халдейская, астрология. Она также
исходит из того, что все уже записано в звездах и что научно предсказу¬
емое обращение планет позволяет делать заключения относительно
хода земных дел*. Античный оракул отвечал на единственный вопрос,
который мог напугать аполлонического человека: об образе, о «как?»
наступающих вещей. Вопрос пещеры — это вопрос «когда?». Вся апо-
калиптика, душевная жизнь Иисуса, его страх в Гефсиманском саду и
великое движение, начинающееся с его смертью, делаются непонят¬
ны, если не постигнуть этот коренной вопрос магического существова¬
ния и предпосылки к нему. То, что астрология, продвигаясь на запад,
шаг за шагом оттесняет оракул, есть свидетельство исчезновения ан¬
тичной души. Ни у кого промежуточное состояние не заявляет о себе с
такой яркостью, как у Тацита, в исторических трудах которого то и
дело о себе заявляет путаность мировоззрения. С одной стороны, он,
как настоящий римлянин, апеллирует к могуществу старинных город¬
ских божеств; однако тут же, как интеллигентный житель мировой сто¬
лицы, как раз такую веру во вмешательство богов характеризует как су¬
еверие; и, наконец, говорит о семи планетах, правящих участью смерт¬
ных, — как стоик (а Стоя была тогда магическим состоянием духа). Так
и получается, что в следующие столетия само судьбоносное время, а
именно пещерное время, как ограниченное с обеих сторон и потому
являющее собой нечто, постижимое внутренним зрением, становится
в персидской мистике, в образе Зурвана465, над светом божества и
управляет ходом всемирной борьбы Добра и Зла. Зурванизм сделался в
Персии в 438—457 гг. государственной религией.
Отсчет времени от события, которое воспринималось как совер¬
шенно особенное именно на основании веры в то, что все уже записа¬
но в звездах, сделал арабскую культуру, в конечном счете, культурой
эр. Самой первой и самой важной эрой была всеобщеарамейская, воз¬
никшая с нарастанием апокалиптического напряжения ок. 300 г. как
«эра Селевкидов». За ней последовали многие другие, и среди них са¬
бейская (ок. 115 до Р. X.), начальный момент которой нам точно неиз¬
вестен; диоклетиановская; иудейская эра от сотворения мира, вве-
Ср. выше, т. 2., с. 663. В вавилонских небесных наблюдениях не проводилось
четкое различие между астрономическими и атмосферными явлениями, так что, к при¬
меру, заволакивание Луны тучами также рассматривалось здесь как «затмение». Суще¬
ствующая во всякий миг картина неба служила лишь основой для прорицаний, точно
так же как, с другой стороны, такой основой была и печень жертвенного животного. В
то же время халдеям желательно было предсказывать заранее также и действительное
обращение звезд. Так что здесь астрология предполагает и подлинную астрономию.
третья. Проблемы Арабской культуры
697
денная синедрионом в 346 г.*; персидская, начавшаяся с восхождения
на престол последнего Сасанида Иездигерда (632); наконец, хиджра, в
Сирии и Месопотамии непосредственно сменившая селевкидскую
эру. То, что возникало за пределами данного ландшафта, представляет
собой лишь практическое подражание этому, как, например, варро-
новское летоисчисление ab игЬе condita [от основания города {лат.),
т. е. Рима], летоисчисление маркионитов от момента разрыва их учи¬
теля с церковью (144), а также христианское — от рождения Иисуса
(вскоре после 500).
Всемирная история — картина живого мира, человек ощущает себя
вплетенным в нее через свое рождение, своих предков и потомков и,
исходя из своего мироощущения, хочет ее постичь. Для античного че¬
ловека вся целиком картина истории сжимается исключительно во¬
круг настоящего. Она содержит только бытие — и никакого действите¬
льного становления, а последним фоном ей служит вневременной ра¬
ционализированный миф о Золотом веке. Само это бытие было
пестрым переплетением взлетов и падений, счастья и несчастья, оно
было слепым случаем, вечным изменением, однако во всех переме¬
нах — одним и тем же, без направления, без цели, без «времени». Ощу¬
щение же пещеры требует обозримой истории с началом и концом
мира {являющимися вместе с тем началом и концом человечества), при¬
чина которых — сказочно могущественное божество. В промежутке же
между тем и другим происходит ограниченная пределами пещеры и
имеющая заранее предопределенную длительность борьба Света с
Тьмою, Ангелов и Язатов466 с Ариманом, сатаной, Иблисом, в которую
человек вовлечен своими духом и душой. Бог может разрушить нынеш¬
нюю пещеру и заменить ее новым творением. Персидско-халдейские
представления и апокалиптика постоянно принимали во внимание по¬
следовательность таких эонов, и Иисус, как и все его время, ожидал
конца зона нынешнего**. Отсюда — все еще вполне естественный для
людей ислама исторический взгляд на данное время. «Мировоззрение
народа естественным образом распадается на три большие части: воз¬
никновение мира, развитие мира, конец мира. Для мусульманина, об¬
ладающего столь развитым этическим чувством, важнейшим момен¬
том в развитии мира является история спасения и нравственный жиз¬
ненный путь, обобщаемый в «человеческой жизни». Все это
завершается концом света, когда будет вынесено суждение о нравст¬
венной истории человечества»***.
Однако для магического человеческого существования из ощуще-
**^*яименно этого времени и созерцания этого пространства возникает
Cohn В. Die Anfangsepoche des jtid. Kalenders, Sitz. Pr. Akad. 1914. На основании
лного затмения Солнца, разумеется с помощью халдейской астрономии, была тогда
пРеделена дата первого дня творения.
*** Общее персидское время — 12 000 лет. Для нынешних парсов 1920 г. — 11 550.
Horten М. Die relig. Gedankenwelt des Volkes im heutigen Islam. S. XXVI.
698
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
совершенно своеобразная разновидность благочестия, которую также
можно назвать пещерообразной, — безвольная покорность, вообще не
знающая духовного «я» и воспринимающая духовное «мы», вселивше¬
еся в одушевленное тело, просто в качестве отблеска божественного
света. Арабское слово для этого — «ислам», покорность, однако «ис¬
лам» был также постоянным способом ощущения Иисуса и всякой
другой гениальной религиозной личности, выступавшей в рамках этой
культуры. Античное благочестие представляет собой нечто совершен¬
но иного рода*, а если мы пожелаем мысленно удалить из благочестия
св. Терезы, Лютера или Паскаля то «я», которое желает здесь утверди¬
ться пред божественно-бесконечным, пред ним преклониться или же в
нем раствориться, у нас не останется абсолютно ничего. Фаустовское
прототаинство покаяния467 предполагает сильную и свободную волю,
преодолевающую саму себя. Однако «ислам» — это именно невозмож¬
ность «я» в качестве свободной силы перед лицом божественного. Вся¬
кая попытка выступить против деяния бога с собственным намерением
или хотя бы лишь одним собственным усмотрением есть «масиджа»,
т. е. если и не злая воля, то доказательство того, что силы тьмы и зла
овладели человеком и изгнали из него божественное. Магическое бод¬
рствование является всего-навсего сценой борьбы обеих сил, а не само¬
стоятельной силой. В такого рода мировых событиях нет и никаких
единичных причин и следствий, но прежде всего — никакой господст¬
вующей в мироздании (динамической) каузальной цепи, а тем са¬
мым — и никакого необходимого сопряжения вины и наказания, ника¬
кого притязания на вознаграждение, никакой древнеизраильской
«справедливости». На все вещи такого рода подлинное благочестие
этой культуры взирает с величайшим презрением. Законы природы не
есть нечто, данное раз и навсегда, нечто такое, что может быть преодо¬
лено богом лишь через чудо, но, так сказать, привычное состояние са¬
мовластного божественного деяния, не обладающее внутренней необ¬
ходимостью, необходимостью логической, фаустовской. Во всей ми¬
ровой пещере имеется лишь одна причина, лежащая непосредственно в
основе всех зримых следствий, — божество, и никаких оснований для
собственных действий нет даже у него самого. Уже одно размышление
о таких основаниях — грех.
Из этого базового ощущения возникает чисто магическая идея бла¬
годати. Она лежит в основе всех таинств этой культуры, и прежде все¬
го — магического прототаинства крещения, и образует наиболее сущ¬
ностную противоположность покаянию в фаустовском смысле. Пока¬
яние предполагает волю «я», благодать же не знает ее вовсе. Великая
заслуга Августина — то, что он с неопровержимой логикой развил эту
совершенно исламскую мысль. Он сделал это с такой убедительно-
Болыиой пробел в нашей науке — то, что у нас имеется целый ряд работ об ан¬
тичной религии, и прежде всего ее богах и культах, однако нет ни одной об античной
религиозности и ее истории.
Глава третья^ Проблемы Арабской культуры _ _ 699
стью, что, начиная с Пелагия, фаустовская душа всеми возможными
средствами пыталась обойти грозящую ей самоуничтожением уверен¬
ность Августина, всякий раз выражая свое собственное сознание Бога
через глубокое и прочувствованное непонимание Августиновых вы¬
сказываний. На самом деле Августин — последний великий мыслитель
раннеарабской схоластики, а нисколько не западноевропейский ум*.
Манихейцем он был не какое-то время, но оставался им в очень суще¬
ственных чертах и будучи христианином: родственные ему души мы
встречаем среди персидских теологов младшей Авесты с их учениями о
сокровищнице благодати святых и об абсолютном грехе. Благодать для
него — это субстанциальное излияние божественного в человеческую,
также субстанциальную пневму**. Божество ее излучает, человек ее
воспринимает, однако не приобретает. У Августина, как это было еще
и у Спинозы***, отсутствует понятие силы, и проблема свободы связы¬
вается у того и у другого не с «я» и его волей, но с погрузившейся в чело¬
века частью всеобщей пневмы и ее отношением ко всему прочему. Ма¬
гическое бодрствование — это сцена борьбы между обеими мировыми
субстанциями Света и Тьмы. Ранние фаустовские мыслители, такие,
как Дунс Скот и Оккам, усматривают борьбу уже в самом динамическом
бодрствовании, причем борьбу обеих сил «я» — воли и рассудка****. И
тем самым постановка проблемы Августином незаметно преобразуется
«Поистине он явился окончанием и завершением христианской античности, ее
последним и величайшим мыслителем, ее духовным практиком и народным трибуном.
Понимать его следует прежде всего исходя из этого. Другой вопрос — что сделали из
него в последующие периоды: находясь в иной ситуации и сталкиваясь с иными прак¬
тическими задачами, христианство никак не .'могло продолжать развиваться в направ¬
лении, которое было задано его духом, объединяющим в себе античную культуру, цер¬
ковно-епископский авторитет и глубочайшую мистику» (Troeltsch Е. Augustin, die Christ -
liche Antike und das Mittelalter. 1915. S. 7). Его воздействие, как и воздействие Тертулли-
ана, основывается на том, что его сочинения были не переведены на латинский, но и
замышлялись на этом священном языке западной церкви. Именно это отрезает обоих от
сферы арамейского мышления. Ср. выше.
Inspiratio bonae voluntatis (De corr. et grat. 3) [«Вдохновение благой воли» (Об
Упреке и благодати, 3) (лат.)]. «Благая воля» и «злая воля» — это две субстанции, друг
Другу противоположные в явно дуалистическом смысле. Напротив, для Пелагия воля —
это деятельность без морального качества. Лишь то, чего желает человек, имеет свойст¬
во быть благим или злым, и благодать Бога заключается в possibilitas utriusque partis,
^®°боде желать того или другого. Григорий I перетолковал Августиновское учение в
фаустовское, когда учил, что Бог отверг некоторых людей, поскольку заранее знал их
злУю волю.
***
У Спинозы, как ни старался он заменить арабско-иудейский мир представлений
своих испанских учителей, и прежде всего Моисея МаймонидаТ на западные представ¬
ления раннего барокко, обнаруживаются все элементы магической метафизики. Еди¬
ничный человеческий дух для него — не «я», но всего лишь модус одного божественно¬
го атрибута — cogitatio [мышления (лат.)] (= пневма). Он возражает против таких пред-
МииЛСНИЙ’ как <<воля Бога». Бог у него — это чистая субстанция, и вместо нашей дина¬
мической каузальности Спиноза обнаруживает в мироздании лишь логику
и ^ственного cogitatio. Все это мы встречаем также у Порфирия, в Талмуде, в исламе,
^максимально чуэдс, таким фаустовским мыслителям, как Лейбниц и Гете (Allgem.
sch. d. Philos, in Kultur der Gegenwart I, V. S. 484, Windelband).
ци Так что «благой» здесь — это оценочное суждение, а вовсе никакая не субстан-
700 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
в форму, для него совершенно непонятную: являются ли воля и мыш¬
ление свободными силами или же нет? Как бы ни отвечать на этот во¬
прос, ясно одно: единичное «я» должно вести эту борьбу, а не претерпе¬
вать ее. Фаустовская благодать относится к успеху волевого акта, а не к
тому, какова его субстанция. В Вестминстерском исповедании (1646)
говорится: «В соответствии с неисследимым произволением собствен¬
ной воли, согласно которой Бог обнаруживает свое милосердие тому,
кому желает, либо в нем отказывает, он соблаговолил прочее человече¬
ство милосердием миновать»468. Иное представление, в соответствии с
которым идея благодати исключает всякую собственную волю и вся¬
кую причину, кроме одной, представление, согласно которому грехов¬
на уже сама постановка вопроса, почему этот человек страдает, нашло
свое выражение в одном из самых потрясающих сочинений всемирной
истории, которое возникло среди арабского раннего времени и по
своему внутреннему величию не имеет себе равных во всей этой куль¬
туре, — в Книге Иова*. Это друзья Иова отыскивают вину, ибо им
вследствие недостаточной метафизической глубины (как и большин¬
ству людей этой и всякой другой культуры, в том числе и теперешним
читателям и критикам настоящей работы) остается недоступным
окончательный смысл всего страдания в этой мировой пещере. Один
только герой прорывается к совершенству, к чистому исламу, и тем са¬
мым он делается единственно возможной трагической фигурой, кото¬
рую магическое ощущение могло бы поставить рядом с Фаустом**.
10
Бодрствование всякой культуры допускает два варианта осознания,
в зависимости от того, критическое ли понимание пронизывается со¬
зерцательным ощущением, или, наоборот, второе пронизывается пер¬
вым. Магическое созерцание у Спинозы — это amorintellectualis dei [ин¬
теллектуальная любовь к Богу (лат.)], а у принадлежащих к той же эпо¬
хе суфиев Средней Азии оно фигурирует как махе (растворение в
Боге)470. Оно может доходить до магического экстаза, который Плотин
переживал неоднократно, а его ученик Порфирий — лишь однажды, в
глубокой старости471. Другая сторона, раввинская диалектика, прояв¬
ляется у Спинозы в виде геометрического метода, а в поздней арабско-
иудейской философии вообще — как калам472. И то, и другое основыва¬
ется на том, что никакого магического единичного «я» не существует, а
есть только одна-единственная, пребывающая сразу во всех избранных
Время его возникновения соответствует эпохе Каролингов. Мы не знаем, воз¬
никло ли тогда какое-либо сочинение подобного же уровня. То, что это было возмож¬
но, доказывается такими произведениями, как «Велуспа», «Муспилли», «Спаситель»"
и миром идей Иоанна Скота Эриугены.
На связь с исламом было указано уже давно, как, например, Bertholet. Kultur-
gesch. Israels. S. 242.
Глава третья. Проблемы Арабской культуры
701
пневма, являющаяся в то же время и истиной. Подчеркнем, что следу¬
ющее из этого фундаментальное понятие иджмы — больше, чем поня¬
тие: оно может сделаться потрясающим по мощи переживанием, лежа¬
щим в основе всех общин магического стиля, что и отделяет их от про¬
чих культур. «Мистическая община ислама простирается от
посюсторонности в потусторонность: она перешагивает и через моги¬
лу, поскольку охватывает умерших мусульман предыдущих поколений
и даже доисламских праведников. Мусульманин чувствует себя свя¬
занным с ними всеми в единство. Они ему помогают, но и он также в
состоянии преумножить их блаженство, присовокупив собственные
заслуги»*. Абсолютно то же самое имели в виду как христиане, так и
синкретисты псевдоморфоза под словами polis и civitas, некогда обо¬
значавшими совокупность тел, теперь же — consensus тех, кто к ним
принадлежит. Наиболее знаменита Августинова civitas dei473, которая
не есть ни античное государство, ни западная церковь, но, точно так
же, как и община Митры, ислам, манихейство и персиянство — цело¬
стное единство верующих, блаженных и ангелов. Поскольку община
основывается на consensus’е, ошибиться в отношении духовных пред¬
метов она не способна. «Мой народ никогда не может быть согласным
в заблуждении», — сказал Мухаммед, и абсолютно из того же предпо¬
ложения исходил Августин в своем «Граде Божьем». У него нет, да и не
может быть, речи о непогрешимости папского «я» или какой-либо дру¬
гой инстанции в ходе установления догматических истин: ведь тем са¬
мым оказалось бы полностью упраздненным понятие consensus'а. В
данной культуре этот принцип имеет всеобщую значимость, распро¬
страняясь не только на догматы, но и на право** и государство как тако¬
вое: исламская община, как и община Порфирия и Августина, охваты¬
вает всю целиком мировую пещеру — как посюсторонность, так и поту¬
сторонность, как правоверных, так и благих ангелов и духов, и
государство образует в этой общине лишь небольшую единицу ее зримой
стороны, так что его действенность определяется целым. Поэтому раз¬
деление политики и религии в магическом мире теоретически невоз¬
можно и противоестественно, между тем как в фаустовской культуре
борьба государства и церкви необходима и постоянна. Светское и ду¬
ховное право есть в сущности одно и то же. Рядом с византийским им¬
ператором стоит патриарх, рядом с шахом — заратустротема, рядом с
реш-галута — гаон, рядом с халифом — шейх-уль-ислам474, повелитель
и подданный в одно и то же время. С готическими взаимоотношения¬
ми императора и папы это не имеет совершенно ничего общего, так же
Как и у античности даже в мыслях не было ничего подобного. То, что
0сУЩествил Диоклетиан — при нем магическое погружение государст-
Ва в °бщину верующих впервые сделалось действительностью, — Кон-
с^нтию1ровел до конца. Мы уже показали, что государство, церковь и
*
»» Horten. Die religiose Gedankenwelt des Volkes im heutigen Islam. S. XII.
См. выше, т. 2, с. 528 сл.
702 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
нация образуют духовное единство, а именно становящуюся зримой в
живущем ныне человечестве часть правоверного consensus’а. Поэтому
главенство на соборах, с тем чтобы способствовать consensus'у призван¬
ных, было само собой разумеющейся обязанностью императора как го¬
сударя верующих (т. е. той части магической общины, что была ему до¬
верена Богом).
11
Однако помимо consensus'а существует еще и другое откровение ис¬
тины, «Слово Бога», во вполне определенном, чисто магическом смыс¬
ле, в равной степени далеком как от античного, так и от западного
мышления и потому сделавшемся источником бесчисленных недора¬
зумений. Священная книга, в которой оно зримо проявилось, в кото¬
рую оно оказалось вколдовано посредством священного письма, есть
составная часть всякой магической религии*. В этом представлении
переплетены три магических понятия, каждое из которых воздвигает
перед нами величайшие трудности, а их одновременное обособление и
единство475 остается недоступным для нашего религиозного рассудка,
как бы охотно мы то и дело ни обманывались на этот счет: Бог, Дух
Бога, Слово Бога. То, на что намекается в прологе Евангелия Иоанна:
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог был Словом», —
много прежде того нашло выражение в персидских представлениях о
Спэнта-Маинйу (святом Духе, отличном от Ахура-Мазды и в то же вре¬
мя едином с ним, в противоположность Духу злому — Ангра-Маинйу)
и Boxy-Мана", а также в соответствующих иудейских и халдейских по¬
нятиях и образует центральный пункт разногласий четвертого и пятого
веков относительно субстанции Христа. Однако также и «истина» яв¬
ляется для магического мышления одной субстанцией ", а ложь или за¬
блуждение — другой. Это — тот же сущностный дуализм, что и в проти¬
воборстве Света и Тьмы, Жизни и Смерти, Добра и Зла. В качестве суб¬
станции истина оказывается тождественной то с Богом, то с Духом
Бога, то со Словом. Лишь так можно понимать высказывания явно
субстанциального характера: «Я есть Истина и Жизнь»476 и «Мое Слово
есть Истина»477. Лишь отсюда становится понятным и то, какими гла¬
* Вряд ли следует даже упоминать о том, что во всех религиях германского Запада
Библия занимает совершенно иное положение по отношению к вере, а именно поло¬
жение первоисточника в строго историческом смысле, независимо от того, рассматри¬
вается ли он как боговдохновенный и потому выходящий за пределы всякой текстовой
критики или же нет. Весьма похоже отношение китайского мышления к каноническим
книгам.
Мани приравнял его к Иоаннову Логосу. Ср. также Яшт. 13, 31: светозарная душа
Ахура-Мазды есть Слово.
В этом смысле в Евангелии Иоанна всюду используется аХвыа (истина), а в пер¬
сидской космологии — применительно к Ариману — друг (т. е. ложь). Зачастую Ариман
является здесь как слуга друг (т. е. лжи).
третья. Проблемы Арабской культуры
703
зами человек этой культуры взирал на священную книгу: здесь невиди¬
мая истина вселилась во вполне зримый род бытия, что очень близко
месту из Евангелия Иоанна, 1,14 — «Слово было плотью и жило среди
нас». Согласно Ясне, Авеста была ниспослана с неба, и в Талмуде гово¬
рится, что Моисей принимал Тору от Бога — том за томом. Магическое
откровение — это мистический процесс, в котором вечное и несоздан-
ное Слово божества (или божество как Слово) вселяется в человека,
чтобы через него обрести «открытый», чувственный образ звуков, но в
первую очередь — букв. Коран означает «чтение». В одном видении
Мухаммеду явились сохраняемые на небе свитки с текстами, которые
он «во имя Господа» (хотя читать так и не выучился) смог расшифро¬
вать*. Такова форма откровения, оказывающаяся в этой культуре пра¬
вилом, между тем как в других ее не бывает даже в виде исключения**,
однако окончательный вид она приобрела лишь после Кира. Древнеиз¬
раильские пророки и, несомненно, также Заратустра видят и слышат
то, что впоследствии возвещают, в состоянии экстаза. Юридический
сборник Второзакония в 621 г. «был найден в Храме», т. е. восприни¬
мать его следует как мудрость предков. Первым и в высшей степени со¬
знательным примером Корана является книга Иезекииля, которую ав¬
тор принимает от Бога в измышленном им видении — и «проглатыва¬
ет» (гл. 3). Здесь в наиболее огрубленной форме выражено то, что
явится впоследствии основой понятия и формы апокалиптической ли¬
тературы как таковой. Впрочем, постепенно непременным условием
для всякой канонической книги сделалась такая субстанциальная фор¬
ма ее восприятия. Ко времени после вавилонского пленения восходят
представления о скрижалях закона, которые Моисей обретает на Си¬
нае. Позднее такое же происхождение предполагалось для всей Торы, а
приблизительно со времени Маккавеев — для большинства книг Вет¬
хого Завета. Со времени собора в Явне (ок. 90) уже весь Ветхий Завет
расценивается как «вдохновенный» в буквальном смысле слова. Одна¬
ко совершенно то же самое происходило и в персидской религии —
вплоть до провозглашения Авесты священной в III в., и точно такое же
понятие «вдохновения» появляется во втором видении Гермы478, в апо¬
калипсисах, в халдейских, гностических и мандаитских сочинениях, и,
как что-то вполне естественное, та же самая идея в неявном виде лежит
и в основании представлений неопифагорейцев и неоплатоников о со¬
чинениях своих учителей. Канон — это технический термин для сово¬
купности сочинений, рассматриваемых религией в качестве вдохно-
т, Сура 96; ср. 80, 11 и 85, 21, где, уже в другом видении, говорится: «Это славный
£°ран на хранимой скрижали». Лучше всего об этом говорит Meyer Ed. Ursprung und
eschichte der Mormonen. S. 70 ff.
В состоянии величайшего телесного возбуждения античный человек обретает
особность бессознательно возвещать будущее. Однако все эти видения в их совокуп-
тиа™ совеРшенно нелитературны. Античные Сивиллины книги, не имеющие с хрис-
инкСКИМИ книгами под тем же названием совершенно ничего общего, были не чем
Ь1М’ как сборником оракулов.
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
704
венных свыше. В виде канонов начиная с 200 г. возникли герметиче¬
ский сборник и свод халдейских оракулов — последняя священная
книга неоплатоников: ее одну «отец церкви» Прокл ставил наравне с
«Тимеем» Платона.
Поначалу юная религия Иисуса, как и он сам, признавала иудейские
сочинения в качестве канона. Первые Евангелия совершенно не претен¬
дуют на то, чтобы быть «Словом» божества в зримой форме. Евангелие
Иоанна — это первое христианское сочинение, явно претендующее на то,
чтобы в нем видели Коран, и вообще идея, что может и должен существо¬
вать христианский Коран, исходит именно от неизвестного автора этого
Евангелия. Новой религии непросто было решить, следует ли ей порвать
с религией, в которую верил Иисус. В этой связи неизбежно возникал
вопрос, можно ли еще признавать иудейские сочинения воплощениями
единственной истины; «Иоанн» отвечает на него отрицательно в неявной
форме, а Маркион — в открытую, отцы же церкви, логике вопреки, —
утвердительно.
Такое метафизическое понимание сущности священной книги при¬
водит к тому, что выражения «вещает Бог» и «Писание говорит» оказы¬
ваются — что нашему мышлению абсолютно чуждо — полностью тожде¬
ственными. То, что сам Бог оказывается вколдованным в эти слова и
буквы, а значит, его можно разгадать и принудить к откровению истины,
весьма напоминает многие сказочные моменты «Тысячи и одной ночи».
Истолкование, как и «вдохновение», исполнено тайного мистического
смысла (Марк 1, 22). Отсюда благоговение, с которым сохраняются эти
драгоценные рукописи, то, что они (чего мы нигде не встречаем в антич¬
ности) разукрашиваются всеми средствами юного магического искусст¬
ва, как и то, что здесь постоянно возникают все новые разновидности
письма, которые только и обладают (в глазах тех, кто ими пользуется)
силой, необходимой, чтобы вколдовать в себя ниспосланную истину.
Однако такой Коран по самой сути своей безусловно истинен, а по¬
тому неизменен и не подлежит никакому улучшению*. По этой причи¬
не возникает практика тайных интерполяций, с тем чтобы привести
текст в соответствие с убеждениями эпохи. Шедевром такого метода
являются Дигесты Юстиниана. Однако помимо всех сочинений Биб¬
лии то же самое, несомненно, относится и к гатам Авесты, и даже к ши¬
роко обращавшимся тогда сочинениям Платона, Аристотеля и других
авторитетов языческой теологии. Но что еще важнее — оказывается,
все магические религии исходят из предположения, что тайное откро¬
вение, Или же тайный смысл писания, сохраняется не посредством за¬
писи, но в памяти призванных к этому людей и изустно передается да¬
льше. Согласно иудейским воззрениям, Моисей получил на Синае по¬
мимо письменной еще и тайную устную Тору\ записывать которую
Ср. выше, с. 536.
IV кн. Эздры, гл. 14; Funk S., Die Entstehung des Talmuds. S. 17; комментарий
HirscWа к Исход 21, 2.
^ава третъя- Проблемы Арабской культуры 705
было запрещено. В Талмуде говорится: «Бог предвидел заранее, что не¬
когда наступит время, когда язычники овладеют Торой и скажут Изра-
лдю: «Мы тоже сыны Бога». И тогда Господь скажет: «Мой сын — лишь
Тот, Кто знает Мои тайны». А какие у Бога тайны? Устное учение»*. Так
qro Талмуд в его вполне доступной всякому форме содержит лишь
часть религиозного материала, и точно так же обстояло дело и с хрис¬
тианскими текстами раннего времени. Часто замечалось**, что Марк
говорит об искушении и Воскресении только намеками, а Иоанн лишь
намечает учение о Параклите, учреждение же причастия вовсе выпус¬
кает. Посвященный понимал, что имелось в виду, неверующему же и
знать этого не следовало. Впоследствии существовало настоящее «со¬
блюдение арканов», в соответствии с которым христиане хранили мол¬
чание перед лицом неверующих относительно исповедания крещения,
«Отче наш», причастия и пр. У халдеев, неопифагорейцев, киников,
гностиков, но прежде всего — у сект, от древнеиудейских до ислам¬
ских, это имело место в таком объеме, что их тайные учения в большей
своей части нам неизвестны. Относительно слова, сохраняемого толь¬
ко в духе, существовал consensus молчания как раз потому, что все были
уверены в «знании» тех, кто сюда принадлежал. Сами-то мы склонны
особенно энергично и ясно высказываться именно о наиболее для нас
важном и потому постоянно рискуем превратно понять магические
учения, поскольку приравниваем высказанное тому, что есть на самом
деле, а профанный смысл слов — подлинному их значению. У готиче¬
ского христианства не было никакого тайного учения, и потому оно
испытывало двойное недоверие к Талмуду, в котором не без оснований
усматривало лишь казовую сторону иудейского учения.
Однако чисто магична также и Каббала, которая выводит тайный
смысл из чисел, форм букв, точек и линий и должна быть столь же древ¬
ней, как и сама субстанция ниспосланного Слова. Тайные учения о тво¬
рении мира из двадцати двух букв еврейского алфавита и о троне с коле¬
сами в видении Иезекииля479 восходят уже к эпохе Маккавеев. Тесно
сюда примыкает и аллегорическое истолкование священных текстов.
Все трактаты Мишны полны этого, о том же сплошь — у всех Отцов Цер¬
кви и всех александрийских философов: в Александрии таким образом
рассматривали любые античные мифы и даже Платона, сравнивая его с
иудейскимй пророками (делая в этом случае из Моисея — Мусея).
Единственный строго научный метод, оставляемый неизменным Ко-
Раном дальнейшему развитию мнений, — это комментирующий. По¬
скольку в соответствии с теорией «слово» авторитета улучшено быть не
может, его можно лишь по-другому изложить. В Александрии никогда
Не г°ворили, что Платон ошибается: его лишь «истолковывали». Это
происходит в строго разработанной форме галахи, письменно изложен-
^^^комментария, который безраздельно господствует во всей религи-
*
Funk. а. а. О. S. 86.
Meyer Ed. Urspr. u. Anffinge d. Christ. S. 95.
мира
23
Закат Западного
706
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
озной, философской и научной литературе этих культур. По примеру
гностиков отцы церкви составили письменные комментарии к Библии;
тут же возник Зэнд — написанный на пехлеви комментарий к Авесте, а к
иудейскому канону — Мидраши, но тем же самым путем пошли и «рим¬
ские» юристы ок. 200 г., и «позднеантичные» философы, т. е. схоластики
возникавшей культовой церкви — то и дело истолковывавшимся после
Посидония апокалипсисом этой церкви был «Тимей» Платона. Миш-
на — единственный большой комментарий к Торе. Однако когда древ¬
нейшие комментаторы сами сделались авторитетами, а потому их сочи¬
нения также стали Коранами, люди принялись писать уже комментарии
к комментариям. На Западе этим занимался последний платоник Симп¬
лиций, на Востоке — амореи, прибавившие к Мишне Гемару, а в Визан¬
тии — составители императорских конституций к Дигестам.
В наиболее ярком виде этот метод, фиктивно возводящий всякое
высказывание к непосредственному внушению свыше, выработался в
талмудической и исламской теологии. Всякая новая галаха или хадис
имеют значимость лишь тогда, когда посредством непрерывной цепи
поручителей могут быть возведены к Моисею или Мухаммеду*. Соот¬
ветствующая торжественная формула в Иерусалиме звучала так: «На
меня находит! Так слышал я от моего учителя»**. В Зэнде ссылки на це¬
почку поручителей являются правилом, а Ириней оправдывает свою те¬
ологию тем, что от него через Поликарпа цепочка восходит к самой пер¬
вой общине. В раннехристианской литературе эта галахистская формула
уже настолько сама собой разумеется, что на нее никто больше не обра¬
щает внимания. Наряду с постоянными ссылками на Закон и Пророков
она появляется в заглавиях четырех Евангелий («согласно Марку»), кото¬
рым следовало назвать свой основной авторитет, с тем чтобы он ручался
за истинность приводимых ими слов Господа***. Тем самым цепочка
оказывалась замкнутой — вплоть до истины, воплощенной в Иисусе, и
мы просто не в состоянии представить себе полную меру реальности
этой связи, как она существовала в картине мира Августина или Иеро¬
нима. Отсюда же обыкновение, широко распространившееся со време¬
ни Александра, — выпускать религиозные и философские сочинения
под такими именами, как Энох, Соломон, Эздра, Гермес, Пифагор: они
На Западе в качестве пророков в данном смысле рассматривались Платон, Ари¬
стотель и прежде всего Пифагор. То, что могло бьггь возведено к ним, считалось исти¬
ной. По этой причине последовательность глав школ приобретала все большее значе¬
ние и на их установление (или измышление) затрачивалось зачастую больше усилий,
чем на историю самого учения.
** Fromer. Der Talmud. S. 190.
Сегодня мы путаем «автора» и «авторитет». Арабскому мышлению вообще неиз¬
вестно понятие духовной собственности. Оно бессмысленно и греховно, потому что су¬
ществует лишь одна божественная пневма, которая избирает отдельного человека сво¬
им сосудом и рупором. Так что рассматривать его как автора можно лишь в этом смыс¬
ле, вне зависимости от того, собственноручно ли записал он то, что воспринял, или же
нет. «Евангелие согласно Марку» означает: Марк ручается за истинность этого Посла¬
ния.
Глава третья. Проблемы Арабской культуры
707
считались поручителями и сосудами божественной истины, ибо в них
некогда «Слово сделалось плотью». Сохранился целый ряд апокалипси¬
сов под именем Баруха, которого ставили тогда наравне с Заратустрой, в
обращении находилось невообразимое количество сочинений под име¬
нами Аристотеля и Пифагора. «Теология Аристотеля»480 была одной из
наиболее влиятельных книг в неоплатонизме. Наконец, это же было ме¬
тафизическим обоснованием стиля и глубокого смысла цитирования, в
совершенно одинаковой манере практиковавшегося отцами церкви,
раввинами, «греческими» философами и «римскими» юристами, след¬
ствием чего, с одной стороны, стал закон о цитировании Валентиниа-
на III*, а с другой — выделение апокрифов (фундаментальное понятие,
устанавливающее субстанциальное различие внутри имеющегося фонда
сочинений) из иудейского и христианского канона.
12
На основе изысканий в таком духе окажется возможным написать в
будущем историю группы магических религий. Группа эта образует неразде¬
льное единство как по своему духу, так и по ходу развития, и не следует
полагать, что можно в самом деле постигнуть какую-то из них, игнорируя
прочие. Их возникновение, раскрытие и внутреннее укрепление, охваты¬
вая время с 0 по 500 г., в точности соответствуют западноевропейскому
восхождению от клюнийского движения до Реформации. Это столетия
взаимных дарений и заимствований, головокружительных расцветов, со¬
зревания и перестройки, когда прежнее перекрывается новыми слоями и
отвергается, вставляются новые фрагменты и отторгаются старые, при¬
том что положительно утверждать о зависимости одной системы от дру¬
гой невозможно: обмениваются здесь исключительно формами и мотива¬
ми, в глубине же покоится один и тот же душевный элемент, который не¬
изменно выражается на всех языках этого мира религий.
На широких просторах, занятых древневавилонским феллахством,
обитают юные народы. Первое смутное предчувствие заявляет о себе
ок. 700 г. в профетических религиях персов, иудеев и халдеев. Четкими
штрихами намечается картина сотворения мира в том ее роде, как она
явится в начале Торы, а тем самым оказывается заданным сам подход,
Управление, предмет томления. В отдаленном будущем проглядывает
нечто пока еще неопределенное и смутное, однако сопровождаемое
глубокой внутренней уверенностью, что оно наступит. И начиная с
Эт°го момента люди здесь живут, чувствуя себя призванными, обратив
к этому «нечто» свои взоры.
Вторая волна бурно заявляет о себе в апокалиптических течениях
Начиная с 300 г. Тогда пробуждается магическое миросознание и скла-
С- т. 2, С. 536.
708
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
дывается полная ярких образов метафизика высших предметов, в
основе которой уже лежит пра-символ наступающей культуры — пе¬
щера. Повсеместно возникающие представления об ужасах конца све¬
та, о Страшном суде, Воскресении, о Рае и Аде передаются в повество¬
ваниях, изобилующих чудесными сценами, образами и именами. И
тем самым обретает форму великая идея истории спасения, где судьба
мира и человечества есть одно и то же, причем невозможно возвести
создание всего этого к какой-то отдельной стране или народу. Как по
мановению возникает образ Мессии. Рассказывается об искушении
Спасителя сатаной*. Однако в то же самое время зреет глубинный и по¬
стоянно растущий страх от этой уверенности в неотвратимом и близ¬
ком конце всего, ужас мгновения, в котором останется одно лишь про¬
шлое. Магическое время, «час», пещерообразная направленность при¬
дает жизни новый такт, а слову «судьба» — новое содержание. Человек
вдруг оказывается в совершенно иных отношениях с Богом. В посвяти¬
тельной надписи большой базилики в Пальмире, долгое время считав¬
шейся христианской, Ваал именуется благим, милосердным, мягко¬
сердечным, а в почитании Рахмана481 то же ощущение распространяет¬
ся вплоть до Южной Аравии; оно наполняет псалмы халдеев и учение о
посланном Богом Заратустре, пришедшее на смену его собственному
учению; и оно же движет иудейством эпохи Маккавеев, в которую воз¬
никло большинство псалмов, и всеми прочими давно уже забытыми
общинами между античным и индийским миром.
Третье потрясение происходит в эпоху Цезаря и приводит к рожде¬
нию великих религий спасения. Тем самым в этой культуре занимается
ясный день. Для того, что следует за этим на протяжении одного или
двух веков, характерна такая высота религиозного переживания, пре¬
взойти которую невозможно, но невозможно ее и долго выдерживать.
Такое граничащее с гибелью напряжение изведала и готическая душа,
и ведическая, и всякая другая лишь раз, на своей утренней заре.
И вот теперь в персидской, мандаитской, иудейской, христианской
вероисповедных областях, а также в западном псевдоморфозе возникает
великий миф — точно так же, как это было в индийскую, античную и за¬
падноевропейскую рыцарские эпохи. Как в этой культуре не разделишь
нацию, государство и церковь, божественное и светское право, так нет в
ней и четкого различия рыцарского и религиозного героизма. Пророк
сливается с борцом, и история великого страдальца возвышается до на¬
ционального эпоса. Друг с другом борются силы Света и Тьмы, сказоч¬
ные существа, ангелы и демоны, сатана и благие духи; вся природа с воз¬
никновения мира и до его уничтожения оказывается ареной сражения.
Глубоко внизу, в человеческом мире, разворачиваются приключения и
страдания провозвестника, религиозного героя и героического мучени¬
ка. Всякая нация, поскольку она принадлежит этой культуре, имеет ге-
В «Вендидад», 19, 1 искушаемым оказывается Заратустра.
Глава третья. Проблемы Арабско^сультуры 709
ическое сказание. На Востоке жизнь персидского пророка рассказы¬
вается в величественной эпической поэме. Смех появившегося на свет
Заратустры доносится до самого неба, и ему отвечает вся природа. На За¬
паде в дополнение ко все более широко разрабатываемой истории стра¬
даний Иисуса, подлинному эпосу христианской нации, возникает круг ска¬
зок о его детстве, образующий в конце концов целый поэтический жанр.
Образ Богоматери и деяния апостолов, как и истории героев западноев¬
ропейских крестовых походов, оказываются в центре обширных рома¬
нов (Деяния Фомы, Псевдоклиментины), возникающих на протяжении
И в. повсюду, от Нила до Тигра. В иудейской Агаде и таргумах482 скапли¬
вается бездна сказок о Сауле, Давиде, патриархах и великих таннаим, та¬
ких, как Йехуда и Акиба*. Неисчерпаемая фантазия этой эпохи захваты¬
вает также и весь доступный ей материал позднеантичных культовых ле¬
генд и романов об основателях религий (жизнеописания Пифагора,
Гермеса, Аполлония Тианского).
С конца II в. это возбуждение начинает спадать. Расцвет эпической
поэзии остался позади, и начинается мистическое пронизывание и дог¬
матическое препарирование религиозного материала. Учения новых
церквей приводятся в теологическую систему. Героизм уступает схола¬
стике, поэзия — мышлению, ясновидец и искатель — священнику. Ран¬
няя схоластика, завершающаяся ок. 200 г. (что соответствует 1200 г. за¬
падноевропейской эпохи), охватывает весь гнозис в широчайшем смыс¬
ле этого слова: составитель Евангелия Иоанна, Валентин, Вардесан и
Маркион, апологеты и Древнейшие Отцы вплоть до Иринея и Тертул-
лиана, последние таннаим вплоть до завершителя Мишны, рабби Йеху¬
да, в Александрии — неопифагорейцы и герметики. Все это соответству¬
ет на Западе Шартрской школе, Ансельму Кентерберийскому, Иоахиму
Флорскому, Бернару Клервосскому и Гуго Сен-Викторскому. Высокая
схоластика начинается с неоплатонизма, с Климента и Оригена, с пер¬
вых амореев и творцов младшей Авесты при Ардашире (226—241483) и
Шапуре I, но прежде всего — с маздаистского первосвященника Танса-
ра. В то же самое время начинается отделение высшей религиозности от
крестьянской, которая в форме деревенского благочестия все еще пре¬
бывает в апокалиптическом настроении и в почти неизменном виде со¬
хранится под разными именами вплоть до тюркского времени, между
тем как в городских и более духовных высших слоях персидская, иудей¬
ская и христианская общины окажутся поглощены исламом.
Неспешно принимают свою окончательную форму великие церкви.
ьщо решено (это явилось величайшим религиозным результатом
1 в ), что из учения Иисуса вытекает не реформирование иудаизма, но
н°вая церковь, ориентирующаяся отныне на Запад, между тем как не
Укативший внутренней силы иудаизм обращается на Восток. III в. —
Ремя возведения великих мыслительных зданий в теологии. Наступи-
*
ten Gorion М. J. Die Sagen der Juden. 1913.
710 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ло примирение с исторической действительностью. Конец света ото¬
двинулся, и теперь возникает догматика, объясняющая новую картину
мира. Наступление высокой схоластики имеет своей предпосылкой
веру в долговечность обосновываемых учений.
Рассматривая эти учреждения, видишь, что ландшафт арамейской
почвы развивает свои формы в трех направлениях. На Востоке из зороаст-
рийской религии времени Ахеменидов и остатков ее священной литера¬
туры оформляется маздаистская церковь со строгой иерархией и беспре¬
дельно зарегламентированным ритуалом, с таинствами, мессой и испове¬
дью (патетт). Как уже упоминалось, Тансар начал собирание и
упорядочение новой Авесты. При Шапуре I к ней добавились, как это име¬
ло место также и с Талмудом, светские тексты медицинского, юридиче¬
ского и астрономического содержания. Работа была завершена князем
церкви Махраспандом при Шапуре II (309—379), и, что само собой разу¬
меется для арабской культуры, — сразу же присоединился и комментарий
на пехлеви, Зэнд. Новая Авеста, как и иудейская и христианская Библия,
представляет собой канон отдельных сочинений, и нам известно, что сре¬
ди утраченных с того времени наскс — книг (первоначально их было 21)
было Евангелие Заратустры, история обращения Виыггаспы, Бытие, су¬
дебник и родовая книга с генеалогиями от сотворения мира до персид¬
ских царей, полностью же уцелел — и это деталь, говорящая о многом, —
один Вендидад, этот, по словам Гельднера, персидский «Левит».
Новый учредитель религии появляется в 242 г., во времена Шапура II.
Это Мани, который, отвергнув «бесспасовые» иудаизм и эллинство,
сплотил воедино все магические религии, создал одно из колоссальней¬
ших теологических творений всех времен, за что и был в 276 г. распят на
кресте маздаистским духовенством. Он был прекрасно осведомлен во
всем знании своего времени благодаря отцу, который, будучи уже в пре¬
клонном возрасте, оставил семью и вступил в какой-то мандаитский ор¬
ден. Мани соединил фундаментальные идеи халдеев и персов с идеями
иоанновского, восточного христианства. До него в христианско-персид¬
ском гнозисе это пытался осуществить Вардесан, но тот не имел в виду уч¬
реждение новой церкви*. Мистические образы Иоаннова Логоса, кото¬
рый он приравнивает персидскому Boxy-Мана, Заратустру из легенды
Учение, лежащее в основе Евангелия Иоанна, было известно Мани во всех дета¬
лях, должно быть, через устное предание. Если Вардесан ( 254), как и происходящие из
его круга Деяния Фомы, в высшей степени далек от павлинистского учения, то Мани
доходит уже до открытой враждебности ему, именуя исторического Иисуса злым демо¬
ном. Здесь перед нами открывается возможность проникнуть вглядом в сущность едва
ли не подпольного восточного христианства, на которое церковь псевдоморфоза, пи¬
савшая по-гречески, не обращала никакого внимания, а потому оно до сих пор и выпа¬
дало из истории церкви. Однако с востока Малой Азии происходят и Маркион, и Мон¬
тан; здесь же возникла Книга наассенов, персидская в своей основе, на которую впо¬
следствии наложились слои иудаизма, а затем христианства; а еще дальше на восток —
быть может, в монастыре Матфея у Мосула — Афраыт485 написал ок. 340 г. свои удиви¬
тельные послания: проповедуемое в них христианство осталось совершенно неподвер¬
женным влиянию развития, происходившего на Западе от Иринея до Афанасия. Исто¬
рия несторианского христианства начинается на самом деле уже во II в.
Проблемы Арабской культуры
711
Авесты и Будду позднейших текстов Мани воспринимает в качестве бо¬
жественных эманаций и провозглашает самого себя Параклитом Еванге¬
лия Иоанна и Саошйантом персов. Как нам теперь известно на основа¬
нии Турфанских находок, среди которых находятся и отрывки из считав¬
шихся до сих пор полностью утраченными сочинений Мани, церковным
языком маздаистов, манихейцев и несториан был пехлеви, вне зависимо¬
сти ся того, какой язык был разговорным в тот или иной момент.
На Западе обе культовые церкви, имея в качестве письменного язы¬
ка греческий*, развивают теологию, которая оказывается у них не толь¬
ко родственной, но и в весьма значительной мере тождественной. Ко
времени Мани арамейско-халдейская религия Солнца и персидский
культ Митры начинают сливаться в единую систему, первым великим
«отцом церкви» которой был ок. 300 г. Ямвлих, современник Афана¬
сия, но также и Диоклетиана, возведшего в 295 г. Митру в достоинство
генотеистического имперского бога. Священнослужители Митры, по
крайней мере в плане душевном, ничем не отличаются от христиан¬
ских. Прокл, также в подлинном смысле Отец Церкви, воспринимает
во сне разъяснения трудных мест текстов и был бы не прочь уничто¬
жить все философские сочинения, за исключением канонических для
него «Тимея» Платона и книги халдейских оракулов486. Его гимны, сви¬
детельства подлинного отшельнического самоуничижения, призыва¬
ют Гелиоса и других заступников на помощь против злых духов. Гие-
рокл пишет краткое этическое наставление для верующих неопифаго-
рейской общины; лишь тщательное изучение позволяет определить,
что оно-принадлежит не христианину. Епископ Синезий превращается
из неоплатонического князя церкви в христианского, притом что обра¬
щения его в новую веру не произошло487. Он сохранил свою теологию в
неприкосновенности, поменяв в ней лишь имена. Неоплатоник Аск-
лепиад подвигнулся на то, чтобы написать большое сочинение о равен¬
стве всех теологий. Сохранились как христианские, так и языческие
евангелия и жития святых. Аполлоний написал житие Пифагора, Ма¬
рин — Прокла, Дамаский — Исидора; между этими сочинениями, на¬
чинающимися и заканчивающимися молитвой, и христианскими дея¬
ниями мучеников нет никакой разницы. Четыре божественных эле¬
мента у Порфирия — это Вера, Любовь, Надежда и Истина.
Между этими церквами Запада и Востока, если смотреть из Эдес-
CbIто на юг, возникает церковь талмудическая («синагога») с ара¬
мейским языком в качестве письменного. Иудеохристиане (например,
эбиониты и элкесаиты), манданты и халдеи были не в состоянии про¬
тивостоять этим великим образованиям, если только не рассматривать
Церковь Мани в качестве новой редакции халдейской религии. Они
^^Даются в бесчисленные секты, слабо мерцающие в тени великих
были ла™нские сочинения, например Августина и Тертуллиана, если они не
Цепкп*Переведены’ оставались совершенно без всякого влияния. Даже в самом Риме
иым языком был греческий.
712
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
церквей, или же поглощаются ими, как влились в манихейство послед¬
ние маркиониты и монтанисты. Ок. 300 г., помимо языческой, христи¬
анской, персидской, иудейской и манихейской церквей, ни одной зна¬
чимой магической религии не существовало.
13
Вместе с высокой схоластикой начиная с 200 г. обозначается также
и стремление приравнять зримую и делающуюся все более строго рас¬
члененной общину верующих к организму государства. Это с необхо¬
димостью следует из мироощущения магического человека и ведет к
превращению государя в халифа (повелителя прежде всего верующих,
а не региона), а значит, утверждается представление о правоверности
как предварительном условии действительной принадлежности к госу¬
дарству, обязанностью становится преследование ложных религий
(священная война ислама нисколько не моложе самой этой культуры и
всецело наполняла первые столетия ее существования), а лишь терпи¬
мые в государстве неверующие отдаются под юрисдикцию их собст¬
венного правосудия и администрации (ибо в божественном праве ере¬
тикам отказано). И все это ведет к образу жизни гетто.
Христианство впервые стало государственной религией в самом
сердце арамейского ландшафта, в Осроэне, ок. 200 г. В 226 г. маздаизм
сделался государственной религией империи Сасанидов, а при Авре¬
лиане ( 275) и прежде всего Диоклетиане (295) обобщенный в культах
Divus, Sol и Митры синкретизм стал государственной религией Рим¬
ской империи. Константин переходит в христианство с 312 г., царь Ар¬
мении Тиридат — ок. 321 г., царь Грузии Мириан — несколькими года¬
ми спустя. Саба на юге, должно быть, сделалась христианской уже в
III в., а Аксум — в IV в., однако в это же самое время государство Химь-
яритов становится иудейским, а император Юлиан делает еще одну по¬
пытку привести к власти языческую церковь.
Противоположность этому составляет, и опять-таки во всех религиях
этой культуры, распространяющееся монашество с его радикальным от¬
межеванием от государства, истории и действительности вообще. Ни
сама форма магической церкви, ни ее отождествление с государством и
нацией так и не приводят к окончательному преодолению противоборст¬
ва существования и бодрствования, т. е. политики и религии, истории и
природы: в жизни этих созданий духа раса все же прорывается наружу и
побеждает божественный элемент — как раз потому, что он вобрал в себя
элемент мирской. Однако борьбы государства и церкви, как она шла в го¬
тике, здесь не возникает, а потому она разгорается в рамках нации между
светскими ревнителями благочестия и аскетами. Магическая религия об¬
ращается исключительно к божественной искре, к пневме в человеке, раз¬
деляемой им с незримой общиной верующих и благих духов. Весь прочий
р1авгмретья. Проблемы Арабской культуры
713
человек принадлежит Злу и Тьме. Однако божественный элемент (ника¬
кое не «я», но как бы пришелец) должен в нем господствовать и преодо¬
леть, подчинить, уничтожить все иное. Аскет в этой культуре — это не то¬
лько истинный священник (мирской священник никогда не пользуется
здесь — к примеру, у русских — настоящим уважением, по большей части
он может даже жениться), но единственный благочестивый человек в соб¬
ственном смысле слова. Исполнение религиозных требований, помимо
монашества, абсолютно невозможно, и потому общины кающихся, от¬
шельники и монастыри уже очень рано пользуются таким почетом, како¬
го они по метафизическим основаниям никогда не могли бы добиться ни
в Китае, ни в Индии, уж не говоря о Западе, где ордена являются трудя¬
щимися и сражающимися, т. е. динамическими единствами*. Поэтому
человечество арабской культуры не разделяется на «мир» и монашеские
кружки со строго очерченными сферами жизни и равными возможно¬
стями исполнять заповеди веры. Всякий благочестивый — своего рода
монах**. Между миром и монастырем не существует никакого противо¬
речия, но лишь различие в степени. Магическая церковь и орден есть об¬
щины одного вида, различающиеся лишь охватом. Община Петра была ор¬
деном, община Павла — церковью, религия же Митры великовата для од¬
ного обозначения и слишком мала для другого.
Всякая магическая церковь — это уже орден, и лишь с учетом челове¬
ческой слабости ступени и степени аскетизма не устанавливаются, но
дозволяются, как у маркионитов и манихейцев (electi и auditoresm).
Собственно говоря, и магическая нация тоже есть не что иное, как со¬
вокупность, орден всех орденов, который подразделяется на все мень¬
шие и меньшие кружки, вплоть до отшельников, дервишей и столпни¬
ков, в которых не осталось ничего мирского и чье бодрствование уже
всецело принадлежит пневме. Но такими и были (если отвлечься от
профетических религий, которые порождали в себе и из себя — при об¬
щем апокалиптическом возбуждении — все большее число подобных
орденам общин) обе культовые церкви Запада, чьи бесчисленные ана¬
хореты, странствующие проповедники и ордена отличались в конце
концов лишь именами призываемого божества. Все они рекомендуют
пост, молитву, безбрачие и бедность. Очень большой вопрос — какая
из двух этих церквей ок. 300 г. была более аскетической по духу. Нео¬
платонический монах Серапион удаляется в пустыню, чтобы изучать
лишь гимны Орфея; Дамаскию во сне дается повеление уединиться в
скверной пещере, чтобы постоянно молиться Кибеле**^. Философские
в Фаустовский монах обуздывает свою злую волю, магический — злую субстанцию
eSP* Дуалистичен лишь второй.
д^е Законы соблюдения чистоты и предписания относительно пищи в Талмуде и
беи«Те захватывают повседневную жизнь куда основательнее, чем, к примеру, правила
*едиктинцев.
языч ^тш- Damaskios. 1911. Philos. Bibl. (125). Христианское отшельничество младше
Des Athanasius Werk iiber das Leben des Antonius. Sitz. Heid. Ak.
714
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
школы не что иное, как аскетические ордена: неопифагорейцы близки
иудейским ессеям; культ Митры — настоящий орден, допускает к сво¬
им посвящениям и обетам только мужчин; император Юлиан намере¬
вался учредить языческие монастыри. Мандаитство представляется
группой орденских общин различной степени строгости, среди кото¬
рых и орден Иоанна Крестителя. Христианское монашество ведет свое
происхождение не от Пахомия (320), лишь построившего первый мо¬
настырь, но от первой иерусалимской общины. Евангелие Матфея* и
почти все Деяния Апостолов являются свидетельствами строго аскети¬
ческого образа мыслей. Павел никогда не решался открыто этому про¬
тиворечить. Персидская и несторианская церкви развили монашеские
идеалы дальше, а ислам в конце концов их в полном объеме присвоил.
В ориенталистском благочестии всецело господствуют мусульманские
ордена и братства. По тому же пути шло развитие и в иудаизме — от ка-
раитов489 VIII в. и до польских хасидов XVIII в.
Христианство, еще во II в. бывшее лишь одним из орденов, правда,
несколько более распространенным, чем другие, притом что его обще¬
ственное влияние выходило далеко за пределы численности его сто¬
ронников, начиная приблизительно с 250 г. грандиозно разрастается.
То был период, в который исчезали последние городские культы ан¬
тичности — не перед лицом христианской церкви, но перед лицом новооб¬
разованной церкви языческой. В 241 г. обрываются акты Арвальских бра¬
тьев в Риме; в 265 г. появляются последние культовые надписи в Олим¬
пии. В это же время становится правилом навешивать на одно лицо
множество самых разных жреческих должностей", а это значит, что все
соответствующие обычаи воспринимаются как принадлежащие одной
и той же религии. И эта религия выступает на сцену, вербуя себе сто¬
ронников, и распространяется широко за пределами греко-римской
племенной области. И все же ок. 300 г. христианская церковь была
единственной простиравшейся на весь арабский регион, однако имен¬
но это и привело теперь с необходимостью к внутренним противоречи¬
ям, основывавшимся не на духовной организации отдельных людей,
но на духе отдельных ландшафтов и потому вызвавшим распад христи¬
анства на несколько религий, причем навсегда.
Борьба вокруг сущности Христа — вот та арена, на которой разверну¬
лось противоборство. Речь идет о проблеме субстанции, в той же форме и
с тем же подходом наполнявшей и все прочие магические теологии. Не¬
оплатоническая схоластика, Порфирий, Ямвлих, но в первую очередь
Прокл рассматривали те же самые вопросы в западной их постановке и в
тесном соприкосновении со способом мышления Филона и даже Павла.
Отношения между Первоединым, Нусом, Логосом, Отцом и Посредни¬
ком рассматриваются под углом субстанциальности. Идет ли здесь речь
об излучении, делении или пронизывании? Содержатся ли они друг в
Вплоть до требования в 19, 12, буквально исполненного Оригеном.
Wissowa G. Religion und Kultus der Romer. S. 493; Geffken. S. 4, 144.
рлава третья. Проблемы Арабской культуры
715
лоуге, тождественны ли один другому или же друг друга исключают? Яв¬
ляется ли триада одновременно и монадой? На Востоке, где уже сами
предпосылки Евангелия Иоанна и вардесанского гнозиса указывают на
иную редакцию этой проблемы, отношение Ахура-Мазды к святому
Духу (Спэнта-Маинйу) и сущность Boxy-Мана занимали авестийских
«отцов», и высшую точку догматической борьбы знаменует произошед¬
шая как раз в эпоху решающего Халкедонского собора (438—57) времен¬
ная победа зурванизма, который утверждал преобладание божественно¬
го мирового протекания (Зурван как историческое время) над божест¬
венными субстанциями. Наконец, к вопросу в целом еще раз обратился
ислам, попытавшись решить его в связи с сущностью Мухаммеда и Ко¬
рана. Проблема эта существует столько же, сколько магическое челове¬
чество, точно так же, как уже самим фаустовским мышлением вместо
проблемы субстанции задается специфически западная проблема воли.
Нет нужды их разыскивать: они здесь, стоит возникнуть мышлению ку¬
льтуры. Они представляют собой фундаментальную форму этого мыш¬
ления и выдвигаются вперед во всех изысканиях, даже там, где мы их не
ищем или вовсе не замечаем.
Однако с самого начала имеются три предопределенных самим
ландшафтом — Востока, Запада и Юга — христианских решения во¬
проса, причем заложены они уже в основных направлениях гнозиса со¬
ответственно Вардесаном, Василидом и Валентином. В Эдессе все они
встречаются вместе. Улицы здесь оглашает боевой клич несториан
против победителей Эфесского собора, а позже — крик монофизитов
«ets веод» [Бог един (греч.)], требовавших, чтобы епископа Иву бросили
в цирке на растерзание зверям.
Афанасий дал формулировку этого великого вопроса, причем сде¬
лал это совершенно в духе псевдоморфоза и во многом приближаясь к
своему языческому современнику Ямвлиху. В противоположность
Арию, усматривавшему в Христе лишь полубога, только подобного по
сущности Отцу, Афанасий утверждает: Отец и Сын — одной и той же
Божественной субстанции (deoryjs), занявшей в Христе человеческое
ffw/xa. «И Слово плоть бысть». Эта формула Запада находится в зависи¬
мости от зримых фактов культовой церкви, понимания слов на основе
постоянного созерцания того, что имеет образ. Здесь, на охочем до об¬
разов Западе, где именно теперь Ямвлих пишет свою книгу о статуях
богов, в которых божественное начало субстанциально присутствует и
творит чудеса", наряду с абстрактным отношением Троицы неизменно
Действенно также и чувственно-человеческое отношение Матери и
^Ына, и момент этот из хода рассуждений Афанасия не отмыслить.
С признанием сущностного равенства Отца и Сына только и была,
собственно, поставлена проблема, а именно проблема исторического
^Дсния самого Сына, как она должна была постигаться магическим
Поч 3x0 также метафизическое основание для начинающегося вскоре христианского
тания икон и явления чудотворных икон Девы Марии и святых.
716
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
дуализмом. В мировой пещере имелись божественная и мирская суб¬
станции, в человеке присутствовали божественная пневма и каким-то
образом связанная с «плотью» единичная душа. Как обстояло с этим
дело у Христа?
Но борьба разворачивалась там, где властвовали «халифы» запад¬
ной церкви, и велась на греческом языке и на почве псевдоморфоза,
что было решающим следствием битвы при Акции. Уже Константин
созвал Никейский собор, на котором победило учение Афанасия, и сам
на нем председательствовал. На писавшем и мыслившем по-арамей¬
ски Востоке, как доказывают послания Афрагата, за этими событиями
едва следили. И в мыслях не было спорить о том, что было про себя ре¬
шено уже много раньше. Разрыв между Западом и Востоком, вызван¬
ный Эфесским собором (431), разделил две христианские нации, на¬
цию «персидской церкви» и «греческой церкви», однако внутренним
образом он лишь удостоверил изначальное различие двух всецело раз¬
деленных в ландшафтном отношении способов мышления. Несторий и
весь Восток усматривали в Христе второго Адама, божественного по¬
сланца последнего зона. Мария родила человека, в человеческой и
тварной субстанции (physis) которого обитает Божественная, несотво-
ренная. Запад видел в Марии Мать Бога: Божественная и человеческая
субстанции образуют в его теле (persona в античном словоупотребле¬
нии)* единство (обозначенное Кириллом vaxris)**. Когда Эфесский со¬
бор признал «Богородицу», в городе знаменитой Дианы разразилась
настоящая античная праздничная оргия***.
Однако уже до этого сириец Аполлинарий провозгласил «южную»
редакцию учения: в живом Христе присутствует не только одна лич¬
ность, но и одна субстанция. Божественная преобразовалась, а не сме¬
шалась с человеческой (никакого крыя, как возражал, отвечая ему, Гри¬
горий Богослов; что весьма характерно, это монофизитское представле¬
ние оказывается возможным выразить лучше всего с помощью понятия
Спинозы: одна субстанция в ином модусе). Монофизиты назвали Хрис¬
та Халкедонского собора (451), где Запад вновь провел свою редакцию,
«двуликим идолом». Дело не ограничилось тем, что они отпали от церк-
* Ср. 521 сл.
Несториане протестовали против Марии Теотокос, «рождающей Бога», и проти¬
вопоставляли Ей Христа Теофора, «носящего в себе Бога». В этом сразу проявляется
глубокое различие между той религиозностью, которая относится к образам с при¬
язнью, и той, что к ним враждебна.
Следует обратить внимание на «западные» вопросы о субстанции в относящихся
к этому же времени сочинениях Прокла — о двойном Зевсе, о триаде из ттатг)р, Svvapus-
volets [отец, возможность, мышление {грен.)], которые в то же время являются 1/017x01
[умопостигаемым (грен.)], и т. д. Zeller. Philosophic der Griechen V 857 ff. Настоящая А и'
Maria в прекрасном гимне Прокла к Афине: «Если же злое прегрешение моего сущест¬
вования заключает меня в оковы (увы, я и сам знаю, как швыряют меня, словно щепк>
многие неблаговидные мои деяния, совершенные в ослеплении), то будь же Ты мило
стива ко мне, Милосердная, спасение человеков, и не оставь меня простираться ыл
земле в добычу чудовищным наказаниям, ибо я был и остаюсь принадлежащим Тебе
(Гимн VII, Eudociae Aug. rel. A. Ludwich, 1897)490.
fjtaea третья
Проблемы Арабской культуры
717
й* в Палестине и Египте произошли ожесточенные восстания; когда
пои Юстиниане персидские войска, т. е. маздаисты, продвинулись до
монофизиты приветствовали их как своих освободителей.
Окончательный смысл этой отчаянной борьбы, в которой дело шло
на протяжении столетия не об ученом понятии, но о душе ландшафта,
делавшего быть освобожденным в своих людях, состоял в отмене Дея¬
ния f совершенного Павлом. Следует глубоко вчувствоваться в суть обеих
только что возникших наций и оставить в стороне все мелкие чисто
догматические подробности. И тогда мы увидим, что ориентация хрис¬
тианства на греческий Запад и его духовная связь с язычеством достиг¬
ли своего пика в том факте, что правитель Запада сделался главой хрис¬
тианства вообще. Само собой разумеется, что для Константина павли-
нистское образование в рамках псевдоморфоза было христианством
как таковым; иудеохристиане петринистского491 направления были
еретической сектой, а восточных христиан «Иоаннова» пошиба он во¬
обще не замечал. Когда на трех решающих соборах в Никее, Эфесе и
Халкедоне дух псевдоморфоза сформировал догмат всецело по своему
усмотрению, арабский мир распрямился во всю свою природную мощь
и провел между собой и псевдоморфозом границу. С концом арабского
раннего времени наступает окончательное распадение христианства на
три религии, которые можно символически обозначить именами Пав¬
ла, Петра и Иоанна, ни одну из которых более нельзя назвать собствен¬
но христианской и истинной, не поддаваясь историческим и теологи¬
ческим предубеждениям. В то же самое время они являются и тремя на¬
циями в родовой области более древних наций — греческой, иудейской
и персидской, а в качестве церковного языка пользуются заимствован¬
ными у них греческим, арамейским и пехлеви.
14
После Никейского собора Восточная церковь самоорганизовалась
на основе епископального уложения с католикосом ктесифонским во
главе, с собственными соборами, литургиями и правом; в 486 г. несто-
Рианское учение было принято в качестве обязательного и тем самым
Разорвана связь с Византией. Начиная с этого момента у маздаистов,
манихейцев и несториан — одна судьба, зерна чего были посеяны еще
Ьардесановым гнозисом. В монофизитской южной церкви дух древней-
Шей христианской общины вновь вырывается наружу, получая более
ШиР°кое распространение; своим жестким монотеизмом и враждой к
изображениям она стоит ближе всего к талмудическому иудаизму и
^Делалась вместе с ним исходным моментом ислама — предчувствие
его содержалось уже в боевом кличе «els вебя»*. Западная церковь оста-
*
«Аллах иль Аллах».
718 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
лась связанной с судьбою Римской империи, т. е. со сделавшейся госу¬
дарством культовой церковью. Постепенно она вобрала в себя привер¬
женцев языческой церкви. Начиная с этого момента и далее ее значи¬
мость заключается уже не в ней самой, поскольку ислам почти
полностью ее уничтожил, но в том случайном обстоятельстве, что мо¬
лодые народы новой западноевропейской культуры восприняли хрис¬
тианскую систему от нее в качестве основания своего нового творе¬
ния*, причем в латинской редакции самого крайнего Запада, не имев¬
шей ровно никакого значения даже для самбй греческой церкви. Ибо
Рим был тогда греческим городом, а латынь являлась родным языком
скорей уж для Африки и Галлии.
Действенным здесь уже изначально оказалось то, что образует
сущность магической нации — существование, заключающееся в рас¬
пространении. Все эти церкви занимаются миссионерством, причем
делают это энергично и с громадным успехом. Однако распростране¬
ние это происходит в лихорадочном темпе, столь отличающем эту ку¬
льтуру от всех прочих (и нашедшем в распространении ислама наибо¬
лее выразительный и ближайший к нам, однако ни в коем случае не
единственный пример), лишь в те столетия, когда конец света ото¬
двинулся и в мировой пещере установились догматы, рассчитанные
на длительное существование, в которых группа магических религий
достигла для себя ясности по проблеме субстанции. Этот колоссаль¬
ный по значимости факт получает у западных теологов и историков
совершенно превратное освещение. Со взглядом, прикованным к
странам Средиземноморья, они замечают лишь западное направле¬
ние, укладывающееся в их схему Древний мир — Средневековье —
Новое время, но даже и здесь их внимание обращено лишь на якобы
единое христианство, в определенный момент переходящее для них
из греческой в латинскую форму, после чего греческая составляющая
из их поля зрения исчезает.
Однако языческая церковь еще прежде христианства (и факт этот во
всей его громадной значимости нисколько не учитывается и вообще в
качестве миссионерской работы не признается) приобрела на сторону
синкретического культа большинство населения Северной Африки,
Испании, Галлии, Британии, а также распространилась вдоль по рейн¬
ской и дунайской границе. Ко времени Константина мало что уцелело
от религии друидов, которую Цезарь еще застал в Галлии. Приравнива¬
ние туземных местных богов к великим, причем магическим, божест¬
вам культовой церкви, прежде всего к Митре-Солнцу-Юпитеру, име¬
ло, начиная со II в., характер агитационной кампании; то же можно
сказать и о позднейшем распространении культа императора. Христи¬
анское миссионерство не было бы здесь столь успешным, если бы ему
не предшествовала другая близкородственная ему культовая церковь.
То же самое относится и к русскости, сохранившей это сокровище нетронутым
до настоящего времени.
£лавптретья. Проблемы Арабской культуры
719
Однако ее миссионерство вовсе не распространялось только на варва-
ов. Еще в V в. миссионер Асклепиодот обратил карийский город Аф-
подисий из христианства в язычество.
Р Как уже указывалось, иудеи занимались крупномасштабным мис¬
сионерством в направлении на юг и восток. Через Южную Аравию они
проникли далеко в глубь Африки, причем, быть может, до или вскоре
после рождения Христа; на Востоке они уже во II в. обнаруживаются в
Китае. Позднее на севере в иудаизм переходит Хазарское царство со
столицей в Астрахани. Монголы иудейского исповедания проникли
оттуда в самый центр Германии, где они вместе с венграми были разби¬
ты в битве при Лехфельде в 955 г. Иудейские ученые испано-мавритан¬
ских высших школ просили ок. 1000 г. византийского императора о за¬
щите для посольства, которое должно было осведомиться у хазар, не
являются ли те потомками затерявшихся колен израильских.
От берегов Тигра маздаисты и манихейцы пересекали обе империи,
Римскую и Китайскую, до самых отдаленных их границ. В форме культа
Митры персиянство добралось вплоть до Британии; манихейская рели¬
гия представляла ок. 400 г. опасность для греческого христианства; еще в
эпоху крестовых походов в Южной Франции существовали манихейские
секты. Однако обе эти религии одновременно продвигались также и в
восточном направлении, вдоль Китайской стены (где большая много¬
язычная надпись из Кара-Балгасуна сообщает о введении манихейского
вероисповедания в Уйгурском царстве), и достигли Шаньдуна. Персид¬
ские храмы огня возникают во Внутреннем Китае, с 700 г. в китайских
астрологических сочинениях встречаются персидские выражения.
Три христианские церкви повсюду продвигались по этим следам.
Когда Западная церковь обратила короля франков Хлодвига (496),
миссии Восточной церкви проникли уже до Цейлона и в китайские
гарнизоны на восточном конце Великой стены, а миссии церкви юж¬
ной — в царство Аксум. Когда начиная с Бонифация (718) свершилось
обращение Германии, несторианские миссионеры были недалеки от
того, чтобы заполучить собственно Китай. В 638 г. они прибыли в Ша¬
ньдун. Император Гао-цзун (651—684) разрешил им устроить церкви
во всех провинциях, ок. 750 г. в императорском дворце совершались
христианские богослужения, в 781 г., согласно все еще сохранившейся
врамейско-китайской надписи в Синани, «весь Китай был покрыт
Дворцами согласия». Однако в высшей степени значим лот факт, что
сведущие по всем религиозным вопросам конфуцианцы считали не-
Ст°Риан, маздаистов и манихейцев за приверженцев одной и той же
«Персидской» религии*, как и население западных римских провинций
Не °чень четко различало Митру и Христа.
® исламе следует усматривать пуританство всей группы раннемаги-
~Л^5^Рвлигий, которое лишь выступило в форме новой религии в ре-
Hermann. Chines. Geschichte. 1912. S. 77.
Том 2 ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
720
гионе южной церкви и талмудического иудаизма. В этом, а не только в
мощи военного натиска, его глубинное значение и тайна его басно¬
словных успехов. Несмотря на то что ислам по политическим мотивам
практиковал неслыханную веротерпимость (последний великий дог¬
матик греческой церкви Иоанн Дамаскин был под именем аль-Мансу-
ра казначеем халифов), иудаизм и маздаизм, а также христианские юж¬
ная и восточная церкви оказываются стремительно и практически пол¬
ностью им поглощены. Католикос Селевкии Йезуяб III жалуется, что
при первом же появлении ислама десятки тысяч христиан отпали от
религии, а в Северной Африке, на родине Августина, все население тут
же приняло ислам. Мухаммед умер в 632 г. Уже в 641 г. вся область мо-
нофизитов и несториан, т. е. Талмуда и Авесты, находилась в распоря¬
жении мусульман. В 717 г. они подошли к Константинополю, так что
опасность исчезновения угрожала также и греческой церкви. Уже в
628 г. один родственник Мухаммеда преподнес подарки китайскому
императору Тайцзуну и получил разрешение на миссионерскую деяте¬
льность. Начиная с 700 г. в Шаньдуне существуют мечети, а в 720 г. уже
давно закрепившиеся в Южной Франции арабы получают из Дамаска
повеление завоевать Франкское государство. Два столетия спустя, ког
да на Западе из остатков западной церкви возник новый религиозный
мир, ислам добрался до Судана и Явы.
И все же ислам означает всего лишь эпизод внешней истории рели¬
гии. Внутренняя история магической религии так же заканчивается с
Юстинианом, как фаустовской — с Карлом V и Тридентским собором.
Бросив взгляд в любую книгу по истории религии, мы узнаем, что «хри¬
стианство» пережило две эпохи великого идейного движения: в 0—500 гг.
на Востокеив 1000—1500 гг. — на Западе*. Однако это дваранних време¬
ни двух культур, и они охватывают в себе также и религиозные процес¬
сы, проходившие в соответствующих (причем нехристианских) фор¬
мах. Закрыв высшие афинские школы в 529 г., Юстиниан не уничто¬
жил античную философию, как это постоянно утверждают. Ее не было
уже на протяжении многих веков. Просто за сорок лет до рождения
Мухаммеда он положил конец теологии языческой церкви, а также, что
забывают здесь добавить, закрытием школ Антиохии и Александрии —
и теологии христианской. Учение завершилось, как завершилось оно и
на Западе с Тридентским собором 1564 г. и Аугсбургским исповедани¬
ем 1540 г. С городом и духом способность к религиозному творчеству
иссякает. Ок. 500 г. завершается Талмуд, а в 529 г. в Персии Хосров
Аноширван жестоко подавляет поддержанную (в пику церковному мо¬
гуществу и родовой знати) царем Кавадом I религиозную реформу
Маздака, отвергавшую, не без сходства с западными анабаптистами,
супружество и мирскую собственность, и тем самым окончательно
устанавливает учение Авесты.
Третья, им «одновременная», наступит в первой половине следующего тысячеле¬
тия в Русском мире.
fyaegmpетья. Проблемы Арабской культуры 721
III. Пифагор, Мухаммед, Кромвель
15
Религией мы называем бодрствование живого существа в те мгнове¬
ния, когда оно преодолевает существование: когда оно овладевает им,
отрицает его и даже уничтожает*. В сравнении с протяженным, напря¬
женным и наполненным светом миром расовая жизнь и такт ее побуж¬
дений оказываются чем-то малым и скудным: время уступает про¬
странству. Растительное стремление к завершению угасает, и наружу
прорывается животное пра-чувство страха перед завершенным, ли¬
шенным направления, перед смертью. Фундаментальные ощущения
религии — это не ненависть и любовь, но страх и любовь492. Ненависть
и страх различны, как время и пространство, как кровь и зрение, как
такт и напряжение, как героическое и святое. Однако столь же различ¬
ны любовь в расовом смысле и любовь в смысле религиозном.
Все религии родственны свету, и в религиозном смысле протяжен¬
ное постигается как зримый мир с «я» в качестве светоцентра. Слух и
осязание оказываются подчинены видимому, а незримое, чьи действия
мы воспринимаем своими ощущениями, делается высшим выражени¬
ем демонического. Все, что мы обозначаем словами «божество», «от¬
кровение», «спасение», «рок», некоторым образом является частью
освещенной действительности. Смерть — это для человека что-то та¬
кое, чтб он видит и, видя, познает, а рождение, с учетом смерти, пред¬
ставляет собой другую тайну: они с двух сторон ограничивают для зре¬
ния ощущаемый момент космического — как жизнь тела в световом
пространстве.
Существует глубокий, знакомый также и животным страх перед сво¬
бодным микрокосмическим бытием в пространстве, перед самим про¬
странством и его силами, страх перед смертью, но есть и иной страх —
за космическое течение существования, за жизнь, за направленное
время. Первый страх пробуждает темное предощущение того, что сво¬
бода в протяжении представляет собой иную и более глубинную зави¬
симость, чем растительная. Он заставляет единичное существо, ощу¬
щающее свою слабость, искать близости и связи с другими. Страх ведет
к речи, а всякая религия — это некая разновидность языка. Из страха
Перед пространством происходят numina мира как природы и культы бо¬
гов. Из страха за время рождаются numina жизни, рода, государства с их
средоточием в культе предков. В этом различие табу и тотема \ ибо
тотемное также постоянно является в религиозной форме, из священ-
Ного трепета перед тем, что недоступно пониманию и остается вечно
чУЖдым.
722
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Высшая религия нуждается в бодрствующем напряжении, направ¬
ленном против сил крови и существования, постоянно подстерегаю¬
щих на глубине, с тем чтобы вновь утвердить свои исконные права на
эту младшую сторону живого: «Бодрствуйте и молитесь, дабы не впасть
вам в искушение»493. Несмотря на это, ключевым словом всякой рели¬
гии и вечным желанием всякого бодрствующего существа является
«спасение». В этом общем, почти дорелигиозном смысле оно означает
стремление к избавлению от страхов и мук бодрствования, к разрядке
напряжений, порожденных страхом мышления и мудрствования, к из¬
бавлению и возвышению сознания от одиночества «я» в мироздании,
от косной обусловленности всей природы и от взгляда, вперенного в
неотменимую границу всякого бытия, в старость и смерть.
Избавляет также и сон. Сама смерть — сестра сна. Суровость духов¬
ных напряжений оказывается разрушенной и священным вином, опь¬
янением, как и танцем, дионисийским искусством и любого рода отуп¬
лением и выходом за свои пределы. Все это есть избегание бодрствова¬
ния с помощью существования, космического, «оно», бегство из
пространства во время. Однако выше всего этого стоит собственно ре¬
лигиозное преодоление страха посредством самого же понимания\ На¬
пряжение между микрокосмом и макрокосмом становится чем-то та¬
ким, что мы любим, чему мы можем всецело отдаться. Мы называем
это верой, и с нее начинается духовная жизнь человека как таковая.
Существует только каузальное понимание, неважно, принимаем ли
мы его как данность или применяем на практике, абстрагируем от ощу¬
щения или нет. Понятность и каузальность невозможно разделить: то и
другое означает одно и то же. Там, где что-то «действительно» для нас
существует, мы наблюдаем это и мыслим в причинной форме точно так
же, как мы воспринимаем и знаем самих себя и свои действия как при¬
чину494. Однако это установление причин оказывается от случая к слу¬
чаю различным не только в религиозной, но и в неорганической логике
человека вообще. В данный момент в качестве причины для данного
факта мыслится это, а уже через мгновение — что-то другое. Всякая
разновидность мышления имеет собственную «систему» для всякой
области своего применения. В повседневной жизни никогда не бывает,
чтобы та же самая каузальная последовательность была во всех деталях
продумана еще раз. Даже в современной физике друг подле друга испо¬
льзуются различные рабочие гипотезы, т. е. каузальные системы, отча¬
сти друг друга исключающие, как электродинамические и термодина¬
мические представления. Это не противоречит смыслу мышления, ибо
при длительном бодрствовании мы «понимаем» постоянно в форме
единичных актов, каждый из которых обладает своей собственной кау¬
зальной установкой. То воззрение, что весь мир как природа упорядо¬
чен для бодрствования одной-единственной каузальной цепью, совер-
* «Тот, кто пылко любит Бога, сам в Него превращается» (Бернар Клервосский).
Глава третья. Проблемы Арабской культуры
723
1еНно не может быть воплощено в жизнь нашим мышлением, посто¬
янно мыслящим лишь единичные взаимосвязи. Это воззрение
остается верой; оно даже просто является верой, ибо на нем основыва¬
ется религиозное понимание мира, которое с необходимостью, дикту¬
емой самим мышлением, усматривает numina повсюду, где что-либо
примечает: как преходящие numina для случайных событий, о которых
оно никогда больше не задумается, так и долговременные, которые мо¬
гут присутствовать, к примеру, в источниках, деревьях, камнях, хол¬
мах, звездах, т. е. в определенных местах, или же, как небесные боги,
боги войны или мудрости, обитать повсюду. Они ограничены лишь
пределами всякого единичного мыслительного акта. То, что было се¬
годня свойством бога, завтра уже само становится богом. Другие же
представляются то множеством, то личностью, то неопределенным не¬
что. Существуют numina незримые (образы) и непостижимые (принци¬
пы), которые могут либо являться избранному, либо становиться ему
понятными. Судьба* в античности (epappvrj) и в Индии (Па) есть нечто
такое, что в качестве причины (Ur-Sache) стоит выше доступных пред¬
ставлению образных богов; однако магическая судьба — это действие
единственного и лишенного образа высшего бога. Религиозное мыш¬
ление постоянно сводится к установлению в последовательностях при¬
чин порядка по ценности и рангу — вплоть до самых высших сущно¬
стей или принципов, являющихся первейшими «властвующими» при¬
чинами. Рок — это слово, обозначающее наиболее всеохватную
каузальную систему из всех, что основаны на оценке. В противополож¬
ность этому наука представляет собой понимание, принципиально иг¬
норирующее различие между причинами по рангу: то, что обнаружива¬
ется ею, есть не рок, но закон.
Понимание причин освобождает. Вера в найденные взаимосвязи
утишает мировой страх. Бог — это прибежище людей от судьбы, кото¬
рую можно ощущать и переживать, однако нельзя мыслить, представ¬
лять, называть, которая исчезает без следа, когда «критическое» (разла¬
гающее на части), порожденное страхом, понимание устанавливает
въяве, т. е. в открытой для внешнего или внутреннего зрения оптиче¬
ской последовательности, одни причины за другими, однако исчезает
лишь на это время. В этом отчаянность положения высшего человека:
его страстная жажда понимания все время вступает в противоречие с
его существованием. Жизни эта жажда больше не служит; господство-
вать она также более не в состоянии; поэтому во всех^значимых ситуа¬
циях остается нечто неразрешенное. «Стоит человеку объявить себя
свободным, как он тут же ощущает себя обусловленным. Но если он от¬
важится провозгласить свою обусловленность, он чувствует себя сво¬
дным» (Гёте)495.
tomv ^ЛЯ Религиозного мышления судьба всегда является каузальной величиной. Поэ¬
мой ТеоРИИ познания она известна лишь как неточное слово для причинности. На са-
Деле мы знаем ее, лишь пока о ней не думаем.
724 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Каузальную взаимосвязь внутри мира как природы, взаимосвязь,
относительно которой мы убеждены, что, сколько ни размышляй, ее не
изменить, мы называем истиной. Истины «установлены», причем вне¬
временным образом (абсолютность означает — в изоляции от судьбы и
истории, однако также и в изоляции от фактов нашей собственной жиз¬
ни и смерти), они внутренне освобождают, утешают и избавляют, ибо
обесценивают и преодолевают непредсказуемую череду событий фак¬
тического мира. Или же, как это отражается в духе: «Человек приходит
и уходит, а истина пребывает».
Нечто в окружающем мире устанавливается, т. е. заколдовывается:
понимающий приобретает в собственность тайну, будь это могущест¬
венное волшебное заклинание, как в прежние времена, или математи¬
ческая формула, как теперь. Ощущение триумфа еще и сегодня сопут¬
ствует всякому опыту в сфере природы, посредством которого устанав¬
ливается (а тем самым оказывается закованным в кандалы неизменной
системы каузальных отношений) нечто относительно намерений и сил
небесного бога, духов грозы, полевых демонов, или же о numina естест¬
вознания — об атомном ядре, скорости света, гравитации, или же хотя
бы об абстрактных numina мышления, занятого образом себя же само¬
го, — о понятии, категории, разуме. Правда, опыт в этом неорганиче¬
ском, умерщвляющем, цепенящем значении, опыт, представляющий
собой нечто совсем иное в сравнении с жизненным опытом или знани¬
ем человека, имеет место в двойном смысле: как теория и как техника\
если же выражаться по-религиозному, то как миф или культ в зависи¬
мости от того, желает ли верующий раскрыть или покорить тайны
окружающего его мира496. И то и другое требует высокого развития че¬
ловеческого понимания. И то и другое может быть порождено страхом
или же любовью. Существует миф страха, как Моисеев или вообще пер¬
вобытный миф, и миф любви, как миф древнего христианства или го¬
тической мистики, но также бывает и техника заклятия или же мольбы.
В этом, пожалуй, и состоит глубинное различие между жертвой и мо¬
литвой**: так отличается меж собой первобытное и высшее человечест¬
во. Религиозность — это душевная черта, однако религия есть талант.
«Теория» требует дара созерцания, которым обладают не все, и лишь
немногие — с озаряющей проницательностью. Теория является миро¬
воззрением в изначальнейшем смысле, воззрением на мир вне зависи¬
мости от того, усматривают ли в нем господство вышних властей или
же, — глядя на него через призму холодноватого и городского духа, не
страшась и не любя, но с любопытством, — лишь арену борьбы законо¬
мерных сил. Тайны табу и тотема созерцаются в вере в богов и в души — ** Ср. 486.
То и другое отличает внутренняя форма. Жертва, которую приносит Сократ, гк1
внутреннему смыслу есть молитва. Античную жертву следует вообще понимать как мо¬
литву в телесном образе. Однако мольба к Богу, вдруг вырывающаяся у преступника, —■
это на самом деле жертва, к которой его вынуждает страх.
Глава Проблемы.Арабской^культуры
725
оассчитываются в физике и биологии. «Техника» предполагает в ка¬
честве условия дар чар и заклинания. Теоретик — это критичный про-
видеи> техник — священнослужитель, изобретатель — пророк.
Однако то, в чем аккумулируется вся без изъятия духовная сила,
представляет собой отвлеченную от зрения посредством языка форму
действительного, высшая сущность которой — понятийная граница,
сформулированный закон, имя, число — открывается еще не всякому бод¬
рствованию. Поэтому всякое заклинание божества основывается на
знании его действительного имени, на исполнении известных лишь по¬
священному и имеющихся в его распоряжении ритуалов и таинств
именно в надлежащей форме и при использовании надлежащих слов.
Это относится не только к примитивному колдовству, но также и ко вся¬
кой физической технике, а в еще большей степени — к любой медицине.
Поэтому математика есть нечто священное, исходящее, как правило, из
религиозных кругов (Пифагор, Декарт, Паскаль), а мистика священных
чисел 3, 7, 12 является существенной чертой всякой религии*, и потому
орнамент и его высшая форма — культовое сооружение, есть нечто чис¬
ловое в чувственном образе. Это все окаменевшие, непременные фор¬
мы, мотив выражения или же знак сообщения**, посредством которых
внутри мира бодрствования микрокосмическое вступает в связь с мак¬
рокосмом. В технике священнослужителей они называются заповедя¬
ми, в технике научной — законами. И то и другое есть имя и число, и
первобытный человек не усмотрит никакой разницы между волшебной
силой, с помощью которой жрец его деревни властвует над демонами, и
той, с которой цивилизованный техник повелевает своими машинами.
Первым и, быть может, единственным результатом человеческого
желания понять является вера. «Я верю» — вот великие слова, являю¬
щиеся средством от метафизического страха и в то же самое время ис¬
поведанием любви. Пускай даже исследование и познавание увенчива¬
ются внезапным озарением или успешным расчетом; все равно все
наше восприятие и постижение не имело бы смысла, когда бы не уста¬
навливалась внутренняя уверенность в «нечто», в чем-то таком, что,
иное и чуждое, есть, причем есть именно в опосредованной форме со¬
пряжения причин и следствий. Так что человек как существо с мышле¬
нием, направляемым речью, в конце концов своим высшим достояни-
ем полагает крепкую завоеванную веру в это вырванное у времени и су¬
дьбы Нечто, которое он посредством созерцания абстрагирует и
обозначает именем и числом. Но что же это такое ,~так и остается в ито-
Ге Непроясненным. И затрагиваем ли мы тем самым тайную логику са-
Мог° мироздания или же только его призрак? Все борение и страдание,
Весь страх размышляющего человека оказываются направлены на это
** ЭТОМ философия нисколько не отличается от наидревнейших народных веро-
mu ,-, “Опоминаются кантовская таблица категорий с ее ячейками 3x4" , метод Гегеля,
Ямвлиха.
Ср. 592.
726 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
новое сомнение (Zweifel), которое может перейти в отчаяние (Verzwei-
felung). В своем глубинном духовном устремлении он нуждается в вере
в фина/гьное Нечто, которого оказывается возможным достичь в мыш¬
лении и в котором не остается ни тени тайны. Должны озариться все
без исключения закоулки и глубины зримого человеческого мира —
ничто иное избавить человека не в состоянии.
Тут вера переходит в произросшее из недоверия «знание», или же,
что будет ближе к истине, в веру в такое знание. Ибо данная форма по¬
нимания всецело зависит от той, она является позднейшей, более ис¬
кусственной и сомнительной. Сюда добавляется еще и то, что религи¬
озная теория — верующее созерцание — ведет к священнической
практике, научная же теория, напротив, выделяется посредством тако¬
го созерцания из практики, из технического знания повседневности .
Крепкая вера, складывающаяся из озарений, откровений, внезапных
глубинных узрений, может обойтись без критической работы. Однако
критическое знание предполагает веру в то, что его методы ведут имен¬
но к тому, что разыскивается, не к новым образам, но к «реальному».
Между тем история учит, что сомнение в вере ведет к знанию, а сомне¬
ние в знании, после эпохи критического оптимизма — обратно к вере.
Чем больше теоретическое знание избавляется от доверчивого прия¬
тия, тем ближе оно подходит к самоупразднению. В остатке — исклю¬
чительно технический опыт.
Изначальная, темная вера признает вышние источники истины, по¬
средством которых делаются явленными, т. е. до некоторой степени от¬
крываются, предметы, до разгадки которых собственное мудрование
никогда бы не добралось: пророческие слова, сны, оракулы, священные
письмена, голос божества. Критический дух, напротив, желает быть
обязанным всеми узрениями самому себе, и он полагает, что это ему по
силам. Он не только испытывает недоверие к чужим истинам, но даже
отрицает саму их возможность. Истина для него — это лишь самодока-
занное знание. Чистая критика черпает свои средства исключительно из
самой себя, однако уже очень скоро выявляется, что именно поэтому са¬
мое существенное в результате оказывается заданным уже заранее. De
omnibus dubitand"mm — вот намерение, обреченное остаться неосущест¬
вленным. Здесь упущено из виду, что критическая деятельность должна
основываться на методе, относительно которого нам только мнится, что
его также можно обрести в критических исканиях, на самом же деле в
каждом случае он следует из наличной заданное™ мышления", так что
результат критики оказывается определен лежащим в основе методом, а
сам метод — потоком существования, несущим на себе бодрствование и
J Ср. 487.
А здесь различными оказываются задатки первобытного и культивированного
мышления, далее же мышления китайского, индийского, античного, магического, за-
падноевропейского, затем немецкого, английского и французского; не бывает, нако
нец, даже двух людей, методы которых были бы совершенно одинаковы.
f авй третья. Проблемы Арабской культуры
727
о пронизывающим. Вера в беспредпосылочное знание отличает ра-
е налистическую эпоху и свидетельствует лишь о ее чудовищной на-
вности. Естественнонаучная теория есть не что иное, как исторически
предшествовавший этой теории догмат в измененной форме. Выгоду от¬
сюда извлекает одна только жизнь в форме успешной техники, ключи к
которой дает теория. Мы уже говорили о том, что ценность рабочей ги¬
потезы определяется не ее «правильностью», но лишь возможностью
пустить ее в дело, однако узрения иного рода, «истины» в оптимистиче¬
ском смысле слова, вообще не могут быть результатом чисто научного
понимания, уже предполагающего существование воззрения, к крити¬
ческой, препарирующей работе над которым оно может приступить. Ес¬
тествознание барокко есть последовательное препарирование готиче¬
ской религиозной картины мира.
То, к чему стремятся вера и знание, страх и любопытство, есть не
жизненный опыт, но познание мира как природы. Мир как историю
вера и знание в совершенно явной форме отрицают. Однако тайна бод¬
рствования имеет двойственную природу — во внутреннем зрении воз¬
никают два созданных страхом, каузально упорядоченных образа:
«мир внешний» и — как слепок с него — «мир внутренний». Оба заря¬
жены подлинными проблемами: бодрствование действует здесь всеце¬
ло в своей непосредственной сфере. В первом питеп зовется богом, а во
втором — душой. Критическое мышление переосмысляет отношения
божеств вероисповедного созерцания к их миру в механические вели¬
чины, не затрагивая при этом сущностной основы: материя и форма,
свет и тьма, сила и масса; и точно так же оно разлагает образ души изна¬
чального анимизма, причем делает это с тем же заранее предопределен¬
ным результатом. Физика нашего нутра зовется систематической пси¬
хологией, и она открывает в человеке, будучи наукой античной —
опредмеченные части души (vofe, вицод, етвицса499), будучи наукой
магической — душевные субстанции (руах, нефеш500), будучи наукой
фаустовской — душевные силы (мышление, чувство, воля). Все это об¬
разования, которые религиозное размышление, страшась и любя, про¬
слеживает далее в каузальных отношениях вины, греха, благодати, со¬
вести, вознаграждения и наказания.
Стоит вере и знанию обратиться к тайне существования, как мы
сказываемся ввергнуты в фатальное заблуждение. Вместо того чтобы
пробиваться к самому моменту космического, всецело пребывающего
За пределами достижимости деятельного бодрствования, на чувствен-
н°м уровне начинается анализ подвижного существования тела в кар-
не зримого мира и на уровне понятийном — анализ абстрагирован¬
ного от него мысленного образа в качестве механически-каузальной
Имозависимости. Однако действительную жизнь провождают\ ее не
знают. Истинно лишь вневременное. Истины пребывают по ту сторону
°Рии и жизни; поэтому сама жизнь есть нечто запредельное всем
чинам, следствиям и истинам. Всякая критика, как от бодрствова¬
728
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ния, так и от существования, антиисторична и враждебна жизни. Од¬
нако в первом случае как раз это-то и отвечает критическому намере¬
нию и внутренней логике подразумеваемого предмета, во втором же —
нет. Так что различие веры и знания, или страха и любопытства, или
откровения и критики не последнее и окончательное. Знание — лишь
поздняя форма веры. Однако вера и жизнь, любовь из тайного страха
перед миром и любовь из тайной ненависти между полами, знание не¬
органического и ощущение органической логики, причины и судь¬
бы — вот глубочайшие из всех противоположностей. Здесь решается
вопрос не о том, что за мышление у данного человека — критическое
или религиозное, и не чтб он мыслит, но мыслитель ли он (неважно, о
чем) или же деятель.
Бодрствование вторгается в сферу деяния лишь тогда, когда оно
становится техникой. Также и религиозное знание — сила, а причин¬
но-следственные связи можно не только устанавливать, но и пользова¬
ться ими. Кому известна тайная связь микрокосма и макрокосма, тот
над нею и господствует вне зависимости от того, была ли она ему явле¬
на как откровение или же он подглядел ее у природы. Так что подлин¬
ный человек табу — волшебник и заклинатель. Он принуждает божест¬
во жертвой и молитвой; он исполняет истинные ритуалы и таинства,
потому что они являются причинами неизбежных следствий и должны
служить всякому, кто их знает. Он читает по звездам и по священным
книгам; в его духовной власти пребывает — вне времени и власти всего
случайного — каузальное отношение вины и возмездия, раскаяния и
отпущения, жертвы и благодати. Он сам посредством сопряжения свя¬
щенных причин и следствий делается сосудом таинственной власти и в
силу этого причиной новых воздействий, в которые необходимо ве¬
рить, чтобы сделаться им причастным.
Исходя из этого и становится понятным то, о чем современный ев¬
ропейско-американский мир практически забыл, — высший смысл ре¬
лигиозной этики, мораль. Там, где она крепка и подлинна, она есть по¬
ведение, всецело имеющее значение ритуальных актов и упражнений,
постоянное exercitium spiritualе501, если воспользоваться выражением
Игнатия Лойолы, а именно поведение перед лицом божества, которое
должно быть тем самым умилостивлено и заклято. «Что мне делать,
чтобы достичь блаженства?»502 Это «чтобы» и является ключом к пони¬
манию всякой действительной морали. «Зачем?» и «для чего?» под¬
спудно остаются даже у тех философов, которые измыслили нравст¬
венность «ради нее самой»503, так что «зачем?» ощущается в ней лишь
уже на сймой глубине и его могут оценить лишь немногие, достоинст¬
вом равные им самим. Существует лишь каузальная мораль, т. е. технЫ'
ка нравственности на фоне верующей метафизики.
Мораль — это сознательная и планомерная каузальность собствен'
ного поведения с отвлечением от всех обстоятельств действительной
жизни и характера, нечто такое, что сохраняет значимость навсегда и
третья. Проблемы Арабской культуры
729
ля всех, вневременное и потому времени чуждое и именно в силу это-
^ «истинное». Даже если бы человечества не существовало, мораль
была бы истинной и значимой — в ней уже нашла свое действительное
выражение нравственно-неорганическая логика понятого в качестве
системы мира. Никогда и никто не согласится с тем, чтобы она могла
исторически развиваться или усовершенствоваться. Пространство от¬
липает время: истинная мораль абсолютна, вечно завершена и неиз¬
менно одна и та же. В ее глубине всегда заложено нечто жизнеотрицаю¬
щее — воздержание, запрет, деперсонификация504, — вплоть до аскезы,
вплоть до смерти. Это находит выражение уже в самих оборотах речи:
религиозная нравственность содержит заповеди, а не повеления. Табу,
даже там, где оно якобы утверждает, является совокупностью запретов.
Освободиться от мира фактов, избежать превратностей судьбы, рас¬
сматривать расу в себе как постоянно подстерегающего врага: для этого
требуется жесткая система, учение и упражнение. Никакие действия не
должны быть случайными и импульсивными, т. е. предоставляться на
усмотрение крови. Их следует продумывать по основаниям и следстви¬
ям и «исполнять» в соответствии с заповедями. Чтобы то и дело не под¬
даваться греху, необходимо крайнее напряжение бодрствования.
Прежде всего воздержность от всего, что относится к крови: от любви,
от брака. Любовь и ненависть, возникающие меж людьми, космичны и
злы; половая любовь есть крайняя противоположность вневременной
любви и страха Божьего и потому первичная провинность, из-за кото¬
рой Адам был изгнан из Рая и человечество оказалось отягощенным
первородным грехом. Зачатие и смерть ограничивают жизнь тела в
пространстве. То, что оно — тело, делает первое виной, а второе — на¬
казанием. ИсЬра arjfjLa — античное тело — это могила!505 — вот что явля¬
лось исповеданием орфической религии. Эсхил и Пиндар восприни¬
мали существование как вину. Святые всех культур усматривают в нем
святотатство и стремятся или умертвить его аскезой или растратить
себя в оргиазме, глубоко с аскезой связанном. Зло — это действие внут¬
ри истории, зло — деяние, геройство, радость от борьбы, победы и до¬
бычи. В этом всем, заглушая и спутывая духовное созерцание и мыш¬
ление, бьется такт космического существования. Скверен мир вообще,
если иметь в виду мир как историю. Он борется вместо того, чтоб поко¬
риться; ему неведома идея жертвы. Своими фактами он покоряет исти-
Ны- Следуя побуждениям, он ускользает от мышления о причине и
бедствии. И потому мир — это высшая жертва, какую только может
ринести духовный человек, когда подносит его силам природы. Не-
°°т этой жертвы — во всяком нравственном поступке. Нравствен-
е течение жизни есть непрерывная цепь таких жертв. В первую оче-
Свдь Это жертва сострадания: в ней тот, кто внутренне могуч, вручает
Мо е превосходство бессильному. Сострадающий убивает что-то в са-
Сд Се^е. Однако сострадание в великом религиозном значении не
ЛУет путать с нестойким настроением заурядного человека, кото¬
730
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
рый не в состоянии владеть собой, но прежде всего его не следует пу¬
тать с расовым чувством рыцарства: последнее вообще не есть мораль
оснований и заповедей, но благородное, само собой разумеющееся уме¬
ние себя держать, основанное на бессознательном чувстве такта высо¬
кодисциплинированной жизни. То, что во времена цивилизации назы¬
вают социальной этикой, не имеет с религией абсолютно ничего обще¬
го и своим наличием доказывает лишь слабость и пустоту
религиозности, из которой испарилась вся сила метафизической уве¬
ренности, а тем самым и предварительное условие подлинной, креп¬
кой в вере и самоотверженной морали. Вспомним хотя бы, сколь раз¬
личны меж собой Паскаль и Милль. Социальная этика есть не что
иное, как практическая политика. Как чрезвычайно поздний продукт,
она принадлежит тому же самому историческому миру, в котором на
вершине раннего времени появляются нравы — как благородство и ры¬
царство крепких родов (в противоположность тем, которым достава¬
лось в жизни от истории и судьбы), т. е. то, что в благовоспитанных
кругах, обладающих тактом и вымуштрованных, называется gentleman¬
like [джентльменством (англ.)] или порядочностью и противоположно¬
стью чего оказывается не грех, но низость. Здесь опять-таки различие
между собором и замком. Данное умонастроение не спрашивает о за¬
поведях и основаниях. Оно вообще ни о чем не спрашивает. Оно при¬
сутствует в крови (именно это-то и означает такт) и страшится не нака¬
зания и расплаты, но одного презрения, и прежде всего презрения к са¬
мому себе. Умонастроение это не самоотверженно, но происходит
именно из полноты сильной самости. Однако в те же самые ранние
времена находились величайшей святости служители, такие, как
Франциск Ассизский или Бернар Клервосский, и у сострадания — как
раз потому, что оно также требует внутреннего величия; им были при¬
сущи одухотворенность самоотказа, блаженство самопреподношения,
то эфирное, бескровное, вневременное и внеисторическое милосер¬
дие, в котором страх перед мирозданием всецело превратился в чис¬
тую, безупречную любовь и поднялся на ту вершину каузальной мора¬
ли, на которую более поздние периоды вовсе не способны.
Чтобы обуздать кровь, ее надо в себе иметь. Поэтому монашество
большого стиля возможно лишь во времена рыцарства и войн, и вы¬
сший символ победы пространства над временем — это воин, сделав¬
шийся аскетом, никакой не прирожденный мечтатель и слабак, кото¬
рому в монастырь прямая дорога, и не ученый, складывающий кубики
своей нравственной системы у себя в кабинете. Так не будем же ханжа¬
ми: то, что зовут моралью сегодня, — умеренная любовь к ближнему и
упражнение в порядочности или же дела милосердия с задней мыслью
приобретения политического влияния — по меркам раннего времени
не является проявлением рыцарства даже самого низшего ранга. По¬
вторим еще раз: великая мораль возможна лишь с учетом смерти, и воз-
никает она из заполняющего собой все существование страха перед ме~
[ЛавотРе3^1
Проблемы Арабской культуры
731
физическими основаниями и следствиями, из любви, преодолеваю¬
щей жизнь, из сознания того, что неизменно находишься под
баянием каузальной системы священных заповедей и целей, которую
ледует либо почитать как истинную, либо полностью от нее отказать¬
ся Практику этой морали сопровождают постоянное напряжение, са¬
монаблюдение, самопроверка; мораль эта есть искусство, и рядом с
ней мир как история обращается в ничто. Надо быть героем или свя¬
тым. Меж ними не мудрость, но заурядность.
16
Имей мы истины в отделении от потоков существования — никакая
история истины была бы немыслима. Если бы нам была дана одна-
единственная, на веки вечные верная религия, история религии была
бы абсурдным представлением. Однако какого бы мощного развития
ни достигала микрокосмическая жизненная сторона единичного су¬
щества, она лишь облегает становящуюся жизнь, подобно коже, про¬
низываемой тактом крови и являющейся постоянным свидетельством
скрытых позывов космической направленности. Раса господствует во
всем постижении и его формирует. Время поглощает пространство —
такова судьба всякого бодрствующего мгновения.
И все же «вечные истины» есть. Они в избытке у всякого человека,
поскольку он пребывает — понимая — среди мыслительного мира, в
сопряжениях которого они незыблемо установлены: именно «на сей¬
час», на момент мышления, железно сопряженные по основанию и
следствию, причине и действию. Как он полагает, ничто в этом поряд¬
ке сдвинуться не может, однако его бодрствующее «я» оказывается
поднято одной волною жизни вместе с его миром. Созвучие остается,
однако как у целого, как у факта у него имеется история. Абсолютное и
относительное — как поперечный разрез и продольный вид последова¬
тельности поколений: второй отталкивается от пространства, первый
же — от времени. Тот, кто мыслит систематически, остается в каузаль¬
ном порядке мгновения. Постоянное изменение того, что является ис¬
тинным, познаёт лишь тот, кто физиономически проглядывает после¬
довательность установок.
Все преходящее — только подобье506; что это справедливо также и
применительно к вечным истинам, начинаешь понимать, как только
принимаешься прослеживать их путь в потоке истории, по которому
пни двигаются, заключенные в картину мира живых и умирающих поко-
^ний. Для всякого человека и его краткого существования лишь одна
Дигия является вечной и истинной — та, которая была предопределе-
0 емУ сУДьбой по времени и месту его рождения. Ею он ощущает, на ней
строит свои повседневные воззрения и убеждения. Он строго придер-
ее слов и форм, хотя постоянно подразумевает под ними что-
732 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
то другое. Вечные истины существуют в мире как природе; в мире как
истории есть лишь вечно изменчивое истинностное существование.
Поэтому создание морфологии истории религии — задача, которую мо-
жет поставить себе лишь фаустовский дух, и разрешить ее он способен
лишь на современной своей ступени. Требование выдвинуто; необходимо
решиться на попытку всецело абстрагироваться от собственных убежде¬
ний, чтобы рассматривать их все как в равной степени чуждые. Но как же
это трудно! Тому, кто отважится на такое, должно достать силы не только
на то, чтобы выйти из круга истин своего миропонимания, пускай даже
они являются для него всего только совокупностью понятий и методов
(это было бы лишь внешним решением), но и на то, чтобы на деле физио-
номически проглядеть всю без изъятия собственную систему. Но даже и в
таком случае может ли он, оставаясь в пределах одного-единственного
языка, который уже в своих строении и духе содержит всю тайную мета¬
физику его собственной культуры, получить пригодные для передачи лю¬
дям, говорящим на ином языке, усмотрения об истинах?
Поначалу мы обнаруживаем здесь продолжающуюся многие тысяче¬
летия первого этапа* тупую сутолоку первобытного населения, коснею¬
щего в хаотическом окружающем мире, гнетущая загадка которого все
время стоит перед ним, и нет никакой надежды хоть как-то логически
ею овладеть. Блаженны рядом с людьми звери — они бодрствуют, одна¬
ко не мыслят. Зверь страшится лишь грозящей опасности, ранний же
человек трепещет всего мира. Все в нем и вокруг него остается темным и
неразрешенным. Заурядное и демоническое неотделимы и беспорядоч¬
но перепутаны. Мрачная и педантичная религиозность наполняет по¬
вседневность, и здесь почти невозможно появление хотя бы намека на
обнадеживающую религию. Ибо от этой элементарной формы мировог о
страха нет пути к понимающей любви. Демоничным может оказаться
всякий камень, на который ступает человек, всякое орудие, которое он
берет в руки, всякое проползающее мимо насекомое, еда, дом, сама по¬
года, однако в затаившиеся в них силы верят лишь постольку, поскольку
они пугают или же поскольку в них нуждаются. А потому большего от
них и не требуется. Любить можно лишь то, чему твоя вера приписывает
долговременность существования. Любовь предполагает, что мы мыслим
такой миропорядок, который приобрел стабильность. Западная наука
затратила много усилий на то, чтобы привести в порядок единичные на¬
блюдения во всех частях света, причем по мнимым ступеням, «выводя¬
щим» от анимизма или какого-либо иного начала к ее собственной вере
К сожалению, схема была построена ими в соответствии с представле¬
ниями одной-единственной религии, и китайцы или греки сделали бы
то же самое совершенно иначе. Однако такой последовательности сту¬
пеней, предполагающей всеобщее развитие к единой цели, нет в приро¬
де. Хаотический окружающий мир первобытного человека, рождаемый
См. с. 496.
733
Проблемы Арабской культуры
ясесекундном понимании единичного мгновения, тем не менее полон
в ысла и всегда представляет собой нечто уже взрослое, совершенное и
С конченное в самом себе, зачастую содержа внезапную и заставляю-
Згую трепетать глубинность метафизического предчувствия. Здесь все-
па присутствует система, и не особенно-то важно, была ли она частично
абстрагирована от светомира или же полностью пребывает в нем. Такая
картина мира не «прогрессирует», и столь же мало является она устано¬
вившейся суммой единичных черт, которые можно, как это обыкновен¬
но делается, изымать и сравнивать меж собой без учета времени, страны
и народа. Скорее эти черты образуют единый мир органических религий,
обладавший (и обладающий и посейчас в очагах, где они еще сохрани¬
лись) по всей Земле собственными и в высшей степени характерными
способами возникновения, созревания, распространения и отмирания,
а также совершенно своеобычными строением, стилем, темпом и про¬
должительностью. Религии высших культур не более развиты, но просто
иные. Они предстают более просветленными и одухотворенными, им
известна понимающая любовь, у них имеются проблемы и идеи, строго
духовные теории и техники, однако религиозная символика повседнев¬
ности как таковой им более неведома. Первобытная религиозность про¬
низывает собой все, поздние же отдельные религии представляют собой
замкнутые в самих себе миры форм.
Тем загадочнее оказывается предвремя великих культур, все еще все¬
цело первобытных, однако здесь проглядывает нарастающая ясность и
обнаруживается определенное направление. Именно эти-то продолжа¬
ющиеся столетия периоды предвремени и следовало бы подробно изу¬
чить сами по себе и сравнить их друг с другом. В каком образе подготов¬
ляется здесь будущее? Как мы видели, магическое предвремя произвело
на свет тип профетической религии, перешедшей в апокалиптику. В чем
выражается глубокая укорененность именно данной формы в сущности
данной культуры? Или почему микенское предвремя античности оказы¬
вается всецело наполненным представлениями о звероподобных боже¬
ствах?* Это не боги воинов, не боги мегарона в замке наверху, где культ
ДУШ и предков окружается пышным почитанием, о котором еще и те¬
перь свидетельствуют погребения, но боги сил, в которые верят внизу, в
^шжинах крестьян. Великие человекоподобные боги аполлонической
пет послУжил ли здесь образцом высокоцивилизованный Крит как форпост еги-
тинСКОГО спос°ба мышления. Однако бесчисленные местные и племенные боги эпохи
нитов (до 3000 г.), представляющие собой numina отдельных видов животных, имели
ДЬ существенно иное значение. Египетское божество этого времени, чем оно могу-
ваютВеННей’ тем больше имеет частных духов (ка) и частных душ {бай), которые скры-
Сехм И подстеРегают человека в отдельных животных повсюду: Бастет — в кошках,
гов*?еТ~~ Вльвах» Хатор — в коровах, Мут — в коршунах. Поэтому в изображенияхбо-
Лее а’ имеющий человеческий образ, как бы прячется за головой зверя, так что наибо-
^оже СВНЯЯ каР™на МИРЗ возбуждает в человеке жутчайший страх: после его смерти
лищьСТВенные силы обрушиваются на него со всей свирепостью и могут быть смягчены
щен Вес°мейшими жертвами. Объединение Юга и Севера страны нашло свое вопло-
Щем ? в °бщем почитании сокола Гора, первый ка которого присутствует в царствую-
Фараоне. Ср.: Meyer Ed. Gesch. d. Altertums I. § 182 ff.
734 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
религии, возникшие, должно быть, ок. 1100 г. в результате величайшего
религиозного потрясения, еще повсеместно несут черты своего темного
прошлого. Среди всех эти образов не найти, пожалуй, ни одного, кото¬
рый бы не раскрывал своего происхождения в именованиях, атрибутах
или предательских мифах о перевоплощении. Для Гомера Гера постоян¬
но «волоокая»; Зевс является быком, а Посейдон из тельфусской леген¬
ды — жеребцом. Аполлон становится именем бесчисленных примитив¬
ных numina: когда-то он был волком (Ликейский), как и римский Марс,
бараном (Карнейский), дельфином (Дельфиний), змеей (Аполлон Пи-
фийский из Дельф). В виде змеи являются Зевс Мелихий на аттическом
надгробном рельефе, а также Асклепий, и еще у Эсхила («Эвмениды»,
ст. 126) Эриннии. Содержавшуюся на Акрополе священную змею тол¬
ковали как Эрихтония. Еще Павсаний видел в Аркадии, в храме Фига-
лии, изображение Деметры с головой лошади; аркадская Артемида-
Каллисто является в виде медведицы; и жриц бравронской Артемиды,
однако, также звали в Афинах арктоь507. Дионис — то бык, то козел, а Пан
так навсегда и сохранил что-то от зверя. Псюхэ, как и египетская телес¬
ная душа (бай), оказывается птицей души, что служит отправным мо¬
ментом для возникновения бесчисленных полуживотных образований
вроде сирен и кентавров, всецело заполоняющих раннеантичную карти¬
ну природы.
Что предвещает, однако, в примитивной религии времени Меровин-
гов колоссальный взлет готики? То, что здесь имеет место якобы та же
самая религия, «христианство» как таковое, нисколько не противоре¬
чит полному различию по сути. Ибо мы должны с полной отчетливо¬
стью понимать, что примитивный характер религии проявляется на са¬
мом деле не в совокупности ее учений и обычаев, но в душевном эле¬
менте людей, которые их усваивают, ими чувствуют, говорят и мыслят.
Исследователь обязан знать, что магическое христианство, причем
христианство именно западной церкви, дважды являлось средством
выражения примитивного благочестия и тем самым делалось само
примитивной религией, а именно в 500—900 гг. на кельтско-герман¬
ском Западе и еще сегодня в русскости. Как же, однако, отражался мир
в этих «обращенных» головах? Что на самом деле представляли себе
люди (за исключением нескольких византийской выучки клириков) в
связи с этими церемониями и догматами, что они в связи с ними дума¬
ли? Епископ Григорий Турский, как-никак имевший среди своих со¬
временников высочайший духовный ранг, в следующих словах превоз¬
носит пыль, сметенную с могильной плиты одного святого: «О небес¬
ное слабительное, далеко превосходящее все врачебные рецепты,
прочищающее живот, как сок скамония508, и смывающее все пятна с
совести!» И казнь Иисуса не представляется ему важным событием:
она вызывает его гнев как всякое заурядное преступление; но вот Его
Воскресение, смутно видящееся Григорию неким совершенным телес¬
ным достижением, является, по его мнению, законным подтверждени-
^ва третья. Проблемы Арабской культуры
735
того, что Мессия — великий волшебник, а тем самым и истинный
Спаситель. О том, что история Страстей имеет мистический смысл, он
паже и не подозревает'.
Д На Руси постановления Стоглавого собора 1551 г. свидетельствуют
0 примитивнейших верованиях. Смертными грехами здесь оказывают¬
ся брадобритие и неверное крестное знамение. Ими, мол, уязвляются
черти509. «Антихристов синод» 1667 г. привел к колоссальному сектант¬
скому движению раскола, потому что предписывал креститься не дву¬
мя, а тремя пальцами и говорить не Исус, а Иисус, вследствие чего сила
этих волшебных средств против бесов оказалась для ортодоксов утра¬
ченной. Однако в этом сказывался не только страх, его действие не
было здесь ни единственным, ни даже самым интенсивным. Почему
время Меровингов не обнаруживает ни малейшего следа той пламене¬
ющей страстности и стремления сгинуть в метафизическом, которые
наполняют магическое предвремя апокалиптики и столь родственный
ему период России при Священном синоде (1721 — 1917)? Что побужда¬
ло все мученические секты раскольников начиная с Петра Великого к
безбрачию, нищенству и паломничеству, к самооскоплению, к чудо¬
вищнейшим формам аскезы, а в XVII в. в порыве религиозной страсти
подвигло тысячи на добровольное самосожжение? Учение хлыстов о
«русских христах», которых пока что насчитывается семь, духоборцы с
их «Животной книгой», которой они пользуются как Библией и в кото¬
рой якобы содержатся псалмы, изустно передаваемые от Христа, скоп¬
цы с их страшными обетами оскопления — все это вещи, без которых
не понять ни Толстого, ни нигилизма и политических революций". И
почему франкская эпоха предстает рядом с этим столь тупой и плос¬
кой? Верно ли, что религиозным гением обладают лишь арамеи и рус¬
ские? И чего следует ожидать от будущей России теперь, когда — имен¬
но в решающем для нее столетии — препятствие в виде ученой орто¬
доксии оказалось сметено?
17
Есть в примитивных религиях нечто безродное, как в облаках и вет¬
ре. Массовые души пранародов случайным и преходящим образом со-
ираются в единое существование, и случайными же остаются области,
гДе из страха и для защиты возникают распространяющиеся поверху
СВязи бодрствования. Пребывают ли они на месте или блуждают, меня-
|°^я^1ли^еТ) внутренне это не имеет для них никакого значения.
*
TuDlr Bernoulli. Die Heiligen der Merowinger, 1900, хорошее изображение этой прими-
*вной религии.
Killtn ^attenbusch. Lehrb. d. vgl. Konfessionsk. 1892. I. S. 234 ff.; Miljukow N. P. Skizz. mss.
Ulturgesch. 1901. II. S. 104 ff.
736
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЬ|
Тесная привязанность к земле — вот что отделяет от такой жизни
высшие культуры. У всех выразительных образований этих культур
имеется родной ландшафт, и, подобно тому, как город, храм, пирамида
и собор должны также и завершить свою историю там, где возникла их
идея, так и великая религия всякого раннего времени всеми корнями
существования связана с той землей, над которой вознеслась ее карти¬
на мира. Как бы далеко ни были впоследствии перенесены священные
обычаи и формулы, их внутреннее развитие, несмотря ни на что, оста¬
ется околдованным тем местом, где они родились. Абсолютно невоз¬
можно, чтобы античный культ прошел хоть самомалейший отрезок
своего развития в Галлии, а фаустовское христианство сделало в Аме¬
рике хотя бы один шажок вперед в смысле догматики. То, что отделяет-
ся от земли, становится косным и жестким.
Всякий раз это словно выкрик. Тупая сутолока боязни и обороны
внезапно переходит в чистое и пылкое бодрствование, и оно-то, исходя
от Матери-Земли и вполне растительным образом расцветая, единым
взглядом охватывает и постигает глубины светомира. Где вообще при¬
сутствует способность к самонаблюдению, этот переворот восприни¬
мают и приветствуют как внутреннее возрождение. Вот мгновение, ко¬
торое никогда не наступает раньше и никогда уже не возвращается с
тою же силой и глубиной, мгновение, когда избранные умы этого вре¬
мени ощущают как бы великое просветление, растворяющее без остат¬
ка все страхи в блаженной любви и заставляющее незримое внезапно
выступить в метафизической выявленное™.
Всякая культура осуществляет на этой стадии свой пра-символ. У
всякой свой род любви, посредством которой она созерцает Бога, охва¬
тывает его, вбирает в себя; будем ли мы называть эту любовь небесной
или метафизической, она остается недостижимой или непонятной для
всех прочих культур. И неважно, будет ли здесь подразумеваться на¬
висшая над миром световая пещера, как то было на взгляд Иисуса и его
спутников, или крохотная Земля, исчезающая в заполненной звездами
бесконечности, как воспринимал ее Джордано Бруно, будут ли орфики
вбирать в себя телесного бога, сольется ли дух Плотина с духом бога в
экстазе генозиса510 или св. Бернар воссоединится с деяниями беско¬
нечного Божества в unio mystica [мистическом единении (лат.)] — глу¬
бинное побуждение души всегда остается подчиненным пра-символу
именно данной, и никакой иной, культуры.
Во время V династии в Египте (25 63—24 23511), которая воцарилась
вслед за великими строителями пирамид, меркнет культ сокола Гора.
ка которого пребывает в царствующем правителе. Более древние мест¬
ные культы и даже глубокомысленная религия гермопольского Тота
отступают на задний план. Появляется солнечная религия Ра. К запад)
от своего замка каждый фараон возводит теперь рядом со своим зауло-
койным храмом еще и святилище Ра. Если первый является символом
праведной жизни от рождения и до погребальной камеры с саркофа'
Проблемы Арабской культуры 737
т0 второе — символ великой и вечной природы. Время и простран¬
но существование и бодрствование, судьба и священная причин-
С сть противостоят друг другу в этом колоссальном двойственном со¬
вании как ни в одной другой мировой архитектуре. Вверх и к одному,
к другому ведет крытая галерея; ведущую к Ра сопровождают релье-
(Ьы отображающие мощь власти бога Солнца над растительным и жи¬
вотным миром и смену времен года. Никакого изображения бога, ни¬
какого храма, лишь алебастровый алтарь украшает громадную террасу,
на которую с наступлением дня высоко над землей ступает фараон,
чтобы приветствовать великого Бога, восходящего на востоке*.
Эта ранняя самоуглубленность неизменно исходит от страны без
городов — от деревень, хижин, святилищ, одиноких монастырей и оби¬
телей отшельников. В них оформляется великая общность бодрствова¬
ния духовно избранных, внутренне на целый мир отстоящая от велико¬
го потока существования рыцарства и героизма. Отсюда начинается
самостоятельная история обоих пра-сословий — духовенства и знати,
созерцания в соборах и вылазок из замков, аскезы и культа дамы, эк¬
стаза и благородных нравов. Пускай халиф будет также и светским по¬
велителем верных, фараон совершает жертвоприношения в обоих хра¬
мах, а германский король под собором закладывает гробницу своих
предков — ничто не в состоянии перекрыть разверзшуюся, как бездон¬
ная пропасть, противоположность пространства и времени, как она от¬
ражается здесь в том и другом сословии. История религии и политиче¬
ская история, история истин и история фактов несоединимо высятся
одна напротив другой. Это начинается с соборов и замков, чтобы про¬
должиться в постоянно растущих городах как противоположность нау¬
ки и экономики и завершиться на последних ступенях историчности
как борение духа и насилия.
Однако обе истории всецело развиваются в верхах человечества.
Крестьянство остается в глубине, внеисторичным. Государство для
него нечто столь же маловразумительное, как и догмат. Из мощной
ранней религии кругов святости в ранних городах развивается схола¬
стика и мистика, в растущих переплетениях переулков и площадей —
Реформация, философия и светское гелертерство, в каменной толще
поздних больших городов — Просвещение и безрелигиозность. Кре¬
стьянская вера снаружи «вечна» и неизменно одна и та же. Египетский
крестьянин ничего не смыслил в этом Ра. Он слышал имя — и только,
Но’ хотя за это время в городах протек колоссальный этап истории ре-
Лигии, продолжал и дальше почитать свои звериные божества времен
ринитов, которые с феллахской верой XXVI династии снова сделались
сподствующими. Италийский крестьянин молился во времена Авгу-
^^кже, как он это делал задолго до Гомера, и то же самое он продол-
Haudes Newoserre. 1905. Bd. I. Фараон более не является инкар-
см0ТпИ ^ОЖества и еще не есть, как это будет в теологии Среднего царства, сын Ра. Не-
ря на свое земное величие, он стоит здесь перед богом маленький, как слуга.
Закат Западного мира
738
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
жает делать и сегодня. Имена и положения целых религий, которые
расцвели и отмерли, проникали к нему из города и меняли звучание его
слов. Но смысл оставался вечно один и тот же. Французский крестья¬
нин живет все еще в своем времени Меровингов: будь то Фрея или Ма¬
рия, будь то друиды или доминиканцы, Рим или же Женева512 — ничто
не затрагивает глубиннейшего в его вере.
Однако и в городах один слой исторически отстает от другого. Над
примитивной религией села имеется еще народная религия маленького
человека в нижних слоях городов и провинции. Чем выше поднимается
культура — в Среднем царстве, во времена брахманов, во времена досок-
ратиков, доконфуцианцев и барокко, — тем уже становится круг тех, для
кого последние истины своего времени не звук пустой, но кто ими дей¬
ствительно владеет. Много ли отыскалось бы людей, которые бы поняли
Сократа, Августина и Паскаля в их время? Человеческая пирамида со
всевозрастающей стремительностью сходит на нет также и в религии,
чтобы завершиться к концу культуры, а затем медленно распасться.
Ок. 3000 г. в Египте и Вавилоне начинается жизненный путь двух
великих религий. В Египте в «эпоху Реформации» на исходе Древнего
царства прочное обоснование в качестве религии жрецов и образован¬
ных людей получает солярный монотеизм. Все древние боги и богини
(которых крестьянство и низы продолжают почитать в их изначальном
значении) становятся лишь инкарнациями или слугами единого Ра.
Включенной в большую систему оказывается, между прочим, и обо¬
собленная религия Гермополя с ее космологией, а в одном теологиче¬
ском рассуждении даже сам Птах из Мемфиса в согласии с изначаль¬
ным догматом толкуется как абстрактный первопринцип творения*.
Это все равно, как при Юстиниане и Карле V: городской дух покорил
душу земли своей власти; дар раннего времени к формообразованию
пресекся; учение внутренне готово, и начиная с этого момента рассу¬
дочное рассмотрение скорее его разрушает, чем шлифует. Начинается
философия. В догматическом отношении Среднее царство столь же
малозначительно, как и барокко.
После 1500 г. берут начало три новые истории религии: вначале ве¬
дическая в Пенджабе, затем пракитайская на Хуанхэ и, наконец, ан¬
тичная на севере Эгейского моря. Как ни отчетливо простирается пе¬
ред нами картина мира античного человека с его пра-символом мате¬
риального единичного тела, получение хотя бы только слабого
представления о частностях великой античной ранней религии оказы¬
вается сопряжено с величайшими трудностями. Вина за это лежит на
гомеровских поэмах, скорее затрудняющих нам познание, чем его об¬
легчающих. Эта культура дала новый и принадлежащий лишь ей одной
идеал божества — человеческое тело на свету, герой как посредник
между человеком и Богом, так по крайней мере свидетельствует «Ил на'
Erman. Ein Denkmal memphitischer Theologie. Вег. Berl. Ak. 1911. S. 916 flf.
739
£исийски рассеяно по воздуху, в любом случае оно являлось фунда¬
ментальной формой всего бытия. как идеал протяженного, кос¬
мос как сумма этих единичных тел, «бытие», «единое» как
протяженное само по себе, логос как их порядок на свету — все это
крупными мазками проступило тогда перед взором жреческого сосло¬
вия, причем в полную силу новой религии.
Однако гомеровские творения — сословная поэзия в чистом виде.
Из двух миров — знати и духовенства, табу и тотема, героизма и свято¬
сти — здесь живет только один. Другого мира эта поэзия не только не
понимает, но даже его презирает. Как и в «Эдде», величайшей славой
бессмертных оказывается знание благородных нравов. И если мысли¬
телям античного барокко от Ксенофана до Платона эти сцены с богами
представлялись дерзкими и плоскими, то здесь они были правы: это те
же чувства, с которыми теология и философия поздней Западной Ев¬
ропы взирали на германские героические сказания, однако также и на
поэмы Готфрида Страсбургского, Вольфрама и Вальтера. А что гоме¬
ровский эпос не канул без следа, как собранные Карлом Великим геро¬
ические сказания, то это всего только следствие отсутствия в антично¬
сти образованного жреческого сословия, почему в позднейшей город¬
ской духовности и господствовала рыцарская, а не религиозная
литература. Изначальные учения этой религии, которые из противоре¬
чия Гомеру связывались с именем, быть может, еще более древнего Ор¬
фея, так никогда и не были записаны.
И тем не менее когда-то они существовали, и кто знает, что вообще
скрывается за образами Калханта и Тиресия. Величайшее потрясение,
прокатившееся от Эгейского моря и до Этрурии, должно быть, имело
место также и в начале этой культуры, однако даже намека на него мы в
«Илиаде» не обнаруживаем, точно так же как в «Песне о Нибелунгах» и
«Песне о Роланде» — ни следа мистики и пыла Иоахима Флорского,
св. Франциска, Крестовых походов, ни тени внутреннего горения «Dies
irae»sn того самого Фомы из Челано, вызывавшего, возможно, смешки
при каком-нибудь куртуазном дворе XIII в. Должно быть, то были вели¬
кие личности, которые привели тогда новую картину мира в мифически-
метафизическую форму, однако о них мы не знаем совершенно ничего, и
в песне рыцарских зал звучит лишь веселая, светлая, легкая сторона всего
^ого. Была ли «Троянская война» феодальной междоусобицей или также
крестовым походом? Что означает Елена? Ведь и завоевание Иерусалима
современники понимали как духовно, так и светски.
В аРистократических гомеровских поэмах Дионис и Деметра, как
усческие боги ПГТЯГТИГК ЯНИМЯНИЯ* ОпНЯКТ) И V Гр.гиппя пястухя
цнои религии, мы сможем найти столь же мало свидетельств отно-
гийСК0Льку они принадлежат вечному крестьянству, им было суждено пережить
740
Том 2 ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
сительно великого раннего времени, сколь и у сапожника Якоба Бёме.
В этом заключается второе затруднение. Великая ранняя религия —-
тоже собственность сословия, недоступная и непонятная широкому
народу; и мистика самой ранней готики ограничена узким кругом изб¬
ранных, опечатана латынью и тяжестью понятий и образов, так что
даже о ее наличии ни крестьянство, ни знать не имеют ясного пред¬
ставления. Поэтому хотя раскопки и весьма значимы для изучения ан¬
тичных сельских культов, относительно этой ранней религии они ни¬
чего не способны поведать — точно так же, как деревенская часовня не
позволит нам хоть что-то узнать об Абеляре и Бонавентуре.
Правда, Эсхил и Пиндар пребывали под обаянием великой жрече¬
ской традиции, а прежде них — пифагорейцы, поместившие культ Де¬
метры514 в центр и тем самым выдавшие тайну, где следует искать под¬
линное зерно этой мифологии, а еще раньше — Элевсинские мистерии
и орфическая Реформация VII в., и, наконец, судя по фрагментам, Фе-
рекид и Эпименид, последние (но не первые!) догматики древлей теоло¬
гии. Гесиоду и Солону известна идея вины, передаваемой по наследст¬
ву, отмщение за которую воздается детям и детям детей, и также апол-
лоническое учение о гюбрис*15. Однако Платон, как орфик и противник
гомеровского понимания жизни, отражает в «Федоне» очень древние
учения об Аде и суде мертвых. Нам известна потрясающая формула ор-
фики, это «нет» мистерий в пику «да» агона516, возникшая, вне всякого
сомнения, уже ок. 1100 г., и именно из протеста бодрствования против
существования: аацм. arfrjLа, это цветущее античное тело есть гробница!
Здесь оно больше не ощущает себя в муштре, силе и движении; оно по¬
знает себя — и пугается того, что постигает. Отсюда начинается антич¬
ная аскеза, ищущая освобождения от эвклидовского телесного сущест¬
вования с помощью строжайших ритуалов и искуплений, даже добро¬
вольной смерти. Досократовских философов, когда они выступают
против Гомера, понимают совершенно превратно: они делают это не
как просветители, но как аскеты, потому что они, «современники» Де¬
карта и Лейбница, выросли в рамках великой древней орфической ре ¬
лигии, строгая традиция которой сохранялась в полумонастырских
школах мыслителей, существовавших в тени знаменитых древних свя¬
тилищ, с точно такой же бережностью, как готическая схоластика — в
отданных в безраздельное распоряжение духовенства университетах
барокко. Дорога от самоубийства Эмпедокла ведет вперед — к римским
стоикам, а назад — к «Орфею».
Вот из этих-то последних оснований и возникают лучезарные очер¬
тания ранней античной религии. Подобно тому как весь готический
пыл обратился на Царицу Небесную Марию, Деву и Мать, так и тогда
возник венок мифов, образов и изображений вокруг Деметры рождаю
щей, вокруг Геи и Персефоны, и вокруг Диониса оплодотворяюще¬
го, — хтонические и фаллические культы, празднества и мистерии о
рождении и смерти. Все это также мыслилось по-античному, телесно
!. Проблемы Арабской культуры
741
сутствующим. Аполлоническая религия молилась на тело, орфиче¬
ская его отвергала, религия же Деметры праздновала мгновения его
возникновения: зачатие и рождение. Существовала робко почитающая
тайну жизни мистика в учениях, символах и играх, однако рядом с
этим — и оргиазм, ибо растрачивание тела так же глубоко родственно
аскезе, как священная проституция — целибату: оба они отрицают вре¬
мя. Это есть перевертывание аполлонического «стой!», адресованного
гюбрис. Дистанция не соблюдается, но упраздняется. Тот, кто пережил
это в себе, «стал из смертного — богом»517. Должно быть, появлялись
тогда великие святые и ясновидцы, которые так же возвышались над
фигурами Гераклита и Эмпедокла, как сами они — над киническими и
стоическими странствующими ораторами. В безличной и безымянной
форме такого не случается. В то самое время, как повсюду звучали пес¬
ни об Ахилле и Одиссее, при знаменитых культовых центрах существо¬
вало и великое, строгое учение, мистика и схоластика с развитым уче¬
ничеством и тайной устной традицией, как в Индии. Однако все здесь
исчезло без следа, и осколки позднего времени едва способны дока¬
зать, что когда-то все это существовало.
Если оставить всецело в стороне рыцарскую поэзию и народные ку¬
льты, окажется возможным установить относительно этой — подлинно
античной — религии дополнительно и кое-что еще. Однако в таком
случае следует избегать еще и третьей ошибки, а именно противопос¬
тавления «римской» и «греческой» религии. Ибо противоположности
такой вообще нет в природе.
Рим — всего лишь один из бесчисленных античных городов периода
великой колонизации, выстроенный этрусками и при этрусской дина¬
стии VI в. религиозно обновленный. Вполне возможно, что капито¬
лийская группа богов — Юпитер, Юнона, Минерва, выступившая тог¬
да на место древнейшей троицы Юпитера, Марса и Квирина «религии
Нумы», каким-то образом связана с фамильным культом Тарквиниев,
причем богиня города Минерва, вне всякого сомнения, была скопиро¬
вана с Афины Полиады518 *. Культы этого одного города следует срав¬
нивать лишь с отдельными культами тех говоривших по-гречески горо¬
дов, что пребывали на одной с ним возрастной ступени, к примеру
Спарты и Фив, а они римскую религию красочностью нисколько не
превосходили. То немногое, что обнаруживается там в качестве обще¬
эллинского, будет также и общеиталийским. А что до утверждения, что
«римская» религия, в отличие от тех греческих городов-государств, не
^мела мифа, то откуда нам это знать? Мы бы вообще ничего не знали
гни с ^ssowa- Religion und Kultus der Romer. S. 41. Применительно к этрусской рели-
Ранн 66 Колоссальным значением для всей Италии, а тем самым — для целой половины
ВодупаНТИЧНОГО ланДшаФта справедливо то же самое, что уже отмечалось выше по по-
ФилолИГИИ ^МУДН4601^ (с- 649 сл.). Она лежит вне пределов обеих «классических»
ЧескойОГИЙ И потомУ пребывает в полном небрежении в сравнении с ахейской и дори-
ее Угиями, с которыми образует единство духа и развития, как это доказывают
^Ронения, храмы и мифы.
742 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
относительно великих сказаний о богах, если бы имеющиеся у нас све¬
дения ограничивались только календарями праздников и обществен¬
ными культами отдельных греческих городов: это все равно что пыта¬
ться составить представление о благочестии Иисуса по отчетам Эфес¬
ского собора или же о мистике францисканцев — по церковным
уставам Реформации. Менелай и Елена были в лаконском государст¬
венном культе древесными божествами, и не более того. Античный
миф ведет свое происхождение от времени, когда еще не было полиса с
его праздниками и сакральными уложениями, — Афин точно так же,
как и Рима. С их в высшей степени рассудочными религиозными зада¬
чами и намерениями он не имеет вообще ничего общего. Миф и культ
соприкасаются в античности в еще меньшей степени, чем где бы то ни
было. И миф нисколько не является созданием всего в целом эллин¬
ского культурного региона, он не «греческий», но так же, как и история
детства Иисуса и сказание о Граале, возникал в пребывавших в мощ¬
ном брожении кругах узко обособленных областей. К примеру, пред¬
ставление об Олимпе возникло в Фессалии, и, уже распространяясь от¬
туда, оно стало общим достоянием всех образованных людей от Кипра
и до Этрурии, а значит, также и в Риме. Этрусская живопись предпола¬
гает его как всем хорошо известное, а следовательно, знали его и Тарк-
винии, и их двор. Что бы мы ни понимали под выражением «верить» в
данный миф, оно будет в одинаковой степени приложимо как к римля¬
нам периода царей, так и к обитателям Тегеи или Коркиры.
Те две совершенно различные картины, что были созданы современ¬
ной наукой, являются результатом не фактического положения вещей,
но метода, в одном случае (Моммзен) отталкивающегося от календарей
праздников, а в другом — от художественной литературы. Нужно лишь
приложить «латинскую» методу, приведшую к возникновению картины
Виссовы, к греческим городам, и мы получим что-то в высшей степени
близкое (например, в «Греческих праздниках» Нильссона).
Если поразмыслить обо всем этом, античная религия предстанет
чем-то внутренне единым. Мощная, вешняя легенда о богах XI в., сво¬
ими то блаженными, то смертельно грустными настроениями напоми¬
нающая Гефсиманское моление, легенда о смерти Бальдура519, о Фран¬
циске есть от начала и до конца «теория», а именно созерцание, образ
мира, предстающий внутреннему зрению избранных, пребывающих в
удалении от рыцарского мира, причем предстающий, что характерно, в
ходе их общего бурного пробуждения*. Гораздо более поздняя город¬
ская религия есть всецело техника, культ, представляя собой, таким
образом, лишь одну, причем совершенно иную сторону благочестия
Совершенно неважно, был ли Дионис «заимствован» из Фракии, Аполлон — из
Малой Азии, Афродита — из Финикии: то, что из многих тысяч чуждых мотивов были
отобраны именно эти, что именно они были так перепрочувствованы и сплочены в та'
кое роскошное единство, говорит о совершенно новом творении, — точно так же, как и
культ Марии в готике, несмотря на то, что весь формальный арсенал его был тогда по¬
заимствован с Востока.
Y в о третьЯ- Проблемы Арабской культуры
743
столь же удалена от великого мифа, как и от народного верования;
яа нисколько не занята ни метафизикой, ни этикой, но лишь испол-
°еНием сакрально-правовых действий. Наконец, очень часто подбор
* тов в отдельно взятом городе в противоречие мифу определяется
яе единым мировоззрением, но случайными фамильными культами
влиятельных родов, почитаемыми ими предками. Точно так же, как в
период готики, эти влиятельные роды превращают своих святых в по¬
кровителей города, оставив их праздники и почитание за собой. Так,
справлявшиеся в Риме в честь полевого бога Фавна Луперкалии были
привилегией Квинкциев и Фабиев.
К китайской религии, великий «готический» период которой отно¬
сится приблизительно к 1300—1000 гг., охватывая возвышение дина¬
стии Чжоу, следует подходить с величайшей осторожностью. Ввиду по¬
верхностной глубины и педантической мечтательности китайских
мыслителей типа Конфуция и Лао-цзы, которые все родились при ari¬
sen regime*20 этого мира государств, попытка найти здесь, в начале, ми¬
стику и легенду большого стиля может показаться очень смелой, одна¬
ко когда-то они необходимо должны были наличествовать и тут. Разу¬
меется, от этих разумных-преразумных больших городов мы ничего об
этом не узнаем, — как и от Гомера, но уже по другой причине. Знали бы
мы хоть что-то о готическом благочестии, когда бы все его сочинения
пали жертвой цензуры таких пуритан и рационалистов, как Локк, Рус¬
со и Вольф?! И тем не менее этот конфуцианский финал китайской за¬
душевности трактуют как ее начало, и дело доходит едва ли не до того,
чтобы выдавать синкретизм периода Хань за китайскую религию как
таковуюГ
Теперь-то мы знаем, что в противоположность всеобщему убежде¬
нию существовало могущественное древнекитайское духовенство”.
Нам известно, что в тексте «Шуцзин»521 остатки древних песен о геро¬
ях и мифов о богах подверглись рационалистической переработке и в
таком виде сохранились; точно так же еще очень многое откроют нам
и «Чжоули», «И ли» и «Шицзин»522, как только мы начнем их исследо¬
вать в том убеждении, что здесь должно присутствовать нечто куда бо¬
лее глубинное, чем способен был понять Конфуций и ему подобные.
j4i>i узнаём о хтонических и фаллических культах раннего периода
^*°y, о священном оргиазме, когда богослужение сопровождается эк¬
статическими массовыми плясками, о мимических523 представлениях и
Диалогах между богом и жрицей, из чего, быть может, в точности, как в
Греции,
развилась китайская драма . И наконец, мы начинаем дога-
ФУЛиа^ КНиге ^е Groot, Universismus, 1918, где и в самом деле системы даосистов, кон-
они и буддистов, как что-то само собой разумеющееся, трактуются так, словно
лигии по~Линные религии Китая. Это все равно что начать рассмотрение античной ре-
** с Каракаллы.
estertnS°-nrac*y в кн-: Wassiljew. Die Erschlieftung Chinas. 1909. S. 232; Schindler В. Das Pri-
*Um m alten China. 1919. I.
c°nrady. China. S. 516.
744
Том 2 ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
дываться, почему льющееся через край обилие раннекитайских боже¬
ственных образов и мифов должна была поглотить императорская ми¬
фология. Ибо не только все легендарные императоры, но и большинст¬
во персонажей из династий Ся и Шан до 1400 г. представляют собой,
несмотря на все даты и хроники, не более чем обратившуюся в историю
природу. Предпосылки к этому заложены глубоко во всякой юной ку¬
льтуре. Культ предков всегда стремится овладеть природными демона¬
ми. Все гомеровские герои, как и Минос, Тезей, Ромул, сделались из
богов царями. В «Спасителе» им должен был сделаться Христос. Ма¬
рия — увенчанная короной Царица Небесная. Это — высший и совер¬
шенно бессознательный способ почитания чего-либо человеком расы:
то, что обладает величием, должно иметь расу, быть могучим, царст¬
венным, являться прародителем целых родов. Мощному духовенству
очень скоро удается уничтожить эту мифологию времени, однако в ан¬
тичности ей удалось настоять на своем наполовину, а в Китае она одер¬
жала полную победу, именно в связи с исчезновением жреческого со¬
словия. Древние боги сделались теперь императорами, принцами, ми¬
нистрами и свитой, природные явления — деяниями правителей, а
народные бунты — мероприятиями социального характера. О таком
конфуцианцы могли только мечтать: то был миф, способный усваивать
социально-этические тенденции в любом объеме; оставалось лишь вы -
травить следы изначального природного мифа.
Для китайского бодрствования небо и земля представляли собой
половины макрокосма, не противостоявшие друг другу, так что каж¬
дая являлась отражением другой. В картине этой отсутствуют как ма¬
гический дуализм, так и фаустовское единство действующей силы.
Становление проявляется в непринужденном взаимодействии двух
принципов, ян и инь, которые мыслятся скорее периодически, чем по¬
лярно. В соответствии с этим в человеке две души: гуй524 отвечает инь.
земному, темному, холодному и гибнет вместе с телом; шэнь — вы¬
сшая, светлая и неразрушимая*. Однако и вне человека имеется бес¬
численное множество обеих разновидностей души. Полчища духов
наполняют воздух, воду и землю; все населено и движимо гуями и шэ-
нями. Жизнь природы и человеческая жизнь всецело заключаются в
игре единств такого рода. От их сочетания зависят ум, счастье, сила и
добродетель. Аскеза и оргиазм, рыцарский этикет сяо, заповедующий
благородному человеку веками отмщать потомкам злодеяние, совер¬
шенное в отношении предка, и лишать себя жизни в случае пораже¬
ния**, и рассудочная мораль жэнь, которая, по мнению рационализ¬
ма, возникает из знания, — все это следует из представления о силах и
возможностях гуй и шэнь.
Представление это коренным образом отлично от египетской двойственности
духовной ка и птицы души бай; еще значительней разница с обеими магическими ДУ'
шевными субстанциями.
Franke О. Studien zur Geschichte des konfuzianischen Dogmas. 1920. S. 202.
ва третпья' Проблемы Арабской культуры
745
gee это охватывается пра-словом дао. Борьба ян и инь в человеке —
о дао его жизни; действия полчищ духов снаружи — дао природы.
иР обладает дао, поскольку имеет такт, ритм и периодичность. Он об-
\!дает ли, напряжением, поскольку человек его познает и абстрагирует
него уже готовые соотношения для дальнейшего использования.
Время, судьба, направление, раса, история, — все уже оказывается ох-
ваченным этим великим взглядом на мир начала периода Чжоу. По¬
добен ему путь фараона к его святилищу, пролегающий по темной га¬
лерее, как и фаустовский пафос третьего измерения; однако от мысли
технического преодоления природы дао максимально удалено. Китай¬
ский парк избегает мощной перспективы. Вместо того, чтобы указы¬
вать на цель, он задвигает один горизонт задругой и приглашает побро¬
дить. Китайский «собор» раннего времени, би юн525, со своими тропин¬
ками, ведущими через ворота, кустарники, по лестницам, по парящим
мостам и площадям, никогда не имеет черт египетской непреклонно¬
сти и готической устремленности в глубину.
Когда Александр появился на Инде, уже задолго до того благочес¬
тие трех этих культур застыло во внеисторических формах даосизма,
буддизма и стоицизма. Однако немногим позже в области между ан¬
тичностью и Индией возникает группа магических религий, и прибли¬
зительно в это же время, должно быть, началась безнадежно для нас
утраченная история религии майя и инков. Тысячелетие спустя, когда
все внутренне завершилось также и здесь, на почве Франкского госу¬
дарства, внушавшей столь мало надежд, является вдруг германско-ка¬
толическое христианство — и совершенно неожиданно совершает
стремительное восхождение. Дело здесь обстоит точно так же, как и
повсюду: хотя весь арсенал имен и обычаев готической религии при¬
шел с Востока, хотя тысяча отдельных ее черт коренится в древнейших
германских и кельтских ощущениях, она тем не менее являет собой не¬
что столь неслыханно новое и в последних своих основаниях настолько
непонятна людям, к ней не принадлежащим, что совершенно бессмыс¬
ленно устанавливать взаимосвязи на исторической поверхности.
Мифический мир, выстраивающийся теперь вокруг этой юной
-ЦУнш, эта цельность силы, воли и направления, рассматриваемых в
свете пра-символа бесконечности, колоссальная устремленная вдаль
Деятельность, бездны внезапно раскрывающихся ужаса и блаженст-
Ва» — все это было для избранников данной культуры чем-то совер-
Шенно естественным, так что они даже не могли создать дистанции
~еждУ собой и этим миром, чтобы все это как единство «познавать»,
ни в этом жили. Нам же, отделенным от предков тридцатью поколе-
ми, этот мир представляется столь чуждым и исполинским, что мы
Но пытаемся постигнуть лишь отдельные его стороны и тем самым
®рно понимаем цельное и неделимое.
кая
°тцов<
;ское божество воспринималось как сама сила, вечная, вели-
и постоянно присутствующая деятельность, священная каузаль-
746 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ность, которая, вообще говоря, и не может обрести зримого для земно¬
го взгляда образа. Однако все томление юной расы, вся жажда этой
мощно струящейся крови покорно преклониться перед смыслом крови,
нашла выражение в образе Девы и Матери Марии. Ее небесное коро¬
нование сделалось одним из наиболее ранних мотивов готического ис¬
кусства, где она является посреди небесного воинства в виде облачен¬
ной в белое, синее и золотое пресветлой фигуры. Вот Она склоняется
над новорожденным Младенцем; вот Она ощущает в своем сердце меч;
вот Она стоит у подножия креста и держит труп мертвого Сына. Начи¬
ная с рубежа тысячелетия Петр Дамиани и Бернар Клервосский разра¬
ботали ее культ; возникли Ave Maria и ангельское величание, а позже у
доминиканцев — четки526. Ее саму и ее образ окружают бесчисленные
легенды. Она оберегает церковную сокровищницу благодати, Она —
великая заступница. В кругу францисканцев возник праздник посеще¬
ния ее Елизаветой, у английских бенедиктинцев, еще до 1100 г., —
праздник Непорочного зачатия527, всецело ее вознесший от смертного
человечества в светомир.
Однако этот мир чистоты, света и наидуховнейшей красоты был бы
немыслим без его противоположности, которую невозможно от него
отделить и которая относится к высшим моментам готики, без одного
из непостижимейших его созданий, о котором теперь постоянно забы¬
вают — потому что хотят забыть. Между тем как улыбающаяся Мария
во всей своей красоте и милосердии восседает там, на престоле навер¬
ху, на заднем плане существует иной мир: он властвует повсюду, и в
природе, и в человечестве, сея зло, буровя, разрушая, соблазняя, — это
есть царство дьявола. Он пронизывает все создание и подстерегает по¬
всюду. Царство это образовано целым полчищем кобольдов, ведьма¬
ков528, ведьм, оборотней, причем все они имеют человеческий облик.
Никто не может быть уверен в своем ближнем, не продал ли тот нечис¬
тому свою душу. Никто не знает о едва начинающей расцветать деве, не
сделал ли уже ее своей любовницей дьявол. Над человеком, который
ежесекундно может низвергнуться в бездну, довлеет чудовищный
страх, какой ощущался, быть может, лишь в раннее время Египта. Су¬
ществует черная магия, вершатся сатанинские обедни и шабаши
ведьм, ночные празднества на горных вершинах, составляются вол¬
шебные напитки и заклятия. Князь тьмы со своей родней, матерью и
бабкой (ибо у него не может быть жены и ребенка: само его существо¬
вание является насмешкой над браком), с падшими ангелами и жутки¬
ми спутниками является одним из величайших созданий во всей исто¬
рии религии, и в германском Локи можно усматривать разве лишь сла¬
бый на него намек. Эти образы — с рогами, когтями и лошадиными
копытами, оказываются уже всецело оформленными в постановках
мистерий XI в., они повсюду наполняют художественную фантазию-
так что без них невозможно представить готическую живопись вплоть
до Дюрера и Грюневальда. Дьявол хитер, коварен, злораден, но тем не
f ава третья• Проблемы Арабской культуры
747
нее в конце концов силы света его посрамляют. Он и вся его порода
^ оказливы, неугомонны, горазды на выдумки и полны жуткой фанта-
* 0ни являют собой воплощение адского смеха, что составляет
с тивоположность просветленной улыбке Царицы Небесной, однако
то же время в них воплощается и фаустовский космический юмор — в
в тивоположность стенаниям сокрушенных грешников.
v Мы не способны составить представление о всем величии, мощи и
убедительности этого образа, о глубине веры в него. Миф Марии и миф
дьявола оформлялись вместе, и друг без друга они не могли бы сущест¬
вовать. Неверие и в тот, и в другой — смертный грех. Культ Марии —
культ молитвы, а культ дьявола — культ заклятий и экзорцизма. Человек
постоянно ходит над пропастью, от которой его отделяет лишь тонкая
грань. Жизнь в этом мире — постоянная отчаянная борьба с дьяволом, в
которой каждый человек, как член Церкви воюющей, обязан наносить
свои удары, обязан обороняться, обязан испробовать себя как рыцаря.
Сверху на схватку взирает Церковь торжествующая, с ее ангелами и свя¬
тыми. Небесная благодать играет в этой борьбе роль щита. Мария — За¬
щитница, в чьем лоне можно найти убежище, и в то же время — Арбитр,
присуждающий награду. Оба мира имеют свои легенды, свое искусство,
свою схоластику и мистику. Дьявол также в состоянии творить чудеса.
Появляются символические цвета, чего ни в какой другой ранней рели¬
гии мы не встречаем. Мадонне принадлежат синий и белый, дьяволу —
черный, серно-желтый и красный. Святые и ангелы парят в лазури, а
черти прыгают и хромают, ведьмы же носятся в ночи. Лишь то и другое
вместе — Свет и Ночь, Любовь и Страх — своей непередаваемой заду¬
шевностью заполняет готическое искусство. Никакой «художествен¬
ной» фантазии здесь нет и в помине. Всякому было прекрасно известно,
что мир населен ангелами и чертями. Окруженные сиянием ангелы Фра
Анджелико и раннерейнских мастеров, как и рожи на порталах больших
соборов, в полном смысле слова наполняли воздух. Люди их видели, они
повсюду ощущали их присутствие. Сегодня нам совершенно неведомо,
что такое миф, т. е. миф не как эстетически покойное представление, но
Как элемент телесной действительности, которая проламывает бодрст¬
вование и потрясает существование до самого его основания. Эти суще-
постоянно обступают человека. Их усматривали тогда, не видя. В
***** верили такой верой, для которой уже одна только мысль о доказате-
^тве была кощунством. То, что мы теперь называем мифом, вся эта
с*Ша возбужденная литературной пресыщенностью страсть к готиче-
му колориту — не что иное, как александрийство. Тогда этим не «на-
^^^п^сь»: за всем этим стояла смерть*.
*
Кругов HeHRH4HOC™ плодим то же самое. Гомеровские образы были для образованных
Лее Уже более чем литературой, представлением, художественным мотивом и не бо-
Са способ ДЛЯ эпохи Платона. Однако ок. 1100 г. жуткая реальность Деметры и Диони¬
на была уничтожить человека.
748
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Ибо дьявол овладевал человеческой душой и соблазнял ее к ереси,
разврату и колдовству. На земле против него велась война огнем и ме¬
чом, а именно война против людей, ему предавшихся. Было бы очень
уютно — отмыслить все это из тех столетий, однако без такой чудовищ-
ной действительности от всей готики остается одна романтика. Под
гимны Марии, исполненные пламенной любви, вздымались к небу
бесчисленные костры, на которых в мучениях умирали люди. Возле со¬
бора возвышались виселица и колесо. Всякий жил тогда в сознании
ужасной опасности — опасности не палача, но преисподней. Бесчис¬
ленные тысячи ведьм были убеждены, что действительно ими являют¬
ся. Они доносили сами на себя, чтобы вымолить себе искупление, из
одной только любви к правде они рассказывали на исповеди о своих
ночных полетах и о договорах с дьяволом. Инквизиторы со слезами, из
сострадания к падшим приказывали их пытать — чтобы спасти их
души. Все это есть готический миф, из которого возникли крестовые
походы, соборы, задушевнейшая живопись и мистика. В его тени рас¬
цвело то готическое ощущение счастья, глубины которого мы более не
в состоянии себе представить.
Каролингскому времени все это было еще чуждо. В Первом Саксон¬
ском капитулярии (787) Карл Великий определил наказания за древне¬
германскую веру в оборотней и ведьм (strigae), и она осуждалась как
ложное верование еще ок. 1020 г. в декрете Бурхарда Вормсского, одна¬
ко ок. 1140 г. последний вошел в декрет Грациана уже в ослабленной
формулировке*. Цезарий Гейстербахский был знаком уже со всей ле¬
гендой о дьяволе; в «Legenda аигеа»529 она столь же действительна и дей¬
ственна, как и легенда о Марии. В 1233 г., как раз когда возводились
своды соборов в Майнце и в Шпайере, появилась булла «Vox in
Rama»530, в соответствии с которой вера в чертей и ведьм сделалась ка¬
нонической. Случилось это немногим позже создания «Гимна к Солн¬
цу»531 св. Франциском, и между тем, как францисканцы преклоняли
колени в своем пламенном молении Марии и распространяли Ее
культ, доминиканцы вооружались на борьбу с дьяволом при помощи
инквизиции. Именно в силу того, что небесная любовь обрела свое
средоточие в одном образе, любовь земная сделалась родственной дья¬
волу. Женщина — это грех, так виделась она великим аскетам, причем
еще задолго до этого: в античности, в Китае и Индии. Дьявол входит в
силу лишь через женщину; ведьма — распространительница смертного
греха. Фома Аквинский разработал жуткое учение об инкубах и сукку-
бах532. Глубокие мистики, такие, как Бонавентура, Альберт Великий,
Дунс СкоТ, разработали метафизику дьявольщины до конца.
Непременной предпосылкой мироощущения Возрождения являет¬
ся крепкая готическая вера. Если Вазари превозносит Чимабуэ и Джот
то за то, что именно они стали вновь следовать природе как наставни-
* См. с. 543 сл.
fyaea третья. Проблемы Арабской культуры 749
то ведь это была как раз та готическая природа, густо насыщенная
ангельскими и дьявольскими сонмами и открывавшаяся взору на све-
^ как вечная угроза. Подражать природе означало подражать ее душе,
не ее внешней оболочке. Следует, наконец, расстаться со сказкой во¬
зобновления «античности». Слова «Возрождение», «rinascita» обозна¬
чали тогда готический взлет, начавшийся с 1000 г.*, новое, фаустовское
мироощущение, новое самопереживание «я» в бесконечности. Пусть
даже кто-то здесь тосковал по античности (такой, как он себе ее пред¬
ставлял): то было проявление вкуса и не более. Античный миф был раз¬
влекательным материалом, аллегорической игрой: через его тонкую
вуаль действительный, готический миф виделся с нисколько не мень¬
шей резкостью. Стоило явиться Савонароле, и вся античная мишура
тут же спала с поверхности флорентийской жизни. Все эти люди твори¬
ли для церкви, причем творили убежденно: Рафаэль был самым заду¬
шевным из всех художников Мадонны. Неколебимая вера в существо
дьявола и в избавление от него с помощью святых лежит в основе всего
искусства и литературы, и все без исключения художники, архитекто¬
ры, гуманисты, пускай даже имена Цицерона и Вергилия, Венеры и
Аполлона не сходили у них с уст, рассматривали костры, на которых
повсюду сжигали ведьм, как что-то вполне естественное и носили аму¬
леты от дьявола. Сочинения Марсилио Фичино полны ученых рассуж¬
дений относительно дьявола и ведьм, Франческо делла Мирандола на
изящной латыни написал диалог «Ведьма», с тем чтобы предостеречь
от опасности интеллектуалов из своего кружка". На вершине Возрож¬
дения, в то самое время, как Леонардо работал над своей трехфигурной
«Мадонной со св. Анной», в Риме на прекрасной гуманистической ла¬
тыни составлялся «Молот ведьм» (1487). Великим мифом Возрожде¬
ния был именно этот, и без него мы не поймем пышной, подлинно го¬
тической мощи этого антиготического движения. Люди, не ощущав¬
шие дьявола вокруг себя, не могли бы создать ни «Божественной
комедии», ни фресок в Орвьето533, ни росписей сводов Сикстинской
капеллы.
Лишь на исполинском фоне этого мифа в фаустовской душе вырос¬
ло ощущение того, чем она является. Затерянное в бесконечности
«я» — всецело сила, однако в бесконечности величайших сил — бесси¬
льная; от начала и до конца воля, однако полная страха перед своею
свободой. Никогда проблема свободы воли не продумывалась глубже и
^^ительней. Другие культуры вовсе ее не знали. Однако именно пото-
^ что магическая покорность была здесь совершенно невозможна,
Поскольку никакого «оно», никакой части всеобщего духа, который бы
мыслил, здесь не было, но было лишь единичное, борющееся, стара-
шееся самоутвердиться «я», всякая граница свободы воспринималась
^nismus^ 3 СаМ0М деле выводится из книги Burdach. Reformation, Renaissance, Hu-
Bezold. Hist. Ztschr. 45. S. 208.
750 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
как цепь, которую человек был обречен влачить по жизни за собой, а
сама жизнь — как смерть при жизни. Однако если это было так, то —
почему? А главное, зачем?
На основании этого воззрения возникало чудовищное сознание
вины, проходящее через эти столетия как один-единственный отчаян¬
ный вопль. Соборы неизменно с мольбою устремляются к небу, готи¬
ческие своды становятся похожи на сложенные руки, свет утешения
едва пробивается из высоких окон в ночь длинных соборных нефов.
Сдавливающие дыхание параллельные секвенции церковных песнопе¬
ний, латинских гимнов, повествуют о стертых в кровь коленях и о ноч¬
ных самобичеваниях в келье. Мировая пещера магического человека
была узка, а небо близко; здесь же небо сделалось бесконечно далеким;
никакая рука не протягивалась к человеку из этих пространств, а во¬
круг затерянного «я» глумливо располагался дьявольский мир. Поэто¬
му величайшим стремлением мистики было, как выразился Генрих
Сузо, «разоблачиться (entbilden) от твари», освободиться от самого
себя и всех вещей (Майстер Экхарт), оставить самость («Theologia de~
utsch»)534. Параллельно этому шло безостановочное пережевывание по¬
нятий и бесконечное их оттачивание — в попытке на них опереться и
получить ответ на вопрос «почему?», и, наконец, слышалась всеобщая
мольба о милосердии, причем милосердии не магическом, нисходив¬
шем как субстанция, но фаустовском, освобождавшем волю.
Иметь право на свободную волю — это в конечном итоге единствен¬
ный дар, о котором молит небо фаустовская душа. Лишь этот смысл
имеют семь готических таинств, которые воспринимались Петром
Ломбардским как единство, были утверждены в качестве догмата Лате-
ранским собором в 1215 г., а от Фомы Аквинского получили мистиче¬
ское обоснование. Они сопровождают единичную душу от рождения и
до смерти и обороняют ее от дьявольских сил, пытающихся угнездить¬
ся в воле. Ибо предать себя дьяволу значит именно передать в его рас¬
поряжение свою волю. Церковь воюющая на земле — это община всех
тех, кому, вследствие приобщения к таинствам, дарована милость
иметь возможность волить. Эта фаустовская уверенность в свободном
существовании в скрытом виде предстает в таинстве эвхаристии, кото¬
рая теперь оказывается радикальным образом переосмысленной. Чудо
священного превращения, ежедневно совершающееся в руках священ¬
ника, освященная гостия535 на главном алтаре собора — в ней верую¬
щий ощущал присутствие Того, Кто некогда принес Себя в жертву,
чтобы обеспечить за своими людьми свободу воли, и из груди у них вы¬
рывался вздох такого облегчения, какого нам теперь испытать не дано;
и в благодарность в 1264 г. был введен главный праздник католической
церкви, праздник Тела Господня.
Однако куда дальше идет фаустовское (в собственном смысле сло¬
ва) прототаинство покаяния536. Вместе с мифами о Марии и о дьяволе
это есть третье великое создание готики, однако именно оно и сообща'
£дава третья. Проблемы Арабской культуры 751
ет глубину и значительность первым двум, раскрывая последние тайны
души этой культуры и тем самым ставя ее особняком от всех прочих.
Церез магическое прототаинство крещения человек вливался в вели-
consensus; единое великое «оно» божественного духа обосновыва¬
лось также и в нем, и отсюда следовал долг покорности для всего после¬
дующего. В фаустовском же покаянии заложена идея личности. Это не¬
правда, что ее открыло Возрождение*. Оно лишь придало ей
блестящую и плоскую редакцию, так что всякому вдруг оказалось по
силам ее заметить. Родилась же эта идея с готикой: она есть ее глубин-
нейшая принадлежность, абсолютно тождественная с готическим ду¬
хом. Ибо покаяние это всякий осуществляет лишь для себя самого. То¬
лько он один может исследовать свою совесть. Он один, полный раска¬
яния, стоит перед бесконечным; он один должен на исповеди понять
лично свое прошлое и выразить его словами; также и отпущение, осво¬
бождение его «я» для дальнейшей деятельности происходит лишь для
него одного. Крещение абсолютно безлично. Человек к нему приобща¬
ется просто потому, что он — человек, а не потому, что он — именно
данный человек. Идея же покаяния предполагает, что всякое деяние
приобретает свою уникальную значимость лишь через того, кто его со¬
вершает. Вот что отличает западноевропейскую трагедию от трагедии
античной, китайской и индийской, вот что со все большей отчетливо¬
стью направляет наше уголовное право на преступника, а не на пре¬
ступление, вот что выводит все фундаментальные нравственные поня¬
тия из индивидуального поступка, а не из типичного поведения. Фаус¬
товская ответственность вместо магической покорности, единичная
воля вместо consensus'г., душевное облегчение вместо резиньяции — вот
разница между наиболее активным и наиболее пассивным из всех та¬
инств, еще раз обнаруживающая отличие мировой пещеры от динами¬
ки бесконечного. Крещение совершается, покаяние же каждый испол¬
няет сам в себе. Однако совестливое исследование собственного про¬
шлого — это также и наиболее раннее свидетельство и великая школа
исторического дара фаустовского человека. Нет другой культуры, в ко¬
торой бы жизнь всякого живущего оказывалась бы во всех мельчайших
Деталях столь значимой — причем в обязательном порядке, потому что
емУ надо произвести насчет нее словесный отчет. Если для духа Запада
изначально характерны историческая наука и жизнеописание; если и
То> и другое в глубочайших своих основах представляет собой самоис¬
пытание и исповедь, а существование здесь — сознательно и через
дознаваемое же отношение — соотносят с историческим фоном так,
Как это более нигде бы не могло быть сочтено даже возможным и допу-
^имым^если мы впервые приобрели привычку взирать на историю,
Ляет Или даже открыло вновь. Античный человек, как одушевленное тело, представ¬
ок^ с°^0^ °Дну из многих совершенно независимых друг от друга единиц. Фаустов-
(инлиЧеЛ0Век есть центР мироздания и своей душой охватывает все в целом. Личность
^ливидуальность) означает, однако, не нечто единичное, но единственное.
752
Том 2 ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
охватывая разом тысячелетия, причем не рапсодически и не украшате¬
льски, как в античности и в Китае, но производя суд (на фоне почти сак¬
раментальной формулы: toutcomprendre, c’esttoutpardonner-537), — то вы¬
водить все это следует из данного таинства готической церкви, из этого
постоянного облегчения «я» посредством исторической проверки и
оправдания. Всякая исповедь — автобиография. Это в подлинном
смысле слова освобождение воли настолько важно для нас, что отказ в
отпущении ведет к отчаянию, даже к уничтожению. Лишь тот, кто хотя
бы отдаленно ощущает блаженство такого внутреннего провозглаше¬
ния невиновности, способен понять старинное его название sacramen-
turn resurgentium — таинство восставших*.
Если в этом тяжелейшем решении душа оказывается предоставлен¬
ной сама себе, над ней навек повисает облако чего-то недосказанного.
Быть может, никакое учреждение любой другой религии не принесло
миру столько счастья, как это. Весь целиком пламень и небесная лю¬
бовь готики покоятся на уверенности в полном освобождении посред¬
ством присущей священнику силы. Упадок этого таинства привел к
растерянности, вместе с глубокой готической радостью жизни померк
и световой мир Марии, так что человеку остался, во всем своем мрач¬
ном каждодневном присутствии, лишь дьявольский мир. На место бла¬
женства, более никогда не достижимого, пришел протестантский, и в
первую очередь пуританский, героизм, который и совершенно без вся¬
кой надежды продолжает сражаться на сданных позициях. «Человека
ни в коем случае не следовало лишать личной исповеди», — заметил
как-то Гете538. Тяжкая серьезность распространилась по странам, в ко¬
торых она отмерла. Нрав, костюм, искусство, мышление — все окраси¬
лось в ночные тона единственного оставшегося в наличии мифа. Нет
на свете ничего более бедного солнцем, чем учение Канта. «Всяк сам
себе священник» — к такому убеждению человек оказался в состоянии
пробиться лишь постольку, поскольку оно предполагает обязанности,
но не права. Никто не в состоянии с внутренней уверенностью отпуще¬
ния исповедовать сам себя. По этой причине извечно грызущая душу
потребность все же освободиться от своего прошедшего через суд пре¬
образила все высшие формы сообщения и превратила в протестант¬
ских странах музыку, живопись, поэзию, письмо, дневники из средств
изображения — в средства самообвинения, исповеди и безудержных
признаний. Также и в католической области, прежде всего в Париже, с
сомнением в таинстве покаяния зародилось искусство психологии
* Потому данное таинство и дало западноевропейскому священнику такую колос¬
сальную власть. Он принимает личную исповедь, он лично от имени бесконечности oi -
пускает грехи. Без него жизнь была бы непереносима. — Идея долга исповеди, оконча¬
тельно определенная в 1215 г., происходит, как и первые книги покаяния («Poenitentia-
1е»), из Англии. Именно там возникла мысль относительно непорочного зачатия, а так
же идея папства — в то время, когда в самом Риме она еще рассматривалась как
простой вопрос власти и ранга. То, что решающие идеи зарождались в самом отдален'
ном месте, по ту сторону Франкского государства, доказывает независимость готиче¬
ского христианства от магического.
Глава третья. Проблемы Арабской культуры
753
0з-за непрестанного самокопания в собственном нутре потух взгляд,
устремленный в мир. Вместо бесконечности на роль священников и
судей призывают современников и будущие поколения. Личностное
искусство — то, которым Гете отличается от Данте, а Рембрандт от Ми¬
келанджело, — заменяет таинство покаяния, однако тем самым эта ку¬
льтура оказывается уже посреди своего позднего времени*.
18
Реформация означает во всех культурах одно и то же: возведение
религии к чистоте ее изначальной идеи, как она выступила на свет в
ходе первых великих столетий. Это движение не может отсутствовать
ни в какой культуре, неважно, знаем ли мы об этом, как в Египте, или
нет, как в Китае. Оно означает также и то, что государство, а тем са¬
мым и буржуазный дух постепенно освобождаются от всесилия души
земли, принимают ее вызов и перепроверяют, теперь уже примените¬
льно к себе, ощущение и мышление не знавших городов пра-сосло-
вий. То, что в магической и фаустовской культуре это движение при¬
вело к откалыванию новых религий от прежней, есть дело судьбы, а не
было заложено в самом понятии этих культур. Не секрет, как мало не¬
достало при Карле V до того, чтобы Лютер сделался реформатором
всей церкви.
* Несоизмеримое различие фаустовской и русской души обнаруживается в неко¬
торых словесных звучаниях. Русское слово для .«Himmel» — «небо», т. е. отрицание (я)539.
Человек Запада смотрит вверх, русский смотрит вдаль, на горизонт. Так что порыв того
и другого в глубину следует различать в том отношении, что у первого это есть страсть
порыва во все стороны в бесконечном пространстве, а у второго — самоотчуждение,
пока «оно» в человеке не сливается с безграничной равниной. Точно так же понимает
русский и слова «человек и брат»: человечество также представляется ему равниной.
Русский астроном — ничего более противоестественного быть не может. Он просто не
видит звезд; он видит один только горизонт. Вместо небесного купола он видит небес¬
ный откос. Это есть нечто, образующее где-то вдали с равниной горизонт. Коперни-
канская система для него смехотворна в душевном смысле, что бы там она ни значила в
смысле математическом.
«Schicksal» звучит как фанфары, «судьба» внутренне подламывается. Под этим
низким небом не существует никакого «я». «Все виноваты во всем», т. е. «оно» на этой
бесконечно распростершейся равнине виновно в «оно» — вот основное метафизиче-
СКое ощущение всех творений Достоевского. Потому и должен Иван Карамазов назва¬
ться убийцей, хотя убил другой. Преступник несчастный — это полнейшее отрицание
Фаустовской персональной ответственности. В русской мистике нет ничего от того
Устремленного вверх горения готики, Рембрандта, Бетховена, горения, которое может
^сити до штурмующего небеса ликования. Бог здесь — это не глубина лазури там, в вы-
ТеИне- Мистическая русская любовь — это любовь равнины, любовь к таким же угне-
ны НЫМ ^Ратьям> и всс понизу, по земле, по земле: любовь к бедным мучимым живот-
Дам1’гк°Торые по ней блуждают, к растениям, и никогда — к птицам, облакам и звез-
СТо * ^Усекая «воля», наша « Wille» значит прежде всего отсутствие долженствования, со-
Ли ^Ие свободы, причем не для чего-то, но от чего-то, и прежде всего от обязанности
Как</ОГо Деяния. Свобода воли представляется здесь таким состоянием, в котором ни¬
ти £ ДРУгое «оно» не отдает приказания, так что можно отдаться собственной прихо-
НеКОгеШ’ esPrd, spirit — все это Л русское же «дух» 4 Что за христианство произойдет
Да из этого мироощущения?
754 Том 2ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Ибо Лютер, как и все реформаторы во всех культурах, был не пер¬
вым, но последним в величественном ряду, начавшемся пустынножите-
льными аскетами и приведшем к городскому духовенству. Реформа¬
ция — это готика, это ее завершение и ее завещание. Хорал Лютера
«Ein feste Burg»540 не принадлежит к духовной лирике барокко. В нем
еще рокочет великолепная латынь «Dies irae». Это последняя мощная
песнь о дьяволе Церкви воюющей: «Пусть черти весь наполнят мир»541.
Как и все реформаторы, появлявшиеся начиная с 1000 г., он боролся с
церковью не оттого, что ее претензии были чрезмерно велики, но пото¬
му, что они были слишком малы. Могучий поток проходит от Клюни
через Арнольда Брешианского, требовавшего возвращения церкви к
апостольской простоте и сожженного в 1155 г., Иоахима Флорского,
впервые применившего слово «reformare», спиритуалов ордена фран¬
цисканцев, Джакопоне из Тоди, революционера и поэта, автора «Stabat
mater», которого смерть молодой жены превратила из рыцаря в аскета и
который желал свергнуть Бонифация VIII, потому что тот недостаточ¬
но строго руководил церковью, через Виклифа, Гуса и Савонаролу — к
Лютеру, Карлштадту, Цвингли, Кальвину — и Лойоле. Все они хотели
бы внутренне завершить готическое христианство, а не преодолеть его.
И совершенно то же самое относится к Маркиону, Афанасию, моно-
физитам и несторианам, которые желали на Эфесском и Халкидон-
ском соборах очистить учение и вернуть его к первоистоку*. Ведь и ор-
фики VII в. были последними, а не первыми в ряду, начавшемся еще до
1000 г., как и произошедшее под конец Древнего царства (египетской
готики) оформление религии Ра знаенует завершение, а вовсе не нача¬
ло. Совершенно так же приблизительно в X в. имело место окончатель¬
ное реформаторское оформление ведической религии, вслед за чем на¬
чинается брахманское позднее время, а в IX в. через соответствующий
период должен был пройти Китай.
Как ни значительно могут отличаться меж собой реформации еди¬
ничных культур, все они желают вернуть веру, сбившуюся с пути и
слишком далеко отклонившуюся в мир истории («временности») — в
царство природы, чистого бодрствования и чистого, вневременного и
строго подчиненного каузальности пространства, из мира экономики
(«богатство») — в мир науки («бедность»), из патрицианско-рыцарских
кругов, к которым принадлежат также и Возрождение, и гуманизм, — в
духовно-аскетические, и, наконец, что столь же важно, как и невоз¬
можно, вернуть ее от политического тщеславия человека расы в рясе —
в область святой, не от мира сего причинности.
На Западе (в других культурах положение было схожим) разделяли
тогда corpus christianum542 населения на три сословия — status politicus,
И поскольку отделение реформированной церкви неизбежно приводит к преоб¬
разованию церкви-матери, имела место также и магическая Контрреформация. В декре¬
те Геласия (ок. 500 г. в Риме) еретиками были объявлены даже Климент Александрий¬
ский, Тертуллиан и Лактанций, на состоявшемся в Византии в 543 г. соборе — Ориген
fyaea третья. Проблемы Арабской культуры 755
ecclesiasticus и oeconomicus [сословие политическое, церковное и эконо¬
мическое (лат.)] (буржуазия), однако поскольку отправной точкой яв¬
лялся тогда уже город, а не замок и деревня, то к первому сословию
принадлежали чиновники и судьи, ко второму — ученые, крестьяне же
вообще оказывались забыты. Отсюда становится понятной противопо¬
ложность Возрождения и Реформации — это был сословный антаго¬
низм, а вовсе не различие в мироощущении, как в соотношении Воз¬
рождения и готики. Придворный вкус и монастырский дух оказались
пересажены в город и противостоят здесь друг другу: во Флоренции —
Медичи и Савонарола, в Элладе VIII и VII вв. — благородные роды по¬
лиса, в чьих кругах были тогда наконец записаны гомеровские поэмы,
и последние, также теперь прибегающие к записи, орфики. Художни¬
ки Возрождения и гуманисты — это законные наследники трубадуров
и миннезингеров, и как единая линия проходит от Арнольда Брешиан-
ского к Лютеру, так от Бертрана де Борна и Пейре Карденаля, через
Петрарку, — к Ариосто. Замок превратился в городской дом, а из рыца¬
ря получился патриций. Все движение в целом оказывается привязан¬
ным к городским дворцам, поскольку это — дворы; оно ограничивает¬
ся теми сферами выражения, которые могли приниматься во внимание
с расчетом на благородное общество. Придворное по характеру, оно
было радостно, как Гомер: проблемы — признак плохого вкуса, так что
Данте с Микеланджело прекрасно ощущали, что они «не отсюда». И
вот уже движение переползает через Альпы в северные дворы, причем
не потому, что оно было мировоззрением, но — новым вкусом. В «се¬
верном Возрождении» торговых городов и столиц изысканный тон
итальянского патрициата всего лишь пришел на смену тону француз¬
ского рыцарства.
Однако также и последние реформаторы, такие, как Лютер и Саво¬
нарола, были городскими монахами. Это глубочайшим образом отлича¬
ет их от Иоахима и Бернара. Их городская и духовная аскеза приводит
из затерянной в уединенной долине кельи отшельника в кабинет уче¬
ного барокко. Мистическое переживание Лютера не то, что пережива¬
ние св. Бернара, видевшего кругом леса и холмы, а над собой — облака
и звезды, но переживание человека, который выглядывает в переулок
Через маленькое окошко и видит перед собой стены и крыши домов.
Просторная, наполненная Богом природа отсюда далеко, за городски-
ми стенами. Внутри же них поселился оторвавшийся от земли свобод¬
ный дух. В пределах городского, закованного в камень бодрствования
°Щущение и понимание враждебно разделились, и городская мистика
последних реформаторов есть всецело мистика чистого понимания, а
Пс зрения, прояснение понятий, заставляющее поблекнуть красочные
обРазы раннего мифа.
Однако именно поэтому она оказывается, в своей действитель¬
ной глубине, уделом чрезвычайно немногих. Здесь ничего не оста-
сь от чувственной полноты, дававшей возможность за что-то ухва¬
756
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
титься даже ничтожнейшим. Колоссальное деяние Лютера — это
чисто умственное решение. И вовсе не случайно он был также по¬
следним великим схоластиком школы Оккама*. Он полностью осво¬
бодил фаустовскую личность: между нею и бесконечным исчезает по-
средующая личность священника. Теперь личность эта совершенно
одна и опирается исключительно на собственные силы — сама себе
священник и судья. Однако народ мог лишь ощутить здесь освобож¬
дающий порыв, но не понять его. Изничтожение видимых обязанно¬
стей он приветствовал, причем с большим воодушевлением; того же,
что им на смену пришли еще более строгие, чисто духовные обязан¬
ности, он уже не понимал. Франциск Ассизский много давал и мало
забирал, городские же реформаторы отобрали многое, а отдали (боль¬
шинству) слишком мало.
Священную каузальность таинства покаяния Лютер заменил ми¬
стическим переживанием внутреннего отпущения «лишь через
веру». Здесь он подходит очень близко к Бернару Клервосскому: вся
жизнь — покаяние, а именно беспрерывная духовная аскеза в проти¬
воположность аскезе зримой, во внешних делах. Оба понимали
внутреннее отпущение как божественное чудо: изменяя самого себя,
человек изменяет также и Бога. Однако чего никакая мистика заме¬
нить не в состоянии, так это «Ты» вовне, в свободной природе. Оба
они предостерегали: ты должен также еще и верить, что Бог тебя
простил; однако если для первого вера через силу священника под¬
нималась до знания, то для второго она опускалась вниз — до сомне¬
ния, до отчаяния. Это маленькое, оторванное от космической сторо¬
ны, вогнанное в единичное существование, одинокое (во всем ужас¬
ном значении этого слова) «я» нуждалось в близости могучего «Ты»,
причем в тем большей степени, чем слабее становился дух. В этом и
состоит глубочайшее значение западноевропейского священника,
который начиная с 1215 г. посредством посвящения и character inde-
lebilis?43 был выделен из прочего человечества: рука, с помощью ко¬
торой даже самый ничтожный мог ухватиться за Бога. Протестан¬
тизм уничтожил эту зримую связь с бесконечностью. Сильные духом
отвоевали ее себе назад, для слабых она постепенно утратилась. Бер¬
нар, которому было достаточно внутреннего чуда для себя лично,
все-таки оставлял прочим не столь тернистый путь: ведь мир Марии,
присутствующий повсюду в живой природе, был вечно близок его
светлой душе и всегда готов прийти ей на помощь. Лютер, знавший
одного лишь себя, но не людей, поставил на место действительной
слабости требуемый от человека героизм. Для него жизнь была отча¬
янной борьбой с дьяволом, и того же он ждал от каждого. А в этой
борьбе всякий оказывался одинок.
Boemer. Luther im Lichte der neueren Forschung. 1918. S. 54 ff.
fjiaea третья. Проблемы Арабской культуры 757
Реформация упразднила всю целиком светлую и утешительную сто¬
рону готического мифа: культ Марии, почитание святых, мощи, иконы,
паломничества, святые дары. Миф о дьяволе и ведьмах остался, ибо он
был олицетворением и причиной внутреннего мучения, которое лишь
теперь и достигло полного размаха544. Крещение было, по крайней мере
для Лютера, экзорцизмом, в собственном смысле таинством изгнания
дьявола. Возникла обширная, чисто протестантская литература о дьяво¬
ле*. От цветового богатства готики остался один черный цвет, от ее ис¬
кусства — музыка, причем музыка органная. Однако на место мифиче¬
ского светомира, без заботливой поддержки которого народная вера
обойтись все же не могла никак, теперь из давно позабытой глубины
снова начинают являться моменты древнегерманского мифа. Все это
происходило исподволь и потому в истинном своем значении так и не
признано до сих пор. Когда говорят что-то о народных сказаниях и на¬
родных обычаях, все это слабо и недостаточно: это был подлинный миф
и подлинный культ, коренившийся в прочной вере в гномов, кобольдов,
русалок, домовых, неприкаянные души, а также в практиковавшихся со
священной робостью обычаях, жертвенных ритуалах и заклинаниях. По
крайней мере в Германии легенда незаметно подменила миф Марии.
Теперь Мария звалась Фрау Хольде545, и там, где некогда стоял святой,
теперь появился верный Экард546. Среди английского народа возникло
нечто такое, что уже давно зовется библейским фетишизмом.
Чего недоставало Лютеру (поистине извечно преследовавший Гер¬
манию рок), так это чутья на факты и практических организаторских
способностей. Он и учение свое не привел в отчетливую систему, и
движение не возглавил так, чтобы дать ему определенную цель. И то и
другое осуществил лишь его великий последователь Кальвин. И в то
время как лютеровское движение развивалось дальше в Центральной
Европе без вождя, Кальвин рассматривал собственное господство в
Женеве в качестве отправной точки планомерного покорения мира
беспощадно продуманной до конца системой протестантизма. Поэто¬
му мировой силой сделался только он, и он один. И поэтому борьба,
развернувшаяся начиная с гибели испанской Великой армады и всеце¬
ло доминировавшая в мировой политике системы барочных государств
в связи с вопросом о господстве над морями — это была, в сущности,
Решающая борьба между духом Кальвина и Лойолы. Между тем как Ре¬
формация и Контрреформация натужно боролись друг с другом за ка¬
кой-нибудь маленький имперский город или пару жалких швейцар-
ских кантонов, подлинные решения принимались во взаимоотноше¬
ниях между Францией, Испанией, Англией и Нидерландами в Канаде,
Устье Ганга, на мысе Доброй Надежды, на Миссисипи — повсюду, где
РУг другу противостояли два этих великих организатора поздней ре-
^ннЗападного мира.
Osborn М. Die Teufelsliteratur des 16. Jahrh. 1893.
758 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
19
Духовная формирующая сила позднего времени возникает не с Ре¬
формации, но после нее. Подлинным ее созданием была свободная на¬
ука. Еще для Лютера ученость была всецело ancilla theologiae [служанка
теологии (лат.)]. Кальвин велел сжечь на костре свободомыслящего
Сервета. Мышление египетского, ведического и орфического раннего
времени видело свое предназначение в том, чтобы критикой подкреп¬
лять веру. Если это не удавалось, данная критическая процедура была
неверна. Знание было оправданной, а не опровергнутой религией.
Однако теперь критическая мощь городского духа сделалась так ве¬
лика, что она уже больше не удостоверяет, но проверяет. Первым чис¬
тым объектом анализирующей духовной деятельности была сумма ис¬
тин веры, причем воспринимаемых рассудком, а не сердцем. Это отли¬
чает схоластику раннего времени от настоящей философии барокко и
точно так же отличает неоплатоническое мышление от исламского, ве¬
дическое — от брахманского, а орфическое — от досократовского.
Проблемой становится каузальность (ее можно было бы назвать про¬
фанной) человеческой жизни, окружающего мира, познания. Египет¬
ская философия Среднего царства измеряла ценность жизни именно в
таком смысле; быть может, родственной ей была китайская поздняя
(доконфуцианская) философия (ок. 800—500 до Р. X.), смутное пред¬
ставление о которой дает лишь книга, приписываемая Гуань Чжуну
(645)547. Судя по скудным сохранившимся упоминаниям, в центре этой
подлинной и единственной, полностью исчезнувшей китайской фило¬
софии находились теоретико-познавательные и биологические проб¬
лемы.
В пределах философии барокко западное естествознание являет со¬
бой совершенно самостоятельную вотчину. Никакая другая культура
ничем подобным не располагала. Нет сомнения в том, что наука здесь с
самого начала была не прислугой теологии, но служительницей техни¬
ческой воли к власти и лишь поэтому имела математическое и экспери¬
ментальное направление, являясь, по сути, практической механикой.
Поскольку она техника от начала и до конца и лишь во вторую оче¬
редь — теория, она должна быть того же возраста, что и сам фаустов¬
ский человек как таковой. Технические работы, отличающиеся заме¬
чательной изобретательской мощью, появляются уже ок. 1000 г.548 Уже
в XIII в. Роберт Гроссетест рассматривал пространство как функцию
света, Петр Перегрин написал в 1289 г. остававшийся лучшим вплоть
до Гильберта (1600) обоснованный экспериментально трактат по маг¬
нетизму, а ученик их обоих Роджер Бэкон разрабатывал естественно¬
научную теорию познания как основу для своих технических опытов.
Однако отвага в открытии динамических взаимосвязей идет куда даль¬
ше. Намек на коперниканскую систему содержится в одной рукописи
1322 г., а несколькими десятилетиями спустя ученики Оккама в Пари-
[. Проблемы Арабской культуры
759
— Буридан, Альберт Саксонский и Николай Оресм — математиче¬
ски ее развили, предвосхищая механику Галилея". Надо лишь не обма¬
лываться относительно наиболее глубинных побуждений, лежавших в
основе всех этих открытий: чистое созерцание нисколько бы не нужда¬
лось в эксперименте, однако фаустовский символ машины, уже в XII в.
подвигавший людей на создание механических конструкций и сделав¬
ший перпетуум мобиле прометеевой идеей западноевропейского духа,
обойтись без него был не в состоянии. Самым первым, что здесь возни-
кает, всегда оказывается рабочая гипотеза, т. е. как раз то, что ни в ка¬
кой иной культуре не имеет смысла. Необходимо вполне свыкнуться с
тем поразительным фактом, что идея тут же находить практическое
применение всякому уяснению естественных взаимосвязей человеку
как таковому нисколько не присуща — за исключением человека фаус¬
товского и тех, кто, как японцы, евреи и русские, пребывают сегодня
под духовным очарованием фаустовской цивилизации. Уже самим по¬
нятием рабочей гипотезы предполагается, что наша картина мира
устроена динамично. Для всякого размышляющего монаха теория,
действительное «созерцание», неизменно оказывается лишь чем-то
вторичным, и, возникнув из технической страсти, она совершенно не¬
заметно приводила теперь к подлинно фаустовскому представлению о
Боге как о великом механике, который мог все то, чего они в своем бес¬
силии отваживались лишь пожелать. От столетия к столетию Божий
мир незаметно делается все более похожим на перпетуум мобиле. И по
мере того как, также совершенно незаметно, готический миф мерк под
проходившим выучку на эксперименте и в техническом опыте взгля¬
дом, из понятий монашеских рабочих гипотез, начиная с Галилея, ста¬
ли возникать эти критически просветленные numina современного ес¬
тествознания — ударная сила и сила дальнодействия, гравитация, ско¬
рость света и, наконец, «электричество» как таковое, достигшее в
электродинамической картине мира, с помощью включения в себя
прочих форм энергии, некоего рода физического монотеизма. Все
это — понятия, вкладываемые в формулы, с тем чтобы сообщить им
мифическую наглядность. Сами числа оказываются техникой, «дыбой
и кнутом»549, подсмотренным у мира таинством. Античное и всякое
иное мышление о природе не нуждалось ни в каких числах, потому что
9*10 не стремилось ни к какой власти. Чистая математика Пифагора и
Платона не имеет ничего общего с взглядами на природу Демокрита и
Аристотеля.
Как в античности дерзость Прометея по отношению к богам вос¬
принималась в качестве гюбрис, так и барокко усматривало в машине
ьяволыцину550. Князь тьмы выдал человеку тайну того, как овладеть
иР°вым механизмом и даже принять на себя роль Бога. Поэтому все
^^^поповские натуры, живущие всецело в сфере духа и ничего не
Baumgartner М. Gesch. der Philos, des Mittelalters. 1915. S. 425 ff., 571 ff., 620 ff.
760
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ожидающие от «мира сего», — прежде всего идеалистические филосо¬
фы, классицисты, гуманисты, Кант и даже Ницше хранят в вопросе о
технике враждебное молчание.
Всякая поздняя философия содержит критический протест против
некритического созерцания раннего времени. Однако эта критика уве¬
ренного в своем превосходстве духа затрагивает также и веру, вызывая
к жизни то единственное великое создание в области религиозности,
которое является собственностью позднего времени, причем всяко¬
го, — пуританство.
Оно появляется в армии Кромвеля и у его железных индепендентов,
которые неколебимо стояли на Библии и шли в битву, распевая псал¬
мы; в кругу пифагорейцев, которые в горькой серьезности своего уче¬
ния об обязанностях разрушили жизнерадостный Сибарис и навсегда
навесили на него клеймо безнравственного города; в армии первых ха¬
лифов, которая покоряла не только государства, но и души. «Утрачен¬
ный рай» Мильтона, многие суры Корана, те отрывочные сведения,
которые нам известны о пифагорейских учениях, — всюду одно и то
же: воодушевление трезвого духа, холодный жар, сухая мистика, пе¬
дантический экстаз. И все же буйное благочестие воспламеняется
здесь еще раз. Все то, что пришедший к безоговорочному господству
над душой земли большой город в состоянии произвести из себя в пла¬
не трансцендентального горения, оказывается собранным здесь, в пу¬
ританстве, — как бы из страха, что все это искусственно и преходяще, и
потому пуританство досадует, оно не ведает прощения, не знает мило¬
сердия. Пуританству не только Запада, но и любой культуры вообще
недостает улыбки, осветлявшей религию всякого раннего времени, не¬
достает мгновений глубокой радости жизни, юмора. Ничего от тихого
блаженства, так часто просвечивающего в магическом раннем времени
в историях детства Иисуса или у Григория Богослова, не находим мы в
сурах Корана, ничего от мечтательной радости песен св. Франциска —
у Мильтона. Убийственная серьезность царит в янсенистских умах
Пор-Рояля и на собраниях одетых в черное «круглоголовых»551, в счи¬
танные годы уничтоживших old тепу England [старую добрую Англию
(англ.)] Шекспира, тоже Сибарис. Лишь теперь началась подлинная
борьба против дьявола, чью телесную близость ощущали они все, и эту
борьбу они вели с мрачным ожесточением. В XVII в. было сожжено
миллион ведьм, причем не только на протестантском Севере и католи¬
ческом Юге, но и в Америке и в Индии. Лишено какой-либо радости и
довольно-таки желчное учение ислама об обязанностях (фикх?52) с его
жесткой рассудочностью, как и Вестминстерский катехизис (1643), и
этикаянсенистов (вышедший в 1640 г. «Августин» Янсения), ибо пури¬
танское движение с внутренней необходимостью имелось также и R
империи Лойолы. Религия — это пережитая метафизика, однако и «об¬
щина святых», как называли себя индепенденты, и пифагорейцы, и
окружение Мухаммеда переживали ее не чувствами, но в первую оче-
761
. Проблемы Арабской культуры
едь как понятие. Паршва, который ок. 600 г. до Р. X. основал на Ганге
секту «несвязанных»553, учил, как и другие пуритане его времени, что к
освобождению ведут не жертвы и ритуалы, но лишь познание тождест-
веНности атмана и брахмана. На место готического визионерства во
всей пуританской художественной литературе приходит необузданный
и в то же время сухой аллегорический дух. В бодрствовании этих аске¬
тов понятие является подлинной и единственной силой. Все борение
Паскаля происходит в кругу понятий, а не как у Майстера Экхарта — в
кругу образов. Ведьму сжигают потому, что доказано, что она ведьма, а
не потому, что кто-то видел, как она летела в ночи; протестантские
юристы применяют «Молот ведьм» доминиканцев потому, что он по¬
строен на понятиях. Мадонны ранней готики являлись молящимся,
Мадонн Бернини не видал никто. Они есть, потому что они доказаны,
и от такого рода существования люди испытывают воодушевление. Ве¬
ликий государственный секретарь Кромвеля Мильтон переряжает по¬
нятия в образы, а Беньян перевел в этически-аллегорическое деятель¬
ность целый понятийный миф. Еще один шаг — и мы пришли к Канту,
из понятийной этики которого произрос под конец дьявол как понятие
в образе радикального зла.
Необходимо расстаться с поверхностным образом истории и научи¬
ться переноситься через границы, искусственно возведенные методи¬
кой замыкающихся в себе западноевропейских наук, чтобы увидеть,
что Пифагор, Мухаммед и Кромвель олицетворяют собой одно и то же
движение в трех культурах.
Пифагор никаким философом не был. Судя по единодушным вы¬
сказываниям досократовских мыслителей, он был святым, пророком и
учредителем фанатического религиозного союза, навязывавшего свои
истины окружению всеми политическими и военными средствами.
Уничтожение Кротоном Сибариса сохранилось в исторической памя¬
ти, вне всякого сомнения, лишь как кульминация жесточайшей рели¬
гиозной войны, и в этом акте нашла выход та же самая ненависть, кото¬
рая вдохновляла также и тех, кто в лице Карла I и его радостных «кава¬
леров» желал не только уничтожить заблуждение, но и искоренить
светское умонастроение вообще. Очищенный и понятийно подкреп¬
ленный миф вместе с суровым нравственным учением создавал у изб¬
ранных в пифагорейском союзе убеждение, что они достигают спасе¬
ния вперед всех прочих. На найденных в Фуриях и Петелии золотых
табличках, которые вкладывались в руку посвященного после смерти,
значится уверение бога: «Блаженный и благословенный, ты больше не
УДещь смертным, но станешь богом». Это — то же самое убеждение,
0 внушалось Кораном сражавшимся на священной войне против не-
в РНЬ1Х («Монашество ислама — это религиозная война», — говорится
Khrv °М хадисе пророка) и с которым «железнобокие» Кромвеля опро¬
сти ЛхИ ^Филистимлян и амалекитян» королевской армии при Мар-
°н-Мур и Нэйзби.
762
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Ислам — столь же мало религия пустыни, как вера Цвингли — религия
высокогорья. Чистая случайность, что пуританское движение, для кото¬
рого созрел магический мир, было начато человеком из Мекки, а не мо-
нофизитом или же иудеем. Ибо в Северной Аравии находились христиан¬
ские государства Хасанидов и Лахмидов, а на сабейском юге велись хрис¬
тианско-иудейские религиозные войны, в которых принимал участие
весь мир государств от Аксума до державы Сасанидов. На состоявшемся в
Марибе конгрессе государей" не было практически ни одного язычника, а
вскоре после того Южная Аравия попала под персидское, т. е. маздаист-
ское, управление. Мекка была маленьким островком древнеарабского
язычества посреди иудео-христианского мира, крохотным пятачком, на
котором давно уже пустили корни идеи великих магических религий. То
немногое из этого язычества, что попало в Коран, было впоследствии
объяснено и снято сунной с ее сирийско-месопотамским духом. Ислам —
это новая религия почти совершенно в том же смысле, что и лютеранство.
На самом деле он — продолжение великой ранней религии. И точно так
же его распространение, вопреки бытующему убеждению, нисколько не
связано с переселением народов, якобы вышедших с Аравийского полу¬
острова. Это был результат натиска воодушевленных вероисповедников,
которые, подобно лавине, увлекают с собой христиан, иудеев и мазда-
истов и тут же выдвигают их в свои первые ряды — уже как фанатичных
мусульман. Народом, завоевавшим Испанию, были берберы с родины
Августина, а на Оке пробились персы из Ирака. Вчерашние враги сража¬
лись назавтра бок о бок в первых рядах. Большинство «арабов», впервые в
717 г. напавших на Византию, родились христианами. В 650 г. разом вдруг
угасает византийская литература"", причем глубинный смысл этого собы¬
тия остался незамеченным до сих пор: эта литература продолжалась даль¬
ше в арабской; душа магической культуры наконец нашла в исламе свое
истинное выражение. Тем самым эта культура делается подлинно «араб¬
ской» и окончательно избавляется от псевдоморфоза. Ведшееся исламом,
давно уже подготовленное монофизитами и иудеями иконоборчество
проносится также и над Византией, где сириец Лев III (717—741) привел к
власти это пуританское движение исламско-христианских сект, павлики -
ан (ок. 650), а позднее богомилов.
Великие персонажи из окружения Мухаммеда, такие, как Абу Бакр
и Омар, в высшей степени родственны пуританским вождям Англий¬
ской революции, таким, как Джон Пим и Гемпден, и это сходство умо¬
настроения и поведения было бы еще больше, знай мы больше о хани-
фах, арабских пуританах до Мухаммеда и рядом с ним. Все они созна¬
вали величие своей миссии, что заставляло их презирать жизнь и
имущество; учение о предопределении наделило всех их ручательством
в том, что они являются Божьими избранниками. Величественный
ветхозаветный порыв в парламентах и армейских лагерях индепенден- ** В 542 г. Ср. с. 57.
Krumbacher. Byzant. Literaturgesch. S. 12.
l Проблемы Арабской культуры
763
тов еше в XIX в. оставил по себе во многих английских семьях веру в то,
чГ0 англичане — это потомки десяти колен израильских, святой народ,
предопределенный к управлению миром; он же одушевлял переселе¬
ние в Америку* начавшееся с отцов-пилигримов в 1620 г.; на его же
основе было создано то, что можно сегодня назвать американской ре¬
лигией; на нем же воспитана та политическая неосмотрительность, что
отличает англичанина сегодня, — она вполне религиозным образом
покоится на уверенности в собственном предопределении. Даже пифа¬
горейцы — нечто совершенно неслыханное в античной истории рели¬
гии — в религиозных целях взяли в свои руки политическую власть и
попытались распространять пуританство от полиса к полису. Повсюду
в иных местах существовали единичные культы отдельных государств,
каждое из которых в отношении этой религиозной практики не обра¬
щало никакого внимания на остальных; и только у пифагорейцев мы
обнаруживаем такую общину святых, чья практическая энергия насто¬
лько же превосходит энергию древних орфиков, как боевой дух инде-
пендентов — дух религиозных войн эпохи Реформации.
Однако в пуританстве заложен уже тот самый рационализм, кото¬
рый всего через несколько поколений повсюду одолевает воодушевле¬
ние и берет лидерство. Это шаг, ведущий от Кромвеля к Юму. Не город
вообще, и не большой город, но немногие отдельные города являются
теперь ареной истории духа: сократовские Афины, Багдад Аббасидов,
Лондон и Париж XVIII столетия. Просвещение — вот как зовется это
время: солнце пробилось сквозь пелену, однако что это там вырисовы¬
вается на небе критического сознания?
Рационализм означает веру исключительно в результаты критическо¬
го понимания, т. е. в «рассудок». Когда в раннее время говорилось credo
quia absurdum, в этом была уверенность, что лишь из постижимого и не¬
постижимого, взятых вместе, образуется мир, природа, которую рисо¬
вал Джотто, в которую погружались мистики и которую рассудок может
постигнуть лишь настолько глубоко, насколько позволяет Бог. Теперь
же из подспудной досады возникает понятие иррационального: это есть
то, что оказывается уже заранее обесцененным вследствие своей непо¬
стижимости. Иррациональное можно презирать в открытую — как суе-
^рие или же скрыто — как метафизику; ценностью обладает лишь кри¬
тически удостоверенное понимание. А тайны — не более чем свидетель¬
ства незнания. Новая, лишенная тайн религия у предела своих высших
в°зможностей называется мудростью, аофа\ ее священник — философ, а
пР°зелит — образованный человек. Из слов Аристотеля вытекает, что
^тврая религия совершенно необходима лишь необразованным", и все-
ел° того же мнения придерживаются Конфуций и Гаутама Будда, Лес-
Иг и Вольтер. Происходит возврат от всякой культуры к природе, од-
_J^3to вовсе никакая не пережитая, но доказанная, рожденная рассуд-
Метафизика XI 8, 1074b 1.
764
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВ^
ком и лишь ему доступная природа, которой для крестьянства вообще не
существует, и она не оказывает на человека потрясающего воздействия
но настраивает его на чувствительный лад. Естественная религия, рели¬
гия разума, деизм — все это не пережитая метафизика, но усвоенная ме¬
ханика, то, что Конфуций называл «законами неба», а эллинизм называ¬
ет Тихэ554. Некогда философия была служанкой наипотустороннейшей
религиозности, теперь же возникает такое ощущение, что философия
желала бы быть наукой, а именно критикой познания, критикой приро¬
ды, критикой ценности. Чувствуется, правда, что и теперь она не более
чем ослабленная догматика, вера в знание, которая желала бы быть чис¬
тым знанием. Систему выплетают на основе якобы удостоверенных на¬
чал, однако под конец все сводится к тому, что вместо Бога говорят
«сила», а вместо вечности — «сохранение энергии». В основе всего ан¬
тичного рационализма лежит Олимп, в основе всего западноевропей¬
ского — учение о таинствах. Потому-то эта философия и колеблется
между религией и специальной дисциплиной, и оказывается в каждом
случае определенной по-разному, в зависимости оттого, имеет ли автор
в себе что-то от священника и провидца или же является чистым специ¬
алистом и техником мышления.
«Мировоззрение» — вот надлежащее выражение для просвещенного
бодрствования, которое озирается вокруг себя в лишенном богов свето-
мире, следуя за критическим пониманием, и уличает чувства в обмане,
стоит ему воспринять что-то такое, чего здравый человеческий рассудок
не признает. То, что некогда было мифом, наидействительнейшим из
всего действительного, теперь препарируется методами эвгемеризма,
названного по имени ученого, который ок. 300 г. до Р. X. заявил, что ан¬
тичные божества — люди, некогда совершившие значительные деяния.
В той или иной форме такое происходит во всякое просвещенное время.
Это эвгемеризм, когда Преисподнюю объявляют нечистой совестью,
черта — дурным желанием, а Бога истолковывают как красоту природы.
Сюда же следует отнести и то, что ок. 400 г. на аттических надгробиях
призывают уже не богиню города Афину, но богиню Демос (что, с дру¬
гой стороны, весьма напоминает якобинскую богиню Разум), и то, что
Сократ говорит о своем даймонии, а другие мыслители того времени — о
Novs вместо Зевса. Конфуций говорит «небо» вместо Шан-ди, и это зна¬
чит, что он верит лишь в законы природы. Чудовищным актом эвгеме¬
ризма было «собирание» конфуцианцами канонических сочинений Ки¬
тая и «приведение их в порядок», что означало наделе уничтожение поч¬
ти всех древних религиозных сочинений и рационалистическую
фальсификацию прочих. Когда бы это было возможно, просветители
XVIII в. столь же славно потрудились бы над наследием готики*. КонфУ'
Такие халифы, как Аль Маймун (813—833) и последние Омейяды, вполне coi.'ia-
сились бы с чем-то подобным применительно к исламу. В Багдаде тогда сушествова
клуб, в котором дискутировали христиане, иудеи, мусульмане и атеисты и где не дол>1
кались ссылки на Библию и Коран.
рлава третья. Проблемы Арабской культуры
765
ц#й всецело принадлежит китайскому «XVIII в.». Презиравший его Лао-
цзЫ стоит в средоточии даосизма — движения, которое последовательно
обнаруживало протестантские, пуританские и пиетистские черты. Оба
0Нй в конечном итоге распространяют практическое миронастроение на
фоне совершенно механистического мировоззрения. На протяжении
позднего китайского времени слово «дао» изменяло свое основное зна¬
чение с тем же постоянством, причем в механическом направлении, что
И «логос» в истории античного духа от Гераклита до Посидония, и
«сила» — от Галилея до современности. То, что некогда было мифом и
культом большого стиля, называется в этой религии образованных кру¬
гов природой и добродетелью, однако природа — это разумный механизм,
а добродетель — знание: в этом едины Конфуций, Будда, Сократ и Руссо.
Мало чего стоят для Конфуция молитвы и умозрения относительно
жизни после смерти, откровения же для него вовсе не существует. Тот,
кто занимается жертвоприношениями и культом, необразован и неразу¬
мен. Гаутама Будда и его современник, основатель джайнизма Махави-
ра, происходили из мира государств в нижнем течении Ганга, к востоку
от области древней брахманской культуры, и оба, как известно, не при¬
знавали ни понятия Бога, ни мифа и культа. Установить что-то сверх
этого относительно подлинного учения Будды затруднительно. Все по¬
крыто густым слоем красок позднейшей феллахской религии, носящей
его имя. Однако одной из несомненно подлинных идей насчет «сообраз¬
ного с причинами возникновения» является выведение страдания из не-
знания, а именно незнания «четырех благородных истин». Это настоя¬
щий рационализм. Нирвана для Будды — чисто духовное избавление,
что всецело соответствует стоическим автаркии и эвдемонии. Это есть
состояние понимающего бодрствования, для которого более нет суще¬
ствования.
Великим идеалом образованного человека этого времени является
мудрец. Мудрец возвращается обратно к природе, в Ферней или в Эрме-
нонвилль555, в аттический сад или в индийский лес, — таков утонченный
Духовный способ быть горожанином большого города. Мудрец — это че¬
ловек золотой середины. Его аскеза состоит в умеренно низкой оценке
мира в пользу медитации. Мудрость Просвещения никогда не нарушит
Уюта. Мораль на фоне великого мифа всегда бывала жертвой, культом —
Вплоть до суровейшей аскезы, вплоть до смерти. Добродетель на фоне
Мудрости — это некий род тайного наслаждения, тончайший, духовней¬
ший эгоизм, и потому учитель мудрости вне подлинной^религии обра¬
щается в мещанина. Будда, Конфуций, Руссо — все это, при всей возвы¬
шенности их образа мыслей, архимещане, и ничто не может спасти со-
Ратовскую жизненную мудрость от педантизма.
К этой, можно было бы сказать, схоластике здравого человеческого
-УДка с внутренней необходимостью принадлежит еще и рациона-
ИмСТИЧеская мистика образованного человека. Просвещение Запада
ет английское происхождение и было результатом пуританства: от
766 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Локка берет свое начало весь материковый рационализм. В нем прежде
всего нашли свою опору пиетисты в Германии (начиная с 1700 г. — об-
щина гернгутеров, Шпенер и Франке, в Вюртемберге — Этингер) и ме¬
тодисты в Англии (в 1738 г. Уэсли был «пробужден» гернгутством)5^
Здесь опять-таки различие Лютера и Кальвина: последние тут же орга¬
низуются во всемирное движение, а первые утопают в центрально-ев¬
ропейских параграфах и параграфчиках. Исламские пиетисты находят
себя в суфизме, имеющем не «персидское», но общеарамейское проис¬
хождение и распространяющемся в VIII в. из Сирии по всему арабско¬
му миру. Пиетистами или методистами были и индийские миряне,
учившие незадолго до Будды освобождению от кругообращения жизни
(сансары) через погружение в тождество атмана и брахмана, и Лао-цзы
и его приверженцы, а также, несмотря на их рационализм, кинические
нищенствующие монахи и бродячие проповедники, и стоические вос¬
питатели, эти домовые священники и духовники раннего эллинизма*.
Возможны здесь и взлеты вплоть до рационалистических видений,
классический пример чего являет Сведенборг; у стоиков же и суфиев
благодаря такому взлету был создан целый фантастический религиоз¬
ный мир, а в буддизме подготовлено его преобразование в махаяну.
Развитие даосизма и буддизма очень похоже на то, что переживал мето¬
дизм в Америке, и совсем не случайно, что и тот и другой достигли пол¬
ного расцвета в нижнем течении Ганга и к югу от Янцзы, т. е. в юных
поселениях обеих культур.
20
Через два столетия после пуританства механистическое мировоз¬
зрение достигает своего зенита. Это настоящая религия данного пери¬
ода. Однако тот, кто и теперь все еще убежден, что он религиозен в
прежнем смысле, «верит в Бога», лишь обманывается насчет того мира,
в котором отражается его бодрствование. Религиозные истины оказы¬
ваются в его понимании всегда лишь механистическими истинами, и
по большей части это лишь словесные штампы, окрашивающие науч¬
но рассматриваемую природу в мифические тона. Культура всегда рав¬
нозначна дару религиозного формообразования. Всякая культура на¬
чинается с величественной темы, поднимающейся от не ведающей го¬
родов земли, звучащей многоголосьем в городах с их искусствами и
различными способами мышления и замирающей в мировых столицах
в финале материализма. Однако даже последние аккорды продолжают
хранить тональность целого. Существует китайский, индийский, ан¬
тичный, арабский, западноевропейский материализм, являющийся г
каждом единичном случае не чем иным, как изначальной мифической
Gercke-Norden. Einl. in die Altertumswiss. II. S. 210.
fraeo третья. Проблемы Арабской культуры 767
полнотой образов, механически постигнутой при абстрагировании от
всего пережитого и виденного.
Ян Чжу продумал в этом смысле конфуцианский рационализм до
к0нца. Система локаяты так же продолжает общую для Гаутамы Будды,
^ахавиры и всех прочих пиетистов того времени линию презрения к
обездушенному миру, как само это презрение вытекало из атеизма уче¬
ния санкхьи. Сократ в равной степени является как наследником со¬
фистов, так и предком кинических странствующих проповедников и
скептиков пирронистского толка. Что здесь неизменно, так это пре¬
восходство окончательно разделавшегося с иррациональным духа ми¬
ровой столицы, который презрительно, сверху вниз взирает на всякое
бодрствование, все еще знающее тайны и их признающее. Готический
человек то и дело робко отпрядывал от неисследимого, повелительно
внушавшего к себе еще большее благоговение в свете истин религиоз¬
ного учения. Однако даже современный католик воспринимает ныне
это учение лишь как систему, разрешившую все мировые загадки. Чудо
представляется ему как бы физическим событием более высокого по¬
рядка, и один английский епископ верит в возможность вывести силу
электричества и силу молитвы из единой системы природы. Все это —
вера лишь в силу и материю, даже если здесь употребляются слова
«Бог» и «мир» или же «Провидение» и «человек».
Опять-таки особняком стоит здесь фаустовский материализм в бо¬
лее специальном смысле, техническое мировоззрение достигло в нем
своей кульминации. Экспериментально — вплоть до последних при¬
чин — раскрыть весь мир как динамическую систему, точную, матема¬
тически обоснованную, так что человек сможет над ней господство¬
вать, — вот что отличает этот возврат к природе от любого другого.
«Знание — добродетель» — в это верили уже и Конфуций, Будда и Со¬
крат. «Знание — сила» — имеет смысл лишь внутри европейско-амери¬
канской цивилизации. Этот возврат к природе означает исключение
всех сил, стоящих между практической интеллигенцией и природой.
Во всех прочих случаях материализм удовлетворялся тем, чтобы на¬
глядно или понятийно установить мнимо простые единства, каузаль¬
ная игра которых объясняет всё на свете, не оставляя места тайне,
сверхъестественное же возводит к незнанию. Однако великий рассу¬
дочный миф энергии и массы является в то же самое время и колосса-
льной рабочей гипотезой. Он набрасывает картину мира так, что ею
м°Жно воспользоваться. Судьбоносное механизируется и в форме эво-
Л10ции, развития или прогресса интегрируется в ту же систему, воля
^взывается белковым процессом, и все эти учения вместе, как бы их
и Называли — монизм, дарвинизм, позитивизм, дорастают тем самым
0 Морали целесообразности, которая очевидна американскому биз-
сМену и английскому политику точно так же, как немецкому про-
ссивному мещанину, а в конечном счете представляет собой не что
0е> как интеллектуальную карикатуру на оправдание верой.
768
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Материализм был бы неполон без потребности то и дело разряжать
духовное напряжение, позволять себе впасть в мифические настрое-
ния, заняться каким-то культом, чтобы для внутреннего облегчения
вкусить прелести иррационального, чуждого, отклоняющегося, даже
если на то пошло — дурацкого. То, что со всей отчетливостью проявля¬
ется приблизительно во времена Мэн-цзы (372—289) и первых будди¬
стских братских общин, в совершенно том же смысле принадлежит и к
важнейшим чертам эллинизма. Около 312 г. в Александрии ученые
стихотворцы вроде Каллимаха изобрели культ Сераписа и снабдили
его мудреной легендой557. Культ Исиды в республиканском Риме был
чем-то таким, что не следует путать с будущим ее почитанием в импе¬
раторский период и с чрезвычайно серьезной египетской религией
Исиды, а именно религиозным времяпровождением сливок общества,
что частью подавало общественности повод к насмешкам, частью же
вело к скандалам и закрытию культового здания, насчет чего в
59—48 гг. четырежды выносились постановления558. Халдейская астро¬
логия была тогда в моде, будучи очень далека от подлинно античной
веры в оракулы и от магической веры во власть данного мгновения. Это
означало «расслабиться»: люди в чем-то притворялись сами перед со¬
бой и перед окружающими, а тут еще бесчисленные шарлатаны и лже¬
пророки, которые обходили города, пытаясь многозначительными
приемами склонить полуобразованных людей к религиозному обнов¬
лению. В сегодняшнем европейско-американском мире этому соот¬
ветствует оккультистское и теософское мошенничество, американская
«Christian Science»559, фальшивый салонный буддизм, все эти религиоз¬
но-художественные ремесла, практикуемые в Германии еще шире, чем
в Англии, с использованием готических, позднеантичных и даосских
настроений в кружках и культах. Повсюду это лишь игра с мифами, в
которые никто не верит, и просто вкус к культам, которыми люди хотят
заполнить внутреннюю пустоту. Подлинная вера — это все еще исклю¬
чительно вера в атомы и числа, однако чтобы ее можно было перено¬
сить сколько-нибудь продолжительное время, она нуждается в ученом
фокусе-покусе. Материализм пошл и честен, игра в религию пошла и
нечестна; однако то, что она вообще делается возможной, уже указыва¬
ет на новый и неподдельный поиск, негромко заявляющий о себе в ци¬
вилизованном бодрствовании и наконец явственно выступающий на
свет.
То, что наступает теперь, я называю второй религиозностью560. Она
проявляется во всех цивилизациях, стоит лишь им достигнуть полного
оформления и начать медленно переходить во внеисторическое состоя¬
ние, для которого временные пространства не имеют более никакого
значения. Из этого следует, что Западный мир еще отделен от этой ста¬
дии многими поколениями. Вторая религиозность представляет собой
необходимую пару к цезаризму, окончательному политическому устрой¬
ству поздних цивилизаций. В античности она наблюдается, соответст-
fjiaea третья. Проблемы Арабской культуры
769
Бенно, приблизительно начиная с Августа, в Китае — приблизительно от
цинь Шихуана. И в том, и в другом явлении отсутствует творческая пер-
зосила ранней культуры. Их величие состоит, если говорить о второй ре¬
лигиозности, в глубоком благочестии, наполняющем все бодрствование
(Геродот называл египтян благочестивейшими людьми в мире, и то же
самое впечатление производят на сегодняшнего западноевропейца Ки¬
тай, Индия и ислам), если же говорить о цезаризме — в необычайном
размахе колоссальнейших свершений, однако плоды этого благочестия
столь же мало самобытны, как и форма Римской империи. Ничто не
возводится, не развивается никакая идея, и все походит на картину мест¬
ности, когда туман рассеивается и взору открываются все те же старин¬
ные формы — вначале не очень явно, но затем со все большей и большей
ясностью. Вторая религиозность содержит тот же багаж, что первая,
подлинная и ранняя, только иначе пережитой и по-другому выражен¬
ный. Сначала куда-то пропадает рационализм, затем обнаруживаются
образы раннего времени, и наконец на свет выходит весь мир примитив¬
ной религии, отодвинутый великими формами ранней веры; теперь он
мощно выступает вперед в народном синкретизме, обнаруживающемся
на данной ступени в каждой культуре без исключения.
Всякое Просвещение переходит от безудержного рассудочного оп¬
тимизма, неизменно связанного с типом обитателя большого города, к
безусловному скепсису. Суверенное бодрствование, отгороженное
стенами и делами рук человеческих от живой природы вокруг и от зем¬
ли у себя под ногами, не признаёт ничего помимо себя. Оно практикует
критику на своем умозрительном мире, абстрагированном от повсед¬
невной чувственной жизни, причем До тех пор, пока не отыщет самое
окончательное и утонченное, форму форм — себя самого, т. е. ничто.
Тем самым возможности физики как критического миропонимания
оказываются исчерпанными, и голод по метафизике снова заявляет о
себе. Однако то, что исходит от второй религиозности, — это не рели¬
гиозное времяпровождение образованных и пресыщенных литерату¬
рой кругов и вообще даже не дух, но совершенно неприметная и возни¬
кающая сама собой наивная вера масс в некое мифическое устройство
Действительности, вера, которая считает словоблудием, чем-то скуд¬
ным и тоскливым все доказательства, и в то же самое время — наивная
потребность сердца покорно ответить мифу каким-то культом. Формы
этой веры и этого культа невозможно ни предугадать, ни произвольно
выбрать. Они являются сами собой, и мы от них еще очень далеки*. Од¬
нако системы Конта и Спенсера, материализм, монизм и дарвинизм,
вставлявшие в XIX в. кипеть лучшие умы, все-таки сделались захолу-
^ньш мировоззрением уже сегодня.
Ко,^ Если, однако, уже сегодня что-то может помочь нам догадаться об этих формах,
Ва Г^Ые» Разумеется, возводят нас к определенным элементам готического христианст-
сКой н* надо искать не в литературном тяготении к позднеиндийской и позднекитай-
и спекуляции, но, к примеру, в адвентизме и подобных сектах.
as
^а1сат Западного мира
770 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Ок. 250 г. до Р. X. античная философия исчерпала основания, на ко¬
торых покоилась. Начиная с этого момента «знание» более не является
постоянно перепроверяемым и увеличивающимся имуществом, вера в
него становится привычной, как и методы, с помощью которых оно об¬
ретает силу убедительности. Во времена Сократа рационализм сущест¬
вовал в качестве религии образованных кругов. Поверх него находи-
лась ученая философия, под ним — «суеверие» толпы. Отныне филосо¬
фия переходит в духовную религиозность, народный же синкретизм —
в религиозность осязаемую, имеющую абсолютно ту же самую направ¬
ленность, причем вера в миф и благочестие распространяются снизу
вверх, а не наоборот. Философия должна была многое воспринять,
дать же она могла немного. Стоя вышла из материализма софистов и
киников и истолковывала весь вообще миф аллегорически, однако уже
к Клеанфу ( 232) восходит застольная молитва к Зевсу*561, один из кра¬
сивейших образцов второй античной религиозности. Ко времени Сул-
лы имелся всецело религиозный стоицизм высших кругов и синкрети¬
ческая народная вера, связывавшая воедино фригийские, сирийские,
египетские культы и бесчисленные античные, к тому времени почти
уже забытые, мистерии, и это в точности соответствует развитию про¬
светленной мудрости Будды к хинаяне образованных людей и махаяне
толпы и отношению причастного учености конфуцианства к даосизму,
очень скоро сделавшемуся сосудом китайского синкретизма.
Одновременно с «позитивистом» Мэн-цзы (372—289) внезапно на¬
чинается мощное движение в области алхимии, астрологии и оккультиз¬
ма. Давно уже спорят, стояло ли за этим что-то новое или здесь опять вы¬
рвалось наружу раннекитайское мифочувствование. Однако достаточно
бросить один только взгляд на эллинизм, и ответ становится ясен сам
собой. Этот синкретизм «одновременно» дает о себе знать в античности,
в Индии, Китае, в народном исламе. Повсюду он обосновывается на ра¬
ционалистических учениях (Стоя, Лао-цзы, Будда) и пронизывает их
крестьянскими, ранневременными и экзотическими мотивами всяче¬
ского рода. Античный синкретизм, который следует отличать от позд¬
нейшего магического псевдоморфоза**, начиная с 200 г. до Р. X. добывал
себе мотивы из орфизма, из Египта, из Сирии; китайский ввел в 67 г. по
Р. X. индийский буддизм в народной форме махаяны, причем действен¬
ность священных писаний как волшебного средства, а фигурок Будды —
как фетишей считаясь большей в том случае, если они были привозны¬
ми. Первоначальное учение Лао-цзы стремительно исчезает. К началу
периода Хань (ок. 200 до Р. X.) полчища шэнъ становятся из нравствен¬
ных йредставлений — благими элементарными сущностями. Вновь воз¬
вращаются боги ветра, облаков, грома, дождя. Укореняются многочис¬
ленные культы, посредством которых при помощи богов изгоняются
злые духи. Тогда-то и возник — причем, вне всякого сомнения, из базо¬
* Amim v. Stoic, vet. fragm. 537.
** C. 660 сл.
и Проблемы Арабской культуры
771
вого понятия доконфуцианской философии — миф о Паньгу, перво-
Принципе, от которого происходит череда мифических императоров.
Схожее развитие претерпело, как известно, и понятие логоса*.
Проповедовавшиеся Буддой теория и практика жизненного пове¬
дения коренятся в утомленности миром и интеллектуальном отвраще¬
нии и не имеют к религиозным вопросам совершенно никакого отно¬
шения, однако уже к началу индийского «императорского времени»,
ок. 250 г. до Р. X., он сам сделался сидящей статуей бога, а на место по¬
нятной одним лишь ученым теории нирваны все явственнее выступали
вполне осязаемые учения о небе, аде и освобождении, которые были
отчасти, быть может, также заимствованы у чужой, а именно персид¬
ской, апокалиптики. Уже во времена Ашоки насчитывалось восемнад¬
цать буддистских сект. Вера в освобождение махаяны нашла своего
первого великого проповедника в поэте и ученом Ашвагхоше (ок. 50 до
Р. X.), а в Нагарджуне (ок. 150 по Р. X.) — подлинного завершителя. Од¬
нако наряду с этим вновь выплыл на поверхность весь массив протоин¬
дийских мифов. Религии Вишну и Шивы отчетливо оформились уже
ок. 300 г. до Р. X., причем в синкретической форме, так что легенды о
Кришне и Раме оказываются теперь перенесены на Вишну. Тот же са¬
мый сюжет разворачивается и в египетском Новом царстве, где фиван¬
ский Амон оказывается средоточием нового могущественного синкре¬
тизма; и в арабском мире времени Аббасидов, где народная религия с
ее представлениями о преддверии ада, аде, Страшном суде, небесной
Каабе, Логосе-Мухаммеде, феях, святых и привидениях совершенно
отодвинула первоначальный ислам на задний план**.
В эти времена также еще попадаются некоторые возвышенные умы,
такие, как воспитатель Нерона Сенека и его копия Пселл*** — фило¬
соф, воспитатель принцев и политик в цезаристской Византии, как
стоик Марк Аврелий и буддист Ашока, сами бывшие цезарями****, и,
наконец, фараон Аменофис IV, чья исполненная глубокого смысла по¬
пытка была воспринята могущественными жрецами Амона как ересь и
пресечена — опасность, вне всякого сомнения, угрожавшая также и
Ашоке со стороны брахманов.
Однако именно цезаризм как в Китайской, так и в Римской импе¬
рии вызвал на свет императорский культ и тем самым обобщил синкре-
^^Совершенно абсурдная идея, что китайское почитание живого
* ^
Трактат «Люй Ши чунь цю» Люй Бу вэя ( 237 до Р. X., китайская августовская
ншс является первым памятником синкретизма, нашедшим свое отражение в воз-
Chiru^f s Э93)ХУ ^ань книге об отрядах «Ли цзы» (Schindler В. Das Priestertum in alten
*** Horten M Die religiose Gedankenwelt des Volkes im heutigen Islam.
**** Ю18—1078 гг., cp. Dieterich. Byz. Charakterkopfe. S. 63.
После они П0ГРУЗились в размягченное, усталое благочестие лишь под старость,
ДаЛекиДСр ШХ И тяжелых войн, однако от более конкретизированных религий остались
йимап ^ Догматической точки зрения Ашока никаким буддистом не был: он лишь по-
3111 течения и брал их под защиту (Hillebrandt. Alt-Indien. 1899. S. 143).
772
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
императора было элементом древней религии. На протяжении всего
периода китайской культуры императоров вообще не существовало.
Правители государств звались ванами, царями, и едва не за сотню лет
до окончательной победы китайского Августа Мэн-цзы писал, совер¬
шенно в духе XIX в., следующее: «Самое важное в стране — это народ;
следом за ним идут полезные боги земли и зерна; и наименее важен
правитель». Мифология праимператоров, вне всякого сомнения, была
создана Конфуцием и его временем, причем с вполне рационалистиче¬
ским умыслом и в государственно-правовой и социально-этической
редакции; у этого-то мифа и позаимствовал тогда первый Цезарь свой
титул и понятие культа. Возвышение человека до богов — это возвра¬
щение к раннему времени, где богов делали героями, точно как праим¬
ператоров и героев Гомера, и это характерная черта почти всех религий
данного второго этапа. Сам Конфуций был в 57 г. по Р. X. произведен в
боги с официальным культом. Будда был им тогда уже давно. Аль-Газа¬
ли (ок. 1050), который помог довести до завершения «вторую религиоз¬
ность» исламского мира, в народном веровании является божествен¬
ным существом и одним из любимейших святых и помощников в беде.
В античности в философских школах существовали культы Платона и
Эпикура, а происхождение Александра от Геракла и Цезаря от Венеры
представляет собой отчетливый переход к культу Divus, в котором
вновь выходят на поверхность древнейшие орфические представления
и родовые культы, точно так же, как в китайском культе Хуанди заявля¬
ет о себе элемент древнейшей мифологии.
Однако с этими обоими культами императоров уже начинаются по¬
пытки влить вторую религиозность в стабильные организации, которые
можно было бы назвать общинами, сектами, орденами, церквами, но ко¬
торые, однако, всегда являются лишь окаменелыми повторениями живых
форм раннего времени и относятся к ним так же, как каста — к сословию.
Нечто в этом смысле содержит уже реформа Августа с ее искусствен¬
ным реанимированием давно отмерших городских культов, например
ритуалов Арвальских братьев, однако уже эллинистические мистериаль-
ные религии и даже сам культ Митры (за вычетом того, что относится в
нем к магической религиозности) представлены общинами, дальнейшее
оформление которых было оборвано гибелью античности. То же самое
относится к теократическому государству, учрежденному фиванскими
царями-жрецами в XI в.562, и даосским церквам времени Хань, прежде
всего основанной Чжан Лу, которая вызвала в 184 г. по Р. X. ужасное
восстание «Желтых повязок»563, напоминающее религиозные бунты в
провинциях римского императорского периода, оно опустошило об¬
ширные области и привело к ниспровержению династии Хань*. И эти
аскетические церкви даосизма со своей косностью и дикой мифологией
полностью соответствуют поздневизантийским монашеским государст¬
ве Groot. Universismus. S. 134.
fyaea третья. Проблемы Арабской культуры 773
вам, таким, как Студийский монастырь и основанный в 1100 г., подчи¬
ненный непосредственно императору союз монастырей на Афоне, про¬
изводящий максимально буддистское впечатление.
Наконец, из этой второй религиозности происходят феллахские рели¬
гии, в которых противоположность благочестия мировой столицы и
провинции исчезает вновь точно так же, как и различие первобытной и
высшей культуры. О том, что это означает, говорит понятие феллахского
народа*. Религия делается полностью внеисторичной; там, где некогда
десятилетия знаменовали целую эпоху, ныне никакого значения не име¬
ют века, и рябь поверхностных изменений доказывает лишь, что внут¬
ренний образ окончателен и завершен. Абсолютно безразлично, поя¬
вится ли в Китае ок. 1200 г. такая разновидность конфуцианского уче¬
ния о государстве, как чжусианство564, когда это случится и будет ли ему
сопутствовать успех или же нет, будет ли в Индии буддизм, давно уже
сделавшийся политеистической религией, полностью вытеснен необ¬
рахманизмом, величайший теолог которого Шанкара жил ок. 800 г., и
когда этот последний окончательно перейдет в индуистское учение о
Браме, Вишну и Шиве. Всегда здесь имеется небольшое число в высшей
степени духовных, высокомерных, абсолютно «окончательных» людей,
как индийские брахманы, китайские мандарины и египетские жрецы,
приводившие в изумление Геродота. Однако сама феллахская религия
всецело примитивна, как египетский культ животных XXVI династии,
как образованная из буддизма, даосизма и конфуцианства государст¬
венная религия Китая, как ислам сегодняшнего Востока и, возможно,
как религия ацтеков, какой ее застал Кортес, когда она, должно быть,
ушла уже очень далеко от одухотворенной религии майя.
21
Феллахской религией является также и иудаизм, приблизительно
начиная с Йехуды бен Халеви, который, как и его исламский учитель
Аль-Газали**, взирает на научную философию с безусловным скепти¬
цизмом и в своем сочинении «Хазари» (1140) отдает ей лишь роль слу¬
жанки правоверной теологии. Это всецело соответствует повороту от
средней к младшей Стое императорского времени и угасанию китай¬
ского умозрения при западной династии Хань. Еще ярче в этом отно¬
шении Моисей Маймонид, собравший ок. 1175 г. весь материал иуда-
Изма, как нечто готовое и застывшее, в одну большую книгу вроде ки¬
тайской «Ли цзы», нисколько не заботясь о том, сохраняют ли смысл те
пли иные частности или же нет***. Ни тогда, ни в какой другой период
*1 С- 627.
*%* С- 774-
Р^й п ^Утег- Der Talmud. S. 190. «Рыжая корова»'6' и ритуал помазания иудейских ца-
НогопраИ1)аЮТСЯ здесь с не меньшей серьезностью, чем важнейшие определения част-
774
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
иудаизм не представляет собой чего-то исключительного в истории ре¬
лигии, но выглядит таким лишь в свете тех условий, которые были со¬
зданы ему западной культурой на собственной ее почве. Нисколько не
исключительным оказывается и тот факт, что словом «еврейство» все
время обозначается нечто новое, стоящее особняком, причем так, что
сами его носители этого нисколько не замечают — точь-в-точь то же
самое повторяется и в персиянстве.
И та и другая культура развиваются в свое «меровингское время»
(ок. 500—0) из объединений племен в нации магического стиля — без
земли, без единства происхождения — и уже тогда с образом жизни гет¬
то, сохранившим свою неизменность вплоть до бомбейских парсов и
бруклинских евреев.
В раннее время (ок. 0—500) этот безземельный consensus распростра¬
няется от Испании до Шаньдуна. То было иудейское рыцарское время и
«готический» расцвет религиозной оформляющей мощи: к созданиям
этой нации принадлежат поздняя апокалиптика, Мишна и раннее хрис¬
тианство, которое было отторгнуто иудаизмом лишь начиная с Траяна и
Адриана. Известно, что иудеи были тогда крестьянами, ремесленника¬
ми, жителями малых городов. Крупными финансовыми операциями за¬
нимались египтяне, греки, римляне, т. е. люди «пожилые».
Ок. 500 г. начинается иудейское барокко, обыкновенно чрезвычай¬
но односторонне связываемое в представлении наблюдателя с перио¬
дом блистательного испанского расцвета. Иудейский consensus, в точ¬
ности как и персидский, исламский и византийский, переходит в го¬
родское и духовное бодрствование и начиная с этого времени
господствует над формами городской экономики и науки. Таррагона,
Толедо и Гранада являются по преимуществу иудейскими крупными
городами. Иудеи образуют значительную часть благородного маври¬
танского общества. Их совершенные формы, их esprit, их рыцарствен¬
ность приводили в восхищение пытавшуюся им подражать знать крес¬
товых походов; без иудейской аристократии, в расовости ничем ислам¬
ской нации не уступавшей, непредставимы также и дипломатия,
военное руководство и администрация мавританских государств. Как
некогда в Аравии существовало иудейское миннезингерство, так те¬
перь появляется высокая литература и просвещенная наука. Когда
ок. 1250 г. по поручению Альфонса X, короля Кастилии, группа иудей¬
ских, исламских и христианских ученых под руководством раввина
Исаака бен Саида Хассана разработала новые планетарные таблицы',
то было достижением не фаустовского, но все еще магического мыш¬
ления о мире. Переворот наступил, только начиная с Николая Кузан-
ского. Следует, однако, сказать, что в Испании и Марокко находилась
лишь малая часть иудейского consensus9а, сам же он имел не только
светский, но и духовный смысл, причем духовный — в первую очередь.
И в нем существовало пуританское движение, отвергавшее Талмуд и ** Strum F. Gesch. der Natunviss. im Mittelalter. 1910. S. 89.
fyaea третья. Проблемы Арабской культуры 775
делавшее вернуться к незамутненной Торе. Шедшая по стопам многих
Предшественников, община караитов возникла ок. 760 г. в Северной
Сирии, как раз там, откуда приблизительно за столетие до того вышли
иконоборческие христианские павликиане, а несколько позже — ис¬
ламский суфизм, три магических направления, внутреннего родства
которых никто не в состоянии отрицать. На караитов, как и на пуритан
всякой другой культуры, обрушились как со стороны ортодоксии, так и
Просвещения. Раввинские отповеди раздавались от Кордовы и Феса
до Южной Аравии и Персии. Однако тогда возникла также и книга
«Йецира», являющаяся произведением «иудейского суфизма», подчас
же напоминающая Сведенборга, — основополагающий труд рациона¬
листической мистики, основные каббалистические представления ко¬
торой так же соприкасаются с символикой византийской иконы и от¬
носящимся к тому же времени волшебством греческого «христианства
второго порядка»566, как и с народной религией ислама.
Совершенно новая ситуация создается около перехода от одного
тысячелетия к другому вследствие того случайного обстоятельства, что
западная часть consensus'а внезапно оказывается в сфере юной запад¬
ноевропейской культуры. Подобно парсам, византийцам и мусульма¬
нам, иудеи сделались цивилизованны и пообжились по мировым сто¬
лицам; германско-романский же мир обитал в стране, городов еще не
знавшей, и едва-едва только стали здесь образовываться поселения во¬
круг монастырей и рынков, — поселения, на протяжении поколений
остававшиеся лишенными собственной души. Одни были почти уже
феллахами, другие — едва ли еще не пранародом. Иудей не понимал го¬
тической самоуглубленности, замка и собора, христианину была чужда
высокомерная, почти циничная интеллигенция и уже оформившееся в
готовом виде «денежное мышление». Возникали взаимная ненависть и
презрение, причем почти и не от сознания расового различия, но по
причине слишком большой «разновременности». Иудейский consensus
стал повсюду, по слободам и рыночным поселкам, отстраивать свои,
перенесенные сюда из больших городов — пролетарские — гетто. Ев¬
рейская улочка старше готического города лет на тысячу. Подобным
же образом в эпоху Иисуса меж деревнями на Генисаретском озере
вклинивались римские города.
Однако эти молодые нации были, кроме того, прочно связаны с
землей и с идеей родины; лишенный земли consensus, спаянность кото¬
рого совершенно не носила для его членов характера чего-то преднаме¬
ренного и организованного, но возникала как абсолютно бессознате-
Льное, всецело метафизическое стремление, выражение непосредст¬
веннейшего магического мироощущения, противостоял им как нечто
^Уткое и совершенно непонятное. Тогда и возникла легенда о Вечном
Иде. Переход в монастырь, находящийся, скажем, в Ломбардии, на-
вдывал глубокий отпечаток на жизнь шотландского монаха, и могу-
е чувство родины он забирал туда с собой; однако, если раввин из
776
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Майнца (где ок. 1000 г. находилась самая значительная на всем Западе
талмудическая школа) или из Салерно приезжал в Каир, Басру или
Мерв, во всяком гетто он оказывался как дома. В этой негласной спа¬
янности и заложена идея магической нации*: в ней одновременно сое¬
динялись государство, церковь и народ — совсем так же, как в тогдаш¬
нем эллинстве, зороастризме и исламе, но Западу это было неведомо.
То было настоящее государство, имевшее собственное право и абсо¬
лютно не замечавшуюся христианами общественную жизнь, государ¬
ство, свысока поглядывавшее на окружающий мир народов-хозяев —
как на некоего рода заграницу. Из такого-то государства и были высла¬
ны Уриэль Акоста и Спиноза, что случилось в результате проходивше¬
го по всей форме процесса о государственной измене, действа, понять
глубинный смысл которого народы-хозяева были не в состоянии. А
наиболее значительный мыслитель восточных хасидов, рабби Залман,
был выдан в 1799 г. противной ему партией петербургскому правитель¬
ству, словно иностранному государству567.
Иудейство западноевропейского региона совершенно утратило на¬
личествовавшую у него еще в мавританской Испании связь с землей.
Крестьян среди них больше нет. Самое крохотное гетто — это, пусть на-
ижалчайший, кусочек большого города, и его обитатели распадаются,
как и обитатели застывших Индии и Китая, на касты: на раввинов (это
брахманы и мандарины гетто) и на массу кули с цивилизованной, холод¬
ной, далеко превосходящей все окружающее интеллигенцией и бесце¬
ремонной деловой хваткой. Однако лишь для зауженного историческо¬
го горизонта — это из ряда вон выходящее явление. Все магические на¬
ции, начиная с эпохи крестовых походов, пребывают на этой же ступени.
Парсы обладают в Индии точно такой же властью в деловом мире, как
евреи в мире европейско-американском, а армяне и греки — в Юго-Вос¬
точной Европе. Явление повторяется во всякой иной цивилизации, сто¬
ит лишь ей проникнуть в сферу более юных состояний: китайцы в Кали¬
форнии (они представляют там собой подлинный объект западноамери¬
канского «антисемитизма») и на Яве и Сингапуре, индийские торговцы
в Восточной Африке, однако также и римляне в раннеарабском мире, где
положение было в точности обратным. «Евреями» этого мира были рим¬
ляне, и в апокалиптической ненависти к ним арамеев есть что-то очень
близкое западноевропейскому антисемитизму. То был настоящий по¬
гром, когда в 88 г. по знаку, данному Митридатом, ожесточившееся на¬
селение Малой Азии перебило 100 000 римских предпринимателей.
К этим противоположностям добавляется еще и расовая, переходя¬
щая от презрения к ненависти по мере того, как сама западноевропей¬
ская культура приближается к цивилизации и «различие в возрасте», ко¬
торое выражается в образе жизни и господстве интеллигенции, делается
менее значительным. Однако бессмысленные, заимствованные из язьн
* С. 634 сл.
Ill
fjiaea третья. Проблемы Арабской культуры
дознания словечки «арии» и «семиты» совершенно ничего не дают для
понимания этой противоположности. Мы совершенно не в состоянии
отличить «арийцев» персов и армян от евреев, и уже на юге Европы и на
Балканах телесное различие между христианскими и еврейскими жите¬
лями практически отсутствует. Иудейская нация, как и всякая другая
нация арабской культуры, является результатом колоссальной миссио¬
нерской деятельности, и вплоть до эпохи Крестовых походов она претер¬
певала постоянные изменения вследствие массовых присоединений к
ней и выходов из нее*. Часть восточных евреев совпадает в телесном от¬
ношении с христианскими обитателями Кавказа, другая — с южнорус¬
скими татарами, значительная часть западных — с североафриканскими
маврами. Скорее это есть противоположность между оказывавшим
муштрующее (ztichtend) действие расовым идеалом готического раннего
времени * и типом сефардского еврея, впервые сформировавшимся лишь
в гетто Западной Европы, причем также в результате душевной муштры
в очень жестких внешних условиях, несомненно под действием чар
ландшафта и народа-хозяина и в метафизической от них обороне (а
именно сотого времени, как эта часть нации сделалась вследствие утраты
арабского языка568 замкнутым в себе миром). Ощущение глубокой ина-
ковости выступает с обеих сторон с тем большей отчетливостью, чем бо¬
льше в данном индивидууме расы. Лишь недостаток расы у людей духов¬
ности — философов, доктринеров, утопистов — приводит к тому, что
они не понимают этой бездонно глубокой, метафизической ненависти,
в которой различный такт двух потоков существования дает о себе знать
как невыносимый диссонанс, ненависти, которая может стать трагиче¬
ской для обеих сторон. Это та же самая ненависть, что господствовала в
индийской культуре в противоположности расовых индусов и шудр. В
эпоху готики эта противоположность имеет глубоко религиозный ха¬
рактер и направляется прежде всего против consensus'а как религии;
лишь с началом западноевропейской цивилизации она делается матери¬
алистической и обращается против внезапно сделавшейся сопостави¬
мой духовной и экономической стороны.
Однако еще больше разделял и ожесточал сердца факт, который при
величайшем своем трагизме остался наименее понятым: между тем как
западноевропейский человек, начиная с времен саксонских императо¬
ров и вплоть до сегодняшнего дня, переживает историю в наиболее
значимом смысле, причем делает это в своем сознании, иудейский con¬
sensus перестал историей обладать***. Его проблемы были решены, его
нУгРенняя форма завершена и сделалась неизменной; столетия не
имеют теперь для него никакого значения, точно так же как и для исла-
Ма> греческой церкви и парсов, и поэтому тот, кто внутренне с этим
^sensus^ом связан, совершенно не в состоянии понять ту страсть, с
*
•• С- 633 слл., 719 слл.
*** С. 586 слл.
С. 510.
778 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
которой фаустовские люди переживают сконцентрированные в корот¬
ких периодах времени решения их истории, их судьбы, как это было в
начале крестовых походов, в Реформации, во Французской револю¬
ции, в Освободительных войнах и во всех поворотных пунктах в суще¬
ствовании отдельных народов. Для consensus'а все это происходило
тридцать поколений назад. История крупного стиля протекает снару¬
жи и мимо, эпоха следует за эпохой, человек, что ни столетие, делается
принципиально иным, а в гетто все стоит на месте — и то же касается
души всякого отдельного человека гетто. Однако даже в том случае,
когда он рассматривает себя принадлежащим к своему народу-хозяину
и принимает участие в его судьбах, как это имело место во многих стра¬
нах в 1914 г., то на самом деле он переживает это не как свою собствен¬
ную судьбу, но лишь «принимает в ней участие», он оценивает эти судь¬
бы как заинтересованный наблюдатель, но именно подлинный-то
смысл того, за что здесь бьются, неизменно остается скрытым от него.
Был в Тридцатилетнюю войну один кавалерийский генерал-еврей, он
похоронен на старом еврейском кладбище в Праге. Однако что были
ему идеи Лютера и Лойолы? Что поняли близкородственные евреям
византийцы в крестовых походах? Это все из разряда трагических неиз¬
бежностей высшей истории, образованной жизненными путями отде¬
льных культур, и нередко повторялось. Римляне, бывшие тогда уже
древним народом, ни за что бы не смогли взять в толк, что уж такого
важного было для иудеев на кону в суде над Иисусом и в восстании Бар
Кохбы, а европейско-американский мир проявил в феллахских рево¬
люциях в Турции (1908) и Китае (1911) полнейшее отсутствие понима¬
ния того, что там происходило. Поскольку устроенные иначе мышле¬
ние и внутренняя жизнь остались для него закрыты, а потому он не по¬
нял также и государственной идеи, и идеи суверенитета — в первом
случае халифа, во втором тянь-цзы569, он был не в состоянии произве¬
сти оценку событий и предугадать их ход. Человек чуждой культуры
может быть наблюдателем, а значит — историком, описывающим про¬
шлое, однако никогда он не может быть политиком, т. е. человеком,
который ощущает, как в нем бьется будущее. Если же он не обладает
материальной силою для того, чтобы действовать в форме своей собст¬
венной культуры, а чужую игнорировать или направлять, как это,
впрочем, могли делать римляне на юном Востоке и Дизраэли — в Анг¬
лии, события застают его врасплох, он перед ними бессилен. Римля¬
нин и грек всегда были склонны вчитывать в чуждые им события жиз¬
ненные условия своего собственного полиса, современный европеец
повсюДу смотрит на чужие судьбы сквозь призму понятий «конститу¬
ция», «парламент», «демократия», хотя применение таких представле¬
ний к другим культурам смехотворно и бессмысленно, а член иудей¬
ского consensus'а следит за историей современности, представляющей
собой не что иное, как распространившуюся по всем частям света и мо¬
рям фаустовскую цивилизацию, с базовым чувством магического чело¬
i. Проблемы Арабской культуры
779
века, — даже тогда, когда он твердо убежден в западном характере соб¬
ственного мышления.
Поскольку всякий магический consensus чужд земле и географически
неограничен, он непроизвольно усматривает во всех схватках вокруг фа¬
устовских идей родины, родного языка, королевского дома, монархии,
конституции возврат от форм, которые ему внутренне совершенно чуж¬
ды и потому тягостны и бессмысленны, к тем, что созвучны его природе;
й в воодушевляющем его слове «интернациональность» ему тут же слы¬
шится сущность ли-шенного страны и границ consensus’а вне зависимости
от того, будет ли здесь идти речь о социализме, пацифизме или капита¬
лизме. Если для европейско-американской демократии все конституци¬
онные кризисы, все революции означают развитие в направлении циви¬
лизованного идеала, то для него они (чего сам он в полной мере не со¬
знает практически никогда) есть демонтаж всего того, что устроено
иначе, нежели он сам. Даже когда власть consensus'а оказывается над¬
ломленной и жизнь народа-хозяина становится для него внешне притя¬
гательной, так что в нем возникает даже чувство настоящего патриотиз¬
ма, все равно его партией неизменно будет та, цели которой в наиболь¬
шей степени соответствуют сущности магической нации. Поэтому-то в
Германии consensus — демократ, а в Англии (как парс в Индии) — импе¬
риалист. Точно такое же недопонимание имеет место и тогда, когда за¬
падноевропеец принимает младотурок и китайцев-реформаторов за
родственных по духу, а именно за «конституционалистов». Человек,
укорененный внутренне, утверждает в конечном итоге даже там, где раз¬
рушает; внутренне чуждый отрицает даже там, где хотел бы построить. В
страшном сне не привидится, сколько всего уничтожила западная куль¬
тура в областях, относящихся к сфере ее влияния, посредством реформ,
проведенных в ее собственном стиле; и столь же разрушительно дейст¬
вует еврейство там, где за дело берется оно. Ощущение неизбежности
этого взаимного недопонимания ведет к чудовищной, проникающей
глубоко в кровь ненависти, укорененной в таких символических чертах,
как раса, образ жизни, профессия, язык, и внутренне снедает, губит обе
стороны, доводя дело до кровавых вспышек*.
Это справедливо прежде всего применительно к религиозности фа¬
устовского мира: она ощущает, что пребывающая в его нутре чужая ме-
^Физика, сознавая себя под этой религиозностью погребенной, угро-
**** ей и ее ненавидит. Чего-чего только не прошло сквозь наше бодрст¬
вование, начиная с реформ Гуго Клюнийского, со св. Бернара,
атеранского собора 1215г., через Лютера, Кальвина и пуританство — и
1° Просвещения, между тем как для иудейской религии уже давно ника-
ои истории не существовало! В 1565 г. находившийся в пределах запад¬
ноевропейского consensus'а Иосиф Каро обобщил в своем «Шульхан
*
в°СсТаСюда можно отнести помимо повеления Митридата резню на Кипре (с. 656 сл.),
в° евпНИе сипаев в Индии, боксерское восстание в Китае и большевистское неистовст-
реев’ латышей и других чуждых народов против царистской русскости.
780
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
арух» [«Накрытый стол» (евр.)] еще раз, только несколько по-иному, тот
же материал, что некогда излагал Маймонид, однако это вполне могло
произойти в 1400 или 1800 г. или же остаться вовсе не сделанным. С око¬
стенелостью сегодняшнего ислама и византийского христианства после
крестовых походов (но также и позднего китайского или египетского
элемента) все здесь сохраняется формульно закрепленным и самому
себе равным — пищевые запреты, бахрома570 на одежде, молитвенные
ремни, памятки571 и талмудическая казуистика, которые точно так же в
неизменной форме уже на протяжении столетий практикуются и в Бом¬
бее — над Вендидадом, и в Каире — над Кораном. Иудейская мистика,
также являющаяся чистым суфизмом, со времени крестовых походов
осталась тою же самой и за последние столетия выдвинула еще трех сво¬
их святых (в смысле восточного суфизма), хотя увидеть в них святых
можно, лишь проникнув взглядом сквозь налет форм усвоенного ими
западноевропейского мышления. Спиноза со своим мышлением суб¬
станциями вместо сил и со своим всецело магическим дуализмом впол¬
не может быть поставлен рядом с последышами исламской философии,
такими, как Муртада572 и Ширази573. Он использует весь понятийный
язык окружающего его западноевропейского барокко и вжился в его
способ представления вплоть до полного самообмана, однако то, что
происходило на поверхности его души, никак не затрагивает его преем¬
ственной связи с Маймонидом и Авиценной и талмудического метода
«тоге geometrico»514. В Баалыыеме575, основателе секты хасидов, который
родился ок. 1698 г. на Волыни, воскрес подлинный мессия, который, уча
и творя чудеса, странствовал по миру польских гетто, так что для сравне¬
ния здесь можно привлечь одно лишь раннее христианство*. Движение
это, произошедшее из древнейших течений магической, каббалистиче¬
ской мистики и захватившее большинство восточных евреев, представ¬
ляет собой нечто величественное в религиозной истории арабской куль¬
туры, однако оно происходило в самой гуще людей иного склада — и вот
осталось ими практически не замеченным. Мирная борьба Баальшема
против тогдашних фарисеев Талмуда и за внутримирового бога, сам его
христоподобный облик, роскошные легенды, которыми уже очень ско¬
ро окуталась его личность и личности его учеников, — все это представ¬
ляет собой порождение чисто магического духа и в последнем своем
основании нам, западноевропейским людям, чуждо точно так же, как и
само древнее христианство. Ход рассуждений хасидских сочинений, как
и ритуалы хасидов, практически непонятны неиудеям. Возбуждаясь oi
благоговения, одни из них впадают в экстаз, другие принимаются танце¬
вать, как исламские дервиши**. Один из апостолов Баальшема развил его
изначальное учение в цадикизм — веру в святых (цадиков), которые др> *
за другом посылаются богом и уже одной своей близостью приносят из¬
* Levertoff Р. Die religiose Denkweise der Chassidim. 1918. S. 128 fT.; Buber M. Die U
gende des Baalschem. 1907.
** Levertoff. S. 136.
781
f/iaea третья. Проблемы Арабской культуры
бавление. Учение это опять же напоминает исламский махдизм, а еще
больше — шиитское учение об имамах, в которых нашел убежище «свет
Пророка». Другой ученик Баальшема, Соломон Маймон (мы располага¬
ем его замечательной автобиографией), перешел от него к Канту, абст¬
рактный ход мышления которого всегда обладал колоссальной притяга¬
тельной силой для талмудических умов. Третий святой — Отто Вейнин-
гер576> нравственный дуализм которого представляет собой чисто
магическую концепцию, а смерть посреди магически переживавшейся
душевной борьбы между добром и злом есть один из возвышеннейших
моментов позднейшей религиозности*. Нечто близкое этому в состоя¬
нии переживать русские, однако ни античный, ни фаустовский человек
на это не способен.
С Просвещением XVIII в. также и западноевропейская культура ста¬
новится «крупногородой» и интеллектуальной и тем самым внезапно
делается доступной для интеллигенции consensus'а. И то, что давно уже
внутренне отмерший поток существования сефардского еврейства ока¬
зался помещенным в эпоху, принадлежащую для него отдаленному про¬
шлому, но тем не менее неизбежно пробуждавшую в нем родственное
чувство, поскольку она была критической и отрицающей, оказало фаталь¬
но соблазняющее действие: это вовлекло исторически завершенную и
неспособную к какому-либо органическому развитию общность в вели¬
кое движение народов-хозяев, потрясло ее, расслабило и до самой глу¬
бины разложило и отравило. Ибо для фаустовского духа Просвещение
было шагом вперед по собственному пути — через развалины, это так,
однако в конечном итоге утвердительным, для еврейства же оно было
разрушением, и ничем больше, демонтажем чего-то чуждого, чего оно
не понимает. Очень часто подобную картину можно наблюдать и сегод¬
ня; ее являют собой и парсы в Индии, и китайцы и японцы — в христи¬
анском окружении, а современный американец — в Китае: в отношении
чужой религии доходящее до цинизма и грубейшего атеизма Просвеще¬
ние, между тем как на феллахские обычаи религии собственной это со¬
вершенно не распространяется. Есть социалисты, которые внешне,
причем весьма убежденно, борются со всякой религией, сами же пугли-
соблюдают пищевые запреты, а также ритуалы с молитвенными рем¬
нями и филактериями. Однако чаще имеет место действительный внут¬
ренний разлад с consensus'ом как отношением к вере: подобное происхо¬
ди7 с индийскими студентами, которые получают английское
Университетское образование с Локком и Миллем, а после взирают свы-
с°ка, с одинаковым циническим презрением, как на индийские, так и на
^падные убеждения, между тем как сами в конце концов обречены на
Оель от их внутреннего разложения. Начиная с наполеоновского вре-
ни consensus древней цивилизации смешался, несмотря на возраже-
с нсоцивилизовавшимся городским западным «обществом» и с
Weininger О. Taschenbuch. 1919. прежде всего S. 19 ff.
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
782
превосходством, которое приходит с возрастом, взял на вооружение его
экономические и научные методы. То же самое несколькими поколени¬
ями позднее проделала и японская, также чрезвычайно древняя интел¬
лигенция — возможно, с еще большим успехом. Другой пример пред¬
ставляют собой карфагеняне, последыши вавилонской цивилизации,
которых еще до этрусско-дорической ступени манила к себе античная
культура, пока они наконец всецело не поддались эллинизму*: закоснев¬
шие и окончательные во всех религиозных и художественных моментах,
в смысле предпринимательском они далеко превосходили греков и рим¬
лян, плативших им за это жгучей ненавистью.
Магической нации угрожает опасность исчезновения, того, что
вместе с гетто и религией исчезнет и она сама. А произойти это может
не потому, что сблизились метафизики той и другой культуры (это аб¬
солютно невозможно), но потому, что в беспочвенных интеллигенциях
верхнего слоя с той и другой стороны метафизика более никакой роли
не играет. Все виды внутренней солидарности магическая нация утра¬
тила, ей осталась лишь сплоченность по практическим вопросам. Од¬
нако преимущество, которым обладало это сверхдревнее предприни¬
мательское мышление магической нации, все тает: рядом с американ¬
ским его уже почти что нет, а тем самым исчезает и последняя
возможность сохранять расплевавшийся с землей consensus. В тот мо¬
мент, когда цивилизованные методы европейско-американских миро¬
вых столиц достигнут полной зрелости, судьба еврейства, по крайней
мере в пределах этого мира (мир российский представляет собой отде¬
льную проблему), будет исполнена.
Ислам имеет под собой почву. Он практически целиком вобрал в себя
персидский, иудейский, несторианский и монофизитский consensus'ьГ.
Остаток византийской нации, сегодняшние греки, также обитает на соб¬
ственной земле. Остаток парсов в Индии живет внутри закосневших
форм еще более старой, еще более феллахской цивилизации, что обеспе¬
чивает им дальнейшее сохранение. Однако западноевропейско-амери¬
канская часть иудейского consensus'а, которая по большей части стянула к
себе прочие его части и связала их со своей судьбой, оказалась теперь за¬
тянутой в механизм молодой цивилизации, не имея связи ни с каким аб¬
солютно клочком земли, после того как на протяжении столетий она была
замкнута в гетто и так себя сохраняла. Тем самым она оказывается взор'
ванной и подвергается полному распаду. Однако это — судьба данной ча¬
сти consensus*а в рамках не фаустовской, но магической культуры.
В римскую эпоху их кораблестроение было скорее античным, чем финикийским
их государство было организовано как полис, а среди образованных людей, таких, как
Ганнибал, греческий язык имел всеобщее распространение.
** См. с. 719 сл.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ГОСУДАРСТВО
Проблема сословий: знать и духовенство
Г
Непостижимая тайна космических токов, называемых нами
жизнью, — разделение ее на два пола. Уже в привязанных к Земле пото¬
ках существования растительного мира, как видим мы на символе
цветка, жизнь устремляется в две разные стороны: выделяется нечто,
этим существованием и являющееся, и нечто, его поддерживающее.
Звери, эти малые миры среди большого, свободны: космическое нача¬
ло, завершенное в форме микрокосма и противопоставленное макро¬
косму. Здесь обостряется, причем со все большей определенностью по
ходу истории животного мира, двойственность направлений, ведущих
к двум разным существам: мужскому и женскому.
Женское начало ближе к космическому. Оно глубинным образом
связано с Землей и непосредственно включено в великие кругообра¬
щения природы. Мужское свободнее, зверинее, подвижнее также и в
смысле ощущения и понимания, оно бодрей и напряженней.
Мужчина переживает судьбу и постигает каузальность, логику
ставшего в соответствии с причиной и действием. Женщина, одна¬
ко, — это и есть судьба, и есть время, и есть органическая логика са¬
мого становления. Именно поэтому каузальный принцип ей неиз¬
менно чужд. Всякий раз, как мужчина стремится обрести наглядный
образ того, что такое судьба, у него неизменно возникает впечатление
чего-то женского — Мойр, Парок и Норн. Высший Бог никогда не
бывает самой судьбой, но ее представляет или над нею властвует —
как мужчина над женщиной. В изначальные времена женщина — это
также и провидица, не потому, что она знает будущее, но потому, что
Женщина будущее и есть. Жрец лишь истолковывает, женщина же и
есть оракул577. Из нее вещает само время.
Мужчина делает историю, женщина же и есть история. Таинствен¬
ным образом здесь обнаруживается двойственный смысл всех живых
явлений: с одной стороны, они представляют собой космическое про-
Текание как таковое, но, с другой — это есть последовательность самих
Микрокосмов, охватывающая это течение, его защищающая и поддер-
^*^яюща*г Вот эта-то «вторая» история и есть в полном смысле муж-
*
Ср. с. 469 и прим, на с. 469.
786 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ская история — политическая и социальная: она сознательнее, свобод¬
нее, подвижнее. Она уходит глубоко назад — в истоки животного мира
и в ходе жизни высоких культур принимает свой высший символиче¬
ский и всемирно-исторический облик. Женская же — первая история,
вечная, материнская, растительная (в самом растении есть что-то жен¬
ское), лишенная культуры история последовательности поколений, из¬
вечно неизменная, равномерно и плавно проходящая через существо¬
вание всех животных и человеческих видов, через все краткотечные
единичные культуры. Если оглянуться назад, она равнозначна самой
жизни. В ней тоже имеются своя борьба и свой трагизм. Женщина
одерживает свою победу родами. У ацтеков, этих римлян мексикан¬
ской культуры, рожающую женщину приветствовали как храброго во¬
ина, а умершую родами хоронили с теми же почестями, что и павшего в
битве героя. Вечная женская политика — это завоевание мужчины, че¬
рез которого она может стать матерью детей, а значит — историей, су¬
дьбой, будущим. Ее глубокая сметка и военная хитрость неизменно на¬
правлены на отца ее сына. Мужчина же, который по преимуществу
принадлежит другой истории, желает иметь своего сына как наследни¬
ка, как носителя своей крови и своей исторической традиции.
Здесь в мужчине и женщине тот и другой вид истории борются за
власть. Женщина сильна и цельна, равна самой себе, и она переживает
мужа и сыновей лишь по отношению к себе самой и своему предназна¬
чению. В сущности же мужчины есть что-то двойственное. Он — это и
что-то еще сверх того, чего женщина не понимает и не признает, вос¬
принимая это как грабеж и насилие по отношению к самому для нее
святому. Это — потайная протовойна полов, длящаяся вечно, столько,
сколько они существуют, — молча, ожесточенно, без примирения, без
пощады. И здесь есть своя политика, битвы, союзы, договоры и преда¬
тельство. Расовые чувства ненависти и любви, происходящие — оба —
из глубин мирового томления, из прачувства направления, имеют над
полами еще более жуткую власть, чем та, которой они обладают в дру¬
гой истории, — над отношением мужчины к мужчине. Есть любовная
лирика и лирика военная, любовные танцы и танцы с оружием и два
рода трагедии — Отелло и Макбета, однако нет в политическом мире
ничего, что можно было бы сравнить с бездной мщения, какую нахо¬
дим в Клитемнестре и Кримхильде578.
Потому женщина и презирает эту другую историю, мужскую поли¬
тику, которой никогда не понимает, о которой она лишь знает, что та
похищает у нее сыновей. Что ей победа в битве, если она сводит на нет
победы, одержанные ценой тысячекратных родовых мук? История
женщины приносит себя в жертву истории мужчины, и существует
женский героизм, с гордостью жертвующий сыновьями (Катерина
Сфорца на стенах Имолы579), однако, несмотря на это, вечная, тайная,
достигающая до истоков животного мира политика женщины состоит
в том, чтобы отвлечь мужчину от его истории, чтобы всецело заплести
f/iaea четвертая. Государство
787
его в свою собственную, растительную историю последовательности
поколений, т. е. в себя саму. Ведь, несмотря ни на что, все в той, другой
истории имеет целью защитить и поддержать эту вечную историю зача¬
тия и умирания, — а названо это может быть как угодно: «за дом и
очаг», «за жен и детей», «за род», «за народ», «за будущее». Борьба меж¬
ду мужчинами вечно случается ради крови, ради женщины. Женщина
как время — это то, для чего существует история государств.
Женщина расы чувствует это, даже если этого не знает. Она — судь¬
ба, она играет роль судьбы. Это начинается с борьбы мужчин за облада¬
ние призом — Еленой, с трагедии Кармен, с Екатерины II, Наполеона
й Дезире Клари, перетащившей-таки Бернадота580 на неприятельскую
сторону. С борьбы, наполняющей уже историю целых видов животных
и заканчивающейся властью женщины, как матери, супруги, возлюб¬
ленной, над судьбой держав: Халльгерд из «Саги о Ньяле»581, королева
франков Брунгильда, Мароция, передающая папский престол тем
мужчинам, на которых падет ее выбор582. Мужчина поднимается в своей
истории, пока не возьмет будущее своей страны в собственные руки, —
и тут является женщина и ставит его на колени. Пускай даже от этого
гибнут народы и государства, в своей истории победу одержала она. По¬
литическое тщеславие расовой женщины в конечном счете никогда
иной цели не имеет*.
Соответственно история обладает двояким священным смыслом.
Она космична или политична. Она есть существование или существо¬
вание сохраняет. Есть два рода судьбы, два рода войны, два рода тра¬
гизма: общественные и частные. Никому не по силам отменить эту про¬
тивоположность, она с самого начала заложена в сущности звериного
микрокосма, являющегося в то же время и чем-то космическим. Во
всех сколько-нибудь значительных положениях она проявляется в
виде конфликта долга, который существует лишь для мужчины, но не
Для женщины и который в ходе развития высшей культуры не преодо¬
левается, но неизменно лишь углубляется. Есть общественная и част¬
ная жизнь, публичное и частное право, общинные и домовые культы. В
качестве сословия существование находится «в форме» для одной исто¬
рии, в качестве рода оно течет как другая история. Отсюда — и древне¬
германское различие в кровном родстве по мужской и женской линии,
Родстве «со стороны меча» и «по линии веретена»583. Этот двоякий
смысл направленного времени находит свое высшее отражение в идеях
госУдарства и семьи.
Строение семьи — это в живой материи то же самое, что образ
Дома — в материи мертвой**. Одно изменение в строении и значении
Истп Только женщина без расы, которая не может или не желает иметь детей, которая
ца больше не является, желает делать мужскую историю, т. е. ее подделывать. И
Лей*30™®’ есть глубокий смысл в том, что антиполитическое умонастроение мыслите-
дру^®ктРинеР°в и утопистов характеризуют словом «бабское». Они хотят подделывать
1 историю, историю женщины, хотя на это — неспособны.
С- 579 слл.
788
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
семейного существования — и абрис дома становится иным. Антич
ный домашний уклад соответствовал агнате кой584 семье античного сти¬
ля, что выражалось в эллинском городском праве с еще большей вы¬
пуклостью, чем в более молодом римском*. Для этой семьи всецело ха¬
рактерна установка на нынешнее состояние, на эвклидовское «здесь и
теперь» — аналогично полису, понимаемому как сумма имеющихся те¬
перь в наличии тел. Поэтому кровное родство для такой семьи не явля¬
ется ни необходимым, ни достаточным условием: семья прекращается
там, где пролегает границаpatriapotestas [отцовской власти (лат.)], гра¬
ница «дома» как такового. Сама по себе мать не является агнатской род¬
ственницей рожденных ею детей: лишь постольку, поскольку она под¬
чинена patria potestas своего живого мужа, она оказывается агнатской
сестрой своих детей**. Напротив того, consensus'у соответствует магиче¬
ская когнатская семья (по-еврейски мишпаха), повсюду воплощаемая
отцовским и материнским кровным родством и обладающая «духом»,
consensus'ou в малом масштабе, однако не имеющая никакого опреде-
ленного главы . То, что «римское» право императорского времени по¬
степенно переходит от агнации к когнации, являлось характерным мо¬
ментом угасания античной души и раскрытия души магической. Уже
некоторыми новеллами Юстиниана (118, 127) создается новый поря¬
док регулирования наследственного права вследствие победы магиче¬
ской идеи семьи.
С другой стороны, мы видим массы единичных существ, которые
текут вперед, становясь и погибая, однако делая историю. Чем чище,
глубже, мощнее, естественнее оказывается общий такт этих последова¬
тельностей поколений, тем больше в них крови, больше расы. Из без-
брежности их всех выделяются одушевленные единства , отряды,
ощущающие как целое один и тот же прибой существования, не духов¬
ные общества, как ордена, гильдии художников или школы ученых,
связанные меж собой одними и теми же истинами, но кровные союзы в
гуще жизненной борьбы.
Если использовать имеющий глубокий смысл спортивный термин,
это есть потоки существования, находящиеся «в форме». В форме поле
скаковых лошадей, которое уверенным и изящным прыжком берет ба¬
рьер и вновь в едином такте копыт продолжает движение по дорожке. В
форме борцы, фехтовальщики и игроки в мяч, которым с легкостью,
как само собой разумеющиеся, удаются самые головокружительные
приемы. «В форме» эпоха в искусстве, для которой традиция является
* Mitteis. Reichsrecht und Volksrecht. S. 63.
** Sohm. Inst. S. 614.
На этом принципе основывается понятие династии арабского мира (ОмейядЫ-
Комнины, Сасаниды), которое нам затруднительно бывает понять. Когда трон захва
тывал узурпатор, он женился на какой-нибудь из женщин, входивших в кровную об¬
щину, и таким образом продолжал династию. О законном наследовании по идее не i
даже и речи. Ср. также: Wellhausen J. Ein Gemeinwesen ohne Obrigkeit. 1900.
fjiaea четвертая. Государство
789
натурой, как контрапункт — для Баха. «В форме» та армия, что была у
Наполеона при Аустерлице и у Мольтке при Седане. Практически все,
qTo осуществлялось в мировой истории, как на войне, так и в том про¬
должении войны духовными средствами, которое мы называем поли¬
вкой585: вся успешная дипломатия, тактика, стратегия, — вне зависи¬
мости от того, проводится ли она государствами, сословиями или пар¬
тиями, — восходит к живым единствам, которые находятся «в форме».
Слово, соответствующее расовому роду воспитания, — муштра,
муштровка586, она отлична от образования, которое предполагает ра¬
венство выученных или принятых на веру общностей бодрствования.
К образованию относятся книги, к муштре — постоянный такт и созву¬
чие окружения, в которое ты вчувствуешься, вживаешься: монастыр¬
ское и пажеское воспитание ранней готики. Все доброкачественные
формы общества, всякий церемониал являются воплощенным тактом
некоей формы существования. Чтобы ими владеть, необходимо обла-
датъ тактом. Поэтому женщины, поскольку они инстинктивнее и бли¬
же космическому, быстрее привыкают к формам нового окружения.
Женщины из низов, пару лет повращавшись в благородном обществе,
обретают безошибочную уверенность, однако с такой же быстротой
они и опускаются вновь. Мужчина меняется с ббльшим трудом, пото¬
му что он бодрее. Пролетарий никогда не сделается вполне аристокра¬
том, аристократ никогда не будет вполне пролетарием. Тактом нового
окружения обладают лишь сыновья.
Чем больше в форме глубины, тем она строже и неприступней. Че¬
ловеку со стороны она представляется рабством; посвященный владеет
ею с совершенной свободой и легкостью. Принц де Линь587 был, точно
так же как и Моцарт, господином, а не рабом формы; и то же относится
ко всякому прирожденному аристократу, государственному деятелю и
полководцу.
Поэтому во всякой высшей культуре есть крестьянство, являющее¬
ся расой вообще и, так сказать, природой, и общество, которое, как
группа классов или сословий, претендует на то, чтобы быть «в форме»,
и представляет собой, без сомнения, что-то более искусственное и пре¬
ходящее. Однако именно история этих классов и сословий и является
всемирной историей в высочайшей ее степени. Лишь под этим углом зре¬
ния крестьянство представляется неисторичным. Вся протекающая на
протяжении шести тысячелетий история большого стиля происходила
в биографиях высших культур лишь постольку, поскольку сами эти ку-
ЛЬтУры имеют свой творческий центр в сословиях, обладающих мушт-
Р°вкой, вымуштрованы в совершенстве. Культура — это душевность,
л°стигщая выраженности в символических формах, однако формы
Ти — живые и пребывающие в развитии. Таковы и формы искусства,
т°рые мы начинаем сознавать лишь посредством их абстрагирова-
в я °т истории искусства. Они пребывают в возвысившемся существо-
Ни единичных людей и кругов, именно в том, что было только что
790
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
названо «существованием в форме», и вот эта-то высота оформленно-
сти представляет собой культуру.
Вот истинно великое и уникальное внутри органического мира,
единственное, в чем человек поднимается над силами природы и сам
делается творцом. Еще в качестве расы он является творением приро¬
ды — там выводят его; но в качестве сословия он выводит (zuchtet) сам
себя, точно так же как расы благородных животных и растений, кото¬
рыми он себя окружает, и именно это-то и есть культура в высшем и
окончательном смысле. Культура и класс588 — взаимозаменимые поня¬
тия: они возникают как единство и как единство гибнут. Выведение от¬
борных сортов винограда, фруктов и цветов, выведение чистокровных
лошадей — это и есть культура, и именно в этом смысле — как выраже¬
ние существования, которое привело само себя к великой форме —
возникает отборная человеческая культура.
Именно потому-то и имеется во всякой культуре острое чувство
того, принадлежит ли к ней тот или иной человек или же нет. Античное
понятие варвара, арабское — неверного (ам-хаарец или гяур), индий¬
ское — шудры, какими бы различными они ни мыслились, поначалу не
выражают ни ненависти, ни презрения, а лишь констатируют различие
в такте существования, устанавливающее непреодолимую границу во
всех касающихся сущности предметах. Этот абсолютно ясный и одно¬
значный факт был затемнен индийским понятием «четвертой касты»,
которой на самом деле, как мы знаем это теперь, никогда не существо¬
вало*. Сборник законов Ману с его знаменитыми определениями в от¬
ношении обращения с шудрами происходит из образованного индий¬
ского феллахства и безо всякого учета существовавшей в правовом
смысле или хотя бы только достижимой действительности обрисовы¬
вает неясный брахманский идеал — посредством его противоположно¬
сти, от которой не особенно-то и отличалось понятие трудящегося
обывателя в позднеантичной философии. В случае Индии это стало
причиной нашего превратного понимания касты как специфически
индийского явления, в случае же античности — к совершенно ложном)
представлению об отношении античного человека к труду.
Везде здесь речь идет об остатке, не принимаемом в расчет в отно¬
шении внутренней жизни культуры и ее символики, от которого мож¬
но изначально абстрагироваться, предпринимая всякое осмысленное
разбиение общества, — приблизительно о том, что в Восточной Азии
сегодня называют outcast [изгой (англ.)]. Готическое понятие corpus
christianutn выражает то, что иудейский consensus к нему не принадле¬
жит. Внутри арабской культуры в сфере иудейской, персидской, хрис¬
тианской и прежде всего исламской нации иноверных только терпят, а
впрочем, с презрением предоставляют усмотрению их собственных
властей и правосудия. В античности outcast — не только варвары, но в
Fick R. Die soziale Gliederung im nordostlichen Indien zu Buddhas Zeit. 1897. S. 201
Hillebrandt. Alt-Indien. S. 82.
четвертая. Государство
791
определенном отношении также и рабы, в первую же очередь — остат-
0 древнего местного населения, как пенесты в Фессалии и илоты в
Спарте, обращение с которыми со стороны их господ опять-таки напо¬
минает поведение норманнов в англосаксонской Англии и орденских
рьшарей — на славянском Востоке. В сборнике законов Ману в качест-
ве имен класса шудр фигурируют старинные названия народов «коло¬
ниальной области» в нижнем течении Ганга, в том числе магадха (в со¬
ответствии с этим шудрой вполне мог оказаться Будда, так же как и Це¬
зарь Ашока, дед которого Чандрагупта был очень невысокого
происхождения), другие же имена оказываются названиями профес¬
сий, и это напоминает о том, что и на Западе определенные занятия
были outcast, такие, как нищие (при Гомере — сословие!), кузнецы,
певцы и профессиональные безработные, которых в раннеготическую
эпоху прямо-таки в массовом порядке плодили церковное милосердие
и благотворительность благочестивых мирян.
Но и вообще «каста» — слово, которое мы не столько употребляем,
сколько им злоупотребляем. В Египте Древнего и Среднего царства ка¬
сты отсутствовали точно так же, как в добуддистской Индии и в Китае
до эпохи Хань. Они появляются лишь в чрезвычайно поздних состоя¬
ниях культур, однако во всех без исключения. Начиная с XXI династии
(ок. 1100) Египет пребывал во власти то касты фиванских жрецов, то
касты ливийских военных, и закоснение неизменно прогрессировало
здесь вплоть до эпохи Геродота, который столь же неверно расценил
то, что там застал, как нечто специфически египетское, как мы расце¬
ниваем как специфически индийское то, что наблюдаем в Индии те¬
перь. Сословие и каста отличны друг от. друга точно так же, как наибо¬
лее ранняя культура и наиболее поздняя цивилизация. В появлении
пра-сословий — знати и духовенства — культура раскрывается, в кастах
находит свое выражение окончательное феллахство. Сословие живее
всего на свете, это культура, пребывающая в совершенствовании, «че¬
канный лик, что жизнь произрастила»589; каста же — абсолютная за¬
конченность, для которой время совершенствования прошло.
Великие сословия, однако, представляют собой и нечто совершен¬
но отличное от профессиональных групп, к примеру, ремесленников, чи-
новников, художников, собираемых в цеха и удерживаемых в них тех¬
нической традицией и духом их труда. Именно они являются символа-
Ми во плоти и крови, все в целом бытие которых обладает по своему
2^Разу, поведению и способу мышления символическим значением.
Фичем крестьянство внутри всякой культуры — это элемент природы
Р°ста, а значит, безличностное выражение, знать же и духовенство —
Результат высшей муштры или образования, а значит, оказываются
Фажением всецело личностной культуры, самой высотою своей фор-
исключающей не только варваров, не только шудр, но и все прочие
с нринадлежащие сюда сословия как остаток, который, будучи рас-
0тРен с позиций знати, оказывается «народом», с позиций духовен¬
792
Том 2 ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ства — мирянами. И вот этот-то стиль личности окостеневает в феллах-
стве и оказывается кастовым типом, впредь на протяжении веков и ве-
ков существуя в неизменном виде. Если в рамках живой культуры раса
и сословие противостоят друг другу как безличное и личное, то в эпоху
феллахства толпа и каста, кули и брахман или мандарин противостоят
друг другу как бесформенное и оформленное. Живая форма делается фор-
мулировкой, также обладающей стилем, однако являющейся стильной
оцепенелостью, окостеневшим стилем касты. Чувствуя бесконечное
превосходство над находящимся в становлении человеком культуры
(мы даже представить себе не можем, с какой заоблачной высоты взи¬
рают мандарин или брахман на европейские мышление и деятель¬
ность, каким безмерным было презрение египетских жрецов к таким
их посетителям, как Пифагор или Платон), с византийским высокоме¬
рием души, оставившей все загадки и проблемы далеко позади, эта вы¬
сшая утонченность, достоинство и одухотворенность шагает сквозь все
времена на негнущихся своих членах.
2
В эпоху Каролингов различают крепостных, свободных и благород¬
ных. Это примитивное различение рангов на основе фактов чисто
внешней жизни. В раннеготическое время в «Разумении» Фрейданка
говорится:
Got hat driu leben geschaffen,
Gebure, ritter, phaffen590.
Это — различение сословий высокой, только пробуждающейся куль¬
туры. Причем «ряса и меч» в отличие от плуга противостоят всему проче¬
му как сословия в наиболее претенциозном смысле, а именно как сосло¬
вия — несословиям, т. е. чему-то также фактически существующему, од¬
нако без глубокого смысла. Внутреннее, ощущаемое отстояние столь
фатально и интенсивно, что не возникает никакого мостика взаимопо¬
нимания. Вверх от деревень потоком струится ненависть, замки в ответ
излучают презрение. Эта бездна между «жизнями» не была создана ни
собственностью, ни властью, ни профессией. Ее вообще невозможно
обосновать логически. Она имеет метафизический характер.
Позднее, вместе с городом, однако уступая ему в возрасте, появля¬
ется буржуазия, «третье сословие». Буржуа также теперь с презрением
взирает на деревню, которая тупо, неизменно, с покорностью к исто¬
рии простирается вокруг него: по сравнению с ней он чувствует себя
бодрее, свободнее, а потому дальше продвинувшимся по дороге куль¬
туры. Он презирает также и пра-сословия, «бар и попов», как что-то ДУ'
ховно ему уступающее и преодоленное исторически. Однако перед ли;
цом обоих пра-сословий буржуа, как и крестьянин, представляет собой
fyaea четвертая. Государство
793
остаток, несословие. В мышлении «привилегированных» крестьянин
едва учитывается. Буржуа учитывается, однако как противополож¬
ность и фон. Он есть то, по отношению к чему другие осознают собст¬
венное, лежащее за пределами всего практического значение. Если это
в одной и той же форме происходит во всех культурах и повсюду ход ис¬
тории осуществляется в противоположностях этих групп и через них,
так что развязываемые инстинктом крестьянские войны пронизывают
раннее время, а обоснованные духовностью буржуазные войны — вре¬
мя позднее (как бы ни была различна символика отдельных культур в
Прочих отношениях), то смысл этого факта следует отыскивать в глу¬
бинных основаниях самой жизни.
Что лежит в основании обоих пра-сословий, и только их одних, —
это идея. Благодаря ей они интенсивно ощущают свой ранг, определен¬
ный Богом и потому критике не подлежащий. Это вменяет им в обя¬
занность самоуважение и самосознание, но также и жесточайшую са-
момуштровку, а при некоторых обстоятельствах превращает в долг
даже смерть и наделяет обоих историческим превосходством, обаяни¬
ем души, которое не предполагает власть, но ее порождает. Люди, при¬
надлежащие к этим сословиям внутренне, а не только по имени, дейст¬
вительно представляют собой нечто иное, чем остаток: их жизнь в про¬
тивоположность крестьянской и буржуазной всецело основывается на
символическом достоинстве. Жизнь дается им не для того, чтобы ее
провождать, но чтобы иметь смысл. Именно в этих сословиях обретают
свое выражение обе стороны всякой свободно подвижной жизни, одна
из которых есть всецело существование, другая — всецело бодрствование.
Любая знать — это живой символ времени, всякое духовенство —
символ пространства. Судьба и священная причинность, история и
природа, «когда?» и «где?», раса и язык, жизнь пола и жизнь мышле¬
ния: все это достигает здесь своего наивысшего выражения. Знать жи¬
вет в мире фактов, священник — в мире истин; первая — знаток, вто¬
рой — познаватель, одна — деятель, другой — мыслитель. Аристокра¬
тическое мироощущение — всецело такт, священническое — целиком
протекает в напряжениях. Чтобы понять зарождение новой культуры,
следует прочувствовать не поддающееся объяснению нечто, оформив¬
шееся в потоке существования за время, протекшее между Карлом Ве-
ликим и Конрадом II. Благородные и жречество существовали давно,
по знать и духовенство в великом смысле и в полную мощь их символи¬
ческой значимости появляются только теперь, причем ненадолго*.
1°щь этой символики столь велика, что поначалу любые другие раз-
сло Легкость, с которой большевизм изничтожил в России четыре так называемых со-
Вает*151 ПетР°вск°й эпохи (дворянство, купечество, мещанство и крестьянство), доказы-
4X0 они были чистым подражанием и порождались административной практикой,
^^Рая была лишена всякой символики, — а последнюю силой не удушить. Они соот-
внешним различиям в ранге и собственности в государствах вестготов и фран-
П0 в микенскую эпоху, как она еще проглядывает в древнейших частях «Илиады»,
■^нные знать и духовенство в русском стиле оформятся лишь в будущем.
794 Том 2l ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
личия — по ландшафту, народу и языку — отступают перед ней в сторо-
ну. Готическое духовенство образует по всем странам, от Ирландии д0
Калабрии, единое великое сообщество; раннеантичное рыцарство во-
круг Трои и раннеготическое вокруг Иерусалима действуют как одна
большая семья. Именно поэтому древнеегипетские номы и феодаль¬
ные государства в первый период эпохи Чжоу выглядят по сравнению с
сословиями как блеклые образования, совершенно в духе Бургундии и
Лотарингии эпохи Штауфенов. Космополитическая струя присутству¬
ет в начале и конце всякой культуры, однако в первом случае потому,
что символическая мощь сословных форм еще превышает символиче¬
скую же мощь наций, а во втором — потому, что под ней расстилается
бесформенная масса.
По идее эти сословия друг друга исключают. Первичная противопо¬
ложность космического и микрокосмического, пронизывающая все
свободно передвигающиеся в пространстве существа, лежит в основе
также и их двойственного существования. Каждое возможно и необхо¬
димо лишь через другое. В гомеровском мире господствует враждебное
молчание относительно мира орфического, а сам он в свою очередь,
как это доказывают досократические мыслители, был предметом гнева
и презрения со стороны орфического. В готическую эпоху реформа¬
торски настроенные умы в священном воодушевлении заступали доро¬
гу возрожденческим натурам, государство и церковь так никогда и не
достигли полюбовного соглашения, и в борьбе между императорской
властью и папством эта противоположность взошла на такую высоту,
какая была возможна лишь для фаустовского человека.
Причем сословием в собственном смысле слова, квинтэссенцией кро¬
ви и расы, потоком существования в максимально совершенной форме
является именно знать. Именно в силу этого знать — это высшее кре¬
стьянство. Еще в 1250 г. повсюду на Западе справедлива пословица
«Кто утром пашет, днем на турнир едет» и рыцари имеют обыкновение
жениться на крестьянских дочках. В противоположность собору замок
произошел из крестьянского дома, пройдя через стадию сельского по¬
местья, относящегося что-нибудь к временам Франкского государства.
В исландских сагах крестьянские дворы осаждают и штурмуют, словно
замки. Знать и крестьянство совершенно растительны и импульсивны,
они глубоко коренятся в земле предков и размножаются по генеалоги¬
ческому древу, муштруя других и сами подвергаясь муштре. Рядом с
этим духовенство оказывается противосословием в собственном смыс¬
ле, сословием отрицания, нерасовости, независимости от почвы, сво¬
бодным, вневременным, внеисторичным бодрствованием. От камен¬
ного века и до кульминации культуры во всякой деревне, в каждом кре-
стьянском роде разыгрывается всемирная история в миниатюре
Вместо народов здесь семьи, вместо стран — крестьянские дворы, од¬
нако итоговое значение того, за что сражаются здесь и там, одно и то
же: сохранение крови, последовательности поколений, космическое
{лава
четвертая. Государство
795
лачало, женщина, власть. «Макбета» и «Короля Лира»591 можно было
бы замыслить и в качестве сельских трагедий: вот доказательство под¬
енного трагизма. Знать и крестьянство появляются во всех культурах
в форме поколений, и слово, которым это обозначается, во всех язьг
j^592 соприкасается с обозначением обоих полов, с помощью которых
Продолжается жизнь, через которые она обладает историей и сама де¬
лает историю. А поскольку женщина — это и есть история, внутренний
ранг крестьянских и аристократических поколений определяется тем,
насколько много расы в их женщинах, до какой степени они являются
судьбой. Глубокого смысла исполнен поэтому тот факт, что, чем под¬
линней и расовей всемирная история, тем в более значительной степе¬
ни поток общественной жизни переходит в частную жизнь отдельных
великих родов и с ней сообразуется. Именно на этом и основывается
династический принцип, однако также и понятие всемирно-историче¬
ской личности. Судьбы целых государств становятся зависимы от не¬
измеримо разросшейся частной судьбы немногих родов. История
Афин V в. — это по большей части история Алкмеонидов, история
Рима — это история нескольких родов наподобие Фабиев и Клавдиев.
Этапы истории государств барокко — это точное отражение семейной
политики Габсбургов и Бурбонов, и ее кризисы — это браки и войны за
наследство. История второго брака Наполеона включает в себя также и
пожар Москвы, и Лейпцигское сражение. История папства вплоть до
XVIII в. включительно представляет собой историю нескольких ари¬
стократических родов, стремившихся к тиаре, с тем чтобы основать
собственные княжеские уделы. Однако то же самое верно и примени¬
тельно к византийским вельможам, и к английским премьер-минист¬
рам, как это показывает история семьи Сесилов593, и даже — к очень
многим вождям великих революций.
Все это отрицается духовенством, а также — философией, посколь¬
ку она является духовенством. Сословие чистого бодрствования и веч¬
ных истин обращается против времени, расы, пола во всех их смыслах.
Мужчина как крестьянин или рыцарь повернут к женщине как судьбе,
мУ*чина как священник отвернут от нее прочь. Знать, поскольку она
переводит широкий поток существования в русло потока малого —
собственных предков и потомков, постоянно рискует тем, что обще¬
ственная жизнь окажется сведена к частной. Подлинный священник
вообще не признает частной жизни, пола, «дома» в самой их идее. Дей¬
ствительной и ужасной смертью для человека расы оказывается лишь
смерть без наследников, это явственно усматривается как из исланд-
саг, так и по китайскому культу предков. Тот, кто продолжает
ть в сыновьях и внуках, умирает не целиком. Однако для истинного
пщенника справедливо, что media vita in morte sumu^94: его наследие
°вно и отвергает сам смысл женщины. Встречающиеся повсюду
боп ^Ь1 пР°явления этого второго сословия — безбрачие, монастырь,
с полевым началом вплоть до самооскопления, презрение к ма¬
796 Том 2._ ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
теринству, выражающееся в оргиазме и священной проституции, а
также в понятийном принижении половой жизни — вплоть до похаб¬
ного кантовского определения брака*. На протяжении всей античнос¬
ти сохраняет силу закон, что в священной области храма, теме носе, ни¬
кто не должен рождаться и умирать. Вневременнбе не должно соприка¬
саться с временем. Священник может признать великие мгновения
зачатия и рождения в понятийной форме и почтить их таинствами, од~
нако переживать их он не может.
Ибо знать есть нечто, духовенство же означает нечто. Также и в
этом оно оказывается противоположностью всего того, что есть судьба,
раса, сословие. Ведь и замок с его покоями, башнями, стенами и рвами
говорит о мощно протекающем бытии; собор же, со сводами, колонна¬
ми и хором — от начала и до конца значение, а именно орнамент. Так и
всякое древнее духовенство продвинулось до изумительно трудной и
величественной манеры поведения, каждая черточка которого, от вы¬
ражения лица и тембра голоса до одеяния и походки, является орна¬
ментом, частная же жизнь, а также и жизнь внутренняя исчезают как
безотносительные, между тем как всякая зрелая аристократия, к при¬
меру французская XVIII в., напротив того, выставляет совершенную
жизнь напоказ. И если готическое мышление развило из идеи священ¬
ника character indelebilis, в соответствии с которой идея неуничтожима
и достоинство ее абсолютно не зависит от образа жизни ее носителя в
мире как истории, то это в неявной форме относится и ко всякому ду¬
ховенству, а также и ко всей философии в смысле школ. Если священ¬
ник обладает расой, он ведет внешнее существование, как и всякий
крестьянин, рыцарь или государь. Папы и кардиналы эпохи готики
были феодальными государями, полководцами, любителями охоты,
любовниками и проводили семейную политику. Среди брахманов до-
буддистского «барокко» были крупные землевладельцы, холеные абба¬
ты, придворные, моты, лакомки**, однако именно раннее время было в
состоянии отличать в духовенстве идею от личности, что сущности
знати абсолютно противоречит, и лишь Просвещение осудило свя¬
щенника за его частную жизнь, но не потому, что его глаза были зорче,
а потому, что оно утратило идею.
Аристократ — это человек как история, священник — человек как
природа. История большого стиля — это всегда выражение и последст¬
вие существования общества знати, и внутренний ранг событий в этом
потоке существования определяется тактом. Вот причина, вследствие
которой битва при Каннах означала чрезвычайно много, а сражения
позднеримских императоров — не значили ничего. Наступление ран-
него времени часто ознаменовывается также и рождением протознати
Государь воспринимается здесь как primus inter pares [первый среди ран'
* В соответствии с которым брак есть договор о взаимном владении двух лип, р^Ч11'
зующийся посредством взаимного пользования половыми особенностями друг дрУга
Oldenberg. Die Lehre der Upanishaden. 1915. S. 5.
четвертая. Государство
fjUUW
797
ЛЫХ (лат.)], на него взирают с недоверием, ибо сильная раса в великих
отдельных личностях нужды не ощущает. Сама ценность расы ставится
^сударем под сомнение, и потому войны вассалов — самая аристокра¬
тическая форма, в которой протекает ранняя история. Но начиная с
данного момента эта знать берет дальнейшую судьбу культуры под свой
контроль. Посредством негласного, а потому тем более впечатляющего
формирующего дара существование приводится «в форму», выстраи¬
вается и закрепляется такт в крови, причем делается это на все будущие
времена. Ибо чем является для всякого раннего времени этот творче¬
ский взлет живой формы, тем же оказывается для всякого позднего
времени сила традиции, а именно древняя и стабильная муштровка,
сделавшийся уверенным такт такой интенсивности, что он переживает
вымирание старинных родов и непрестанно из глубины подчиняет
своему обаянию все новых людей и потоки существования. Нет совер¬
шенно никакого сомнения в том, что вся история позднейших эпох по
форме ее, такту и темпу закладывается самыми первыми поколениями,
причем закладывается необратимо. Масштабность ее успехов совер¬
шенно такова же, как сила традиции, заложенная в крови. С политикой
дело обстоит точно так же, как со всяким великим и зрелым искусст¬
вом: успехи предполагают, что существование полностью «в форме»,
что древнейший опыт, эта великая сокровищница, сделался инстинк¬
том и побуждением и ровно настолько же бессознателен, как и само¬
очевиден. Мастерства иного рода в природе не существует; великая
единичная личность делается властелином будущего и чем-то ббль-
шим, чем случайность, лишь вследствие того, что действует (или ока¬
зывается вынужденной действовать) в этой форме или из нее, является
судьбой или ею обладает. Это отличает необходимое искусство от из¬
лишнего, а также и исторически необходимую и излишнюю политику. И
сколько бы людей из народа (в данном случае он есть олицетворение
всего, лишенного традиции) ни пробивалось в руководящий слой, пус¬
кай даже под конец только они одни там и останутся, сами они, о том и
нс догадываясь, одержимы великим биением традиции, формирую¬
щим их духовное и практическое поведение, определяющим их методы
и являющимся не чем иным, как тактом давно вымерших последовате¬
льностей поколений.
Цивилизация же (настоящий возврат к природе) есть изглаживание
3Нати не как племени, что имело бы малое значение, но как живой тра¬
диции и замена судьбоносного такта каузальной интеллигенцией. За
3Натью остается роль одного только предиката; однако тем самым ци-
илизованная история делается поверхностной историей, хаотически
равленной на ближайшие цели, становясь таким образом бесфор-
н иной в отношении космического, зависимой от случайности отдель-
Щей Великих личностей, без внутренней надежности, без направляю-
РИч ’смысла- С цезаризмом история вновь возвращается к внеисто-
скому, в примитивный такт первобытности, и к столь же
798 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
бесконечным, как и лишенным значимости схваткам за материальную
власть, которые не слишком-то и отличают все происходившее во вре~
мена римских солдатских императоров III в. и соответствующих им
«шестнадцати государств» Китая (265—420) — от событий, разворачи¬
вающихся среди диких обитателей леса.
3
Но отсюда следует, что подлинная история — это не «история куль¬
туры» в антиполитическом смысле, как то воображается философам и
доктринерам всякой начинающейся цивилизации (почему соответст¬
вующая идея и оживает именно сегодня). Как раз наоборот: история —
это история расы, история войн, дипломатическая история, судьба по¬
токов существования в образе мужчины и женщины, судьба рода, на¬
рода, сословия, государства, которые то защищаются, то желают друг с
друга превозмочь в кипении прибоя великих фактов. Политика в вы¬
сшем смысле — это жизнь, и жизнь — это политика. Всякий человек,
желает он того или же нет, оказывается соучастником этих противоре¬
чивых событий, будь то как субъект или же объект: третьего не дано.
Разумеется, царство духа не от мира сего, однако оно его предполагает,
как бодрствование предполагает существование; оно возможно лишь в
качестве постоянного словесного отрицания действительности, нали-
чествующей-таки, несмотря ни на что. Раса может обойтись и без язы¬
ка, однако уже сама речь — это выражение расы*; и точно так же все
происходящее в истории духа, (что таковая вообще существует, доказы¬
вается уже властью крови над ощущением и пониманием): все рели¬
гии, все искусства, все идеи, поскольку они являются оформленным
деятельным бодрствованием, со всем их развитием, в полной их симво¬
лике, со всею их страстностью, — все это есть также и выражение кро¬
ви, струящейся сквозь эти формы в бодрствовании целых последовате¬
льностей поколений. Герою нет нужды даже догадываться о существо¬
вании этого второго мира — он сам является жизнью от начала и до
конца, тогда как святой, чтобы остаться лишь со своим духом, может
подавить в себе жизнь лишь посредством строжайшей аскезы, но сила,
потребная для этого, — это опять-таки сила жизни. Герой презирает
смерть, а святой презирает жизнь, но рядом с героизмом великих аске¬
тов и мучеников благочестие большинства — это благочестие того
рода, о котором в Библии говорится: «Поскольку ты не холоден и не
тепл, изблюю тебя изо рта моего»596, и поэтому оказывается, что даже
величие в религиозном смысле предполагает расу, мощную жизнь, в
которой присутствует нечто нуждающееся в преодолении, все же про-
чее — чистая философия.
С. 584.
Глава четвертая. Государство
799
Но вследствие этого знать во всемирно-историческом смысле так-
представляет собой куда больше, чем о том можно было бы заклю¬
чить по уютным поздним временам, а именно не совокупность титу¬
лов, прав и церемоний, но внутреннее обладание чем-то таким, что
трудно бывает завоевать и трудно удержать, но что, стоит лишь его по¬
стигнуть, тут же представляется достойным того, чтобы принести ему в
жертву всю свою жизнь. Старинный род означает не просто длинный
ряд предков (деды-то есть у всякого из нас), но таких предков, которые
на протяжении всей последовательности поколений обитали на вер¬
шинах истории и не только обладали судьбой, но и являлись ею, и в
чьей крови на протяжении многовекового опыта форма происходяще¬
го была отполирована до блеска. Поскольку история в великом смысле
начинается одновременно с культурой, следует понимать, что, когда, к
примеру, Колонна597 прослеживали свою историю вплоть до римских
времен, это была всего лишь игра. Однако далеко не бессмысленно то,
что весьма благородным в поздней Византии считалось происходить из
рода Константина Великого, а сегодня в Соединенных Штатах — воз¬
водить свою семью к одному из прибывших сюда в 1620 г. на «Мей-
флауэр»598. На самом деле античная аристократия начинается с троян¬
ского времени, а не с микенской эпохи, а западноевропейская — с го¬
тики, а не с франков и готов, в Англии же — с норманнов, а не с саксов.
История наличествует лишь с этого момента, а потому лишь отсюда
вместо благородных и героев может появиться обладающая символи¬
ческим рангом протознать. В ней обретает свое завершение то, что мы
обозначили вначале как космический такт*. Ибо все, что называем мы
в зрелые времена дипломатическим и общественным тактом, а сюда
относятся и взгляд стратега и предпринимателя, и зрение собирателя
антиквариата, и тонкое чутье знатока людей, вообще все то, чему не
выучиваются, но чем обладают, все, что возбуждает в прочих, неспо¬
собных, бессильную зависть и в качестве формы руководит ходом со¬
бытий, представляет собой не что иное, как единичные случаи той кос¬
мической и сновидческой уверенности, что достигает своего выраже¬
ния в поворотах стаи птиц и в управляемых движениях благородной
лошади.
Мир как природа окружает священника; священник углубляет его
картину, поскольку его продумывает. Знать живет в мире как истории
и Углубляет его, поскольку изменяет его картину. И то и другое разви¬
вается в великую традицию, однако первое есть результат образования,
ВтоР°е — муштры. Это — фундаментальное различие двух сословий,
Следствие которого сословием фактически оказывается лишь одно,
°рое же сословием только представляется — противопоставляя себя
Рвому исключительно внешним образом. Муштра, муштровка вхо-
^^всаму кровь и переходят от отцов к сыновьям. Образованием же
С- 470 слл.
800
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
предполагается дарование, и потому подлинное и мощное духовенст¬
во — это всегда собрание единичных дарований, община бодрствова¬
ния, без учета происхождения в расовом смысле, отрицающее тем са¬
мым время и историю. Духовное родство и родство кровное — надо
прочувствовать все различие между двумя этими выражениями. Поня¬
тие «наследственное духовенство» внутренне противоречиво. В веди¬
ческой Индии оно основывается на том факте, что здесь имеется вто¬
рая знать, сохраняющая священнические права за дарованиями из соб¬
ственной среды; в прочих же местах целибат кладет даже такому
размыванию границы конец. «Священник в человеке» (неважно, будет
ли это человек из знати или нет) означает центр священной каузально¬
сти в мировом пространстве. Сама священническая сила имеет кауза¬
льную природу, она вызывается высшими причинами и — уже как при¬
чина — передает действие дальше. Священник — это посредник во вне-
временнбм простирании, протянувшемся между бодрствованием
мирян и финальной тайной, и тем самым духовенство во всех культурах
определяется в своем значении пра-символом соответствующих куль¬
тур. Античная душа отрицает пространство, а значит, не нуждается в
посреднике; поэтому античное священническое сословие исчезает уже
в самом начале. Фаустовский человек стоит лицом к лицу с бесконеч¬
ным, и от гнетущей мощи этого момента его ничто не защищает; поэ-
тому-то готическое духовенство и возвысилось до идеи папства.
Два воззрения на мир, две различные манеры того, как струится
кровь в венах и как мышление вплетается в ежедневные бытие и деяте¬
льность. Дело кончается тем, что во всякой высшей культуре возника¬
ют две морали, каждая из которых свысока смотрит на другую: аристо¬
кратические нравы и духовная аскеза, взаимно друг друга отвергающие
за светскость и за холопство. Уже было показано то*, как первые проис¬
ходят из замка, а вторая — из монастыря и собора, одни — из полноты
существования посреди потока истории, другая — в стороне от него, из
чистого бодрствования наполненной Богом природы. Мощи этих из¬
начальных впечатлений позднейшие эпохи даже представить себе не
способны. Светское и духовное сословное ощущение находятся здесь
на взлете и вырабатывают себе нравственный сословный идеал, достижи¬
мый лишь для того, кто сюда принадлежит, да и для него — лишь после
длительной и строгой школы. Великий поток существования ощущает
себя единством по отношению ко всему прочему, в чем кровь тече1
вяло и без такта; великая общность бодрствования знает себя как един¬
ство по отношению к остальным непосвященным. Ватага героев — и
община святых.
Великой заслугой Ницше навсегда останется то, что он первым
признал двойственную сущность всякой морали**. Своими понятиями
«мораль господ» и «мораль рабов» он неверно обозначил факты и
* С. 728 слл.
«По ту сторону добра и зла», § 260.
Глава четвертая. Государство
801
слишком однозначно отнес к последней «христианство как таковое»,
но что явственно и заостренно лежит в основе всех его усмотрений, так
это: хороший и плохой — аристократические различия, благой и злой —
священнические. «Хороший» и «плохой», тотемные понятия уже первых
человеческих союзов и родов, обозначают не умонастроение, но чело¬
века, причем в целостности его живого бытия. Хорошие — властные,
богатые, счастливые. «Хороший» означает сильный, храбрый, благо¬
родной расы, причем это так в словоупотреблении всех ранних времен.
Плохие, продажные, бедствующие, низменные — это в изначальном
смысле бессильные, неимущие, несчастные, трусливые, маловажные,
«ничьи сыновья»599, как говорили в Древнем Египте. «Благой» и «злой»,
понятия табу, оценивают человека в отношении его ощущения и пони¬
мания, т. е. бодрствующего умонастроения и сознательных действий.
Прегрешение против любовного этикета в расовом смысле — это низ¬
ко; ослушаться церковного запрещения любви — зло. Благородные
нравы — это совершенно бессознательный результат долгой и посто¬
янной муштры. Им обучаются, вращаясь в обществе, а не из книг.
Они — чувствуемый такт, а не понятие. Прочая же мораль — это инст¬
рукция, от начала и до конца расчлененная по причинам и следствиям,
а потому ее можно выучить: она есть выражение убеждения.
Одни (т. е. нравы) — насквозь историчны и признают все ранговые
различия и преимущества как фактически данные. Честь — это всегда
сословная честь: чести человечества как целого нет в природе. Кто не
свободен, не может участвовать в поединке. Всякий человек, будь он
бедуин, самурай или корсиканец, крестьянин, рабочий, судья или гра¬
битель, имеет свои собственные, обязывающие его понятия чести, вер¬
ности, храбрости, мести, неприложимые ни к какой иной разновидно¬
сти жизни. У всякой жизни есть нравы; иначе ее невозможно и мыс¬
лить. Они имеются уже у играющих детей. Те сразу же и сами по себе
знают, что подобает, а что — нет. Хотя никто этих правил не диктовал,
они уже здесь. Они возникают совершенно бессознательно из «мы»,
образующегося в единообразном такте кружка. Под этим углом зрения
и всякое существование — «в форме». Всякая толпа, по какому-либо
поводу собирающаяся на улице, мгновенно обретает также и нравы;
кто их в себе не несет (уже в слове «следовать» излишне много рассу¬
дочности) как нечто самоочевидное, тот плох, низок, «не отсюда». Не¬
образованные люди и дети обладают на этот счет удивительно тонким
чутьем. Однако детям приходится выучить еще и катехизис. Из него
они узнают о благом и злом, которые установлены, а нисколько не са-
моочевидны. Нравы — это не то, что истинно, но просто есть. Они вы-
Ращены, прирождены, прочувствованы, происходят из органической
^гики. В противоположность им мораль никогда действительностью
е является (иначе свят был бы весь мир), но является вечным требова-
5М> нависающим над сознанием, причем по идее — всех вообще лю-
’ВНе зависимости от различий реальной жизни и истории. Поэтому
2б з
акат Западного мира
802 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
всякая мораль негативна, всякие нравы позитивны. В последнем слу~
чае наихудший — это бесчестный, высший в первом — безгрешный.
Фундаментальное понятие всяких живых нравов — честь. Все про¬
чее — верность, покорность, храбрость, рыцарственность, самооблада¬
ние, решимость — уже собрано в ней. И честь — вопрос крови, а не рас¬
судка. Здесь не раздумывают: кто раздумывает, уже бесчестен. Поте¬
рять честь — значит быть уничтоженным для жизни, времени, истории.
Честь сословия, семьи, мужчины и женщины, народа и отчизны, честь
крестьянина, солдата, даже бандита: честь означает, что жизнь в дан¬
ной личности чего-то стоит, что она обладает историческим рангом,
дистанцированностью, знатностью. Она так же принадлежит к направ¬
ленному времени, как грех — к вневременнбму пространству. Наличие
чести в крови — все равно что обладание расой. Противоположность
тому — терситовские600 натуры, грязные душонки, чернь: «Хоть потоп¬
чи, да жизнь сохрани». Снести оскорбление, забыть поражение, заску¬
лить перед врагами — все это свидетельства жизни, сделавшейся несто¬
ящей и излишней, а значит ничего общего не имеющей со священни¬
ческой моралью, которая нисколько не цепляется за жизнь (к тому же
столь подозрительную теперь), но вообще от нее абстрагируется, а с
ней — и от чести. Мы уже говорили: всякое нравственное действие —
это в глубочайшем смысле аскеза и умерщвление существования.
Именно потому оно находится вне жизни и исторического мира. 44
Но здесь следует заранее условиться о том, что только и придает
всемирной истории в поздние времена великих культур и начинаю¬
щейся цивилизации их красочное богатство, а событиям — символи¬
ческую глубину. Пра-сословия знать и духовенство — это чистейшее
выражение обеих сторон жизни, однако выражение не единственное.
Еще на очень ранней стадии, многократно предвещаемые в перво¬
бытную эпоху, наружу прорываются и иные потоки бытия и связи
бодрствования, в которых символика времени и пространства дости¬
гает живого выражения, и лишь вместе с теми, первыми, они образу¬
ют ту целостную полноту, которую мы называем социальным членени¬
ем или обществом.
Духовенство микрокосмично и животно, знать космична и растите¬
льна — отсюда ее глубокая связь с землей. Она сама есть растение,
прочно укорененное в земле, привязанное к почве, и в том числе и поэ¬
тому она — возвысившееся крестьянство. Из этого рода космической
связанности произошла идея собственности, совершенно чуждая мик¬
рокосму как таковому, свободно двигающемуся в пространстве. Собст¬
венность — это прачувство, это не понятие, и оно принадлежит време-
ни, истории и судьбе, а не пространству и причинности. Его невозмоЖ'
fyaea четвертая. Государство
803
но обосновать, однако оно налицо*. «Имение» начинается с растения и
Продолжается в истории высшего человека до тех пор, пока в нем есть
астительное, есть раса. Поэтому собственность в наиболее непосред¬
ственном ее значении — это земельная собственность, и стремление к
тому, чтобы превратить нажитое в землю и почву, всегда есть свидете¬
льство человека доброй породы. Растение владеет почвой, в которой
оНо коренится. Она является его собственностью**, которую оно обо¬
роняет с отчаянностью всего своего существования — против чуждых
ростков, против могучих растений-соседей, против всей природы. Так
птица защищает гнездо, в котором высиживает птенцов. Наиболее
ожесточенные битвы за собственность разворачиваются не в поздние
времена высших культур и не между богатыми и бедными — за движи¬
мое имущество, но здесь, в начале растительного царства. Кто, стоя по¬
среди леса, ощущает, как вокруг него день и ночь идет молчаливая, не
знающая пощады схватка за почву, того охватывает ужас от глубины
этого импульса, почти неотличимого от жизни. Здесь имеет место для¬
щаяся годами, упорная, ожесточенная борьба, безнадежное сопротив¬
ление слабых сильным, продолжающееся столь долго, что сломленным
оказывается также и победитель, трагедии наподобие тех, которые по¬
вторяются лишь у наиболее изначального человечества, когда старин¬
ный крестьянский род сгоняют с родного клочка земли, изгоняют из
гнезда, или же деньги в самом прямом смысле слова отрывают от почвы
аристократическое семейство***. Наблюдаемые повсюду схватки в
поздних городах имеют совершенно иной смысл, ибо здесь, в комму¬
низме всякого рода, речь идет не о переживании, но о понятии собст¬
венности как чисто материального средства. Отрицание собственно¬
сти никогда не идет от расового импульса, но, напротив, это есть док¬
тринальный протест чисто духовного, городского, беспочвенного,
отрицающего растительное начало бодрствования святых, философов
и идеалистов. Монах-анахорет, каковым является научный социалист,
как бы его ни звали — Мо-цзы, Зенон или Маркс, отвергает собствен¬
ность по одному и тому же основанию, люди расы ее защищают из од¬
ного и того же чувства. Также и здесь факты и истины друг другу проти-
Напротив, его можно опровергнуть, и это довольно часто делалось в китайской,
о^ичной, индийской и западноевропейской философии, однако собственности это не
м Куда новее и гораздо меньшей символической силой заряжена владение движи-
предметами — пищей, утварью, оружием, широко распространенное также и в
*?*тном мире. Напротив того, гнездо — растительная собственность птицы,
чем- ^аК ЧТО собственность в этом наиболее важном смысле, как срощенность с
колен),''ДЛЯ отдельной личности значит куда меньше, чем для последовательности по-
в кажИ’ К котоРой эта личность принадлежит. Это бурно прорывается на поверхность
ньиип °М РаздоРе как внутри крестьянской семьи, так и царствующего дома: каждый
при 0^ни^ глава является собственником лишь во имя рода. Отсюда и страх смерти
т°Му г^ствип наследника. Собственность является также и временным символом и по-
^eHHoc °К0 Р°дственна браку, представляющему собой прочную, растительную сро-
Кпцем рТЬ И взаимное владение друг другом, выражающиеся под конец во всевозраста-
сх°Дстве черт внешности.
804
Том1 всемирно-исторические перспективы
востоят. «Собственность — это кража»601 — вот высказанная в наиболее
материалистической форме старинная мысль: «Что пользы человеку,
если он весь свет приобретет, а душе своей повредит?»602 Отдавая соб¬
ственность, священник отказывается от чего-то опасного и чуждого,
аристократия же — от самой себя.
Начиная с этого момента происходит развитие двойственного ощу¬
щения собственности: владение как власть и владение как добыча. В из¬
начальном человеке расы то и другое непосредственно соседствует друг
с другом. Всякий бедуин и викинг хочет и того, и другого. Морской
волк — это также и морской разбойник; всякая война идет также и за
владение, причем прежде всего за владение землей. Всего один шаг — и
рыцарь делается рыцарем-разбойником, искатель приключений — за¬
воевателем и королем, как норманн Рюрик на Руси и многие ахейские
и этрусские пираты в гомеровские времена. Во всех героических сказа¬
ниях рядом с мощным и естественным удовольствием от борьбы, от
власти, от женщины, рядом с необузданными вспышками счастья,
боли, гнева и любви присутствует также и мощная радость от «добра».
Когда Одиссей высаживается у себя на родине, он первым делом пере¬
считывает сокровища на корабле603, а в исландской саге крестьяне
Хьялмар и Ёлварод сразу прерывают поединок, стоит каждому из них
увидеть, что в лодке противника нет никакого товара: дурак тот, кто
сражается из гордыни и ради чести. В индийском героическом эпосе
эпитет «радующийся битве» равен по значению «жадному до скота», а
греки-«колонизаторы» X в. были поначалу грабителями, как и норман¬
ны. Чужой корабль на море — это безусловно ценный приз. Однако
междоусобицы южноаравийских и персидских рыцарей 200 г. по Р. X. и
guerresprivdes [частных войн (фр.)] провансальских баронов 1200 г., ко¬
торые мало чем превосходили заурядный угон скота другу друга, с кон¬
цом феодальной эпохи перерастают в большую войну с целью завоева¬
ния земли и людей. Все это наконец доводит высокую аристократиче¬
скую культуру до той самой вымуштрованности и формы, что внушает
презрение священникам и философам.
С подъемом культуры эти первичные импульсы расходятся далеко в
разные стороны и вступают друг с другом в борьбу. Всемирная история
едва ли не сводится к истории этой борьбы. Из ощущения власти проис¬
ходят завоевание, политика и право, из ощущения добычи — торговля.
экономика и деньги. Право — собственность имеющего власть. Его пра¬
во — закон для всех. Деньги — сильнейшее оружие приобретателя. С
его помощью он покоряет мир. Экономике желательно государство,
которое было бы слабым и служило бы ей; политика требует включе¬
ния экономической жизни в сферу государственной власти: Адам
Смит и Фридрих Лист604, капитализм и социализм. В начале всех куль¬
тур имеется военная и купеческая знать, далее — земельная и денежная
знать, и в результате — военное и экономическое ведение войны и бес¬
прерывная борьба денег с правом.
четвертая. Государство
805
По Другую сторону происходит разделение духовенства и учености.
0 то и Другое обращено не на фактическое, но на истинное, оба отно¬
сятся к стороне жизни, являющейся табу, и к пространству. Страх
смер™ — источник не только всякой религии, но и всей философии и
естествознания. Однако священной каузальности оказывается теперь
Противопоставлена каузальность профанная. Профанное — вот новое
противоположное понятие к религиозному, терпевшему ученость
лишь в качестве служанки. Профанной является вся целиком поздняя
критика, ее дух, ее метод и цель. Не является исключением из этого
также и поздняя теология; но, несмотря на это, ученость всех культур
реализуется всецело в формах предшествовавшего ей духовенства, до¬
казывая тем самым, что она возникла лишь из духа противоречия, со¬
храняя зависимость от прообраза во всех частных и общих моментах.
Поэтому античная наука обитает в культовых общинах орфического
стиля, таких, как милетская школа, пифагорейский союз, врачебные
школы в Кротоне и на Косе, аттические школы Академии, перипатети¬
ков и Стой, главы которых в общем и целом относятся к типу жреца и
провидца, — вплоть до римских правовых школ сабинианцев и проку-
лианцев. Арабским элементом является наличие священного писания
также и в науке, наличие в ней канона, каким был естественнонаучный
канон Птолемея («Альмагест»), медицинский Ибн-Сины, философ¬
ский корпус «Аристотеля» с множеством неподлинных сочинений.
Арабскими по духу являются и по большей части неписаные законы и
методы цитирования*, комментарий как форма продвижения мысли,
высшие школы как монастырские учреждения (медресе), обеспечи¬
вавшие преподавателей и слушателей кельей, питанием и одеждой, и
научные направления как братства. Ученый мир на Западе, особенно в
протестантских областях, устроен всецело по образу и подобию като¬
лической церкви. Переход от ученого ордена готической эпохи к орде¬
нообразным школам XIX в., таким, как школы Гегеля и Канта и исто¬
рическая школа права, однако также и многие английские колледжи,
совершили французские мавриниане и болландисты605, которые начи¬
ная с 1650 г. господствовали во вспомогательных исторических дис¬
циплинах, а отчасти их и основывали. Во всех специальных научных
Дисциплинах, включая также и медицину с катедерфилософией, суще¬
ствует развитая иерархия со своими, школьными, папами, степенями и
Достоинствами (докторская степень как священническое посвяще-
ние), таинствами и соборами. Здесь строго оберегают понятие «миря¬
нина»606, а право всеобщего священства верующих в форме популяр¬
ной науки, такой, как дарвинизм, — с величайшей страстностью оспа¬
ривают. Изначально гелертерским языком была латынь; теперь
т°всюду оформились языки частных специальностей, как, например,
бытуют в области радиоактивности или обязательственного
* с. 705.
806 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
права, понятные лишь тому, кто дошел до высших ступеней посвяще¬
ния. Существуют основатели сект, какими явились многие ученики607
Канта и Гегеля, миссионерство среди неверующих, как миссионерская
работа монистов, еретики, такие, как Шопенгауэр и Ницше, и великое
отлучение, а в качестве Индекса608 — заговор молчания. Существуют
здесь вечные истины, такие, как подразделение объектов права на лица
и вещи, и догматы, например, относительно энергии и массы или тео¬
рии наследственности, есть ритуал цитирования правоверных писаний
и своего рода научное причисление к лику блаженных*.
Более того — тип западноевропейского ученого, достигший высше¬
го развития в середине XIX в. (тогда же, когда тип священника пребы¬
вал в величайшем упадке), придал законченность и совершенство ка¬
бинету ученого, этой келье профанного монашества. Имеются у этого
монашества и свои неосознаваемые обеты: бедность, исповедуемая как
нелицемерное пренебрежение благополучием и имуществом и обычно
связанная с добросовестным презрением к купеческим занятиям и к
любому обращению научных результатов в средство заработка; цело¬
мудрие вплоть до академического целибата, образцом и вершиной в
следовании которому явился Кант; послушание вплоть до принесения
себя в жертву точке зрения школы. Наконец, к этому присоединяется
отчуждение от мира, как профанное эхо готического бегства от него,
что привело к пренебрежению почти всей общественной жизнью и
всеми формами светскости: всюду недостаток муштры и через край об¬
разования. То, что для знати еще в поздних ее побегах, для судей, поме¬
щиков и офицеров, оказывается источником естественной радости —
от продолжения рода, от владения и чести, представляется ученому не¬
значительным в сравнении с тем, что он обладает чистой научной сове¬
стью или, в отдалении от всей мировой суеты, продолжает чей-то метод
или некое узрение. И если сегодня ученый перестал быть чужд миру и
наука, зачастую с весьма значительным пониманием, встает на службу
технике и зарабатыванию денег, так это знак того, что чистый тип на¬
ходится на спаде, а значит, великая эпоха восторгов по поводу рассуд¬
ка, живым выражением которой он являлся, принадлежит уже про¬
шлому.
Все это порождает естественное сословное строение, которое — в
своем развитии и действии — представляет собой основной костяк
биографии всякой культуры. Он не создавался ничьим решением, и
никакое постановление не в состоянии его изменить: революции ме¬
няют его лишь в том случае, если они — формы развития, а не результат
частной воли. Костяк этот, в его окончательном космическом значе¬
нии, действующим и мыслящим человеком даже не осознается, потому
что заложен слишком глубоко в человеческом существовании, а значит
По смерти ересиархам бывает отказано в вечном блаженстве учебника: им отво¬
дится чистилищное пламя примечаний, откуда они, отбеленные по заступническим
молитвам верующих, поднимаются в рай непосредственно параграфов.
fjiaea четвертая. Государство
807
оказывается чем-то само собой разумеющимся; и лишь с поверхности
заимствуются лозунги и поводы, из-за которых происходят сражения в
той части истории, которую теория выделяет в качестве истории соци¬
альной, но которую на самом деле от прочей отделять невозможно.
Знать и духовенство поначалу вырастают посреди сельской местности
и представляют собой чистую символику существования и бодрствова¬
ния, времени и пространства; впоследствии по ту и другую сторону — в
сферах овладевания добычей и размышления соответственно, развива¬
ются два типа, обладающие меньшим символизмом и приходящие в
поздние городские времена к господству в виде экономики и науки. В
этих двух потоках существования оказываются до конца продуманны¬
ми — бескомпромиссно и с враждебностью к традиции — идеи судьбы
и каузальности; возникают силы, разделенные смертной враждой со¬
словных идеалов геройства и святости: деньги и дух. Оба относятся к
этим идеалам так же, как душа города — к душе земли. Отныне собст¬
венность зовется богатством, а мировоззрение — знанием: лишенная
святости судьба и профанная каузальность. Однако также и наука всту¬
пает в противоречие со знатью. Знать не доказывает и не исследует, она
просто есть. De omnibus dubitandum буржуазно-неблагородно, однако, с
другой стороны, это противоречит также и фундаментальному ощуще¬
нию духовенства, отводящего критике служебную роль. Далее, чистая
экономика наталкивается здесь на аскетическую мораль, отвергаю¬
щую денежный интерес, точно так же, как его презирает подлинная и
сидящая на своей земле знать. Даже старинная купеческая знать, на¬
пример в ганзейских городах, в Венеции и Генуе, зачастую разорялась,
поскольку, связанная с традицией, она не желала или не могла прини¬
мать участия в нещепетильных формах предпринимательства большо¬
го города. И наконец, экономика и наука враждебно противостоят друг
другу и повторяют в борьбе между прибылью и познанием, между кон¬
торой и кабинетом ученого, предпринимательским и доктринерским
либерализмом — старинное великое противоборство действия и созер¬
цания, замка и собора. В том или ином виде такое членение повторяет¬
ся в строении всякой культуры, делая тем самым возможной сравните¬
льную морфологию также и в социальной области.
Особняком от подлинной сословной структуры стоят повсюду про¬
фессиональные классы ремесленников, чиновников, художников и ра¬
бочих, которые, как, к примеру, гильдии кузнецов (Китай), писцов
(Египет) и певцов (античность), уходят корнями в седую древность и
вследствие профессиональной обособленности (так что даже браки с
посторонними у них не заключаются) делаются в полном смысле слова
°собыми племенами, как абиссинские фалаша* и многие классы шудр,
перечисленные в сборнике законов Ману. Их выделение основывается
па чисто технических навыках, а значит, не на символике времени и
Черные иудеи, все поголовно кузнецы.
808
Том2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
пространства; их традиции также ограничиваются техникой, а не соб¬
ственными нравами или моралью, как то сплошь и рядом присутствует
в экономике и науке. Офицеры и судьи, поскольку они выводят себя от
знати, — сословия, чиновники — профессия; ученый, поскольку он
вышел из духовенства, принадлежит к сословию, художник же — про¬
фессия. Честолюбие и совесть связываются в одном случае с сослови¬
ем, в другом — с достигнутым результатом. В совокупности всех пер¬
вых присутствует нечто символическое, каким бы слабым оно ни было,
между тем как у вторых оно отсутствует. Вследствие этого над ними тя¬
готеет некая чужеродность, неупорядоченность, зачастую в них про¬
глядывает нечто подозрительное; здесь можно вспомнить палача, акте¬
ра и бродячего певца или о невысокой оценке художников антично¬
стью. Их классы и гильдии обособляются от общества или ищут
защиты у других сословий (либо у отдельных покровителей и мецена¬
тов), однако влиться в них они не могут, что выражается как в шедших
в старинных городах цеховых войнах, так и в обнаруживаемых людьми
искусства антисоциальных побуждениях и обыкновениях всякого
рода.
5
Таким образом, истории сословий нет до профессиональных клас¬
сов решительно никакого дела, она является отображением метафизи¬
ческого момента в высшем человечестве. Момент этот возвышается до
великой символики в различных видах вечнотекущей жизни, и в
этих-то видах, а также на них история культур и осуществляется.
Уже резко выраженный тип крестьянина в самом начале представ¬
ляет собой нечто новое. В каролингскую эпоху и в царистской России с
ее «миром»* были свободные и крепостные, занимавшиеся земледели¬
ем, однако никакого крестьянства не было. Лишь на основе глубокой
инаковости перед лицом той и другой символической «жизни» (если
мы вспомним Фрейданка) жизнь эта делается сословием, кормящим со¬
словием в полном смысле этого слова, а именно корнем великого расте¬
ния культуры, глубоко запустившим свои ответвления и волокна в ма¬
теринскую почву и с тупой прилежностью вытягивающим на себя все
соки и посылающим их наверх, туда, где на свету истории возвышают¬
ся ствол и верхушка. Крестьянское сословие служит большой жизни,
не только давая ей питание, добываемое им с земли, но также и иным
приношением Матери-Земли — своей собственной кровью, которая
на протяжении веков струится из деревень в высшие сословия, прини-
Абсолютно примитивный «мир», в противоположность утверждениям социали¬
стических и панславистских мечтателей, возник лишь начиная с 1600 г., а после
1861 г. — упразднен. Земля здесь — это общинная земля, и обитатели деревни по воз¬
можности удерживаются в прикрепленном состоянии, чтобы обеспечить тем самым
взнос налогов.
fjiaea четвертая. Государство
809
^ает там их форму и поддерживает их жизнь. Соответствующее сослов¬
ное выражение для этого — крепостная зависимость (какими бы ни
были поводы для нее, коренящиеся в поверхностном слое истории),
развивающаяся на Западе в 1000—1400 гг. и «одновременно» во всех
Прочих культурах. Спартанское илотство относится сюда точно так же,
как и древнеримская клиентура, из которой начиная с 471 г. возникал
сельский плебс, т. е. свободное крестьянское сословие*. Поразительна
эта сила стремления к символической форме в пределах псевдоморфо¬
за «позднеримского» Востока, где основанное Августом кастовое
устройство принципата с его различием сенаторского и всадничьего
чиновничества постепенно свертывается до тех пор, пока к 300 г. по¬
всюду в тех местах, где первенствует магическое мироощущение, оно
не приходит к раннеготическому состоянию 1300 г., а тем самым — и к
тому, что имело место в государстве Сасанидов**. Из чиновничества
высокоцивилизованной администрации развивается мелкая знать, де-
курионы, деревенские всадники и городские патриции, которые телом
и имуществом ответственны перед своим господином за все взносы
(возникшая в результате попятного развития ленная повинность) и по¬
ложение которых постепенно делается наследственным, — совершен¬
но как в V египетскую династию, как в первые столетия Чжоу, когда
уже И-ван (934—909) был вынужден оставлять без внимания завоева¬
ния вассалов, ставивших графов и фохтов по собственному выбору, и
как в эпоху крестовых походов. Наследственными становятся и сосло¬
вия офицеров и солдат (ленная повинность в отношении армейской
преемственности), что было затем в виде закона закреплено Диоклети¬
аном. Отдельный человек оказывается прочно прикрепленным к со¬
словию (corpori adnexus), и как цеховая принудительность, например, в
готическую и раннеегипетскую эпоху этот же принцип распространя¬
ется на все вообще занятия. Но в первую очередь из позднеантичной,
использующей рабов латифундийной экономики*** с внутренней необ¬
ходимостью возникает колонат мелких наследственных арендаторов,
между тем как все поместье делается административной единицей, с
возложенной на хозяина обязанностью собирать взносы и выставлять
контингент солдат****. Между 250 и 300 гг. колон законодательно при¬
крепляется к земле: glebae adscriptus — тем самым оказывается достиг¬
нутым сословное различие феодалов и крепостных ****.
Как возможность знать и духовенство задаются с каждой новой ку¬
льтурой. И только недостаточность данных оказывается, подчас осно-
См. далее внизу.
*** Ontario. Byzant. Volkswirtschaft. 1917. S. 15.
чай ^ ЭТИ столетия античный раб исчезает совершенно сам собой, что является яр-
аищИм свидетельством угасания как античного мироощущения, так и античного эко-
«омического чувства.
Као ?,слнсаРий выставил для войны с готами 7000 всадников со своих владений. При
*Е?*е * на это оказались бы способны очень и очень немногие германские государи.
Pohlmann. Rom. Kaiserzeit (Pflugk-Harttungs Weltgesch. I). S. 600 f.
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
810
ванием для мнимых исключений из этого правила. Сегодня мы знаем,
что в древнем Китае имелось настоящее духовное сословие*, и для пер¬
вых этапов орфической религиозности в XI в. до Р. X. чем-то само со¬
бой разумеющимся представляется допущение духовенства как сосло¬
вия, намек на что имеется в эпических образах Калханта и Тиресия.
Развитие египетского феодального государства также предполагает
протознать еще для III династии**. Однако как именно и с какой силой
эти сословия реализуются в действительности, после чего начинают
вмешиваться в последующую историю, творить ее, нести на себе и даже
воплощать в собственной судьбе, зависит от пра-символа, лежащего в
основании всякой культуры и языка ее форм в целом.
Знать, это растение от начала и до конца, во всем исходит от земли
как протособственности, с которой она прочно срослась. Повсюду
основная ее форма — это род, в котором находит выражение также и
«другая» история, а именно история женщины, посредством же воли к
длительности, а именно длительности крови, она обретает в нем во¬
площение как великий символ времени и истории. Обнаруживается,
что раннее, основывающееся на личном доверии высшее чиновниче¬
ство феодального государства повсюду, как в Китае и Египте, так и в
античности и в Западной Европе, от маршалка (по-китайски sse-ma),
камергера (chen) и стольника (ta-tsai) и до фохта {пап) и графа (peh)***,
поначалу создает ленные придворные должности и отличия, затем
стремится к наследственной связи с землей и наконец делается исход¬
ным моментом аристократических родов.
Фаустовская воля к бесконечному находит выражение в генеалоги¬
ческом принципе, который, как ни удивительно это может показаться,
принадлежит этой культуре, и только ей одной, и все исторические об¬
разования в ней, и прежде всего само государство, пронизываются и
формируются этим принципом вплоть до самых глубинных слоев. Ис¬
торическое чутье, желающее знать судьбу своей крови на протяжении
столетий и иметь на первоисточниках доказательства всех «когда?» и
«откуда?» вплоть до пращуров, тщательное вычерчивание родового
древа, способное сделать нынешнее владение и его наследственный
порядок зависимыми от судьбы одного лишь брака, заключенного,
быть может, полтысячелетия назад, понятия чистоты крови, равенства
по происхождению, мезальянса, — все это проявления воли к направ¬
лению во временную даль, как она, возможно, выработалась в родст¬
венную этому, однако куда более слабую форму лишь у одной египет¬
ской знати.
*с 745-
Вразрез с тем, что говорится у Ed. Meyer. Gesch. d. Altertums I. § 243.
Китайские ранги у Schindler, Das Priestertum in alten China, S. 600, в точности им
соответствующие египетские — у Ed. Meyer. Gesch. d. Altertums I, § 222, Византии -
ские — в «Notitia dignitatum»609, отчасти заимствованном из двора Сасанидов. В антич¬
ных полисах некоторые происходящие из седой древности титулы чиновников указы¬
вают на придворные должности (колакреты, пританы, консулы). См. далее ниже.
Глава четвертая. Государство 811
В противоположность этому знать античного стиля всецело ориенти¬
руется на сиюминутное состояние агнатского рода, а еще — на мифиче¬
ское родовое древо, не обнаруживающее ни крупицы исторического чу¬
тья, но говорящее лишь о нимало не озабоченной историческим правдо¬
подобием потребности в великолепном фоне для «здесь» и «теперь»
ныне живущего человека. Отсюда — совершенно никак иначе не объяс¬
нимая наивность, с которой античному человеку непосредственно за
собственным дедом видятся Тезей и Геракл, простодушие этих людей
при измышлении фантастических родовых древ, да по возможности не
одного, как у Александра, и легкость, с которой римские семейства мог¬
ли внести мнимых своих пращуров в древние консульские списки. При
погребении римского нобилитета в погребальной процессии несли вос¬
ковые маски великих предков, однако важно было лишь их число и зву¬
чание знаменитых имен и ни в малейшей степени — не их генеалогиче¬
ская связь с современностью. Это характерная особенность610 всей вооб¬
ще античной знати, которая, как и готическая, также и по внутреннему
строению и духу образует единство, простирающееся от Этрурии и до
Малой Азии. На этом основывается сила, которой еще в начале позднего
времени обладали орденообразные родовые союзы по всем городам, эти
филы, фратрии и трибы, культивировавшие в сакральной форме исклю¬
чительно современный свой состав и спаянность — как три дорические
и четыре ионические филы и три этрусские трибы, появляющиеся в
древнейшем Риме как Титии, Рамны и Луцеры. В Ведах претензию на
культовое почитание предъявляют только души «отцов» и «матерей» из
трех ближайших и трех более отдаленных поколений*, а далее они уходят
в прошлое; античный культ душ также никогда не уходил глубже в про¬
шлое. Это величайшая из всех, какие только возможны, противополож¬
ность культу предков у китайцев и египтян, который по идее не прекра¬
щается вообще никогда, поддерживая тем самым род в определенном
порядке также и за пределами смерти. В Китае сегодня еще живет герцог
Кунг — как потомок Конфуция, а также потомство Лао-цзы, Чжан Лу и
других. О широко разветвленном древе речи не идет, линия, дао сущест¬
ва, продолжается здесь и через усыновление, и иными средствами. Усы¬
новление, в связи с тем что усыновленный принимает на себя опреде¬
ленные обязательства, включает его, в плане душевном, в культ предков.
Века расцвета этого своеобразнейшего сословия, от начала и до
конца являющего собой направление, судьбу и расу, проникнуты нео¬
бузданной радостью жизни. Женщина, поскольку она есть история, и
борьба, поскольку она создает историю, находятся безусловно в цент¬
ре его мышления и деятельности. Северной поэзии скальдов и южному
Миннезингерству соответствуют в «Шицзин» древние любовные песни
из китайской рыцарской эпохи**, преподававшиеся в би юн, месте бла-
ГоРодной муштры, сяо. И точно так же устраивавшаяся на людях, со-
*
^ Hardy. Indische Religionsgeschichte. S. 26.
Granet M. Coutumes matrimoniales de la Chine antique. T’oung Pao, 1912. S. 517 ff.
812 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
вершенно в духе античного агона или готического и персидско-визан¬
тийского турнира, торжественная стрельба из лука, принадлежит гоме¬
ровской стороне китайской жизни.
Противоположность ей — сторона орфическая, которая выражает
пространственное переживание той культуры посредством стиля свое¬
го духовенства. Эвклидовскому характеру античной протяженности,
не нуждающейся ни в каком посреднике для того, чтобы общаться с
близкими телесными богами, соответствует такое положение духовен¬
ства, при котором это сословие изначально низводится до совокупно¬
сти городских должностей. Китайскому дао — положение, при кото¬
ром изначальное наследственное духовенство сменяют впоследствии
исключительно профессиональные классы молельщиков, каллигра¬
фов и жрецов при оракулах: они сопровождают культовые действия
властей и глав семей предписанными ритуалами. Теряющемуся в без¬
мерных далях мироощущению индуса соответствует то, что духовное
сословие становится там второй знатью, которая с колоссальной энер¬
гией, вмешиваясь во все стороны жизни, помещается между народом и
дикой чащобой его богов. Наконец, ощущению пещеры соответствует
священник магического стиля в собственном смысле: им оказывается
(причем с всевозрастающей подчеркнутостью) монах и отшельник, бе¬
лое же духовенство постоянно теряет символическую значимость.
Напротив того, фаустовское духовенство, еще ок. 900 г. не обладав¬
шее ни глубокой значимостью, ни достоинством, теперь стремительно
завладевает той колоссальной посреднической ролью, которую испол¬
няет — по идее — меж человечеством в целом и далью макрокосма,
простершегося со всей мощью пафоса третьего измерения. Фаустов¬
ское духовенство, исключенное из истории целибатом, а из времени —
character indelebilis, обретает высшее завершение в папстве, являющем¬
ся величайшим из всех мыслимых символов священного динамическо¬
го пространства; в протестантской же идее всеобщего священства ве¬
рующих папство не упраздняется, но лишь перемещается из одной точ¬
ки и одной личности — в грудь каждого верующего.
Наличное во всяком микрокосме противоречие между существова¬
нием и бодрствованием с внутренней необходимостью приводит в
столкновение также и оба сословия. Время желает подчинить себе про¬
странство, пространство — время. Духовная и светская власть — вели¬
чины столь различного порядка и тенденции, что примирение или хотя
бы взаимопонимание между ними представляются чем-то немысли¬
мым. Однако во всех иных культурах борьба эта не приводила ко все¬
мирно-историческому взрыву: в Китае господство было сохранено за
знатью ради дао, в Индии — за духовенством, из-за бесконечно рас¬
плывающегося пространства; внутри арабской культуры включение
зримо-мирской солидарности правоверных в великий духовный con¬
sensus задается непосредственно магическим мироощущением, чем
предполагается также и единство светских и духовных государства,
рдава четвертая. Государство _ _ 813
права, властительства. Это не препятствовало возникновению трений
между обоими сословиями, а в державе Сасанидов дело доходило до
кровавой междоусобицы знати динкан и партии магов и даже до убий¬
ства некоторых государей; в Византии же весь V в. наполнен борьбой
между императорской властью и духовенством, борьбой, которая неиз¬
менно пребывает на заднем плане монофизитских и несторианских
разногласий*, однако при этом под сомнение не берется само фунда¬
ментальное соотношение между ними.
В античности, отвергающей бесконечное во всех смыслах, время
сводилось к настоящему, протяжение — к осязаемому единичному
телу, а тем самым сословия великой символики были настолько лише¬
ны значения, что вообще не рассматриваются здесь как самостоятель¬
ная сила перед лицом города-государства, воплощающего в себе ан¬
тичный пра-символ в наиболее могучей из всех мыслимых форм. На¬
против того, в истории египетского человечества, в котором мощный
глубинный порыв с одинаковой силой устремляется как во временную,
так и в пространственную даль, борьбу обоих сословий и их символику
оказывается возможным проследить вплоть до выраженного феллахст-
ва. Ибо переход от IV к V династии был связан также и с явным триум¬
фом мироощущения духовенства над рыцарским мироощущением:
фараон становится из тела и носителя высшего божества его слугой, а
святилище Ра превосходит погребальный храм государя как по архи¬
тектонической, так и по символической мощи. Новое царство, сразу
же после первых великих цезарей, делается свидетелем установления
политического всемогущества фивацского жречества Амона, а с другой
стороны, явно имевшего политическую подоплеку переворота ца-
ря-еретика Аменофиса IV, — пока, наконец, после бесконечных боре¬
ний между военной и жреческой кастой история египетского мира не
завершается чужеземным господством.
В фаустовской культуре та же борьба двух в равной степени могуще¬
ственных символов ведется в близких по духу формах, однако с куда
большей страстностью, так что, начиная с наиболее ранней готики,
мир между государством и церковью мыслится лишь как временное
перемирие. В этой борьбе, однако, находит выражение обусловлен¬
ность бодрствования, которое желало бы быть независимым от суще¬
ствования, однако на это не способно. Ум без крови не обойдется, а
кровь без ума — вполне. Война относится к миру времени и истории (в
духовной сфере возможна лишь борьба доводов, дискуссия), Церковь сра¬
жающаяся перемещается из царства истин в царство фактов, из Царства
Иисуса в царство Пилата; она превращается в момент внутри истории
расы и оказывается всецело подлежащей формирующей силе полити¬
ческой стороны жизни; она сражается мечом и пулей, ядом и кинжа-
л_пм, подкупом и предательством — всеми средствами сиюминутной
Примером чего является жизнь Иоанна Хризостома.
814 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
партийной борьбы от эпохи феодализма до современной демократии;
она приносит догматы в жертву мирским преимуществам и вступает в
союз с еретиками и язычниками против правоверных властей. У папст¬
ва как идеи — особая история, однако вне зависимости от этого папы V]
и VII вв. были византийскими наместниками сирийского и греческого
происхождения, далее — могущественными землевладельцами с мно¬
гочисленными крепостными; в конце концов в начале готики patrimo-
nium Petri [наследство Петра (лат.)] становится некоего рода герцогст¬
вом во владении великих аристократических родов Кампаньи (прежде
всего Колонна, Орсини, Савелли, Франджипани), которые пап попе¬
ременно назначают, пока также и здесь господствующей не становится
общая западноевропейская ленная система и престол Петра не начи¬
нает сдаваться напрокат внутри семейств римских баронов, так что но¬
вый папа, как и всякий немецкий и французский король, должен был
подтверждать права своих вассалов. В 1032 г. тускуланские графы про¬
возгласили папой 12-летнего мальчика. В пределах города, среди древ¬
них руин и прямо на них, высилось тогда восемьсот башен-замков. В
1045 г. сразу трое пап окопались соответственно в Ватикане, Латеран-
ском дворце и в церкви Санта Мария Маджоре, а благородная свита за¬
щищала их от посягательств.
Теперь сюда же прибавляется город с его душой, которая вначале
отделяется от души земли, затем с нею уравнивается и в конце концов
пытается ее подавить и изничтожить. Однако такое развитие происхо¬
дит в разновидностях жизни, а значит, принадлежит к истории сосло¬
вий. Стоит появиться городской жизни как таковой, а с ней возникнуть
духу общности среди обитателей этих небольших поселений, духу, вос¬
принимающему собственную жизнь в качестве чего-то особого, непо¬
хожего на жизнь снаружи, как начинает действовать волшебство лично¬
стной свободы, вовлекая внутрь городских стен все новые потоки суще¬
ствования. Быть горожанином и распространять городскую жизнь
дальше — в этом присутствует своего рода страсть. Именно с ней, а не с
материальными предпосылками, связана лихорадочная закладка ан¬
тичных городов, известная нам в ее последних представителях, а пото¬
му не вполне правильно обозначаемая как колонизация. Это порожда¬
ющий энтузиазм городского человека: в античности, начиная с X в., и
«одновременно» в других культурах он покоряет все новые последова¬
тельности поколений чарам новой жизни, с которой посреди человече¬
ской истории впервые появляется идея свободы. Идея эта не политиче¬
ского и тем более не абстрактного происхождения, однако она обнару¬
живает, что внутри городских стен приходит конец растительной
связанности с землей, так что скрепы, пронизывающие всю деревен¬
скую жизнь, оказываются разорваны. Поэтому в самой сути этой идеи
всегда присутствует нечто отрицающее. Она освобождает, высвобож¬
дает, защищает: человек бывает извечно свободен от чего-то. Выраже¬
нием этой-то свободы и является город; городской дух — это сделав-
fjiaea четвертая. Государство
815
щееся свободным понимание, и все, что в поздние времена возникает
род именем свободы в плане духовных, социальных и национальных
движений, восходит к этому протофакту освобожденного от земли бы¬
тия-
Однако город старше «буржуа» . Поначалу он привлекает профес¬
сиональные классы, которые находятся вне символического сословно¬
го порядка и приобретают здесь форму цехов, а затем уже — сами
пра-сословия, которые переносят в городские границы свои замки —
как мелкая знать, и свои монастыри — как францисканцы, не особен¬
но изменяясь при этом внутренне. Не только папский Рим, но и все
итальянские города этой эпохи уставлены укрепленными родовыми
башнями, из которых на улицы выплескиваются междоусобные стыч¬
ки. На известном, относящемся к XIV в. изображении Сиены612 башни
высятся вокруг рынка все равно как фабричные трубы, а флорентий¬
ские палаццо Возрождения — не только наследники провансальских
благородных дворов (по великолепию протекающей внутри жизни), но
и (со своими рустованными фасадами) отпрыски готических замков,
которые французское и немецкое рыцарство еще долго продолжало
строить на скалах. Обособление новой жизни происходит лишь очень
неспешно. В 1250—1450 гг. по всей Западной Европе все переселивши¬
еся в города роды сливаются в противовес цехам в патрициат и именно
в силу этого также и духовно отделяются от земельной аристократии.
Абсолютно то же самое происходило в раннем Китае, Египте и Визан¬
тийской империи, и лишь исходя из этого можно понять древнейшие
античные союзы городов, такие, как этрусский, а быть может, еще и
латинский, и священную связь колониального дочернего города с мет¬
рополией: происходящие здесь события исходят не от полиса как тако¬
вого, но от патрициата фил и фратрий. Первоначальный полис тождест¬
вен со знатью, как это было в Риме до 471 г. и в Спарте и этрусских горо¬
дах постоянно; знать инициирует синойкизм и формирование
города-государства, однако также и в других культурах различие между
земельной и городской аристократией поначалу совершенно не имеет
значения в сравнении с резким и глубоким контрастом между знатью
как таковой и всеми, кто к ней не принадлежит.
Буржуазия возникает лишь из принципиального противоречия
между городом и селом, заставляющего «рода и цехи», как бы остро они
ни враждовали друг с другом в иное время, ощутить свое единство пе¬
ред лицом протознати и феодального государства, а также перед лицом
Феодальной по своей сути церкви. Понятие третьего сословия, tiers,
если воспользоваться знаменитым словцом Французской революции,
являет собой единство исключительно противоречия, так что содержа¬
тельным образом определено быть не может; не будет здесь и собствен-
Ых нравов и символики, ибо благородное буржуазное общество похо-
т на знать, а также имеет многое от городского благочестия раннего
УКовенства. Но уже одна только мысль, что не практической цели дол¬
816
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
жна служить жизнь, но в первую очередь, причем всей своей пози¬
цией, — выражению символики времени и пространства, и лишь это
наделяет ее правом претендовать на высокий ранг, вовлекает именно
городской разум в горчайшее противоречие. Этот разум, к вотчине ко¬
торого относится вся вообще политическая литература позднего вре¬
мени, предпринимает, исходя из города, новую перегруппировку со¬
словий. Поначалу это всего лишь теория, но постепенно, благодаря
господству рационализма, она делается практикой, и даже кровавой
практикой революций. Знать и духовенство, поскольку они здесь еще
представлены, выглядят, и даже с некоторой подчеркнутостью, приви¬
легированными сословиями, в чем находят негласное выражение уста¬
релость и бессмысленность — в свете вневременного разумного или ес¬
тественного права — их претензий на гарантированные в соответствии
с историческим рангом преимущества. Центром этих сословий оказы¬
вается теперь столица (важное понятие позднего времени), и лишь с
этих пор аристократические формы развиваются до того благородства,
которое внушает благоговение и которое изливается на нас, к примеру,
с портретов Рейнольдса и Лоуренса. Навстречу им выступают духов¬
ные силы добившегося господства города — экономика и наука. В союзе
с массой ремесленников, чиновников и рабочих эти силы ощущакл
себя партией, не сплоченной, однако объединяющейся, стоит начаться
борьбе свободы, т. е. городской несвязанности, против великих симво¬
лов прежнего времени и проистекающих из них прав. Во все поздние
времена всех культур все они, как составные части третьего сословия,
где берут не рангом, а числом, так или иначе «либеральны», а именно
свободны от внутренних сил негородской жизни: экономика свободна
в приобретательстве, наука свободна в критике, причем во всех вели¬
ких решениях, в книгах и собраниях застрельщиком оказывается дух
(демократия), но преимущества отсюда извлекают деньги (плутокра¬
тия), и заканчивается все ни в коем случае не победой идей, но — побе¬
дой капитала. Однако это опять-таки противоположность истин и
фактов, как она развивается из городской жизни.
Из протеста против древних символов жизни, связанной с землей,
город выставляет теперь, в качестве противовеса родовой знати — поня¬
тия знати финансовой и духовной. Первая из них — уж никак не претен¬
зия в чистом виде, но тем более действенный факт, вторая же, бесспор¬
но, истина — и только, если же приглядеться попристальнее, она являет
собой довольно сомнительную картину. Во всякое позднее время про-
тознать, воплотившую в своих форме и такте определенный фрагмент
колоссальной истории («знать Крестовых походов» — слова, полные глу-
бокого смысла), но зачастую внутренне хиреющую при великих дворах,
сменяют подлинные ее правопреемники. Так, в IV в. вследствие про¬
никновения, в качестве conscripti, великих плебейских родов в римский
сенат patresf13, возникает нобилитет — как владеющая землей служивая
знать внутри сенаторского сословия. В папском Риме аналогичным об¬
Глава четвертая. Государство
817
разом оформляется непотовская знать: ок. 1650 г. здесь едва ли можно
было насчитать пятьдесят семейств, родовое древо которых насчитыва¬
ло больше трехсот лет. В южных штатах США, начиная с позднего ба¬
рокко, складывается та плантаторская аристократия, которая была
уничтожена в гражданской войне 1861—1865 гг. финансовыми силами
Севера. Древняя купеческая знать в стиле Фуггеров, Вельзеров, Меди-
чи614 и великих домов Венеции и Генуи, к которой следует причислить
также и почти весь патрициат греческих колониальных городов 800 г.,
всегда имела в себе нечто аристократическое — расу, традицию, хоро¬
шие манеры и естественное стремление восстановить связь с почвой че¬
рез приобретение земли (хотя вовсе недурной заменой этого являлся
старинный родовой дом в городе). Однако новая финансовая знать дель¬
цов и спекулянтов с ее стремительно приобретенным вкусом к благо¬
родным формам в конечном счете проникает и в родовую знать (в
Риме — как equites [всадники (лат.)] начиная с 1-й Пунической войны,
во Франции при Людовике XIV), потрясает ее и разлагает, между тем
как духовная знать Просвещения осыпает ее насмешками. У конфуци¬
анцев древнекитайское понятие ши [деяние, служение], принадлежащее
аристократии, сделалось абстрактной духовной добродетелью, а бы юн
они превратили из мест рыцарских ристалищ в «школы духовной борь¬
бы», в гимназии — совершенно в духе XVIII в.
С окончанием позднего времени всякой культуры к своему более
или менее насильственному завершению приходит также и история со¬
словий. Это победа чистой воли к свободной неукорененной жизни
над великими и обязывающими культурными символами, которых бо¬
лее не понимает и не переносит человечество, всецело теперь подпав¬
шее под власть города. Из финансов улетучивается всяческое чутье на
укорененные,' недвижные ценности, из научной критики — все остат¬
ки почтительности. Победой над символическими порядками являет¬
ся отчасти также и освобождение крестьян: с крестьянина снимается
гнет крепостной зависимости, однако он оказывается отданным на от¬
куп власти денег, которые превращают теперь землю в движимый то¬
вар. У нас это происходит в XVIII в., в Византии — ок. 740 г. посредст¬
вом «Земледельческого закона» законодателя Льва III**, с принятием
которого колонат медленно исчезает, в Риме — в связи с образованием
плебса в 471 г. Тогда же в Спарте Павсаний вознамерился освободить
плотов, но потерпел неудачу.
Плебс — это признанное в конституционном порядке в качестве един¬
ства tiers, которое представляют пользующиеся правом неприкосно¬
венности трибуны, т. е. не чиновники, а уполномоченные. Существует
тенденция рассматривать события 471 г.***, заменившие, сверх того,
Мемуары герцога Сен-Симона обнаруживают эту тенденцию с величайшей на¬
родностью.
“ С. 536.
Это соответствует нашему XVII в.
***
818
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
три древние этрусские аристократические родовые трибы четырьмя
городскими трибами, т. е. округами (что позволяет догадаться о смысле
многого из того, что последовало дальше), в качестве чистой воды
освобождения крестьян* или же еще как организацию купечества**. Од¬
нако плебс как третье сословие, как остаток, может быть определен
лишь отрицательно: сюда принадлежит все, что не есть земельная ари¬
стократия или обладатели высших жреческих должностей. Картина
получается столь же пестрой, как и для tiers 1789 г. Его удерживает вме¬
сте лишь протест. Здесь были торговцы, ремесленники, наемные рабо¬
чие, писцы. Род Клавдиев имеет в своем составе патрицианские и пле¬
бейские, т. е. помещичьи и кулацкие, семейства (как, например, Клав¬
дии Марцеллы). Внутри города-государства плебс представляет собой
то же, что в западноевропейском барочном государстве крестьяне и
буржуа, вместе взятые, когда на сословной ассамблее они протестуют
против всесилия государя. За пределами политики, а именно в отноше¬
нии общественном, плебс в отличие от знати и духовенства не сущест¬
вует абсолютно: он сразу же распадается на обособленные профессии,
имеющие совершенно различные интересы. Плебс — партия, и в каче¬
стве таковой он отстаивает свободу в городском смысле. Это становит¬
ся еще более наглядным вследствие успеха, которого в скором времени
удается добиться земельной аристократии, когда она присоединяет к
четырем городским трибам, представлявшим горожан в собственном
смысле слова, т. е. деньги и дух, шестнадцать сельских, названных по
родам, в которых у нее был неоспоримый перевес. Лишь в великой бо¬
рьбе сословий во время самнитских войн, в век Александра, борьбе,
которая всецело соответствует Французской революции и завершилась
в 287 г. с lex Hortensia615, понятие сословий было в правовом смысле
упразднено, что довело историю сословной символики до конца. Плебс
становится populus Romanus совершенно в том же значении, как в
1789 г. конституировал себя в качестве нации tiers. То, что начиная с
этого момента происходит во всех культурах под видом социальной бо¬
рьбы, имеет принципиально иной смысл.
Знать всех ранних времен была сословием в изначальнейшем смыс¬
ле, воплощенной историей, расой в высшей ее потенции. Духовенство
выступало рядом с ней как противосословие616, говорящее «нет» во всех
тех случаях, когда знать говорила «да», и тем самым посредством вели¬
кого символа оно выявляло иную сторону жизни.
Третье сословие, как мы видели, не обладающее никаким внутрен¬
ним единством, было несословием, чистым протестом против сослов¬
ности в сословной форме, причем не против той или иной формы, но
против символической формы жизни вообще. Третье сословие отвер¬
гает все различия, не оправдываемые разумом и пользой, и тем не ме-
Neumann К. J. Die Grundherrschaft der romischen Republik. 1900; Meyer Ed. Kl. Schr.
S. 351 ff.
** Rosenberg A. Studien zur Entstehung der Plebs, Hermes, XLVIII, 1913. S. 359 ff.
f/Мва четвертая. Государство 819
лее что-то «означает» и само по себе, причем с полнейшей ясностью:
оно есть городская жизнь как сословие, противопоставленная жизни
сельской; оно есть свобода как сословие против связанности. Однако
рассмотренное изнутри самого себя, оно оказывается нисколько не
остатком, каковым представляется на взгляд пра-сословий. У буржуа¬
зии имеются границы; она принадлежит культуре; она охватывает в
лучшем смысле этого слова всех к ней относящихся, причем под име¬
нем народа, populus, Srjpog, между тем как знать и духовенство, деньги и
дух, ремесленничество и наемный труд оказываются ей подчинены как
отдельные составные части.
Цивилизация застает это понятие в готовом виде и уничтожает его
понятием четвертого сословия, массы, принципиально отвергающей
культуру с ее органическими формами. Это нечто абсолютно бесфор¬
менное, с ненавистью преследующее любого рода форму, все различия
в ранге, всякое упорядоченное владение, упорядоченное знание. Это
новые кочевники мировых столиц*, и в их глазах раб и варвар антично¬
сти, индийский шудра — в общем все, что есть человек, представляется
чем-то в равной мере текучим, всецело утратившим корни: оно не при¬
знает своего прошлого и не обладает будущим. Тем самым четвертое
сословие делается выражением истории, переходящей во внеистори-
ческое. Масса — это конец, радикальное ничто.
II. Государство и история
6
Внутри мира как истории, в которую вплетена наша жизнь, так что
наши ощущение и понимание постоянно повинуются чувствованию,
космические течения представляются тем, что мы называем действи¬
тельностью, действительной жизнью, в общем, потоками существова¬
ния в телесной оболочке. Они характеризуются направлением, и их
можно рассматривать различным образом: с точки зрения движения
или движимого. Первое зовется историей, второе — родом, племенем,
сословием, народом, однако первая делается возможной и существует
лишь через второе. История бывает лишь у чего-то. Если мы имеем в
вИду историю великих культур, движимым оказывается нация. Госу¬
дарство, status означает «состояние»617. Впечатление государства воз¬
никает в нас тогда, когда в протекающем в подвижной форме сущест-
вовании мы обращаем внимание на форму как таковую, как на нечто
Протяженное во вневременной оцепенелости и совершенно игнориру-
ем направление, судьбу. Государство — это мыслимая стоячей история,
11стория — мыслимое текучим государство. Реальное государство — это
С. 621 слл.
820 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
физиономия исторического единства существования; системой может
быть лишь государство, измышленное теоретиком.
Движение имеет форму, движимое «находится в форме», или же,
вновь используя исполненное глубокого смысла выражение из области
спорта, совершенно движимое находится в совершенной спортивной
формеш. Это справедливо как применительно к скаковой лошади или
борцу, так и к армии или народу. Абстрагированная от жизненного по¬
тока народа форма — это его конституция (Verfassung) применительно к
его борьбе в истории и с ней самой. Однако абстрагировать ее в рассу¬
дочной форме удается лишь в очень незначительной части. Всякая реа¬
льная конституция, рассмотренная сама по себе и как система запи¬
санная на бумаге, неполна. Перевес здесь — на стороне всего неписа¬
ного, неописуемого, привычного, воспринимаемого чувством,
самоочевидного, причем перевес столь безоговорочный (теоретикам
никогда этого не понять), что описание государства или конституци¬
онный первоисточник никогда не воспроизводят даже тени того, что
лежит в основе живой действительности государства как сущностная
его форма, так что единство его существования оказывается вконец ис¬
каженным для истории, если мы всерьез вознамеримся подчинить дви¬
жение государства писаной конституции.
Отдельный род — это наименьшая, народ — наибольшая единица в
потоке истории*. Причем пранароды реализуют движение в высшем
смысле внеисторическое: оно может быть неспешным или бурным, од¬
нако в нем нет органической струи, нет глубинного значения. И все же
пранароды исключительно подвижны, подвижны до такой степени,
что поверхностному наблюдателю они могут представиться совершен¬
но лишенными формы. Напротив того, феллахские народы являются
окостенелыми объектами приходящего извне движения, упражняю¬
щегося на них без всякого смысла, случайными толчками. К первым
принадлежат «status» микенской эпохи и эпохи тинитов, китайская ди¬
настия Шан приблизительно до переселения в Инь (1400), Франкское
государство Карла Великого, Вестготское государство Эйриха и пет¬
ровская Русь — государственные формы, зачастую обладающие вели¬
чайшей эффективностью, однако пока еще без символики, без необхо¬
димости; к последним — Римская, Китайская и другие империи, фор¬
ма которых более не обладает выразительным содержанием.
В промежутке же между тем и другим простирается история высших
культур. Народ в стиле культуры, т. е. исторический народ, называется
нацией**. Нация, поскольку она живет и борется, обладает государст¬
вом не только как состоянием движения, но прежде всего как идеей.
Пускай даже государство в простейшем его смысле имеет тот же воз¬
раст, что и свободно движущаяся в пространстве жизнь вообще, так что
рои и стада даже очень примитивных видов животных пребывают в той
* С. 613 слл.
** С. 628 слл.
f/iaea четвертая. Государство 821
0дй иной «конституции», которые у муравьев, пчел, многих рыб, пере¬
летных птиц и бобров достигают поразительного совершенства. Все же
государство большого стиля никак не старше пра-сословий, знати и ду¬
ховенства: они возникают с культурой, с ней же они и гибнут, их судь¬
бы в значительнейшей мере тождественны. Культура — это существо¬
вание наций в государственной форме.
Народ находится «в форме» как государство, род — как семья. Как
МЫ видели, это есть различие политической и космической истории,
общественной и частной жизни, res publica и resprivata. Причем оба —
символы попечения619. Женщина — это всемирная история. Через за¬
чатие и рождение она печется о длительности крови. Мать с ребенком,
приложенным к груди, является величайшим символом космической
жизни. Если подходить с этой стороны, жизнь мужчины и женщины
находится «в форме» как брак. Однако мужчина творит историю, ко¬
торая является никогда не прекращающейся борьбой за поддержание
той, другой жизни. К материнскому попечению присоединяется еще и
отцовское. Мужчина с оружием в руках — это другой великий символ
воли к длительности. Народ «в хорошей форме» («in Verfassung») — это
изначально воинство, глубоко прочувствованная внутренним образом
общность способных носить оружие. Государство — мужское дело, это
значит печься о сохранении целого и о том душевном самосохранении,
которое обыкновенно обозначают как честь и самоуважение, предот¬
вращать нападения, предвидеть опасности, но прежде всего — напа¬
дать самому, что является чем-то естественным и само собой разумею¬
щимся для всякой находящейся на подъеме жизни.
Будь вся жизнь одним единообразным потоком существования, мы
бы никогда не узнали таких слов, как «народ», «государство», «война»,
«политика», «конституция». Однако извечная и бьющая в глаза разно¬
характерность жизни, которая бывает доведена творческой одаренно¬
стью культур до резкого контраста, — это факт, просто данный нам ис¬
торически со всеми вытекающими из него следствиями. Жизнь расти¬
тельная существует лишь по отношению к животной; два пра-сословия
обусловливают друг друга; точно так же и народ действителен лишь в
с°отнесении с другими народами, и эта действительность состоит из ес¬
тественных и неснимаемых противоположностей — из нападения и за¬
щиты, вражды и войны. Война — творец всего великого620. Все значите-
Льное в потоке жизни возникло как следствие победы и поражения.
Народ формирует историю постольку, поскольку он находится «в
Хорошей форме» (in Verfassung). Он переживает внутреннюю историю,
Которая приводит его в то состояние, в котором он только и делается
Творцом, и историю внешнюю, которая состоит в творчестве. Поэтому
аРоды как государства и являются в собственном смысле движущими
/Щами всех человеческих событий. В мире как истории выше их нет
^го. Они и есть судьба.
822 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Respublica, общественная жизнь, «сторона меча» человеческого по¬
тока существования, в реальности незрима. Чужаку видны одни только
люди, но не их внутреннее сопряжение. Оно же коренится преимуще¬
ственно в глубинных слоях потока жизни и в большей степени там
ощущается, нежели понимается. Точно так же в реальности мы видим
не семью, но лишь нескольких людей, чью спаянность во вполне опре¬
деленном смысле мы устанавливаем и постигаем из внутреннего опы¬
та. Однако для каждого из перечисленных образований имеется круг
принадлежащих к ним лиц, которые по причине одинаковой конститу¬
ции внешнего и внутреннего бытия связываются в жизненное единст¬
во. Форма эта, в которой происходит протекание существования, на¬
зывается обычаем, если она непроизвольно возникает из его такта и по¬
ступи и лишь после этого доходит до сознания, и правом, если она
установлена преднамеренно и после доведена до того, чтобы ее признали.
Право — произвольная форма существования вне зависимости от
того, было ли рно признано на уровне чувств, импульсивно (неписаное
право, обычное право, equity21) или абстрагировано посредством обду¬
мывания, углублено и приведено в систему (закон). Вот они — двоякого
рода факты из области права, обладающие временной символикой, два
вида заботы, обеспечения и попечения622, однако уже из фундамента¬
льного различия связанного с ними сознания явствует, что на протяже¬
нии всего течения реальной истории два этих вида права должны враж¬
дебно друг другу противостоять: право отцов, традиции, гарантирован¬
ное, унаследованное, органическое, обеспеченное право, которое
священно, потому что оно существует испокон веку, происходя из
опыта крови и потому ручаясь за успех, — и измышленное, спроекти¬
рованное, право разумное, естественное и общечеловеческое, про
истекшее из размышления и потому родственное математике, возмож¬
но, и не успешное, но «справедливое». В них обоих противополож¬
ность сельской и городской жизни, жизненного опыта и опыта
книжного дозревает до той революционной высоты ожесточения, ког¬
да человек сам присваивает себе то право, которого ему не дают, и раз¬
бивает вдребезги то, которое не желает уступать.
Право, устанавливаемое общиной, означает обязанность для каж-
дого, кто к ней принадлежит, однако вовсе еще не является доказатель¬
ством силы623 данного человека. Вопрос о том, кто устанавливает право
и для кого оно устанавливается, — это скорее вопрос судьбы. Бывают
субъекты и объекты регулирования права, хотя любой из них является
объектом применимости права, причем это справедливо для всякого без
исключения внутреннего права семей, цехов, сословий и государств. У
государства как высшего наличного в исторической действительности
субъекта права сюда добавляется еще и внешнее право, с враждебно'
стью налагаемое им на чужаков. К первому относится гражданское
право, ко второму — мирный договор. Однако в любом случае право
сильного — это и право слабого. Обладание правом — это выражение
f/Шва четвертая. Государство
823
силы. Это есть исторический факт, удостоверяемый ежесекундно, од¬
нако в царстве истины (которая не от мира сего) он не признается. Су¬
ществование и бодрствование, судьба и каузальность непримиримо
Противостоят друг другу также в соответствующих им представлениях о
праве. К священнической и идеологической морали благого и злого от¬
носится нравственное различие правды и неправды; к расовой морали хо¬
рошего и плохого относится различие в ранге того, кто право дает, и
тогоу кто его воспринимает. Абстрактный идеал справедливости про¬
ходит через умы и писания всех людей, у которых дух благороден и си¬
лен, а кровь слаба, через все религии, через все философии, однако мир
фактов истории знает только успех, делающий из права сильного право
для всех. Мир фактов беспощадно ступает по идеалам, и если когда бы
то ни было случалось, что человек или же народ ради справедливости
отказывался от сиюминутного могущества, то хоть в том, втором мире
мыслей и истин им несомненно и бывала обеспечена теоретическая
слава, так же несомненно было для них и наступление мгновения, ког¬
да они оказывались побеждены другой жизненной силой, лучше их
разбиравшейся в реальности.
Поскольку историческая власть настолько же возвышается над
включенными в нее и подчиненными ей единствами, насколько госу¬
дарство и сословие чаще всего превосходят семьи или профессиональ¬
ные классы или же главы семей — детей, между слабейшими может на¬
личествовать справедливое право, данное им всемогущественной не¬
предвзятой силой. Однако сословия редко чувствуют наличие над
собой такой власти, а государства — практически никогда, так что в от¬
ношениях между ними с непосредственной насильственностью гос¬
подствует право сильнейшего, как то обнаруживается в односторонне
установленных договорах, а еще больше в их истолковании и соблюде¬
нии победителем. Этим различаются внутренние и внешние права исто¬
рических жизненных единств. В первых о себе заявляет воля мирового
судьи, направленная на то, чтобы быть беспристрастным и справедли¬
вым, хотя зачастую люди очень сильно обманываются насчет степени
непредвзятости, присутствующей даже в лучших в истории кодексах, в
том числе и в тех, которые сами себя называют гражданскими (burger-
//сА)624, намекая уже этим на то, что они были составлены для всех одним
сословием, воспользовавшимся своим решающим перевесом*. Внут¬
ренние права являются результатом строго логическо-каузального,
°риентированного на истину мышления, однако как раз по этой при¬
чине их применимость всякий раз оказывается зависящей от материа-
льной власти их автора, будь то государство или сословие. Революция
ТУГ же уничтожает с этой властью и власть закона. Права остаются ис¬
тинными, однако они уже недействительны. Внешние же права, как
*
Поэтому они отвергают права знати и духовенства и защищают права денег и
*Имы совеРшенно явн°й предвзятостью в пользу движимого имущества перед недви-
824
Том 2 ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
все мирные договоры, по сути своей никогда не бывают истинными,
однако они неизменно действительны, действительны зачастую в
устрашающем смысле этого слова, между тем как никогда не претенду¬
ют на то, чтобы быть справедливыми. Довольно того, чтобы они были
действенны. Из них вещает жизнь, не обладающая вовсе никакой кау¬
зальной и нравственной логикой, но имеющая тем более последовате¬
льную логику органическую. Она сама, эта жизнь, желает обладать зна¬
чимостью; она с внутренней уверенностью ощущает, чтб для этого не¬
обходимо, и с учетом этого она знает, чтб справедливо для нее, а потому
должно быть справедливо и для других. Эта логика заявляет о себе во
всяком семействе, а именно в старинных, обладающих подлинной ра¬
сой крестьянских родах, как только там оказываются потрясены авто¬
ритеты и кто-то новый желает в качестве главы определять, «что есть
что». Она проявляется во всяком государстве, как только господствую¬
щей становится одна партия. Всякая феодальная эпоха наполнена бо¬
рьбой между Сеньорами и вассалами за «право на право». Эта борьба за¬
канчивается в античности почти повсеместно безусловной победой
первого сословия, которое отбирает у царской власти законодательст¬
во и делает ее саму объектом своего правового регулирования, как это с
несомненностью доказывается происхождением и значением архонтов
в Афинах и эфоров в Спарте. На западноевропейской почве то же самое
на некоторое время устанавливается во Франции с учреждением Гене¬
ральных штатов (1302) и навсегда — в Англии, где норманнские бароны
и высшее духовенство в 1215 г. навязали королю Великую хартию, из
которой возник фактический суверенитет парламента. По этой причи¬
не древнее норманнское сословное право длительное время сохраняло
здесь свою действенность. Напротив того, слабая императорская
власть в Германии, обороняясь от притязаний крупных феодалов, при¬
звала себе на помощь юстиниановское римское право как право безу¬
словной центральной власти против раннегерманских земских прав*.
Конституция Драконта, эта тгатршд TroXirela олигархов, была, точ¬
но так же как и строго патрицианское право XII таблиц, создана зна¬
тью** уже в глубине античного позднего времени при полностью раз¬
витой власти города и денег, однако, поскольку они были направлены
против того и другого, уже очень скоро их вытеснило право третьего
сословия, право «не наших» (Солона и трибунов), являвшееся в не
меньшей степени сословным правом. Борьба двух пра-сословий за
право регулирования права наполняет всю западноевропейскую ис¬
торию от раннеготической борьбы вокруг приоритетности светского
либо канонического права и до не завершившейся еще и сегодня — по
С. 537 слл. Соответствующая попытка абсолютистски настроенных Стюартов
ввести римское право в Англии была отбита в первую очередь пуританским юристом
Коуком (|1634): еще одно доказательство того, что дух права — неизменно партий¬
ный дух.
** С. 524 слл.
fyaea четвертая. Государство
825
^опросу о гражданском браке*. Тем не менее схватки, кипевшие вокруг
конституции начиная с конца XVIII в., доказывают, что третье сосло¬
вие, которое, согласно знаменитому замечанию Сьейеса (1789)625,
«было ничем, однако могло быть всем», во имя всех прочих взяло за¬
конодательство на себя, сделав его буржуазным совершенно в том же
смысле, в каком готическое законодательство было аристократиче¬
ским. Как уже отмечалось, в наиболее неприкрытой форме право как
выражение силы выступает в правовом межгосударственном регули¬
ровании, в мирных договорах и в том праве народов, о котором еще
Мирабо отозвался, что это есть право сильного, соблюдение которого
возлагается на слабого. В права такого рода отливается весьма значи¬
тельная часть всемирно-исторических решений. Права эти и оказы¬
ваются конституцией (Verfassung), в которой сражающаяся история
продвигается вперед, поскольку она не возвращается к наиболее пер¬
воначальной форме борьбы при помощи оружия, духовным продол¬
жением которой является всякий имеющий силу договор с теми след¬
ствиями, что в него закладывались. Если политика — это война, про¬
водимая иными средствами, то «право на право» является добычей
партии, одержавшей победу.
7
В соответствии с этим становится ясно, что в высших слоях истории
за превосходство борются две великие жизненные формы — сословие и
государство: оба они являются потоками существования с великой
внутренней формой и символической силой, оба исполнены решимо¬
сти сделать свою собственную судьбу судьбой всего в целом. Вот в чем
смысл противоречия между социальным и политическим руководством
историей, если рассматривать его на глубинном уровне, не обращая
никакого внимания на расхожие представления о народе, экономике,
обществе и политике. Социальные и политические идеи разделяются
лишь с началом великой культуры, причем на первых порах — в явле¬
нии подходящего к своему завершению феодального государства, где
сеньор и вассал представляют собой социальную, государь и нация —
Политическую сторону. Однако как ранние социальные силы, знать и
Духовенство, так и поздние — деньги и дух, а также восходящие в расту¬
щих городах до колоссальной силы профессиональные группы ремес-
Ленников, чиновников и рабочих — все желают, всякий для себя, под¬
чинить государственную идею собственному сословному идеалу или,
Чаще> — сословным интересам. И так разгорается, начинаясь от нацио-
J^n>Horo организма в целом и доходя до сознания каждого отдельного
*
Нь1е ^Режце всего в сфере развода, в отношении которого государственные и церков-
пРедставления имеют параллельное хождение.
826
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
человека, борьба за границы и притязания, исход которой в крайних
случаях полностью превращает одну величину в игрушку другой*.
Как бы то ни было, государство является той формой, которая опре¬
деляет внешнее положение, так что исторические связи между народа¬
ми всегда имеют политический, а не социальный характер. Внутриполи¬
тическое же положение оказывается до такой степени во власти со¬
словных противоречий, что социальная и политическая тактика
представляются здесь на первый взгляд неразделимыми, и в уме чело¬
века, который свой собственный, например буржуазный, сословный
идеал приравнивает к исторической действительности и потому внеш¬
неполитически мыслить не в состоянии, то и другое понятие даже тож¬
дественны. Во внешней борьбе государство ищет союзов с другими го¬
сударствами; в борьбе внутренней оно оказывается вынужденным по¬
стоянно заключать союзы с сословиями, так что античная тирания
VI в. основывалась на солидарности государственной идеи с интереса¬
ми третьего сословия — против пра-сословной олигархии, а Француз¬
ская революция сделалась неизбежной в тот миг, когда tiers, т. е. дух и
деньги, оставило без поддержки вступавшуюся за него корону и пере¬
шло на сторону двух первых сословий (начиная с первого собрания но¬
таблей в 1787 г.). В этом проявляется вполне верное восприятие разли¬
чия государственной и классовой истории**, политической (горизонта¬
льной) и социальной (вертикальной) истории, войны и революции,
однако великим заблуждением современных доктринеров оказывается
принятие духа внутренней истории за историю вообще. Всемирная ис¬
тория — это государственная история, и всегда ею останется. Внутрен¬
няя конституция (Verfassung) нации всегда и повсюду имеет целью
«быть в форме» («in Verfassung») для внешней борьбы, будь то борьба во¬
енная, дипломатическая или экономическая. Тот, кто занимается кон¬
ституцией как самоцелью и идеалом в отрыве от всего прочего, лишь
* Это формы государства-«ночного сторожа» и «казарменного» государства, как их
в насмешку и без понятия окрестили противники. Мыслившиеся схожими обозначе¬
ния мы находим также в китайских и греческих теориях государства: Franke О. Studicn
zur Geschichte des konfuzianischen Dogmas. S. 211 ff.; Pohlmann R. v. Geschichte der sozia-
len Frage und des Sozialismus in der antiken Welt, 1912. Напротив того, политическим
вкус, например, Вильгельма фон Гумбольдта, который, будучи классицистом, противо¬
поставляет государству индивидуума, относится вообще не к политической истории,
но к истории литературы. Ибо здесь в расчет принимается не жизнеспособность госу¬
дарства внутри реально существующего мира государств, но частное существование
само по себе и не проявлено даже минимального беспокойства в отношении того, смо¬
жет ли такой идеал просуществовать хотя бы мгновение перед лицом упущенного из
виду внешнего пдложения дел. В этом и состоит коренная ошибка идеологов, что перед
лицом частной жизни и всецело ориентированного на нее внутреннего строения гос> -
дарства они совершенно упускают из виду позиции государства во внешней расстанов¬
ке сил, которая на деле всецело определяет свободу внутренних форм. Так, различие
между Французской и Германской революциями заключается в том, что первая с само¬
го начала сохраняла господство над внешним положением, а тем самым и над внутрен¬
ним, вторая же — нет. Поэтому она и была изначально фарсом.
** Нисколько не совпадающей с экономической историей в смысле исторической
материализма. Об этом — в следующей главе.
f/ioea четвертая. Государство
827
губит своей деятельностью тело нации. Однако, с другой стороны, это
вопрос внутриполитического такта правящего слоя, к какому бы со¬
словию, первому или же четвертому, он ни принадлежал, — так обхо¬
диться с сословными противоречиями, чтобы силы и идеи нации опре¬
делялись не в ходе партийной борьбы и измена родине не выглядела ul¬
tima ratio [последним доводом (лат.)].
И здесь делается очевидно, что государство и первое сословие как
жизненные формы родственны между собой уже с корней, причем не
только своей символикой времени и попечения, общим отношением к
расе, к фактам последовательности поколений, к семье, а тем самым к
изначальным движущим импульсам всего крестьянства, на котором в
конечном счете основываются любое долговременное государство и
долговременная знать, т. е. родственны не только крестьянской привя¬
занностью к почве, к родовому гнезду, отчему наделу или отчизне
(лишь для наций магического стиля все это отступает на задний план,
потому что преимущественнейшим моментом их спаянности является
правоверность). Нет, прежде всего это родство сказывается в великой
практике посреди всех реалий исторического мира, в органическом
единстве такта и устремления, в дипломатии и знании людей, в искус¬
стве приказывать, в свойственной мужчинам воле к поддержанию и
расширению власти, той воле, что в изначальные времена из воинской
сходки произвела на свет знать и народ, и, наконец, в чувстве чести и
храбрости, так что вплоть до самых последних времен прочнее всего
оказывается то государство, в котором знать или созданная ею тради¬
ция всецело ставится на службу общему делу, как это было со Спартой
в противоположность Афинам, с Римом в противоположность Карфа¬
гену, с китайским государством Цинь в противоположность даосски
настроенному Чу.
Разница в том, что сословно замкнутая знать, как и всякое сословие,
воспринимает прочую нацию лишь по отношению к себе самой и пото¬
му желает воспользоваться властью только в этом смысле, государство
же по идее есть попечение обо всех и лишь в меру этого — попечение
также и о знати. Однако подлинная и древняя знать приравнивает себя
государству и печется обо всех как о собственности. Это входит в ее
благороднейшие и глубже всего укоренившиеся в ее сознании обязан¬
ности. Она ощущает даже прирожденное преимущественное право на
ЭТУ обязанность и рассматривает службу в армии и администрации как
подлинное свое призвание.
Совершенно иным оказывается различие между идеей государства
и идеей прочих сословий: все они внутренне удалены от государства
Как такового и, исходя из своей жизни, отливают собственный идеал
ГосУДарства, который произрос не из духа фактической истории и ее
Политических сил и который именно по этой причине вполне можно, и
нужно, обозначить как социальный. Причем расстановка сил в
Раннее время такова, что государству как просто историческому факту
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
828
противостоит церковная община — желая осуществления религиозного
идеала, между тем как позднее время привносит еще и предпринимате¬
льский идеал свободной экономической жизни, и утопические идеалы
мечтателей и фантазеров, в которых должны находить свое воплоще¬
ние какие угодно абстракции.
Однако в исторической действительности никаких идеалов нет,
имеются только факты. Нет никаких истин, имеются только факты.
Нет никаких резонов, никакой справедливости, никакой мировой,
никакой конечной цели — имеются только факты, и тот, кто этого не
понимает, пускай себе пишет книги про политику, но никакой поли¬
тики он не сделает. В реальном мире нет никаких построенных в со¬
ответствии с идеалами государств, но лишь государства, органически
произросшие, являющиеся не чем иным, как живыми народами, нахо¬
дящимися «в форме». Разумеется, это есть «чеканный лик, что жизнь
произрастила»626, однако отчеканенный кровью и тактом существова¬
ния,, сове!>шенно импульсивно и непроизвольно, и развиваемый либо
талантом государственного деятеля в том направлении, что заложено
в крови, либо идеалистами — в направлении их собственных убежде¬
ний, т. е. в никуда.
Однако для государства, действительно имеющегося в наличии, а
не спроектированного в умах, судьбоносным является вопрос не об
идеальных задачах и структуре, но о внутреннем авторитете, который
в долговременной перспективе должен поддерживаться не материаль¬
ными средствами, но верой в его реальную мощь, причем этой верой
должны проникнуться даже его противники. Главное — не составить
конституцию, но организовать хорошо работающее правительство; не
распределить политические права согласно принципам «справедливо¬
сти», которые, как правило, являются не чем иным, как представлени¬
ем одного сословия насчет законности собственных притязаний, но со¬
общить рабочий такт всему в целом («работа» вновь понимается здесь в
спортивном смысле, как работа мускулов и жил лошади, скачущей ка¬
рьером и приближающейся к финишу), такой такт, который заставляет
мощные дарования поддаться своим чарам, и, наконец, главное — не в
абстрактной морали, но в заботе о постоянстве, твердости и превосход¬
стве политического руководства. Чем самоочевиднее все это, чем ме¬
ньше об этом рассуждают (уж не говоря — из-за этого враждуют), тем
выше и ранг, и историческая отдача, а значит, и судьба нации. Суве¬
ренность, суверенитет — жизненный символ высшего порядка. Им
различаются субъекты и объекты политических событий не только
внутренней, но и, что гораздо важнее, внешней истории. Сила руко¬
водства, проявляющаяся в четком различении этих факторов, является
несомненным признаком жизненной силы политического единства,
причем до такой степени, что потрясение существующего авторитета,
например, приверженцами противоположного конституционного
идеала практически неизменно не только делает этих приверженцев
f/iaea четвертая. Государство
829
субъектом внутренней политики, но и превращает всю нацию в объект
чужой политики, причем очень часто навсегда.
По этой причине во всяком здоровом государстве буква писаной
конституции (Verfassung) имеет меньшее значение в сравнении с
обычаем живой «формы» {«Verfassung») в спортивном смысле, кото¬
рую нация исподволь, совершенно сама собой, черпает из времени,
из собственного положения, но в первую очередь из своих расовых
свойств. Чем крепче скроенной оказывается эта естественная фор¬
ма государственного организма, тем с большей надежностью он
функционирует во всякой непредусмотренной ситуации, причем в
конечном итоге оказывается совершенно безразлично, будет ли
фактический вождь именоваться королем, министром, партийным
лидером или вообще не будет состоять с государством в каких-либо
определенных отношениях, как Сесил Родс627 в Южной Африке.
Римского нобилитета, который господствовал в политике в эпоху
трех Пунических войн, в государственно-правовом отношении не
существовало. Так что государственному организму приходится об¬
ходиться тем меньшинством, которое обладает инстинктом государ¬
ственного деятеля и которое представляет всю прочую нацию в исто¬
рической борьбе.
И потому необходимо сказать без околичностей: существуют лишь
сословные государства, т. е. лишь государства, в которых правит од-
но-единственное сословие. Только не следует это путать с сослови¬
ем-государством, входить в которое отдельный человек может лишь в
силу своей принадлежности к определенному сословию. Последнее ха¬
рактерно для древнего полиса, норманнских государств в Англии и Си¬
цилии, но и для Франции по конституции 1791 г. и для советской Рос¬
сии. Первое же, напротив, принадлежит общеисторическому опыту,
свидетельствующему, что в наличии всегда имеется один-единствен-
ный социальный слой, от которого вне зависимости от того, определя¬
ется это конституцией или же нет, исходит политическое руководство.
Те, кто представляют собой всемирно-историческую тенденцию госу¬
дарства, всегда пребывают в решительном меньшинстве, внутри кото¬
рого опять-таки существует более или менее замкнутое меньшинство,
в меру своих способностей фактически удерживающее руль в своих ру¬
ках, причем довольно часто в противоречии с духом конституции. И
если отвлечься от периодов революционного межвременья и цезарист¬
ских состояний, которые как исключения только подтверждают пра¬
вило (т. е. когда отдельный человек или случайные группы закрепляют
За собой власть чисто материальными средствами, зачастую не обладая
Никакими дарованиями), то обычно это меньшинство внутри како-
г°-то сословия правит на основе традиции, и в подавляющем болыиин-
стве случаев меньшинство внутри знати: так, gentry?28 формирует пар¬
ламентский стиль Англии, нобилитет — римскую политику в эпоху Пу-
^еских войн, купеческая аристократия — дипломатию Венеции,
830 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
получившая иезуитскую выучку барочная знать* — дипломатию рим¬
ской курии. Наряду с этим политический талант проявляется у ограни¬
ченного меньшинства духовного сословия, а именно в римской курии,
но кроме того — в Египте и Индии, а еще больше в Византии и в госу¬
дарстве Сасанидов. Напротив, чрезвычайно редко доводится обнару¬
живать его в третьем сословии, никакого жизненного единства не об¬
разующем. И все же такие таланты попадаются — например, в отличав¬
шемся купеческой образованностью римском плебсе III в., в
юридически образованных кругах Франции после 1789 г. (в этих случа¬
ях, как и во всех остальных, это обеспечивается замкнутым кружком
близких по своему характеру практических дарований, постоянно по¬
полняющимся извне и хранящим в неприкосновенности арсенал не¬
писаной политической традиции и опыта).
Такова организация действительных государств в отличие от той,
что возникает на бумаге и в кабинетных головах. Не существует ника¬
кого лучшего, истинного, справедливого государства, которое было бы
спроектировано и когда-либо осуществлено. Всякое возникающее в
истории государство может существовать лишь раз, и оно ежеминутно
исподволь меняется даже под плотной скорлупой конституции, с ка¬
кой бы неколебимостью та ни была установлена. Поэтому такие слова,
как «республика», «абсолютизм», «демократия», означают в каждом
случае нечто иное и делаются фразой, стоит только, как это чаще всего
у философов с идеологами и бывает, попытаться их применять как по¬
нятия, установленные раз и навсегда. История государств — это фи¬
зиономика, а не систематика. Она не призвана демонстрировать, как
«человечество» постепенно двигалось вперед к завоеванию своих веч¬
ных прав, к свободе и равенству, а также к построению мудрейшего и
справедливейшего государства, но должна описывать реально имею¬
щиеся в мире фактов политические единства, как они расцветают, зре¬
ют и увядают, являясь не чем иным, как действительной жизнью «в
форме». Попробуем же теперь это сделать — именно в таком смысле.
8
В каждой культуре история большого стиля начинается с феодаль¬
ного государства, которое нельзя назвать государством в будущем его
смысле: это есть порядок жизни в целом, ориентированный на одно со-
еловые. Благороднейшая поросль почвы, раса в наиболее величествен¬
ном смысле этого слова, выстраивает здесь себе табель о рангах — от
простого рыцарства до primus inter pares, сеньора среди его пэров. В это
Ибо высшие церковные должности были в эти столетия переданы исключитель
но европейской знати, поставившей им на службу свои природные политические дар^'
вания. Из этой церковной школы вышли в свою очередь такие государственные деятели
как Ришелье, Мазарини и Талейран.
четвертая. Государство
831
Гла*L
е время возникает архитектура великих соборов и пирамид: в послед¬
нем случае камень, в первом — кровь оказываются возвышены до сим¬
вола; в последнем случае это — значение, в первом — бытие. Главная
идея феодализма, господствовавшая во всех ранних временах, — это
переход от первобытного, чисто практического и фактического отно¬
шения повелителя к подданным (вне зависимости от того, был ли он
ими выбран или же их покорил) к частноправовым и именно потому
глубоко символическим отношениям сеньора к вассалам. Отношения
эти основываются всецело на благородстве нравов, на чести и верности
свиты, что порождает жесточайшие конфликты между приверженно¬
стью господину и собственному роду. Трагическим примером этого
служит отпадение Генриха Льва.
«Государство» существует здесь лишь постольку, поскольку у фео¬
дального союза имеются границы, оно расширяется территориально
посредством перехода чужих вассалов. Служение правителю и давае¬
мые им поручения, поначалу персональные и временные, очень скоро
делаются постоянным леном, который при наступлении выморочно¬
сти должен вручаться вассалу заново (уже ок. 1000 г. в Западной Европе
действует принцип «нет земли без хозяина»), а в конце концов стано¬
вится наследственным леном, в Германии — через закон о ленах Кон¬
рада II от 28 мая 1037 г. Тем самым феодалы, когда-то бывшие непо¬
средственно подданными государя, от него отодвигаются, опосреду¬
ются — теперь они являются его подданными лишь как подданные
вассала. Только мощная общественная связь внутри сословия обеспе¬
чивает то сопряжение, которое продолжает называться государством
даже при таких условиях.
Здесь обнаруживается классическая связь понятий «власть» и «до¬
быча». Когда в 1066 г. норманнское рыцарство под предводительством
герцога Вильгельма завоевало Англию, вся земля и пашня стали собст¬
венностью короля и ленами, и номинально считаются его собственно¬
стью и сегодня. Вот она, неподдельная радость викинга от «добра», и
потому первая забота возвращающегося домой Одиссея — пересчитать
свои сокровища. Из этого вкуса ловких завоевателей к добыче совер¬
шенно внезапно рождаются способные изумить хоть кого счетоводство
и чиновничество ранних культур. Правда, этих чиновников не следует
смешивать с обладателями высших доверенных должностей, возник¬
ших на основе личного призвания*; они — clerici, писцы, а не «мини-
сериалы» или «министры», что также означает «слуги», но в гордели-
в°м смысле — «служители господина». Занимающаяся исключительно
счетом и письмом чиновничья братия есть выражение попечения и
Развивается в полном соответствии с династическим принципом. Поэ-
°№у прямо в начале Древнего царства в Египте она изведала поразите-
^^^расцвет**. Описываемое в «Чжоули» раннекитайское чиновни-
С- 809.
Meyer Ed. Gesch. d. Altertums I. § 182.
832
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
чье государство весьма громоздко и усложнено — это даже ставит под
сомнение подлинность книги*, однако по духу и предназначению оно
вполне соответствует государству Диоклетиана, создавшего из форм
колоссальной налоговой системы феодальный сословный строй**, в
ранней античности ничего подобного нет, причем нет принципиально.
Carpe diem629 — вот девиз античного финансового хозяйства до самого
последнего его дня. Беспечность, автаркия стоиков возвышена до
принципа также и в данной области. Не выпадают из этого ряда даже
лучшие счетоводы, как Эвбул630, хлопотавший ок. 350 г. в Афинах по
части излишков, чтобы затем все разделить между гражданами.
Величайшей противоположностью этому оказываются бухгалтер-
ствующие викинги раннего Запада, заложившие в финансовом управ¬
лении своими норманнскими государствами основу для фаустовского
рода денежной экономики, распространившегося ныне по всему миру.
От стоявшего в счетной палате Роберта Дьявола Норманнского^1
(1028—1035) стола, инкрустированного как шахматная доска, проис¬
ходят название английской казначейской службы (Exchequer) и слово
«чек»632. Здесь же возникли слова «счет» (conto), «контроль», «квитан¬
ция», «запись» (record)***. Именно отсюда в 1066 г. как «добыча» орга¬
низуется Англия, что сопровождалось беззастенчивым порабощением
англосаксов норманнами, и отсюда же организуется норманнское го¬
сударство на Сицилии, которое Фридрих II Гогенштауфен застал уже в
готовом виде, так что в Конституции Мельфи (1231), его собственном
творении, он его не создал, но лишь усовершенствовал с помощью ме¬
тодов арабской, т. е. высокоцивилизованной, денежной экономики. А
уже отсюда финансово-технические методы и термины проникают в
ломбардское купечество, и далее от него — во все торговые города и ад¬
министрации Запада.
Однако довольно-таки вскоре за расцветом феодализма следует его
упадок. Посреди пышущего избыточными силами расцвета пра-сосло-
вий о себе начинают заявлять будущие нации, а тем самым — идея госу¬
дарства в собственном смысле слова. В противоречия между мощью
знати и духовенства, между короной и ее вассалами то и дело вклини¬
вается противоречие между немецкой и французской народностью
(уже при Оттоне Великом) или же между немецкой и итальянской, рас¬
коловшее сословия на гвельфов и гибеллинов и уничтожившее герман¬
скую императорскую власть, а также противоречие между английской
и французской народностью, приведшее к английскому господств}
над Западной Францией. Между тем в сравнении с великими решения¬
ми, принимавшимися внутри самого феодального государства, кото¬
* Также и со стороны китайской критики. Против этого: Schindler. Das Priesteru>nl
in alten China I. S. 61 ff.; Conrady. China. S. 533.
** C. 810 ел.
Compotus, contrarotulus (сохраняемый для проверки дубликат свитка), quittance-
recordatum.
fjtaea четвертая. Государство
833
рому понятие нации неведомо, все это отступает далеко на задний
jxjiaH. Англия была разделена на 60 215 ленов, зафиксированных в
1084 г. в цитируемой подчас еще и сегодня «Domesday Book» [«Книге
Страшного суда» (англ, искаж.)], и жестко организованная централь¬
ная власть заставила обязаться клятвой верности также и вассалов,
подчиненных пэрам, но, несмотря на это, в 1215 г. была проведена Ве¬
ликая хартия, передавшая фактическую власть короля парламенту вас¬
салов (в верхней палате — нобилитет и церковь, в нижней — представи¬
тели gentry и патрициата), который начиная с этого момента сделался
носителем национального развития. Во Франции бароны в союзе с духо¬
венством и городами заставили короля в 1302 г. пойти на созыв Генера¬
льных штатов; по Генеральной привилегии, данной в Сарагосе в
1283 г., Арагон сделался едва ли не управляемой кортесами аристокра¬
тической республикой, а в Германии за несколько десятилетий до того
группа крупных вассалов, как курфюрсты, сделали королевскую власть
зависящей от своего выбора633.
Наиболее грандиозным выражением (не только в западной культу¬
ре, но и во всех культурах вообще) идеи феодализма явилась борьба
между императорской властью и папством. В качестве окончательной
цели этой борьбы перед обоими силами маячило превращение всего
мира в колоссальный феодальный союз, и они настолько сроднились с
таким идеалом, что с падением феодализма в одно и то же время низ¬
верглись со своих вершин в бездну.
Идея государя, чья власть распространяется на весь исторический
мир, чья судьба — это судьба всего человечества, пока что являлась в
истории трижды: в первый раз — в представлении о фараоне как Горе*,
затем — в величественном китайском представлении о срединном пра¬
вителе, держава которого — тянь-ся, «все лежащее под Небом»**, и, на¬
конец, в раннеготическую эпоху, когда в 962 г. Оттон Великий, движи¬
мый глубоким мистическим чувством, которое ощущалось тогда во
всем мире, и стремлением к исторической и пространственной беско¬
нечности, воспринял идею Священной Римской империи германской
нации. Однако еще до него папа Николай I (860), стоявший всецело на
позициях августиновского, т. е. магического, мышления, грезил о пап¬
ском граде Божьем, который должен стоять над государями этого мира,
а с 1059 г. Григорий VII со всей первозданной мощью своей фаустов¬
ской натуры приступил к установлению папского мирового господства
а форме всеобщего феодального союза с королями как вассалами.
Правда, само папство представляло собой, если смотреть изнутри, не-
м С. 736-737.
Не «Для государя Срединной не существует заграницы» (Кун Ян, Kung Yang). «Небо
хлорит; оно допускает, чтобы его мысли возвещались через одного человека» (Дун
з^УНШу). Совершенные им ошибки отдаются по всему космосу и ведут к потрясениям
дРироде (Franke О. Studien zur Geschichte des konfuzianischen Dogmas. S. 212 ff., 244 ff.).
стс^НомУ и индийскому государственному мышлению этот мистически-универсали-
момент бесконечно чужд.
27
^акат Западного мира
834
Tom_2j_ ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
большое феодальное государство в Кампанье, от ее аристократических
родов полностью зависели выборы папы, и уже очень скоро они преоб¬
разовали кардинальскую коллегию, на которую также в 1059 г. была
возложена роль папских выборщиков, в некоего рода аристократиче¬
скую олигархию. Однако вовне Григорий VII добился сеньорских прав в
отношении норманнских государств в Англии и Сицилии: и то, и дру¬
гое были основаны при его поддержке, и он действительно вручал им¬
ператорскую корону, как Оттон Великий некогда вручал тиару. Однако
немногими годами позднее Штауфену Генриху VI удалось противопо¬
ложное: сам Ричард Львиное Сердце давал ему вассальную клятву от
имени Англии, и всеобщая императорская власть уже была близка к
тому, чтобы осуществиться, когда величайший из всех пап, Иннокен¬
тий III (1198—1216), на краткое время сделал реальностью свой сеньор-
ский суверенитет в отношении всего мира. В 1213 г. папским леном
стала Англия, а далее последовали Арагон, Леон, Португалия, Дания,
ПолыЗза, Венгрия, Армения, только что основанная Латинская импе¬
рия в Византии, однако со смертью Иннокентия в самой церкви начал¬
ся раскол, причем произошел он из-за стремления высших в духовной
иерархии лиц через сословное представительство ограничить папу,
сделавшегося вследствие инвеституры634 также и их сеньором*. Идея о
том, чтобы над папой возвышался вселенский собор, не религиозного
происхождения, и поначалу она возникла из ленного принципа. По
тенденции она в точности соответствует тому, чего с помощью Вели¬
кой хартии достиг английский нобилитет. На Констанцском (с 1414 г.)
и Базельском (с 1431 г.) соборах была в последний раз совершена по¬
пытка превратить церковь, по мирскому ее смыслу, в феодальный союз
духовенства, вследствие чего кардинальская олигархия взамен рим¬
ской аристократии сделалась бы представительницей всего западноев¬
ропейского клира. Однако феодальная идея к тому времени давно уже
уступила идее государства, так что победу там одержали римские баро¬
ны, ограничившие избирательную кампанию максимально суженным
кругом соседних с Римом областей и именно в силу этого обеспечив¬
шие избранному неограниченную власть внутри организма церкви,
между тем как императорская власть еще перед этим, точь-в-точь как в
Египте или Китае, сделалась лишь досточтимой тенью.
В сравнении с колоссальным динамизмом этих свершений антич¬
ный феодализм распадается в высшей степени медленно, статично,
почти бесшумно, так что это оказывается возможным опознать лишь
по следам, которые оставляет по себе такой переход. Если судить по го¬
меровскому эпосу в дошедшей до нас форме, всякая местность имела
своего василевса, который, несомненно, был некогда держателем лена,
ибо по образу Агамемнона еще можно сделать заключение о таком по-
Не следует забывать о том, что колоссальные земельные владения сделались на¬
следными ленами епископов и архиепископов, которые менее всего были расположе¬
ны к тому, чтобы позволять папе как сеньору вмешиваться сюда.
fraea четвертая. Государство
835
дожении дел, когда государь отправлялся в дальний поход в сопровож¬
дении свиты пэров. Здесь, однако, имеет место распадение феодальной
власти в связи с возникновением города-государства, политической
точки. Следствием этого было то, что все придворные наследственные
должности, apxcu и rt/Ltat635, как пританы, архонты, быть может, прото-
римские преторы*, оказываются по своему характеру городскими, так
что великие роды вырастают не поодиночке в своих графствах, как это
было в Египте, Китае и Западной Европе, но внутри города, в тесней¬
шем соприкосновении друг с другом, что дает им возможность переве¬
сти в свое ведение одно за другим все королевские права, пока правя¬
щему дому не остается лишь то, что, учитывая богов, и не могло у него
быть отобрано: титул, который он носит при совершении жертвопри¬
ношений. Так и возник rex sacrorumm. В более поздних частях эпоса
(начиная с 800 г.) это аристократы приглашают царя на заседание и
даже его смещают. «Одиссее» царь известен, собственно, лишь посто¬
льку, поскольку он является частью предания. В реальных же событиях
Итака предстает городом под властью олигархов**. Спартиаты, точно
так же как и заседавший в куриатных комициях римский патрициат,
вышли из феодальных отношений***. В фидитиях639 еще проглядывают
черты более ранней придворной знати, однако власть царей низведена
до призрачного величия царя жертвоприношений в Риме (и Афинах) и
спартанских царей, которых эфоры в любую минуту могли сместить и
взять под стражу. Однотипность этих состояний заставляет сделать до¬
пущение, что в Риме тирании Тарквиниев 500 г. предшествовал опре¬
деленный период олигархического засилья, и это удостоверяется несо¬
мненно подлинной традицией, повествующей об интеррексе640, кото¬
рого совет сенатской знати выставлял из своей среды на тот период,
пока ему не заблагорассудится снова избрать царя.
Здесь, как и повсюду, имеет место период, когда феодализм уже
пребывает в состоянии распадения, нарождающееся же государство
еще не вызрело, а нация еще не «в форме». Это время ужасающего кри¬
зиса, который повсюду проявляется как междуцарствие и образует гра-
После свержения тирании ок. 500 г. оба правителя римского патрициата носили
титул praetor или iudex [претора или судьи (лат.)], однако именно в силу этого мне пред¬
ставляется вероятным, что время их существования простирается еще за пределы тира¬
нии и предшествовавшей ей олигархии — в эпоху подлинной королевской власти и в
ачестве придворных должностей они имеют то же происхождение, что и герцог
ЪАЛ%~**°Г' <<стРаж войск», полемарх в Афинах) и граф (Dinggraf636, потомственный судья,
ап* ИНах ~~ аРх°нт). Обозначение «консул»617 (с 366 г.) в языковом отношении всецело
обпЧНО’ так что не является никаким новообразованием, а есть лишь новый ввод в
чеса1ЦеНИе титУла («царский советник»?), который, быть может, по причине олигархи-
ких настроений длительное время пробыл под запретом.
... Beloch. Griech. Gesch. I 1. S. 214 ff.
cno pP самые лучшие времена, в VI в., спартиаты насчитывали приблизительно 4000
300 оппЫХ носить оружие мужчин против общего населения, насчитывавшего почти
к°й Sr «лотов и периэков (Meyer Ed. Gesch. d. Altertums III. § 264); приблизительно та-
Ми Же СИл°й будут располагать и римские роды в сравнении с клиентами и латиняна-
836
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТ ИВЫ
ницу между феодальным союзом и сословным государством. В Египте
около середины V династии феодализм был полностью развит. Имен¬
но фараон Исеси по частям передавал вассалам фамильное достояние,
а к этому еще добавлялись богатые феоды духовенства, которые, совер¬
шенно как в эпоху готики, были освобождены от податей и постепенно
сделались неотчуждаемой собственностью храмов*. С V династией (ок.
2420) «Штауфеновская эпоха» завершается. В тени непродолжитель¬
ной VI династии государи (rpati) и графы (hetio) делаются независимы¬
ми; наследственными становятся все высшие должности, и все боль¬
шей и большей гордостью веет от надписей гробниц старинной знати.
То, что позднейшие египетские историки попытались прикрыть мни¬
мыми VII и VIII династиями**, представляет собой полвека полной
анархии и беспорядочной борьбы государей за свои области или за ти¬
тул фараона. В Китае вассалы заставляют уже И-вана (934—909) раз¬
дать всю завоеванную землю в качестве ленов, причем раздать низшим
вассалам по их выбору. В 842 г. Ли-вана вынуждают бежать вместе с на¬
следником престола, после чего управление государством осуществля¬
ется далее двумя отдельными правителями. С этого междуцарствия на¬
чинается упадок дома Чжоу и снижение звания императора до почет¬
ного, однако совершенно ничего не значащего титула. Зеркальное
повторение того же — безымператорское время в Германии, начинаю¬
щееся с 1254 г. и приходящее ок. 1400 г. при Венцеле641 к наибольшему
упадку императорской власти вообще, что имело место в одно время с
возрожденческим стилем кондотьеров и городских тиранов и полным
развалом папской власти. После смерти Бонифация VIII, который в
1302 г. буллой «Unam sanctam» еще раз настоял на феодальных правах
папы, после чего его арестовали представители Франции642, папство
прошло через столетие изгнания, анархии и бессилия, между тем как в
следующем столетии норманнская знать Англии была по большей час¬
ти уничтожена в развернувшихся между домами Ланкастеров и Йорков
схватках за трон.
9
Этим потрясением знаменуется победа государства над сословием. В
основе феодализма — чувство, что все на свете совершается ради про-
вождаемой со значением «жизни». Вся история исчерпывалась судьбой
благородной крови. Ныне же зарождается ощущение, что имеется еще
нечто, чему подвластна также и знать, причем заодно со всеми прочи¬
ми, будь то сословие или профессия, нечто неуловимое, идея. Ничем
не ограничиваемая частноправовая оценка событий переходит в госу-
дарственно-правовую. Пускай даже государство это будет до мозга кос¬
* Meyer Ed. Gesch. d. Altertums I, § 264.
** Там же, § 267 f.
гла*д четвертая. Государство 8^7
тей аристократическим, а таким оно остается почти всегда, пускай пе¬
реход от феодального союза к сословному государству, если смотреть
со стороны, переменяет очень мало, пускай практически неизвестной
остается мысль, что и помимо пра-сословий у кого бы то ни было еще
могут быть не только обязанности, но и права, — все же переменяется
само ощущение, и сознание того, что жизнь на вершинах истории су¬
ществует для того, чтобы ее провождать, уступает иному — что она со¬
держит в себе задание. Дистанция прослеживается очень явственно,
если сравнить политику Райнальда фон Дасселя ( 1167)643, одного из ве¬
личайших государственных деятелей Германии за все времена, с поли¬
тикой императора Карла IV ( 1378) и одновременно — соответствую¬
щий переход от античной Фемиды рыцарской эпохи к Дике оформля¬
ющегося полиса*. Фемида содержит лишь правовое притязание,
Дике — также и задачу.
Изначальная государственная идея неизменно, с самоочевидно¬
стью, восходящей к самым глубинам животного мира, связана с поня¬
тием единоличного властителя. Это — состояние, совершенно естест¬
венно возникающее во всяком одушевленном множестве во всех жиз¬
ненно важных случаях, что доказывает и любая общественная
сходка644, и всякий миг внезапной опасности**. Такое множество явля¬
ется единством, данным в чувствовании, однако оно слепо. Оно прихо¬
дит «в форму» для назревающих событий лишь в руках вождя, который
внезапно является непосредственно из среды самого же множества и
как раз в силу единства чувствования в нем разом делается его главой,
находящей здесь безусловное повиновение. То же самое повторяется,
только медленней и значимей, и при образовании великих жизненных
единств, называемых нами народами и государствами; в высоких же
культурах этот процесс искусственно и ради символа заменяется под¬
час иными видами существования «в форме», однако так, что в реаль¬
ности под оболочкой этой формы почти всегда имеет место единолич¬
ная власть, будь то власть королевского советника или партийного
вождя, но при всяком революционном потрясении все возвращается
обратно к изначальному положению.
С этим космическим фактом связана и одна из наиболее глубинных
черт всякой направленной жизни: желание иметь наследника, со сти¬
хийной силой заявляющее о себе во всякой мощной расе и зачастую со-
верщенно бессознательно принуждающее даже какого-нибудь выдви¬
нувшегося на мгновение вождя утверждать свой ранг на период собст-
Венного существования или уже за его пределами — для своей крови,
продолжающей течение дальше, в детях и внуках. Одна и та же глубин-
Ная, насквозь растительная черта одушевляет всякую настоящую сви-
ГУ> Усматривающую в продлении крови ведущего ручательство и сим-
В(ХГ*ическое представительство также и для крови собственной. Имен-
„ Ehrenberg V. Die Rechtsidee im Friihen Griechentum. 1921. S. 65 ff.
C. 484 сл.
838
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
но в революциях это пра-чувство заявляет о себе в полную силу,
причем в противоречии со всеми изначальными предпосылками. По¬
тому в Наполеоне и наследственном сохранении его положения Фран¬
ция 1800 г. видела подлинное завершение революции. Теоретики, ко¬
торые, как Руссо и Маркс, отталкиваются от понятийных идеалов вме¬
сто фактов крови, не замечали этой колоссальной силы внутри
исторического мира, а потому клеймили ее следствия как презренные
и реакционные. Однако они налицо, причем с такой явственной си¬
лой, что сама символика высших культур может их одолеть лишь ис¬
кусственно и на время, как это доказывает переход античных выбор¬
ных должностей во владение отдельных семейств и непотизм пап эпо¬
хи барокко. За тем обстоятельством, что очень часто руководство
передается из рук в руки свободно, как и за высказыванием, что «пер¬
вое место по праву принадлежит лучшему», практически всегда кроет¬
ся соперничество сильнейших, которые в принципе против передачи
по наследству не возражают, но фактически ей препятствуют, посколь¬
ку всякий, как правило, претендует на то, чтобы завладеть местом для
собственного рода. На таком состоянии общества, когда в нем господ¬
ствует тщеславие, сделавшееся творческой силой, и основываются
формы правления античной олигархии.
Все это, взятое вместе, создает понятие династии. Оно настолько
глубоко утверждено в космическом и так тесно сплетено со всеми фак¬
тами исторической жизни, что государственные идеи всех отдельных
культур представляют собой вариации этого единого принципа, от стра¬
стного «да!» фаустовской души до решительного «нет!» души античной.
Однако уже само вызревание государственной идеи данной культуры
привязано к подрастающему городу. Нации, исторические народы —
это народы градопострояющие*. Резиденция вместо замка и крепости
становится центром великой истории, и в ней происходит переход от
ощущения применения силы (Фемида) к ощущению осуществления
управления (Дике). Феодальный союз оказывается здесь внутренне пре¬
одоленным нацией, причем также и в сознании самого первого сосло-
вия, и простой факт властвования оказывается возвышенным до сим¬
вола суверенитета.
Так, с упадком феодализма фаустовская история делается династи¬
ческой историей. Из маленьких центров, где пребывают роды госуда¬
рей (где их «вотчина» — почвенное, напоминающее о растении и соб¬
ственности выражение), начинается формирование наций, строго рас¬
члененных по сословному принципу, однако так, что существование
сословия обусловливается государством. Господствующий уже в фео¬
дальной знати и в крестьянстве генеалогический принцип, это выра¬
жение чувства дали и воли к историчности, делается таким мощным,
что возникновение наций становится зависимым от судьбы правящего
* С. 631 сл.
Глава четвертая. Государство
839
дома помимо прочных языковых и ландшафтных связей и поверх них:
уложения о наследовании, такие, как «Салическая правда»645, сборни-
j0i актов, в которых можно было прочесть историю крови, браки и
смерти разделяют или сплавляют вместе кровь целых народов. Поско¬
льку до возникновения лотарингской и бургундской династий дело так
й не дошло, не развились и обе уже существовавшие в зародыше нации,
роковая судьба рода Гогенштауфенов превратила императорскую ко¬
рону, а с ней и саму единую итальянскую и немецкую нацию в предмет
страстного, ощущавшегося веками, томления, между тем как дом Габс¬
бургов создал не немецкую, но австрийскую нацию.
Совершенно иначе выглядит династический принцип исходя из
ощущения пещеры арабского мира. Античный принцепс, легитимный
наследник тиранов и трибунов, является олицетворением демоса. Как
Янус — это дверь, а Веста — очаг, так Цезарь — народ. Он является по¬
следним творением орфической религиозности. Магичным оказыва¬
ется в этой связи dominus et deus, шах, сделавшийся причастным небес¬
ному огню (.хварно646 в маздаистском государстве Сасанидов, а впослед¬
ствии — сияющей короне, ореолу в языческой и христианской
Византии), окружающему его сиянием и делающему его pius,felix и in-
victus [благочестивый, счастливый и непобедимый (лат.)] — официаль¬
ный титул со времени Коммода*. ВIII в. и в Византии тип правителя из¬
ведал переход, тождественный имевшему место в инволюции августов¬
ского административного государства в диоклетиановское
феодальное. «Новое произведение, начатое Аврелианом и Пробом и на
развалинах довершенное Диоклетианом с Константином, ушло от
принципата и античности почти так же далеко, как и государство Кар¬
ла Великого»". Магический правитель управляет видимой частью все¬
общего consensus’а правоверных, являющейся одновременно церко¬
вью, государством и нацией*", как то было описано Августином в его
«Граде Божьем»; западноевропейский же правитель — это милостью
Божьей монарх внутри исторического мира: его народ подвластен ему
потому, что вверен ему Богом. Однако в вопросах веры он сам поддан¬
ный, а именно подданный либо земного представителя Бога или же
своей совести. Это есть разделение власти государства и власти церкви,
великий фаустовский конфликт между временем и пространством.
Когда в 800 г. папа короновал императора, он выбрал себе нового пове¬
лителя, с тем чтобы развиваться самому. В Византии император в соот¬
ветствии с магическим мироощущением был властителем папы и в ду-
^^овной сфере; во Франкской империи он был в религиозных вопросах
Cumont, Mysterien des Mithra, 1910, S. 74 ff. Правительство Сасанидов, ок. 300 г.
Решедшее от феодализма к сословному государству, сделалось во всех отношениях
Разцом для Византии: в церемониале, в рыцарском военном деле, в администрации,
^прежде всего в типе самого правителя. Ср. также: Christensen A. L’empire des Sassani-
peuple, l’etat, la cour. Kopenhagen. 1907.
Meyer Ed. Kl. Schr. S. 146.
C. 642 сл.
840
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
его слугой, в светских же, быть может, его рукой. Папство как идея мог¬
ло возникнуть лишь через выделение из халифата, поскольку в халифе
уже содержится папа.
Однако именно по этой причине выбор магического правителя не
может быть сделан через закон о генеалогической преемственности: он
свершается на основании consensus'а правящей кровной общины, из
которого, отмечая избранника, вещает Святой Дух. Когда в 450 г. умер
Феодосий, его родственница, монахиня Пульхерия, формально обвен¬
чалась с престарелым сенатором Маркианом, с тем чтобы через приня¬
тие этого государственного деятеля в семейный союз обеспечить ему
трон, а с ним и продолжение «династии»*, и это, как и многочисленные
другие действия в том же роде, рассматривалось как мановение свыше
также и в домах Сасанидов и Аббасидов.
Неразрывно связанная с феодализмом идея императора, восходя¬
щая к самому раннему периоду Чжоу, уже очень скоро стала в Китае
мечтой, восоторой практически сразу же, причем со всевозрастающей
отчетливостью, отразился весь предшествовавший мир — как последо¬
вательность трех династий и целый ряд еще более древних легендарных
императоров**. Однако для династий формировавшейся теперь систе¬
мы государства, в которой титул вана, царя, сделался в конце концов
общепринятым, возникли строгие правила престолонаследия, и абсо¬
лютно чуждая раннему времени легитимность вырастает в силу***, дела¬
ющуюся теперь при пресечении отдельных линий, при усыновлениях и
мезальянсах, как и в западноевропейском барокко, поводом для бес¬
численных войн за наследство****. Нет сомнения в том, что принцип ле¬
гитимности является причиной также и того необычного факта, что
правители XII династии в Египте, которой завершается позднее время,
еще при жизни коронуют своих сыновей*****; внутреннее родство этих
трех династических идей опять-таки является доказательством родст¬
венности существования в этих культурах вообще.
* Krumbacher. Byzant. Literaturgesch. S. 918.
Яркий свет на процесс формирования этой картины проливает тот факт, что по¬
томки якобы свергнутых династий Ся и Шан правили в государствах Ци и Сун на про¬
тяжении всего периода Чжоу (Schindler, Das Priestertum in alten China I. S. 39). Этим до¬
казывается как то, что картина императорской власти переносилась на более раннее, а
возможно, даже на современное соотношение сил среди именно данных государств, так
и, что еще важнее, то, что и в Китае династия не является обычной для нас величиной,
но предполагает совсем иное понятие семьи. С этим можно сравнить ту условность, в
соответствии с которой немецкий король, который неизменно избирался на франк¬
ской земле и короновался в надгробной часовне Карла Великого, считался «франком»,
из чего в иных условиях могло бы возникнуть представление о Франкской династии от
Карла до Кбнрадина647 {Amira v. German. Recht в Herm. Paul, Grundrifl III, S. 147 Anm.)
Начиная с конфуцианского просвещения картина эта сделалась фундаментом теории
государства, и еще впоследствии ею пользовались Цезари (С. 946 сл.).
*** Franke О. Stud, zur Gesch. des konf. Dogmas. S. 247, 251.
Характерным примером является оспариваемая в качестве противозаконной
личная уния государств Ци и Цзинь у Franke. S. 251.
***** Meyer Ed. Gesch. d. Altertums I, § 281.
четвертая. Государство
841
/3if*L
Необходимо глубоко проникнуть в язык политических форм ран¬
ней античности, чтобы установить, что развитие здесь происходило со¬
вершенно в том же направлении, так что был здесь не только переход от
феодального союза к сословному государству, но даже и династиче¬
ский принцип. Однако античное существование отвечало решитель¬
ным «нет!» всему тому, что увлекало во временном и пространственном
отношении вдаль, а в мире фактов истории окружало себя такими со¬
зданиями, с которыми связано нечто оборонительное. И тем не менее
вся эта обуженность и оборванность с необходимостью предполагают
именно то, против чего они должны выстоять. В дионисийском расто¬
чительстве тела и орфическом его отрицании уже содержится, именно
в самой форме такого протеста, аполлонический идеал совершенного
телесного бытия.
Единоличная власть и желание иметь наследника с полной опреде¬
ленностью наличествовали в самую раннюю царскую эпоху*, однако
уже ок. 800 г. в них стали сомневаться, как это явствует из роли Телема¬
ха в более древних частях «Одиссеи». Титул царя часто носили также и
крупные вассалы, и наиболее видные представители знати. В Спарте и
Ликии их было двое, в городе феаков из эпоса648 и во многих реальных
городах — еще больше. Затем происходит размежевание должностей и
почетных званий. Наконец, сама царская власть становится должно¬
стью, вручаемой знатью, поначалу, быть может, внутри древних цар¬
ских семейств, как в Спарте, где эфоры как представители первого со¬
словия никаким положением о порядке выбора не связаны, и в Корин¬
фе, где царский род Вакхиадов ок. 750 г. упраздняет передачу по
наследству и всякий раз выставляет из своих рядов притана в царском
достоинстве. Значительнейшие должности, которые поначалу также
были наследственными, становятся пожизненными, затем срочными
и наконец лимитируются одним годом, причем так, что, когда лиц,
пребывающих на должности, несколько, между ними имеет место еще
и упорядоченная передача руководства, что, как известно, послужило
причиной проигрыша сражения при Каннах649. Эти годичные должно¬
сти, начиная с этрусской диктатуры** и до дорического эфорства, име-
юЩего место также в Геракл ее и Мессане, тесно связаны с сущностью
полиса и окончательно формируются ок. 650 г., т. е. как раз тогда, когда
в западноевропейском сословном государстве, приблизительно в кон¬
це XV в., династическая наследственная власть была упрочена импера¬
тором Максимилианом I650 и его матримониальной политикой (в пику
нретензиям курфюрстов на свое право выбора), как и Фердинандом
q Busolt. Griech. Staatskunde. S. 319 ff. Если Виламовиц (Wilamowitz U. v. Staat und
ет ,.eUscllaft der Griechen, 1910, S. 53) оспаривает патриархальное царство, то он упуска-
Vm3 ВИдУ огромную дистанцию, отделяющую отражаемое в «Одиссее» положение дел
•?* ОТ СОСТОЯНИЯ X в.
Rosenberg A. Der Staat der alten Italiker. 1913. S. 75 f.
842
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Арагонским651, Генрихом VII Тюдором652 и королем Франции Людови¬
ком XI653 *.
Однако в то же самое время и античное духовенство, вплотную по¬
дошедшее к тому, чтобы перерасти в сословие, вследствие всевозра-
ставшего сведения абсолютно всего к «здесь» и «теперь», сделалось
просто совокупностью государственных должностей; резиденция го¬
меровской царской власти, вместо того чтобы стать центром устрем¬
ленной вширь, во все стороны государственности, все сжимается в
своем заколдованном круге, пока государство и город не делаются тож¬
дественными понятиями. Но тем самым реализуется и совпадение зна¬
ти с патрициатом, а поскольку и в готическую эпоху в английской ниж¬
ней палате и во французских Генеральных штатах представительство
ранних городов возлагается исключительно на патрициев, то мощное
античное сословное государство представляет собой — не по идее, но
фактически — в чистом виде аристократическое государство, лишен¬
ное царской власти. Эта выраженно аполлоническая форма пребываю¬
щего в становлении полиса зовется олигархией.
И вот на исходе того и другого раннего времени друг напротив друга
высятся фаустовско-генеалогический и аполлонически-олигархиче-
ский принципы — два вида государственного права, Дике. Первый
опирается на безбрежное ощущение дали: следование традиции перво-
неточных актов уходит далеко в глубь прошлого, ему равна по мощи
воля к длительности, с которой он задумывается об отдаленнейшем бу¬
дущем, в современности же он — с помощью планомерных династиче¬
ских браков и той подлинно фаустовской, динамической, контрапунк¬
тической политики дали, которую мы называем дипломатией — осуще¬
ствляет политические мероприятия на широких пространствах.
Второй же всецело телесен и статуарен: ограничивая себя в автаркий -
ной политике ближайшим соседством и нынешнестью, он повсюду
резко отрицает в тех случаях, когда западноевропейское существова¬
ние утверждает.
Как династическое государство, так и город-государство уже пред¬
полагают сам город, однако, между тем как местопребыванием запад¬
ноевропейского правительства далеко не всегда оказывается самый
крупный населенный пункт в стране, поскольку главное — чтобы это
Сословными партиями были также и два великих товарищества в Византии, кото¬
рые совершенно неверно принято называть «цирковыми партиями». Эти возникшие в
Сирии «синие» и «зеленые» называли себя StJ/aoi [народами, партиями (греч.)] и имели
свое руководство. Цирк, как Пале-Рояль в 1789 г., был всего-навсего местом обще¬
ственных демонстраций, а за ним стояло сословное собрание, сенат. Когда Анастасий I
встал в 520 г. на сторону монофизитского направления, «зеленые» целый день распева¬
ли в цирке ортодоксальные гимны и принудили императора принести публичные изви¬
нения. В Западной Европе явлениями того же порядка были парижские партии при
«трех Генрихах» (1580;, гвельфы и гибеллины во Флоренции при Савонароле и преЖ'
де всего повстанческие группировки в Риме при папе Евгении IV. Так что разгром вос¬
стания «Ника» Юстинианом в 532 г. завершает утверждение государственного абсолю¬
тизма, взявшего верх над сословиями.
четвертая. Государство
843
Глава
был центр силового поля политических напряжений, так чтобы всякое
событие в сколь угодно удаленной точке отзывалось вполне ощутимы¬
ми сотрясениями по всему организму в целом, в античности жизнь
сжимается все теснее, приходя к гротесковому явлению синойкизма.
Вот вершина эвклидовского стремления к оформленности внутри по¬
литического мира. Государство оказывается здесь чем-то совершенно
немыслимым, если вся нация не собрана в кучу, если она всецело мате¬
риально не пребывает в одном месте как одно тело: ее надо видеть, даже
обозревать. И в то время как фаустовская тенденция проявляется во все
большем уменьшении числа династических центров, так что перед взо¬
ром Максимилиана I уже маячила в отдалении генеалогически обеспе¬
ченная вселенская монархия его дома, античный мир распадается на
бесчисленные крошечные точки, которые, стоит им появиться, почти
принуждаются логикой античного человека взаимно друг друга унич¬
тожать, что и является чистым выражением автаркии*.
Синойкизм, а тем самым и основание собственно полиса — дело
исключительно знати, которая представляла античное сословное госу¬
дарство лишь в своих интересах, так что она приводит его «в форму»
посредством собирания вместе сельской аристократии и патрициата,
между тем как профессиональные классы уже и без того здесь имелись,
а крестьяне в смысле сословном могли не учитываться. Аристократи¬
ческие силы сосредоточились в одной точке, и царство эпохи феода¬
лизма было сломлено.
На основании этих соображений можно с максимальной осторож¬
ностью попытаться обрисовать предысторию Рима. Римский синой¬
кизм, собирание в одно место рассредоточенных благородных родов,
идентичен «основанию» Рима, этому этрусскому предприятию, отно¬
сящемуся, вероятно, к началу VII в.**, между тем как еще задолго до
этого на Палатине и Квиринале, напротив царского замка на Капито¬
лии, существовало два поселения. Первому принадлежат древнейшая
богиня Дива Румина*** и этрусский род Рума****, второму — бог Квирин
Патер. Отсюда происходят двойственное обозначение «римляне» и
«квириты» и две жреческие коллегии — салии и луперки, связывавши¬
еся с одним и другим холмом соответственно. Поскольку три родовые
трибы Рамны, Титии и Луцеры, несомненно, прослеживались по всем
этрусским поселениям*****, они должны были иметься в наличии как в
°Дном месте, так и в другом, и этим объясняется то, что после проведе-
* —'
Отсюда — и двойственное понятие о заселении. Между тем как, например, прус¬
ские короли призывают поселенцев, вроде зальцбургских протестантов и французских
ниЖеНЦев’ в свою страну, Гелон Сиракузский ок. 480 г. принудительно сселил населе-
ие целых городов в Сиракузы, которые в результате внезапно сделались самым круп-
Ц|**ГОР°ДОМ античности.
*** Так датируются найденные в погребениях на Эсквилине греческие лекифы.
***„ Wisscwa. Religion und Kultus der Romer. S. 242.
***** Schulze W. Zur Geschichte lateinischer Eigennamen. S. 379 ff., 580 f.
C. 811 сл.
844 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ния синойкизма всего оказалось по шесть: всаднических центурий, во¬
енных трибунов и принадлежавших к высшей знати весталок; но с дру¬
гой стороны, отсюда возникли и оба претора или консула, которые уже
очень рано были приставлены к царской власти как представители зна¬
ти и постепенно перехватили у первой все влияние. Уже ок. 600 г. госу¬
дарственное устройство в Риме, судя по всему, сводилось к сильной
олигархии patres, которую царь-фантом (Schattenkonigtum) номинально
возглавлял*. Однако отсюда в свою очередь следует, что и древняя вер¬
сия изгнания царей и современная — медленного демонтажа царской
власти — вполне могут уживаться: первая относится к свержению тира¬
нии Тарквиниев, которая ок. середины VI в., как и повсюду в это
время, была направлена против олигархии (в Афинах таким тираном
сделался Писистрат); вторая же имеет в виду происходившее до «осно¬
вания» сословным государством полиса медленное распадение феода¬
льной власти того, что можно было бы назвать гомеровским царст¬
вом, — кризис, в результате которого преторы, быть может, появились
здесь точно так же, как в других местах — архонты и эфоры.
Этот полис строго аристократичен, как и западноевропейское со¬
словное государство (последнее — включая высший клир и представи¬
телей городов). Остаток тех, кто сюда входит, есть всего лишь объект,
т. е. объект политической заботы, а в данном случае соответственно
беззаботности. Ибо carpe diem — лозунг также и этой олигархии, доста¬
точно ярким свидетельством чего служат песни Феогнида и критянина
Гибрия. Это относится и к области финансового хозяйства, которое
вплоть до самых поздних времен античности оставалось более или ме¬
нее беззаконным грабежом с целью обеспечения средств, необходимых
в данный момент, от организованного пиратства Поликрата по отно¬
шению к его же собственным подданным и до проскрипций римских
триумвиров; и к области правотворчества — вплоть до эдиктового зако¬
нодательства назначавшегося на год римского претора, которое было,
причем с исключительной последовательностью, нацелено на требова¬
ния момента**; и наконец, к получавшему все большее распростране¬
ние обычаю занимать важнейшие военные, судебные и администра¬
тивные должности по жребию — своего рода присяга на верность Тихэ.
богине мгновения.
Исключений из такого способа политически пребывать «в форме»
не существует, как не бывает здесь и не соответствующих ему ощуще¬
ний и идей. Этруски подвластны ему точно так же, как дорийцы и ма¬
кедоняне***. Если Александр и его наследники сплошь усыпали Восток
эллинистическими городами, это произошло совершенно бессознате-
* Это выражается также и в отношении pontifex maximus к rex sacrorum. Последним
вместе с тремя великими фламинами принадлежит к царской власти; понтифики и вес¬
талки относятся к знати.
** С. 520 слл.
Глава четвертая. Государство
845
льно, в том числе и потому, что представить себе другую форму поли¬
тической организации они не могли. Антиохия должна была быть Си¬
рией, а Александрия — Египтом. И в самом деле, Египет при Птолеме¬
ях, как и позже, при Цезарях, был — не в правовом отношении, но
фактически — колоссальных масштабов полисом: давно уже сделавша¬
яся феллахской и вновь лишившаяся городов страна со своей стародав¬
ней техникой управления расстилалась перед городскими воротами,
как приусадебный участок*. Римская империя представляет собой не
что иное, как последний и величайший город-государство, произрос¬
ший на почве колоссального синойкизма. Оратор Аристид с полным
правом мог сказать в правление Марка Аврелия (в своей речи о Риме):
«Рим свел весь этот мир воедино во имя одного города. Где бы в мире ни
родился человек, он все же обитает в его центре»655. Однако также и по¬
коренное население, племена, кочующие по пустыне, и обитатели ма¬
леньких альпийских долин конституируются как civitates?56. Ливий
мыслит исключительно формами города-государства, а для Тацита ис¬
тории провинций как таковых просто не существует. С Помпеем все
было кончено в 49 г., когда он отступил перед Цезарем и отказался от
малозначительного в военном отношении Рима, чтобы создать себе
операционную базу на Востоке. Тем самым он отказался от государства
в глазах правящего общества. Рим — это было для них все**.
Эти города-государства по самой своей идее расширяться не спо¬
собны: может расти их количество, но не протяженность каждого. Не
правы те, кто рассматривает переход римских клиентов в обладающий
правом голоса плебс и создание сельских триб как выход за пределы
идеи полиса. Здесь происходило то же, что и в Аттике: вся целиком
жизнь города, жизнь res publica остается, как и прежде, ограниченной
одной точкой, а точка эта — агора или римский форум. И сколько бы
живущих в отдалении людей ни получали права граждан (во времена
Ганнибала повсеместно в Италии, а позже по всему миру), все равно,
чтобы воспользоваться политической стороной этого права, необходи¬
мо личное присутствие на форуме. Тем самым подавляющее большин¬
ство граждан не по закону, но фактически лишаются влияния на поли¬
тические события***. Так что право гражданина означает для них иск¬
лючительно воинскую повинность и пользование городским частным
, Это с однозначной ясностью усматривается из Wilcken. Grundziige der Papyrus-
^mde. 1912. S. 1 ff.
Meyer Ed. Casars Monarchic. 1918. S. 308.
p Плутарх и Аппиан описывают толпы людей, идущих по всем дорогам Италии в
* 5^ голосования по законам Тиберия Гракха. Однако отсюда вытекает, что ничего
Вен°^НОГО еще никогДа не бывало, и сразу же по принятии против Октавия насильст-
«чых мер Гракха охватывает предчувствие поражения, потому что толпы вновь рас-
МИц Ись по домам и собрать их во второй раз невозможно. Во времена Цицерона ко¬
ли^;1111 зачастУЮ представляли собой совещание лишь нескольких политиков, и, кроме
Воз’Инкого здесь не было; однако ни одному римлянину и в голову не приходило, что
за ^жно голосовать там, где живешь, как не помышляли об этом и сами сражавшиеся
рава граждан италкки (90 г.), — настолько мощным было ощущение полиса.
846
Том 1 ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
правом*. Однако даже тот гражданин, что перебирается в Рим, ограни¬
чен в своем политическом влиянии посредством второго, искусствен¬
ного синойкизма, произошедшего только после освобождения крестьян
и в связи с ним, — несомненно, совершенно бессознательно, — с тем
чтобы в строгости сохранить идею полиса: новых граждан без всякого
учета их количества записывают в небольшое число триб, в соответст¬
вии с lexlulia [законом Юлия (лат.)] — в восемь, и потому на комициях
они перед лицом старинных граждан постоянно остаются в меньшин¬
стве.
Ибо это гражданство воспринималось всецело как одно тело, как
аацха. Всякий, кто сюда не принадлежит, бесправен, hostis [чужеземец,
неприятель, враг (лат.)]. Боги и герои находятся над этой совокупно¬
стью лиц, раб, которого, по Аристотелю, и человеком-то почти не на¬
зовешь, — снизу нее**. Отдельный человек, однако, является £а)ov ttoXl-
tlkov657, причем в том смысле, который нам, мыслящим и живущим ис¬
ходя из ощущения Дали, показался бы воплощением самого рабства: он
существует лишь в силу своей принадлежности к данному полису.
Вследствие этого эвклидовского ощущения поначалу знать, как тесно
замкнутое в себе сыра, была тождественна с полисом до такой степени,
что еще по законам XII таблиц брак между патрициями и плебеями был
запрещен, а в Спарте эфоры при вступлении в должность, согласно
древнему обычаю, объявляли войну илотам. Это отношение оказыва¬
ется перевернутым, не поменяв своего смысла, как только в результате
революции понятие демоса оказывается равнозначным всем незнат¬
ным. И как внутри, так и вовне политическое аЛ/ха представляет собой
основу всех событий на протяжении всей вообще античности. Сотни
этих маленьких государств (всякое — насколько это вообще возмож¬
но — политически и экономически замкнуто в самом себе) выжидали в
засаде настороже; кусачие, они нападали по любому поводу и начина¬
ли схватку, цель которой не расширение собственного государства, но
уничтожение чужого: государство уничтожается, граждан его переби¬
вают или продают в рабство; и точно так же революция кончается здесь
тем, что проигравшие уничтожаются или изгоняются, а их имущество
достается победившей партии. Естественные межгосударственные от¬
ношения в западноевропейском мире — это густая сеть дипломатиче¬
ских связей, прерываемых с войной. Античное же право народов пред¬
полагает войну как нормальное состояние, на время прерываемое мир¬
ными договорами. Так что объявление войны восстанавливает здесь
естественное политическое положение: лишь так могут быть объясне-
В западноевропейском династическом государстве частное право распространи'
ется на его область, а значит, на всех, кто там пребывает, независимо от гражданства. В
городе-государстве же приложимость частного права к отдельному человеку — лЮ
следствие прежде всего гражданского права. Поэтому civitas означает несравнимо боль
ше, чем современная государственная принадлежность, ибо, не принадлежа к ней. че¬
ловек бесправен и как личности его просто нет.
** С. 520 сл.
f/iaea четвертая. Государство
847
ЛЫ airovba, мирные договоры сроком на сорок и пятьдесят лет, как зна¬
менитый Никиев мир 421 г., которые должны были обеспечить лишь
недолговечную безопасность.
Обе эти государственные формы, а тем самым и соответствующие
ЙМ стили политики оказываются окончательно утвержденными с нача¬
лом раннего времени. Государственная идея одержала победу над фео¬
дализмом, однако представлять ее должны сословия, так что нация су¬
ществует в смысле политическом лишь как их совокупность.
10
Решающий поворот происходит с началом позднего времени там,
где город и земля находятся в равновесии и подлинные силы города —
деньги и дух — крепнут так, что ощущают себя, как несословия, срав¬
нявшимися с пра-сословиями. Это мгновение, когда государственная
идея окончательно возвышается над сословиями, чтобы заменить их
понятием нации.
Государство отвоевало свое право на пути от феодального союза к
сословному государству. Сословия существуют в последнем лишь бла¬
годаря ему, но не наоборот. И все же дело обстояло так, что правитель¬
ство могло противостоять управляемой им нации лишь постольку, по¬
скольку та была расчленена по сословному признаку. К нации принад¬
лежали все, к сословиям же — только избранные, и лишь они-то и
учитывались в политическом отношении.
Чем ближе, однако, подходит государство к своей чистой форме,
чем абсолютнее оно становится, а именно в отделении от всякого иного
идеала формы, тем больше прибавляет в весе в противоположность по¬
нятию сословия понятие нации, так что приходит время, когда управ¬
ляемой оказывается нация как таковая, а сословия лишь знаменуют
собой общественные различия. Против такого развития событий, яв¬
ляющегося одной из неизбежностей культуры, а потому его нельзя
предотвратить и обратить вспять, еще раз восстают ранние силы, знать
и Духовенство. Для них здесь на кон поставлено все — героическое и
святое, древнее право, ранг, кровь; и если смотреть надело с их сторо-
пы, на что идет игра с другой?
Эта борьба пра-сословий против государственной власти приобрета-
ет в западноевропейском мире форму фронды, в античности же, где ни¬
какая династия будущее не представляет и знать политически одинока,
°Ф°рмляется нечто династическое, что олицетворяет собой государст-
ВеннУю идею и, опираясь на несословную часть нации, только тем и воз-
вьццает ее до самостоятельной силы. Это есть миссия тирании.
° эт°м переходе от сословного государства к абсолютному, которое
°Пускает все прочее лишь постольку, поскольку оно с ним соотносит-
Я’ династии Западной Европы, а также Египта и Китая призывали
848
Том 2 ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЬ]
себе на помощь несословие, «народ» как таковой, признавая его тем са¬
мым политической силой. В этом и состоит смысл борьбы против фрон¬
ды, и поначалу силы большого города могли усматривать в этом иск¬
лючительно одни преимущества для себя. Правитель выступает здесь
от имени государства, т. е. идеи попечения обо всех, и он борется со
знатью, потому что она желает сохранить сословие как политическую
величину.
В полисе же, где государство пребывало исключительно «в форме»,
не находя никакого наследственного олицетворения ни в каком вер¬
ховном правителе, вследствие потребности поднять несословие на вы¬
ступление за государственную идею возникает тирания, через которую
одна семья или какая-то часть знати принимала на себя династическую
роль, без чего вызвать активность третьего сословия было бы невоз¬
можно. Позднеантичным историкам смысл этого процесса был уже не¬
ясен, так что они сосредоточивали внимание на внешних подробно¬
стях частной жизни. На деле же тирания — это государство, и олигар¬
хия борется с ней во имя сословия. Поэтому тирания опирается на
крестьян и буржуазию; в Афинах ок. 580 г. это были партии диакриев и
паралиев. Поэтому они в пику аполлоническому поддерживали диони¬
сийские и орфические культы: в Аттике Писистрат распространял сре¬
ди крестьян культ Диониса*; примерно в то же время в Сикионе Клис-
фен запретил исполнение гомеровских поэм**; в Риме, несомненно
еще при Тарквиниях, был введен культ триады богов: Деметры (Цере¬
ры), Диониса и Коры***. Их храм был освящен в 483 г. Спурием Касси¬
ем, который сразу же после этого погиб, попытавшись вновь ввести ти¬
ранию. Этот храм Цереры был святыней плебса и его лидеров, эдилов,
этих доверенных лиц плебса до введения трибунов****. Тираны, как и
государи западноевропейского барокко, были либералами в великом
смысле этого слова, что при позднейшем правлении третьего сословия
уже не было возможно. Однако и в античности в ходу была поговорка,
что деньги делают человека, хя^ат* dv^p658 *****. Тирания VI в. привела
идею полиса к завершению и создала государственно-правовое поня¬
тие гражданина, ттоМтrjs, civis, совокупность которых вне зависимости
от сословия образует города-государства. И когда олигархия
все-таки снова взяла верх, причем взяла верх по причине пристрастия
античности к нынешнести, из-за которого античность страшилась и
ненавидела сказывавшуюся в тирании склонность к длительности, по¬
нятие гражданина уже прочно устоялось, и те, кто патрициями не
* Gercke-Norden. Einl. i. d. Alt.-Wiss. II. S. 202.
** Busolt. Griech. GeSchichte II. S. 346 ff.
C. 737 ел., 766 ел. Фронда и тирания так же глубинным образом связаны с пури¬
танством (они являются той же эпохой, нашедшей проявление не в религиозном, но в
политическом мире), как Реформация — с сословным государством, рационализм — с
буржуазной революцией и «вторая религиозность» — с цезаризмом.
Wissowa. Religion und Kultus der Romer. S. 297 ff.
***** Beloch. Griech. Gesch. I 1. S. 354.
Глава четвертая. Государство
849
были, научились ощущать себя сословием, находящимся в оппозиции
всем прочим. Они становятся политической партией (слово «демокра¬
тия» приобретает теперь, в специфически античном смысле, весьма
чреватое значением содержание) и перестают оказывать поддержку го¬
сударству, но делаются, как раньше знать, государством. Они начина¬
ют считать, считать как по деньгам, так и по головам, ибо и денежный
ценз, и всеобщее избирательное право — оружие буржуазии; знать не
считает, но оценивает: она голосует по сословиям. Как абсолютное го¬
сударство вышло из фронды и первой тирании, так с Французской ре¬
волюцией и второй тиранией оно приходит к концу. В этой второй
схватке, являющейся уже обороной, династия снова переходит на сто¬
рону пра-сословий, чтобы защитить государственную идею против но¬
вого сословного господства, а именно буржуазного.
Между фрондой и революцией пролегает также и история Среднего
царства в Египте. Здесь XII династия (2000—1788), и в первую очередь
Аменемхет I и Сесострис I659, в тяжелых схватках с баронами основала
абсолютное государство. Как сообщает знаменитое стихотворение, от¬
носящееся к этому времени, первый из государей едва избежал при¬
дворного заговора. То, что после его смерти, которую поначалу держа¬
ли в тайне, могло вспыхнуть восстание, обнаруживается из жизнеопи¬
сания Синухета*; третий был убит дворцовыми чиновниками. Из
надписей в фамильном склепе графа Хнумхотепа мы узнаём**, что го¬
рода сделались богатыми и почти независимыми и вели между собой
войны. Нет сомнения в том, что они были тогда не меньше, чем антич¬
ные города ко времени персидских войн. Династия опиралась на них и
на некоторое число сохранявших верность вельмож***. Наконец Сесо¬
стрис III (1876— 1842) смог полностью упразднить феодальную знать. С
этого момента и впредь существовала лишь придворная знать и целост¬
ное, образцово упорядоченное бюрократическое государство****, одна¬
ко тут же начинают раздаваться жалобы в духе герцога Сен-Симона,
что благородные бедствуют, а «ничьи сыны» повышаются в ранге и до¬
биваются почестей*****. Начинается демократия, подготавливая вели¬
кую социальную революцию периода гиксосов.
В Китае этому же соответствует эпоха Мин-чжу (или Ба, 685—591).
То были протекторы царских кровей, обладавшие фактической, но ни¬
как не обоснованной в правовом отношении властью над всем этим
погрузившимся в дикую анархию миром государств: они созывали
конгрессы государей, с тем чтобы установить порядок и добиться при¬
знания определенных принципиальных политических положений,
^ Meyer Ed. Gesch. d. Altertums I. § 281 ff.
Там же, § 280 ff.
***. Относительно обеспечения престолонаследия ср. с. 840.
***** Meyer Ed. § 286.
л 1 J Там же, § 283: Erman A. Die Mahnworte eines agyptischen Propheten, Sitz. PreuB.
***• 1919. S. 804 ff.*00
850
Том 2 ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
даже приглашали сюда не имевшего совершенно никакого веса «пра¬
вителя Срединной» из дома Чжоу. Первым здесь был Гуань Чжун из Ци
(645), созвавший конгресс государей в 659 г. Конфуций писал, что Гу¬
ань спас Китай от отката назад к варварству. Обозначение «Мин-чжу»
впоследствии стало бранным, как и слово «тиран», потому что и в том,
и в другом усматривали лишь силу без права, однако эти великие дип¬
ломаты, несомненно, являются тем элементом, который, полный по¬
печения о государстве, обращается против старых сословий, опираясь
при этом на молодые, на дух и деньги. Из того немногого, что знаем мы
о них по китайским источникам, проступает высшая культура. Некото¬
рые были писателями, другие призывали философов в качестве мини¬
стров. Не имеет значения, станем ли мы при этом вспоминать Рише¬
лье, Валленштейна или Периандра, — в любом случае с ними на сцене
впервые появляется «народ» как политическая величина*. Это в пол¬
ном смысле умонастроение барокко и дипломатия высокого уровня.
Абсолютноечгосударство смогло себя утвердить в идее в противопо¬
ложность сословному государству.
Именно здесь проявляется близкое родство с западноевропейской
эпохой фронды. С 1614 г. королевская власть во Франции более ни разу
не созывала Генеральные штаты, после того, как те обнаружили, что
превосходят по силе объединенные силы государства и буржуазии. В
Англии Карл I также пытается начиная с 1628 г. править без парламен¬
та. Тридцатилетняя война в Германии, которая ведь также, совершен¬
но независимо от ее религиозного значения, должна была внести яс¬
ность в отношения императорской власти с крупной курфюрстовской
фрондой, с одной стороны, и отдельных государей с мелкой фрондой их
земельных сословий — с другой, так вот, война эта вспыхнула из-за
того, что в 1618 г. богемские сословия сместили дом Габсбургов, после
чего их власть была в 1620 г. уничтожена чудовищными репрессиями.
Однако центр мировой политики находился тогда в Испании, где вмес¬
те с общественной культурой как таковой также возник — а именно в
кабинете Филиппа II — и дипломатический стиль барокко и где нашел
свое наиболее мощное оформление династический принцип (причем в
борьбе с домом Бурбонов), в котором олицетворялось абсолютное го¬
сударство в противовес кортесам. Попытка генеалогически включить в
испанскую систему также и Англию провалилась, потому что уже воз¬
вещенный наследник от брака Филиппа с Марией Английской на свет
так и не появился661. Ныне, при Филиппе IV, идея властвующей на всех
океанах универсальной монархии является еще раз — уже не в форме
той мистической императорской власти ранней готики, Священной
Римской империи германской нации, но как вполне осязаемый идеал
мирового господства дома Габсбургов, который должен был, пребывая
в Мадриде, опираться на вполне реальное обладание Индией и Амери-
Plath S. Verfassung und Verwaltung Chinas, Abh. Munch. Ak., 1864. S. 97; Franke 0.
Stud, zur Gesch. des konf. Dogmas. S. 255 ff.
f/iaea четвертая. Государство 851
!Сой и на делающуюся теперь уже ощутимой власть денег. Стюарты по¬
пытались тогда подкрепить свое пошатнувшееся положение браком
наследника престола с какой-нибудь испанской инфантой, однако в
Мадриде в конце концов предпочли установить связь с собственной
боковой линией в Вене, и Яков I (также безрезультатно) обратился с
предложением брачного союза к противной стороне, к Бурбонам. Неу¬
дача этой семейной политики более чем что-то еще способствовала
тому, чтобы связать пуританское движение с английской фрондой в
одну великую революцию.
Как это уже было в «одновременном» Китае, в гуще этих великих
решений сами венценосцы полностью отступают на задний план перед
отдельными государственными деятелями, в руках которых десятиле¬
тиями пребывает судьба западноевропейского мира. Граф Оливарес в
Мадриде и испанский посланник Оньяте в Вене были тогда наиболее
могущественными лицами в Европе; как защитник идеи империи им
противостоял Валленштейн, как защитник идеи абсолютного государ¬
ства — Ришелье во Франции, позднее во Франции же явился Мазари-
ни, в Англии — Кромвель, в Голландии — Олденбарневелт, в Шве¬
ции — Оксеншерна. Лишь в Великом Курфюрсте662 мы вновь видим
монарха, обладающего значением как государственный деятель.
Валленштейн, сам того не сознавая, вновь приступает к делу там,
где остановились Гогенштауфены. После смерти Фридриха II (1250)
мощь имперских сословий сделалась безусловной, и именно против
нее, за абсолютное императорское государство выступил Валленштейн
во время первого командования армией. Будь он крупнее как дипло¬
мат, обладай он большей ясностью взгляда, но главное, будь он силь¬
нее духом (решения его страшили), пойми он, как Ришелье, необходи¬
мость прежде всего взять под свой контроль личность императора — с
имперскими государями, возможно, было бы покончено. Он усматри¬
вал в этих государях бунтовщиков, которых надо сместить, а их земли
конфисковать, и на самой вершине своего могущества (в конце
1629 г.) , когда он прочно удерживал всю Германию в своих руках в пла¬
не военном, он как-то проронил в разговоре, что император должен
быть хозяином своей империи, как короли Франции и Испании. Его
армия, «продовольствовавшая сама себя»663 и, кроме того, имевшая до¬
статочно силы, чтобы оставаться независимой от сословий, была пер-
в°й за историю Германии императорской армией европейского значе¬
ния: предводительствуемую Тилли армию фронды, поскольку именно
ею являлась Лига664, нельзя с нею даже сравнивать. Когда в 1628 г. Вал-
Ленштейн осадил Штральзунд, желая утвердить габсбургскую морскую
м°Щь на Балтике, откуда можно было ударить в спину бурбонской сис-
Теме (между тем как Ришелье в то же самое время с куда большим успе-
х°м осаждал Ла-Рошель), возникновение вражды между ним и Лигой
Делалось практически неизбежным. На рейхстаге в Регенсбурге он от-
УТ'ствовал, потому что, как он сказал, следующим местом его созыва
852 Том 2 ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
должен был бы оказаться Париж665. То была грубейшая политическая
ошибка всей его жизни, ибо фронда курфюрстов одержала над импера¬
тором победу, угрожая ему переизбранием и тем, что вместо него импе¬
ратором станет Людовик XIII, и добилась отставки генерала. Тем са¬
мым центральная власть Германии, не осознавая всей важности этого
шага, утратила контроль над собственной армией. Начиная с этого мо¬
мента Ришелье поддерживал большую германскую фронду, с тем что¬
бы поколебать здесь позиции Испании, между тем как, с другой сторо¬
ны, Оливарес и вновь ставший командующим Валленштейн вступили
в союз с сословной партией во Франции, после чего та, предводитель¬
ствуемая королевой-матерью666 и Гастоном Орлеанским, перешла в на¬
ступление. Однако великий миг был императорской властью упущен.
В обоих случаях победа осталась за кардиналом. В 1632 г. он казнил по¬
следнего Монморанси и привел католических немецких курфюрстов к
открытому союзу с Францией. Начиная с этого момента Валленштейн,
довольно туманно представляя собственные конечные цели, начинает
все больше противостоять испанским идеям, которые, как ему каза¬
лось, можно было отделить от идей имперских, а тем самым он как бы
непроизвольно сблизился с сословиями (что случилось и с маршалом
Тюренном во Франции). То был решающий поворот в поздней немецкой
истории. Лишь после этого отпадения абсолютное императорское го¬
сударство сделалось невозможным. Убийство Валленштейна в 1634 г.
ничего тут не изменило, поскольку никакой замены ему найдено не
было.
Однако именно теперь обстоятельства сложились благоприятно
еще раз, ибо в 1640 г. в Испании, Франции и Англии разразилась реша¬
ющая схватка между государственной властью и сословиями. Почти во
всех провинциях кортесы поднялись против Оливареса. Португалия, а
тем самым и Индия с Африкой оказались утраченными Испанией на¬
всегда; Неаполь и Каталонию удалось снова покорить лишь годы спус¬
тя667. Происходившую в Англии конституционную борьбу между коро¬
левской властью и господствовавшим в нижней палате gentry необхо¬
димо тщательно отделять (точно так же как следует это делать и в
отношении Тридцатилетней войны) от религиозной стороны револю-
ции, как ни глубоко две эти тенденции пронизывали друг друга. Одна¬
ко постоянно нараставшее сопротивление, которое Кромвель встретил
именно в низшем классе, сопротивление, абсолютно против воли под-
толкнувшее его к военной диктатуре, а затем народный дух возвратив¬
шейся королевской власти доказывают, до какой степени падение ди¬
настии было вызвано именно сословными интересами, пересиливав¬
шими все разногласия по религиозным вопросам.
Когда Карл I был казнен, восстание, вынудившее бежать королев¬
скую семью, произошло также и в Париже. Народ принялся возводить
баррикады и кричать «Республика!» (1649). Будь в кардинале де Рейс
поболее от Кромвеля, победа сословной партии над Мазарини оказа-
Глава четвертая. Государство 853
дась бы вполне возможной. Однако исход этих великих западноевро¬
пейских кризисов всецело определяется значимостью и судьбой не¬
многих личностей, а потому он оказался таким, что только в Англии
Представленная в парламенте фронда покорила своему руководству го¬
сударство и королевскую власть, и «Славная революция» 1688 г. закре¬
пила это положение дел на постоянной основе, так что значительные
фрагменты норманнского государства по праву сохраняются еще и се¬
годня. Во Франции и Испании королевская власть одержала безуслов¬
ную победу. В Германии по Вестфальскому миру оказались реализо¬
ванными: для высшей фронды имперских государей по отношению к
императору — английский вариант, для малой фронды по отношению
к земельным государям — французский. В империи правят сословия, в
ее областях — династии. Начиная с этого момента от императорской
власти, как и от королевской власти в Англии, осталось только имя в
обрамлении остатков испанского великолепия раннего барокко; отде¬
льные государи, как и ведущие семейства английской аристократии,
капитулировали перед парижским образцом, и их абсолютизм малого
формата сделался как в политическом, так и в социальном плане по¬
дражанием версальскому стилю. Тем самым была одновременно пред¬
решена победа дома Бурбонов над домом Габсбургов, что было обнару¬
жено перед всем миром по результатам Пиренейского мира 1659 г.
В эту эпоху реализовалось государство, в возможности заложенное
в существовании всякой культуры, в результате чего оказалась достиг¬
нута та высота политической оформленности, превзойти которую
было невозможно, однако и сохраняться в таком виде еще какое-то
время она не могла. Легким дыханием осени веет уже от обедов, кото¬
рые Фридрих Великий устраивал в Сансуси. Это также и годы, в кото¬
рые своей последней, наинежнейшей, наидуховнейшей зрелости до¬
стигают великие отрасли искусства: рядом с ораторами афинской аго¬
ры — Зевксид и Пракситель, рядом с филигранной кабинетной
дипломатией — музыка Баха и Моцарта.
Сама эта кабинетная политика сделалась высокой культурой, арти¬
стическим наслаждением для всякого, кто к ней причастен, изумитель¬
ной по тонкости и элегантности, светской, изысканной, жутковатым
образом действующей на огромном расстоянии — там, где намечаются
теперь Россия, североамериканские колонии и даже государства Ин-
Дии, — с тем чтобы в совсем иных регионах Земли спровоцировать
определенные решения, которые в результате проведенной ошеломи¬
тельной комбинации принимаются как бы сами собой. Это игра по
строгим правилам, с вскрытыми письмами и тайными доверенными
ЛиЦами, с альянсами и конгрессами внутри системы правительств, на¬
ганной тогда с глубоким смыслом «концертом держав», полная nobles-
Se и esprit [благородство и дух (фр.)], если воспользоваться словами того
времени, такой вид удержания истории «в форме», о возникновении
°Добного которому где-либо еще невозможно даже и помыслить.
854
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
В западном мире, сфера влияния которого теперь совпадает почти со
всей поверхностью Земли, время абсолютного государства охватывает
насилу полтора столетия, от 1660 г., когда в Пиренейском мире дом Бур¬
бонов одержал верх над Габсбургами и Стюарты вернулись в Англию, до
войн Коалиции против Французской революции, в которых Лондой
победил Париж, или же до Венского конгресса, на котором старинная
дипломатия крови, а не денег в последний раз дала всему миру грандиоз¬
ное представление. Это соответствует эпохе Перикла между тираниями,
первой и второй, и «Чунь цю», «Вёсны и осени», как китайцы называют
время в промежутке от протекторов до «борющихся царств».
После того как одна за другой вымирают обе линии Габсбургов, в
фокусе дипломатической и военной истории оказываются события,
сосредоточивающиеся в 1710 г. вокруг испанского наследства, а в
1760 г. вокруг австрийского*. Это была кульминация последней эпохи
благородной политики, которая сохраняет традицию дистанции. Это
высшая точйа также и генеалогического принципа. Bella gerant alii, tufe-
lix Austria пиЬеш — то действительно было продолжение войны иными
средствами. Фраза эта некогда была пущена в обращение с намеком на
Максимилиана I, однако только теперь соответствующий принцип до¬
стигает своей высшей действенности. Войны фронды переходят в вой¬
ны за наследство, решения о которых принимаются в кабинете, а ведут
их небольшие армии галантными методами и по строгим правилам.
Речь здесь идет о наследстве в пол мира, собранном габсбургской брач¬
ной политикой раннего барокко. Государство все еще пребывает «в хо¬
рошей форме»; знать, сделавшаяся служилой и придворной знатью,
лояльна: она ведет войны короны и организует управление. Подле
Франции Людовика XIV в Пруссии возникает шедевр государственной
организации. Путь, по которому она двигалась от борьбы Великого
Курфюрста с его сословиями (1660) до смерти Фридриха Великого, ко¬
торый еще в 1786 г., за три года до взятия Бастилии, принял Мирабо, --
совершенно тот же, и он привел к созданию государства, которое, как и
французское, в каждом своем моменте представляет противополож¬
ность английскому устройству.
Разделяющая эти критические точки дистанция в пятьдесят лет, с особенной
четкостью проступающая на фоне прозрачного исторического строения барокко,
дистанция, которую можно различить также и в трех Пунических войнах, вновь ука¬
зывает на то, что космические потоки, принявшие на поверхности маленькой пла¬
неты облик человеческой жизни, не есть нечто обособленное, но находятся в гл> -
бинном созвучии с бесконечной подвижностью мироздания. В небольшой весьма
примечательнбй книге: (Mewes R. Die Kriegs- und Geistesperioden im Volkerleben und
Verkiindigung des nachsten Weltkrieges, 1896), устанавливается родство этих периодов
войны с погодными циклами, с пятнами на Солнце и определенными планетными
констелляциями, и на основании эгого на 1910—1920 гг. здесь предсказывается бо¬
льшая война. Однако эти и бесчисленные иные взаимозависимости, делающиеся
доступными нашим чувствам, скрывают в себе тайну, которую нам следует уважать,
а не насиловать своими каузальными объяснениями или мистическими мыслитель¬
ными хитросплетениями.
Глава четвертая. Государство
855
Ибо в Империи все иначе, чем в Англии, где фронда одержала побе¬
ду и нация управляется не абсолютистски, но сословно. Однако колос¬
сальное различие между ними заключается в том, что в силу островного
существования бблыиая часть забот оказалась с государства снята и
господствующее первое сословие, пэры верхней палаты, как и gentry,
наметило самоочевидной целью своей деятельности величие Англии,
между тем как в Империи верхний слой земельных государей (с Рейх¬
стагом в Регенсбурге в качестве верхней палаты) стремился к тому, что¬
бы выпестовать в «народы» подвластные им случайные обломки нации
и как можно резче отграничить эти свои «отчизны» друг от друга. Вмес¬
то общемирового горизонта, существовавшего в эпоху готики, здесь
сформировался — как в действиях, так и в мышлении — горизонт про¬
винциальный. Сама идея нации стала добычей царства мечтаний, это¬
го иного мира, мира не расы, но языка, не судьбы, но причинности. В
представлении, а в конце концов и на деле возник «народ» поэтов и
мыслителей, основавших свою республику в заоблачном царстве сти¬
хов и понятий, а напоследок уверовавших в то, что политика состоит в
идеальных писаниях, чтении и разговорах, а не в деяниях и решениях,
так что еще и сегодня ее путают с выражением чувств и умонастроений.
В Англии и в самом деле с победой gentry и «Биллем о правах» 1689 г.
государство было упразднено. Парламент назначил тогда королем Ви¬
льгельма Оранского, а позже помешал отставке Георгов I и II, причем
то и другое было сделано в сословных интересах. Бывшее в ходу еще
при Тюдорах слово state [государство (анг.)] выходит из употребления,
так что сегодня уже не перевести на английский слова Людовика XIV
«L’e'tat cyest moi» [Государство — это я (фр.)] и Фридриха Великого «Я
первый слуга моего государства». Напротив того, укореняется слово so¬
ciety [общество (анг.)] — как выражение того, что нация «находится в
форме» сословным образом, а не государственным, — слово, которое с
весьма показательным непониманием было перенято Руссо и конти¬
нентальными рационалистами, чтобы служить ненависти третьего со¬
словия, направленной против авторитетов*. Однако авторитет как go¬
vernment [правительство (анг.)] выражен в Англии с величайшей выпук¬
лостью, и его здесь понимают. Начиная с Георга I, его центр пребывает
в правящей комиссии господствующей в настоящий момент фракции
знати670, т. е. вовсе по конституции не существующем кабинете. Абсо¬
лютизм имеется в наличии, однако это абсолютизм сословного пред¬
ставительства. Понятие «оскорбления величества» перенесено на пар¬
ламент, как неприкосновенность римских царей — на трибунов. В на¬
личии и генеалогический принцип, однако он находит выражение в
Семейных отношениях внутри высшей знати, которые оказывают воз¬
действие на положение в парламенте. Руководствуясь семейными ин¬
тересами Сесилов, в 1902 г. Солсбери предложил в качестве своего пре-
Сюда и к последующему — «Пруссачество и социализм»669. S. 31 ff.
856
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
емника вместо Чемберлена собственного племянника Бальфура671.
Аристократические фракции тори и вигов разделяются со все большей
отчетливостью, причем очень и очень часто внутри одной семьи, в за-
висимости от перевеса точки зрения власти или добычи, т. е. в соответ¬
ствии с тем, что оценивается выше — земельная собственность или же
деньги*, что еще в XVIII в. породило на свет в среде высшей буржуазии
понятия respectable и fashionable [респектабельный и фешенебельный
(анг.)] как два противостоящих друг другу представления о джентльме¬
не. Государственное попечение обо всех всецело заменяется сословны¬
ми интересами, преследуя которые отдельный человек предъявляет
претензии на свободу (это и есть английская свобода), однако остро¬
вное существование и структура society создали такие условия, в кото¬
рых всякий, кто сюда относится (важное понятие в условиях сослов¬
ной диктатуры), в конечном счете обнаруживает, что его интересы
представлены одной из двух партий знати.
Античности отказано в таком связанном с историческим ощущени¬
ем западного человека постоянстве последней, глубочайшей и наиболее
зрелой формы. Тирания исчезает. Жесткая олигархия исчезает. Демос,
созданный политикой VI в. в качестве совокупности всех относящихся к
полису людей, в хаотических конвульсиях распадается на знать и
не-знать и вступает в проходящую внутри государств и между государст¬
вами борьбу, в которой каждая партия старается извести другую, дабы не
оказаться изведенной самой. Когда в 511 г., еще в эпоху тирании, Сиба-
рис был уничтожен пифагорейцами, это событие, как первое такого
рода, произвело на весь античный мир потрясающее впечатление. Люди
облачились в траур даже в далеком Милете. Теперь же искоренение по¬
лиса или противной партии становится столь обыкновенным явлением,
что вырабатываются устойчивые обычаи и методы, соответствующие
схемам западноевропейского заключения мира позднего барокко: жите¬
лей могут убить либо продать в рабство, их дома могут снести до основа¬
ния либо поделить как добычу. Воля к абсолютизму налицо, причем со
времени греко-персидских войн — повсюду, в Риме и Спарте нисколько
не больше, чем в Афинах, однако намеренная обуженность полиса, этой
политической точки, и намеренная кратковременность здешних дол¬
жностей и целей делают невозможным упорядоченное решение вопроса
о том, кому «быть государством»**. Мастерство напоенной традицией за¬
падноевропейской кабинетной дипломатии, с одной стороны, и антич¬
ный дилетантизм — с другой, дилетантизм, вызванный недостатком не в
личностях (личности-то имелись), но исключительно недостатком по¬
литической формы. Путь, который проделала эта форма от первой до
* Landed и funded interest (Hatschek J. Engl. Verfassungsgeschichte. 1913. S. 589 ff-)-
P. Уолпол, основатель партии вигов (с 1714), имел обыкновение называть себя и госу¬
дарственного секретаря Таунзенда «фирмой», которая, находясь в руках различных
владельцев, безраздельно властвовала до 1760 г.
** Pohlmann R. v. Griech. Gesch. 1914. S. 223—245.
Глава четвертая. Государство
857
агорой тирании, не оставляет сомнений и всецело соответствует разви-
Y0JO событий во всяком позднем времени, однако специфически антич-
НЬ1М стилем оказывается беспорядочность, случайность, и иначе оно и
jje могло быть в этой цепляющейся за мгновение жизни.
Важнейший пример этого являет собой развитие Рима на протяже¬
нии V в., которое вплоть до настоящего времени продолжает вызывать
столь много споров также и потому, что в нем искали постоянства, ка¬
кого там, как и во всех вообще античных государствах, быть не может.
Кроме того, развитие это трактовалось как что-то совершенно прими¬
тивное, между тем как на самом деле государство Тарквиниев должно
было пребывать в уже чрезвычайно продвинутом состоянии, оставив
примитивный Рим в далеком прошлом. То, что существовало в V в., не¬
велико по размаху, если сравнивать с эпохой Цезаря, однако не архаич¬
но. Поскольку, однако, письменное предание отличалось здесь скудо¬
стью (как и повсюду, за исключением Афин), литературный вкус, на¬
чиная с Пунических войн, заполнил пробелы поэтическим вымыслом,
причем, поскольку ничего иного от эпохи эллинизма ожидать не при¬
ходилось, в духе идиллической патриархальности; достаточно вспом¬
нить Цинцинната. Современная наука в эти истории больше не верит,
однако она находится под впечатлением стилистики, по законам кото¬
рой они были придуманы, и смешивает ее с реальными обстоятельст¬
вами эпохи, причем это еще усугубляется тем, что греческая и римская
история рассматриваются как два обособленных мира и, по дурному
обыкновению, начало истории приравнивается ко времени удостове¬
ренного о ней свидетельства. Однако положение, существовавшее в
500 г., с гомеровским не имеет ничего общего. Как это доказывается
протяженностью стен, Рим при Тарквиниях был наряду с Капуей са¬
мым большим городом Италии, бблыиим, чем Фемистокловы Афины*.
Город, с которым заключает торговые договоры Карфаген, — это уж
никак не крестьянская община. Однако отсюда следует, что население,
входившее в четыре городские трибы в 471 г., было весьма могуче, быть
может, превосходило по численности все вместе взятые шестнадцать
незначительных, рассеянных в пространстве сельских триб.
Meyer Ed. Gesch. d. Altertums V, § 809. Если латынь становится литературным
ЯЗЫком лишь очень поздно, после Александра Великого, то отсюда следует лишь то,
410 при Тарквиниях во всеобщем употреблении находились греческий и этрусский, что
совершенно само собой разумеется для города такой величины и имеющего такое по¬
ложение, для города, состоящего в отношениях с Карфагеном, ведущего общие войны
5 Сумами и пользующегося дельфийской сокровищницей Массалия, для города, чья
система мер и весов была дорической, а военное дело сицилийским, наконец, для горо-
Ла> в котором имелась большая колония иноземцев. Ливий (IX 36) отмечает, ссылаясь
а старинные сведения, что еще ок. 300 г. римские мальчики получали этрусское вос-
^ание совершенно так же, как впоследствии — воспитание греческое. Прадревняя
^РМа имени Одиссей — Улисс — доказывает, что гомеровское сказание о героях было
не только известно, но даже и вошло в народное сознание. Не только в содержа-
со Ьн°м плане, но и стилистически положения законов XII таблиц (ок. 450) настолько
^Падают с относящимися приблизительно к тому же времени законами Гортины на
JjPHre, что трудившиеся над ними римские патриции наверняка были коротко знако-
^ с юридическим греческим языком.
858 Том 2 ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Великий успех земельной знати, заключавшийся в свержении несо¬
мненно в высшей степени народной по духу тирании и в установлении
неограниченного господства сената, был сведен на нет целым рядом
сопряженных с насилием событий ок. 471 г.: заменой родовых триб че¬
тырьмя большими городскими округами, учреждением трибунов как
их представителей, пользующихся правом неприкосновенности, т. е.
обладающих царским правом, которого не удостаивается ни одна из
аристократических административных должностей, и, наконец, осво¬
бождением мелкого крестьянства от положения клиентуры знати.
Трибунат — наиболее удачное создание этого времени, а тем самым
и античного полиса вообще. Это тирания, возведенная на уровень интег¬
рирующей составной части государственного устройства, причем суще¬
ствует она наряду с олигархическими должностями, которые все без
исключения сохраняются и дальше. Тем самым, однако, социальная
революция оказывается переведенной в легитимные формы, и, в то вре¬
мя как повсюду в иных местах она разряжается дикими конвульсиями,
здесь она становится борьбой, которая протекает на форуме и, как пра¬
вило, удерживается в рамках ораторской полемики и голосований. Не
надо было провозглашать никакого тирана, потому что тиран имелся
уже налицо. Трибун обладал суверенными правами, не имея никаких
административных, и в силу своей неприкосновенности мог претво¬
рять в жизнь столь революционные акты, что в любом другом полисе
без уличных боев они были бы немыслимы. Он появился на свет слу¬
чайно, однако никакое другое создание Рима не способствовало его
возвышению так, как это. Только здесь переход от первой тирании ко
второй и дальнейшее развитие, еще и после Замы, происходят без ката¬
строф, хотя и не без потрясений. Через трибуна пролегает путь от Тарк-
виниев к Цезарям. По lex Hortensia 287 г. он становится всесильным:
это есть вторая тирания в конституционной форме. Во II в. трибуны
арестовывали консулов и цензоров. Гракхи были трибунами, Цезарь
возложил на себя постоянный трибунат, и эта почетная должность яв¬
ляется существенной составляющей в принципате Августа, единствен¬
ной, сообщающей ему суверенитет.
Кризис 471 г. был общеантичным, и направлен он был против оли¬
гархии, которая также и теперь, уже среди созданного тиранией демоса,
желала играть первую скрипку. Олигархия здесь — это уже не противо¬
стояние ее как сословия несословию, как в эпоху Гесиода, но как пар¬
тии — другой партии, причем внутри имеющегося здесь абсолютного го¬
сударства. В Афинах в 487 г. произошло свержение архонтов и передача
их прав коллегии стратегов*. В 461 г. был свергнут соответствующий се¬
нату ареопаг. На Сицилии, находившейся с Римом в тесных отношени¬
ях, демократия победила в Акраганте в 471 г., в Сиракузах — в 465 г.. в
Это мероприятие — узурпация административных функций народной армией
соответствует введению военных трибунов с консульской властью в результате армеИ'
ских беспорядков 438 г.
f/iaea четвертая. Государство
859
регии и Мессане — в 461 г. В Спарте цари Клеомен (488) и Павсаний
(470) безуспешно пытались освободить илотов, говоря по-римски —
клиентуру, придав тем самым царской власти в оппозиции олигархиче¬
ским эфорам значение римского трибуната. Здесь и в самом деле отсут¬
ствует то, что в Риме наукой просто упускается из виду, — население
торгового города, придающее таким движениям направление и размах,
и по этой причине в конце концов потерпело крушение также и большое
восстание илотов 464 г., по модели которого, быть может, и была сочи¬
нена римская легенда об удалении плебса на Священную гору672.
В полисе земельная аристократия и городской патрициат друг с дру¬
гом совпадают (в этом, как мы видели, и заключается цель синойкизма),
буржуазия же и крестьяне — нет. В борьбе против олигархии они слива¬
ются в одну-единственную партию, а именно демократическую, в иных
же случаях их тут две. Это проявляется в следующем же кризисе, в кото¬
ром римский патрициат ок. 450 г. совершает попытку восстановить свою
власть как партии. Ибо именно так следует понимать и учреждение де¬
цемвиров, в результате чего трибунат оказался упраздненным, и право
XII таблиц, по которому только-только добившемуся политического су¬
ществования плебсу было отказано в праве на сопиЫит и commerciumm,
но в первую голову — создание маленьких сельских триб, где древние
роды пользовались безоговорочным влиянием не только в правовом
смысле, но и фактически и которые имели безусловное большинство —
16 против 4 — в трибутных комициях, появившихся теперь наряду с цен-
туриатными. Тем самым крестьянство лишило буржуазию прав, и это,
несомненно, был результат проведенной партией патрициата комбина¬
ции, где таким нанесенным совместно ударом заявило о себе разделяе¬
мое патрициатом отвращение села к городскому денежному хозяйству.
Ответная реакция последовала очень быстро, ее можно усматривать
в увеличении — именно до десяти — количества трибунов, появляю¬
щихся после сложения децемвирами своих полномочий*, однако как
логическое продолжение этого события следует рассматривать попыт¬
ку установления тирании Спурием Мелием (439), введение армией во¬
енных трибунов с консульской властью взамен гражданских чиновни¬
ков (438) и lex Canuleia [закон Канулея (лат.)] (445), вновь отменивший
запрет на сопиЫит между патрициями и плебеями.
Не может быть никакого сомнения в том, что в это время как среди
римских патрициев, так и среди плебеев существовали группировки,
Желавшие покончить с принципиальной чертой римского полиса, а
Именно противостоянием сената и трибуната и (в зависимости от своей
Принадлежности к тому или иному лагерю) упразднить одну из этих
с*л, однако форма эта настолько удалась, что серьезно под вопрос не
Мы ^огласно В. Niese. Современная наука права в том, что поначалу децемвират
*слился в качестве временной должности; спрашивается, однако, какие цели пресле-
зил а новым распределением должностей стоявшая за этим партия, а кризис разра-
Ш1ся наверняка именно из-за этого.
860 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ставилась никем. После того как армия настояла на том, чтобы плебс
был допущен к высшим государственным должностям (399), борьба
принимает совершенно иное направление. Внутриполитически V сто¬
летие можно охарактеризовать как борьбу вокруг легитимной тирании;
начиная с этого момента биполярное устройство государства оказыва¬
ется признанным и партии борются уже не за упразднение высших
должностей, но за обладание ими. Вот к чему сводится содержание ре¬
волюции эпохи самнитских войн. В 287 г. плебс добивается доступа ко
всем должностям, и одобренные им предложения, внесенные трибуна¬
ми, тут же приобретают силу закона; с другой стороны, начиная с этого
момента сенат практически всегда с помощью того же подкупа получа¬
ет возможность побудить хотя бы одного из трибунов к интерцессии674
и тем самым упраздняет мощь трибуната. В борьбе двух полномочий юри¬
дическое чутье римлян было отшлифовано до утонченности. Между
тем как повсюду вне Рима обыкновенны решения, проводимые с по¬
мощью кулаков и палок (техническое выражение для этого — хирокра-
тия675), здесь в классическую эпоху римского государственного права, в
IV в., выработалась привычка к соперничеству понятий и интерпрета¬
ций, когда решающее значение могло оказаться за тончайшим оттен¬
ком в словесной формулировке закона.
Однако Рим со своим равновесием сената и трибуната пребывал в
античности в полном одиночестве. Повсеместно в прочих местах вста¬
вал вопрос не о «больше-меньше», но об «или-или», причем именно в
вопросе о выборе между олигархией и охлократией. Абсолютный по¬
лис и тождественная с ним нация имелись в наличии, однако, что каса¬
ется внутренних форм, ничего-то устоявшегося здесь не наблюдалось.
Победа одной партии влекла за собой также и уничтожение всех учреж¬
дений другой, так что выработалась привычка: ничто на свете не почи¬
тать столь достойным уважения и целесообразным, чтобы его следова¬
ло поставить превыше злободневной схватки. Спарта пребывала, если
позволительно так выразиться, в сенатской форме, Афины — в трибун¬
ской, и к началу Пелопоннесской войны (431) альтернативы до такой
степени сложились в устоявшиеся мнения, что, кроме радикальных ре¬
шений, мы здесь больше ничего не встречаем.
Тем самым будущее Рима было гарантировано. То было единствен¬
ное государство, в котором политические страсти обращались против
лиц, а уже не против учреждений, единственное, пребывавшее «в проч¬
ной форме» — senatuspopulusque Romanusт, т. е. сенат и трибунат, та о г-
литая из одного куска форма, на которую больше не покушается ни одна
партия, между тем как все прочие государства — самими пределами, по¬
ложенными раскрытию их сил внутри мира античных государств, — Д°'
казывают вновь и вновь, что внутренняя политика существует исключи¬
тельно для того, чтобы делать возможной политику внешнюю.
Глава четвертая. Государство
861
И
И в этот-то момент, когда культура вот-вот станет цивилизацией,
цесословие решительным образом вмешивается в события, причем
впервые в качестве самостоятельной силы. При тирании и фронде го¬
сударство призывало его себе на помощь против сословий в собствен¬
ном смысле, но лишь теперь оно начинает ощущать себя как силу. Те¬
перь оно использует эту свою силу уже для себя, причем как сословие
свободы — против всех остальных, усматривая в абсолютном государ¬
стве, в короне, в сильных учреждениях естественных союзников
пра-сословий, а также подлинных и последних представителей симво¬
лической традиции. Вот в чем разница между первой и второй тира¬
нией, между фрондой и буржуазной революцией, между Кромвелем и
Робеспьером.
Государство с его великими требованиями, предъявляемыми каж¬
дому, воспринимается городским разумом как обуза, и точно так же
обузой начинают казаться великие формы искусства барокко, так что
все теперь делаются классицистами или романтиками, т. е. принима¬
ются хромать по части формы или вообще ее теряют: немецкая литера¬
тура после 1770 г. — сплошь революция отдельных сильных личностей
против строгой поэзии. Идея «пребывания в форме для чего-то» стано¬
вится невыносимой сразу для всей нации, потому что «в форме» боль¬
ше не находится ни один индивидуум. Это относится к нравам, это от¬
носится к искусствам и мыслительным построениям, но в первую оче¬
редь это относится к политике. Отличительный признак всякой
буржуазной революции, местом действия которой оказывается исклю¬
чительно большой город, — отсутствие понимания древних символов,
на место которых теперь заступают вполне очевидные интересы, пус¬
кай то будут всего только пожелания воодушевленных мыслителей и
миросовершенствователей увидеть свои представления реализованны¬
ми. Ценно лишь то, что в состоянии оправдаться перед разумом; одна¬
ко, лишенная величия насквозь символической и именно в силу этого
метафизически действенной формы, национальная жизнь утрачивает
силу, необходимую, чтобы самоутвердиться посреди исторических по¬
токов существования. Проследим за отчаянными попытками француз -
ского правительства удержать страну «в форме», предпринятыми при
огРаниченном Людовике XVI очень малым числом способных и даль¬
новидных людей после того, как внешнее положение после смерти
Нерженна677 стало складываться очень и очень серьезно (1787). Со
смертью этого дипломата Франция на годы выбывает из европейских
Политических игр; в то же время широкомасштабная реформа, прове¬
янная короной несмотря на все оказанное сопротивление, и в первую
плову всеобщая административная реформа этого года на основе са-
°го свободного самоуправления, остается абсолютно безрезультат¬
но поскольку ввиду уступчивости государства во главу угла для со¬
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЬ]
862
словий внезапно выдвинулся вопрос о власти*. Как столетие назад и
как столетие спустя с неумолимой неизбежностью приближалась евро-
пейская война, которая разразилась на этот раз в форме революцион¬
ных войн, однако на внешнее положение страны никто больше внима¬
ния не обращал. Знати как сословию редко доводится мыслить внеш¬
неполитически и всемирно-исторически, буржуазии как сословию —
никогда: вопросом о том, сможет ли государство в новой форме удер¬
жаться на плаву среди других государств, не задается абсолютно никто;
главное для всех и каждого — обеспечить свои «права».
Однако буржуазия, сословие городской «свободы», как ни сильно
оставалось ее сословное чувство на протяжении многих поколений (в
Западной Европе еще и после Мартовской революции678), вовсе не все¬
гда бывала способна контролировать собственные действия. Ибо во вся¬
ком критическом положении на первый план выступает то обстоятель¬
ство, что единство ее чисто негативно, т. е. реально существует лишь в
моменты Сопротивления чему-то иному («третье сословие» и «оппози¬
ция» — почти синонимы), но всегда в тех случаях, когда необходимо вы¬
строить что-то свое, интересы отдельных групп далеко расходятся друг
от друга. Быть от чего-то свободными желают все; однако перед лицом
насилия исторических фактов дух желал государства как реализации
«справедливости», или всеобщих прав человека, или свободы критики
господствующей религии; а деньги желали себе свободы ради экономи¬
ческих успехов. Очень много было и таких людей, кто требовал покоя и
отказа от исторического величия или же настаивал на благоговении пе¬
ред теми традициями и их воплощениями, которыми они (телесно или
же душевно) жили. Однако начиная с определенного момента возникает
еще один элемент, которого в сражениях фронды, а значит, Английской
революции и первой тирании вовсе не было, теперь же он представляет
собой силу, — я говорю о том, что во всех цивилизациях совершенно од¬
нотипно обозначается как «подонки», «сброд» или «чернь». В больших
городах, которые единолично все теперь и определяют (как это доказы¬
вают события всего XIX в., село способно в лучшем случае на то, чтобы
занять какую-то позицию по отношению к уже произошедшим событи¬
ям**), собираются отрады населения, утратившего почву, находящегося
вне каких-либо общественных связей. Оно не ощущает своей принад-
Wahl A. Voi^esch. der franz. Revolution. 1907. Bd. И, — единственное изображение
со всемирно-исторических позиций. Все французы, в том числе и современнейшие, га-
кие, как Олар и Сорель, взирают на предмет с точки зрения той или иной партии. Гово'
рить об экономических причинах этой революции — материалистическая околесина
Даже положение крестьян (от которых-то возбуждение как раз и не исходило) были
лучше, чем в большинстве других стран. Катастрофа начинается скорее среди образо¬
ванных кругов, причем всех сословий, среди аристократии и духовенства даже раньше
чем среди высшей буржуазии, поскольку в ходе первого собрания нотаблей 1787 г. об¬
наружилась возможность радикально преобразовать форму правления в соответствии ^
пожеланиями сословий.
Даже в высокой степени провинциальная Мартовская революция в Германии
свершилась как дело рук исключительно города и потому разыгрывалась среди исчеза¬
юще малой части населения.
f/toea четвертая. Государство
863
дежности ни к какому бы то ни было сословию, ни к какому бы то ни
было профессиональному классу, в глубине души даже к рабочему клас¬
су оно не принадлежит, хотя оказывается вынуждено работать; по свое-
^iy инстинкту сюда могут относиться члены всех сословий и классов —
стронутые с земли крестьяне, литераторы, разорившиеся предпринима¬
тели, но прежде всего сбившаяся с пути аристократия, что с ужасающей
ясностью обнаружила эпоха Катилины. Их сила далеко превосходит их
численность, потому что они всегда тут как тут, всегда поблизости вели¬
ких решений, готовые на все и лишенные какого-либо благоговения пе¬
ред всем упорядоченным, пускай даже то будет порядок внутри револю¬
ционной партии. Лишь они и сообщают событиям ту разрушительную
мощь, которая отличает Французскую революцию от Английской и вто¬
рую тиранию от первой. Буржуазия с неподдельным страхом уклоняется
от этой толпы, более всего желая, чтобы ее с ней не путали (одной из та¬
ких самозащитных реакций, 13 вандемьера679, Наполеон обязан своим
восхождением), однако в суматохе событий провести границу оказыва¬
ется невозможно, и всюду, где буржуазия наносит старым порядкам
свои пустяшные, если сопоставить их с численностью ее самой, уда¬
ры (пустяшные потому, что всякий миг на карту оказывается поставлен¬
ным ее внутреннее единство), толпа эта пробивается в ее ряды и на са¬
мую верхушку, в преобладающем большинстве случаев только и решая
успех дела и очень часто оказываясь способной утвердиться в достигну¬
том положении, причем нередко это происходит с моральной поддерж¬
кой со стороны образованных слоев, привлеченных сюда рассудочными
построениями, или же поддержкой материальной со стороны власти де¬
нег, которая переводит опасность с себя на аристократию и духовенство.
Однако для этой эпохи важно еще и то, что здесь абстрактные исти¬
ны впервые пытаются вмешаться в область фактов. Столицы сделались
так велики, а городской человек обладает таким превосходством в
своем влиянии на бодрствование всей культуры в целом (влияние это
зовется общественным мнением), что прежде абсолютно неприкосно¬
венные силы крови и заложенной в крови традиции оказываются те¬
перь подорванными. Ибо необходимо вспомнить, что как раз барочное
государство и абсолютный полис в финальном завершении их формы
представляют собой от начала и до конца живое выражение расы и ис-
т°Рия, как она осуществляется в этой форме, обладает совершенным
тактом этой расы. Если здесь и появляется теория государства, то она
выведена из фактов и преклоняется перед их величием. Идея государ¬
ства обуздала наконец кровь первого сословия и всецело, без остатка,
доставила его себе на службу. «Абсолютно» — это означает, что вели-
поток, существования находится «в форме» как единство, что он
оладает одной разновидностью такта и инстинкта вне зависимости от
0г°, как он будет проявляться — как дипломатический или стратеги-
еский такт, как благородные нравы или же как изысканный вкус в ис-
^сствах и мыслях.
864 Том 2 ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
И вот в противоречии с этим великим фактом, распространение по¬
лучает ныне рационализм, эта общность бодрствования образованных
слоев* **, религия которых состоит в критике, a numina их — не божества,
но понятия. Книги и общие теории приобретают теперь влияние на по¬
литику — в Китае времени Лао-цзы точно так же, как в софистических
Афинах и в эпоху Монтескьё, — и сформированное ими общественное
мнение как политическая величина совершенно нового рода встает на
пути у дипломатии. Противоестественным было бы предположение о
том, что Писистрат или Ришелье, или даже Кромвель принимали свои
решения под воздействием абстрактных систем, однако со времени
победы Просвещения дело обстоит именно так.
Разумеется, историческая роль великих цивилизованных понятий
не имеет ничего общего со свойствами, которыми они обладают в пре¬
делах самих ученых идеологий. Воздействие истины не имеет ничего
общего с ее тенденцией. В мире фактов истины — это лишь средства,
поскольк^они властвуют умами и тем самым определяют действия. Их
исторический ранг определяется не тем, глубоки ли они, верны или
даже хотя бы логичны, но тем, что они действенны. Не имеет совер¬
шенно никакого значения, верно ли их поняли и поняли ли их вообще.
Все это уже содержится в слове «лозунг»6*0. То, что для великих ранних
религий было несколькими сделавшимися переживанием символа¬
ми, — как Гроб Господень для крестоносцев или существо Христа для
эпохи Никейского собора — во всякой цивилизованной революции
находит выражение в двух-трех воодушевленных выкриках. Факты —
одни только лозунги; все прочее содержание философской или социа¬
льно-этической системы историю не интересует. Однако в качестве та¬
ковых они оказываются наидейственнейшими силами на протяжении
приблизительно двух столетий, обнаруживая свое превосходство над
тактом крови, приглушенно звучащим внутри каменного мира раски¬
нувшихся городов.
И все же, все же — критический дух является лишь одной из двух
тенденций, обнаруживаемых неупорядоченной массой несословия.
Рядом с абстрактными понятиями на сцену являются абстрактные, от¬
влеченные от изначальной ценности земли деньги, рядом с мыслиль-
ней — контора в качестве политической силы. Они внутренне родст¬
венны и неотделимы друг от друга. Это все та же ранняя противопо¬
ложность духовенства и знати, с неослабевшей остротой в городской
своей редакции продолжающаяся внутри буржуазии *. Причем деньги
как чистый факт безусловно превосходят идеальные истины, которые,
как сказано, существуют лишь в качестве лозунгов, средств для мир^1
фактов. Если понимать под демократией форму, которую третье сосло¬
вие как таковое желает придать всей вообще общественной жизни, то
следует прибавить, что демократия и плутократия равнозначны. Они
* С. 558, 763 сл.
** С. 805 сл., 819 сл.
fyaea четвертая. Государство 865
относятся друг к другу, как желание — к действительности, теория — к
Практике, познание — к успеху. Сущей трагикомедией оказывается от¬
паянная борьба, которую мироусовершители и исповедники свободы
ведут также и против действия, производимого деньгами, поскольку
как раз этим-то они его и поддерживают. К сословным идеалам несо-
словия относятся как благоговение перед большими числами — как
оно проявляется в понятиях всеобщего равенства, естественных прав
человека и, наконец, в принципе всеобщего избирательного права, —
так и свобода общественного мнения, прежде всего свобода печати.
Это идеалы, однако в реальности свобода общественного мнения
включает и обработку этого мнения, которая стоит денег, свобода пе¬
чати — владение печатным станком, являющееся вопросом денег, а из¬
бирательное право — избирательную агитацию, зависящую от пожела¬
ний того, кто дает деньги. Представители идей усматривают лишь одну
сторону, представители денег работают с другой. Все понятия либера¬
лизма и социализма были приведены в движение лишь деньгами, при¬
чем в интересах денег. Народное движение Тиберия Гракха стало воз¬
можным лишь благодаря партии крупных финансистов, equites, и оно
завершилось, стоило ей убедиться в том, что сулившая ей выгоды часть
законов гарантирована, и отойти в сторону. Цезарь и Красе финанси¬
ровали движение катилинариев и перенацеливали его с собственности
на сенат. В Англии видные политики уже ок. 1700 г. установили, «что
на бирже выборами оперируют так же, как ценными бумагами, и цена
одного голоса известна так же хорошо, как и акра земли» . Когда сооб¬
щение о Ватерлоо достигло Парижа, курс французской ренты там под¬
нялся: якобинцы уничтожили старинные кровные связи, дав тем са¬
мым свободу деньгам, которые выступили теперь на сцену и захватили
господство над страной *. Нет на свете ни пролетарского, ни даже ком¬
мунистического движения, которое бы не действовало в интересах де¬
нег (причем так, что идеалистами среди его руководства это никогда не
осознается), в том направлении, которое деньгам желательно и посто¬
льку, поскольку того желают деньги***. Дух мудрит, а деньга велит — та¬
ков порядок во всех клонящихся к закату культурах, с тех пор как боль¬
шой город сделался господином над всем прочим. Однако в конечном
счете никакой несправедливости к духу здесь нет. Ведь тем самым
°н-таки победил, а именно победил в царстве истин, царстве книг и
реалов, — того, что не от мира сего. Его понятия сделались священны
*
м Hatschek J. Engl. Verfassungsgeschichte. S. 588.
в Однако даже во время террора прямо в Париже имелось заведение д-ра Бельома,
°*>Ром столовались и танцевали представители высшей знати, находившиеся вне
lm; опасности, пока они были в состоянии платить якобинцам (Lenotre G. Das revo-
1Utl?nare Paris. S. 409).
При ^ликое движение, пользующееся лозунгами Карла Маркса, не сделало пред-
Мос£ИМательский класс зависящим от рабочих, но тех и других поставило в зависи-
гь ОТ биржи.
мира
28
^акат Западного
866
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ы для начинающейся цивилизации. Однако ими-то и побеждают день¬
ги в своем царстве, царстве лишь от этого мира.
В рамках западноевропейского мира государств обе стороны буржу¬
азной сословной политики — как идеальная, так и реальная — прошли
свою высшую школу в Англии. Здесь, и только здесь, третьему сосло¬
вию не было нужды выступать против абсолютного государства, с тем
чтобы его разрушить и на обломках возвести собственное господство;
напротив, третье сословие вросло здесь в крепкую форму первого, где
оно нашло уже сформированную в готовом виде политику интересов, а
в качестве ее методов — тактику с древней традицией, такую, что ни о
чем лучшем в собственных целях ему и мечтать не приходилось. Здесь
подлинный и совершенно неподражаемый парламентаризм находится
у себя дома, — парламентаризм, предполагающий взамен государства
островное существование, а также обыкновения не третьего, но перво¬
го сословия. Кроме того, важно то, что данная форма выросла еще в са¬
мый расцвет барокко, так что она музыкальна. Парламентский стиль
совершенно тождествен с кабинетной дипломатией*; на этом-то анти¬
демократическом происхождении и основывается тайна его успеха.
Однако также и все сплошь рационалистические лозунги возникли
на английской почве, причем в тесном контакте с фундаментальными
положениями Манчестерской школы681: учителем Адама Смита был
Юм. Liberty [свобода (англ.)] означает как что-то само собой разумеюще¬
еся духовную свободу и свободу предпринимательства. В Англии проти¬
воречие между реальной политикой и витанием в области абстрактных
истин так же немыслимо, как оно было неизбежно во Франции Людови¬
ка XVI. Впоследствии Эдмунд Бёрк мог настаивать в пику Мирабо: «Мы
требуем своих свобод не как прав человека, но как прав англичан». Все
без исключения революционные идеи Франция переняла от Англии,
точно так же как она восприняла от Испании стиль абсолютной коро¬
левской власти; она придала тому и другому блестящее и соблазнитель¬
ное оформление, оставшееся образцовым далеко за пределами конти¬
нента, однако в практическом их применении она ничего не смыслила.
Использование буржуазных лозунгов * в целях политического успеха
предполагает, что благородный класс обладает взглядом знатока на ду¬
ховную конституцию того слоя, который желал бы теперь достичь гос¬
подства, господствовать не умея, и потому взгляд этот выработался в Ан¬
глии. Но отсюда же пошло бесцеремонное использование денег в поли¬
тике — не тот подкуп отдельных занимающих высокое положение
личностей, какой был характерен для испанского и венецианского сти¬
ля, но обработка самих демократических сил. Здесь в XVIII в. впервые
планомерно с помощью денег организуются парламентские выборы, а
затем — ими же — проводятся и постановления нижней палаты * , а что
до идеала свободы печати, то здесь же, причем одновременно с его осу¬
ществлением, был открыт и тот факт, что пресса служит тому, кто ею
владеет. Она не распространяет «свободное мнение», но его создает.
Глава четвертая. Государство 867
Вместе то и другое либерально, а именно свободно от оков связан¬
ной с землей жизни, будь то права, формы или чувства: дух свободен
ддя любого рода критики, деньги свободны для любого гешефта. Одна¬
ко оба они без стеснения ориентированы на господство одного сосло¬
вия, не признающего над собой суверенитета государства. Совершенно
неорганичные дух и деньги желают государства не как естественно
произросшей формы, обладающей великой символикой, но как уч¬
реждения, служащего одной цели. В этом и заключается их отличие от
сил фронды, которые лишь защищали готический способ пребывания
«в живой форме» от барочного, но теперь, когда обе формы — и готиче¬
ская и барочная — принуждены к обороне, их едва можно отличить
друг от друга. Только в Англии, подчеркиваем это еще и еще раз, фрон¬
да в открытой борьбе разоружила не только государство, но и — в силу
внутреннего превосходства — третье сословие, а потому достигла един¬
ственного в своем роде демократического пребывания «в форме», ко¬
торое не было спроектировано или скопировано, но вызрело, является
выражением древней расы и непрерывного и надежного такта, способ¬
ного управиться с любым новым средством, какое уготавливает ему
время. Поэтому английский парламент и участвовал вместе с абсолют¬
ными государствами в войнах за наследство, однако вел он их как вой¬
ны экономические с чисто деловой конечной целью.
Недоверие к высокой форме во внутренне бесформенном несосло-
вии настолько велико, что оно всегда и повсюду оказывалось готовым к
тому, чтобы спасти свою свободу — от всякой формы! — с помощью
диктатуры, которая беспорядочна, а потому чужда всему органически
произросшему, однако как раз механизированным моментом своей
действенности отвечает вкусу духа и денег. Достаточно вспомнить хотя
бы возведение французской государственной машины, начатое Ро¬
беспьером и завершенное Наполеоном. Руссо, Сен-Симон, Родбертус
и Лассаль желали диктатуры в интересах одного сословного идеала
точно так же, как античные идеологи IV в.: Ксенофонт — в «Киропе-
Дии» и Исократ — в «Никокле»*.
^ Обе партии в Англии возводят свои традиции и нравы к 1680 г.
Также и в Англии нравственно-политическое Просвещение является продуктом
третьего сословия (Пристли, Пейли, Пейн, Годвин) и потому не имеет с благородным
кУсом Шефтсбери абсолютно ничего общего.
Канцлер казначейства Пелем, преемник Уолпола, передавал в конце каждой сессии
Наг? своего секретаря членам нижней палаты по 500—800 фунтов в зависимости от цен-
Тф/Ти Услуг, оказанных ими правительству, т. е. партии вигов. Партийный агент Додинг-
сутс??СаЛ В ^1 г. относительно своей парламентской деятельности: «Я никогда не при-
кот?ВОВал на де^атах> если мог их избежать, и никогда не отсутствовал на голосовании, на
Дал Р°М мог присутствовать. Мне довелось выслушать много доводов, которые меня убеж-
;Но никогда и ни одного такого, который бы повлиял на мое голосование».
Ин_ То, что такой идеал персональной власти фактически означает здесь диктатуру в
гим ?есах буржуазных и просвещенных идеалов, выявляет его противоречие со стро-
Несп?С^арственньш идеалом полиса, над которым, по Исократу, тяготеет проклятие
°собности умереть.
868
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
В известном высказывании Робеспьера: «Революционное правите-
льство — это деспотизм свободы против тирании» — находит выраже¬
ние глубинный страх, охватывающий всякую толпу, чувствующую неу-
веренность в своей форме перед лицом серьезности событий. Войско с
пошатнувшейся дисциплиной по своей воле предоставляет случай¬
ным, подвернувшимся вдруг вождям такие полномочия, которые и по
объему их, и по сути были недоступны законному командованию, да и
вообще непереносимы в легитимном порядке. Однако таково же, если
только соответственно увеличить масштабы, и положение в начале
всякой цивилизации. Нет ничего более характерного для упадка поли¬
тической формы, чем появление лишенных формы сил, которые по наи¬
более знаменитому своему примеру можно обозначить как бонапар¬
тизм. С какой полнотой существование Ришелье и Валленштейна свя¬
зано еще с неколебимой традицией их времени! Как исполнена формы
Английская революция при всем кажущемся ее нестроении! Теперь же
все наоборот? Фронда борется за форму, абсолютное государство — в
ней, буржуазия — против нее. Новость не в том, что вдребезги разбит
отживший свое порядок, — это делали и Кромвель, и вожди первой ти¬
рании. А вот то, что позади зримых руин больше не возвышается ника¬
кой невидимой формы, что Робеспьер и Бонапарт не находят в себе и
вокруг себя ничего такого, что оставалось бы само собой разумеющимся
основанием нового оформления, что на место правительства с великой
традицией и опытом к руководству неизбежно приходят случайные
люди, будущее которых уже не обеспечено качествами неспешно вы¬
муштрованного меньшинства, но всецело зависит от того, найдется ли
значительный преемник, — вот что является характерной особенно¬
стью этого эпохального перелома и дает государствам, которые оказы¬
ваются в состоянии поддерживать традицию дольше других, колосса¬
льное, длящееся поколениями превосходство.
С помощью не-знати первая тирания довела полис до совершенст¬
ва; не-знать с помощью второй тирании его разрушила. С буржуазной
революцией IV в. полис гибнет как идея, пускай даже он продолжает
существовать дальше как учреждение, как привычка, как инструмент
наличной в данный момент власти. Античный человек никогда не пре¬
кращал политически думать и жить в формах полиса, однако для толпы
полис больше не был символом, почитаемым со священным трепетом,
точно так же как и западноевропейская монархия милостью Божьей, с
тех пор как Наполеон оказался близок к тому, чтобы «сделать свою ди¬
настию старейшей в Европе».
В этой революции, как и вообще всегда бывает в античности, ока¬
зываются возможными лишь местные и мгновенные решения, ничего
общего не имеющие с той великолепной дугой, по которой взлетает
Французская революция при взятии Бастилии, с тем чтобы завершить¬
ся Ватерлоо; и разворачивающиеся здесь действа оказываются тем бо¬
лее жуткими, что лежащее в основе этой культуры эвклидовское ошУ'
fAaea четвертая. Государство 869
щение представляет в качестве возможных лишь чисто телесные столк¬
новения сторон и вместо функционального включения потерпевших
поражение в одержавших победу — лишь их искоренение. На Керкире
(427) и в Аргосе (370) зажиточных убивают массами, в Леонтинах же
(422) они изгоняют низший класс из города и хозяйничают с рабами,
пока из страха возможного возвращения изгнанников вообще не отка¬
зываются от города и не переселяются в Сиракузы. Люди, спасшиеся
бегством от сотен таких революций, наводняли все античные города,
из них комплектовалась наемническая армия второй тирании; они же
делали небезопасным транспортное сообщение по суше и по морю. В
условиях мира, предлагавшихся диадохами, а позже римлянами, неиз¬
менно появляется требование принять обратно изгнанные группы на¬
селения. Однако сама же вторая тирания опиралась на акции в таком
роде. Дионисий I (405—367) обеспечил свое господство над Сиракуза¬
ми, высшее общество которых образовывало наряду с аттическим и не¬
зависимо от него центр наиболее зрелой эллинской культуры (Эсхил
ставил здесь ок. 470 г. свою трилогию «Персы»682), массовыми казнями
образованных людей и конфискацией всего их имущества. Затем он ра¬
дикально перетряс состав жителей: сверху — передав огромные владе¬
ния своим приверженцам, снизу — сделав гражданами массы рабов,
среди которых, как бывало и в других местах, распределялись жены и
дочери искорененного верхнего слоя*.
Для античности опять-таки характерно то, что тип этих революций
допускает лишь рост их числа, но не распространение. Они происходят
в массовом порядке, однако каждая развивается совершенно сама по
себе, в одной точке, и только одновременность их всех сообщает им ха¬
рактер цельного явления, составляющего эпоху. То же относится и к
бонапартизму, с которым бесформенное правление впервые возвыша¬
ется над структурой города-государства, не будучи в состоянии от нее
полностью внутренне освободиться. Он опирается на армию, которая
начинает себя ощущать перед лицом утратившей форму нации само¬
стоятельной политической величиной. Это — короткая дорожка от Ро¬
беспьера до Бонапарта: с падением якобинцев центр тяжести переме¬
щается с гражданской администрации на честолюбивых генералов.
Как основательно этот новый дух пронизал все государства Запада, по¬
казывают не только жизненные пути Бернадота и Веллингтона, но и
история воззвания «К моему народу» от 1813 г.: когда бьгкороль не при¬
пал решения о разрыве с Наполеоном, уже военные поставили бы под
вопрос дальнейшее существование прусской династии683.
*
Ший ^ИодоР» XIV 7. Тот же сюжет разыгрывается вновь в 317 г., когда Агафокл, быв-
Г°НЧаР’ напРавДяет банды своих наемников и толпу на новый верхний слой. После
Лю иНой ^°ани «народ» «очищенного города» собрался на сходку и вручил «спасите-
Нии СТИНН0Й и подлинной свободы» диктатуру — Диодор, XIX 6 слл. Обо всем движе-
I с ® Челом см-: Busolt. Griech. Staatskunde. S. 396 ff.; Pohlmann. Geschichte d. soz. Frage
* 416 ff.
870 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Вторая тирания возвещает о себе также и в том ниспровергающем
внутреннюю форму полиса положении, которое обрели в армиях своих
городов Алкивиад и Лисандр к концу Пелопоннесской войны. Пер¬
вый, при том что был изгнан, а значит, не состоял в должности, тем не
менее начиная с 411 г. против воли своей родины осуществлял факти¬
ческое руководство флотом; второй, хотя даже спартиатом не был,
ощущал свою полную независимость, стоя во главе лично преданной
ему армии. В 408 г. борьба двух держав превратилась в борьбу этих двух
людей за господство над миром эгейских государств . Вскоре после
этого Дионисий Сиракузский организовал крупную профессиональ¬
ную армию (он ввел также военные машины и орудия * ** *), чем придал
античной войне новую форму, которая послужит образцом еще и диа-
дохам, и римлянам. Начиная с этого момента дух армии становится са¬
мостоятельной политической силой, и это в высшей степени непро¬
стой вопрос — в какой степени государство является господином или
орудием солдат. То, что в 390—367 гг. * правительство Рима возглавля¬
лось исключительно военным комитетом****, достаточно четко выявля¬
ет обособленность политики армии. Известно, что Александр, роман¬
тик второй тирании, попал во всевозраставшую зависимость от воли
своих солдат и генералов, которые не только вынудили его отступить из
Индии, но и глазом не моргнув распорядились его наследством.
Все это также относится к сути бонапартизма, как и распростране¬
ние личного могущества на такие регионы, которые ни национальным,
ни правовым единством не обладают: все сводится исключительно к
военной стороне, а также к технологии администрирования. Однако
как раз такое распространение несовместимо с существом полиса. Ан¬
тичное государство — единственное, бывшее не способным ни к како¬
му организационному расширению, и завоевания второй тирании при¬
водят по этой причине к параллельному сосуществованию двух полити¬
ческих единств, полиса и покоренной области, связь между которыми
оказывается случайной и постоянно находится в угрожаемом положе¬
нии. Так возникает примечательная и в глубинном своем значении все
еще не познанная картина эллинистическо-римского мира: круг окра¬
инных областей, а посреди мельтешенье крошечных полисов, с которы¬
ми только и связано понятие государства как такового, res publica. В
* Meyer Ed. Gesch. d. Altertums IV. § 626, 630.
** Delbriick. Gesch. d. Kriegskunst, 1908, I. S. 142.
T. e. до года смерти Дионисия, что, возможно, вовсе не случайно.
Трое-шестеро tribuni militares consulari potestate вместо консулов. Как раз тогда,
должно быть, вследствие введения жалованья и длительного срока службы внутри ле¬
гионов возникло племя настоящих профессиональных солдат, избиравших центурио¬
нов и определявших дух войска. Поэтому начиная с этого момента совершенно бессо¬
держательны все наши рассуждения о призыве еще и крестьян. Более того, четыре бо¬
льшие городские трибы поставляли значительную часть рядового состава, а влияние
этой части еще превосходило численность. Даже грешащие патриархальщиной описа¬
ния Ливия и других позволяют с полной ясностью увидеть, какое влияние оказыв&ти
на борьбу партий постоянные войсковые соединения.
£Л(1йггиегпвертая. Государство 871
эТоМ центре, причем для каждой из этих держав в одной-единственной
точке, находится собственно арена всякой реальной политики. Orbis
terrarumm (весьма красноречивое выражение) является лишь ее средст¬
вом или объектом. Римские понятия imperium, т. е. диктаторских дол¬
жностных полномочий за пределами городских стен, котооые тут же
прекращаются, как только их носитель пересекаетротепитъ, и provin-
cia как противоположности res publica, соответствуют общеантичному
фундаментальному ощущению, которое знает лишь тело города как го-
сударство и политический субъект и рассматривает все «вовне» как
объект. Дионисий под корень истребил все государства вокруг отстро¬
енных на манер крепости Сиракуз и распространил свое господство от¬
сюда и через Нижнюю Италию с прибрежными областями Далмации
вплоть до Северной Адриатики, где он владел Анконой и Атрией в
устье По. Филипп Македонский, подражая своему учителю Язону из
фер, убитому в 370 г., следовал диаметрально противоположному пла¬
ну: сместить центр тяжести в пограничную область, т. е. практически в
армию, и оттуда осуществлять господство над миром эллинских госу¬
дарств. Так Македония распространилась до Дуная, а после смерти
Александра сюда прибавились еще державы Селевкидов и Птолемеев,
управлявшиеся каждая из одного полиса (Антиохии и Александрии),
причем посредством уже имевшейся здесь местной администрации,
которая, как бы то ни было, оказывалась лучше любой античной. Сам
Рим в это же время (ок. 326—265) выстроил свою среднеиталийскую
державу как единое пограничное государство, со всех сторон укрепив его
системой колоний, союзников и общин латинского права. Далее, на¬
чиная с 237 г., Гамилькар Барка завоевывает для давно уже живущего в
античных формах Карфагена испанскую державу, Гай Фламиний, на¬
чиная с 225 г., для Рима — равнину По, и, наконец, Цезарь — свою
галльскую державу. На этом фоне поначалу разыгрываются наполео¬
новские сражения диад охов на Востоке, затем — западные между Сци¬
пионом и Ганнибалом, которые — и тот, и другой — также переросли
рамки полиса, и, наконец, цезарианские схватки триумвиров, опирав¬
шихся на совокупность всех пограничных областей и их средств, чтобы
«быть первым в Риме». 1212
Крепкая и удачная форма государства, какая была достигнута
°к- 340 г., удержала в Риме социальную революцию в конституционных
Рамках. Такое наполеоновское явление, как цензор 310 г. Аппий Клав¬
дий, строитель первого водопровода и Аппиевой дороги, правивший в
Име почти как тиран, уже очень скоро потерпело крах вследствие по-
1тки с помощью массы большого города исключить из соотношения
^ крестьянство, а тем самым полностью пустить политику по афин-
872
Том 2 ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
скому руслу. На это ведь и были нацелены затеянный Аппием прием
сыновей рабов в сенат, как и новое подразделение центурий — по день¬
гам, а не по размерам землевладения , и распределение вольноотпу¬
щенников и неимущих по всем трибам, где их голоса должны были (и
во всякий момент реально могли) перевесить голоса редко являющих¬
ся в город крестьян. Уже следующие цензоры вновь переписали этих
людей, не владевших землей, в четыре большие городские трибы. Само
же несословие, которым прекрасно управляло меньшинство видных
родов, усматривало свою цель, как уже упоминалось, не в разрушении,
но в завоевании сенаторского административного организма. В конце
концов оно добилось доступа ко всем должностям, по lex Ogulnia [зако¬
ну Огульния (лат.)] от 300 г. — даже к важным в политическом отноше¬
нии жреческим должностям понтификов и авгуров, а в результате вос¬
стания 287 г. плебисциты стали вступать в силу даже без одобрения се¬
ната.
Практический результат этого освободительного движения оказал¬
ся как раз обратным тому, чего могли бы ожидать идеологи (которых в
Риме не было). Достигнутые здесь великие успехи лишили протест не-
сословия цели, а тем самым оставили без движущей силы его самого,
ничего, кроме чистой оппозиционности, из себя политически не пред¬
ставлявшего. Начиная с 287 г. форма была в наличии, и с ней и надо
было политически работать, причем в мире, в котором следовало серь¬
езно принимать в расчет лишь великие государства Средиземномор¬
ского бассейна — Рим, Карфаген, Сирию, Египет; в Риме форма эта
перестала подвергаться опасности как объект «народного права», и
именно на этом основывается возвышение данного народа, единствен¬
ного оставшегося «в форме».
С одной стороны, внутри бесформенного и вследствие массовых
приемов вольноотпущенников в свои ряды давно уже дезориентиро¬
ванного в своих расовых импульсах плебса * сформировался верхний
слой, выделявшийся значительными практическими способностями,
рангом и богатством, слившийся теперь с соответствующим слоем
внутри патрициата. Так в этом чрезвычайно узком кругу возникает
крепкая раса с благородными жизненными обыкновениями и широ¬
ким политическим горизонтом, в ее среде накапливается и передается
по наследству драгоценный управленческий, полководческий и дип¬
ломатический опыт, а руководство государством рассматривается как
единственное соответствующее сословию призвание и преемственное
преимущественное право. Поэтому свое потомство эта раса муштрует
Согласно К. J. Neumann, это восходит к Великому цензору686.
Согласно римскому праву, отпущенный на свободу раб автоматически получает
гражданство с незначительными ограничениями; а поскольку контингент рабов проис¬
ходил со всего Средиземноморского региона, и прежде всего с Востока, в четырех го¬
родских трибах скопилась колоссальная лишенная почвы масса, совершенно глухая к
голосу староримской крови и быстро принудившая ее замолчать, стоило ей после дви¬
жения Гракхов заставить считаться со своей большой численностью.
рялйачетвеРтая■ Государство
873
лсключительно в духе искусства повелевать, под обаянием традиции,
исполненной безмерной гордости. Свой конституционный орган этот
не существующий в государственно-правовом отношении нобилитет
обретает в сенате, который первоначально был представительством
интересов патрициев, т. е. «гомеровской» знати. Однако с середины
jV в. бывшие консулы (в одно и то же время правители и полководцы)
как пожизненные члены образуют в сенате замкнутый кружок крупных
дарований, господствующий на заседаниях, а через них и в государст¬
ве. Уже посланнику Пирра Кинею сенат показался советом царей
(279), и, наконец, здесь являются титулы princeps и clarissimus587 приме¬
нительно к небольшой группе сенатских вождей, которые рангом, вла¬
стью и статью нисколько не уступают правителям держав диадохов*.
Возникают правительство, какого никогда не бывало ни в каком вели¬
ком государстве никакой другой культуры, и традиция, подобную ко¬
торой можно отыскать разве что в совершенно иного рода условиях Ве¬
неции и в папской курии в эпоху барокко. Здесь нет совершенно ника¬
кой теории, погубившей Афины, никакого провинциализма,
сделавшего в конце концов ничтожной Спарту, — одна только практи¬
ка крупного стиля. Если «Рим» как явление представляет собой нечто
совершенно исключительное и поразительное во всемирной истории,
то он обязан этим не «римскому народу», который сам по себе был та¬
ким же лишенным формы сырым материалом, как и всякий другой, но
тому классу, который привел его в форму и его в ней, хотел тот этого
или нет, удерживал, так что этот поток существования, еще ок. 350 г. и
для Средней-то Италии не особенно значительный, постепенно вовле¬
кает в свое русло всю целиком античную историю, делая ее последнюю
великую эпоху римской.
Полноту совершенства своего политического такта этот маленький
кружок, не обладавший никакими публичными правами, обнаруживает
в обращении с созданными революцией демократическими формами,
которые, как и везде, чего-то стоили лишь в той мере, в какой их упо¬
требляли. Именно то, что могло в них стать опасным, едва бы их затро¬
нули, — сосуществование двух исключающих друг друга властей — вир¬
туозно и негласно трактуется в Риме так, что перевес всегда оказывается
на стороне высшего опыта, а народ неизменно остается в убеждении, что
С конца IV в. нобилитет перерастает в замкнутый кружок семей, имевших среди
своих предков консулов или желавших, чтобы таковые были. Чем строже придержива¬
лись этого правила, тем более частыми становятся фальсификации древних списков
онсулов с целью «легитимизировать» находящиеся на взлете семьи крепкой расы и
ольщих дарований. Первого абсолютно революционного размаха эти фальсификации
^ишют в эпоху Аппия Клавдия, когда списки приводил в порядок курульный эдил
Поеи Флавий, сын раба (тогда-то и были изобретены родовые имена римских царей —
плебейским родам), второго — в эпоху сражения при Пидне (168), когда господство
dpr Й711*?6,13 стало принимать цезарианские формы (Котетапп Е. Der Priesterkodex in
Ha^ egla’ 1912. S. 56 ff.). Из 200 консулов 232—133 гг. 159 — выходцы из 26 семейств, и
CKnvm^ С этого времени, когда раса оказалась исчерпанной, в связи с чем особенно
HrSvT^Jle3Ho соблюдается форма ради формы, homo novusm, как Катон и Цицерон, ста¬
вится редким явлением.
874 Том 2 ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
решение принято им самим, причем в том самом смысле, какой он в
него вкладывал. Народность и в то же время величайшая историческая
эффективность — вот тайна этой политики и единственная возмож¬
ность политики вообще во все подобные эпохи, искусство, в котором
римское правительство осталось не превзойденным и по сю пору.
Однако, с другой стороны, несмотря на это все, результатом рево¬
люции была эмансипация денег, впредь безраздельно господствовавших
в центуриатных комициях. То, что называлось здесьpopulus, все в боль¬
шей степени делается орудием в руках крупных собственников, и тре¬
бовалось все тактическое превосходство правящих кругов, чтобы удер¬
живать под контролем противодействие со стороны плебса: но под ру¬
кой всегда имелись сельские трибы, числом тридцать одна, откуда
широкие массы большого города были исключены, а в трибах этих
было реально представлено крестьянское землевладение под руковод¬
ством аристократических родов. Отсюда та стремительность, с которой
были вйовь отменены нововведения Аппия Клавдия. Естественный
союз между финансовыми воротилами и массами, как он реализуется
впоследствии при Гракхах и затем при Марии, с тем чтобы уничтожить
традицию крови, союз, который среди прочего подготовил также и не¬
мецкий переворот 1918 г., сделался на многие поколения невозмож¬
ным. Буржуазия и крестьянство, деньги и землевладение сохраняли
меж собой равновесие в обособленных органах, воссоединяясь и обре¬
тая действенность в воплощавшихся в нобилитете государственных
идеях, пока их внутренняя форма не распалась и эти тенденции не ра¬
зошлись враждебно в разные стороны. 1-я Пуническая война была
войной торговой, направленной против интересов сельских хозяев, и
потому именно консул Аппий Клавдий, потомок Великого цензора,
представлял в 264 г. соответствующее решение на рассмотрение центу¬
риатных комиций689. Напротив того, начавшееся с 225 г. завоевание
равнины По осуществлялось в интересах крестьянства и проводилось
через трибутные комиции трибуном Гаем Фламинием, строителем
Фламиниевых дороги и цирка, первым действительно цезарианским
явлением в Риме. Проводя эту политику в качестве цензора 220 г., он
запретил сенаторам финансовые операции и в то же время сделал до¬
ступными для плебса рыцарские центурии древней знати. На деле это
было на руку лишь новой денежной знати времен 1-й Пунической вой¬
ны, и он, сам того совершенно не желая, сделался творцом организован¬
ной в качестве сословия денежной аристократии, а именно equites, сто¬
летием спустя положивших конец великой эпохе нобилитета. Начиная
с этого момента (т. е. с победы над Ганнибалом, в которой Фламиний
погиб) и впредь также и для правительства деньги делаются решающим
средством продолжения собственной политики, последней реальной
государственной политики, какая только существовала в античности.
Когда Сципионы с их кружком перестали быть руководящей силой,
осталась лишь частная политика единичных лиц, беспардонно пресле¬
рлава четвертая. Государство
875
довавших свои интересы: orbis terrarum был для них всего только добы¬
чей, лишенной собственной воли. Если Полибий, принадлежавший к
этому кружку, усматривал во Фламинии демагога и причину всех не¬
счастий эпохи Гракхов, то он полностью заблуждался в отношении его
намерений, но не последствий его действий. Как и Катон Старший,
который со слепым рвением крестьянского вождя сверг великого Сци¬
пиона из-за глобальности его политических устремлений, Фламиний
добился прямо противоположного тому, чего желал. На место задаю¬
щей тон крови пришли деньги, и менее чем в три поколения они извели
крестьянство под корень.
Невероятно счастливой для судеб античных народов случайностью
представляется то, что Рим — единственный из всех городов-госу¬
дарств — перенес социальную революцию, сохранив крепость формы.
А для западного мира с его рассчитанными на вечность генеалогиче¬
скими формами почти что чудо, что насильственная революция разра-
зилась-таки хотя бы в одном месте, в Париже. То было проявлением не
силы, а слабости французского абсолютизма: английские идеи в соеди¬
нении с динамикой денег привели здесь к взрыву, сообщившему ло¬
зунгам Просвещения живой образ, связавшему доблесть со страхом, а
свободу с деспотией. И слабость эта еще продолжала давать о себе знать
в малых пожарах 1830 и 1848 гг. и в социалистической жажде катастроф*.
В самой Англии, где власть знати была более абсолютной, чем чья бы то
ни было власть во Франции, небольшой кружок вокруг Фокса и Шери¬
дана приветствовал идеи Французской революции (все они были анг¬
лийского происхождения); заговорили о всеобщем избирательном
праве и парламентской реформе *. Этого, однако, было достаточно,
чтобы побудить обе партии под руководством вига, Питта Младшего, к
И даже во Франции, где судейское сословие в высших окружных судах открыто
презирало правительство и даже распоряжалось, не подвергаясь за это никакому нака¬
занию, срывать со стен королевские указы и наклеивать на их место собственные arrzts
[постановления (фр.)] (Holtzmann R. Franzosische Verfassungsgeschichte, 1910, S. 353), где
«приказывали, но не выполняли, где законы разрабатывались, но не проводились в
жизнь» (WahlA. Voigesch. der franz. Revolution I. S. 29 и повсюду), где финансовые маг¬
наты могли сбросить Тюрго и всякого другого, кто доставлял им беспокойство своими
Реформаторскими планами, где весь образованный мир с принцами, знатью, высшим
Духовенством и военными во главе подпал англомании и бурно аплодировал любой оп¬
позиции, — даже там ничего бы не произошло, когда бы своей роли не сыграла внезап¬
но обрушившаяся на страну цепочка случайностей: вошедшее в моду участие офицеров
в борьбе американских республиканцев против королевской власти, дипломатическое
поражение в Голландии (27 октября 1787 г.) посреди грандиозной реформаторской дея¬
тельности правительства и продолжавшейся под давлением, безответственных кругов
министерской чехарды. В Британской империи отпадение американских колоний
с г следствием попыток высших кругов тори усилить королевскую власть — в стачке
Аеоргом III, однако, само собой разумеется, в собственных интересах. Эта партия
Рсполагала в колониях, а именно на Юге, сильными сторонниками-роялистами, кото-
nofi’ с^ажаясь на английской стороне, решили успех сражения при Камдене690, а после
^оеды восставших по большей части переселились в сохранившую верность короне
ару-
Ный В 1793 г. 306 членов нижней палаты избирались всего 160 лицами. Избиратель-
Бавп °Круг Питта Старшего, Оулд Сарум, состоял из одного доходного дома, делегиро-
щего двух представителей.
876
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
жесточайшим мероприятиям, расстроившим все попытки даже при¬
тронуться к руководству знати в интересах третьего сословия. Англий¬
ская знать развязала двадцатилетнюю войну против Франции и вско¬
лыхнула всех европейских монархов, чтобы наконец при Ватерлоо по¬
ложить конец не императорской власти, но революции, которая
вполне наивно отважилась реализовать в области практической поли¬
тики частные взгляды английских мыслителей и отвести совершенно
бесформенному tiers такое положение, последствия которого предви¬
делись лучше всего не в парижских салонах, но в английской нижней
палате*.
То, что называли здесь оппозицией, представляло собой позицию
одной из партий знати, когда правительством руководила другая. Оп¬
позиция не означала здесь, как всюду на континенте, профессиональ¬
ной критики той работы, выполнять которую — дело другого, но явля¬
лась практической попыткой принудить руководство к такой форме
деятельности, которую оппозиция была готова в любой момент взять
на себя и, главное, к которой она была способна. Однако эта оппози¬
ция при полном непонимании ее общественных предпосылок сразу
сделалась образцом того, к чему стремились образованные круги во
Франции и в прочих местах, а именно сословное господство tiers под
наблюдением династии, дальнейшую судьбу которой продолжала
скрывать дымка неизвестности. Начиная с Монтескьё, английские уч¬
реждения расхваливались на континенте с воодушевленным непони¬
манием, хотя все государства здесь вовсе не были островами и потому
не обладали наиболее существенной предпосылкой английского пути
развития. Англия действительно была для них образцом лишь в одном
отношении. Именно, когда буржуазия принялась превращать абсо¬
лютное государство обратно в сословное, в Англии она обнаружила
картину, которая никогда здесь другой и не бывала. Разумеется, здесь в
одиночку правила знать, однако по крайней мере не корона.
Результатом эпохи и основной формой континентальных госу¬
дарств к началу цивилизации оказывается «конституционная монар¬
хия», крайним вариантом которой представляется республика в совре¬
менном понимании этого слова. Ибо следует наконец освободиться от
болтовни доктринеров, мыслящих вневременными и чуждыми дейст¬
вительности понятиями, для которых «республика» — форма сама по
себе. Насколько мало обладает Англия конституцией в континенталь¬
ном смысле, настолько же мало и республиканский идеал XIX в. имеет
* С 1832 г. сама английская знать с помощью целого ряда дальновидных реформ
стала привлекать буржуазию к сотрудничеству, однако при постоянном собственном
руководстве и обязательно в рамках своей традиции, в которой вырастали молодые та¬
ланты. Демократия реализовалась так, что правительство сохранило строгую форм}
причем форму старинно-аристократическую, однако всякий мог свободно (по собст-
венному усмотрению) заниматься политикой. Этот переход, осуществлявшийся в об
ществе, лишенном крестьянства и проникнутом предпринимательскими интересами
представляет собой величайшее внутриполитическое достижение XIX в.
четвертая. Государство
877
qxo-либо общего с античной res publica или даже хотя бы с Венецией
швейцарскими первокантонами691. То, что называем этим словом
цЫ, есть отрицание, с внутренней необходимостью утверждающее от-
ридаемое как постоянно возможное. Это — немонархия в формах, за¬
имствованных у монархии. Генеалогическое чувство так чудовищно
окрепло в человеке Запада, что сковывает его сознание, заставляя ве¬
рить в ложь, что династией определяется все политическое поведе-
иие — даже тогда, когда династии больше нет. Она — воплощение всего
исторического, а жить внеисторично мы не в состоянии. Неизмерима
разница между человеком античности, которому вообще неведом ба¬
зированный на фундаментальном ощущении существования династи¬
ческий принцип, и образованным западноевропейцем, который со
времени Просвещения, на протяжении приблизительно двух веков,
пытается это чувство в себе перебороть. Это чувство — тайный враг
всех спроектированных, а не произросших органичным образом кон¬
ституций, которые в конечном счете не представляют собой ничего,
кроме оборонительных мероприятий, и рождены страхом и недовери¬
ем. Городское понятие свободы — быть свободным от чего-то — сужа¬
ется вплоть до чисто антидинастического значения; республиканское
воодушевление живет исключительно этим чувством.
С таким отрицанием неизбежно соединяется преобладание в нем
теоретической стороны. Между тем как династия и внутренне близкая
ей дипломатия сохраняют древнюю традицию и такт, в конституциях
преобладание сохраняется за системами, книгами и понятиями, что
совершенно немыслимо в Англии, где в форму правления не проника¬
ет ничего отрицающего и оборонительного. Не напрасно фаустовская
культура — это культура письма и чтения. Печатная книга — символ
временнбй бесконечности, пресса — бесконечности пространствен¬
ной. Перед лицом чудовищной власти и тирании этих символов даже
китайская цивилизация представляется едва не бесписьменной. В кон¬
ституциях литературу науськивают на знание людей и обстоятельств,
язык — на расу, абстрактное право — на традицию, доказавшую свою
Успешность, без какого-либо принятия в расчет того, останется ли при
этом погруженная в поток событий нация работоспособной и «в фор¬
ме». Оставшийся в одиночестве Мирабо отчаянно и безуспешно бо¬
ролся с собранием, которое «путало политику с романом». Не только
три доктринерские конституции эпохи — французская 1791 г. и немец-
кие 1848 и 1919 гг., но и практически все конституции вообще не жела-
101 видеть великой судьбы мира фактов, полагая, что тем самым ее
°Провергли. Вместо всего непредвиденного, взамен случайности силь¬
ных личностей и обстоятельств править должна каузальность — вне-
Ременная, справедливая, неизменно одна и та же рассудочная взаимо-
сВязь Причины и действия. В высшей степени примечательно то. что
878 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Устранить эту двойственность в существе конституционной монар¬
хии оказывается невозможно. Действительное и мыслимое, труд и кри¬
тика резко здесь друг другу противостоят, и взаимные трения — это
есть то, что представляется среднему образованному человеку внутрен¬
ней политикой. Лишь в Англии (если отвлечься от прусской Германии
и от Австрии, где поначалу конституции хоть и существовали, но в
сравнении с политической традицией были не очень влиятельны) при¬
вычные приемы администрирования сохранили свою монолитность.
Раса утвердила здесь свое превосходство над принципом. Здесь с само¬
го начала догадывались о том, что действительная, т. е. направленная
исключительно на исторический успех, политика основывается на
муштре, а не на образовании. То не было никаким аристократическим
предрассудком, но космическим фактом, который с куда большей оче¬
видностью выявляется из опыта английских коннозаводчиков, чем из
всех философских систем на свете. Образование может довести мушт¬
ру до блеска, однако не способно ее заменить. В результате высшее анг¬
лийское общество, школа Итона, Бейлльол-колледж в Оксфорде ста¬
новятся местами, где политики муштруются так последовательно и
правильно, что параллель этому можно отыскать лишь в муштре прус¬
ского офицерского корпуса, а именно муштруются как знатоки, владе¬
ющие тайным тактом вещей, в том числе и безмолвной поступью мне¬
ний и идеалов. Потому здесь, нисколько не опасаясь, что поводья вы¬
скользнут из рук, и допустили, чтобы начиная с 1832 г.692 над
руководимым этими знатоками существованием прошумел целый
вихрь фундаментальных буржуазно-революционных идей. Эти люди
имели training [тренированность (англ.)], гибкость и управляемость че¬
ловеческого тела, которое пред ощущает победу, сидя верхом на беше¬
но несущейся лошади. Великим фундаментальным положениям было
позволено привести в движение массы, поскольку здесь наличествова¬
ло понимание, что только деньги в конечном итоге в состоянии приве¬
сти в движение великие принципы, и вместо брутальных методов
XVIII в. были найдены более тонкие и не менее действенные, самым
простым среди которых оказывается угроза расходов на новые выборы.
Доктринерские конституции на континенте видели лишь одну сторону
факта демократии. В Англии, где не было вовсе никакой конституции
(Verfassung), зато пребывание «в форме» (Verfassung) наличествовало
реально, демократию видели насквозь.
Неясное ощущение того же самого не исчезало на континенте ни¬
когда. У абсолютного государства барокко была отчетливая форма; для
конституционной монархии отыскиваются лишь ковыляющие комп¬
ромиссы, и консервативная и либеральная партии отличаются друг от
друга не так, как в Англии (со времен Каннинга), — своими давно ап¬
робированными методами управления, которые каждая из партий поо¬
чередно применяет, но редакциями, которыми они желают изменить
конституцию, а именно с ориентацией на традицию или же на теорию
Глава четвертая. Государство 879
должна ли династия служить парламенту, или, наоборот, он — ей? Вот
tfro было предметом раздора, за которым забывались внешнеполитиче¬
ские конечные цели. «Испанская» и «английская» (неверно понятая)
стороны конституции не желают срастаться воедино и на это не спо¬
собны, так что на протяжении XIX в. дипломатическая внешняя служ¬
ба и парламентская деятельность развивались в двух абсолютно проти¬
воположных направлениях, были в корне друг другу чужды по фунда¬
ментальному ощущению и беспредельно друг друга презирали.
Начиная с термидора Франция подпала под абсолютный диктат бир¬
жи, несколько ослабленный введением военной диктатуры в опреде¬
ленных обстоятельствах: в 1800, 1851, 1871, 1918 гг. В творении Бис¬
марка, которое в главных своих чертах имело династическую природу,
где парламентская составляющая пребывала исключительно на подчи¬
ненных ролях, внутренние трения сделались так сильны, что на них
оказалась растрачена вся без остатка политическая энергия, а под ко¬
нец, начиная с 1916 г., исчерпался и весь организм в целом. У армии
была своя собственная история и великая традиция, начиная с Фрид¬
риха Вильгельма I, и то же можно сказать о бюрократии. В этом — на¬
чало социализма как способа пребывания «в форме», строго противо¬
положного английскому*, однако, как и он, являющегося цельным вы¬
ражением крепкой расы. Офицер и чиновник были вымуштрованы до
совершенства, и тем не менее необходимость муштровки также и соот¬
ветствующего политического типа признана так и не была. Высшую
политику «направляли», низшая представляла собой безнадежную пе¬
ребранку. Таким образом, армия и бюрократия сделались в конце кон¬
цов самоцелями, поскольку с уходом Бисмарка не стало человека, для
которого они могли быть средствами даже без содействия целого пле¬
мени политиков, создаваемого лишь традицией. Когда с окончанием
мировой войны надстройка исчезла, налицо остались лишь взращен¬
ные в оппозиционности партии, резко снизившие деятельность прави¬
тельства — до уровня, остававшегося цивилизованным государствам
пока что неизвестным.
Однако парламентаризм пребывает сегодня в полном упадке. Он
был продолжением буржуазной революции иными средствами, он был ре¬
волюцией третьего сословия 1789 г., приведенной в легальную форму и
связанной в правительствующее единство с ее противницей, дина¬
стией. В самом деле, всякая современная избирательная кампания —
ЭТ0 проводимая посредством избирательного бюллетеня и разнообраз¬
ных подстрекающих средств, речей и писаний гражданская война, и
Всякий крупный партийный вождь — своего рода гражданский Напо-
Леок. Эта рассчитанная на длительность форма, принадлежащая иск¬
упительно западной культуре, между тем как во всякой иной она сде-
;1?^^бы^ессмысленной и невозможной, опять-таки обнаруживает
*
«Пруссачество и социализм». S. 40 ff.
Том 2. ВСЕМ ИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИ В Ы
880
тяготение к бесконечному, историческую предусмотрительность*, и
попечение, и волю к тому, чтобы упорядочить отдаленное будущее, при¬
чем в соответствии с нынешними буржуазными принципами.
Но, несмотря на это, парламентаризм никакая не вершина, как аб¬
солютный полис и барочное государство, но краткий переход, а имен¬
но переход от позднего времени с его органическими формами к эпохе
великих одиночек посреди сделавшегося бесформенным мира. Подоб¬
но домам и мебели начала XIX в., эта эпоха содержит остаток хорошего
барочного стиля. Парламентские нравы — английское рококо, однако
уже не заложенное в крови как нечто само собой разумеющееся, но по¬
верхностно-подражательное и являющееся вопросом доброй воли.
Лишь на краткое время первоначального воодушевления нравы эти об¬
рели видимость глубины и долговременности, да и то лишь потому, что
победа была одержана только что и хорошие манеры побежденных
победители вменили себе в обязанность из уважения к собственному
сословии^ Сохранить форму даже там, где она вступает в противоречие
с преимуществом, — на этом соглашении основывается возможность
парламентаризма. То, что он достигнут, собственно говоря, означает,
что он уже преодолен. Несословие снова распадается на естественные
группы по интересам; пафос страстного и победоносного сопротивле¬
ния остался позади. И как только форма более не обладает притягате¬
льной силой юного идеала, ради которого люди идут на баррикады, по¬
являются внепарламентские средства для того, чтобы добиться цели
вопреки голосованию и без него, и среди них деньги, экономическое
принуждение, и прежде всего забастовка. Ни массы крупных городов,
ни сильные одиночки не испытывают перед этой формой, лишенной
глубины и прошлого, подлинного благоговения, и как только соверша¬
ется открытие, что это одна только форма, в маску и тень превращается
и она сама. С началом XX в. парламентаризм, в том числе и англий¬
ский, скорым шагом приближается к той роли, которую он сам готовил
королевской власти. Парламентаризм делается производящим глубо¬
кое впечатление на толпу верующих представлением, между тем как
центр тяжести большой политики, хотя от короны он юридически сме¬
стился к народному представительству, перераспределяется с послед¬
него на частные круги и волю отдельных личностей. Мировая война
почти завершила такое развитие событий. От господства Ллойд Джорд¬
жа нет возврата к старому парламентаризму, точно так же как нет пути
назад и от бонапартизма французской военной партии. Что до АмерИ'
ки, которая до сих пор стояла особняком и была скорее регионом, чем
государством, то с вступлением ее в мировую политику восходящее к
Монтескье сосуществование президентской власти и конгресса дела¬
* Возникновение римского трибуната было слепой случайностью, о счастливы'
последствиях которой никто и не догадывался. Напротив того, западные конституции
хорошо продуманы и точно просчитаны во всех своих последствиях, неважно, правИ'
лен расчет или же нет.
f/iaea четвертая. Государство
881
ется несостоятельным, и во времена действительной опасности оно
уступит место бесформенным силам, с чем уже давно на собственном
опыте познакомились Южная Америка и Мексика.
13
Тем самым произошло вступление в эпоху колоссальных конфлик¬
тов, в которой мы теперь и пребываем. Это есть переход от бонапартиз¬
ма к цезаризму, всеобщая стадия развития продолжительностью по ме¬
ньшей мере приблизительно в два столетия, обнаруживающаяся во
всех культурах. Китайцы называют ее Чжаньго — эпоха борющихся го¬
сударств (480—230, в античности приблизительно 300—50) . На первых
порах насчитывается семь великих держав, которые вступают в эту гус¬
то замешанную череду чудовищных войн и революций поначалу без
каких-либо определенных планов, но впоследствии все с большей яс¬
ностью видят неизбежный конечный результат. Столетием спустя их
все еще пять. В 441 г. правитель династии Чжоу сделался пенсионером
«восточного герцога», в результате чего остаток земли, которой он вла¬
дел, в дальнейшей истории участия не принимает. Одновременно на¬
чинается стремительное восхождение римского государства Цинь на
нефилософском северо-западе**. Цинь распространяет свое влияние
на запад и юг, на Тибет и Юньнань, и широкой дугой охватывает мир
прочих государств. Противная сторона группируется вокруг царства Чу
на даосском юге***, откуда китайская цивилизация медленно проника¬
ет в тогда еще малоизвестные края по другую сторону великой реки.
Фактически это то же противоречие, что и между Римом и эллиниз¬
мом: там жесткая и определенная воля к власти, здесь склонность к
мечтаниям и мироулучшательству. В 368—320 гг. (в античности при¬
близительно время 2-й Пунической войны) схватка обостряется до
беспрестанного проходившего с применением массовых армий проти¬
воборства внутри всего китайского мира, что резко отозвалось на чис¬
ленности населения. «Напрасно союзники, чьи страны превосходили
Цинь в десять раз, навалились на него со своим миллионом воинов. У
Цинь все еще имелись резервы наготове. Всего за это время погиб мил¬
лион человек», — пишет Сыма Цянь. Су Цинь, поначалу канцлер
Цинь, впоследствии перешедший, как сторонник идеи федерации на-
Из немногих западноевропейских работ, занимающихся вопросами древнеки-
в лской истории, явствует, что в китайской литературе очень много материала об этой
очности соответствующей современности эпохе, имеющей с ней бесчисленное мно-
ст СТво параллелей, однако сколько-то серьезная политическая трактовка здесь отсут-
TJeT- К последующему: Hiibotter. Aus den Planen der kampfenden Reiche, 1912; Piton.
Slx,g.reat chancellors of Tsin, China Rev., XIII, S. 102, 255, 365; XIV, S. 3; Chavannes Ed.
(Tsnv rrSt' Se-ma-tsien, 1895 ff.; Pflzmair. Sitz. Wien. Ak., XLIII, 1863 (Tsin); XLIV
•V TschepeA. Histoire du royaume de Ou, 1896, [Histoire du royaume] de Tchou, 1903.
%** Приблизительно соответствует нынешней провинции Шэньси.
® среднем течении Янизы.
882 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ^ПЕРСПЕКТИВЫ
родов (хэцзун), на сторону противников, создал две коалиции (333 и
321), уже в первых сражениях распавшиеся от внутреннего разброда.
Его противник, канцлер Чжан И, решительный империалист, был а
311г. близок к тому, чтобы привести китайский мир государств к доб¬
ровольному подчинению, когда его комбинация была расстроена сме¬
ной, произошедшей на троне. В 294 г. начинаются походы Бай Ци\
Под впечатлением его побед в 288 г. царь Цинь принимает мистиче¬
ский императорский титул легендарных времен**, и это у него тут же
перенял правитель Ци на востоке **. Тем самым решающая борьба
вступает во вторую кульминацию. Число самостоятельных государств
все уменьшается. В 255 г. исчезает и родина Конфуция, Лу, а в 249 г.
пресекается династия Чжоу. В 246 г. могучий Ин Чжен 13-летним ма¬
льчиком становится императором Цинь, и, когда единственный уце¬
левший противник, царство Чу, отваживается в 241 г. на последнюю
атаку, он, опираясь на своего канцлера Люй Ши, китайского Меце¬
ната , проводит решающую схватку. В 221 г. Ин Чжен как фактиче¬
ски единоличный правитель принял титул Ши (Августа). Это начало
китайского императорского времени.
Никакой другой период, кроме периода борющихся государств, с
такой явственностью не обнаруживает всемирно-историческую аль¬
тернативу: великая форма или великая единоличная власть. Ровно насто¬
лько же, насколько нации перестают находиться «в форме» (Verfassung)
в политическом отношении, возрастают возможности энергичного ча¬
стного человека, который желает быть творцом в политике и рвется к
власти любой ценой, так что явление такой фигуры может сделаться
судьбой целых народов и культур. События становятся беспредпосы-
лочными по форме. На место надежной традиции, вполне способной
обойтись без гения, потому что она сама — космическая сила в высшей
ее степени, приходят теперь случаи появления великих людей факта;
случайность их восхождения в одну ночь выводит даже такой слабый
народ, как македонский, на самое острие событий, а случайность их
смерти способна, как это доказывает убийство Цезаря, обрушить мир
из укрепленного личностью порядка непосредственно в хаос.
В критические, переходные периоды это обнаруживалось уже и ра¬
ньше. Эпоха фронды, Мин-джу, первой тирании, когда формы еще не
было, но за нее сражались, всякий раз выводила на поверхность целый
13-я биография у Сыма Цяня. Сколько можно судить по переведенным отчетам,
подготовленность и организация походов Бай Ци, смелость маневров, которыми он за¬
гонял противников на местность, где мог их разбить, небывалая тактика, используемая
в сражениях, создают о нем представление как об одном из величайших военных гени¬
ев всех времен, вполне достойном специального рассмотрения. К этому же времени от¬
носится и весьма авторитетная работа Сунь-цзы о войне: Giles, Sun Tse on the art of war.
1910.
c 77 L
Приблизительно соответствует нынешним Шаньдун и Бей-чжи-ли693.
****
Piton. Lii Puh Weih, China Rev., XIII. S. 365 ff.
f/iaea четвертая. Государство
883
ряд великих личностей, мощно вылезавших из рамок какой бы то ни
было должности. Поворот от культуры к цивилизации проделывает в
бонапартизме то же самое еще раз. Однако с бонапартизмом, являю¬
щимся прологом к эпохе безусловной исторической бесформенности,
начинается настоящий расцвет великих одиночек; для нас этот период
достиг едва ли не высшего своего подъема с мировой войной. В антич¬
ности его начинал Ганнибал: во имя эллинизма, к которому он внут¬
ренне принадлежал, он вступил в борьбу с Римом, однако погиб, пото¬
му что эллинистический Восток, будучи всецело античным, уловил
смысл происходящего слишком поздно или вовсе его не осознал. Его
гибель служит отправной точкой этого горделивого ряда, ведущего от
обоих Сципионов через Эмилия Павла, Фламинина, Катонов, Грак-
хов, через Мария и Суллу к Помпею, Цезарю и Августу. В Китае им со¬
ответствует вереница государственных деятелей и полководцев борю¬
щихся государств. Деятели эти группируются там вокруг Цинь, подоб¬
но тому как здесь это происходило вокруг Рима. В силу глубокого
непонимания, обыкновенно сопутствующего рассмотрению полити¬
ческой стороны китайской истории, их именуют софистами . Да, они
ими были, однако в том же самом смысле, в каком благородные римля¬
не того же времени бывали стоиками после того, как прошли на Восто¬
ке курс философского и риторического обучения. Все они были подго¬
товленными ораторами, и все от случая к случаю писали по филосо¬
фии, Цезарь и Брут — нисколько не меньше, чем Катон и Цицерон,
однако не как профессиональные философы, но по благородству нра¬
вов и своего otium cum dignitatem ради. В црочем же они были корифея¬
ми фактов как на поле битвы, так и в высокой политике, но абсолютно
то же самое справедливо и применительно к Чжан И и Су Циню**, к
внушавшему страх дипломату Фань сую, который сбросил генерала
Бай Ци, к циньскому законодателю Вэй Яну69, к Меценату первого
императора Люй Ши и другим.
Культура связала все силы в строгую форму. Теперь они освободи¬
лись от пут, и «природа», т. е. космическое, вырывается непосредст-
Если употребленное здесь переводчиками выражение хотя бы отдаленно прибли¬
жается по нелепости к тому, которое ему соответствует в китайских текстах, это дока¬
зывает лишь то, что понимание политических проблем в китайское императорское вре-
Мя испарилось с такой же быстротой, как и в римское, потому что никакие из этих
проблем больше не переживались самолично. Сыма Цянь, по поводу которого выска¬
зывается столько восторгов, представляет собой, в сущности, лишь компилятора уров¬
ня Плутарха, которому он соответствует также и по времени. Высшую точку историче¬
ского понимания, предполагающую равнозначное переживание, следует помещать в саму
П0*У борющихся государств, куда нас вводит XIX в.
б Оба они, как и большинство ведущих государственных деятелей этой эпохи,
слУшателями Гуй гуцзи, который по своему знанию людей, глубокому постиже-
(«и° ИстоРически возможного и владению дипломатической техникой того времени
болСКУССТВОМ веРтикального и горизонтального»695) предстает в качестве одного из наи-
МянСе людей своего времени. Схожим значением обладал после него упо-
тегг^11*1^ только что мыслитель и военный теоретик Сунь-цзы (он был также воспита-
м канцлера Ли Сы).
884 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
венно на свободу. Поворот от абсолютного государства к — сражающе¬
муся — сообществу народов начинающейся теперь цивилизации, что
бы он там ни означал для идеалистов и идеологов, в мире фактов знаме¬
нует собой переход от правления в стиле и такте крепкой традиции к sic
voloy sic iubecy1 необузданного персонального произвола. Кульминация
символической, /шдперсональной формы совпадает с высшей точкой
поздней эпохи — в Китае ок. 600 г., в античности ок. 450 г., для нас
ок. 1700 г.; низшая точка оказывается достигнутой в античности при
Сулле и Помпее, мы же к ней придем в следующем столетии и, возмож¬
но, в нем же ее и минуем. Великие межгосударственные сражения по¬
всюду перемежаются схватками внутригосударственными, чудовищ¬
ными по своему течению революциями, которые, однако, все без иск¬
лючения служат (вне зависимости оттого, сознают ли это их участники
и хотят они этого или же нет) внегосударственным и в конечном счете
чисто персональным вопросам о власти. Что преследовали эти револю¬
ции в плане теории, не имеет для истории никакого значения, и нам
нет нужды знать, под какими лозунгами происходили китайские и
арабские революции этой эпохи или же они разражались без каких-ли¬
бо лозунгов. Ни одна из бесчисленных революций этой эпохи, которые
все в большей степени оборачиваются слепыми взрывами беспочвен¬
ных масс крупных городов, не достигла, да и не могла достигнуть хоть
какой-нибудь цели. Историческим фактом остается лишь ускоренный
демонтаж восходящих к седой древности форм, расчищающий дорогу
цезарианским силам.
То же самое, однако, относится и к войнам, в которых армия и ее
тактика все в большей степени создаются не эпохой, но оказываются
творением ничем не сдерживаемых отдельных вождей, которые дово¬
льно часто обнаруживают скрывавшийся в них гений поздно и лишь по
случаю. Ок. 300 г. еще существует римская армия, начиная с 100 г. есть
лишь армия Мария, Суллы, Цезаря, и Октавиан в большей степени
шел на поводу у своей армии, состоявшей из ветеранов Цезаря, чем вел
ее сам698. Однако тем самым методы ведения войны, ее средства и цели
принимают совершенно иные, натуралистические, ужасающие фор¬
мы699. Это уже не дуэли XVIII в. в рыцарских формах, как поединки в
парке Трианона, где существуют твердо установленные правила отно¬
сительно высшего предела сил, которые допустимо пустить в ход, от¬
носительно условий, которые может, оставаясь кавалером, поставить
победитель, когда кто-то из участников объявляет свои силы исчер¬
панными. Теперь это борьба разъяренных людей, пускающих в ход все
средства, и кулаки и зубы, и дело здесь доходит до полного изничтоже¬
ния телесных сил одного борца, между тем как победитель абсолютно
ничем не стеснен в использовании своего успеха. Первый значитель¬
ный пример такого возврата к природе — революционные и наполео¬
новские армии, которые на место искусного маневрирования малыми
соединениями выдвигают не считающуюся с потерями массовую атаку
f/iaea четвертая. Государство
885
л тем самым разбивают вдребезги всю утонченную стратегию рококо.
Эпохе Фридриха Великого совершенно чужда идея использования на
полях сражений мускульной силы целого народа, к чему приводит вве¬
дение всеобщей воинской повинности.
Вот и военная техника неспешно следует во всех культурах за техни¬
кой ремесла, но с началом всякой цивилизации внезапно перехватыва¬
ет лидерство и без всяких церемоний ставит себе на службу все без иск¬
лючения материальные возможности; именно в связи с военными по¬
требностями бывают открыты совершенно новые области, но именно
поэтому военная техника во многом несовместима с личным героиз¬
мом человека расы, с благородным этосом и тонким духом позднего
времени. Внутри античности, где сама суть полиса делала массовую ар¬
мию невозможной (в сравнении с малыми размерами всех античных
форм, в том числе и тактических, число участвовавших в битвах при
Каннах, Филиппах и Акции представляется совершенно чудовищ¬
ным), вторая тирания ввела механическую технику, причем сделал это
Дионисий Сиракузский, и сразу в грандиозном масштабе*. Лишь те¬
перь становится возможной осада, как осада Родоса (305), Сиракуз
(213), Карфагена (146), Алезии (52), где сразу же выявляется возраста¬
ющее значение скорости даже для античного способа ведения войны.
И по этим же причинам римский легион, структура которого есть ведь
творение именно эллинистической цивилизации, действует в сравне¬
нии с афинским или спартанским ополчением V в. как машина. В Ки¬
тае «того же времени», начиная с 474 г., этому соответствует выделыва¬
ние железа для рубящего и колющего оружия, а начиная с 450 г. легкая
кавалерия по монгольскому образцу вытесняет тяжелые боевые колес¬
ницы и необычайный размах обретает борьба за крепости**. Заложен¬
ная в существе цивилизованного человека склонность к скорости, по¬
движности и массовым воздействиям связалась в конце концов в за¬
падноевропейско-американском мире с фаустовской волей к
господству над природой и привела к динамичным методам, которые
еще Фридрих Великий700 объявил бы сумасбродными, но в соседстве с
нашей транспортной и промышленной техникой они представляются
чем-то совершенно естественным. Наполеон поместил артиллерию на
конную тягу, т. е. сделал ее высокоподвижной, а массовую революпи-
°нную армию он расформировал, превратив ее в систему высокома¬
невренных независимых соединений и доведя их чисто физическое
Действие уже при Ваграме и под Москвой до настоящего «частого» и
«Ураганного» огня. Вторую фазу знаменует собой, что весьма показате-
Т. е. в сравнении с совершенно ничтожной прочей техникой античности, между
vJ£KaK’ есЛИ сравнить ее, например, с ассирийской и китайской, она не покажется та-
й Уж значительной.
в В первой части книги социалиста Мо-цзы, относящейся к этой эпохе, трактуется
общая любовь к людям, во второй — крепостная артиллерия — своеобразное под-
7tcP?^eHHe противоречия, существующего между истинами и фактами: Forke в Ostasiat.
lSchr-> VIII (Hirthnummer).
886 TomZ всемирно-исторические перспективы
льно, американская Гражданская война 1861 — 1865 гг., когда был впер-
вые значительно превышен порядок величин наполеоновской эпохи
также и по численности войск : здесь были впервые опробованы же¬
лезные дороги для перемещения крупных воинских контингентов,
электрический телеграф — для службы разведки, находящийся в от¬
крытом море в течение месяца паровой флот — для блокады, и были
изобретены броненосец, торпеда, нарезное огнестрельное оружие и
сверхкрупные орудия огромной дальнобойности**70Г. Третий этап зна-
менует разыгравшаяся после прелюдии русско-японской воины ми¬
ровая война: она поставила себе на службу воздушные и подводные во¬
оружения и подняла скорость совершения изобретений до ранга ново¬
го оружия; своей высшей точки, быть может, достиг в эту войну объем
используемых средств — но ни в коем случае не интенсивность их при¬
менения. Однако затрачиваемым силам повсюду в эту эпоху соответст¬
вует и жесткость принимаемых решений. Прямо в начале китайского
периода ЧЪсаньго происходит полное уничтожение государства By
(472), что не было бы возможно при рыцарских нравах предыдущего
периода Чунь цю. Уже в мире, заключенном в Кампоформио, Наполе¬
он вышел далеко за рамки того, что было принято в XVIII в., а начиная
с Аустерлица он взял за обыкновение так использовать военные успе¬
хи, что абсолютно никаких границ, помимо чисто материальных, для
него уже не существовало. Последний еще возможный шаг в этом на¬
правлении делается заключением мира типа Версальского, где сделан
решительный отказ от самой идеи завершения, но оставлена открытой
возможность выдвигать все новые условия при всякой новой ситуации.
Развитие по тому же пути обнаруживает и последовательность трех Пу¬
нических войн. Сама идея стереть с лица земли одну из ведущих дер¬
жавных сил, идея, известная каждому из высказывания Катона (сде¬
ланного на совершенно трезвую голову) «Carthaginem esse defendant», и в
голову бы не пришла победителю при Заме702, а Лисандру, принудив¬
шему Афины к капитуляции, она (несмотря на то, что практика антич¬
ных полисов была весьма зверской) представилась бы кощунством по
отношению сразу ко всем богам.
Эпоха борющихся государств начинается для античности с битвы
при Ипсе (301), определившей число великих держав на Востоке рав¬
ным трем, и с римской победы при Сентии (295) над этрусками и сам¬
нитами, создавшей на Западе наряду с Карфагеном еще и среднеита¬
лийскую великую державу. Однако античная привязанность к близко¬
му и нынешнему привела к тому, что Рим, так и оставшись
Более 1,5 млн. человек на едва 20 млн. населения северных штатов.
Совершенно новые задачи решались также в области ускоренного возведения
дорог и мостов: предназначавшийся для наиболее тяжелых воинских эшелонов мост
Чаттануга в 240 м длины и 30 м высоты был построен в 4,5 дня.
Современная Япония так же принадлежит к западной цивилизации, как «совр^'
менный» Карфаген ок. 300 г. принадлежал к античной.
[лова четвертая. Государство
887
незамеченным, завоевал в итоге Пирровой авантюры италийский юг,
посредством первой войны с Карфагеном — море, усилиями Гая Фла-
^иния — кельтский север. И та же античная ограниченность явилась
Причиной того, что так и остался непонятым даже Ганнибал, быть мо¬
жет единственный человек своего времени, не исключая и римлян, ко¬
торый отчетливо предвидел дальнейшее развитие событий. Это при
Заме, а вовсе не при Магнесии703 и Пидне были побеждены эллинисти¬
ческие восточные державы. Совершенно напрасно пытался теперь ве¬
ликий Сципион избежать всяких завоеваний, испытывая неподдель¬
ный страх перед судьбой, предстоявшей полису, отягощенному задача¬
ми мирового господства. И напрасно его окружение против воли
абсолютно всех кругов настояло на Македонской войне — с тем только,
чтобы после, ничего не опасаясь, предоставить Восток самому себе.
Империализм оказывается столь неизбежным результатом всякой ци¬
вилизации, что хватает народ за грудки и заставляет играть роль госпо¬
дина, если тот от нее уклоняется. Римская империя не была завоевана.
Orbis terrarum сам сложился в эту форму и принудил римлян дать ему
свое имя. Это вполне по-античному. Между тем как китайские госу¬
дарства защищали в ожесточенных войнах самые последние остатки
своей независимости, Рим начиная со 146 г. приступил к превращению
в провинции массы стран, лежащих на востоке, только потому, что
иного средства против анархии более не существовало. Но следствием
этого было также и то, что внутренняя форма Рима, последняя еще со¬
хранявшаяся в неприкосновенности, распалась под таким бременем и
вылилась в гракховские беспорядки. Этому не сыскать другого приме¬
ра: финальная борьба за империю разворачивается уже вообще не меж¬
ду государствами, но между двумя партиями одного города; однако
форма полиса иного выхода и не допускала. То, что некогда звалось
Спартой и Афинами, теперь называется партиями оптиматов и попу¬
ляров. В гракховской революции, которой уже в 134 г. предшествовала
первая рабская война, Сципион Младший был тайно убит, а Гай Гракх
Умерщвлен в открытую — вот первые принцепс и трибун в качестве по¬
литических центров сделавшегося бесформенным мира. Если в 104 г.
Римские городские массы впервые передали imperium — беззаконно и
в Результате смуты — частному человеку Марию, то глубинный смысл
этого действа можно сопоставить с принятием мифического импера¬
торского титула Цинь в 288 г.: на горизонте внезапно вырисовывается
Неизбежный финал эпохи — цезаризм.
Наследником трибунов является Марий, который, как и они, свя¬
зывает чернь с финансовыми воротилами и в 87 г. в массовом порядке
Уничтожает старую знать; наследником принцепса был Сулла, кото¬
рый в 82 г. своими проскрипциями уничтожил сословие крупных фи¬
деистов. Начиная с этого момента великие решения проводятся
тремительно, как в Китае после вступления на престол Ин Чжена.
иРИ]
нцепс Помпей и трибун Цезарь (трибун не по должности, но по
888
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
позиции) еще представляют партии, однако в Лукке они совместно с
Крассом в первый раз поделили между собой мир. Когда наследники
Цезаря сражались при Филиппах с его убийцами, то были еще группы;
при Акции это уже исключительно отдельные личности: цезаризм мо¬
жет реализоваться и так.
В основе соответствующего развития внутри арабского мира вместо
телесного полиса лежит как форма магический consensus: в нем и через
него осуществляются факты, и он до такой степени исключает разделе¬
ние политических и религиозных тенденций, что даже городское, бур¬
жуазное стремление к свободе, с зарождением которого эпоха борю¬
щихся государств начинается также и здесь, является в ортодоксаль¬
ном обличье и потому оставалось доныне почти совсем не
замеченным*. То, что некогда осуществили в формах феодального го¬
сударства Сасаниды, а по их образцу и Диоклетиан, было продиктова¬
но стремлением освободиться от халифата. Начиная с Юстиниана и
Хосрова Аноширвана здесь приходится выдерживать натиск фронды,
которым предводительствуют наряду с главами греческой и маздаист-
ской церкви персидско-маздаистская знать — прежде всего Ирака, гре¬
ческая знать — прежде всего Малой Азии и расколовшаяся между обе¬
ими религиями высшая армянская знать. Уже почти достигнутый в
VII в. абсолютизм оказывается внезапно ниспровергнутым в результа¬
те нападения на него строго аристократического в изначальных своих
политических моментах ислама. Ибо если рассматривать под таким уг¬
лом зрения те малочисленные арабские роды**, что берут повсюду
власть в свои руки, то следует отметить, что уже очень скоро они обра¬
зуют в завоеванных странах новую высшую знать крепкой расы с ко¬
лоссальным чувством собственного достоинства, опуская тем самым
исламскую династию до одного уровня с «одновременной» ей англий¬
ской. Гражданская война между Османом и Али (656—661) является
выражением подлинной фронды и вращается исключительно вокруг
интересов двух семейных кланов и их приверженцев. Исламские тори
и виги VIII в., как и английские XVIII в., вершат большую политику
единолично, и их клики и семейные распри более важны для истории
эпохи, чем все события в правящем доме Омейядов (661—750).
Однако с падением этой жизнерадостной и просвещенной дина¬
стии, резиденция которой находилась в Дамаске, т. е. в западно-ара¬
мейской — и монофизитской — Сирии, вновь заявляет о своих правах
естественный центр арабской культуры: восточно-арамейский регион.
* Сколько-нибудь глубокого исследования политико-социальной истории араб
ского мира не имеется, точно так же как и китайского. Исключение составляет лишь
считавшееся вплоть до настоящего времени античным развитие западной его окраины
до Диоклетиана.
Тех, кто в свите первых завоевателей распространились от Туниса до Туркестана
и повсюду сразу же образовали замкнутое в себе сословие новых властителей, было не¬
сколько тысяч человек; о каком-то «арабском переселении народов» и речи быть не
может.
f/iaea четвертая. Государство
889
некогда опорный пункт Сасанидов, теперь же Аббасидов, который вне
зависимости от того, образован ли он персами или же арабами, при¬
надлежит ли к маздаистекой, несторианской или исламской религии,
неизменно несет в себе одну и ту же великую линию развития и неиз¬
менно остается образцом для Сирии точно так же, как и для Византии.
Из Куфы начинается движение, приведшее к падению Омейядов и их
ancien regime, и движение это имеет характер социальной революции, на¬
правленной против пра-сословий и благородной традиции вообще, что во
всей значительности этого факта до сих пор признано не было*. Оно
начинается среди мавали105, мелкой буржуазии на Востоке, и с ожесто¬
ченной враждебностью обращается против арабского элемента — не
постольку, поскольку он является поборником ислама, но поскольку
он образует новую знать. Только что обращенные мавали, почти
сплошь бывшие маздаисты, воспринимают ислам серьезнее, чем сами
арабы, которые несут в себе еще и сословный идеал. Уже в армии Али
выделились всецело демократические и пуританские хариджиты706. В
их кругах впервые дает о себе знать союз фанатического сектантства и
якобинства. Здесь возникло тогда не только шиитское направление, но
и наиболее ранний подступ к коммунистическому течению хура-
мийа707, возводимому к Маздаку* и вызвавшему впоследствии колосса¬
льное восстание под предводительством Бабека. Аббасиды вовсе не
были так уж по душе восставшим в Куфе; то, что их вообще допустили в
качестве офицеров, была заслуга исключительно их дипломатической
ловкости, но в результате этого они в конце концов (почти как Наполе¬
он) смогли вступить во владение наследством распространившейся по
всему Востоку революции. После победы они отстроили Багдад, этот
воссозданный заново Ктесифон и памятник поражению феодального
арабского элемента; и эта первая мировая столица молодой цивилиза¬
ции становится в 800—1050 гг. ареной тех событий, которые ведут от
бонапартизма к цезаризму, от халифата к султанату, ибо как в Багда¬
де, так и в Византии это и есть магический тип бесформенных сил, ко¬
торые в конечном итоге только здесь и возможны.
Таким образом, необходимо давать себе ясный отчет в том, что и в
арабском мире демократия представляет собой сословный идеал, при¬
чем идеал городского человека, и является выражением воли к осво¬
бождению от старой привязанности к земле, будь то пустыня или чер¬
нозем. «Нет» в отношении халифской традиции облачается в много¬
численные формы и вполне может обойтись без свободомыслия и
конституции в нашем смысле. Магический дух и магические деньги ока¬
зываются «свободными» на иной манер. Византийское монашество либе¬
рально вплоть до бунта, причем не только против двора и знати, но так-
*е и против высших церковных властей, которые, соответствуя здесь
г°тической иерархии, оформляются уже до Никейского собора. Соп-
„ Well hausen J. Das arabische Reich und sein Sturz, 1902. S. 309 ff.
C. 720.
890 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
sensus правоверных, «народ» в наиболее дерзновенном смысле слова
был равно угоден Богу (Руссо сказал бы — природе) и свободен от всех
сил крови. Знаменитая сцена, когда настоятель Феодор Студит возве¬
щал императору Льву V свою покорность (813), по значимости равна
взятию Бастилии — в магических формах*. Немного времени спустя
начинается восстание чрезвычайно благочестивых и радикальных в со¬
циальных вопросах павликиан**, которые основали по другую сторону
Тавра собственное государство, своими набегами опустошали всю Ма¬
лую Азию, громили одно императорское ополчение за другим и были
приведены к покорности лишь в 874 г. Это всецело соответствует рели¬
гиозно-коммунистическому движению хурамийа к востоку от Тигра и
до Мерва, вождь которого Бабек потерпел поражение лишь в итоге
20-летней борьбы (817—837)***, и другому — карматов709 на Западе
(890-904), которое, передавая возмущение дальше, распространялось
из Аравии по всем сирийским городам вплоть до берегов Персии. Од¬
нако нарядучс этим для политической борьбы существовали и совер¬
шенно другие обличья. Теперь, когда мы узнаём, что византийская ар¬
мия была настроена иконоборчески и поэтому военная партия проти¬
востояла приверженной иконам монашеской партии, все страсти,
кипевшие в столетие иконоборчества (740—840), представляются нам
в совершенно ином свете и мы понимаем, что конец кризиса (843),
окончательное поражение иконоборцев и одновременно монашеской
политики независимой церкви, имеет смысл реставрации в духе
1815 г.**** И наконец, на это время приходится чудовищное восстание
рабов в Ираке, головной вотчине Аббасидов, и его факт внезапно про¬
ливает свет на целый ряд других социальных потрясений, о которых
признанные историки ничего не рассказывают. Али710, этот Спартак
ислама, вместе со сбежавшимися к нему толпами основал в 869 г. к югу
от Багдада настоящее негритянское государство, выстроил себе рези¬
денцию, Мухтара, и распространил свою власть далеко в Аравию и
Персию, где к нему присоединялись целые племена. В 871 г. была взята
Басра, первый по значению порт исламского мира с населением почти
в миллион человек, жители вырезаны, а сам город сожжен. Это госу¬
дарство рабов было уничтожено лишь в 883 г.
Таким образом, сасанидско-византийская государственная форма
оказывается постепенно опустошенной, и на место древней традиции
высшего чиновничества и придворной знати приходит беспредпосы-
лочная, всецело персональная власть личных дарований: султанат.
Ибо это есть специфически арабская форма, появляющаяся одновре¬
Dieterich. Byz. Charakterkopfe. S. 54: «Слушай же, раз ты желаешь получить от нас
ответ. Павел сказал: «Иных Бог поставил в церкви апостолами, других пророками »
Про императоров же он ничего не сказал. — Даже если нам повелит ангел, мы его не
послушаем; так насколько же меньше можем мы послушаться тебя!»708
*!!с 775-
*** Huart. Geschichte der Araber, 1914, I. S. 299.
Krumbacher. Byzant. Literaturgesch. S. 969.
Глава четвертая. Государство 891
менно в Византии и Багдаде и проходящая по пути от бонапартистских
зачинов ок. 800 г. к завершенному цезаризму турок-сельджуков, начи¬
ная с 1050 г. Форма эта чисто магическая, она принадлежит лишь этой
культуре и в обособленности от глубочайших предпосылок ее души по¬
нята быть не может. Халифат, эта квинтэссенция политического, что¬
бы не сказать космического такта, не упраздняется, ибо халиф свяще¬
нен как признанный consensus'ом призванных представитель Бога; од¬
нако у него отнимается вся власть, связанная с понятием цезаризма,
точно так же как Помпей и Август фактически, а Сулла и Цезарь также
и номинально отделили эту власть от старинных римских конституци¬
онных форм. Под конец халифу остается столько же власти, сколько
сенату и комициям, к примеру, при Тиберии. Некогда символом стала
вся полнота высшей сформированное™ — в праве, одеянии и нравах.
Теперь она — всего лишь внешняя оболочка, причем оболочка бесфор¬
менного, чисто фактического правления.
Так, рядом с Михаилом III (842—867) стоит Варда, рядом с Кон¬
стантином VII (912—959) — названный соимператором Роман*. В 867 г.
бывший конюх Василий, это наполеоновское явление, свергает Варду
и основывает мундирную армянскую династию (до 1081), в которой
вместо императоров по большей части правят генералы, обладатели
крепкой руки; такие, как Роман, Никифор и Варда Фока. Величайший
среди них — Иоанн Цимисхий (969—976), по-армянски Кюр Зан. В
Багдаде в роли армян выступали турки. Одному из их предводителей
халиф Аль Ватик в 842 г. впервые присвоил титул султана. С 862 г. ту¬
рецкие преторианцы оказываются в роли опекунов своих господ, и в
945 г. Ахмед, основатель султанской династии Бундов, по всей форме
ограничивает халифа исключительно духовным достоинством. Начи¬
ная с этого момента в обеих мировых столицах развертывается беспо¬
щадная борьба могущественных провинциальных родов за высшую
власть. Когда на христианской стороне прежде всего Василий II при¬
нимает меры против владельцев крупных латифундий, это ни в малой
степени не имеет значения социального законодательства. Это есть акт
самозащиты того, кто в данный момент обладает властью, от возмож¬
ных наследников и потому в высшей степени сходно с проскрипциями
Суллы и триумвиров. Дуке, Фоке и Склиру принадлежало пол-Малой
Азии; канцлера Василия, который со своим баснословным состоянием
Мог содержать целую армию**, давно уже сравнивают с Крассом. Одна-
Ко собственно императорская эпоха начинается лишь с турок-сельджу-
ков *\ Их вождь Тогрул-бек завоевал в 1043 г. Ирак, в 1049 г. — Арме¬
нию и принудил в 1055 г. халифа передать ему наследственный султа- * ***К последующему — Krumbacher. S. 969—990; Neumann С. Die Weltstellung des by-
^ntinischen Reiches vor den Kreuzzugen, 1894. S. 21 ff.
Krumbacher. S. 993.
***
И гениальный Маниак, провозглашенный армией на Сицилии императором и
Сгибший в 1043 г. во время похода на Византию, был наверняка турком712.
892
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
нат. Его сын Алп-Арслан завоевал Сирию и в результате битвы при
Манцикерте — Восточную Малую Азию. Остаток Византии не имел
для последующих судеб турецко-арабской империи никакого значе¬
ния.
Тот же период, однако, скрывается в Египте под названием «перио¬
да гиксосов». Между XII и XVIII династией пролегают два столетия',
начинающиеся крушением достигшего своего пика при Сесострисе IIГ
ancien regime, в конце же их помещается императорская эпоха Нового
царства. Уже одно перечисление династий позволяет сделать заключе¬
ние о разразившейся катастрофе. В списках царей имена стоят плотно
друг за другом и одно подле другого — узурпаторы самого темного про¬
исхождения, генералы, люди с диковинными титулами, зачастую цар¬
ствующие лишь по нескольку дней. Египет распадается на ряд при¬
зрачных народов и обособленных областей. Сразу же с восхождением
на трон первого царя XIII династии прерываются записи уровня Нила
в Семне, с его преемником — в Кахуне. Это время — время великой со¬
циальной революции, и его картину мы находим в Лейденском папи¬
русе***. За свержением правительства и победой толпы следует восста¬
ние в армии и восхождение честолюбивых солдат. Здесь появляется,
приблизительно с 1680 г., имя «проклятых», гиксосов****, которым ис¬
торики Нового царства, не понимавшие или не желавшие понимать * *** 1785—1580 гг. К последующему — Meyer Ed. Gesch. d. Alter-tums I, § 298 ff., Weill.
La fin du moyen empire ё§урйеп, 1918. To, что верно именно указанное Мейером начало
периода в отличие от даты по Питри (1670), уже давно доказано на основании толщины
раскопанных слоев и темпа развития стиля, в том числе и минойского, а здесь удосто¬
веряется также и сравнением с соответствующими отрезками других культур.
** С. 856 сл.
Erman. Die Mahnworte eines agyptischen Propheten, Sitz. PreuB. Akad. S. 804 ff.:
«Высшие должности упразднены, земли царства завоеваны немногочисленными не¬
благоразумными, и советы древнего государства образуют дворы выскочек; управление
прекратилось, акты уничтожены, все социальные различия сметены, суды попали в
руки черни. Благородные люди голодают и ходят в лохмотьях; их детей расшибают о
стены, и вышвыривают мумии из гробниц; ничтожные становятся богатыми и кичатся
во дворцах своими стадами и кораблями, которые они забрали у законных владельцев:
бывшие рабыни произносят громкие речи, и чужеземцы чувствуют себя вольготно.
Грабеж и убийство правят бал, города опустошаются, общественные здания сжигаются.
Урожаи падают, никто больше не думает о чистоплотности, рождения становятся ред-
ки; «ах, если бы человеческий род пресекся!»»713 Вот картина поздней революции круп¬
ного города — неважно, эллинистической (с. 868 сл.) или же происходившей в 1789 и
1871 гг. в Париже. Это толпы мировой столицы, лишенные собственной воли орудия
честолюбия своих вождей, сравнивающие с землей все остатки порядка, желающие ви¬
деть в окружающем их мире хаос, потому что они несут его в себе. Вызываются ли эти
циничные и безнадежные попытки чужеземцами, как те, что совершались гиксосами и
турками, или же рабами, как Спартак и Али, требовали ли здесь передела собственно¬
сти, как в Сиракузах, или несли перед собой книгу, как «Капитал», — все это одна
лишь поверхность. Совершенно безразлично, какие лозунги разносит ветер, если в это
время топоры вышибают двери и раскраивают черепа. Уничтожение — вот что является
здесь настоящим и единственным побуждением, а цезаризм — единственным результа
том. Мировая столица, этот пожирающий землю демон, привела в движение своих ли¬
шенных корней и будущего людей; уничтожая, они умирают.
В папирусе говорится «народ лучников со стороны». Это варварские наемные
войска, к которым присоединилось собственное молодое воинство.
fiiaea четвертая. Государство
893
смысла данной эпохи, прикрыли позор этих лет. Нет никакого сомне¬
ния в том, что эти гиксосы играли здесь ту же роль, что армяне в Визан¬
тии, и не иной была бы судьба кимвров и тевтонов, победи они Мария
н его пополненные из подонков крупного города легионы: своими по¬
стоянно обновляющимися массами они бы наполнили армию триум¬
виров и, быть может, в конце концов поставили бы своих вождей на их
место. На что отваживались тогда чужаки, показывает пример Югурты.
Не имеет абсолютно никакого значения, кем они были — телохраните¬
лями, восставшими рабами, якобинцами или чуждыми племенами в
полном составе. Важно то, чем они были на протяжении ста лет для
египетского мира. В конце концов они основали государство на Вос¬
точной Дельте и отстроили свою резиденцию, Аварис . Один из их
предводителей, Хиан, присвоивший вместо титула фараона вполне ре¬
волюционные имена Обнимающий Страны и Государь Молодого Во¬
инства (столь же революционные, как consul sine collega и dictator perpe¬
tuus™ в цезарианское время), человек, быть может напоминавший
Иоанна Цимисхия, распоряжался над всем Египтом и разнес славу о
своем имени до Крита и Евфрата. Однако после него начинается борь¬
ба всех номов за власть, и победителем из нее выходит с Амасисом фи¬
ванская династия.
Для нас эпоха борющихся государств началась с Наполеона и его
насильственных мероприятий. Это в его голове впервые зародилась
идея военного и в то же время глубоко народного мирового господства,
коренным образом отличного от империи Карла V и даже современной
Наполеону английской колониальной империи. Если XIX век небогат
большими войнами (и революциями) и самые тяжелые кризисы были
преодолены дипломатическими средствами, на конгрессах, то причи¬
на этого заключается как раз в постоянной сверхнапряженной готов¬
ности к войне, так что в последнюю минуту страх перед последствиями
не раз приводил к откладыванию окончательного решения и к замене
войны политическими шахматными ходами. Ибо этот век — век гиган¬
тских постоянных армий и всеобщей воинской обязанности. Мы еще
очень мало от него ушли, для того чтобы прочувствовать всю жуть этого
зрелища и его беспрецедентность для всей всемирной истории. Со вре¬
мени Наполеона сотни тысяч, а под конец и миллионы солдат посто¬
янно готовы к выступлению, на рейдах стоят колоссальные флоты, об¬
новляющиеся каждые десять лет. Это война без войны, война-аукцион
Но количеству вооружений и по боевой готовности, война чисел, ско- **
Достаточно одного взгляда на негритянское государство в Ираке и «одновремен-
Ые» попытки Спартака, Сертория, Секста Помпея, чтобы получить представление о
1?яичестве представлявшихся возможностей. Вейль предполагает следующее:
85—1765 гг. — распад державы, узурпатор (генерал); 1765—1675 гг. — много мелких
Г^стителей, в дельте совершенно независимых; 1675—1633 гг. — борьба за единство,
Режде всего государи Фив с постоянно растущими численно сторонниками из зависи-
ф ** от них правителей, в том числе гиксосами; 1633 г. — победа гиксосов и поражение
ванцев; 1591—1571 гг. — окончательная победа фиванцев.
894 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
роста, техники, и дипломаты ведут переговоры не между дворами, но
между ставками верховных главнокомандующих. Чем дольше отсрочка
разрядки, тем чудовищнее средства, тем нестерпимее напряжение. Это
фаустовская, динамическая форма борющихся государств в первое
столетие ее существования, однако разрядкой мировой войны столе¬
тие завершилось. Ибо восходящий к Французской революции, всецело
революционный в данной своей форме принцип всеобщей воинской
обязанности вместе с развивающимися из него тактическими средст¬
вами оказался преодолен воинским призывом этих четырех лет*. На
смену постоянным армиям будут впредь постепенно приходить про¬
фессиональные армии добровольных и бредящих войной солдат, мил¬
лионы снова сменятся сотнями тысяч, однако как раз по этой причине
предстоящее второе столетие будет действительно столетием борю¬
щихся государств. Ибо простое существование этих армий войны во¬
все не отменяет. Они здесь для войны, и они ее хотят. Через два поколе¬
ния появятся те, чья воля сильнее суммарной воли всех жаждущих по¬
коя. В эти войны за наследство целого мира будут вовлечены
континенты, мобилизованы Индия, Китай, Южная Африка, Россия,
ислам, в дело будут введены новые и сверхновые техника и тактика. Ве¬
ликие центры мировых столиц будут совершенно произвольно распо¬
ряжаться меньшими государствами, их регионами, их экономикой и
людьми: все это теперь лишь провинция, объект, средство к цели, чья
судьба не имеет значения для великого течения событий. В немногие
годы мы выучились почти не обращать внимания на такие события,
которые перед войной привели бы в оцепенение весь мир. Кто сегодня
всерьез задумывается о миллионах, погибающих в России?
То и дело раздающийся в промежутке между этими катастрофами,
полными крови и ужасов, призыв к примирению народов и к миру на
Земле является неизбежным отзвуком и фоном колоссальных собы¬
тий, и потому наличие такого призыва следует предполагать и там, где
на этот счет нет никаких свидетельств, как в Египте периода гиксосов.
в Багдаде и Византии. Можно как угодно расценивать желание этого,
однако следует иметь мужество видеть вещи такими, как они есть.
Это-то и есть отличительный признак человека расы, лишь в существо¬
вании которого и появляется история. Если жизни суждено быть вели¬
кой, она сурова. Такая жизнь допускает выбор только между победой и
поражением, а не между миром и войной, и жертвы, принесенные за
победу, составляют часть ее. Ибо все то, что, жалуясь и суетясь, хлопо¬
чет здесь подле событий, есть не более чем литература — писаная, мыс
лимая, проживаемая литература. Все это — чистые истины, затериваю¬
щиеся в суматохе фактов. История никогда не снисходила до того, что¬
бы обращать внимание на подобные предложения. В китайском мир^
Сян Суй пытался организовать Лигу мира уже в 535 г. В эпоху борю
Как воодушевляющая идея он может сохраняться и дальше; в действительное г>!
же он больше никогда не будет применен.
fjiaea четвертая. Государство 895
щихся государств империализму (льянхэн) противопоставляется, преж¬
де всего южными странами на Янцзы, идея федерации народов (хэц-
Зун) \ с самого начала она была обречена, как все половинчатое, встаю¬
щее на пути у целого, и исчезла еще до окончательной победы Севера.
Однако и то, и другое было обращено против антиполитического вкуса
даосистов, пошедших в эти жуткие столетия на духовное саморазору-
ясение и тем самым принизивших себя до простого материала, исполь¬
зуемого в великих решениях другими и для других. Вот и римская по¬
литика, как ни чужда была античному духу сама идея предварительного
обдумывания, все же как-то попробовала привести мир в систему рав¬
ноупорядоченных сил, которая бы сделала дальнейшие войны бес¬
смысленными: тогда, когда после поражения Ганнибала Рим отказался
от поглощения Востока. Результат был столь неутешителен, что партия
Сципиона Младшего, дабы положить конец хаосу, перешла к решите¬
льному империализму, хотя ее вождь и предвидел с полной ясностью
судьбу своего города, в высшей степени обладавшего античной неспо¬
собностью хоть что-то организовать. Однако путь от Александра к Це¬
зарю однозначен и неизбежен, и наиболее сильная нация всякой куль¬
туры должна по нему пройти вне зависимости от того, желает ли она
этого и знает ли о том или нет.
От суровости этих фактов не укроешься. Гаагская мирная конфе¬
ренция 1907 г. была прелюдией мировой войны, Вашингтонская 1921 г.
явится ею для новых войн. История этого времени более не остроум¬
ная, протекающая в благовоспитанных формах игра на «больше-мень¬
ше», из которой можно выйти в любой момент. Погибнуть или усто¬
ять — третьего не дано. Единственная мораль, которую допускает се¬
годня логика вещей, — это мораль альпиниста на крутом гребне.
Минутная слабость, и все кончено. Однако вся сегодняшняя «филосо¬
фия» — не что иное, как внутреннее капитулянтство и саморасслабле¬
ние, и еще трусливая надежда на то, что с помощью мистики удастся
увильнуть от фактов. То же было и в Риме. Тацит рассказывает , как
знаменитый Музоний Руф попытался воздействовать на легионы, сто¬
явшие в 70 г. под стенами Рима, читая им лекции о благах мира и бедст¬
виях войны, и ему едва удалось уйти подобру-поздорову. Полководец
Авидий Кассий называл императора Марка Аврелия философствую¬
щей старушонкой.
Таким образом, колоссальным становится значение того, что со¬
храняют в себе нации в XX в. в плане древней и великой традиции, ис¬
торической оформленности, проникшего в кровь опыта. Творческое
благочестие, или же, — если мы хотим постигнуть это с большей глуби-
н°й, — древлерожденный такт из отдаленного раннего времени, фор-
^ообразующе продолжающий свое действие в воле, связывается для
^^исключительно с такими формами, которые старше Наполеона и
м Ср. названную на с. 881 работу Питона.
История III 81.
896 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
революции*, с формами органическими, а не запроектированными.
Всякий сохраняющийся в существовании какого-либо замкнутого ме¬
ньшинства остаток в этом роде, как бы мал он ни оказался, достаточно
скоро становится неизмеримой ценностью и производит такие исто¬
рические действия, возможности которых никто в данный момент не
предполагает. Традиции старинной монархии, старинной знати, ста¬
ринного благородного общества, поскольку они еще достаточно здо¬
ровы, чтобы удержаться поодаль от политики как гешефта или от поли¬
тики, проводимой ради абстракции, поскольку в них наличествуют
честь, самоотверженность, дисциплина, подлинное ощущение вели¬
кой миссии, т. е. расовые качества, вымуштрованность, чутье на долг и
жертву, — эти традиции способны сплотить вокруг себя поток сущест¬
вования целого народа, они позволят перетерпеть это время и достичь
берегов будущего. «Быть в форме» (in Verfassung) — от этого зависит те¬
перь все. Приходит тяжелейшее время из всех, какие только знает исто¬
рия высшей культуры. Последняя раса, остающаяся «в форме», по¬
следняя живая традиция, последний вождь, опирающийся на то и дру¬
гое, — они-то и рвут ленточку на финише.
14
Цезаризмом я называю такой способ управления, который, несмот¬
ря на все государственно-правовые формулировки, вновь совершенно
бесформен по своему внутреннему существу. Не имеет совершенно
никакого значения то, что Август в Риме, Цинь Шихуан в Китае, Ама-
сис в Египте, Алп-Арслан в Багдаде облекают занимаемое ими положе¬
ние старомодными обозначениями. Дух всех этих форм умер *. И пото¬
му все учреждения, с какой бы тщательностью ни поддерживались они
в правильном состоянии, начиная с этого момента не имеют ни смыс¬
ла, ни веса. Значима лишь всецело персональная власть, которой в
силу своих способностей пользуется Цезарь или кто угодно другой на
его месте. Это возврат из мира завершенных форм к первобытности, к
космически-внеисторическому. На место исторических эпох снова
приходят биологические периоды***.
В начале, там, где цивилизация движется к полному расцвету — т. е.
сегодня, — высится чудо мировой столицы, этот великий каменный
символ всего бесформенного, чудовищного, великолепного, надменно
распространяющегося вдаль. Оно всасывает в себя потоки существова¬
* Так что сюда относится также и американская конституция, чем только и объяс¬
няется удивительное благоговение, которое испытывает в ее отношении американец,
даже когда он ясно сознает ее несовершенство.
Цезарь прекрасно это понял: «Nihil esse rem publicam, apellationem modo sine corpore
ac specie» [«Республика — ничто, одно только название, ни тела, ни вида» {лат.)] (Све¬
тоний. Цезарь, 77).
Глава четвертая. Государство
897
ния бессильной деревни, эти человеческие толпы, передуваемые с мес¬
та на место, как дюны, как текучий песок, ручейками струящийся меж¬
ду камней. Дух и деньги празднуют здесь свою величайшую и послед¬
нюю победу. Это самое искусное и самое изысканное из всего, что
являлось в светомире человеческому глазу, нечто жутковатое и неверо¬
ятное, пребывающее уже почти по ту сторону возможностей космиче¬
ского формообразования.
Затем, однако, вперед снова выступают безыдейные факты — фак¬
ты как они есть, во весь их колоссальный рост. Вечнокосмический такт
окончательно преодолел духовные напряжения нескольких столетий.
В образе демократии восторжествовали деньги. Было время, когда по¬
литику делали только они, или почти что только они. Однако стоило
им разрушить старинные культурные порядки, как из хаоса является
новая, всепревосходящая, достигающая до первооснов всего становле¬
ния величина: люди цезаревского пошиба. Всемогущество денег перед
ними улетучивается. Императорское время знаменует собой, причем во
всякой культуре, конец политики духа и денег. Силы крови, первобыт¬
ные побуждения всякой жизни, несломленная телесная сила снова
вступают в права своего прежнего господства. Раса вырывается наружу
в чистом и неодолимом виде: побеждает сильнейший, а все прочее —
его добыча. Она захватывает мироправство, и царство книг и проблем
цепенеет или погружается в забвение. Начиная с этого момента вновь
возможны героические судьбы в стиле предвремени, не подергиваемые
в сознании флером каузальности. Больше нет никакой внутренней раз¬
ницы между жизнью Септимия Севера и Галлиена или Алариха и Одо-
акра. Рамсес, Траян, Ву-ти принадлежат единообразному биению вне-
исторических временных пространств.
С началом императорского времени нет больше никаких политиче¬
ских проблем. Люди удовлетворяются существующим положением и
наличными силами. Потоки крови обагрили в эпоху борющихся госу¬
дарств мостовые всех мировых столиц, чтобы превратить великие ис¬
тины демократии в действительность и вырвать права, без которых
жизнь была не в жизнь. Теперь эти права завоеваны, однако внуков
даже наказаниями не заставишь ими воспользоваться. Еще сто лет — и
даже историки уже не понимают этих старых поводов для раздора. Уже
ко времени Цезаря приличная публика почти не участвовала в выбо¬
рах*. Вся жизнь великого Тиберия была отравлена тем, что наиболее
способные люди его времени уклонялись от политики, а Нерон даже
угрозами не мог больше заставить всадников явиться в Рим, чтобы вос¬
пользоваться своими правами. Это конец большой политики, некогда
* В речи за Сестия Цицерон указывает на то, что на плебисцитах присутствует по
пять человек от каждой трибы, которые к тому же на самом деле принадлежат к другой
трибе. Однако и эти пятеро приходят сюда лишь для того, чтобы продаться власть иму¬
щим. А ведь пятидесяти лет не прошло с тех пор, как массы италиков отдавали жизнь
за это самое право голоса.
29 Закат Западного мира
898
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
служившей заменой войне более духовными средствами, а теперь
вновь освобождающей место войне в ее наиболее первозданном виде.
Поэтому когда Моммзен* глубокомысленно разбирает созданную
Августом «диархию» с ее разделением полномочий между принцепсом
и сенатом, это свидетельствует о полном непонимании глубинного
смысла эпохи. Сотней лет раньше такая конституция была бы чем-то
реальным, однако именно поэтому мысль о ней и в голову не могла
прийти никому из людей, обладавших тогда властью. Теперь же она не
означает ничего, кроме попытки слабой личности обмануться в отно¬
шении несомненных фактов с помощью чистых форм. Цезарь видел
вещи такими, как они есть, и безо всякой сентиментальности устраи¬
вал свое господство, как того требовала практика. Законодательство
последних месяцев его жизни было ориентировано исключительно на
переходные меры, ни одна из которых не задумывалась на продолжите¬
льный срок. Это-то всегда и упускалось из виду. Он был слишком глу¬
боким знатоком предмета, чтобы в этот момент, непосредственно пе¬
ред парфянским походом, заранее предвидеть дальнейшее развитие
событий и желать установить его окончательные формы. Август же, как
и Помпей до него, не был хозяином своей свиты, но всецело зависел от
нее и ее воззрений. Форма принципата вовсе им не изобреталась, но
была доктринерским осуществлением устарелого партийного идеала,
набросанного другим слабаком, Цицероном \ Когда 13 января 27 г. Ав¬
густ в ходе задуманной от чистого сердца, однако оттого лишь еще бо¬
лее бессмысленной сцены передал «сенату и народу римскому» госу¬
дарственную власть, трибунат он придержал для себя, а на самом деле
то был единственный фрагмент политической действительности, ко¬
торый имел тогда значение. Трибун был легитимным преемником ти¬
рана* , и уже Гай Гракх придал в 122 г. этому титулу такое содержание,
которое ограничивалось уже не пределами должностных полномочий,
но лишь персональными талантами его обладателя. Прямая линия
пролегает от него через Цезаря и Мария к юному Нерону, когда он вы¬
ступил против политических замыслов своей матери Агриппины. На¬
против того, принцепс * сделался отныне и впредь лишь оболочкой,
рангом, возможно еще имевшим общественную значимость, однако
политическим фактом уже не являвшимся. Именно это понятие было в
теории Цицерона окружено озаряющим сиянием, и уже им оно было
связано с Divus . И наоборот, «сотрудничество» сената и народа
* И что весьма примечательно, также и Эд. Мейер в своем шедевре «Монархия Це¬
заря», единственном посвященном этому времени труде, поднимающемся на уровень
государственного мышления (и еще раньше этого — в статье об императоре Августе.
К1. Schr. S. 441 ff.).
«О государстве» — предназначенный для Помпея меморандум от 54 г.
**' С. 857.
С. 874.
«На «Сон Сципиона» VI 26, где богом назван тот, кто управляет государством
так, quam hunc mundum ille princeps deus7'5.
Глава четвертая. Государство
899
представляет собой устарелую церемонию, в которой жизни было не
больше, чем во вновь учрежденных Августом ритуалах Арвальских бра¬
тьев. Из великих партий эпохи Гракхов давно уже получились свиты,
цезарианцы и помпеянцы, и в конце концов, с одной стороны, оста¬
лось лишь бесформенное всесилие, «факт» в наибрутальнейшем смыс¬
ле слова, «Цезарь» или тот, кто смог подчинить его своему влиянию, а с
другой — горстка ограниченных идеологов, скрывавших свое неудово¬
льствие за философией и пытавшихся, базируясь на ней, заговорами
пропихнуть свой идеал. В Риме это были стоики, в Китае — конфуци¬
анцы. Лишь теперь можно понять знаменитое «великое книгосожже-
ние», учиненное китайским Августом в 212 г. до Р. X. и запечатлевшее¬
ся в головах позднейших писак как проявление чудовищного варварст¬
ва. Однако Цезарь-то пал жертвой стоических мечтателей, бредивших
идеалом, сделавшимся невозможным*; культу divus'а в стоических кру¬
гах противопоставлялся культ Катона и Брута; философы в сенате
(ставшем тогда своего рода аристократическим клубом) не уставали
оплакивать гибель «свободы» и замышлять заговоры наподобие пизо-
новского 65 г., который со смертью Нерона едва не вызвал на свет дав¬
но забытые времена Суллы. Потому-то Нерон и казнил стоика Пета
Тразею, а Веспасиан — Гельвидия Приска, и потому-то списки исто¬
рического сочинения Кремуция Корда, в котором Брут превозносился
как последний римлянин, собирали по всему Риму и сжигали. То была
мера защиты государства от слепой идеологии наподобие тех, о кото¬
рых мы знаем в связи с Кромвелем и Робеспьером, и совершенно в том
же положении находились китайские Цезари по отношению к школе
Конфуция, которая, разработав некогда свой идеал государственного
устройства, была теперь не в состоянии смириться с действительно¬
стью. Большое книгосожжение — это не что иное, как уничтожение ча¬
сти философско-политической литературы и упразднение преподава¬
тельского дела и тайных организаций**. Обе империи продолжали та¬
кую защиту сотню лет: к тому времени изгладилось само воспоминание
о партийно-политических страстях, а та и другая философия — Зенона
и Конфуция — сделались господствующим миронастроением зрелого
императорского времени***. Однако мир является теперь ареной траги¬
ческих семейных историй, которые приходят на смену истории госу¬
дарств, — тех, что повествуют об уничтожении дома Юлиев — Клавди¬
Не случайно Брут, стоя подле трупа, выкрикнул имя Цицерона, как и то, что Ан¬
тоний выделил этого последнего как идейного вдохновителя содеянного. Однако «сво¬
бода» не означала ничего, кроме олигархии нескольких семей, ибо толпе давно уже
прискучили ее права. Само собой разумеется и то, что рядом с духом за содеянным сто¬
яли также и деньги, крупная римская собственность, усматривавшая в цезаризме конец
своего всесилия.
**
Даосизм, напротив того, поддерживался, потому что проповедовал уход от вся-
к°й политики. «Желаю видеть рядом только толстых», — говорит Цезарь у Шекспира716.
Тацит этого уже не понимал. Он ненавидит этих первых цезарей, потому что они
Всеми мыслимыми средствами обрушивались на ползучую оппозицию в его окруже-
пии, оппозицию, которой, начиная с Траяна, больше не существовало.
900
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ев и дома Цинь Шихуана (уже в 206 до Р. X.), и тех, что мрачно просмат¬
риваются в судьбе государыни Хатшепсут и ее братьев (1501—1447).
Это есть последний шаг к определенности. С установлением мира во
всем мире (мира высокой политики) «сторона меча»* в существовании
отступает назад и снова господствует «линия прялки»: теперь имеется
лишь частная история, частная судьба, частное честолюбие, начиная с
жалких потребностей феллахов и до яростных распрей Цезарей из-за
личного обладания миром. Войны в эпоху мира во всем мире — это част¬
ные войны, более чудовищные, чем все государственные войны, пото¬
му что они бесформенны.
Ибо мир во всем мире — который воцарялся уже часто — содержит в
себе частный отказ колоссального большинства от войны, однако од¬
новременно с этим и неявную их готовность сделаться добычей других,
которые от войны не отказываются. Начинается все желанием всеоб¬
щего примирения, подрывающим государственные основы, а заканчи¬
вается тем, что никто пальцем не шевельнет, пока беда затронула лишь
соседа. Уже при Марке Аврелии всякий город, всякая, пусть крохот¬
ная, территория думала лишь о себе и деятельность правителя была его
частным делом, как деятельность всякого другого. Для тех, кто обитал
далеко, он сам, его войска и цели были совершенно так же безразлич¬
ны, как намерения германских вооруженных ватаг. Из этих душевных
предпосылок развивается второе движение викингов. Пребывание «в
форме» переходит с наций на шайки и свиты, следующие за авантюри¬
стами, кем бы они ни оказывались — цезарями, отложившимися пол¬
ководцами или царями варваров, для которых население в конечном
счете не более чем составная часть ландшафта. Существует глубокое
внутреннее родство между героями микенского предвремени и рим¬
скими солдатскими императорами, как, быть может, и между Менесом
и Рамсесом II717. В германском мире вновь пробуждается дух Алариха и
Теодориха, первая ласточка здесь — явление Сесила Родса; и чужие по
крови палачи русского раннего времени от Чингиз-хана до Троцкого,
между которыми залегает эпизод петровского царизма, ведь не так уж
отличаются от многих претендентов латиноамериканских республик
Центральной Америки, чьи частные схватки давно уже пришли на сме¬
ну исполненному формы времени испанского барокко.
С формированием государства отправляется на покой и высокая
история. Человек снова делается растением, прикрепленным к своей
полоске, тупым и длящимся. На первый план выходят вневременная
деревня, «вечный» крестьянин*, зачинающий детей и бросающий зер¬
но в Мать-Землю, — прилежное, самодостаточное копошение, над ко¬
торым проносятся бури солдатских императоров. Посреди края лежат
древние мировые столицы, пустые скорлупы угасшей души, которые
неспешно обживает внеисторическое человечество. Всяк живет со дня
* С. 793.
*' С. 779, 807 сл.
Глава четвертая. Государство
901
надень, со своим малым, нетороватым счастьем, и терпит. Массы гиб¬
нут в борьбе завоевателей за власть и добычу сего мира, однако выжив¬
шие заполняют бреши своей первобытной плодовитостью и продолжа¬
ют терпеть дальше. И между тем как вверху происходит беспрестанная
смена, кто-то побеждает, а кто-то терпит крах, из глубин возносятся
молитвы, возносятся с могучим благочестием второй религиозности,
навсегда преодолевшей все сомнения*. Здесь, в душах, и только здесь,
сделался действительностью мир во всем мире, Божий мир, блажен¬
ство седых монахов и отшельников. Он пробудил ту глубину выносли¬
вости в страдании, которой не узнал исторический человек за тысячу
лет своего развития. Лишь с завершением великой истории вновь
устанавливается блаженное, покойное бодрствование. Это — спек¬
такль, бесцельный и возвышенный, как кружение звезд, вращение
Земли, чередование суши и морей, льдов и девственных лесов на ее
лице. Можно им восхищаться или, напротив, оплакивать — однако он
разыгрывается перед нами.
III. Философия политики
15
Мы много, куда больше, чем нужно, размышляли над понятием
«политика». Тем меньше мы понимаем, наблюдая действительную по¬
литику. Великие государственные деятели имеют обыкновение дейст¬
вовать непосредственно, причем исходя из уверенного чутья на факты.
Для них это настолько естественно, что им и в голову не приходит заду¬
мываться над общими фундаментальными понятиями этой деятельно¬
сти — если предположить, что такие вообще существуют. Чтб делать,
было им известно испокон веков. Соответствующая теория не отвечала
ни их дарованию, ни вкусу. Профессиональные же мыслители, на¬
правлявшие свой взгляд на созданные людьми факты, внутренне пре¬
бывали в отдалении от этой деятельности и потому были способны
лишь так и этак мудрить со своими абстракциями, а всего лучше — с
мифическими образованиями, такими, как «справедливость», «добро¬
детель», «свобода». Лишь намудрившись, они прикладывали свою
меру к историческим событиям прошлого и в первую голову — будуще¬
го. За этим занятием они под конец забывали, что понятия — всего то¬
лько понятия, и приходили к убеждению, что политика существует
лишь для того, чтобы направлять ход мировых процессов в соответст¬
вии с идеалистическими предписаниями. А поскольку ничего подоб¬
ного пока что нигде и никогда не случалось, политическое деяние
представлялось им в сравнении с абстрактным мышлением таким ни-
c. 766 сл.
902 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
чтожным, что в своих книгах они всерьез спорили о том, существует ли
вообще «гений поступка».
В противоположность этому ниже мы попытаемся дать вместо
идеологической системы физиономику политики, как она действитель¬
но делалась в ходе всей истории в целом, а не как должна была бы дела¬
ться. Задача состояла в том, чтобы проникнуть в глубинный смысл ве¬
ликих фактов, их «увидеть», прочувствовать в них символически зна¬
чимое и описать его. Прожекты мироулучшателей не имеют с
исторической действительностью ничего общего*.
Потоки человеческого существования мы называем историей — по¬
стольку, поскольку воспринимаем их как движение, или родом, сосло¬
вием, народом, нацией — поскольку воспринимаем их как движимое.
Политика есть способ и манера, в которых утверждает себя это текучее
существование, в которых оно растет и одерживает верх над другими
жизненными потоками. Вся жизнь — это политика, в каждой своей им¬
пульсивной черточке, до самой глубиннейшей своей сути*. То, о чем
мы сегодня с такой охотой говорим как о жизненной энергии (виталь¬
ности), наличное в нас «оно», во что бы то ни стало стремящееся вперед
и вверх, этот слепой, космический, страстный порыв к самоутвержде¬
нию и власти, растительно и расово остающийся связанным с землей,
«родиной», эта направленность и определенность к действию, — вот
что, как жизнь политическая, отыскивает великие решения повсюду
среди высшего человечества и должно их отыскивать, чтоб либо стать
судьбой самому, либо ее претерпеть. Ибо можно только расти или от¬
мирать, Никакой третьей возможности не дано.
Поэтому знать, как выражение сильной расы, является политиче¬
ским сословием в собственном смысле слова, и подлинным политиче¬
ским способом воспитания является муштра, а не образование. Всякий
великий политик, этот центр сил в потоке событий, обладает неким
благородством в ощущении своей призванности и внутренней связан¬
ности. Напротив того, все микрокосмическое, всякий «дух» аполити¬
чен, и потому во всякой программной политике и идеологии есть
что-то священническое. Лучшие дипломаты — это дети, когда они иг¬
рают или хотят что-то получить. Вплетенное во всякое единичное су¬
щество «оно» прокладывает здесь себе дорогу непосредственно и с со¬
мнамбулической безошибочностью. Этой гениальной сноровке пер¬
вых лет жизни никто никогда не учится, с наступающим же в юности
* «Империи гибнут, хороший стих остается», — сказал В. фон Гумбольдт на поле
битвы при Ватерлоо. Однако личность Наполеона предопределила собой историю сле¬
дующего столетия. А что до хороших стихов, то насчет них спросил бы он прохожего
крестьянина. Они остаются — для преподавания литературы. Платон вечен — для фи¬
лологов. Наполеон же внутренне господствует во всех нас, в наших государствах и ар¬
миях, в нашем общественном мнении, во всем нашем политическом бытии, причем
тем больше, чем меньше мы это сознаем.
*' С. 798.
Глава четвертая. Государство
903
пробуждением она утрачивается. Именно поэтому государственный
деятель — такое редкое явление среди зрелых мужчин.
Эти потоки существования в сфере высшей культуры, внутри и меж¬
ду которыми только и обретается большая политика, возможны, лишь
если их несколько. Народ действителен только в отношении к другим
народам*. Однако именно поэтому естественное, расовое отношение
между ними — это война. Вот факт, который не может быть изменен ни¬
какими истинами. Война — первополитика всего живого, причем до та¬
кой степени, что борьба и жизнь — в глубине одно и то же, и с желанием
бороться угасает также и бытие. Соответствующие древнегерманские
слова, emust и orlog18, означают серьезность и судьбу в противополож¬
ность шутке и игре: это есть усиление того же самого, а не что-то отлич¬
ное по сути. И если вся высокая политика желает являться замещением
меча более духовным оружием и предмет тщеславия всякого политика
на высоте всех культур состоит в том, чтобы в войне больше почти не
возникало нужды, изначальное родство между дипломатией и военным
искусством все же сохраняется: характер борьбы, та же тактика, те же во¬
енные хитрости, необходимость наличия за плечами материальных сил,
чтобы придать операциям вес. Той же самой остается и цель: рост собст¬
венной жизненной единицы, сословия или нации, за счет других. И вся¬
кая попытка исключить этот расовый момент приводит лишь к его пере¬
носу в другую сферу: из межгосударственной он перемещается в меж¬
партийную, межландшафтную, или же, если воля к росту угасает также и
здесь, — возникает в отношениях между свитами авантюристов, кото¬
рым добровольно покоряется остальное население.
Во всякой войне между жизненными силами все сводится к вопросу
о том, кто будет править целым. То, что задает такт в потоке событий, —
это всегда жизнь и никогда не система, не закон или программа**. Быть
центром действия, деятельным средоточием множества***, поднять
внутреннюю форму собственной личности до формы целых народов и
эпох, взять историю в свои руки, чтобы вывести свой народ или племя и
его цели на передний край событий, — это едва сознаваемое и почти не¬
одолимое стремление всякого единичного существа, имеющего истори¬
ческое предназначение. Бывает только личностная история и в силу это¬
го только личностная политика. Схватка не принципов, но людей, не
идеалов, но расовых черт за обладание исполнительной властью — вот
что является здесь альфой и омегой, и никаким исключением отсюда не
оказываются также и революции, ибо «суверенитет народа» — это лишь
слова, означающие, что господствующая власть приняла вместо коро¬
левского титула звание «народного вождя». Методы управления при
этом почти не меняются, положение управляемых не меняется вовсе. И
I С. 829 сл.
Это и означает английский принцип men not measures", и в этом — тайна всякой
Успешной политики.
*** С. 484, 829 сл.
904
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
даже мир во всем мире, сколько раз он ни воцарялся, всякий раз означал
не что иное, как рабство всего человечества под руководством неболь¬
шого числа настроенных властвовать сильных натур.
В понятие исполнительной власти входит также и то, что жизненное
единство, причем уже у животных, распадается на субъекты и объекты
управления. Это настолько самоочевидно, что такая внутренняя структу¬
ра всякого массового единства не утрачивается ни на мгновение даже во
времена тяжелейших кризисов, как в 1789 г. Исчезает лишь лицо, обле¬
ченное должностью, но не она сама, и, если в потоке событий народ дей¬
ствительно лишается всякого руководства, это означает лишь то, что его
руководство переместилось вовне, что он сделался объектом как целое.
Политически одаренных народов нет в природе. Есть только такие
народы, которые крепко удерживаются в руках правящего меньшинства
и потому ощущают себя «в хорошей форме» (gut in Verfassung). Англичане
как народ столь же малосмысленны, узки и непрактичны в политиче¬
ских вопроса^, как и всякая другая нация, однако при всей своей любви
к общественным дискуссиям они обладают традицией доверия. Разница
заключается лишь в том, что англичанин является объектом правитель¬
ства с очень старинными и удачными обыкновениями, с которым он со¬
глашается, потому что по опыту знает, что это выгодно. От этого согла¬
сия, со стороны представляющегося пониманием, рукой подать до
убеждения, что правительство зависит от его воли, хотя все как раз нао¬
борот: это оно вновь и вновь вдалбливает данное воззрение ему в голо¬
ву — по чисто техническим основаниям. Правящий класс в Англии раз¬
вил свои цели и методы совершенно независимо от «народа» и работает с
неписаной конституцией (и в ней), чьи возникшие в процессе использо¬
вания абсолютно нетеоретические тонкости остаются для взгляда непо¬
священного столь же непроницаемы, как и непонятны. Однако мужест¬
во войска зависит от доверия командованию — доверия, т. е. доброволь¬
ного отказа от критики. Это офицер делает из трусов героев и из
героев — трусов. Это относится как к армиям, народам и сословиям, так
и к партиям. Политическая одаренность людского множества — не что
иное, как доверие к руководству. Однако его надо приобрести: оно дол¬
жно медленно созревать, подкрепляться успехами и делаться традицией.
Недостаток лидерских свойств в правящем слое порождает у руководи¬
мых ощущение недостаточной безопасности, причем в том виде неин¬
стинктивной, докучливой критики, уже одно наличие которой приво¬
дит народ к потере формы.
16
Но как делается политика? Прирожденный государственный дея¬
тель — в первую очередь знаток, знаток людей, ситуаций, вещей. Он
обладает «взглядом», который без промедления, абсолютно непредвзя¬
Глава четвертая. Государство
905
то очерчивает круг возможного. Так лошадник одним взглядом оцени¬
вает стати животного и знает его виды в забеге, а игрок бросает один
взгляд на противника и уже знает свой следующий ход. Делать то, что
дблжно, того не «зная», уверенная рука, которая незаметно укорачива¬
ет поводья или же их отпускает, — вот противоположность дару теоре¬
тика. Потаенный такт всего становления — один и тот же в нем и в
предметах истории. Они чуют друг друга; они друг для друга созданы.
Человеку фактов никогда не грозит опасность, что он займется поли¬
тикой, построенной на чувствах и программах. Он не верит в громкие
фразы. Вопрос Пилата не сходит у него с уст. Что ему истина? Прирож¬
денный государственный деятель находится по другую сторону истины
и лжи. Он не смешивает логику событий с логикой систем. «Истины»
(или «заблуждения», что в данном случае одно и то же) попадают в его
поле зрения лишь как духовные течения, в связи с их действенностью,
их сила, долговременность и направление оцениваются им и принима¬
ются в расчет применительно к судьбе направляемой им власти. Несо¬
мненно, у него имеются убеждения, которые ему дороги, однако как
частному человеку; никакой политик с положением никогда не ощу¬
щал себя связанным ими в своих действиях. «Деятель всегда бессове¬
стен; совесть есть лишь у одного наблюдателя» (Гёте)720. Это относится
к Сулле и Робеспьеру точно так же, как к Бисмарку и Питту. Великие
папы и английские партийные вожди, поскольку им нужно было вла¬
деть ситуацией, следовали тем же принципам, что и завоеватели и бун¬
товщики всех времен. Выведите основные правила из действий Инно¬
кентия III, едва не приведшего церковь к мировому господству, и вы
получите катехизис успеха, представляющий собой крайнюю противо¬
положность всякой религиозной морали, без которого, однако, не
было бы никакой церкви, никаких английских колоний, никакого аме¬
риканского капитала, никакой победоносной революции и, наконец,
ни государства, ни партии, ни даже народа в удовлетворительном со¬
стоянии. Это жизнь бессовестна, а не отдельный человек.
Потому-то так важно понимать эпоху, для которой человек рожден.
Кто не ощущает ее наиболее потаенных сил и их не понимает, кто не
чувствует в себе самом чего-то родственного, такого, что влечет его
вперед, на путь, который не может быть описан в понятиях, кто верит
во внешность — в общественное мнение, громкие слова и идеалы, тот
для ее событий не годится. Это они властвуют над ним, а не он над
ними. Не оглядываться назад и не прикладывать к настоящему мерку
прошлого! Еще того важнее — не смотреть по сторонам на какую бы то
ни было систему! Во времена как нынешнее, как и в эпоху Гракхов,
возможны две разновидности рокового идеализма — идеализм реакци¬
онный и демократический. Первый верит в обратимость истории, вто¬
рой — в наличную в ней цель. Однако они готовят нации, властью над
которой обладают, неминуемое крушение, а после этого безразлично,
была ли нация принесена в жертву воспоминанию или понятию. Под¬
906
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
линный государственный деятель — это персонализированная исто¬
рия, ее направленность как единичная воля, ее органическая логика
как характер.
Однако государственному деятелю высокого ранга следует быть и
воспитателем в великом смысле этого слова, причем не вещать от име¬
ни некой морали или учения, но действиями являть собой пример для
подражания . Общеизвестный факт: никакой новой религии никогда
не удавалось изменить стиль существования. Она пронизывала бодрст¬
вование, духовного человека, она представляла в новом свете потусто¬
ронний мир, она одаривала неизмеримым счастьем — с помощью силы
самоограничения, самоотвержения и выдержки, готовых на все,
вплоть до смерти; однако над силами жизни никакой власти у нее не
было. Творчески действовать в живом, не образовывая, но муштруя,
преобразуя тип целых сословий и народов, способна только великая
личность, «оно», раса в ней, вплетенная в нее космическая сила.
Факт —^это не истина, благо, возвышенное вообще, но римлянин, пу¬
ританин, пруссак как таковой. Честолюбие, чувство долга, дисципли¬
на, решимость — этому из книг не научишься. Это пробуждается в те¬
кучем существовании с помощью живого примера. Потому Фридрих
Вильгельм I и был одним из величайших воспитателей всех времен:
лично его расообразующая повадка уж более не исчезнет из последова¬
тельности поколений. От политикана, игрока ради удовольствия, лов¬
ца счастья на вершинах истории, корыстного и тщеславного, как и от
педантичного ревнителя идеала, подлинный государственный деятель
отличается тем, что он может требовать жертв и их получает, потому
что его ощущение собственной необходимости времени и нации разде¬
ляется тысячами, в корне их преобразует и делает способными на такие
дела, которые в ином случае не были бы им по плечу .
Наиважнейшим, однако, является не способность действовать, но
способность повелевать. Лишь в этом одиночка перерастает самого себя
и становится центром деятельного мира. Существует тот род отдачи
приказаний, который превращает повиновение в горделивую, свобод¬
ную и благородную привычку. Наполеон, к примеру, таким даром при¬
казывать не обладал. Остаток фельдфебельского умонастроения не по¬
зволял ему воспитывать людей, а не инвентарные единицы, господст¬
вовать с помощью личностей, а не распоряжений. И поскольку в этом
тончайшем такте приказания он не смыслил, а потому все действитель¬
но критические моменты ему приходилось брать на себя, он был посте¬
пенно йогублен несоответствием между задачами своего положения и
* С. 795 сл.
**
По сути это относится и к церквам, представляющим собой по сравнению с ре-
лигиями нечто иное, а именно моменты мира фактов, а потому являющимся по харак¬
теру управления политическими, а не религиозными учреждениями. Мир завоевала не
христианская проповедь, но христианский мученик, и тем, что у него достало на это
сил, он обязан не учению, но стоявшему у него перед глазами образцу — Человеку на
кресте.
Глава четвертая. Государство
907
границами, положенными человеческим способностям. Кто, однако,
как Цезарь и Фридрих Великий, обладает этим высшим и последним
даром совершенного человечества, тот испытывает по вечерам — будь
то после сражения, когда операции подходят к желанному концу и по¬
ход завершается победой, или же когда с последней подписью на доку¬
ментах приходит к своему завершению историческая эпоха — удивите¬
льное ощущение силы, человеку истины абсолютно недоступное. Бы¬
вают мгновения — высшие точки космических потоков, в которые
одиночка воспринимает свое тождество с судьбой и центром мира и
ощущает свою личность почти что оболочкой, в которую в данный мо¬
мент облачается будущее.
Первая задача: что-то сделать самому; вторая, не столь видная, од¬
нако более тяжкая и великая в своих отдаленных следствиях: создать
традицию, подвести других к тому, чтобы они продолжили твое дело,
его такт и дух; отпустить на свободу поток единообразной деятельно¬
сти, который, чтобы оставаться «в форме», более не нуждается в самом
первом вожде. Тем самым государственный деятель возвышается до
чего-то такого, что античность вполне могла бы назвать божеством. Он
делается творцом новой жизни, духовным предком юной расы. Сам он
как существо через немногие годы исчезнет из этого потока. Однако
вызванное им к существованию меньшинство — другое существо свое¬
образнейшего вида приходит на его место, причем на необозримое
время. Одиночка в состоянии породить это космическое нечто, эту
душу правящего слоя, и оставить его после себя как наследника; так и
производились в истории все долговременные последствия. Великий
государственный деятель редок. Появится ли он, сможет ли себя проя¬
вить, не будет ли это слишком рано или слишком поздно — все это слу¬
чайности. Великие одиночки зачастую разрушают больше, чем созда¬
ют, — теми зияниями в потоке истории, которые оставляет по себе их
смерть. Однако создать традицию — значит исключить случайность.
Традиция муштрует высокий средний уровень, на который вполне мо¬
жет положиться будущее: не Цезаря, но сенат, не Наполеона вовсе, но
бесподобный офицерский корпус. Крепкая традиция притягивает к
себе таланты со всех сторон и с небольшими дарованиями добивается
больших успехов. Итальянские и голландские живописные школы до¬
казывают это в не меньшей степени, чем прусская армия и дипломатия
римской курии. То был великий недостаток Бисмарка в сравнении с
Фридрихом Вильгельмом I, что он умел действовать, однако не сумел
выстроить никакой традиции, что рядом с офицерским корпусом Мо-
льтке он не создал соответствующей расы политиков, которая чувство¬
вала бы свое тождество с его государством и его новыми задачами, ко¬
торая, продолжаясь, вбирала бы в себя значительных людей снизу и на¬
всегда сращивала их с тактом собственной деятельности. Если этого не
случается, вместо монолитного правящего слоя мы имеем сборище
Умов, оказывающееся беспомощным перед лицом непредвиденных
908 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
обстоятельств. Если же повезет, возникнет «суверенный народ» в том
единственном значении, которое достойно народа и возможно в мире
фактов: пополняющее само себя вышколенное меньшинство со стаби¬
льной, созревшей в ходе длительного опыта традицией, заставляющее
всякое дарование подпасть под свои чары и его использующее, и имен¬
но поэтому находящееся в созвучии с управляемой им остальной на¬
цией. Такое меньшинство неспешно делается подлинной расой, даже
если оно когда-то было партией. Оно принимает решения с уверенно¬
стью крови, а не рассудка, именно поэтому все в нем происходит «само
собой»: в гениях оно больше не нуждается. Это означает, если можно
так сказать, замену великого политика великой политикой.
Однако что такое политика? Искусство возможного; это старинное
речение, и им сказано почти все. Садовник может вырастить растение
из семени или его привить. Он может дать развиться скрытым в нем
возможностям, его мощи и его убранству, его цветам и его плодам, или
же дать им захиреть. От его чутья на возможное, а значит необходимое
зависит совершенство растения, его сила, вся его судьба. Однако фун¬
даментальная форма и направление его существования, его этапы, ско¬
рость и длительность, «закон, что их определяет»721, не в его власти.
Растение должно это реализовать, иначе оно пропадет, и то же самое
справедливо и применительно к колоссальному растению «культуры»
и к околдованным в мире ее политических форм потокам существова¬
ния человеческих поколений. Великий государственный деятель — это
садовник своего народа.
Всякий действующий рожден во времени и для какого-то времени.
Тем самым очерчен круг того, что достижимо для него. Дедам бывает
дано одно, а внукам — что-то другое, а значит у них особые задачи и
цели. Далее круг оказывается еще более суженным границами его лич¬
ности и качествами его народа, обстоятельствами и людьми, с которы¬
ми он должен работать. Политика высокого ранга отличает то, что ему
редко приходится приносить жертвы по причине заблуждений насчет
этих границ, но в то же время ничего из того, что может быть реализо¬
вано, он из виду не упускает. Кроме того (немцам об этом необходимо
напоминать снова и снова), он никогда не путает то, что существовать
должно, с тем, что существовать будет. Основные формы государства и
политической жизни, направление и состояние их развития даются
временем и изменению не подлежат. Все политические успехи должны
достигаться с ними, но не на них. Разумеется, поклонники политиче¬
ских идеалов творят из ничего. Они поразительно свободны в своих
умах; однако все их мыслительные построения, образованные из бес¬
плотных понятий мудрости, справедливости, свободы, равенства, в
конце концов оказываются вечно одними и теми же, и всякий раз им
приходится начинать заново. Гроссмейстер фактов довольствуется
тем, чтобы незаметно направлять то, что у него уже имеется. Может по¬
казаться, что этого мало, однако свобода в великом смысле этого слова
Глава четвертая. Государство
909
только здесь и начинается. Все зависит от мелких черточек, от послед¬
него дальновидного доворота руля, от тонкого нюха на малейшие дви¬
жения в душе народа и отдельного человека. Искусство государствен¬
ного управления — это ясное вйдение великих окончательно проводи¬
мых линий и уверенная рука при свершении однократного,
личностного, такого, что может, оставаясь в пределах тех линий, пре¬
вратить близящееся бедствие в решительный успех. Тайна всех побед
кроется в организации невидимого. Тот, кто в этом смыслит, может,
будучи представителем побежденного, брать верх над победителем, как
Талейран в Вене722. Находившийся в почти отчаянном положении Це¬
зарь незаметно поставил в Лукке723 могущество Помпея на службу сво¬
им целям и тем самым его подорвал. Существует, однако, опасная гра¬
ница возможного, против которой совершенный такт великих дипло¬
матов барокко почти никогда не погрешал, между тем как идеологи
пользуются преимущественным правом постоянно о них спотыкаться.
В истории бывают изгибы, вдоль которых знаток, дабы не утратить
контроль, может долгое время дрейфовать. Во всякой ситуации есть
своя мера податливости, и ошибиться относительно этой меры нельзя
ни на йоту. Разразившаяся революция всегда служит доказательством
недостатка политического такта у правителей и их противников.
Необходимое следует делать вовремя, а именно пока оно будет по¬
дарком, которым правящая власть обеспечивает доверие себе, и не
должно приноситься как жертва, обнаруживающая слабость и возбуж¬
дающая презрение. Политические формы — это живые формы, непре¬
клонно изменяющиеся в определенном направлении. Если это движе¬
ние хотят затормозить или переориентировать его в направлении идеа¬
ла, мы с неизбежностью оказываемся «не в форме». Римский
нобилитет обладал для этого тактом, спартанский — нет. Во времена
восходящей демократии неизменно наступает роковой момент (во
Франции это было перед 1789 г., в Германии — перед 1918-м), когда
время необходимых реформ, преподнесенных как свободный дар, упу¬
щено, и потому от них следовало с не знающей пощады энергией укло¬
ниться, ибо как жертва они означали крах. Однако тот, кто своевре¬
менно не увидел первого, еще с большей неизбежностью просмотрит
второе. Также и на путь в Каноссу можно вступить слишком рано или
слишком поздно: здесь для целых народов решается вопрос, будут ли
они судьбой для других или же будут ее от них претерпевать. Однако
нисходящая демократия повторяет ту же самую ошибку, желая сохра¬
нить то, что являлось идеалом вчера. Вот в чем опасность для XX в. На
всякой тропе, ведущей к цезаризму, стоит по Катону.
Влияние на политические методы, которым обладает государствен¬
ный деятель, имеющий даже необыкновенно сильные позиции, очень
незначительно, и признак его высокого уровня — то, что он на этот
счет не обманывается. Его задача состоит в том, чтобы работать с на¬
личными историческими формами и в них; только теоретик воодушев¬
910 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ляется изобретением более идеальных форм. Однако чтобы находиться
«в форме» в политическом отношении, необходимо также безусловное
владение наиболее современными средствами. Здесь нет выбора. Средст¬
ва и методы задаются эпохой и принадлежат к ее внутренней форме.
Тот, кто в них ошибается, кто позволяет своим вкусу и чувству одер¬
жать верх над своим тактом, теряет контроль над фактами. При аристо¬
кратии опасным может оказаться консерватизм в средствах; при демо¬
кратии опасно бывает принимать формулировку за форму. Современ¬
ные средства на долгие годы останутся парламентскими: выборы и
пресса. Можно думать о них все, что угодно, почитать их или прези¬
рать, однако ими следует владеть. Бах и Моцарт владели музыкальны¬
ми средствами своего времени. Это отличительный признак мастерст¬
ва любого рода. Не иначе обстоит дело и с искусством государственно¬
го управления. Однако, разумеется, видимая всем и каждому внешняя
форма вовсе не является тем, что имеет здесь значение, но представля¬
ет собой лишв оболочку. Поэтому ее можно менять, нисколько не ме¬
няя суть происходящего, формулировать понятийно и укладывать в
текст конституции, причем действительность даже не будет затронута
этим, и честолюбие всех революционеров и доктринеров удовлетворя¬
ется тем, чтобы предаваться такой игре прав, принципов и свобод на
поверхности истории. А вот государственный деятель знает, что рас¬
ширение избирательного права — нечто совершенно незначительное в
сравнении с афинской или же римской, якобинской, американской, а
теперь еще и немецкой техникой «делать» выборы. Совершенно не¬
важно, чтб сказано в английской конституции, в сравнении с тем фак¬
том, что применение ее находится в руках тонкого слоя благородных
семейств, так что Эдуард VII был лишь министром собственного мини¬
стерства. Что до свободной прессы, то пускай мечтатели удовольству¬
ются тем, что она «свободна» по конституции; знаток же спрашивает
лишь о том, в чьем распоряжении она находится.
Наконец, политика — это та форма, в которой протекает история
одной нации посреди множества других. Великое искусство — удержи¬
вать собственную нацию внутренне «в форме» для событий вовне. Не
только для народов, государств и сословий, но и для живых единств
любого рода, вплоть до простейших стай животных и до единичных
тел, естественным соотношением внутренней и внешней политики яв¬
ляется такое, при котором первая существует исключительно для вто¬
рой, но не наоборот. Подлинный демократ обыкновенно занимается
первой как самоцелью, заурядный дипломат помышляет только о вто¬
рой. Однако именно в силу этого единичные успехи того и другого по¬
висают в воздухе. Нет сомнения в том, что гроссмейстер от политики
наиболее выпуклым образом обнаруживает себя в тактике внутренних
реформ, в своей экономической и социальной деятельности, в ловко¬
сти, с которой он удерживает общественную форму целого — «правй и
свободы», согласуя ее с вкусами эпохи (сохраняя в то же время работо-
Глава четвертая. Государство
911
способность этой формы), в воспитании чувств, без которых народу
невозможно оставаться «в форме»: доверия, уважения к руководству,
сознания силы, удовлетворенности и, когда это становится необходи¬
мо, воодушевления. Однако все это обретает ценность лишь с учетом
того основополагающего факта высокой истории, что народ не пребы¬
вает в мире в одиночестве и что вопрос о его будущем решается соотно¬
шением его сил с другими народами и силами, а не просто на основе
внутренней упорядоченности. А поскольку взгляд обыкновенных лю¬
дей так далеко не простирается, соответствующей дальновидностью
должно обладать за всех прочих правящее меньшинство, то меньшин¬
ство, в котором государственный деятель только и обретает инстру¬
мент для исполнения своих намерений*.
17
Ведущие силы в ранней политике всех культур четко определены.
Все существование предельно четко пребывает в патриархальной и
символической форме; привязанность к матушке-земле так сильна,
феодальный союз, как и сословное государство, представляется заво¬
роженной ими жизни чем-то до такой степени само собой разумею¬
щимся, что политика гомеровского и готического времени ограничи¬
вается тем, чтобы действовать в рамках той формы, что дана. Формы
эти изменяются, так сказать, сами собой. Того, что в этом изменении
может состоять задача политики, никто с отчетливостью не понимает
даже тогда, когда королевская власть'оказывается свергнутой или знать
приводится к покорности. Существует только сословная политика —
политика императорская, папская, вассальная. Кровь, раса заявляют о
себе в импульсивных, полусознаваемых предприятиях, и даже духов¬
ное лицо, поскольку оно занимается политикой, действует здесь как
человек расы. «Проблемы» государства еще не пробудились. Суверен и
пра-сословия, весь ранний мир форм даны от Бога, и лишь в условиях
их существования борются друг с другом органические меньшинства,
фракции.
Существенный момент фракции: ей абсолютно недоступна идея,
что порядок вещей может быть планомерно изменен. Чего она жела¬
ет — как и все растущее в растущем мире, — так это отвоевать себе
определенное положение в рамках данного порядка, овладеть властью
и имуществом. Это группы, в которых играют роль родственные связи
В общем-то не следовало бы даже и подчеркивать, что это есть принципы не ари¬
стократического правления, но правления вообще. Никакой одаренный вождь масс, ни
Клеон, ни Робеспьер, ни Ленин, не относился к своей должности как-то иначе. Тот,
кто действительно ощущает себя в роли порученца толпы, вместо того чтобы быть пра¬
вителем тех, кто сам не знает, чего хочет, ни дня не будет владеть ситуацией. Вопрос
лишь в том, достигают ли великие народные вожди своего положения ради самих себя
или ради других, и об этом можно рассуждать очень долго.
912 Том 2 ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
домов, честь, верность, союзы, обладающие почти мистической заду¬
шевностью, абстрактные же идеи для них всецело исключены. Таковы
фракции в гомеровскую и готическую эпоху — Телемах и женихи на
Итаке, «синие» и «зеленые» при Юстиниане, Вельфы и Вайблинге-
ры724, дома Ланкастеров и Йорков, протестанты* * * ****, гугеноты, а также еще
и движущие силы фронды и первой тирании. Всецело из этого духа ис¬
ходит книга Макиавелли725.
Поворот наступает, как только вместе с большим городом предво¬
дительство принимает на себя несословие, буржуазия *. Теперь, напро¬
тив, политическая форма оказывается возвышенной до яблока раздора,
до проблемы. До сих пор она вызревала, ныне она должна быть созда¬
на. Политика становится бодрой, она не только делается понятной, но
и перекладывается на понятия. Против крови и традиции восстают
силы духа и денег. На место органического приходит организованное,
на место сословия — партия. Партия — не отпрыск расы, но сборище
умов, и потому она настолько же превосходит старинные сословия ду¬
хом, насколько беднее их инстинктом. Партия является заклятым вра¬
гом всякого органически возникшего сословного членения, уже одно
существование которого противоречит ее сущности. Именно поэтому
понятие партии неизменно связано с безусловно отрицательным, раз¬
рушительным, нивелирующим общество понятием равенства. При¬
знаются не сословные идеалы, но исключительно одни профессиона¬
льные интересы *. Но партия связана и со столь же отрицательным по¬
нятием свободы * *: партии — чисто городское явление. С полным
освобождением города от земли, знаем мы о том или же нет, сословная
политика повсюду уступает место партийной: в Египте — с концом
Среднего царства, в Китае — с периодом борющихся государств, в Баг¬
даде и Византии — с периодом Аббасидов. В западных столицах фор¬
мируются партии парламентского стиля, в античных городах-государ¬
ствах — партии форума, а мавали и монахов Феодора Студита мы знаем
как партии магического стиля*****.
И все-таки те, чье лидирующее меньшинство, «ученость и собст¬
венность», выступает в качестве партии, неизменно оказываются не со¬
словием, единством протеста против самой сути сословия. Они имеют
одну программу, одну не прочувствованную, но формулированную
цель и при этом отвергают все то, что невозможно постигнуть рассу¬
дочными средствами. Поэтому, собственно говоряу существует лишь
одна партия, партия буржуазии, либеральная, и, надо сказать, этот
Изначально объединение девятнадцати князей и вольных городов (1529).
С. 772 сл., 861.
Поэтому на почве буржуазного равенства место генеалогического ранга тут же
занимает владение деньгами.
**** С. 820 сл.
С. 892. Ср. также: Wellhausen. Die relig.-polit. Oppositionsparteien im alten Islam,
1901.
Глава четвертая. Государство
913
свой ранг она вполне осознает. Она приравнивает себя к «народу». Ее
противники, прежде всего подлинные сословия, «баре и попы», явля¬
ются врагами и предателями «народа» как такового, ее голос — «глас на¬
рода», который вдалбливается этому последнему всеми средствами по¬
литической обработки — речами на форуме, прессой на Западе, с тем
чтобы затем от его имени выступать.
Пра-сословия — это знать и духовенство. Пра-партия — это партия
денег и духа, либеральная партия, партия большого города. Потому
столь глубок смысл понятий «аристократия» и «демократия», причем
для всех культур. Аристократическим оказывается презрение к город¬
скому духу, демократическим — презрение к крестьянину, ненависть к
земле*. В этом различие сословной политики и политики партийной,
сословного сознания и партийного умонастроения, расы и духа, органи¬
ческого роста и механической конструкции. Аристократична совер¬
шенная культура, демократична начинающаяся цивилизация мировых
столиц, пока противоположность между ними не оказывается снятой в
цезаризме. Не подлежит сомнению, что сословие как таковое — это
знать, tiers же так никогда и не приходит к тому, чтобы действительно
реализоваться в данной форме; но также несомненно и то, что знати не
удается не то чтобы организоваться в партию, но таковой себя почувст¬
вовать.
Однако и отказаться от партии она не может. Все современные кон¬
ституции отрицают сословия и рассчитаны на партию как на само со¬
бой разумеющуюся базовую политическую форму. XIX столетие, а зна¬
чит, также и III столетие до Христа — эпохи максимального блеска
партийной политики. Их демократическая струя вынуждает сформи¬
ровать партии-противовесы, и как некогда (еще в XVIII в.!) tiers по об¬
разцу знати конституировалось в качестве сословия, так теперь по об¬
разцу либеральной партии возникает оборонительное сооружение в виде
партии консервативной* (в которой всецело господствуют формы той,
первой), партии обуржуазившейся, не будучи буржуазной, и вынуж¬
денной прибегать к тактике, средства и методы которой определяются
исключительно либерализмом. Перед ней один выбор: управляться с
этими средствами лучше противников** или погибнуть, однако неспо¬
собность понять такую ситуацию уходит корнями в самую сословную
суть, и потому эта партия желает бороться не с противником, но с фор¬
мой. В результате она прибегает к крайним средствам, производящим
*
Для демократии в Англии и Америке существенно то, что в первой крестьянство
вымерло, а во второй его никогда и не было. «Фермер» в душе своей — обитатель при¬
города, и он занимается земледелием практически на индустриальных принципах.
Вместо деревень здесь лишь фрагменты больших городов.
А где между пра-сословиями существует также и политическое противоречие, как
в Египте, Индии и на Западе, там повсюду возникает еще и клерикальная партия, т. е.
вовсе не религия, но церковь и не верующие, но духовенство как партия.
И более крепкое расовое содержание предоставляет ей в этом смысле определен¬
ные перспективы.
914 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
опустошения во внутренней политике целых государств и с головой
выдающим их противникам внешним. Принудительность, с которой
всякой партии приходится быть буржуазной, по крайней мере внешне,
доходит до карикатурности, как только понизу городских слоев учено¬
сти и собственности в партию организуется также и остаток726. Так,
марксизм, в теории являющийся отрицанием буржуазии, ультрабуржу-
азен как партия по повадкам своим и руководству. Налицо постоян¬
ный конфликт между волей, которая с необходимостью выходит за
рамки партийной политики, а тем самым и всякой конституции (и то и
другое исключительно либерально), и это, говоря по чести, может быть
названо лишь гражданской войной, и теми повадками, иметь которые
полагают здесь за должное и которыми действительно необходимо об¬
ладать, чтобы рассчитывать в это время на сколько-нибудь длительный
успех. Однако манера поведения аристократической партии в парла¬
менте столь же фальшива, как и партии пролетарской. Лишь буржуазия
чувствуетЪебя здесь как рыба в воде.
В Риме патриции и плебеи противоборствовали друг другу — от уч¬
реждения трибунов в 471 г. и до признания их законодательных полно¬
мочий в революцию 287 г.* — главным образом как сословия. Но
впредь это противоречие обладает лишь генеалогическим значением и
развиваются партии, которые вполне могут быть названы либеральной
и консервативной: populus*, задающий тон на форуме, и нобилитет со
своим опорным пунктом в сенате. Этот последний ок. 287 г. преобразо¬
вался из семейного совета старинных родов в государственный совет
административной аристократии. Близкими к populus оказываются
ранжированные по имущественному признаку центуриатные комиции
и группа крупных финансистов, equites, близким к нобилитету — влия¬
тельное в трибутных комициях крестьянство. В первом случае на ум
приходят Гракхи и Марий, во втором — Гай Фламиний; и необходимо
лишь попристальнее приглядеться, чтобы заметить, насколько изме¬
нились теперь позиции, занимаемые консулами и трибунами. Они бо¬
льше не являются назначенными доверенными лицами первого и тре¬
тьего сословий, но представляют партии и их меняют. Бывают «либе¬
ральные» консулы, как Катон Старший, и «консервативные» трибуны,
как Октавий, противник Тиберия Гракха. Обе партии выставляют на
выборах своих кандидатов и пытаются их провести с помощью всех
средств демагогической обработки, и если, паче чаяния, на выборах де¬
ньги постигла неудача, в «работе» с самими выбранными их успехи де¬
лаются все более внушительными.
С. 872 сл.
Плебс соответствует tiers (буржуа и крестьянам) XVIII в., populus — «массе» боль¬
шого города XIX в. Различие выявляется в позиции, занимаемой по отношению к воль¬
ноотпущенникам главным образом неиталийского происхождения, которых плебс, как
сословие, стремится загнать в возможно меньшее число триб, между тем как в populus
как единой партии вольноотпущенники уже скоро начинают задавать тон.
Глава четвертая. Государство
915
В Англии в начале XIX в. тори и виги конституировали сами себя в
качестве партий, обуржуазившихся по форме, и те и другие приняли на
словах либеральные программы, и общественное мнение, как всегда,
оказалось этим полностью убежденным и удовлетворенным*. В резуль¬
тате этого мастерски и своевременно проведенного маневра до образо¬
вания враждебной сословиям партии, как во Франции в 1789 г., здесь
так и не дошло. Члены нижней палаты из делегатов господствующего
слоя сделались народными представителями, сохранившими финан¬
совую зависимость от него; руководство осталось в тех же руках, и про¬
тивоположность между партиями, для которых начиная с 1830 г. как бы
сами собой возникли слова «либеральная» и «консервативная», осно¬
вывалась на «больше-меньше», а не на «или-или». В те же годы свобо¬
долюбивое литературное настроение «Молодой Германии» вылилось в
партийное умонастроение, и тогда же в Америке, при президенте
Джексоне, в противовес республиканской организовалась демократи¬
ческая партия и состоялось формальное признание того фундамента¬
льного положения, что выборы — это бизнес, так что абсолютно все го¬
сударственные должности достаются победителю**.
Одн&ко форма правящего меньшинства беспрерывно развивается
дальше — от сословия через партию к свите одиночки. Поэтому конец де¬
мократии и ее переход к цезаризму выражаются в том, что исчезает во¬
все даже не партия третьего сословия, не либерализм, но партия как
форма вообще. Умонастроение, популярные цели, абстрактные идеа¬
лы всякой подлинной партийной политики уходят, и на их место засту¬
пает частная политика, необузданная воля к власти немногих людей
расы. У сословия имеются инстинкты, у партии — программа, у сви¬
ты — хозяин: это путь от патрициата и плебса через оптиматов и попу¬
ляров к помпеянцам и цезарианцам. Эпоха подлинного господства
партий охватывает едва два столетия, и начиная с мировой войны она
пребывает у нас в полном упадке. Чтобы вся в целом масса электората,
как об этом вполне наивно говорится во всех конституциях, руково¬
дясь общими побуждениями, делегировала людей, которые должны
будут затем вести его дела, — такое возможно лишь на первых порах,
поскольку тем самым предполагается, что здесь нет еще даже наметок к
организации определенных групп. Так это было во Франции в 1789 г., в
Германии в 1848-м. Однако стоит возникнуть собранию, как в нем тут
* С. 877 сл.
**
В это же время и католическая церковь молчаливо перешла от сословной к пар¬
тийной политике, причем с такой стратегической уверенностью, которой невозможно
не восхищаться. В XVIII в. она была всецело аристократична — по стилю дипломатии,
По Распределению верховных постов и по духу высших кругов. Достаточно вспомнить
тип аббата и князя церкви, которые бывали министрами и посланниками, как молодой
кардинал Роган727. Ныне совершенно по-«либеральному» место происхождения зани¬
мает образ мыслей, место вкуса — работоспособность, и с великими средствами демо¬
кратии — прессой, выборами, деньгами — здесь управляются с таким мастерством, ко-
орого либерализм в собственном смысле достигает редко и никогда не сможет пре¬
взойти.
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
916
же начинают формироваться тактические единицы, чья спаянность
основывается на воле закрепиться на однажды завоеванной господст¬
вующей позиции, так что они ни в малейшей степени не рассматрива¬
ют себя в качестве рупора своих избирателей, но, напротив, всеми аги¬
тационными средствами заставляют их себе подчиниться, чтобы испо¬
льзовать в своих целях. Стоит наличному в народе направлению
самоорганизоваться, как оно уже тем самым делается орудием органи¬
зации, после чего продолжает следовать по этому пути дальше, пока
также и организация не сделается орудием вождя. Воля к власти силь¬
ней всякой теории. Вначале руководство и аппарат возникают ради
программы; затем те, кто к ним пробился, защищают свои места из-за
власти и добычи (как это сегодня происходит повсеместно, когда по
всем странам тысячи и тысячи кормятся от партий и раздаваемых пар¬
тиями должностей и занятий), и, наконец, программа окончательно
исчезает из памяти и организация принимается работать только ради
самой себя.^
В случае Сципиона Старшего и Квинкция Фламинина речь все еще
идет о друзьях, сопровождавших их на войне, однако Сципион Млад¬
ший уже сформировал себе cohors amicorum [свиту друзей (лат.)], что2,
пожалуй, является первым примером организованной свиты, работаю¬
щей затем также и в суде, и во время выборов*. Вот и первоначально
всецело патриархальные и аристократические отношения верности
патрона своим клиентам развиваются в общность интересов на весьма
материальной основе, и уже до Цезаря появляются письменные дого¬
воры между кандидатами и избирателями с точно оговоренными пла¬
тежами и предоставляемыми взамен услугами. С другой стороны, со¬
вершенно также, как в сегодняшней Америке**, формируются клубы и
объединения избирателей, трибулы, которые господствуют над массой
избирателей округа или их науськивают, с тем чтобы, как сила с силой,
договариваться о ходе выборов с крупными фигурами, предшествен¬
никами Цезарей. Это не крах, но смысл и необходимый конечный ре¬
зультат демократии, и сетования чуждых миру идеалистов на несбыв-
шиеся надежды говорят только об их глухоте к неумолимой двойствен¬
ности истин и фактов и внутренней связанности духа и денег между
собой.
Политико-социальная теория представляет собой лишь одно, одна¬
ко необходимое основание партийной политики. Гордой плеяде от
Руссо до Маркса находится соответствие в античности — от софистов
* К последующему: GelzerM. Die Nobilitat der romischen Republik, 1912. S. 43 ff.; Ro¬
senberg A. Untersuchungen zur rom. Centurienverfassung, 1911. S. 62 ff.
Общеизвестен Таммани Холл в Нью-Йорке 28, однако приблизительно таково же
положение, существующее во всех странах, управляемых партиями. Американский «ca¬
ucus»7М, который распределяет государственные должности среди своих членов, а затем
навязывает их кандидатуры массе избирателей, был введен в Англии Чемберленом как
«Нэшнл Либерал Федерейшн» и после 1919 г. стремительно развивается также и в Гер¬
мании.
Глава четвертая. Государство 917
до Платона и Зенона. В Китае основные черты соответствующих уче¬
ний еще необходимо извлечь из конфуцианской и даосской литерату¬
ры; достаточно будет назвать имя социалиста Мо-цзы. В византийской
и арабской литературе эпохи Аббасидов, где радикализм неизменно
выступает в строго ортодоксальном обличье, такие учения занимают
обширное место и действуют как движущая сила во всех кризисах IX в.
В Египте и Индии их наличие доказывается духом событий времени
Будды и периода гиксосов. В литературной редакции они не нуждают¬
ся: столь же действенными оказываются устное распространение, про¬
поведь и пропаганда в сектах и союзах, как они обычно практикуются
на закате пуританских течений, т. е. в исламе и в англо-американском
христианстве.
«Истинны» эти учения или же «ложны» — вопрос, не имеющий для
мира политической истории (следует подчеркнуть это еще и еще раз)
абсолютно никакого смысла. Например, «опровержение» марксизма
относится к той области академических рассуждений или публичных
дискуссий, где каждый прав, а другие неизменно не правы. Важно, дей¬
ственны ли они, и с какого времени, и как долго вера в то, что действи¬
тельность можно улучшить по системе мысли, будет оставаться силой,
с которой приходится считаться политике. Мы пребываем посреди
эпохи неограниченной веры во всесилие разума. Великие общие поня¬
тия «свобода», «право», «человечество», «прогресс» священны. Вели¬
кие теории — все равно что Евангелия. Их убедительность основывает¬
ся не на доводах, ибо партийная масса не обладает ни критической
энергией, ни дистанцией, чтобы по-настоящему их проверить, но на
сакраментальной благодати их лозунгов-. Разумеется, эти чары ограни¬
чивают свое действие населением больших городов и эпохой рациона¬
лизма, этой «религии образованных»*. На крестьянство они вовсе не
распространяются, да и на городского человека лишь на определенное
время, но уж в его пределах — с мощью нового откровения. Люди обра¬
щаются, они с жаром впитывают слова, прилепляются к их провозвест¬
никам; люди становятся мучениками — на баррикадах, на полях битвы,
на эшафотах; перед взглядом раскрывается политическая и социальная
потусторонность, а трезвая критика представляется низкой, кощунст¬
венной и достойной смерти.
Однако тем самым такие сочинения, как «Общественный договор»
и «Манифест коммунистической партии», становятся первоклассны¬
ми средствами власти в руках сильных людей, поднявшихся в партий¬
ной жизни наверх и знающих толк в том, как формировать и использо¬
вать убеждения покорной им массы**.
И все же действие этих абстрактных идеалов едва ли выходит за пре¬
делы двух столетий (столетий партийной политики). Под конец они не
То нто опровергаются, но прискучивают. С Руссо это произошло уже
С. 761 сл.
С. 484.
918 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
давно, а с Марксом случится в скором времени. В конце концов отка¬
зываются не от той или другой теории, но от веры в теории вообще, а
тем самым — от мечтательного оптимизма XVIII в., верившего в то, что
неудовлетворительную реальность можно улучшить применением по¬
нятий. Весь мир затаив дыхание наблюдал, как Платон, Аристотель и
их современники анализировали античные конституции и мешали их
друг с другом, чтобы получить самую мудрую и совершенную, и имен¬
но своей попыткой переформировать Сиракузы по идеологическому
рецепту Платон этот город погубил*. Мне представляется столь же не¬
сомненным, что южные государства Китая утратили форму вследствие
философских экспериментов в этом же роде и тем самым оказались
выданными с головой циньскому империализму* § ** * * *. Якобинские фана¬
тики свободы и равенства навсегда, начиная с директории, сделали
Францию добычей сменяющего друг друга господства армии и биржи,
и всякий социалистический бунт лишь торит капитализму новые пути.
Однако кдгда Цицерон писал для Помпея книгу о государстве, а Сал¬
люстий оба своих увещания к Цезарю, внимания на них никто уже не
обращал. У Тиберия Гракха еще, быть может, обнаруживается влияние
того фантазера от стоицизма Блоссия, который впоследствии кончил
жизнь самоубийством, после того как привел к гибели также и Аристо-
ника из Пергама***, однако в последнее столетие перед Христом теории
сделались заезженной в школах темой, так что впредь речь идет исклю¬
чительно об одной только власти.
Никто не должен обманываться насчет того, что эпоха теории за¬
вершается также и для нас. Вообще все великие системы либерализма и
социализма возникли в период между 1750 и 1850 гг. Марксовой теперь
уже почти сто лет, и она осталась последней. В плане внутреннем она
со своим материалистическим воззрением на историю являет собой
крайнее следствие рационализма, но тем самым и его завершение. Од¬
нако как вера в руссоистские права человека утратила свою силу что-то
около 1848 г., так и вера в Маркса потускнела с мировой войной. Срав¬
нивая доходившую до самопожертвования преданность, которую по¬
рождали в людях идеи Руссо во времена Французской революции, с по¬
зицией социалистов в 1918 г., вынужденных поддерживать в себе са¬
мих, а также в своих приверженцах иссякшую убежденность, причем
не ради идеи, но ради власти, мы видим здесь предвестие будущего,
когда всякая программа окажется в конце концов сметенной, если она
встанет на пути, ведущем к власти. Такая вера была отличием дедов;
Об истории этого трагического эксперимента см. Meyer Ed. Gesch. d. Altertums V.
§ 987 ff.
C. 881. «Планы борющихся государств»730, «Чунь цю фаньлу» и биографии \
Сыма Цяня полны примеров чисто педантского вмешательства «мудрости» в политику
О его образованном из рабов и батраков «Государстве солнца» ср. Pauly-Wissowa
Real-Enc. II 962. Революционный спартанский царь Клеомен III (235) также пребывал
под влиянием стоика Сфера. Становится понятно, почему римский сенат снова и снова
высылал «философов и риторов», т. е. дельцов от политики, фантастов и смутьянов.
Глава четвертая. Государство
919
для внуков она является доказательством провинциальности. Вместо
нее из душевной потребности и мук совести уже сегодня завязывается
новое, отрешенное благочестие: оно отказывается от учреждения но¬
вой посюсторонности, ищет вместо слепящих понятий тайну и в конце
концов в глубинах второй религиозности* ее обретет.
18
Такова одна, языковая сторона великого факта демократии. Остает¬
ся рассмотреть другую, решающую — сторону расы . Демократия так
бы и осталась в умах и на бумаге, когда бы среди ее поборников не ока¬
зывались по-настоящему властительные натуры, для которых народ не
более чем объект, а идеалы не более чем средства, как ни мало они зача¬
стую сознавали это сами. Абсолютно все, в том числе и наиболее безза¬
стенчивые, методы демагогии, представляющей собой на плане внут¬
реннем совершенно то же, что дипломатия ancien regime, только прило¬
женная не к государям и посланникам, а к массам, не к избранным
умам, а к беспорядочным мнениям, настроениям, волевым вспышкам:
духовой оркестр вместо старинной камерной музыки, — все это было
разработано честными, но практичными демократами, и только от них
партии традиции и выучились тому же самому.
Однако для путей демократии в высшей степени характерно то, что
авторы популистских конституций никогда даже и не подозревали о
фактическом действии своих прожектов, и это касается как творцов
«Сервиевой» конституции в Риме, так и Национального собрания в
Париже. Поскольку все эти формы не произросли сами собой, как фе¬
одализм, но были измышлены, причем не на основе глубокого знания
людей и вещей, но из абстрактных представлений о праве и справедли¬
вости, бездна разверзается меж духом законов и практическими обык¬
новениями, потихоньку формирующимися под их давлением, с тем
чтобы приспособить законы к такту реальной жизни или изолировать
их от него. Только опыт научил нас, причем когда почти весь путь раз¬
вития был уже пройден, что права народа и влияние народа — вещи
разные. Чем более всеобщим делается избирательное право, тем ни¬
чтожнее власть электората.
В начале демократии весь оперативный простор принадлежит од¬
ному только духу. Не может быть ничего благороднее и чище, чем ноч¬
ное заседание 4 августа 1789 г. и клятва в зале для игры в мяч731 или же
Умонастроение, господствовавшее в церкви св. Павла во Франкфурте732,
где люди, имея власть в своих руках, вели бесконечные дебаты по пово¬
ду всеобщих истин, а в это время реальные власти собрались с силами и
отодвинули фантазеров в сторону. Однако уже довольно скоро о себе
С. 764 сл.
С. 572.
920
Том 2 ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
заявляет другая составляющая всякой демократии, напоминая о том,
что конституционными правами можно воспользоваться, лишь имея
деньги . Чтобы избирательное право предоставляло приблизительно
то, что воображает себе на этот счет идеалист, следовало бы сделать до¬
пущение, что никаким организованным руководством, которое бы
воздействовало на избирателей в своих интересах и пропорционально
деньгам, имеющимся в его распоряжении, здесь и не пахнет. Посколь¬
ку же оно есть, за выборами сохраняется значение лишь цензуры, кото¬
рую осуществляет толпа над единичными организациями, на оформ¬
ление которых она больше ни малейшего воздействия не оказывает.
Чистой теорией остается также и идеальное фундаментальное право
западных конституций, а именно право масс свободно определять сво¬
их представителей, ибо наделе всякая развитая организация проводит
самопополнение". Пробуждается, наконец, ощущение того, что всеоб¬
щее избирательное право вообще никакого действительного права не
содержит даже в смысле выбора между партиями, потому что вырос¬
шие на его почве властные образования господствуют посредством де¬
нег над всеми духовными средствами воздействия, устными и пись¬
менными, тем самым произвольно направляя мнение отдельного чело¬
века о партиях, между тем как сами партии, с другой стороны,
посредством находящихся в их распоряжении должностей, влияния и
законов муштруют племя своих безусловных приверженцев, этот са¬
мый «кокас», исключающий всех оставшихся и доводящий их до изби¬
рательного изнеможения, которое под конец не может быть преодоле¬
но даже в ходе великих кризисов.
Может показаться, что существует колоссальное различие между за¬
падной, парламентской демократией и демократиями других цивилиза¬
ций — египетской, китайской, арабской, которым идея всенародных
выборов абсолютно чужда. Однако для нас, в наше время, масса как
электорат оказывается «в форме» совершенно в таком же смысле, в ка¬
ком она была прежде «в форме» как союз подданных, а именно как объ¬
ект для субъекта, какой она оказывалась в Багдаде и Византии — в виде
сект или монашества, а в других местах — как правящая армия, тайный
союз или особое государство в государстве. Свобода, как всегда, исклю¬
чительно негативна * **\ Она состоит в отвержении традиции: династии,
олигархии, халифата; однако исполнительная власть тут же в неурезан¬
ном объеме переходит от них к новым силам — к главам партий, дикта¬
* Ранней демократии, демократии исполненных надежды конституционных про¬
ектов, которая заходит у нас что-нибудь в эпоху Линкольна, Бисмарка и Гладстона,
приходится убеждаться в этом на опыте; поздняя, та, что является для нас эпохой зре¬
лого парламентаризма, из этого исходит. Истины и факты в образе партийного идеала
и партийной кассы окончательно отделяются здесь друг от друга. Настоящий парла¬
ментарий ощущает, что деньги-то как раз и освобождают его от той зависимости, что
присутствует в наивном восприятии избранного со стороны его избирателя.
** С. 915-916.
Глава четвертая. Государство
921
торам, претендентам, пророкам и их свиту, и по отношению к ним толпа
и дальше продолжает оставаться безусловным объектом . «Право народа
на самоопределение» — лишь учтивый оборот речи; на самом деле при
всяком всеобщем, т. е. неорганическом, избирательном праве выборы
как таковые лишаются своего изначального смысла уже очень скоро.
Чем основательнее было проведено в плане политическом уничтожение
органических членений по сословиям и профессиям, тем бесформен¬
нее, тем беспомощнее делается масса избирателей, тем безусловнее ока¬
зывается она отдана на откуп новым силам, партийным верхушкам, ко¬
торые всеми средствами духовного принуждения навязывают толпе соб¬
ственную волю и методами, остающимися в итоге незримыми и
непонятными толпе, ведут меж собой борьбу за господство, пользуясь
общественным мнением исключительно как выкованным своими же
руками оружием, обращаемым ими друг против друга. Однако именно
по этой причине неодолимая тяга влечет всякую демократию дальше по
этому пути, приводящему ее к упразднению через саму же себя**.
Фундаментальные права античного народа (SfjfjLos, populus) прости¬
раются на замещение высших государственных должностей и на судо¬
производство***. Для этого, вполне по-эвклидовски, люди собирались,
как телесно присутствующая масса «в форме», в одной точке на фору¬
ме, и здесь человек делался объектом обработки в античном стиле, а
именно телесными, ближними, чувственными средствами, с ритори¬
кой, непосредственно воздействовавшей на всякое ухо и глаз. Риторика
эта вместе со своими средствами, сделавшимися нам отчасти отврати¬
тельными и едва переносимыми, — наигранными слезами, раздирае¬
мыми одеждами****, бесстыжим превозношением присутствующих, не¬
суразными клеветами, возводимыми на противника, стабильным арсе¬
Если она, несмотря на это, ощущает себя освобожденной, это вновь доказывает
глубокую несовместимость духа большого города с органически выросшей традицией,
в то время как между его деятельностью и управляемостью посредством денег устанав¬
ливается внутренняя связь.
Германская конституция 1919 г., т. е. возникшая уже на пороге нисходящей демо¬
кратии, пренаивно заключает в себе диктатуру партийных машин, завладевших всеми
правами и ни перед кем по-настоящему не ответственных. Пресловутое пропорциона¬
льное представительство и имперские партийные списки обеспечивают им самопопол-
нение. Вместо прав «народа», как они, по идее, содержатся в конституции 1848 г., име¬
ются лишь права партий, что звучит как будто бы безобидно, однако заключает в себе
Цезаризм организаций. Впрочем, в этом смысле данная конституция оказывается наи¬
более прогрессивной конституцией эпохи; в ней уже можно различить очертания фи¬
нала: несколько совсем малых поправок — и она вручит одиночке неограниченную
власть.
***
Напротив того, законодательство связано с должностью. Даже там, где принятие
или отклонение по форме как будто остается за собранием, закон может быть внесен
лишь магистратом, например трибуном. Пожелания толпы в отношении прав, по боль¬
шей части инспирируемые обладателем власти, выражаются, таким образом, как пока¬
чивает эпоха Гракхов, в результатах выборов магистратов.
Еще 50-летнему Цезарю пришлось на Рубиконе ломать такую комедию перед
своими солдатами, потому что они привыкли к подобным вещам, если от них чего-то
х°тели. Это приблизительно соответствует «тону глубокой убежденности» в современ¬
нее собраниях.
922 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
налом блестящих оборотов и благозвучных каденций — возникла
исключительно здесь и для этой цели; кроме нее в ход еще пускались
игры и подарки, угрозы и оплеухи, но прежде всего деньги. Начало
этой практики известно нам по Афинам 400 г/, конец (в чудовищных
размерах) — по Риму Цезаря и Цицерона. Здесь то же, что и повсюду:
выборы из назначения сословных представителей превратились в бо¬
рьбу между партийными кандидатами. Тем самым, однако, оказывает¬
ся очерченной арена, на которой в дело вступают деньги, причем при
колоссальном возрастании масштабов этого начиная со времен Замы.
«Чем большим становилось богатство, которое могло сконцентрирова¬
ться в руках отдельных лиц, тем в большей степени борьба за политиче¬
скую власть трансформировалась в вопрос денег»**. Этим сказано все.
И все же говорить здесь о коррупции было бы неверно — в более глу¬
бинном смысле. Это не вырождение нравов, но сами нравы, нравы зре¬
лой демократии, с роковой неизбежностью принимающей такие фор¬
мы. Цензор Аппий Клавдий (310), несомненно подлинный грекофил и
конституционный идеолог (каким был еще не всякий из круга М-те
Ролан733), неизменно, надо полагать, помышлял в своих реформах об
избирательном праве и уж никак не об искусстве «делать» выборы, од¬
нако права эти лишь прокладывают такому искусству дорогу. Только
через них и заявляет о себе раса, и уже очень скоро она всецело одержи¬
вает верх. И если на то пошло, работу, производимую деньгами, изнут¬
ри диктатуры денег нравственным падением не назовешь.
Римский послужной список, поскольку он реализовывался в форме
народных выборов, требовал капитала, делавшего начинающего поли¬
тика должником всего его окружения. И прежде всего должность эдила,
на которой необходимо было переплюнуть предшественников с помо¬
щью публичных игр, чтобы получить позднее голоса зрителей. Сулла
провалился на первых выборах в преторы, потому что не был эдилом. За¬
тем — блестящая свита, с которой надо было ежедневно показываться на
форуме, чтобы польстить праздной толпе. Закон запрещал платить за
услуги по сопровождению, однако обеспечение себя обязательствами со
стороны видных лиц посредством их ссуживания, представления к дол¬
жностям и выгодным сделкам, а также защиты их перед судом, что в
свою очередь обязывало этих людей тебя сопровождать и наносить тебе
во всякое утро визит, обходилось еще дороже. Помпей был патроном
для половины всего мира — от пиценских крестьян до восточных царей;
он представлял и защищал всех: то был его политический капитал, кото¬
рый он мог пустить в ход против беспроцентных ссуд Красса и «озолачи-
вания»*** всех честолюбцев завоевателем Галлии. Избирателей по окру-
Само собой разумеется, однако, что тип Клеона имелся тогда также и в Спарте, а
в эпоху трибунов с консульской властью (С. 870, прим.) — и в Риме.
Gelzer. Nobilitat. S. 94. Наряду с «Цезарем» Эд. Мейера книга эта содержит луч¬
ший обзор римских демократических методов.
Inaurari. с каковой целью Цицерон и рекомендовал Цезарю своего друга Требация.
923
Глава четвертая. Государство
гам кормят завтраком , им выделяют бесплатные места на гладиатор¬
ских играх или же, как Милон734, разносят им деньги непосредственно
на дом. Цицерон именует это «верностью отеческим нравам». Вло¬
жения в выборы приняли американские масштабы и составляли
иной раз сотни миллионов сестерциев. Во время выборов 54 г. про¬
центная ставка подскочила с 4 до 8%, потому что подавляющая часть
колоссальной массы находившихся в Риме наличных средств была
вложена в агитацию. Будучи эдилом, Цезарь роздал так много, что
Крассу пришлось давать гарантию на 20 миллионов, с тем чтобы кре¬
диторы позволили тому выехать в провинцию, а при выборах в вели¬
кие понтифики он еще раз до такой степени перенапряг свой кредит,
что его противник Катул мог ему предложить деньги в качестве от¬
ступного, потому что в случае поражения Цезарь просто погибал.
Однако предпринятые также и по этой причине завоевание и ограб¬
ление Галлии сделали его богатейшим человеком в мире; здесь-то,
собственно говоря, им уже и была одержана победа при Фарсале**.
Ибо Цезарь овладел этими миллиардами ради власти, как Сесил
Родс, а не из радости обогащения, как Веррес и, вообще говоря, так¬
же и Красе, великий финансист, занимавшийся между делом поли¬
тикой736. Он понял, что на демократической почве конституцион¬
ные права без денег — ничто, с деньгами же — все. Когда Помпей
еще грезил о том, что сможет по желанию вызывать легионы на свет
Божий, словно из-под земли, Цезарь давно уже сгустил их деньгами
до вполне осязаемой реальности. Он застал эти методы уже сформи¬
ровавшимися; он ими прекрасно владел, однако себя с ними не
отождествлял. Следует ясно понимать, что приблизительно начиная
со 150 г. объединявшиеся вокруг принципиальных положений пар¬
тии распались на свиты, группировавшиеся по личностному при¬
знаку вокруг людей, имевших персональную политическую цель и
знавших толк в оружии своей эпохи.
Сюда относится помимо денег еще и влияние на суды. Поскольку
античные народные собрания только голосовали, но не совещались,
происходивший перед рострами процесс становился формой политиче¬
ской борьбы и в полном смысле школой политического красноречия.
Юный политик начинал свою карьеру с того, что вчинял иск какой-ни¬
будь великой личности и по возможности ее уничтожал***, как 19-лет¬
ний Красе — знаменитого Папирия Карбона, друга Гракхов, перешед¬
*
^ «Tributim ad prandium vocari» (Цицерон. Речь за Мурену"72).
Речь здесь идет о миллиардах сестерциев, прошедших с тех пор через его руки.
Посвятительные дары из галльских храмов, выставленные им на продажу в Италии,
вызвали обвал цен на золото. Из царя Птолемея они с Помпеем выжали за признание
того царем 144 миллиона (а Габиний — еще 240). Консул Эмилий Павел (50 г.) был
кУплен за 36 миллионов, Курион735 — за 60. Во время триумфа 46 г. каждый из солдат, а
н* было куда больше ста тысяч, получил по 24 000 сестерциев, офицеры же и военача¬
льники — суммы совсем другого порядка. И несмотря на все это, после смерти Цезаря
государственной казны хватило на то, чтобы обеспечить положение Антония.
Gelzer. S. 68.
924 Том 2 ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
шего впоследствии на сторону оптиматов. По этой причине Катон
привлекался к суду 44 раза и всякий раз бывал оправдан. Юридиче¬
ские моменты отступали при этом всецело в сторону*. Все решают
партийная позиция судьи, число патронов и величина свиты, а по
числу свидетелей можно судить лишь о том, каково все-таки поли¬
тическое и финансовое могущество истца. Все красноречие Цицеро¬
на, направленное против Верреса, имеет лишь одну цель — под при¬
крытием пышного морального пафоса убедить судью, что обвините¬
льный приговор в его сословных интересах. То, что кресло судьи
должно служить частным интересам и интересам партии, находится
в полном согласии с общеантичными представлениями. Демократи¬
ческие обвинители в Афинах имели обыкновение в конце своей речи
обращать внимание присяжных из народа на то, что оправдательный
приговор, вынесенный богатому ответчику, лишит их гонораров за
процесс *. Колоссальная власть сената основывалась главным обра¬
зом на тОм, что, комплектуя все суды, он держал в своих руках судьбу
всякого гражданина; можно поэтому понять, какое значение имел
гракховский закон от 122 г.: передавая суды сословию всадников, он
тем самым с головой выдавал нобилитет, т. е. высших чиновников,
миру финансов* *. В 83 г. Сулла одновременно с проскрипциями де¬
нежных тузов вновь передал суды сенату, понятно само собой, в ка¬
честве политического оружия, и завершающая борьба властителей
находит выражение также и в постоянной смене принципов отбора
судей.
Однако между тем как античность с римским форумом во главе
стягивала народные массы в зримое и плотное тело, чтобы принудить
их воспользоваться своими правами именно так, как было желатель¬
но, «одновременная» ей европейско-американская политика с помо¬
щью прессы создала простирающееся на всю Землю силовое поле ду¬
ховных и денежных напряжений, включенным в которое, да так, что
он это не осознает, оказывается всякий отдельный человек, обязан¬
ный отныне думать, желать и действовать так, как полагает целесооб-
По большей части речь здесь идет о вымогательстве и взятках. Поскольку тогда
это были тождественные с политикой вещи и как судья, так и истец занимались тем же
и все об этом знали, искусство заключалось в том, чтобы в формах хорошо разыгран¬
ной страсти по поводу оскорбленной нравственности произнести партийную речь,
подлинную цель которой мог понять только посвященный. Это всецело соответствует
современной парламентской практике. «Народ» был бы донельзя удивлен, когда бы
увидал, как после громовых речей в заседании (для газетного отчета) партийные оппо¬
ненты как ни в чем не бывало болтают друг с другом. Напомним здесь о случае, когда
одна партия страстно выступает в пользу предложения, предварительно договорившись
с противниками о его забаллотировании. В Риме же приговор был совершенно нева¬
жен: достаточно было, если ответчик еще заранее добровольно удалялся из города и
тем самым исчезал из партийной борьбы и конкуренции за должности.
Pohlmann v. Griech. Gesch. S. 236 f.
Так, в пресловутом процессе 93 г. Рутилий Руф был осужден потому, что, буду1!и
проконсулом, он, как того требовала от него должность, выступил против вымога¬
тельств обществ откупщиков.
Глава четвертая. Государство
925
разным некая личность, господствующая где-то в дальней дали. Это
динамика против статики, фаустовское мироощущение против апол-
лонического, пафос третьего измерения против чистого, чувственно¬
го настоящего. Здесь нет индивидуального общения: пресса и связан¬
ные с ней электрослужбы новостей держат бодрствование целых на¬
родов и континентов под отупляющим ураганным огнем фраз,
лозунгов, воззрений, сцен, чувств день за днем, год за годом, так что
всякое «я» делается чистой функцией колоссального духовного «не¬
что». Деньги совершают свой путь в политике не как металл, переда¬
ваемый из рук в руки. Они не превращаются в развлечения и вино.
Они преобразуются в силу и количеством своим определяют интен¬
сивность такой обработки.
Порох и книгопечатание — одной крови, оба они были изобретены
в высокую готику, оба явились проявлением германского техническо¬
го мышления, будучи двумя великими средствами фаустовской такти¬
ки дальнодействия. Реформация в начале позднего времени увидала
первые листовки и первые полевые орудия, Французская революция в
начале цивилизации — первую хлынувшую осенью 1788 г. лавину бро¬
шюр и при Вальми737 — первый массированный огонь артиллерии. Од¬
нако тем самым производимое в массовом порядке и распространяе¬
мое по бесконечным пространствам печатное слово становится чудо¬
вищным оружием в руках того, кто умеет с ним обращаться. Во
Франции в 1788 г. речь шла еще об изначальном выражении частных
убеждений, однако в Англии уже занимались планомерным созданием
впечатлений в читателе738. Ведшаяся на французской почве из Лондона
война против Наполеона с помощью статей, листовок, подложных ме¬
муаров — первый значительный пример в таком роде. Единичные ли¬
стки эпохи Просвещения превращаются в «прессу», называемую так с
весьма примечательной анонимностью . Кампания в прессе возникает
как продолжение (или расширение) войны иными средствами, и ее
стратегия — все эти бои сторожевых охранений, отвлекающие манев¬
ры, внезапные нападения, штурмы — отшлифовывается в течение
XIX в. до такой степени, что война может быть проиграна еще до того,
как раздался первый выстрел, потому что к тому времени ее уже выиг¬
рала пресса.
Перед воздействием этой духовной артиллерии мы сегодня до такой
степени безоружны, что почти никто не способен внутренне дистанци¬
роваться, чтобы составить обо всей чудовищности этого действа ясное
представление. Воля к власти в чисто демократическом обличье завер¬
шила создание своего шедевра тем, что с беспримерным подобостра¬
стием льстит самоощущению свободы в объекте. Либеральное буржу¬
азное чувство гордится упразднением цензуры, этого последнего огра¬
ничителя, между тем как диктатор прессы (Нортклиф!739) погоняет
И как бы во внутреннем созвучии с «артиллерией».
926 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
рабскую толпу своих читателей бичом своих передовиц, телеграмм и
иллюстраций. Газетой демократия полностью вытеснила книгу из ду¬
ховной жизни народных масс. Книжный мир с его изобилием точек зре¬
ния, принуждающим мышление к выбору и критике, сделался по преи¬
муществу достоянием лишь узких кругов. Народ читает одну, «свою»
газету, которая ежедневно в миллионах экземпляров проникает во все
дома, уже с утра пораньше околдовывает умы своими чарами и самим
своим внешним видом обрекает книги на забвение; а если та или другая
книга все же в поле зрения попадет, предпринятой заблаговременно
критикой газета их действие выключает.
Что есть истина? Для толпы истина — это то, что постоянно при¬
ходится читать и слышать. Пускай где-то там сидит себе, собирая
основания, ничтожная горстка, с тем чтобы установить «истину как
таковую», это останется лишь ее истиной. Другая, публичная истина
момента, которая лишь и имеет значение в фактичном мире дейст¬
вий и успехов, является сегодня продуктом прессы. Истинно то, чего
желает она. Ее командиры создают, преобразуют, подменяют исти¬
ны. Три недели работы прессы — и весь мир познал истину*. Ее дово¬
ды остаются неопровержимыми до тех пор, пока имеются деньги на
то, чтобы безостановочно ее повторять. Античная риторика тоже
была рассчитана на впечатление, а не на содержание (Шекспир бле¬
стяще показал в надгробной речи Антония, чтб имело там значе¬
ние), однако она ограничивалась присутствующими и данным мо¬
ментом. Динамика прессы желает долговременных воздействий. Она
желает постоянно держать умы под прессом. Ее аргументы опровер¬
гаются, как только у контраргументов отыскивается ббльшая денеж¬
ная сила, которая и принимается с еще большей частотой доносить
их до всех ушей и глаз. В тот же миг магнитная стрелка общественно¬
го мнения повертывается к более сильному полюсу. Всяк тут же себя
убеждает в новой истине. Происходит внезапное пробуждение от за¬
блуждения.
С политической прессой связана напрочь отсутствующая в антич¬
ности потребность во всеобщем школьном образовании. В ней наличе¬
ствует совершенно бессознательное стремление подвести массы как
объект партийной политики к средству власти — газете. Идеалистам
ранней демократии это без всяких задних мыслей представлялось Про¬
свещением, и еще сегодня кое-где попадаются недоумки, воодушевля¬
ющиеся идеями свободы прессы, однако именно она торит пути буду-
Самым разительным примером окажется для будущих поколений вопрос о
«вине» за мировую войну, т. е. вопрос о том, кто посредством господства над прессой и
телеграфными кабелями всей Земли обладает властью устанавливать в общемировом
мнении те истины, которые ему нужны в собственных политических целях, и поддер¬
живать их так долго, как это ему необходимо. И совершенно иной вопрос, который все
еще продолжают смешивать с первым лишь в одной Германии, — это чисто научный
вопрос о том, кто же все-таки был заинтересован в том, чтобы событие, породившее о
себе тогда же целую литературу, наступило именно летом 1914 г.
f/iaea четвертая. Государство
927
щим Цезарям мировой прессы. Тот, кто выучился читать, подпадает ее
власти, и из грезившегося самоопределения поздняя демократия пре¬
вращается в радикальное определение народов теми силами, которым
повинуется печатное слово.
Бои, происходящие сегодня, сводятся к выхватыванию этого ору¬
жия друг у друга. Когда власть газет делала свои первые невинные
шаги, ее ограничивали цензурные запреты, которыми защищались
поборники традиции, а буржуазия вопила, что духовная свобода под
угрозой. Ныне толпа спокойно идет своим путем; она окончательно
завоевала эту свободу, однако на заднем плане, невидимые, друг с
другом борются новые силы, покупающие прессу. Читатель ничего
не замечает, между тем как его газета, а вместе с ней и он сам меняют
своих властителей . Деньги торжествуют и здесь, заставляя свобод¬
ные умы741 себе служить. Никакой укротитель не добился большей
покорности от своей своры. Народ как толпу читателей выводят на
улицы, и она ломит по ним, бросается на обозначенную цель, грозит
и вышибает стекла. Кивок штабу прессы — и толпа утихомиривается
и расходится по домам. Пресса сегодня — это армия, заботливо орга¬
низованная по родам войск, с журналистами-офицерами и читате-
лями-солдатами. Однако здесь то же, что и во всякой армии: солдат
слепо повинуется, цели же войны и план операции меняются без его
ведома. Читатель не знает, да и не должен ничего знать о том, что с
ним проделывают, и он не должен знать о том, какую роль при этом
играет. Более чудовищной сатиры на свободу мысли нельзя себе
представить. Некогда запрещалось иметь смелость мыслить само¬
стоятельно; теперь это разрешено, однако способность к тому утра¬
чена. Всяк желает думать лишь то, что должен думать, и восприни¬
мает это как свою свободу.
И вот еще одна сторона этой поздней свободы: всякому позволе¬
но говорить что хочет; однако пресса также свободна выбирать, об¬
ращать ей внимание на это или нет. Она способна приговорить к
смерти всякую «истину», если не возьмет на себя сообщение ее
миру — поистине жуткая цензура молчания, которая тем более все¬
сильна, что рабская толпа читателей газет ее наличия абсолютно не
замечает *. Здесь, как и повсюду при родовых схватках цезаризма, на
поверхность выплывает некий фрагмент раннего времени* . Кривая
событий замыкается. Как в сооружениях из бетона и стали наружу
При подготовке к мировой войне пресса целых государств была финансово под¬
чинена руководству Лондона и Парижа, а вместе с ней в жесткое духовное порабоще¬
ние попали соответствующие народы. Чем более демократична внутренняя форма на¬
ции, тем с большей легкостью и полнотой подвергается она этой опасности. Таков
стиль XX века. Демократ прежнего закала требовал бы сегодня не свободы для прессы,
Но свободы от прессы, однако вожди превратились за это время в «выскочек», желаю¬
щих, чтобы в массах было гарантировано благоприятное о них мнение.
_ Великое книгосожжение у китайцев (С. 905) выглядит рядом с этим вполне безо¬
бидно.
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
928
еще раз вырывается воля к выражению первой готики, однако
ныне — холодно, сдержанно, цивилизованно, так здесь еще раз заяв¬
ляет о себе и железная воля готической церкви к власти над умами —
как «демократическая свобода». Эпохе «книги» оказываются поло¬
жены два предела — проповедь и газета. Книги являются личност¬
ным выражением, проповедь и газета повинуются внеличностной
цели. Годы схоластики оказываются в мировой истории единствен¬
ным примером духовной муштры, не позволявшей ни в одной стра¬
не появиться ни единому сочинению, ни единой речи, ни единой
мысли, которые бы противоречили желательному единству. Такова
духовная динамика. Люди античности, Индии, Китая смотрели бы
на такое действо с ужасом. Однако как раз это возвращается вновь
как необходимое следствие европейско-американского либерализма,
совершенно так, как имел в виду Робеспьер: «Деспотизм свободы
против тирании». На место костров приходит великое молчание.
Диктатура партийных лидеров опирается на диктатуру прессы. С по¬
мощью денег делаются попытки вырвать толпы читателей и целые
народы из-под чужого влияния и подчинить их собственной идей¬
ной муштре. Они узнают здесь лишь то, что им следует знать, и кар¬
тина их мира формируется высшей волей. Нет больше нужды, как
государям барокко, обязывать подданных к строевой службе. Сам их
дух подвергается бичеванию — статьями, телеграммами, картинка¬
ми (Нортклиф!), пока они сами не примутся требовать оружия и не
принудят своих вождей вступить в битву, к которой те желали быть
принуждены.
Это конец демократии. Как в мире истин все решает доказатель¬
ство, так в мире фактов — успех. Успех, т. е. торжество одного потока
существования над другими. Жизнь возобладала; грезы мироусовер-
шителей сделались орудиями властных натур. В поздней демократии
раса вырывается наружу и порабощает идеалы или же со смехом
швыряет их в бездну. Так это было в египетских Фивах, в Риме, в Ки¬
тае, однако ни в какой другой цивилизации воля к власти не обретает
такой неумолимой формы, как в нашей. Мышление, а тем самым и
действия массы удерживаются в железных тисках. Поэтому, и толь¬
ко поэтому, люди здесь оказываются читателями и избирателями,
между тем как партии становятся послушными свитами тех немно¬
гих, на которых первый свой отблеск уже бросает цезаризм. Как анг¬
лийская королевская власть в XIX в., так парламент в XX в. неспеш¬
но становятся пышным и пустым спектаклем. Как в первом случае —
скипетр и корону, так во втором — права народа с великими церемо¬
ниями проносят перед толпой, почитая их тем скрупулезнее, чем ме¬
ньше они значат наделе. Вот почему умница Август никогда не упус¬
кал случая подчеркнуть издревле освященные традиции римской
свободы. Однако уже сегодня власть перемещается из парламентов в
частные круги, и выборы у нас с той же неуклонностью, как в Риме,
Глава четвертая. Государство
929
вырождаются в комедию. Деньги организуют весь их ход в интересах
тех, у кого они имеются , и проведение выборов становится заранее
оговоренной игрой, поставленной как народное самоопределение. И
если изначально выборы были революцией в легитимных формах *, то
ныне эта форма исчерпала себя, так что теперь, когда политика де¬
нег становится невыносимой, свою судьбу снова «избирают» изна¬
чальными средствами кровавого насилия.
С помощью денег демократия уничтожает саму себя — после того
как деньги уничтожили дух. Однако именно вследствие того, что
рассеялись все грезы насчет какой бы то ни было возможности улуч¬
шения действительности с помощью идей какого-нибудь Зенона
или Маркса и люди выучились-таки тому, что в сфере действитель¬
ности одна воля к власти может быть ниспровергнута лишь другой
такой же (вот великий опыт, постигаемый в эпоху борющихся госу¬
дарств), в конце концов пробуждается глубокая страсть ко всему, что
еще живет старинной, благородной традицией. Капиталистическая
экономика опротивела всем до отвращения. Возникает надежда на
спасение, которое придет откуда-то со стороны, упование, связыва¬
емое с тоном чести и рыцарственности, внутреннего аристократиз¬
ма, самоотверженности и долга. И вот наступает время, когда в глу¬
бине снова просыпаются оформленные до последней черты силы
крови, которые были вытеснены рационализмом больших городов.
Все, что уцелело для будущего от династической традиции, от древ¬
ней знати, что сохранилось от благородных, возвышающихся над де¬
ньгами нравов, все, что достаточно сильно само по себе, чтобы (в со¬
гласии со словами Фридриха Великого) быть слугой государства (при
этом обладая неограниченной властью) в тяжелой, полной самоот¬
верженности и попечения работе, т. е. всед что я в противополож¬
ность капитализму означил как социализм***, — все это вдруг делает¬
ся теперь точкой схождения колоссальных жизненных сил. Цеза¬
ризм растет на почве демократии, однако корни его уходят глубоко
в основания крови и традиции. Античный Цезарь своей властью
обязан трибунату, но своим достоинством, а тем самым и долговре¬
менностью он обладает как принцепс. Также и в этом вновь пробуж¬
дается дуща готики: дух рыцарских орденов торжествует над охочим
До добычи племенем викингов. Пускай даже властители будущего,
поскольку великая политическая форма культуры распалась безвоз¬
вратно, господствуют над миром как над своим частным владением,
* В этом скрывается разгадка того, почему все радикалы, т. е. бедные партии, не¬
избежно делаются орудиями финансовых сил, equites, биржи. Теоретически они на ка¬
питал обрушиваются, на практике же они нападают не на биржу, но в ее интересах —
На традицию. Во времена Гракхов это было совершенно так же, как и теперь, причем во
Все* странах. Половина народных вождей покупается деньгами, должностями, участи¬
ем в^ бизнесе, а с ними — и вся партия в целом.
** С. 879 сл.
***
«Пруссачество и социализм». S. 41 f.
30
Закат Западного мира
930
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
все же эта бесформенная и безграничная власть содержит в себе за¬
дану, а именно задачу неустанного попечения об этом мире, являю¬
щую собой противоположность всем интересам в эпоху господства
денег и требующую высокого чувства чести и сознания долга. Одна¬
ко именно поэтому ныне разворачивается решающая схватка между
демократией и цезаризмом, между ведущими силами диктаторской
капиталистической экономики и чисто политической волей Цезарей
к порядку. Чтобы понять это, чтобы постигнуть эту решающую
схватку между экономикой и политикой, в которой политика отвое¬
вывает назад свое царство, необходимо бросить взгляд на физионо¬
мию истории экономики.
ГЛАВА ПЯТАЯ
МИФ ФОРМ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ жизни
I. Деньги
1
Исходную точку, стоя на которой можно было бы понять экономи¬
ческую историю высших культур, не следует искать в сфере самой эко¬
номики. Экономические мышление и деятельность — это одна сторо¬
на жизни, получающая неверное освещение, стоит только начать рас¬
сматривать ее как самостоятельную разновидность жизни. У нас
меньше всего шансов найти такую точку в пределах сегодняшней ми¬
ровой экономики, претерпевшей за последние 150 лет фантастиче¬
ский, опасный, а под конец уже и отчаянный взлет, экономики исклю¬
чительно западной и динамической и ни в малейшей степени не обще¬
человеческой.
То, что мы называем сегодня политической экономией, выстроено
на специфических, чисто английских предпосылках. В центре ее, при¬
чем как что-то само собой разумеющееся, пребывает абсолютно незна¬
комая всем прочим культурам машинная индустрия, которая всецело
господствует над образованием понятий и выведением так называемых
законов, при том что никто этого не сознает. Денежный кредит в особой
его форме, проистекшей из английского соотношения между мировой
торговлей и экспортной промышленностью в лишенной крестьянства
стране, служит базисом определения слов «капитал», «стоимость»,
«цена», «имущество», которые затем бесцеремонно прикладывают ко
всем прочим культурным периодам и жизненным сферам. Воззрение
на политику и ее соотношение с экономикой определялось во всех эко¬
номических теориях островным положением Англии. Создали эту кар¬
тину экономики Давид Юм* и Адам Смит *. Все, что писали о ней и
против нее впоследствии, всякий раз бессознательно базировалось на
критических предпосылках и методах их системы. Это относится к
Кэри 43 и Листу точно так же, как к Фурье и Лассалю. Что до Маркса,
величайшего противника Адама Смита, то не многого стоит попытка
громко протестовать против английского капитализма, если при этом
всецело пребываешь в плену его представлений и тем самым полно¬
стью его признаешь, желая лишь с помощью иной бухгалтерии перена¬
править выгоды его субъектов его объектам.
«Political discourses», («Политические рассуждения» (англ.)] 1752.
Знаменитое «Inquiry»1*2, 1776.
934 Том 2 ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
От Смита и до Маркса речь здесь идет о простом самоанализе эко¬
номического мышления одной-единственной культуры, причем на од-
ной-единственной ее ступени. Анализ этот насквозь рационалистичен
и потому исходит из материи и ее условий, потребностей и стимулов,
вместо того чтобы отталкиваться от души родов, сословий, народов и их
формообразующих сил. Он рассматривает человека в качестве придат¬
ка ситуации и ничего не желает знать о великой личности и формирую¬
щей историю воле отдельных людей и целых их групп, воле, которая
усматривает в экономических фактах средства, а не цели. Анализ этот
считает экономическую жизнь чем-то таким, что может быть без остат¬
ка объяснено из видимых причин и действий, что устроено всецело ме¬
ханически и полностью замкнуто в себе самом и что, наконец, нахо¬
дится в некой каузальной связи со сферами политики и религии, мыс¬
лящимися также существующими сами по себе. Поскольку такой
способ рассмотрения систематичен, а не историчен, он порождает веру
во вневременную значимость понятий и правил и его пытаются испо¬
льзовать для формулировки единственно верного метода ведения хо¬
зяйства вообще. Поэтому повсюду, где его истинам доводилось сопри¬
коснуться с фактами, он терпел полное фиаско, как это было с пред¬
сказаниями относительно начала мировой войны* буржуазными
теоретиками и с построением советской экономики теоретиками про¬
летарскими.
А значит, пока что так и не было создано никакой политической
экономии, если понимать под ней морфологию экономической сторо¬
ны жизни, причем жизни высших культур с их единообразным по эта¬
пам, темпу и продолжительности формированием экономического
стиля. Ибо никакой системы в экономике нет, а есть физиономия.
Чтобы постичь тайну ее внутренней формы, ее душу, необходим фи¬
зиономический такт. Чтобы добиться в ней успеха, надо быть знато¬
ком, подобно тому, как бывают знатоки людей и лошадники, а никако¬
го «знания» не нужно, как и от наездника совершенно не требуется раз¬
бираться в зоологии. Однако проницательность эту можно пробудить,
и пробуждается она сочувственным взглядом на историю, т. е. взгля¬
дом, дающим представление относительно тайных расовых побужде¬
ний, действующих также и в экономически деятельном существе с той
целью, чтобы символически преобразовать внешнее положение (эко¬
номическую «материю», потребность) по собственному нутру. Всякая
экономическая жизнь есть выражение душевной жизни.
Вот новое, немецкое воззрение на экономику, находящееся по дру¬
гую сторону капитализма и социализма, которые произошли из трез¬
вой буржуазной рассудочности XVIII в. и были всего только материа¬
льным анализом (а следовательно, конструкцией) внешней стороны
Согласно распространенному гелертерскому представлению экономические по¬
следствия мобилизации должны были в считанные недели привести к прекращению
f/iaea пятая. Мир форм экономической жизни 935
экономики. То, чему учили до сих пор, было лишь подготовкой. Эко¬
номическое мышление, как и правовое, находится накануне своего
подлинного раскрытия , которое сегодня, точно так же как и в эллини¬
стическо-римскую эпоху, начинается только там, где искусство и фи¬
лософия бесповоротно уходят в прошлое.
Нижеследующее представляет собой беглый взгляд, брошенный на
имеющиеся здесь возможности, и на большее не претендует.
Экономика и политика — это две стороны единого живого и текучего
существования, а не бодрствования, духа *. В обеих открывается такт
космических токов, улавливаемых в последовательности поколений
единичных существ. Нельзя сказать, чтобы у них имелась история: они
сами есть история. В них господствует необратимое время, «когда».
Обе они относятся к расе, а не к языку с его пространственно-каузаль¬
ными напряжениями, такими, как религия и наука; обе они нацелены
на факты, а не на истины. Бывают политические, а бывают экономиче¬
ские судьбы, точно так же как во всех религиозных и научных учениях
имеется вневременная взаимосвязь причины и следствия.
Таким образом, у жизни имеется политический и экономический
способ пребывания «в форме» для истории. Они перекрывают друг
друга, друг друга поддерживают и друг с другом борются, однако поли¬
тический момент — безусловно первый. Жизнь желает сохраняться и
настаивать на своем, или, скорее, она желает усиливаться, чтобы на¬
стоять на своем. Потоки существования пребывают в экономической
форме лишь для себя самих, в политической же — для их соотношения
с другими. Никаких перемен здесь не наблюдается на всем пути от про¬
стейших одноклеточных растений и до стай и народов, образуемых по¬
движными в пространстве высшими существами. Питаться и сражать¬
ся: различие в ранге той и другой стороны жизни можно определить по
их отношению к смерти. Не бывает более глубокой противоположно¬
сти, чем противоположность голодной смерти и героической смерти. Го¬
лод в широчайшем смысле угрожает жизни экономически, он ее обес¬
чещивает и принижает; сюда относятся также и невозможность полно¬
стью развить свои силы, стесненность в жизненном пространстве,
темнота, придавленность, а не только непосредственная опасность.
Целые народы утратили расовую энергию вследствие гложущего убо¬
жества своего образа жизни. Здесь умирают от чего-то, а не ради чего-
то. Политика жертвует людьми ради цели; они гибнут за идею; эконо¬
мика дает им возможность только пропадать. Война — творец, голод —
гУбитель всего великого. В первом случае жизнь возвышается через
смерть зачастую до той неодолимой силы, уже одно наличие которой
означает победу; во втором — голод пробуждает тот отвратительный,
**изменный, совершенно неметафизический род жизненного страха,
м С. 544 сл.
с- 469 слл, 792.
936
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
при котором высший мир форм культуры резко пресекается и начина¬
ется голая борьба человеко-животных за существование.
Уже заходила речь о двойственном смысле всей истории, как он
проявляется в противоречии между мужчиной и женщиной . Сущест¬
вует частная история, которая, как последовательность зачатий поко¬
лений, представляет «жизнь в пространстве», и история публичная,
которая, как политическое пребывание «в форме», защищает и обеспе¬
чивает первую: «линия веретена» и «сторона меча». Они обретают свое
выражение в идее семьи и государства, однако также и в прообразе
дома**, в котором благих духов супружеского ложа (гения и Юнону вся¬
кого старинного римского жилища) защищает дверь, Янус. И вот исто¬
рия экономики встает бок о бок с частной историей рода. От длитель¬
ности цветущей жизни невозможно отделить ее силу, от тайны зачатия
и оплодотворения — питание. Чище всего взаимосвязь того и другого
проявляется в существовании крепких расой крестьянских родов, ко¬
торые в здравии и многоплодье коренятся на своей полоске. И как в об¬
разе тела половой орган связан с кругообращением***, так центр дома в
ином смысле образует священный очаг, Веста.
Именно поэтому экономическая история означает нечто принци¬
пиально иное, чем история политическая. Во второй на первом плане
находятся великие однократные судьбы, которые хоть и протекают в
обязательных формах эпохи, но каждая сама по себе строго персональ¬
на. В первой же, как и в истории семьи, речь идет о развитии языка
форм, а все однократное и личностное оказывается малозначительной
частной судьбой. Значением обладают лишь принципиальные формы,
за которыми миллионы случаев. Однако экономика — это только осно¬
ва всякого так или иначе осмысленного существования. Важно ведь, в
конце концов, не то, что люди — поодиночке и как народ в целом —
находятся «в форме», хорошо питаются и плодовиты, но для чего это
нужно, и, чем выше поднимается человек исторически, тем значитель¬
нее его политическая и религиозная воля превосходит по задушевно¬
сти символики и силе выражения все то, что имеется в смысле формы и
глубины в экономике как таковой. Лишь тогда, когда с наступлением
цивилизации начинается отлив всего в целом мира форм, вперед вы¬
ступают голые и навязчивые очертания ничем не прикрытого жизне¬
обеспечения: это время, когда пошлое речение о «голоде и любви»744
как движущих силах существования перестает быть постыдным, когда
смысл жизни оказывается не в том, чтобы набраться сил для исполне¬
ния задачи, но в счастье большинства, в спокойствии и уюте, «рапет et
circenses», и на место большой политики приходит как самоцель эконо¬
мическая политика.
С. 766 слл.
" С. 549, 579.
“* С. 472.
Глава пятая. Мир форм экономической жизни
937
Поскольку экономика относится к расовой стороне жизни, она, как
и политика, обладает лишь нравами, но не имеет никакой морали , ибо
в этом и состоит отличие знати и духовенства, фактов и истин друг от
друга. У всякого профессионального класса, как и у всякого сословия,
имеется само собой разумеющееся чувство не благого и злого, но хоро¬
шего и плохого. Кто им не обладает — бесчестен и низок. Ибо честь на¬
ходится в центре также и здесь, отделяя чутье на то, что подобает (чув¬
ство такта экономически деятельного человека), от религиозного
миро созерцания и его фундаментального понятия греха. У торговцев,
ремесленников, крестьян имеется вполне определенная профессиона¬
льная честь, и градации ее тонки, но не менее определенны для лавоч¬
ников, торговцев по экспорту, банкиров, предпринимателей, для рудо¬
копов, матросов, инженеров и даже, как известно всем и каждому, для
грабителей и нищих, поскольку последние ощущают свое профессио¬
нальное товарищество. Никто эти нравы не устанавливал и не записы¬
вал, однако они тут как тут; как и всякие вообще сословные нравы, они
иные как от места к месту, так и от эпохи к эпохе и неизменно обязате¬
льны лишь в кругу тех, кто сюда принадлежит. Помимо аристократиче¬
ских добродетелей — верности, храбрости, рыцарства, товарищества,
которые не чужды ни одному профессиональному сообществу, тут по¬
являются выраженные со всей выпуклостью воззрения относительно
нравственной ценности прилежания, успеха, труда и поразительное
чувство дистанции. Всем этим обладают, того не осознавая (лишь на¬
рушение нравов доводит их до сознания), — в противоположность ре¬
лигиозным заповедям, этим вневременным и общезначимым, однако
никогда не реализуемым идеалам, которые необходимо заучивать, что¬
бы их знать и быть в состоянии им следовать.
Фундаментальные религиозно-аскетические понятия, такие, как
«самоотверженный» и «безгрешный», не имеют внутри экономиче¬
ской жизни никакого смысла. Для настоящего святого грех — эконо¬
мика как таковая**, а не только ростовщичество и довольство богатст¬
вом или же зависть к нему бедных. Слова о «полевых лилиях» являются
для глубоко религиозных (и философских) натур безусловной исти¬
ной. Натуры эти всем центром тяжести своего существа пребывают вне
экономики и политики, как и вне всех прочих фактов «этого мира». Об
этом мы знаем по эпохе как Иисуса, так и св. Бернара и фундаменталь¬
ному ощущению сегодняшней русскости, а также и по образу жизни
Диогена или Канта. Потому и избирают такие люди добровольную бед¬
ность и странничество и укрываются в монашескую келью и кабинет
Ученого. Религия и философия никогда не предаются экономической
Деятельности, и занимается ею всегда лишь политический организм
С. 797 сл.
«Negotium (под ним подразумевается любой промысел: предпринимательство на-
*ается «commercium») negat otium neque quaerit veram quietem, quae est deus»745, — гово¬
рится в указе Грациана (ср. с. 542).
938
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
данной церкви или социальный организм теоретизирующего общества.
Такая деятельность всегда оказывается компромиссом с «этим миром»
и знаком «воли к власти» .
2
То, что можно было бы назвать экономической жизнью растения,
происходит в нем и на нем без того, чтобы оно было чем-то помимо
арены и лишенного воли объекта природного процесса . Этот растите¬
льный, объятый сном момент без каких-либо изменений лежит и в
основе «экономики» человеческого тела, где он в образе органов круго¬
обращения ведет свое чужеродное и безвольное существование. Одна¬
ко со свободно передвигающимся в пространстве телом животного к
существованию прибавляется бодрствование, понимающее ощуще¬
ние, а тем самым и принуждение к тому, чтобы самостоятельно печься о
поддержании жизни. Здесь начало жизненного страха, подводящего к
осязанию, нюху, высматриванию, прислушиванию с помощью все бо¬
лее утончающихся чувств, а вслед за тем — и к движениям в простран¬
стве, к отыскиванию, собиранию, преследованию, перехитриванию,
похищению, что у многих видов, таких, как бобры, муравьи, пчелы,
многие птицы и хищные животные, приближается к начаткам эконо¬
мической техники, чем предполагается уже размышление, т. е. опреде¬
ленное отделение понимания от ощущения. Человек является челове¬
ком, собственно говоря, постольку, поскольку его понимание освобо¬
дилось от ощущения и как мышление творчески вмешивается во
взаимосвязи между микрокосмом и макрокосмом*". Все еще абсолют¬
но животны как женские уловки по отношению к мужчине, так и кре¬
стьянские хитрости в отвоевании мелких преимуществ: то и другое ни¬
чем не отличается от лисьих проделок и способно одним понимающим
Вопрос Пилата устанавливает также и соотношение между экономикой и нау¬
кой. Религиозный человек будет впустую с катехизисом в руке пытаться улучшить про¬
исходящее в окружающем политическом мире. Мир же преспокойно идет своей доро¬
гой, предоставляя тому думать о нем все, что угодно. Перед святым открывается выбор:
приспособиться (и тогда он делается церковным политиком и бессовестным челове¬
ком) или бежать от мира в отшельничество, даже в потусторонность. Однако то же са¬
мое повторяется, и не без комизма, внутри городской духовности. Философ, возвед¬
ший здесь свою полную абстрактной добродетели и единственно верную социально¬
этическую систему, желал бы, как и следовало ожидать, раскрыть экономической жиз¬
ни глаза на то, как ей следует себя вести и к чему стремиться. Картина всегда совер¬
шенно одна и та же, будь система либеральной, анархистской или же социалистиче¬
ской и кем бы она ни была создана — Платоном, Прудоном или Марксом. Однако так¬
же и экономика, ничуть не смущаясь, идет дальше, предоставляя мыслителю выбор:
отступить и излить свое негодование по поводу этого мира на бумаге или же вступить в
него в качестве экономо-политика, когда с ним произойдет одно из двух — он либо
превратится в посмешище, либо тут же пошлет свою теорию ко всем чертям, чтобы от¬
воевать себе ведущее место.
f/iaea пятая. Мир форм экономической жизни 939
взглядом насквозь пронизать тайну своей жертвы. Однако поверх всего
этого поднимается теперь экономическое мышление, которое возделы¬
вает поле, приручает скот, преобразует, облагораживает вещи и их об¬
менивает и изобретает тысячи других средств и методов, чтобы повы¬
сить уровень поддержания жизни и превратить зависимость от окружа¬
ющего мира в господство над ним. Таков базис всех культур. Раса
пользуется экономическим мышлением, которое может сделаться
столь мощным, что отделится от своих целей, построит абстрактные
теории и затеряется в утопических далях.
Вся высшая экономическая жизнь развивается на крестьянстве и
над ним. Само же крестьянство ничего, помимо себя, не предполагает*.
Оно является, так сказать, расой как таковой, растительной и внеисто-
рической", производящей и потребляющей исключительно для самой
себя, с обращенным в мир взглядом, которому все прочие экономиче¬
ские существа представляются чем-то случайным и достойным презре¬
ния. И вот этой производящей разновидности экономики оказывается
противопоставлена разновидность завоевывающая, пользующаяся пер¬
вой как объектом, от нее питающаяся, накладывающая на нее дань или
ее грабящая. Политика и торговля абсолютно неразделимы в своих ис¬
токах — обе повелительны, личностны, воинственны, охочи до власти
и добычи; они приносят с собой совершенно иной взгляд на мир: не
робкое поглядывание снизу вверх из уголочка, но взгляд, устремлен¬
ный на мировую суету сверху вниз; это ярко выражено в том, какие жи¬
вотные — все эти львы, медведи, коршуны, соколы — подбирались для
гербов. Изначальная война — это всегда также и грабительская война,
изначальная торговля теснейшим Образом связана с грабежом и пират¬
ством. Исландские саги повествуют о том, что викинги часто заключа¬
ли с местными жителями базарный мир на две недели, чтобы заняться
торговлей, после чего все брались за оружие и начинали захватывать
добычу.
В развитых своих формах политика и торговля, как искусство при¬
обретать материальные преимущества над противником с помощью
Духовного превосходства, являются заменой войны другими средства¬
ми. Всякая дипломатия имеет предпринимательскую природу, всякое
предпринимательство — природу дипломатическую, и оба они осно¬
вываются на проницательном знании людей и физиономическом так¬
те. Предпринимательский дух великих мореходов, какой мы находим у
Финикийцев, этрусков, норманнов, венецианцев, ганзейцев, толковых
банкиров, как Фуггеры и Медичи, могущественных финансистов, как
Красе, угольные короли и директора трестов наших дней, требует — раз
Совершенно то же самое и с бродячими ордами охотников и скотоводов, однако
кономическое основание высшей культуры неизменно предполагает людскую разно-
идность, которая, питая и неся на себе высшие экономические формы, прочно при¬
креплена к земле.
С. 787.
940
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
операция должна увенчаться успехом — стратегического дара полко¬
водца. Гордость родовым домом, отцовское наследие, семейные тради¬
ции проходят схожий процесс формирования и в том и в другом случае;
«великие состояния» все равно что королевства, и они имеют свою ис¬
торию, и Поликрат, Солон, Лоренцо де’ Медичи, Юрген Вулленве-
бер747 вовсе не являются единственными примерами того, как полити¬
ческое честолюбие развилось из честолюбия купеческого.
Однако подлинный государь и государственный деятель желают
властвовать, подлинный предприниматель желает лишь быть богатым:
здесь происходит разделение завоевывающей экономики на средство и
на цель". Можно стремиться к добыче ради власти и к власти ради до¬
бычи. А великий правитель, такой, как Цинь Шихуан, Тиберий или
Фридрих II, желает быть «богат землей и людьми», сознавая при этом,
однако, свою благородную обязанность. Можно со спокойной сове¬
стью, как на что-то само собой разумеющееся, претендовать на сокро¬
вища всего мира, проводя жизнь в сияющем великолепии и даже рас¬
точительстве, если ощущаешь себя при этом только носителем миссии,
как Наполеон, Сесил Родс или же римский сенат III в., а потому почти
что и не воспринимаешь понятие «частная собственность» примените¬
льно к себе.
Тот, кто преследует лишь экономические выгоды, как карфагеняне
в римскую эпоху, а сегодня в еще куда большей степени американцы,
будет не способен к чисто политическому мышлению. В ходе принятия
решений в сфере высокой политики он неизменно окажется чьей-то
пешкой, будет обманут и предан, как показывает пример Вильсона748,
особенно когда недостаток инстинкта государственного деятеля вос¬
полняется нравственными побуждениями. Поэтому такие великие
экономические союзы современности, как предпринимательство и ра¬
ботники, будут громоздить одну политическую неудачу на другую, если
только не найдут себе в качестве вождя подлинного политика, кото¬
рый, правда, ими воспользуется. Экономическое и политическое
мышление при величайшем совпадении между ними по форме корен¬
ным образом различаются по направлению, а тем самым и во всех так¬
тических частностях. Великие успехи в деле, которым занимаешься" ,
пробуждают ощущение неограниченной публичной власти. Не следует
закрывать глаза на этот дополнительный оттенок, присутствующий в
слове «капитал». Однако лишь единицы меняют при этом окраску и
направление своей воли, как и меру, с которой они подходят к ситуа- ** Андершэфт в «Майоре Барбаре» Бернарда Шоу — образ настоящего государя в
этом царстве746.
С. 801. Как средство управления она называется финансовым хозяйством. Вся на¬
ция оказывается объектом взимания податей в виде налогов и пошлин, используемых
вовсе не на более вольготное поддержание жизни, но для обеспечения ее положения в
истории и увеличения мощи.
В наиболее широком смысле, куда относится также и подъем на ведущие роли
рабочих, журналистов, ученых.
Глава пятая. Мир форм экономической жизни
941
циям и вещам. Только когда человек действительно перестает воспри¬
нимать свое предприятие как частное дело, а цель его усматривать
лишь в накоплении имущества, он может сделаться из предпринимате¬
ля государственным деятелем. Так было в случае Сесила Родса. Впро¬
чем, люди из мира политики сталкиваются с обратной опасностью —
что их воля и мышление перейдут от решения исторических задач к ба¬
нальному попечению о частном жизнеобеспечении. Тогда-то знать и
выходит на большую дорогу — как рыцари-разбойники; имеются при¬
меры хорошо известных государей, министров, народных любимцев и
революционных героев, все рвение которых было нацелено исключи¬
тельно на привольную жизнь и накопление колоссальных богатств (в
данном отношении между Версалем и якобинским клубом, предпри¬
нимателями и рабочими вожаками, русскими губернаторами и боль¬
шевиками нет почти никакой разницы), и политика «пробившихся»
при зрелой демократии тождественна не только гешефту, но наиболее
грязным видам спекуляций большого города.
Однако именно тут раскрывается потаенный ход высшей культуры.
Вначале появляются пра-сословия — знать и духовенство с их симво¬
ликой времени и пространства. Тем самым как политическая жизнь,
так и религиозное переживание обретают в хорошо упорядоченном об¬
ществе* свое стабильное место, призванных носителей и заданные как
для фактов, так и для истин цели, в глубине же бессознательно и уве¬
ренно течет экономическая жизнь. Но вот поток существования замы¬
кается в каменную скорлупу города, и начиная с этого момента деньги
и дух перенимают историческое лидерство. Героическое и святое с
символическим размахом их раннего явления становятся редки и от¬
ступают в узкие кружки. Их место заступает холодная буржуазная яс¬
ность. В сущности говоря, завершение системы и проведение контрак¬
ции749 требуют одной и той же разновидности высокопрофессиональ¬
ной интеллигенции. Еще почти никак не отделенные друг от друга по
символическому рангу политическая и экономическая жизнь, религи¬
озное и экономическое познание проникают друг в друга, соприкаса¬
ются и перемешиваются. В суете большого города поток существова¬
ния утрачивает свою строгую и богатую форму. На поверхности оказы¬
ваются элементарные экономические черты, которые ведут свою игру
с остатками исполненной формы политики; в это же время среди объ¬
ектов рассмотрения суверенной науки оказывается и религия. Над
жизнью, исполненной экономико-политического самодовольства,
Распространяется критически-назидательное миронастроение. Одна-
Ко в конце концов место распавшихся сословий занимают биографии
°тдельных людей, располагающих достаточной политической и рели¬
гиозной мощью для того, чтобы сделаться судьбой всего в целом.
С. 722 сл.
942
Том 2 ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Отсюда возникает морфология экономической истории. Существует
праэкономика человека как такового, которая точно так же, как эконо¬
мика растения или животного, изменяет свою форму по биологическим
часам . Она полностью господствует в первобытную эпоху и в отсутствие
каких-либо доступных познанию правил бесконечно медленно и хао¬
тично продолжает свое течение между высшими культурами и внутри
них. Здесь разводят животных и растения, пересоздавая их в ходе приру¬
чения, культивирования, облагораживания, высевания, здесь осваива¬
ют огонь и металлы, а свойства неживой природы посредством техниче¬
ских процессов ставят на службу жизнеобеспечения. Все это сплошь
пронизано политико-религиозными моралью и смыслом, причем не¬
возможно четко выделить тотем и табу, голод, душевный страх, половую
любовь, искусство, войну, практику жертвоприношений, веру и опыт.
Чем-то совершенно иным по идее и развитию оказывается строго
оформленная и четко очерченная по темпу и продолжительности эконо¬
мическая история высших культур, каждая из которых имеет свой собст¬
венный экономический стиль. Феодализм предполагает экономику
страны без городов. С управляемым из городов государством появляется
городская экономика денег, поднимающаяся с началом всякой цивили¬
зации до диктатуры денег, что происходит одновременно с победой де¬
мократии мировых столиц. Всякая культура обладает своим независимо
развивающимся миром форм. Телесные деньги аполлонического стиля
(отчеканенные монеты) так же далеки от фаустовско-динамических от¬
носительных денег (проведения кредитных единиц по книгам), как по¬
лис — от государства Карла V. Однако экономическая жизнь, совершен¬
но так же, как жизнь общественная, образует пирамиду". На деревен¬
ском основании сохраняется абсолютно примитивное, едва затронутое
культурой состояние. Поздняя городская экономика уже является делом
решительного меньшинства, которое неизменно свысока взирает на
сельское хозяйство раннего времени, а то продолжает делать свое дело
вокруг, со злобой и ненавистью глядя на одухотворенный стиль внутри
городских стен. Наконец, мировая столица производит на свет мировую
экономику — цивилизованную, излучающуюся из очень ограниченного
круга центров и подчиняющую себе все остальное как экономику про¬
винциальную, а между тем в отдаленных ландшафтах зачастую все еще
господствуют примитивные — «патриархальные» — нравы. С ростом го¬
родов жизнеобеспечение становится все более изощренным, утончен¬
ным, запутанным. Городской рабочий в императорском Риме, Дамаске
Гаруна ар-Рашида и в сегодняшнем Берлине воспринимает как само со¬
бой разумеющиеся многие блага, которые показались бы сумасбродной
роскошью богатому крестьянину в глубинке. Однако этих благ трудно
достичь, а еще труднее в них утвердиться: объем трудозатрат во всех ку¬
льтурах колоссально возрастает, так что в начале всякой цивилизации
* С. 496.
“* С. 738.
Глава пятая. Мир форм экономической жизни 943
возникает перенапряженная по интенсивности, а значит постоянно гро¬
зящая крахом экономическая жизнь, из-за чего ее нигде невозможно
поддерживать длительное время. В конце концов возникает окостенев¬
шее и отличающееся постоянством состояние с причудливым смешени¬
ем рафинированно-одухотворенных и абсолютно примитивных черт
(греки познакомились с ним в Египте, а мы можем его видеть в сегод¬
няшних Индии и Китае), если только оно, подобно античности в эпоху
Диоклетиана, не окажется сметенным внезапным, вырвавшимся как из-
под земли напором юной культуры.
По отношению к этому экономическому движению люди пребывают
«в форме» как экономические классы, подобно тому как по отношению
к всемирной истории они были «в форме» как политические сословия.
Всякий единичный человек занимает определенное экономическое по¬
ложение внутри хозяйственного членения, точно так же как он занимает
какой-нибудь ранг внутри общества. Оба этих вида принадлежности од¬
новременно претендуют на его ощущения, мышление и поведение.
Жизни угодно наличествовать, а сверх того еще и что-то означать; и пу¬
таница наших понятий оказывается в итоге еще увеличенной вследствие
того, что политические партии как сегодня, так и в эллинистическое
время, желая сделать образ жизни некоторых экономических групп бо¬
лее счастливым, так сказать, облагородили их, повысив в политическое
сословие, как сделал это Маркс с классом фабричных рабочих.
Ибо первое и подлинное сословие — это знать. Из нее выходят офи¬
цер и судья и вообще все относящееся к высоким правительственным и
административным должностям. Все это схожие с сословиями образо¬
вания, нечто собой означающие. К духовенству же принадлежит ученое
звание* с характерной для него величайшей сословной замкнутостью.
Однако с гибелью замка и собора завершается и великая символика. Ti¬
ers — это уже несословие, остаток, пестрое и многослойное сборище, не
много значащее само по себе, за исключением мгновений политическо¬
го протеста, и само придающее себе значение, становясь на ту или иную
сторону. Самоощущение возникает не оттого, что ты буржуа, но потому
что «либерален», а значит, ты вовсе не воплощаешь своей личностью не¬
кую великую вещь, но принадлежишь к ней в силу своих убеждений.
Вследствие слабости этой общественной оформленности экономиче¬
ский момент в «буржуазных» профессиях, гильдиях и союзах выступает
наружу с тем большей явственностью. По крайней мере в городах чело¬
век характеризуется прежде всего тем, чтб доставляет ему пропитание.
Экономически первым и изначально едва ли не единственным являет¬
ся крестьянство**, просто производящий род жизни, который только и де-
Включая сюда врачей, которых в правремена невозможно отделить от священни¬
ков и колдунов.
Сюда же относятся пастухи, рыбаки и охотники. Кроме того, как это видно из
Родственных мотивов старинных сказаний и обычаев, возникает своеобразная и чрез¬
вычайно глубокая связь крестьянства с горным делом. Металл добывается из шахты
явлН° Так же’ как зеРН0 из земли и дичь из леса. Однако для рудокопа также и металлы
вляются чем-то таким, что живет и растет.
944 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
лает возможным всякий другой. Пра-сословия в раннее время тоже все¬
цело основывают свое жизнеобеспечение на охоте, разведении скота и
владении землей, и еще для знати и духовенства позднего времени это
единственная благородная возможность быть «при имении». Противо¬
стоит им торговый — посреднический и добычливый — образ жизни*. Надо
сказать, что при сравнительно малом числе тех, кто торговлей занимает¬
ся, она обладает колоссальной властью и делается совершенно необходи¬
мой уже очень рано. Это утонченный паразитизм, абсолютно непроизво¬
дительный и потому чуждый земле и блуждающий, «свободный» и к тому
же не отягощенный душевно нравами и обычаями земли: жизнь, питаю¬
щаяся от иной жизни. И вот в промежутке между тем и другим вырастает
теперь третий, перерабатывающий, род экономики, т. е. техника со свои¬
ми бесчисленными ремеслами, промыслами и профессиями. Раздумья
этих людей о природе находят здесь творческое применение, а достиже¬
ние результата — дело их чести и совести *. Их старейший цех и в то же
время их первообраз, корни которого уходят в правремя, — это кузнецы.
Они окружены множеством смутных сказаний, обычаев и представлений;
гордо обособляясь от крестьянства, они внушали окружающим робость,
доходившую до почтения или, наоборот, до отверженности; вследствие
этого кузнецы, как фалаша в Абиссинии, зачастую превращаются в на¬
стоящие племена внутри своей же расы***.
В производящей, перерабатывающей и посреднической разновид¬
ности экономики, как и во всем, относящемся к политике и жизни вооб¬
ще, существуют субъекты и объекты руководства, а значит, целые груп¬
пы, которые здесь распоряжаются, решают, организуют, придумывают,
и другие, — которым доводится исключительно исполнять. Различие в
ранге может быть разительным или едва ощутимым****, восхождение
вверх — абсолютно немыслимым или само собой разумеющимся, свя¬
занный с деятельностью почет — почти одним и тем же с плавными и не¬
заметными оттенками или отличаться радикально. Противоположность
между ними всецело зависит от традиции и закона, дарования и имения,
численности народонаселения, уровня культуры и экономического по¬
ложения, однако в любом случае она имеется, причем задается самой
От изначального мореплавания до биржевых сделок мировых столиц. Сюда же
относится все обращение, совершающееся по рекам, шоссе, железным дорогам.
С. 806. Сюда же относится и машинное производство с характерным для него
чисто западным типом изобретателя и инженера, а также фактически значительная
часть современного сельского хозяйства, например, в Америке.
Еще и сегодня горнозаводческая и металлургическая промышленность воспри¬
нимаются как что-то более благородное, чем, к примеру, химическая и электрическая.
У нее древнейшая техническая знать, и над ней тяготеет остаток культовой тайны.
****
Вплоть до крепостной зависимости и рабства, хотя как раз рабство-то очень час-
то, например, ныне на Востоке и у vemae [выросших в доме хозяина рабов (лат.)] в
Риме не представляет собой в плане экономическом ничего, кроме навязанного трудо¬
вого договора, и, если от этого отвлечься, становится едва ощутимым. Вольнонаемный
работник зачастую находится в куда более жесткой зависимости, и уважать его могут
куда меньше, а формальное право на увольнение во многих случаях остается практиче¬
ски неисполнимым.
Глава пятая. Мир форм экономической жизни
945
жизнью и неотменима. Несмотря на это, в плане экономическом никакого
«рабочего класса» нет: его изобрели теоретики, имевшие перед глазами
свойственное как раз переходному периоду положение фабричных ра¬
бочих в Англии, почти лишенной крестьянства промышленной стране,
и распространившие эту схему на все культуры и все эпохи, пока поли¬
тики не сделали ее средством для создания партий. Реально же сущест¬
вует необозримое количество видов чисто исполнительской деятельно¬
сти в цеху и конторе, машбюро и корабельном трюме, на проселках и в
шахтах, на лугу и в поле. Во всем, что с ними связано, — вычислениях и
погрузке, разноске и ковке, шитье и присмотре — достаточно часто от¬
сутствует то, что придает жизни помимо простого ее поддержания до¬
стоинство и привлекательность, какие бывают сопряжены с сословны¬
ми задачами офицера и ученого или же персональными успехами инже¬
нера, администратора или купца, однако между собой все эти категории
абсолютно никак не сопоставимы. Дух и тяжесть работы, ее местона¬
хождение в деревне или же крупном городе, объем и степень напряжен¬
ности работ позволяют батраку и банковскому служащему, кочегару и
портновскому подмастерью жить в совершенно разных экономических
мирах, и, повторяю, лишь партийная политика очень поздних периодов
соединила их лозунгами в единый протестующий союз, с тем чтобы вос¬
пользоваться их массой. Напротив того, античный раб есть государст¬
венно-правовое понятие, а именно для политического тела античного
полиса не существующее , между тем как он может быть в плане эконо¬
мическом крестьянином, ремесленником, даже директором и крупным
купцом с громадным имуществом (peculium), с дворцами и виллами и це¬
лой свитой подчиненных, в том числе и «свободных». Ниже обнаружит¬
ся, чем еще, кроме перечисленного, является он в позднеримскую эпоху.
3
С началом всякого раннего времени начинается экономическая
жизнь в стабильной ее форме”. Население обитает в сельской местности
и ведет исключительно крестьянский образ жизни. Переживания750 го¬
рода для него не существует. То, что выделяется здесь из деревни, из зам¬
ка, крепости, монастыря, участка храма, — не город, но рынок, простая
точка пересечения крестьянских интересов, обладающая в то же время,
само собой разумеется, также и определенным религиозным и полити¬
ческим значением, без того, однако, чтобы здесь могла идти речь о ка¬
кой-то обособленной жизни. Обитатели его, даже если они ремесленни-
м С. 521 сл.
Относительно ранней египетской и готической эпохи мы знаем об этом с исчер¬
пывающей точностью, относительно Китая и античности — в общих чертах; а что до
каномического псевдоморфоза арабской культуры (с. 647 слл., 808), то с Адриана начи-
аетея внутренний распад высокоцивилизованной античной денежной экономики, так
0 при Диоклетиане все пришло к товарообороту, свойственному раннему времени, а
ЛеД за этим на Востоке наблюдается собственно магический подъем.
946 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ки или купцы, все же воспринимают окружающее как крестьяне и так
или иначе занимаются также и крестьянской деятельностью.
То, что выделяется из жизни, в которой каждый что-то производит
и потребляет, суть блага, добро и «обмен благами» — слово, соответст¬
вующее любому обращению раннего времени вне зависимости от того,
был ли данный предмет доставлен издали или же обращается внутри
деревни или даже одного и того же двора. Блага, добро как имущест¬
во — это то, что тонкими нитями своей сущности, своей души привяза¬
но к жизни, произведшей его на свет или в нем нуждающейся. Крестья¬
нин гонит «свою» корову на рынок, женщина хранит «свои» украше¬
ния в сундуке. Человек «обрастает» добром, и слово «имение» (Ве-
sitz)751 восходит к растительному происхождению собственности, с ко¬
торой срослось корнями лишь это и никакое иное существование*. Об¬
мен в такое время — это процесс, посредством которого блага перехо¬
дят из одного жизненного круга в другой. Оценивает их жизнь в соот¬
ветствии со скользящей, прочувствованной мерой данного мгновения.
Еще не существует ни понятия стоимости, ни всеобщего мерного това¬
ра, а золото и монеты являются не чем иным, как благами, ценность
которых определяется редкостью и неразрушимостью *.
В такт и ход этого обмена благами торговец вмешивается только
как посредник \ На рынке завоевательная и производящая экономика
приходили в столкновение, однако даже там, где к берегу подходят
флоты и куда являются караваны, торговля развивается лишь в каче¬
стве органа сельского обращения****. Это «вечная» форма экономики,
в совершенно первобытной фигуре коробейника удерживающаяся
J С. 550 сл.
Ни куски меди из захоронений раннегомеровского времени в итальянской Вил-
ланове (Wilier. Geschichte der romischen Kupferpragung. S. 18), ни раннекитайские брон¬
зовые монеты в виде женских одеяний (бу), топоров, колец или ножей (цянь, Conrady.
China. S. 504) деньгами не являются, но вполне отчетливо обозначают собой символы
товаров; также и монеты, которые правительства раннеготического времени в подра¬
жание античности чеканили в качестве знаков суверенитета, принимают участие в эко¬
номической жизни лишь как товары: кусок золота стоит столько же, сколько корова, а
не наоборот.
Поэтому он так часто происходит не из сельской жизни, непроницаемо замкну¬
той в себе самой, но является в нее как чужестранец, безразличный и лишенный пред¬
посылок. Такова роль финикийцев на заре античности, римлян на Востоке в эпоху
Митридата, евреев, а наряду с ними византийцев, персов, армян в готической Запад¬
ной Европе, арабов в Судане, индусов в Восточной Африке, западноевропейцев в ны¬
нешней России.
А поэтому в очень незначительном объеме. Поскольку торговля была тогда пред¬
приятием авантюрным, а потому богатым пищей для фантазии, ее обыкновенно сверх
всякой меры переоценивают. Ок. 1300 г. «великие» венецианские и ганзейские торгов¬
цы вряд ли могли равняться по своему рангу занимавшим более видное положение ма-
стерам-ремесленникам. Обороты даже Медичи и Фуггеров соответствовали ок. 1400 г
обороту магазина в сегодняшнем городке. Самые большие торговые суда, которыми,
как правило, совместно владела группа купцов, далеко уступали сегодняшним речным
баржам и, быть может, совершали за год лишь одно дальнее плавание. Ок. 1270 г.
шерсть, вывозимую из Англии за год, этот предмет гордости ганзейской торговли и
главную ее статью, можно было загрузить на два современных товарных состава, и еще
осталось бы место (Sombart. Der modeme Kapitalismus I. S. 280 ff.).
f/taea пятая. Мир форм экономической жизни 947
еше и сегодня в бедных городами ландшафтах и даже на отдаленных
улицах городских предместий, где образуются маленькие кружки то¬
варообмена, а также в домашнем хозяйстве ученых, чиновников и во¬
обще всех тех, кто не включен деятельно в экономическую жизнь бо¬
льшого города.
Совершенно иной род жизни пробуждается вместе с душой города*.
Стоит рынку стать городом, как появляется уже не просто центр товар¬
ного потока, текущего по чисто крестьянскому ландшафту, но второй
мир внутри стен, для которого просто производящая жизнь «там снару¬
жи» более не является ничем, кроме средства и объекта, и на основе ко¬
торого начинает свое обращение уже другой поток. Вот что является
здесь решающим моментом: подлинный горожанин //^производителен
в первоначальном почвенном смысле. В нем отсутствует связанность
как с почвой, так и с добром, которое проходит через его руки. Он не
живет с ним, но рассматривает его снаружи, лишь в связи со своим
жизнеобеспечением.
Тем самым добро делается товаром, обмен — оборотом, а на место
мышления благами приходит мышление деньгами.
Тем самым нечто чисто протяженное, форма границеполагания, аб¬
страгируется от зримых экономических предметов совершенно так же,
как математическое мышление абстрагирует нечто от механически
воспринимаемого окружающего мира, и абстракция «деньги» всецело
соответствует абстракции «число»**. То и другое совершенно неорга¬
нично. Картина экономики сводится исключительно к количествам
при отвлечении от качества, которое как раз и образует существенную
характеристику того или иного предмета. Для крестьянина раннего
времени «его» корова является в первую очередь такой определенной
сущностью и лишь потом — предметом обмена; на экономический же
взгляд подлинного горожанина существует лишь абстрактная денеж¬
ная стоимость, принимающая привходящий образ коровы, который во
всякий момент может быть переведен в образ, к примеру, банкноты.
Точно так же и подлинный технарь усматривает в знаменитом водопа¬
де не единственную в своем роде игру природы, но чистое количество
неиспользованной энергии, и не более того.
Ошибкой всех современных теорий денег является то, что они от¬
талкиваются от платежного знака или даже от вещества платежного
средства, вместо того чтобы базироваться на форме экономического
мышления***. Однако деньги, как и число, как право? — это категория
мышления. Можно мыслить окружающий мир денежно, точно так же
^ С. 550 сл.
К нижеследующему ср. т. 1, гл. I.
J. Марка и доллар — в столь же малой степени «деньги», как метр и грамм — сила.
’Ченеокные символы — реальные стоимости. Мы не путаем гравитацию и весовые гири
вы1* П0Т0МУ> что не знакомы с античной физикой; с числом же и величиной мы, осно-
НыВаЯСЬ на античн°й математике, такое смешение производим, как и, подражая антич-
ым Монетам, — с деньгами и денежными знаками.
948 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
как можно его мыслить юридически, математически или технически.
От чувственного восприятия дома оказываются абстрагированными
весьма различные вещи в зависимости от того, возникает ли оно в уме
торговца, судьи или инженера и оценивает ли тот его на предмет балан¬
совой стоимости, юридической тяжбы или опасности обрушения. Од¬
нако ближе всего к мышлению в деньгах оказывается математика.
Мыслить экономически — значит считать. Денежная стоимость — это
числовая стоимость, измеренная в единицах счета*. Эта точная «стои¬
мость как таковая», как и число как таковое, производится на свет
лишь мышлением горожанина, лишенного почвы человека. Для кре¬
стьянина существуют лишь преходящие, прочувствованные примени¬
тельно к самому себе стоимости, которые он в процессе обмена от слу¬
чая к случаю реализует. То, в чем он не нуждается или чем не желает об¬
ладать, не имеет для него «никакой стоимости». Лишь в
экономической картине подлинного горожанина имеются объектив¬
ные стоимости и их разновидности, существующие как элементы
мышления независимо от его частных потребностей и по идее своей
общезначимые, хотя в действительности у каждого собственная систе¬
ма стоимостей и собственный каталог их разновидностей, исходя из
которой он воспринимает текущие предложения (цены) рынка как до¬
рогие или дешевые**.
Между тем как ранний человек сравнивает блага, пользуясь не толь¬
ко рассудком, поздний высчитывает стоимость товара, причем прибе¬
гает при этом к жестко установленной бескачественной мере. Теперь
не золото измеряется в коровах, но корова — в деньгах752 и результат
выражается с помощью абстрактного числа, ценй. Решение вопроса о
том, найдет ли эта мера стоимости свое символическое выражение в
платежном знаке и как это произойдет (как символом вида чисел явля¬
ется письменный, устный, воображаемый числовой знак), зависит от
экономического стиля данной культуры, создающей всякий раз свою
разновидность денег. Такая разновидность денег имеет место лишь в
силу наличия городского населения, экономически ими мыслящего, и
она, далее, определяет, будет ли платежный знак служить в то же время
и средством платежа, как античные монеты из благородного металла и,
быть может, вавилонские серебряные слитки. Напротив того, египет¬
ский дебен753, отвешиваемая фунтами необработанная медь, — это мера
обмена, но не знак и не средство платежа, а западноевропейские и «од-
* По этой причине метрическую (основанную на грамме и сантиметре) систему
можно было бы назвать, двигаясь в обратном направлении, «котировкой»; и в самом
деле, все вообще денежные меры происходят от физических весовых положений.
Также и все теории стоимости, хотя они должны были бы быть объективными,
оказываются развитыми из субъективного принципа, да иначе и быть не могло. Теория
Маркса, например, определяет «стоимость как таковую» так, как того требуют интере¬
сы рабочего, так что вклад изобретателя и организатора оказывается стоимостью не об¬
ладающим. Однако объявлять ее ложной было бы неправильно. Все эти учения истин¬
ны для их сторонников и ложны для противников, а вопрос о том, делается ли человек
сторонником или противником, определяют не резоны, а жизнь.
f/iaea пятая. Мир форм экономической жизни
949
повременные» им китайские банкноты* — средство, но не мера. Отно¬
сительно же роли, которую играют в нашей разновидности экономики
монеты из благородного металла, мы обыкновенно совершенно за¬
блуждаемся: это есть произведенные в подражание античности това¬
ры, и потому они имеют курсовую стоимость, измеренную в балансо¬
вой стоимости кредитных денег.
На основе мышления такого рода связанное с жизнью и почвой име¬
ние (Besitz:) становится имуществом (Vermogen), по самому существу свое¬
му подвижным и качественно неопределенным: оно не состоит в добре,
но в него «вкладывается». Рассмотренное само по себе, оно есть не что
иное, как выраженное численно количество денежной стоимости**.
В качестве местопребывания этого мышления город становится
денежным рынком (финансовой площадкой) и центром стоимости, и
поток денежных стоимостей начинает пронизывать поток благ, его
одухотворять и над ним господствовать. Однако тем самым торговец
превращается из органа экономической жизни в ее господина. Мышле¬
ние деньгами — это всегда некоторым образом купеческое, «предпри¬
нимательское» мышление. Оно предполагает производящую эконо¬
мику села и по этой причине изначально завоевательно, потому что
третьего не дано. Слова «выручка», «прибыль», «спекуляция» указы¬
вают на выгоду, которую попутно приносят направляющиеся к по¬
требителю вещи, на интеллектуальную добычу и потому неприложи¬
мы к раннему крестьянству. Необходимо всецело погрузиться в дух и
экономическое вйдение подлинного горожанина. Он работает не для
потребности, но для продажи, «за деньги». Предпринимательское
восприятие постепенно пронизывает все роды деятельности. Будучи
внутренне связанным с товарооборотом, сельский житель был одно¬
временно и давателем, и получателем; исключением по сути не явля¬
ется также и торговец на раннем рынке. С денежным обращением
между производителем и потребителем, как между двумя разделен¬
ными мирами, появляется «некто третий», чье мышление тут же ста¬
новится господствующим в деловой жизни. Он принуждает первого
предлагать ему товар, а второго — запрашивать товар у него же; он
возвышает посредничество до монополии, а затем делает его основ¬
ным моментом экономической жизни и принуждает обоих быть «в
форме» в его интересах — поставлять товар по его расценкам и полу¬
чать его под давлением его предложения.
Кто владеет этим мышлением — тот мастер делать деньги***. Во
всех культурах развитие идет по этому пути. В своей речи против хле¬
g Первые введены в очень ограниченном количестве начиная с конца XVIII в.
ан*ом Англии, вторые — в эпоху борющихся государств.
*** «Размер» имущества — сравните это с «объемом» имения,
с Вплоть до современных пиратов денежного рынка, занимающихся посредниче-
30 °м посредничества и ведущих с товаром «деньги» азартную игру, как описал это
Ля в своем знаменитом романе74.
950 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
боторговцев Лисий констатирует, что пирейские спекулянты, желая
вызвать прибыльную для них панику, неоднократно распускали слу¬
хи о крушении флота с грузом зерна или о начале войны. То была рас¬
пространенная практика в эллинистическо-римскую эпоху — сгово¬
рившись, ограничить производство сельскохозяйственной культуры
или же застопорить ввоз, чтобы взвинтить цены. Совершенно анало¬
гичный западному банковскому обороту жирооборот в Египте Ново¬
го царства* сделал возможным разведение хлебных культур в амери¬
канском стиле. Клеомен, финансовый управляющий Александра Ве¬
ликого по Египту, смог при помощи безналичной покупки
сосредоточить в своих руках все зерновые запасы, что вызвало голод по
всей Греции и принесло колоссальные барыши. Тот, кто мыслит в эко¬
номике как-то иначе, будет низведен до уровня простого объекта де¬
нежных воздействий большого города. Уже очень скоро этот стиль ох¬
ватывает бодрствование всего городского населения, а значит, всех,
кто по-настоящему должен учитываться в управлении экономической
историей. Крестьянин и буржуа755 являют собой различие не только
между деревней и городом, но и между «добром» и «деньгами». Пыш¬
ная культура гомеровских провансальских дворов государей есть не¬
что произросшее вместе с человеком и с ним слившееся, как это быва¬
ет характерно для жизни в сельских имениях старинных семейств еще
и сегодня; более утонченная культура буржуазии, «комфорт» есть не¬
что пришедшее извне, что можно оплатить *. Всякая высокоразвитая
экономика — это городская экономика. Мировую экономику, т. е.
экономику всех цивилизаций, можно было бы назвать экономикой
мировых столиц. Экономические судьбы тоже решаются в немногих
точках, на финансовых площадках* * — в Вавилоне, Фивах, Риме, Ви¬
зантии и Багдаде, в Лондоне, Нью-Йорке, Берлине и Париже. Все
остальное есть провинциальная экономика, скудно и помалу совер¬
шающая свои обороты, не отдавая себе отчета в полном объеме собст¬
венной зависимости. Деньги — это в конечном счете форма духовной
энергии, в которой отыскивает концентрированное выражение воля
к господству, политическая, социальная, техническая, умственная
одаренность, страстное стремление к жизни высокого полета. Шоу
абсолютно прав: «Всеобщее почтение к деньгам — единственный об¬
надеживающий факт нашей цивилизации... Деньги и жизнь неразде-
**** _
лимы... Деньги — это жизнь» . Так что цивилизация означает такую
*
Preisigke, Girowesen im grieichischen Agypten, 1910; тогдашние формы обращении
находились на той же высоте уже при XVIII династии.
Не иначе обстоит дело и с буржуазным идеалом свободы. В теории, а значит, так¬
же и в конституциях ты можешь быть принципиально свободен. В действительной же ча¬
стной городской жизни независимым можно быть только через деньги.
Которые можно назвать биржевыми площадками также и в прочих культурах
если понимать под биржей мыслительный орган достигшей совершенства денежной
экономики.
Предисловие к «Майору Барбаре».
f/iaea пятая. Мир форм экономической жизни
951
ступень культуры, на которой традиция и личность утратили свое не¬
посредственное значение, и всякую идею, чтобы ее реализовать, сле¬
дует в первую очередь переосмыслить в деньгах. Вначале люди бывали
«при имении», потому что обладали властью. Теперь человек имеет
власть, потому что имеет деньги. Лишь деньги возводят дух на трон.
Демократия — это полное уравнивание денег и политической власти.
В экономической истории всякой культуры происходит отчаянная
борьба, которую ведет против духа денег коренящаяся в почве тради¬
ция расы, ее душа. Крестьянские войны в начале позднего времени (в
античности в 700—500 гг., у нас в 1450—1650 гг., в Египте — на исходе
Древнего царства) оказываются первыми выступлениями крови про¬
тив денег набравших мощи городов, которые желали бы прибрать к
рукам землю . Говоря: «Кто поднимает (mobilisiert) почву, обращает ее
в пыль», — барон фон Штейн756 предупреждал об опасности для вся¬
кой культуры; именно, если деньги не в состоянии овладеть имением,
они проникают непосредственно в само крестьянское и аристократи¬
ческое мышление; унаследованное, сросшееся с родом имение пред¬
ставляется тогда имуществом, лишь помещенным в земельное владе¬
ние и как таковое, само по себе — движимым**. Деньги стремятся под¬
нять абсолютно все вещи на ноги. Мировая экономика — это
сделавшаяся фактом экономика в абстрактных, полностью абстраги¬
рованных от почвы, текучих стоимостях***. Античное денежное мыш¬
ление обратило начиная с времен Ганнибала целые города в монету,
целые народности в рабов, а тем самым в деньги, движущиеся со всех
концов в Рим, чтобы проявить там свое действие как власть. Фаустов¬
ское денежное мышление «открывает» целые континенты, водную
энергию колоссальных бассейнов, мускульную силу населения отда¬
^ С. 805.
Фермер — это человек, которого связывает с участком земли лишь практическое
отношение.
Всевозрастающая напряженность этого мышления дает о себе знать в экономиче¬
ской картине как нарастание наличной денежной массы, которая, как нечто совершенно
абстрактное и воображаемое, не имеет со зримыми запасами золота как товара абсолют¬
но ничего общего. Так, например, «застой на рынке денег» — чисто духовный процесс,
разыгрывающийся в головах чрезвычайно малого числа людей. Поэтому растущая энер¬
гия денежного мышления порождает во всех культурах ощущение, что «цена денег пада-
^ так, к примеру, в грандиозных масштабах, т. е. по отношению к единице счета, это
имело место в период времени от Солона до Александра. На самом же деле единицы сче-
т*> применяемые в деловой сфере, сделались чем-то искусственным, так что теперь они
абсолютно несравнимы с переживаемыми первичными стоимостями крестьянского хо¬
зяйства. Не имеет в конечном счете никакого значения, в каких единицах происходит
подсчет, идет ли речь о сокровищнице Аттического союза на Делосе (454), мирных дого-
°рах с Карфагеном (241, 201), а потом — добыче Помпея (64), как и то, не перейдем ли
Ь1 через несколько десятилетий от неизвестных еще ок. 1850 г., а теперь совершенно за¬
рядных миллиардов — к триллионам. Отсутствует какой бы то ни было масштаб для
г°, чтобы сравнивать стоимость таланта в 430 и 30 гг., ибо золото, как и корова и хлеб,
менило не только свою числовую стоимость, но и значение в рамках продвигающейся
Лие^>ед городской экономики. Продолжает сохранять значимость лишь тот факт, что ко-
слеССТВ0 денег’ смешивать которое с запасом платежных знаков и средств платежа не
^ет> является alter ego [второй натурой (лат.)] мышления.
952
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ленных ландшафтов, каменноугольные залежи, девственные леса,
природные законы и превращает их в финансовую энергию, которая
будет где-то приложена, чтобы реализовать планы правителей, в виде
прессы, выборов, бюджета и армии. Все новые ценности — эти «дрем¬
лющие духи золота», как говорит Йун Габриэль Воркман757 , — извле¬
каются из пока еще индифферентного в деловом плане содержания
мира; все, чем являются вещи помимо и сверх этого, экономически
никак не учитывается.
4
У всякой культуры — как собственный способ мыслить деньгами,
так и характерный именно для нее символ денег, с помощью которого
она зримо выражает в экономической картине собственный принцип
оценки. Это «нечто», материализация существовавшего в мышлении,
оказывается абсолютно равным по значимости цифрам, фигурам и
другим математическим символам — проговариваемым, выписывае¬
мым, вычерчиваемым для уха и глаза, и при этом данная глубокая и бо¬
гатая сфера остается почти совершенно неисследованной. Поэтому се¬
годня все еще невозможно описать ту идею денег, которая лежит в
основе египетского натурального обращения и денежного жирооборо¬
та, вавилонского банковского дела, китайской бухгалтерии и капита¬
лизма евреев, парсов, греков, арабов со времен Гаруна ар-Рашида. Воз¬
можно лишь одно противопоставление аполлонических и фаустовских
денег: денег как величины и денег как функции*.
Античному человеку окружающий мир представляется, также и в
плане экономическом, суммой тел, переменяющих место, перемеща¬
ющихся, оттесняющих, выталкивающих, уничтожающих друг друга,
как описывает это Демокрит применительно к природе. Человек —
тело среди прочих тел. Полис, как сумма тел, представляет собой тело
более высокого порядка. Все вообще жизненные потребности образо¬
ваны телесными величинами. Так что тело воплощает собой и деньги,
точно так же как статуя Аполлона воплощает божество. Ок. 650 г. одно¬
временно с каменным телом дорического храма и статуей, пролеплен-
ной как свободная со всех сторон, возникает монета — кусочек металла
определенного веса в изящно отчеканенной форме. Стоимость как ве¬
личина присутствовала здесь уже давно: она одного возраста с данной
культурой. У Гомера под «талантом» понимается небольшое количест¬
во золотой утвари и украшений, образующих определенный суммар¬
ный вес. На щите Ахилла были изображены «два таланта»758, и еще в
римское время общепринятым было указание веса на серебряных и зо¬
лотых сосудах**.
* К нижеследующему ср. т. 1, гл. I.
** Friedlander. Sittengesch. Roms IV, 1921. S. 301.
Глава пятая. Мир форм экономической жизни
953
Однако изобретение классически оформленного денежного тела
настолько необычно, что его глубинного, чисто античного смысла мы
так и не поняли. Мы полагаем его за одно из тех самых прославленных
«достижений человечества». Повсюду с тех пор чеканят монету, точно
так же как повсюду воздвигают статуи на улицах и площадях. А что
еще остается делать? Мы можем скопировать внешний образ, однако
придать ему такое же экономическое значение мы не в состоянии.
Монета как деньги — это чисто античное явление, возможное лишь в
мыслящемся всецело эвклидовским окружении; но там она господст¬
вовала и во всей вообще экономической жизни, ее оформляя и обра¬
зуя. Такие понятия, как «доход», «имущество», «долг», «капитал»,
означают в античных городах нечто принципиально иное, нежели у
нас, поскольку под ними понимается не излучающаяся из одной точ¬
ки экономическая энергия, но совокупность находящихся в одних ру¬
ках ценных предметов. Имущество — это всегда движимый запас на¬
личности, изменяющийся за счет прибавления и вычитания ценных
предметов и не имеющий с земельной собственностью совершенно
ничего общего. В античном мышлении то и другое радикальным об¬
разом разделено. Кредит состоит в ссужении наличных денег в расче¬
те на то, что они могут быть отданы обратно в точно таком же виде.
Катилина был беден, потому что, несмотря на его значительные по¬
местья", не нашлось человека, который бы доверил ему наличные де¬
ньги для политических целей; и колоссальные долги римских полити¬
ков" имеют в качестве обеспечения не соответствующую земельную
собственность, но вполне определенные виды на провинцию^ движи¬
мые материальные ценности которой могут пойти в дело"". Лишь
мышление в телесных деньгах делает понятным целый ряд явлений:
массовые казни богачей при второй тирании и в ходе римских про¬
скрипций, с тем чтобы заполучить в свои руки большую часть нахо¬
дившихся в обращении наличных денег, переплавку в священную
войну дельфийских храмовых сокровищ фокийцами, коринфских ху¬
дожественных сокровищ — Муммием, последних римских посвяти¬
тельных приношений — Цезарем, греческих — Суллой, малоазий-
ских — Брутом и Кассием без всякого внимания к их художественной
Саллюстий. Катилина 35, 3.
**
С. 924.
***
Насколько затруднительно было античному человеку представить себе перевод в
телесные деньги такой не обособленной со всех сторон вещи, KaiTземельное владение,
показывают каменные сваи (opoi) на греческих земельных участках, которые должны
пыли изображать ипотеку, и римская покупка peraes et libram [с помощью меди и весов
Ufl/w.)], когда в присутствии свидетелей в обмен на монету из рук в руки передавался
комок земли. Вследствие этого подлинной товарной торговли здесь никогда не сущест-
°вало, как не было здесь и чего-то вроде «котировки пахотной земли». Правильное со-
ант!0Щение междУ стоимостью земли и денежной стоимостью так же немыслимо для
нтичного мышления, как и соотношение между художественной и денежной ценно-
ями. Духовные, а значит, бестелесные создания, такие, как драмы или фрески, не
меют с точки зрения экономики абсолютно никакой ценности. Относительно антич-
110 правового понятия вещи ср. с. 548.
954
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ценности, поскольку имелась нужда в благородных материалах, ме¬
таллах и слоновой кости*. Те статуи и сосуды, которые перечисляются
в связи с триумфами, были в глазах зрителей исключительно наличны¬
ми деньгами, и Моммзен мог попытаться** определить место битвы
Вара на основании находок монет, потому что римский ветеран носил
все свое имущество в благородном металле прямо на себе. Античное
богатство — это никакие не активы, а просто куча денег; античная фи¬
нансовая площадка — это не кредитный центр, как современные бир¬
жевые площадки или египетские Фивы, но город, в котором собрана
значительная часть денежной наличности всего мира. Можно предпо¬
лагать, что в эпоху Цезаря гораздо больше половины античного золота
постоянно находилось в Риме.
Когда, однако, приблизительно начиная с Ганнибала этот мир всту¬
пил в эпоху безусловного господства денег, в тех пределах, на которые
распространялась его власть, масса благородных металлов и ценных с
точки зрения материала произведений искусства, ограниченная в силу
естественных причин, была уже далеко не достаточной для покрытия
потребности в наличных средствах, так что возник настоящий волчий
голод на новые способные принести денежную отдачу тела. Тут-то и
заметили раба, который был еще одним видом тела, только не лично¬
стью, но вещью***, и потому мог мыслиться в качестве денег. Лишь на¬
чиная с этого момента и впредь античный раб оказывается чем-то со¬
вершенно небывалым во всей экономической истории. Свойства мо¬
неты оказываются перенесенными на живые объекты, а тем самым
рядом с металлической наличностью регионов, экономически «откры¬
тых» грабежами, производимыми наместниками и налоговыми откуп¬
щиками, на сцену выступает также и их людская наличность. Развива¬
ется в высшей степени своеобразный способ двойной котировки. У
раба курс есть, между тем как у земельного участка его нет. Раб служит
накоплению значительного наличного имущества, и лишь этим объяс¬
няется возникновение колоссальных масс рабов римской эпохи, кото¬
рое никакой иной потребностью не объяснить. Пока держали лишь
столько рабов, сколько требовалось для дела, их количество было не¬
значительным, и оно легко покрывалось за счет военной добычи и дол¬
гового рабства****. Лишь в VI в. Хиос завозом купленных рабов (аргиро-
Уже к эпохе Августа от античных художественных изделий из благородных ме¬
таллов и бронзы могло уцелеть лишь немногое. Даже образованный афинянин мыслил
слишком неисторично, чтобы щадить статую из золота и слоновой кости лишь потому,
что она принадлежала Фидию. Можно вспомнить, что золотые части на его знамени¬
той фигуре Афины были изготовлены съемными и время от времени их перевешивали
Так что экономическое их использование имелось в виду уже изначально.
** Ges. Schriften IV. S. 200 ff.
*** С. 522.
****
Мнение, что даже в Афинах или на Эгине рабы когда бы то ни было составляли
хотя бы треть населения, не имеет под собой абсолютно никаких оснований. Болес
того, происходящие начиная с 400 г. революции (с. 868) предполагают очень значите¬
льный перевес на стороне бедных свободных.
955
Глава пятая. Мир форм экономической жизни
нетов) положил начало работорговле. Их отличие от куда более много¬
численных наемных рабочих имело поначалу государственно¬
правовой, а не экономический характер. Поскольку античная эконо¬
мика статична, а не динамична и не знает планомерного открытия ис¬
точников энергии, в римскую эпоху рабов имели не для того, чтобы их
эксплуатировать, но их занимали, насколько могли, с тем чтобы содер¬
жать в как можно большем количестве. Предпочтительнее считалось
иметь высокоценных штучных рабов, обладавших какой-либо квали¬
фикацией, потому что при тех же затратах на содержание они представ¬
ляли более высокую стоимость; их сдавали внаем точно так же, как ссу-
живали наличные деньги; им давали самостоятельно вести дела, так
что они могли делаться богатыми"; ими сбивались расценки на свобод¬
ный труд — все делалось для того, чтобы только покрыть накладные
расходы на поддержание этого капитала"". Большинство даже невоз¬
можно было полностью занять. Они исполняли свое назначение уже
тем, что просто были в наличии как денежный резерв с объемом, не
связанным с положенными природой границами золотых запасов на
тот момент. А потому, разумеется, потребность в рабах возросла не¬
имоверно, что приводило помимо войн, предпринимавшихся лишь
ради добычи в форме рабов, еще и к охоте на рабов, которой занима¬
лись частные предприниматели вдоль всех берегов Средиземного моря
(к чему Рим относился терпимо), а также к тому новому способу при¬
обретения имущества, когда какой-либо деятель, будучи наместником,
высасывал из населения целых областей все соки, после чего продавал
этих людей в долговое рабство. На рынке на Делосе за день продава¬
лось, судя по всему, по десять тысяч рабов. Когда Цезарь отправился в
Британию, Рим, разочаровавшийся было в связи со скудными золоты¬
ми ресурсами у тамошнего народа, скоро утешился надеждой на бога¬
тую добычу в виде рабов. Когда, например, при разрушении Коринфа
статуи переливали на монету, а горожан отправляли на невольничий
рынок, для античного мышления это была одна и та же операция: в том
и другом случае телесные предметы превращались в деньги.
Крайняя противоположность этому — символ фаустовских денег, де¬
ньги как функция, как сила, чья ценность заключается в ее действии, а не
в простом наличии. Новый стиль этого экономического мышления обна¬
руживается уже в том, как ок. 1000 г. норманны организовывали в экономи¬
ческую силу свою добычу, т. е. страны и людей""". Можно сравнить чистую
" С. 945.
**
Это полная противоположность негритянскому рабству нашего барокко, пред¬
ающему собой приготовительный этап машинного производства: организация «жи-
ой» энергии, где в конце концов был осуществлен переход от людей к углю и первое
тало восприниматься аморальным лишь тогда, когда укоренилось второе. Рассмотрен-
этой стороны победа Севера в Гражданской войне в 1865 г. означает экономиче-
кУ*о победу концентрированной энергии угля над простой энергией мускулов,
ц С. 840 сл. Невозможно не заметить внутренней связи с египетской администра-
Ие” Древнего царства и с китайской — наиболее ранней эпохи Чжоу.
956 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
балансовую стоимость в бухгалтерии их герцогов, откуда и происходят
слова «чек», «конто» и «контроль»*, с современными им «золотыми та¬
лантами» «Илиады» — и мы с самого начала имеем понятие современно¬
го кредита, происходящее из доверия к силе и долговременности эконо¬
мического образа действий и почти полностью тождественное идее на¬
ших денег. Этот финансовый метод, перенесенный Роджером II в
сицилийское норманнское государство, был разработан Фридрихом 11
Гогенштауфеном в колоссальную систему, вышедшую по динамике да¬
леко за пределы собственного образца и сделавшуюся «первой капита¬
листической силой в мире»**. И между тем как этот сплав силы матема¬
тического мышления и королевской воли к власти проник из Норман¬
дии во Францию и в 1066 г. был в колоссальном масштабе применен в
сделавшейся добычей Англии (английская земля еще и сегодня номина¬
льно является королевским доменом), его позаимствовали с Сицилии
итальянские города-республики, где стоявшие у власти патриции уже
очень скоро перенесли его из общинного бюджета в собственные торго¬
вые книги, а тем самым в купеческое мышление и счетоводство всего за¬
падного мира. Немногим позже сицилийская практика была перенята
немецкими рыцарскими орденами и арагонской династией, к чему,
быть может, и следует возводить образцовое испанское счетоводство
при Филиппе II и прусское при Фридрихе Вильгельме I.
Решающим, однако, явилось произошедшее «одновременно» с
изобретением античной монеты ок. 650 г. изобретение фра Лукой
Пачоли760 двойной бухгалтерии (1494). «Вот одна из чудеснейших
выдумок человеческого духа», — говорит Гете в «Вильгельме Мей-
стере»761. И в самом деле, ее создателя смело можно поставить бок о
бок с его современниками Колумбом и Коперником. Норманнам мы
обязаны счетоводством, ломбардцам — этой бухгалтерией. Это гер¬
манские племена создали оба наиболее многообещающих труда в об-
***
ласти права времени ранней готики , и их страстный порыв в оке¬
анские дали дал импульс обоим открытиям Америки. «Двойная бух¬
галтерия родилась из того же духа, что система Галилея и Ньютона...
Теми же средствами, что и та, упорядочивает она явления в искус¬
ную систему, и ее можно назвать первым космосом, построенным на
принципах механического мышления. Двойная бухгалтерия откры¬
вает нам космос экономического мира с помощью тех же методов,
которыми позднее откроют космос мира звезд великие естествоис¬
пытатели... Двойная бухгалтерия основывается на последовательно
С. 841. Clerici в этих счетных палатах являются прообразом современных банков¬
ских служащих (англ, clerk).
Натре. Deutsche Kaisergeschichte. S. 246. Великий Гогенштауфен покровительст¬
вовал Леонардо Пизано, чья «Liber abaci»”9 (1202) сохраняла свой высокий авторитет в
деле купеческого счетоводства еще много лет после Возрождения. Это Пизано помимо
арабской цифровой системы ввел еще отрицательные числа для дебета.
1лава пятая. Мир форм экономической жизни
957
проведенном фундаментальном принципе: постигать все явления
исключительно как количества»*.
Двойная бухгалтерия есть чистый анализ пространства стоимостей,
соотнесенного с координатной системой, точкой отсчета в которой яв¬
ляется «фирма». Античная монета допускала лишь арифметическое ис¬
числение с величинами стоимости. Здесь вновь друг другу противостоят
Декарт и Пифагор. Можно говорить об «интегрировании» предприя¬
тия, а графическая кривая является наглядным вспомогательным сред¬
ством в равной степени в экономике и в науке. Античный экономиче¬
ский мир, как космос Демокрита, расчленен на материю и форму. Ма¬
терия в форме монеты является носителем экономического движения
и оттесняет равные по стоимости величины потребности к месту их ис¬
пользования. Наш экономический мир членится на силу и массу. Сило¬
вое поле денежных напряжений простирается в пространстве и при¬
сваивает каждому объекту, абстрагируясь от конкретного его вида, по¬
ложительную или отрицательную эффективную величину**,
изображаемую посредством бухгалтерской записи. «Quodnon est in lib-
ris, non est in mundo»762. Однако символом мыслящихся здесь функцио¬
нальных денег, тем, что только и возможно поставить рядом с антич¬
ной монетой, является не запись в книге, а также не вексель, чек или
банкнота, но акт, посредством которого функция оказывается выпол¬
ненной в письменном виде, чисто историческим свидетельством чего яв¬
ляется ценная бумага в широчайшем смысле.
Но в то же время пребывавший от античности в оцепенелом изумле¬
нии Запад чеканил монету, и не только как знаки суверенитета, а буду¬
чи в уверенности, что это-то и есть несомненные деньги, реально соот¬
ветствующие его экономическому мышлению. Точно так же еще в эпо¬
ху готики было перенято римское право с его отождествлением вещи и
телесной величины и эвклидова математика, построенная на понятии
числа как величины. В этом причина того, что развитие этих трех вели¬
ких духовных миров форм происходило не так, как мира фаустовской
музыки, через чистое самораскрытие и расцвет, но в виде последовате¬
льной эмансипации от понятия величины. Математика достигла своей
Цели уже к концу барокко***. Правоведение так до сих пор и не уяснило
подлинной своей задачи****, однако на нынешнее столетие она постав¬
лена, причем в форме, настоятельно требующей решения. Итак, необ¬
ходимо достичь того, что было самоочевидно для римских юристов, т.
е. внутренней конгруэнтности экономического и правового мышления
Sombart. Der modeme Kapitalismus II. S. 119.
Близкородственным нашей картине сущности электричества является процесс
^клиринга», при котором положительная или отрицательная денежная позиция неско-
^ ких фирм (центров напряжения) выравнивается с помощью чисто мысленного акта и
сЛНн°е состояние оказывается символически представленным с помощью бухгалтер-
'“'Кой^записи. Ср.,т. 1, гл. VI.
т 1. гл. I.
С. 549.
958 Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
и равного знакомства с тем и другим. Символически изображаемое мо¬
нетой понятие денег полностью совпадает с духом античного вещного
права; для нас же это ни в малейшей степени не так. Вся наша жизнь
устроена динамически, а не статически и не стоически; поэтому суще-
ственный для нас момент — это момент силы, достижения, взаимосвя¬
зи, способности (организаторский талант, дух изобретательства, кре¬
дит, идеи, методы, источники энергии), а не простое существование
телесных вещей. Поэтому «римское» вещное мышление наших юрис¬
тов так же чуждо жизни, как и теория денег, сознательно или бессозна¬
тельно основанная на физических деньгах. Правда, тот громадный за¬
пас монеты, который мы, подражая античности, постоянно умножали
вплоть до начала мировой войны, фактически начал играть роль, кото¬
рую сам же себе в стороне от столбовой дороги и создал, однако с внут¬
ренней формой современной экономики, ее задачами и целями у него
нет абсолютно ничего общего, и исчезни он вследствие войны из обра¬
щения окончательно, совершенно ничего не изменится*.
К несчастью, современная политическая экономия возникла в эпо¬
ху классицизма, когда не только статуи, вазы и чопорные драмы было
принято считать единственным подлинным искусством, но и изящно
отчеканенные монеты — единственными настоящими деньгами. К
чему начиная с 1768 г. со своими нежно тонированными рельефами и
чашками стремился Веджвуд763, к тому же, вообще говоря, устремился
именно тогда и Адам Смит со своей теорией стоимости: чистое нали¬
чие осязаемых величин. Ибо когда стоимость вещи измеряется величи¬
ной трудозатрат, это всецело соответствует путанице между деньгами и
деньгами физическими. «Труд» здесь — это уже не действие внутри
мира действий, труд как таковой, который, продолжая жить во все бо¬
лее отдаленных кругах, бесконечно различен по внутреннему достоин¬
ству, напряженности и дальнодействию и может быть измерен, но не
выделен, подобно электрическому полю. Нет, труд у Адама Смита —
это представляемый совершенно материально результат действия, вы¬
работка, осязаемое нечто, в котором невозможно заметить ничего до¬
стойного внимания, кроме именно объема.
Кредит страны основывается в нашей культуре на ее потенциальной экономиче¬
ской отдаче и политической организации последней, придающей финансовым опера¬
циям и записям в бухгалтерских книгах характер действительного «деньготворчества».
а не на сложенной где-либо золотой массе. Лишь подражающее античности суеверие
возвышает золотой резерв до реального показателя кредита, потому что его величина
зависит теперь не от желания, но от умения. Находящиеся же в обращении монеты яв¬
ляются товаром, имеющим свой курс, соотносящийся с кредитом государства: чем
хуже кредит, тем выше поднимается золото, вплоть до момента, когда оплатить его не¬
возможно и оно исчезает из обращения, так что теперь его оказывается возможным по¬
лучить лишь за другие товары. Так что золото, как и всякий товар, измеряется в едини¬
цах бухгалтерского учета, а не наоборот, как на то намекает выражение «золотой стан¬
дарт», и в случае небольших платежей служит иной раз их средством, как бывают им
при случае и почтовые марки. В Египте, денежное мышление которого поразительно
напоминает западное, в Новом царстве тоже не было ничего, что бы хоть как-то напо¬
минало монеты. Письменного перевода бывало совершенно достаточно, и с 650 г. до
эллинизации, произошедшей в связи с основанием Александрии, попадавшие в страну
античные монеты, как правило, разрубались и учитывались как товар, по весу.
f/iaea пятая. Мир форм экономической жизни 959
Однако в полную противоположность этому экономика европей¬
ско-американской цивилизации строится на таком труде, который ха¬
рактеризуется исключительно своим внутренним достоинством — в
большей степени, чем это было когда-либо в Китае и Египте, уж не го¬
воря об античности. Не напрасно мы живем в мире экономической ди¬
намики: труд единиц оказывается здесь не по-эвклидовски суммируе¬
мым, но возрастает в функциональной взаимозависимости. Исключи¬
тельно исполнительский труд, который только и учитывается Марксом,
является не более чем функцией изобретательского, упорядочивающе¬
го, организующего труда, только и придающего всему прочему смысл и
относительную стоимость, создающего саму возможность того, что тот
будет выполнен. После изобретения паровой машины вся мировая
экономика представляет собой творение очень небольшого числа вы¬
дающихся умов, без высокоценного труда которых ничего прочего
просто не было бы, однако их отдача — это творческое мышление, а не
«количество»*, и его денежный эквивалент выражается, таким обра¬
зом, не в некотором числе дензнаков, но это и есть деньги, а именно
фаустовские деньги, которые не чеканятся, но мыслятся в качестве
центров действия, будучи базированными на жизни, внутренний ранг
которой возвышает мысли до значения фактов. Мышление деньгами по¬
рождает деньги: вот в чем тайна мировой экономики. Если организа¬
тор большого стиля пишет на бумаге: «миллион», — этот миллион уже
имеется, ибо сама личность этого человека в качестве экономического
центра служит ручательством соответствующего повышения экономи¬
ческой энергии его области. Именно это, а не что-то иное означает для
нас слово «кредит». Однако всех золотых монет на свете не хватило бы
на то, чтобы придать смысл, а значит, и денежную стоимость деятель¬
ности занятого ручным трудом рабочего, когда бы со знаменитой «экс¬
проприацией экспроприаторов»764 выдающиеся способности оказа¬
лись бы удалены из собственных творений, вследствие чего те лиши¬
лись бы души и воли, сделавшись пустой скорлупой. В этом Маркс
классицист, как и Адам Смит, и настоящий продукт римского право¬
вого мышления: он видит лишь фиксированную величину, но не функ¬
цию. Он желал бы отделить средства производства от тех, чей дух — че¬
рез изобретение технологий, организацию высокопроизводительных
предприятий, завоевание сфер сбыта — только и превращает груду ста¬
льных ферм и кирпичей в фабрику, которая никогда бы не возникла,
когда бы их силы не нашли себе приложения**.
Так что для нашего вещного права его вплоть до настоящего времени не сущест¬
вует.
**
Предположим, рабочие взяли управление заводом в свои руки: от этого не изме¬
нится ровным счетом ничего. Одно из двух: они оказываются ни на что не способны, и
°гда все погибает; или же они что-то могут — тогда они сами делаются предпринима¬
ема внутренне и помышляют лишь о том, как утвердить свое могущество. Никакая
е°рия не в состоянии отменить этот факт: так уж устроена жизнь.
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
960
Тому, кто желает создать теорию современного труда, следует по¬
мнить об этом основополагающем моменте всей жизни вообще: в любом
образе жизни существуют объекты и субъекты, и различие тем выпуклее,
чем значительнее, чем оформленнее жизнь. Всякий поток существова¬
ния состоит из меньшинства вождей и большинства ведомых, а значит,
всякая экономика — из труда руководящего и исполнительского. Призем¬
ленному взгляду765 Маркса и социалистических идеологов вообще виден
лишь последний, мелкий, массовый труд, однако он появляется исклю¬
чительно как следствие первого, и дух этого мира труда может быть по¬
нят лишь исходя из высших возможностей. Меру задает изобретатель
паровой машины, а не кочегар. Мышление — вот что важно.
Точно так же есть субъекты и объекты в мышлении деньгами: те, кто
их в силу свойств своей личности создает и ими управляет, и те, кто
ими поддерживается. Деньги фаустовского стиля — это абстрагирован¬
ная от экономической динамики фаустовского стиля сила, так что во¬
прос судьбы единичного человека, экономическая сторона его жиз¬
ненной судьбы: воплощает ли он собой благодаря внутреннему рангу
своей личности некую часть этой силы или же оказывается по отноше¬
нию к ней всего лишь массой.
5
Слово «капитал» обозначает центр этого мышления: не совокупность
стоимостей, но то, что поддерживает их как таковые в движении. Капита¬
лизм возникает лишь с наличием цивилизации, связанной с мировыми
столицами, и он ограничивается чрезвычайно узким кружком тех, кто во¬
площает в себе это существование своей личностью и интеллигенцией.
Противоположность ему — провинциальная экономика. Лишь безуслов¬
ное господство в античной жизни золотой монеты, а также политическая
сторона этого порождают статический капитал, афорр.г) [отправной пункт,
начало, имущество (грен.)], «исходную точку», само существование кото¬
рой посредством некоего рода магнетизма притягивает к себе все новые
массы вещей. Лишь господство балансовой стоимости, абстрактная сис¬
тема которой оказывается через двойную бухгалтерию словно бы отде¬
ленной от личности, а в силу внутренней динамики продолжает действо¬
вать самостоятельно, произвело на свет современный капитал, силовое
поле которого охватывает всю Землю*.
Лишь начиная с 1770 г. банки как кредитные центры становятся экономической
силой, которая на Венском конгрессе впервые начинает вмешиваться в политику.
Прежде банкир занимался по преимуществу учетом векселей. У китайских и даже еги¬
петских банков иное значение, а античные банки, в том числе и в Риме Цезаря, следо¬
вало бы назвать скорее кассами. Они собирали налоговые поступления в наличных де¬
ньгах и ссуживали наличные деньги в обмен на компенсацию; так, «банками» стано¬
вятся храмы с их запасами металлов в виде посвятительных даров. Храм на Делосе сто¬
летиями ссуживал под 10%766.
всемирно-исторические перспективы
961
Под действием античного капитала экономическая жизнь принимает
форму потока золота, текущего из провинций в Рим и обратно и отыски¬
вающего все новые области, запасы обработанного золота которых пока
еще не «открыты». Брут и Кассий привели на поле битвы под Филиппами
длинные караваны, груженные золотом малоазиатских храмов (становит¬
ся понятно, какой доходной экономической операцией могло стать раз¬
грабление лагеря после битвы!), и уже Гай Гракх отмечал, что наполнен¬
ные вином амфоры, отправлявшиеся из Рима в провинции, возвраща¬
лись обратно полными золотом. Этот поход за золотыми владениями
чужеземных народов всецело соответствует сегодняшней охоте за углем,
который по сути является вовсе не «вещью», но запасом энергии.
Античному тяготению ко всему близкому и нынешнему соответст¬
вует, однако, и то, что идеалом полиса становится экономический идеал
автаркии. Политической атомизации античного мира должна была со¬
ответствовать атомизация экономическая. Каждая из этих крошечных
жизненных единиц желала иметь собственный и полностью замкну¬
тый в себе самом экономический поток, который бы циркулировал не¬
зависимо от всех прочих, причем непосредственно в поле зрения. Край¬
ней противоположностью этому является западное понятие фирмы —
мыслимый абсолютно безлично и нетелесно центр сил, действие кото¬
рого распространяется во все стороны в бесконечность; ее «владелец» в
силу своей способности мыслить деньгами ее не олицетворяет, но ею
обладает как неким малым космосом и ее направляет, т. е. имеет ее в
своей власти. Такая двойственность фирмы и владельца оказалась бы
для античного мышления абсолютно непредставимой .
По этой причине западная и античная культуры означают соответ¬
ственно максимум и минимум организации, само понятие которой у ан¬
тичного человека полностью отсутствовало. Его финансовое хозяйст¬
во — сплошь делавшиеся правилом временные меры: на богатых граж¬
дан в Афинах и Риме возлагается снаряжение военных кораблей;
политическое могущество римского эдила и его долги возникают отто¬
го, что он не только устраивает игры, проводит дороги и строит здания,
но и платит за это, разумеется, имея впоследствии возможность взять
свое грабежом провинций. Об источниках поступления задумывались
лишь тогда, когда возникала в них нужда, и к ним тут же, без всякого
предварительного размышления прибегали, как диктовала потреб¬
ность, даже если вследствие этого источники уничтожались. Повсед¬
невными финансовыми методами были ограбление собственных хра¬
мовых сокровищниц, пиратство в отношении кораблей собственного
города, конфискация имущества сограждан. Если имелись излишки,
Их делили между гражданами, чему, к примеру, обязан своей славой в
Афинах Эвбул". Еще не было ни бюджета, ни чего-то напоминающего
Понятие фирмы сформировалось уже в позднеготическое время как ratio или пе-
50 iati0y и оно не может быть передано никаким словом на языках античности. Negotium
начало для римлянина конкретный процесс («обделать дело», а не «иметь» его).
Pdhlmann V. Griech. Gesch. S. 216 f.
^ Закат Западного
мира
962
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
экономическую политику. «Ведёние хозяйства» в римских провинциях
оказывалось общественной и частной хищнической эксплуатацией ре¬
сурсов, которой занимались сенаторы и богачи, нисколько не задумы¬
ваясь о том, могут ли вывезенные ценности быть восполнены и как это
могло бы произойти. Античный человек никогда не помышлял о пла¬
номерном наращивании экономической жизни, но ориентировался
лишь на мгновенный результат, доступное количество наличных де¬
нег. Без Древнего Египта императорский Рим погиб бы: здесь, по сча¬
стью, находилась цивилизация, на протяжении тысячелетия не по¬
мышлявшая ни о чем, кроме организации своей экономики. Римлянин
такого образа жизни не понимал и не был в состоянии ему подражать*,
однако то случайное обстоятельство, что здесь струился неисчерпае¬
мый источник денег для того, кто обладал политической властью над
этим феллахским миром, сделало ненужным введение проскрипций в
обычай. Последняя такая протекавшая в форме резни финансовая опе¬
рация имела место в 43 г.**, незадолго до присоединения Египта. Масса
золота, которую привезли тогда из Азии Брут и Кассий, масса, означав¬
шая армию, а тем самым — власть над миром, сделала необходимым
объявление вне закона 2000 богатейших жителей Италии, чьи головы,
чтобы получить назначенное вознаграждение, тащили в мешках на фо¬
рум. Никто не мог удержаться и никто не щадил даже родственников,
детей и стариков, людей, никогда не занимавшихся политикой, если у
них был запас наличных денег. Иначе результат был бы слишком не¬
значителен.
Однако с исчезновением античного мироощущения в раннеимпе¬
раторскую эпоху угасает также и этот способ мышления деньгами. Де¬
нежные монеты снова становятся товаром, поскольку жизнь вновь де¬
лается крестьянской***, и этим объясняется происходивший начиная с
* Gercke-Norden. Einl. in die Altertumswiss. III. S. 291.
**
Kromayr в Hartmann. Rom. Gesch. S. 150.
Римляне были «евреями» той эпохи (с. 711 сл.). Напротив того, евреи были тогда
крестьянами, ремесленниками, мелкими производителями (Parvan. Die Nationalist dei
Kaufleute im romischen Kaiserreich, 1909; также Mommsen. Rom. Gesch. V. S. 471), т. e. они
обращались к занятиям, сделавшимся в готическую эпоху объектом их торговых опера¬
ций. В том же положении находится сегодня «Европа» по отношению к русским, чья
всецело мистическая внутренняя жизнь воспринимает мышление деньгами как грех.
(Странник у Горького в «На дне» и весь вообще мир идей Толстого — с. 651, 734.) Здесь
сегодня, как в Сирии во времена Иисуса, простираются один поверх другого два эконо¬
мических мира (с. 651 слл.): один — верхний, чужой, цивилизованный, проникший с За¬
пада, к которому, как подонки, принадлежит весь западный и нерусский большевизм
первых лет после революции; и другой — не ведающий городов, живущий в глубине сре¬
ди одного лишь «добра», не подсчитывающий, а желающий лишь обмениваться своими
непосредственными потребностями. К лозунгам, оказывающимся на поверхности, надо
относиться как к голосам, в которых простому русскому, занятому всецело своей душой,
слышится воля Божья. Марксизм у русских покоится на ревностном непонимании. Вы¬
сшую экономическую жизнь петровской Руси здесь только терпели, но не создавали ее и
не признавали. Русский не борется с капиталом, нет: он его не постигает. Кто вчитается
в Достоевского, предощутит здесь юное человечество, для которого вообще нет еще ни¬
каких денег, а лишь блага по отношению к жизни, центр тяжести которой лежит не со
стороны экономики. «Ужас прибавочной стоимости», доводивший многих перед войной
до самоубийства, представляет собой непонятое литературное обличье того факта, что
fjiaea пятая. Мир форм экономической жизни
963
Адриана колоссальный отток золота далеко на Восток, никакого объ¬
яснения чему до сих пор предложено не было. Экономическая жизнь в
форме потока золота угасла под натиском юной культуры, и потому де¬
ньгами перестали быть также и рабы. Бок о бок с отливом золота про¬
исходит массовый отпуск рабов на свободу, который невозможно было
сдержать ни одним из многочисленных императорских законов, при¬
нимавшихся начиная с Августа, а при Диоклетиане, знаменитые мак¬
симальные тарифы которого уже вообще не относились к денежной
экономике, но представляли собой регламентацию обмена товарами,
античного раба как типа более не существует.
II. Машина
6
Техника ничуть не младше свободно движущейся в пространстве
жизни как таковой. Лишь растение, как видится нам это в природе,
представляет собой просто арену технических процессов. Животное,
поскольку оно передвигается, обладает также и техникой движения, с
тем чтобы себя поддерживать и защищаться.
Изначальное отношение между бодрствующим микрокосмом и его
макрокосмом {«природой») состоит в ощупывании чувствами*, которое
восходит от простого воздействия на чувства к чувственному суждению,
а потому действует уже критически («различая»}, или, что то же самое,
действует, каузально разлагая. Установленное** дополняется до воз¬
можно более полной системы изначальных единиц опыта — «опозна-
вательных знаков» . Таков спонтанный метод, с помощью которого
существо обживается в своем мире, и у многих животных он создал по¬
разительную полноту опыта, которую никакое человеческое естество¬
приобретение денег с помощью денег является для не знающего городов мышления в
«добре» кощунством, а если его переосмыслить исходя из становящейся русской рели¬
гии, — грехом. Между тем как города царского режима приходят сегодня в упадок и люди
обитают в них словно в деревне, под тонкой коркой мыслящего по-городскому, стреми¬
тельно исчезающего большевизма происходит и освобождение от экономики. Апокалип¬
тическая ненависть (господствовавшая также в эпоху Иисуса и в простом иудействе по
отношению к Риму) направилась против Петербурга не только как города-местопребы¬
вания политической власти западного стиля, но и как центра мышления в западных де¬
ньгах, отравившего жизнь и направившего ее по ложному пути. Сегодня глубинной Ру¬
сью создается пока еще не имеющая духовенства, построенная на.Евангелии Иоанна тре¬
тья разновидность христианства, которая бесконечно ближе к магической, чем фаустов¬
ская* и потому основывается на новой символике крещения, а поскольку она удалена от
^има и Виттенберга, то в предчувствии новых Крестовых походов она заглядывается че¬
рез Византию на Иерусалим. Занятая исключительно этим, Русь снова смирится с запад-
н°й экономикой, как смирились с римской экономикой древние христиане, а христиане
гуппси — с еврейской, однако внутренне она в ней больше не участвует. (К этому
С* Ь51 слл., 697, 734, 752, прим. 1).
964
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
знание превзойти неспособно. Однако изначальное бодрствование —
неизменно деятельное бодрствование, далекое от всякой чистой «тео¬
рии», так что тем, из чего непредумышленно извлекаются эти опыты,
причем почерпаемые из предметов, поскольку они неживые, оказывает¬
ся мелкая техника повседневности*. Вот чем культ отличается от
мифа**, ибо на данной ступени никакой границы между религиозным и
профанным не существует. Всякое бодрствование есть религия.
Решающий поворот в истории высшей жизни происходит тогда, когда
установление природы (чтобы по ней определяться) переходит в ее оста-
навливание, посредством которого она намеренно изменяется. Тем самым
техника приобретает, так сказать, суверенитет и инстинктивный пра-
опыт переходит в пра-знание, отчетливым «сознанием» которого мы обла¬
даем. Мышление эмансипировалось от ощущения. Эпоха эта создается
исключительно словесным языком. Посредством отделения языка от
речи ** для языков сообщения возникает запас знаков, представляющих
собой нечто большее, чем опознавательные знаки, а именно — связанные
с ощущением значения имена, с помощью которых человек имеет в своей
власти тайну numina, будь то божества или природные силы, и числа (фор¬
мулы, законы простейшего рода), с помощью которых внутренняя форма
действительного абстрагируется от чувственно-случайного ***.
Тем самым из системы опознавательных знаков возникает теория,
картина, которая — как на вершинах цивилизованной техники, так и в ее
примитивном начале — выделяется из техники повседневности, посколь¬
ку это период бездеятельного бодрствования вызвал ее к жизни (а не нао¬
борот)*** . Человек «знает», чего хочет, однако многое должно произойти,
чтобы это знание возникло, и относительно истинного характера этого
«знания» обманываться ему не следует. С помощью числового опыта че¬
ловек способен властвовать767 над тайной, однако раскрыть он ее не рас¬
крыл. Образ современного волшебника: работник, стоящий у распреде¬
лительного щита с его рубильниками и надписями и с помощью этого
щита простым движением руки вызывает к существованию колоссальные
действия, не имея об их сущности ни малейшего понятия, — есть символ
человеческой техники вообще. Картина светомира вокруг нас, как мы
разработали ее — критически, аналитически, как теорию, как картину, —
есть именно такой щит, на котором определенные вещи обозначены так,
что за прикосновением к ним непременно следуют определенные дейст¬
вия. Тайна, однако, остается не менее гнетущей******. И тем не менее по¬
****
*****
С. 488.
С. 725.
С. 594.
С. 724 сл.
С. 726 сл.
«Верность» физических познаний, т. е. их пока что не опровергнутая приложи¬
мость в качестве «истолкования», абсолютно никак не связана с их технической ценно¬
стью. Несомненно ложная и сама по себе кишащая противоречиями теория может ока¬
заться более ценной для практики, чем «правильная» и глубокая, и физика уже давно
остерегается применять слова «ложный» и «верный» в их расхожем значении к своим
картинам, а не просто к формулам.
f/шва пятая. Мир форм экономической жизни 965
средством этой техники бодрствование насильственно вторгается в мир
фактов; жизнь пользуется мышлением как волшебным ключиком и на
вышине многих цивилизаций, в ее больших городах, наступает в конце
концов момент, когда технической критике прискучивает служить жизни
и она становится ее тираном. Именно сейчас западная культура в подлин¬
но трагическом масштабе переживает настоящую оргию этого разнуздан¬
ного мышления.
Человек подсмотрел ход природы и подметил знаки. Он начинает
им подражать с помощью средств и методов, использующих законы
космического такта. Человек отваживается играть роль божества, так
что делается понятным, почему на самых ранних изготовителей и
знатоков этих искусственных вещей (ибо искусство возникло здесь
как противоположность природе), и прежде всего на хранителей куз¬
нечного мастерства, окружающие взирали как на что-то необычное,
их с робостью почитали или отвергали. Возник постоянно растущий
запас таких находок, которые неоднократно совершались и забыва¬
лись снова: им подражали, их избегали и улучшали, пока наконец
для целых стран света не возник некий запас само собой разумеющих¬
ся средств — огонь, металлообработка, инструменты, оружие, плуг и
корабль, домостроение, животноводство и разведение злаков. И
прежде всего металлы, на месторождения которых первобытного че¬
ловека манит жутковатое мистическое тяготение. Древнейшие торго¬
вые пути проходят к хранившимся в тайне залежам руды сквозь
жизнь заселенной земли и по вспененному носами кораблей морю, и
позднее по ним же перемещаются культы и орнаменты; в памяти со¬
храняются легендарные названия, такие, как «Оловянные острова»768
и «Золотая земля». Пра-торговля — это торговля металлами: так в
производящую и перерабатывающую экономики проникает третья,
чуждая и авантюристическая, свободно блуждающая повсюду.
И на этом-то основании возникает теперь техника высших культур, в
ранге, окраске и страсти которой выражается вся целиком душа этих ве¬
ликих существ. Вряд ли нужно кого-то убеждать в том, что уже сама идея
техники враждебна античному человеку с его эвклидовским ощущением
окружающего мира. Если мы станем ждать от античной техники реши¬
тельного и целеустремленного развития и преодоления общераспрост¬
раненных навыков еще микенской эпохи, то никакой античной техники
в природе не существует*. Триеры — всего лишь увеличенные гребные
лодки, катапульты и онагры заменяют руки и кулаки и не идут ни в ка¬
кое сравнение с ассирийскими и китайскими военными машинами, а
что касается Герона и других подобных ему людей античности, то у них
имелись лишь отдельные идеи, а не изобретения. Повсюду здесь недо-
*
То, что собрано Дильсом в его «Античной технике»769, представляет собой обсто-
3 ельное ничто. Если откинуть отсюда то, что принадлежит еще вавилонской цивили-
илиИ’ Как солнечные и водяные часы, или уже арабскому раннему времени, как химия
оск ^Ло-часы в Газе770, или такие вещи, что уже простая ссылка на них явилась бы
л^Рблением любой другой культуры, как виды дверных запоров, не остается абсо-
^тно ничего.
966
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
стает внутренней весомости, полноты судьбы данного момента, глубо¬
кой необходимости. Там и сям совершается игра со знаниями (и прав¬
да, почему бы нет?), приходившими наверняка с Востока, однако ни¬
кто на это не обращает внимания, а самое главное — никто не
помышляет о том, чтобы всерьез ввести их в жизнетворчество.
Чем-то в совершенно ином роде оказывается фаустовская техника, уже
на заре готики со всей страстью третьего измерения напирающая на приро¬
ду, чтобы ее одолеть. Здесь, и только здесь, самоочевидна связь между узре-
нием и реализацией*. С самого начала теория оказывается рабочей гипоте¬
зой*. Античный мудрователь «созерцает», как аристотелевское божество,
арабский, как алхимик, отыскивает волшебное средство, философский ка¬
мень, с помощью которого можно будет без труда овладеть сокровищами
природы***, западный желает управлять миром по своей воле.
Фаустовский изобретатель и первооткрыватель уникален в своем
роде. Первозданная мощь его воли, светоносная сила его озарений, не¬
сокрушимая энергия его практического размышления должны показа¬
ться всякому, кто смотрит на них из чужих культур, чем-то жутким и
непонятным, однако все это заложено у нас в крови. У всей нашей ку¬
льтуры — душа первооткрывателя. Открыть то, чего не видно, вовлечь
это в светомир внутреннего зрения, чтобы этим овладеть, — вот что с
самых первых дней было ее наиболее неуемной страстью. Все ее вели¬
кие изобретения медленно зрели в глубине, возвещались и опробова¬
лись опережавшими свое время умами, с тем чтобы в конце концов с
неизбежностью судьбы вырваться наружу. Все они были уже очень
близки блаженному мудрствованию раннеготических монахов****. Если
где-либо религиозное происхождение всякого технического мышле¬
ния заявляет о себе с полной отчетливостью, так это именно здесь
Эти вдохновенные изобретатели в своих монастырских кельях, кото¬
рые меж молитвами и постами отвоевывали у Бога его тайны, воспри¬
нимали свое дело почти как богослужение. Здесь и возник образ Фаус¬
та, великий символ подлинной изобретательской культуры. Начинает¬
ся scientia experimental is111 (как впервые определил естествознание
Роджер Бэкон), этот ведущийся с пристрастием допрос природы при
помощи рычагов и винтов, результатом чего являются простирающие¬
ся перед нашим взором равнины, уставленные фабричными трубами и
* Китайская культура сделала едва ли не все те же изобретения, что и западноевро¬
пейская, в том числе компас, подзорную трубу, книгопечатание, порох, бумагу, фар¬
фор, однако китаец кое-что выманивает у природы лаской, он ее не насилует. Он впол¬
не ощущает преимущества своего знания и ими пользуется, однако он не набрасывает¬
ся на них, чтобы эксплуатировать.
С. 761.
Тот же самый дух определяет различие между понятием предпринимательства
для еврея, парса, армянина, грека, араба и тем же понятием у западных народов.
С. 760. Альберт Великий продолжал жить в преданиях как великий волшебник.
Роджер Бэкон обдумывал паровую машину, пароход и самолет. (Strunz. Gesch. der Na-
turwiss. im Mittelalter. S. 88.)
f/iaea пятая. Мир форм экономической жизни 967
копрами шахт. Однако над всеми этими людьми нависает и подлинно
фаустовская опасность того, что к этому приложил свою лапу черт*,
чтобы отвести их духовно на ту гору, где он пообещает им все земное
могущество. Это и означает мечта такого необычного доминиканца,
каким был Петр Перегрин, о перпетуум мобиле, с помощью которого
Бог лишился бы своего всемогущества. То и дело они оказывались
жертвой своего тщеславия: они вырывали у божества его тайны, что¬
бы самим стать Богом. Они подсматривали законы космического так¬
та, чтобы его изнасиловать, и так они создали идею машины как мало¬
го космоса, повинующегося воле одного только человека. Однако тем
самым они переступили ту незаметную границу, за которой на взгляд
молитвенного благочестия прочих начинался грех, и потому они были
обречены, от Бэкона772 и до Джордано Бруно. Машина — от дьявола:
подлинной верой это неизменно только так и воспринималось.
Страсть к изобретательству обнаруживает уже готическая архитекту¬
ра, которую можно было бы сопоставить с намеренной бедностью форм
дорической архитектуры, а также вся наша музыка. Появляются книго¬
печатание и огнестрельное оружие *. За Колумбом и Коперником следу¬
ют подзорная труба, микроскоп, химические элементы и, наконец, ко¬
лоссальный заряд технологических процессов раннего барокко.
Однако тут же, под боком у рационализма, изобретается паровая ма¬
шина, которая производит полный переворот и радикально изменяет кар¬
тину экономики. До этого времени природа оказывала человеку услуги,
теперь же она, как рабыня, впрягается в ярмо, и труд ее, как бы в насмеш¬
ку, оценивается в лошадиных силах. От мускульной силы негров, исполь¬
зовавшейся на организованных предприятиях, мы перешли к органиче¬
ским резервам земной коры, где в форме угля сберегаются жизненные
силы тысячелетий, а сегодня взгляд обращается к неорганической приро¬
де, водная энергия которой уже привлекается на подмогу энергии угля.
Миллионы и миллиарды лошадиных сил обеспечивают возможность та¬
кого роста численности населения, о котором никакая другая культура не
могла и помышлять. Этот рост является продуктом машины, которая же¬
лает, чтобы ее обслуживали и ею управляли, а за это стократно умножает
силы каждого. Ради машины ценной становится и человеческая жизнь.
« Труд» делается великим словом в этических размышлениях. В XVIII в. он
лишается презрительного оттенка на всех языках. Машина трудится и вы¬
нуждает к сотрудничеству людей. Культура взошла на такой уровень дея¬
тельности, что под нею трясется земля.
То, что разыгралось ныне едва за столетие, являет собой такое ко¬
лоссальное зрелище, что людей будущей культуры, которые будут об¬
ладать иной душой и иными страстями, охватит ощущение, что сама
природа в этот час содрогнулась. Бывало и прежде, что политика
С. 743 сл.
«Греческий огонь» был рассчитан лишь на то, чтобы устрашать и поджигать;
Dbe°b Же Сила сжатия взрывных газов преобразуется в энергию движения. Тот, кто все-
рьез Их сравнивает, не понимает духа западной техники.
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
968
победно шествовала по городам и весям, человеческая экономика глу¬
боко вторгалась в судьбы мира животных и растений, однако это каса¬
лось одной лишь жизни, впоследствии вновь изглаживаясь без следа.
Но эта техника оставит по себе следы своего существования даже и тог¬
да, когда все прочее разрушится и исчезнет, ибо эта фаустовская
страсть изменила облик поверхности Земли.
Еще на заре паровой машины в монологе Гетева Фауста773 обрело
выражение устремленное вперед и взлетающее вверх и именно в силу
этого глубоко родственное готике жизненное ощущение. Опьяненная
душа желает подняться над пространством и временем. Неизъяснимое
томление манит в безграничные дали. Хочется отделиться от земли,
раствориться в бесконечности, освободиться от телесных оков и парить
в мировом пространстве, среди звезд. То, чего искал вначале пламенно
взмывший вверх душевный жар св. Бернара, что замышляли Грюне¬
вальд и Рембрандт на задних планах своих полотен и Бетховен в незем¬
ных звуках своих последних квартетов, вновь возвращается к нам в про¬
низанной духом горячке этой плотной чреды изобретений. Потому и
является на свет этот фантастический транспорт, в немногие дни пере¬
секающий целые континенты, отправляющий через океаны плавучие
города, просверливающий горы, мчащийся по подземным лабиринтам,
переходящий от старинной, давно уже исчерпавшей свои возможности
паровой машины к газовой турбине и, наконец, отрывающийся от шос¬
се и рельсов и летящий по воздуху; потому и передается произнесенное
слово в мгновение ока через все океаны и континенты; потому и разго¬
рается этот честолюбивый дух рекордов и размеров, возводя эти испо¬
линские павильоны для исполинских машин, эти колоссальные кораб¬
ли и пролеты мостов, эти сумасбродные строения, достающие до обла¬
ков, собирая в одной точке эти баснословные силы, покорные даже
детской руке, возводя эти стучащие, дрожащие, гудящие цеха из стекла
и стали, по которым крошечный человек идет как самодержный власте¬
лин, ощущая в конце концов, что поднялся выше самой природы.
И машины эти делаются все более обезличенными по своему образу,
становятся все аскетичнее, мистичнее, эзотеричнее. Они опоясывают
Землю бесконечной тканью тонких сил, потоков и напряжений. Их тела
становятся все духовнее, все безмолвнее. Эти колеса, цилиндры и рыча¬
ги больше не разговаривают. Все самое важное прячется внутрь. Маши¬
на воспринималась как что-то дьявольское, и не напрасно. В глазах ве¬
рующего человека она означает ниспровержение Бога. Она с головой
выдает священную каузальность человеку и молчаливо, неодолимо, в
некоего рода предвидящем всезнании приводится им в движение. 77
Никогда еще микрокосм не ощущал большего превосходства над
макрокосмом. Вот крохотные живые существа, посредством своей ду¬
ховной силы сделавшие неживое от себя зависимым. Сколько можно
Глава пятая. Мир форм экономической жизни
969
судить, это бесподобный триумф, удавшийся лишь одной культуре и,
быть может, только на ограниченное число столетий!
Однако именно в силу этого фаустовские люди сделались рабами
своего творения. Их численность и все устройство образа жизни оказа¬
лись вытеснены машиной на такой путь, на котором невозможно ни
остановиться хоть на миг, ни отступить назад. Крестьянин, ремеслен¬
ник и даже купец оказались вдруг чем-то малозначительным рядом с
тремя фигурами, которых вывела на свет и воспитала в ходе своего разви¬
тия машина: предпринимателем, инженером, фабричным рабочим. Из со¬
вершенно незначительной ветви ремесла — перерабатывающей эконо¬
мики — в одной этой культуре, и ни в какой другой, выросло могучее дере¬
во, отбрасывающее тень на все прочие занятия: мир экономики машинной
индустрии . Он принуждает к повиновению как предпринимателей, так
и фабричных рабочих. Оба они рабы, а не повелители машины, лишь те¬
перь раскрывающей свою дьявольскую тайную власть. Однако если со¬
временной социалистической теории угодно видеть вклад лишь послед¬
него, так что она настойчиво прилагает слово «труд» только к нему одно¬
му, то ведь возможным он делается лишь вследствие суверенного и
решающего вклада первого. Знаменитые слова о «крепкой руке», спо¬
собной остановить все колеса, фальшивы в принципе. Остановить — да,
способна, однако для этого не надо быть рабочим. Поддержать враще¬
ние колес — нет. Организатор и управляющий оказывается средоточием
этого искусственного и усложненного машинного царства. Это мысль
поддерживает его единство, а не рука. Однако именно поэтому оказыва¬
ется, что еще одна фигура имеет колоссальное значение для поддержа¬
ния этого постоянно угрожаемого здания в порядке. Фигура эта куда
значимее, чем вся энергия властительных предпринимателей, энергия,
заставляющая города расти, как грибы после дождя, и изменяющая кар¬
тину ландшафта. Это инженер, наделенный знанием жрец машины, о
котором, как правило, забывают в пылу политической борьбы. Не толь¬
ко высота подъема, но само существование индустрии зависит от суще¬
ствования сотни тысяч одаренных, строго вышколенных умов, господ¬
ствующих над техникой и постоянно развивающих ее дальше. Инже¬
нер — вот кто ее негласный повелитель и судьба. Его мысль в
возможности оказывается тем, чем является машина в действительно¬
сти. Высказывались опасения, вполне материалистические по духу, от-
Маркс абсолютно прав: это есть порождение буржуазии, причем порождение са¬
мое надменное, однако он, пребывавший в своих рассуждениях всецело под обаянием
схемы Древний мир — Средневековье — Новое время, не заметилгчто той буржуазией,
от которой зависит судьба машины, была буржуазия одной-единственной культуры. По¬
скольку же она властвует на Земле, всякий неевропеец пытается постичь тайну этого
чудовищного оружия, однако внутренне он, несмотря на это, его отвергает — японец и
индус точно так же, как русский и араб. В самих глубинах магической души заложено
то> что еврей как предприниматель и инженер сторонится самого создания машин и
сосредоточивается на деловой стороне их производства. Однако также и русский со
страхом и ненавистью взирает на эту тиранию колес, проводов и рельсов, и если сегод-
1151 и в ближайшем будущем он с такой неизбежностью мирится, то когда-нибудь он со¬
трет все это из своей памяти и своего окружения и создаст вокруг себя совершенно дру-
Го® мир, в котором не будет ничего из этой дьявольской техники.
970
Том 2. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
носительно исчерпания залежей каменного угля. Однако пока есть тех¬
нические следопыты высокого уровня, никакие опасности в таком роде
нам не грозят. Лишь когда никто не придет на смену этой армии, чей
мыслительный труд образует внутреннее единство с трудом машин, про¬
мышленность будет обречена на угасание, несмотря на сохраняющееся
предпринимательство и рабочих. Если предположить, что наиболее да¬
ровитые люди будущих поколений сочтут спасение души делом более
важным, чем вся власть мира сего, что под влиянием метафизики и мис¬
тики, приходящих сегодня на смену рационализму, именно духовную
элиту, от которой все и зависит (а это есть шаг от Роджера Бэкона к Бер¬
нару Клервосскому), охватит всевозрастающее ощущение сатанизма
машины, ничто не отсрочит конца этого великого спектакля, являюще¬
гося игрой ума, в которой руки могут лишь помогать.
Западная индустрия перенаправила древние торговые пути прочих
культур. Потоки экономической жизни устремляются к чертогам, в ко¬
торых обитает «царь Уголь», и к великим сырьевым регионам; природа
исчерпывается, земной шар приносится в жертву фаустовскому мыш¬
лению энергией. Земля трудящаяся — вот фаустовский ее аспект, и у
нее на глазах умирает Фауст второй части, в которой предпринимате¬
льская работа изведала высшее свое просветление774. Нет на свете ни¬
чего, что было бы в большей степени противоположно покоящемуся,
ублаготворенному бытию античной императорской эпохи. Это инже¬
нер дальше всего удален от римского правового мышления, и он до¬
бьется того, что его экономика утвердится в своих правах, где силы и
достижения занимают место личности и вещи.
8
Однако столь же титаническим оказывается и натиск на эту духов¬
ную силу со стороны денег. Индустрия, как и крестьянство, все еще
привязана к земле. У нее имеется свое местоположение и свои вытека¬
ющие из почвы источники веществ. Лишь мир высших финансов со¬
вершенно свободен, совершенно неуловим. Благодаря потребности в
кредитах, которую испытывала чудовищно разросшаяся индустрия,
банки, а с ними и биржи развились начиная с 1789 г. в самостоятельную
силу, и они желают, точно так же как деньги во всех цивилизациях,
быть единственной силой. Изначальная борьба между создающей и за¬
воевывающей экономикой возвышается здесь до безмолвной испо¬
линской схватки, происходящей в духовном плане на аренах мировых
столиц. Это отчаянная борьба технического мышления за сохранение
свободы по отношению к денежному*.
Эта колоссальная борьба чрезвычайно малого числа несгибаемых людей расы,
обладающих чудовищной силы рассудком, — борьба, которой простой горожанин не
видит и в которой ничего не смыслит, если взглянуть на нее со стороны, т. е. с точки
зрения всемирно-исторической перспективы, способна совершенно обессмыслить чи-
Глава пятая. Мир форм экономической жизни
971
Диктатура денег продвигается вперед и приближается к своей есте¬
ственной высшей точке, как в фаустовской, так и во всякой другой ци¬
вилизации. И здесь свершается нечто такое, что может постигнуть
лишь тот, кто проник в сущность денег. Если бы они были чем-то ося¬
заемым, их существование было бы вечным; но поскольку они являют¬
ся формой мышления, они угасают, стоит им продумать экономиче¬
ский мир до конца, причем угасают вследствие отсутствия материи. Де¬
ньги проникли в жизнь крестьянской деревни и привели в движение
почву; они по-деловому переосмыслили все виды ремесла; сегодня они
победно наседают на промышленность, чтобы в равной мере сделать
своей добычей производительный труд предпринимателей, инженеров
и исполнителей. Машине с ее человеческой свитой, настоящей госпо¬
же столетия, угрожает опасность пасть жертвой еще более мощной
силы. Однако тем самым деньги подходят к концу своих успехов и на¬
чинается последняя схватка, в которой цивилизация принимает свою
завершающую форму: схватка между деньгами и кровью.
Появление цезаризма сокрушает диктатуру денег и ее политическое
оружие — демократию. После долгого торжества экономики мировых
столиц и ее интересов над силой политического формообразования
политическая сторона жизни доказывает-таки, что она сильнее. Меч
одерживает победу над деньгами, воля господствовать снова подчиня¬
ет волю к добыче. Если называть власть денег капитализмом*, а социа¬
лизмом — волю к тому, чтоб вызвать к жизни мощный, возвышающий¬
ся над всеми классовыми интересами политико-экономический поря¬
док, систему благородного попечения и долга, удерживающую все в
целом в стабильной форме для решающих битв истории, это будет в то
же самое время и борьба между деньгами и правом \ Частные силы эко¬
номики желают торных дорог для завоевания ими колоссальных иму-
ществ. Никакое законодательство не должно стоять у них на пути. Они
желают создавать законы в своих интересах и с этой целью пользуются
созданным ими же самими орудием — демократией, оплаченной пар¬
тией. Чтобы отбить этот натиск, право нуждается в благородной тради¬
ции, в честолюбии крепких родов, находящем удовлетворение не в на¬
коплении богатств, но в решении задач подлинного героизма, запреде¬
льных всяким денежным выгодам. Силу может ниспровергнуть только
другая сила, а не принцип, и перед лицом денег никакой иной силы не
существует. Деньги будут преодолены и упразднены только кровью.
Жизнь — начало и конец всего, космический ток в микрокосмической
СТУЮ борьбу интересов, происходящую между предпринимательством и рабочим соци¬
ализмом. Рабочее движение есть то, что из него делают его вожди, и ненависть против
15х» кто руководит промышленностью, уже давно поставила его на службу бирже,
практический коммунизм с его уж давно устаревшим и теперь фальшивым лозунгом
«классовой борьбы» представляет собой не что иное, как надежного слугу крупного ка¬
питала, который прекрасно умеет им пользоваться.
К чему относится также и политика интересов рабочих партий, ибо они желают
е преодолеть денежную стоимость, но ею владеть.
С. 807.
972 Том 2 ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
форме. Вот факт внутри мира как истории. Все, что возвело бодрство¬
вание в своих духовных мирах, в конце концов исчезает, яко дым, от
лица неодолимого такта последовательности поколений. Жизнь, и то¬
лько жизнь, имеет значение в истории, жизнь и раса, и торжество воли
к власти, а никак не победа истин, изобретений или денег. Всемирная
история — это всемирный суд: она всегда принимала сторону более си¬
льной, более полной, более уверенной в себе жизни; «принимала сто¬
рону» в том смысле, что давала ей право на существование вне зависи¬
мости от того, была ли та права с точки зрения бодрствования, и она
всегда приносила истину и справедливость в жертву силе и расе, приго¬
варивала к смерти тех людей и те народы, которым истина была важнее
деяний, а справедливость — важнее власти. Так завершается спектакль
высшей культуры, весь этот удивительный мир божеств, искусств,
идей, сражений, городов, снова приходя к первичным фактам вечной
крови, тождественной с вечно циркулирующими космическими пото¬
ками. Яркое, богатое образами бодрствование снова уходит вглубь,
становясь на безмолвную службу существованию, как говорят об этом
императорские эпохи, китайская и римская; время одерживает победу
над пространством, и время есть то, чей неумолимый ход утверждает в
случайности человека на этой планете мимолетную случайность куль¬
туры, форму, в которой какое-то время протекает случайность жизни,
между тем как на заднем плане в светомире нашего зрения раскрыва¬
ются текучие горизонты истории Земли и истории звезд.
Однако тем самым для нас, кого судьба поместила в эту культуру в тот
миг ее становления, когда деньги празднуют свою последнюю победу, а
цезаризм, их наследник, приближается безостановочно и неспешно,
оказывается — посредством узко очерченного круга — заданным на¬
правление и нашей воли, и нашего долга, без которых и жить-то не име¬
ет смысла. У нас нет свободы достичь того, другого, третьего, есть лишь
свобода свершить необходимое или же нет. А та задача, что поставлена
исторической необходимостью, разрешится в любом случае — будь то
при участии каждого отдельно взятого человека или же ему наперекор.
Ducuntfata volentem, nolentem trahunt715.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ОТ ПЕРЕВОДЧИКА
Интересна судьба книги О. Шпенглера в России. В начале 20-х гг.,
после ее выхода в Германии, интерес к ней был необыкновенно
велик. Достаточно сказать, что начали публиковаться сразу два
перевода: Н.Ф. Гарелина и перевод под редакцией А.А. Франков-
ского. Однако в первом случае вышел лишь 1-й том, а во втором
опубликовано и того меньше: только его половина. Ленина привел
в ярость выход сборника «Освальд Шпенглер и закат Европы» (М.,
1922), в который вошли статьи Ф.А. Степуна, С.Л. Франка, Н.А.
Бердяева и Я.М. Букшпана. Последовала расправа, которую при¬
нято связывать как раз с этим сборником: ок. 200 заподозренных в
нелояльности к советской власти ученых с семьями были загруже¬
ны на пароход и отправлены в эмиграцию. Второго же тома при¬
шлось ждать еще 75 лет.
Также и то, что оба тома труда Шпенглера переведены наконец
одним переводчиком, имеет свою историю и происходило непро¬
сто. Работа была начата со 2-го тома, переведенного мной в 1997 г.
для издательства «Мысль», где он и вышел в 1998 г. (как сказано,
через 75 лет после выхода 1-го тома в России и через 5 лет после
публикаций в «Мысли» перевода К.А. Свасьяна, сделанного уже с
исправленного автором издания 1-го тома). В конце 2001 г. издате¬
льство «Айрис-пресс» обратилось ко мне с предложением о пере¬
издании. Одцако поскольку издавать один том без другого невоз¬
можно, естественным образом возник и вопрос о новом переводе .
О такой возможности я мечтал давно, издательство также привет¬
ствовало новый перевод, и за 2002 г. мне удалось его осуществить.
Надо сказать, работе над этим томом помогало теперь уже гораздо
На данный момент мне известны два перевода 1-го тома: К.А. Свасьяна (изд.
«Мысль») и неизвестногомне переводчика С.Э.Бо-рича, изданный в Белоруссии (в ны¬
нешних переизданиях, осуществляемых изд. «АСТ» в одном томе, его имя исчезло из
выходных данных). Выходившие в изд. «Искусство» и в Ростове-на-Дону перепечатки
первого тома не могли здесь рассматриваться, поскольку воспроизводят перевод
Н.Ф. Гарелина (М.; Пг.,1923), выполненный с предыдущего издания книги, впоследст¬
вии очень сильно переработанного автором. Следует сказать, что хотя непосредственно
при переводе 1-го тома я не заглядывал в перевод К.А. Свасьяна, он очень мне помог
пРи подготовке текста к печати: сверка с ним помогла избежать ряда пропусков и не¬
скольких ошибок.
976 Приложение
более глубокое знакомство с автором и особенностями его стиля и
языка. Было, однако, обстоятельство, чрезвычайно мешавшее ра¬
боте. Именно, в августе 2001 г. я возглавил учреждавшуюся тогда в
Москве на Арбате «Библиотеку истории русской философии и ку¬
льтуры "Дом А.Ф. Лосева"»*.
Приступая в августе 2002 г. к подготовке к печати 2-го тома, я рас¬
считывал на легкую пробежку по уже знакомому тексту. Не тут-то
было. Выяснилось, что помимо изменившегося взгляда на многие
вещи, а также отсутствия необходимости оглядываться на «чужой» 1-й
том (это придало мне большую свободу, но развязало руки для прав¬
ки), в прежнем издании 2-го тома имелось много ошибок и промахов
и элементарных пропусков (к счастью, небольших: чаще всего это
слово, но попадались и фразы в одну строку), ответственность за ко¬
торые я как переводчик целиком принимаю на себя. Итак, мне при¬
шлось заново сверить весь перевод с текстом оригинала, и правка в
отдельных случаях оказалась весьма значительной. Надо сказать, не
везде она была уточняющей, а во многих случаях имела вкусовой ха¬
рактер. Таким образом, в случае 2-го тома читатель держит в руках
действительно «пересмотренное, исправленное и значительно улуч¬
шенное 2-е издание»**. * 23Вероятно, не без желания заступиться за философов перед Шпенглером, кото¬
рый писал (1-й том, Введение, § 15): «Переводя взгляд с людей такого калибра на со¬
временных философов, испытываешь стыд. Какая мелкотравчатость личности! Какая
заскорузлость политического и практического поля зрения! Почему уже одно простое
представление о том, что кому-то из них выпало доказывать свою духовную значимость
в качестве государственного деятеля, дипломата, организатора большого масштаба,
управляющего каким-либо мощным колониальным, торговым или же транспортным
предприятием, вызывает прямо-таки жалость?» (Впрочем, тогда я с этими словами зна¬
ком не был.) [Дополн. к переизданию 2009 г. Библиотеку можно посетить, она открылась
23 сентября 2004 г., через 3 месяца после моего ухода, и успешно работает (сайт:
http://www.losev-library.ru).]
Перевод 2-го тома изначально делался по изданию «Der Unter-gang des Aben-
dlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte» von Oswald Spengler. Erste bis
fiinfzehnte Auflage. Miinchen, 1922, а затем при подготовке к изданию был исполь¬
зован современный текст («Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morpholo¬
gie der Weltgeschichte» von Oswald Spengler. Miinchen, [1990]). Теперь же я пользо¬
вался исключительно последним изданием, лишь в сомнительных случаях обраща¬
ясь к изданию 1922 г. Кстати говоря, в современном переиздании, притом что не¬
которые опечатки изданий 20-х гг. здесь исправлены, оказалось непомерно много
новых опечаток: вплоть до того, что в оглавлении вместо «религия» (Religion) сто¬
ит «революция» (Revolution)! Кроме того, теперешнее издание (его готовила Хиль-
дегард Корнхардт, племянница Шпенглера) отличается от прижизненных пере¬
смотром дат египетской истории по всему труду Шпенглера. Пересмотр осуществ¬
лен на основе современных исследований, сдвижка произошла в сторону «омола¬
живания» дат и, таким образом, некоторого «уплотнения» египетской хронологии
(ведь конец ее установлен вполне незыблемо). Надо сказать, этот пересмотр толь¬
ко порадовал бы самого Шпенглера, поскольку с теми датами, которыми распола¬
гал он, египетская история оказывалась чересчур растянутой для его концепции.
X. Корнхардт оговорила свои поправки в «Предуведомлении», предпосланном ею
Таблицам, следующим сразу за авторским Введением, а кроме того, в двух случаях
она расширила на несколько слов авторские примечания к тексту. Во всех трех
случаях текст X. Корнхардт заключен в квадратные скобки, в конце его поставле¬
ны инициалы [X. К.].
Приложение
977
Кроме того, в отличие от предыдущего издания 2-го тома (разуме¬
ется, это касается и издаваемого впервые 1-го), здесь перевод иноя¬
зычных выражений внесен в квадратных скобках непосредственно в
текст. Это соответствует принципам издательства, с которыми я впол¬
не согласен, поскольку так гораздо удобнее для читателя. Примечания,
оставшиеся в конце книги, были частично пересмотрены и уточнены
(в частности, удалось разыскать ряд цитат), а кроме того, сделано не¬
сколько новых.
При составлении примечаний я руководствовался следующими
принципами. Цель примечаний — прежде всего прокомментировать
исторические реалии, которыми изобилует книга. Сделать это исчер¬
пывающим образом, конечно, невозможно, и не всегда в этом есть
необходимость. В первую очередь комментировались такие предме¬
ты, факты, исторические личности и термины, для понимания кото¬
рых читателю пришлось бы обращаться к редкой и разнохарактерной
литературе. О некоторых малоизвестных деятелях и фактах написано
несколько подробнее.
Вторая задача примечаний — в установлении связей между томами
сочинения Шпенглера. Поскольку к одному предмету, истории чело¬
вечества, автор подходит с разных сторон: в первом томе — на матери¬
але искусства и науки, а во втором — на материале политики и рели¬
гии, во 2-м томе было сделано много ссылок на 1-й, чтобы обратить
внимание читателя на возникающие между ними параллели. Кроме
того, во многих случаях ссылки на 1-й том необходимы для уяснения
содержания 2-го.
Примечания к 1-му тому имеют в принципе те же цели, что и
ко 2-му, однако не столь подробны. Шпенглер работает здесь гораз¬
до более крупными мазками, не вдаваясь в скрупулезную детали¬
ровку, и соответственно потребность в примечаниях возникает го¬
раздо реже.
Осталось еще сказать о переводе заглавия труда Шпенглера «Der
Untergang des Abendlandes». Буквально это означает «Закат Запада»,
что отдает тавтологией, либо «Гибель Запада», что слишком уж апо-
калиптично. В России сложилась традиция переводить эти слова
как «Закат Европы», что прямо противоречит концепции автора:
никакой общеевропейской культуры нет в природе (есть в крайнем
случае западноевропейская), на данном ландшафте существовали
но крайней мере две культуры, античная и фаустовская . Кроме
т°го, в понятие «Запада» автор включал также и США с Японией,
связывая с ними все характерные особенности фаустовской культу-
РЫЛЪэтому я решился порвать с традицией: в конце концов, не
т Так, Шпенглер пишет: «Слово "Европа" вообще следовало бы вычеркнуть из ис-
§ Рии. Никакого "европейца" как исторического типа не существует» (т. 1, Введение,
3 ’ нрим.). Ср., что пишет на тему перевода заглавия К.А. Свасьян в изд.: Шпенглер О.
dKaT Европы. М.: Мысль, 1993 (репр. 1998). Т. 1. С. 634-635.
978
Приложенщ
столь уж она древняя, и перевести заглавие как «Закат Западного
мира»: не столь броско, но, по моему мнению, достаточно живопис¬
но, а главное, более правильно.
В заключение выражаю глубокую благодарность Виктору Петро¬
вичу Троицкому, который любезно взял на себя труд просмотреть еще
достаточно сырые I и VI главы 1-го тома с математической точки зре¬
ния и сделал ряд ценных замечаний.
МИР - ЭТО ДУХ
Моим родителям
Tempora mutantur, et nos mutamur in illis.
Лотарь I
У Бога чудес много.
Народная мудрость
1
Русские упились пространством, но не дивятся ему и не пугаются.
Даже хорошо, что от Империи отпали самые населенные и освоенные
области: идея России, торжествующей над физическим пространством,
стала еще чище. Эти практически пустые и малопригодные для прожи¬
вания людей территории от Урала до Берингова пролива — прекрасное
олицетворение космического пространства, осваивать которое, продви¬
гаясь «от звезды до звезды» , глупо и отдает дурной бесконечностью.
Смысл Русской революции Освальд Шпенглер усматривает в том, что
страна освободилась от пут официального богословия: «Чего следует
ожидать от будущей России теперь, когда — именно в решающем для
нее столетии — препятствие в виде ученой ортодоксии оказалось смете¬
но? » (т. 2, с. 734). Очень важно, что для Шпенглера такое освобождение
России — это ни в коем случае не уход от христианства. Он пишет: «Хри¬
стианство Достоевского принадлежит будущему тысячелетию» (т. 2, с.
653). «Что за христианство произойдет некогда из этого мироощуще¬
ния?» (т. е. в России, с. 753, прим.). «Сегодня глубинной Русью создает¬
ся пока еще не имеющая духовенства, построенная на Евангелии Иоанна
третья разновидность христианства, которая бесконечно ближе к маги¬
ческой, чем фаустовская, и потому основывается на новой символике
крещения (т. 2, с. 962, прим.). Так вот, ныне мы, преодолев пространство
внешнее, можем заняться исследованием внутреннего пространства, и в
этом как раз и будет состоять главная идея нашей культуры.
Когда в сентябре 1918 г. I том труда Шпенглера увидел свет (2-й том
вышел в 1922 г.), академическая наука * бросилась его оспаривать, от-
Процитированные места вполне недвусмысленно характеризуют Шпенглера как
Менно христианского мыслителя, на что принято закрывать глаза.
Впрочем, человек, так саркастически отзывавшийся об этой самой науке (см.,
впяРИМСр’ т‘ с* 805—808, один из самых блестящих и смешных пассажей в книге),
РЯД ли мог ждать поблажки от ее служителей.
980 Приложение
стаивая сразу две взаимоисключающие позиции. С одной стороны, у
выдвинутой концепции отыскались до полутора сотен родителей, как
здравствующих, так и давно умерших, от араба Ибн-Хальдуна до рус¬
ского Данилевского, у которых Шпенглер якобы и позаимствовал свои
идеи. С другой, принялись оспаривать фактологическую сторону тру ¬
да, автора стали обвинять в ошибках, передержках и сознательных ис¬
кажениях*. Ясно, что правота одних исключала правоту других. Вернее,
неправы были оба лагеря. Однако больше всего автора огорчило непо¬
нимание. Он-то полагал, что открыл «истину, ясную как солнце», но ее
здесь не увидели. Не зря в предисловии к переизданию он пишет, что
для понимания действительно новых мыслей «необходимо... причем
не только в данном случае, но и в истории идей вообще, новое поколе¬
ние, которое уже явилось бы на свет с нужными задатками» . Однако то,
что Шпенглера не поняли, исполнено глубокого смысла. Не новое по¬
коление ему было нужно, но люди новой культуры. Ибо его книга как
раз и представляет собой утверждение тезиса о невозможности понять
не только чужую культуру, но и собственную, находясь внутри нее: все
в ней слишком привычно, так что невозможно себе представить, чтобы
когда-нибудь стало (или было) по-другому.
Что главное в труде Шпенглера? Вовсе не апокалиптические пред¬
сказания, которые прежде всего усмотрела в ней публика и которым
книга и обязана своим шумным успехом. Громких и грозных прорица¬
ний конца здесь нет. Да и пессимист ли тот, кто скажет собеседнику:
«Друг мой, через сто лет нас с тобой не будет на свете» ?
Главное же здесь то, что не только мир рождает человека, но и чело¬
век рождает мир (это называется мировосприятие) — ив нем живет. Но
если первое может осуществиться лишь одним способом, то у мировос¬
приятия множество разновидностей. По основным разновидностям
этих мировосприятий люди группируются в крупнейшие общности —
культуры. Таким образом, у всякой высшей (т. е. дошедшей до стадии
зрелости) культуры* свои пространство, время, число, материя — фак¬
тически, свой мир, и в этих параллельных мирах они и сосуществуют.
Поскольку же во всякой такой культуре Шпенглер усматривал призна¬
ки живого организма и несколько таких организмов уже несомненно
умерли (а еще несколько перешли в неорганическую стадию, перестав
развиваться), он предсказывал такую же судьбу и собственной культу¬
ре, за что и прослыл пессимистом.
Шпенглера могут обвинить в субъективизме и бесконечном умно¬
жении миров (сколько людей, столько и мировосприятий, а следовате¬
льно, и миров). Вопрос в том, с каких позиций будет раздаваться такая
критика. Кантианцев (для которых время и пространство — «формы
* См. об этом и вообще подробно о Шпенглере статью К.А. Свасьяна в изд
Шпенглер О. Закат Европы. М.: Мысль, 1993 (репр. 1998). Т. 1, с. 5-122, а также с. 630-
634 (об истории создания книги).
Таких Шпенглер насчитывал восемь, но, вероятно, не возражал бы против уве¬
личения (но не беспредельного, чем, пожалуй, грешит А. Тойнби) этого числа.
Приложение
981
созерцания» , заложенные в нас от природы) можно спросить, уверены
ли они, что эти формы даны человеку раз и навсегда и не способны ме¬
няться. Ведь при таком изменении форм времени и пространства мы
как раз, возможно, и получим искомые типы мировосприятия. Более
же прямолинейных и почти поголовных в наши дни (независимо от
атеизма или принадлежности к той или иной конфессии) материали¬
стов можно сначала спросить, присуще ли, по их мнению, материи раз¬
витие. Вероятнее всего последует положительный ответ: способных в
наше время ради отрицания творения мира настаивать на его неизмен¬
ности найдется немного. А поскольку время и пространство, по мате¬
риалистическим представлениям, являются атрибутами материи, не¬
лепо думать, что такое развитие (а значит, соответствующее изменение
также и времени с пространством) приостановилось как раз тогда, ког¬
да на Земле появились люди*.
Так, можно предположить, что в прежние времена структура зем¬
ных сил была иной, что и объясняет как загадку возникновения многих
сооружений (например, одна из двух балок притолоки в т. н. гробнице
Атрея близ развалин Микен весит более 120 т — примеры можно было
бы множить до бесконечности), так и их функциональность. Зачем
было возводить т. н. «циклопическую кладку» , если противник заведо¬
мо ничего не сможет поделать с камнями, весящими в десятки раз ме¬
ньше? Вывод один: эти камни тогда было гораздо легче ставить на мес¬
то, а значит, легче и разбирать. Но, получается, и пространство тогда
было иным: известно ведь, что гравитационные массы заставляют про¬
странство искривляться, но, возможно, как предполагает наука, связь
гравитации с пространством еще более фундаментальная \
*
Кстати, это произошло гораздо раньше, чем принято считать, просто не укла¬
дывающиеся в привычные представления и грозящие «ниспровержением научных
основ» находки теперь отметаются с порога (см.: Michael A. Cremo «Forbidden Archeo¬
logy», 1999, испр. и доп. изд., существует сокр. рус. перевод). Отодвигать время появ¬
ления человека на Земле почему-то было позволено только семейству Лики (ученые,
с 1924 г. занимающиеся раскопками в Западной Африке) — вероятно, потому, что
они делают это очень постепенно. [Дополн., к переизданию 2009 г. Впрочем, если мы
так много говорим о связи пространства со временем, то, постулируя изменение про¬
странства (см. следующий абзац текста), мы просто обязаны принимать во внимание
изменения в структуре времени. В таком случае, возможно, события какого-нибудь
палеогена не столь от нас далеки.}
**
Еще один пример. Все, вероятно, согласны с тем, что Земля возникла. Но если
возникла, спрашивается: менялся в процессе возникновения ее диаметр или нет? Не
сразу же она пришла к современным размерам. Однако наука исходит из постулата не¬
изменности диаметра Земли — даже в геологический период. И если допускают увели¬
чение диаметра, то делают это исключительно в рамках канто-лапласовских представ¬
лений, основанных на неизменности свойств материи. Летали в пространстве частицы,
3&тем начали слипаться (не напоминает ли это Демокрита с его крючковатыми атома-
ми?), пока не получилась Земля. Так что изменение диаметра может относиться иск¬
лючительно к изначальной стадии существования нашей планеты. А что, если неболь¬
шая по размерам «Протогея» стала раздуваться изнутри, как воздушный шар (возмож-
Но> с изменением массы, что также влияло бы на гравитационные характеристики Зем¬
ли, но можно предполагать и : неизменность массы). Так можно было бы объяснить
Разлом Пангеи на части. (Идея принадлежит не мне.)
982
Приложенщ
Менялся и сам человек. Например, в Древнем Египте люди еще не
видели солнца. Отсюда эта поразительная, упоминаемая Шпенглером
(Введение, § 4, в конце) надпись на пирамиде: «Аменемхет наблюдает
красоту Солнца» . Что удивительного в наблюдении Солнца, чтобы
специально упоминать об этом? Как раз способность видеть солнце и
выделяла фараона из прочих людей. Между прочим, в связи с упомяну¬
тыми в предыдущем абзаце «циклопическими кладками» неплохо
было бы разобраться и с великанами, которых когда-то было немало на
Земле: ведь они вполне могли помочь в их возведении (так, рассказы¬
вают о возведении Аполлоном и Посейдоном стен Трои). Впрочем, ве¬
ликаны скорее всего людьми в полном смысле слова не были, но вот уж
человекообразными их точно назвать можно.
Коснусь еще одного момента. Именно, мы понимаем, что помимо
Бога на свете много других высших сущностей. Некоторые из них со¬
путствуют отдельным людям, другие же, более могущественные и воз¬
вышенные, ведают отдельными народами, еще более великие — целы¬
ми культурными общностями*. Вот и будем исходить из того, что как
раз ц участие в судьбе народа или культуры данного заступника и опре¬
деляет их лицо, набор характерных для них черт с (в том числе, естест¬
венно, и мировосприятие, о котором {идет речь). Это есть, так сказать,
«замысел Бога» о данном народе. Такие соображения позволяют раз¬
решить вопрос о мнимой изоляции отдельных народов и культур: по¬
мимо самоценности, всякая культура и всякий народ необходимы, по¬
скольку все они играют в общем замысле свою роль. Так, и великие
американские культуры, и экваториальные африканские, которые, ка¬
жется на первый взгляд, ни на что не «повлияли» (ср. т. 2, с. 514—521),
были все же необходимы.
Таким образом, по Шпенглеру, вынесенное в эпиграф изречение
короля Лотаря следует понимать буквально. Не только время внутри
каждой культуры течет, но и «времена меняются» , т. е. у греков было
одно время, у магической (арабской) культуры — другое, а у людей ку¬
льтуры западной — третье.
Впрочем, это все в прошлом. Однако книга Шпенглера написана
ради будущего. Ее пафос — в том, чтобы предупредить и подсказать
тем, от кого что-то зависит, чтб можно и нужно делать, чтобы избе¬
жать катастроф и продлить покойную старость западного мира. Тем не
менее катастрофа наступила — как Вторая мировая война (на Первую
От*метим, что данные утверждения нисколько не противоречат I тому, что гово-
рит Шпенглер, у которого местами страницы усыпаны ( упоминаниями «души» , в том
числе и «души народа» , и «души культуры» . А где душа — там стоящий за ней храни-
тель. Ведь у нас нет оснований сомневаться в том, что Шпенглер понимал душу буква¬
льно, как некоторую сущность, а не усматривал в ней просто метафору. Полагаю, к
этом смысле и следует понимать его рассуждения о «воздействии ландшафта» на лю¬
дей (см. т. 2, с. 577). Возможно, говорить о том, что это за сущности и какое именно со¬
держание вкладывает Шпенглер в слово «душа» , ему мешало то самое «благоговение
перед тайной, Гётево благоговение » (Предисловие к переизданию), да и предосудите¬
льность рассуждений в таком роде в глазах большинства.
Приложение
983
Щпенглер при всем желании повлиять не мог: она началась как раз тог¬
да, когда он уже работал над книгой). Ради чего велась война? Россий¬
ская империя распалась сама, без войны, а побежденные в войне Гер¬
мания и Япония так. и продолжают оставаться самыми могуществен¬
ными державами в мире, уступая только США.
Это что касается Запада. Теперь о России. Для тех, кто впервые
приступает к чтению книги, скажем, что в книге Шпенглера она за¬
нимает особое место, как единственный ландшафт, на котором в 3-м
тысячелетии готова появиться новая культура. Впрочем, это зависит
от того, сможем ли мы вырваться из душащих объятий псевдомор¬
фоза .
Что это означает для нас? Попытаемся рассуждать по-шпенглеров-
ски. Затруднение в том, что заранее определить, какую именно задачу
предстоит решить культуре, весьма непросто.
Итак, с чего, по Шпенглеру, начинается всякая культура? С нового
понятия пространства, времени, числа и души. Начнем с пространства.
Для античности такого понятия не существовало, в арабской культуре
оно представляет собой мировую пещеру, в фаустовской это бесконеч¬
ность межзвездных далей \ Что же остается на нашу долю? Очевидно,
только внутреннее пространство, а именно пространство души, кото¬
рое — также парадоксальным образом — должно оказаться в конце
тождественным с пространством внешним.
Если говорить о времени, оно у нас также должно быть иным. Что
же может в нем принципиально измениться? Вероятно, необрати¬
мость. Действительно, время душевного или духовного пространства
несомненно должно быть произвольно регулируемо и, вероятно, об¬
ратимо.
Мои познания в математике донельзя скудны, так что могу толь¬
ко вообразить, что если античная математика описывала материаль- ОбОб этом важнейшем для Шпенглера понятии, прежде всего и специально для
России, см. т. 2, с. 645—652. Заметим, что в этой связи можно питать достаточно се¬
рьезные опасения: наш нынешний лидер очень похож на Цезаря внешне и схожим с
ним образом старается себя вести (ночной полет на театр военных действий, вруче¬
ние оружия — кажется, холодного, что особенно показательно — на плацу и т. д.).
Похоже, людям из его окружения Россия видится частью Запада. Но беда-то в том,
что фаустовские цезари теперь не те (см. наше прим. ниже). Да и все нынешнее
Увлечение выборами как-то не для «раннего времени» . Выборы племенных вождей
проходят по иному сценарию. Теперешние же только дискредитируют власть. [До-
п°лн. к переизданию 2009 г. С выборами, действительно, обошлись просто: их пре-
вРатили в формальность. Впрочем, так избирали и Августа (но выборы племенных
вояжей не формальны). А ситуация с разделением власти стала напоминать уже
поздний Древний Рим, даже не эпоху Цезаря и Октавиана Августа: перед нами во
сей своей красе пара август и цезаръ\ Еще один шаг — и из империи получатся Вое¬
нная и Западная (с Уралом в качестве рубежа) при уже четырех правителях. Глав-
°е ~~ пРеп°Днести это как «меру, продиктованную интересами повышения эффек¬
тности власти».]
п Сейчас, заметим, в связи с учением о конечности расширяющейся Вселенной и о
cefiCT^aHCTBe как поле фаустовская концепция причудливым образом объединяет в
ру две предыдущих: закругляющаяся Вселенная до неотличимости похожа на пеще-
у» а поле, если выражаться огрубление, — это то же тело.
984 Приложение
ные тела, арабская алгебра внесла сюда определенный динамизм,
фаустовская же математика научилась описывать поля и сложней-
шие процессы, а также моделировать и-мерные пространства, то бу~
дущей русской математике суждено описывать пространство душев¬
ное. Как это будет сделано — не могу знать, да и если бы это можно
было сказать заранее, не было бы нужды в том, что будет делаться
дальше.
Что касается самой души, то, поскольку мы в нее погрузимся и,
можно даже сказать, уйдем, представления о ней должны получиться
самые конкретные и, надо полагать, адекватные. То есть какая душа
есть, такой и будем ее видеть: четырехчленной — так четырехчленной,
с чакрами — так с чакрами.
Теперь что касается людей, которые будет эту культуру создавать и
питать своей кровью*. Когда Шпенглер писал свою книгу, русское*
крестьянство еще было живо, так что вполне можно было рассчитывать
на традиционный путь развития культуры: из землеробов выделятся
аристократия и духовенство — и дальше как по писаному. Но подошел
бы такой путь для решения намеченных задач? Пожалуй, нет: посколь¬
ку задачи новые, повышенной, так сказать, духовности, то и люди для
их решения должны быть с более высокими стартовыми условиями.
Вот для того, должно быть, и уничтожил Сталин («сердце государя — в
руке Божьей») крестьян.
Так что же мы имеем в России теперь? Практически необитаемый
ландшафт между городами, питающимися нефтью и газом. И вот из
этих-то людей, на этом «материале» и будет строиться новая культура.
Ничего, Господь захочет — из камней воздвигнет детей Авраамовых.
Здесь же как-никак люди. Более того, уже сейчас наблюдаются зачатки
аристократических родов. Я говорю о мафии. Не следует удивляться: в
самом деле, людей, промышлявших с кистенем на больших дорогах
или надевавших «пояса верности» на жен, собираясь в дальний путь по
богоугодным делам, вряд ли можно было счесть приличными, тем бо¬
лее «столпами общества» ! И ничего, со временем и из них выросли
Монморанси с Ланкастерами *.
Надеюсь, только в фигуральном смысле: преимущества в оружии, которое несо¬
мненно откроет описываемая культура при продвижении в обозначенном направле¬
нии, будут столь велики, что все ныне существующие вооружения, «сверхточные» и
«сверхмощные» , можно сразу списать в утиль. Впрочем, силы зла тоже не дремлют и
могут готовить свой контрудар с неожиданного направления.
Вероятно, надо оговориться по поводу «русский» и «российский» . Русскими на¬
зывают всех выходцев из бывшей Империи, неважно, кто ты — грузин, еврей или тата¬
рин. Сами себя мы можем называть как хотим, для окружающих мы все — русские
Схожей была ситуация с римлянами: окружающим народам было недосуг разбираться,
кто перед ними — самнит, оск или этруск, а арабы до сих пор называют европейцев
«франками» .
Дополнительный аргумент в пользу того, что родной ландшафт будущей нашег
культуры — именно городской, — это растущие как грибы городские замки («Золотые
ключи» , «Воробьевы горы» , в провинции — еще свои, пониже и пожиже), в которы4
ютятся будущие бароны с герцогами, с домочадцами и челядью.
Нашим будущим крестьянам* предстоит пахать духовную ниву.
За последние триста лет она необычайно умножилась и разрослась.
В прошлые времена благодетельные пожары, нашествия и грабежи
время от времени прорежа-ли густые заросли. А теперь даже две ми¬
ровые войны, при всей разрушительной мощи оружия, все же не
смогли нанести культурному достоянию сколько-нибудь заметного
ущерба. Так что здесь действительно образовались необозримые
угодья. С теперешним же Интернетом они становятся доступными
все в большей и большей мере*. Должен найтись кто-то, кто возь¬
мется возделывать эту пустыню, выпалывать сорняки, просвещать и
нести слово Божье.
А люди для этого (те самые крестьяне) — они уже готовы или скоро
будут готовы. Не замечали, что по улицам наших городов пошла новая
порода людей? Особенно девушки — высокие, узкобедрые, тонкие и
ломкие, как былинки***. Такой вряд ли удастся родить больше одного
ребенка. Но в этом нет ничего страшного, потому что детям этим при¬
дется жить в плотно заселенном пространстве, при том что в нем ни¬
когда не бывает тесно, потому что оно способно к бесконечному рас¬
ширению. Да и другие сюда придут — всех примем.
Так пророк Шпенглер или лжепророк? Достаточно будет указать на
два факта. Полагаю, ничто бы не привело его в такой восторг, как кре¬
дитная карточка (см., что пишет он о западных деньгах, напр., на с. 996
2-го тома, есть и много других мест.****. Порадовало бы его и осуществ¬
ление прогноза насчет объединения Европы, которое, по его словам (т.
1, с. 182), «будет реализовано в XXI в. как экономический организм,
усилиями людей цезарева пошиба»*****.
Закончить хочу тем, что наверняка бы понравилось Шпенглеру.
Именно, привести слова его любимого Гете. Кажется, осуществлению
именно этого завета великого старца посвятил Шпенглер свою жизнь:
*
Вновь прекрасный промысел языка — разве можно по этому слову сказать, что
Данному человеку судьба только работать на земле? Это просто христианин, крещеный
человек, человек Креста.
Только людям, прикосновенным к истине. Но ведь и раньше не все те, кто отва-
экивался бродить по духовным мирам, возвращались из них целыми и невредимыми.
Юношей довольно много как раз малоголовых (особенно в черепной части), с
широкими, иной раз слишком мощными телами. Для духовной жатвы они явно не го-
Дчтся. Но много и других, этим девушкам под стать.
Несомненная духовность (в шпенглеровском, не в нашем смысле слова, см.
пРим. 194) компьютера также вполне бы его удовлетворила. -
Если кто примется здесь упрекать Шпенглера в неточности (где, мол, обещанные
Цезари), таким можно ответить, что речь идет о фаустовских цезарях, действующих в
ных (невидимых публике, а может, и вообще невидимых) пространствах. Покорить
®Довека физически элементарно просто, это делалось и раньше. А вот устроить так,
2^°оы в результате какой-нибудь проведенной в Лондоне или Париже трансакции за-
гали человечки где-нибудь на Ганге или Нигере (а теперь и на Сороти), да не через
исЛГОда’ а буквально в считаные минуты — на это требуется уже особое, фаустовское
оц*УССТВ0' Единственно, в чем мы можем в этой связи упрекнуть Шпенглера, это пере-
скиНКа **°ли Сесила Родса, который действовал на юге Африки как раз не по-фаустов-
и его примеру никто не последовал.
986
Приложение
Кто про три последних тыщи
Лет не приобрел понятия,
Будет темным, глупым, нищим
В повседневности объятьях.
И надо сказать, Шпенглер немало продвинул нас к тому, чтобы за¬
вет — насколько это в наших силах — осуществлялся и нами.
Февраль 2003 г. И. И. Маханъков
Стихи из «Западно-восточного дивана» , цикл «Книга досады» . По-немецки:
Wer nicht von dreitausend Jahren
Sich weifl Rechenschaft zu geben,
Bleib‘ im Dunkeln, unerfahren,
Mag von Tag zu Tage leben.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Стихотворение из цикла «Кроткие ксении», ч. VI. По-немецки:
Wenn im Unendlichen dasselbe
Sich wiederholend ewig flieBt,
Das tausendfaltige Gewolbe
Sich kraftig ineinander schlieBt;
Stromt Lebenslust aus alien Dingen,
Dem kleinsten wie dem groBten Stem,
Und alles Drangen, alles Ringen
1st ewige Ruh in Gott dem Herm.
2 «Буря и натиск» (Sturm und Drang) — романтическое направление в
немецкой литературе конца XVIII в.
3 Ср. о «переживании» наше прим. 191.
4 Подробнее о С. Родсе см. Давидсон А. Сесиль Родс и его время. М.,
1984.
5 Т. е. Цезаря.
6 Эйсангелия — в древнеаттическом праве (а также в праве ряда дру¬
гих греческих полисов) разновидность публичного иска в уголовных
Делах, а также сами процессуальные действия, следовавшие за таким
иском. Вначале были направлены против еще не встречавшихся и в
связи с этим не предусмотренных законодательством правонаруше¬
ний, однако ок. сер. IV в. до Р. X. был принят специальный «эйсангели-
ческий» закон, охвативший и обобщивший отдельные случаи. Вначале
за исполнением закона мог надзирать только ареопаг, позднее сущест-
вовало много инстанций, уполномоченных применять его в отдельных
случаях (народное собрание, Совет пятисот, архонт и др.).
g См. «Поэзия и правда», часть II, кн. 7.
9 На Монт-Венту недалеко от Авиньона.
Goethe J. W. Werke. Berlin, Aufbau-Verlag, 1970. Bd. 17- S. 583. («Пре¬
дисловие к немецкому Жиль Блазу», цитируется О. Шпенглером по па-
}уи)- Ср. Goethe J. W. Werke. Weimarer Ausgabe. 4. Abt. Bd. 11. S. 22.
Шисьмо И. Г. Майеру от 8 февраля 1796 г.).
988
Приложеные
10 Беседа с Генрихом Луденом (1780—1847), профессором филосо¬
фии и истории в Йене с 1806 г., от 19 августа 1806 г. (см.: Goethes
Gesprache. Hrsg. von W. von Biedermann. Leipzig, 1889—1896. Band 2
S. 82).
11 Здесь и чаще всего у О. Шпенглера слово «интеллигенция» означа¬
ет не социальную группу, но используется, вслед за Кантом и Фихте, в
значении «разума» или даже скорее «рассудка», хотя иногда могут име¬
ться в виду и сами носители интеллигенции (ср. т. 2, прим. 271).
12 Gepragte Form, die lebend sich entwickelt. Неоднократно цитируемая
О. Шпенглером строка из стихотворения Гёте «Демон» в «Орфических
пра-словах» (ср. с. ). О «точной чувственной фантазии» см. Goethe.
Naturwissenschaftliche Schriften. Bd 2. S. 23 f.
13 См.: прим. 737.
14 Трое берлинских профессоров (Г. фон Трейчке, Т. Моммзен,
У. фон Виламовиц-Мёллендорф) находились в остром противостоянии
с только что упомянутой базельской троицей. Ницше довольно-таки
небрежно упоминает Моммзена по имени в своих «Несвоевременных
размышлениях» (Часть 1. «Давид Штраус. Исповедник и писатель»,
§ 3), в письме же к П. Гасту от 18 июля 1880 г. он выражается более раз¬
вернуто: «Слышали ли Вы, дом Моммзена сгорел? И что уничтожены
его выписки, возможно, самый грандиозный подготовительный труд,
осуществленный современным ученым? Говорят, он бросался в огонь
снова и снова, пока его, сплошь покрытого ожогами, не пришлось
остановить силой. Вероятно, такие предприятия, как Моммзеново,
встречаются весьма нечасто, потому что колоссальная память и соот¬
ветствующее ей чутье в части критики и расположения материала та¬
кого рода воедино сходятся редко, чаще же имеют обычай друг другу
противостоять. Когда я услыхал эту историю, у меня защемило серд¬
це, и до сих пор, вспоминая об этом, я испытываю прямо-таки телес¬
ные страдания. Сочувствие ли это? Но что мне до Моммзена? Он мне
вовсе не симпатичен». Известно, что «Рождение трагедии из духа му¬
зыки» вызвало глубокое неприятие Виламовица, ответившего на ра¬
боту Ницше рецензией «Филология будущего! Опровержение «Рож¬
дения трагедии из духа музыки» Ницше». Впрочем, это отрицатель¬
ное отношение было общераспространенным почти во всем научном
мире, и здесь мало помогла блестящая отповедь, данная Виламовииу
Э. Роде.
15 Словом insula (букв.: остров) назывались в Риме кварталы доход¬
ных домов, а иногда и отдельные такие дома.
16 См.: прим. 516.
17 Беседа имела место в Эрфурте 6 октября 1808 г.. Данные слова
были сказаны в связи с возникающими в трагедиях мотивами судьбы.
что, по мнению Наполеона, следовало бы относить «к более темным
временам». Далее последовали процитированные слова. (См.: Goethes
Gesprache, ук. соч. Bd. 2. S. 222).
Приложение
989
18 Речь идет о т. н. искусстве вертикального (льянхэн) и горизонталь¬
ного (хэцзун). См.: Китайская философия. Энциклопедический сло¬
варь. С. 422 (статья «Цзунхэн цзя»), а также прим. 239.
19 Выражение без прямого упоминания Паскаля см.: Nietzsche F.
Werke in drei Banden. Hrsg. von Karl Schlechta. Munchen, 1954. Bd. 3, S.
726 (или Niet&che F. Nachgelassene Fragmente 1887—1889. Kritische Stu-
dienausgabe. Hrsg. von G. Colli und M. Montinari. Munchen, 1988. Bd.
13 — S. 339). Cp. о Паскале у Шлехты, там же, S. 686 ff. (у Монтинари
S. 27 f.).
20 букв.: «старый режим» (фр.), как правило, применительно к устрой¬
ству и нравам дореволюционной Франции.
21 Первое стихотворение вынесено в качестве эпиграфа ко всей книге
О. Шпенглера (см. прим. 1), второе — из сборника «Западновосточный
диван» (цикл «Книга певца»).
22 Запись от 13 февраля 1829 года.
23 «Живая природа» дважды упоминается в «Фаусте» (Ч. 1, «Ночь»; ч.
II, Акт III, «Тенистая роща»), в «Страданиях юного Вертера» (письмо от
18 мая), в «Письмах из Швейцарии» (часть I), в работе «Винкельман»
(раздел «Красота»), а также в письмах.
24 Кант И; Соч.: В 6 т. Т. 6. М., 1966. С. 58.
25 «Годы странствий Вильгельма Мейстера», кн. II, разд. «Наблюдения
в духе путешествующих».
26 В современном стандартном издании О. Шпенглера (S. 87) говорит¬
ся не «время» (Zehl), а «число» (Zoit). Однако в доступном мне издании
1923 г. говорится именно о времени, а не о числе, и это дополнительный
довод в пользу того, что пишет К. А. Свасьян в издании: Шпенглер О. За¬
кат Европы. М., «Мысль», 1993. Т. Г, с. 640 (прим. 59). Между прочим, в
переводе Н. Гарелина, изданном в 1923 г. (и сделанном с более раннего
издания труда О. Шпенглера, вероятно, 1918 г.), также сказано «время»,
но не «реальное», а время просто. Если прилагательное было опущено не
по недосмотру переводчика или издательства, это также аргумент в поль¬
зу чтения «время», поскольку позволяет предполагать, что автор возвра¬
щался к данному месту, чтобы его уточнить, и не нашел здесь опечатки.
Во французском же переводе А. Тазеру, до сих пор переиздающемся во
Франции, сказано «число». Впрочем, опечатки случаются даже в списках
опечаток, и потому, надо думать, самый главный довод в нашу пользу —
то, что полная разнородность времени и числа, т. е. истории и природы —
общее для О. Шпенглера место, один из постулатов-его теории, о чем он
Уже неоднократно упоминал выше.
«Фауст» (Ч. II, Акт I, «Темная галерея»).
8 «Максимы и размышления», раздел «Наброски, сомнительное, не¬
оконченное» (Goethe J. W. Werke. Berlin, Aufbau-Verlag, 1970. Bd. 18, S.
674). Цитируется, вероятно, по памяти, так как в тексте Гёте высказыва¬
ние короче: «Функция есть бытие, осмысленное в деятельности».
См. «Случай Вагнера», Предисловие; «Ессе homo», Предисловие,
^ 4. Если в первом случае Ницше говорит об отстраненном взгляде как
990
Приложен^
о поставленной цели, то во втором претендует на то, что достиг желае¬
мого.
30 Из письма к В. фон Гумбольдту от 3 декабря 1795 г.
31 Где Шопенгауэр, в частности, пишет: «Наконец, мы также мало, как
и в прошлом, примемся здесь рассказывать истории, выдавая их за фило¬
софию. Ибо, как мы полагаем, страшно далек от философского познания
мира всякий, кто тешит себя иллюзией, что сущность мира можно хоть
как-то, хотя бы даже в приукрашенном виде, постигнуть исторически» и
т. д.
32 Goethe. Werke. Weimarer Ausgabe. 2. Abt. Bd 6. S. 300 ff.
33 См. выше прим. 12.
34 Беседа с Иоганном Даниилом Фальком (1768—1826), проживавшим
в Веймаре с 1797 г. писателем и филантропом, от 25 января 1813 г. (см.
Goethes Gesprache. Hrsg. von W. von Biedermann. Leipzig, 1889—1896. Bd.
3, S. 72).
35 День Лейпцигского сражения.
36 «Фауст». Часть И, «Глубокая ночь» (9-я и 8-я строка «Фауста» от кон¬
ца). Одна из любимых Гётевых цитат О. Шпенглера.
37 Hebbei Tagebucher II/Hrsg. von Th. Poppe. S. 398.
38 От лат. abstraho — букв, «отвлекать».
39 «Годы странствий Вильгельма Мейстера», кн. II, разд. «Наблюдения
в духе путешествующих». Ср. у того же Гёте («Западно-восточный ди¬
ван», «Книга досады»):
Кто про три последних тыщи
Лет не приобрел понятья,
Будет темным, глупым, нищим
В повседневности объятьях.
40 Ср.: «Я недостаточно стар для того, чтобы заботиться о всемирной
истории, которая представляет собой одну из абсурднейших вещей среди
всего существующего» (из беседы с Фридрихом фон Мюллером и Генри¬
хом Майером от 6 марта 1828 г. (см. Goethes Gesprache, ук. соч., Bd. 6. S.
268-269).
41 Эккерман И. П. Разговоры с Гёте. Запись от 18 февраля 1829 г.. Ср.
сказанное в «Фаусте» (Ч. И, акт 1, «Темная галерея», цитируется
О. Шпенглером во 2-м томе, с. 476):
Я не ищу спасенья в безразличье,
Ведь трепет — наше высшее отличье;
Нам в чувстве мир становится дороже:
Мы постигаем чудо сразу — кожей!
42 межчелюстной кости (лат.). Речь идет об открытой Гёте в 1784 г. ко¬
сти человека и животных.
43 Вообще это письмо к Шарлотте фон Штайн (1—9 июня 1787, Неа-
поль-Рим, см. Goethe. Werke. Weimarer Ausgabe. 4. Abt. Bd 8. S. 233). Bnpo-
чем, данные слова содержатся в той части письма, с которой Гёте просит
свою корреспондентку ознакомить Гердера.
44 Эккерман И. П. Разговоры с Гёте. Запись от 21 октября 1823.
Приложение
991
45 Ср. Псал. 89, 10.
46 Фридерика Брион, дочь сельского пастора, которую Гёте встретил в
1770 г., приехав в Зессенгейм под Страсбургом. Описание поездки имеет¬
ся в «Поэзии и жизни» (кн. 10).
47 Ср. прим. 213.
48 См. Goethe. Werke. Weimarer Ausgabe. 2. Abt. Bd 11. S. 149.
49 Очевидно, в виду имеется библейское «Адам познал Еву, жену свою;
и она зачала...» (Быт. 4, 1).
50 «Критика чистого разума», ч. II, гл. 3.
51 Ср. прим. 213.
52 «Фауст». Ч I, «Ночь» (слова Духа).
53 — судьба, доля, участь; корень — делить.
54 Герой одноименной драмы Г. Клейста.
55 «Жизнь есть сон» — заглавие пьесы Кальдерона (1635).
56 «Музей» (/xoucrcov) по-гречески изначально — храм Муз, впоследст¬
вии греки стали использовать слово более расширительно, к местам на¬
учных и художественных занятий, однако никаких музеев в нашем смыс¬
ле в античности не существовало.
57 См. выше, прим. 46.
58 «Name ist Schall und Rauch» — слова Фауста (Ч. I, «В саду Марты»).
59 Алжирский дей Гусейн ударил по лицу опахалом от мух французско¬
го консула Деваля во время аудиенции по случаю Рамадана в 1827 г., что
послужило поводом для установления французами тогда же блокады ал¬
жирского побережья, а впоследствии — вторжения французских войск и
завоевания Алжира.
60 Чуть перефразированная 4-я строка из стихотворения Гёте «Демон»
(цикл «Пра-слова. Орфическое»). Строки 5-8 О. Шпенглер цитирует
ниже, а строку 8, как уже говорилось, — неоднократно на протяжении
тома.
61 Разграбление Рима (ит.) императорскими войсками в мае 1527 г.,
штурм начался 6 мая. Ср. прим. 396.
62 Изначальное значение слова vox ~ «задержка, прекращение». Сло¬
во зафиксировано в греческой литературе довольно поздно, начиная со
стоиков (у которых оно было техническим термином, означающим воз¬
держание от суждения) и Полибия. Впоследствии в астрономии (у Пто¬
лемея) оно означало положение звезды или соответствующий такому по¬
ложению момент времени.
Имеется в виду период с 1254 по 1273 г., когда трон императора Свя¬
щенной Римской империи оставался незанятым.
Речь идет о завершившейся неудачей осаде (с 19 марта по 20 мая
1799 г.) войсками Наполеона крепости Сен-Жан д’Акр (совр. Акка) в Па¬
лестине.
Слово «теория» происходит от греч. весорсо — «рассматривать», вос¬
ходящего в свою очередь к веорси — «видеть, зреть». Ср. ниже, с..
Из стихотворения Шиллера «Die Weltweisen» («Философы»). Ср. 823
и прим. 744.
992
Приложение
67 «Избирательное сродство» — роман Гёте (1809), «Женщина с
моря» — пьеса Г. Ибсена (1888).
68 См.: Hebbel. Tagebucher I. S. 219 f., 231 f„ 239 f.
69 «Годы странствий Вильгельма Мейстера», кн. II, разд. «Наблюдения
в духе путешествующих».
70 «К генеалогии морали», рассмотрение второе, § 13.
71 Ср. начало VIII элегии Р. М. Рильке (указано К. А. Свасьяном):
«Вся тварь во все глаза глядит в бескрайность.
Лишь наши глаза как бы обращены
И целиком повернуты вовнутрь,
Они силки вокруг открытой двери.
Все, что вовне, мы знаем лишь по ликам
Зверей. Ведь малое еще дитя
Мы обращаем вспять и принуждаем
Смотреть на формы сзади, не в бескрайность,
Что в лике зверя так глубока. От смерти
Свободен он. Ее одни мы видим.
Ступает гибель вечно позади, за зверем,
А Бог идет пред ним. И уходя, уходит
Зверь в вечность, как ручей струится вдаль».
72 См. «Моя жизнь» (ППС. М., 1957. Т. 23. С. 470-471).
73 Матф. 6, 28.
74 См. диалоги «Федр», «Федон», «Менон».
75 Ср. у Гёте: «Когда немеет в муке человек, мне Бог дает сказать, как я
страдаю (Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt, Gab mir ein Gott
zu sagen, wie ich leide)» («Торквато Тассо», акт 5; взято самим Гёте в каче¬
стве эпиграфа к «Мариенбадской элегии», 1823, с заменой «wie» на
«was»).
76 Roma quadrata — букв, «квадратный Рим», т. е. древний, изначаль¬
ный, построенный прямоугольным в плане по этрусским образцам (Эн¬
ний «Анналы», 157). Pomerium — «незастроенная полоса земли по обе сто¬
роны городской стены».
77 Посвященный богам участок земли.
78 О «Dies irae» см. т. 2, прим. 513. О «Вёлуспе» см. прим. 469.
79 См. прим. 594.
80 Часть I, «Ночь».
81 См. Ф. Ницше «Так говорил Заратустра».
82 Исход 20, 4.
83 См. «Веселая наука», ч. V, § 367.
84 Распространенный главным образом в Верхней Баварии, Тироле и
Каринтии народный танец, во время которого одетые в кожаные штаны
мужчины подпрыгивают и ритмически хлопают себя ладонями попере-
менно по подошвам ботинок, коленям и бедрам.
85 Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, вая-
телей и зодчих. М.; Л., 1933. С. 126.
86 Meister Eckhart. Deutsche Predigten und Traktate. Zurich, 1979. S. 329
Приложение
993
87 Слово «трубадур», фр. «troubadour» — от старопровансальского «tro-
bador» — «поэт», происходящего от «trobar» — искать, сочинять стихи.
Корень общий с фр. «trouver» — находить, изобретать, чем и вызвано за¬
мечание О. Шпенглера. Подробнее см.: «Жизнеописания трубадуров».
М., 1993. С. 508.
88 Куббат ас-Сахра, называемый еще Мечеть Омара, построен в
685—691 г.. Со скалы, над которой возведен собор, пророк Мухаммед
вознесся на небо.
89 Раздел «Менгс».
90 Найденная на Самосе статуя Геры (посвящена неким Херамием),
фигура которой воспроизводит округлость древесного ствола.
91 «Новое искусство» (лат.), направление французской музыки XIV в.,
получившее название по трактату Филиппа де Витри (ок. 1320) и проти¬
вопоставлявшееся Ars antiqua («Старому искусству»), которое господст¬
вовало в XIII в.
92 Псевдоним, настоящее имя Адольф Вейгель — поэт, не оставивший
следа в литературе и обязанный попаданием в этот ряд исключительно
дружбе с О. Шпенглером, сыном квартирной хозяйки которого в Мюнхе¬
не он был (прим, по материалам К. А. Свасьяна, см. Шпенглер О. Закат
Европы. М., «Мысль», 1993. Т. 1, с. 648, прим. 196).
93 Goethe. Gedenkausgabe der Werke, Briefe und Gesprache. 28. August
1949, hg. v. Ernst Beutler. Zurich. Bd. 16, S. 210.
94 T. e. внутриглазным. У Гёте есть даже стихотворение «Энтоптиче-
ские цвета» (1817, опубл. 1827).
95 Рукописи на пергамене, окрашенном в пурпурный цвет.
96 См. «Случай Вагнера», § 2.
97 Limes, т. е. «граница» (лат.) — название возведенной римлянами
пограничной стены в Германии (аналог Великой китайской стены).
98 То же по-немецки, по-английски и по-французски с заменой синте¬
тической грамматической формы — аналитической.
99 То же на народной латыни, по-французски и по-средневерхнене¬
мецки, также с заменой синтетической грамматической формы — анали¬
тической, букв, вместо «ты сделал» — «ты имеешь сделанным». Между
прочим, немецкое haben этимологически не связано с латинским habeo,
хотя оба слова означают одно и то же — «иметь».
100 «Человек», использовалось в старофранцузском в качестве подле¬
жащего безличного оборота (со временем из ип Нотте получилось on, ко¬
торое и используется теперь в качестве подлежащего такого оборота: on
dit— «говорят», onpense — «полагают»).
101 Аналогичный французскому безличный обороту немецком языке,
подлежащее man — «человек» (др.-в.-нем., совр. нем. Мапп).
2 Теперь его называют «Мастером св. Вероники».
103 Плиний Старший (34, 16) пишет: «Они (т. е. древние) не имели
обыкновения создавать изображения людей, разве что тех, которые за¬
тужили долгую память каким-либо славным поступком, прежде всего
Победой на священных играх, особенно Олимпийских. Всем, кто побе¬
дил на Олимпиаде, было принято посвящать статуи, для тех же, кто побе¬
дил трижды, ваяли статуи, повторявшие их телесные черты, которые на¬
32
Закат Западного мира
994
Приложен^,
зывались иконическими (iconicas). Сколько могу судить, афиняне самы¬
ми первыми поставили статуи за общественный счет, это были
изображения тираноубийц Гармодия и Аристогитона».
104 См. прим. 545.
105 Гармодий и Аристогитон, убившие в 514 г. до Р. X. Гиппарха, брата
афинского тирана Гиппия. В представлении афинян, которых тщетно
пытались разубедить Геродот и Фукидид, Гармодий и Аристогитон сыг¬
рали основную роль в избавлении Афин от тирании и во введении демо¬
кратического правления. Согласно Фукидиду, находившиеся в любов¬
ных отношениях Гармодий и Аристогитон организовали заговор, желая
убить правивших городом сыновей Писистрата, Гиппия и Гиппарха,
прежде всего из-за того, что Гиппарх пытался соблазнить Гармодия. По¬
кушение было назначено на день празднества Панафиней. До Гиппия за¬
говорщикам добраться не удалось, так что им пришлось ограничиться
убийством одного Гиппарха. Гармодий погиб на месте, Аристогитону
удалось ускользнуть, но вскоре Гиппий после пыток казнил и его. Прав¬
ление ужесточившего режим Гиппия продолжалось до 510 г., когда он
был изгнан вторгшимися в Аттику спартанцами под предводительством
царя Клеомена I. Последовавшие затем попытки Гиппия вернуть власть
(в частности, при помощи персов в 490 г.) провалились, в 490 г. он умер в
изгнании. Настроенные против Писистратидов афиняне усматривали в
убийстве Гиппарха патриотический подвиг и поручили (вероятно, вскоре
после 510 г.) скульптору Антенору создать статуи тираноубийц, устано¬
вив их на Агоре. Был учрежден культ Гармодия и Аристогитона, у их гроб¬
ницы регулярно совершались жертвоприношения. В 480 г. Ксеркс увез
статуи в качестве военной добычи (впоследствии кто-то из греческих
правителей на Востоке возвратил их в Афины — возможно, сам Алек¬
сандр после взятия Суз в 331 г.), но уже в 477—476 гг. вместо них были по¬
ставлены широко известные по античным копиям (лучшая из них в Неа¬
поле) статуи работы скульпторов Крития и Несиота.
1(* Возможно, опечатка: в свете сказанного в прим. 103 здесь, пожалуй,
следовало бы сказать «неиконические» (т. е. те статуи, которые полага¬
лись за одну победу).
107 Плиний Старший (35, 153).
108 Очевидно, имеется в виду «Падение осужденных в ад» (Мюнхен.
Старая Пинакотека).
109 Обычно картину называют «Шубка» (Вена, Музей истории ис¬
кусств).
110 Статуя Кангранде делла Скала высится над входом в фамильную
церковь Санта Мария Антика в Вероне, образуя подобие портала. Мра¬
морный подлинник находится теперь в музее Кастельвеккио. Бронзовая
статуя Бартоломео Коллеони работы А. Верроккьо была установлена i
Венеции в 1496 г.
111 Строения во Флоренции. Возведение Лоджиадеи Ланци было нача-
то в 1376 г. (архитекторы Бенчи ди Чионе и Симоне ди Франческо). Па¬
лаццо Строцци начали строить в 1489 г.
Приложение
995
112 После умершего в 1546 г. Антонио Сангалло Младшего, последова¬
теля Браманте, возведение Палаццо Фарнезе в Риме было поручено вна¬
чале Микеланджело, а затем Виньоле и Джакомо делла Порта.
113 Букв, «чудовищность» (ит.). Ilterribile (ужасный) — прозвище, дан¬
ное Микеланджело папой Юлием II.
114 Слова Винкельмана, дважды встречаются в сочинении «Размышле¬
ния о подражании греческим произведениям в живописи и ваянии»
(Winckelmanns Werke in einem Band, hrsg. von Helmut Holtzhauer, Berlin
und Weimar, 1969. S. 17, 19).
115 «Поэтика», 1450a 28—29.
116 «Естественная история», 34, 65.
117 Веселая, комическая пародия на трагедию, с хором, составленным
из сатиров. Сатировские драмы ставили на состязаниях драматургов в
честь праздника Великих Дионисий, как приложение к трагической три¬
логии. Хотя сатировские драмы писали все знаменитые древнегреческие
трагики, полностью уцелела лишь одна, а именно принадлежащий Эври¬
пиду «Киклоп».
118 Пьеса Г. Ибсена (1886).
119 В статье «Рихард Вагнер и «Тангейзер» в Париже» (1861).
120 Опера Дж. Мейербера (1836).
121 См. выше прим. 11.
122 По состоянию на 1976 г. в Союзе писателей СССР было 7833 члена,
Союзе художников — 14538, Союзе композиторов — 1936.
123 Выпад против швейцарского художника Фердинанда Ходлера
(1853-1918).
124 См. прим. 431.
125 См. выше прим. 75.
126 См. т. 2, гл. 3, раздел 8.
127 «Государство» IV 435е-436а (порядок, естественно, обратный: ко¬
рыстные южане, необузданные северяне и любознательные греки).
|28 «Федр» 246 ab.
129 букв.: геометрически (лат.), применяемый Спинозой в его «Этике»
метод доказательства, который, как ему казалось, приближается по точ¬
ности к математическому. О «кисмате» см. выше, прим. 53.
См. выше прим. 58.
131 В классическом языке.
132 «Государство» VII 514а—517а.
|33 Эсхил «Прометей», 518; «Илиада» XXII, 209—213.
134 «Метафизика» 1072b 22-25; «Никомахова этика» 1178Ь 7—32.
«Поэтика» 1450а 16-17.
Ср. у Ницше («Случай Вагнера», прим. 1): «Сущим несчастьем для
эстетики было то, что слово «драма» всегда переводилось словом «дейст¬
вие». в этом заблуждается не один Вагнер: все всё еще заблуждаются,
Даже филологи, которым следовало лучше это знать. Античная драма
имела в виду великие сцены пафоса, а действие как раз исключала (пере¬
носила его до начала или за сцену). Слово «драма» дорического проис¬
хождения, и в дорическом словоупотреблении оно означает «событие»,
«историю» (оба слова в священном смысле). В древнейшей драме пред¬
996
Приложенц(
ставлялась местная легенда, «священная история», на которой покоилась
основа культа (стало быть, не деяние, а событие: по-дорически Bpv вовсе
не значит «делать»)».
137 Мим — небольшая сценка комического содержания.
138 Афиняне принимали очень близко к сердцу судьбу родственного им
города в Малой Азии, который после неудачного восстания взяли и раз¬
рушили персидские войска в 494 г. до Р. X., все его обитатели были при
этом проданы в рабство. Поэтому постановка спровоцировала необы¬
чайный всплеск эмоций и Фриниха оштрафовали на 1000 драхм (см. Ге¬
родот 6, 21).
139 Михаэль Кольхас — герой одноименного рассказа Г. фон Клейста
(1805—1810). Голо — герой трагедии Ф. Геббеля «Геновева» (1843).
140 Из стихотворения Гёте «Арфист» (до 1783). Стихотворения включе¬
но также в «Годы учения Вильгельма Майстера» (Ч. II, глава 13). Четверо¬
стишие целиком заимствовано в «Лорелее» (1811) К. Брентано.
141 Выражение Ф. Ницше («По ту сторону добра и зла» § 257; «К генеа¬
логии морали», §§ 2, 14; «Сумерки богов» § 37; «Антихрист» §§ 43, 57).
142 Не однажды, а дважды: см.: «Веселая наука», предисловие ко 2-му
изданию, § 4; «Ницше против Вагнера», эпилог, § 2.
143 невежественная толпа {лат.). Выражение принадлежит Горацию
(«Оды» III 1, 1).
144 В соответствии с географическими представлениями древних егип¬
тян и греков, Пунт — южный берег Красного моря и прилегающие берега
Аденского пролива, соответствующие побережью современных Эритреи
и Джибути.
145 На Малых и Больших Зондских островах находится Индонезия.
146 Фрг. 60 полностью: «Путь вверх и вниз — один и тот же».
147 Мф. 11, 15; 13,9; 13,43.
148 Ср. прим. 586.
149 Т. е. «доблесть без моралина» (см. «Ессе homo», раздел «Почему я
так умен» § 1; «Антихрист» §§ 2, 6). Grandezzan grandeur— величие, вели¬
колепие, благородство.
150 «К генеалогии морали», рассмотрение второе, § 11. «Сумерки бо¬
гов», раздел «"Улучшатели" человечества», § 2.
151 См. прим. 225, 219.
152 См. прим. 533.
153 См. прим. 370.
154 Nietzsche F. Werke in drei Banden. Hrsg. von Karl Schlechta. Munchen,
1954. Bd. 3. S. 504 (или Nietzsche F. Nachgelassene Fragmente 1885—1887.
Kritische Studienausgabe. Hrsg. von G. Colli und M. Montinari. Munchen,
1988. Bd. 12. S. 87 f.).
155 «Поэтика» 1453a 2; cp. 1456a 21.
156 Nietzsche F. Werke in drei Banden. Hrsg. von Karl Schlechta. Munchen,
1954. Bd. 3. S. 634 (или Nietzsche F. Nachgelassene Fragmente 1887—1889.
Kritische Studienausgabe. Hrsg. von G. Colli und M. Montinari. Munchen,
1988. Bd. 13. S. 139, 189-190).
157 Cp. прим. 540.
Приложение
997
158 Трактат «Милиндапаньха» («Вопросы Милинды»), датируемый II в.
до Р. X.
159 «Ессе homo», раздел «Почему я так умен» § 1.
160 См.: Гораций («Оды» III 30, 1), т. е. знаменитый «Памятник».
161 «Предисловие Заратустры», § 4, ср. § 5.
162 Ибсен Г. Собр. соч. в 4 т. Т. 3. М., 1957. С. 723. Ялмар Экдаль — герой
пьесы Г. Ибсена «Дикая утка» (1884).
163 Пьеса Г. Ибсена (1881).
164 Ср. прим. 586.
165 «Театр, рассматриваемый как нравственное учреждение» (1784) —
статья Ф. Шиллера (первоначальное название «Каково воздействие хо¬
рошего постоянного театра»).
166 «О четверичном корне закона достаточного основания» § 21.
167 «Метафизические основоположения естествознания», предисло¬
вие.
168 См. выше прим. 141.
169 Goethe. Naturwissenschaftliche Schriften. Bd 1. S. 121.
170 См. прим. 589.
171 О «Вёлуспе» и «Муспилли», а также Гелианде см. прим. 469.
172 «Оды» I 1, 25.
173 Кифхойзер — хребет к югу от Гарца. Хорзельберг — гора в Тюрин¬
гии. Император Ротбарт («Краснобородый») — мифическое переосмыс¬
ление Фридриха Барбароссы, фрау Венус (аналог Хозяйки медной горы)
относится к кругу сказаний о Тангейзере.
174 «Деяния Апостолов», 17, 23.
175 О Юпитере Долихене и Непобедимом Солнце см. прим. 401. Текст в
кавычках имеет в виду место Мф. 18, 20.
176 По преданию, в 312 по Р. X., накануне битвы у Мульвиева моста воз¬
ле Рима императору Константину, претендовавшему на единоличную
власть на Западе империи, было видение, которому он приписывал свое
обращение к христианству. Согласно Евсевию, Константин увидел в
небе огненный крест, под которым были греческие слова: «Сим знамени¬
ем победишь». Согласно же Лактанцию, Константину приснился сон,
велевший ему поместить на щиты воинов греческую монограмму, озна¬
чавшую имя Христа (буквы X и Р). На следующий день Константин одер¬
жал победу над противником, Максенций погиб вместе с сыном, и в ка¬
честве символа победы Константин поместил на своем лабаруме (импе¬
раторском знамени) упомянутую монограмму.
Ср. с. 786 и прим. 687.
8 «Веселая наука» §§ 108, 125, 343. «Так говорил Заратустра» «Преди¬
словие Заратустры», § 2; «О жалостливых»; «В отставке».
igo См. выше прим. 11.
Разговор с Ф. В. Римером от 10 мая 1806 г. (см. Goethes Gesprache,
У*- соч., Bd. 2. S. 27). «Искусством анализа (Scheidekunst)» называли в ста-
Рину химию.
998
Приложение
Примечания ко второму тому
Перевод второго тома Освальда Шпенглера выполнен фактически по
двум изданиям: современному («Der Untergang des Abendlandes. Umrisse
einer Morphologie der Weltgeschichte» von Oswald Spengler. Miinchen,
[1990]) и прижизненному 1922 г. Переводя том в первый раз, по которому
мы исправляли опечатки первого, к сожалению, не такие редкие. Пере¬
мены в последнем незначительны: исправлены немногочисленные опе¬
чатки. Для контроля и в некоторых случаях для примечаний использо¬
вался также английский перевод Ч. Ф. Аткинсона (Spengler О. The Decline
of the West. New York, 1973, первое издание — 1928 г.).
В настоящем издании перевод подвергся значительной правке и ре¬
дактированию, в том числе с учетом опыта, приобретенного при перево¬
де 1-го тома. Текст вновь полностью сверен с оригиналом, исправлены
допущенные в предыдущем издании ошибки, пропуски и опечатки. Про¬
ведена работа над примечаниями. В частности, удалось найти ряд мест из
Гете, на которые ссылается О. Шпенглер.
Примечания ставят своей целью прежде всего прокомментировать
исторические реалии, которыми изобилует книга. Сделать это исчерпы¬
вающим образом, конечно, невозможно, и не всегда в этом есть необхо¬
димость. В первую очередь комментировались такие предметы, факты,
исторические личности и термины, для понимания которых читателю
пришлось бы обращаться к редкой и разнохарактерной литературе. О не¬
которых малоизвестных деятелях и фактах мы написали несколько по¬
дробнее. Были также переведены иноязычные выражения.
Вторую задачу примечаний мы усматривали в установлении связей
между томами. Поскольку к одному предмету, истории человечества,
О. Шпенглер подходит с разных сторон: в первом томе — на материале
искусства и науки, а во втором — на материале политики и религии, мы
сделали много ссылок на первый том с целью обратить внимание читате¬
ля на возникающие здесь параллели. Кроме того, во многих случаях
ссылки на первый том необходимы для уяснения содержания второго
тома.
181 Эта работа так и не была завершена. Подготовительные материалы
к ней были изданы в 1966 г. под названием « Urfragen» («Первовопросы»)
(см. предисловие К. А. Свасьяна в издании: Шпенглер О. Закат Европы.
М.: Мысль, 1993. Т. 1, с. 22—23).
182 Betrachte die Blumen am Abend, wenn in dersinkenden Sonne eine nach der
andem sich schliejlt: etwas Unheimliches dringt dann auf dich einf ein Gefiihl von
rdtselhafter Angst vor diesem blinden, traumhaften, der Erde verbundenen Dasein.
Cp. начало работы Ф. Ницше «О пользе и вреде истории для жизни» («Не¬
своевременные размышления»): «Betrachte die Herdet die an dirvoriiberwei-
det: sie weiji nicht, was Gestem, was Heute ist, springt umher, friftt, ruht, verdaut,
springt wieder, undso vom Morgen bis zur Nacht und von Tage zu Tage, kurz ange-
bunden mit ihrer Lust und Unlust, mmlich an den Pflock des Augenblicks, und des-
halb weder schwermiitig noch iiberdriissig» («Посмотри на стадо, которое па¬
Приложение
999
сется около тебя: оно не знает ни вчера, ни сегодня, оно резвится там и
сям, жрет, отдыхает и переваривает и снова резвится, и так с утра до ночи
и изо дня в день. Короткими веревками радости и страдания оно привяза¬
но к колышку мгновения, и потому стадо не ведает ни уныния, ни пресы¬
щения») (перевод наш, ср.: Ницше Ф. Соч.: В 2 т. Т. 1. М., 1990. С. 161).
183 Ср. мотив танцующего роя мух у Гейне в стихотворении «Госпожа
Забота» («Романсеро», II книга, цикл «Лазарь», № 14).
184 См., напр., схему в т. 1, эти и следующие далее рассуждения ср. там
же.
185 Рассуждение в духе приобретавшей популярность коллективной
психологии. Пионером в этой области явился французский медик и со¬
циолог Гюстав Ле Бон (1841—1931), автор трудов «Психологические за¬
коны эволюции народов» (1894), «Психология толпы» (1895) и др. По¬
дробнее о нем, а также о современном состоянии вопроса см.: Москови-
чи С. Век толп. М., 1996.
186 См. также: гл. 2, раздел 14.
187 Данный термин здесь нельзя перевести одним словом (Geschlecht
по-немецки — и «род», и «поколение», и «пол»).
188 Begriff— первоначально «объем, регион», от глагола begriffen — «ох¬
ватывать, вмещать», позже (ср.-в.-нем.) — «понимать». Schlufiот глагола
schliejkn — «закрывать».
18*От греч. весореш — «рассматривать», восходящего в свою очередь к
веаоиаи — «видеть, зреть». Ср. также: гл. 4, раздел 13.
^ Ср.: гл. 2, раздел 14.
191 Термин «Erlebnis», казалось бы, соответствует русскому «пережива¬
нию» (er-leben — «про-жить», почти что «пере-жить»). Однако между
ними непреодолимая разница. «Erlebnis» никуда от своего корня не ушло,
это есть «проживание с переживанием», то, что называется жизненным,
или личным, опытом. Прекрасное определение этого слова дает словарь:
Krugs W. Т. Encyklopadisches Lexikon in bezug auf die neuste Literatur und
Geschichte der Philosophic (3-е изд., 1838): «Erlebnis есть все то, что было
пережито (erlebt) самим человеком (все, что было им воспринято, видено,
продумано, что он вол ил, совершал или чему позволял совершаться). Та¬
кие Erlebnisse в случае, если человек оказывается в состоянии сделать из
них надлежащие выводы, оказываются основой собственного опыта». В
русском же «переживании» то, что послужило для него поводом, не столь
важно: все сосредоточивается на самом «переживании», т. е. на том, что в
результате происходит в субъекте. Нельзя в данном случае употребить и
слово «опыт», ведь опыт может быть совершенно безличным (не зря же
бывают научные опыты), между тем как «Erlebnis» исключительно персо¬
нален. В некоторых случаях можно переводить «Erlebnis» словом «вос¬
приятие», однако оно опять-таки, как и «переживание», слишком субъ¬
ективно — уже не в эмоциональном плане, но в плане гносеологическом.
Кроме того, если «переживание» излишне эмоционально, то «восприя¬
тие» всецело равнодушно, оно является, так сказать, внутренним «науч¬
ным опытом». «Erlebnis» же не забывает ни об объекте, ни о субъекте, это
есть «переживание» в душе человека, однако «переживание» того, что ему
Реально дано, и, что еще важнее, того, в чем он активно участвует (пускай
1000
Приложение
даже только душевно, хотя возможно и деятельное участие). Ближе всего
по смыслу к «Erlebnis», пожалуй, «пережитое», но из-за однозначной от¬
несенности к прошлому использовать его в переводе не всегда возможно.
Могло бы подойти и слово «событие», но лишь тогда, когда ясно, для
кого оно таковым является. В немецкую философскую литературу поня¬
тие «Erlebnis» ввел Герман Лотце (1817—1881). Им много занимались Ви¬
льгельм Дильтей (см., напр.: Dilthey W. Das Erlebnis und die Dichtung; On
же. Описательная психология. M., 1924; переиздание — СПб., 1996.
С. 27, 59, 109) и Эдмунд Гуссерль («интенциональное переживание» —
один из краеугольных камней феноменологии). В первой трети нашего
века это было чрезвычайно модное в философии, психологии и литерату¬
роведении понятие. Замечательную статью о нем с указанием литературы
см. в «Historisches Worterbuch der Philosophic». Bd. 2. Sp. 702—711. По¬
дробный экскурс в историю термина и его разбор имеются в «Истине и
методе» Ганса-Георга Гадамера (русский перевод — М., 1988.
С. 104—116). Ср. Клемперер В. LTI. Язык Третьего рейха. Записная
книжка филолога. М., 1998. С. 312.
192 Ср.: т. 1, гл. 3. раздел 2.
193 От лат. abstraho — букв, отвлекаю.
194 В русском языке слова «душевный» и «духовный» часто восприни¬
маются как синонимы. Однако для О. Шпенглера, как и вообще для За¬
пада, между этими понятиями принципиальная разница (читатель сам в
этом убедится). По-немецки «дух» — Geist, «душа» — Seele, чтб приходит¬
ся строго соблюдать в переводе; и мы переводим «душевное единство»,
«душевное родство», «душевные возможности», «душевный элемент ку¬
льтуры» ит. д., хотя по-русски в этих случаях по смыслу лучше было бы
«духовное единство», «духовные возможности» и пр. (ср. прим. 741).
195 Ср.: т. 1. гл. 6, раздел 9.
196 Ср. схемы в т. 1.
197 Ср. ниже, гл. 3, раздел 4.
198 Ср. ниже, прим. 498.
199 По-нем. игра слов: ...nurdurch Losungen erlost werden капп.
200 Гете И. В. Фауст. Часть вторая, акт первый, «Темная галерея». Сло¬
ва Фауста:
Doch im Erstarren such ich nicht mein Heil,
Das Schaudem ist der Menschheit bestes Teil;
Wie auch die Welt ihm das Gefiihl verteure;
Ergriffen fiihlt er tief das Ungeheure.
(Я не ищу спасенья в безразличье,
Ведь трепет — наше высшее отличье;
Нам в чувстве мир становится дороже:
Мы постигаем чудо сразу — кожей!)
201 Ср.: т. 1. гл. 6, раздел 3.
202 Ср.: т. 1. гл. 3, раздел 3.
203 Ср.: т. 1. гл. 3, раздел 7 (окончание).
Приложение
1001
204 Ср.: т. 1. гл. 6, раздел 6.
205 Ср.: т. 1. гл. 2, раздел 15.
206 См.: т. 1. гл. 2, раздел 10.
207 Ниже. Политическим экспериментам Платона будет дана еще более
Критическая оценка. Несколько по-иному они рассматриваются в т. 1.
гл. 2, раздел 3.
208 Ср.: т. 1. гл. 3, раздел 8.
209 Имеется в виду происшедшее в 553 г. на берегу р. Сарна, огибающей
Везувий с юго-востока, трехдневное сражение уцелевших от предыдущих
разгромов остготов, которыми предводительствовал их последний ко¬
роль Тейя, с войском византийского полководца Нарсеса. Остготы были
разбиты, Тейя погиб. Упоминается в литературе и как «сражение у Лак-
тарской горы».
210 «Les aristocrats к la lanternel» — «Аристократов на фонарь!» (фр.), сло¬
ва из припева карманьолы «Са ira».
211 Имеется в виду Война за освобождение Германии (1813—1815).
212 Ср.: т. 1. гл. 3, раздел 9.
213 ist im Bilde — выражение пришло в язык из фотодела. В переносном
смысле означает «быть информированным», «быть в курсе». Видимо,
аналогичный образный оборот речи был популярен и в России (ср.: Роза¬
нов В. В. О себе и жизни своей. М., 1990. С. 352—353).
214 См.: т. 1. гл. 2, раздел 9 и гл. 2, раздел 18.
215 Слово «эпоха» (Epoche) О. Шпенглер использует по большей части в
смысле «переворота», «судьбоносного изменения». «Эпохе» в значении,
утвердившемся в русском языке, у него соответствует Zeit (время). См.
т. 1. гл. 3, раздел 8.
216 Подробнее см.т. 1. гл. 1, раздел 6.
217 Ср.: т. 1. гл. 6, раздел 7.
218 Ср.: т. 1. гл. 3, раздел 10.
219 Otnmon Великий — король Германии в 936—973 гг., император Рим¬
ской империи в 962—973 гг. Григорий VII Гильдебранд — папа римский в
1073-1085 гг.
0 Jude по-немецки значит и «еврей», и «иудей»; judisch — и «еврей¬
ский», и «иудейский», а поскольку О. Шпенглер усматривает в «Judentum»
(еврействе) прежде всего религиозную общность, мы будем по большей
части переводить эти слова как «иудей» и «иудейский», кроме случаев, ког¬
да речь явно идет о физическом, расовом типе. В некоторых случаях, одна-
Ко, и то и другое значения сливаются. Впрочем, еще в одном случае
О- Шпенглер, желая различить «еврейство» и «иудейство», употребляет
прилагательные judisch (иудейский, по географическому признаку) и
Jiidmsch (иудаистский).
222 См.: т. 1. гл. 1, раздел 11.
В специальном гетеанско-шпенглерианском смысле. См. ниже,
пРим. О. Шпенглера.
а4 См.: т. 1. гл. 1, раздел 10.
Император Священной Римской империи в 1190—1197 гг.
1002
Приложение
225 Генрих Лев (1129— 1195) — герцог Саксонии (1139—1180) и Баварии
(1156—1180), сын Генриха Гордого, отец Оттона IV Брауншвейгского,
императора в 1198—1215 гг. Происходил из семьи Вельфов (ср. ниже,
прим. 370). Вынудил Фридриха Барбароссу признать свои права на Бава¬
рию. В 1158 г. основал Мюнхен и боролся со славянами, завоевал Мек¬
ленбург и часть Померании. В 1176 г. отказался участвовать в походе
Фридриха Барбароссы в Италию, и в 1189 г. тот отобрал у него все владе¬
ния, кроме Брауншвейга и Люнебурга, а самого изгнал (ниже, О. Шпенг¬
лер еще будет говорить об этом эпизоде). Конфликт принято рассматри¬
вать как столкновение двух идей: с одной стороны — всеохватной импе¬
рии (Барбаросса), с другой — развития Германии на восток, колонизации
славянских земель, освоения Балтики (Генрих). В конце царствования
Фридриха (1189—1190), а затем при Генрихе VI (1192—1194) Генрик Лев
безуспешно пытался возвратить себе свои владения.
226 Во время своего пребывания в Италии в 1786—1788 гг. Гете принял
решение отказаться от своих политических постов в Веймаре, сохранив
лишь не имевшее административного характера место в Тайном совете, и
посвятить себя наукам и искусствам, что он и исполнил по своем возвра¬
щении в 1788 г. Драма «Тассо» была опубликована в 1790 г.
227 Ср.: т. 1. гл. 3, раздел 12.
228 выдумка, признаваемая по соглашению за истину (фр.). У Вольтера,
которому принадлежит выражение, вся фраза звучит так:« Toutes les histoi-
res anciennes — ne sont que lesfables convenues» — «Все древние истории — не
более чем басни, о которых договорились».
229 В специальном шпенглеровском значении. См.: т. 1.гл. 1, раздел 17.
230 См.: Т. 1. С. 319, а также наст, т., прим. 589.
231 В отечественной литературе чаще Цинь Ши-хуанди или Цинь Ши-
хуан — один из наиболее часто упоминаемых О. Шпенглером историче¬
ских персонажей.
232 Впоследствии О. Шпенглер разделил этот первый период на три
эпохи — намек на это содержится уже в работе «Человек и техника», в
разработанном виде — в «Urfragen» («Первовопросах») (редакционное
прим, из современного немецкого издания).
233 человек ориньякский (лат.), т. е. человек ориньякской культуры
(по местечку Ориньяк во Франции, вблизи которого в пещере были сде¬
ланы многочисленные находки эпохи позднего палеолита, возраст кото¬
рых ок. 30 000—25 000 лет).
234 То же, что индоевропейских. Термин предпочитают в Германии до
сих пор.
233 См.: т. 1. гл. 3, раздел 2.
236 См.: T. 1. гл. 5, раздел 12.
237 О периодизации О. Шпенглера см. также таблицы в т. 1. гл. 2, раз¬
дел 1.
238 См.: т. 1. гл. 3, раздел 3.
239 См.: Сыма Цянь. Исторические записки. М., 1984. Т. III. С. 231 и
комментарий к этому месту на с. 803; Китайская философия. Энцикло¬
педический словарь. М., 1994. С. 422 (статья «Цзунхэн цзя»). Ср.: т. 1.
гл. 2, раздел 1.
Приложение _____ _ 1003
240 На берегу Илисса, реки вблизи Афин, беседуют Сократ и Федр в
диалоге Платона «Федр».
241 Т. е. греческого и латинского.
242 Император Священной Римской империи в 1056-1106 гг.
243 Ныне г. Эдирна (европейская часть Турции). В 378 г. по Р. X. готы
нанесли здесь сокрушительное поражение римлянам, которыми коман¬
довал император Валенс, сам Валенс погиб.
244 Так О. Шпенглер называет китайских правителей времени «борю¬
щихся государств».
245 Под «китайским миром» подразумевается китайский аналог pax Ro-
тапа (см. прим. 253), выражаясь по-латински, paxSerica. Limes, т. е. «гра¬
ница» (лат.) — название возведенной римлянами пограничной стены в
Германии.
246 Уже упоминавшийся разгром трех легионов под командованием
Квинтилия Вара в Тевтобургском лесу в 9 г.
247 Надо полагать, это Люй Бу вэй — первый советник Цинь Шихуана в
249—237 гг. Вероятно, то, что он назван «первым супругом матери импе¬
ратора» — ошибка (в англ, переводе: «приемный отец императора»).
248 Несколько подробнее см. ниже.
249 Собирательное название Европы в арабском мире.
250 Томас Ррк в 1620 г. Схожая миссия была тогда же отправлена в Тур¬
цию Фридрихом и знатью Богемии с просьбой о помощи и с целью
оправдать самовольное смещение короля, поставленного Габсбургами.
Они получили ответ, какой дала бы своим малозначительным соседям
любая империалистическая держава, обратись они к ней с просьбой о
вмешательстве. Именно, были потребованы материальные гарантии се¬
рьезности того движения, которое просило Турцию о поддержке, а также
ручательства в том, что никакие шаги без ее согласия предприняты не бу¬
дут. (Прим. англ, пер.)
251 Церемониальное сооружение у ацтеков, усеченная ступенчатая пи¬
рамида, на которой возводился храм.
252 Хунак Кеель захватил власть в Майапане и завоевал Чичен-Ицу, что
положило начало вражде между крупными городами федерации и, воз¬
можно, явилось причиной ее последующего упадка. Так что слово «унич¬
тожил» не следует понимать буквально.
253 Букв. «Римский мир», сложное общественно-политическое поня¬
тие, предполагавшее широкую программу покорения или замирения со¬
седних с Римской империей народов с воцарением в результате на всей
этой территории «вечного мира». Фактически Pax romana — это и есть
сама Римская империя. В XIX в. говорили о Pax Britannica, а ныне, судя по
всему, можно говорить о Pax Americana.
2э4 Публий Клодий Пульхр (93—51 до Р. X.) происходил из аристократи¬
ческого семейства Клавдиев, но в 59 г. для того, чтобы получить возмож¬
ность сделаться народным трибуном, перешел в плебеи. В 61 г. был обви-
Нен в святотатстве (знаменитый эпизод, когда в декабре 62 г. Клодий,
Любленный в жену Цезаря Помпею, переодевшись в женскую одежду,
Проник в дом Юлия Цезаря во время совершения там мистерий богини
°на Деа), однако был оправдан. В 58 г., будучи народным трибуном,
1004 Приложение
инициировал изгнание Цицерона (за его роль в деле Катилины). Со свои¬
ми вооруженными отрядами стал играть в Риме роль самостоятельной
силы, ему противостоял Милон (см. прим. 734), убивший Клодия в одной
из схваток.
255 О том, что новые императоры Римской империи делались все менее
«римскими», О. Шпенглер уже говорил выше. Здесь в этой связи он обыг¬
рывает значение имени только что упомянутого Песценния: Нигер по-
латыни значит «черный».
256 Ср.: т. 1. гл. 1, раздел 16.
257 Имеются в виду elScoXa — носящиеся в пустоте истечения тел, имею¬
щие их форму, посредством которых, согласно Демокриту, мы видим.
258 См.: Ислам. Энциклопедический словарь. М., 1991. С. 91.
259 Констанцский собор (1414—1418) был созван антипапой Иоан¬
ном XXIII по требованию императора Священной Римской империи Си-
гизмунда. Главной целью собора было решение вопроса папского право¬
преемства: на папский престол претендовали Иоанн XXIII, Григорий XII
и антипапа Бенедикт XIII. Собор также был призван прекратить раскол в
западной церкви, провести церковные реформы и противостоять ересям.
Наиболее важными его результатами были решения о том, что его поста¬
новления обязательны даже для пап и что такие соборы должны проводи¬
ться регулярно. Члены собора упорядочили процедуру избрания пап и
избрали новым папой Мартина V (в миру Оттоне Колонна), положив ко¬
нец расколу между римскими и авиньонскими папами и так называемо¬
му Авиньонскому пленению (период с 1309 по 1377 г., когда вследствие
конфликта короля Франции Филиппа IV Красивого и папы Бонифа¬
ция VIII папы находились во французском Авиньоне и были подконтро¬
льны королям Франции — см. прим. 642). Были осуждены как еретиче¬
ские учения Джона Виклифа, Яна Гуса и Иеронима Пражского (двое по¬
следних прямо в Констанце и были сожжены в 1415 г.). Собор был и
остается предметом оживленных дискуссий, в особенности когда встает
вопрос о верховенстве Вселенского собора над папой. Поскольку собор
был созван антипапой Иоанном XXIII, ставится под сомнение легитим¬
ность его первого этапа. Запутывает все дело и одобрение решений собо¬
ра Мартином V: в тексте одобрения имеется оговорка, в которой, по мне¬
нию некоторых, первый этап собора признается недействительным.
260 Базельский собор (1431 — 1449) был созван папой Мартином V, но
он умер, и открывал его уже Евгений IV. На соборе стали одерживать
верх противники верховенства пап (ими были прежде всего церковные
деятели Германии), которые пытались утвердить церковные соборы в
качестве высшего органа церковной власти (что уже ощущалось в реше-
ниях предыдущего собора в Констанце). В связи с этим Евгений пере-
нес собор в 1437 г. в Феррару, а в 1438 г. — во Флоренцию, Базельский же
собор продолжался уже как антисобор, избрав антипапу Феликса V
(1439); его удалось закрыть лишь папе Николаю V в 1449 г.
261 божественности (лат.); Divus, «божественный» — непременная
часть императорского титула.
262 Чрезвычайно важный в римском праве термин. Буквальному пере-
воду не поддается, описательно можно перевести как «поражение в пра¬
цриложение
1005
вах средней тяжести» (см.: Бартошек М. Римское право. Понятия, терми¬
ны, определения. М., 1989. С. 60. См. также: ДождевД. В. Римское част¬
ное право. М., 1997. С. 248—250; Иоффе О. С, Мусин В. А. Основы
пимского гражданского права. Л., 1974. С. 51—54; Римское частное пра¬
во. М., 1948. С. 120-123).
263 Древнее наименование римских граждан.
264 Правовой сборник XIII в.
265 букв, «право народов» {лат.). Оговорка О. Шпенглера в скобках
объясняется тем, что «международное право» — по-немецки Volker-
recht — также букв, означает «право народов».
266 закона Эбуция (лат.), изданного ок. 160 г. до Р. X.
267 Присяжных в римском судопроизводстве не было. Очевидно,
О. Шпенглер обыгрывает здесь приблизительное соответствие римского
претора (если говорить о его роли в судопроизводстве) английскому су¬
дье, а римского судьи — английским присяжным.
268 Букв, правило (англ.), термин, чрезвычайно широко используемый
в английском праве.
269 Согласно теории английского права, судья не «создает закон», но
его «провозглашает», т. е. в явном виде обнаруживает то, что содержалось
в законе уже изначально, хотя повода для его выявления не возникало.
(Прим. англ, пер.)
270 испрошенные законы {лат.), т. е. принятые непосредственно на¬
родным собранием, в отличие от leges datae — «законов данных» (магист¬
ратом, уполномоченным на это народным собранием или сенатом).
271 Здесь (и чаще всего ниже) не в смысле социальной группы, но как
синоним «разума» (как у Канта и Фихте) или даже скорее «рассудка», хотя
иногда могут иметься в виду и сами носители интеллигенции.
272 В шпенглеровском смысле. См, ниже.
273 Т. е. peregrini dediticii — «сдавшиеся чужеземцы» {лат.). Первоначаль¬
но эту категорию образовывали те народы, которые попали под власть
Римской империи не добровольно, но в результате военного завоевания.
Эти люди (разумеется, кроме обращенных при этом в рабство) были лично
свободными, но не имели никаких прав. Со временем к ним стали отно¬
сить все «нежелательные элементы» Римской империи.
274 законный брак {лат.), т. е. легальный именно по римским законам,
а не по «праву народов» {ius gentium), каким считался брак всех чужезем-
^^{peregrini).
букв, «народ земли», т. е. «крестьянин, деревенщина», человек, не
сведущий в Писании (термин иудейской комментаторской литературы).
Видимо, О. Шпенглер его понимает более негативно, наравне с «гяуром»
или «гоем». Ср. также прим. 448.
Гностическая секта, существующая и теперь. Насчитывает ок. 6000
Чел-, которые живут к югу от Багдада в Ираке и на прилегающих террито¬
риях Ирана. Об их учении см.: Болотов В. В. Лекции по истории древней
Церкви. М., 1994. Т. II. С. 230—235 (репринт, 1-е изд. — СПб., 1907).
Полностью «Corpus iuris civilis» — «Свод гражданского права», со¬
санный при Юстиниане в 528—534 гг. Состоит из «Кодекса Юстиниа-
На», «Дигест», «Институций Юстиниана» и «Новелл».
1006 Приложение
278 Мн. ч. от танна — «учитель» (евр.) — одна из групп еврейских уче-
ных-правоведов, работавших в Палестине в I-II вв. над Мишной.
279 См.: Ислам. Энциклопедический словарь. С. 252 (статья «Фатва»).
280 Лмора — толкователь (евр.).
281 «глава изгнания» (евр.), в литературе называемый еще по-греч. «эк-
зилархом» (означает то же самое), — ненаследственный правитель иуде¬
ев, депортированных Навуходоносором в Вавилон в период с 597 по 581 г.
до Р. X. Должность существовала более тысячелетия. См. также ниже
с. 00.
282 ius — «право», то, что ему соответствует по человеческим законам;
fas — то, что «подобает» по божественным установлениям.
283 См.: Ислам. Энциклопедический словарь. С. 103—104.
284 О шпенглеровском понятии «современность», или «одновремен¬
ность», см.: т. 1. гл. 3, раздел 2.
285 Имеется в виду Мертонский статут (Statute of Merton), изданный анг¬
лийским королем Генрихом III в 1235 (или 1236) в Мертонском монасты¬
ре близ Лондона. Состоит из 11 статей на латинском языке, большинство
из которых регулирует отношения между сеньорами и наследниками их
вассалов и процедуру некоторых видов суд. разбирательств, дополняя и
развивая соответствующие положения Великой хартии вольностей.
286 Максимилиан /(1459—1519), король Германии (1486—1519) и импе¬
ратор Священной Римской империи (1493—1519), выдвинул династию
Габсбургов в число основных европейских действующих сил. Первым
браком он был женат (1477) на Марии Бургундской (1457—1482) и отста¬
ивал свои бургундские владения, сначала защищая их (весьма успешно)
от посягательств короля Франции Людовика XI (военные действия пре¬
кратились в 1493 г.), а после смерти жены — подавляя сопротивление са¬
мих провинций. Вернул себе Австрию после смерти Матвея Корвина
(1490) и на 400 лет обеспечил за Габсбургами права на Венгрию и Боге¬
мию. Пытался без успеха покорить Швейцарию. К участию в Итальян¬
ских войнах был отчасти побужден заключением второго брака — с Бьян-
кой Сфорца. Здесь его постигли крупные неудачи, и в 1504 г. он заключил
с Францией мир, а в 1508 г. вступил даже вместе с Францией в Камбрей-
скую лигу против Венеции, однако впоследствии (1511) вновь выступил
против Франции в союзе с Англией, Испанией и папой (значительна его
роль в разгроме французской армии в «Битве шпор» при Гинегатте в
1513г., названной так потому, что французы сразу же поворотили лоша¬
дей), но в конце концов вынужден был уступить ей Милан. Однако неко¬
торые неудачи на военном поприще он наверстал матримониальными
маневрами, женив (1496) своего сына Филиппа Красивого на Жанне Бе¬
зумной (наследнице Кастилии и Арагона), начав таким образом 200-лет¬
нее правление Габсбургов в Испании, а потом своих внуков на наследии'
ках короля Владислава II Ягеллона. Такое расширение владений и по¬
пытка сделать всю империю наследуемой вызвали беспокойство
немецких князей, в результате чего была проведена реформа имперского
управления: учрежден верховный суд (Reichskammergericht), имперские
палата (Hofkammer) и канцелярия (Hofkanzlei), а вся империя разделен^
на 10 округов. Была заведена постоянная армия, основаны университеты
Приложение
1007
Покровитель искусств и учености, Максимилиан оставил своему наслед¬
нику Карлу V почти половину Европы.
287 Бартоло да Сассоферрато, или Бартол де Саксоферрато
(1314—1357), авторитетнейший итальянский правовед, работал в Перуд¬
же. Позднейших комментаторов, занимавшихся римским правом, назы¬
вали после него бартолистами.
288 Французские правоведы — Жак Куяций, или Кюжа (1522-1590), ра¬
ботал в Бурже; Юг Донелл, или Доно (1527—1591).
289 старый режим (фр.), как правило, применительно к дореволюцион¬
ной Франции.
290 Букв, «дворянство мантии» (фр.), т. е. дворяне, получившие свое до¬
стоинство вследствие занятия определенных должностей в системе пра¬
восудия.
291 судьи {англ.). Английский переводчик пишет в примечании к этому
месту, что, если говорить лишь о судах высшей инстанции, судей в Анг¬
лии и Уэльсе значительно менее пятидесяти, шотландское же право неза¬
висимо от английского и имеет собственное судопроизводство.
292 Английский переводчик добавляет: «в европейском смысле».
293 Оттон II женился на византийской принцессе Феофано в 972 г.
294 Йозеф Виктор Шеффель{ 1826—1886) — поэт и прозаик, один из лю-
бимейших немецких авторов прошлого века. Его исторический роман
«Экхарт», вышедший в 1855 г., пользовался колоссальным успехом, вы¬
держав до 1943 г. более трехсот изданий. Чрезвычайно популярна была
также его лирико-историческая поэма «Трубач из Зеклингена» (1854,
двести изданий только в XIX в.).
295 Покровский собор на Рву, храм Василия Блаженного, строился в
1555-1561.
296 Где хорошо, там и родина {лат.).
297 «Белые стены» — широко употребительное в древности название
Мемфиса (само это название — греческое, а по-египетски город называл¬
ся в условном произношении Хет-ка-Птах, т. е. «усадьба двойника Пта¬
ха»).
298 Ср.: т. 1. гл. 5, раздел 18.
299 По-немецки столица — Hauptstadt, букв, «головной город».
300 Букв, «круг земель» {лат.), т. е. «обитаемый мир».
1 Не вполне точно: венецианские, генуэзские, пизанские купцы не
Упускали своего уже во время первых крестовых походов.
302 Ср.: т. 1. гл. 1, раздел 18.
Мера веса и стоимости в Древней Греции. Талант весил ок. 26,2 кг и
как денежная мера обычно подразумевал количество серебра этого веса.
экономического животного {грен.). Аристотель. Эвдемова этика VII
HU 242а 23.
э Речь идет о Hallenkirche, соборе, в котором боковые нефы имеют ту
Же высоту, что и средний (в традиционном готическом соборе, базилике,
°ни ниже), и перекрыты общей с ним крышей. Это увеличивало объем
внутреннего пространства, улучшало освещенность (пусть даже приглу¬
шаемую витражами), поскольку свет теперь поступал не через низкие
°кна под крышей среднего нефа, но через окна боковых, которые могли
1008 _ Приложение
быть гораздо выше. Обычны трехнефные соборы этого типа, однако
встречаются пяти- и двухнефные (последние — в Австрии). Кроме того,
для данного типа собора, в русле той же тенденции к объединению объе¬
ма, характерно исчезновение поперечного нефа и в значительной мере —
хоров. При всей спорности вопроса о хронологии следует сказать, что не¬
верно относить возникновение зальных церквей ко времени барокко:
первый собор этого типа возведен еще в 1017 г. (капелла Св. Варфоломея
в Падерборне, Германия, строили греки). Правда, он долго оставался в
одиночестве, однако в XII в. возникает целый ряд соборов этого типа, а в
XV в. он становится господствующим, почему зальная церковь и связы¬
вается именно с поздней готикой. На Западе существует специальная ли¬
тература по зальным церквам, напр.: Fink Е. Die gotische Hallenkirchen
Westfalens, 1934; Kronig W. Hallenkirchen in Italien, 1938. Более общие ис¬
следования: GrodeckiL. etal. Gothic arcitecture, 1977; Swan Wim. The Gothic
Cathedral, 1969; Simson O. The Gothic Cathedral, 1988.
306 Дом Феликулы {лат.). Словом insula (букв, остров) назывались в
Риме кварталы доходных домов, а иногда и отдельные такие дома.
307 Сейчас его чаще называют Аменхотеп IV или Эхнатон.
308 См. Ницше Ф. «Так говорил Заратустра». Часть первая. Предисло¬
вие Заратустры, 5. Часть вторая. О человеческой сообразительности.
309 Имеется научный комментированный перевод А. Я. Сыркина:
Ватсьяяна Малланага. Камасутра. М., 1993.
310 Ср.: т. 1. гл. 5, раздел 18.
311 Несколько лет назад обнаружился французский крестьянин, семья
которого владеет своим наделом с IX в. {Прим. англ, пер.)
312 При известии о рождении сына Будда произнес знаменитые слова:
«Рахула родился у меня» («рахула» — оковы).
313 Нора — героиня драмы Г. Ибсена «Кукольный дом» (1879); Нана —
героиня одноименного романа Э. Золя (1880)
314 закон о порядке вступления в брак {лат.). Принят в 18 г. до Р. X. и
дополнен впоследствии (в 9 г.) законом Папия Поппея о браке, так что
они слились в один закон. Закон запрещал свободнорожденным гражда¬
нам вступать в брак с проститутками, своднями и их вольноотпущенни¬
цами, с женщинами, уличенными в прелюбодеянии, а также с актрисами
и женщинами, осужденными за государственные преступления. Стре¬
мясь поощрить римлян заключать правильные браки и производить на
свет легитимное потомство, законы запрещали получать наследство (вне
зависимости от того, по завещанию ли или по закону) холостякам брач¬
ного возраста и вдовцам того же возраста (25—60 лет) или вдовам
(20—50 лет), не вступившим в новый брак. Женатым, но бездетным до¬
зволялось получить только половину наследства. Предусматривалось
также освобождение из-под опеки матерей троих детей (см.: Дождев Д. В.
Указ. соч. С. 293—294; Картотек М. Указ. соч. С. 191 — 192).
315 «Латифундия погубила Италию, да, собственно, уже и провинции»
{лат.). Плиний Старший. Естественная история XVIII 6.
316 Определить, что это за книга, не удалось. Возможно, речь идет об
одной из предвыборных брошюр. Во время своего президентства
(1901—1909) Теодор Рузвельт (1858—1919) провозгласил крестовый по-
ириложение 1009
ход против «самоубийства расы», как он называл контроль за рождаемо¬
стью. Известны слова, сказанные им об абортах: «Тот грех, наказание за
который — национальная смерть, смерть расы; грех, которому не может
быть отпущения».
317 В амфитеатрах Нима и Арля приютились городки, появившиеся
вместо античных городов: внешние стены амфитеатров стали городски¬
ми стенами. (Прим. англ, пер.)
318 Т. е. православной церкви.
319 В указанном труде Гумбольдта этих слов нет, однако близкие идеи
содержатся (см.: Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию.
М, 1984. С. 70-71, 162-172).
320 Строительная ложа — Bauhiitte, внецеховое (отсюда — словосочета¬
ние «вольный каменщик») сообщество каменщиков, создававшееся для
работы над сооружением крупного средневекового собора. Члены ложи
подчинялись определенному уставу, который всякий раз бывал уставом
сразу нескольких лож, поскольку головной ложе подчинялись младшие.
Такими головными ложами в Германии были Страсбургская (превосхо¬
дившая рангом все прочие), Кельнская, Венская, Бернская (позже Цю¬
рихская). Внутри лож передавались технический опыт, приемы, строите¬
льные и архитектурные знания, хранившиеся, как секреты ложи, в стро¬
гой тайне. Занимались здесь также и созданием скульптуры. Как
правило, строительная ложа продолжала существовать и после заверше¬
ния строительства данного собора. Первые ложи возникли в XIII в., рас¬
цвет их относится к XIV в., а в XV в. обострилась конкуренция с ними со
стороны цехов. В XVI в. строительство больших соборов идет на спад и
часть уставов лож перешла в цеховые уставы. Уцелели лишь небольшие
остатки книг строительных лож. Отдельные ложи просуществовали
вплоть до XIX в. См.: Муратова К. М. Мастера французской готики. М.,
1988. С. 142—154. На Западе имеется обширная специальная литература
по строительным ложам, напр.: JennerF. Die Bauhutten des deutschen Mit-
telalters. Leipzig, 1878; ReichenspergerA. Die Bauhutten des Mittelalters, 1879;
Haase J. Die Bauhutten des spaten Mittelalters, 1919; DischerC. Deutsche Bau¬
hutten und ihre Geheimnisse, 1932; Ried F. Die Organisation einer Bauhiitte,
Diss. MunchenTH, 1939.
321 Карл Фридрих Шинкель (1781 — 1841), немецкий архитектор и ху¬
дожник, «классицист с элементами неоготики», построил, в частности, в
Берлине Новую Караульню, Старый Музей, Оперный театр. Готфрид
Шадов (1764-1850), немецкий скульптор, «классицист, обогащенный
натурализмом», создал статуи Фридриха II, квадригу на Бранденбургских
воротах и др.
Строить из кирпича в Европе начали в IX—X вв. в Ломбардии, с се¬
редины XII в. — в Гольштейне, Бранденбургской Марке, Баварии и Да-
Нии. См.: Stiel О. Der Backsteinbau romanischer Zeit, besonders in Oberitalien
^nd Norddeutschland, 1898; Он же. Backsteinbauten in Norddeutschland und
^ijemark, 1923; Burmeister W. Norddeutsche Backsteindome, 19433.
3 Франц Боас (1858—1942) — немецко-американский ученый, осно-
в°положник научной антропологии.
1010
Приложеi
Hue
324 Автор здесь группирует взятые из разных культур (сельской немец,
кой, рыцарской, древнегреческой и латинской) названия функционала
но близких помещений, что трудно передать в переводе.
325 Т. е. городов, не входящих в состав какой-либо земли, а подчинен-
ных непосредственно императору.
326 О. Шпенглер неоднократно упоминает надписи с о. Лемнос в Эгей¬
ском море, в которых содержатся слова, близкие к этрусским. Ср. прим.
355 и соответствующее место в тексте.
327 Немецкие города (Гельнхаузен — возле Франкфурта-на-Майне, Гос-
лар — в Нижней Саксонии, Вартбург — замок возле Айзенаха в Тюрин¬
гии), известные своей средневековой архитектурой, во многом дошед¬
шей до нашего времени.
328 Палас — жилой дом замка с залом для торжеств и парадными покоя¬
ми. Что имеется в виду под мужским залом (Mdnnerhalle), установить не
удалось. По-видимому, это также помещение в замке.
329 Речь идет о захоронениях павших в сражениях первой мировой вой¬
ны. Как известно, в первую мировую войну (как и во вторую) был очень
высок процент неопознанных погибших и пропавших без вести. Фран¬
цузы воздвигли под Верденом памятник в честь 150 000 ненайденных во¬
инов, которые, как предполагается, покоятся в этой земле.
330 Имеется в виду поверье, что беременная женщина, засмотревшись
на что-то неприятное или некрасивое, может передать соответствующую
черту будущему ребенку, даже родить и не человека вовсе. Подобные мо¬
тивы есть у многих народов. Просветительское, скептическое отношение
к этому находим в кн.: Забылин М. Русский народ, его обычаи, обряды,
предания, суеверия и поэзия. М., 1880 (репринт — 1989). С. 271—272. См.
также: Грушко Е., Медведев Ю. Словарь русских суеверий, заклинаний,
примет и поверий. Нижний Новгород, 1996. С. 37.
331 Головокружительность этих цифр свидетельствует об их нереально¬
сти. Ок. 1000 г. миллиарда людей, видимо, не было на всей Земле, не го¬
воря уже о том количестве предков, которое получится, если исчислить
их для «вполне исторического» начала 3-го тысячелетия до Р. X. Очевид¬
но, фактором, радикально «выкашивающим» наших предков, оказывает¬
ся то, что ок. того же 1300 г. любой наш предок мог быть нашим пращу¬
ром практически сколь угодно много раз: уже через четыре-пять поколе¬
ний его потомки вполне могли иметь совместных детей и не догадываясь
о родстве. В предельном случае, если взять браки фараонов, женившихся
на сестрах, число предков с продвижением в прошлое вообще могло нс
увеличиваться (вопрос вырождения и пресечения династии оставляем
здесь в стороне). Очевидно, истина где-то посередине, и даже ближе к
«фараонскому» случаю: поскольку все мы вышли из деревни, а деревня
накладывает на выбор супруга очень жесткие ограничения, стремитель¬
ный рост численности предков начинается лишь с преобладанием город
ского населения над сельским. Впрочем, в следующей фразе О. Шпеш
лер делает попытку исправить эту неточность, говоря об ограничении
числа «границами ландшафта» и о «многократном родстве». Значит, если
весь «ландшафт» — 2—3 деревни (как оно сплошь и рядом бывало), ника¬
кого роста предков не наблюдается уже приблизительно начиная с 8-го
ириложение
1011
поколения в глубь истории, т. е. с годов более ранних, чем 200-й от исход¬
ного.
332 Старинное русское название для Aquila heliaca (орел-могильник).
Немецкое KonigsadlerftyKB. значит «королевский орел».
333 Птица семейства сорокопутов, длина тела до 18 см. Кроме способ¬
ностей к подражанию жулан примечателен еще тем, что, подобно другим
сорокопутам, накалывает свою добычу на шипы и острые ветви, что, ра¬
зумеется, сообщает месту его обитания чрезвычайно мрачный колорит.
Немецкое название весьма выразительно: Wiirger — душитель, убийца.
334 Макс Регер (1873—1916), немецкий композитор, органист, пианист,
дирижер, теоретик музыки, педагог, считается связующим звеном между
поздним романтизмом и неоклассицизмом.
335 Goethe J. W. Werke. Berlin, Aufbau-Verlag, 1970. Bd. 17. S. 298.
336 В лат. яз. — воля божества, его проявление (букв, мановение, ки¬
вок), а отсюда — и само божество. Применительно к понятиям современ¬
ной физики. См. также: т. 1. В данном случае О. Шпенглер обыгрывает
еще и звуковую близость этимологически не связанных слов numen — no¬
men (имя).
337 Обретшее долгую жизнь латинское словцо Э. Дюбуа-Реймона из его
знаменитой лекции 1872 г. «О пределах познания природы», в которой он
сказал, что мы не только не знаем (ignoramus), но и никогда не будем
знать (ignorabimus) двух вещей: сущности взаимодействия тела и души и
соотношения, в котором находятся материя и энергия.
338 Если Zeitwort (букв, «временное слово», калька с лат. verbum tempora-
le) употребительно в немецком языке с XVII в. как отечественный заме¬
нитель латинского термина, то построенное по аналогии с ним словосо¬
четание Raumwort, «пространственное слово», принадлежит, сколько
можно судить, самому О. Шпенглеру. Ср. соответствующие немецкие
слова для лат. потеп («имя существительное») — Hauptwort (букв, «глав¬
ное слово») или Dingwort («предметное слово»).
339 «Mit einem reden dwfen» — букв, «иметь право говорить с кем-то».
Современному сознанию это может показаться непонятным, однако
еще недавно даже формальное «право на речь» было далеко не у всех
(«не вели казнить, вели слово молвить»), а во многих семейных укладах
оно и сегодня не является чем-то само собой разумеющимся («молчи,
женщина!»).
340 О. Шпенглер еще не различает здесь «народы боевых колесниц» от¬
куда более поздних «конных народов» (редакционное прим, из современ¬
ного немецкого издания).
Митанни — название государства, существовавшего в середине 2-го
тысячелетия до Р. X. на территории Армении, Сирии и Ассирии. Правив¬
ших пришлых индоиранских завоевателей называли здесь «марианну».
Весьма вероятно, принцессой из Митанни была египетская царица Не¬
фертити.
Так же как и идиш, фактически диалект немецкого языка, пользует¬
ся еврейским письмом.
342 ^ ^
Коинэ — упрощенный в сравнении с классическим древнегрече¬
ский язык. В частности, на нем написан Новый Завет. См.: Мейчен Дж.
1012
Приложение
Грешем. Учебник греческого языка Нового Завета. М., 1994; ср.: Козар-
жевский А. Ч. Источниковедческие проблемы раннехристианской лите¬
ратуры. М., 1985. С. 41—44.
343 То есть так называемым мандаринским языком. Фактически он же
теперь под названием путунхуа («всеобщий язык») является государст¬
венным языком Китая.
344 Сборник служебных евангельских текстов.
345 Carmen saliare — «песня салиев» {лат.), членов жреческой коллегии,
совершавшей обряды в честь Марса. Очень своеобразна была их пляска в
военном снаряжении. Арвальские братья — также жреческая коллегия,
связанная с культом плодородия.
346 Среднеперсидский язык.
347 Античное название Амударьи.
348 городом-полисом {лат.), государством в специальном античном
смысле.
349 В конце концов они захватили Мессану и связанные с этим колли¬
зии спровоцировали 1-ю Пуническую войну, ср. прим. 689.
350 См. выше.
351 Ср. об этом ниже.
352 Wanderung можно также переводить как «странствие», что и оказы¬
вается необходимым сделать уже через предложение.
353 Абсурдность в том, что если саксы — действительно германское пле¬
мя, то Ганновер — историческое название области (ныне земли) на севе¬
ро-западе Германии, изначально заселенной представителями разных
племен. Обыгрываются также названия исторических областей Герма¬
нии: захваченная в X в. Саксония (первоначально Верхняя Саксония, с
центром в Дрездене) и Нижняя Саксония, где протекает Везер. Ганновер¬
ская династия правила в Англии в 1714—1901 гг. (первым королем был
Георг I, курфюрст Ганновера), а Ганновер находился в 1714—1837 гг. в
личной унии с Англией.
354 Пфальц в Германии — первоначально так назывался феодальный
замок, а потом и вся зависимая область, управлявшаяся пфальцграфом.
Два наиболее известных пфальца, просуществовавшие дольше всего, на¬
ходились в среднем течении Рейна (Нижний Пфальц) и в Баварии (Верх¬
ний Пфальц), ими чаще всего владело одно и то же лицо. Часть Нижнего
Пфальца входит ныне в землю Германии Рейнланд-Пфальц. Калабрией в
античности называлась нынешняя итальянская область Апулия, а то, что
называется теперь Калабрией, тогда именовалось Бруттием.
355 Этрусский вопрос — один из самых запутанных, и углубляться в
него здесь не место. Следует лишь сказать, что тирренами (в другом про¬
изношении — тирсенами) греки называли как племя в Лидии (Малая
Азия), так и жителей Этрурии, этрусков.
356 Принято делить европеоидов в антропологическом отношении на
три группы: северную (светловолосые, ксантохрои), южную (темноволо¬
сые, меланохрои) и промежуточную. В науке XIX—нач. XX в. эти типы
именовались соответственно «нордический», «средиземноморский»
(или «индо-средиземноморский») и «альпийский». Ко вторым тогда от¬
носили выходцев из Южной Европы, к последним — из Ирландии; и тех
Приложение
1013
И других было много среди иммигрантов в США. Ныне к средиземномор¬
ской малой расе (долихокефальной) относят жителей Италии, Испании
и Южной Франции; к альпийской — короткоголовых (брахикефалов)
шатенов среднего роста с прямой или вогнутой спинкой носа, живущих в
Швейцарии и прилегающих регионах ФРГ, Австрии и Италии.
357 См. ниже, прим. 586.
358 Ср. ниже.
359 См. ниже, прим. 413.
360 Присяга в верности, данная друг другу Людовиком Немецким и
Карлом Лысым после победы, одержанной ими над Лотарем, причем
Людовик приносил ее «по-романски» (это и подразумевает О. Шпенглер
под французским языком), а Карл — «по-тевтонски». Об этом рассказыва¬
ет современник событий историк Нитард (Нитгард), внук Карла Велико¬
го. Его история написана по-латински, текст же клятвы дается на тех
языках, на которых она произносилась.
361 В более новой литературе — Тиглатпаласар III (см., напр.: Бикер-
ман Э. Хронология Древнего Мира. М., 1975).
362 В синодальном переводе — Сеннаар (см.: Быт. 10, 10; 11, 2; Ис. 11,
11; Дан. 1, 2; Зах. 5, 11), земля, обычно отождествляемая с Шумером,
Южной Месопотамией (или Вавилонией), в более широком смысле —
вся Месопотамия.
363 Практически все они (ок. 30 000 человек) недавно, с 1974 по 1991 г.,
были переселены в Израиль.
364 Ср.: т. 1. гл. 2, раздел 11.
365 народы (греч.) или, по-старому, языки (отсюда — язычники).
366 Ср. о Диоклетиане как халифе: т. 1. гл. 4. О понятии «халиф» см.: Ис¬
лам. Энциклопедический словарь. С. 268.
367 См. прим. 45.
368 С этой точки зрения интересны некоторые христианские легенды,
которые отождествляют Крест, на котором принял смерть Иисус Хрис¬
тос, с библейскими деревьями (в частности, с древом познания добра и
зла), самого же Христа трактуют как последний и величайший плод тако¬
го дерева. См.: Христианство. Энциклопедический словарь. М., 1993.
Т.1.С. 835—836; см. также: Him Yrjo. The Sacred shrine; a study of the poetry
and art of the Catholic church. London, 1912.
369 Генрих Бургундский (1057—1114) в 1093 г. пришел на помощь Касти¬
лии, подвергшейся нападению мавров. В благодарность Альфонс IV, ко¬
роль Кастилии и Леона, тесть Генриха, сделал его в 1097 г. графом Порту¬
гальским. В 1109 г., по смерти Альфонса, Генрих объявил о своей незави¬
симости. Ту же политику продолжала и его вдова Тереза.
70 Гогенштауфены (Штауфены) — династия королей Германии и им¬
ператоров Священной Римской империи. Имя Гогенштауфен происхо¬
дит от названия их родового замка в Швабии. В 1079 г. Фридрих I, герцог
Швабии, женился на Агнессе, дочери императора Священной Римской
империи Генриха IV, что явилось первым шагом к основанию династии:
138 г. их сын был избран королем Германии под именем Конрада III.
По его указанию следующим королем в обход его собственного сына был
Избран (1152) его племянник Фридрих I Барбаросса. Император с 1155 г.,
Приложение
1014
он предпринял пять походов в Италию, вел длительную и ожесточенную
борьбу с ломбардскими городами, в 1162 г. до основания разрушил Ми¬
лан, но в 1176 г. потерпел сокрушительное поражение от Ломбардской
лиги при Леньяно. Крупной дипломатической победой Барбароссы был
брак его сына и наследника Генриха IV с наследницей Сицилийского ко¬
ролевства Констанцей, что дало сыну титул короля Сицилии, имевшей
богатейшие ресурсы; их сын Фридрих II Штауфен был избран королем
Сицилии в возрасте трех лет в 1197 г., в 1212 г. стал королем Германии, а в
1215 г. — императором Священной Римской империи. Его предшествен¬
ником на германском троне был младший сын Барбароссы Филипп
Швабский, преемником — Конрад IV (1250—1254). Судьба сыновей
Фридриха II трагична: старший сын Генрих, восставший против отца,
кончил свои дни в тюрьме, Манфред погиб в сражении (1266), внук Кон-
радин (см. о нем прим. 467) был разбит в бою и казнен в Неаполе (1268).
Энцио, незаконный сын Фридриха II, принял титул короля Сардинии,
однако был заточен в тюрьму. С его смертью в 1272 г. династия пресек¬
лась. Уже при Конраде III Гогенштауфены пришли в конфликт с Вельфа-
ми, герцогами Саксонии и Баварии, причем папы римские выступали на
стороне последних. В Италии эта борьба нашла свое выражение в борьбе
гвельфов (искаженное Вельфы) и гибеллинов (искаженное Вайблинген,
замок Гогенштауфенов), продолжавшейся еще долго, едва не до XVI в.,
когда сами эти династии давно исчезли с политической карты Европы.
Разумеется, тогда эта борьба имела уже внутренние корни: в ней сходи¬
лись по преимуществу сторонники папского правления в Италии (гвель¬
фы) и сторонники преобладания здесь власти императора Священной
Римской империи либо впоследствии короля Франции (гибеллины).
371 единая Италия (ит.).
372 Возле деревни Бувин во Фландрии (ныне территория Франции), ок.
16 км к юго-востоку от Лилля, 27 июля 1214 г. произошла решающая бит¬
ва между французской армией и армией европейской коалиции, которой
предводительствовали отлученный от церкви император Священной
Римской империи Оттон IV, граф Фландрии Фердинанд и несколько
мелких государей. Командовавшего французской армией короля Фи¬
липпа II, известного также под именем Филипп Август, поддерживал
Фридрих Гогенштауфен, одобренный папой кандидат на корону Свя¬
щенной Римской империи. За счет превосходства своей кавалерии и
ополчения свободных французских городов Филипп Август одержал
победу, однако обе стороны понесли тяжелые потери в тысячи человек.
Непосредственным результатом сражения явилось провозглашение
Фридриха императором — Фридрихом И; Франция стала одной из веду¬
щих в Европе сил. Непрямым следствием явилось подписание королем
Англии Иоанном Безземельным (дядя Оттона, который шел ему на по¬
мощь с юга и был разбит французами при Ларош-о-Муан) Великой хар¬
тии (15 июня 1215 г.), ибо он более не мог противостоять своим восстав¬
шим баронам.
373 Город приблизительно в 50 км на северо-запад от Берлина. Здесь 28
июня 1675 г. войска Фридриха Вильгельма, Бранденбургского курфюр'
Приложение
1015
ста (прозванного Великим Курфюрстом), разбили вторгшиеся в Герма¬
нию шведские войска под командованием Карла Густава Врангеля.
374 Написанная в 1767 г. комедия Г. Э. Лессинга (подзаголовок — «Сол¬
датское счастье»).
375 Очевидно, в Германии и во Франции.
376 Слова были произнесены в 1815 г. прославленным американским
морским офицером Стивеном Декатуром (1779— 1820) на банкете в Нор¬
фолке, данном в его честь: «Это наша страна! Да будет она всегда на сто¬
роне справедливости в ее отношениях с другими странами, однако это
наша страна, права она или нет!» Такие слова встречаются и у Карла
Шурца (Schurz, 1829—1906), американского государственного деятеля и
публициста, друга А. Линкольна и участника Гражданской войны, про¬
исходившего из Германии (эмигрировал в связи с участием в революции
1848 г.): «Это наша страна, права она или нет. Если она права — ее под¬
держим, если нет — поправим». Ср. схожие мысли у Платона («Критон»
51е—52а). Слова «Это наша страна, права она или нет!» были написаны
на воротах фашистского концлагеря Бухенвальд.
377 «Лучше мертвый, чем раб» (по-немецки — «Lieber tot als Sklave»).
378 Ср.: с. 376-379.
379 Город в области Пиерия (на юге Македонии), где в 168 г. до Р. X.
римские войска Луция Эмилия Павла разбили армию македонского царя
Персея.
380 В литературе чаще — просто при Пуатье. Франкское войско под
командованием майордома Карла Мартелла одержало здесь победу над
арабским.
381 «Песнь о Хильдебранде» — написанная на древневерхненемецком
языке аллитерированная поэма, дошедшая в записи ок. 800 г. Кроме нее
и «Муспилли», никаких других поэм в таком роде не сохранилось. Пове¬
ствует о поединке рыцаря Хадубранда с собственным отцом Хильдебран¬
дом, которого он не узнал. Конец поэмы отсутствует. Латинская поэма
«Вальтарий» (Waltharilied, ок. 930 г.) ранее приписывалась монаху Сент-
Галленского монастыря Эккехарду I Старшему, теперь его авторство
оспаривается в пользу некоего Геральда. Повествует о бегстве Вальтера
Аквитанского с невестой Гильдегундой Бургундской от Аттилы, в плену у
которого они находились.
38 Деревня в Пикардии на севере Франции, где войска Пипина Гери-
стальского, майордома Австразии (франкского королевства, образовав¬
шегося в результате распада Франкского государства после смерти Хло-
ТаРя I в 561 г.), одержали победу над войсками Тьери III, короля Нейст-
РИИ (другого франкского королевства, возникшего тогда же), в
Результате чего Нейстрия была покорена, а внук Пипина Геристальского
и сын Карла Мартелла Пипин Короткий сделался в 751 г. королем фран-
^в^первым из Каролингов, Карл Великий — его внук).
Философская наука, противополагаемая «индивидуальной этике»;
Шпенглеру она видится несколько шире — как определенное состоя-
общества.
«Записки из подполья» I, II.
1016
Приложение
385 Ср.: «А что, как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уйдет ли с
ним вместе и весь этот гнилой, склизлый город, подымется с туманом и
исчезнет как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди его,
пожалуй, для красы, бронзовый всадник на жарко дышащем, загнанном
коне?» («Подросток». Ч. I. Гл. 8, I). «Казалось, наконец, что весь этот
мир, со всеми жильцами его, сильными и слабыми, со всеми жилищами
их, приютами нищих или раззолоченными палатами — отрадой сильных
мира сего, в этот сумеречный час походит на фантастическую, волшеб¬
ную грезу, на сон, который в свою очередь тотчас исчезнет и искурится
паром к темно-синему небу» («Слабое сердце», конец; почти слово в сло¬
во этот текст повторен в «Петербургских сновидениях в стихах и прозе»).
Уточним, что родился Достоевский в Москве, на Божедомке, хотя и про¬
жил ббльшую часть жизни в Петербурге.
386 См.: Кара-Мурза Л. А., Поляков JI. В. Реформатор. Русские о Петре I.
Опыт аналитической антологии. Иваново, 1994. С. 191 — 193, а также ста¬
тью Б. А. Успенского «Historia sub specie semioticae» в кн: Культурное на¬
следие Древней Руси. М., 1976. С. 286—292.
387 Ср. у Достоевского: «...Нам, желторотым, другое, нам прежде всего
надо предвечные вопросы разрешить, вот наша забота. Вся молодая Рос¬
сия только лишь о вековечных вопросах теперь и толкует... Ведь русские
мальчики как до сих пор орудуют? Иные то есть? Вот, например, здеш¬
ний вонючий трактир, вот они и сходятся, засели в угол. Всю жизнь
прежде не знали друг друга, а выйдут из трактира, сорок лет опять не бу¬
дут знать друг друга, ну и что ж, о чем они будут рассуждать, пока поймали
минутку в трактире-то? О мировых вопросах, не иначе: есть ли Бог, есть
ли бессмертие? А которые в Бога не веруют, ну те о социализме и об анар¬
хизме заговорят, о переделке всего человечества по новому штату, так
ведь это один же черт выйдет, все те же вопросы, только с другого конца.
И множество, множество самых оригинальных русских мальчиков толь¬
ко и делают, что о вековечных вопросах говорят у нас в наше время. Разве
не так?» («Братья Карамазовы». Ч. II. Кн. V, IV).
388 «Братья Карамазовы». Ч. II. Кн. V, IV.
389 Jimger— это и ученик, и последователь, и (применительно к учени¬
кам Христа) апостол.
390 Или Шаммар Юхариш, вождь племени химъяритов, считается пер¬
вым исторически достоверным правителем Сабы, жил в последние деся¬
тилетия III в. по Р. X. Принял титул «царь Сабы, Дху Райдана, Хадрамаута
и Я маната».
391 воинстве Христа {лат.). Трактат «К мученикам», 3 (пер
Э. Г. Юнца): «Допустим, что темница даже христианам в тягость. Но мы
призваны на службу Бога Живого с тех пор, как при крещении дали при¬
сягу. Между тем ни один воин в походе удобств не знает. Не с мягкой по¬
стели он встает, чтобы идти в сражение, но выходит из лагеря, где жест¬
кость земли, суровость воздуха и грубость пищи закалили его тело. Даже в
мирное время воины заняты упражнениями: маршируют с оружием, хо¬
дят в учебные атаки, роют окопы, учатся строить «черепаху». Они делают
все это в поте лица, чтобы закалить тело и душу — и в тени, и на солнце, и
под дождем, сменяя платье на доспехи, тишину на крик, отдых на трево-
Приложение
1017
jy. Вот почему, воины Христовы, какими бы жестокими ни казались
ваши испытания, считайте, что они призваны закалить вас. Вам предсто¬
ит прекрасное состязание, устроитель которого — Бог Живой, распоря¬
дитель — Святой Дух, а призами служат вечная жизнь, ангельское обли¬
чье, небесная обитель и слава во веки веков. И вот, ваш наставник Иисус
Христос, который умастил вас Святым Духом и вывел на эту борцовскую
площадку, пожелал, чтобы вы накануне состязания подвергли себя опре¬
деленным ограничениям для укрепления сил. Ведь и борцы для укрепле¬
ния тела соблюдают строгий режим: воздерживаются от роскоши, от тон¬
ких лакомств и изысканных вин. Чем больше они потрудятся в воздержа¬
нии, тем больше уверены в предстоящей победе. Но они, по словам
апостола, ищут тленных венков, а мы стремимся стяжать нетленный
(1 Кор. 9, 25). Так будем же тюрьму считать площадкой для тренировок,
откуда нас выведут подготовленными на старт: ведь мужество в испыта¬
ниях крепнет, тогда как роскошь его расслабляет» (цит. по: Тертуллиан.
Избранные сочинения. М., 1994. С. 274—275).
392 Язычников убивали не только на Кипре. Так, считается, что в Кире-
не их было убито 220 000 человек.
393 Хорошо сохранившиеся до нашего времени ворота в Трире (Porta
Nigra — по-латыни «черные ворота»).
394 О. Шпенглер употребляет здесь исторический немецкий военный
термин Fahnlein, отряд ландскнехтов в 400 человек.
395 каре, квадратное построение (также исторический термин). Впро¬
чем, неясно, как такое построение могло благоприятствовать проявлени¬
ям «личной храбрости».
396 Георгфон Фрундсберг( 1473—1528), командир немецких ландскнех¬
тов, из семьи военных, с 15 лет принимал участие в военных действиях и
всю жизнь провел на войне, служа императорам Священной Римской
империи — сначала Максимилиану I, а потом Карлу V. С ним на европей¬
скую сцену вышли немецкие ландскнехты, которые во всех смыслах, в
том числе и в прямом, поскольку их услуги были куда дешевле, составили
конкуренцию уже давно широко применявшимся швейцарцам. Воевал в
Германии и неоднократно — в Италии, начиная с итальянского похода
Максимилиана (1499). Затем участвовал в войне с Венецией в 1509 г., в
которой сыграл значительную роль, воевал в Италии в 1513 г., с 6000 на¬
вербованных им немецких ландскнехтов участвовал в осаде Венеции, во
многом благодаря ему была одержана победа при Виченце. Затем снова
войны в Германии, успешные действия против Франции (в частности, в
сражении при Бикокке в 1522 г. его ландскнехты одолели швейцарцев). В
Дальнейших итальянских войнах решающую роль сыграл при Павии в
1525 г. На следующий год, навербовав (на свои средства, заложив имуще¬
ство свое и жены) в Германии 11 000 ландскнехтов, снова перешел Альпы
(по преданию, он сказал о Клименте VII: «Этого папу надобно пове¬
сить»). В январе 1527 г. войска Фрундсберга и французская армия под
Командованием Бурбона соединились. При получении известия (впо¬
следствии не подтвердившегося) о заключении мира лишенный средств
й продовольствия отряд взбунтовался: его устроило бы только разграбле¬
ние крупного итальянского города. Солдатский бунт был воспринят
1018 Приложение
Фрундсбергом настолько близко к сердцу, что его хватил удар, от которо¬
го он уже не оправился. Солдаты же, как известно, вскоре вознаградили
себя разграблением Рима (печально знаменитый sacco di Roma в мае
1527 г., штурм начался 6 мая). Во время Вормсского рейхстага в 1521 г.
Фрундсберг якобы сказал Мартину Лютеру, потрепав его по плечу: «Мо¬
нашек, монашек, ты пошел путем, которым не довелось идти ни мне, ни
многим другим полководцам».
397 Ср. ниже, прим. 663.
398 В вероисповедном смысле. Ср. прим. 365.
399 Матф. 18, 20.
400 «Знание» и «исповедание» в немецком языке — однокоренные и
очень близкие слова (Kenntnis и Bekenntnis).
401 Юпитер Долихен — Ваал, почитавшийся в небольшом городе Доли-
хе, находившемся в Коммагене (на севере Сирии). В Риме и по всему За¬
паду его культ стал широко распространяться со времени Адриана. В ча¬
стности, был очень популярен в армии и на флоте. Сабазий — фригийское
божество, отождествлявшееся с Дионисом-Загреем. В Греции ему покло¬
нялись с V в. до Р. X., в Риме его культ слился с культом Юпитера. Sol in-
victus — «Неодолимое Солнце» (лат.). Почитание Солнца естественно
для всякой языческой религии, и Юпитер изначально был также и богом
дневного света. Однако начиная с императора Аврелиана в Риме стал
складываться синтетический и синкретический культ Солнца (отождест¬
влявшегося с персидским Митрой) и императора как земного Солнца.
При Диоклетиане он расцвел, а Юлианом был обоснован и теоретически.
(Ср.: Preller L. Romische Mythologie, Berlin, 1858. S. 756 — упоминание о
возведенном в мае 1812 г. в дрезденском театре храме Солнца с надписью,
посвященной Наполеону: «Солнце само затмил Он величьем и блес¬
ком».) Атаргата (или Деркето) — сирийская богиня, в которой слились
черты Анат и Астарты; широко почиталась в греко-римском мире, где ее
отождествляли с Афродитой-Венерой. Место ее культа упоминается в
Ветхом Завете (2 Макк. 12, 26); ей посвящен трактат Лукиана «О сирий¬
ской богине».
402 единый лик богов и богинь (лат.).
403 В англ, переводе наоборот, и скорее всего это правильнее.
404 Подробно о напитке и мифологии хаомы см.: Мифологический сло¬
варь. М., 1991. С. 582—583. О том, из какого растения он приготовлялся,
единого мнения нет. Современные зороастрийцы используют эфедру-
хвойник (см.: Бойс М. Зороастрийцы. Верования и обычаи. М., 1988.
С. 12). В древнеиндийской религиозной практике хаоме соответствовала
сома, см. Мифологический словарь. С. 507—508; Бонгард-Левин Г. М -
Грантовский Э. А. От Скифии до Индии. М., 1983. С. 113—129, а также:
Упанишады. Книга 2. М., 1991. С. 245.
405 Вообще слово Abendmahl — «причастие», но мы переводим его бук-
вально: еще в XIX в. (и в некоторых областях до сегодняшнего дня) оно
употреблялось в смысле «ужин». В раннем христианстве таинство прича-
щения совершалось не во время дневного богослужения, а на вечернеп
трапезе, в подражание Тайной вечери Иисуса Христа (так называемое
агапэ, см.: Христианство. Энциклопедический словарь. Т. 1. С. 33).
Приложение 1019
406 О них см.: Амусин И. Д. Рукописи Мертвого моря. М., 1960; Он же.
Кумранская община. М, 1983. С. 187-201.
407 Хотя Юлиан был убит в Месопотамии во время войны с персами,
пал он, по некоторым догадкам современников (Либаний, Речь XVIII
274—275; Аммиан Марцеллин XXV 6, 6), от руки своего же воина-христиа-
нина (см.: Ранович А. Б. Первоисточники по истории раннего христиан¬
ства. Античные критики христианства. М., 1990. С. 440).
408 Самый краткий символ веры ислама: «Нет Бога кроме Аллаха и Му¬
хаммад — посланник Аллаха!» («Ла илаха илла Лаху ва Мухамадун расулу
Лахи»).
409 верховным жрецом (лат. pontifex — букв, мостостроитель). В раннем
христианстве pontifex звался всякий епископ. Впоследствии именование
pontifex maximus закрепили за собой папы и традиционно его сохраняют.
4.0 судьбой, долей, участью — делить {араб.).
4.1 Пригород Вавилона.
4.2 Т. е. Бела (см.: Мифологический словарь).
413 Приводим начало надписи: «Я — Дарий, царь великий, царь царей,
царь в Персии, царь стран, сын Виштаспы, внук Аршамы, Ахеменид.
Говорит Дарий-царь: «Мой отец — Виштаспа, отец Виштаспы — Ар-
шама, отец Аршамы — Ариарамна, отец Ариарамны — Чишпиш, отец
Чишпиша — Ахемен. Поэтому мы называемся Ахеменидами. Искони мы
пользуемся почетом, искони наш род был царственным. Восемь [чело¬
век] из моего рода были до меня царями. Я — девятый. Девять нас были
последовательно царями. По воле Ахурамазды я — царь. Ахурамазда дал
мне царство... Эти страны мне достались. По воле Ахурамазды [они] ста¬
ли мне подвластны, приносили мне дань. Все, что я им приказывал, —
ночью ли, днем ли, — они исполняли. В этих странах [каждого] человека,
который был лучшим, я ублаготворял, [каждого,] кто был враждебен, я
строго наказывал. По воле Ахурамазды эти страны следовали моим зако¬
нам. [Все], что я им приказывал, они исполняли. Ахурамазда дал мне это
Царство. Ахурамазда помог мне, чтобы я овладел этим царством. По воле
Ахурамазды этим царством я владею»» (перевод В. И. Абаева). Полный
перевод см.: Хрестоматия по истории Древнего Востока. Часть вторая.
М.Л980. С. 24-32.
14 В науке так называют вторую часть книги Исайи, гл. 40—66.
5 2-я Эздры 5,41: «Всех же израильтян от двенадцати лет и выше, кро¬
ме рабов и рабынь, было сорок две тысячи триста шестьдесят» (см. также
1-я^Эздры 2, 64; Неем. 7, 66).
416 Об этом см.: Рижский М. И. Книга Иова. Новосибирск, 1991.
с- 22—23, 130-131.
«Поучение Ахикара», памятник ассирийской литературы
VI вв. до Р. X. (мотивы прослеживаются гораздо раньше, написан на
аРамейском), был известен и в древнерусской литературе как «Повесть об
^ире Премудром» (см.: Памятники литературы Древней Руси: XII в. М.,
1980 С. 247-281).
Деян. 22, 3.
1020
Приложение
419 Имеется в виду царь Египта, т. е. Птолемей VI Филометор. Храм был
возведен ок. 160 г. до Р. X. в городе Элефантина в верхнем Египте, на ост-
рове, образованном Нилом у 1-го порога, напротив Асуана.
420 Точнее, 134—104 гг. до Р. X. (см.: Бикерман Э. Указ. соч. С. 203).
421 Ср. выше, прим. 220.
422 «Синагога» {cwaycoy) — букв, «собрание, сходка» {грен.). «Ислам»
(????) — «предание себя Богу», «покорность» {араб.).
423 В русском Ветхом Завете — Экклесиаст, или Проповедник. Новый
перевод Э. Г. Юнца — см.: Вопросы философии. 1991. № 8.
424 Грекоязычный поэт, чья дошедшая во фрагментах поэма (нач. II в.
до Р. X.) является пересказом библейской истории гекзаметрами.
425 Послание Аристея, якобы начальника стражи Птолемея Фил ад ел о-
фа (282—246), было составлено по-гречески неким египетским иудеем
ок. 200 г. до Р. X. В нем повествуется об обстоятельствах возникновения
знаменитого перевода Ветхого Завета на греческий, Септуагинты (запер¬
тые на острове Фарос 72 переводчика, независимо друг от друга создав¬
шие за 72 дня совпавшие до единой буквы тексты перевода и др.). Отцы
церкви, как на Западе, так и на Востоке, относились к этому источнику с
доверием, рассматривая его как доказательство «богодухновенности >
Септуагинты.
426 Т. е. год взятия Иерусалима Титом и разрушения храма Соломона.
427 Этот порядок религий соответствует нижеследующему, а не данно¬
му только что выше их перечислению.
428 Иосиф Флавий. Иудейская война II 8, 164—166.
429 Бундехеш, или Бундахишн («Мироздание»), называемое также
Занд-Агахих, — одна из важнейших толковательных книг зороастризма,
посвящена общим вопросам творения и природы (см.: Бойс М. Указ. соч.
С. 165). Бундахишн — это сотворение Ахура-Маздой мира, проходящее в
два этапа: в плане идеальном — меног и материальном — гетиг (см. там
же. С. 35). Вендидад, или Видевдат — букв. «Закон против демонов-дэ-
вов», единственная дошедшая полностью книга Авесты. В основном
это — жреческий кодекс, рассматривающий правила ритуального очище -
ния (см. вступление И. М. Стеблина-Каменского к кн.: Авеста. Избран¬
ные гимны из Видевдата. М., 1993. С. 10—11), хотя в нем рассказывается
и о сотворении Ахура-Маздой иранских стран (отрывок на эту тему см
там же. С. 176—180).
430 Ср. предисловие К. А. Свасьяна в издании: Шпенглер О. Закат Евро¬
пы. М., Мысль, 1993. Т. 1. С. 23-31.
431 Грандиозные раскопки в Западном Китае, проводившиеся в первые
два десятилетия XX в. под руководством германо-венгерского археолога
А. Штайна, привели к ряду сенсационных открытий (в частности, руко¬
писей, датируемых 1-м тысячелетием по Р. X., в Пещере Тысячи будд)
сопоставимых с открытием «Кумранских рукописей», однако объем тек¬
стов, найденных в итоге, оказался не столь значительным.
432 Генза — «сокровище», основная вероучительная книга мандантов
Состоит из двух половин: направо, предназначавшейся живым, и нале¬
во — для умерших.
433 Ср.: т. 1. гл. 5, раздел 7.
Приложение
1021
434 Иоанн 18, 36.
435 Верую, ибо это нелепо (лат.). Парадоксальное выражение, связы¬
ваемое обычно с Тертуллианом, но в такой форме у него не встречающе¬
еся. Во вступительной статье к сочинениям Тертуллиана (Указ. соч.
С. 33) А. А. Столяров приводит действительно имеющиеся у него пара¬
доксы, из которых два последних довольно близки к credo, quia absur-
dum. «Сын Божий распят — это не стыдно, ибо достойно стыда; и умер
Сын Божий — это совершенно достоверно, ибо нелепо (ineptum)\ и, по¬
гребенный, воскрес — это несомненно, ибо невозможно» («О плоти
Христа» 5). «Тем более следует верить там, где именно потому и не ве¬
рится, что это удивительно! Ибо каковы должны быть дела Божьи, если
не сверх всякого удивления? Мы и сами удивляемся — но потому, что
верим» («О крещении» 2).
436 Матф. 22, 21; Марк 12, 17.
437 Матф. 6, 28.
438 Матф. 6, 24.
439 Деян. 2,44-45; 4, 32.
440 В оригинале игра слов: verteilen, nicht verzichten.
441 В зороастризме — «грядущий Спаситель» (см.: Бойс М. Указ. соч.
С. 54—55, 92—93, а также Мифологический словарь. С. 482—483).
442 Деян. 2, 46.
443 Деян. 5,29-32.
444 Как составителю «Деяний».
445 Т. е. община, см. 16, 18; 18, 17.
446 См.: Апокрифы древних христиан. М., 1989. С. 50—54.
447 Христианство. Энциклопедический словарь. Т. 1. С. 655—656.
448 Pagus по-лат. — «сельская община, село». Ср. выше, прим. 275, и
место, к которому оно относится. Отсюда и русское «поганый», изнача¬
льно означавшее «язычник».
449 Ср.: т. 1. гл. 4, раздел 2.
450 Греческое название Ямния, современное — Йибна, город в 25 км к
югу от современного Тель-Авива. После разрушения Иерусалимского
храма Йоханан бен Заккай учредил в Явне академию, а на состоявшемся
ок. 100 г. по Р. X. (ниже, с. 00, О. Шпенглер говорит «ок. 90 г.») синедрио¬
не здесь был утвержден окончательный текст Библии.
451 Boxy-Мана — «Благой помысел», один из «Семи богов» (Амэша-
Спэнта) зороастризма, см.: Бойс М. Указ. соч. С. 32.
452 Греч. 7тарак\г)то5, букв, «приходящий на помощь», «заступник».
453 Гимнов Заратустры.
2 с 424-
5 Имеется в виду Баб («Врата») Саид Али-Мухаммед Ширази, каз¬
ненный в Тебризе 9 июля (см.: Ислам: Энциклопедический словарь.
с- 33-34, с неверным указанием года казни).
Греч. 7rapdSoais — букв, передача, в новозаветном смысле — учение,
Предание.
Видимо, имеется в виду трактат, название которого обычно перево¬
дится на русский как «Исходные пункты для восхождения к умопостига-
еМому» (лат. название — «Sententiae ad intelligibilia ducentes»).
Приложенщ
1022
458 Ру ах — дух, мемра — слово. О мемра см.: Еврейская энциклопедия
СПб., s. а. Т. 10, стлб. 832-833.
459 Ср.:с. 341,579.
460 Ср.: с. 483,493.
461 «Сефер Йецира» («Книга творения») возникла между III и VI вв. о
«Зогаре» (кон. XIII в.) см.: Раби Шимон. Фрагменты из книги «Зогар»/
Пер. с арамейского, комментарии и приложения к текстам М. А. Кравцо¬
ва. М., 1994. См. также извлечения из «Зогара» в переводе О. О. Ладорен-
ко и комментарий в кн.: Знание за пределами науки. М., 1996.
С. 396—435; там же, с. 435—443, ее статья «Классическая еврейская мис¬
тика».
462 Свет Мухаммеда — Нур Мухаммади (араб.). См.: Ислам. Энцикло¬
педический словарь. С. 200, 193.
463 См.: Христианство. Энциклопедический словарь. Т. 1. С. 769—772.
464 Ср. там же. С. 39—40; Мифологический словарь. С. 19, 158 (статья
«Голгофа»).
465 Бог времени и судьбы, издали воздействующий на человеческие су¬
дьбы. Появляется в двух ипостасях — безграничного времени (т. е. вечно¬
го повелителя, Зурван Акарана) и времени продолжительного господства
(т. е. повелителя существующего мира, Зурван Дарегхо-Чвадхата). По¬
клонение Зурвану расцвело в рамках зороастризма в III—VII вв. до Р. X. и
было связано с астрологическими выкладками и рассуждениями о миро¬
вом годе. В позднейших сочинениях Зурван фигурирует как отец Ормуз-
да (Ахура-Мазды) и Аримана. Именно в зурванитской форме зороаст¬
ризм повлиял на культ Митры и манихейство.
466 Божества-помощники Ахура-Мазды, рангом уступающие ему са¬
мому и Амэша-Спэнта (Семи благим божествам).
467 См. ниже с. 752.
468 О. Шпенглер обрывает цитату. Между тем продолжение очень яр¬
кое: «...и обречь его, за его грех, на бесчестье и гнев — к хвале славной
своей справедливости». См. цитаты на эту тему (в том числе и приведен¬
ную) из того же Вестминстерского исповедания в кн.: Вебер М. Избран¬
ные произведения. М., 1990. С. 140.
469 «Велуспа» (Voluspa), или «Прорицание вельвы», часть «Старшей
Эдды», повествующая о происхождении и гибели мира (Беовульф. Стар¬
шая Эдца. Песнь о Нибелунгах. М., 1975. С. 183—190; коммент.). «Мус-
пилли» — написанное на древневерхненемецком языке аллитерирован¬
ное стихотворение начала IX в., повествующее о конце света и Страшном
суде. Автор его — вероятно, баварский монах из монастыря Св. Эммер-
мана. Стихотворение отличается красочностью апокалиптических виде-
ний, конец и начало в рукописях отсутствуют. Само слово Muspilli — из
круга языческих представлений и означает «мировой пожар», «разруше¬
ние Земли». Относящийся примерно к тому же времени «Спаситель»
(Heliand) изображает Иисуса Христа на манер феодального государя. Ср
что пишет О. Шпенглер о «Прорицании вельвы» и «Муспилли».
470 Махабба ли-л-ллах — «любовь к Богу», «растворение в боге» — фана
Ср.: Ислам. Энциклопедический словарь. С. 251—252 (статья «Фана»)-
116—117 (статья «Итгихад»), 266 (статья «Хал»), 152 (статья «Макам»)
Приложение 1023
471 Порфирий. Жизнь Плотина, 23 (см.: Диоген Лаэртский. О жизни,
учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1979. С. 474—475).
472 См.: Ислам. Энциклопедический словарь. С. 128—129.
473 град Божий (лат.). По-латински civitas — женского рода.
474 Гаон — с VI в. почетное звание главы иудейской академии в Вавило¬
не, позже вообще уважительное обращение к еврейскому ученому (напр.,
«виленский гаон»). Шейх-улъ-ислам — см.: Ислам. Энциклопедический
словарь. С. 289.
475 Ср.: «рожденна, не сотворенна, единосущна Отцу» (Символ Веры о
Христе); «неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно» (догмат Хал-
кидонского собора о двух природах Христа); «неразлучно, неизменно,
нераздельно, неслиянно» (догмат Константинопольского собора о двух
волях и действиях Христа).
476 Иоан. 14, 6.
477 Ср.: Иоан. 17, 17.
478 «Пастырь Гермы», составленная ок. сер. II в. книга апокалиптиче¬
ского и визионерского характера, пользовавшаяся большим авторитетом
в первоначальном христианстве, однако в пылу борьбы с монтанизмом
исключенная из канонических (как на какое-то время исключалось и
«Откровение Иоанна»). Русский перевод — в «Памятниках христианской
письменности». М., 1866, имеется также современное издание.
479 Иезек., гл. 1 и 10.
480 Сохранилась в арабском переводе.
481 Ар-Рахман — Милостивый. «Термин ар-Рахман использовали для
обозначения единого Бога иудеи и христиане доисламской Аравии. Он
встречается в монотеистических надписях Южной Аравии IV—VI вв. Так
называли своего Бога ханифы Внутренней и Северной Аравии, а также
современники и соперники Мухаммеда — «лжепророки» Абхала ал-Ас-
вад и Мусайлима» (Ислам. Энциклопедический словарь. С. 198). В Кора¬
не ар-Рахман (обычно употребляется вместе с ар-Рахим — Милосерд¬
ный) — одно из самых употребительных обозначений Бога после «Аллах»
и «Рабб» (Господь).
482 См.: Агада. Сказания, притчи, изречения Талмуда и мидрашей.
М., 1993. Таргум — так называется всякий арамейский перевод (более
или менее буквальный) частей Ветхого Завета, использовавшийся в си¬
нагогах Иудеи и Вавилона после Вавилонского пленения, когда арамей¬
ский язык вытеснил иврит и возникла необходимость в объяснении
Священного писания. Таргумы существовали по большей части только
в устной форме, и потому до нас дошло очень малое их число.
483 Уточненные даты: 224—240 гг. (см.: Бикерман Э. Указ. соч. С. 197).
484 Торжественный обет больше не грешить, составляющий наряду с
исповедью священнику часть ритуала покаяния в зороастризме.
85 Краткая характеристика учения Афрагата имеется в кн.: Флоров¬
ой Г. В. Восточные отцы IV в. Париж, 1931. С. 224—227 (Репринт. М.,
1992).
486 Марин. Прокл, или О счастье, 38 (см.: Диоген Лаэртский. Указ. соч.
С. 493). Гимны Прокла см.: Античные гимны. М., 1988. С. 271—279.
Приложение
1024
487 Гимны Синезия. Действительно, ок. 409 г. жители Птолемаиды изб¬
рали Синезия своим епископом, видимо, еще до того, как он крестился.
488 избранные и слушатели (лат.), т. е. избранные и обычная паства.
489 Движение, начатое в Багдаде ок. 760 г. Ананом бен-Давидом. Про¬
возглашало отказ от Талмуда и обычного права и возврат к Писанию.
490 Если же я и подвластен ошибкам, как в жизни бывает,
Ведаю сам, что терзают меня прегрешенья, проступки,
Все, что не должно свершать, но свершаю, душой неразумный,
Смилуйся, кроткая духом, не дай мне, простертому в прахе,
Стать для недугов готовой добычей, о смертных спасенье!
Я ведь молю об одном — дабы был, о богиня, твоим я!
(Пер. О. В. Смыки, в кн.: Античные гимны. С. 279.)
491 Сформированное в основном трудами немецкого теолога, осново¬
положника Тюбингенской школы, Ф. X. Баура (1792—1860), учение о
первоначальном христианстве исходило из наличия в нем двух противо¬
борствующих течений — петринизма и паулинизма (по именам апосто¬
лов Петра и Павла), из которых первый отличался ригоризмом, склонно¬
стью к обрядовости (и тяготением к иудаизму), а второй оставлял больше
свободы, исповедовал спасение верой. Название «петринизм» в данном
случае условно, и не так важно, действительно ли за этим течением стоял
апостол Петр: существенно, что оно несомненно может быть выделено в
христианстве (как и в любом мировоззрении вообще).
4.2 Ср.: с. 728-730.
4.3 Матф. 26, 41; ср.: Марк 13, 34-37.
494 Слово Ursache, «причина», О. Шпенглер разлагает здесь на этимо¬
логические части, Ur-Sache, так что выступает его изначальный смысл:
«пра-вещь».
495 «Избирательное сродство», 2 часть, 5 глава («Из дневника Отти¬
лии»).
496 Ср. также: т. 1. гл. 6, раздел 4.
497 См.: Кант И. Критика чистого разума. М., 1994. С. 86—87; Он же.
Соч.: В 6 т. Т. 4. Ч. 1. М., 1965. С. 390.
498 сомневаться во всем (лат.). Принцип философии Декарта, см. его
«Рассуждение о методе» (Декарт Р. Соч.: В 2 т. Т. 1. М., 1989. С. 268),
«Первоначала философии» (там же. С. 314), «Размышления о первой фи¬
лософии» (там же. Т. 2. М., 1994. С. 19—20), «Возражения некоторых уче¬
ных мужей» (там же. С. 341—346).
499 ум, ярость, вожделение (грен.). Три платоновские части души (см.
Государство IV439d—441с; IX 57le—572а, 580d—581с). Ср. также: т. 1. гл.
5, раздел 5.
500 См. выше, с. 687.
501 духовное упражнение (лат.).
502 Ср.: Матф. 19, 16.
503 Прежде всего Кант (см.: Кант И. Соч.: В 6 т. Т. 4. Ч. 1. С. 396—416).
504 Использованные здесь О. Шпенглером слова Enthalten, Entsagen.
Entselbsten содержат приставку, означающую удаление, лишение, отделе¬
ние.
Приложение
1025
505 Популярное в античности учение, использовавшее в числе прочего
и созвучие Gajfxa и arjixa («надгробный памятник», вообще «могила»). См.,
напр.: Платон. Горгий 493а и Федр 250с. Подробнее историю теории см. в
примечании А. А. Тахо-Годи: Платон. Собрание сочинений. М., 1990.
Т. 1.С. 806-807.
506 «Фауст». Часть вторая, «Глубокая ночь» (9-я и 8-я строка «Фауста»
от конца). Одна из любимых Гетевых цитат О. Шпенглера.
507 медведицы (грен.). Все маленькие афинские девочки из знатных се¬
мейств были как медведицы посвящены Артемиде Арктейе (ср.: Аристо¬
фан. Лисистрата 645).
508 Вьюнок скрипковидный (Convolvulus scammonia), смола из корней
которого — сильное слабительное средство.
509 Ими, т. е. честной брадой и правым знамением. В Стоглаве ска¬
зано: «О крестящихся не по чину. Глава 32. Мнози неразумнии чело-
вецы, махающе рукою по лицу своему, творят крестящеся, а всуе тру-
жающеся. Тому бо маханию беси радуются. ...аще кто право крещает
лице свое сим знамением, той никогда же не убоится дьявола ни злаго
супостата». «От священных правил о пострижении брад. Глава 40. Та-
коже священная правила православным крестьяном всем возбраняют
не брити брад и усов не постригати. Таковая бо несть православных,
но латынская и еретическая предания греческого царя Константина
Ковалина, и о сем апостольская и отеческая правила вельми запреща¬
ют и отрицают... Вы же, се творяще человеческаго ради угождения,
противящеся законом, ненавидимы от Бога будете, создавшаго нас по
образу своему, аще убо хощете Богу угодити отступите от зла. И о том
сам Бог Моисеови речи, и святыя апостолы запретиша, и святыя отцы
проклята и от церкви таковых отвергоша, и того ради страшнаго пре-
щения православным таковаго не подобает творити» (Российское за¬
конодательство X—XX вв. Т. 2. Законодательство периода образова¬
ния и укрепления Русского централизованного государства. М., 1985.
С. 295, 301-302).
510 единение (греч. evtocis). Эннеады IV 4, 2, 25—27.
511 Поправляем по кн.: Бикерман Э. Указ. соч. С. 176, поскольку дата,
указываемая в современном немецком издании (2450—2320), уж очень
отличается от той, на которую ориентировался и которую указал сам
О. Шпенглер (2680—2540).
512 Как центр кальвинизма.
513 «День гнева», гимн, наполненный видениями Страшного суда
(текст и перевод см.: Словарь латинских крылатых слов. М., 1982.
С. 185—186). Использован в «Фаусте» (Часть первая, «Собор»).
^ Ср.: т. 1.с. 173
515 Греч, vfipis — непомерная надменность от героизма, желание возве¬
личиться и сравниться с богами, обычно наказываемые ими.
16 Греч, aycbv — состязание в чем угодно — в физических упражнени¬
ям музыке, поэзии, полемике, чрезвычайно важный компонент грече¬
ской культуры.
17 См. ниже, с. 764.
33
Закат Западного мира
1026 Приложение
518 Греч. noXias (77-oAidSo?) — «хранительница города». Храм Афины По~
лиады был на афинском Акрополе.
519 Бальдур (или Бальдр) — бог, персонаж скандинавской мифологии
сын Одина и Фригги. Мать сделала его неуязвимым, взяв клятву в этом со
всех сил и существ в мире, позабыв о растении омела. Этим воспользо¬
вался Локи, подстроивший смерть Бальдура от руки слепого бога Хеду.
Когда боги развлекались тем, что метали в Бальдура копья, проверяя его
неуязвимость, Локи подсунул в руки Хеду побег омелы, которым тот убил
Бальдура.
520 См. прим. 109. Видимо, здесь, как и в других аналогичных случаях
использования этого выражения, О. Шпенглер желает указать на позд¬
ний характер соответствующей культуры.
521 «Книга документов».
522 «Чжоуские ритуалы», «Книга об этикете и обрядах», «Книга песен».
523 От «мим» — небольшая сценка комического содержания, характер¬
ная для искусства Древней Греции и Рима.
524 В отечественной литературе — по. Кроме того, о ьиэнь у нас обычно
говорят как о более общем принципе, «духе вообще», в человеке же ему
соответствует высшая душа хунъ. См., напр.: Мифологический словарь.
С. 627—628; Васильев Л. С. История религий Востока. М., 1988.
С. 278—279; Китайская философия. Энциклопедический словарь. С. 387
(статья «Хунь по»).
525 Очевидно, имеется в виду традиционный китайский парк {yuan —
«сад, парк, огород»; pingyuan — «равнина»).
526 Ангельское величание (der englische GruB) — это, собственно, и есть
немецкое название католической молитвы Ave Maria. Четки, используе¬
мые в католической церкви, состоят из креста и нескольких «декад», по
одной большой и десяти малых бусин в каждой. В комментарии к кн.:
Фома Кемпийский. О подражании Христу. Брюссель, 1993. С. 364—366 го¬
ворится: «Розарий в честь Пресвятой Девы Марии — это устная молитва,
сопровождаемая размышлением о 15 тайнах из жизни Иисуса Христа и
Богоматери... Для розария употребляются нарочно к тому приспособлен¬
ные четки, или лестовка, именуемая также «розарием», если она состоит
из 15 десятков, или «венчиком», если состоит только из 5 десятков мень¬
ших зерен. Кроме того имеется крестик и три меньших зернышка при
нем. Розарий начинается осенением себя крестным знамением, чтением
краткого Верую, потом на 3 зернышках читается 3 раза Радуйся с про¬
сьбою об умножении в нас веры, надежды и любви. Затем на больших
зернышках читается Отче наш и на меньших 10 раз Радуйся, чтение это
сопровождается размышлениями об очередной тайне. Каждый десяток
заключается славословием: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и
присно и во веки веков. Аминь. По окончании полного розария или одной
его части обыкновенно читается молитва: Под Твою милость (Под Твою
защиту)».
527 Самой Богоматери, признанное с 1854 г. официальным догматом
католической церкви.
528 Nachtfahrende — букв, «блуждающий по ночам», калька с латинского
noctivagus. Nachtfahrende можно было назвать как мужчину, так и женши-
Приложение 1027
лу (лат. noctivaga), однако женщину гораздо чаще называли Нехе, ведьма
(лат. striga).
529 «Золотая легенда» (лат.), принадлежащее Иакову Ворагинскому
(ок. 1229—1298), доминиканскому монаху, архиепископу Генуи собра¬
ние житий святых, чрезвычайно популярное в Средневековье. Ср.: т. 1.
гл. 6, раздел 9.
530 «Голос в Раме», булла папы Григория IX. Как и все буллы, она но¬
сит название по своим начальным словам. В данном случае это цитата
из Иерем. 31, 15: «Голос слышен в Раме, и плач, и горькое рыдание: Ра¬
хиль плачет о своих детях и не может утешиться, ибо нет их больше». См.
изложение буллы, а также описание последовавшего за ней крестового
похода на жителей округа Штединг, против которых она и была направ¬
лена, в предисловии к кн. Инститорис и Шпренгер. Молот ведьм, s. 1.,
1932. С. 23—26 (в 90-е гг. было несколько переизданий).
531 «Песнь о брате Солнце или о творениях». Итальянский текст и пе¬
ревод С. С. Аверинцева см.: Итальянская поэзия в русских переводах. М.,
1992. С. 8-11.
532 Инкуб — дьявол, совокупляющийся с женщинами, суккуб — с муж¬
чинами, обычно во сне. Указания мест из Фомы Аквинского см. в преди¬
словии к трактату Генриха Инститора и Якоба Шпренгера «Молот ведьм»
(с. 22—23). Учение это развито в самом трактате (с. 106—116, 188—191,
231—234). О. Шпенглер упоминает этот трактат ниже, в следующем абза¬
це. Ср. на русской почве: Максимов С. Куль хлеба. Нечистая, неведомая,
крестная сила. Смоленск, 1995. С. 262—263, 422—424.
533 Здесь работали, в частности, Фра Анджелико, Беноццо Гоццоли,
Бернардино Пинтуриккио, Лука Синьорелли. Возможно, О. Шпенглер
имеет в виду прежде всего росписи Синьорелли, изображающие сцены
Страшного суда и воскресения из мертвых. Данное рассуждение о Воз¬
рождении ср.: т. 1. гл. 4, раздел 12.
534 Генрих Сузо (Seuse, Suso; ок. 1300—1366) — доминиканец, ученик
Экхарта. Автор «Книжечки истины» и пользовавшейся особенной попу¬
лярностью «Книжечки вечной мудрости», а также автобиографии. « Theo-
logia deutsch»(«Немецкая теология») — мистическое нравоучительное со¬
чинение. Создано в конце XIV в. в Заксенхаузене (близ Франкфурта-на-
Майне). Произвело большое впечатление на Лютера, который в 1518 г.
впервые его опубликовал.
35 Католическое название хлеба, используемого для причащения,
тонкая круглая лепешка (по-русски «облатка»). Соответствует просфоре
в православной церкви, отличаясь от нее по форме и способу приготовле¬
ния теста.
^ Ср.: т. 1. гл. 4, раздел 18.
537 Все понять — значит все простить (фр.), слова возводят обычно к М-
Hie де Сталь, в романе которой «Коринна, или Италия» есть близкое вы¬
ражение: « Tout comprendre rend tr&s indulgent» — «Кто все понял, делается
очень снисходительным». Одно из любимых изречений Льва Толстого.
Приложение
1028
538 В разговоре с И. Г. Фоссом-младшим в середине февраля 1805. Ис¬
точник: Archiv fur Literaturgeschichte. Hrsgg. von Schnorr v. Carolsfeld. XI.
Band S. 117 ff. (Из письма Фосса Зольгеру от 24 февраля 1805.)
539 По-видимому, фантастическая этимология. Русское слово «небо»
скорее всего связано с «туманом, облаком». Так, по-немецки Nebel — «ту¬
ман», то же — греч. vtyos, лат. nebula, др.-инд. nabhas, авест. nabah. Впро¬
чем, говоря это, мы вовсе не спорим с О. Шпенглером по существу звуча¬
ния слова.
540 Полностью первая строка: «Ein feste Burg ist unser Gott» («Господь нам
крепость и оплот», нем.). Ср., что говорится об этом гимне в т. 1, с. 542,
589.
541 Полностью куплет:
Und wenn die Welt voll Teufel war’
Und wollten uns verschlingen
So furchten wir uns nimmermehr
Es soil uns doch gelingen.
(Пусть черти наполняют мир,
Пусть нас пожрать мечтают,
Нисколько не страшимся мы:
Победа нас встречает.)
542 христианское тело {лат.), обычно применительно к церкви как со¬
вокупности верующих.
543 букв, «неизгладимое клеймо» {греч., лат.). Согласно учению като¬
лической церкви, эта духовная печать сообщается душе при крещении,
первом причастии и посвящении в духовное звание, по причине чего эти
таинства нет необходимости повторять, хотя связанная с ними духовная
благодать и может приостановиться. В явном виде это было сформулиро¬
вано Александром Гальским ( 1245). Первоначальное лютеранство также
связывало с крещением character indelebilis.
544 Яркое описание этой ситуации в Шотландии XVII в. см.: Боклъ Г. Т.
История цивилизации в Англии. СПб., 1906. С. 523—534. Картина мира
здесь запутывается до чрезвычайности, поскольку Бог оказывается также
и непревзойденным мучителем.
545 Фрау Хольде, или Хольда, Холле, — ночное привидение, рассказы о
котором имели хождение по всей Германии и Австрии, но особенно рас¬
пространены были в Тюрингии и Гессене. Это женский демон, который,
подобно Рюбецалю с Исполинских гор, наполовину благ, а наполовину
зол, — во всяком случае радуется, причиняя ущерб. Впрочем, хорошим
людям опасаться фрау Холле не следует. Так, она стаскивает одеяло с ле¬
нивых девушек и прямо раздетыми укладывает их на мостовую или же пу¬
тает у них в прялке лен. Прилежным же крестьянским девушкам она по¬
могает в работе, дарит самоходное веретено, бросает им в кувшины се¬
ребряные монеты, когда они идут утром по воду. На вершине горы
Майснер в Гессене есть озеро, которое называется «пруд фрау Холле». На
дне озера сад с прекрасными диковинными плодами, которые фрау Хол¬
ле дарит тем, кому благоволит. В это озеро фрау Холле завлекает также и
детей: хороших она делает красивыми и счастливыми, а плохих превра¬
Приложение _ _ 1029
щает в уродов. Фрау Холле помогает и женщинам, обращающимся к ней
в тяжелую минуту, — бесплодным и роженицам. Правда, фрау Холле по¬
является и в образе, внушающем ужас, — как предводительница так на¬
зываемой «дикой охоты». Когда идет снег, немцы говорят: «Фрау Холле
стелет постель». В сборнике братьев Гримм есть сказка о фрау Холле (в
русском переводе — «Госпожа Метелица»). Изначально Хульда — одно
из имен Фригги, или Фрейи, великой богини германского эпоса. Небо¬
льшие статьи о Хольде и о «дикой охоте» см.: Мифологический словарь.
С. 593, 188-189.
546 Верный Экард встречается в германско-скандинавском сказании о
Вилкине. Экард, воспитатель Харлунгов, племянников Эрманариха, уз¬
нает, что его воспитанникам грозит неприятельское нападение. Он и его
сыновья тут же садятся на коней и мчатся в Брайзах, город Харлунгов на
Рейне. Не желая промедления, они не ждут парома, а перебираются через
реку вплавь, увлекая коней за поводья за собой. Видя эту спешку, Хар-
лунги понимают, что грозит большая опасность. Затем Экард фигурирует
в связи со сказанием о Тангейзере. Здесь он сидит у Венериной горы (на¬
родное название ряда гор в Тюрингии) и предупреждает людей об опас¬
ности, которая грозит им, если они взойдут на нее. Еще он появляется в
тех местах, по которым будет пролегать дорога «дикой охоты» фрау Хол¬
ле, и призывает людей укрыться, дабы не пострадать. Старинная немец¬
кая пословица гласит: «Ты — верный Экард, ты всякого предупредишь».
«Верным Экардом» называют преданного друга и современные немцы.
547 «Гуань-цзы», см.: Китайская философия. Энциклопедический сло¬
варь. С. 76—77.
548 Ср.: т. 1. гл. 1, раздел 8, прим. 2 О. Шпенглера.
549 Буквально «рычагом и винтом» (mit Hebeln und Schrauberi). См.
Гете И. В. Фауст. Часть первая, «Ночь». Слова Фауста:
Geheimnisvoll am lichten Tag,
LaBt sich Natur des Schleiers nicht berauben,
Und was sie deinem Geist nicht offenbaren mag,
Das zwingst du ihr nicht ab mit Hebeln und mit Schrauben.
Таинственна средь бела дня,
Природа не спешит совлечь покрова.
И коль сама тебе не скажется она,
На дыбе, под кнутом она не молвит слова.
См. ниже, гл. V 11.
551 Англ, roundheads, так называли сторонников парламентской партии
в Англии во время Английской революции. Многие-из них, пуритане, ко¬
ротко стриглись, между тем как сторонники короля носили длинные во¬
лосы, и их называли cavaliers («кавалеры») — они еще будут упомянуты
ниже.
552 См.: Ислам. Энциклопедический словарь. С. 254—258.
3 «Несвязанные» (нигантха) — направление в джайнизме. Паршву, или
Паршванатху, называют последним из 24 джайнов, великих учителей,
Предшествовавших Вардхамане (второе имя — Махавира, 599—527 до
X.), которого считают реальным основателем джайнизма. См. о джай¬
1030
Приложенш
низме: Бонгард-Левин Г. М. Древнеиндийская цивилизация: Философия,
наука, религия. М., 1980. С. 82—96.
554 Богиня случая (см.: Мифологический словарь. С. 542).
555 Вольтер с 1758 по 1778 г. жил в замке Ферней на французско-швей¬
царской границе; вокруг замка за это время выросла деревня, заложенная
им в 1760 г. (ныне она называется Ферней-Вольтер). Жан-Жак Руссо
провел несколько последних недель своей жизни в 1778 г. в Эрменонвилле
(департамент Уаза) и был там даже похоронен (в 1794 г. его прах был пе¬
ренесен в Пантеон).
556 См.: Христианство. Энциклопедический словарь. М., 1995. Т. 3.
С. 244-245, 142-143, 271, 70.
557 В Сераписе были объединены египетские боги Осирис и Апис (поче¬
му сначала он назывался Осарапис). Почитался он в качестве бога плодо¬
родия и повелителя стихий, однако создатели связали его также и с за¬
гробным царством, вследствие чего он отождествлялся с Зевсом, Посей¬
доном, Аполлоном и другими греческими богами (см.: Мифологический
словарь. С. 495).
558 Ср.: т. 1. гл. 6, раздел 12.
559 «Христианская наука» — церковь, основанная в 1879 г. в Бостоне
Мэри Бейкер Эдди. Широко практикует исцеление больных посредст¬
вом духовного воздействия (см.: Протестантизм: Словарь атеиста. М.,
1990. С. 284—285, 307). Очерк о жизни Мэри Бейкер Эдди имеется у
Ст. Цвейга в книге «Исцеление духом» {«Die Heilung durch den Geist»).
560 Ср.: т. 1. гл. 2, раздел 3, гл. 6, раздел 14.
561 См.: Античные гимны. С. 175—176.
562 В Египте.
563 В отечественной литературе организатором восстания «Желтых по¬
вязок» называют Чжан Цзяо, даосского мага и целителя. Но после того
как восстание было подавлено, а Чжан Цзяо погиб, уцелевшие участники
бежали на запад Китая, где в горных пограничных районах существовала
другая мощная даосская секта, «Удоумидао», возглавлявшаяся ЧжанЛу,
внуком даосского мага Чжан Дао-лина. Пополнившись новыми члена¬
ми, со временем эта секта превратилась в фактически самостоятельное
теократическое образование, пользовавшееся автономией и просущест¬
вовавшее фактически до образования КНР (см.: Васильев Л. С. Указ. соч.
С. 314—315; Китайская философия. Энциклопедический словарь. С. 475,
статья «Чжанъи [дао]»).
564 См. там же. С. 466—468 (статьи «Чжу си», «Чжусианство»).
565 См.: Числа, гл. 19.
566 Не вполне ясно, о чем речь. Путает и выражение gleichzeitig, «к тому
же времени»: употреблено ли оно в обычном или «шпенглеровском»
смысле? Быть может, в виду имеется русское православие, которое, пере¬
саженное с византийской почвы, оказалось «христианством второго по¬
рядка»? Но скорее речь все-таки о «греческом волшебстве» в буквальном
значении — исихастах, Григории Паламе и других византийских мисти¬
ках, и о «втором порядке» говорится потому, что, согласно самому
О. Шпенглеру, это действительно было явление «второй религиозности».
Приложение
1031
567 Рабби Залмана арестовывали дважды, в 1798 и 1800 гг., и оба раза
вскоре освобождали. Так, в первый раз он провел в заключении 53 дня. В
обвинении говорилось о распространении ереси, подрывной деятельно¬
сти, государственной измене и шпионаже в пользу Турции (см. также
статью С. Дубнова «Хасидизм» в Энциклопедии Брокгауза—Ефрона.
Т. 73. С. 122-123).
568 Это не описка: разумеется, жившие в исламском мире евреи говори¬
ли и писали по-арабски (применительно к Испании см.: История все¬
мирной литературы. Т. 2. М., 1984. С. 209—210). Ср., что пишет о смене
языка сам О. Шпенглер выше.
569 Сын Неба (кит.), титул императора в Китае.
570 Это бахрома («цицит»), которую евреи-мужчины носили раньше
нашитой по углам верхней одежды, и сохраняющаяся теперь по четырем
углам «талифа» (накидка вроде шали, надеваемая на время утренней мо¬
литвы) и «арба канфот» (называемый также «талиф катан», квадратный
кусок материи с отверстием посередине, который ортодоксальный иудей
носит под одеждой) (см.: Числа 15, 37—40; Втор. 22, 12).
571 Видимо, в виду имеются «тефиллин» (греч. филактерии), маленькие
черные кубической формы коробочки с текстами из Писания, которые
евреи привязывают только что упомянутыми в тексте молитвенными
ремнями на левую руку и на голову во время ежедневной утренней мо¬
литвы. Их использование связывается с раввинским истолкованием тек¬
стов из Ветхого Завета (Втор. 6, 4—9; 11, 13-21), которые в них и вклады¬
ваются, где, в частности, говорится: «И ты должен обвязать их (т. е. слова
Бога) как повязку вокруг твоей руки, и они должны быть как налобная
повязка у тебя над глазами. И ты должен написать их на косяках дверей
твоего дома и на твоих воротах» (Втор. 6, 8—9; ср.: Исход 13, 10. 16). Ко¬
робка, прикрепляемая на косяк (также содержащая эти тексты и имя
Бога Шаддай), называется мезуза.
572 Очевидно, имеется в виду Аль-Саид Муртада аз-Забид (ум. в
1791 г.), мусульманский филолог индийского происхождения, автор зна¬
чительного труда по лексикографии «Тадж ал-арус» («Корона невесты»),
комментатор основного труда Газали.
573 Мулла Садра, также называемый Садр ад-Дин аш-Ширази
(1571—1640), иранский мыслитель, аскет, виднейший представитель
просветительской, или так называемой ишракской, школы философов-
мистиков, считается в Иране самым выдающимся философом всех вре¬
мен. Ортодоксальные шиитские теологи усматривали в трудах Ширази
ересь, однако благодаря влиятельности своего семейства он мог про¬
должать сочинять. Умер во время паломничества в Аравию.
574 букв, геометрически (лат.), применяемый Спинозой в его «Этике»
метод доказательства, который, как ему казалось, приближается по точ¬
ности к математическому.
575 Израиль Бепгг (ок. 1700—1760), см. статью С. Дубнова (с. 119—120),
Указанную в прим. 567.
76 Австрийский еврей, род. в 1880 г., крестился (принял протестан¬
тизм) в 1902 г., в день получения диплома об окончании философского
Факультета Венского университета. Застрелился 4 октября 1903 г., вскоре
1032
Приложение
после выхода своей книги «Пол и характер», оказавшейся сразу же в цен¬
тре всеобщего внимания, в том числе и в России (было несколько изда¬
ний перевода на русский язык, в 1991 г. в Москве вышло сокращенное
переиздание русского дореволюционного перевода). Глава «О еврейст¬
ве» — резко антиеврейская подуху, использовалась в антисемитской про¬
паганде. Еврейское начало уподобляется здесь нетворческому и амораль¬
ному, по Вейнингеру, женскому началу (ср.: Розанов В. В. О себе и жизни
своей. М., 1990. С. 181 (о Вейнингере), 372—373). Было переведено и по¬
смертное сочинение Вейнингера «Uber die letzen Dinge» (под названием
«Последние слова»). Исследование о Вейнингере: Abrahamsen David. The
Mind and Death of a Genius. New York, 1946.
577 Имеется в виду практика Дельфийского оракула.
578 Она же Гудруна. См.: Мифологический словарь. С. 164—165.
579 Катерина Сфорца (ок. 1463—1508), прозванная современниками
prima donna d'ltalia — «первая женщина Италии» (ит.). Дочь Галеаццо
Мария Сфорца, жена Джироламо Риарио (1443—1488), племянника
папы Сикста IV (1414—1484). Ее деверь кардинал Пьетро Риарио ( 1474),
будучи архиепископом Флоренции, купил город Имола и передал его
Джироламо, одному из организаторов заговора Пацци против Лоренцо и
Джулиано Медичи (1478). В 1480 г. Джироламо отобрал Форли у Эрколе
I, герцога Феррары, а кончил жизнь от рук убийцы. После смерти мужа
Катерина Сфорца стремилась утвердить права на его владения за своим
сыном Октавианом. Осажденная Чезаре Борджа в Форли (О. Шпенглер,
надо полагать, допускает здесь неточность), Катерина длительное время
ему противостояла. В конце концов Чезаре все же отобрал ее владения (в
1499 г.). Еще один ее сын — знаменитый кондотьер Джованни Медичи
делле Банде Нере (1498-1526).
580 Жан-Батист Бернадот (1764— 1844), кронпринц (с 1810) и король (с
1818) Швеции под именем Карл XIV, в 1798 г. женился на Дезире Клари,
свояченице Жозефа Бонапарта, старшего брата Наполеона, когда-то не¬
весте самого Наполеона.
581 См.: Исландские саги. Ирландский эпос. М., 1973. Упоминания
Халльгерд см. в указателе там же.
582 Имеется в виду период так называемой «порнократии» (правления
блудниц), продолжавшийся с 904 по 964 г., когда папство пребывало фак¬
тически во власти нескольких женщин, видимо не отличавшихся высо¬
кой нравственностью (Феодоры, жены вестиария Феофилакта, ее доче¬
рей — Феодоры Младшей и упомянутой Мароции), а также их потомства.
Завершился с вмешательством Оттона Великого.
583 Букв, «бок, на котором висит меч» (Schwertseite), и «веретенная по¬
ловина» (Spindelhdlfte). Ср. русское: «Смирен топор, да веретено бодливо»
(о мужике и бабе).
584 От agnatio {лат.) — родство мужчин по отцу. Agnatio было частью
cognatio (о котором идет речь ниже) — кровного родства вообще, распро¬
странявшегося и на женщин.
585 Перевернутое высказывание Клаузевица, что война — продолже¬
ние политики иными средствами («О войне» I, I, § 24).
Приложение 1033
586 Немецкие Zucht, Zuchtung помимо «муштры, дисциплины» означа¬
ют еще и «выведение» новых пород животных и растений (ср. текст чуть
ниже), и этот смысл, несомненно, здесь также подразумевается приме¬
нительно к людям. Ср. в этой связи, что пишет О. Шпенглер об идеале
рыцарства выше, о «выведении» (Zuchtung) сверхчеловека в первом томе,
а также некоторые места у Ф. Ницше («Так говорил Заратустра», гл. «О
высшем человеке», § 15; ср. гл. «О старых и молодых женках»).
587 Шарль Жозеф, принц де Линь (1735—1814), выходец из старинной
бельгийской семьи, известной с XII в. Молодым оставил родину и посту¬
пил во французскую армию, но вскоре, в 1752 г., перешел на австрийскую
службу и участвовал в Семилетней войне. Император Иосиф II взял его с
собой, отправляясь на встречу с прусским королем Фридрихом II. Во вре¬
мя войны за баварское наследство в 1778 г. принц де Линь командовал
авангардом армии Лаудона. В 1782 г. он отправлен с важными поручени¬
ями к Екатерине II, был ею обласкан и сопровождал ее в поездке по Рос¬
сии, где надолго задержался. В 1788 г. в звании фельдцейхмейстера рус¬
ской армии участвовал в осаде и взятии Очакова. В 1789 г., командуя кор¬
пусом австрийской армии, он взял Белград во время войны с Турцией. На
предложение возглавить бельгийскую революцию в 1789 г. (Бельгия тог¬
да входила в Австрию) де Линь ответил отказом. Тем не менее император
Леопольд II отправил его в отставку. В австрийскую армию де Линь вер¬
нулся при Франце II, произведшем его в фельдмаршалы в 1808 г. и сде¬
лавшем членом гофкригсрата. Много разъезжая по Европе, он совершен¬
но проникся космополитизмом XVIII в. Наделенный блестящим умом и
остроумием, де Линь поддерживал отношения с образованной элитой,
состоял в переписке со многими знаменитыми корреспондентами
(Иосиф II, Фридрих II, Вольтер, Гете, Мгте де Сталь) и оставил огром¬
ные по объему записки на французском языке (32 т.), затрагивающие раз¬
личные темы.
588 Так в оригинале, что несколько противоречит шпенглеровскому
представлению о классе как о профессиональной или экономической об¬
щности. Видимо, лучше было, как и везде здесь, сказать «сословие».
589 Gepragte Form, die lebend sich entwickelt. Из стихотворения Гёте «Де¬
мон» в «Орфических пра-словах».
590 Три жизни создал Бог:
Крестьянин, рыцарь, поп (средневерхненем.).
Фрейданк (букв, свободомыслящий) — псевдоним неизвестного не¬
мецкого автора, написавшего ок. 1215—1230 гг. нравоучительную и кри¬
тическую поэму «Bescheidenheit» («Разумение») объемом ок. 4700 стихов.
Фрейданк родился в Швабии или Тироле в конце XII в.гпринимал учас¬
тие в крестовом походе Фридриха II в 1228—1229 гг., умер в Кайзхайме
(Бавария) во время поездки в Венецию предположительно в 1233 г.
91 Ср. «Леди Макбет Мценского уезда» Н. С. Лескова, «Степной ко¬
роль Лир» И. С. Тургенева: истории, правда, не крестьянские, но и далеко
не «королевские».
2 Но не в русском, разве только употреблять вместо «поколения» ин¬
тернациональное слово «генерация» (которое, скорее всего, и имеет
здесь в виду О. Шпенглер, говоря о «всех языках»), происходящее от лат.
1034
Приложение
глаголаgenero— «производить, порождать». Как уже упоминалось (прим.
7), по-немецки Geschlecht— и «род», и «поколение», и «пол». Следует это
иметь в виду в следующем абзаце.
593 Среди самых выдающихся могут быть названы: Уильям Сесил, 1-й
барон Берли (1520—1598), на протяжении сорока лет главный советник
Елизаветы 1,1 -й ее министр, душа всех ее побед; его сын Роберт Сесил, 1-й
граф Солсбери (1563—1612), 1-й министр Елизаветы I и Якова I; Роберт
Артур Толбот Гаскойн-Сесил, 3-й маркиз Солсбери (1830—1903), премь¬
ер-министр в 1885—1892 гг. и 1895—1902 гг.; его сын Эдгар Олжернон Ро¬
берт Сесил, 1-й виконт Сесил оф Челвуд (1864—1958), занимавший не¬
сколько министерских постов во время 1-й мировой войны, один из со¬
здателей Лиги Наций, активный сторонник разоружения, лауреат
Нобелевской премии мира 1937 г. Здесь, возможно, более всего имеется в
виду конкретный «свежий» эпизод 1902 г.
594 Посреди жизни мы пребываем в смерти {лат.), начало средневеково¬
го антифона.
595 См.: Кант И. Соч.: В 6 т. Т. 4. Ч. 2. М., 1965. С. 192.
596 Откровение Иоанна 3,16.
597 Один из древнейших римских аристократических домов. Из него
вышли многие видные государственные, религиозные (напр., Мартин V,
в миру — Одцоне Колонна, папа в 1417—1431 гг.) и военные деятели, поэ¬
ты (знаменитая поэтесса Виттория Колонна, 1492—1547) и писатели.
Дом Колонна враждовал с домом Орсини, бывали периоды, когда вся
жизнь средневекового Рима пребывала под знаком этой вражды, перехо¬
дившей в настоящие военные действия. Об итальянской моде возводить
свое происхождение к Древнему Риму см.: Буркхардт Я. Культура Воз¬
рождения в Италии. М., 1996. С. 118—119.
598 До сих пор в ходу выражения «Mayflower American», «Mayflowerfami¬
ly» — «истинный американец», «старинная американская семья».
599 Ср. испанское слово «идальго» {hidalgo), которое, напротив, означа¬
ет буквально «чей-то сын».
600 По Терситу, единственному «отрицательному» персонажу «Илиа¬
ды» (II 211-269).
601 Слова, сделавшиеся известными благодаря П. Ж. Прудону. В своей
книге «Что такое собственность?» (1840) он приводит их со ссылкой на
Дидро. Ср.: Михельсон М. И. Русская мысль и речь. Т. 2. М., 1994 (ре¬
принт). С. 59 (указатель).
602 Матф. 16, 26.
603 «Одиссея» XIII 215—219. Небольшая неточность: Одиссей считает
сокровища не на корабле, а на берегу, поскольку феаки выгрузили его вме¬
сте с имуществом еще спящего, причем, что замечательно, сделали это с
большими предосторожностями, «дабы никакой проходящий, пользуясь
сном Одиссея глубоким, чего не похитил» (123—124).
604 Фридрих Лист (1789—1846), немецкий экономист, сторонник ак¬
тивного вмешательства государства в экономическую жизнь. По его ини¬
циативе в 1819 г. во Франкфурте была создана Общегерманская ассоциа¬
ция промышленников и коммерсантов, добившаяся в 1834 г. создания
Германского таможенного союза (Zollverein), к 1854 г. распространивше¬
Приложение
1035
гося на всю Германию, за исключением Мекленбурга и Любека, и сыг¬
равшего значительную роль в политическом объединении Германии и в
промышленном ее подъеме. В 1825 г. выслан из Германии за либераль¬
ные взгляды, жил в США, где в 1827 г. опубликовал работу «Очерк амери¬
канской политической экономии», где отстаивал временный, на период
индустриализации, протекционизм, осуществляемый посредством тари¬
фов, которые следует рассматривать как инвестиции в экономику стра¬
ны. Получив американское гражданство, вернулся в Германию, в 1834 г.
назначен консулом США в Лейпциге. В 1841 г. вышел самый значитель¬
ный труд Листа «Национальная система политической экономии». По¬
кончил с собой, доведенный до отчаяния прежде всего финансовыми за¬
труднениями, преследовавшими его на протяжении всей жизни.
605 Мавриниане — ученая конгрегация католических монахов ордена
бенедиктинцев во Франции, получившая свое название от св. Мавра,
ученика св. Бенедикта. Основателем общества мавриниан был ученый
монах Дидье де Ванн. В 1618 г. оно было признано официально. Вначале
деятельность конгрегации была сосредоточена в основном на истории
самого ордена, но затем постепенно расширялась и стала охватывать все
более широкий круг вопросов истории и археологии, в том числе и свет¬
ского характера. В эпоху наибольшего своего распространения маврини¬
ане имели до 120 монастырей. Во времена Французской революции конг¬
регация почти прекратила свою деятельность и возникла вновь лишь в
1833 г. Болландисты — ассоциация иезуитов, получившая название по
иезуиту Жану Болланду (1596—1665), работала в основном в Бельгии,
взяв на себя собирательство и издание житий святых. Первый этап колос¬
сального предприятия (1643—1794) был прерван в связи с запрещениями
деятельности иезуитов и революционными событиями. Было выпущено
всего 53 тома (доведено до октября). Работы возобновились в 1836 г. и
продолжались до 1867 г. С 1882 г. в Париже и Брюсселе ассоциация стала
издавать факсимильные копии наиболее ценных рукописей. В 1911 г. вы¬
шел 65-й том (теперь их 67). Подробнее о мавринианах и болландистах
см.: Христианство: Энциклопедический словарь. Т. 1. С. 293—294; Т. 2.
С. 66-67.
606 Laie по-немецки — и «мирянин», и «дилетант», вообще «непосвя¬
щенный».
607 См. выше, прим. 389.
608 Имеются в виду папские индексы запрещенных книг. Список за¬
прещенных книг впервые издал в 1543 г. папа Павел III, первый официа¬
льный индекс был издан при Павле IV в 1559 г. (публикация прекращена
в 1948 г.).
609 Полное название памятника — «Notitia dignitatum utriusque imperii»,
т- e. «Реестр административных должностей Западной и Восточной им¬
перии» (лат.).
Игра слов: Zug — и «процессия», как только что упомянутая погре¬
бальная, и «черта», «характеристика», так что начало фразы для немца
звучит и так: «Эта процессия тянется через всю античную знать...»
1 Игра слов: Burger — это и «буржуа», и (в этимологическом смысле)
«горожанин», «мещанин», так что предложение можно было бы букваль¬
Приложение
1036
но перевести так: «Однако город старше “горожанина”». Современное
значение слова Burger — «гражданин», что О. Шпенглер еще будет обыг¬
рывать ниже.
612 Скорее всего, имеются в виду относящиеся к 1348—1350 гг. росписи
Амброджо Лоренцетти «Плоды Доброго и Дурного правления» в Палац¬
цо Пубблико в Сиене. Удивительно хорошо сохранились до нашего вре¬
мени и родовые башни (до 30 м высоты) в излюбленном художниками го¬
роде Сан-Джиминьяно в Тоскане (на юго-запад от Флоренции).
613 patres et conscripti, т. е. «отцы и приписанные» {лат.) — традицион¬
ное обозначение римского сената, впоследствии сократилось до patres
conscripti.
614 Фуггеры, Вельзеры — знаменитые во всей Европе XV—XVI вв. семей¬
ства финансистов, происходившие из Аугсбурга. Особенно славились
Фуггеры, считавшиеся самыми богатыми людьми Европы и ссуживавшие
деньги королям. Сведения об их предпринимательской деятельности
имеются с XIV в., однако восхождение семейства начинается с Якова II
Фуггера (1459—1525), по прозвищу Богатый. Он успешно торговал с Ле¬
вантом (страны восточного Средиземноморья), занимался горным де¬
лом, контролировал рынок меди в Венеции. Щедрый жертвователь, он
основал ряд филантропических учреждений. Был банкиром императоров
Максимилиана и Карла V (последний обязан Фуггеру своим избранием
на императорский престол, что спровоцировало громкий европейский
скандал, а также рядом военных побед, в том числе при Павии в 1525 г.).
Однако поддержка Фуггерами Габсбургов при Филиппе II была одной из
причин их заката. После смерти Антона Фуггера (1493—1560) дела их по¬
шли на спад. Вельзеры особенно выделялись в XVI в.: вплоть до 1540 г. они
обладали правом монопольной торговли с испанской Америкой. Филип-
пина Вельзер (1527—1580) была замужем тайным браком за сыном импе¬
ратора Фердинанда I. Семейство Медичи поселилось во Флоренции в
конце XII в., однако до XIV в. значительной роли там не играло. К этому
времени торговлей и банковской деятельностью Медичи скопили значи¬
тельное состояние. В XV в. им удалось взять власть во Флоренции в свои
руки, и начиная с этого времени и до 1737 г. история Тосканы и Италии
развивается под знаком Медичи, выдвигающихся в первые ряды евро¬
пейской аристократии. Так, Козимо I (1514—1574) стал в 1537 г. герцогом
Флоренции, а в 1572 — великим герцогом Тосканы; Катерина де Медичи
(1519—1589) вышла в 1533 г. за будущего короля Генриха II и стала коро¬
левой Франции и регентшей; Мария де Медичи (1573—1642), жена Ген¬
риха IV, также стала королевой Франции и регентшей. Из семейства Ме¬
дичи были некоторые папы (Лев X, в миру — Джованни деМедичи, папа в
1513—1521 гг., и Климент VII, в миру — Джулио деМедичи, папа в
1523—1534 гг., Пий IV, в миру — Джованни Анджело деМедичи, папа в
1559—1565 гг.) и множество кардиналов. Сеть филиалов Фуггеров, Вель-
зеров и Медичи во времена их максимального расцвета охватывала зна¬
чительную часть Европы.
615 По закону Гортензия решения плебейских собраний, плебисциты,
обрели силу закона и для патрициев.
Приложение
1037
616 Слово Gegenstand, означающее просто «предмет», О. Шпенглер раз¬
лагает на части: Gegen-Stand (gegen — «против», Stand — «сословие»),
617 Для немецкого языка (и для основных европейских): Staat (нем.),
state (англ.), €Ш (фр.), stato (ит.), estado (исп.). Следует заметить, что по¬
нятие «государство» возникло в европейских языках в XVI в. (в немец¬
ком — к концу XVII в.) из латинского status, «состояние», не непосредст¬
венно, а через средневековое его значение «сословие».
618 Вновь игра слов: Verfassung — это и «конституция», вообще «госу¬
дарственное устройство», и «спортивная форма».
619 Ср.: т. 1. гл. 3, раздел 6.
420 Ср.: Гераклит, фрг. 53 (Дильс): «Война — отец и царь всех вещей: из
одних она делает богов, из других — людей, одних делает свободными,
других — рабами».
621 справедливость (англ.). В англо-американском праве: «1) приложе¬
ние велений совести или принципов естественной справедливости к уре¬
гулированию разногласий; 2) система юриспруденции или совокупность
учений и правил, развитых в Англии и продолжаемых в США, служащих
тому, чтобы дополнять и компенсировать ограниченность и негибкость
обычного права» (Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the Eng¬
lish Language).
622 В оригинале игра слов: Sorge, Vorsorge, Filrsorge.
623 Macht по-немецки — и «сила, мощь», и «власть» (политическая).
624 См. выше, прим. 611.
625 В брошюре «Qu’est-се que le Tiers Etat?» («Что такое третье сосло¬
вие?»).
626 Строка, неоднократно цитируемая О. Шпенглером. В данном слу¬
чае важно, что Гете употребляет здесь слова gepragte Form, букв, «отчека¬
ненная форма» (ср. выше, прим. 589)..
627 См.: Давидсон А. Сесиль Родс и его время. М., 1984.
628 Нетитулованное мелкопоместное дворянство, занимавшее в ари¬
стократической иерархии Англии место непосредственно ниже пэров (к
которым принадлежат герцоги, маркизы, графы, виконты, бароны).
629 «Живи лишь (одним) днем» (лови миг удачи) {лат.).
630 Видный государственный деятель Афин, заведовал в 354—339 гг. до
Р. X. афинскими финансами. Сторонник мира с Македонией, что явля¬
лось причиной постоянных разногласий с Демосфеном, против которого
он, в частности, в 343 г. защищал Эсхина (речь Демосфена «О предатель¬
ском посольстве» и ответная речь Эсхина сохранились).
631 Роберт /Великолепный, сын герцога Ричарда И, сделался герцогом
Нормандии в 1027 г. после смерти своего старшего брата Ричарда III, ко¬
торого он, по слухам, отравил. Ему пришлось вести борьбу со своими вас¬
салами, затем он восстановил на престоле изгнанного собственным сы¬
ном графа фландрского Балдуина IV, оказал помощь французскому ко¬
ролю Генриху I в борьбе с его матерью Констанцией, усмирил графа Одо
Шампанского, привел в повиновение Алена, графа бретонского. Каясь в
своих жестокостях, совершил паломничество, пройдя по Франции и
Италии, долгое время был в Риме и через Константинополь прибыл в
Иерусалим. Возвращаясь оттуда, умер в Никее в 1035 г. Роберту I насле¬
Приложение
1038
довал единственный сын (незаконный) — знаменитый Вильгельм Завое¬
ватель. Образ Роберта нередко связывается с весьма популярной в Сред-
ние века легендой о норманнском рыцаре Роберте-Дьяволе, раскаяв¬
шемся и заслужившем у Бога прощение (самая известная ее
интерпретация уже в Новое время — опера Дж. Мейербера «Роберт-Дья-
вол» на либретто Э. Скриба и Ж. Делавиня).
632 Ср. старофранцузское eschac — «шахматы».
633 Курфюрсты, т. е. выборщики (нем. Kurfiirsten), группа церковных и
светских германских государей, наделенных правом избирать короля
Германии, который потом, как правило, короновался папой в качестве
императора Священной Римской империи. Начиная с XV в. королем
обычно избирали главу дома Габсбургов. Последний раз папа короновал
императора в 1530 г. (Климент VII — Карла V в Болонье). Первоначально
все государи империи обладали правом голоса при выборах короля Гер¬
мании, но в 1263 г. папа Урбан IV издал две буллы, в которых право на из¬
брание короля признавалось только за семью крупными германскими
властителями. Полномочия и состав выборщиков были окончательно
определены лишь в 1356 г. «Золотой Буллой» императора Карла IV. В ней
в качестве выборщиков назначались три архиепископа — Кельна, Май¬
нца и Трира, а также четыре светских государя — маркграф Бранденбург¬
ский, герцог Саксонский, пфальцграф Рейнский и король Богемии. Со¬
став выборщиков оставался неизменным вплоть до 1623 г., когда голос
пфальцграфа был передан герцогу Баварскому. В 1648 г. выборщиков
стало восемь (пфальцграф снова мог голосовать), а в 1692 г. — девять (до¬
бавился курфюрст Ганноверский). Когда линия герцогов Баварских пре¬
секлась в 1778 г., число выборщиков снова сократилось до восьми, одна¬
ко в 1803 г. их снова девять (добавился Гессен-Кассель) — ненадолго, по¬
скольку с роспуском Священной Римской империи в 1806 г. прекратила
существование и коллегия выборщиков. Правители Гессен-Касселя (и
только они) продолжали именоваться курфюрстами и после этого.
634 Инвеститура («наделение полномочиями», лат.) — назначение вы¬
сших церковных иерархов государем, т. е. светской властью, предмет
продолжавшегося веками конфликта между папской властью и правите¬
лями католических стран (во Франции — вплоть до XVII в., в Испании —
до самого недавнего времени), поскольку многие епископы были круп¬
ными и влиятельными феодалами (ср. прим. 633, 643). В данном случае
речь идет о том, что раз папа сделался сеньором королей, то назначаемые
ими епископы, вассалы короля, оказывались вассалами и по отношению
к папе.
635 Мн. ч. от apxq — «начало, власть», п/хту — «достоинство, почесть»
{грен.).
636 Нем. герцог, Herzog — «полководец», от Неег— «войско» и ziehen —
«вести» — калька с греч. атратг^Хат^. Dinggraf — судья на тинге (народ¬
ном собрании).
637 Этимология слова неясна и не связана с consulo — «советовать, обду¬
мывать».
638 Букв, «царь священнодействий» {лат.), по-русски обычно перево¬
дят «верховный жрец».
Приложение 1039
639 Общая трапеза спартанцев, греч. фе&тюу или фсЫтюи.
640 Лат. interrex, букв, «межцарь», т. е. царствующий в междуцарствие, в
промежутке, переходном периоде. См.: Тит Ливий 117. 32; V 17. 31; VI41;
VII 21; Цицерон, О законах I 15, 42.
641 Разумеется, императоры номинально существовали все время, од¬
нако роль их была невелика. Венцеслав, или Венцель (1361—1419), — ко¬
роль Богемии (под именем Венцеслав IV, 1363—1419) и император Свя¬
щенной Римской империи и король Германии (1378—1400), сын импера¬
тора Священной Римской империи Карла IV. Сделав своей столицей
Прагу, практически игнорировал германские дела, был смещен герман¬
ской знатью. Не слишком удачно обстояли и его дела в Богемии: здесь его
неоднократно смещали и даже держали в заточении. Вначале оказывал
покровительство Яну Гусу, однако не спас его от сожжения на костре.
Известен пристрастием к горячительным напиткам.
642 Бонифаций VIII (в миру — Бенедетто Каэтани, 12357—1303), папа
римский в 1294—1303 гг. Кардинал с 1281 г., папский легат во Франции.
Взошел на папский престол вслед за Целестином V, которого ему удалось
склонить к отречению. Бонифаций был ярым сторонником духовной и
мирской независимости папы, что привело к конфликту с Филиппом IV
Красивым. Когда (в 1296 г.) Бонифаций запретил клирикам платить на¬
логи королю, Филипп ответил запретом вывоза монеты из Франции. В
1301 г. Филипп арестовал во Франции папского легата и впервые созвал
(1302) Генеральные штаты, поддержавшие короля. Бонифаций ответил
сначала буллой «Auscultafili» («Послушай, сынок...»). За ней последовала
знаменитая «Unam sanctam» (1302). После этого Филипп поручил своим
сторонникам (Гийому де Ногаре, Шьярре Колонна) арестовать папу в
Ананьи, что они и сделали, однако через два дня местные жители его
освободили. Он умер в Риме через три недели (возможно, во время ареста
с ним дурно обращались). В 1305 г. Филиппу удалось добиться избрания
на папский престол своего ставленника Климента V, которого он угово¬
рил перебраться в Авиньон, с чего и началось Авиньонское пленение.
643 Райнальд фонДасселъ, род. ок. 1118/20 г., происходил из саксонского
графского рода, учился в Гильдесгейме и Париже, служил церковным
профосом. В 1153 г. входил в посольство императора Фридриха I Барба¬
россы к папе Евгению III. В мае 1156 г. Фридрих сделал его имперским
канцлером. Райнальд оказал императору важные услуги в борьбе с пап¬
ской властью, в частности составил протест против притязаний папы на
феодальное господство. В период с 1158 по 1164 г. несколько раз ходил по¬
ходами в Италию. В 1159 г. избран архиепископом Кельнским. После
смерти папы Адриана IV в том же году поддержал анхипапу Виктора IV в
борьбе с папой Александром III, который в 1163 г. отлучил его от церкви.
После взятия Барбароссой Милана в 1162 г. (ср. прим. 190) попытался реа¬
лизовать там его постановления, что вызвало общее возмущение, и Райна-
льду пришлось бежать. После смерти Виктора IV Райнальд постарался со¬
хранить раскол в церкви, обеспечив в 1164 г. избрание нового антипапы
Пасхалия III. В 1165 г. в качестве императорского посла заключил союз с
английским королем Генрихом II и на рейхстаге в Вюрцбурге добился
признания антипапы всеми немецкими государями и императором. В
1040 Приложение
1166 г. разбил римлян при Тускулуме и победителем вступил в Рим, где
вскоре умер от малярии, эпидемия которой выкосила бблыиую часть не¬
мецкого войска.
644 В оригинале Zusammenrottung, на юридическом языке — «сборище
агрессивно настроенных лиц в публичном месте, чаще всего — с целью
совершения противоправных действий».
645 Лат. Lexsalica (букв. Салический закон) — сборник законов, состав¬
ленный по-латински в начале VI в. салиями, франкским народом, завое¬
вавшим в V в. Галлию. Главным образом здесь излагается порядок уплаты
пеней за различные нарушения и преступления. Однако были здесь и
гражданские положения, в частности запрещение дочерям наследовать
землю. Именно оно чаще всего имеется в виду при ссылках на данный
сборник, поскольку запрещение это стали превратно толковать, исполь¬
зуя как аргумент против наследования европейских тронов женщинами
или вообще потомками по женской линии, чтобы в результате брака с
иноземцем корона не покинула страну. В этом смысле «Салическая прав¬
да» сыграла важную роль в истории Франции. Вначале ею воспользовал¬
ся король Филипп V (взошедший на престол в 1317 г. в обход дочери свое¬
го брата ЛюдовикаХЖанны II Наваррской). В 1337 г. она была использо¬
вана в качестве юридического основания для отказа во французской
короне Эдуарду III, английскому королю, мать которого Изабелла Фран¬
цузская была дочерью французского короля Филиппа IV; этот конфликт
послужил основанием для Столетней войны.
646 «Харизма, божественная субстанция, обладание которой дает сча¬
стье и могущество. Завладевший Хварно (позднее — фарр) становится
царем Ирана» (определение И. М. Стеблина-Каменского в кн.: Авеста.
Избранные гимны из Видевдата. М., 1993. С. 204; см. также: С. 136—173,
перевод 19-го яшта, посвященного Хварно).
647 Конрадин, называемый также Конрад V или Конрад Младший
(1252—1268), последний представитель династии Гогенштауфенов, гер¬
цог швабский, король римлян, претендент на сицилийский трон. Сын
императора Конрада IV и внук императора Фридриха II, Конрадин
предъявил претензии на Сицилийское королевство и на престол короля
Иерусалимского. Однако его дядя Манфред, незаконный сын Фридри¬
ха II, захватил сицилийский трон в 1258 г., и Конрадин удовольствовался
своими владениями в Швабии. Но когда Манфред погиб в сражении при
Беневенто (1266) с Карлом Анжуйским, которому его соотечественник-
француз папа Климент IV только что передал Сицилийское королевство,
обеспокоенные этим гибеллины пригласили Конрадина в Италию, с тем
чтобы отобрать Сицилию у Карла. Войдя в Италию со значительными си¬
лами в сентябре 1267 г., Конрадин встретил у итальянцев воодушевлен¬
ный прием. Пройдя по гибеллинским городам Вероне, Павии, Пизе и
Сиене, в июле 1268 г. он триумфально вошел в Рим, хотя папа его и отлу¬
чил. Уверенный в победе, Конрадин отправился на Сицилию, от избытка
радужных ожиданий уже поделив сицилийские владения между своими
сторонниками. Однако в состоявшемся 23 августа сражении при Талья-
коцце Карл неожиданно взял верх. Вначале Конрадин бежал в Рим, одна¬
ко пришедшие там к власти поддерживавшие папу гвельфы его не приве-
Приложение
1041
тили, а после в Астуру, откуда он надеялся отплыть на Сицилию. Его аре¬
стовали и выдали Карлу, который подверг его суду в Неаполе.
Приговоренный к смерти за заговор против папы и короля, 29 октября
Конрадин был обезглавлен на рыночной площади в Неаполе.
648 См.: Одиссея VIII 390-391.
649 Консулы командовали войском через день. Луций Эмилий Павел
проявлял осторожность, а Гай Теренций Варрон настаивал на решитель¬
ном сражении и, будучи командующим в свою очередь, вывел войско на
битву (Тит Ливий XXII 45).
650 См. выше, прим. 296.
651 Фердинанд II Арагонский (прозванный Католик; 1452—1516), сын
Хуана II Арагонского, — король Арагона и Сицилии (1479—1515), король
Кастилии под именем Фердинанд V (1474—1504), король Неаполя под
именем Фердинанд III. Его брак с Изабеллой Кастильской (1469) открыл
дорогу к объединению Испании, соединив атлантическое направление
экспансии Кастилии и средиземноморское — Арагона. Фердинанд про¬
вел важные финансовые и административные реформы, реже созывал
кортесы, взял курс на ограничение роли аристократии. В 1478 г. буллой
Сикста IV Фердинанд был уполномочен назначать трех инквизиторов,
что явилось началом испанской инквизиции. Выслал евреев и завершил
Реконкисту завоеванием Гранады (1492). В том же году Колумб отплыл в
свое плавание на поиски западного пути в Индию. Фердинанд и Изабел¬
ла получили прозвище «Короли-католики» (Reyes Catolicos), и так офи¬
циально их назвал папа в 1494 г. После смерти Изабеллы (1504) Ферди¬
нанд стал регентом Кастилии, присоединил Наварру, Оран, Триполи,
Милан. Передал корону своему внуку Карлу Великому (Карл V), бывше¬
му уже королем Кастилии.
652 Генрих VII Тюдор (1457—1509) — король Англии (1485—1509) и пер¬
вый государь из дома Тюдоров, с правлением которого начался период на¬
ционального единства после смут XV в. В 1471 г. бежал в Бретань после во¬
царения Эдуарда IV из дома Йорков. Тогда же, после смерти Генриха VI,
стал главой дома Ланкастеров. В 1483 г., пользуясь возмущением против
преемника Эдуарда IV, Ричарда III, переправился в Уэльс и собрал там ар¬
мию. В 1485 г. в битве при Босворте Генрих разбил Ричарда III и стал коро¬
лем как Генрих VII. В 1486 г. он женился на Елизавете, наследнице из дома
Йорков (1465—1503), старшей дочери Эдуарда IV, чем завершил войну
Алой и Белой розы. Генрих подавил несколько восстаний сторонников
Йорков, во главе которых стояли самозванцы (в результате войны обе сто¬
роны были практически уничтожены, и легитимных претендентов на пре¬
стол быть не могло). После 1494 г. Генриху удалось восстановить англий¬
ский контроль в Ирландии, он поддерживал в основном мирные отноше¬
ния с Австрией, Испанией и Францией. В 1487 г. реформировал Звездную
Палату (высший королевский суд), усилив свою власть над высшей ари¬
стократией. Преемником Генриха на троне был его второй сын Ген¬
рих VIII.
653 Людовик XI (1423—1483), король Франции (1461 — 1483), сыграл
основную роль в объединении Франции, в его правление ее границы
определились близко к современным. Ловкий дипломат, он был не все¬
1042
Приложение
гда удачлив в военных предприятиях, предпочитая скорее покупать вра¬
гов, чем их покорять. Людовик окружил себя советниками из низов и
много способствовал экономическому подъему во Франции, привлекая
иностранных купцов, улучшая дороги, вводя книгопечатание. В то же
время он централизовал судебную систему и финансы, ограничил сво¬
боды.
654 Генрих III — глава роялистов, Генриху Гиз — глава Лиги и Генрих
Наваррский, будущий Генрих IV, во главе протестантов.
655 Похвала Риму(р. 198, 31 —199,10 Jebb).
656 См. выше, прим. 348.
657 животное (грен.). Аристотель. Политика I, I 9, 1253а 3—8.
658 Букв, «человек — это имущество» (грен.), выражение, возводимое к
Алкею. См. сборник пословиц Зиновия 6, 43. Более популярные авто¬
ры — Диоген Лаэртский 131; Пиндар. Истмийские оды 2,11.
659 Греческий вариант имени, принятая транскрипция — Сенусерт.
660 См. ниже прим. О. Шпенглера.
661 Филипп (тогда он еще не был королем) высадился в Саутгемптоне
20 июля 1554 г. 25 июля была сыграна свадьба. В сентябре следующего
года, так и не дождавшись наследника, Филипп уехал в Испанию.
662 Т. е. Фридрихе Вильгельме.
663 Император Фердинанд разрешил Валленштейну производить рек¬
визиции на неприятельских территориях. В 1625 г. Валленштейн, будучи
очень богатым человеком, набрал 50-тысячную армию из своих средств, с
тем чтобы император расплатился с ним впоследствии, в том числе и кон¬
трибуциями с неприятеля.
664 Образованный в 1609 г. союз католических германских государств с
Баварией во главе.
665 Вероятно, намекая на профранцузские симпатии германских госу¬
дарей. В самом деле, рейхстага в Священной Римской империи веками
созывались в разных городах, пока Регенсбург сравнительно поздно, в
1663 г., не стал постоянным местом их проведения и оставался им до са¬
мого роспуска Империи в 1806 г.
666 Марией де Медичи.
667 Каталония действительно с 1640 по 1659 г. состояла в подданстве
Франции (это и послужило основной причиной отставки Оливареса в
1643 г.). Что касается Неаполя (в широком смысле — Королевства двух
Сицилий), то над ним Испания никогда не утрачивала контроль на ско¬
лько-нибудь продолжительное время: самое крупное возмущение, прои¬
зошедшее в 1647 г. (его возглавил Томмазо Аниелло, или Мазаниелло),
когда восставшие овладели Неаполем, а испанский вице-король герцог
д’Аркос был вынужден бежать, продолжалось с 7 по 16 июля и было по¬
давлено.
668 Пусть другие воюют; женись, блаженная Австрия! (лат.). Приписы¬
ваемая венгерскому королю Матвею Корвину ироническая перифрази¬
ровка строки Овидия из «Героид» XIII 84: «Bella gerant alii, Protesilaus
amet!» («Пусть воюют другие, Протесилай пусть любит!»), с намеком на
австрийский «способ» расширения владений (ср. прим. 106).
669 Русский перевод: Шпенглер О. Пруссачество и социализм. Пб., 1922.
Приложение 1043
670 Первым премьер-министром Великобритании, официально состо¬
явшим на этой должности, был Герберт Генри Асквит, граф Асквит и Ок¬
сфорд (1852—1928), премьер-министр в 1908—1916 гг. (Прим. англ, пер.)
671 Джозефа Чемберлена (1836—1914), наиболее видного члена кабине¬
та, государственного секретаря по делам колоний, считали естественным
преемником Роберта Артура Солсбери (см. прим. 413), однако премьер-
министром стал Артур Джеймс Бальфур, 1-й граф Бальфур (1848—1930),
бывший в кабинете первым лордом казначейства. Бальфур пробыл
премьер-министром с июля 1902 до декабря 1905 г.
672 См.: Тит Ливий II 32.
673 СопиЫит — см. прим. 94. Commercium — право торговли и деловых
операций в Риме (лат.).
674 Лат. intercessio — отмена официального решения должностного
лица лицом того же или более высокого ранга.
675 Греч. х€1РокРага — «господство силы», термин, использовавшийся
еще Полибием и Диодором.
676 сенат и народ римский (лат.), обычная официальная форма поста¬
новления, указывающая, от чьего лица оно принято.
677 Шарль Гравье граф де Верженн (1719—1787), политик и дипломат,
посол в Турции (1754—1768) и Швеции (1771—1774), где поддержал госу¬
дарственный переворот Густава III. Людовик XVI сразу по вступлении на
престол (1774) сделал его министром иностранных дел. Верженн продол¬
жил политику враждебности к Англии, став противником Тюрго, кото¬
рый считал, что война поведет к банкротству, и вынужден был подать в
отставку. В 1778 г. Верженн вовлек Францию в Войну за независимость
США, опустошившую казну. В то же время он старался поддержать мир
на континенте. По заключении мира с Англией (1784) был назначен пре¬
зидентом финансового совета и постепенно перешел на позиции сторон¬
ников умеренных реформ, согласившись на предложение Калонна со¬
звать нотаблей.
678 1848 г.
679 Восстание 5 октября 1795 г. Причиной его послужило недовольство
представителей ряда секций принятой Конвентом конституцией (по ко¬
торой две трети депутатов нового созыва в Законодательной палате, Со¬
вете старейшин и Совете пятисот должны были отбираться среди дейст¬
вующих депутатов). Восставшие осадили здание Конвента, но были рас¬
сеяны залпами картечи. Расстрелом командовал Бонапарт, назначенный
после этого Конвентом главнокомандующим вооруженными силами
внутри Франции (см., напр.: Карлейль Т. Французская революция. М.,
1991. С. 544-546).
680 Нем. Schlagwort, изначально — «задевающее, ранящее слово», на ак¬
терском языке XVIII в. — произносимое на сцене слово, служащее актеру
сигналом для выхода. Начиная с Жан-Поля (1763— 1825) — «слово, разом
проясняющее положение».
681 В широком смысле то же, что фритредерство. Направление в эконо¬
мике, выступающее против какого-либо вмешательства государства в хо¬
зяйственную жизнь. Манчестерская школа оформилась в 1830-е гг. вокруг
Р. Кобдена в ходе агитации против хлебных законов (см. статью
1044 Приложение
П. Б. Струве «Манчестерская школа» в Энциклопедии Брокгауза—Ефро¬
на. Т. 36. С. 568).
682 Не совсем точно: Эсхил, насколько известно, поставил в Сиракузах
лишь «Персов», т. е. одну трагедию из трех, входивших в трилогию (вер¬
нее, тетралогию, поскольку сюда всегда еще входила так называемая «са-
тировская драма»). Кроме того, не вполне правомерно общее название
«Персы», поскольку остальные пьесы (до нас не дошедшие), «Финей»,
«Главк» и драма «Прометей», были на мифологические темы и к сюжету
«Персов» отношения не имели.
683 Имеется в виду выпущенное Фридрихом Вильгельмом III 17 марта
1813г. воззвание по случаю объявления войны Наполеону. Дело в том, что
находившиеся с французской армией в России прусские войска войну
Наполеону фактически объявили, заключив (11 января 1813 г.) близ Тау-
рогена конвенцию, подписанную генералом графом Йорком фон Вар-
тенбургом и русским уполномоченным полковником бароном И. И. Ди¬
бичем. Это напугало прусского короля, и Йорк был отстранен от коман¬
дования корпусом (приказ, впрочем, так и не был приведен в
исполнение), однако в феврале король сам вступил в переговоры с рус¬
ским правительством и 28 февраля объявил Франции войну (Калишский
договор, по которому Пруссия присоединилась к союзникам, ср.
прим. 756).
684 Букв, «круг земель» {лат.), т. е. «обитаемый мир».
685 «незастроенная полоса земли по обе стороны городской стены»
{лат.).
686 Т. е. тому же самому Аппию Клавдию Слепому.
687 «светлейший» {лат.). «Принцепс» («первый», лат.) в республикан¬
скую эпоху — первый сенатор, отобранный цензором при пересмотре
списков (см.: Тит Ливий XXXIV44), старейшина из старейшин, высказы¬
вавшийся первым. Были «светлейшие» и в табели о рангах Константина
Великого (4-й ранг). Заметим, что из принцепса со временем получился
«принц» (по-русски — «князь») и что высший княжеский ранг — «свет¬
лейшие».
688 Букв, «новый человек» {лат.), т. е. выскочка.
689 Исторических свидетельств о том, что этот Аппий Клавдий был по¬
томком Аппия Клавдия Слепого, нет. Неизвестно также, действительно
ли решение о начале 7-й Пунической войны было подготовлено именно
Аппием Клавдием, консулом 264 г., хотя мы знаем, что ему было поруче¬
но ее начать {Полибий I 11). Он переправился на Сицилию и начал воен¬
ные действия против карфагенян и Гиерона Сиракузского под предлогом
защиты засланного туда (в Мессану) с небольшим отрядом военного три¬
буна Гая Клавдия.
690 16 августа 1780 г.
691 Швиц, Ури, Унтервальден, заключившие между собой в 1291 г. пер¬
вый договор, положивший начало образованию Швейцарского союза.
692 Уже упоминавшийся, год принятия первого в серии законов, ре¬
формировавших избирательную систему Великобритании. Этим зако¬
ном были ликвидированы так называемые «гнилые местечки» {rotten bo¬
roughs, обезлюдевшие или практически исчезнувшие округа и «карман¬
Приложение 1045
ные округа» {pocket boroughs, округа в сельской местности, голосовавшие
так, как было желательно местному крупному землевладельцу), созданы
новые округа в крупных городах и населенной сельской местности, сни¬
жен избирательный ценз. За этим законом последовали еще несколько,
наиболее важные из которых — законы 1867 и 1885 гг.
693 По-другому Чжи-ли, нынешняя провинция Хэбэй.
694 досуга с достоинством {лат.). Выражение принадлежит Цицерону
(Об ораторе II).
695 Гуй гуцзи — «легенды о духах». Возможно, О. Шпенглер имеет в виду
автора сборника. Об искусстве вертикального и горизонтального см.: Ки¬
тайская философия. Энциклопедический словарь. С. 422 (статья «Цзун-
хэн цзя»).
696 Он же Шан Ян, см. там же. С. 492—494.
697 Так я хочу, так велю {лат.), т. е. переход к высшему произволу и
своеволию. Вся строка у Ювенала (VI223): Hoc volo, sic iubeo, sit pro ratio-
ne voluntas (Так я хочу и велю, да будет причиной воленье!).
698 Ср.: т. 1. гл. 5, раздел 13.
699 О Сунь-цзы рассказывают, что когда противоборствующая сторона
была однажды, то ли для шутки, то ли с целью демонстрации тактических
приемов, образована из придворных дам, по его распоряжению за невы¬
полнение приказа была казнена любимая жена царя — один из команди¬
ров. {Прим. англ, пер.)
700 Склонный, как известно, к стремительному ведению кампаний,
иной раз выигрывая инициативу при недостаточной материальной под¬
готовленности.
701 А также первые, пусть проводившиеся еще в малых масштабах,
опыты применения подводных лодок, пулеметов и магазинных винто¬
вок.
702 Карфаген должен быть разрушен {лат.). Победитель при Заме —
Публий Корнелий Сципион Африканский Старший.
703 Где римские войска (под командованием Луция Корнелия Сципио¬
на, брата только что упомянутого Сципиона) и их союзники разбили в
190 г. армию царя Антиоха III.
704 Здесь — в изначальном смысле, как пост командующего войсками
(им и являлся консул). См.: Плутарх. Гай Марий 12.
705 Букв, покровительствуемые {араб.). После мусульманских завоева¬
ний так стали называть неарабское население покоренных областей. См.:
Ислам. Энциклопедический словарь. С. 161 (статья «Маула»).
706 См. там же. С. 15, 81, 214—215 (специальной статьи о хариджитах
нет, см. статьи об их основных ответвлениях — азракитах, ибадитах и
суфритах).
7°7 См. там же.
708 Эпизод относится к декабрю 814 г. См.: Успенский Ф. И. История
Византийской империи. VI—IX вв. М., 1996. С. 736—737.
709 См.: Ислам: Энциклопедический словарь. С. 132—133.
710 Али ибн Мухаммед ал-Баркуи; в отечественной литературе это вос¬
стание называют восстанием «зинджей» (невольников).
1046 _ Приложение
711 В отечественной литературе — Македонская династия, последним
годом правления которой считают 1056 г. О том, чтобы упоминаемый в
следующем предложении Иоанн Цимисхий носил прозвище Кюр Зан, ни¬
чего отыскать не удалось. Само слово «Цимисхий» уже есть прозвище,
происходящее, возможно, отарм. cmusk — «туфелька» {Дашков С. />. Им¬
ператоры Византии. М., 1996. С. 190).
712 Георгий Маниак, талантливый византийский военачальник, в
1042 г. едва не преуспел в отвоевании у арабов Сицилии, однако был ото¬
зван в Константинополь, а оказавшись на Балканах поднял восстание.
Одержал победу над правительственными войсками под Салониками,
однако сам при этом погиб.
713 Русский перевод «Речений Ипусера» см.: Хрестоматия по истории
Древнего Востока. Часть первая. М., 1980. С. 42—53.
714 «консул без коллеги» и «постоянный диктатор» {лат.). Революци¬
онность в том, что консул без коллеги для римлянина — это противоре¬
чие в определении: их должно быть двое уже по самому смыслу слова, что
связано также и с государственной религиозной практикой. Поэтому,
когда консул умирал или погибал, ему на смену в кратчайший возмож¬
ный срок избирался другой. Диктатор не может быть постоянным, пото¬
му что в классический период диктатором назначал консул или военный
трибун с консульской властью на срок не более 6 месяцев. Первым дикта¬
тором без оговоренного срока стал в 82 г. Сулла. Цезарь в 47 г. сделался
пожизненным диктатором.
715 ...как этим миром — тот принцепс, Бог {лат.). Цитата из сочинения
Макробия, являющегося комментарием к «Сну Сципиона» — части кни¬
ги VI только что упоминавшегося сочинения Цицерона «О государстве»,
дошедшего лишь частично.
716 «Юлий Цезарь». Акт I, сцена 2:
Let me have men about me that are fat;
Sleek-headed men and such as sleep o’ nights:
Yond Cassius has a lean and hungry look;
He thinks too much: such men are dangerous.
(Желаю видеть рядом только толстых,
Причесанных и спящих по ночам.
А Кассий тощ, в глазах голодный блеск;
Он много думает, такой опасен.)
См. также Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Юлий Це¬
зарь, 62.
717 Менее (Мина, ок. 3000) — легендарный царь, с которого начинают¬
ся списки фараонов, ему приписывается объединение Египта. Рамсес II
(XIX династия) царствовал ок. 1290—1224 гг. до Р. X.
718 В обоих доступных нам немецких изданиях О. Шпенглера, а также в
англ, и фр. переводах стоит слово orrusta. Очевидно, однако, что это
ошибка и следует читать emust или eomust — «борьба, серьезность, пыл»
(древневерхнегерм., совр. нем. — Ernst). Orlogвернее, oorlog— «война» на
современном голландском.
19 Люди, а не меры {англ.). Перевернутая цитата из комедии О. Гольдс-
мита «Добряк» (1768), во втором действии которой Лофти говорит: «Меа-
Приложение 1047
sures not men» («Меры, а не люди»). Слова эти в оригинальной форме
обыкновенно понимают как апологию посредственности и безответст¬
венности.
720 «Афоризмы и размышления» (Goethes Werke in zwolf Banden. Berlin
und Weimar. Bd. 7. S. 464).
721 Чуть измененные слова из стихотворения Гёте «Демон» в «Орфиче¬
ских пра-словах».
722 Т. е. на Венском конгрессе в 1814—1815 гг.
723 В 56 г.
724 Имеются в виду гвельфы и гибеллины. Ср. прим. 340.
725 «Государь», 1532 г.
726 Об остатке в смысле О. Шпенглера см. выше.
727 Луи Рене Эдуар, князь де Роган-Гемене, именуемый обычно карди¬
нал де Роган (1734—1803). Помощник своего дяди, епископа Страсбург¬
ского, с 1772 г. он был посланником в Вене, но затем отозван из-за отсут¬
ствия дипломатических способностей и беспорядочной жизни. Тем не
менее он сделался сначала королевским капелланом (1777), затем карди¬
налом (1778) и наконец — епископом Страсбургским (1779). В попытках
вернуть утраченную в бытность послом благосклонность королевы Роган
превратился в игрушку в руках Калиостро и своей любовницы авантюри¬
стки графини де Л а Мотт в ходе разыгравшейся в 1785 г. и наделавшей
много шума афере с «Ожерельем королевы». Именно, они его убедили,
что королева сменит гнев на милость, если он послужит посредником в
приобретении ею у ювелиров Бассанжа и Бемера колье стоимостью в
1600 000 ливров. (Это было колье, которое умерший в 1774 г. Людовик XV
заказал для своей фаворитки графини Дюбарри, но не успел выкупить;
ювелиры пытались побудить сделать это Марию-Антуанеггу, но та не ре¬
шалась просить у мужа столь крупную сумму.) Рогану даже показали под¬
дельные письма королевы и устроили «аудиенцию» с ней, на которой
роль королевы исполняла переодетая камеристка (или проститутка). Ко¬
лье было передано другому любовнику де Л а Мотт, представленному как
придворный королевы, и продано по частям (вероятно, в Лондоне), од¬
нако в связи с тем, что Роган не смог погасить выданные им векселя, ис¬
тория получила огласку. Людовик XVI, вместо того чтобы замять дело,
дал ему легальный ход, вынеся на рассмотрение парижского окружного
суда. Роган, сам в большей степени потерпевший, чем виновник, был
оправдан 31 мая 1786 г. и, по общему мнению, оказался в этой истории
жертвой, особенно когда его-таки удалили от двора и отправили в ссылку
(в 1789 г. он был избран от духовенства депутатом в Генеральные штаты, а
во время революции, в 1790 г., эмигрировал и поселился в своих имениях
в Германии). Между тем Мария-Антуанетта, бывшая в данном случае не¬
виновной, оказалась опозоренной, ее частная жизнь попала под подозре¬
ние, а расходы оглашены. Калиостро на 9 месяцев посадили в Бастилию,
в затем выслали, а де Ла Мотт подверглась порке и клеймению, после чего
ее пожизненно заключили в тюрьму при больнице Сальпетриер (однако
впоследствии она смогла бежать в Англию, где даже опубликовала воспо¬
минания, порочащие королеву). История с «Ожерельем королевы» много
1048
Приложение
способствовала падению авторитета королевской власти перед револю¬
цией.
728 Общество Таммани, известное также как Колумбийский орден, —
изначально общеамериканская патриотическая и благотворительная ор¬
ганизация, ориентированная на сохранение демократических институ¬
тов и в особенности противостоявшая аристократическим теориям феде¬
ралистской партии. Впоследствии оно локализовалось в Нью-Йорке и
отождествилось с местной демократической партийной машиной. Не¬
редко фигурирует как Таммани Холл, по штаб-квартире организации.
Таммани было основано в Нью-Йорке в 1789 г. Вильямом Муни, быв¬
шим солдатом и видным антифедералистом и названо по имени извест¬
ного своей мудростью вождя делаваров. Поначалу оно организовалось в
форме 13 племен — по одному на каждый штат; функционерам общества
присваивались титулы американских индейцев — сашем и сагамор, а ме¬
ста, где проходили сборы, назывались вигвамами. Общенациональный
характер был присущ обществу недолго. В 1798 г. в Нью-Йорке контроль
над ним захватил Аарон Берр, организовав его как политическую маши¬
ну, которая помогла в 1800 г. выбрать президентом Томаса Джефферсо¬
на, а самого Берра — вице-президентом. В 1836 г. Мартин Ван Бурен, ве¬
ликий сашем Таммани, был избран президентом. В 1855 г., когда один из
его лидеров, Фернандо Вуд, был избран мэром, общество сделалось в
Нью-Йорке господствующей политической силой. 13 лет спустя вели¬
ким сашемом был избран получивший скандальную известность Вильям
Твид: для его режима, просуществовавшего до 1871 г., был характерен не -
бывалый размах коррупции в городской администрации. С 1880-х гг.,
при демократическом городском лидере Ричарде Крокере, а после
1902 г. — при его преемнике Чарлзе Ф. Мерфи, Таммани Холл оказывал
значительное влияние на политику города и штата. Его коррумпирован¬
ность продолжала оставаться притчей во языцех, и потому группы рефор¬
маторов неоднократно ему противостояли. В 1928 г. лидер Таммани Аль¬
фред Э. Смит безуспешно добивался президентства. В 1926 г. кандидат
Таммани Джимми Уокер был избран мэром Нью-Йорка. Против его ад¬
министрации были выдвинуты обвинения в коррупции, и по результатам
расследования Уокер был вынужден в 1932 г. уйти в отставку. Отстранен¬
ные от власти в период администрации реформистского мэра Фьорелло
Г. Ла Гуардиа (1933—1945), демократы из Таммани вернулись к власти в
конце 1940-х гг., однако растущее реформистское движение в демократи¬
ческой партии значительно их ослабило. После поражения кандидата де¬
мократов Кармин Де Сапио в 1961 г. название Таммани Холл постепенно
вышло из употребления.
729 Кокас, закрытое собрание членов политической партии или фрак¬
ции с целью принятия решений, которые будут обязательны для всей
партии или фракции. Слово неизвестного происхождения (возможно,
происходит от алгонкинского слова, означающего «старейшина, совет¬
ник») вошло в употребление с 1763 г. в связи с деятельностью бостонской
политической организации Кокас Клаб, пользовавшейся большим влия¬
нием на местных выборах. В период с 1800 по 1824 г. кандидаты на прези¬
дентство США регулярно избирались на собраниях, или кокасах, членов
Приложение
1049
конгресса, принадлежавших к соответствующим партиям. Впоследствии
эти кандидаты избирались съездами партий, однако кокасы конгресса
продолжали функционировать с целью определения официальной пози¬
ции партии по важным вопросам перед выборами. Схожие политические
кокасы продолжали собираться во многих законодательных учреждениях
на штатном и местном уровне, хотя их функцию определения кандидатов
взяли на себя непосредственные праймериз (предварительные выборы).
В Америке словом «кокас» часто называют также собрания с целью опре¬
деления политики и кандидатов на выборные должности в любых орга¬
низациях, где могут иметься фракции, таких, как клубы, профсоюзы. В
Великобритании термин также получил хождение (с 1878), однако там он
обозначает организации, имеющие целью поддержку и проведение вы¬
боров.
730 См.: Китайская философия: Энциклопедический словарь.
С. 449—450 (статья «Чжан го цэ»); Васильев К. В. Планы сражающихся
царств (исследования и переводы). М., 1968.
731 Ночное заседание 4 августа 1789 г. — бурное заседание Националь¬
ного учредительного собрания, на котором многие представители знати
и духовенства заявили о своем отказе от привилегий и переходе на сторо¬
ну третьего сословия. Постановления, принятые на этом и последующих
(до 11 августа) заседаниях, означали фактически упразднение феодализ¬
ма во Франции. Заседание проходило при всеобщем воодушевлении, вы¬
ступления встречались бурными аплодисментами, многие в умилении
плакали. Клятва в зале для игры в мяч 20 июня 1789 г. была дана депутата¬
ми образованного ими перед этим (17 июня) Национального собрания
(т. е. депутатами Генеральных штатов от третьего сословия), что прои¬
зошло после того, как король, недовольный развитием событий, распо¬
рядился закрыть зал, в котором они собирались. В зале для игры в мяч де¬
путаты поклялись не расходиться и собираться всюду, где это будет воз¬
можно, до тех пор, пока конституция не будет принята.
732 Где с 31 марта 1848 г. заседал германский предпарламент, а с 18 мая
того же года по 30 мая 1849 г. — Франкфуртский парламент, первое вы¬
борное обще германское законодательное собрание. Авторитет парла¬
мента в Германии был высок, почему О. Шпенглер и говорит, что власть
была в его руках, однако он этим не воспользовался и был разогнан.
733 Жанна-Мари Ролан де ла Платьер (или Манон Флипон, известная
под именем М-те Ролан, 1754—1793). Дочь гравера, получила прекрасное
для своей эпохи образование, читала Плутарха, изучала математику. В
1789 г. с энтузиазмом восприняла революционные идеи, писала статьи
Для «Лионского курьера». Переехав в 1791 г. в Париж вместе с мужем
(Жан-Мари Ролан де ла Платьер, 1734—1793, министр внутренних дел в
жирондистском правительстве с марта 1792 по 23 января 1793 г., голосо¬
вал против казни короля), она даже в большей степени, чем он, сделалась
советником и душой жирондистского движения, видные члены которого
собирались в ее салоне. При жирондистском правительстве ее роль и вли¬
яние были значительны. М-те Ролан была арестована после падения
Жиронды (31 мая—2 июня 1793 г.), и в заключении она написала воспо¬
минания (изданы в 1795 г.). 8 ноября 1793 г. приговорена революцион¬
1050 Приложение
ным трибуналом и гильотинирована. В историю вошли ее слова, произ¬
несенные по пути к эшафоту: «О свобода, какие преступления соверша¬
ются от твоего имени!» Муж, которому удалось скрыться, при получении
известия о ее казни покончил с собой.
734 Тит Анний Милон (95—48 до Р. X.), зять Суллы, сторонник оптима-
тов в Риме. В 57 г., будучи народным трибуном, он силой настоял на воз¬
вращении Цицерона из изгнания. Созданные им вооруженные отряды
привостояли отрядам Клодия Пульхра (ср. прим. 254), приверженца Це¬
заря. В стычке в 52 г. Милон убил самого Клодия, после чего был вынуж¬
ден удалиться из Италии в Массилию. Цицерон собирался его защищать
и даже написал речь, которая сохранилась. Погиб возле Турий в Италии,
присоединившись к восстанию Марка Целия Руфа против Цезаря.
735 Гай Скрибоний Курион.
736 Ср. о Крассе.
737 Бой между французской армией (под командой Дюмурье и Келлер¬
мана) и шедшей на Париж прусской (командующий герцог Брауншвей¬
гский) вблизи деревни Вальми (департамент Марна, южнее г. Сен-Мену)
20 сентября 1792 г. Пруссаки так и не решились на активные действия, и
столкновение свелось почти исключительно к артиллерийской канона¬
де, продолжавшейся с 11 ч. утра до 5 ч. вечера (как пишет присутствовав¬
ший там Гете, «каждая из сторон израсходовала за день по десяти тысяч
снарядов»). Потери не были значительны ни с той, ни с другой стороны
(184 убитых и раненых у пруссаков, ок. 300 у французов); поскольку, од¬
нако, 30 сентября пруссаки были вынуждены отступить, победителями
принято считать французов. Гете принадлежит знаменитая фраза, произ¬
несенная в этот день: «Здесь и отныне началась новая эпоха всемирной
истории, и вы вправе говорить, что присутствовали при ее рождении»
(см.: Гёте И.-В. Собрание сочинений. М., 1980. Т. 9. С. 285).
738 Фраза О. Шпенглера построена на игре однокоренных слов Ausd-
ruck — «выражение» и Eindruck (курсив в оригинале) — «впечатление»,
корень «druck» означает «давление, тиснение, печатание (типограф¬
ское)». Заметим, что русское «впечатление» связь с «печатью» сохраняет.
739 Альфред Чарлз Вильям Хармзуорт, виконт Нортклиф( 1865—1922), ан¬
глийский издатель, родился в Чейпелизод возле Дублина, учился в основ¬
ном самостоятельно. В 1887 г. организовал в Лондоне издательство, а в
1888 г. основал «Ансез» («Answers»), популярный еженедельник. Это и дру¬
гие издания, появившиеся позднее, явились основой «Амальгамейтед
Пресс» — впоследствии крупнейшего в мире газетно-журнального концер¬
на. В 1894 г. приобрел оказавшуюся на грани банкротства газету «Ивнинг
ньюс» (Лондон) и в течение года превратил ее в доходное издание. Через два
года основал, также в Лондоне, газету «Дейли мейл», где завел колонки для
женщин, публикации с продолжением и другие нововведения. В 1903 г., как
газета специально для женщин, была основана «Дейли миррор»; в 1908 г.
Хармзуорт приобрел контроль над «Таймс». Он реформировал управление
газетным делом: ввел пятидневную неделю и допустил к участию в прибы¬
лях видных сотрудников редакции, а также повысил зарплату работников. В
1905 г. Хармзуорту был пожалован титул пэра, как барону Нортклифу, а в
1917 г. он стал виконтом. Во время мировой войны Хармзуорт был председа¬
Приложение 1051
телем Британской военной миссии в США. После войны усилия его были
главным образом направлены на разрешение ирландского кризиса.
740 «Юлий Цезарь». Акт III, сцена 2.
741 В оригинале Geister, т. е. букв. «духи». «Geist», «дух» нередко прихо¬
дится переводить на русский язык как «ум» (ср. прим. 194), но специаль¬
но оговариваем это здесь, потому что для О. Шпенглера «деньги» и «дух»
в своей взаимозависимости характерны для цивилизации.
742 Полностью — «Ап Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nati¬
ons», «Исследование природы и причин богатства государств».
743 Генри Чарлз Кэри (1793—1879), американский экономист, вначале
стоял на принципах свободной торговли, но после разразившегося в
1834—1842 гг. кризиса сделался сторонником протекционизма в сель¬
ском хозяйстве и промышленности, с помощью которого, как он пола¬
гал, США смогут добиться экономической независимости от Англии.
Один из основоположников так называемой теории гармонии интересов.
744 Слова из стихотворения Шиллера «Die Weltweisen» (можно перевес¬
ти как «Мировые мудрецы»), ср.: Т. 1. С. 317. Место, действительно, об¬
щее. Например, нечто схожее нашлось у Джозефа Аддисона (1672—1719):
«Наиболее бурные устремления всех тварей — это похоть и голод; первая
является постоянно обращенным к ним зовом продолжать свой род, вто¬
рой — зовом себя сохранять».
745 «Занятие... отрицает досуг и не ищет подлинного покоя, который и
есть Бог» (лат.). Фраза построена на игре слов: otium — досуг, negotium —
занятие, «недосуг». Ср.: Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.
С. 91—92, прим.: С. 119—122, а также комментарий: С. 780.
746 Об этом произведении ср.: т. 1. гл. 5, раздел 17.
747 Юрген Вулленвебер, или Вулленвевер (1492—1537), бургомистр Лю¬
бека в 1533—1535 гг., влиятельный приверженец Лютера. Пытался вос¬
становить прежнее значение ганзейских городов, для чего стал вмешива¬
ться в скандинавские дела, установив контакты с тамошними протестан¬
тами. Желая помочь взойти на датский королевский престол
Кристиану И, а на шведский — герцогу Альбрехту Мекленбургскому
(вместо Густава I), за что те обещали передать Любеку некоторые свои го¬
рода для торговли, начал войну. Кроме того, в планы Вулленвебера вхо¬
дила секуляризация любекского епископства в пользу города. Однако
любекское войско было разбито датчанами, и Вулленвебер был вынуж¬
ден оставить пост. В конце того же 1535 г. его арестовали и пытками вы¬
нудили признаться, будто он хотел захватить Любек и ввести здесь ана¬
баптизм. Вулленвебер был осужден и четвертован.
748 Вудро Вильсон (1856—1924), американский президент (1913—1921). В
данном случае имеется в виду вступление США в мировую войну (6 апреля
1917 г.).
749 В оригинале Systemabschluji, Geschiiftsabschluft.
750 См. прим. 11.
751 Besitz (нем.) — от sitzen, «сидеть».
752 «Золото» по-немецки — Gold, «деньги» — Geld. Этимологически эти
слова не связаны, но в оригинале фраза оказывается яркой.
753 Ок. 91 грамма.
1052 Приложение
04 «Деньги», 1891 г.
755 См. прим. 611.
756 Генрих Фридрих Карл, барон фон Штейн (1757—1831) — прусский
государственный деятель, министр экономики с 1804 г., сторонник ра¬
зумных либеральных реформ, ограниченного парламентаризма, осво¬
бождения крестьян (которых и начали постепенно освобождать в быт¬
ность его в правительстве). В 1808 г. по требованию Наполеона он был от¬
правлен в отставку, в 1809 г. Наполеон объявил его «врагом Франции и
Рейнского союза» и конфисковал поместья. После занятия Германии
войсками союзников Александр 1 поставил его управляющим немецки¬
ми провинциями. По инициативе Штейна Фридрих Вильгельм III под¬
писал в феврале 1813 г. союзнический договор с Россией (ср. прим. 683).
Венский конгресс, от которого Штейн ждал положительного решения
вопроса о единстве Германии, его разочаровал, и он ушел из политики. В
1819 г. основал Германское историческое общество, опубликовавшее се¬
рию «Monumenta Germaniae historica» («Памятники истории Германии»),
Подробная биография имеется в Энциклопедии Брокгауза—Ефрона.
Т. 78. С. 892-895.
757 Герой одноименной драмы Г. Ибсена (1896). См.: Ибсен Г. Драмы.
Стихотворения. М., 1972. С. 740 (второе действие, конец).
758 Илиада XVIII 507.
759 «Книга абака» {лат.). Абак — старинные счеты.
760 Фра Лука Пачоли (прозванный Лука ди Борго, Pacioli; 14457—1514),
итальянский математик. Его главное сочинение «Summa de arithmetica,
geometria, proportioni etproportionalita» (1494) является энциклопедическим
собранием всего, что было известно в области математики в то время.
761 «Годы ученичества Вильгельма Мейстера», кн. I, гл.Ю.
762 Чего нет в книгах, того нет и на свете {лат.). Чуть измененный
принцип старинных архивистов {«Quod non est in actis, non est in mundo» —
«Чего нет в записях, того нет и на свете»).
763 «Джосия Веджвуд и сыновья» — знаменитая английская фирма,
производящая керамику. Основатель Джосия Веджвуд {1730—1795) про¬
исходил из семьи потомственных гончаров. С девяти лет стал работать в
семейной мастерской. В 1759 г. основал собственное дело — фабрику
«Айви Хауз» в Бёрслеме, Стаффордшир. Там он производил высокопроч¬
ный фаянс кремового цвета, который весьма понравился королеве Шар¬
лотте Софии, назначившей Веджвуда королевским поставщиком. Дохо¬
ды от продаж «королевской посуды» дали ему возможность построить в
1768 г. возле Сток-он-Трент деревню, названную им Этрурия, где была
открыта вторая фабрика, оснащенная инструментами и печами по собст¬
венным проектам (в частности, Веджвуд изобрел пирометр для измере¬
ния температуры в печи, доставивший ему членство в Королевском науч¬
ном обществе). В 1782 г. Этрурия первой из английских фабрик внедрила
у себя паровую машину. За свою многолетнюю деятельность Веджвуд
разработал ряд совершенно новых керамических материалов, прежде
всего базальт и jasperware (по-русски — веджвуд). Последний, особенно
прославивший создателя — прочный неглазурованный порцеллан, чаще
всего характерного синего цвета, с тонкими камеевидными фигурами,
Приложение
1053
прообразом для которых служила знаменитая Портлендская ваза. Мно¬
гие изделия создавались по эскизам художника Джона Флаксмана. Джо-
сия Веджвуд — дед Чарлза Дарвина.
764 «Капитал». Т. I. Гл. XXIV: «Монополия капитала становится окова¬
ми того способа производства, который вырос при ней и под ней. Цент¬
рализация средств производства и обобществление средств труда дости¬
гают такого пункта, когда они становятся несовместимыми с их капита¬
листической оболочкой. Она взрывается. Бьет час капиталистической
частной собственности. Экспроприаторов экспроприируют» (Маркс К.,
Энгельс Ф. Соч. М., 1960. Т. 23. С. 773).
765 Ср.: т. 1. гл. 5, раздел 18.
766 Ср.: т. 1. гл. 1, раздел 16.
767 Игра слов: schalten mitetw. — «распоряжаться, властвовать над чем-
то», просто schalten — термин из электротехники «включать, соединять,
переключать», откуда происходит возникающий в следующем предложе¬
нии Schalttafel — «распределительный щит».
768 Греч. «Касситериды», в представлении древних греков — богатые
оловом острова на далеком Западе, предположительно Британия.
769 Русский перевод: Дильс Г. Античная техника. М.; Л., 1934.
770 Там же. С. 188-194.
771 экспериментальная наука (лат.).
772 Роджер Бэкон провел 10 лет в монастырской темнице.
773 См.: «Фауст». Часть первая, «Ночь».
774 См.: Часть вторая, акт пятый.
775 Покорных рок ведет, строптивых — гонит (лат.). Сенека. Письма к
Луцилию 107, 11.
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Аббасиды 68, 98, 610, 656, 763, 771, 840, 889, 912, 917
Абель Нильс Хенрик 113
Абеляр Пьер 374, 740
Абу Бакр 762
Август 44, 48, 49, 74, 97, 141, 158, 166, 208, 324, 441, 442, 436, 502, 505, 509,
515, 528, 566, 614, 629, 737, 772, 858, 883, 896-899, 928, 962
Августин, св. 31, 67, 150, 166, 374, 436, 662, 687, 691, 701, 706, 738, 760,
762, 839
Авидий Кассий 895
Авиен, Руфий Фест 25
Авиценна 68, 414
Аврелиан, Луций Домиций 73,75, 441, 712, 839, 1018
Агафокл 617, 869
Агис III 526
Агриппа, Марк Випсаний 505
Агриппина, Юлия Младшая 846
Адам де ла Аль 257
Аддисон Джозеф 284, 1051
Адриан, Публий Элий 14, 136, 238, 244, 527, 660, 774, 963
Акиба бен Иосиф 709
Акоста Уриэль 775
Аксаков Иван Сергеевич 28, 652
Аларих 504, 897, 900
Александр I 52
Александр Македонский 53, 521, 531, 548, 745, 845
Али 694, 888, 889, 892
Али ибн Мухаммед ал-Баркуи 688, 1045
Алкамен 104, 312
Алкивиад 15, 345, 379, 445, 870
Алкмеониды 795
Алп-Арслан 892, 896
Аль Ватик 891
Аль Газали Мухамед 772, 774, 993
Указатель имен
1055
Аль Маймун 764
Альбани Франческо 269, 275
Альберт Великий, св. 748, 967
Альберт Саксонский 414
Альберти Леон Баггиста 269
Альфонс X 774
Амасис 893, 896
Аменемхет I 849
Аменофис IV 562, 567, 771, 813
Аммоний Саккас 634
Амос 663, 666
Анаксагор 340, 418, 426, 427, 446
Анаксимандр 89, 358
Анастасий I 842
Анджелико, Фра Джованни да Фьезоле 249, 258, 302, 747, 1027
Анна Комнина 549
Ансельм Кентерберийский, св. 709
Антиной 244
Антиох Эпифан 668
Антисфен 386, 390
Антонелло да Мессина 265
Антоний, Марк 14, 170, 531, 535, 556, 649, 650, 921, 923, 926
Аполлинарий 716
Аполлодор из Дамаска 238, 311
Аполлоний Пергский 711
Аполлоний Тианский 69, 98, 118
Аппиан 845
Аппий Клавдий 871, 873, 874, 1044
Ардашир 709
Арий 135,715
Ариосто Лодовико 755
Аристарх Самосский 20, 93, 165
Аристей 669, 1021
Аристид 844
Аристоник из Пергама 918
Аристотель 20, 21, 26, 35, 40, 60, 68, 127, 143, 149, 151, 162, 168, 185, 203,
206, 230, 286, 311, 332, 341, 346, 347-349, 351, 353, 379, 382, 383, 391,
396, 397, 415, 418, 422, 426, 443, 445, 456, 460, 479, 518, 538, 540, 684,
704, 706, 707, 763, 846, 918, 1007, 1042
Аристофан 43, 350, 524, 1025
Арнольд Брешианский 754, 755
Арнольд из Виллановы
Архимед 69, 83,94, 98,99, 104, 111, 118, 141,265, 396, 409,412, 450, 460,
484, 527
АрхитТарентский 68, 91, 104, ПО, 118, 141,396
Асклепиад 711
АсклепиОдот719
Указатель имен
1056
Афанасий Великий, св. 680, 687, 711, 715, 716, 754
Афрагат716, 1023
Ахемениды 530, 710, 1019
Ахмед 891
Ашвагхош 771
Ашока 384, 567, 771,791
Баадер Франц Ксавер фон 335
Баалыием Израиль 688, 780, 781
Баб, Мирза Али Мухаммед 1021
Бабек 889
Бай Ци 882, 883
Байрон Джордж Ноэл Гордон 140
Бакстер Джеймс Финни 577
Бальфур Артур Джеймс, граф
Бартоло да Сассоферрато 538, 1007
Бартоломмео, Фра (Бартоломмео делла Порта) 308
Барух 652, 670, 707
Бах Иоганн Себастьян 40, 71, 104, 141, 167, 247, 248, 250, 259, 272, 274,
302, 311, 312, 320, 321, 353, 357, 384, 429, 452, 577, 594, 789, 853, 910
Бейль Пьер 176
Бёклин Арнольд 298, 318
Бекрат И., фон 66
Беллини Джованни 299, 300
Белох Юлий (Beloch J.) 621
Бельом, д-р 865
Бёме Якоб 67, 740
Бентам Иеремия 68, 176, 398
Беншуа Жиль 258
Беренгар Турский 210
Бёрк Эдмунд 866
Беркли Джордж 452
Бернадот Жан-Батист 787, 869, 1032
Бернар Клервосский, св. 67, 709, 722, 730, 736, 755, 756, 779, 937, 939, 968
Бернард Шартрский 519
Бернвард Хильдесхаймский 136, 233
Бернини Джан Лоренцо 70, 115, 247, 260, 274
Бертран де Борн 755
Бетховен Людвиг, ван 71, 118, 122, 146, 167, 211, 213, 248, 260, 262, 272,
280, 282, 290, 312, 318, 320, 353, 443, 577, 753, 968
Бецольд Карл (Bezold С.) 664
Бизе Жорж 282
Бисмарк Отто Эдуард Леопольд, князь фон 51, 139, 171, 174, 377, 490,
555, 879, 907
Блакстон Уильям, сэр 539
Блоссий 918
Блуменбах Иоганн Фридрих 584, 585, 587
Указатель имен
1057
Боас Франц 578, 1009
Боден Жан 539
Бодлер Шарль 49, 270, 317, 321
Бойль Роберт 416
Бокль Генри Томас 1028
Больцман Людвиг 412
Бонавентура, Джованни Фиданца, св. 748
Бонапарт см. Наполеон Бонапарт
Бонифаций, св. 719
Бонифаций VIII 754, 836, 1004, 1039
Бор Нильс Хенрик Давид 418, 454, 455
Борхардт Людвиг (Borchardt L.) 503
Боттичелли Сандро (Алессандро ди Мариано Филипепи) 265, 298, 299
Бошкович Руджер Иосип 342, 450
Брактон Генри, де 537
Брентано Клемент 596, 994
Брукнер Антон 251, 282, 318
Брунгильда 404, 787
Брунеллеско Филиппе 269, 302, 342
Бруно Джордано 67, 80, 93, 124, 358, 362, 452, 736, 967
Брут, Марк Юний 15, 16, 21, 44, 159, 299, 650, 883, 892, 893, 953, 960, 962
Будда 68, 369, 381, 763, 765, 767, 770, 772, 791, 1008
Буиды 891
Букстеххуде Дитрих 248
Бурбоны 14, 53, 73, 555, 640, 795, 850, 851, 853, 854, 1017
Буридан Жан 414
Бурхард Вормсский 748
Буркхардт Якоб 41, 263, 1034
Бух Леопольд, фон 494
Буше Франсуа 298
Бэкон Роджер 127, 426, 758, 759, 967, 970, 1053
Бэкон Френсис, лорд Веруламский 35, 67, 392, 395, 413, 629
Вагнер Вильгельм Рихард 49, 63, 69, 71, 125, 140, 141, 225, 250, 251, 273,
310, 319-322, 357, 380, 386, 387, 393, 401-405, 461, 988, 991, 993, 989
Вазари Джорджо 493, 992
Вакхиады 841
Валентин 709, 715
Валентиниан III 534
Валленштейн Альбрехт Венцель, герцог фон Фердинанд,"Герцог фон
Мекленбург, князь фон Заген 71, 141, 487, 490, 504, 658, 850, 851, 868,
1042
Вальтер фон дер Фогельвейде 354, 656
Ван Дейк Антонис 279, 299
Ван Ху 52
Ван Чжен — см. Ши Хуанди 74, 504
Ван ЭйкЯн 70, 299, 338
34 Закат Западного мира
1058
Указатель имен
Вар, Публий Квинктилий 505, 566, 617, 954, 1003
Вардесан 687, 709, 710, 715, 717
Варрон, Марк Теренций 22, 428, 1041
Василид 715
Василий I 891
Василий II 891
Васман Рудольф Фридрих 298, 318,
Ватто Антуан 71, 137, 247, 260, 275, 282, 310, 319
Веджвуд Джосия 958, 1052, 1053
Вейерштрасс Карл Теодор Вильгельм 86, 152
Вейль Раймон (Weill R.) 66
Вейнингер Отто 405, 780, 1032
Вейсенберг Самуил (Weiflenberg S.)
Веласкес Диего (Родригес де Сильва Веласкес) 174, 255, 279, 298, 317, 387
Великий Курфюрст - см. Фридрих Вильгельм
Велисарий 535
Веллингтон Артур Уэлсли, герцог 869
Вельзеры 817, 1036
Вельфы 377, 384
Венцель (Венцеслав) ГУ 836, 1039
Вергилий, Публий Вергилий Марон 886, 1045
Верженн Шарль Гравье, граф де 861, 1043
Верлен Поль 270
Вермер Делфтский Ян 249, 281, 282, 310
Веронезе Паоло (Паоло Кальяри) 269, 282
Веррес, Гай 924
Верроккьо Андреа дель (Андреа ди Микеле Чони) 252, 264, 298, 303, 994
Веспасиан, Тит Флавий 562, 669, 899
Веспуччи Америго 622
Вестерман Дитрих Герман 600
Веттины 640
Виадан Лодовико да 259
ВиклифДжон 754, 1003
Виламовиц-Меллендорф Ульрих, фон 841, 986
Вилларт Адриан 265, 282
Вильгельм, мастер 290
Вильгельм Завоеватель 831
Вильгельм Оранский 855
Вильсон Вудро 940, 1051
Виндекс, Гай Юлий 515
Винкельман Иоганн Иоахим 292
Винклер Гуго 663
Виньола Джакомо да (Джакомо Бароцци) 114, 223, 342,447, 450, 995
Виссова Георг (Wissowa G.) 742
Витрувий, Марк Витрувий Поллион 231
Виштаспа710, 1019
Владимир, князь, св. 650
Указатель имен
1059
Вольтер (Аруэ Мари Франсуа) 68,91,169, 176, 206,484, 764, 1002,1030, 1033
Вольф Христиан, барон фон 743
Вольфрам фон Айзенбах 168, 211, 739
Вольфрам фон Эшенбах 272, 349, 354, 430
Вулленвебер Юрген 940, 1051
Ву-ти 74, 505, 897
Вэй Ян 883
Габиний, Авл 923
Габриели Джованни 255, 282
Габсбурги 14, 73, 234, 366, 367, 507, 560, 639, 795, 839, 850, 851, 853, 854,
1003, 1006, 1036, 1038
Гай 871, 914
Гайдн Франц Йозеф 104, 118, 260, 290, 312, 320, 321, 387, 443
Гален, Клавдий 580
Галилей Галилео 18, 27, 67, 82, 108, 128, 139, 141, 208, 265, 334, 335, 340,
384, 416, 423, 429, 447,450, 452, 457, 667, 765, 956
Галлиен, Публий Лициний Эгнаций 238, 657, 897
Гальба, Сервий Сульпиций 515
Гама (Васко да Гама) 365
Гамалиэль 667
Гамилькар Барка 871
Ганнибал 21, 22,48, 50, 74, 141, 170, 224, 377, 502, 507, 623, 650, 782, 845,
871,874, 883, 887,895,951,954
Гао-цзун 719
Гарун ар-Рашид 53, 71, 942, 952
Гастон Орлеанский 852
Гаусс Карл Фридрих 69, 83,86, 98,99, 103, 104, ИЗ, 116, 118, 141, 197,
198, 357, 396,453,460
Гварди Франческо 248
Гверчино Франческо (Франческо Барбьери) 275, 279
Гвидо д’Ареццо 257, 294
Геббель Христиан Фридрих 36, 60, 69, 155, 169, 182, 183, 319, 380, 393,
398, 401, 404, 405, 640, 996
Гегель Георг Вильгельм Фридрих 31, 34, 68, 396
Г еккель Эрнст 431
Геласий I, св. 754
Гелон Сиракузский 843
Гельвидий Приск 899
Гельдерлин Иоганн Христиан Фридрих 576
Гельднер Карл Фридрих 710
Гельмгольц Герман Людвиг Фердинанд 89, 409, 417, 460
Гемпден Джон 762
Гендель Георг Фридрих 259
Генрих I 15, 1037
Генрих II 1036, 1039
Генрих III 1006, 1042
Генрих IV 377,503,1013, 1014, 1036, 1042
Генрих VI 224,492, 834,1002, 1041
Генрих VII 842, 1041
Генрих VIII 1041
Генрих Бургундский 638, 1013
Генрих де Гиз 1042
Генрих Лев 377, 492, 637, 831, 1002
Гент Йос ван 264, 265
Георг 1 855, 1012
Георг II 855
Георг III 875
Гера 159, 254, 734, 991
Гераклит 28, 344, 358, 370, 385, 444, 518, 689, 741, 765, 1037
Гербарт Иоганн Фридрих 398
Герберт — см. Сильвестр 26
Герберт Генри Асквит 1043
Гердер Иоганн Готфрид 31, 134, 989
Геркулес 362, 364, 657
Герма 703, 1023
Гермес (Гермес Трисмегист) 291, 349, 416, 441, 533, 706, 709
Геродот я 514, 561, 624, 769, 779, 791, 994
Гесиод 67, 374, 739, 740, 858
Гете Иоганн Вольфганг, фон 493, 494, 503, 566, 640, 699, 752, 753, 956,
968, 984, 988, 989, 990, 991, 993, 1033, 1047, 1050
Гиберти Лоренцо 253, 264, 267
Гибрий 844
Гиерокл Александрийский 711
Гильберт Вильям 758
Гиппарх 20, 361, 994
Гипподам из Милета 561
Гиппократ 533
Гипсикл 88
Гиркан 668, 669
Гирландайо Доменико (Доменико ди Томмазо Бигорди) 265
Гладстон Вильям Юарт 920
Глазер Эдуард (Glaser Е.) 666
Глюк Кристоф Виллибальд 104, 118, 247, 286, 312, 353
Гоббема Мейндерт 275, 317
Гоббс Томас 57
Гогенцоллерны 640
Гогенштауфены (Штауфены) 166, 339, 352, 367, 639, 832, 839, 851, 956,
1013, 1014, 1040
Годвин Вильям 866
Гойен Ян ван 249, 315, 319
Гойя Франсиско Хосе де 71, 290, 298, 318, 321
Гольбейн Ханс Младший 70, 280, 290
Указатель имен
1061
Гомер 25, 28, 32, 40, 67, 72, 113, 122, 127, 211, 262, 333, 341, 357, 377, 614,
622, 630, 734, 738-740, 743, 755, 772, 791, 952
Гораций, Квинт Гораций Флакк 437, 996, 997
Горгий 233, 1027
Горн Георг 34
Горький Максим 962
Готфрид Бульонский 549
Готфрид Страсбургский 739
Гоулд Джордж Мильбри 577
Гофман Эрнст Теодор Амадей 348
Гракх, Гай 887, 898, 961
Гракх, Тиберий 164, 165, 511, 514, 865, 914, 918
Гракхи 40, 504, 858, 872, 874, 883, 899, 905, 914, 921, 923, 928
Грациан 538, 748, 937
Григорий 699, 734
Григорий VII, св. 224, 366, 377, 490, 833, 1001
Григорий IX 1029
Григорий Богослов, св. 716, 760
Григорий Турский, св. 650, 734
Грот Джордж 42, 541
Грюневальд (Матис Готхардт) 269, 276, 280, 301, 317, 746, 968
Гуань Цзы 57, 1029
ГуаньЧжун 758, 850,
Гуго Клюнийский, св. 779
Гуго Сен-Викторский 709
Гудон Жан Антуан 274
Гужон Жан 273
Гуй гуцзи 1045
Гумбольдт Вильгельм, фон 405, 460, 576, 826, 902, 990, 1009
Гус Хуго ван дер 67, 265, 754, 989
Гус Ян 1004, 1039
Густав Адольф II 170
Давид 239, 709
Давид Жан Луи
Д'Аламбер Жан Лерон 91, 99, 104, 152, 447
Дамаский 711, 713
Даниил 30, 652, 988
Данстейпл ^Дхсон 258 —>
Данте Алигьери 25, 31, 36, 67, 80, 107, 113, 124, 141, 146, 162, 168, 186, 257,
272, 287, 300, 301, 304, 348, 357, 383, 384, 428, 492, 639, 695, 753, 755
Дантон Жорж Жак 175
Дарвин Чарлз Роберт 60, 68, 134, 183, 378, 400-403, 405, 493-495, 1053
Дарий 624, 625, 626, 666, 1019
Дассель Райнолд, фон 837, 1039
Дегио Георг Готфрид (G.G. Dehio) 579
Дедекинд Юлиус Вильгельм Рихард 103, 117
1062
Указатель имен
Дезарг Жерар 100
Декарт Рене 46, 57,67,68,83, 86,91,99, 100, 101, 108, 115, 118, 141, 152,
213, 259, 335, 336, 342, 396, 420, 448, 479, 629, 725, 740, 957, 1025
Делакруа Эжен 71, 316, 318, 319
Дельбрюк Бертольд (Delbriick В.) 621
Дельбрюк Ганс (Delbriick Н.)
Деметрий из Алопеки 157, 296
Демокрит 68, 145, 334, 340, 362, 418, 419, 422, 425, 426, 427, 518, 528, 952,
957, 978, 1004
Джакопоне из Тодди 754
Джани 51, 52
Джексон Эндрю 915
Джорджоне (Джордже Барбарелли да Кастельфранко) 269, 281, 298, 317
Джотто ди Бондоне 70, 240, 249, 263, 302, 429, 748, 763
Диагор 443, 445
Диц Вильгельм 281
Дидро Дени 1034
Дизраэли Бенджамин, граф Биконсфилд 778
Дильс Герман 966, 1037, 1053
Динценхофер Христоф 313
Диоген Синопский 230, 341, 375, 386, 937, 1032
Диодор 523, 562, 869, 1047
Диоклетиан, Гай Аврелий Валерий 97, 175, 240, 440, 441, 502, 539, 559,
635, 650, 656, 657, 701, 711, 712, 839, 888, 943, 963, 1013, 1018
Дион Хризостом 568
Дионисий I 869-871, 885
Дионисий Ареопагит 533
Диофант Александрийский 88, 96-99, 416, 634
Додингтон Джордж Бабб, барон Мельком оф Мельком-Реджис 867
Домье Оноре 298, 319
Донателло (Донато ди Никколо ди Бетто Барди) 249, 253, 267, 291, 299
Донелл (Доно) Юг 538, 1007
Достоевский Федор Михайлович 28, 651—654, 672, 677, 753, 962, 977,
1016
Драконт 526, 535, 538, 824
Дрём Эрнст (Адольф Вейгель) 270
Дун Чжун игу 833
Дуне Скот Иоанн 67, 97, 748
Дюрер Альбрехт 132, 275, 280, 297, 309, 746,
Дюринг Евгений 405
Дюфаи Гийом 258, 265
Евгений IV 841, 1004
Екатерина II Великая 628, 787
Екатерина Сиенская, св. 263
Елизавета 1034, 1041
Есперсен Йене Отто Харри 597
Указатель имен
1063
Жерико Теодор 319
Жоскен 258
аль-Зиджи 98
Залман 1033
Заратустра 36, 43, 60, 369, 393, 401, 402, 405, 436, 625, 626, 663, 665, 666,
667, 685, 692, 701, 707-710, 993, 998, 1009, 1022, 1034
Захария 666
Зевксид 71, 234, 271, 311, 853
Зенодор 88
Зенон 69, 375, 383, 386, 396, 899, 916, 929
Золя Эмиль 389, 653, 1008
Зом Рудольф (Sohm R.) 538
Ибн-Сина - см. Авиценна
Ибсен Генрик 32, 37, 46, 49, 60, 69, 182, 183, 374, 386, 389, 393, 394, 399,
404, 405, 566, 653, 990, 992
И-ван 73, 503, 809, 836
Иван III 650
Игнатий Антиохийский, св.
Иездигерд 697
Иезекииль 666, 667, 705
Иеремия 663, 664, 666
Иероним, св. 308, 706, 1004
Иисус Христос 163, 166, 371, 374, 390, 436, 593, 651, 659, 661, 664, 667,
669, 670, 671, 673, 675-688, 690, 693, 695-698, 704, 706, 709, 734-736,
742, 760, 775, 778, 813, 937, 962,1013, 1018, 1022, 1026
Ин Чжен - см. Ши Хуанди 882, 887
Иннокентий III 167, 224, 366, 834, 905
Иоанн Богослов 334, 652, 670, 673, 686, 687, 689, 691, 694, 702, 704, 705,
709, 710, 714, 717, 977,1021,1023,1034
Иоанн Дамаскин, св. 720
Иоанн Дуне Скот 699, 748
Иоанн Креститель 673
Иоанн Хризостом, св. 813
Иоанн Цимисхий 891, 893, 1050
Иоахим Флорский 31, 67, 257, 287, 393, 491, 709, 739, 754
Иов 297, 667, 700, 1019
Иосиф Флавий 668, 1020
Ириней Лионский, св. 684, 689, 706, 709
Ирнерий 538, 541
Ирод Великий 48, 669
Исаак бен Сайд Хассан 774
Исайя 664-667, 679, 691, 692, 1020
Исеси 836
Исидор Александрийский 711
Исократ 617, 867
1064
Указатель имен
Йезуяб III 720
Йехуда бен Халеви 709, 773
Йехуда, рабби 709
Йорки 73, 836,912, 1042
аль-Каби 205
аль-Кинди Абу Юсуф Якуб бен Исхак 335
Кабеон Николай 449
Кавад I 720
Калигула 160
Калидаса 324
Калликл 379
Каллимах 768
Кальвин Жан 67, 165, 428, 754, 757, 758, 766, 779
Кальдерон де ла Барка Педро 174, 290, 991
Каннинг Джордж 878
Кант Иммануил 16, 18, 31, 35, 36, 40, 49, 57, 60, 68, 69, 78, 80, 82, 84, 89,
93, 97, 98, 104, 112, 115, 127, 143, 145, 147, 149, 151, 152, 167-169, 171,
178, 185, 196, 197, 200, 201, 202, 206, 215, 272, 313, 327, 336, 337, 339,
340, 344, 358, 366, 378, 383, 384, 392, 396-399, 402, 405, 411, 420, 427,
448, 462, 493, 752, 760, 781, 805, 806, 937, 988, 989, 1005, 1024, 1034
Капетинги 504, 641
Каракалла, Марк Аврелий Север Антонин 238, 365, 366, 442, 529, 743
Карамзин Николай Михайлович 651
Карбон, Гай Папирий 923
Кардано Джероламо 101
Кариссими Джакомо 259, 310
Карл 1 761, 850, 852
Карл IV 837,1038, 1039
Карл V 174, 176, 234, 503, 507, 535, 657, 720, 738, 753, 893, 942, 1007, 1017,
1036,1038, 1041
Карл XII 14
Карл Великий 14, 29, 53, 72, 98, 491, 547, 548, 557, 618, 739, 748, 793, 820,
839,840,1013,1015,1041
Карл Мартелл 650, 1015
Карлштадт Андреас Рудольф Боденштейн, фон 754
Карна 669
Карнеад 426
Каро Иосиф 780
Каролинги 69, 196, 222, 243, 294, 504, 650, 700, 792, 1015
Кассий Лонгин, Гай 650, 895, 953, 961, 962, 1046
Кассий, Спурий 848
Каталина, Луций Сергий 40, 489, 863, 1004
Катон Младший, Марк Порций Утический 875, 883, 886, 899, 914, 923
Катон Старший, Марк Порций Цензорий 875, 914
Катоны 883
Катул, Квинт Лутаций 923
Указатель имен
1065
Квинкции 743
Кейп Алберт 315
Кельвин, лорд (Вильям Томсон) 454
Кенэ Франсуа 452
Кеплер Иоганн 96, 361, 384, 450
Киаксар 15
Киней 873
Кир 30, 433, 490, 504, 621, 624, 632, 663, 665, 666, 669,
Кирилл Александрийский, св. 716
Кирхгоф Густав Роберт 421
Клавдии 22, 795, 818, 899
Клавдии Марцеллы 818
Клари Дезире 787, 1032
Кларк Сэмьюэль 176
Клеанф 770
Клейн Феликс 117
Клейст Генрих, фон 318, 348, 989, 994
Клеомен 74, 526, 994
Клеомен III 526, 918
Клеомен из Навкратия 950
Клеон 40, 164
Клеопатра 324
Климент Александрийский 754
Клисфен 46, 73, 848
Клодий Пульхр, Публий 514, 1003, 1004, 1050
Колонна 799, 814, 1004, 1034
Колумб Христофор 174, 306, 315, 339, 364, 365, 367, 412, 956, 967, 1041
Коммод, Марк Аврелий Коммод Антонин 504, 839
Комнины 788
Конрад II 224, 793, 831
Конрадин 1014, 1040
Константин VII Багрянородный 891
Константин Великий 233, 238, 324, 334, 436, 440, 442, 529—531, 549, 662,
690, 712, 716-718, 799, 839, 997, 1044
Констебл Джон 71, 281, 316
Конт Опост 37, 69, 398, 404, 769
Конфуций 36, 57, 224, 386, 743, 763, 764, 765, 767, 772, 811, 850, 882, 899
Коперник Николай 93, 122, 165, 315, 339, 361, 362, 364, 367, 412, 956, 967
Корелли Арканджело 255, 259
Корнель Пьер 353
Коро Камиль 275, 298, 314, 315, 317, 318, 320
Кортес Эрнан, маркиз дель Балле де Оаксака 568, 773
Коук Эдвард, сэр 539, 824
Коши Огюстен Луи 69, 98, 103, 113, 118, 453
Кранах Лукас Старший 297,
Красе, Марк Лициний 48, 489, 865, 888, 891, 922, 923, 939, 1050
Кресилай 296
1066
Указатель имен
Кретьен де Труа 241
Кромвель Оливер 57, 74, 176, 240, 490, 504, 721, 760, 761, 763, 851, 852,
853, 861,864, 868, 899
Ксенофан 739
Ксенофонт 867
Ксеркс 625, 992
Куазевокс Антуан 260, 274
Кузен Виктор 398
Кун Ян 833
Кунг 811
Куперен Франсуа 269
Курбе Гюстав 317, 319
Курион, Гай Скрибоний 923, 1050
Курций Руф 14
Куяций (Кю'жа) Жак 538, 1007
Кьеркегор Серен 596
Кэри Генри Чарлз 933, 1051
Кювье Жорж, барон 493, 494
Кюмон Франц Валери Мари (F.V. Cumont М.) 665
Лавуазье Антуан Лоран 416, 462
Лагранж Жозеф Луи 62, 91, 104, 118, 150, 197, 448, 452,
Лайель Чарлз 493, 494
Лактанций 754, 997
Ламарк Жан-Батист де Моне, шевалье де 493
Ламберт Эдуард 526
Ланкастеры 73, 836, 983, 1041
Ланфранк 210
Лао-цзы 52, 57, 643, 743, 765, 766, 770, 811, 864
Лаплас Пьер Симон, маркиз де 68, 104, 118, 141, 448, 452, 493
Лассаль Фердинанд 867, 934
Лассо Орландо 71, 258, 273, 353
Лахмиды 656, 761
Лев III 762
Левкипп 104, 418
Лейбль Вильгельм Мария Губерт 71, 273, 281, 292, 296, 298, 318, 319, 321,
322
Лейбниц Готфрид Вильгельм 57, 58, 67, 68, 81, 91, 96, 101, 104, 108, 111,
118, 134, 152, 259, 265, 281, 310, 314, 358, 396, 416, 417, 428, 448, 450,
451, 452, 454, 462, 494, 629, 699, 740
Ленбах Франц, фон 324
Ленель Отто (Lenel О.) 528
Ленотр Андре 270
Леонардо да Винчи 155, 258, 265, 273, 275, 276, 280, 297, 298, 299, 301,
305-308,313,317, 360, 449
Леонардо Пизано 956
Леохар 118
Указатель имен
1067
Лессинг Готхольд Эфраим 32, 155, 281, 446, 640, 763, 1015
Ли Сы 505
Ли-ван 502, 836
Ливии, Тит 439, 845, 857, 870, 1039, 1041, 1043, 1044
Ликург 21, 44, 526
Линкольн Авраам 1015
Линь Шарль Жозеф, принц де 789, 1033, 1036
Линь Янь Ши 286
Липпи Филиппино 265
Лисандр 440, 521, 870
Лисий 296, 950
Лисипп 71, 118, 254, 291, 312, 315, 320, 518
Лисистрат 243, 296, 1025
Лист Ференц 71, 251
Лист Фридрих 804, 904, 1034
Лициний, Валерий Луциан 442
Ллойд Джордж Давид, граф Ллойд Джордж оф Двифора 880
Лойола Игнатий, св. 167, 174, 342, 349, 428, 429, 447, 728, 754, 757, 760, 778
Локк Джон 68, 176, 743, 776, 781
Лоренц Хендрик Антон
Лоррен (Желле) Клод 247, 275, 284, 310, 315, 317, 318, 319
Лотарь II 977
Л отце Рудольф Герман 1000
Лоуренс Томас, сэр 816
Лохнер Стефан 429
Лука, евангелист 679
Лукулл, Луций Лициний 50
Лушан Феликс, фон 588
Людовик XI 842, 1006, 1041
Людовик XIII 852
Людовик XIV 17, 57, 73, 107, 174, 286, 485, 817, 854, 855, 1047
Людовик XVI 176, 861, 866, 1043, 1047
Люй Бу вэй 771, 1003
Люй Ши 505, 771,882, 883
Люлли Жан Батист 310
Лютер Мартин 29, 36, 67, 165, 167, 176, 212, 273, 349, 368, 377, 428, 429,
554, 568, 615, 629, 698, 753-758, 766, 778, 779,1018,1027,1051
Мадерна Карло 273, 429
Мазарини Джулио, кардинал 377, 830, 851, 853
Мазаччо (Томмазо ди Джованни ди Симоне Кассаи) 306, 315
Маздак 67, 720, 889
Майано Бенедетто, да 267, 299
Майер Юлиус Роберт 410, 427, 447, 452, 985, 987
Майкельсон Альберт Абрахам 454
Маймон Соломон 781
Маймонид Моисей 773, 780
1068
Указатель имен
Макарт Ганс 324
Макиавелли Никколо 403
Маккавеи 652, 703, 705
Максимилиан I 321, 537, 841, 843, 854, 1006, 1007, 1017, 1036
Макферсон Джеймс 270
Мальтус Томас Роберт 378, 400, 402, 403, 405
Мане Эдуар 71, 273, 298, 313, 316-319, 321, 322, 387
Мани 67, 374, 506, 634, 667, 687, 694, 703, 710, 711, 917
Маниак Георгий 1046
Мантенья Андреа 249, 268, 271, 298, 449
Ману 790, 791,807
Марат Жан-Поль 490
Марвиц Фридрих Август, фон дер 177
Мардоний 510
Маре Ганс, фон 273, 281, 292, 296, 298, 318-320, 338
Маренцио Лука 280
Марий Гай 40, 50, 74, 435, 514, 649, 874, 884, 887, 893, 898, 914, 1045
Марин 711, 1023
Мария Английская 850
Мария Терезия 639
Мария, Богоматерь 163, 227, 434, 436, 684, 689, 715, 716, 738, 740, 742,
746, 747, 748, 750, 752, 756, 757, 1026
Марк Аврелий Антонин 240, 380, 442, 535, 566, 629, 669, 676, 771, 864,
895, 900
Марк, евангелист 674, 682, 683, 684, 686, 704, 706, 1021, 1024
Маркиан 839
Маркион 374, 685, 686, 687, 709, 754
Марко Поло 514
Маркс Карл 60, 68, 164, 167, 170, 183, 381, 386, 398, 403, 405, 653, 838, 865,
916-918, 929, 933, 934, 938, 943, 959, 960, 970, 1053
Мароция 787, 1032
Мартини Симоне 263
Матфей, евангелист 225, 274, 679, 714
Маурья 561
Махавира 765, 767, 1029
Махраспанд 710
Медичи 262, 270, 299, 300, 444, 755, 817, 939, 946, 1032, 1036, 1042
Медичи Лоренцо 258, 265, 490, 940
Мейер Эдуард (Meyer Ed.) 21, 503, 510, 515, 624, 626, 892, 898,
Мелий, Спурий 859
МемлингХанс 265, 299, 301
Менандр 669
Мендель Адольф Фридрих Эрдман, фон 298, 314, 319, 322
Меровинги 69, 211, 289, 503, 504, 648, 650, 734, 735, 738, 774
Меценат, Гай Цильний 48, 882, 883
Указатель имен
1069
Микеланджело Буонарроти 48, 70, 114, 154, 209, 233, 249, 251, 253, 258,
267, 271, 274, 290, 291, 299-305, 307, 308, 310, 342, 355, 357, 429, 450,
753, 755, 995
Микелоццо ди Бартоломмео 450
Милинда 997
Милль Джон Стюарт 398, 405, 452, 781
Милон, ТитАнний922, 1003, 1050
Мильтон Джон 759, 760
Мин-ди 74, 505
Минковский Герман 150, 455
Мино да Фьезоле 299,
Мирабо Оноре Габриэль Рикети, граф де 73, 176, 825, 854, 866, 877
Мирандола Франческо, делла 749
Мирза Али Мухаммед — см. Баб, Мирза Али Мухаммед
Мириан 712
Мирон 71, 248, 254, 291,311
Митридат 50, 557, 650, 685, 776, 779, 946
Михаил III 891
Моисей 290, 532, 536, 663, 697, 698, 703-706, 724, 773, 1025
Мольтке Гельмут, граф фон 729, 907
Моммзен Христиан Матиас Теодор (Mommsen Th.) 22, 41, 502, 515, 541,
605, 657, 742, 898, 954, 986
Моне Клод 317
Монморанси Генрих II, герцог де 982
Монтан 687
Монтеверди Клаудио 255, 259, 279
Монтескье Шарль де Секонда, барон де Ла Бред и де Монтескье 631, 864,
876, 880
Монтесума 593
Моцарт Вольфганг Амадей 71, 104, 118, 137, 194, 248, 260, 272, 312, 320,
321,381,789, 853,910
Мо-цзы 803, 917
Музоний Руф, Гай 895
Муммий, Луций 953
Мурена, Луций Лициний 923
Мурильо Бартоломе Эстебан 310
Муртада, Аль-Саид Муртада аз-Забид 340, 1034
Мусей 705
Мухаммед 53, 68, 166, 175, 370, 485, 493, 511, 636, 681, 688, 694, 701, 706,
720, 721, 760-762, 771, 993, 1021, 1022, 1023, 1045
Мэн-цзы 60, 768, 770, 772
Мюллер Фридрих 584, 585, 990
Набонид 665
Навуходоносор 664, 665, 1006
Нагарджуна 771
Нагасена 385
1070
Указатель имен
Наполеон Бонапарт 14, 15, 29, 40, 51, 52, 57, 58, 62, 73, 74, 78, 139, 141,
166, 169, 170, 171, 175-177, 179, 338, 339, 366, 377, 381, 384, 393, 484,
489, 504, 507, 535, 537, 539, 555, 601, 629, 638, 639, 641, 787, 789, 795,
838, 863, 867-869, 879, 885, 889, 893, 895, 902, 906, 907, 925, 940, 986,
988,991, 1018, 1032, 1044, 1052
Нардини Пьетро 260
Нарсес 535, 658, 1001
ан-Наззам, Ибрахим бен Саййар 68, 278,
Нерва, Марк Кокцей 224, 243, 566, 567
Нерон, Клавдий Друз Германик Цезарь 160, 514, 593, 771, 897, 898, 899
Несторий 716
Низе Б. 22
Никандр 254
Никифор 891
Николай I, св. 833
Николай Кузанский 67, 96, 265, 774
Николай Оресм 92, 99, 257, 414
Нильссон Мартин 742
Ницше Фридрих 8, 22, 36, 37, 41, 43, 44,49, 57, 60, 64, 69, 115, 121, 142,
185, 208, 270, 274, 282, 286, 319, 322, 336, 358, 368, 369, 373-376, 378,
380, 386, 391, 393, 394, 396, 397, 399, 401-405, 419, 444, 478, 601, 760,
800, 806, 988, 989, 992, 995, 996, 998, 1008, 1033
Нойман К. И. 22, 313
Нортклиф (Хармзуорт) Альфред Чарлз Вильям, виконт 925, 928, 1050
Нума Помпилий 67, 210, 446, 741
Ньютон Исаак, сэр 26, 34, 68, 80, 86, 96, 101, 104, 107, 118, 128, 145, 150,
152, 184, 259, 265, 310, 314, 340, 342, 384, 396, 416, 423, 424, 426,429,
447,448, 450, 451-454, 457, 956
Одоакр 567
Окегем Йоханнес 258, 272
Окен Лоренц 355
Оккам Вильям 758
Оксеншерна Аксель, граф 851
Олар Франсуа-Альфонс
Оливарес Каспар де Гусман и Пименталь, граф 851, 852, 1042
Олдах Юлий 298
Ольдендорп Иоганн 539
Омар 762, 991
Омейяды 71, 141, 788, 888, 889
Ония 667
Оньяте Иньиго Белес де Гевара и Тасис, граф де 851
Оресм Николай 92, 99, 257, 307, 414
Ориген 67, 242, 334, 634, 684, 689, 695, 709, 754
Орсини 814, 1034
Орфей 210, 442, 713, 739, 740
Осия 666
Указатель имен
1071
Осман 888
Оттон Великий 366, 490, 636, 832, 833, 1001, 1032
Оттон II 547, 1007
Оттон III 26, 43, 224
Оуэн Ричард, сэр 140
Павел, апостол 334, 439, 532, 678, 680-685, 687, 688, 714
Павел, Юлий 1041
Павсаний, царь Спарты 526, 734, 817, 859
Палестрина (Джованни Пьерлуиджи да Палестрина) 125, 248, 258, 272,
273, 302, 305, 353, 429
Пальма Веккьо, Якопо (Якопо Негретти) 282
Папий 676
Папиниан, Эмилий 532, 534, 669
Парацельс (Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм) 416
Парменид 46,. 57, 420
Паршва 1029
Паскаль Блез 57, 68, 91, 95, 100, 118, 152, 167, 342, 344, 427, 428, 698, 725,
738, 989
Патеркул Беллей 231
Пауль Герман 598, 601
Пахельбель Иоганн 248
Пахер Михаэль 280
Пахомий, св. 714
Пачоли Лука, фра 956, 1052
Пейли Вильям 866
Пейн Томас 866
Пейре Карденаль 755
Пелагий 699
Пелем Генри 867
Пеоний 289, 312
Пёппельман Маттеус Даниель 313
Периандр 73, 850
Перикл 20, 26, 28, 48, 55, 59, 73, 83, 141, 161, 162, 164, 267, 292, 296, 343,
345, 375, 377, 382, 419, 487, 854
Пёрселл Генри 310
Пертинакс Гельвий 567
Перуджино (Ваннуччи) Пьетро 279, 299, 306, 308
Песценний Нигер 514, 1004
Пет Тразея 899
Петр Великий 28, 607, 650, 652, 653, 654, 735, 1016
Петр Ломбардский 750
Петр Перегрин 758, 967
Петр, апостол 233, 267, 651, 672, 679, 680, 681, 713, 717, 814, 1024
Петрарка Франческо 14, 25, 42, 140, 257, 283, 302, 755,
Петроний 43
Пигаль Жан Батист 274
Пизано Джованни 240, 264, 267, 290, 956
Пиндар 387, 729, 740, 1042
Пиопи, фараон 291
Пирр 51, 873
Пиррон 68
Писарро Франсиско
Писистрат 844, 848, 864, 994
Питон 895
Питри, сэр Вильям Мэтью Флиндерс 892
Питт Вильям, Младший 875
Питт Вильям, Старший, граф Четем, виконт Питт оф Бертон-Пин-
зент 875
Пифагор 28, 53, 57, 82, 86, 88, 89, 96, 100, 118, 141, 361, 396, 428, 706, 709,
711,721,725,762, 957
Плавт, Тит Макций 606
Планк Макс 418, 454
Платон 20, 25, 26, 35, 40, 49, 56, 60, 68, 81, 91, 92, 95-97, 99, 118, 122, 127,
149, 159, 185, 201, 332, 340, 374, 383, 396, 428, 282, 518, 519, 611, 631, 684,
704-706, 711, 740, 747, 772, 902, 916, 918, 938, 1001, 1003, 1015, 1025
Плиний Старший, Гай Плиний Секунд 238, 296, 315, 567, 992, 994, 1008
Плотин 67, 80, 97, 107, 14, 141, 240, 242, 278, 334, 374, 416, 426, 614, 634,
657, 662, 691,700, 736, 1023
Плутарх 25, 334, 345, 1045, 1046, 1049
Полибий 565, 568, 991, 1043, 1044
Полигнот 70, 141, 174, 208, 249, 275, 311, 360
Поликарп, св. 706
Поликлет 40, 104, 141, 253, 254, 260, 284, 287, 291, 311, 312, 321, 324, 351
Поликрат 73, 844, 940
Поллайоло (Бенчи) Антонио дель 265
Помпей Великий, Гней 50, 485, 515, 559, 649, 845, 883, 887, 891, 898, 909,
922, 923,
Помпей Магн, Пий Секст 893
Понтий Пилат 478, 675, 814, 905, 938
Порта Джакомо делла 342, 993
Порфирий 32, 414, 634, 689, 699, 700, 701, 711, 714, 1023
Посидоний 334, 706
Поуп Александр 284
Пракситель 118, 254, 291, 297, 312, 320, 323, 853
Пристли Джозеф 866
Проб, Марк Аврелий 628, 771
Прокл 374, 473, 660, 704, 711, 714, 716, 1023
Прокопий Кесарийский 235, 658
Протагор 339, 358, 379, 385, 395, 396, 425, 445
Прудон Пьер Жозеф 404, 938, 1034
Птолемеи 29, 216, 440, 503, 659, 805, 845, 871, 921, 991
Птолемей XII Авлет 923
Птолемей Филадельф 1020
Указатель имен
1073
Птолемей, Клавдий
Пульхерия 840
Пуссен Никола 248, 275, 310
Пьеро делла Франческа 269, 306, 315
Пюви де Шаванн Пьер-Сесиль 317
Пюже Пьер 273
Рабле Франсуа 286
Райнальд фон Дассель 837, 1039
Райски Луи Фердинанд, фон 298
Рамсес II 53, 59, 75, 900, 1046
Рамсес III 580, 621
Ранке Иоганн (RankeJ.) 587
Ранке Леопольд, фон 15, 124, 510, 588
Рафаэль Санти 163, 249, 255, 258, 272, 275, 290, 294, 298, 301, 302, 305,
306, 307, 450
Регер Макс 596, 1011
Резерфорд Эрнест 418, 455
Рейнольде Джошуа, сэр 816
Рембрандт Харменс ван Рейн 35, 71, 107, 122, 130, 132, 141 157, 167, 186,
194, 208, 211, 213, 246, 250, 262, 268, 272, 274, 276, 280, 281, 282, 290,
292, 296, 298, 302, 307, 308, 310, 315-317, 319, 320, 324, 328, 355, 357,
554, 753, 968
Ренуар Огюст 321
Ретциус Андерс-Адольф 587
Ригль Алоиз 235, 243
Риман Бернхард 69, 86, 95, 96, 98, 116, 152, 347, 453
Рименшнайдер Тильман 297
Ример Фридрих Вильгельм 446, 997
Ричард Львиное Сердце 834
Ришелье Арман Жан де Плесси, кардинал, герцог де 73, 377, 504, 830,
850, 851,864, 868
Роберт Гроссетест 758
Робеспьер Максимильен Мари Исидор, де 73, 166, 175, 485, 861, 867, 868,
869, 899, 928
Роган Луи Рене Эдуар, князь де Роган-Гемене, кардинал де 1047
Рогир ван дер Вейден 265
Родбертус Иоганн Карл 867
Роден Огюст 274
Роджер II 967
Роде Сесил Джон 988
Ролан, Жанна-Мари Ролан де ла Платьер, М-те Ролан 922, 1049
Романовы 650
Pope Чиприано, де 265, 280, 282
Росселино Антонио 299
Россини Джоаккино 321
Ротман Карл Антон Йозеф 318
1074
Указатель имен
Рубенс Питер Пауэл 235, 282, 286, 297, 298, 305, 318, 319, 324, 449
Рузвельт Теодор 567, 1008
Рунге Филипп Отто 318
Руссо Жан Жак 47, 68, 167, 170, 176, 233, 317, 380, 382, 392, 394, 399, 400,
444, 484, 743, 765, 838, 855, 867, 916-918, 1030
Рутилий Руф, Публий 924
Рюрик 804
Рюриковичи 650
Савелли 814
Савонарола Джироламо 67, 358, 754, 755
Саладин 593
Саллюстий, Гай Саллюстий Крисп 918, 953
Самсон 691
Самуил 656
Саргон 503, 624
Сасаниды 64, 98, 240, 251, 256, 502, 506, 530, 626, 648, 655, 656, 697, 712,
762, 788, 810, 813, 830, 839, 840, 888-890
Саул 709
Сахура 229
Сведенборг Эмануэль 766, 775
Светоний, Гай Светоний Транквилл 896
Себастьяно дель Пьомбо (Лучани) 299
Сезанн Поль 317, 321, 322
Селевк 93
Селевкиды 626, 634, 648, 664, 696, 871
Сенека, Луций Анней Сенека Младший 47, 191, 346, 771, 1053
Сен-Симон Клод Анри де Рувруа, граф де 630, 817, 849, 867
Септимий Север 75, 441, 504, 514, 549, 655, 657, 897
Серапион 713
Сервантес Сааведра Мигель, де 174, 348, 349
Сервет Мигель 757
Серен 88
Серторий, Квинт
Сесилы 795, 856
Сесострис I 849
Сесострис II 73, 107, 233, 849, 892
Сестий, Публий 897
Сет 569
Сильвестр II 26
Симплиций 706
Синезий 711, 1024
Синухет 849
Синьорелли Лука 249, 268, 271, 297, 298, 305, 448, 1027
Скарлатти Алессандро 247
Склир 891
Скопас 291,297,312
Указатель имен
1075
Скотт Вальтер, сэр 124
Слютер Клаус 290
Смит Адам 452, 844, 866, 933, 934, 958, 959
Смит Элиот 588, 1048
Сократ 25, 47, 68, 375, 380, 382, 392, 444, 445, 493, 724, 738, 764, 767, 770,
1003
Соломон 550, 669, 672, 691, 694, 706, 781, 1020
Солон 24, 523-526, 535, 539, 629, 740, 824
Солсбери Роберт Артур Толбот Гаскойн-Сесил, маркиз 1034
СорельАльбер 130, 348
Софокл 20, 36, 132, 156, 161, 296, 346-348, 361, 374, 418, 440, 611
Спартак 892
Спиноза Бенедикт (Барух) 332, 335, 688, 699, 700, 716, 780, 995, 1032
Стамиц Ян Вацлав Антонин 259, 312
Стендаль(АнриМари Бейль) 318, 348
Стржиговский Йозеф 235, 236
Стриндберг Август Юхан 36, 46, 49, 374, 380, 405
Стюарты 824, 851, 854
Сузо Генрих 750, 1027
Сулла, Луций Корнелий 74, 165, 514, 649, 770, 883, 884, 887, 891, 922, 924,
953, 1046, 1050
Сунь-цзы 882, 1045
Сфер 918
Сфорца Катерина 300, 786, 1006, 1032
Сцевола, Квинт Авгур Муций 527
Сципион, Публий Корнелий Сципион Африканский Старший 49, 74,
164, 224, 484, 871, 887, 916, 1045
Сципион, Публий Корнелий Сципион Эмилиан Младший 887, 895, 916
Сципионы 874
Сыма Цянь 881, 1002
Сьейес Эммануэль Жозеф, аббат Сьейес 825
Сюань Цзан 568
Ся 503, 504,
Сян Суй 894
Тайцзун 720
Талейран, Шарль Морис де Талейран-Перигор 234, 489, 830
Талет251
Тансар 709, 710
Тарквини 21, 71, 526, 741, 742, 835, 844, 848, 857, 858
Тартини Джузеппе 260
Тассо Торкв'ато 139, 156, 171, 291, 354, 356, 493, 992, 1002
Таунзенд оф Рейнхем, Чарлз Таунзенд, виконт 856
Тацит, Публий (?) Корнелий 22, 159, 160, 511, 526,601,605,624, 696, 845, 895
Теодорих Великий 504, 549, 900
Тереза, св. 640, 698, 1013
Терпандр 251
1076
Указатель имен
Тертуллиан, Квинт Септимий Флоренс 532, 656, 687, 689, 699, 709, 754,
1021
Тиберий, Клавдий Нерон 74, 164—166, 446, 511, 514, 628, 671, 865, 891,
897,918,940
Тиглатпаласар IV 624
Тилли Иоганн Церклас, граф фон 851
Тинторетто (Робусти) Якопо 235, 268
Тиридат 712
Тирсо де Молина (Габриель Тельес) 352
Тит, Флавий Веспасиан 663, 1020
Тициан (Тициано Вечеллио) 71, 137, 249, 255, 260, 271-273, 279, 282, 290,
298, 302, 309,314
Тогрул-бек 891
Толстой Лев Николаевич, граф 28, 36, 337, 653, 654, 677, 735, 956—960,
962,1027
Тома Ганс 318
Топинар Поль 584
Траян, МаркУльпий 53, 72, 74, 238, 243, 441, 528, 567, 581, 623, 656, 774,
897
Требаций Теста, Гай 922
Трибониан 534
Троцкий (Бронштейн Лев Давидович) 900
Тутмос I 74, 122
Тьеполо Джованни Баттиста 310, 320,
Тюдоры 539, 855, 1041
Тюрго Анн Робер Жак, барон де л' Ольн 452, 875, 1043
Тюренн Анри де Ла Тур д' Овернь, виконт де 852
Уде Фриц 317
У-ди 505
Уланд Людвиг 656
Ульпиан, Домиций 532, 634, 669
Уолпол Роберт, граф оф Орфорд 856, 867
Уэсли Джон 766
Фабии 629, 743, 795
Фалес 395, 413
Фань суй 883
аль-Фараби A6v Наср Мухаммед ибн Тархан 205
Фарадей Майкл 128, 410, 451, 452
Фейербах Ансельм 36, 68, 298, 404
Фемистокл 20, 40, 73, 377, 492, 857
Феогнид 844
Феодор Студит 912
Феодосии 538, 840
Феодот 669
Феокрит 387, 596
Указатель имен
1077
Фердинанд Арагонский 842, 1041
Ферекид 740
Ферма Пьер, де 68, 100, 102, 103, 113, 259
Феспид 350, 354
Фидий 35, 71, 104, 118, 159, 161, 253, 262, 272, 291, 292, 294, 302, 303, 311,
312 357 387 554
Филипп II 176, 234, 252, 850, 956, 1014, 1036
Филипп IV 850, 1004, 1006, 1039, 1040
Филипп Македонский 871
Филон Александрийский 278, 374, 681, 688, 689, 691, 692, 694, 714
Финк Франц Николаус (F.N. Finck) 600
Фихте Иоганн Готлиб 68, 344, 392, 396, 405, 988, 1005
Фичино Марсилио 519
Фишер Петер 252
Фишер фон Эрлах Иоганн Бернхард 313
Флавий, Гней 873
Фламиний, Гай 54, 74, 526, 871, 874, 883, 887, 914
Фламинин, Тит Квинкций 916
Флери Андре Эрюоль, де 14
Фока Варда 891
Фокс Чарлз Джеймс 74, 875
Фома Аквинский, св. 67, 167, 428, 748, 1027
Фома из Челано 739
Фома, апостол 672, 687, 694, 695, 709
Фрагонар Оноре 260
Франджипани 814
Франке Август Герман 766
Франс Анатоль 525
Франциск I 174, 269
Франциск Ассизский, св. 67, 374, 429
Фрейданк 792, 808, 1033
Френель Огюстен Жан 454
Фрескобальди Джироламо 259
Фридрих II 224, 377, 641, 832, 851, 940, 956, 1009, 1014, 1033, 1040
Фридрих Барбаросса 1002, 1039
Фридрих Великий 14, 29, 73, 139, 169, 384, 509, 640, 853, 854, 855, 885,
907, 929
Фридрих Вильгельм 1014, 1042
Фридрих Вильгельм I 164, 375, 879, 906, 907, 956, 1013
Фридрих Каспар Давид 318
Фриних 350, 996
Фробениус Лео Виктор 497
Фрундсберг Георг, фон 658, 1017, 1018
Фуггеры 817, 939, 946, 1036
Фуке Никола 270
Фукидид 20, 21, 159, 488, 994
Фурье Шарль 933
1078
Указатель имен
Хаксли Томас Генри 584, 585,
Хальс Франс 279, 310, 317
ибн аль-Хайтам 414
Хамданиды 655
Хаммурапи 106, 664
Хань 74, 122, 136, 324, 505, 513, 561, 743, 770-773, 791
Харонд 524
Хасаниды 656, 762
Хеопс 228
Хефрен 222, 229
Хиан 74, 514, 893
Хлодвиг581, 650, 719
Хнумхотеп 849
Хогарт Вильям 310, 574
аль-Хорезми 69, 98,
Хосров Аноширван 229, 720, 888
Хоум Генри, лорд Кеймз 284
Хрисипп 47, 387
Хуанди — см. Ши Хуанди
Хунак Кеель 509, 1003
Царлино Джозеффо 259, 310,
Цвингли Ульрих 754, 762
Цезарий Гейстербахский 748
Цезарь, Гай Юлий 14, 15, 19,, 21, 22, 29, 50, 52, 53, 55, 72, 74, 141, 159,
161, 164, 165, 179, 186, 267, 338, 377, 382, 428, 436, 442, 446, 484, 488,
489, 493, 505, 512, 514, 515, 526, 528, 530, 531, 556, 567, 616, 649, 650,
655, 677, 708, 719, 772, 791, 813, 839, 840, 845, 857, 858, 865, 871, 882,
883, 887, 888, 891, 895-900, 907, 916, 918, 921-923, 926, 929, 953, 954,
961, 975, 987,1003, 1046, 1050,1051
Цинциннат, Луций Квинкций 857
Цицерон, Марк Туллий 14, 44, 489, 514, 526, 544, 601, 606, 873, 883, 897,
898, 918, 921, 922, 924, 1004, 1039,1045,1046,1050
Чандрагупта 791
Чемберлен Джозеф 856, 916, 1043
Чжан И 882, 883
Чжан Лу 772, 811, 1030
Чжоу 73, 160, 223, 504, 514, 553, 628,636, 743, 744, 745, 836, 840, 850, 881,956
Чжуан-цзы 60
Чимабуэ (Ченни ди Пепо) 267, 299, 748
Чимароза Доменико 320,
Чингиз-хан 900
Чиппендейл Томас 176
Шадов Иоганн Готфрид 577, 1009
Шамир Джугариш 655
Указатель имен
1079
Шан 503
Шанкара 773, 820, 840,
Шапур I 709, 710
Шапур II 710
Шарден Жан Батист Симеон 318
Шарнхорст Герхард Иоганн 177
Шекспир Вильям 169, 170, 183, 230, 248, 285, 318, 349, 352, 354, 355, 356,
361, 375, 384, 429, 640, 760, 926
Шеллинг Фридрих Вильгельм Йозеф, фон 68, 335, 396, 519
Шеридан Ричард Бринсли Батлер 875
Шефтсбери Энтони Эшли Купер, граф оф Шефтсбери, барон Купер оф
Полетт, барон Эшли оф Вимборн Сен-Джайлз 176, 631, 866
Шеффель Йозеф Виктор 547, 1007
Шиллер Иоганн Фридрих 182, 990, 995, 1051
Шинкель Карл Фридрих 577, 1009
Ширази, Садр ад-Дин аш-Ширази 335, 1031
Ширази Сайд Али-Мухаммед - см. Баб Шлиман Генрих 1021
Шлютер Андреас 273, 313
Шонгауэр Мартин 280
Шопенгауэр Артур 18, 36, 60, 69, 93, 151, 52, 336, 369, 380, 383, 384, 396,
397, 401, 404, 405, 806, 990
Шоу Джордж Бернард 49, 374, 378, 384, 391, 397, 399, 401-405, 565, 950
Шпенер Филипп Якоб 766
Шпицвег Карл 281
Шталь Георг Эрнст 416
Штауфены — см. Гогенштауфены
Штейн Генрих Фридрих Карл, имперский барон фом унд цум 951, 1052
Штирнер Макс (Каспар Шмидт) 68, 374, 398
Штифель Михаэль 206
Шторм Теодор 348
Шуйский Василий Васильевич, князь, боярин 651
Шюц Генрих 577
Эвбул 961
Эвдокс 69,91,94, 104, 118
Эвклид 17, 26, 57, 69, 83, 89, 90, 92, 93, 97, 99, 100, 107, 110, 112, ИЗ, 114,
116, 118, 139, 210, 287, 347, 355, 540
Эврипид 49, 140, 251, 348, 995
Эгмонт 493
Эдуард VII 910
Эздра 652
Эйлер Леонард 68, 104, 113, 118, 152, 197, 259
Эйрих 820
Эйхендорф Йозеф, барон фон 318, 656
Эксекий 594
Экхарт, Майстер 67, 241, 366, 444, 547, 750, 1027
Элий, Секст Элий Пет Кат 527
1080
Указатель имен
Эмилий Павел Македоник, Луций 1041
Эмилий Павел, Луций 883, 953, 1015
Эмпедокл 357, 415, 416, 418, 740, 741
Энгельс Фридрих 398, 404, 1053
Эпаминонд 22
Эпиктет 374, 380
Эпикур 69, 369, 375, 384, 386, 396, 397, 771
Эпименид 740
Эратосфен 95
Эриуген 700
Эркерт Родерих, фон (Erckert R., von) 633
Эсхил 25, 40, 107, 156, 233, 341, 346, 349, 350, 351, 383, 384, 729, 734, 740,
995,1044
Этингер Фридрих Христоф 766
Ю гурта 893
Юлиан, Флавий Клавдий 393, 562, 634, 662, 712, 714, 1018, 1019
Юлии-Клавдии 504
Юм Дейвид 395, 763, 866, 933
Юнии 629
Юстиниан I 107, 137, 194, 229, 233, 234, 238, 503, 525, 531-536, 542, 657,
704, 717, 720, 738, 788, 842, 888, 1005
Язон из Фер 871
Яков 851, 1034
Якопо делла Кверча
Ямвлих 67, 244, 662, 680, 711, 714, 715, 725
Ян Чжу 60, 767
Янсений Корнелий Отто 167, 760
Яхмос 324
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие к исправленному изданию (новая редакция) 7
Том 1
ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Предисловие к 1 -му изданию 1 -го тома 11
ВВЕДЕНИЕ 13
Задачи. — Морфология всемирной истории — новая философия. —
Для кого существует история? — Неисторичность античности и Ин¬
дии. — Египет: мумии и трупосожжение. — Форма всемирной истории.
Древний мир — Средневековье—Новое время. — Возникновение этой
схемы. — Ее распад. — Западная Европа — не центр. — Метод Гёте как
единственный исторический. — Мы и римляне. — Ницше и Мом¬
мзен. — Проблема цивилизации. — Империализм как завершение. —
Необходимость и значение базовой идеи. — Отношение к современной
философии. — Ее последние задачи. — Как возникала книга.
Таблицы по сравнительной морфологии всемирной истории 67
ГЛАВА ПЕРВАЯ. О СМЫСЛЕ ЧИСЕЛ 75
Основные понятия. — Число как знак границеполагания. — У каж¬
дой культуры — собственная математика. — Античное число как вели¬
чина. — Картина мира Аристарха Самосского. — Диофант и арабское
число. — Западное число как функция. — Мировой страх и мировое
томление. — Классические проблемы предела. — Преодоление грани¬
цы зримого. Символические пространственные миры. — Последние
возможности.
ГЛАВА ВТОРАЯ. ПРОБЛЕМА ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ
I. Физиономика и систематика
Коперниканский метод. — История и природа. — Образ и закон. —
Физиономика и систематика. — Культуры как организмы. — Внут¬
ренняя форма, темп, длительность. — Сходство в строении. — «Одно¬
временность».
II. Идея судьбы и принцип каузальности
Органическая и неорганическая логика. — Время и судьба,
пространство и причинность. — Проблема времени. — Время —
119
121
142
1082
Содержание
понятие, противоположное пространству. — Временные символы
(трагика, измерение времени, погребение). — Попечение (эроти¬
ка, государство, техника). — Судьба и случайность. — Случай¬
ность и причина. — Случайность и стиль существования. — Ано¬
нимные и личностные эпохи. — Направленность в будущее и кар¬
тина прошлого. — Существует ли наука истории? — Новая
постановка вопроса.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. МАКРОКОСМ 187
I. Символика картины мира и проблема пространства 189
Макрокосм как совокупность символов по отношению к душе. —
Пространство и смерть. — «Все преходящее — только подобье». —
Проблема пространства: лишь глубина формирует пространство. —
Пространственная глубина как время. — Рождение мировоззрения из
пра-символа культуры. — Античный пра-символ — тело, арабский —
пещера, западный — бесконечное пространство
И. Аполлоническая, фаустовская, магическая душа 208
Пра-символ, архитектура и божественный мир. — Египетский
пра-символ пути. — Выразительный язык искусства: орнаментика
или подражание. — Орнамент и ранняя архитектура. — Архитектура
окна. — Большой стиль. — История стиля как организм. — К истории
арабского стиля. — Психология технических приемов в искусстве.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. МУЗЫКА И СКУЛЬПТУРА 245
I. Изобразительные искусства 247
Музыка как изобразительное искусство. — Невозможно иное, по¬
мимо исторического, подразделение. — Отбор искусств как выразите¬
льное средство высшего порядка. — Аполлоническая и фаустовская
группы искусств. — Ступени западной музыки. — Возрождение как ан-
тиготическое (антимузыкальное) движение. — Характер барокко. —
Парк. — Символика цветов. Цвета близи и дали. — Золотой фон и «ко¬
ричневый колорит мастерской». — Патина.
II. Обнаженная фигура и портрет 285
Способы изображения человека. — Портрет, таинство покаяния,
строение предложения. — Лица античных статуй. — Детские и жен¬
ские портреты. — Эллинистический портрет. — Барочный портрет. —
Преодоление Ренессанса у Леонардо, Рафаэля и Микеланджело. —
Победа инструментальной музыки над масляной живописью ок. 1670 г.
(что соответствует победе свободно стоящей статуи над фреской ок.
460 г. до Р. X.). — Импрессионизм. — Пергам и Байрейт. Затухание ис¬
кусства.
ГЛАВА ПЯТАЯ. ОБРАЗ ДУШИ И ЖИЗНЕОЩУЩЕНИЕ 325
I. О форме души 327
Картина души как функция картины мира. — Психология как анти¬
физика. — Аполлоническая, магическая, фаустовская картина души. —
«Воля» в готическом «душевном пространстве». — «Внутренняя мифо¬
логия». — Воля и характер. — Античная трагедия положений и фаустов¬
ская трагедия характеров. — Символика декораций. — Дневное и ноч-
Содержание
1083
ное искусство. — Общедоступность и эзотеризм. — Астрономическая
картина. — Географический горизонт.
II. Буддизм, стоицизм, социализм 368
Фаустовская мораль чисто динамична. — У всякой культуры —
собственная форма морали. — Мораль позиции и мораль воли. — Буд¬
да, Сократ, Руссо как ходатаи по делам наступающих цивилизаций. —
Трагическая и плебейская мораль. — Возврат к природе, иррелигиоз-
ность, нигилизм. — Этический социализм. — Аналогичное строение
истории философии во всех культурах. — Цивилизованная филосо¬
фия Запада.
ГЛАВА ШЕСТАЯ. ФАУСТОВСКОЕ И АПОЛЛОНИЧЕСКОЕ
ПОЗНАНИЕ ПРИРОДЫ 407
Теория как миф. — Любое естествознание зависит от предшество¬
вавшей религии. — Статика, алхимия, динамика как теории трех куль¬
тур. — Разновидности атомизма. — Неразрешимость проблемы дви¬
жения. — Стиль «каузальных событий», «опыт». — Чувство Бога и по¬
знание природы. — Большой миф. — Античные, магические,
фаустовские numina. — Атеизм. — Фаустовская физика как догмат о
силе. — Ограниченность ее дальнейшего теоретического (не техниче¬
ского) развития. — Самоуничтожение динамики; проникновение ис¬
торических представлений. — Угасание теории: распадение в систему
морфологического сродства.
Том 2
ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ГЛАВА ПЕРВАЯ. ПЕРВОНАЧАЛО И ЛАНДШАФТ 467
I. Космическое и микрокосм 469
Растение и животное. — Существование и бодрствование. — Вос¬
приятие, понимание, мышление. — Проблема движения. — Группо¬
вая душа
II. Группа высших культур 486
Картина истории и картина природы. — История человечества и
всемирная история. — Два периода: первобытные и высшие культу¬
ры. — Обзор высших культур. — Внеисторический человек.
III. Отношения между культурами 515
«Воздействие». — Римское право. — Магическое право. — Запад¬
ное право.
ГЛАВА ВТОРАЯ. ГОРОДА И НАРОДЫ 545
I. Душа города 547
Микены и Крит. — Крестьянин. — Всемирная история — город¬
ская история. — Образ города. — Город и дух. — Дух мировой столи¬
цы. — Бесплодие и распад.
II. Народы, расы, языки 571
Потоки существования и связи бодрствования. — Язык выраже¬
ния и язык сообщения. — Тотем и табу. — Язык и речь. — Дом как вы¬
ражение расы. — Замок и собор. — Раса. — Кровь и почва. — Язык.
1084
Содержание
Средство и значение. — Слово, грамматика. — История языка. — Пи¬
сьменность. — Морфология культурных языков.
III. Пранароды, культурные народы, феллахские народы 616
Имена народов, языки, расы. — Переселения. — Народ и душа. —
Персы. — Морфология народов. — Народ и нация. — Античная, араб¬
ская, западноевропейская нации.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ПРОБЛЕМЫ АРАБСКОЙ КУЛЬТУРЫ 645
I. Исторические псевдоморфозы 647
Понятие псевдоморфоза. — Акций. — Русизм. — Арабское рыцар¬
ское время. — Синкретизм. — Иудеи, халдеи, персы предкультуры. —
Миссионерство. — Иисус. — Павел. — Иоанн, Маркион. — Языческая
и христианская культовая церковь.
II. Магическая душа 690
Дуализм мировой пещеры. — Чувство времени (эра, всемирная ис¬
тория, благодать). — Consensus. — «Слово» как субстанция, Коран. —
Тайная Тора, комментарий. — Группа магических религий. — Хрис-
тологические споры. — Существование как распространение (мисси¬
онерство).
III. Пифагор, Мухаммед, Кромвель 721
Существо религии. — Миф и культ. — Мораль как жертва. — Мор¬
фология истории религии. — Предкультура: франки, русские. — Еги¬
петское раннее время. — Античность. — Китай. — Готика (верования
в Марию и дьявола, крещение и покаяние). — Реформация. — Нау¬
ка. — Пуританство. — Рационализм. — «Вторая религиозность». —
Римский и китайский культ императора. — Иудейство.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ГОСУДАРСТВО 783
I. Проблема сословий: знать и духовенство 785
Мужчина и женщина. — Племя и сословие. — Крестьянство и об¬
щество. — Сословие, каста, профессия. — Знать и духовенство как
символы времени и пространства. — Муштра и образование, нравы и
мораль. — Собственность, власть и добыча. — Священник и уче¬
ный. — Экономика и наука: дух и деньги. — История сословий: раннее
время. — Третье сословие: город — свобода — буржуазия.
II. Государство и история 819
Движимое и движение, «быть в форме». — Право и власть. — Со¬
словие и государство. — Феодальное государство. — От феодального
союза к сословному государству. — Полис и династия. — Абсолютное
государство, фронда и тирания. — Валленштейн. — Кабинетная поли¬
тика. — От первой тирании ко второй. — Буржуазная революция. —
Деньги и дух. — Бесформенные силы (бонапартизм). — Эмансипация
денег. — «Конституция». — От бонапартизма к цезаризму (время «бо¬
рющихся государств»). — Великие войны. — Римский период. — От
халифата к султанату. — Египет. — Современность. — Цезаризм.
III. Философия политики 901
Жизнь. — это политика. — Политический дар. — Государственный
деятель. — Создание традиции. — Физиономический (дипломатиче¬
ский) такт. — Сословие и партия. — Буржуазия как пра-партия (либе-
Содержание
1085
рализм). — От сословия через партию к свите одиночки. — Теория: от
Руссо к Марксу. — Дух и деньги (демократия). — Пресса. — Само¬
уничтожение демократии через деньги.
ГЛАВА ПЯТАЯ. МИР ФОРМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ .... 931
I. Деньги 933
Политическая экономия. — Политическая и экономическая сто¬
роны жизни. — Производящая и завоевывающая экономика (земле¬
делие и торговля). — Политика и торговля (власть и добыча). — Пра-
экономика и экономика высших культур. — Сословие и экономиче¬
ский класс. — Край без городов: мышление в товарах. — Город: мыш¬
ление в деньгах. — Мировая экономика: мобилизация товаров деньга¬
ми. — Античные деньги: монета. — Раб как деньги. — Фаустовское де¬
нежное мышление: балансовая стоимость. — Двойная бухгалтерия. —
Монета в западной культуре. — Деньги и труд. — Капитализм. — Орга¬
низация экономики. — Угасание денежного мышления: Диоклетиан,
экономическое мышление русских.
II. Машина 963
Дух техники. — Примитивная техника и стиль высших культур. —
Античная «техника». — Фаустовская техника: воля к власти над при¬
родой. Изобретатель. — Горячка современных изобретений. — Чело¬
век как раб машины. — Предприниматель, рабочий, инженер. — Бо¬
рьба денег и промышленности. — Финальная схватка денег и полити¬
ки; победа крови.
ПРИЛОЖЕНИЕ
От переводчика
И. И: Маханъков. Мир — это дух
Примечания
Указатель имен
975
979
987
1054
ДОРОГОЙ ЧИТА ГЕЛЬ!
Издательство просит отзывы об этой книге
и Ваши предложения по серии
«Полное издание в одном томе»
присылать по адресу:
125565, Москва, а/я 4,
«Издательство АЛЬФА-КНИГА»
или по e-mail: mvn@armada.ru
Информацию об издательстве и книгах
можно получить на нашем сайте в Интернете:
http://www. armada.ru
Литературно-художественное издание
Полное издание в одном томе
Освальд Шпенглер
ЗАКАТ ЗАПАДНОГО МИРА
ПОЛНОЕ ИЗДАНИЕ В ОДНОМ ТОМЕ
Заведующий редакцией
В. Н. Маршавин
Ответственный редактор
Е.Г. Басова
Художественный редактор
Л.В. Меркулова
Технический редактор
А.А. Ершова
Корректор
Н.А. Карелина
Компьютерная верстка
П.Э. Кутепова
Подписано в печать 30.01.14. Формат 60x90/16.
Гарнитура «Ньютон». Печать офсетная.
Бумага офсетная. Уел. печ, л.68,0. Доп. тираж 3000 экз.
Изд. № 7096. Заказ № 4405158
ООО «Издательство АЛЬФА-КНИГА»
125565, Москва, а/я 4; ул. Расковой, д. 20
Отпечатано с готовых файлов заказчика
в филиале «НИЖПОЛИГРАФ»,
ОАО «Первая Образцовая типография»
603950, г. Нижний Новгород, ГСП-123, ул. Варварская, д. 32
«издательство альфа-книга» представляет серии
«ПОЛНОЕ ИЗДАНИЕ В ОДНОМ ТОМЕ» и «ПОЛНОЕ ИЗДАНИЕ В ДВУХ ТОМАХ»
Н. КАРАМЗИН История Государства Российского. Полное издание в одном томе
дас ВАЗАРИ.. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих.
Полное издание в одном томе
А. АФАНАСЬЕВ Народные русские сказки. Полное издание в одном томе
Ф. ГРЕГОРОВИУС История города Рима в Средние века (от V до XVI столетия).
Полное издание в одном томе
ПЛУТАРХ Сравнительные жизнеописания. Полное издание в одном томе
Д. МЕРЕЖКОВСКИЙ Христос и Антихрист. Полное издание в одном томе
А. ЛОПУХИН Библейская история Ветхого и Нового Заветов.
Полное издание в одном томе
Ж. ВЕРН История великих путешествий. Полное издание в одном томе
Ф. ГРЕГОРОВИУС История города Афин в Средние века (от эпохи Юстиниана
до турецкого завоевания). Полное издание в одном томе
А. ДЮМА Королева Марго. Графиня де Монсоро. Сорок пять.
(Трилогия о Генрихе Наваррском). Полное издание в одном томе
A. ДЮМА Три мушкетера. Двадцать лет спустя. Виконт де Бражелон.
(Трилогия о мушкетерах). Полное издание в двух томах
М. ПРУСТ В поисках утраченного времени. Полное издание в двух томах
B. КЛЮЧЕВСКИЙ Курс русской истории. Полное издание в одном томе
Ж. САНД... Консуэло. Графиня Рудольпггадт. (Дилогия). Полное издание в одном томе
А. ДЮМА Граф Монте-Кристо. Полное иллюстрированное издание в одном томе
А. СОЛЖЕНИЦЫН Архипелаг ГУЛАГ. Полное издание в одном томе
Ж ВЕРН Дети капитана Гранта. Двадцать тысяч лье под водой. Таинственный остров.
(Трилогия). Полное иллюстрированное издание в одном томе
М. МОНТЕНЬ Опыты. Полное издание в одном томе
АРАБСКИЕ СКАЗКИ Книга тысячи и одной ночи. Полное издание в двух томах
А. РЫБАКОВ Дети Арбата. Страх. Прах и пепел. (Трилогия).
Полное издание в одном томе
Н. КОСТОМАРОВ Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей.
Полное издание в одном томе
А. ДЮМА Жозеф Бальзамо. Полное издание в одном томе
О. ШПЕНГЛЕР Закат Западного мира. Полное издание в одном томе
C. ВИТТЕ Воспоминания. Полное издание в одном томе
Э. СЮ Агасфер. Полное издание в одном томе
Ю. ГЕРМАН Россия молодая. Полное издание в одном томе
М. ТВЕН Янки из Коннектикута при дворе короля Артура. Принц и нищий.
Приключения Тома Сойера. Приключения Гекльберри Финна.
Том Сойер за границей. Том Сойер — сыщик (Шесть романов и повестей).
Полное иллюстрированное издание в одном томе
Ф. КУПЕР Зверобой. Последний из могикан. Следопыт. Пионеры. Прерия.
(Пенталогия). Полное издание в одном томе
A. ДЮМА История знаменитых преступлений. Полное издание в одном томе
Л. РАКОВСКИЙ Генералиссимус Суворов. Адмирал Ушаков. Кутузов.
(Исторические романы). Полное издание в одном томе
B. КОСТЫЛЕВ Иван Грозный. (Исторический роман в трех книгах).
Полное издание в одном томе
«ИЗДАТЕЛЬСТВО АЛЬФА-КНИГА» представляет серии
«ПОЛНОЕ ИЗДАНИЕ В ОДНОМ ТОМЕ» и «ПОЛНОЕ ИЗДАНИЕ В ДВУХ ТОМАХ»
В. ЯЗВИЦКИЙ Иван Ш - государь всея Руси. Полное издание в одном томе
А. ДЮМА Три мушкетера. Двадцать лет спустя. (Два романа).
Полное иллюстрированное издание в одном томе
Ж. ВЕРН Вокруг света за 80 дней. Пятнадцатилетний капитан.
Жангада. Михаил Строгов. Плавающий город. (Пять романов).
Полное иллюстрированное издание в одном томе
Ю. ТЫНЯНОВ Кюхля. Смерть Вазир-Мухтара. Пушкин. (Исторические романы).
Полное издание в одном томе
И. ФЛАВИИ Иудейские древности. Иудейская война. Против Апиона.
Полное издание в одном томе
Р. СТИВЕНСОН Остров сокровищ. Черная стрела. Похищенный.
Катриона. Владетель Баллантрэ. Павильон на холме.
Странная история доктора Джекила и мистера Хайда.
Полное иллюстрированное издание в одном томе
A. САХАРОВ Воспоминания. Полное издание в одном томе
B. КРЕСТОВСКИЙ Петербургские трущобы. Полное издание в одном томе
A. ДЮМА Людовик XIV и его век. Полное издание в одном томе
К. МАИ Верная Рука. (Трилогия).
Полное иллюстрированное издание в одном томе
Л. БУССЕНАР Приключения парижанина. (Трилогия).
Полное иллюстрированное издание в одном томе
B. СКОТТ Айвенго. Квентин Дорвард.
Полное иллюстрированное издание в одном томе
ГОМЕР Илиада. Одиссея.
Н. Кун. Что рассказывали древние греки о своих богах и героях.
Полное издание в одном томе
К. БЕККЕР Древняя история. Полное издание в одном томе
Г. ЭМАР Великий вождь окасов. Искатель следов. Пираты прерий. Закон Линча.
(Тетралогия). Полное иллюстрированное издание в одном томе
В. КОЖЕВНИКОВ Щит и меч. Полное издание в одном томе
К. ВАЛИШЕВСКИЙ Иван Грозный. Смутное время. Первые Романовы.
Полное издание в одном томе
К. ВАЛИШЕВСКИЙ Петр Великий. Царство женщин. Дочь Петра Великого.
Полное издание в одном томе
Издание серии продолжается
911 785992 11205770