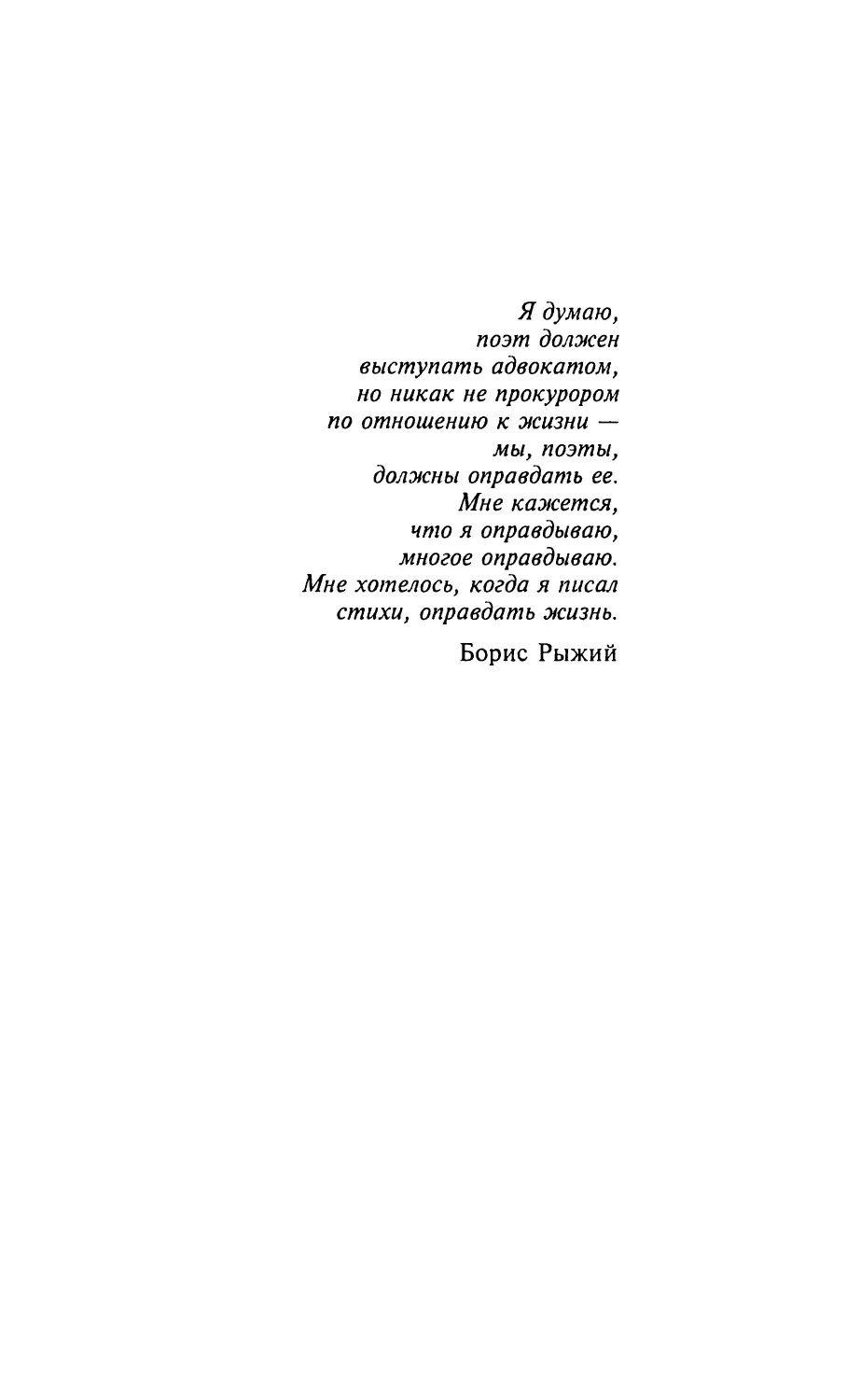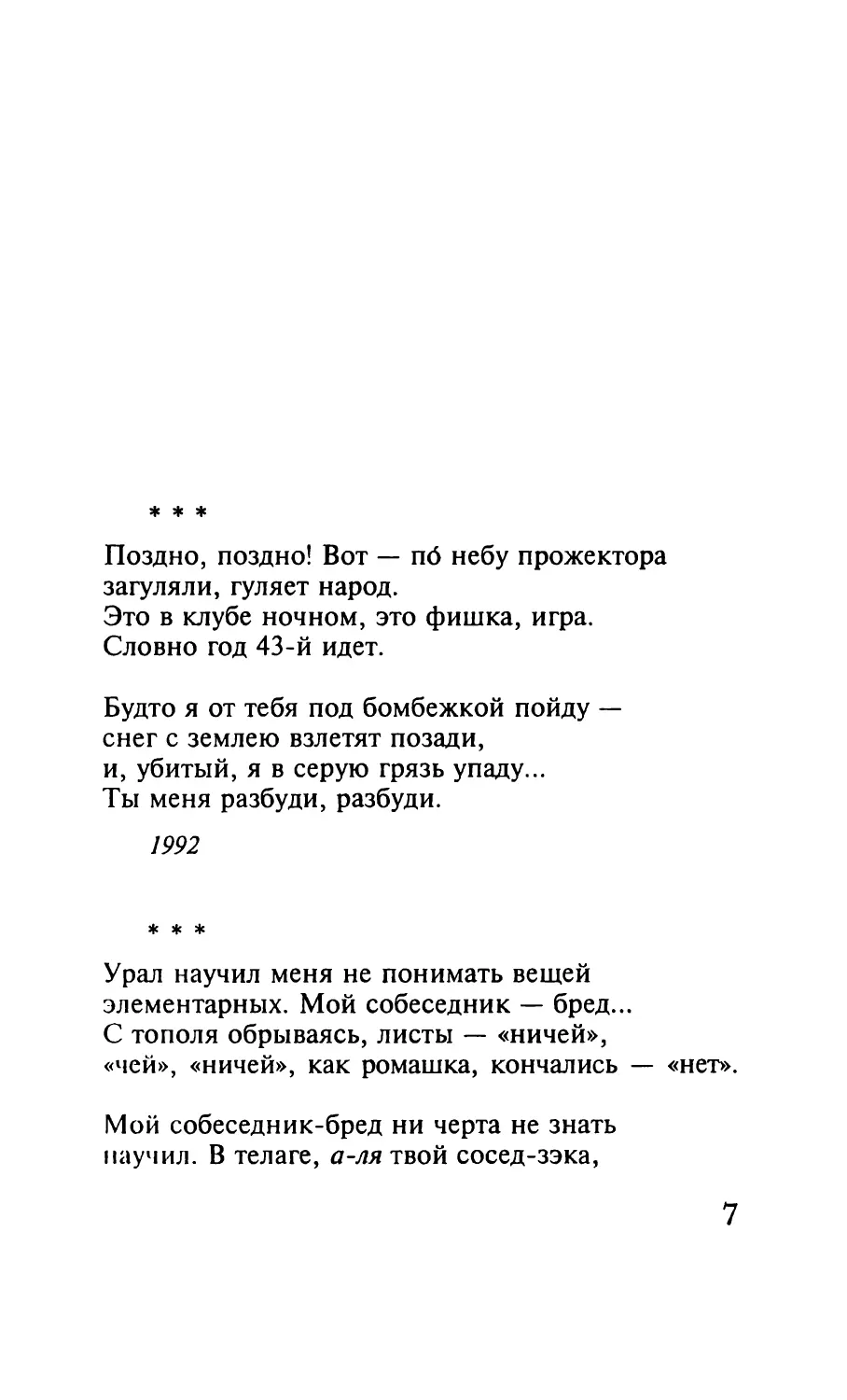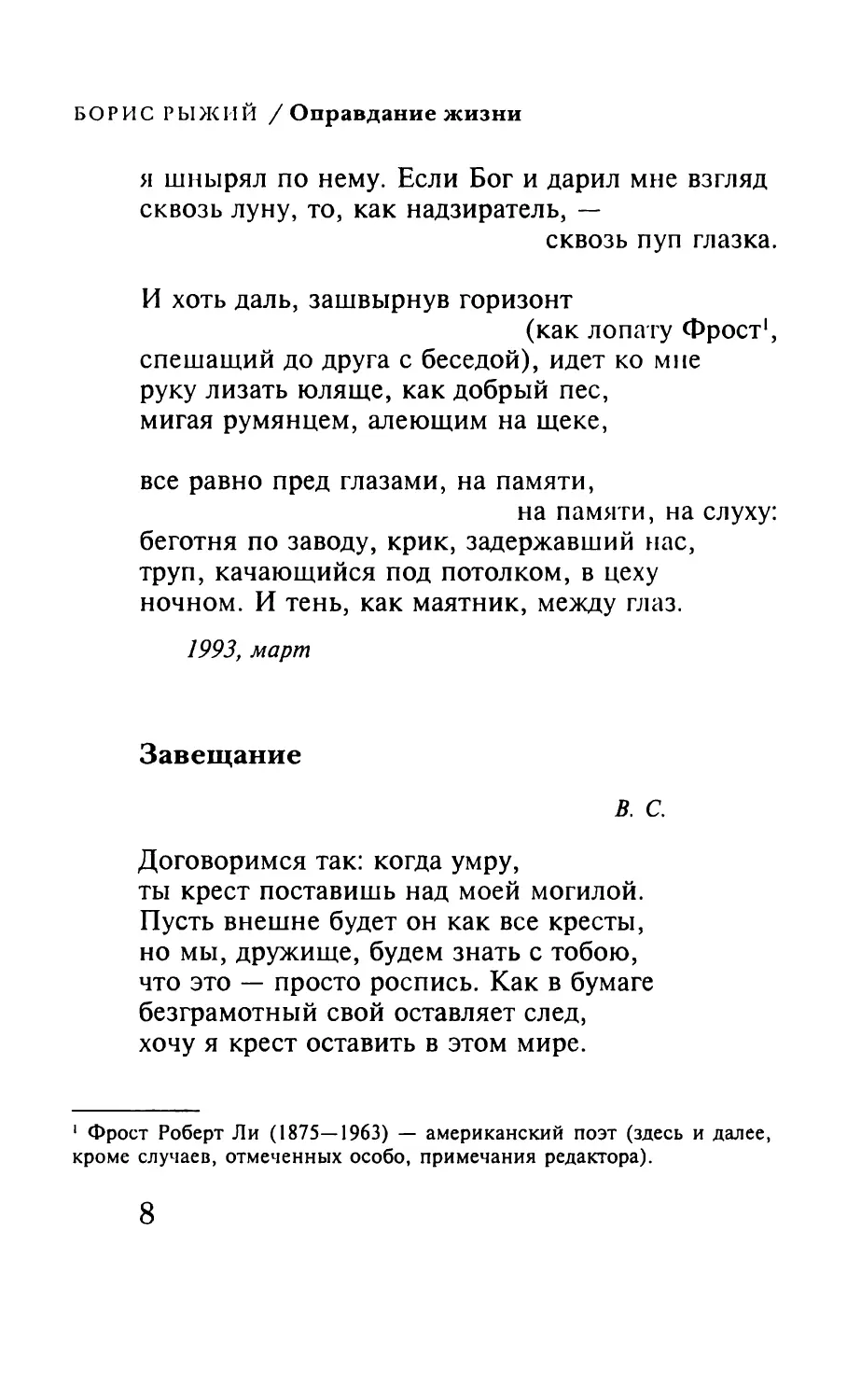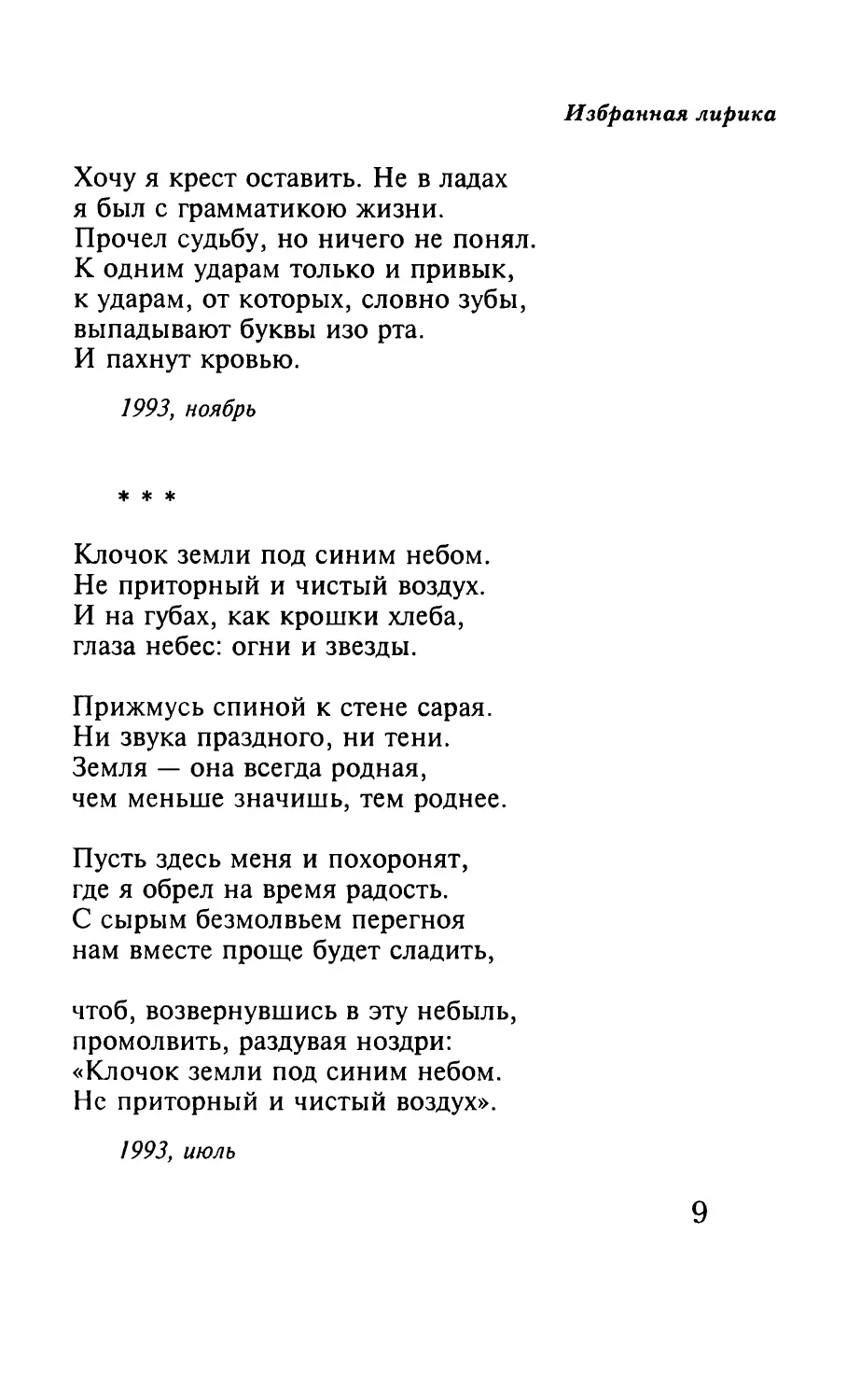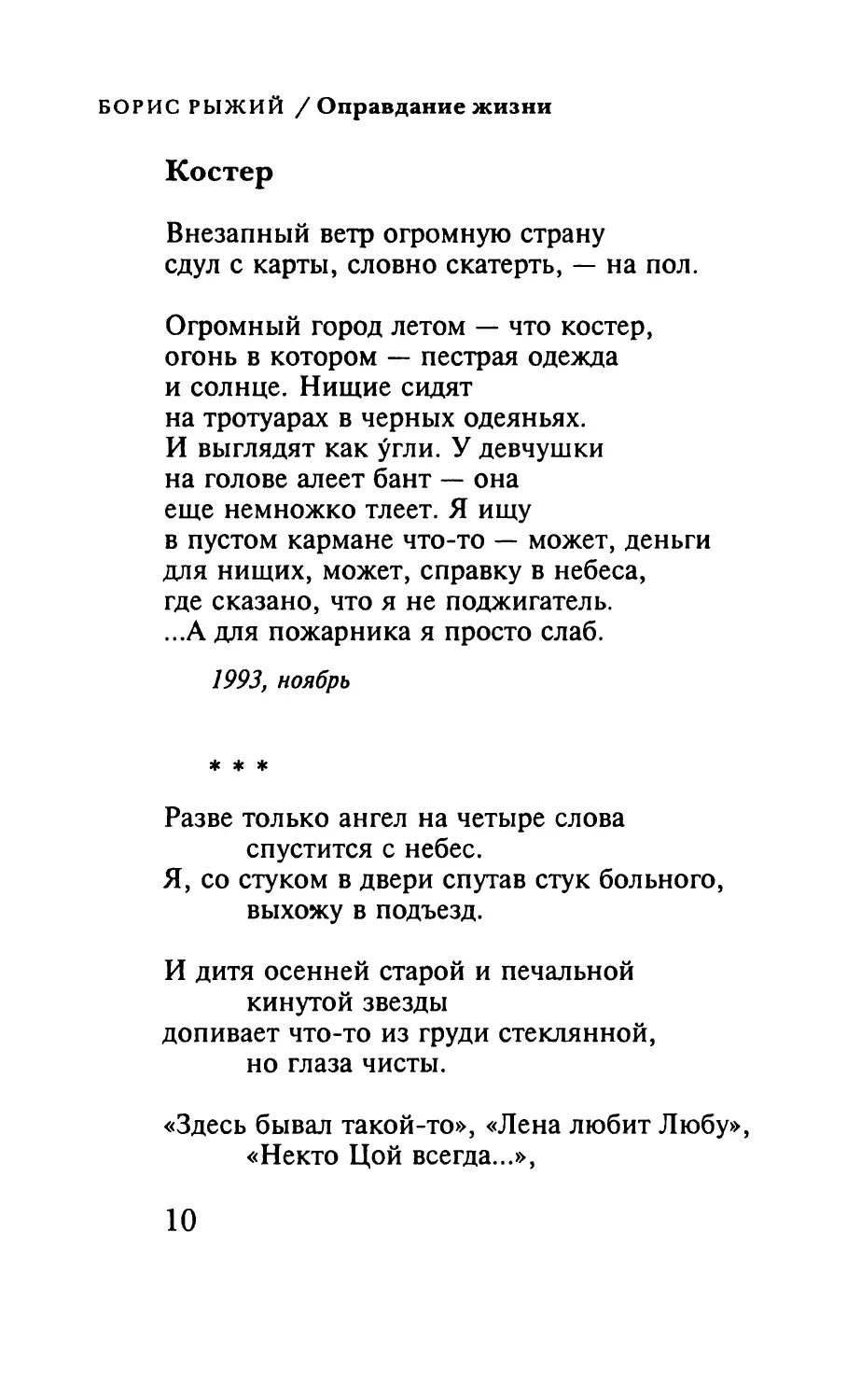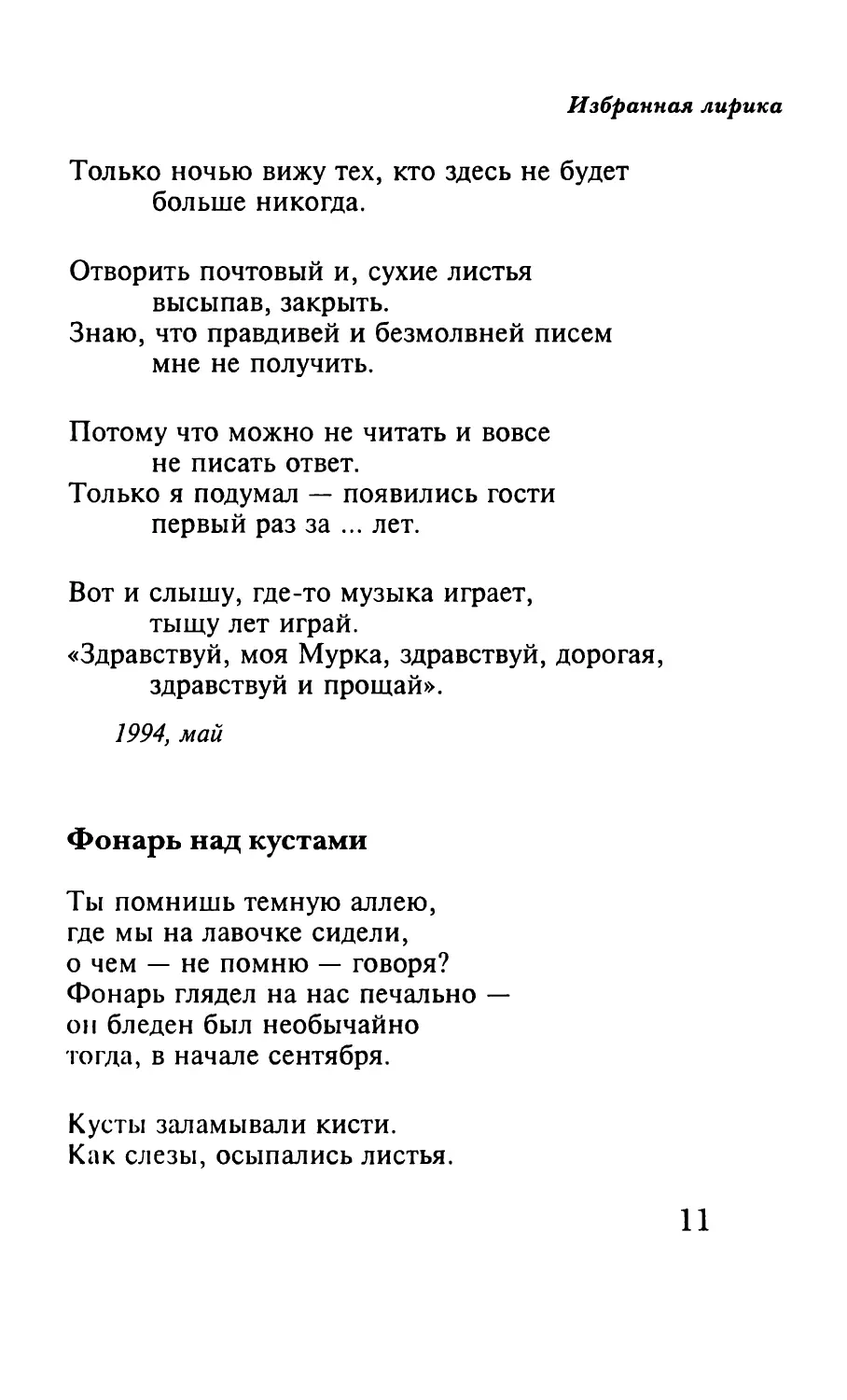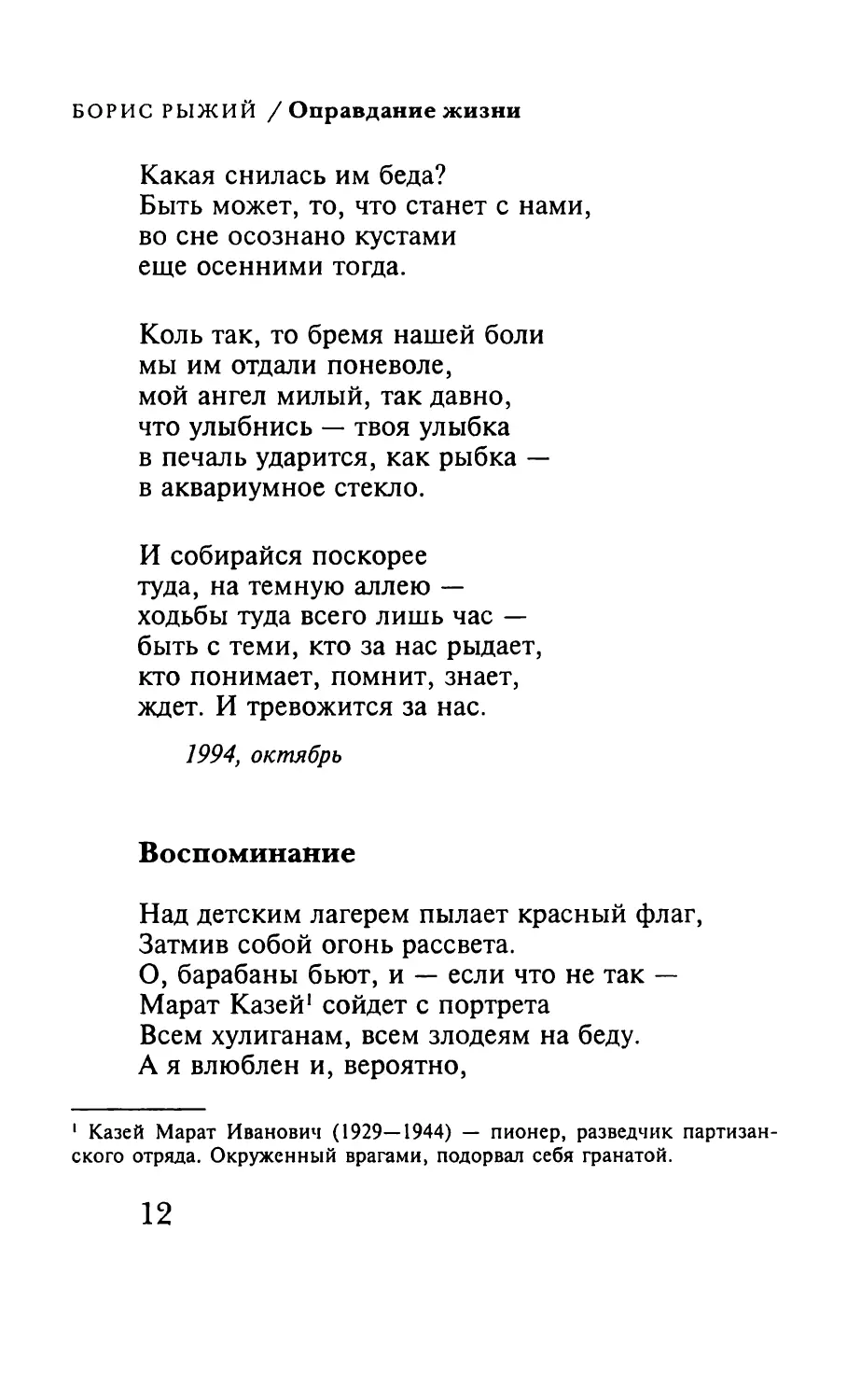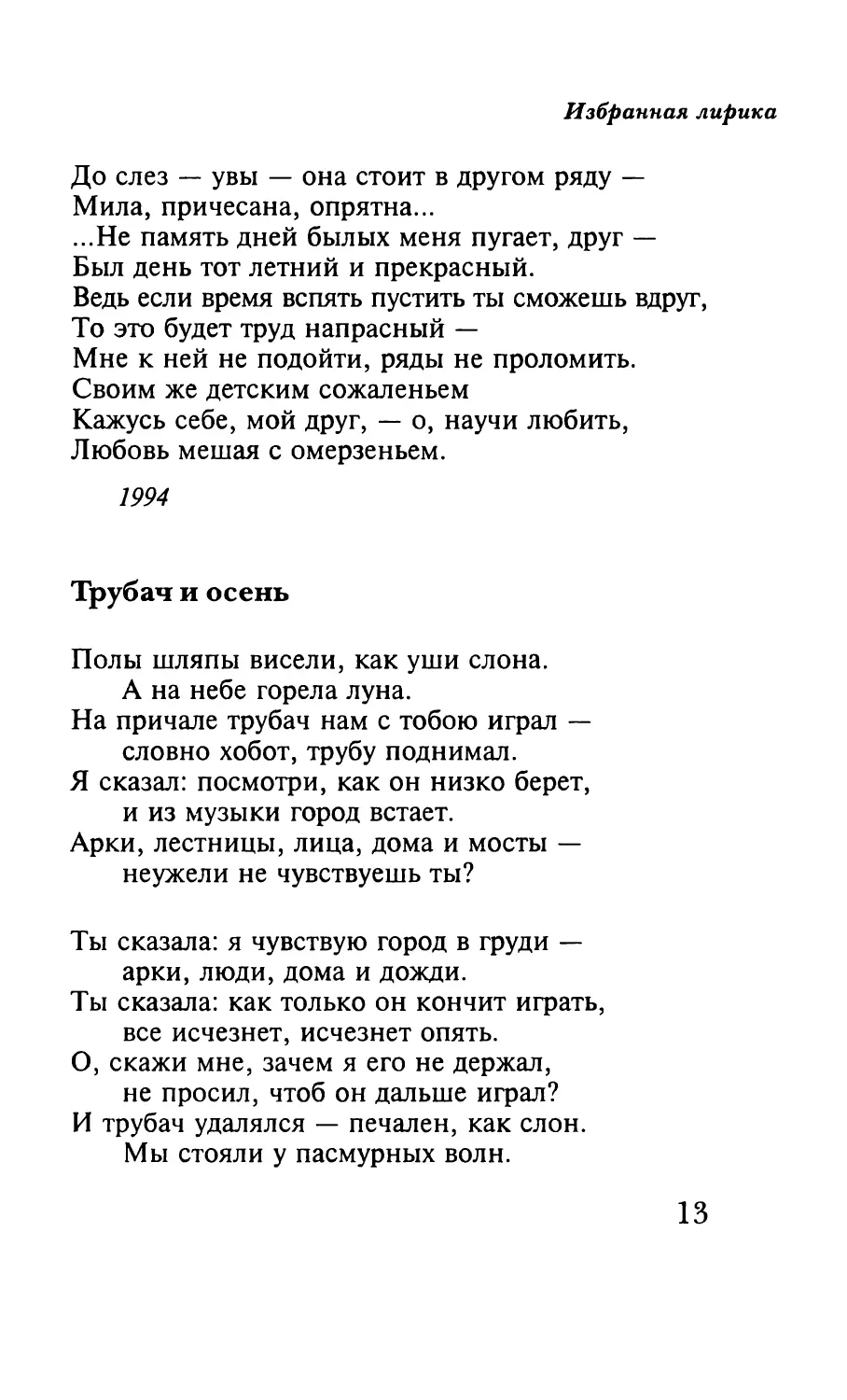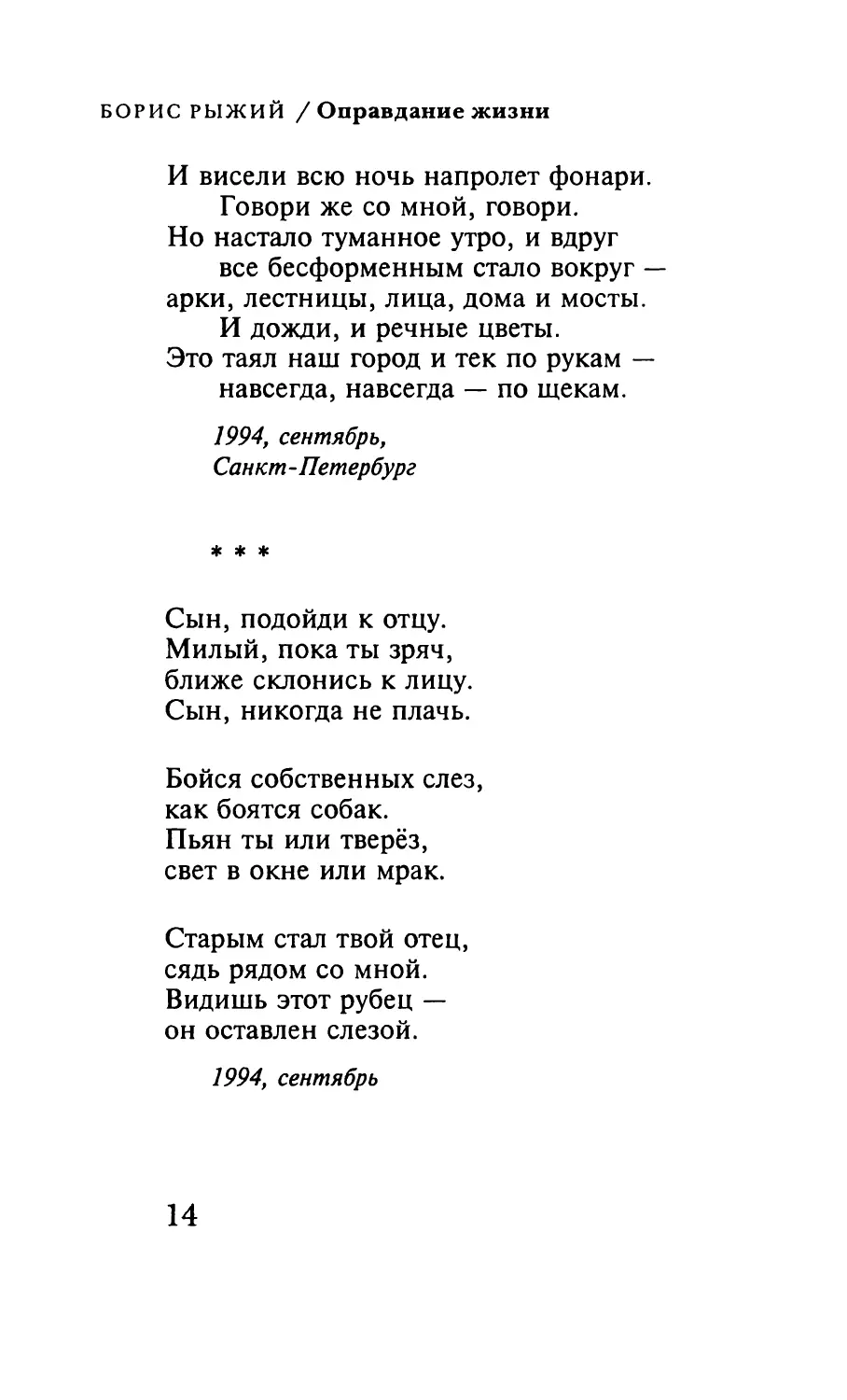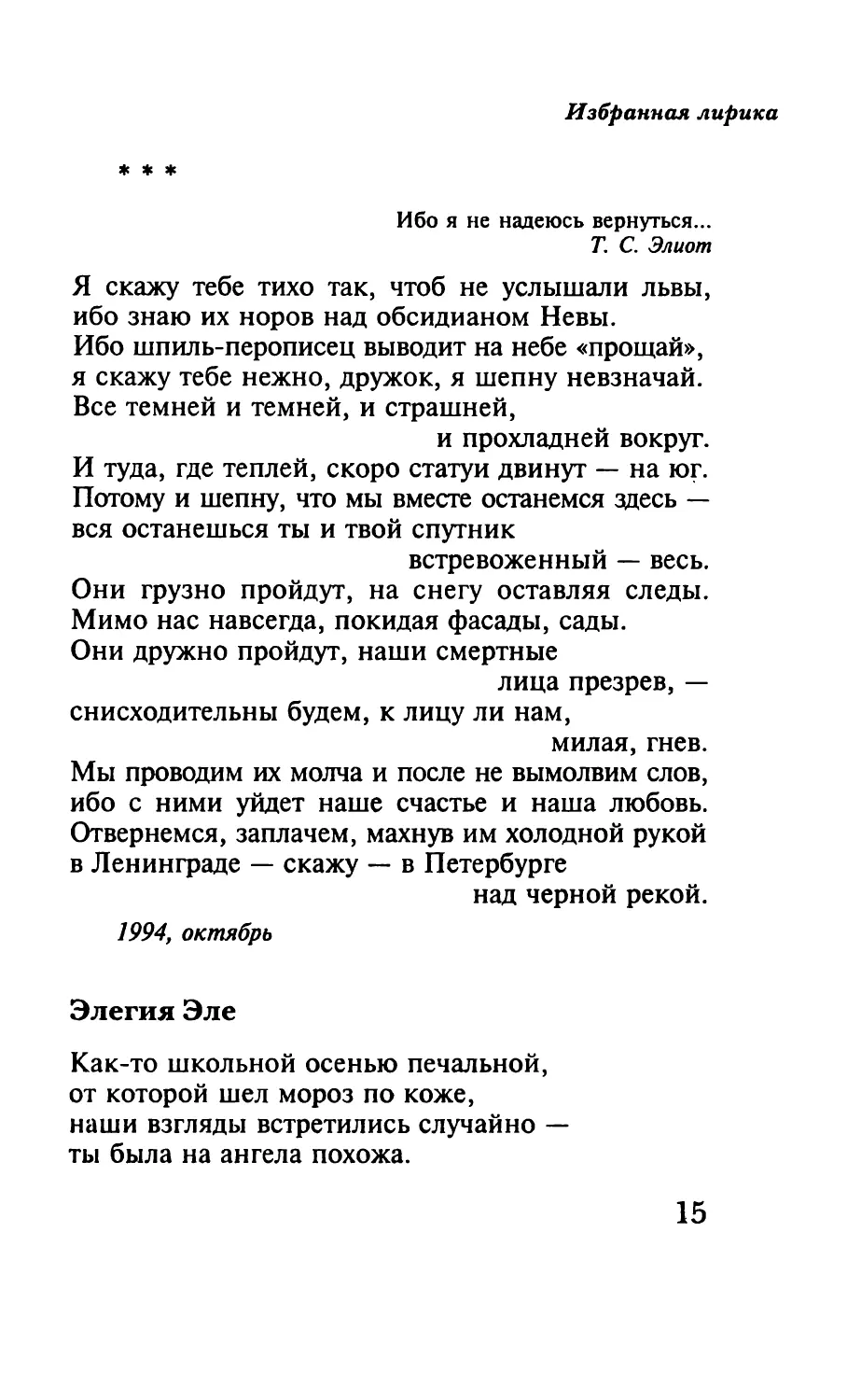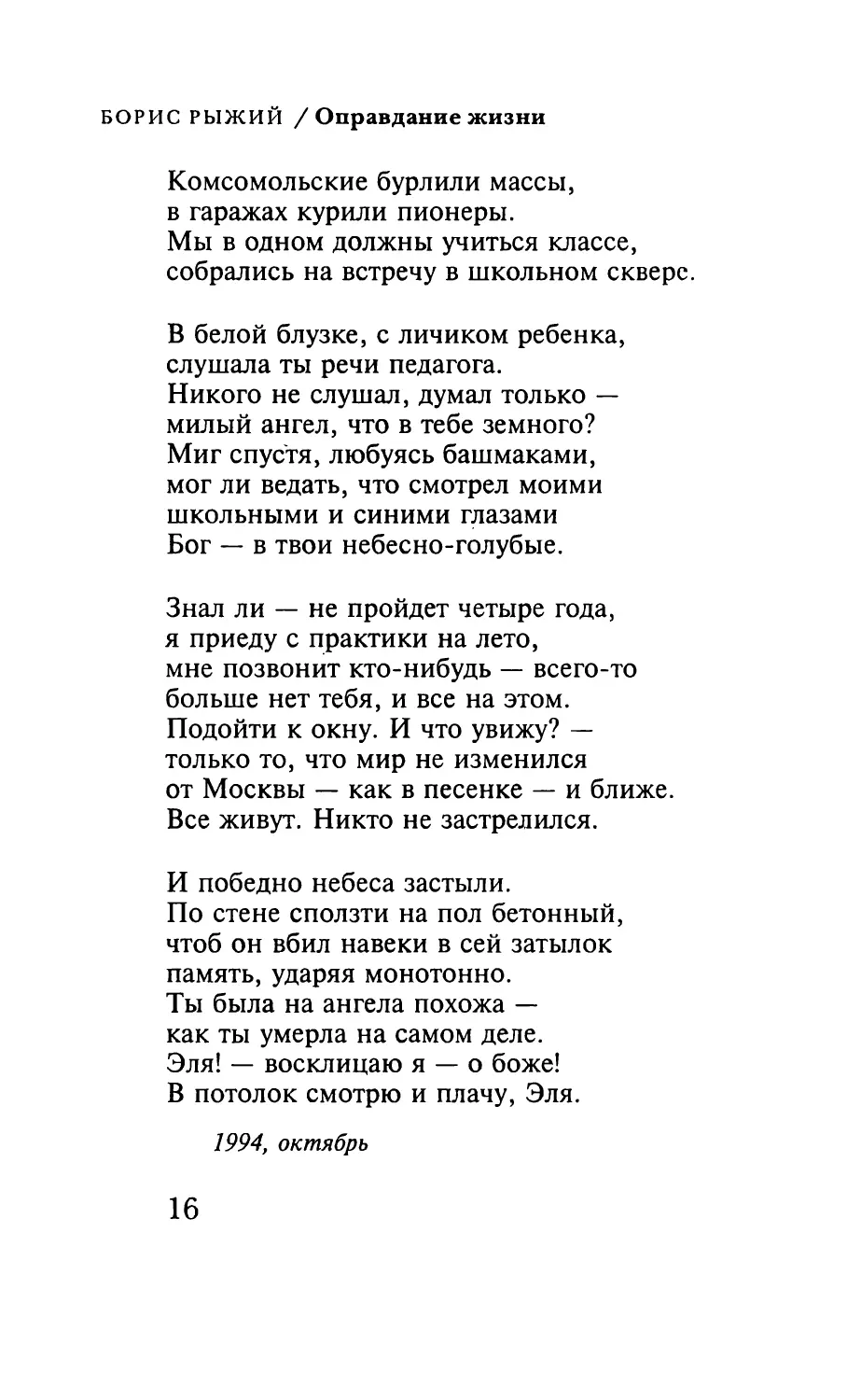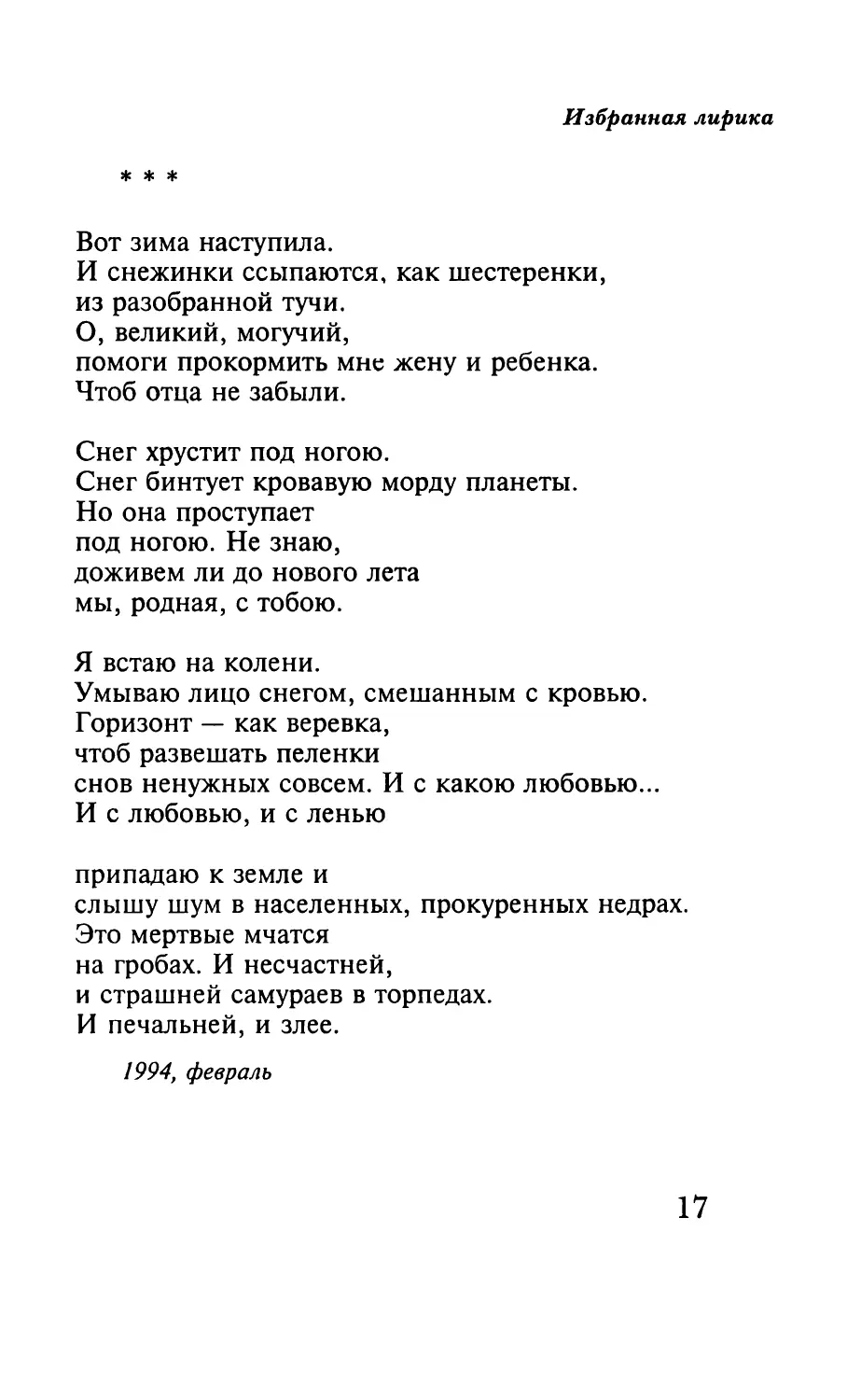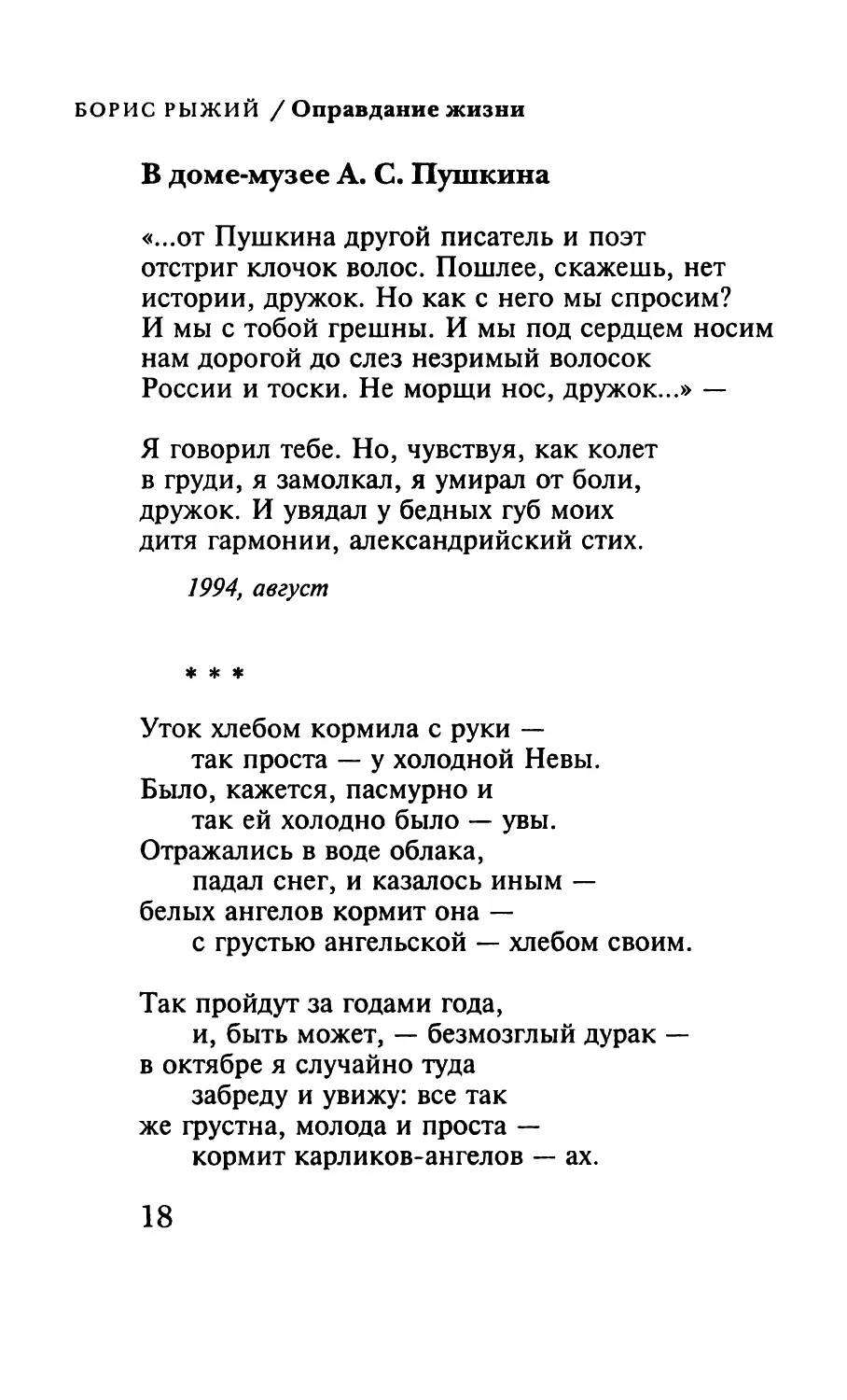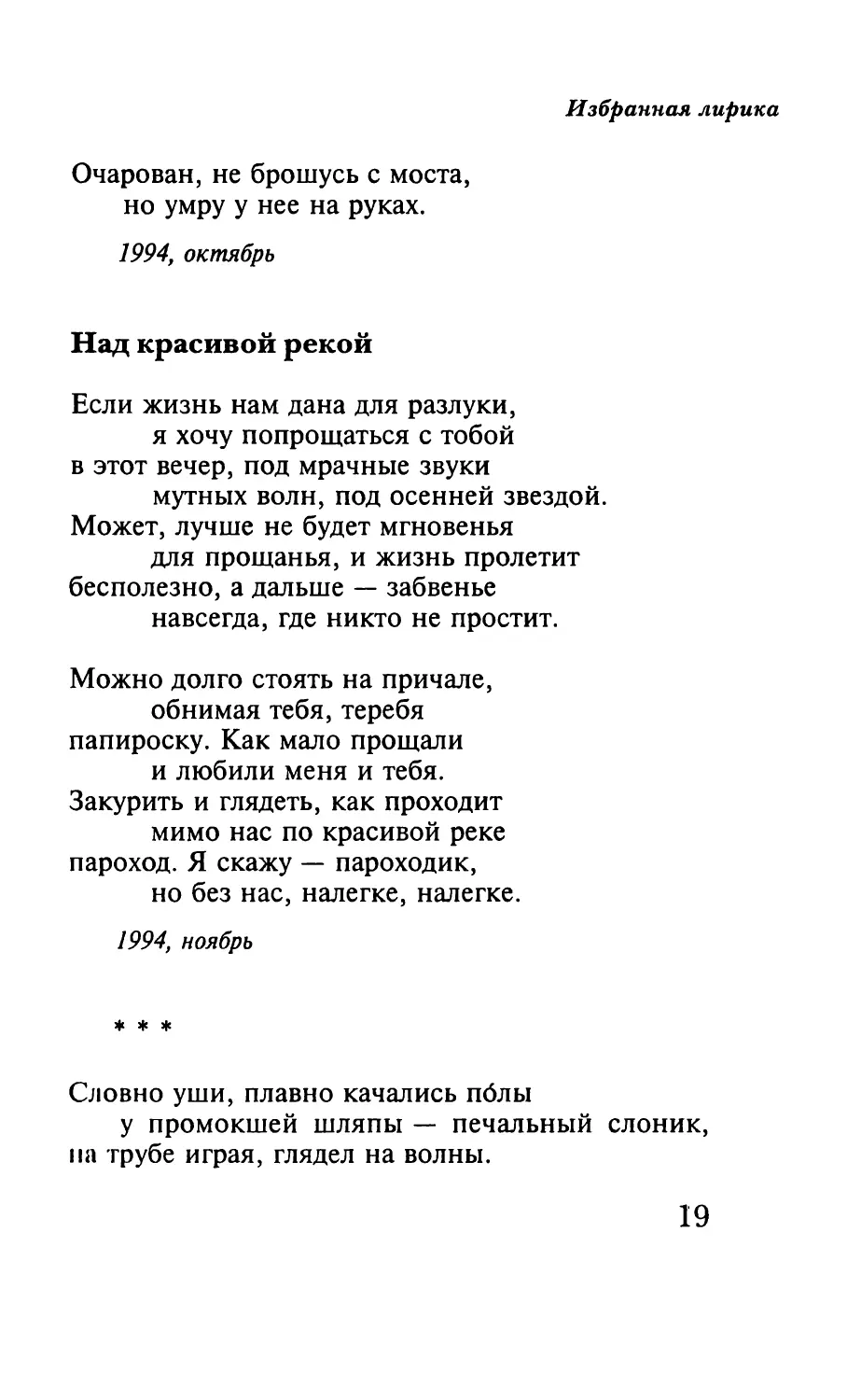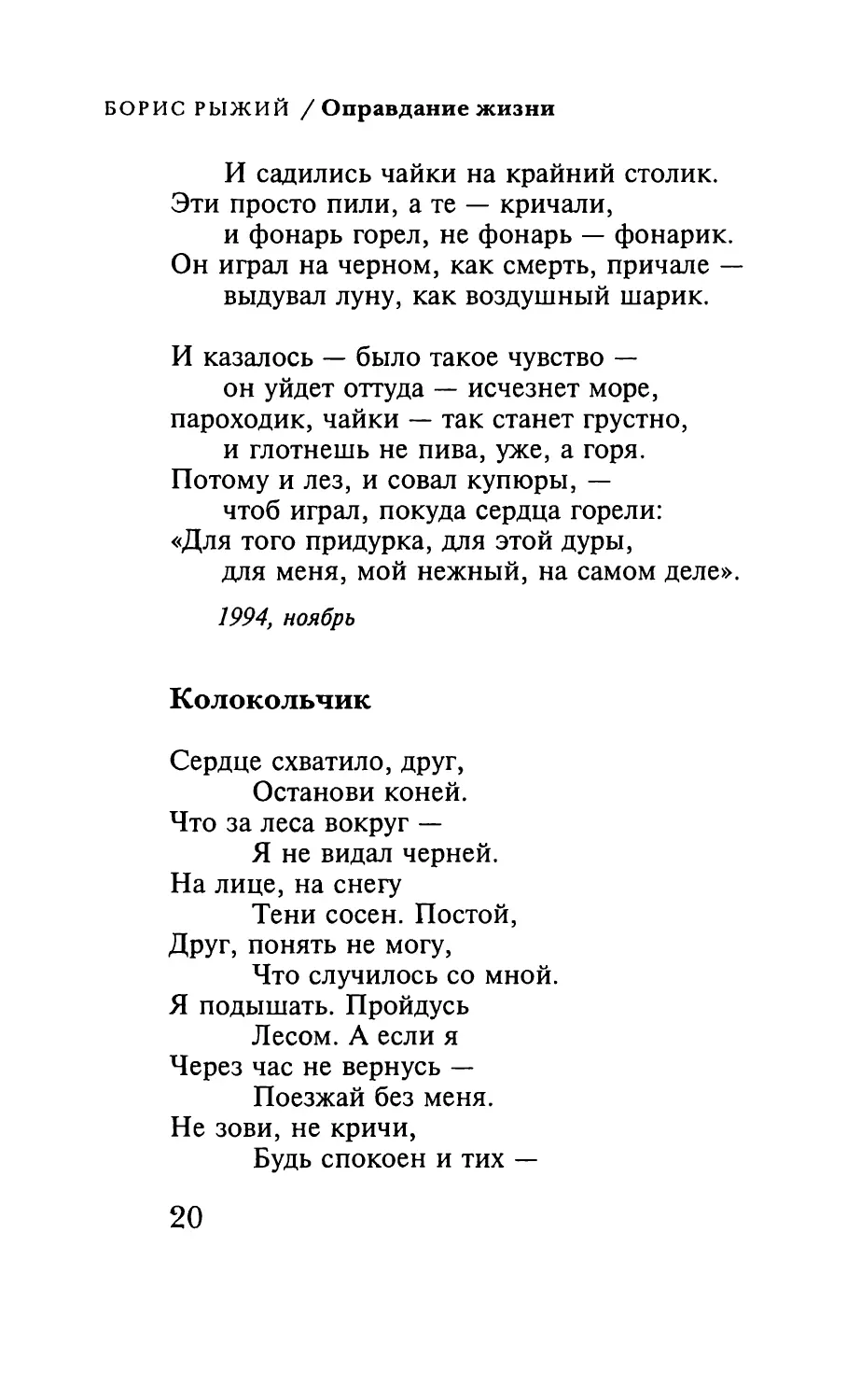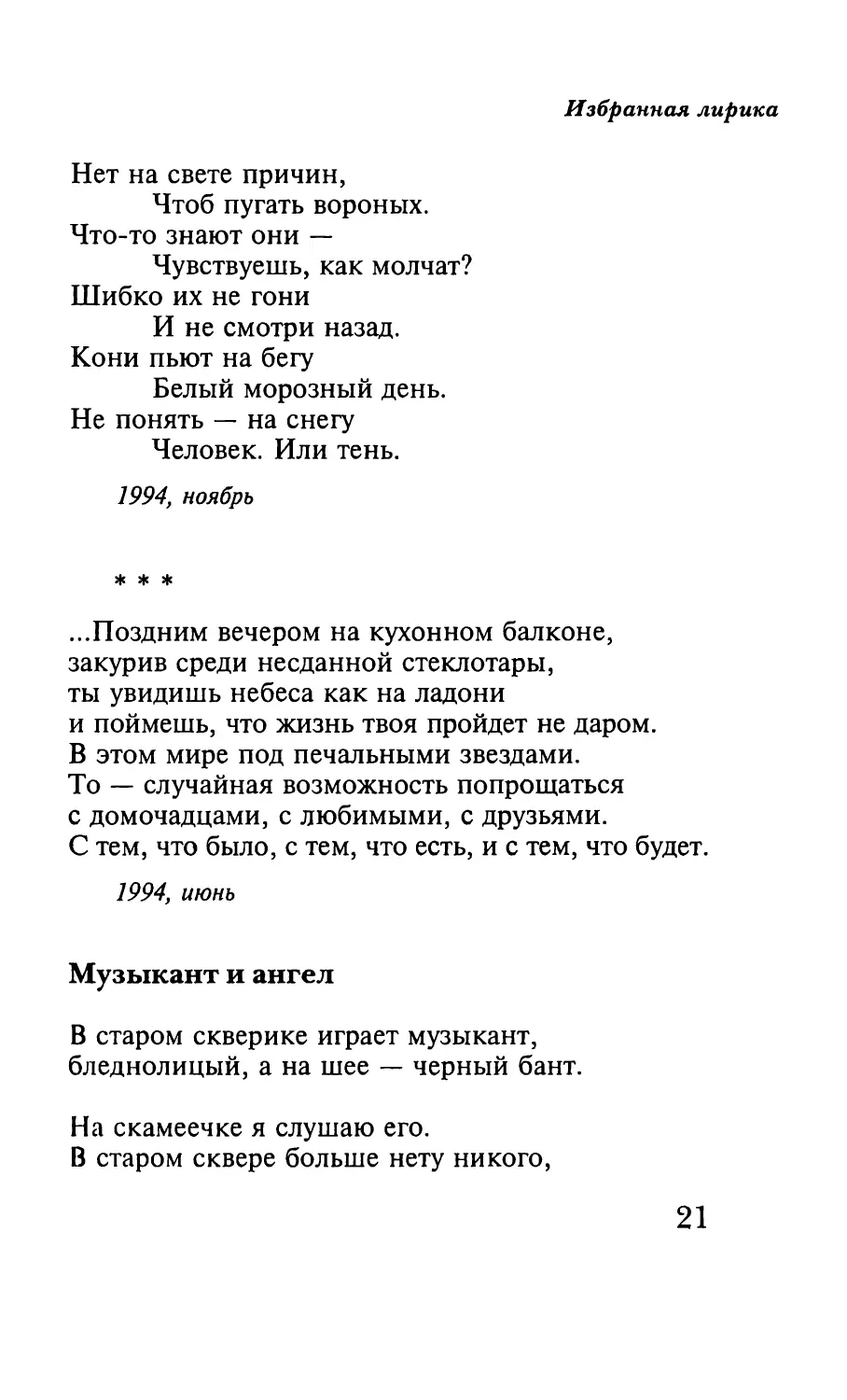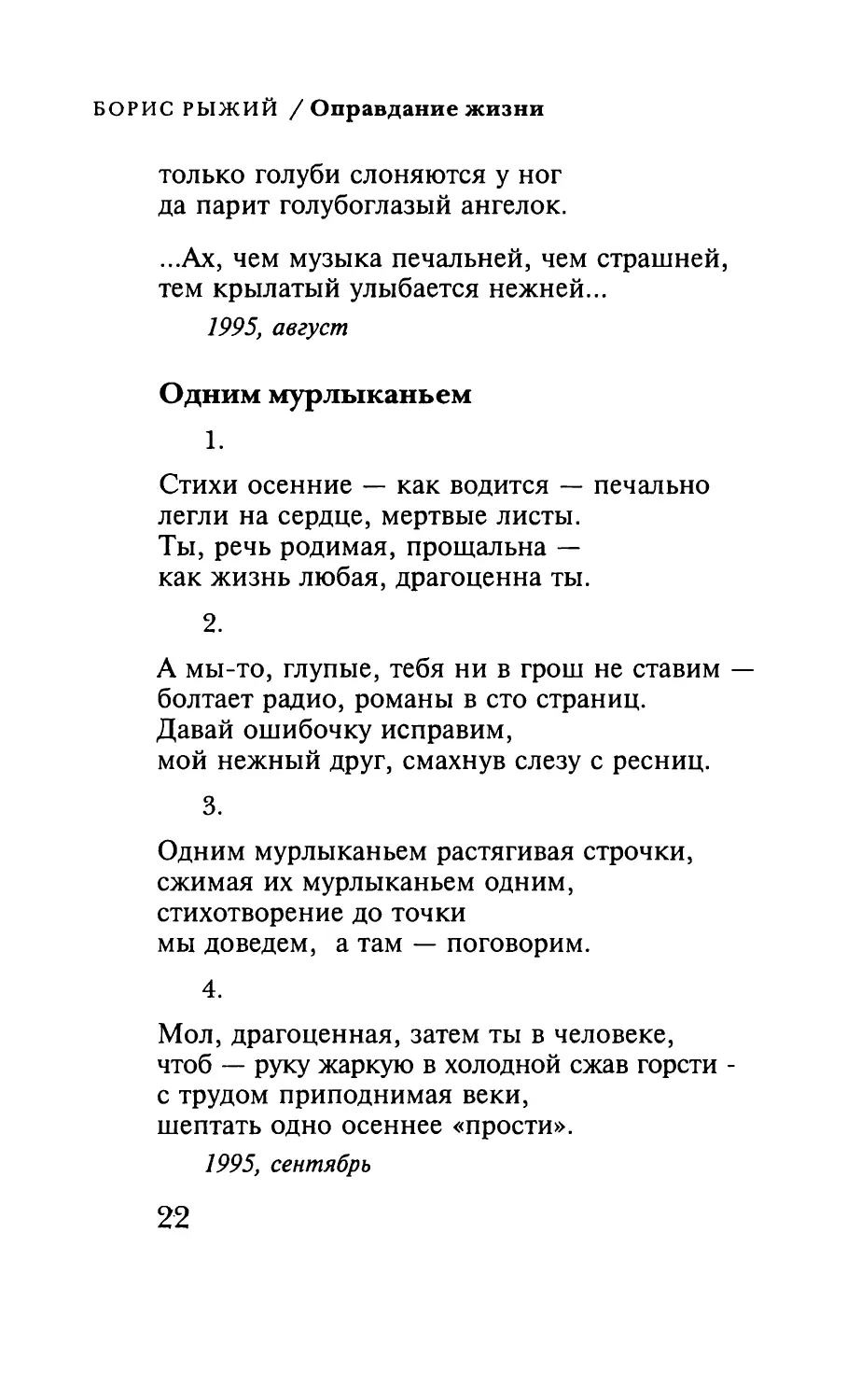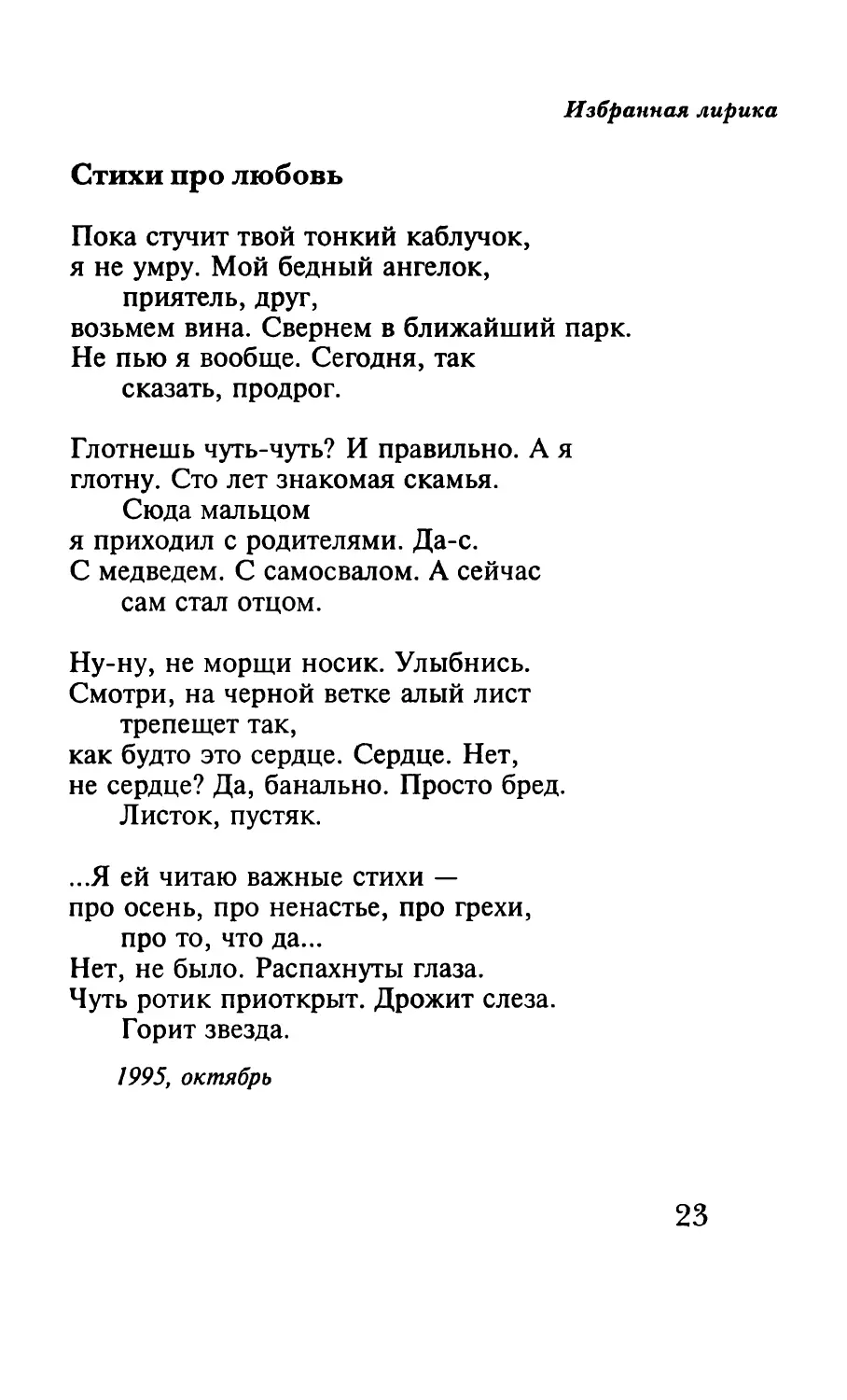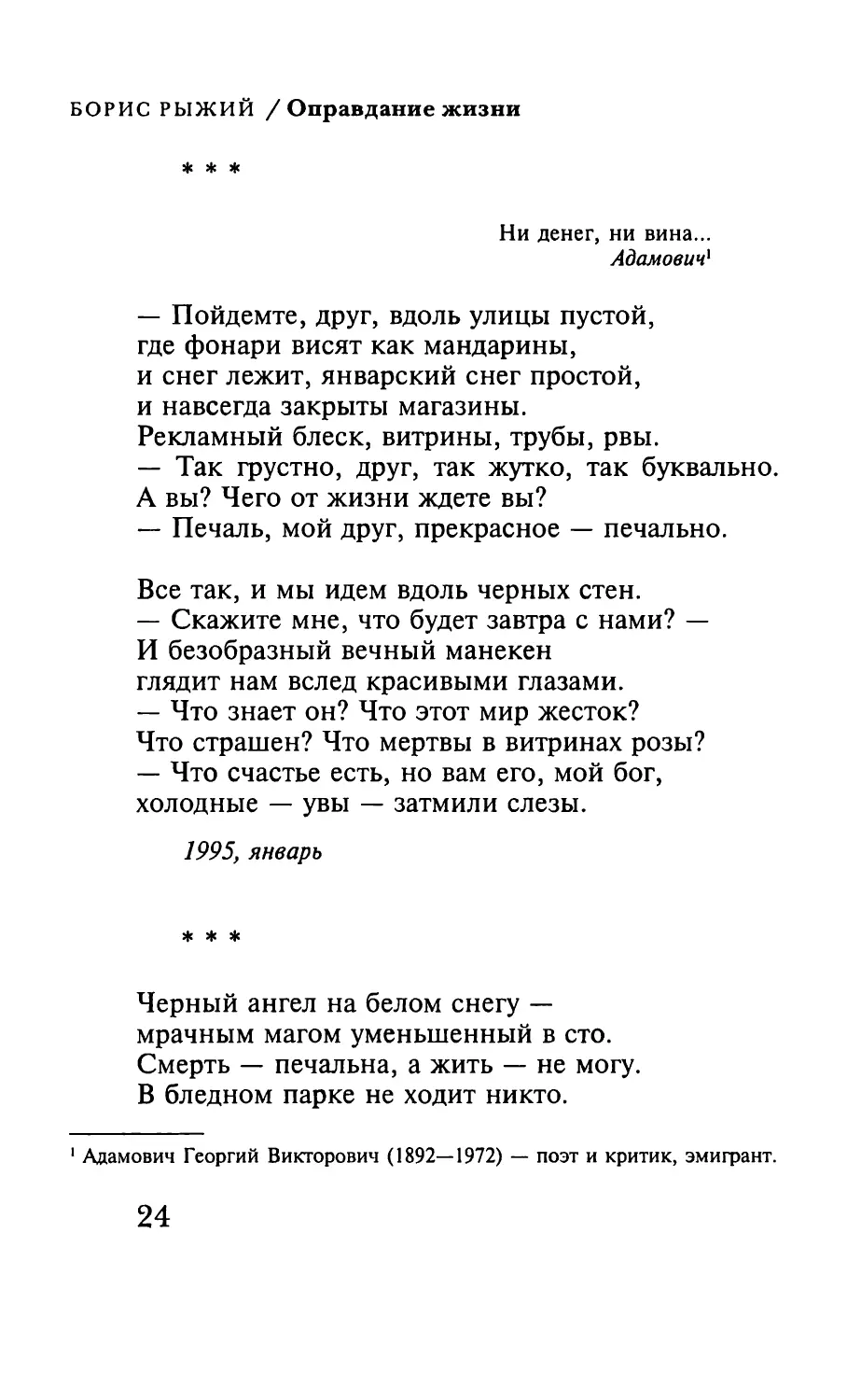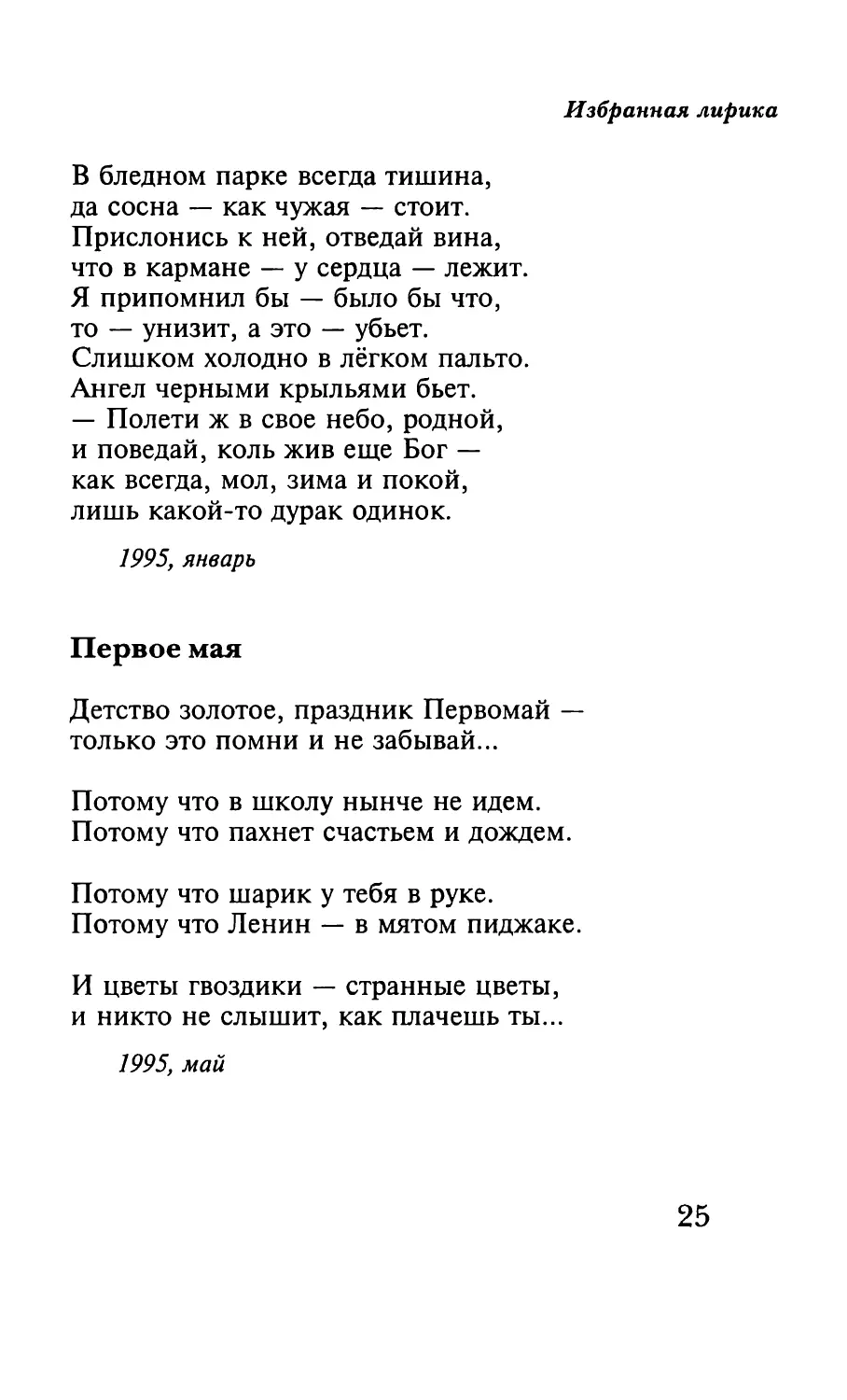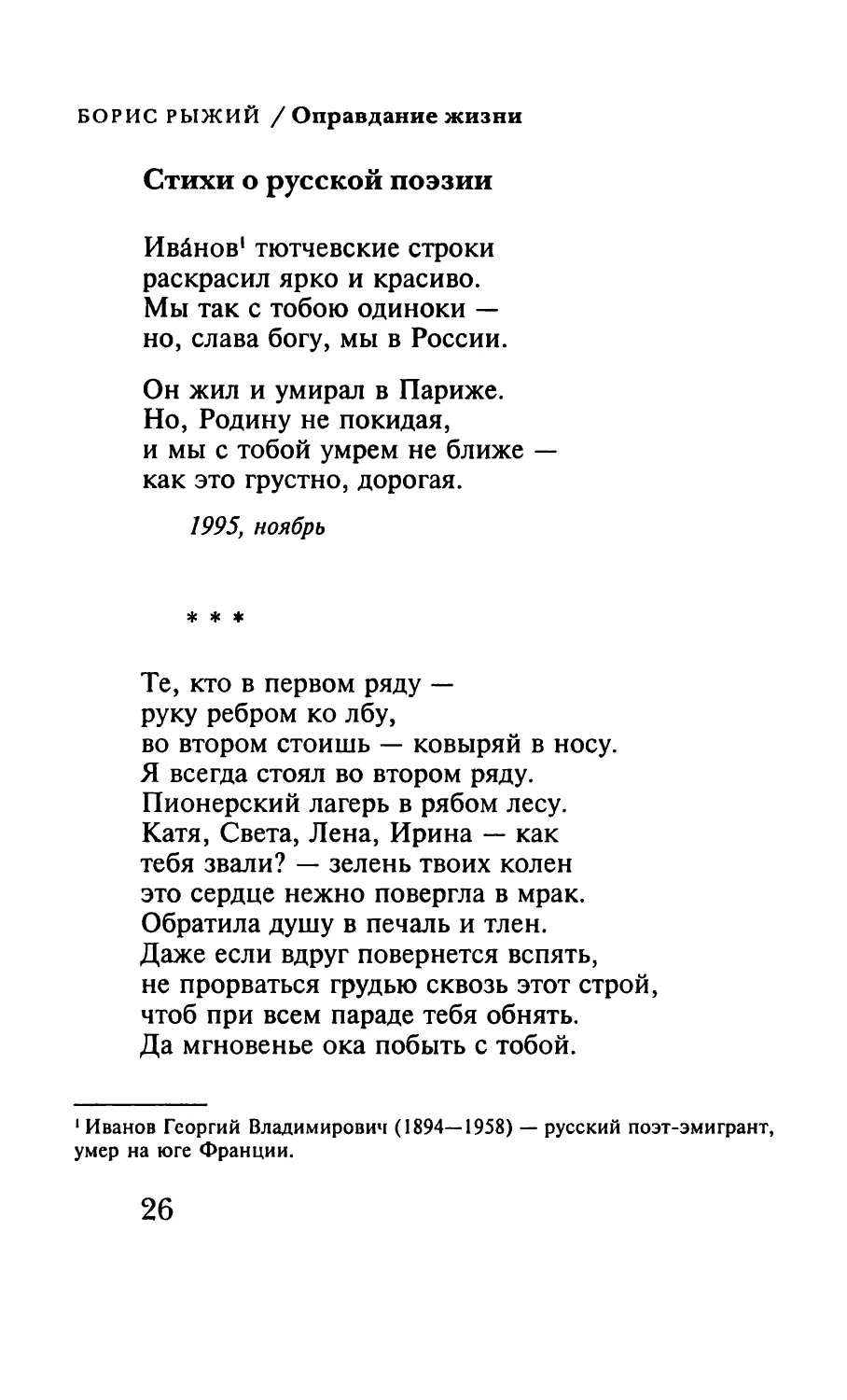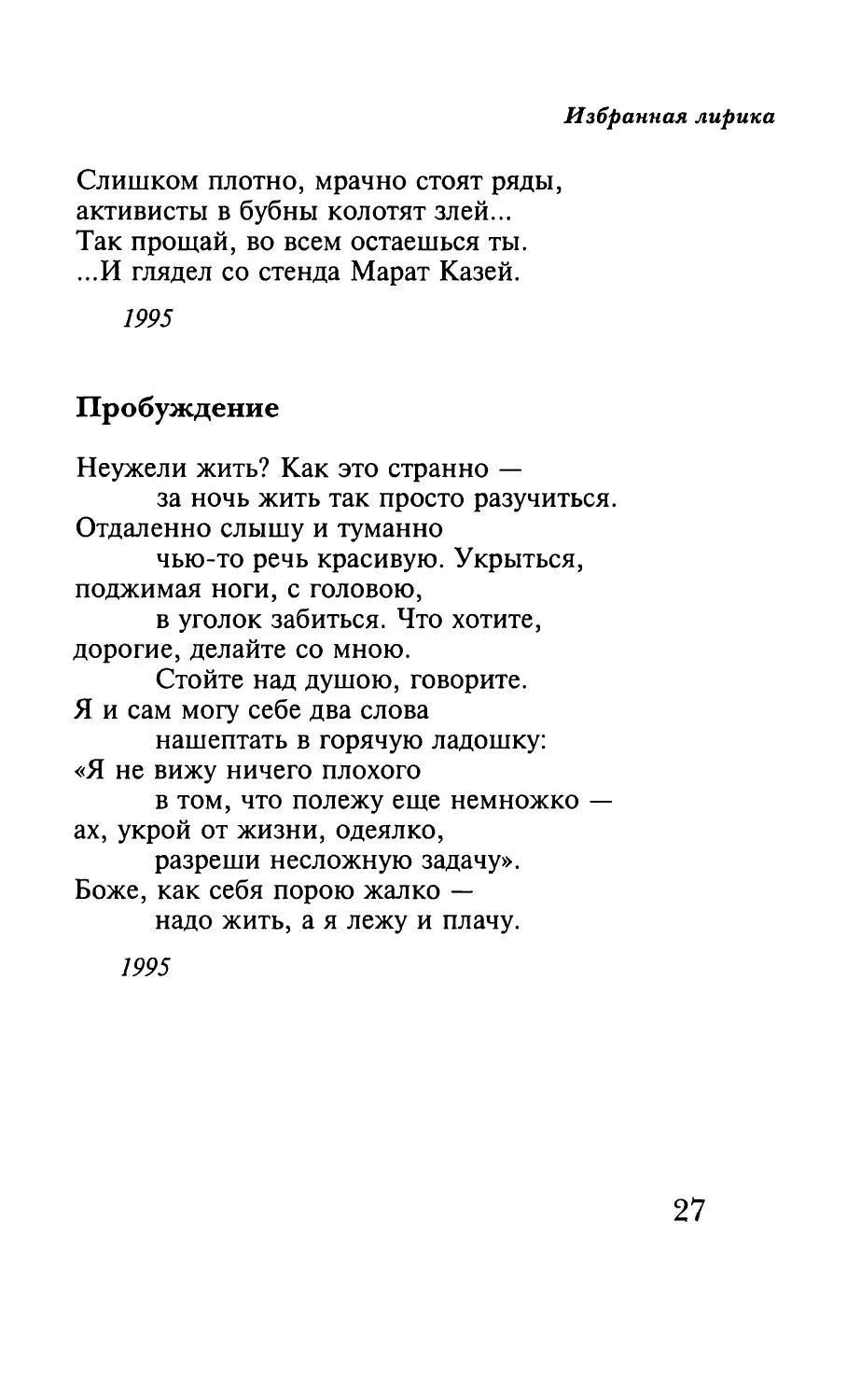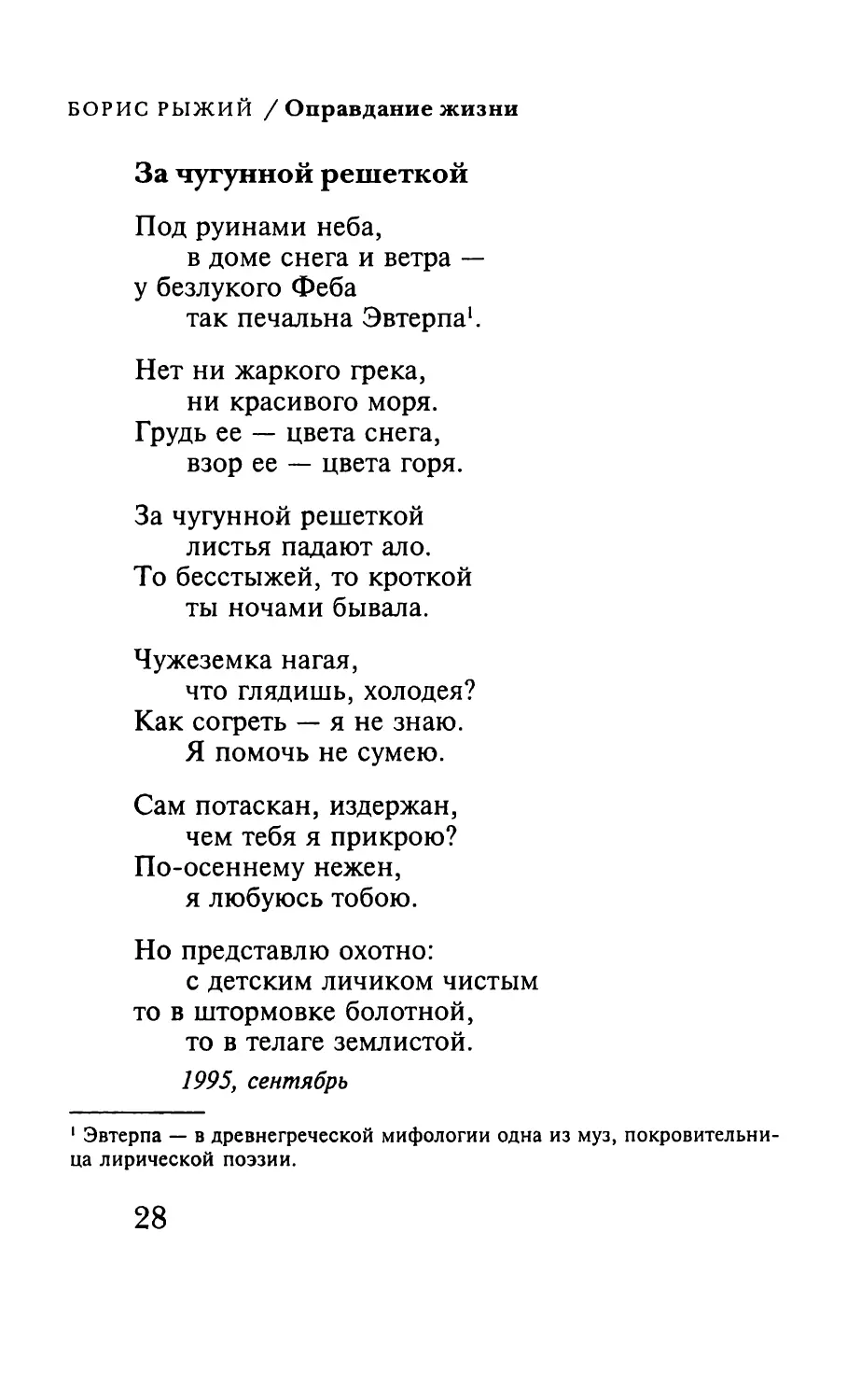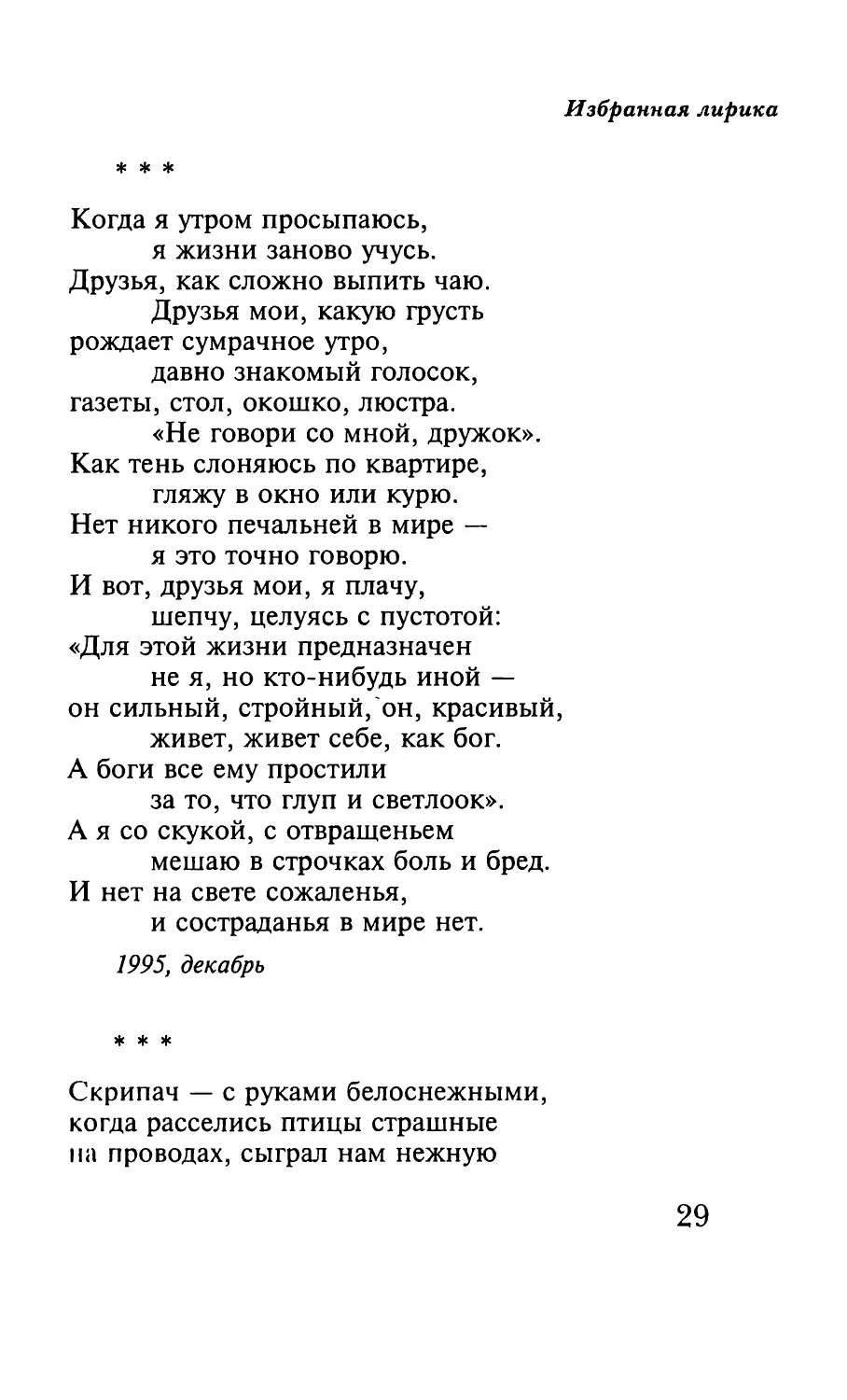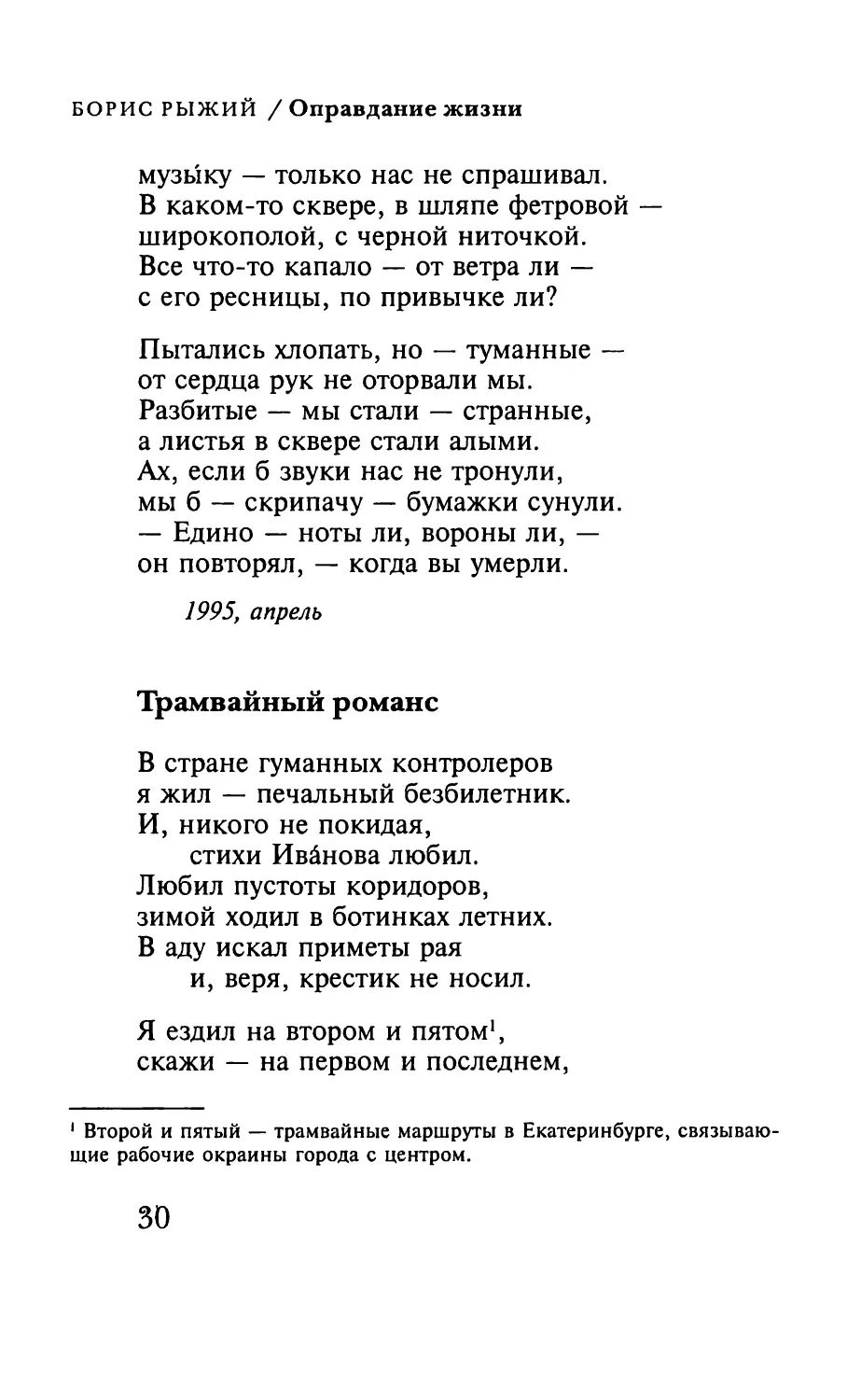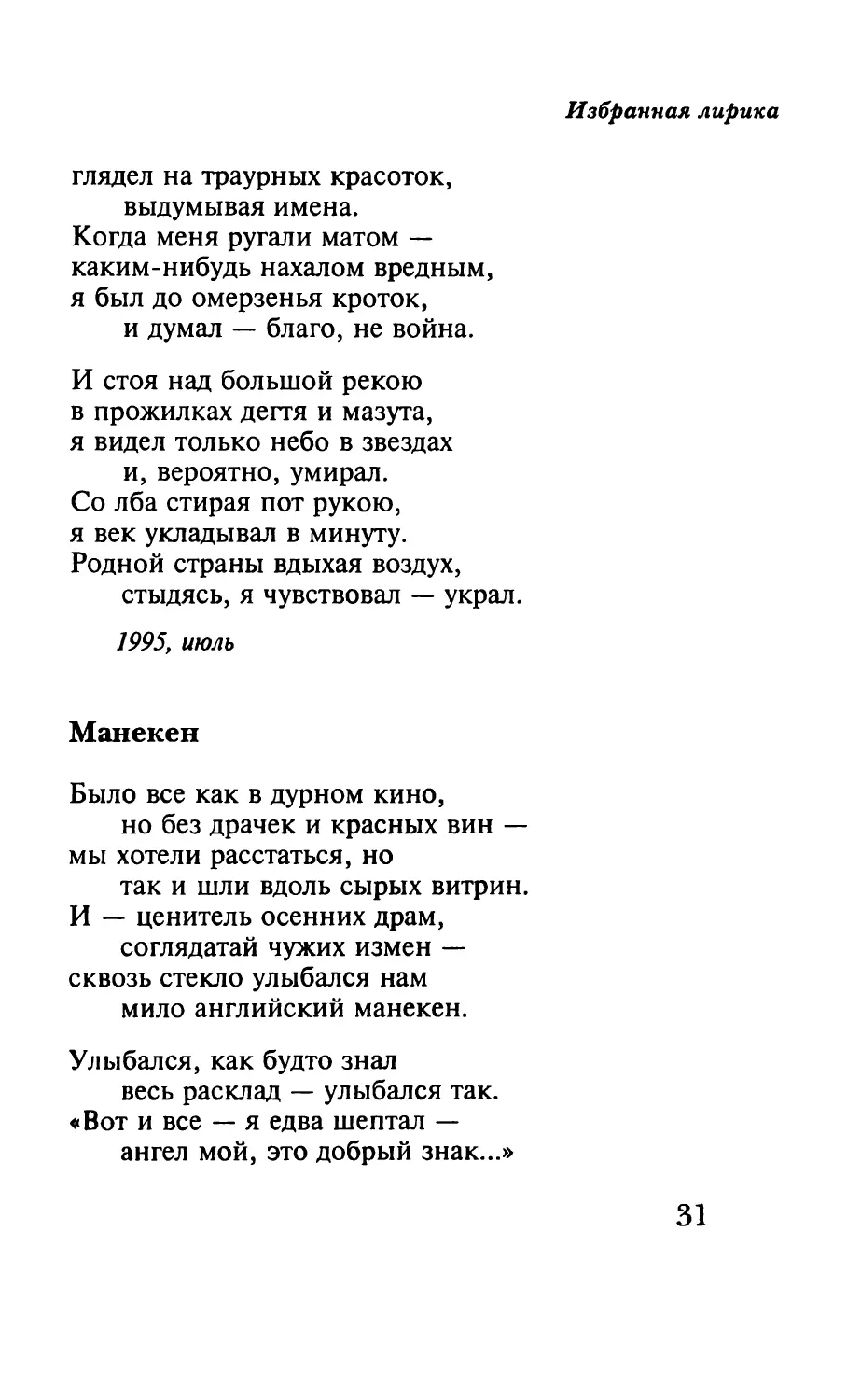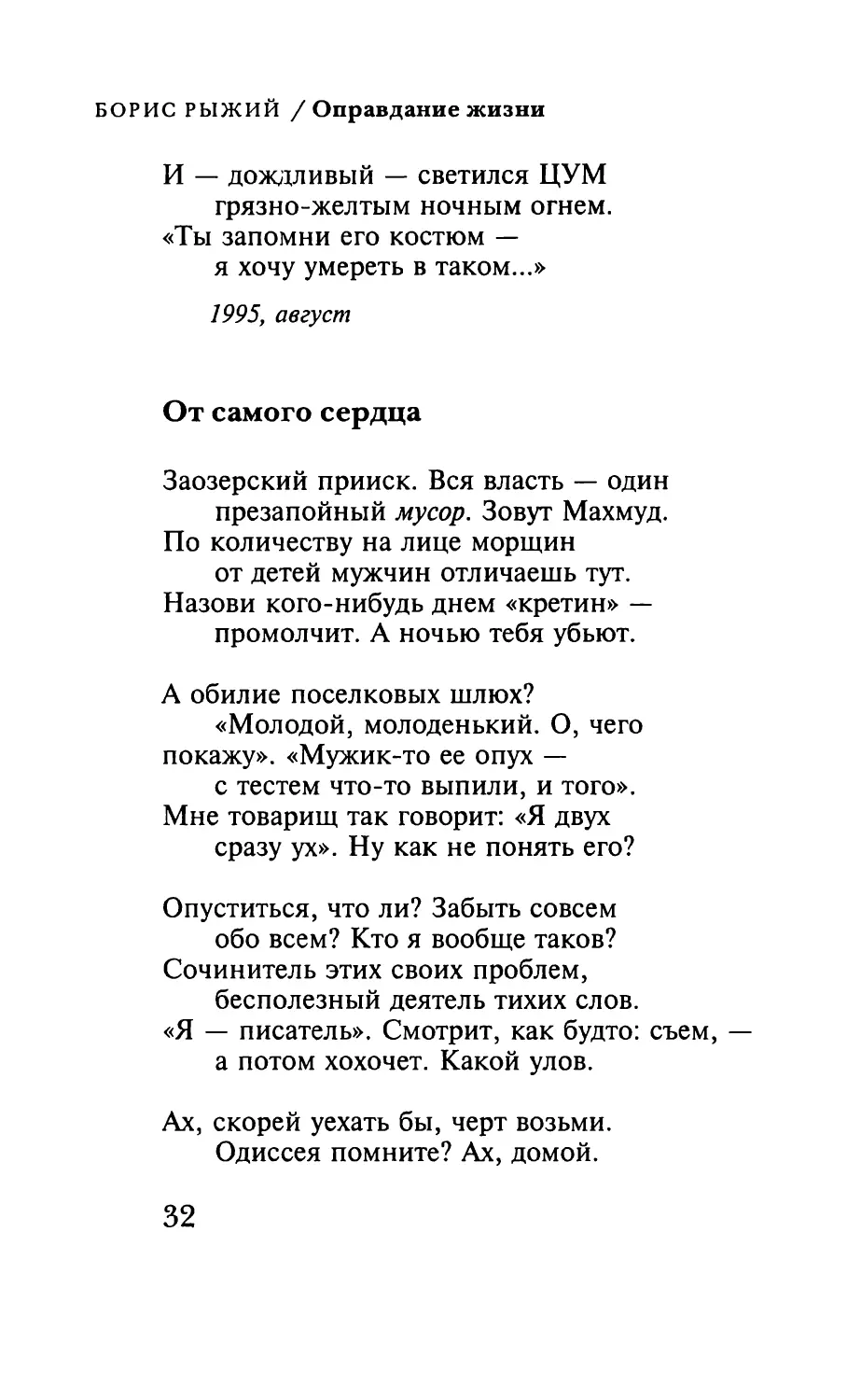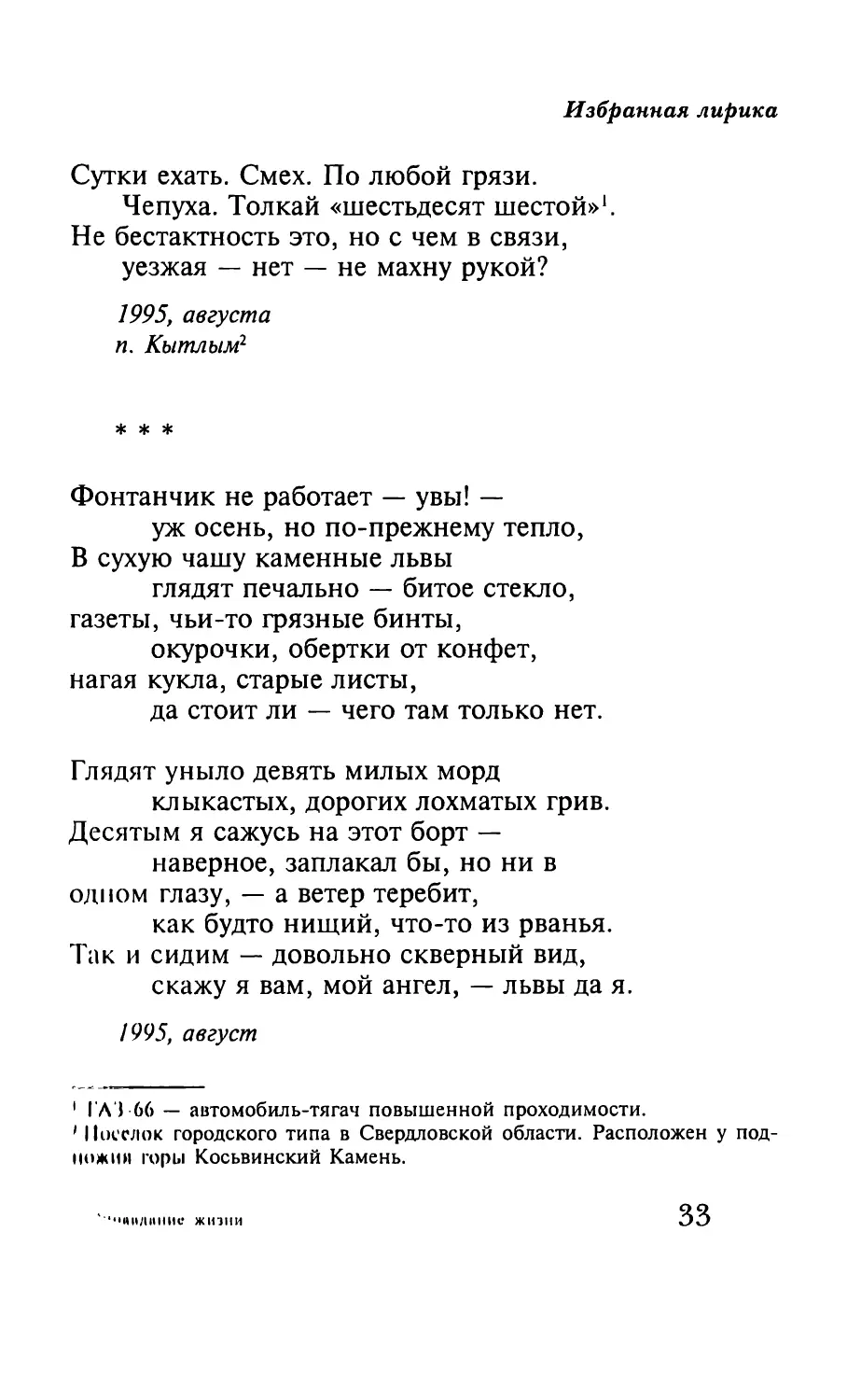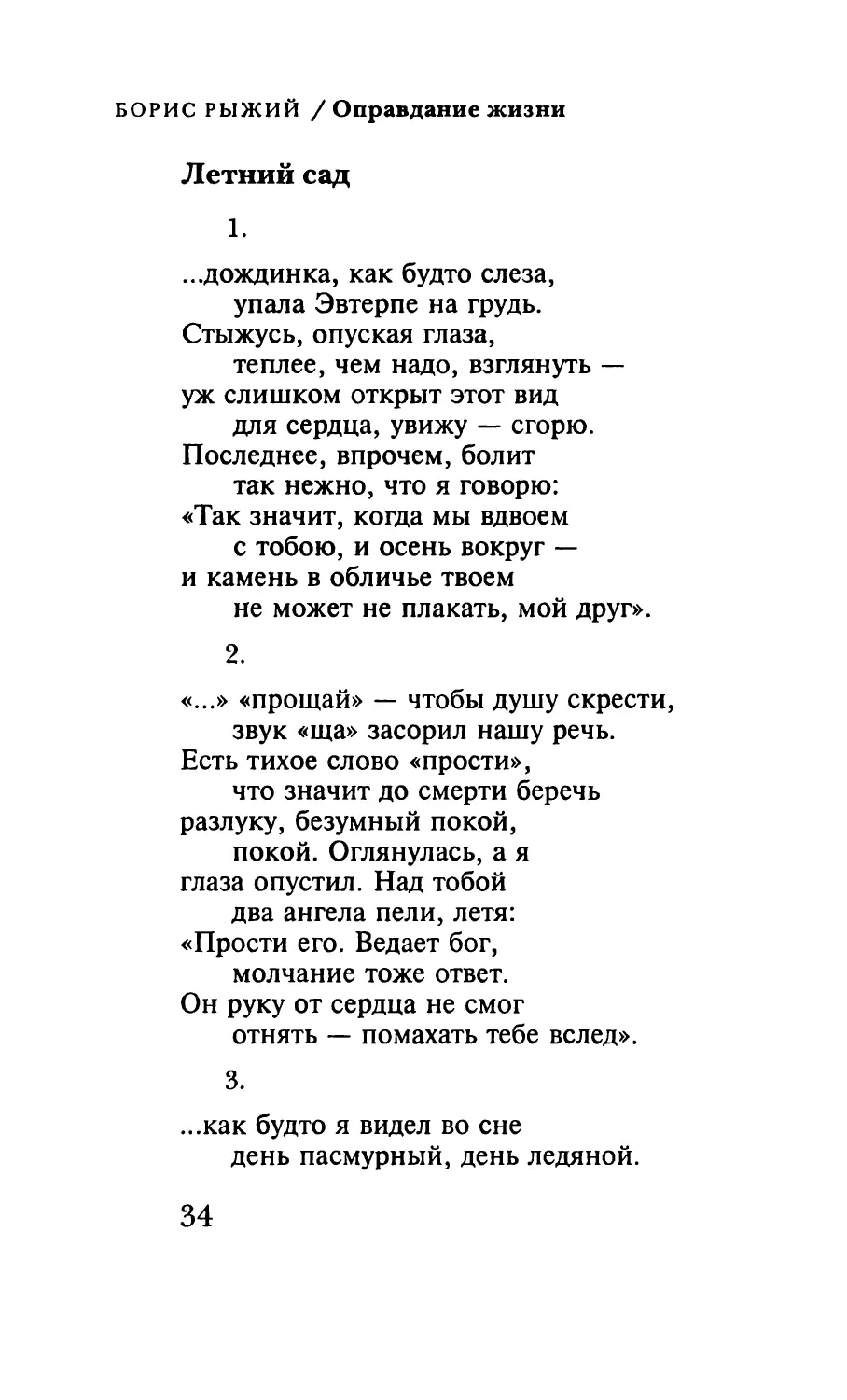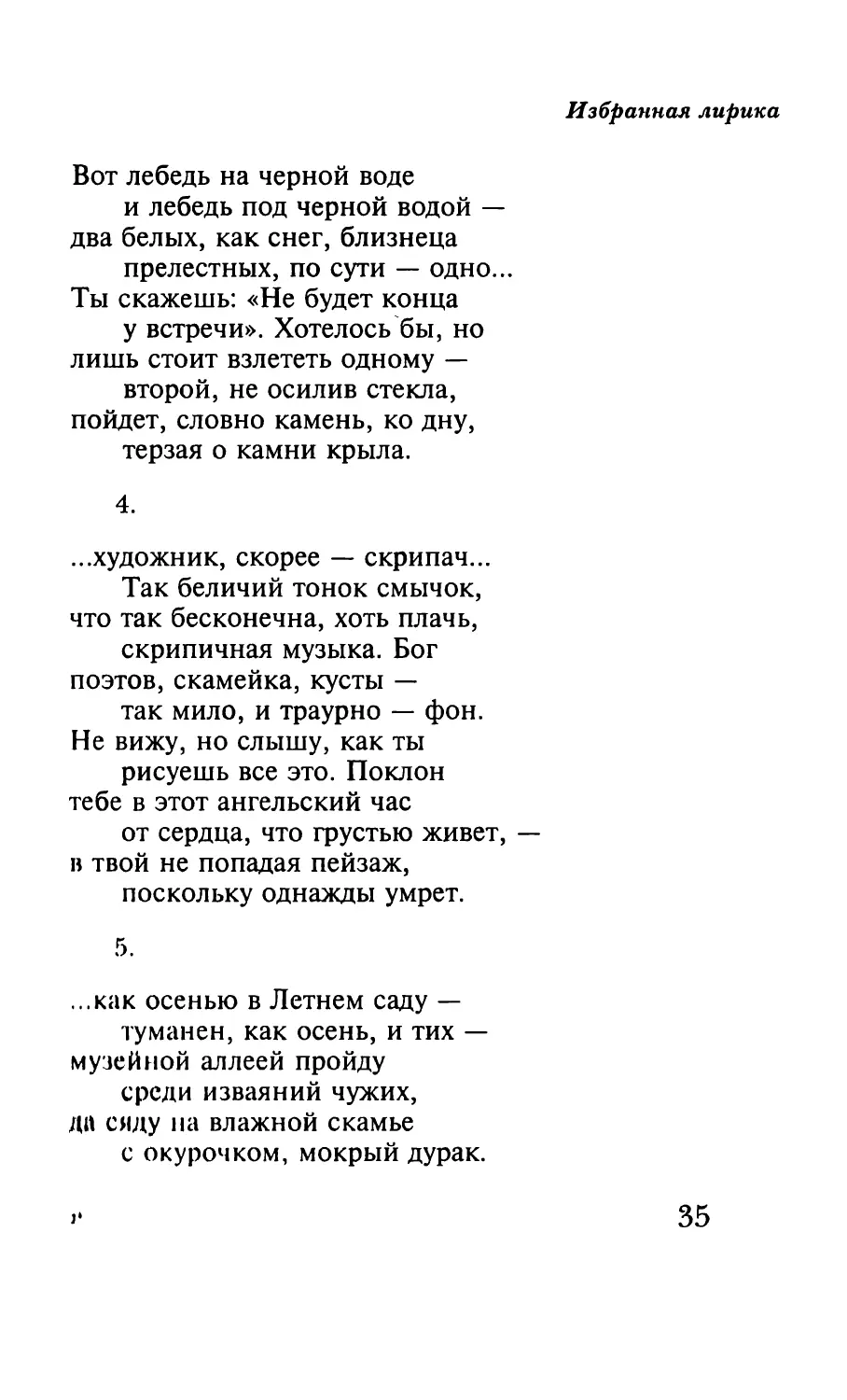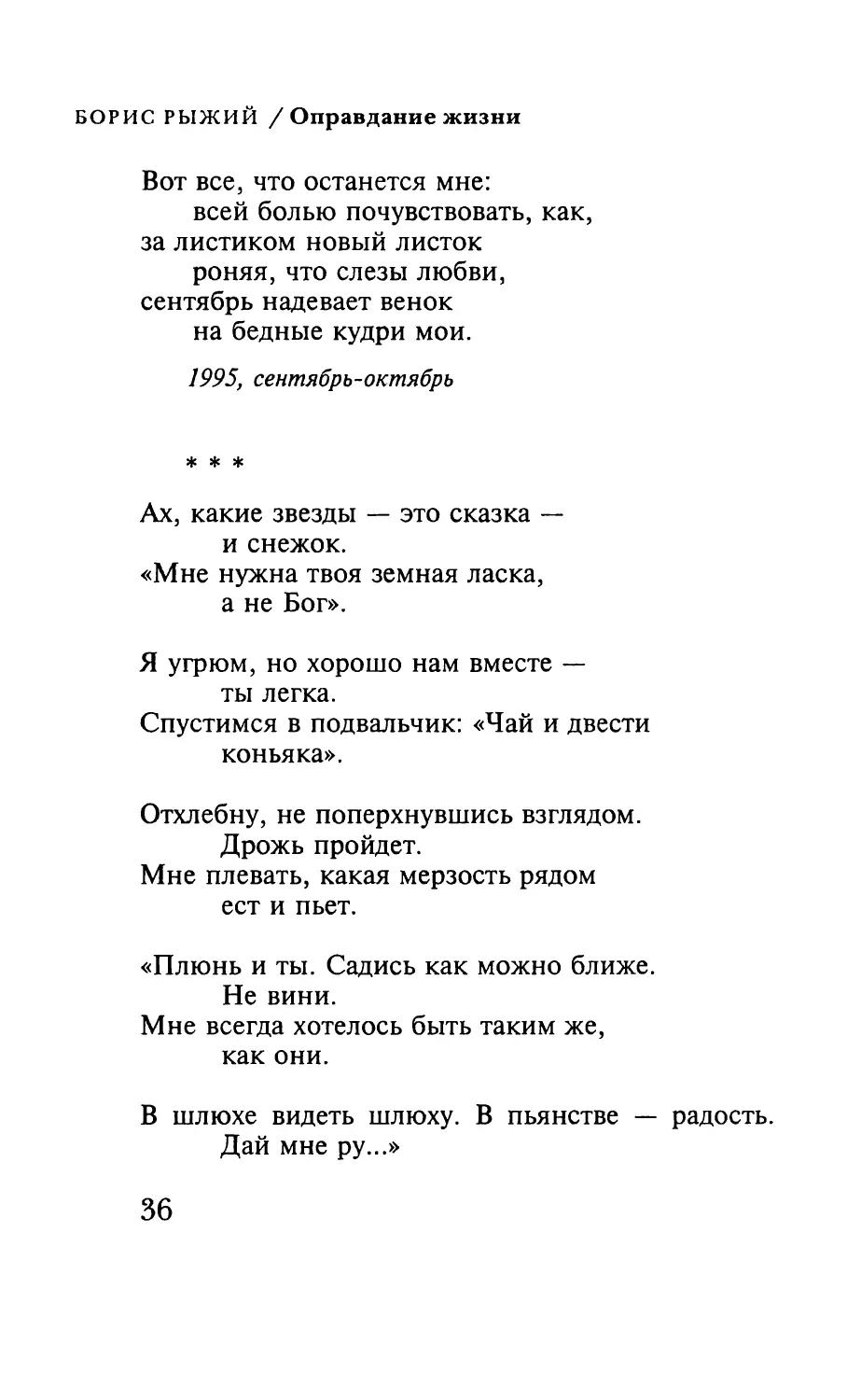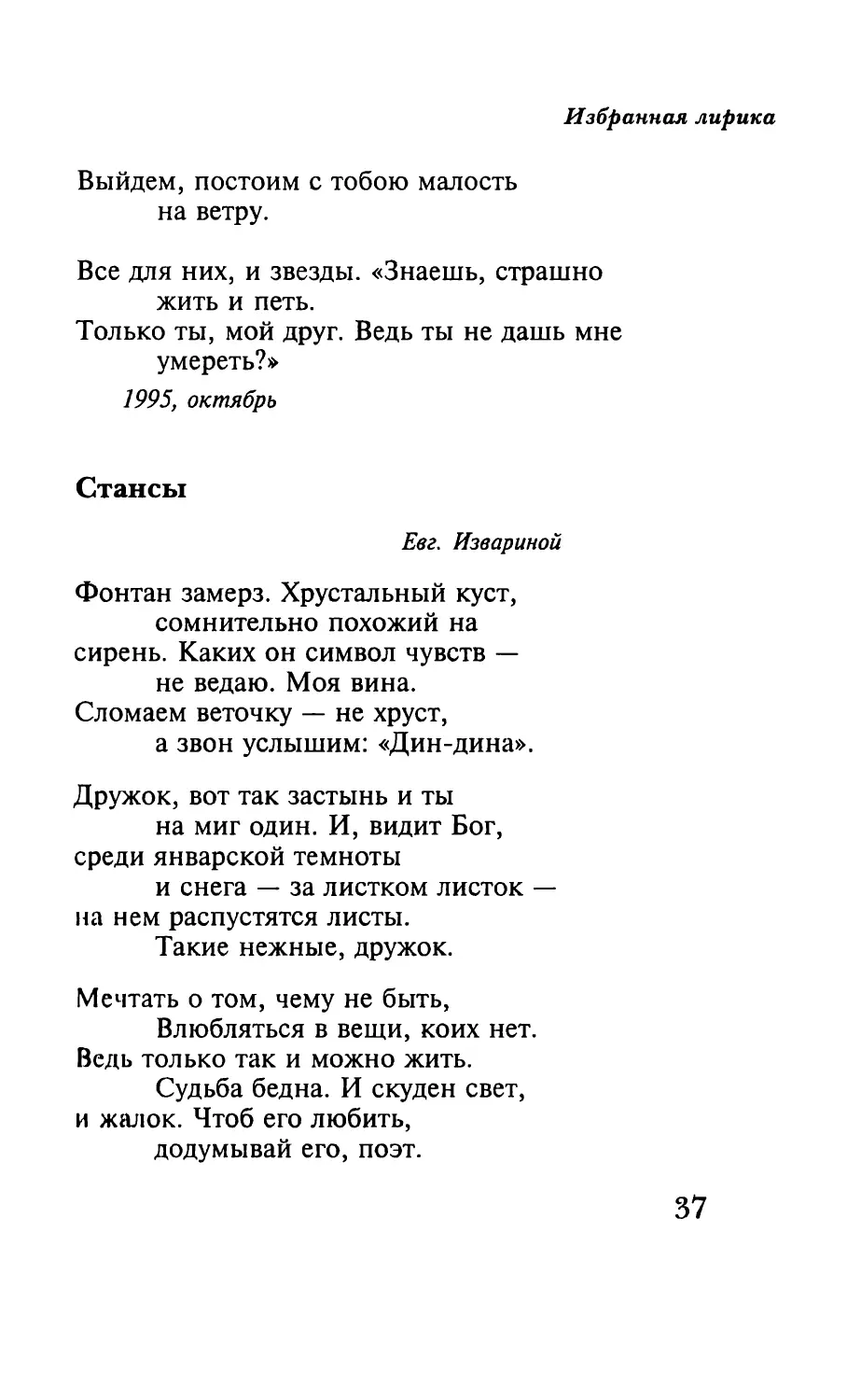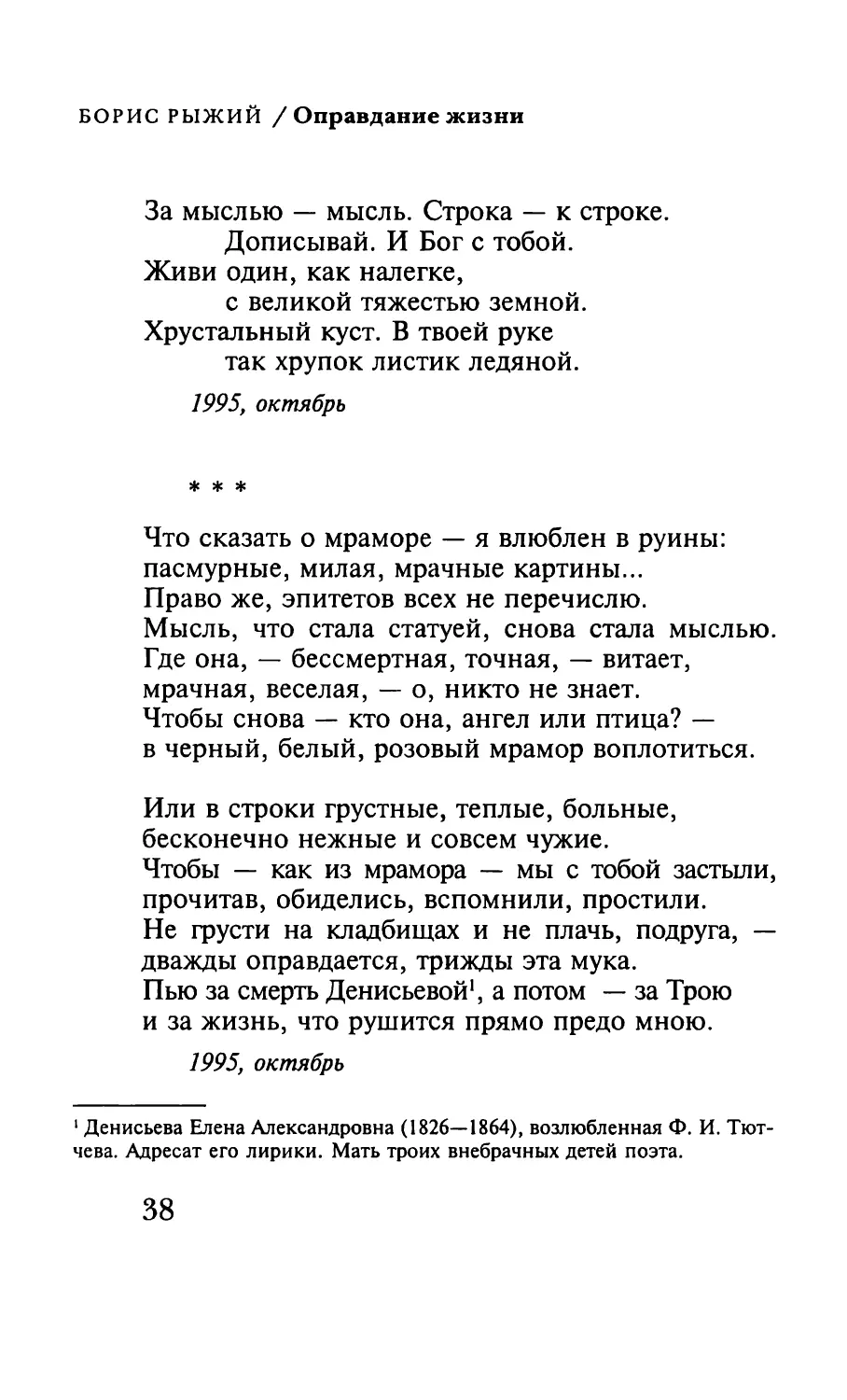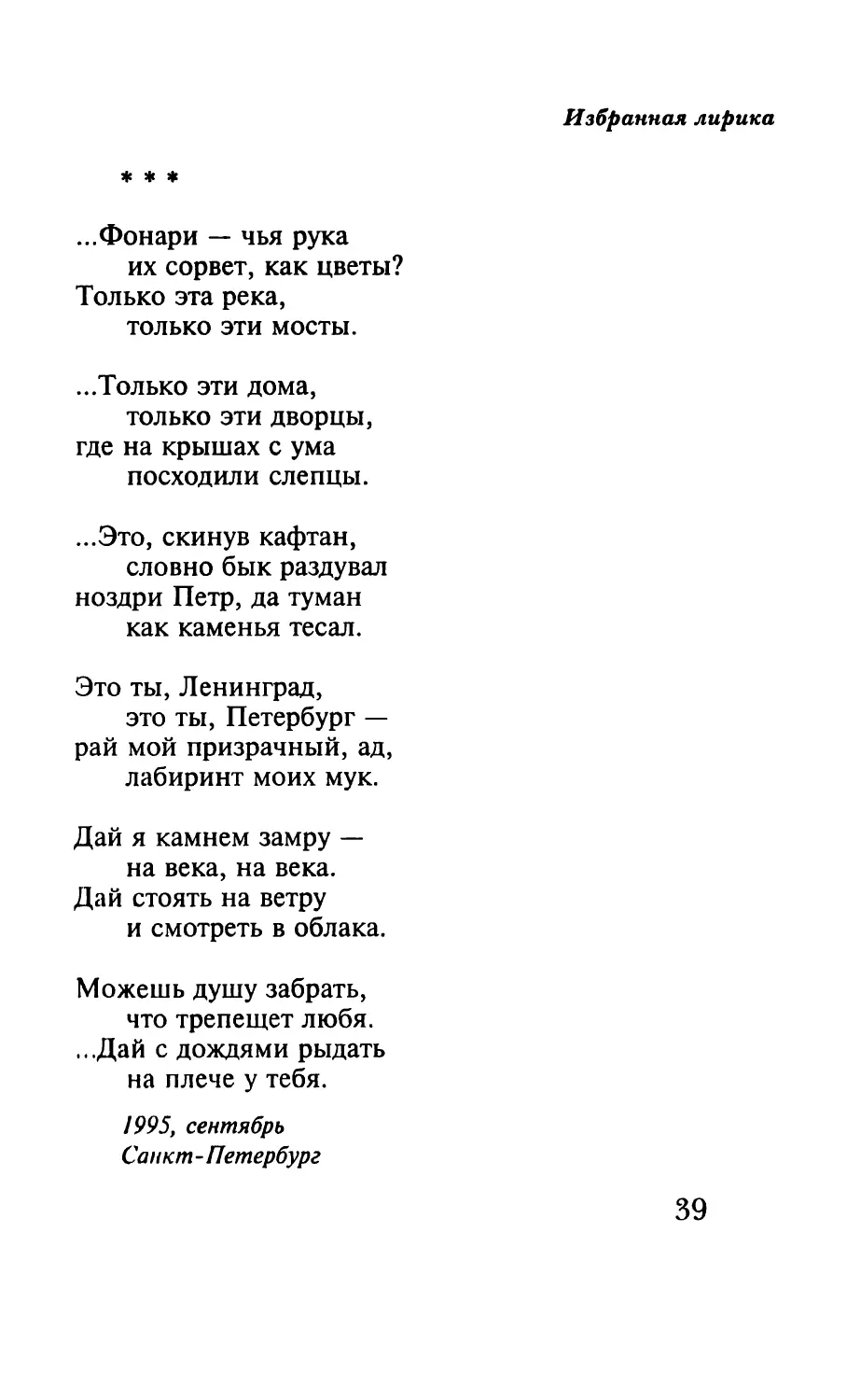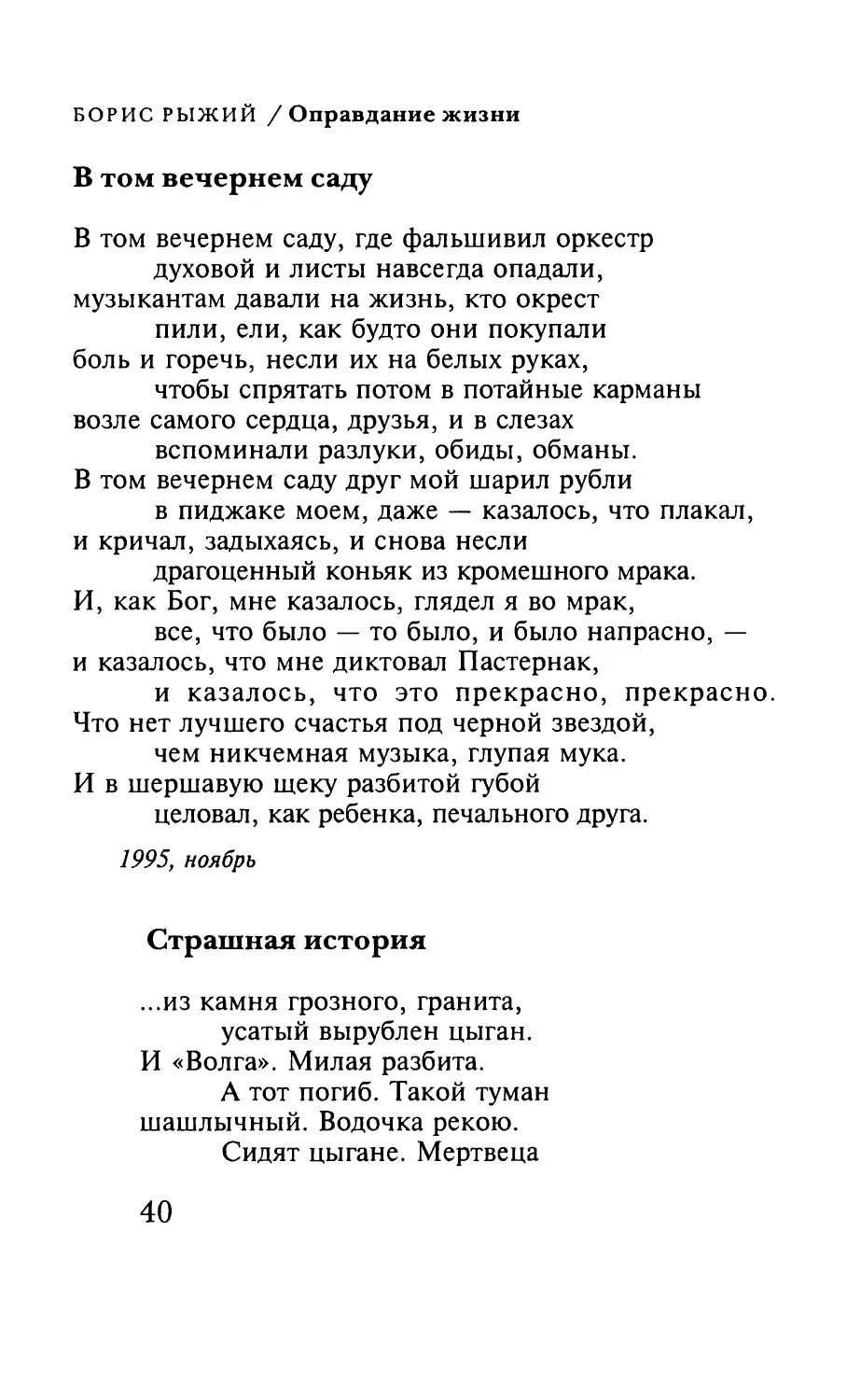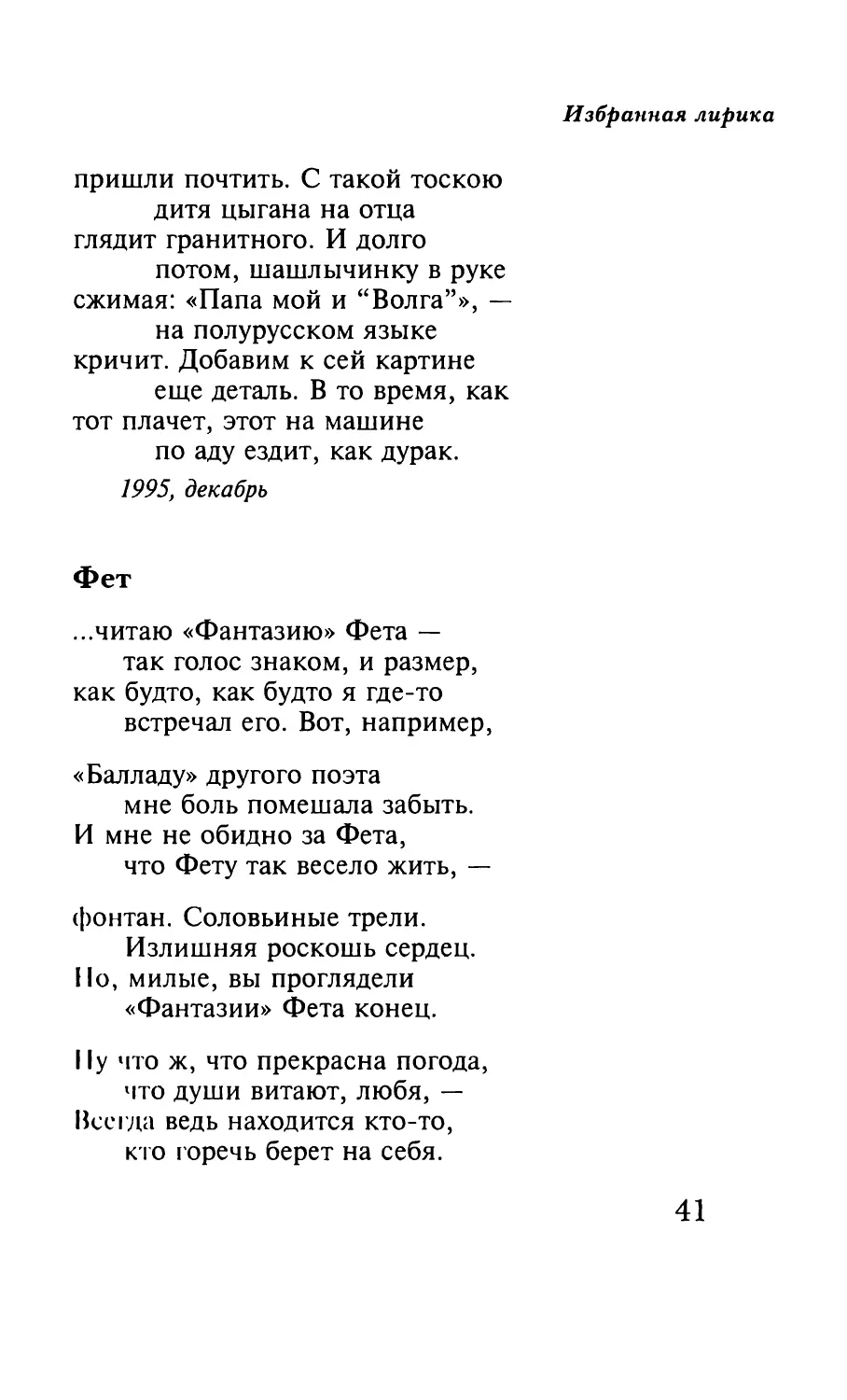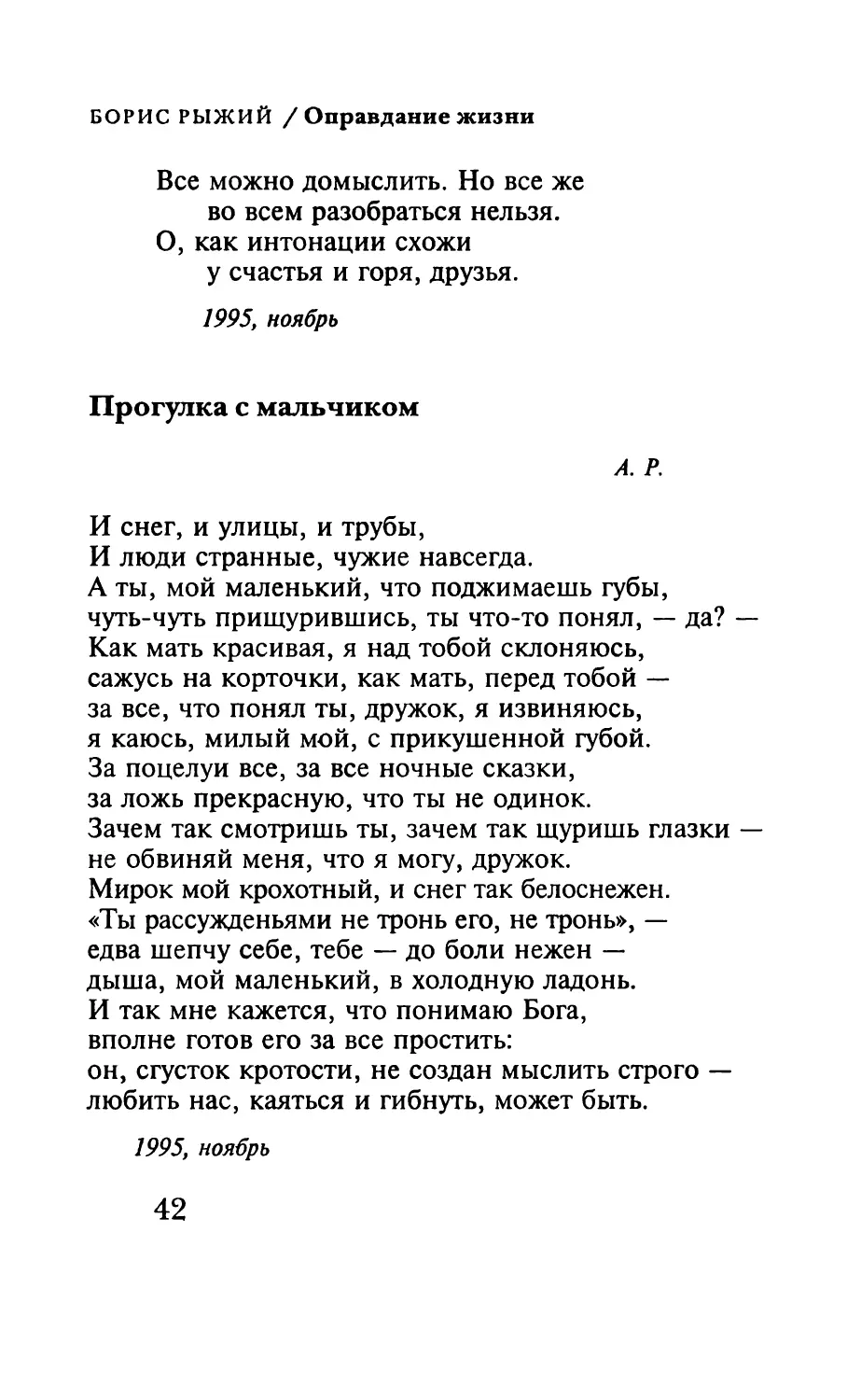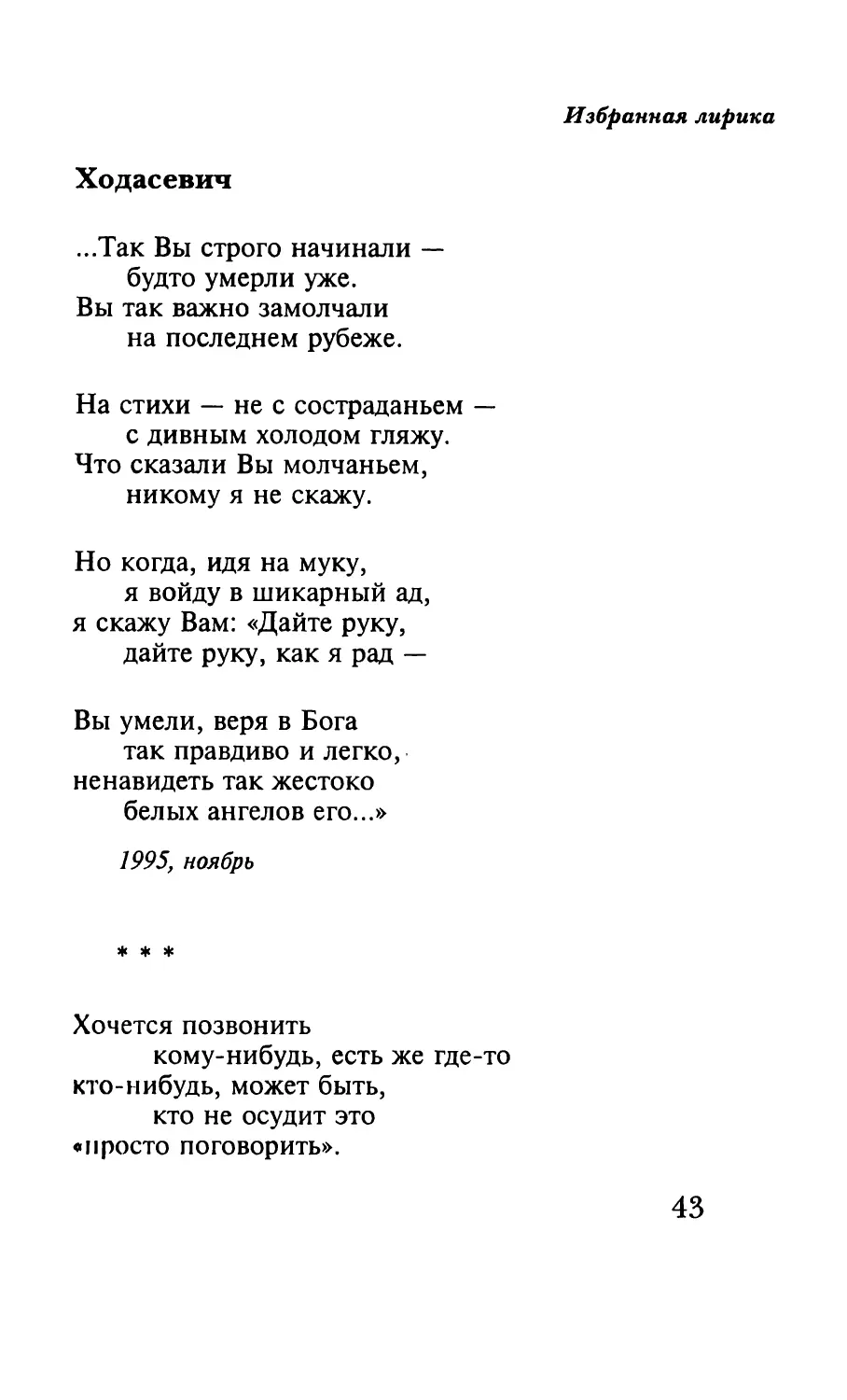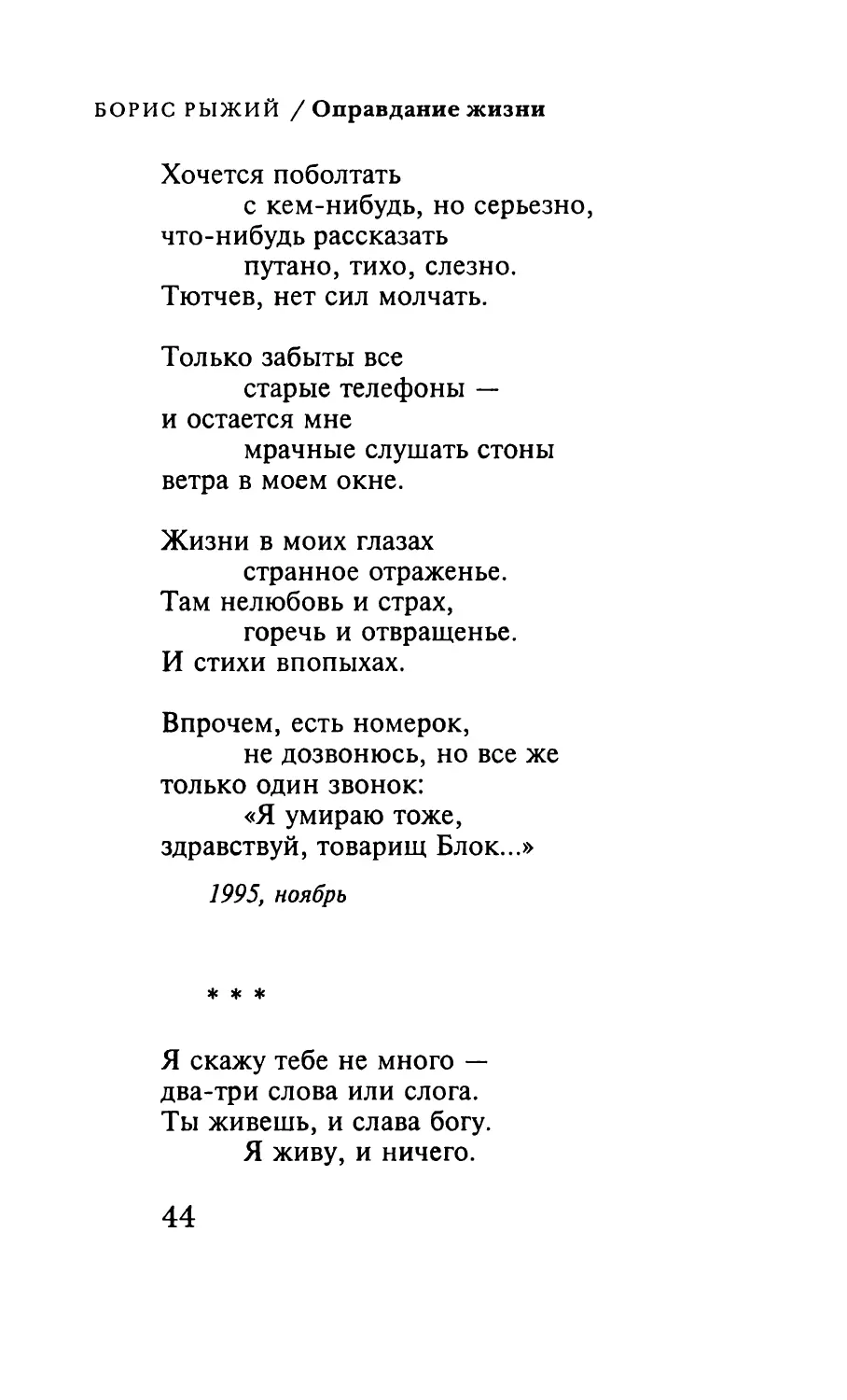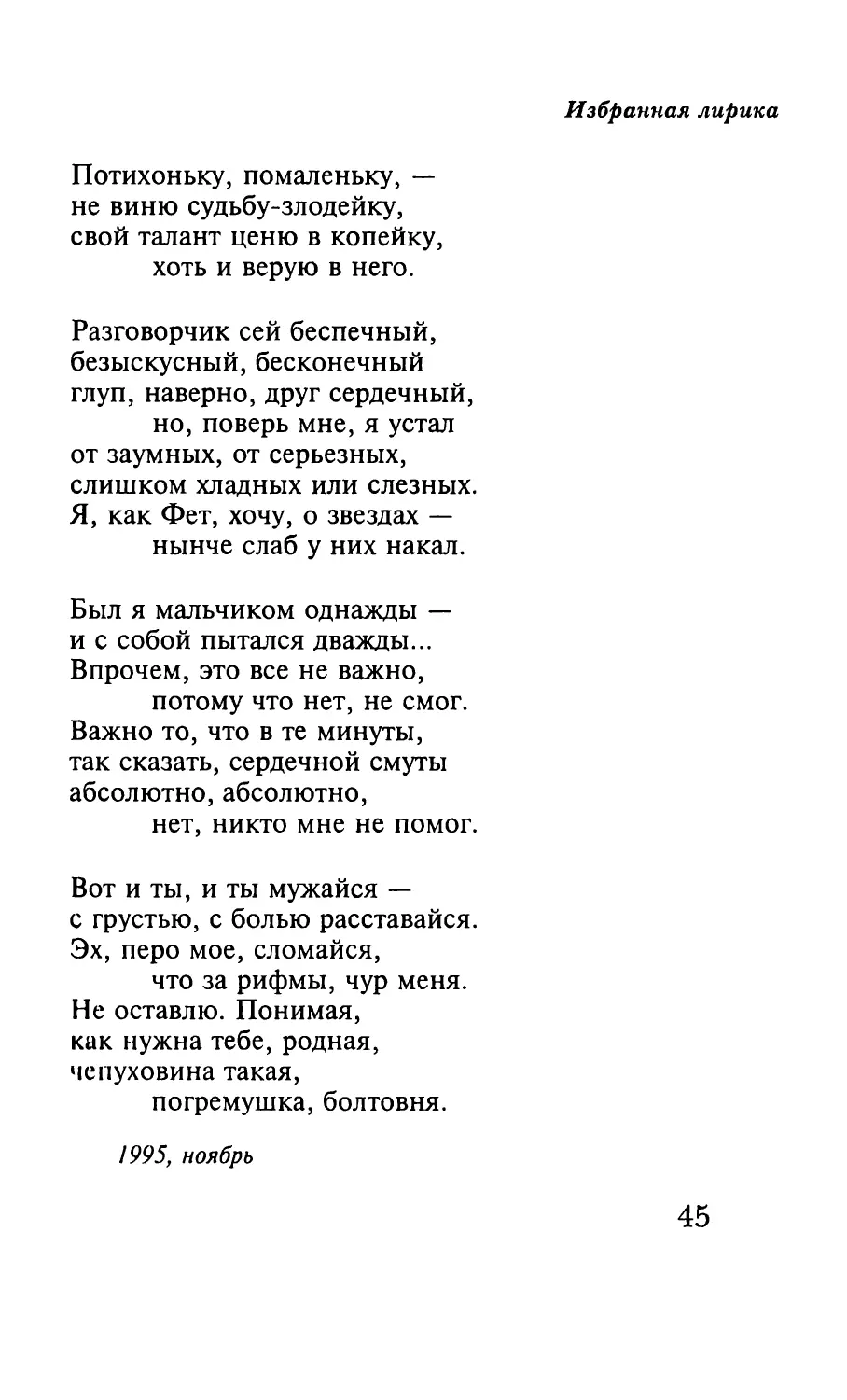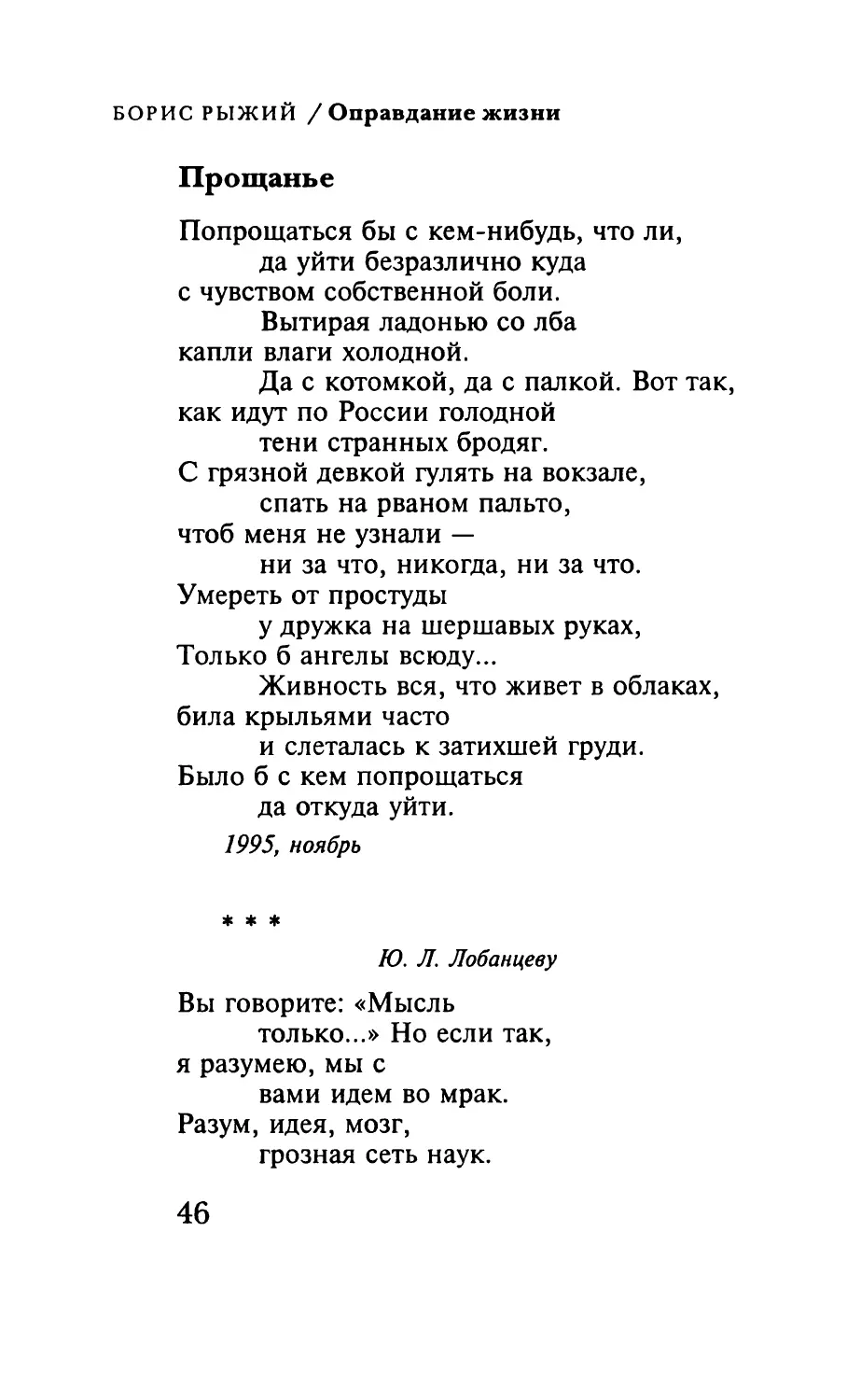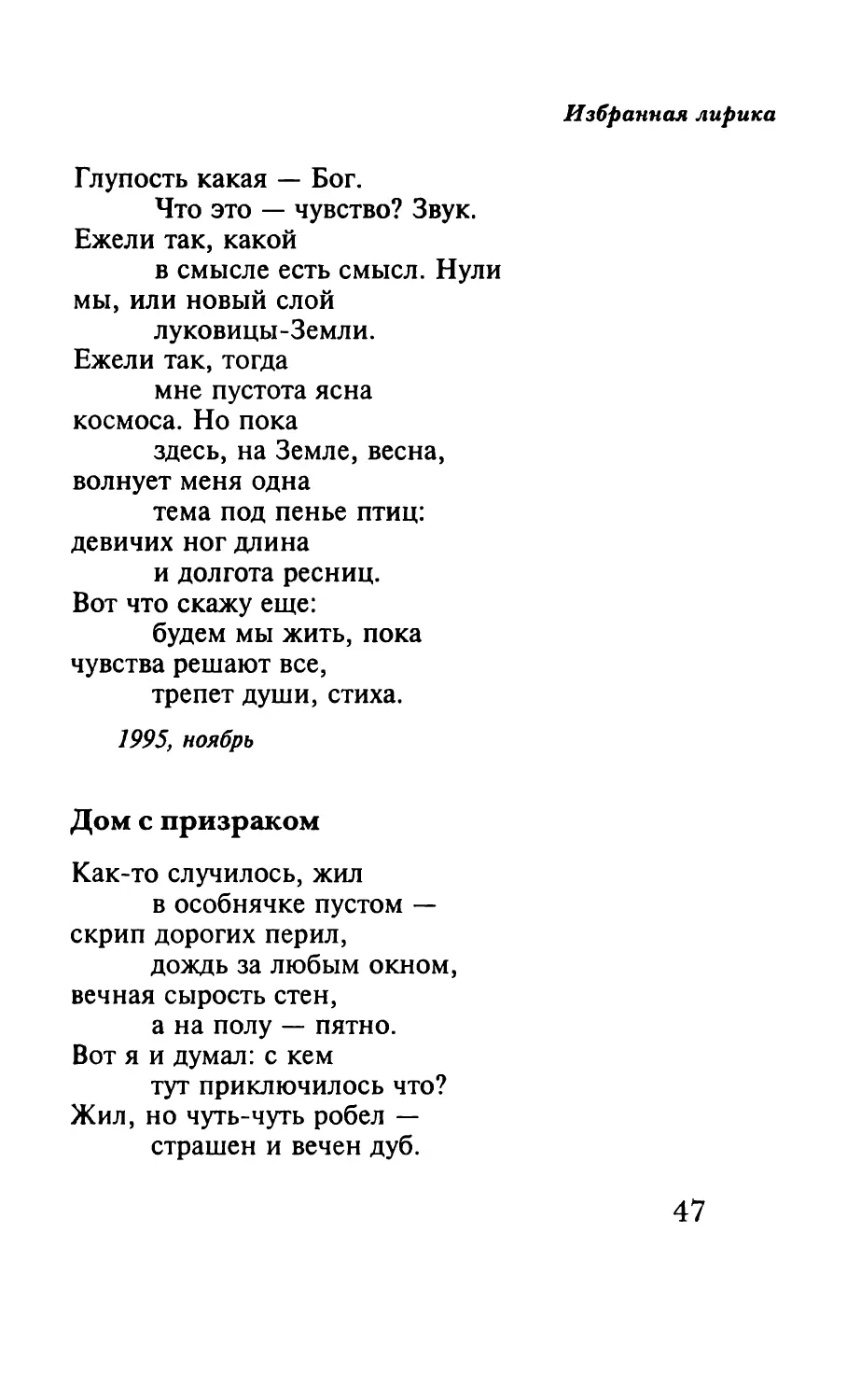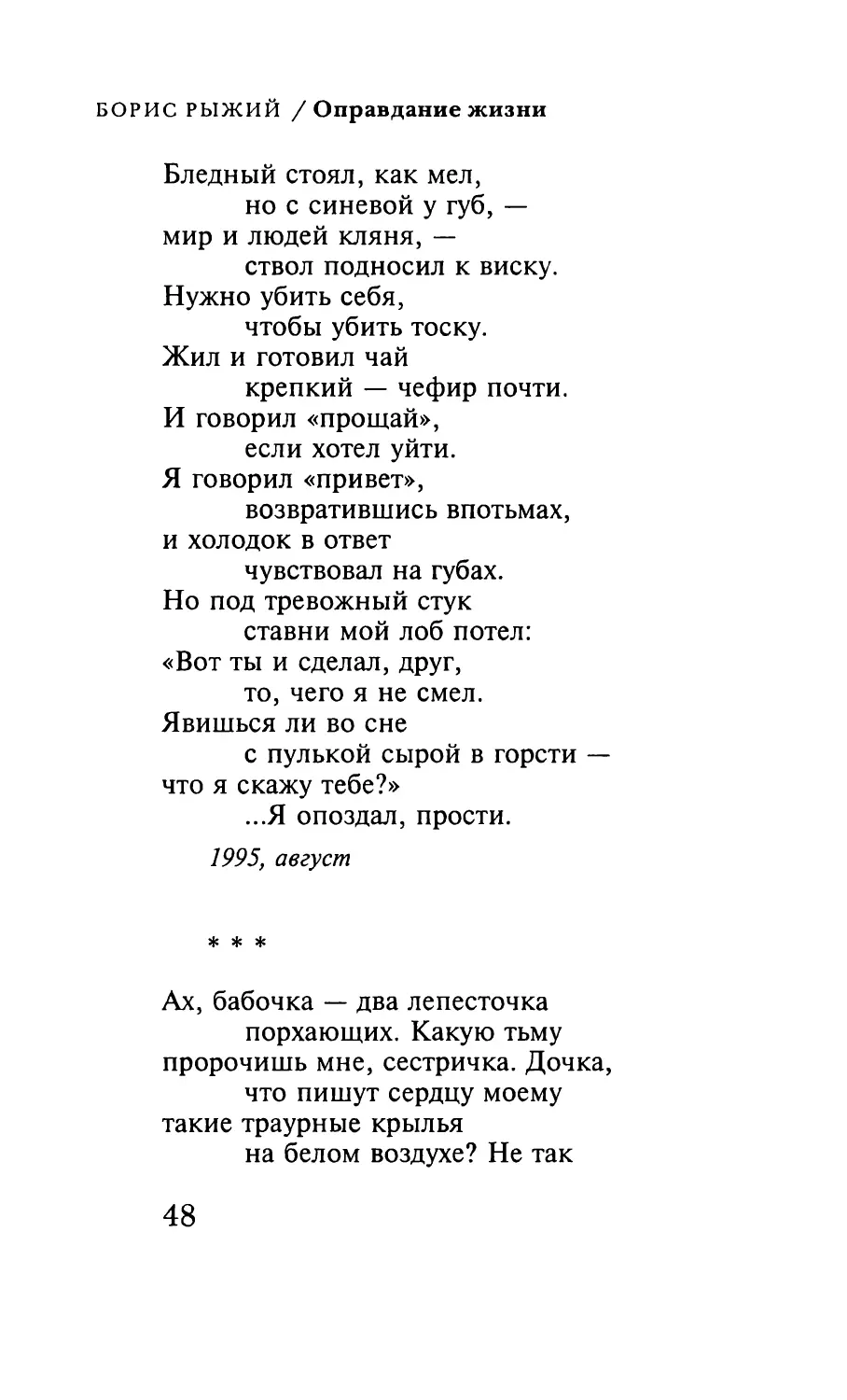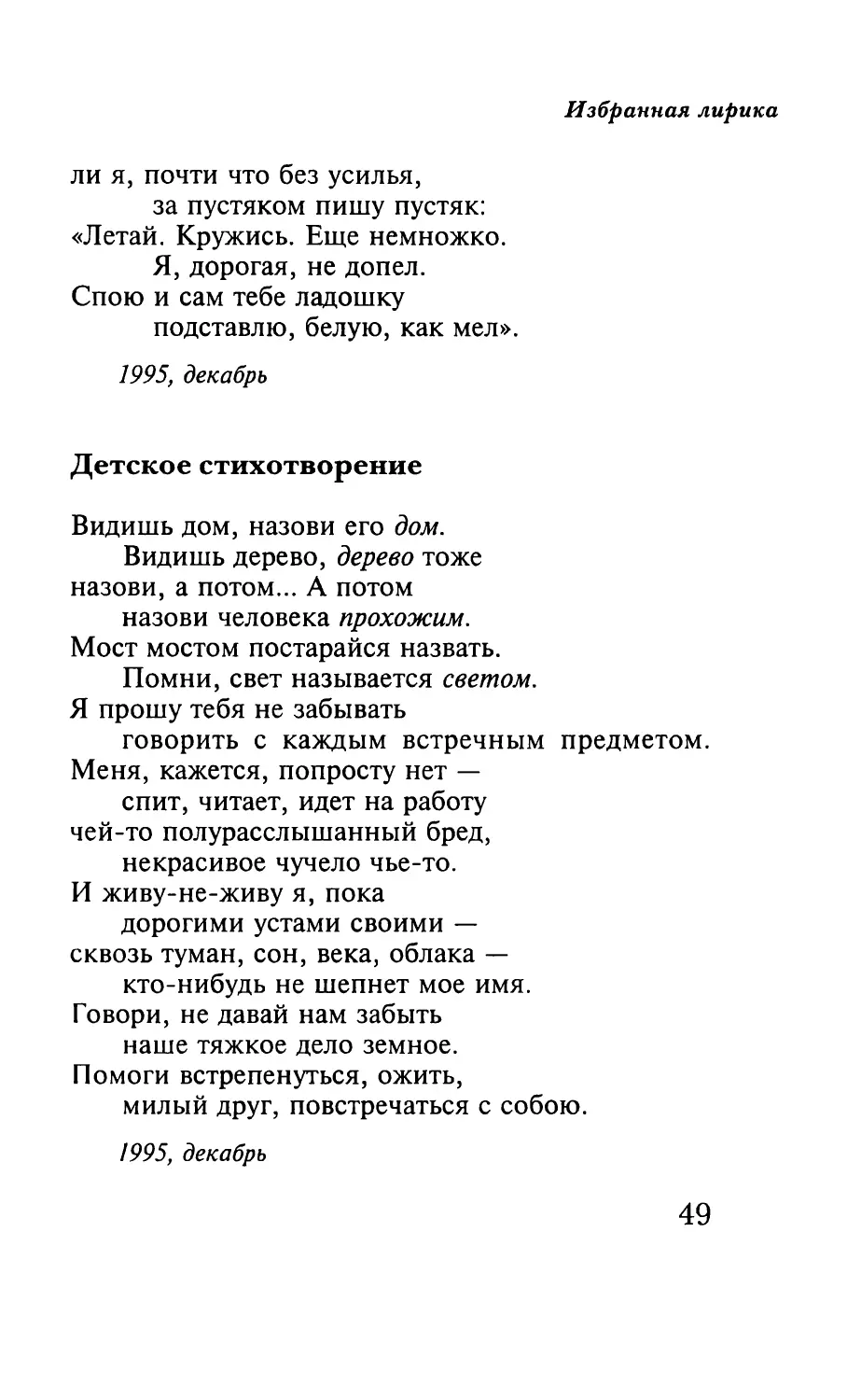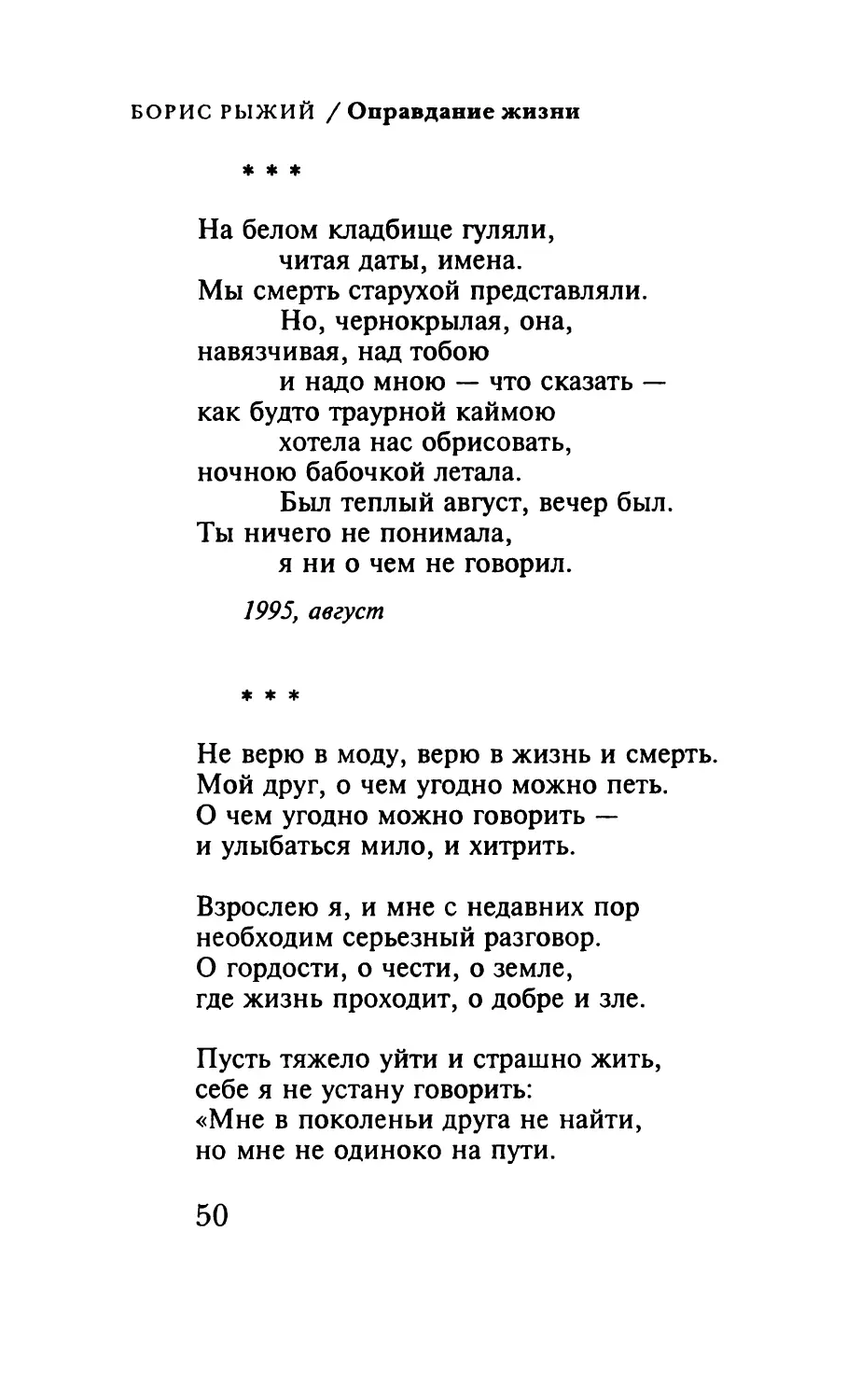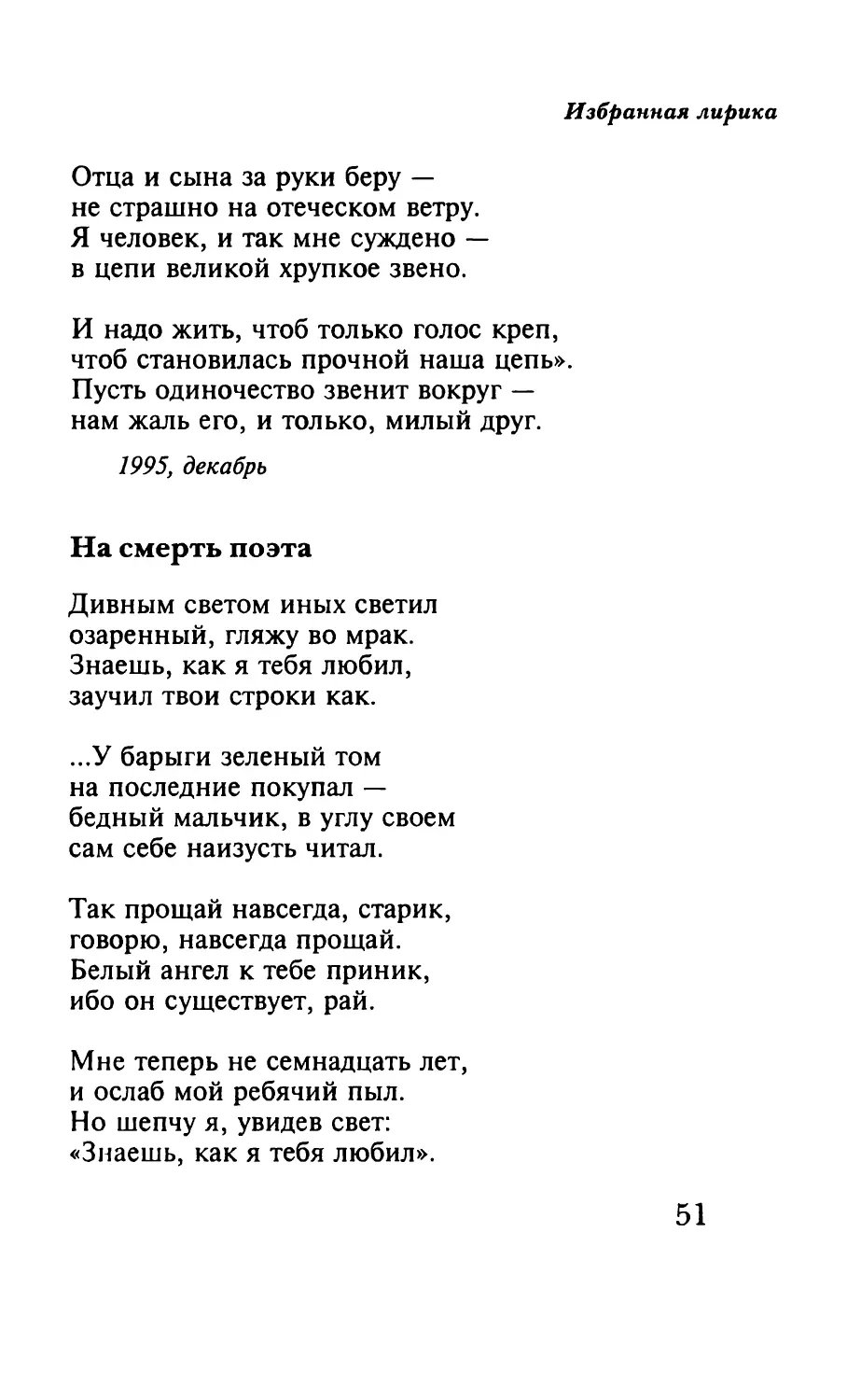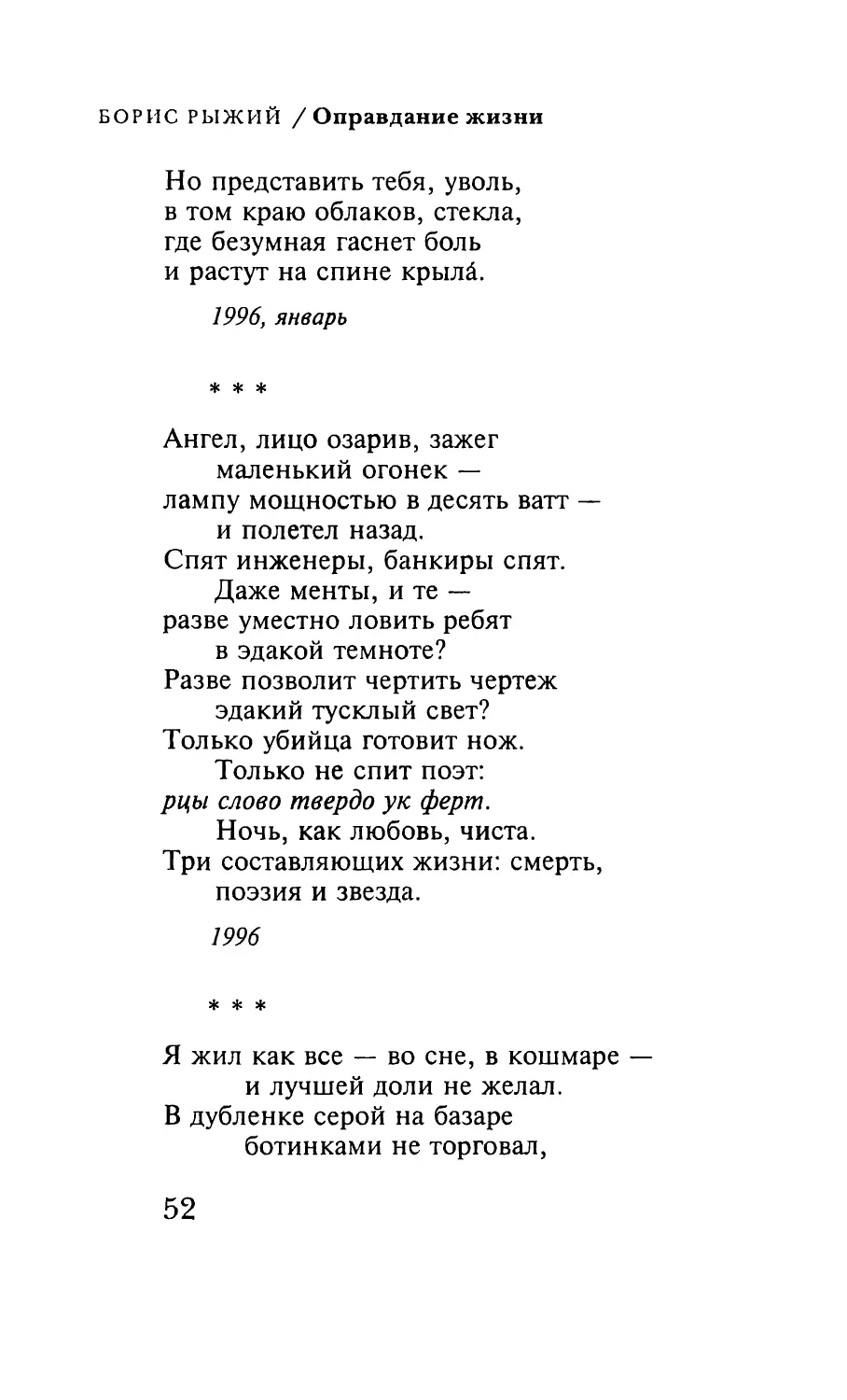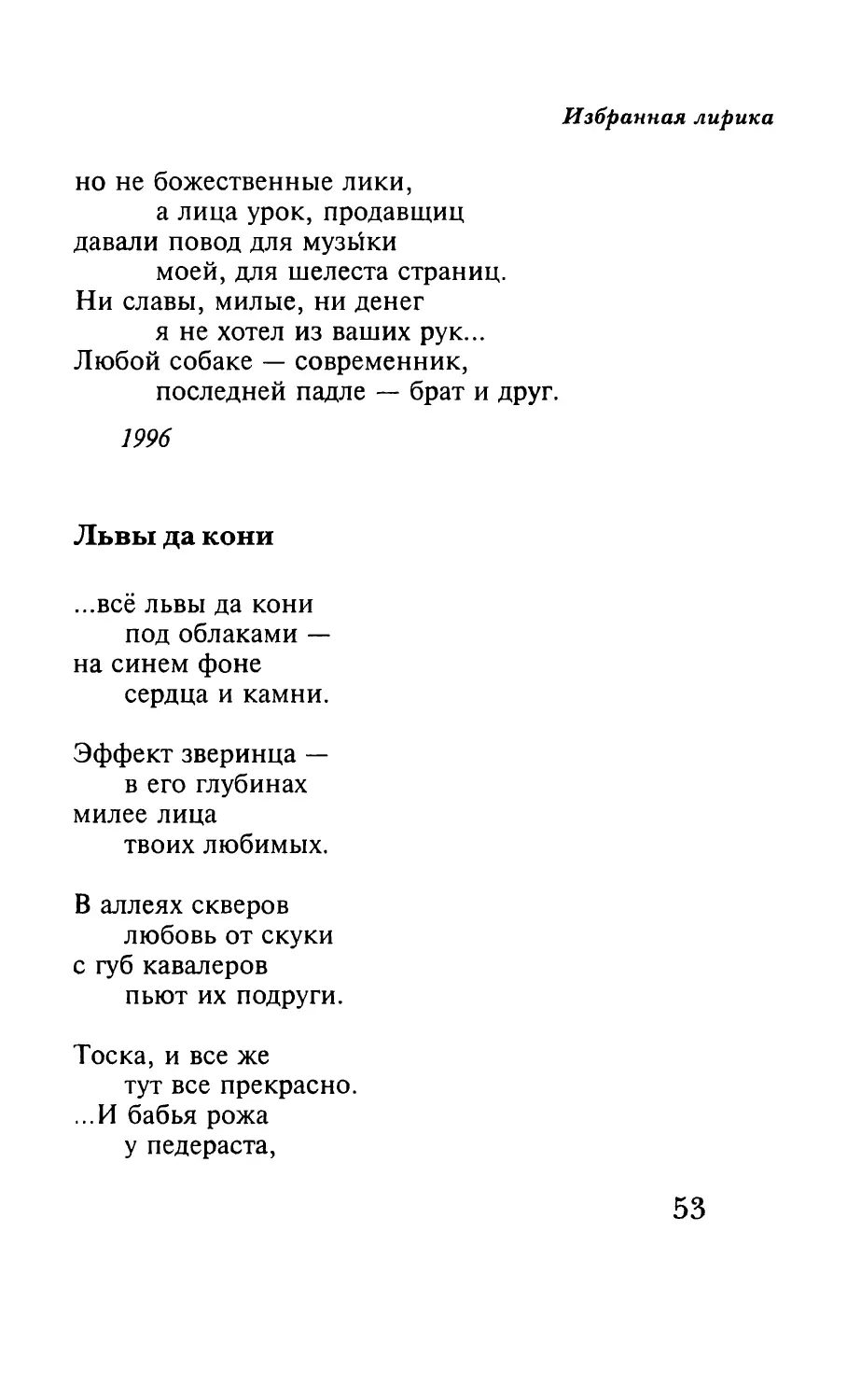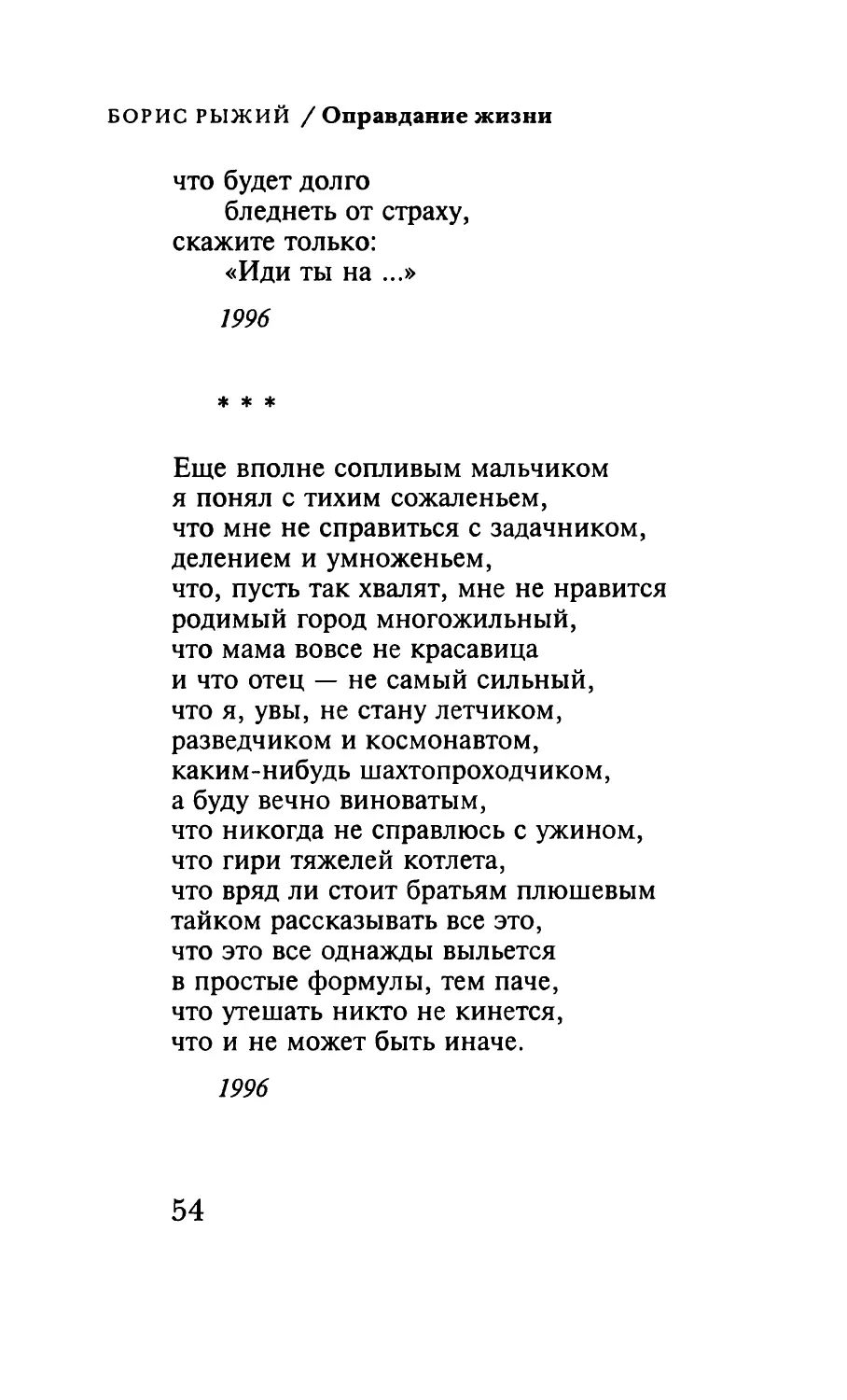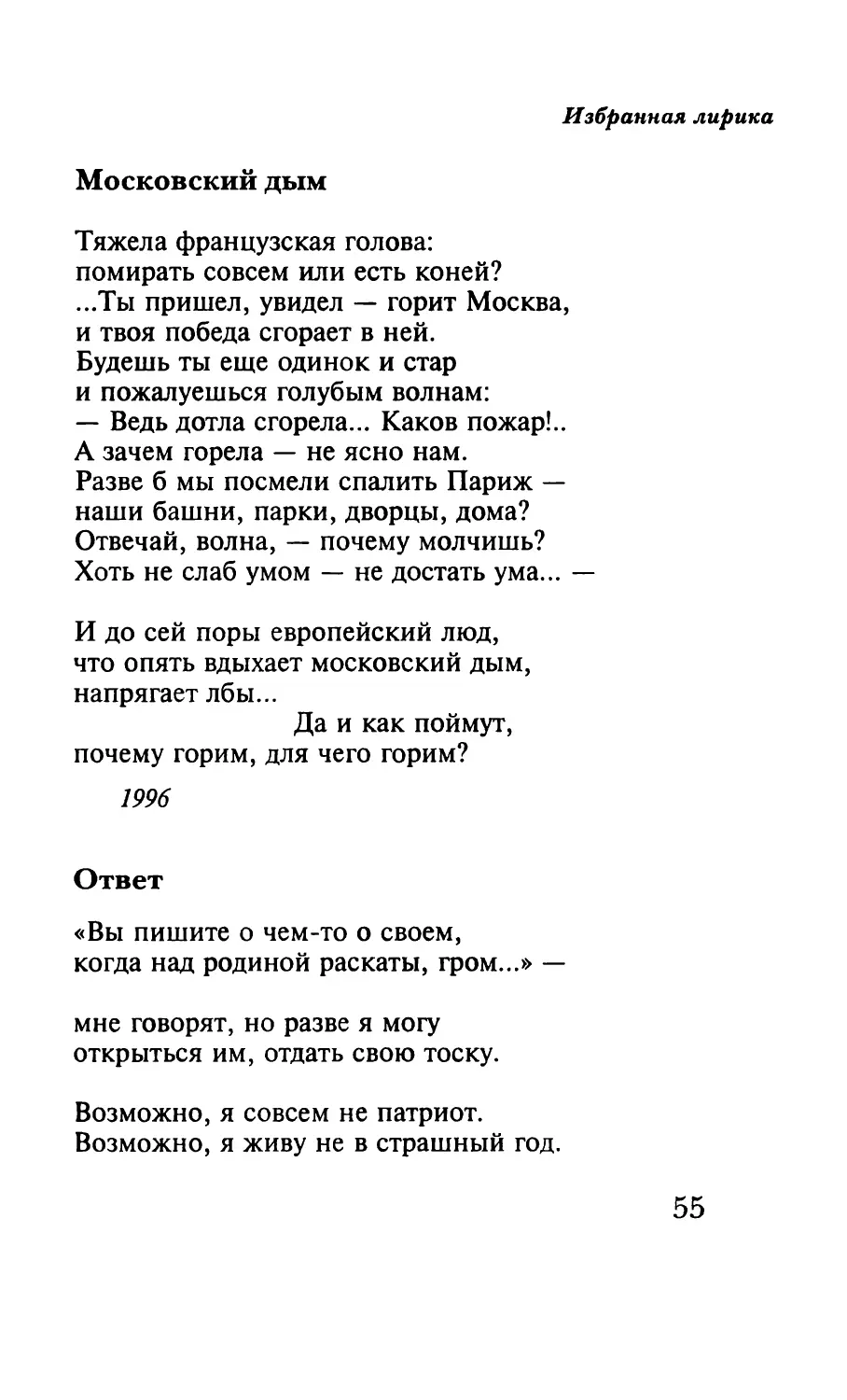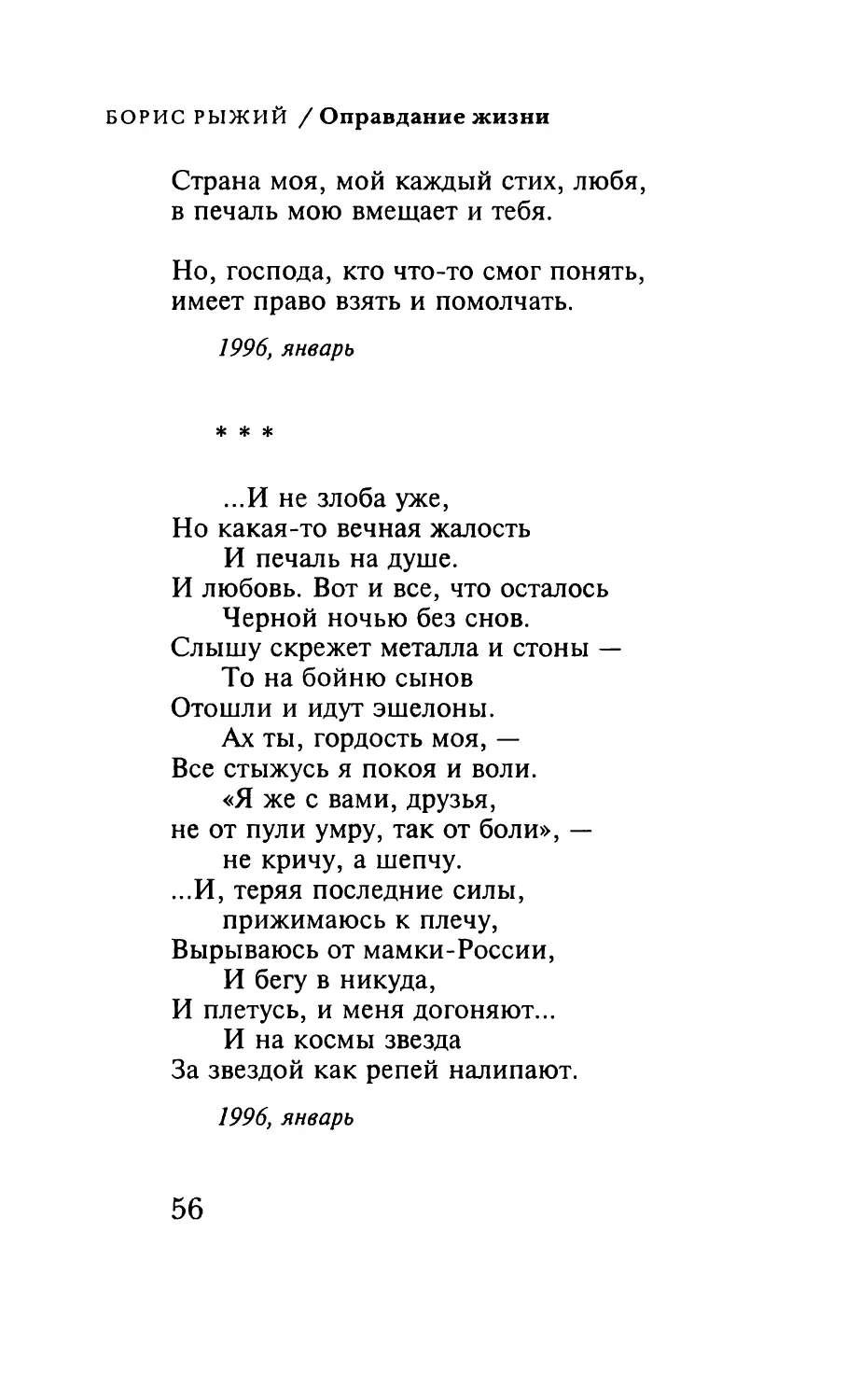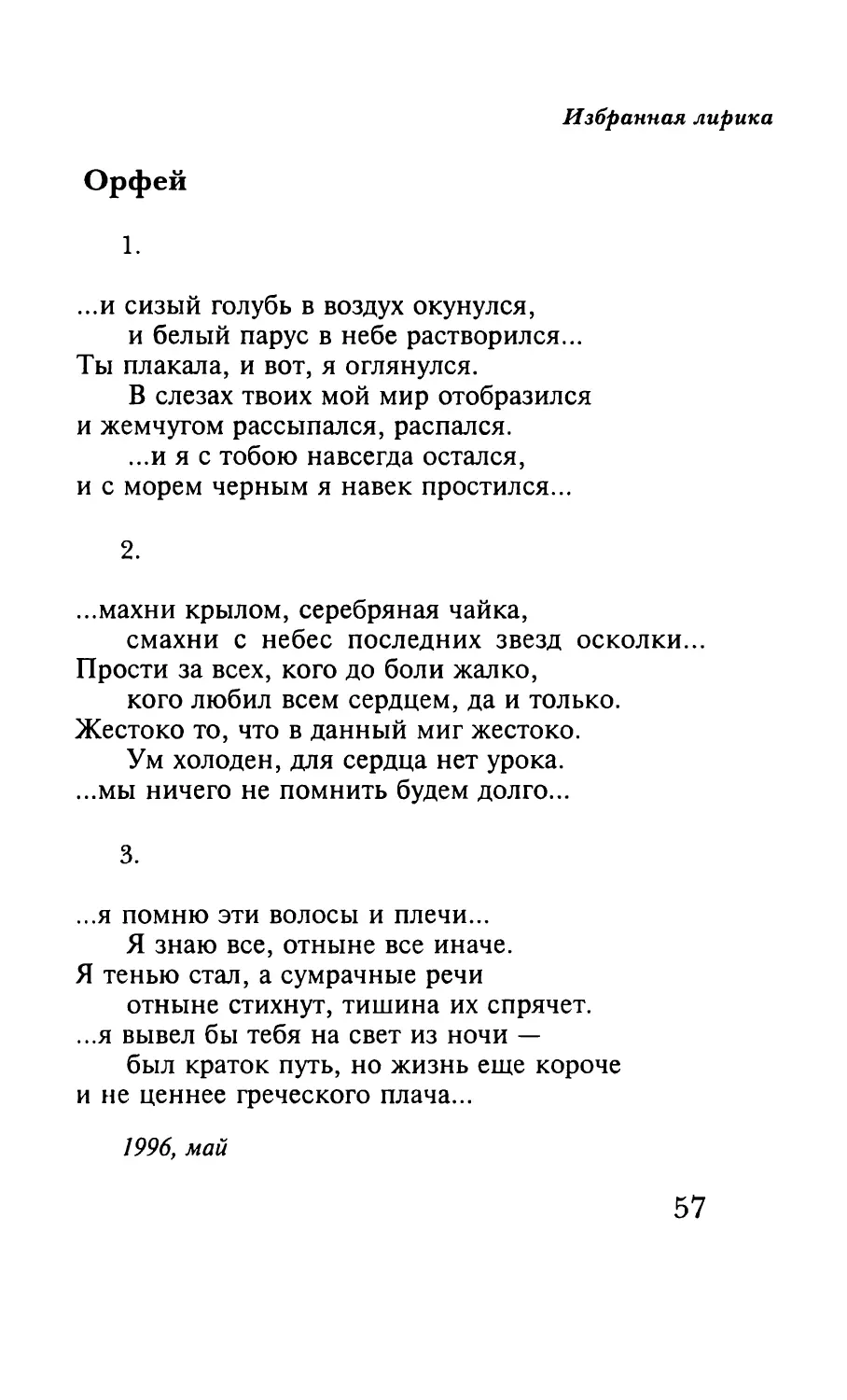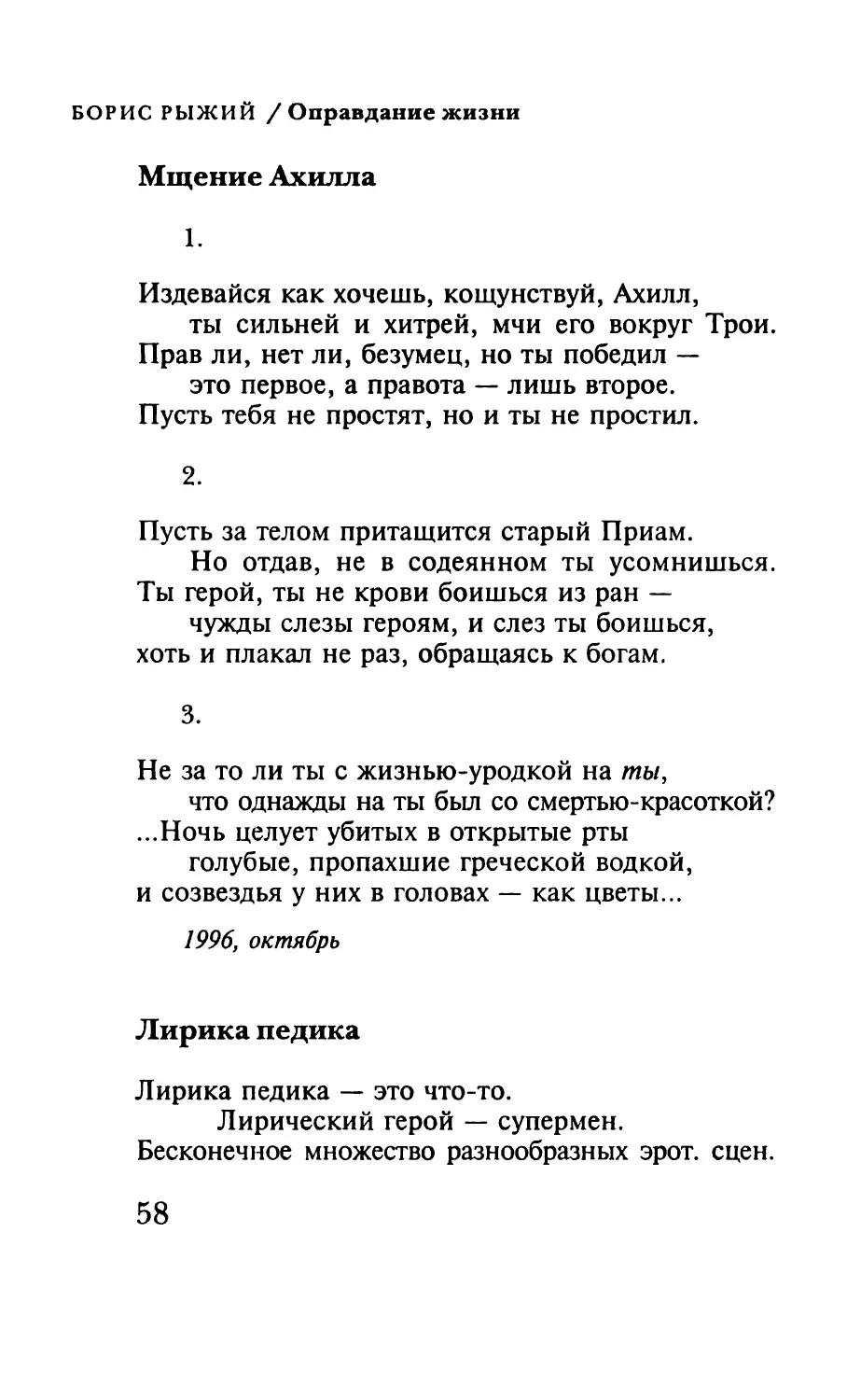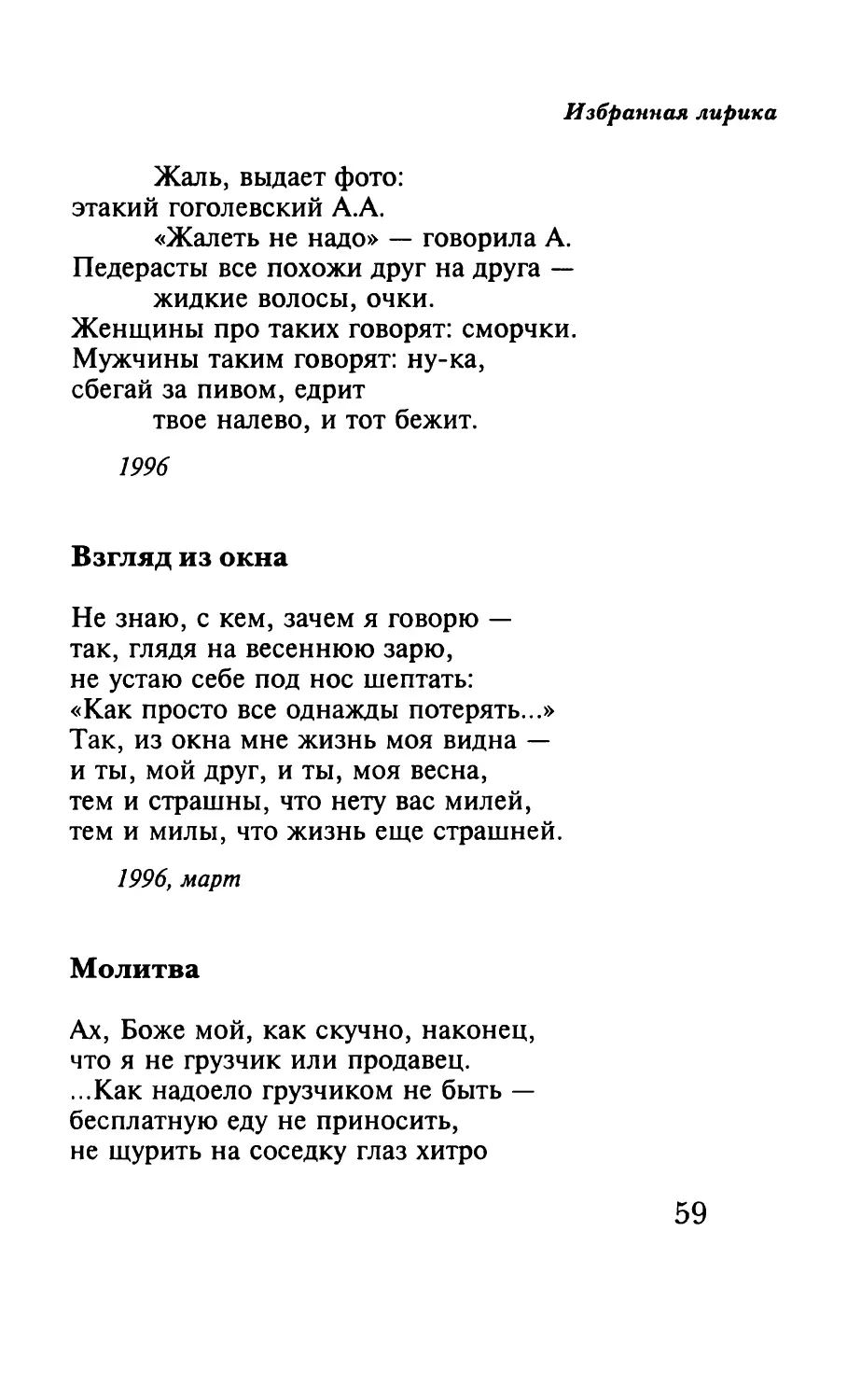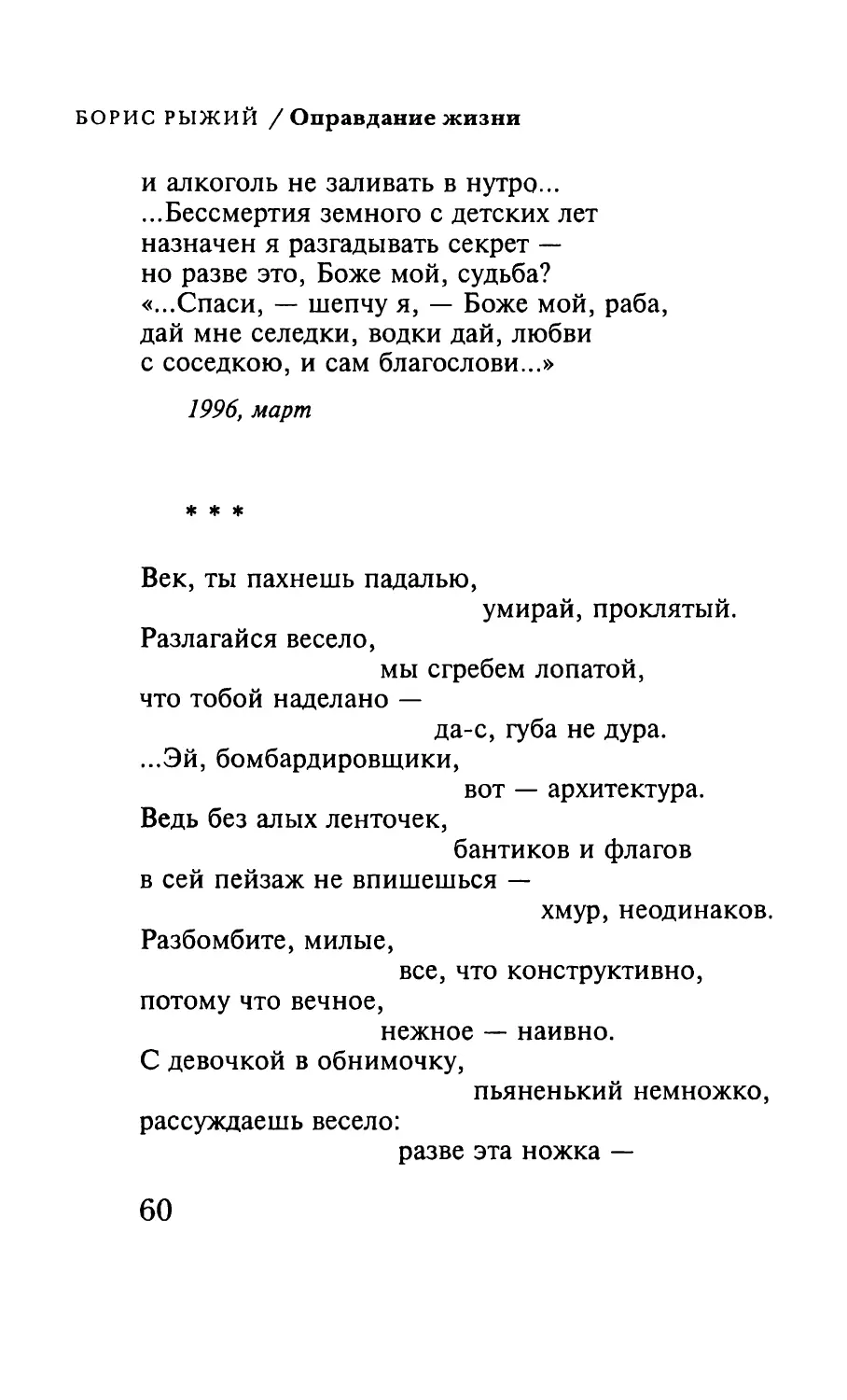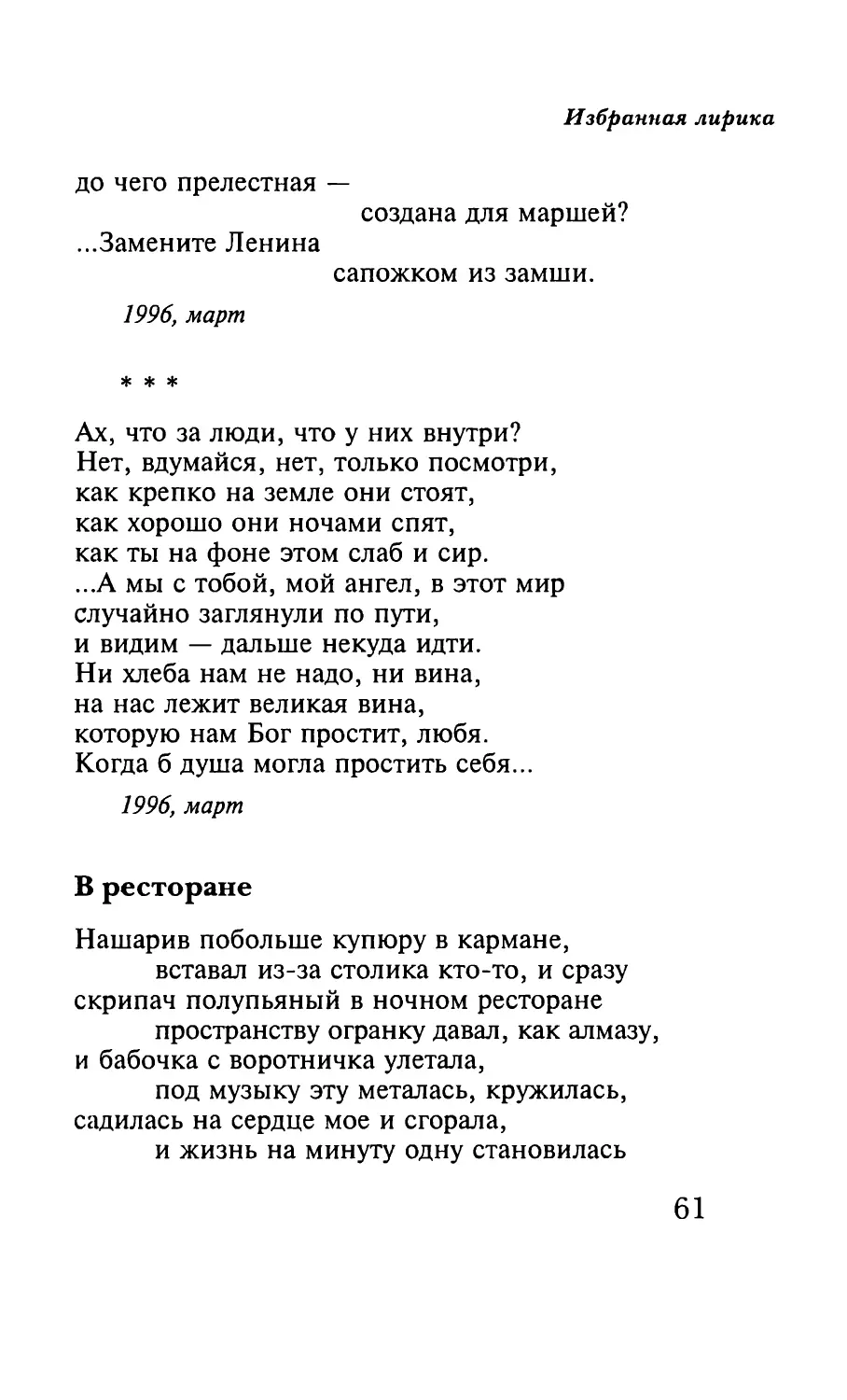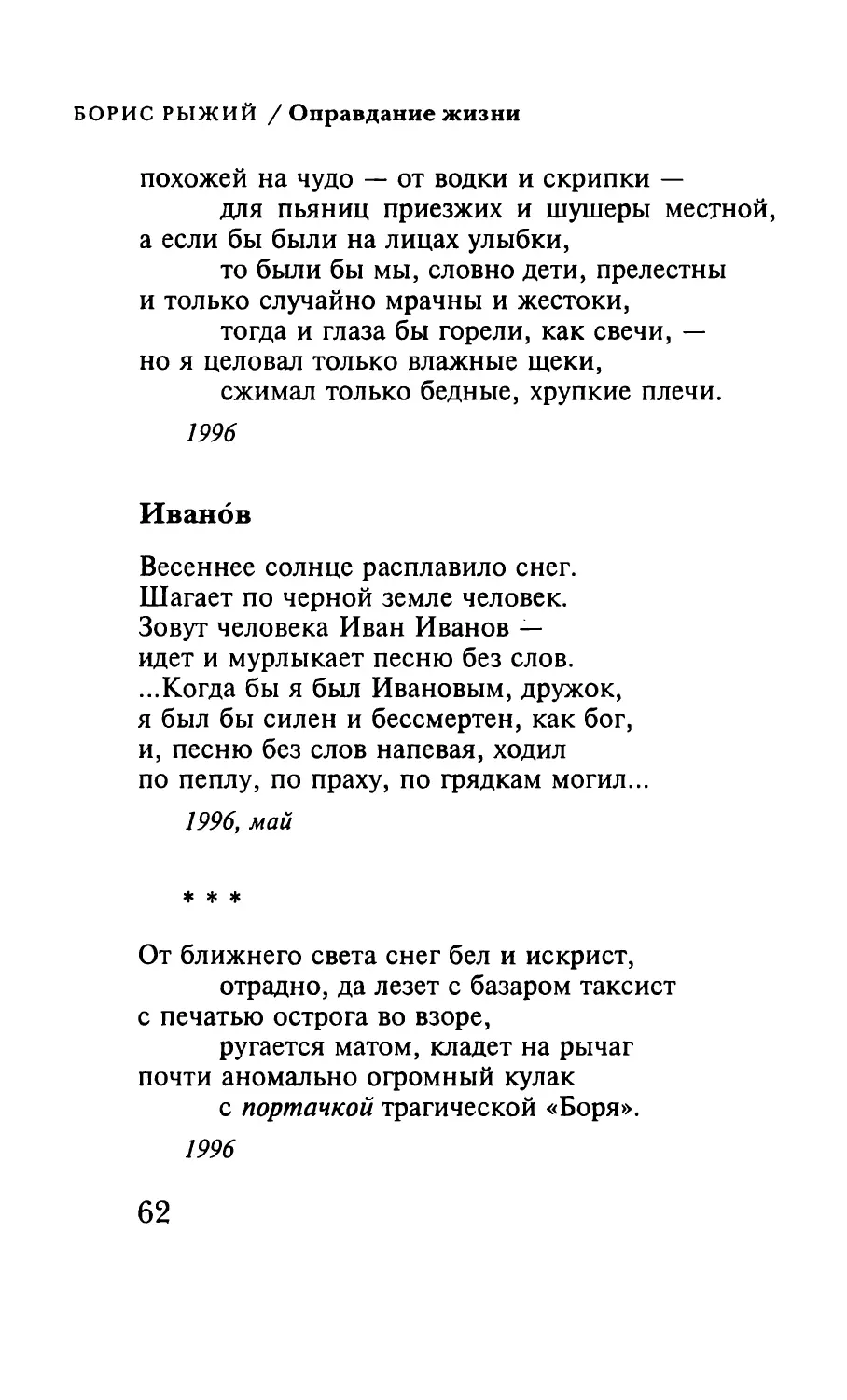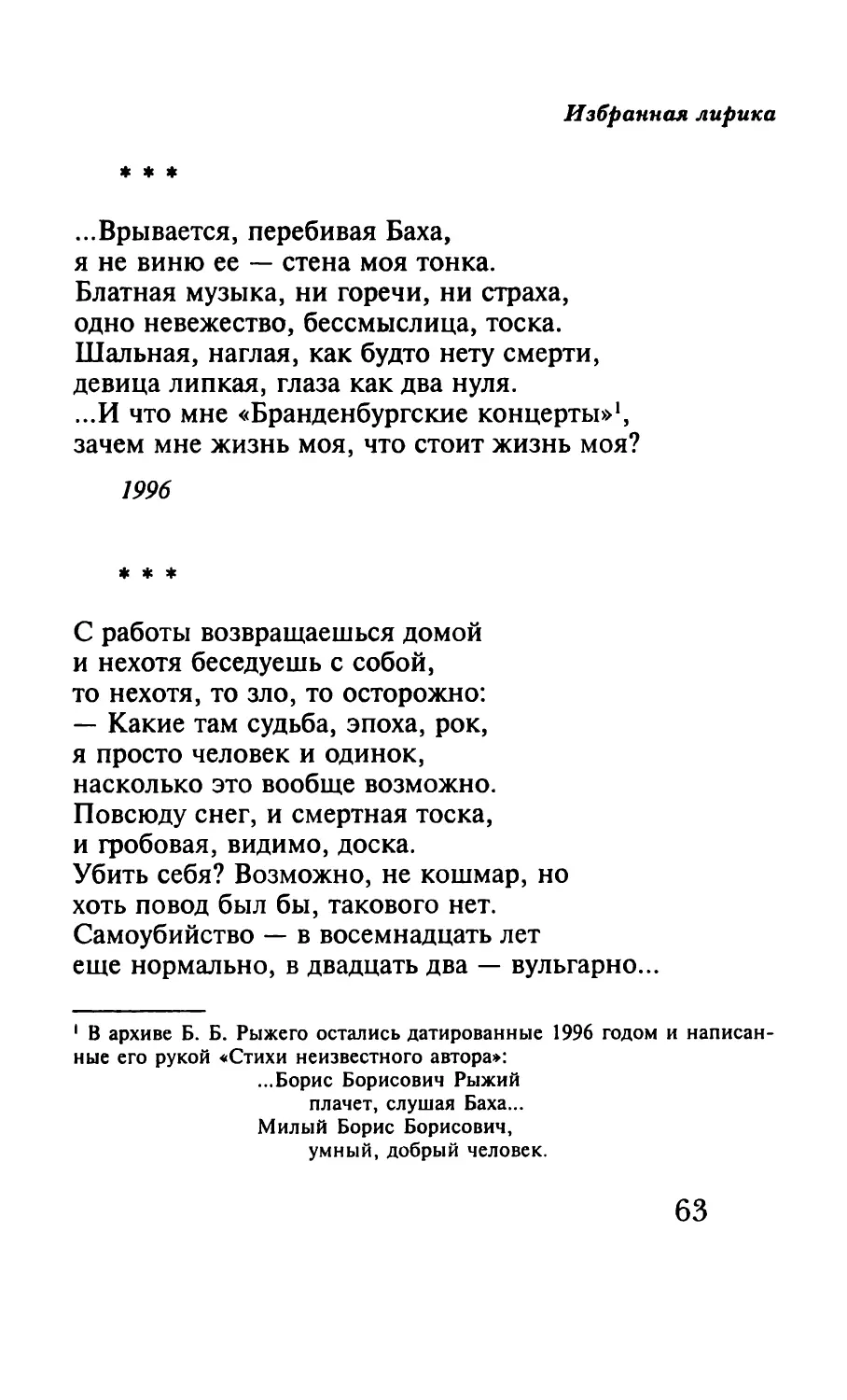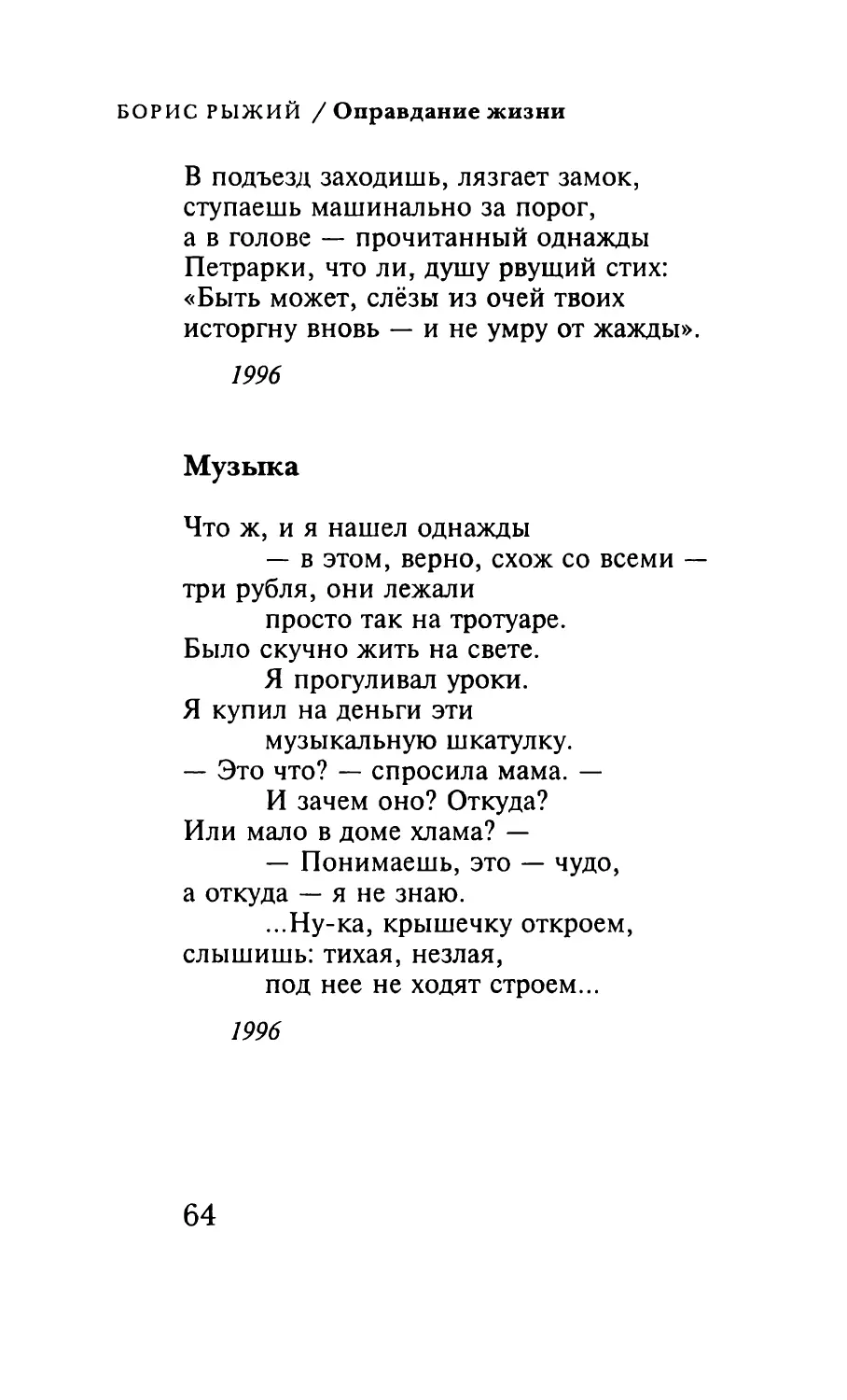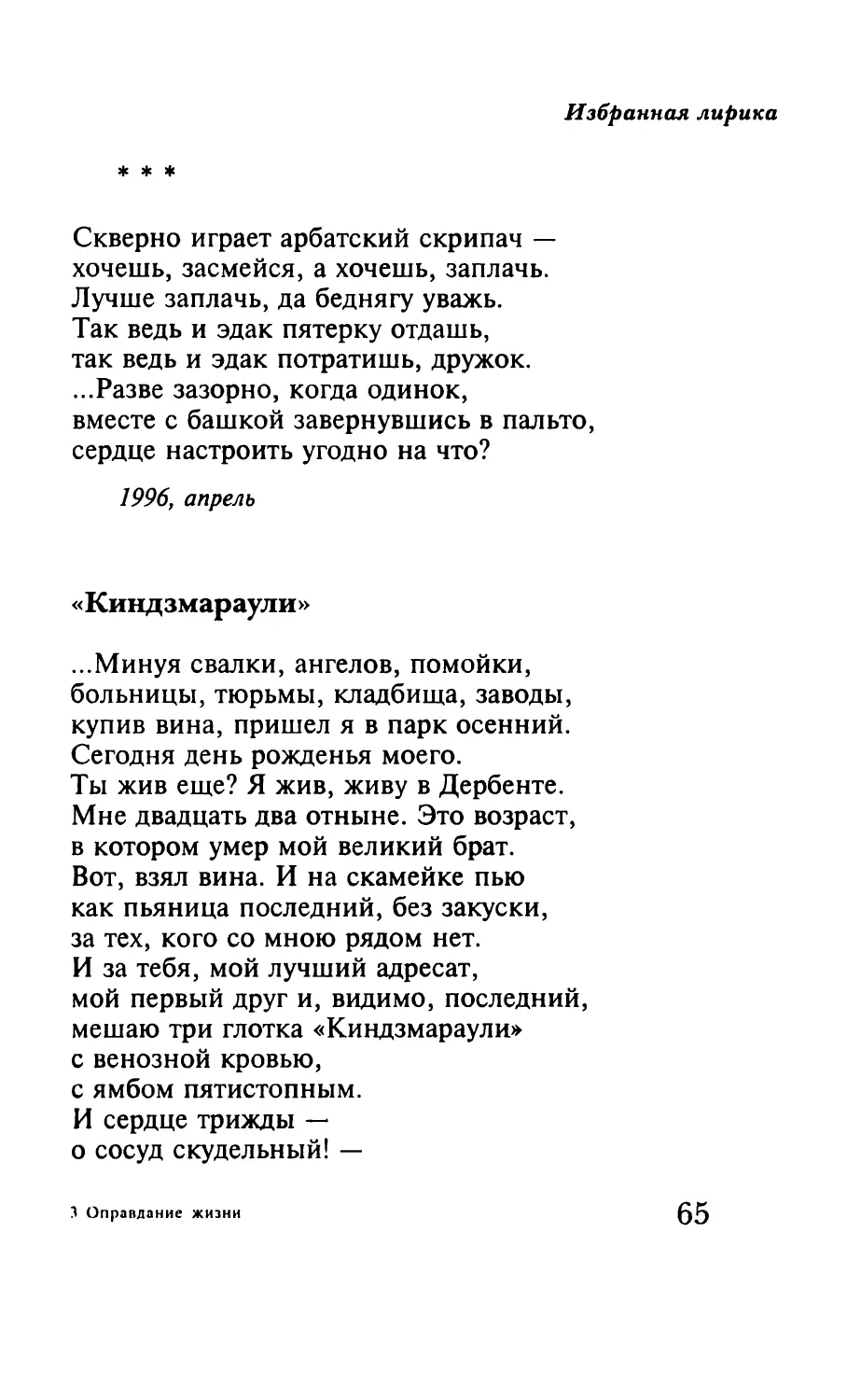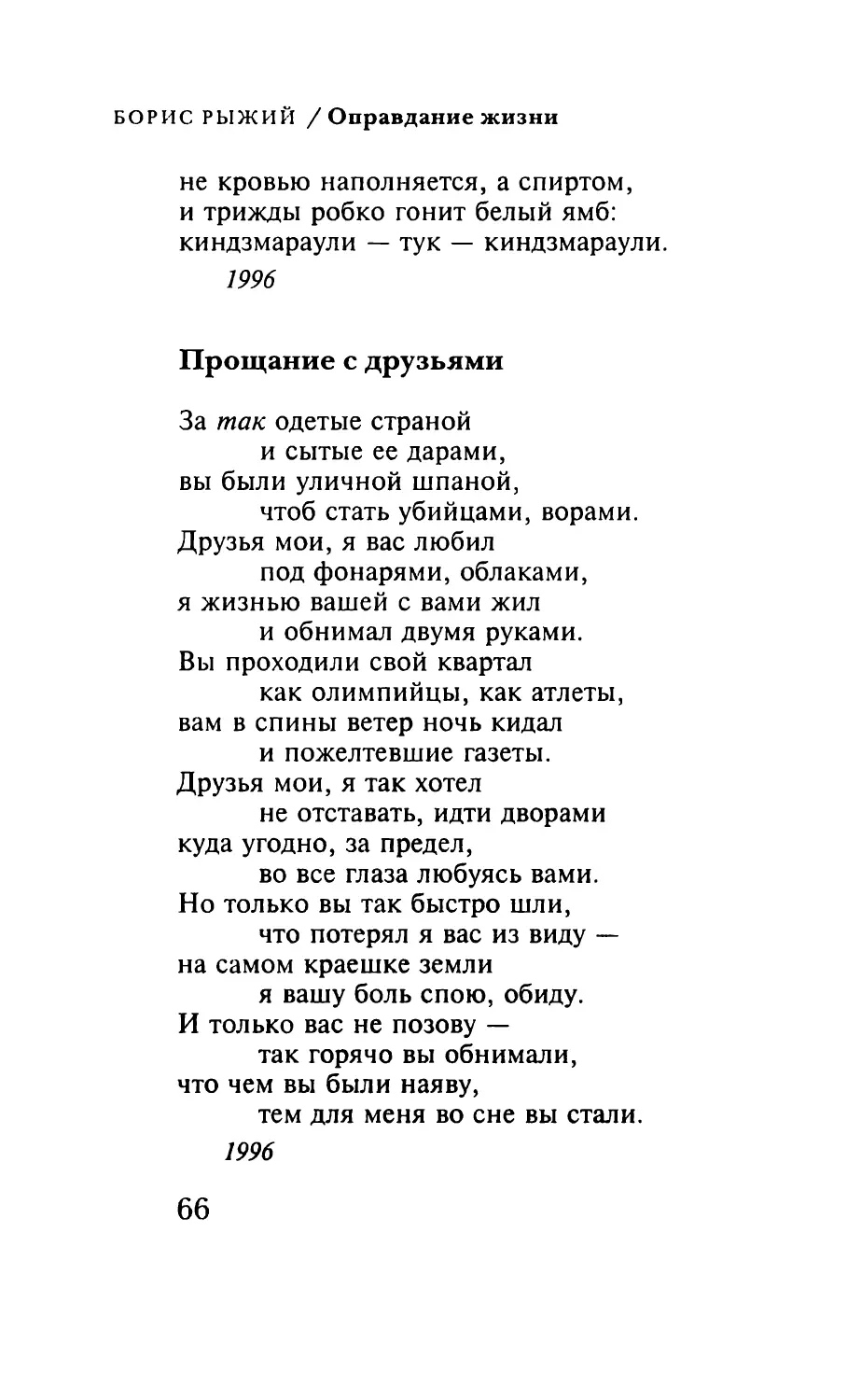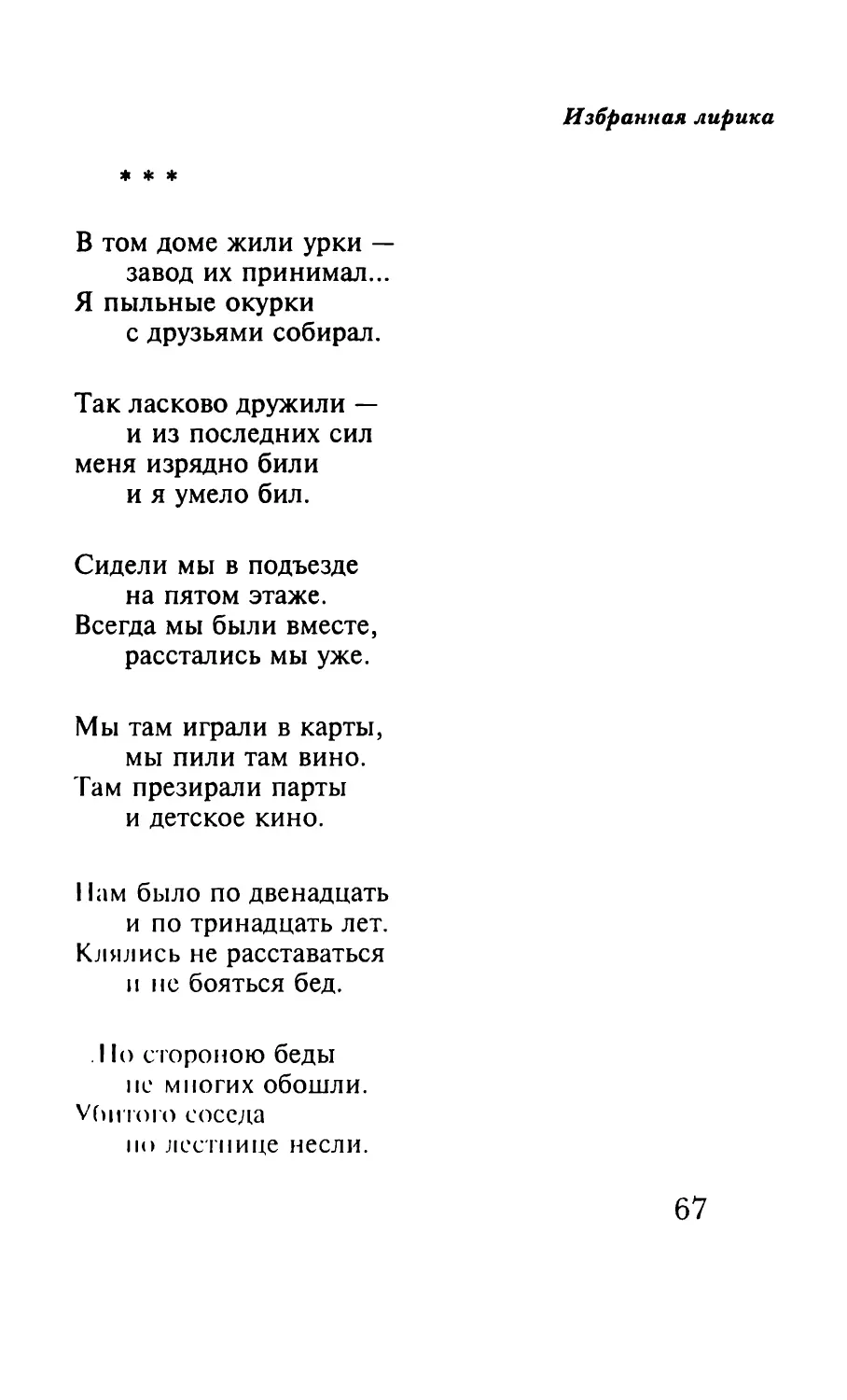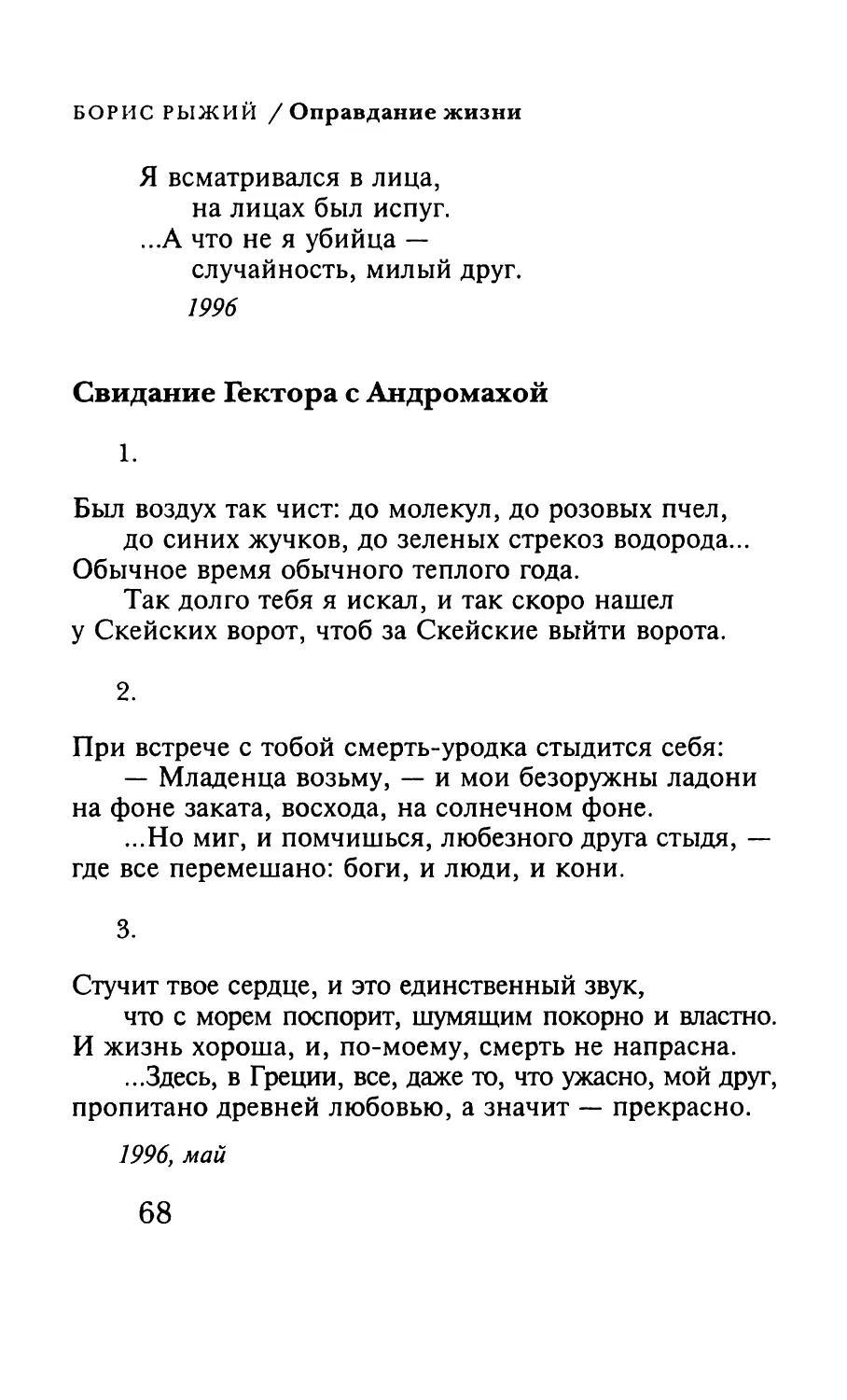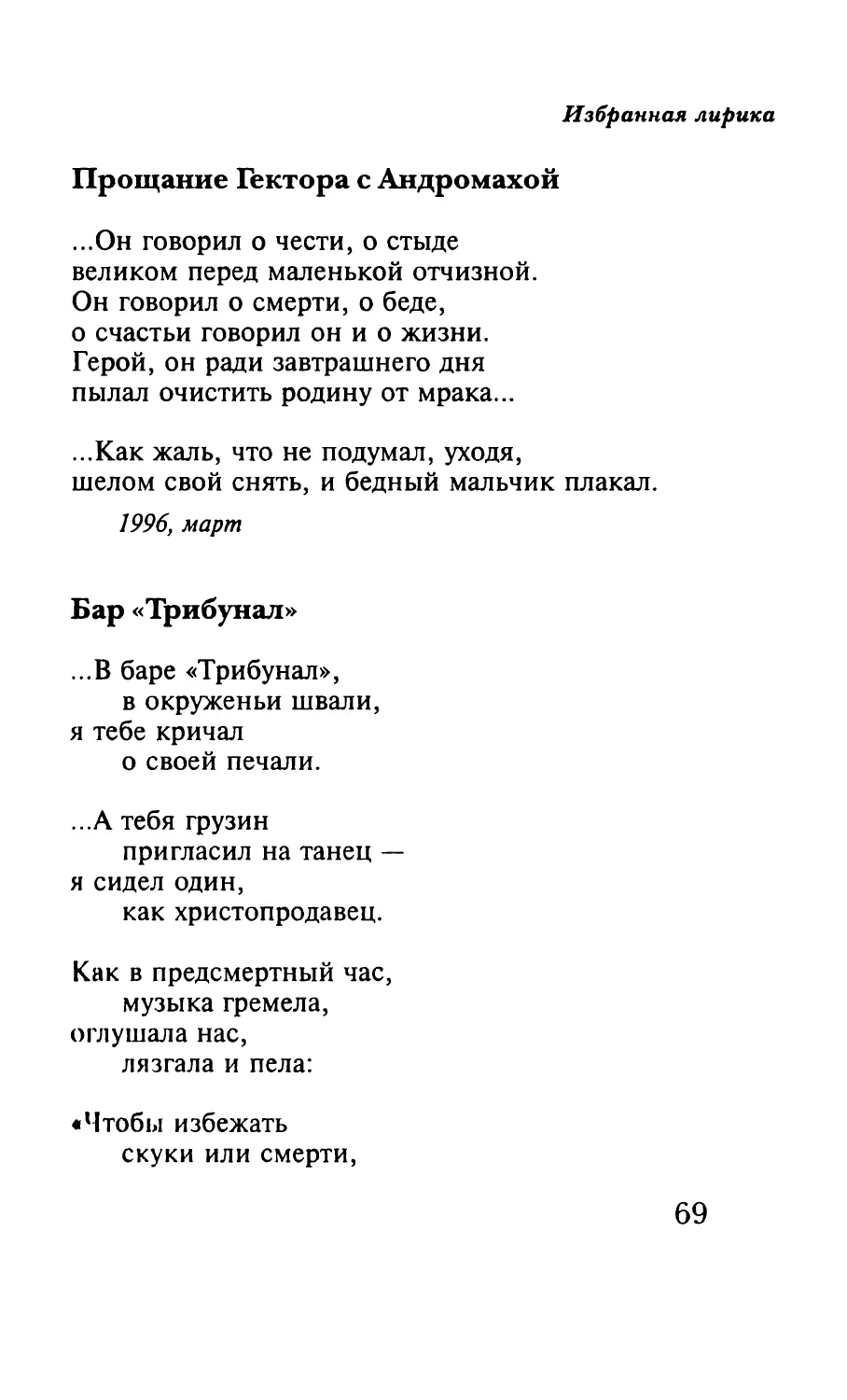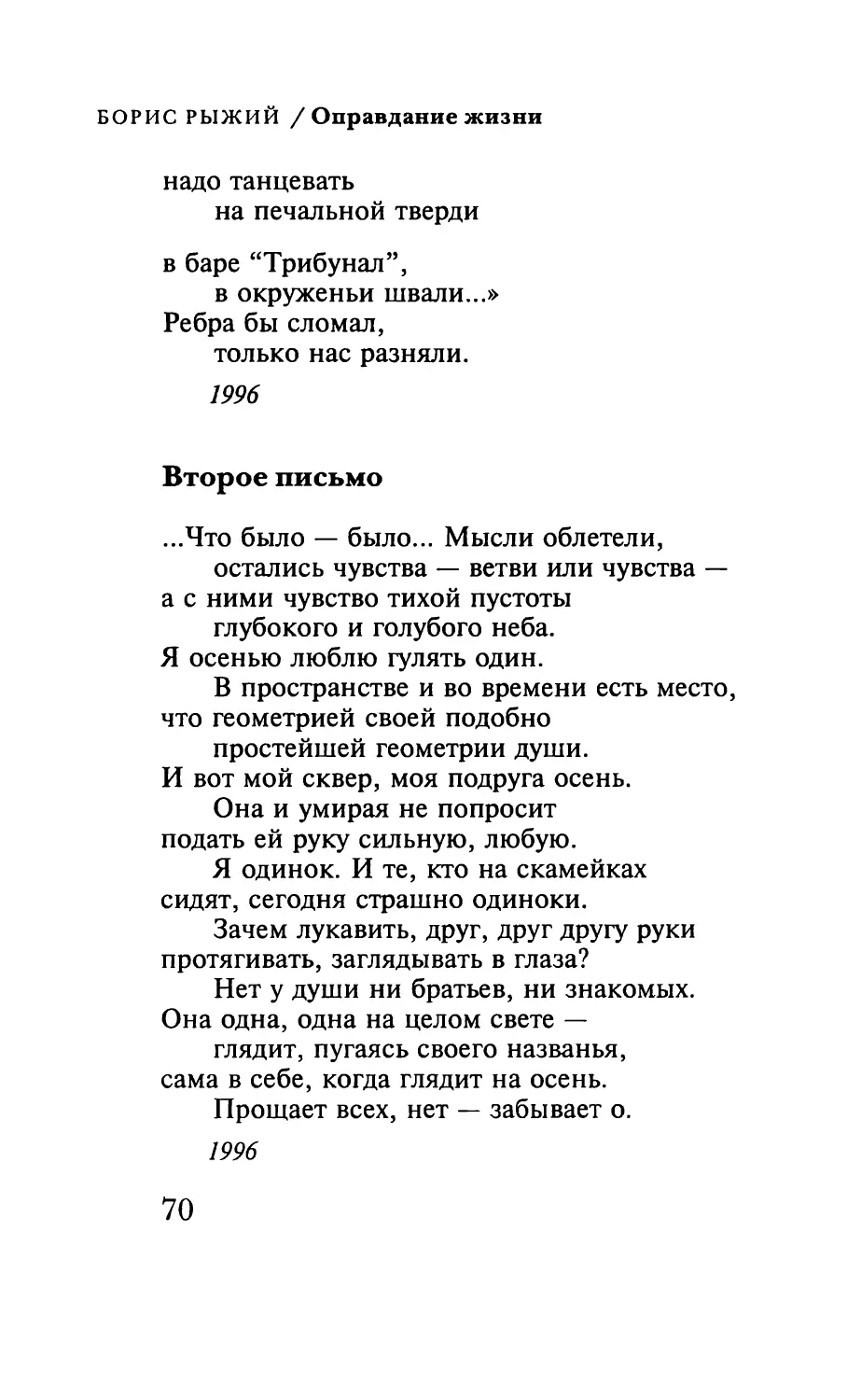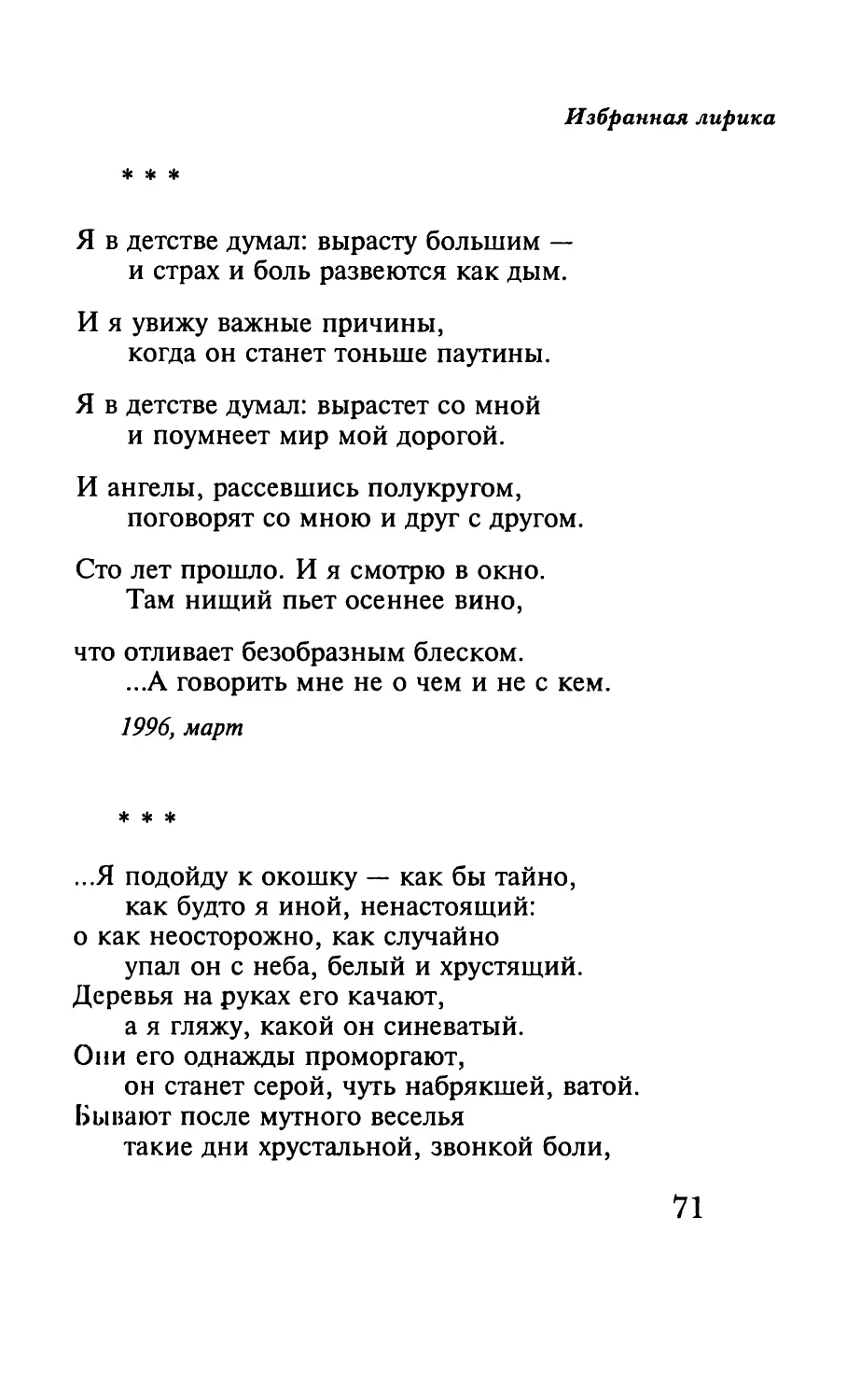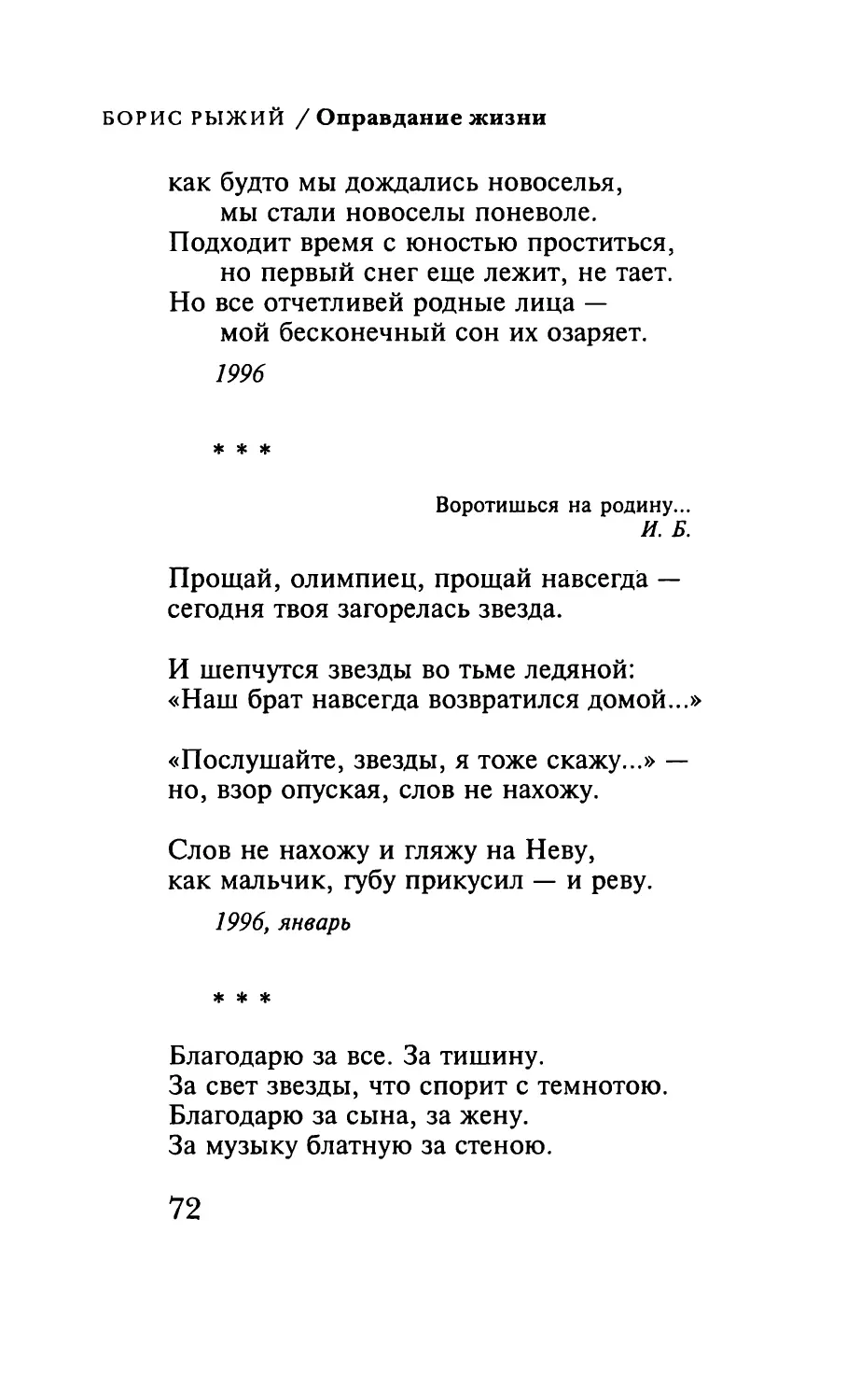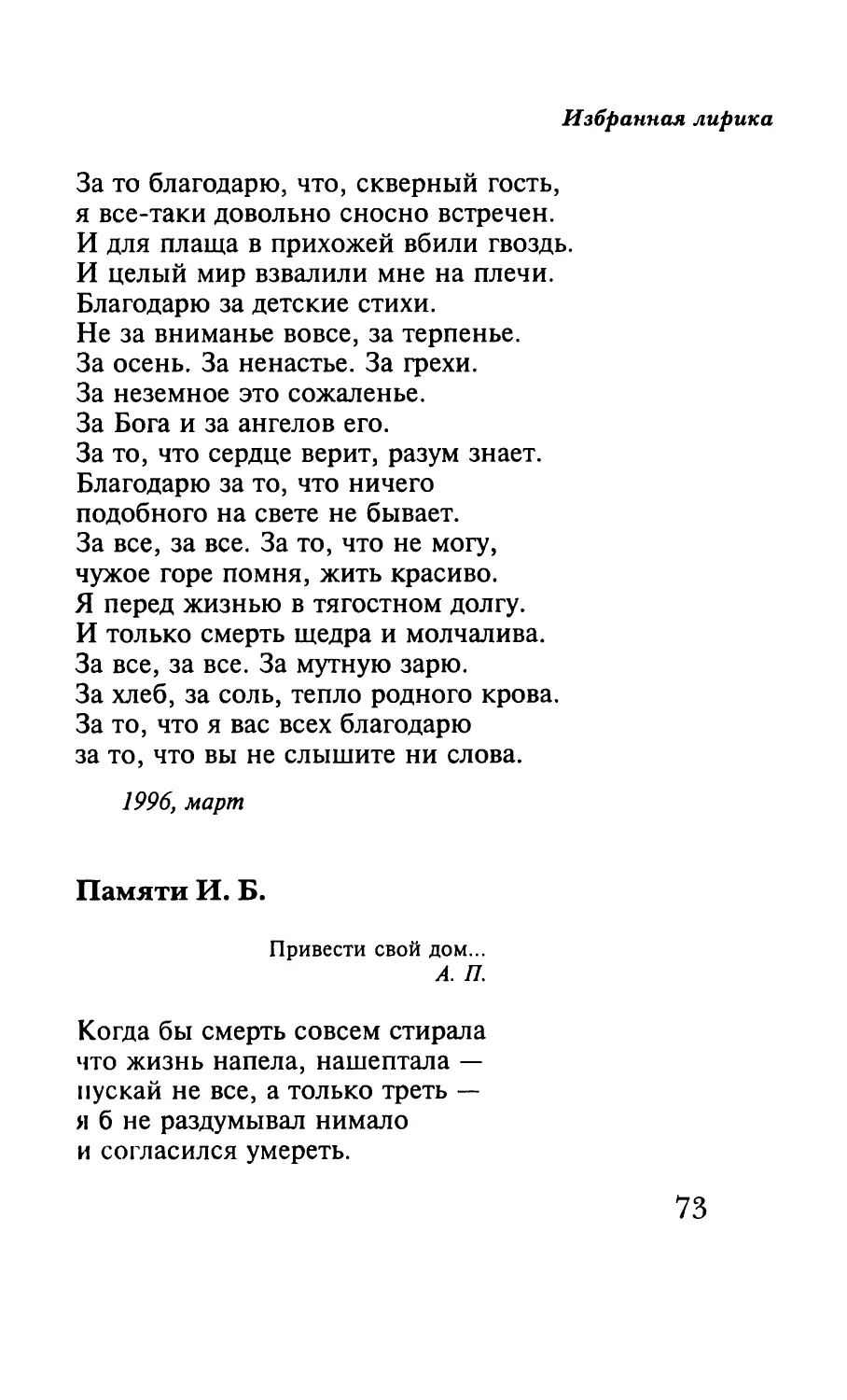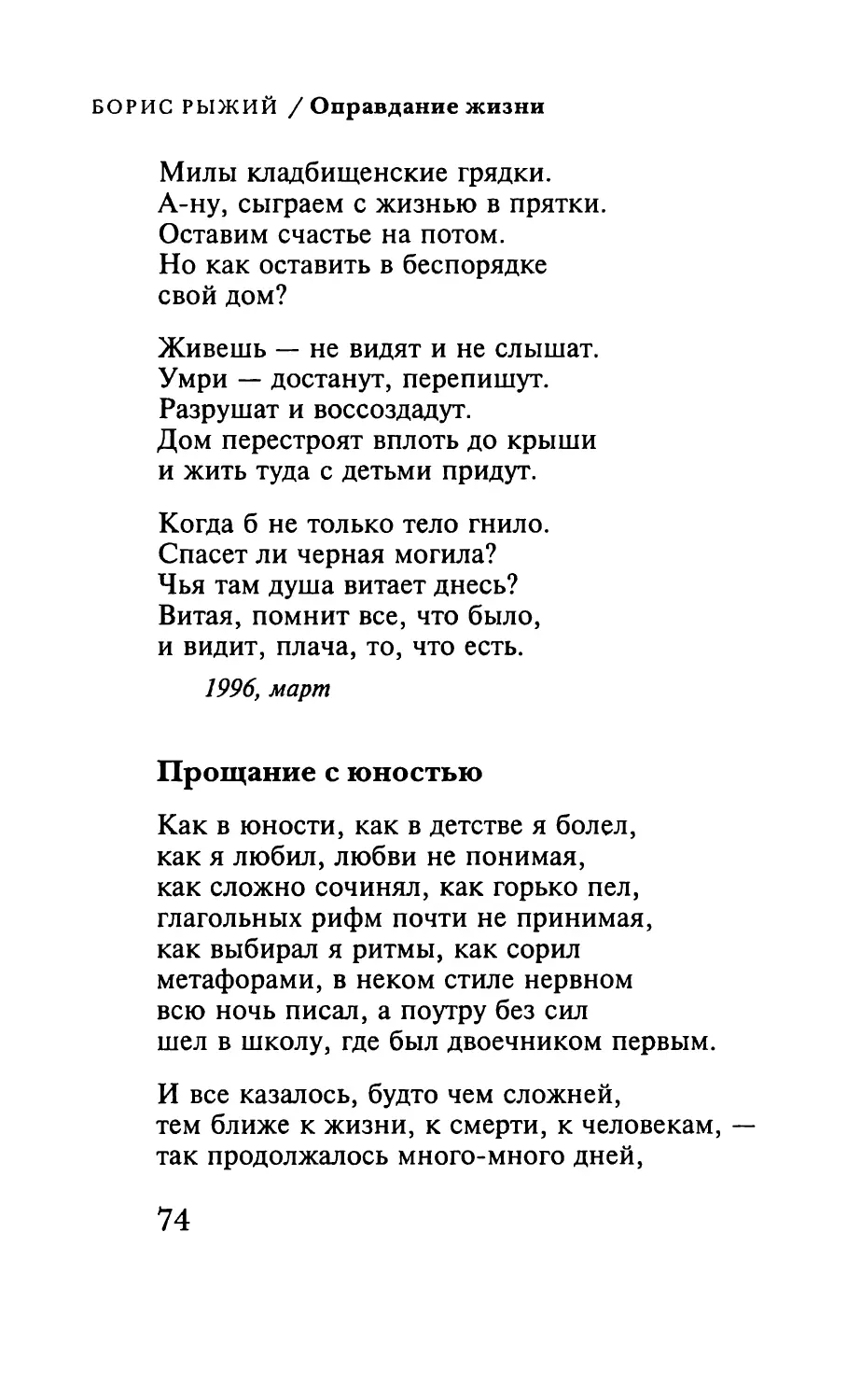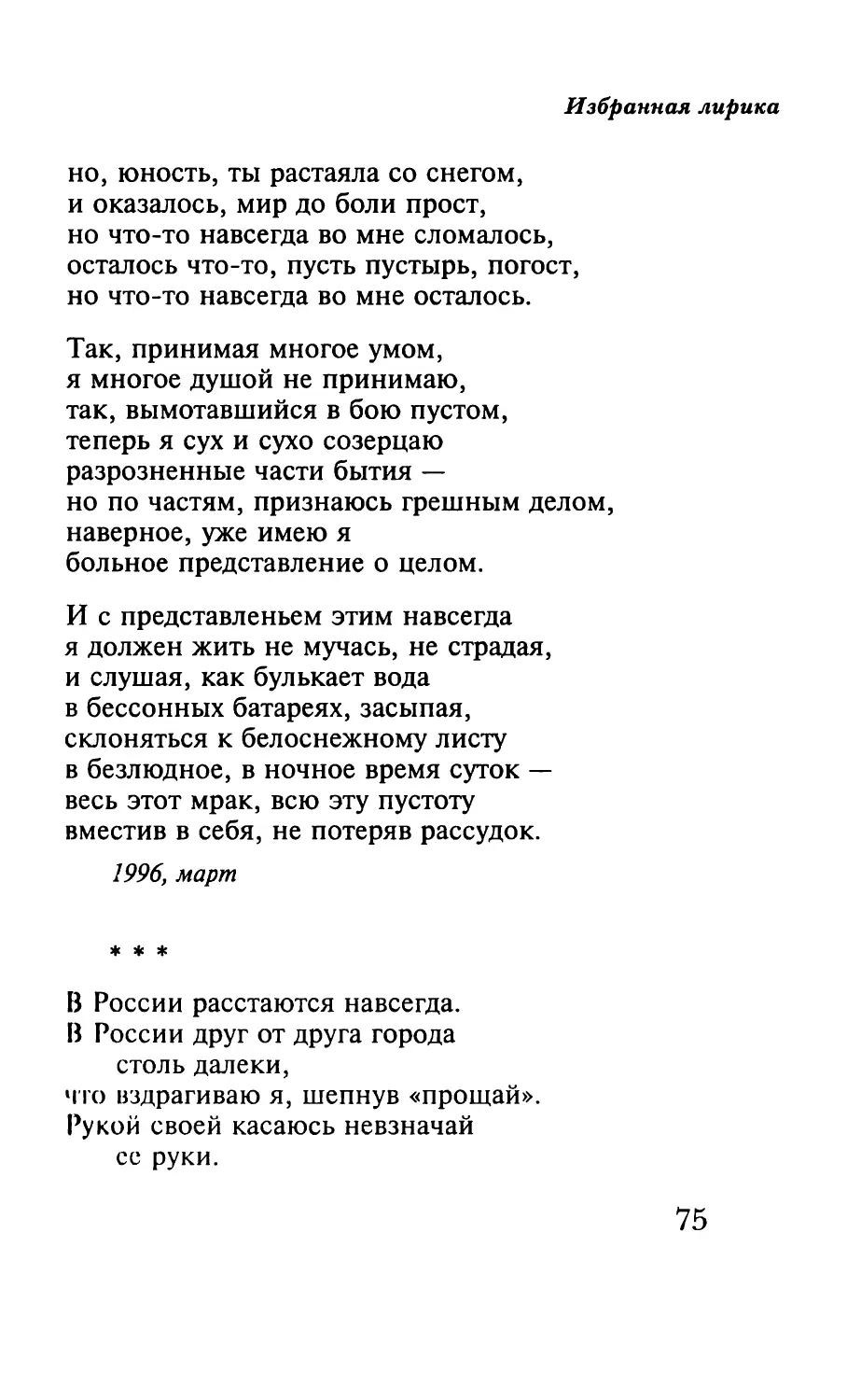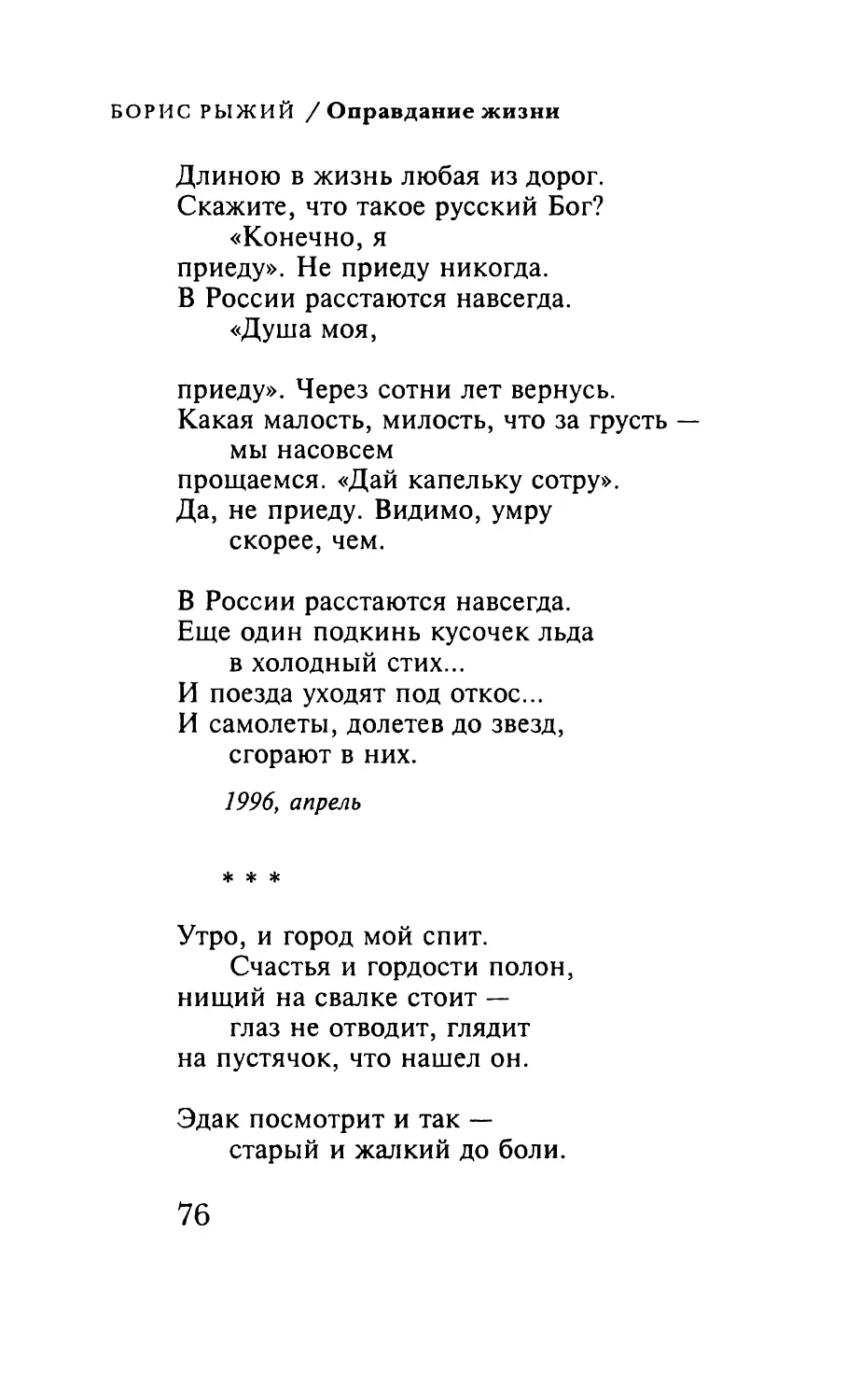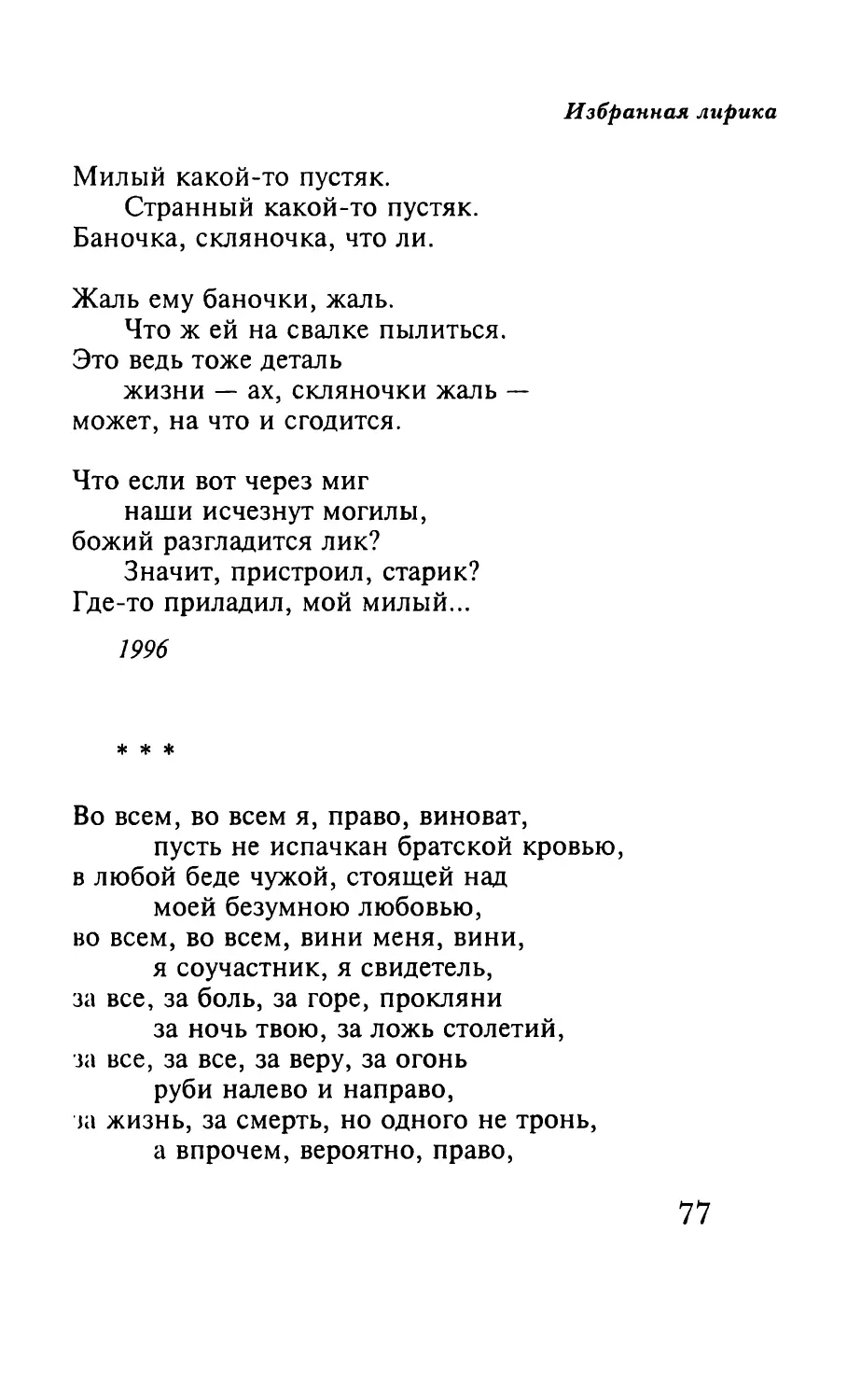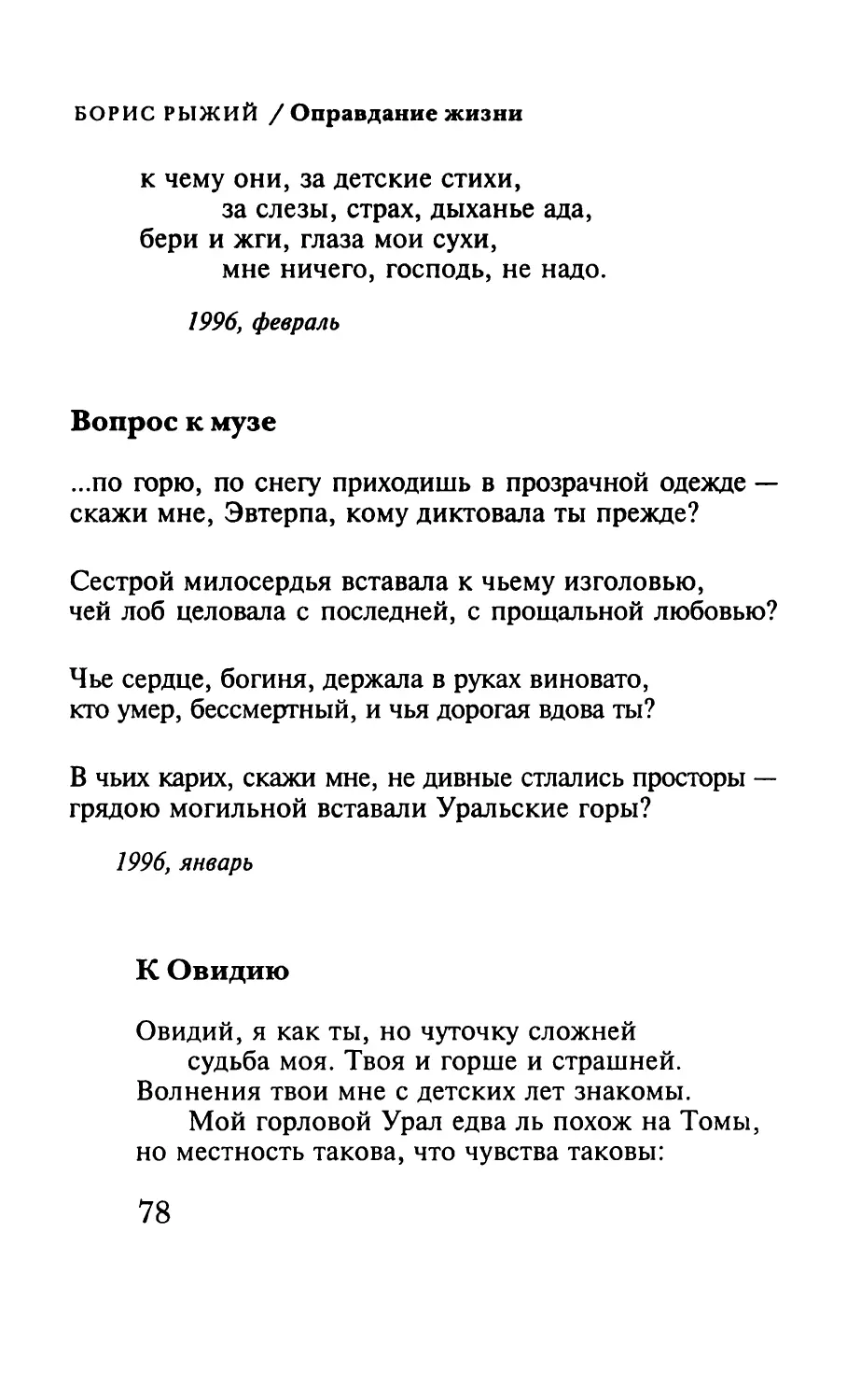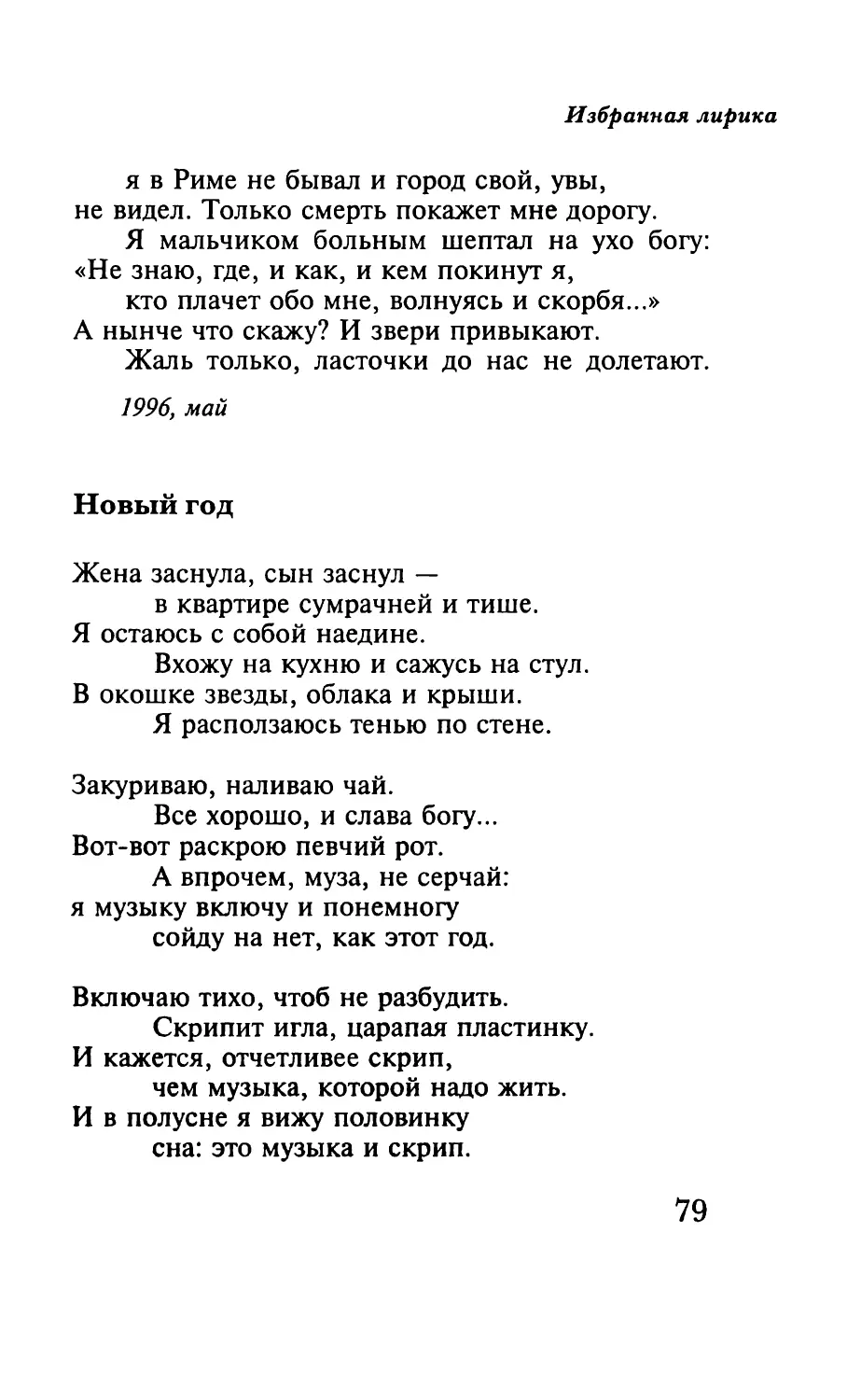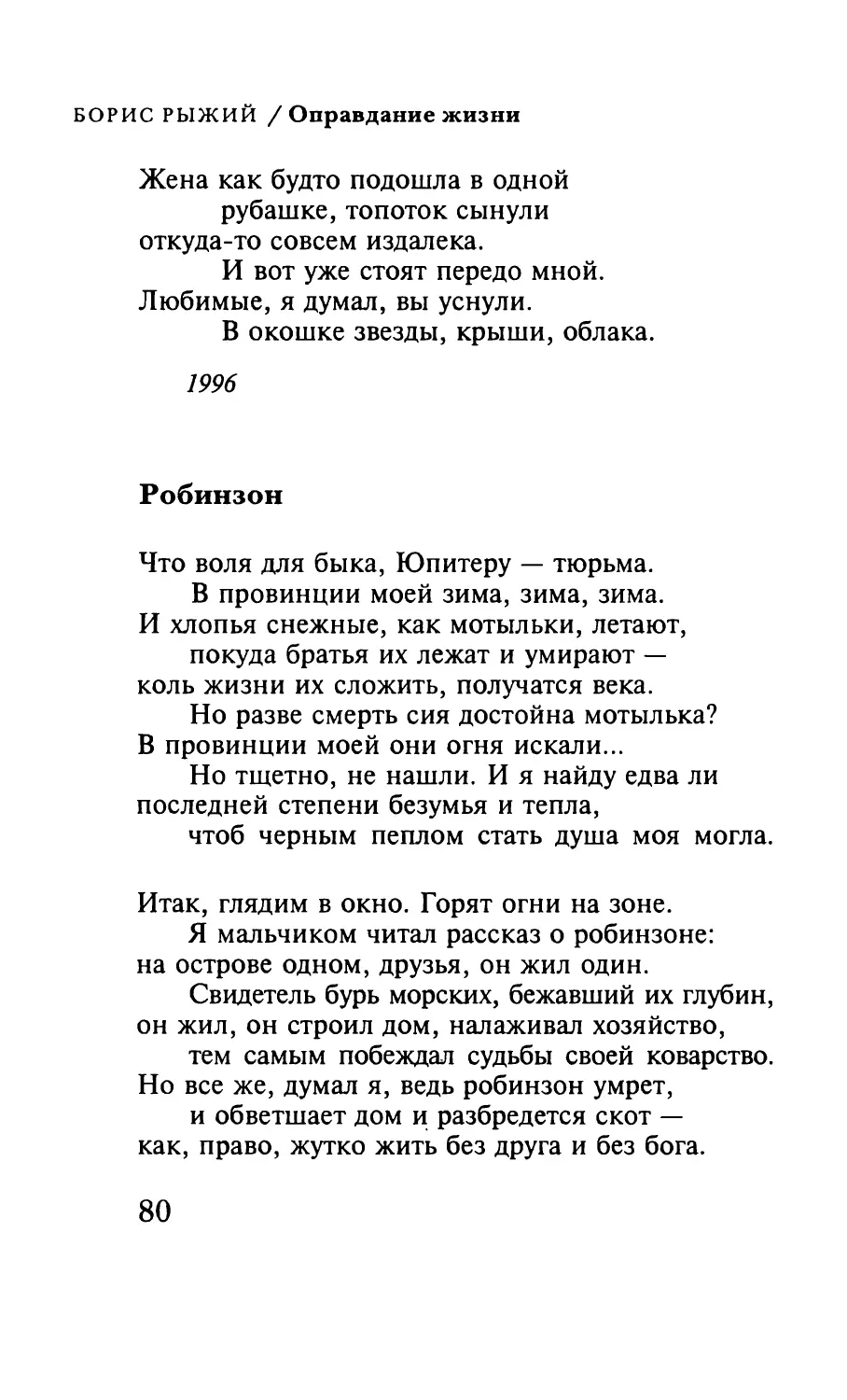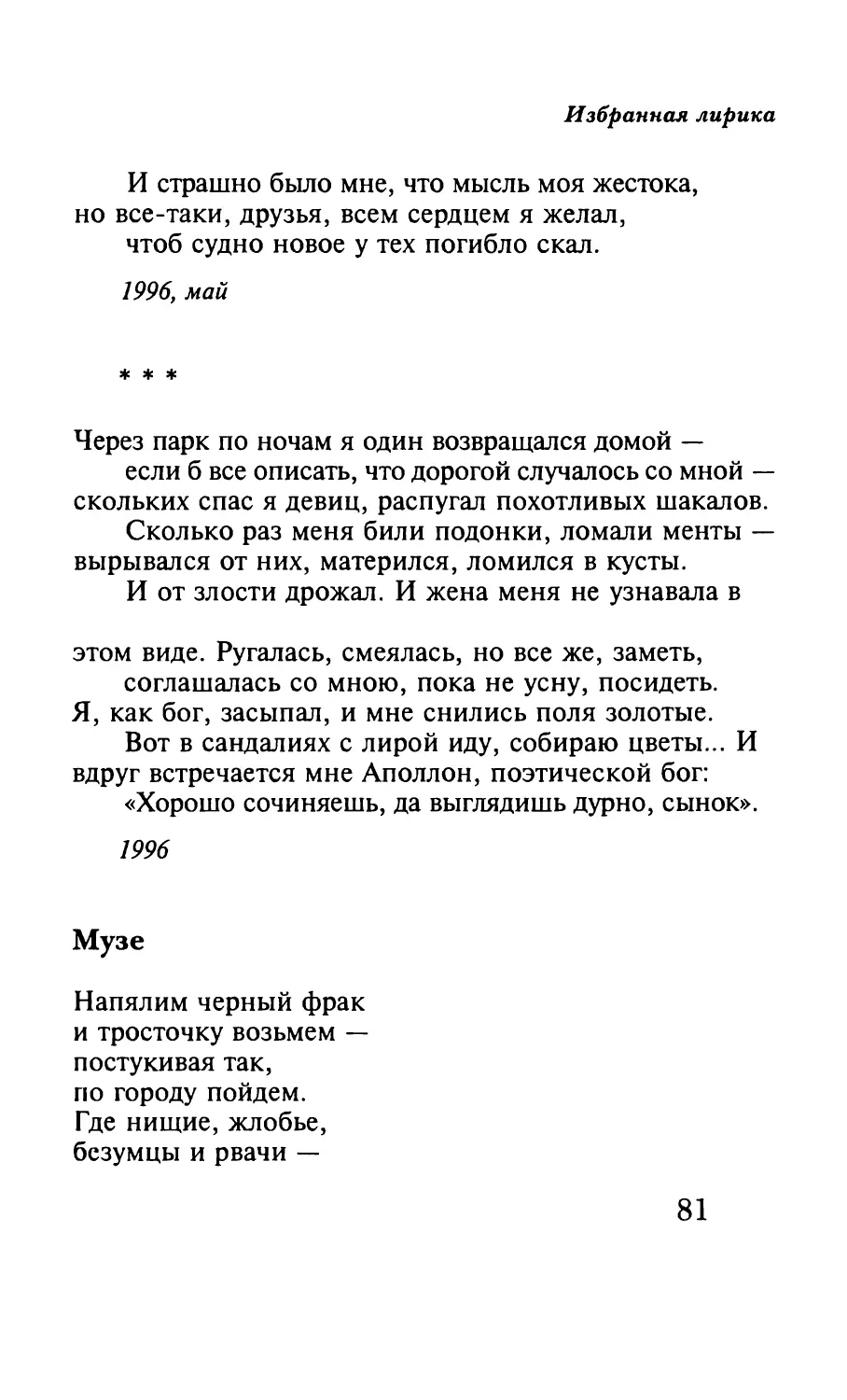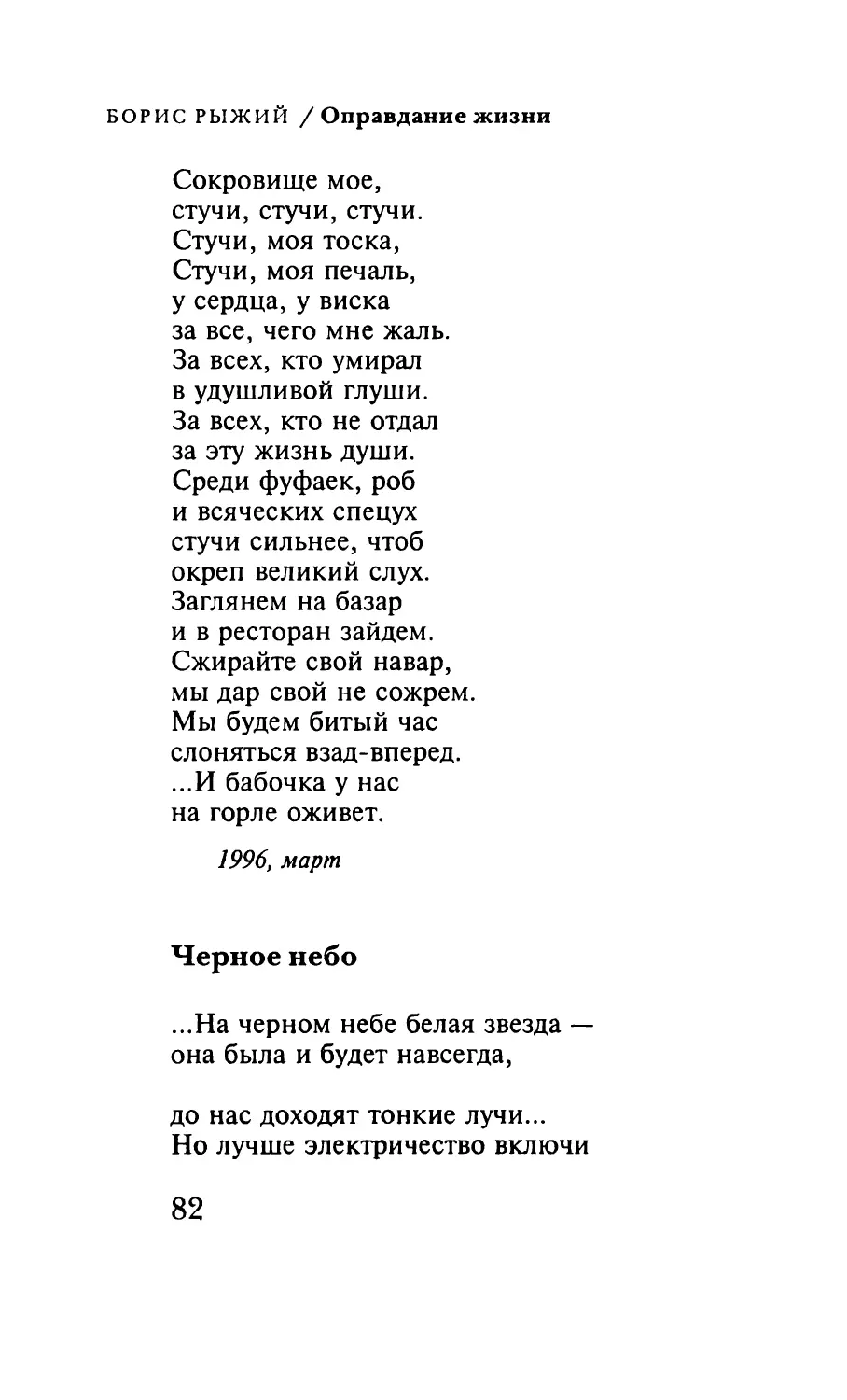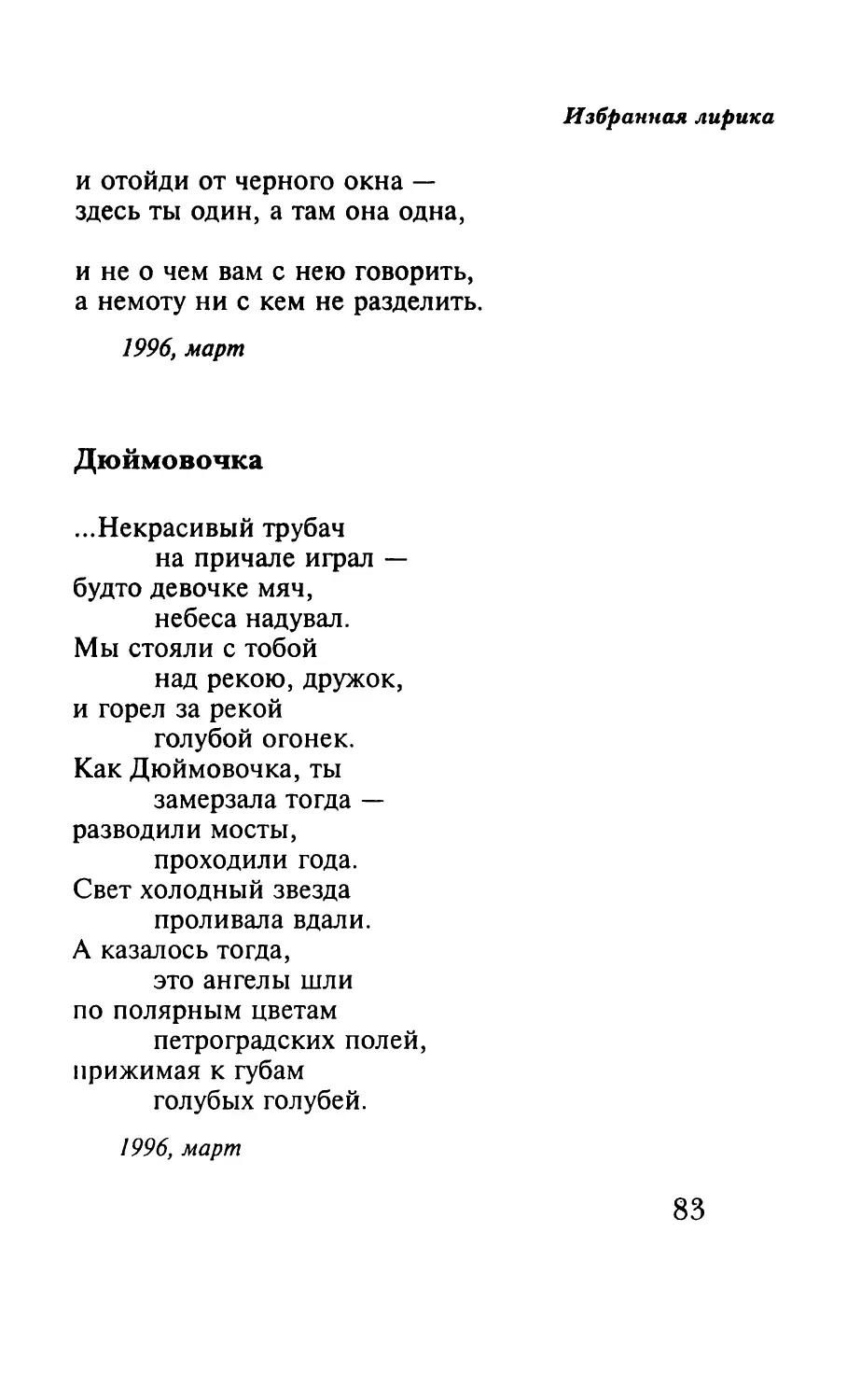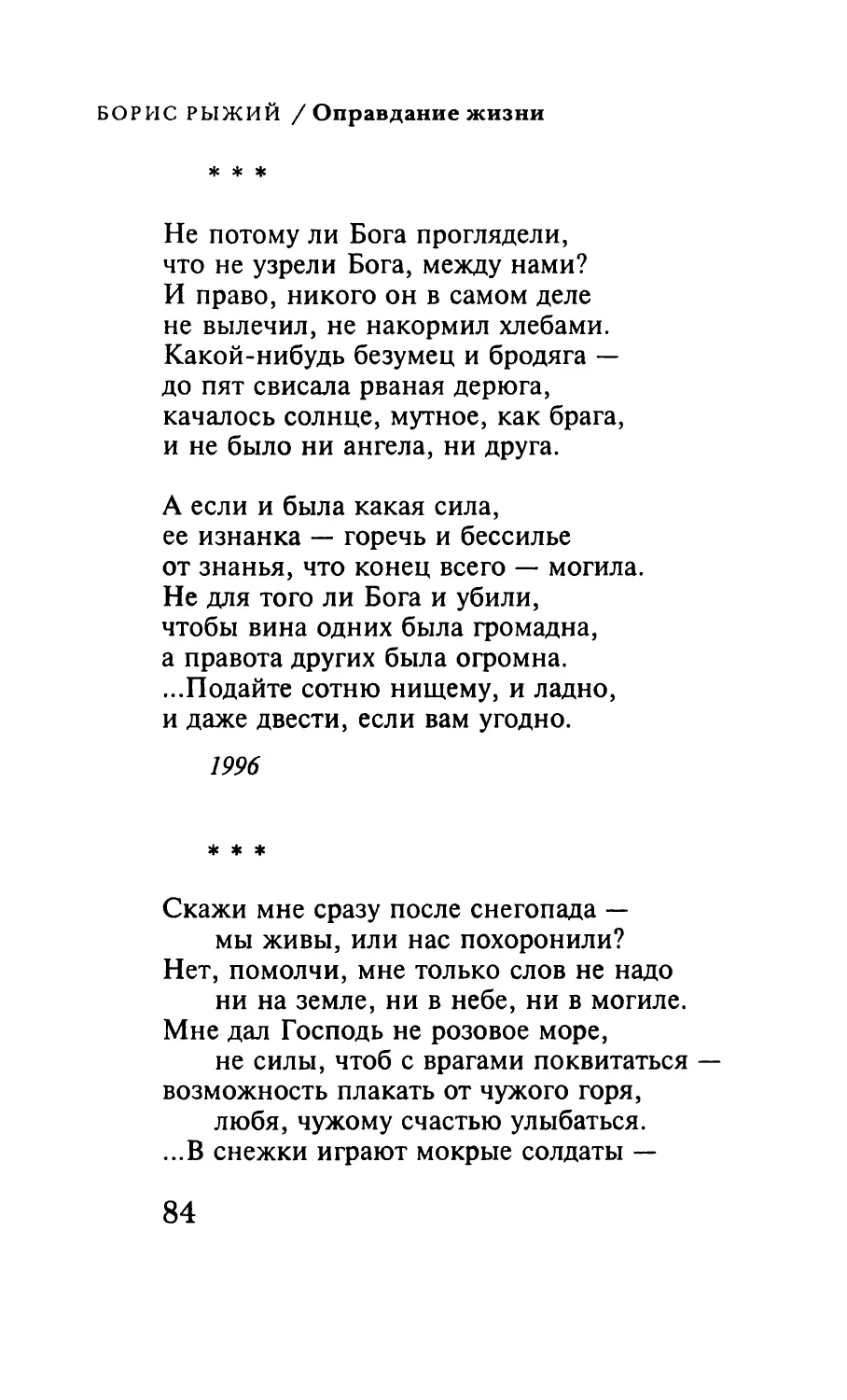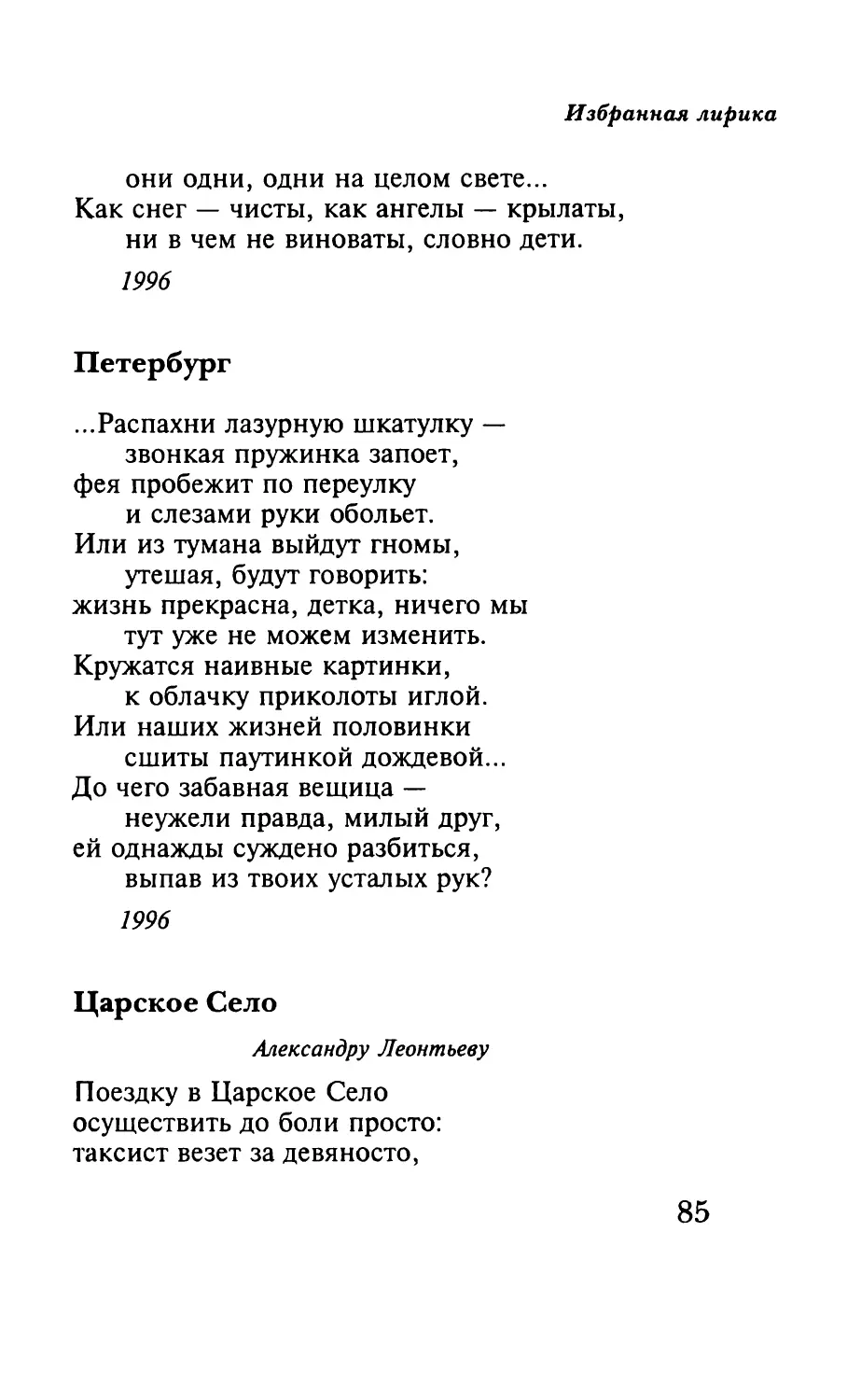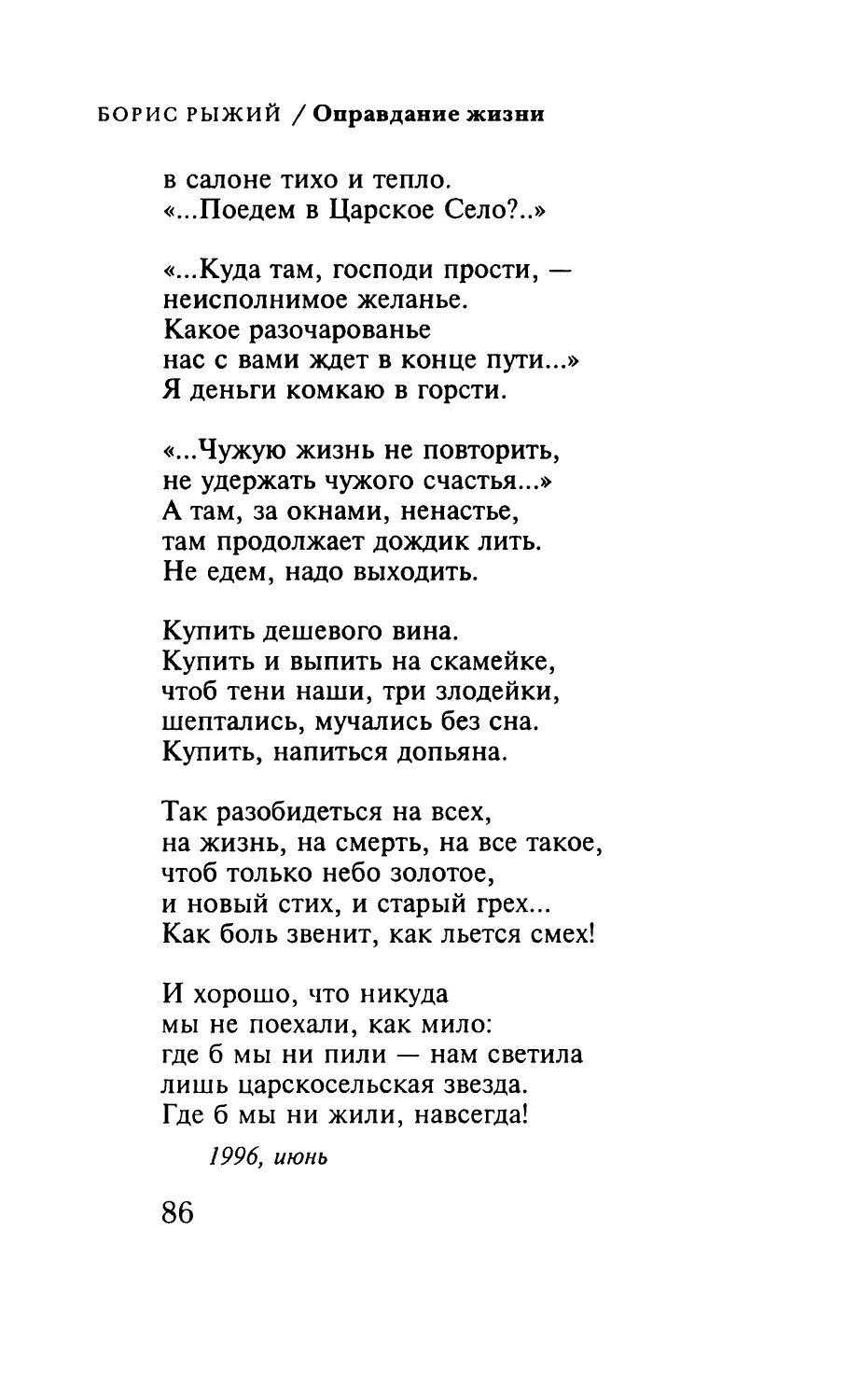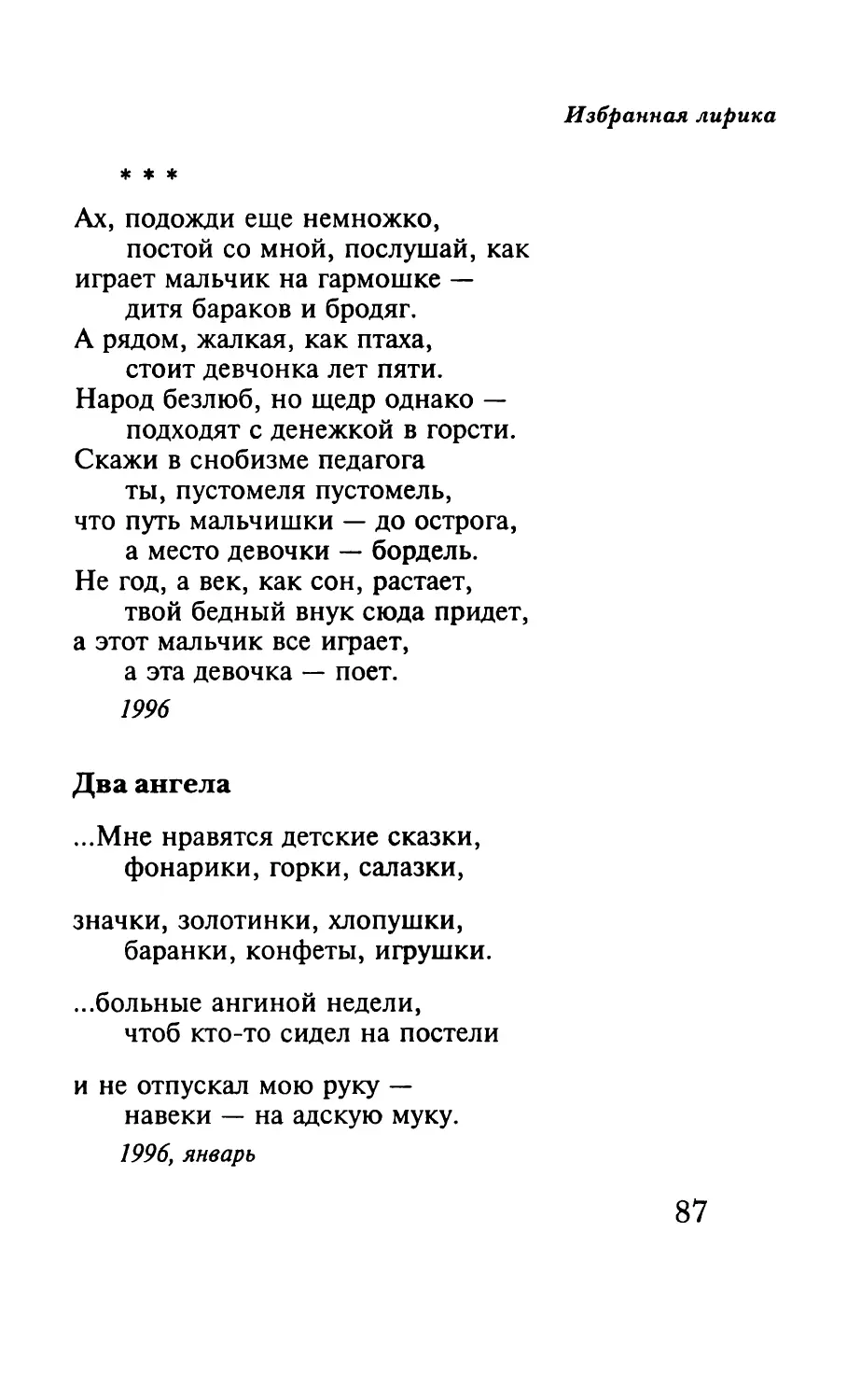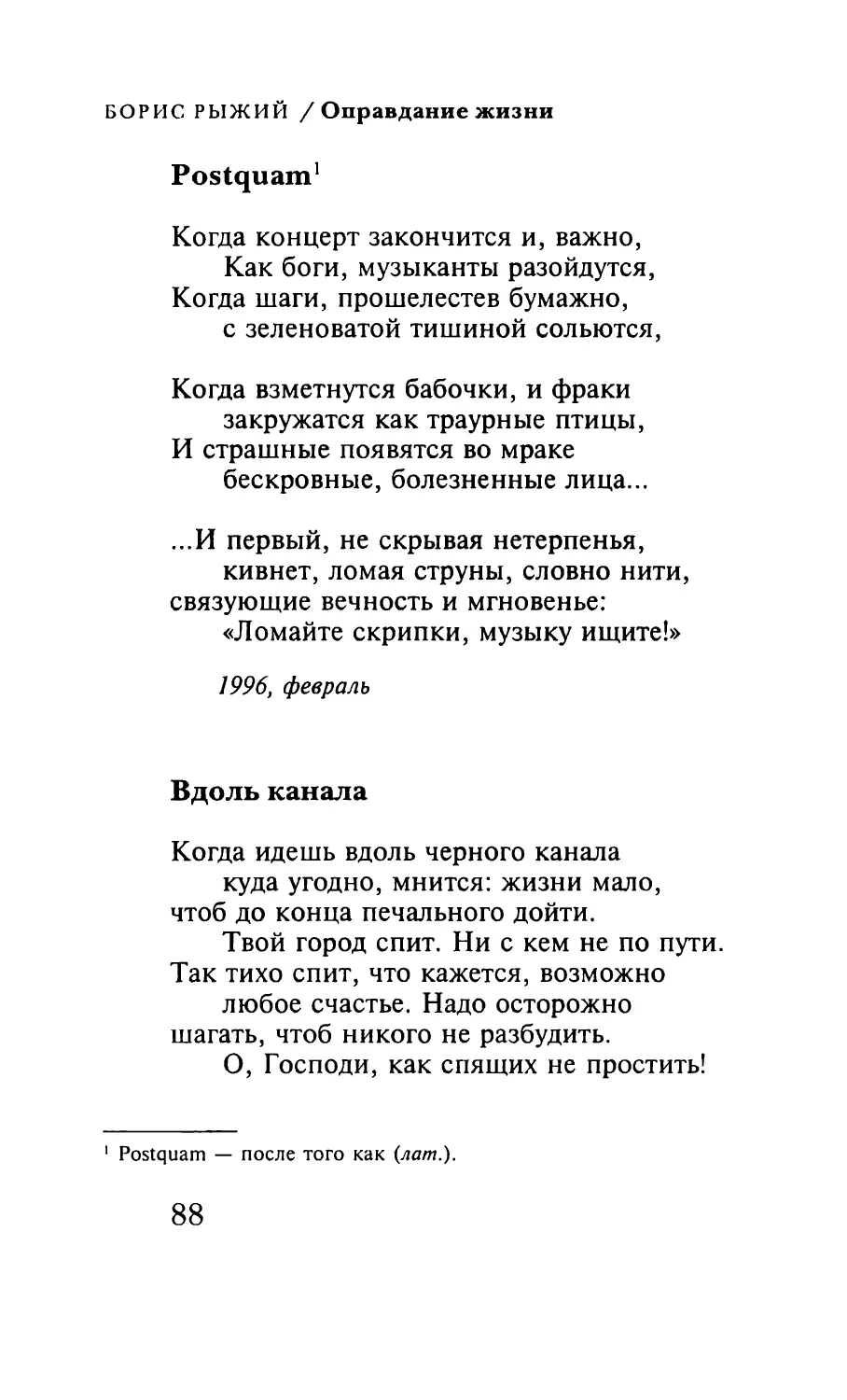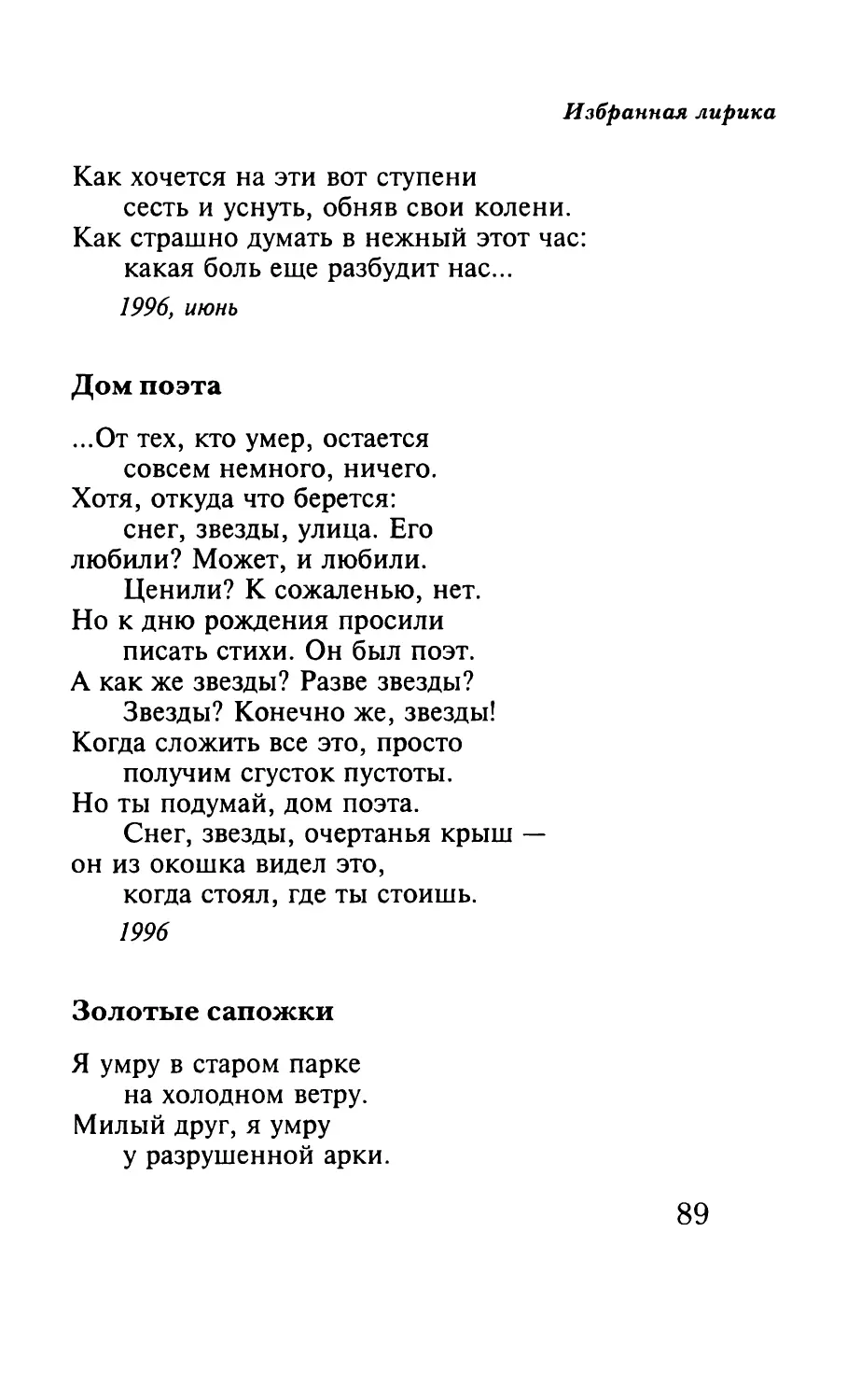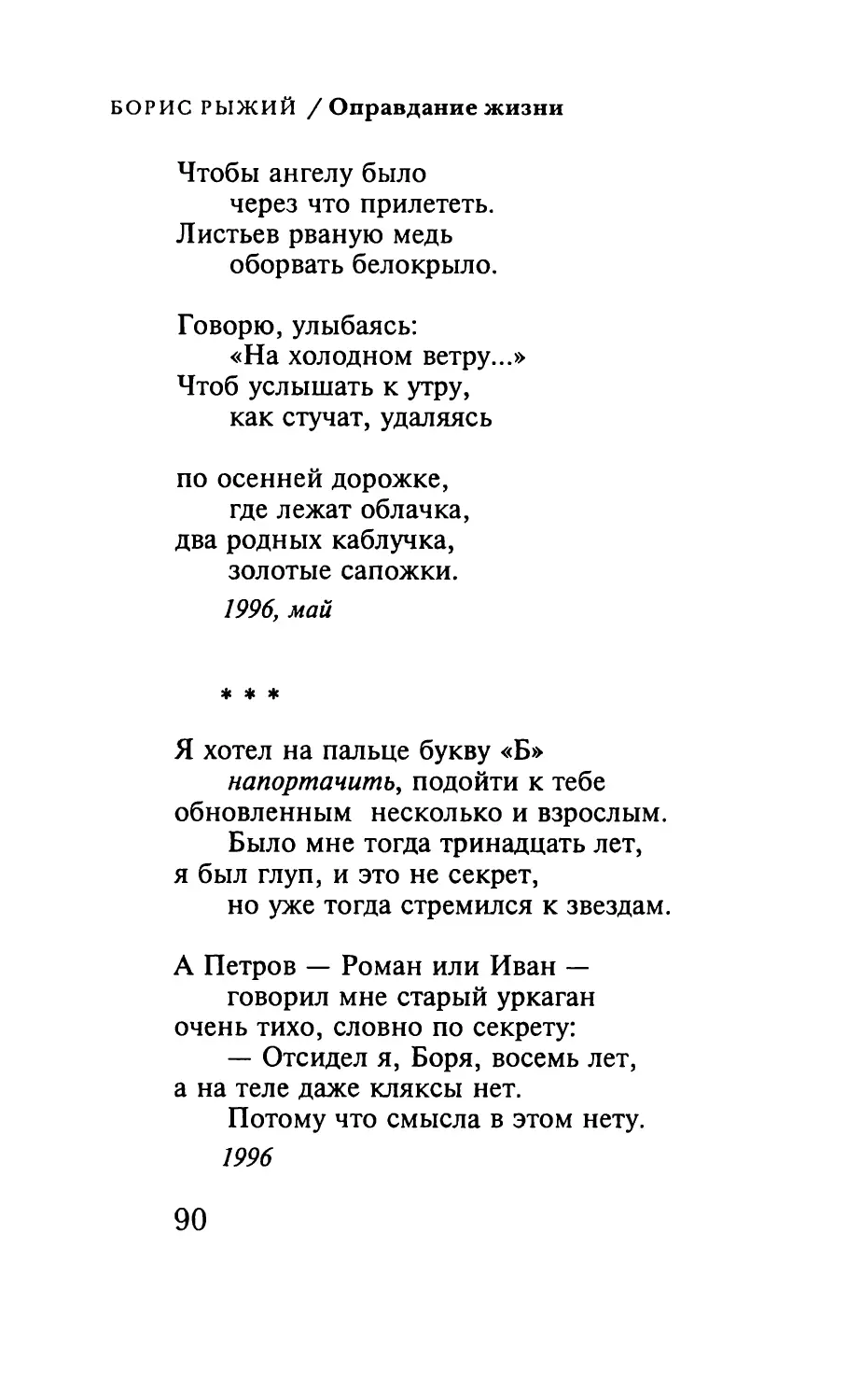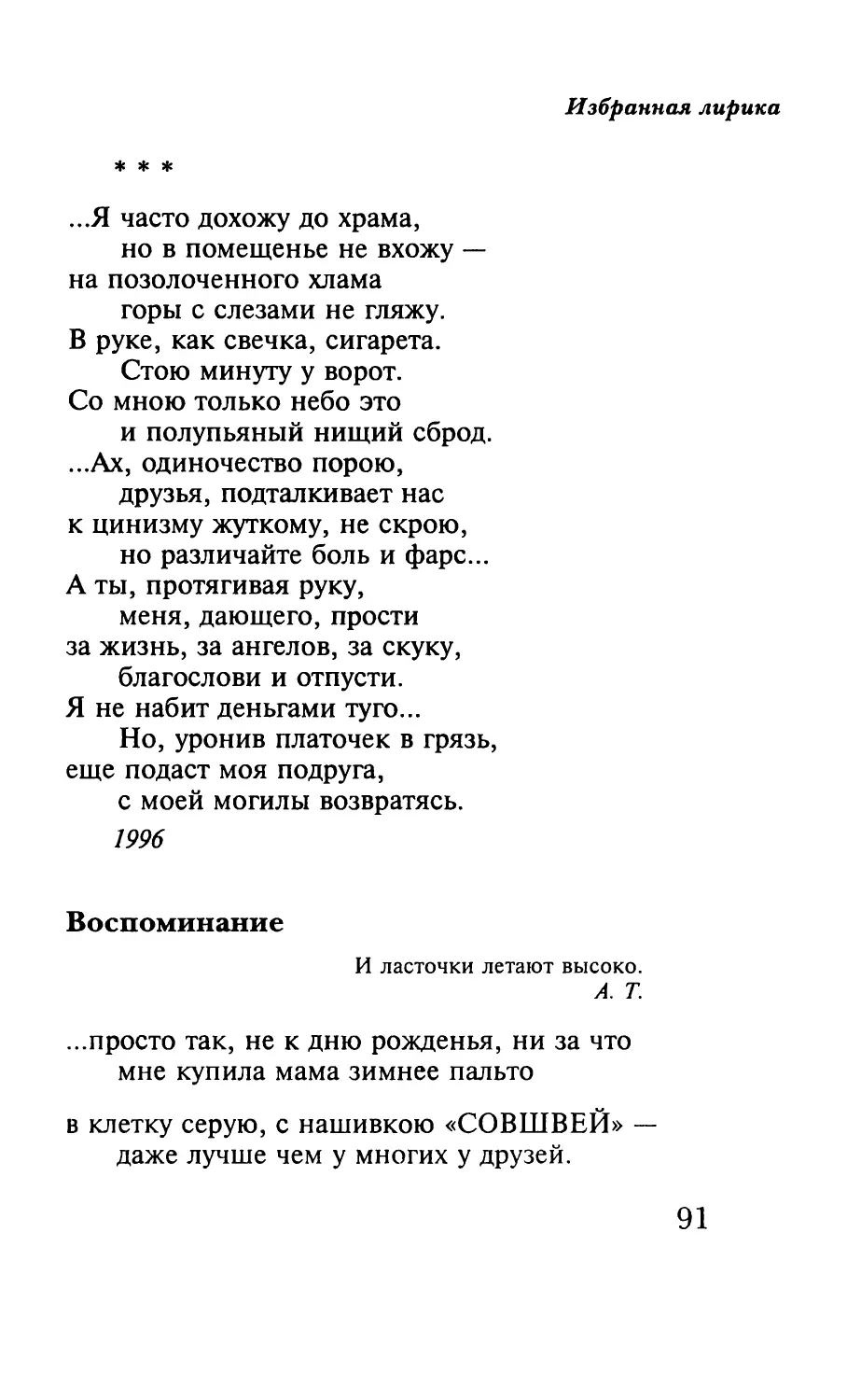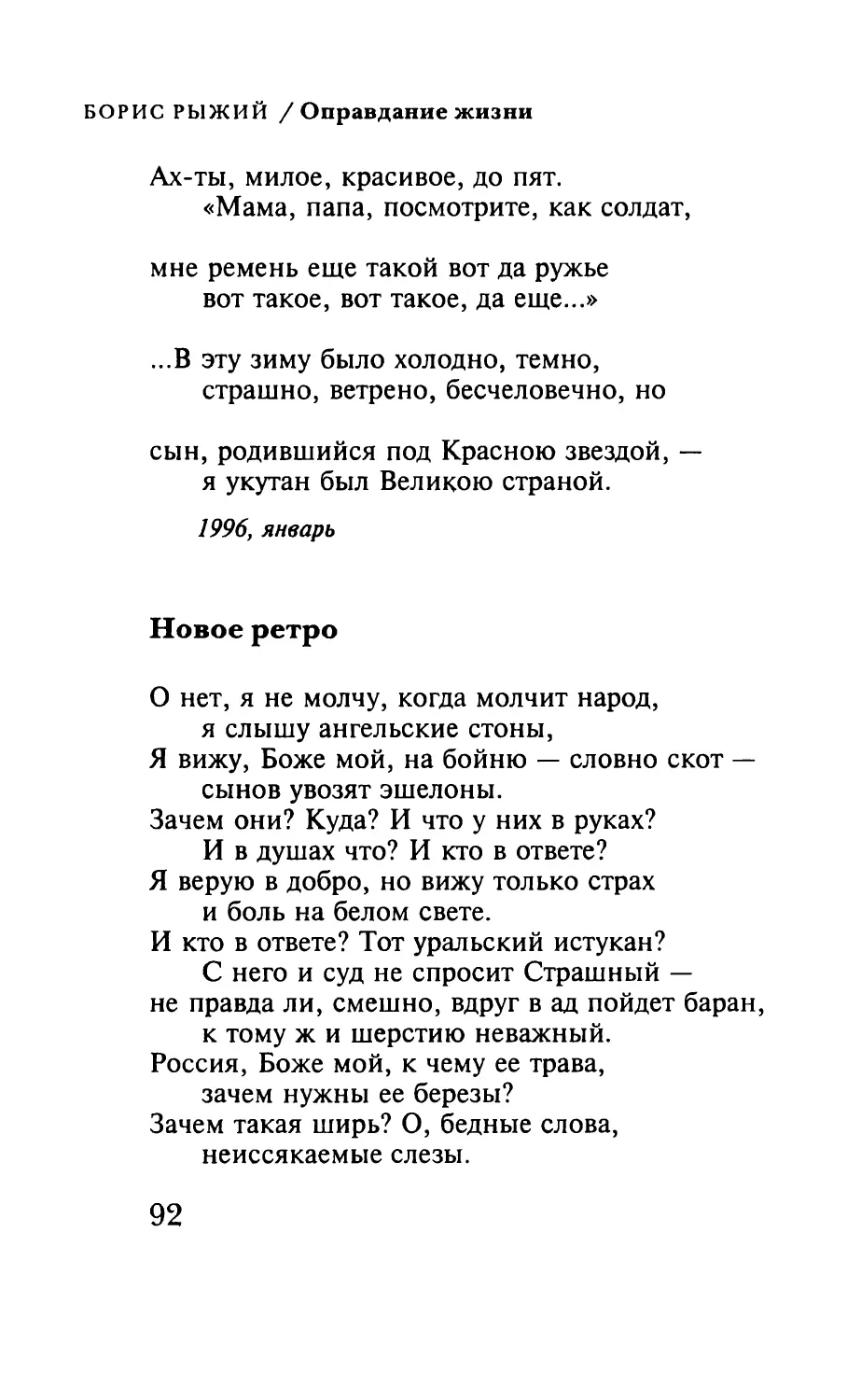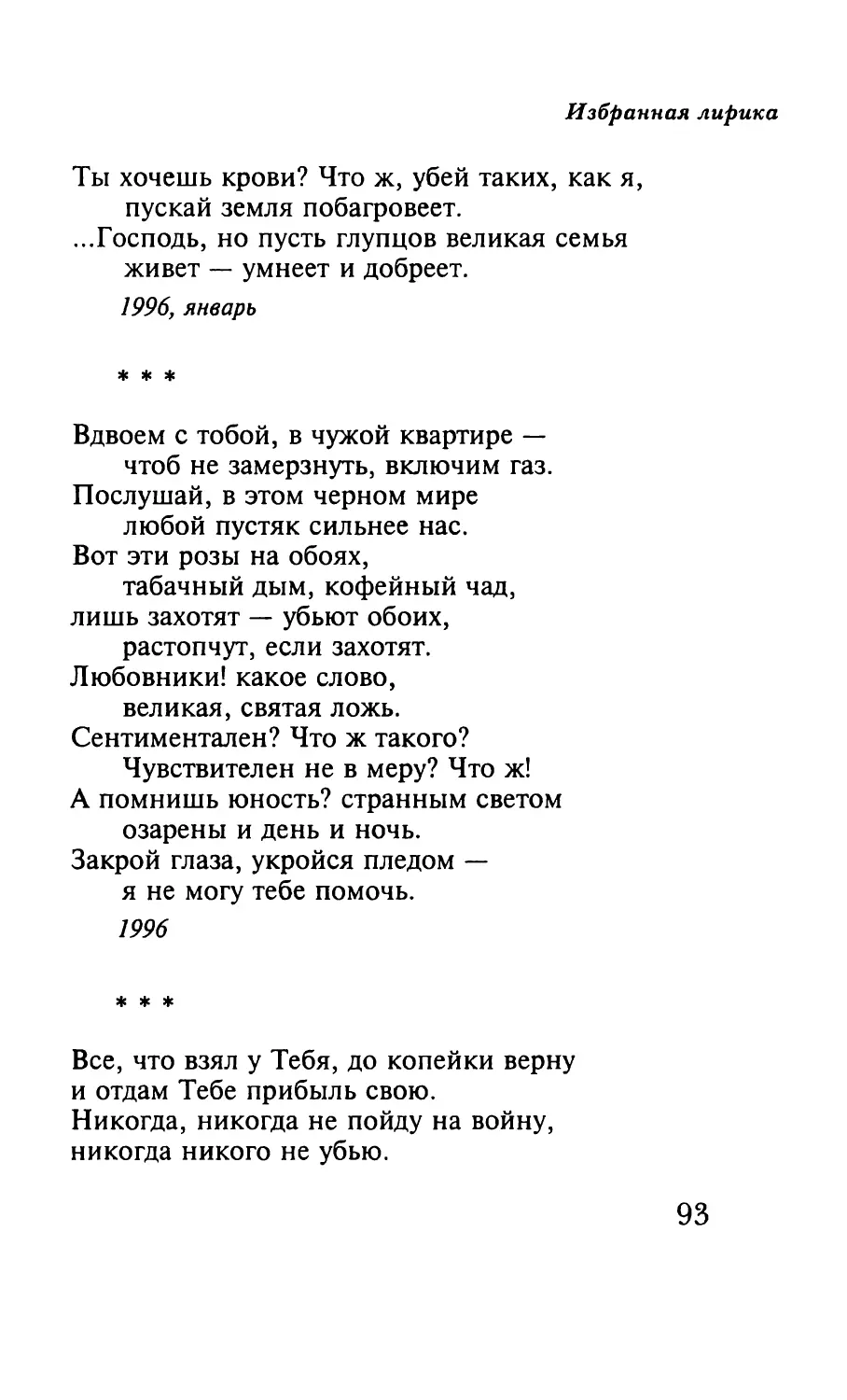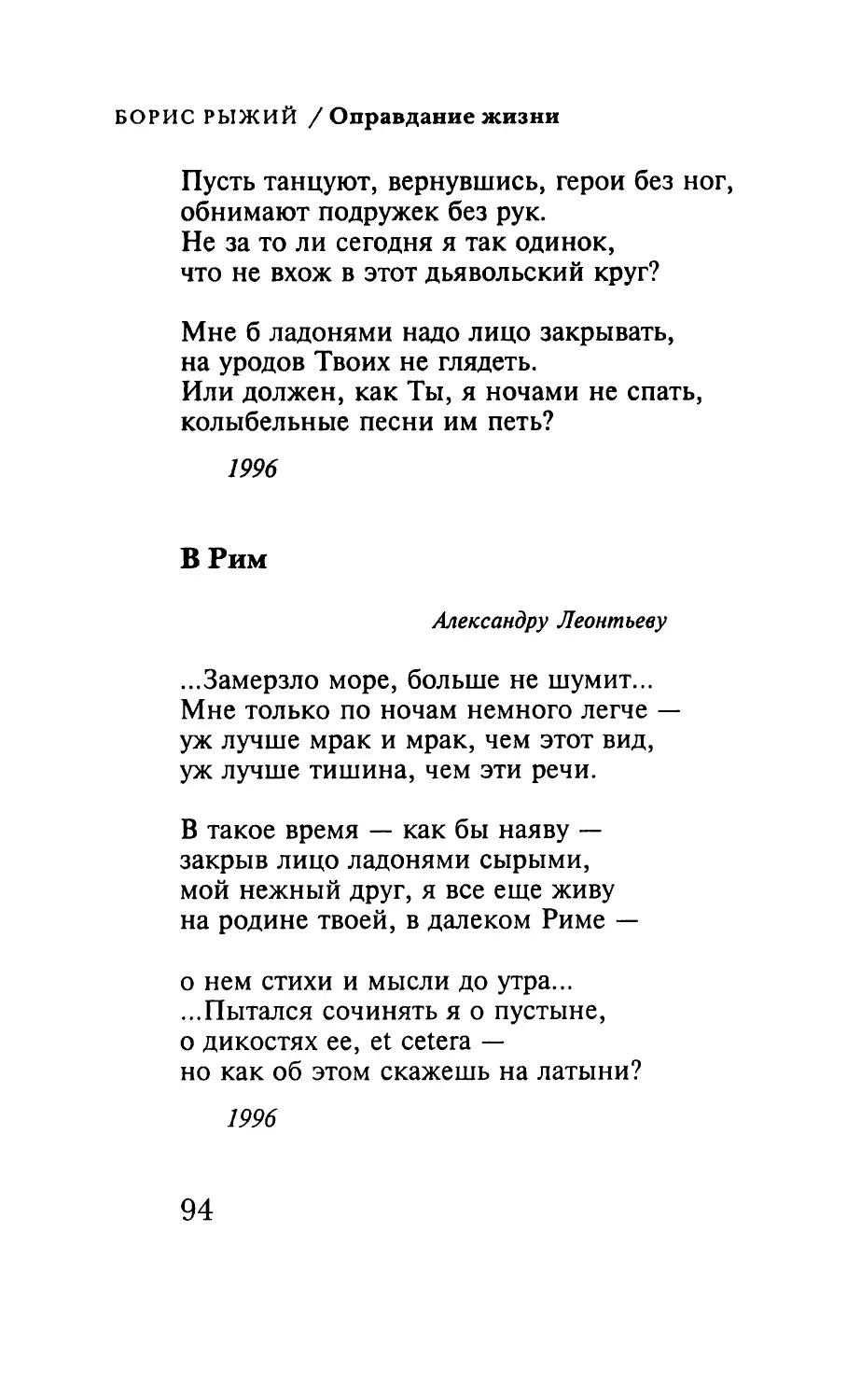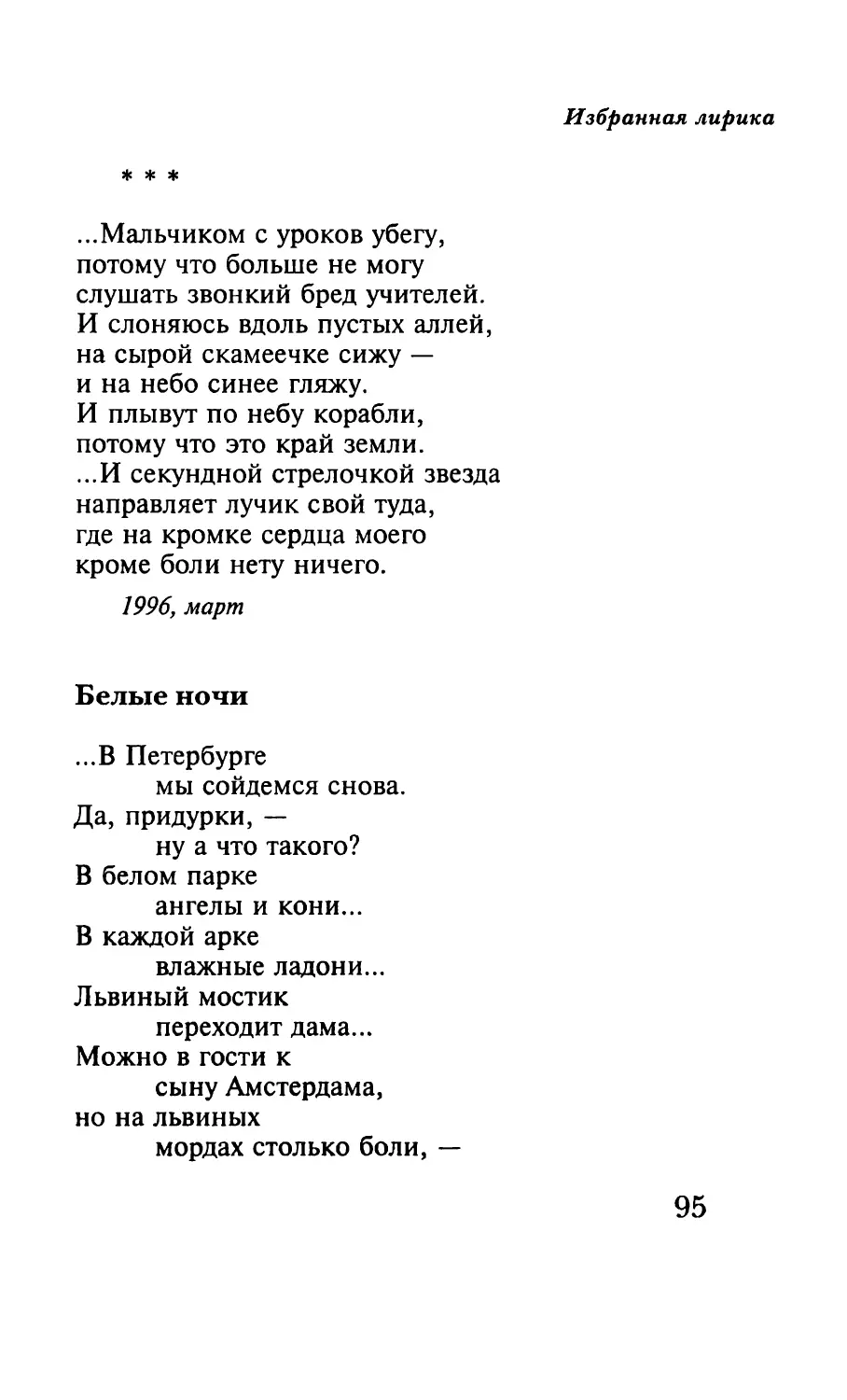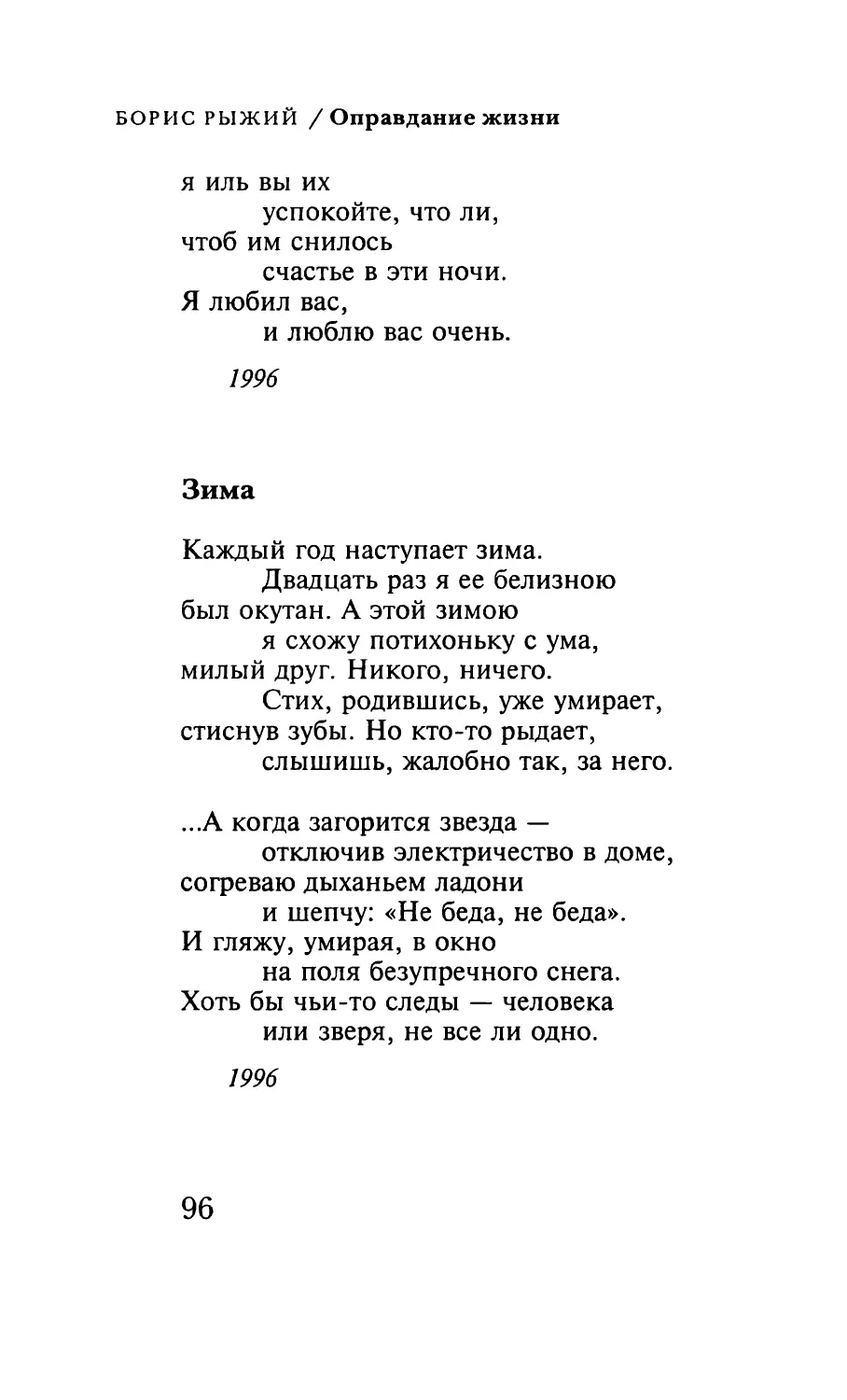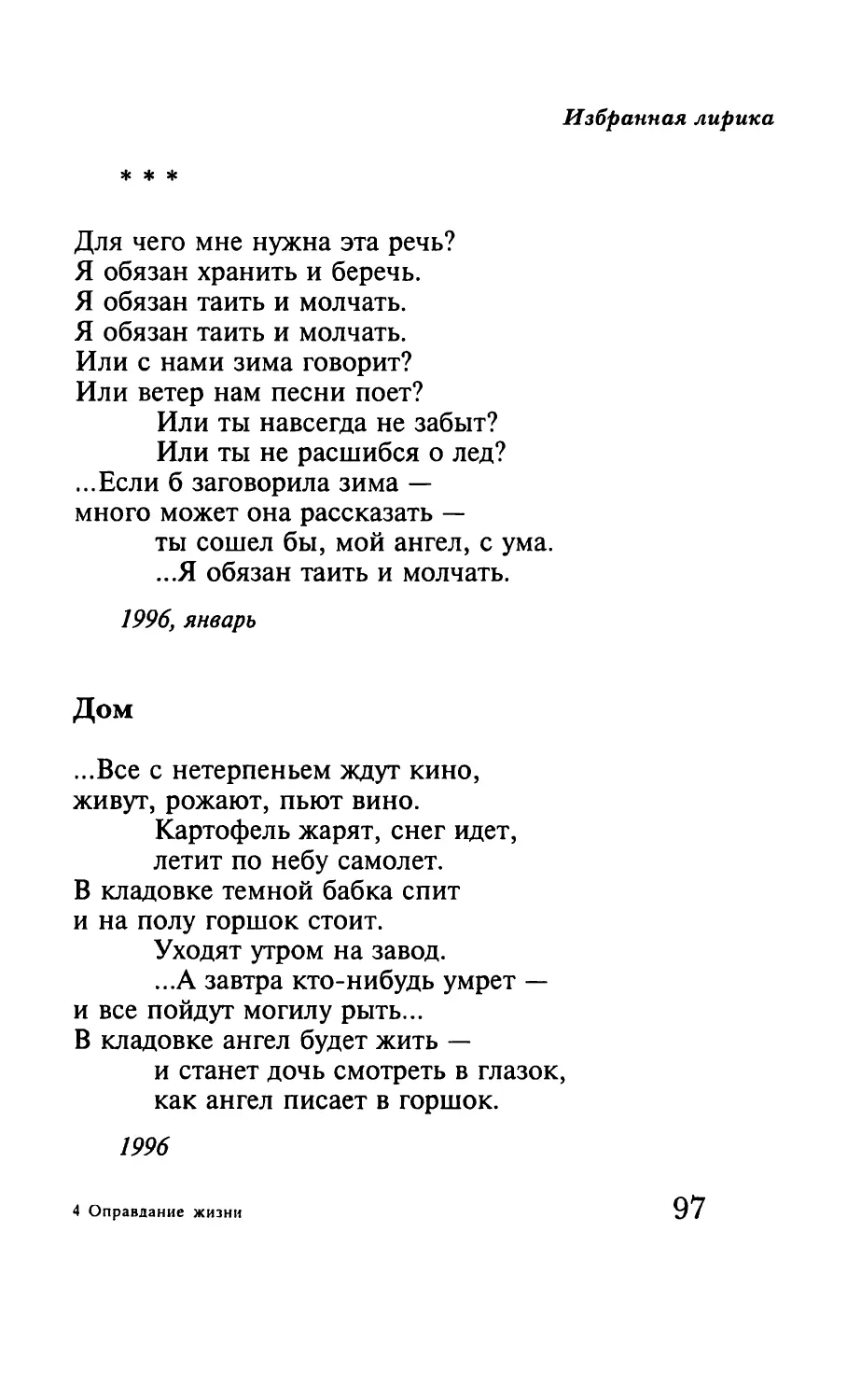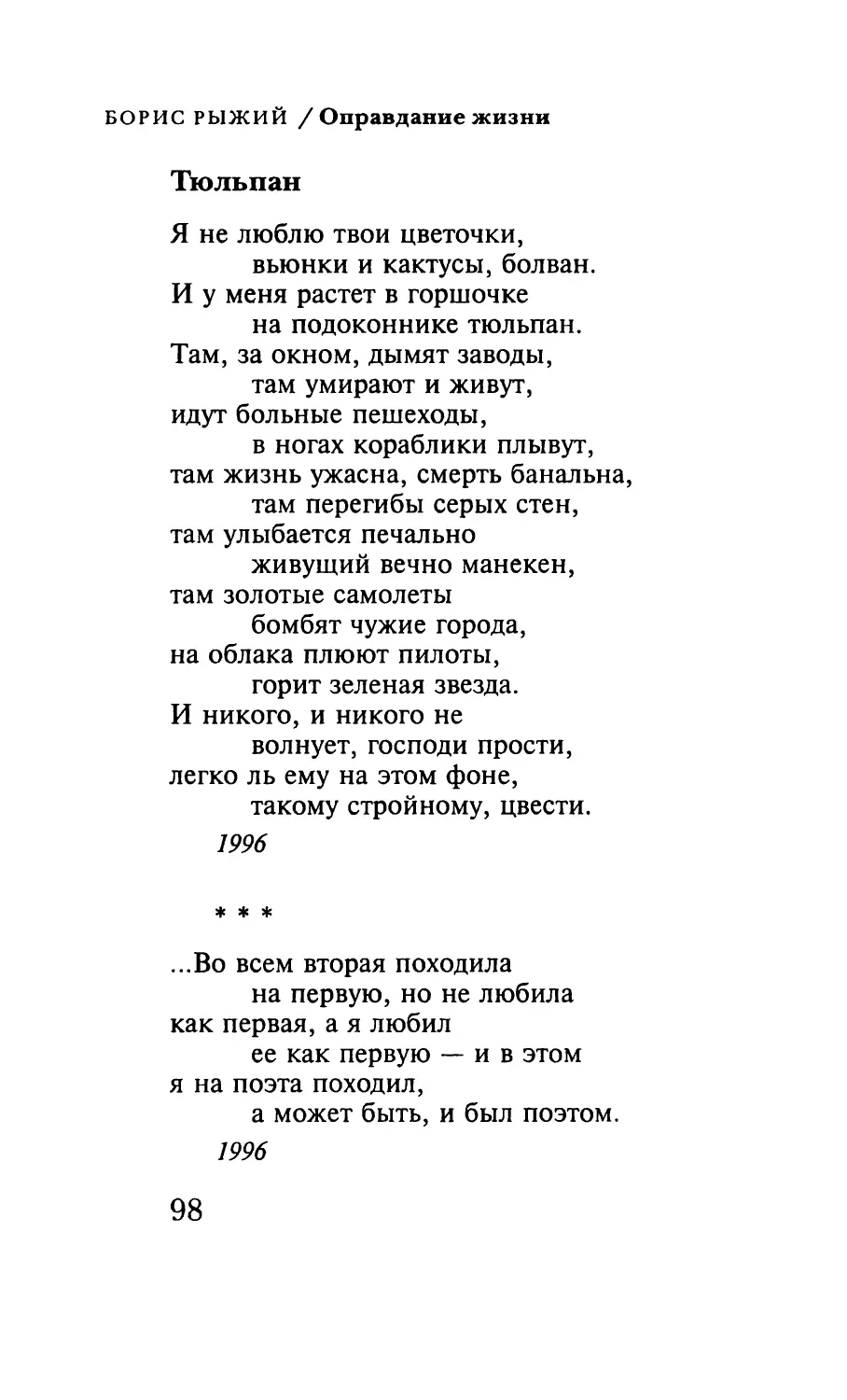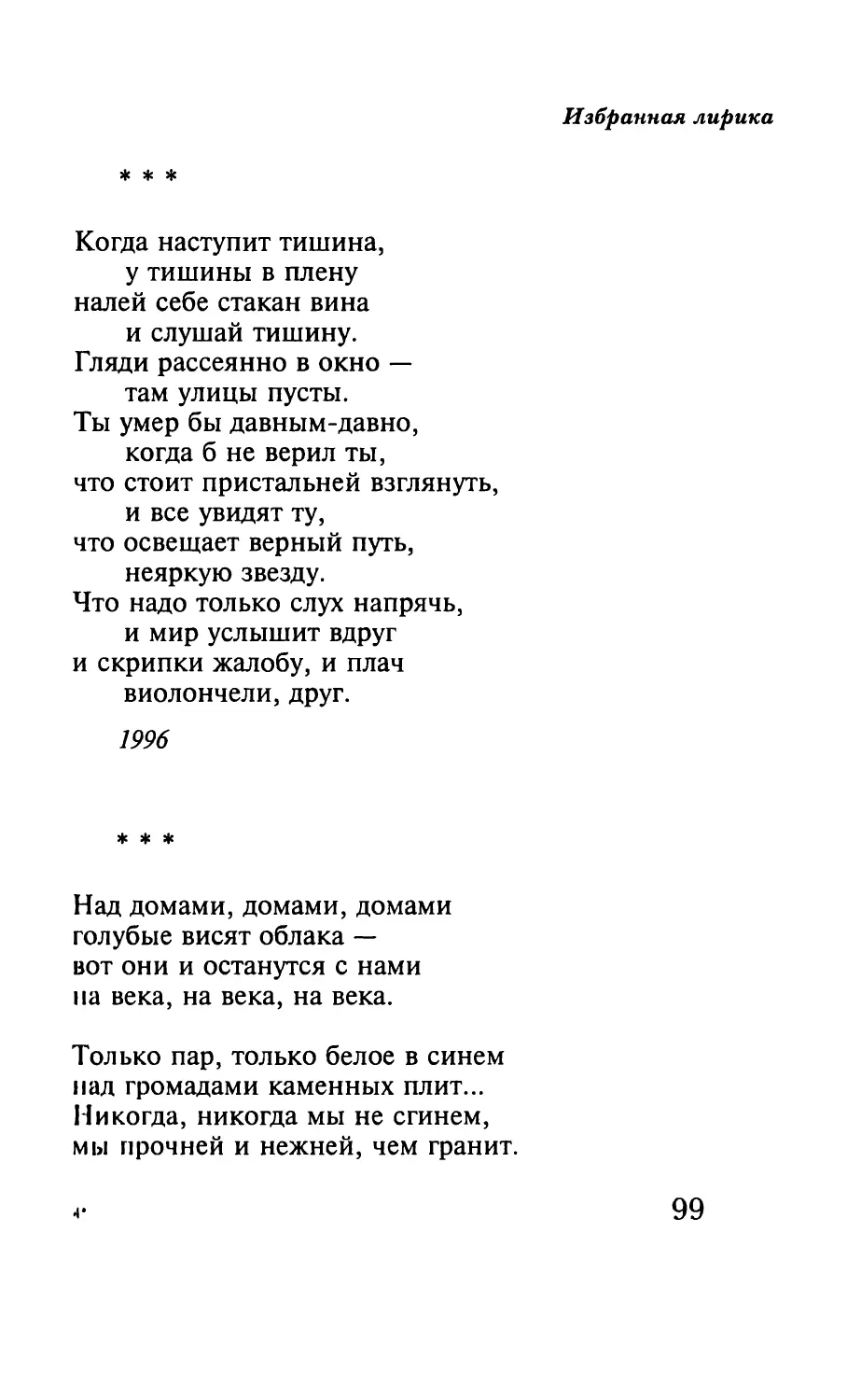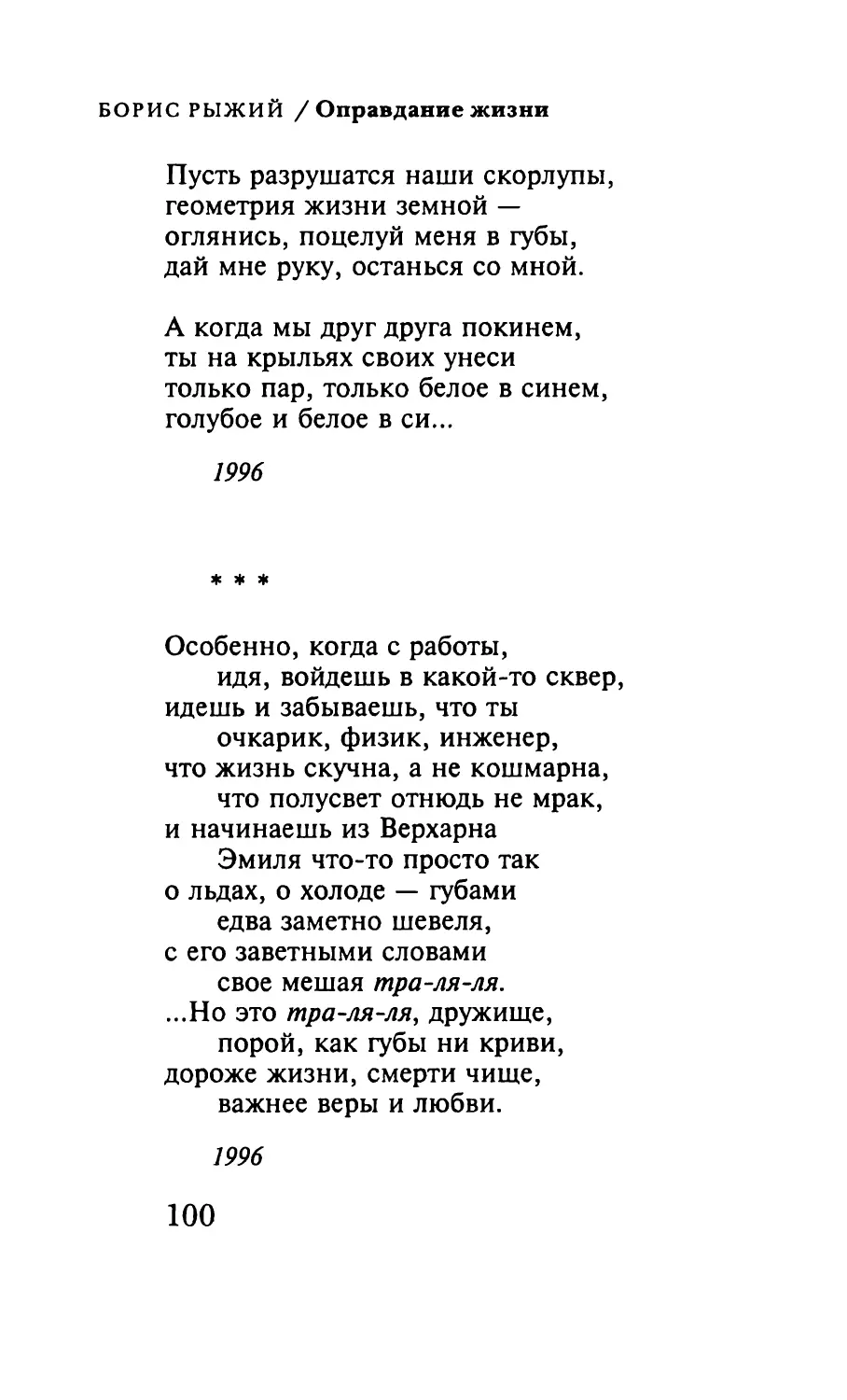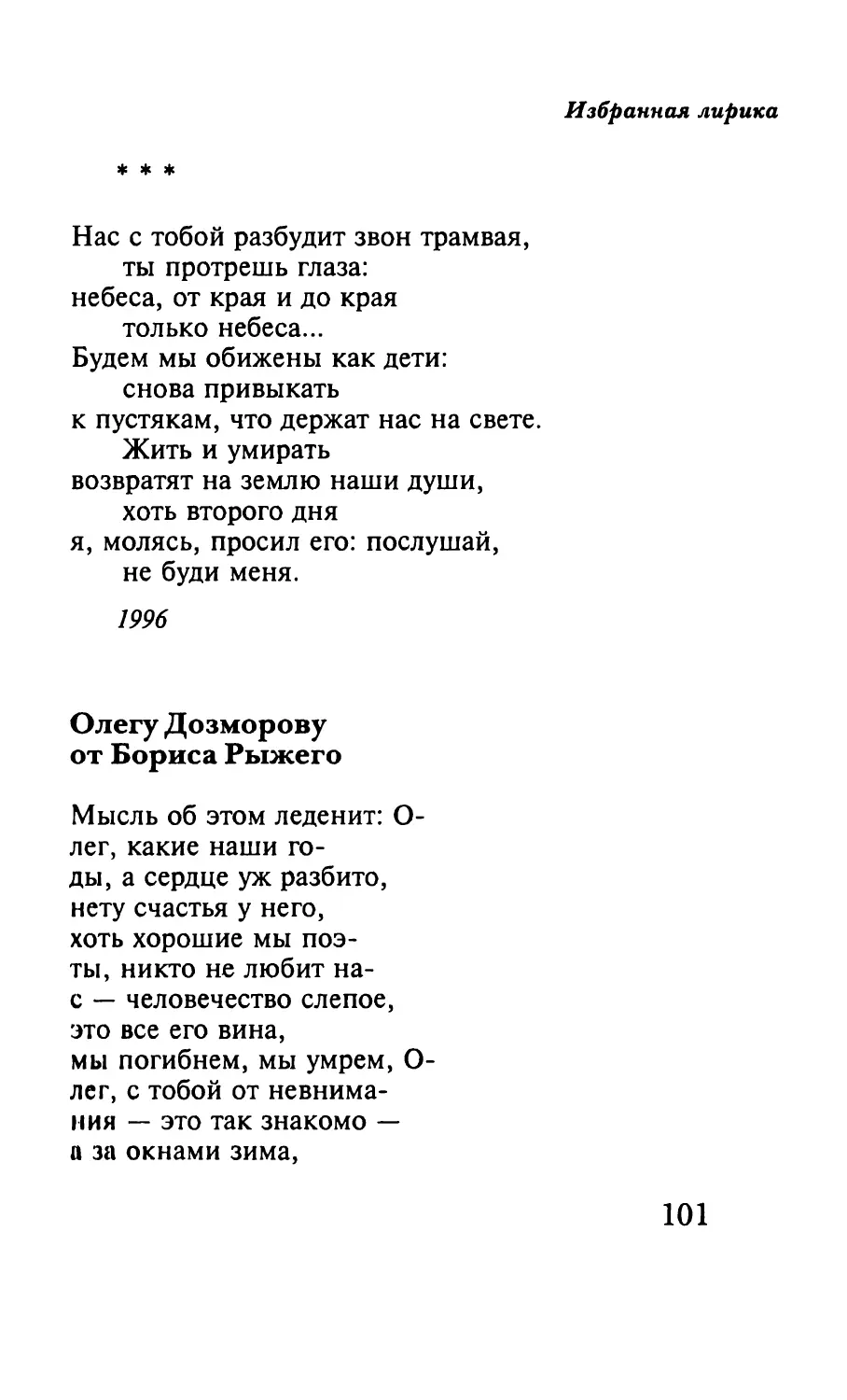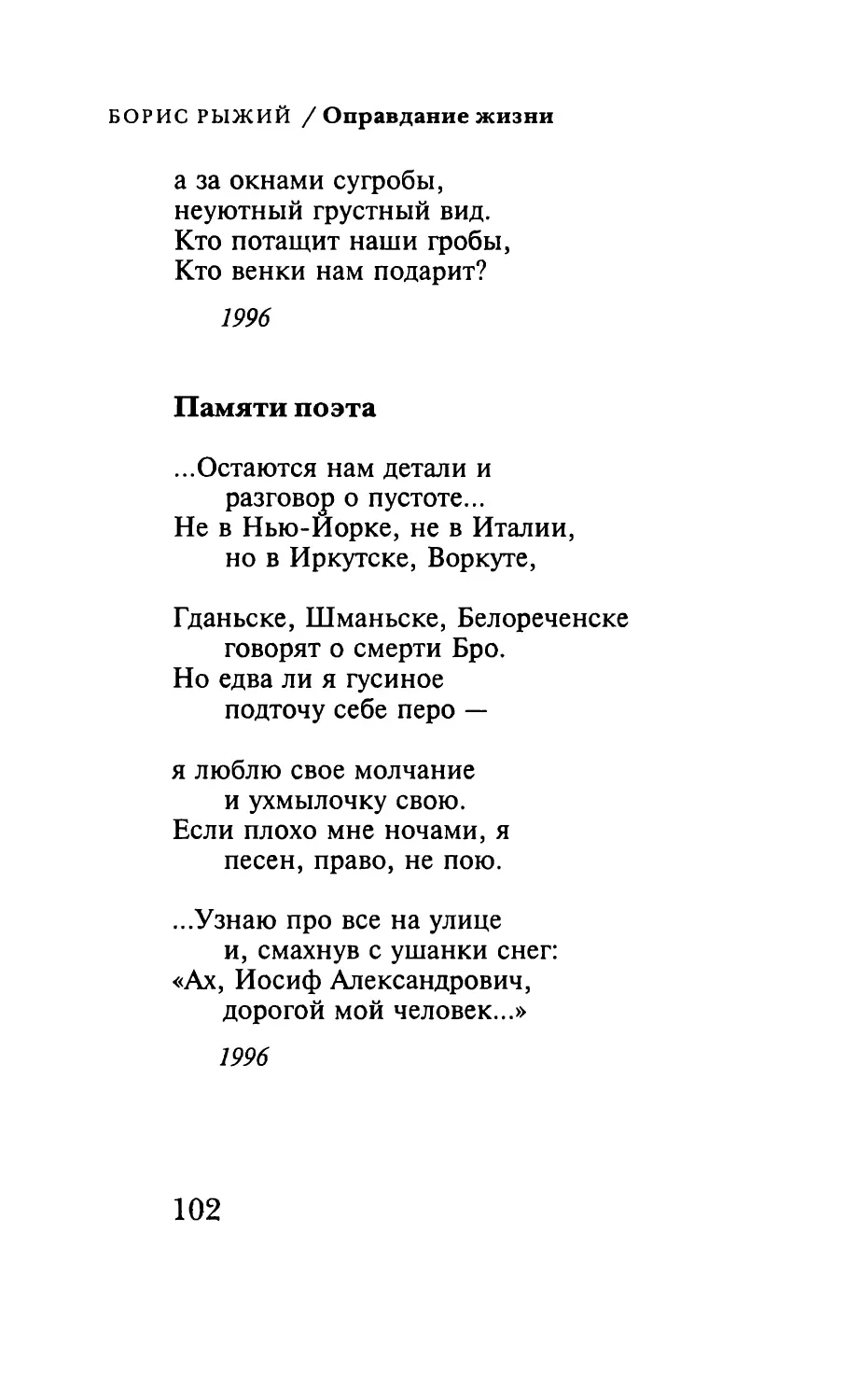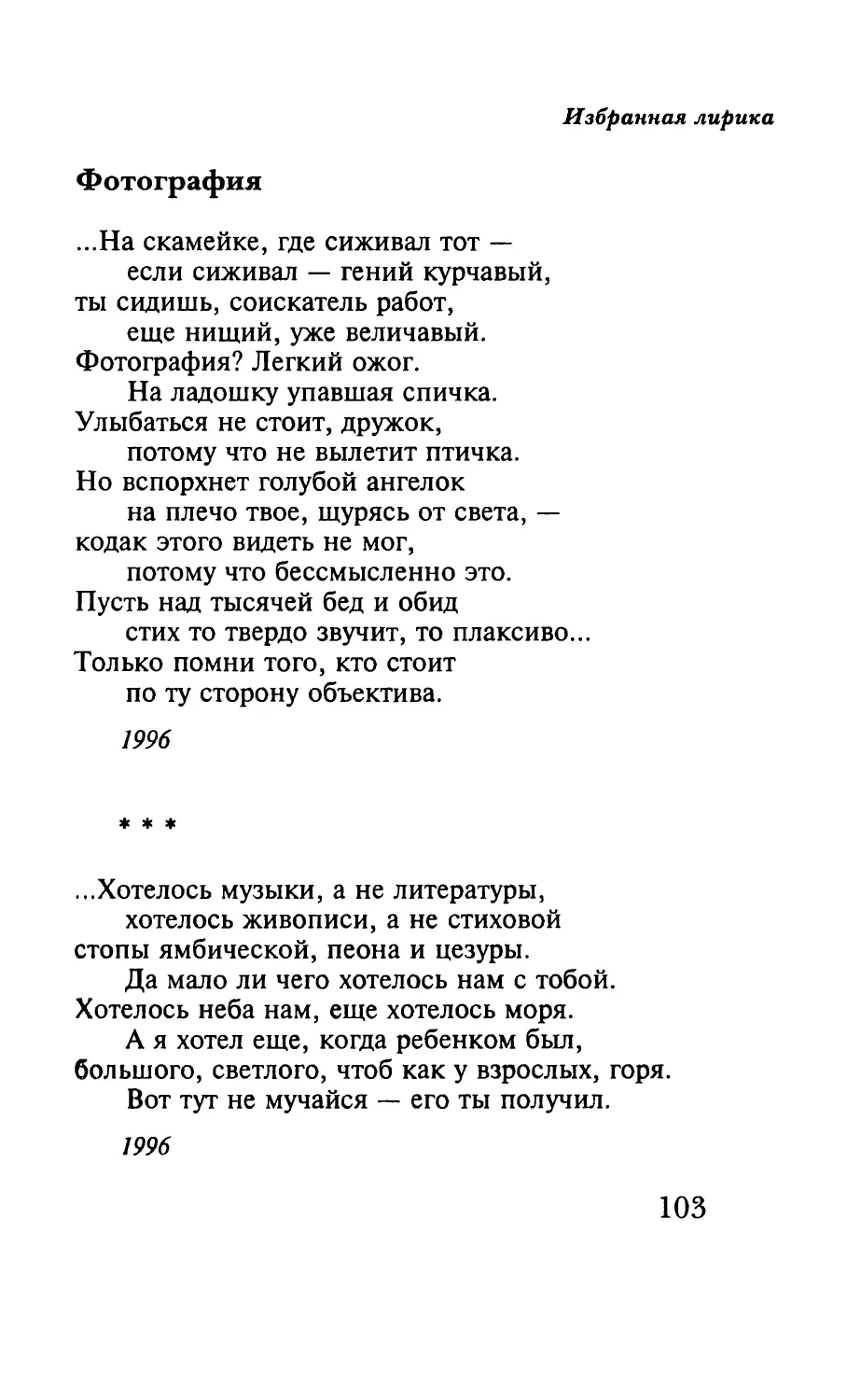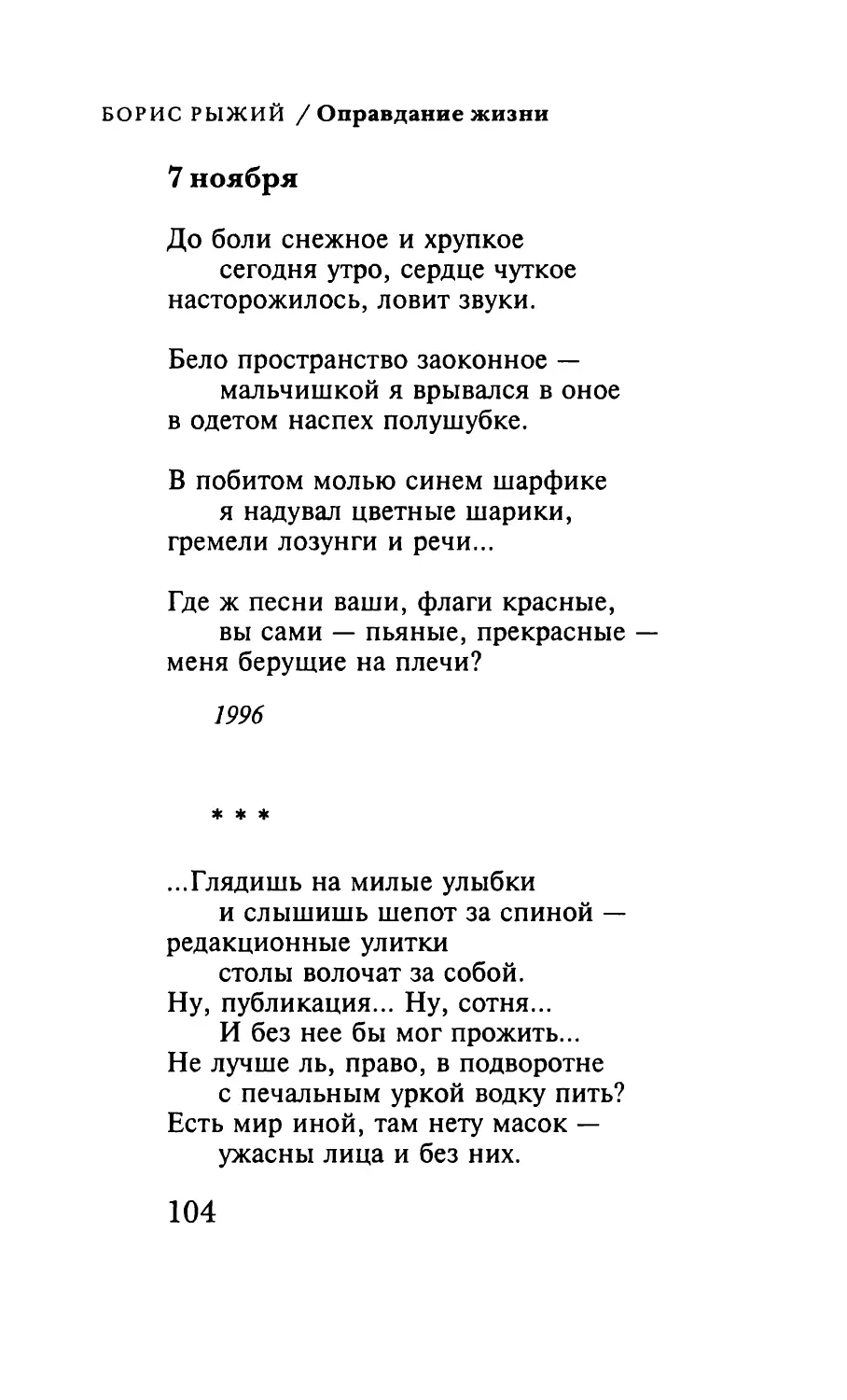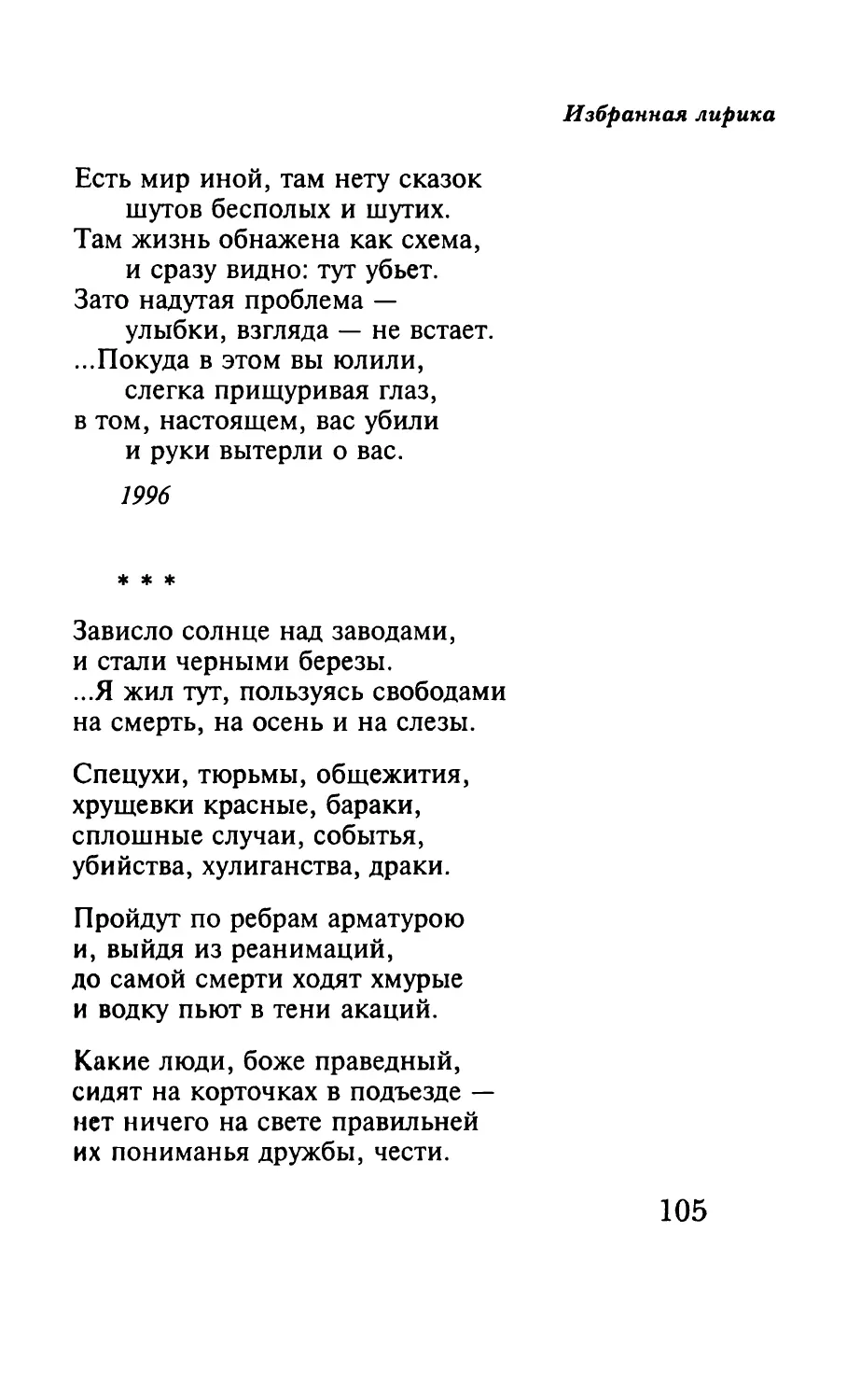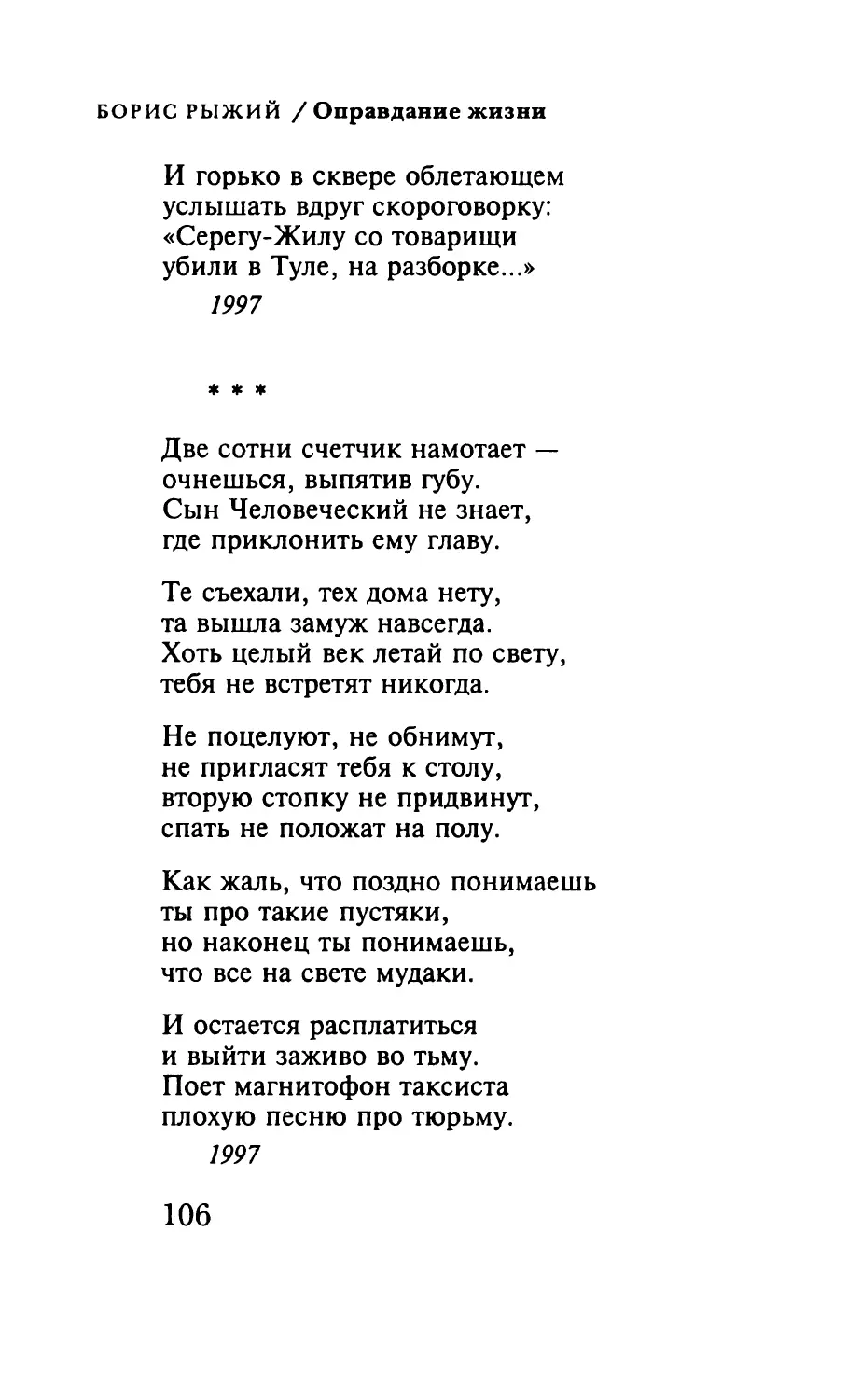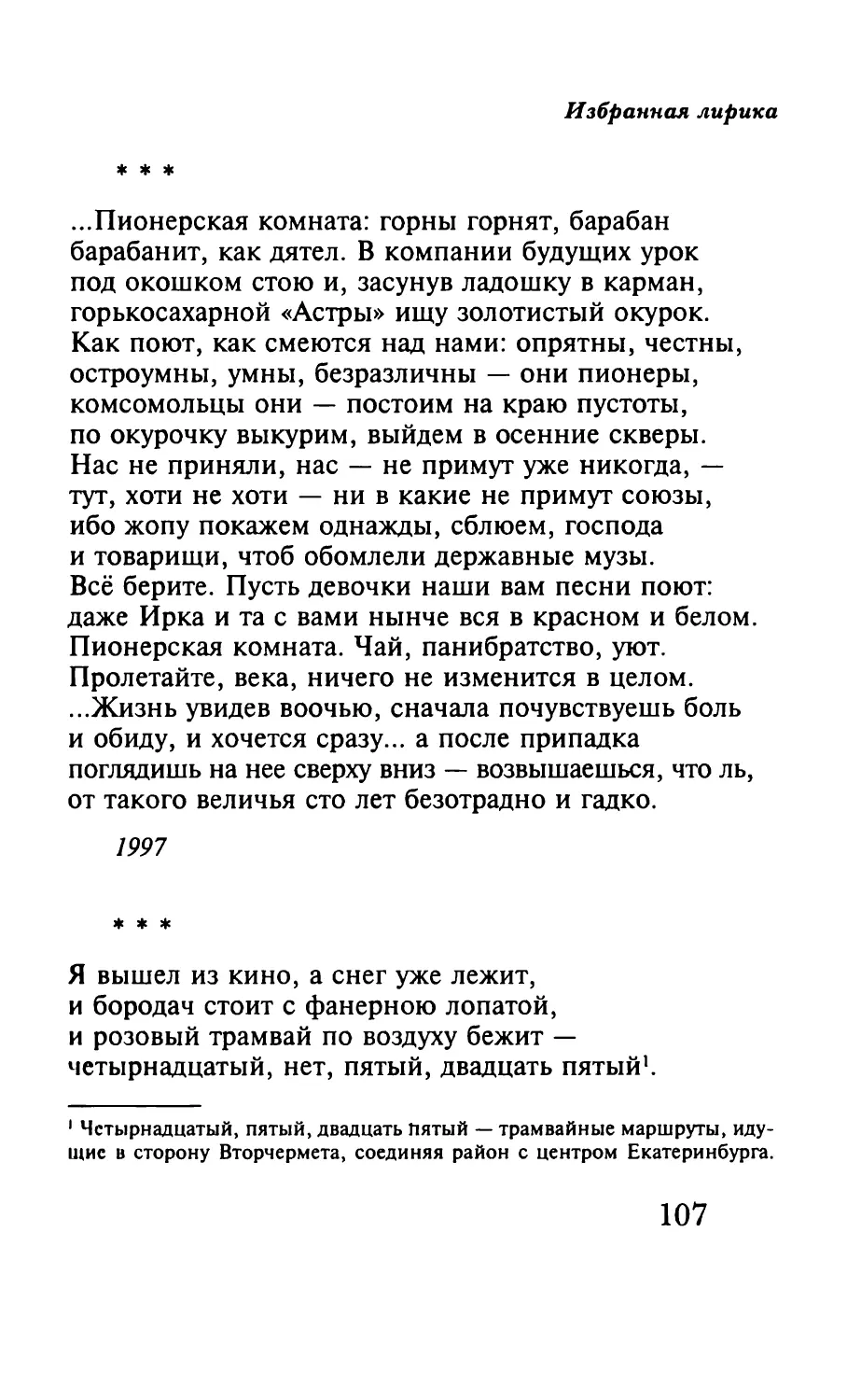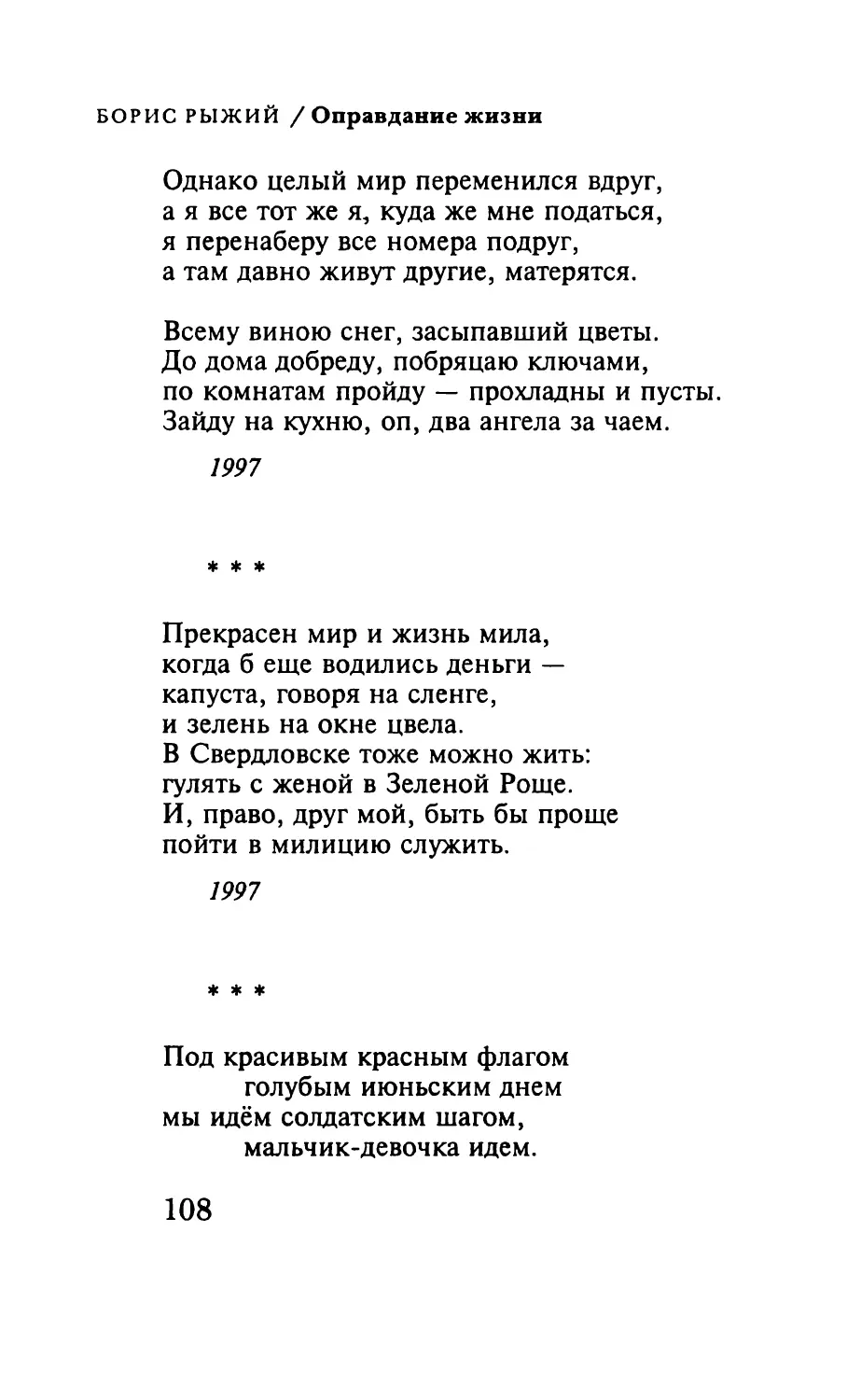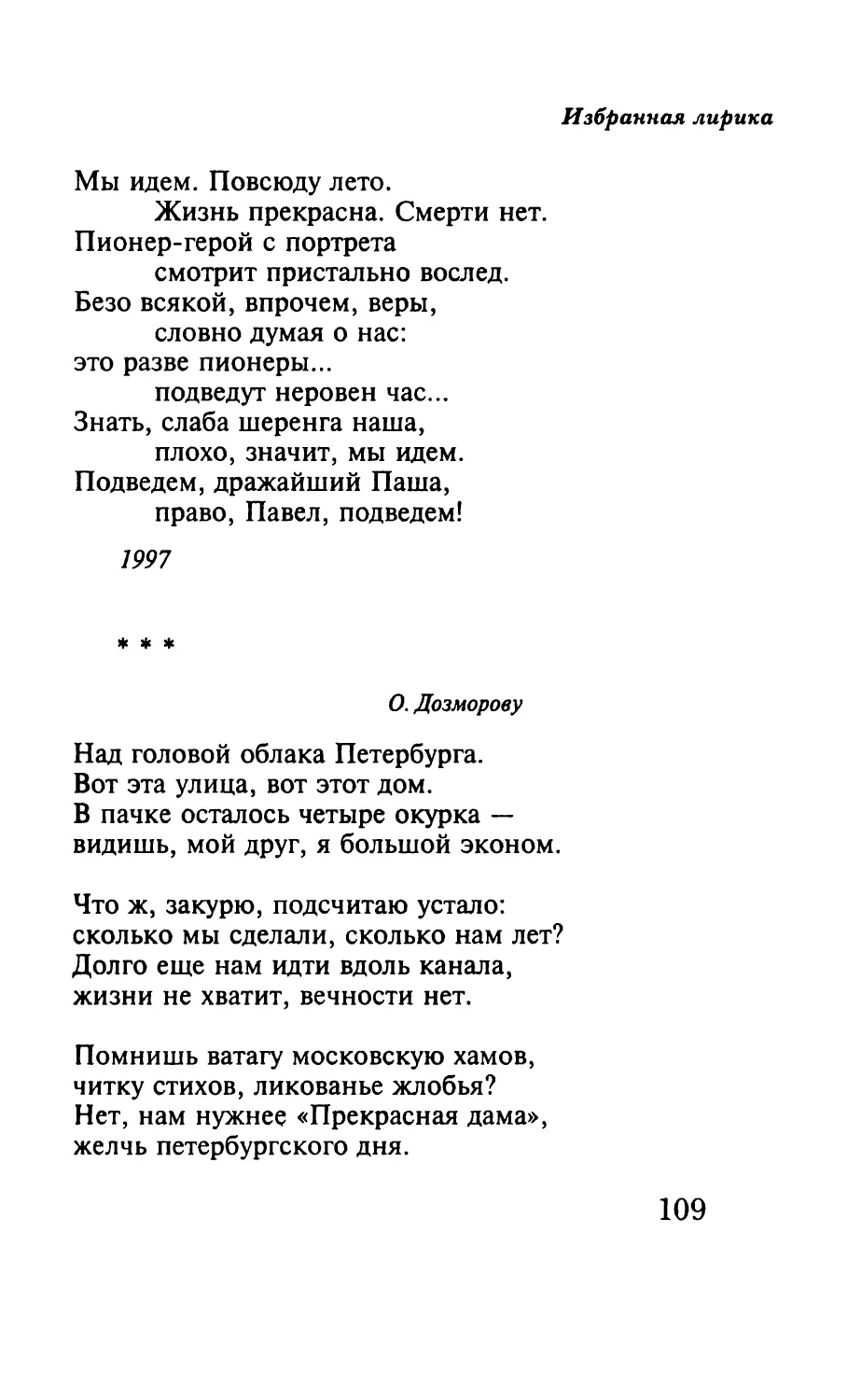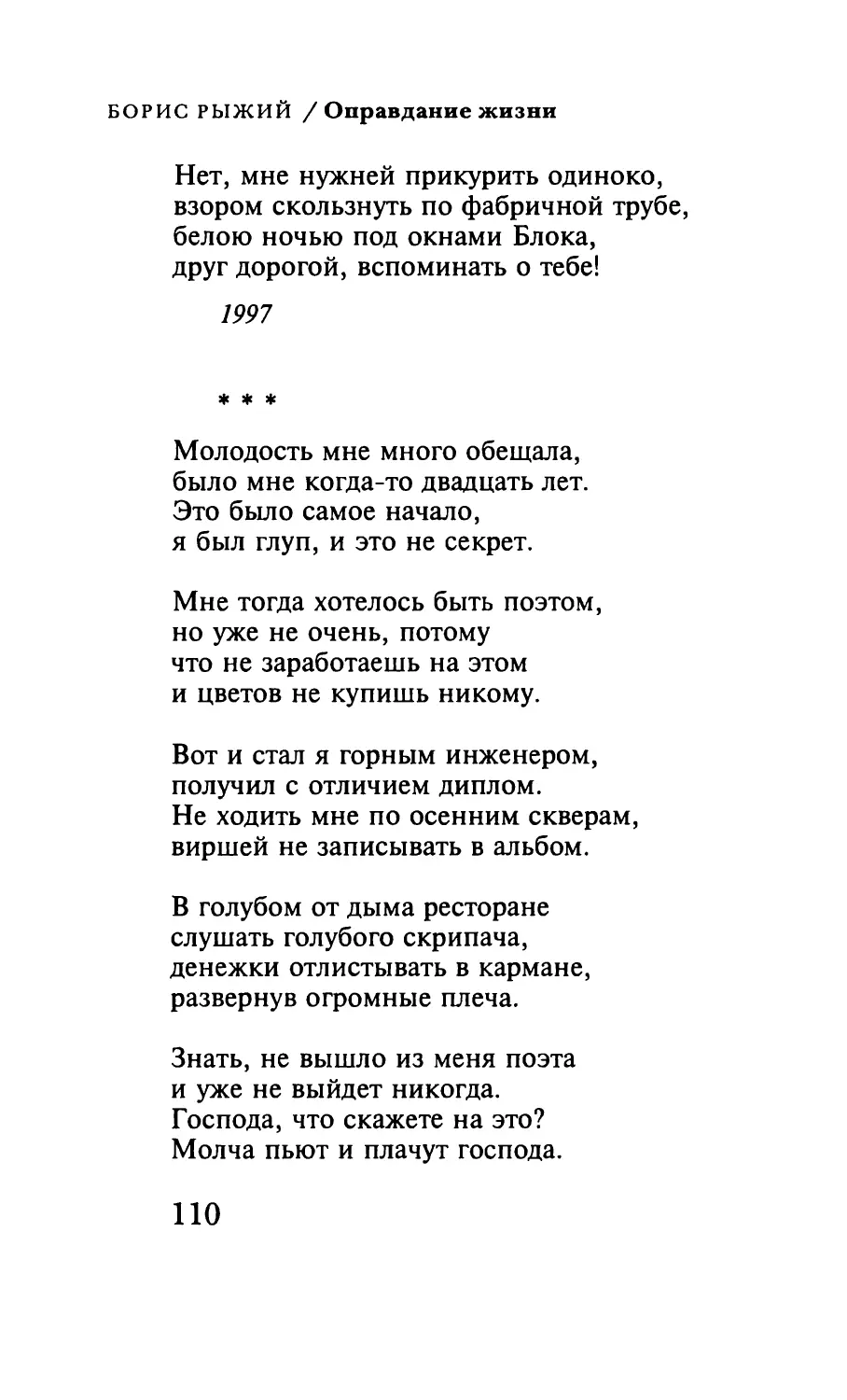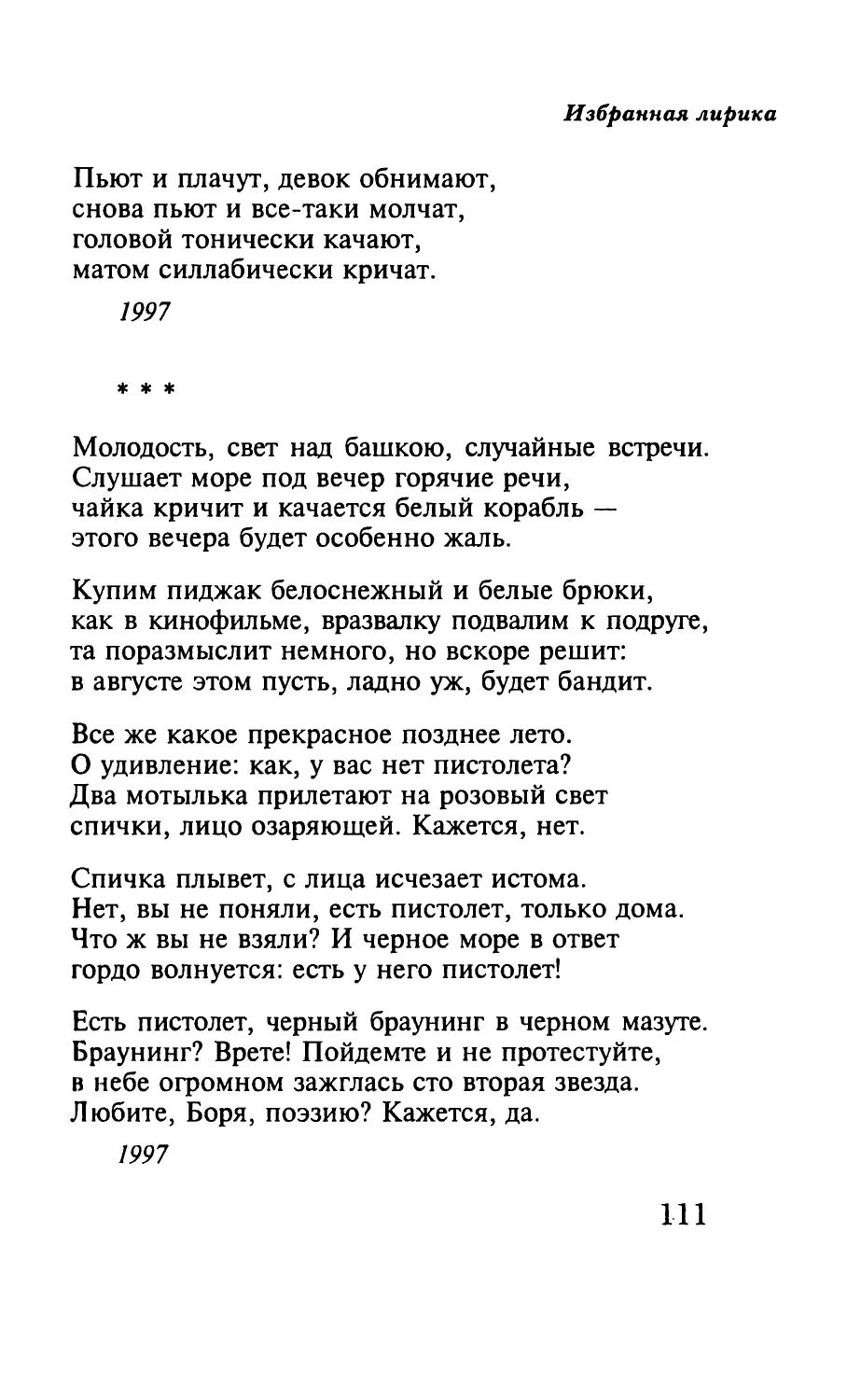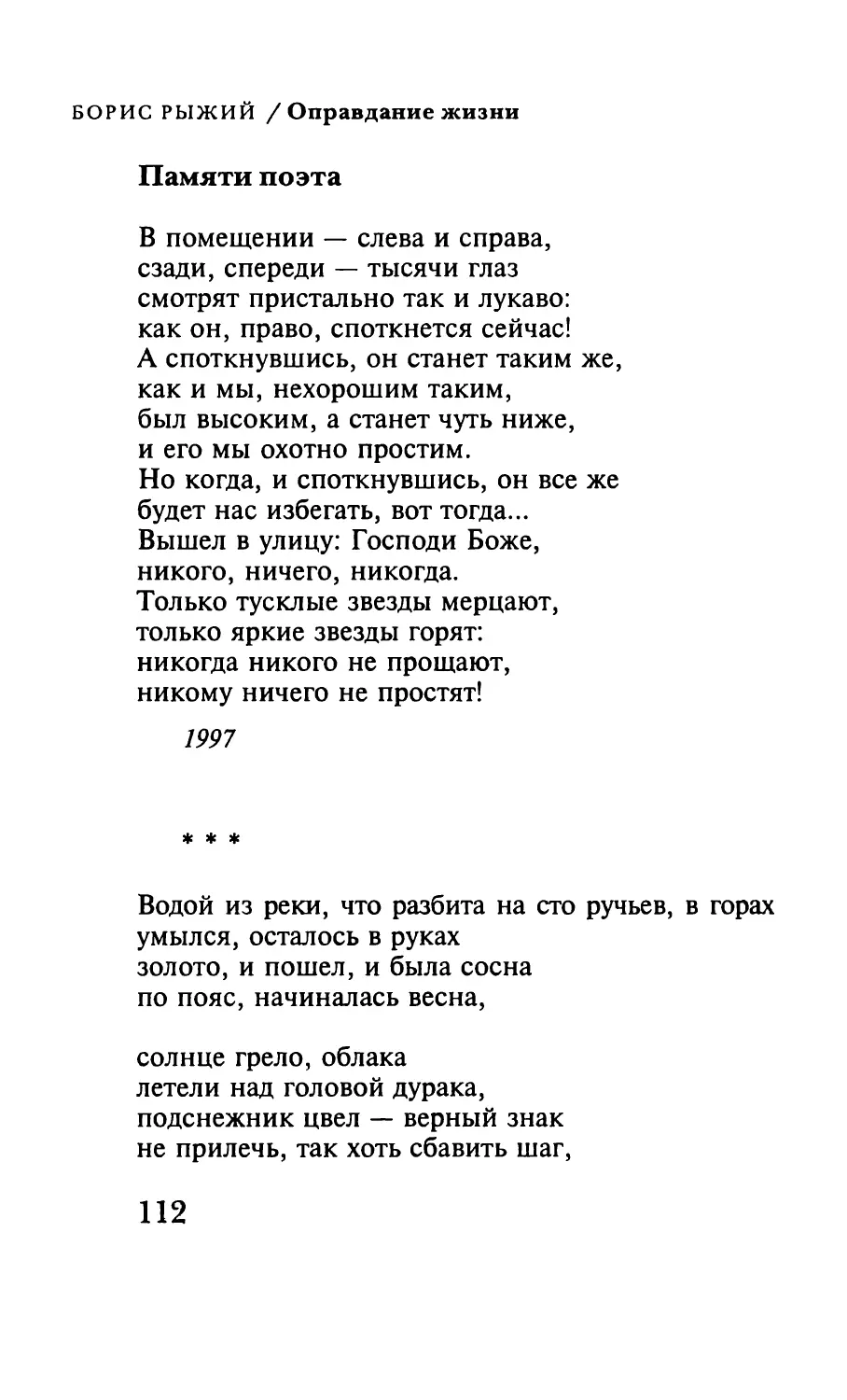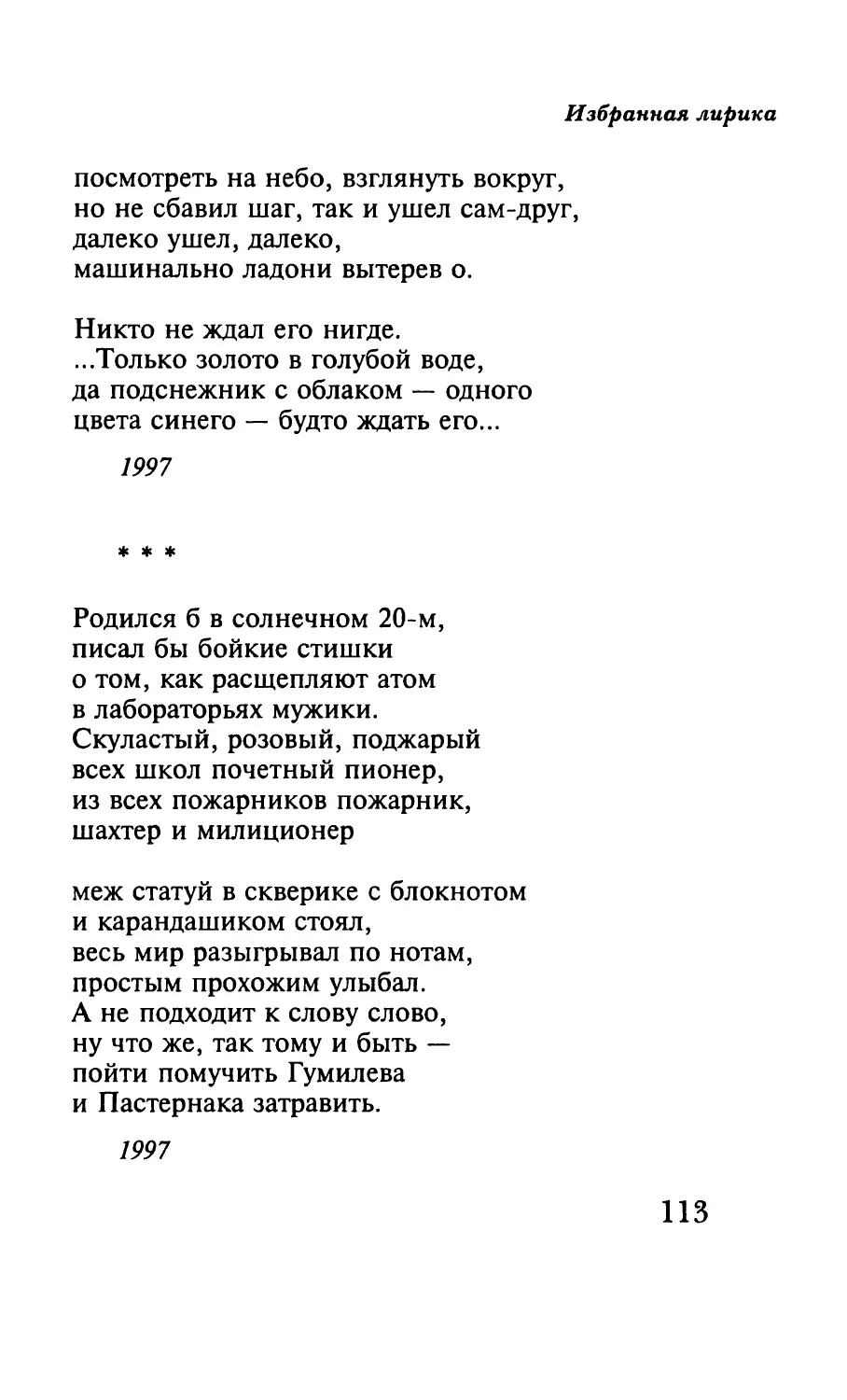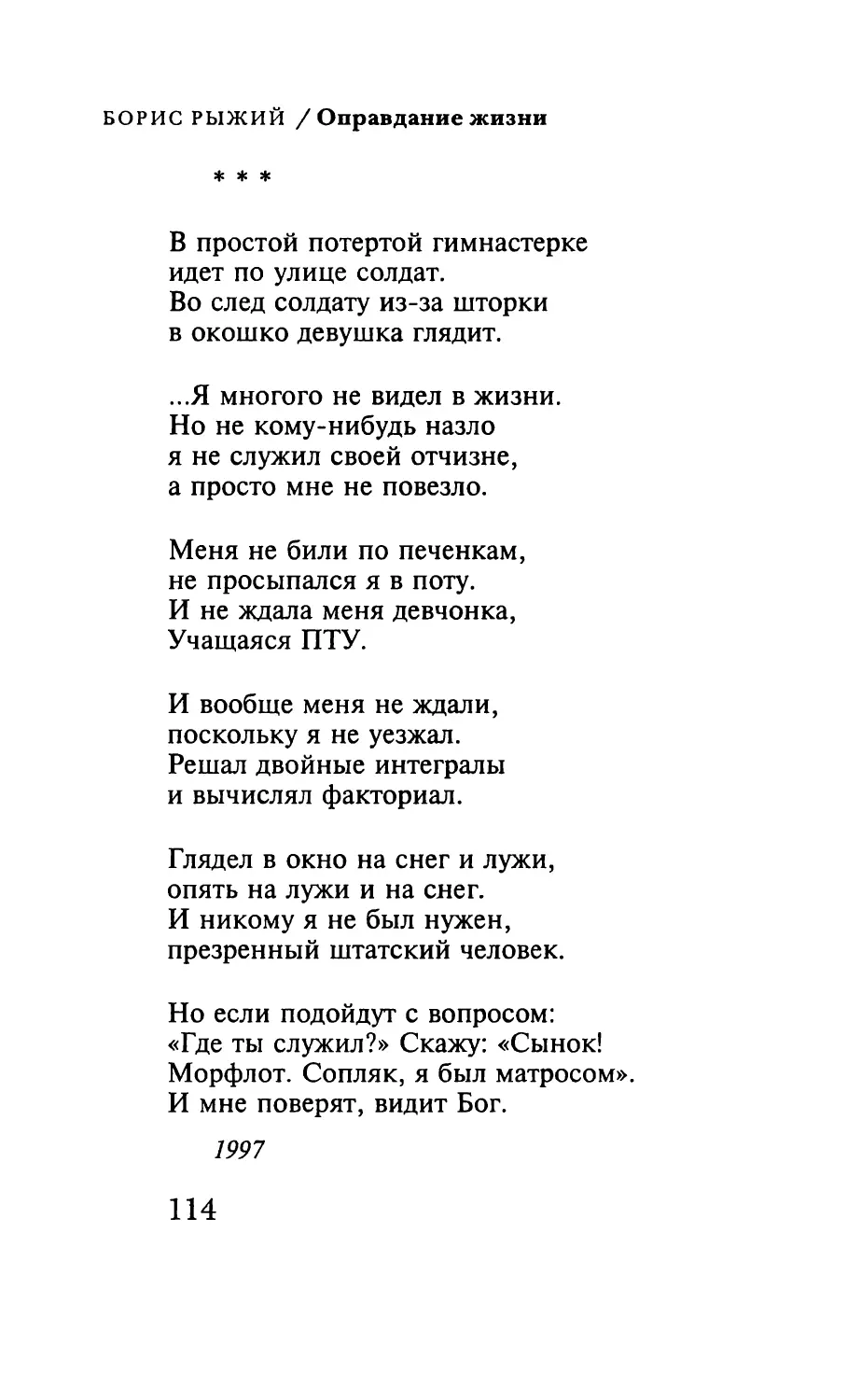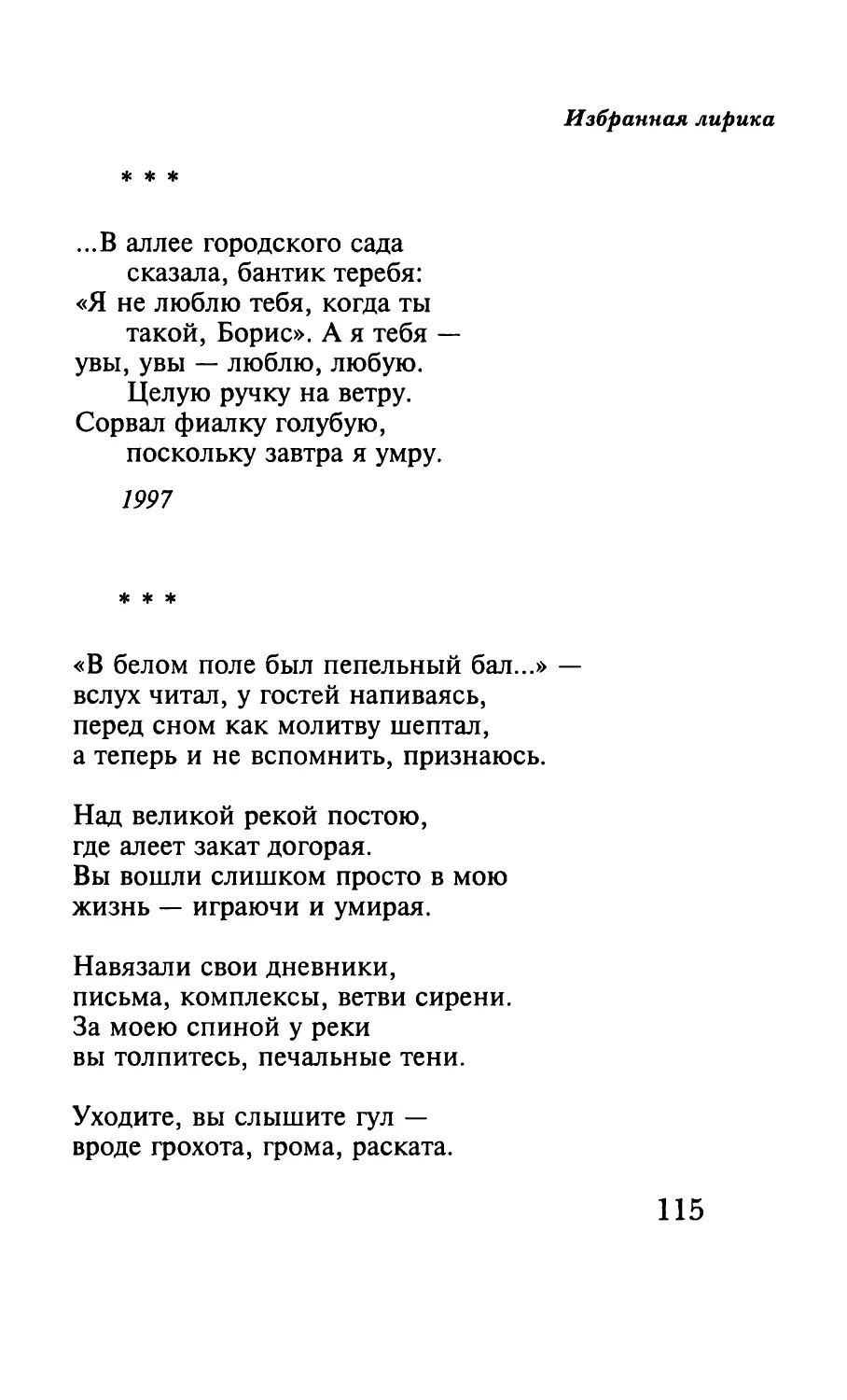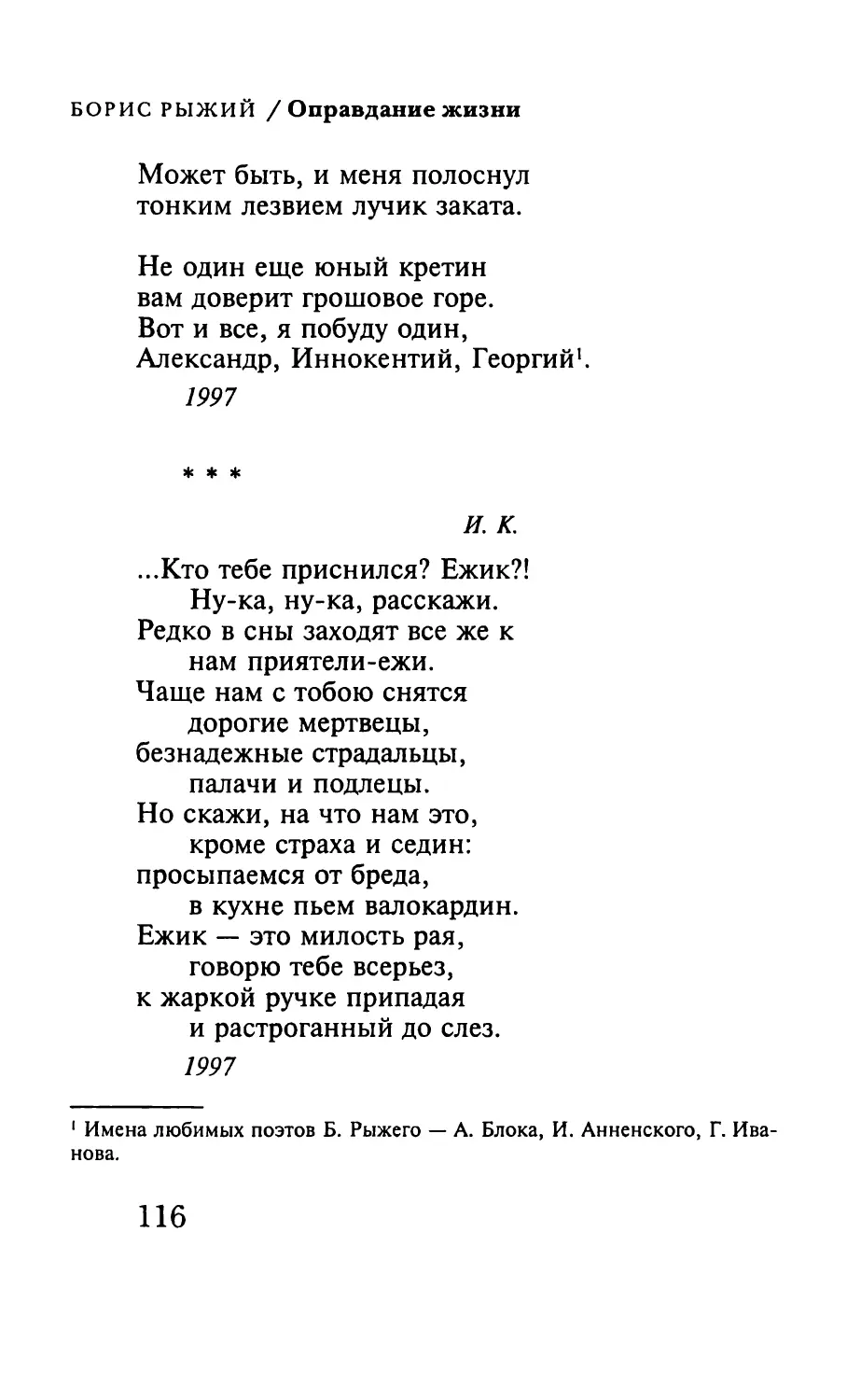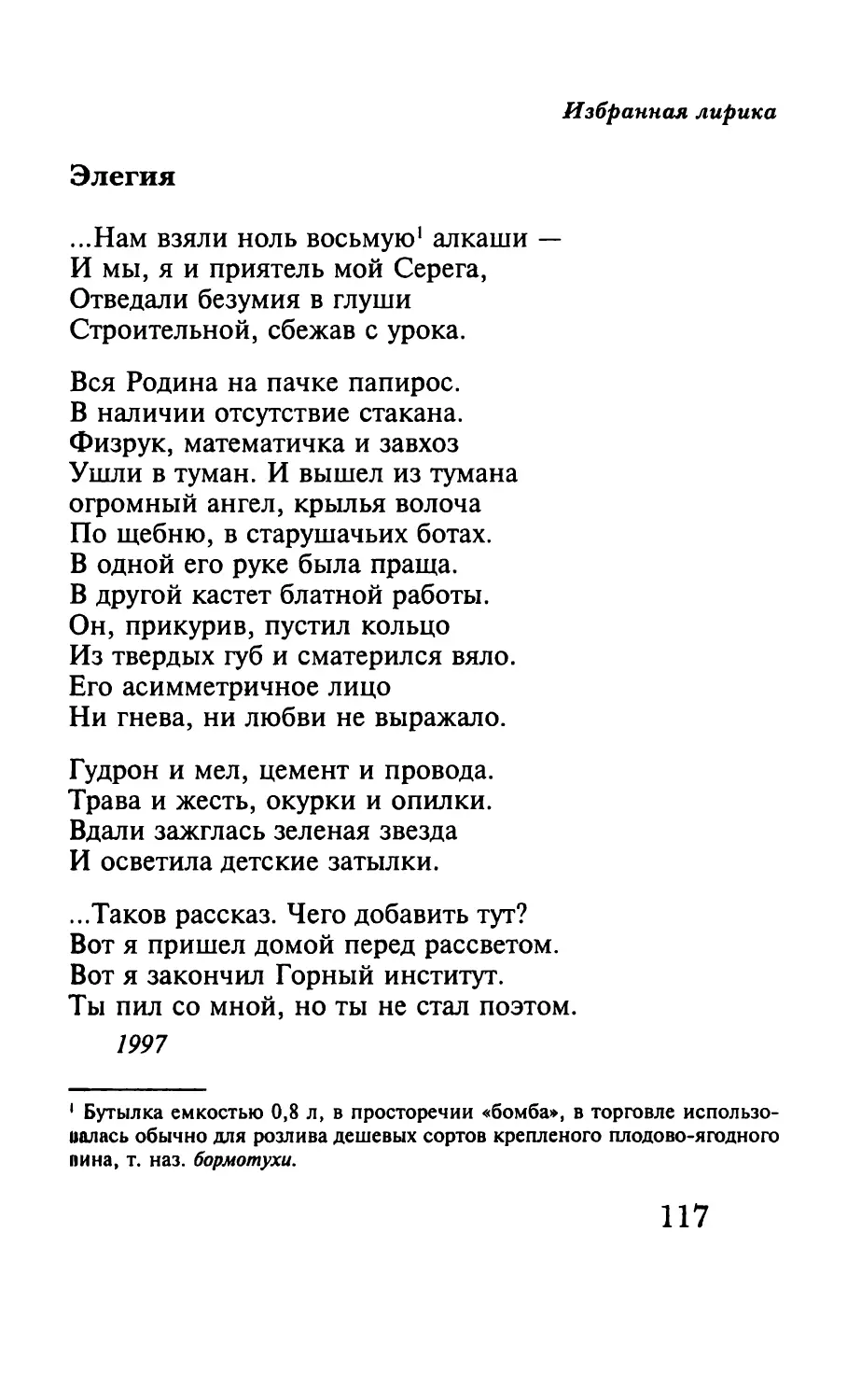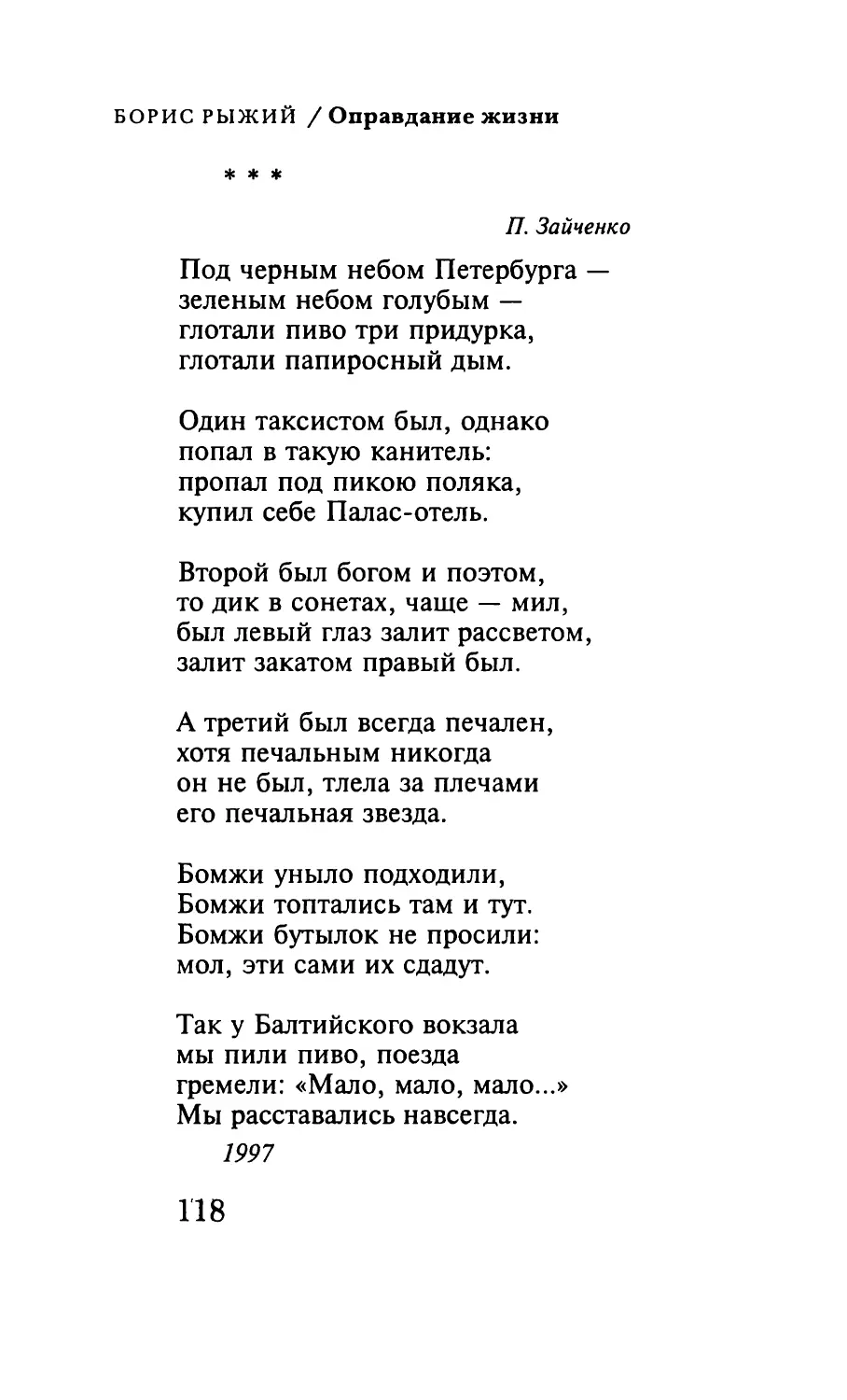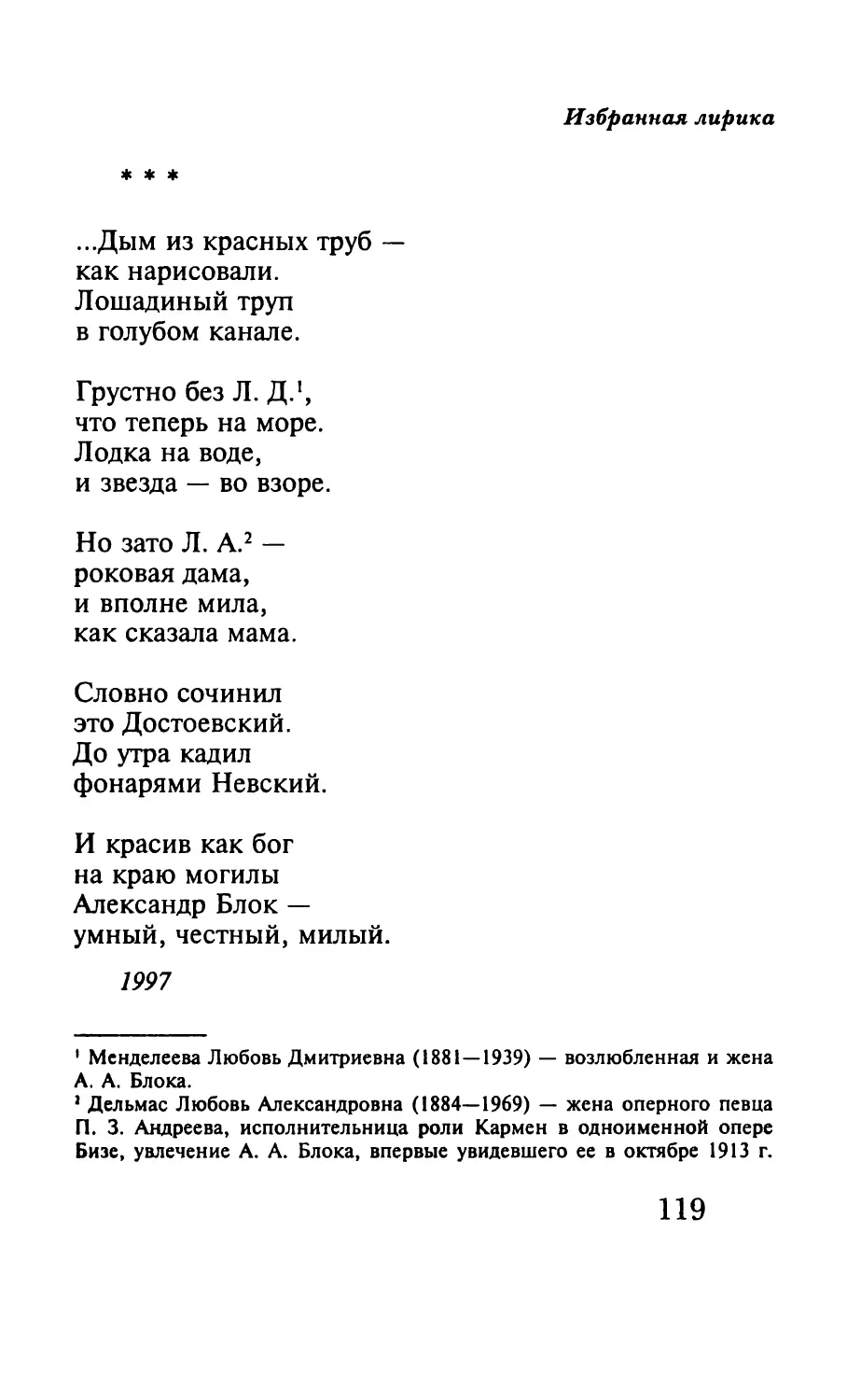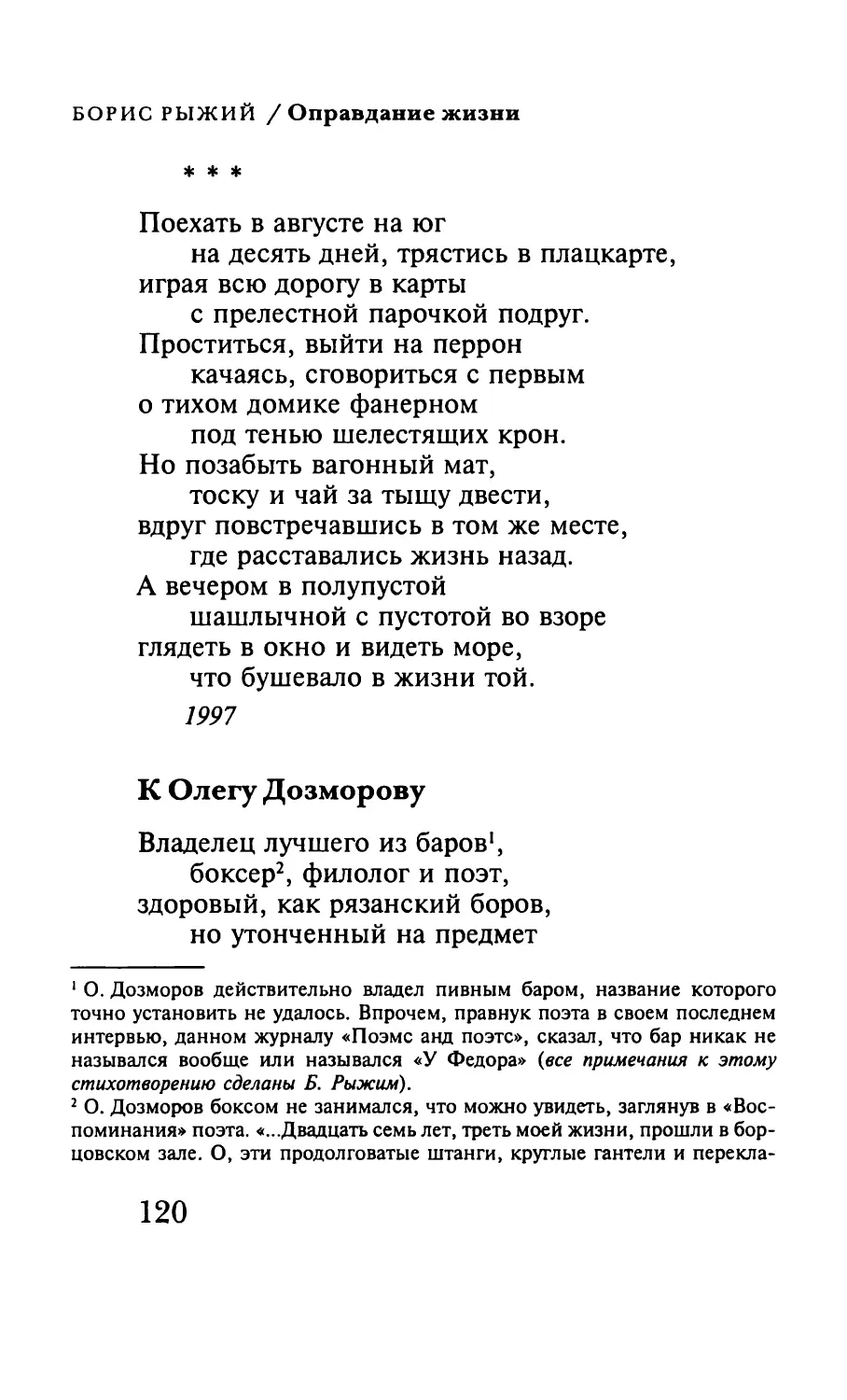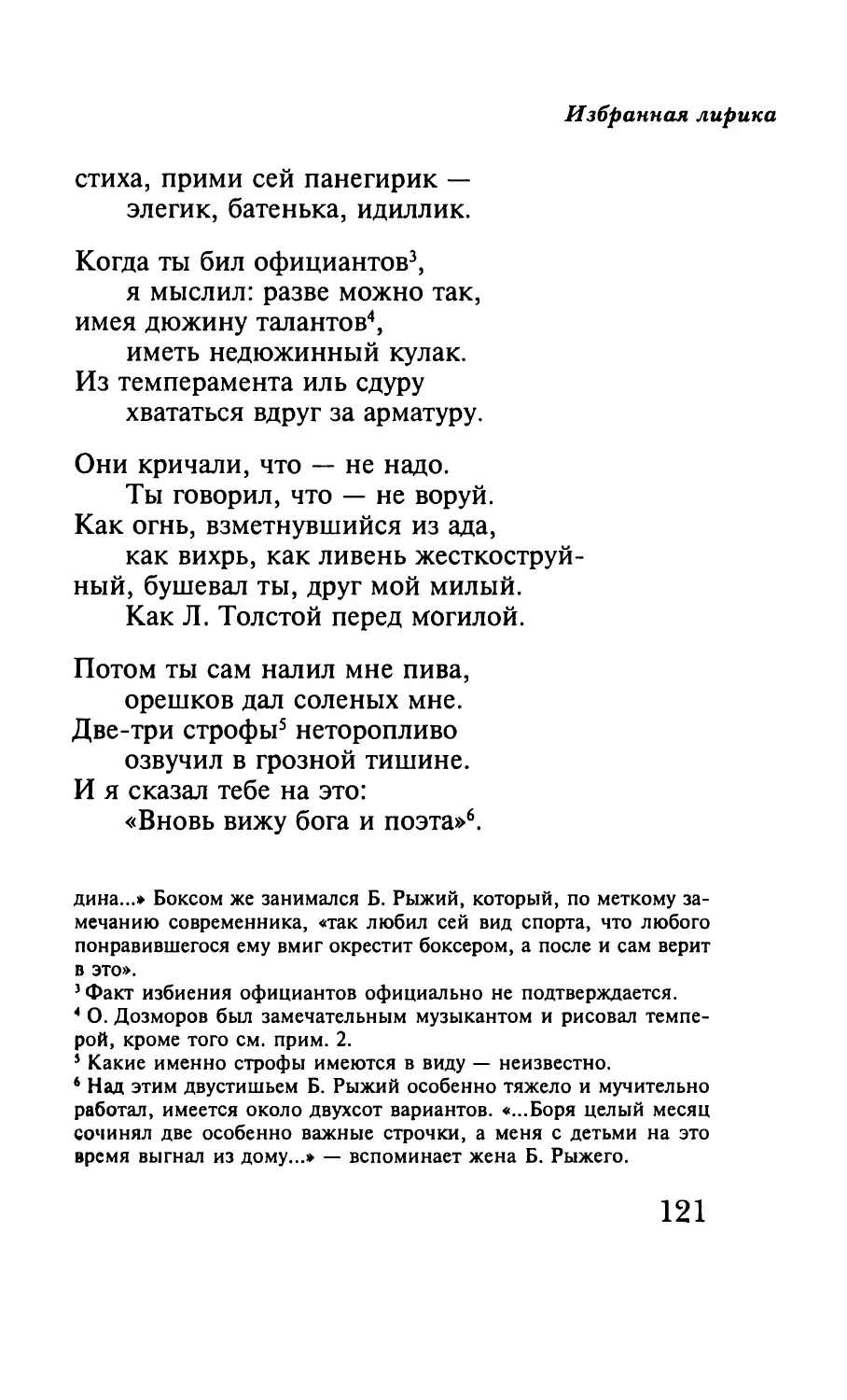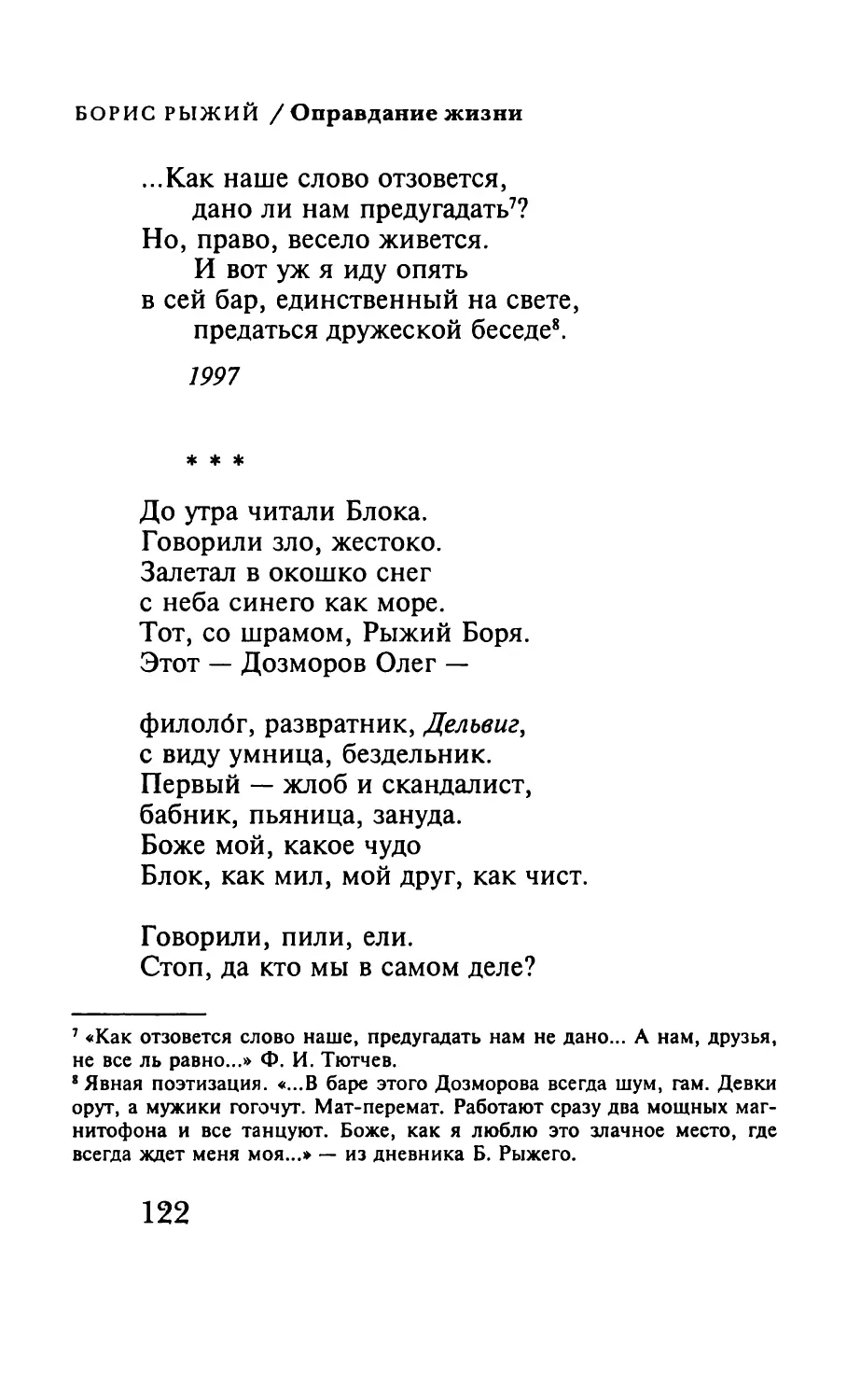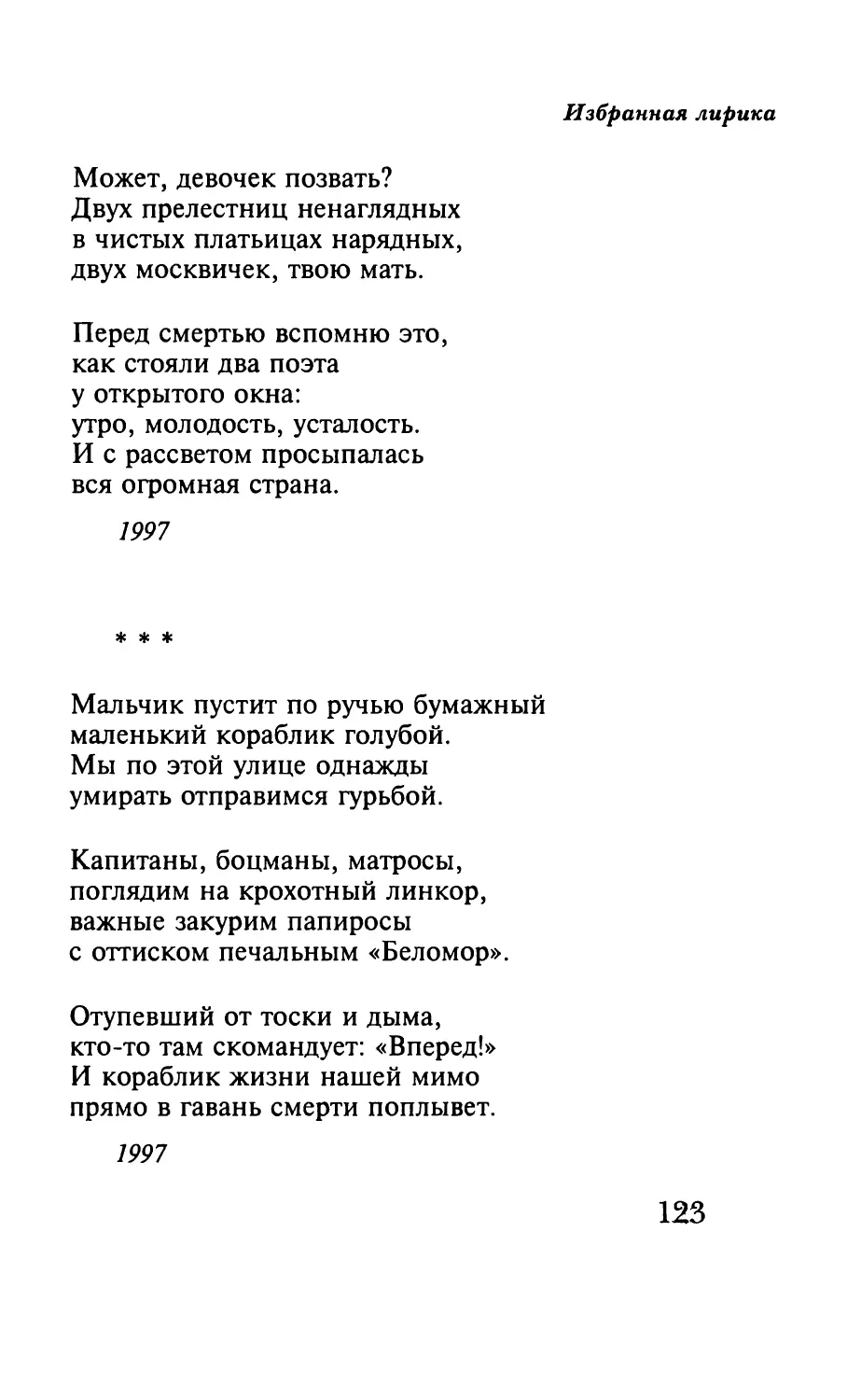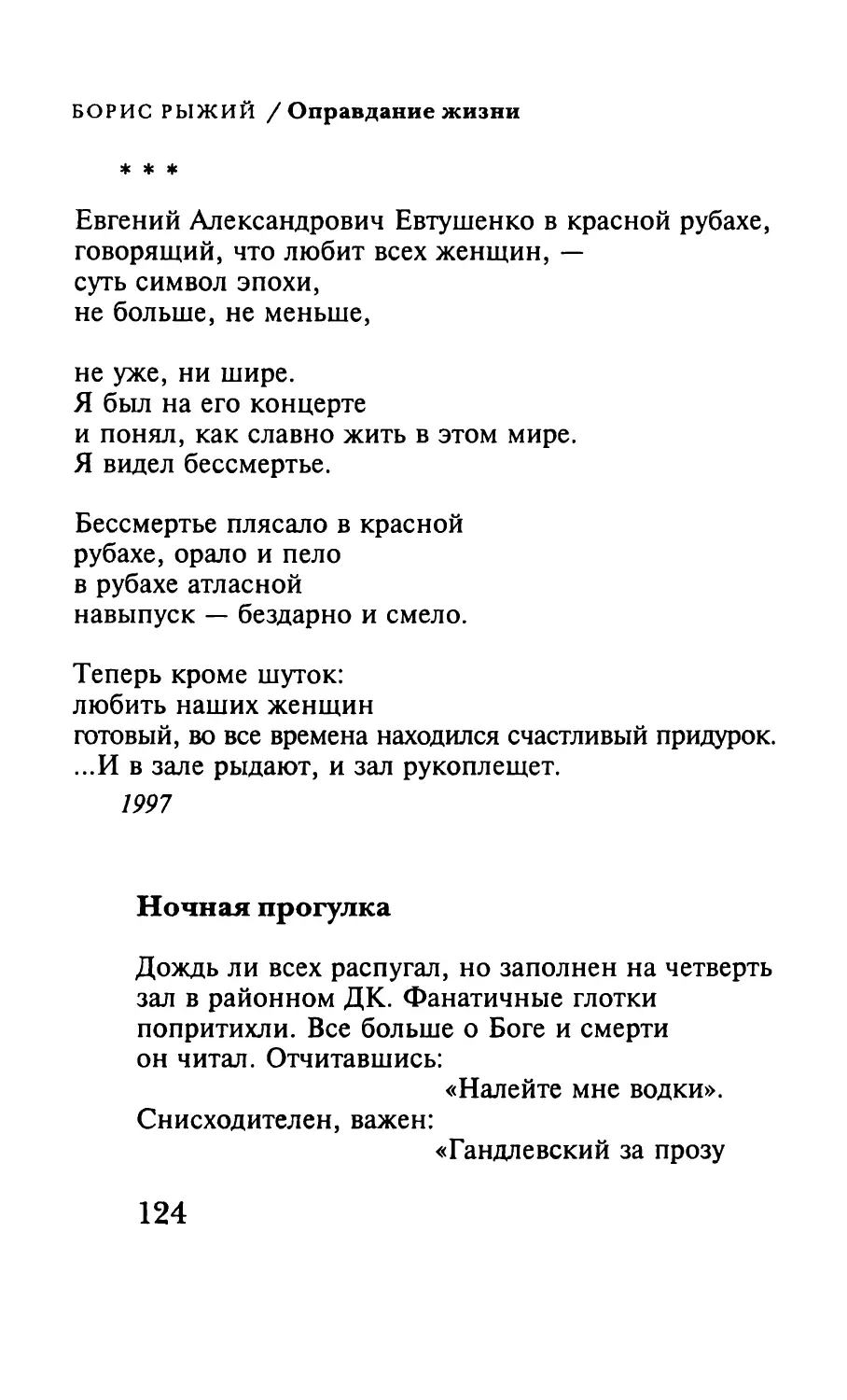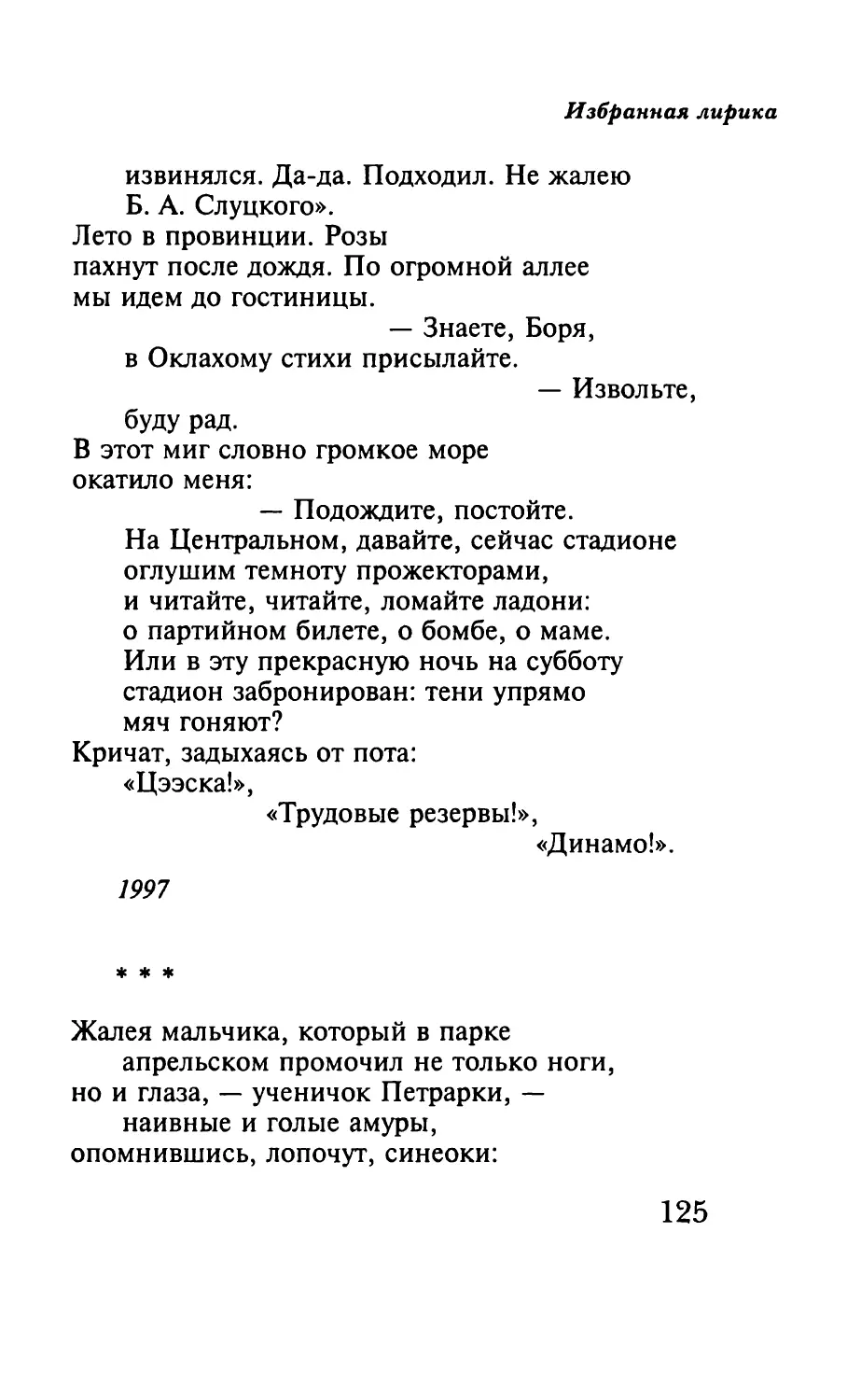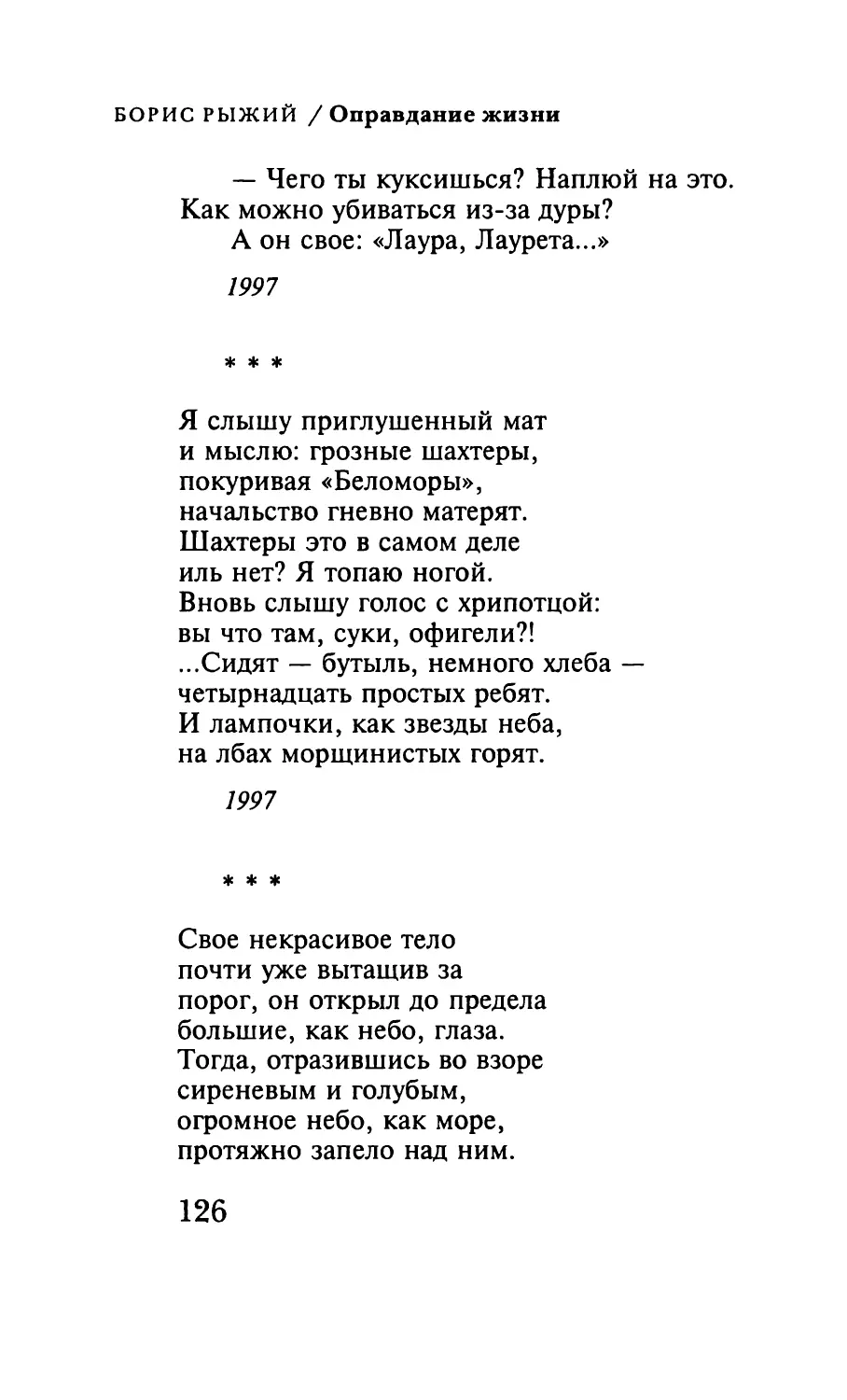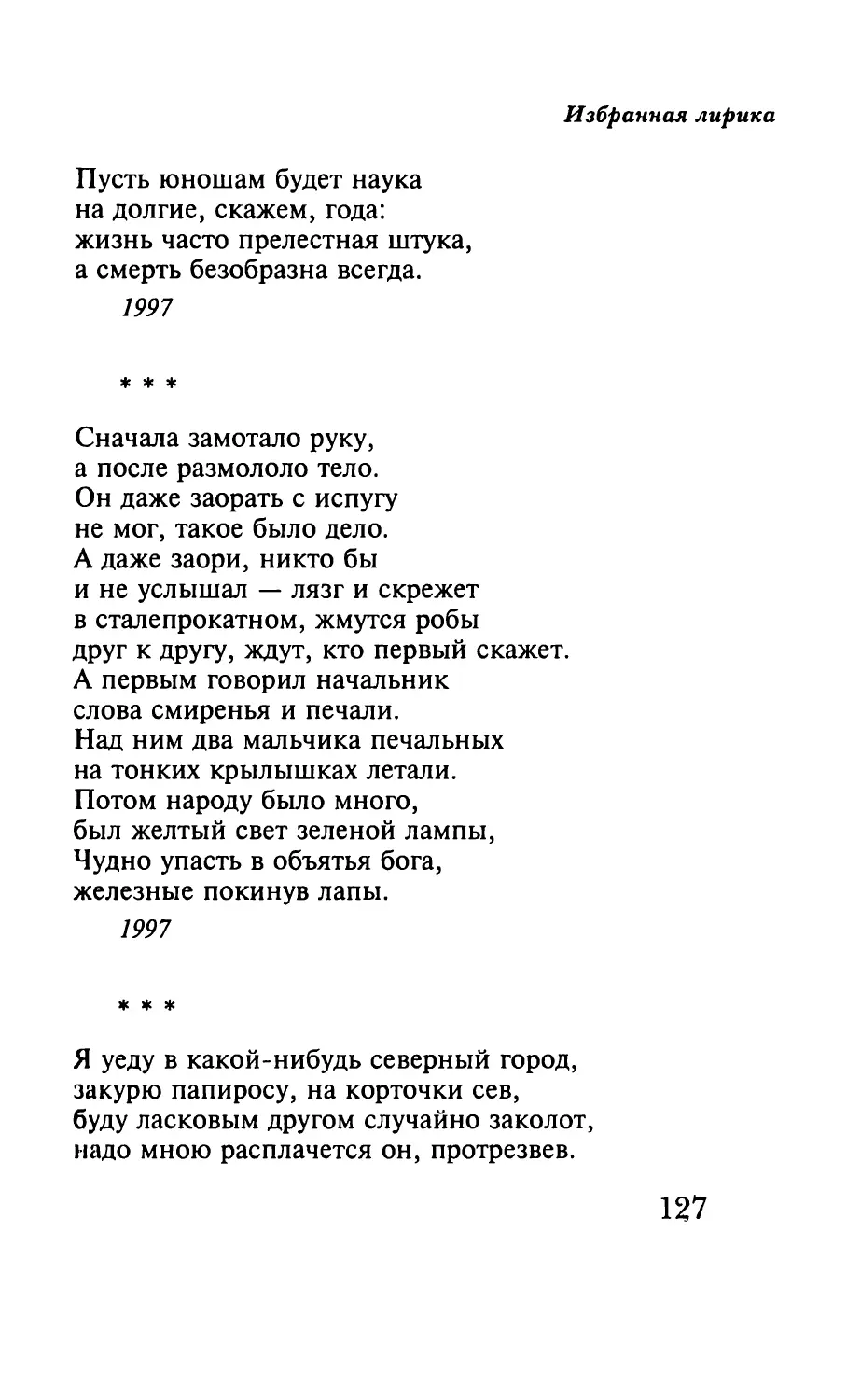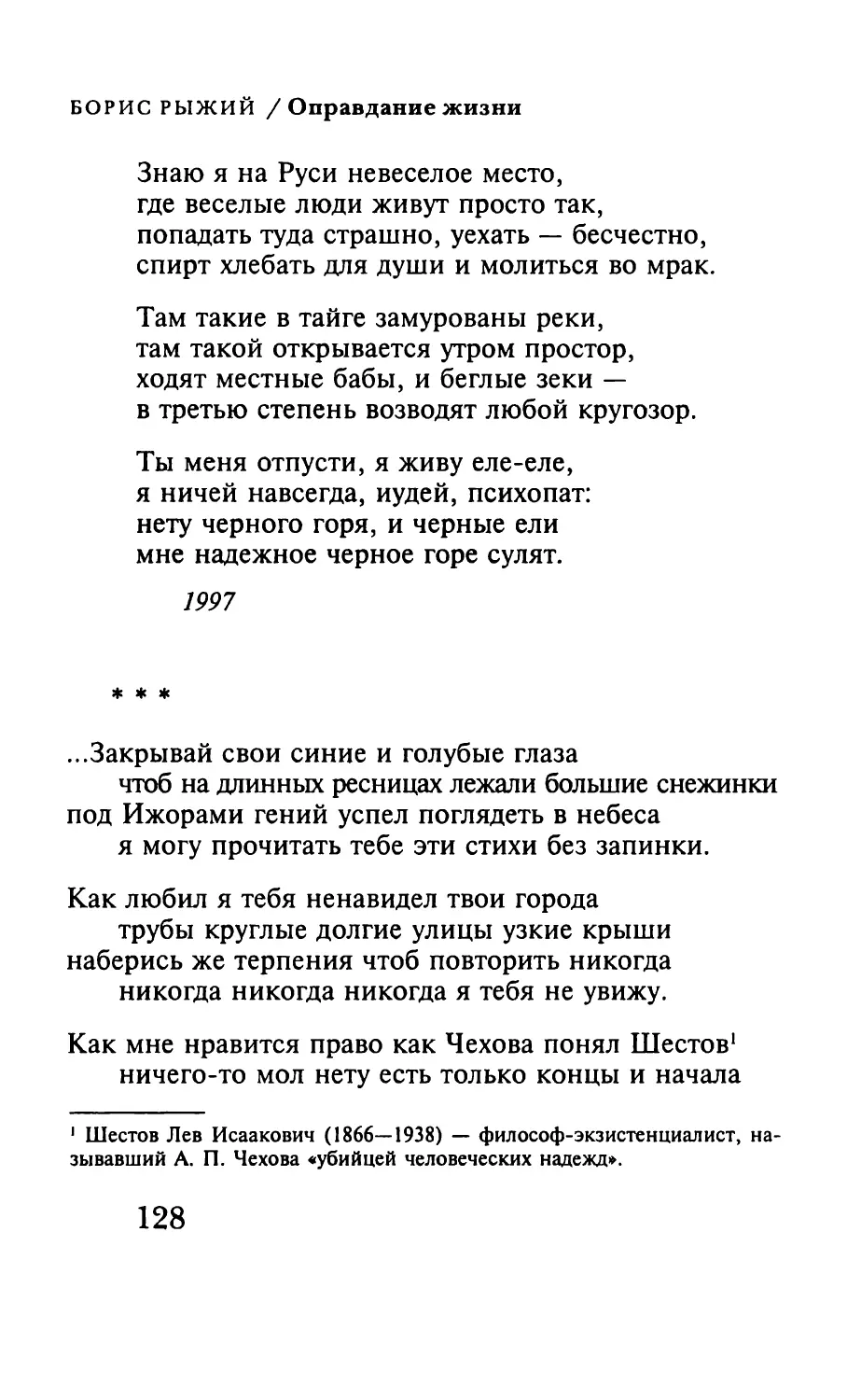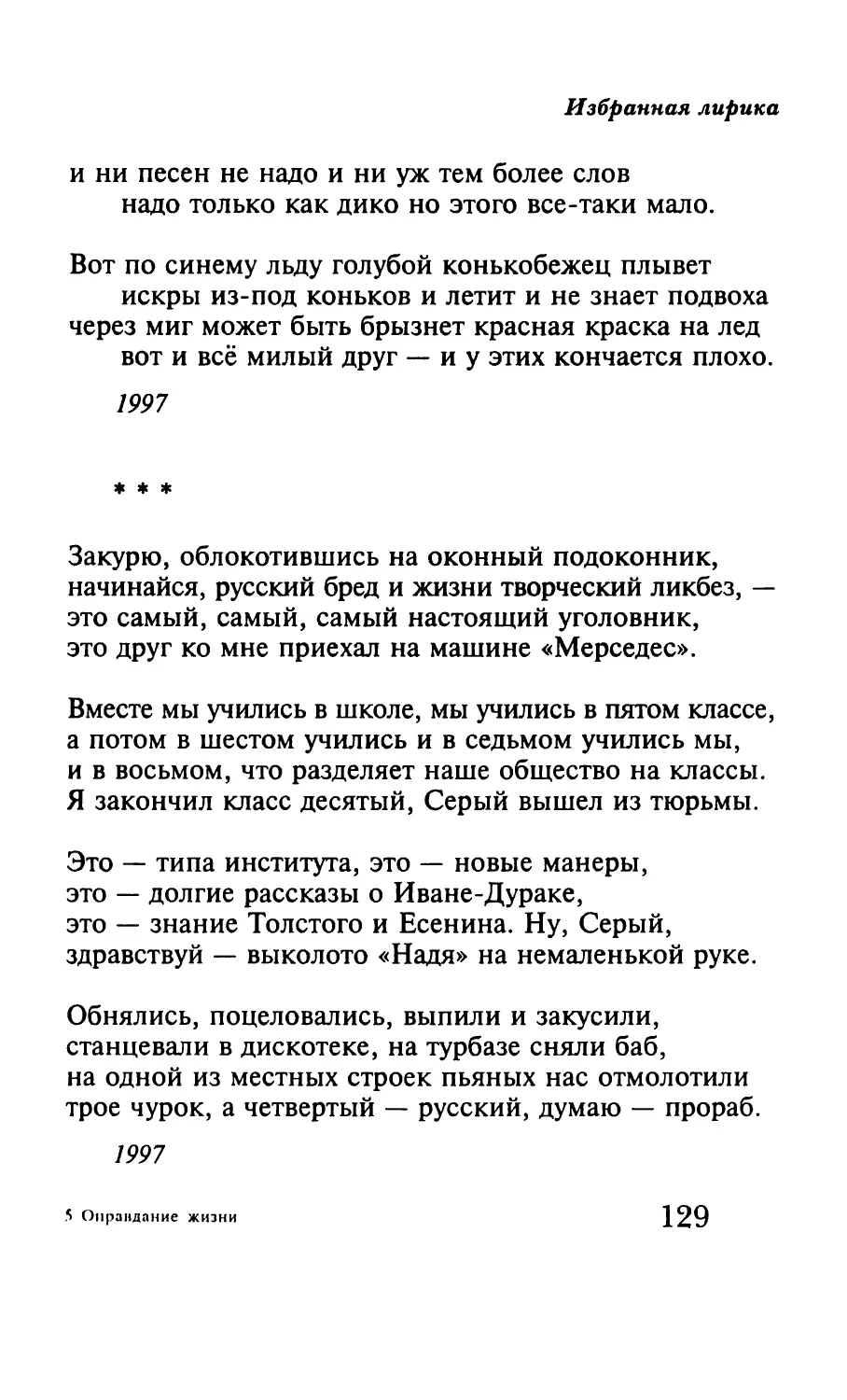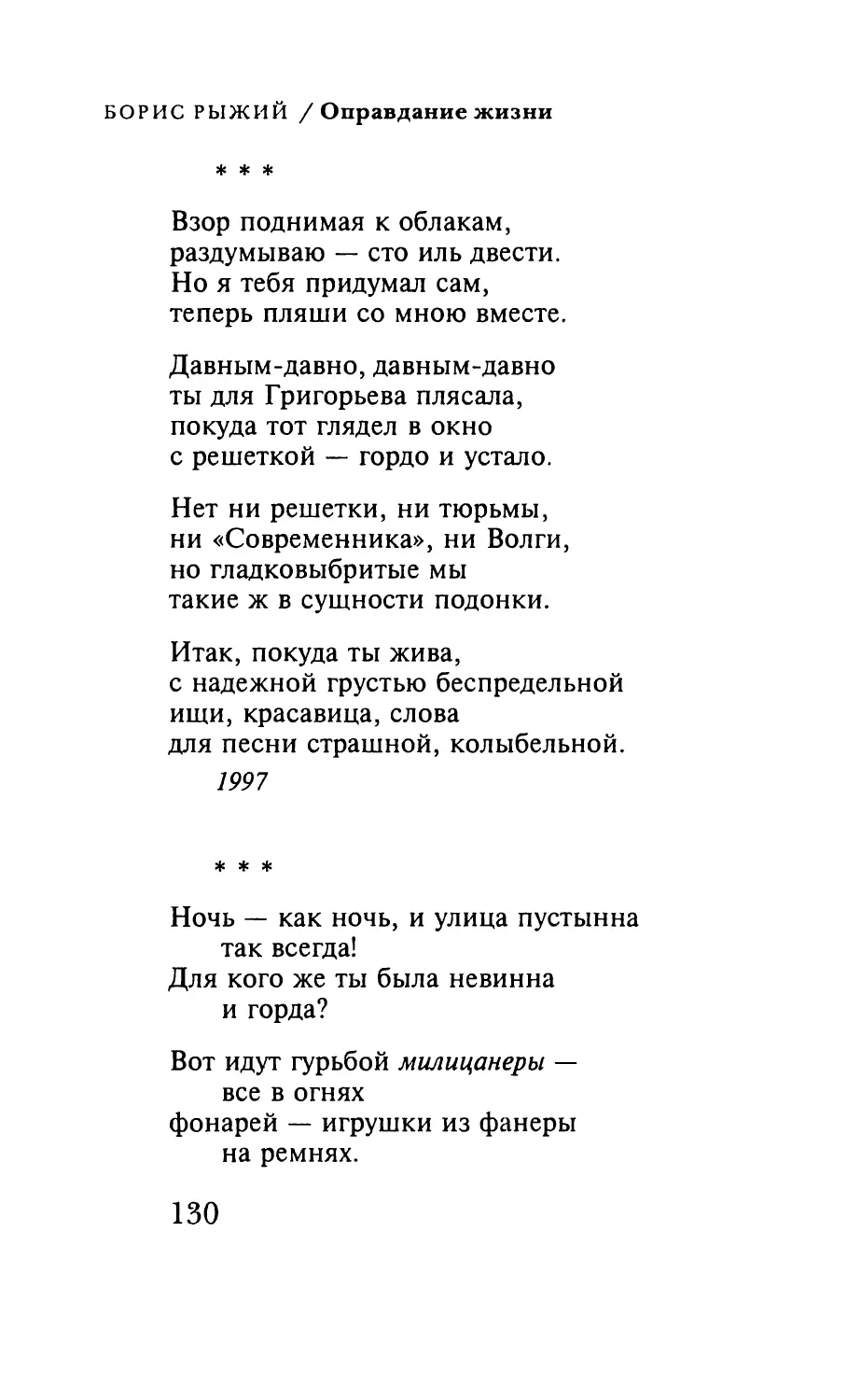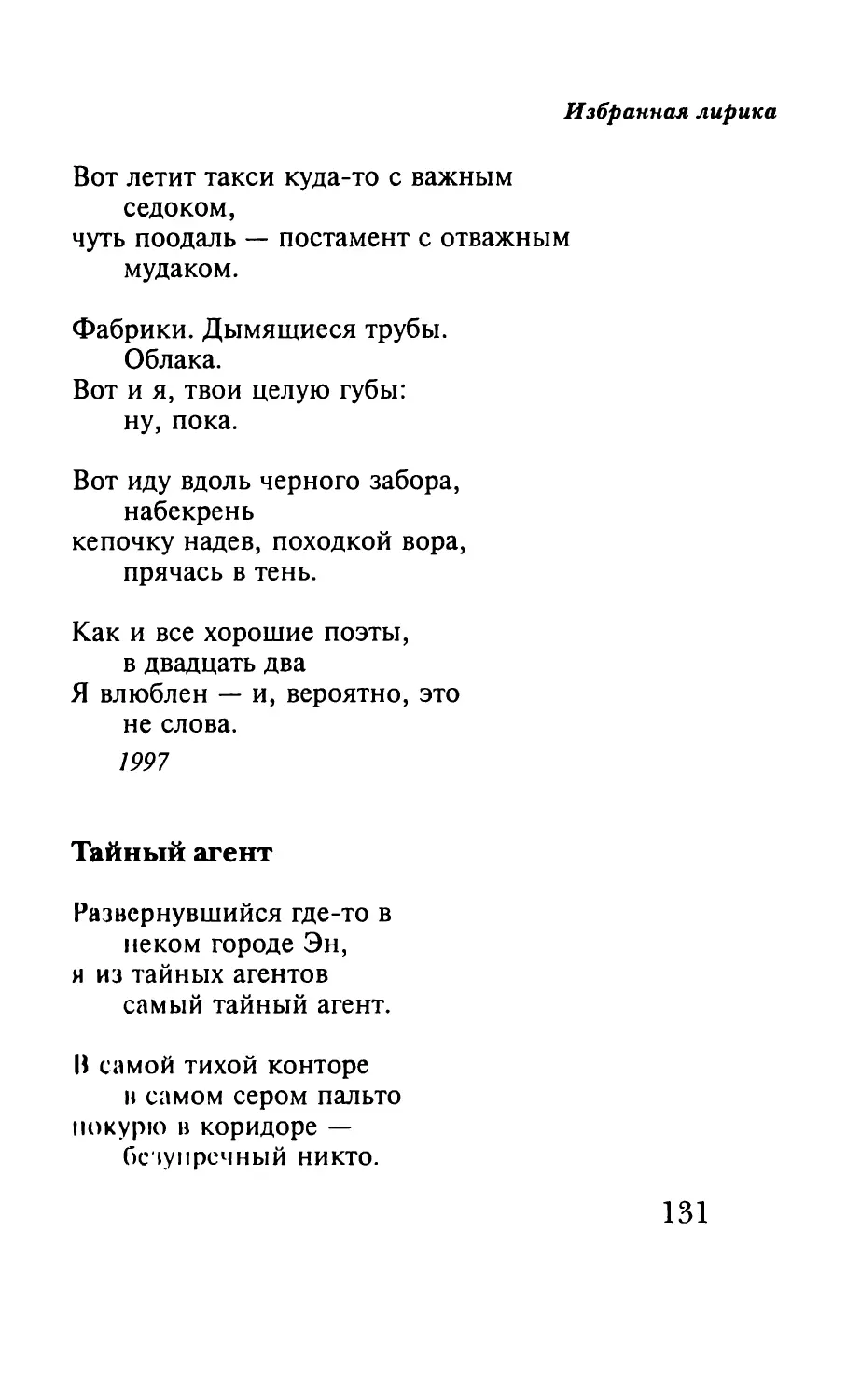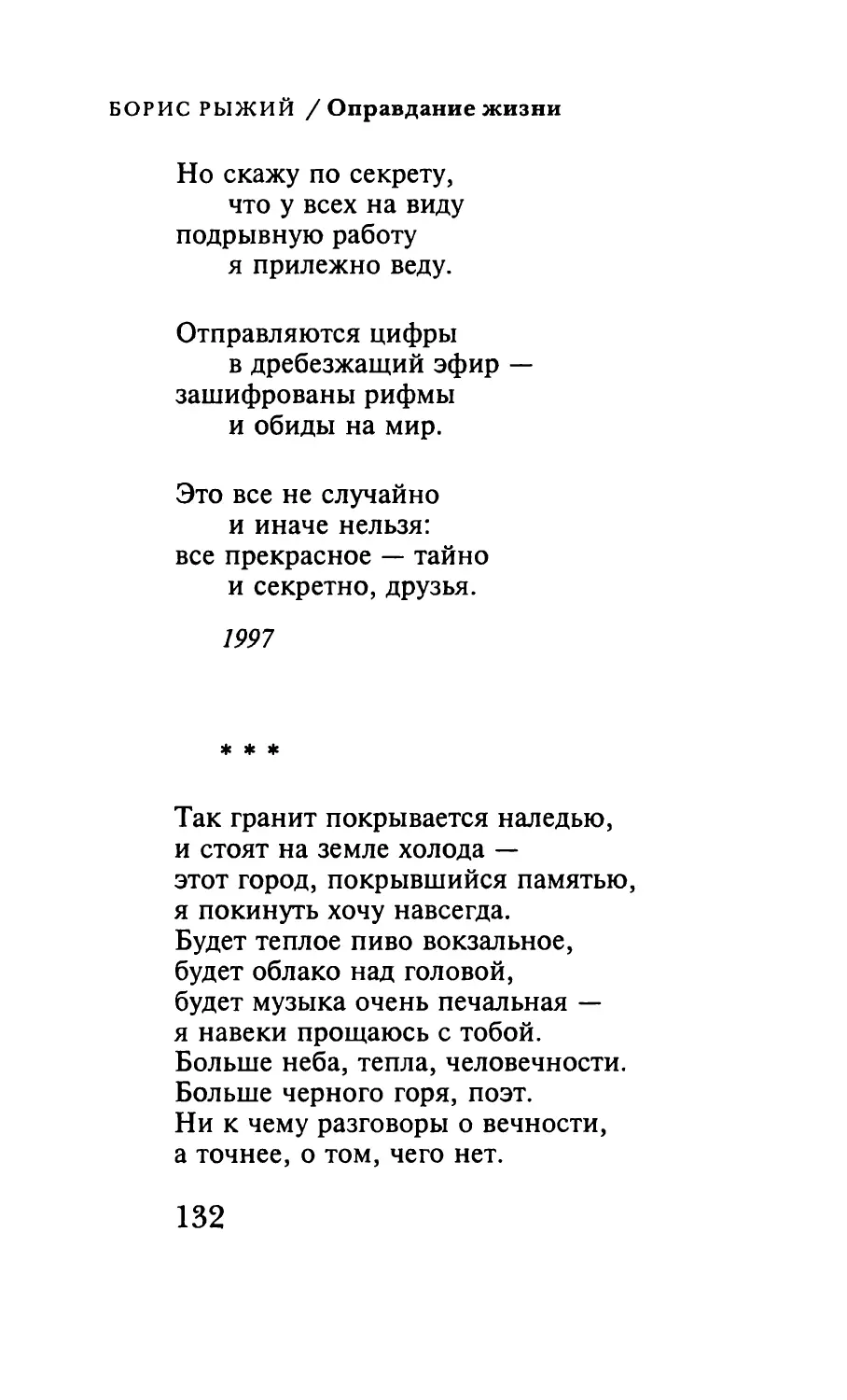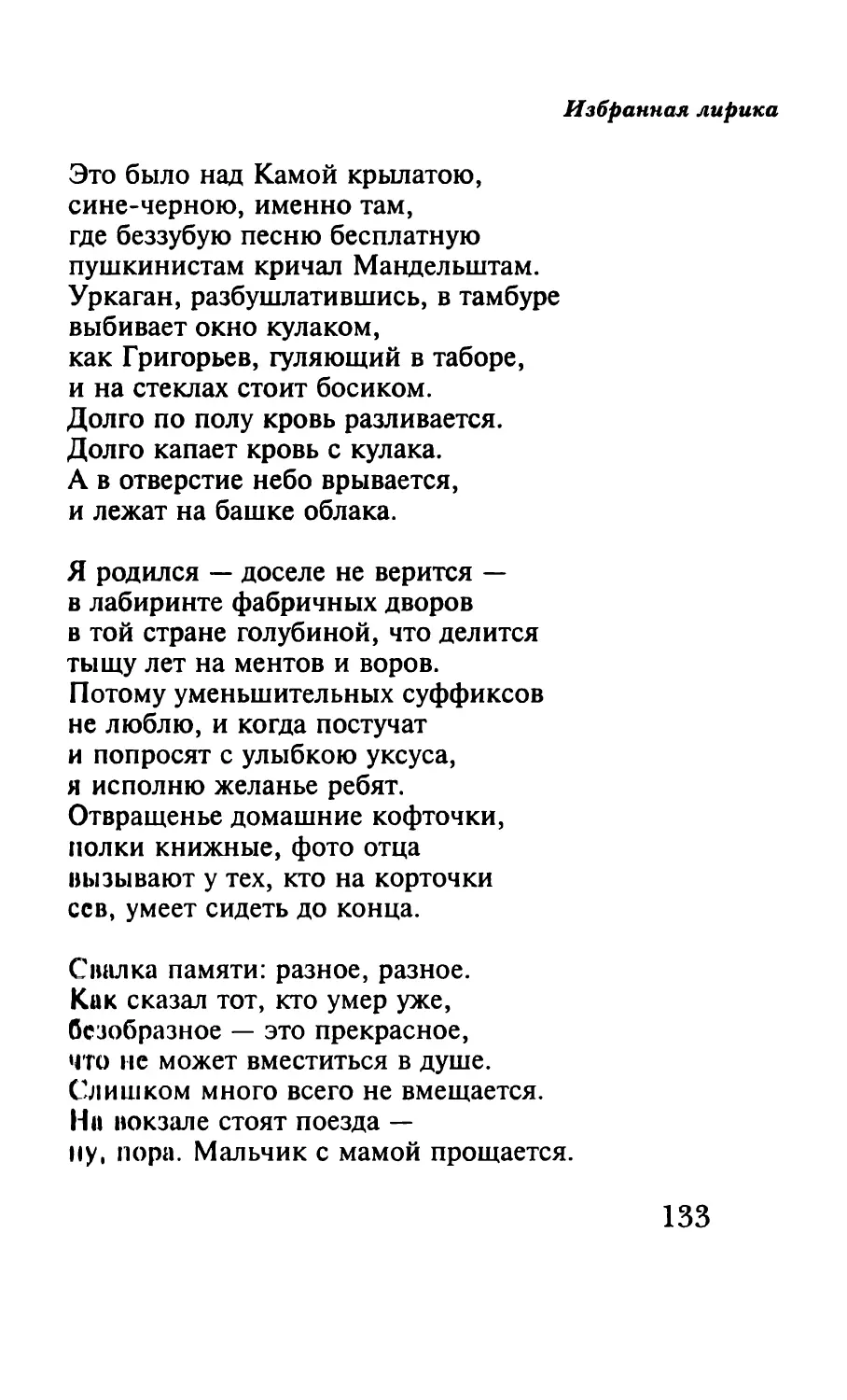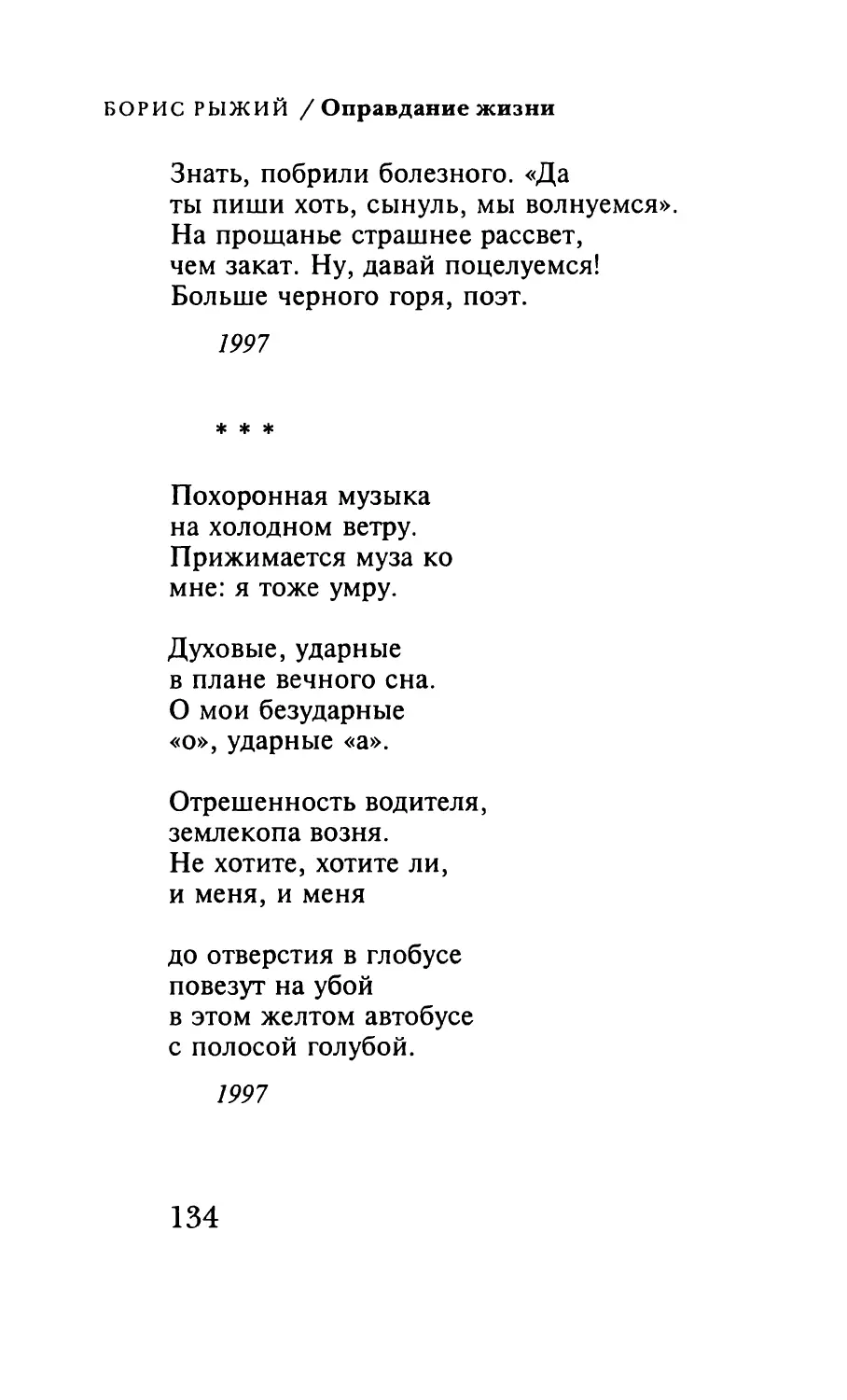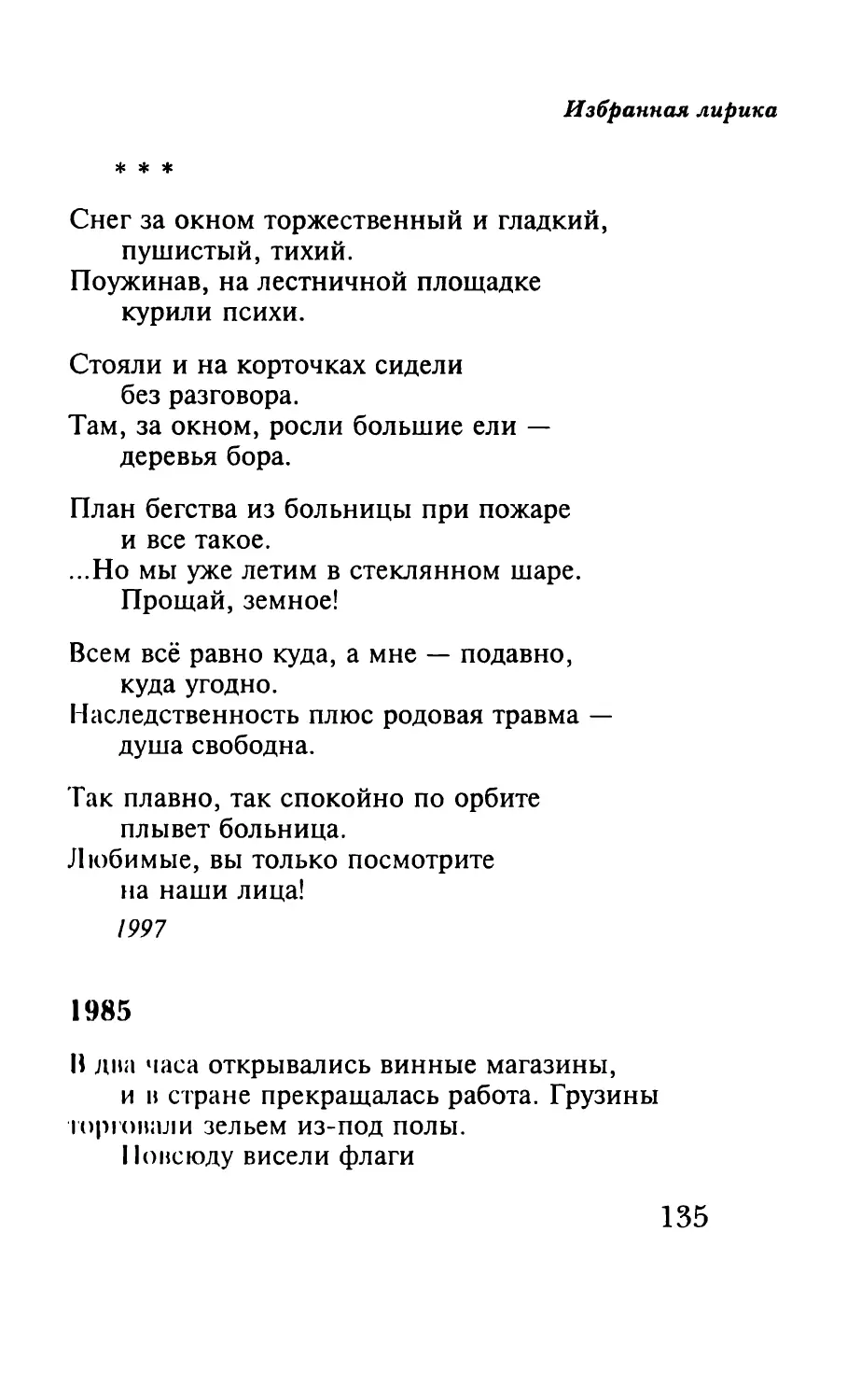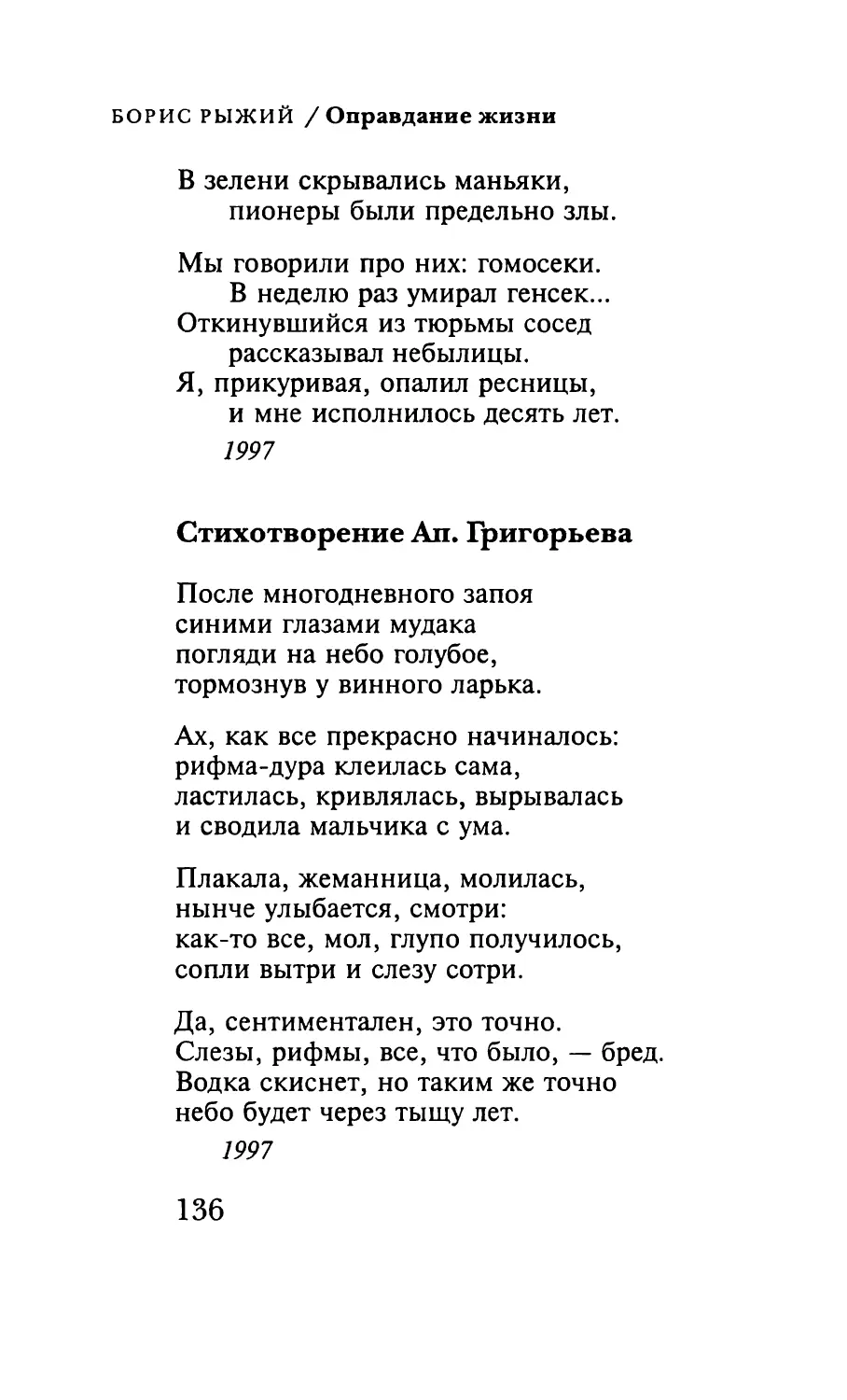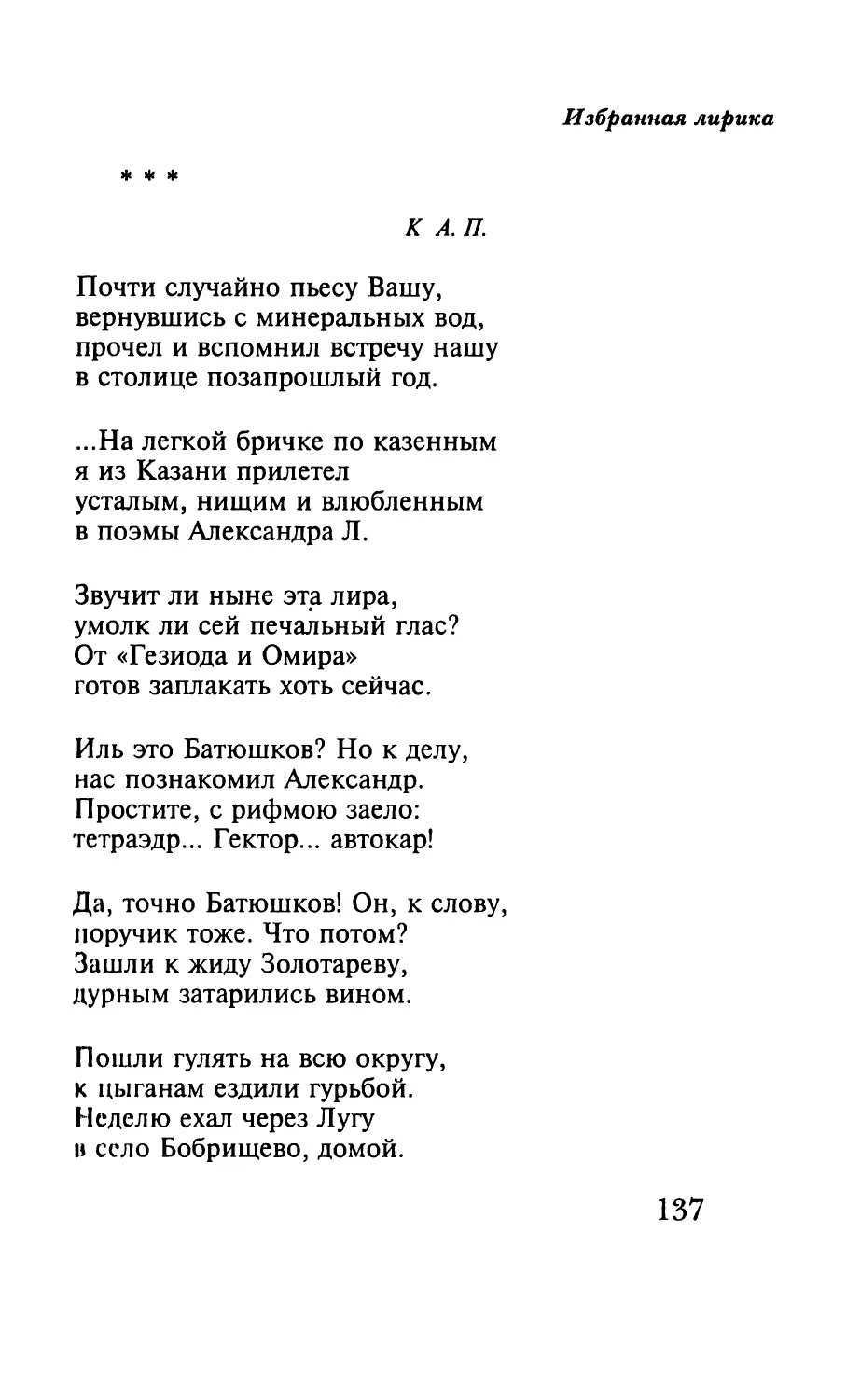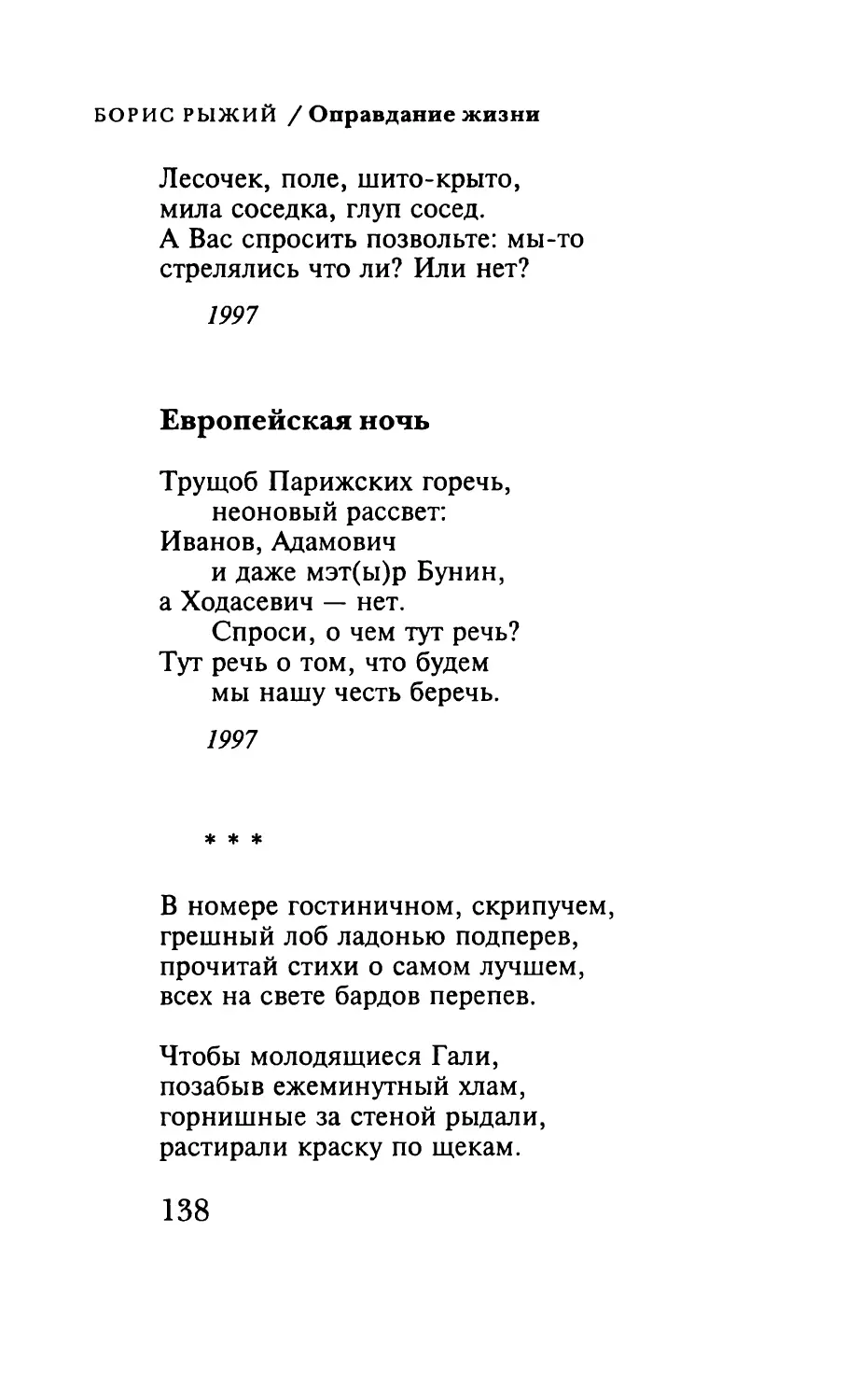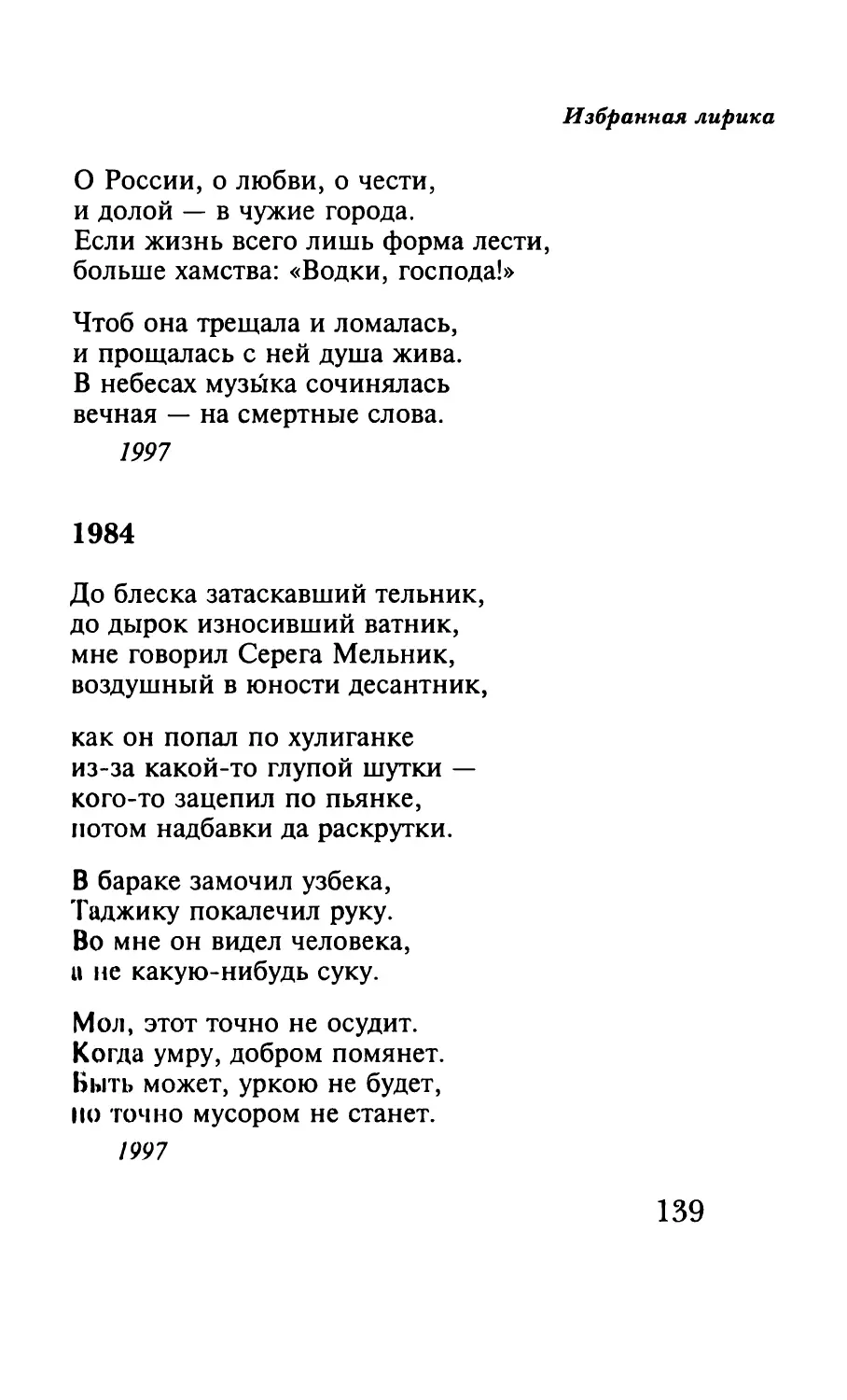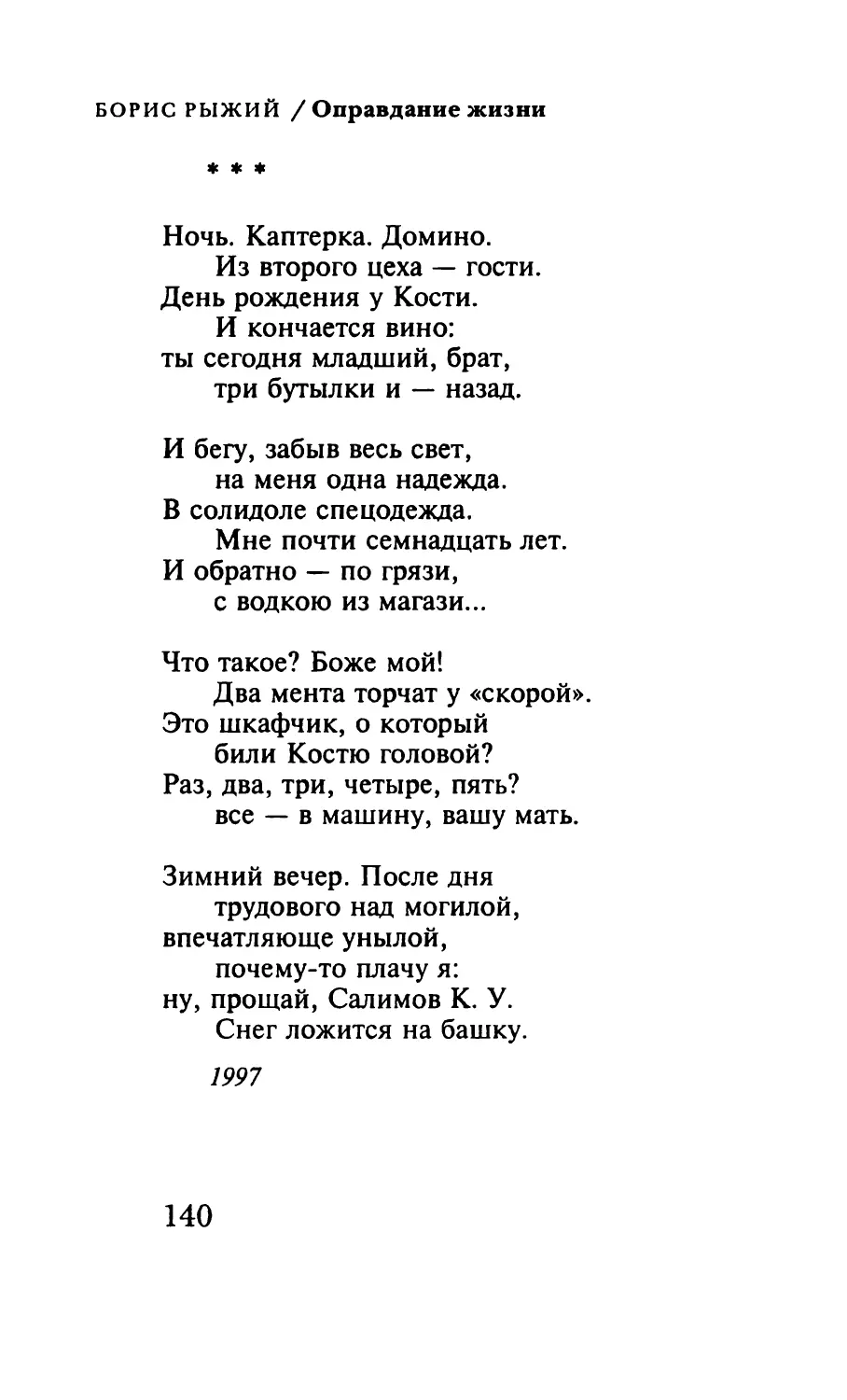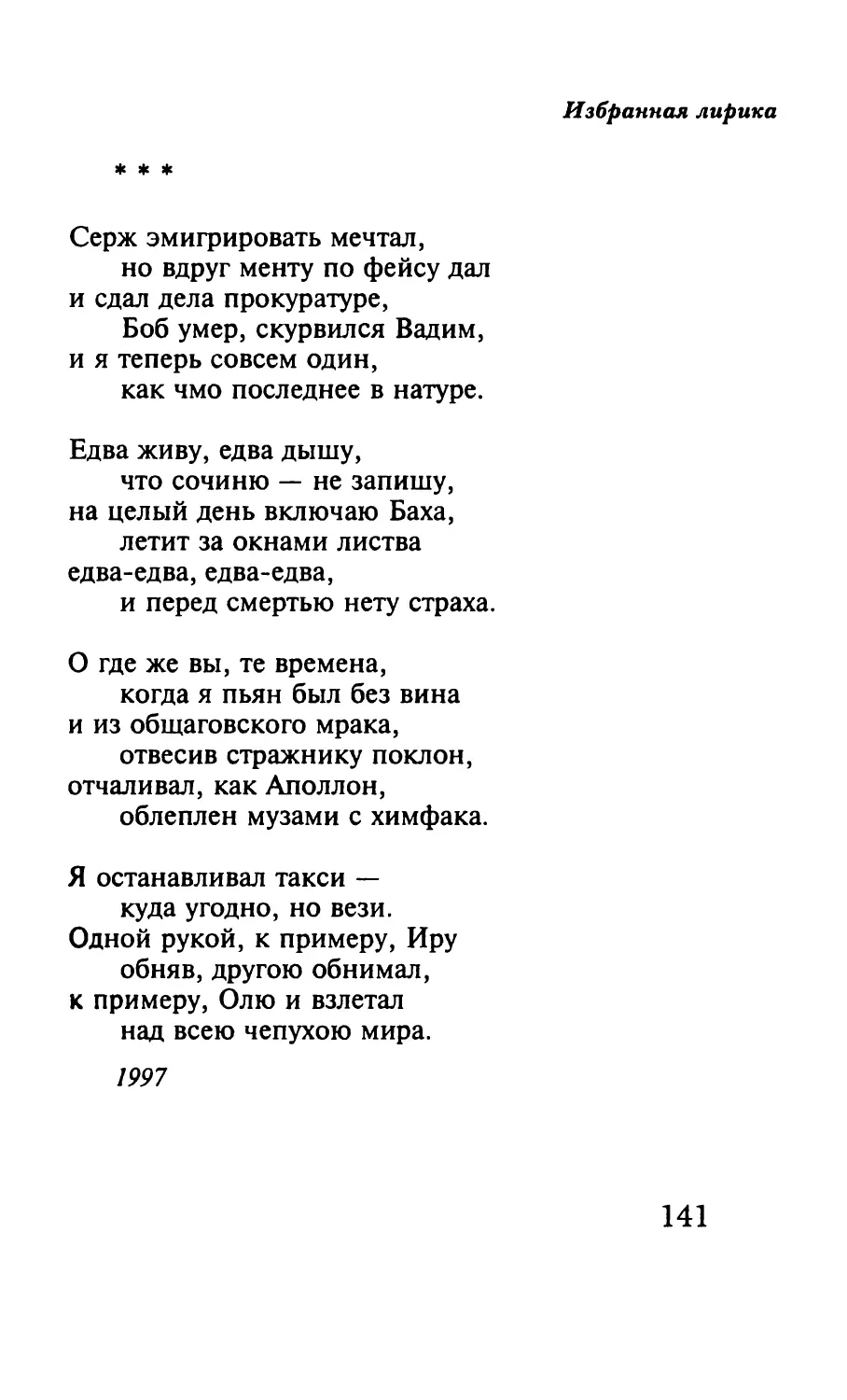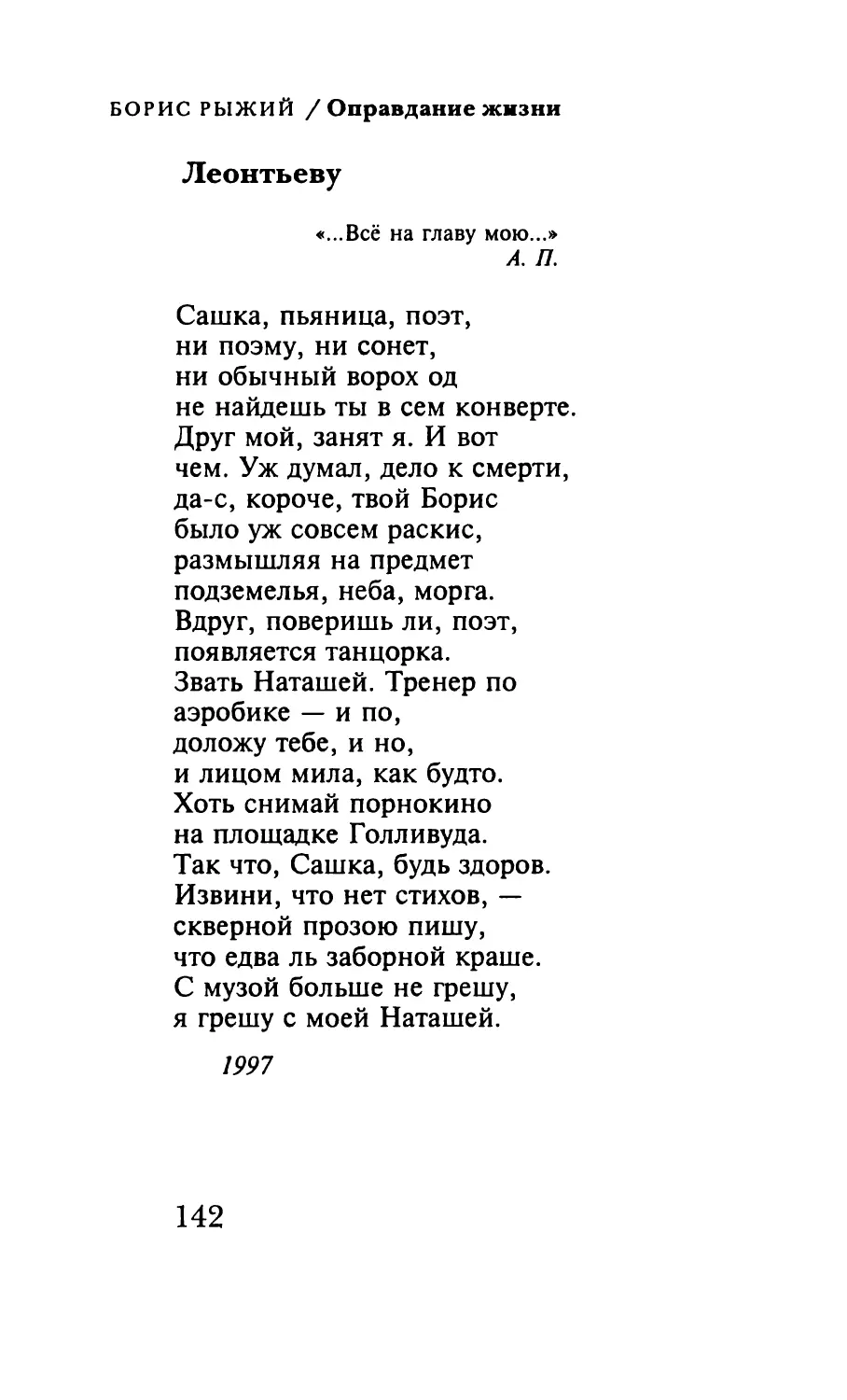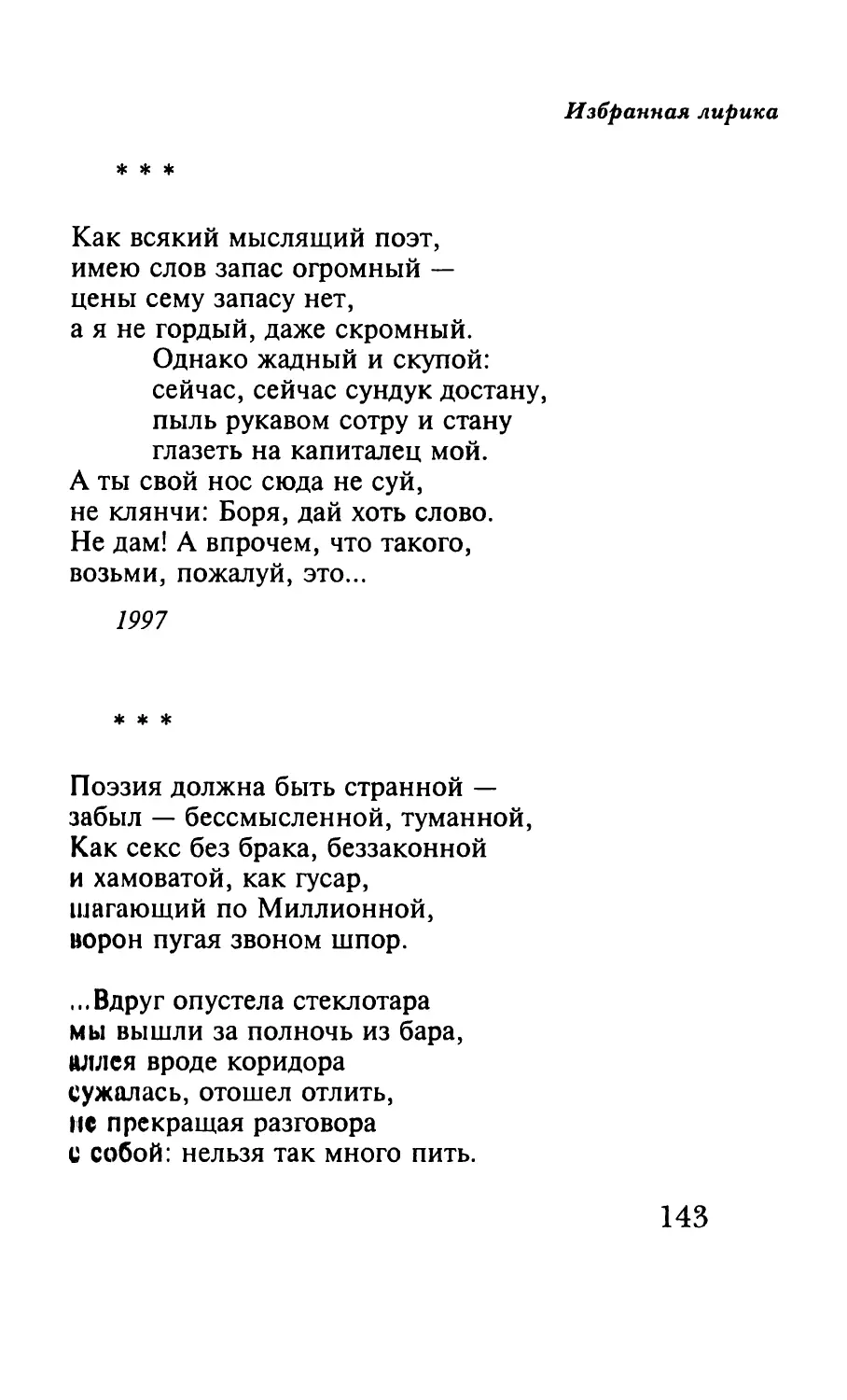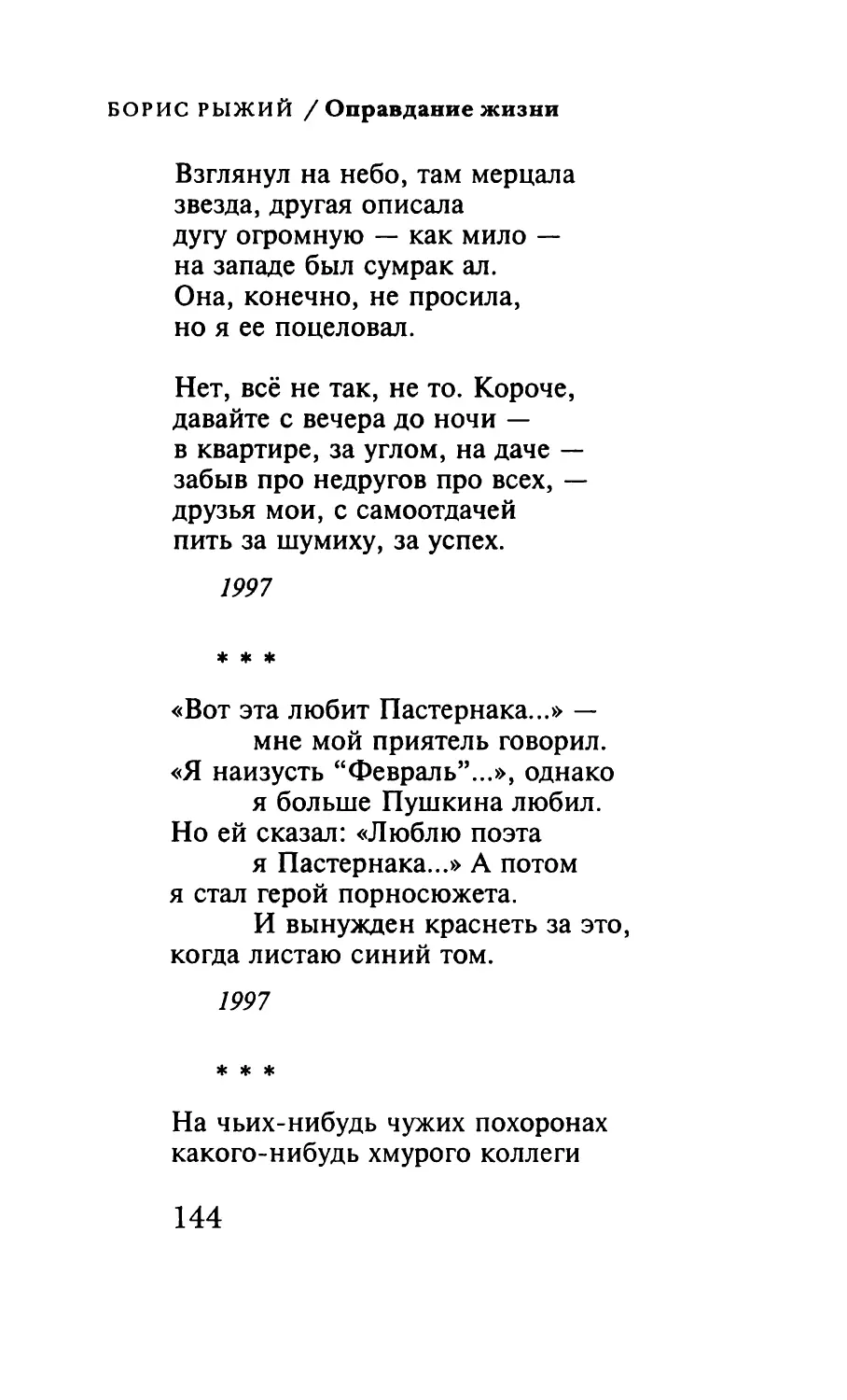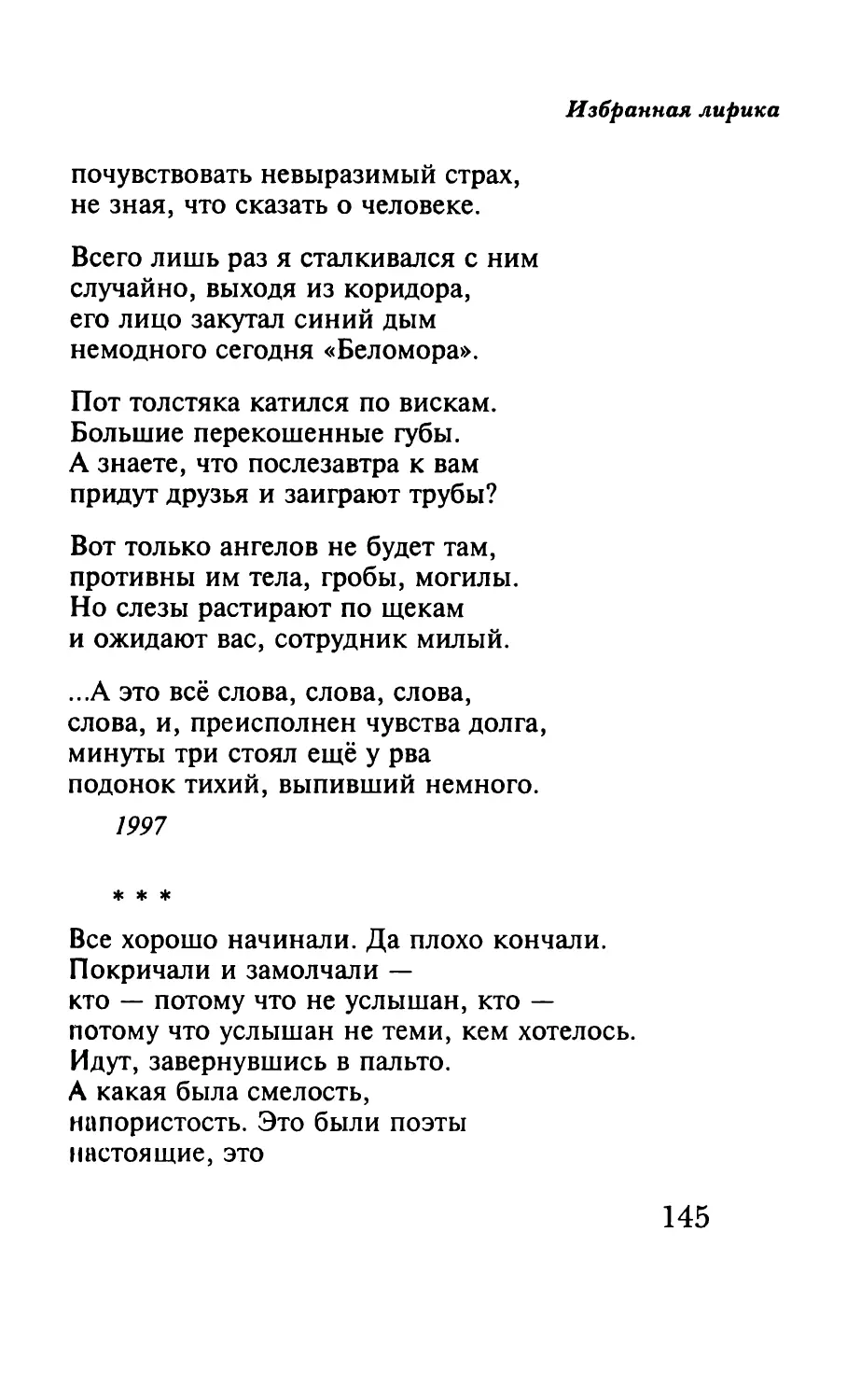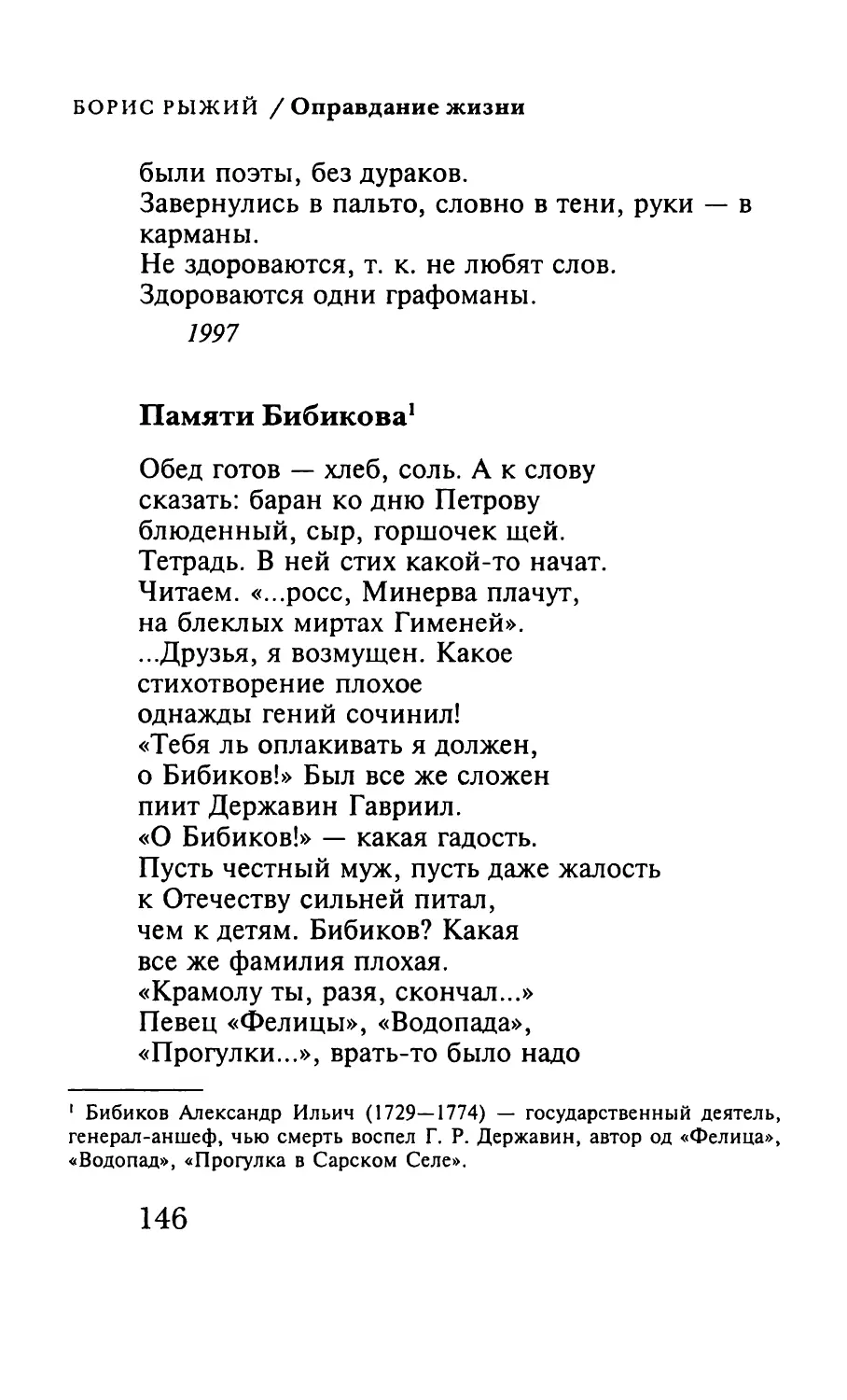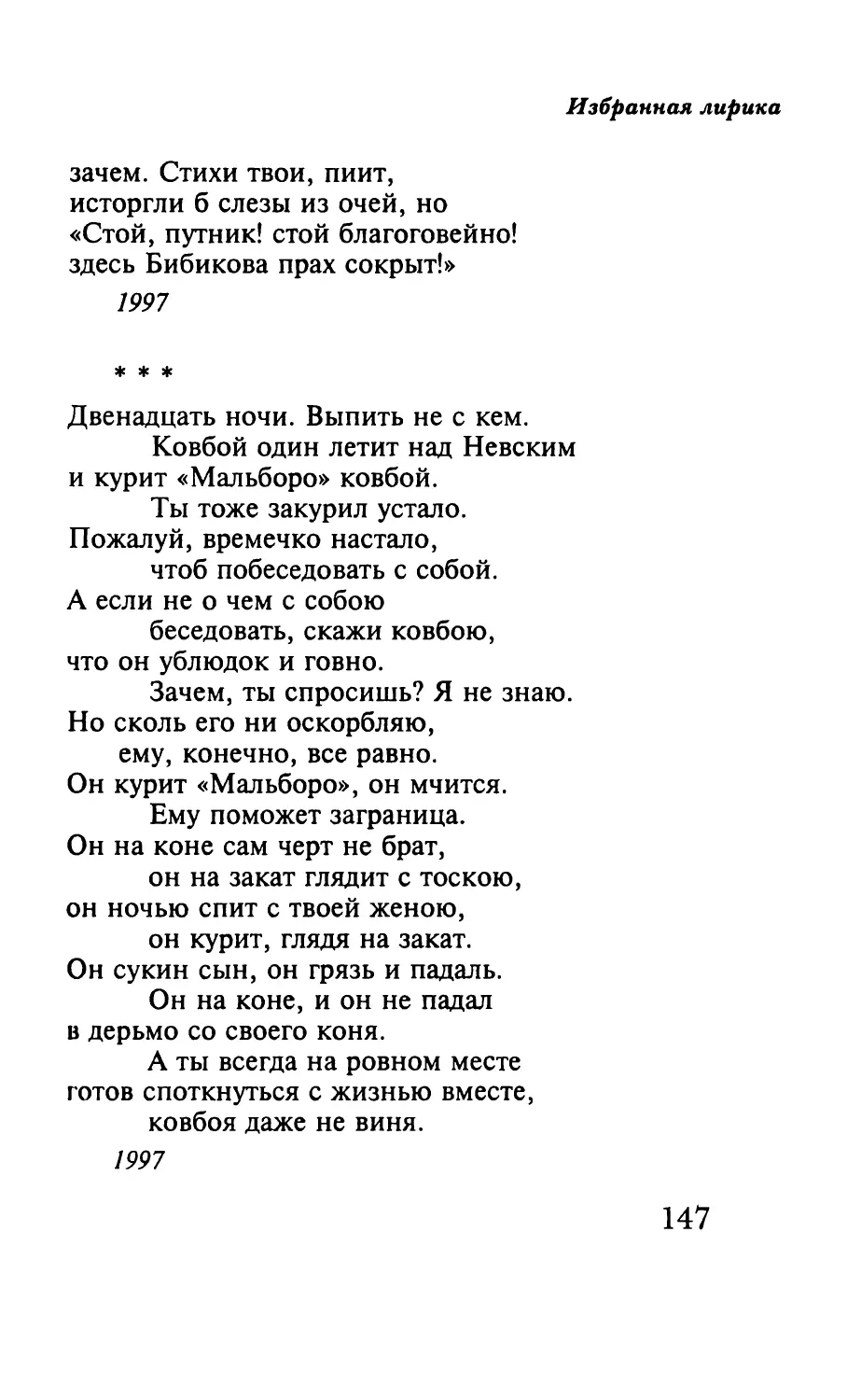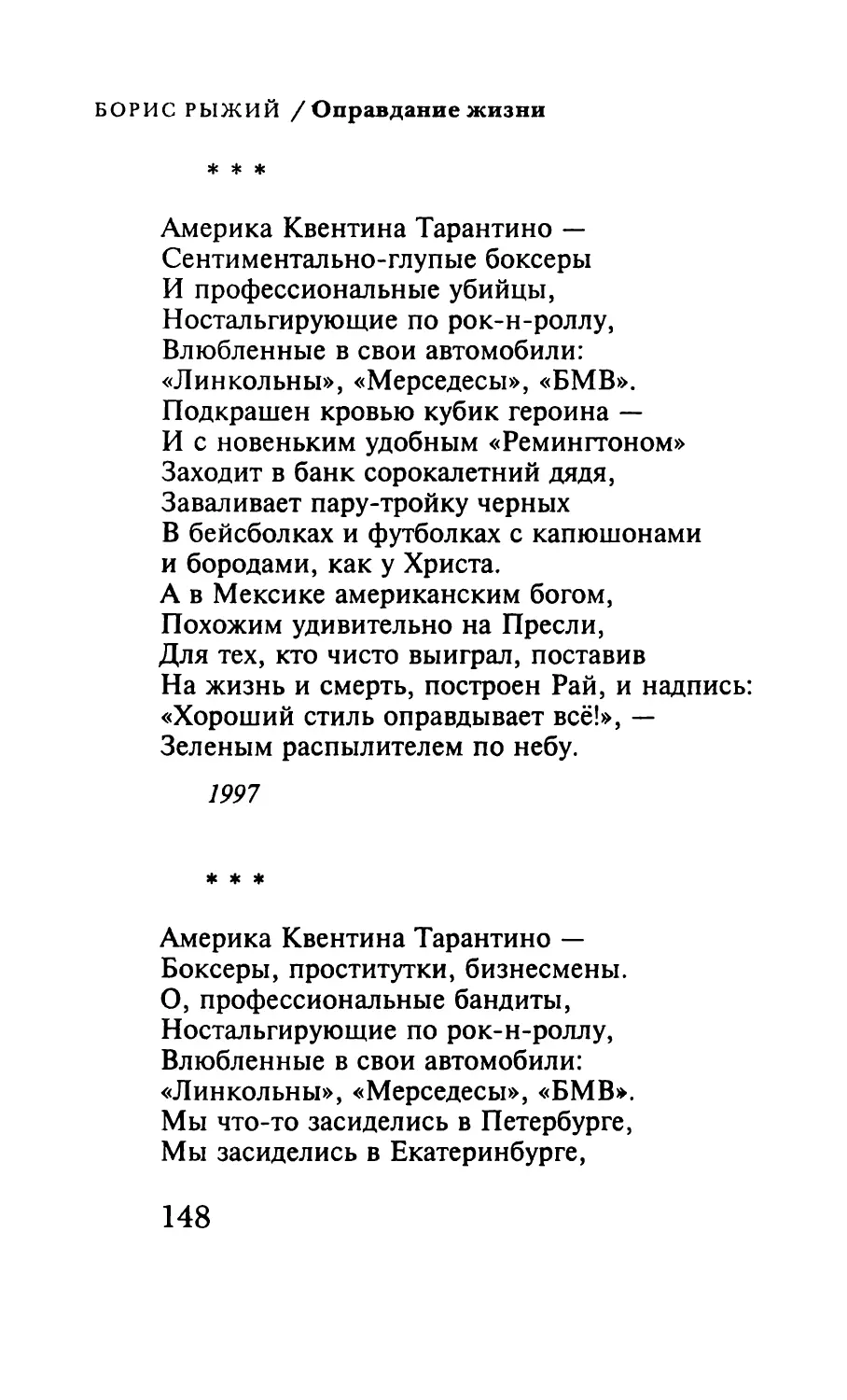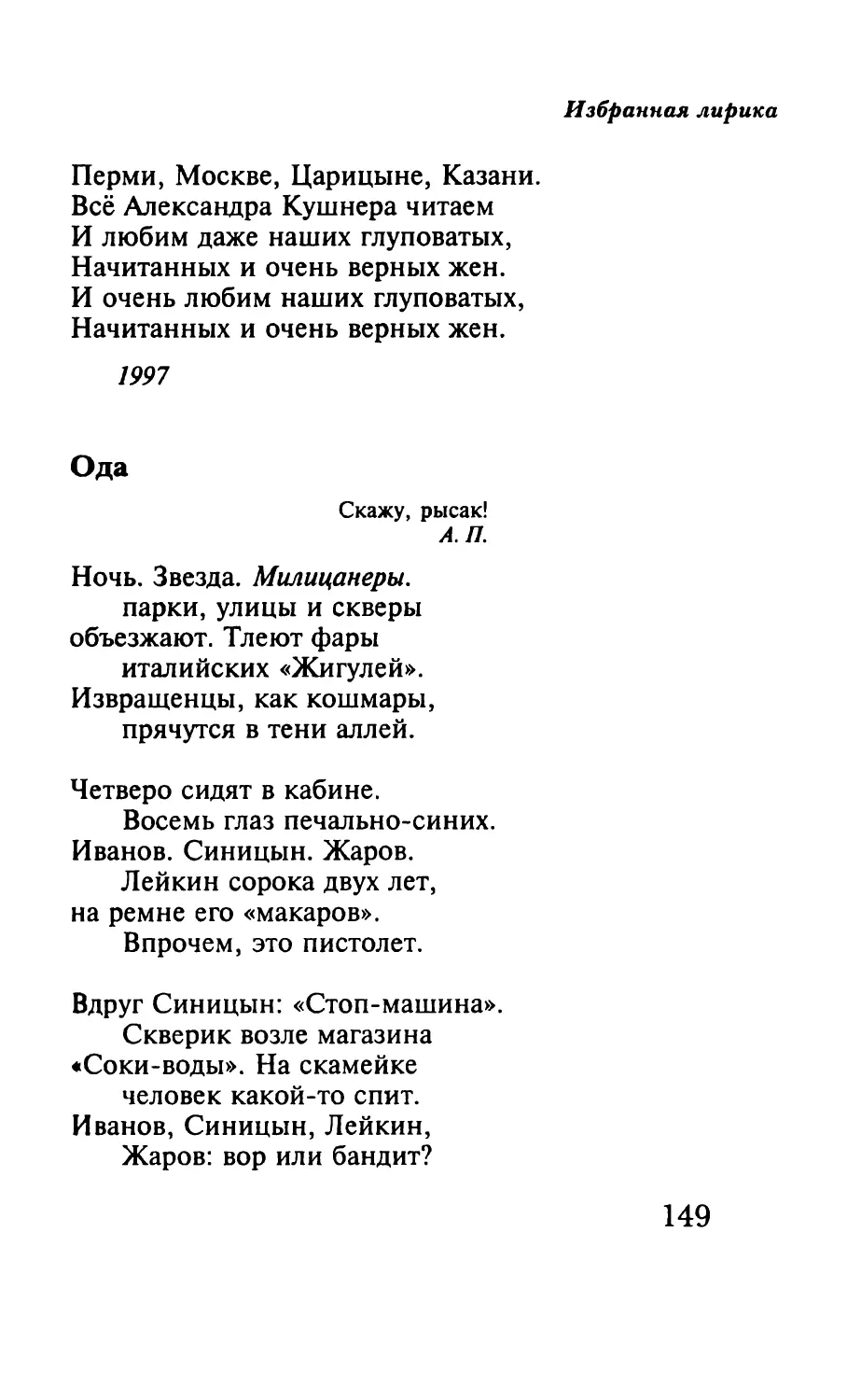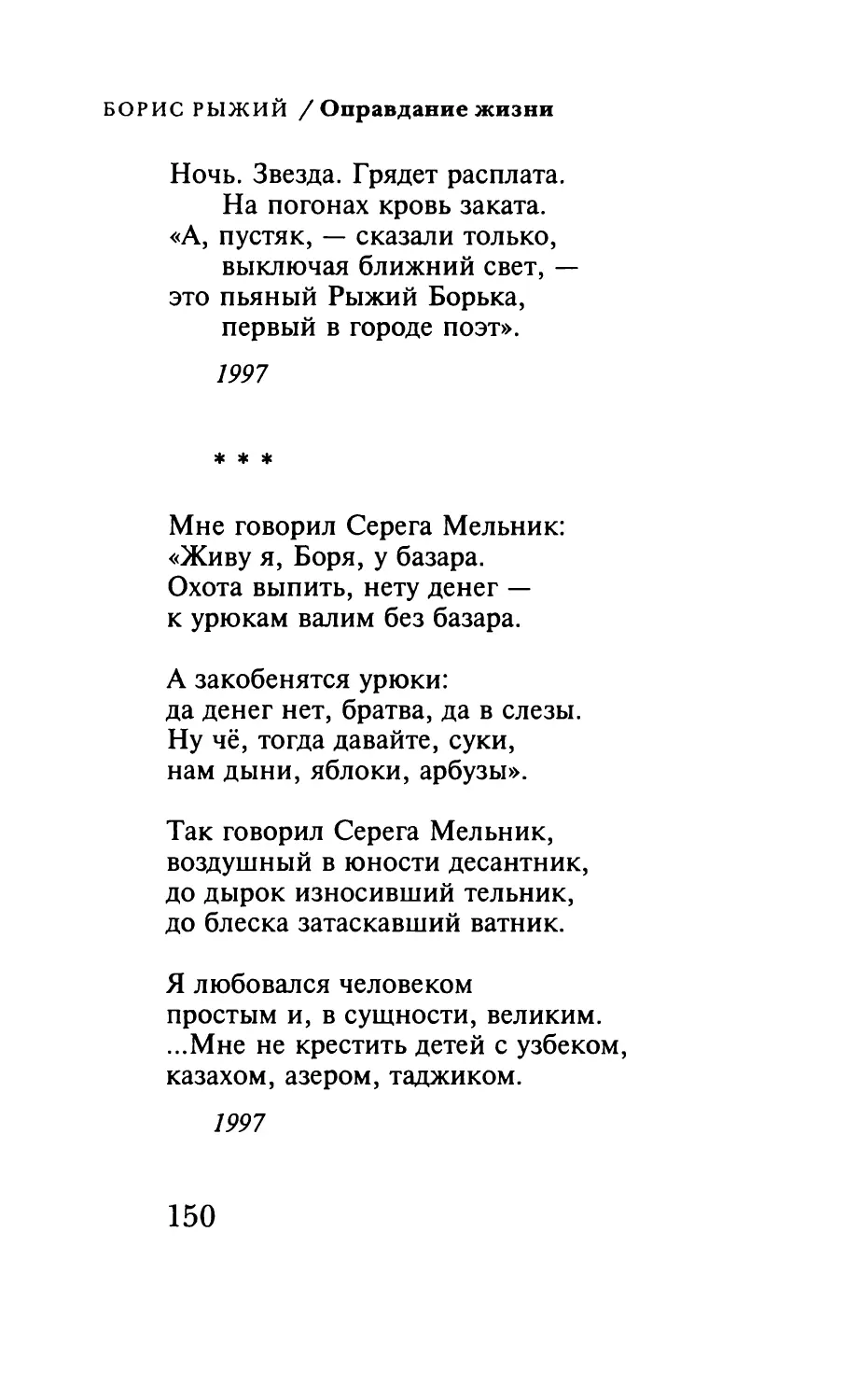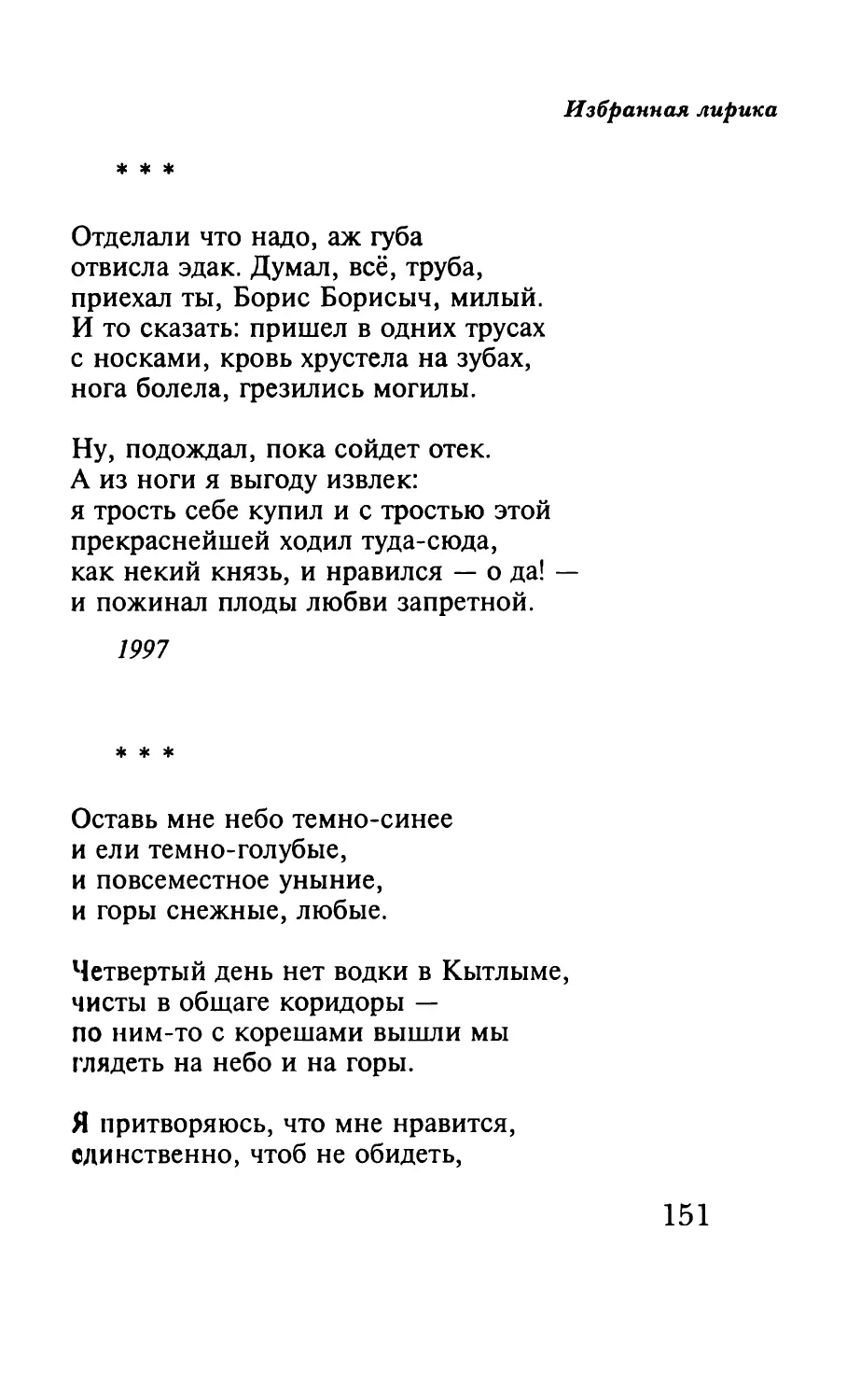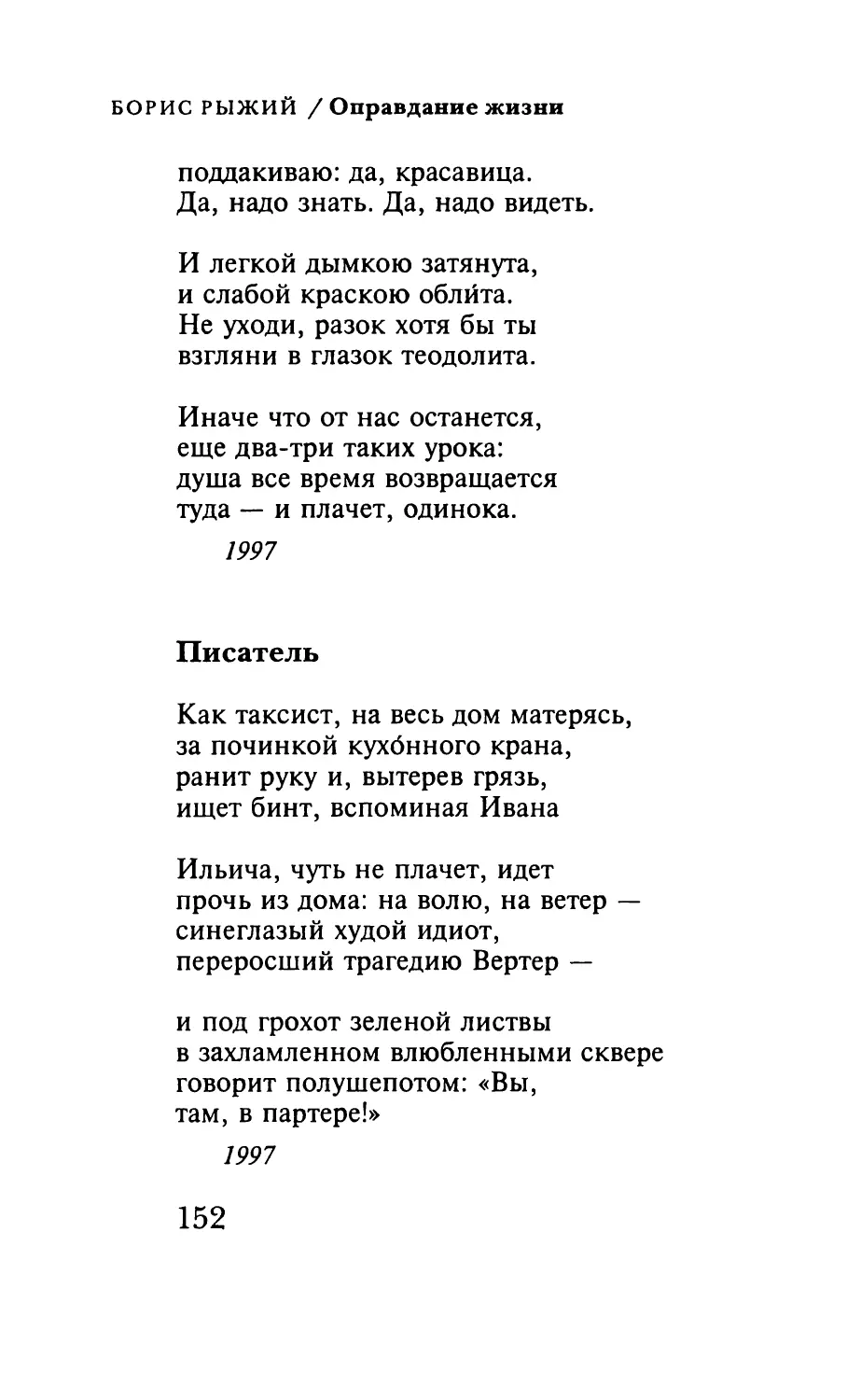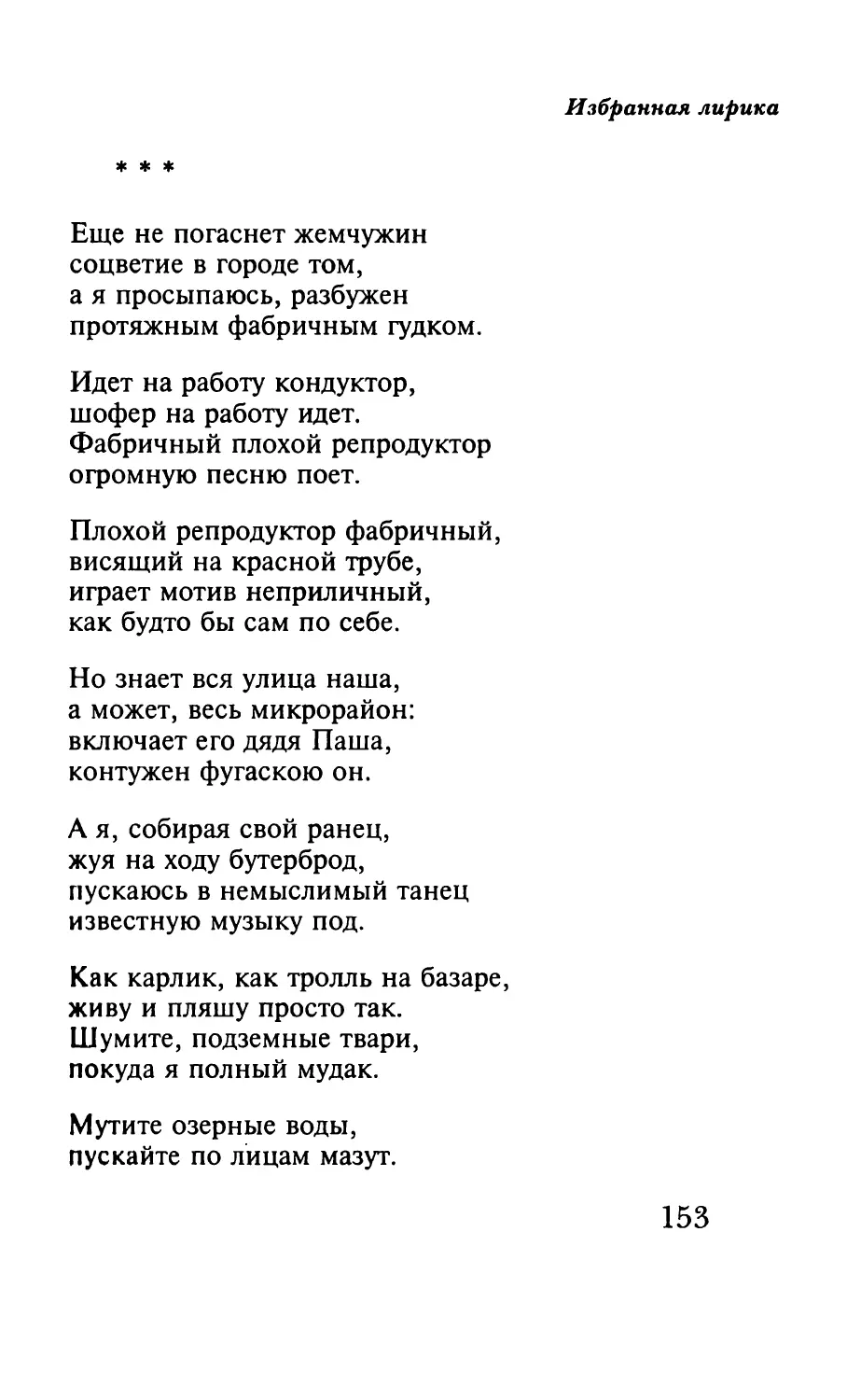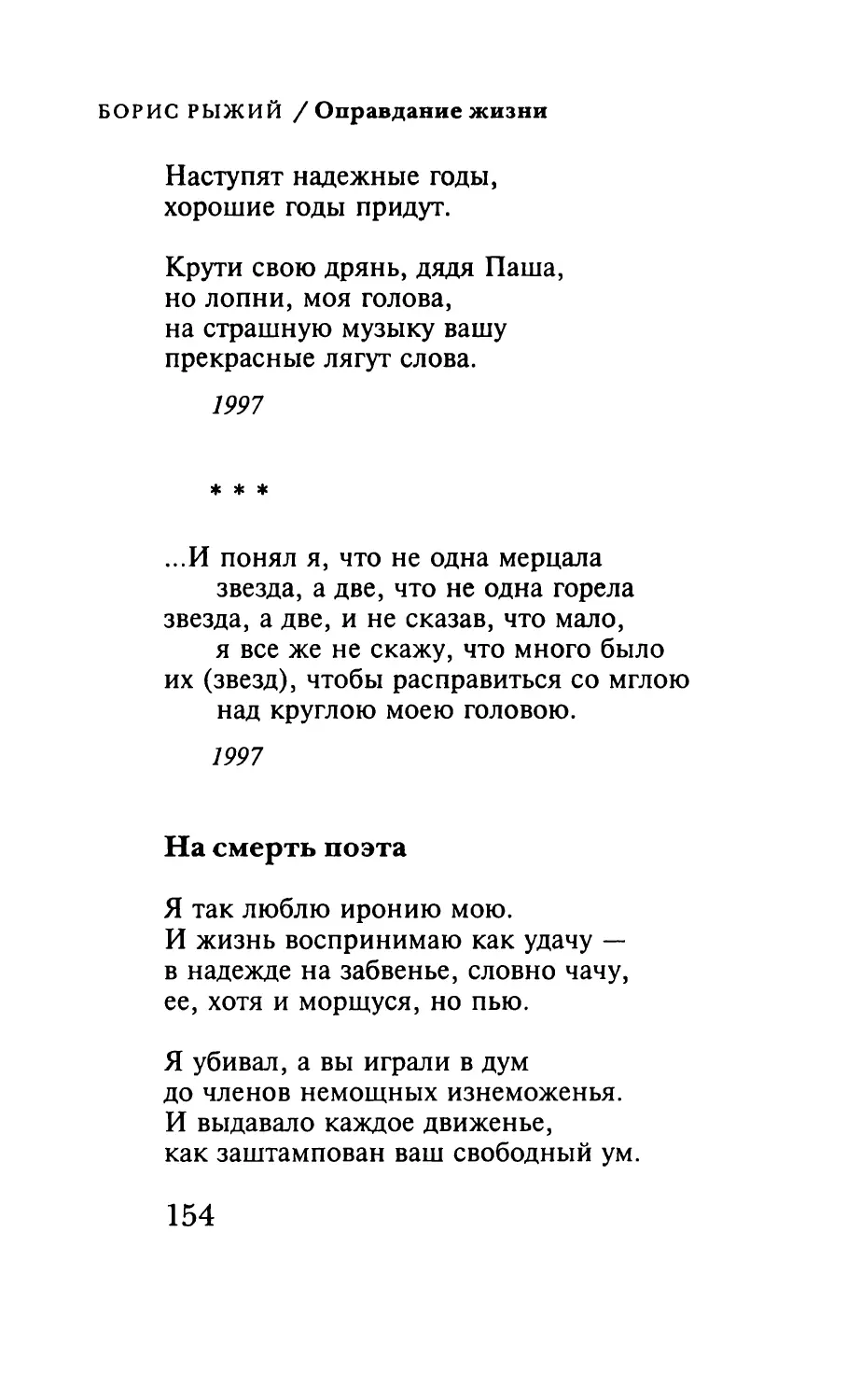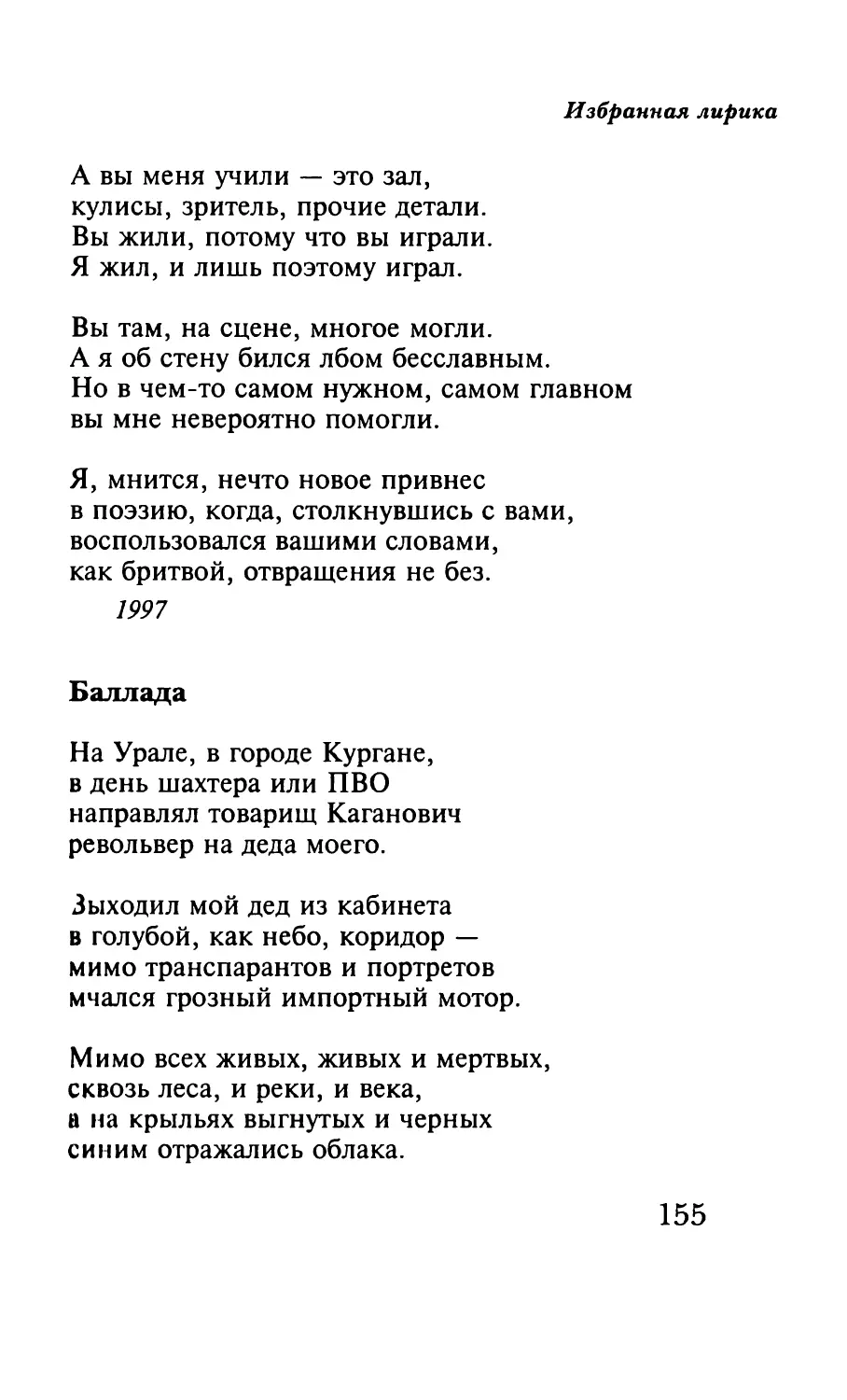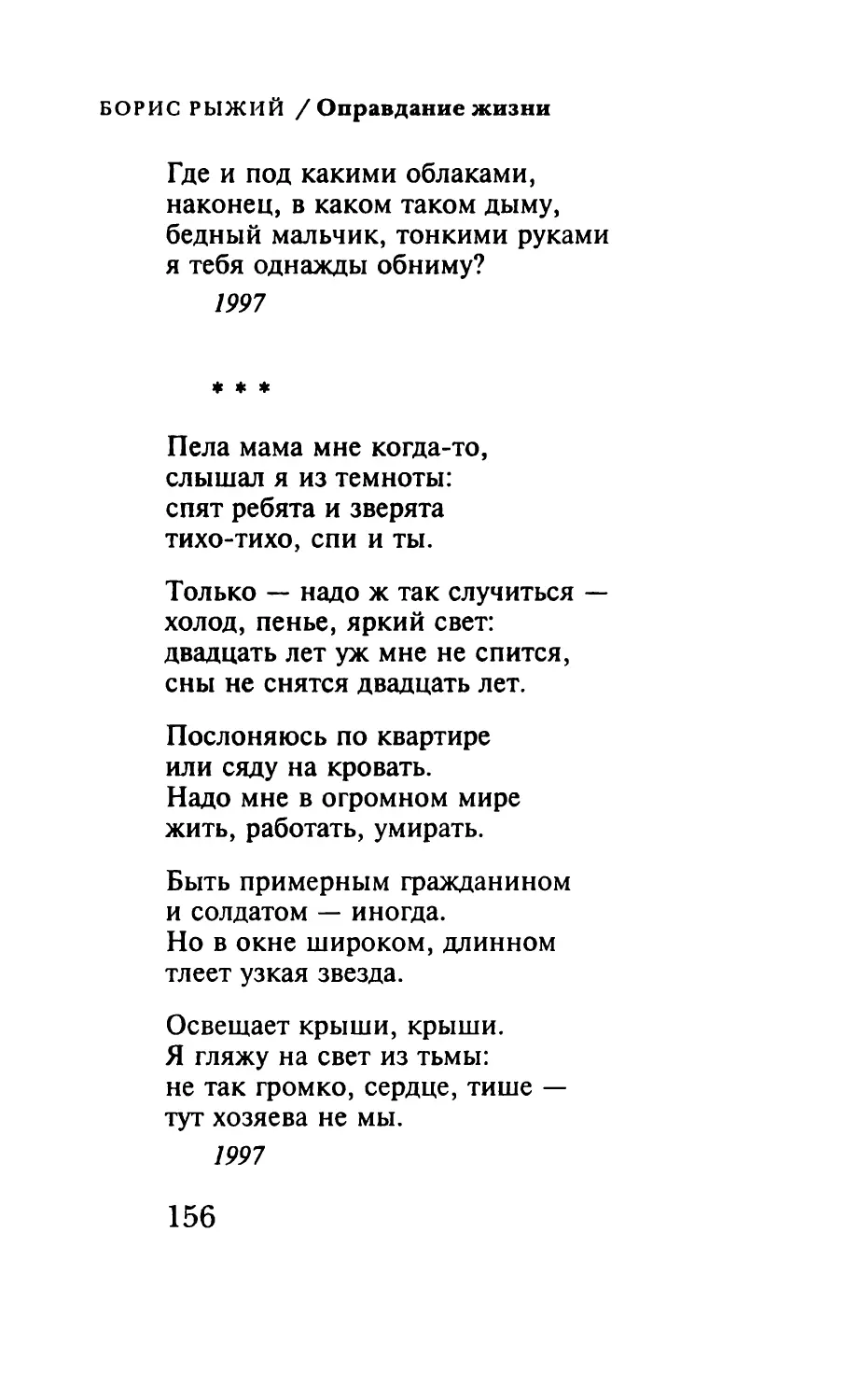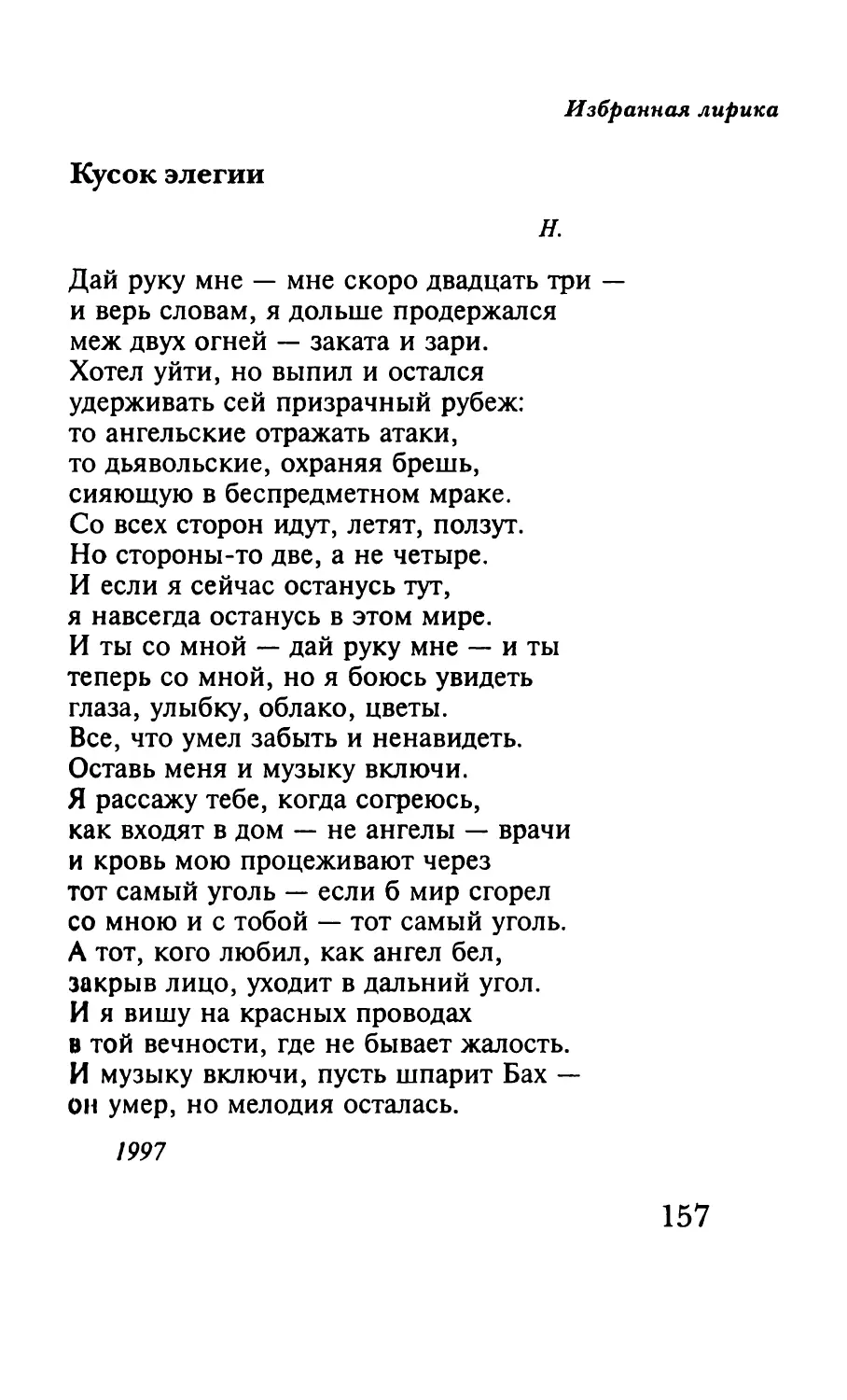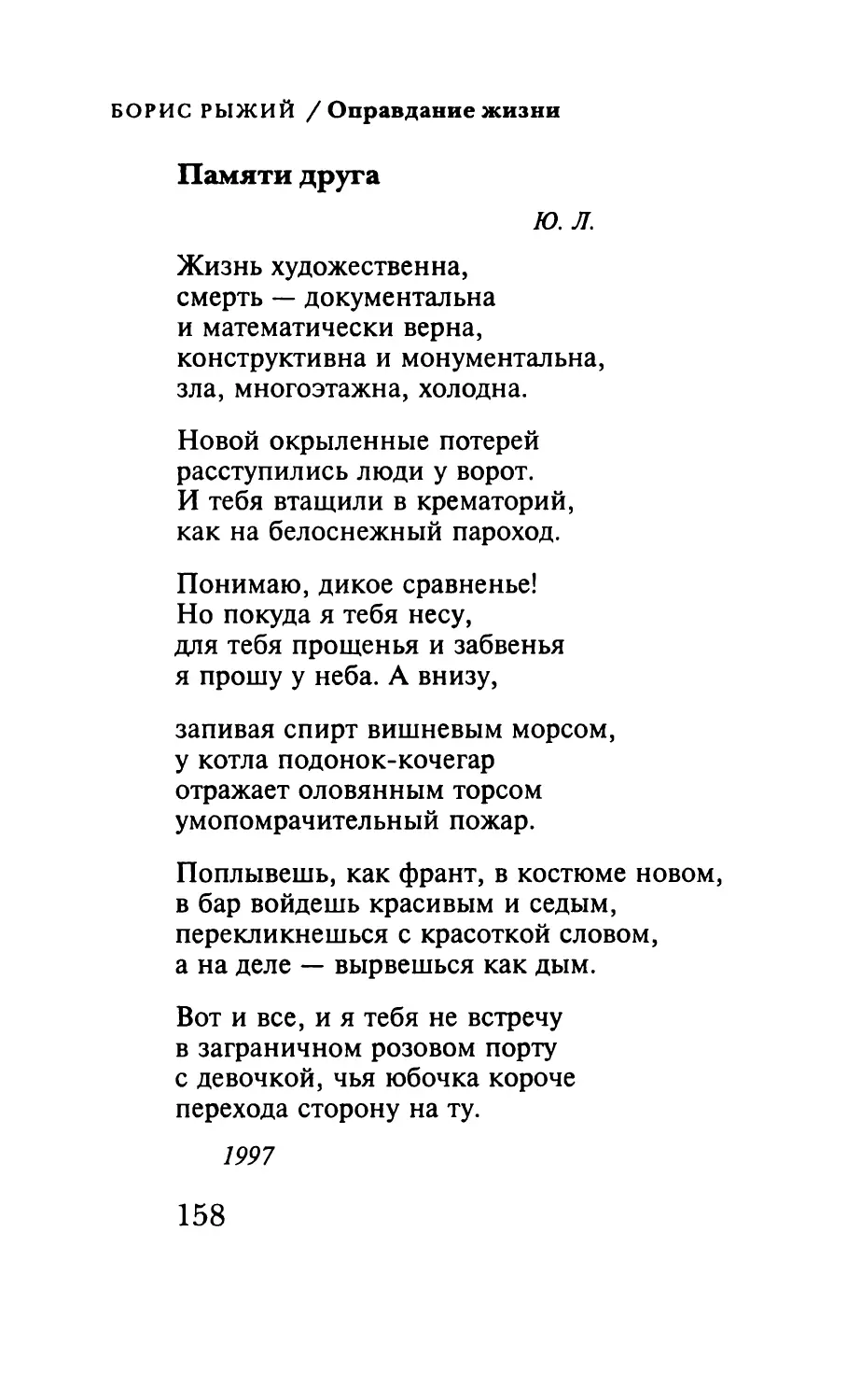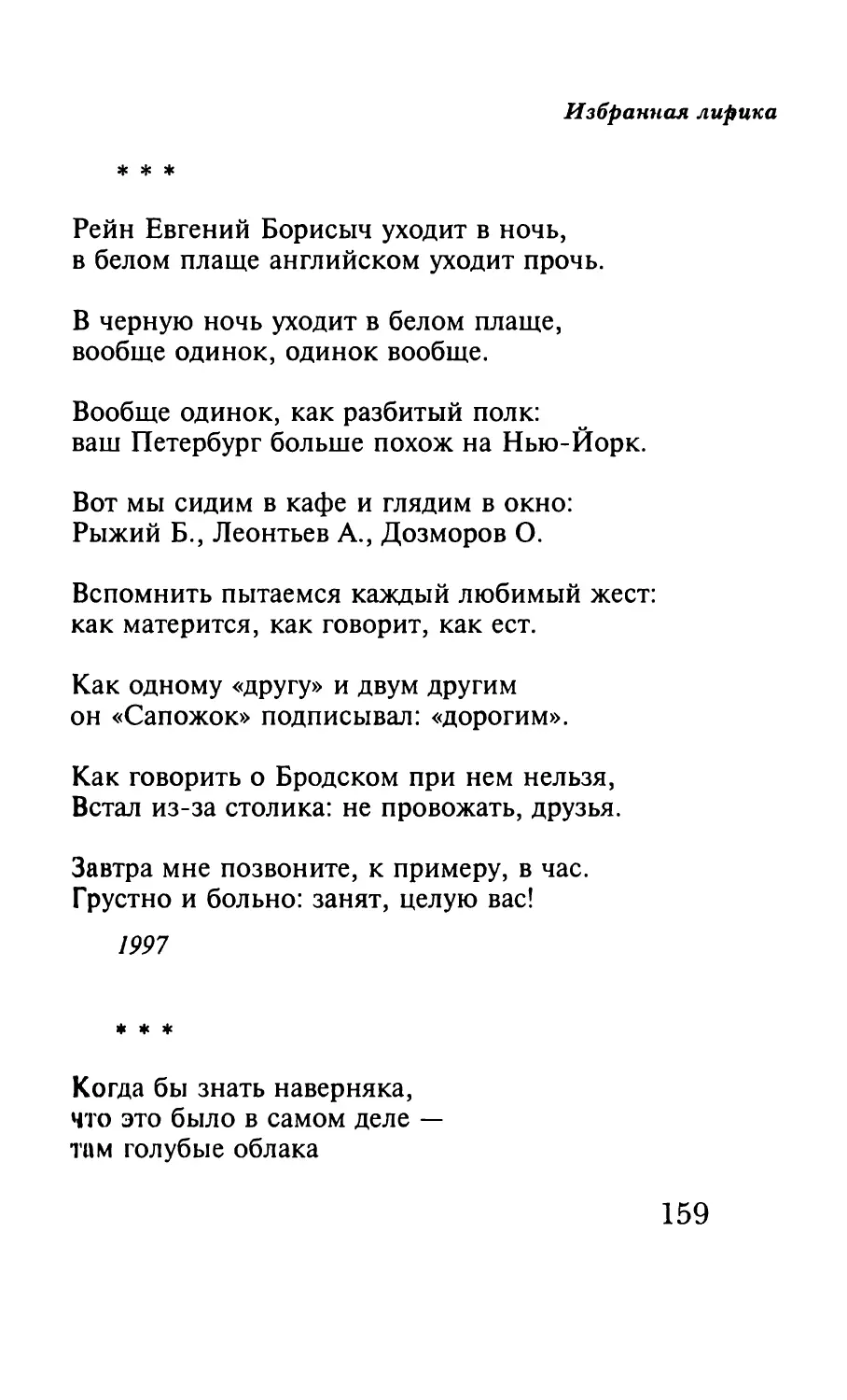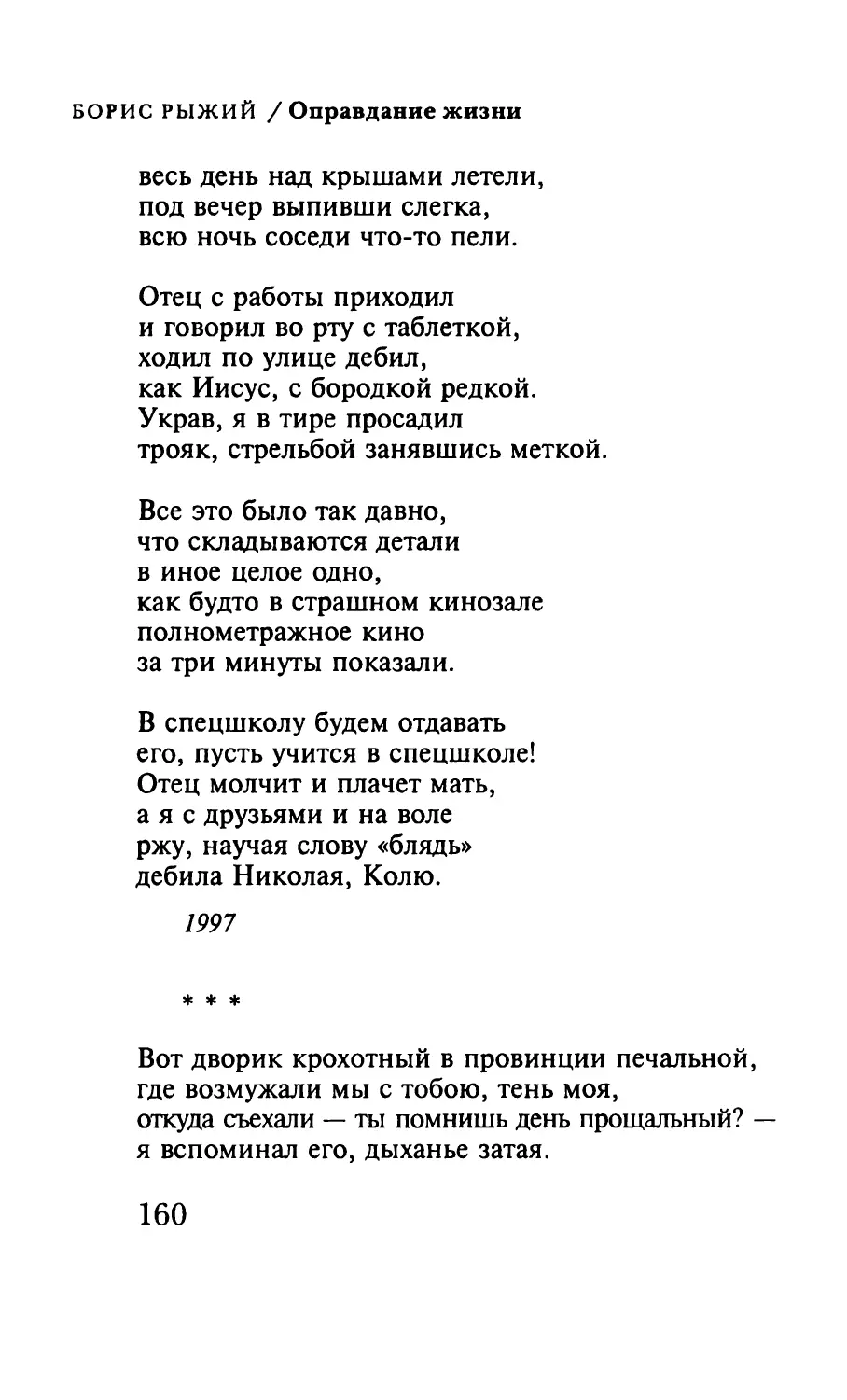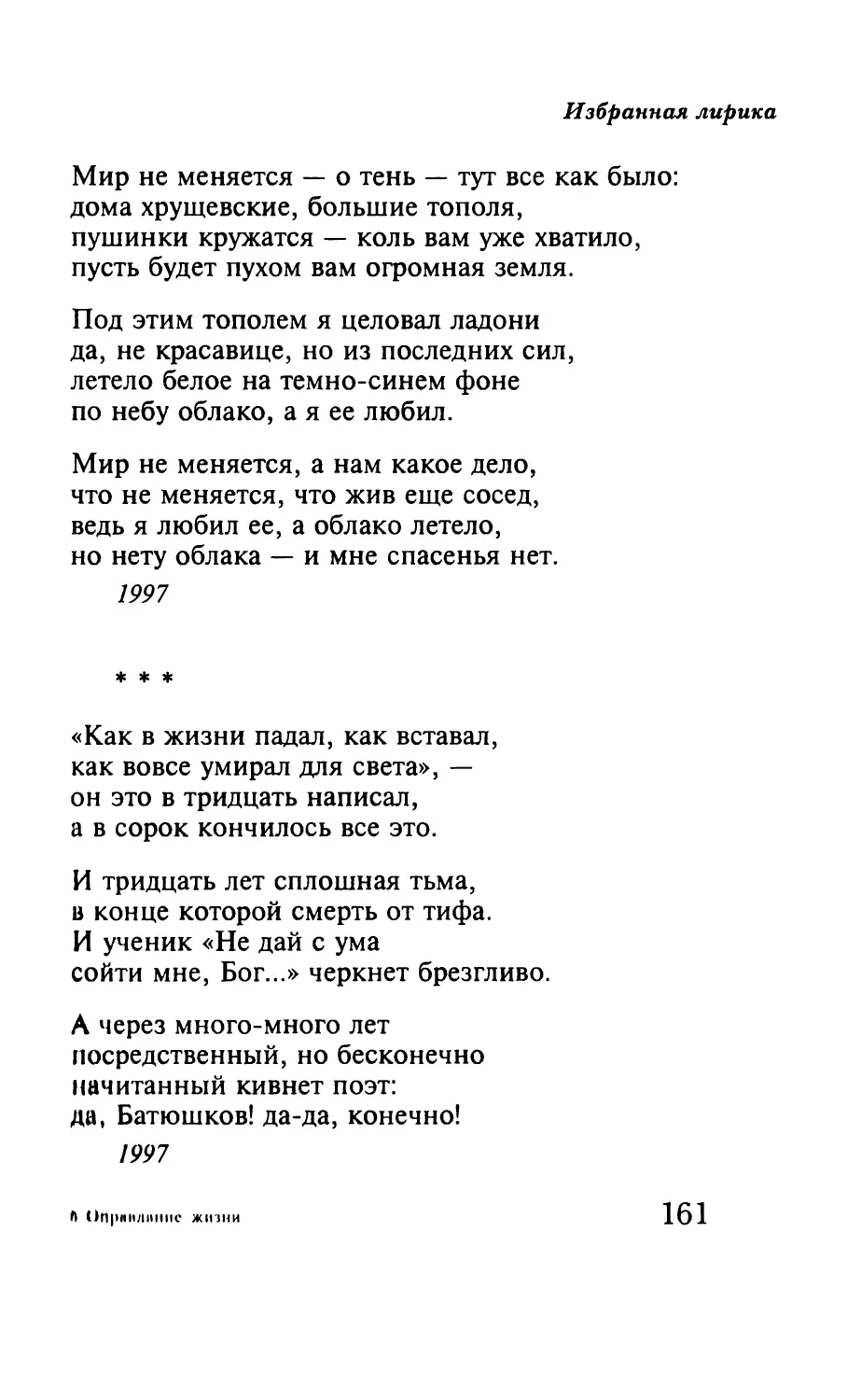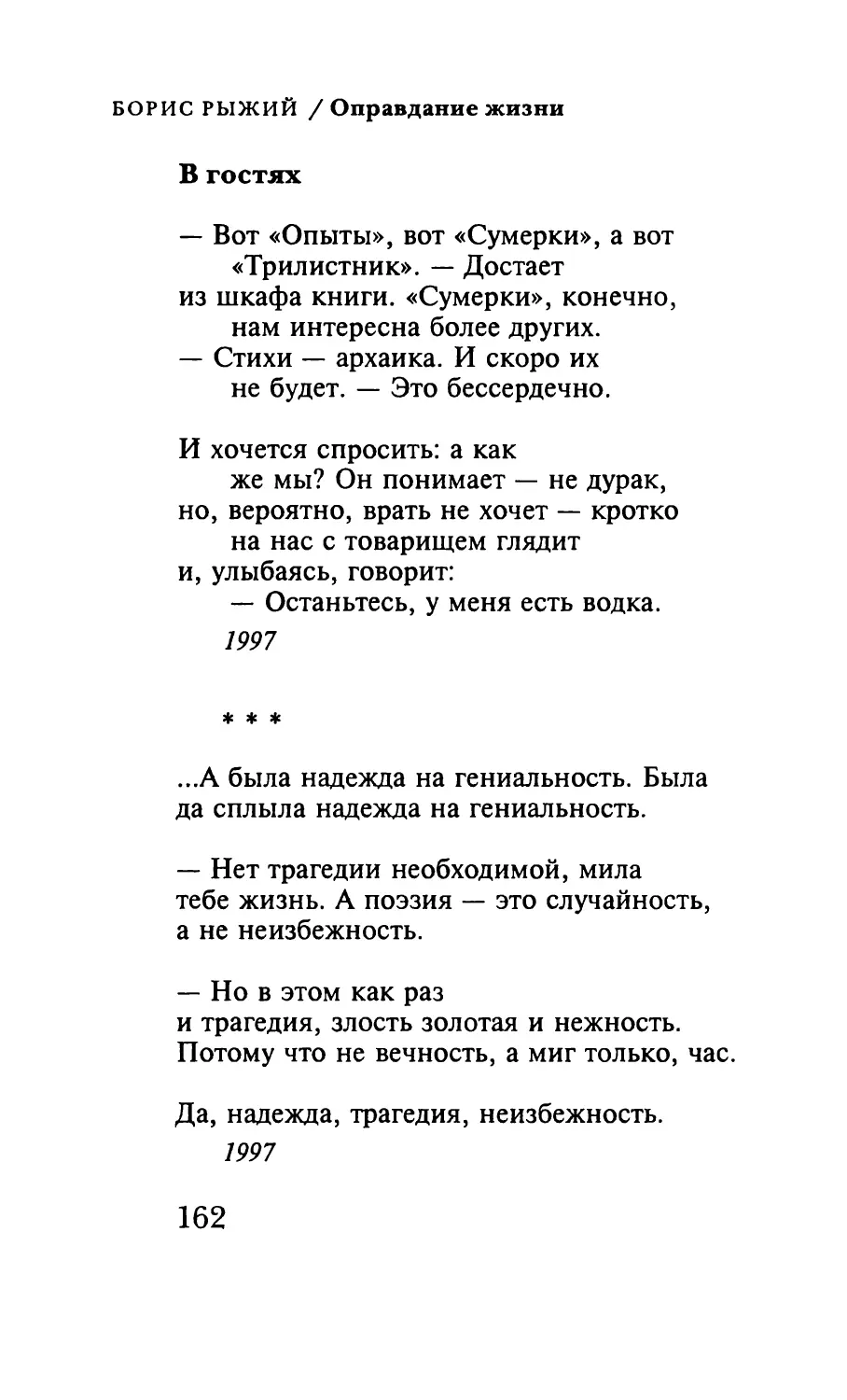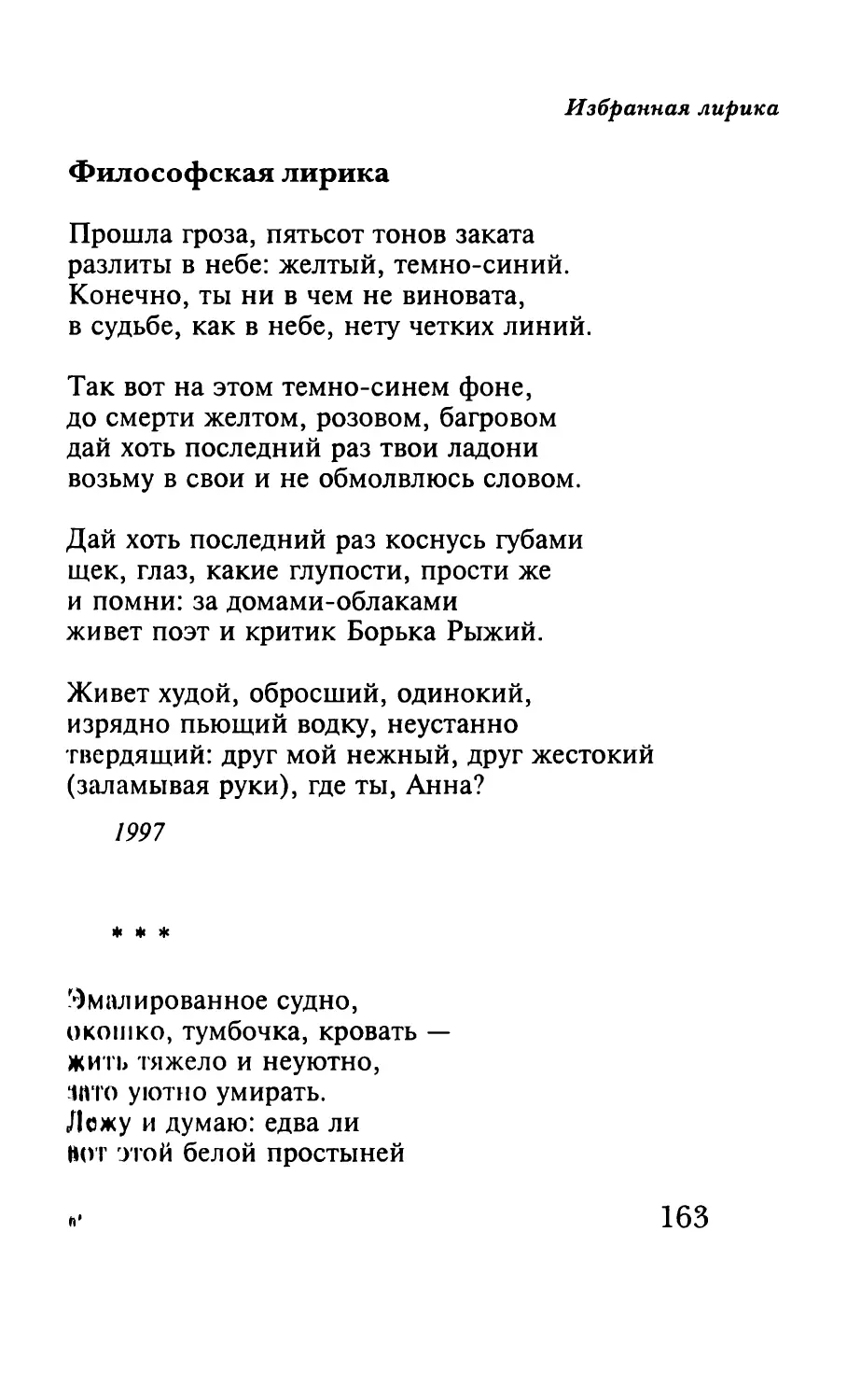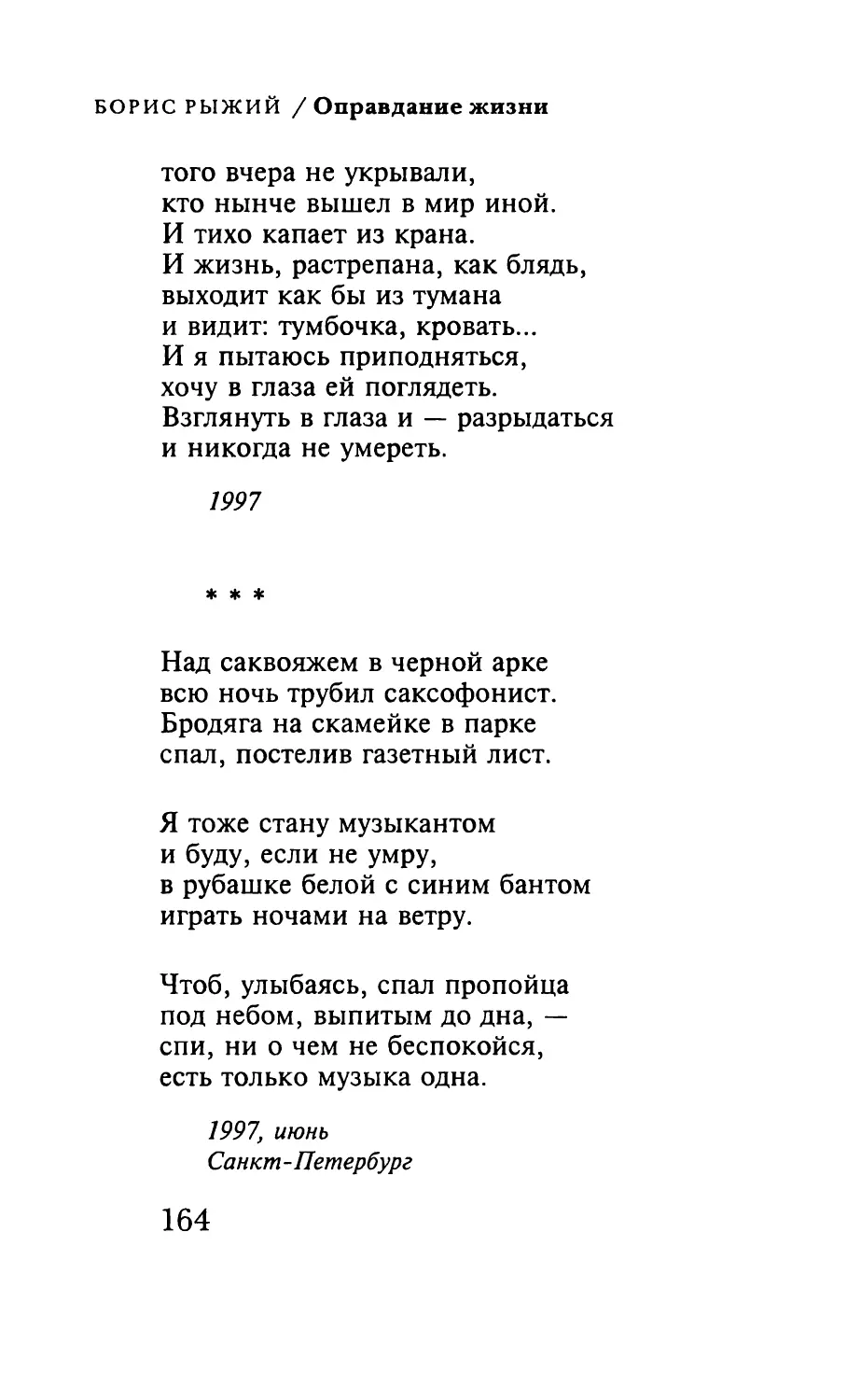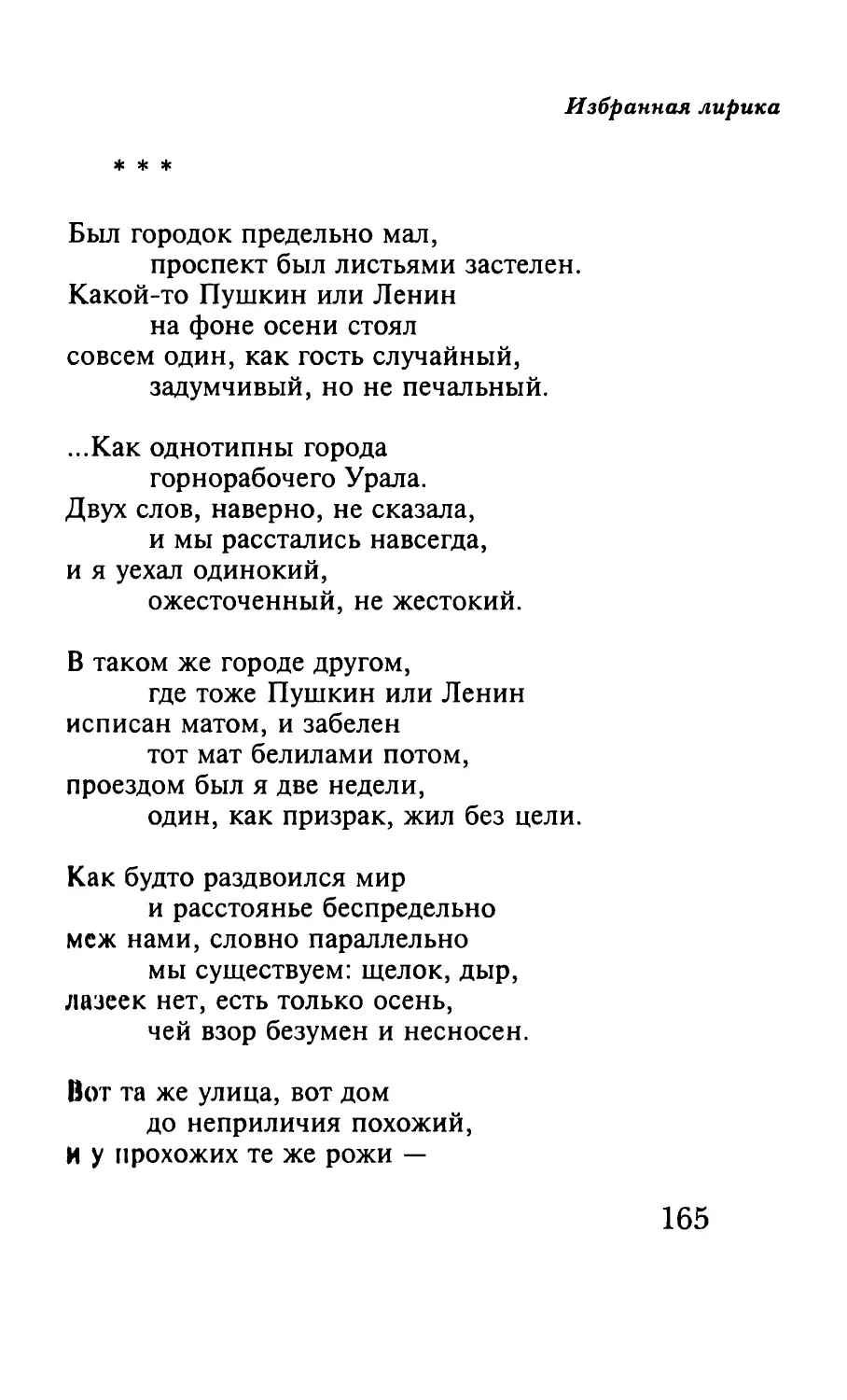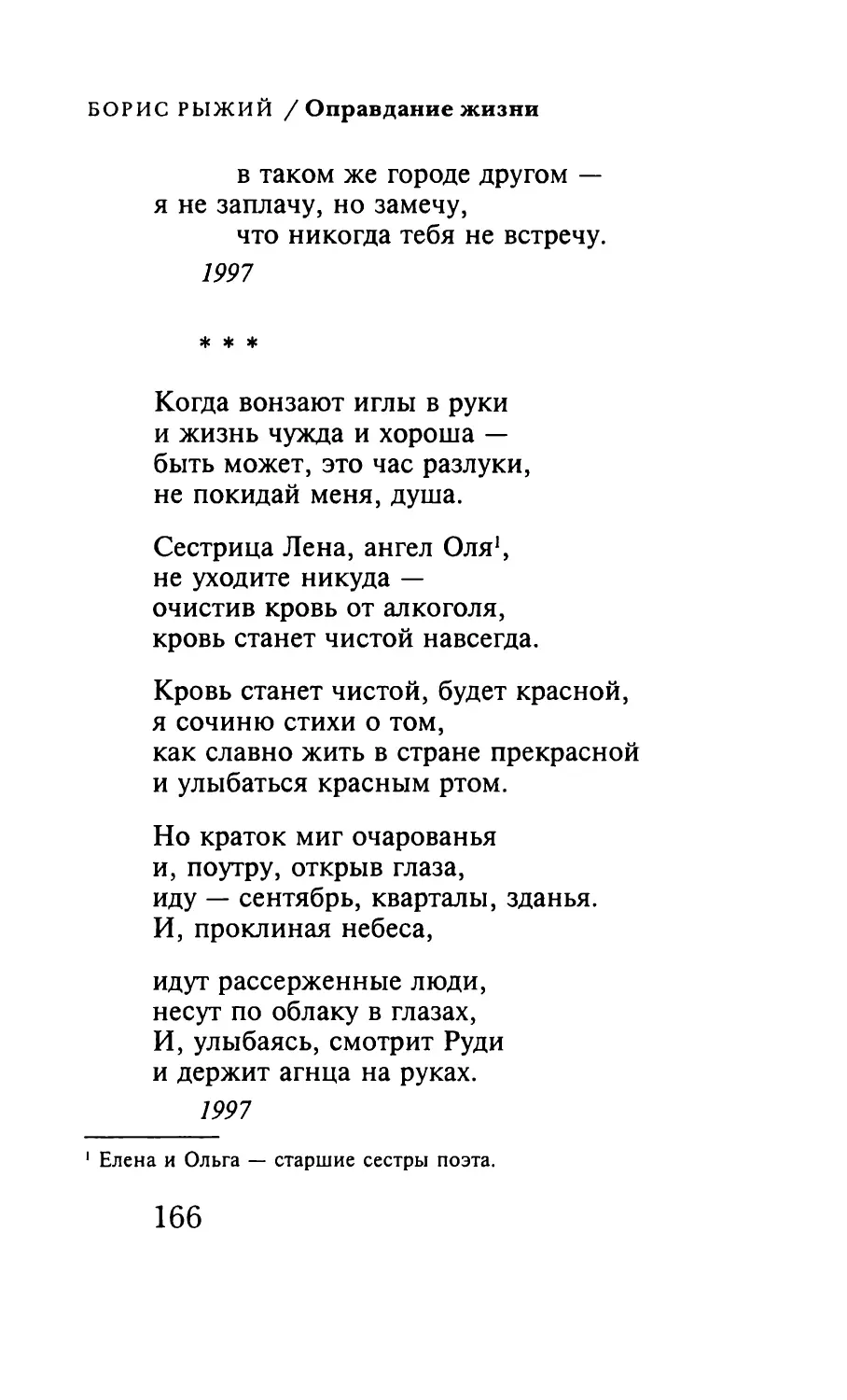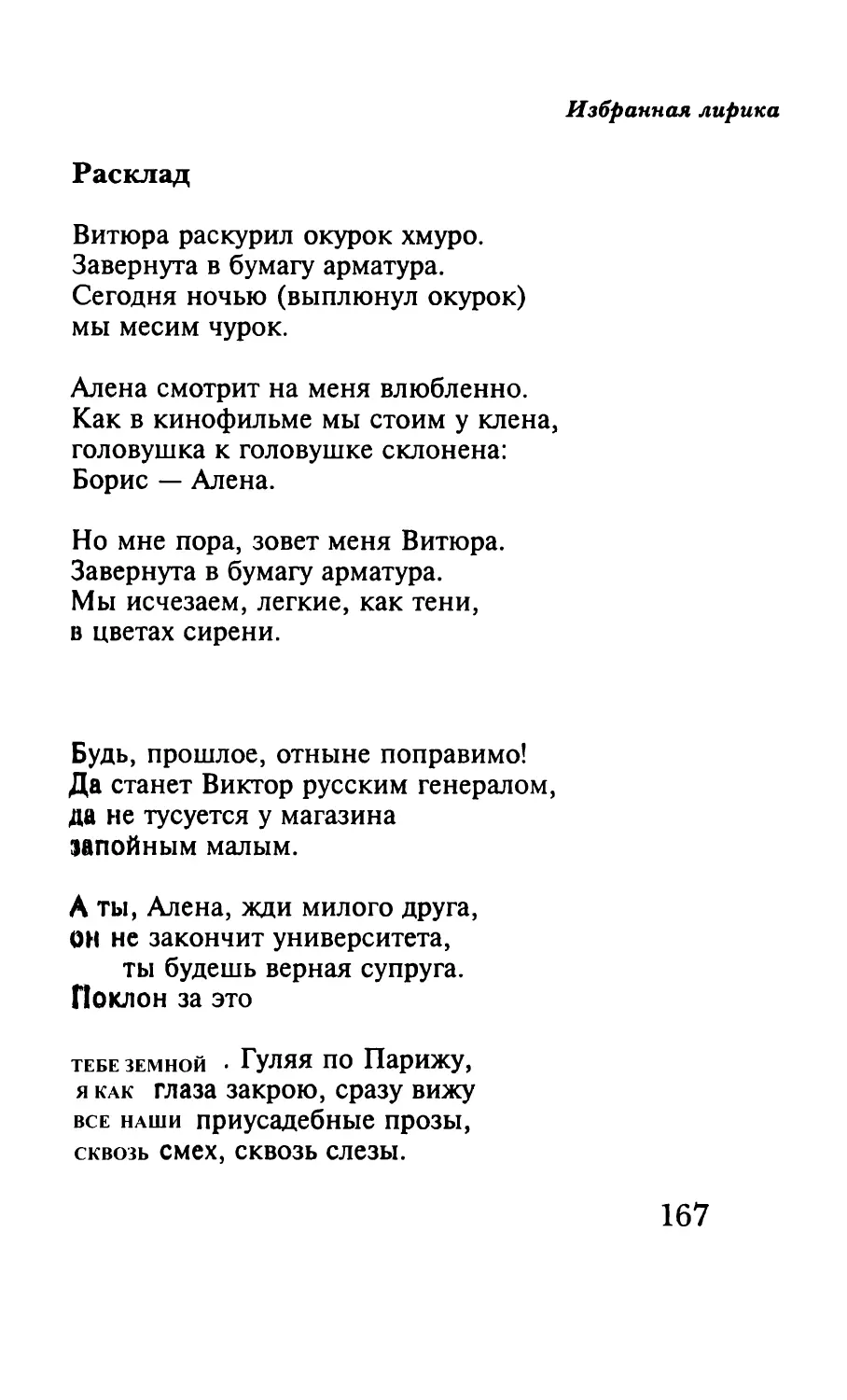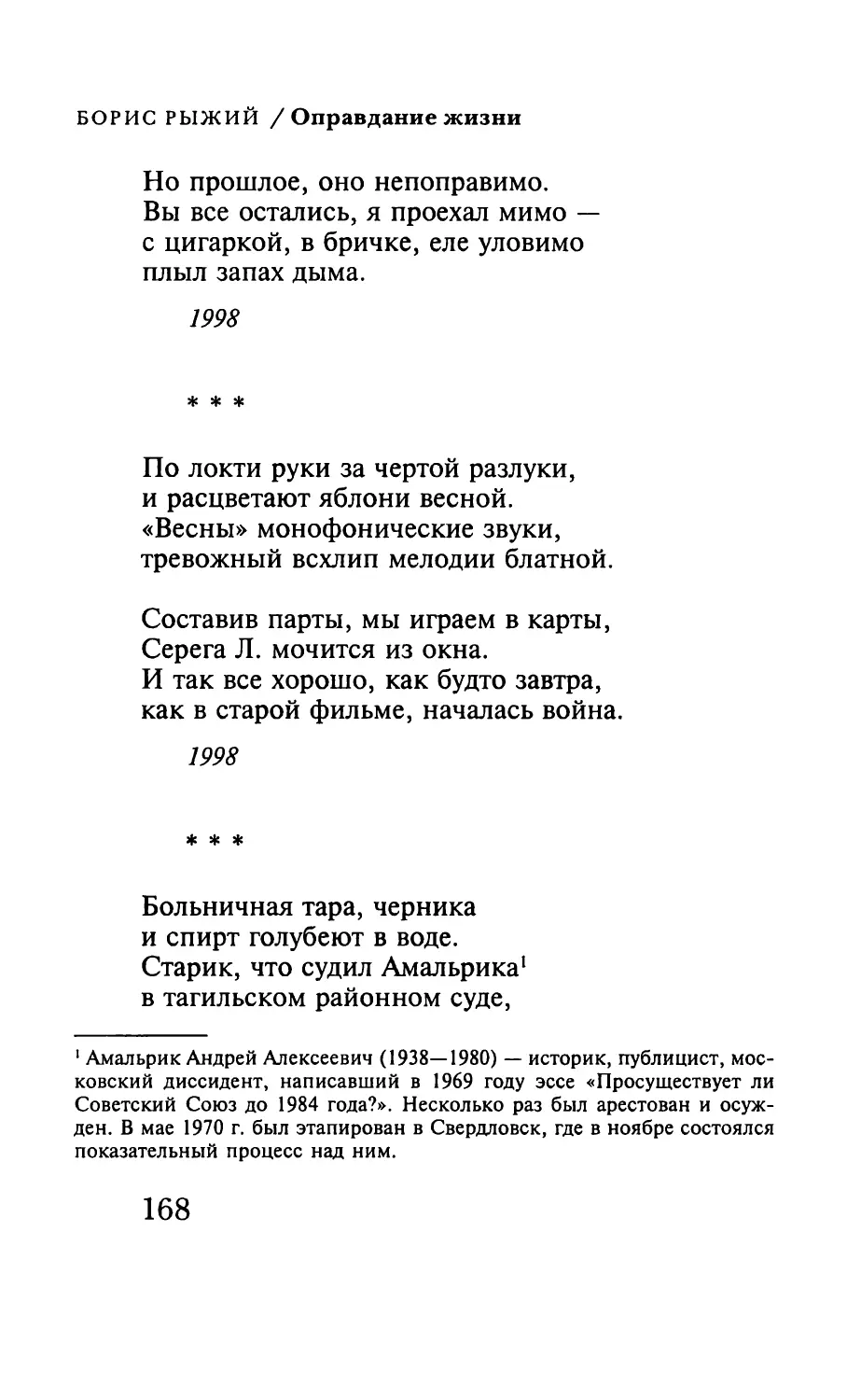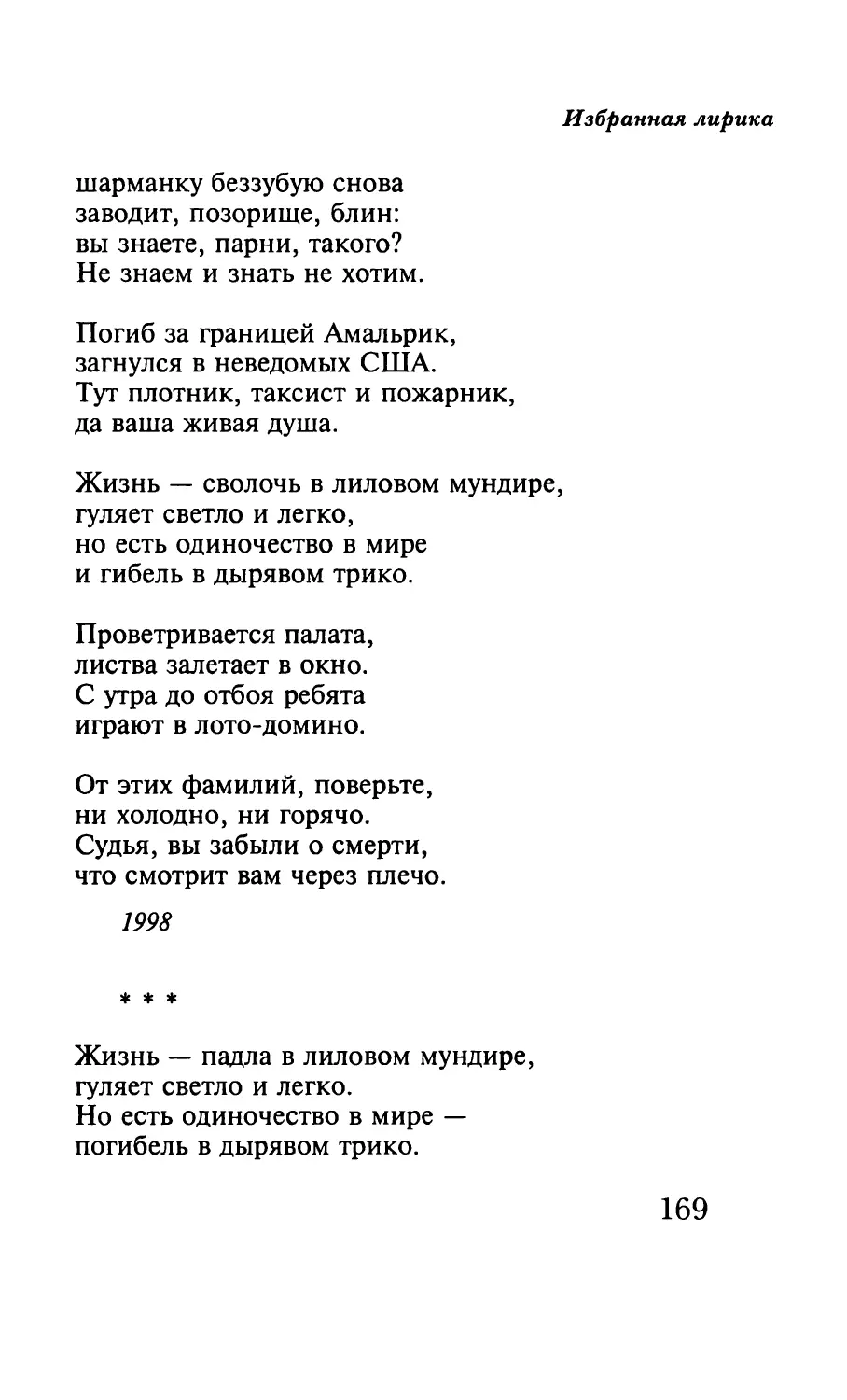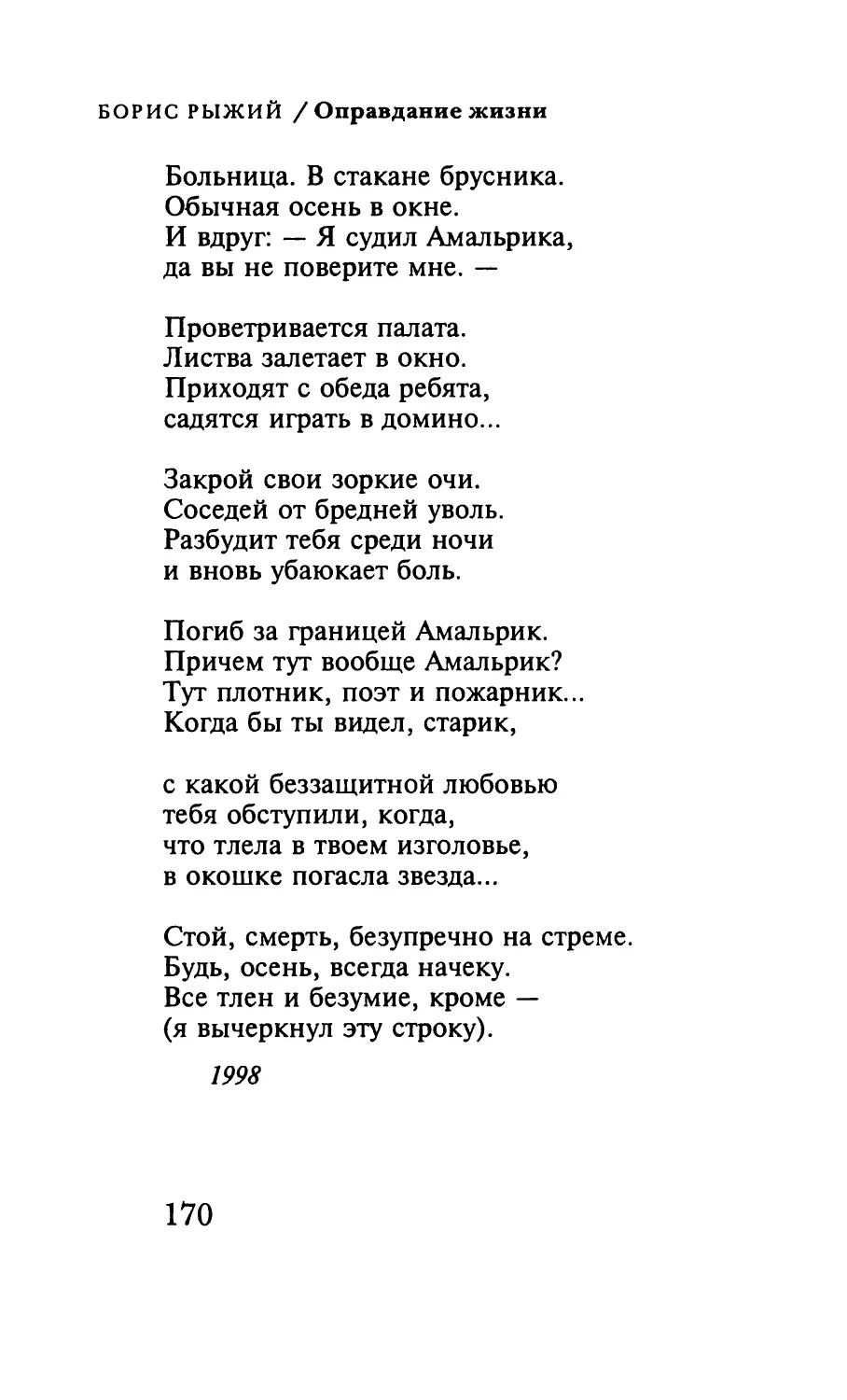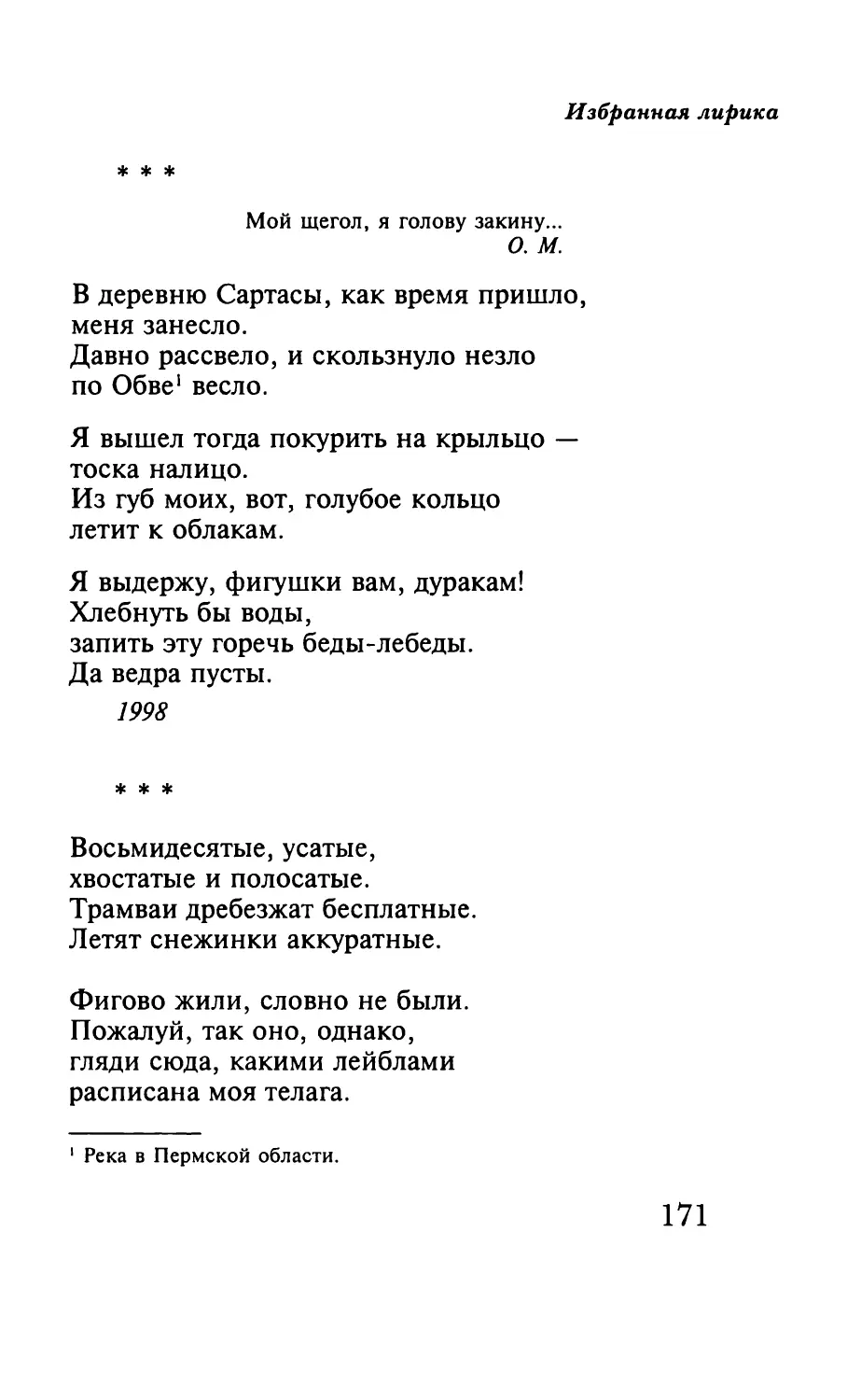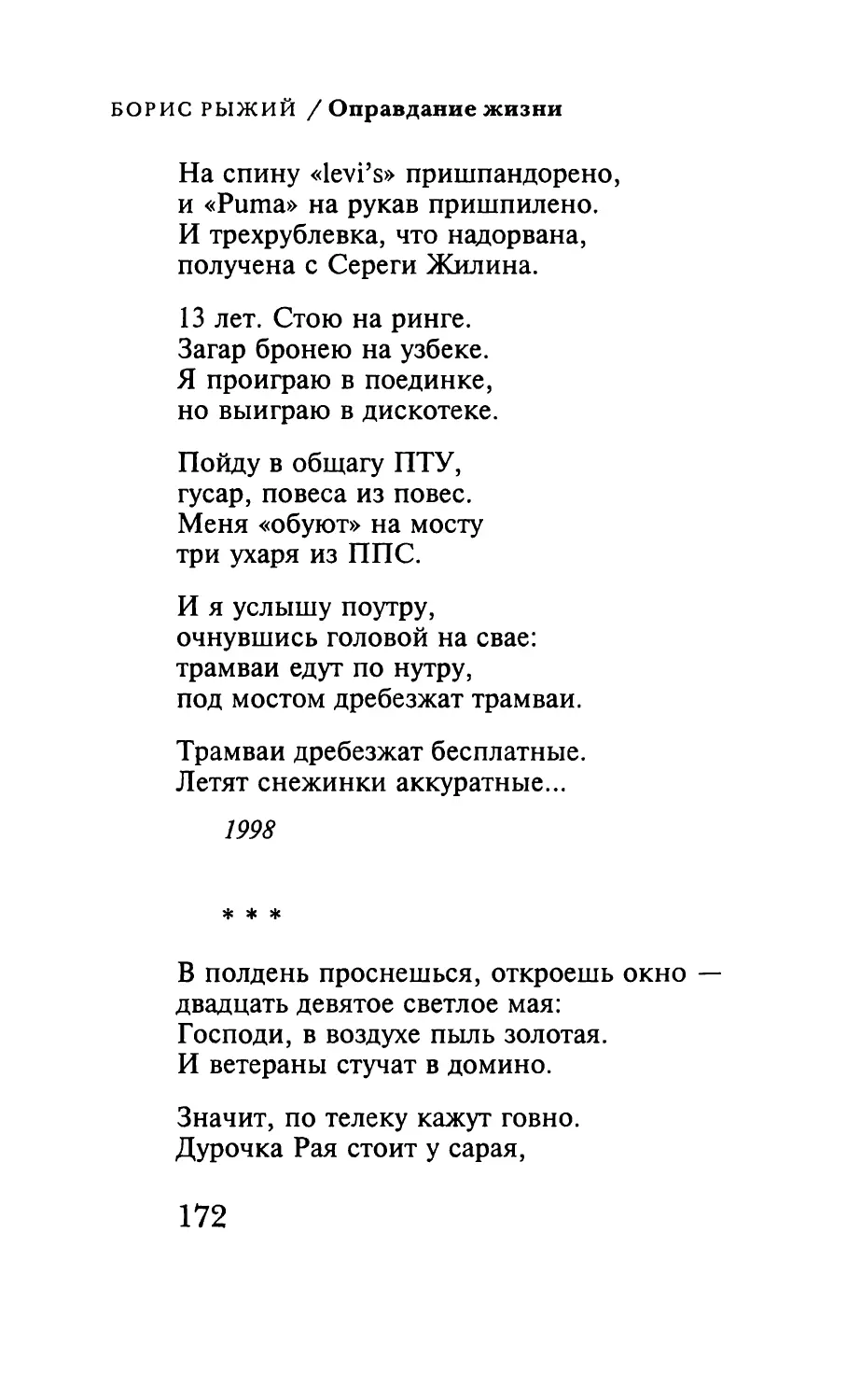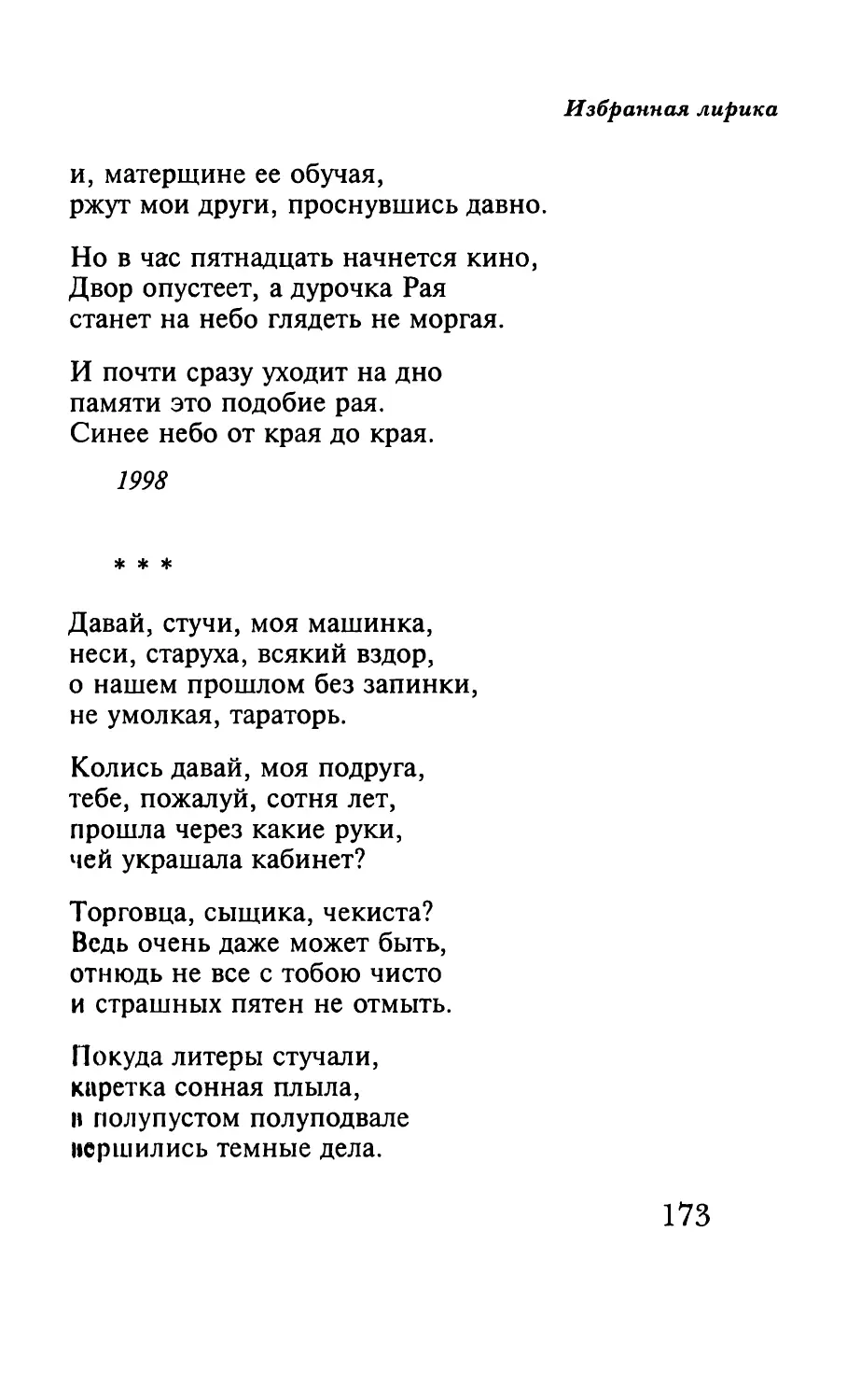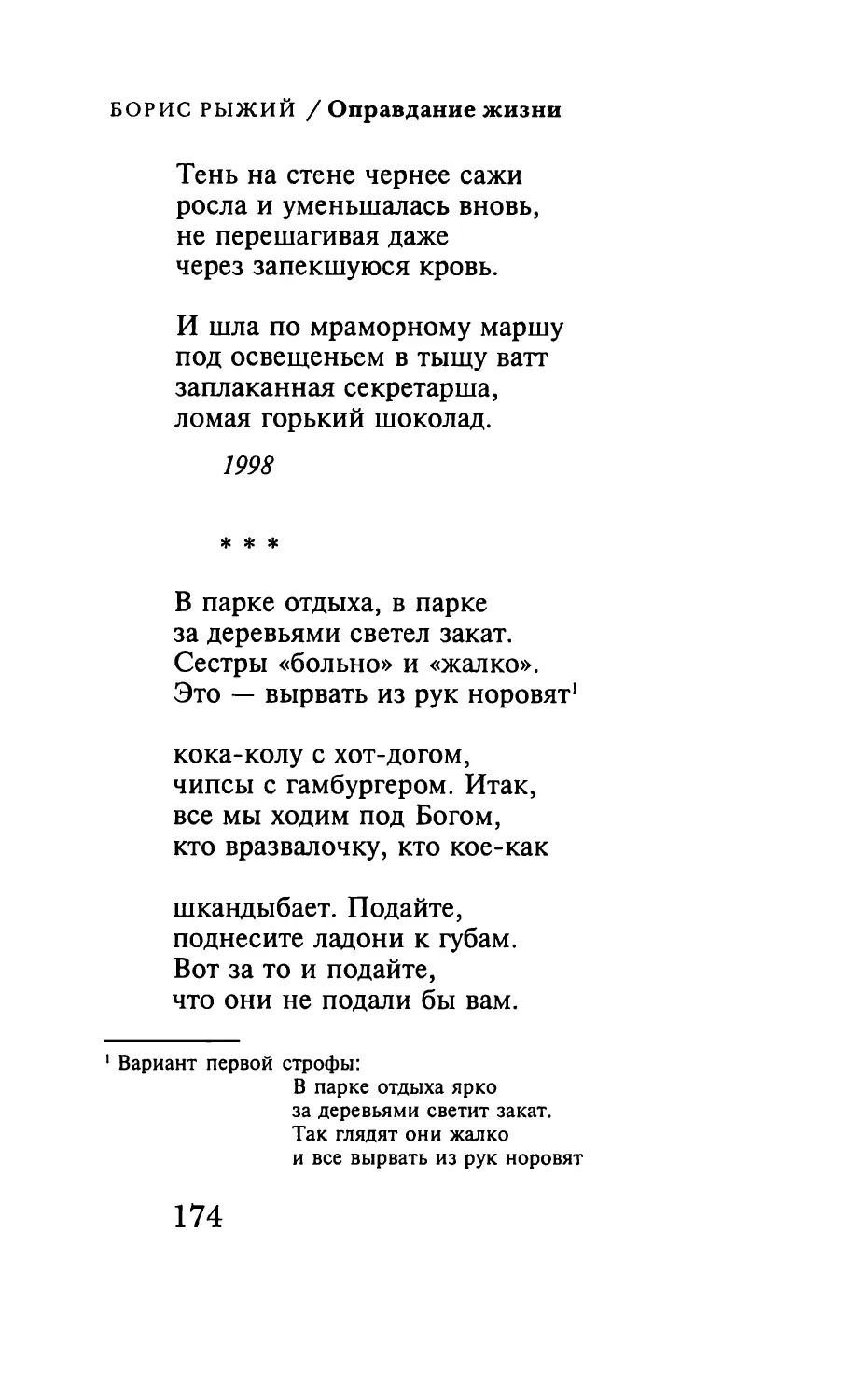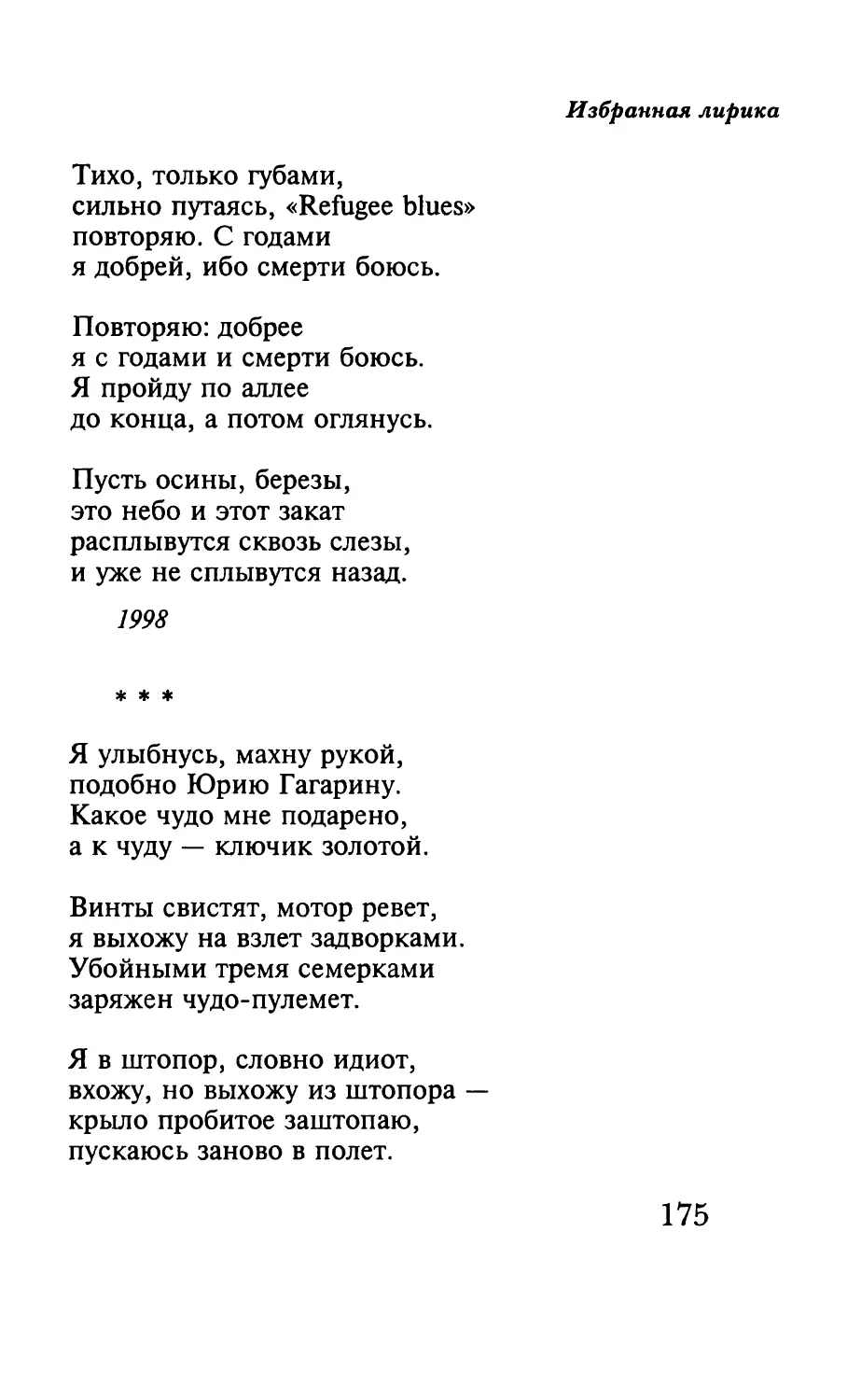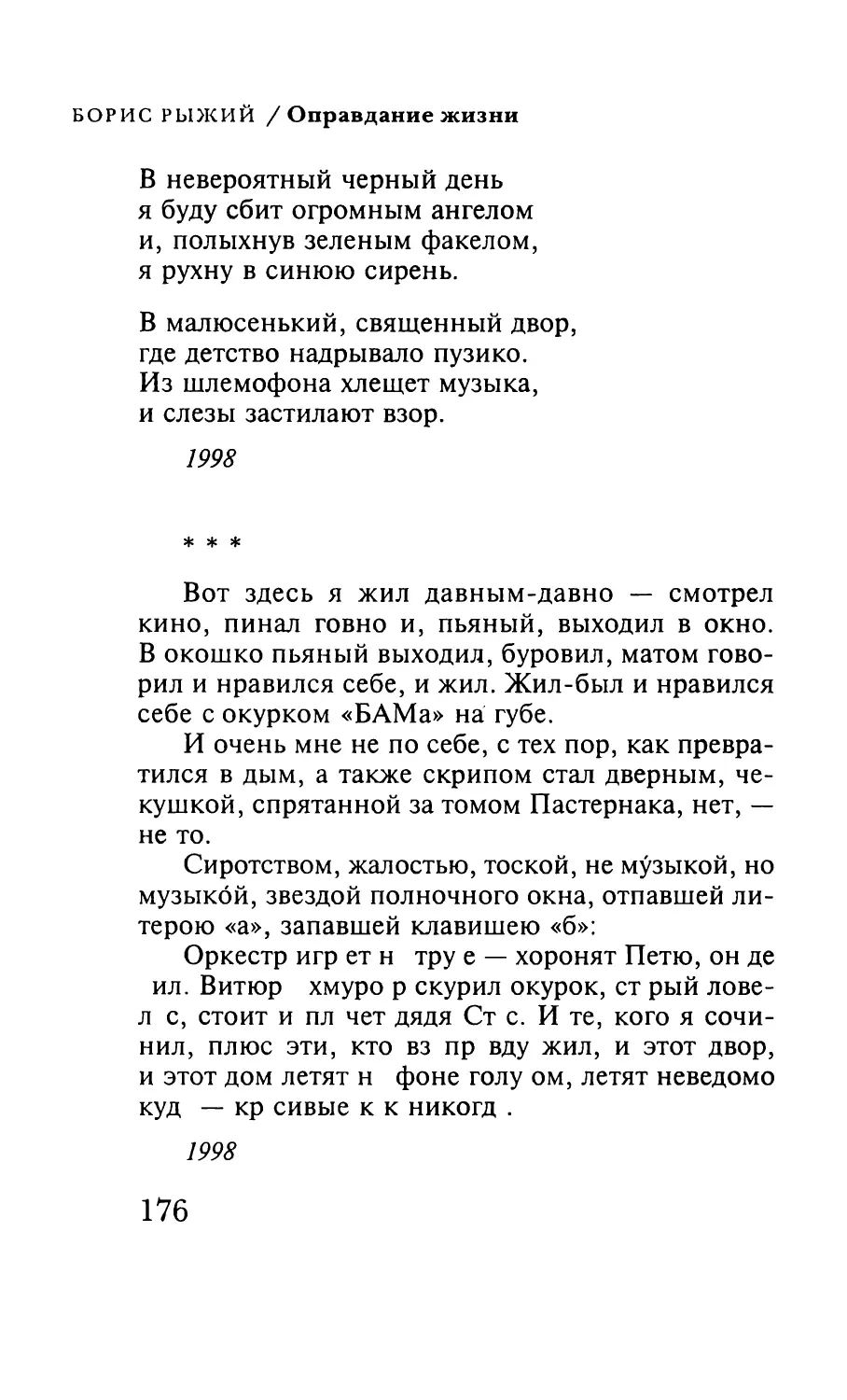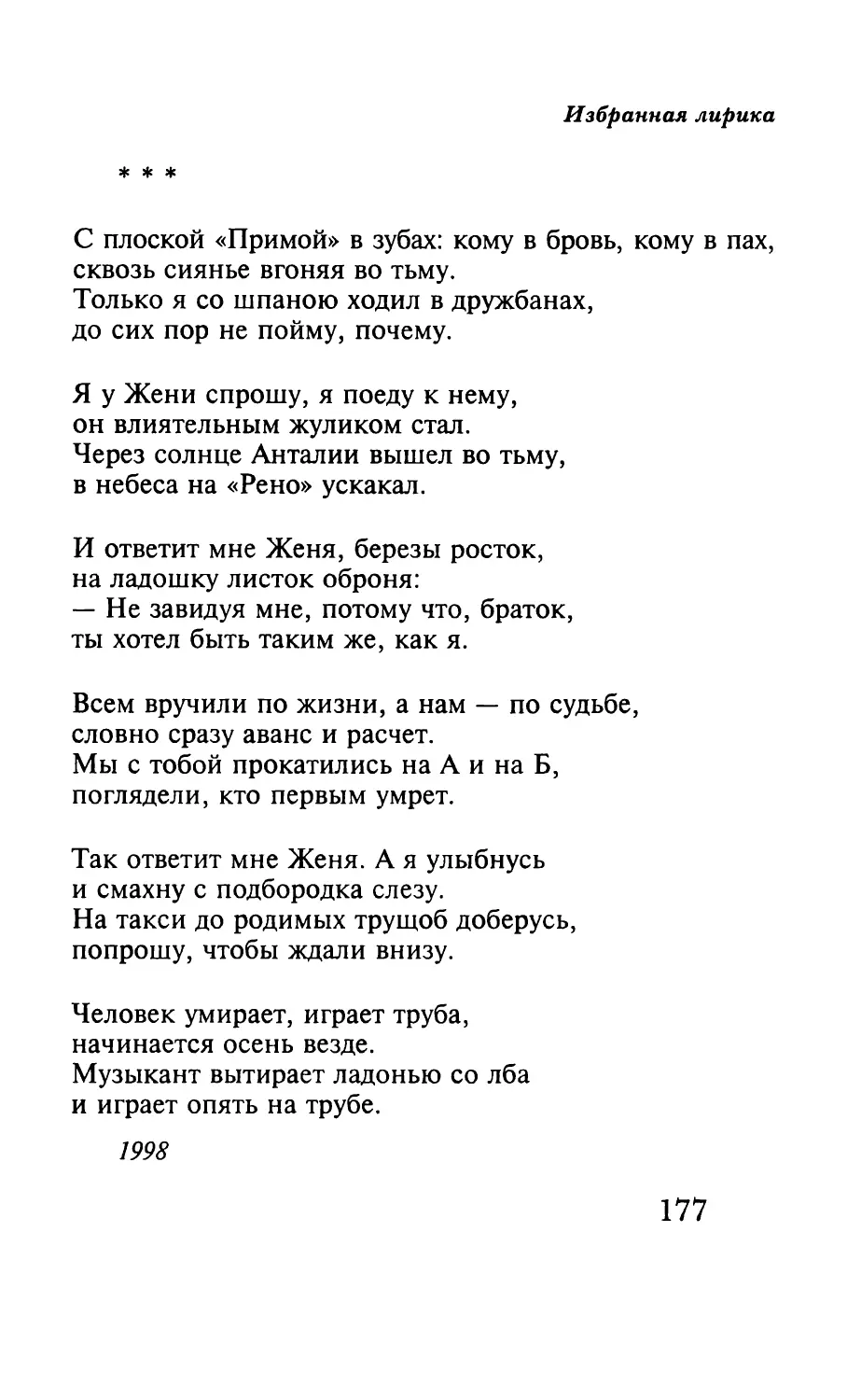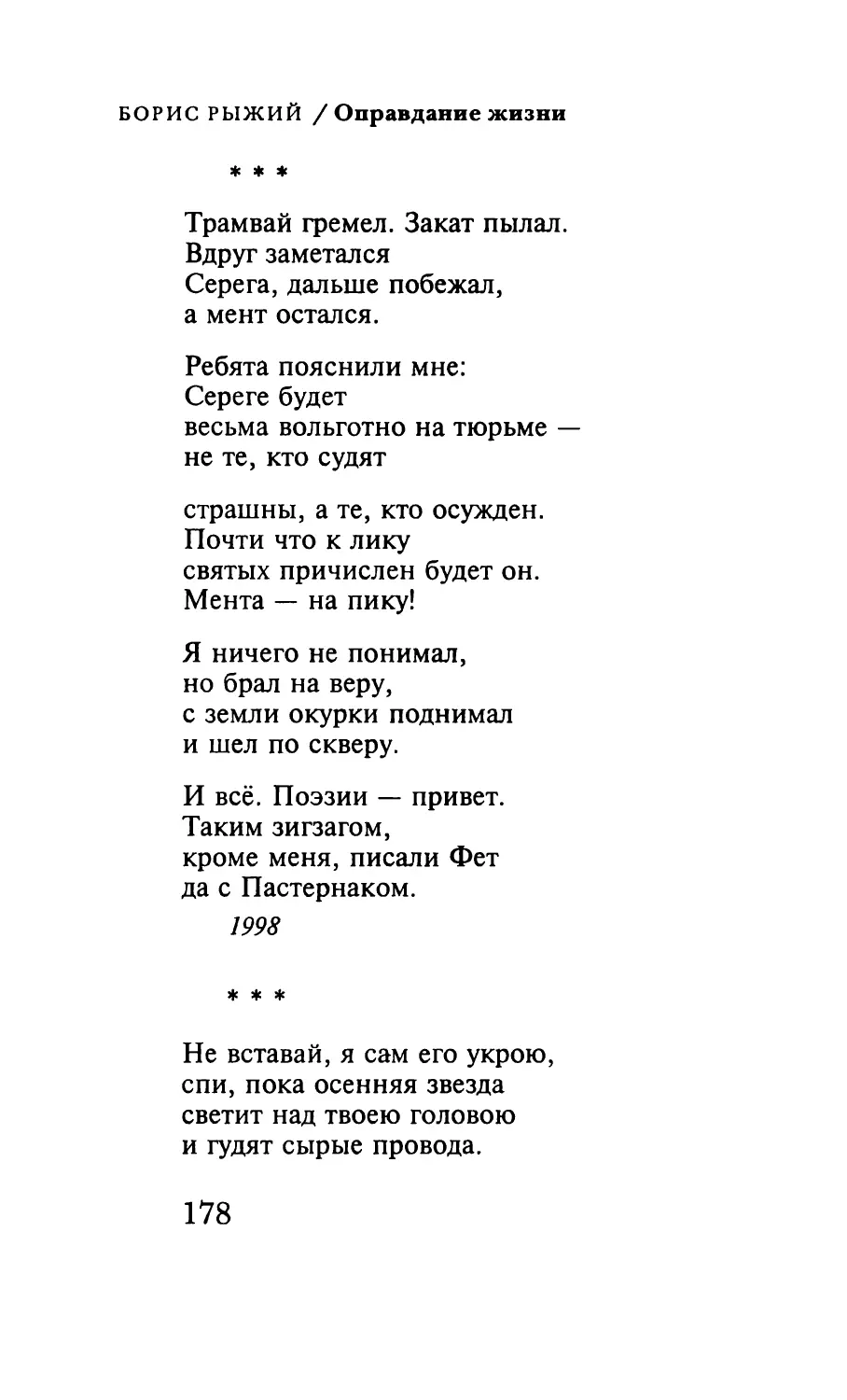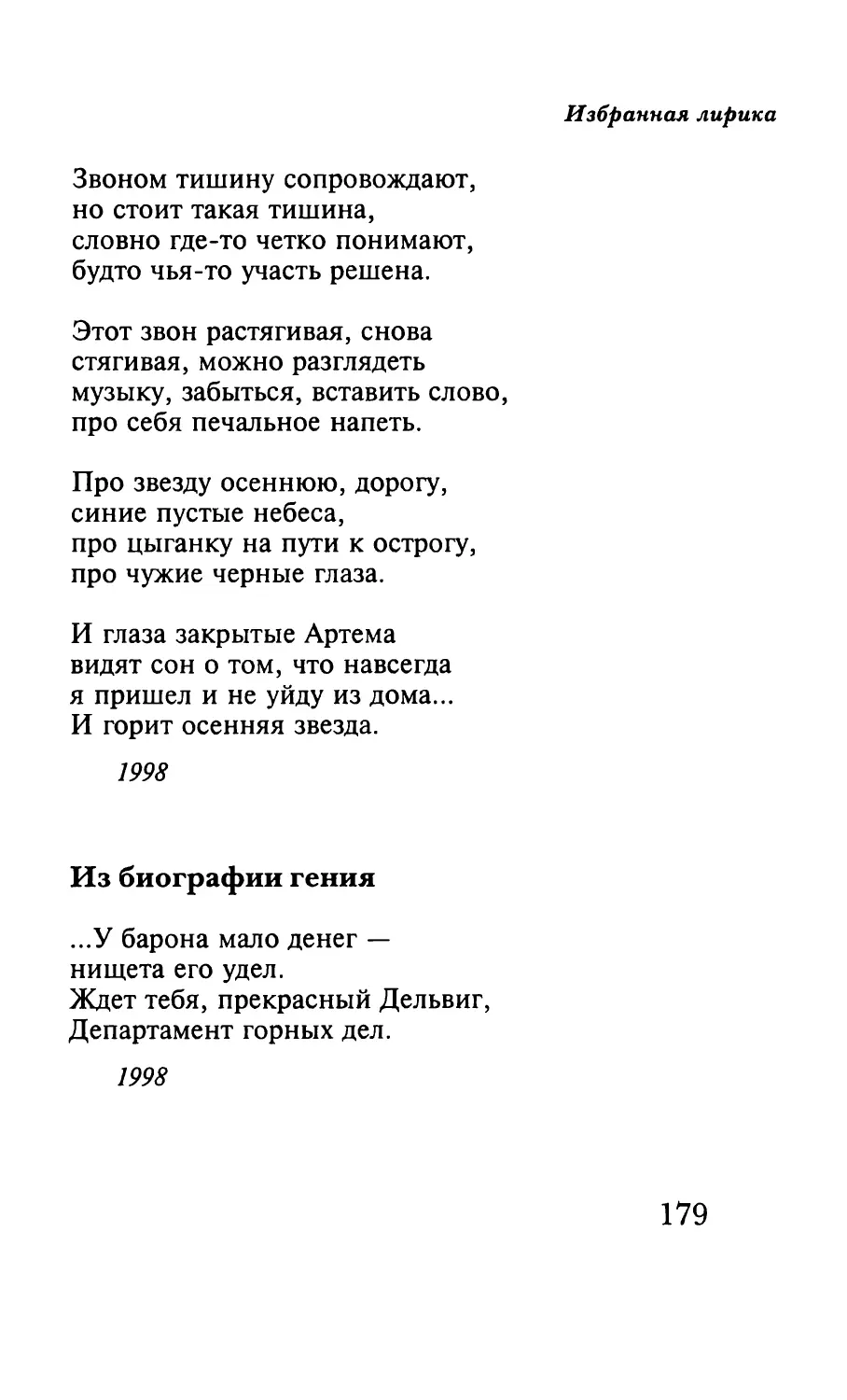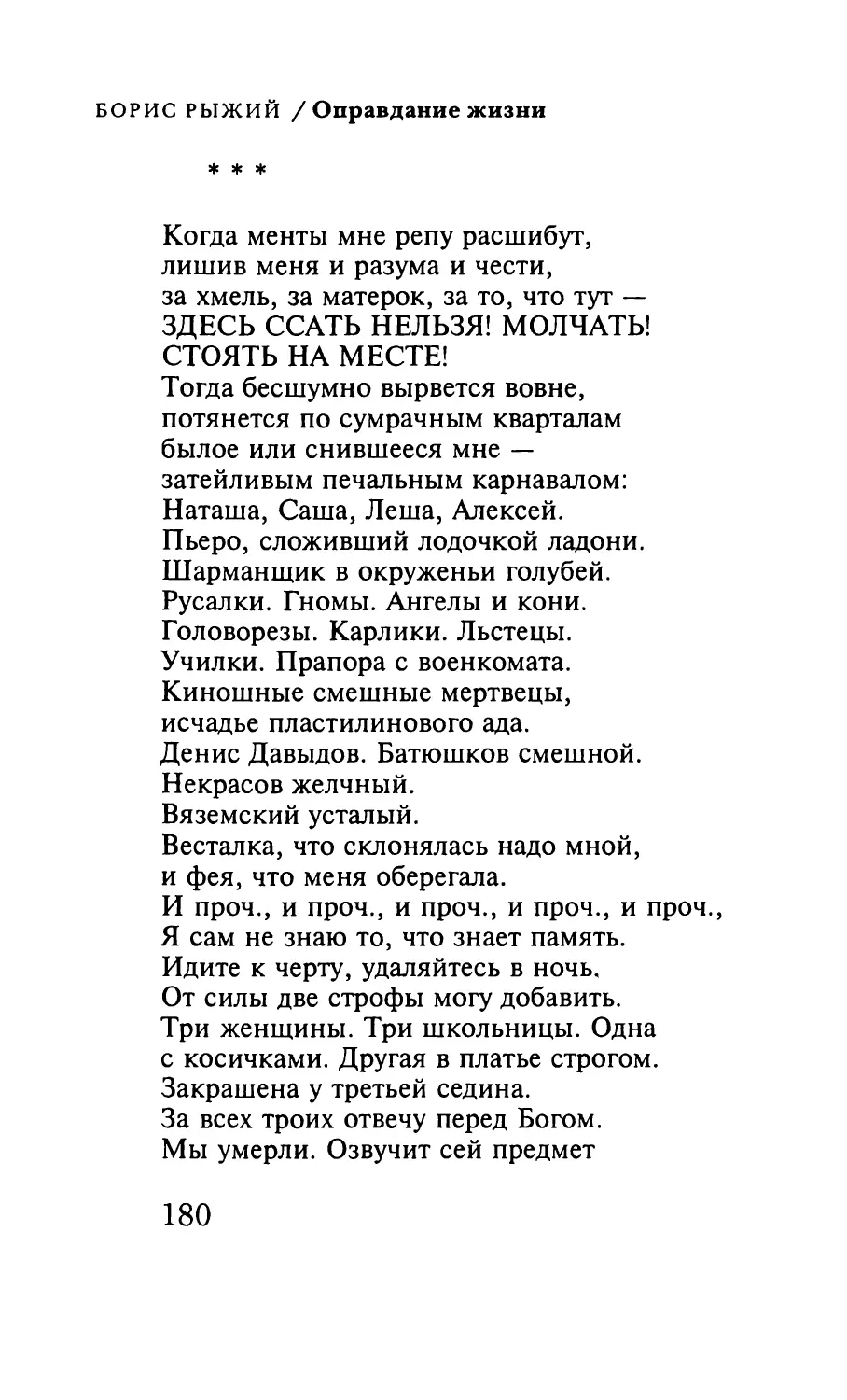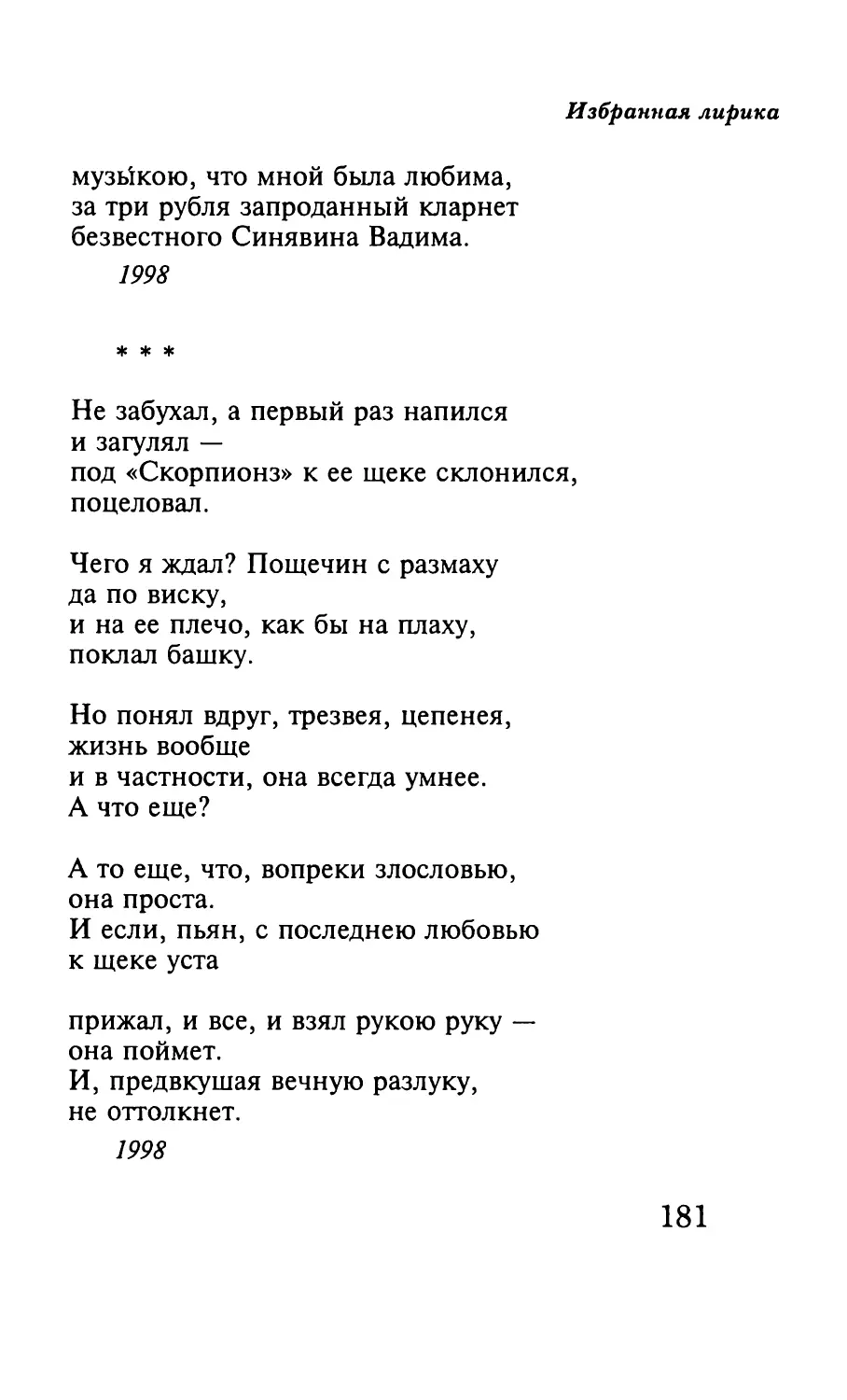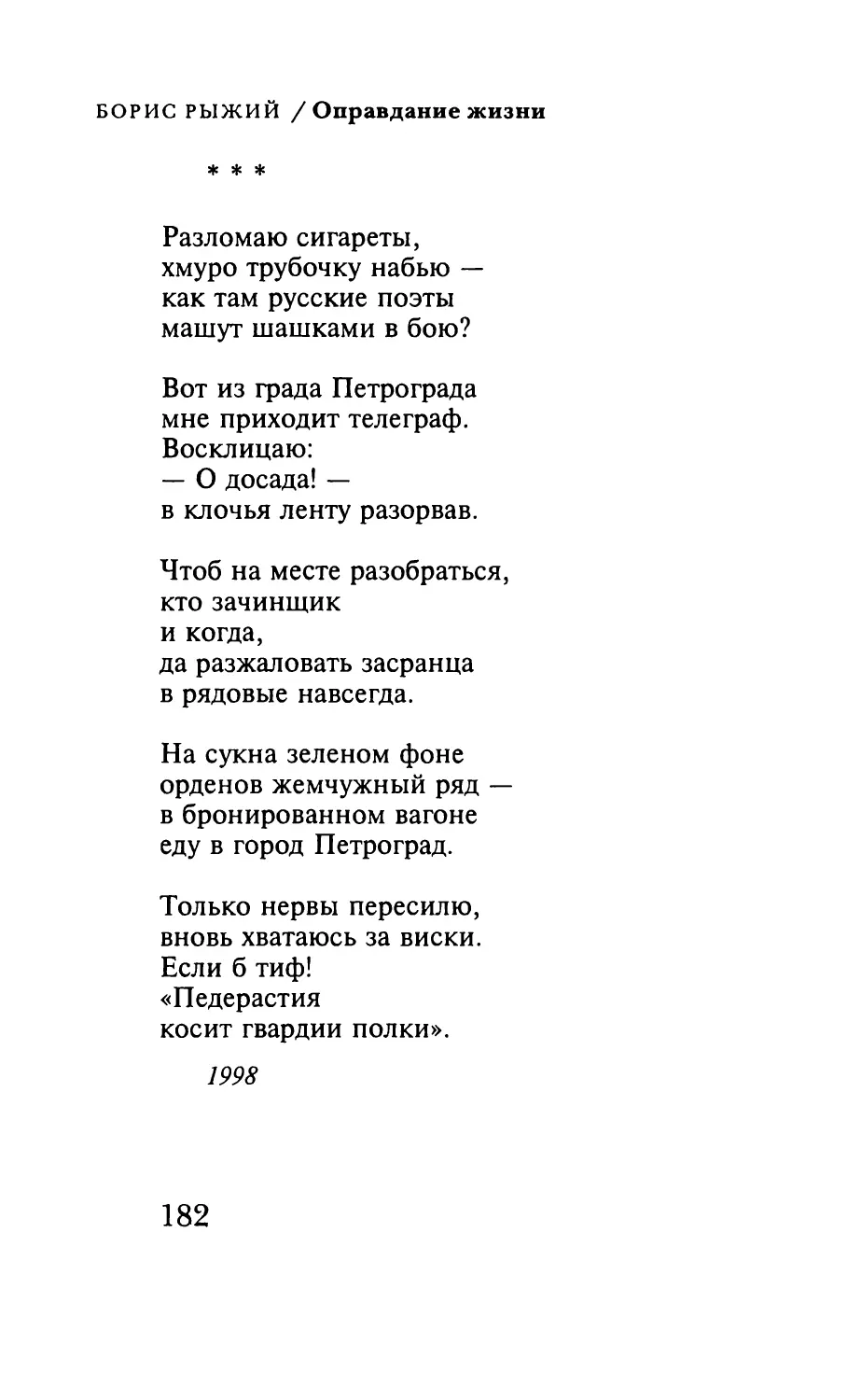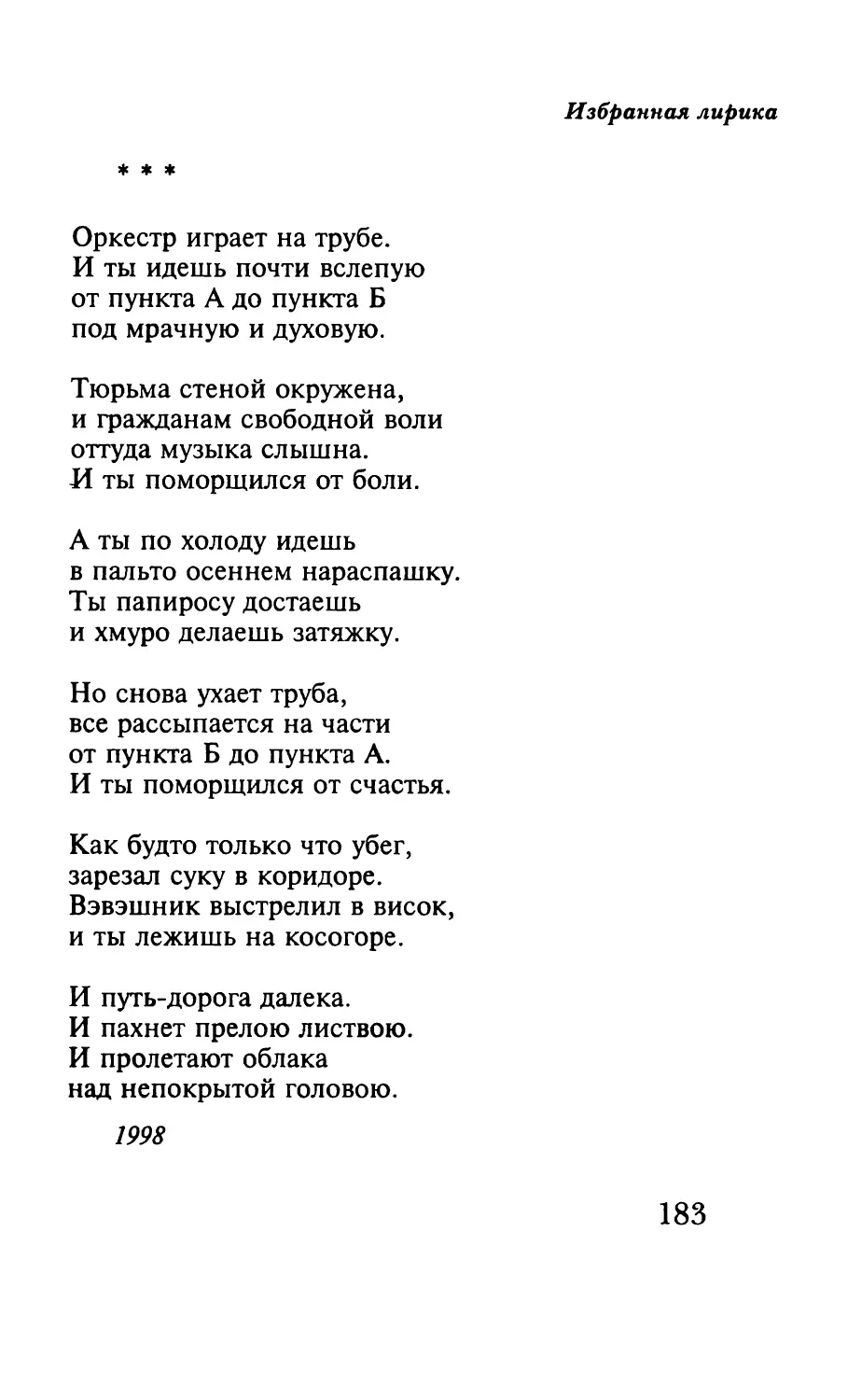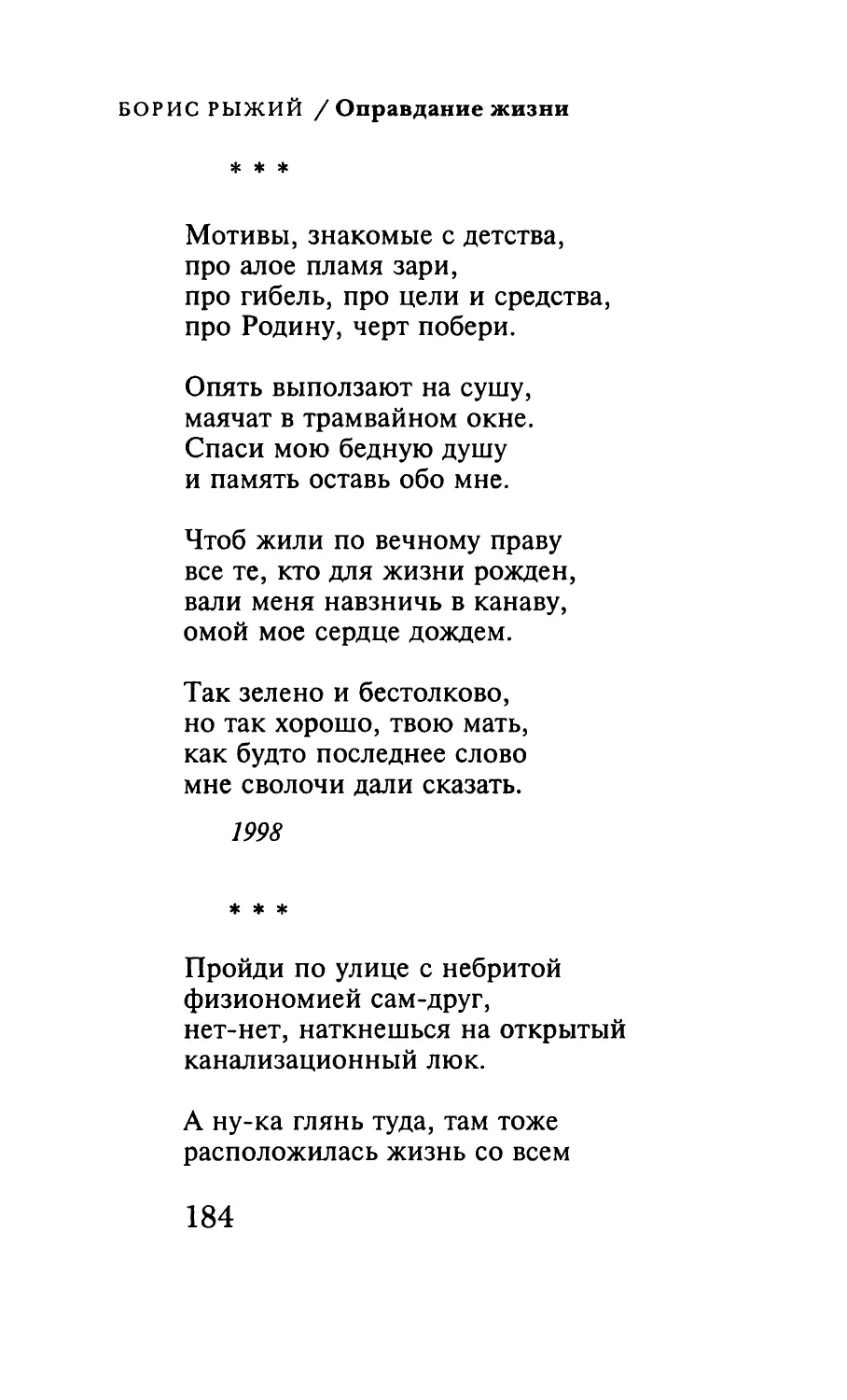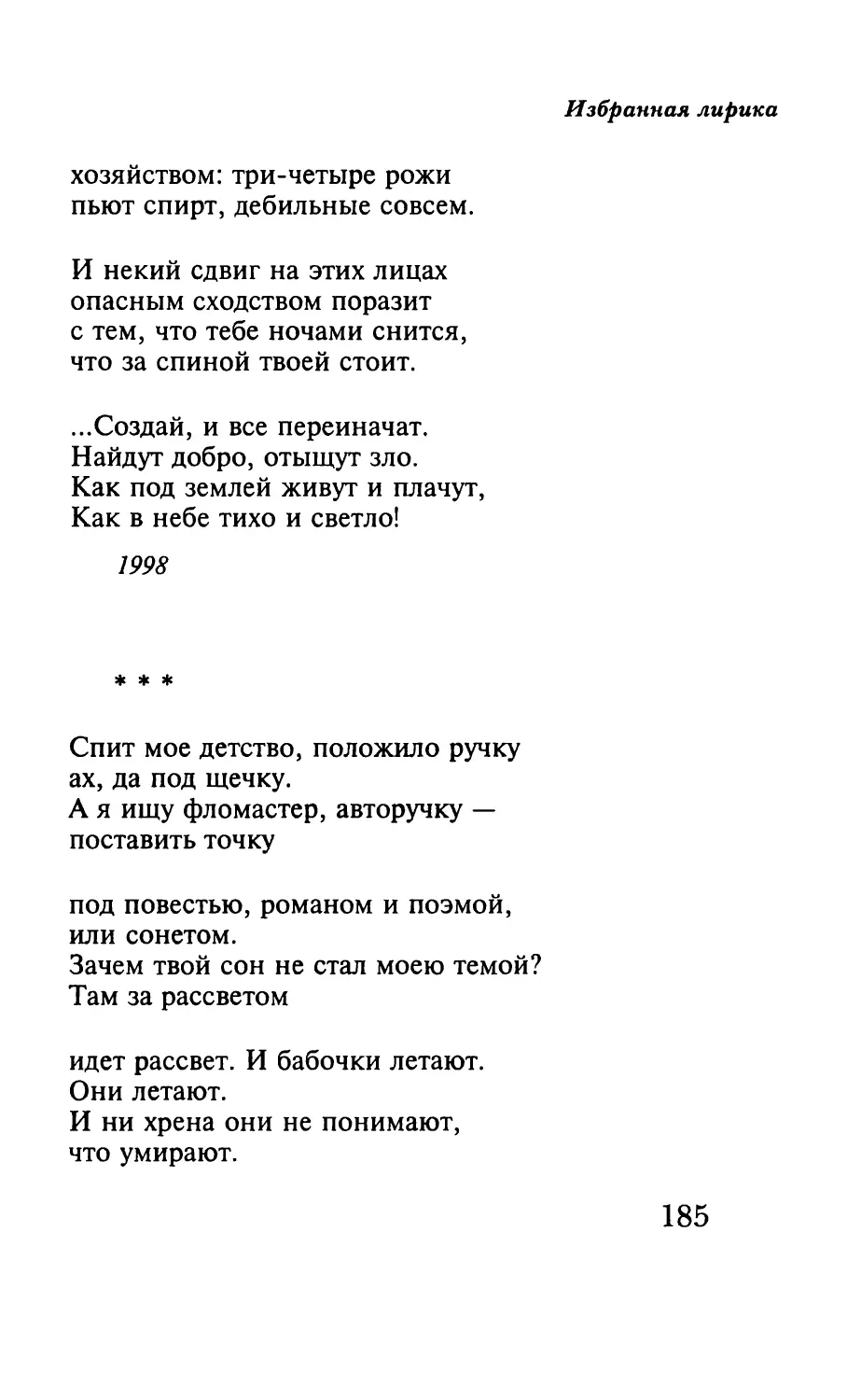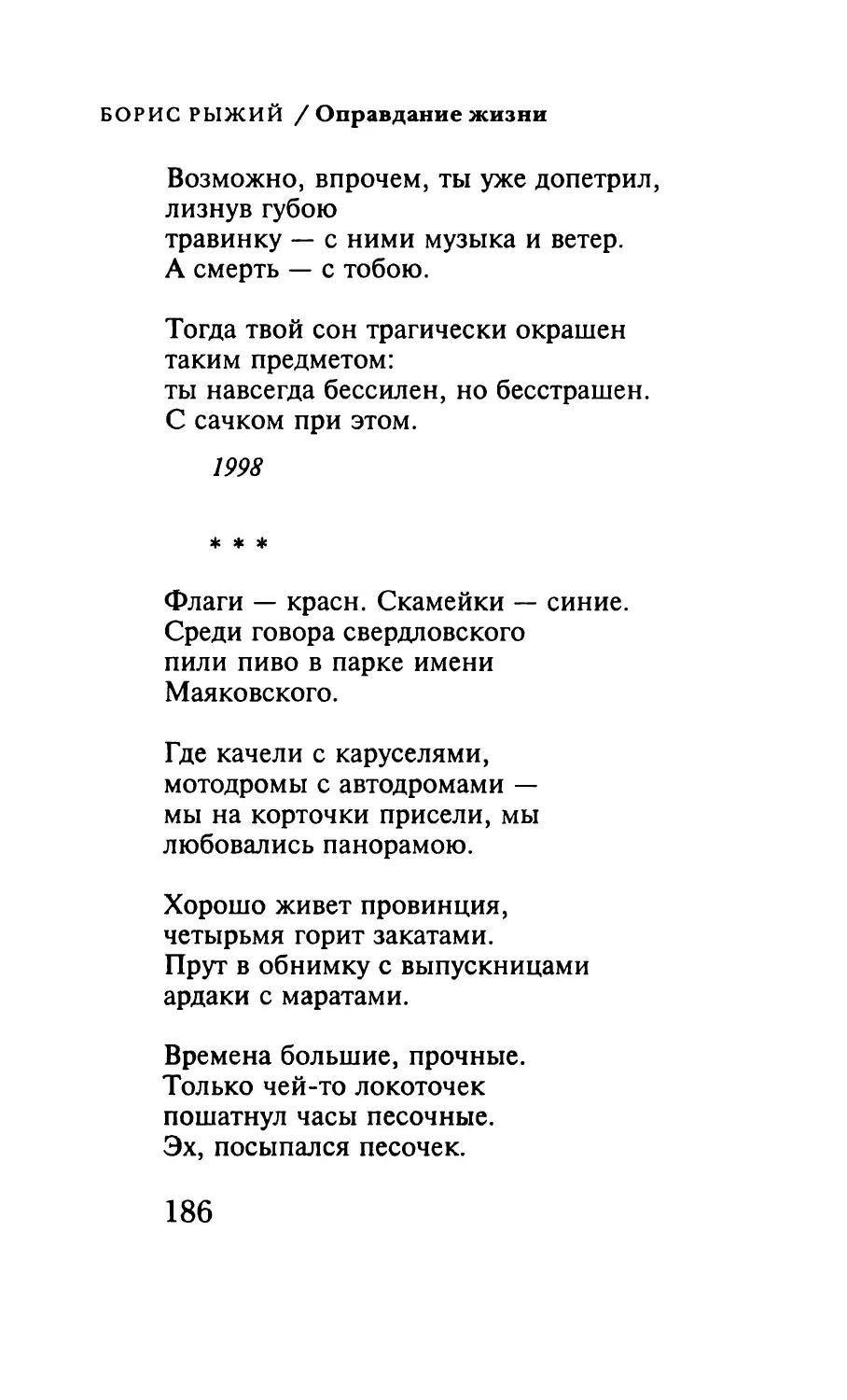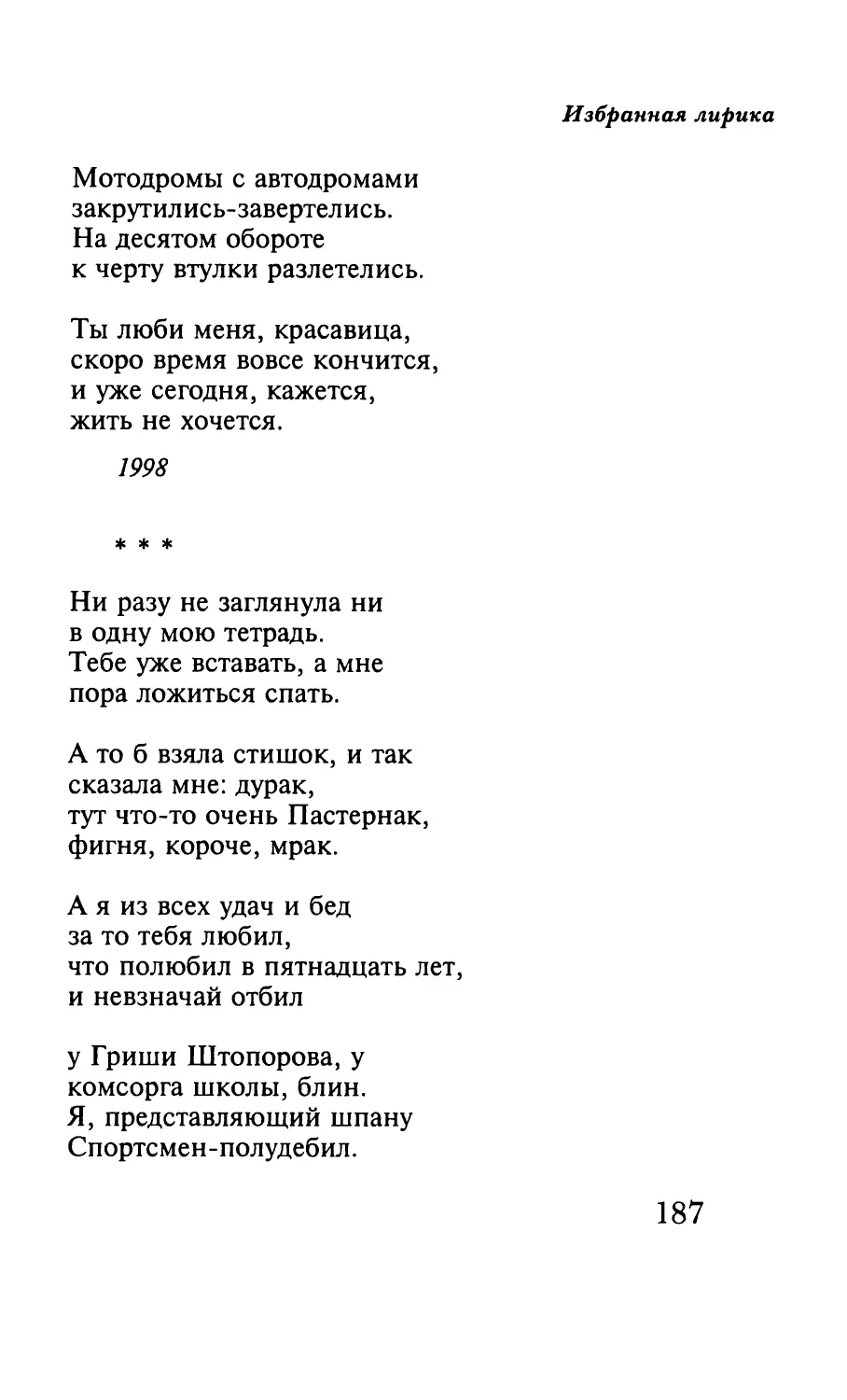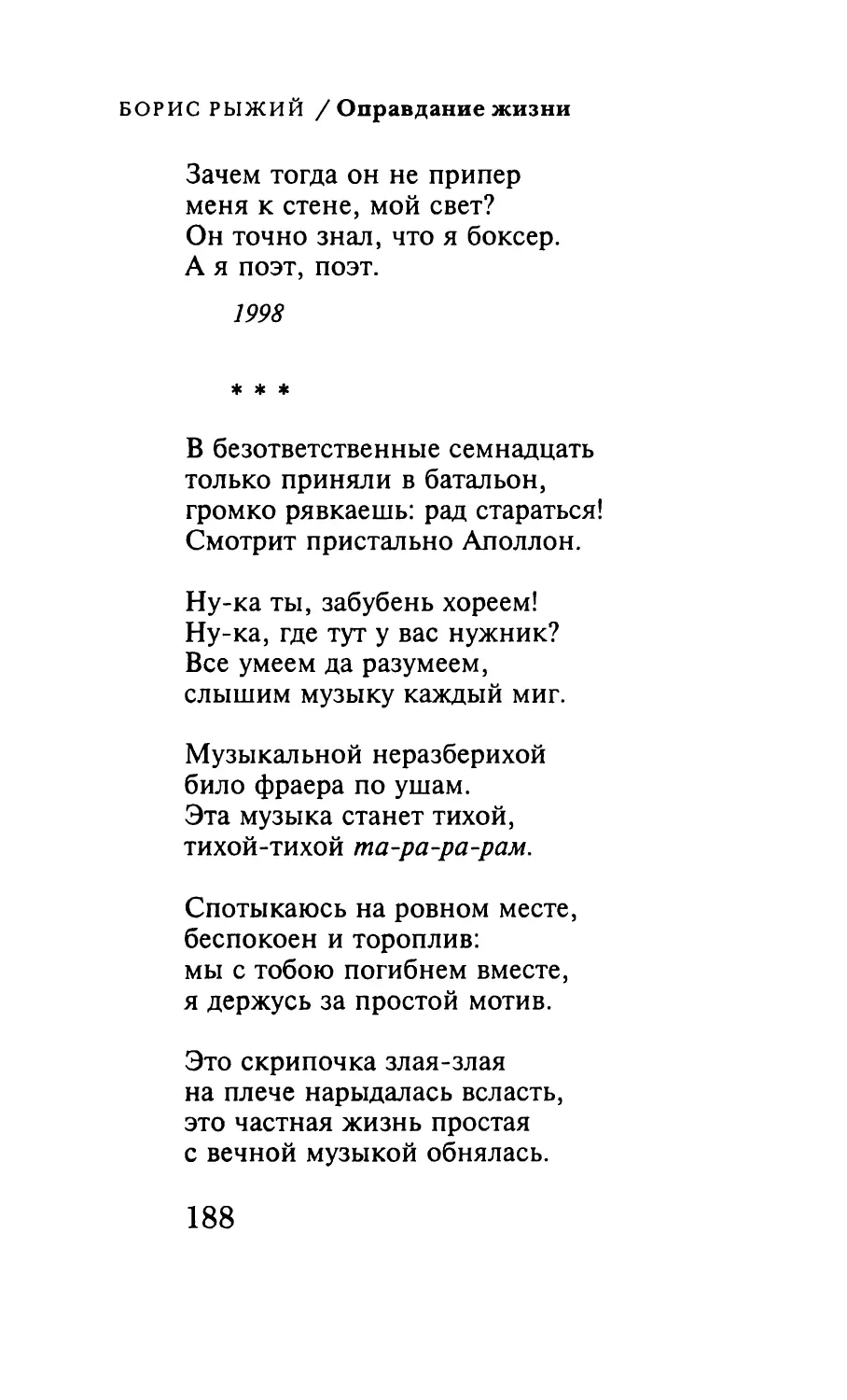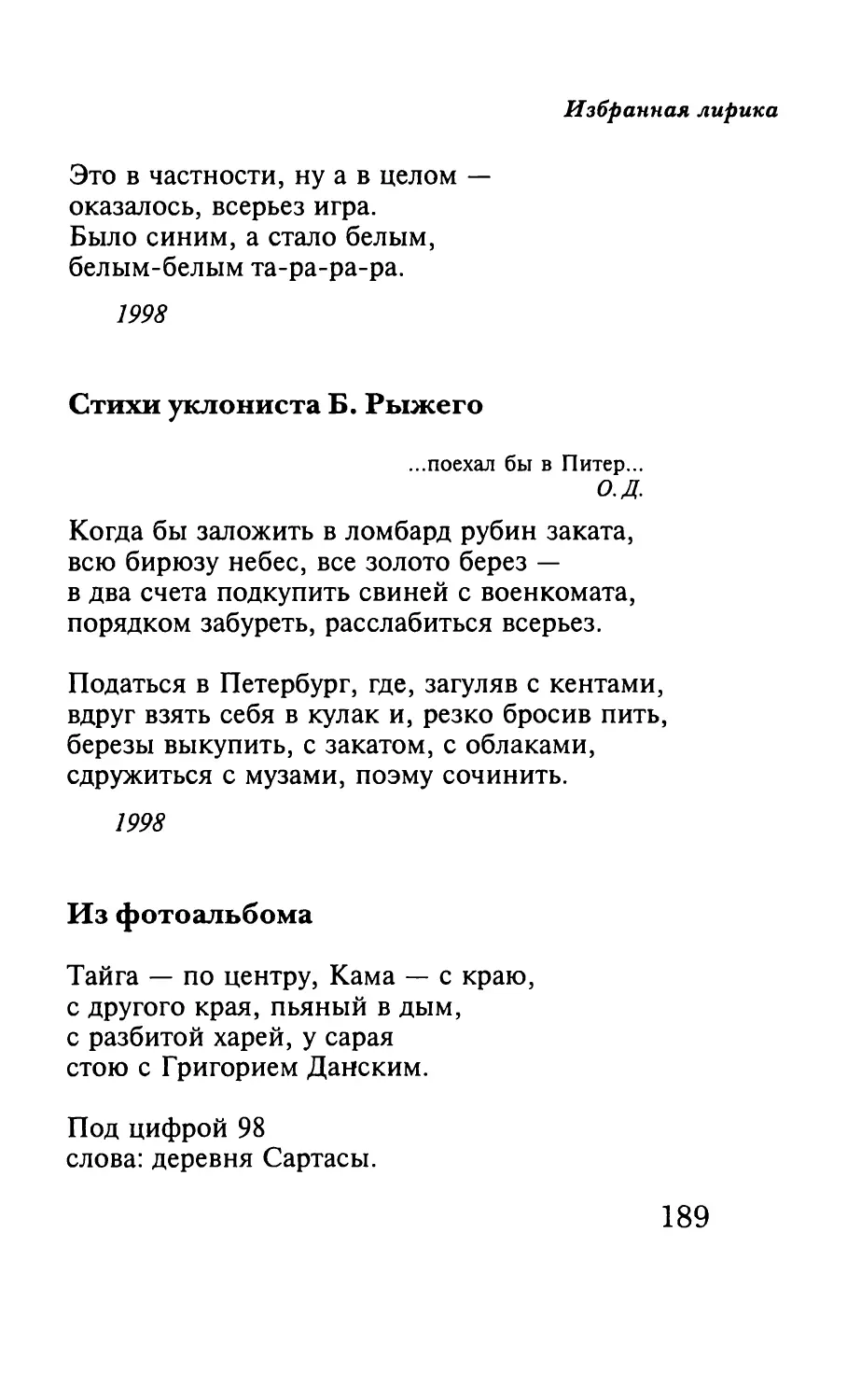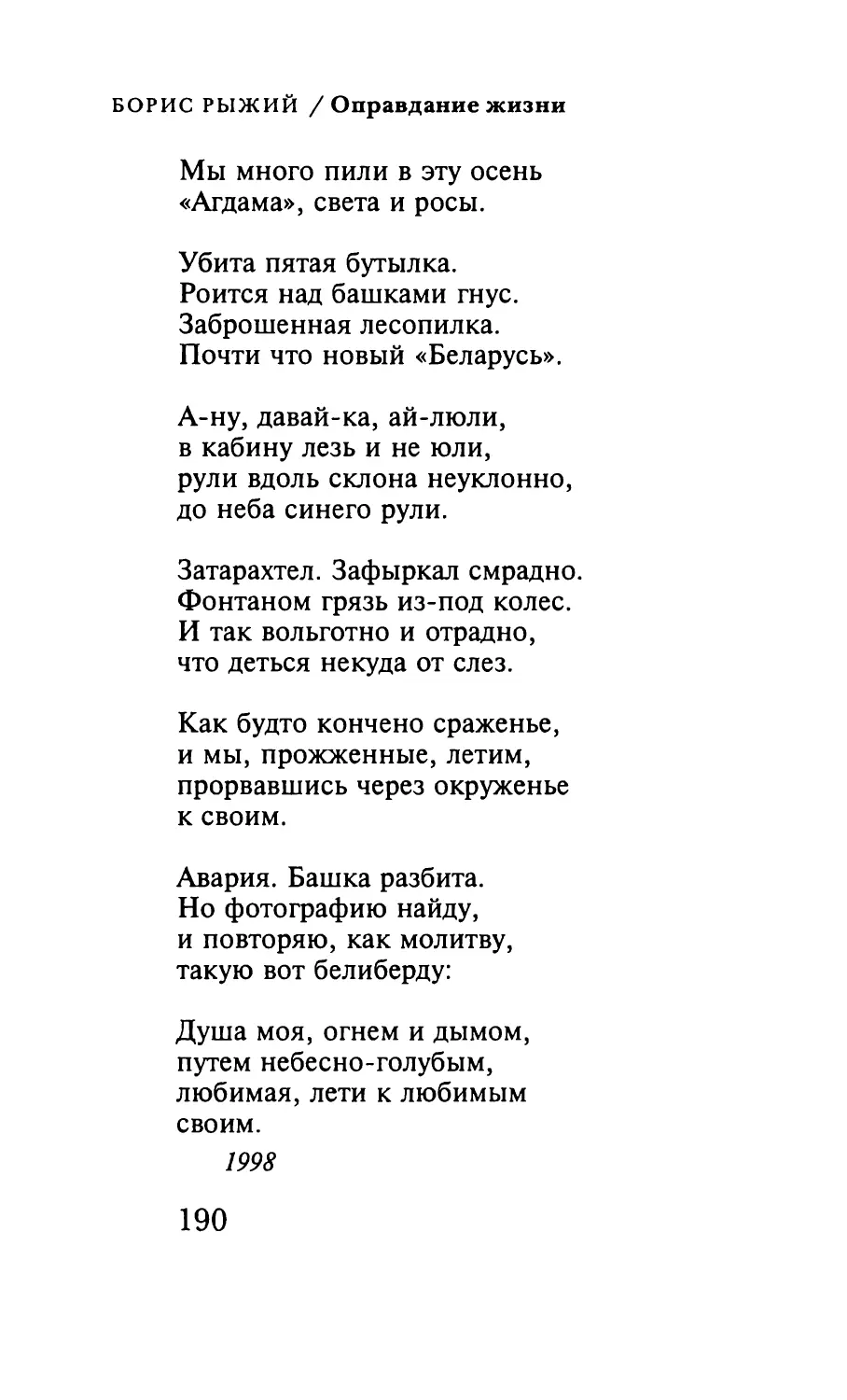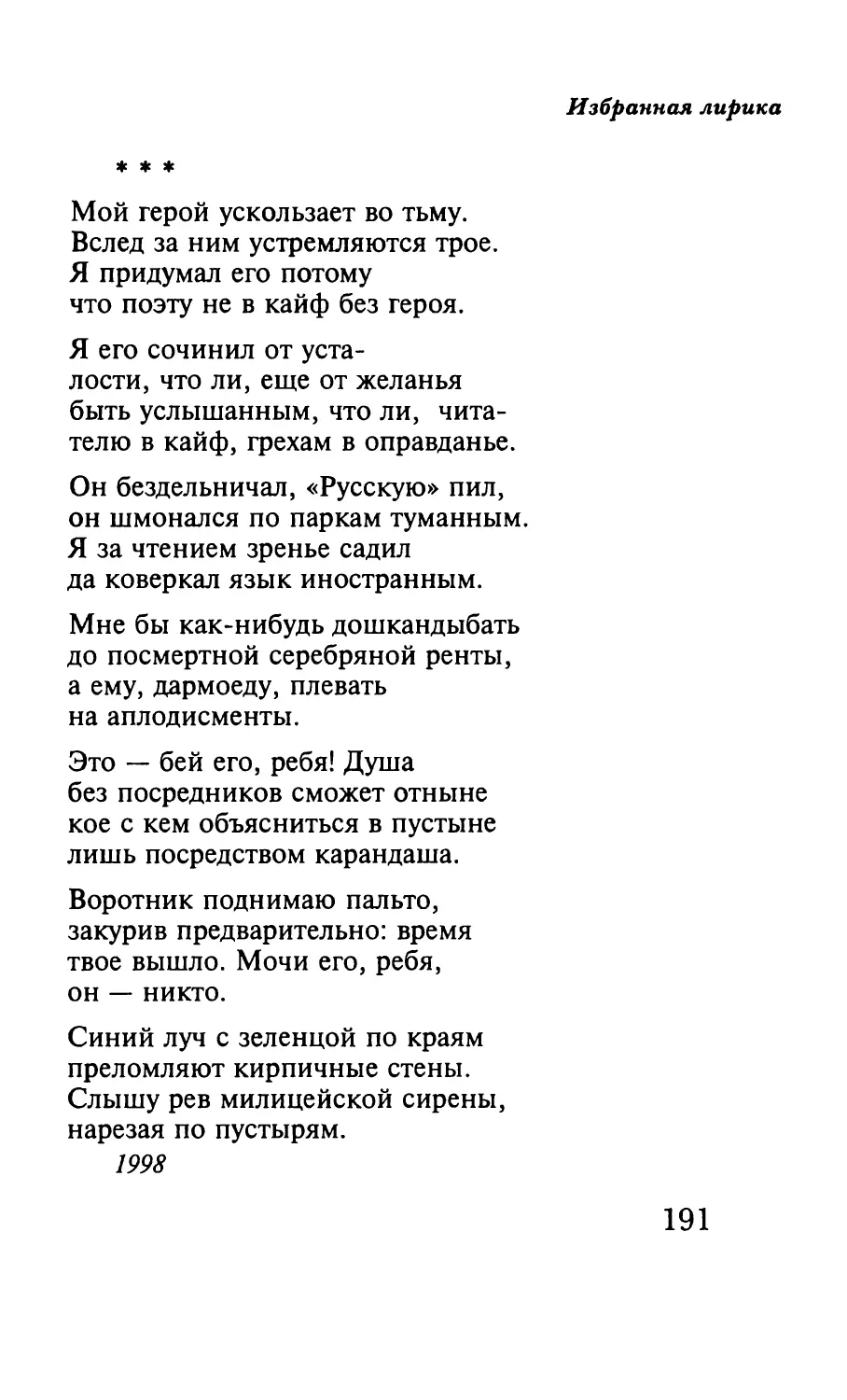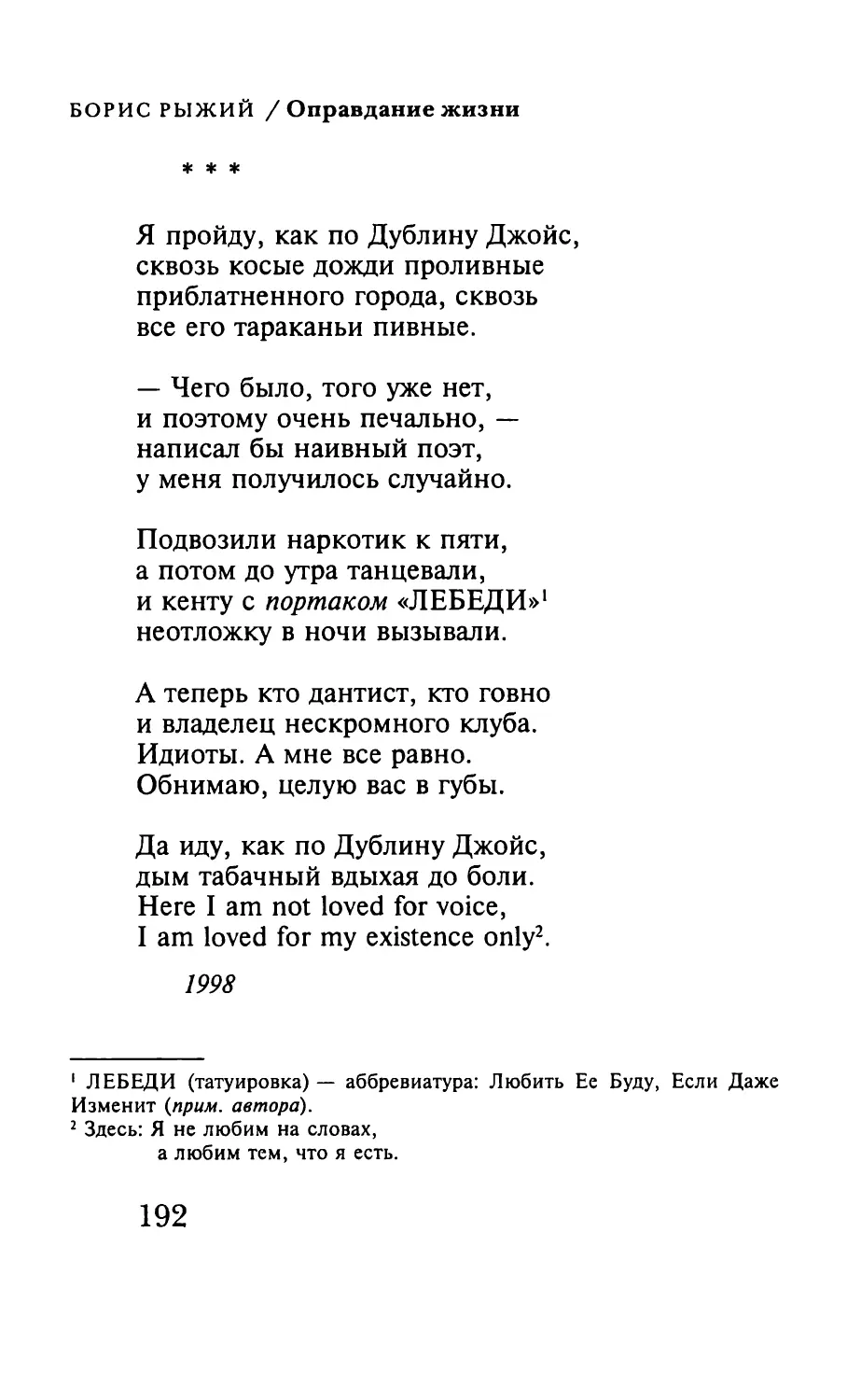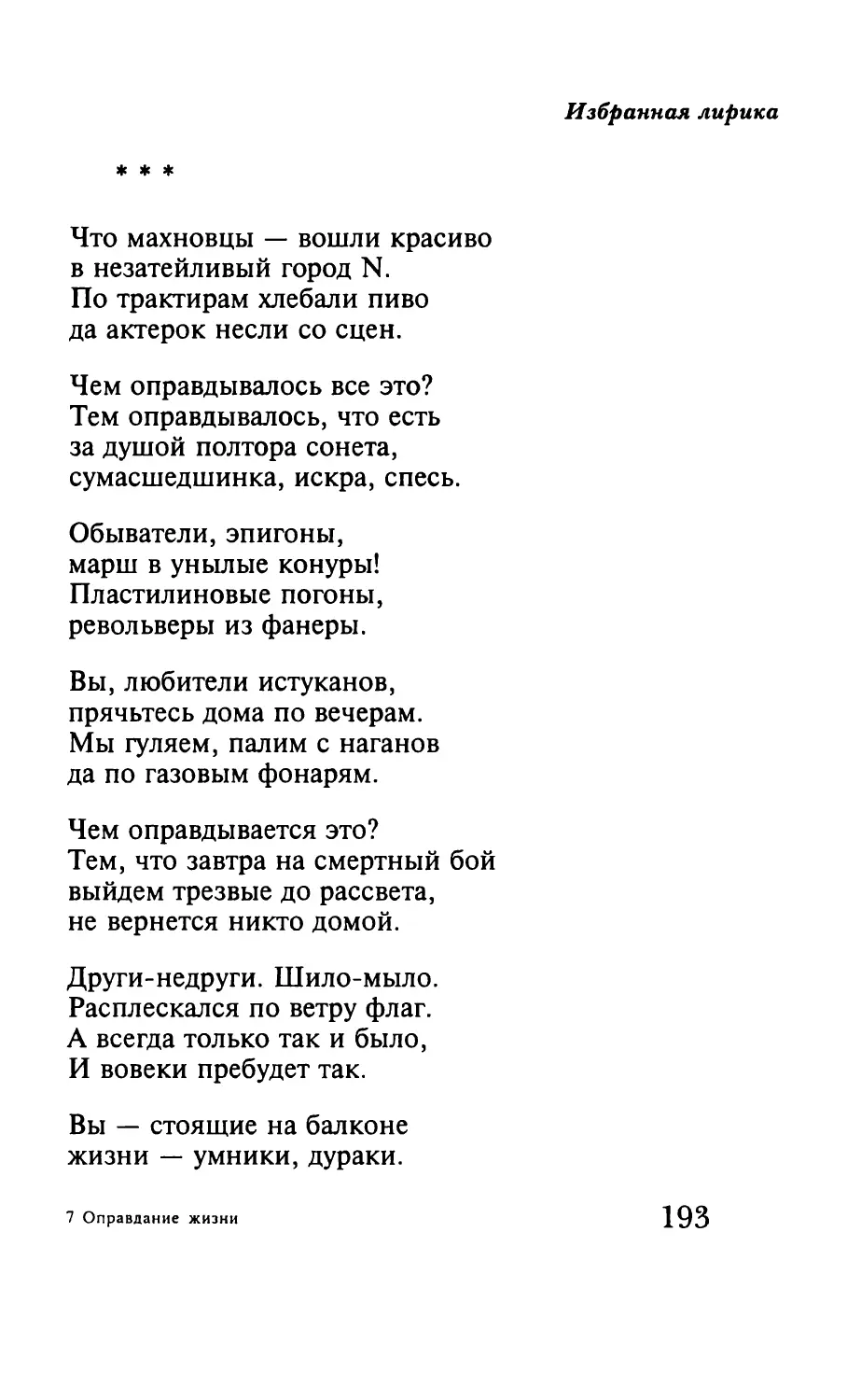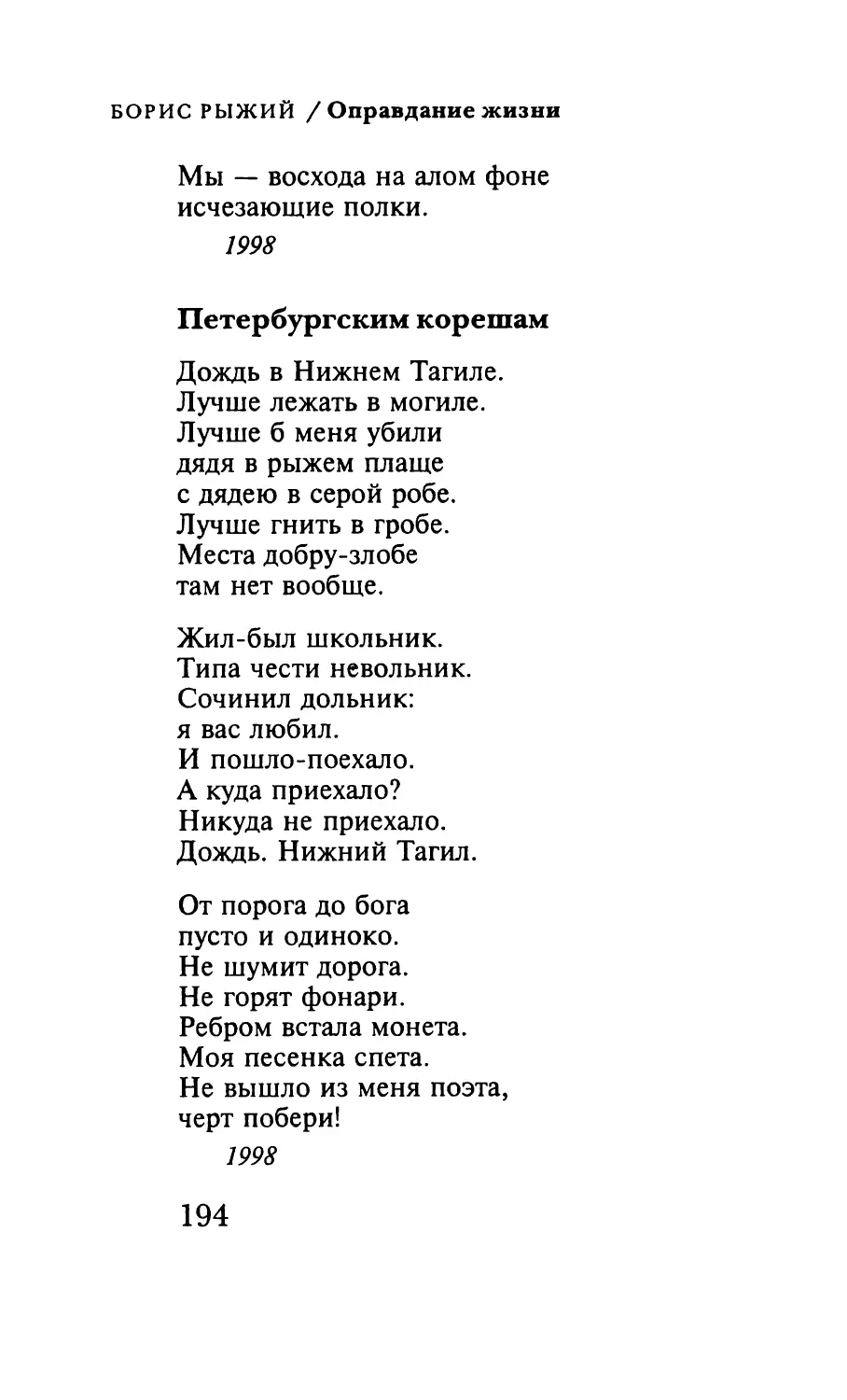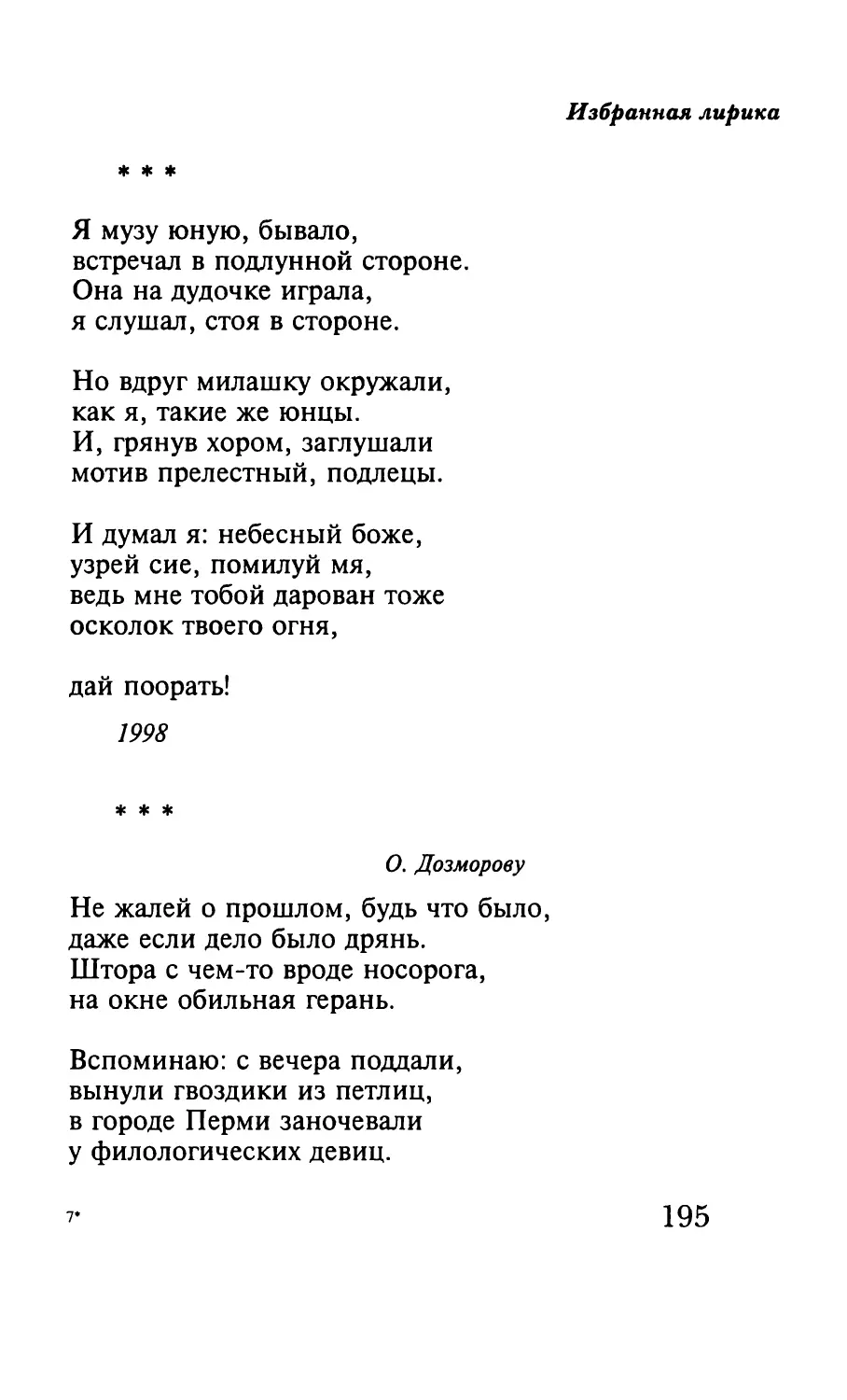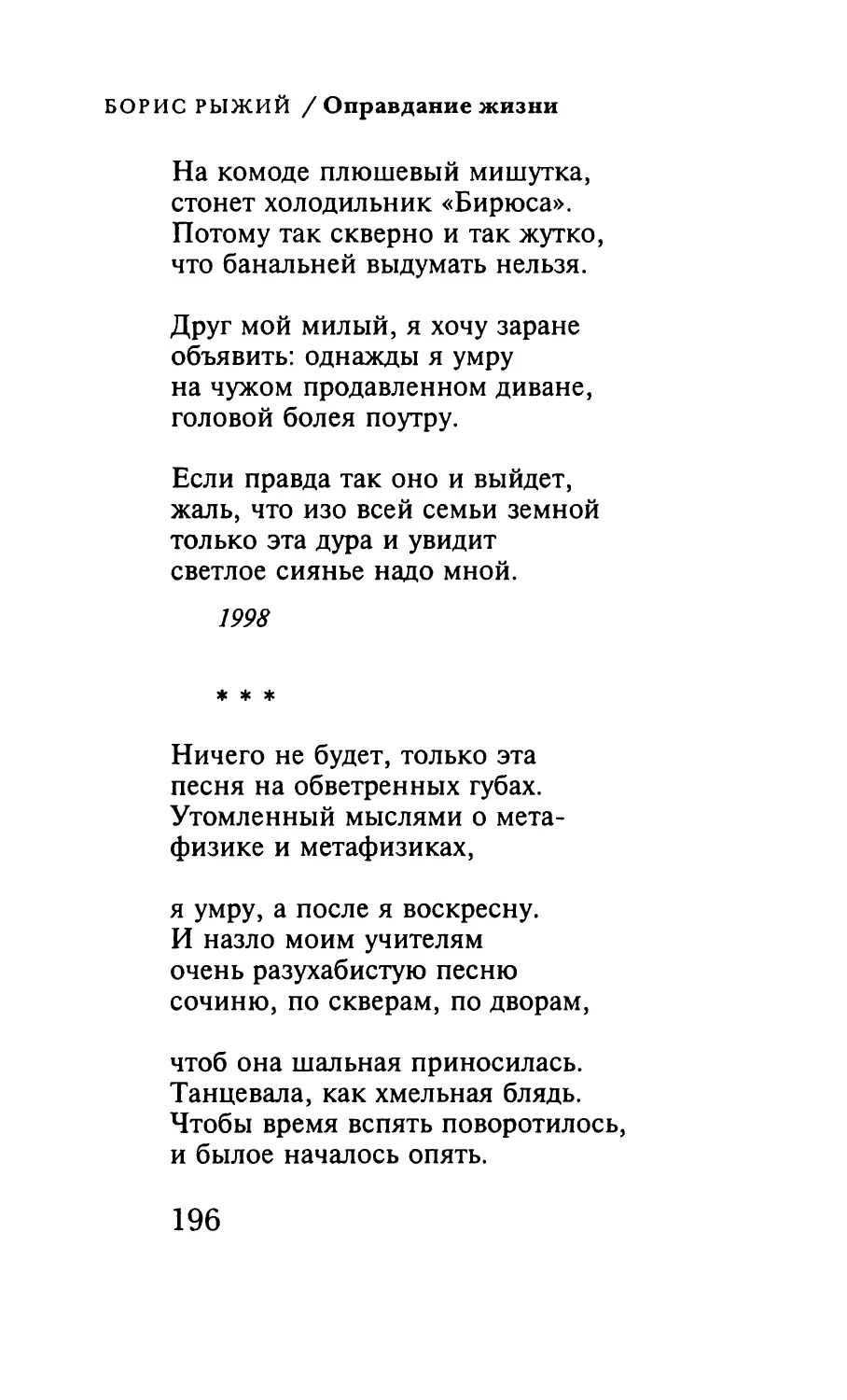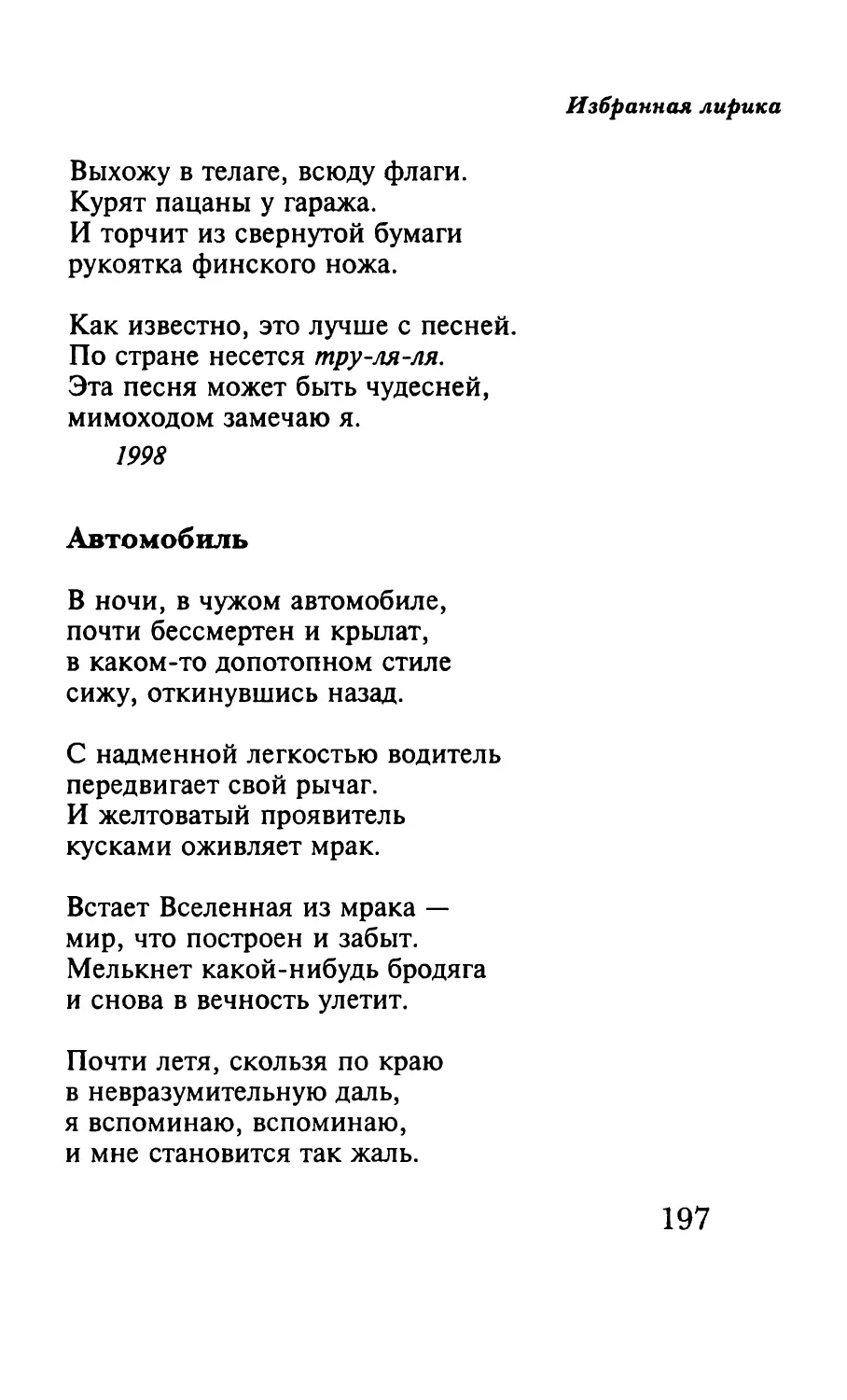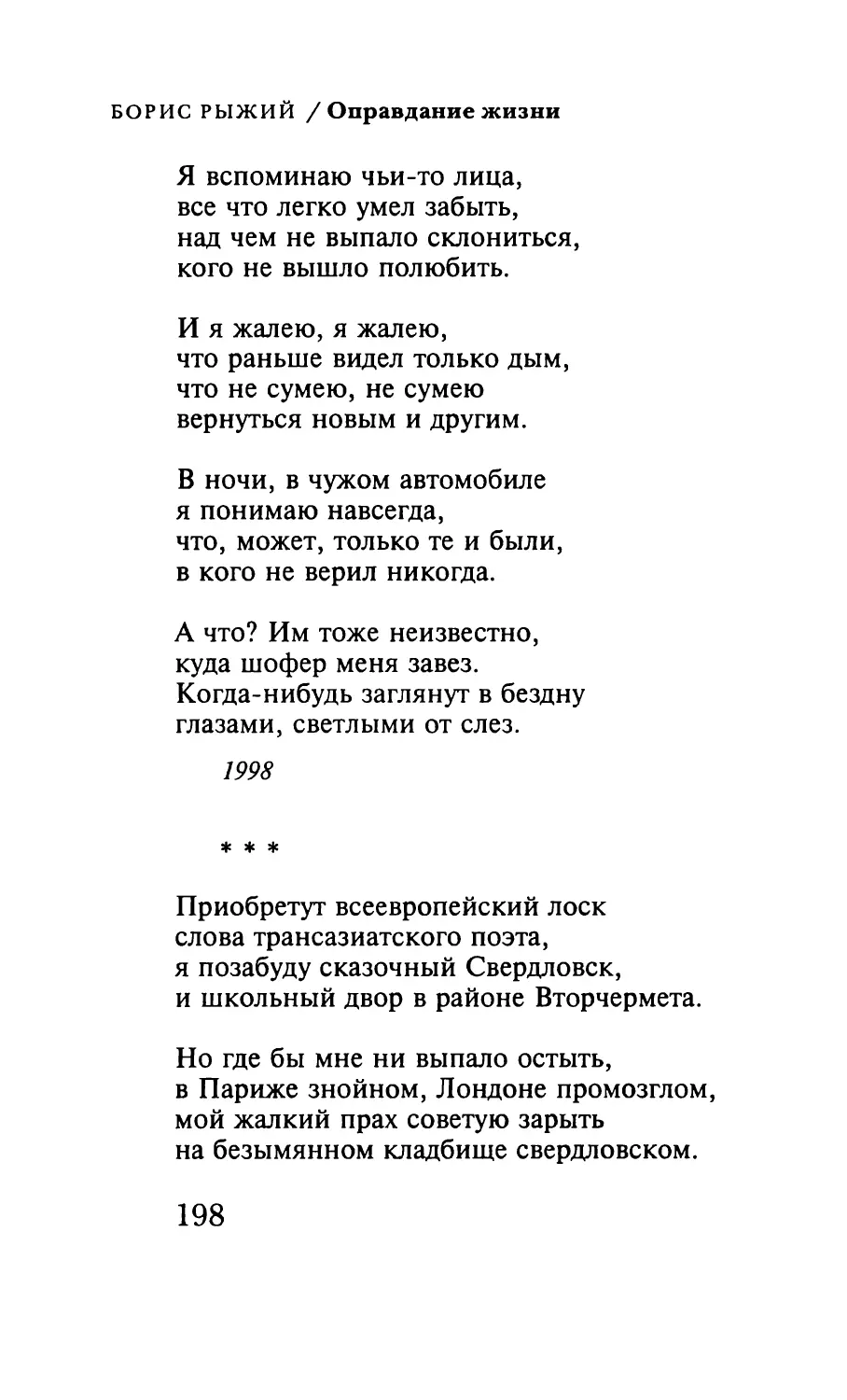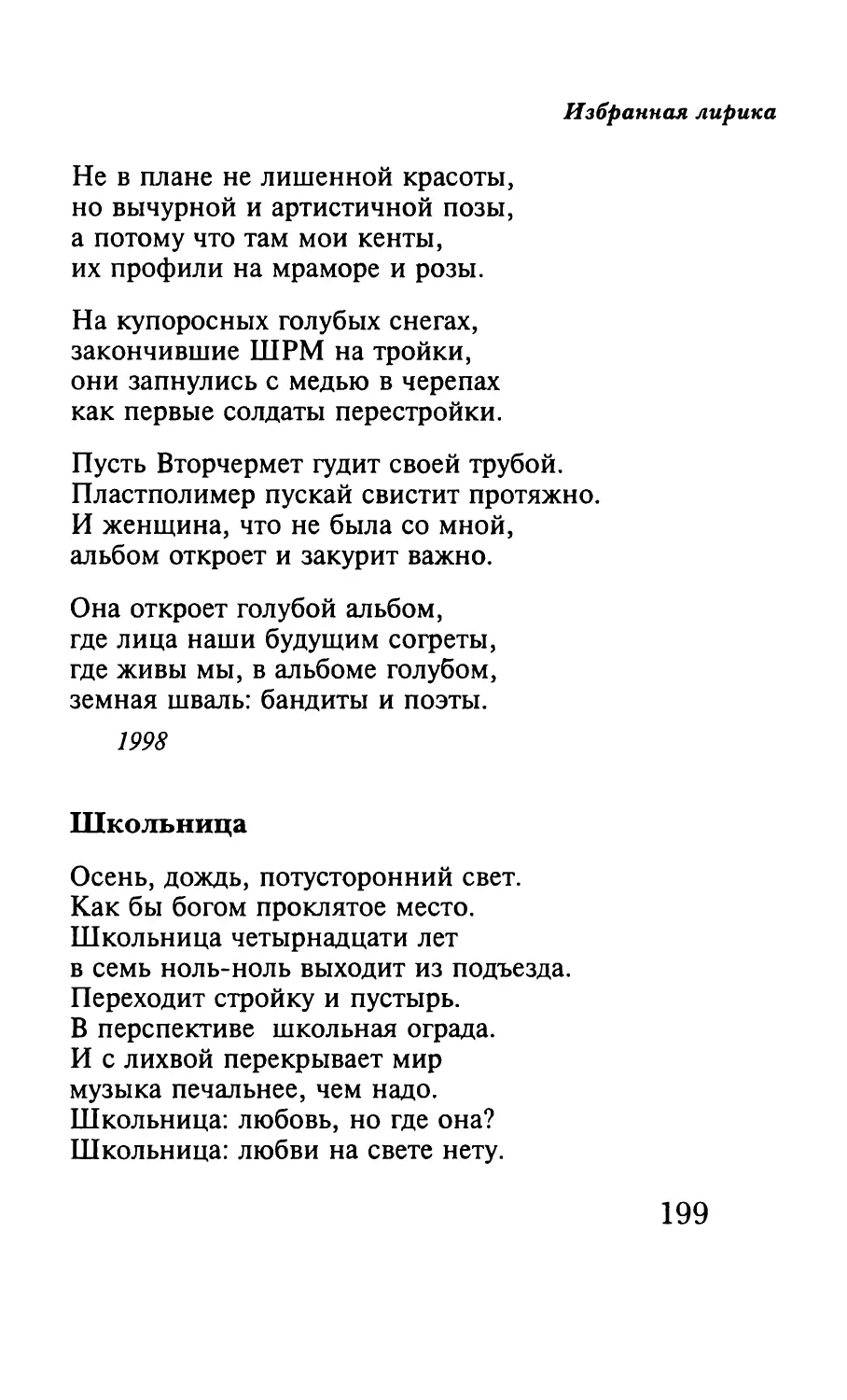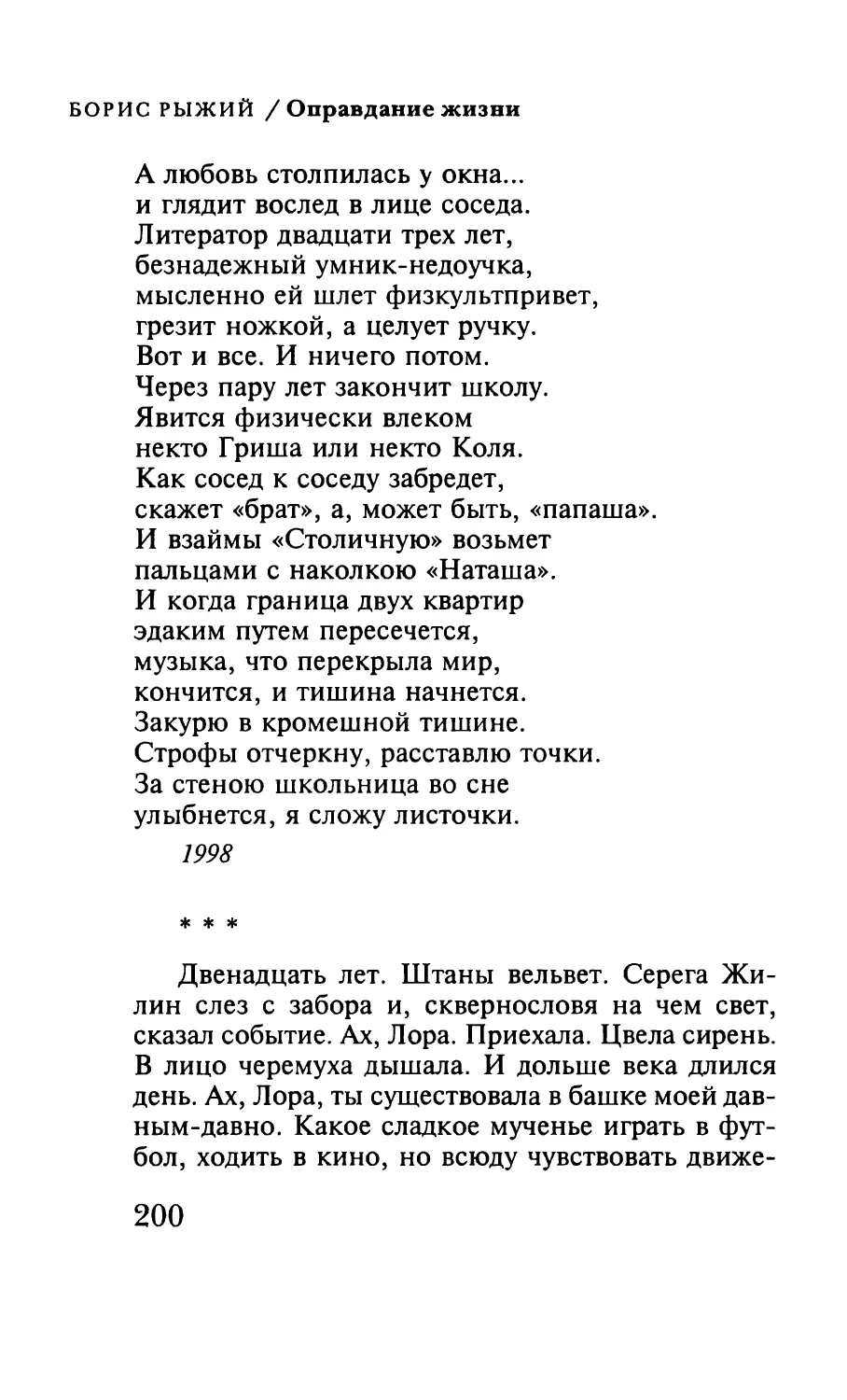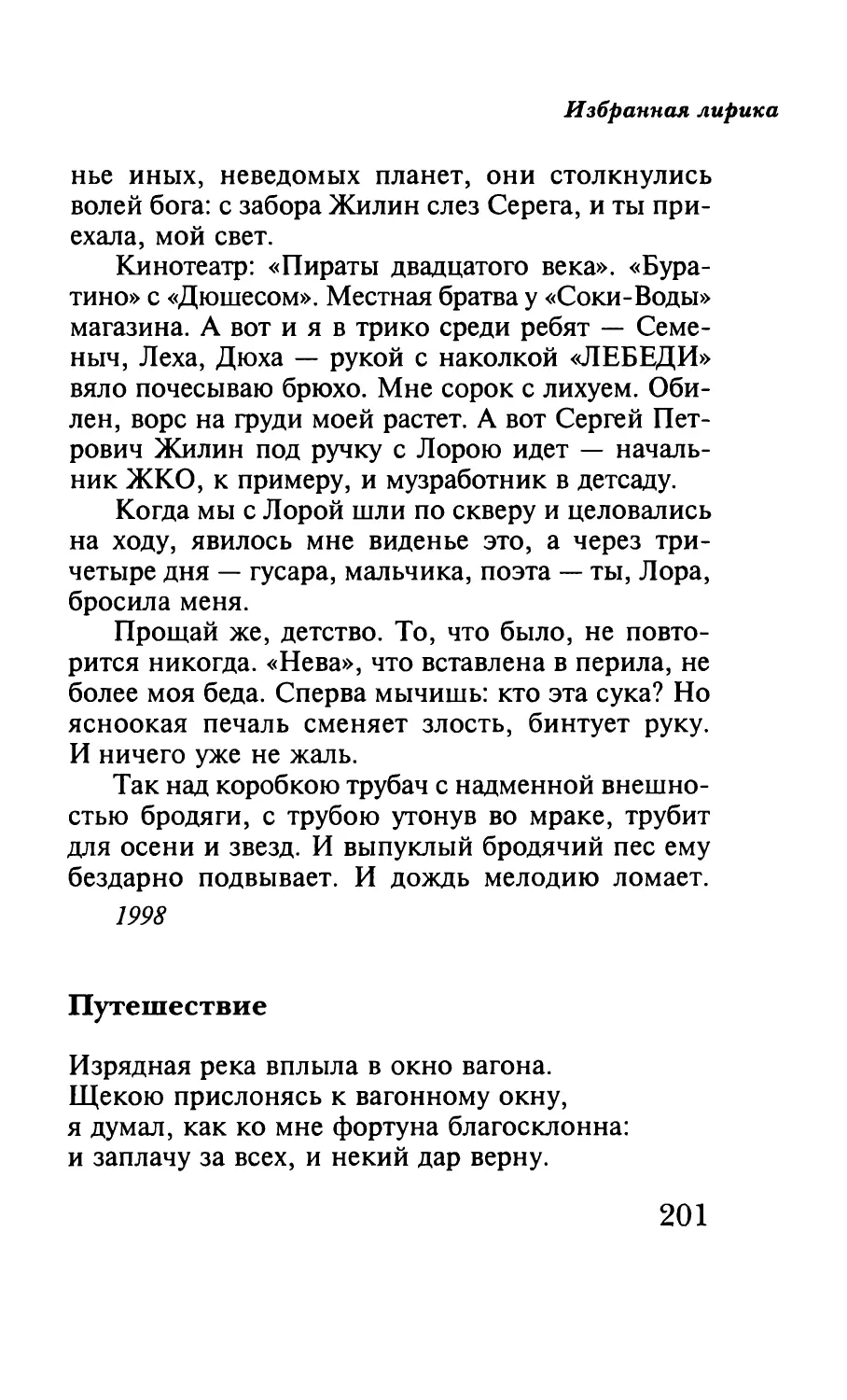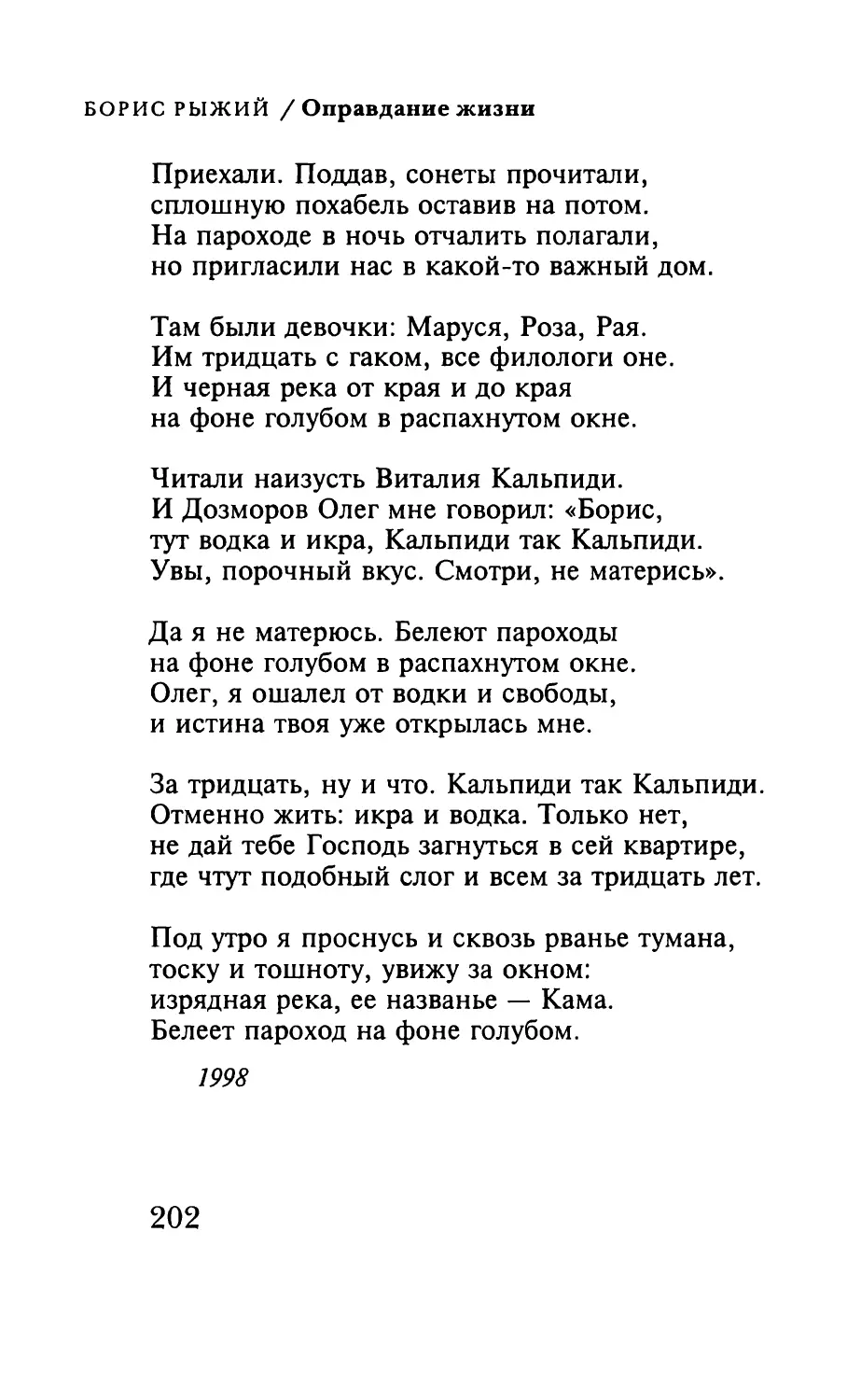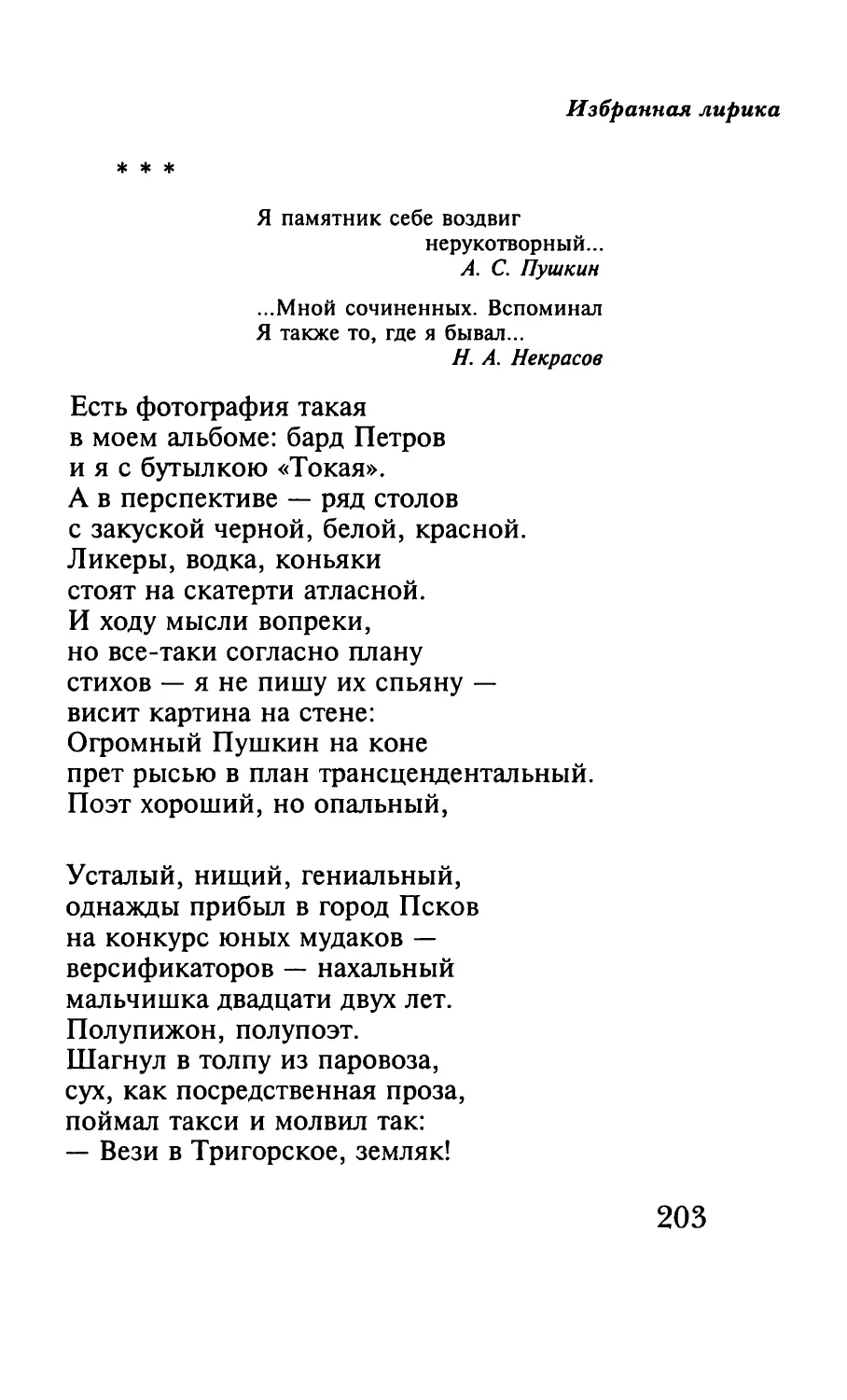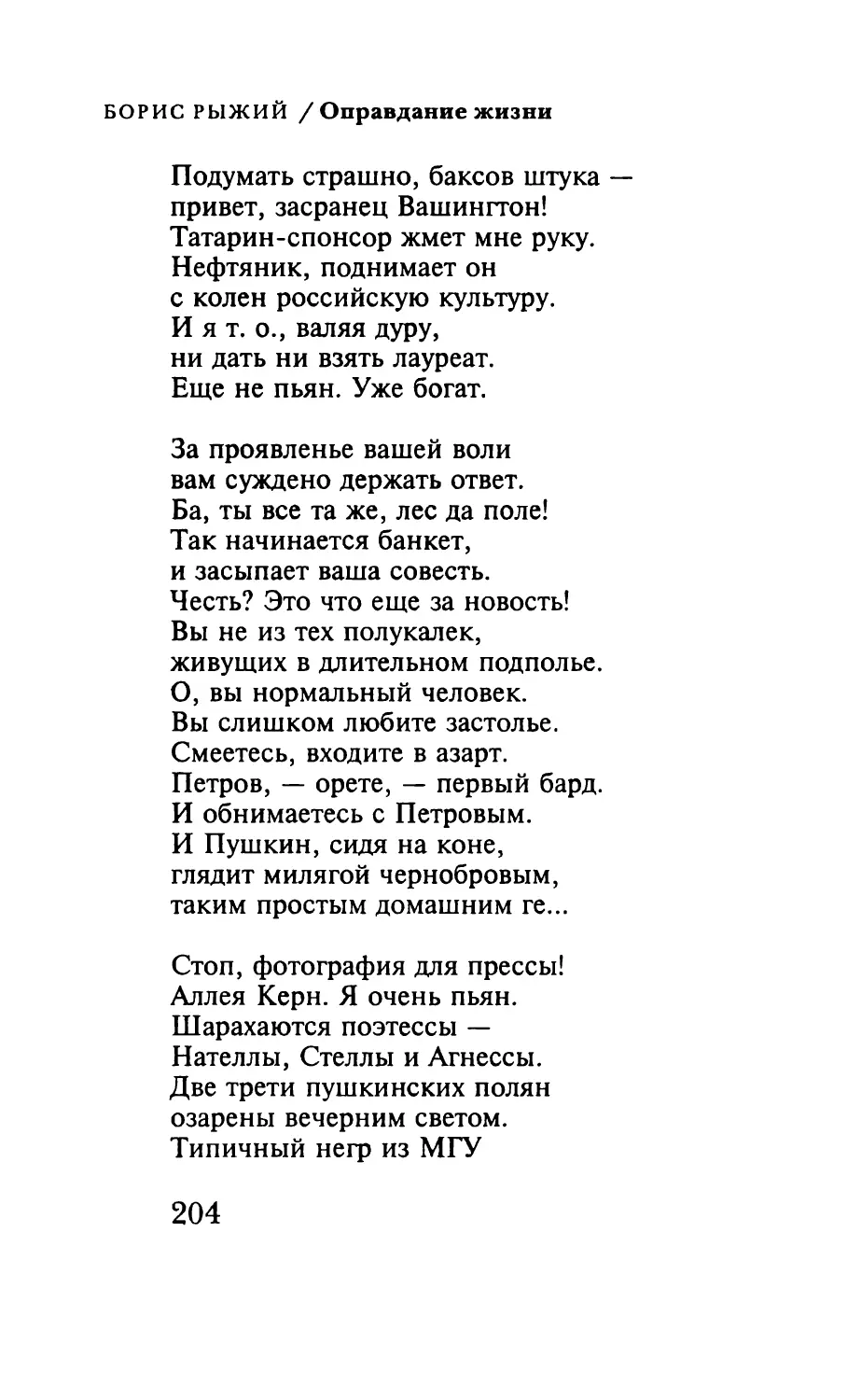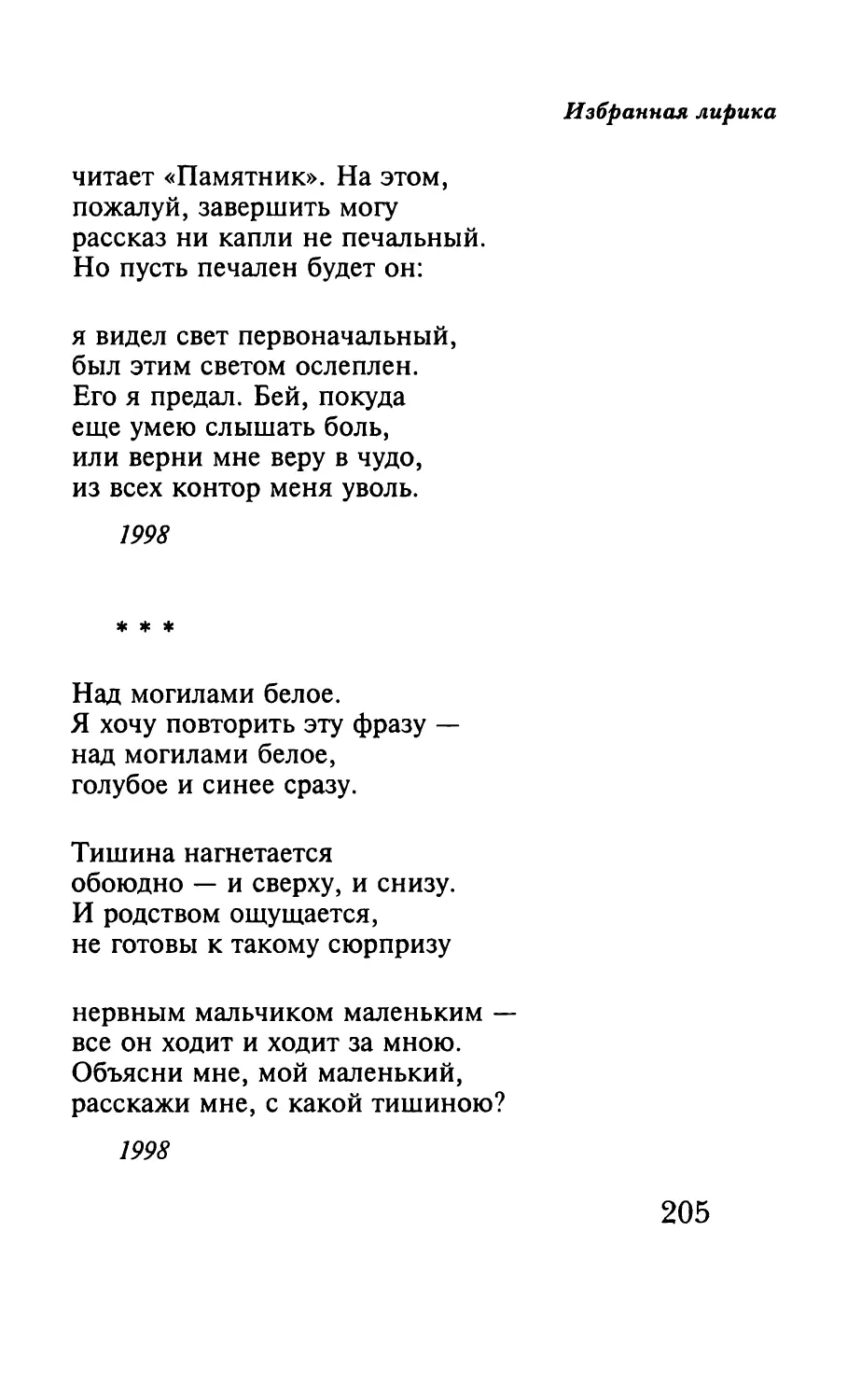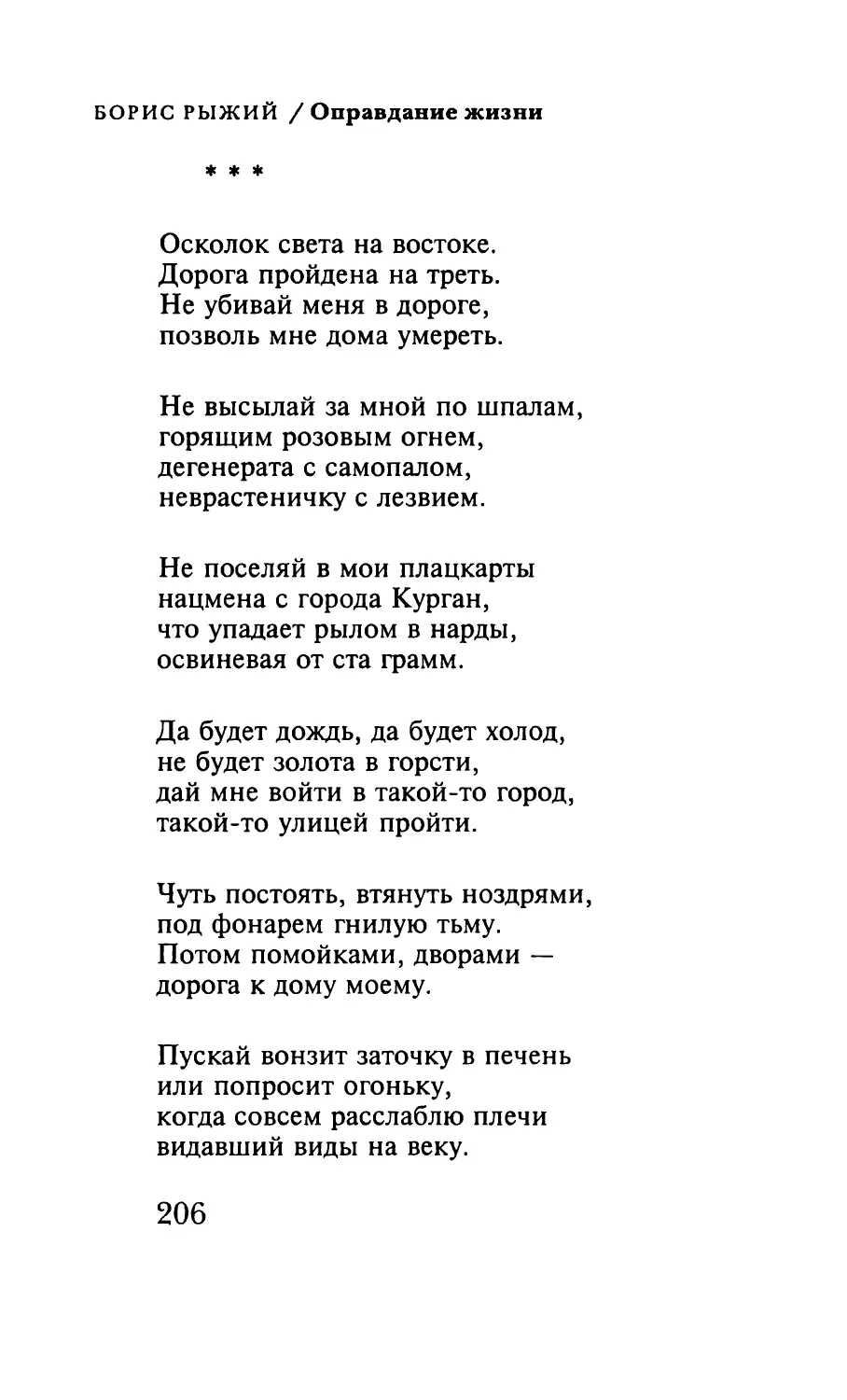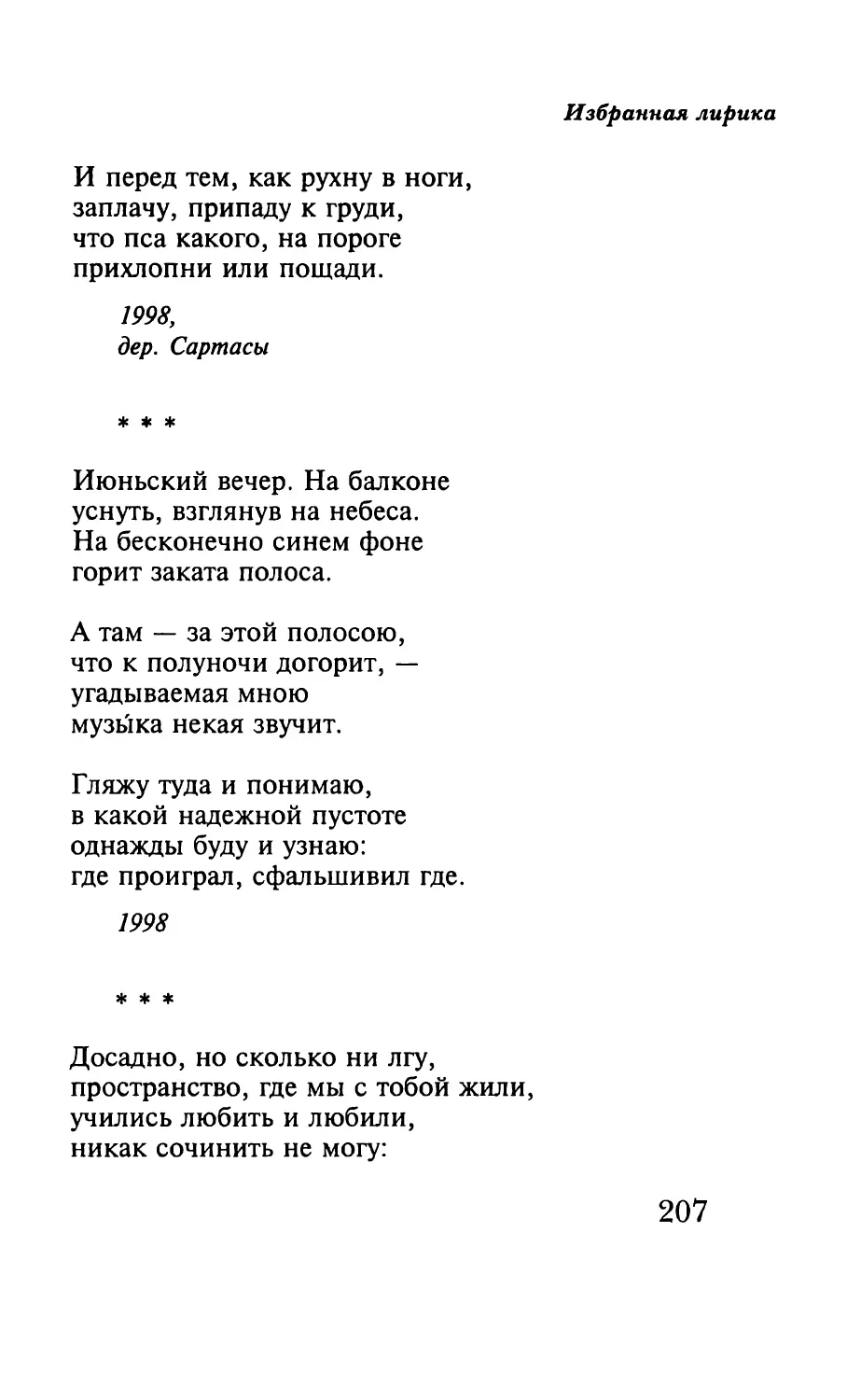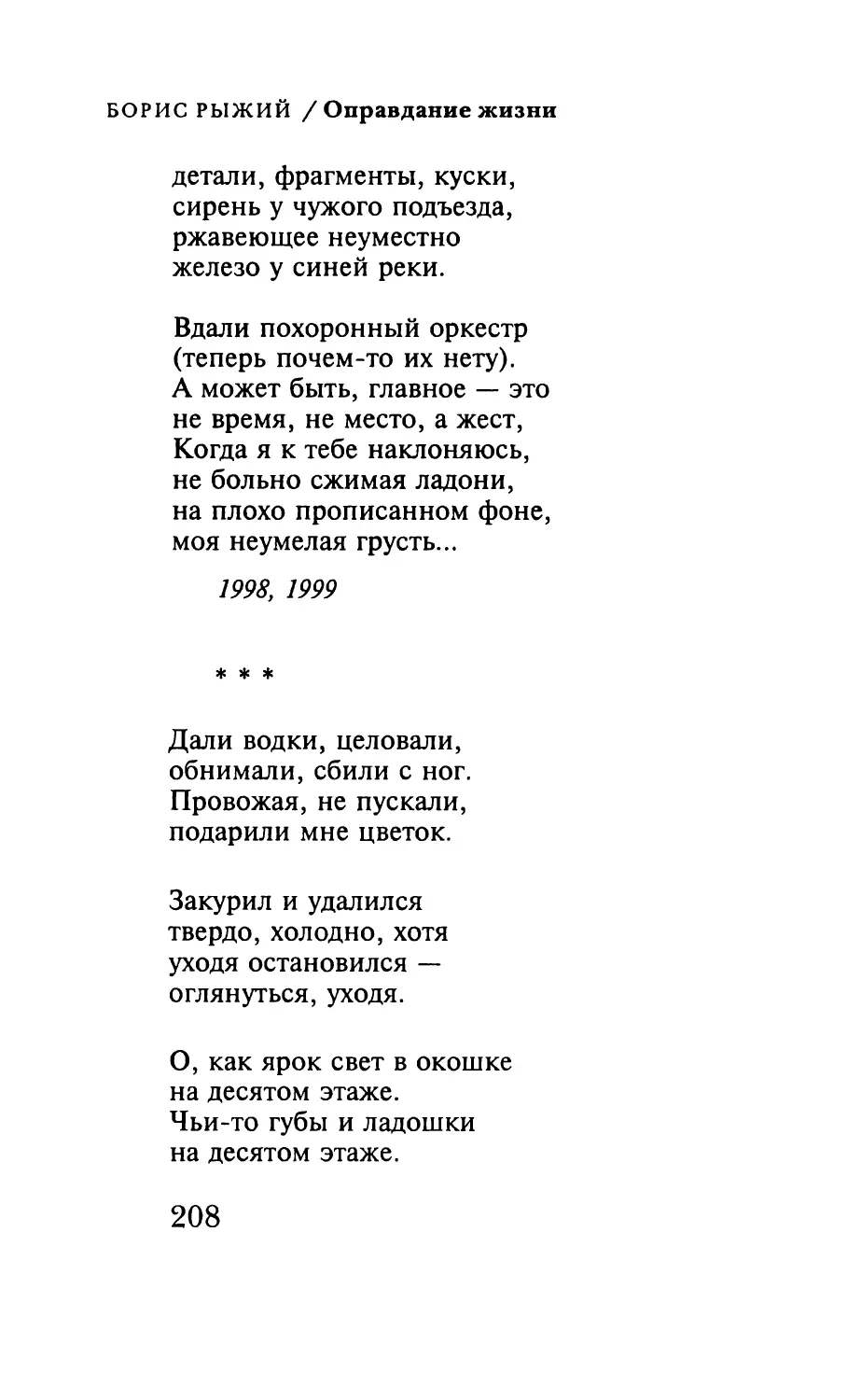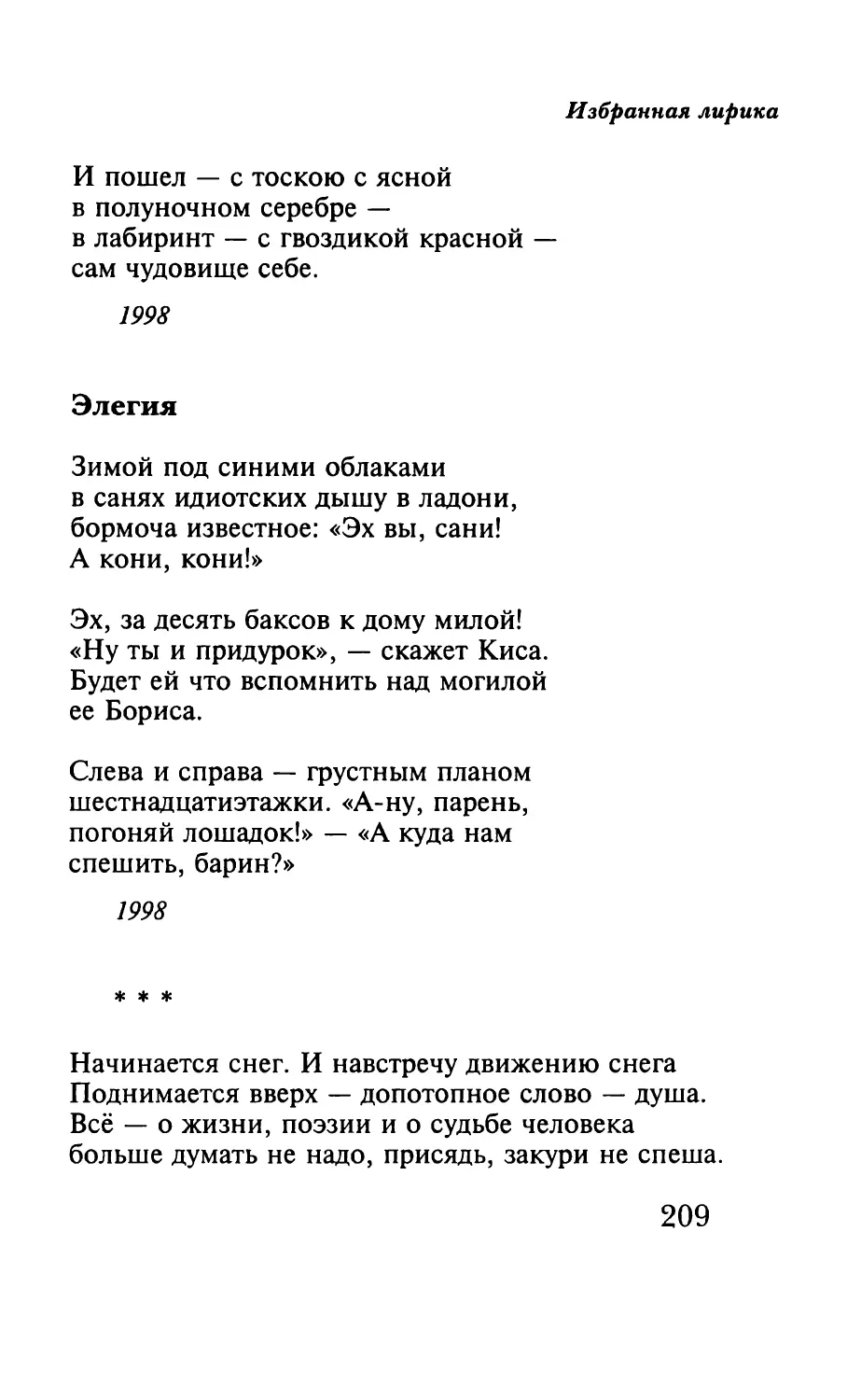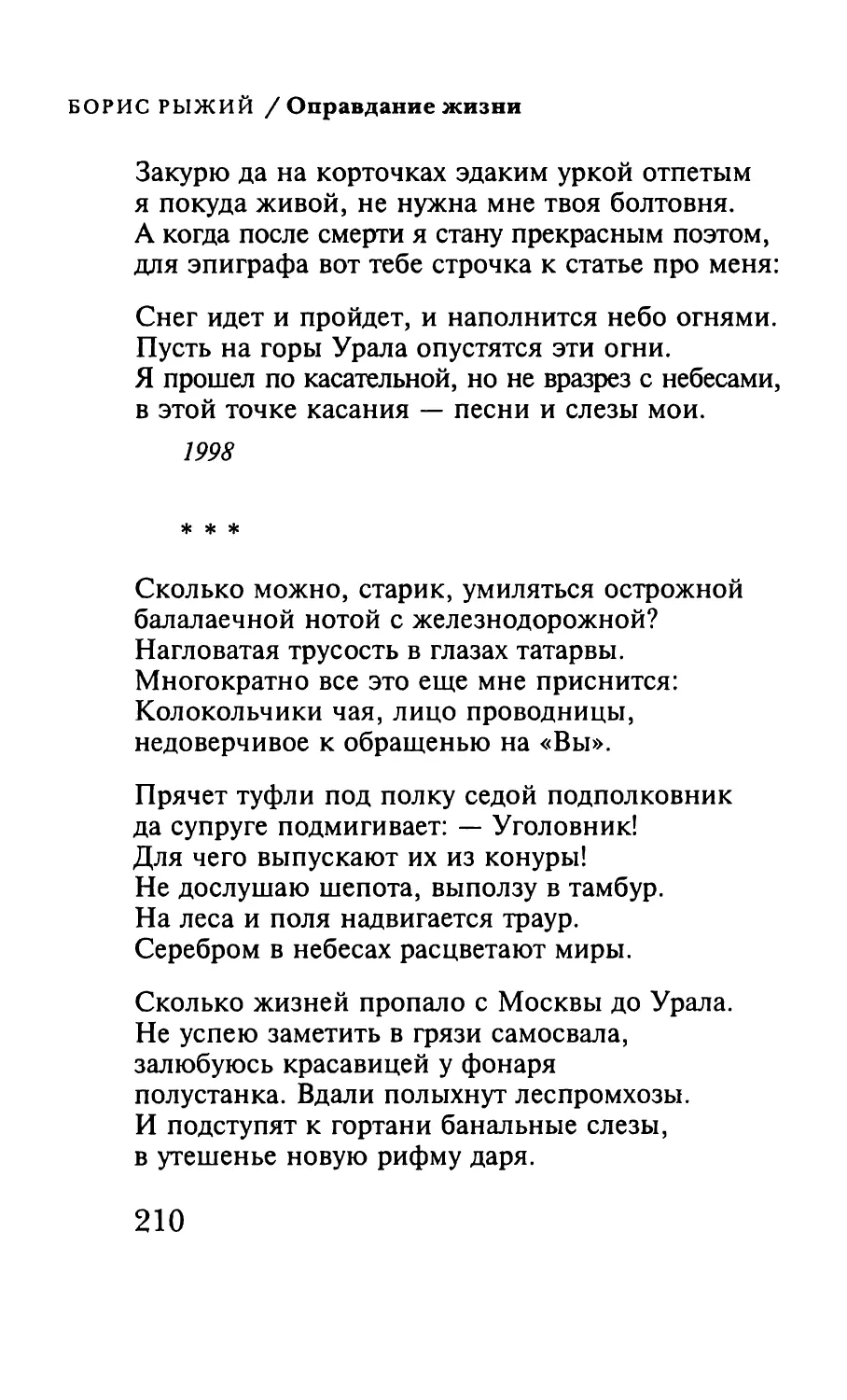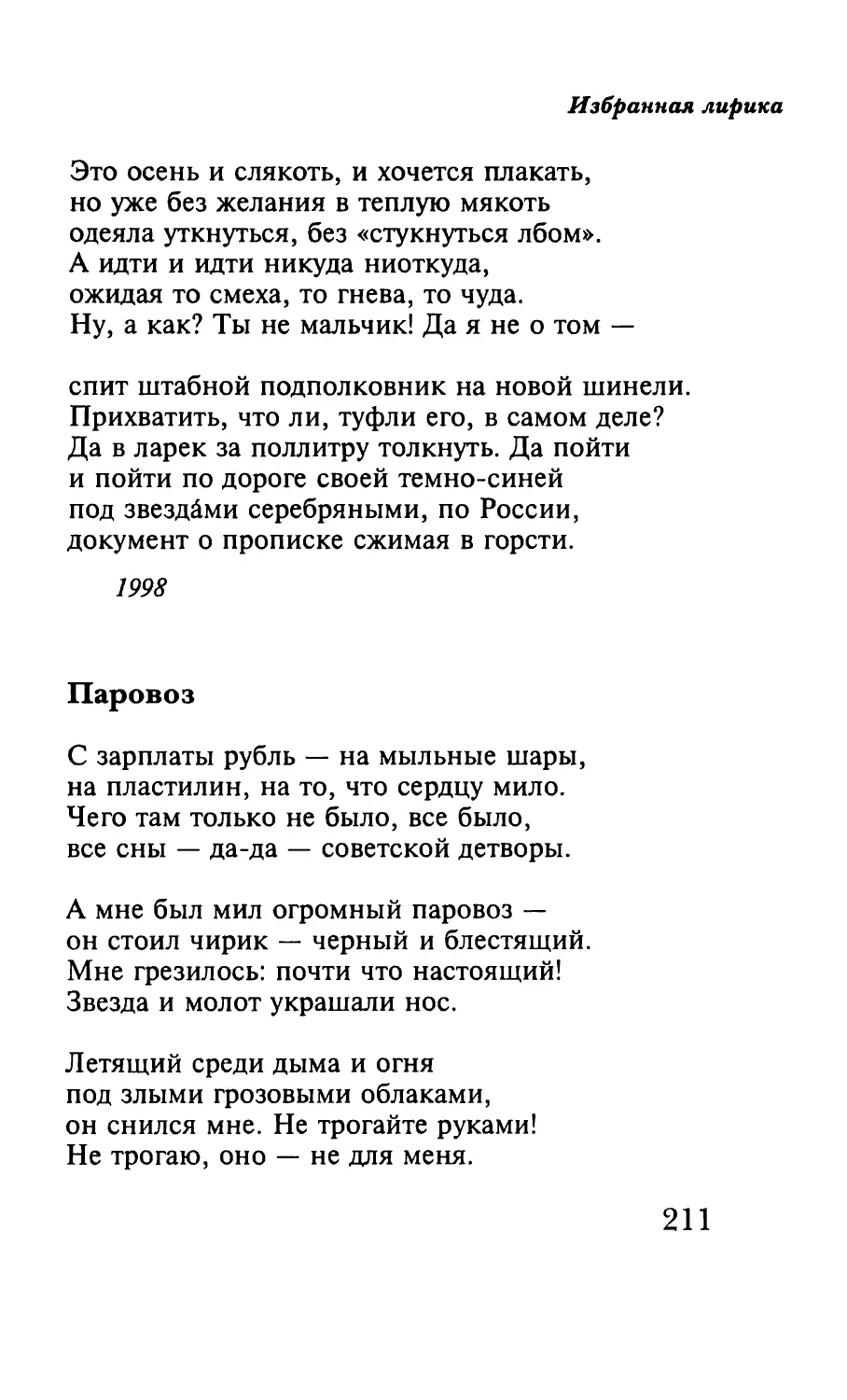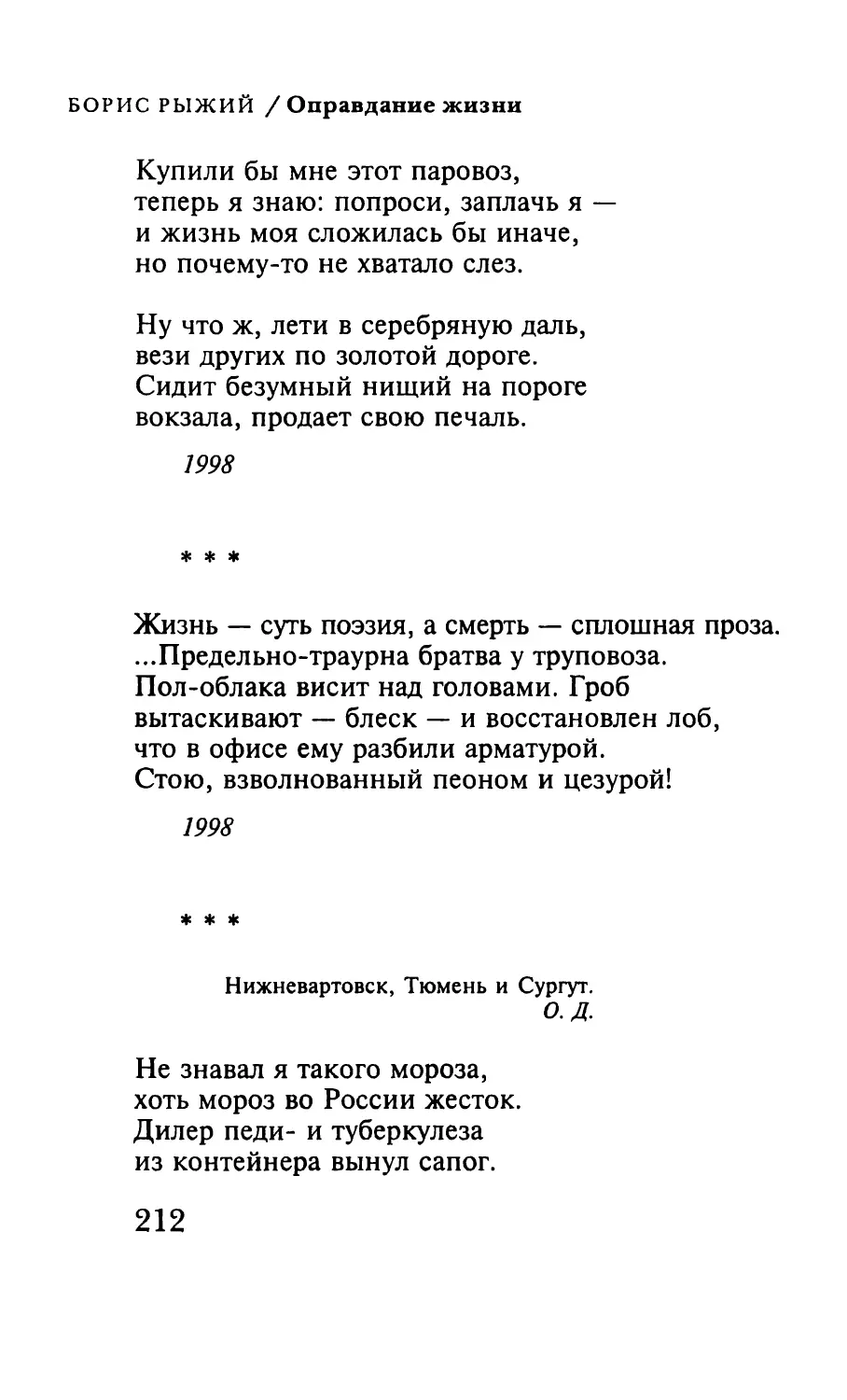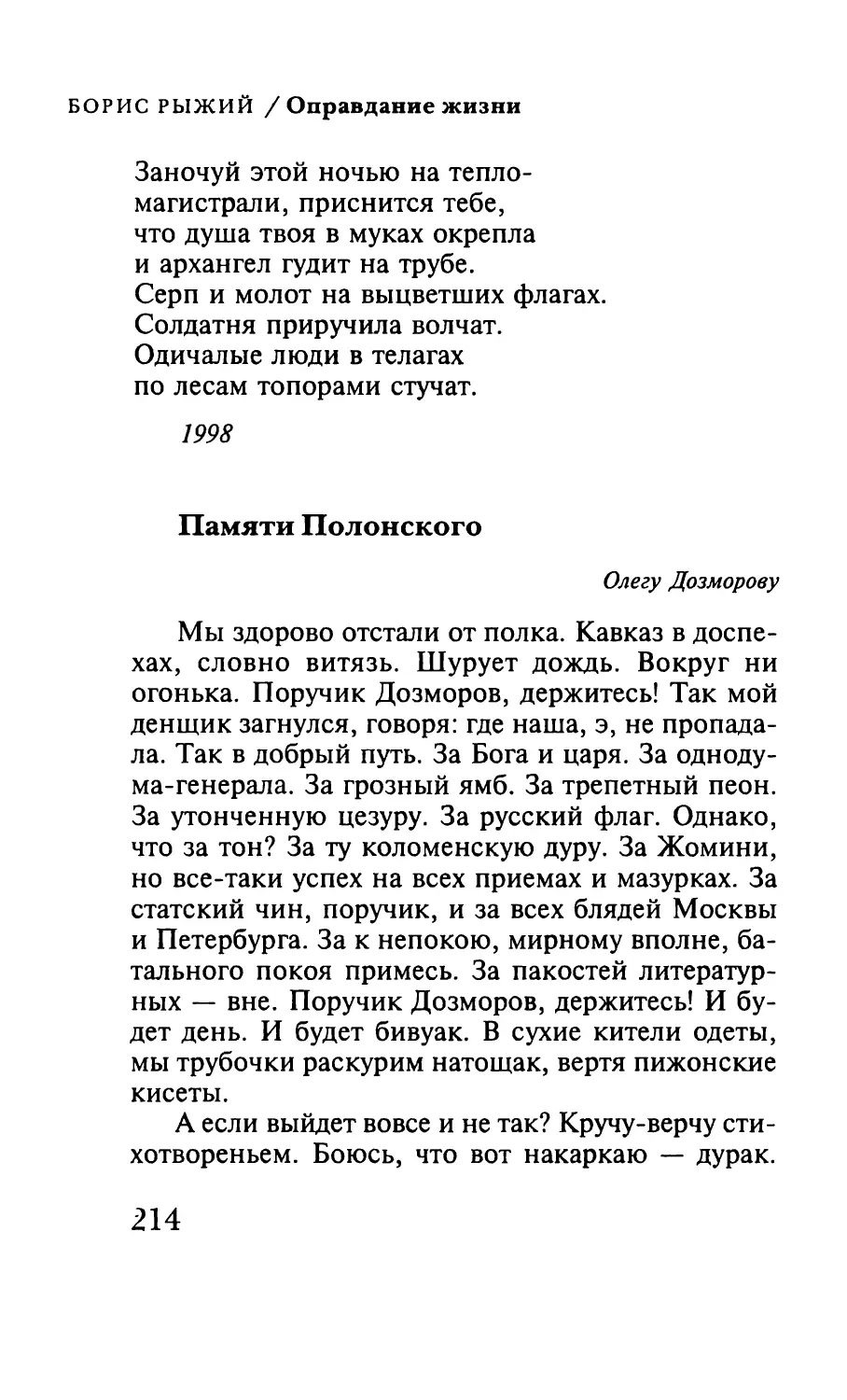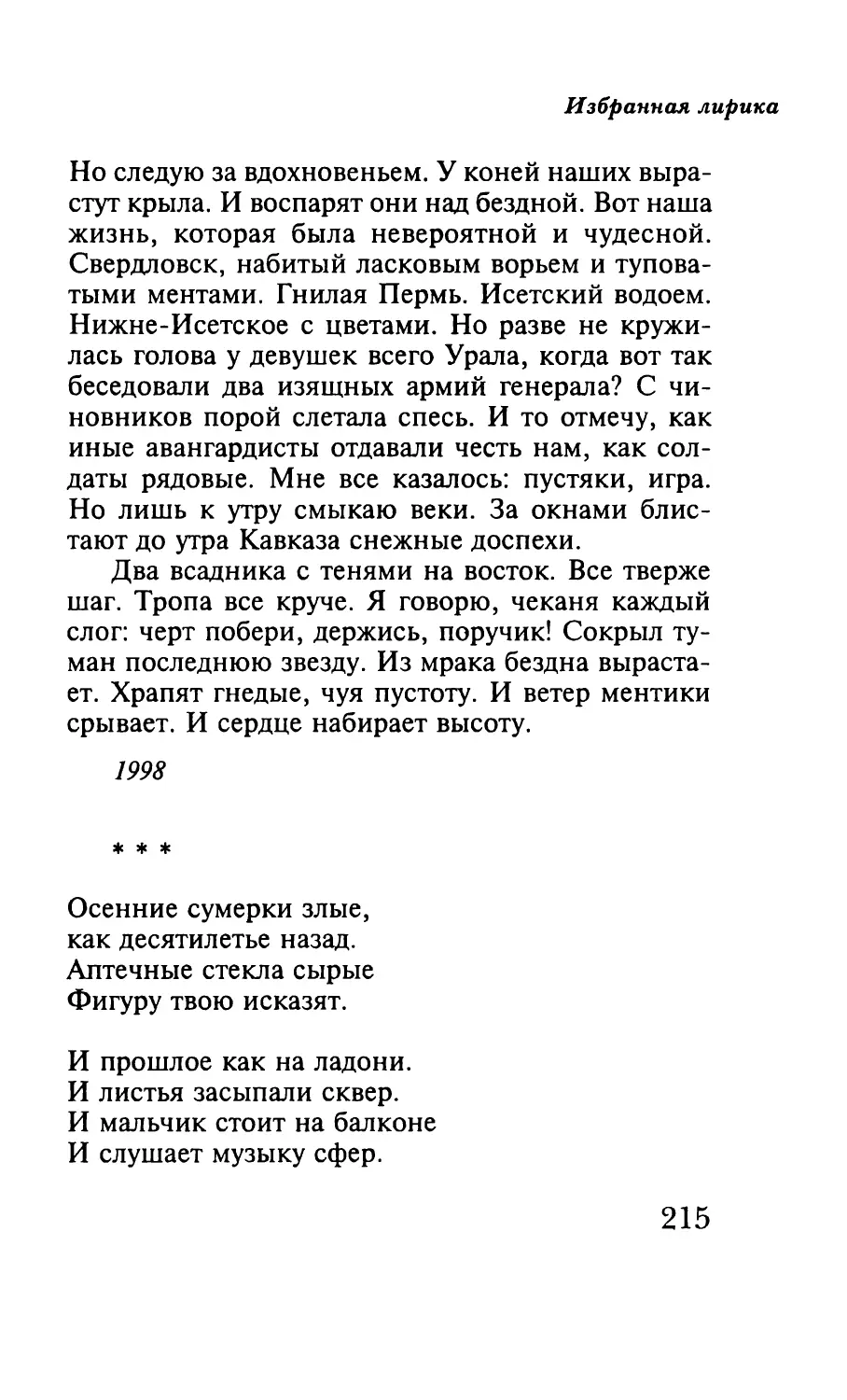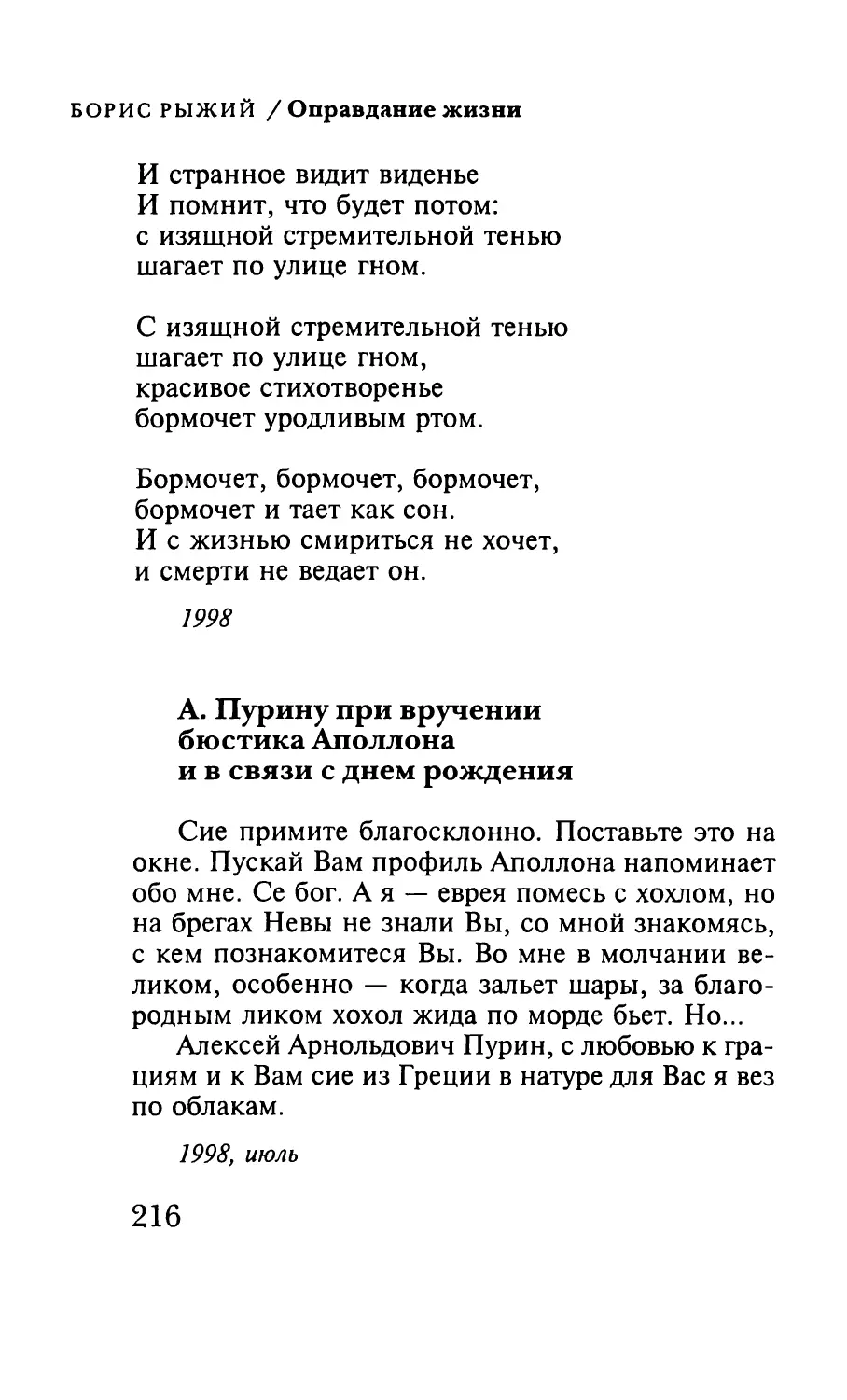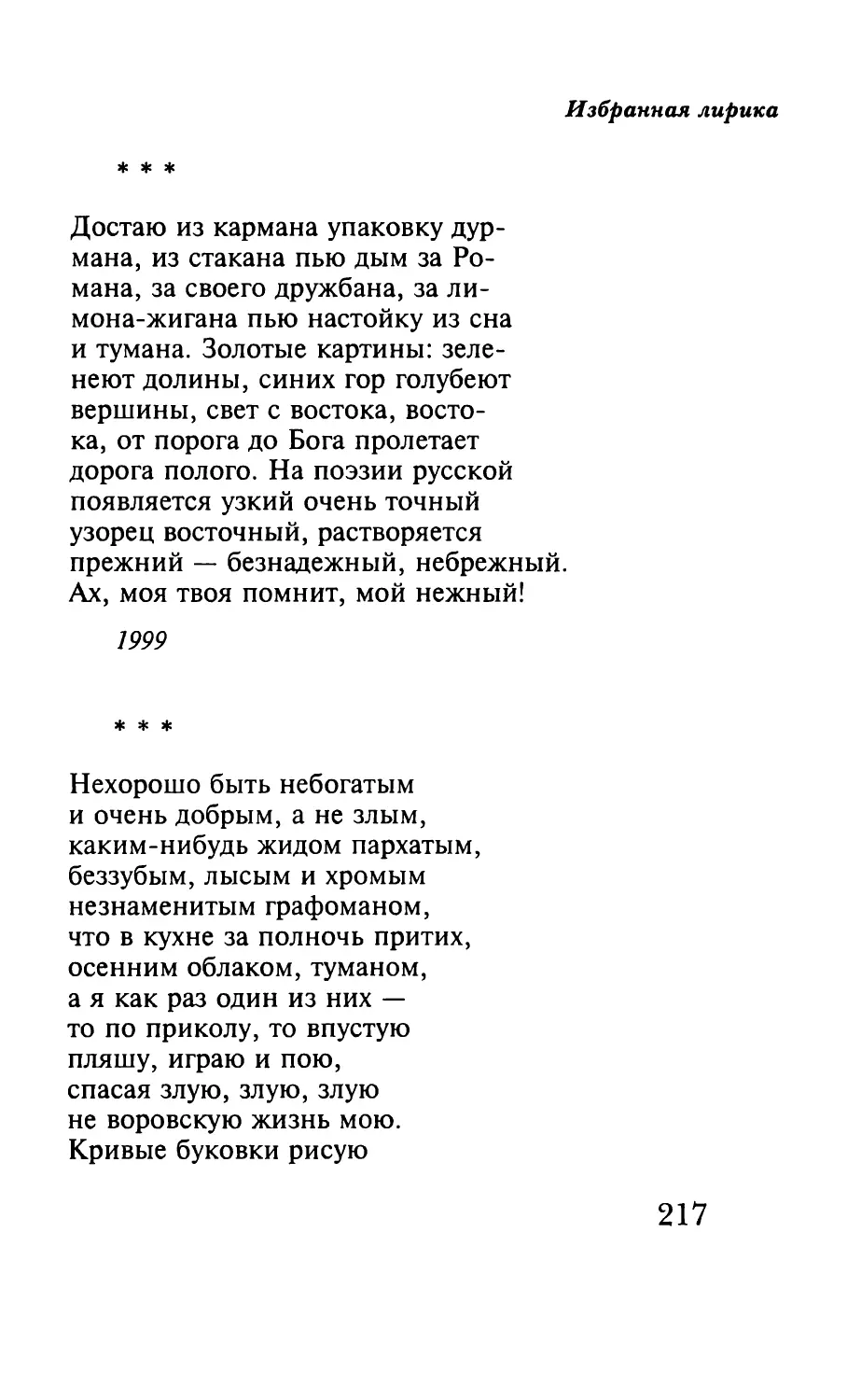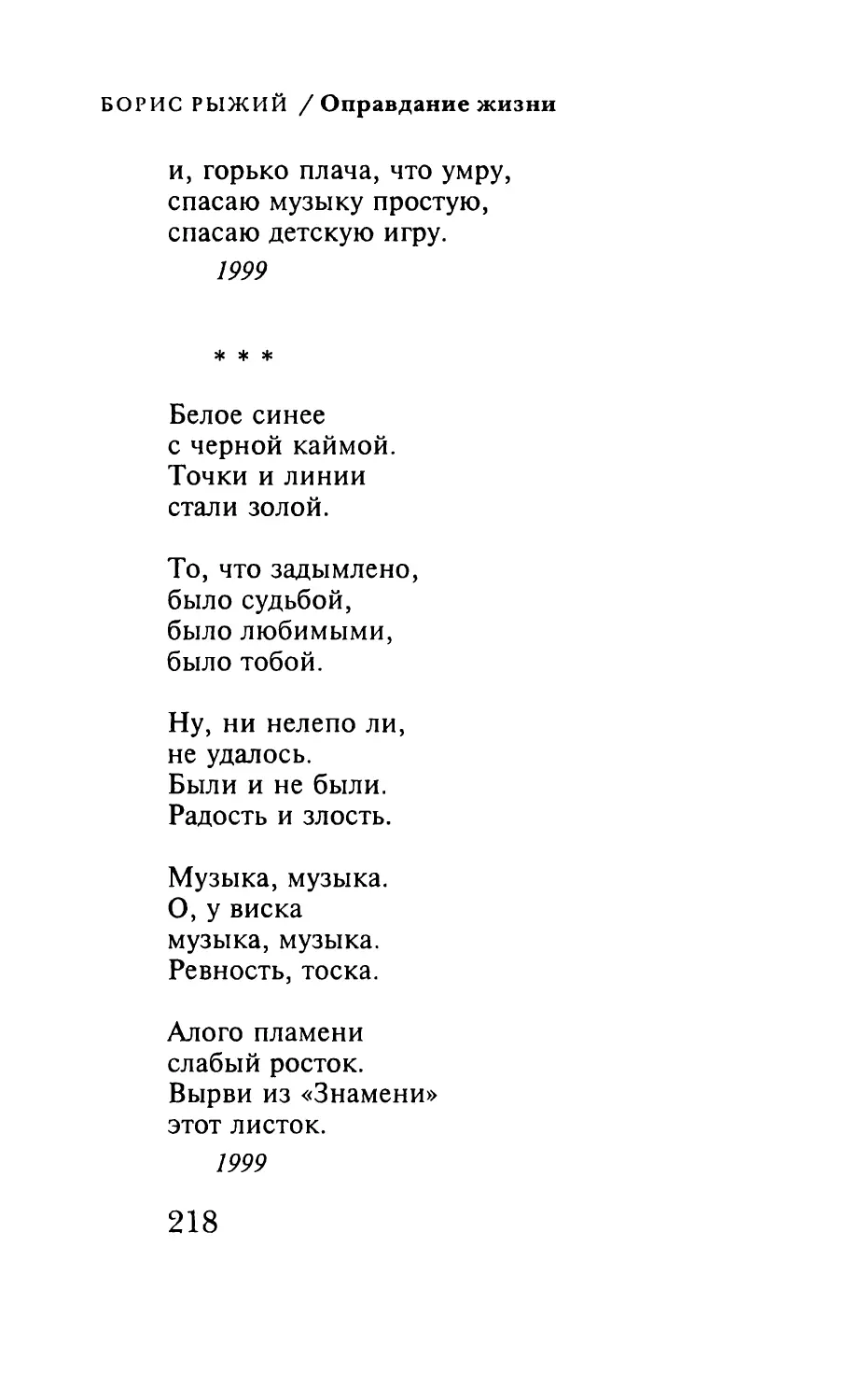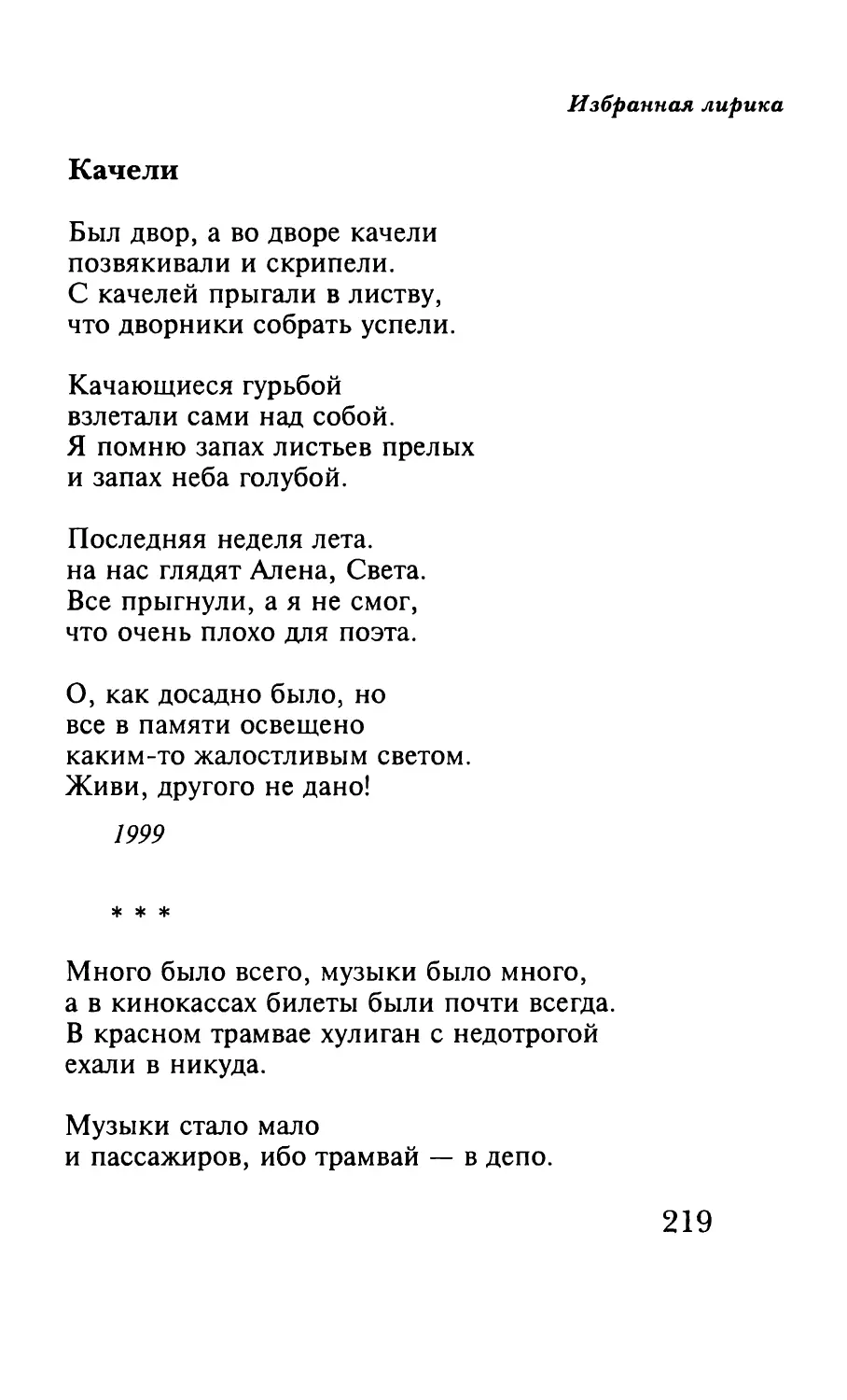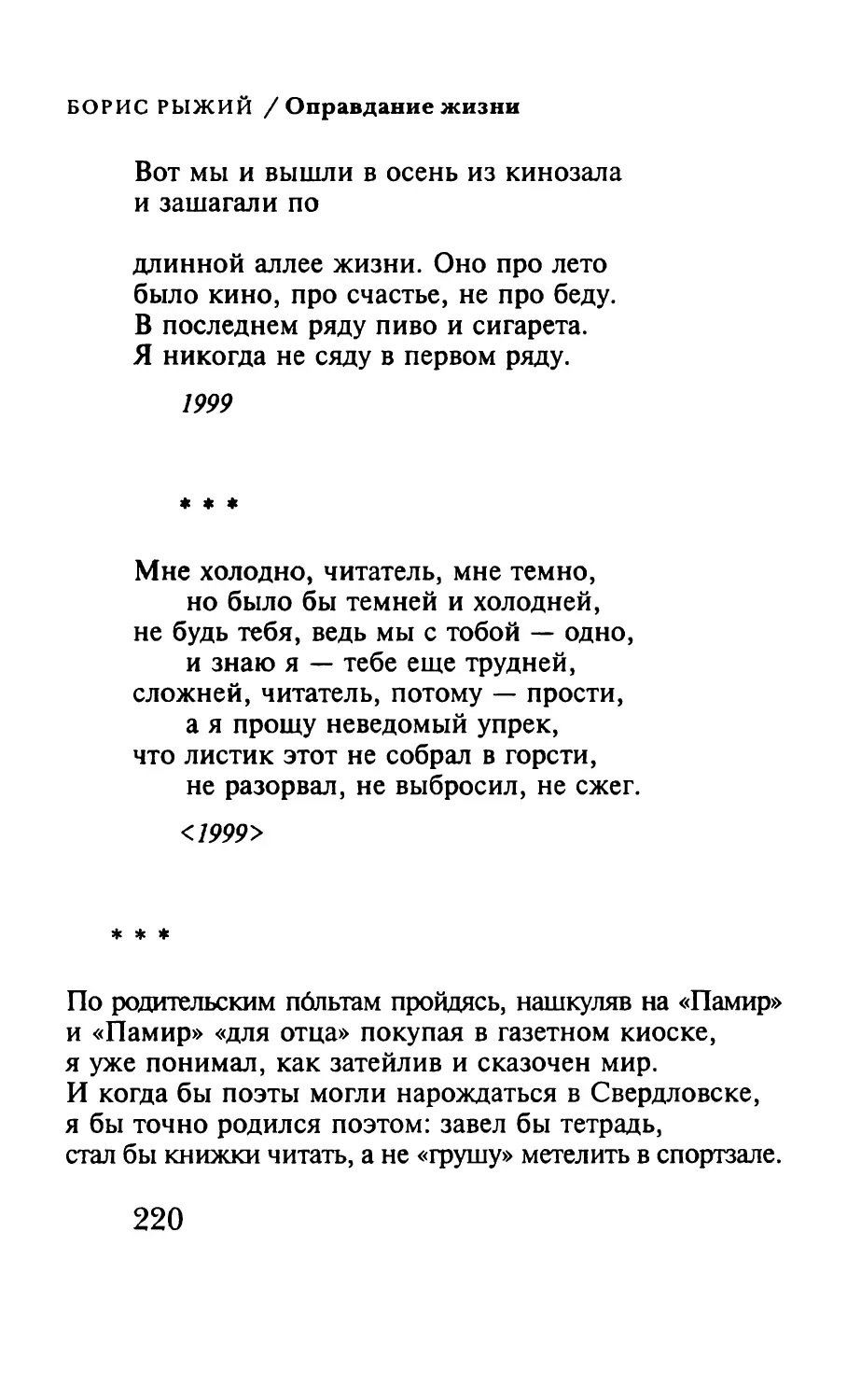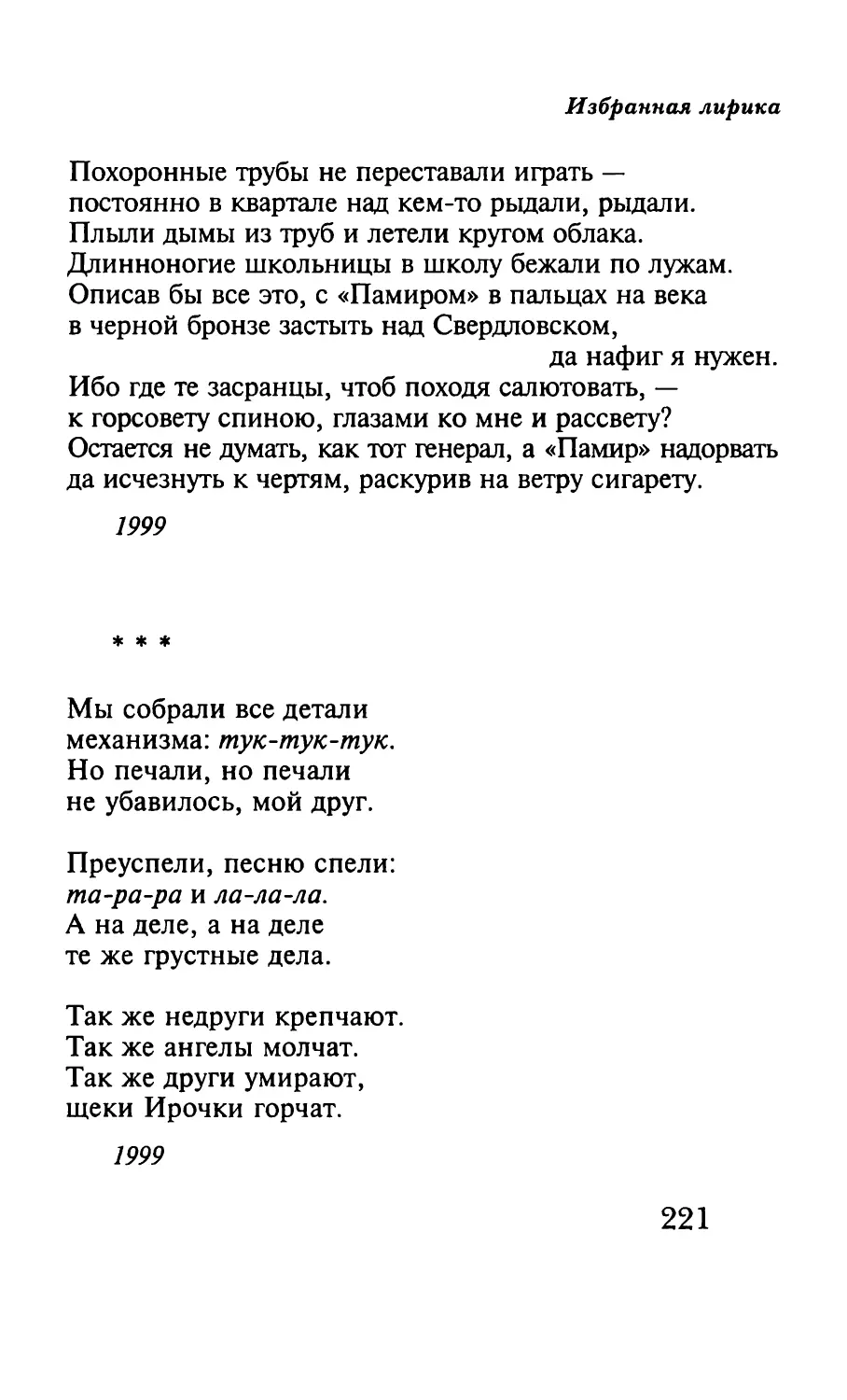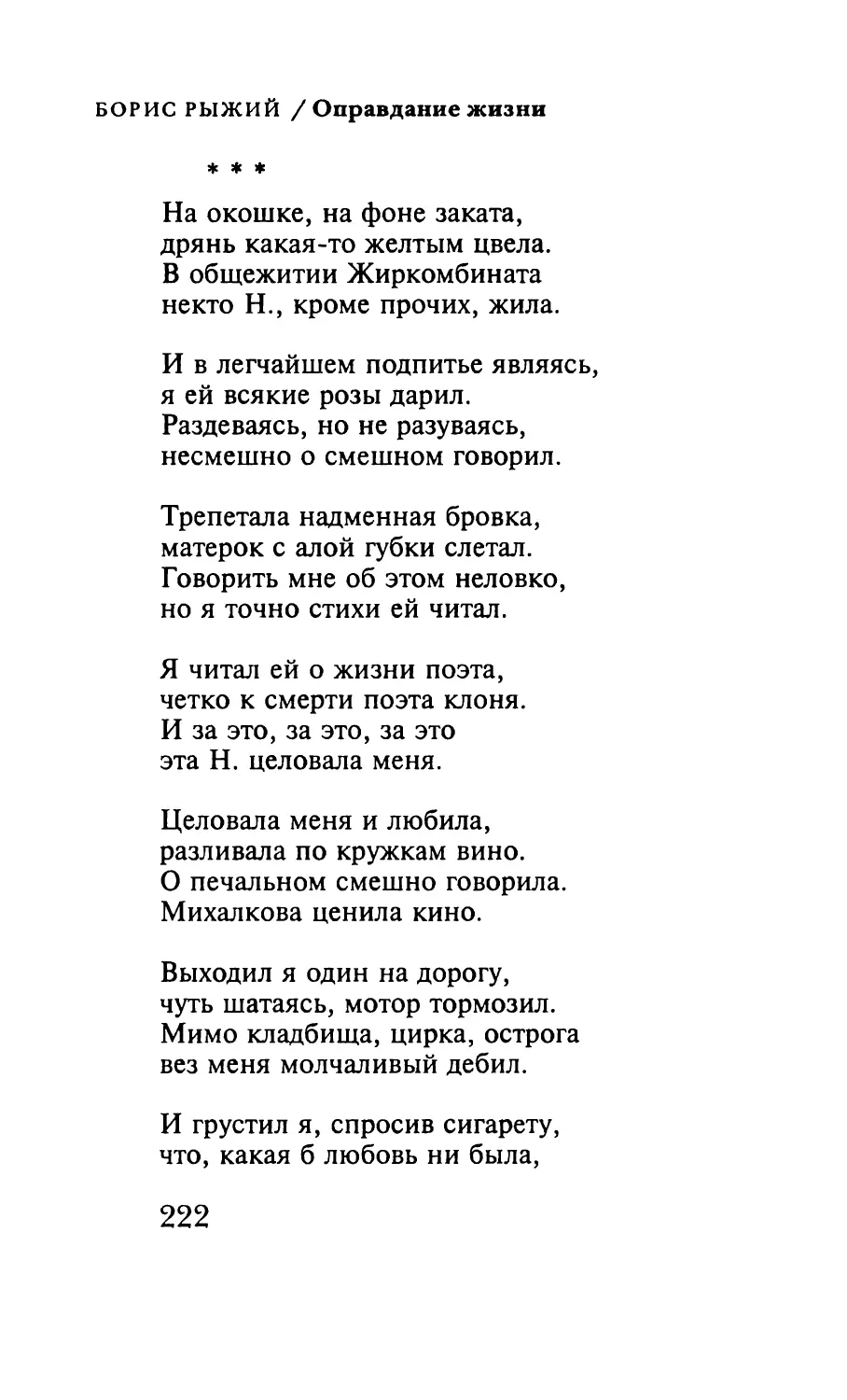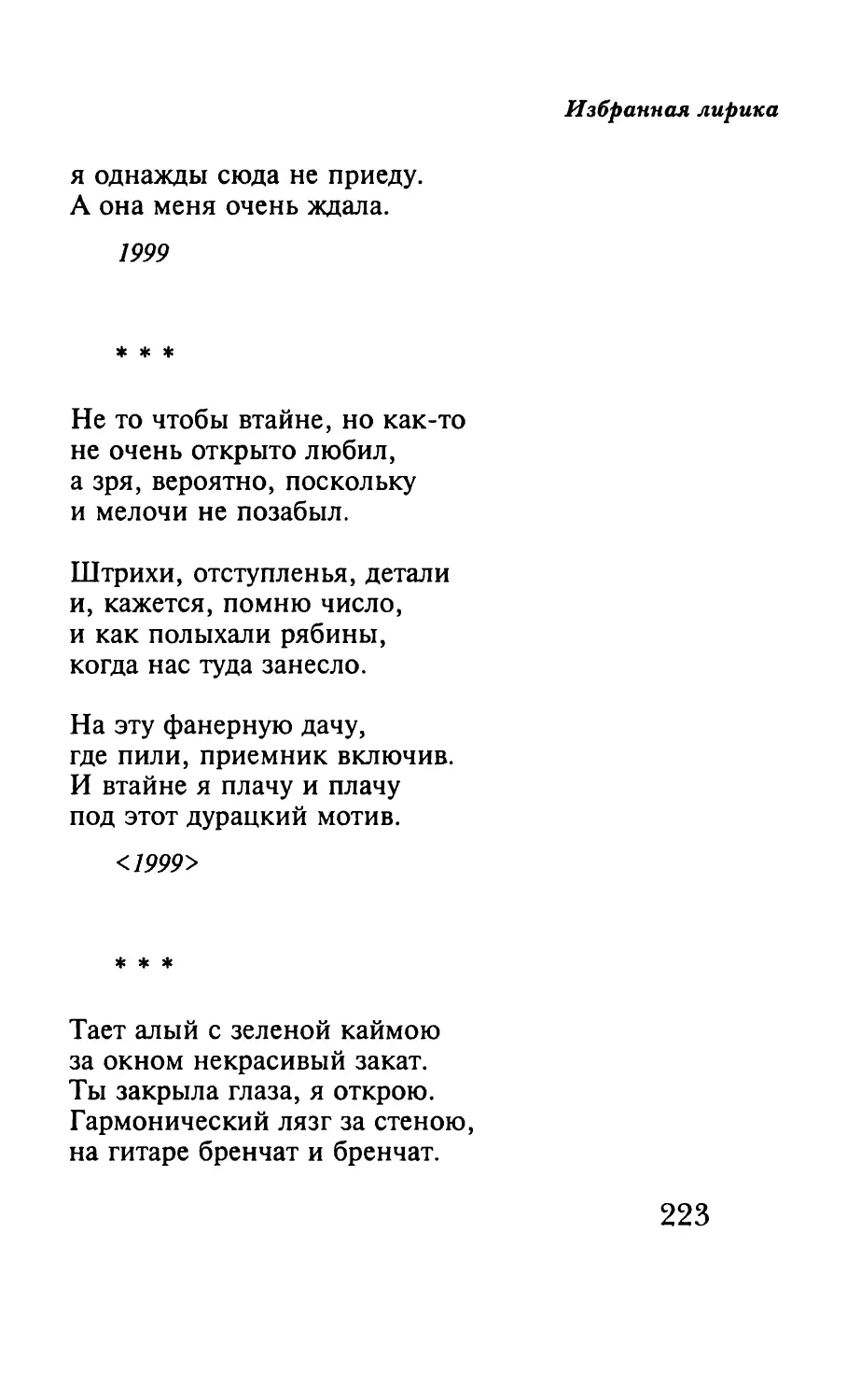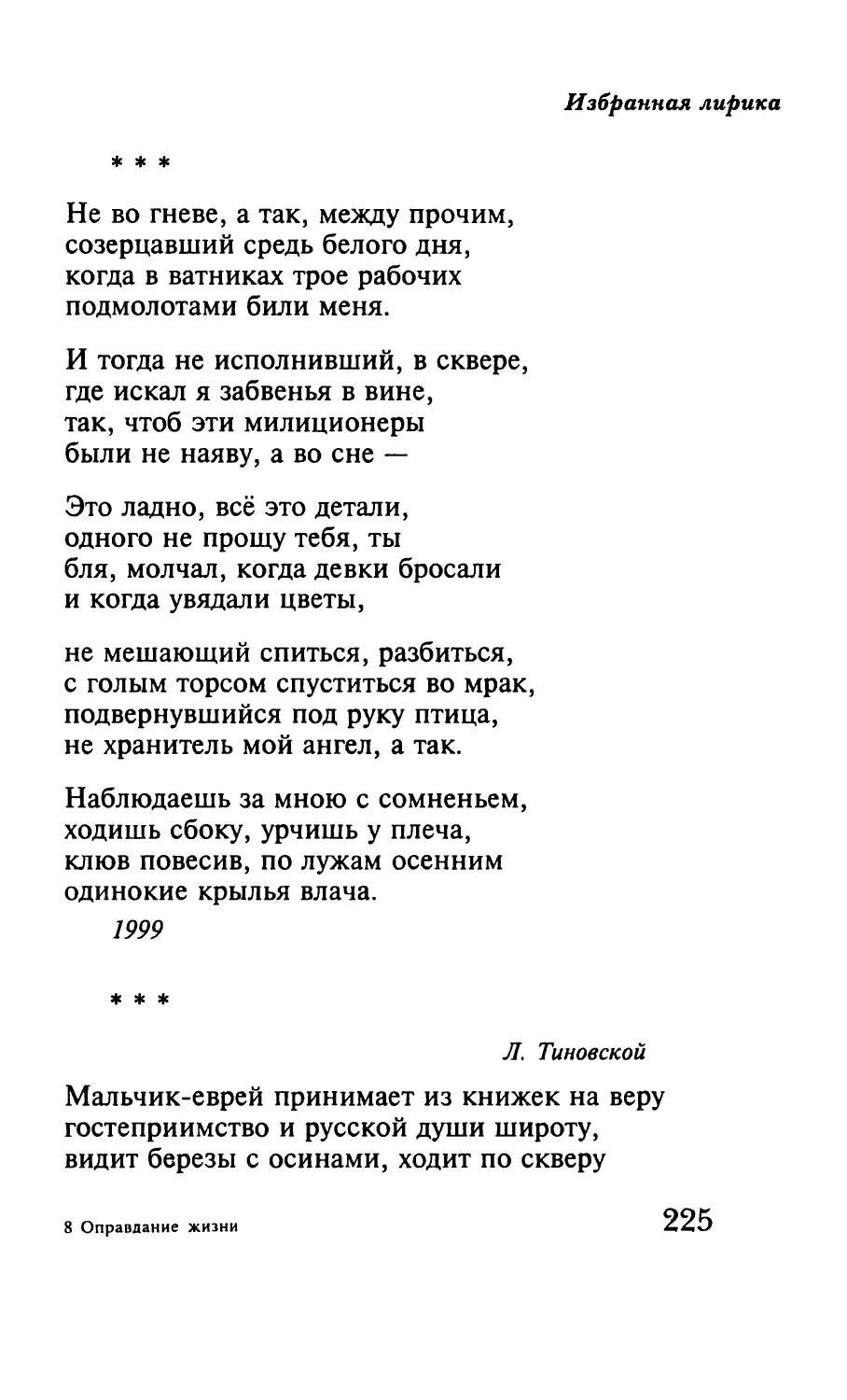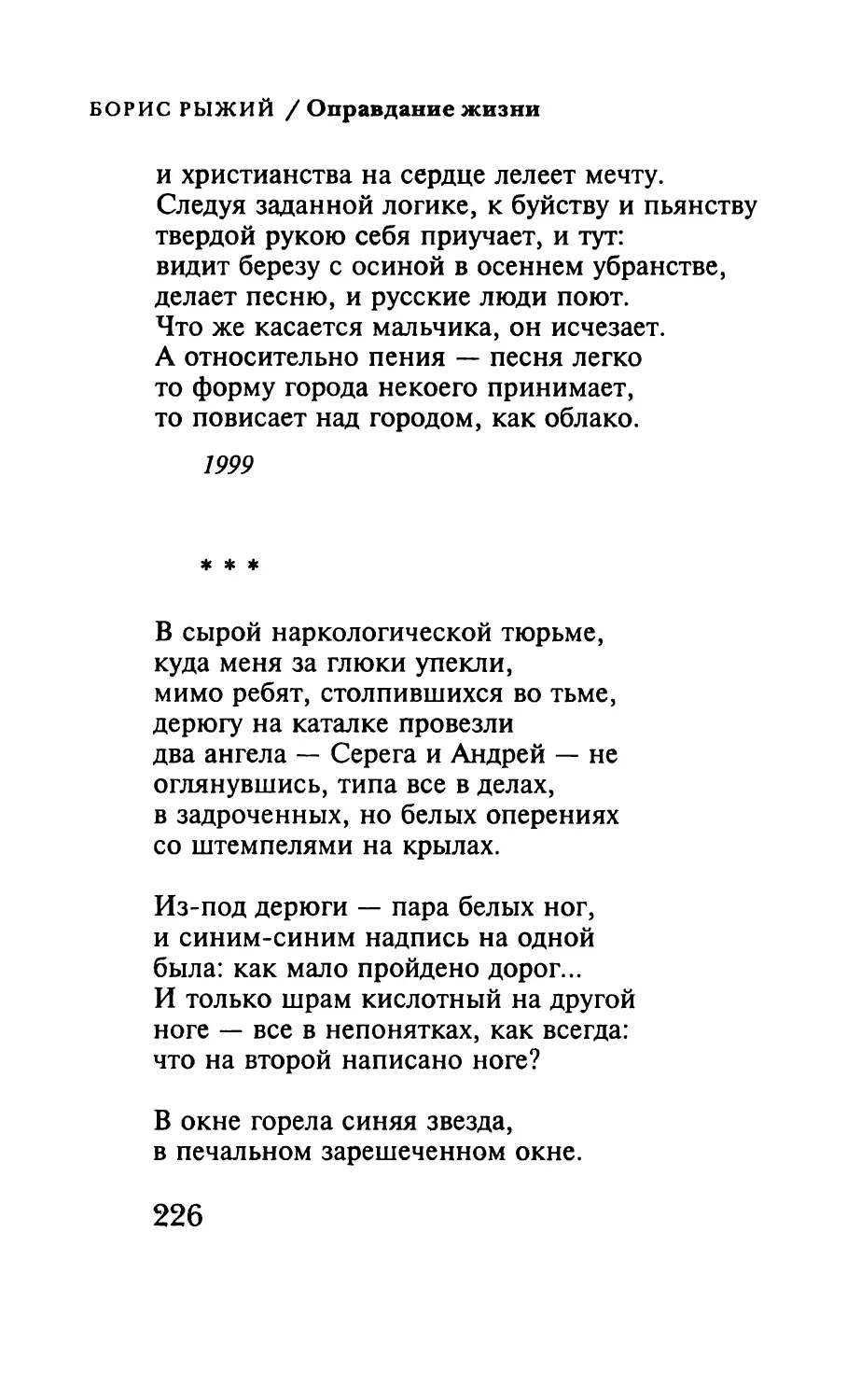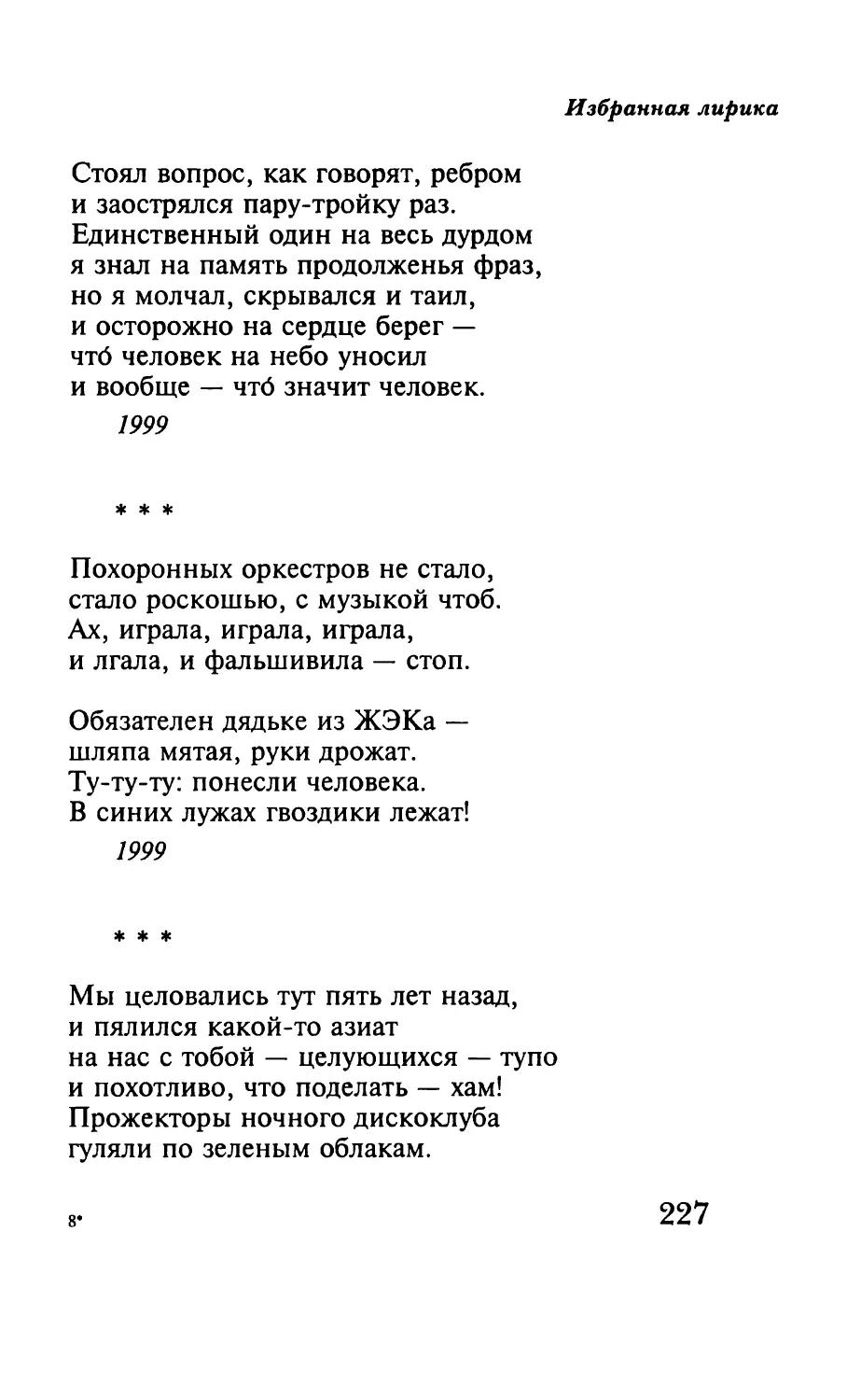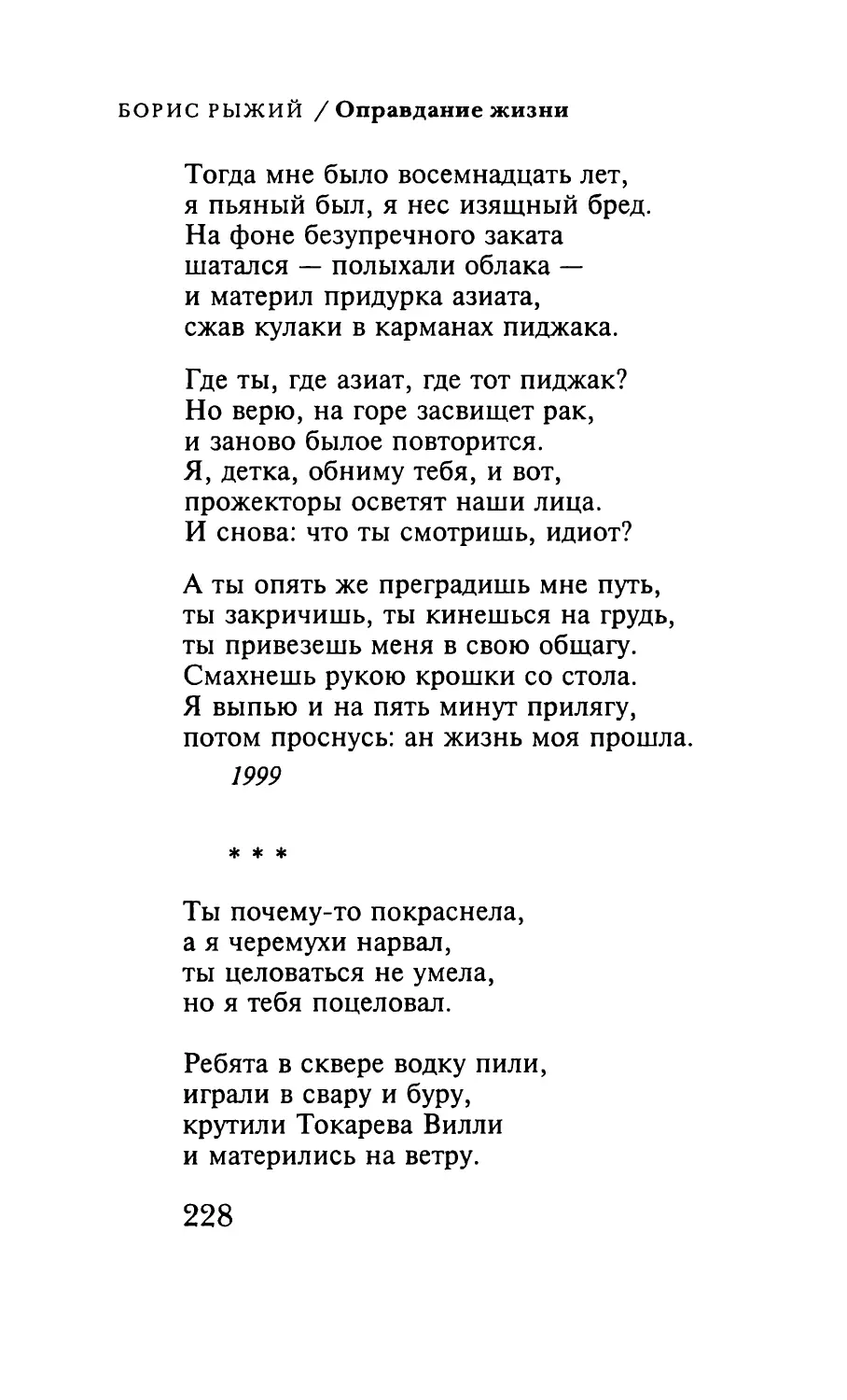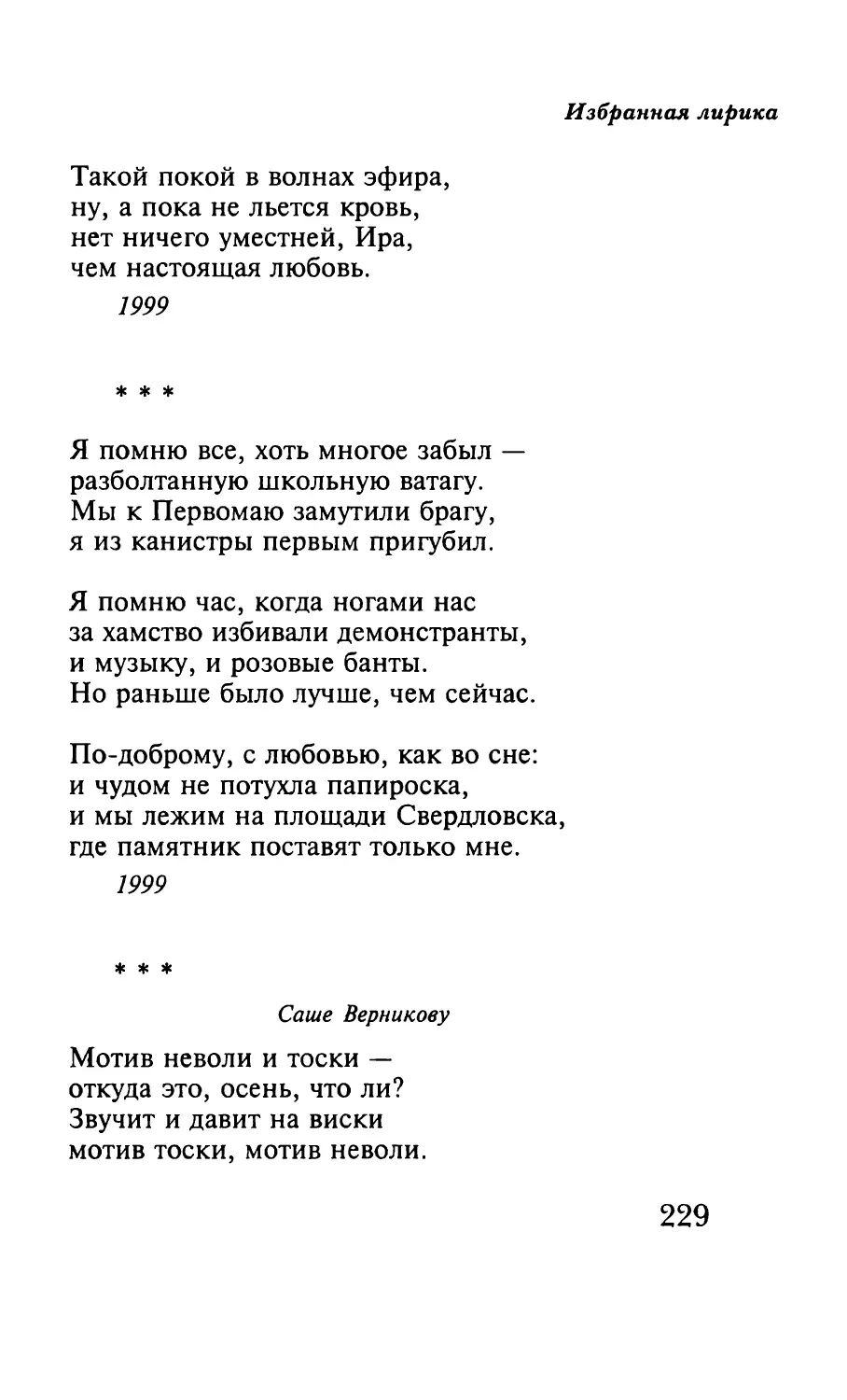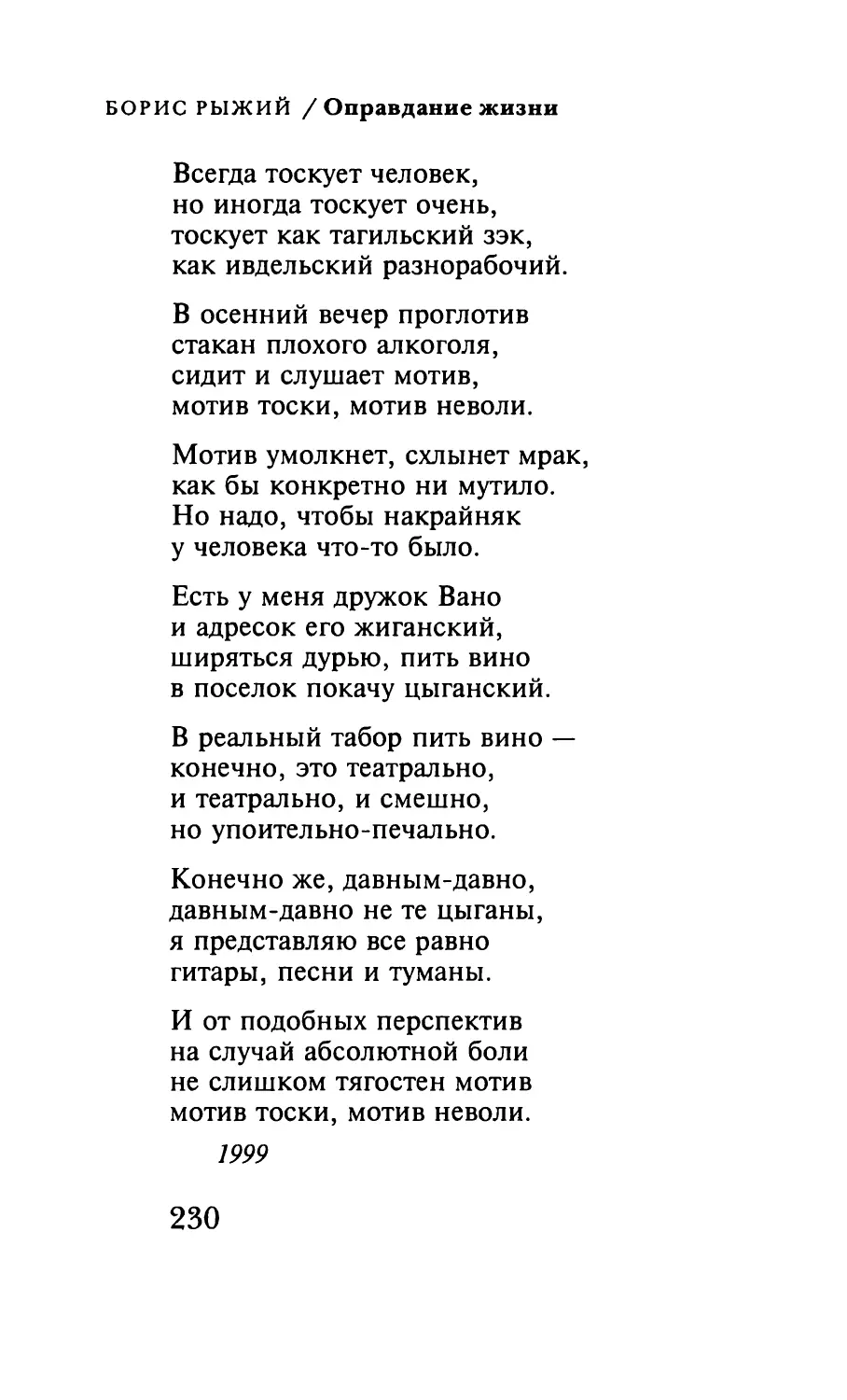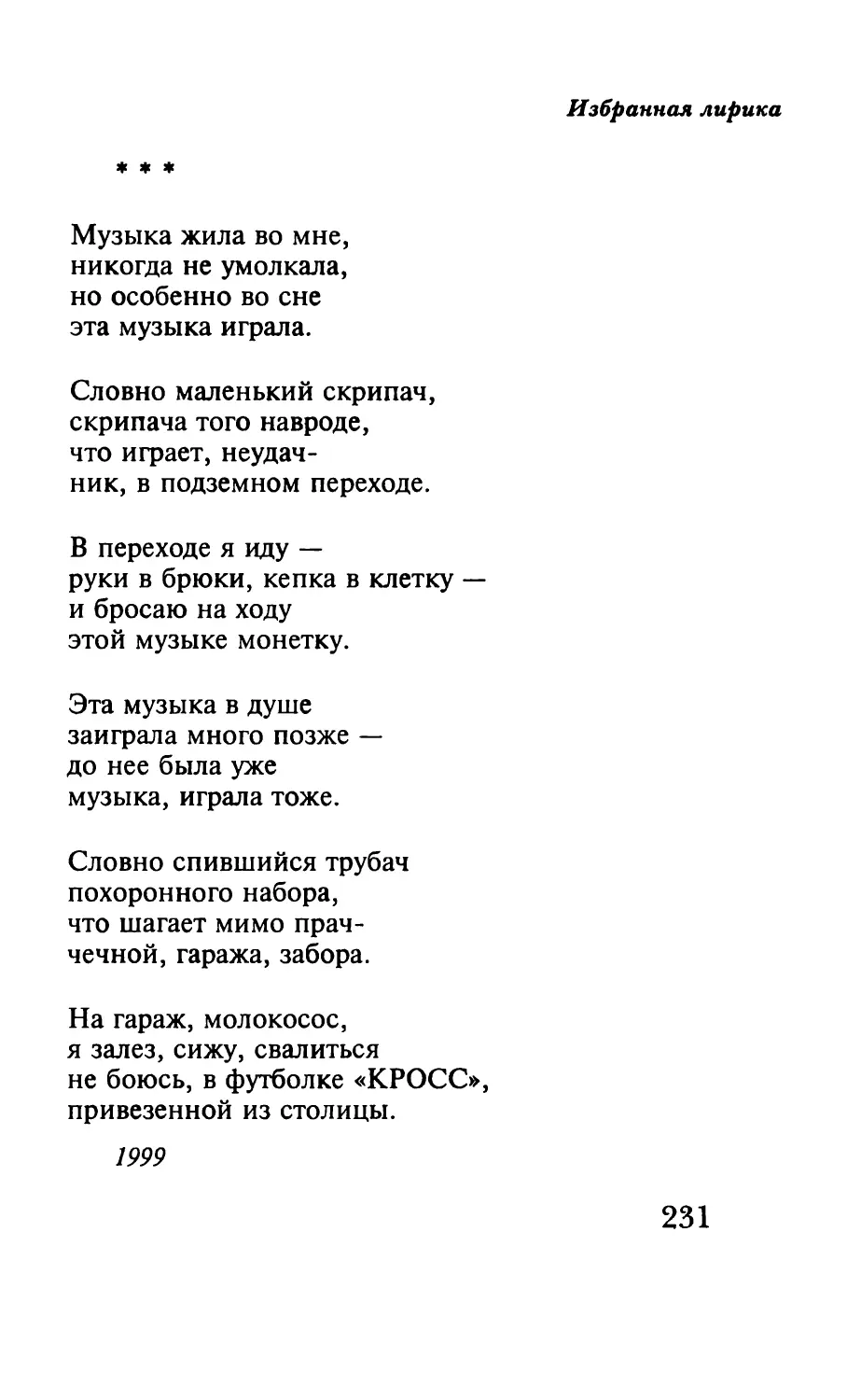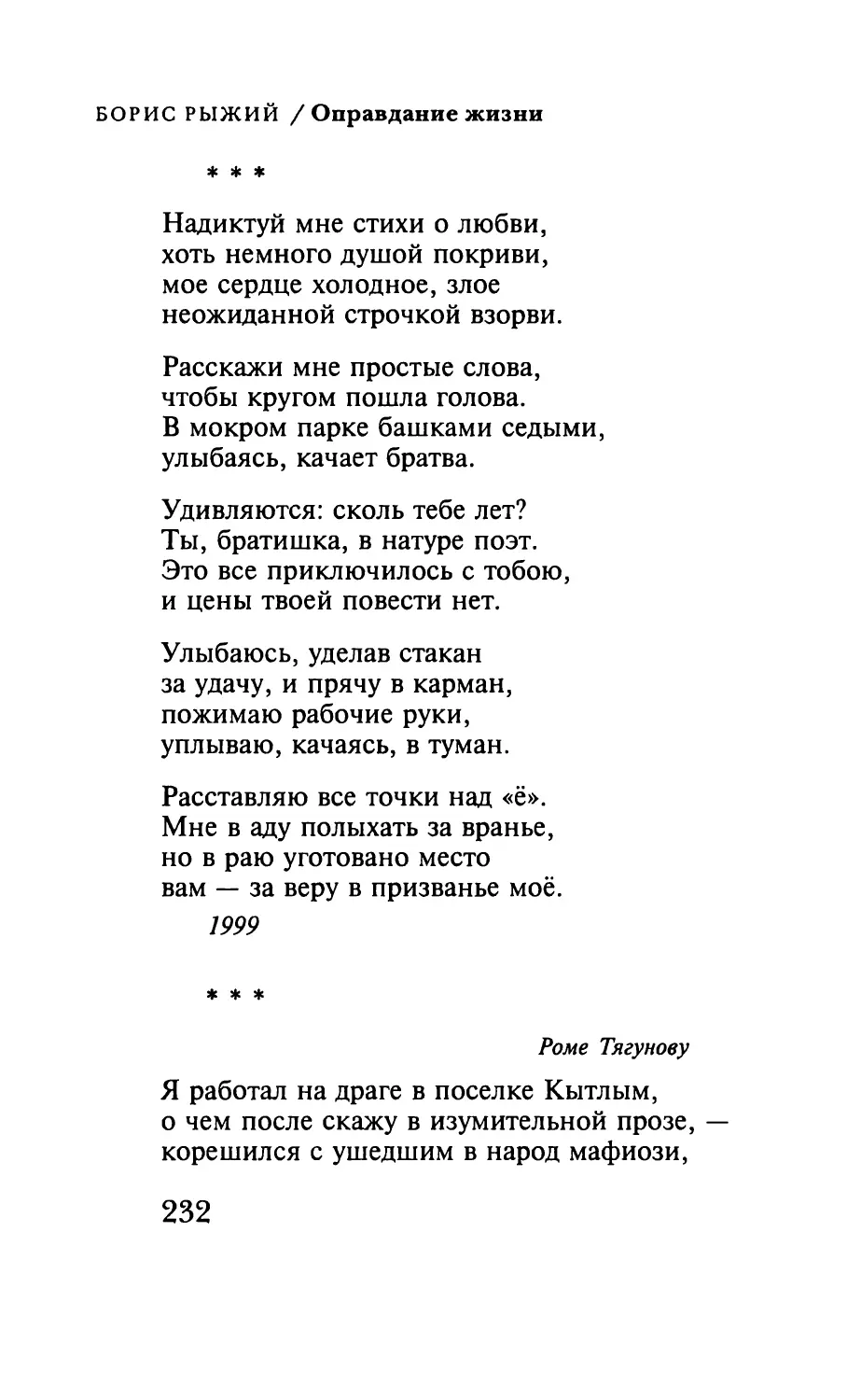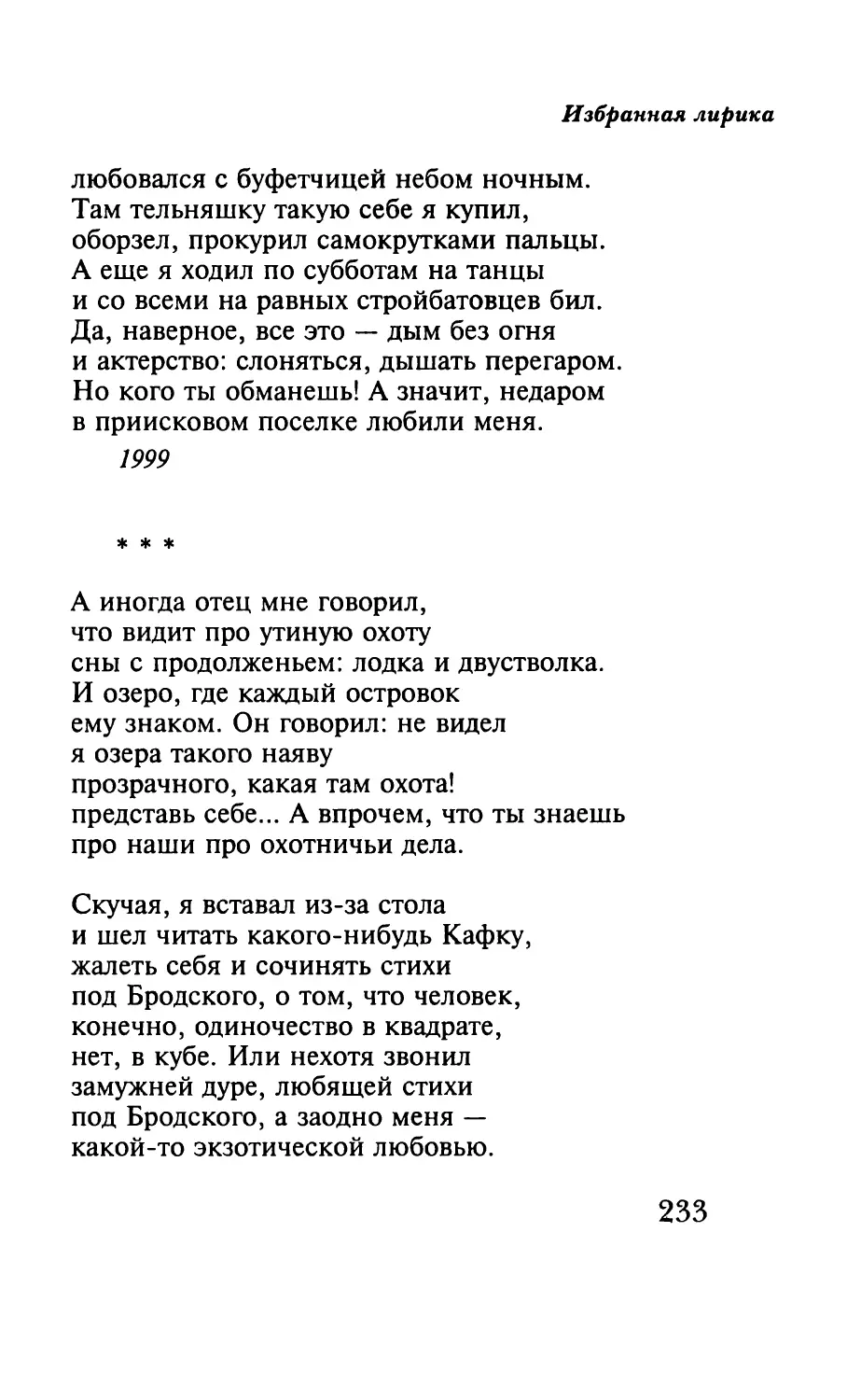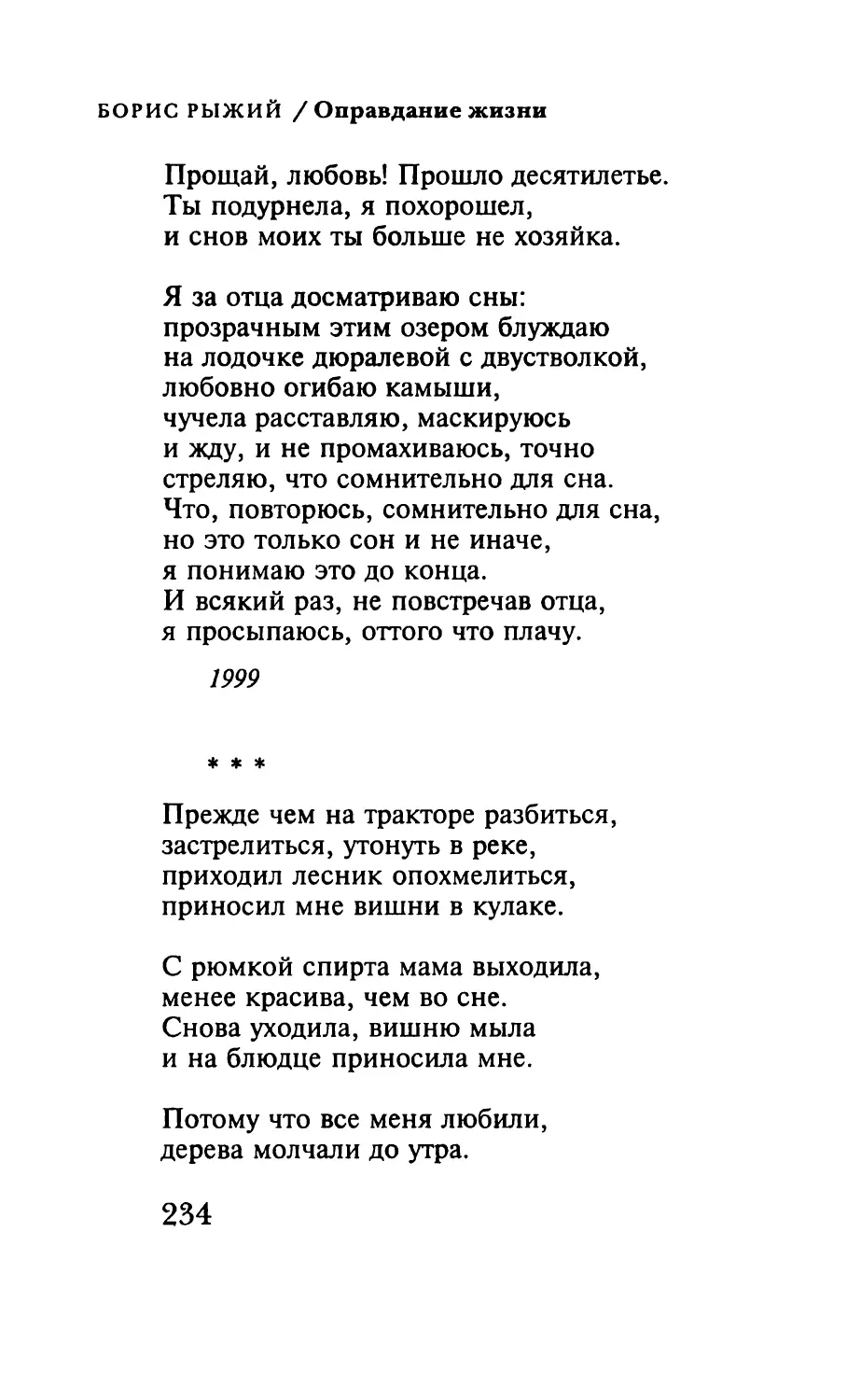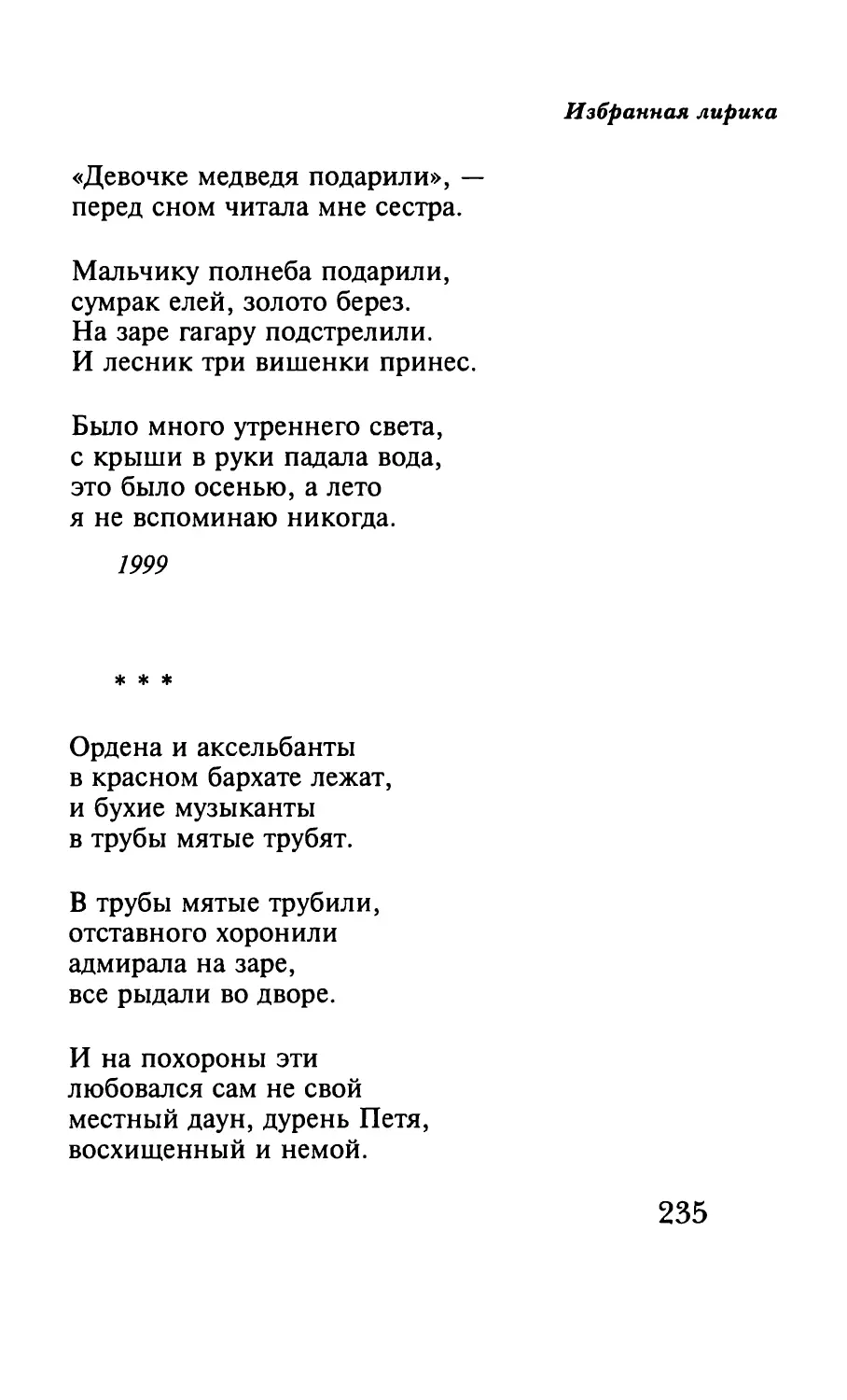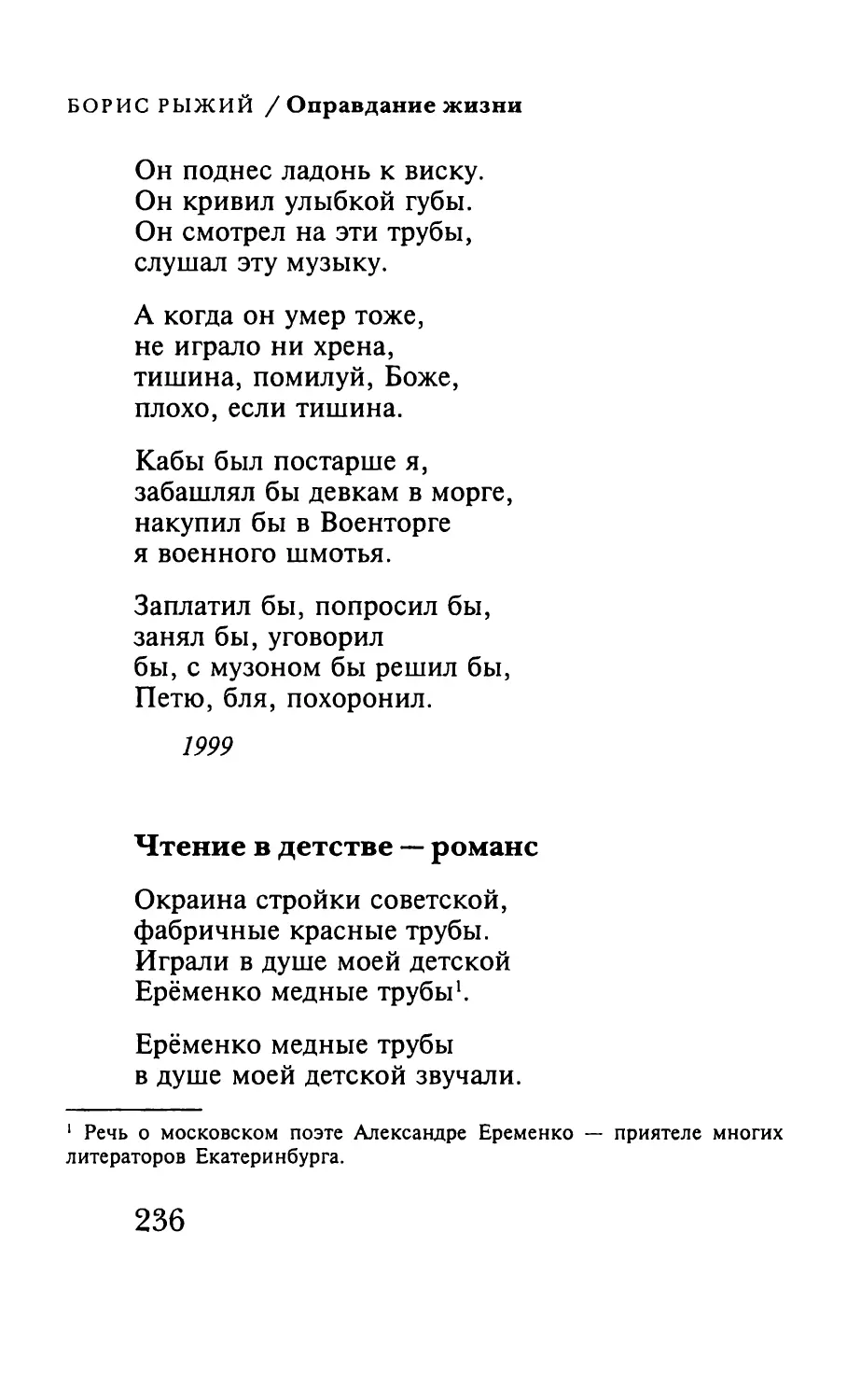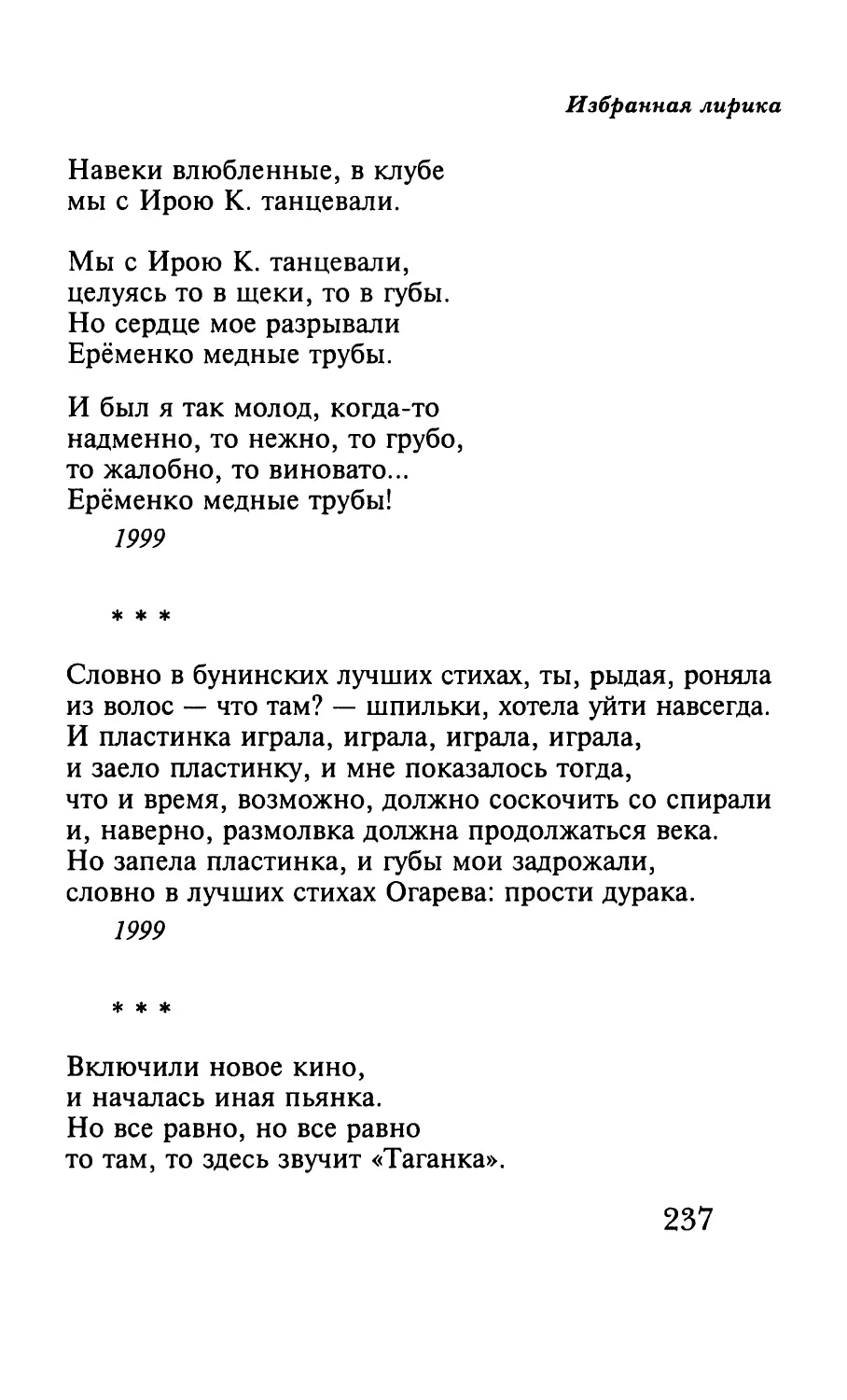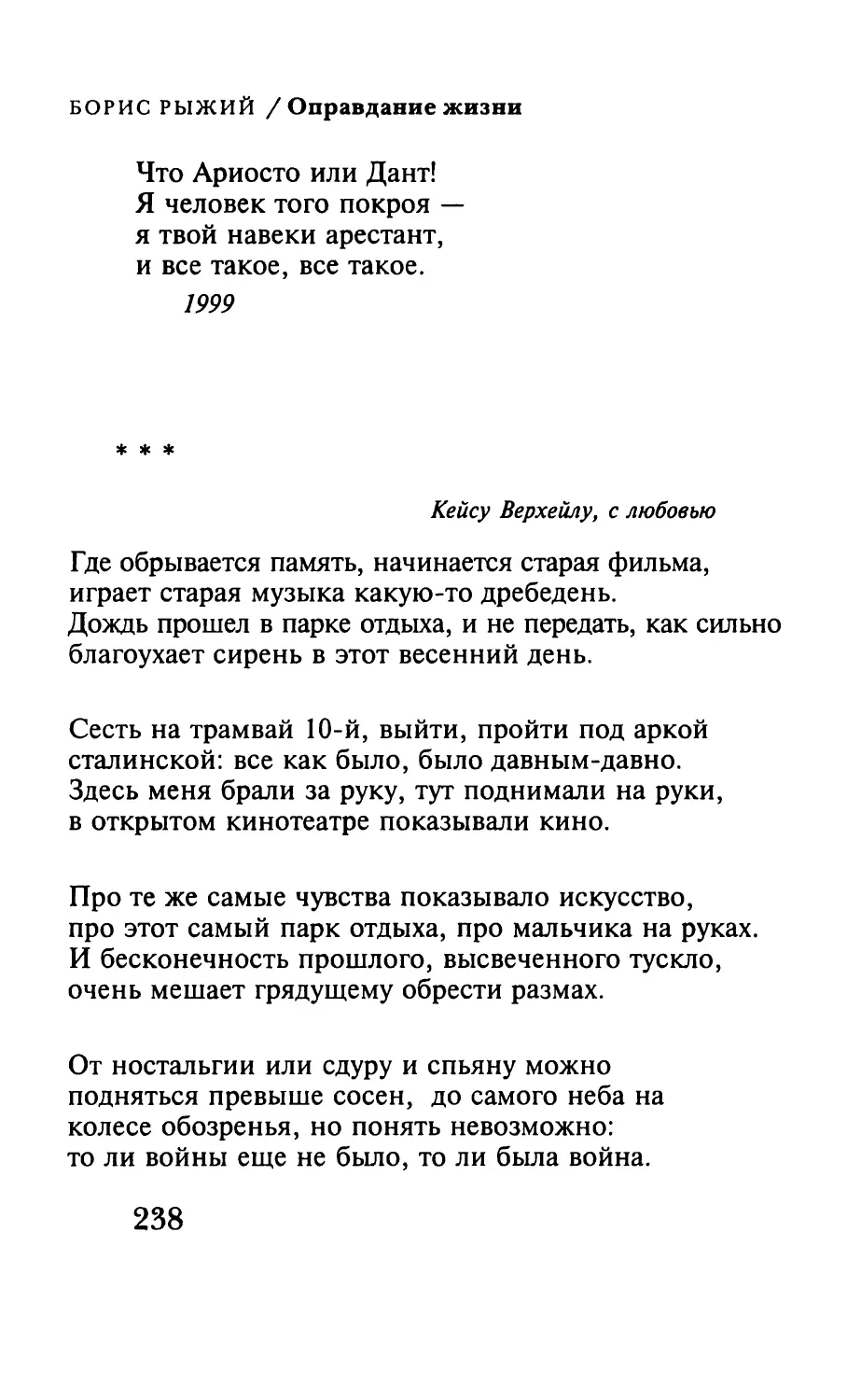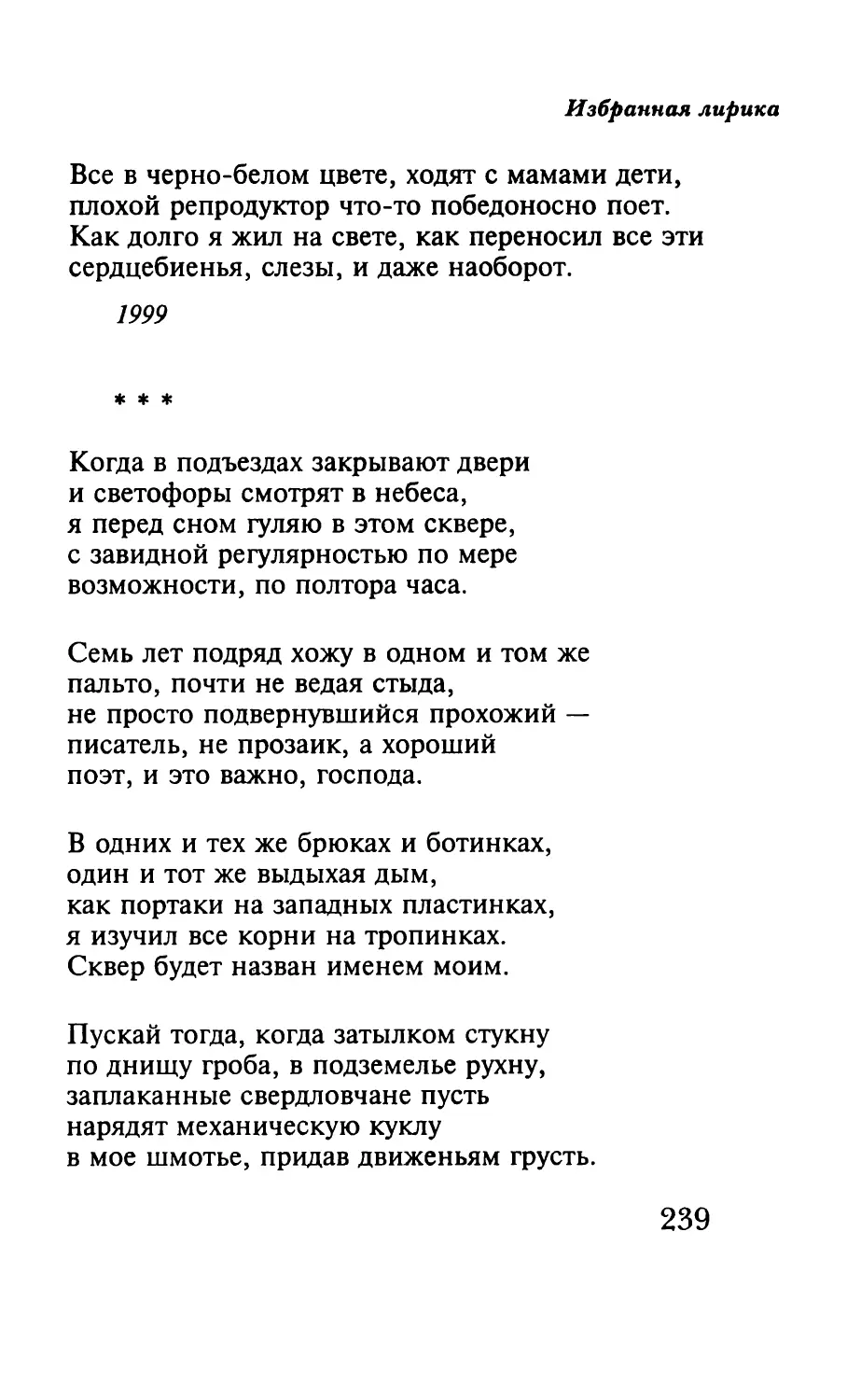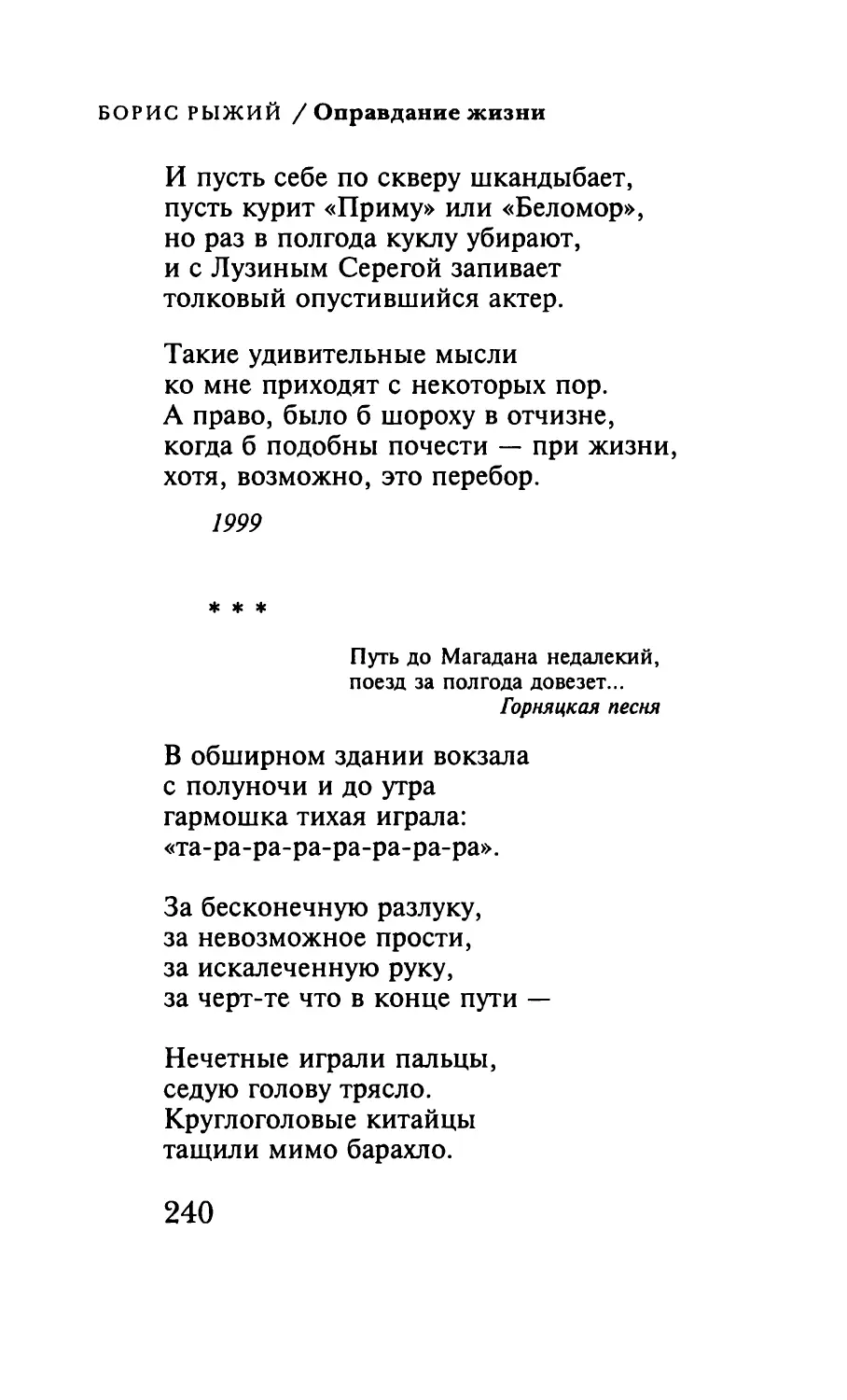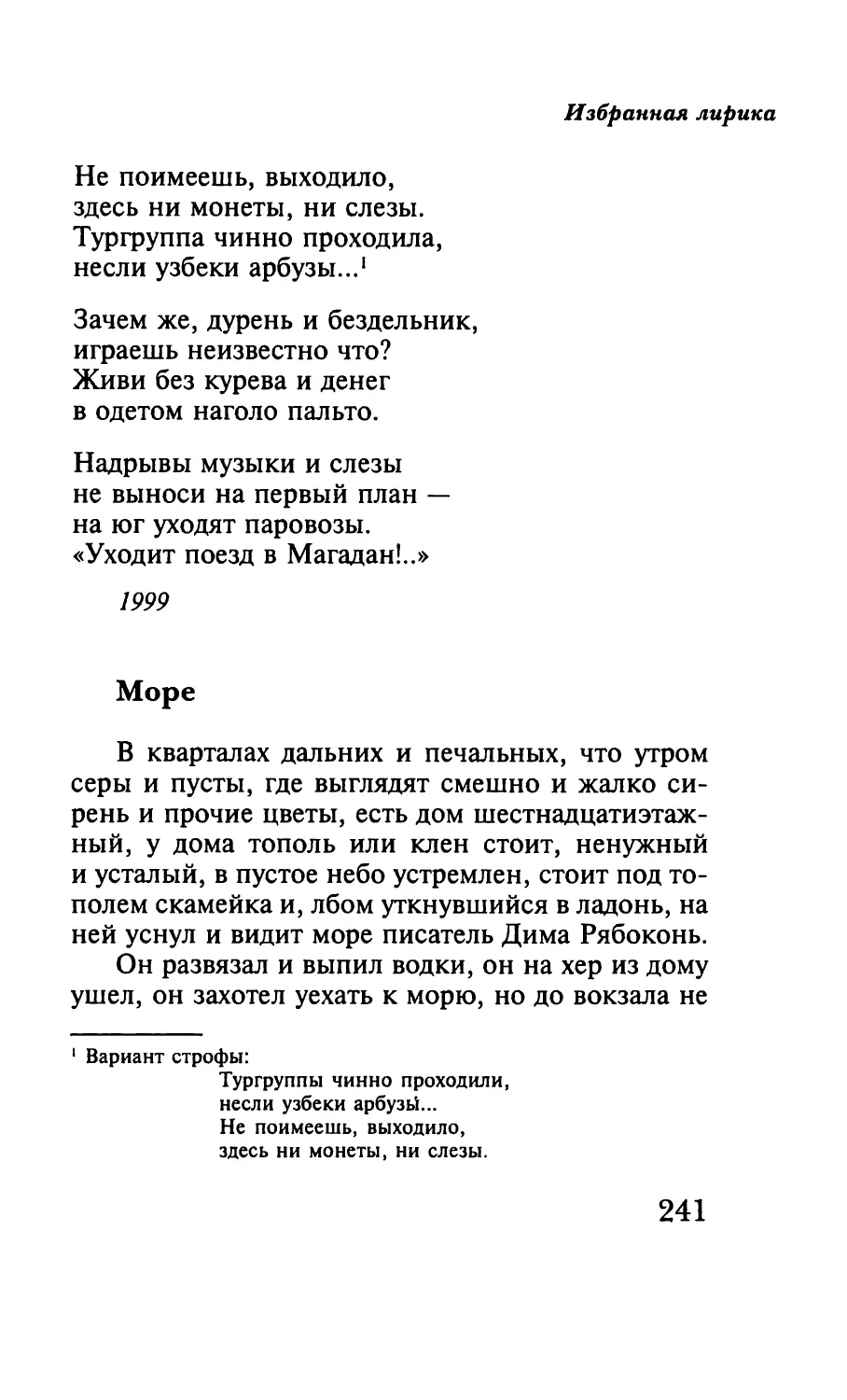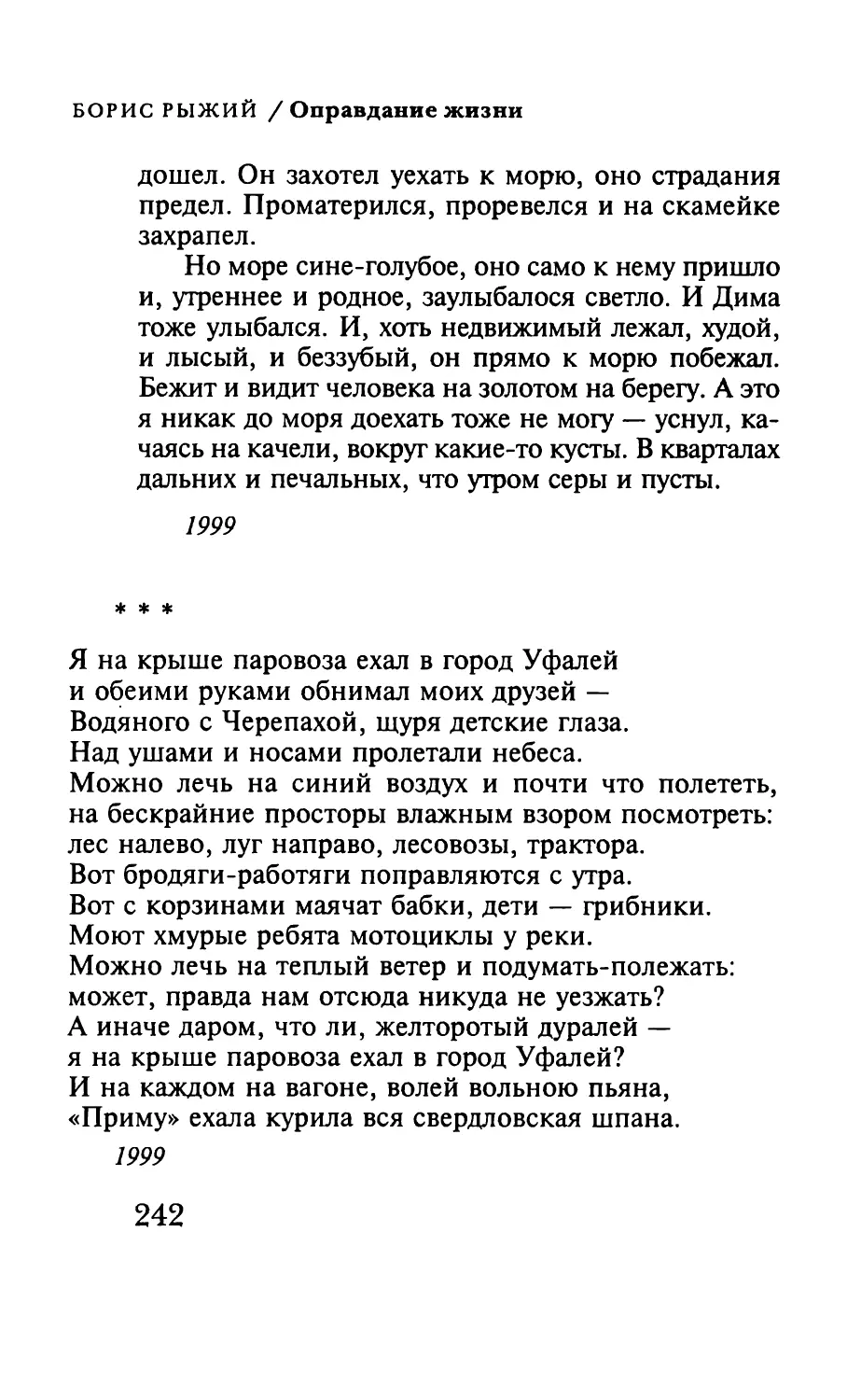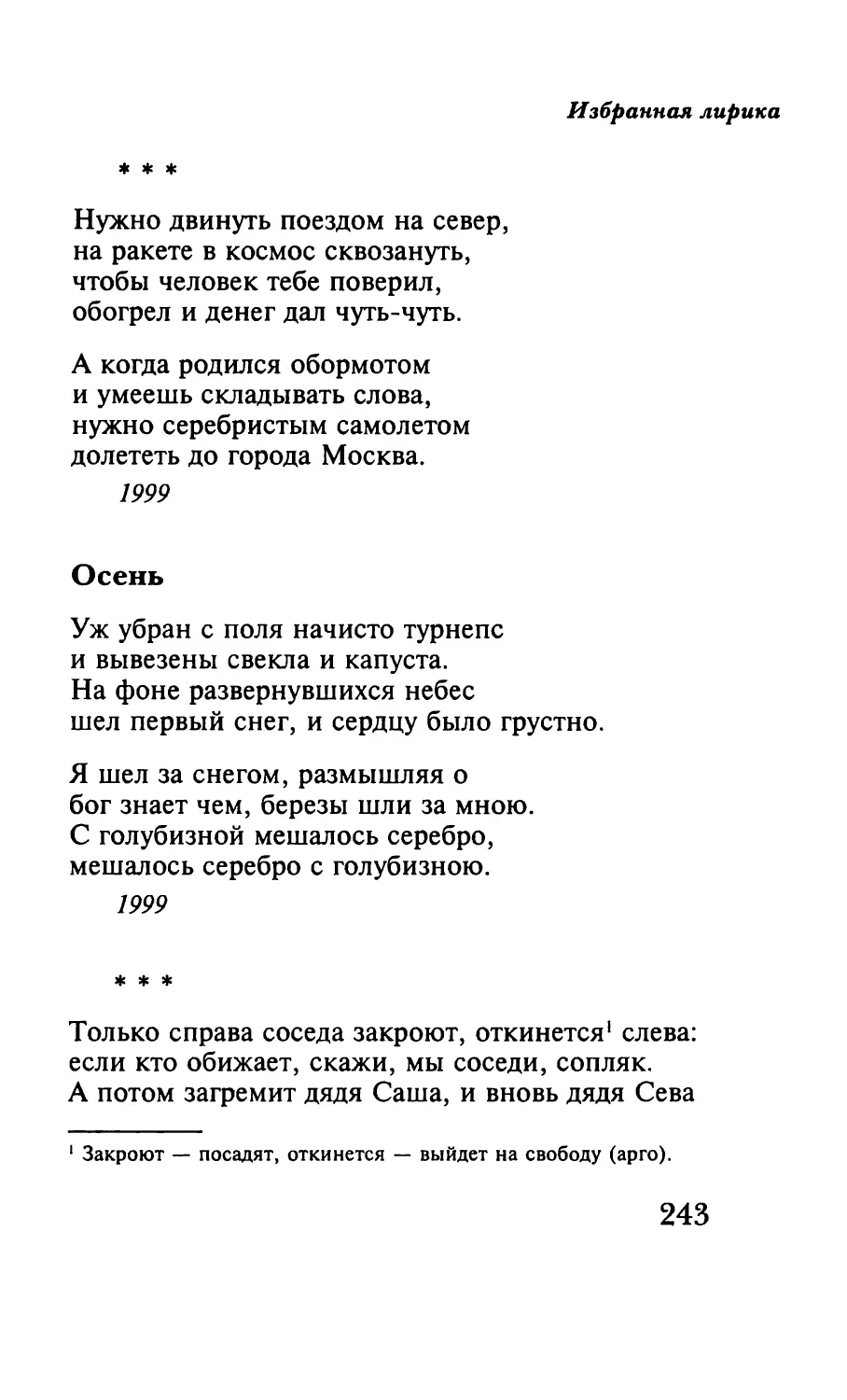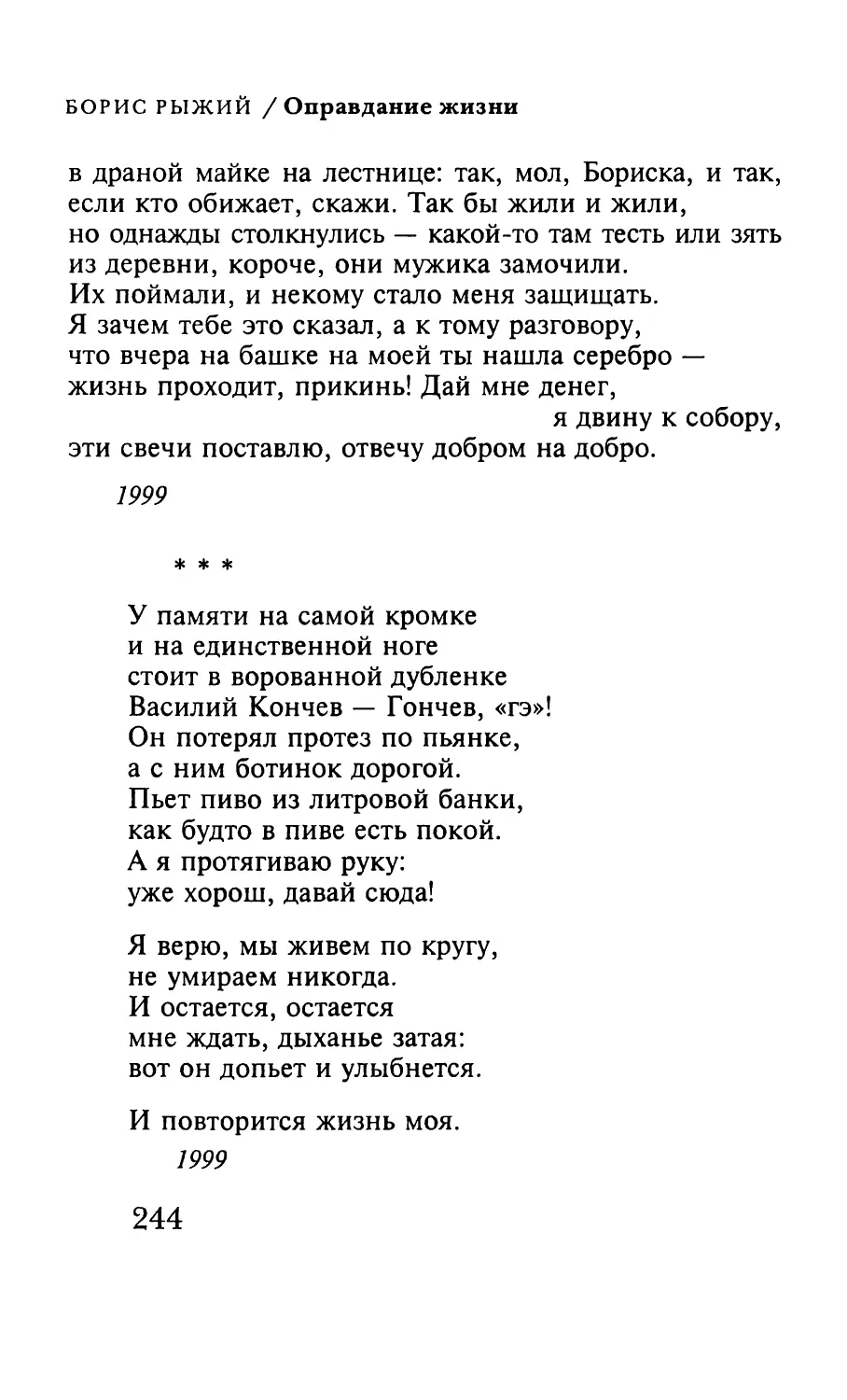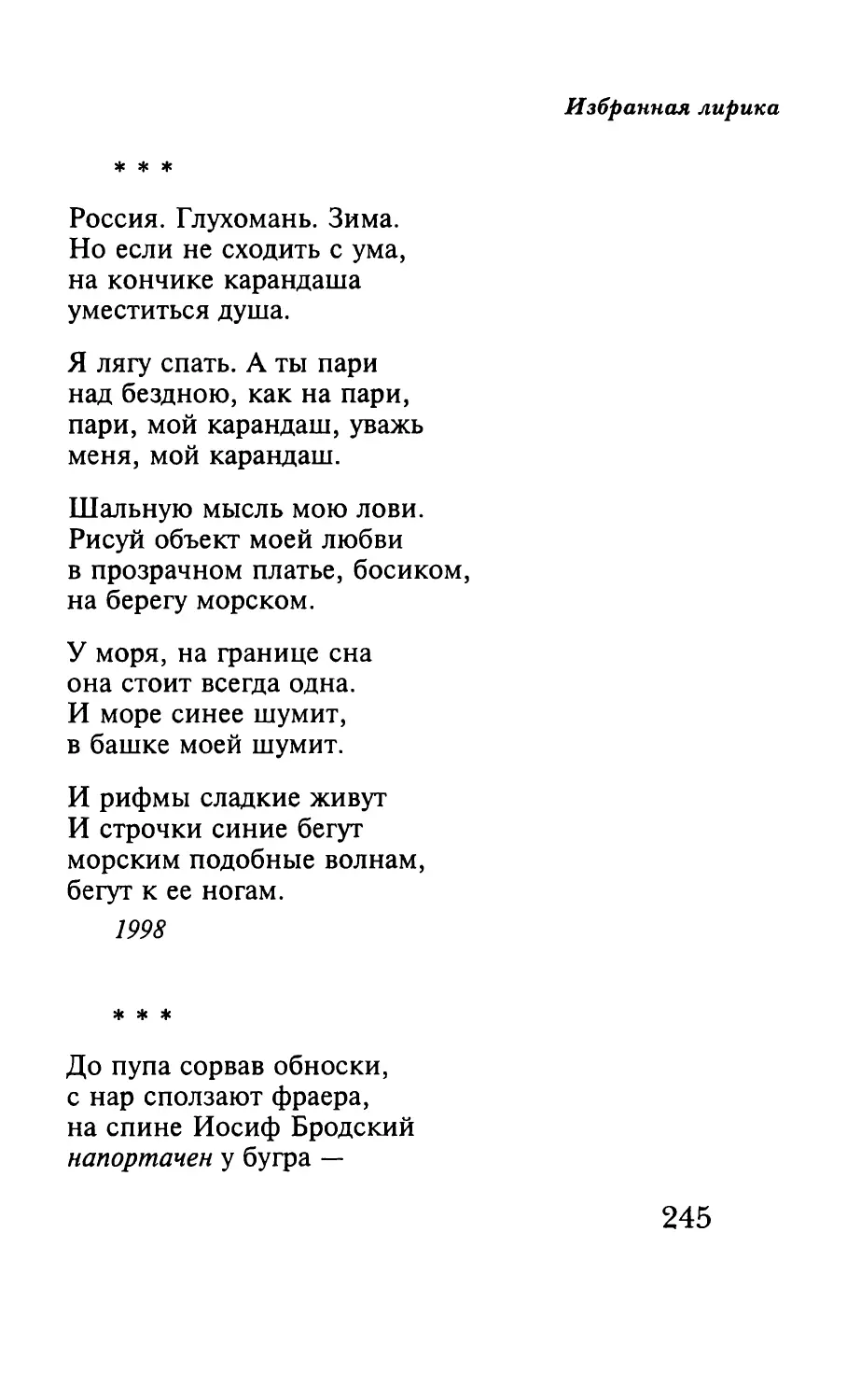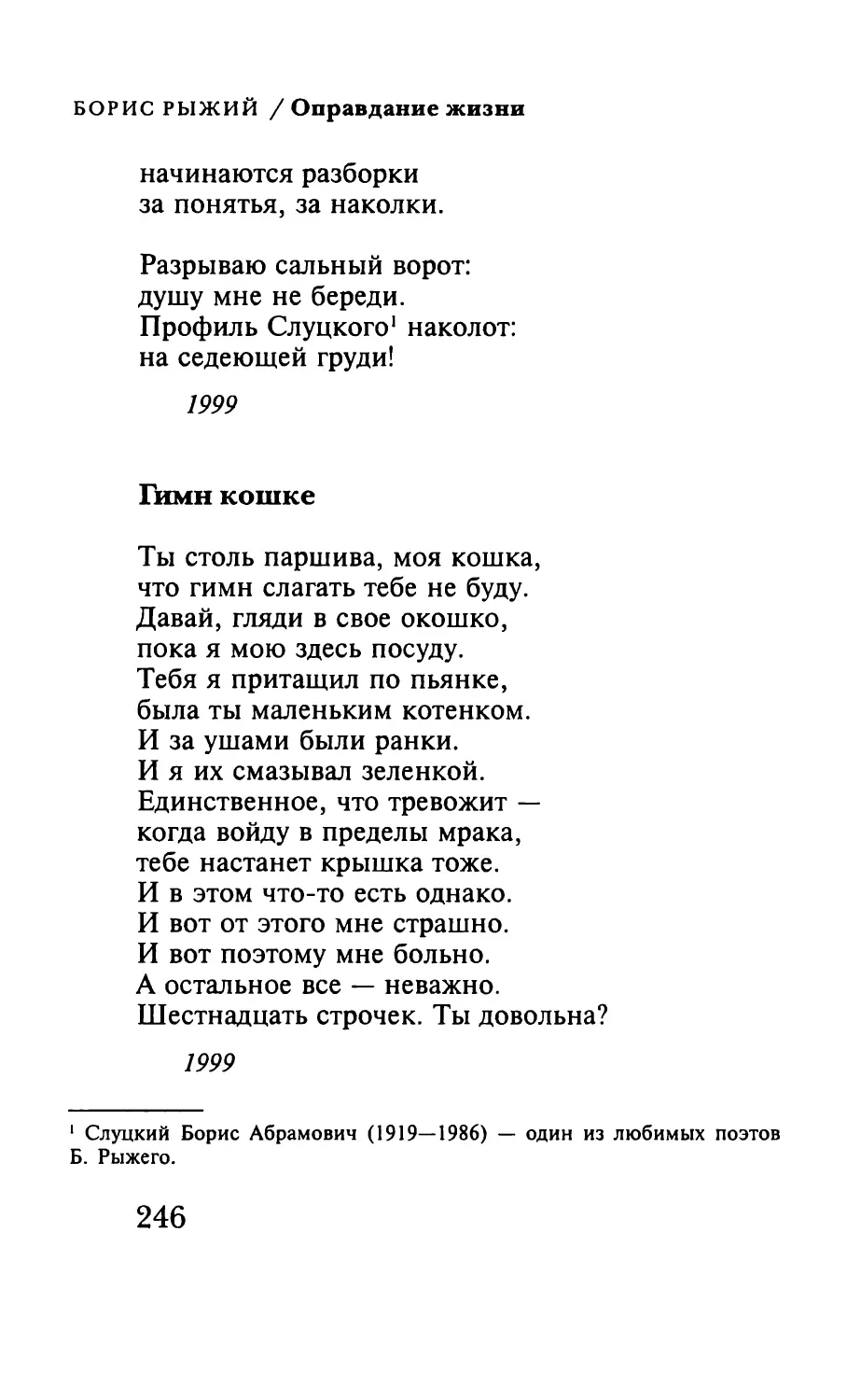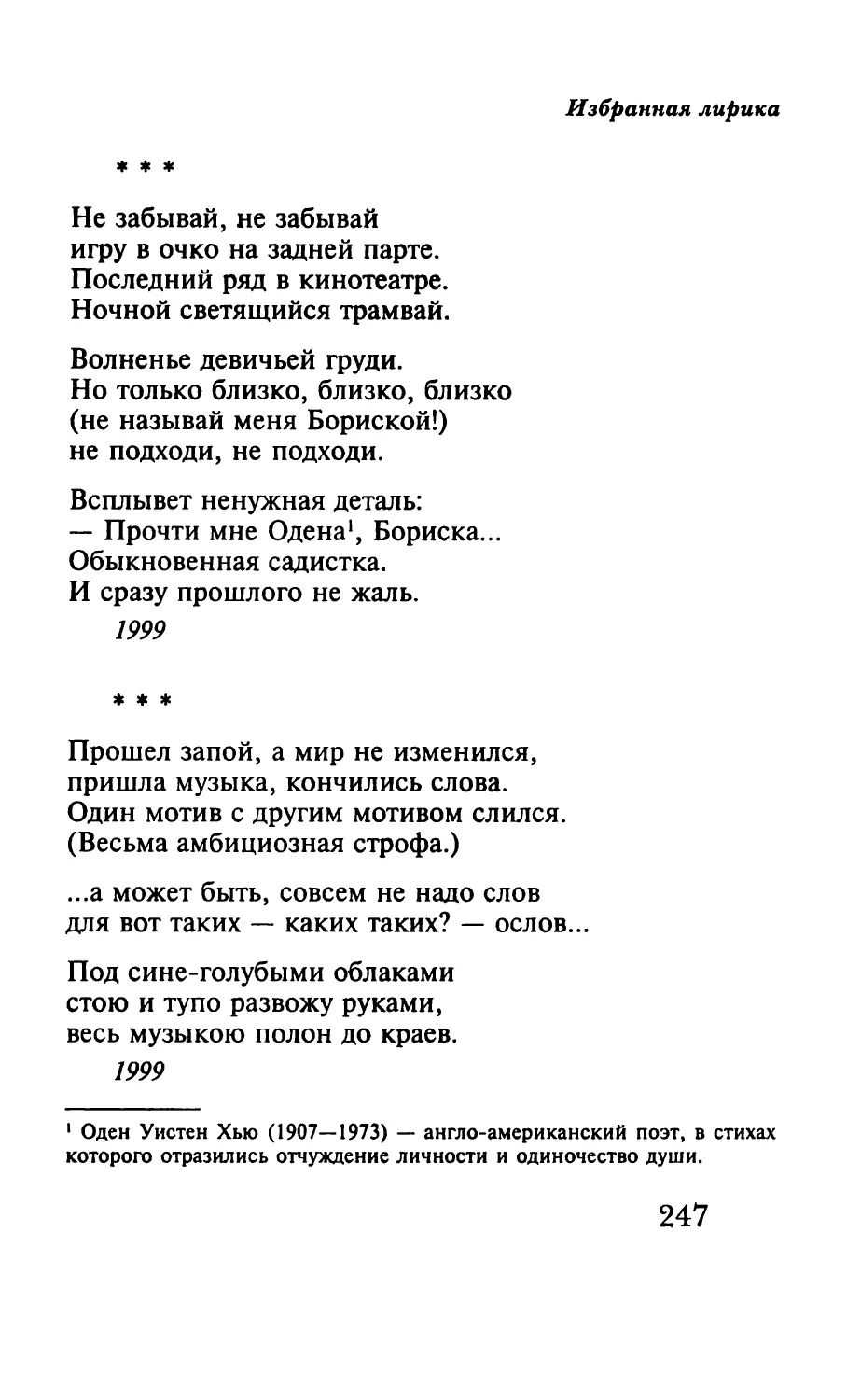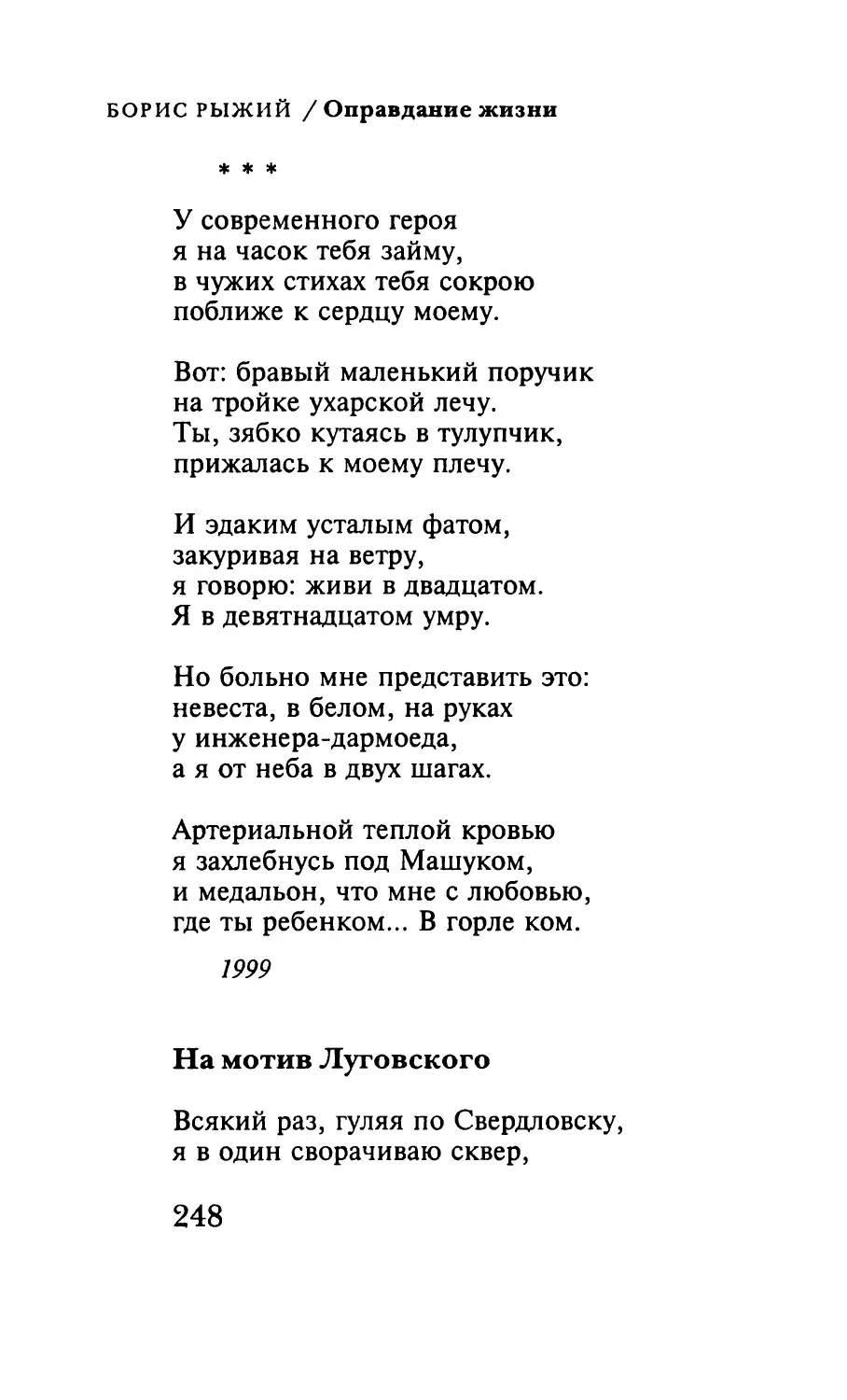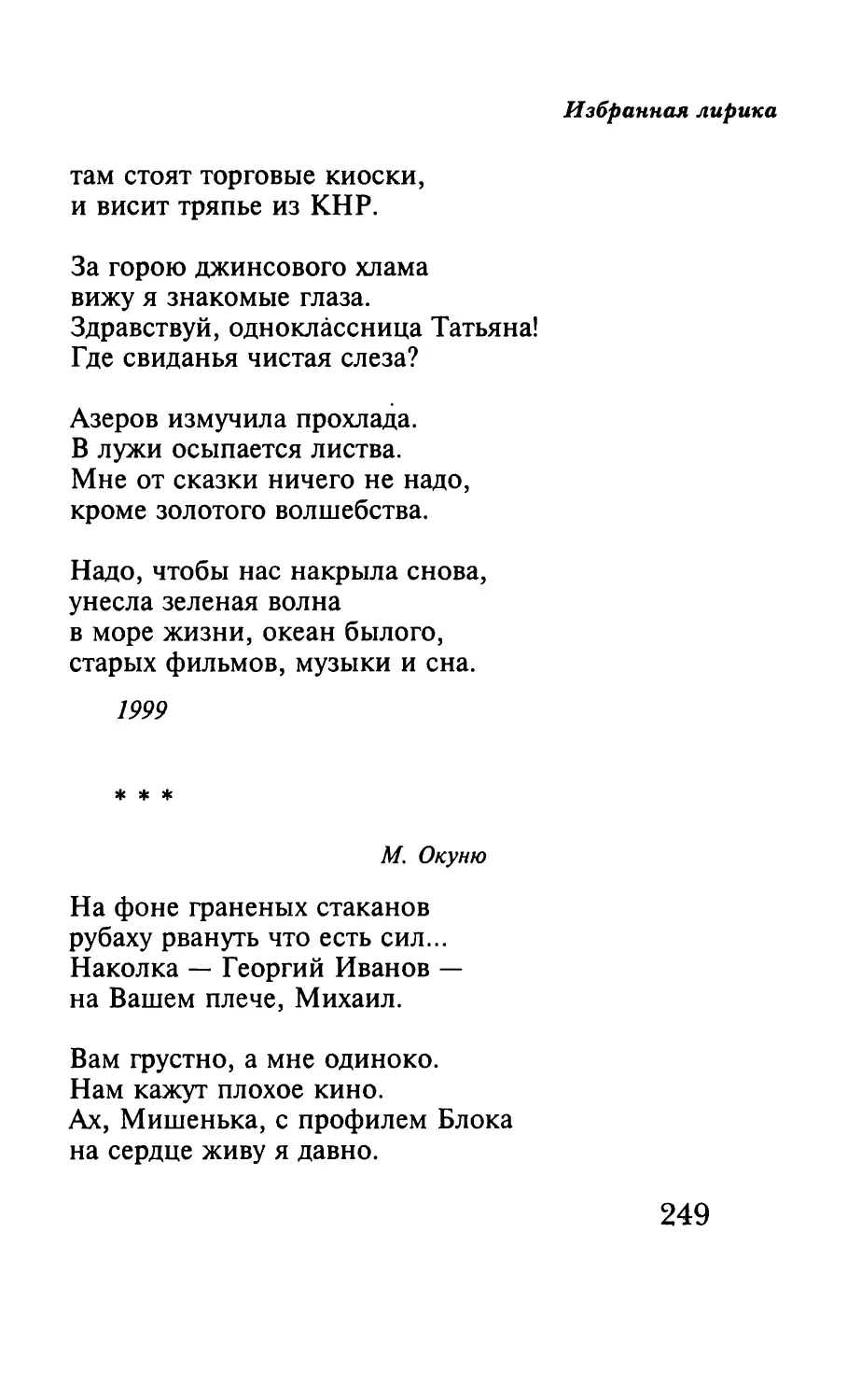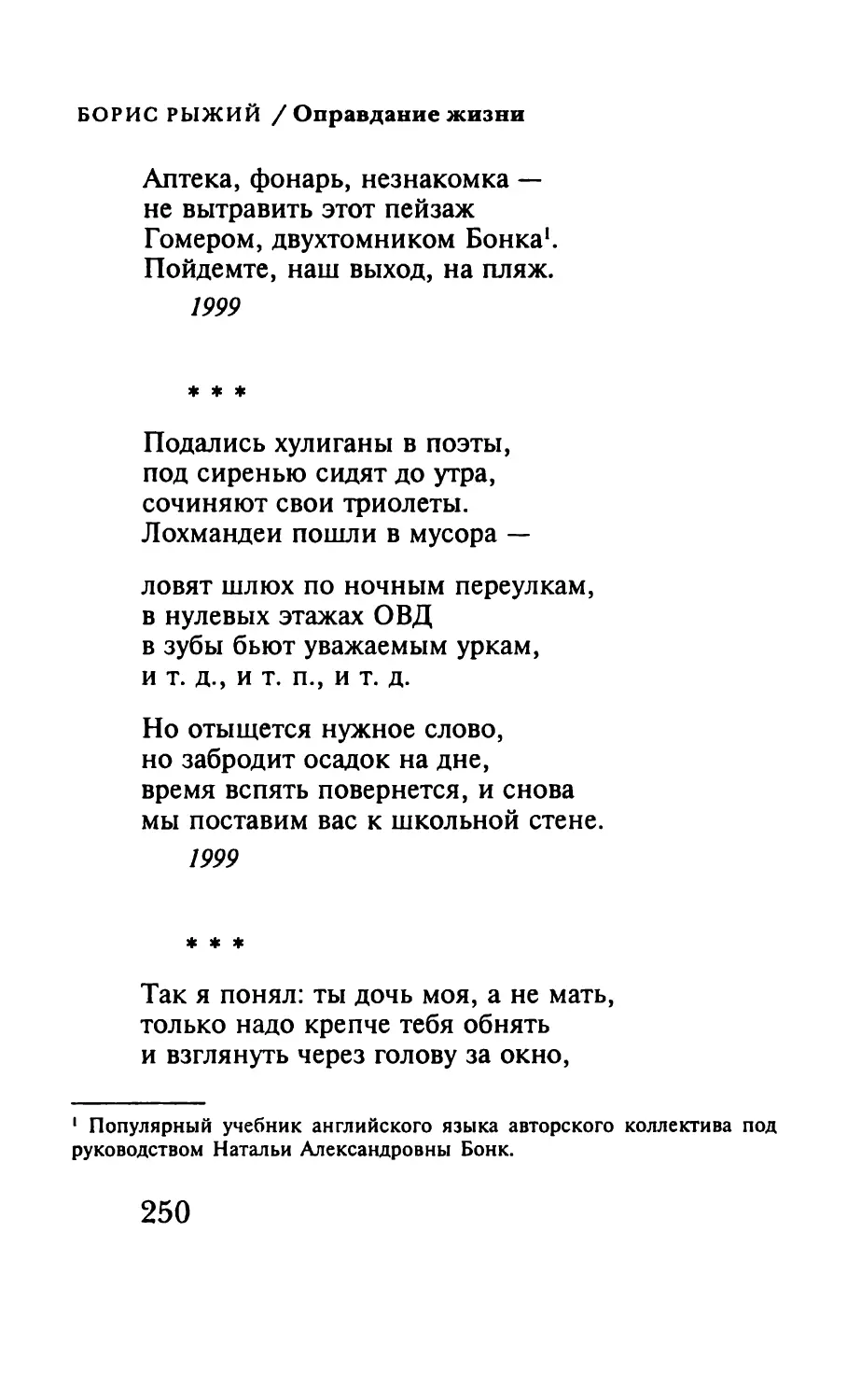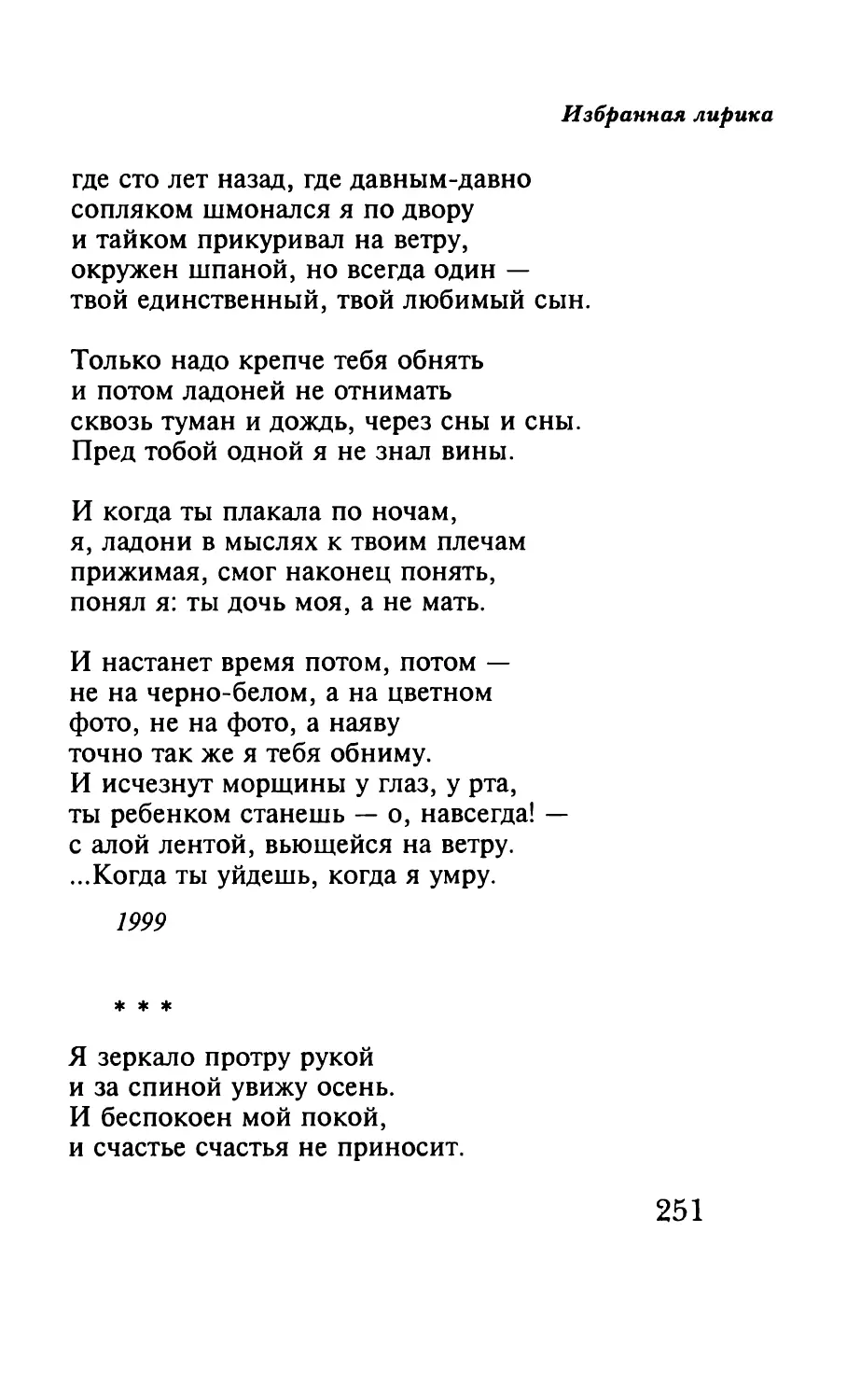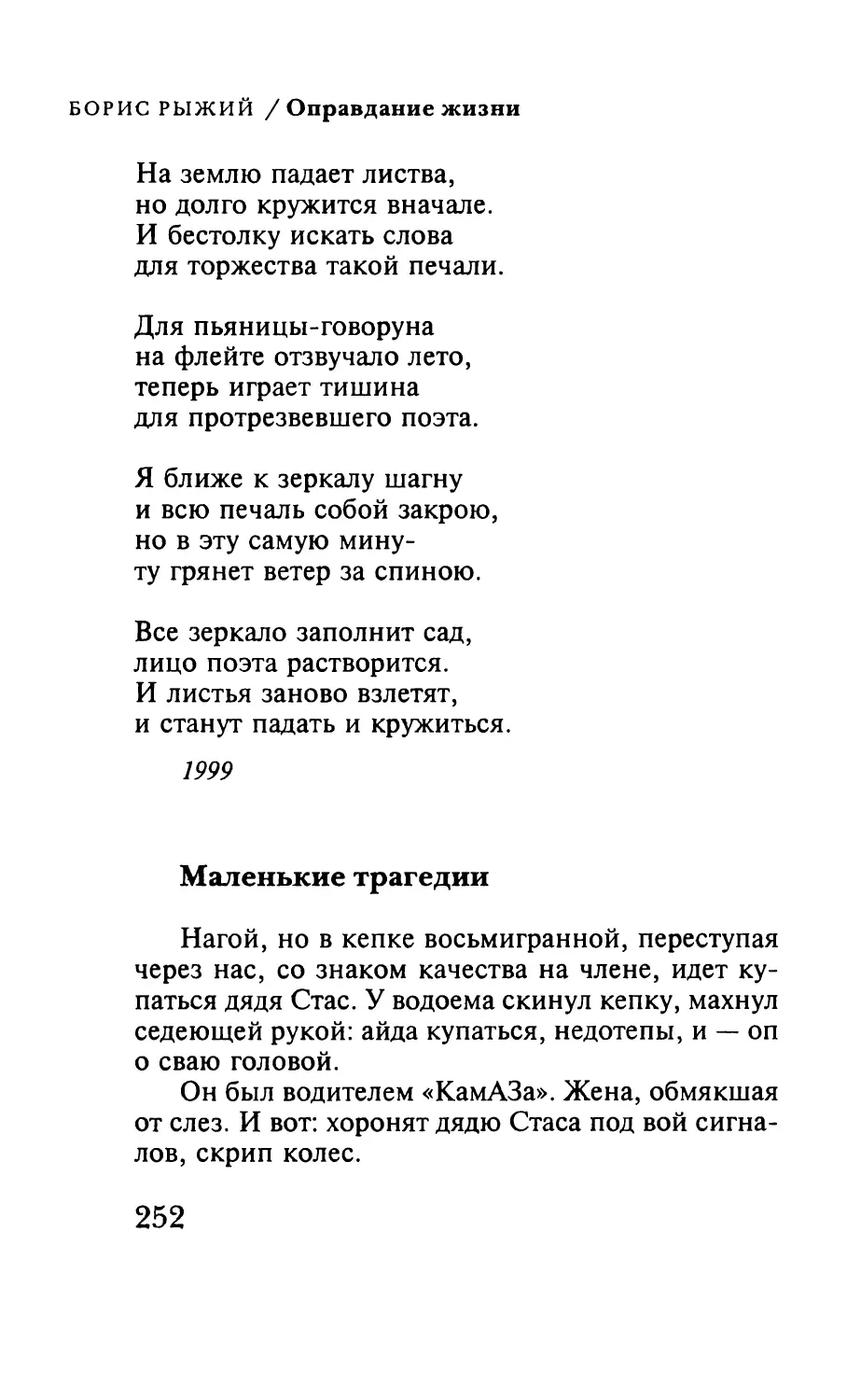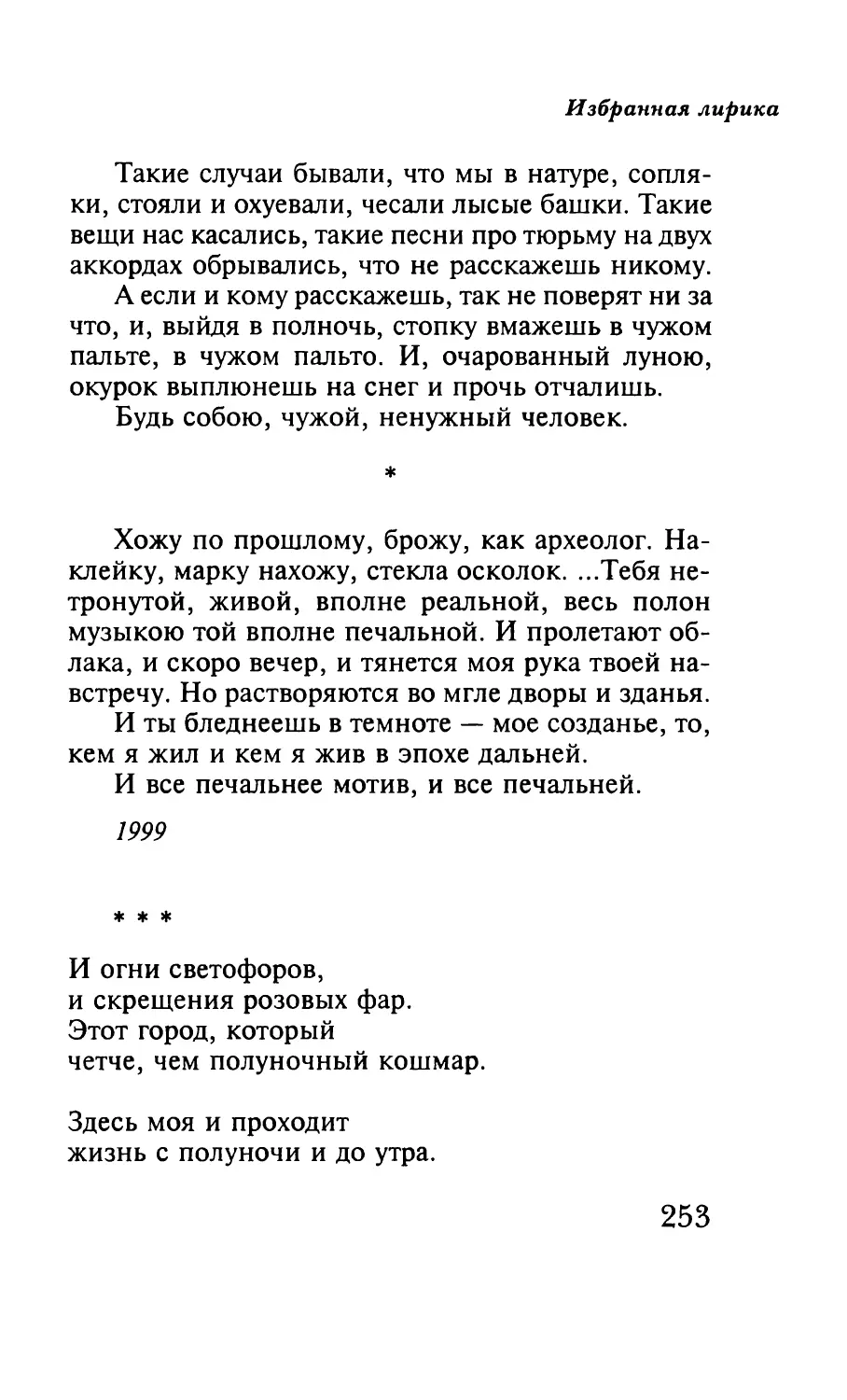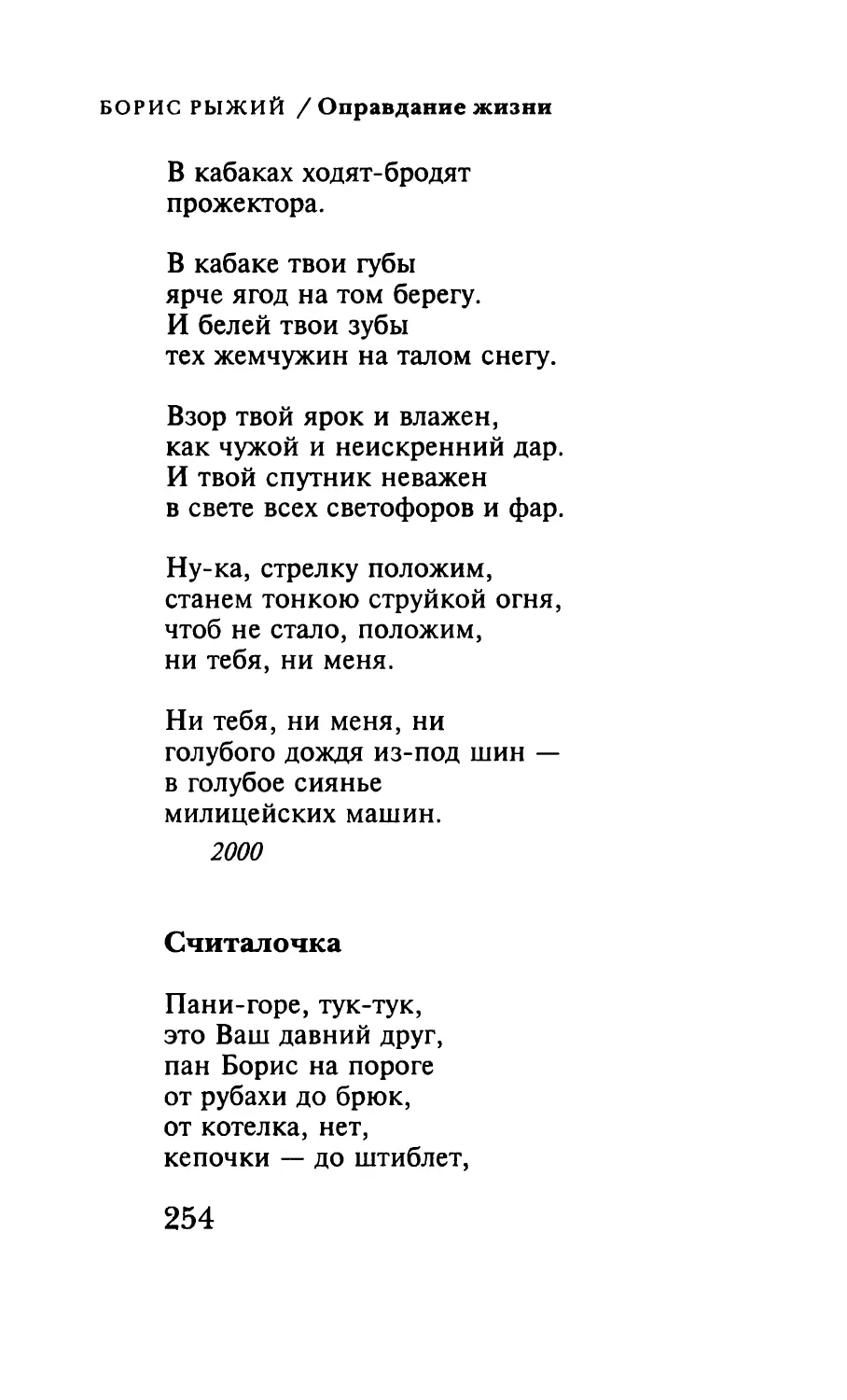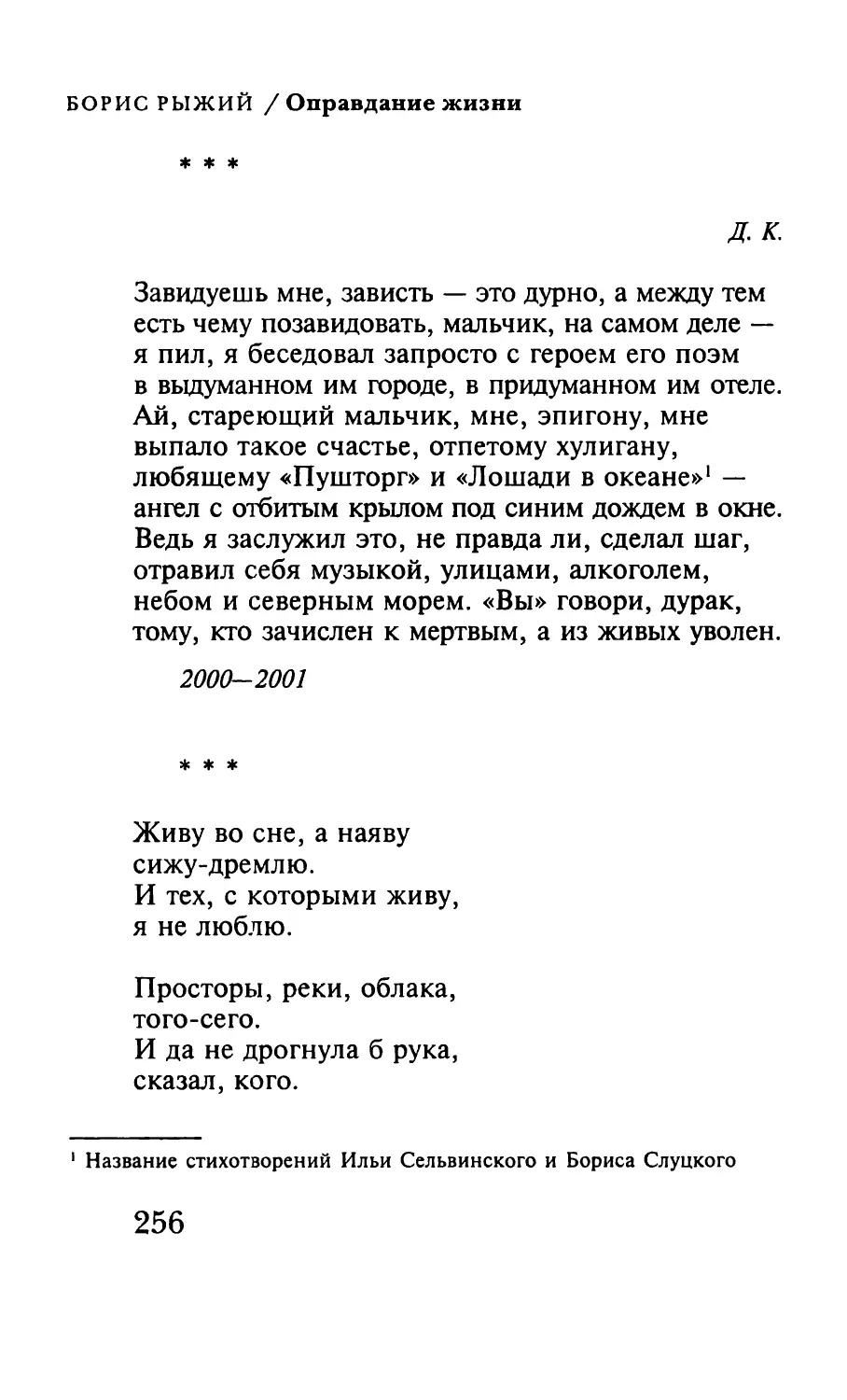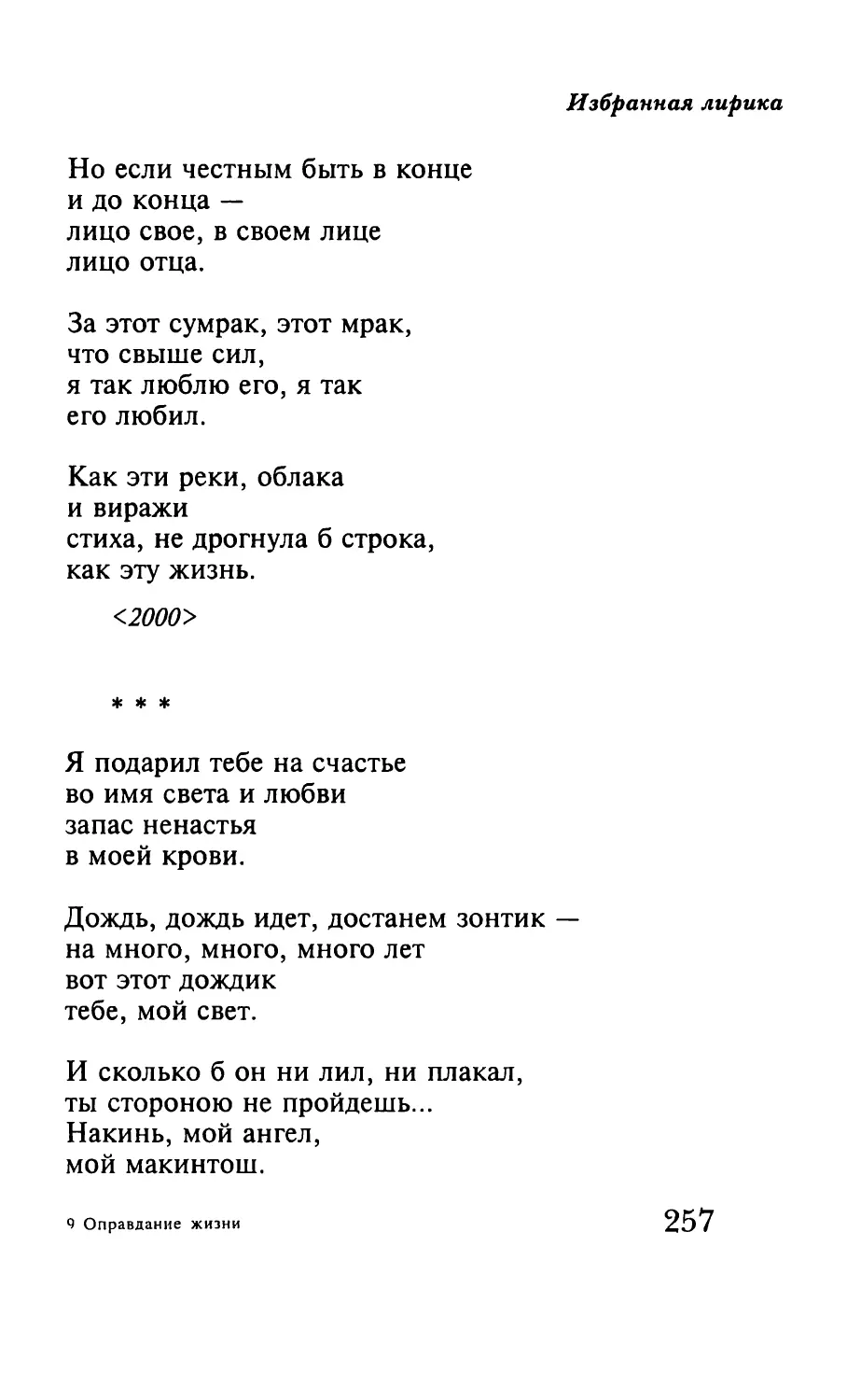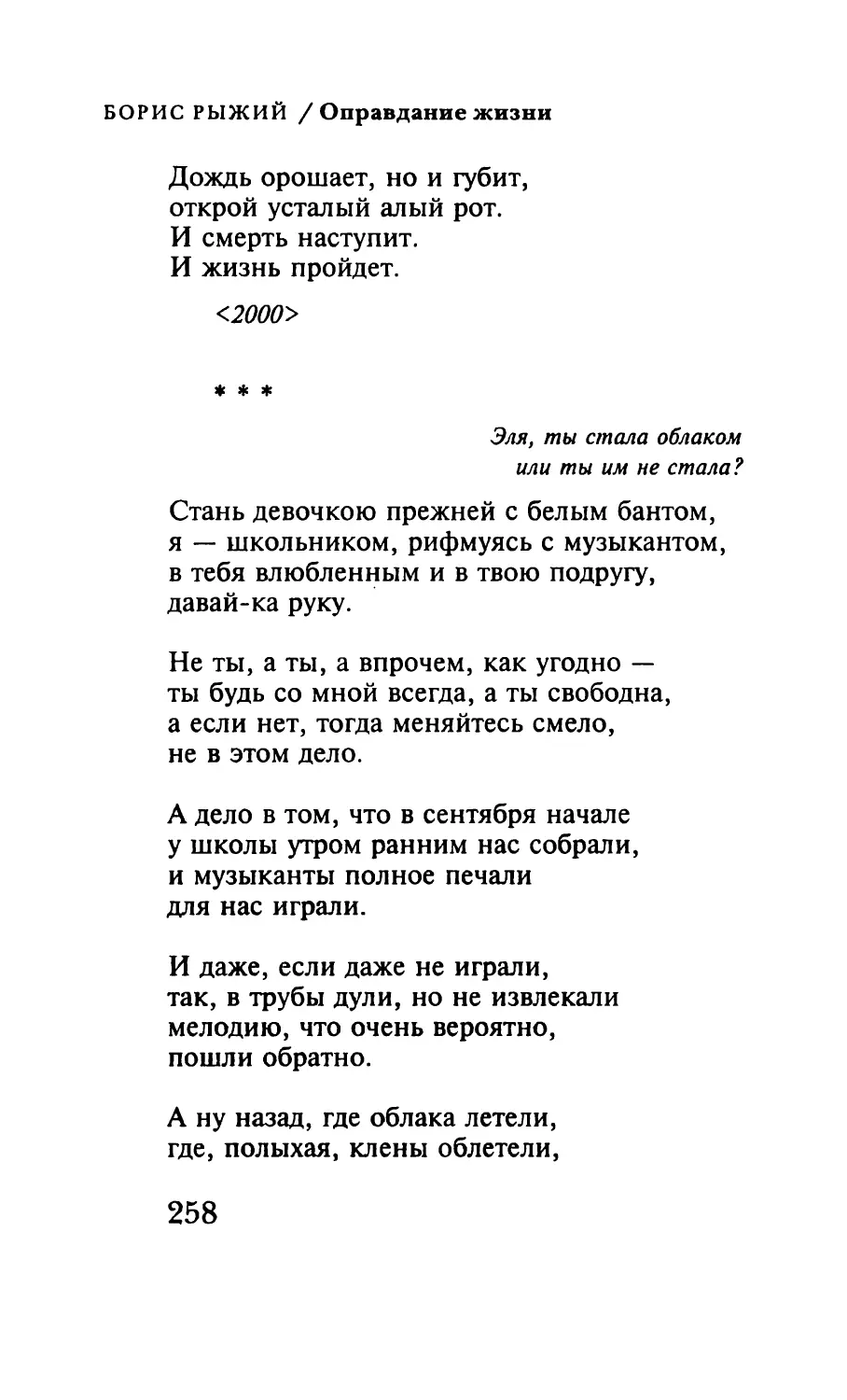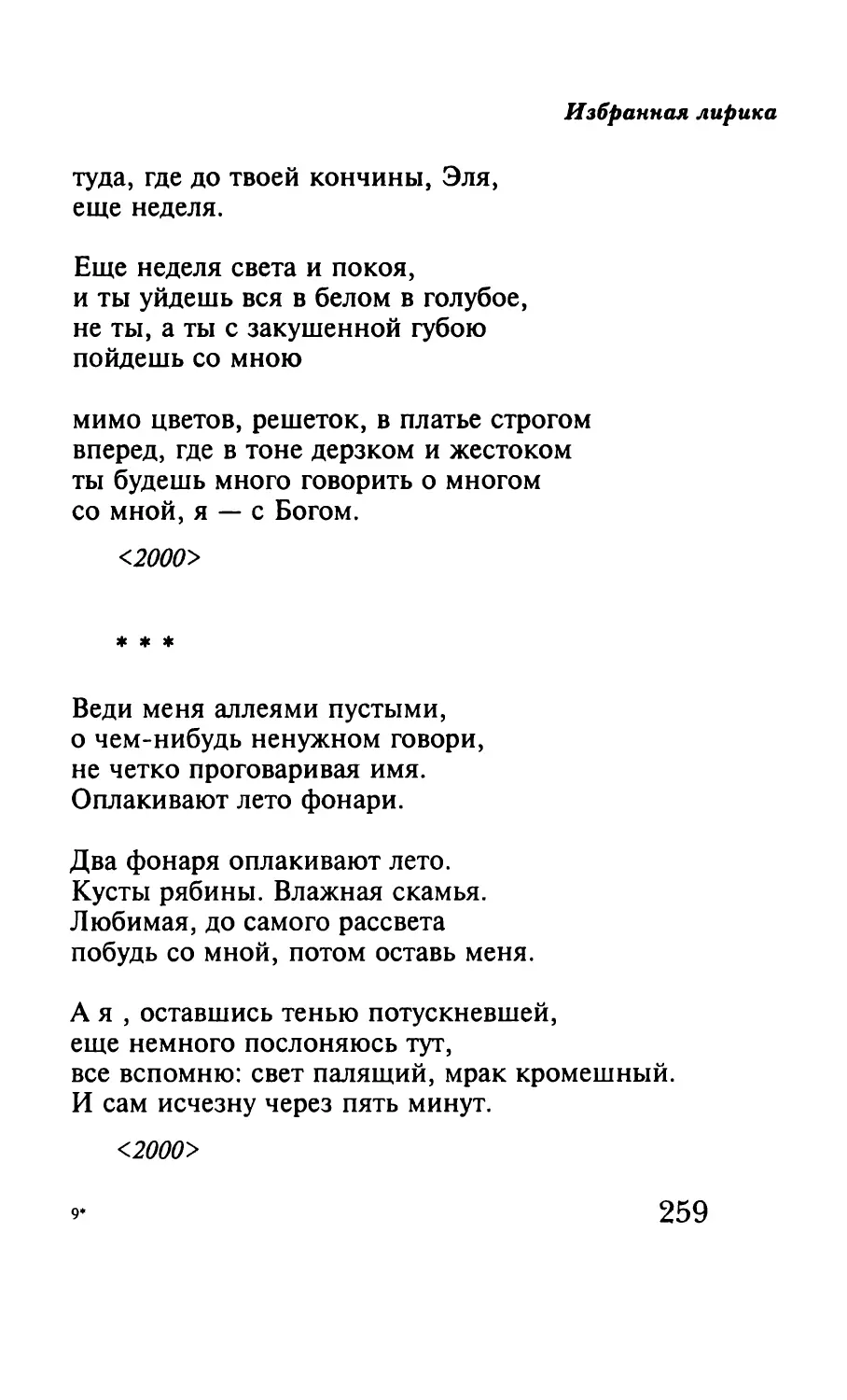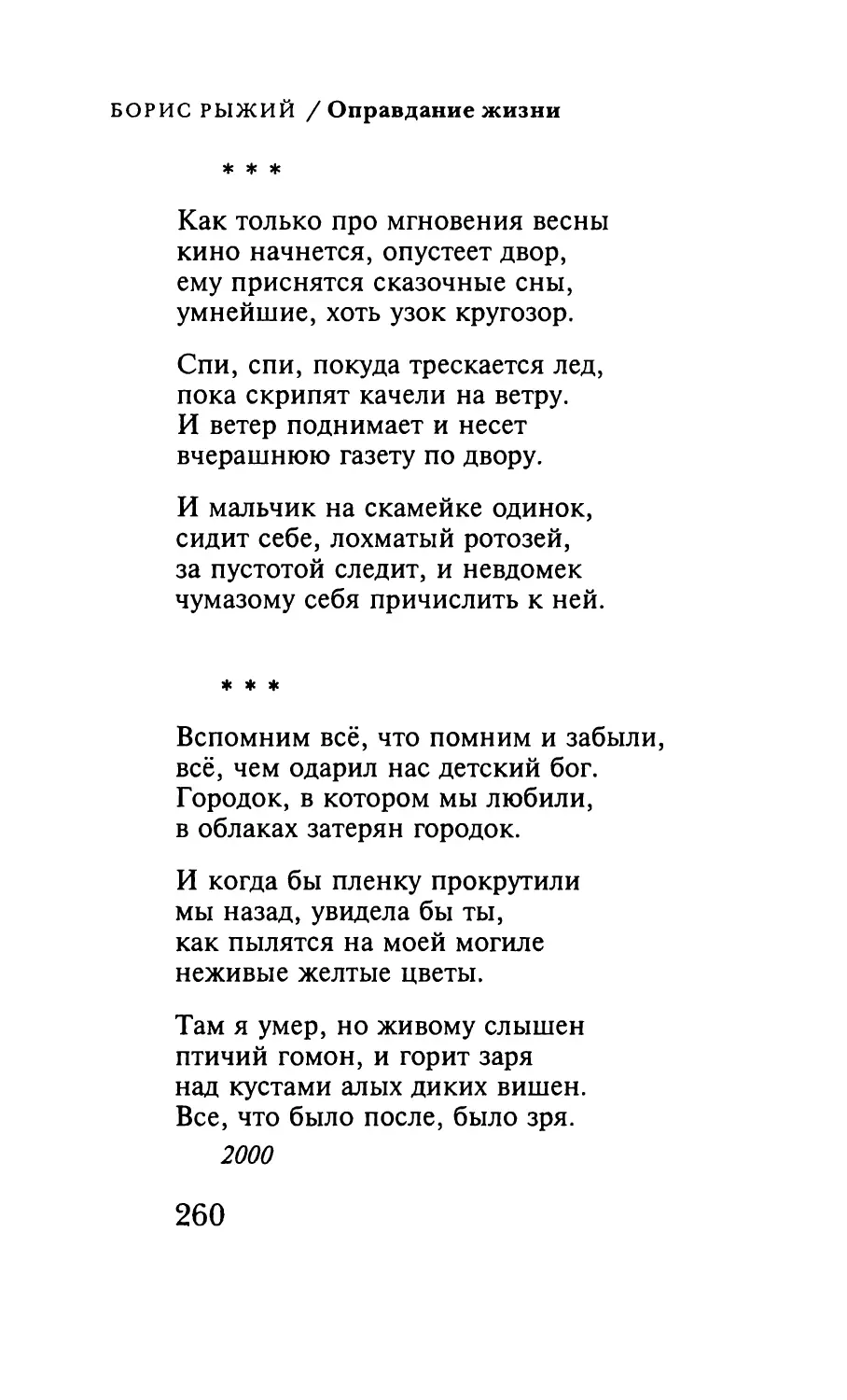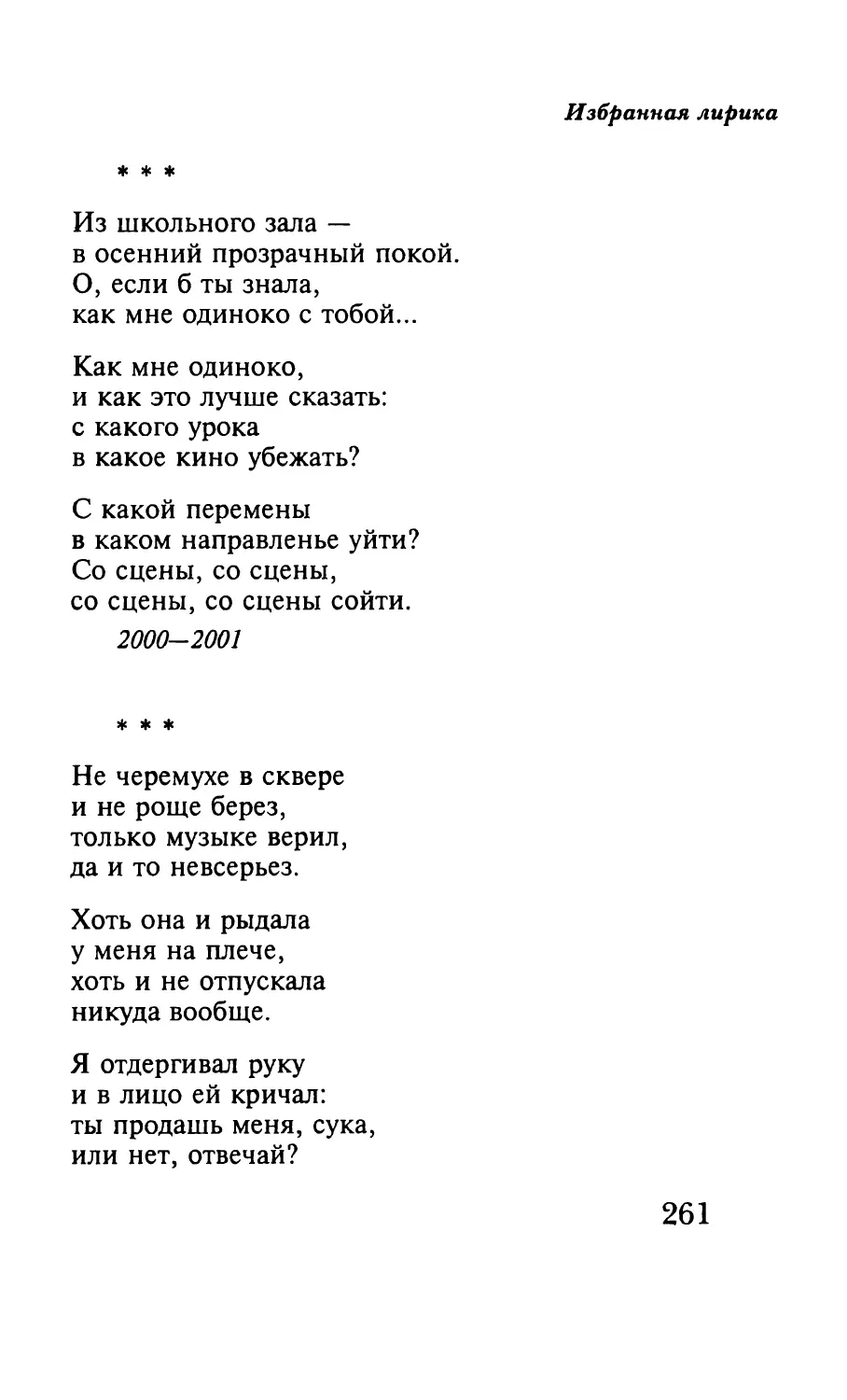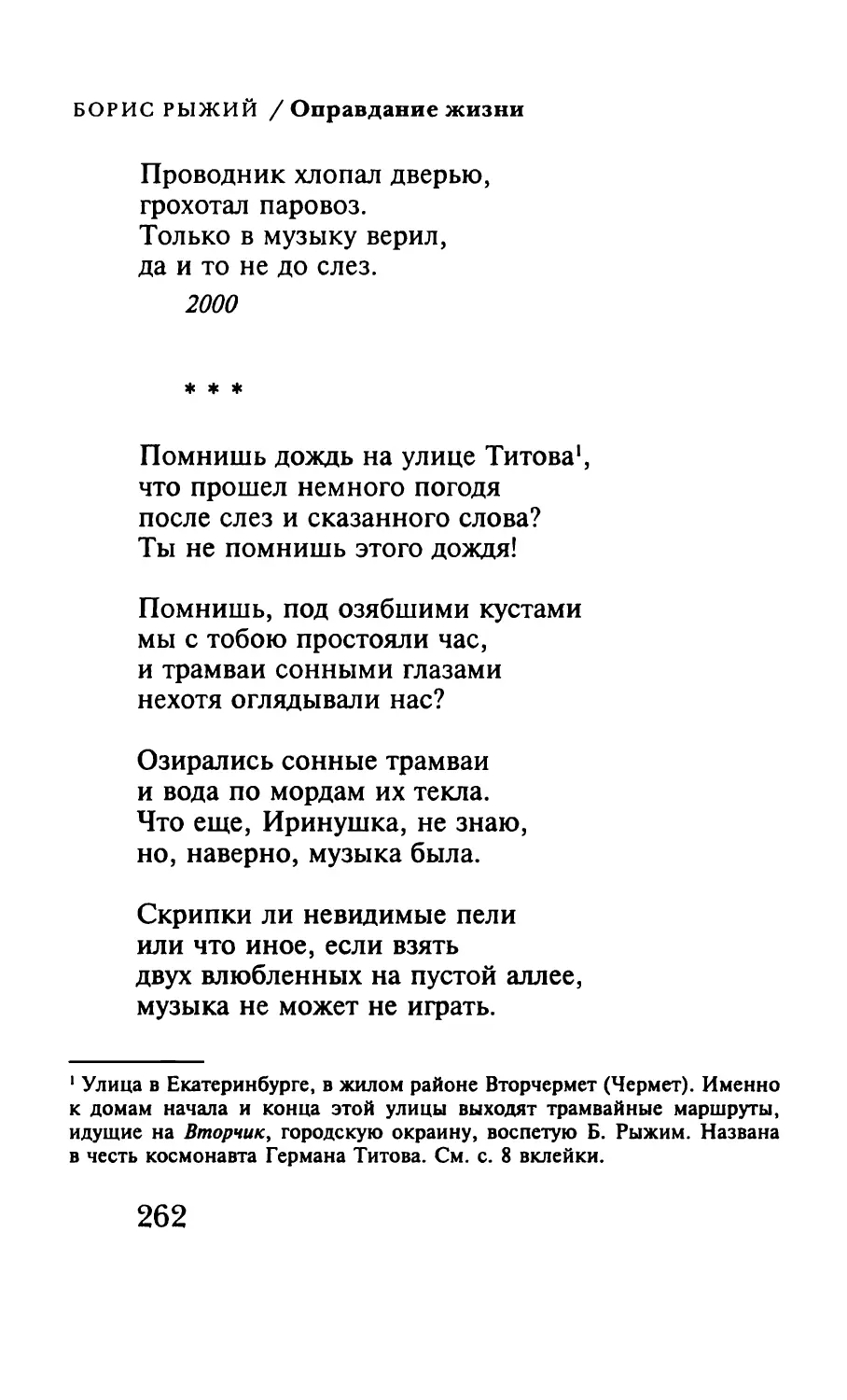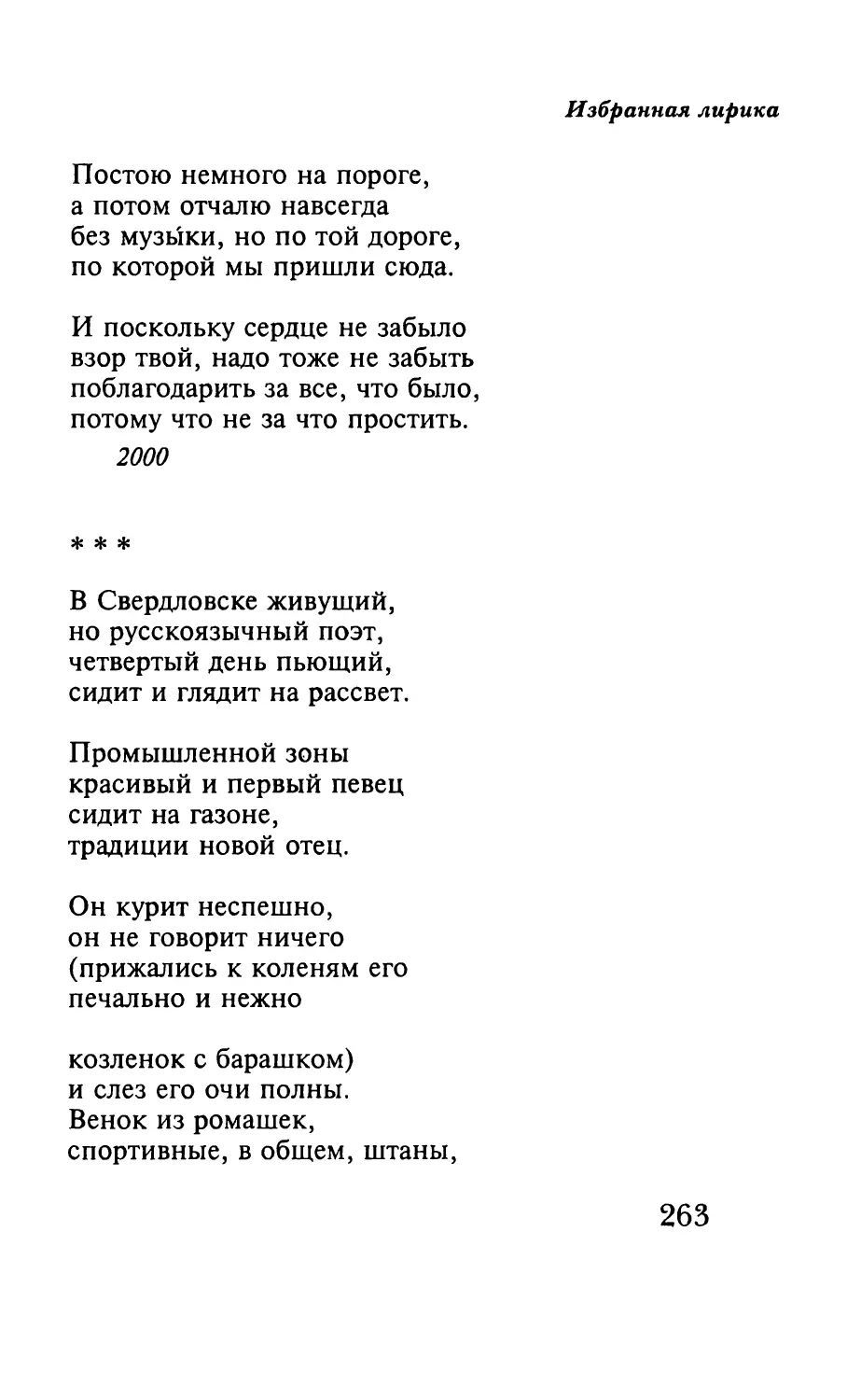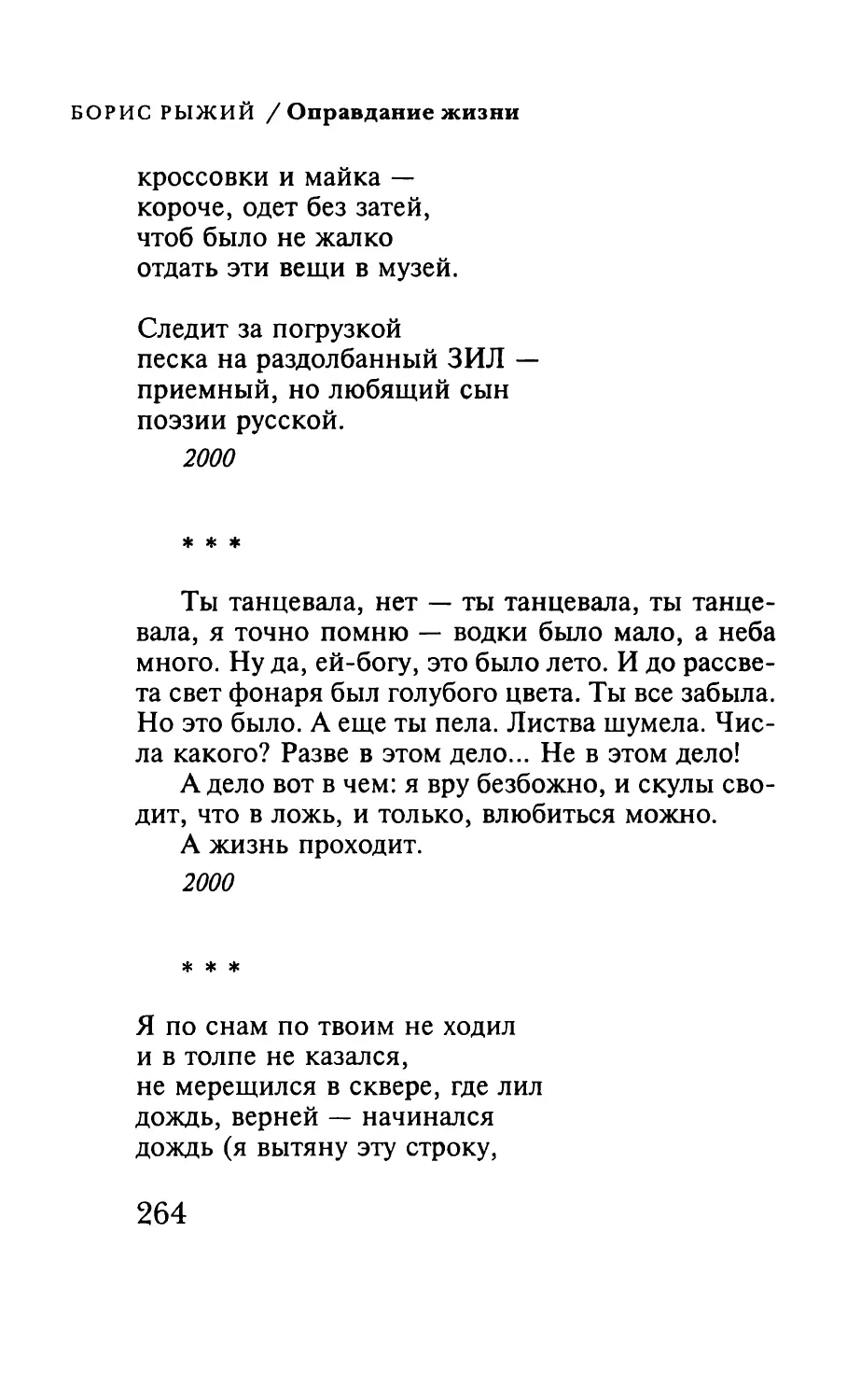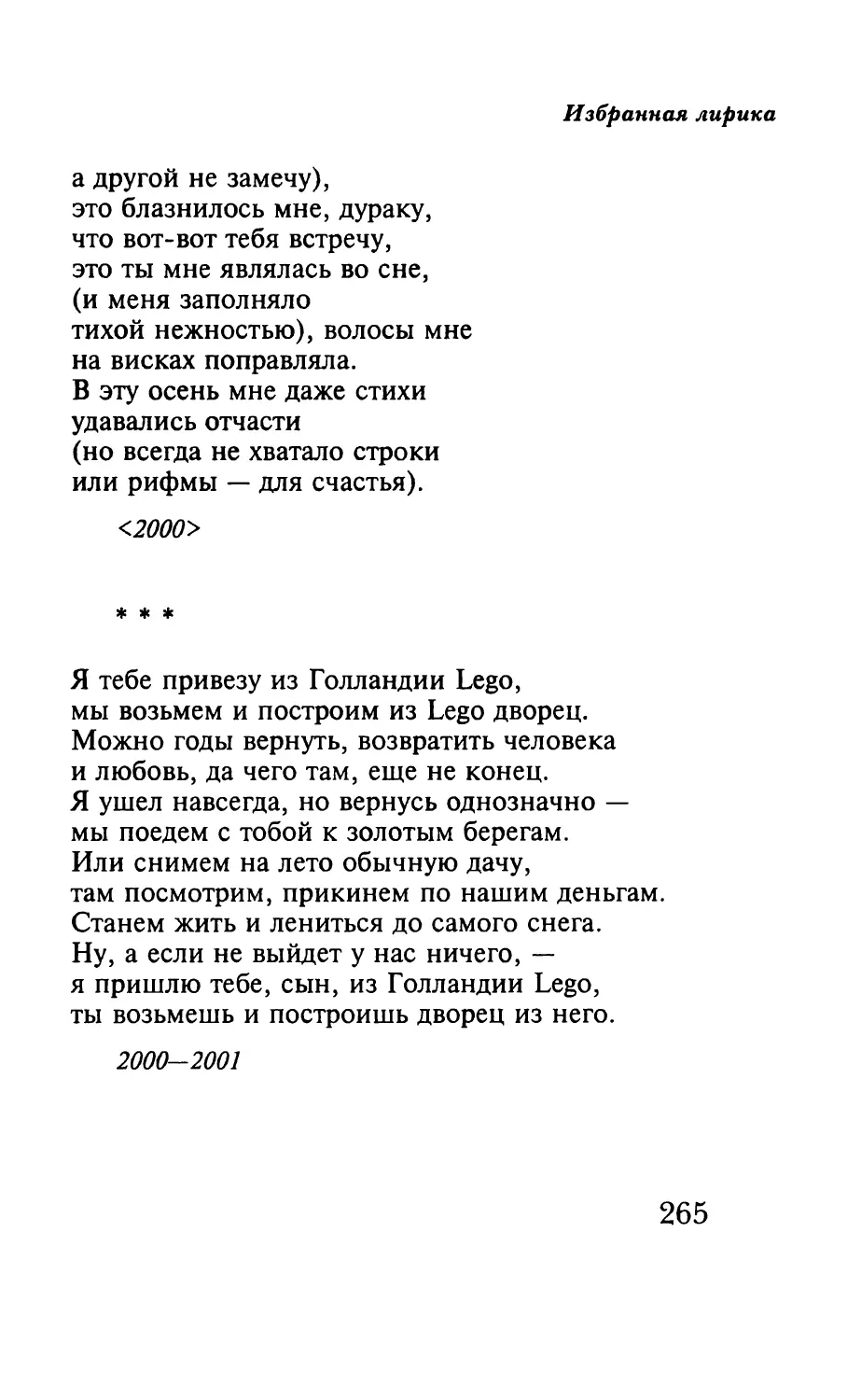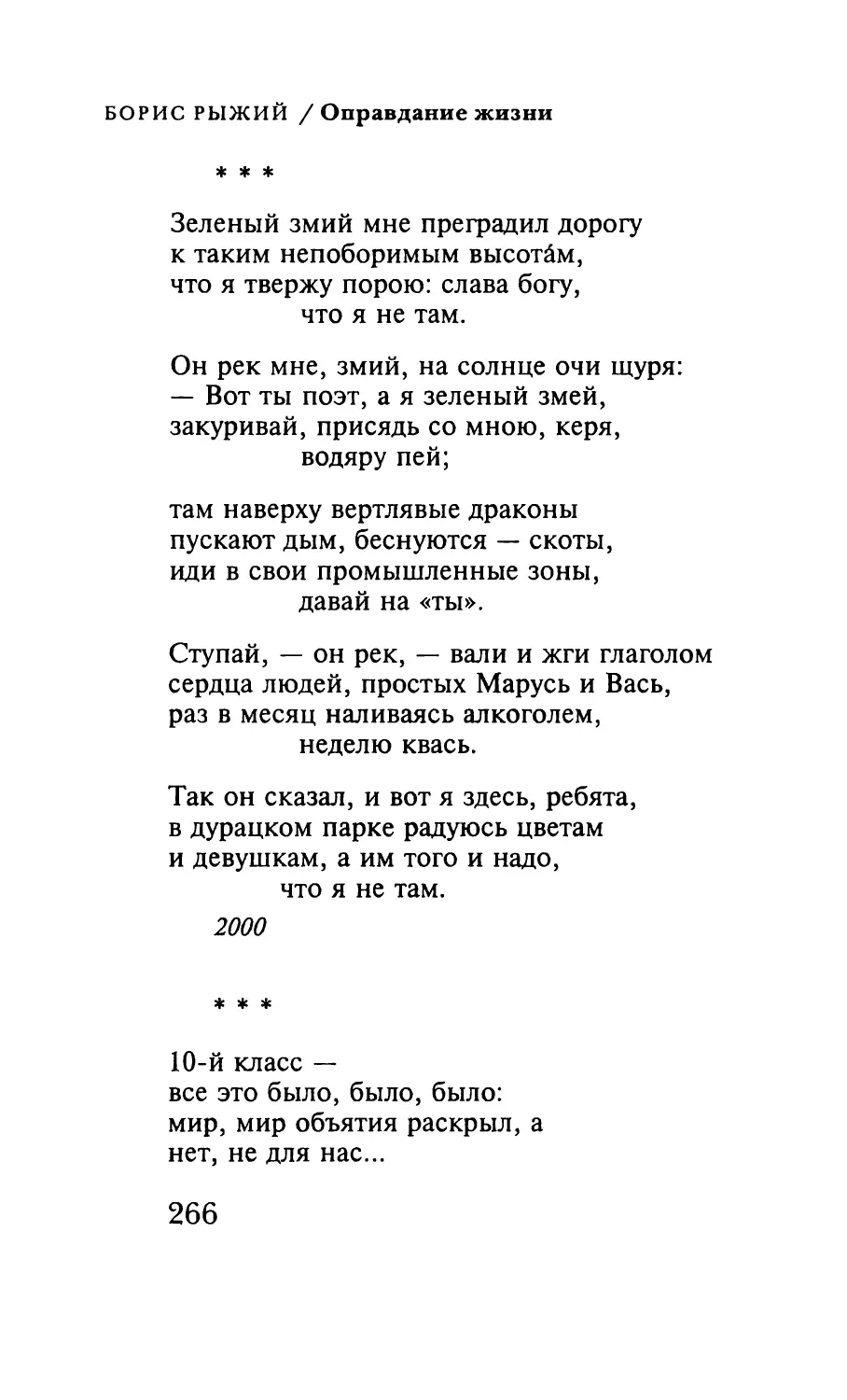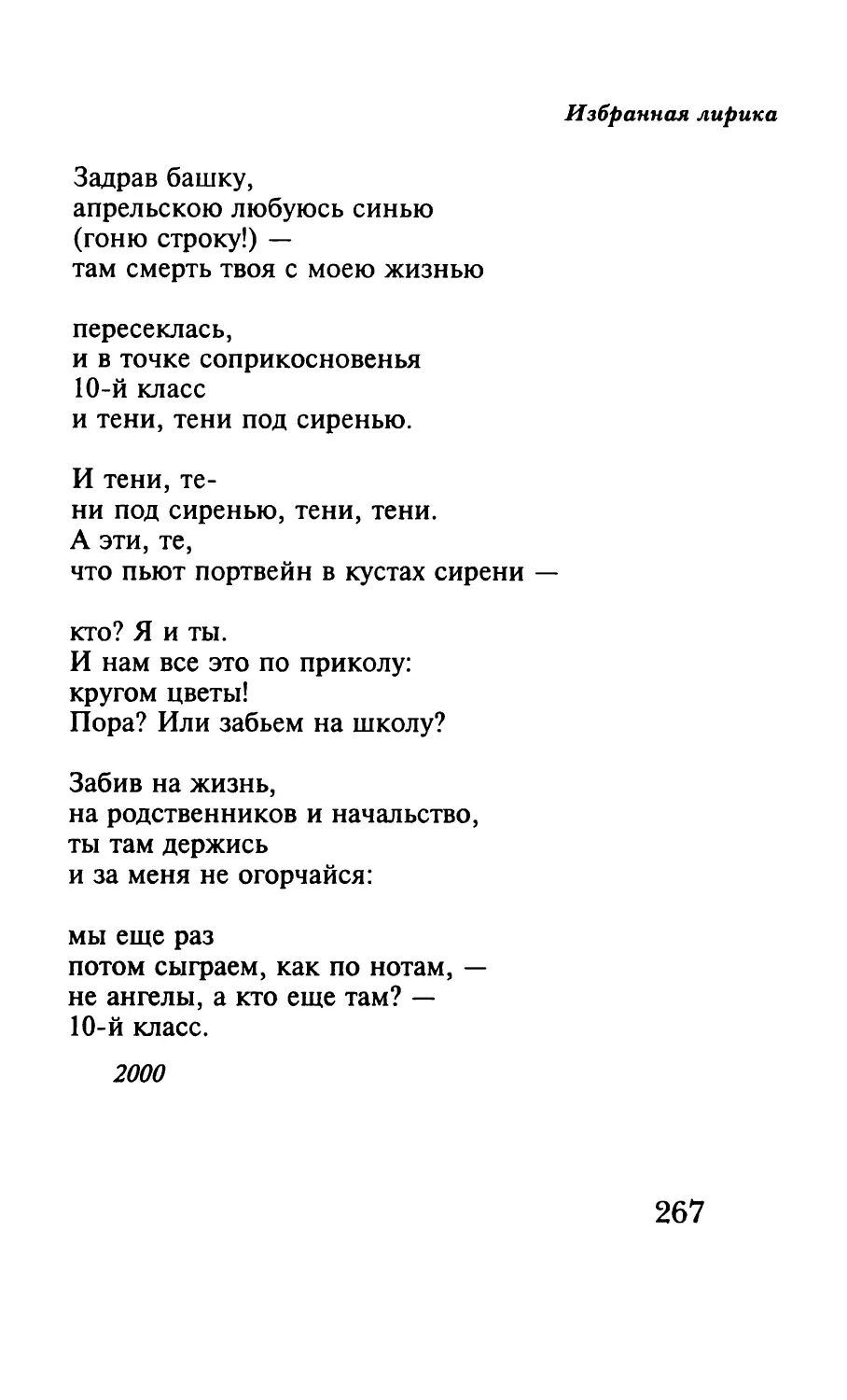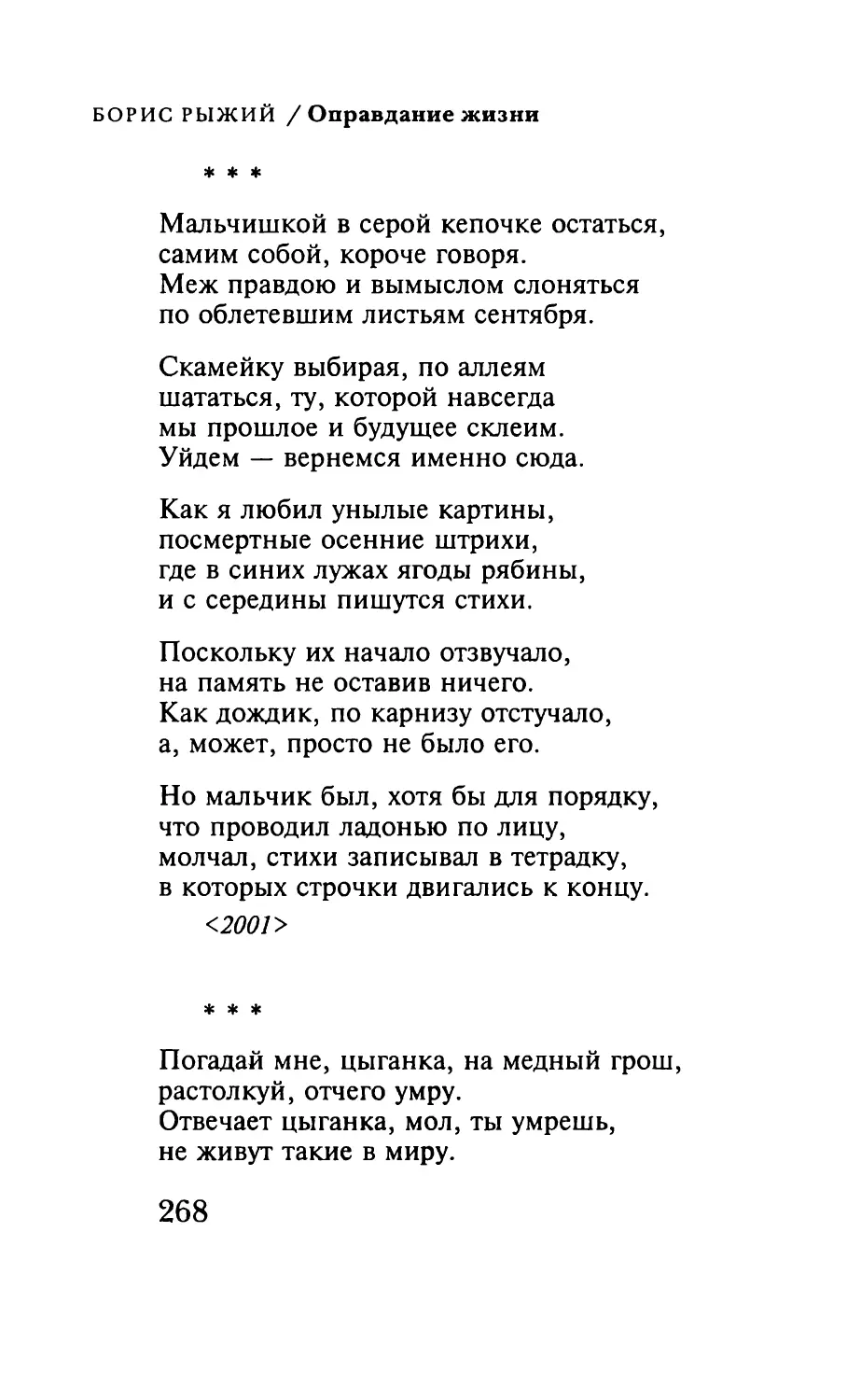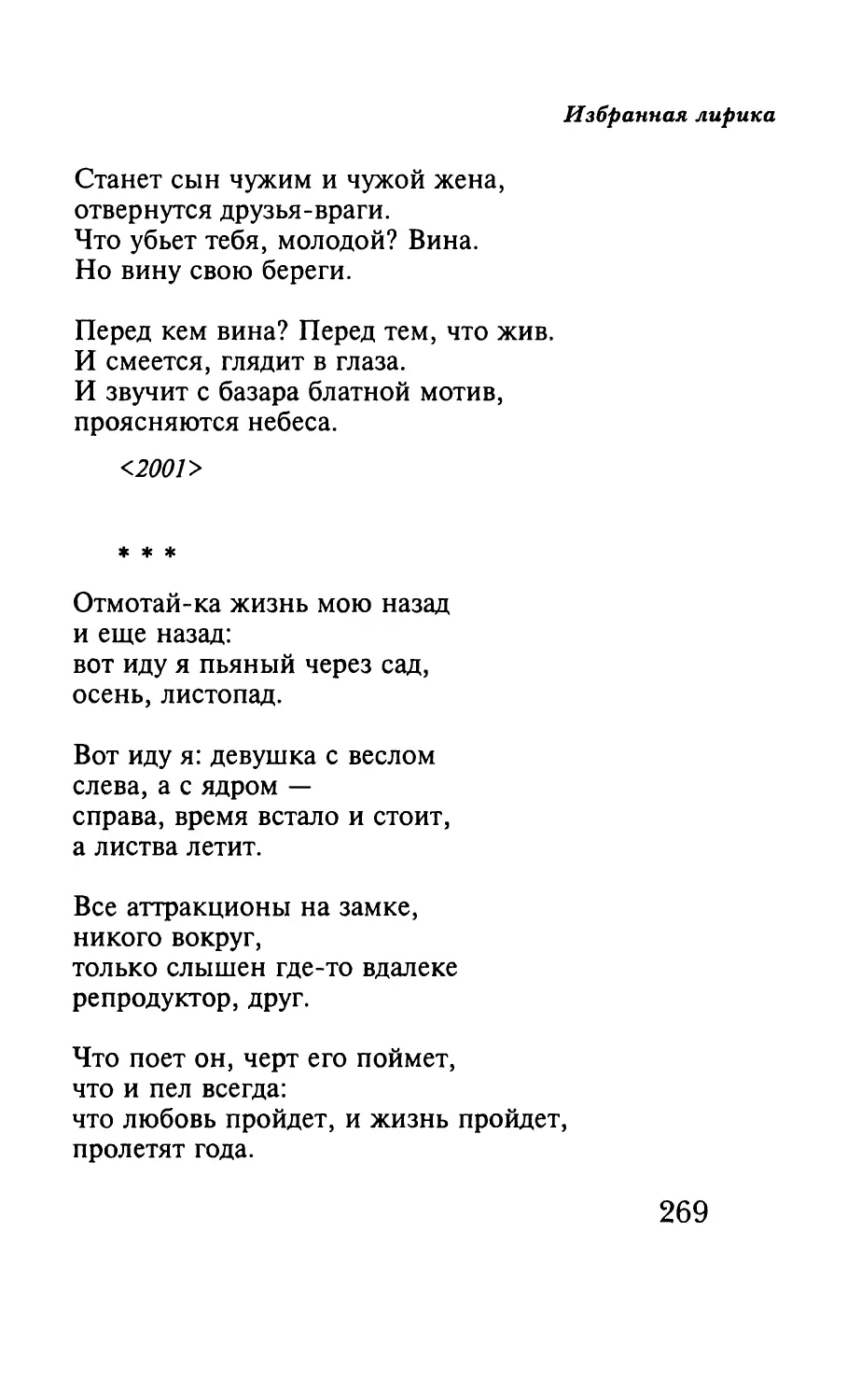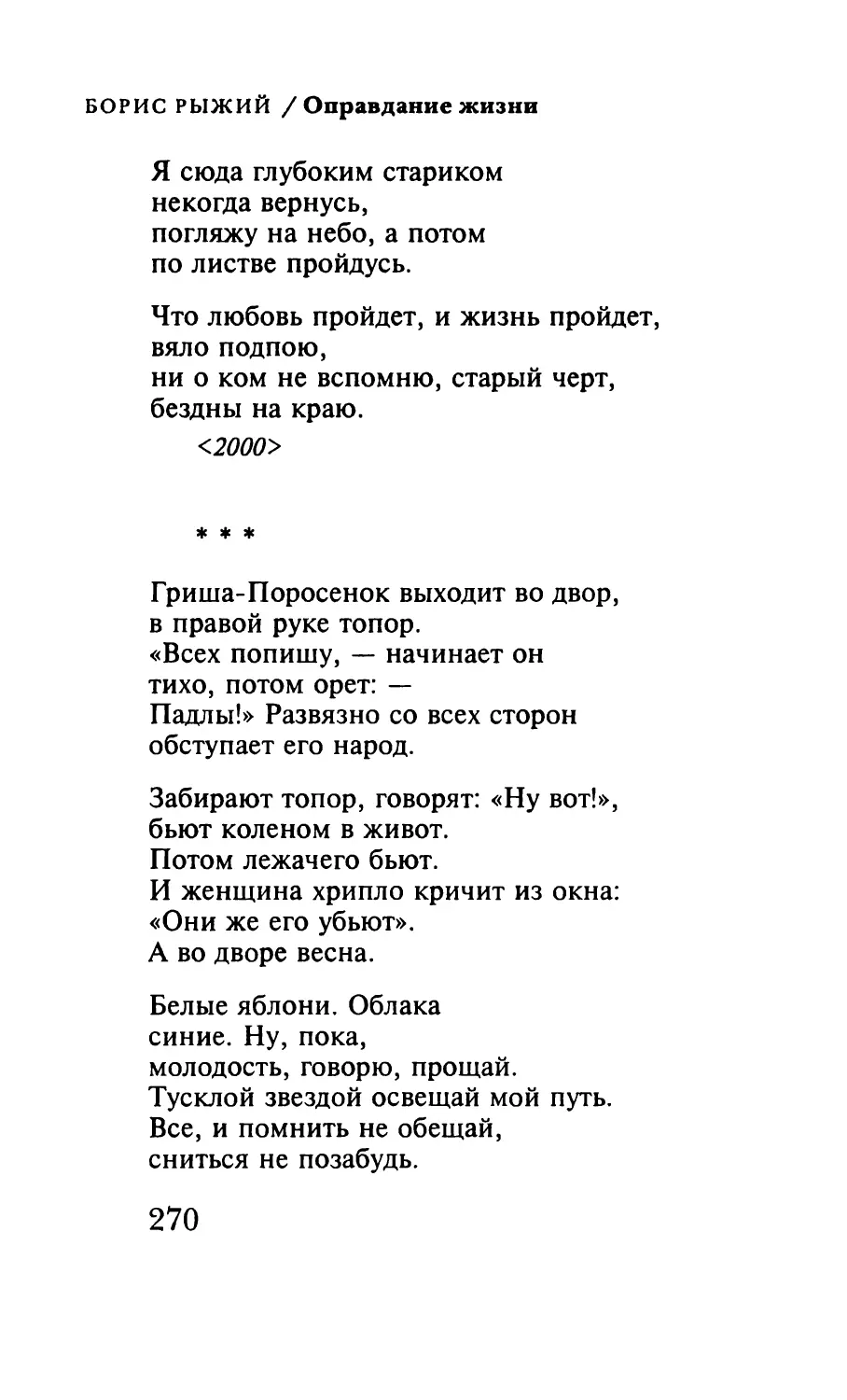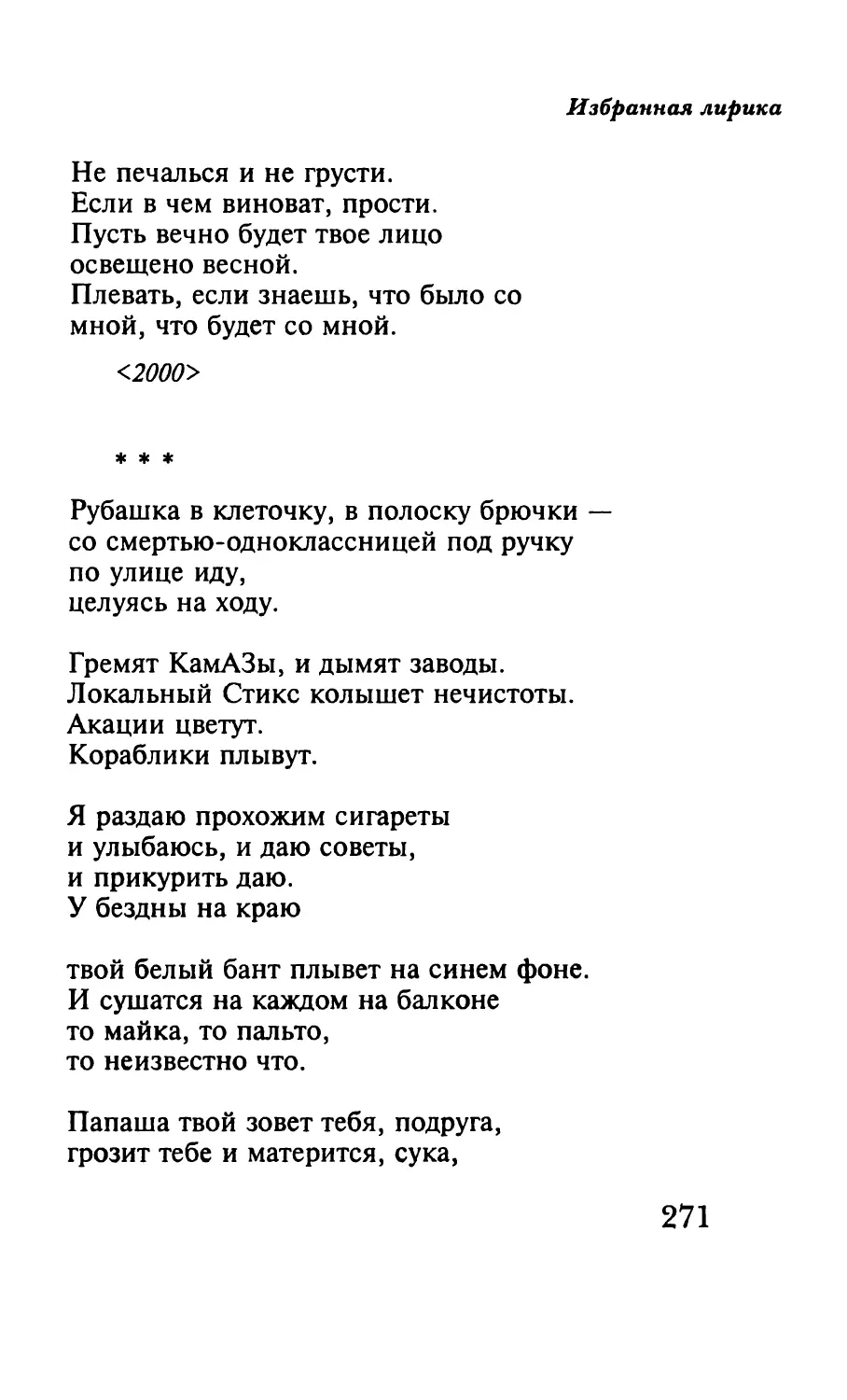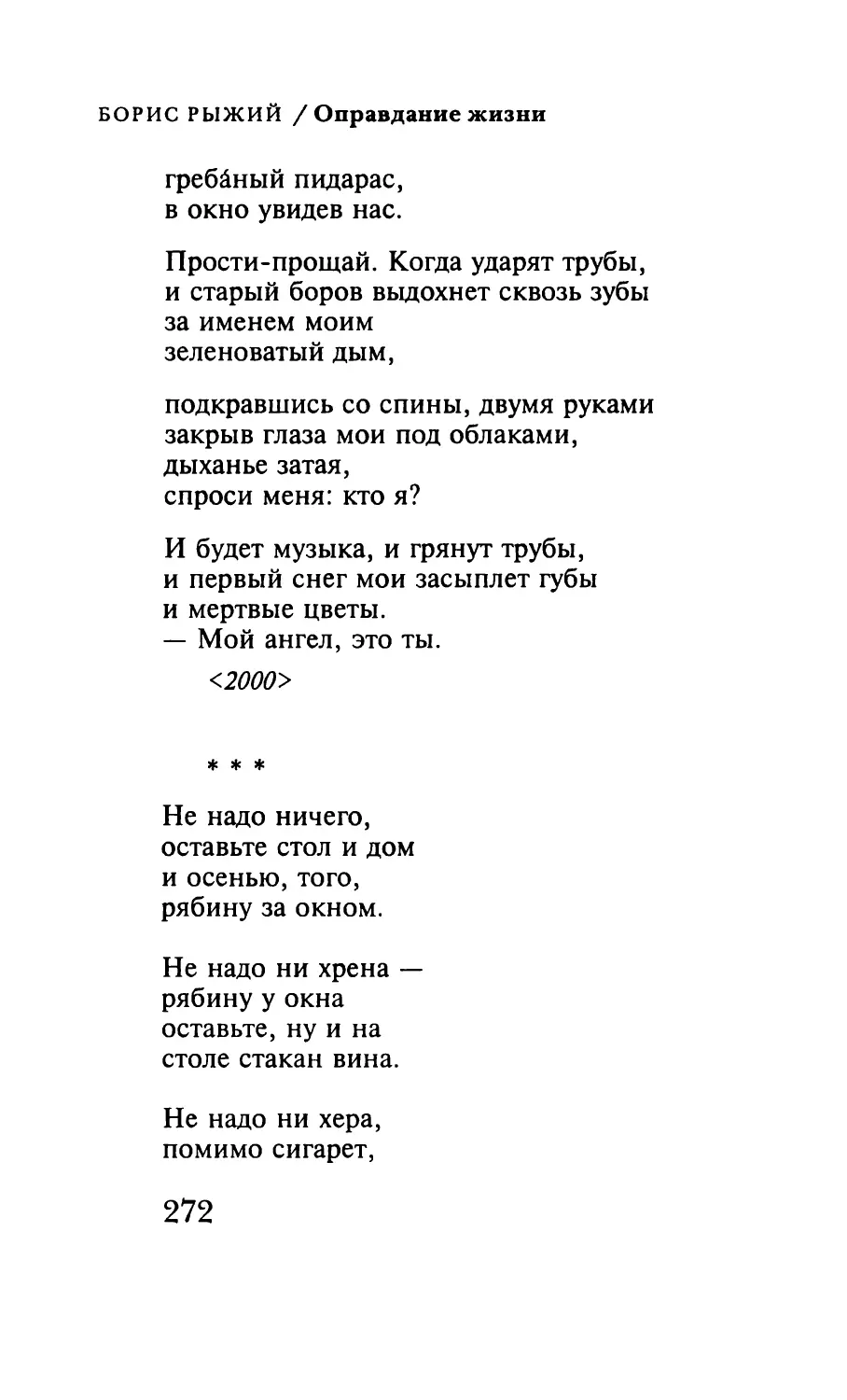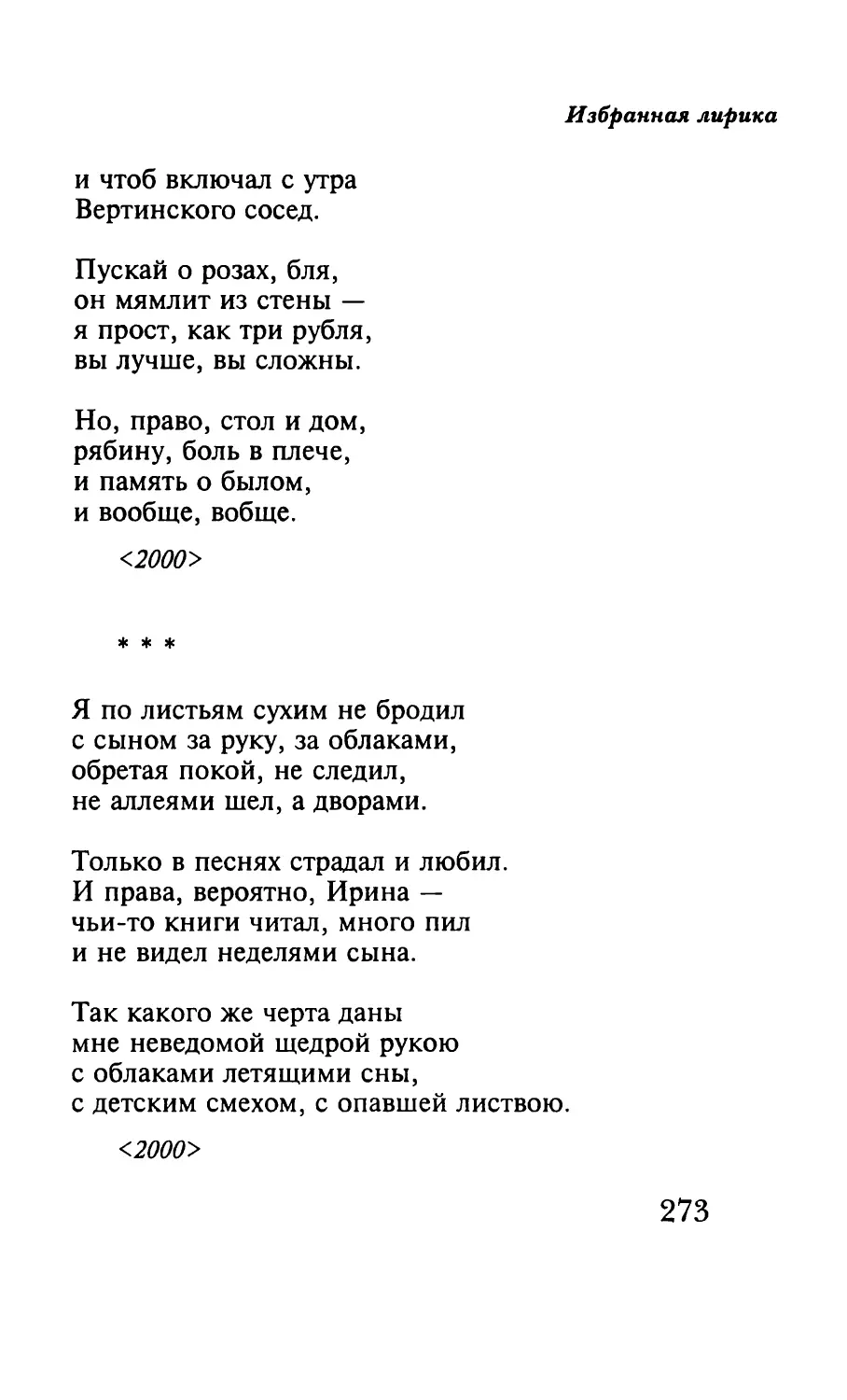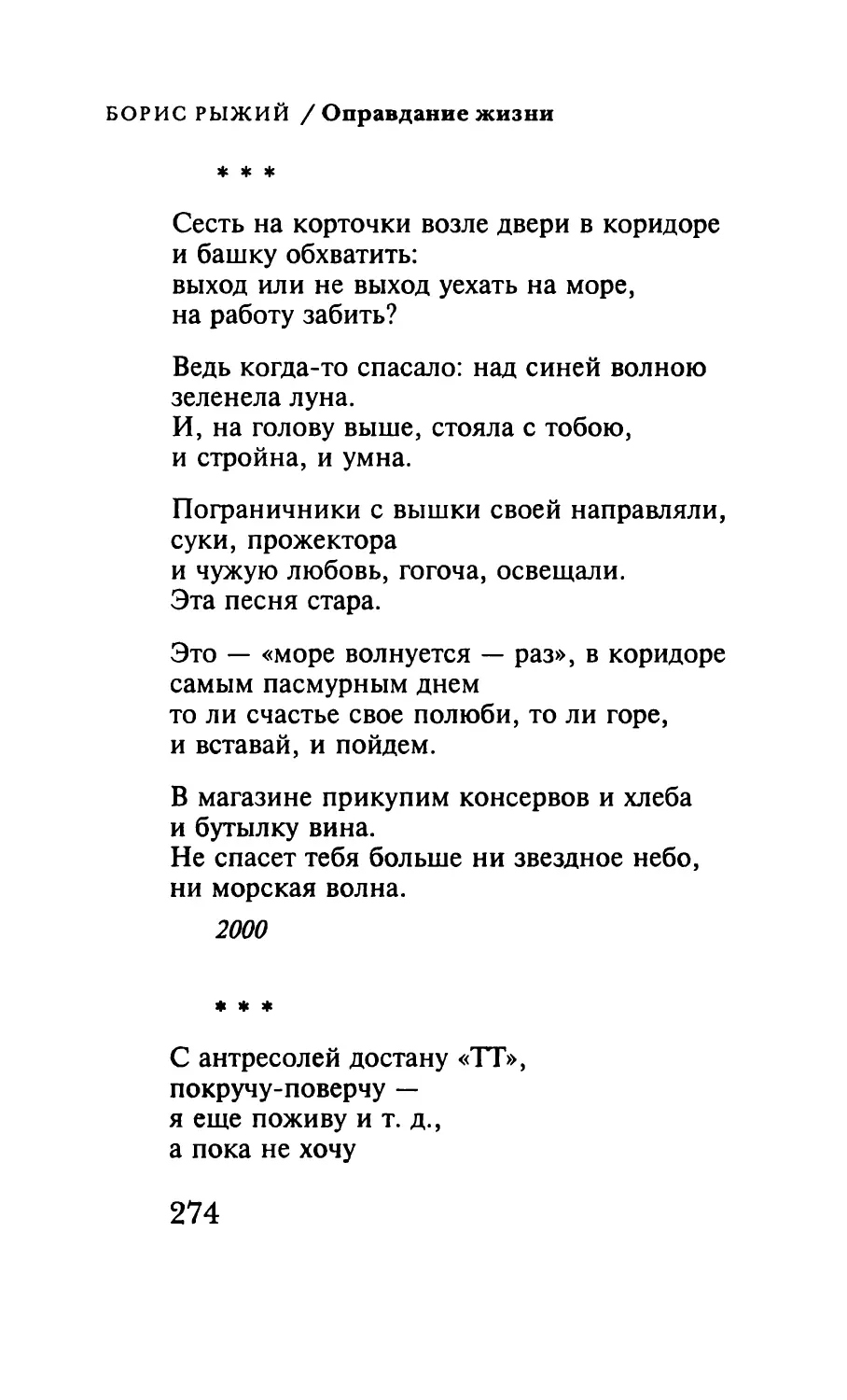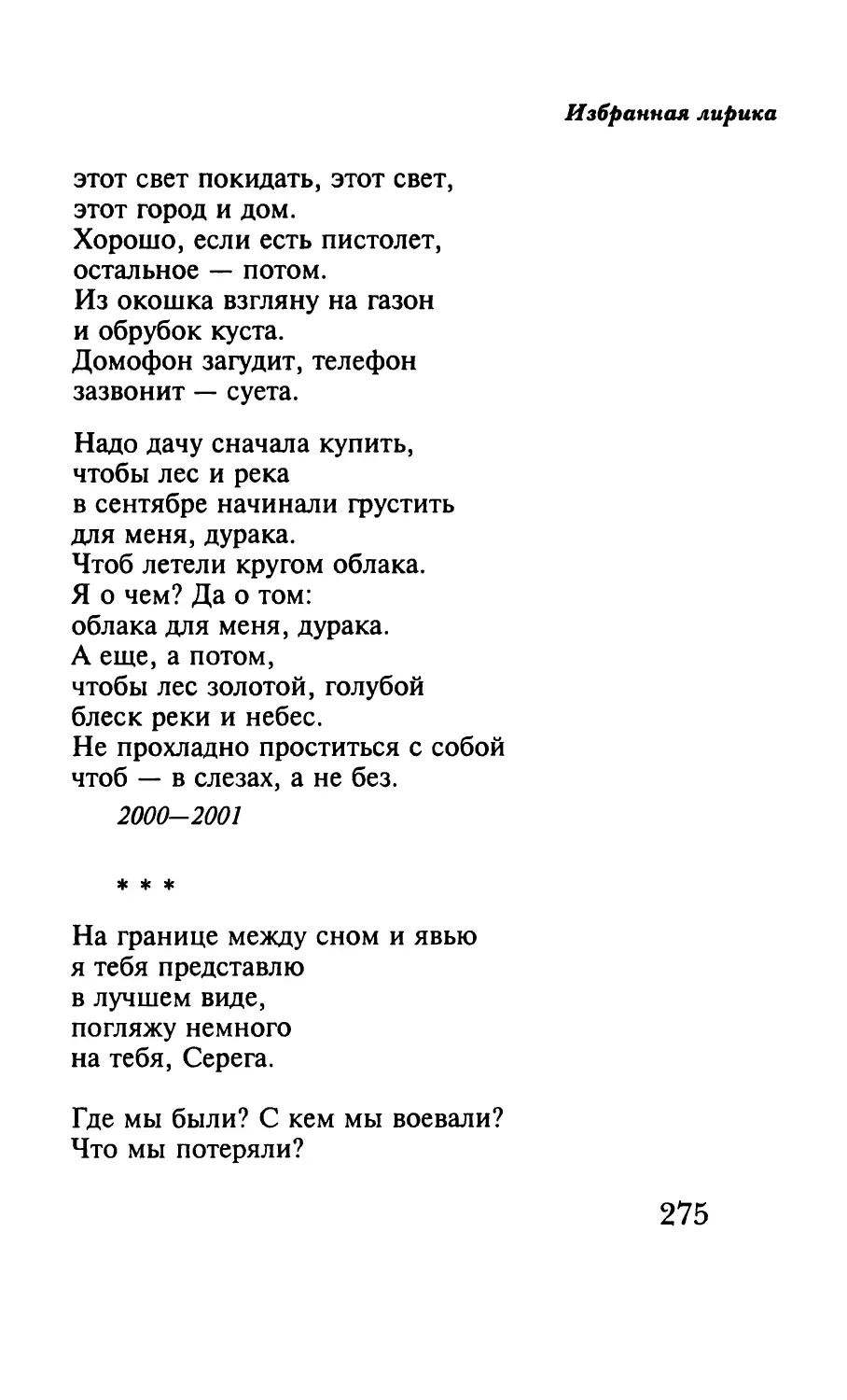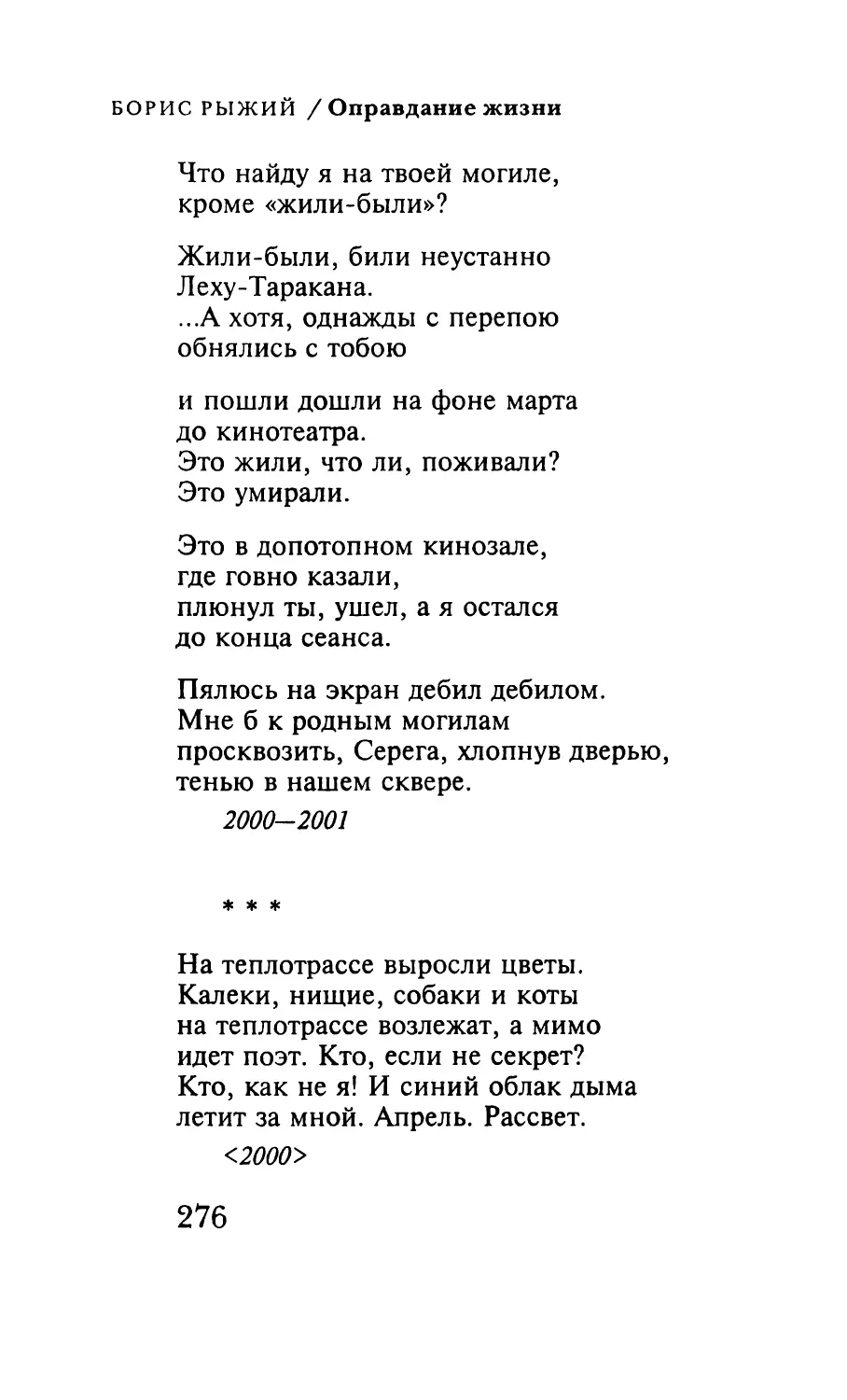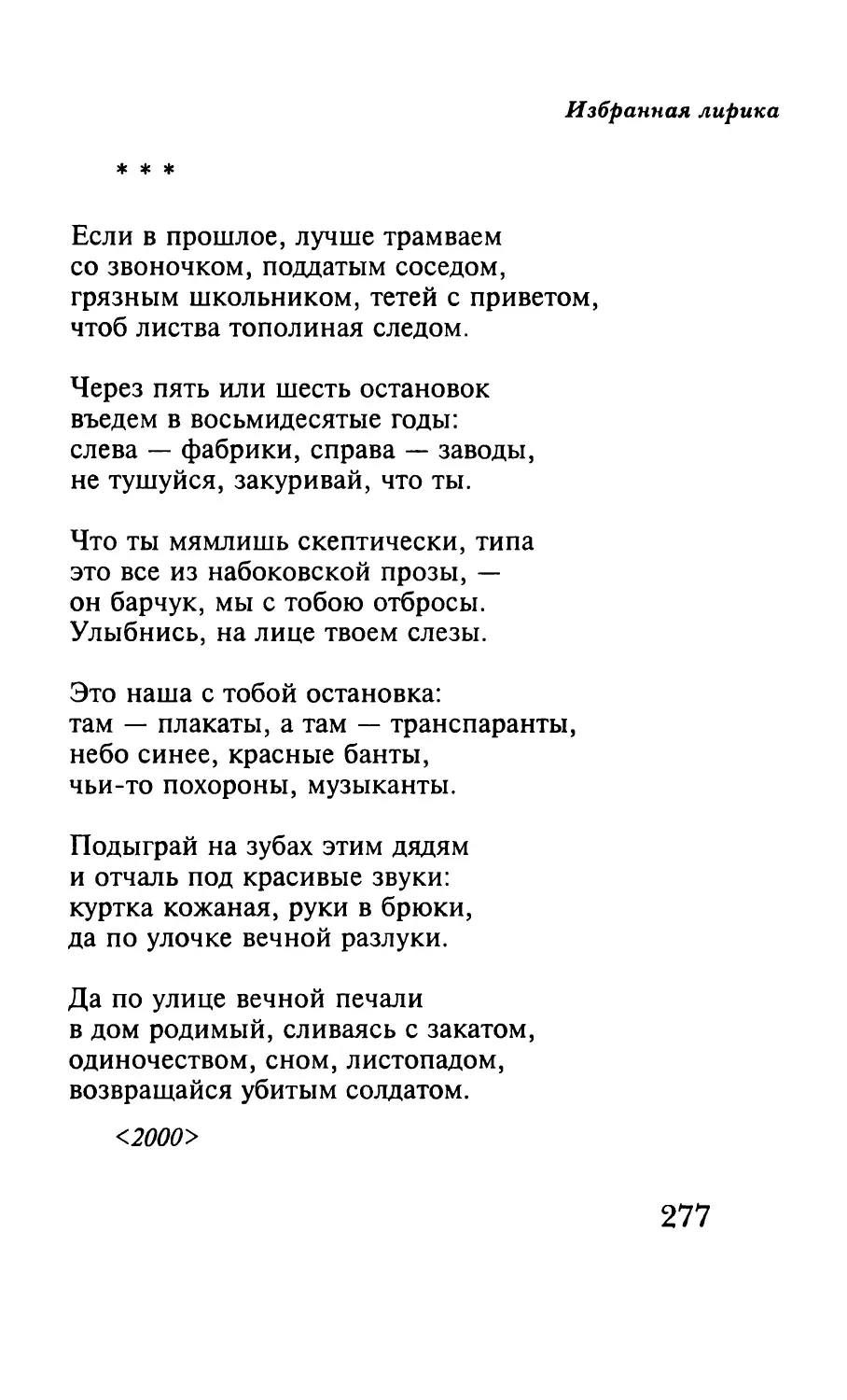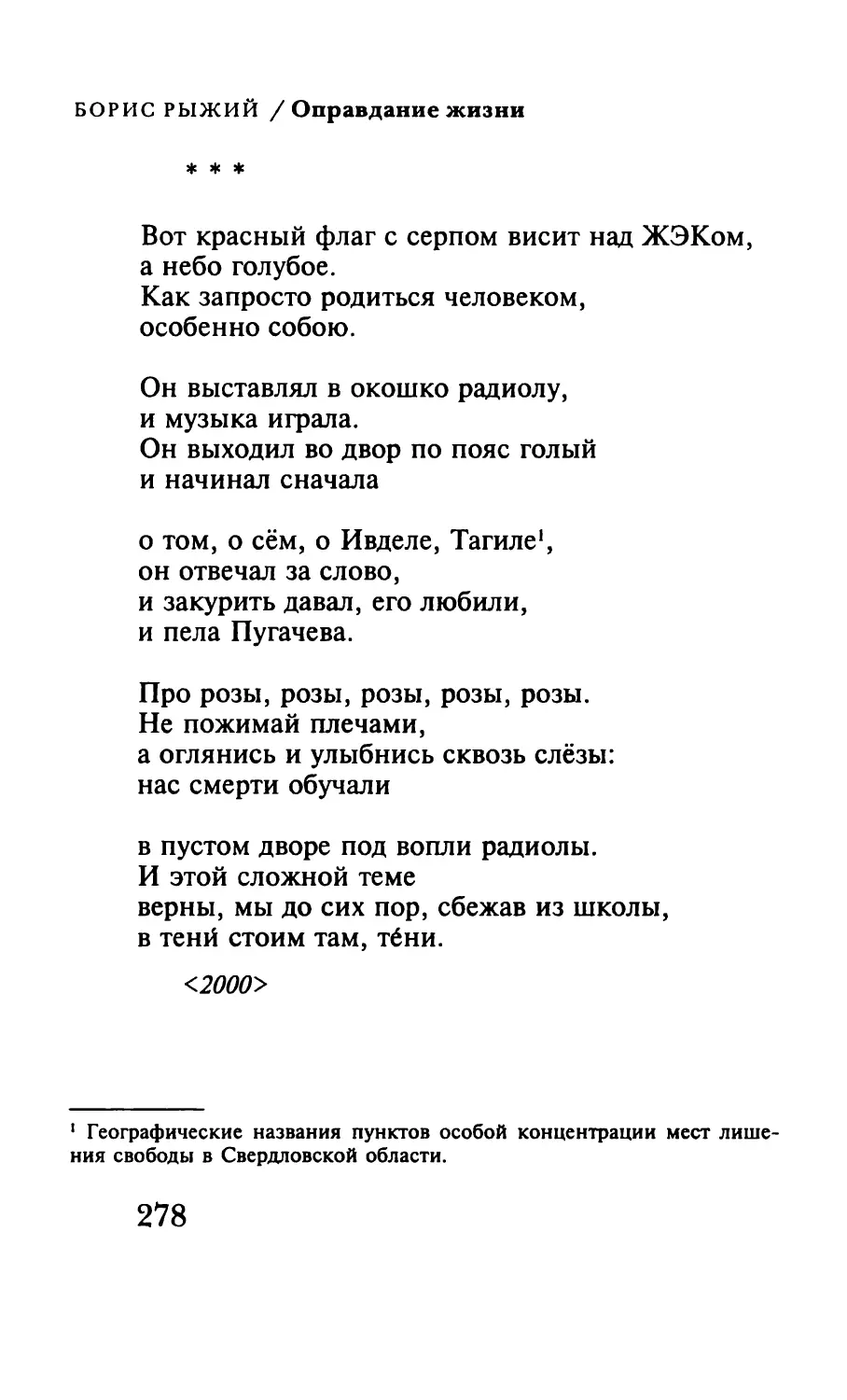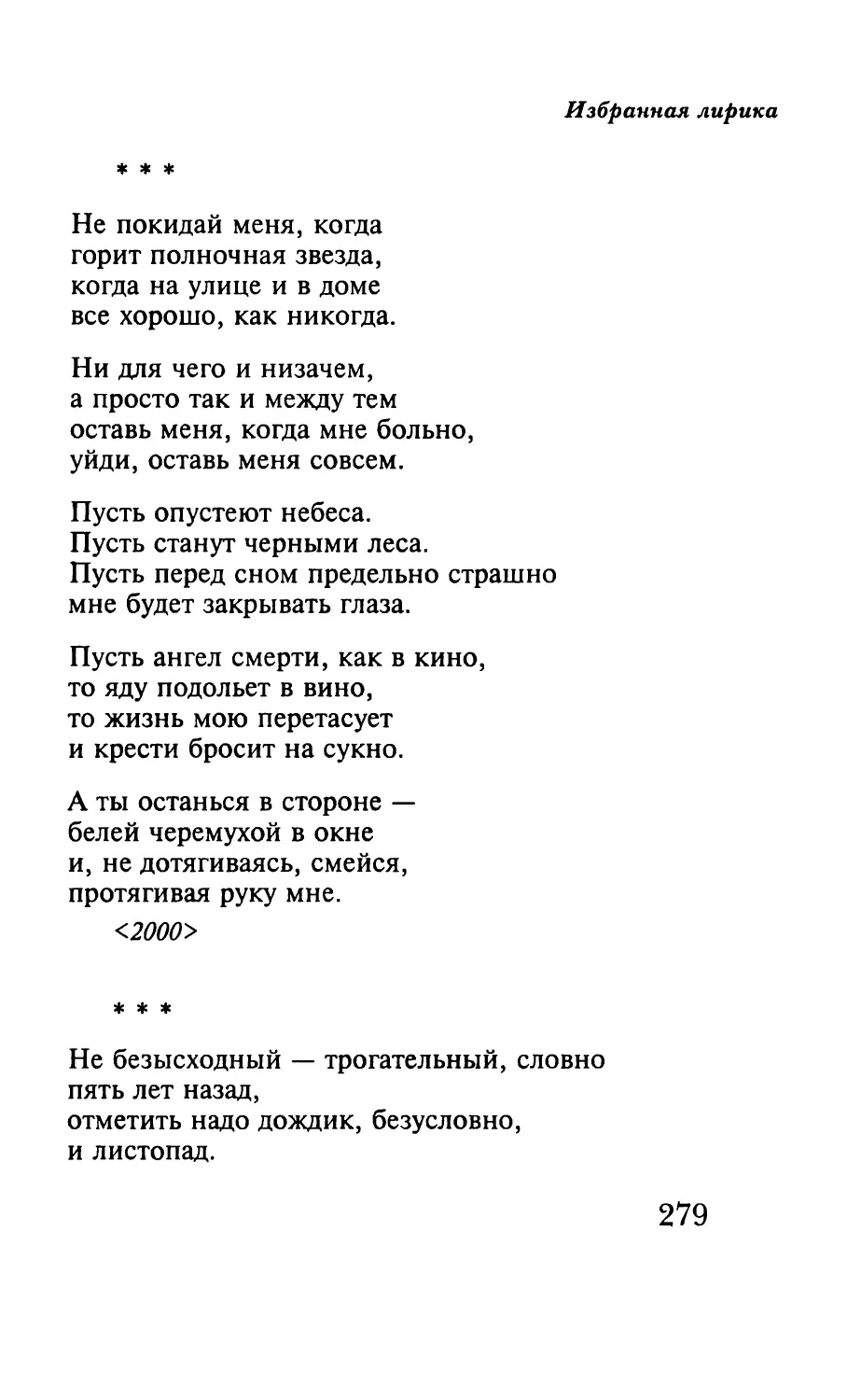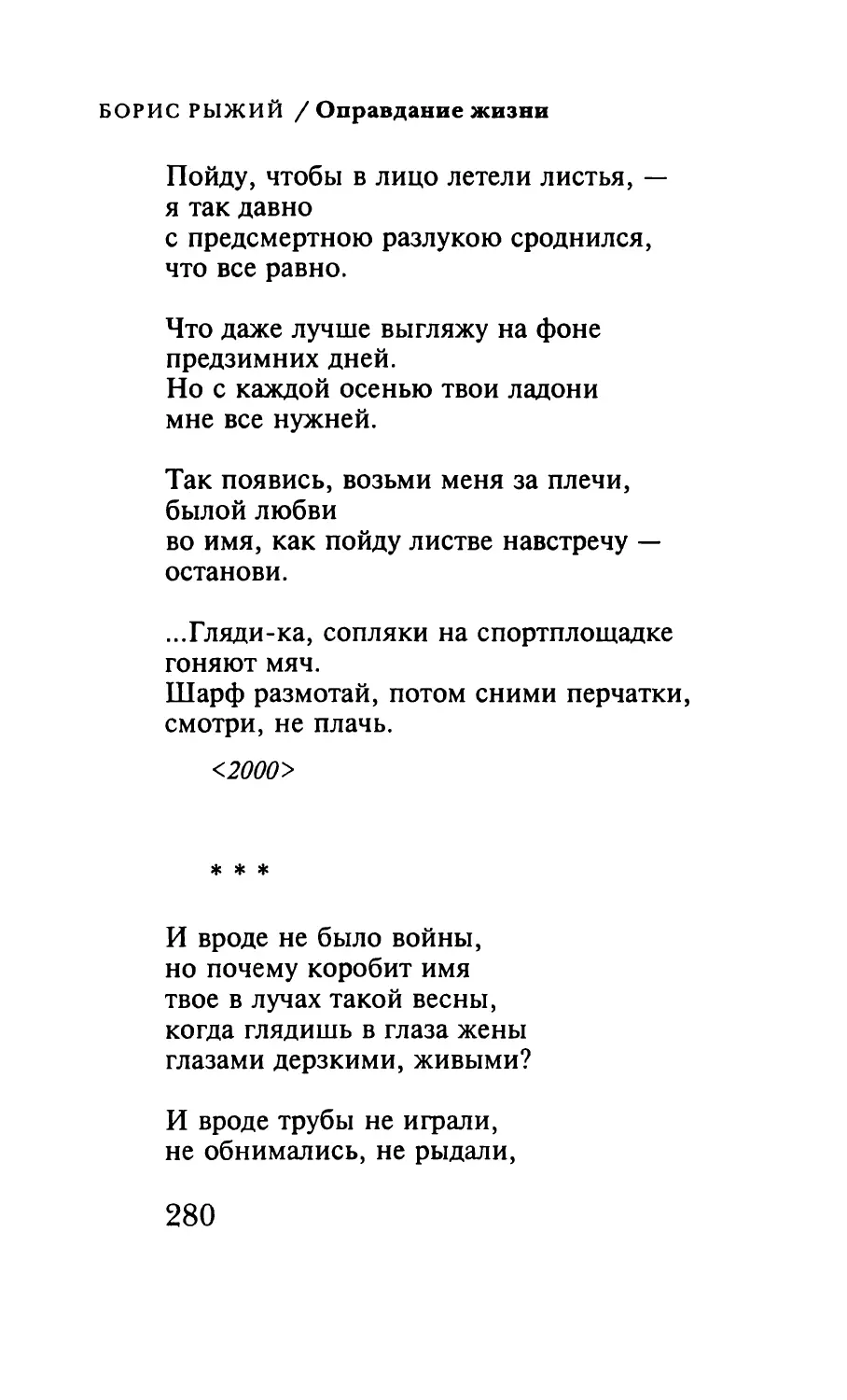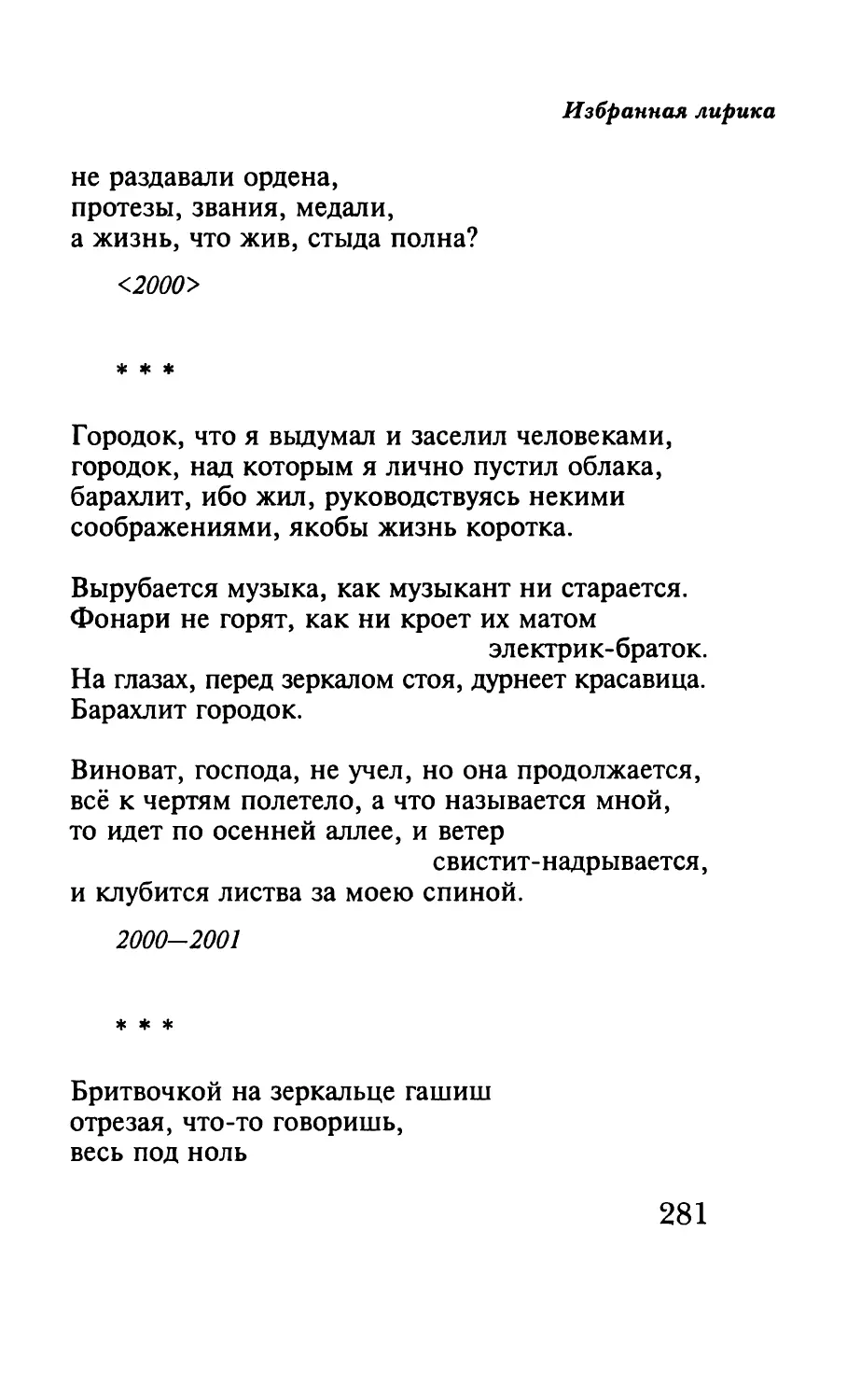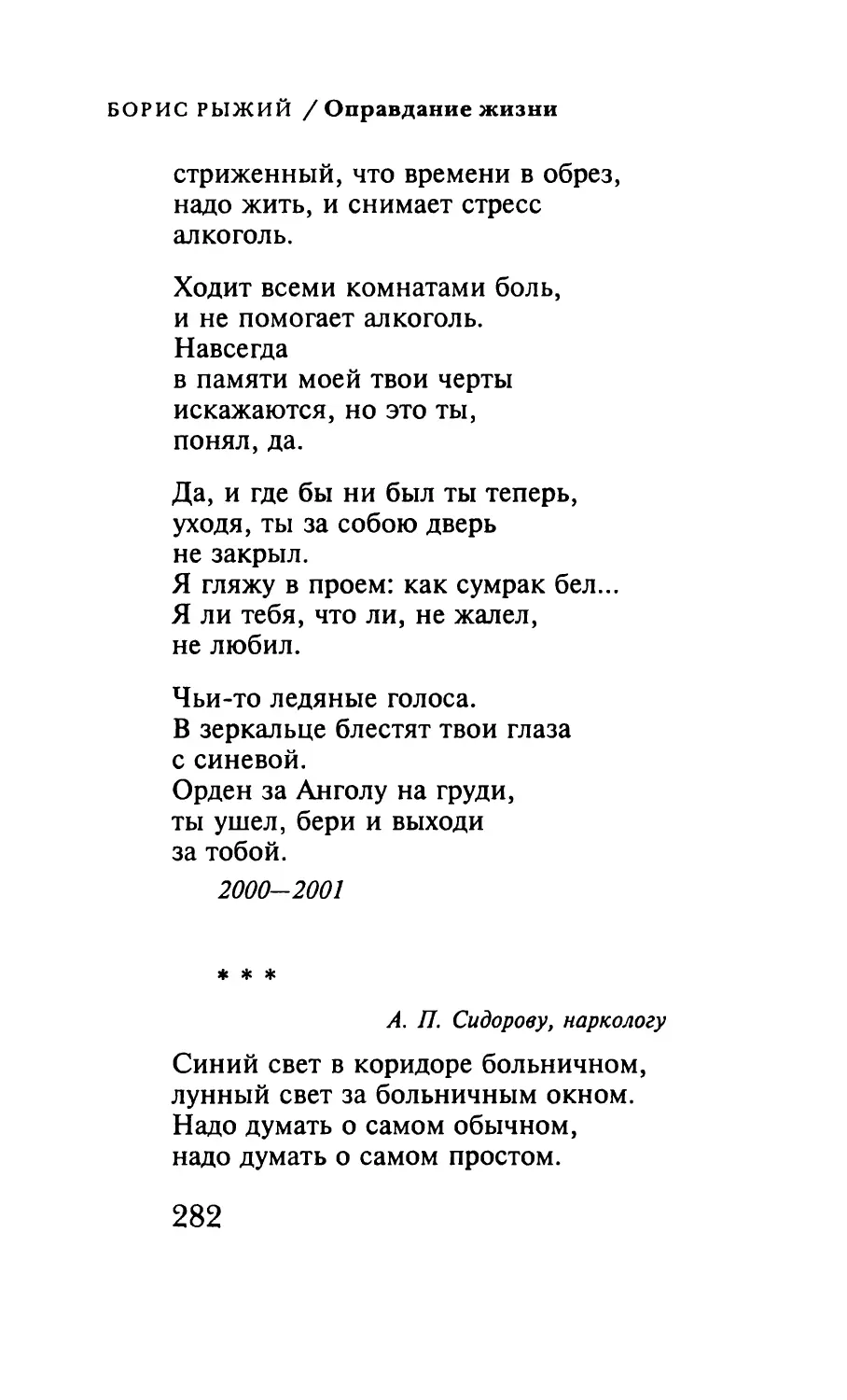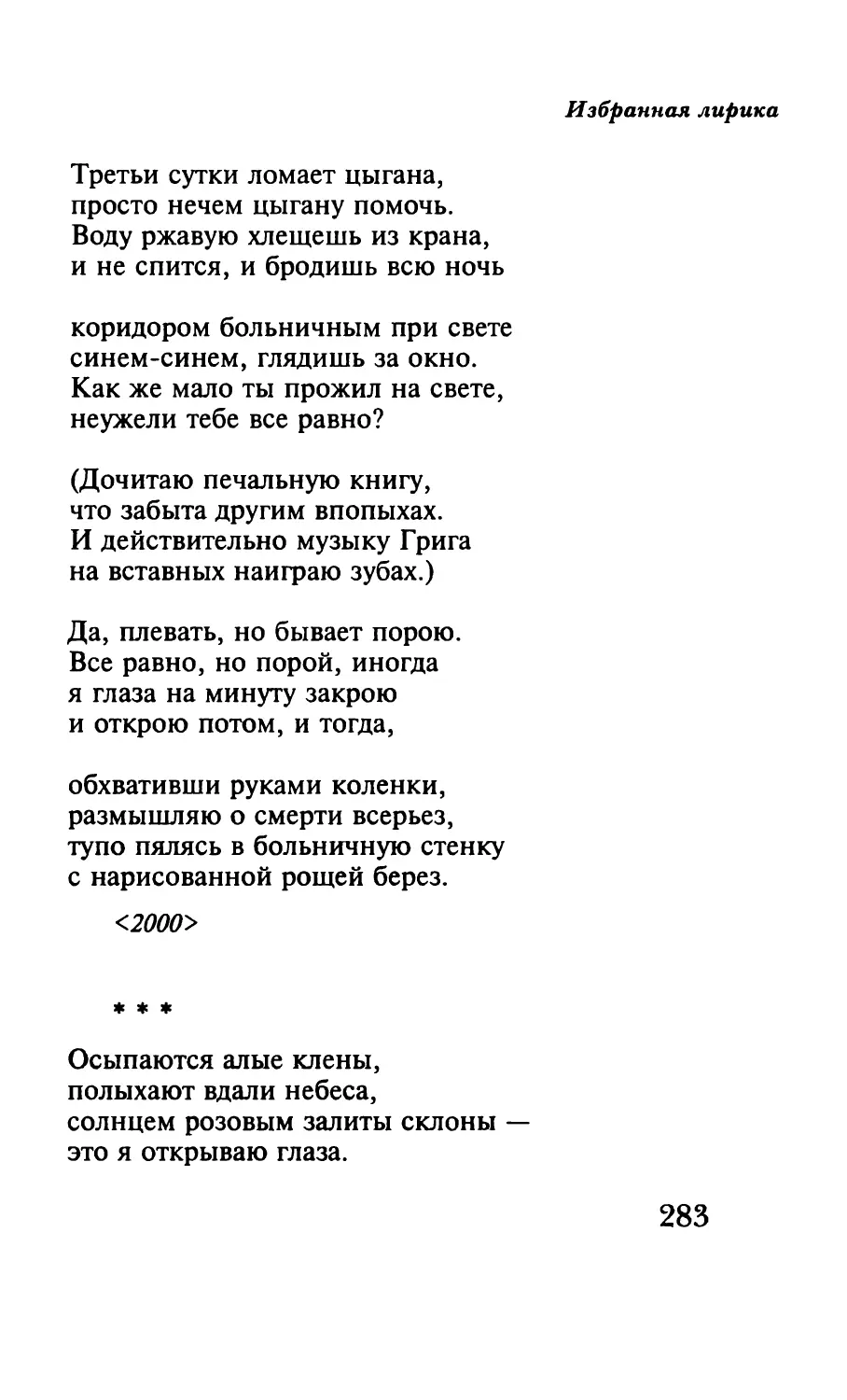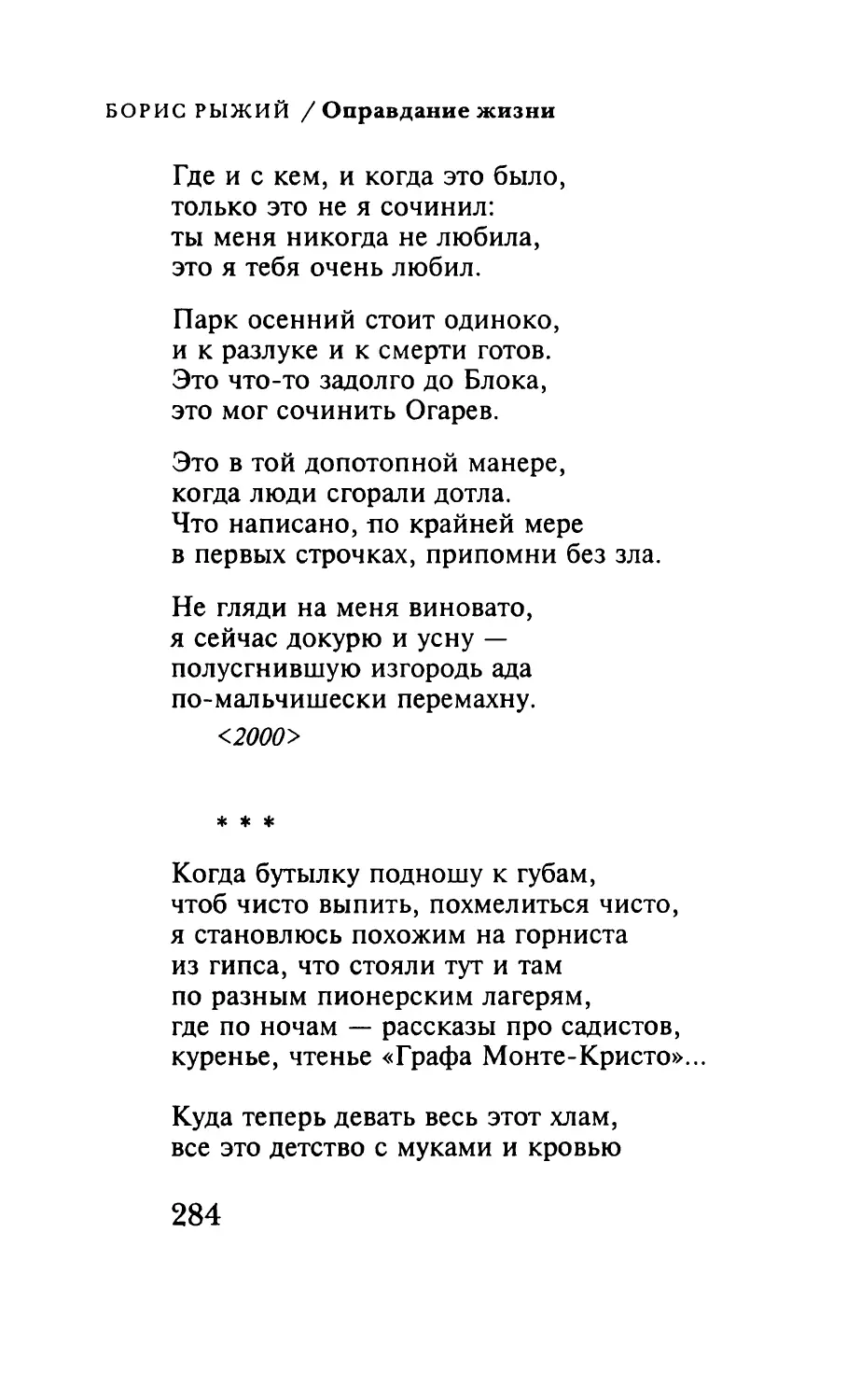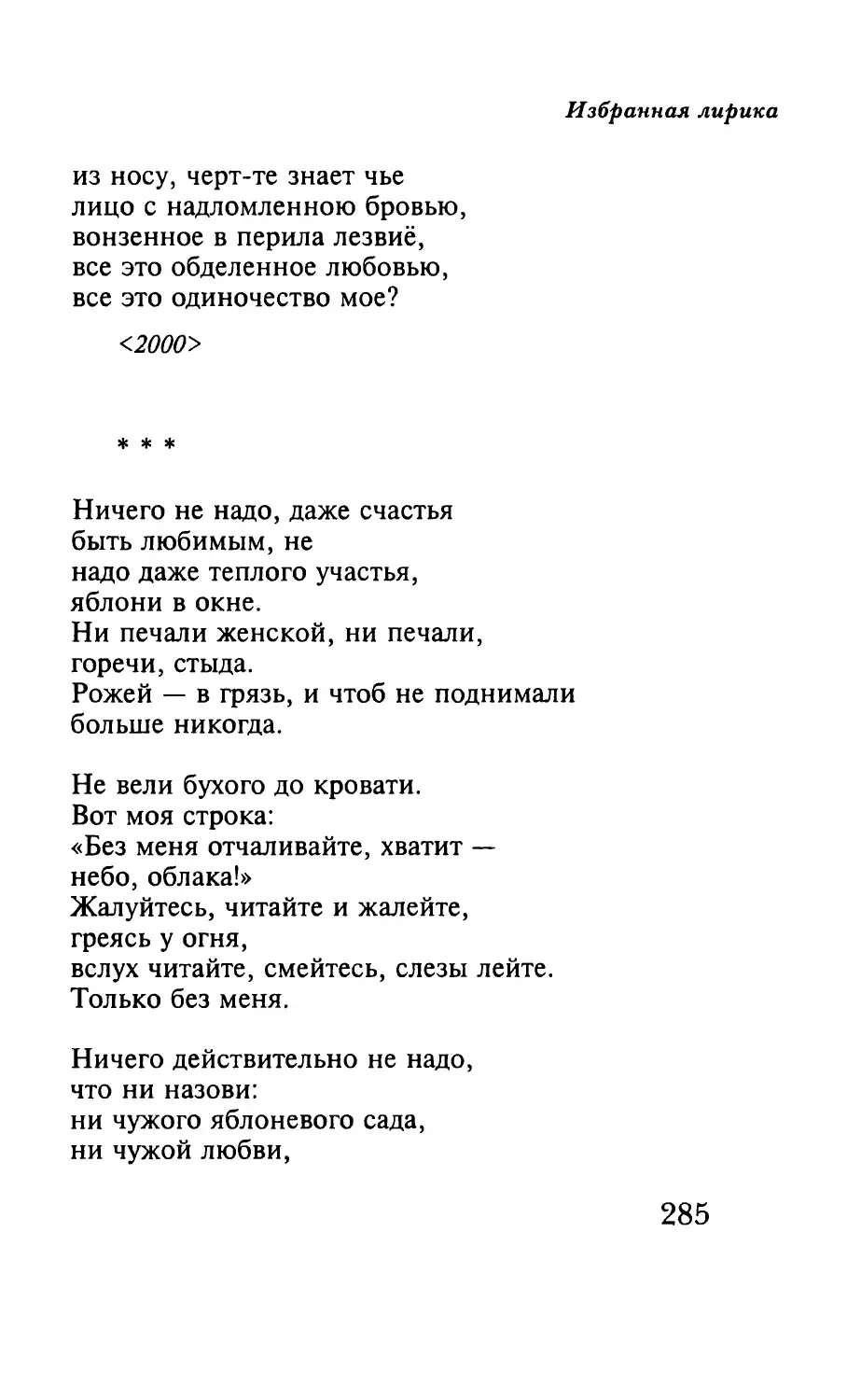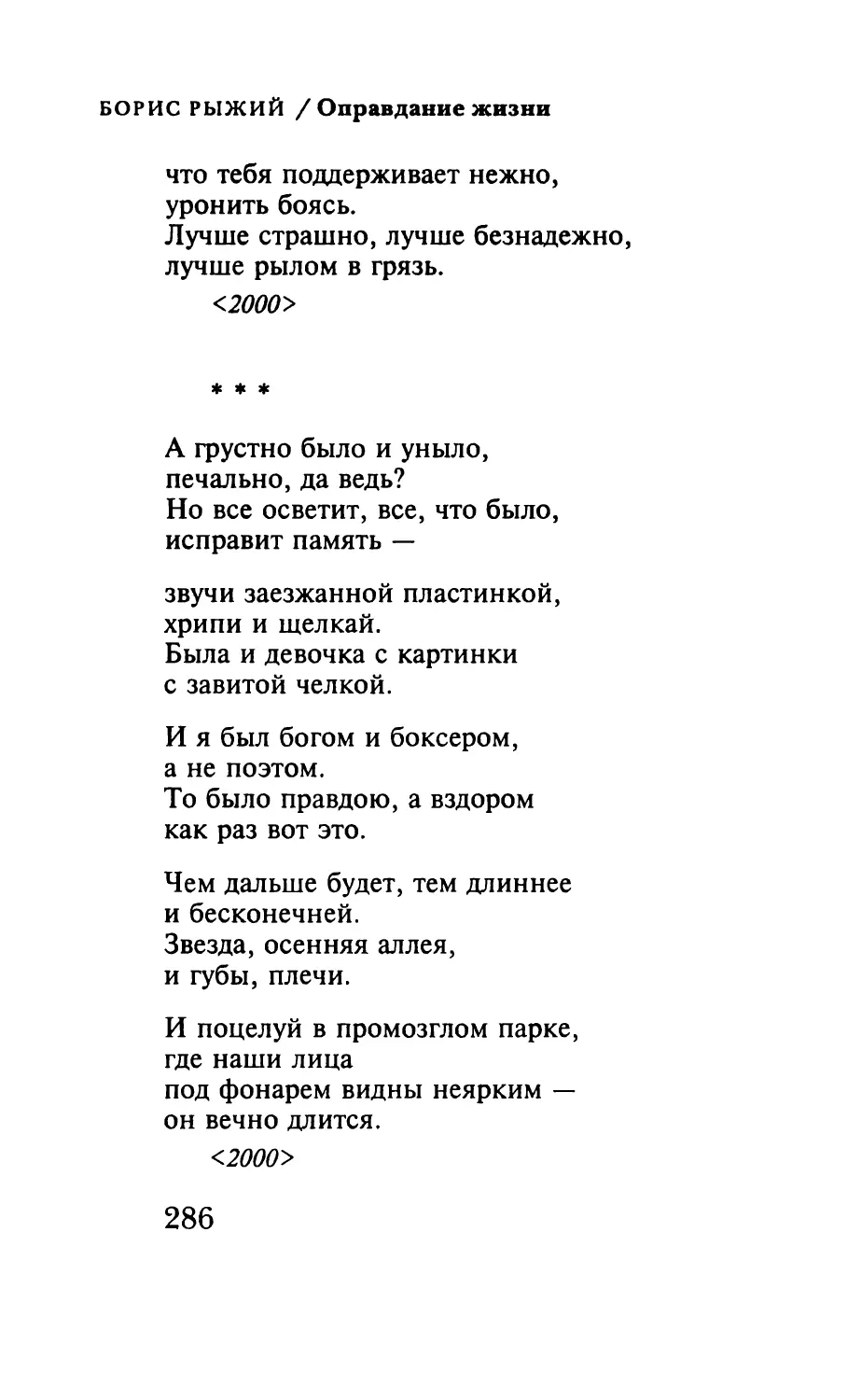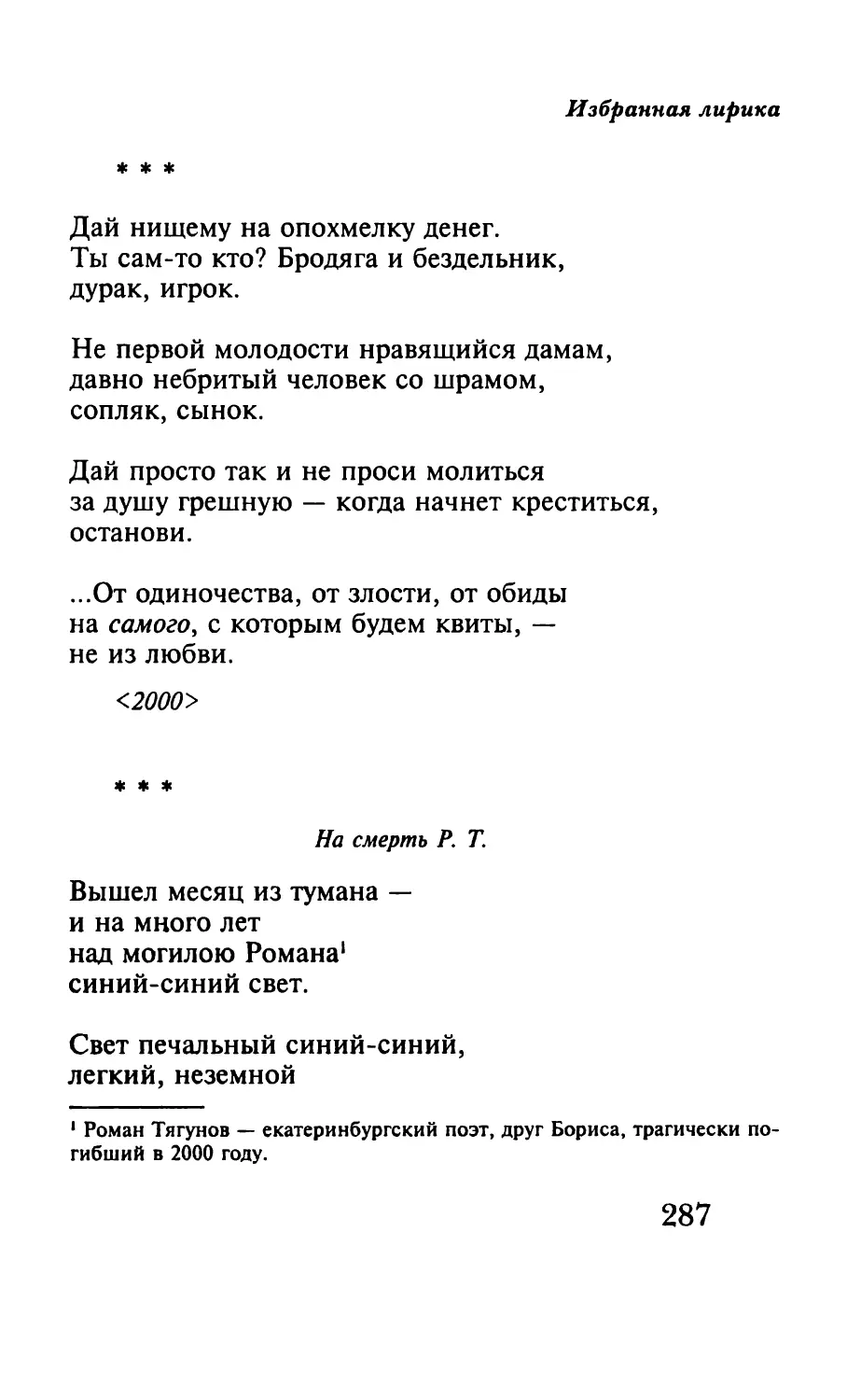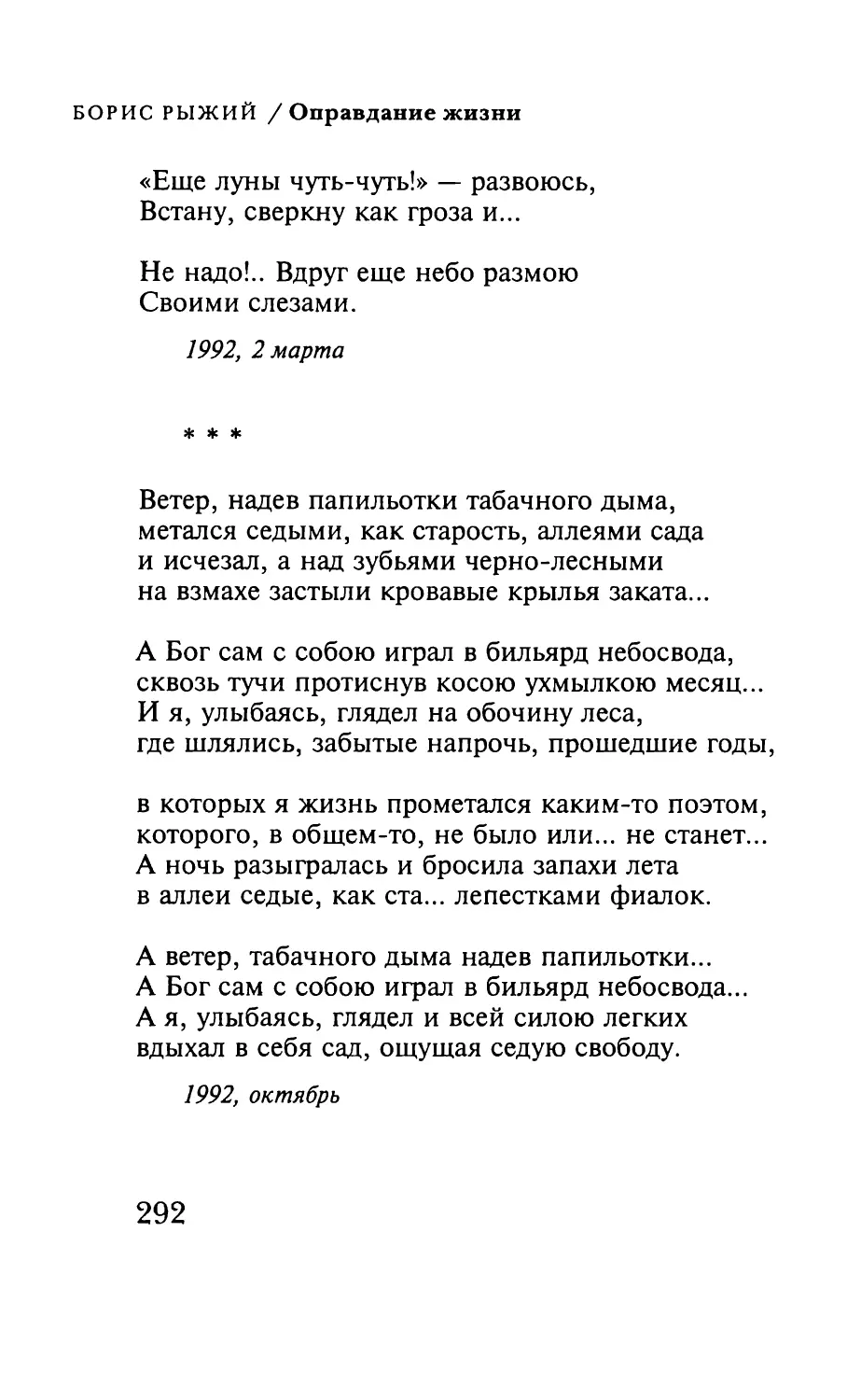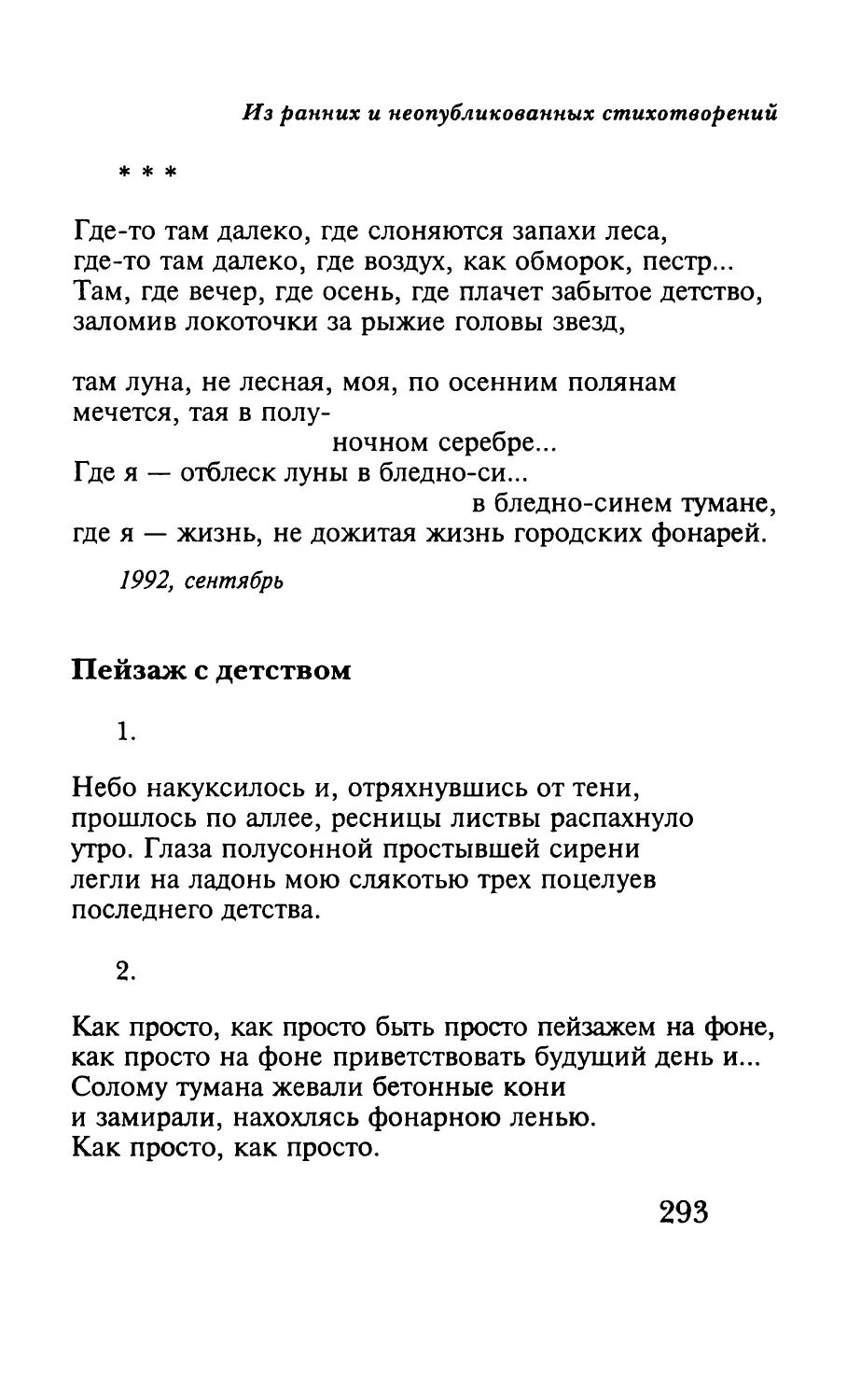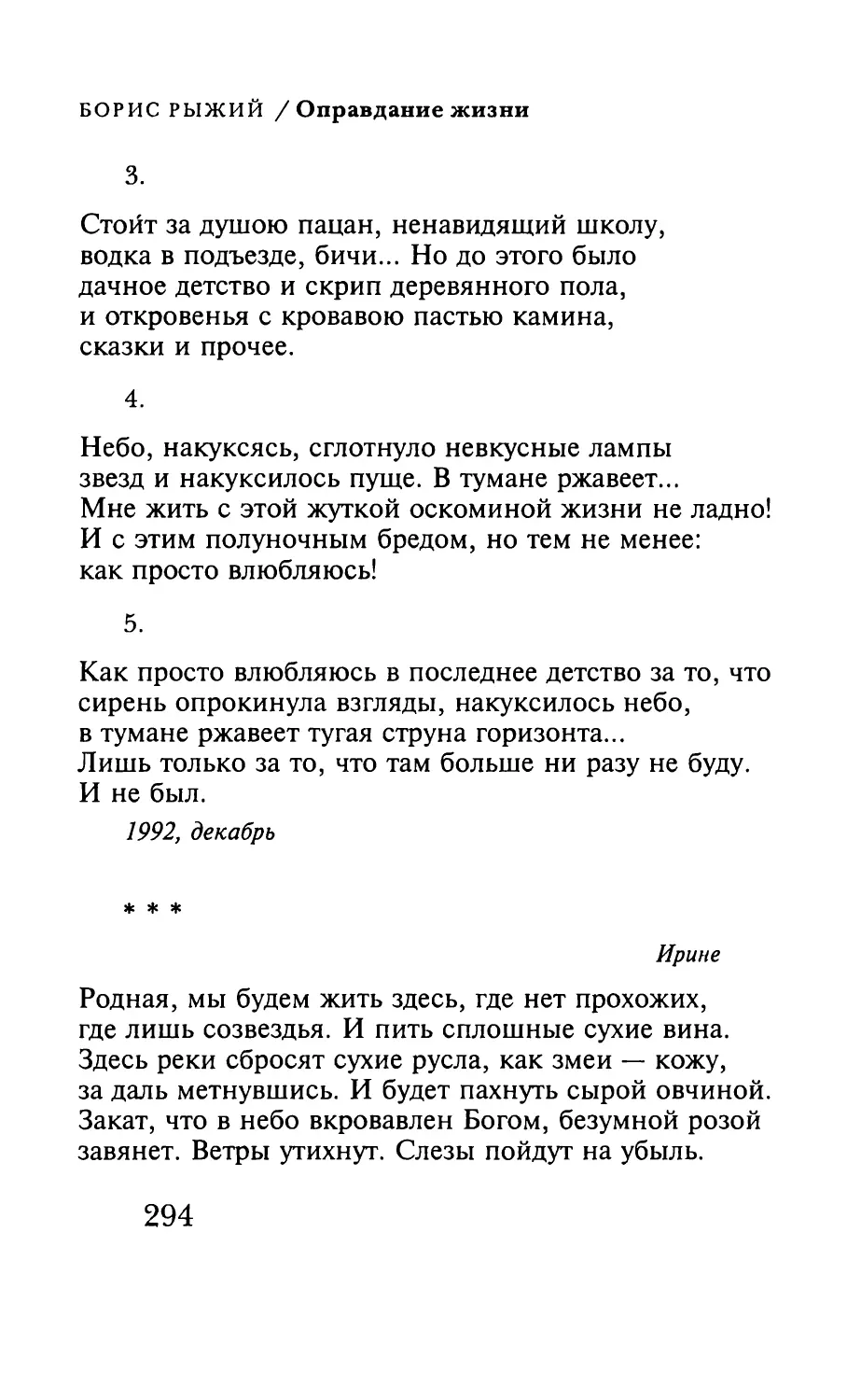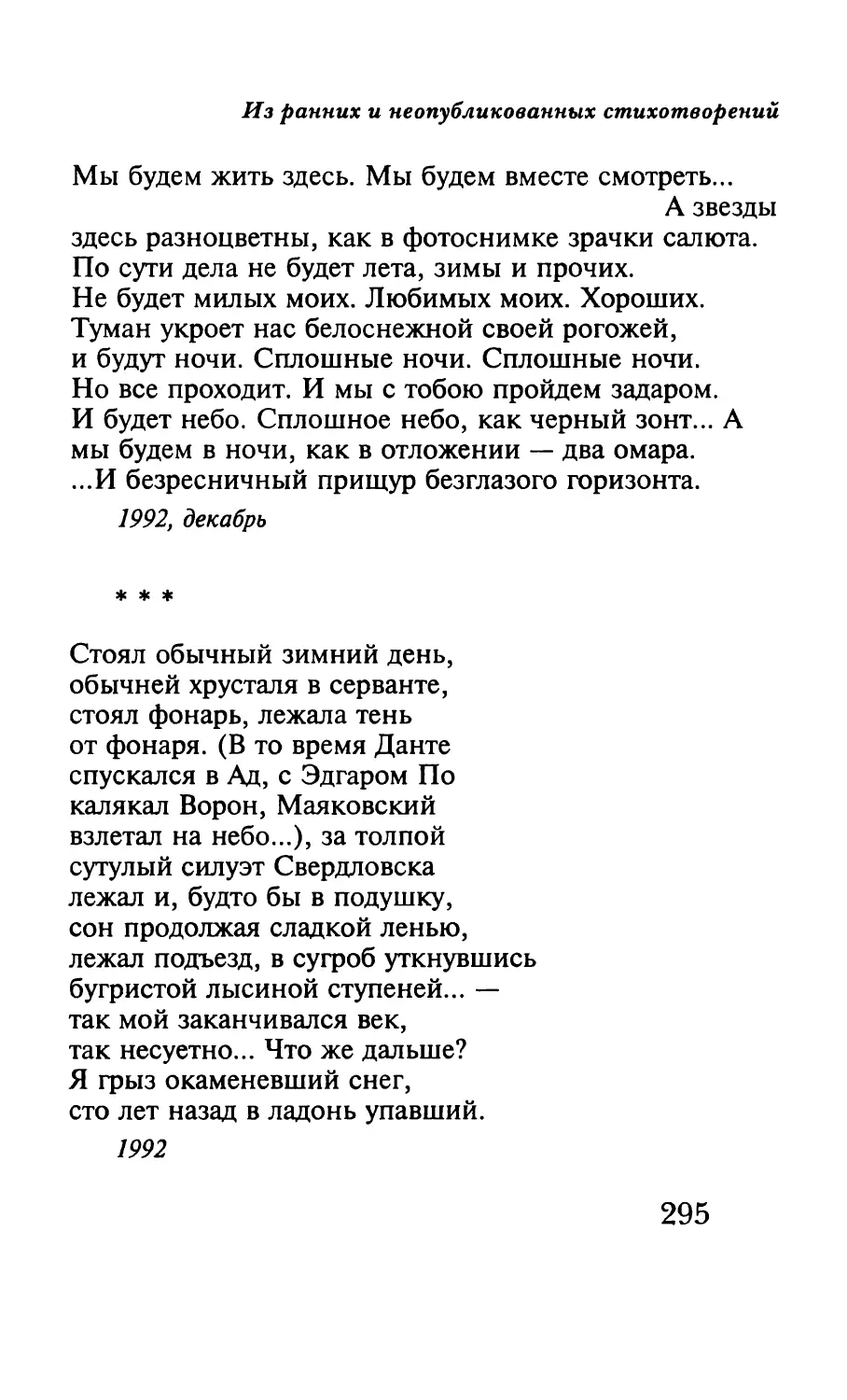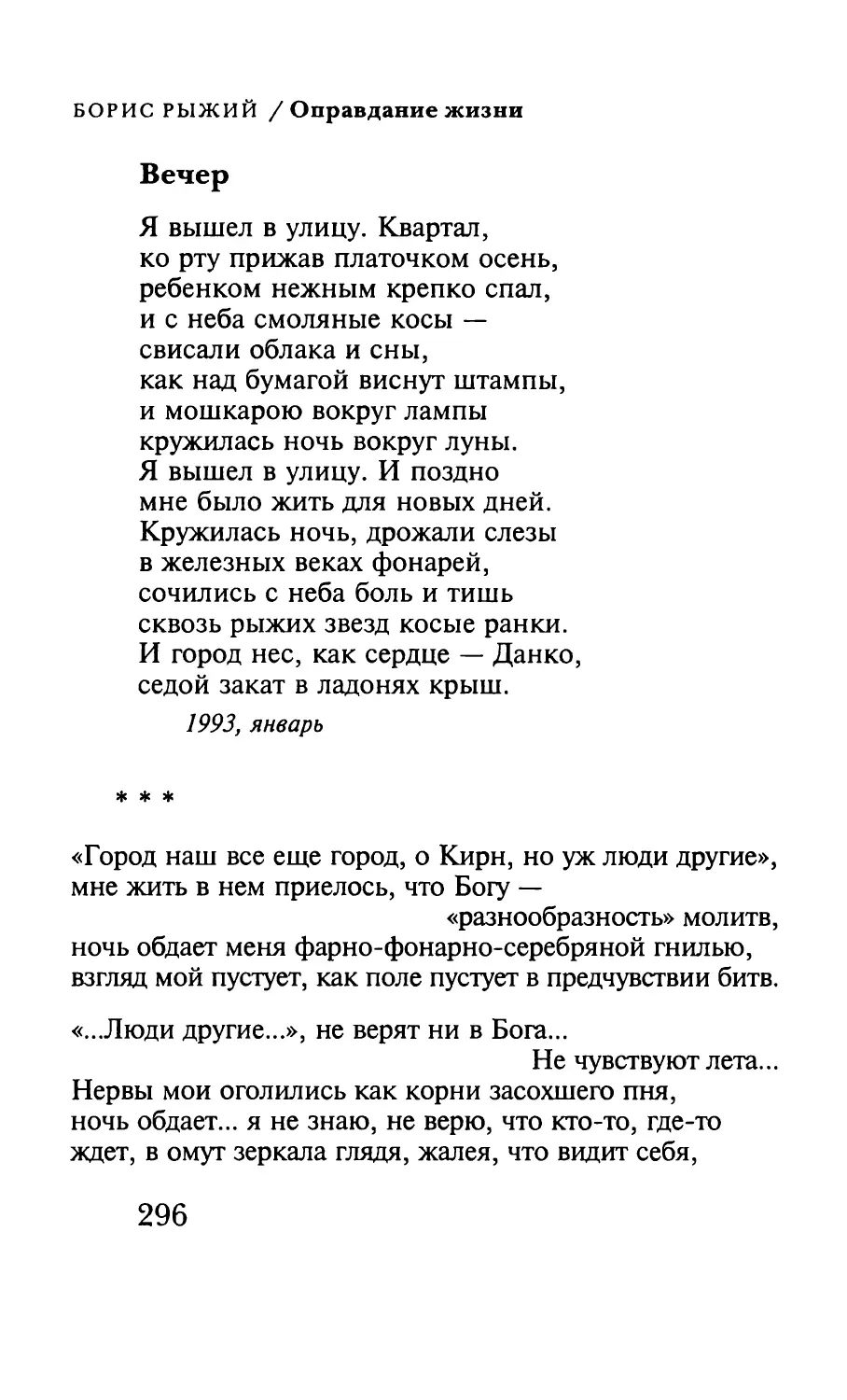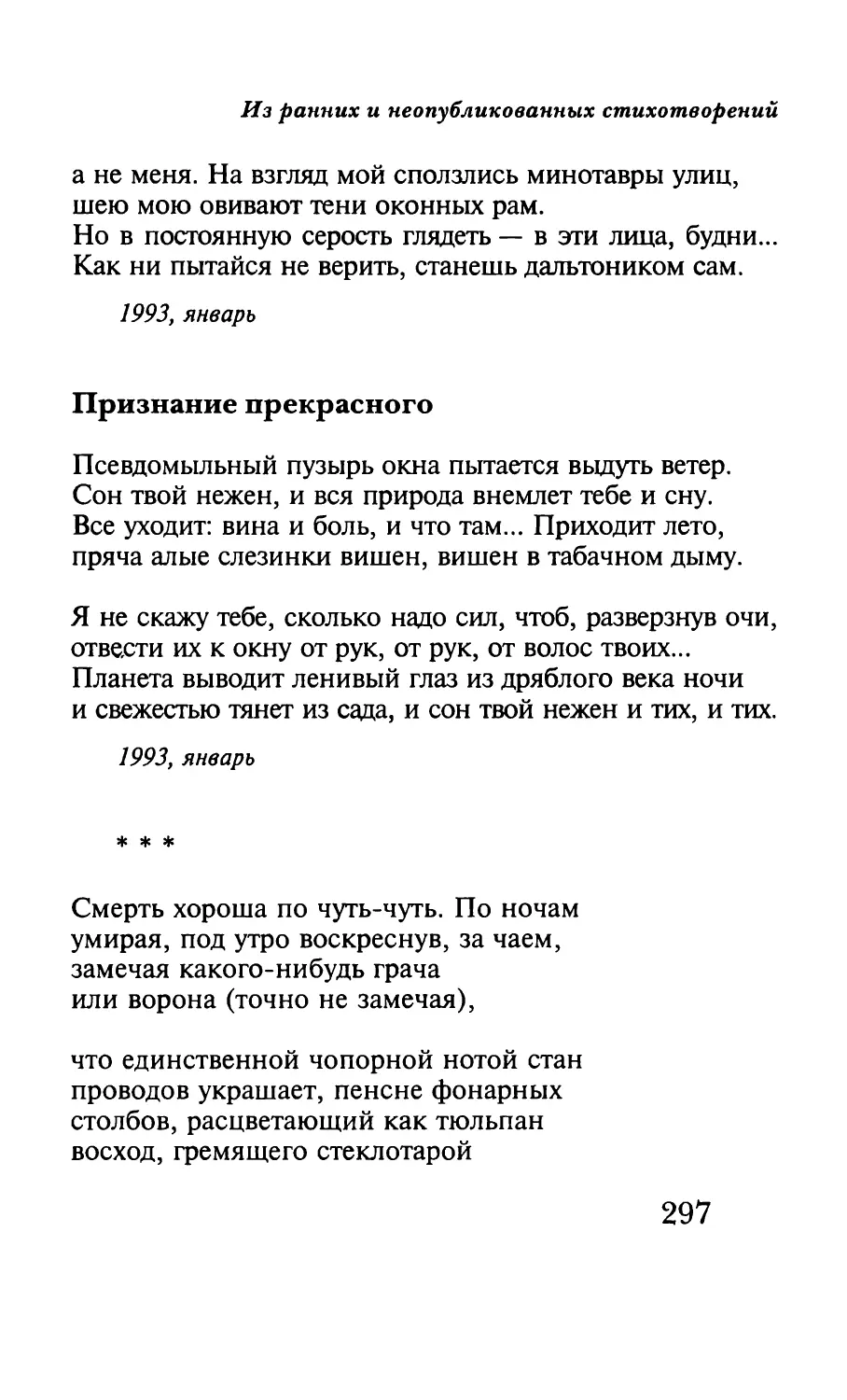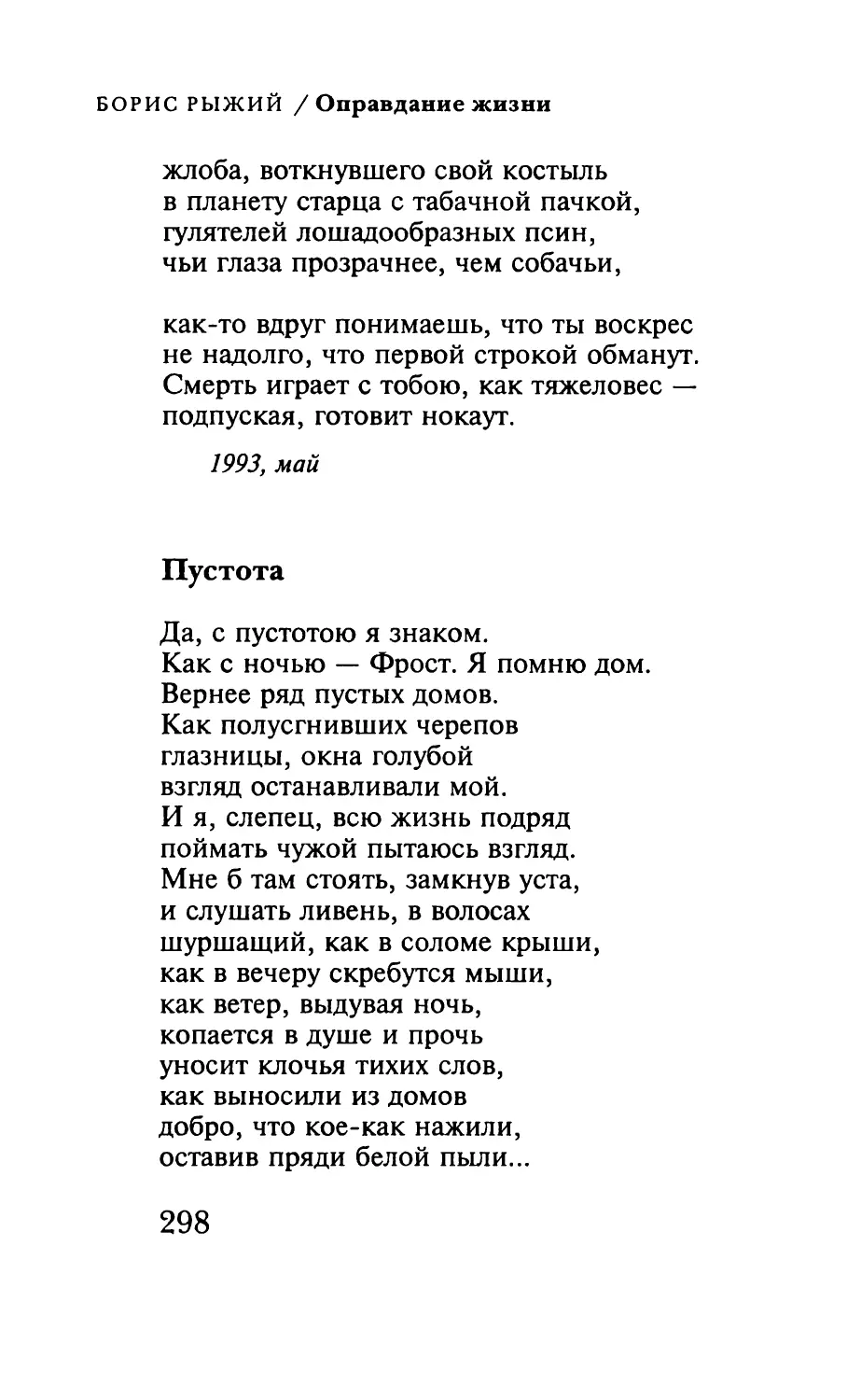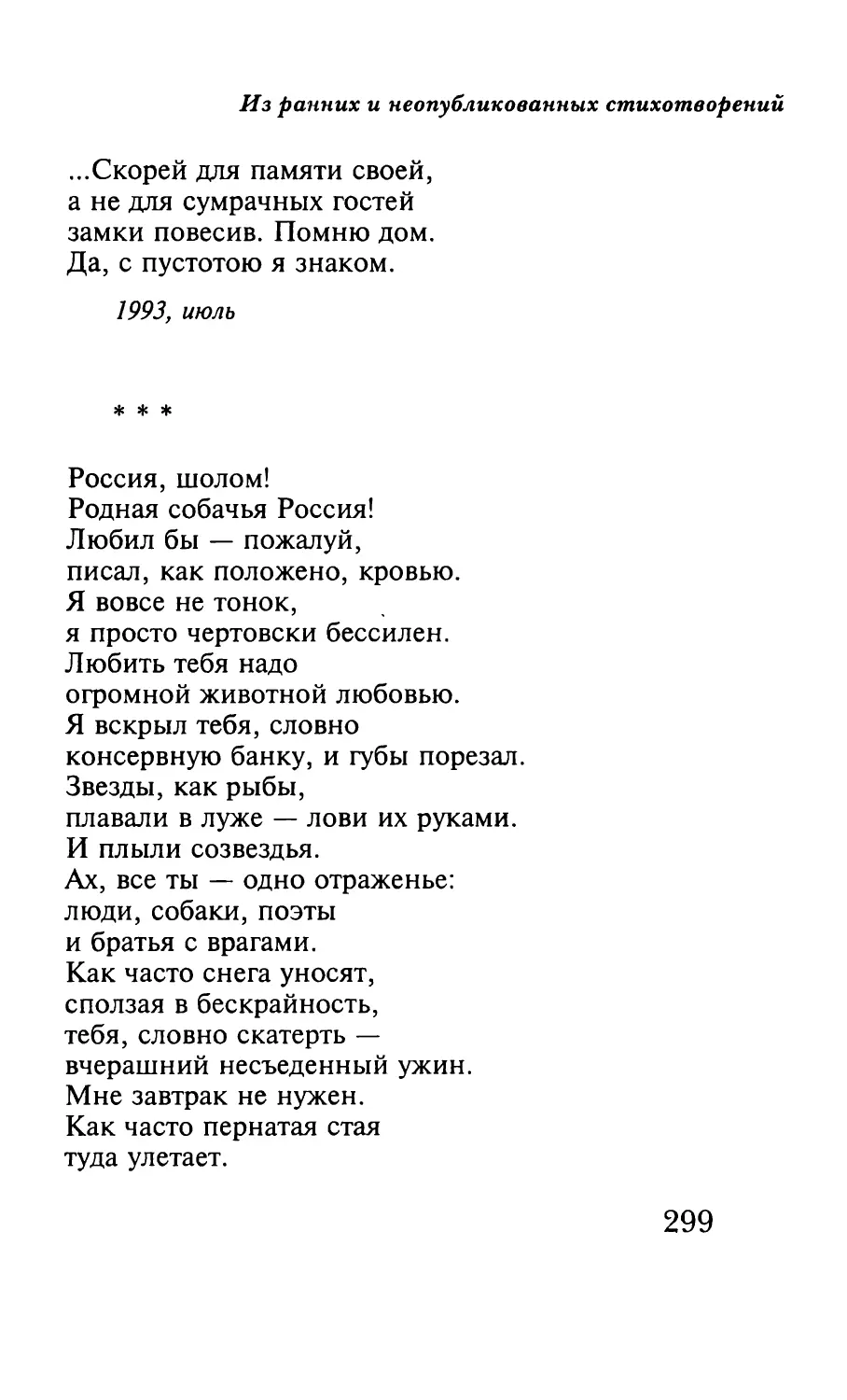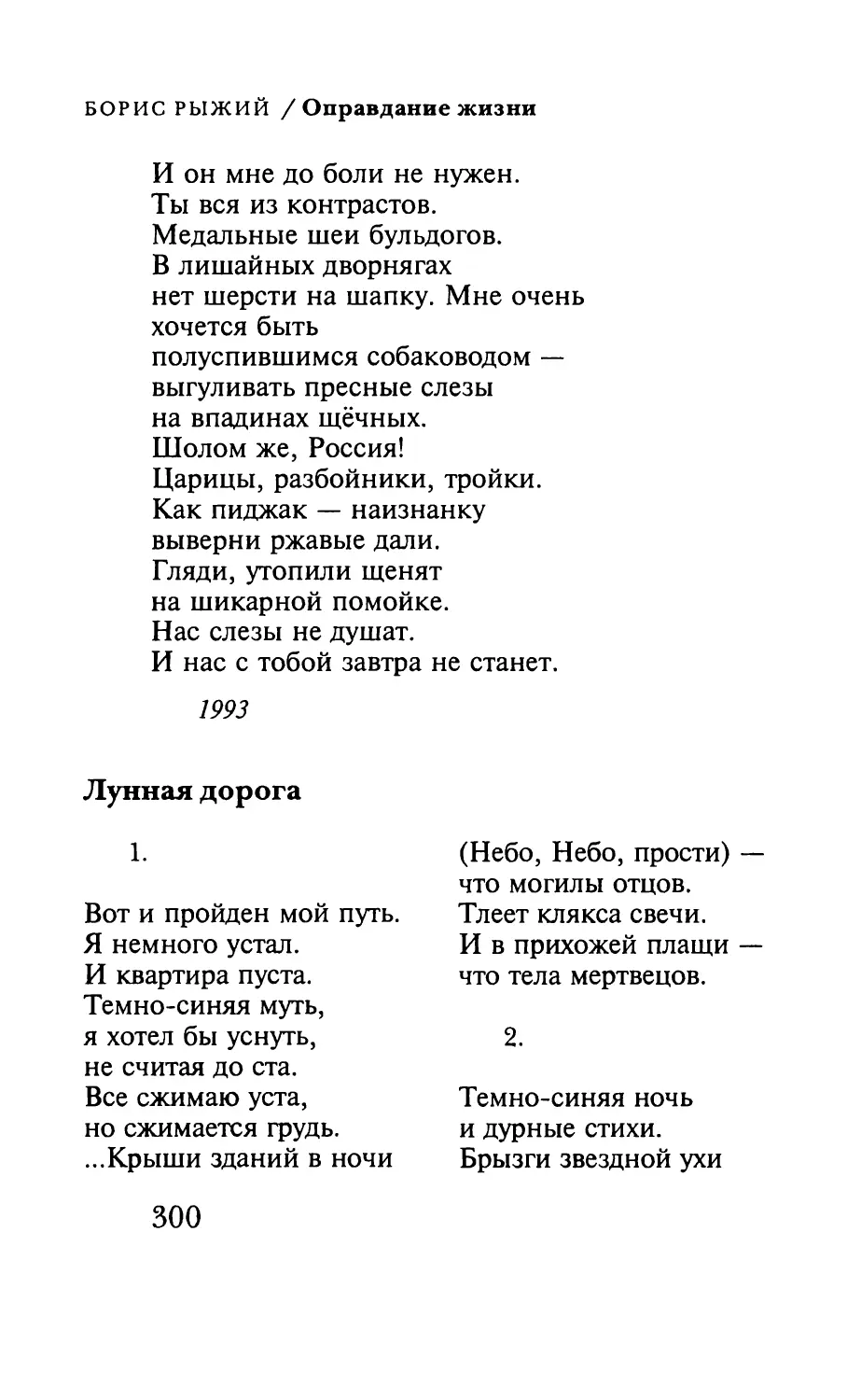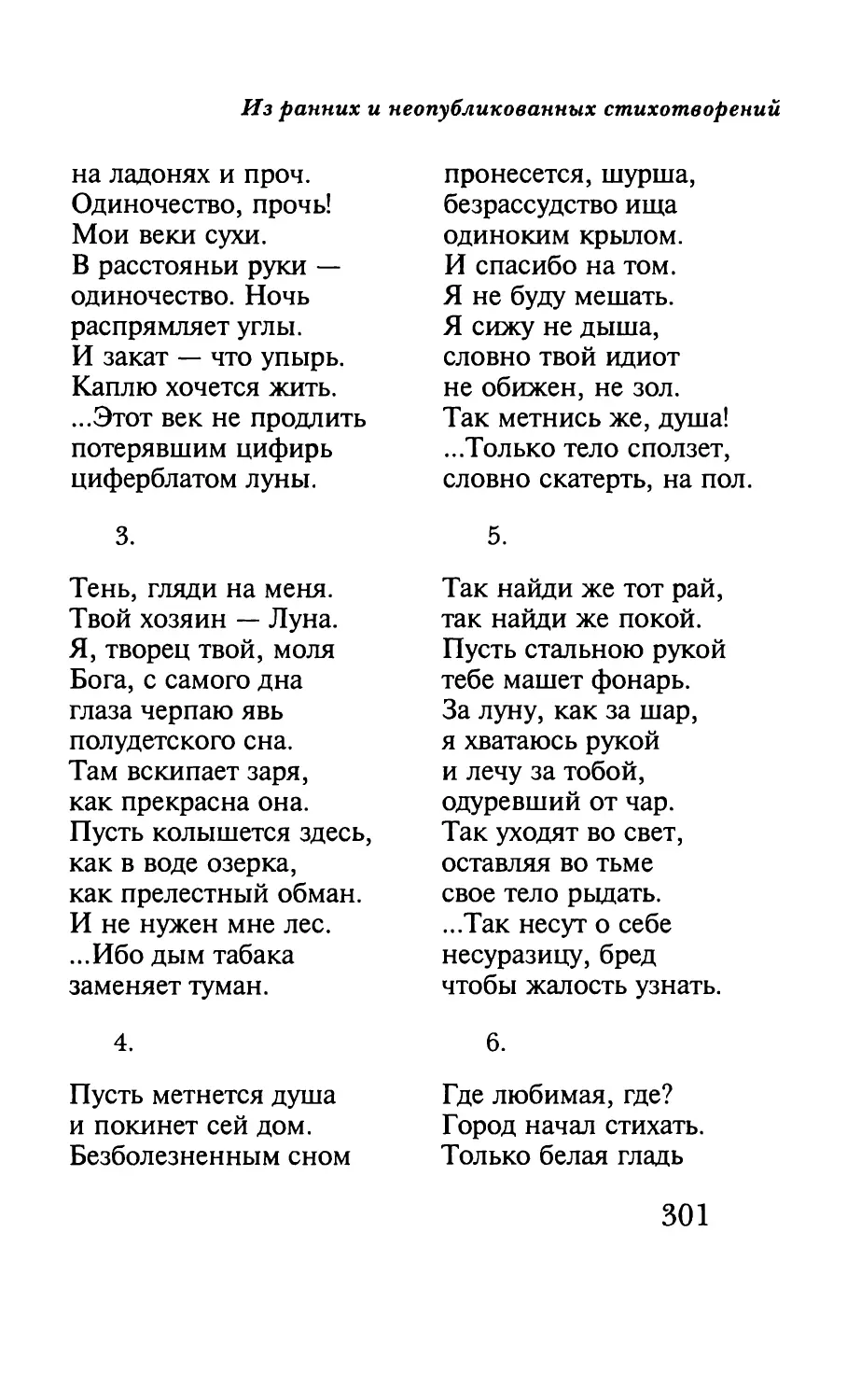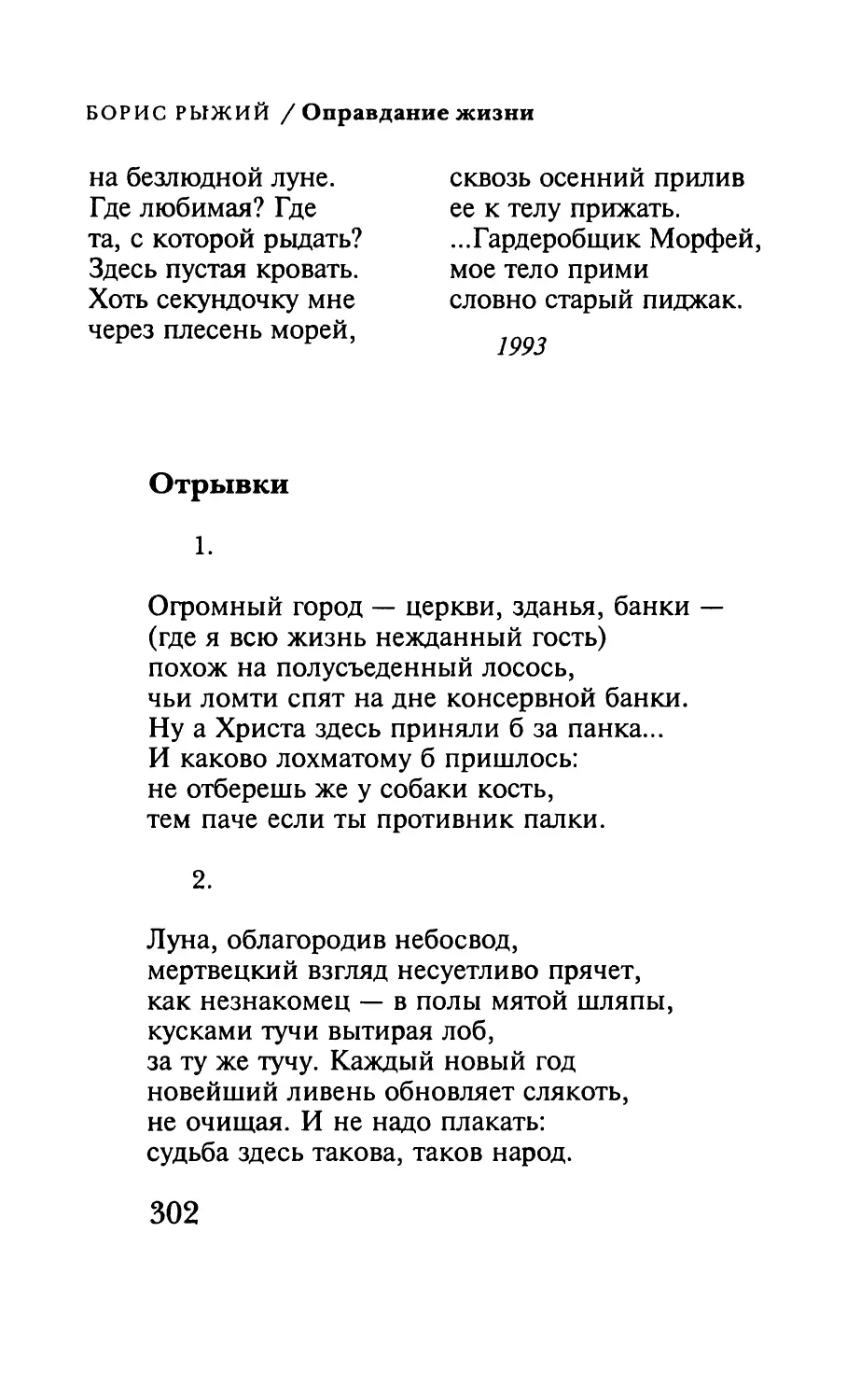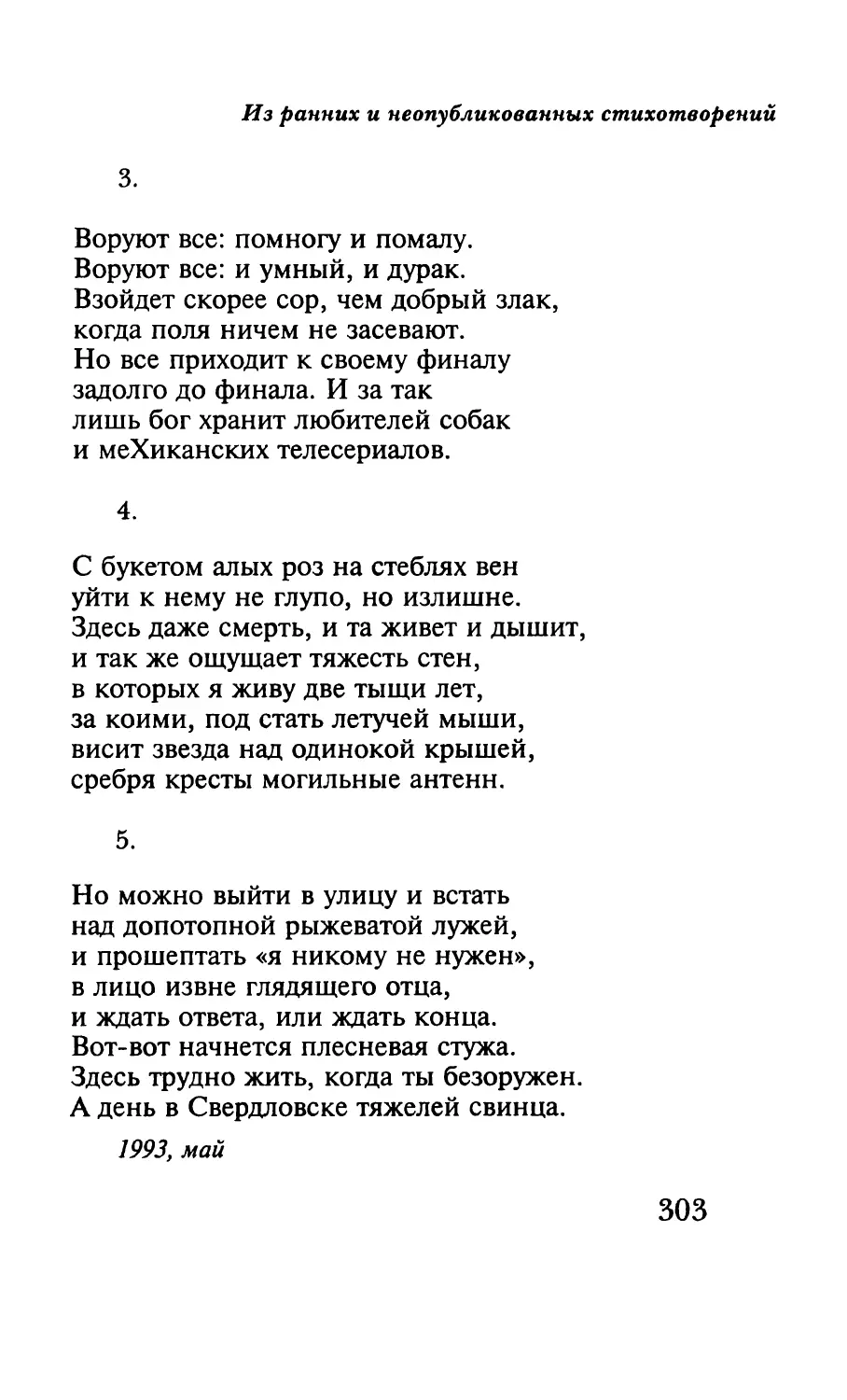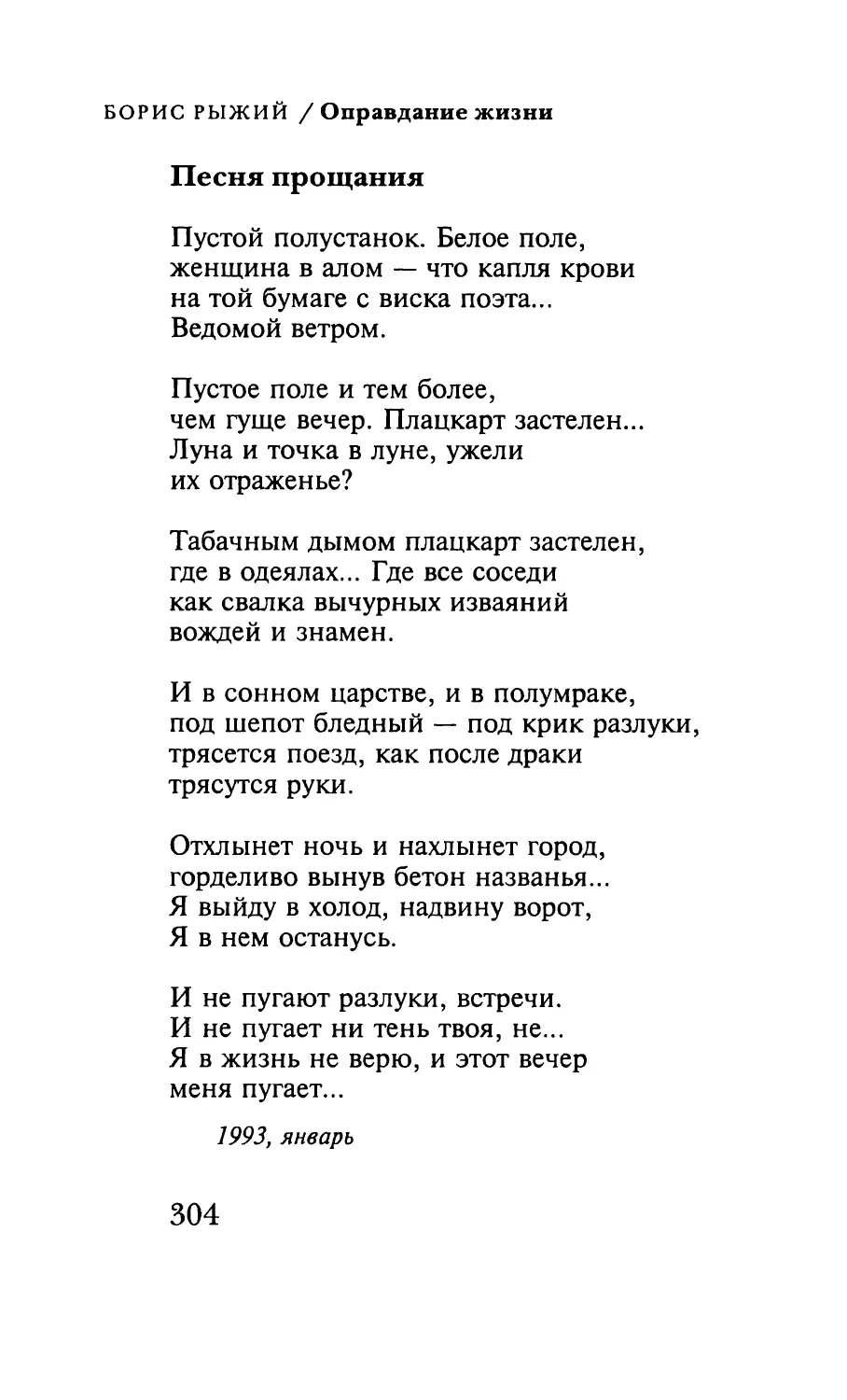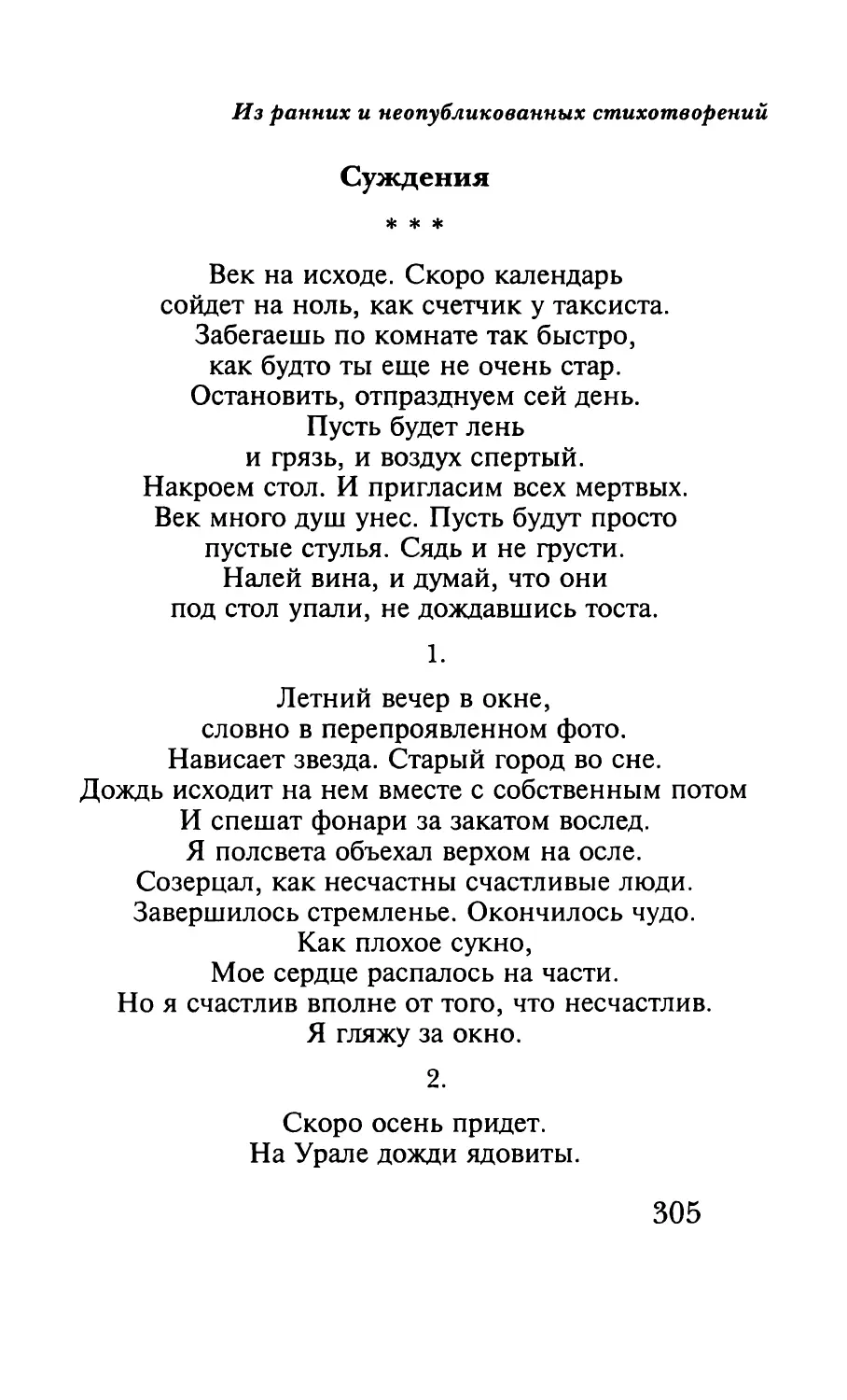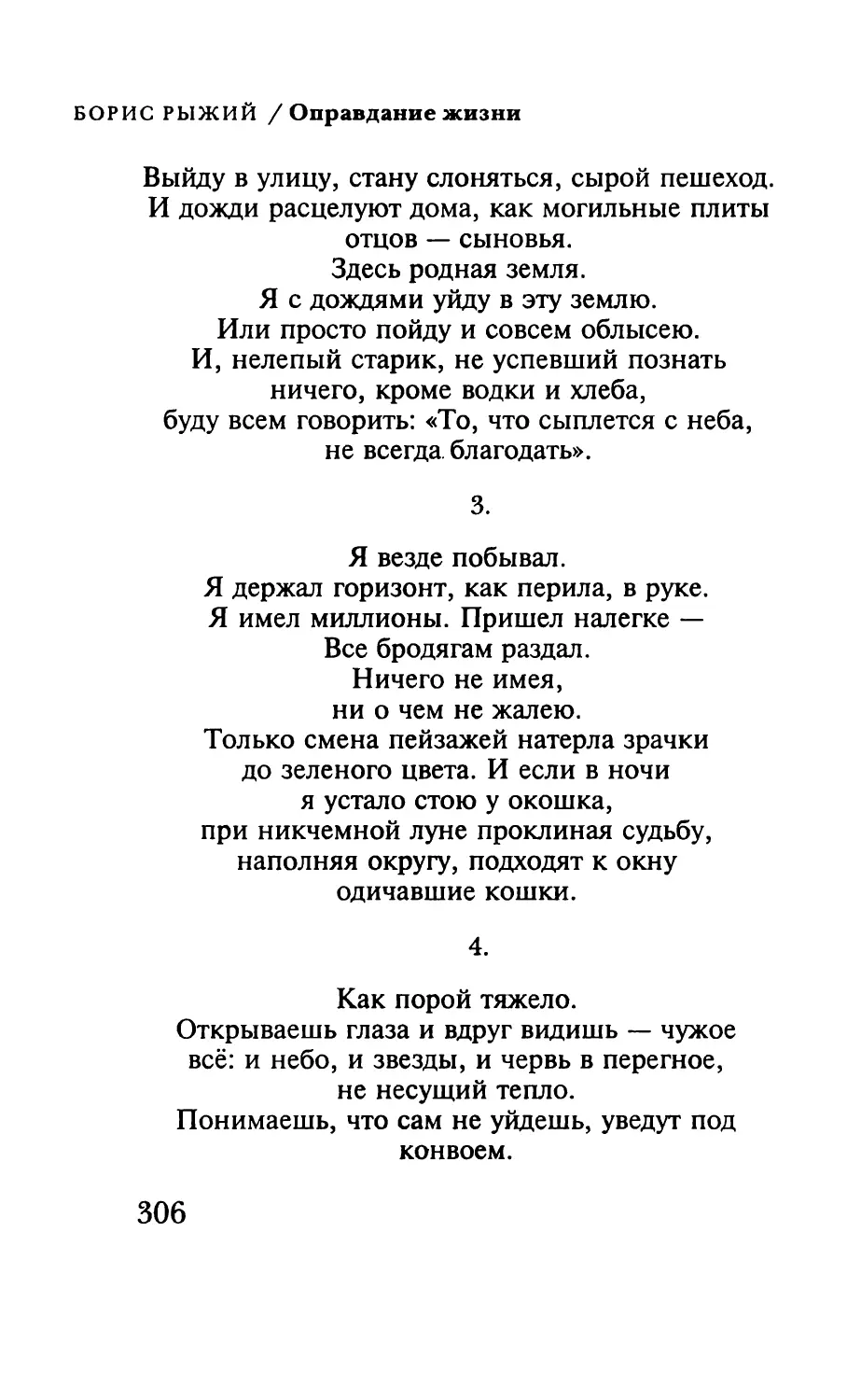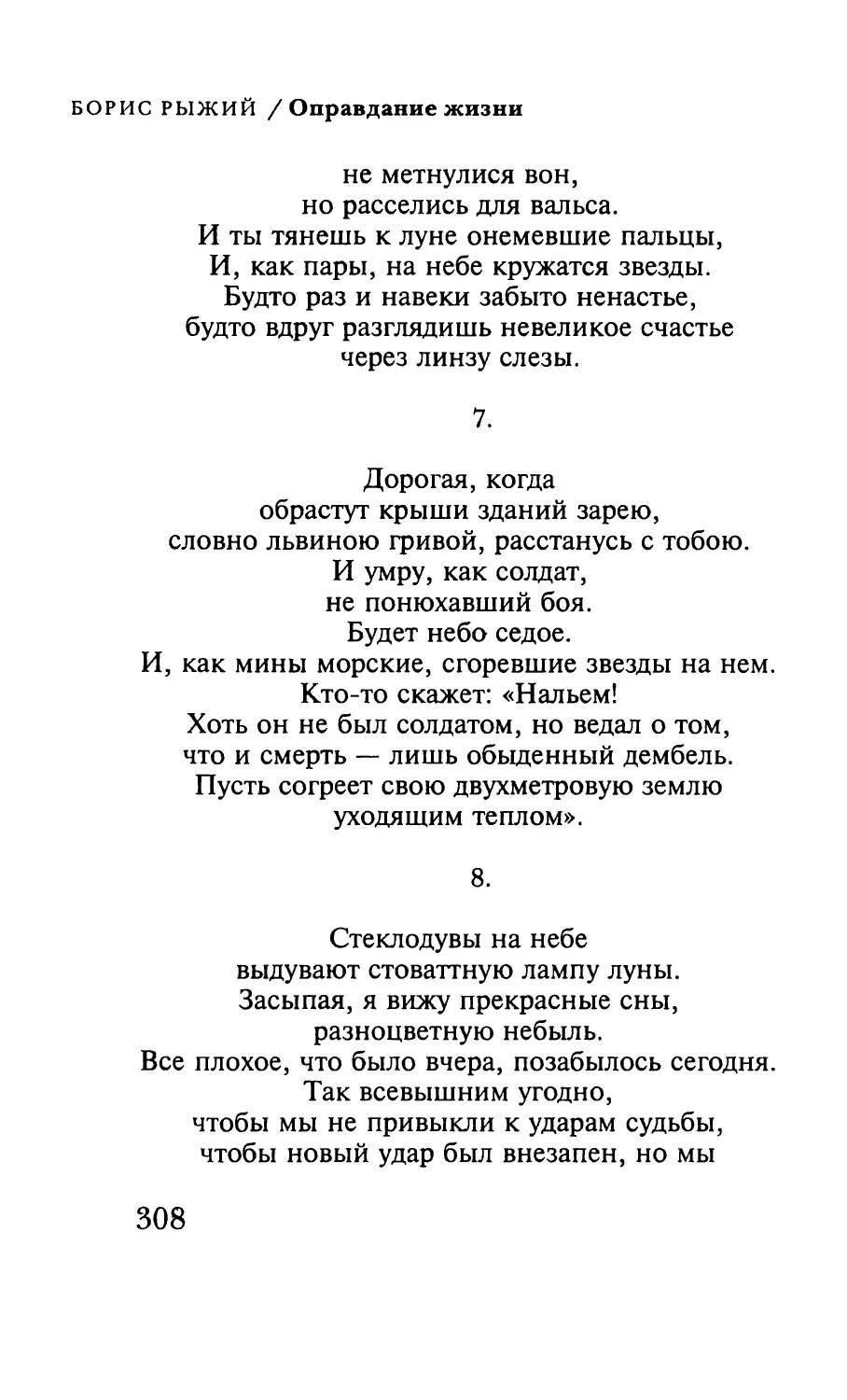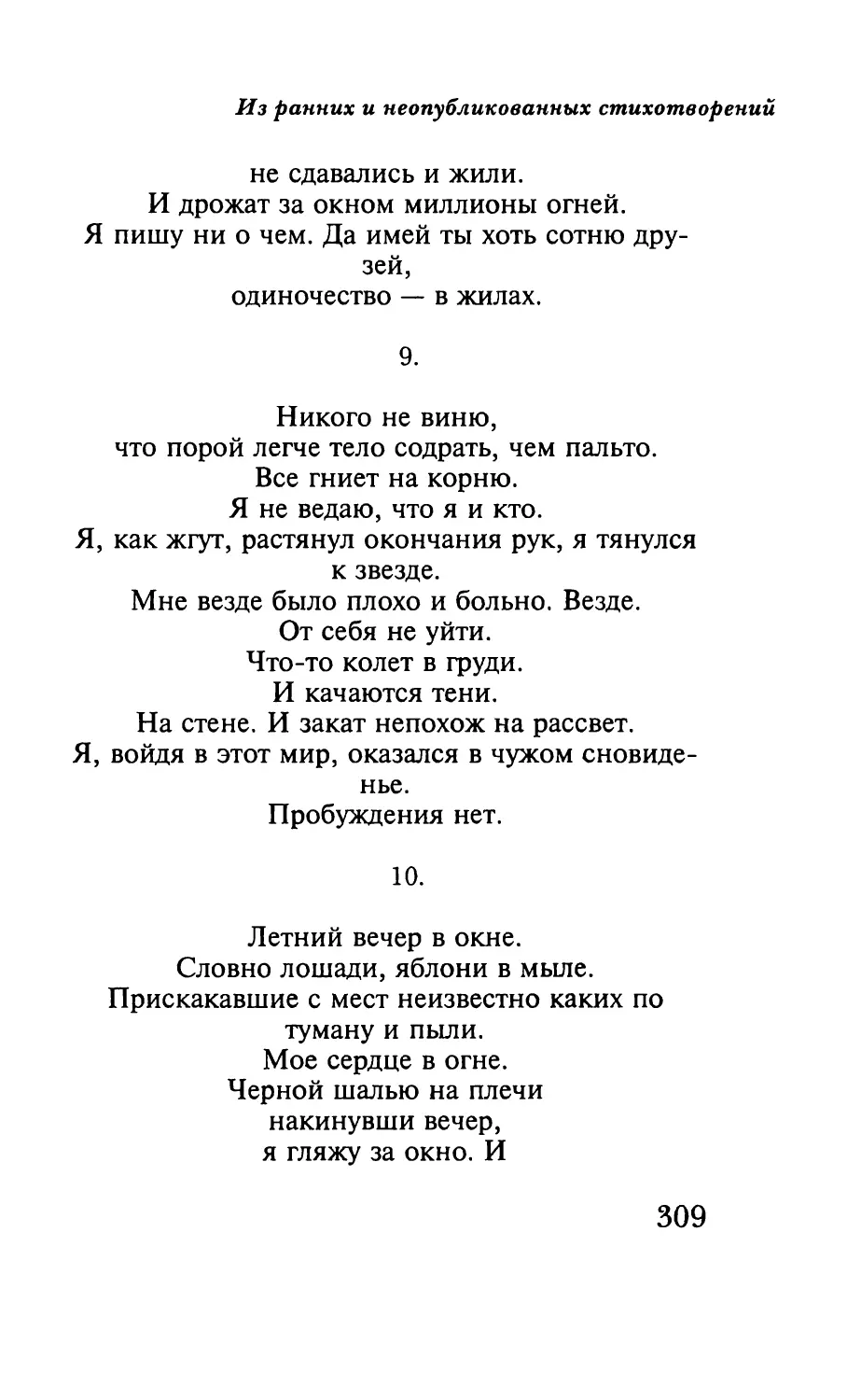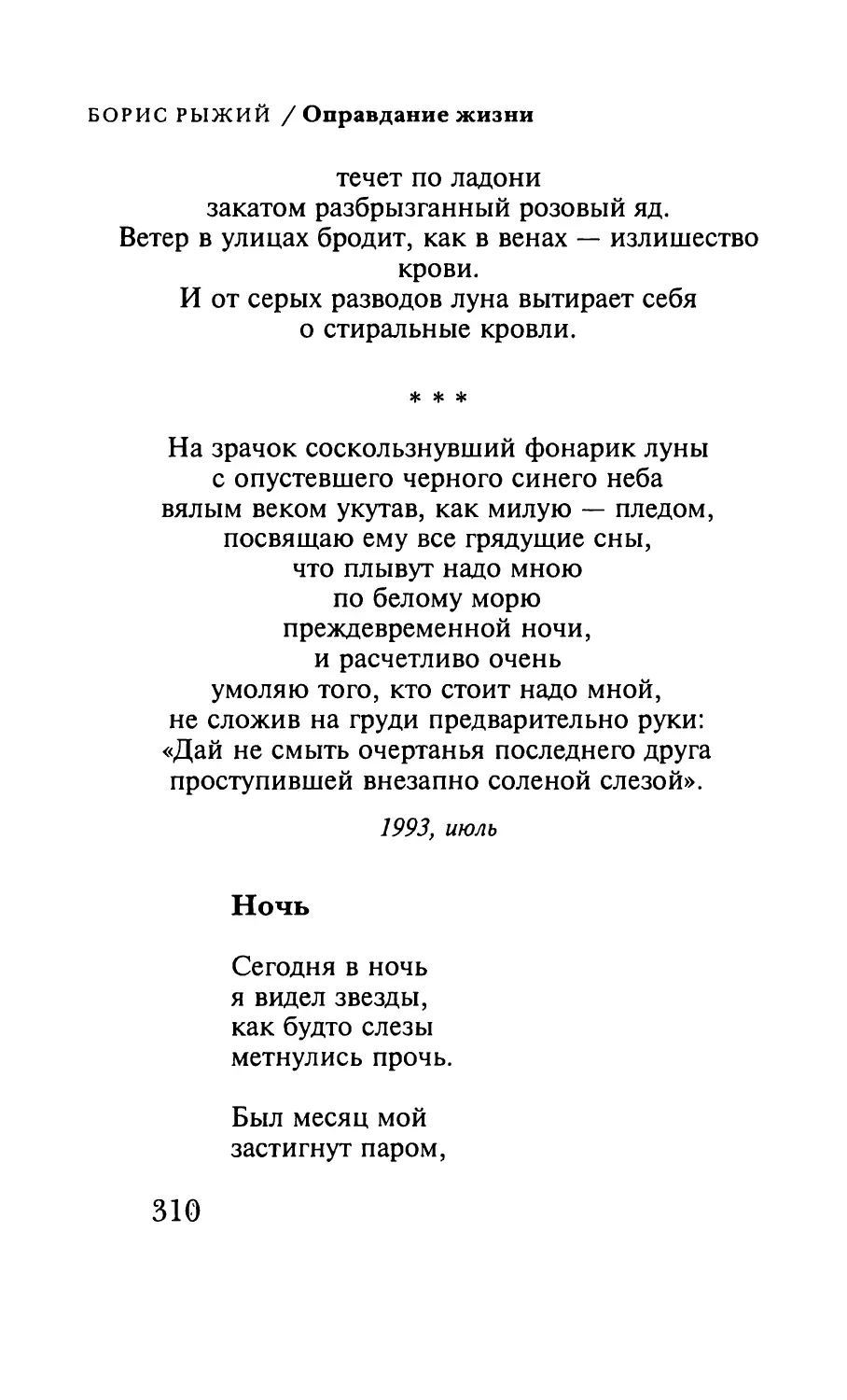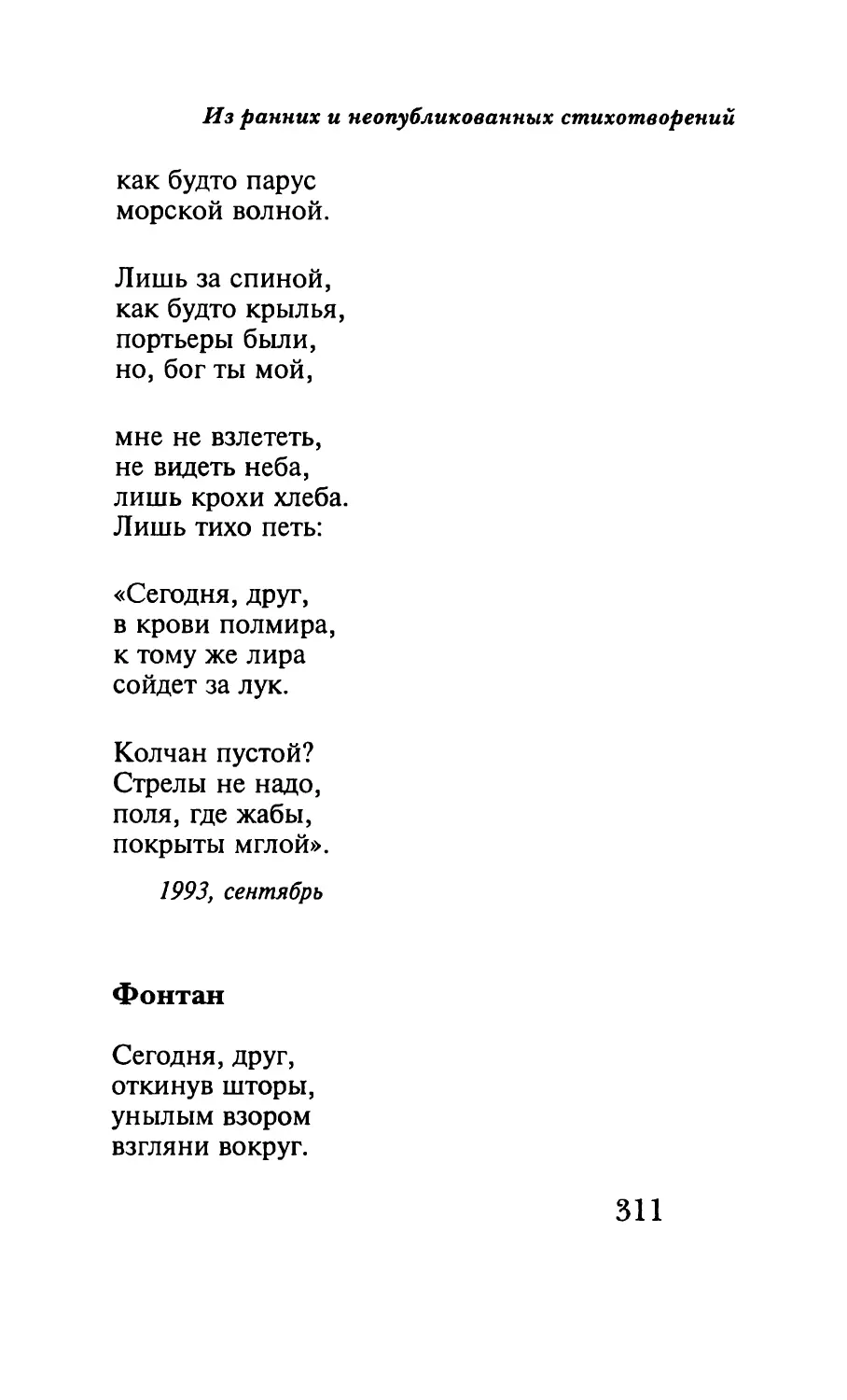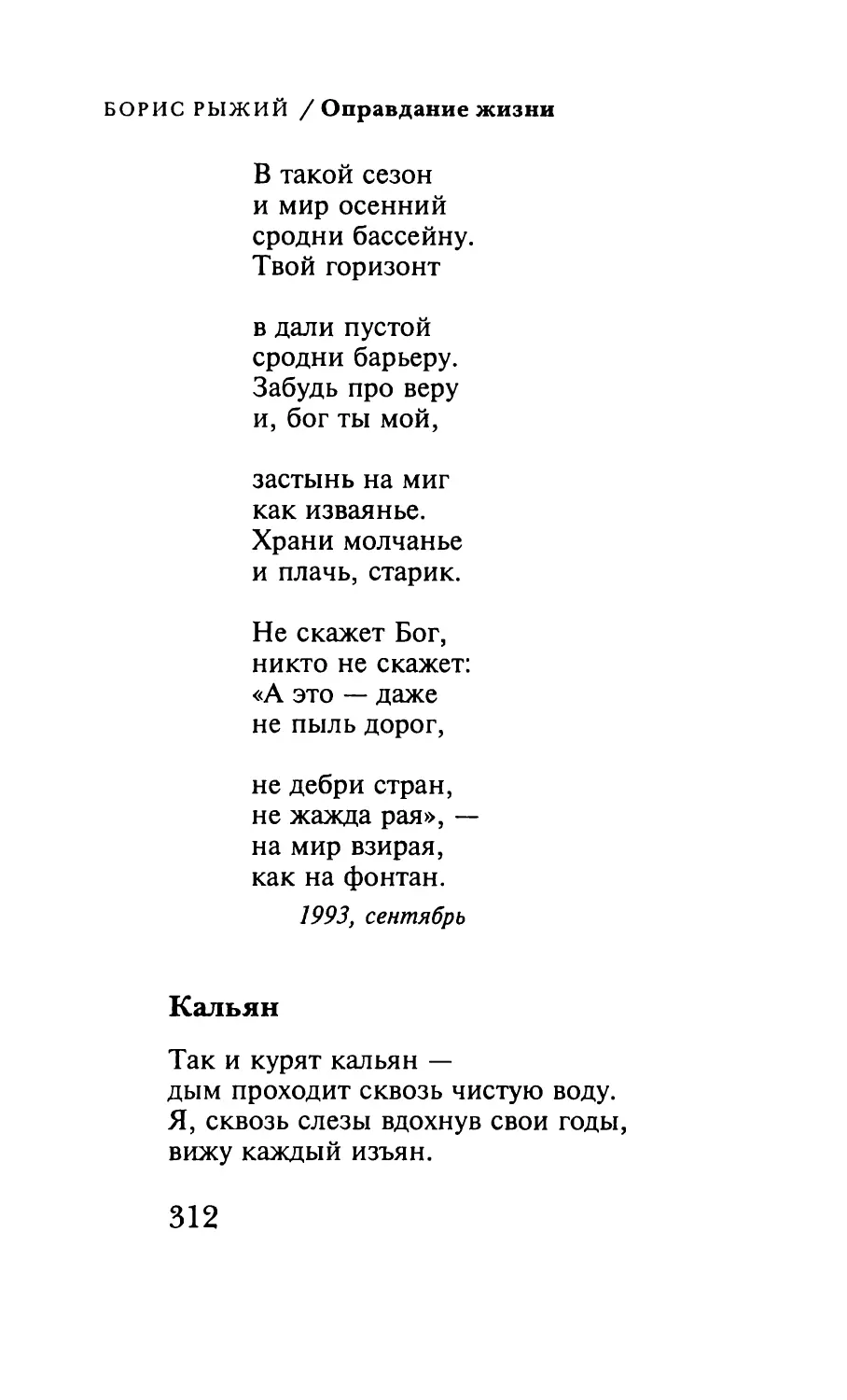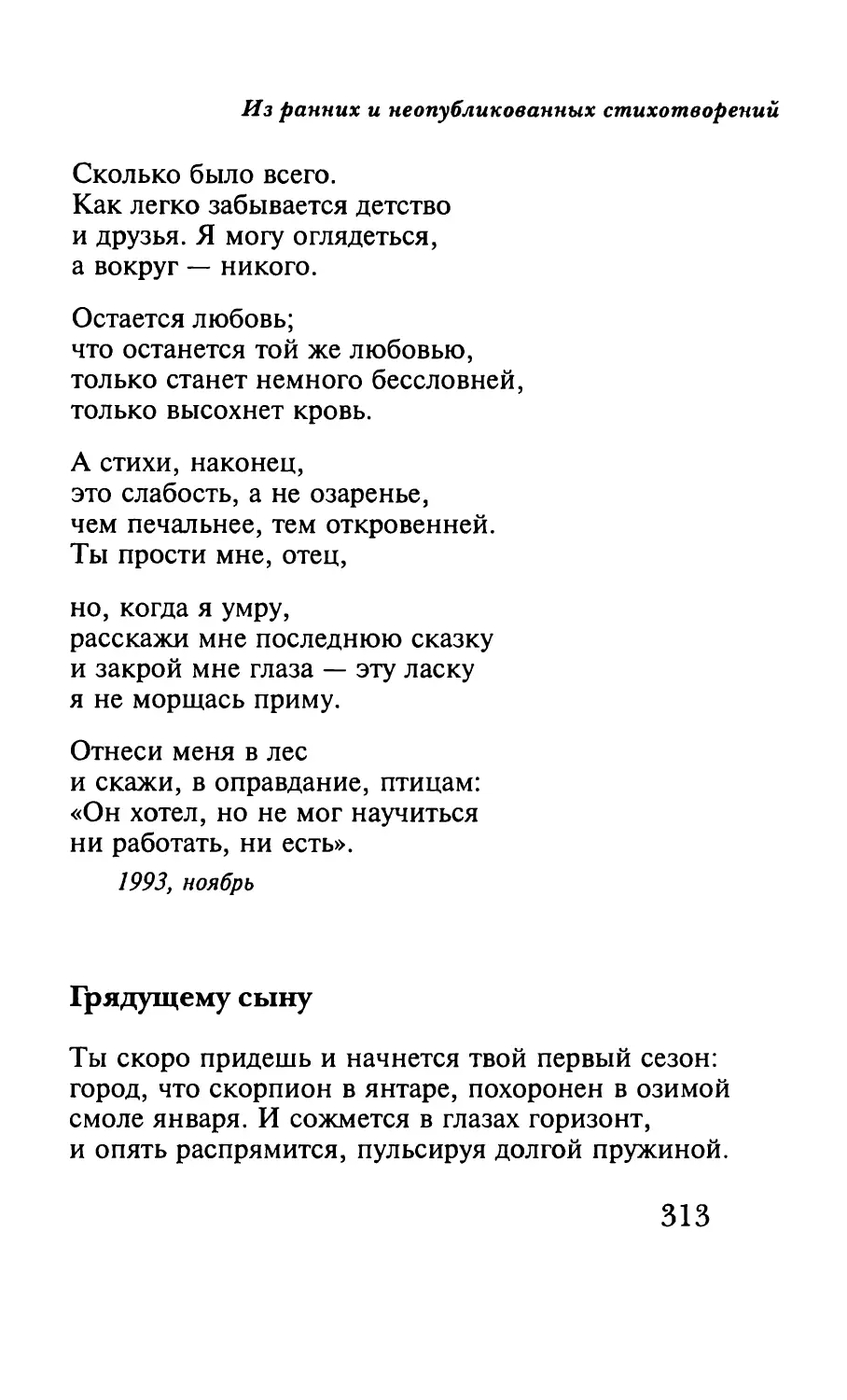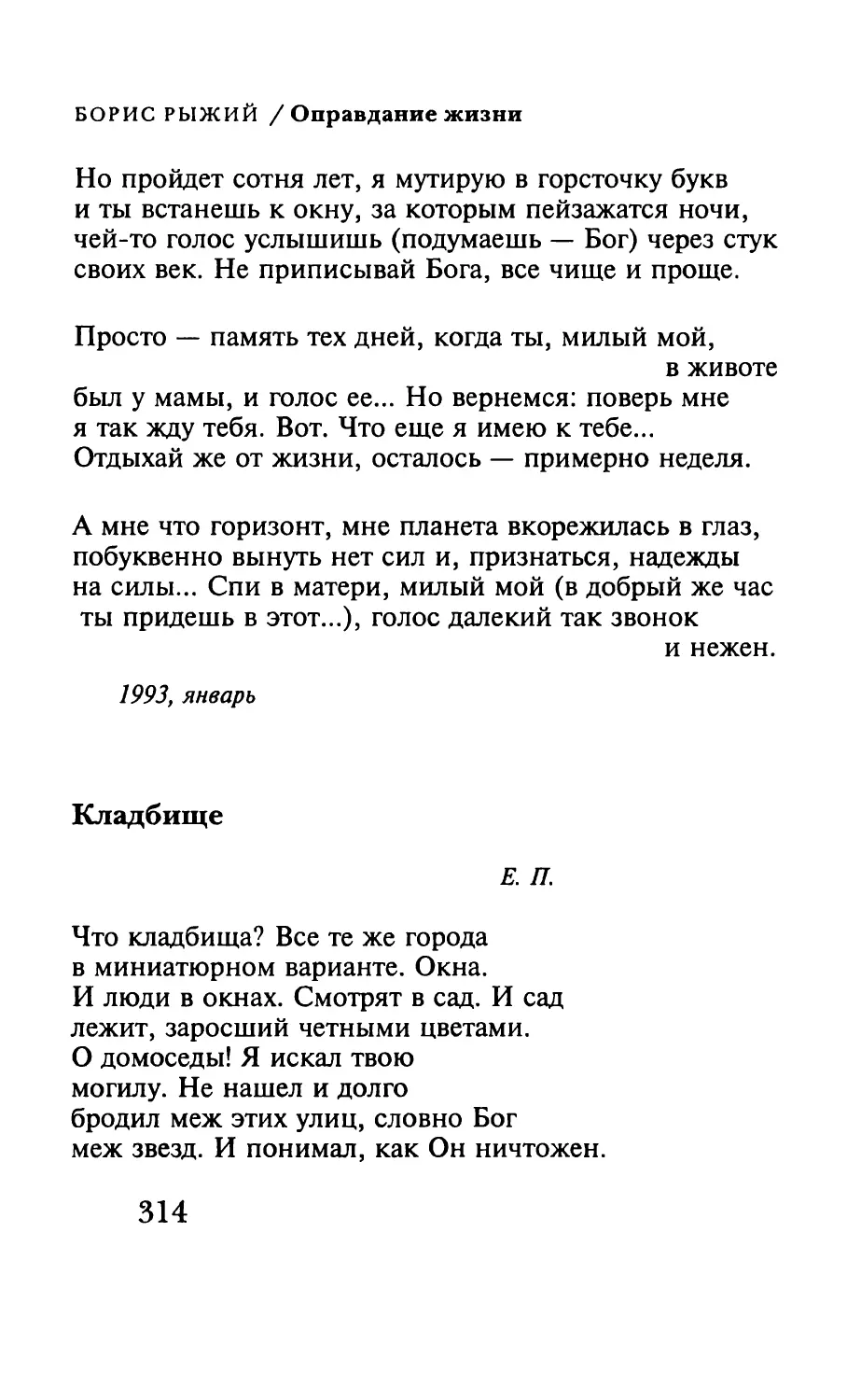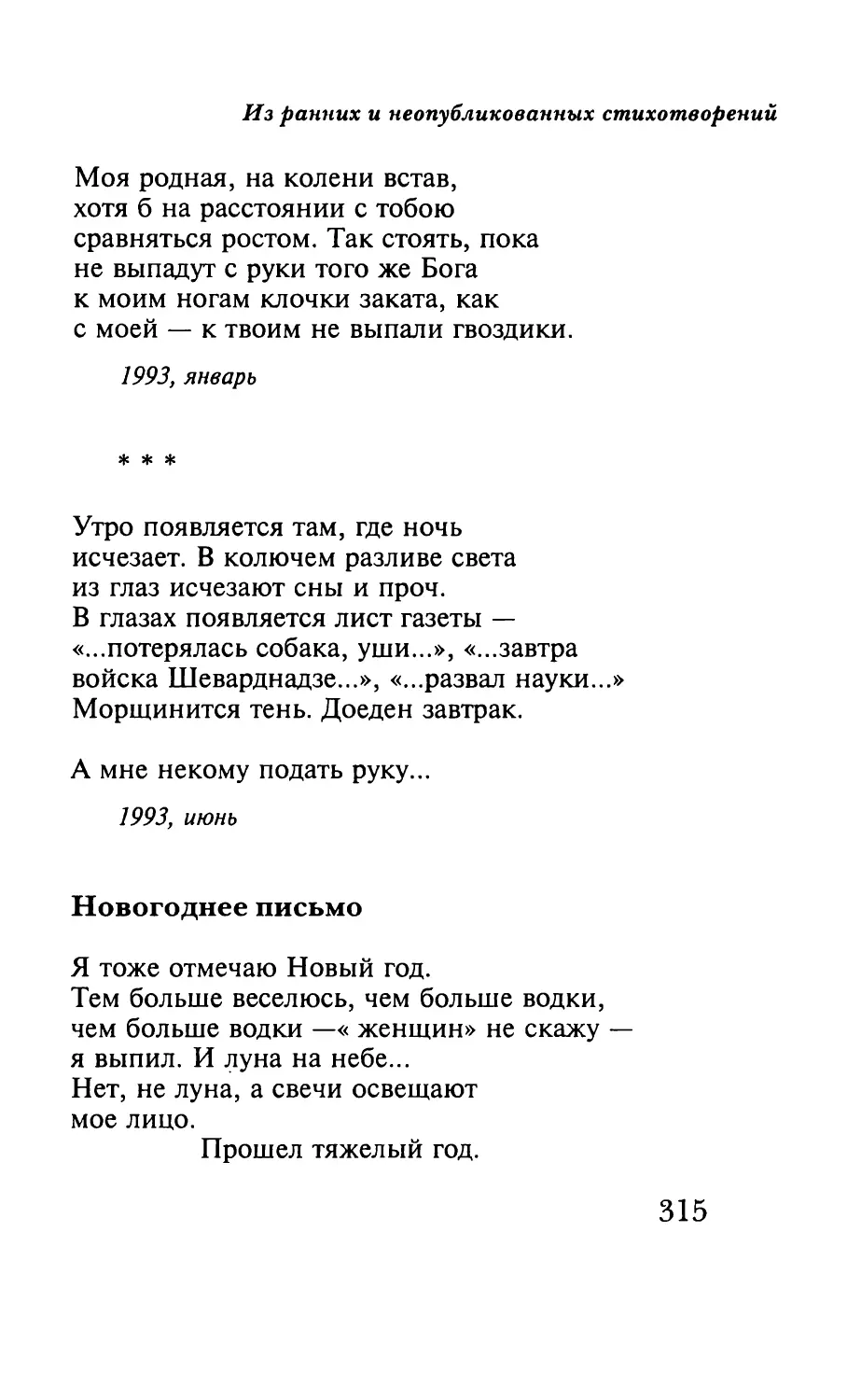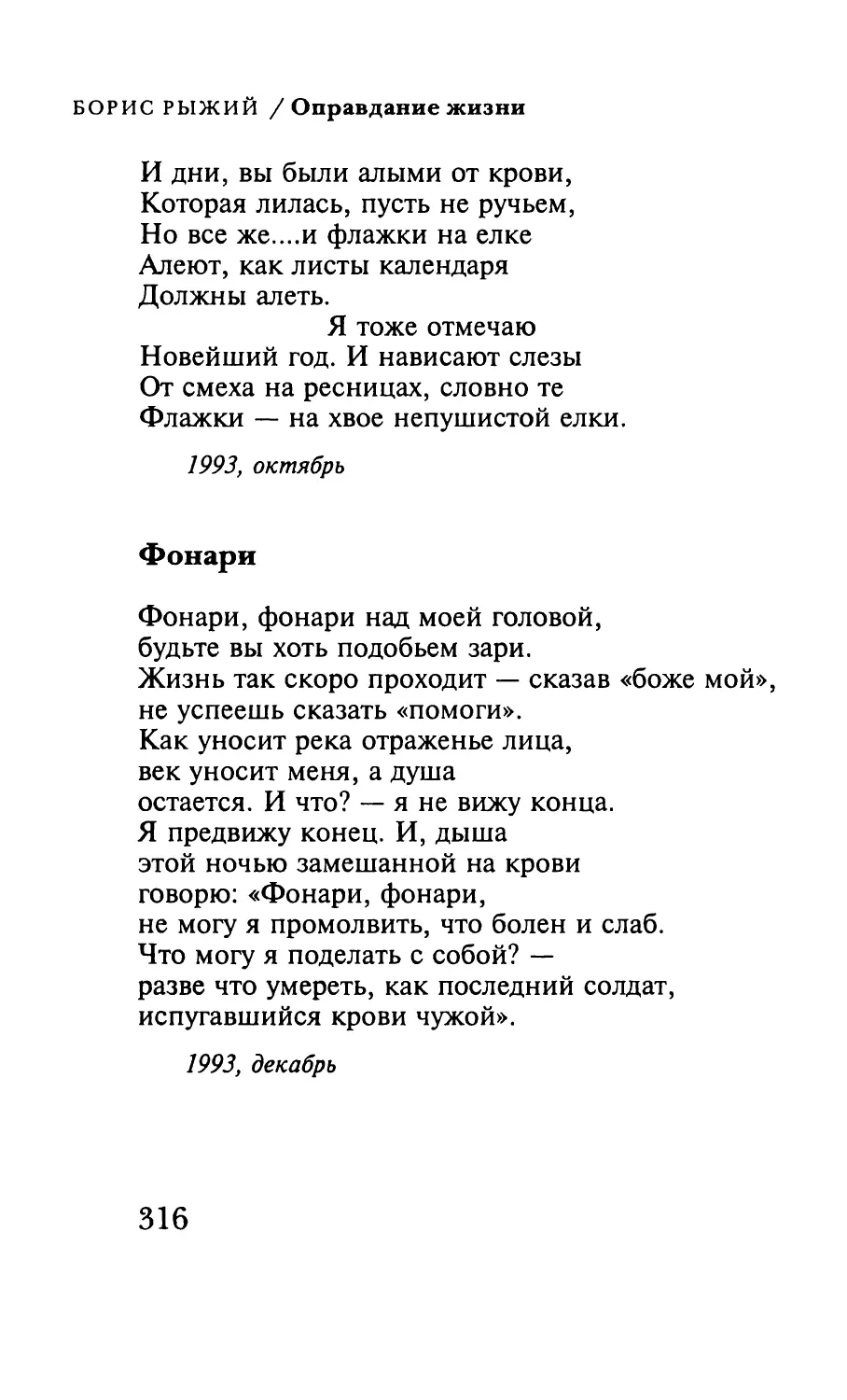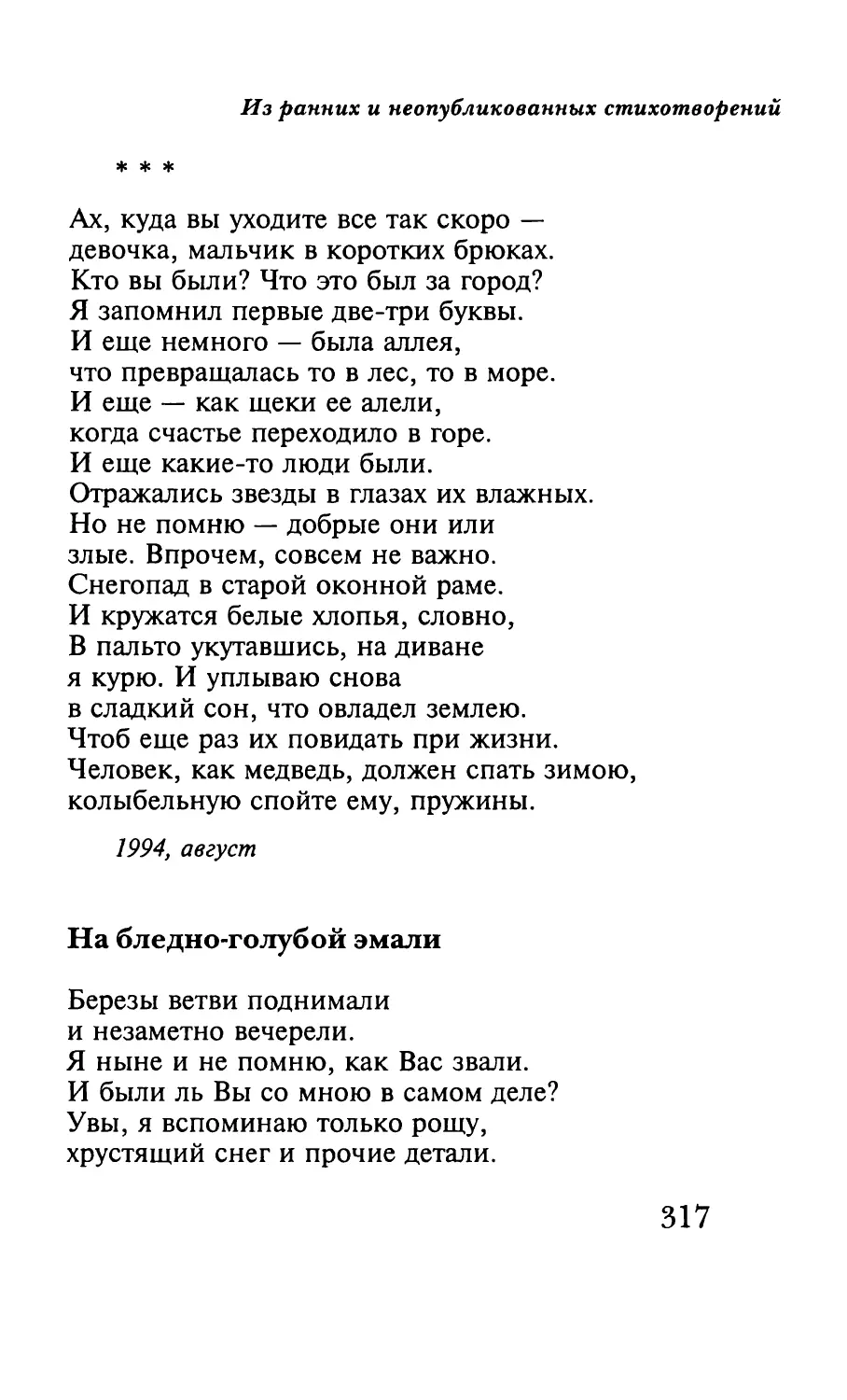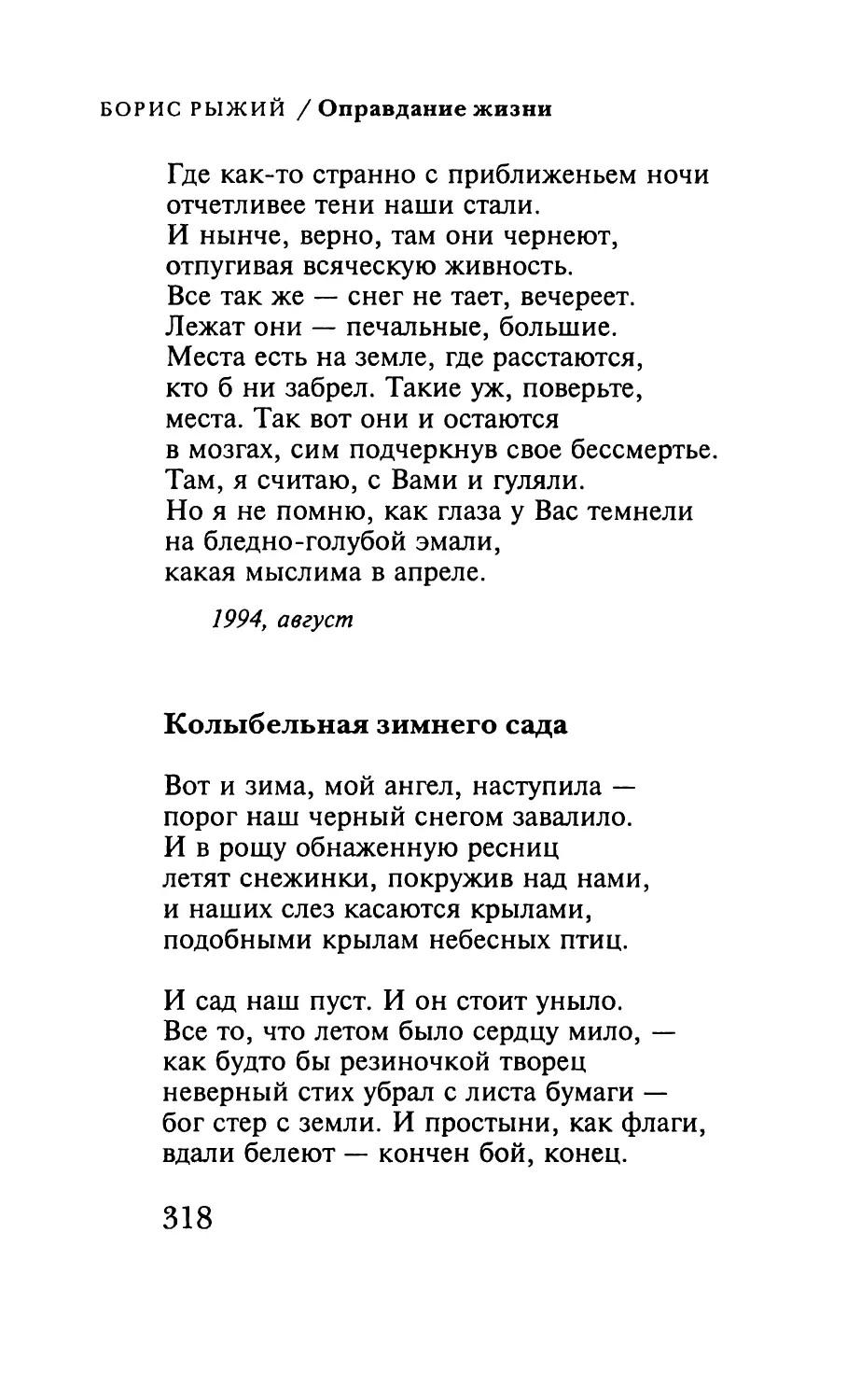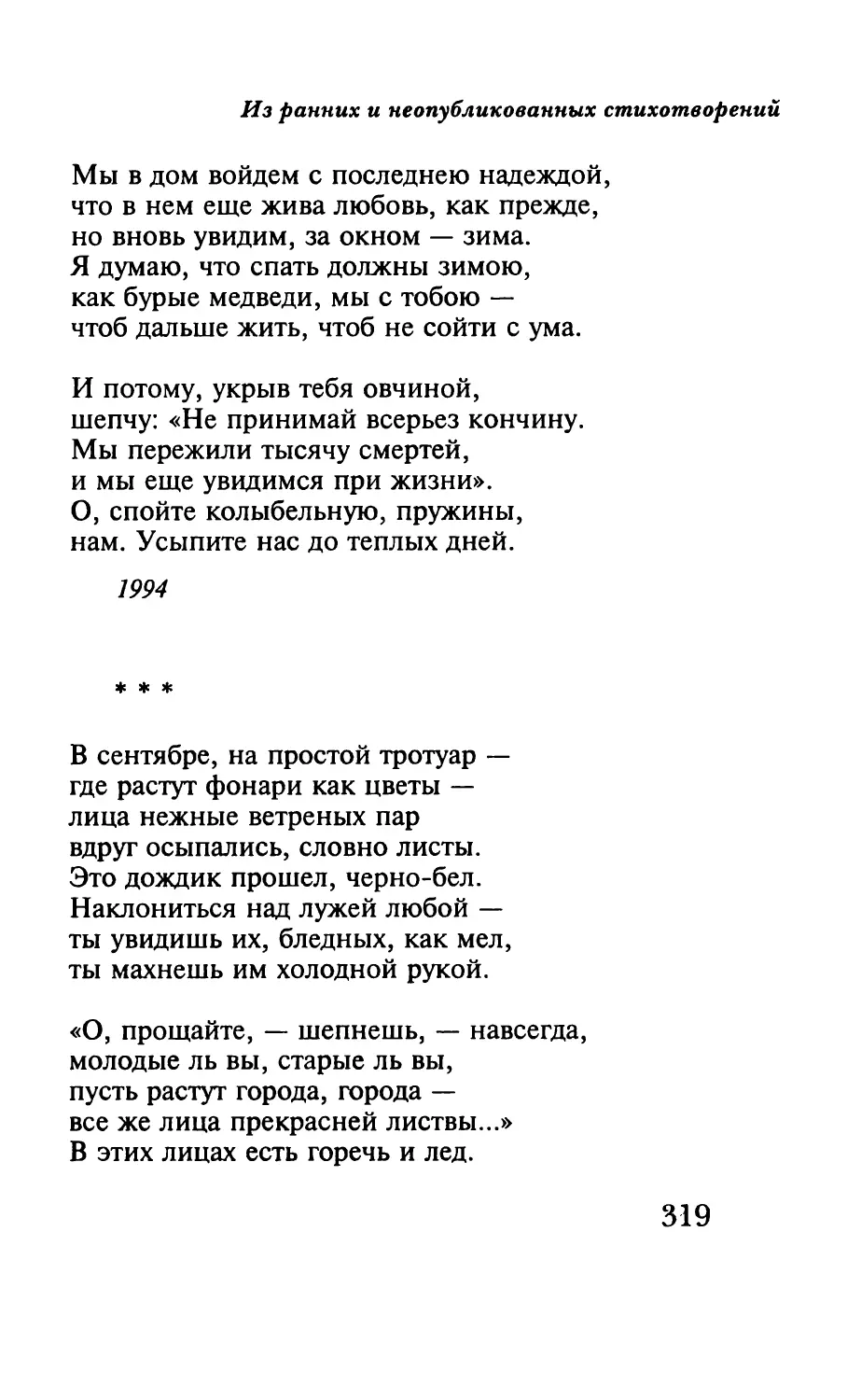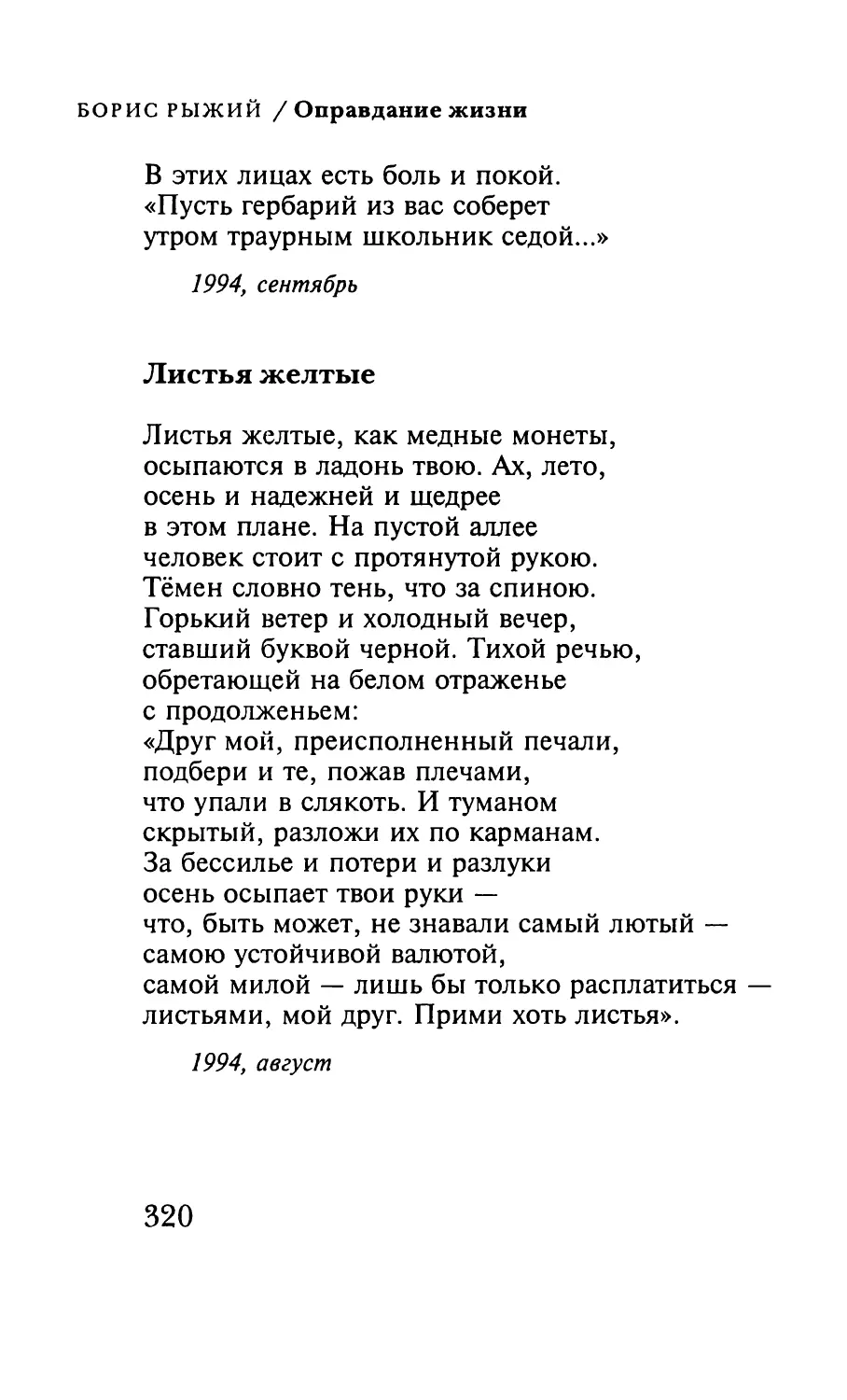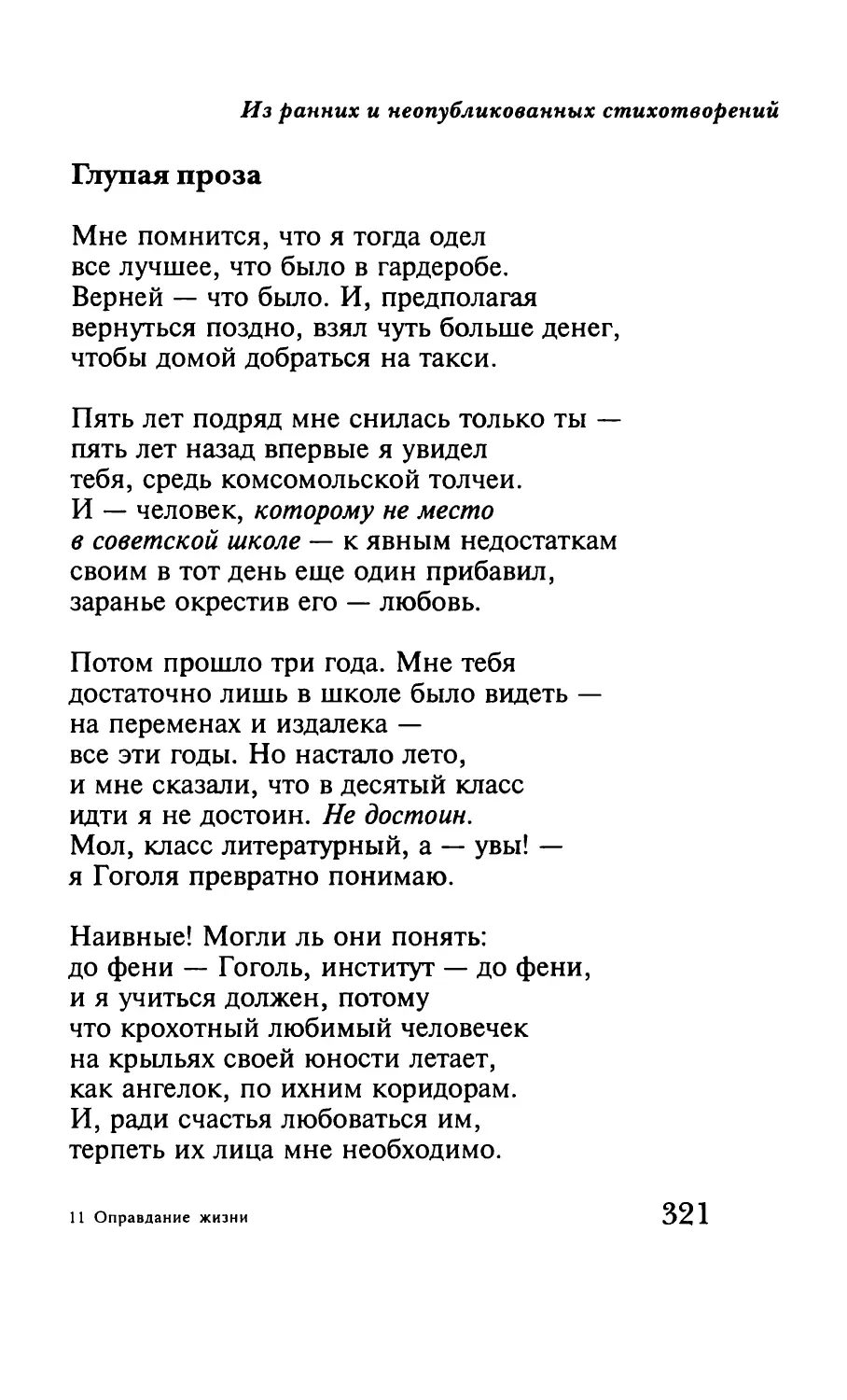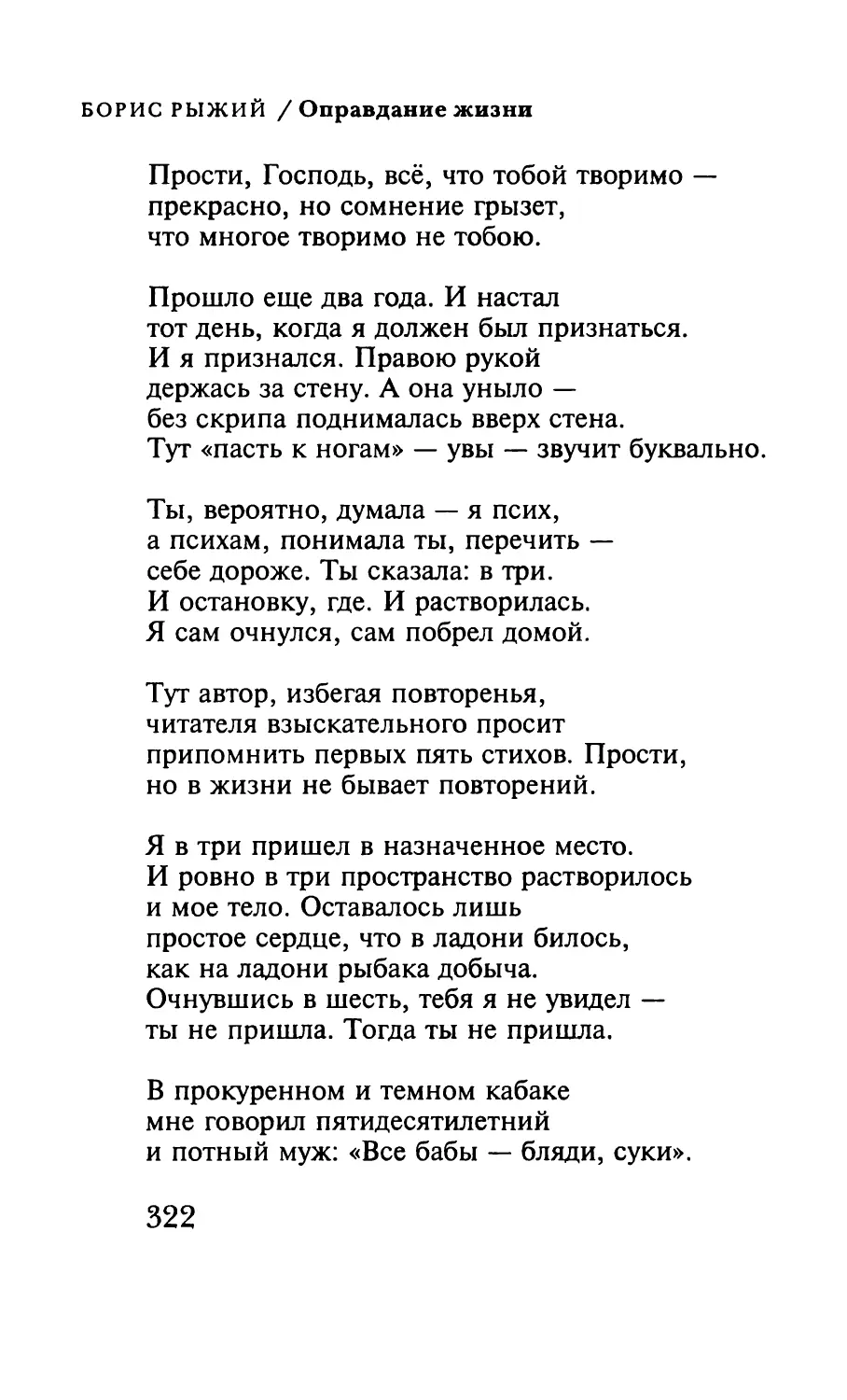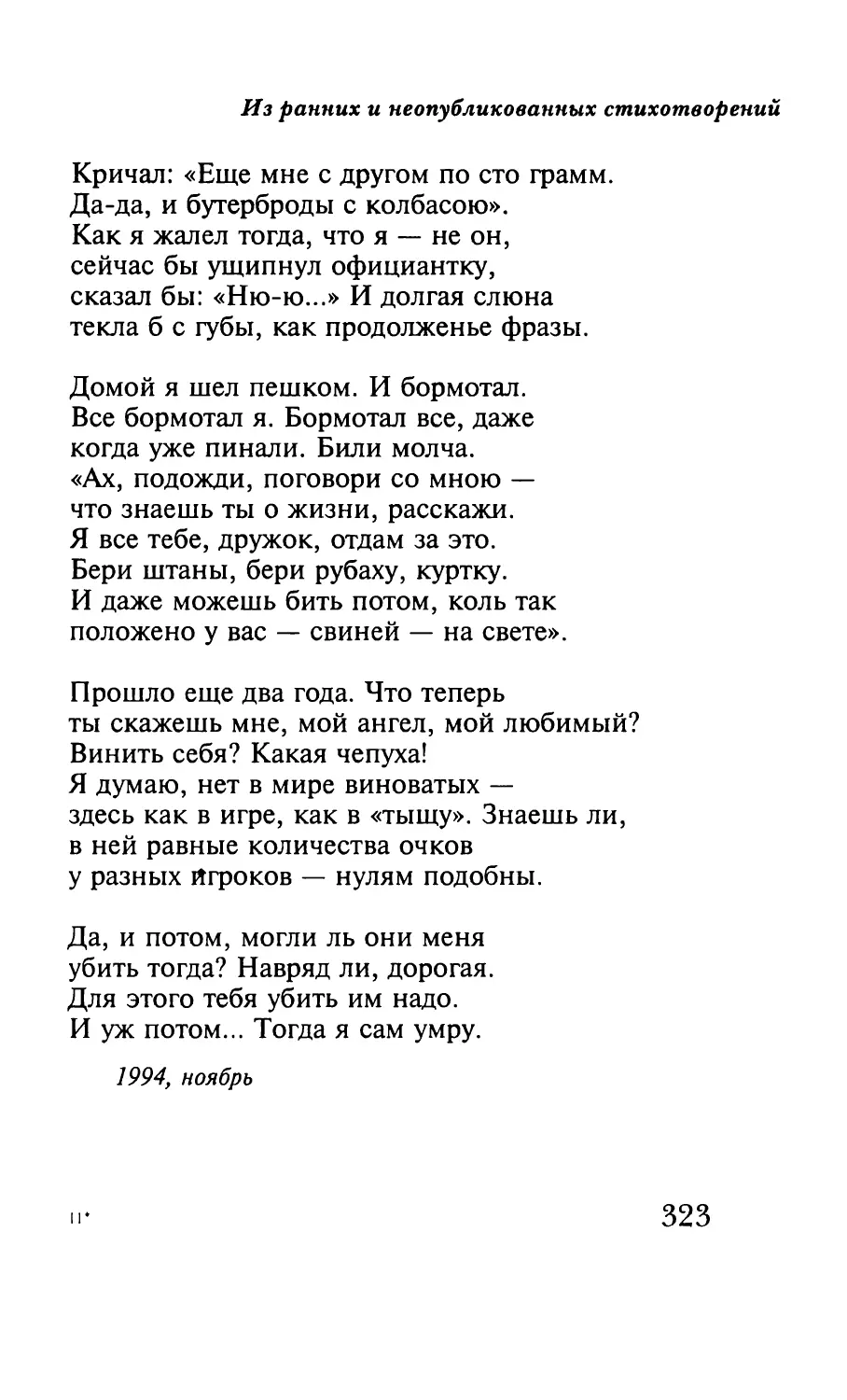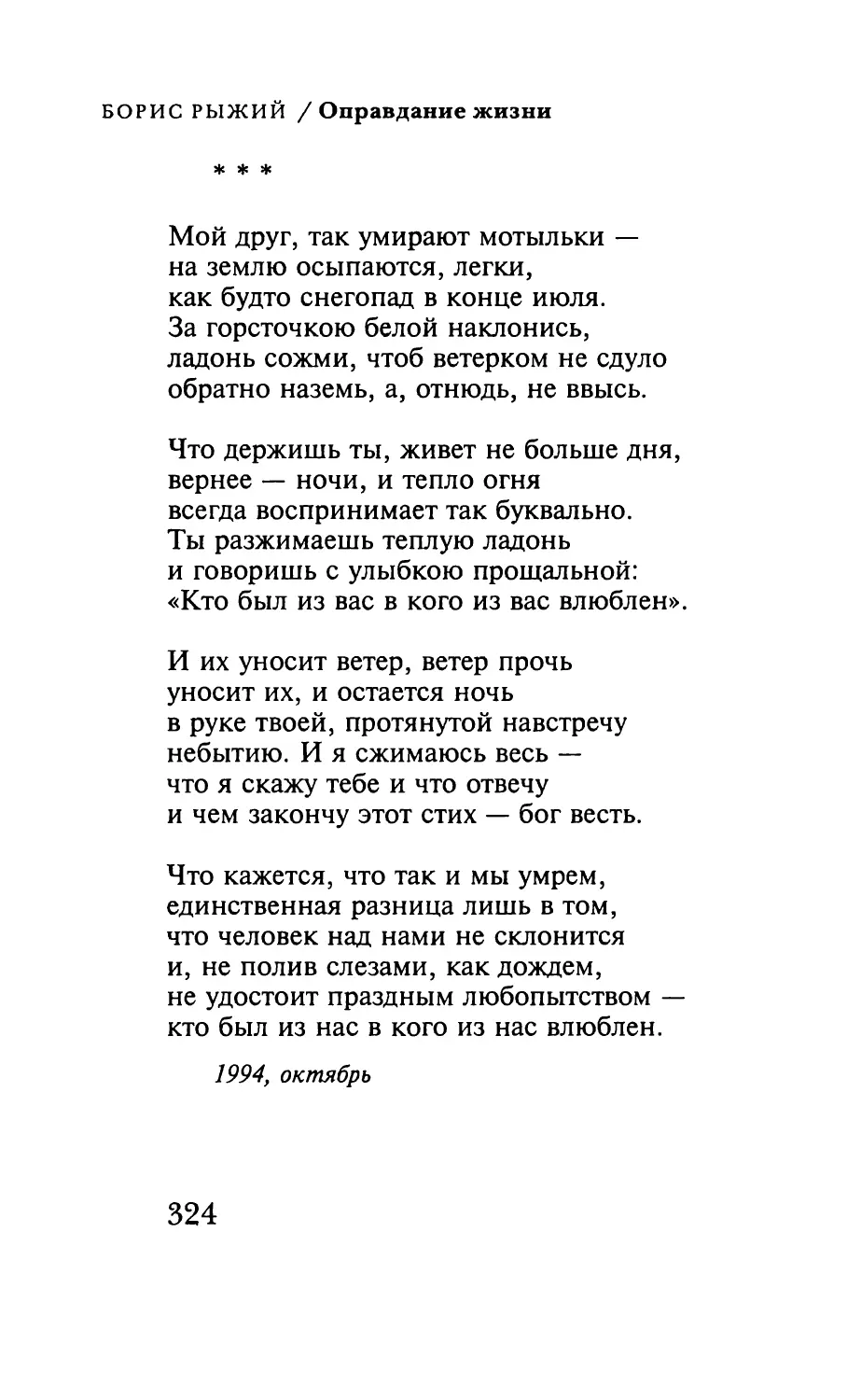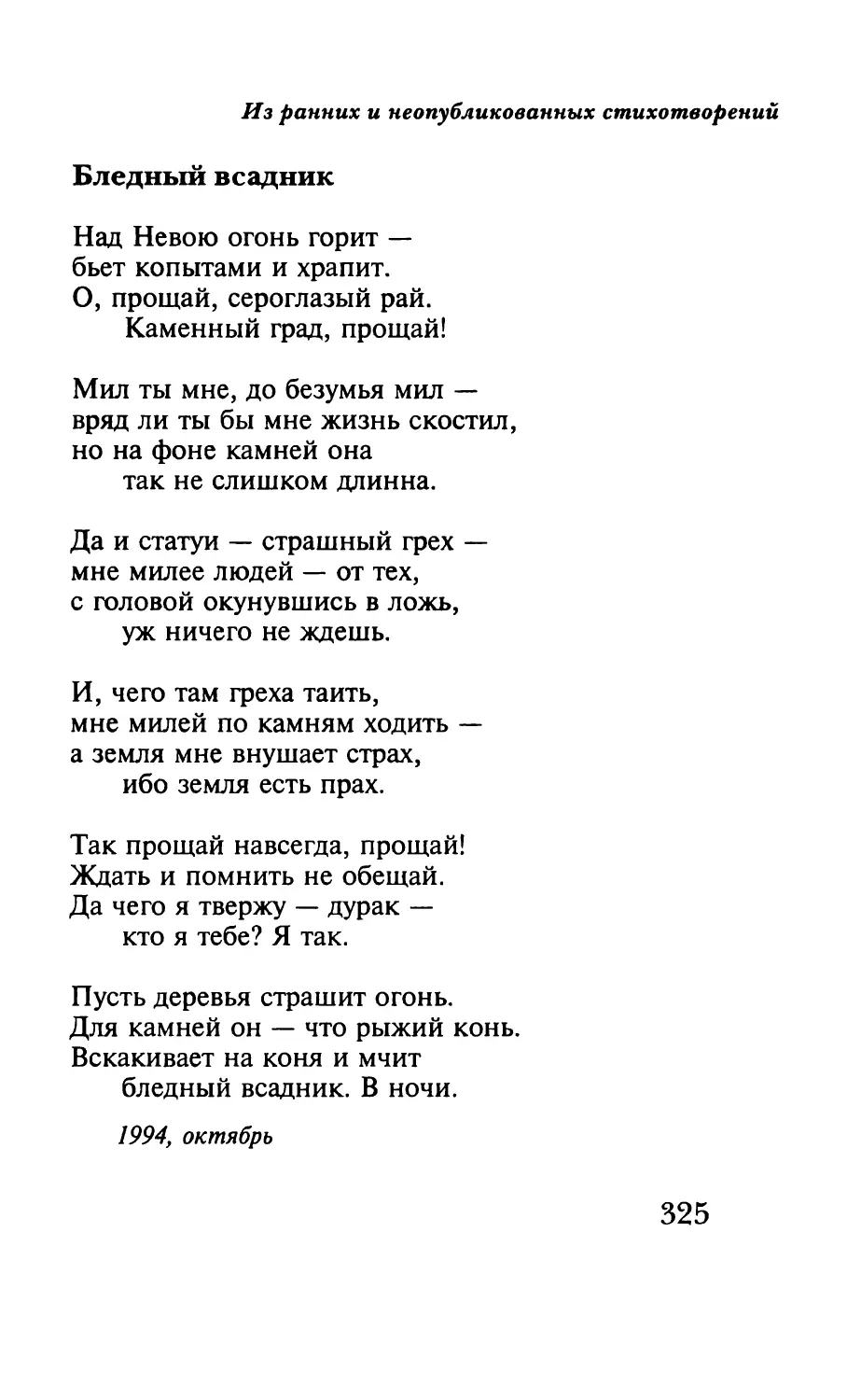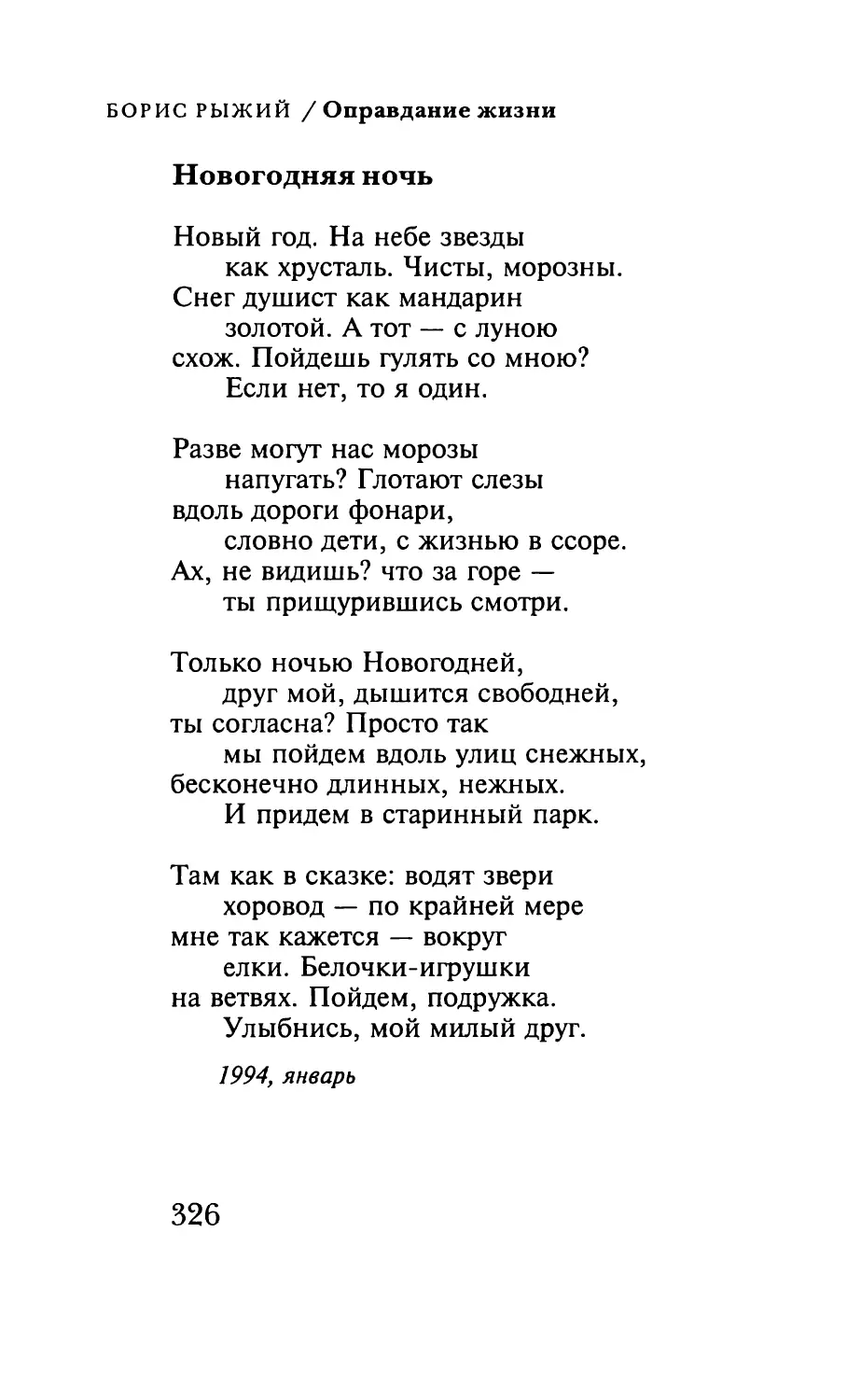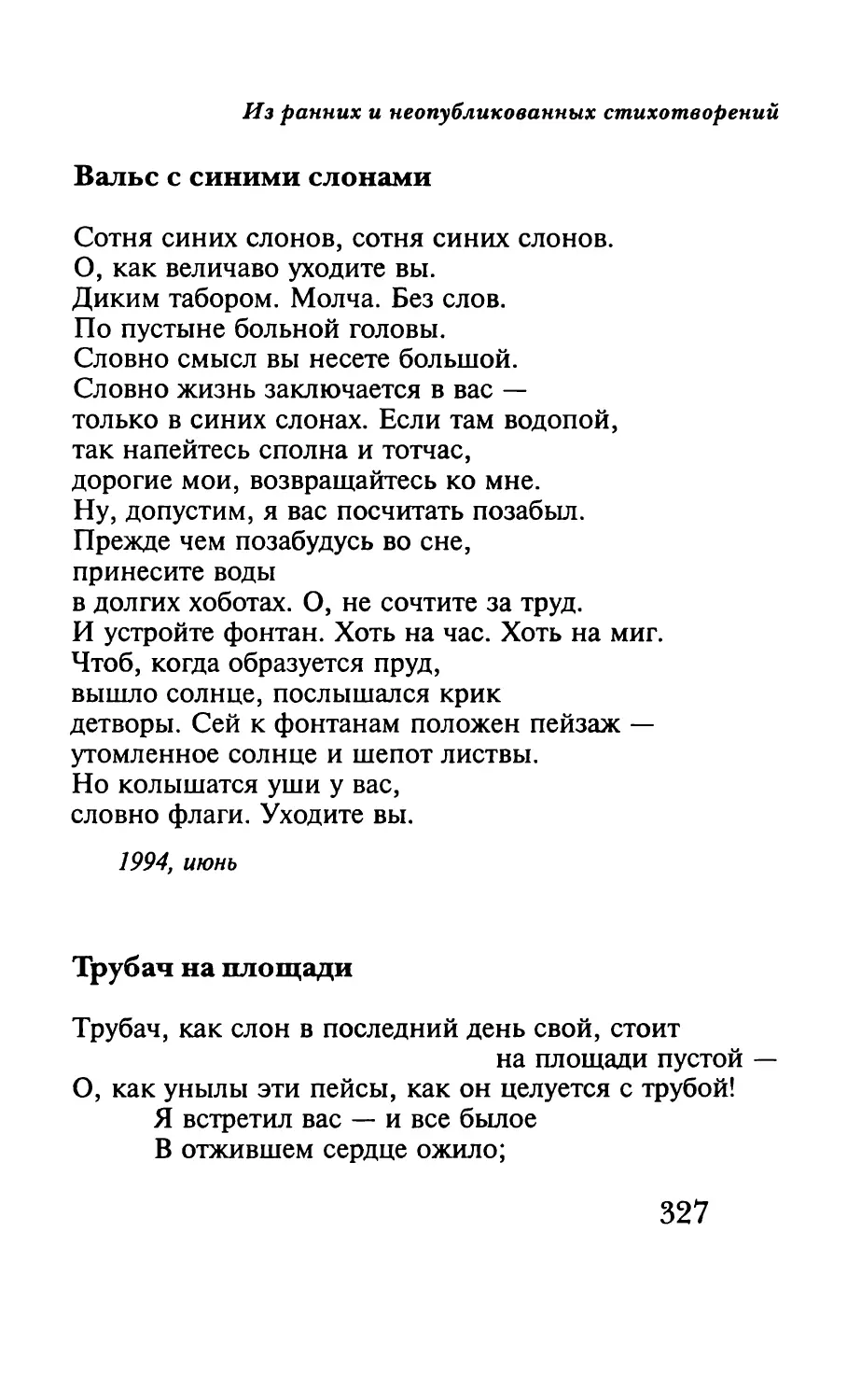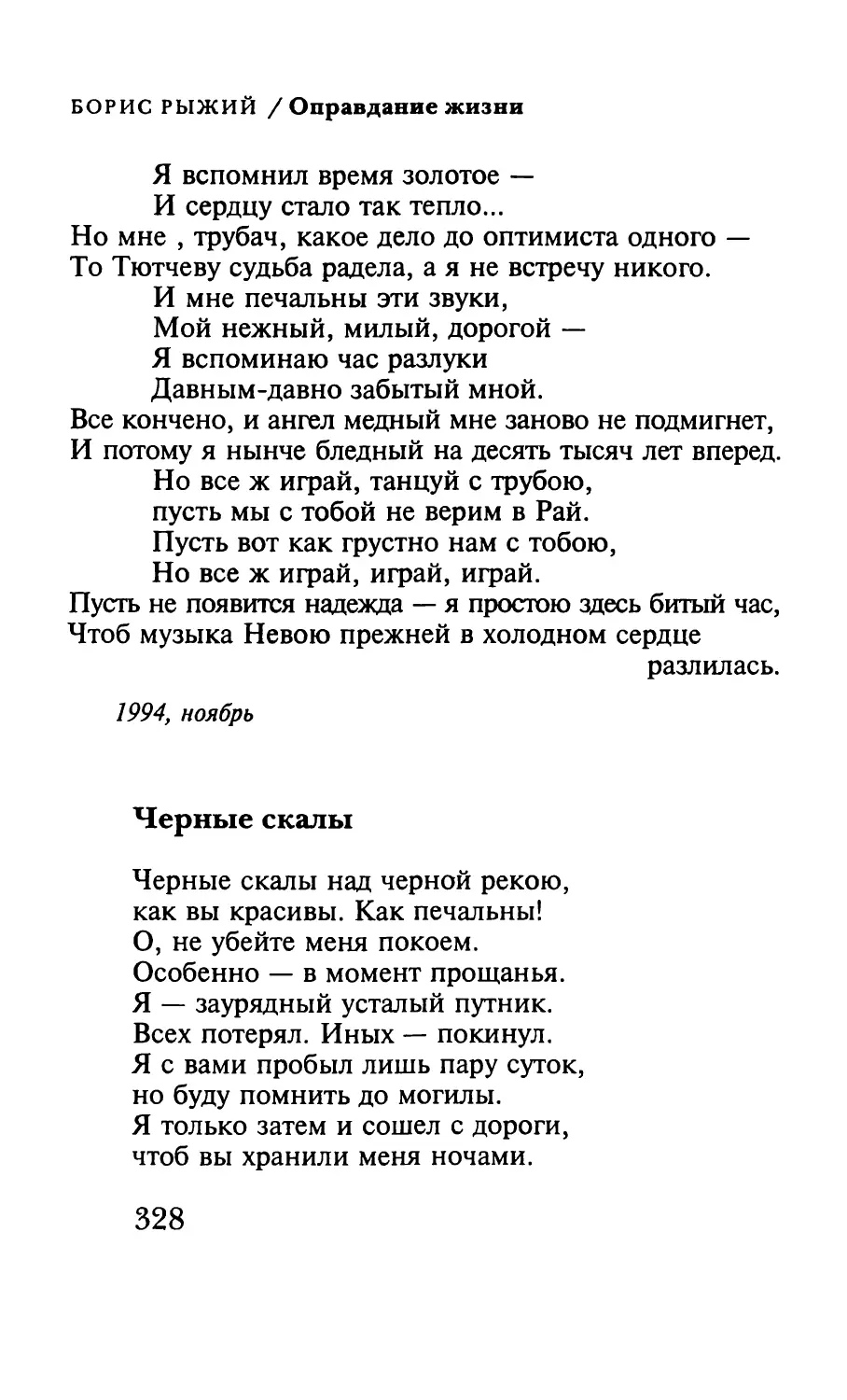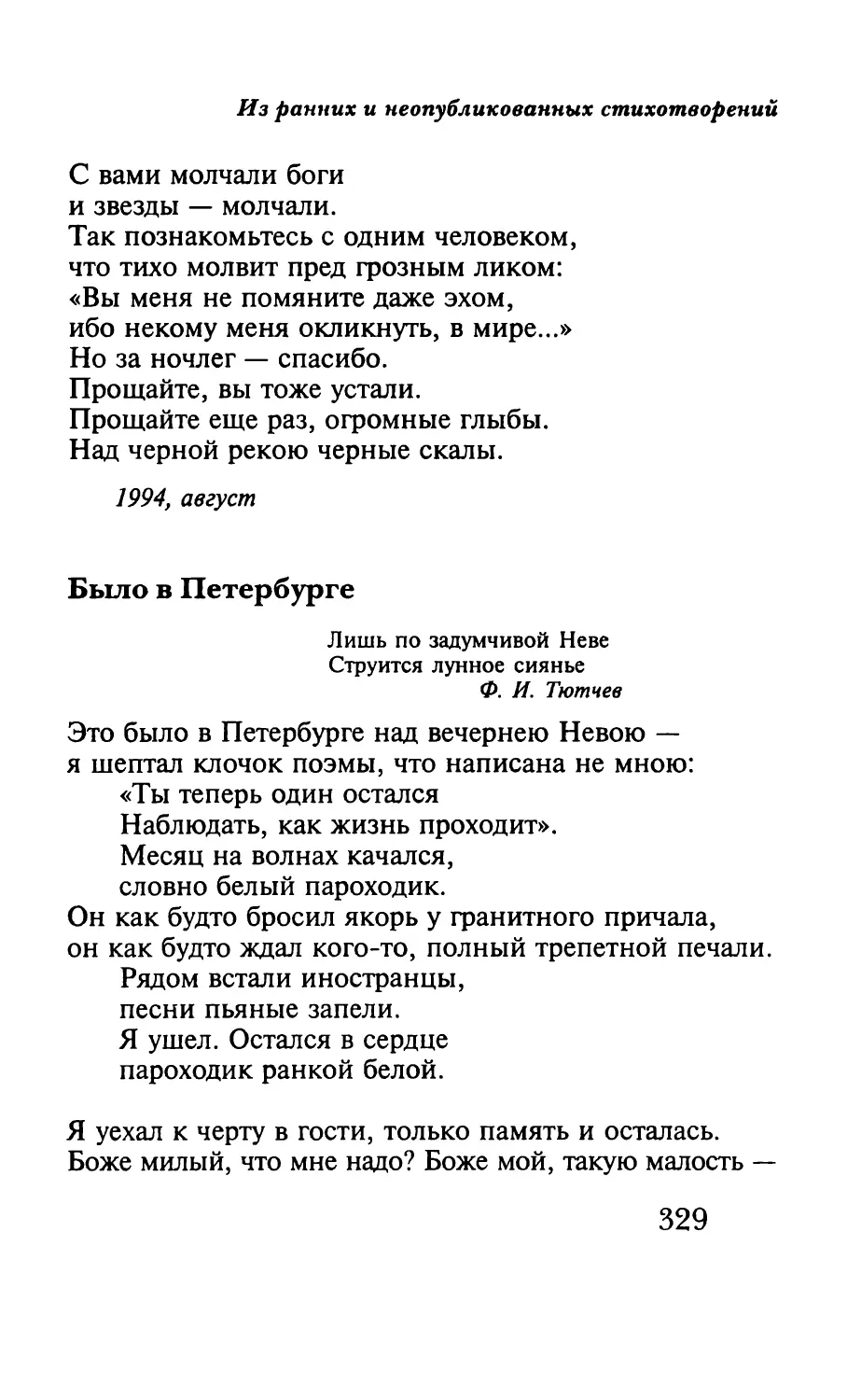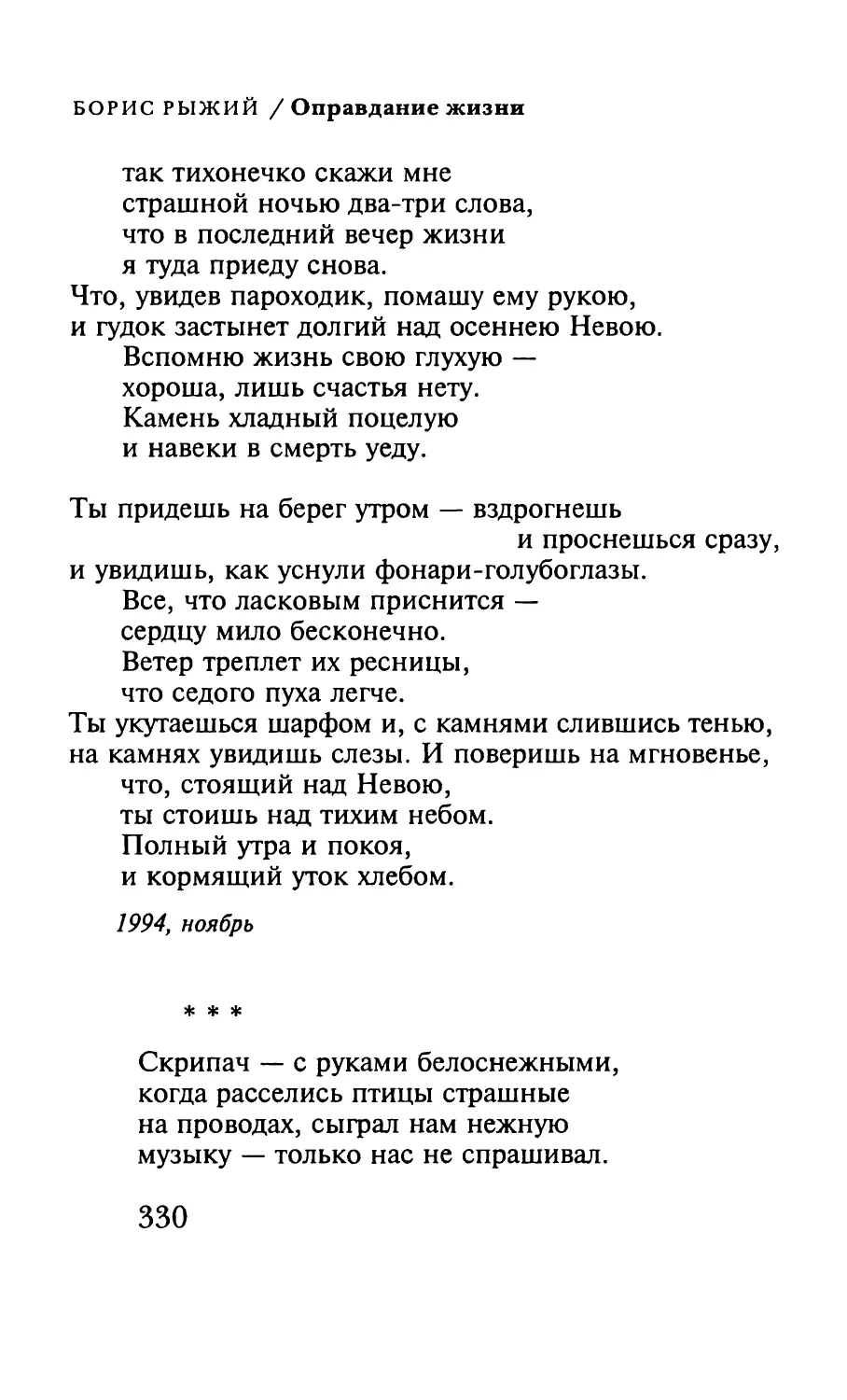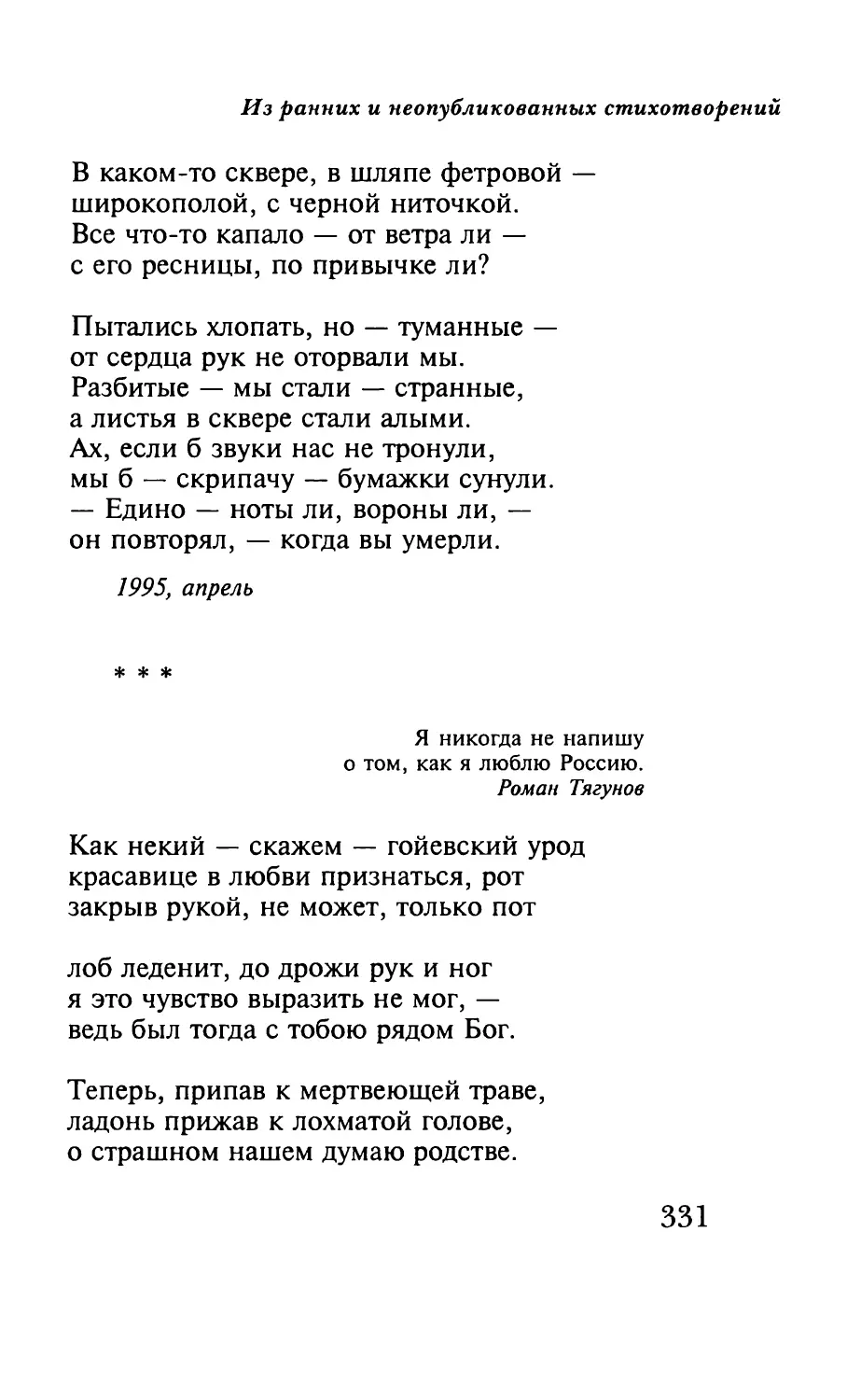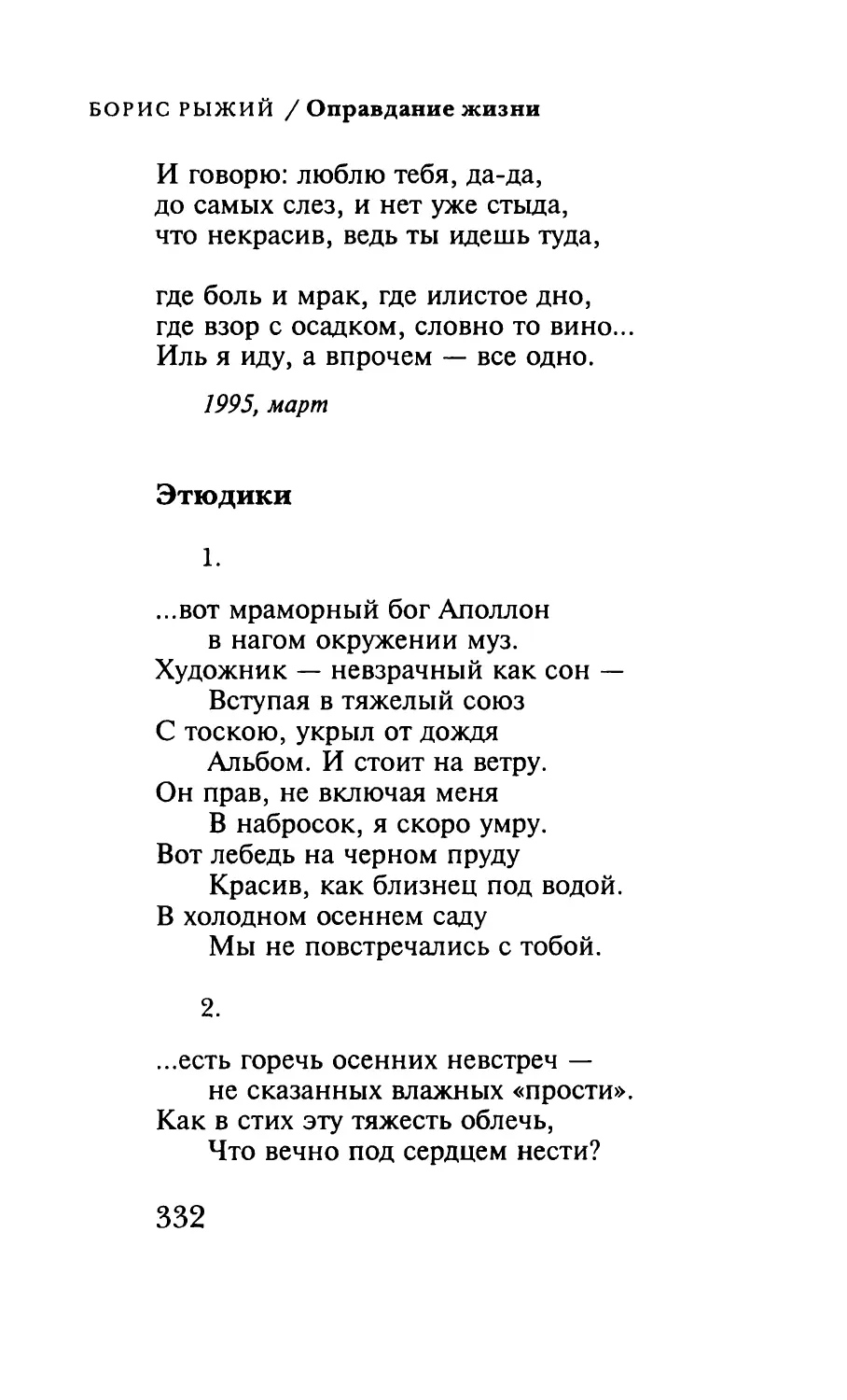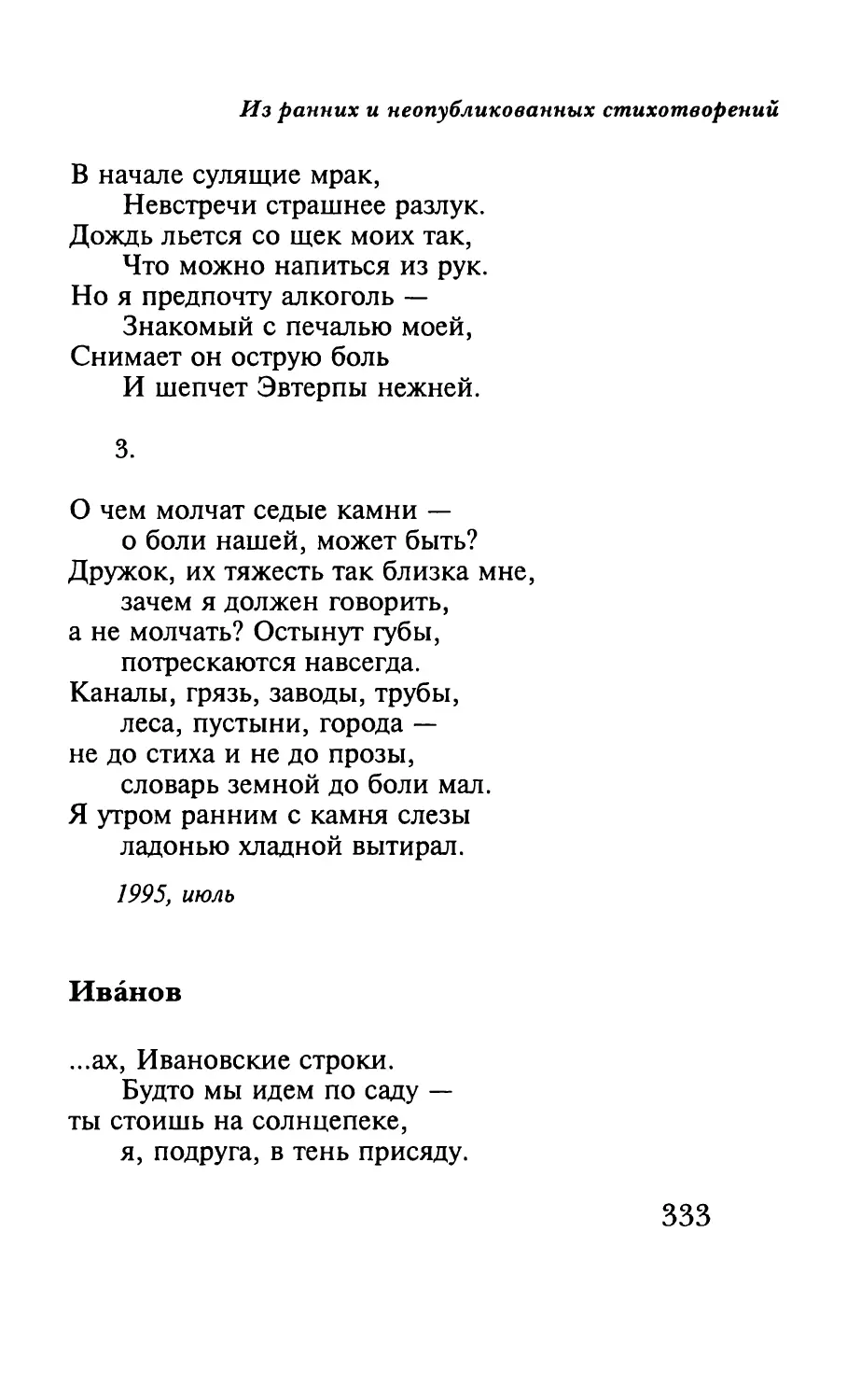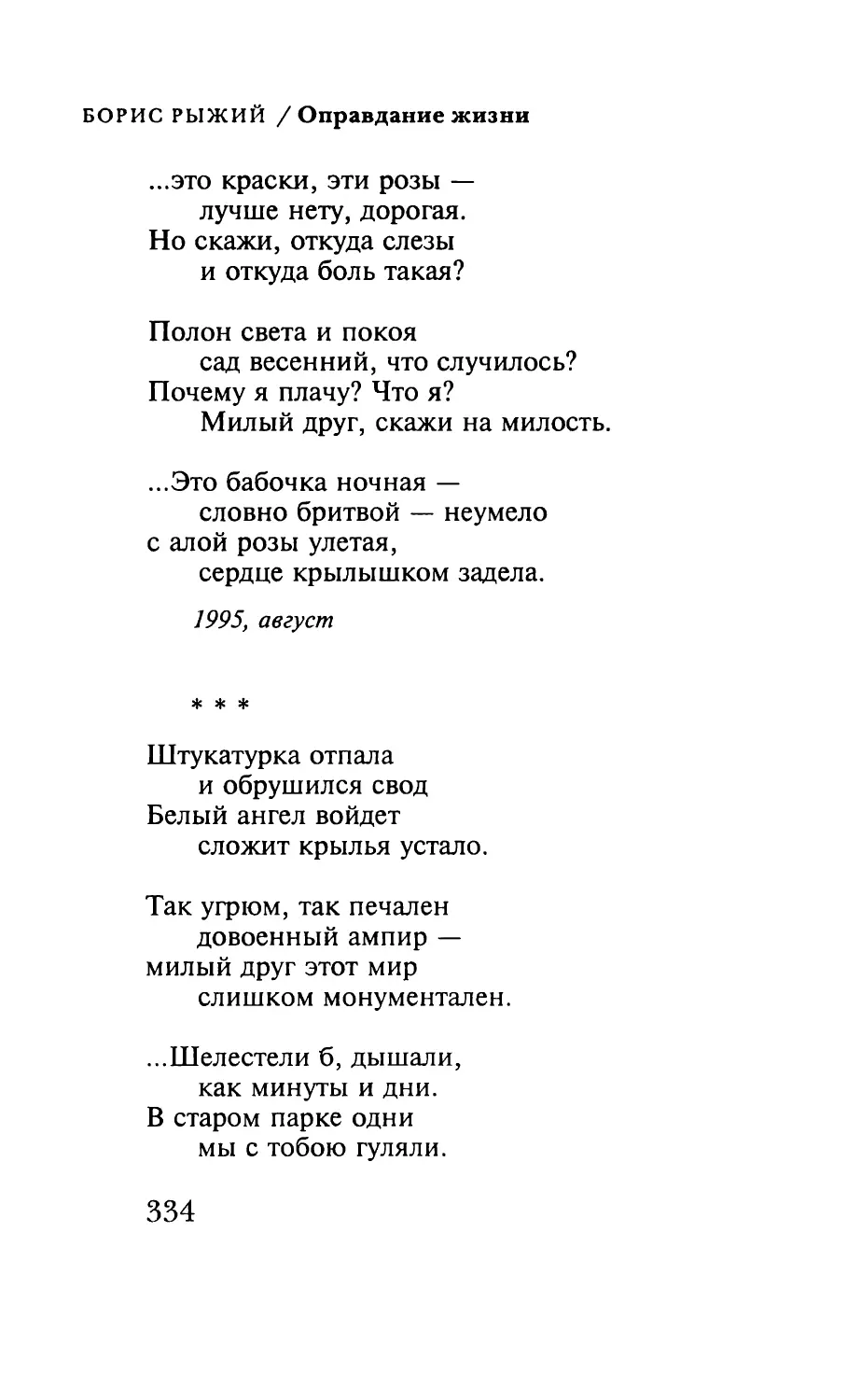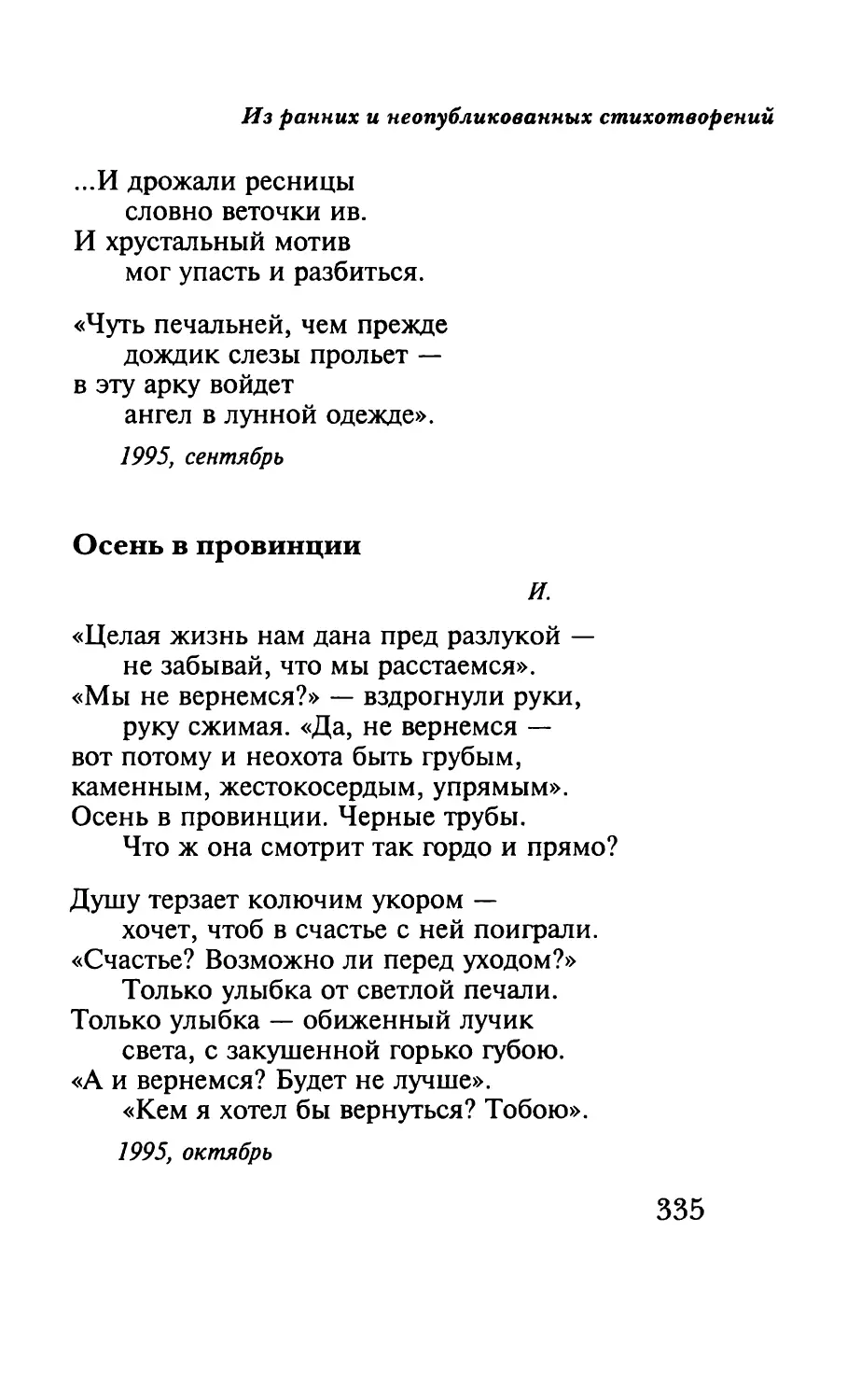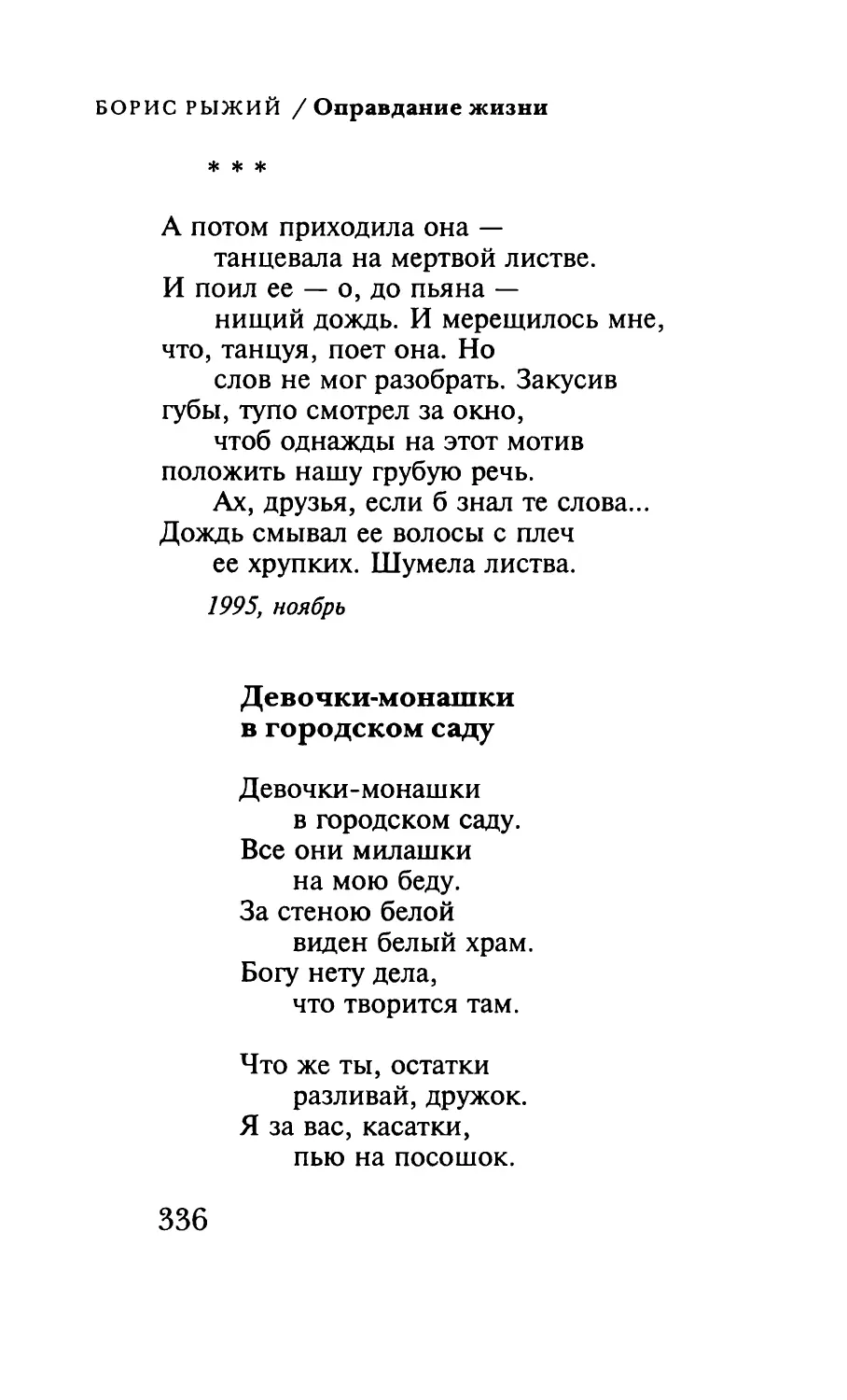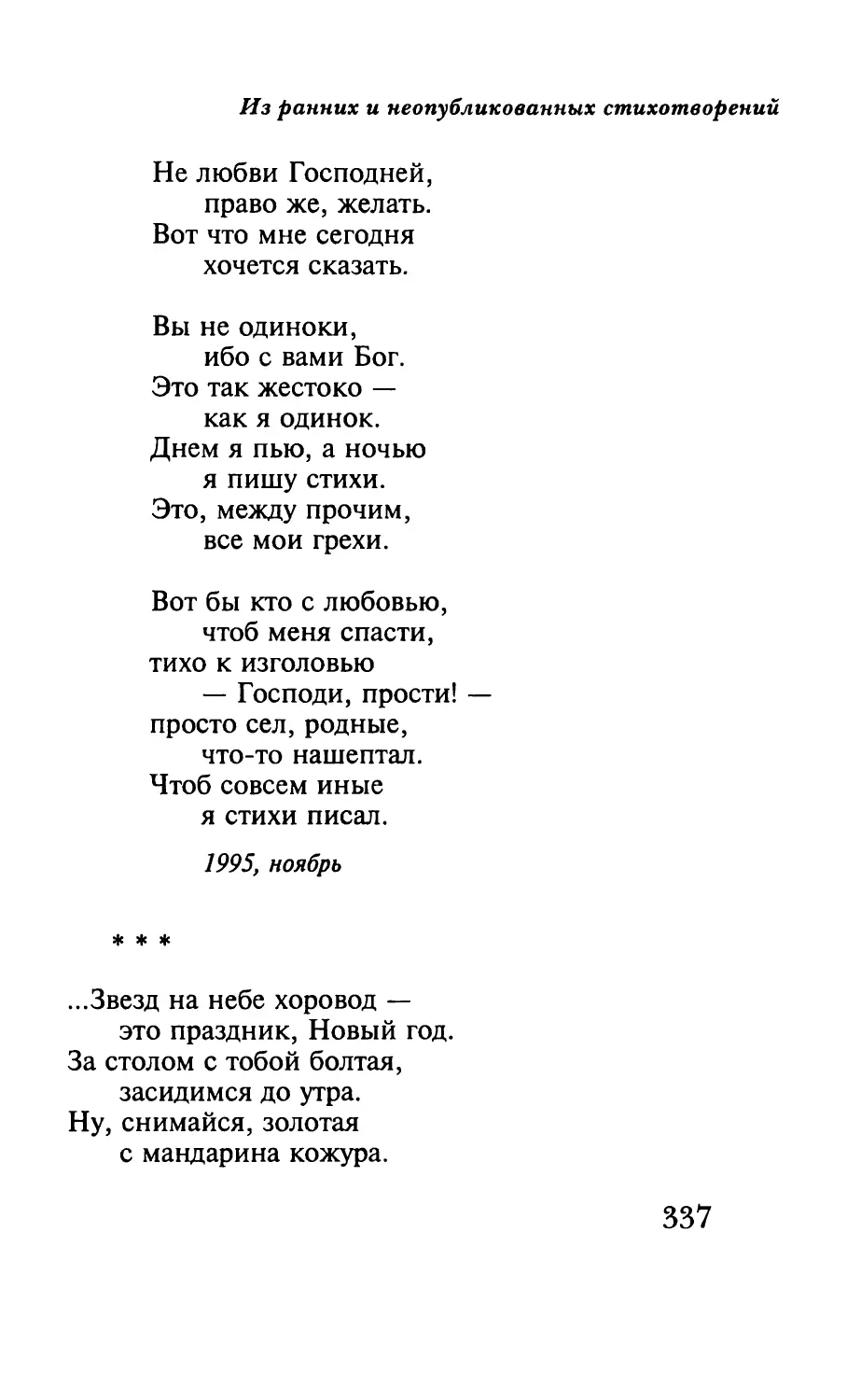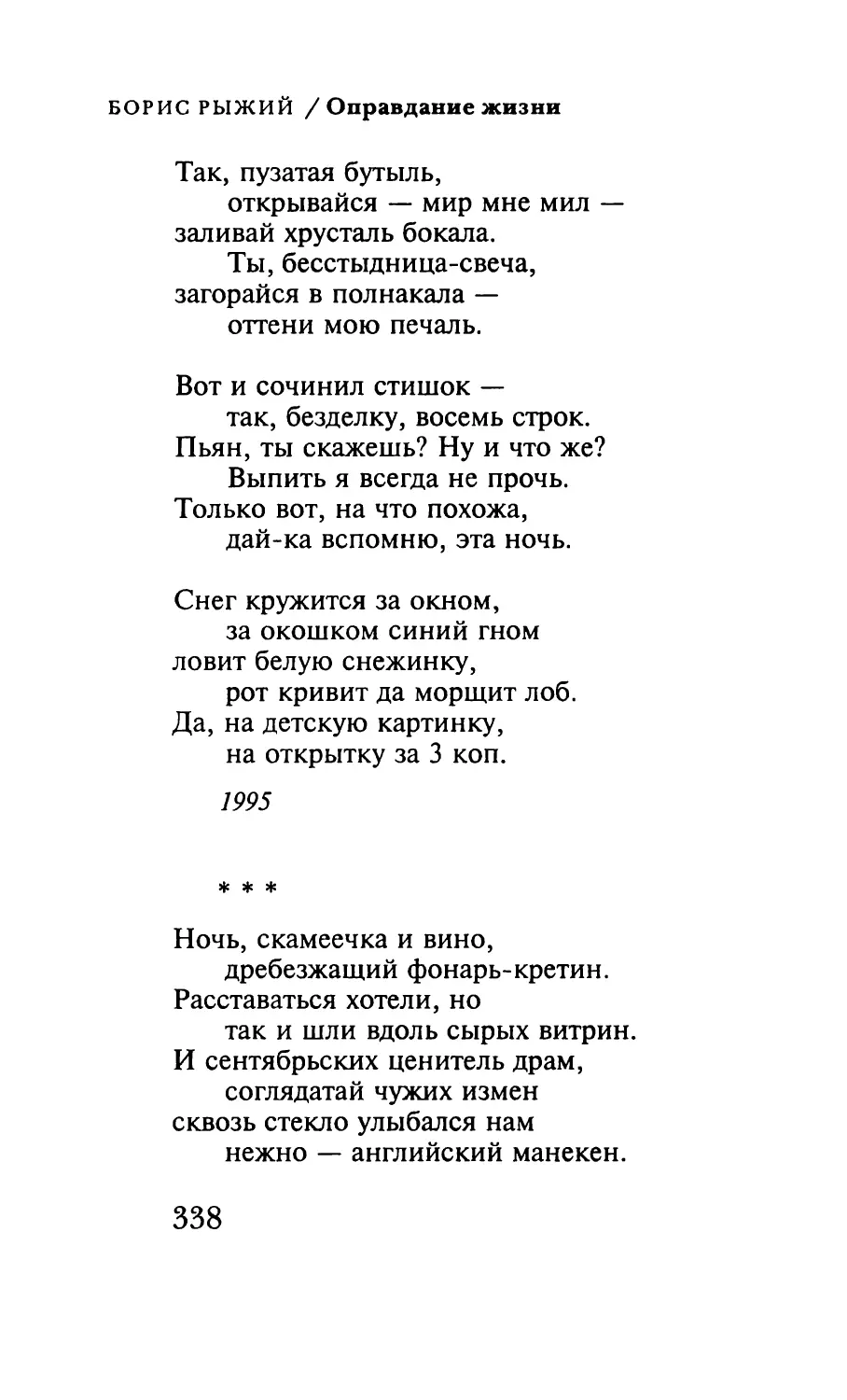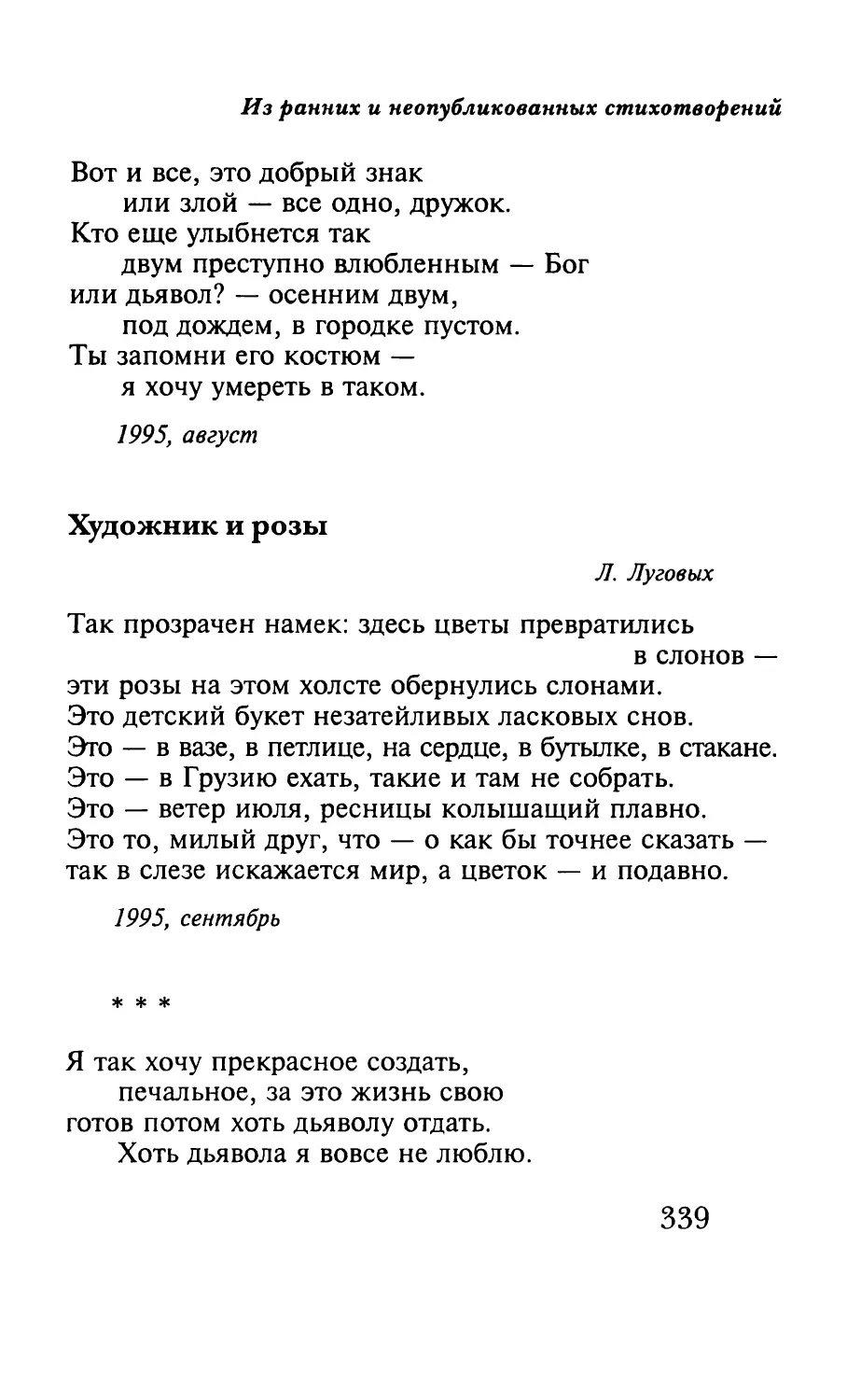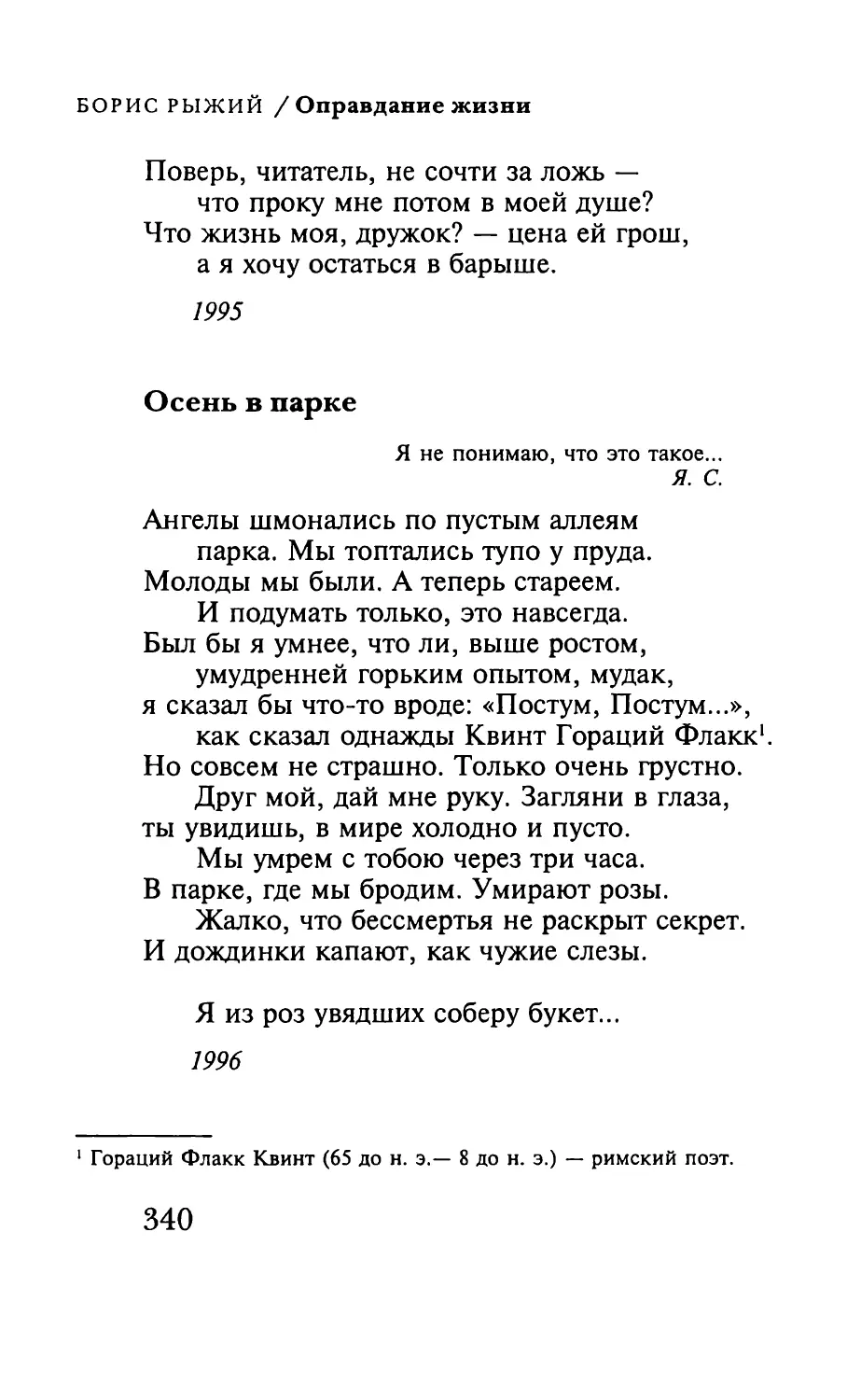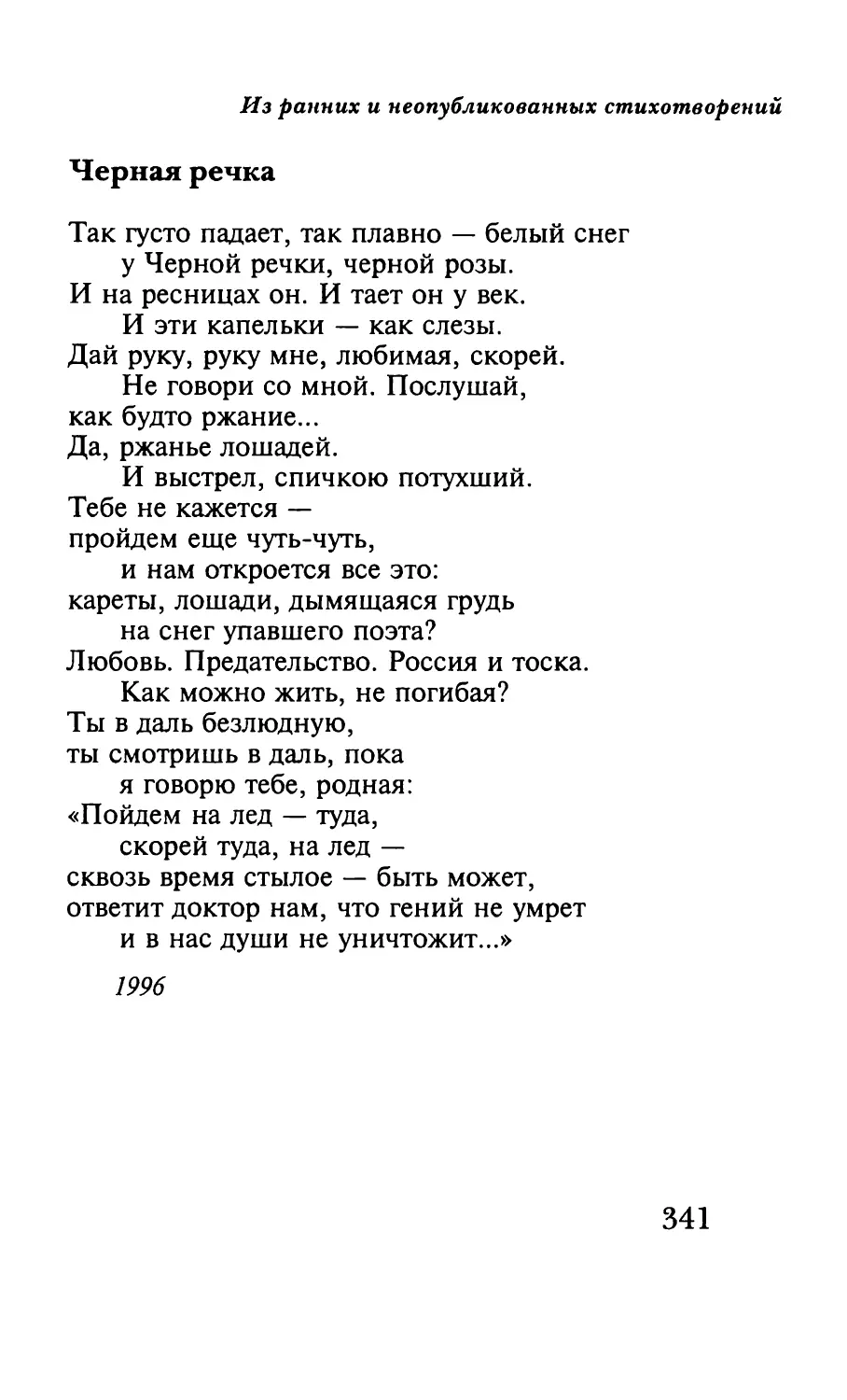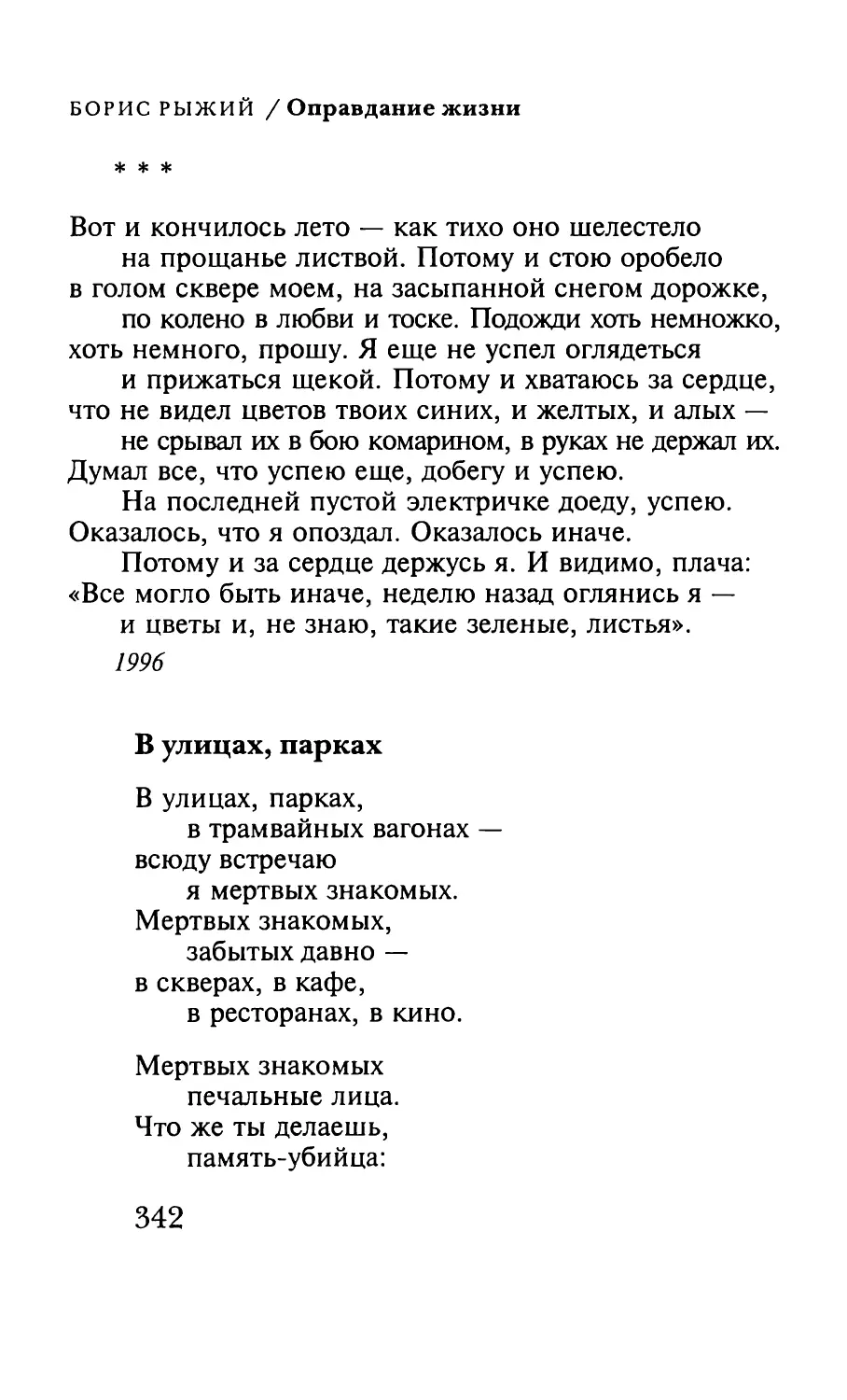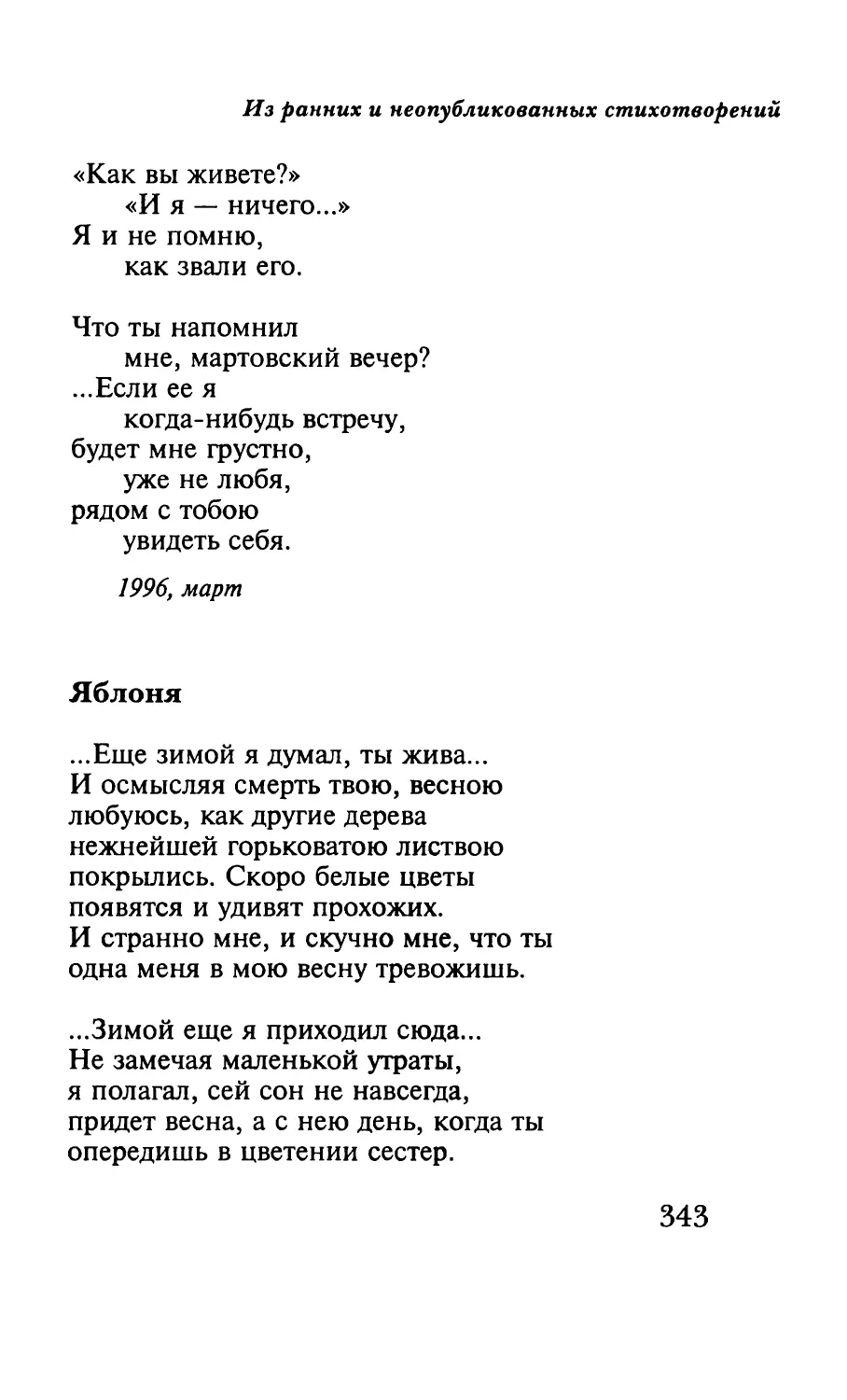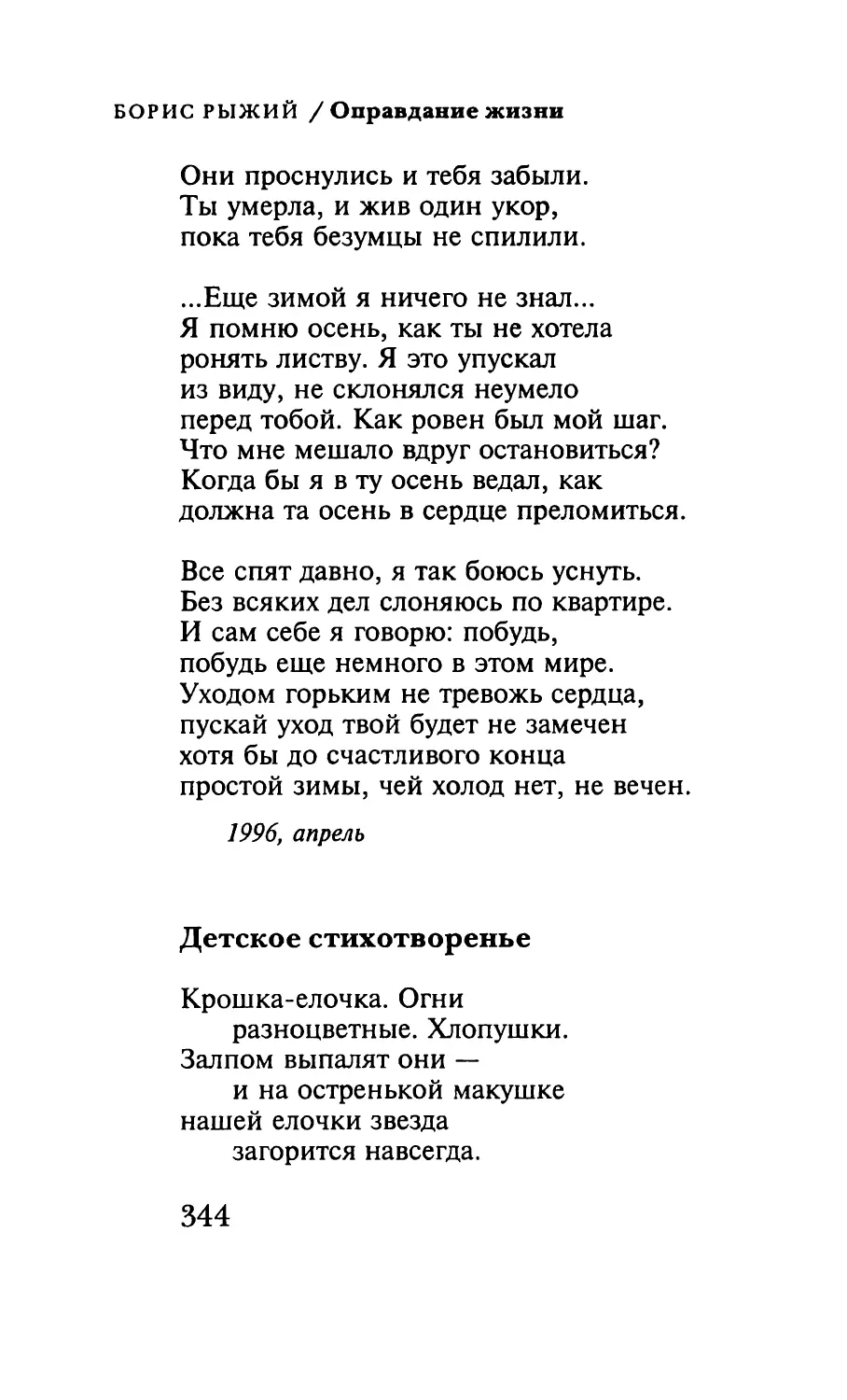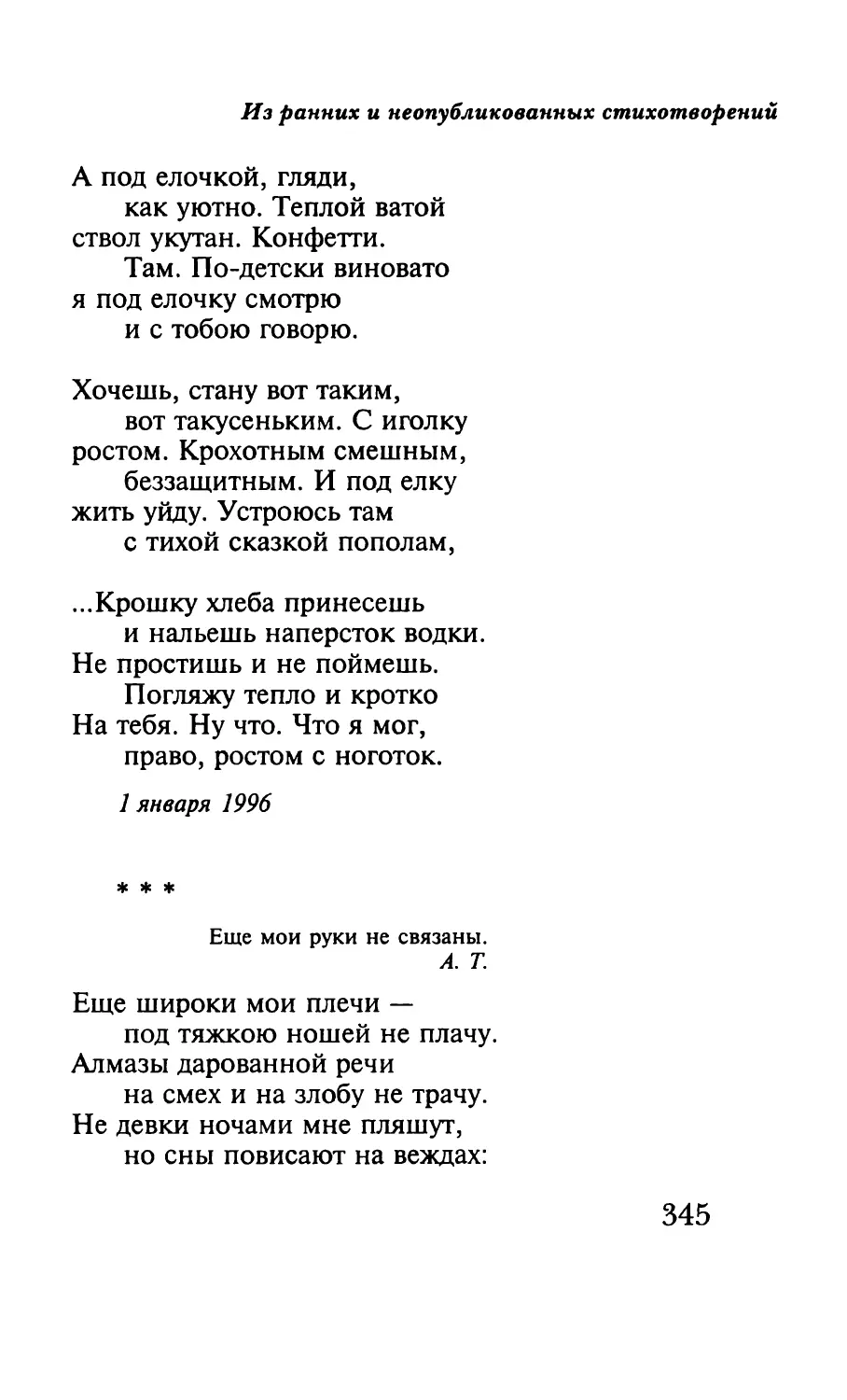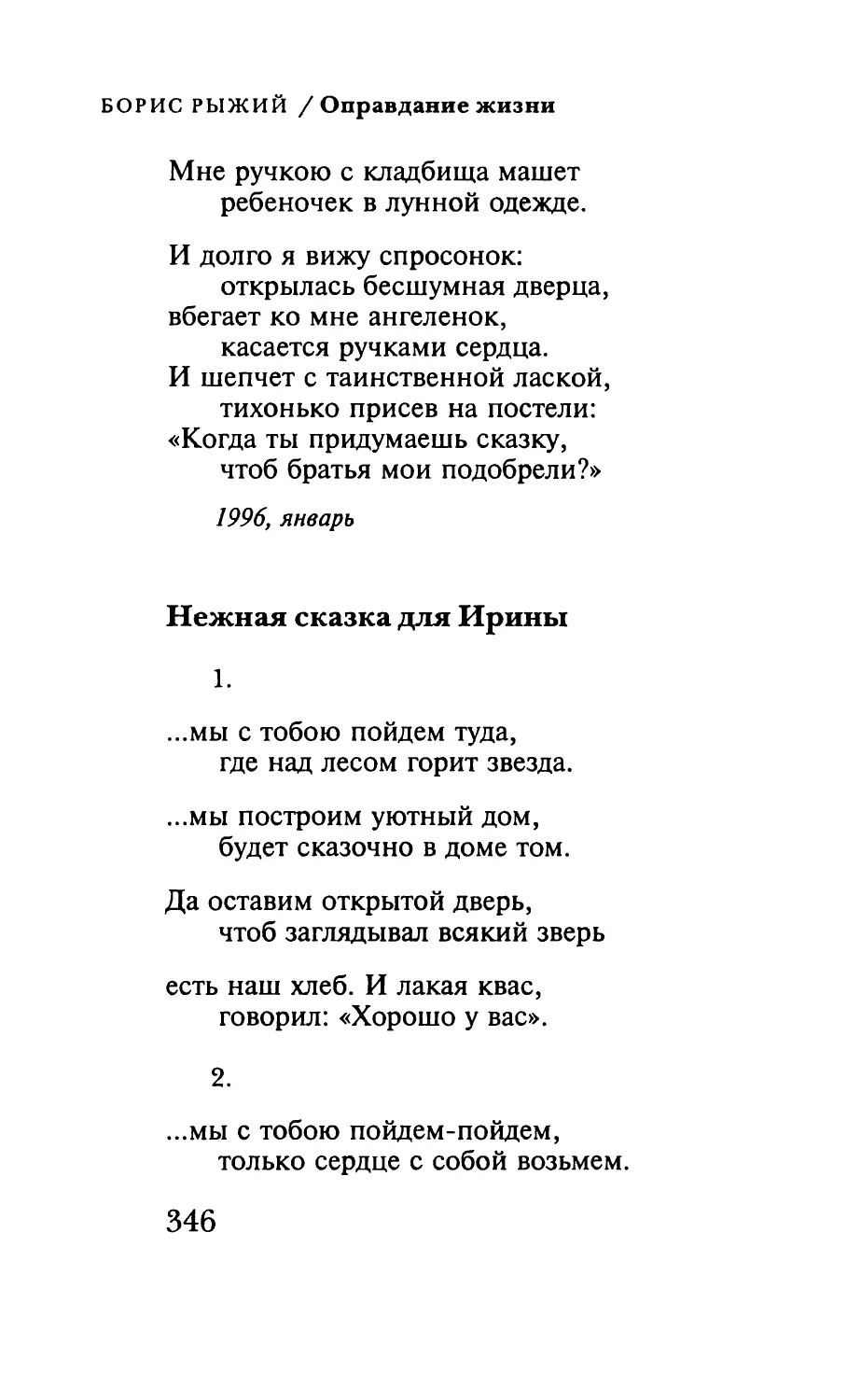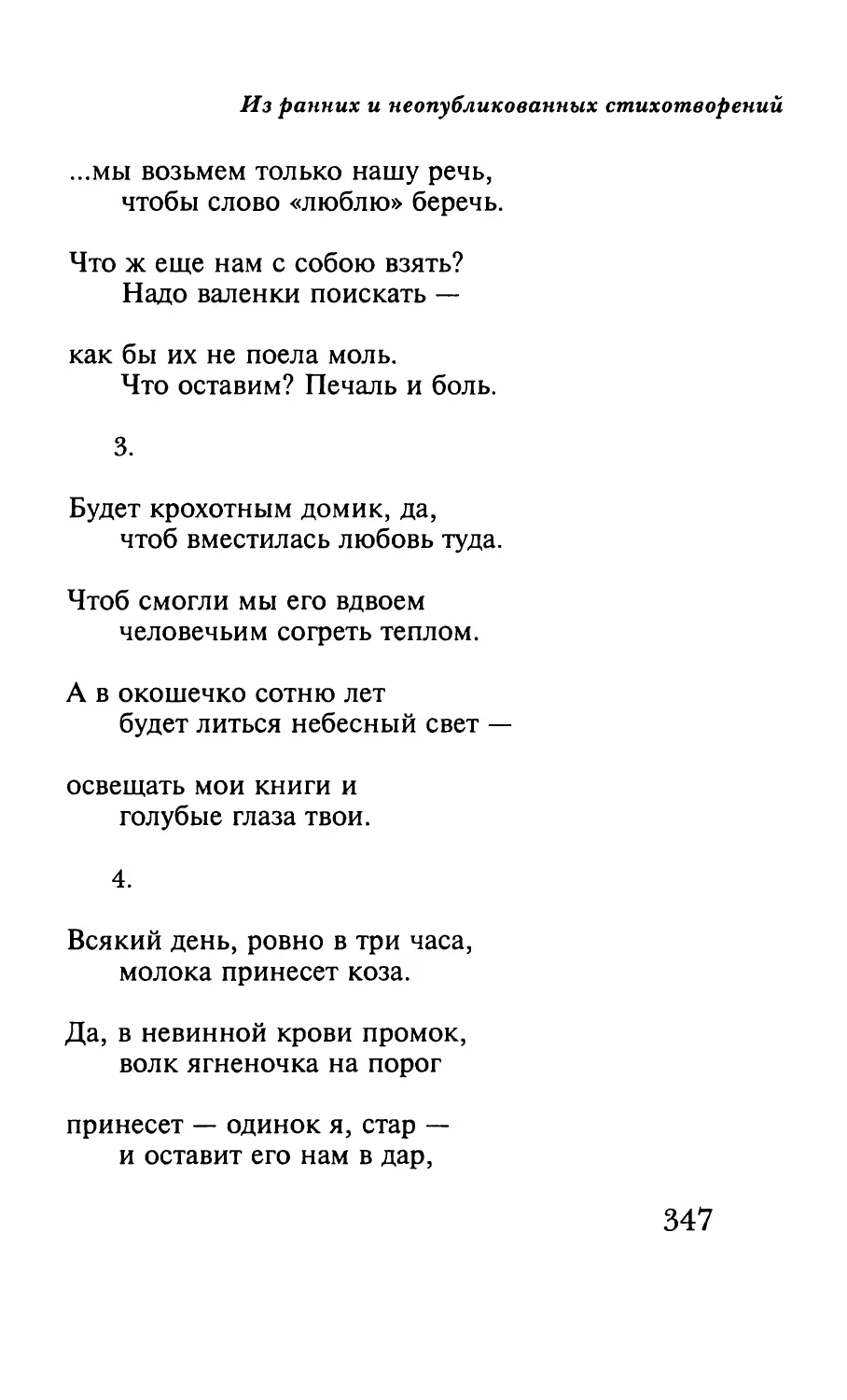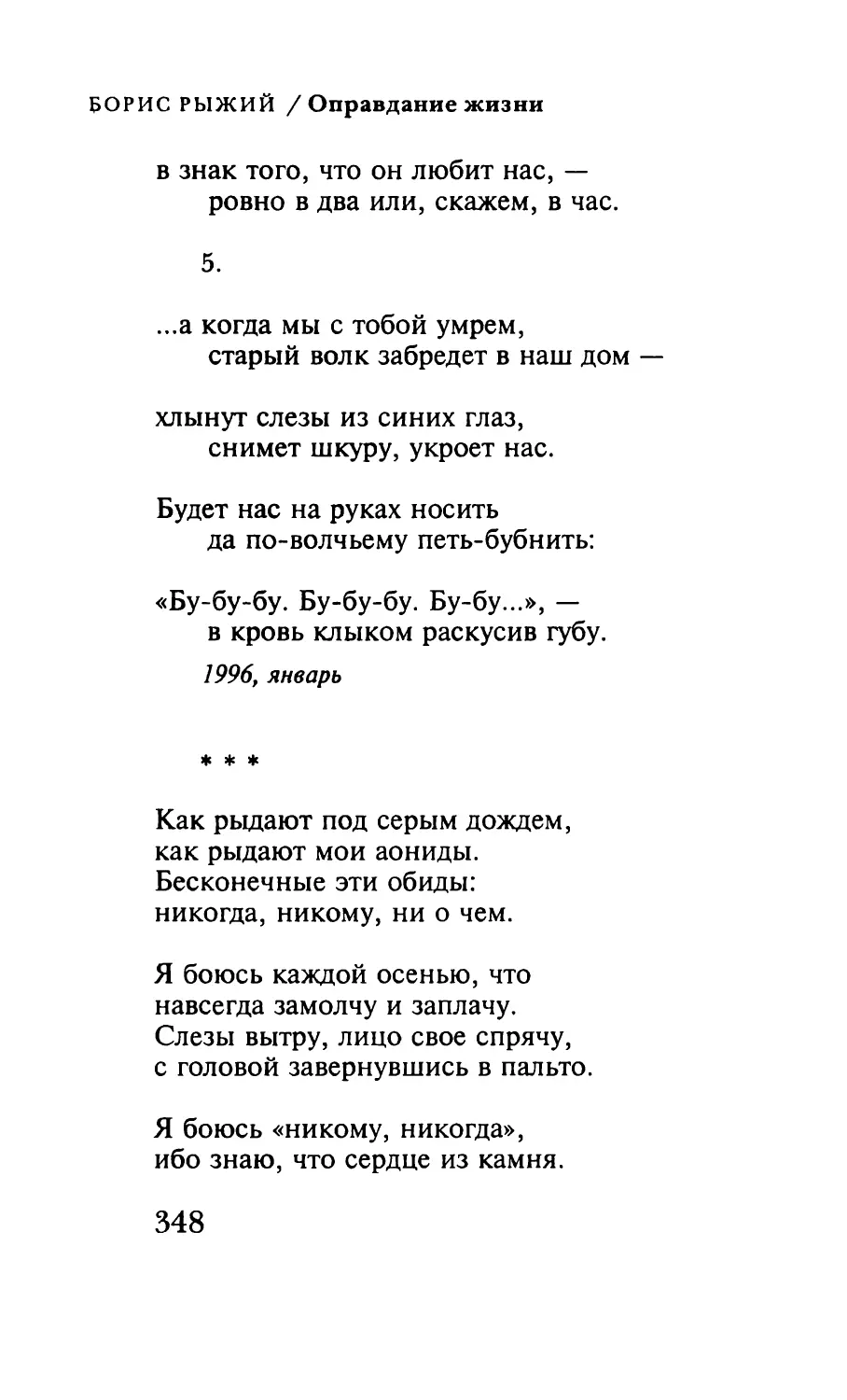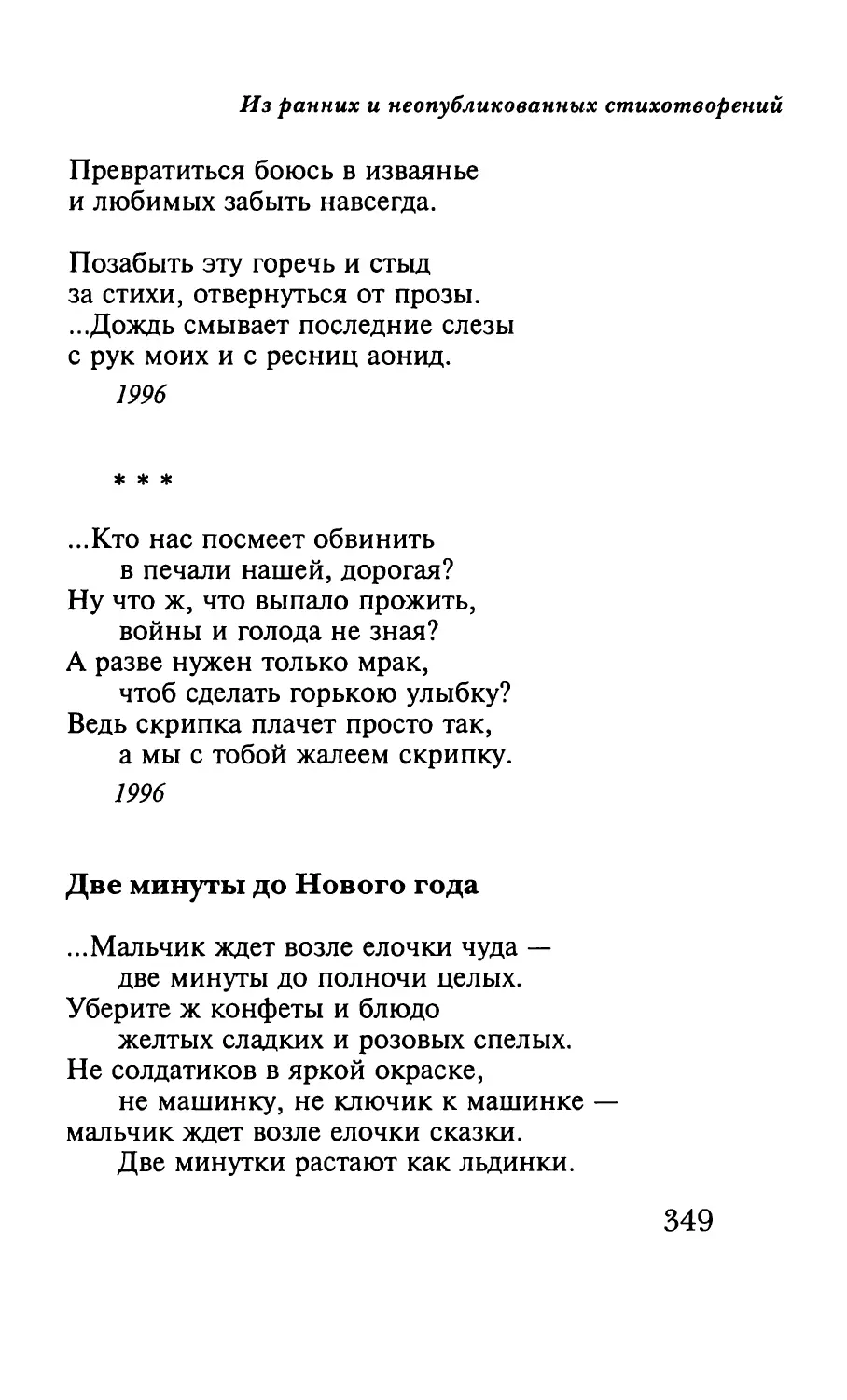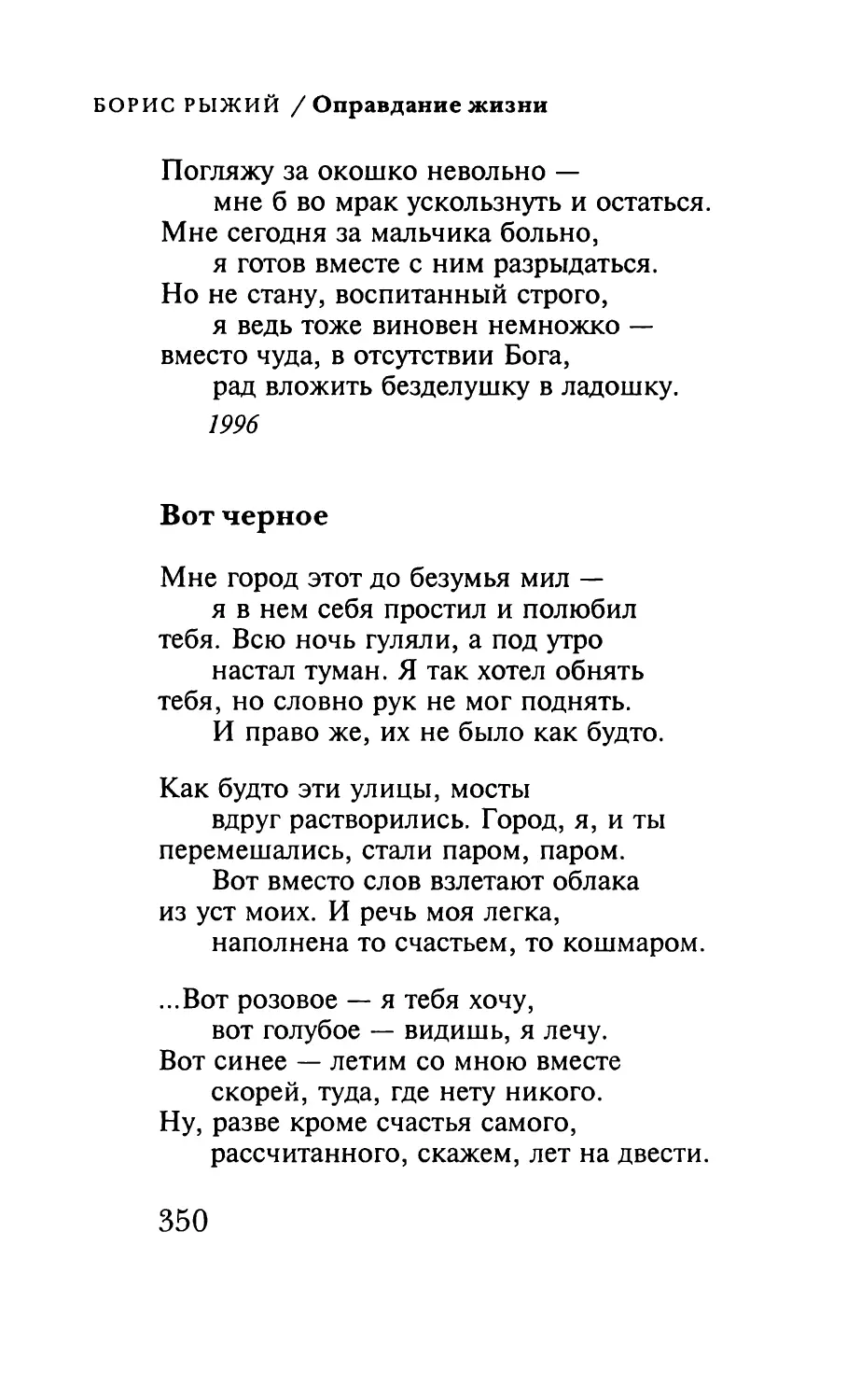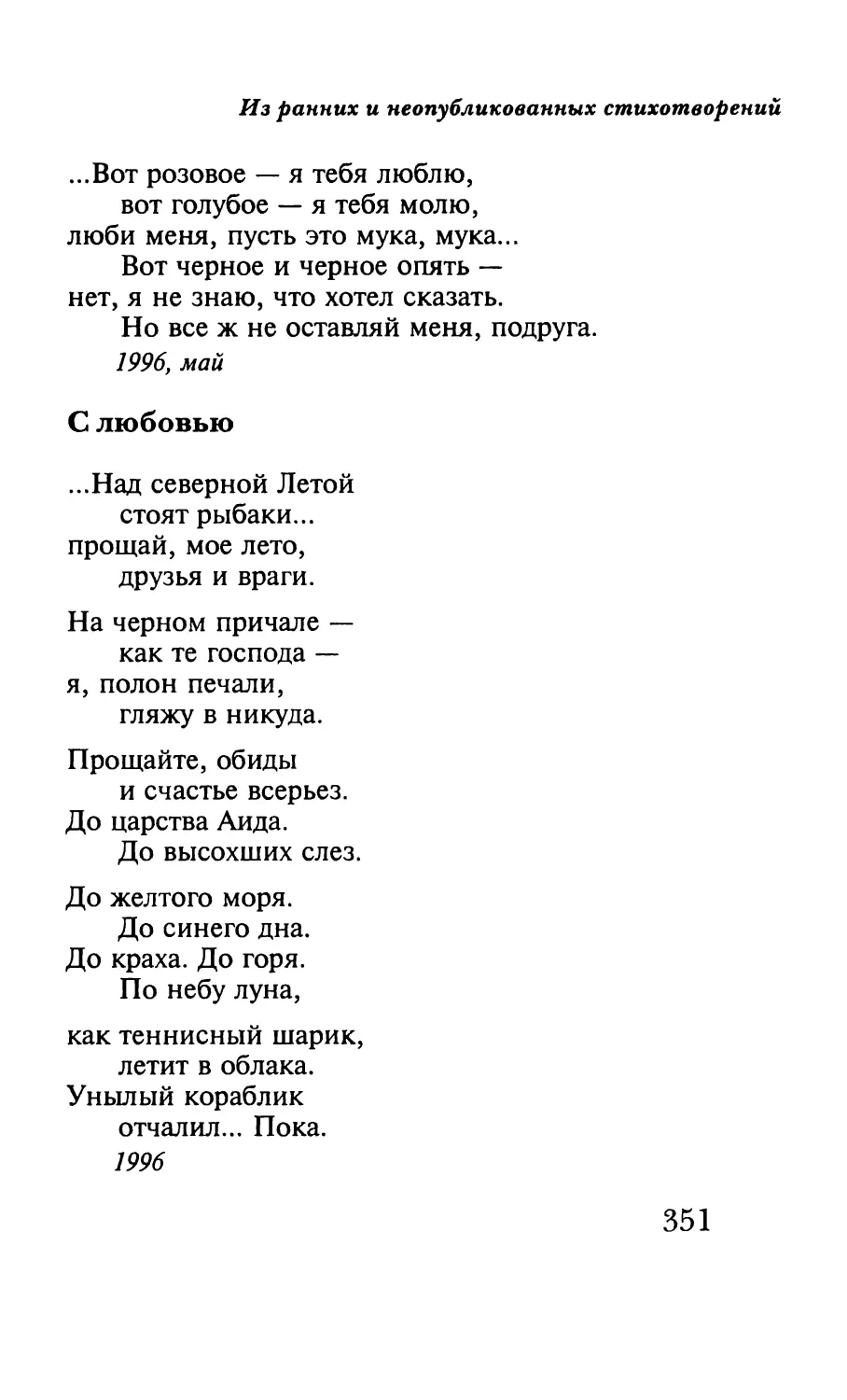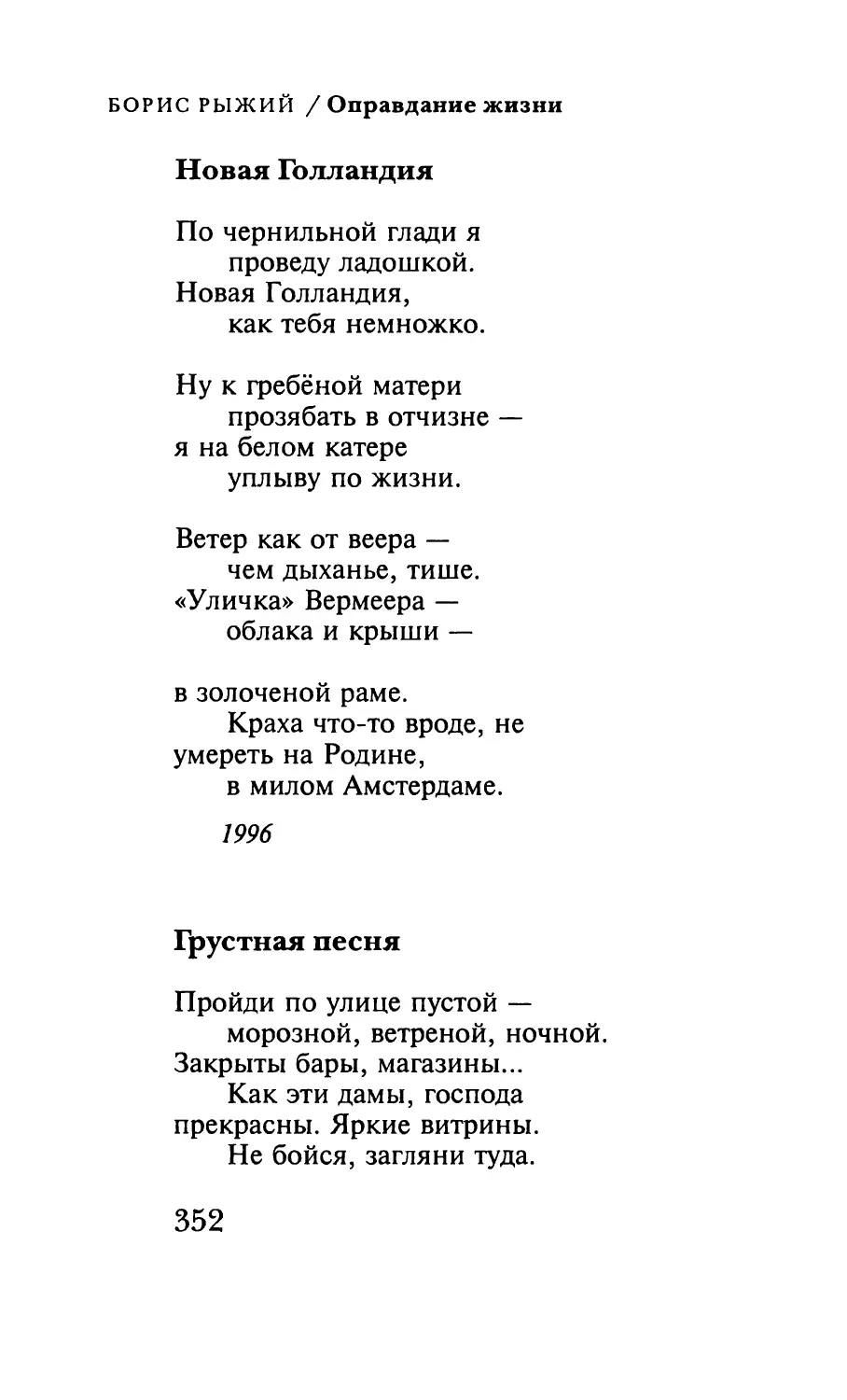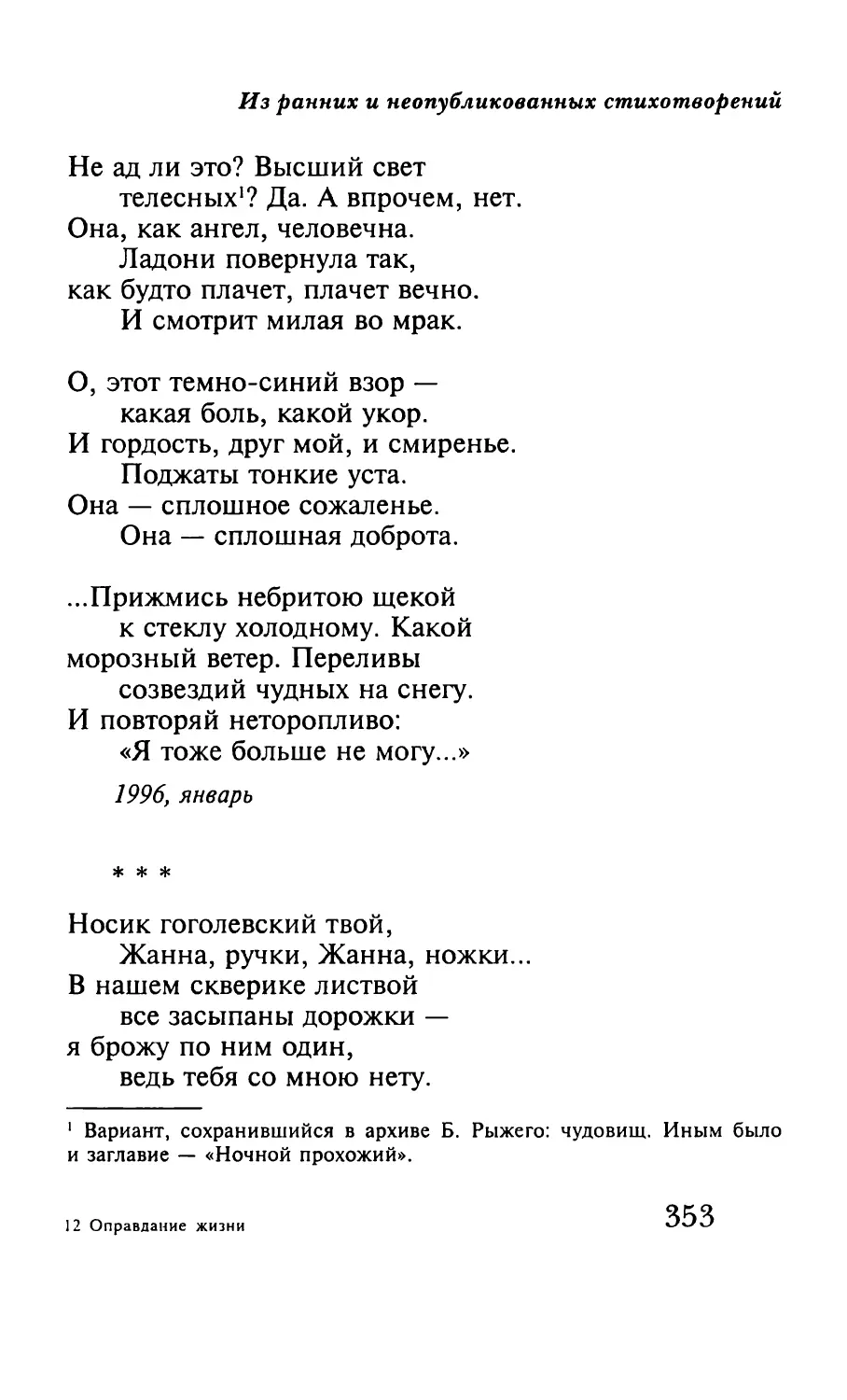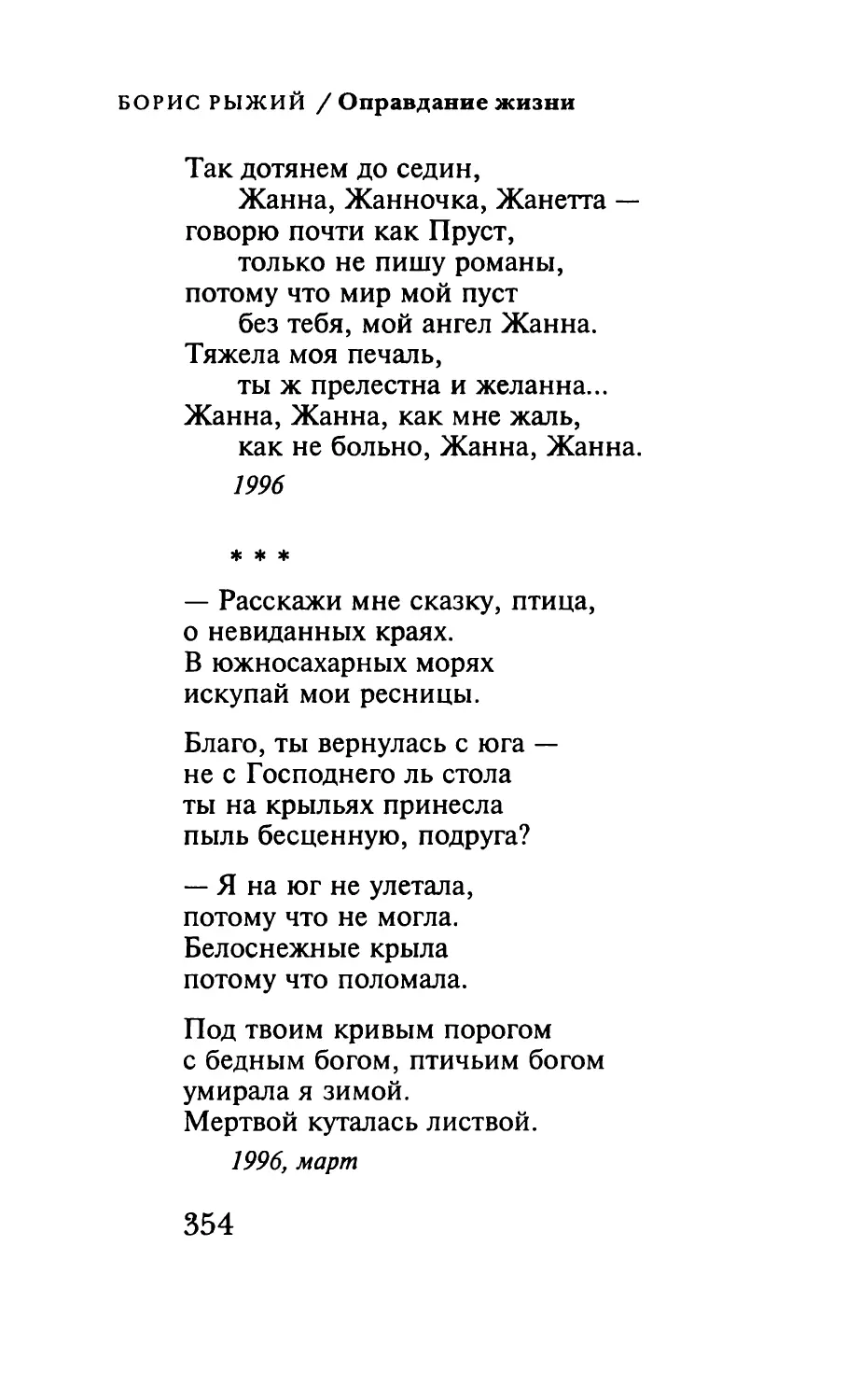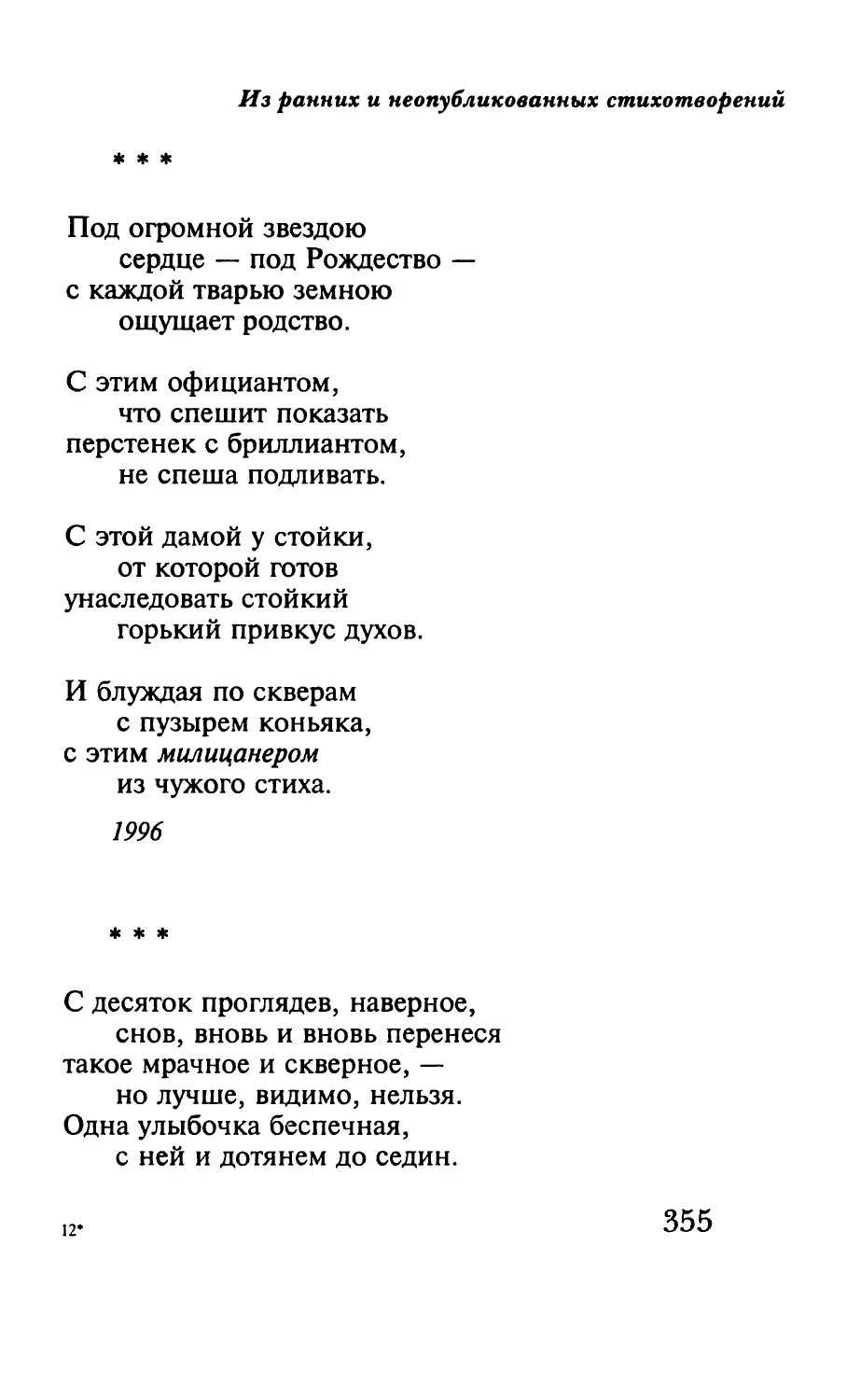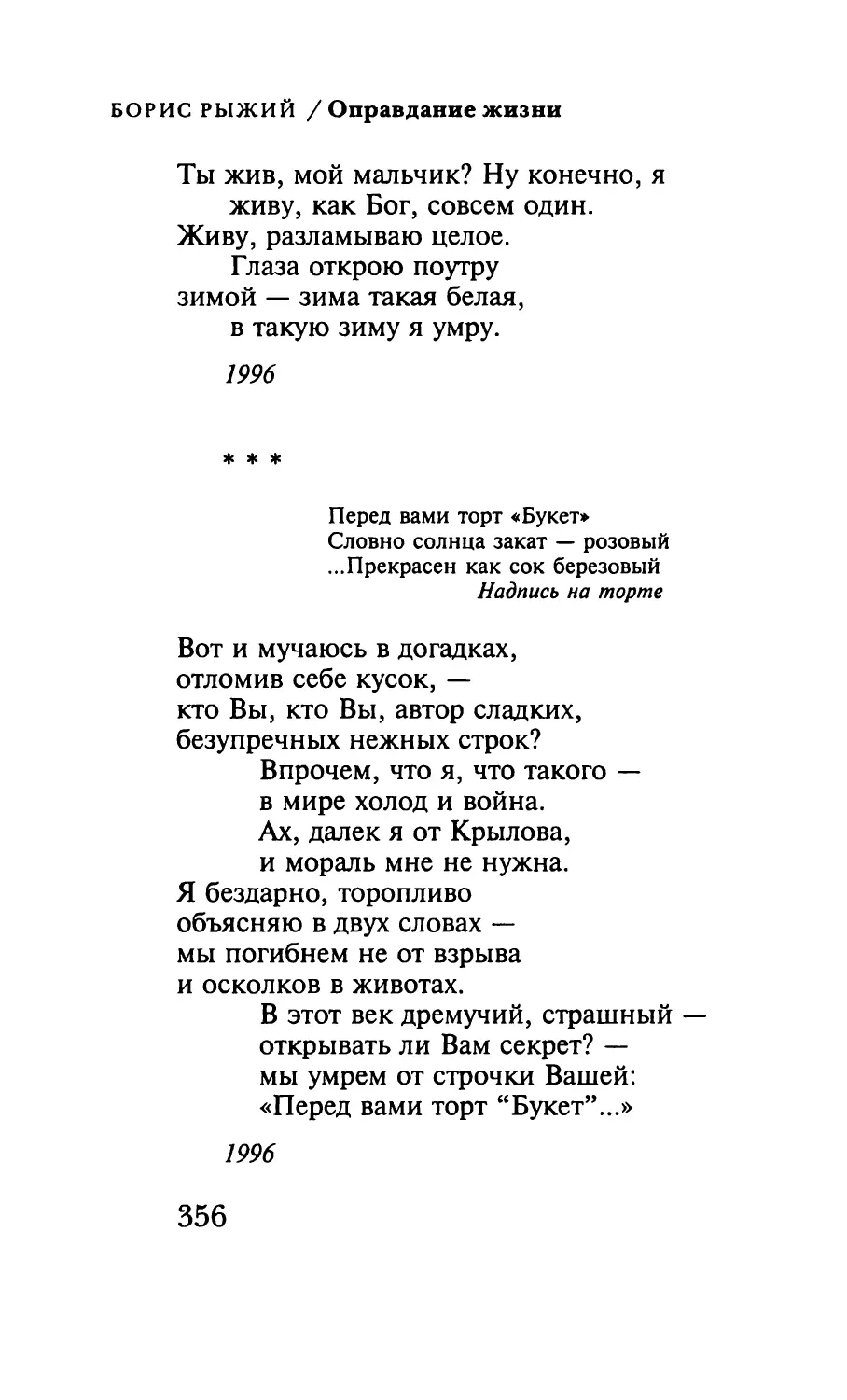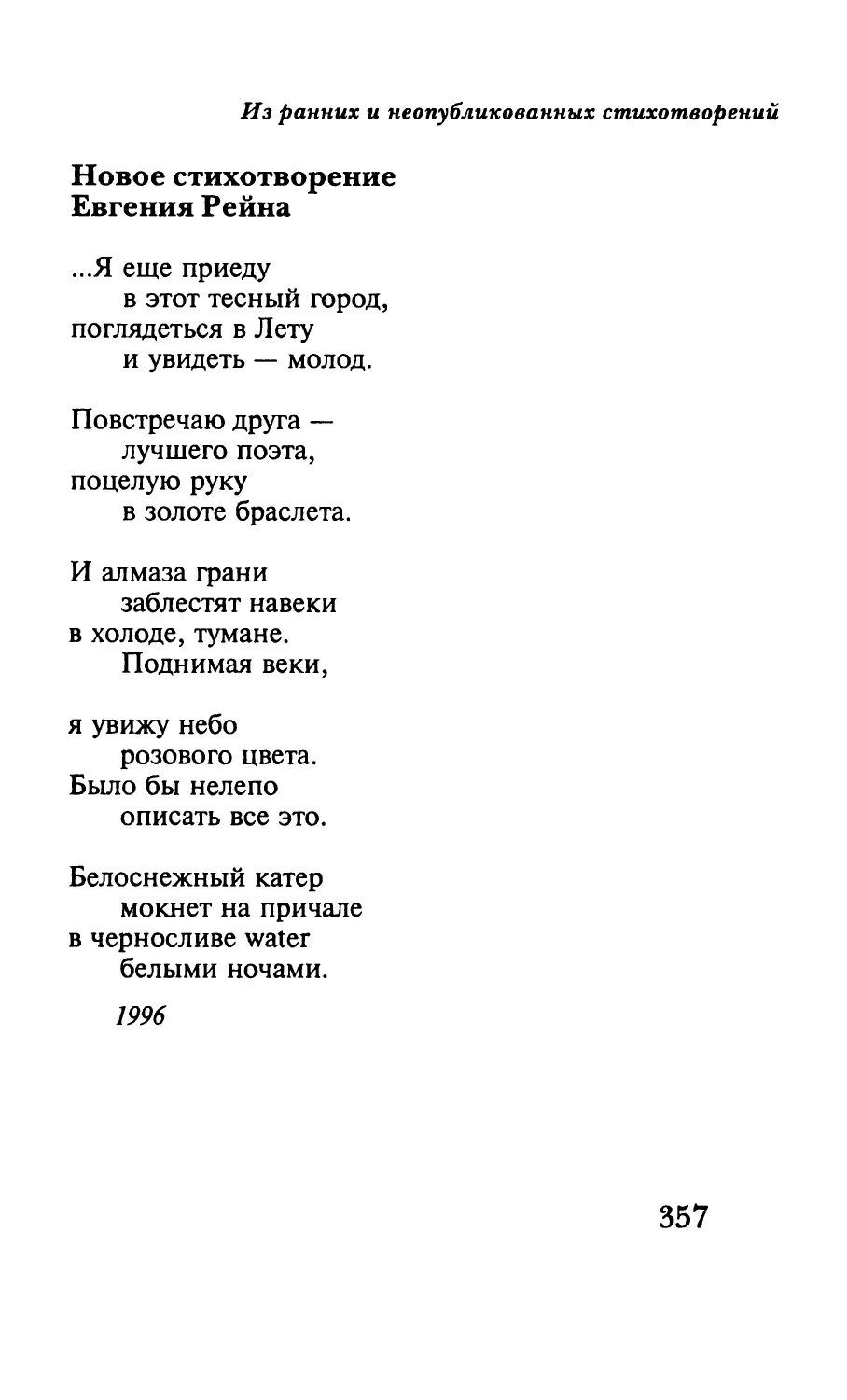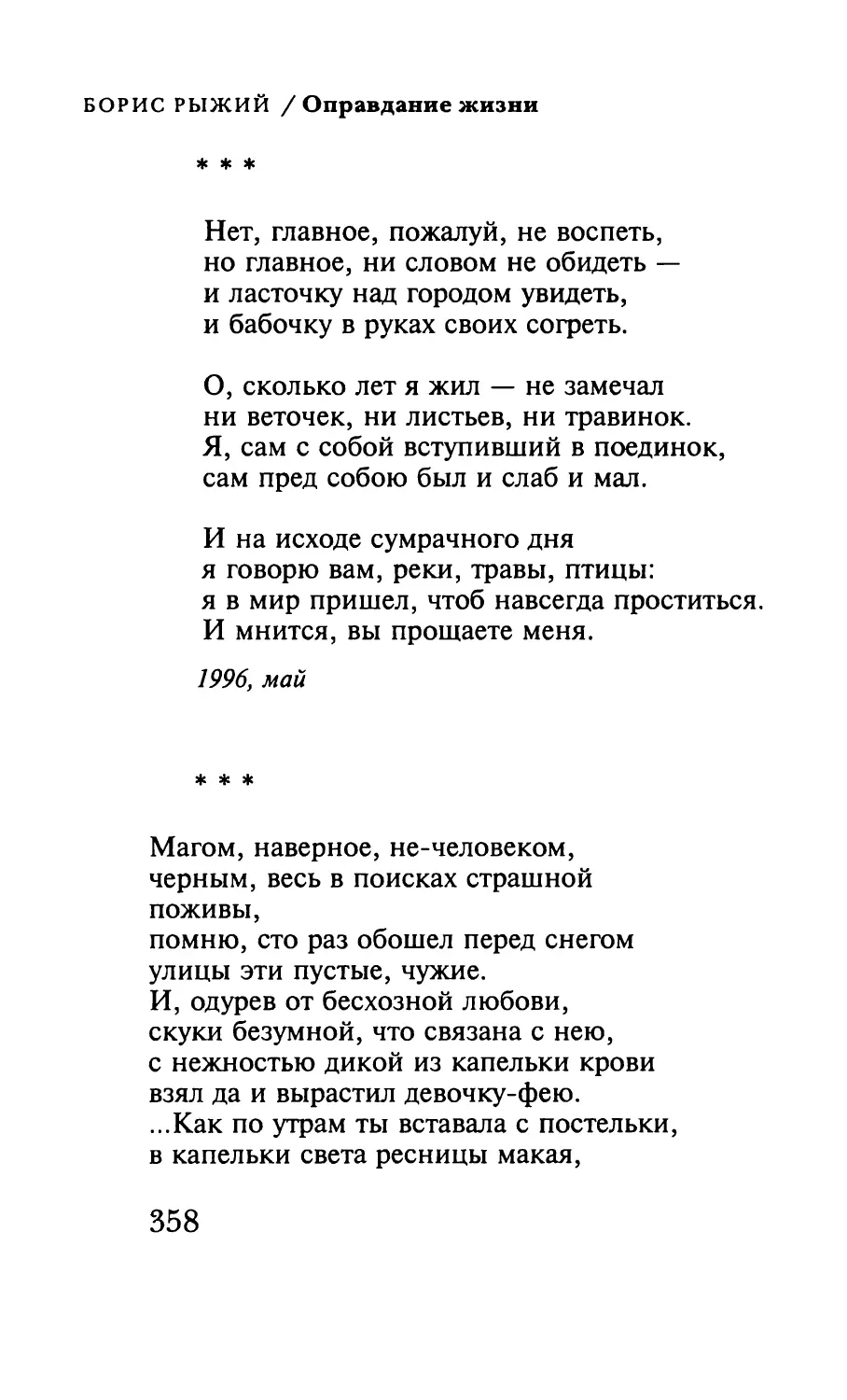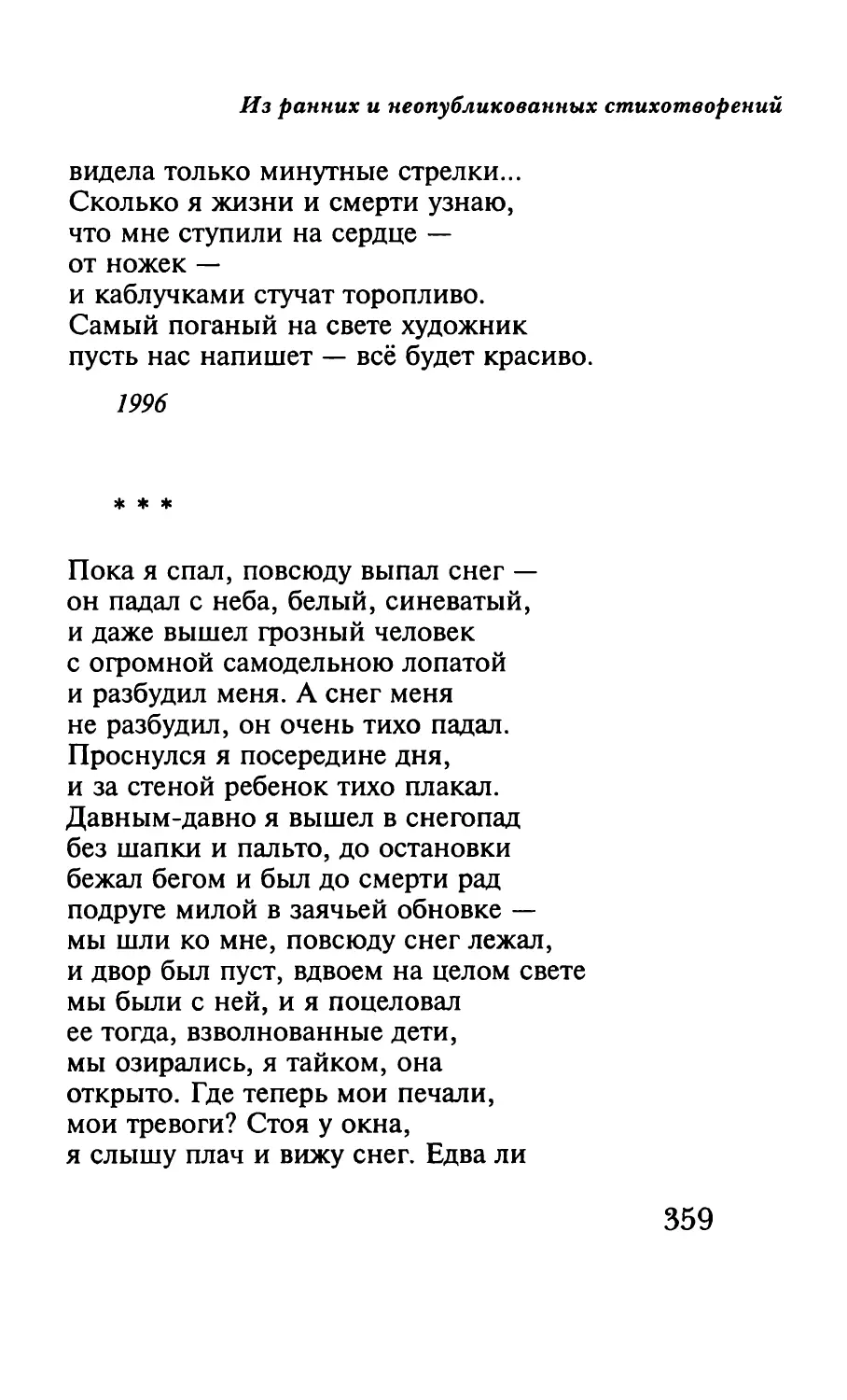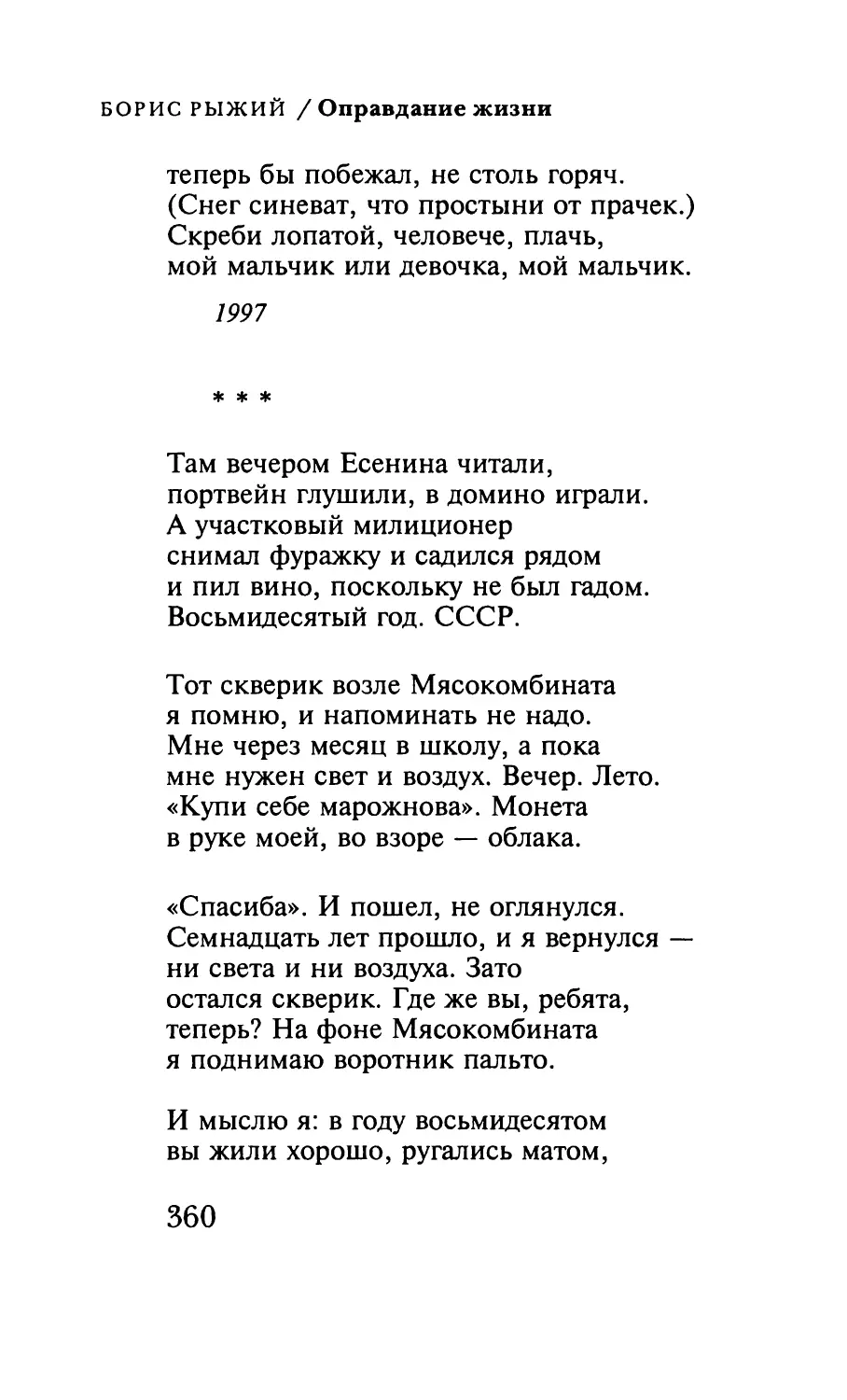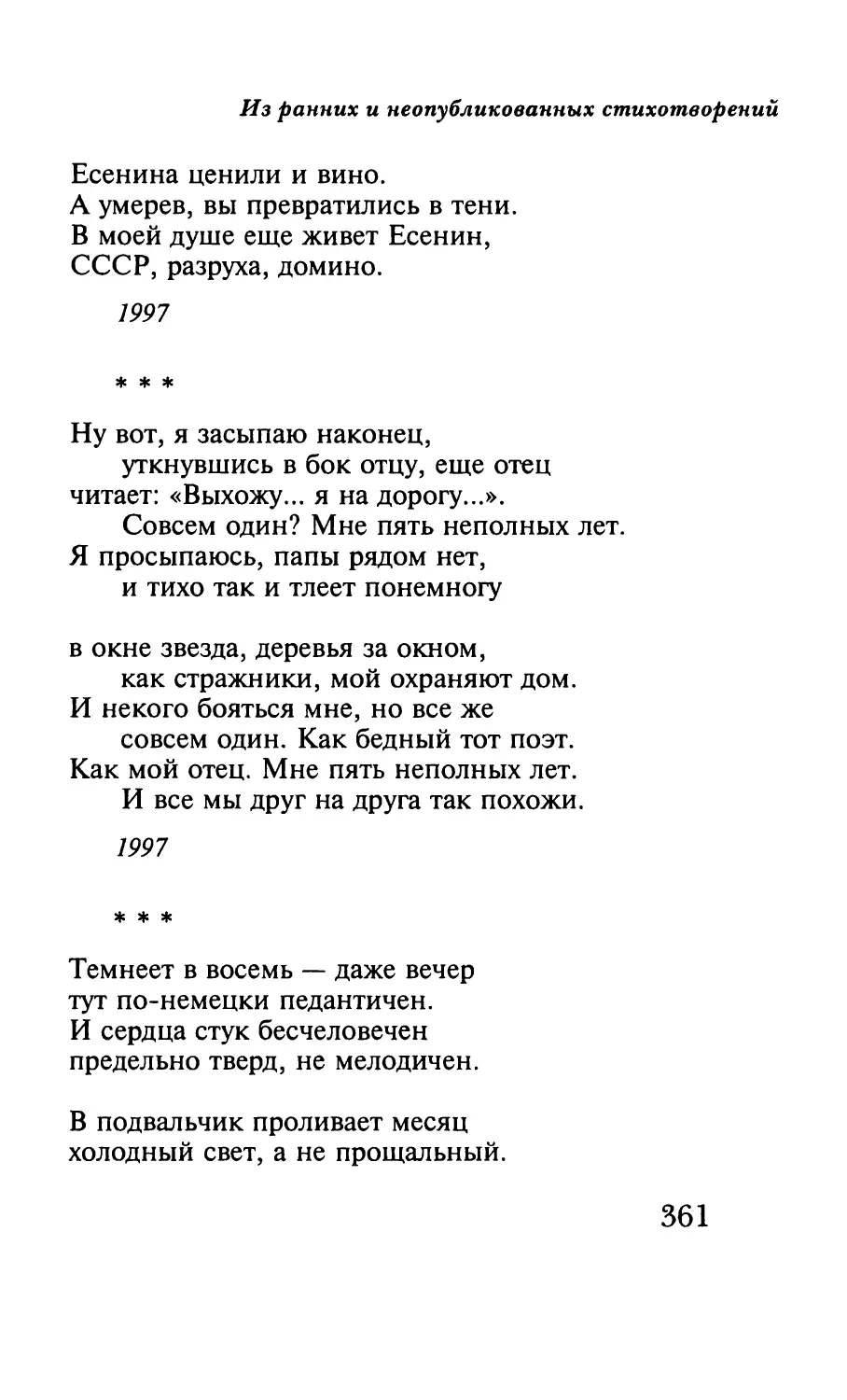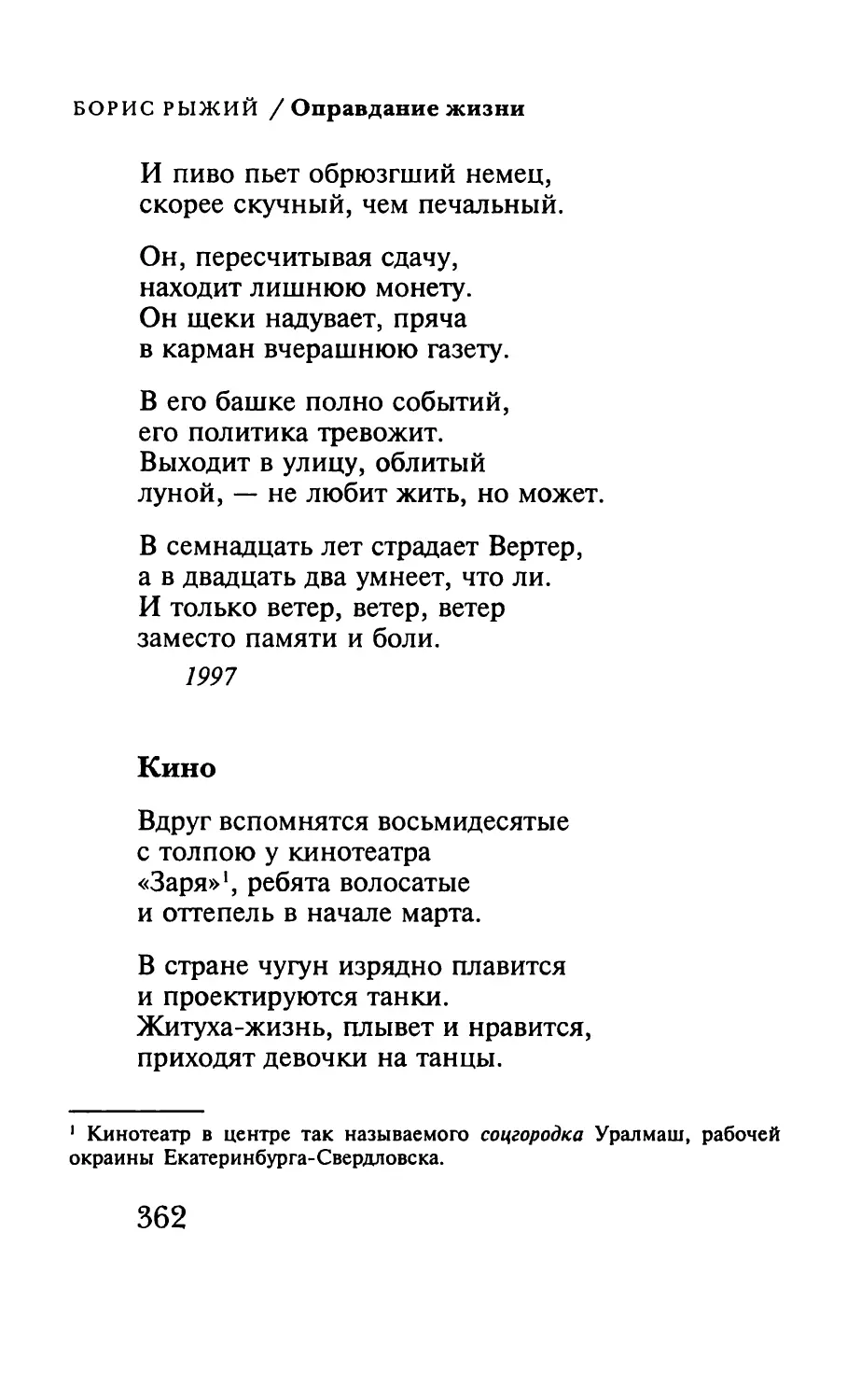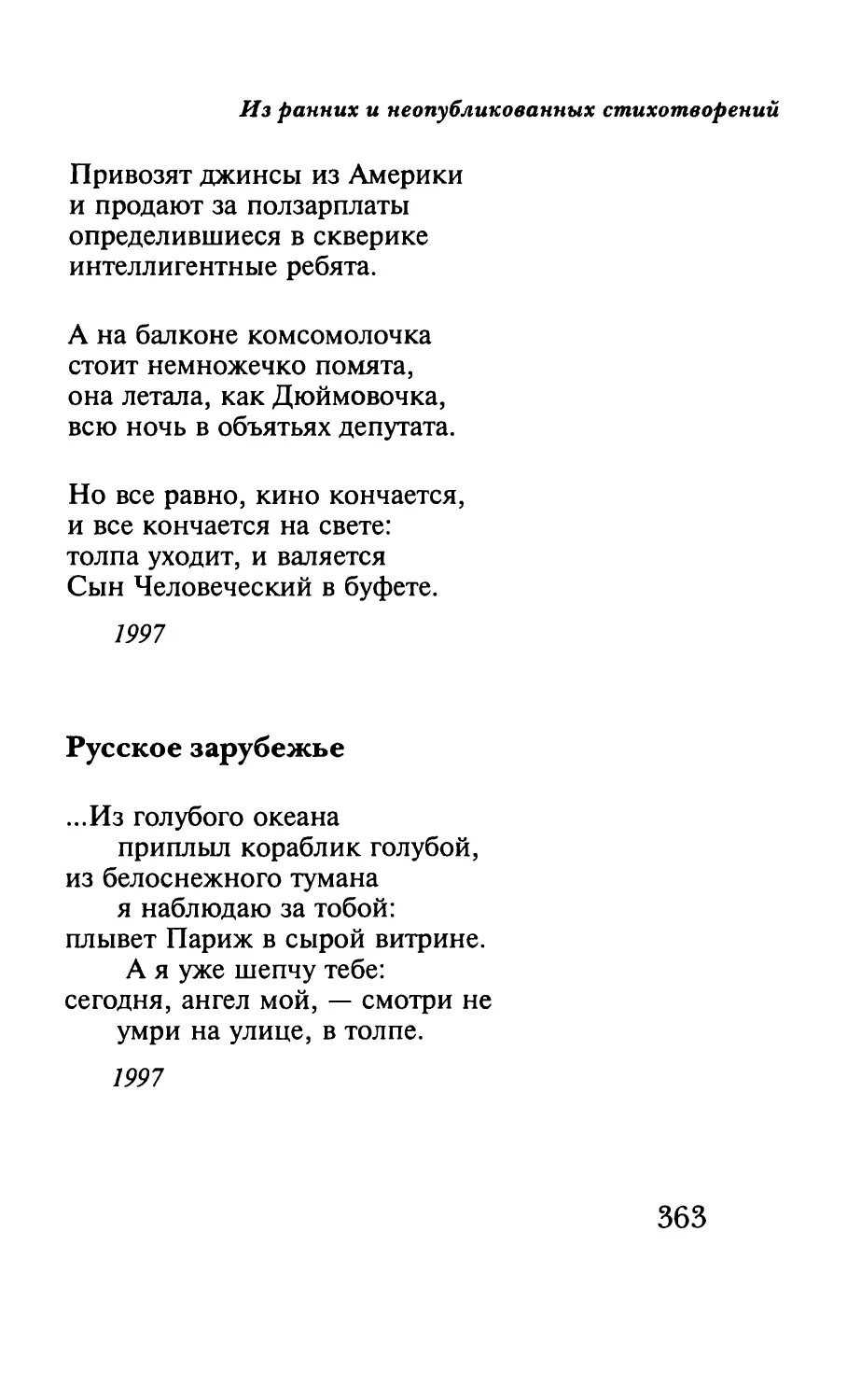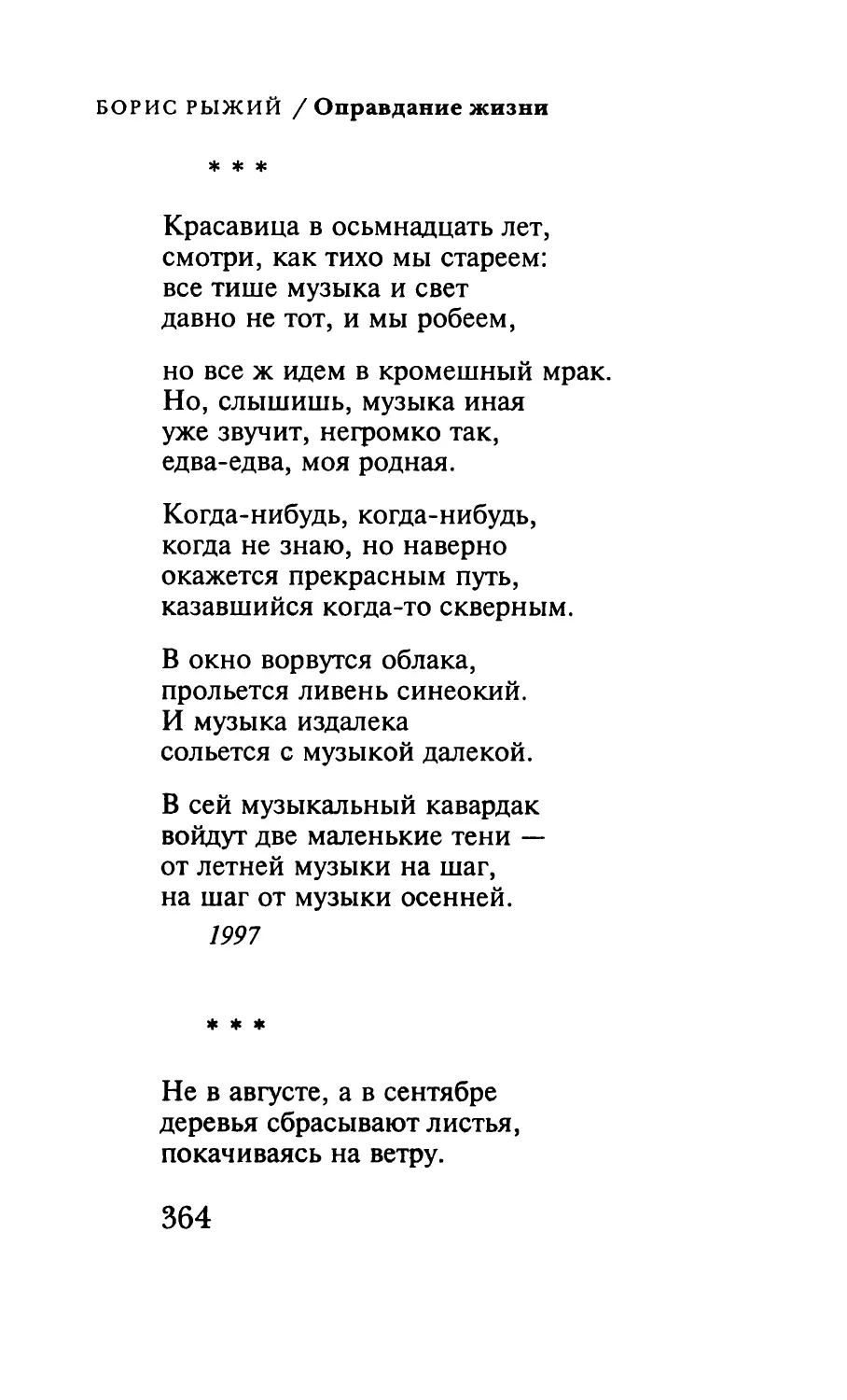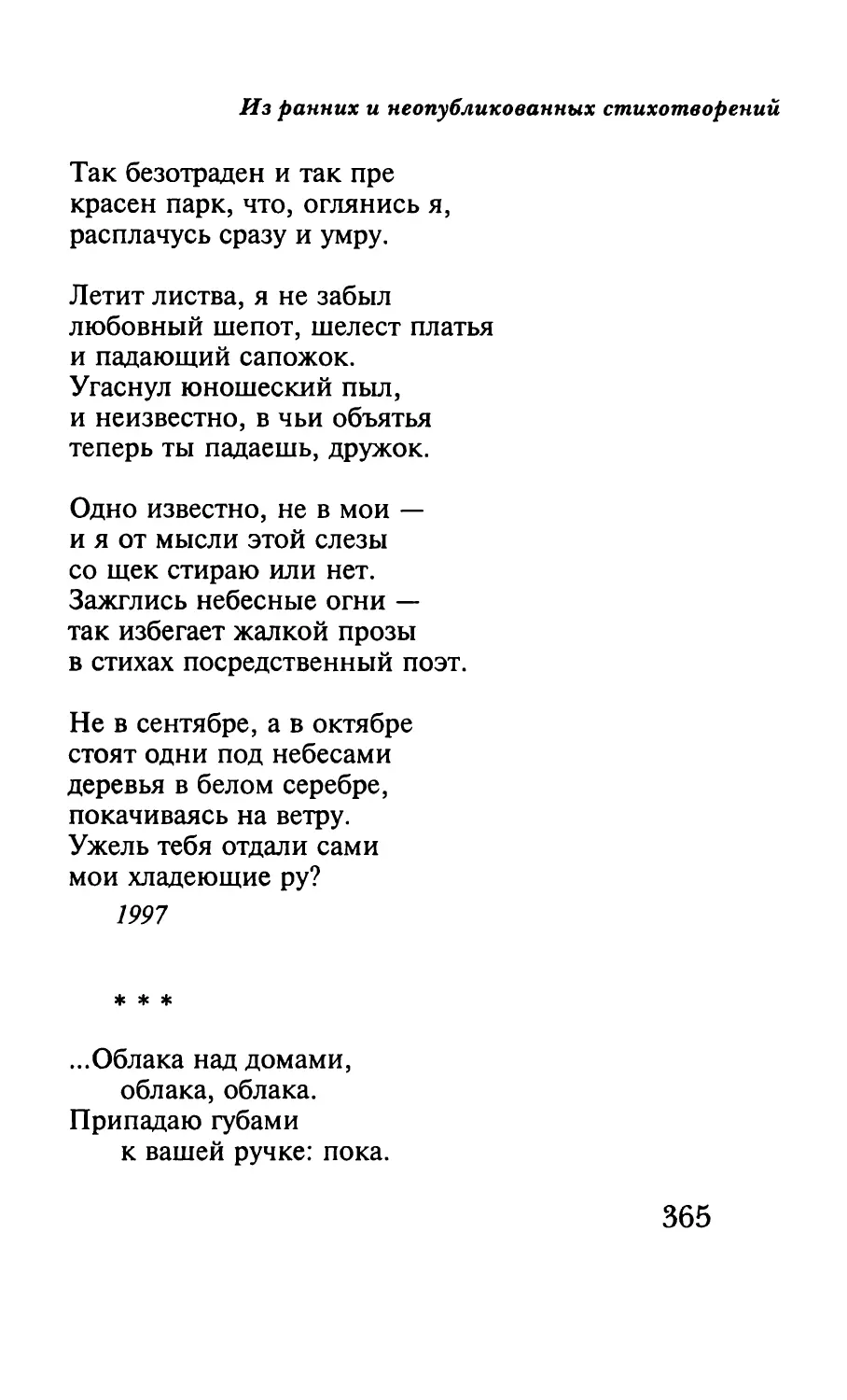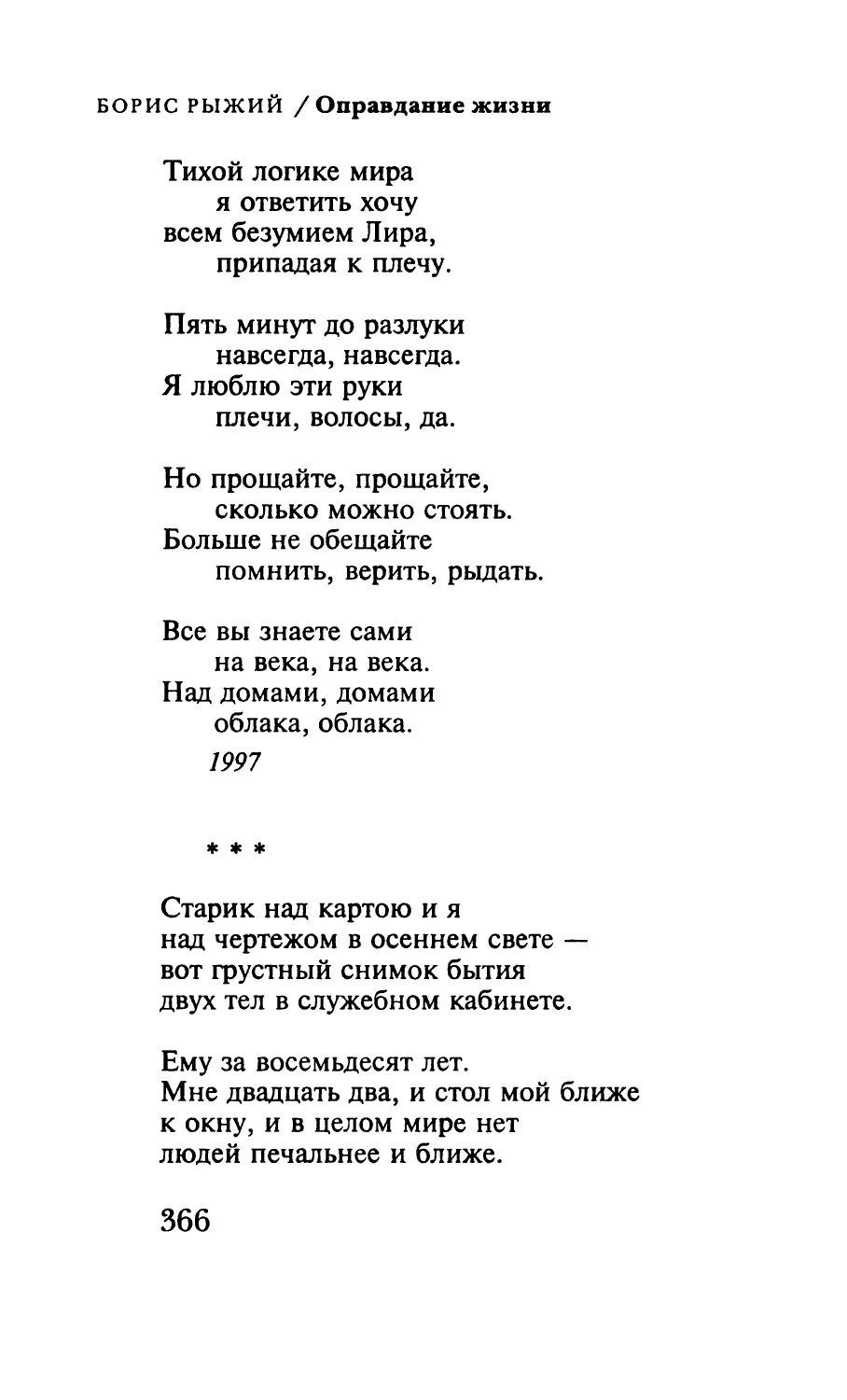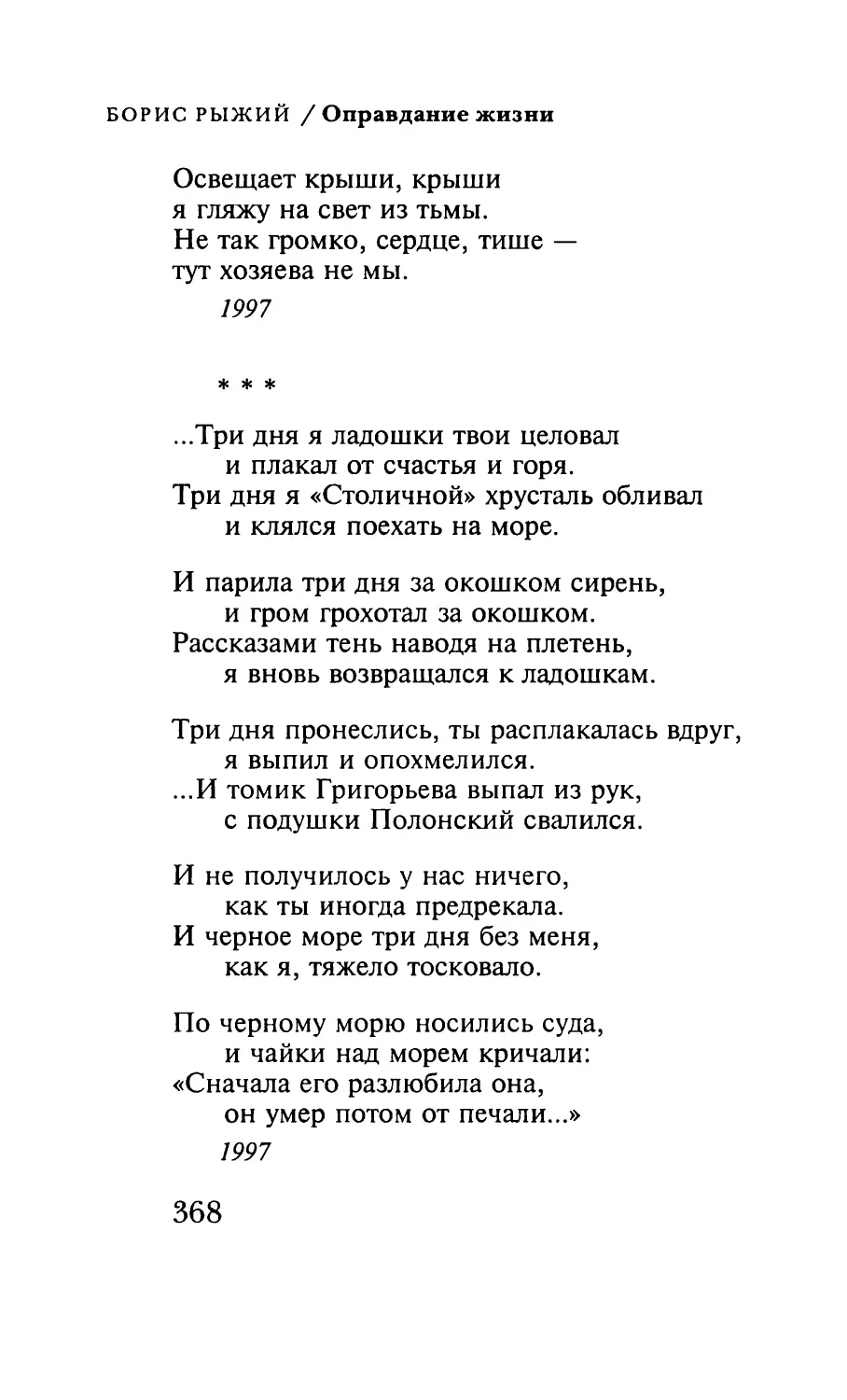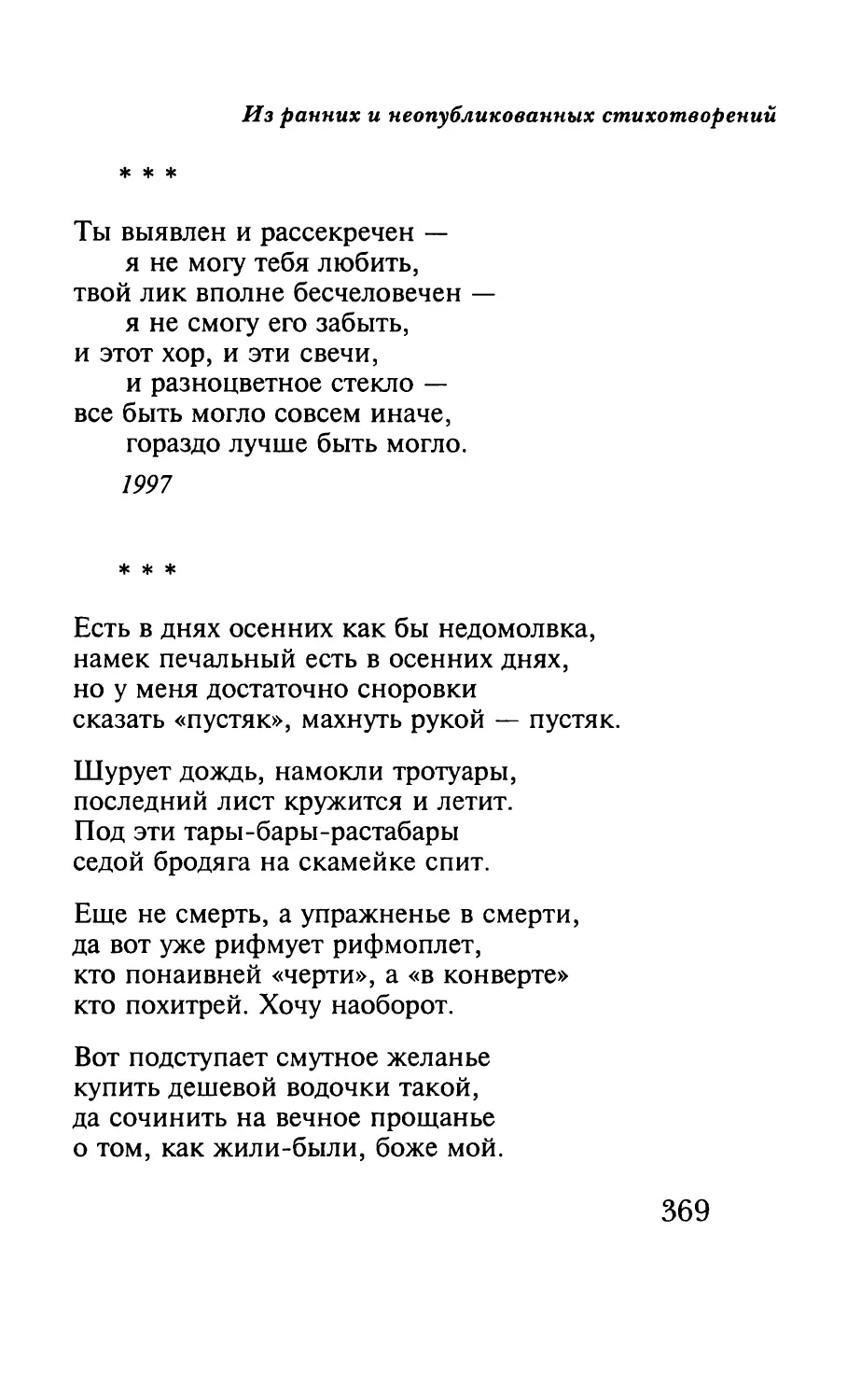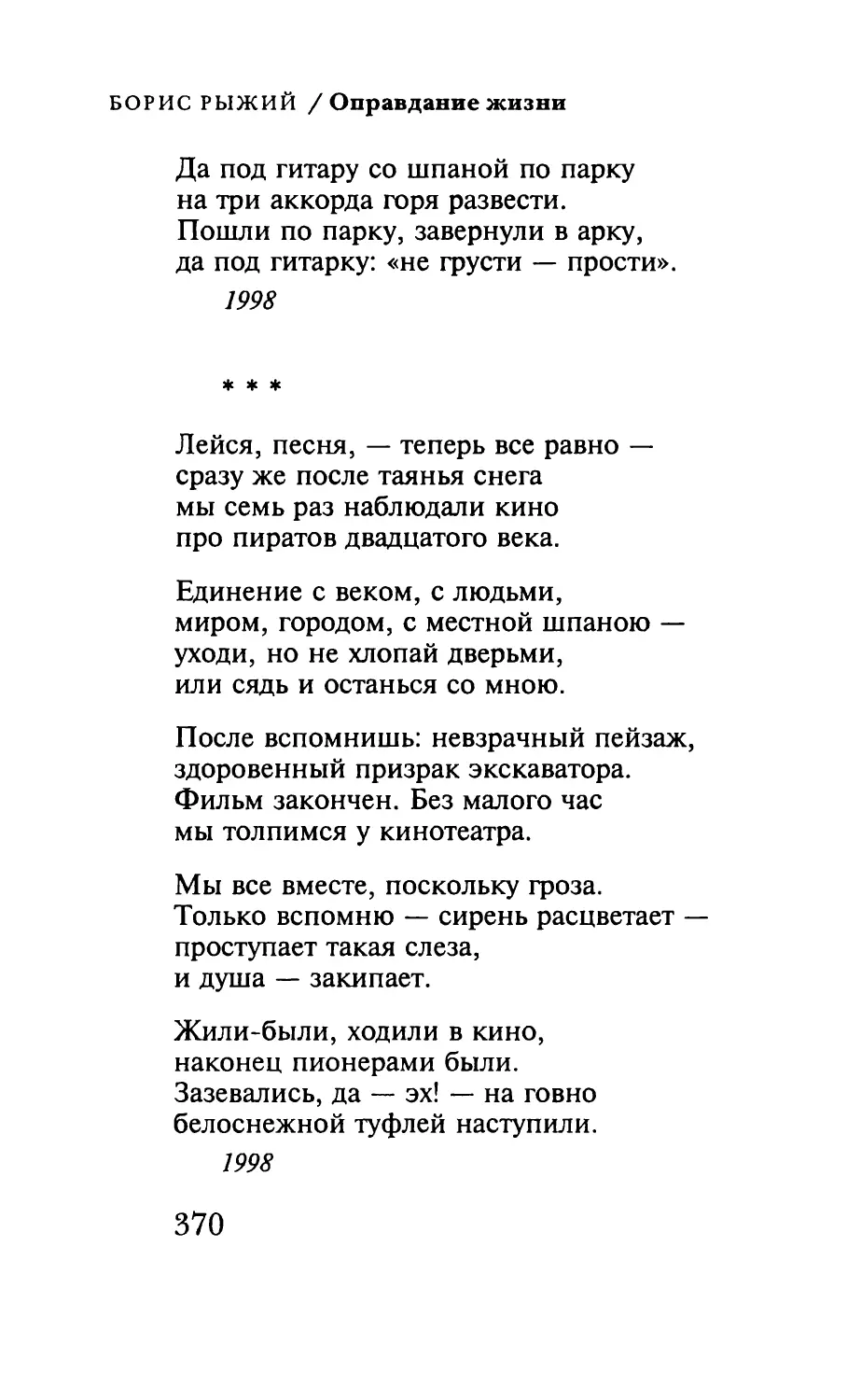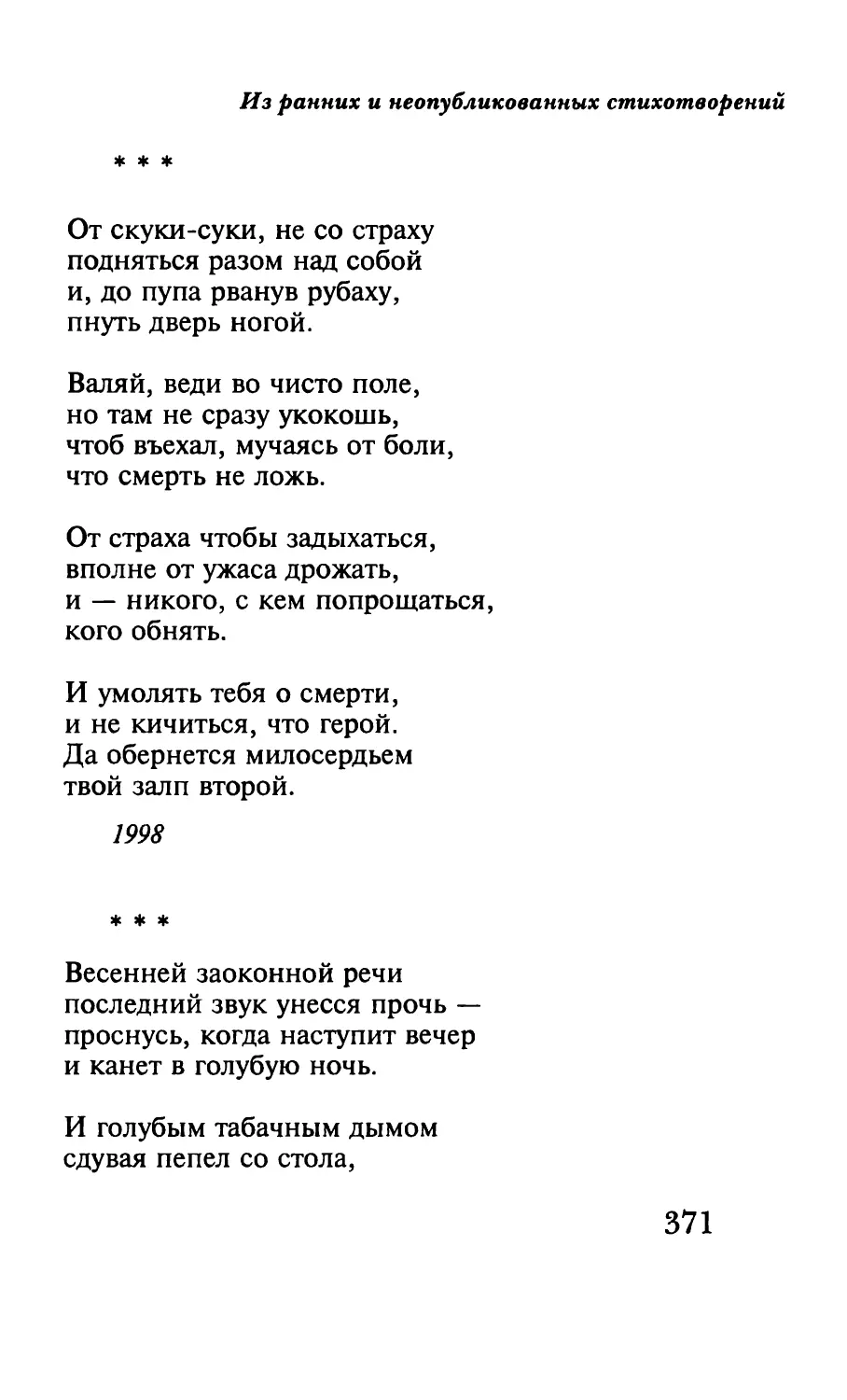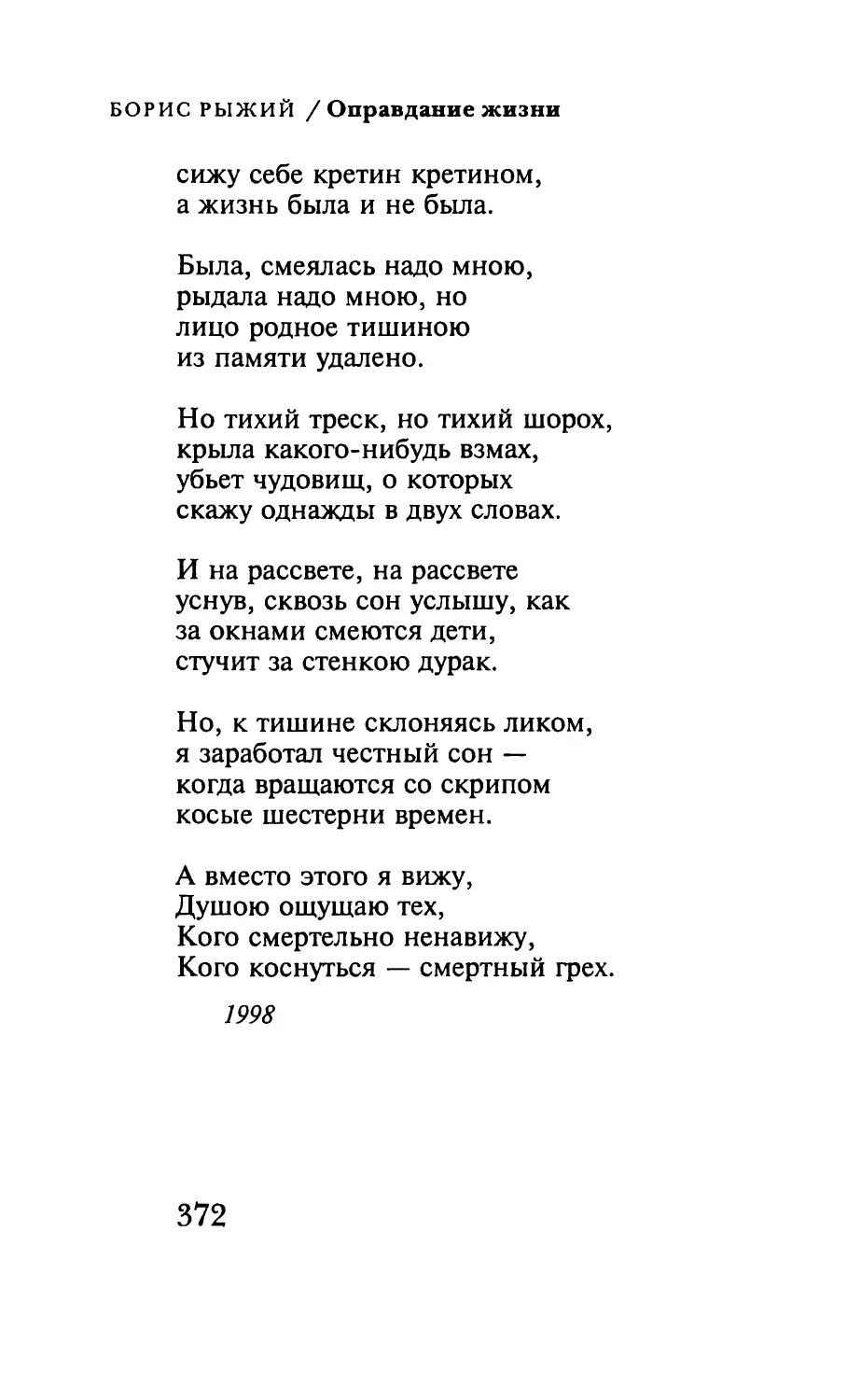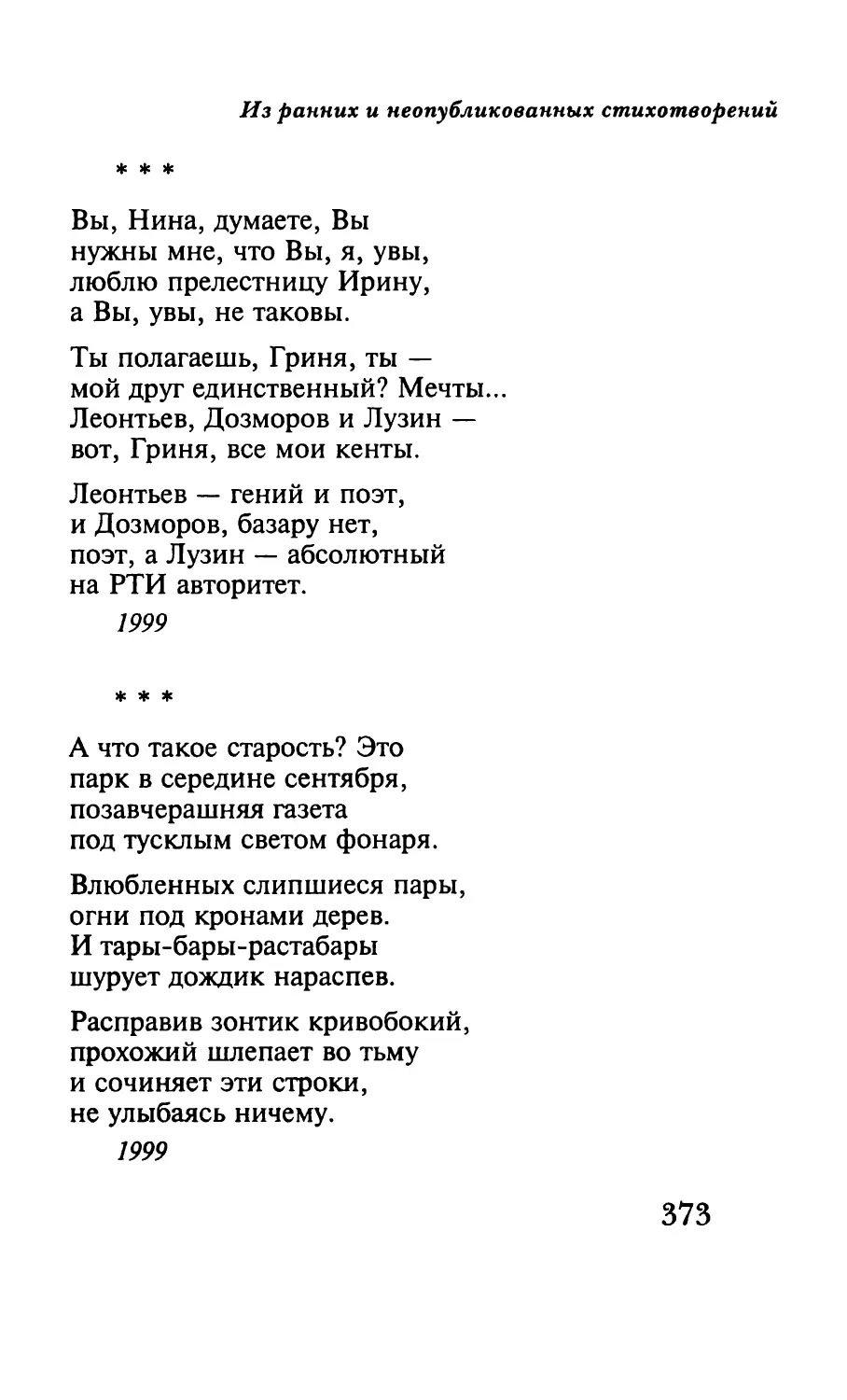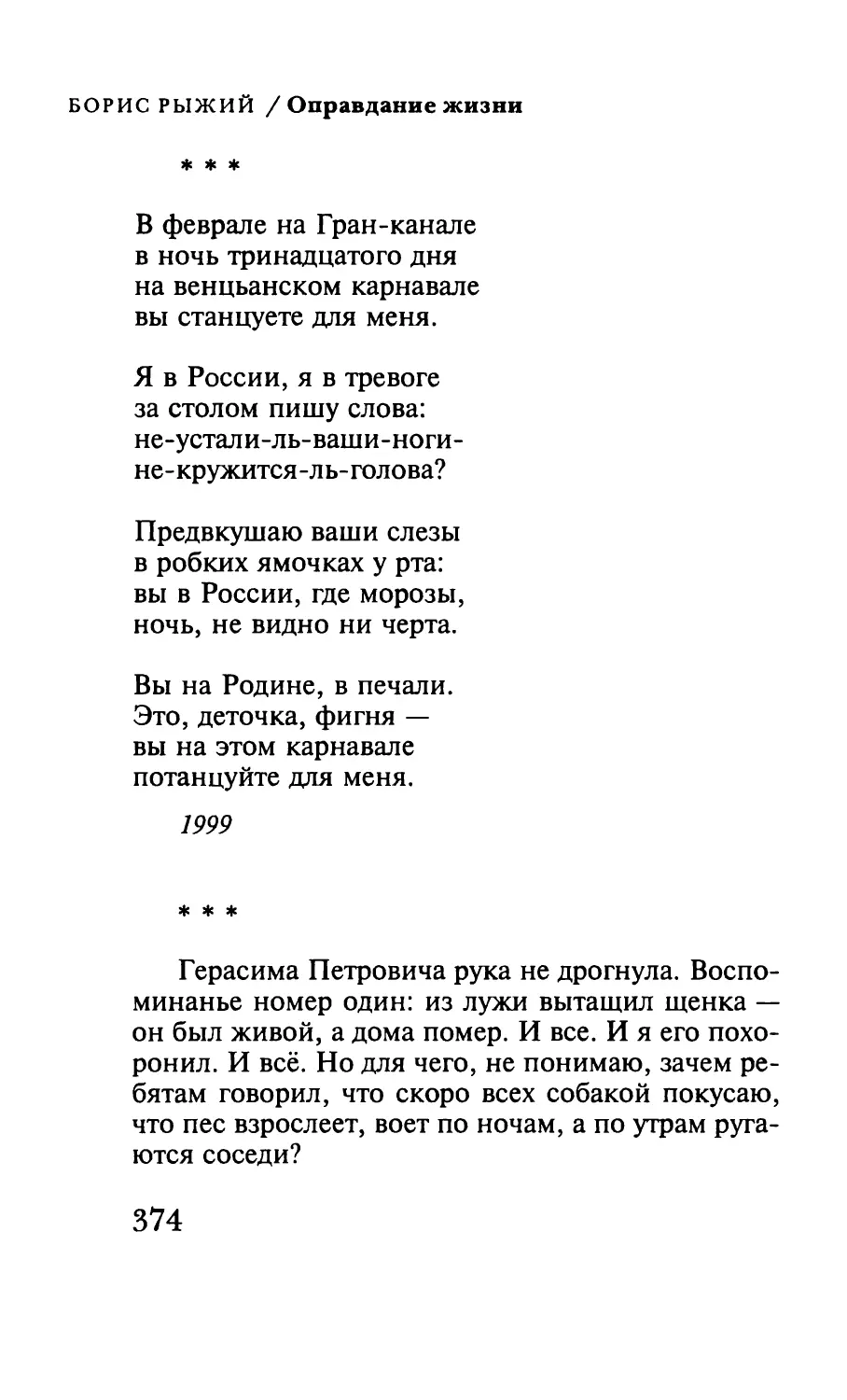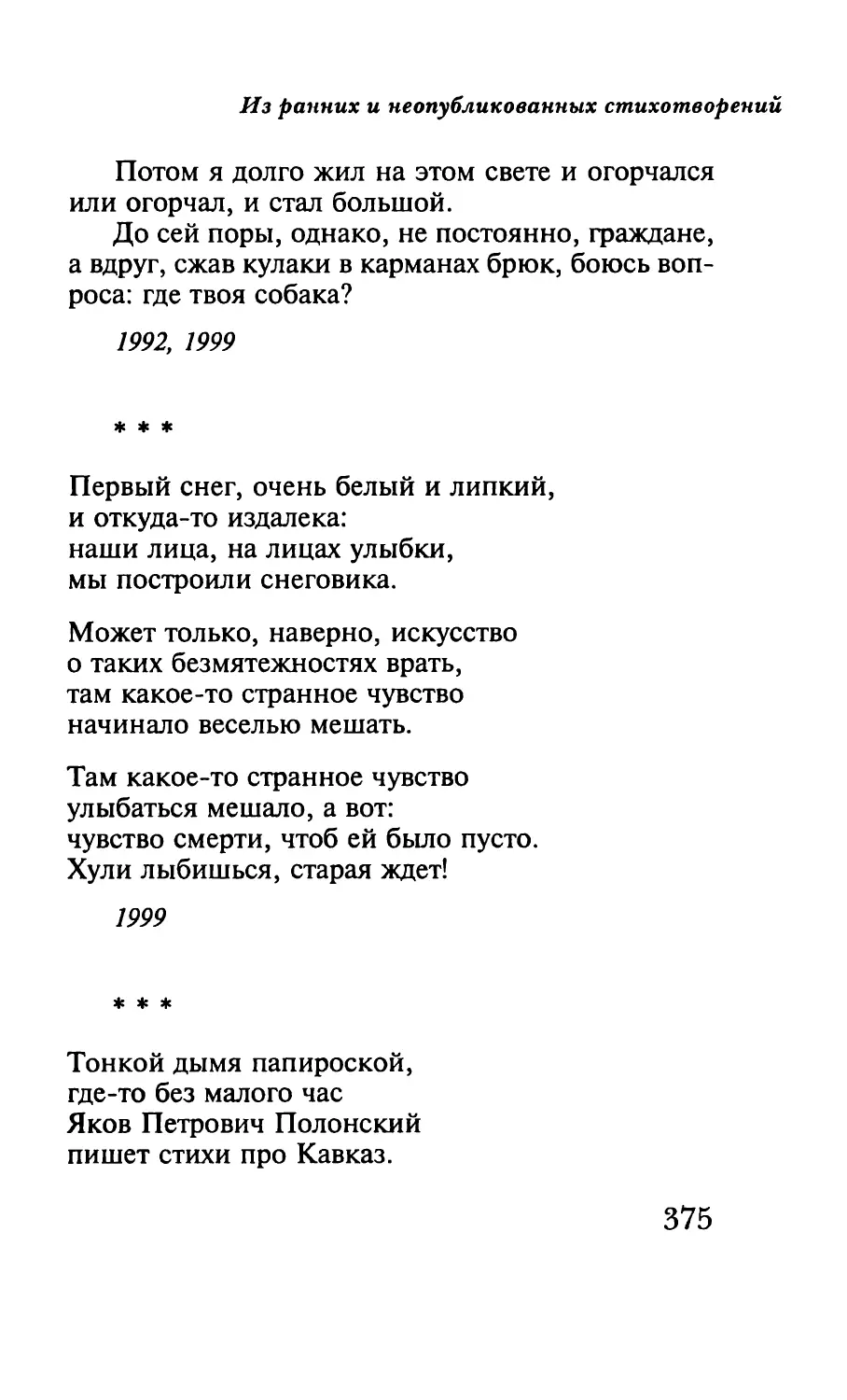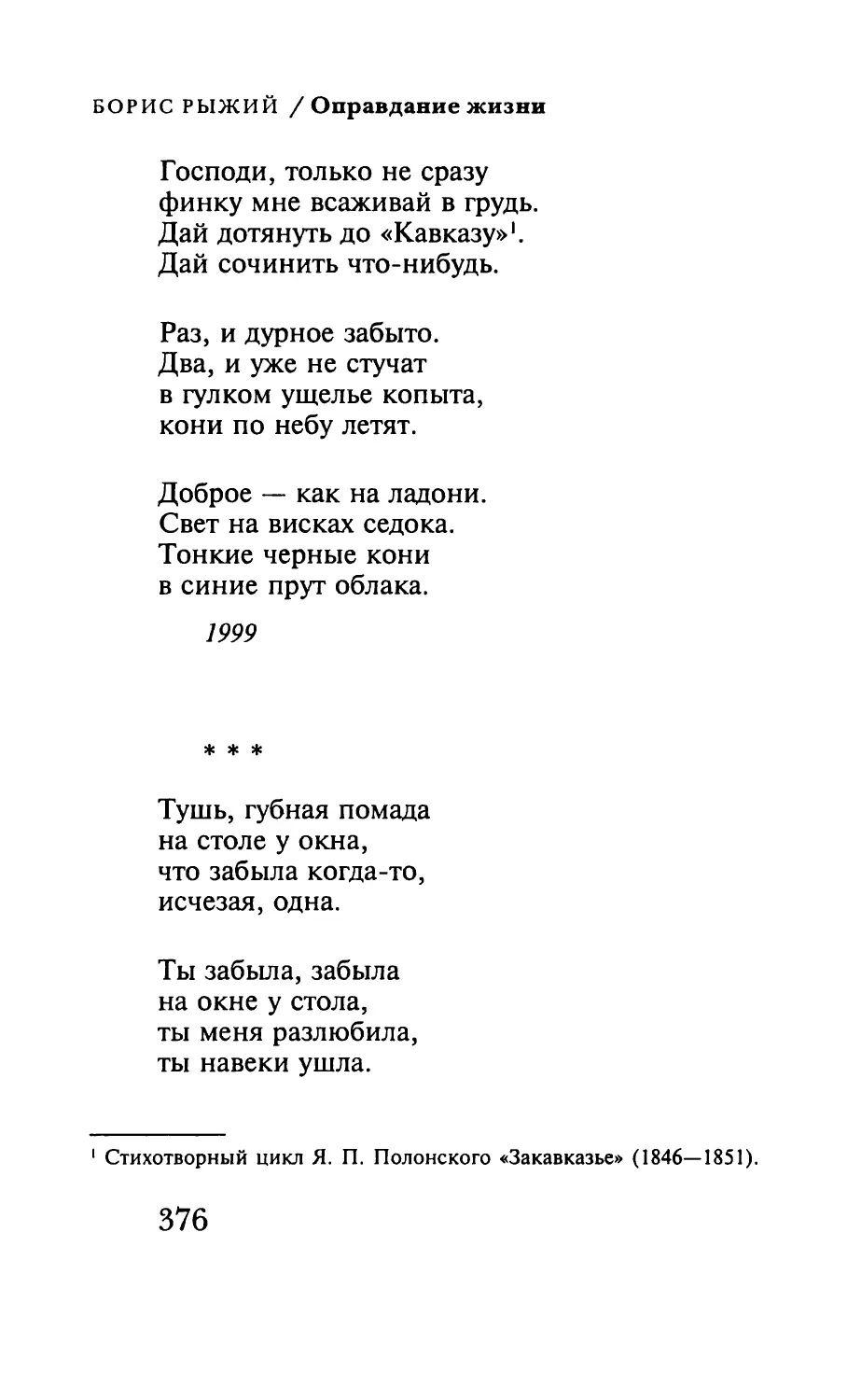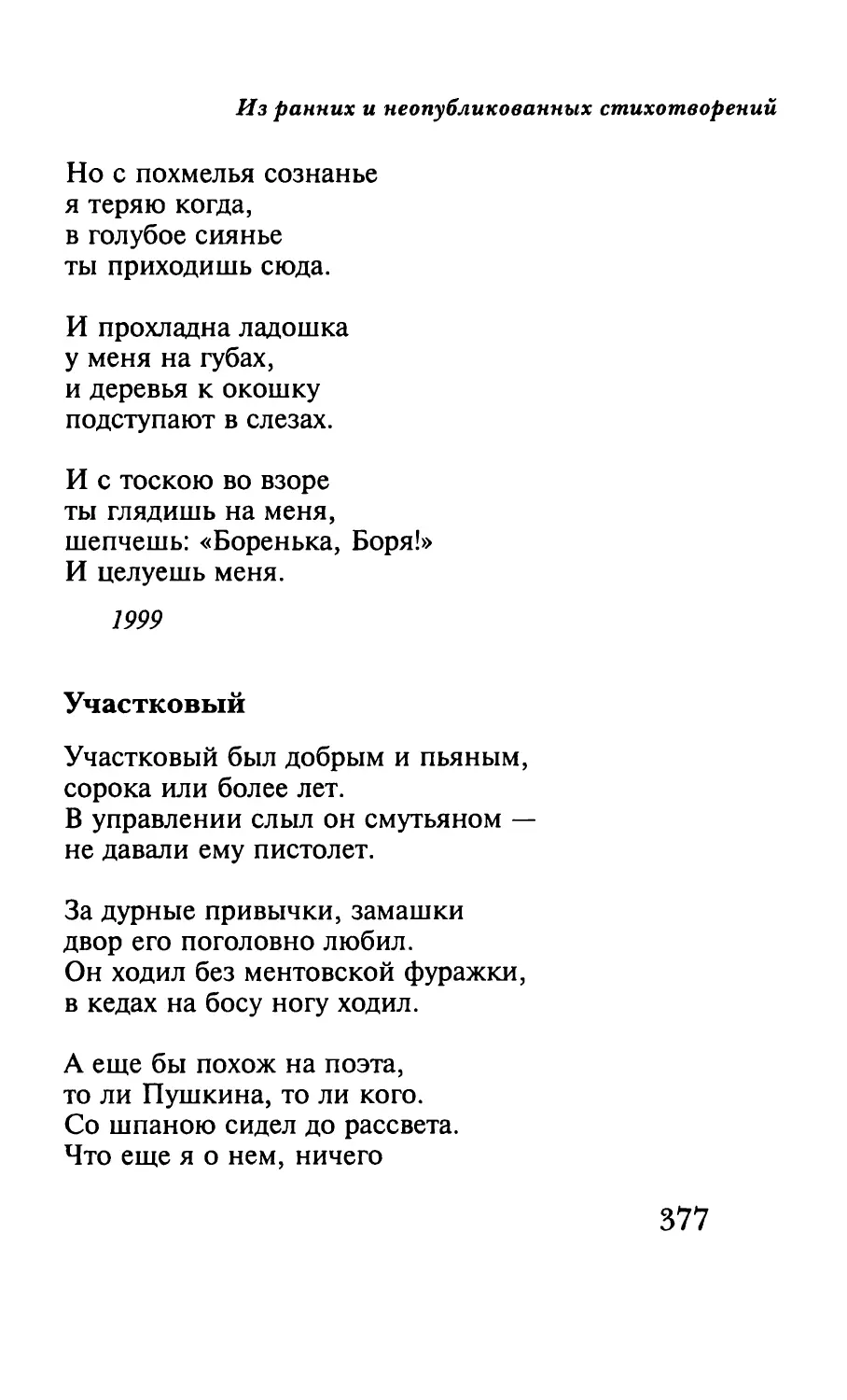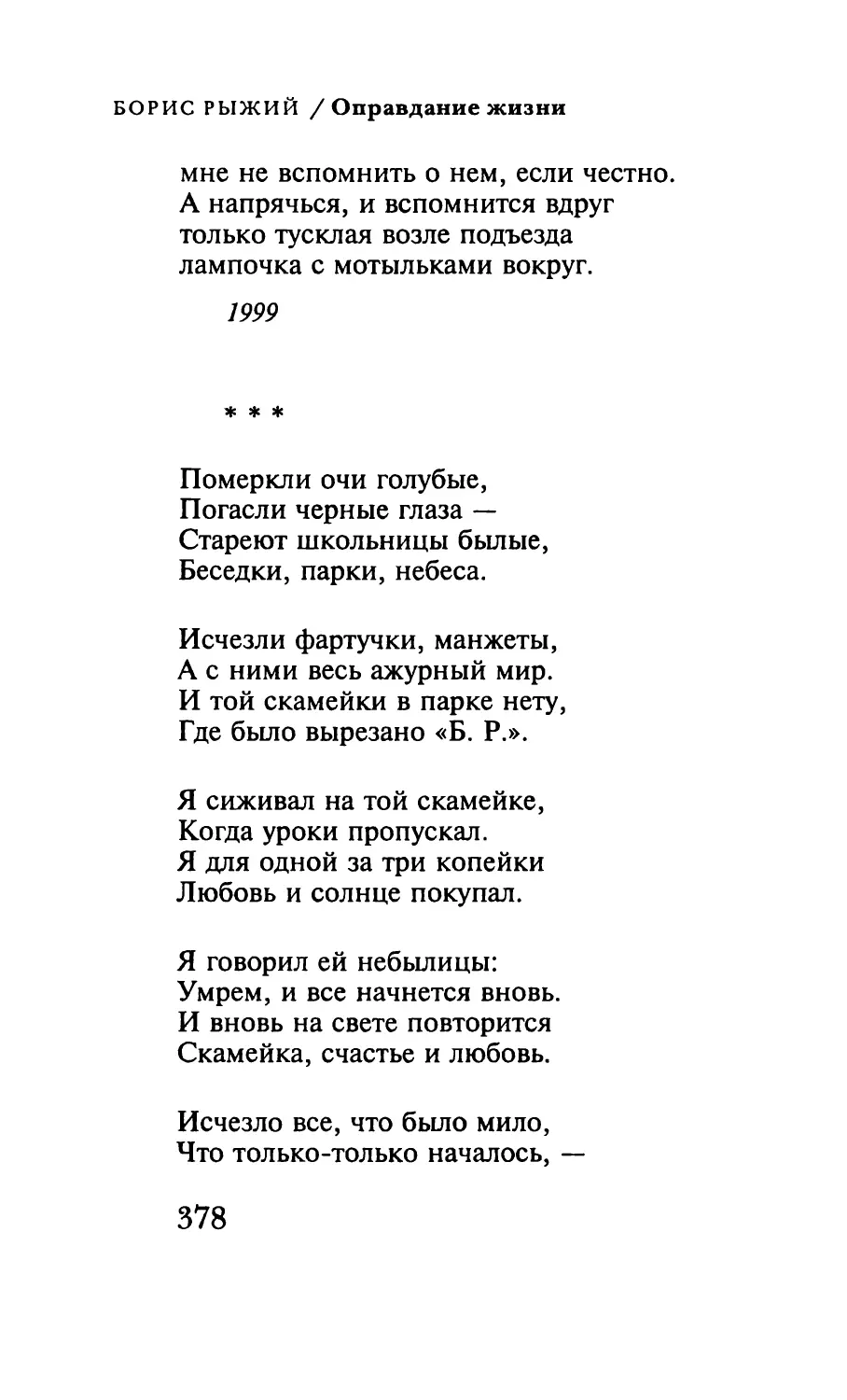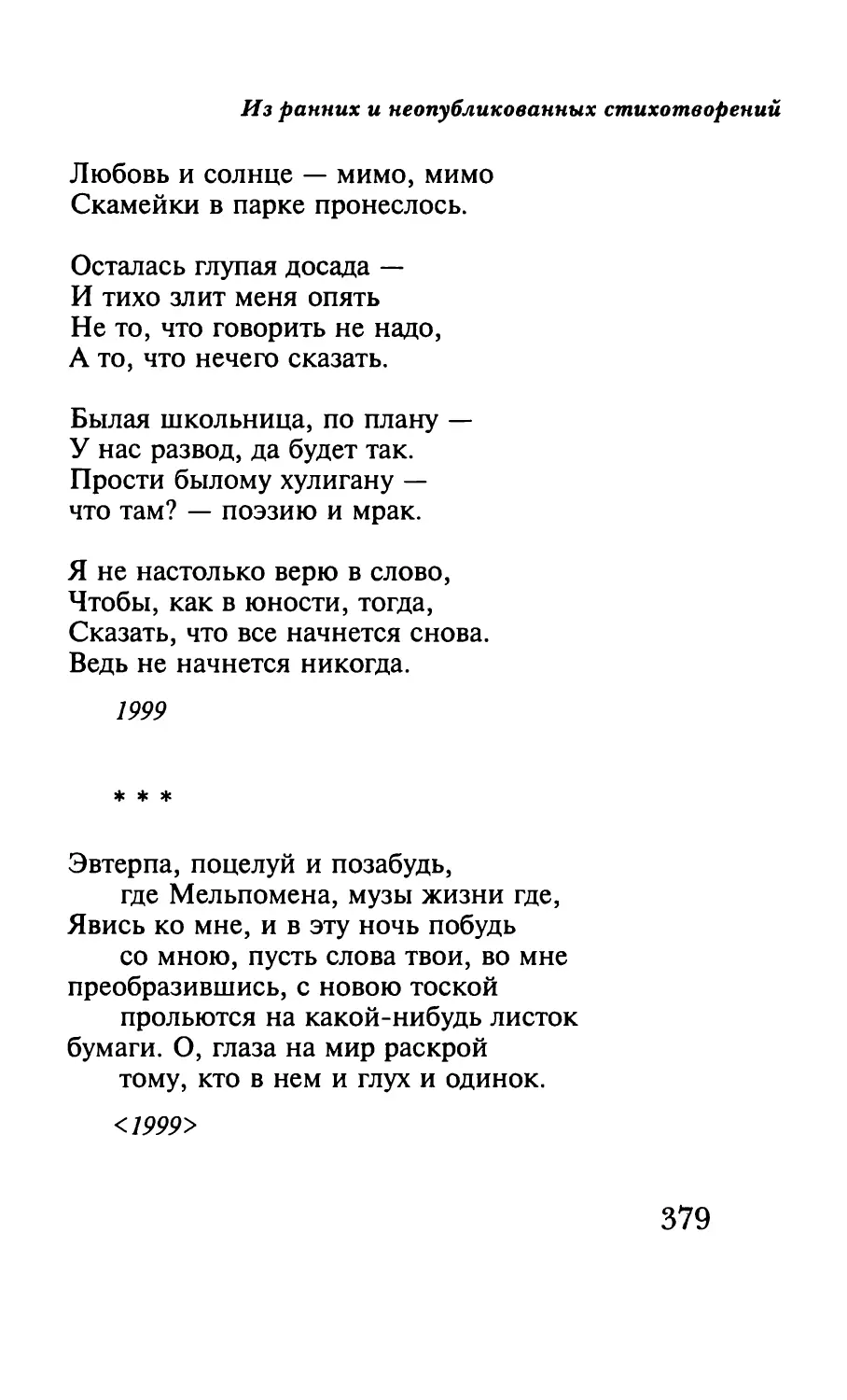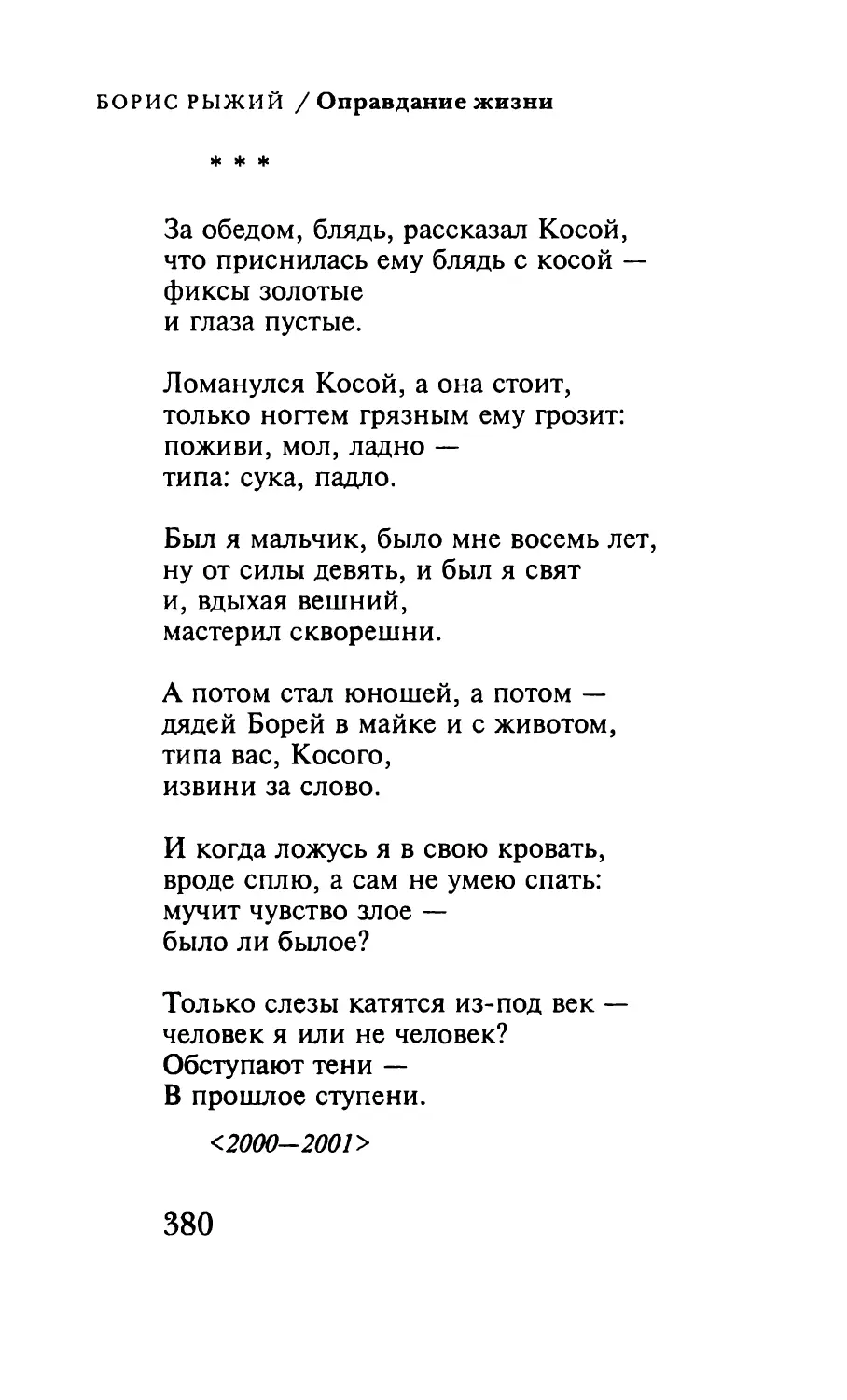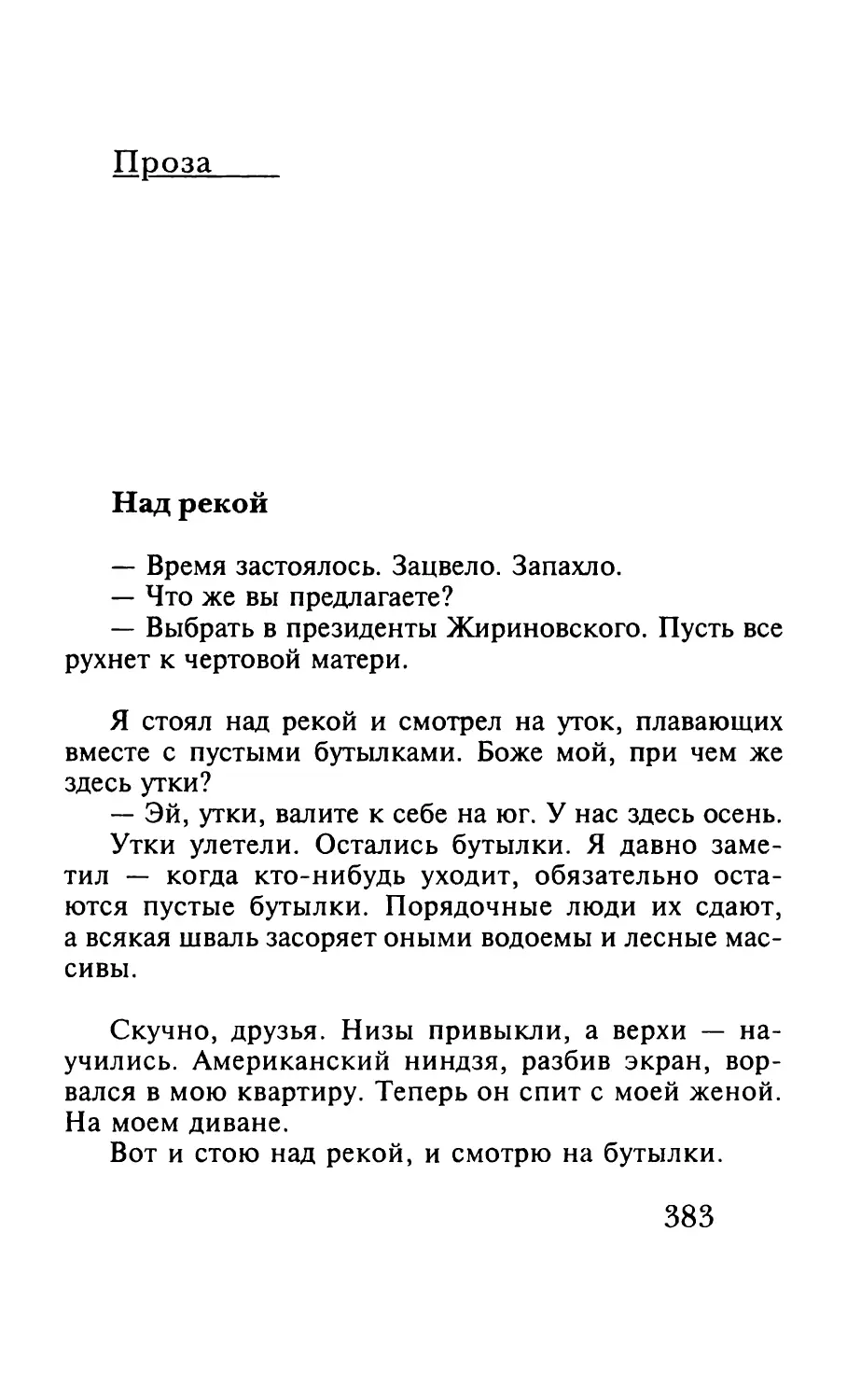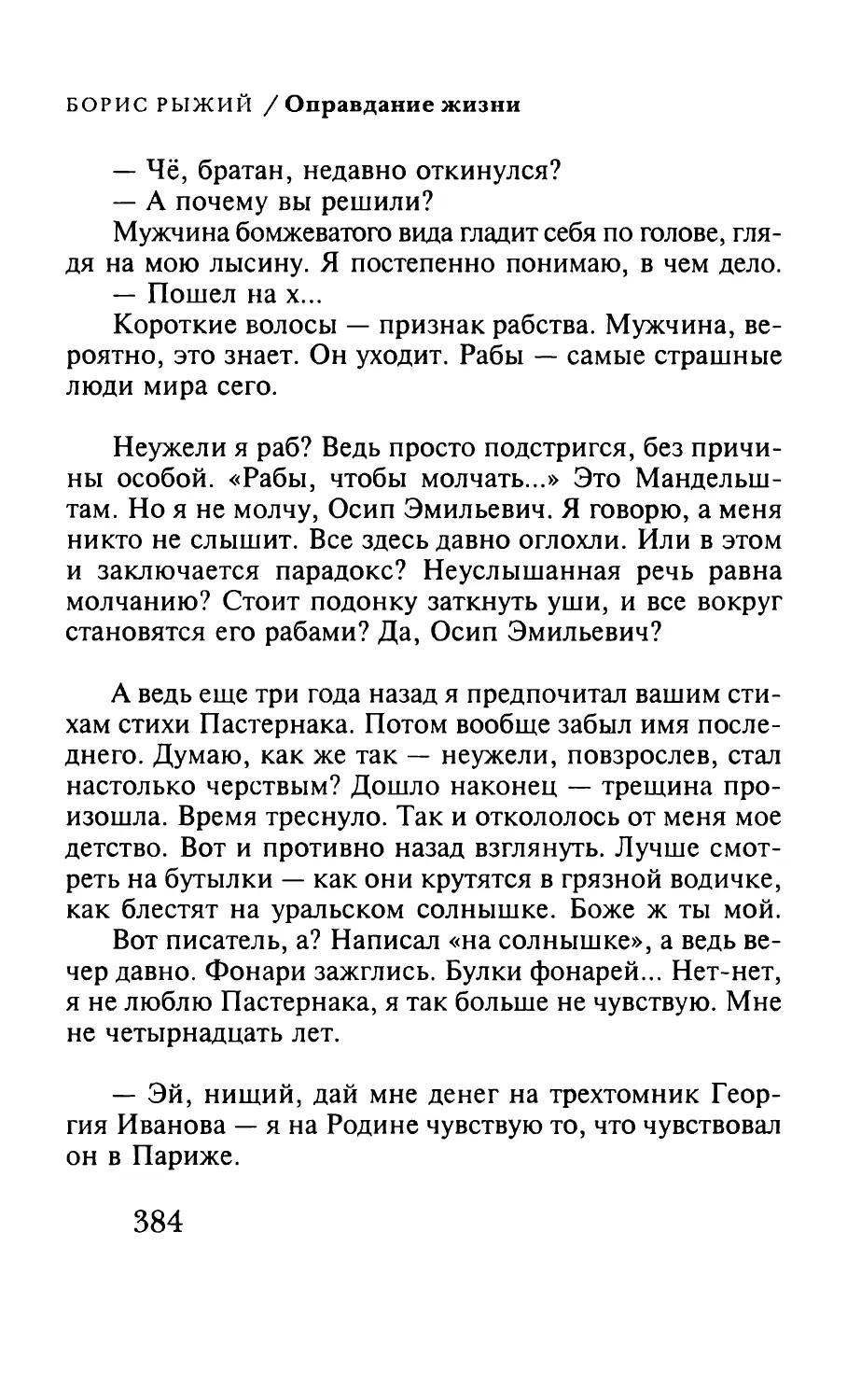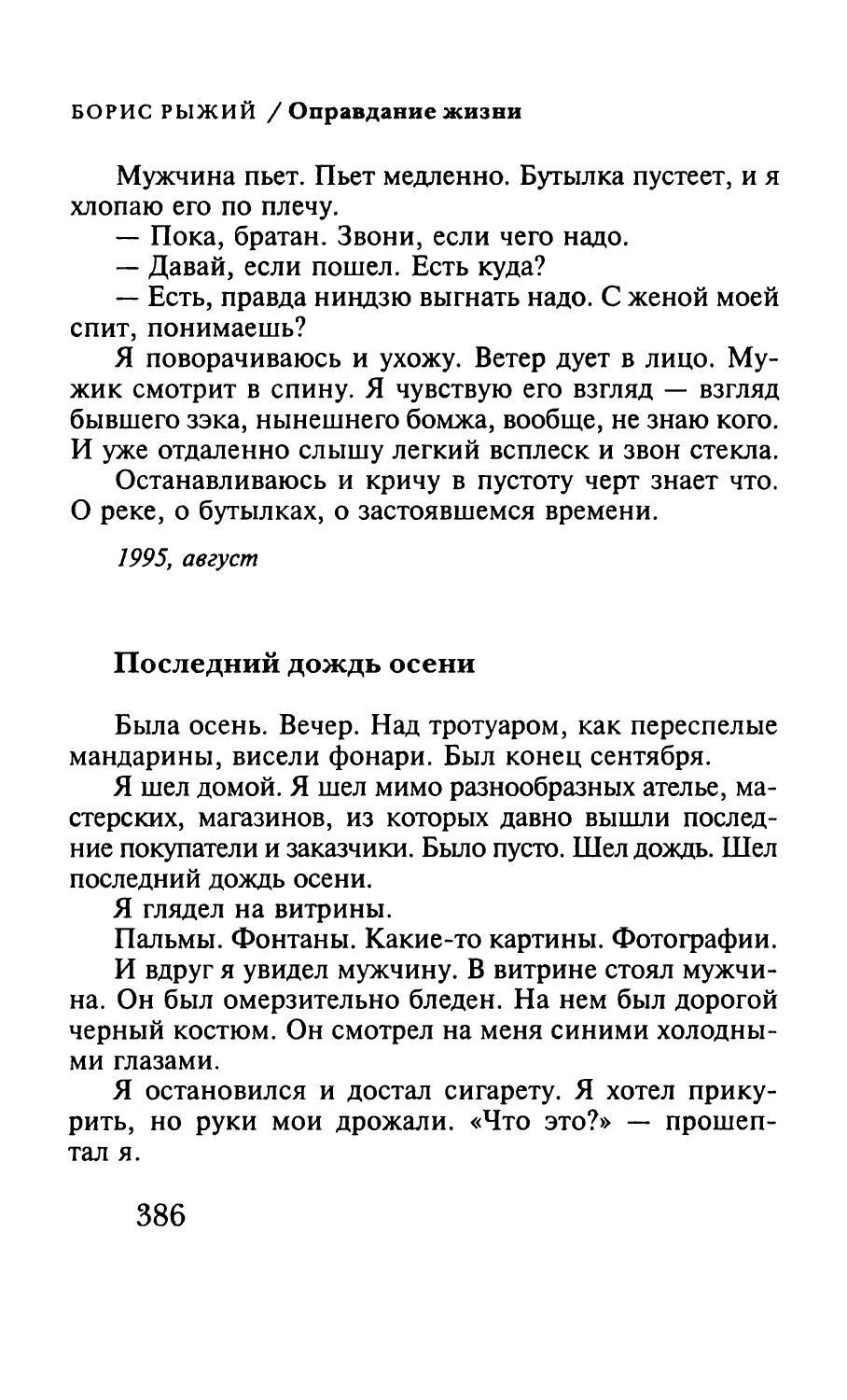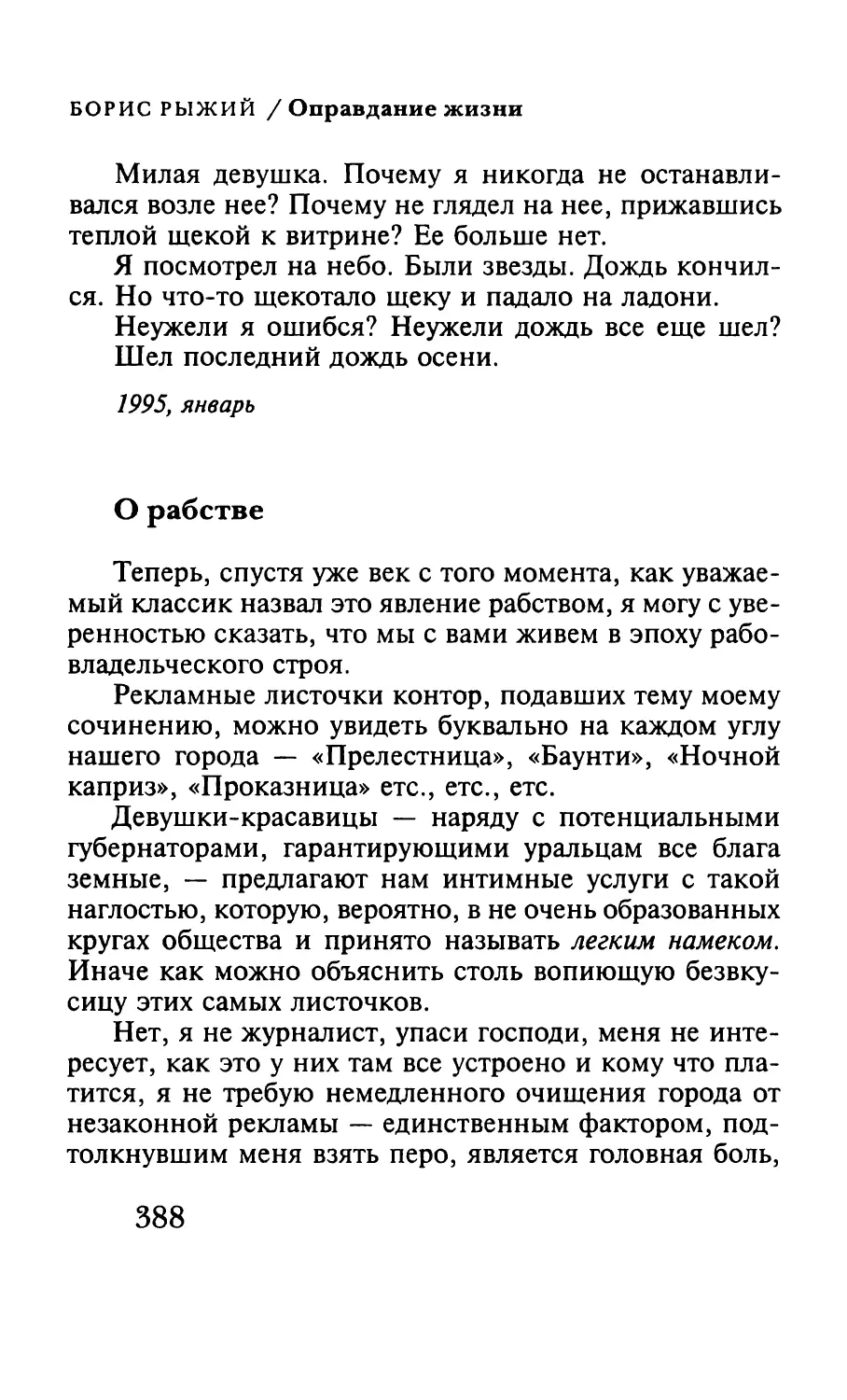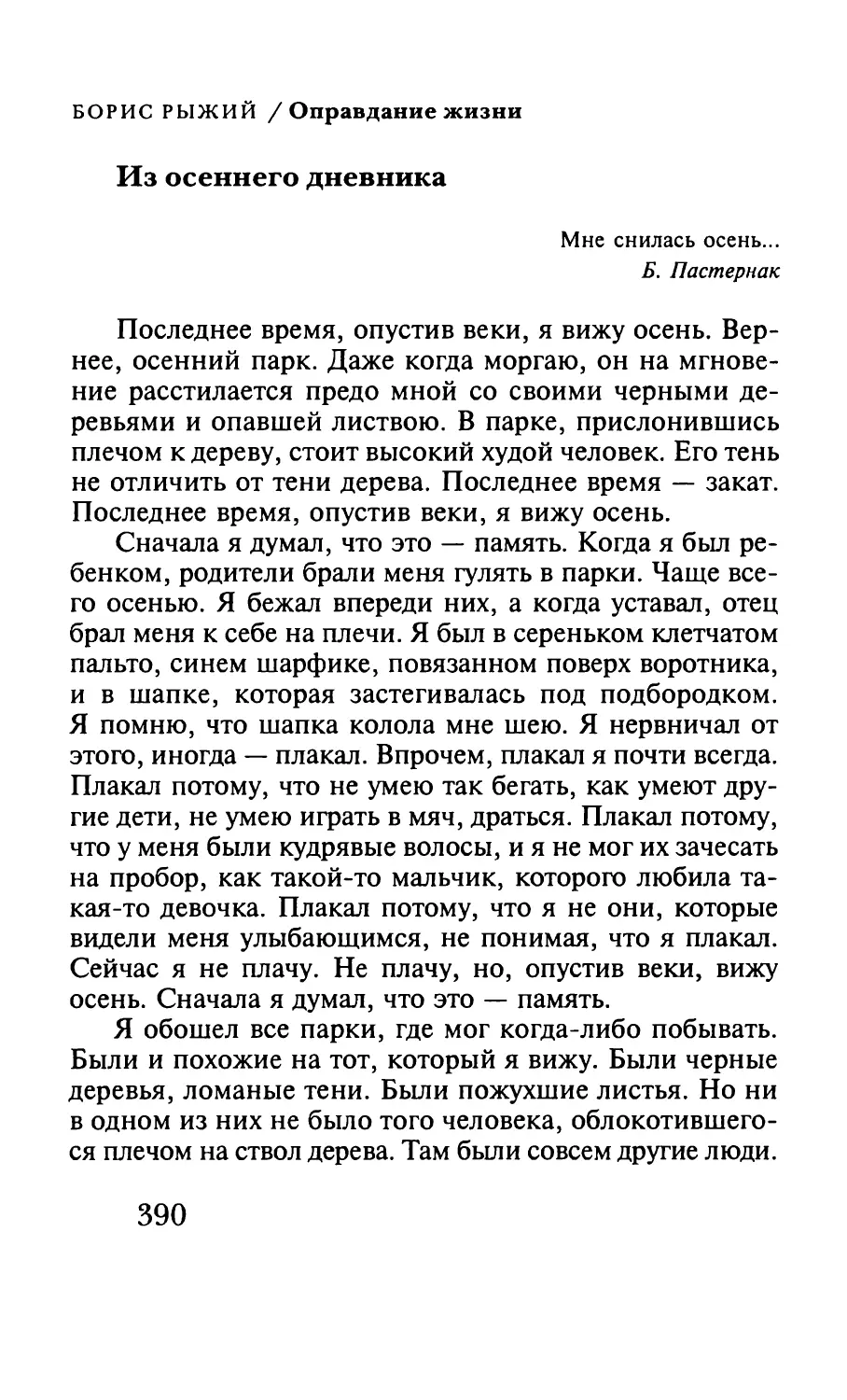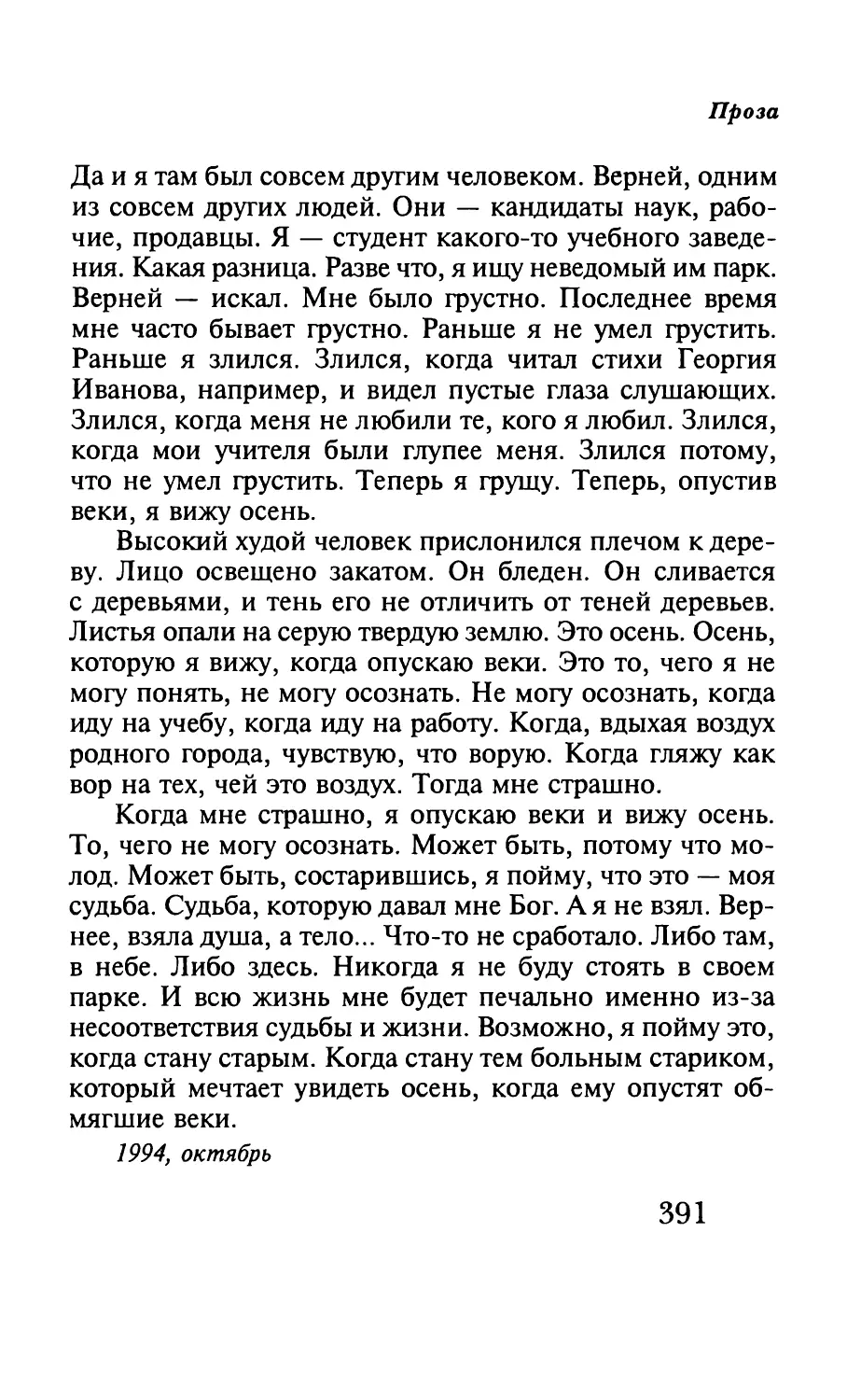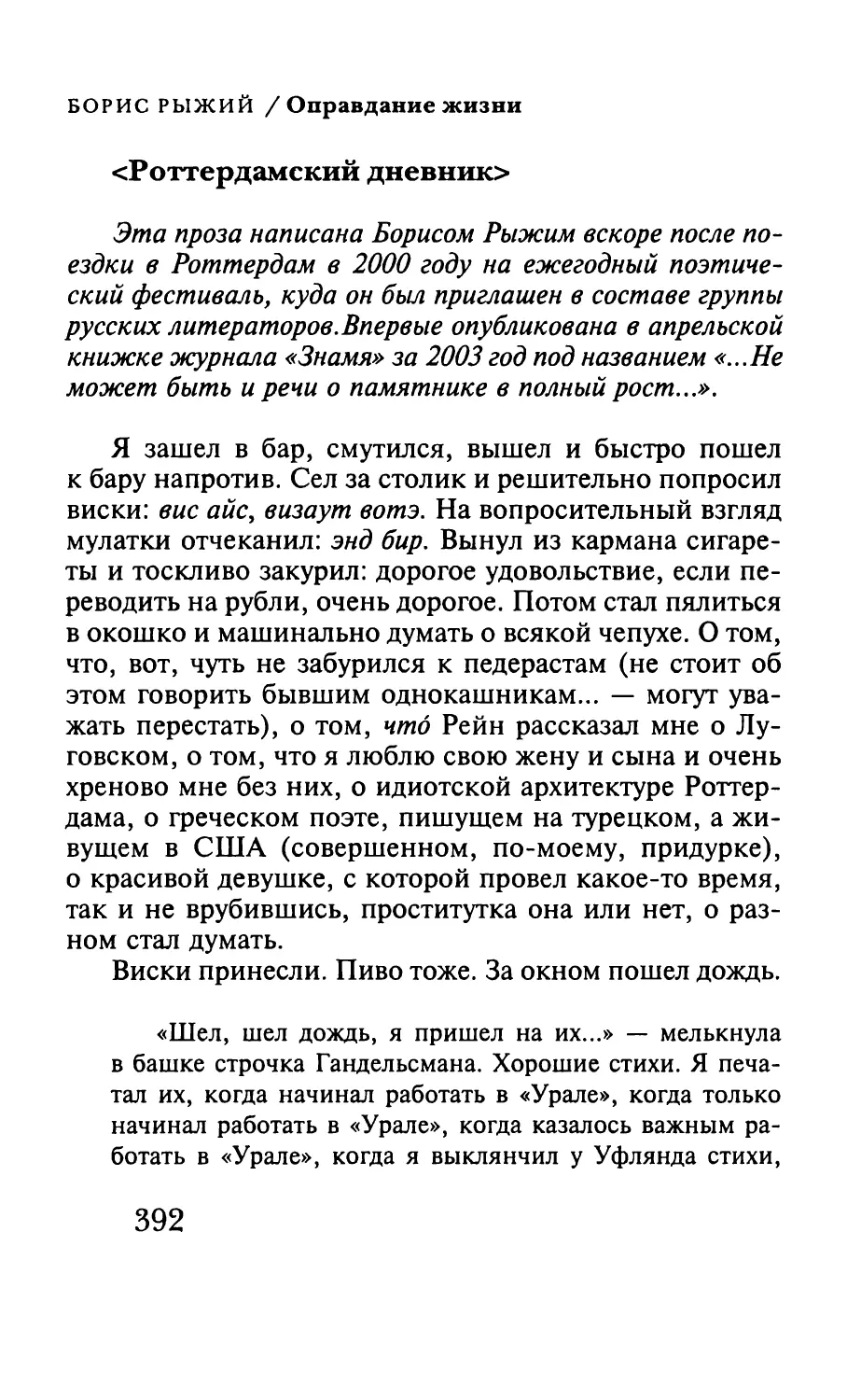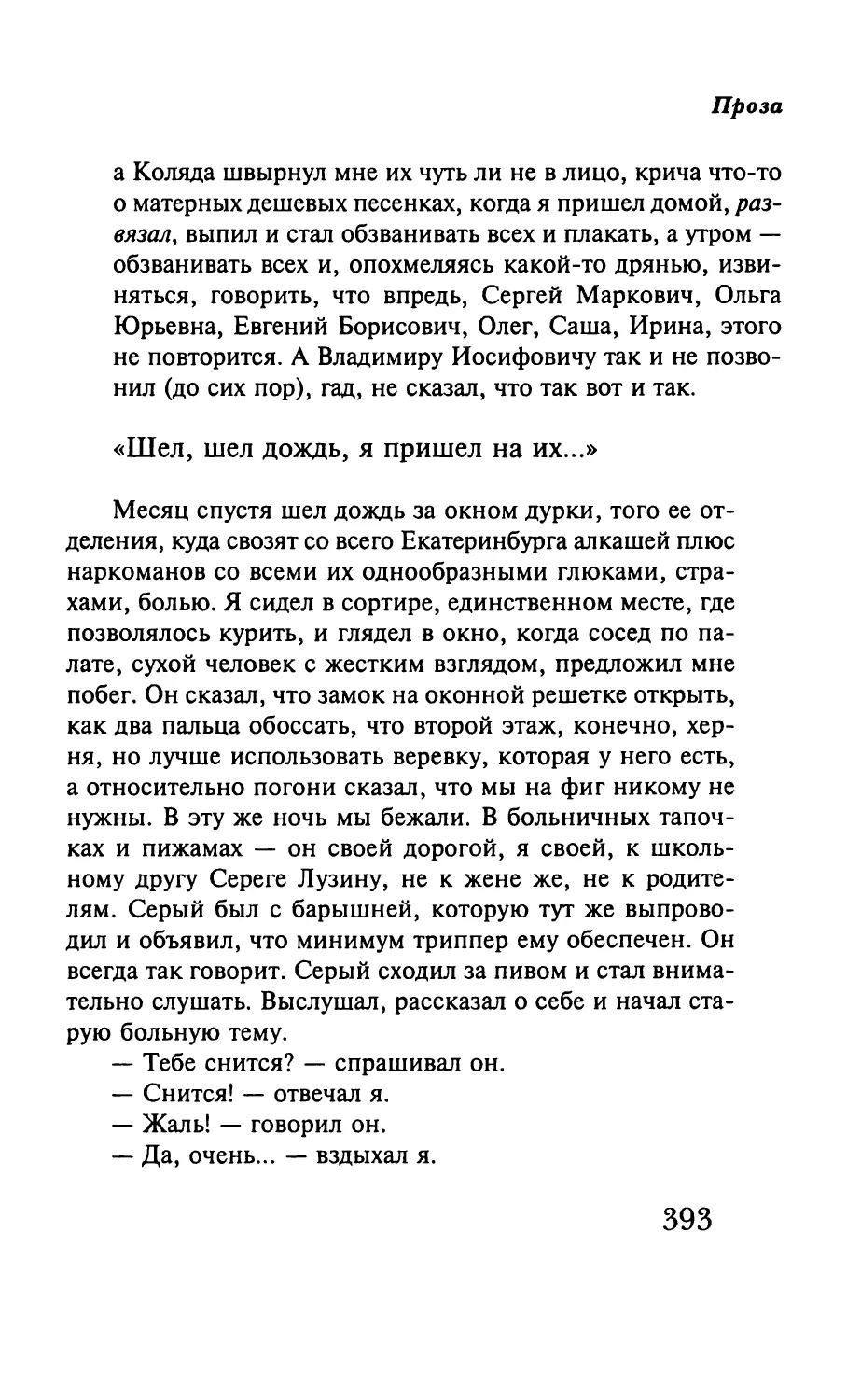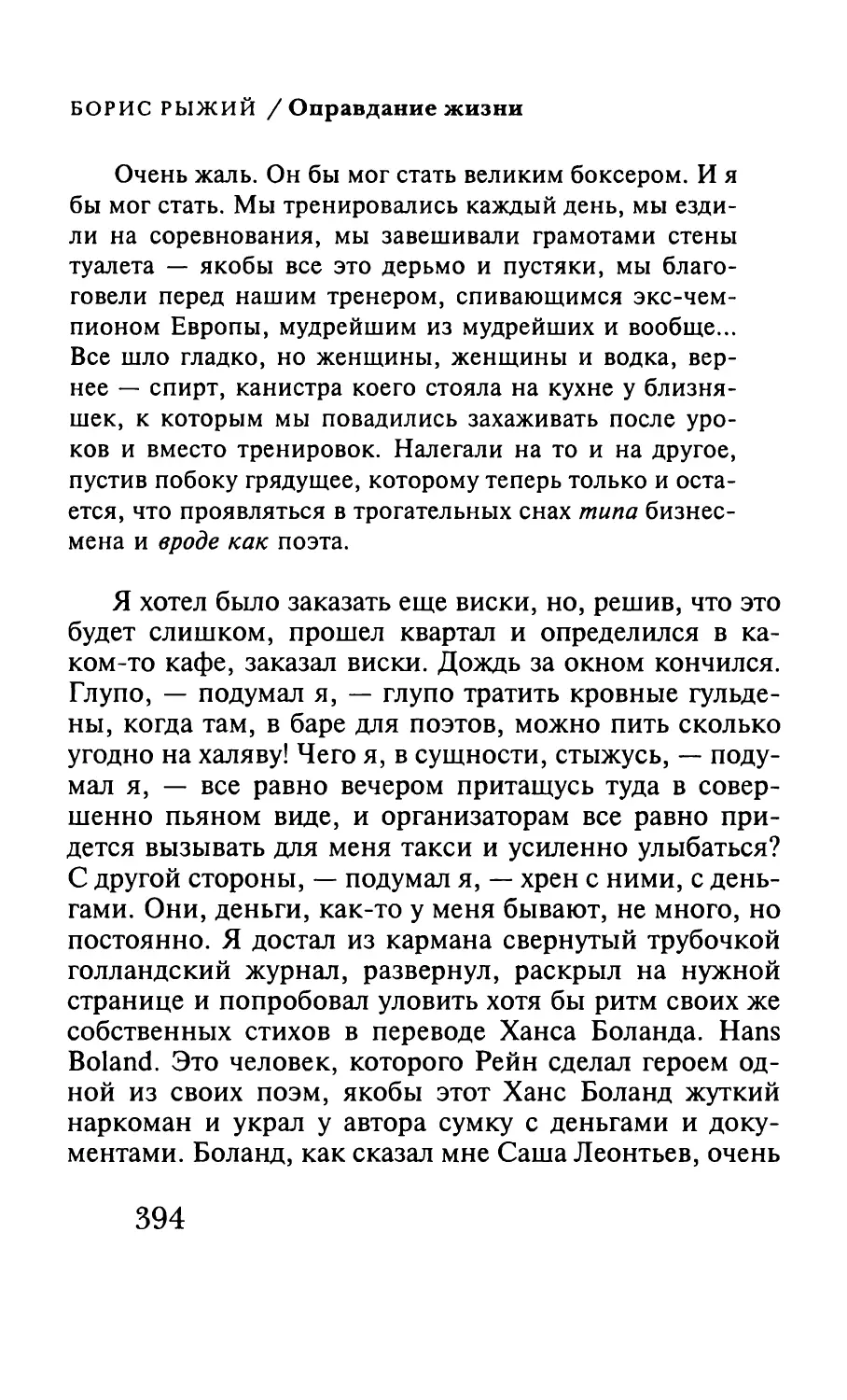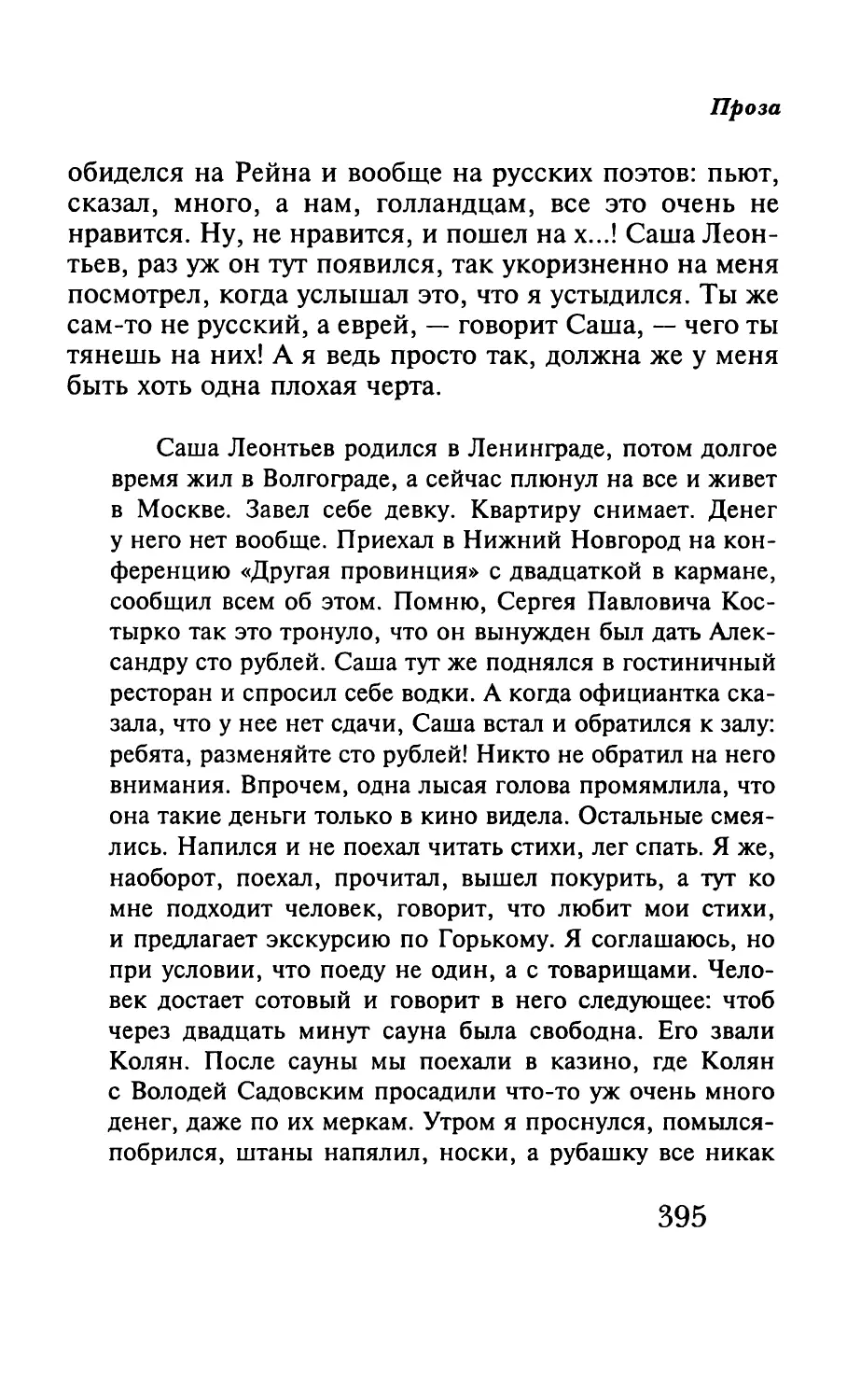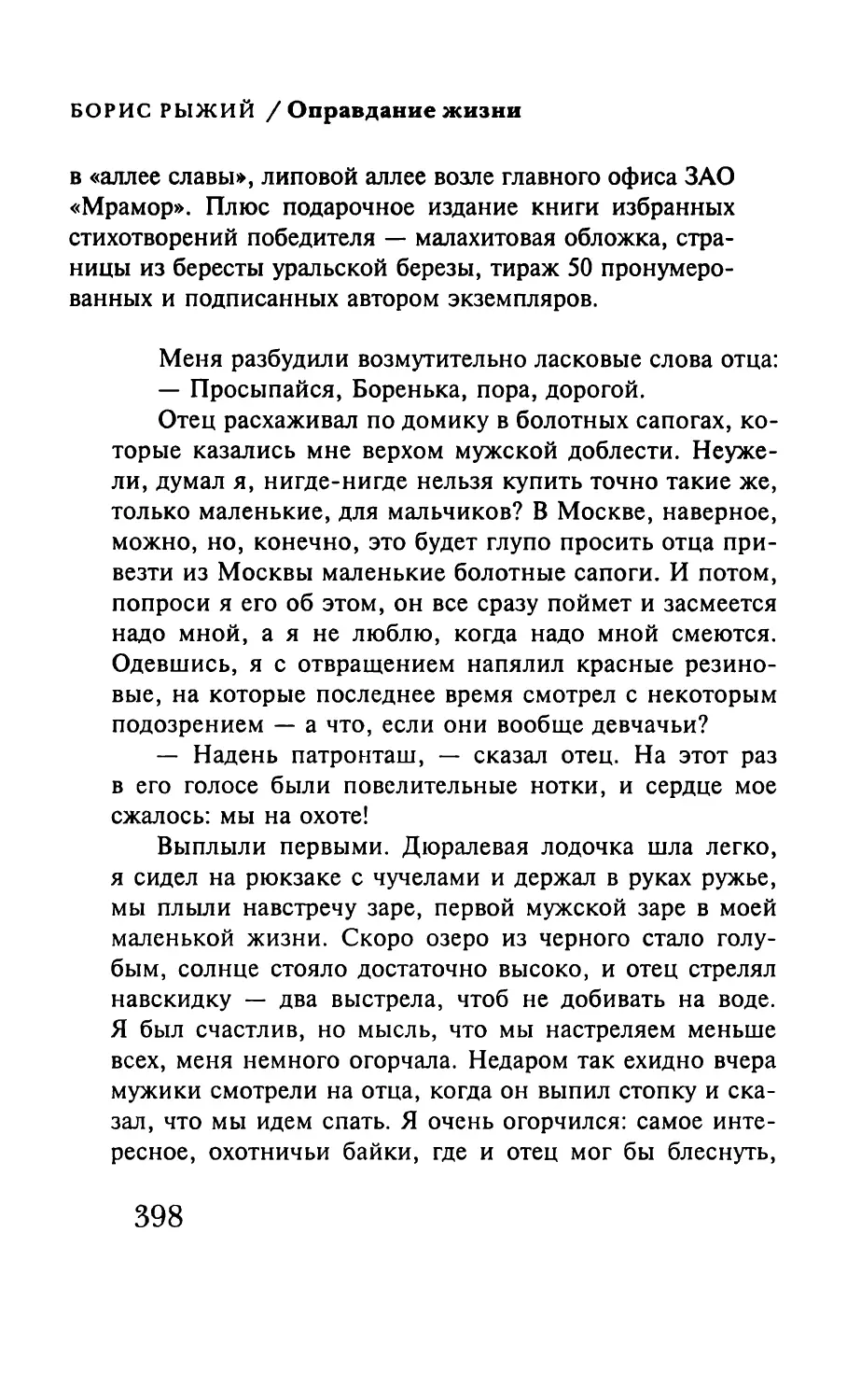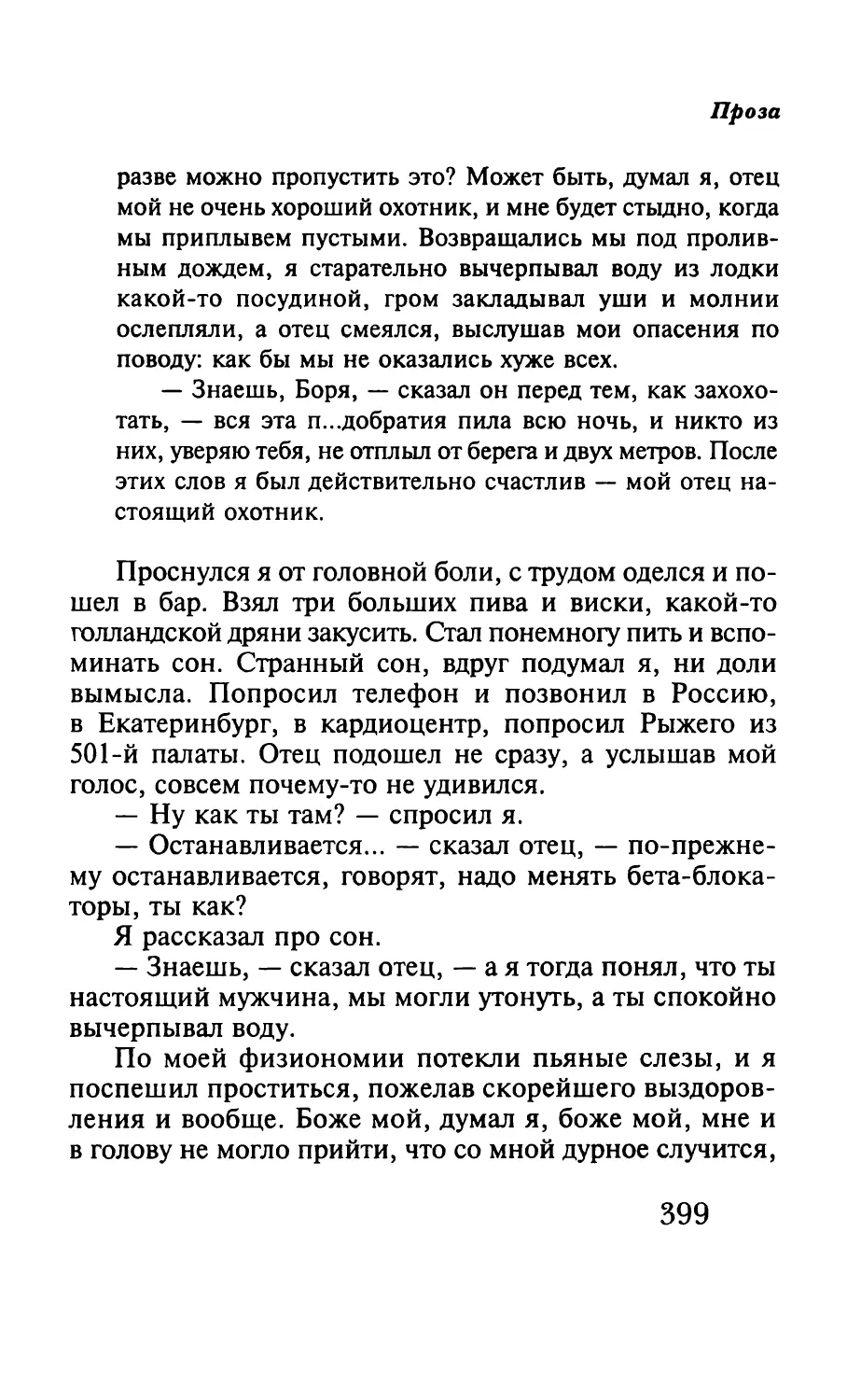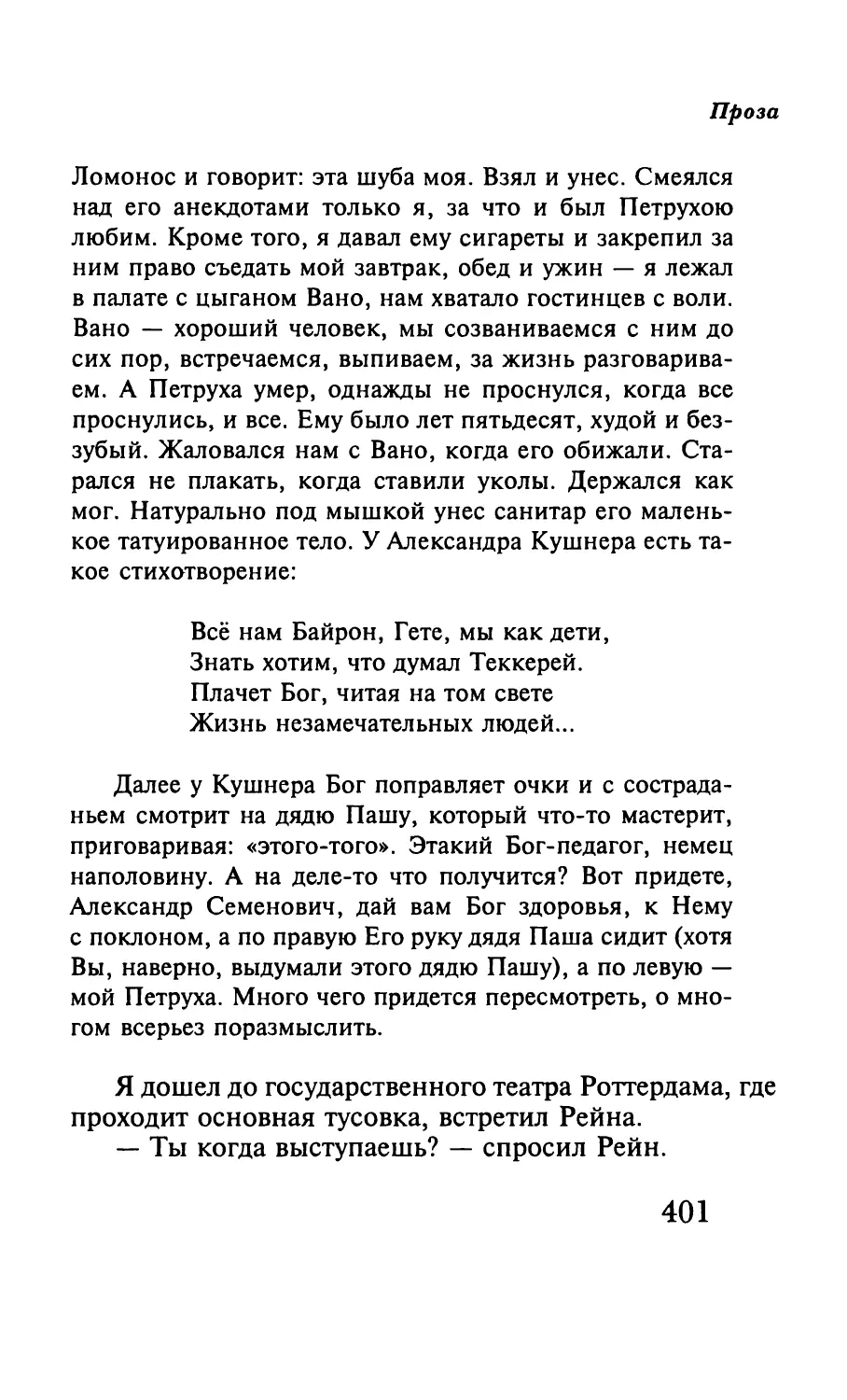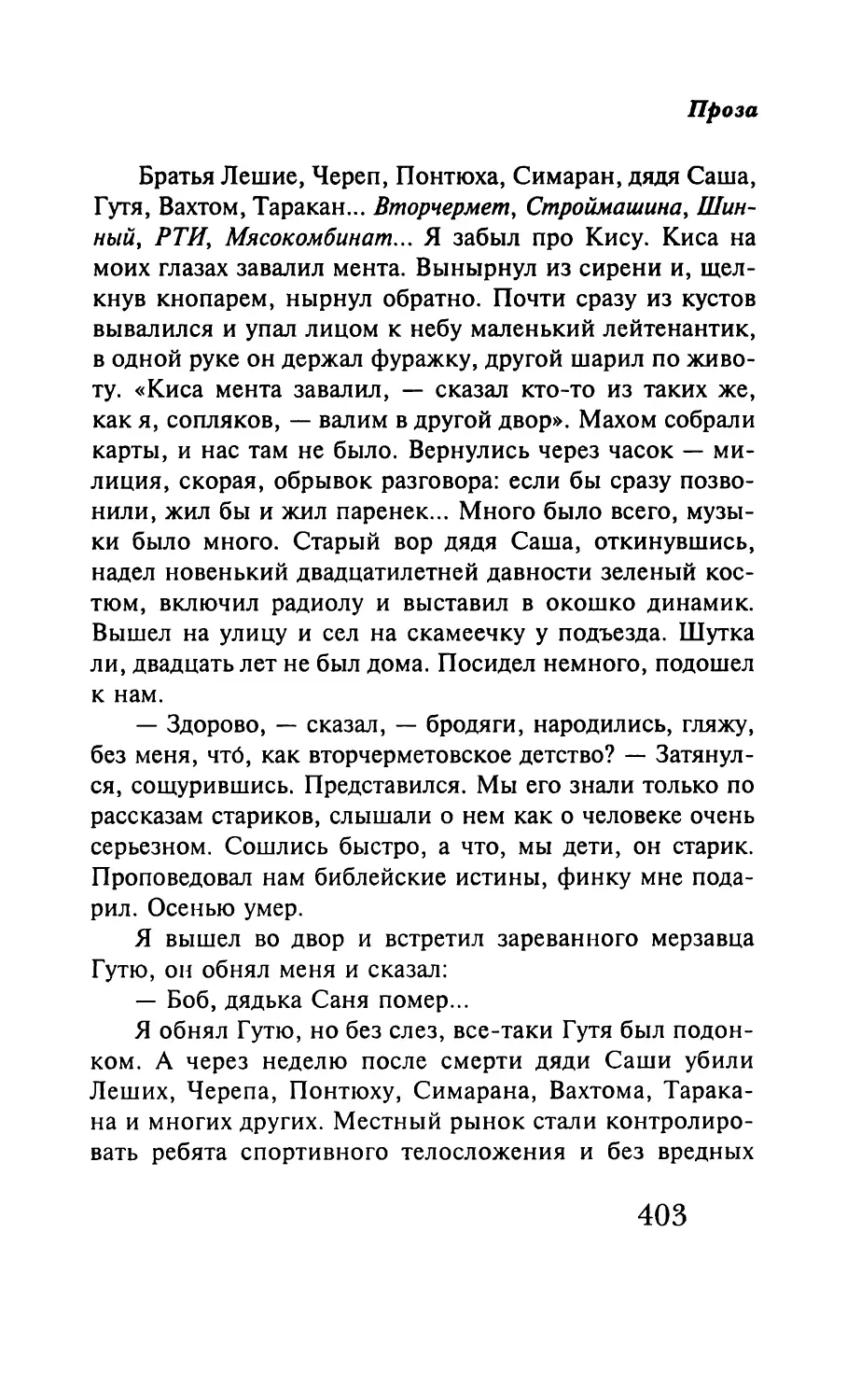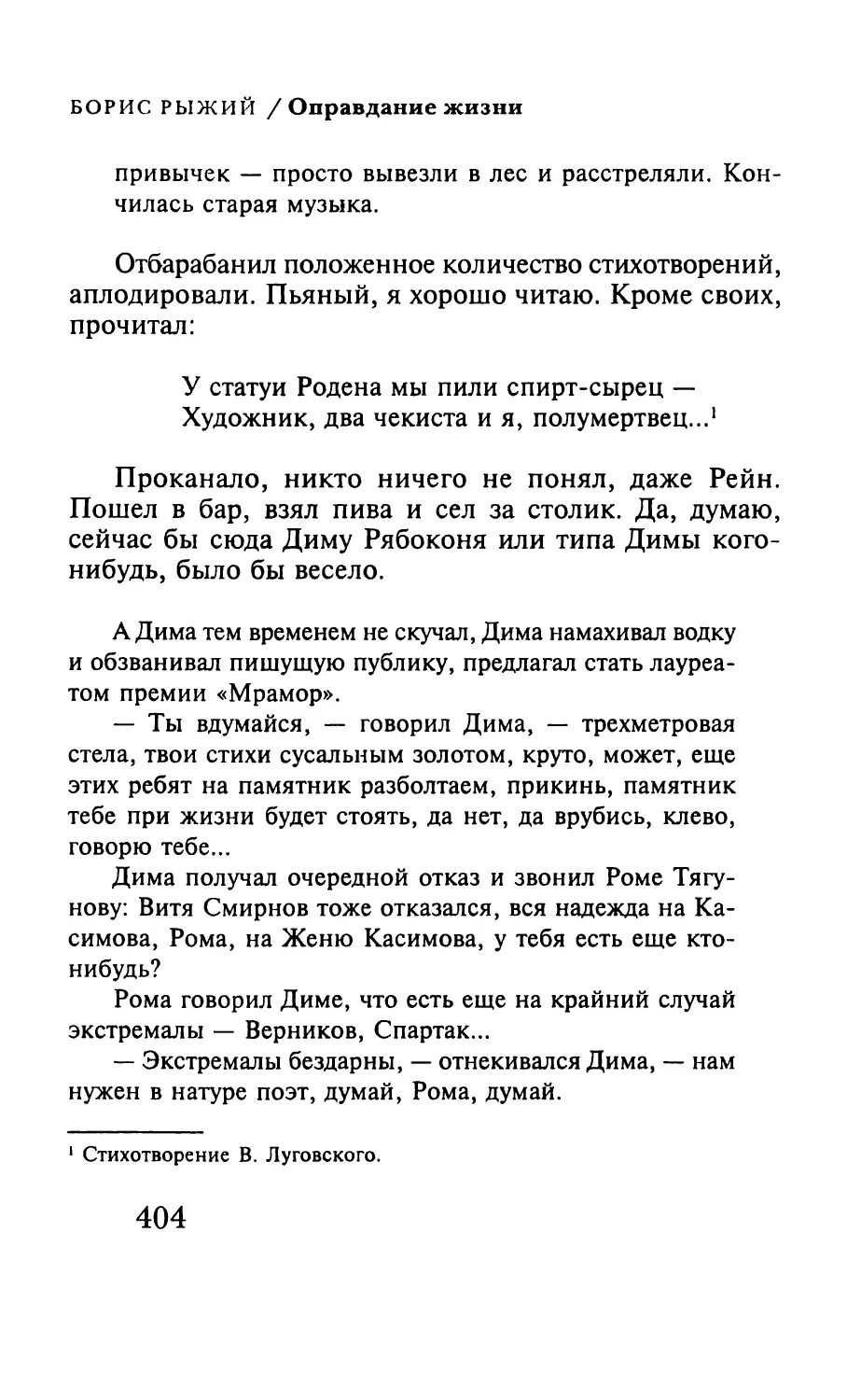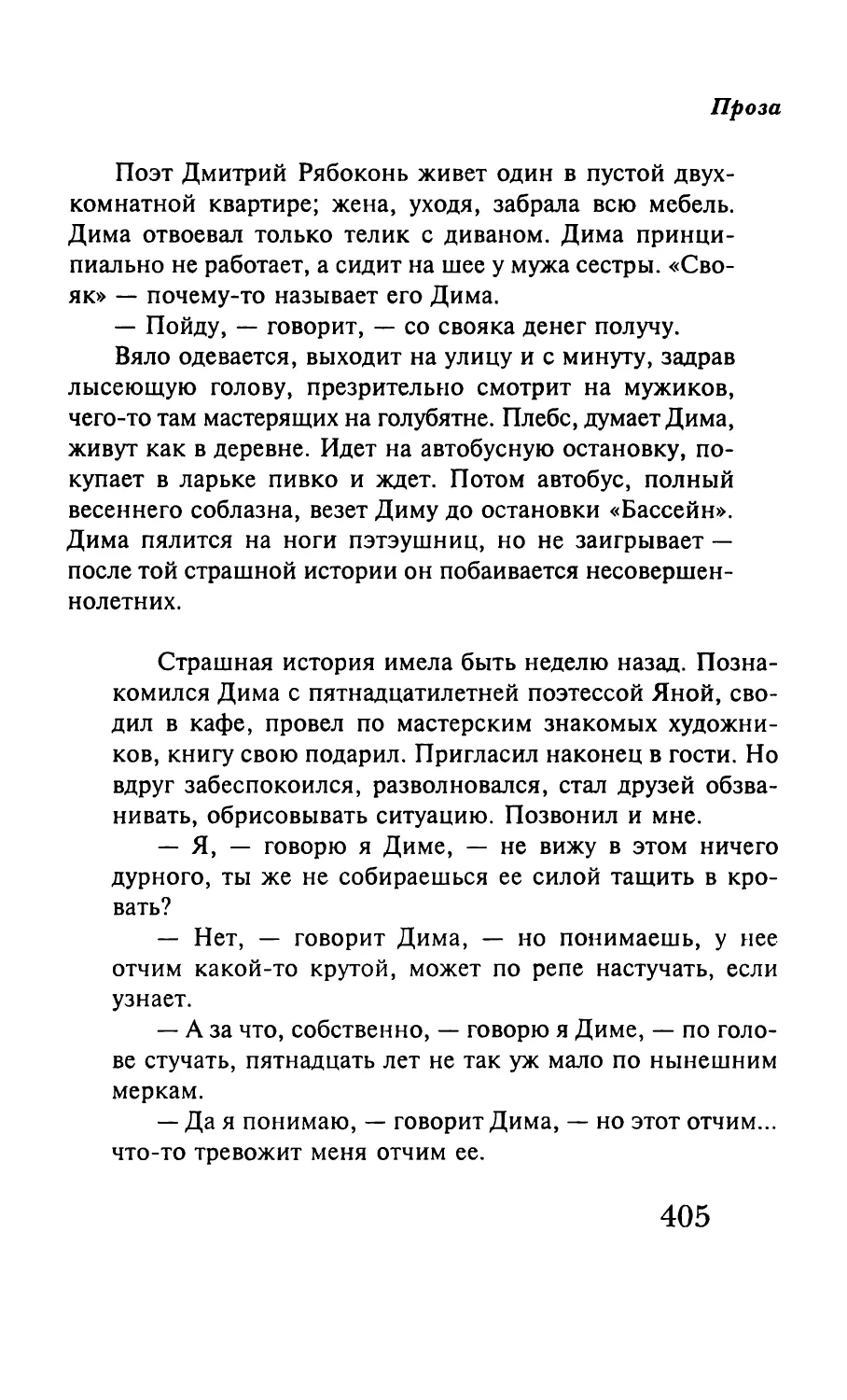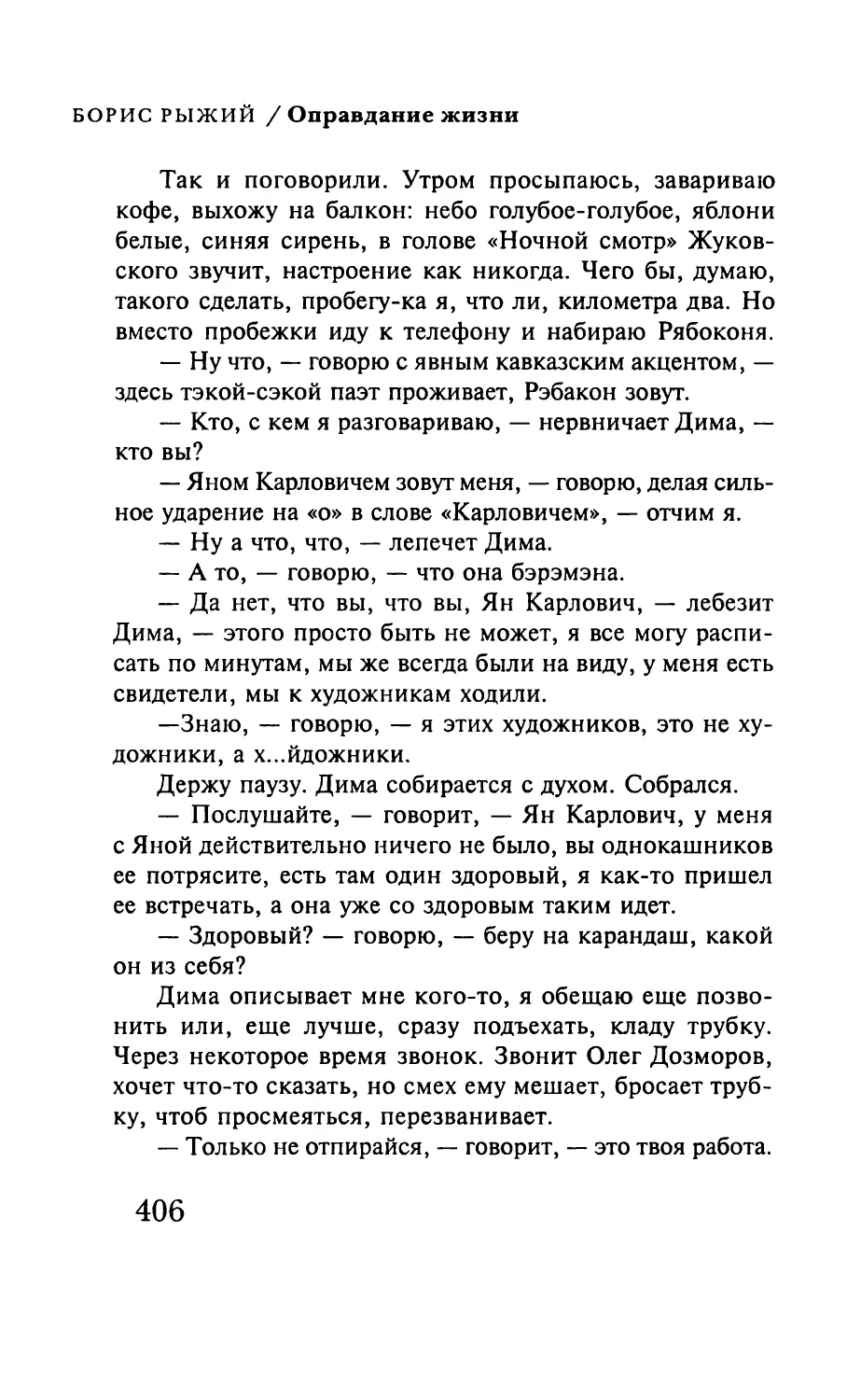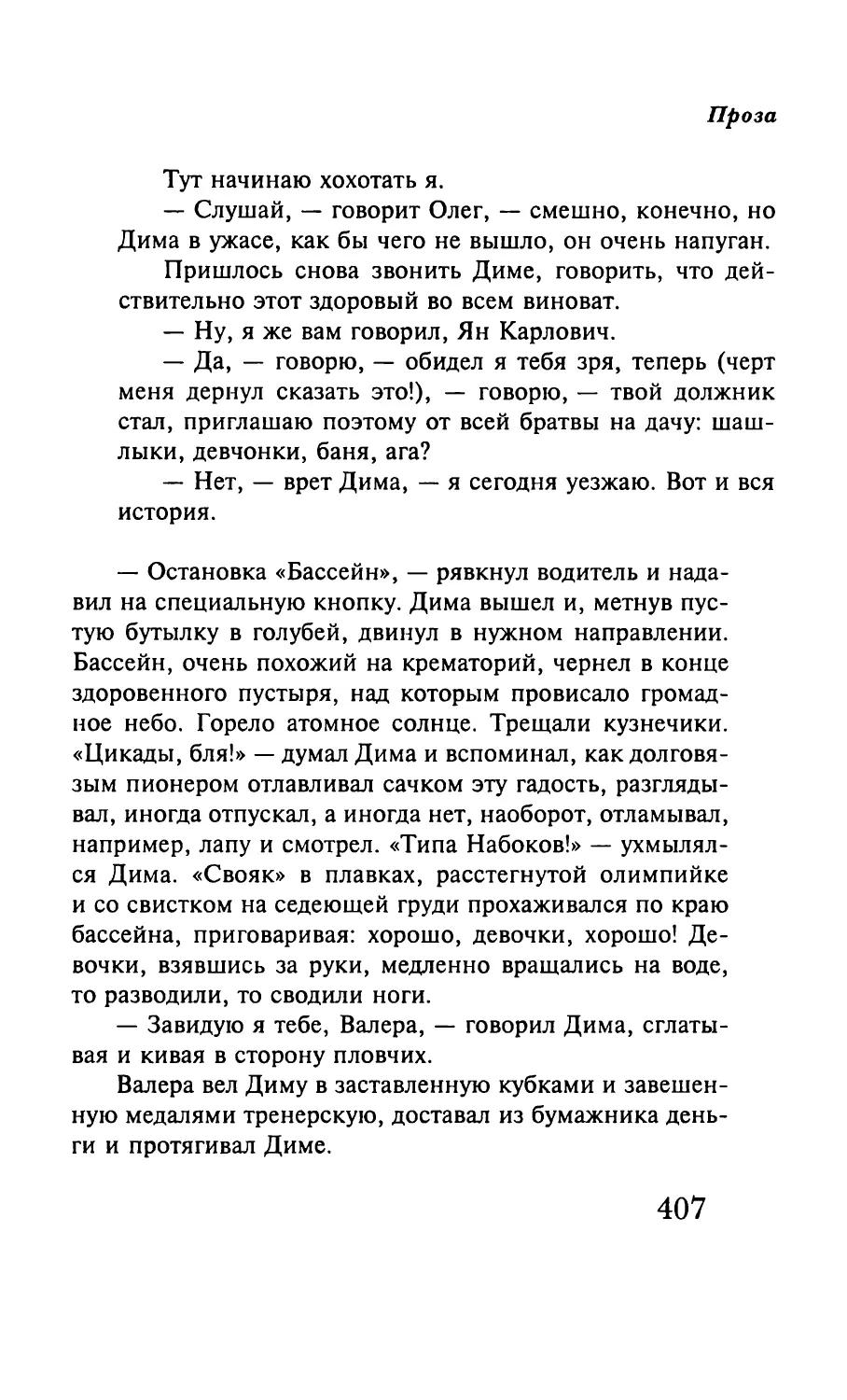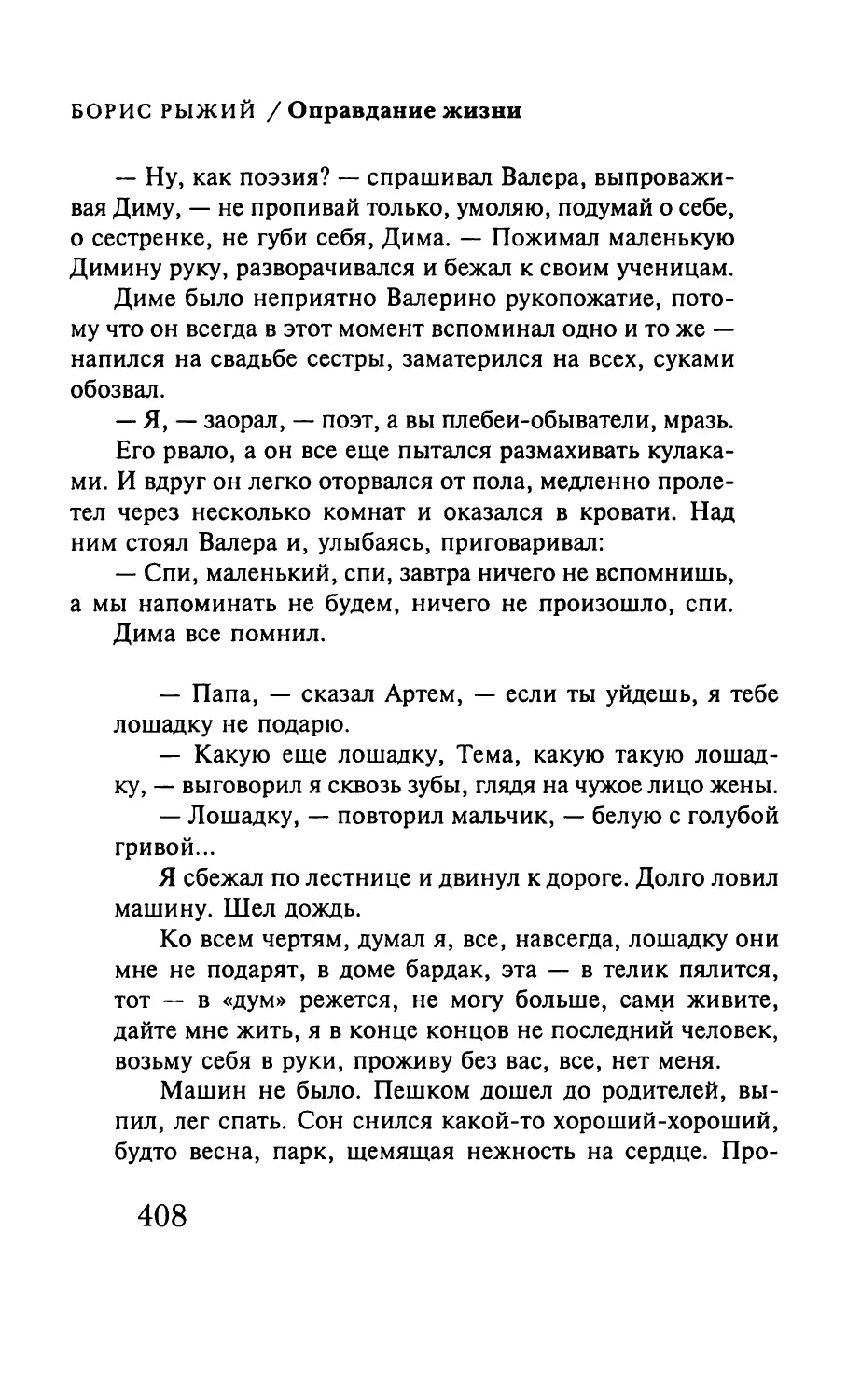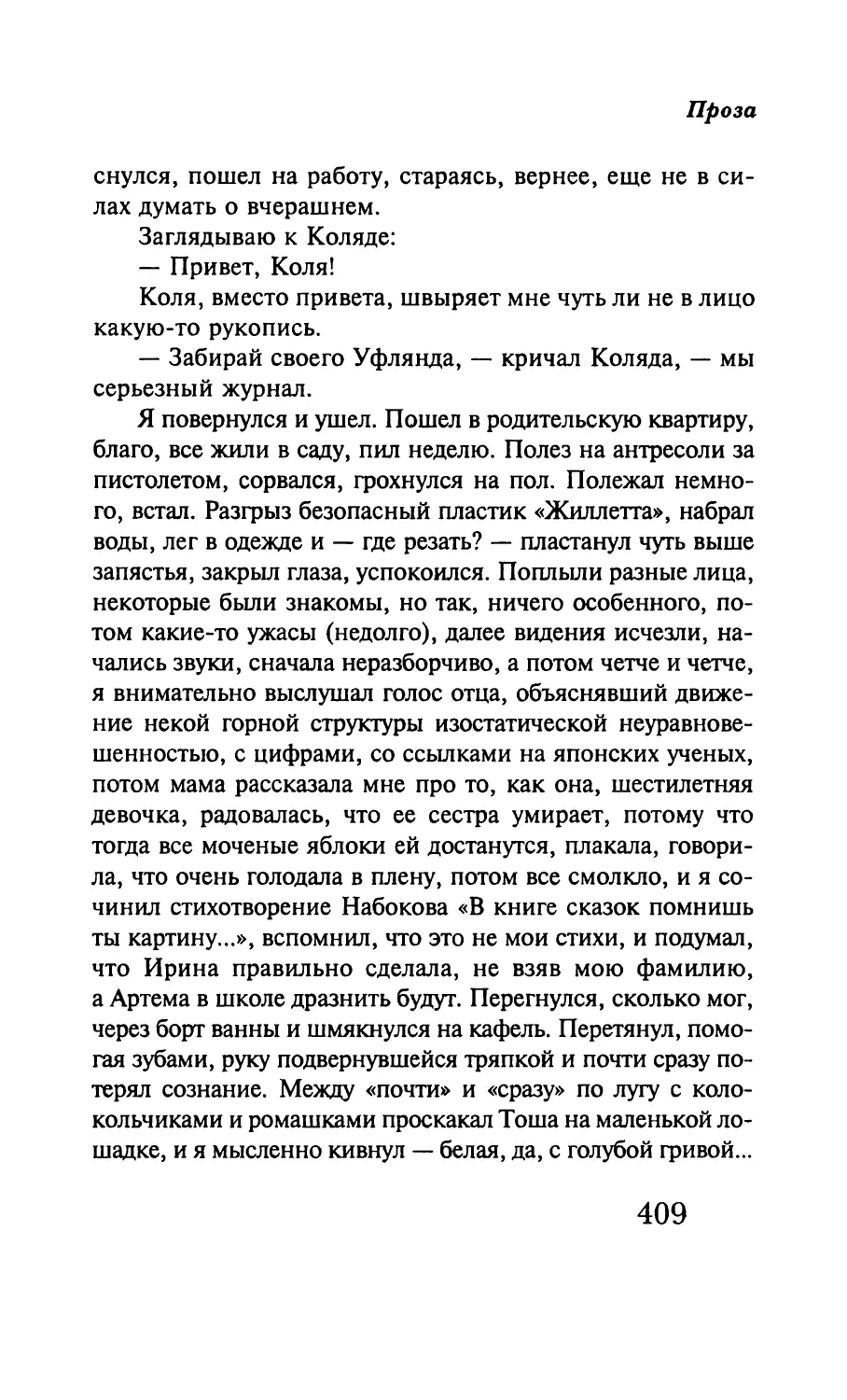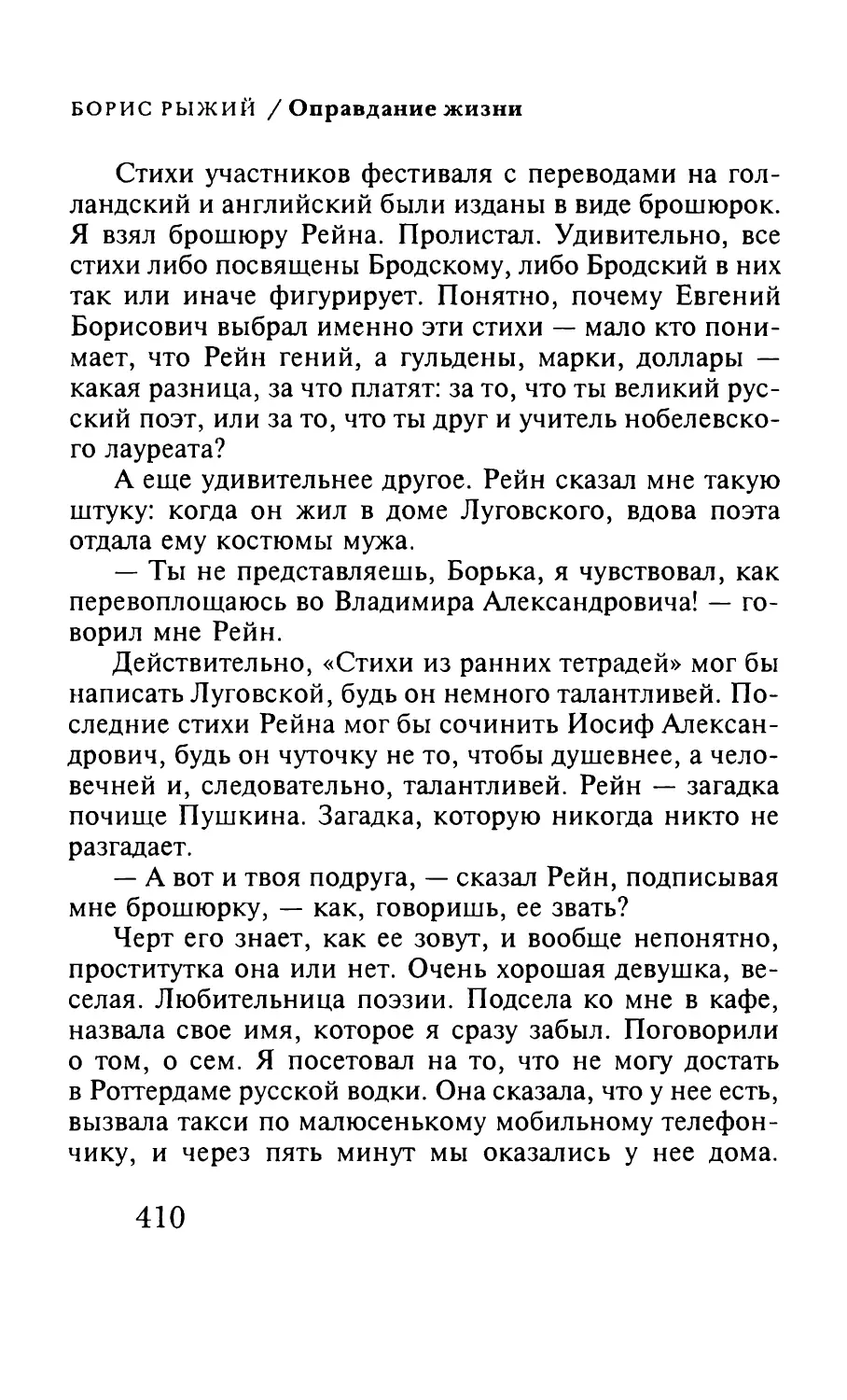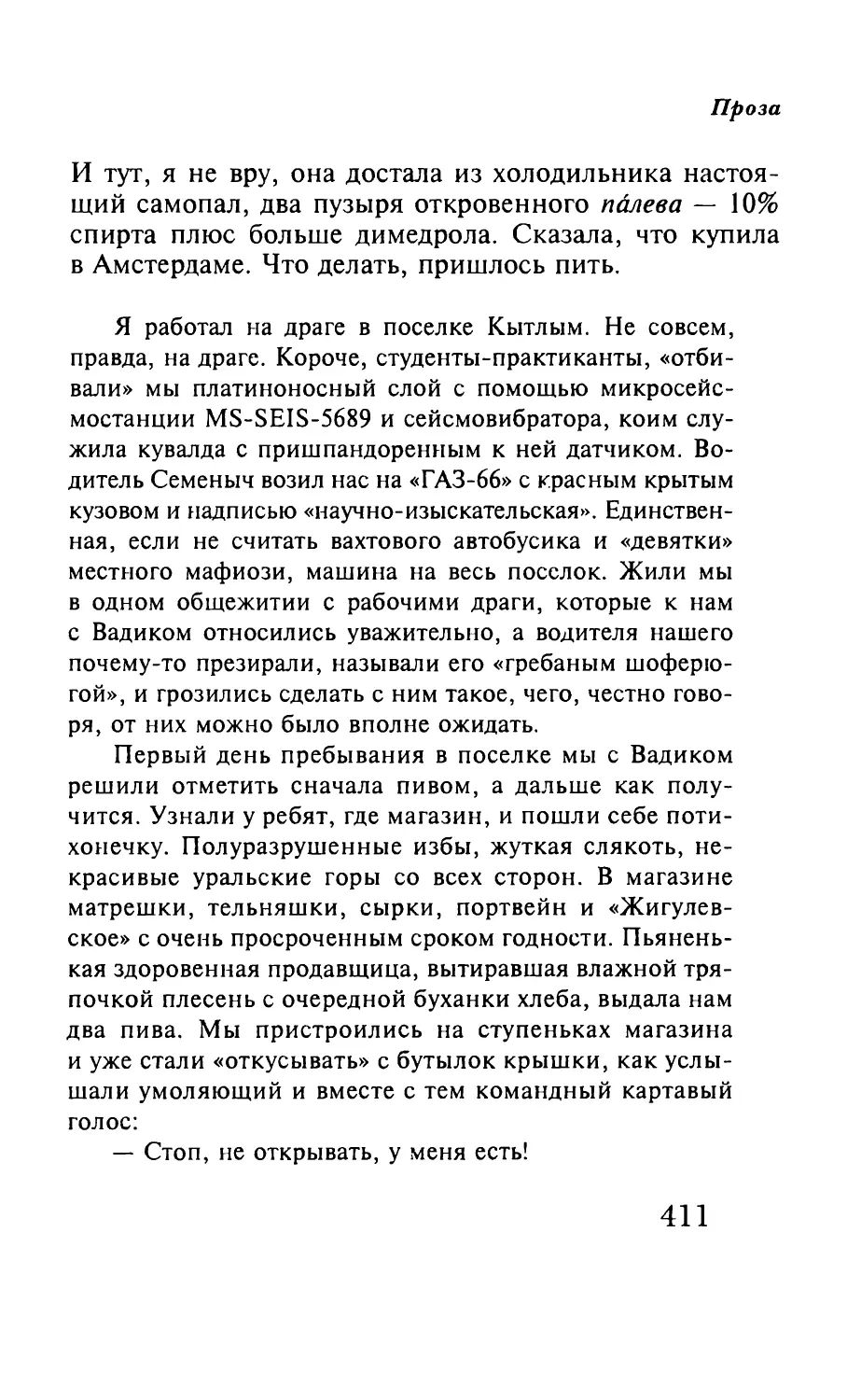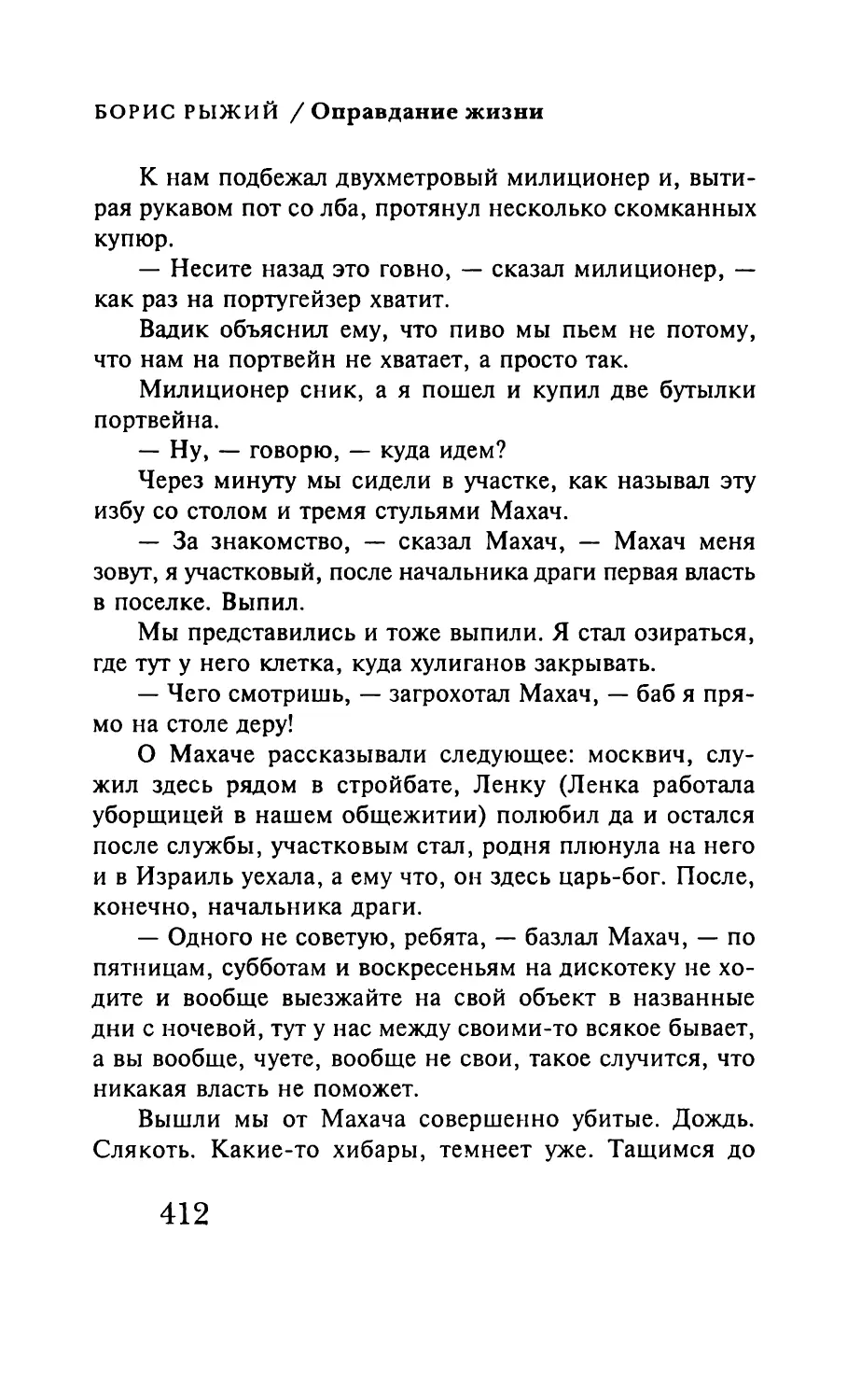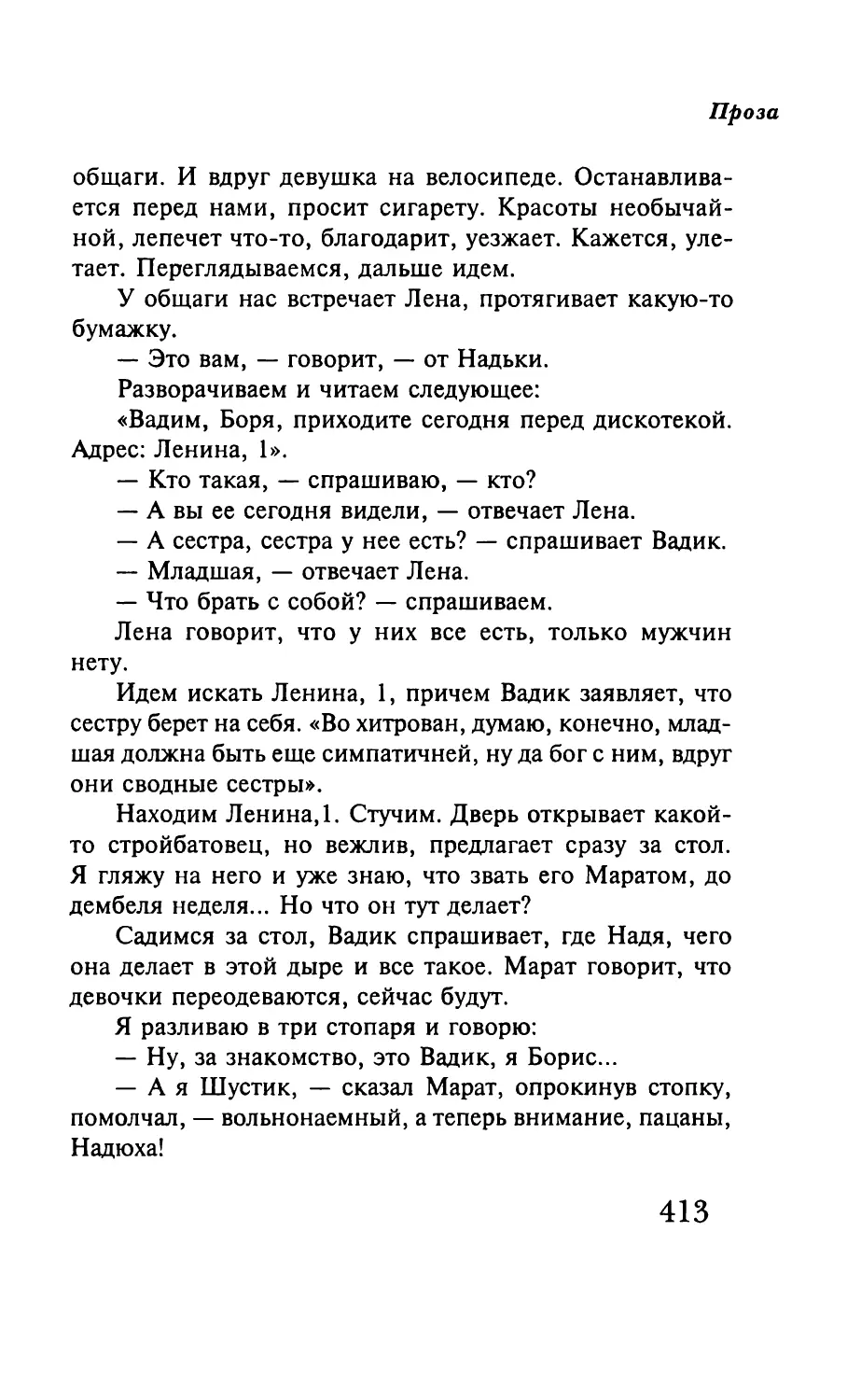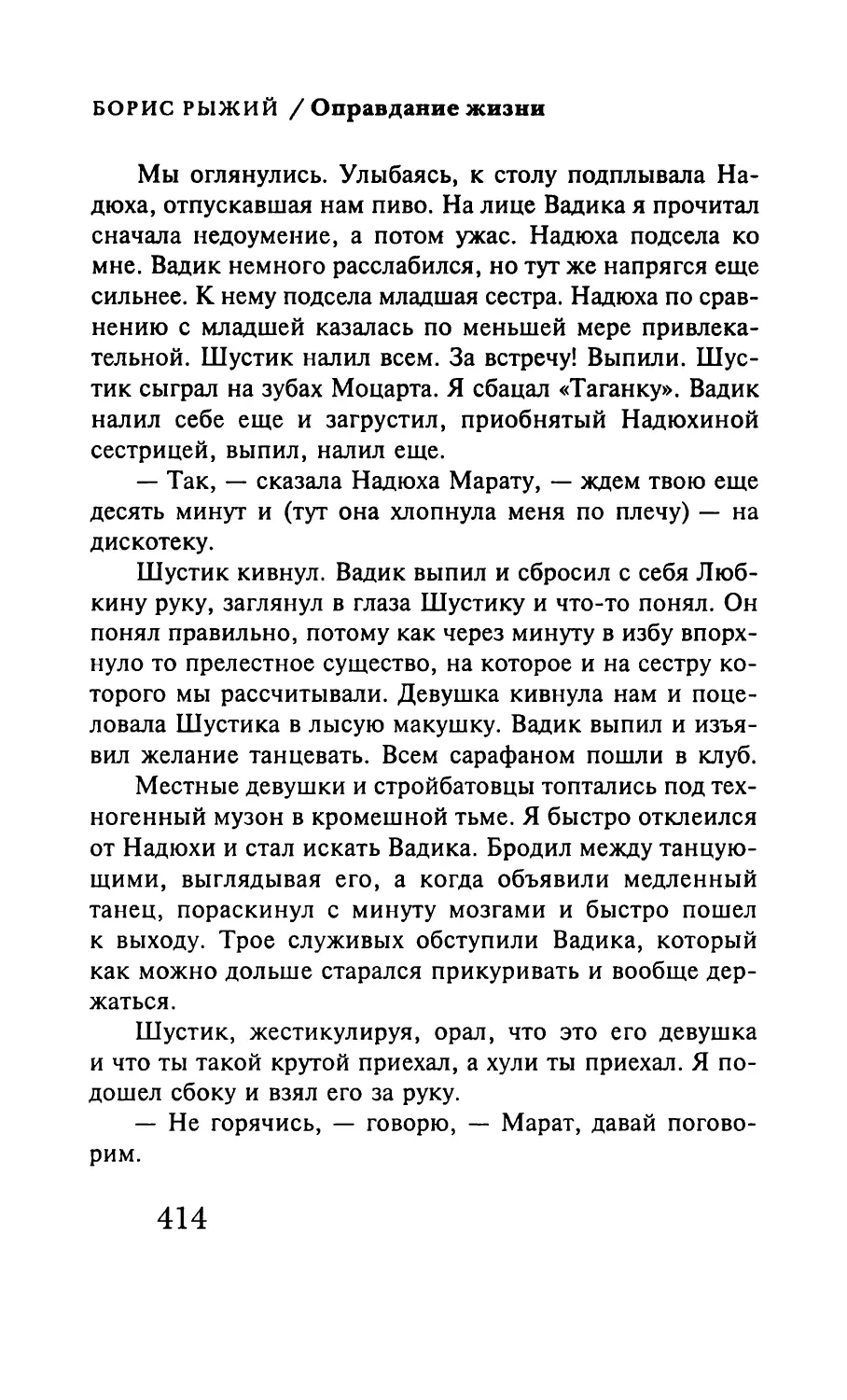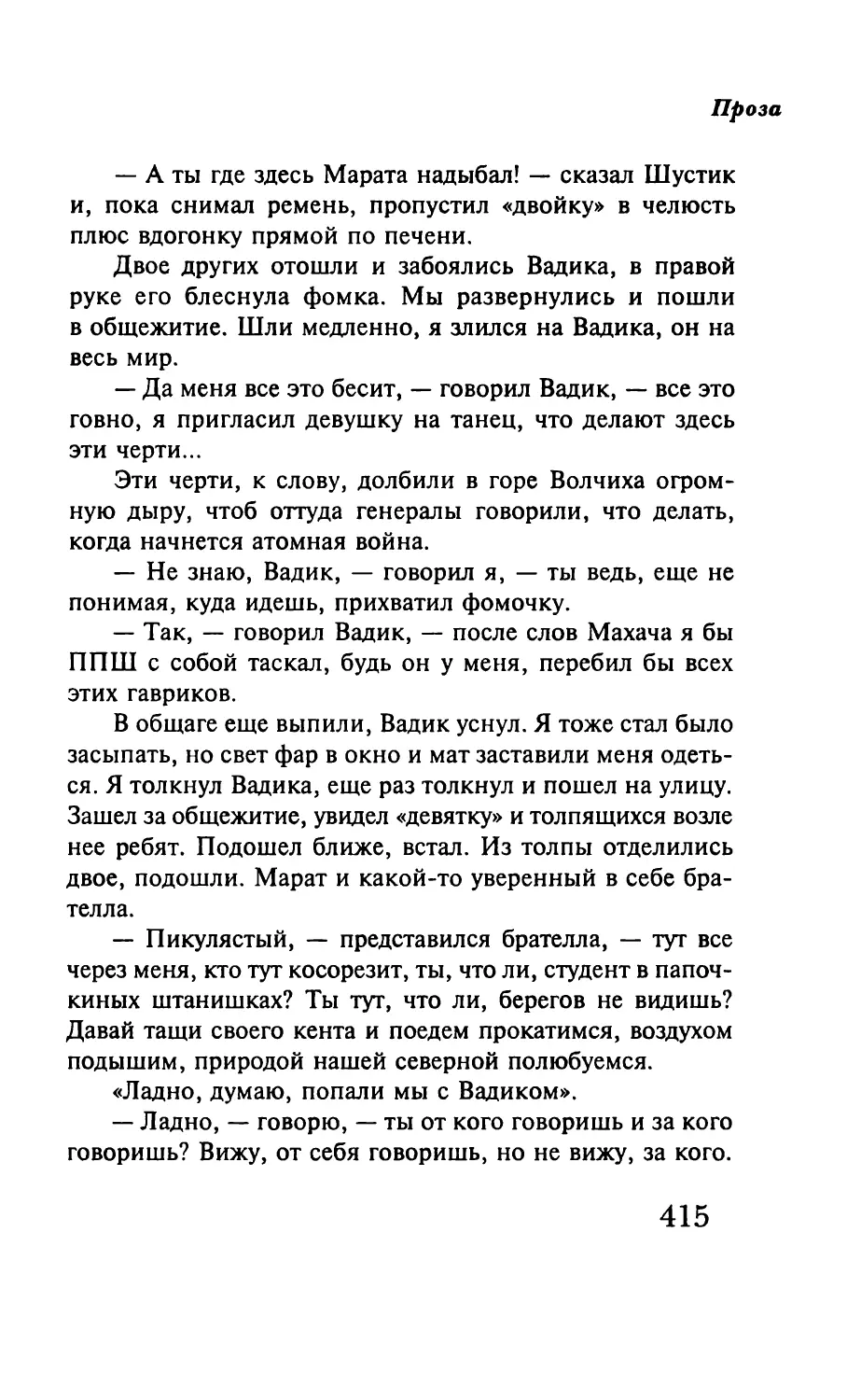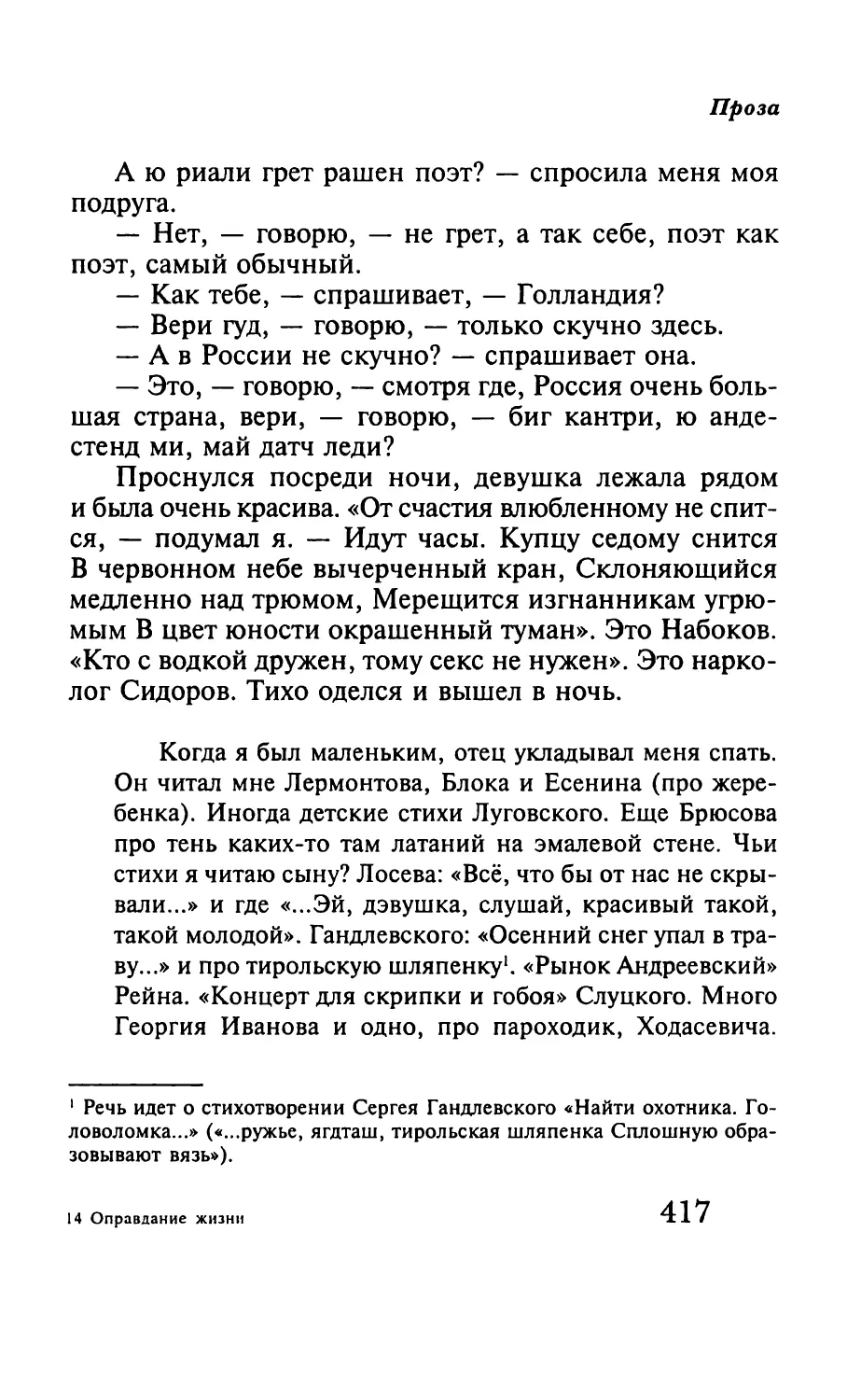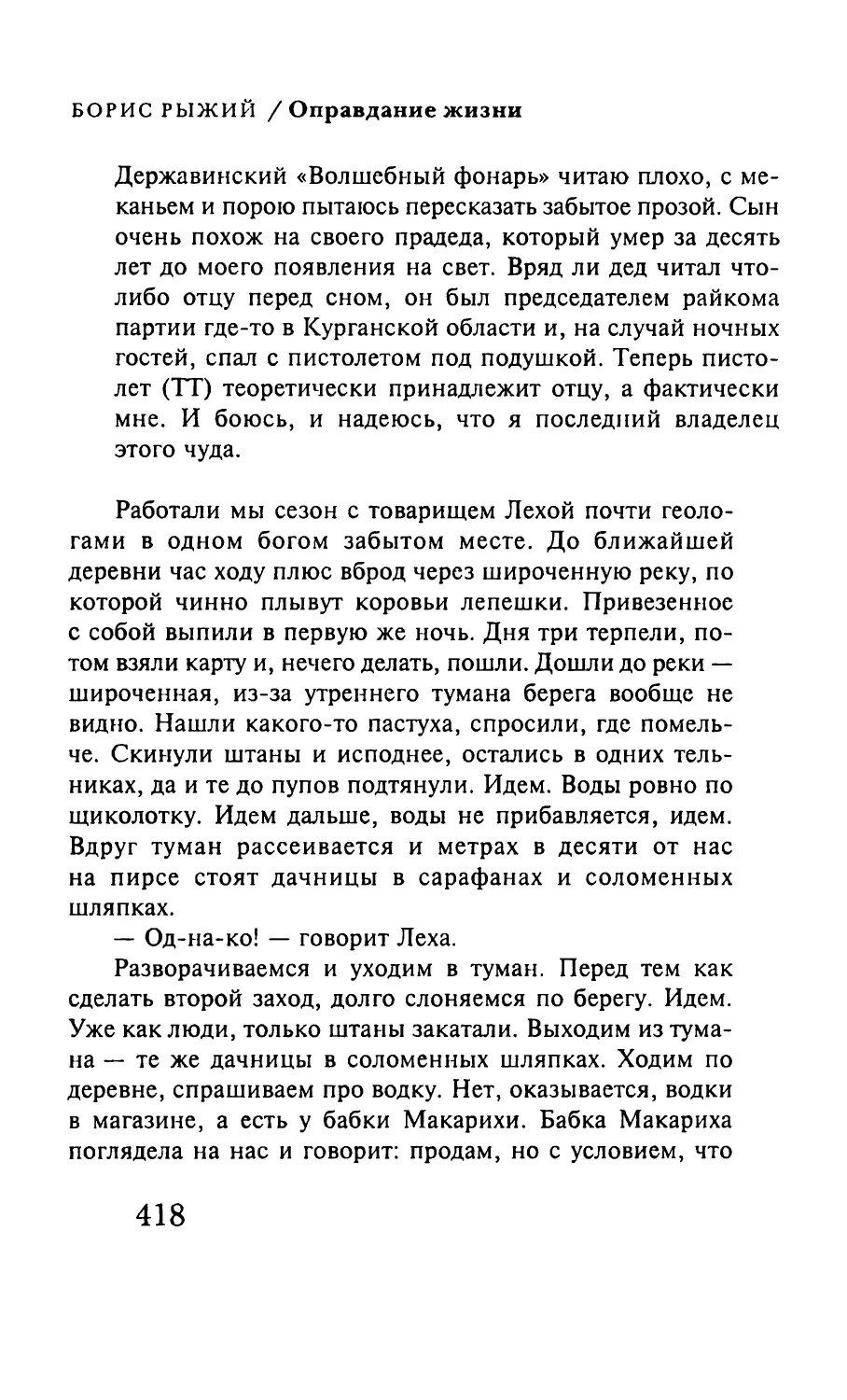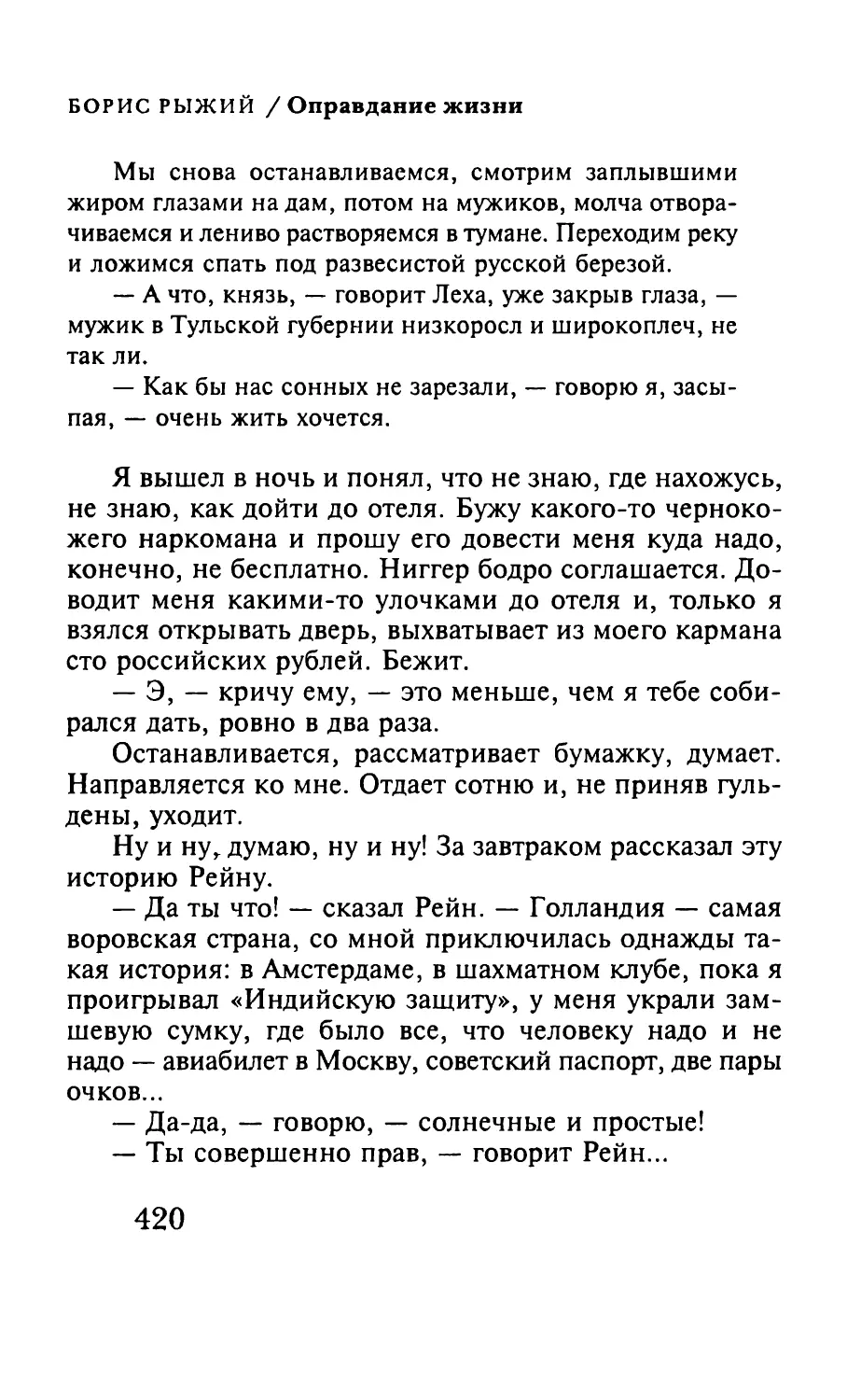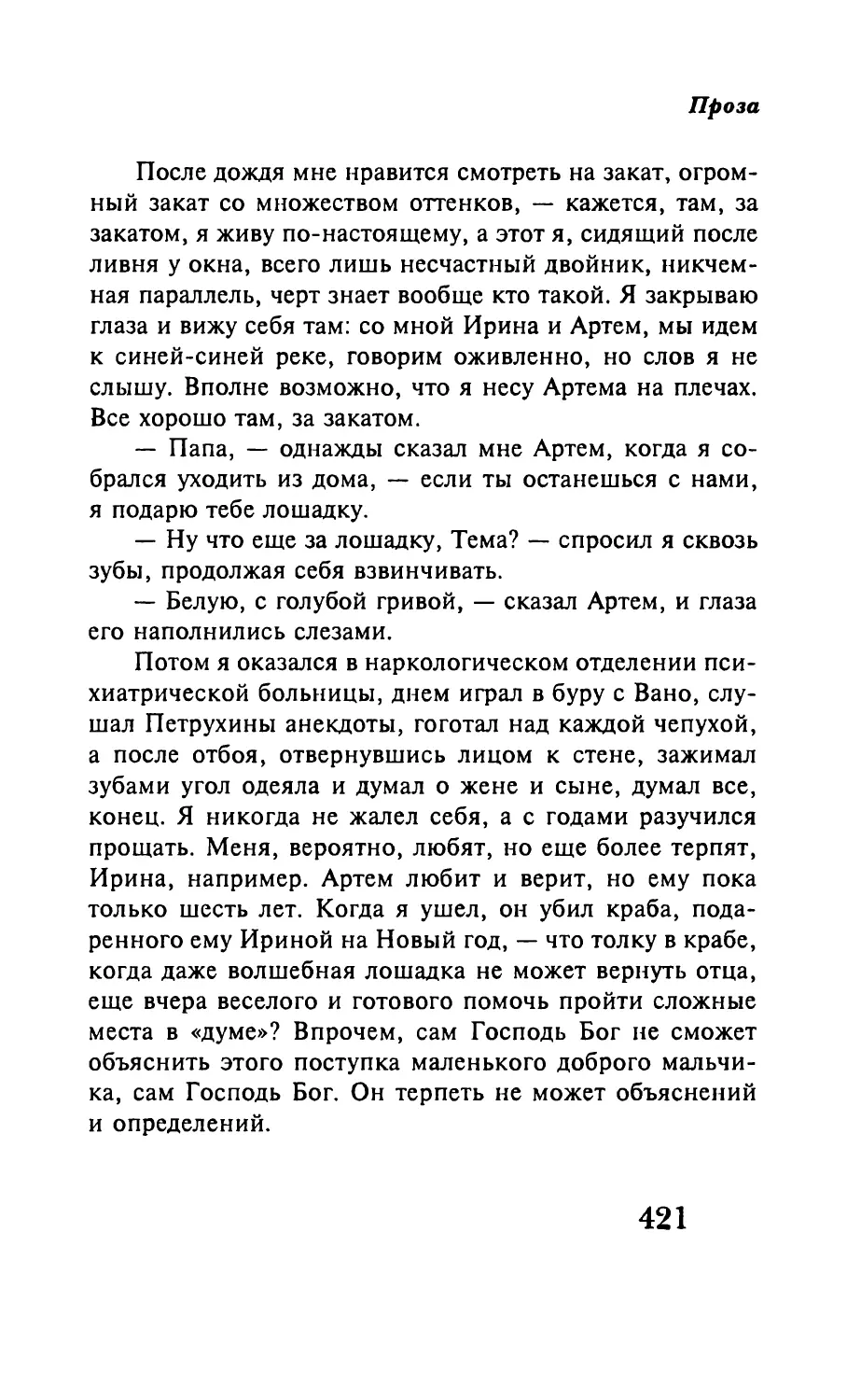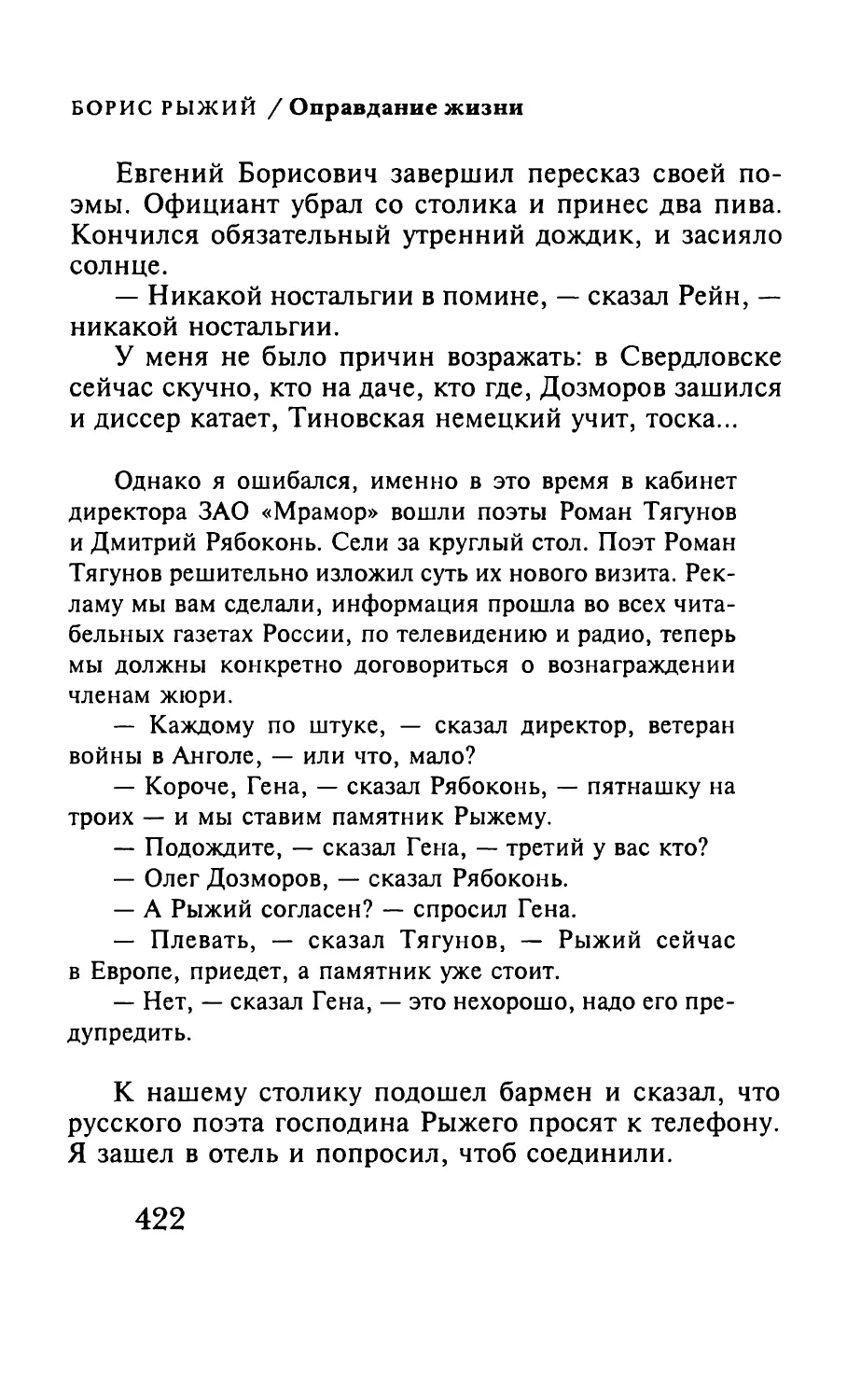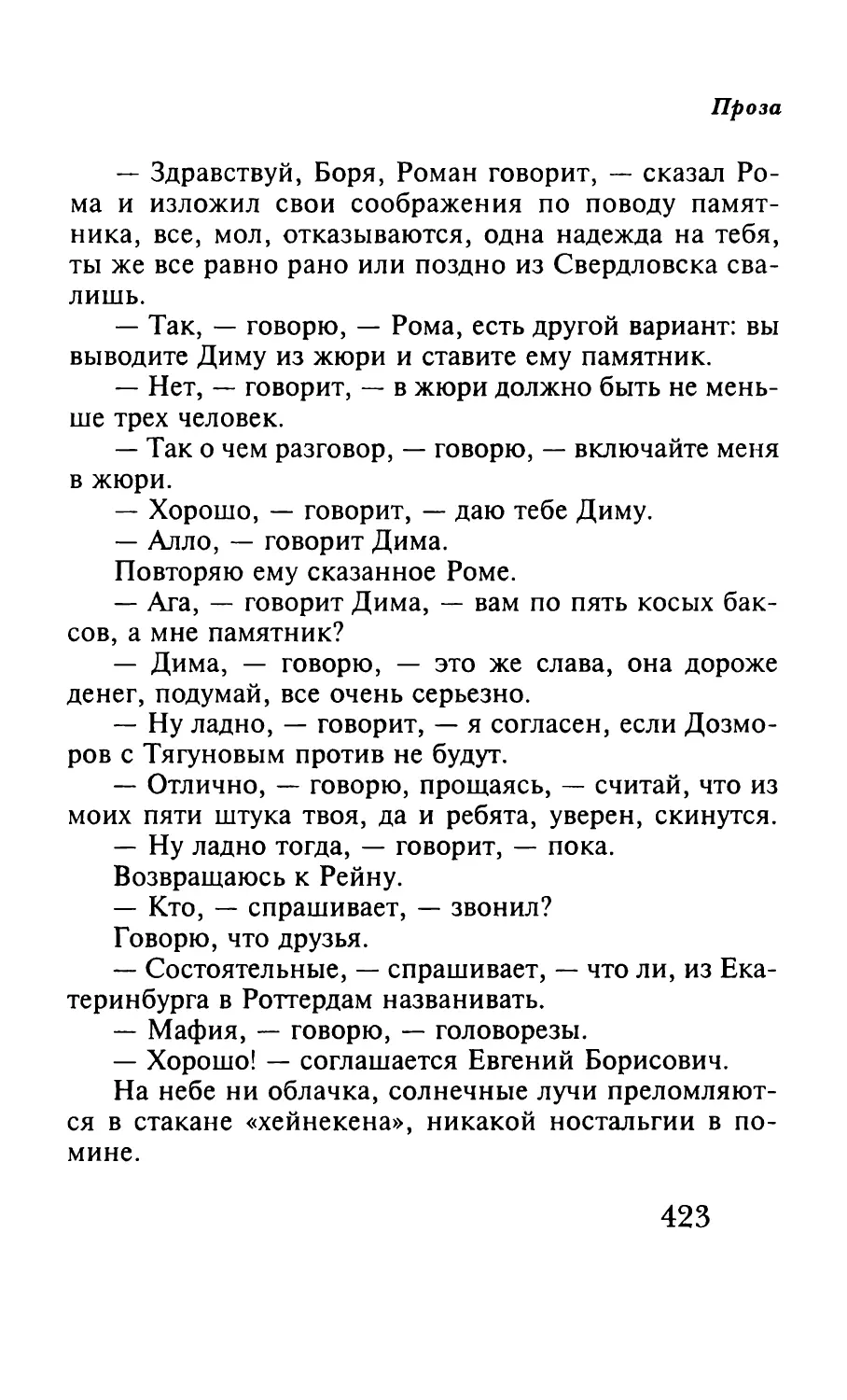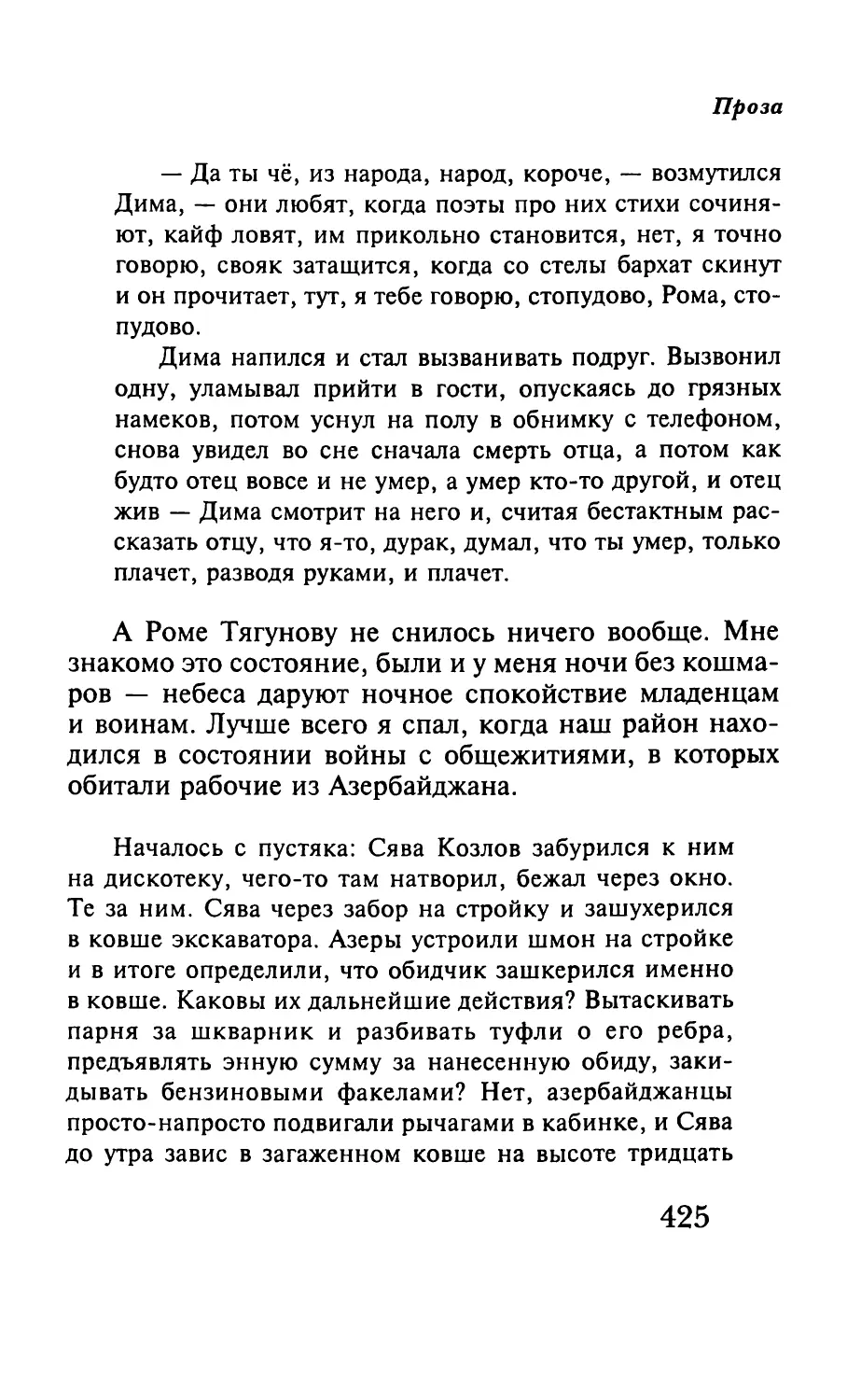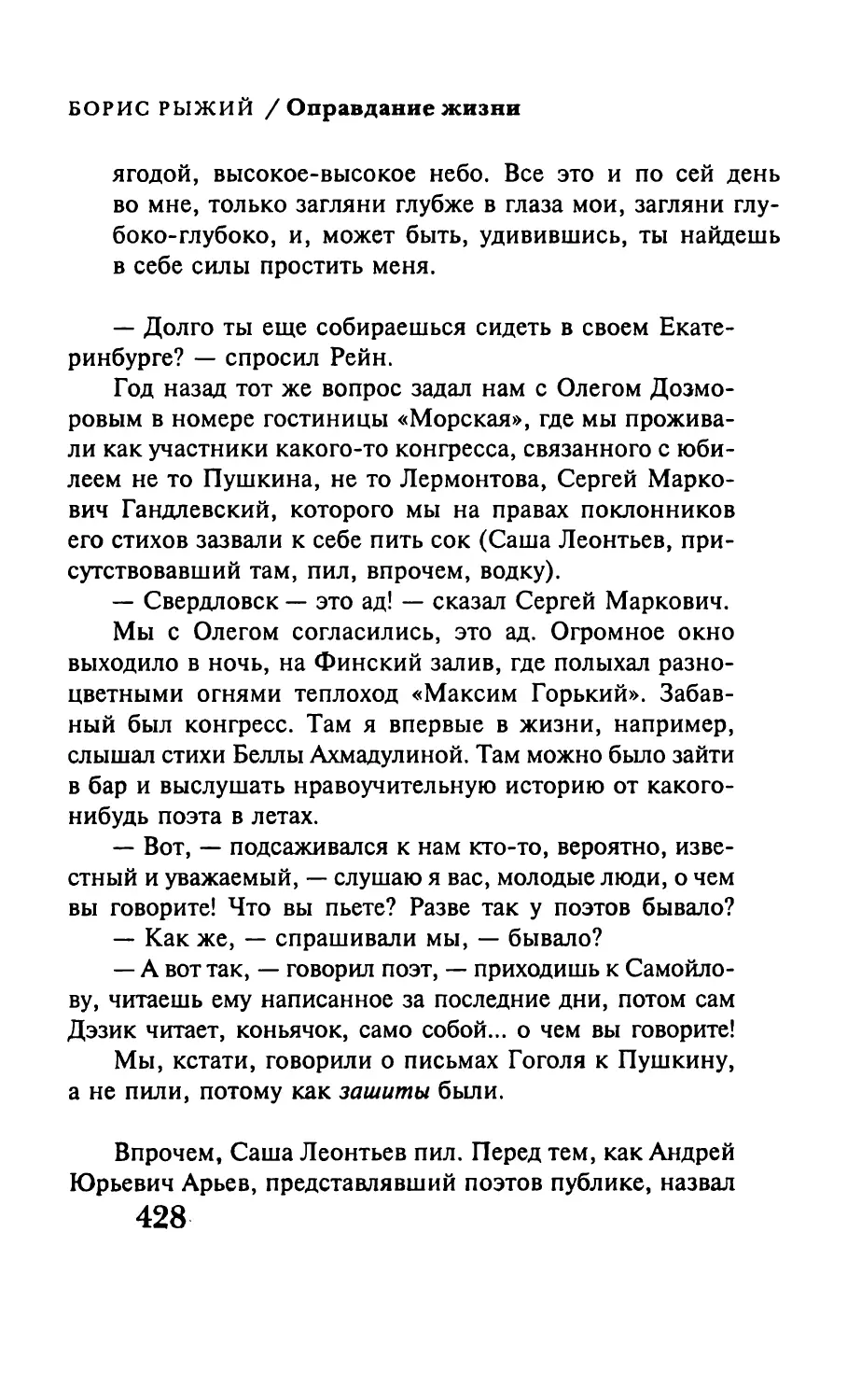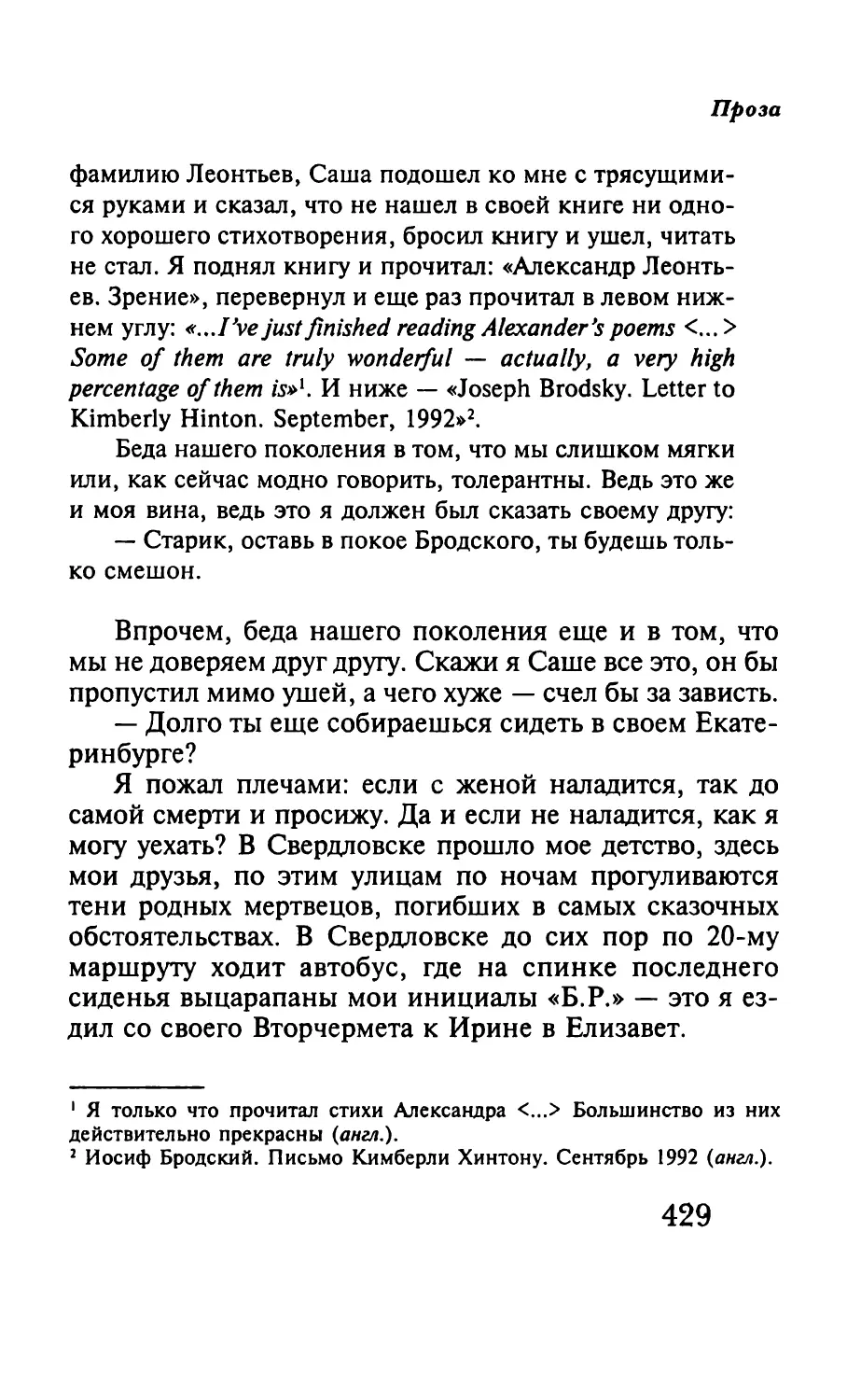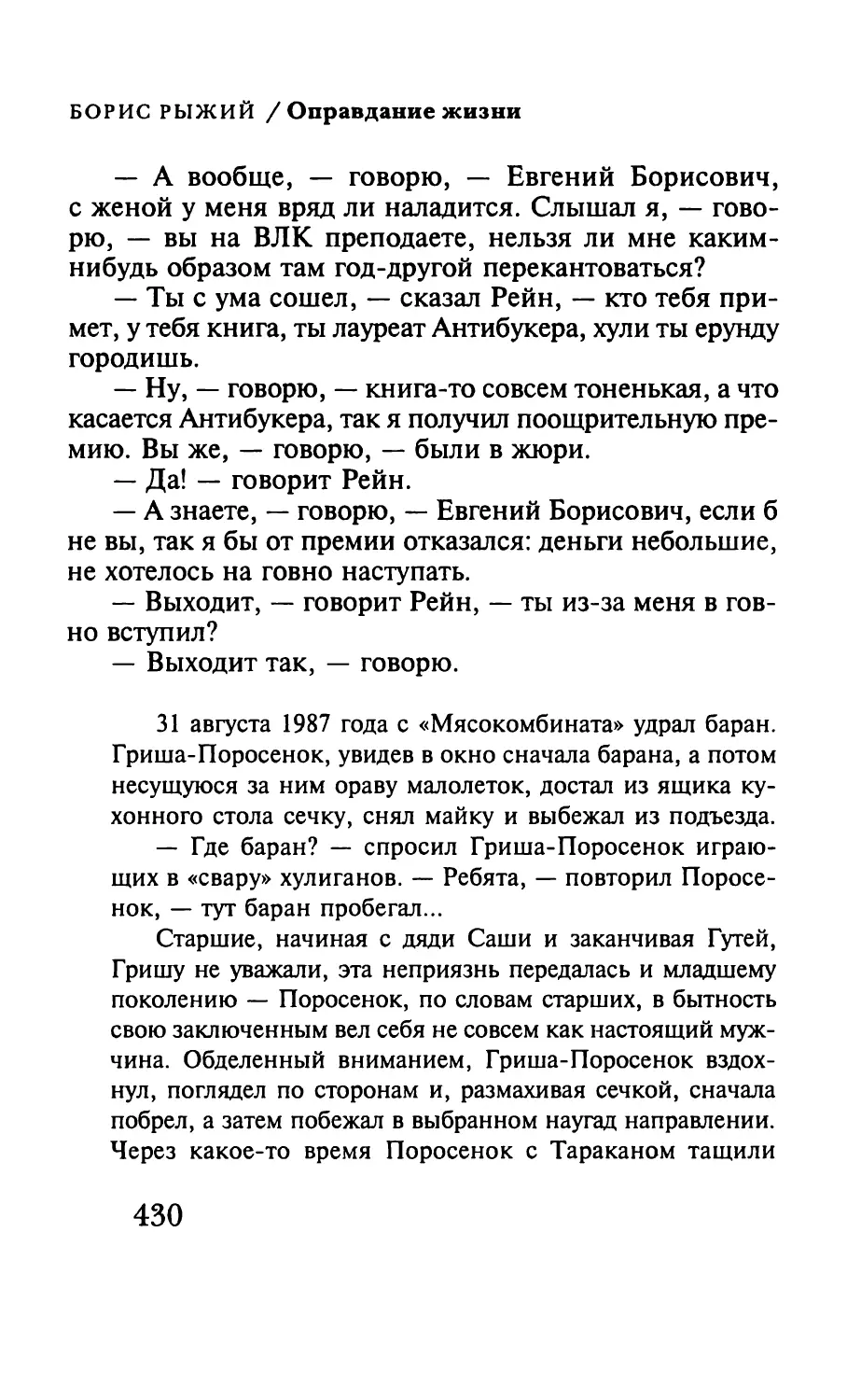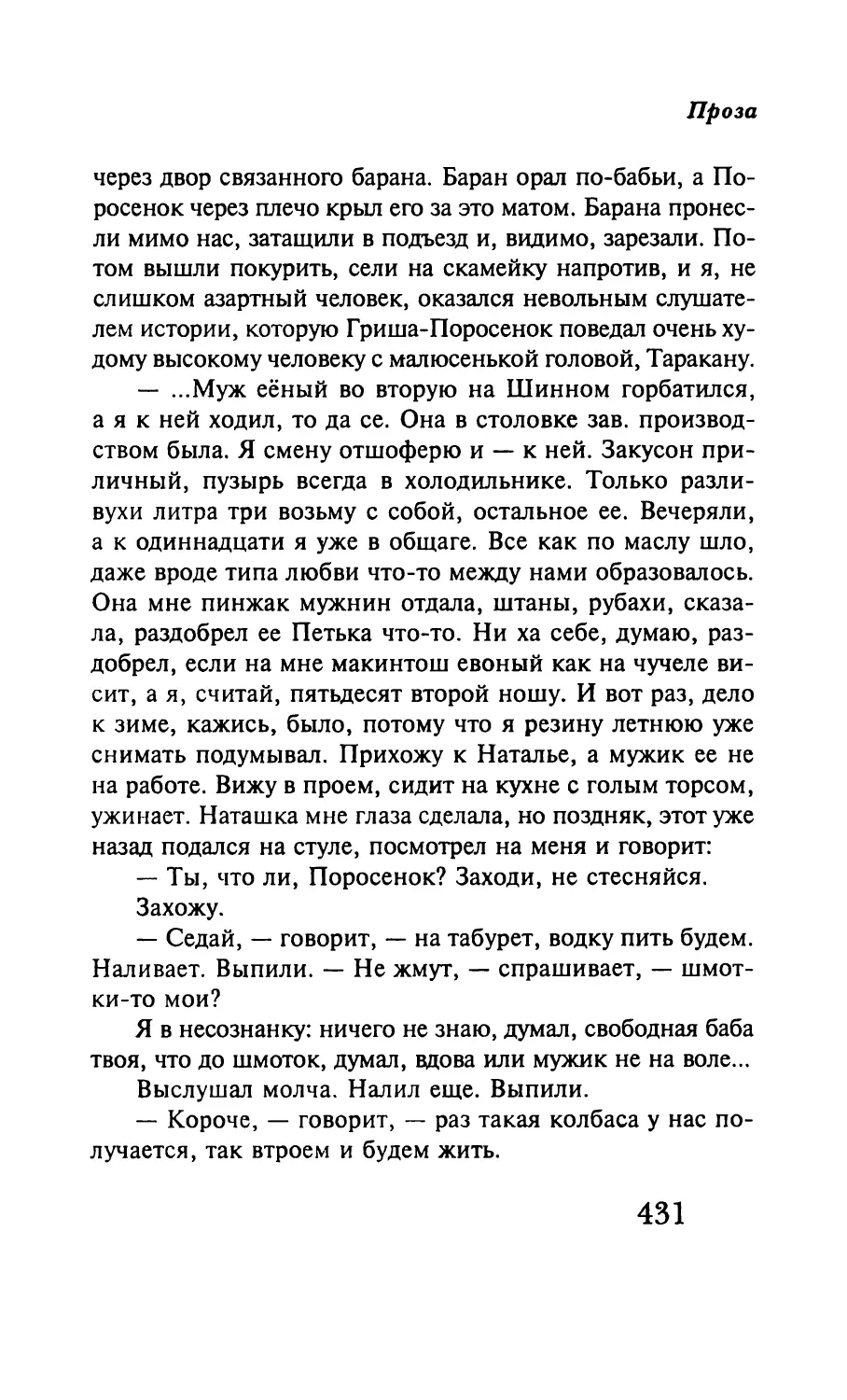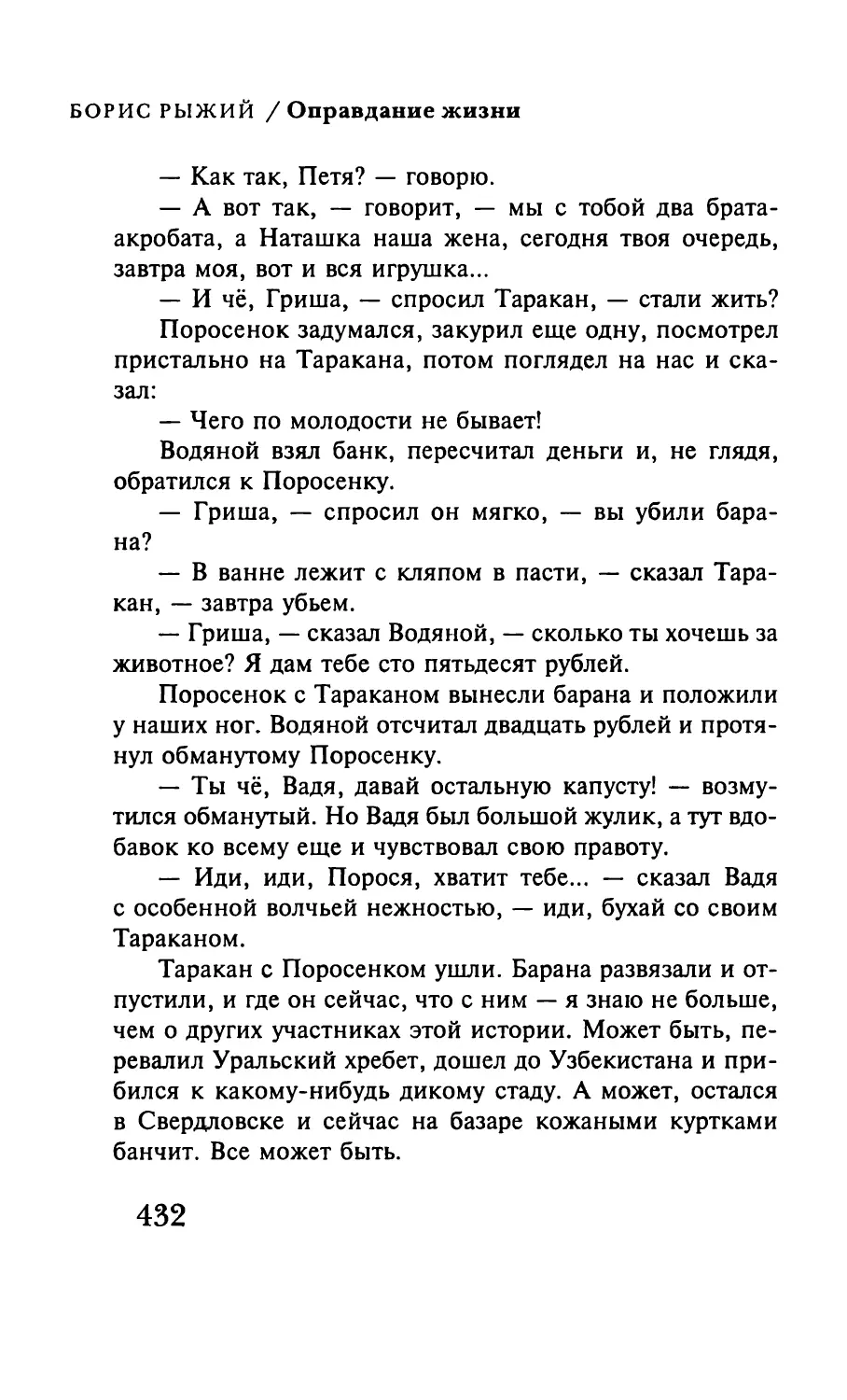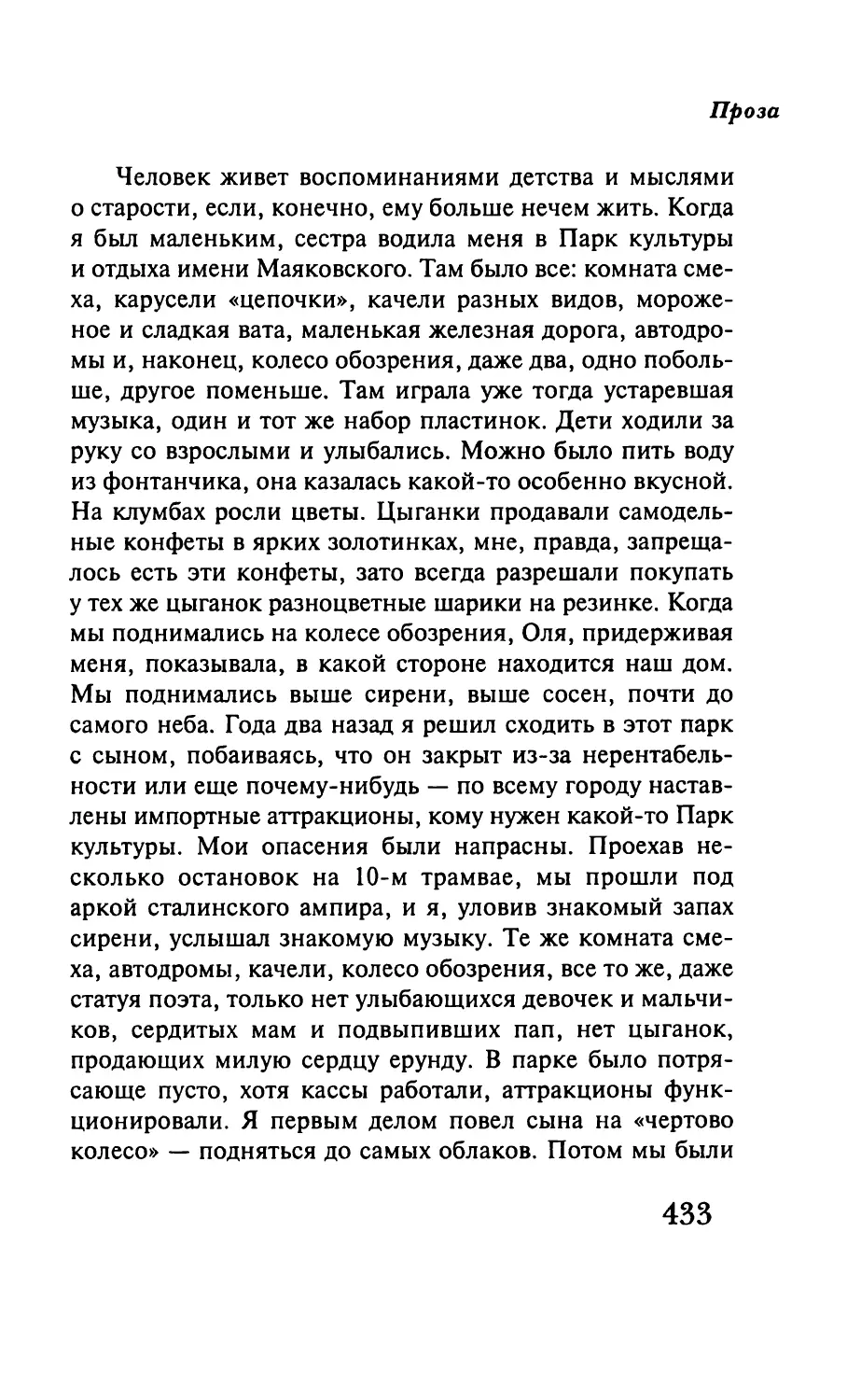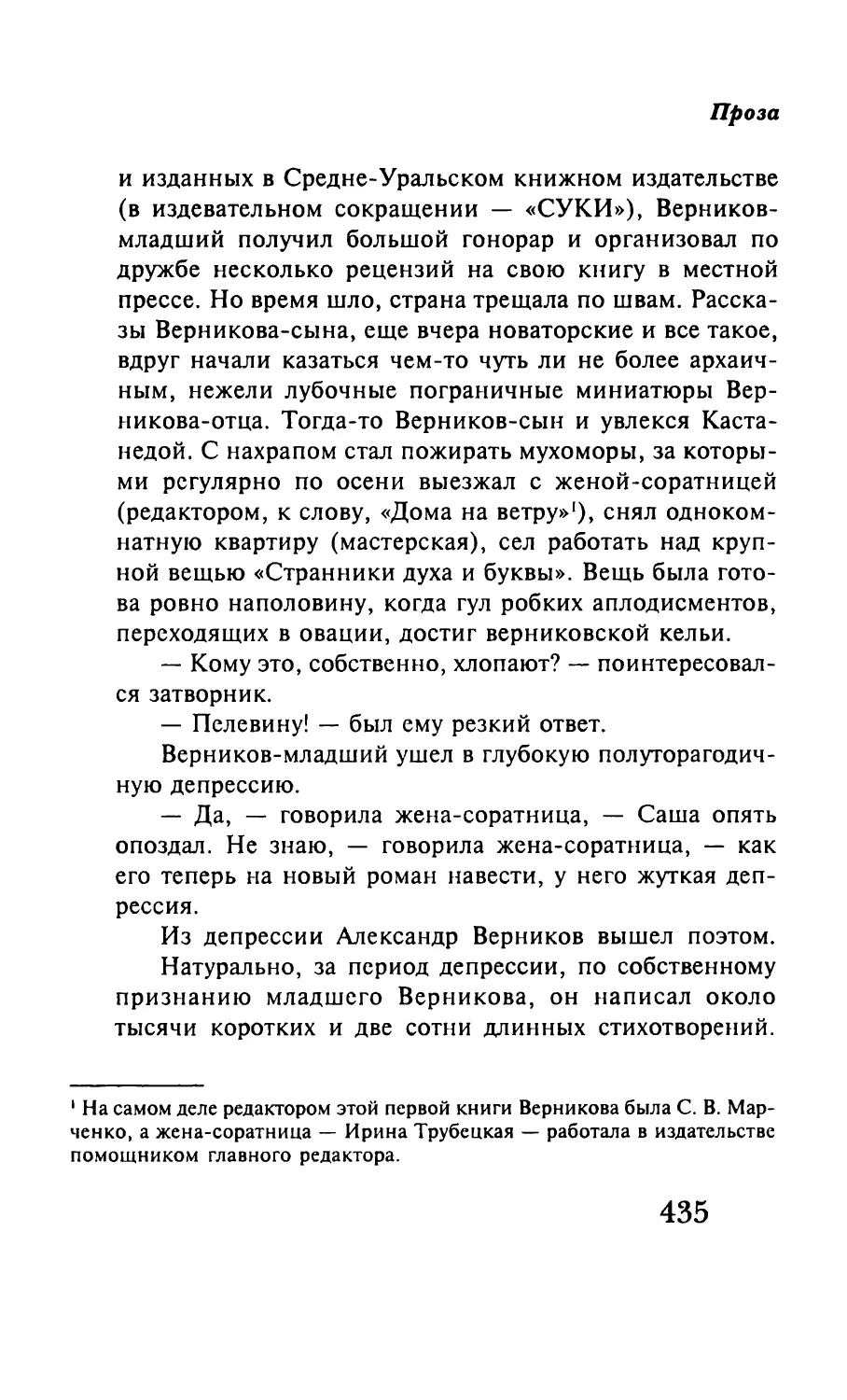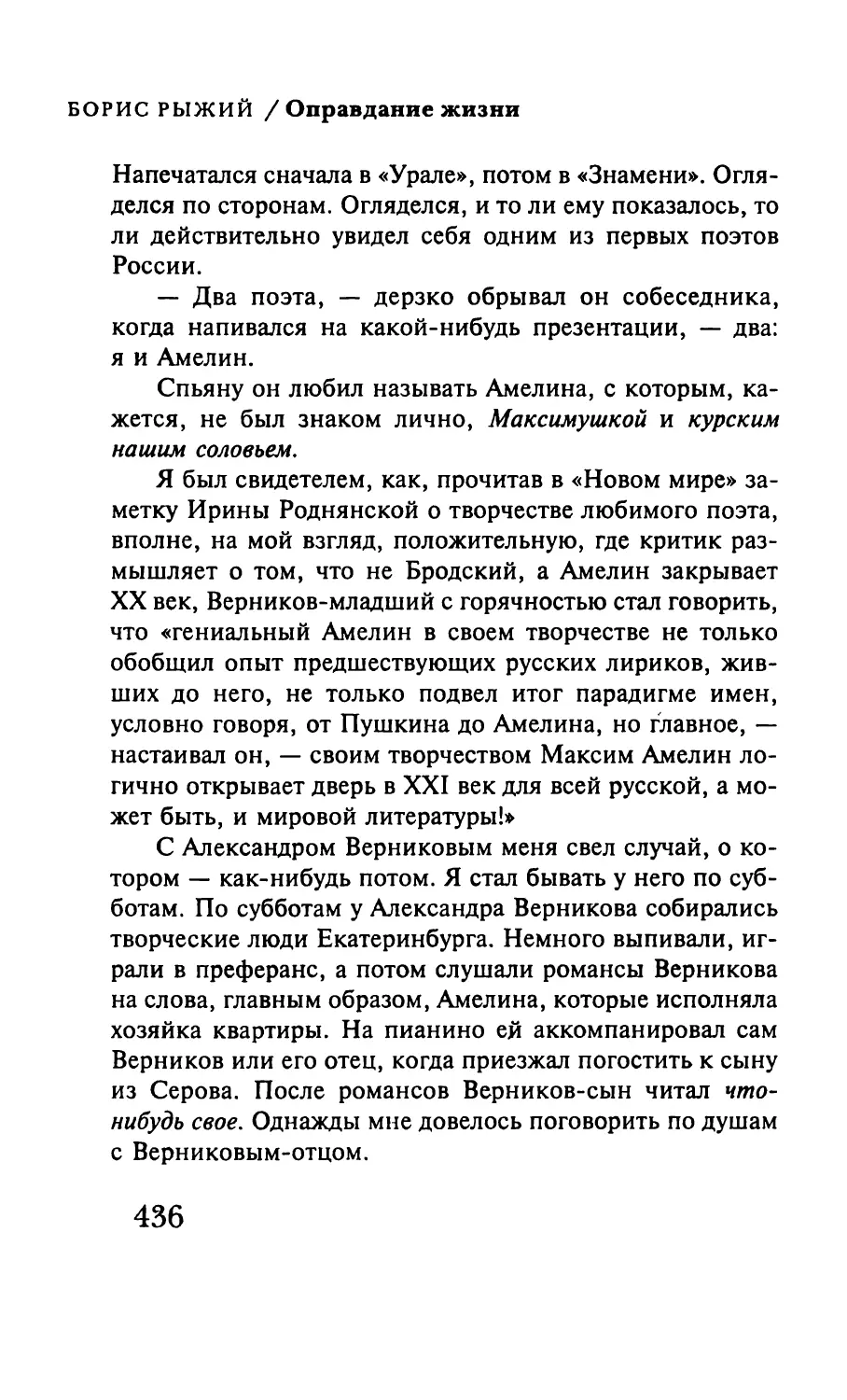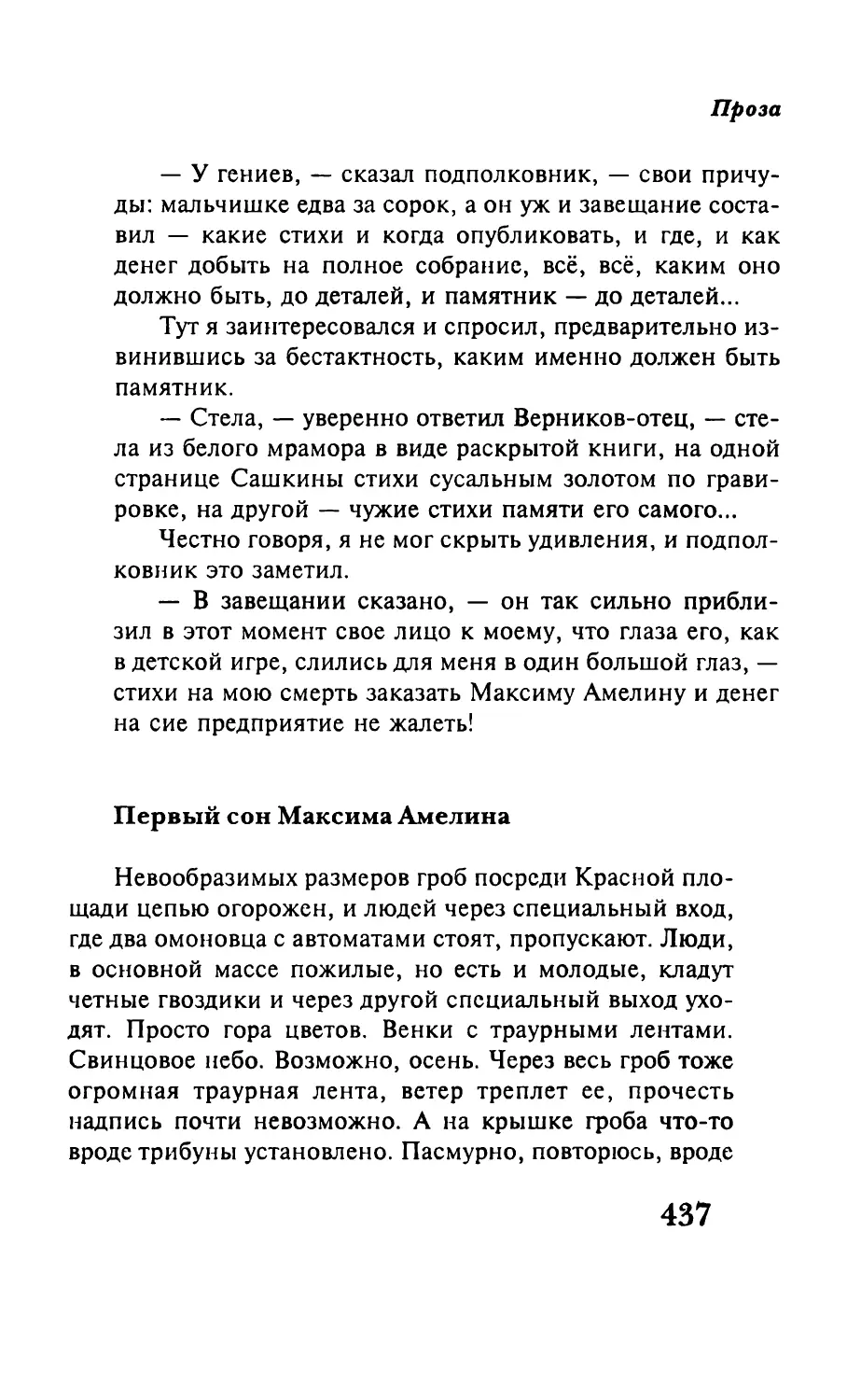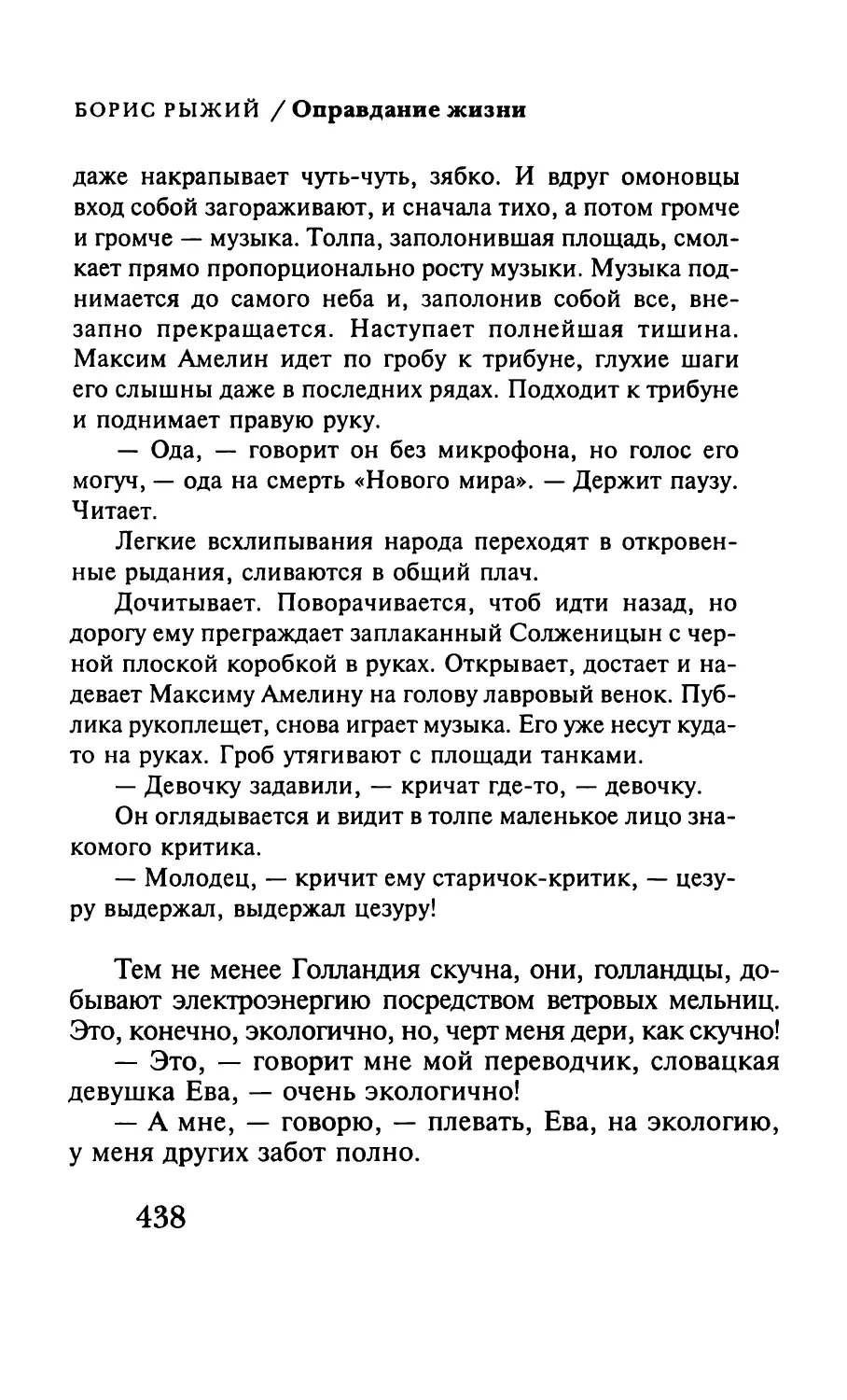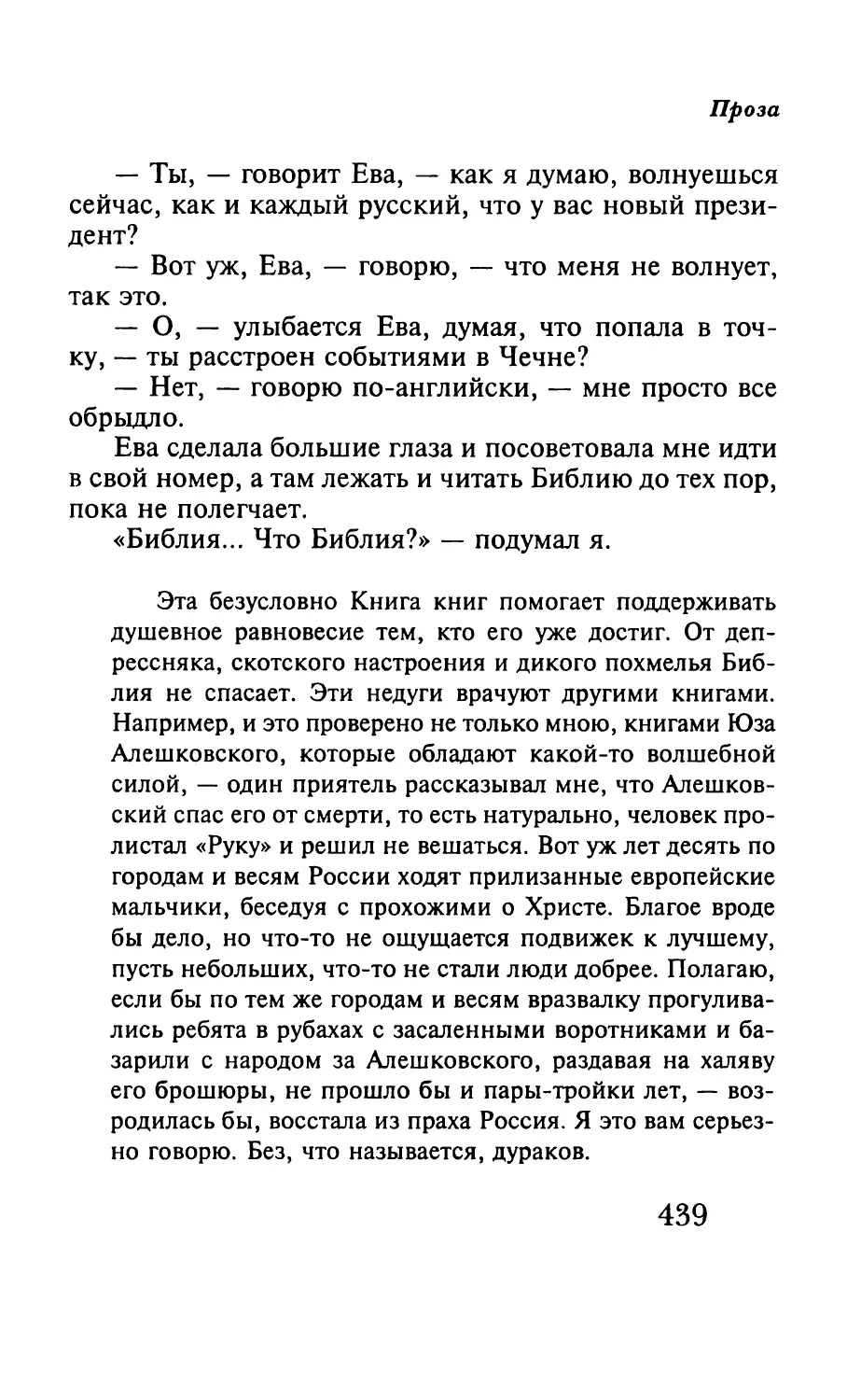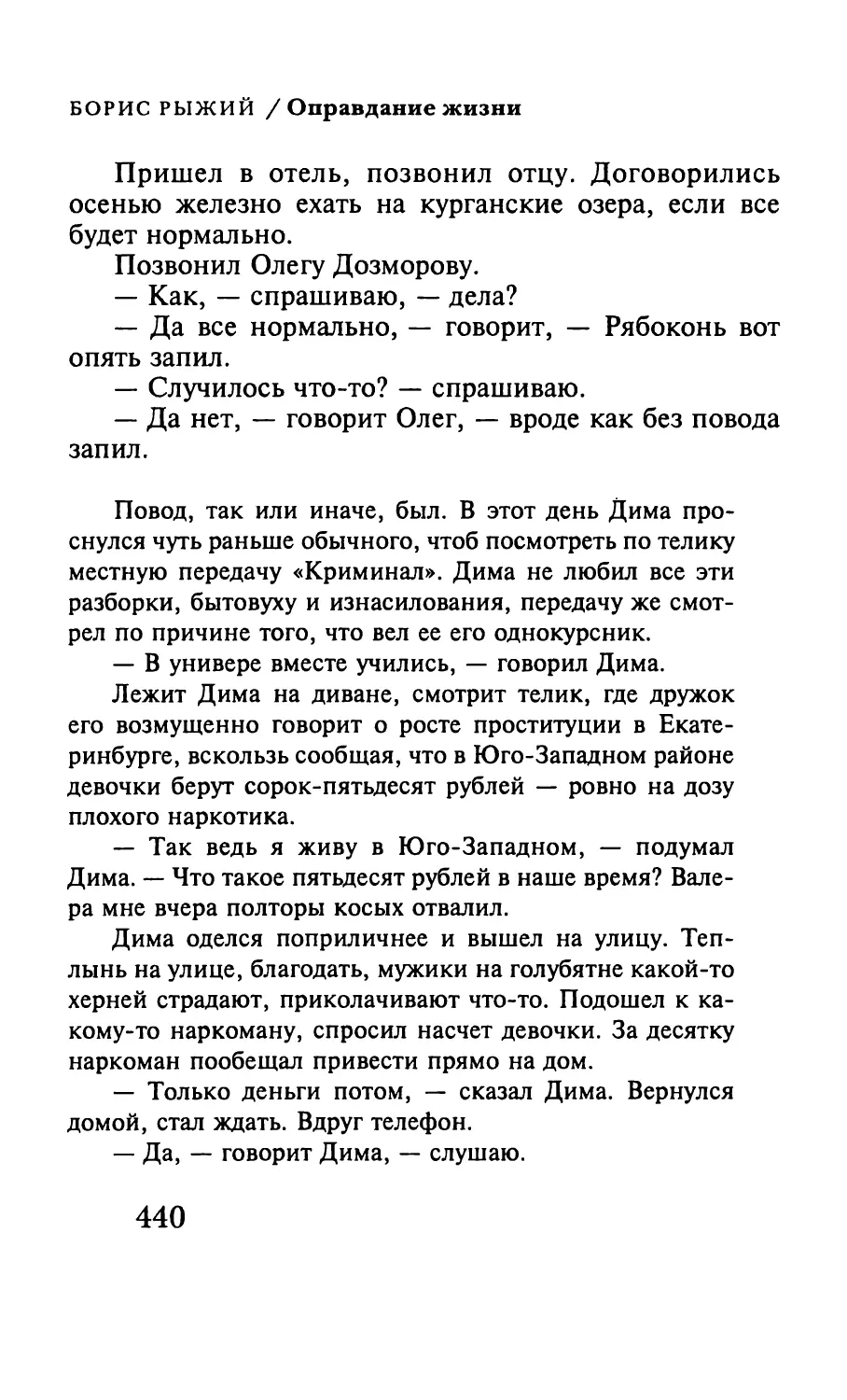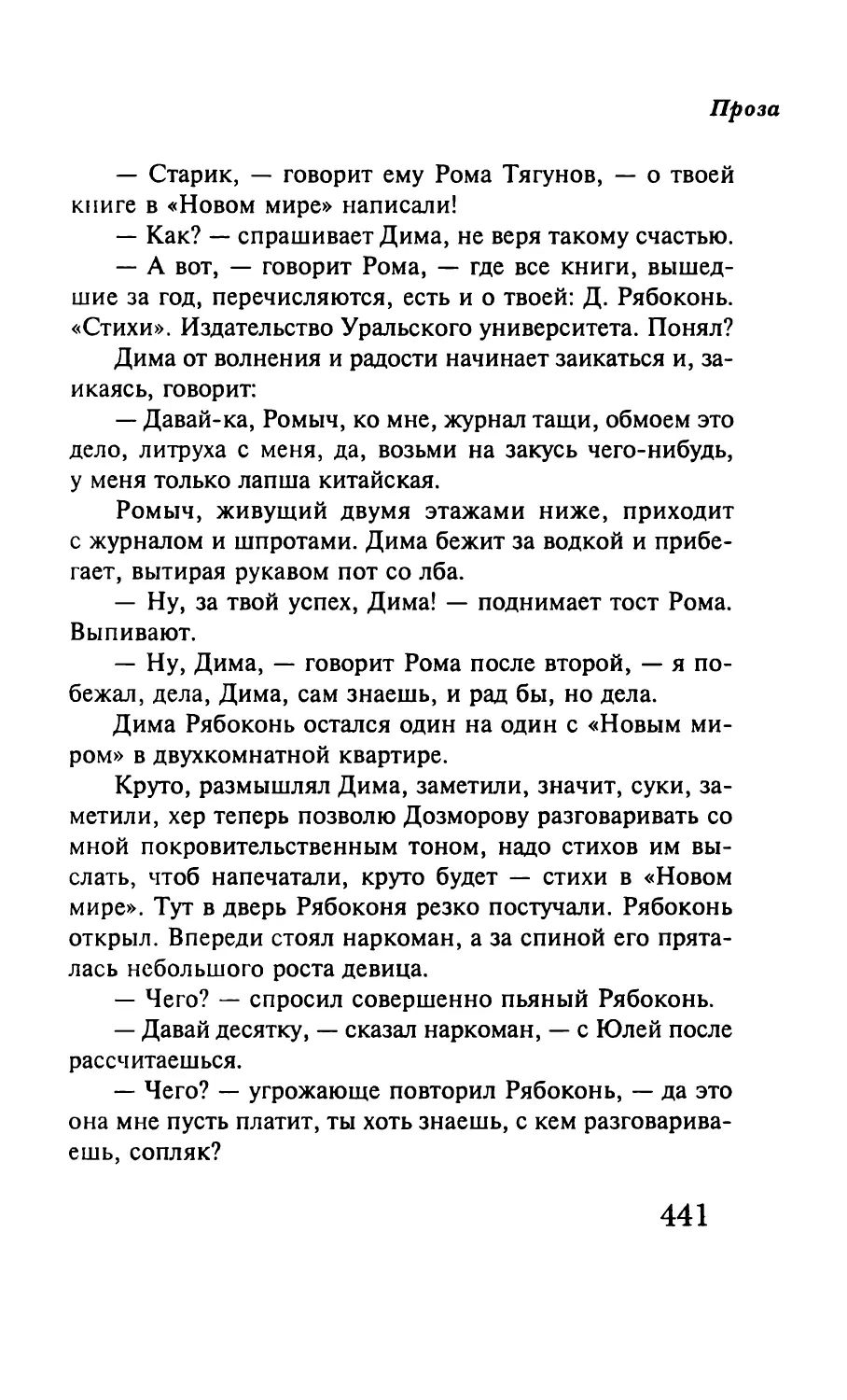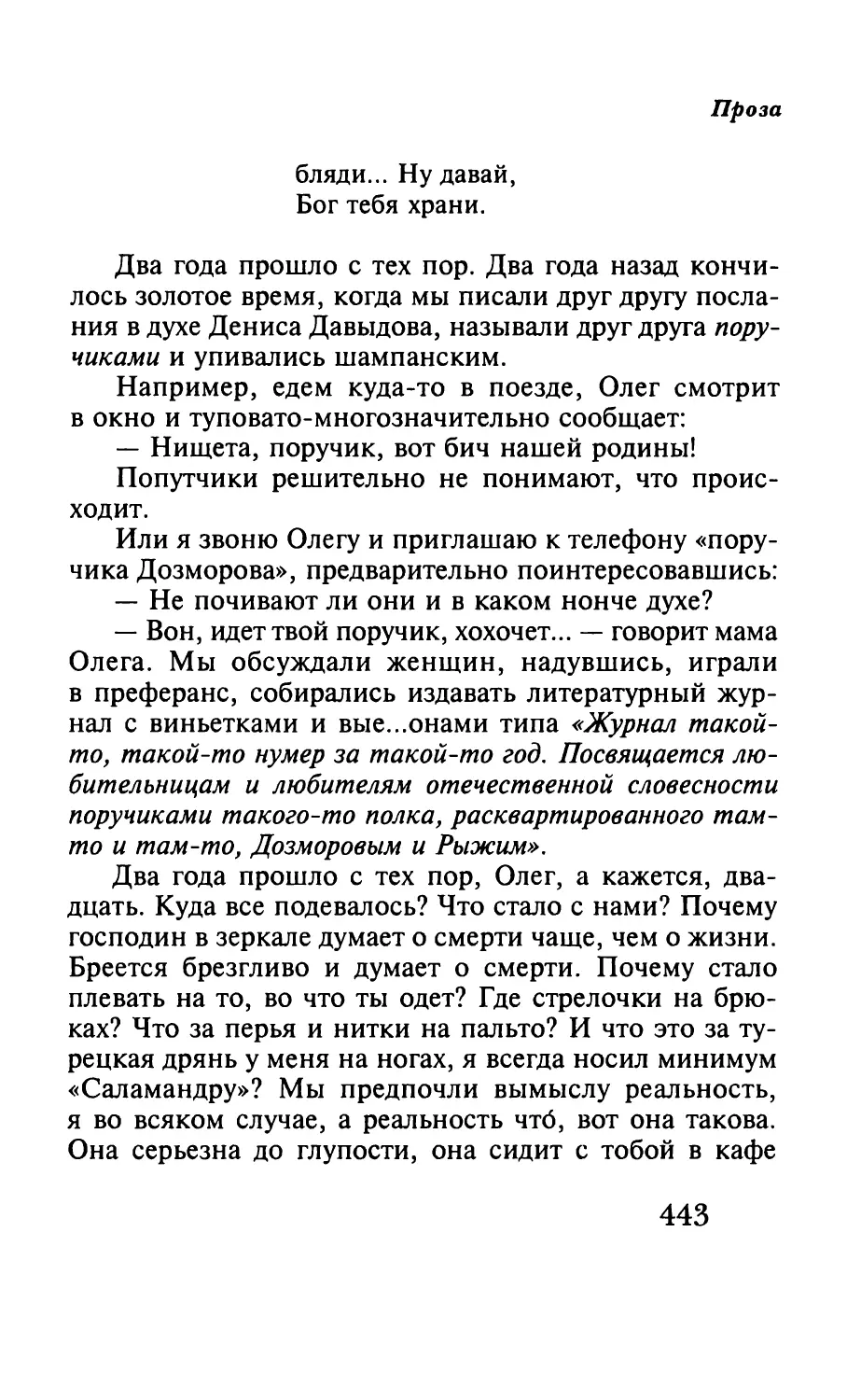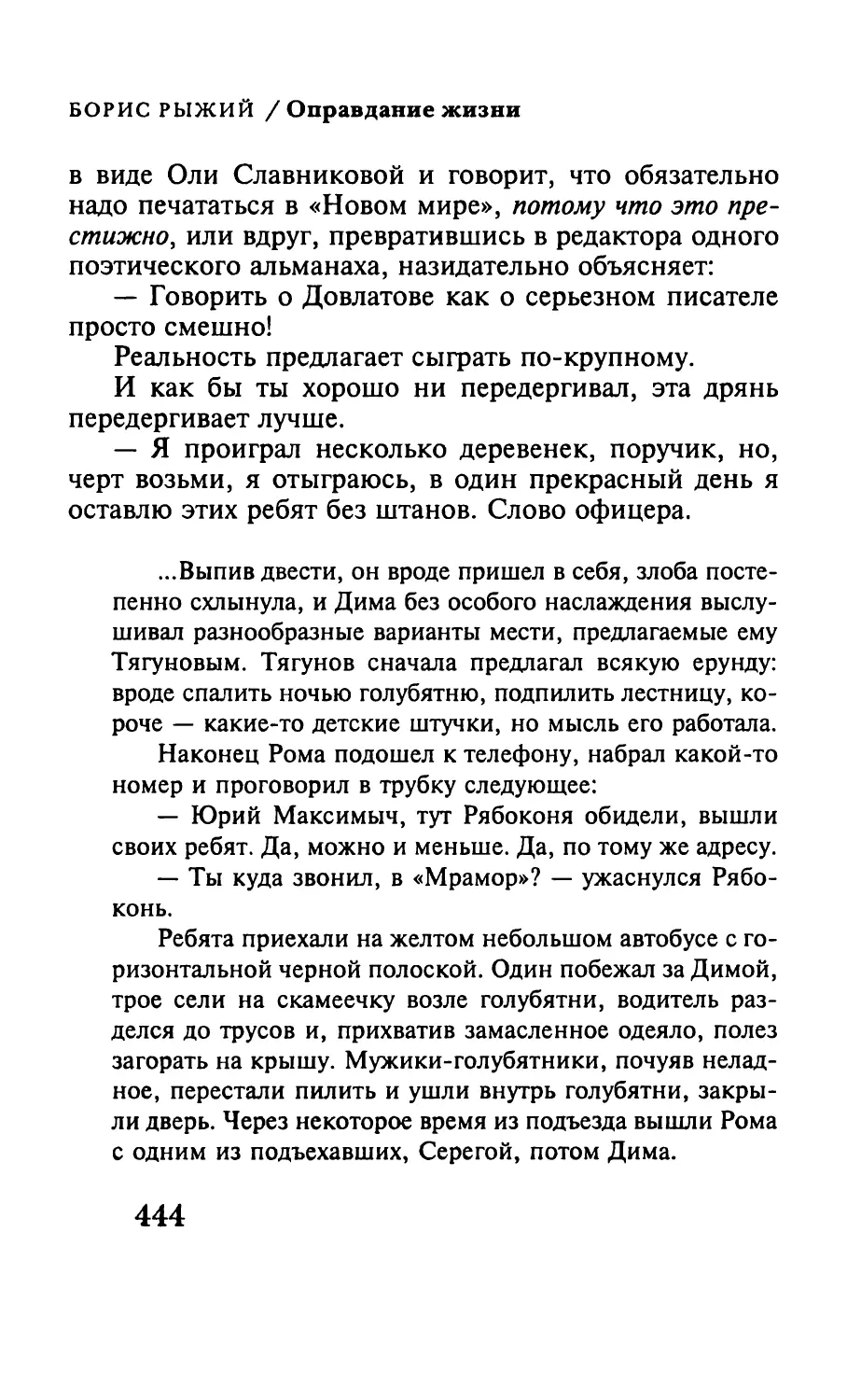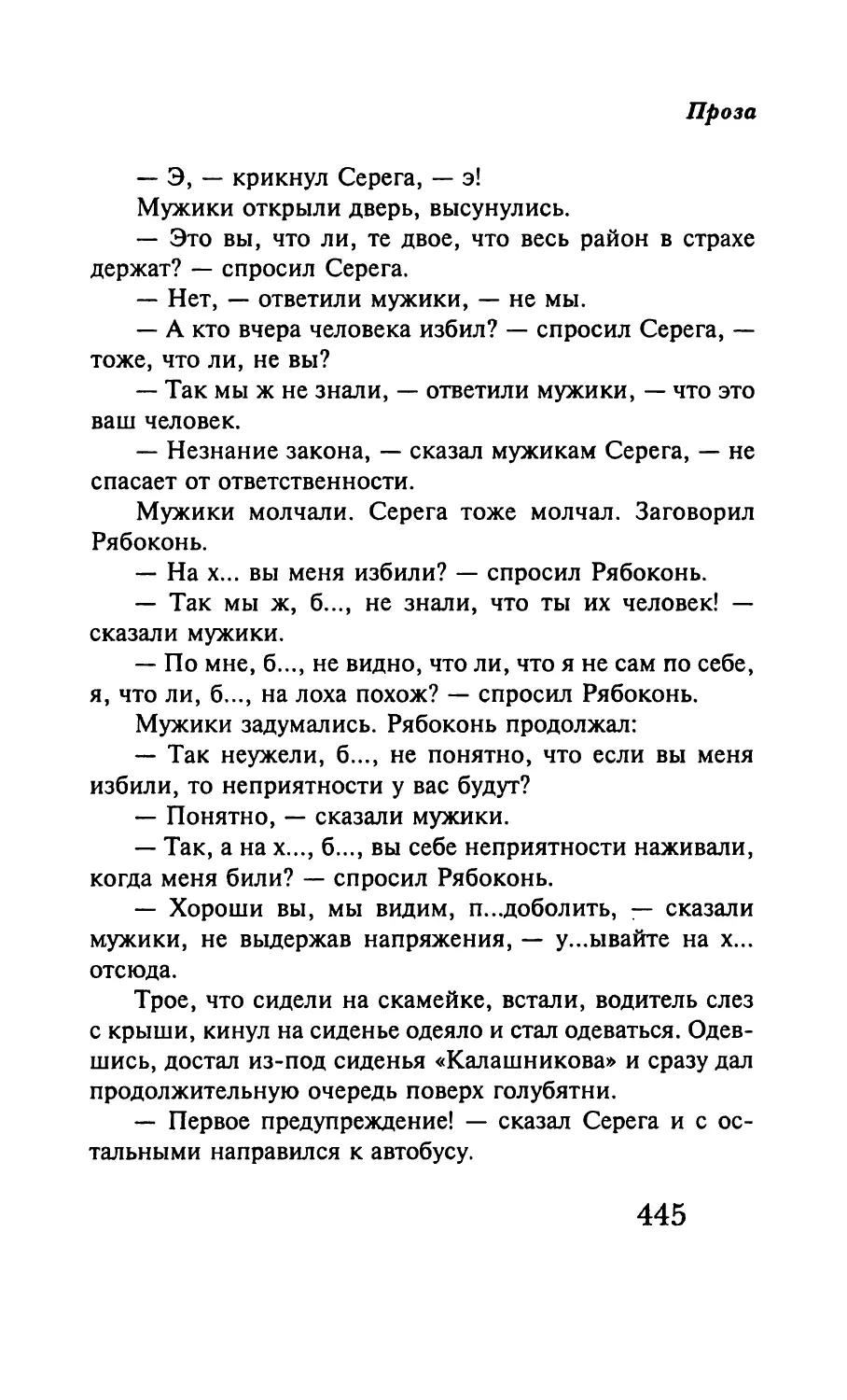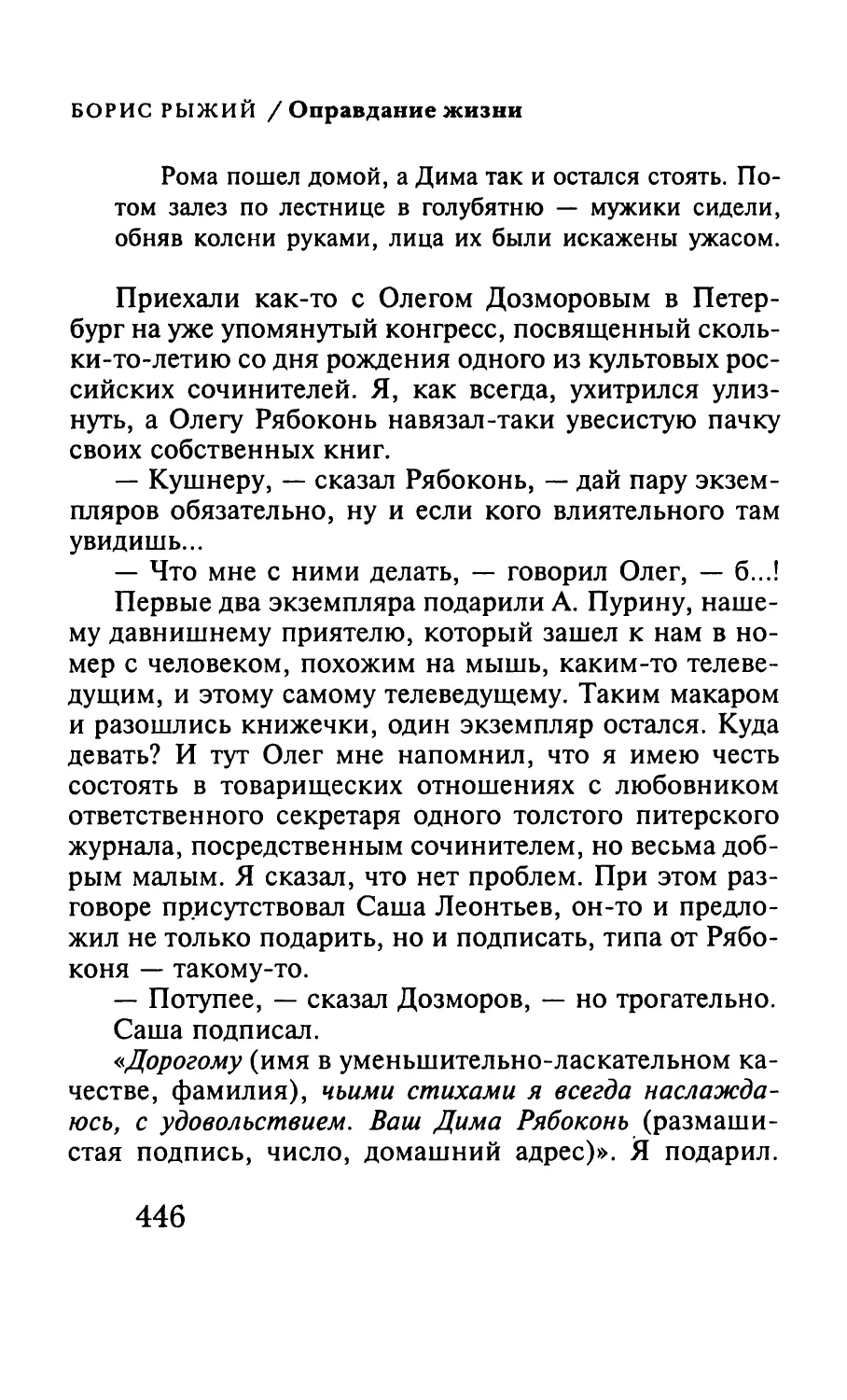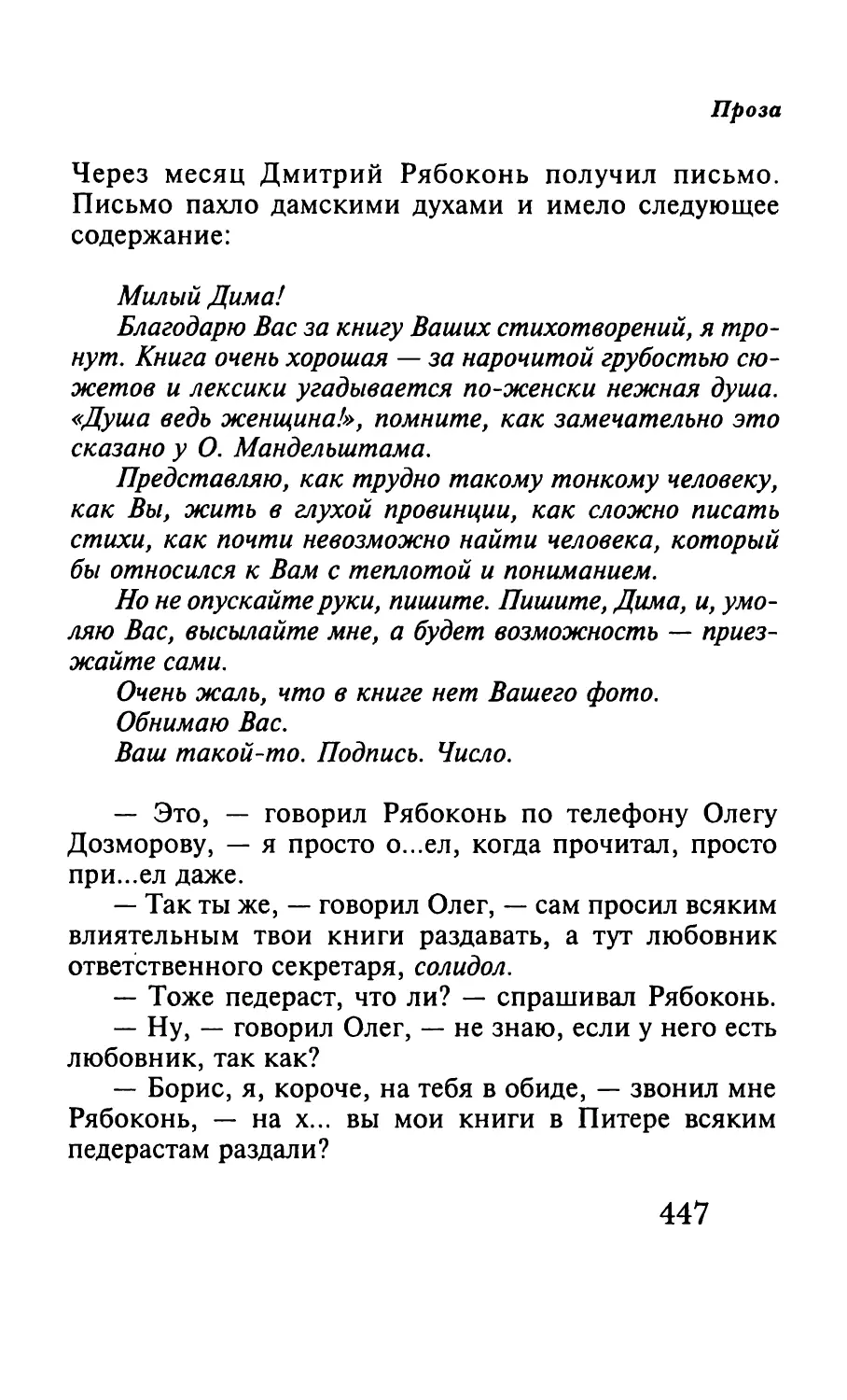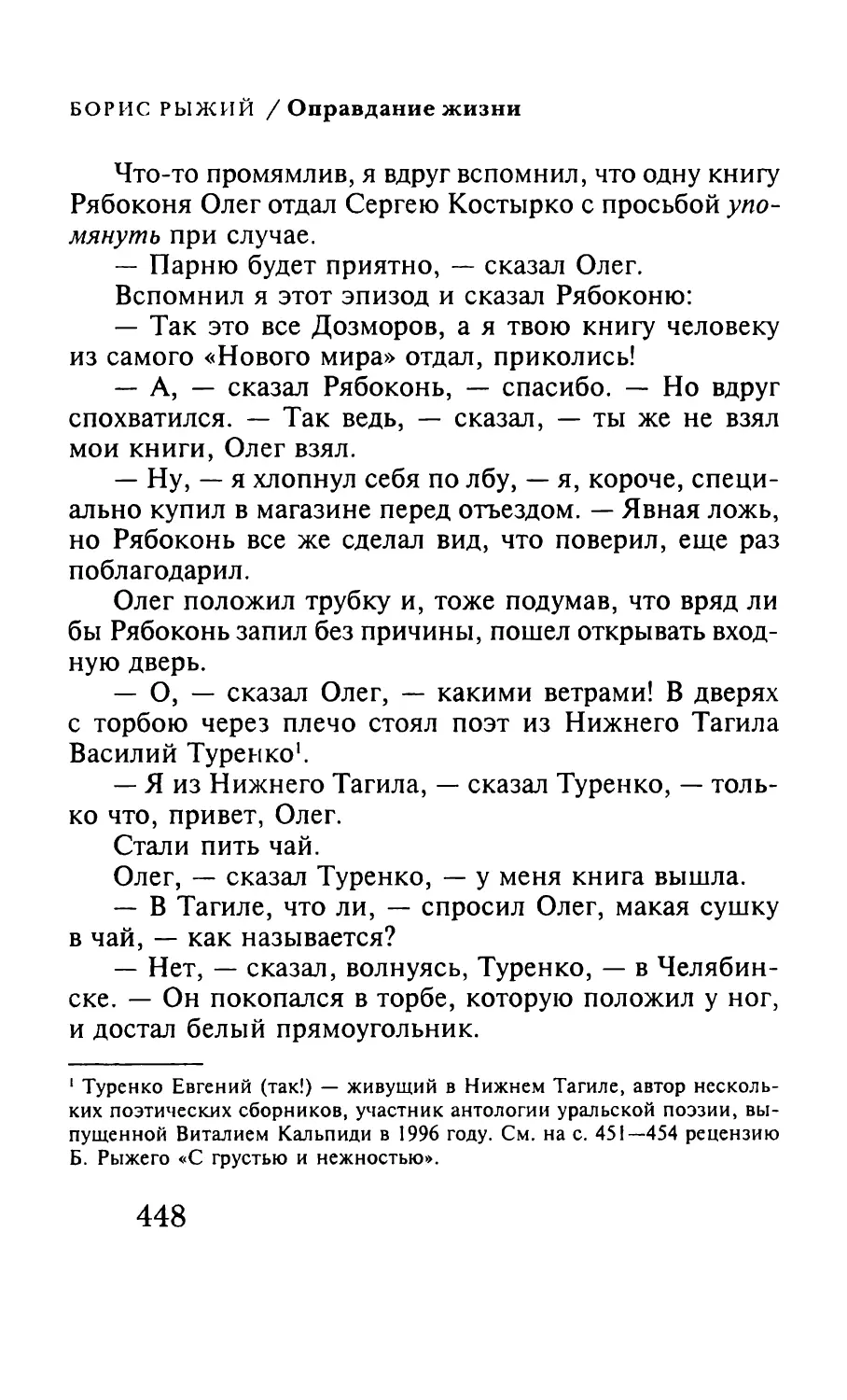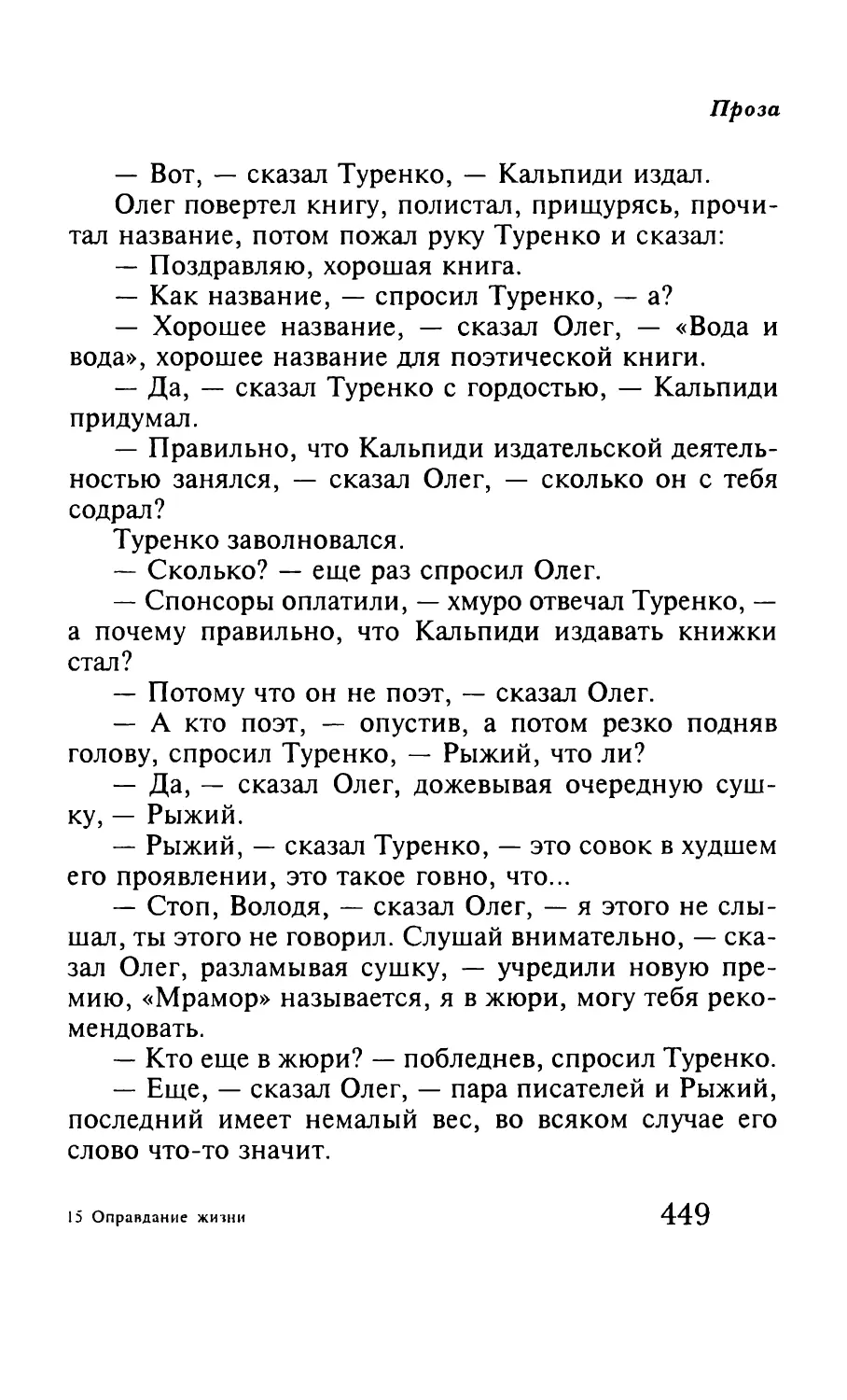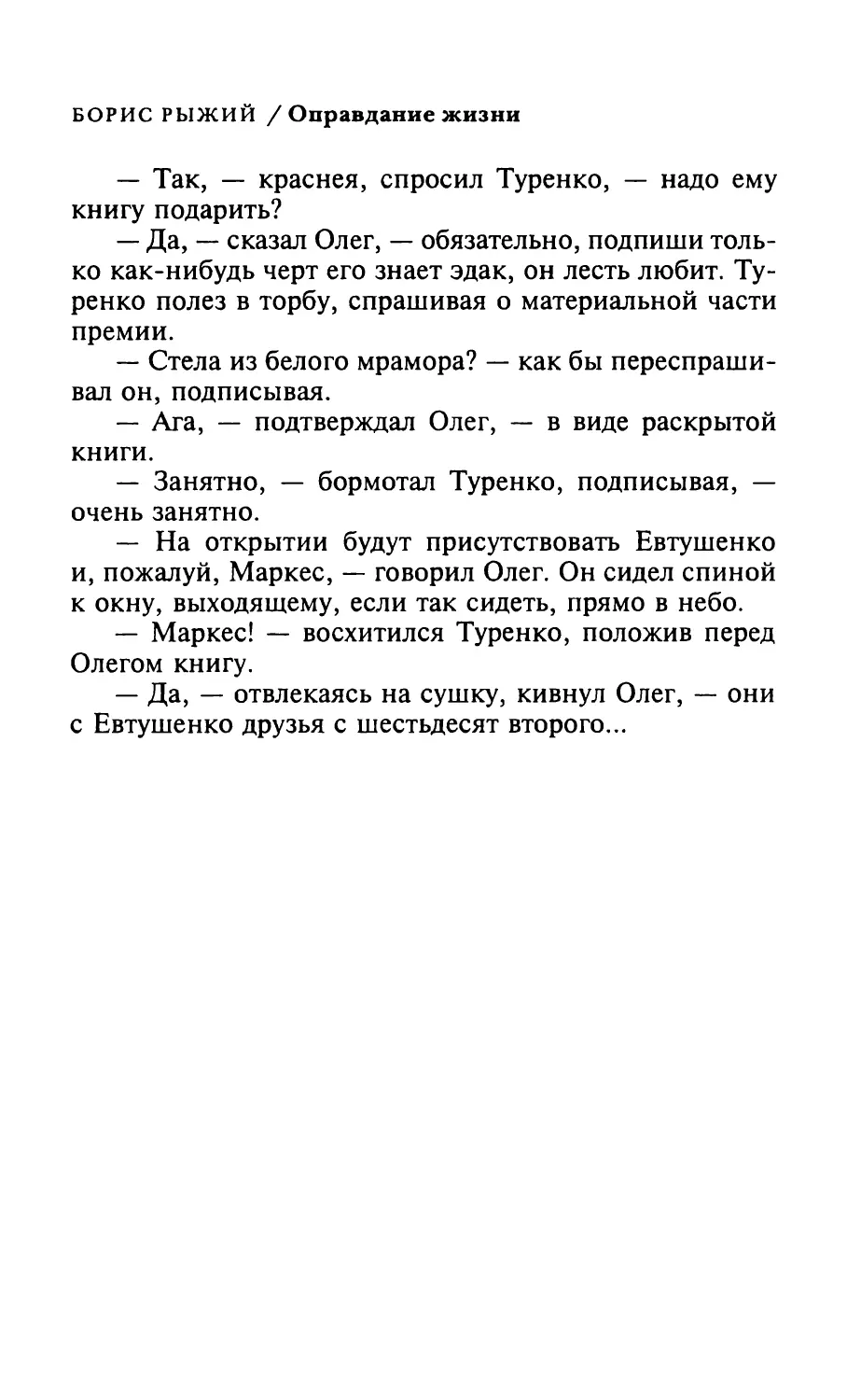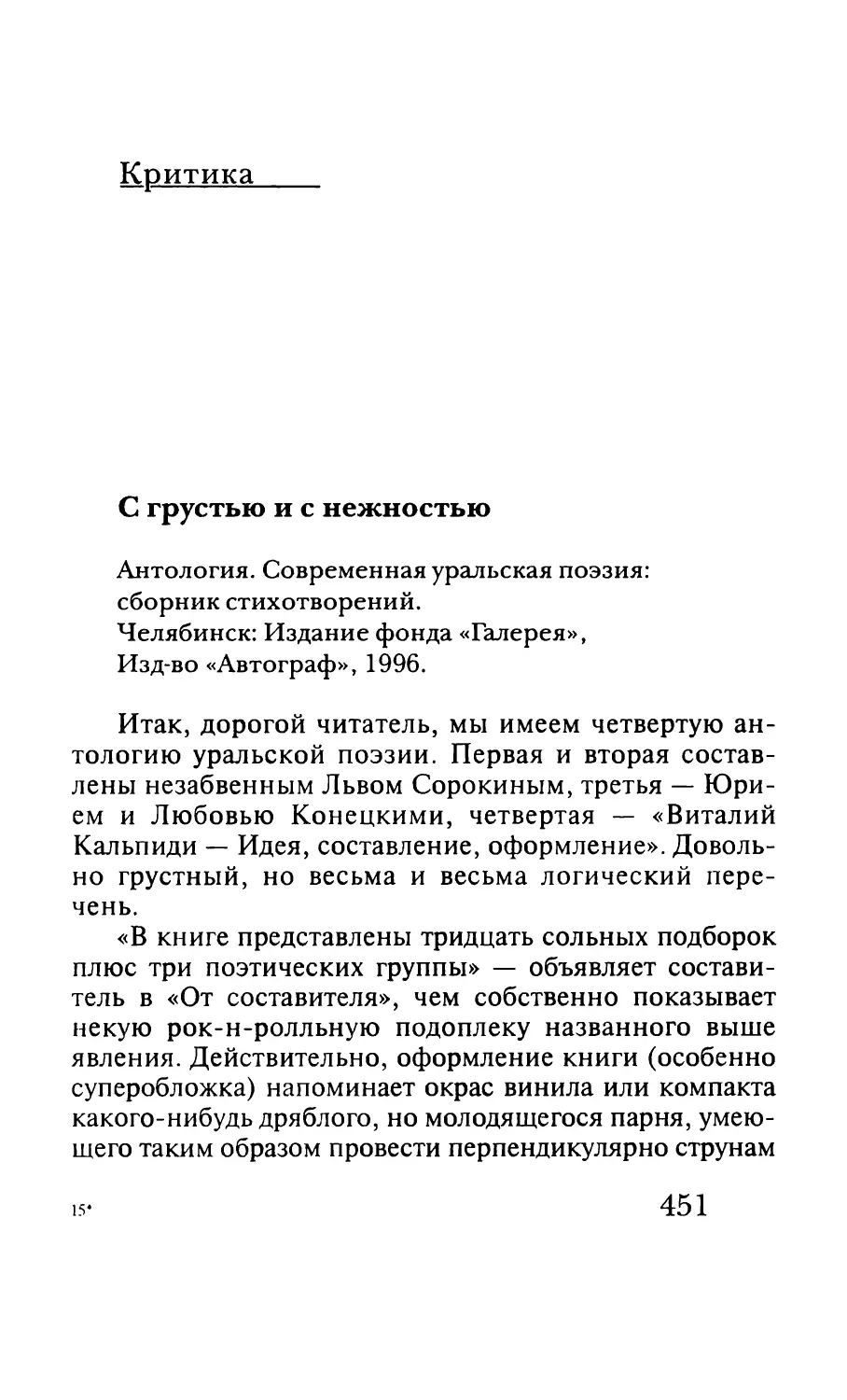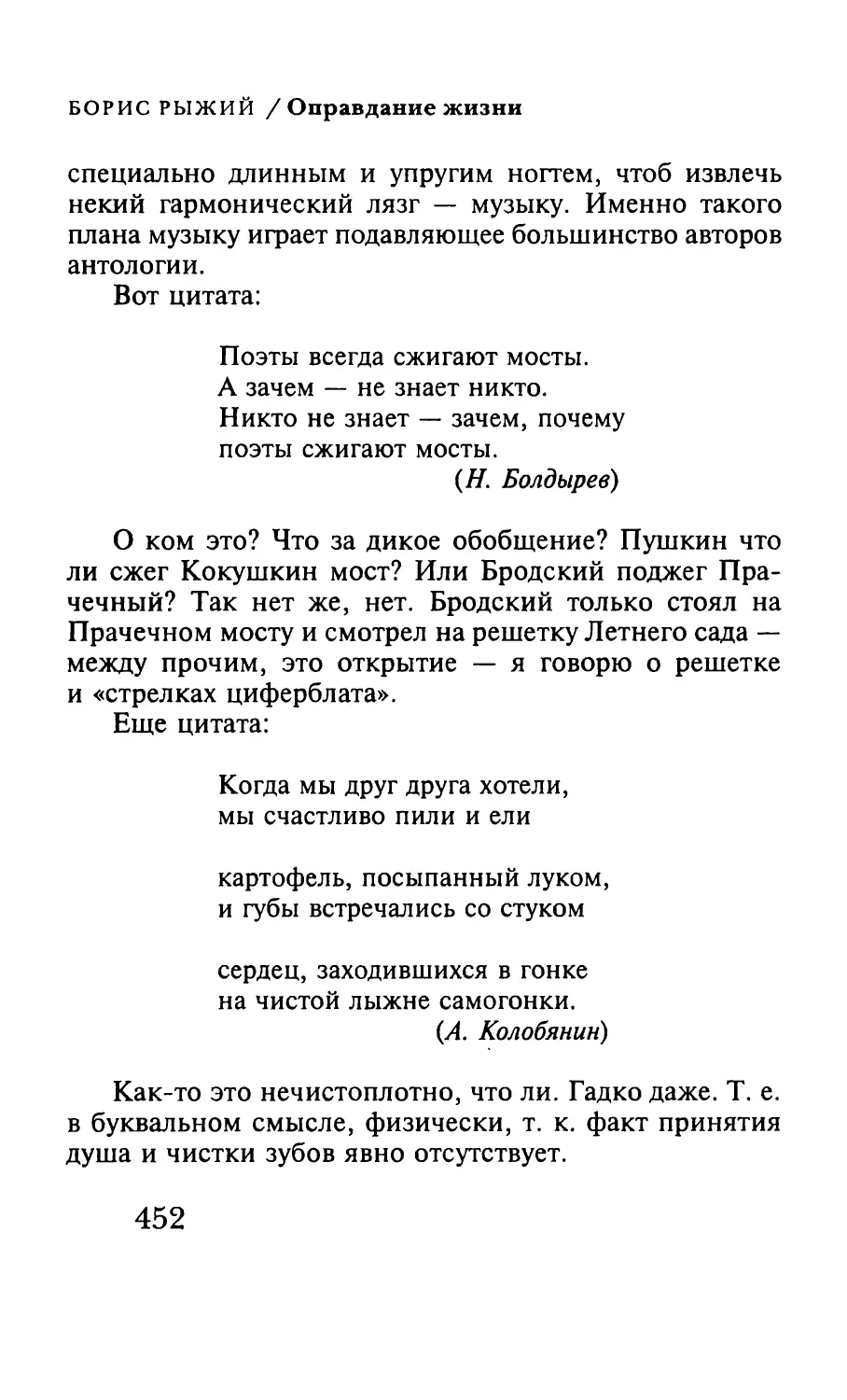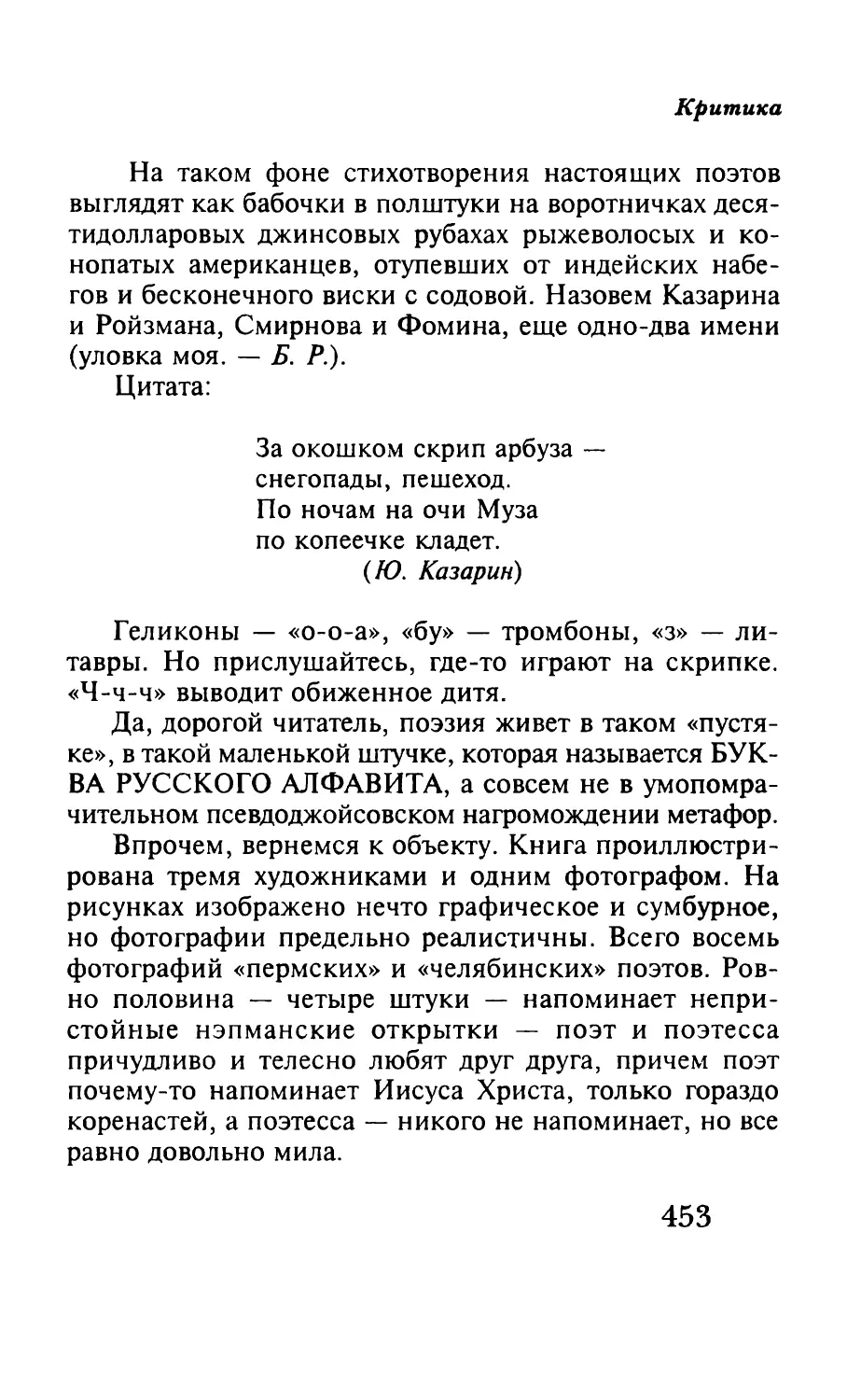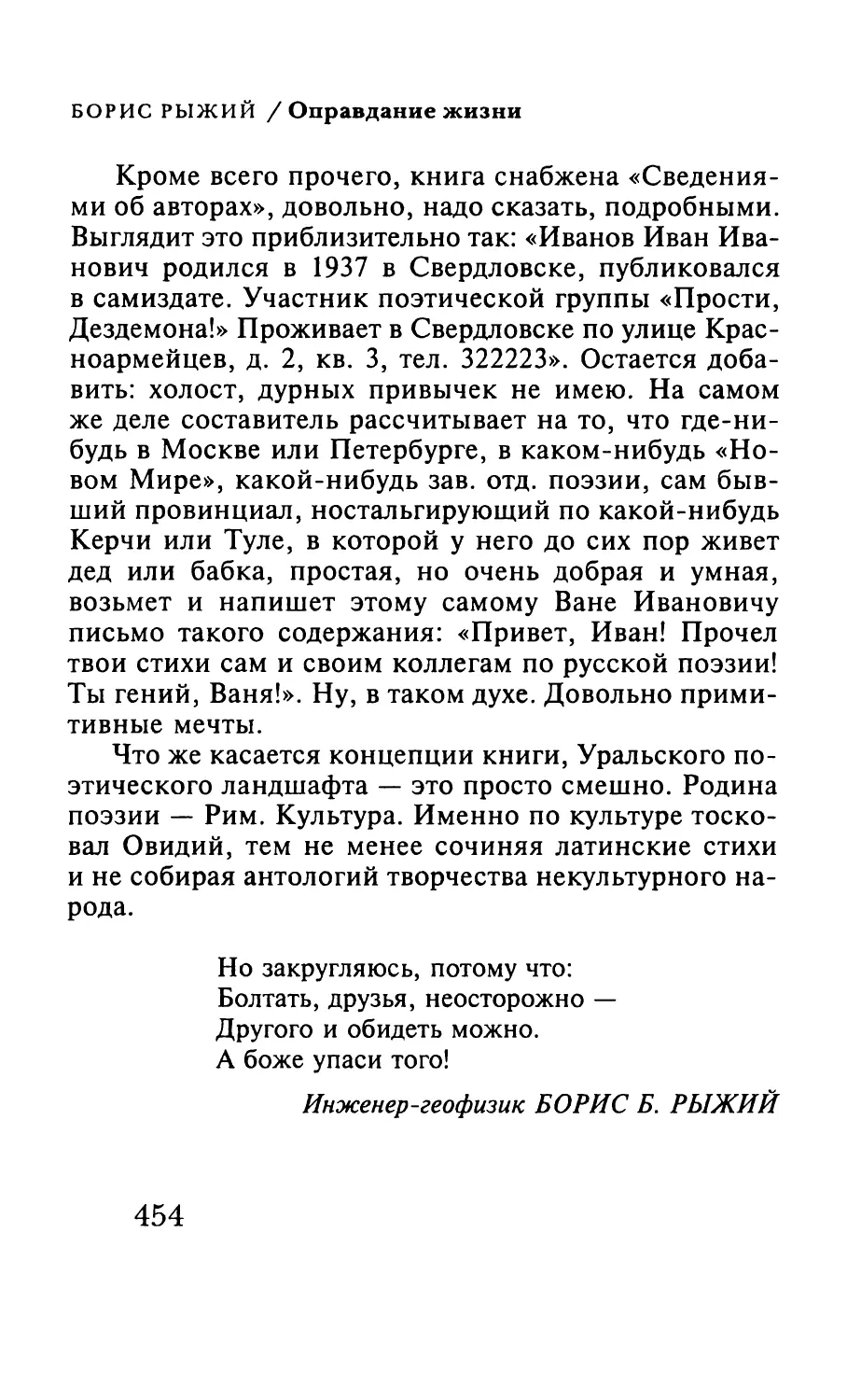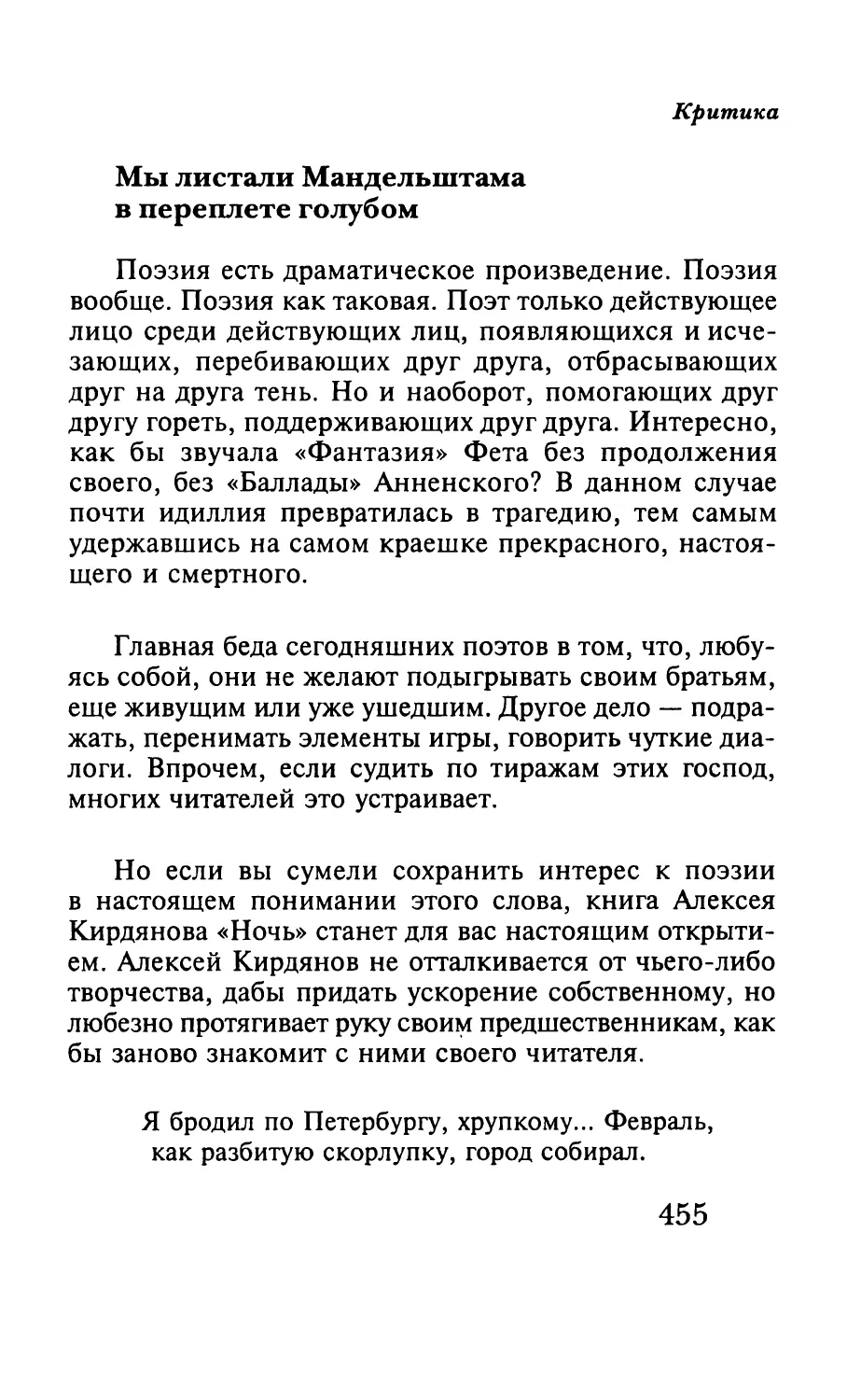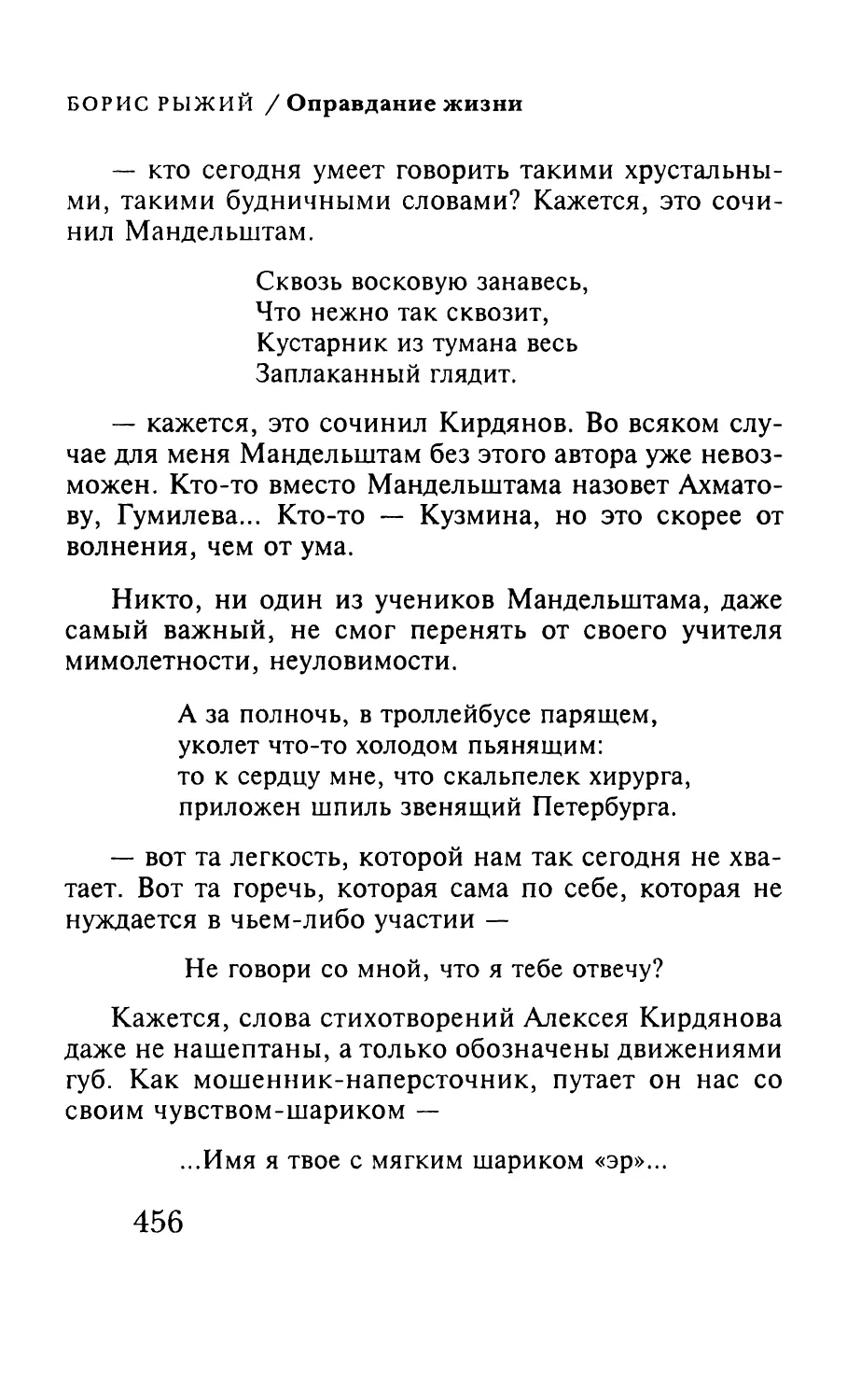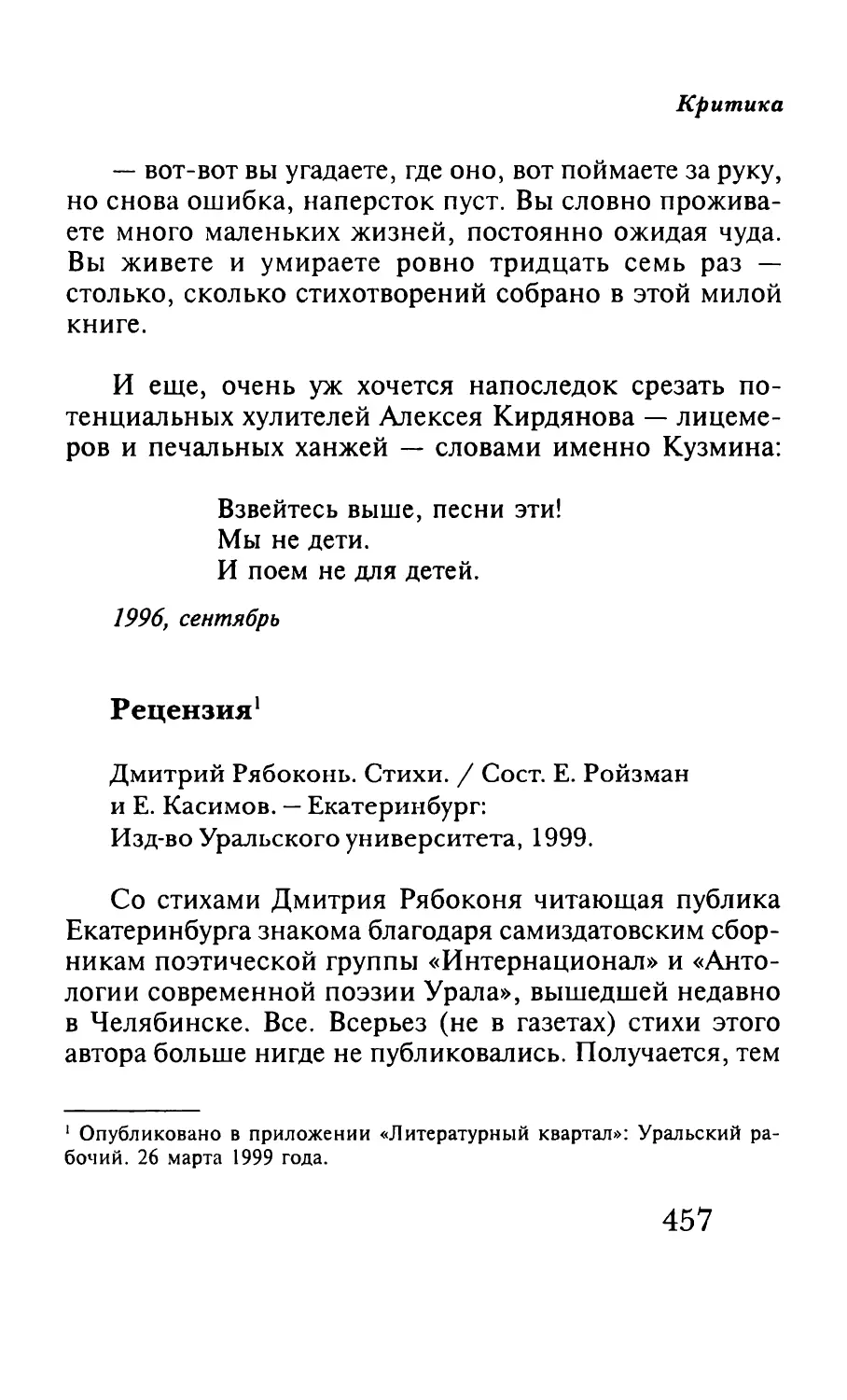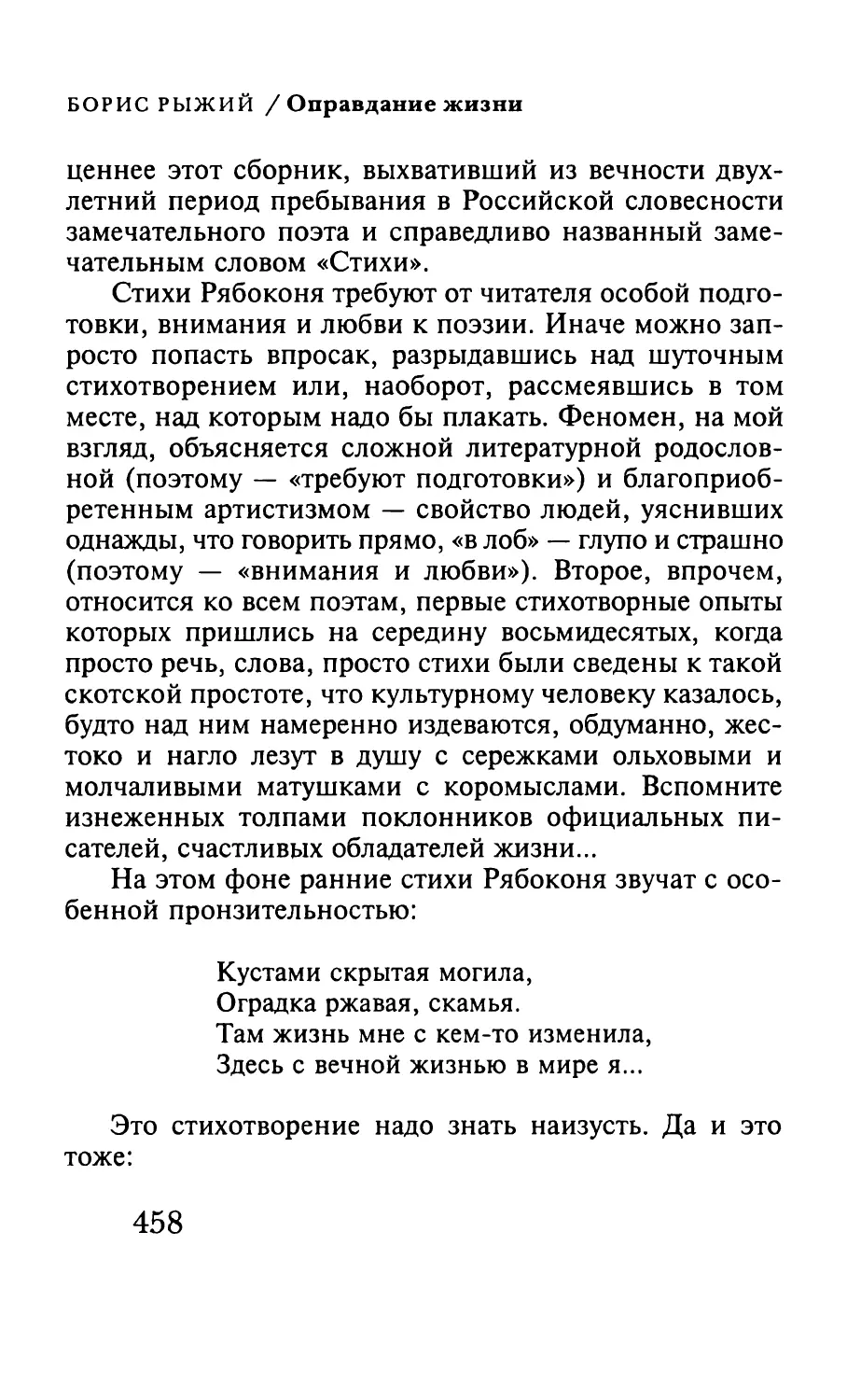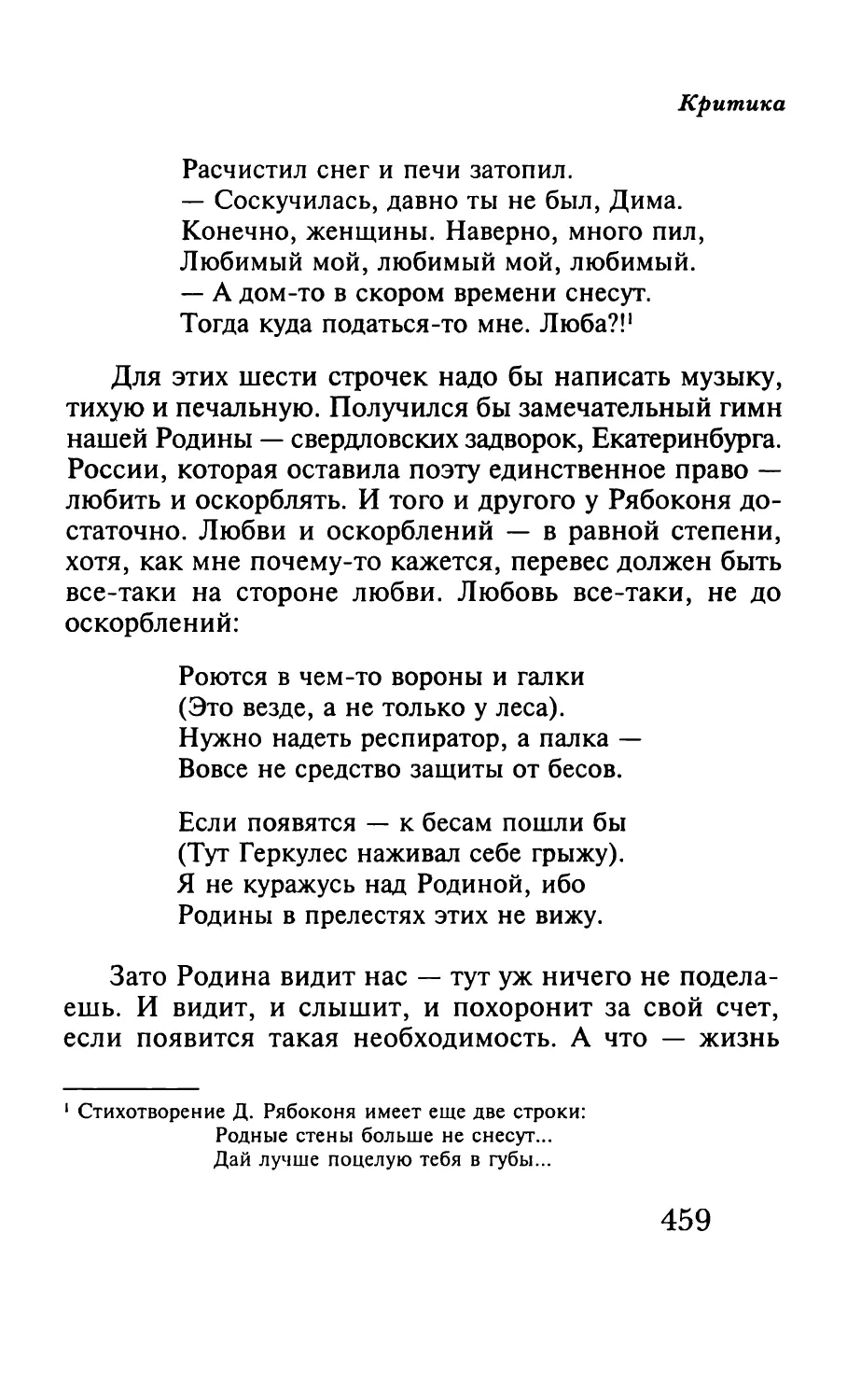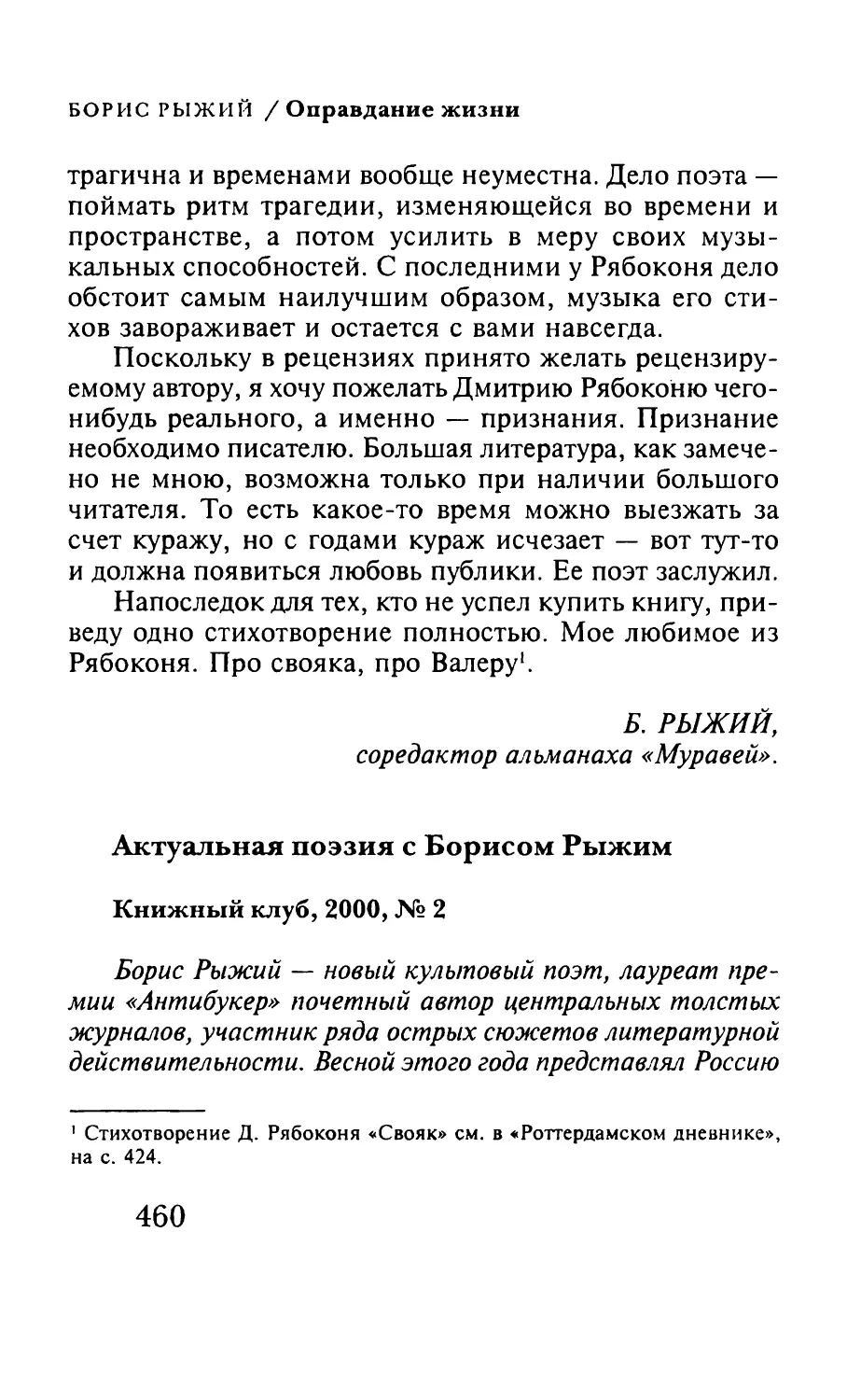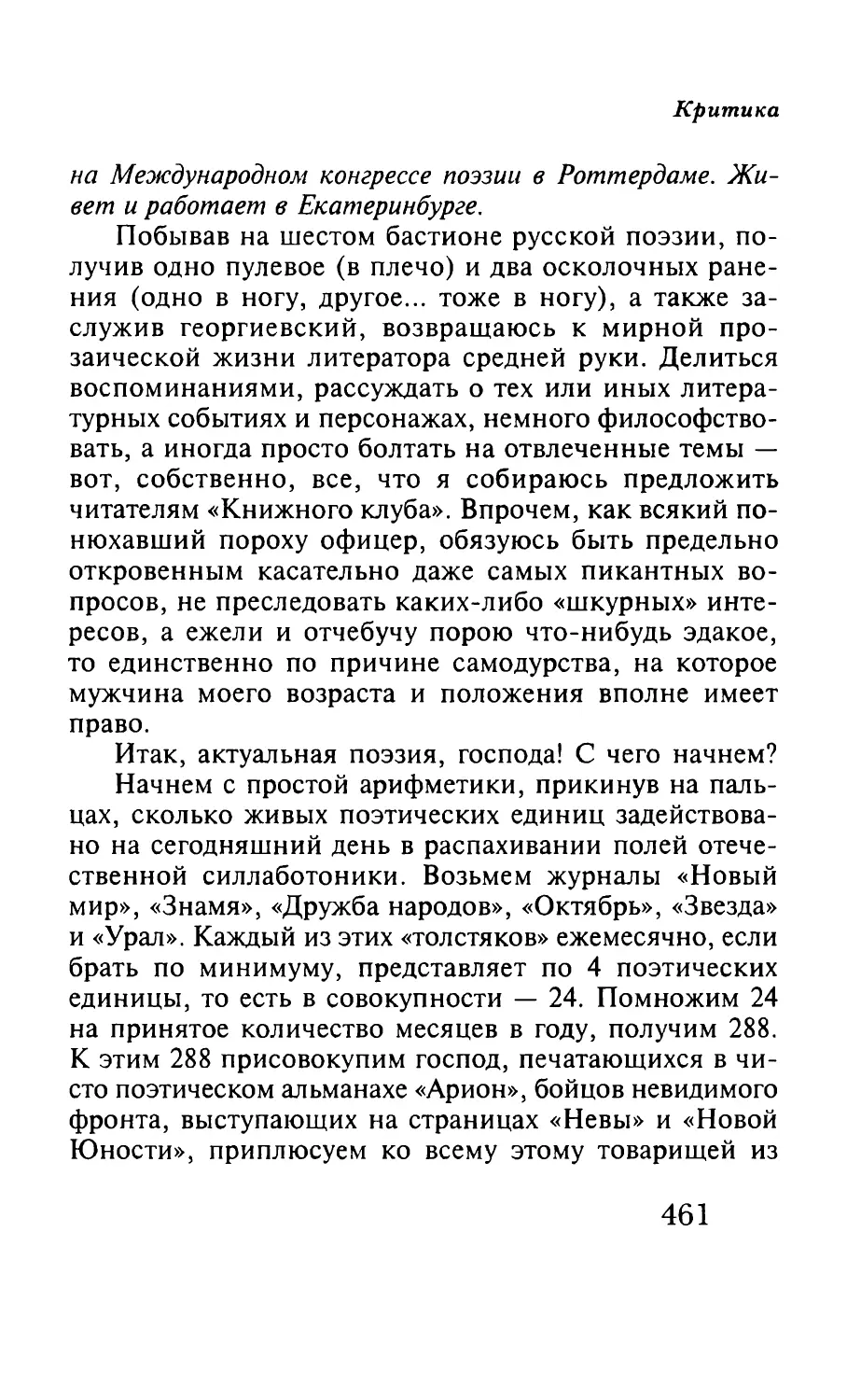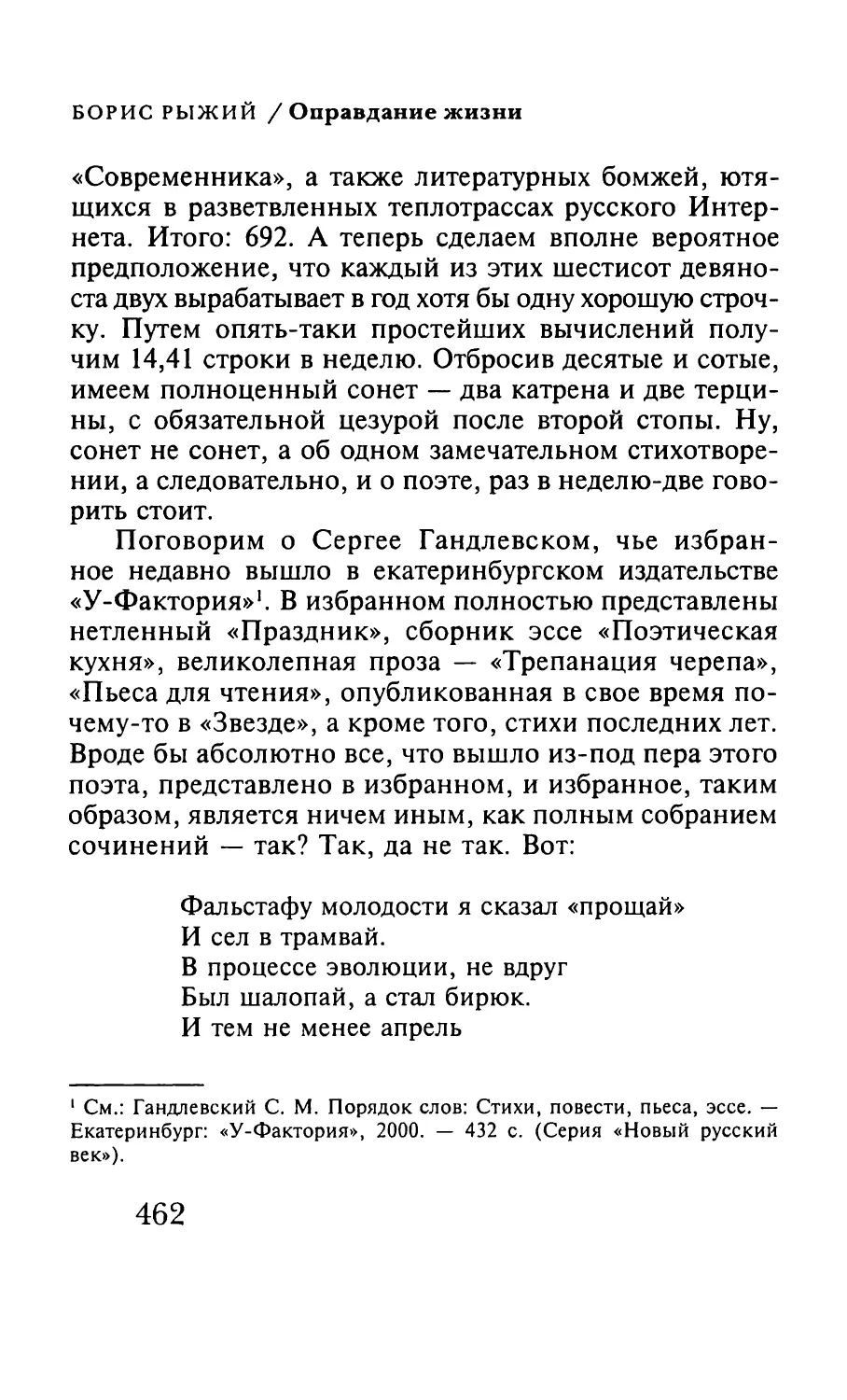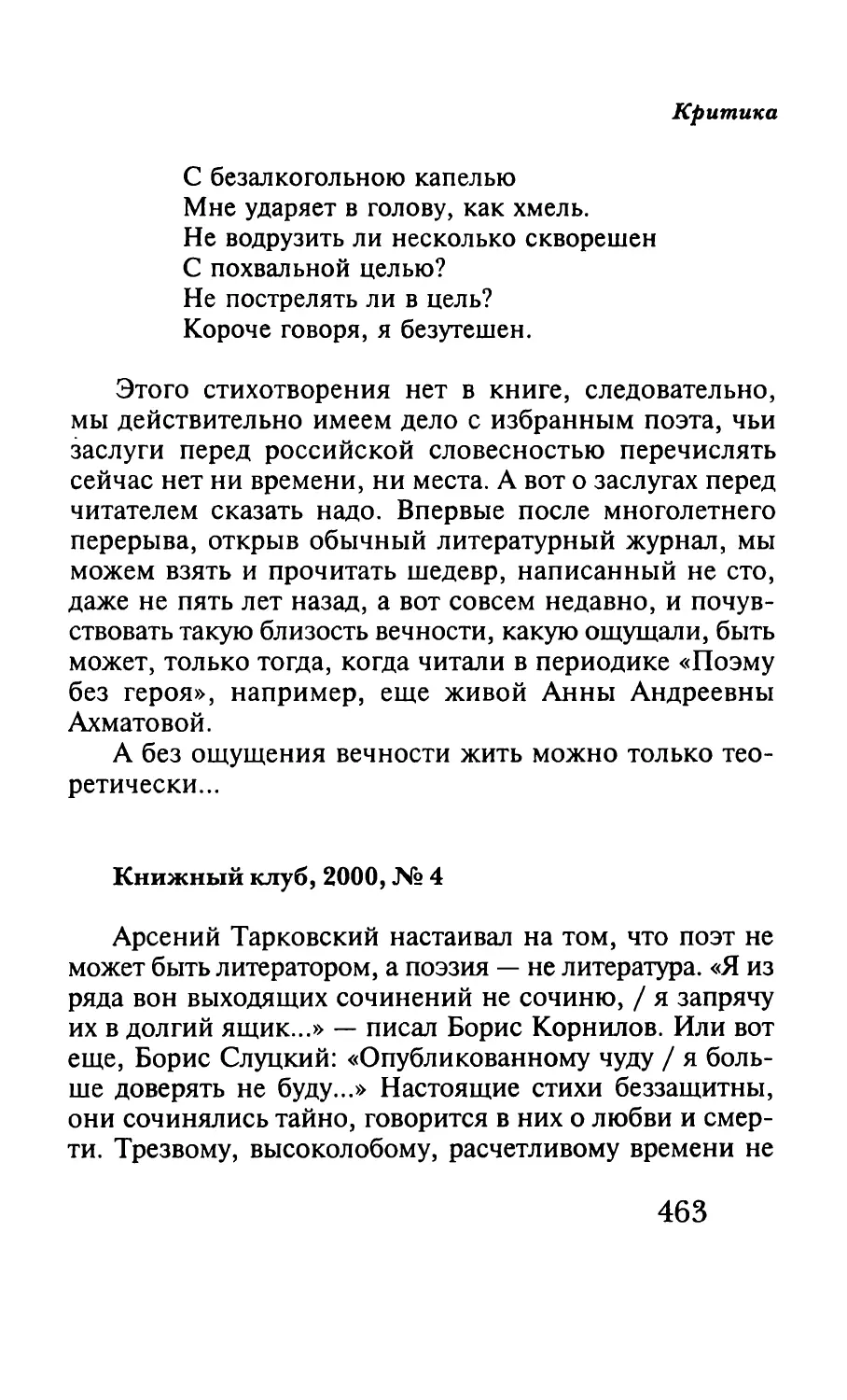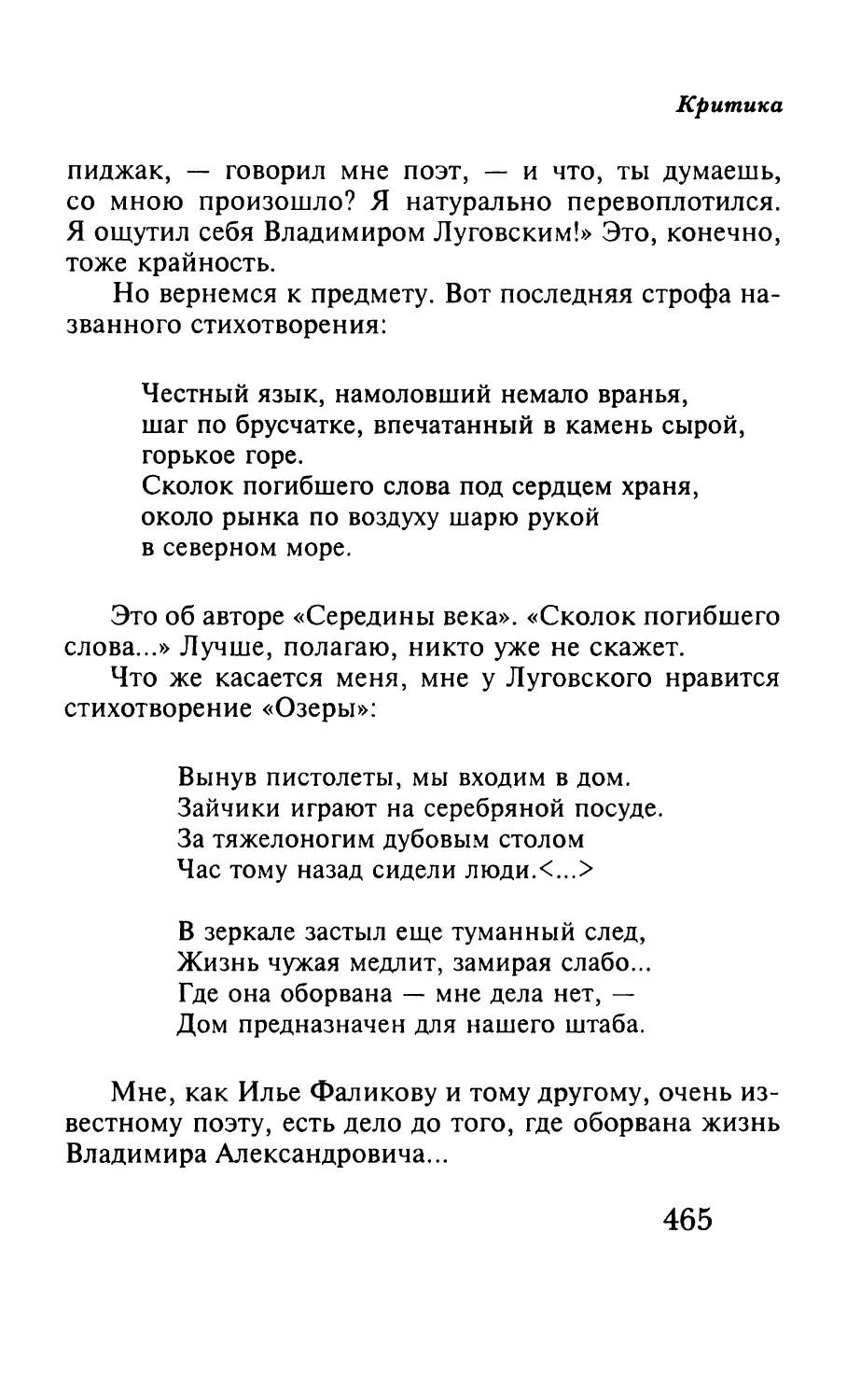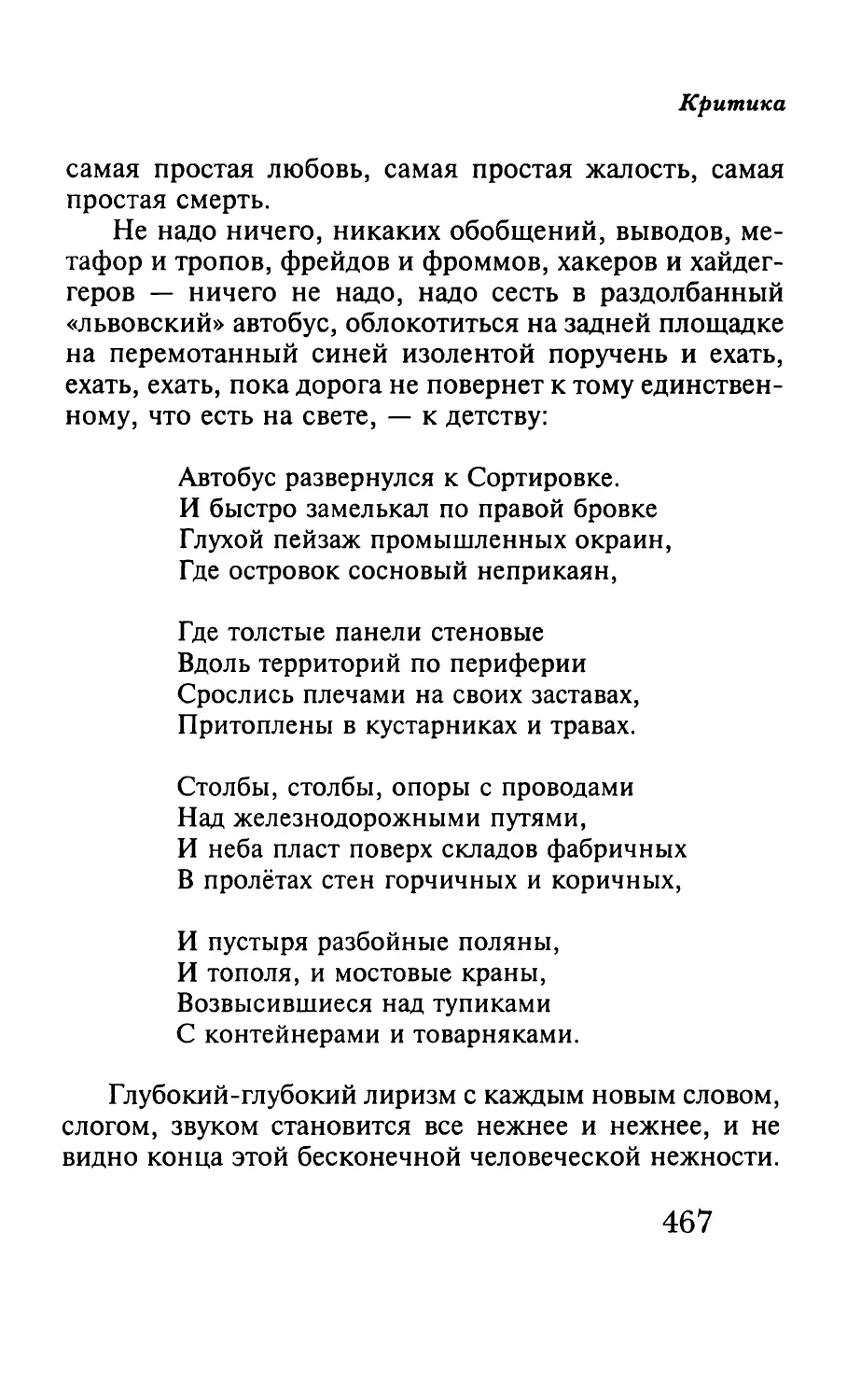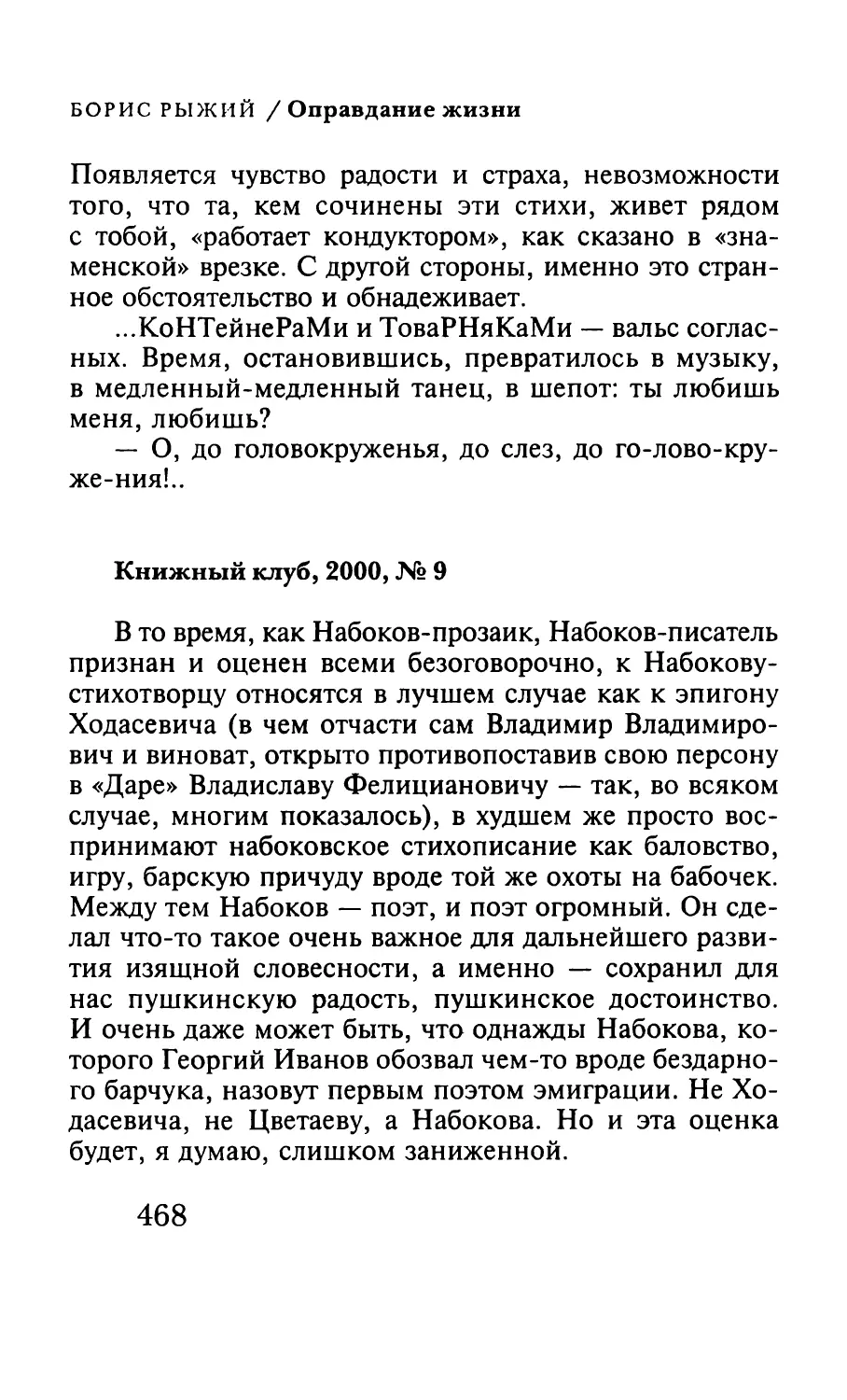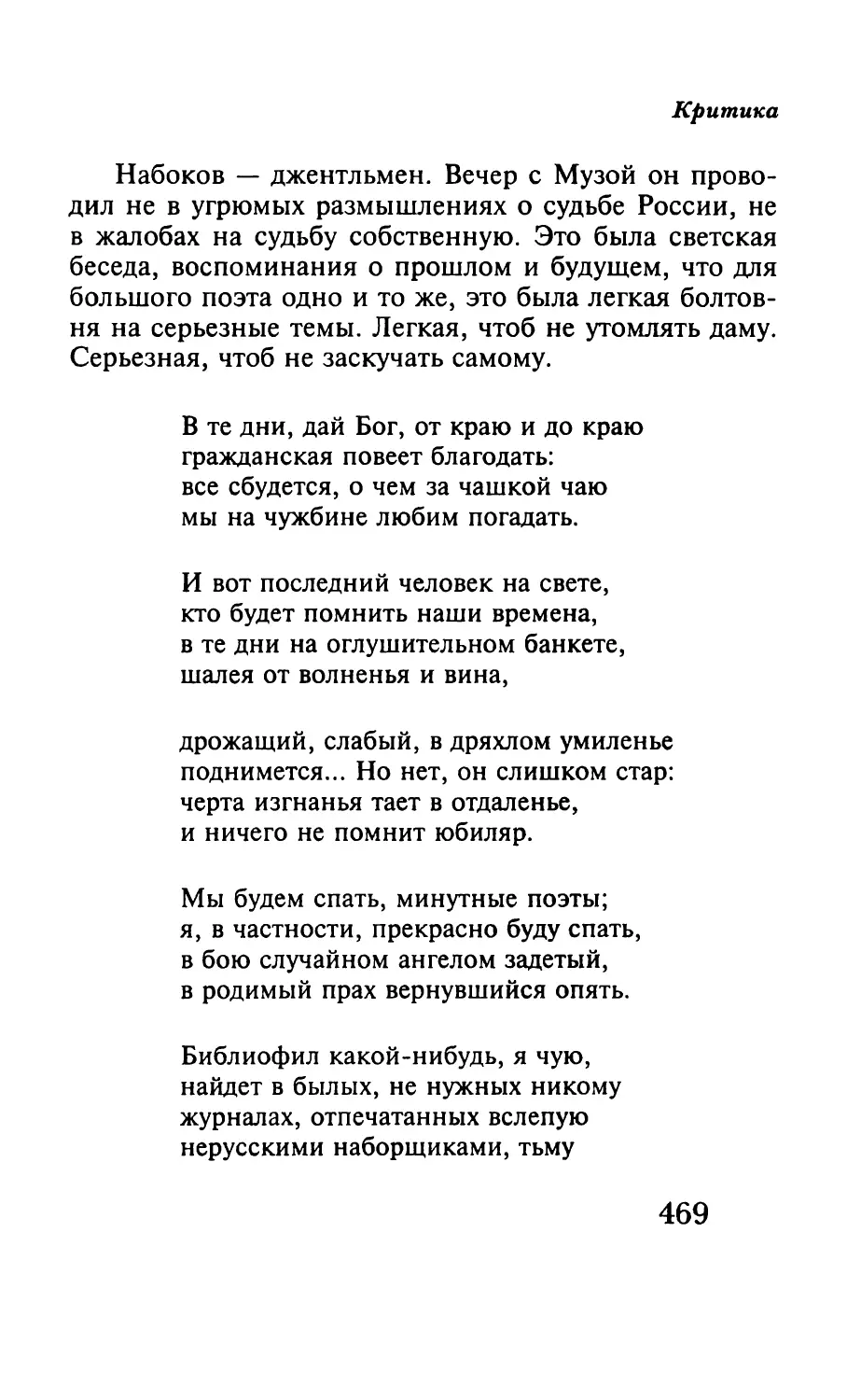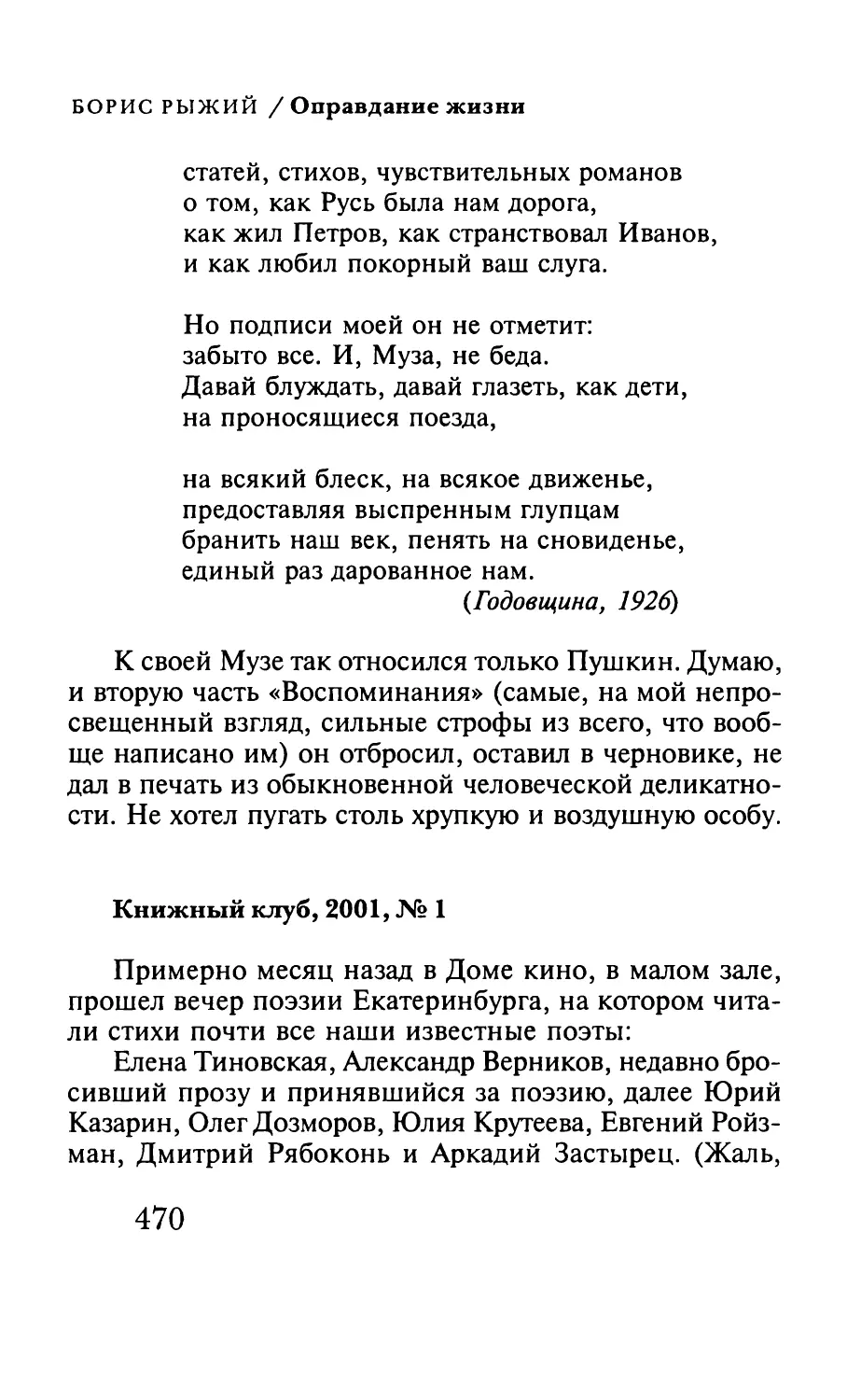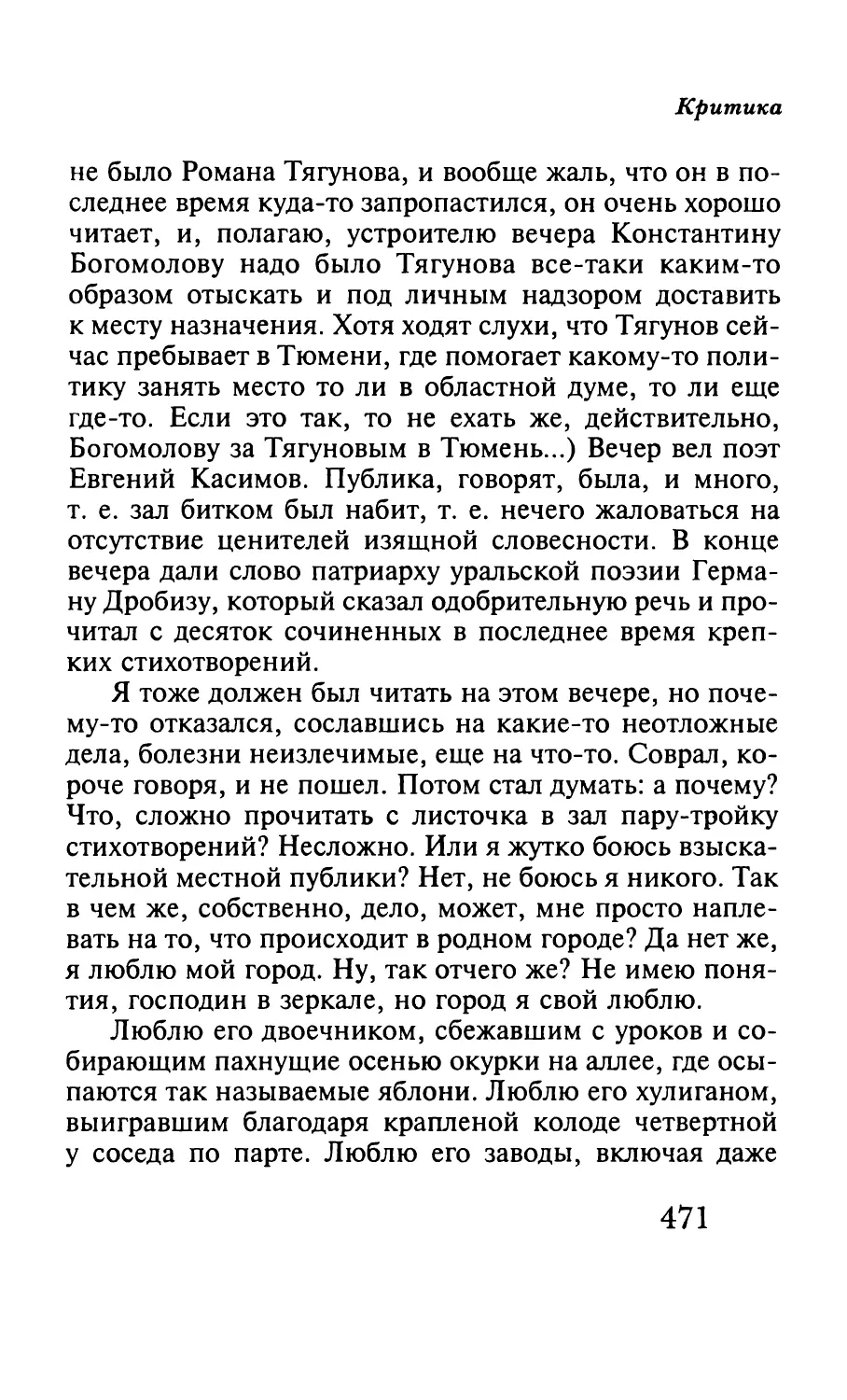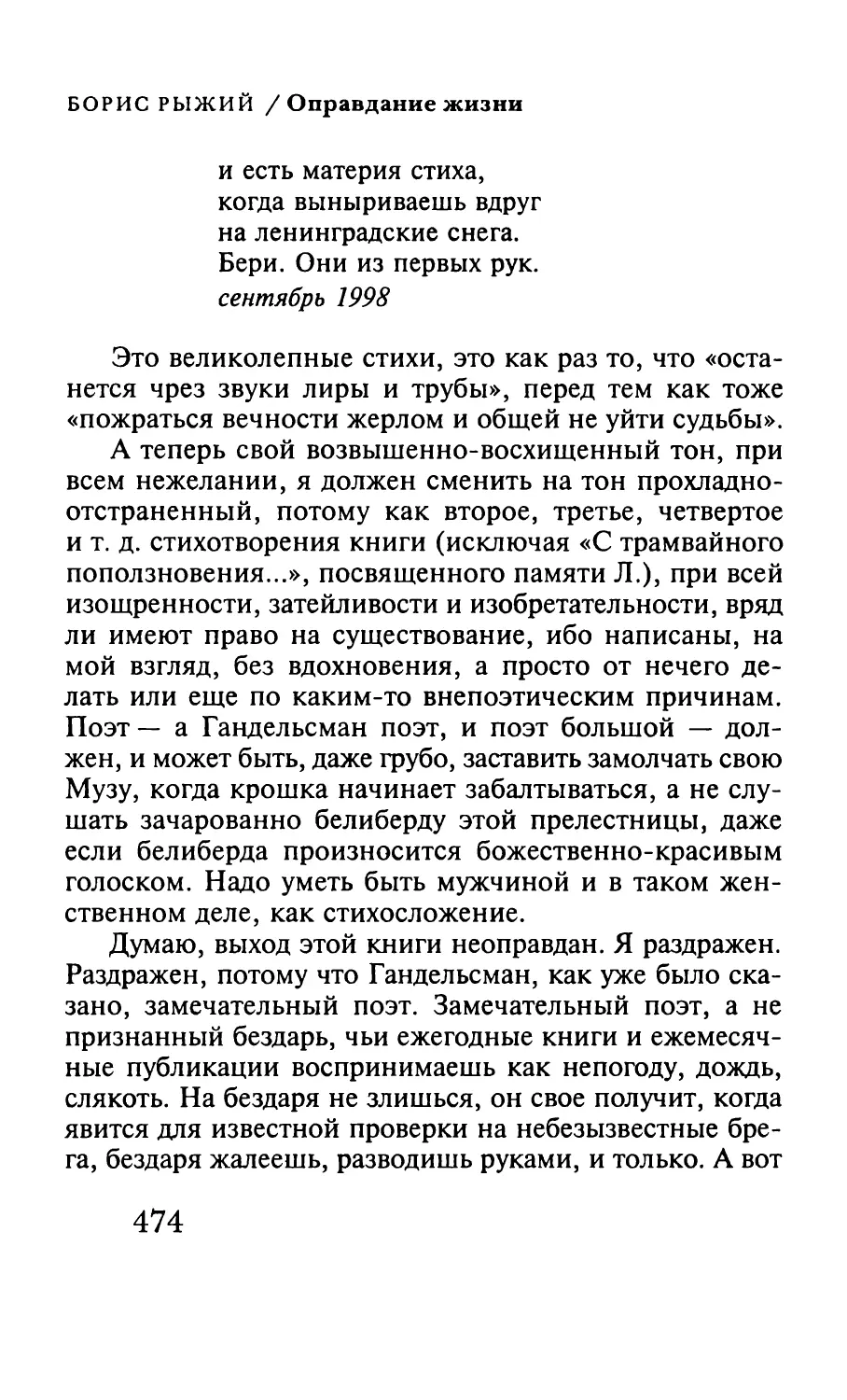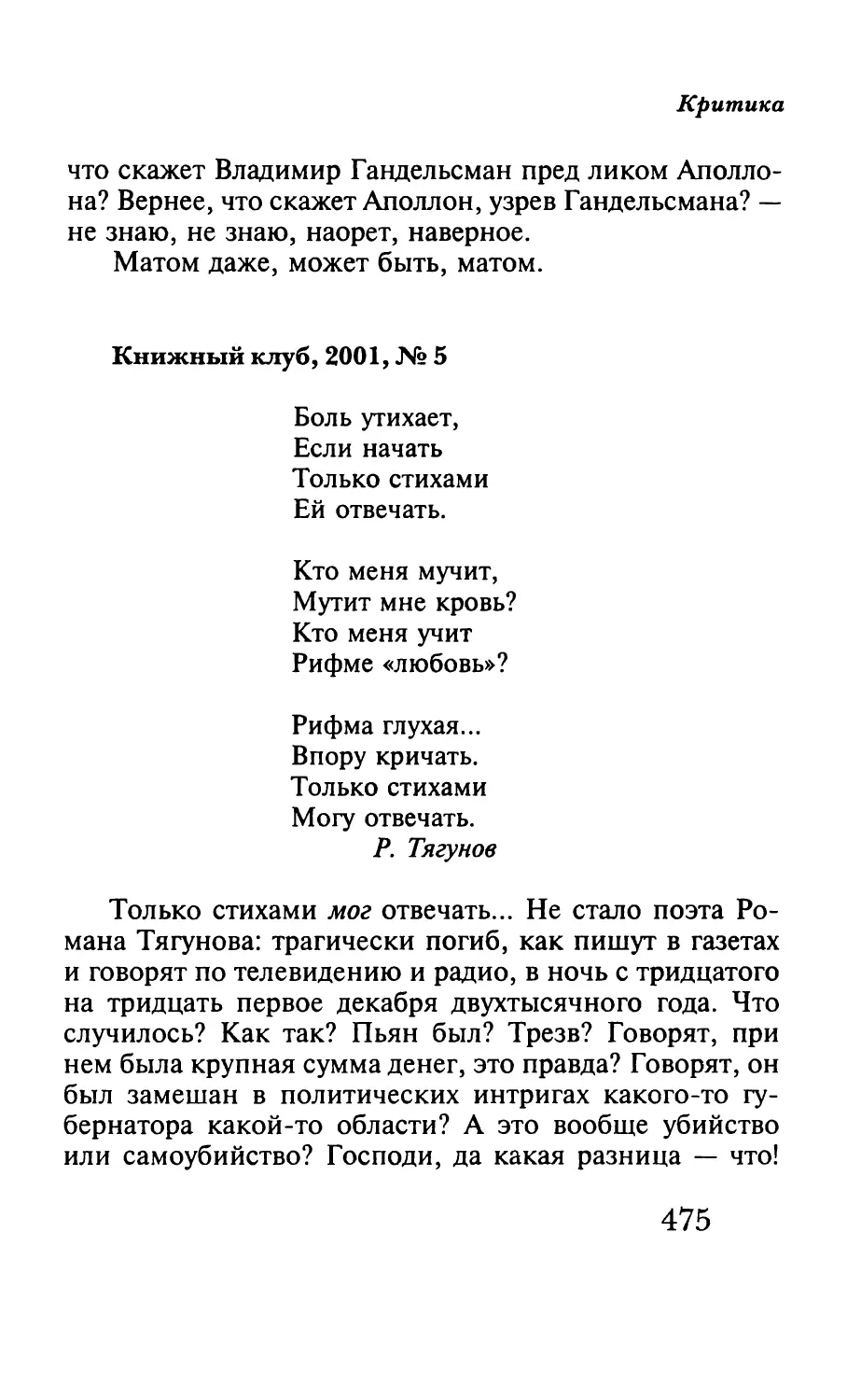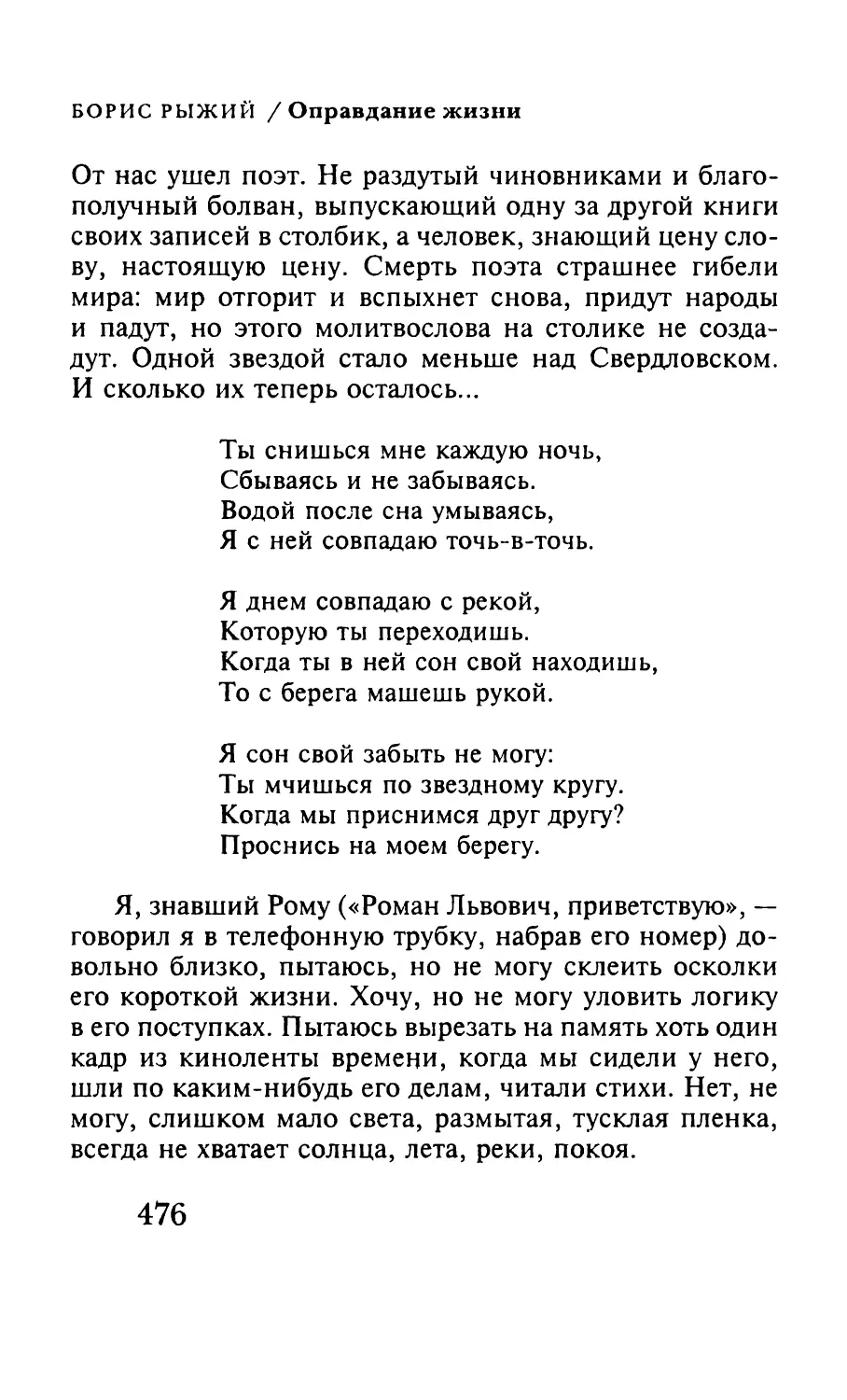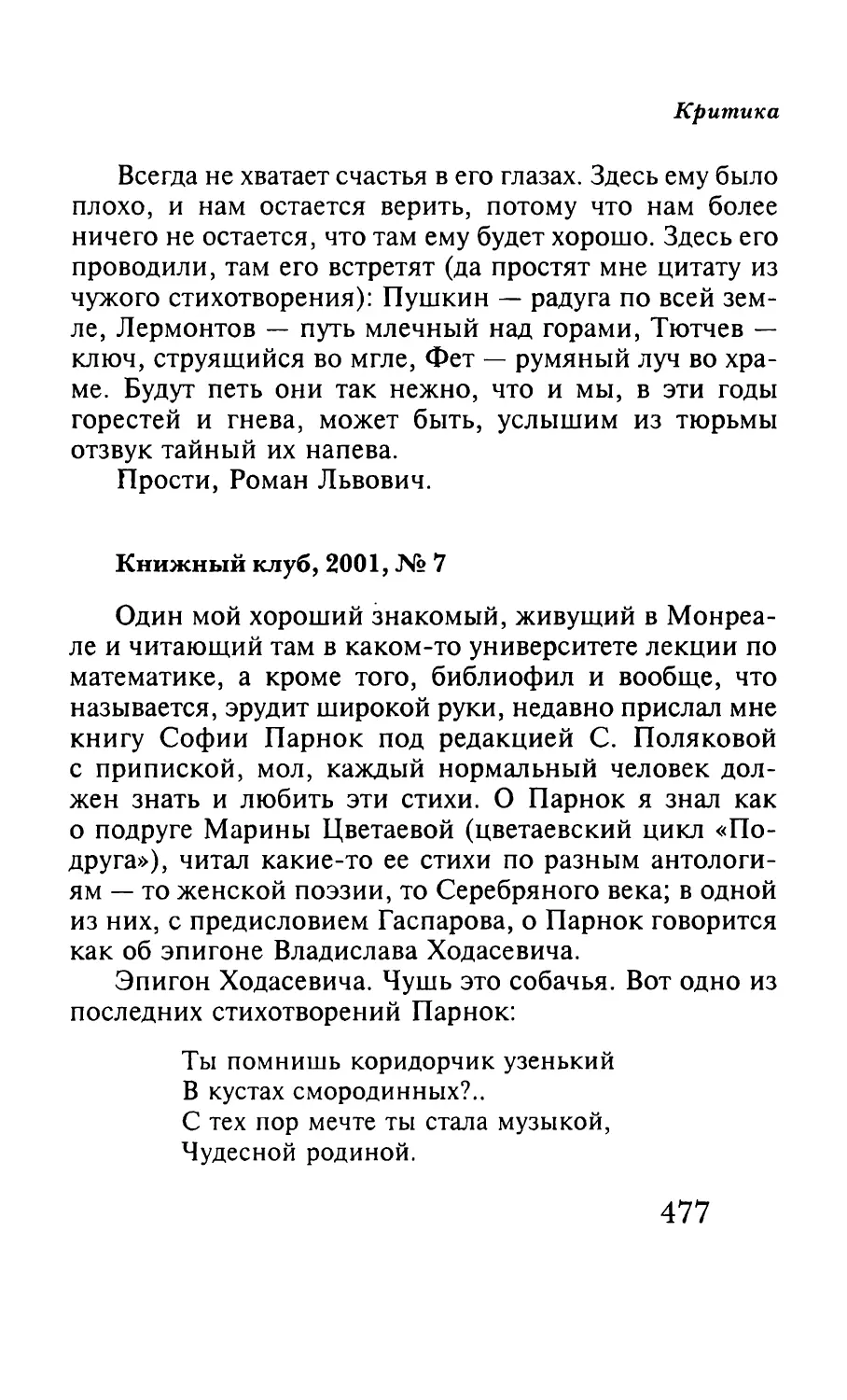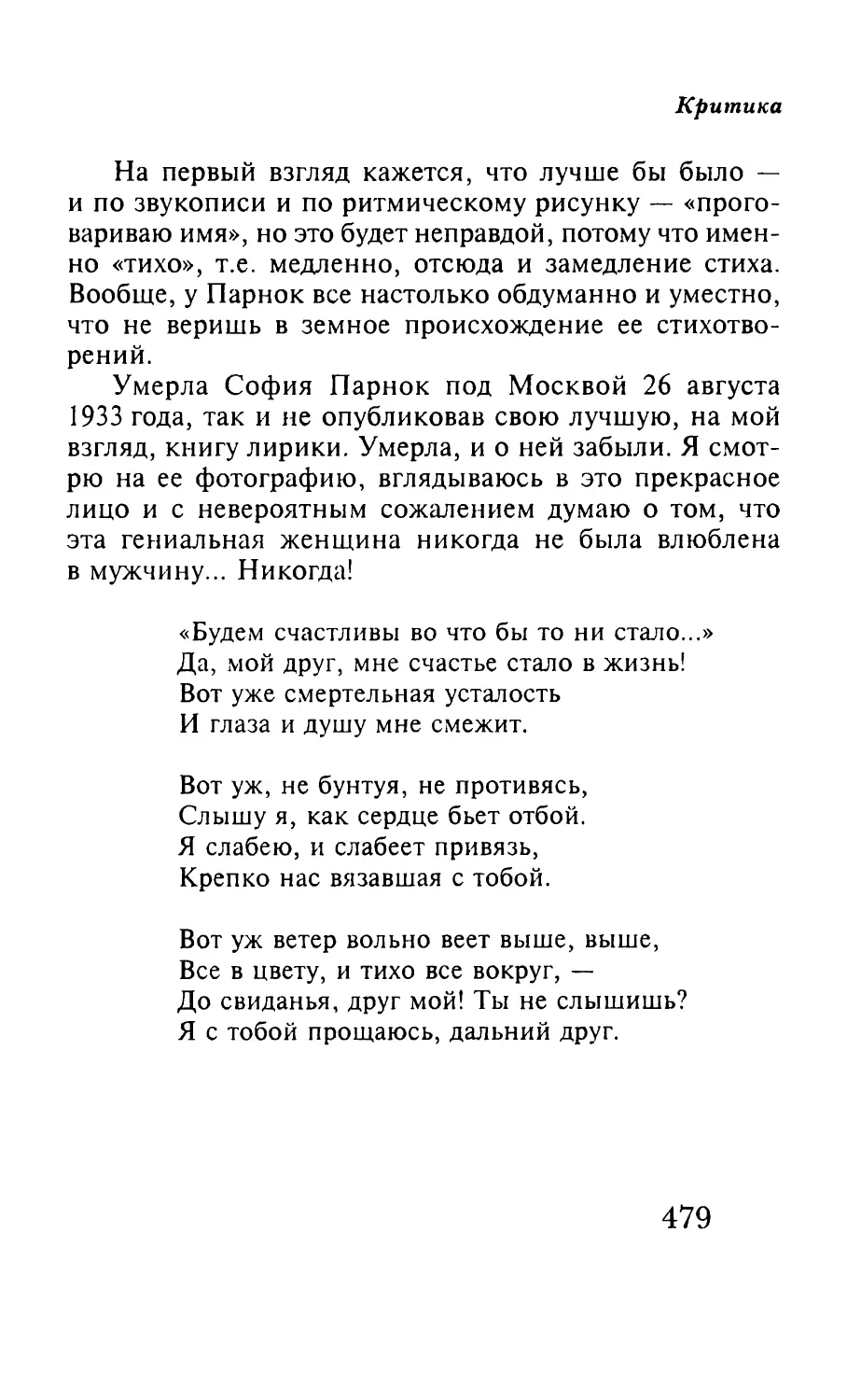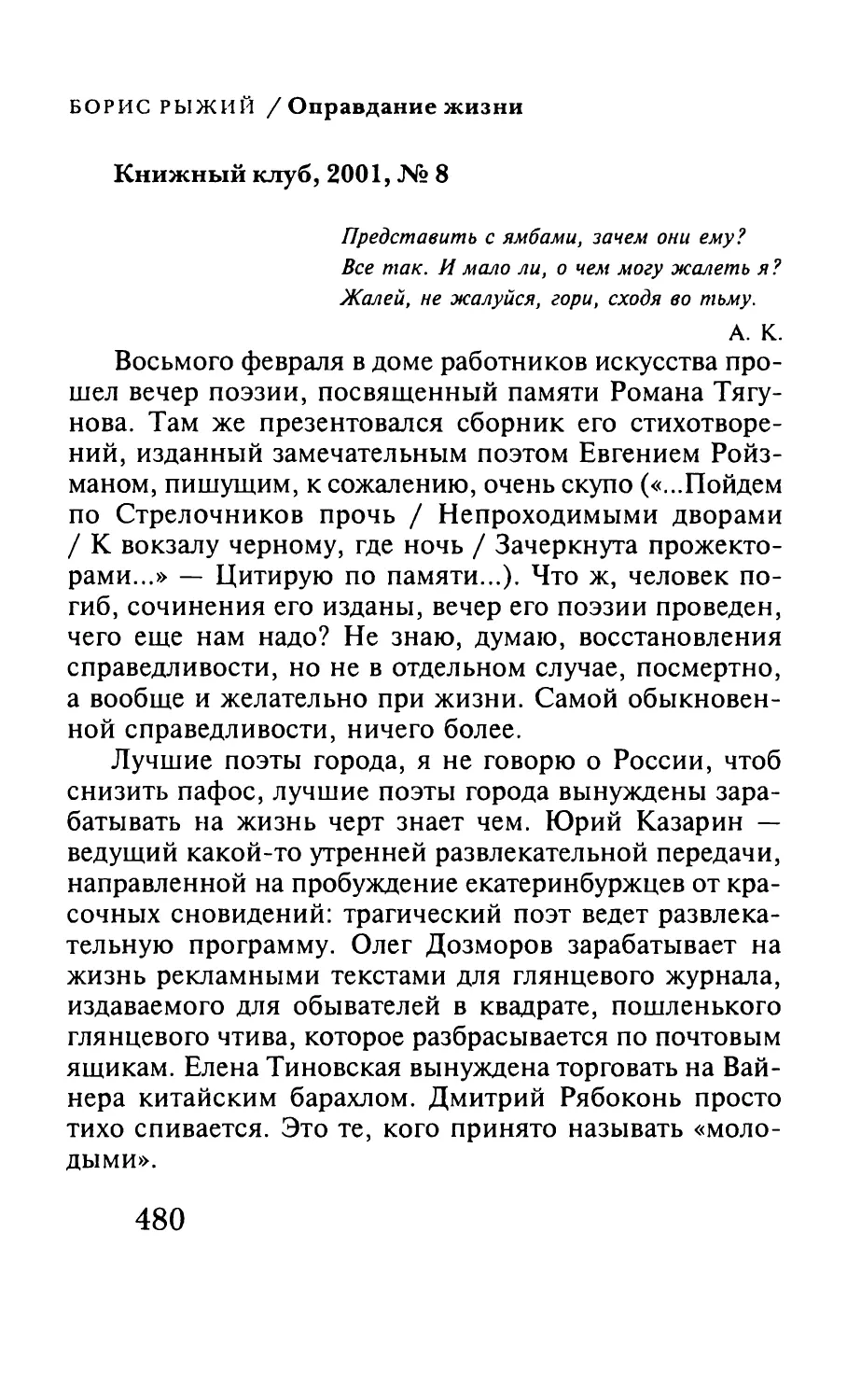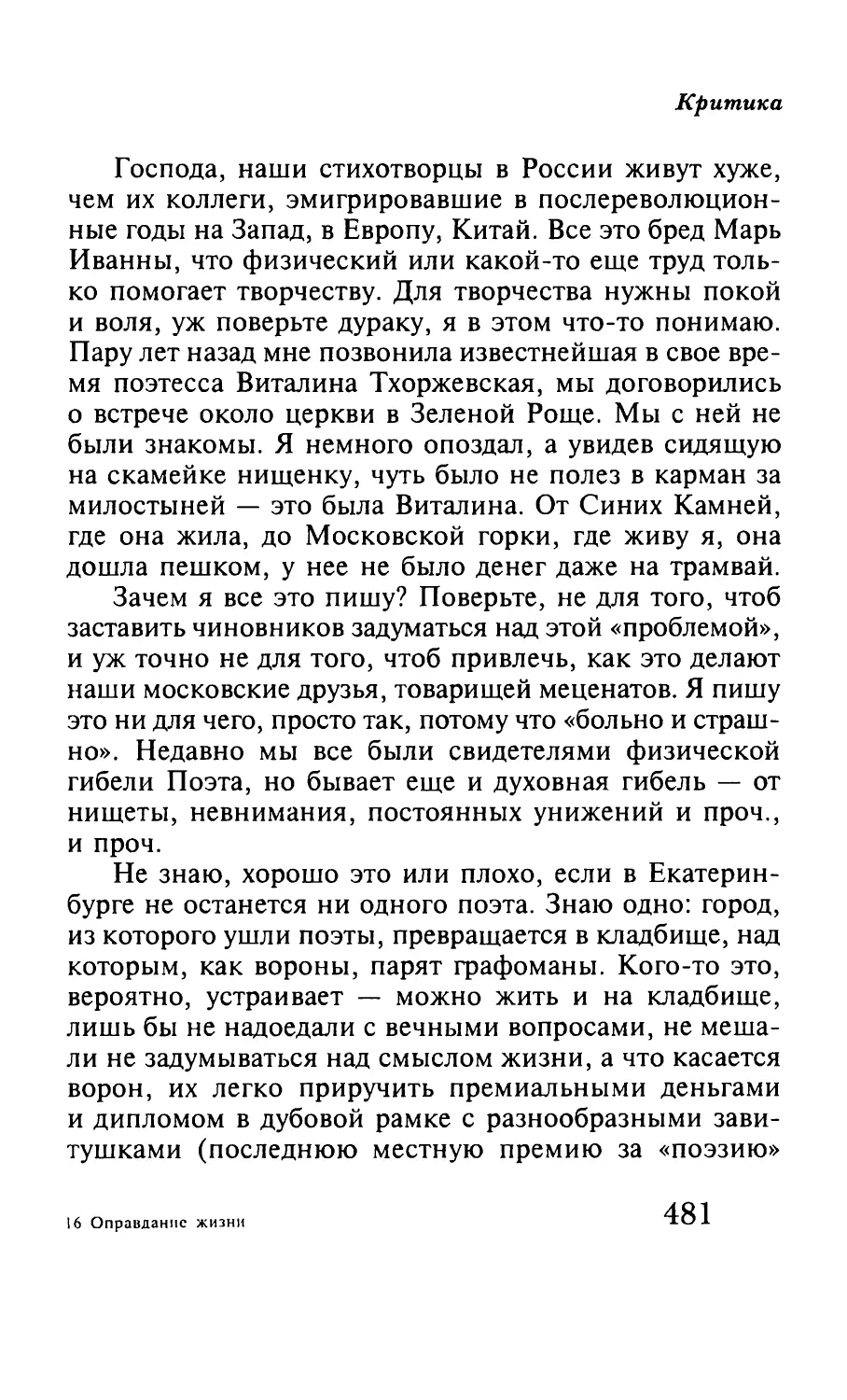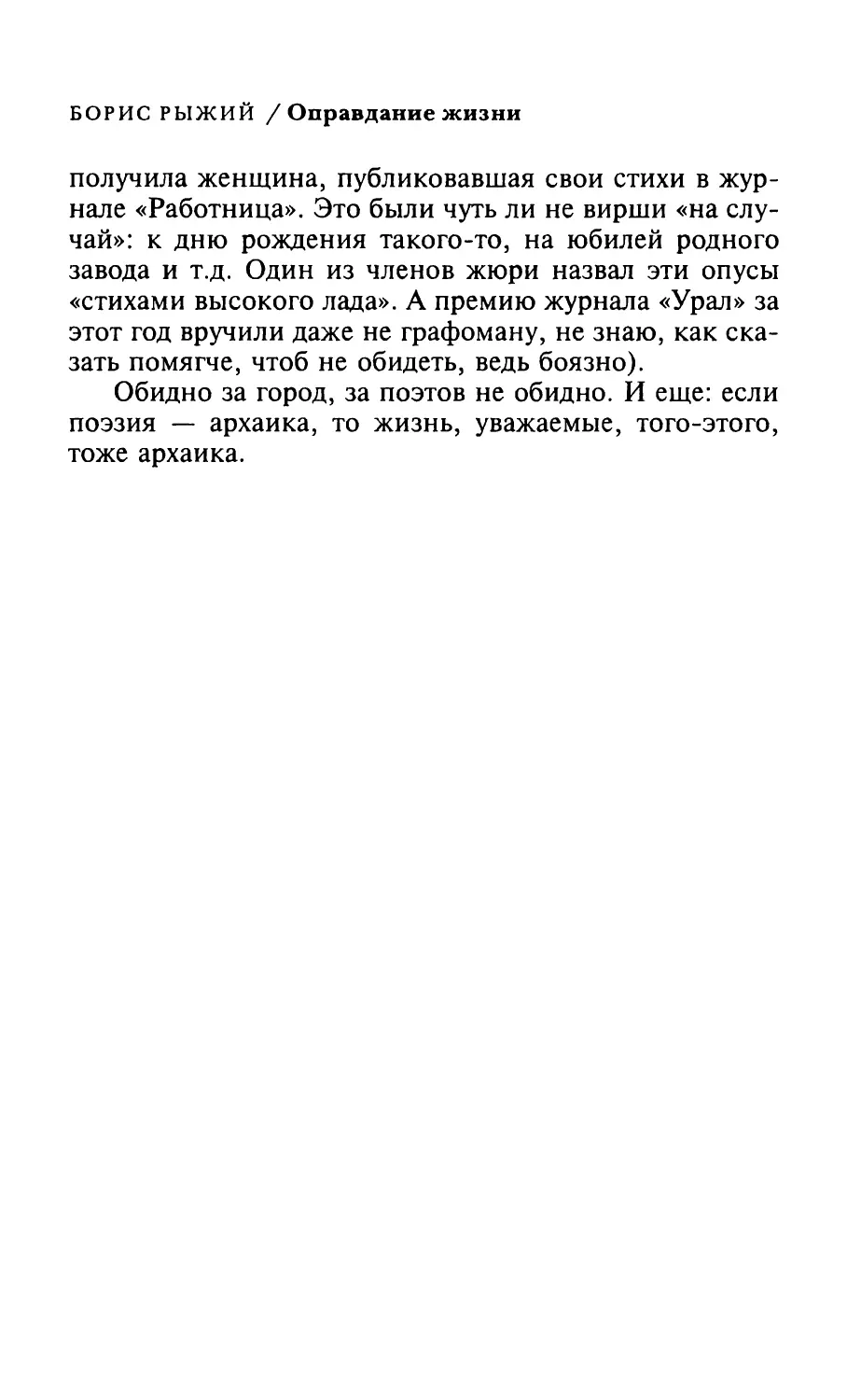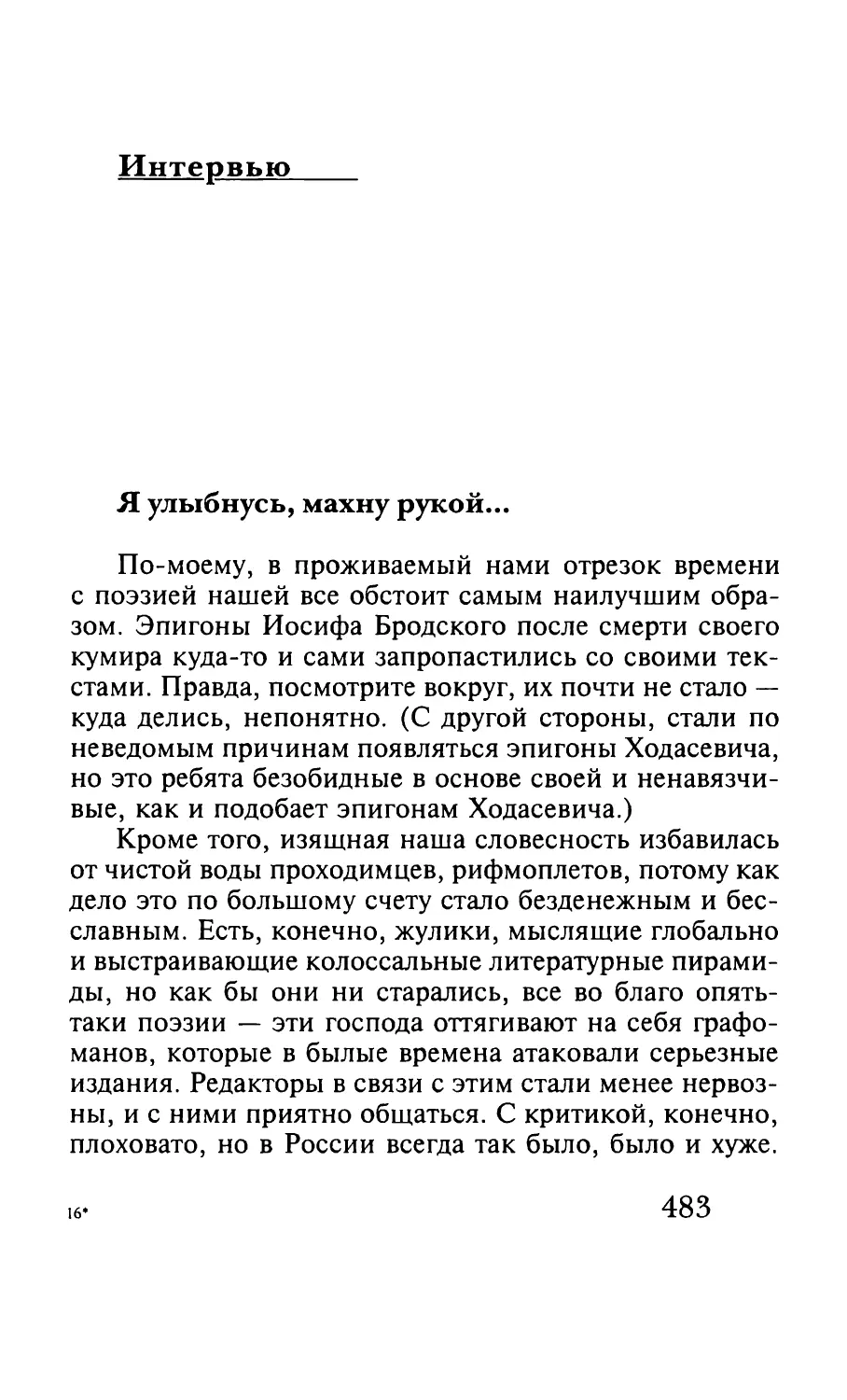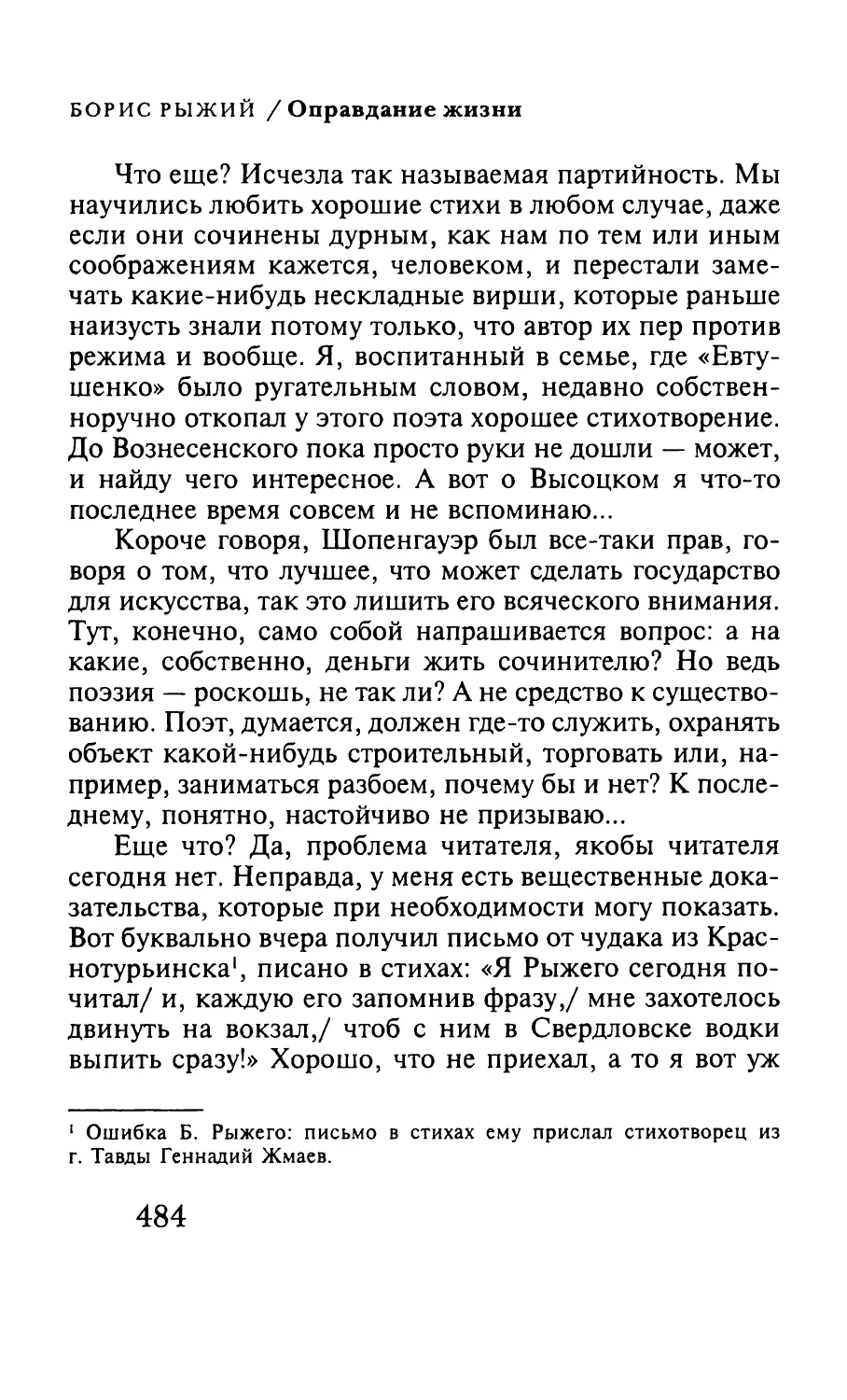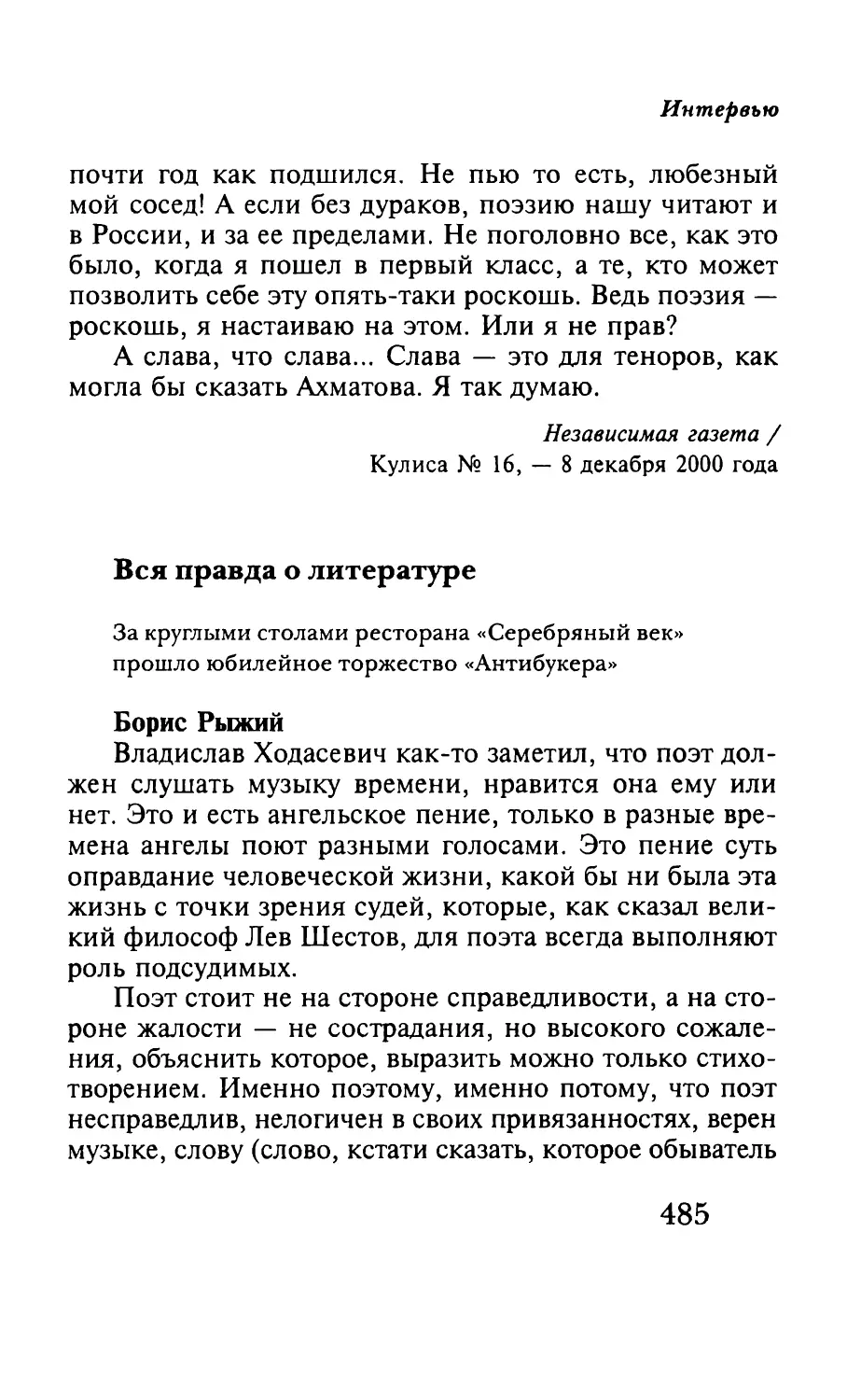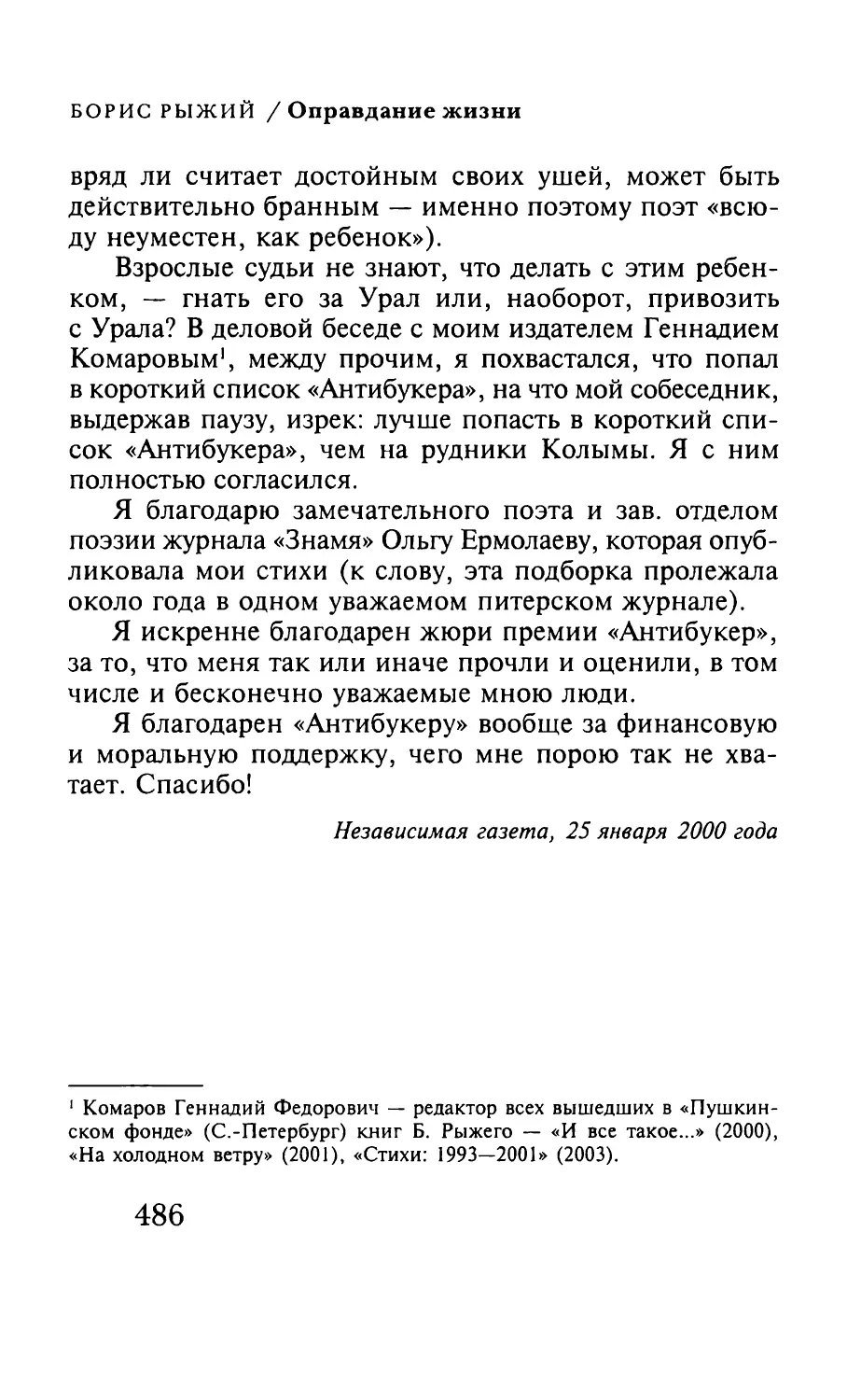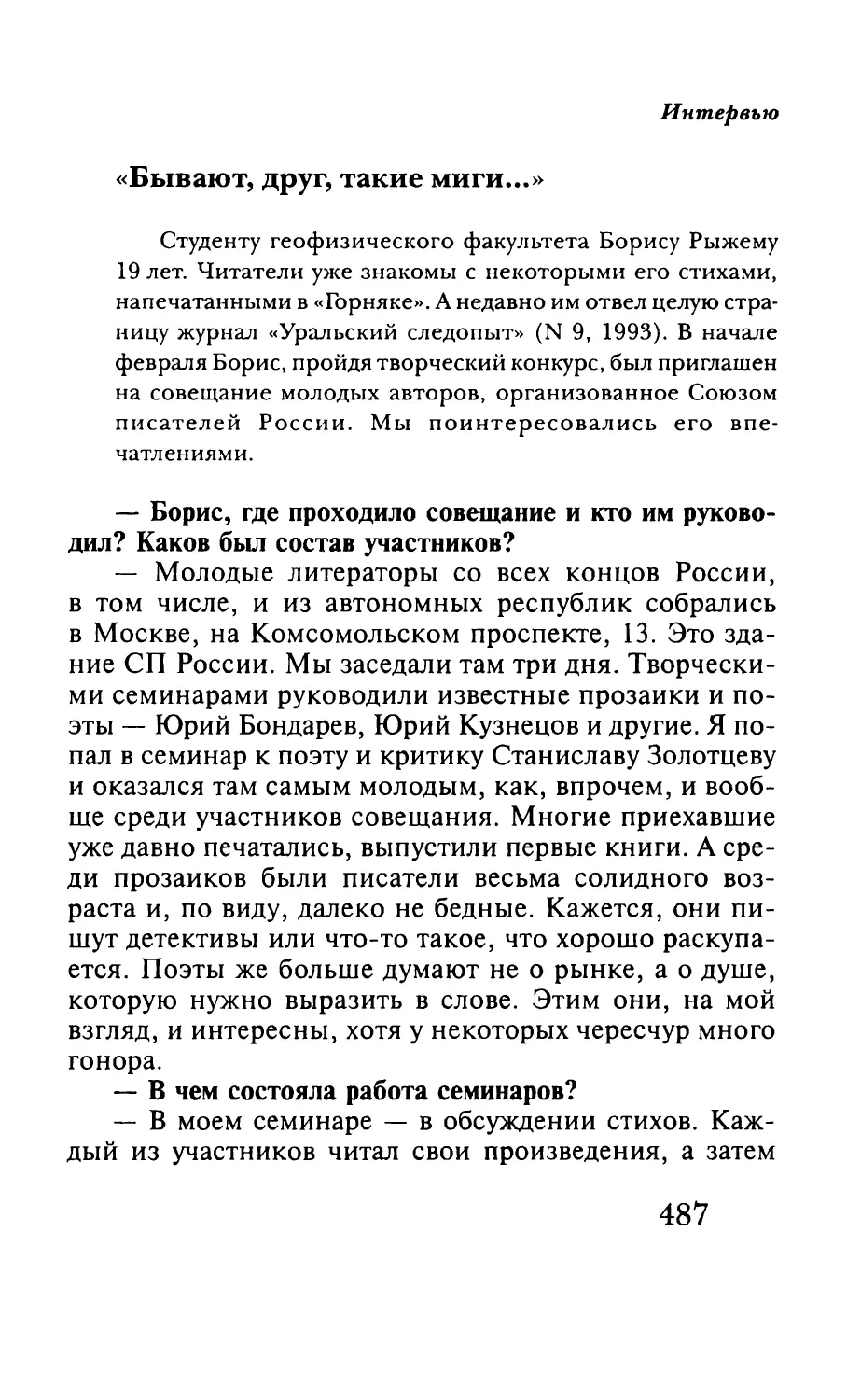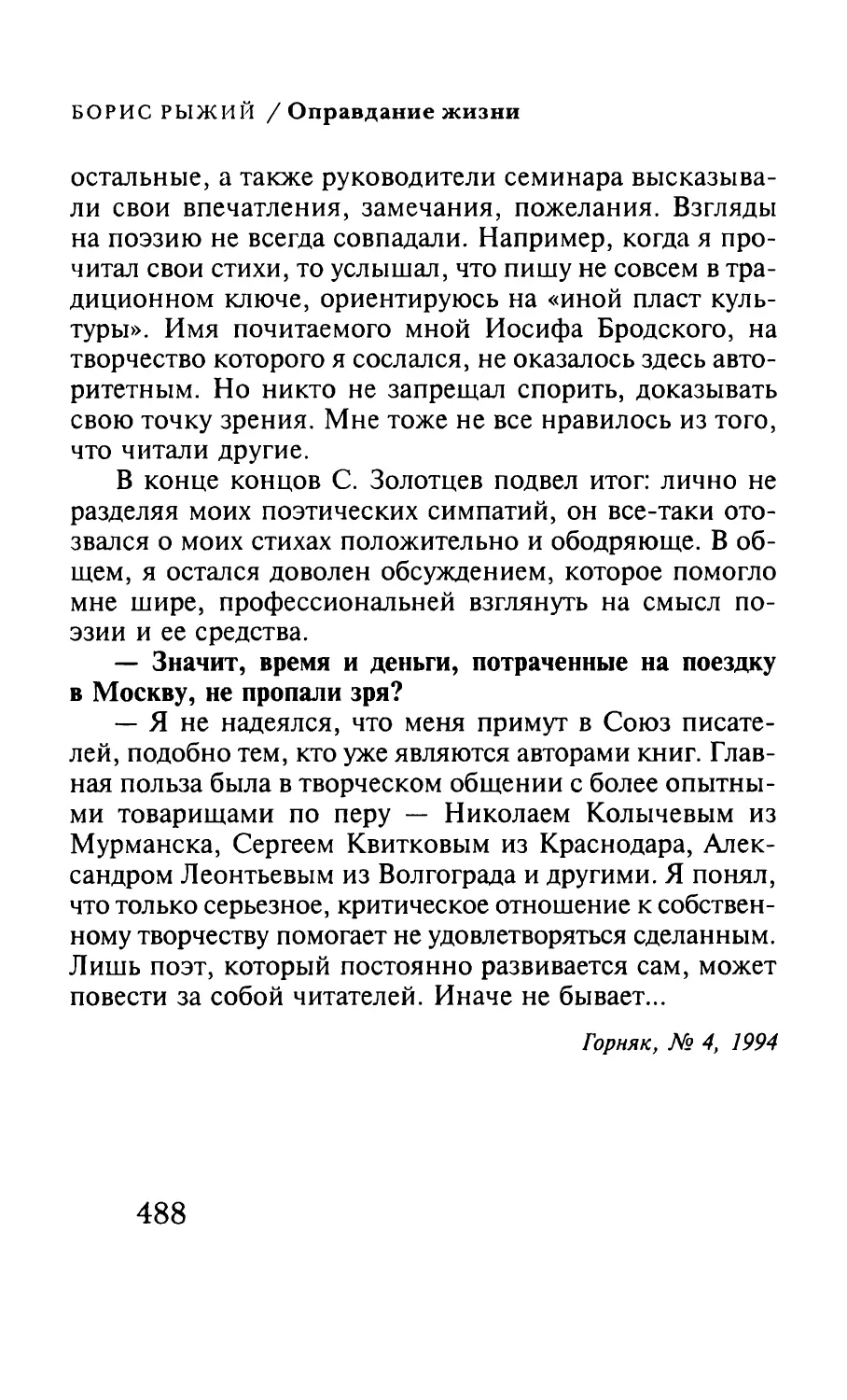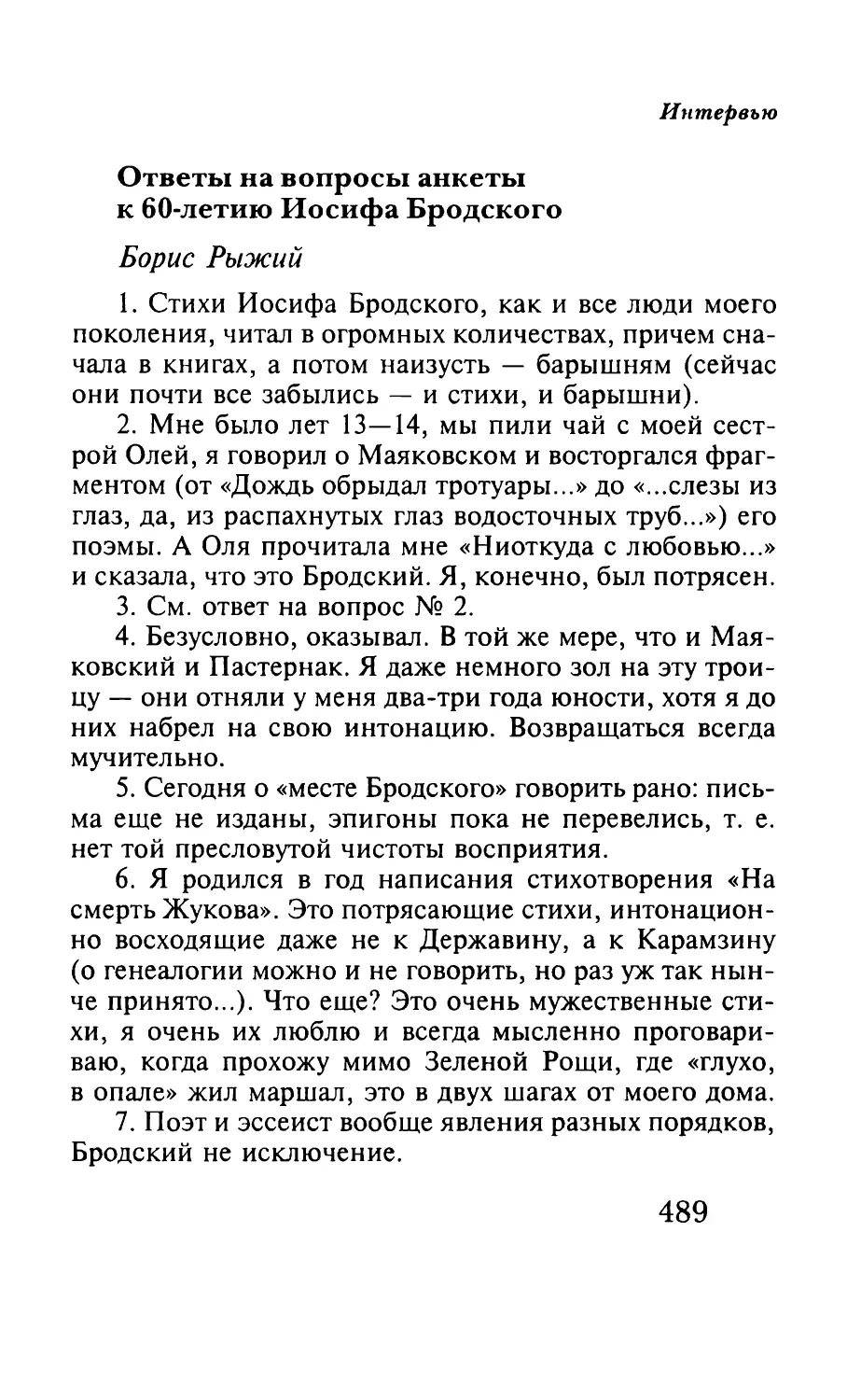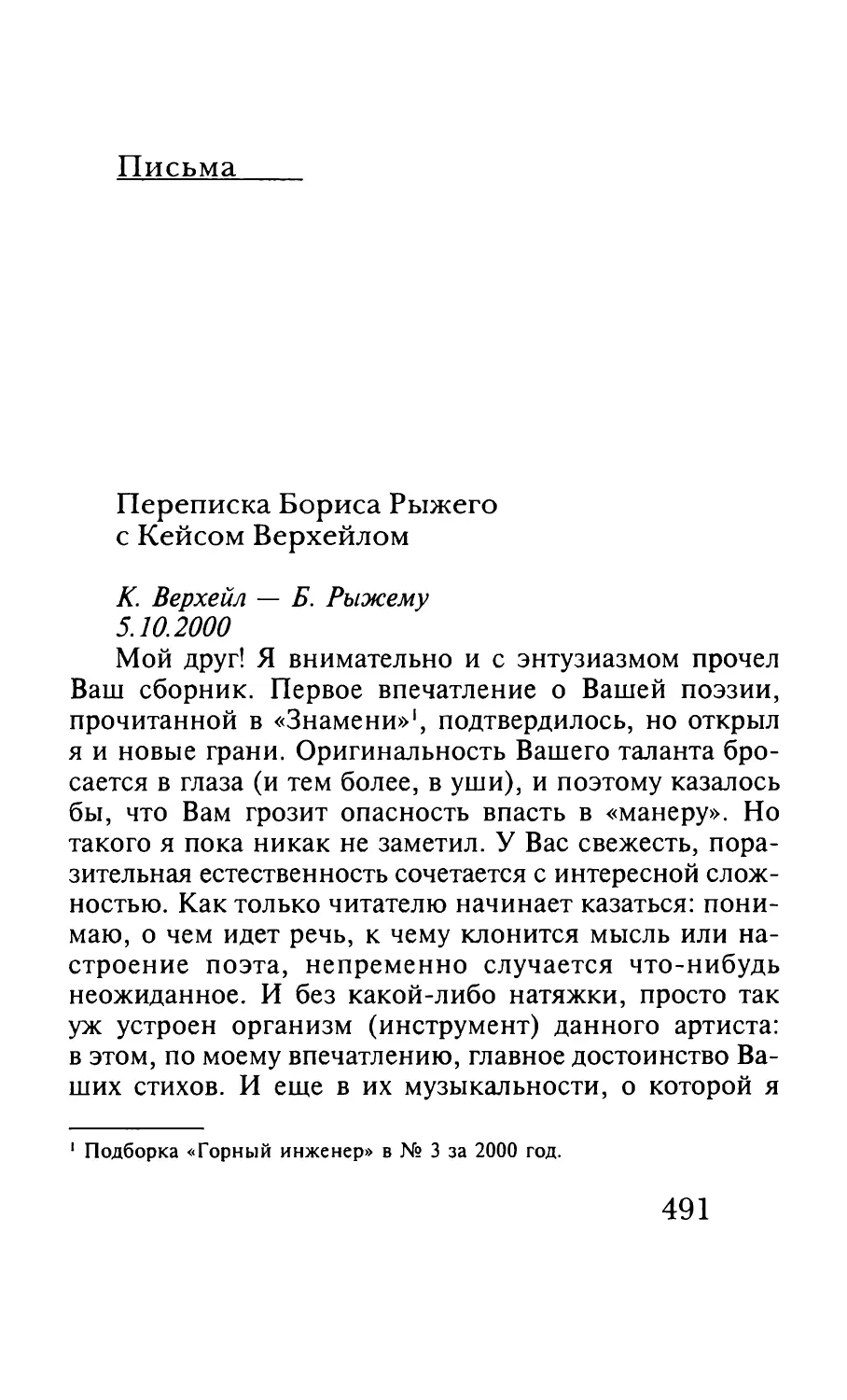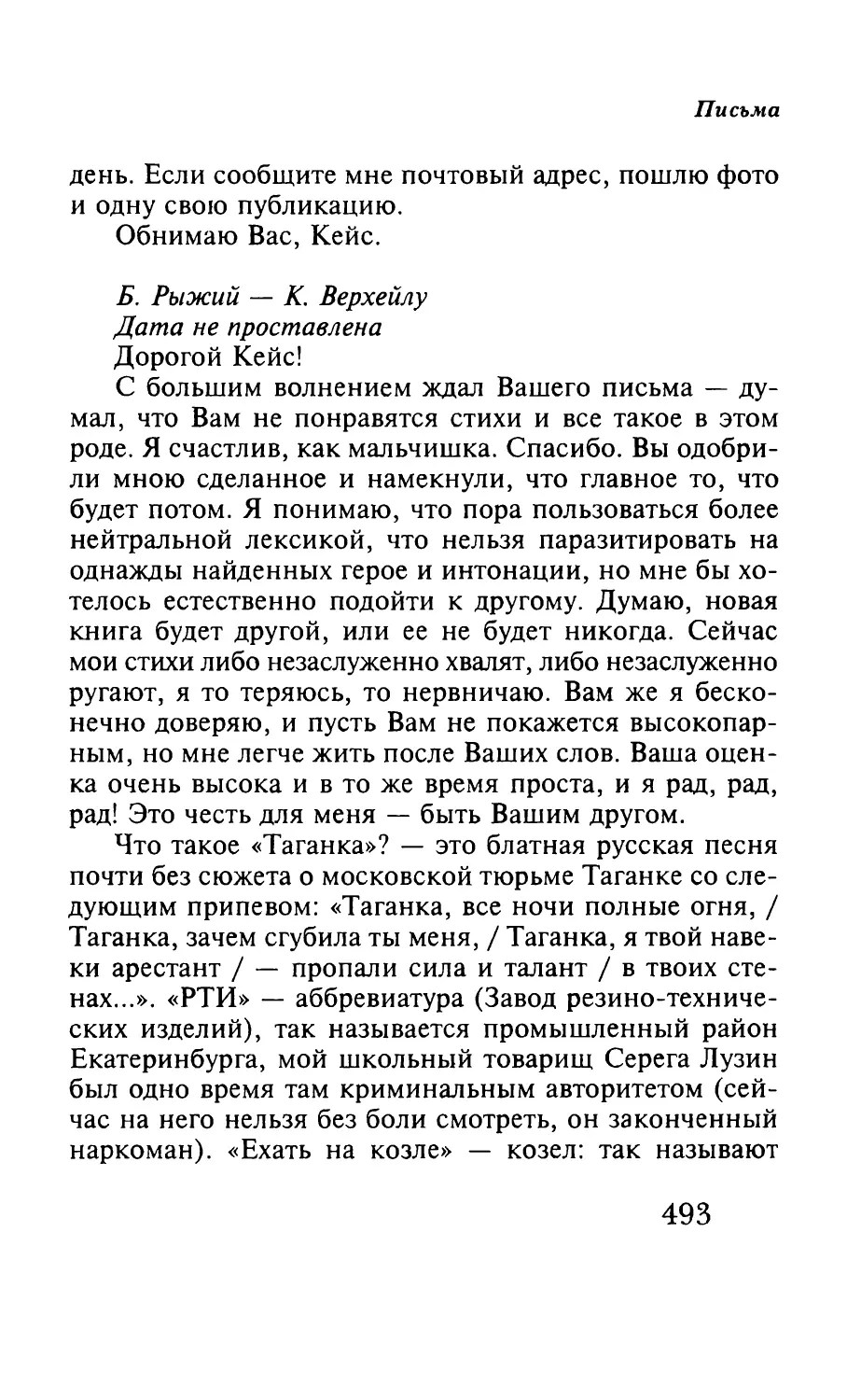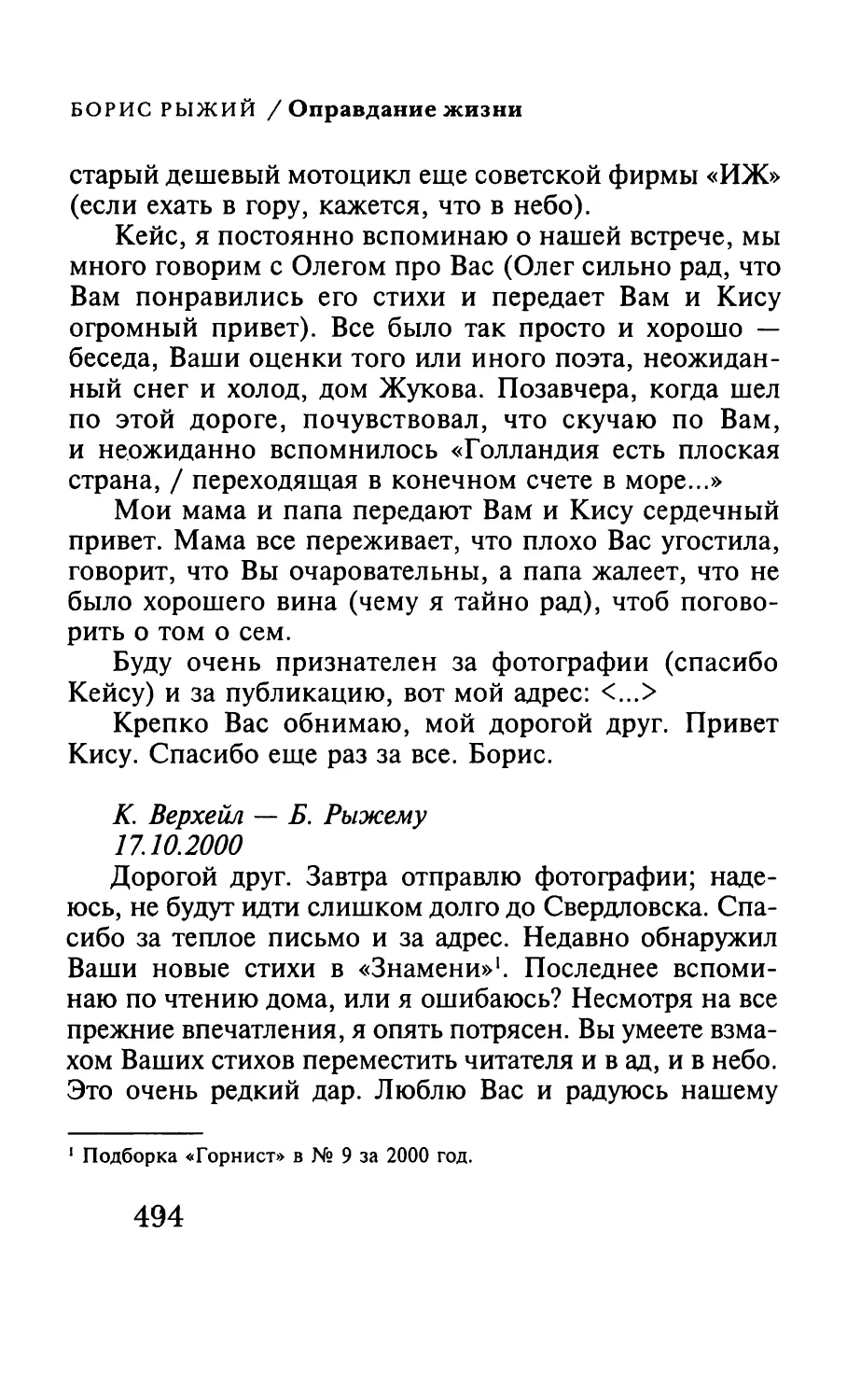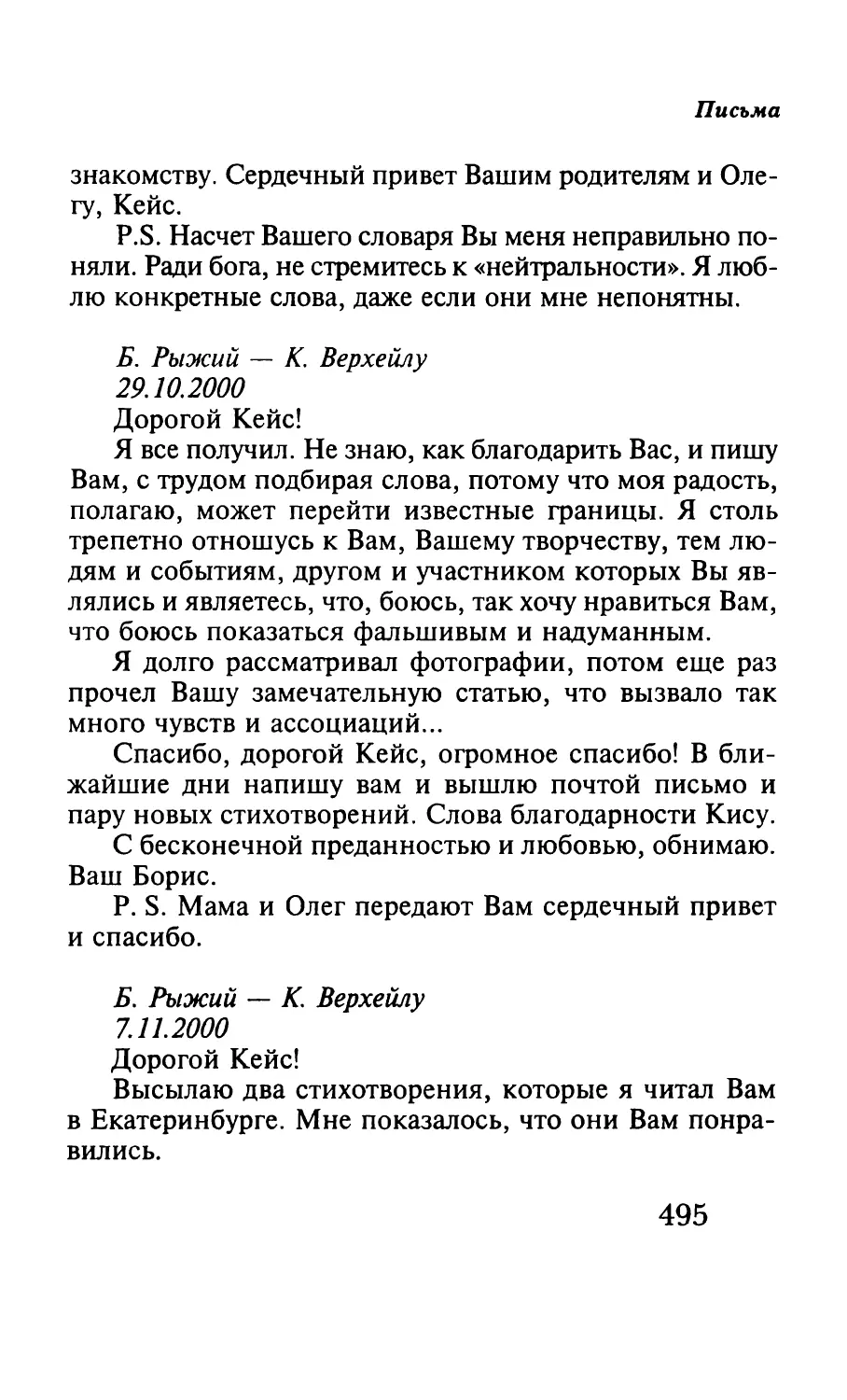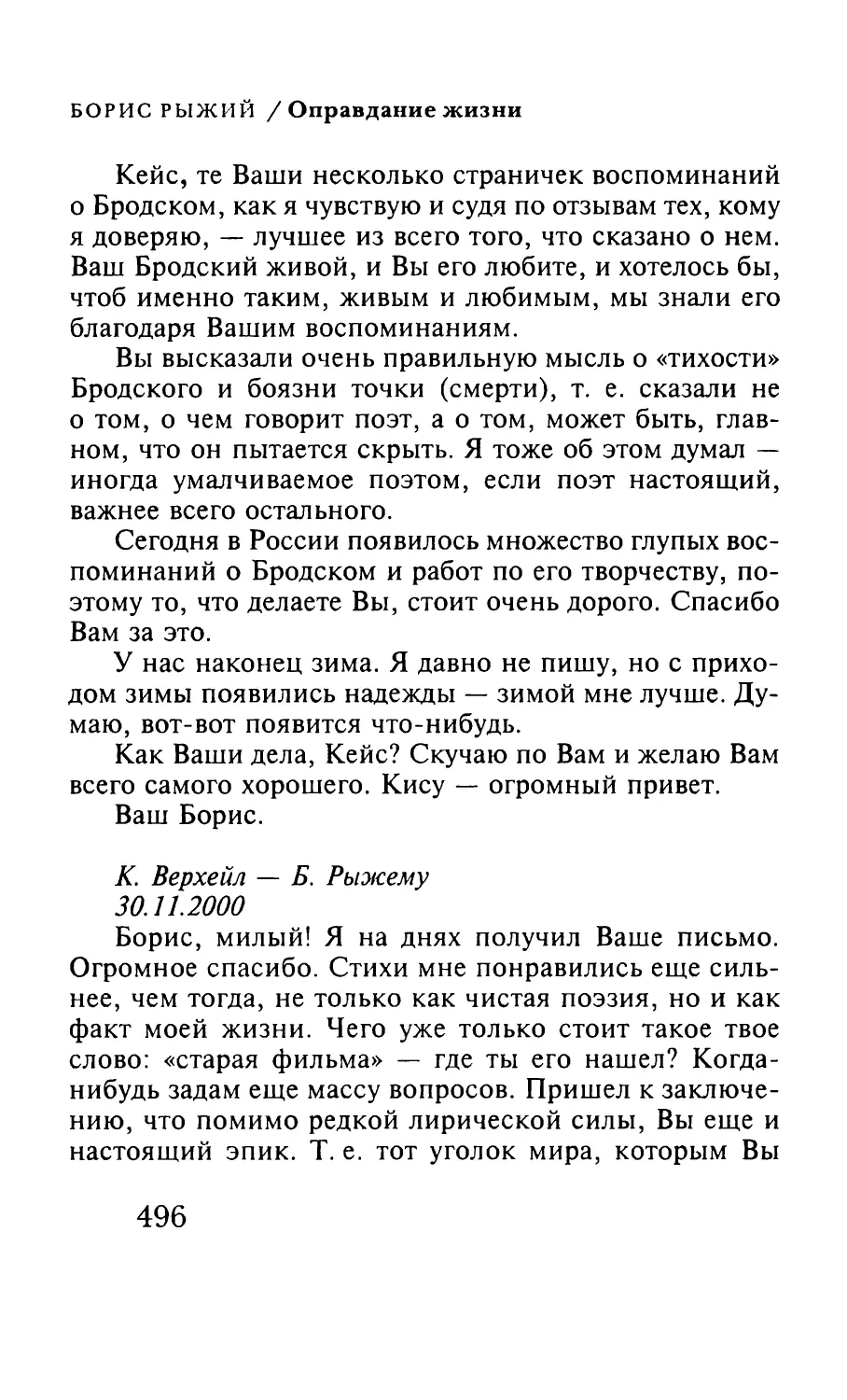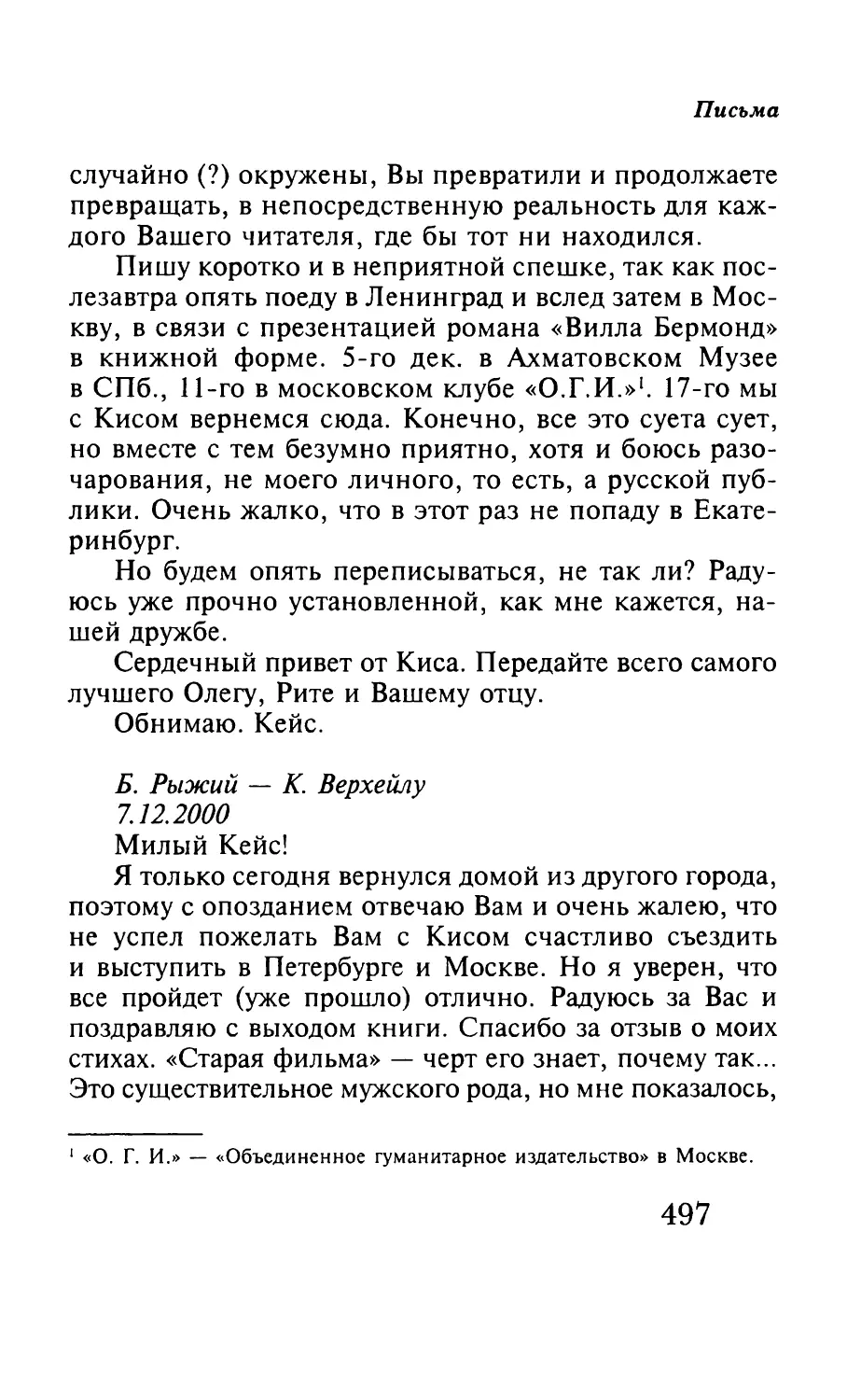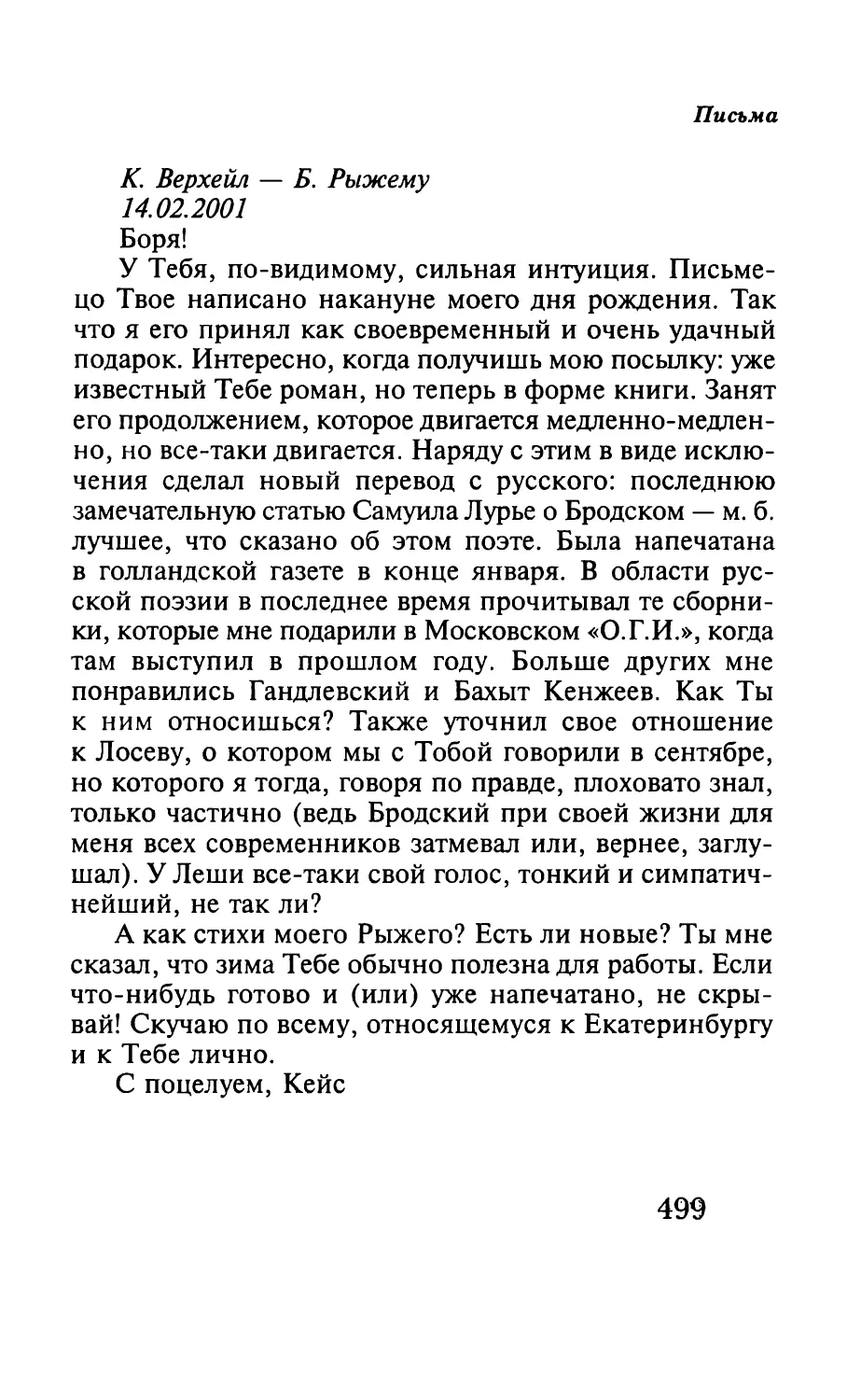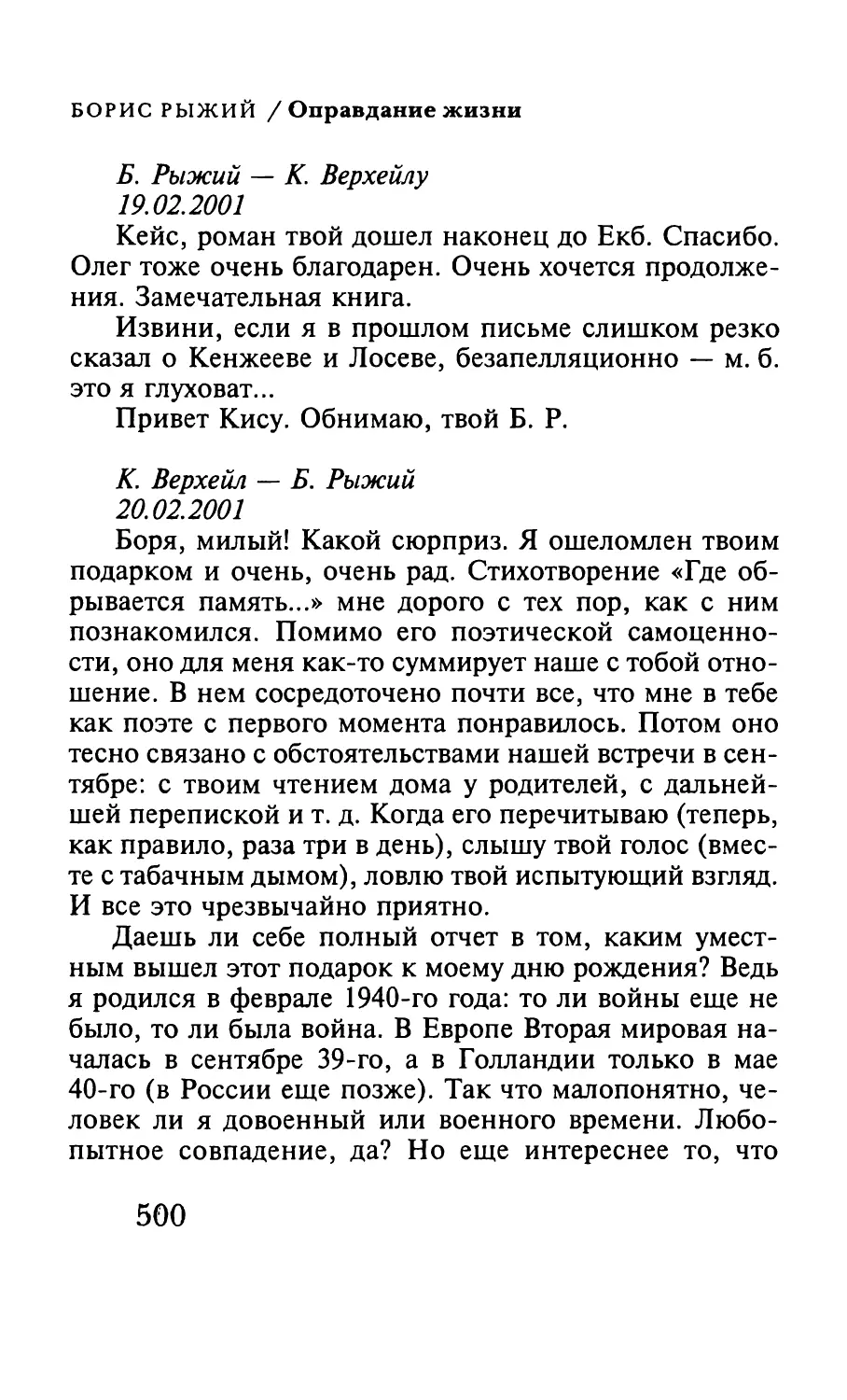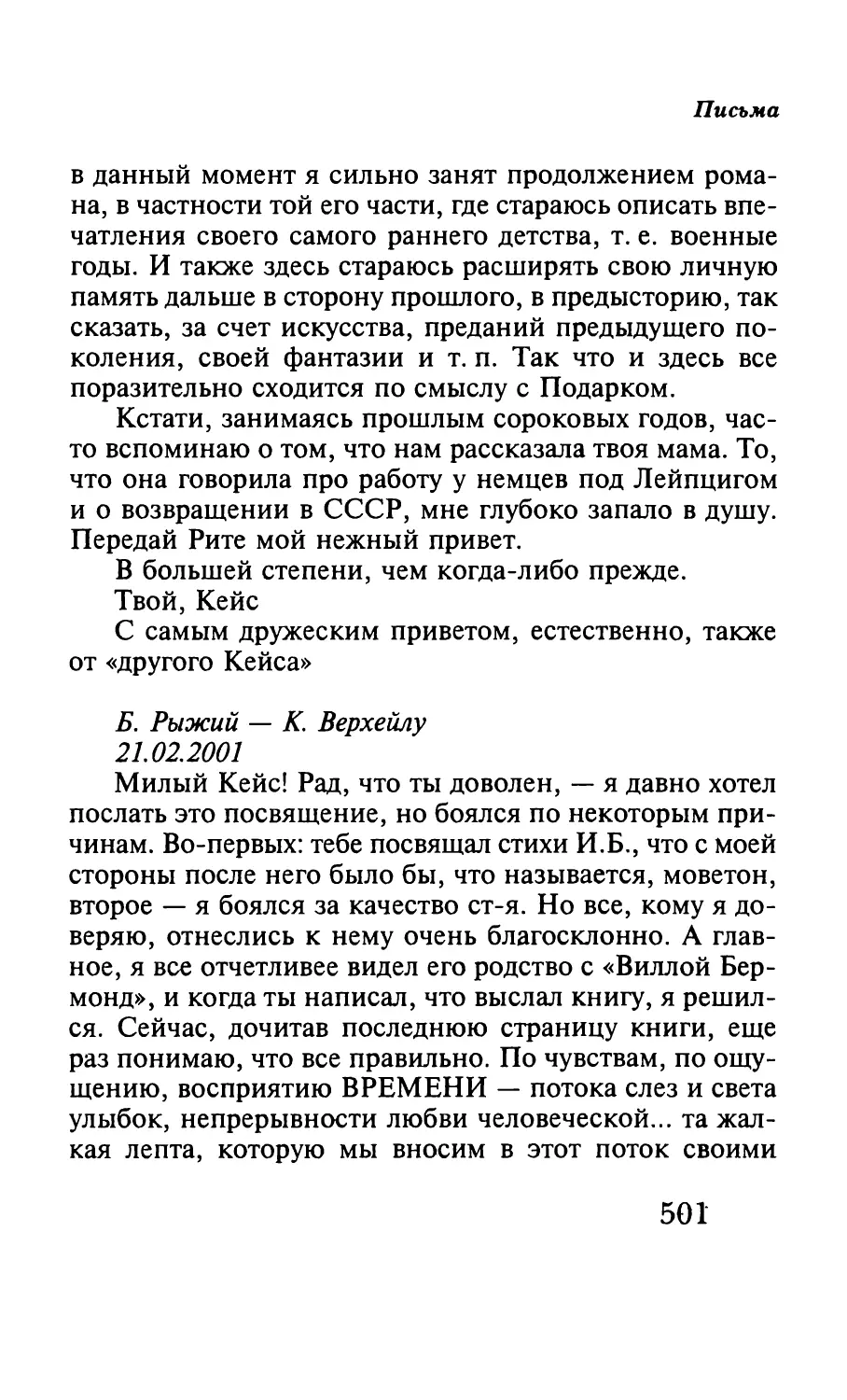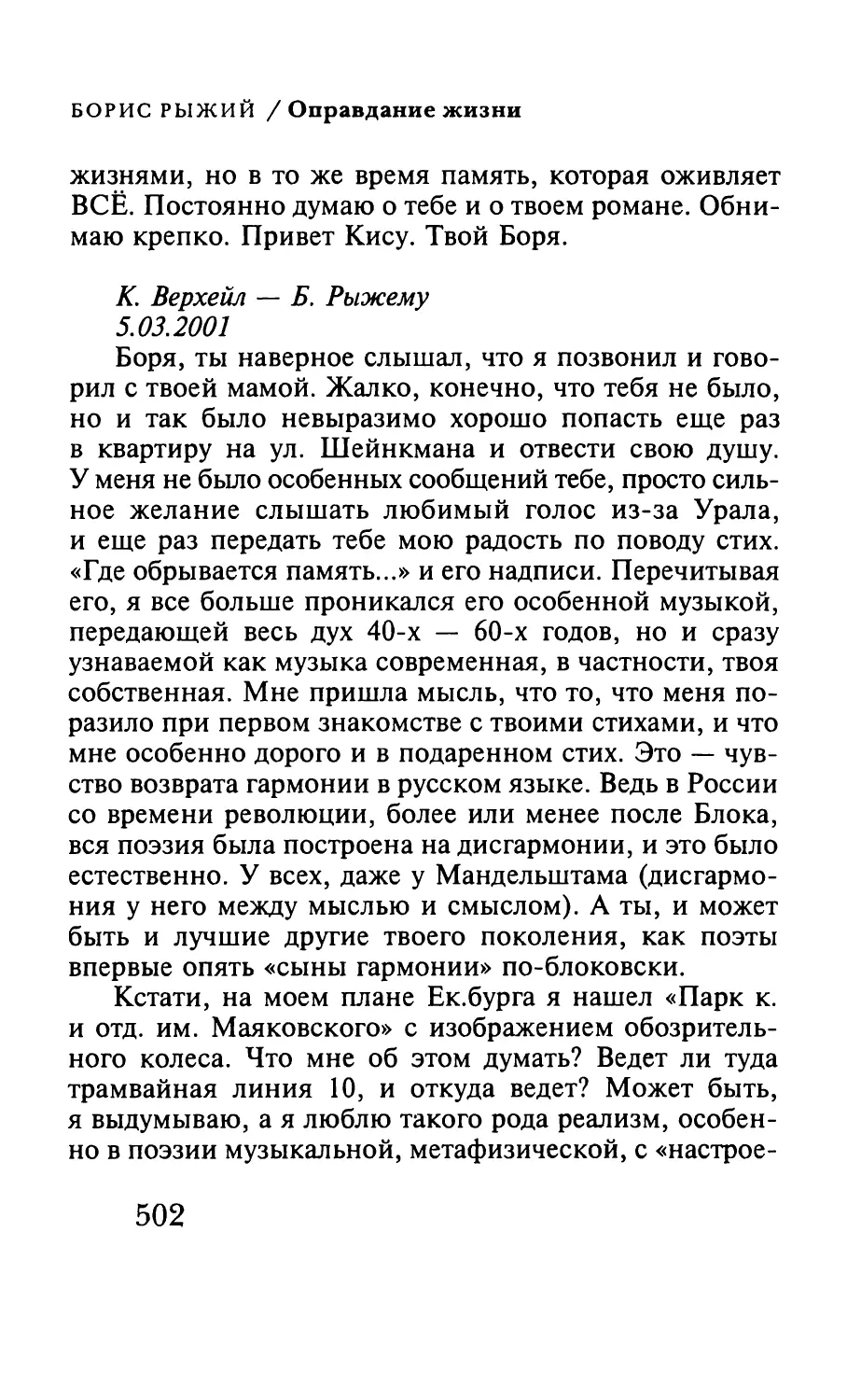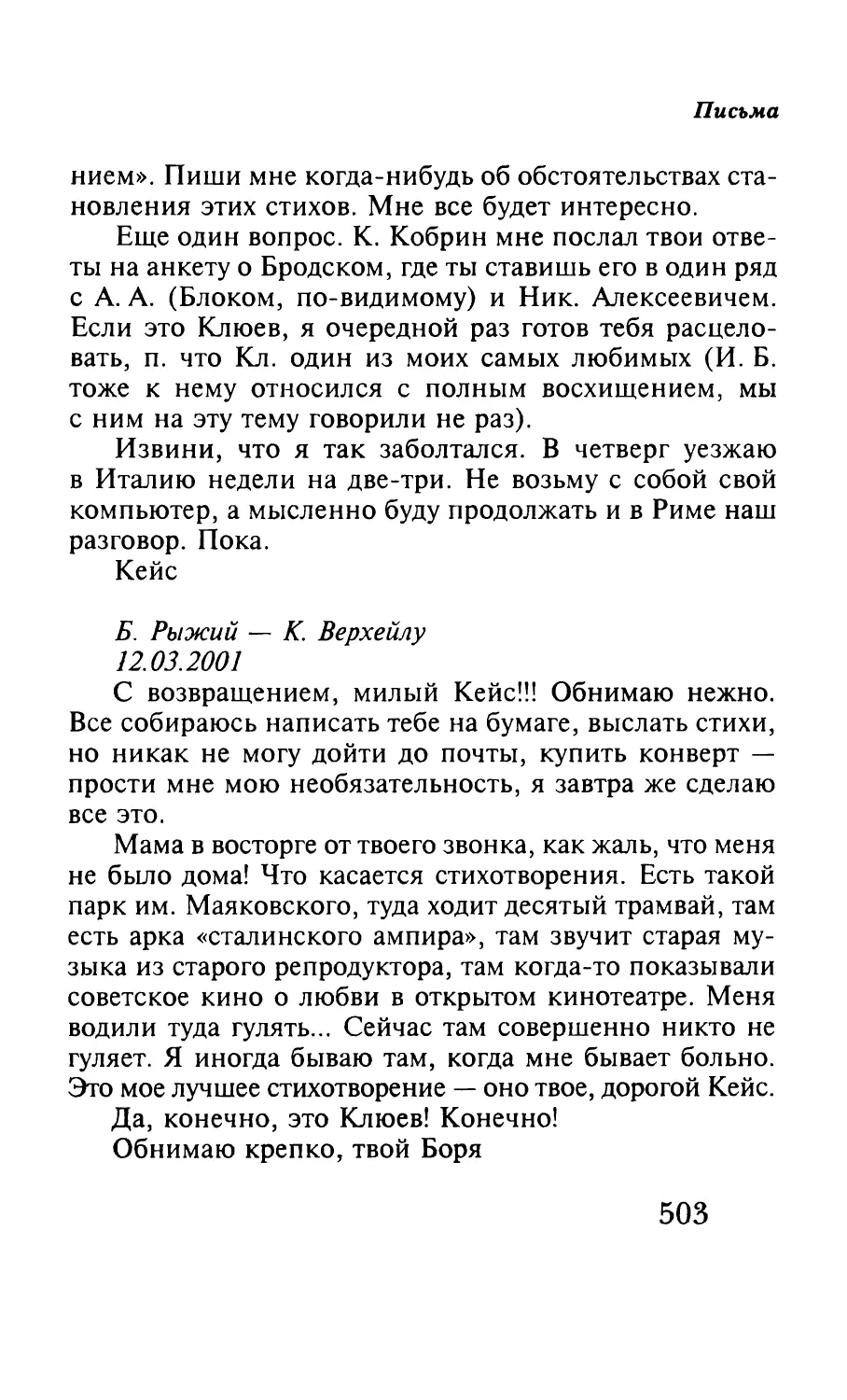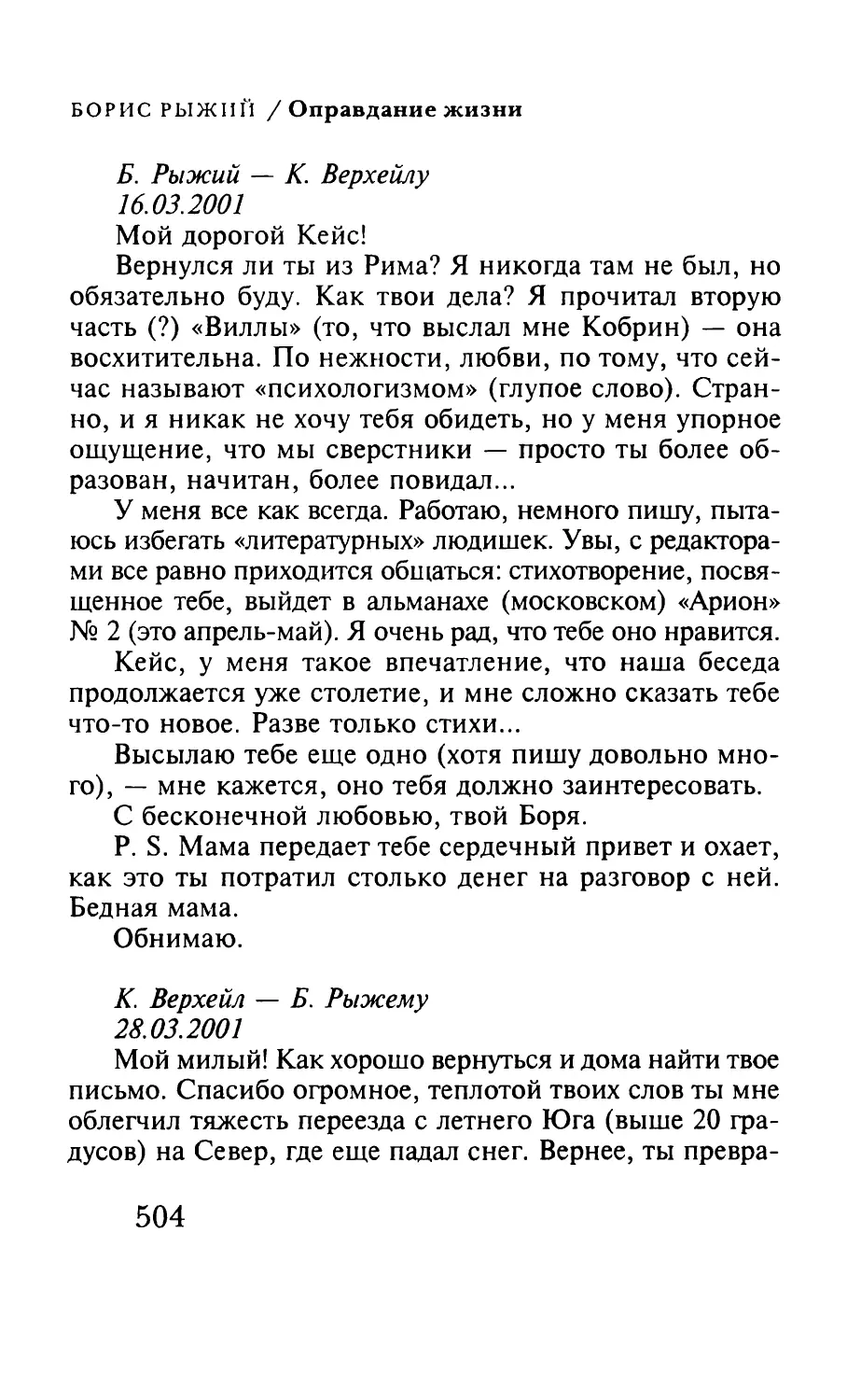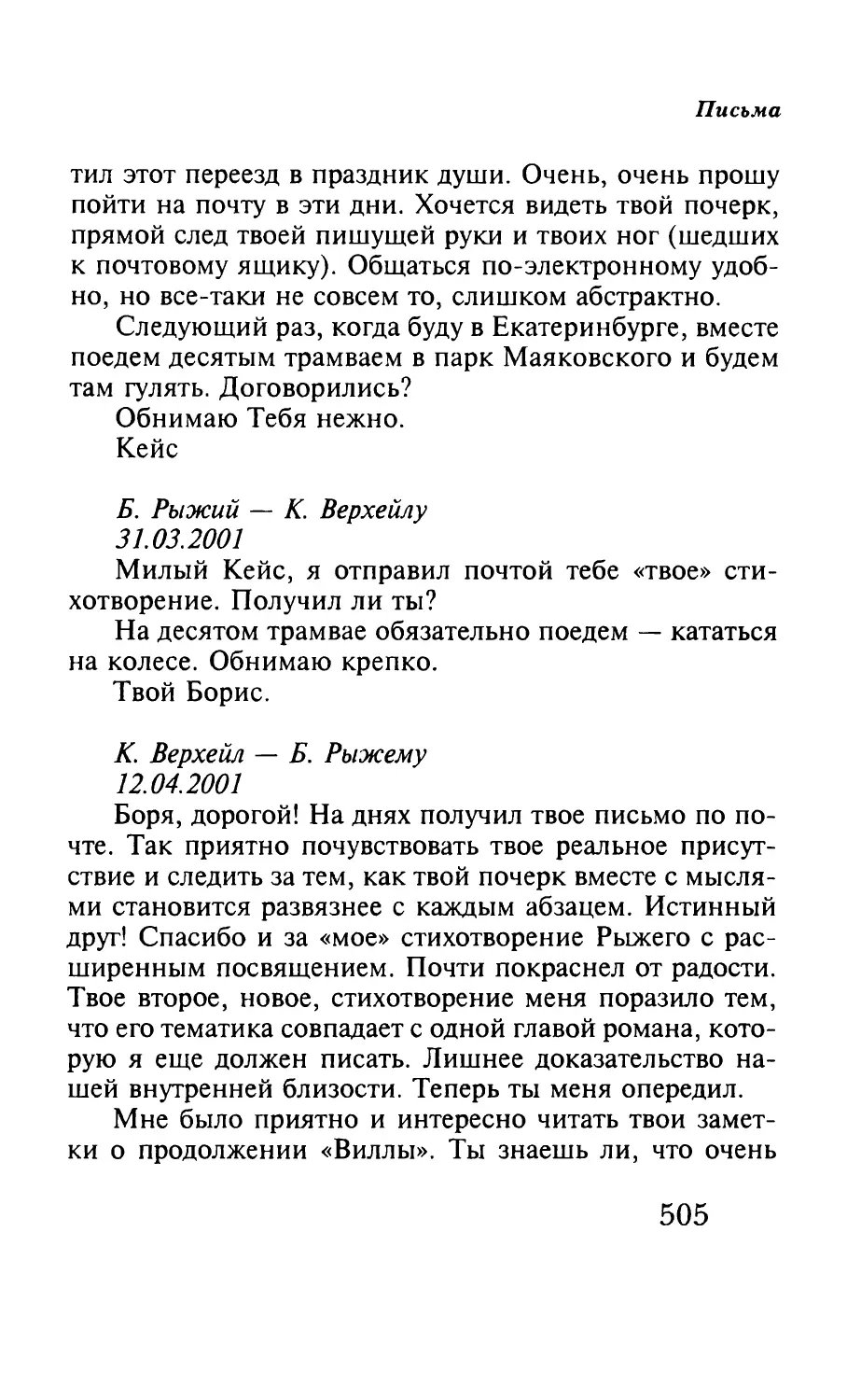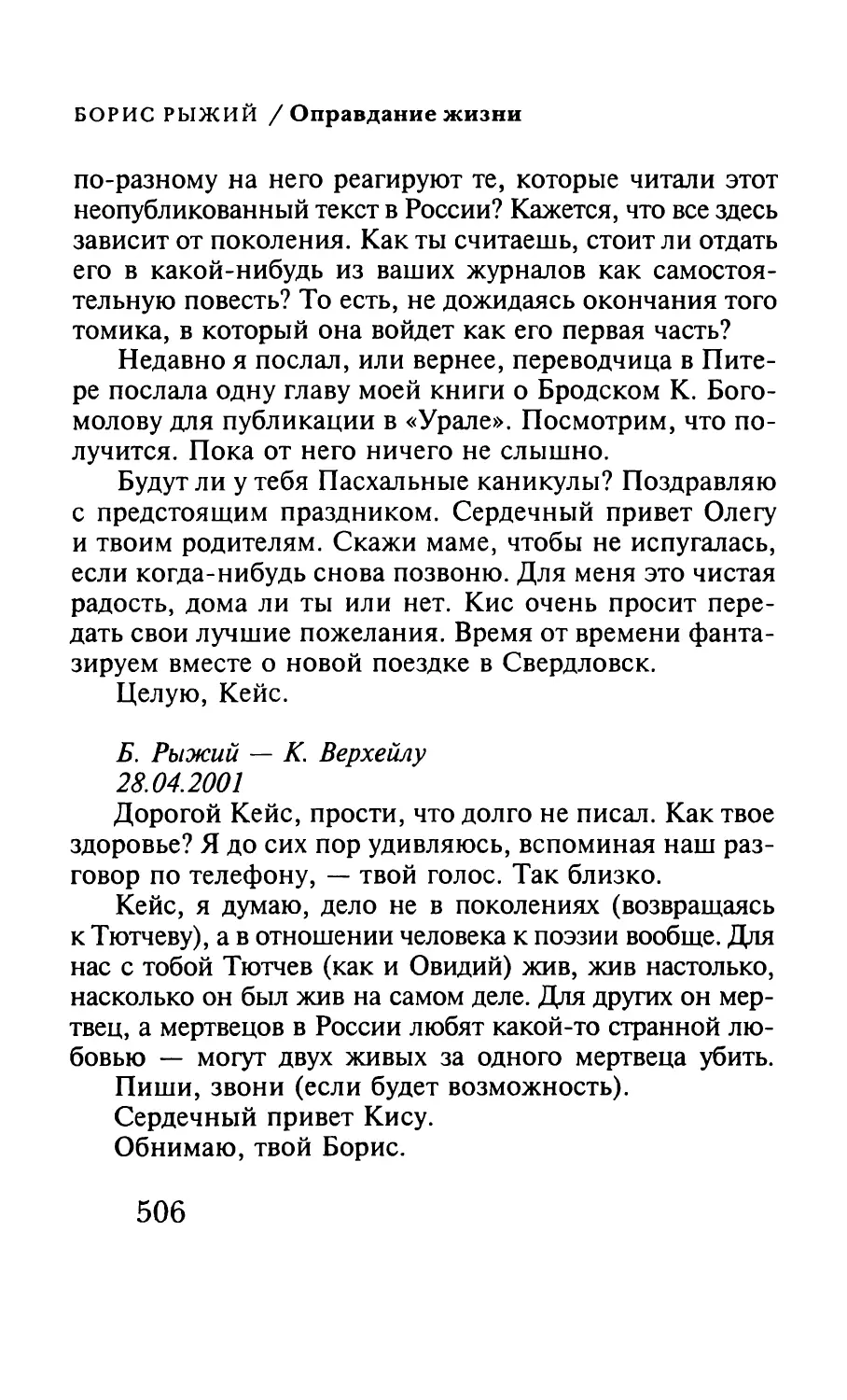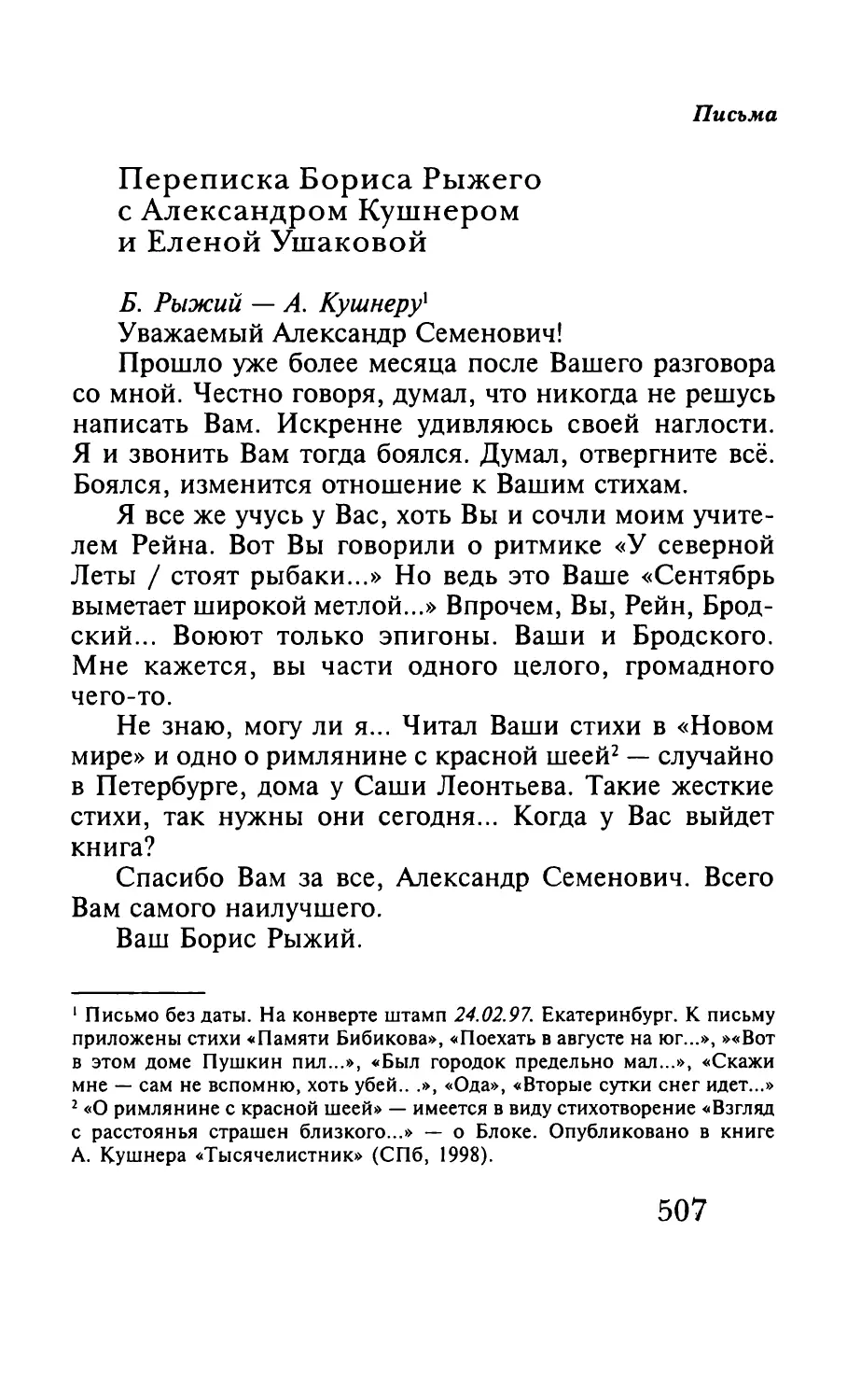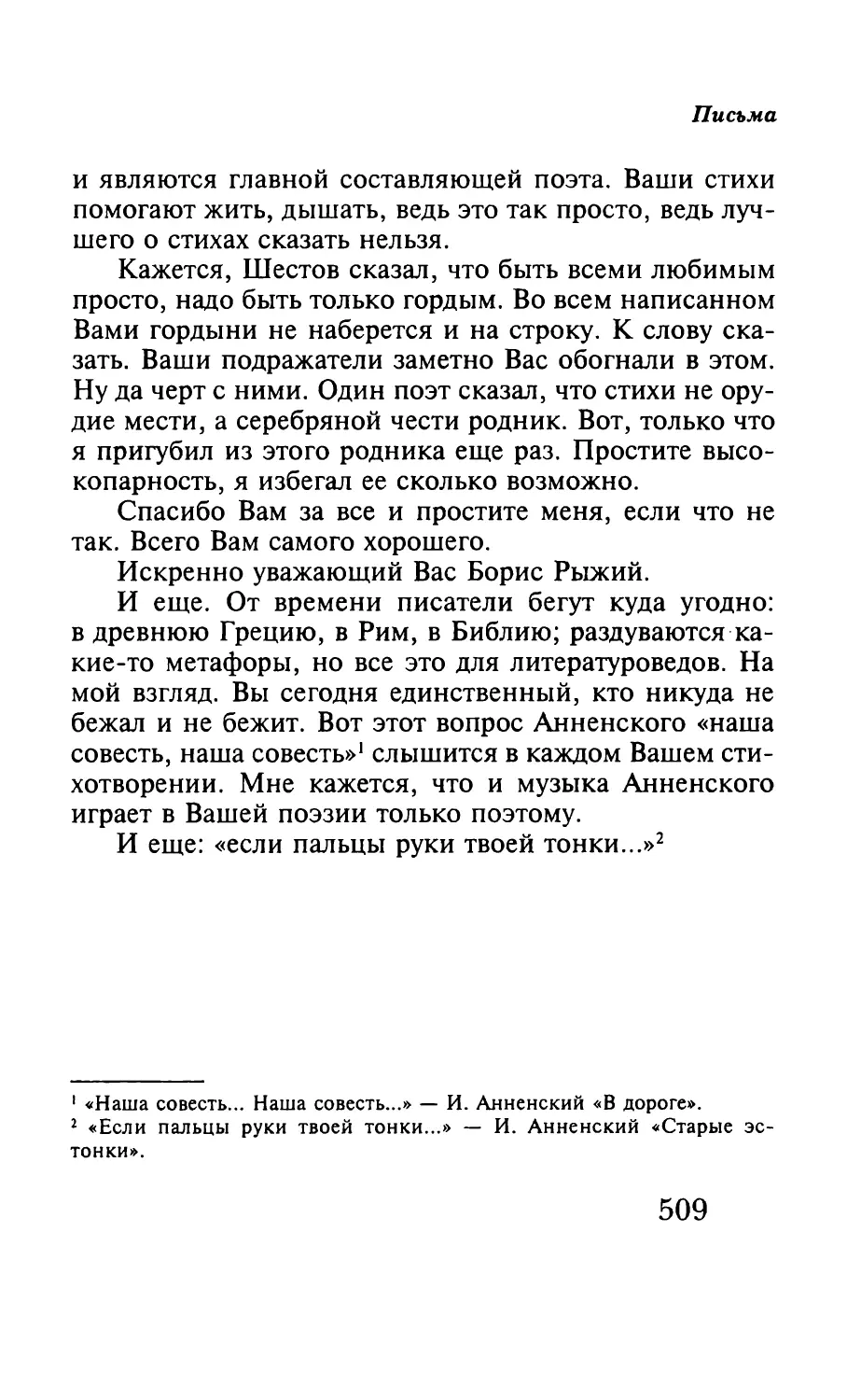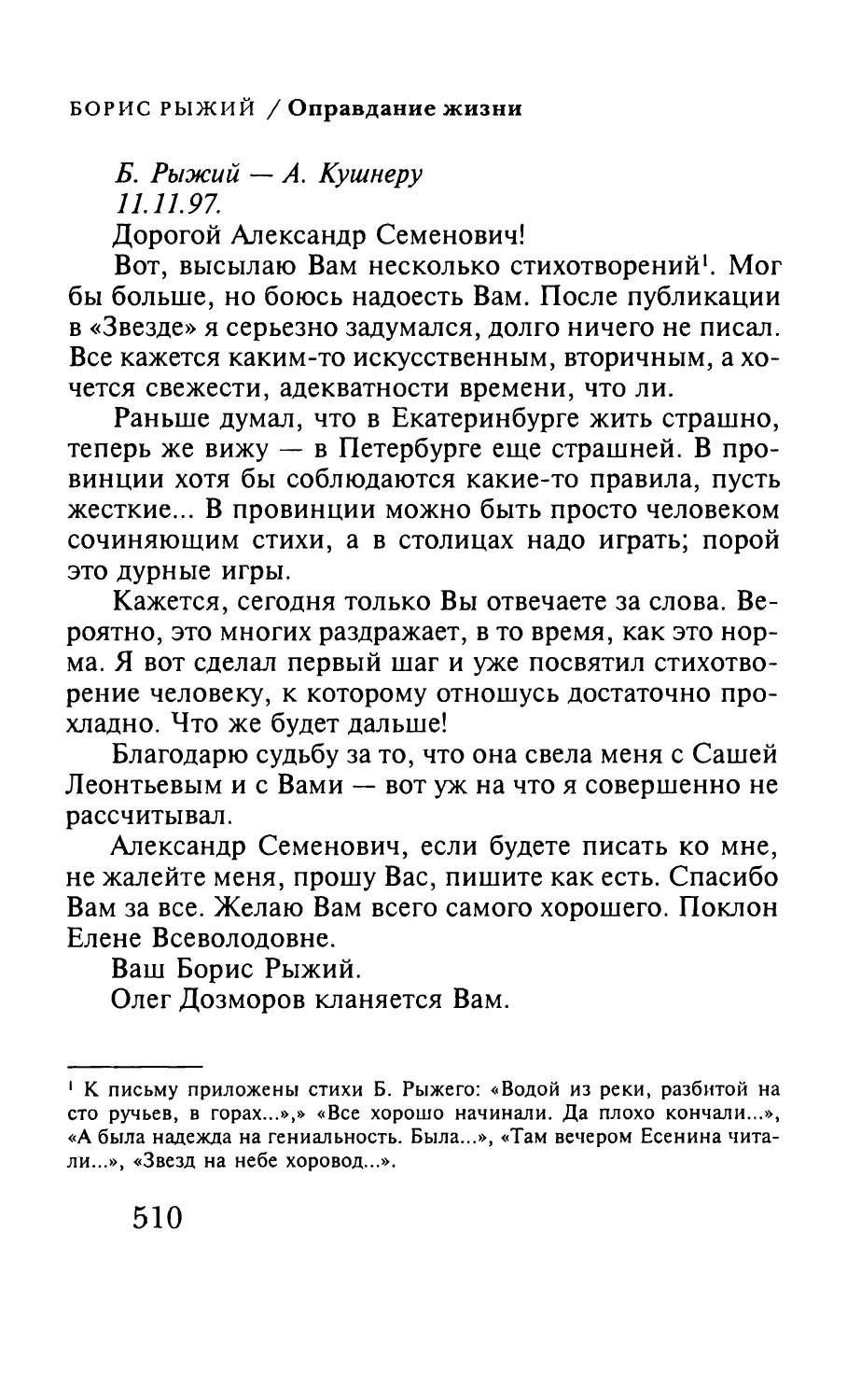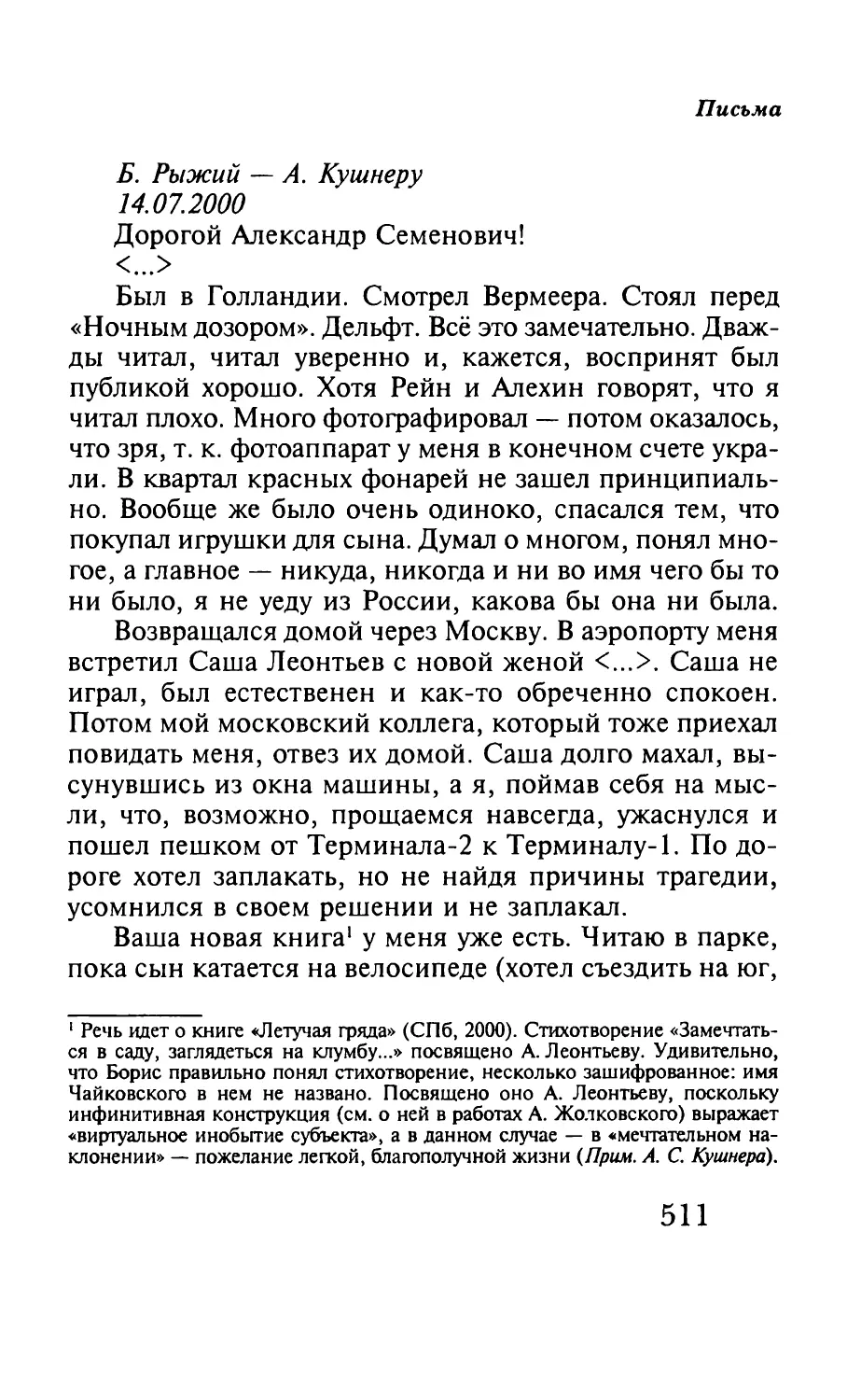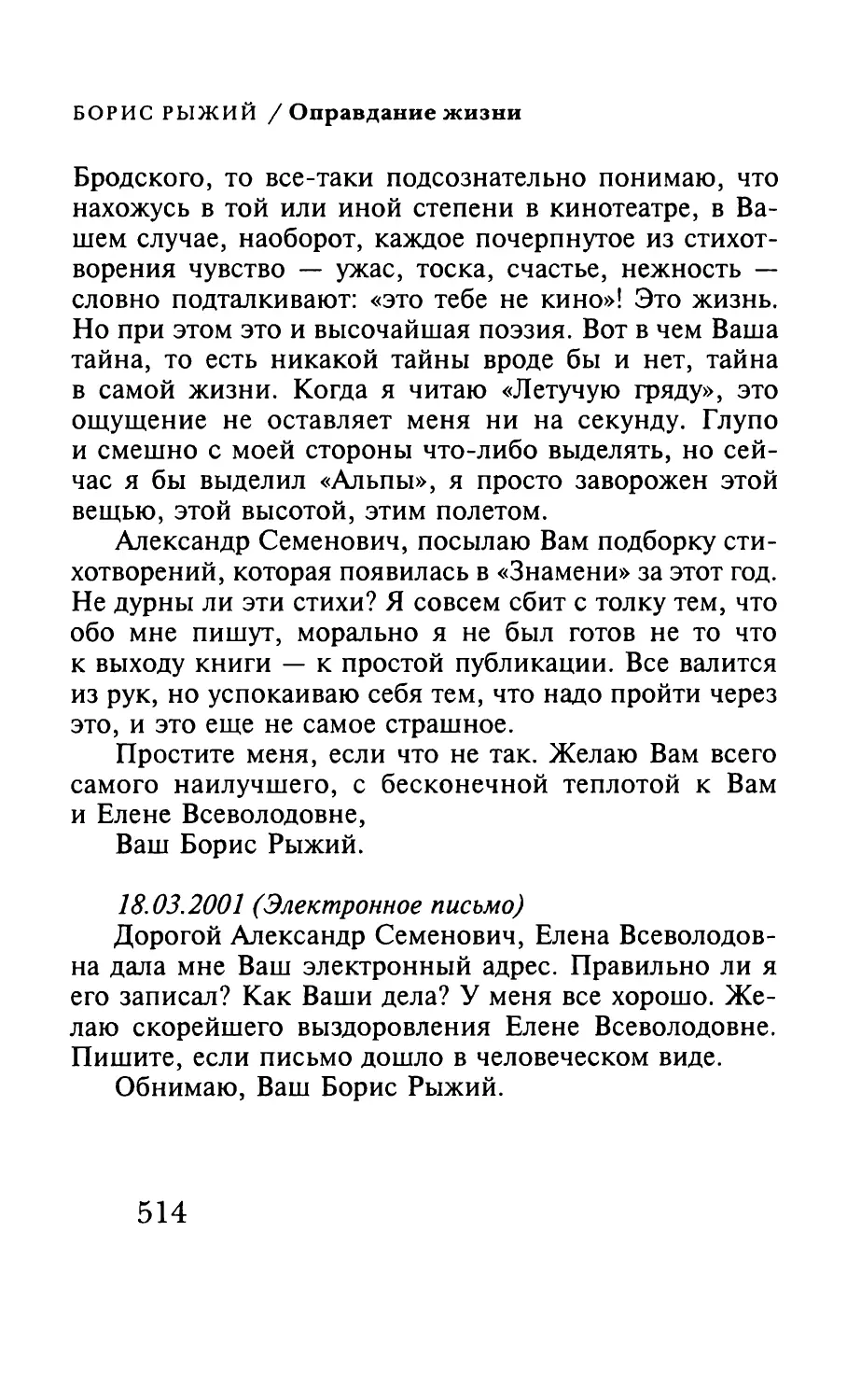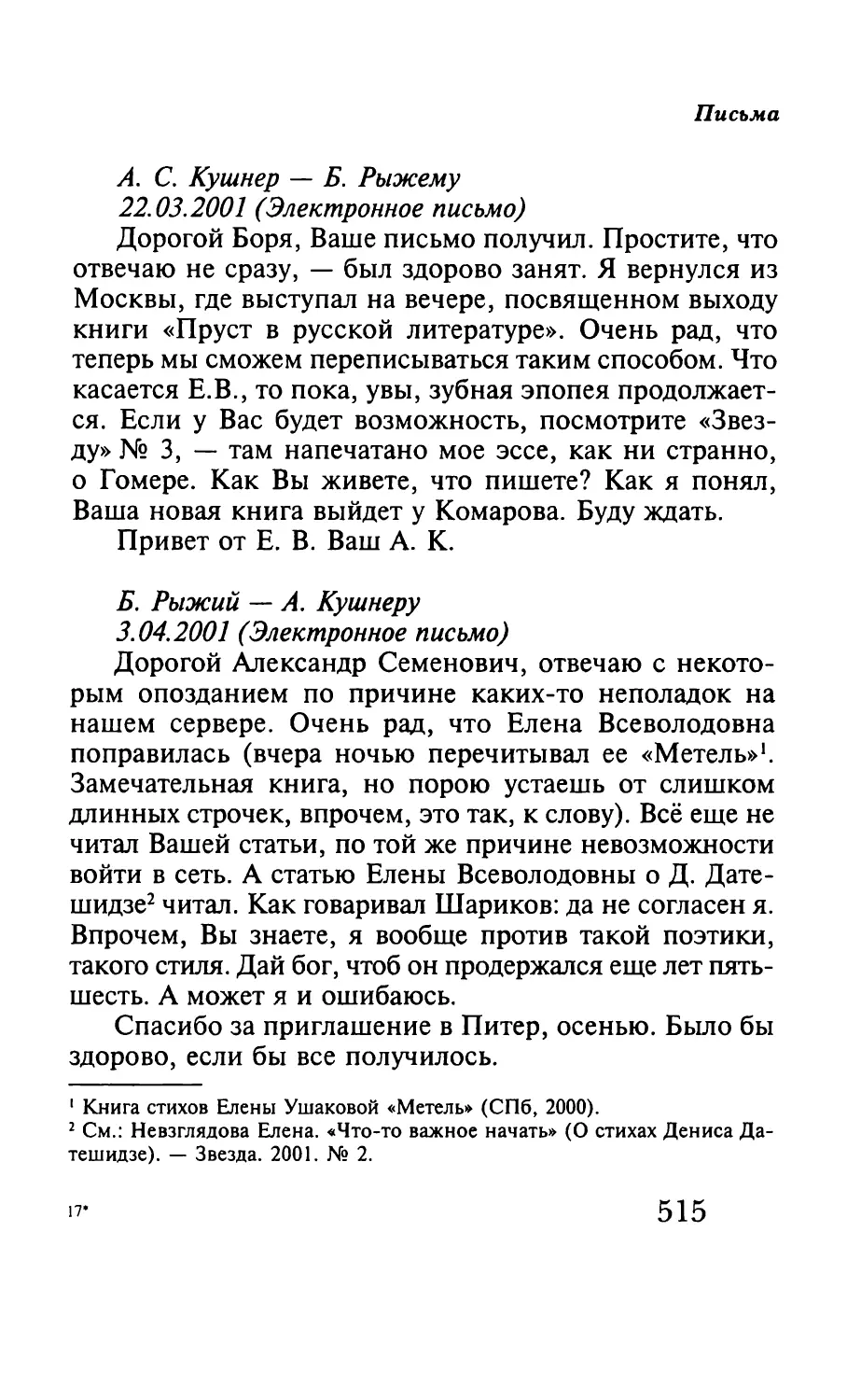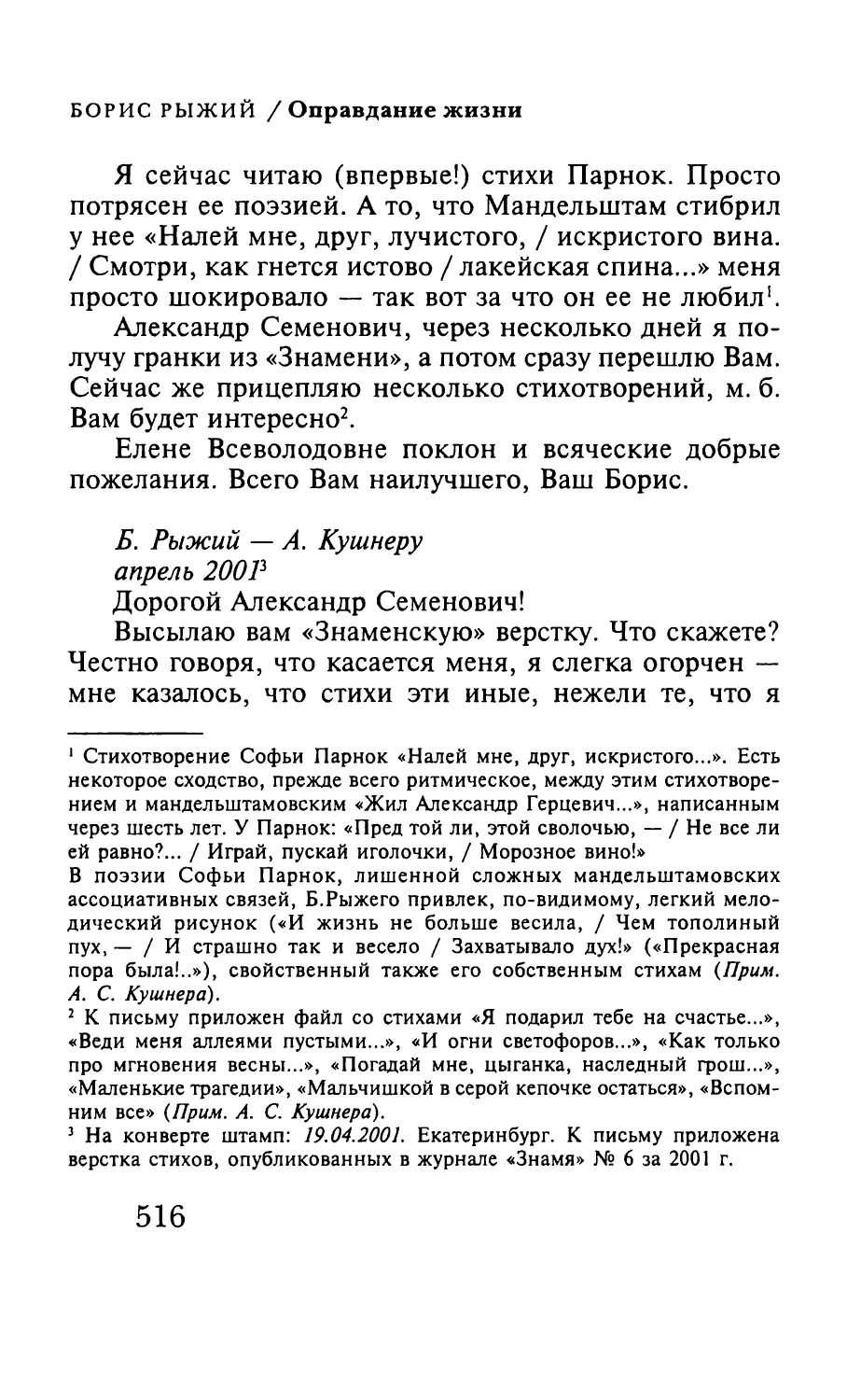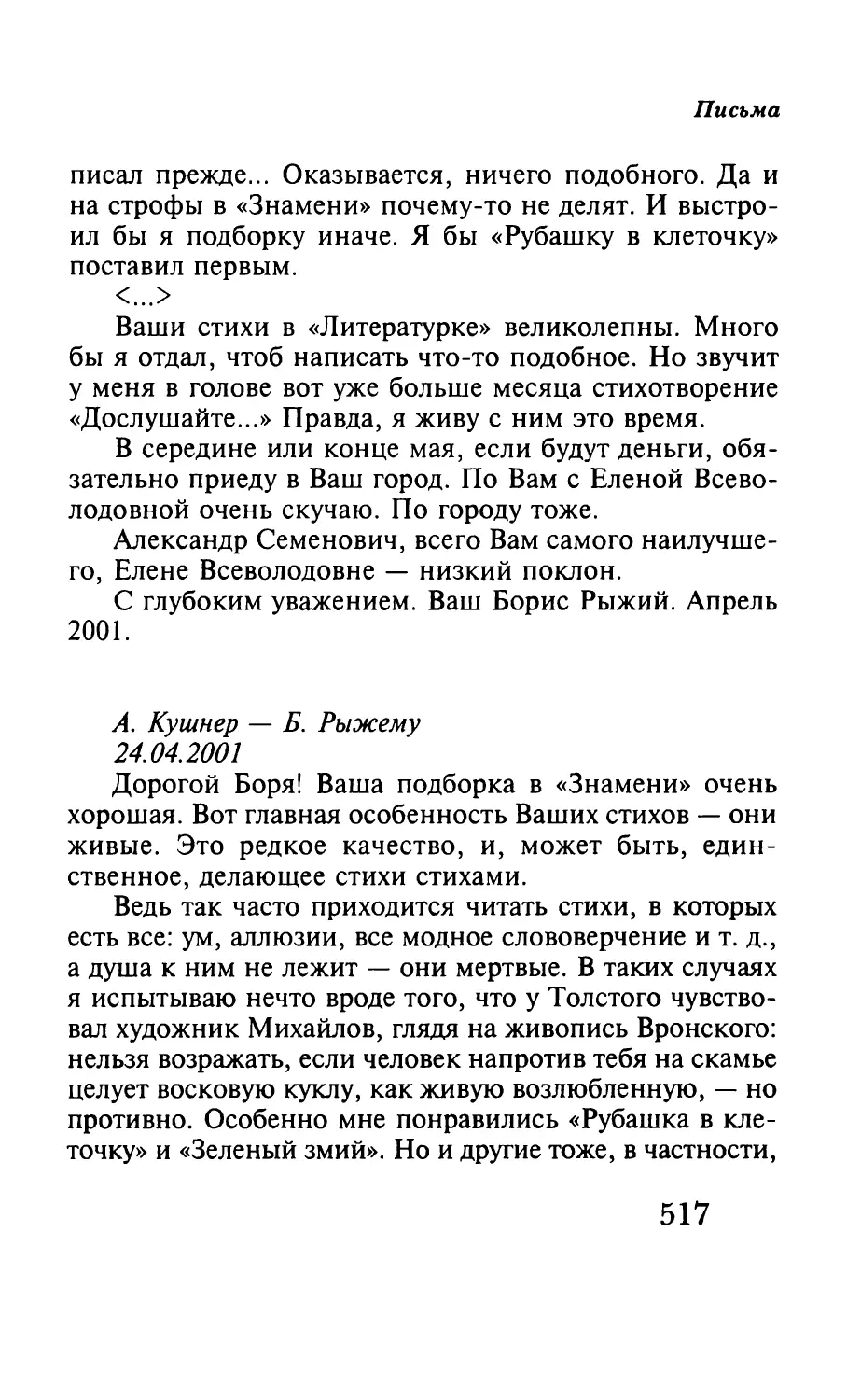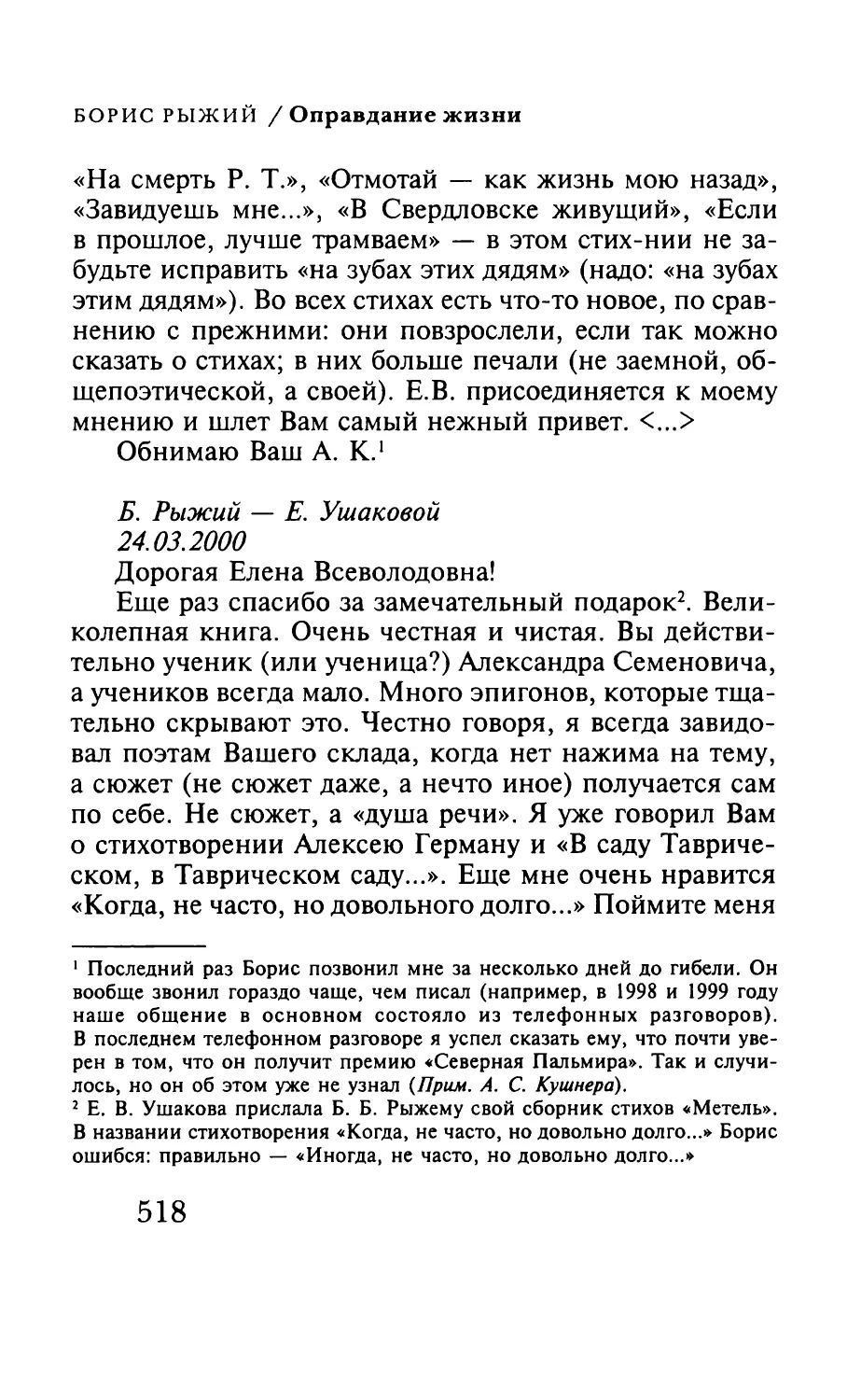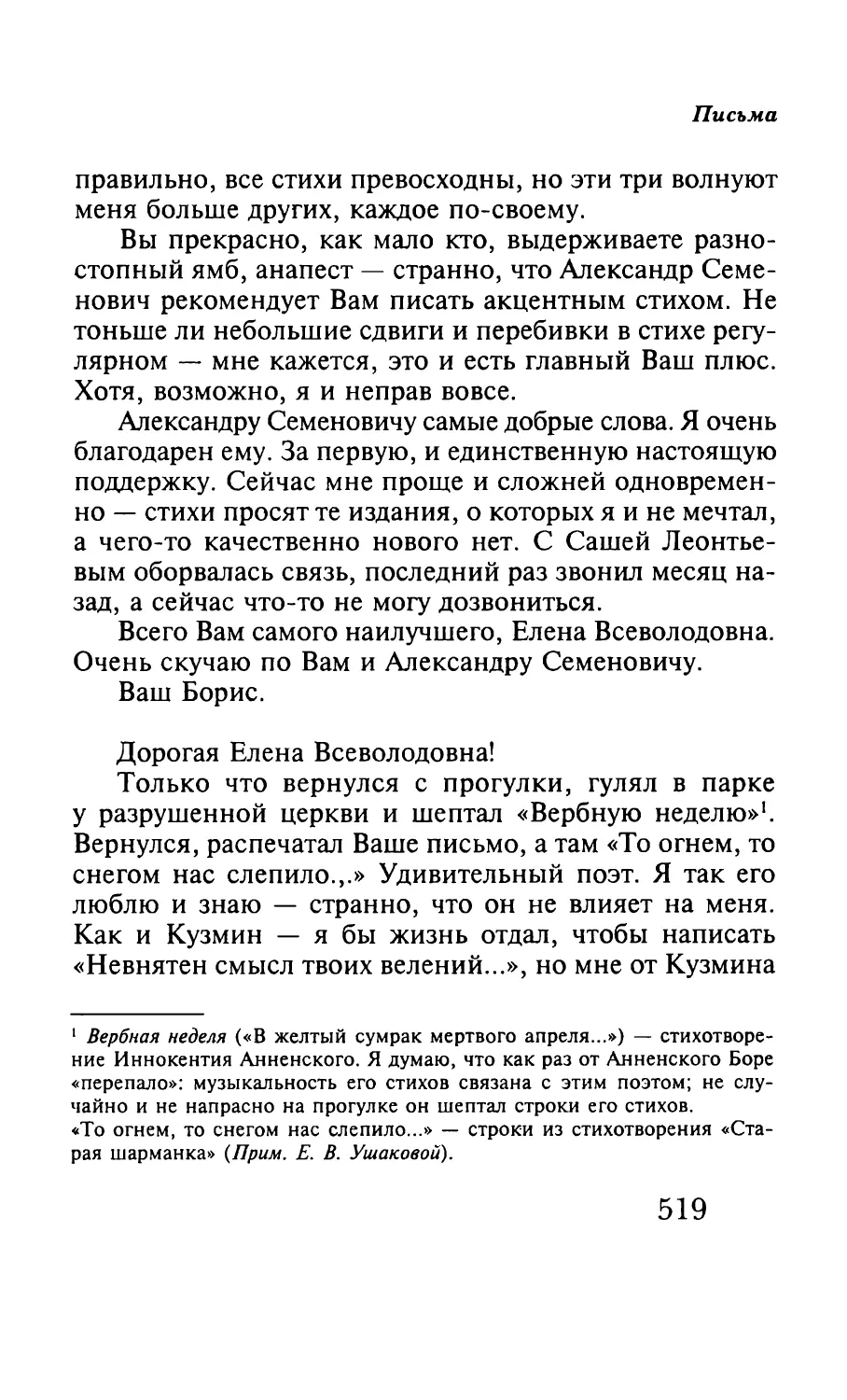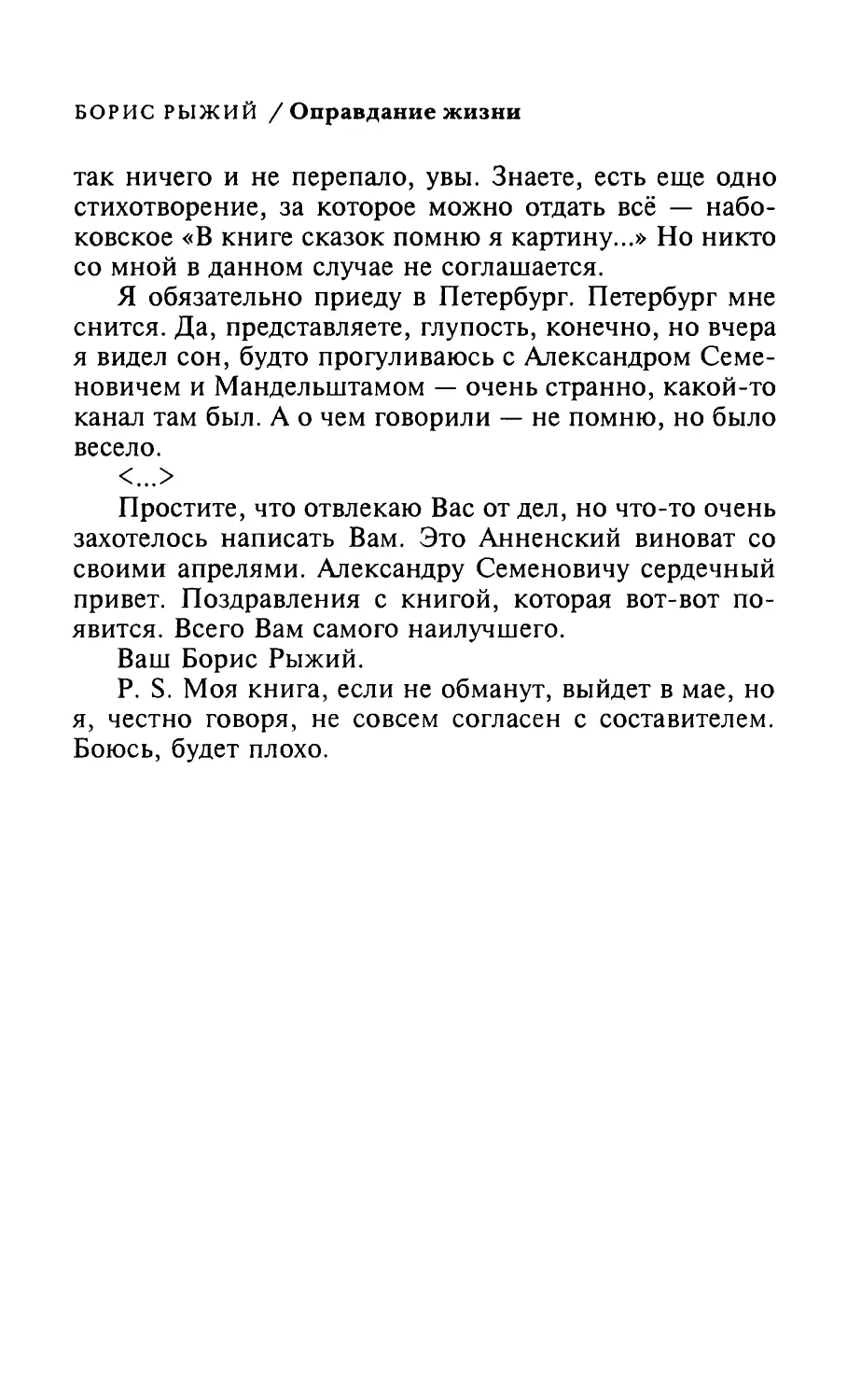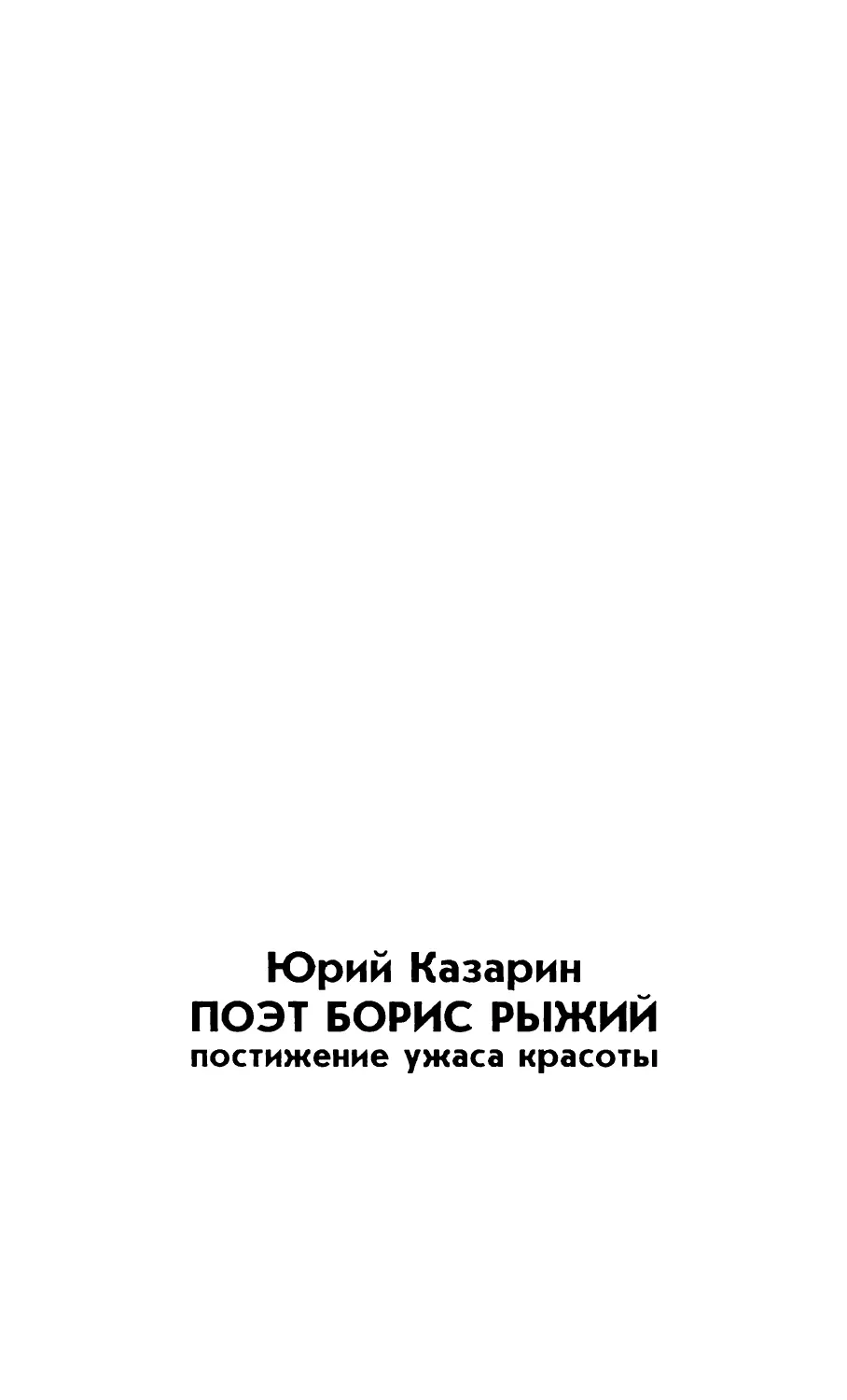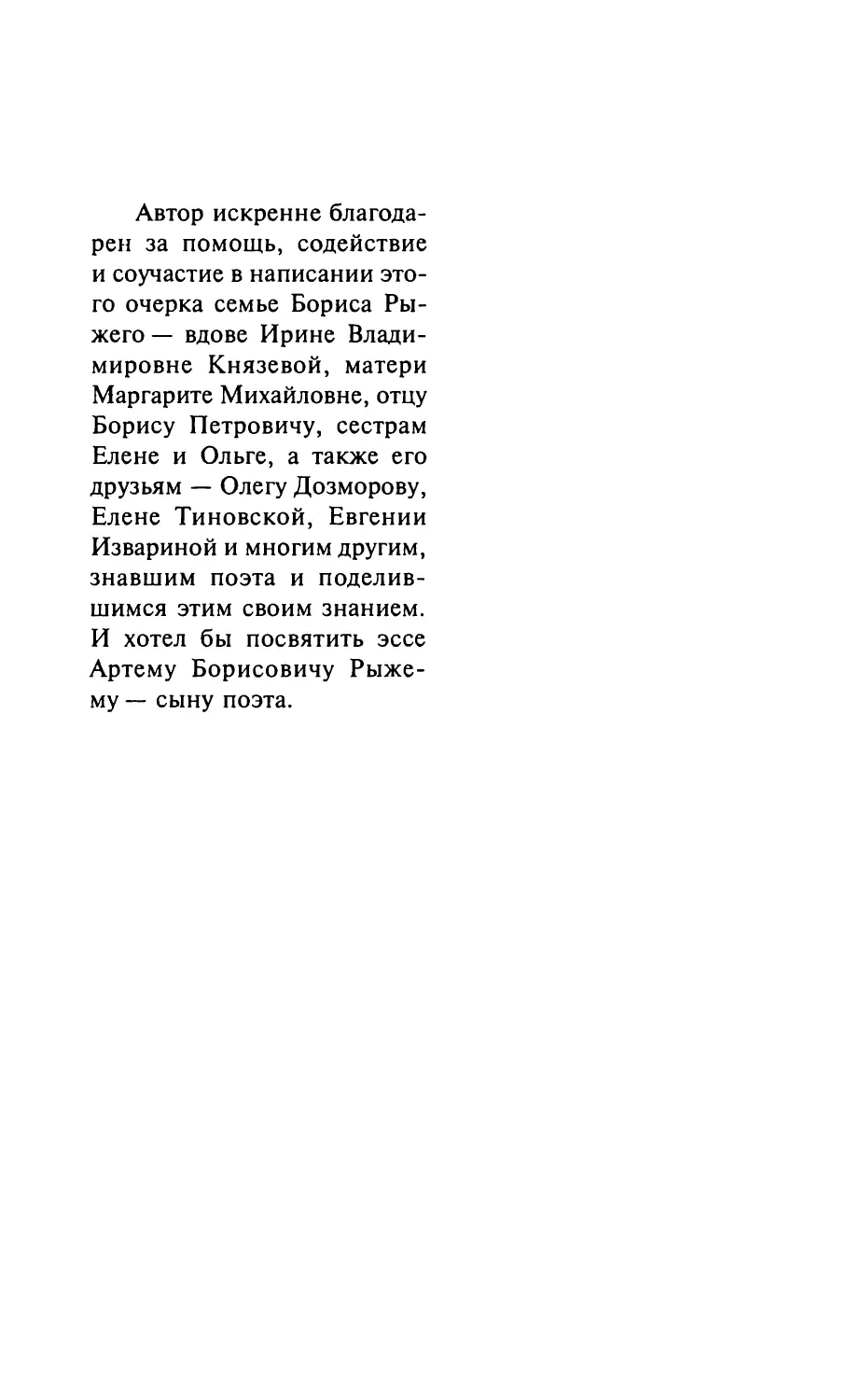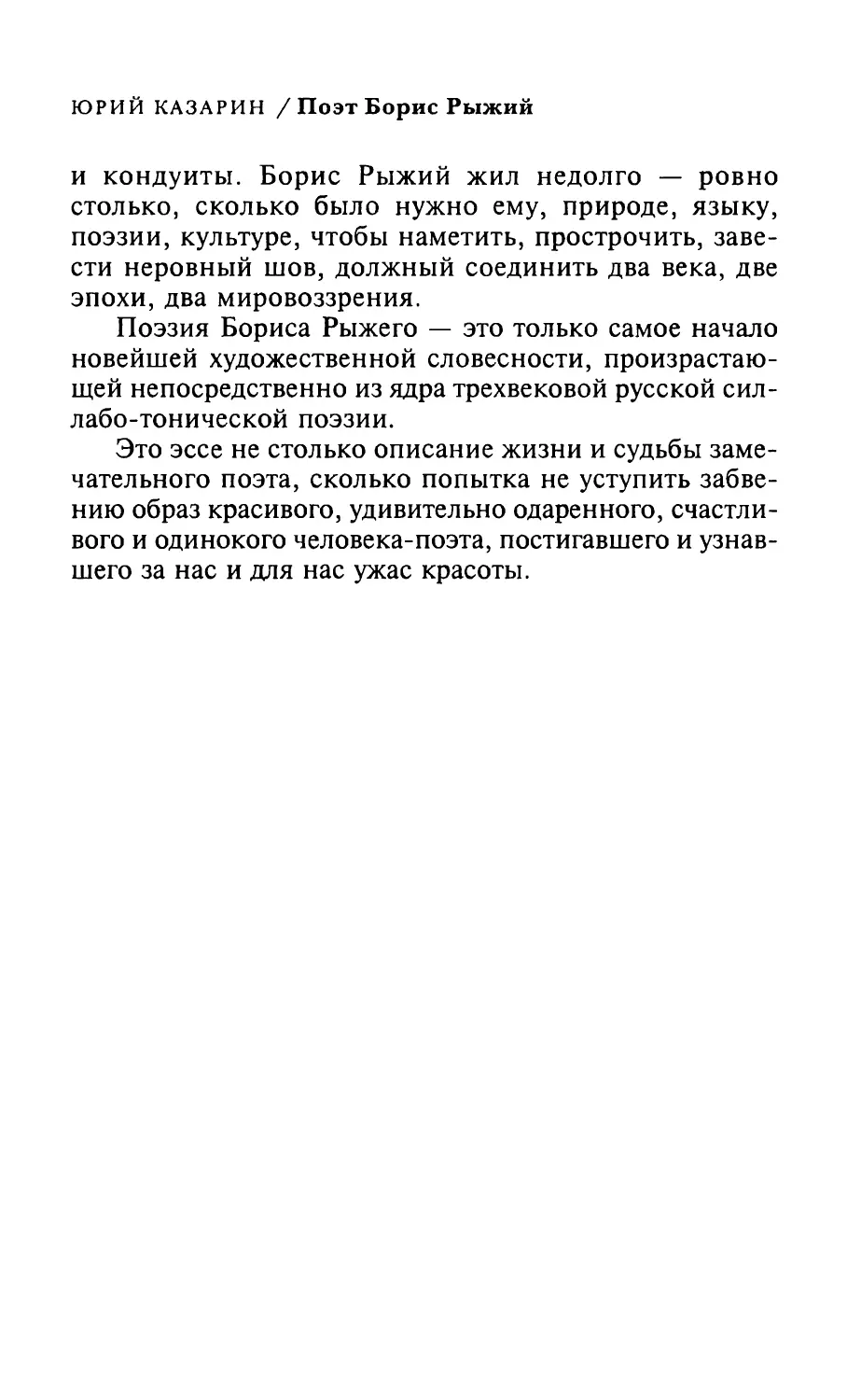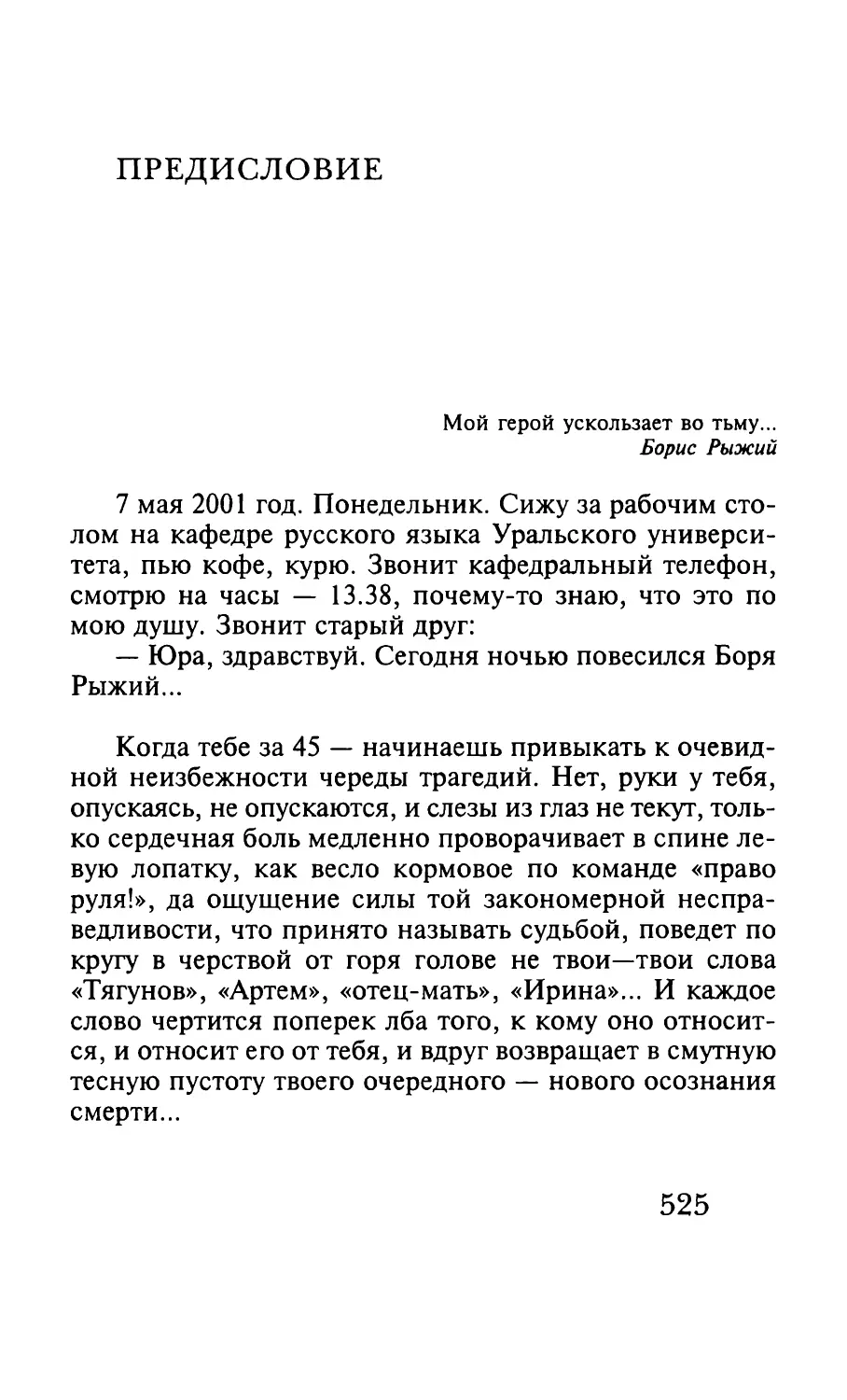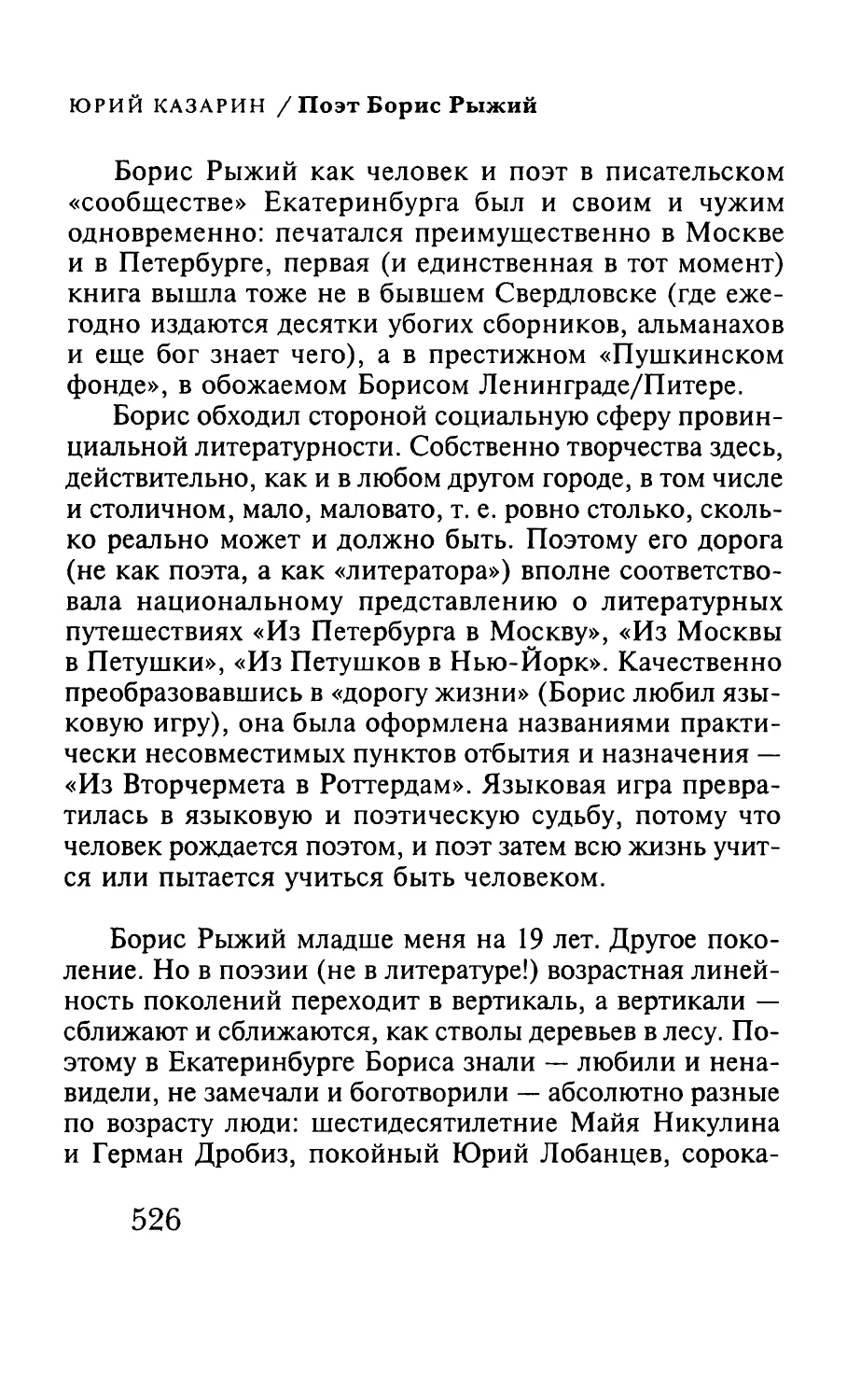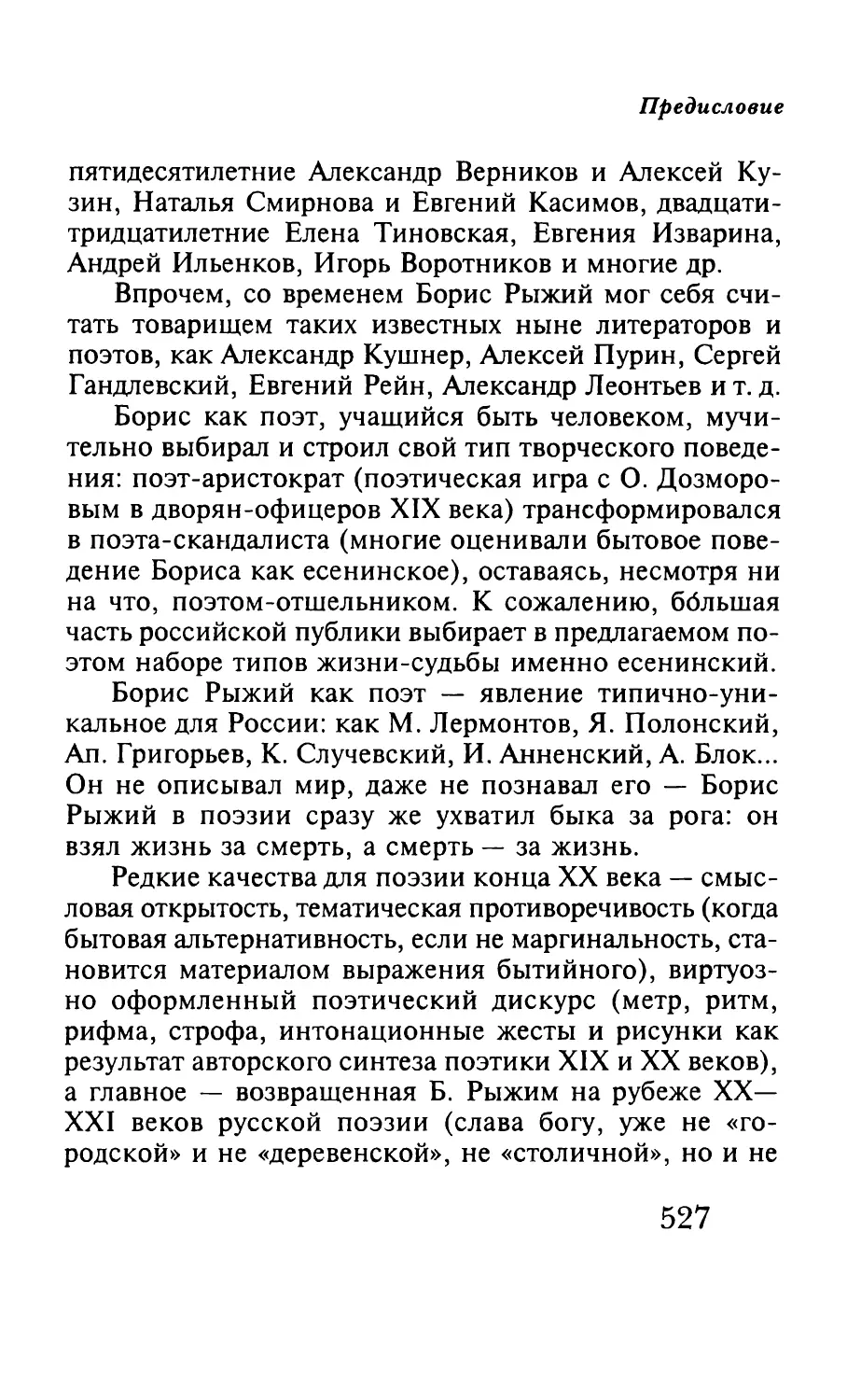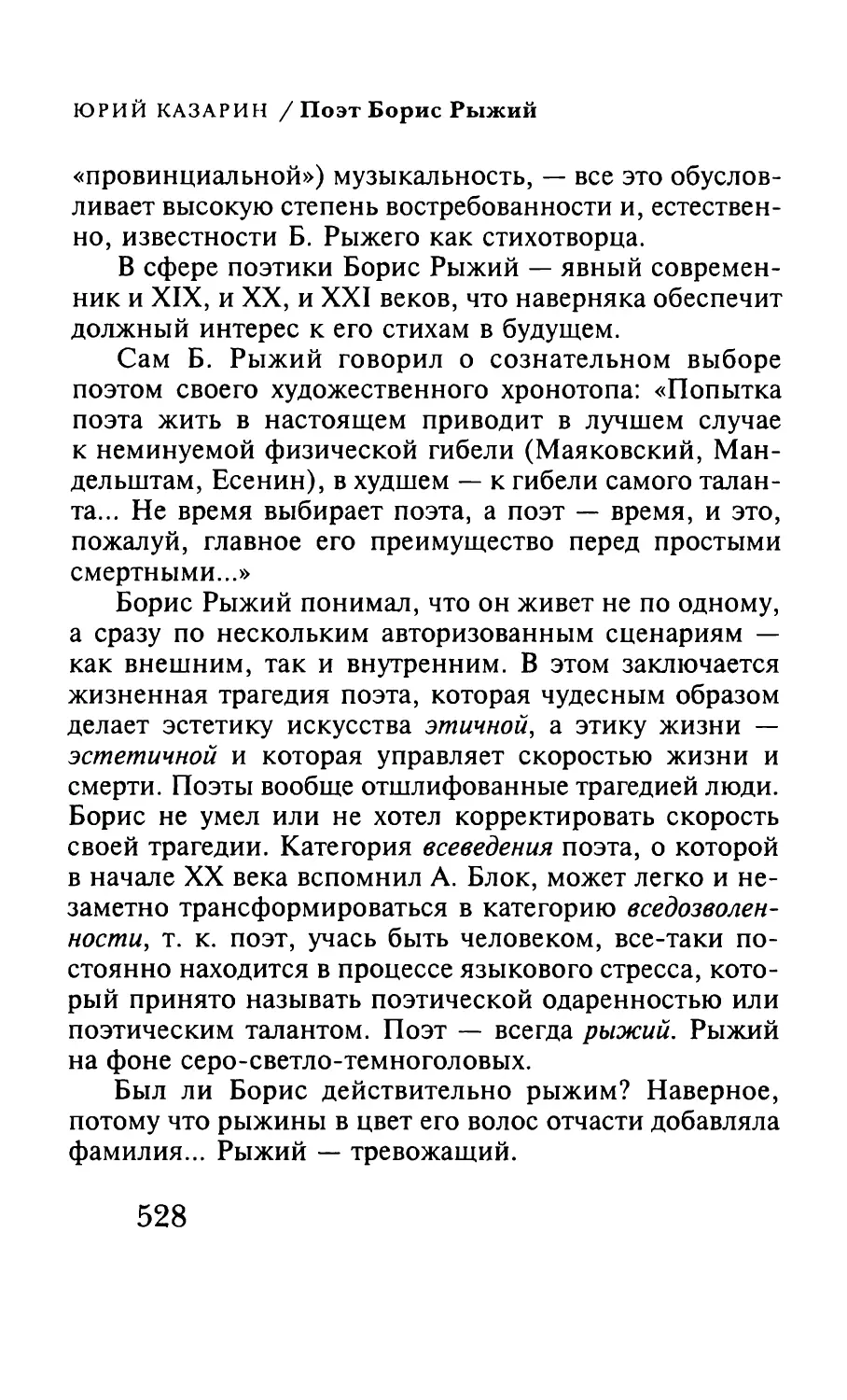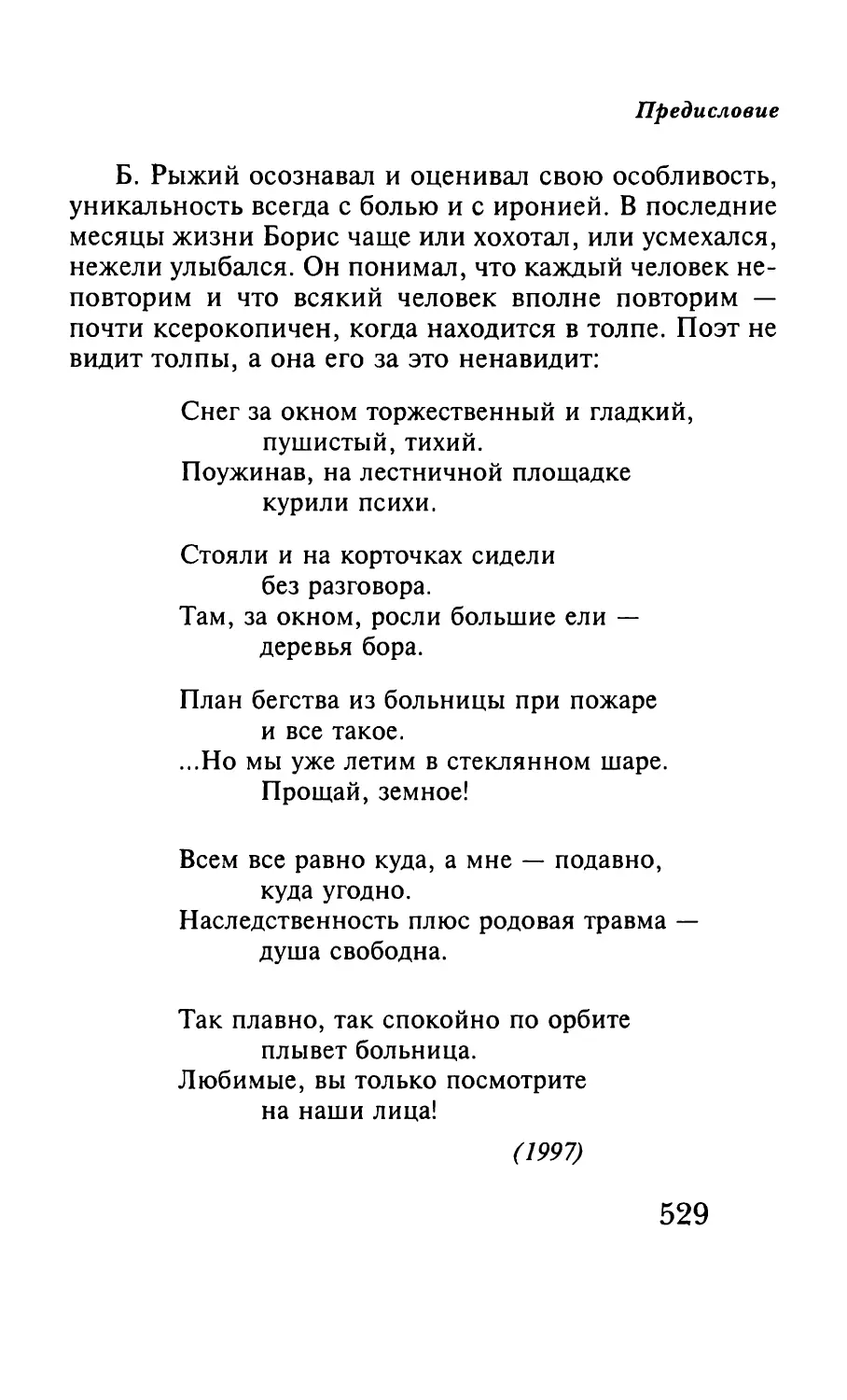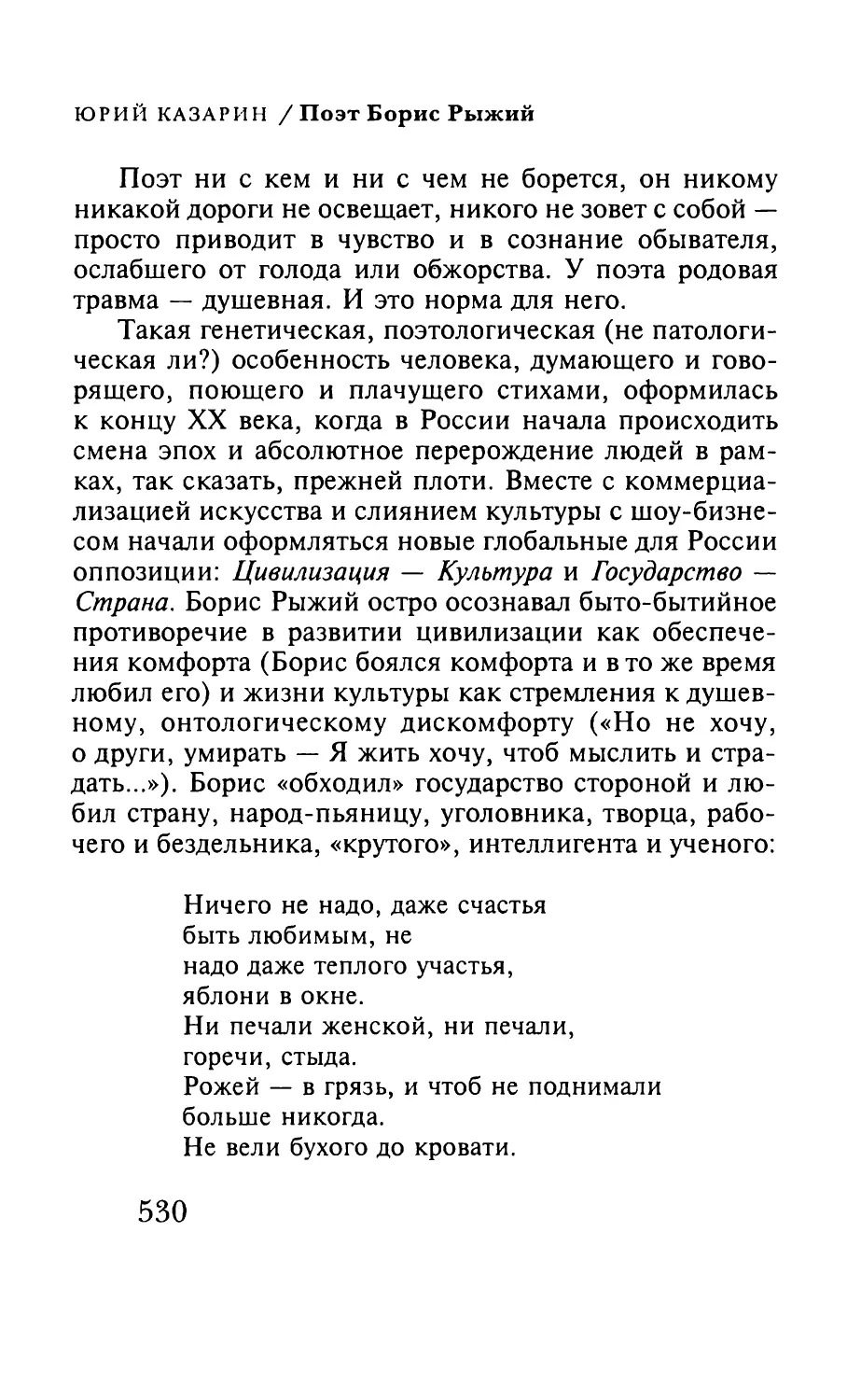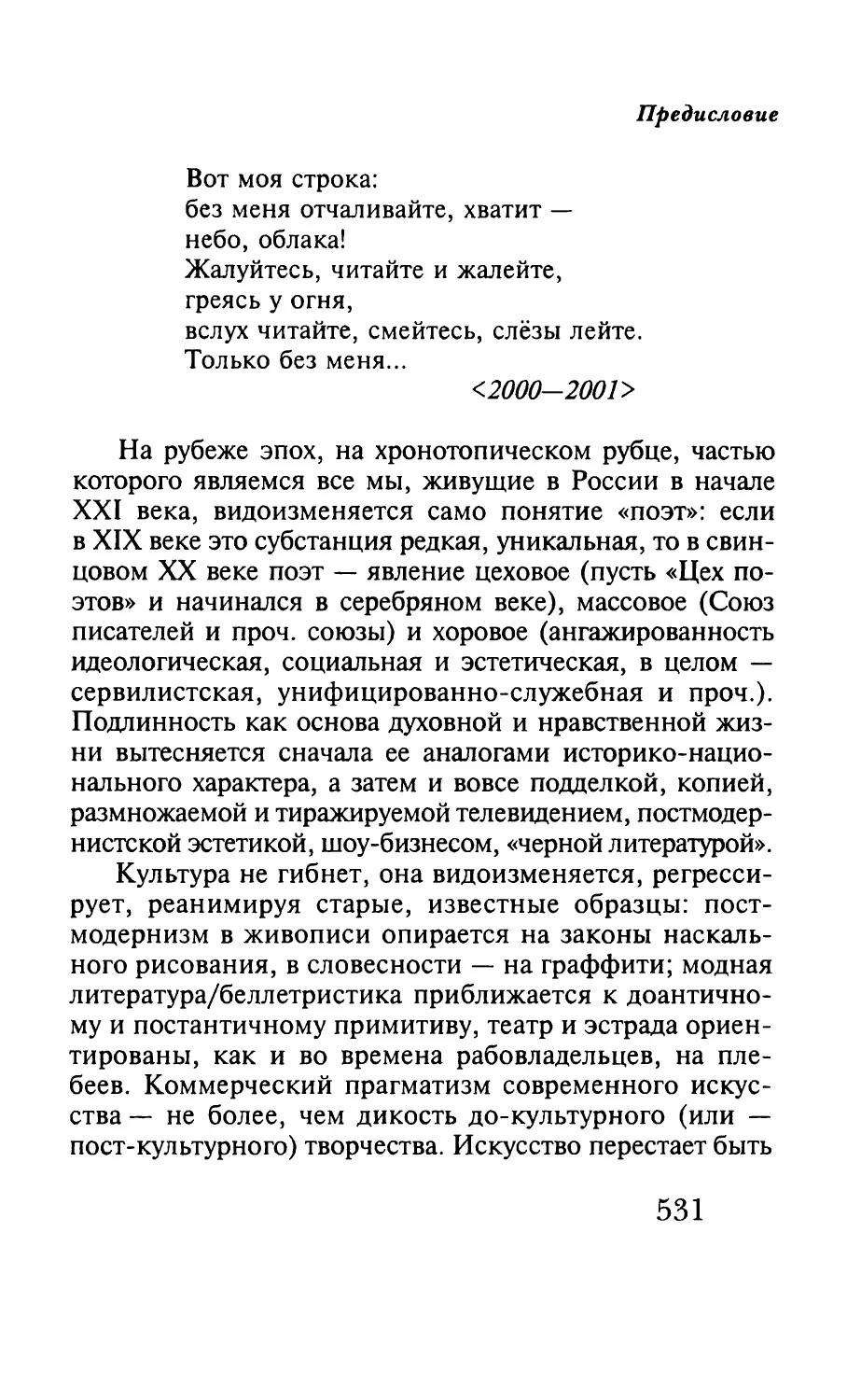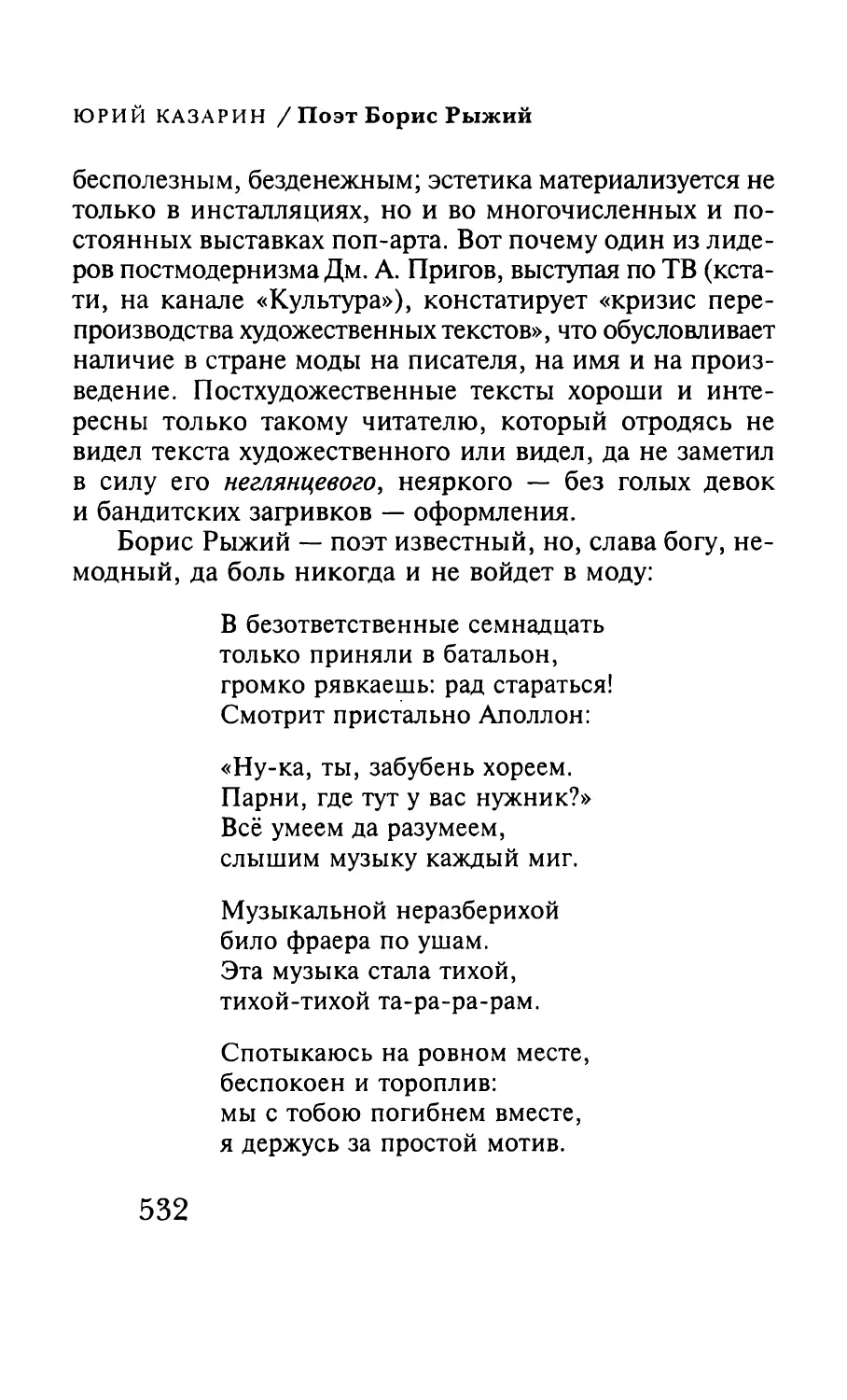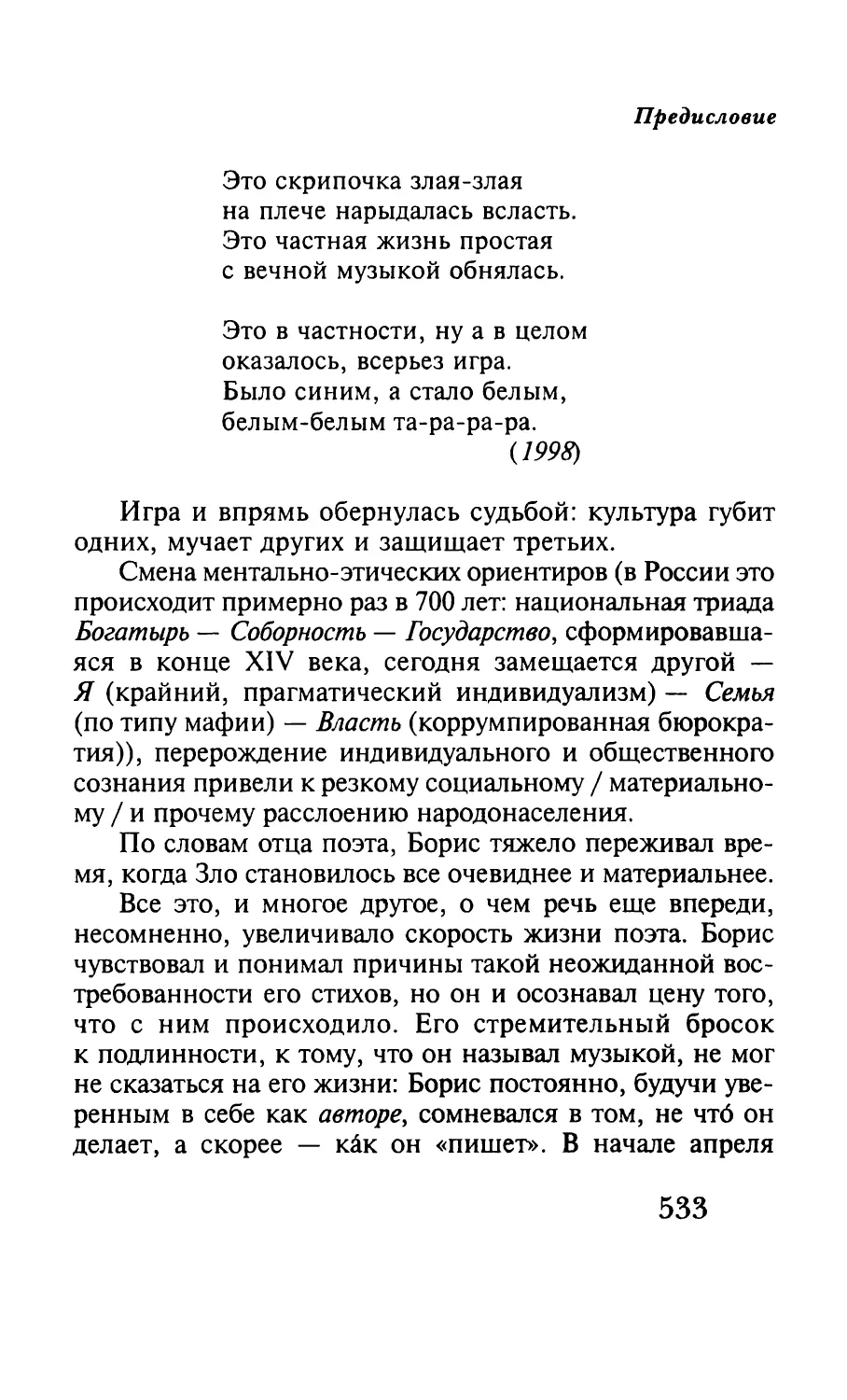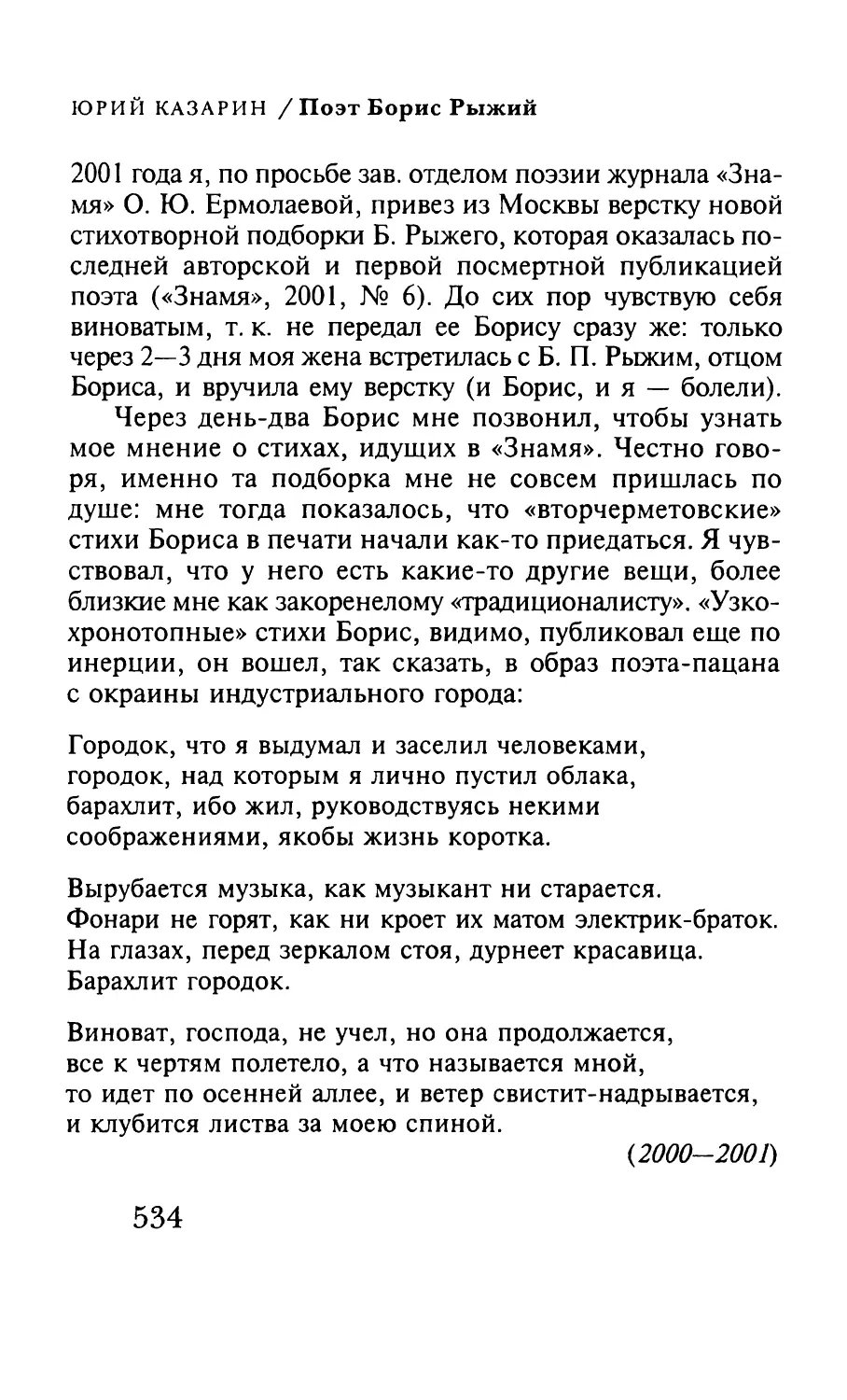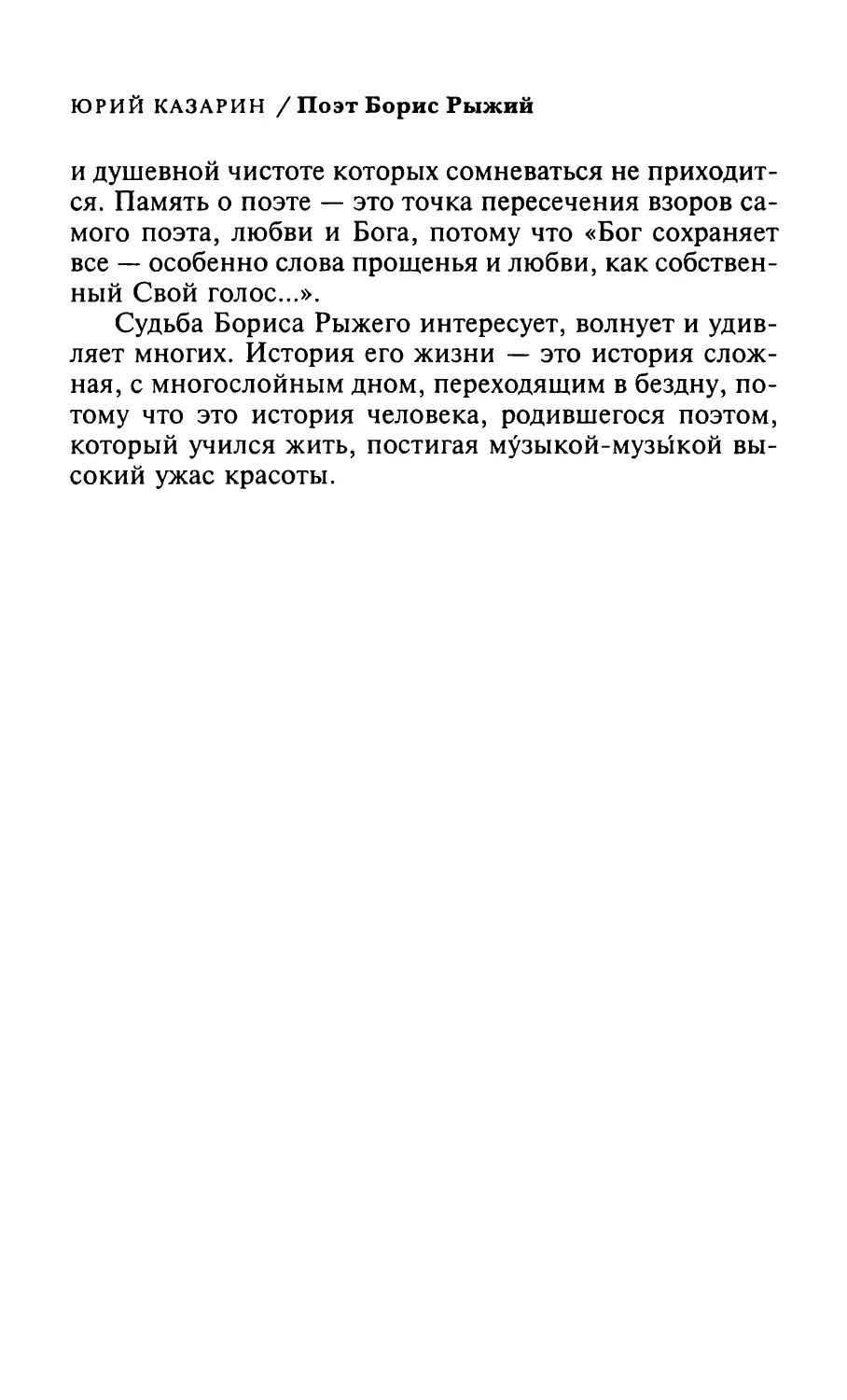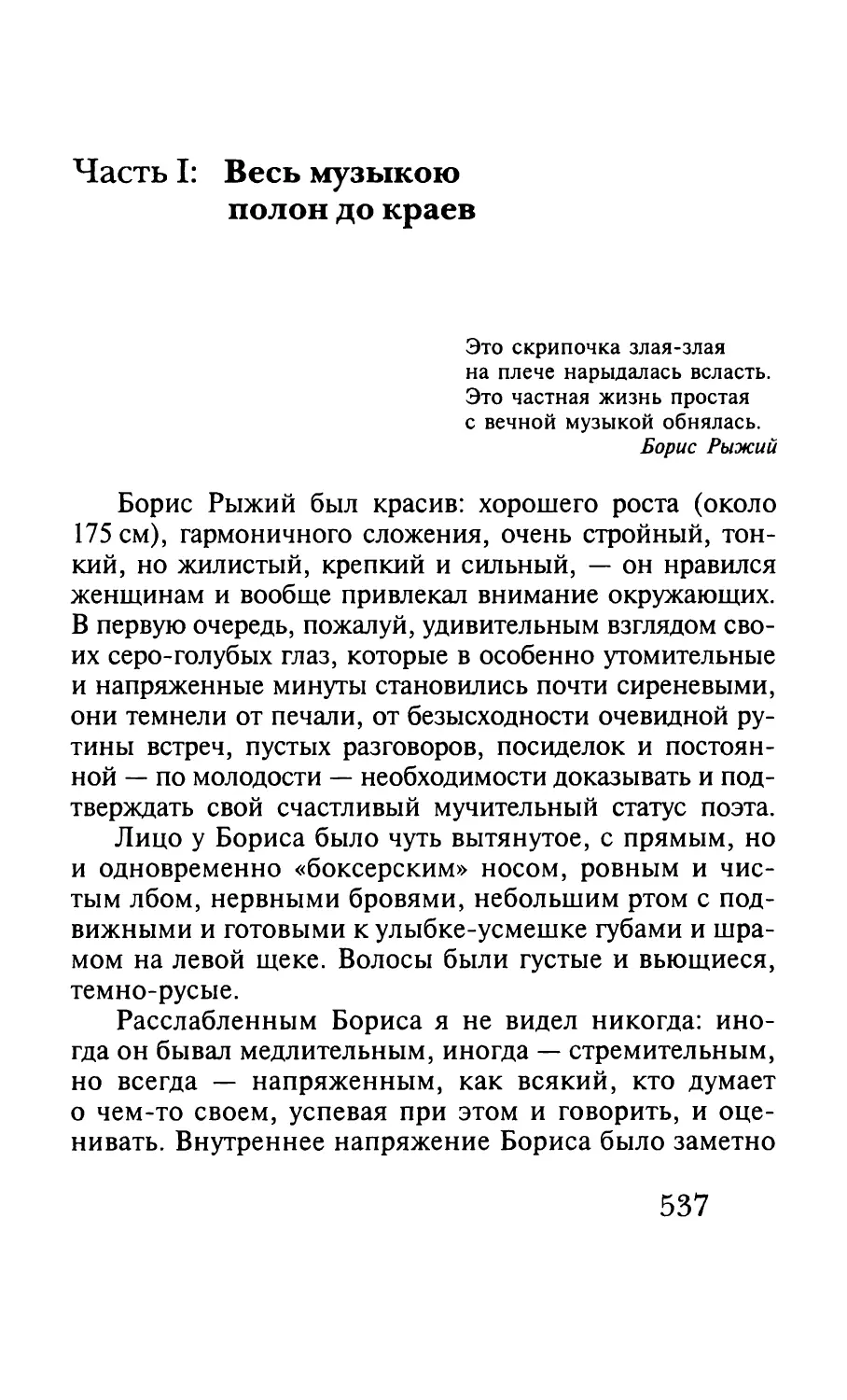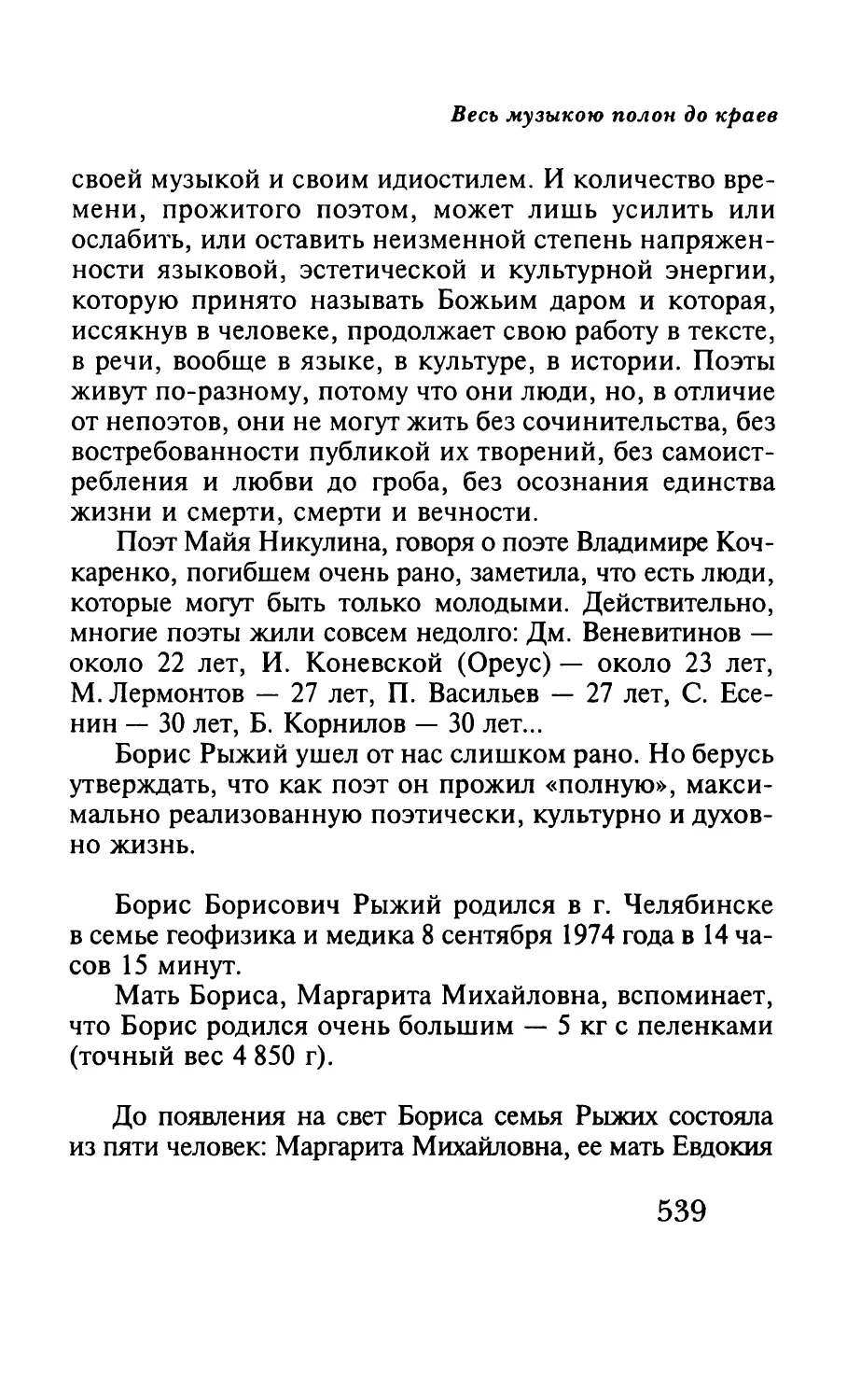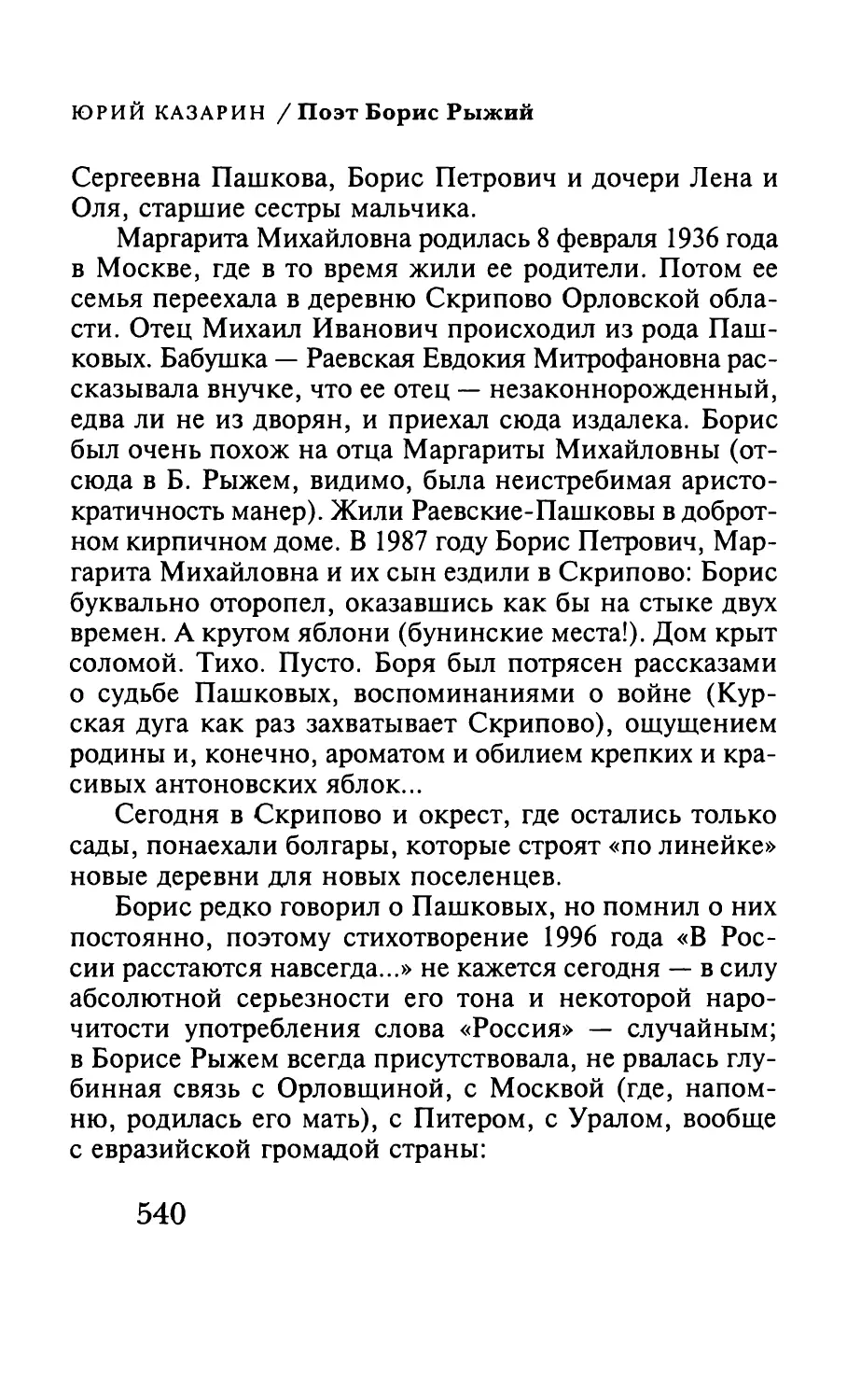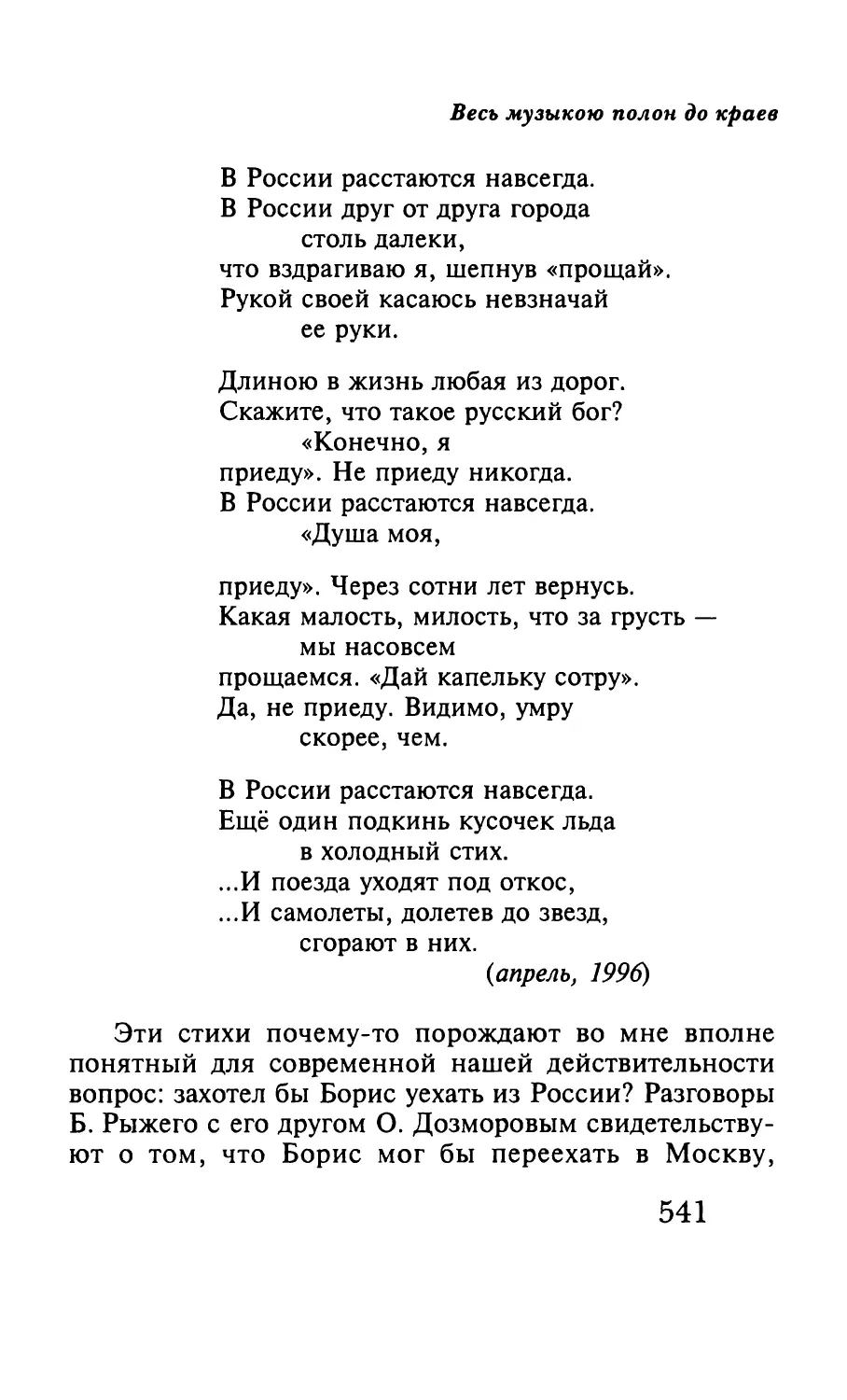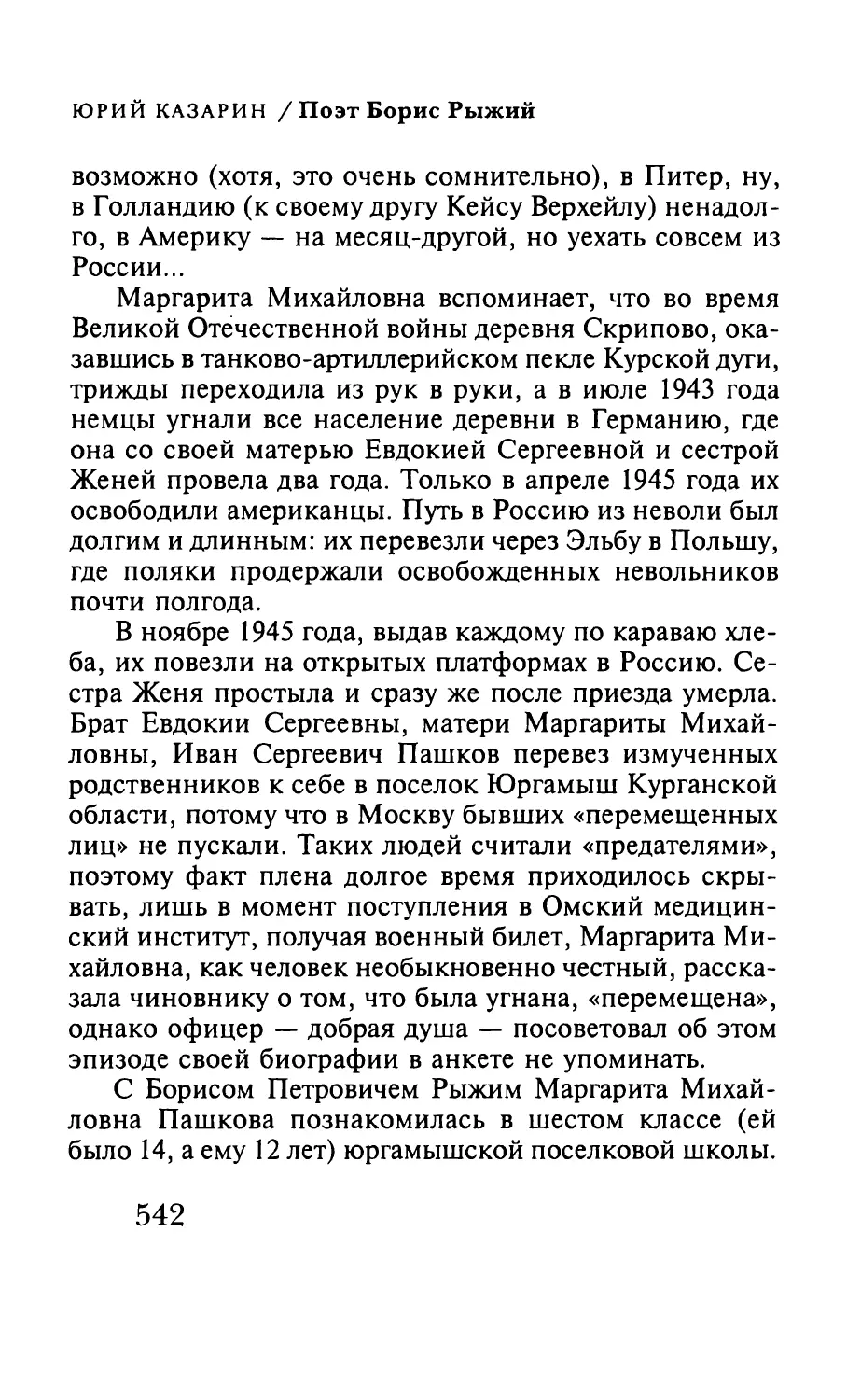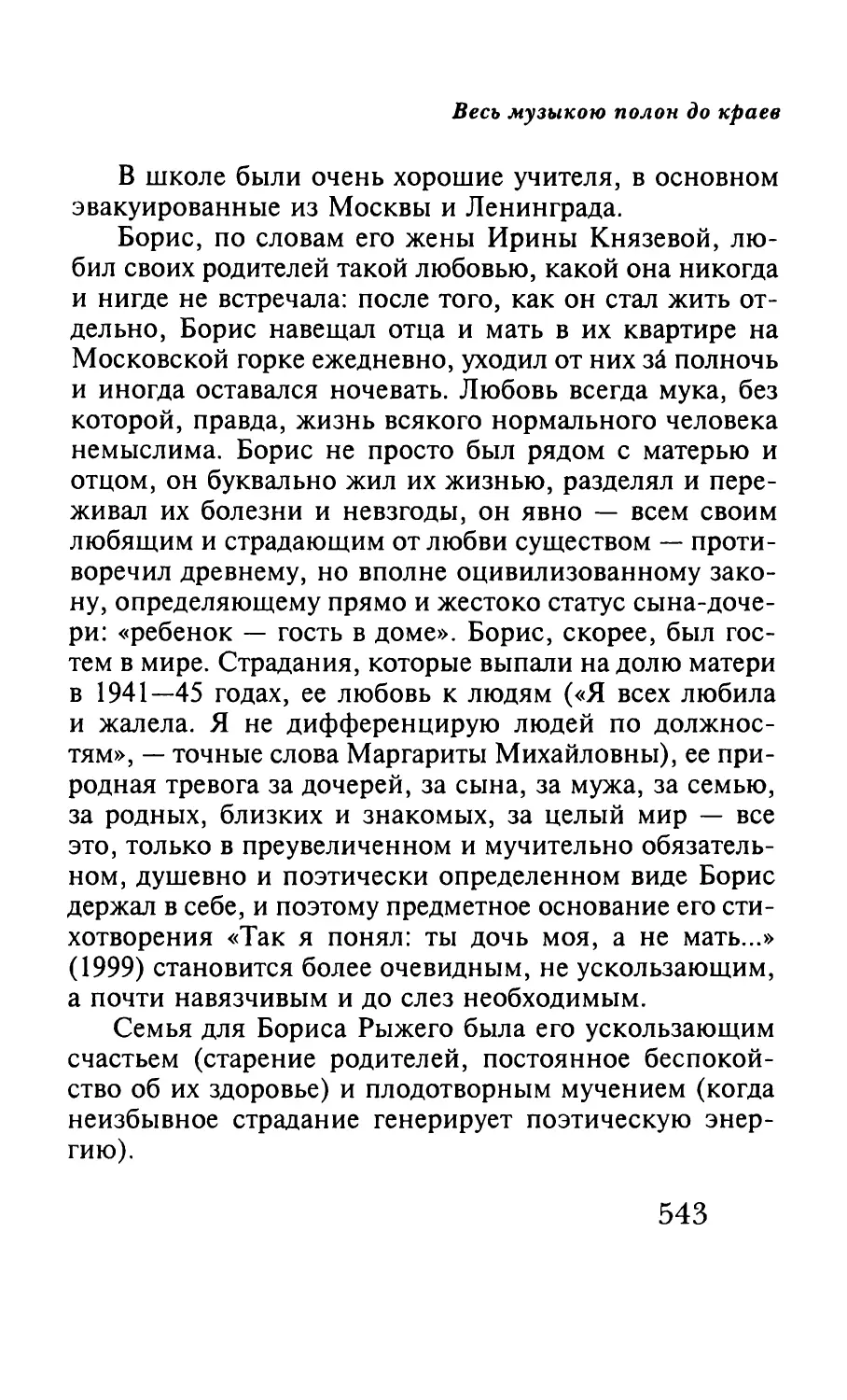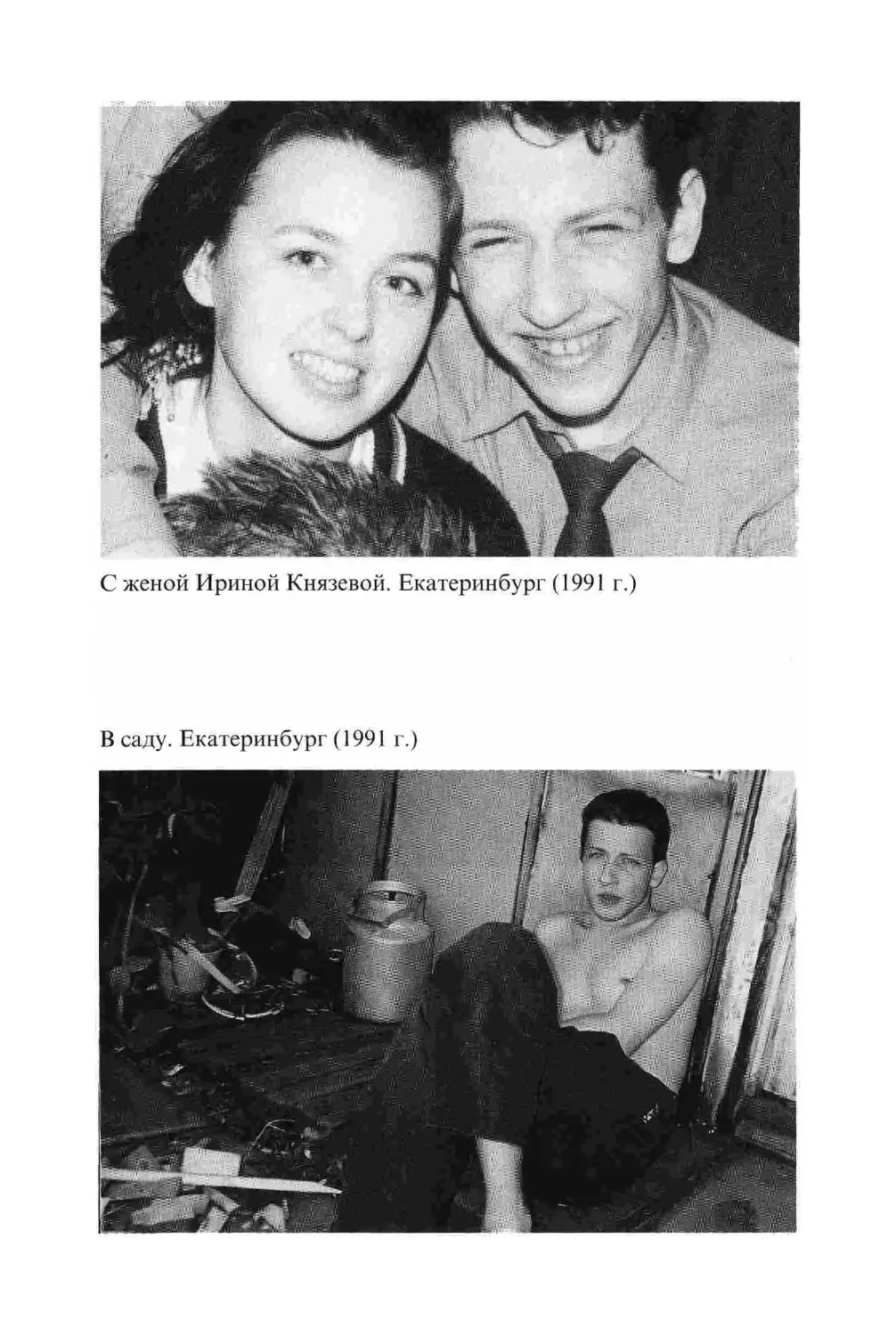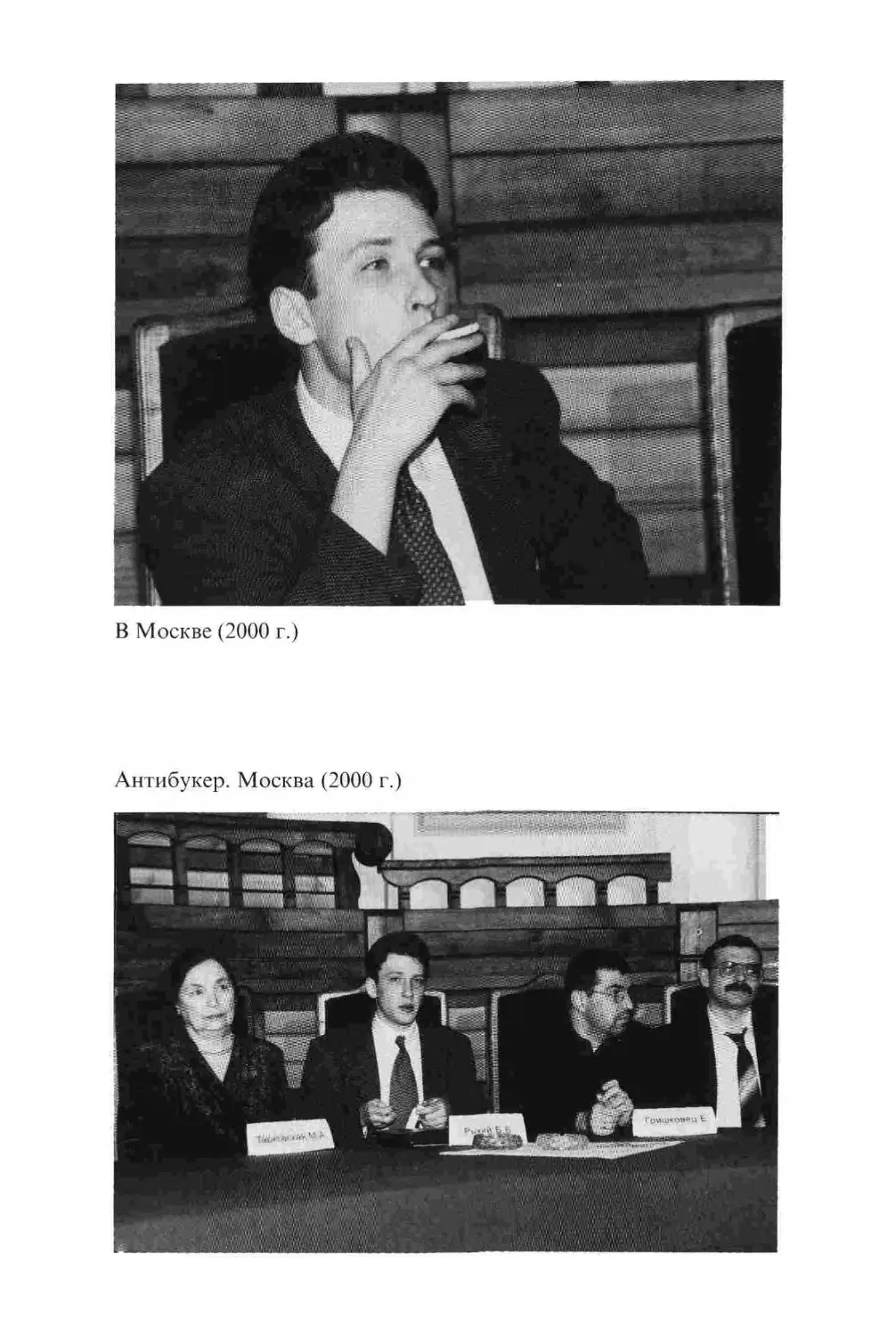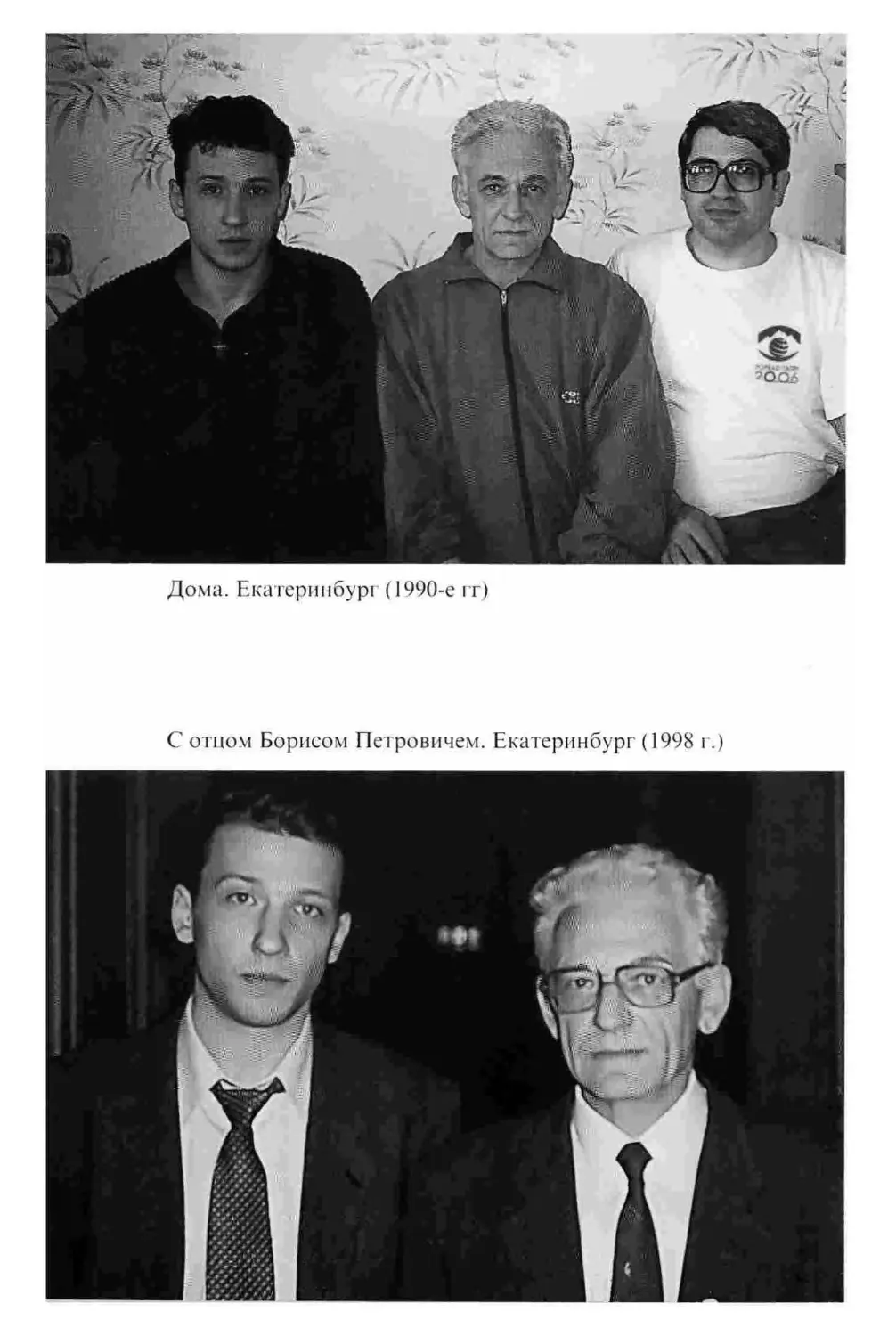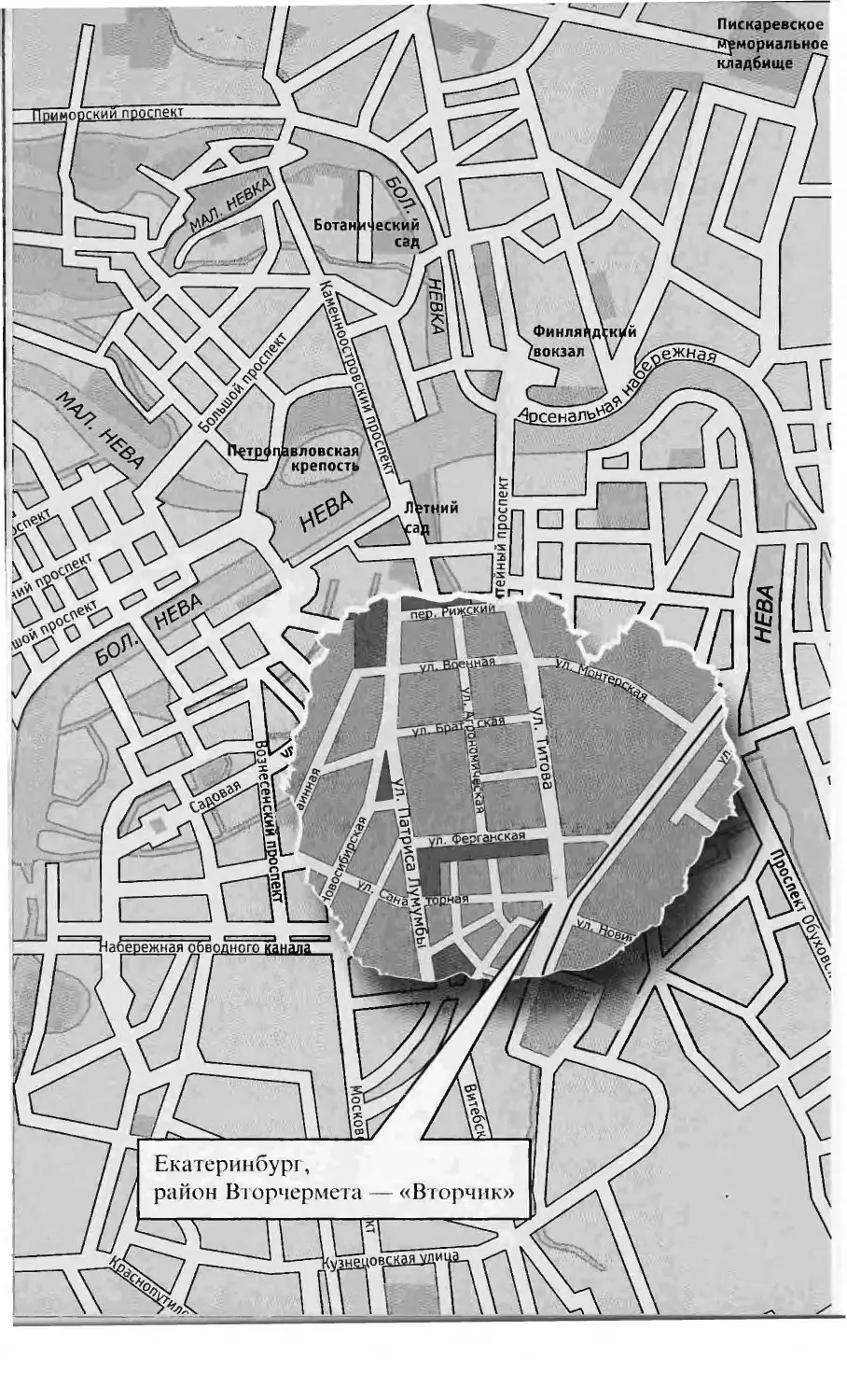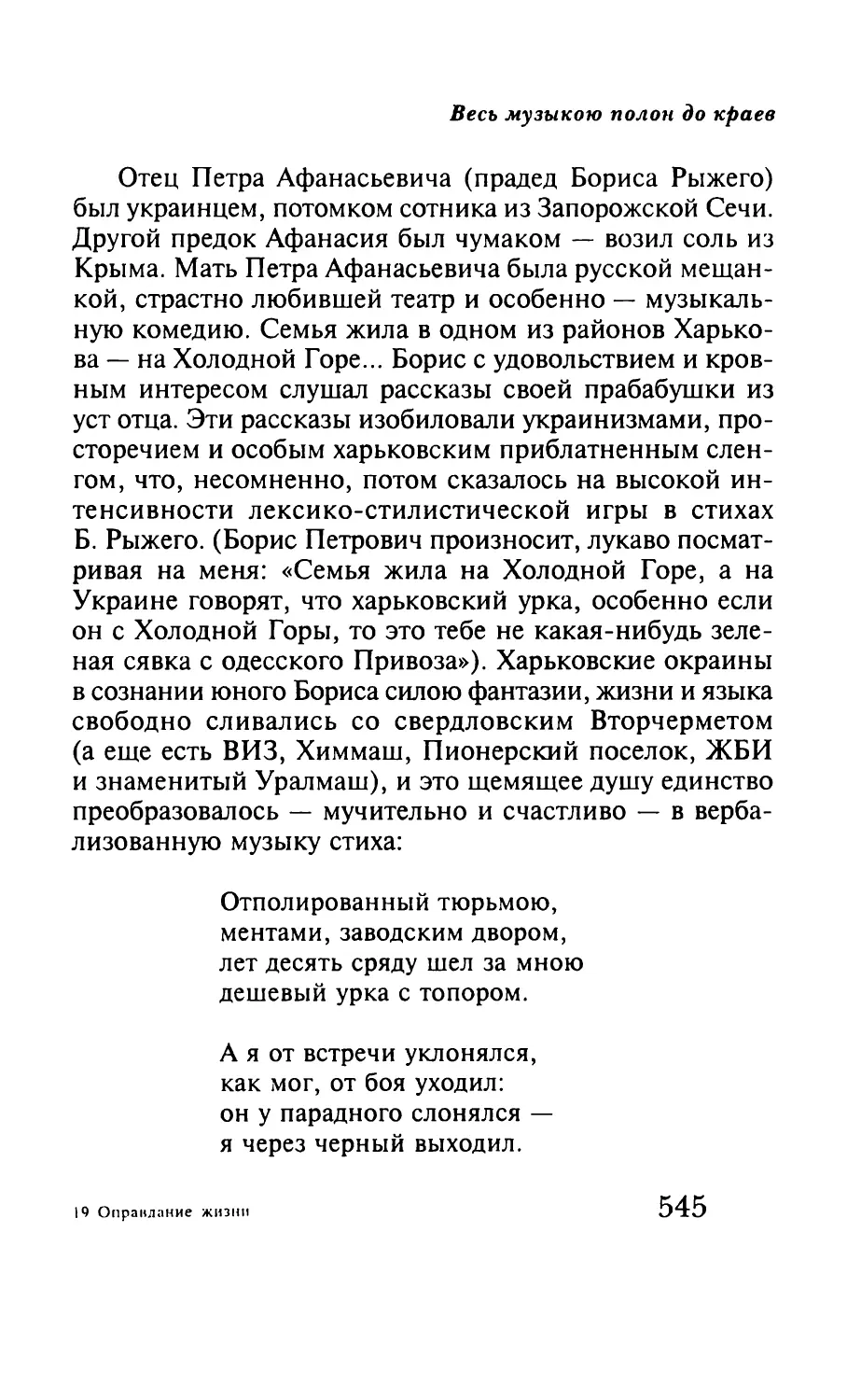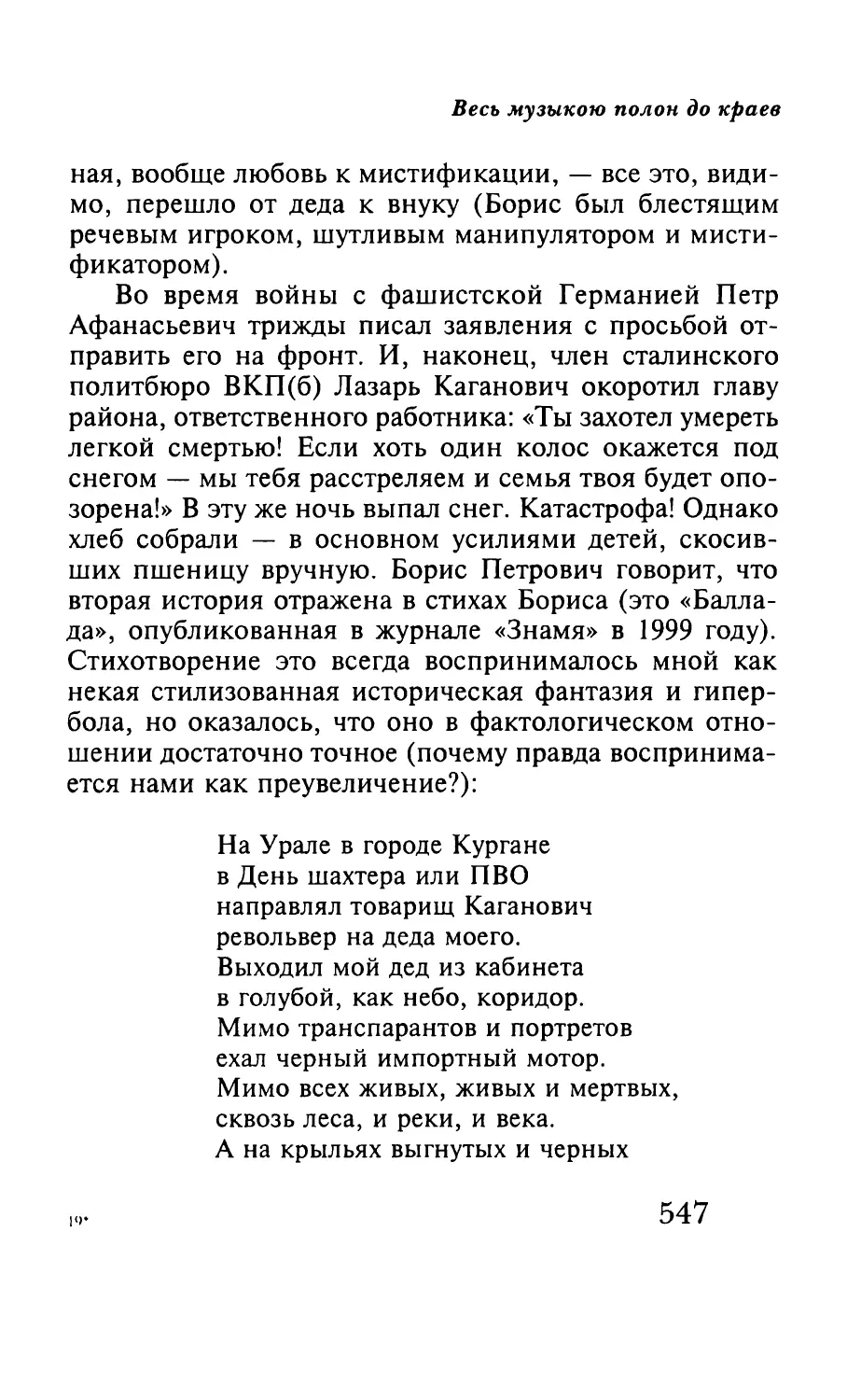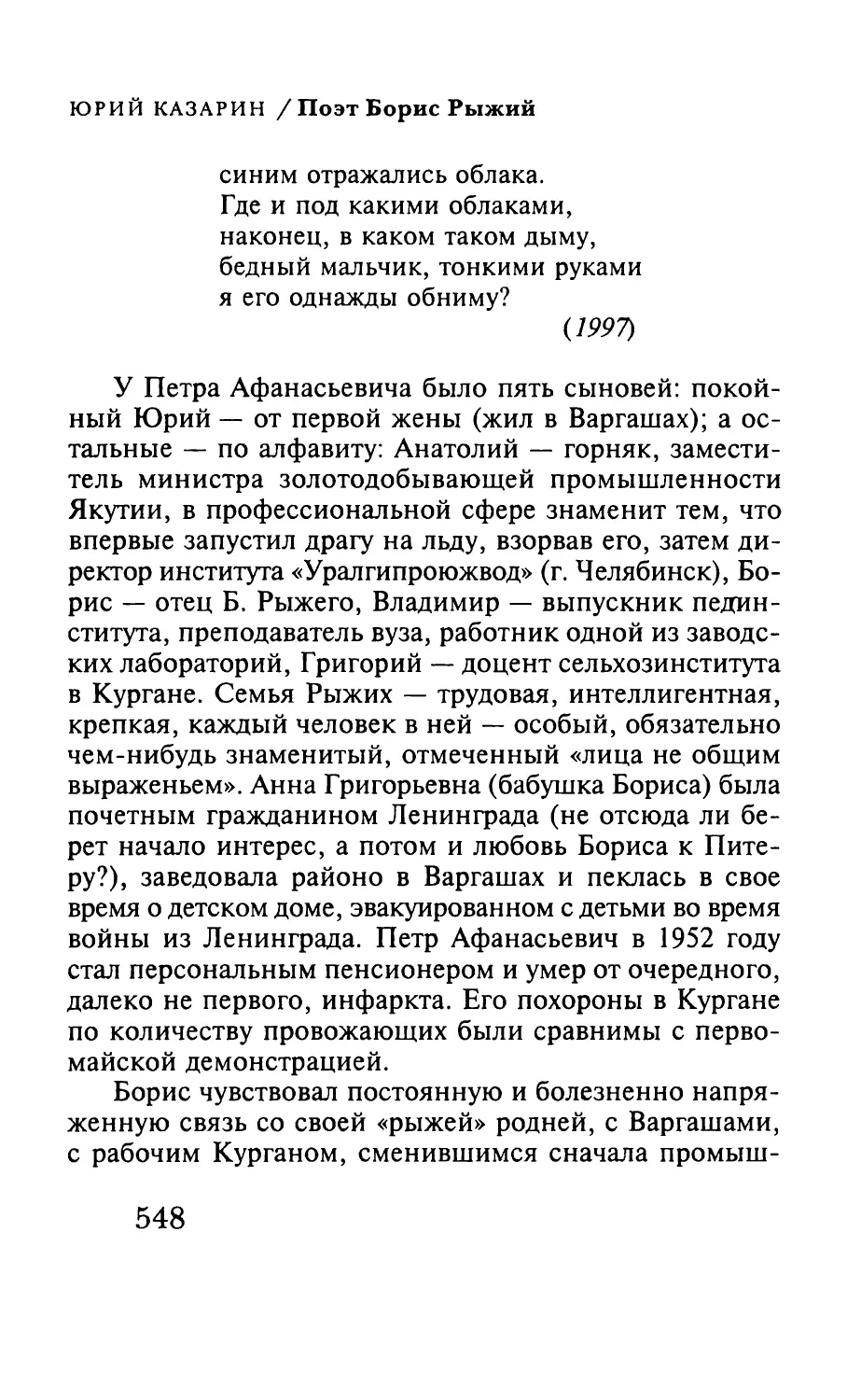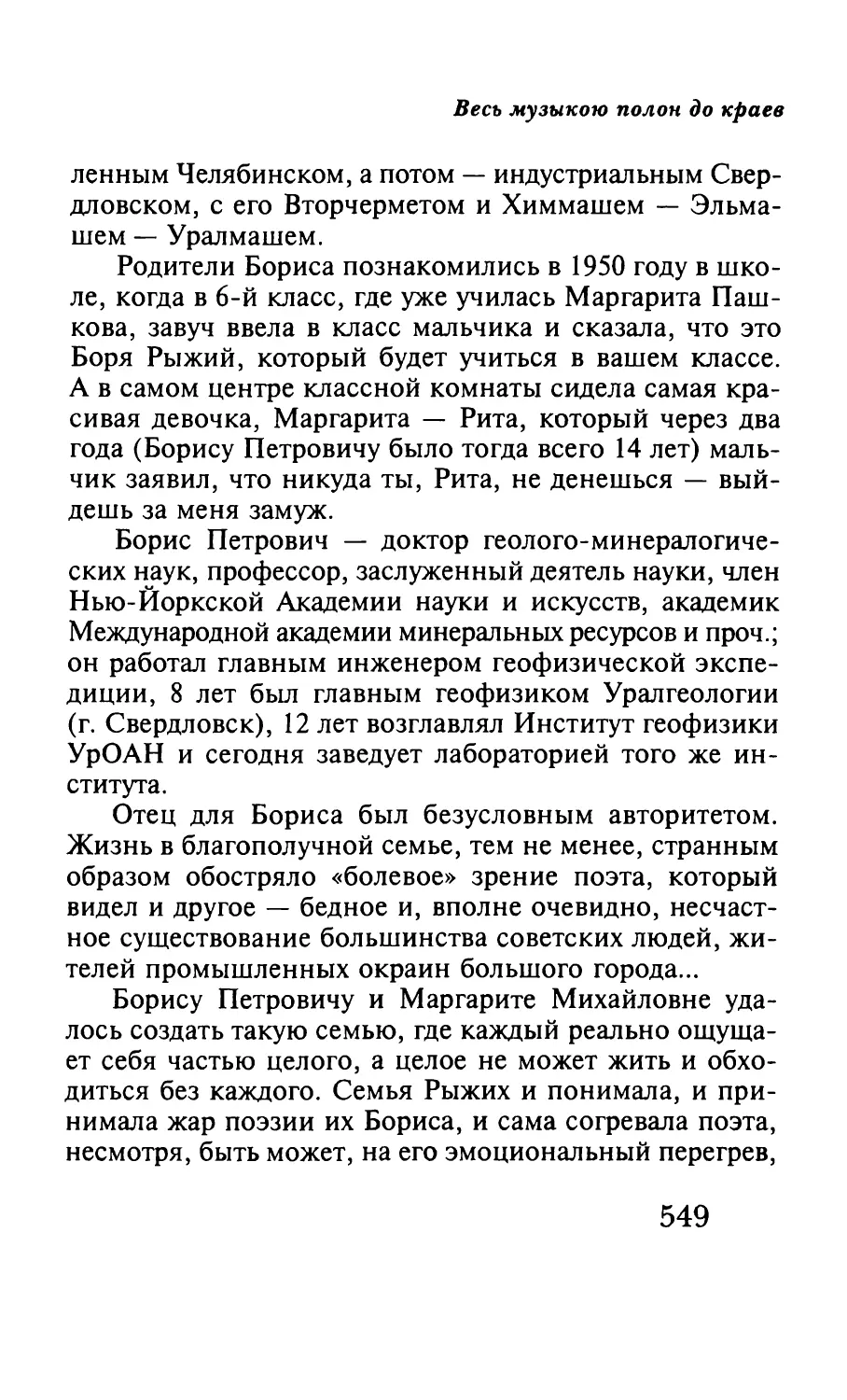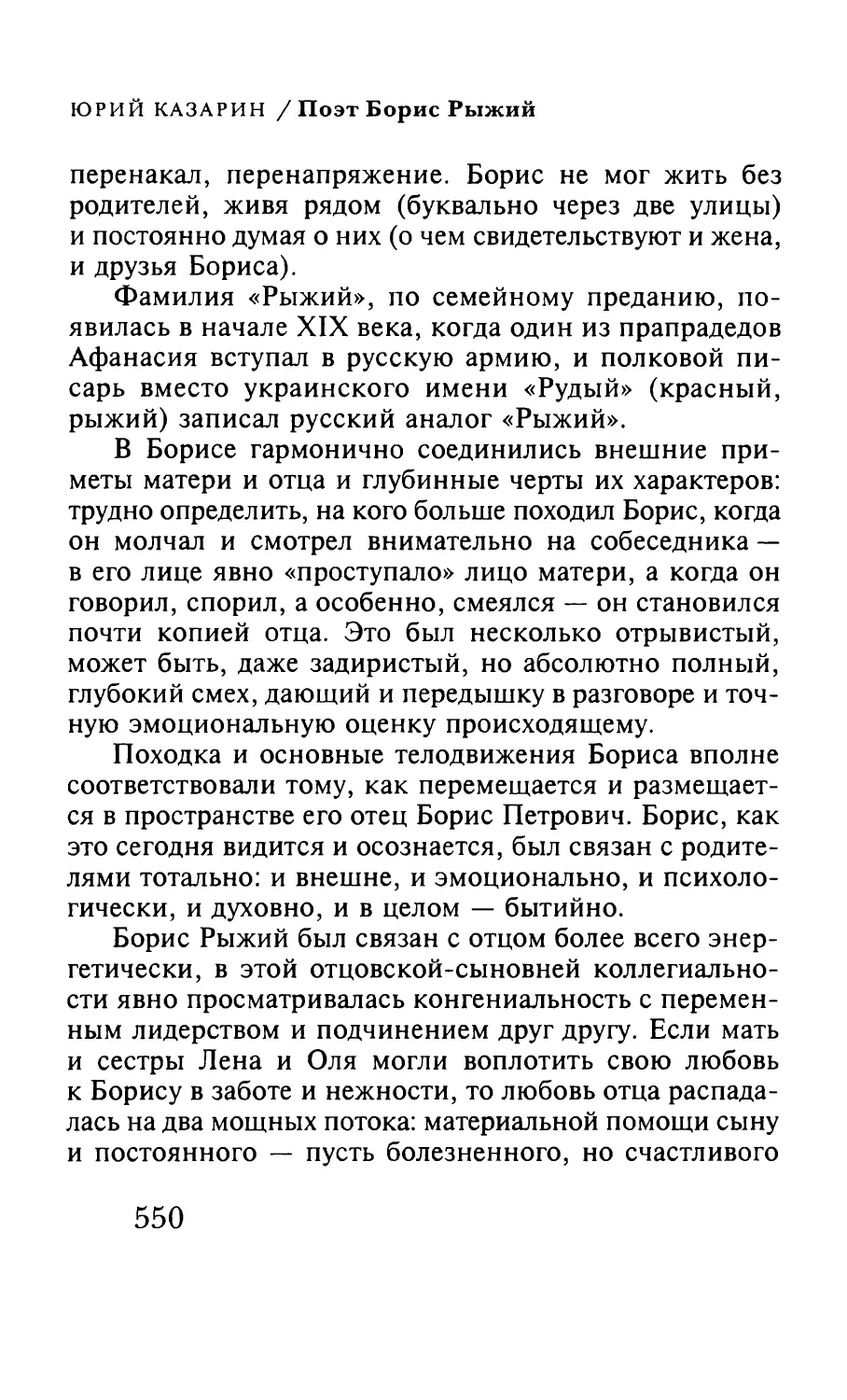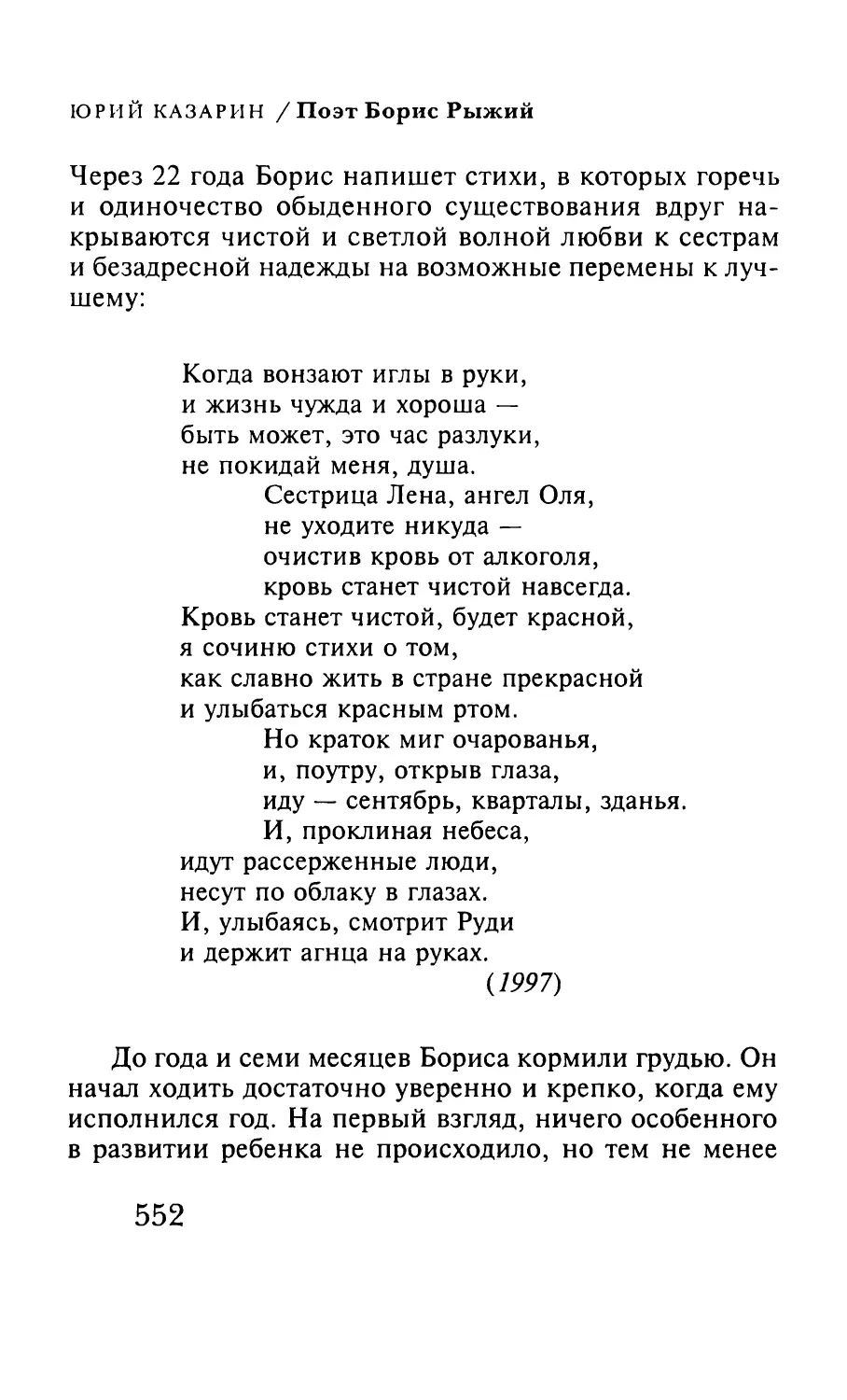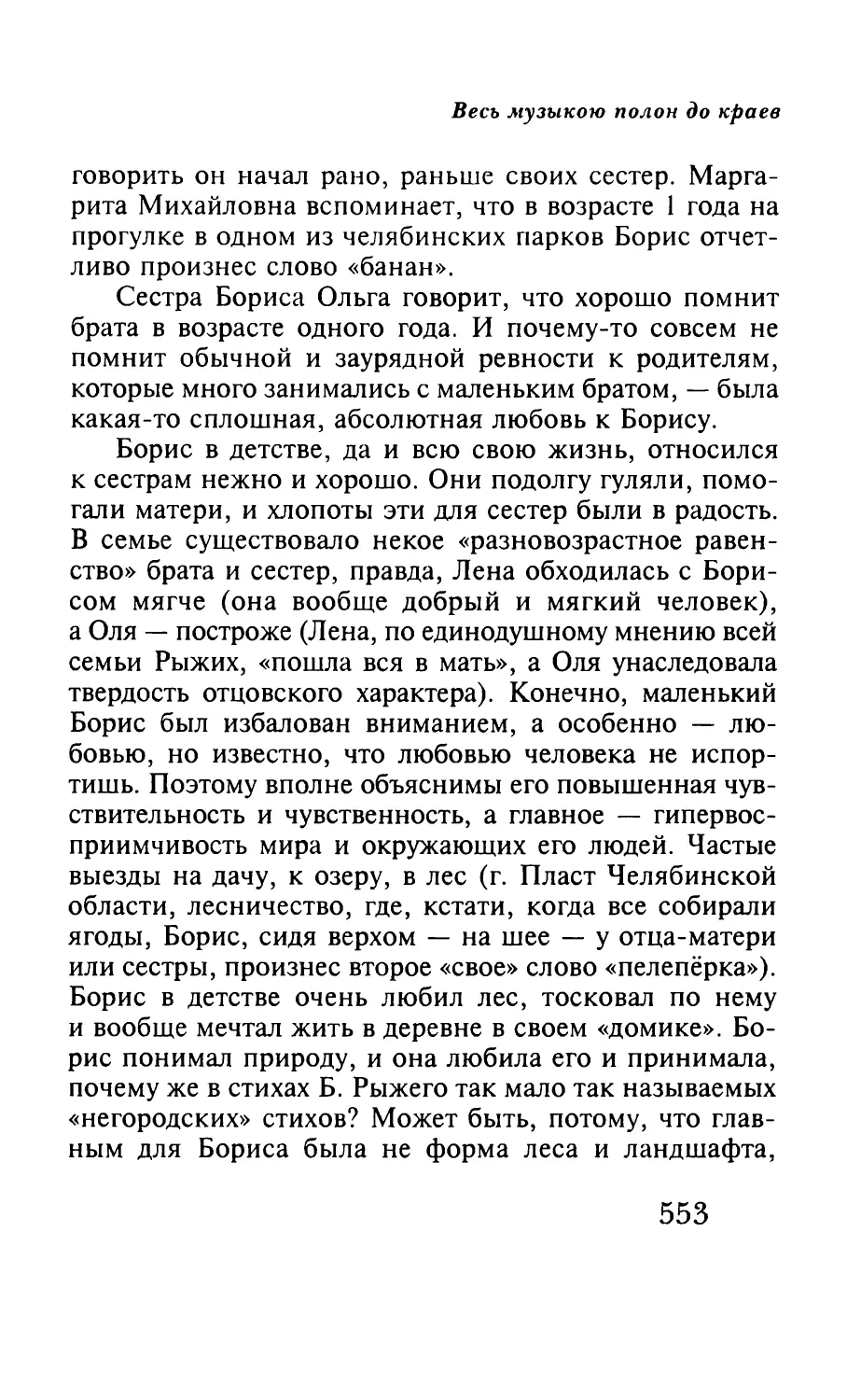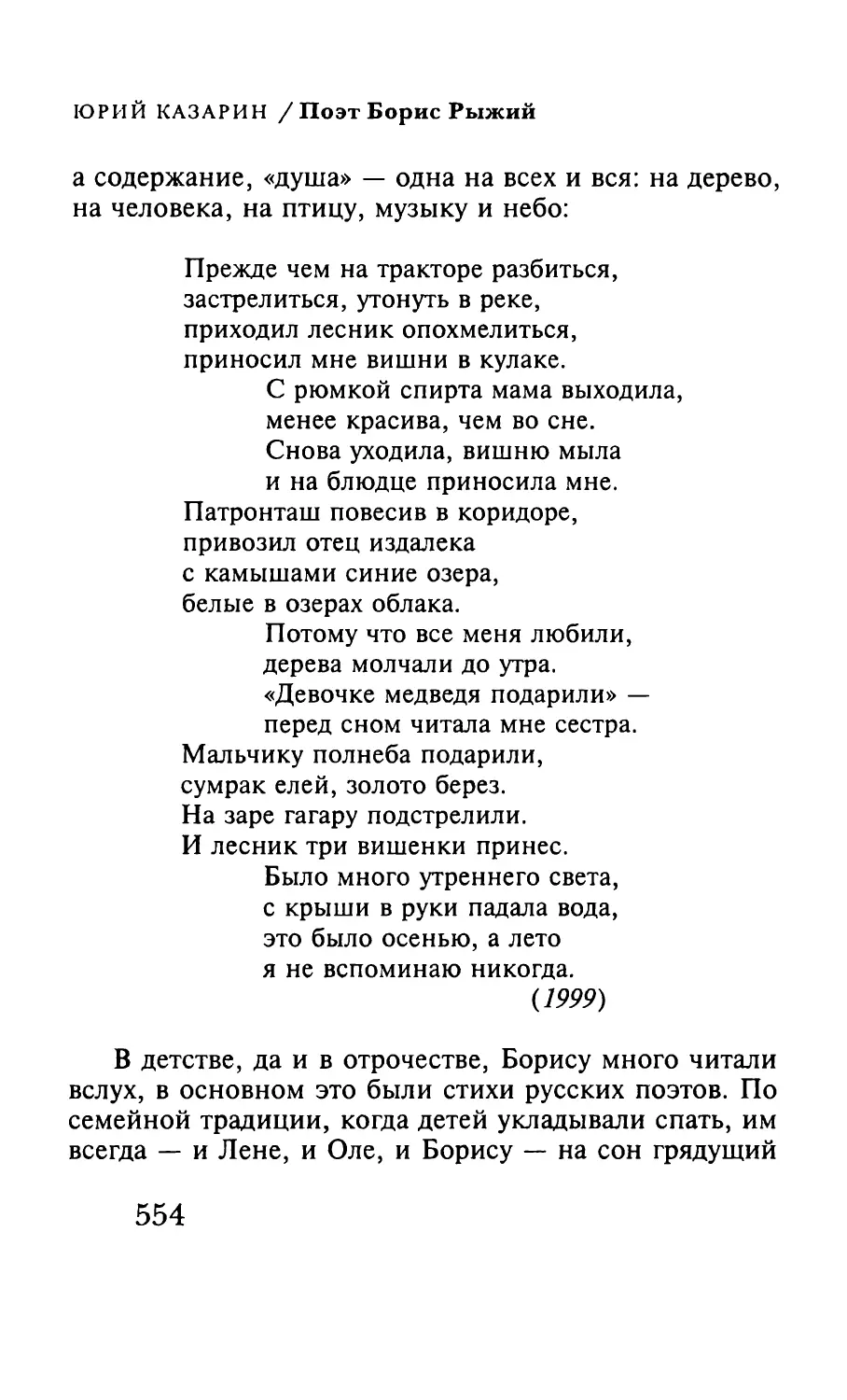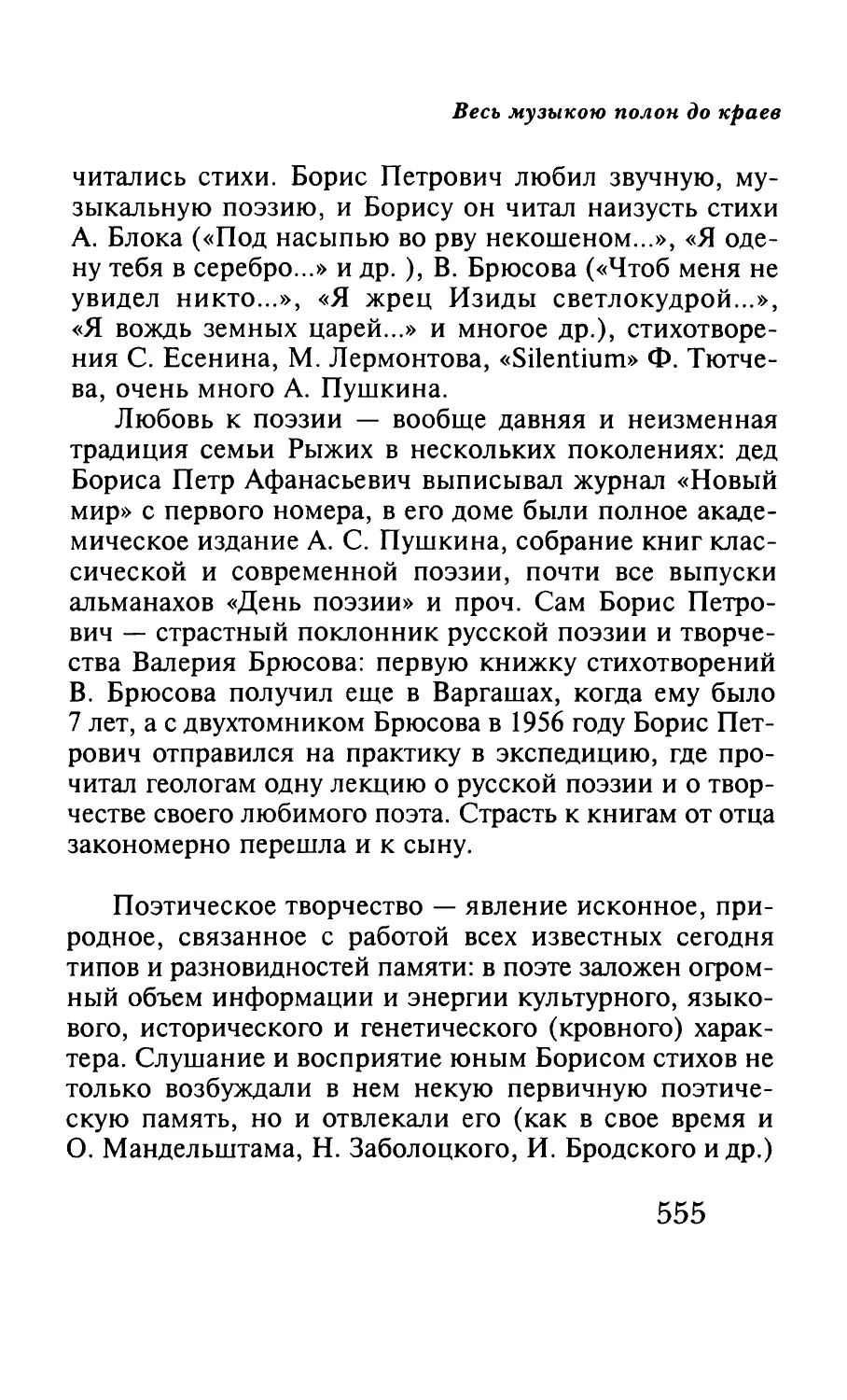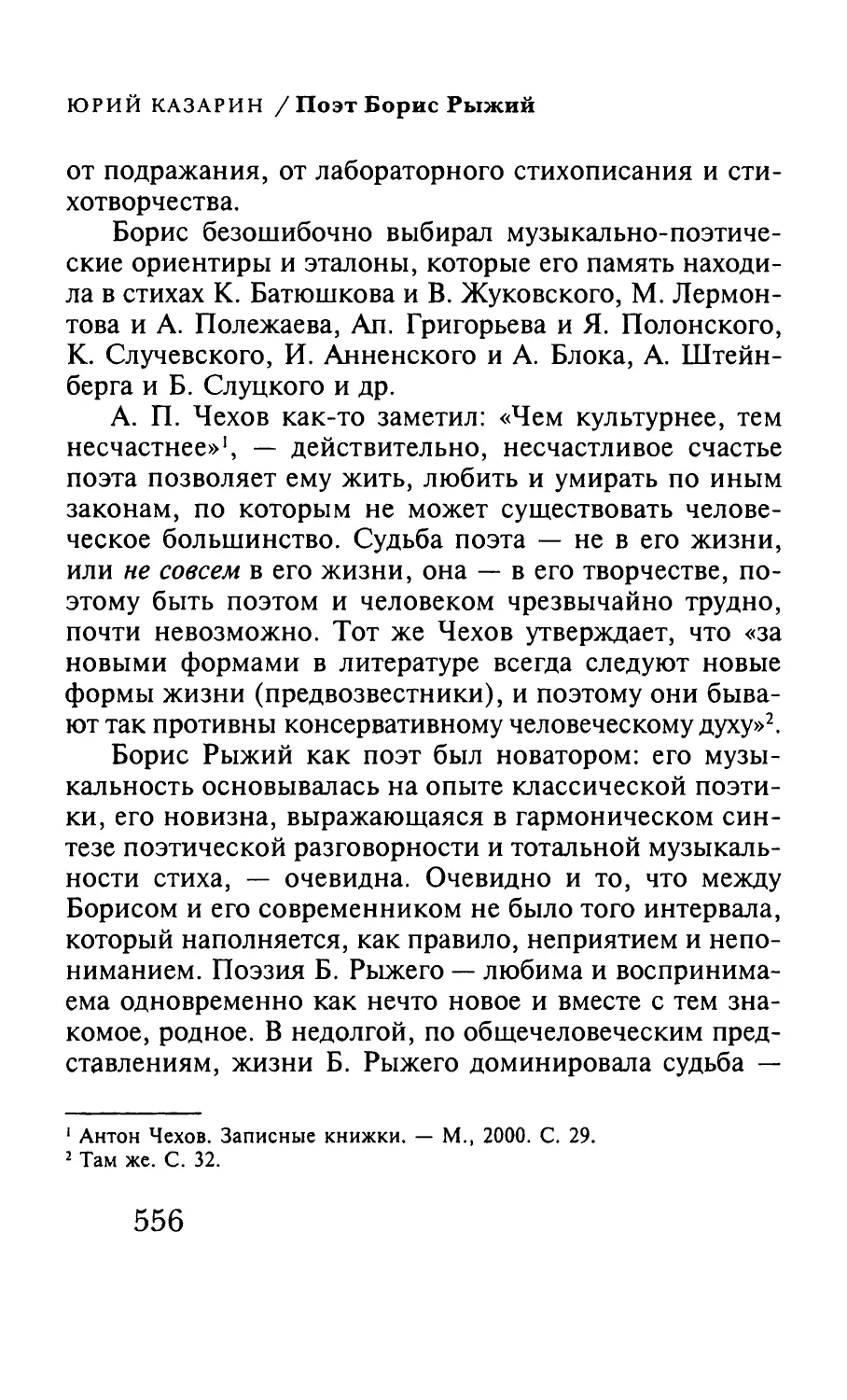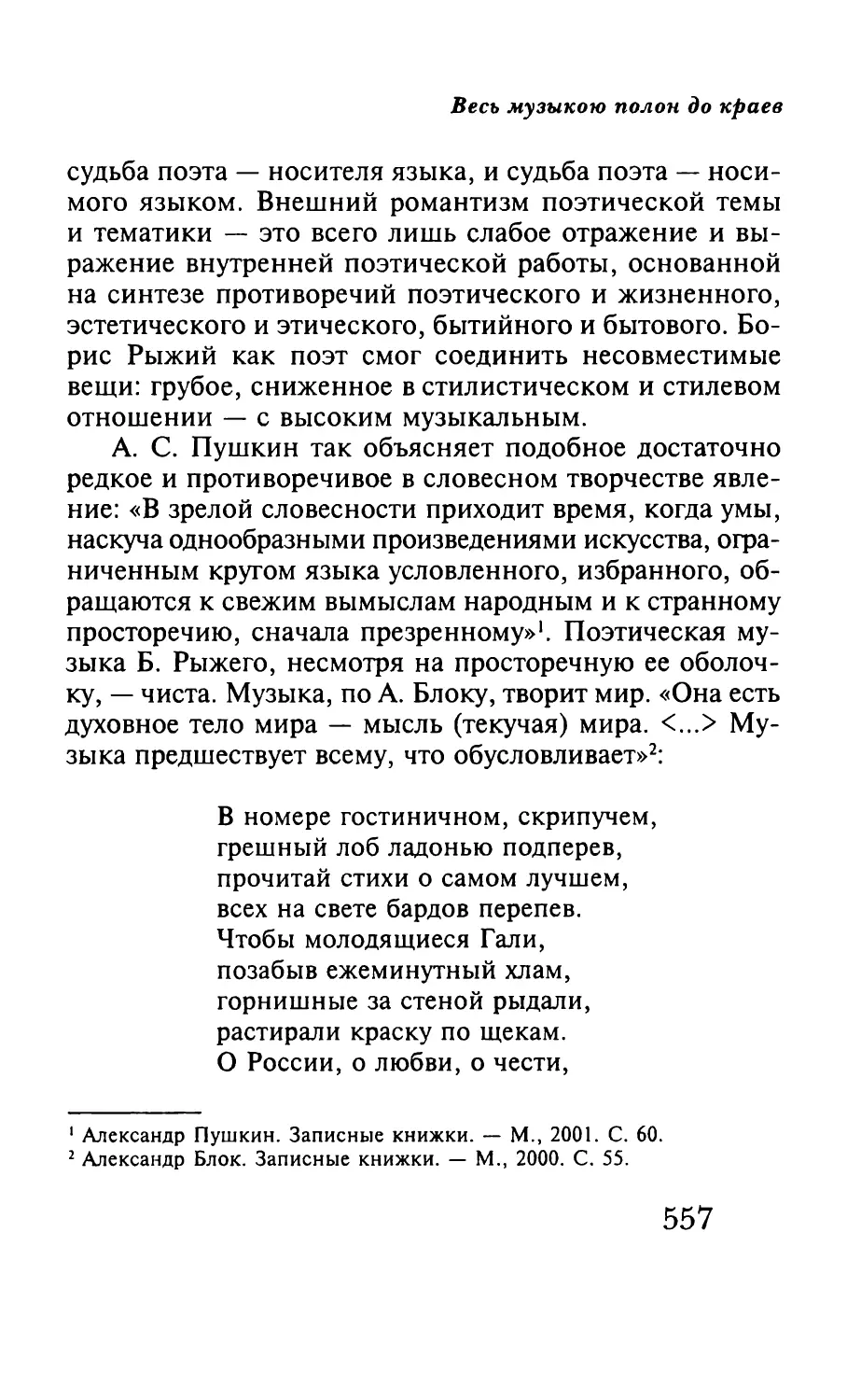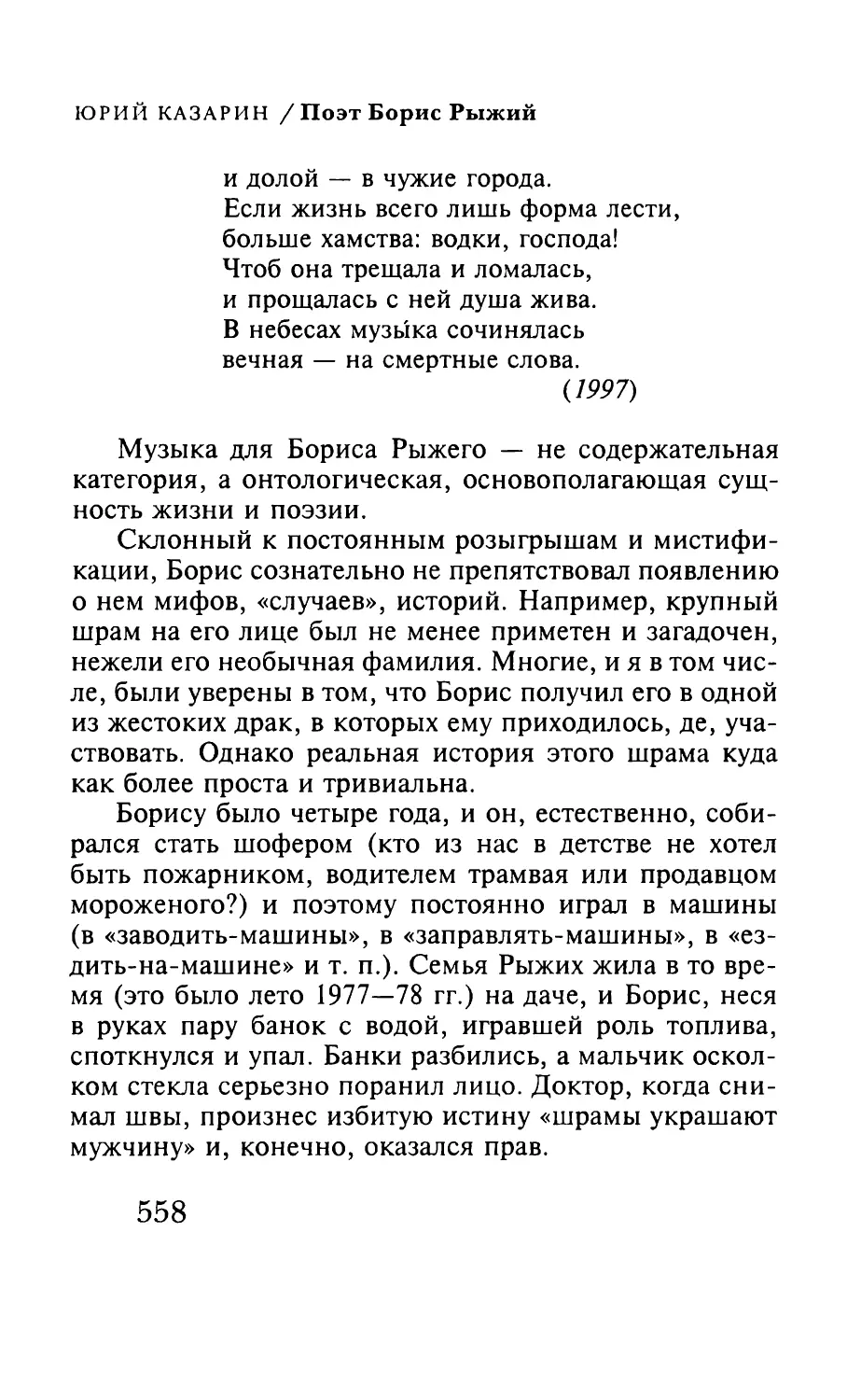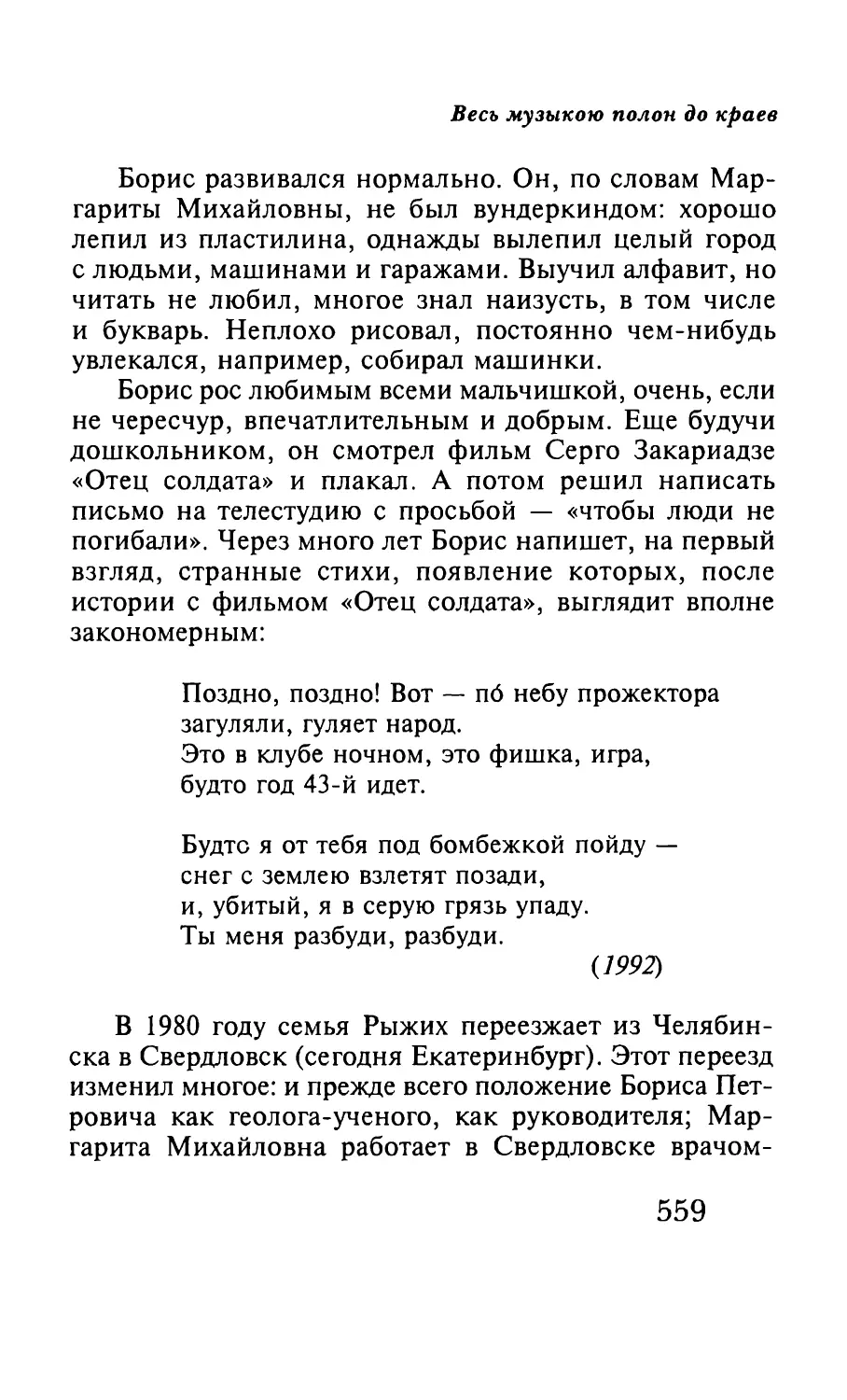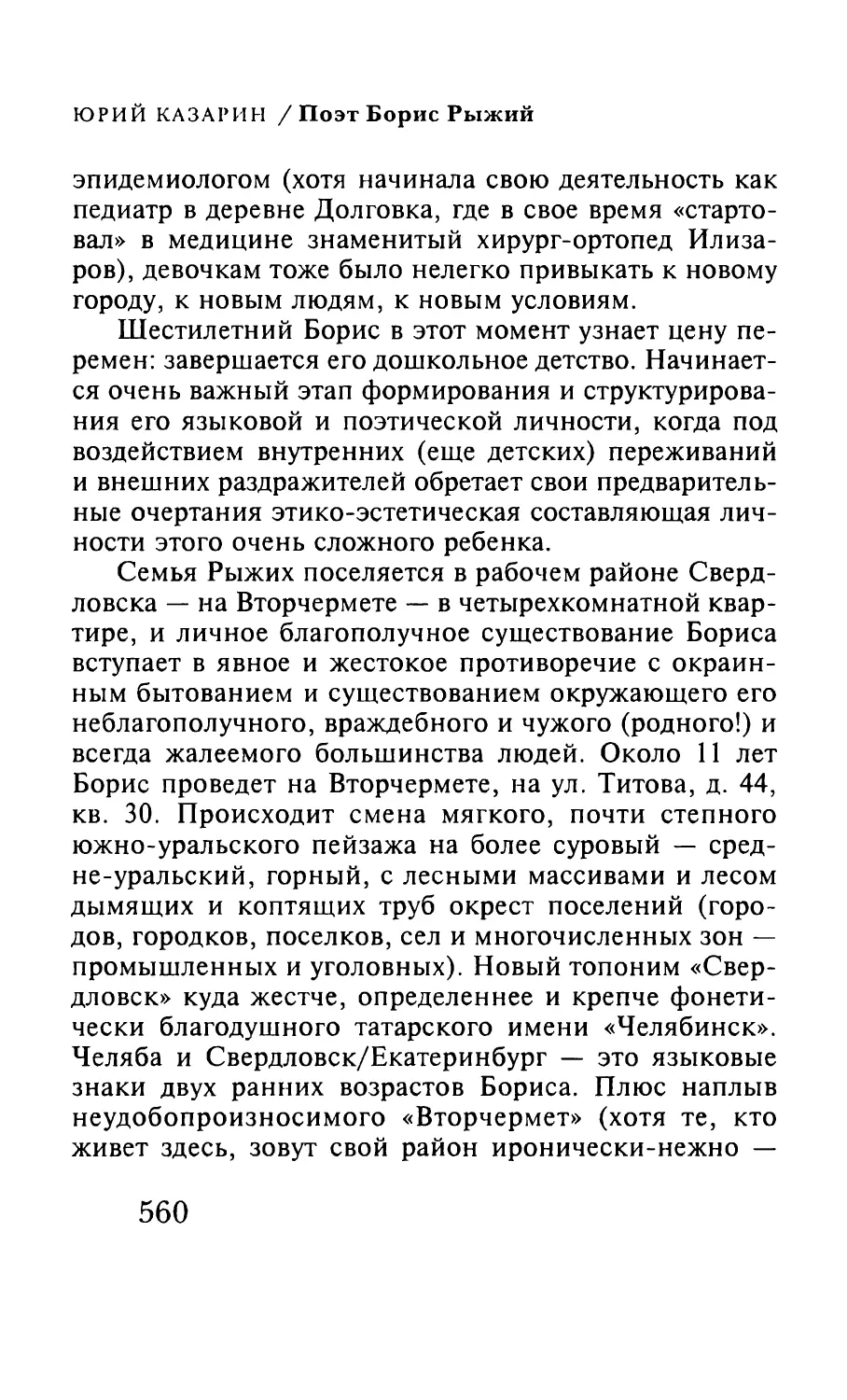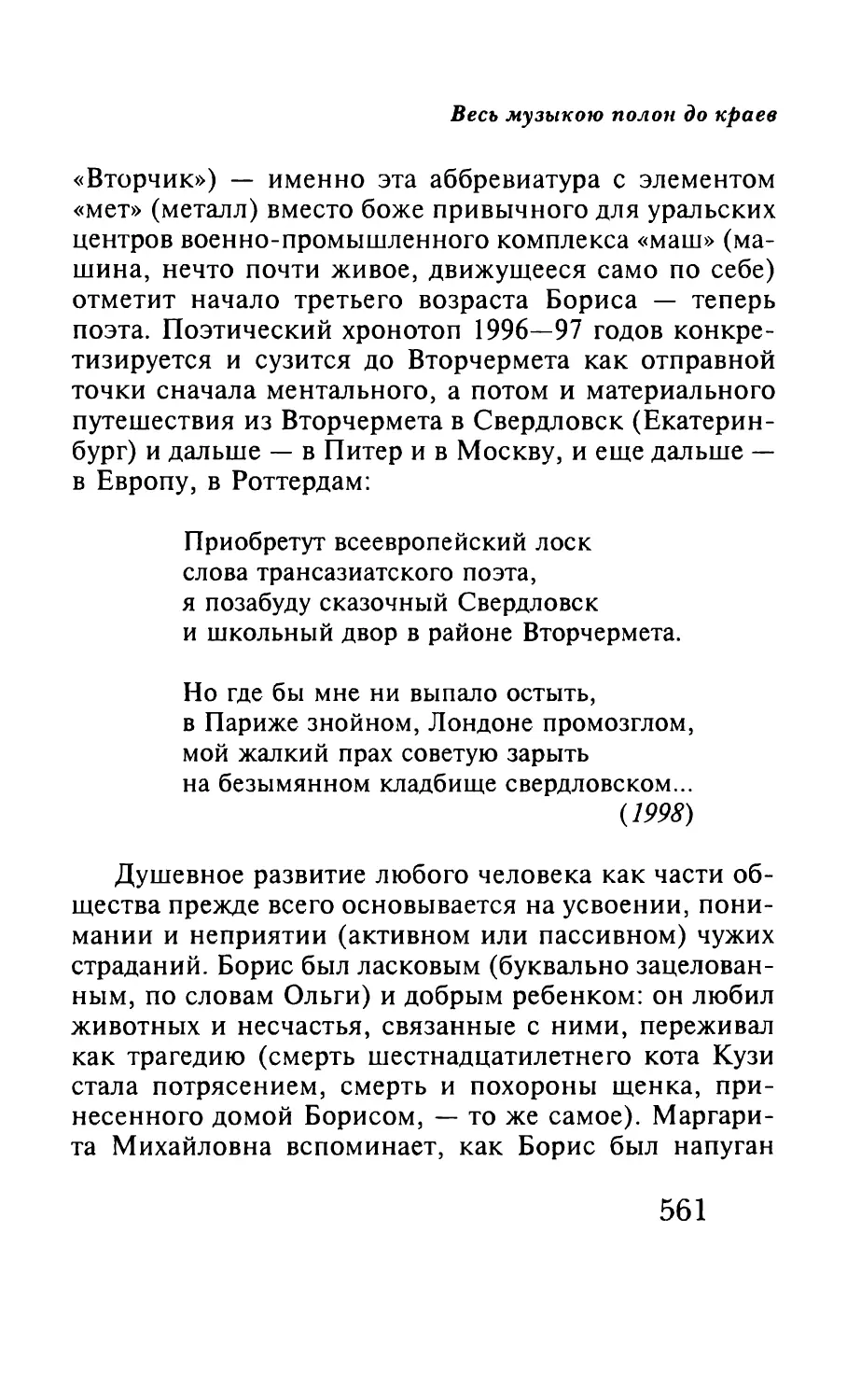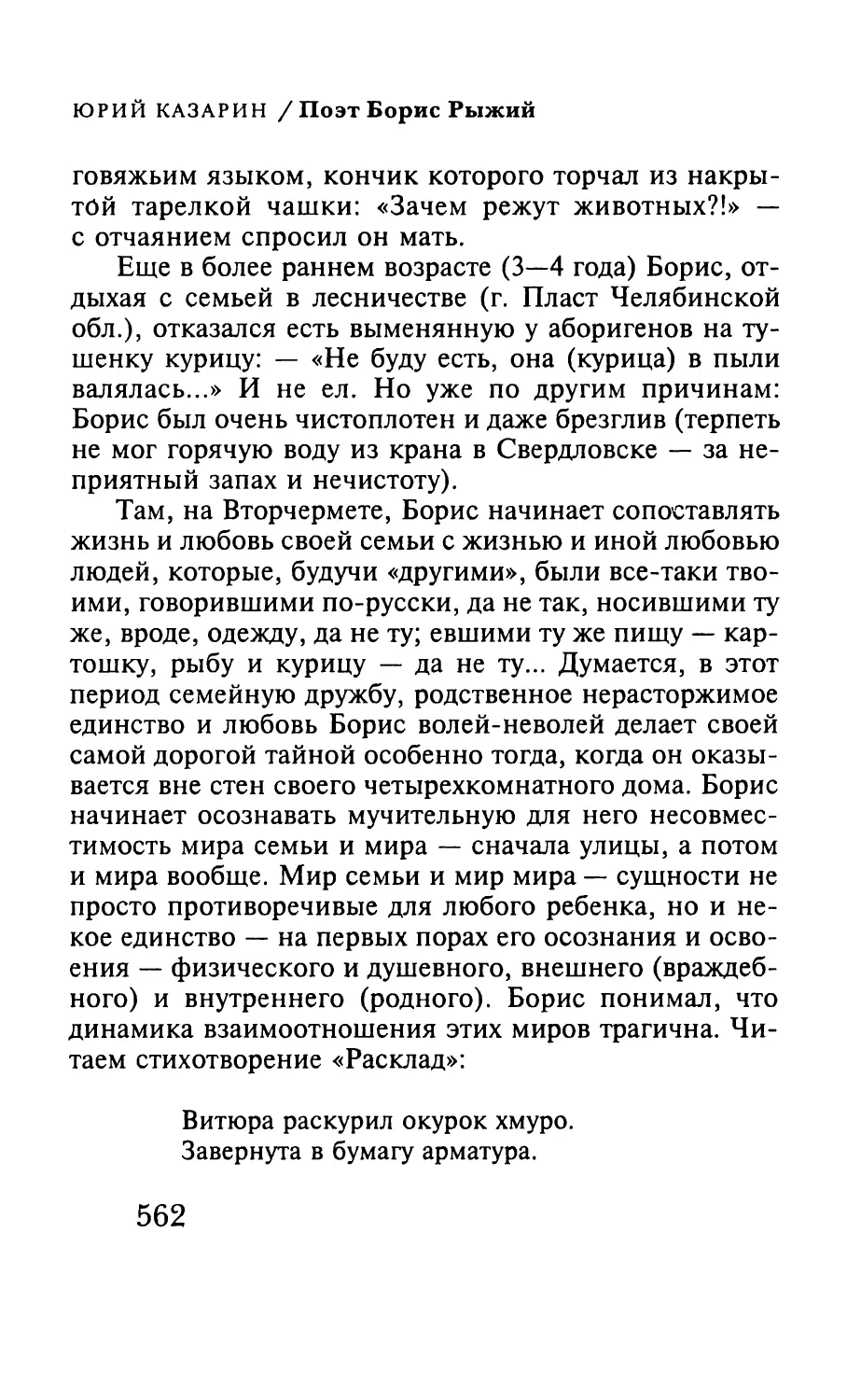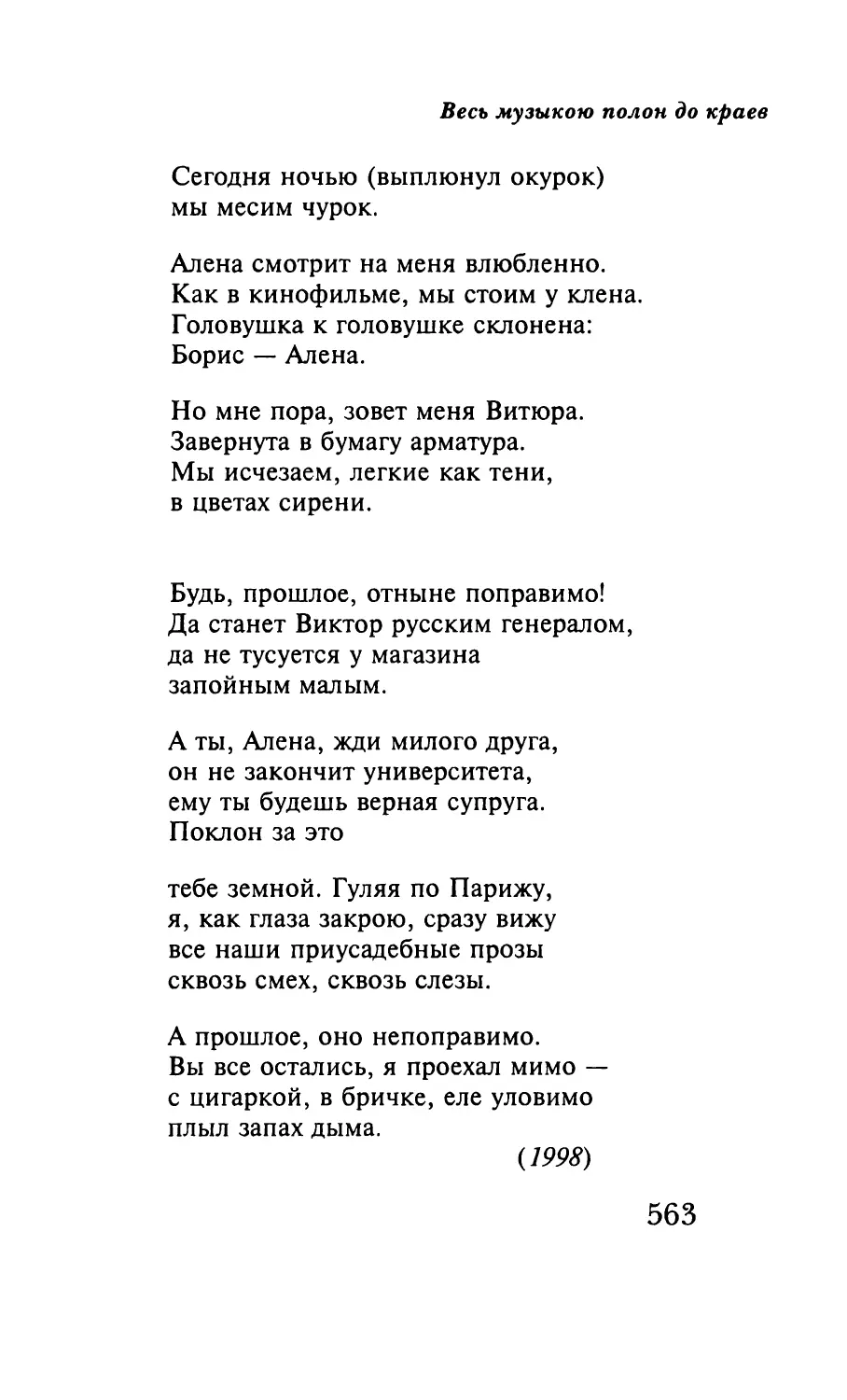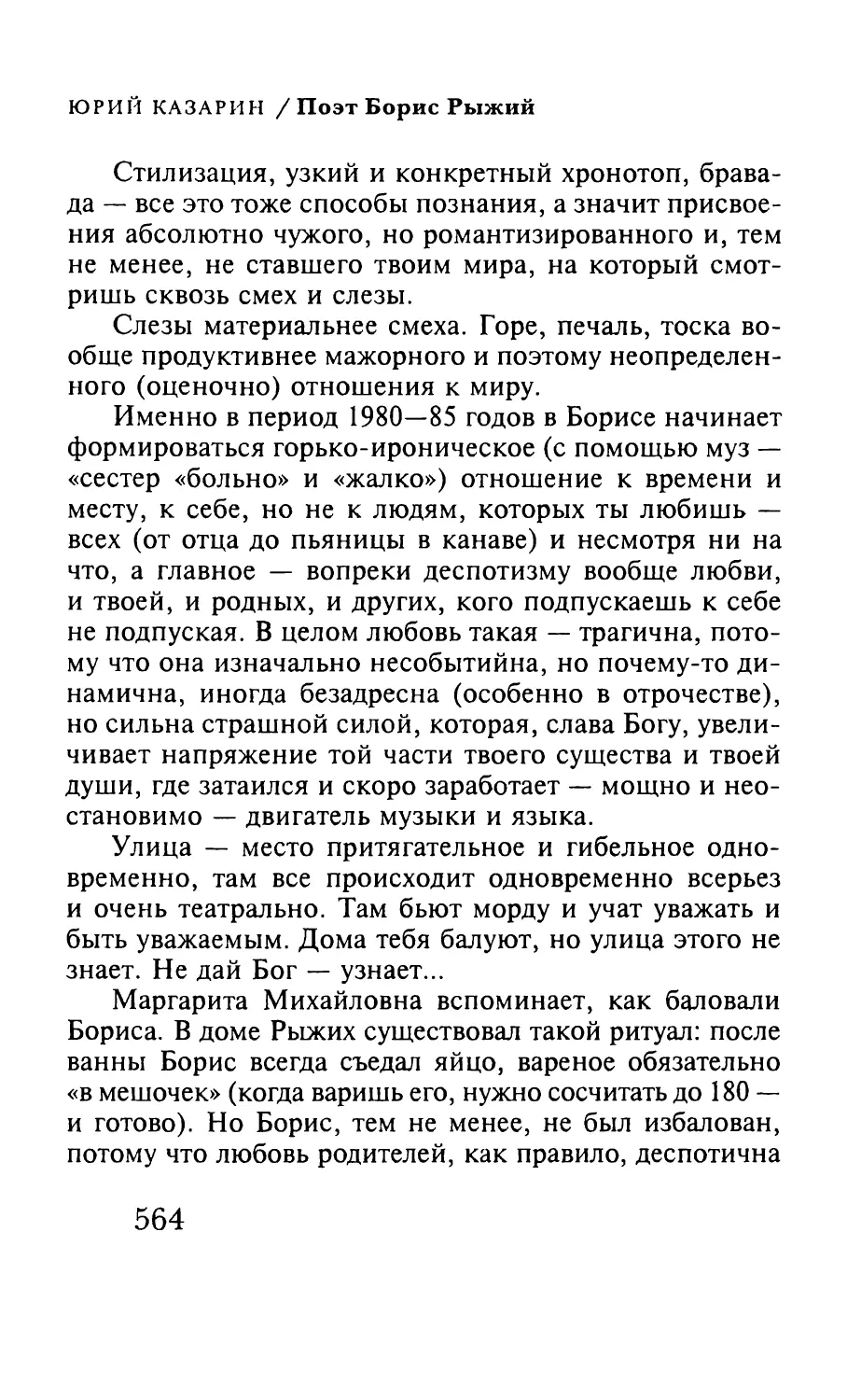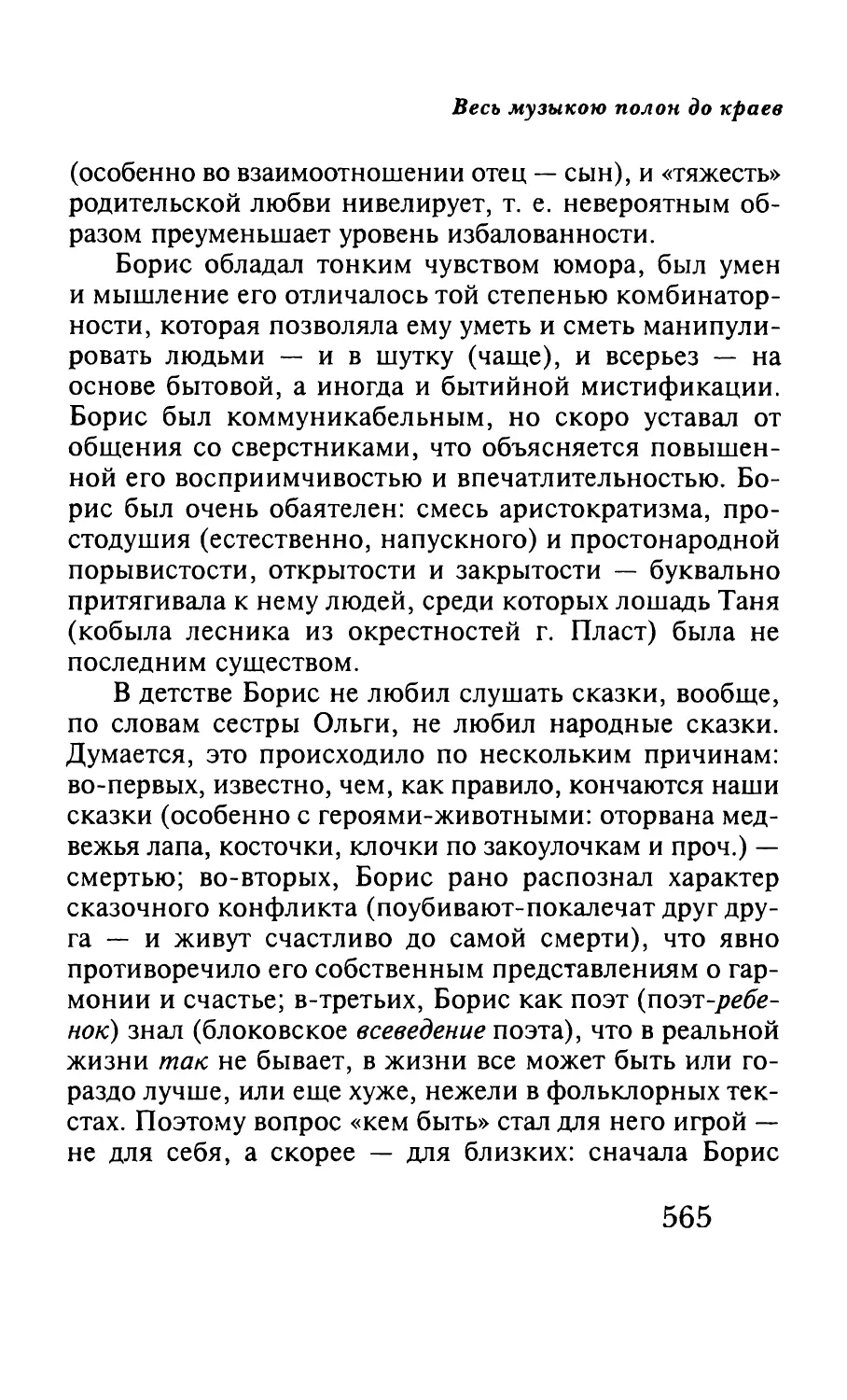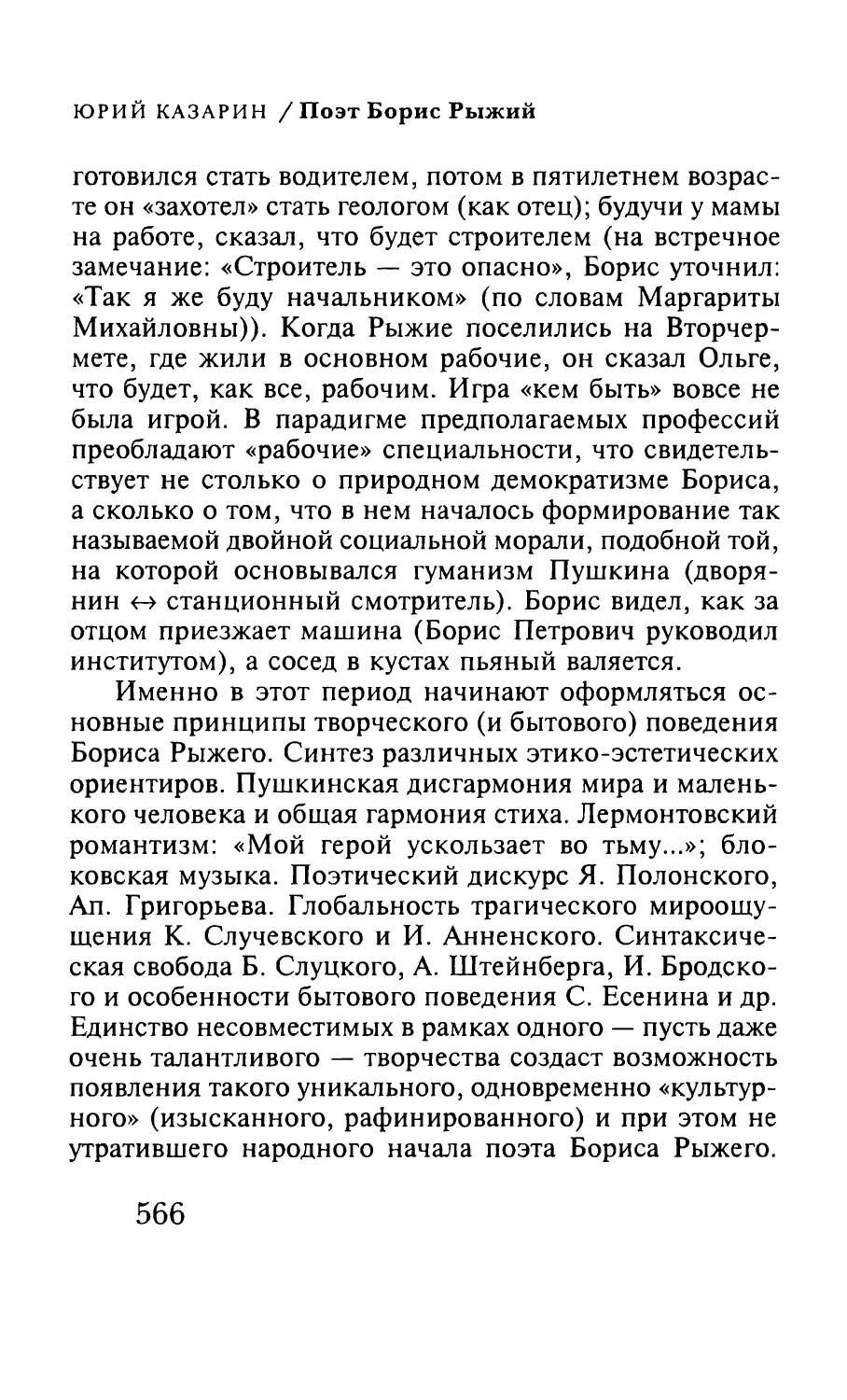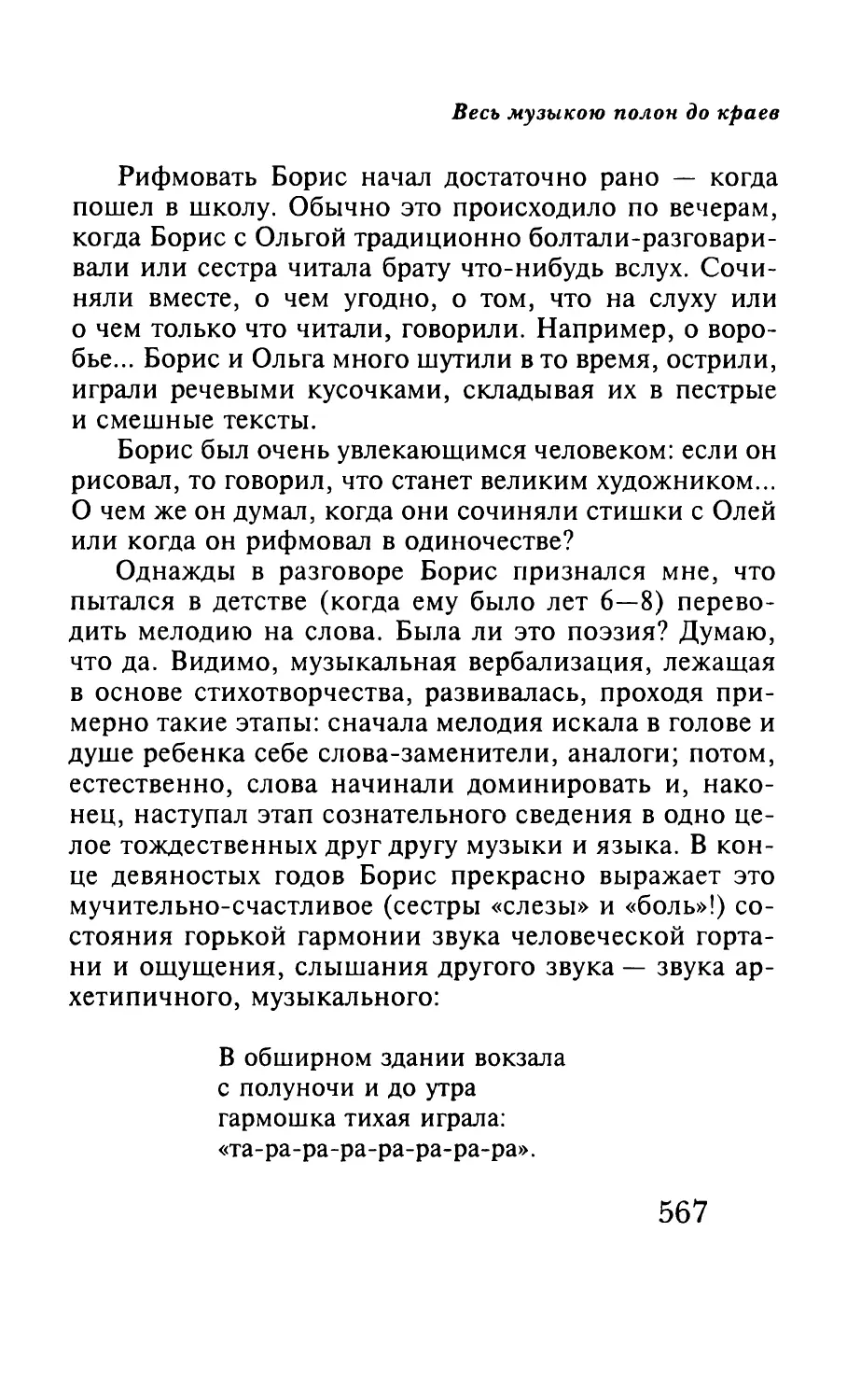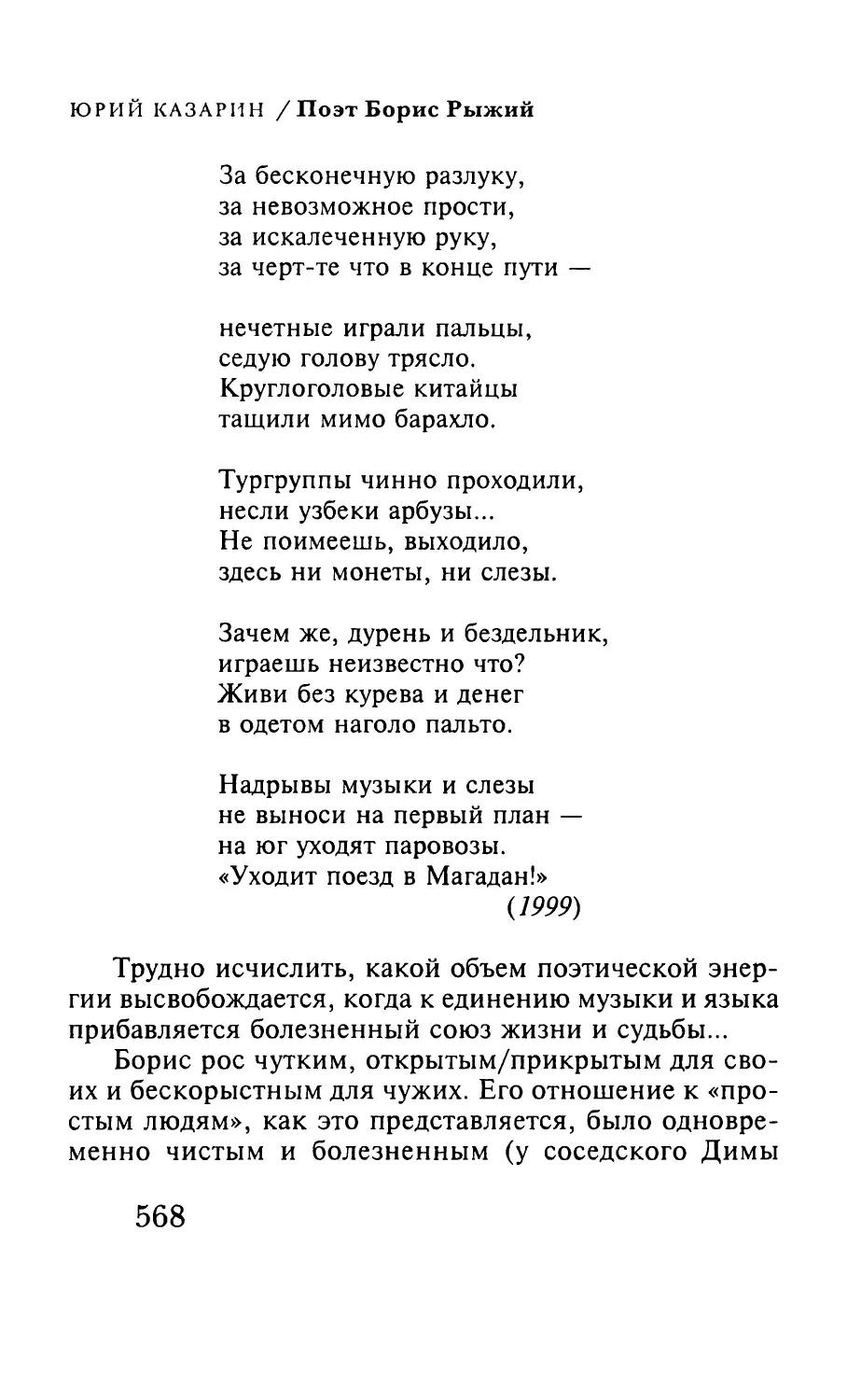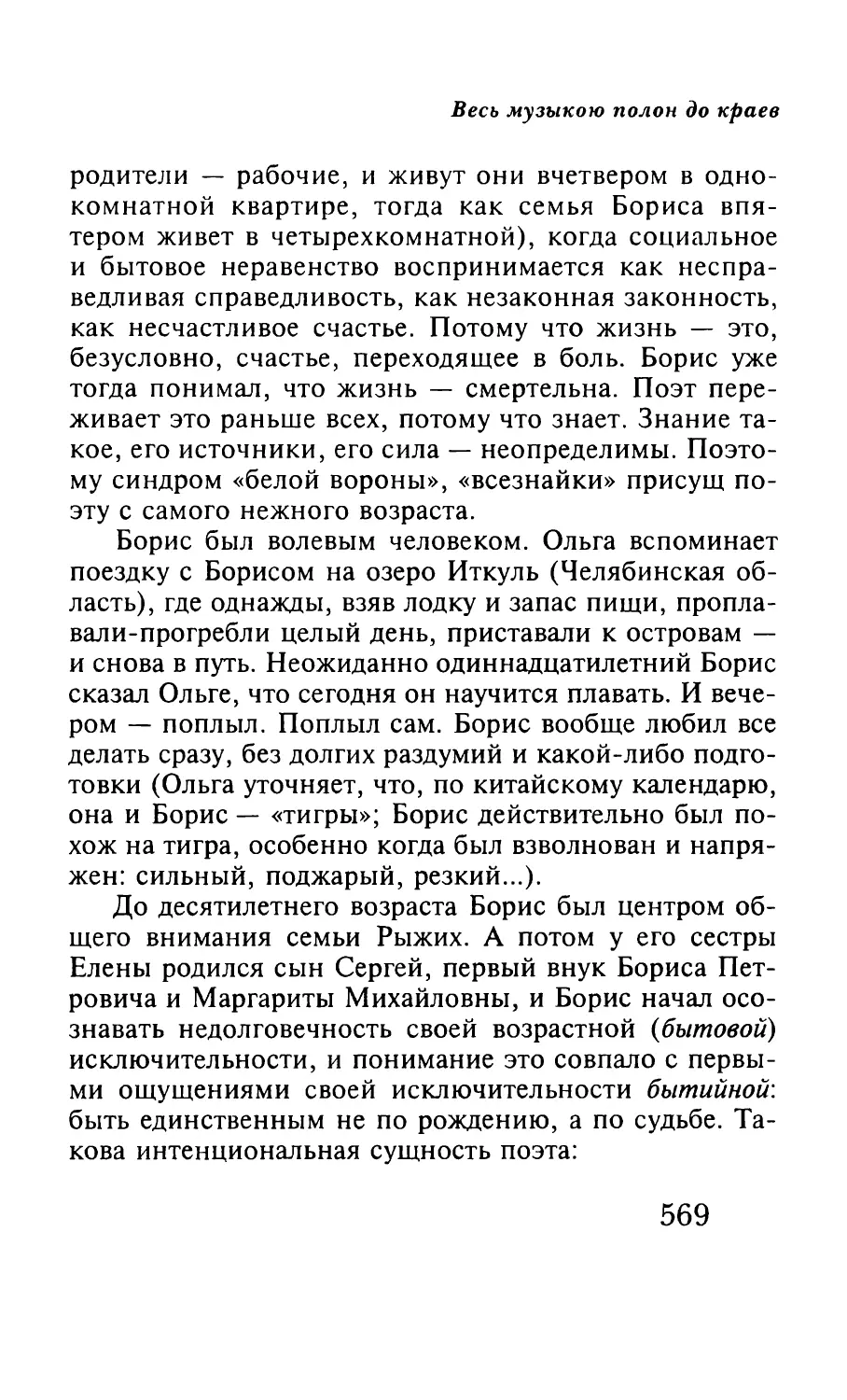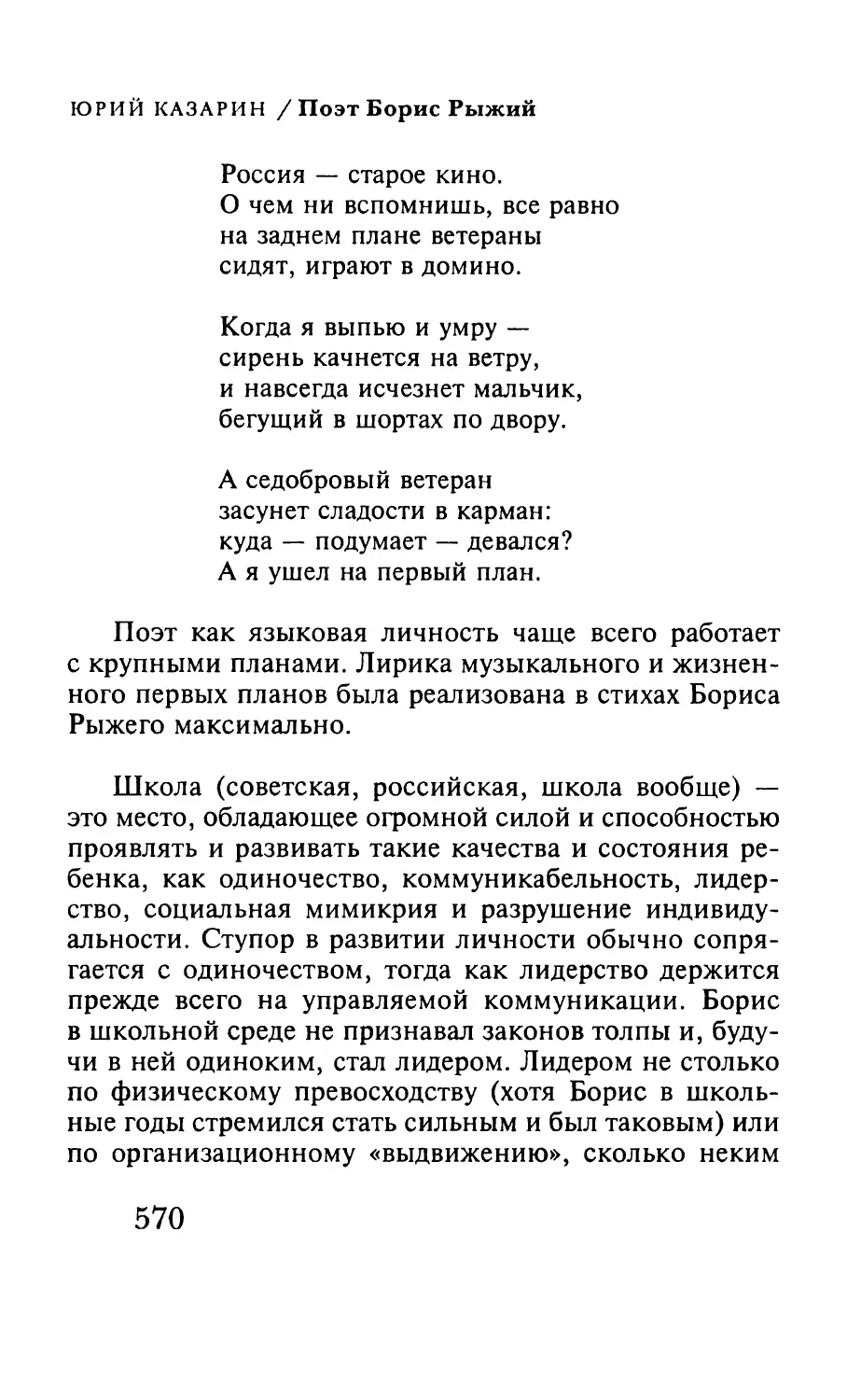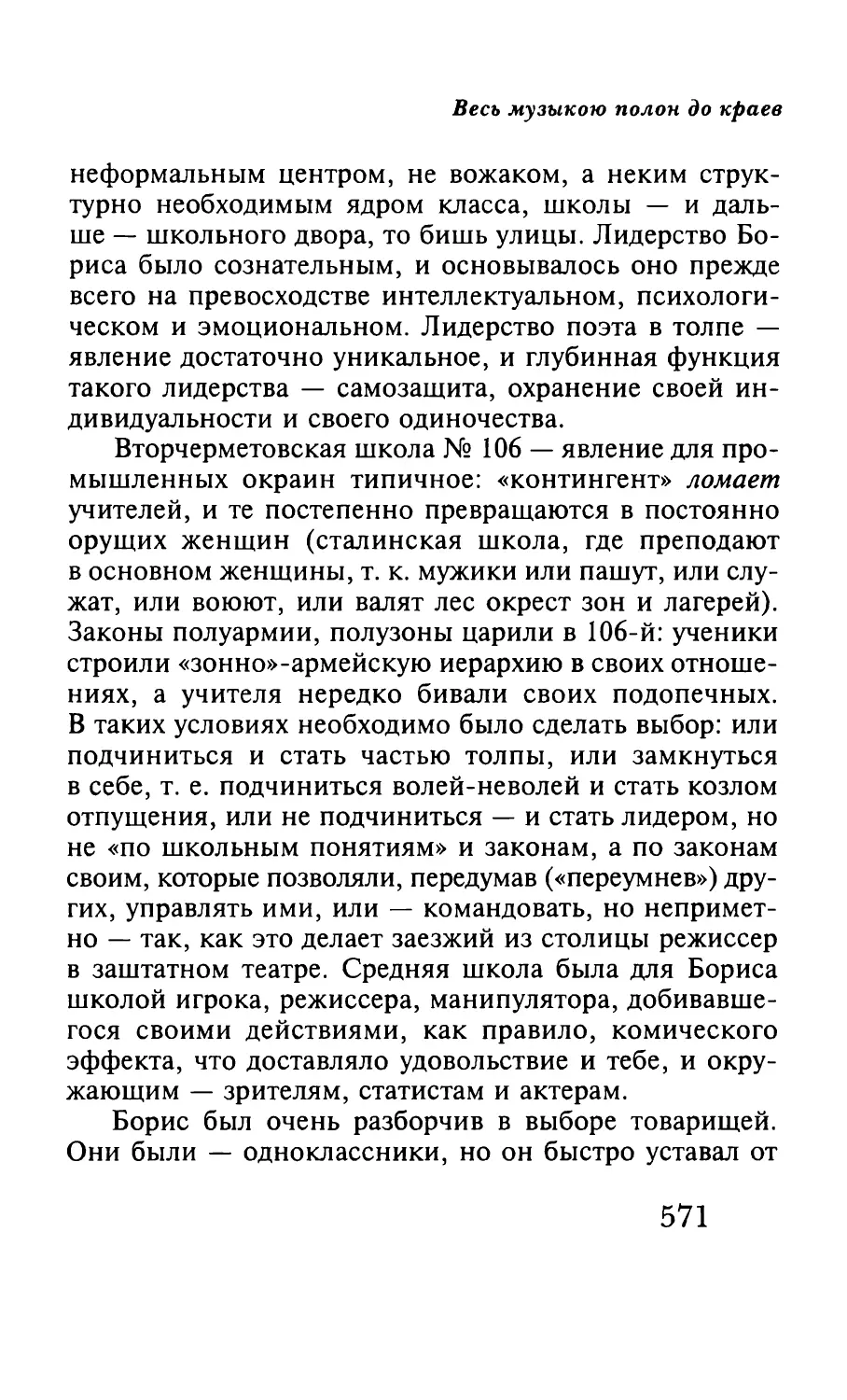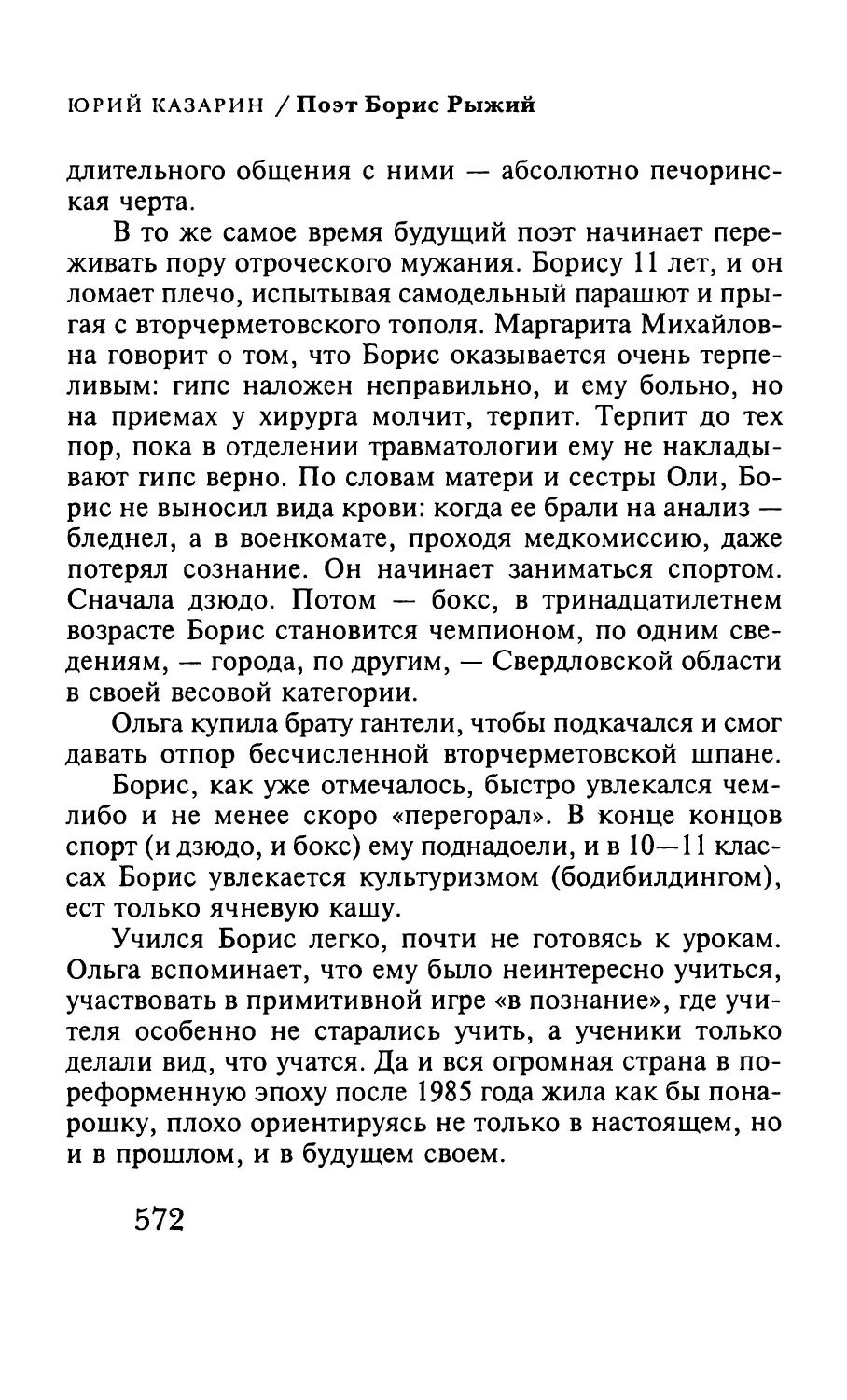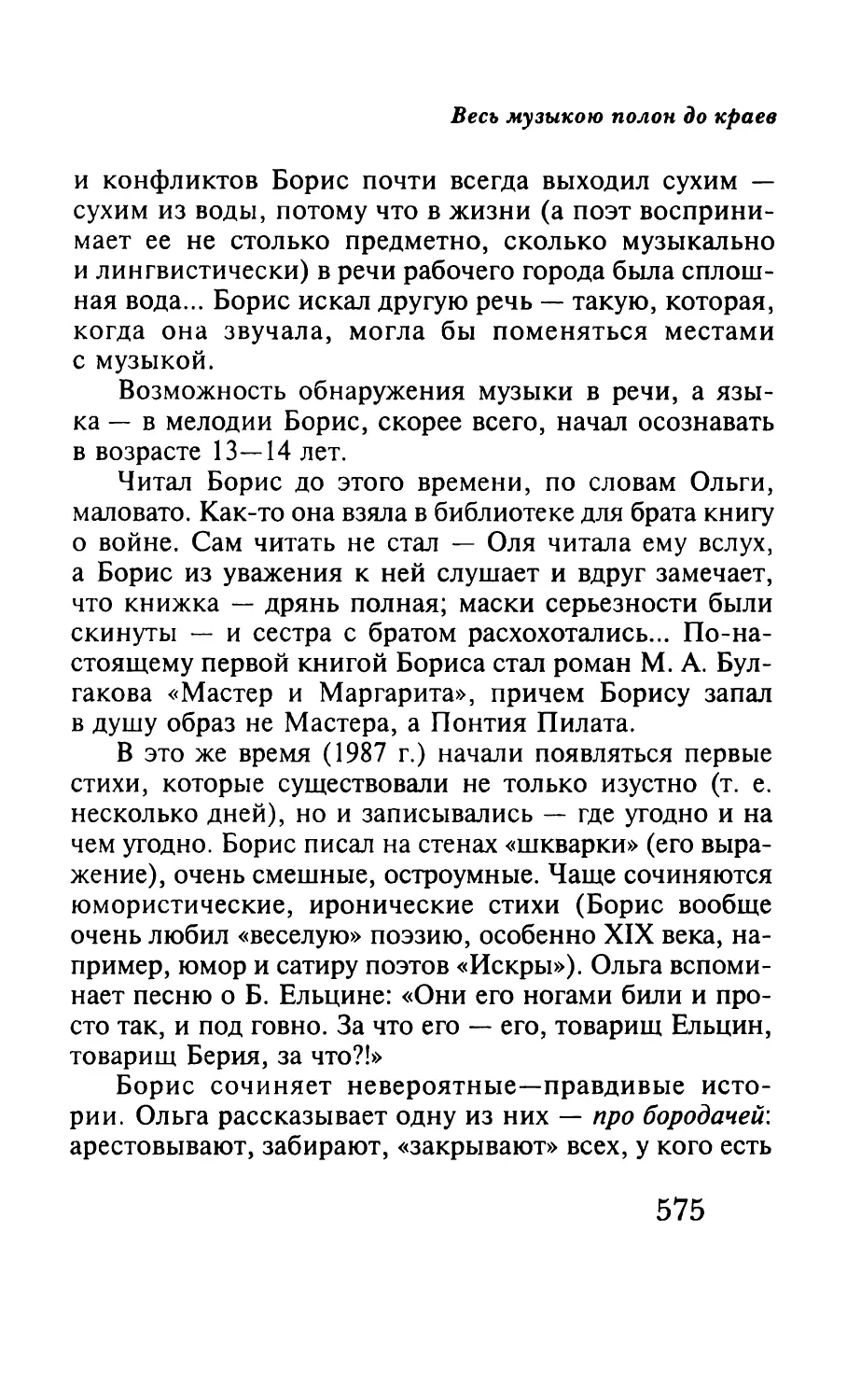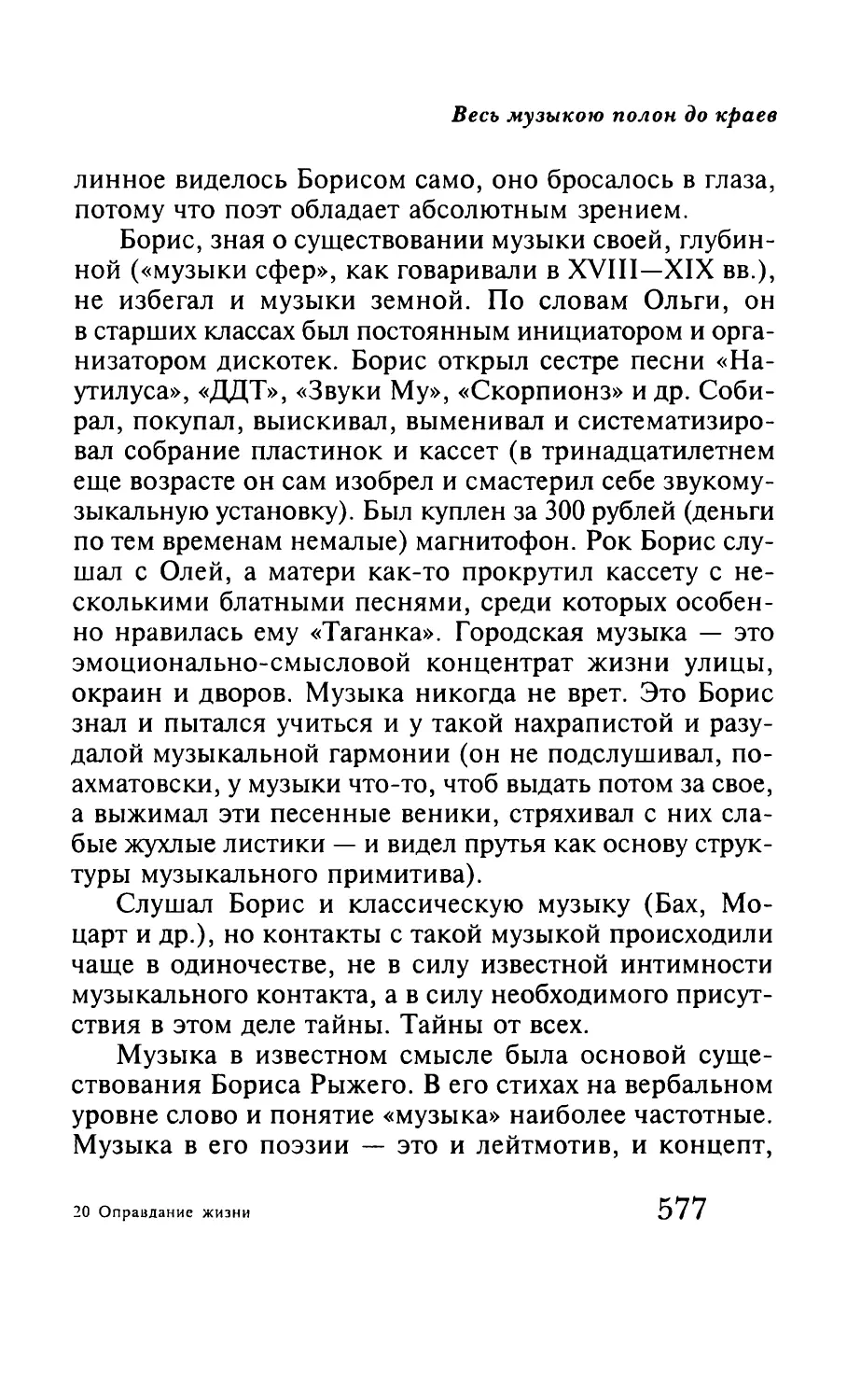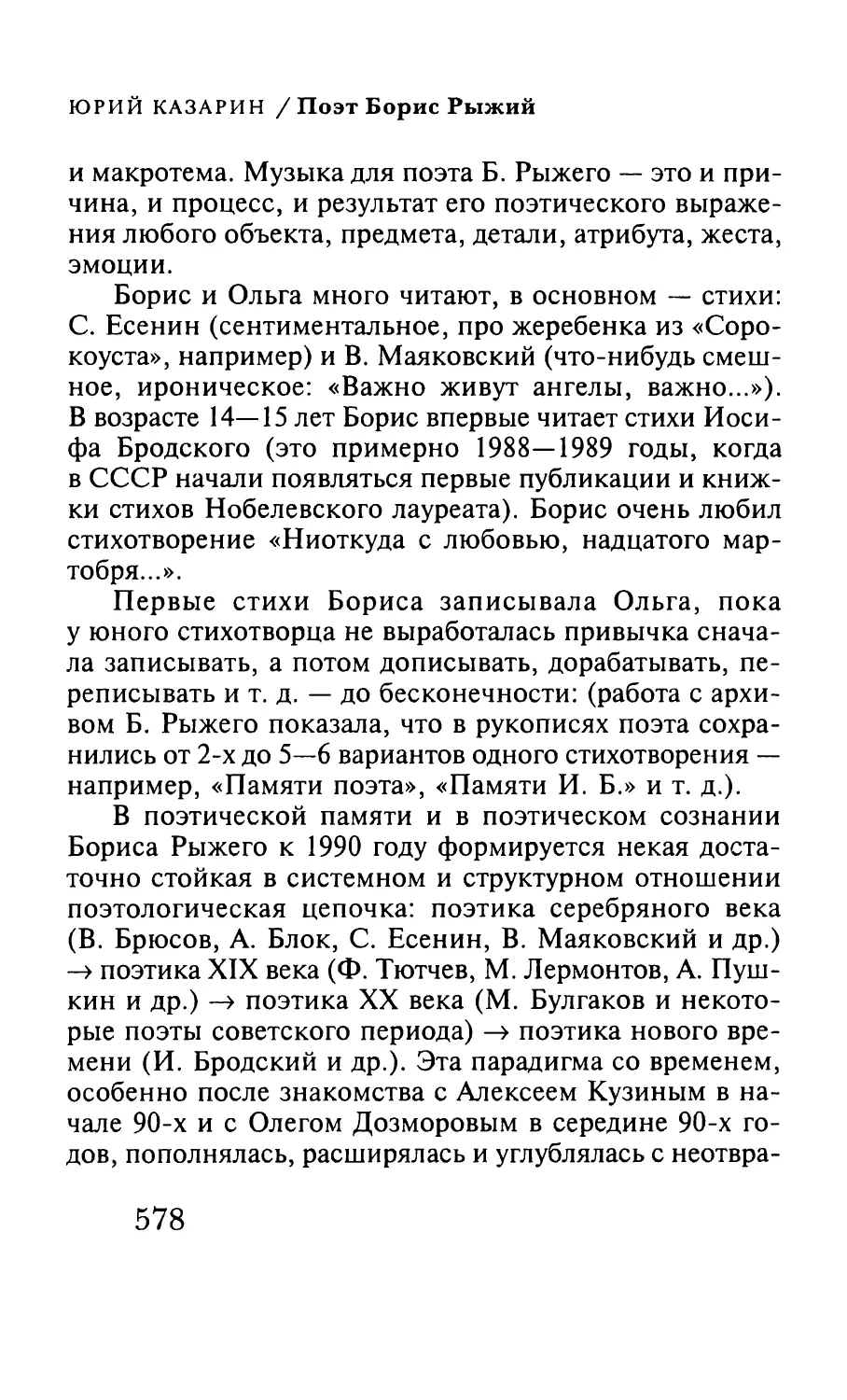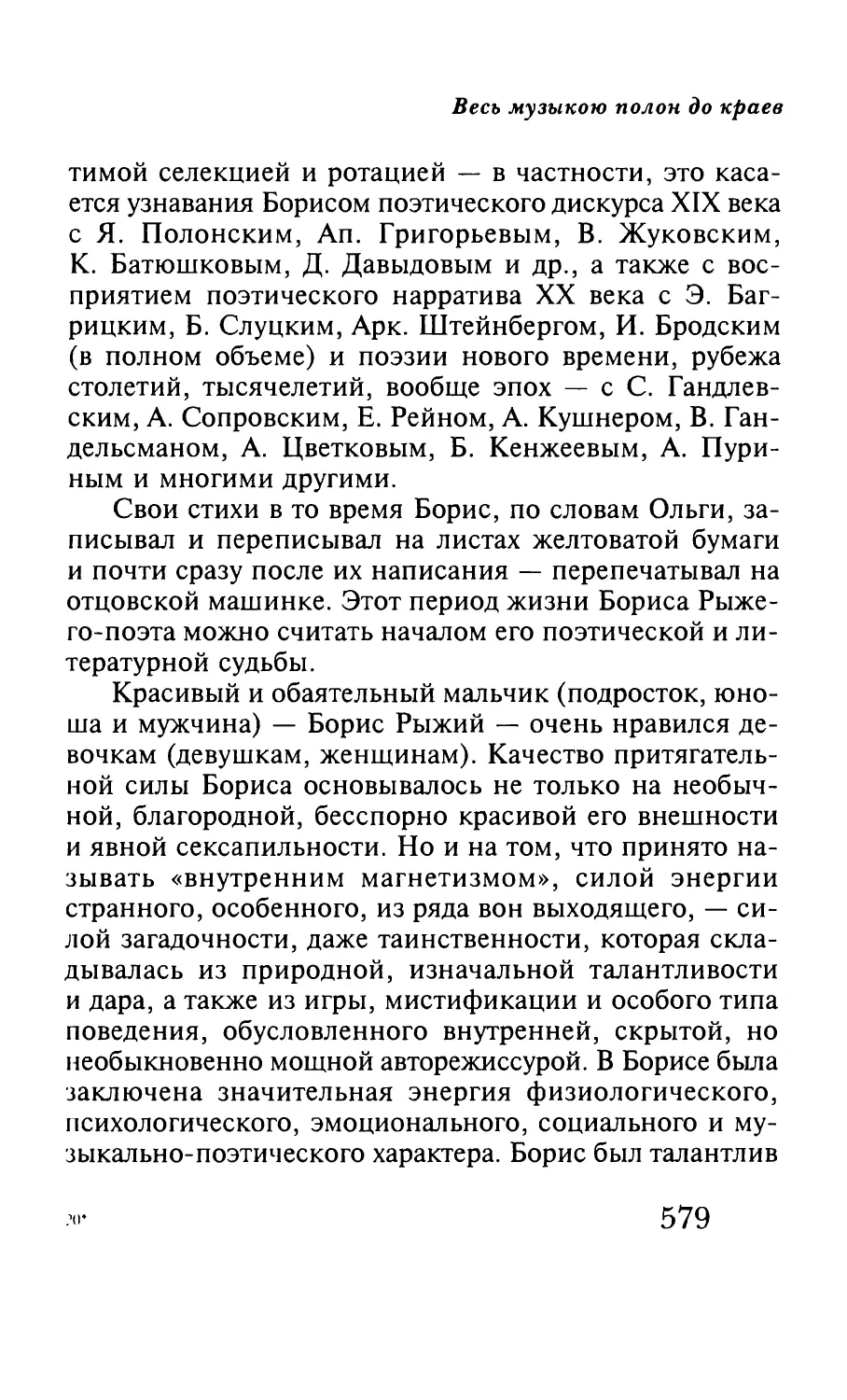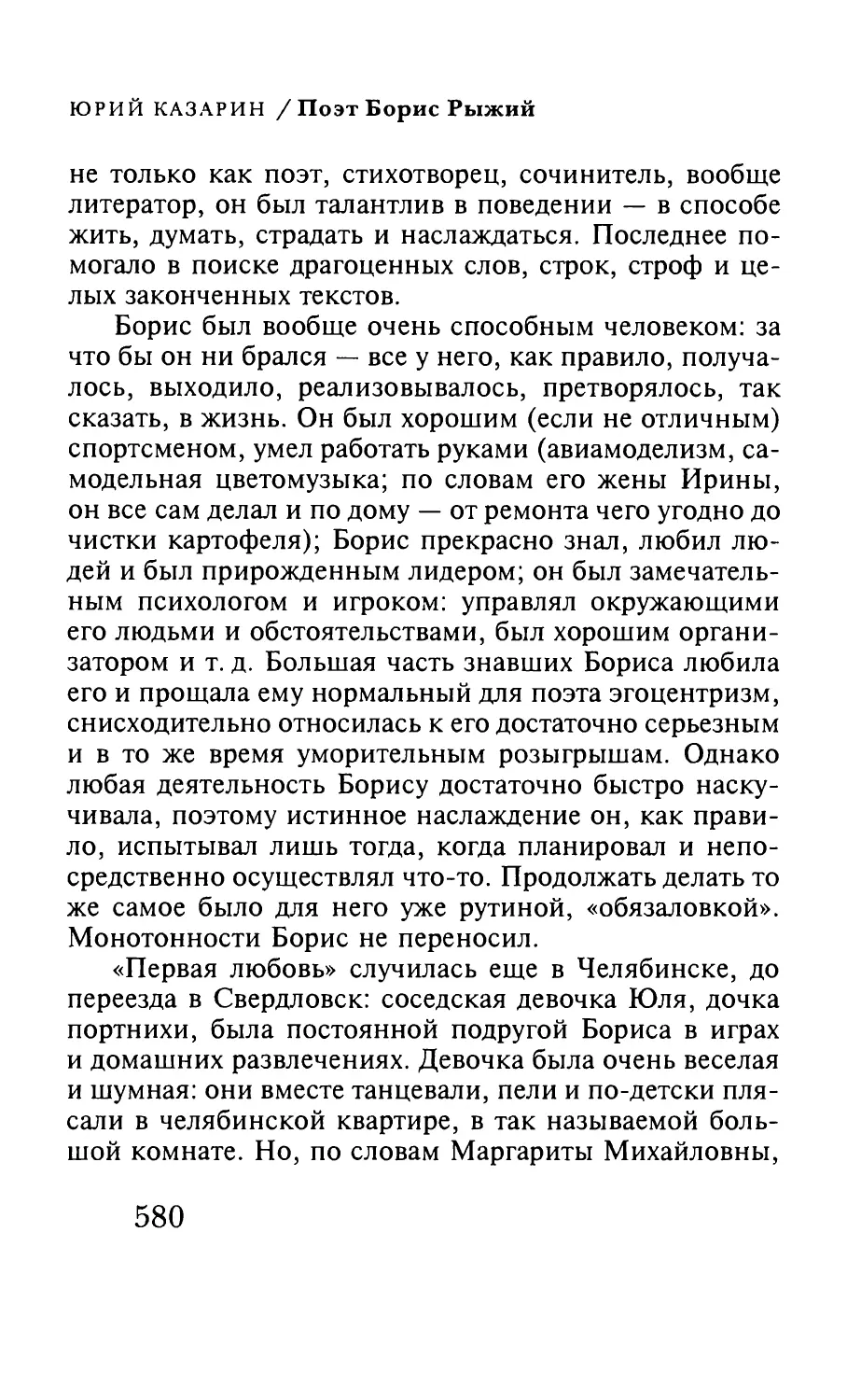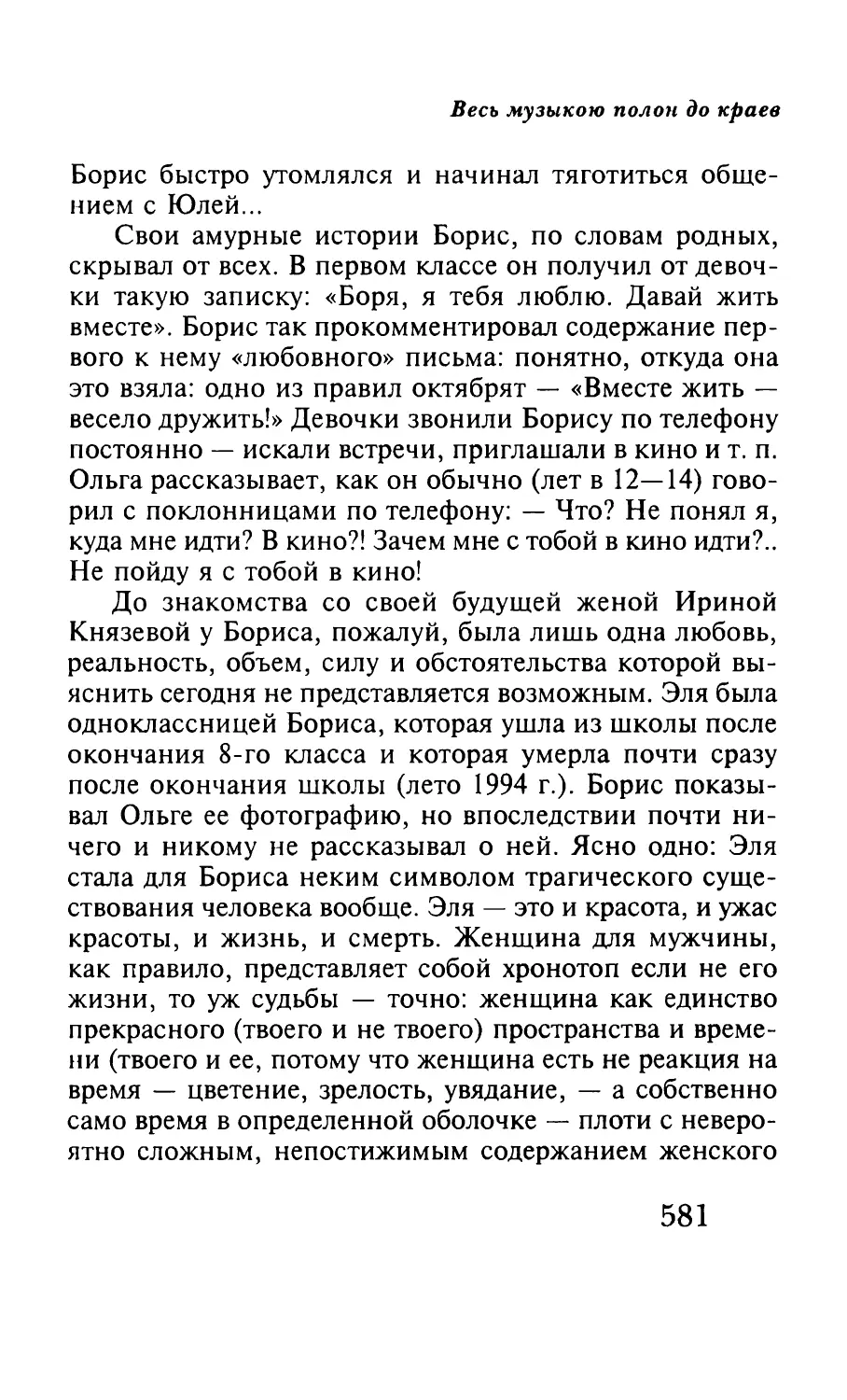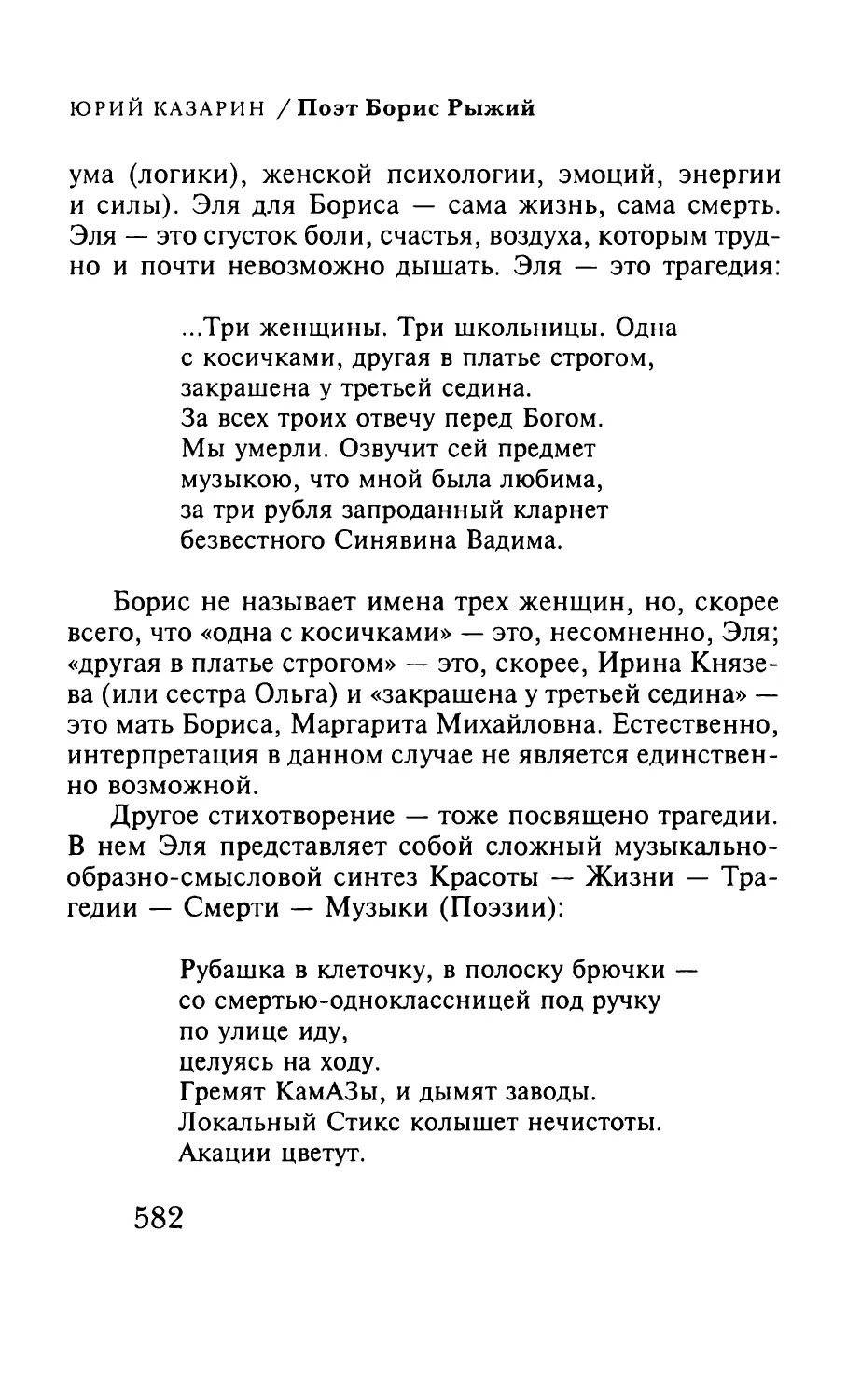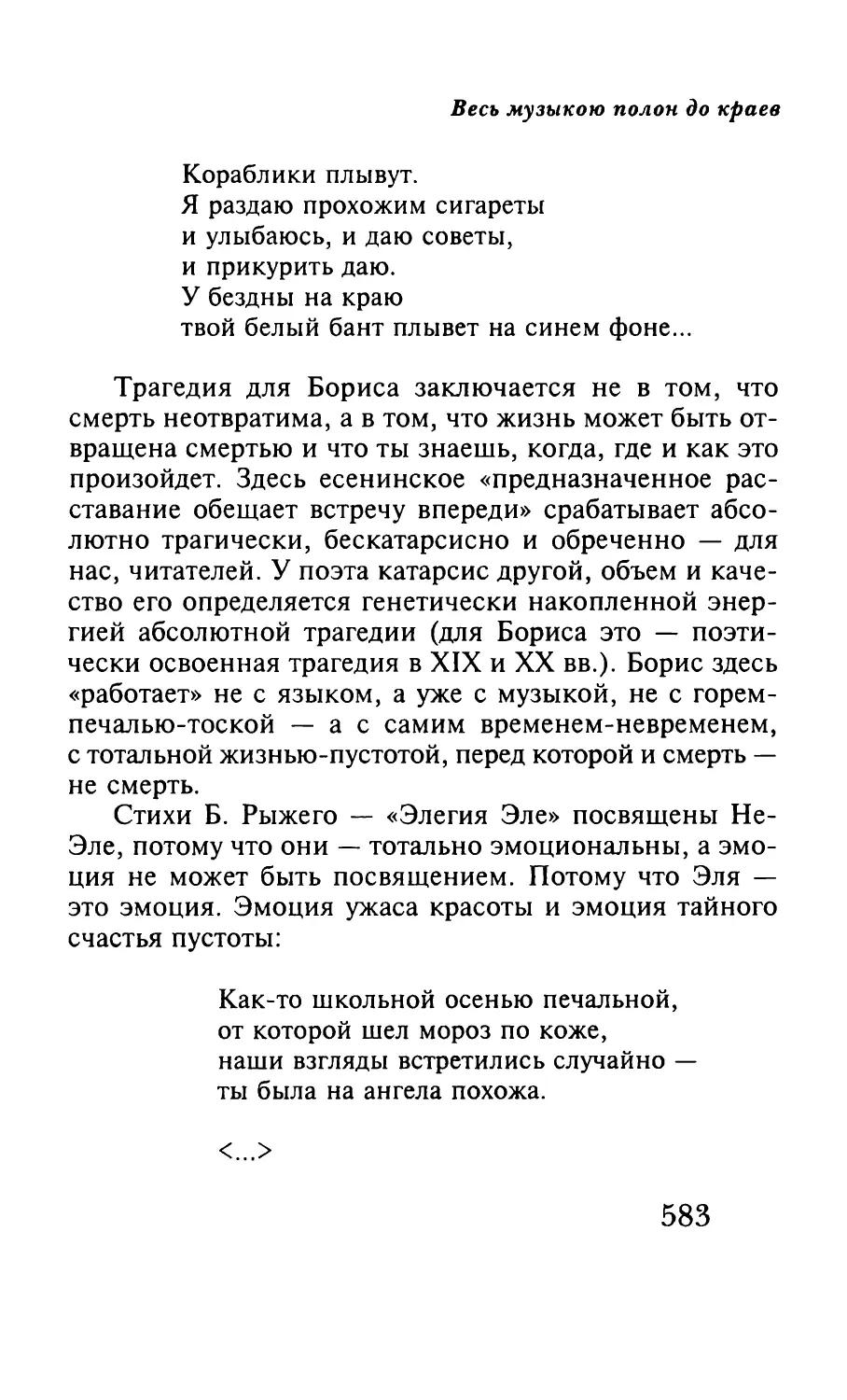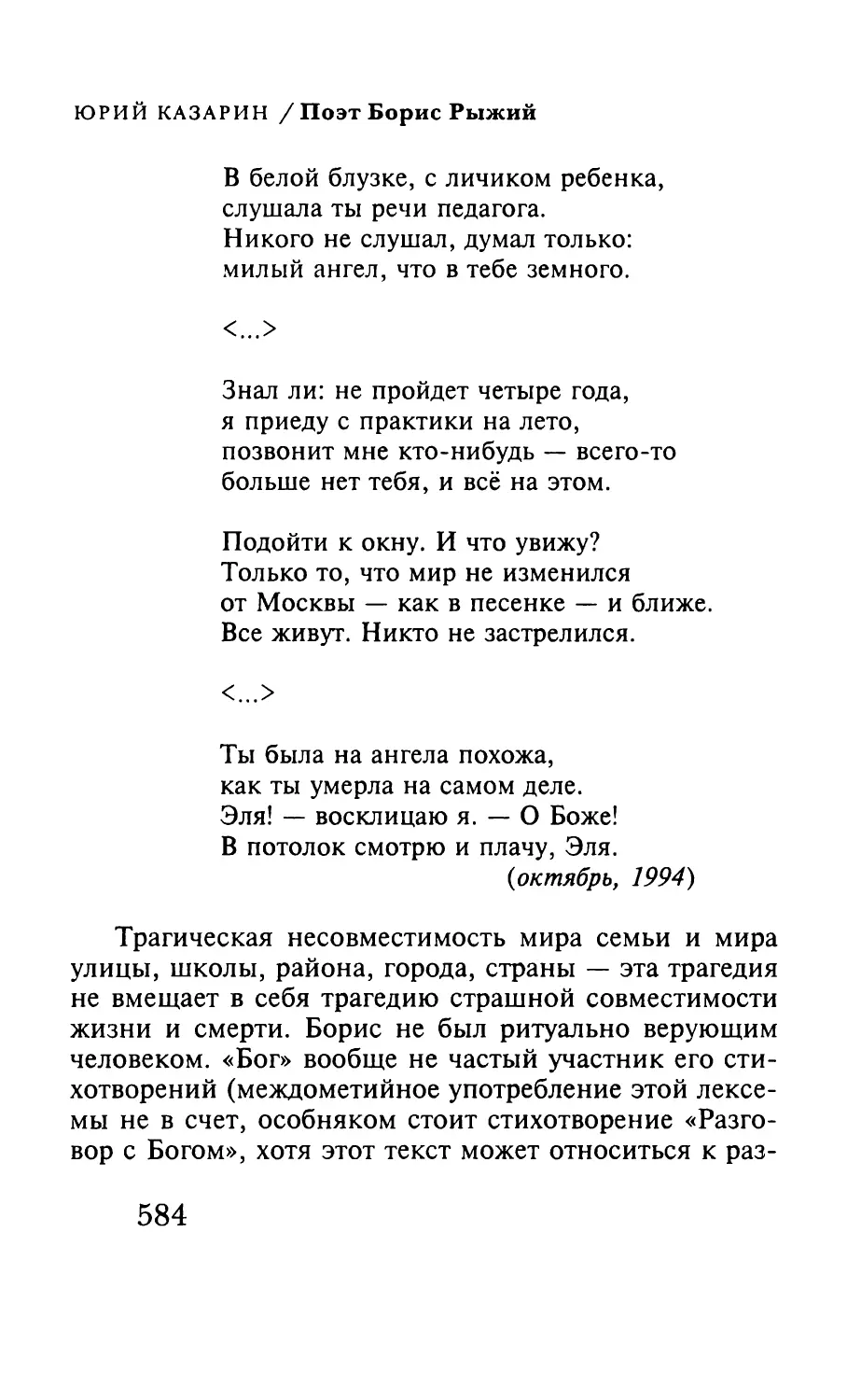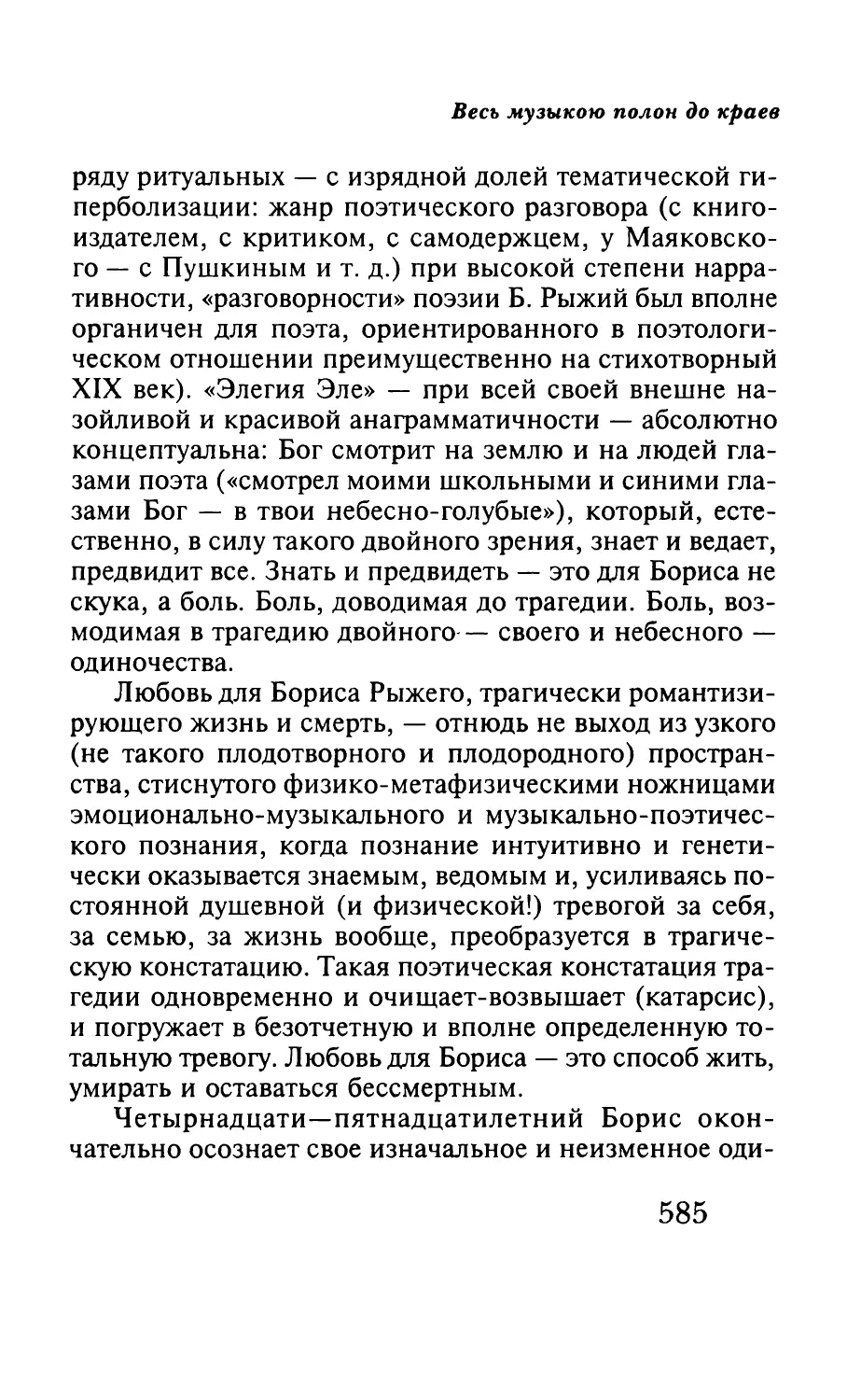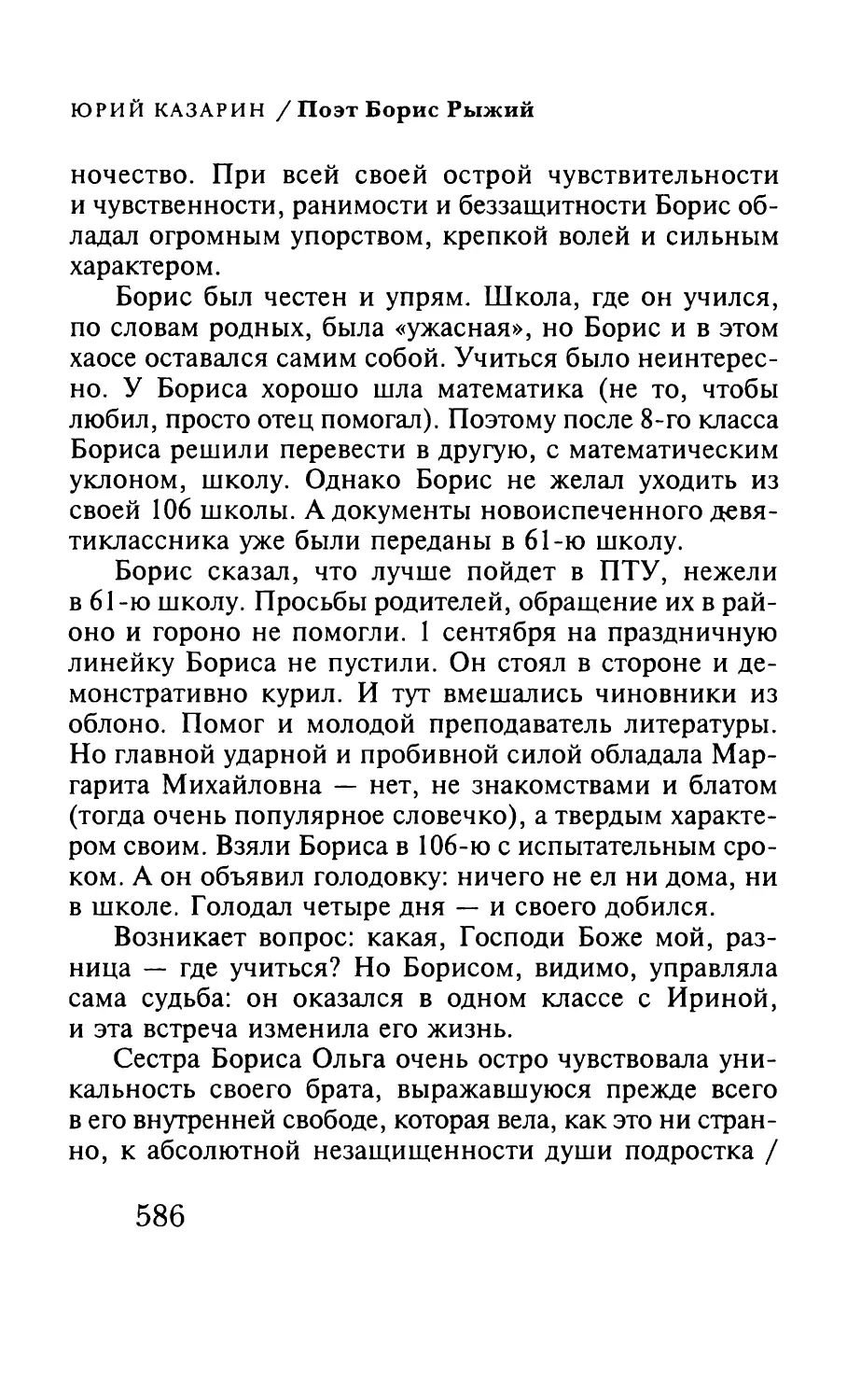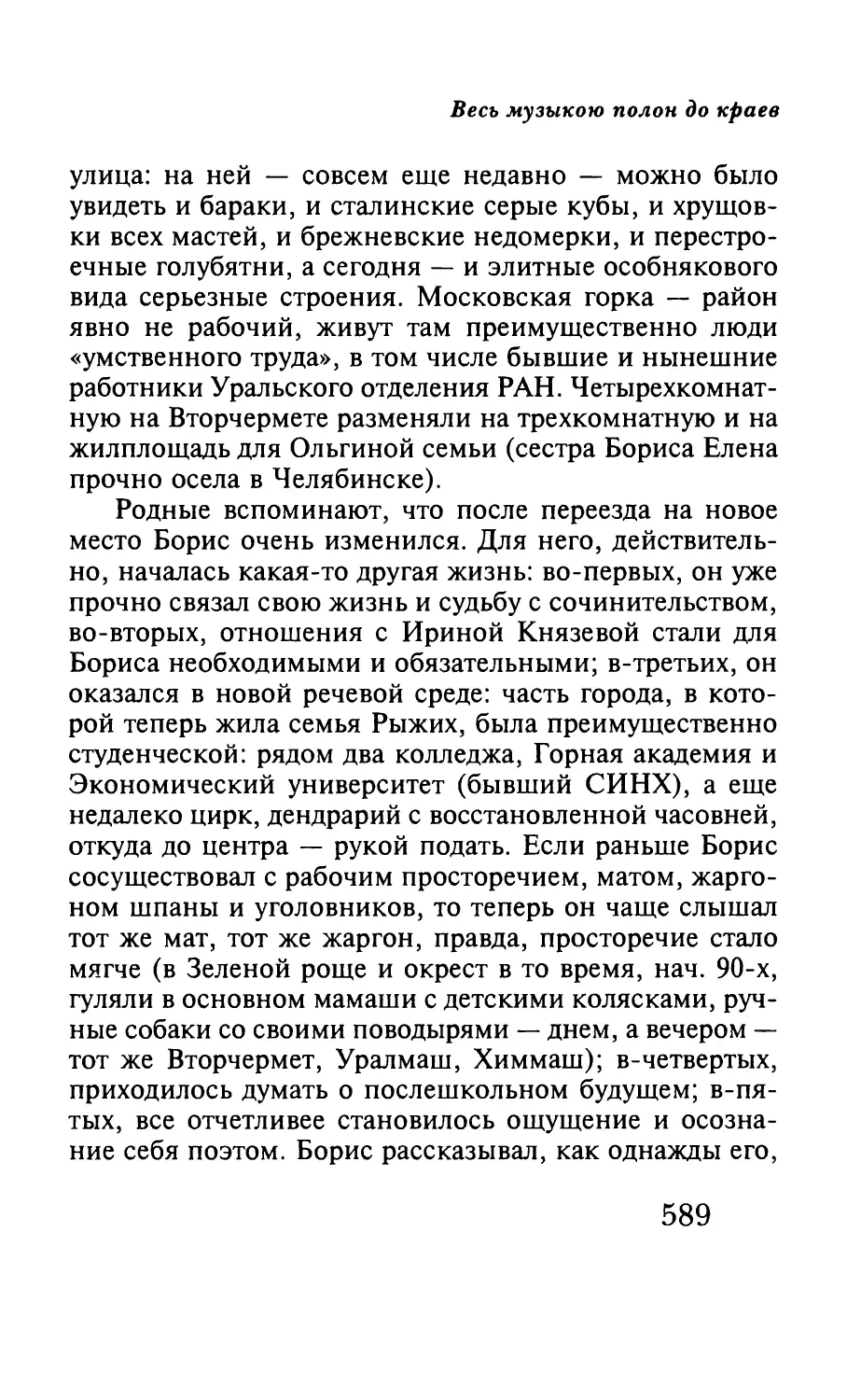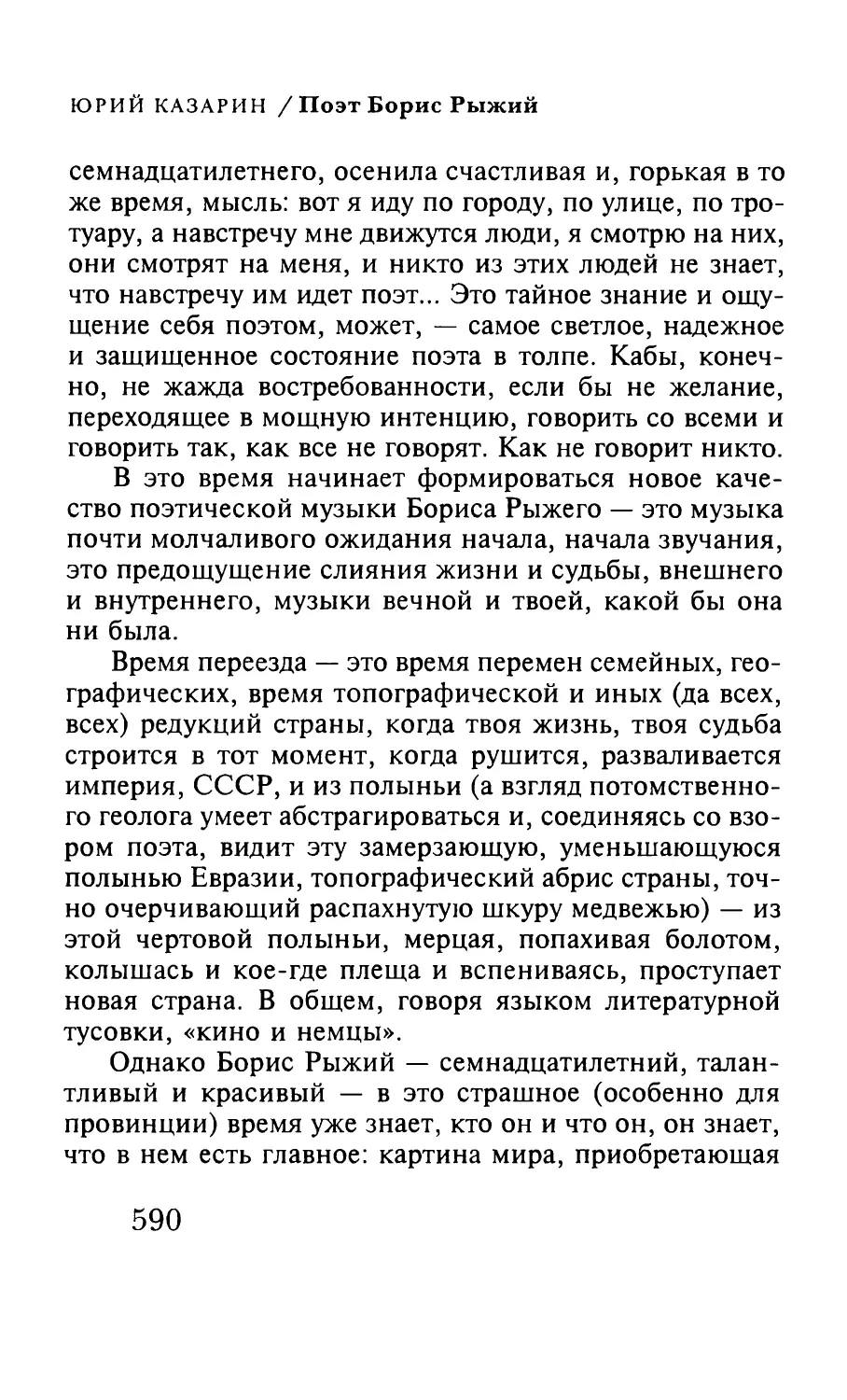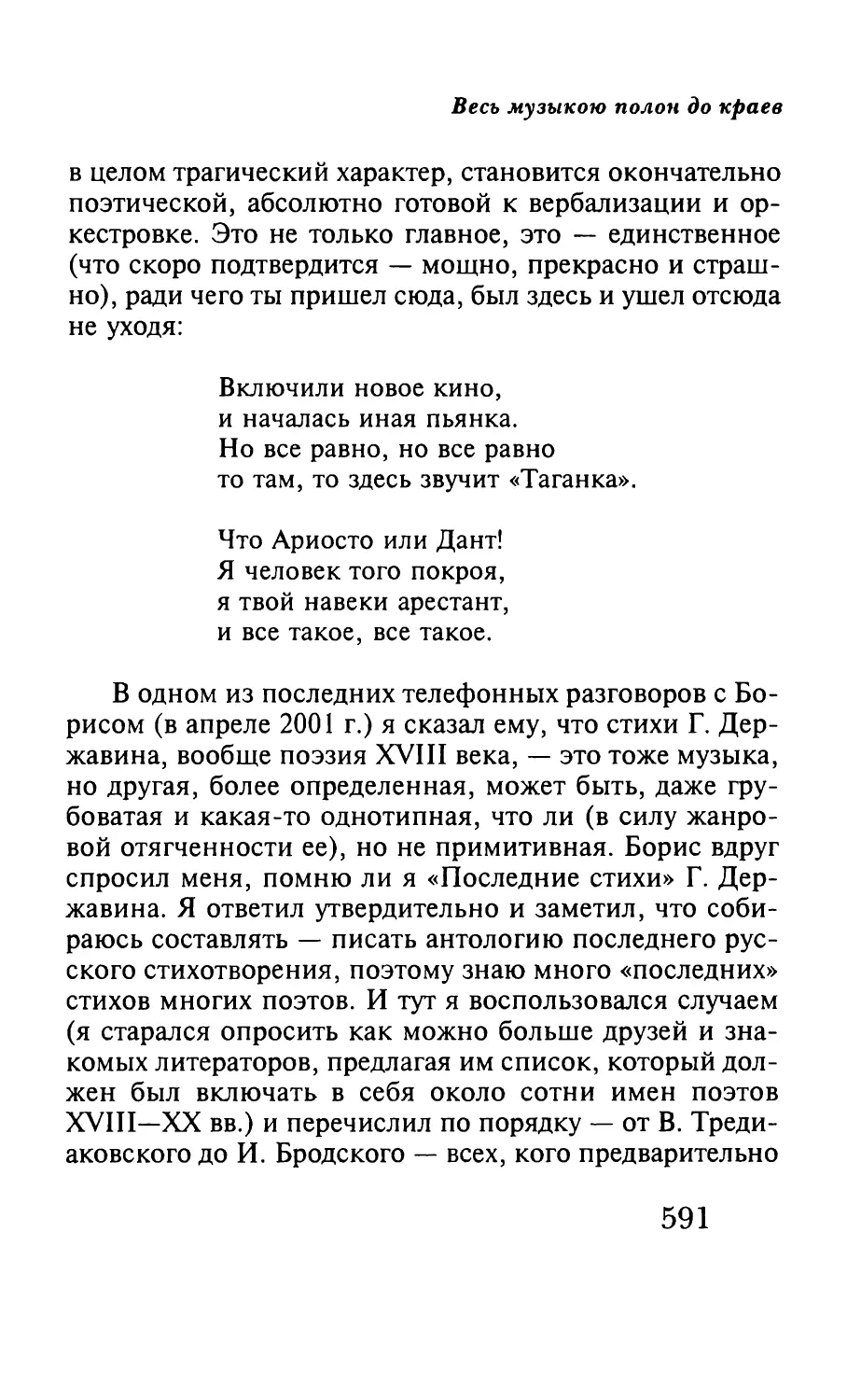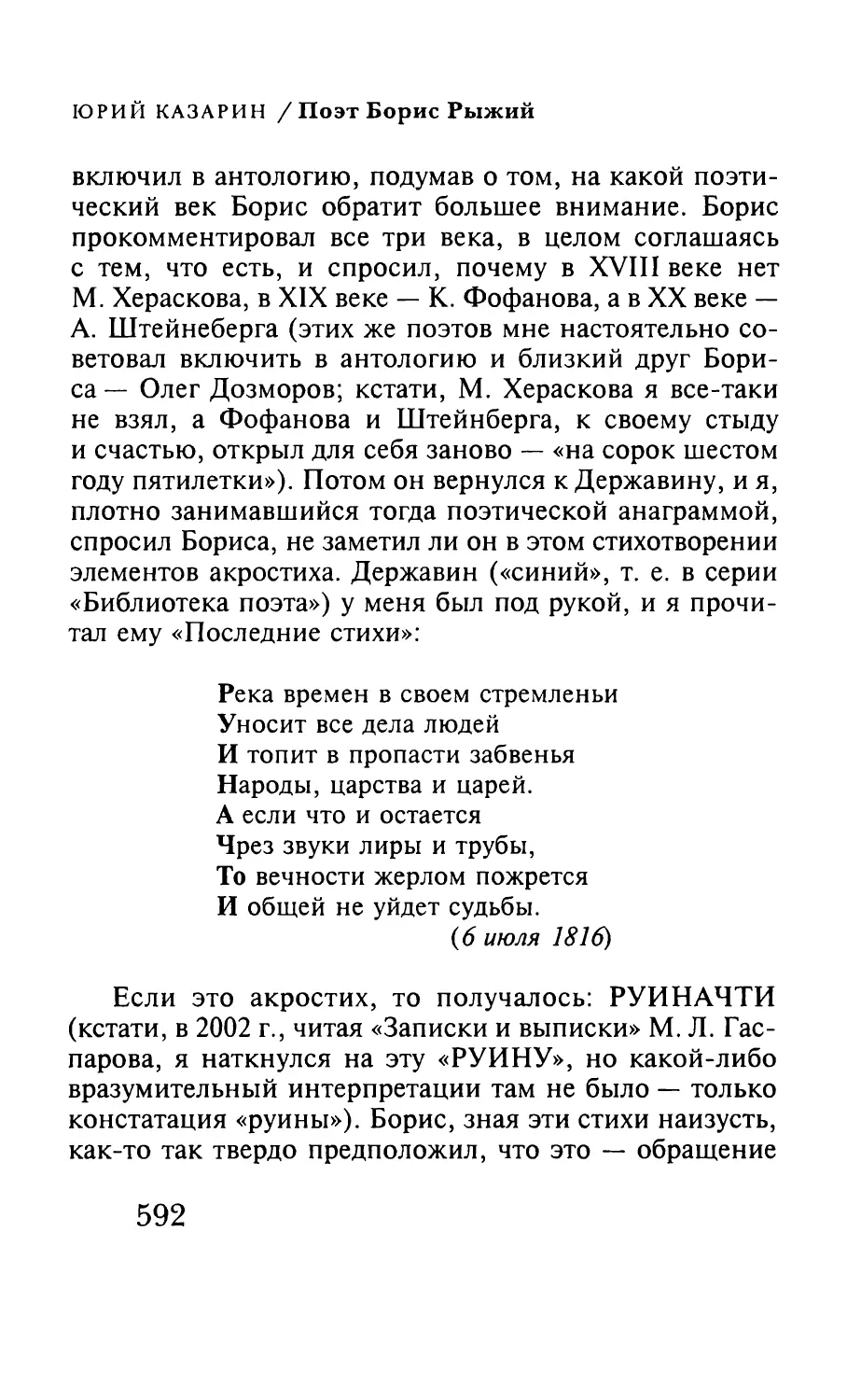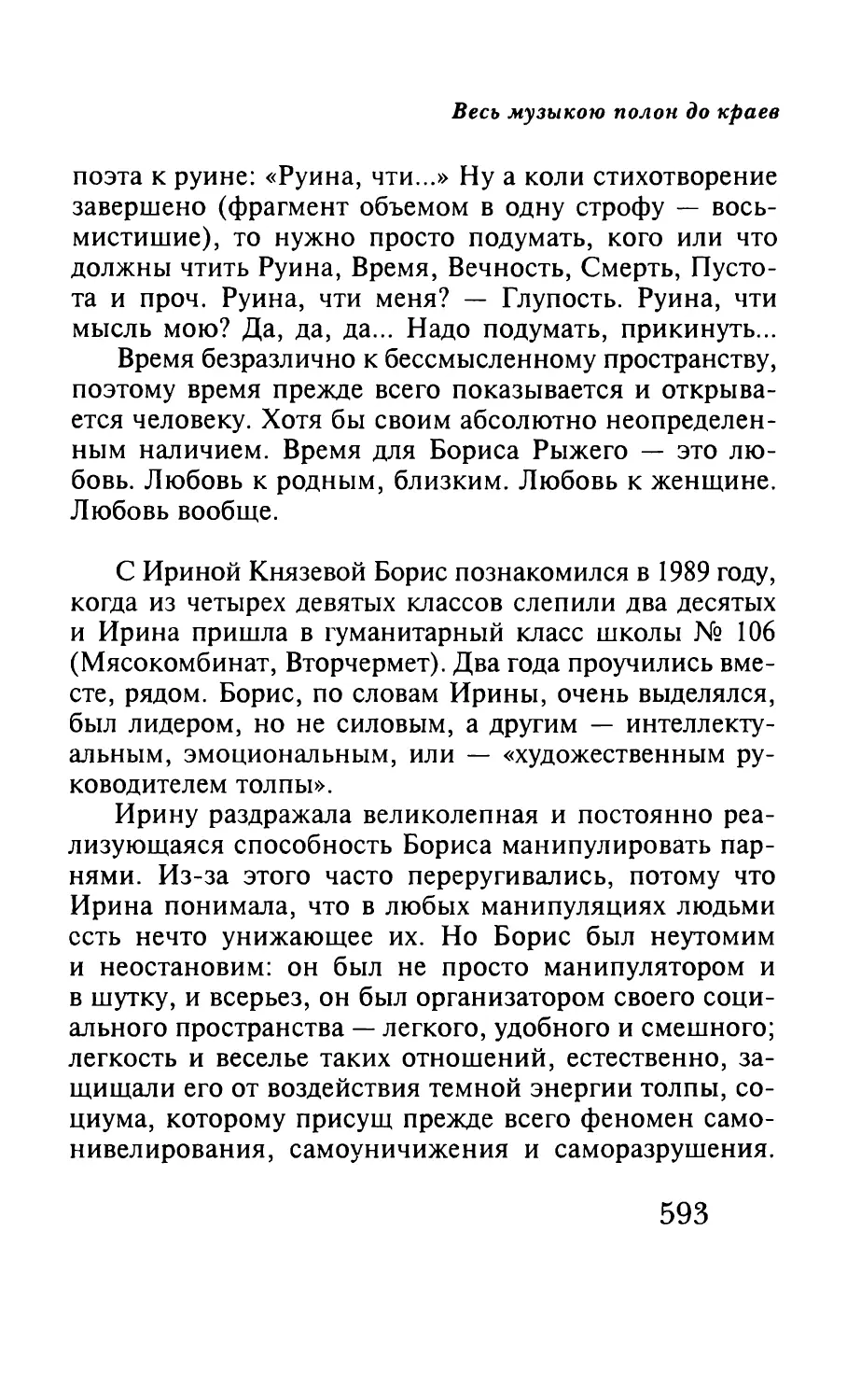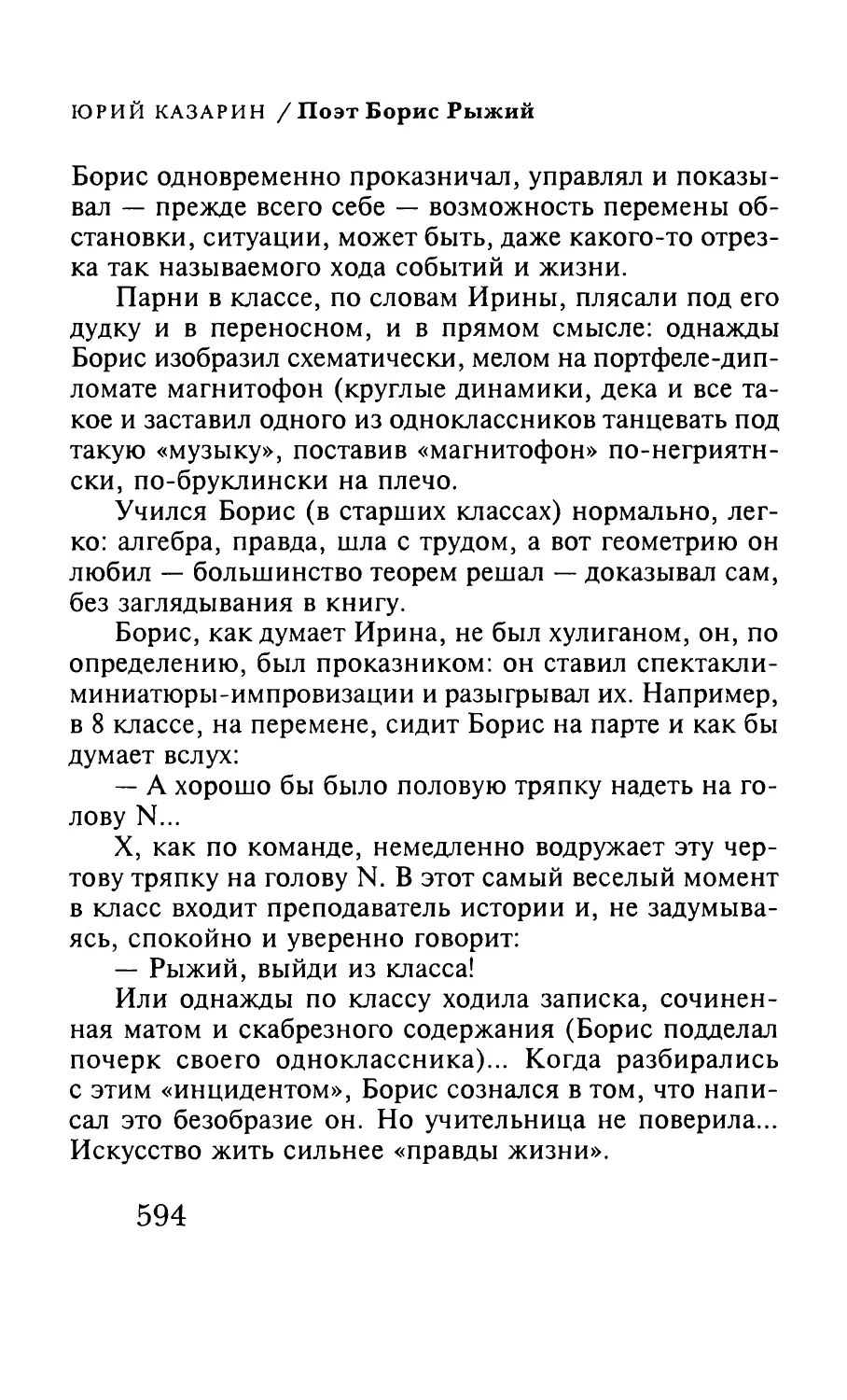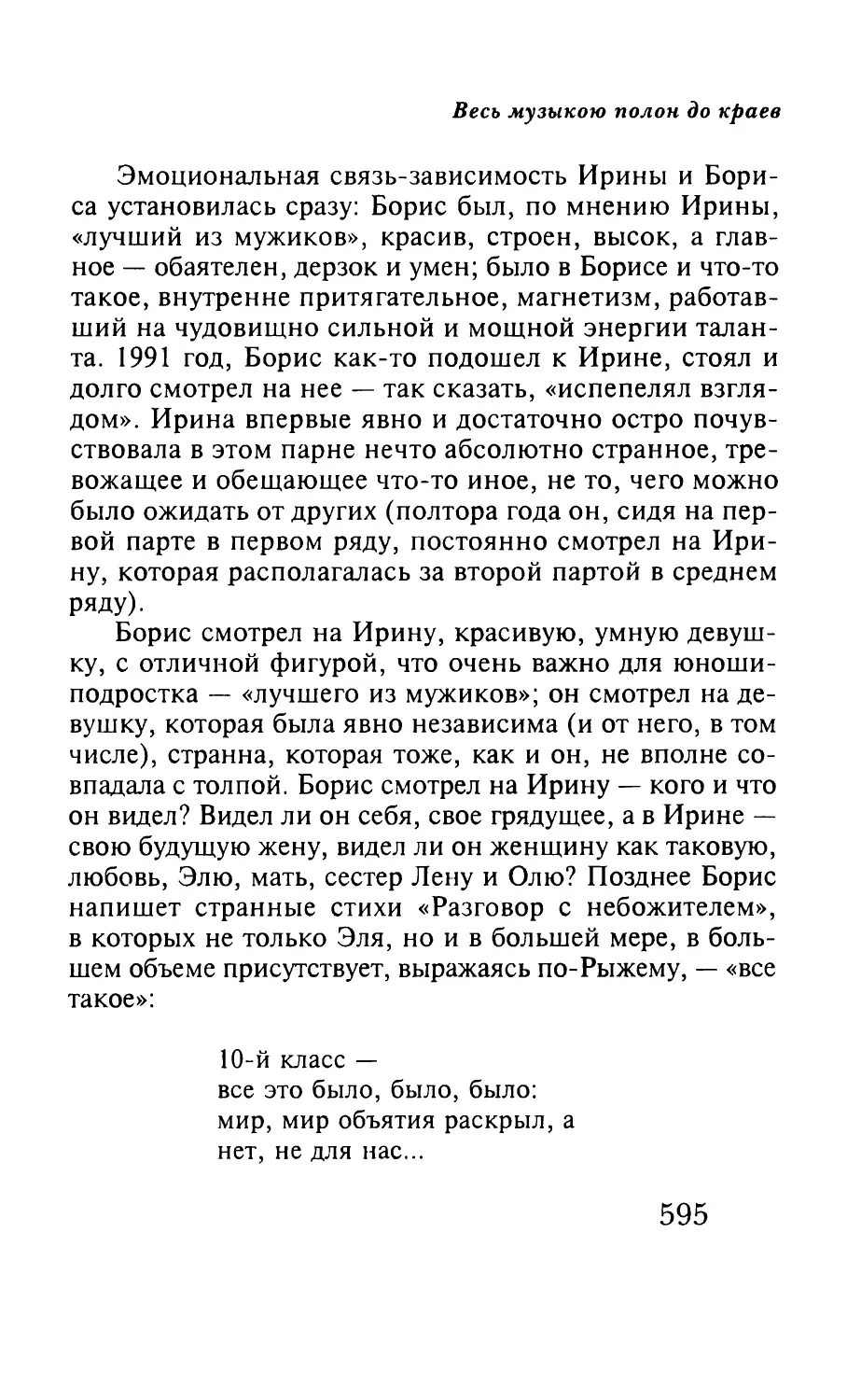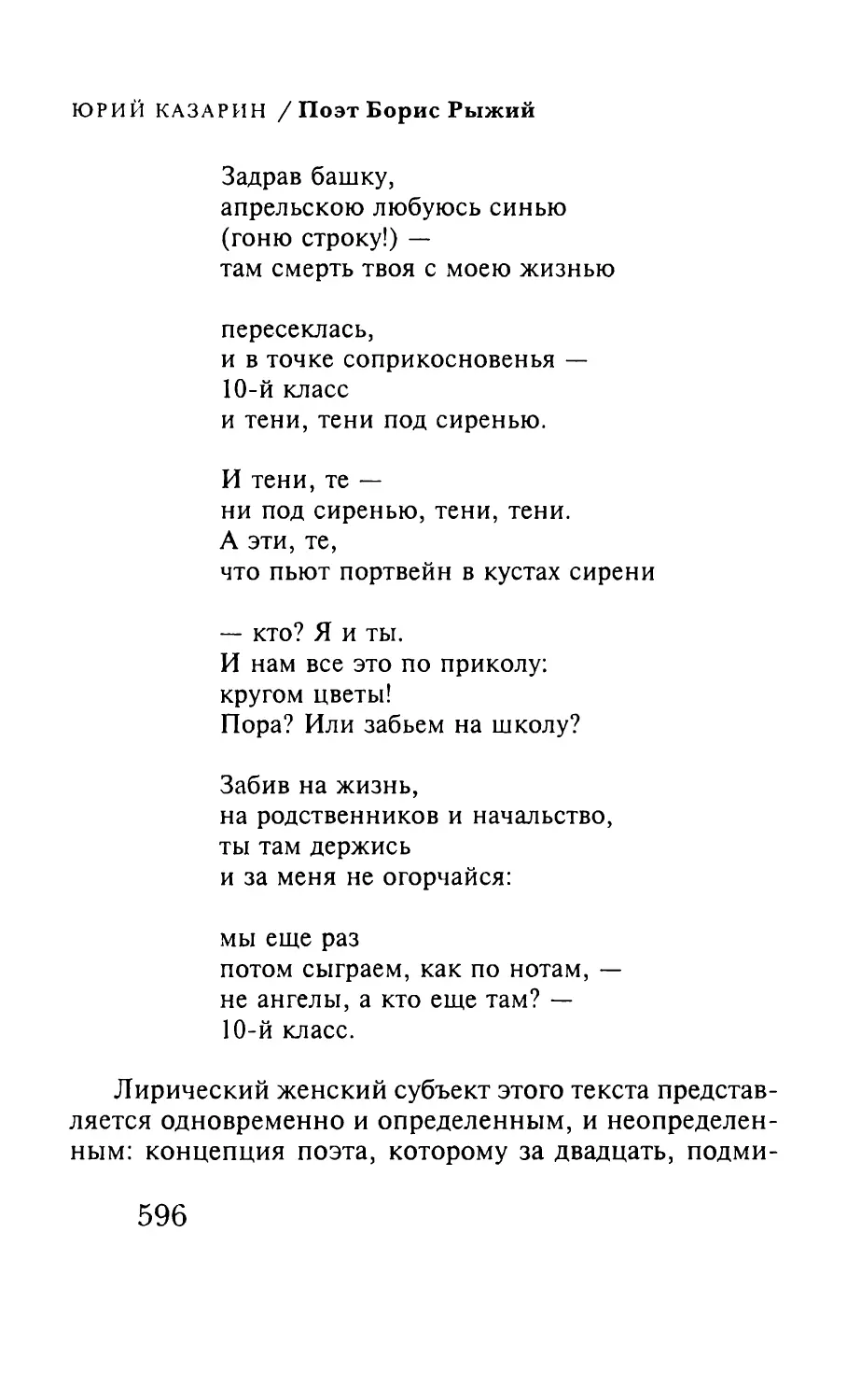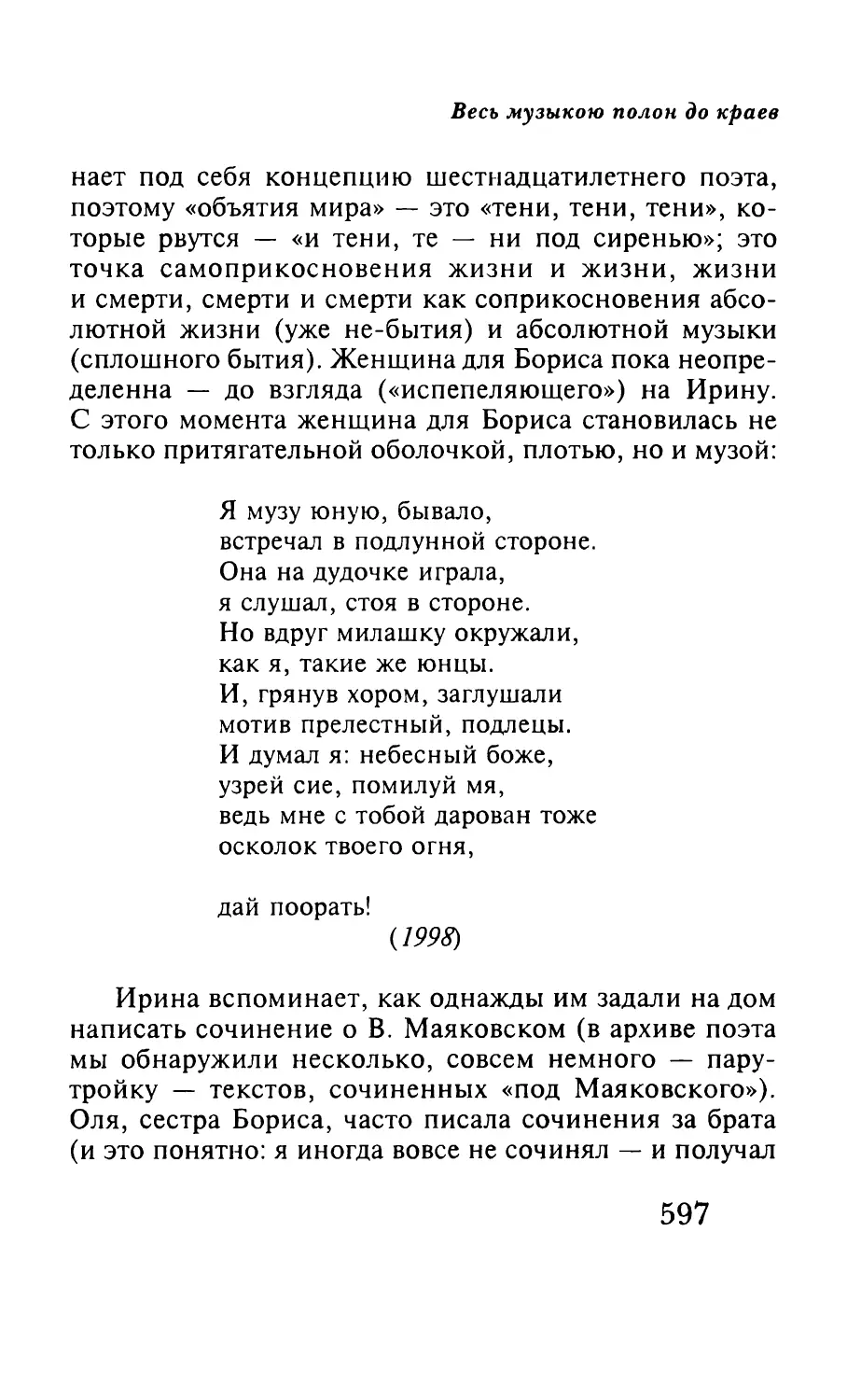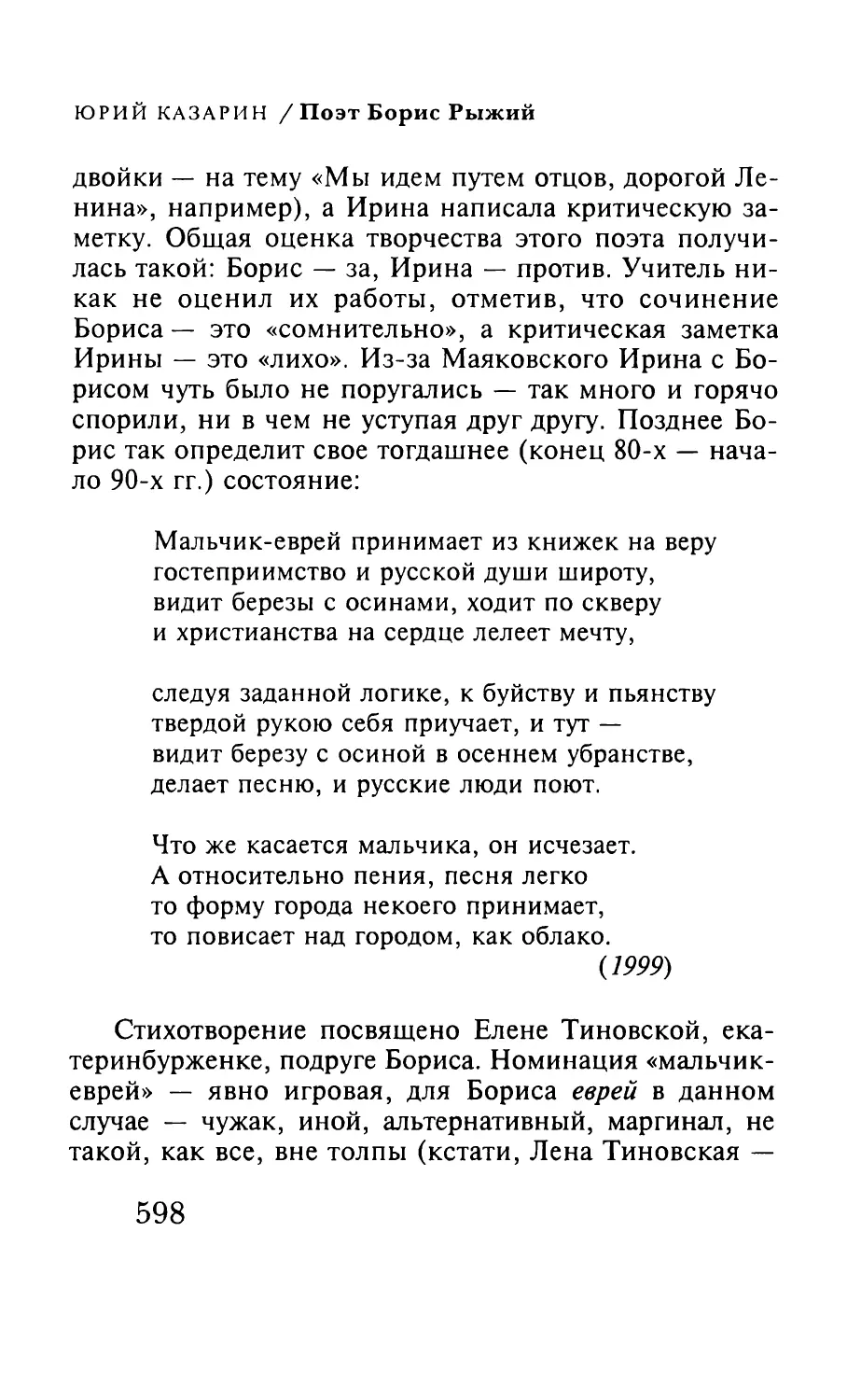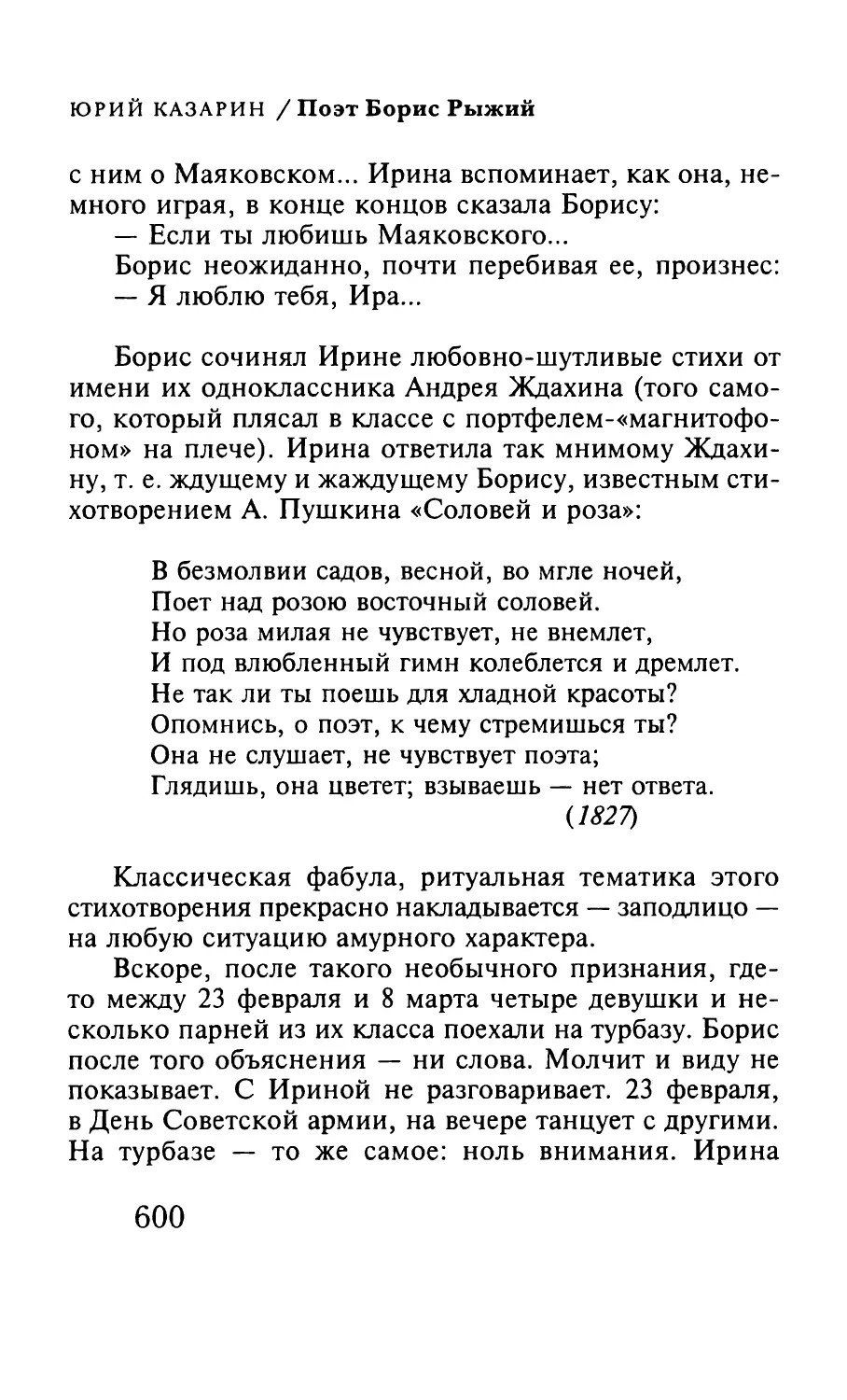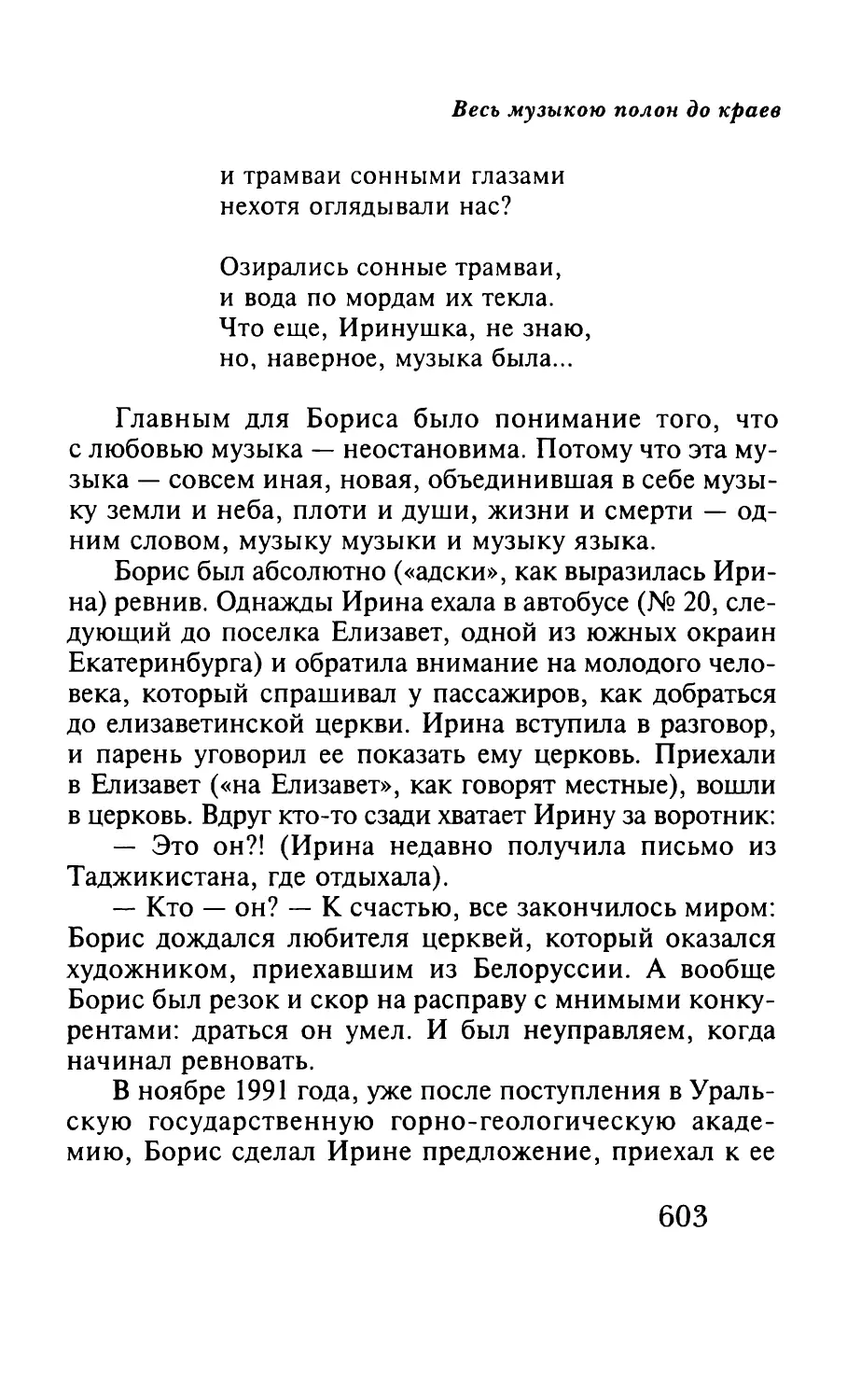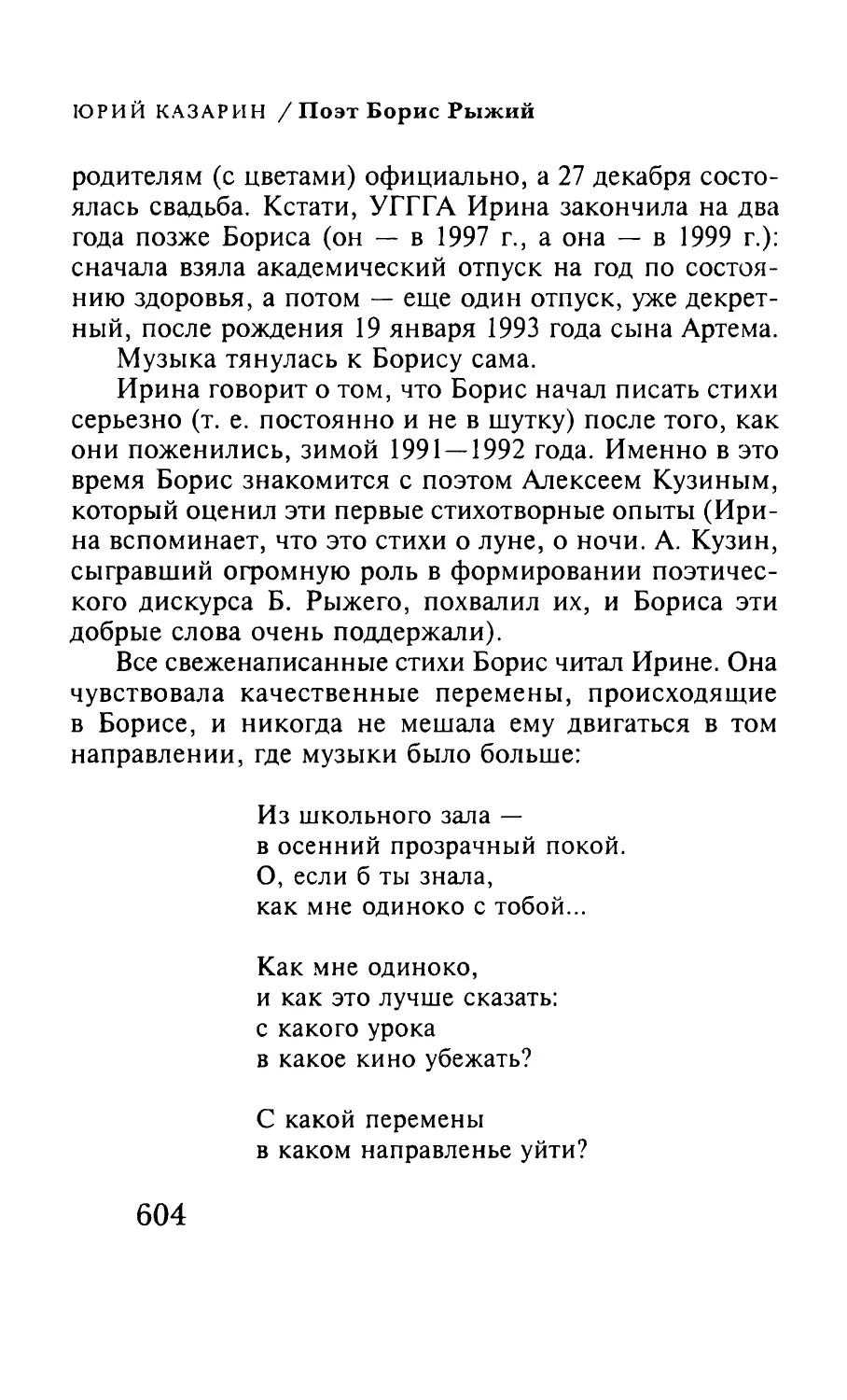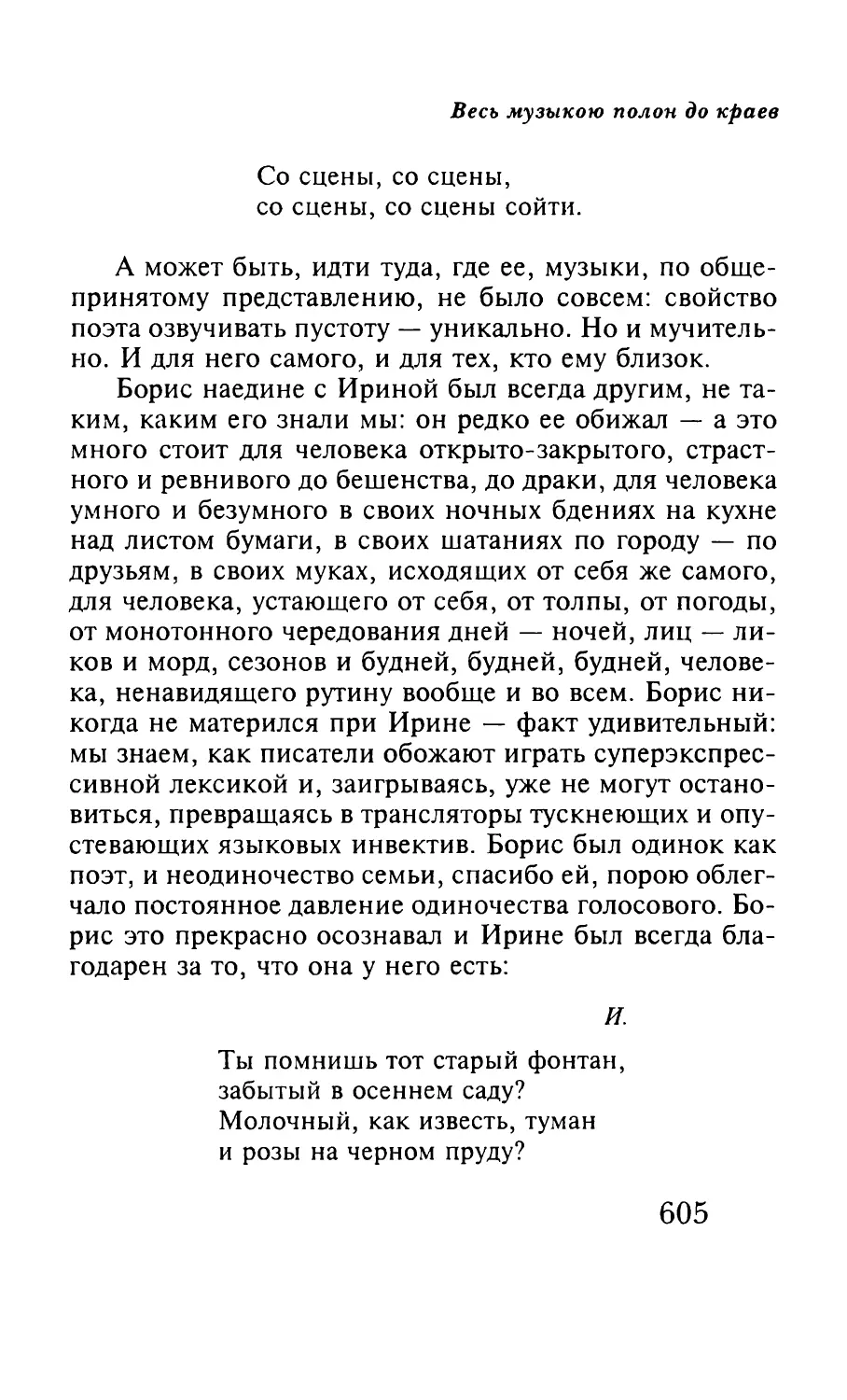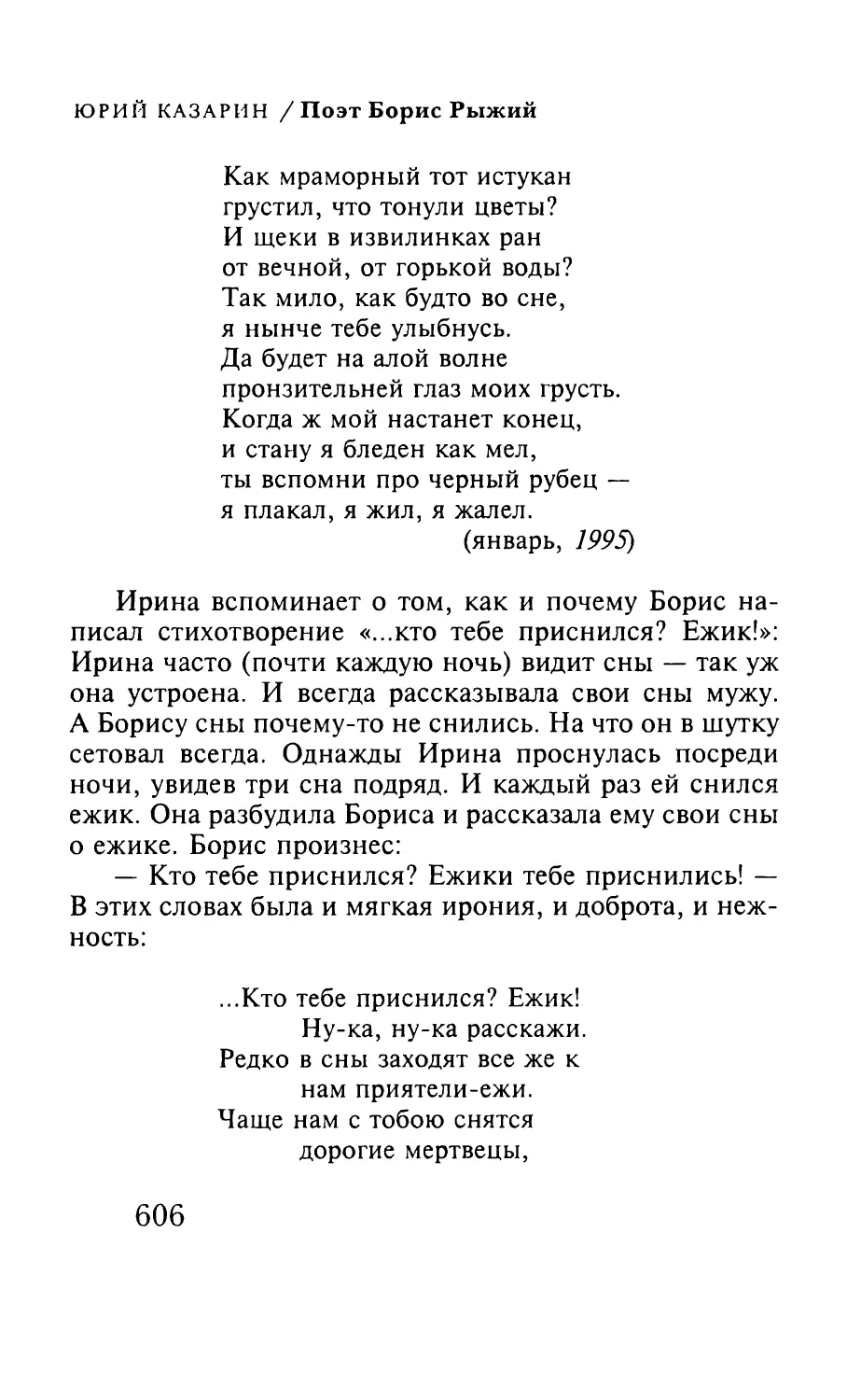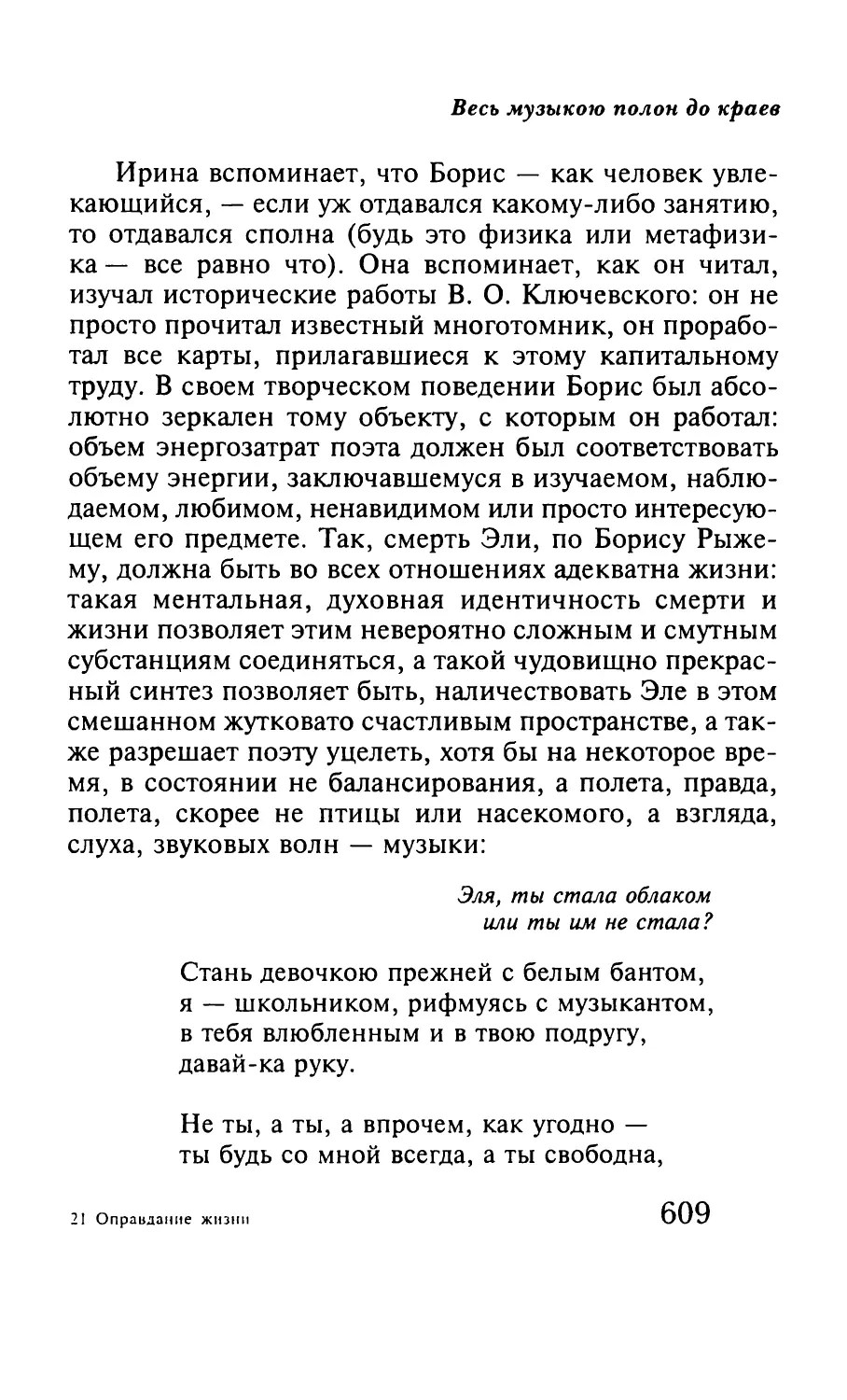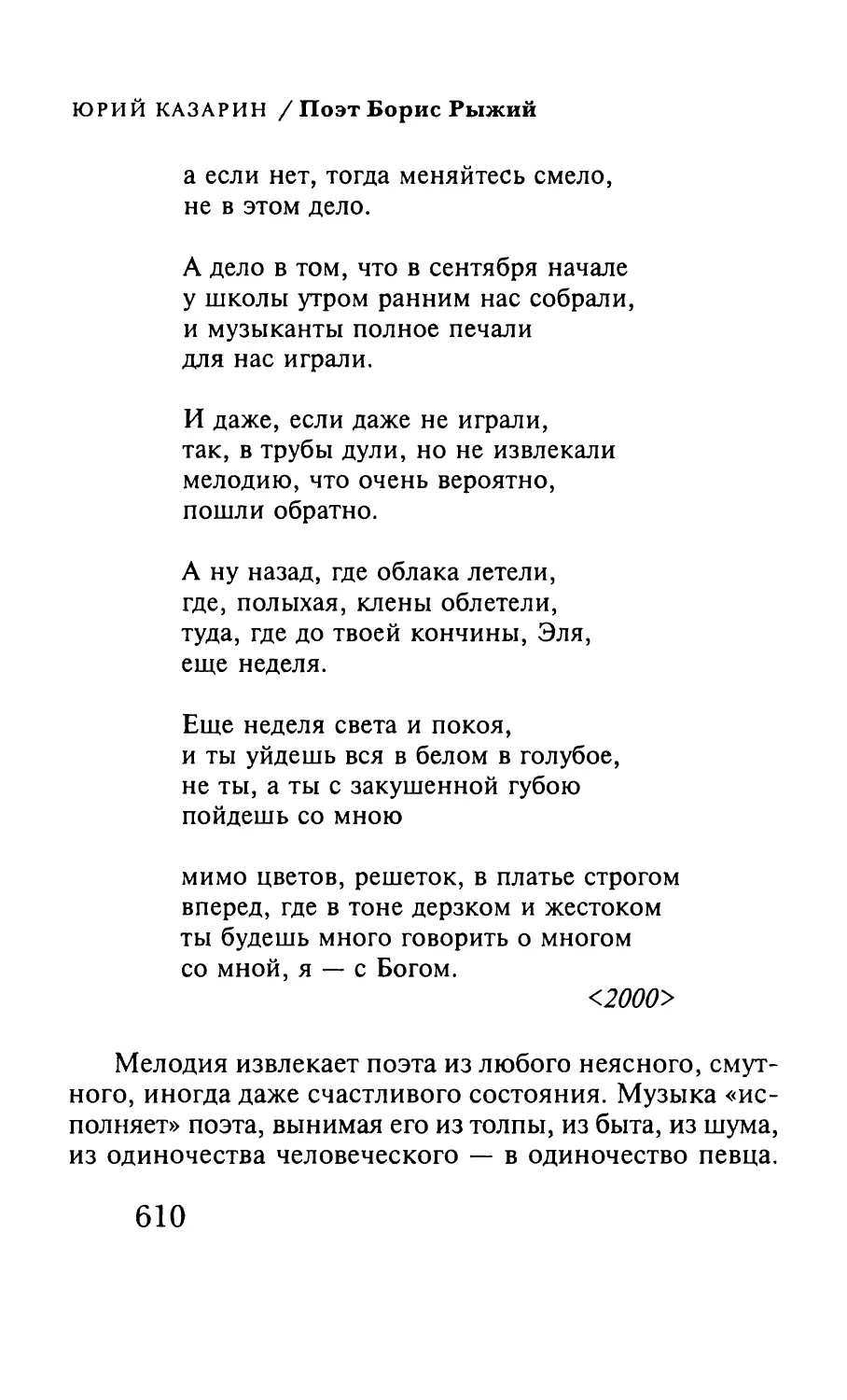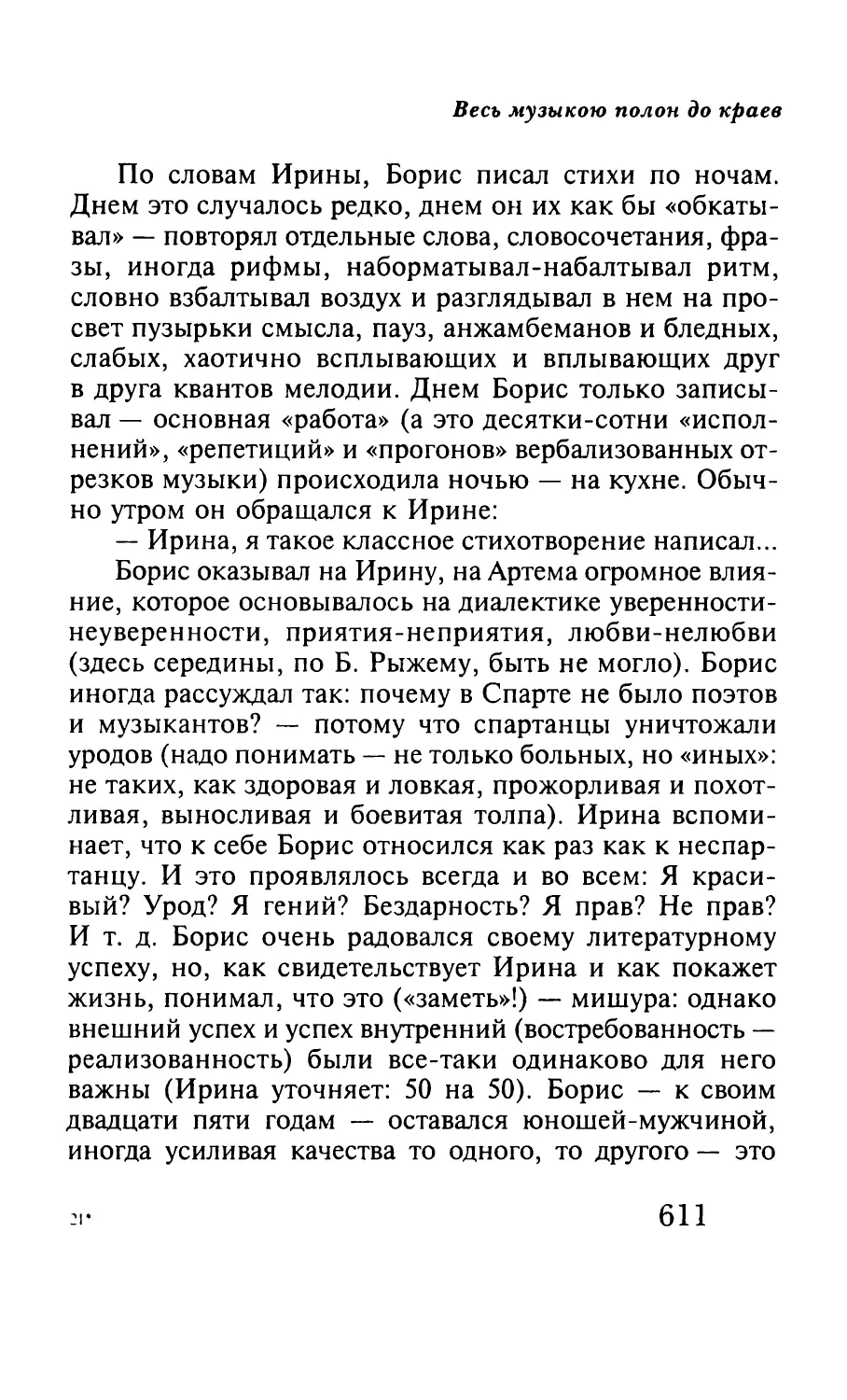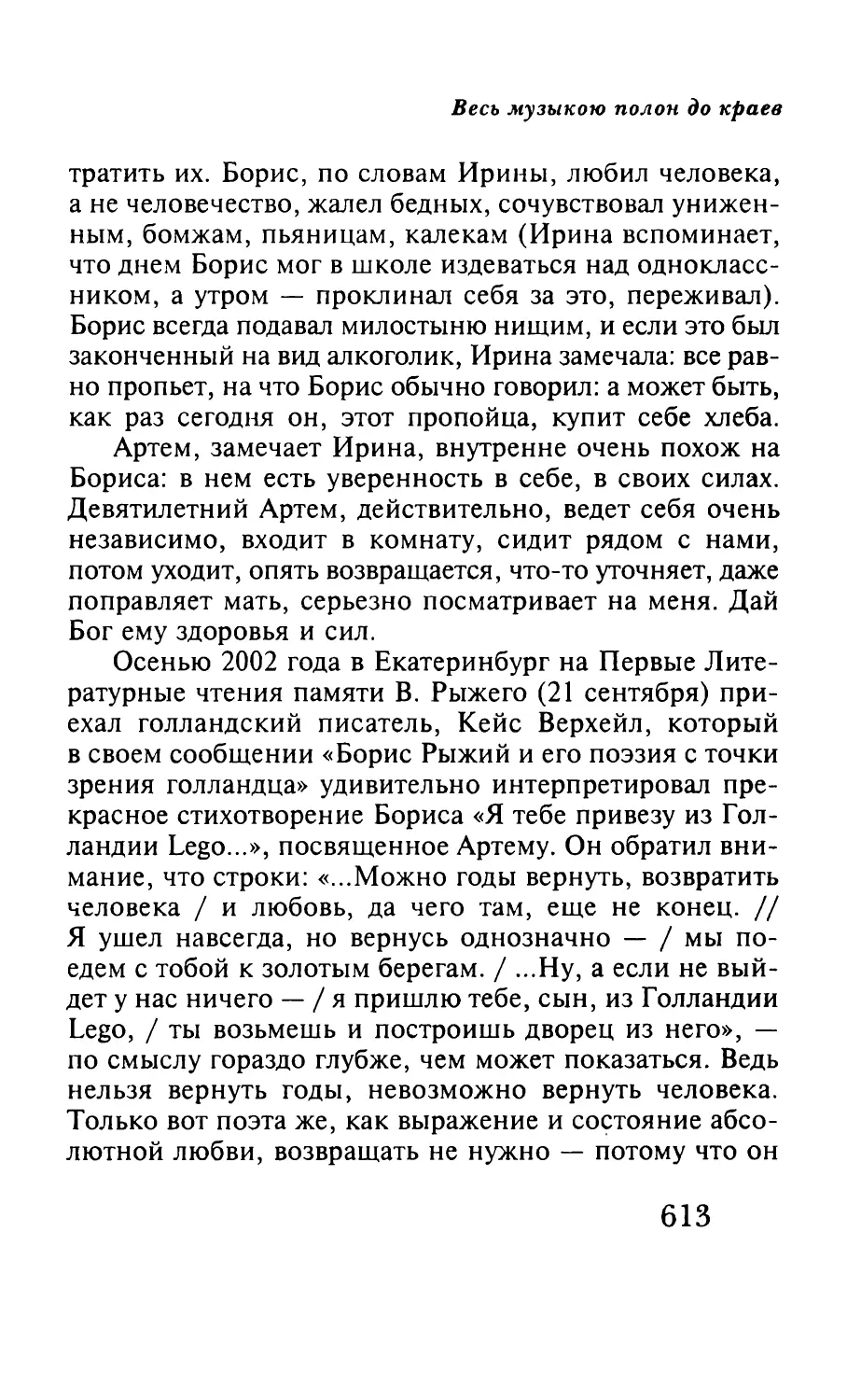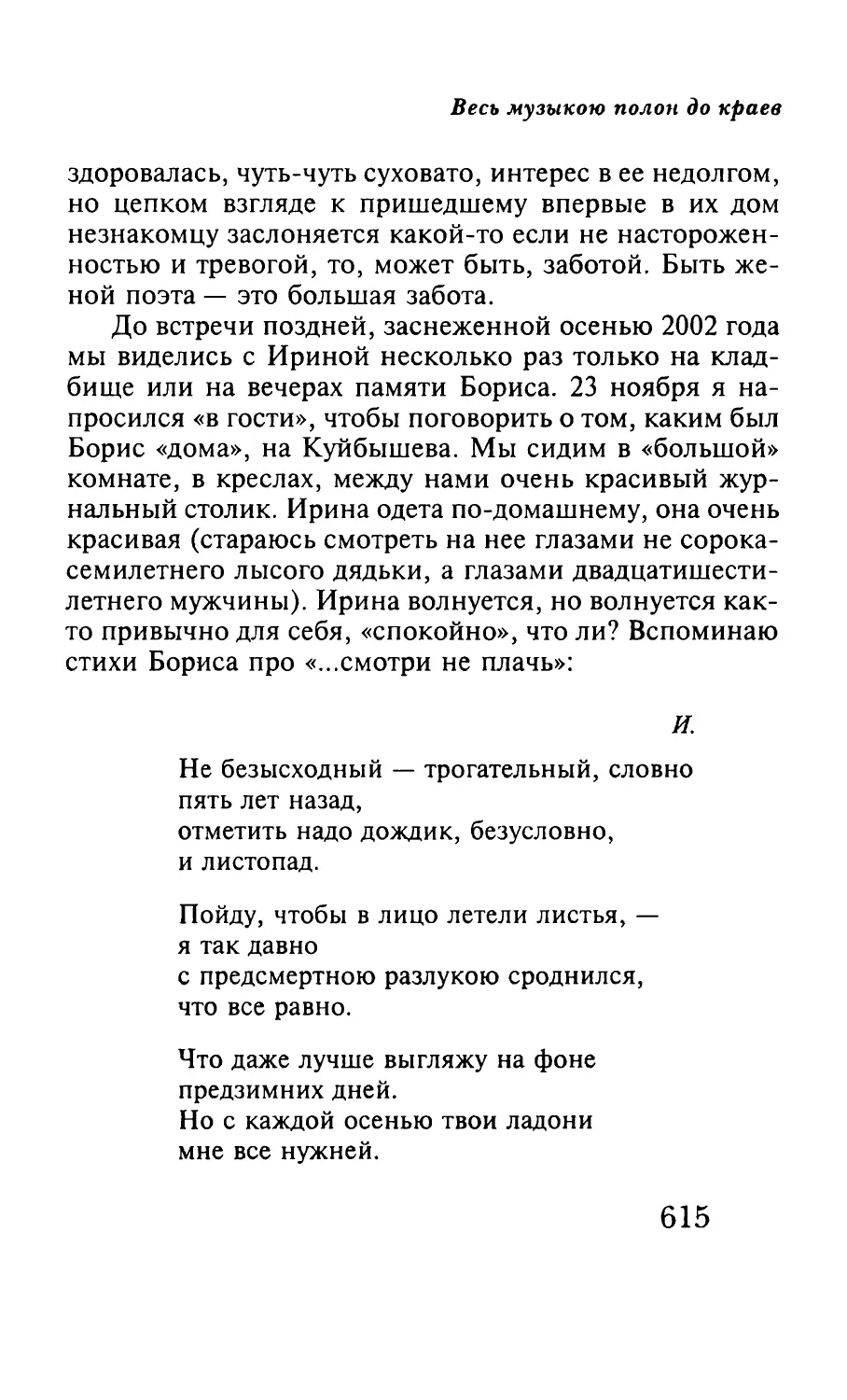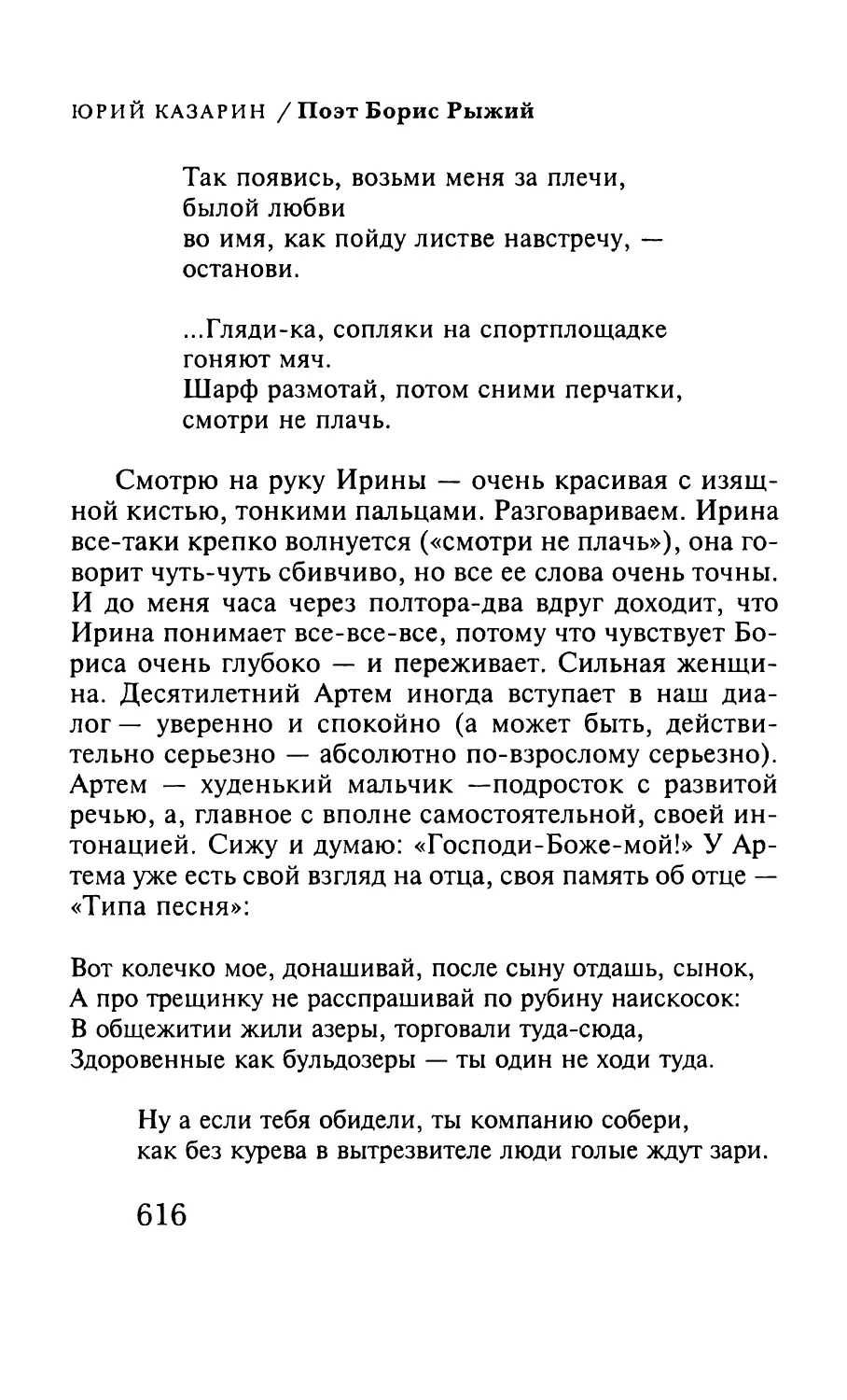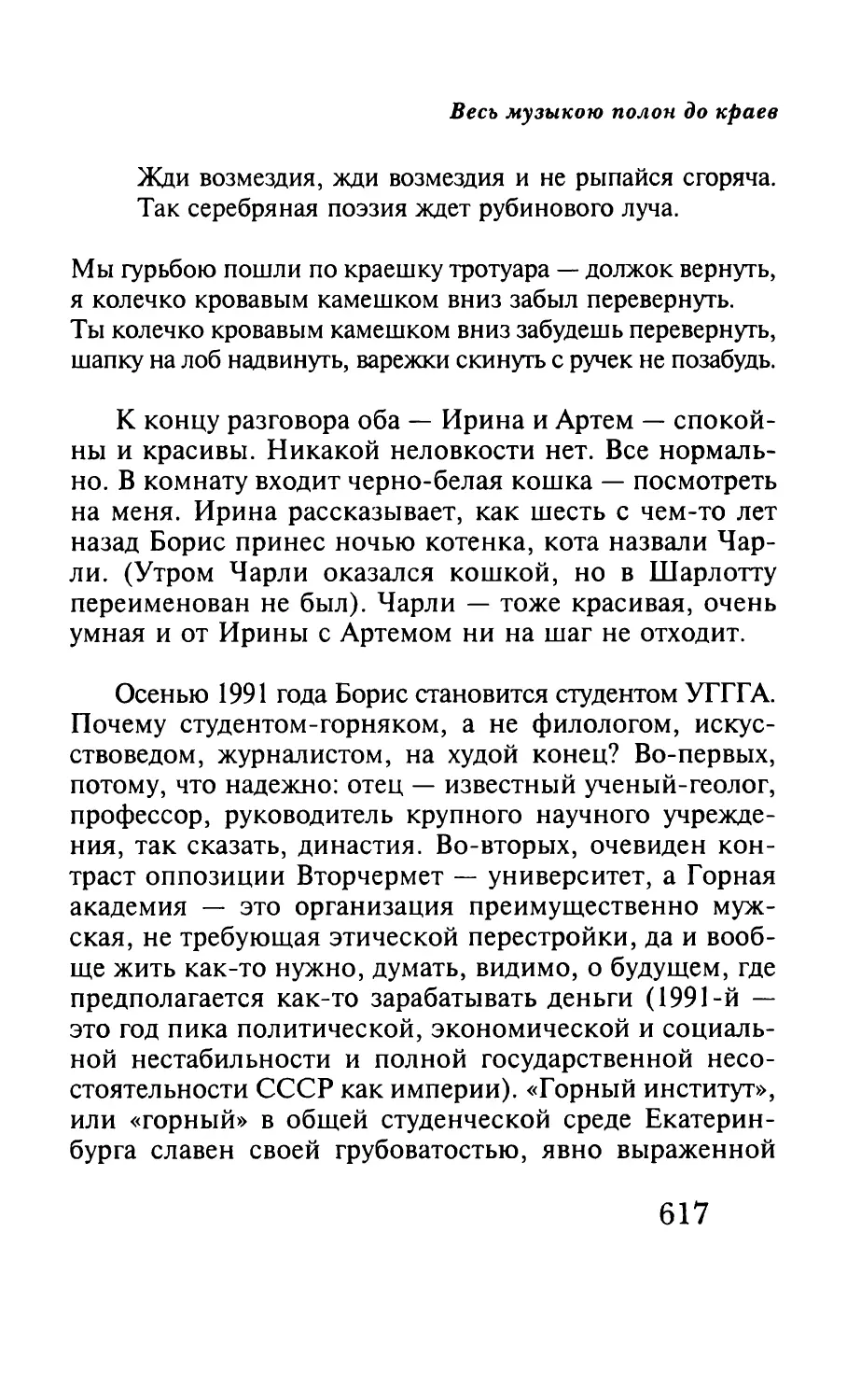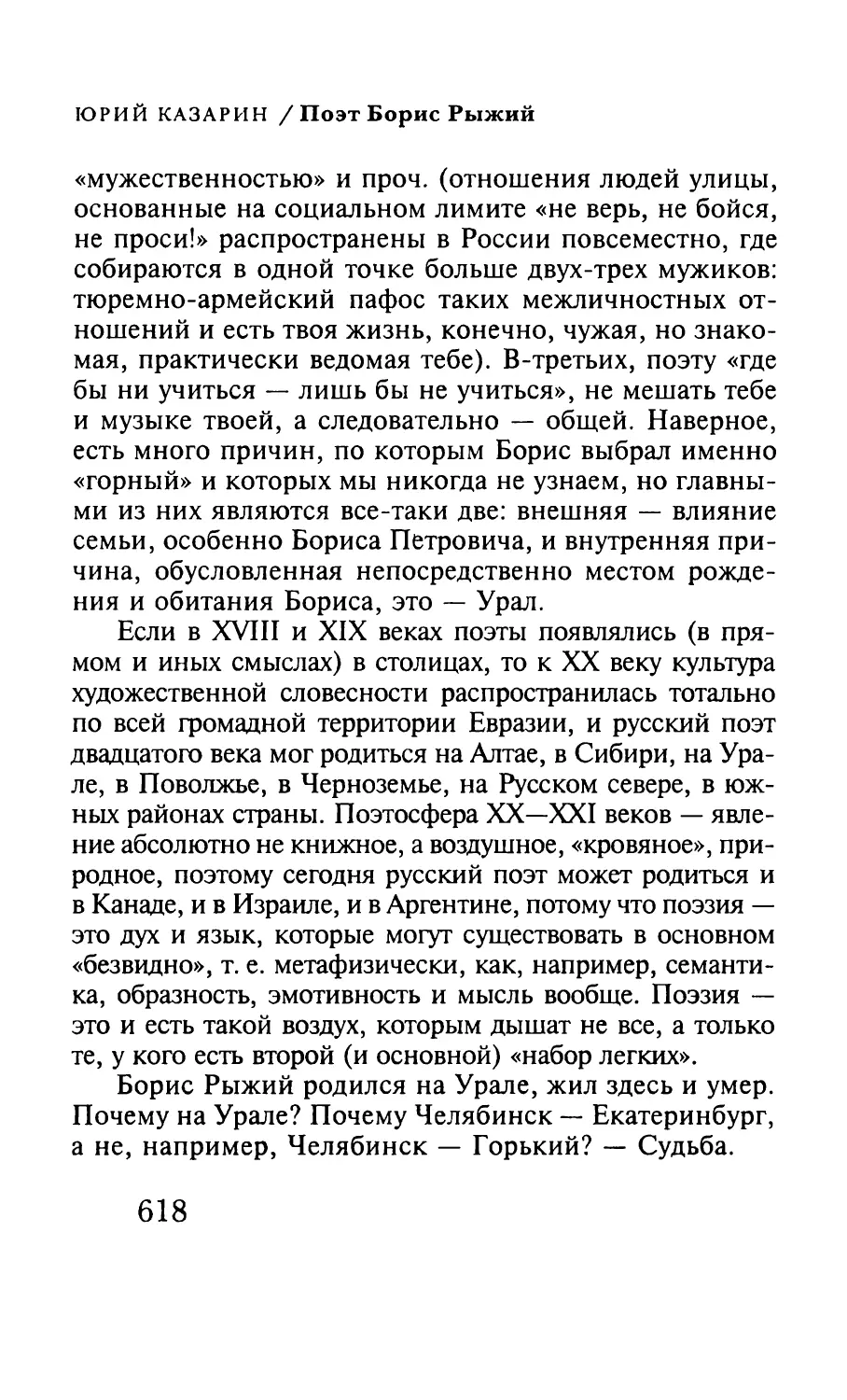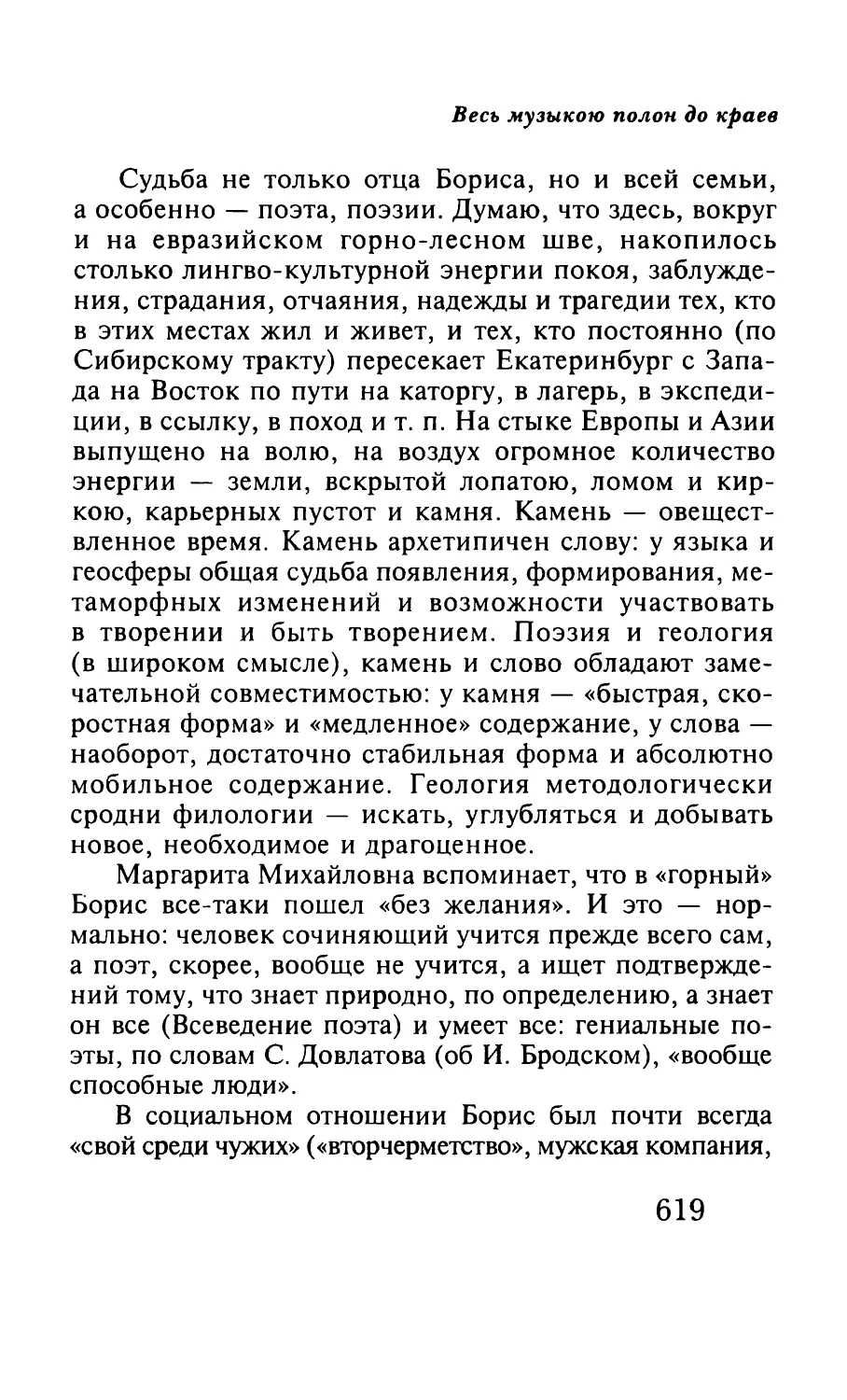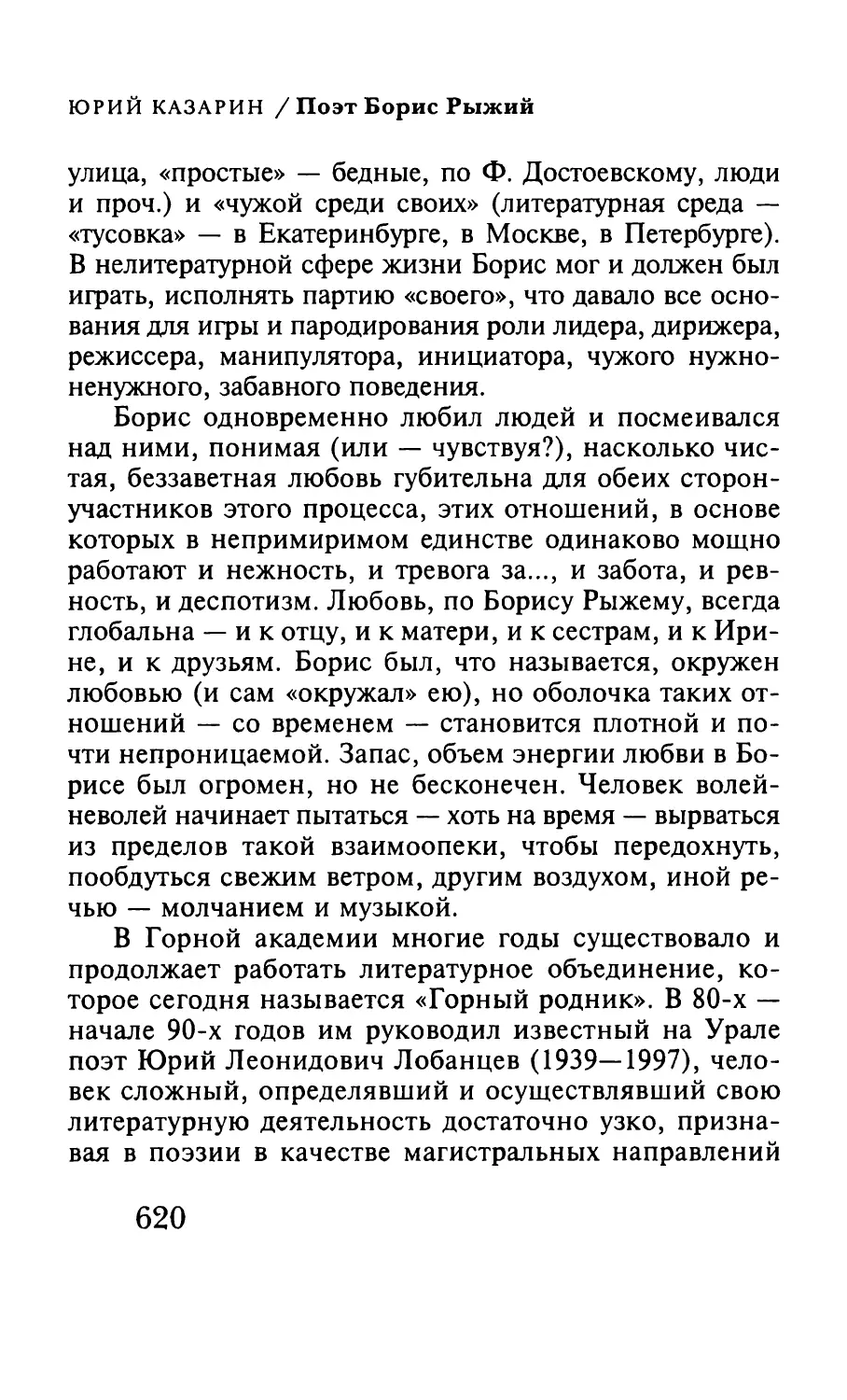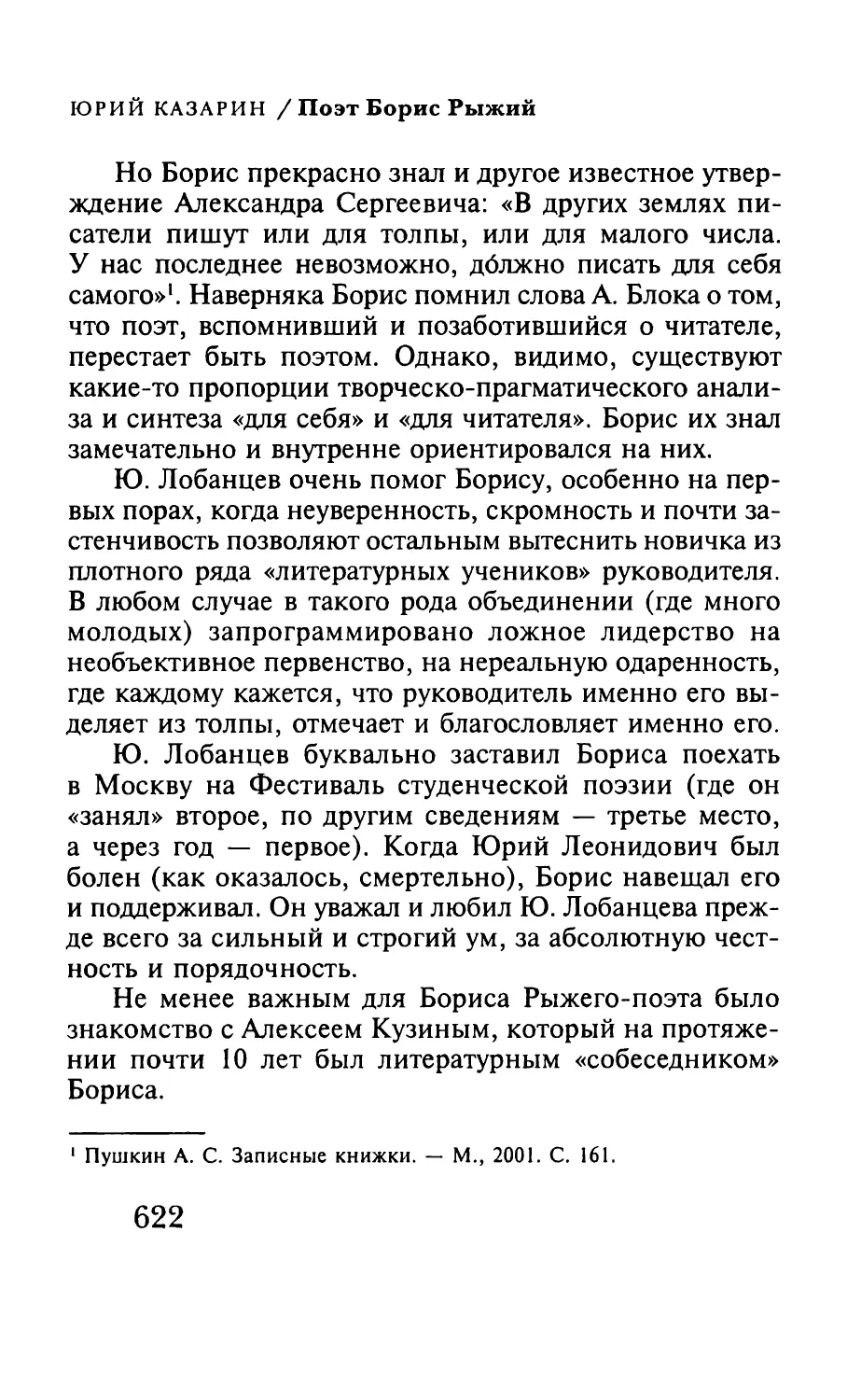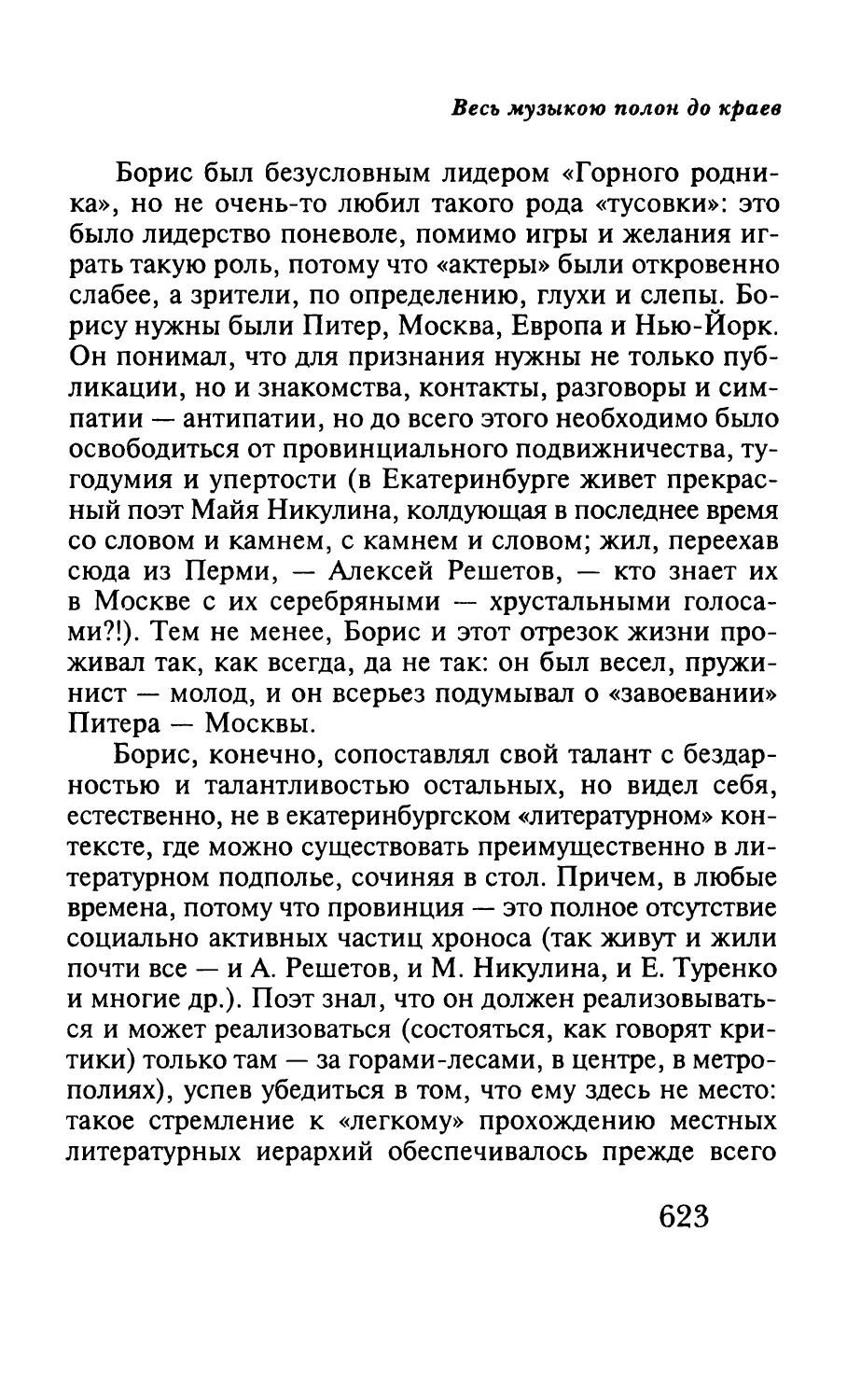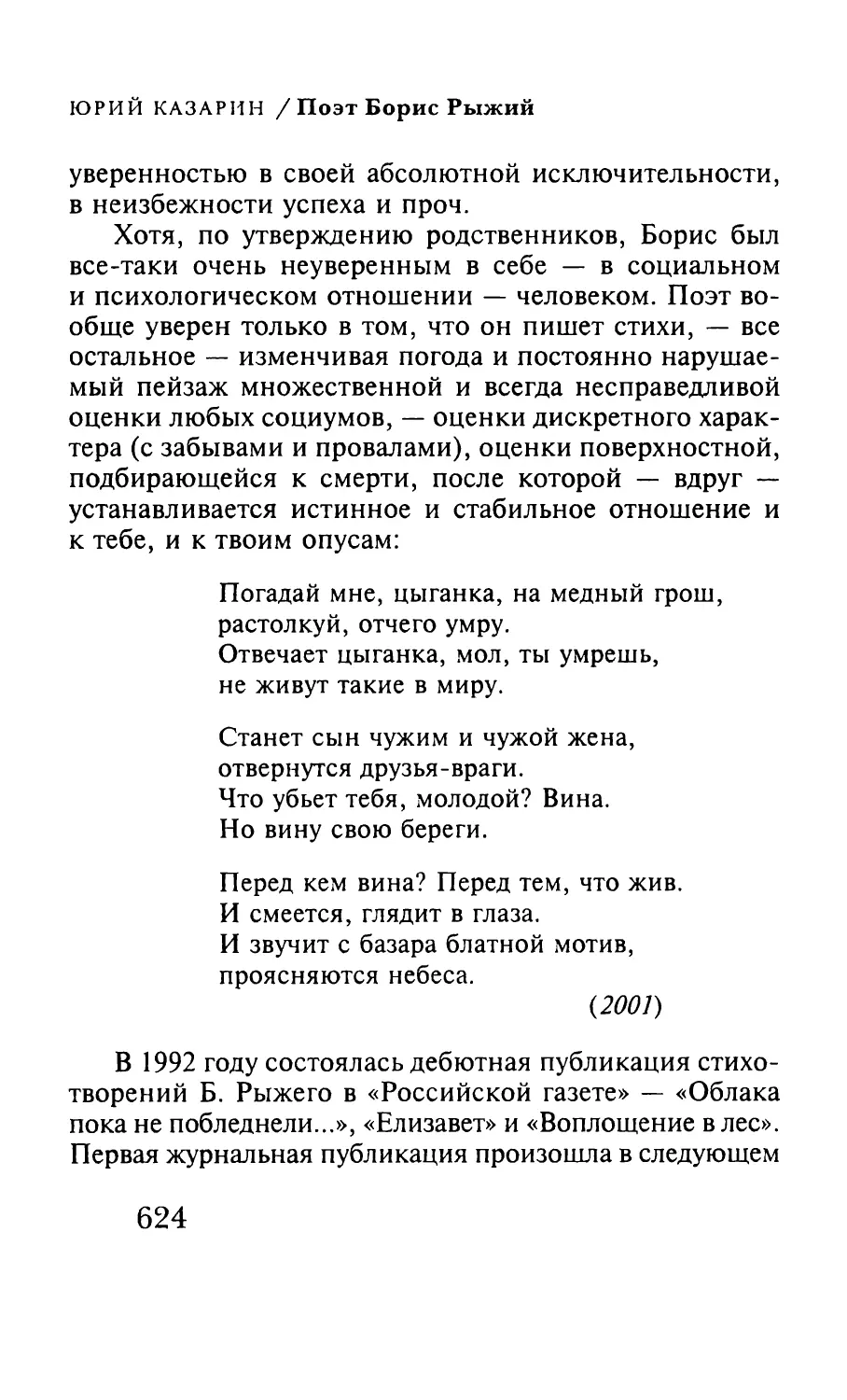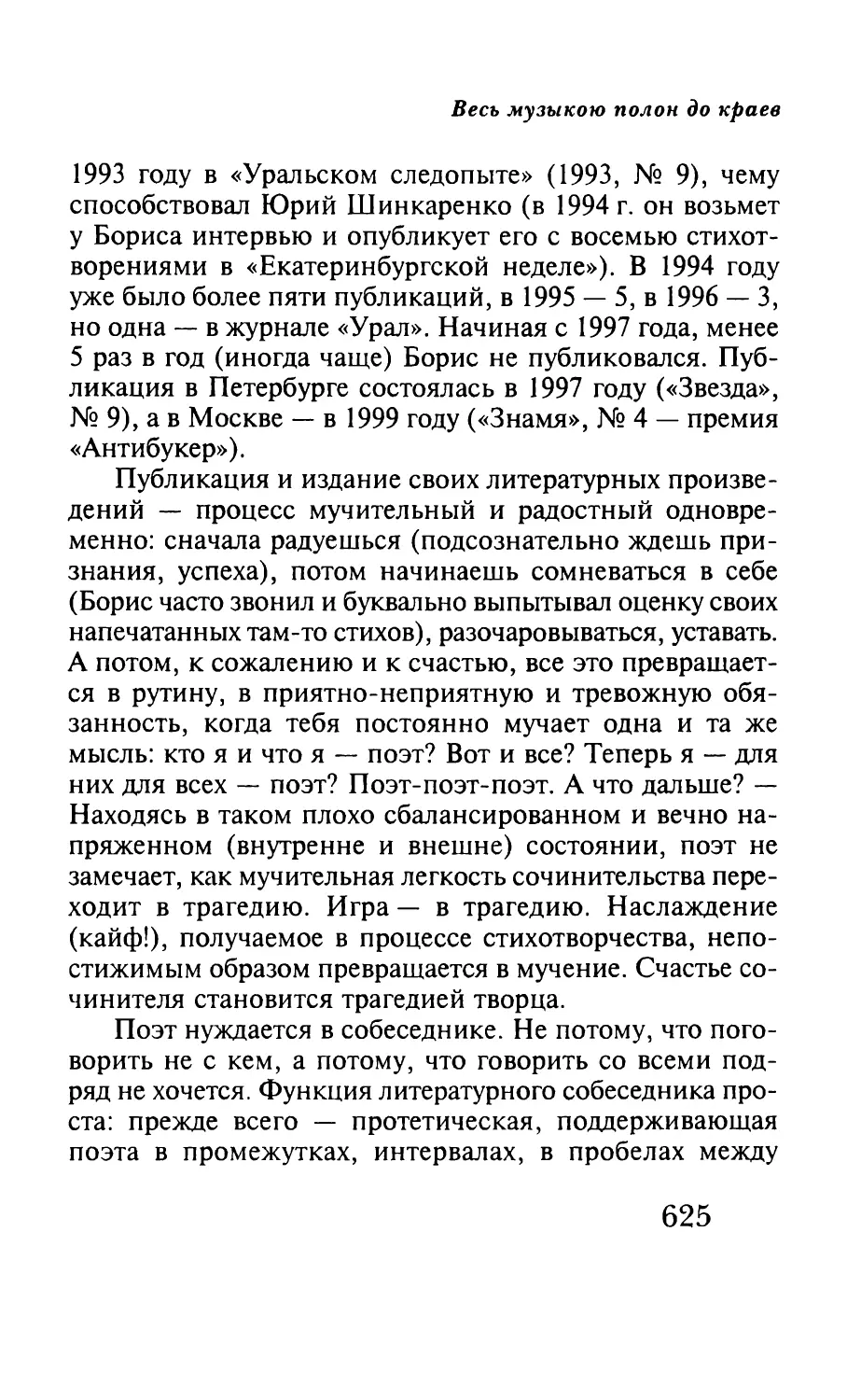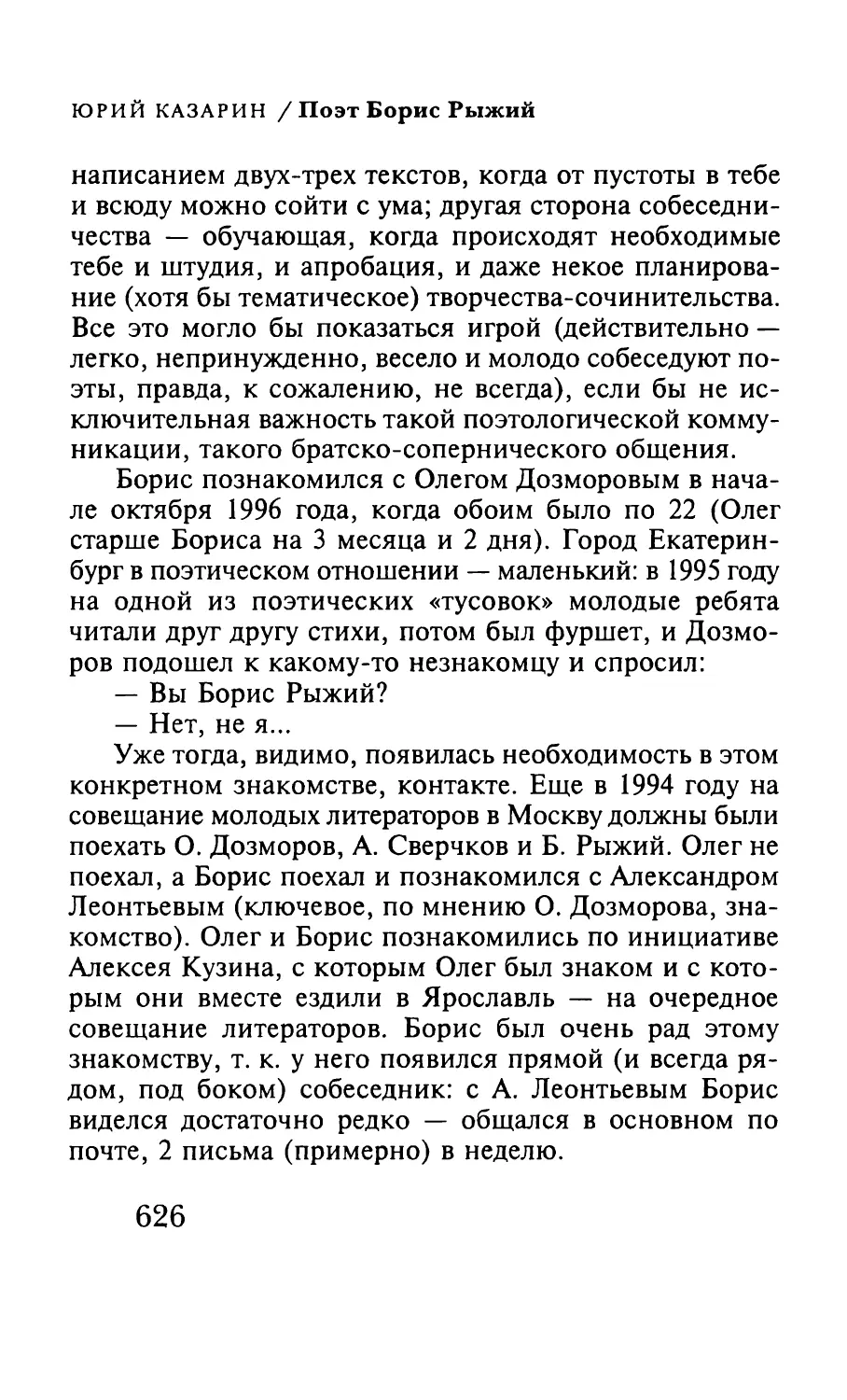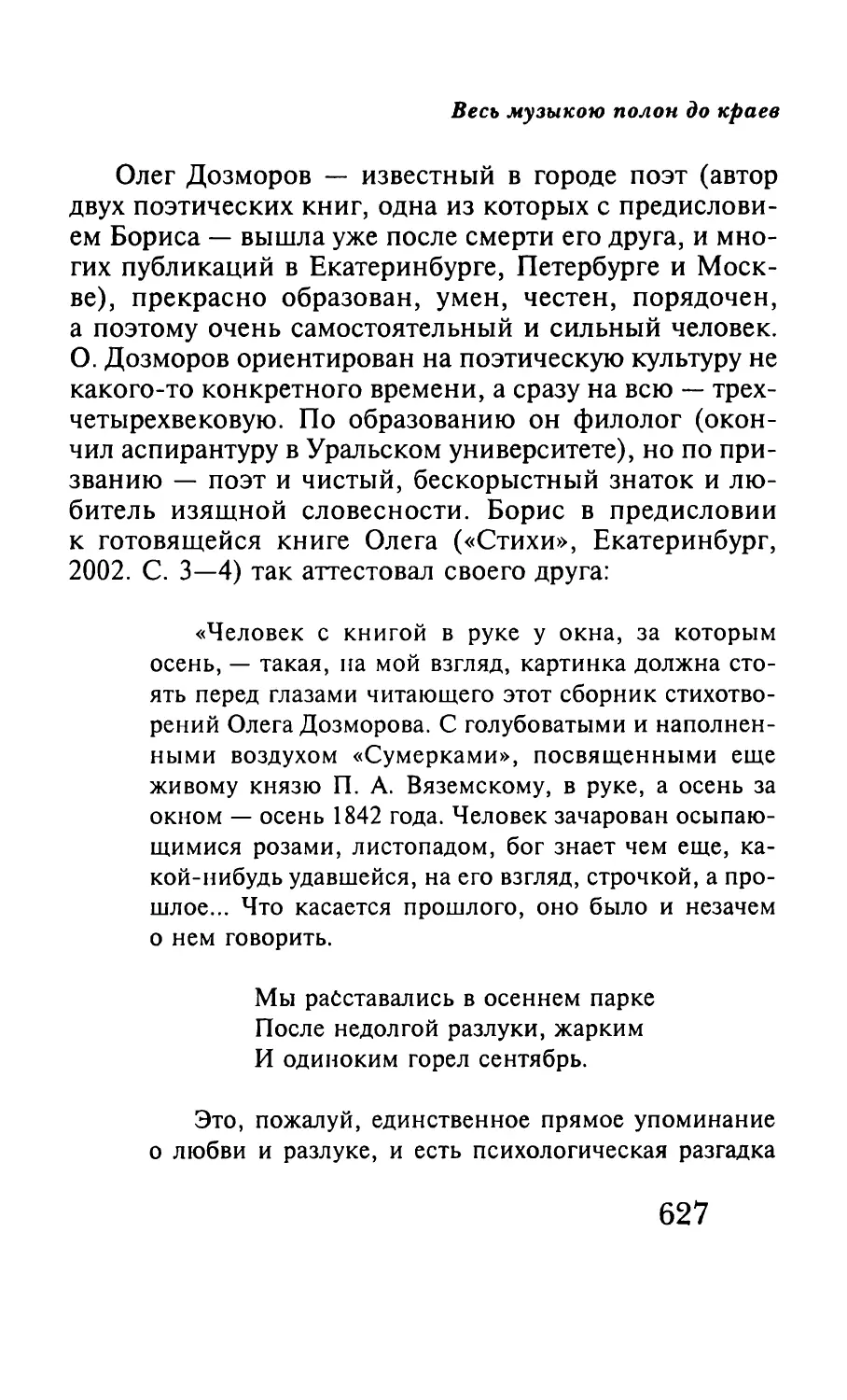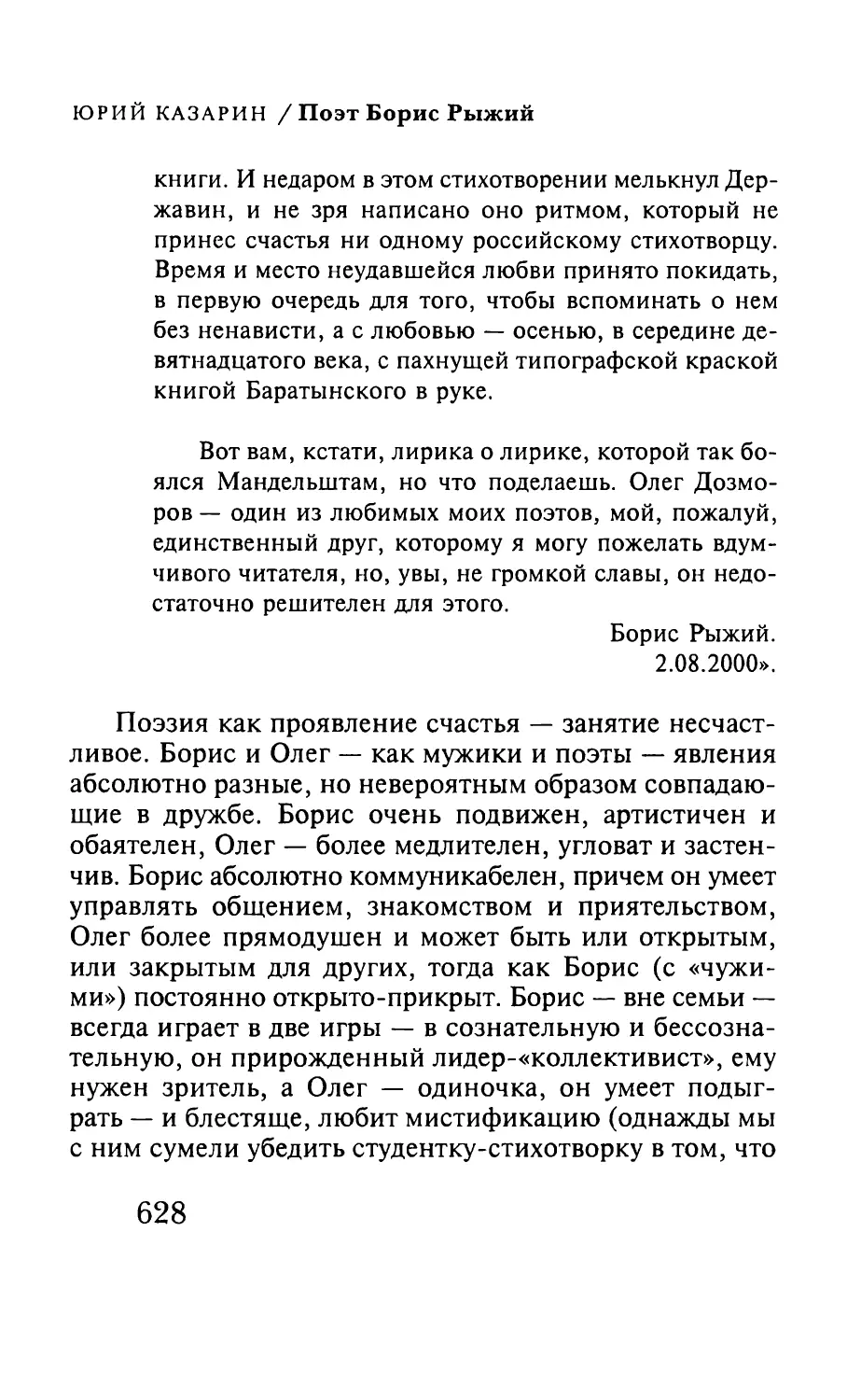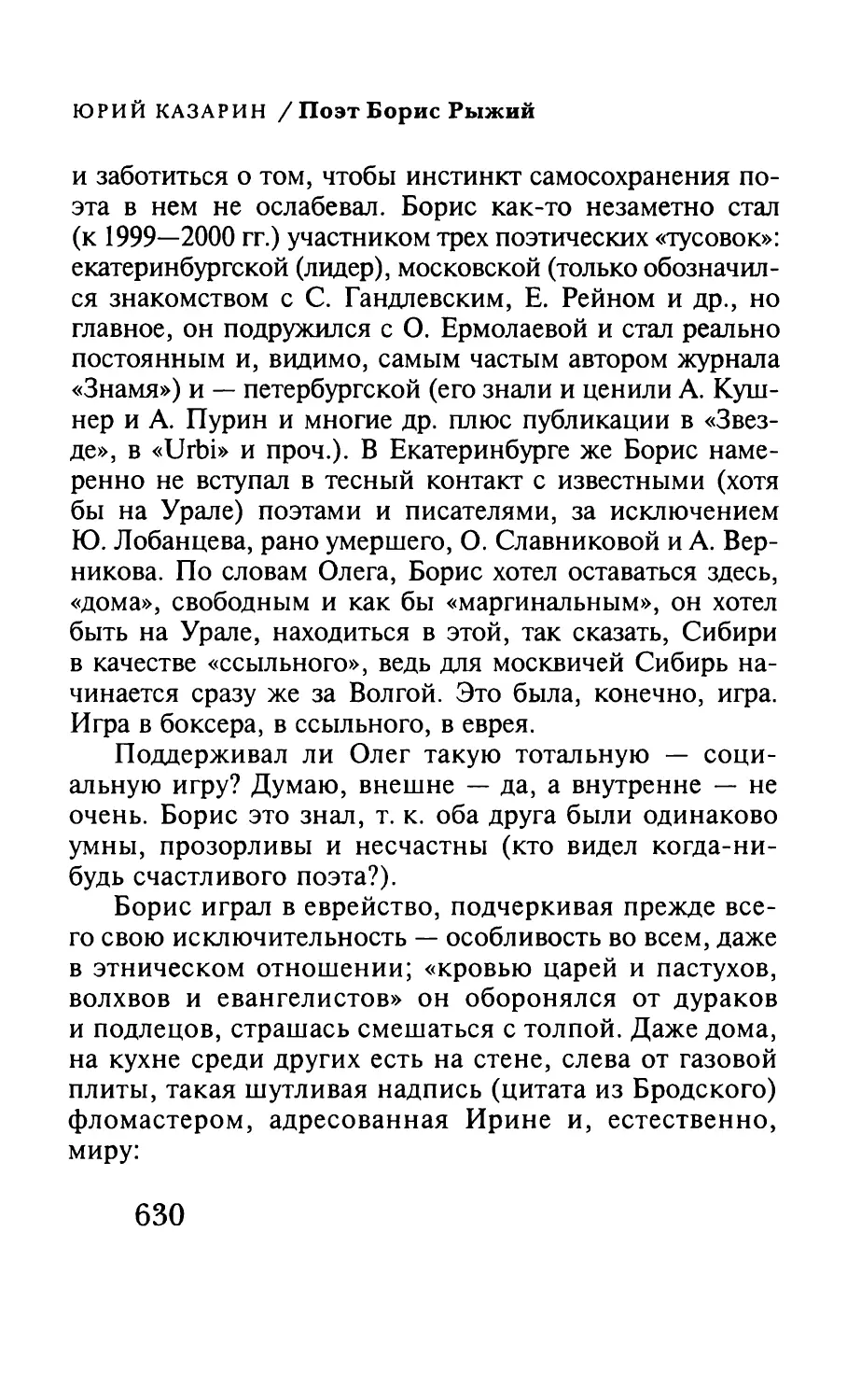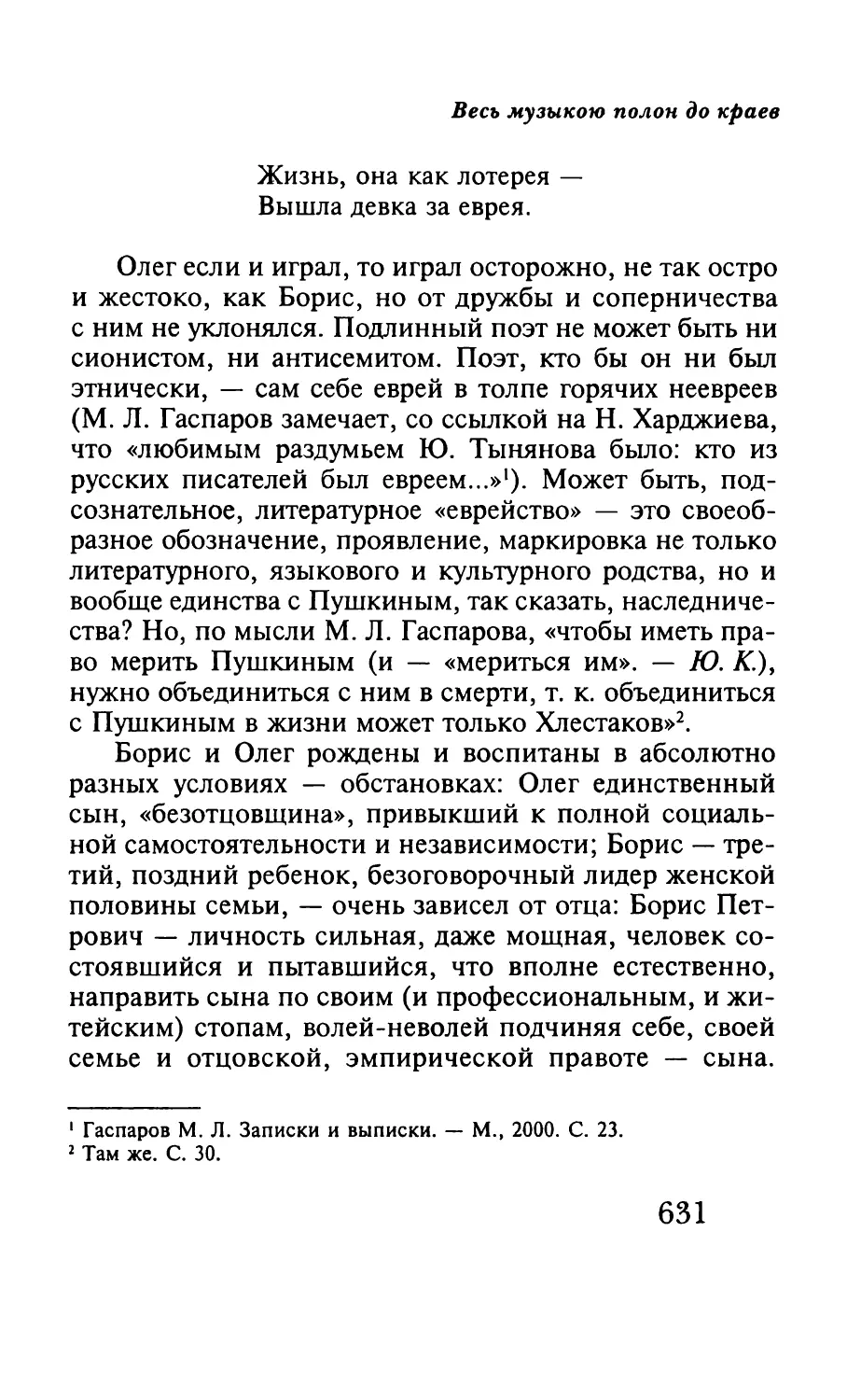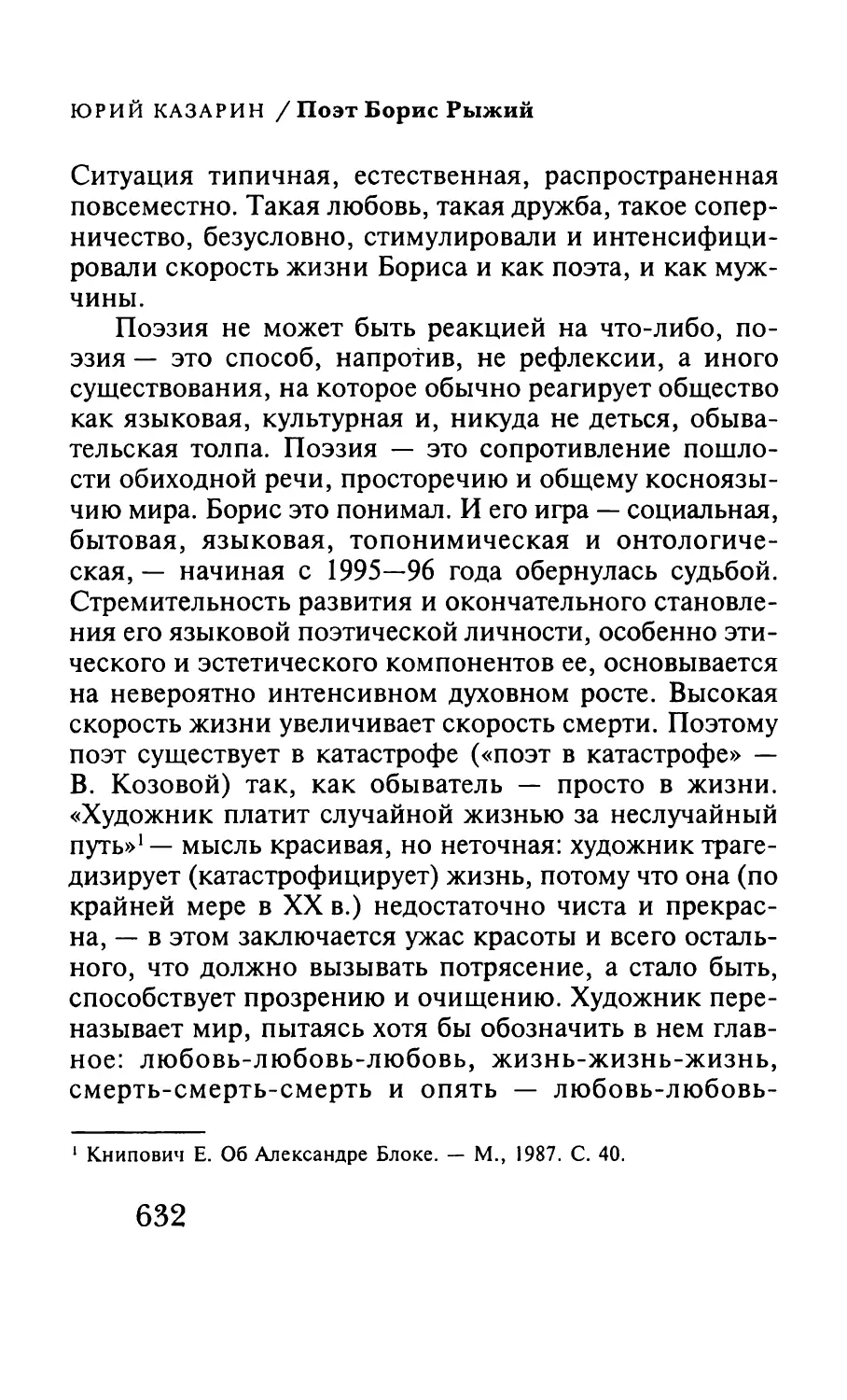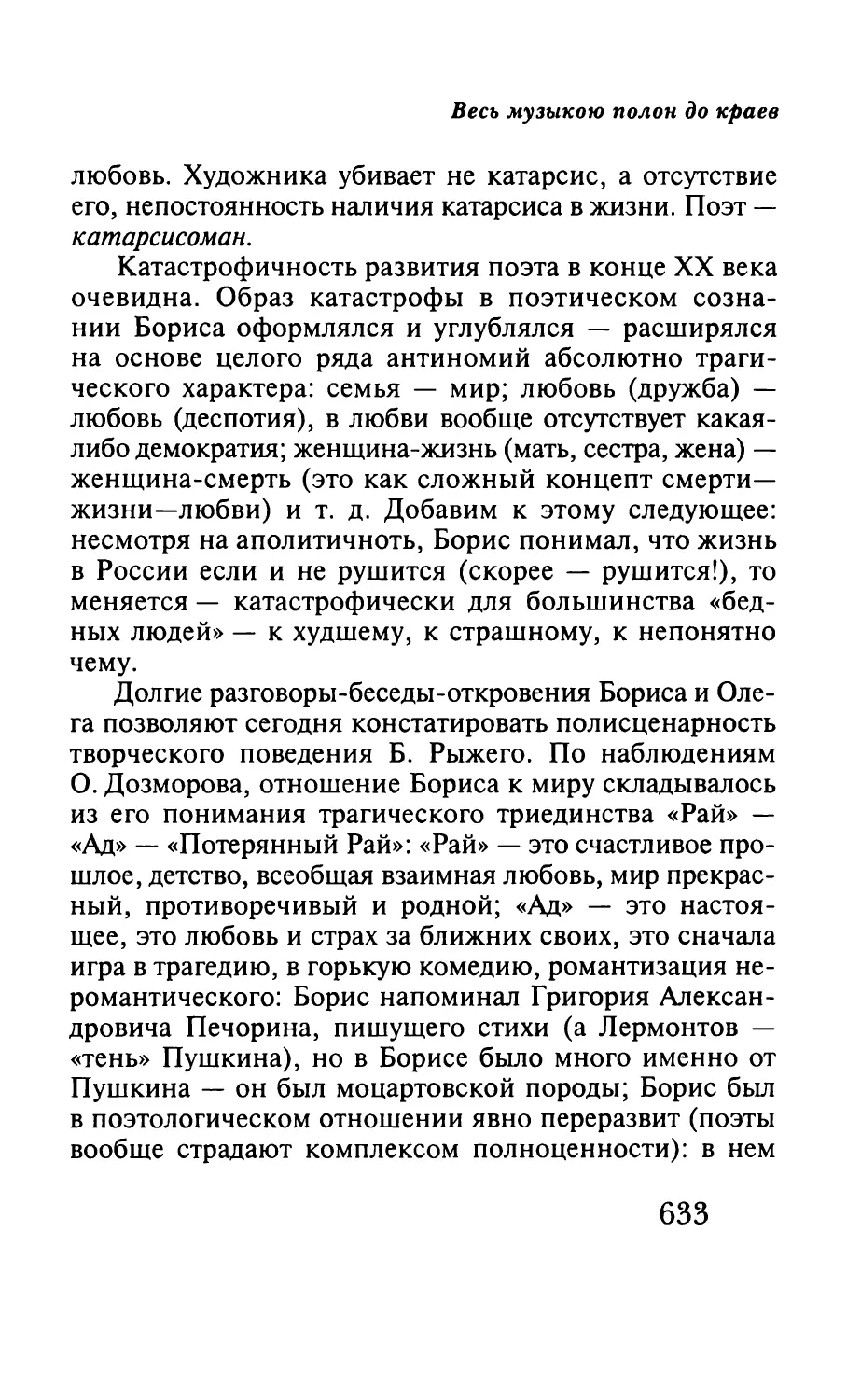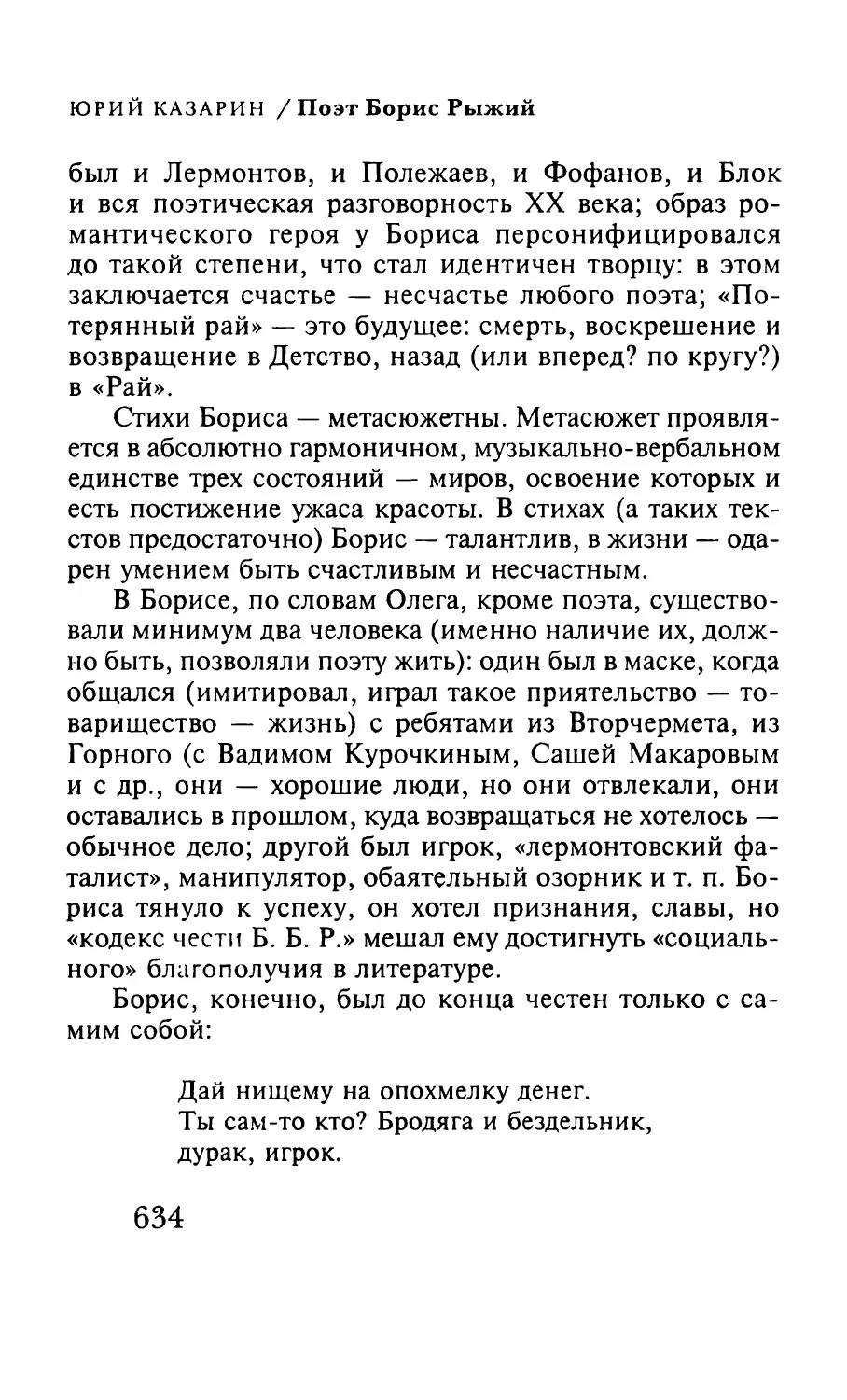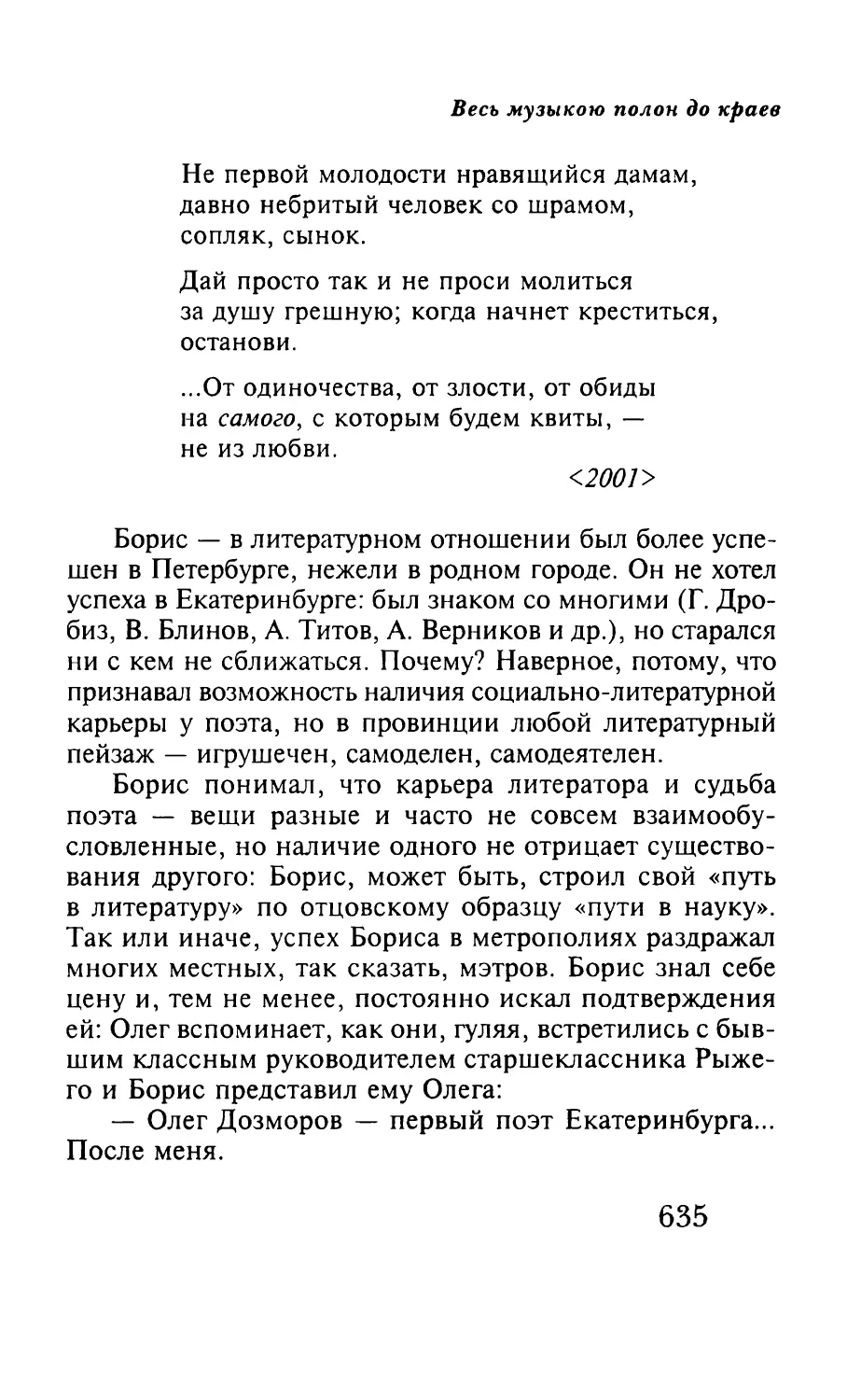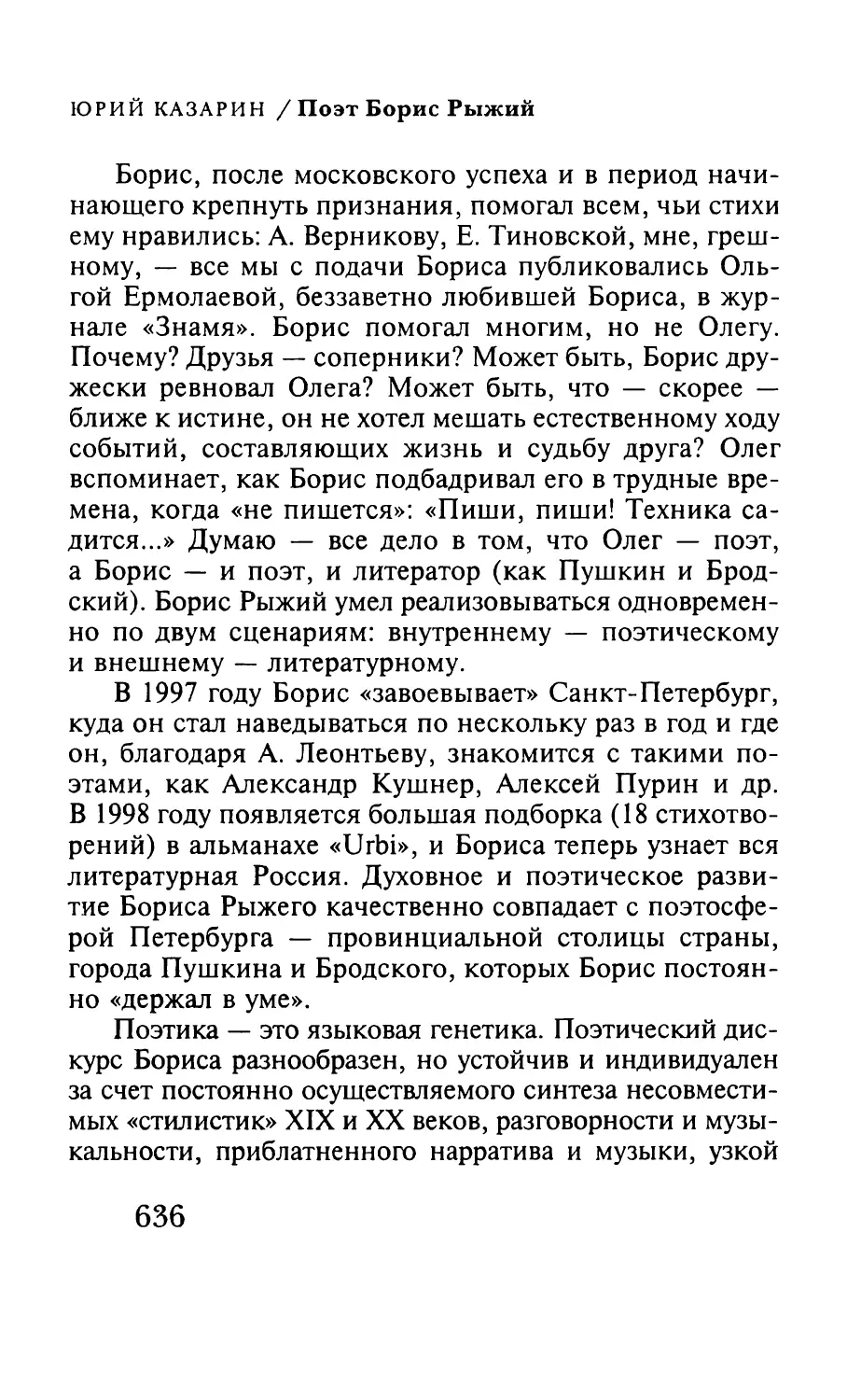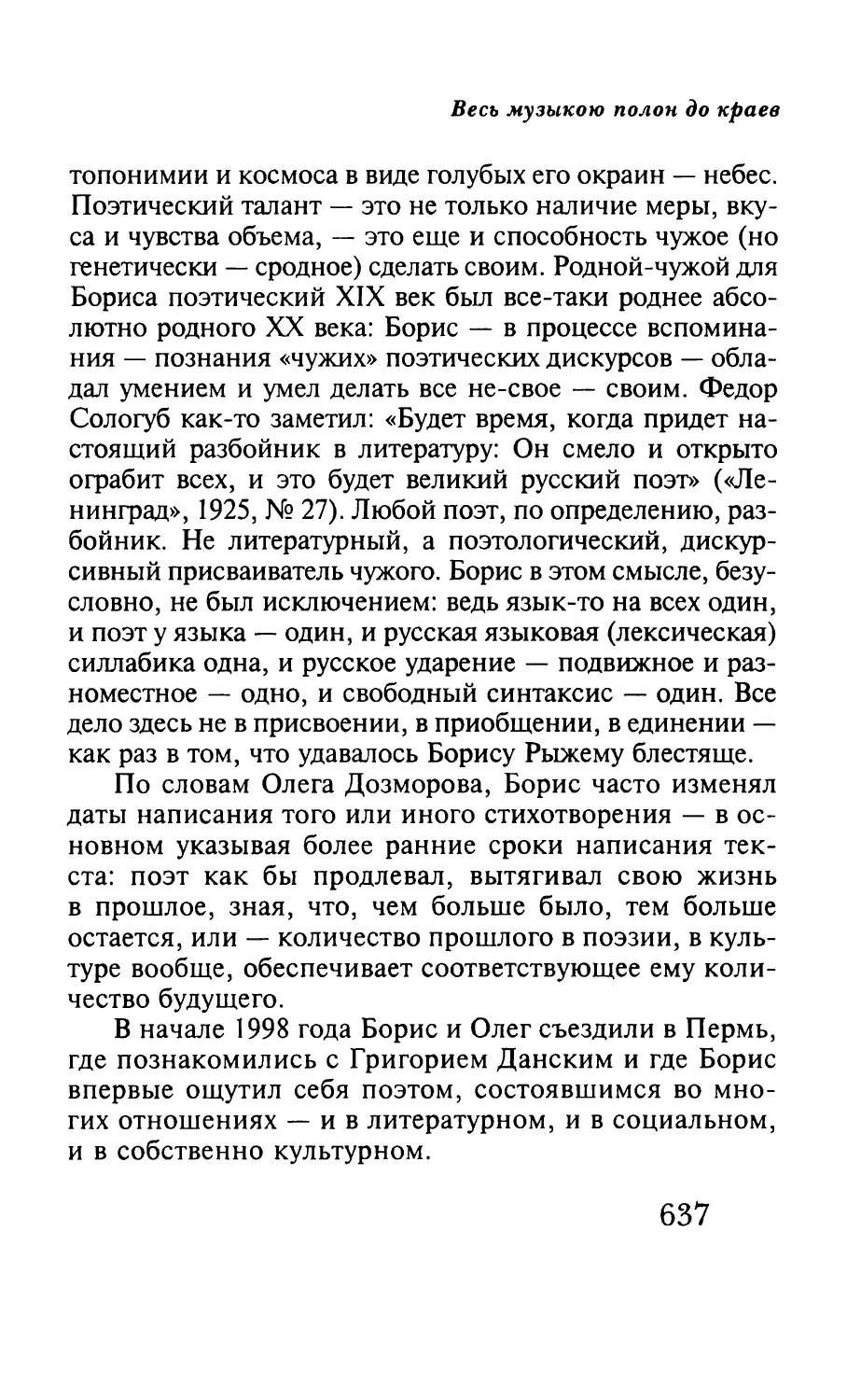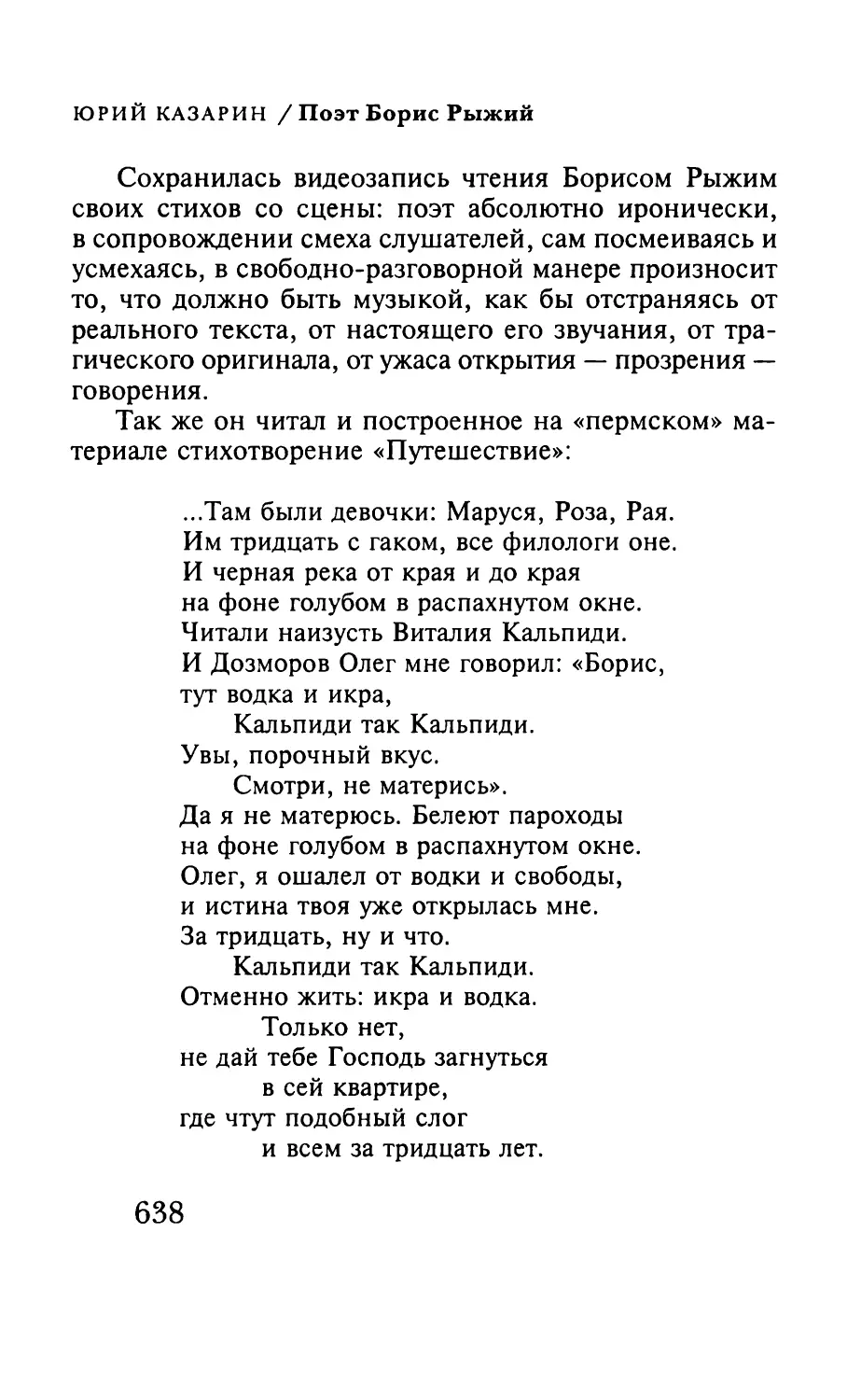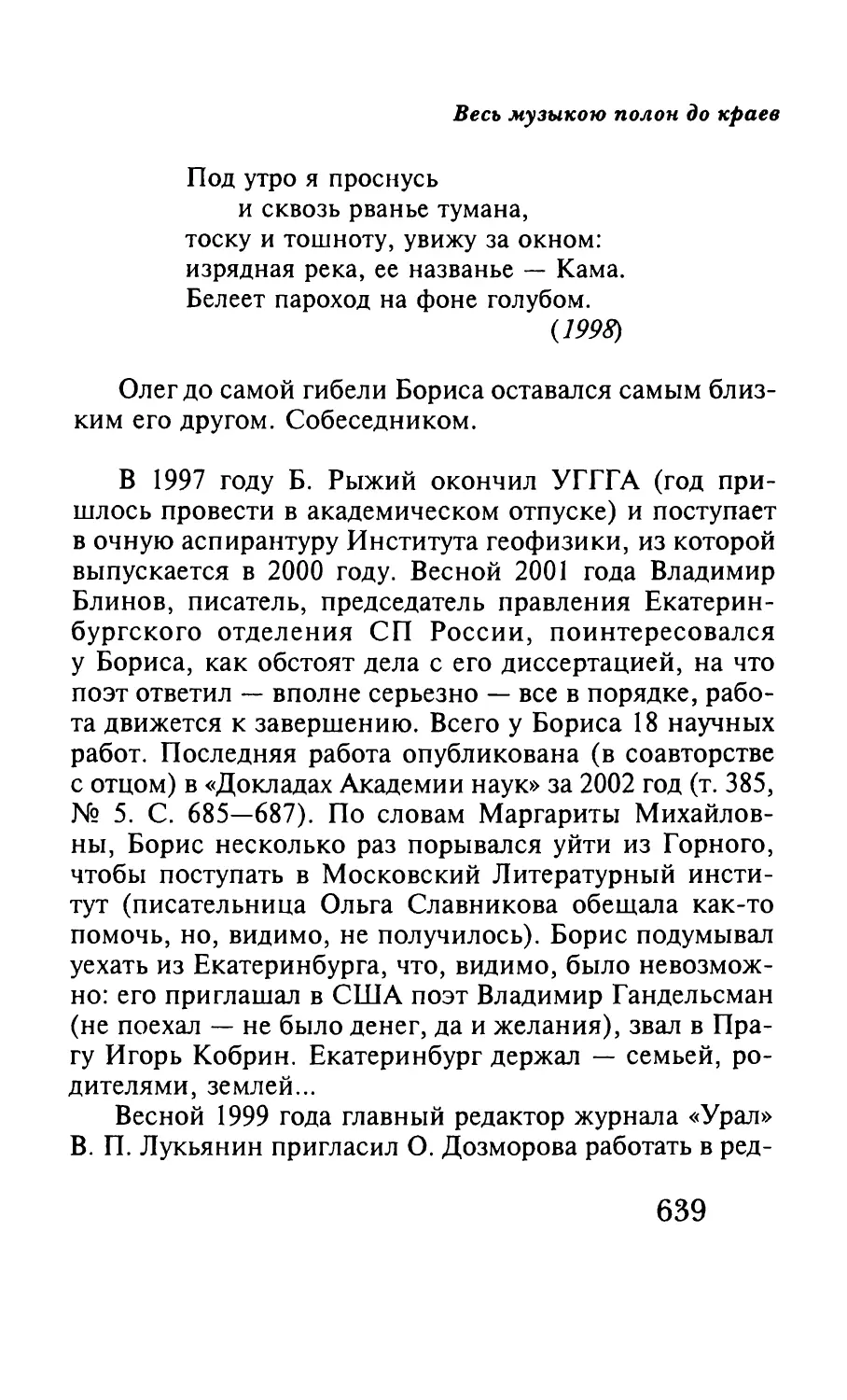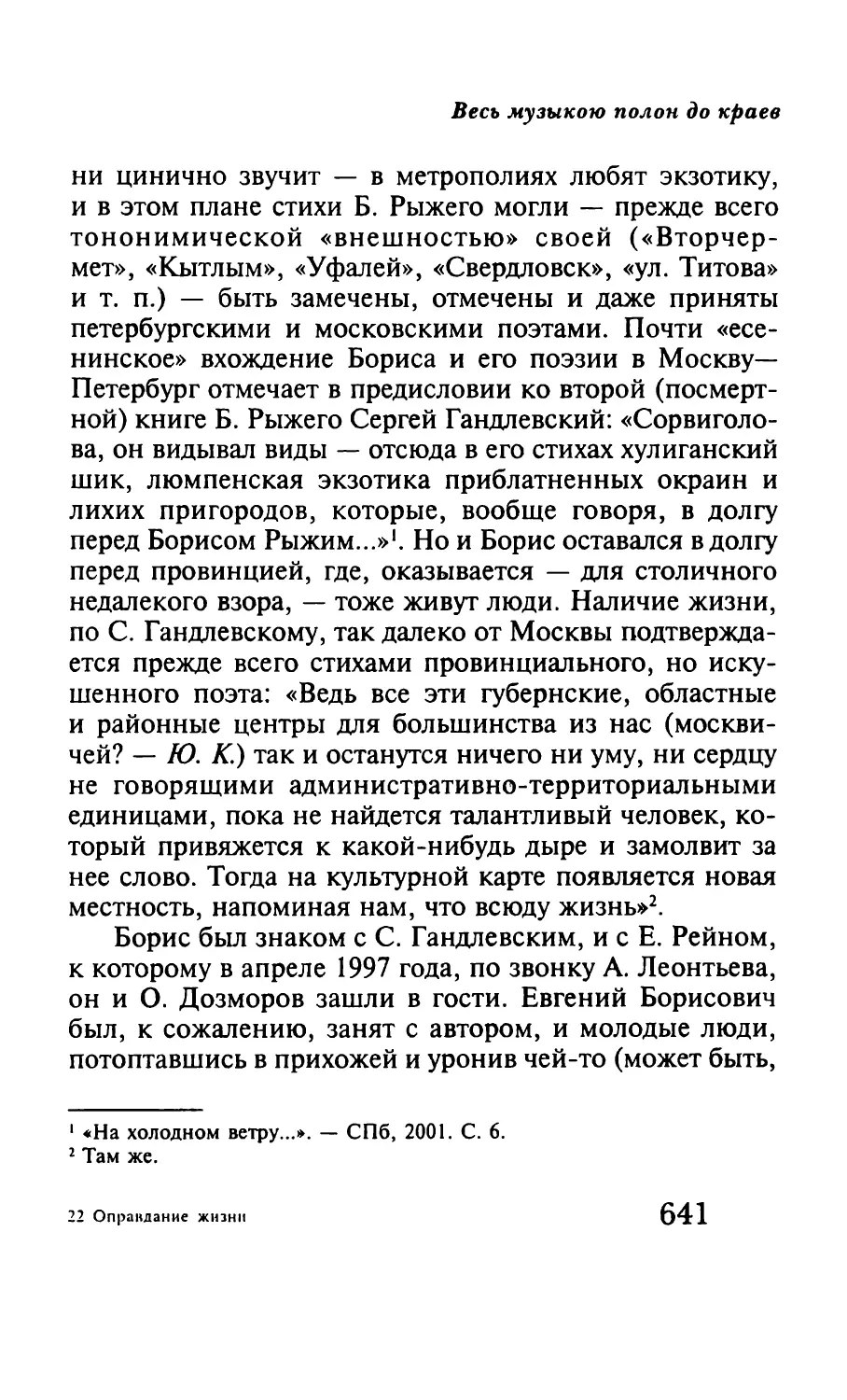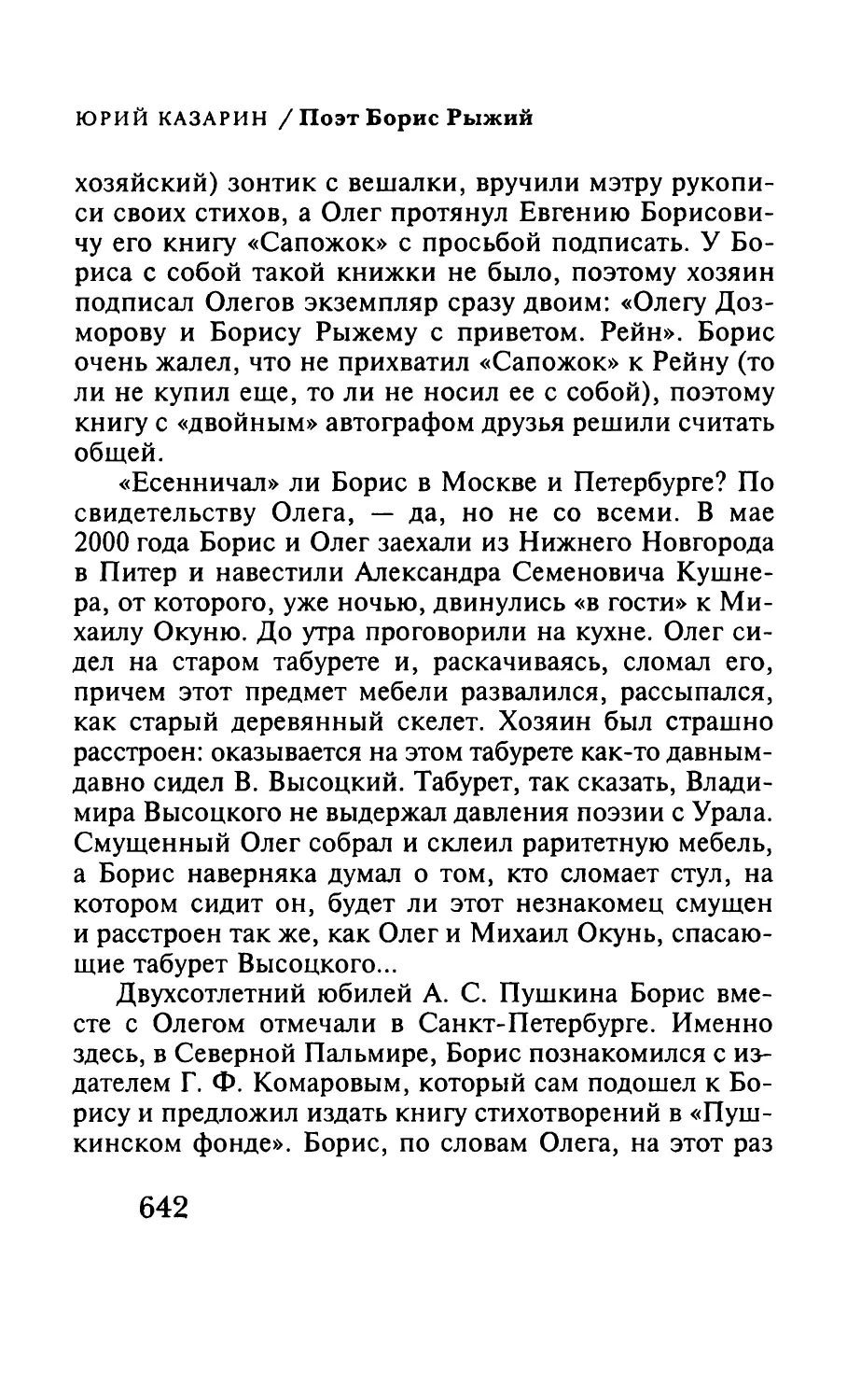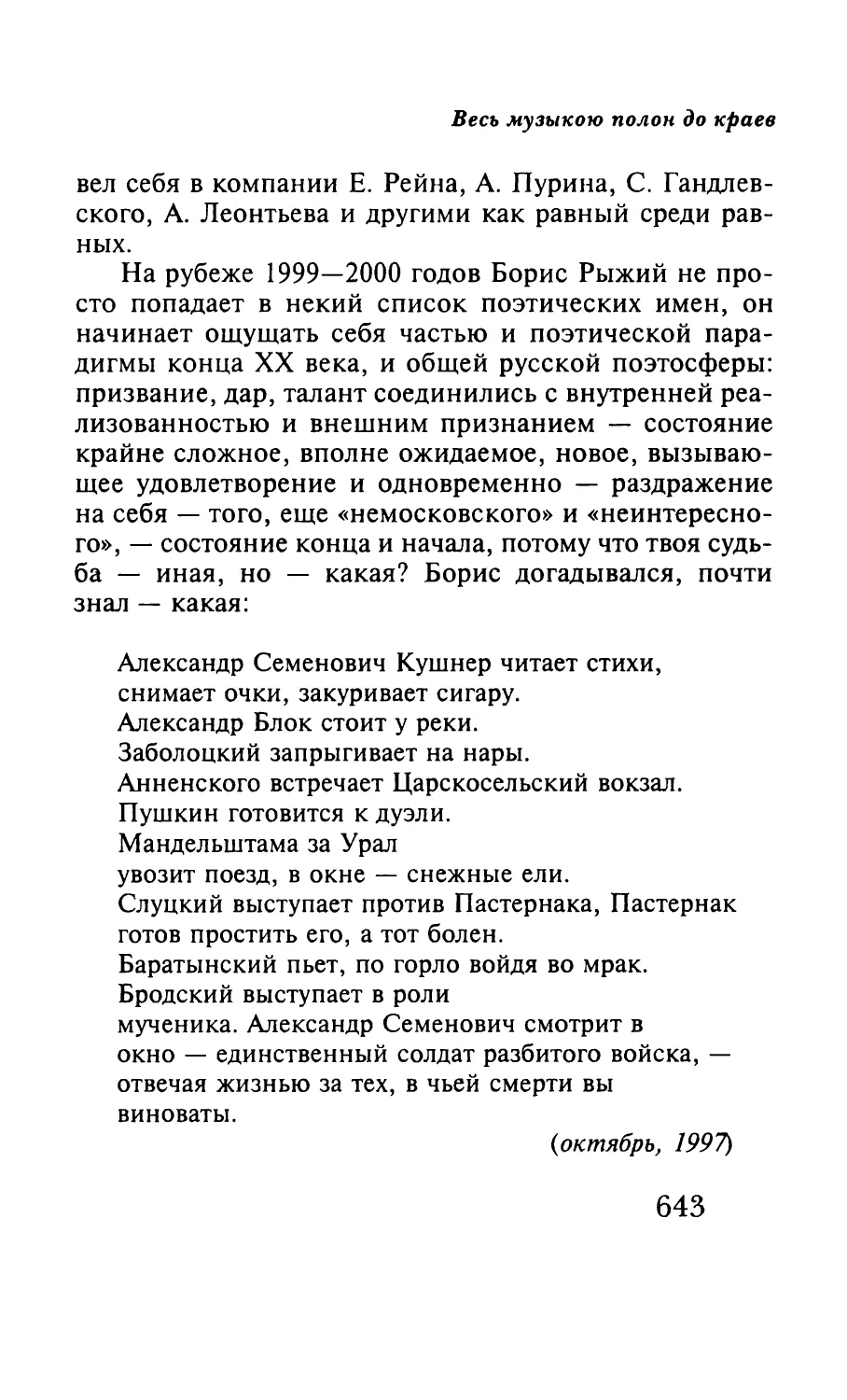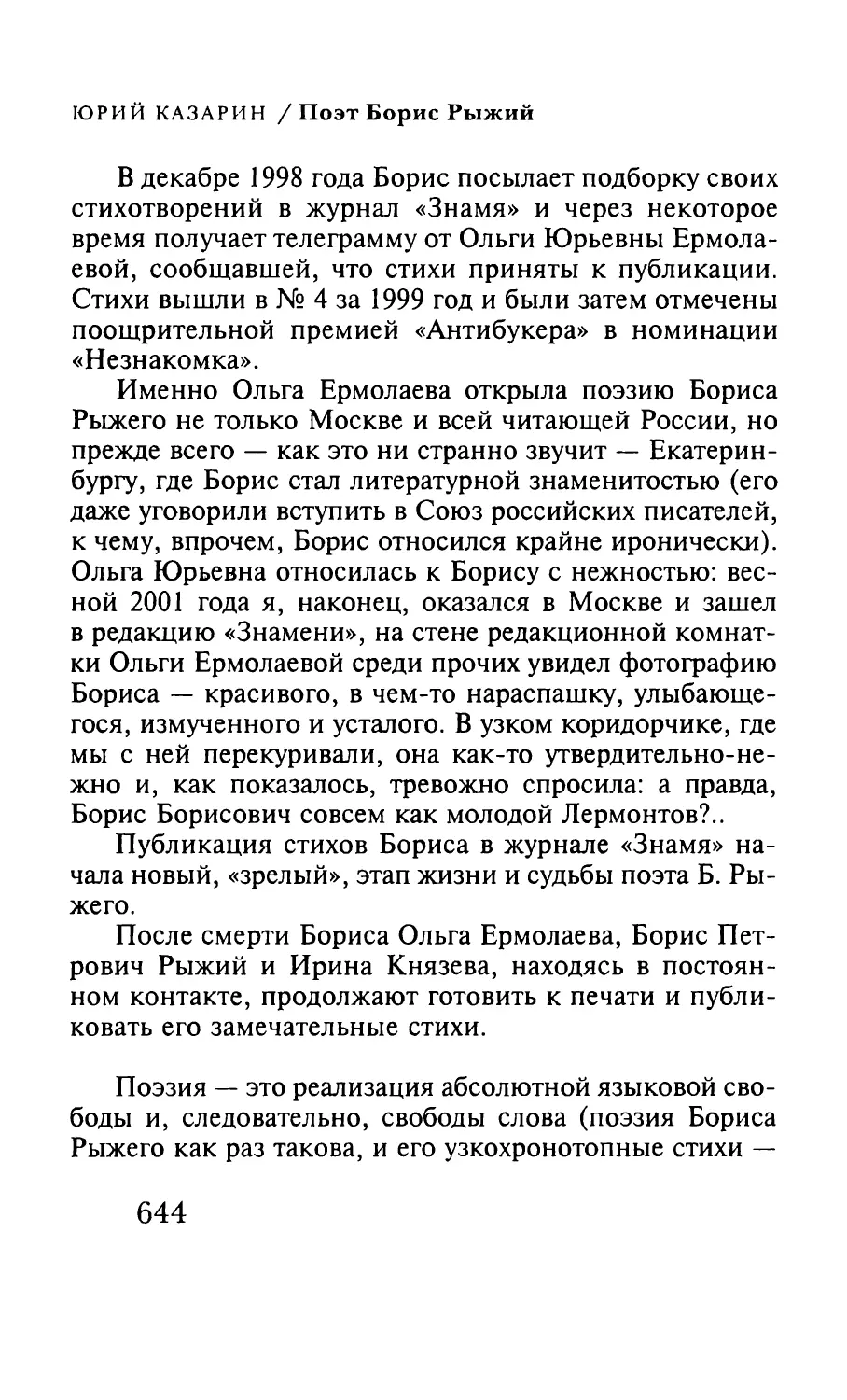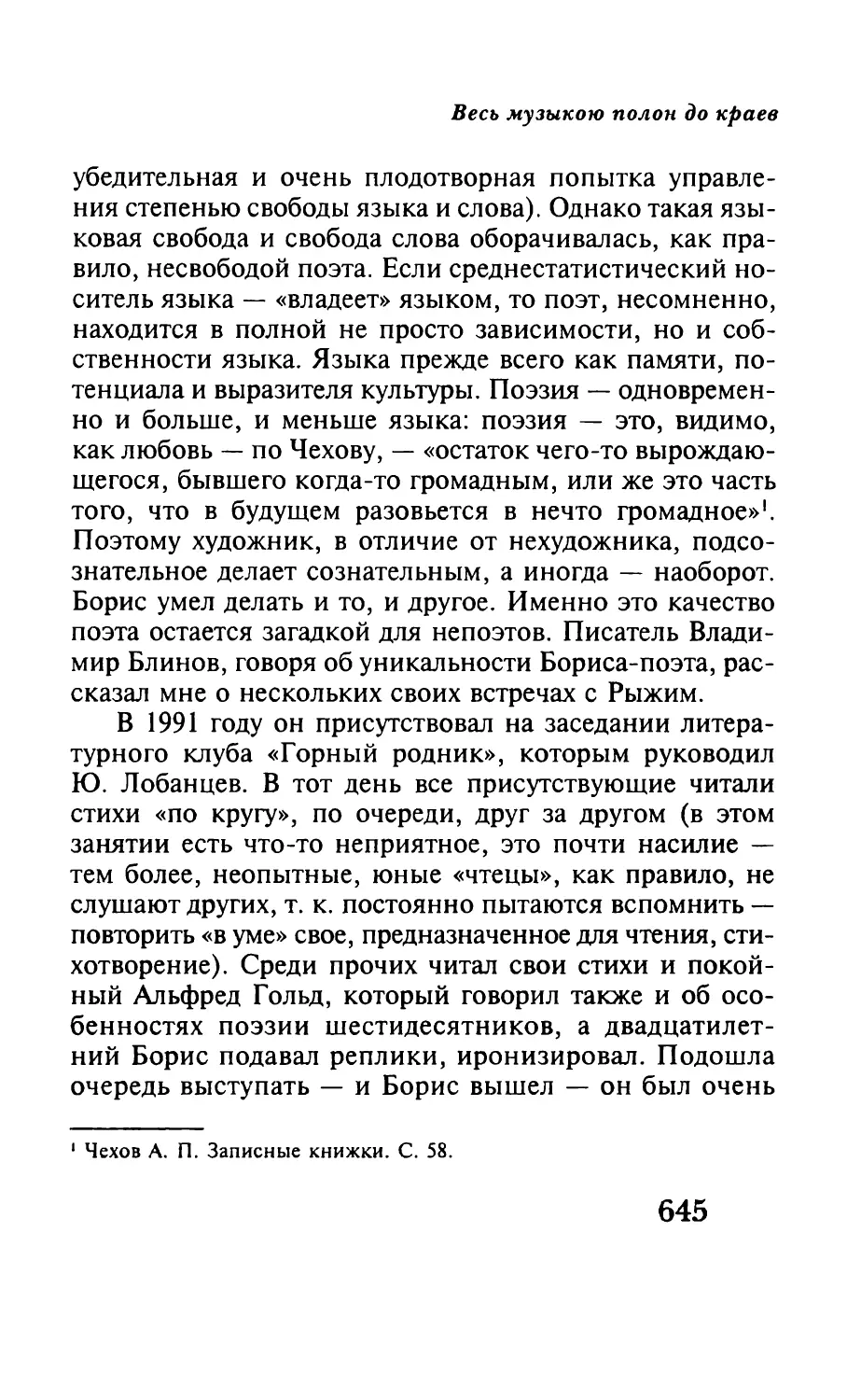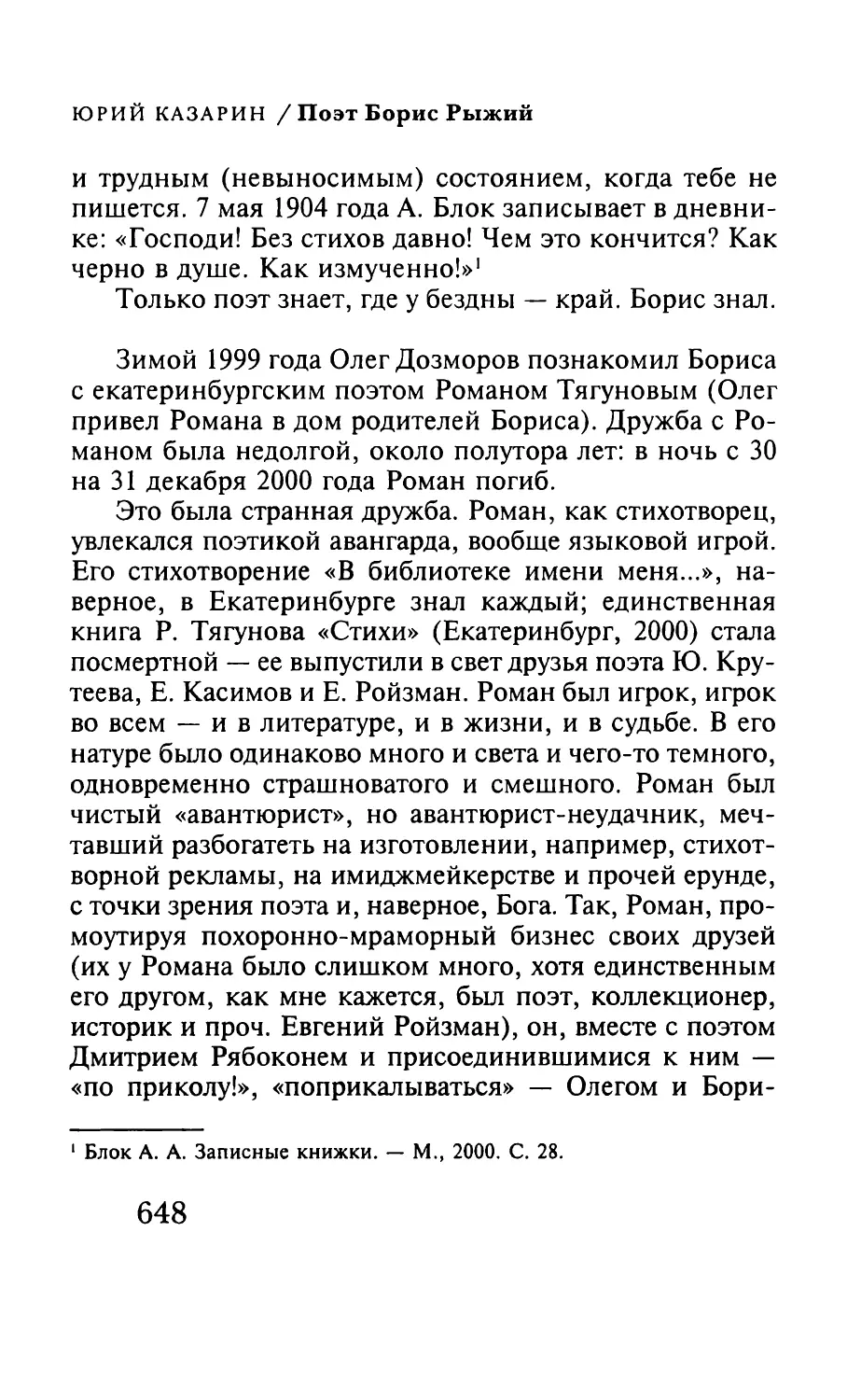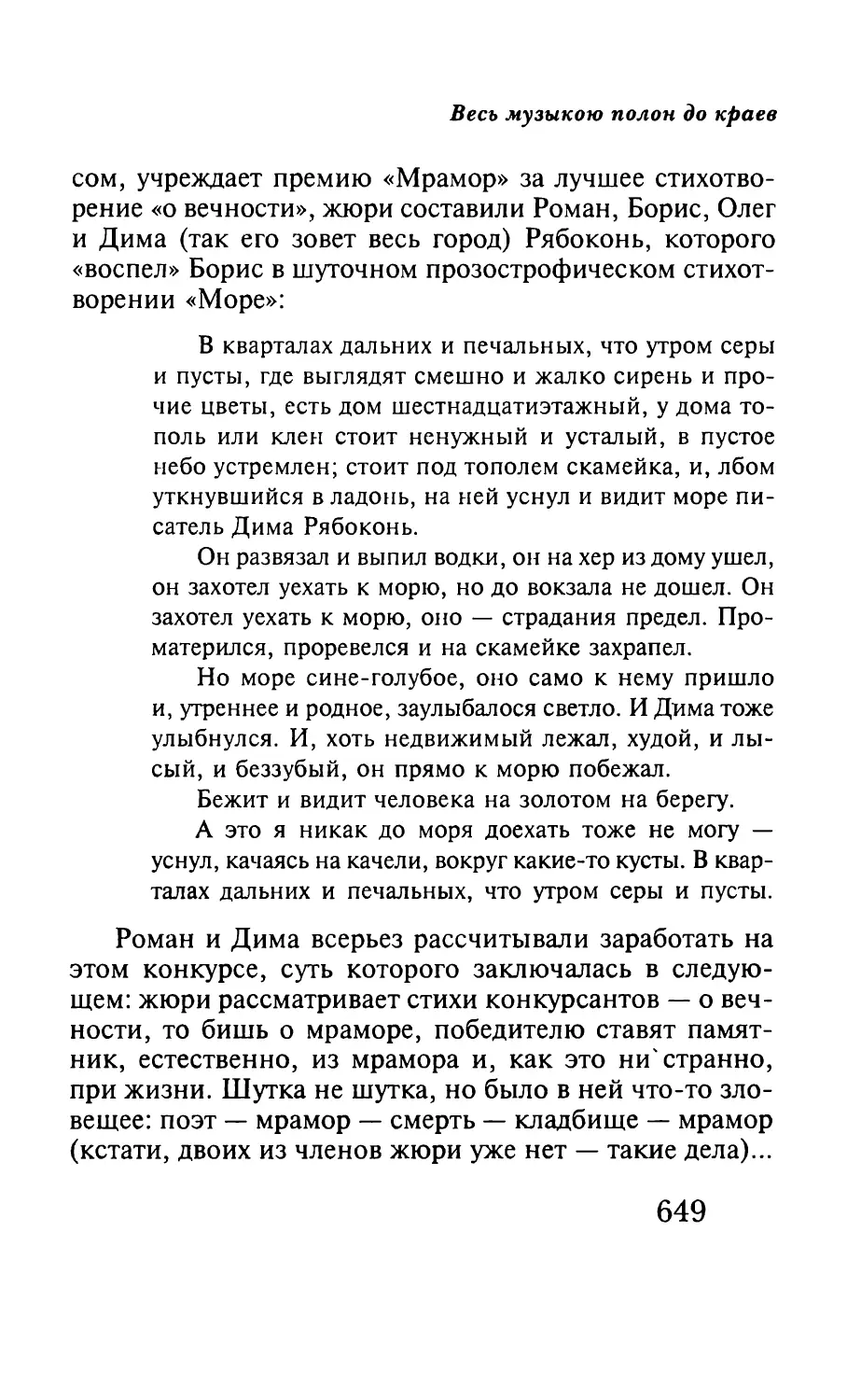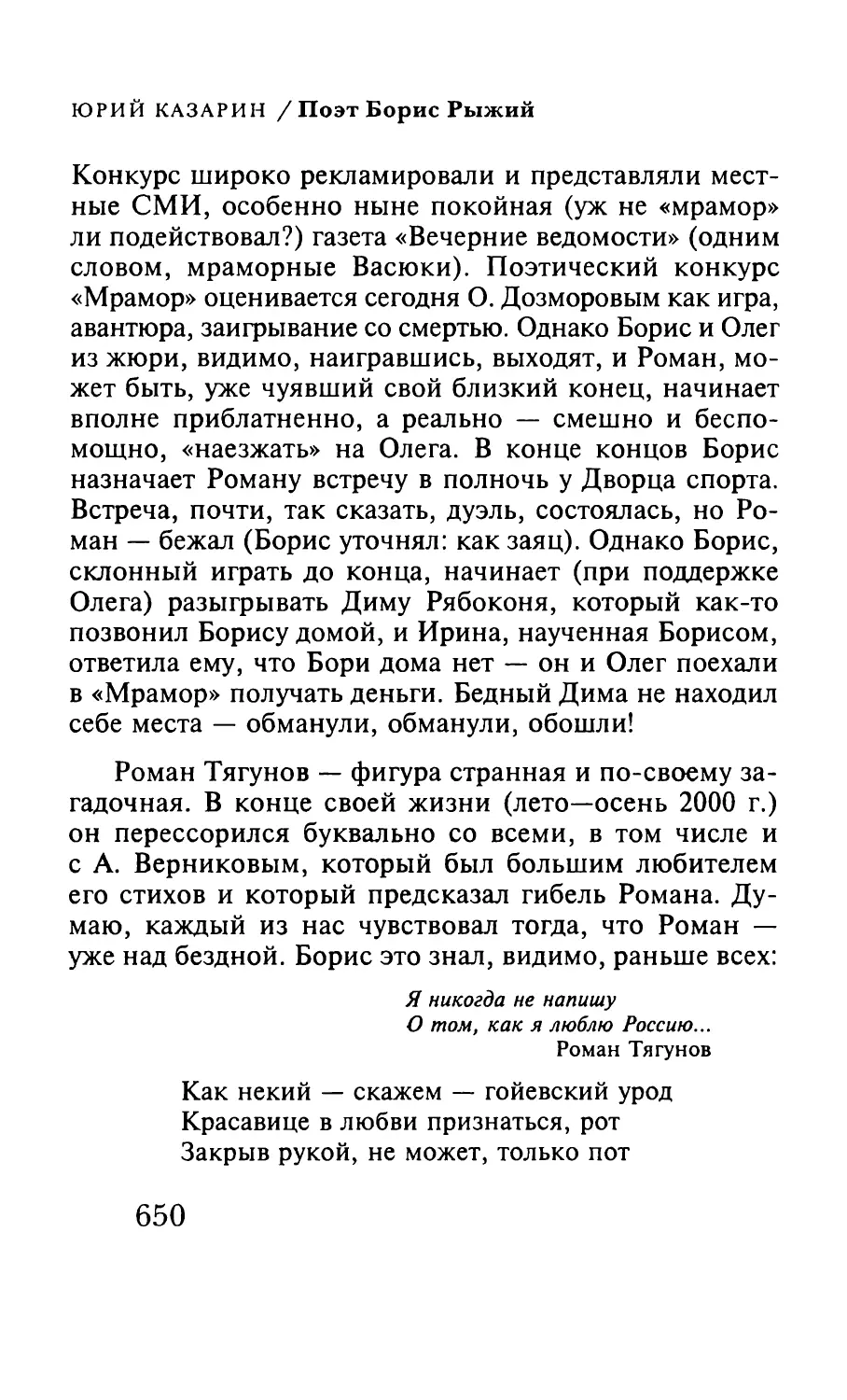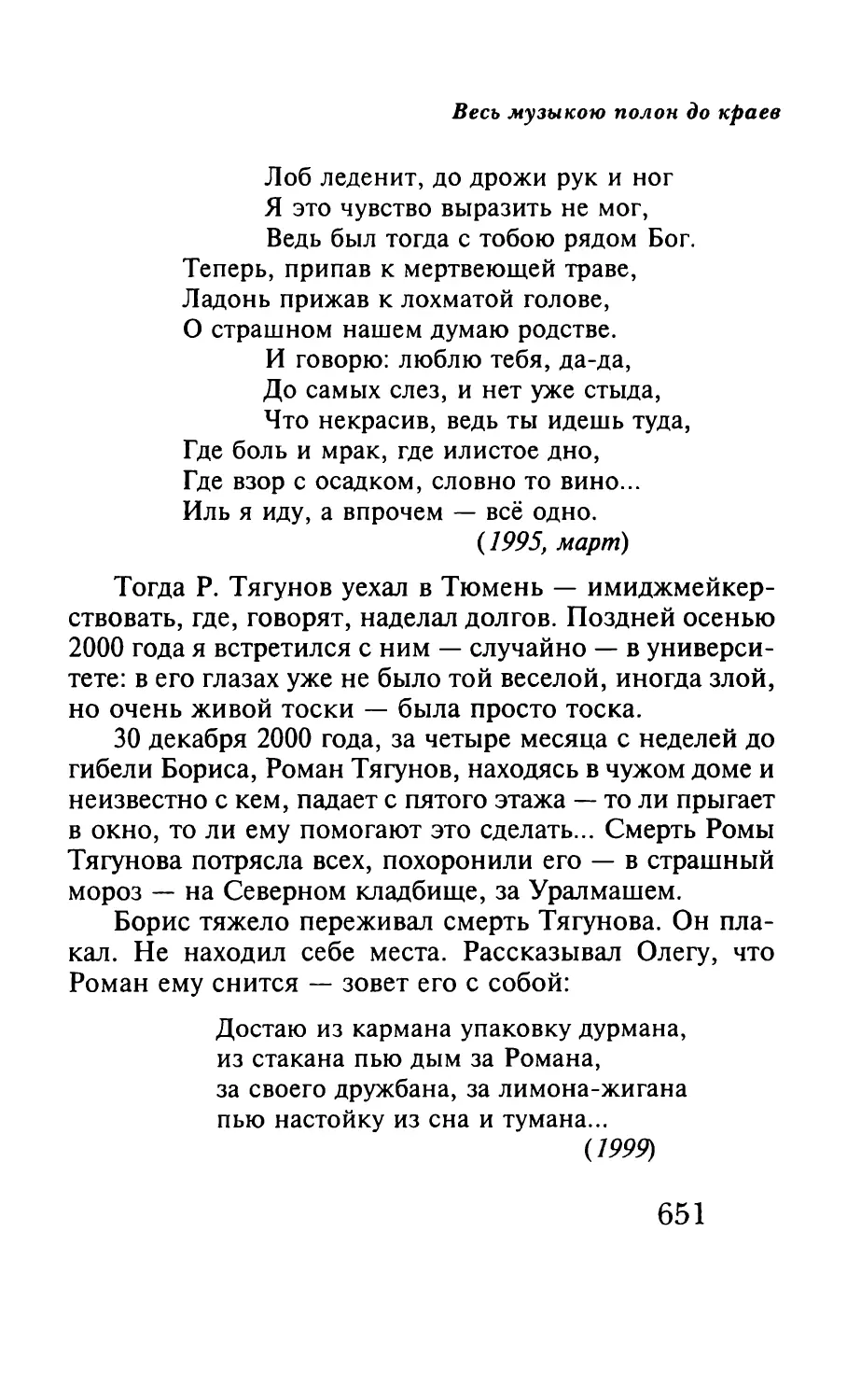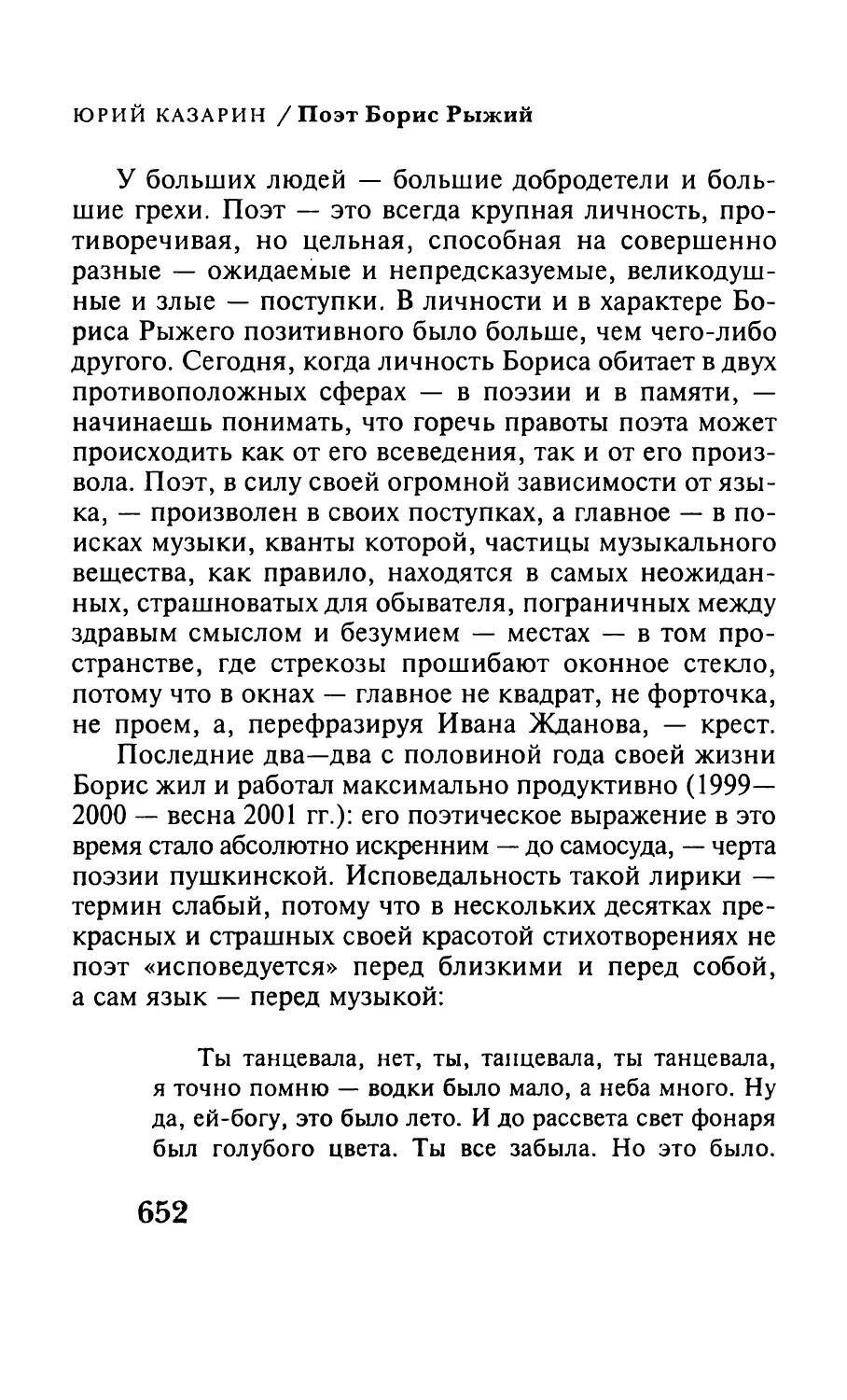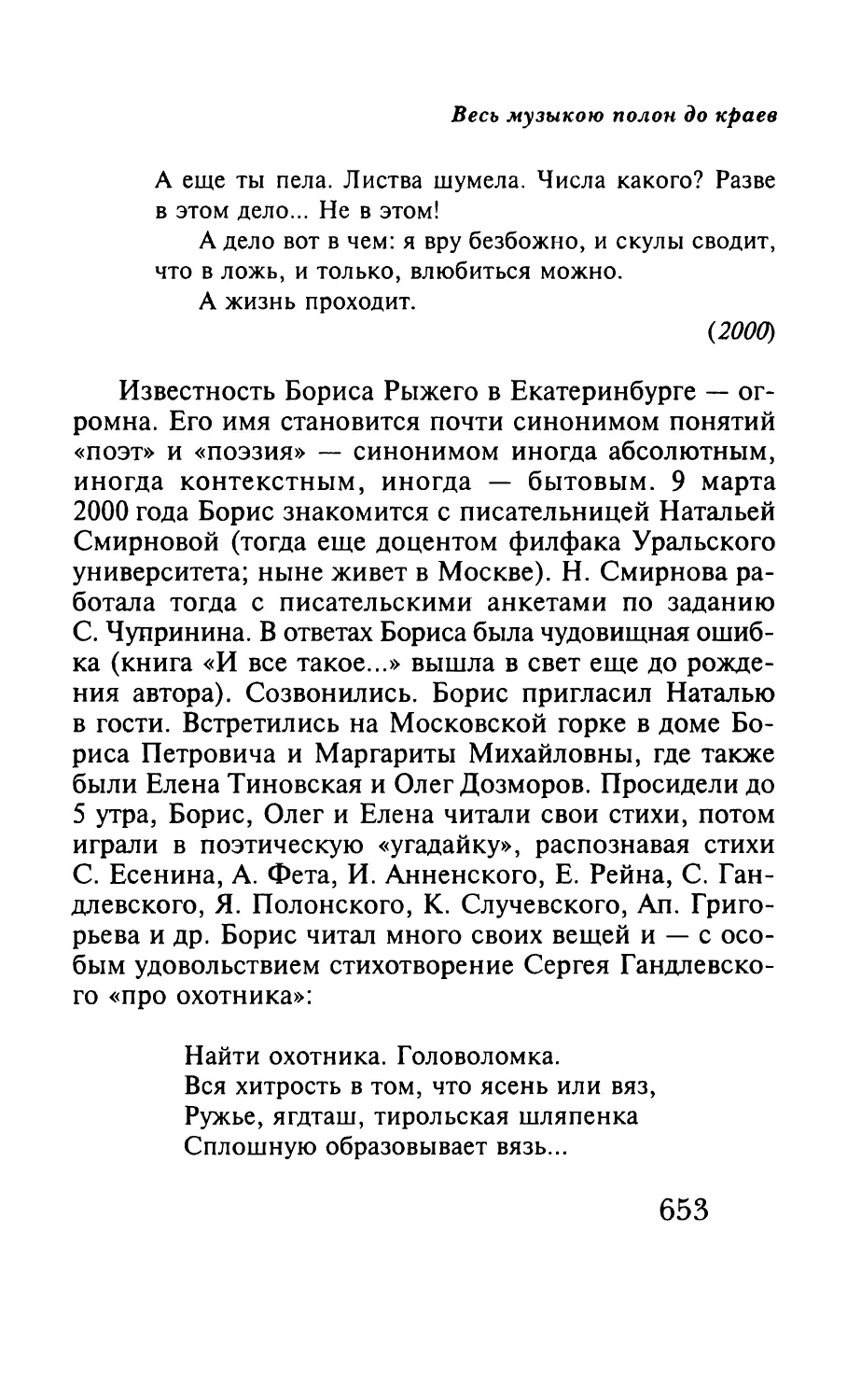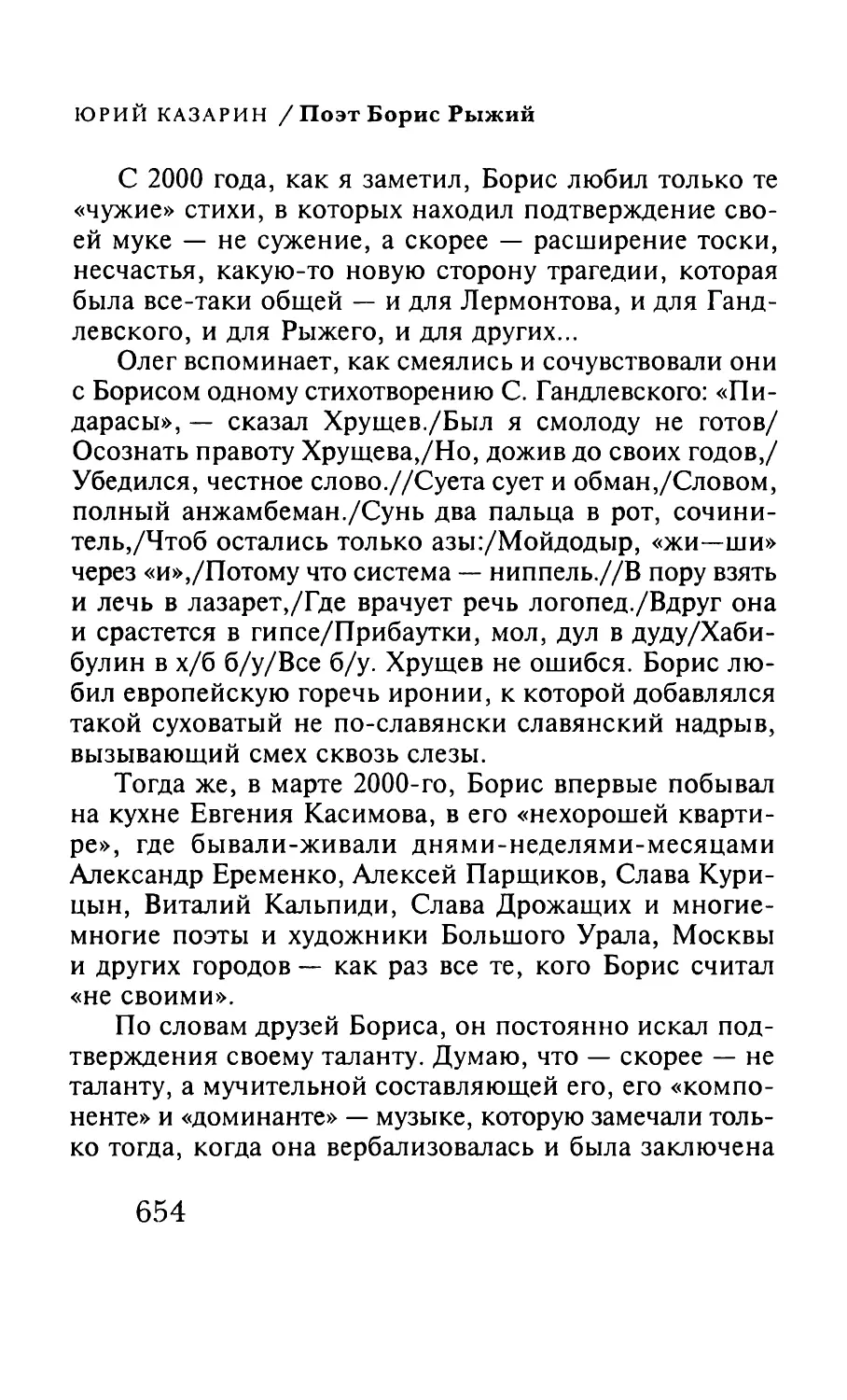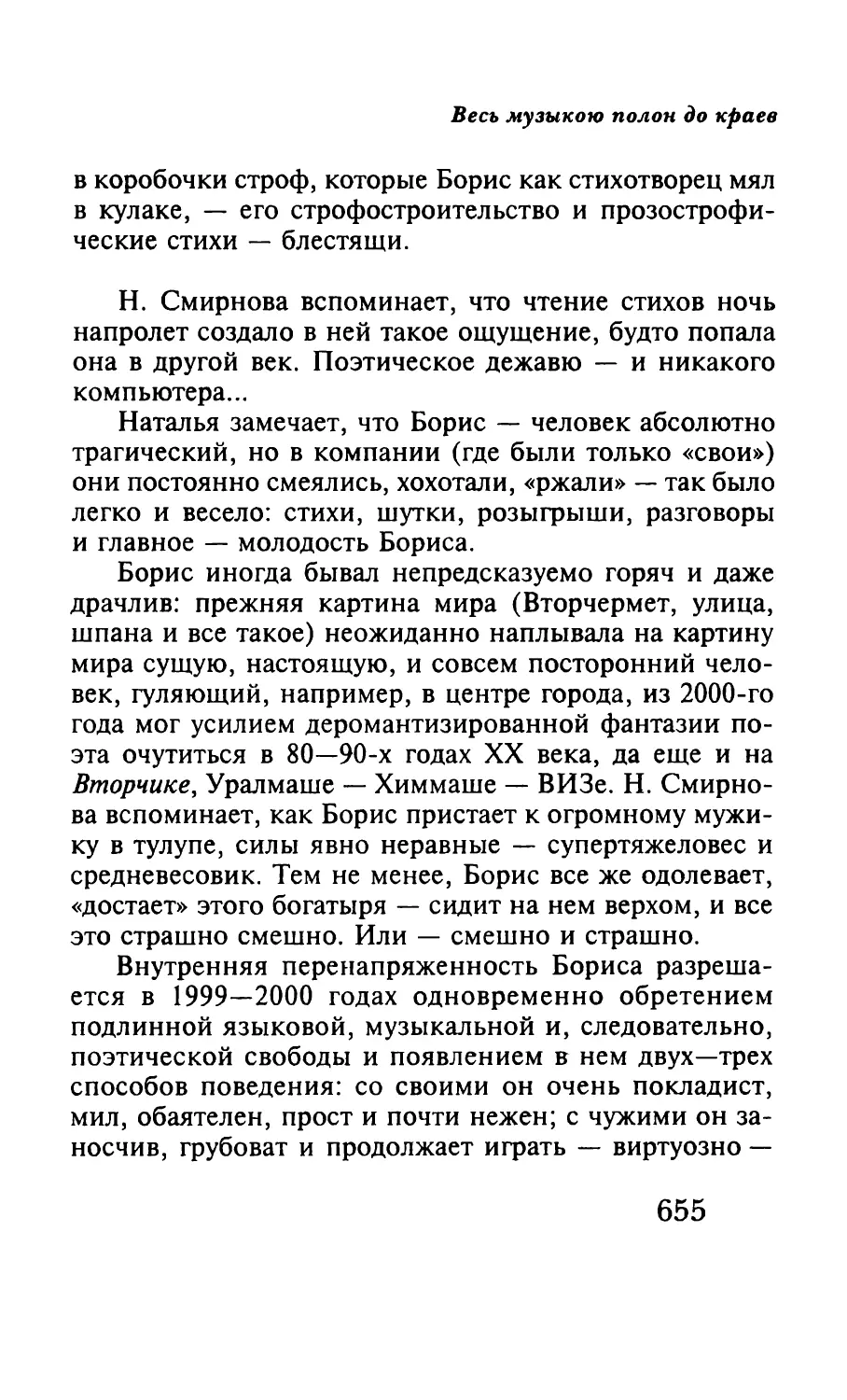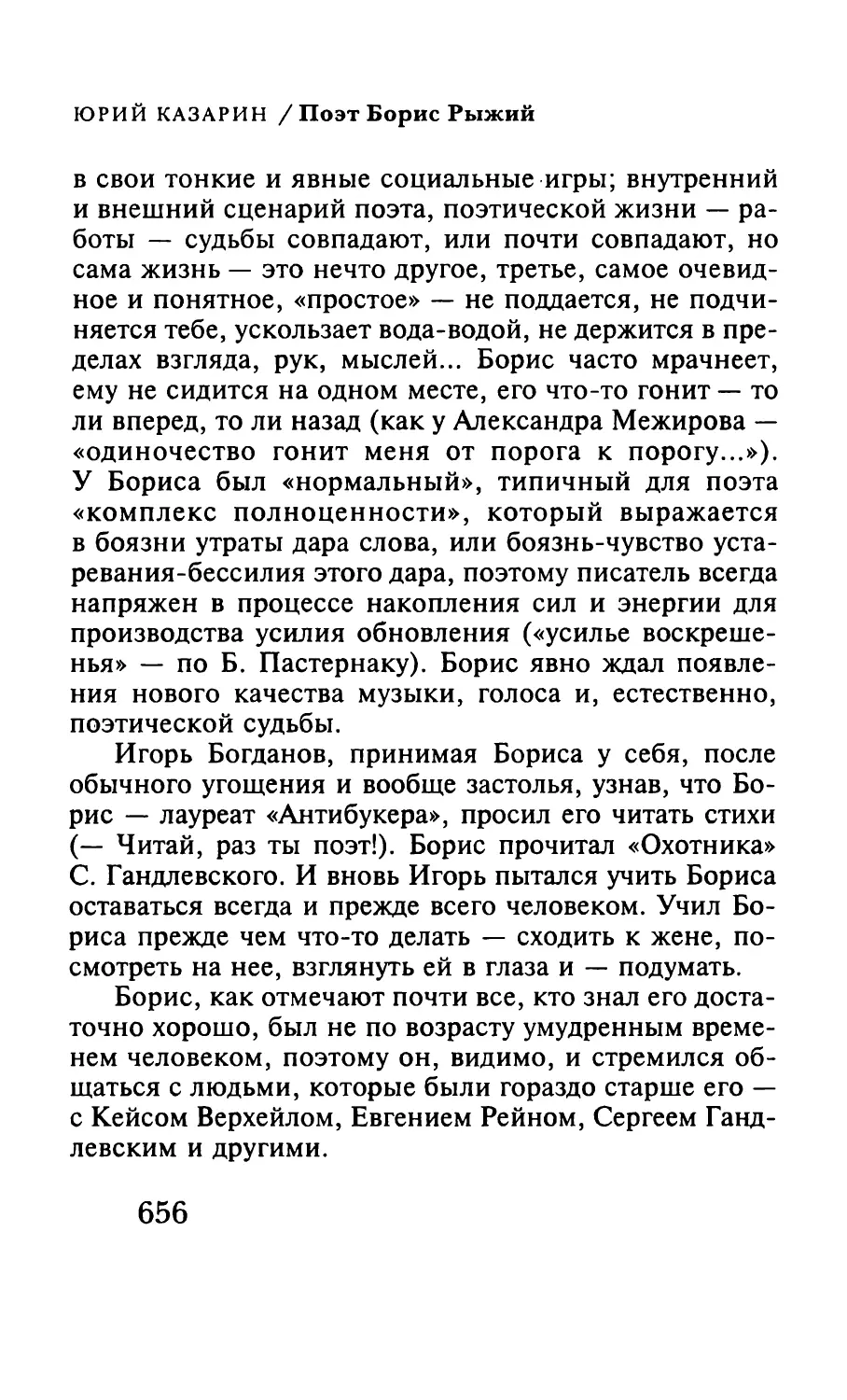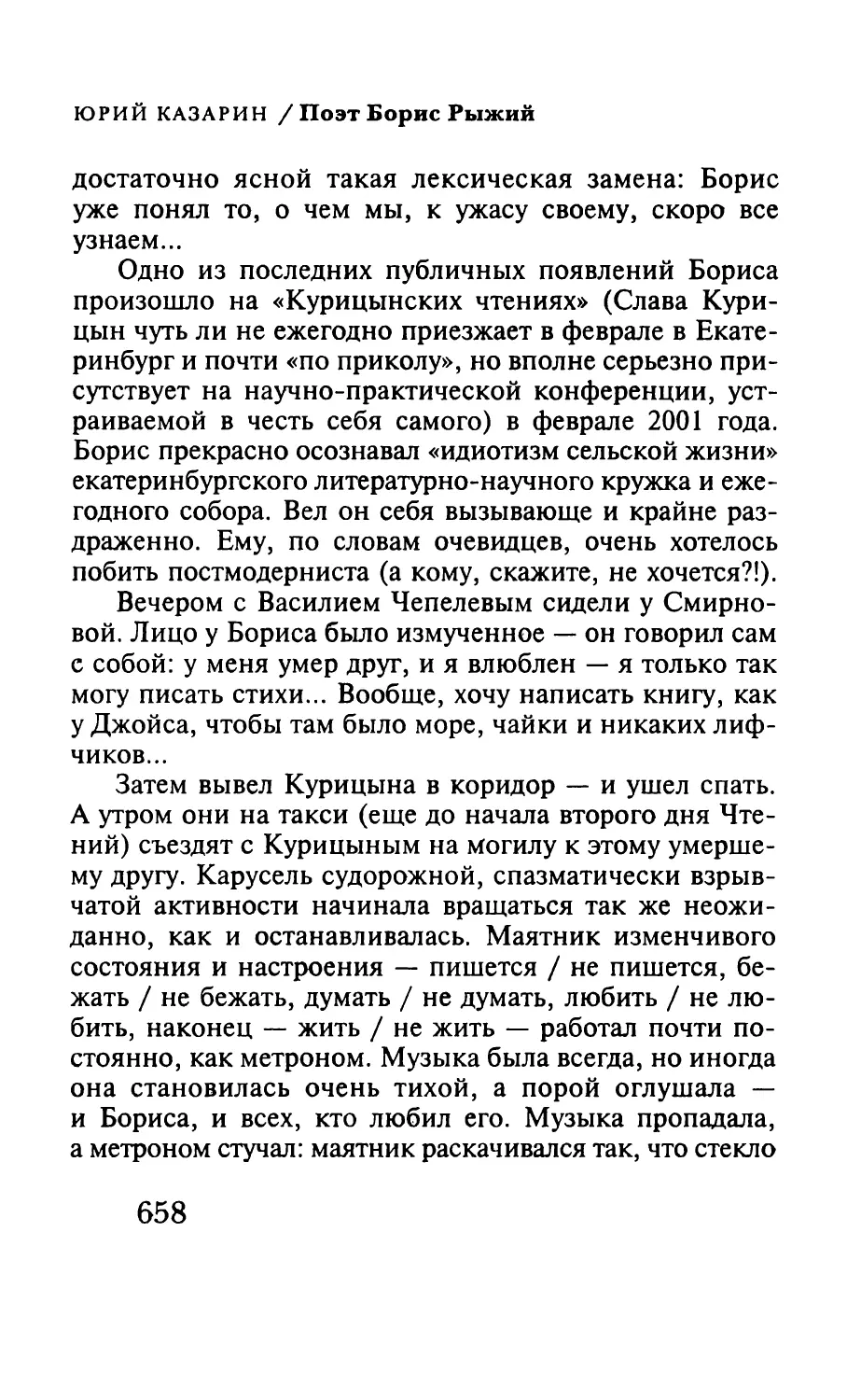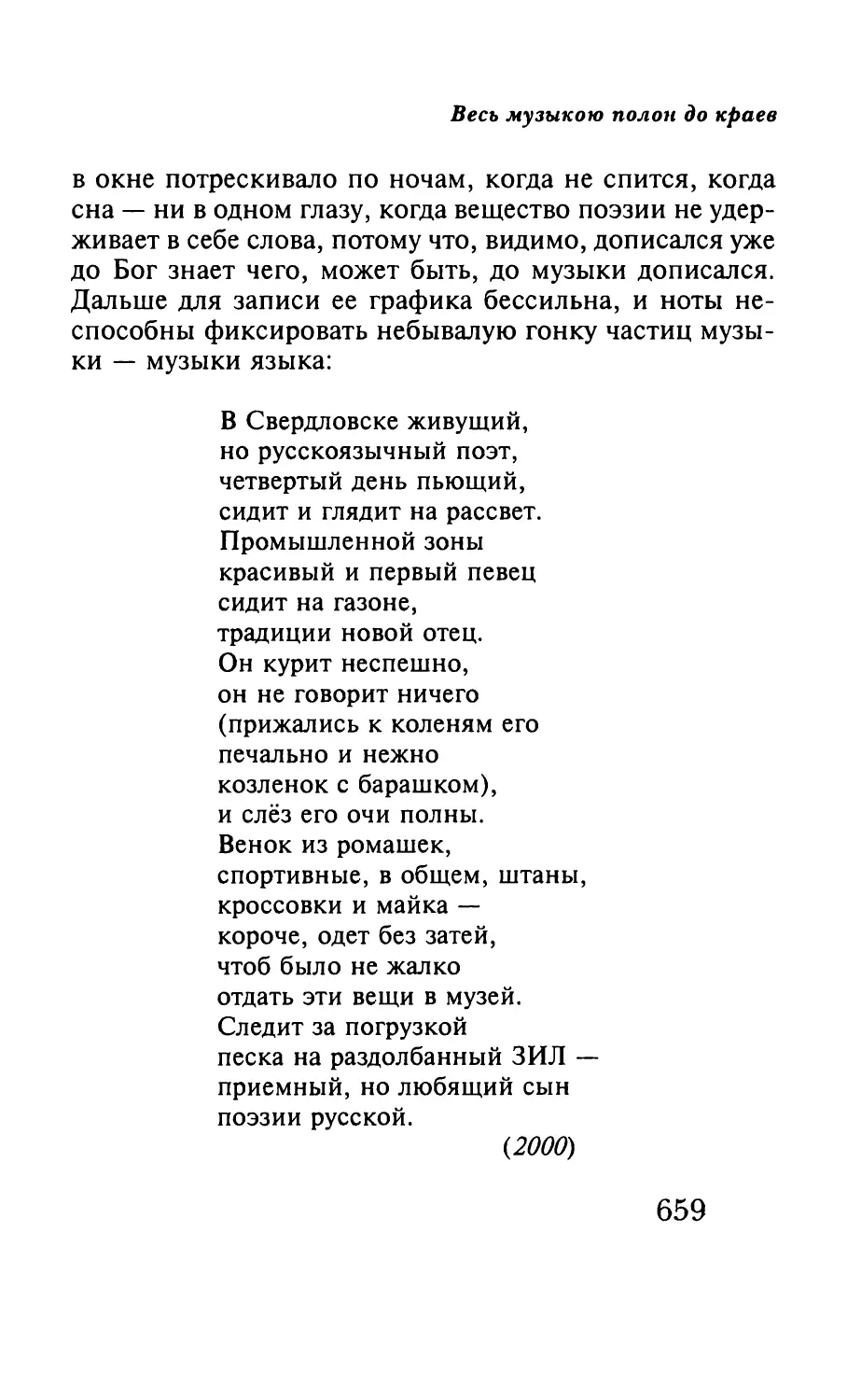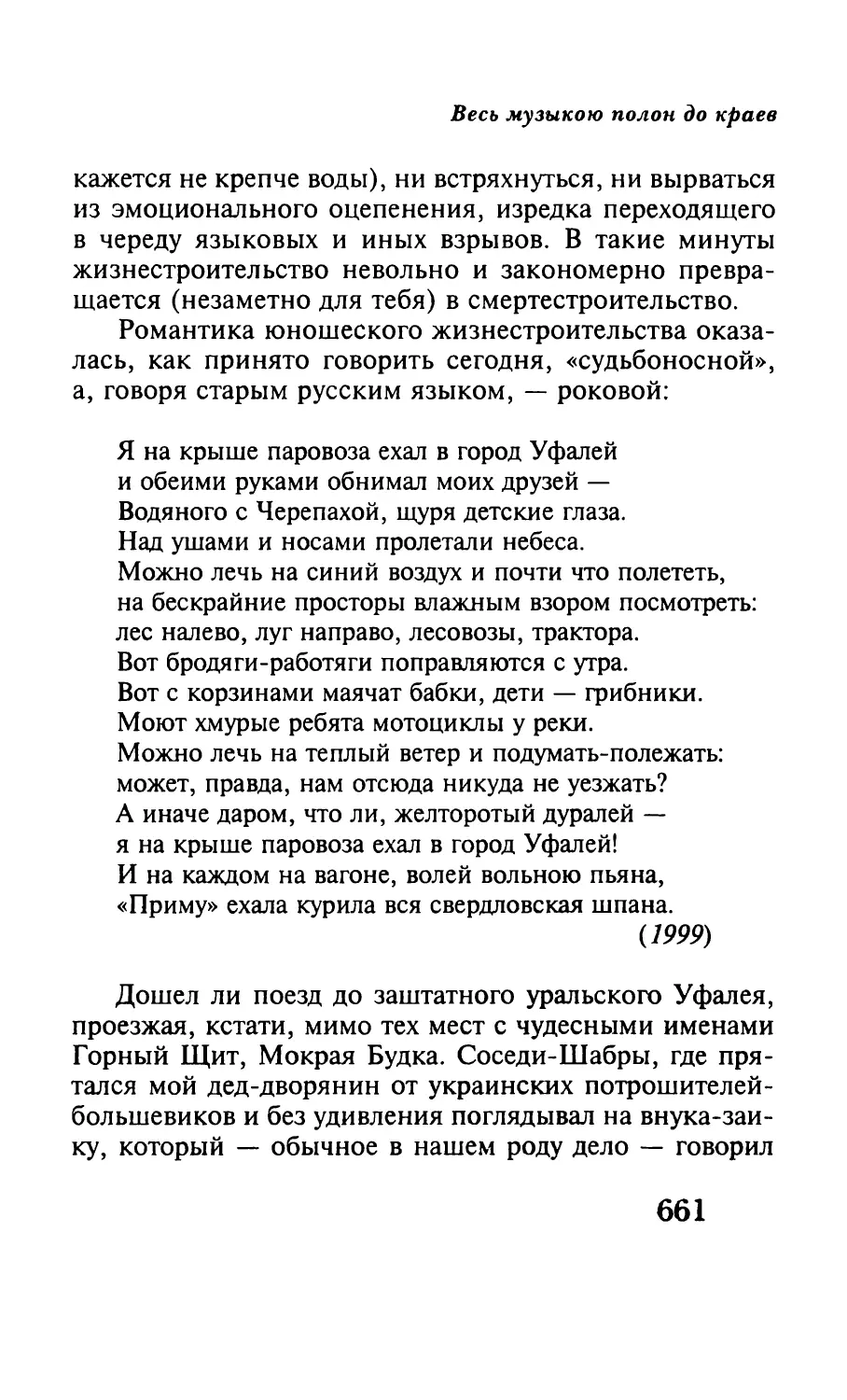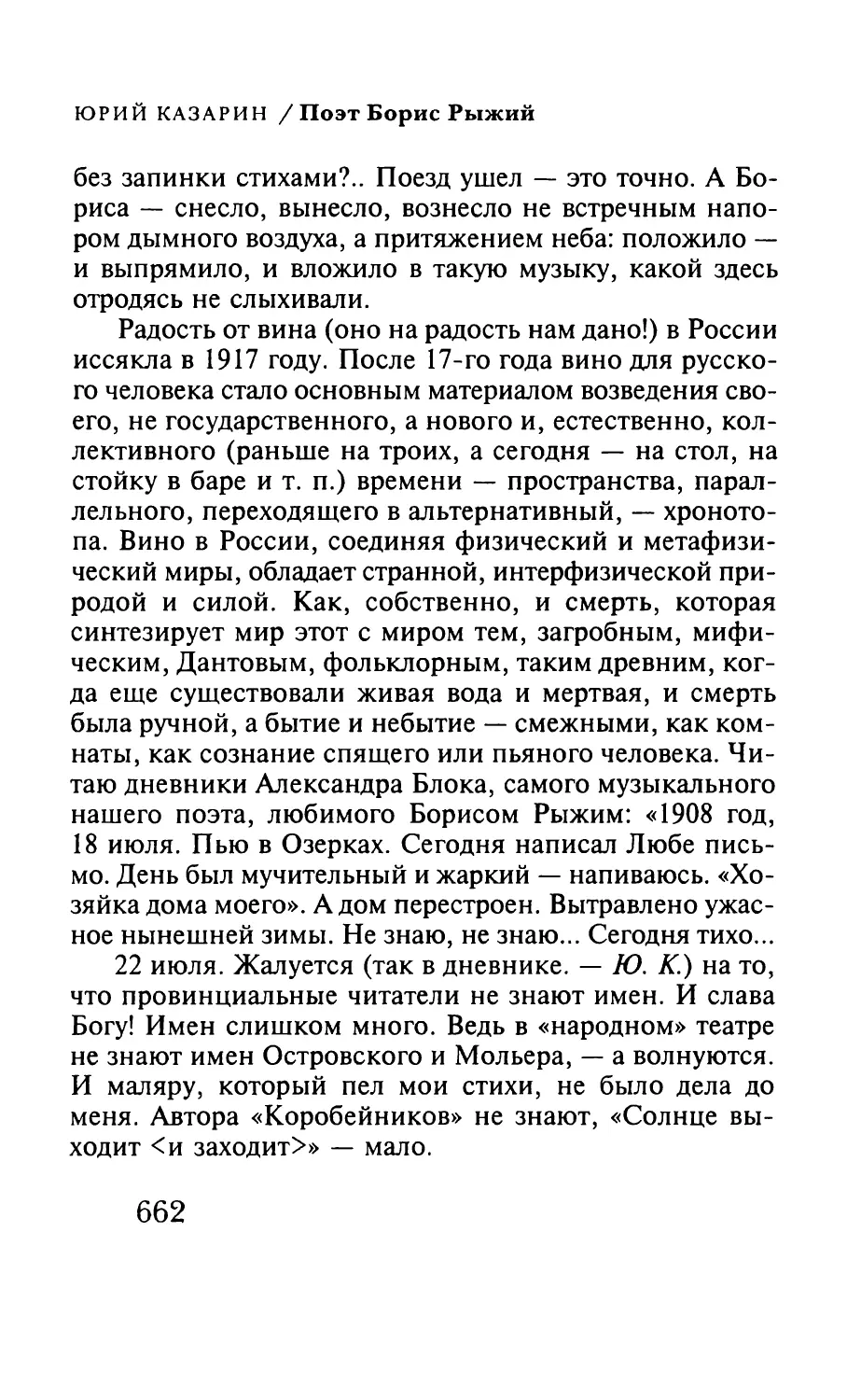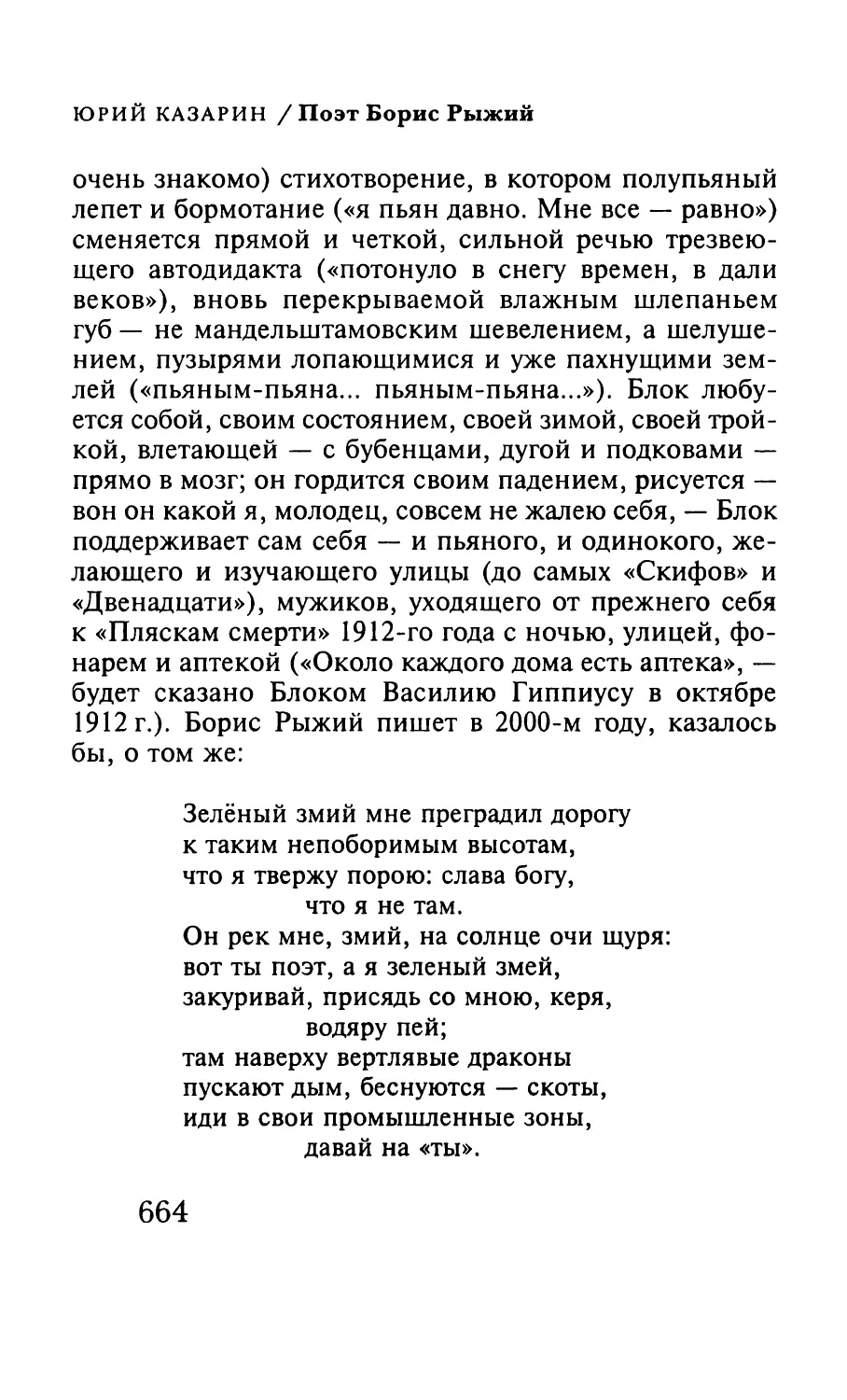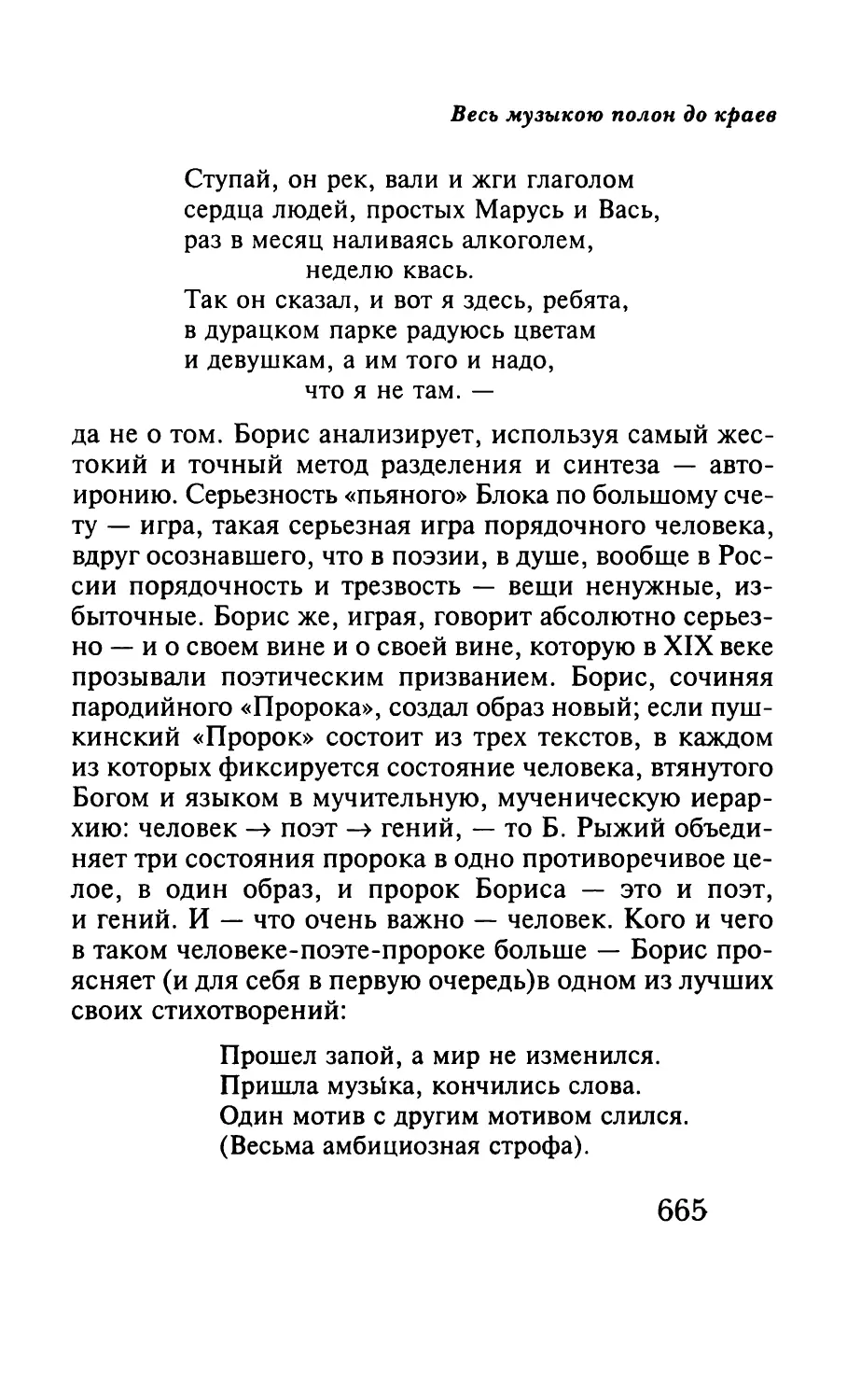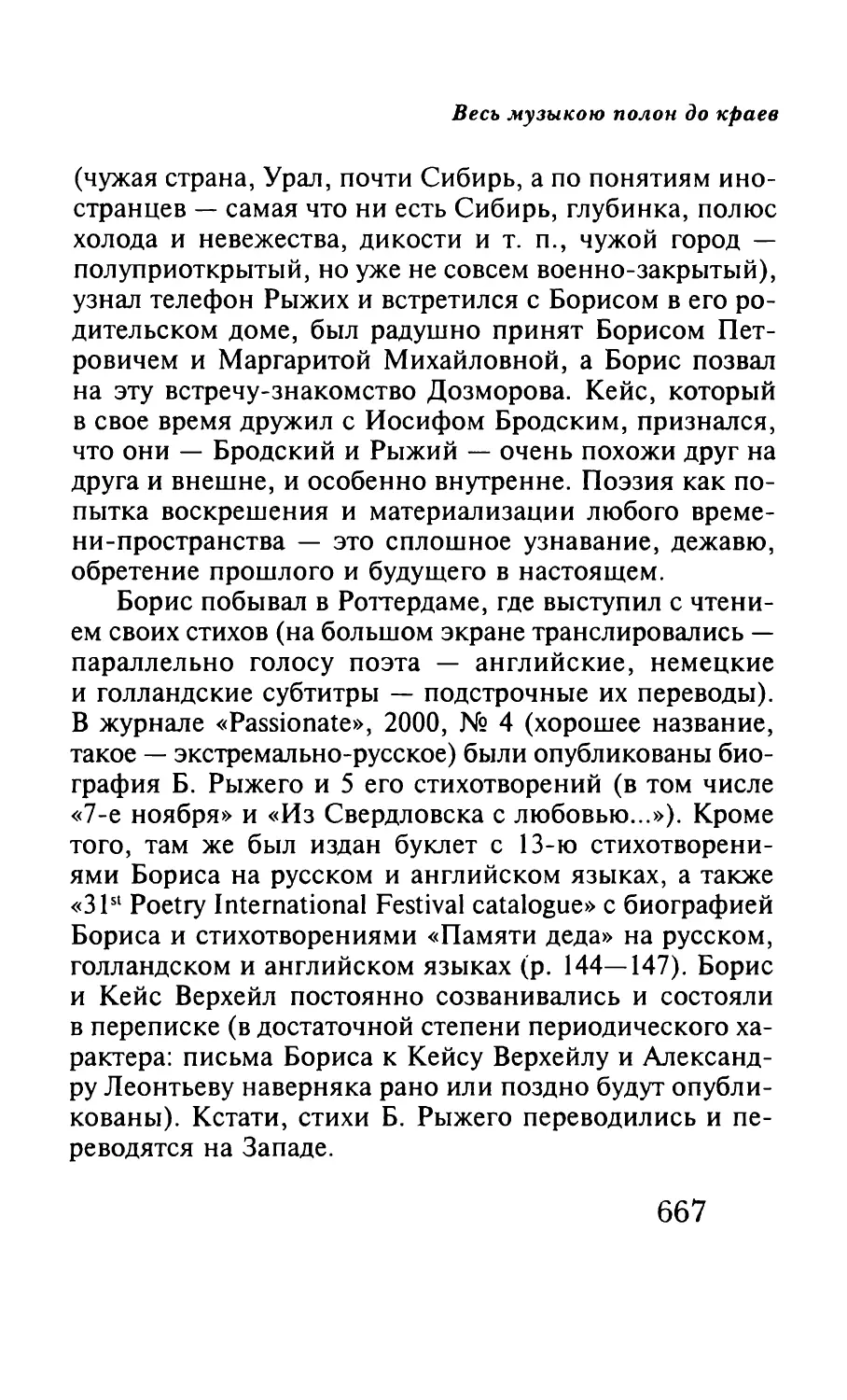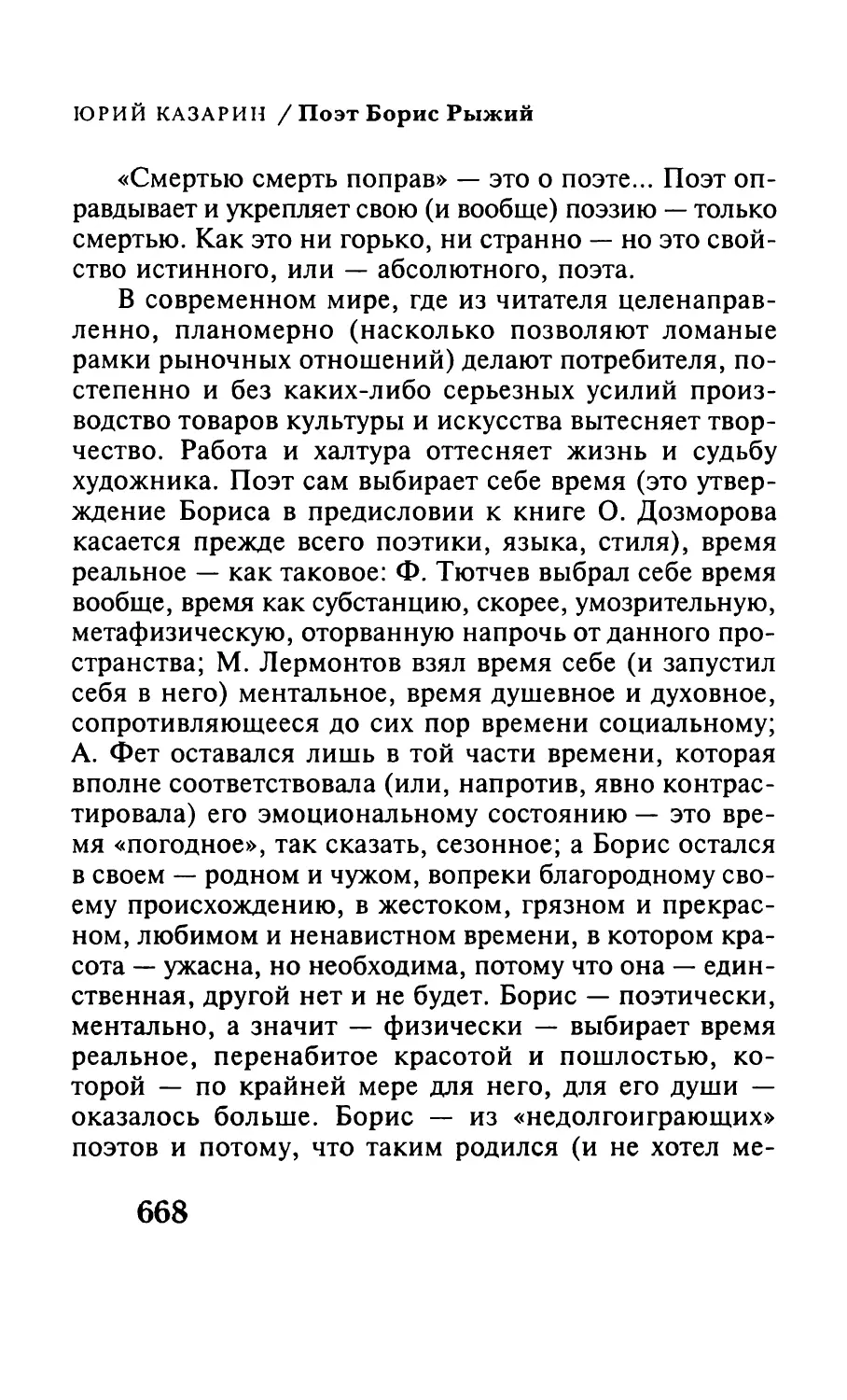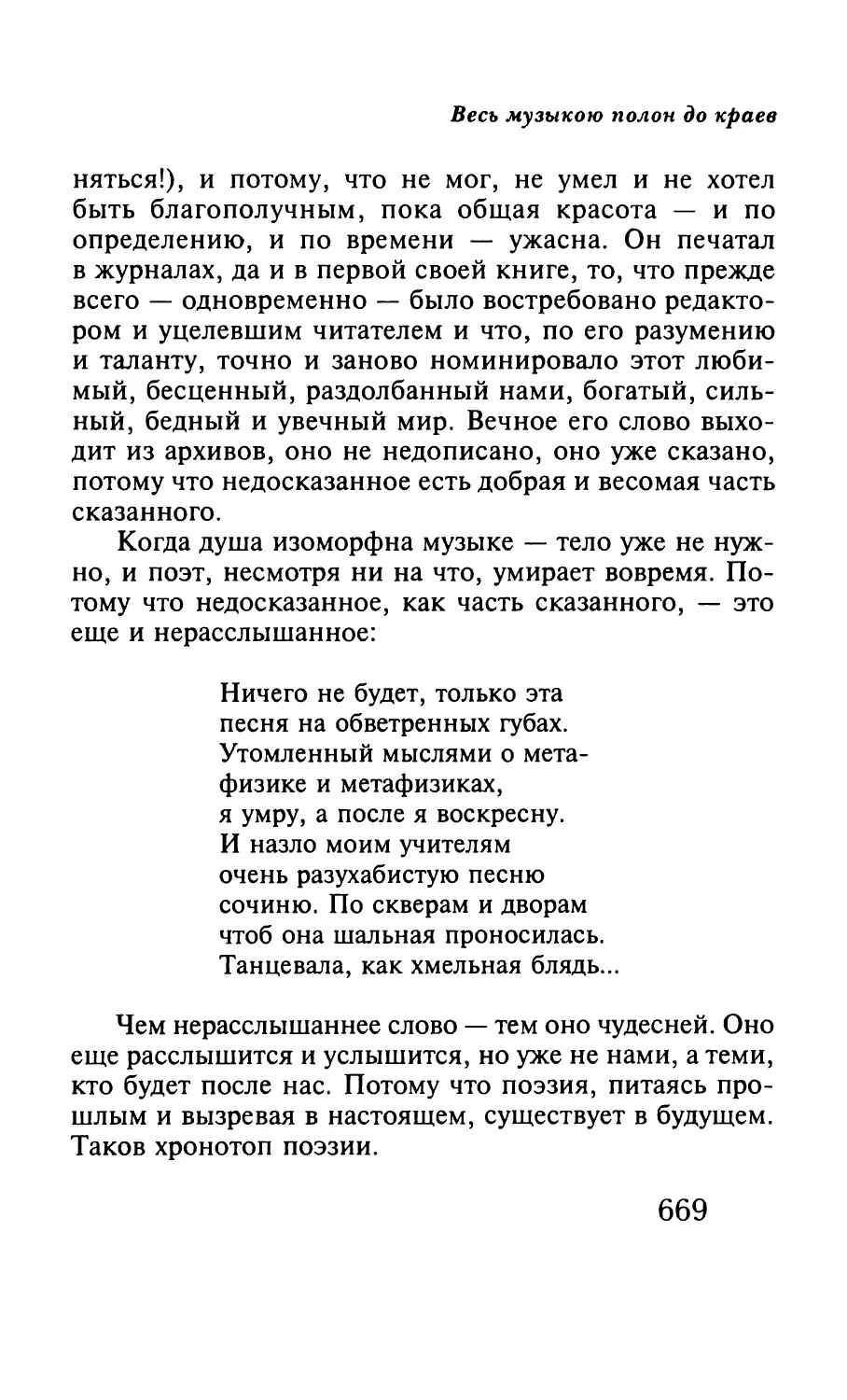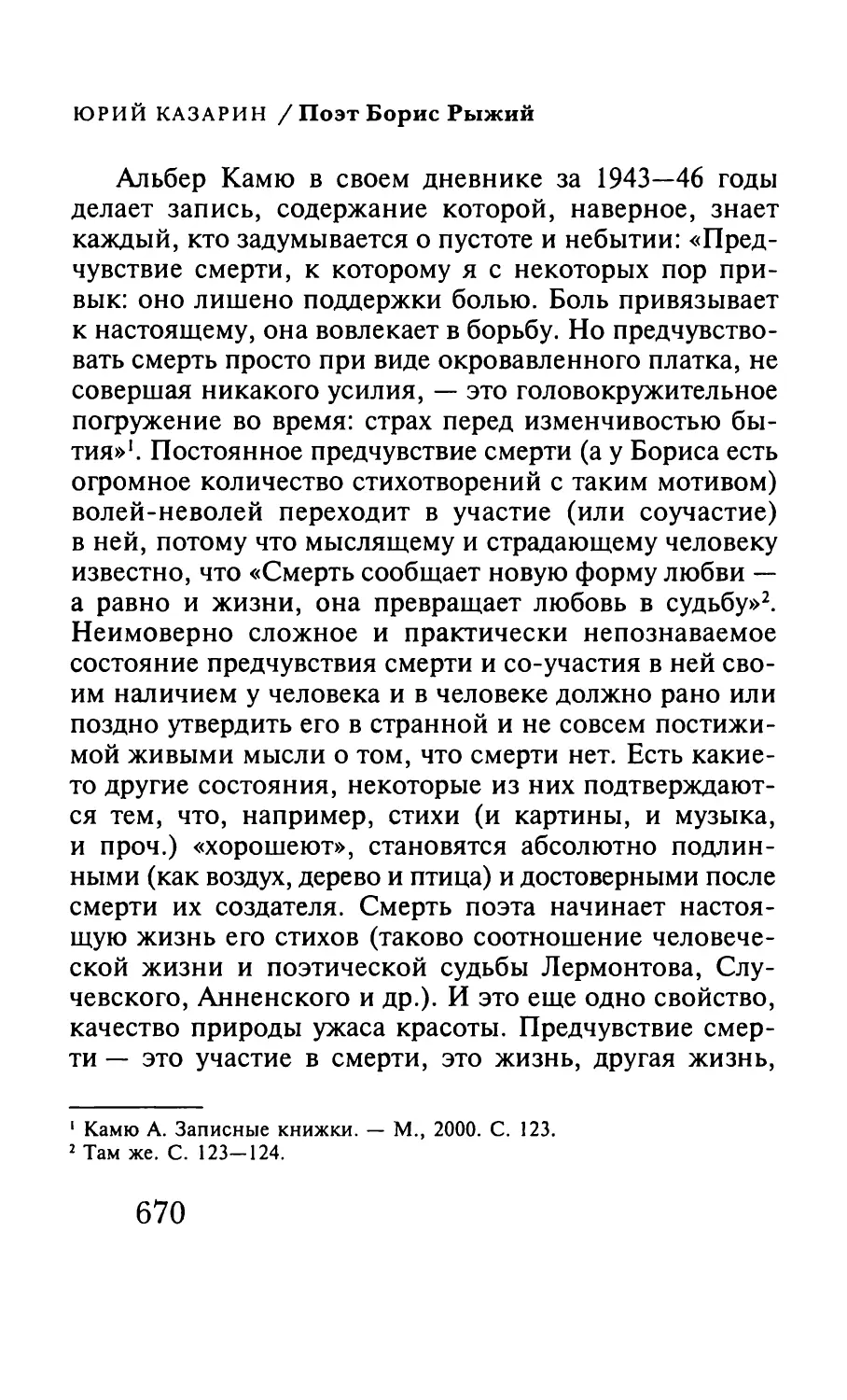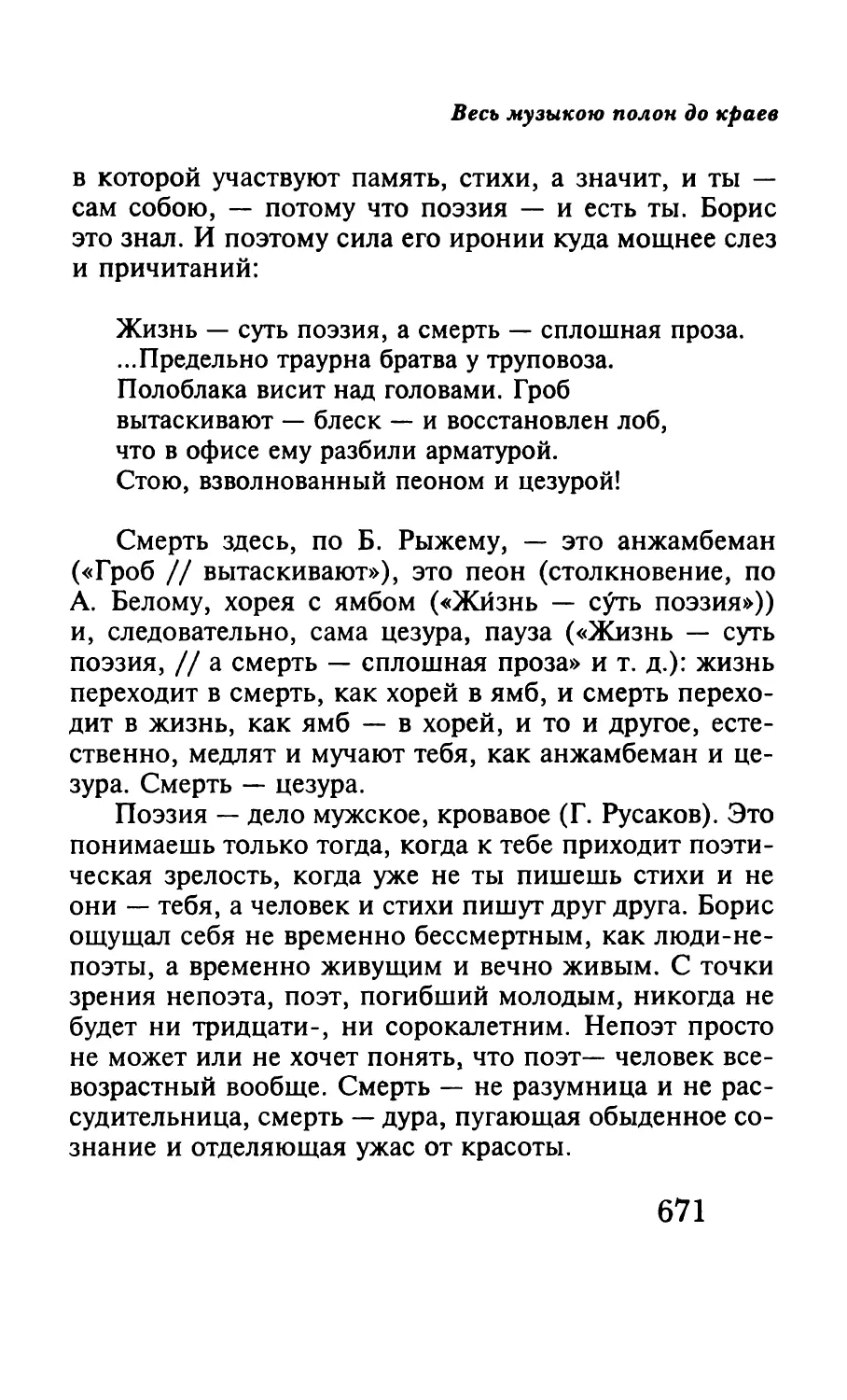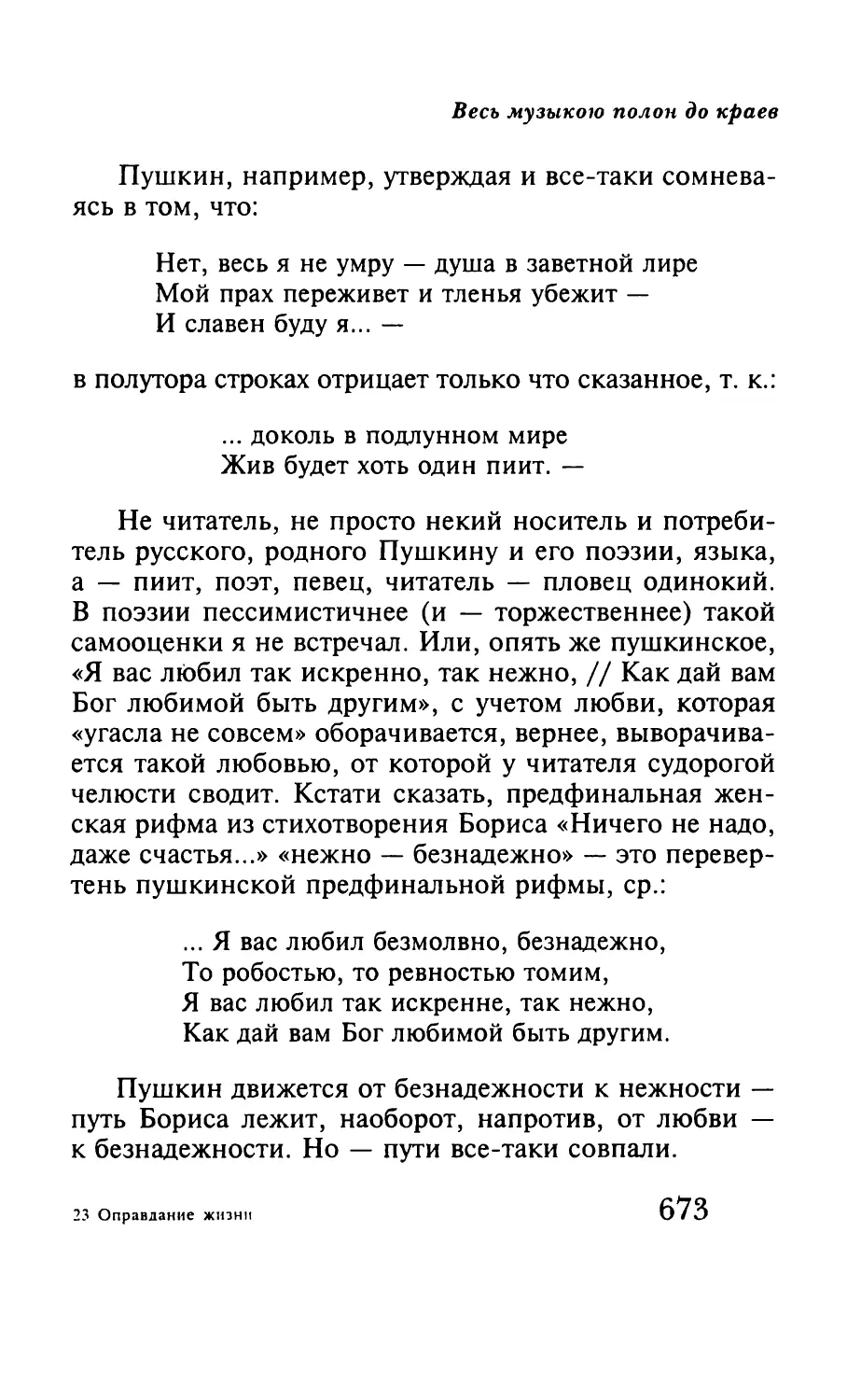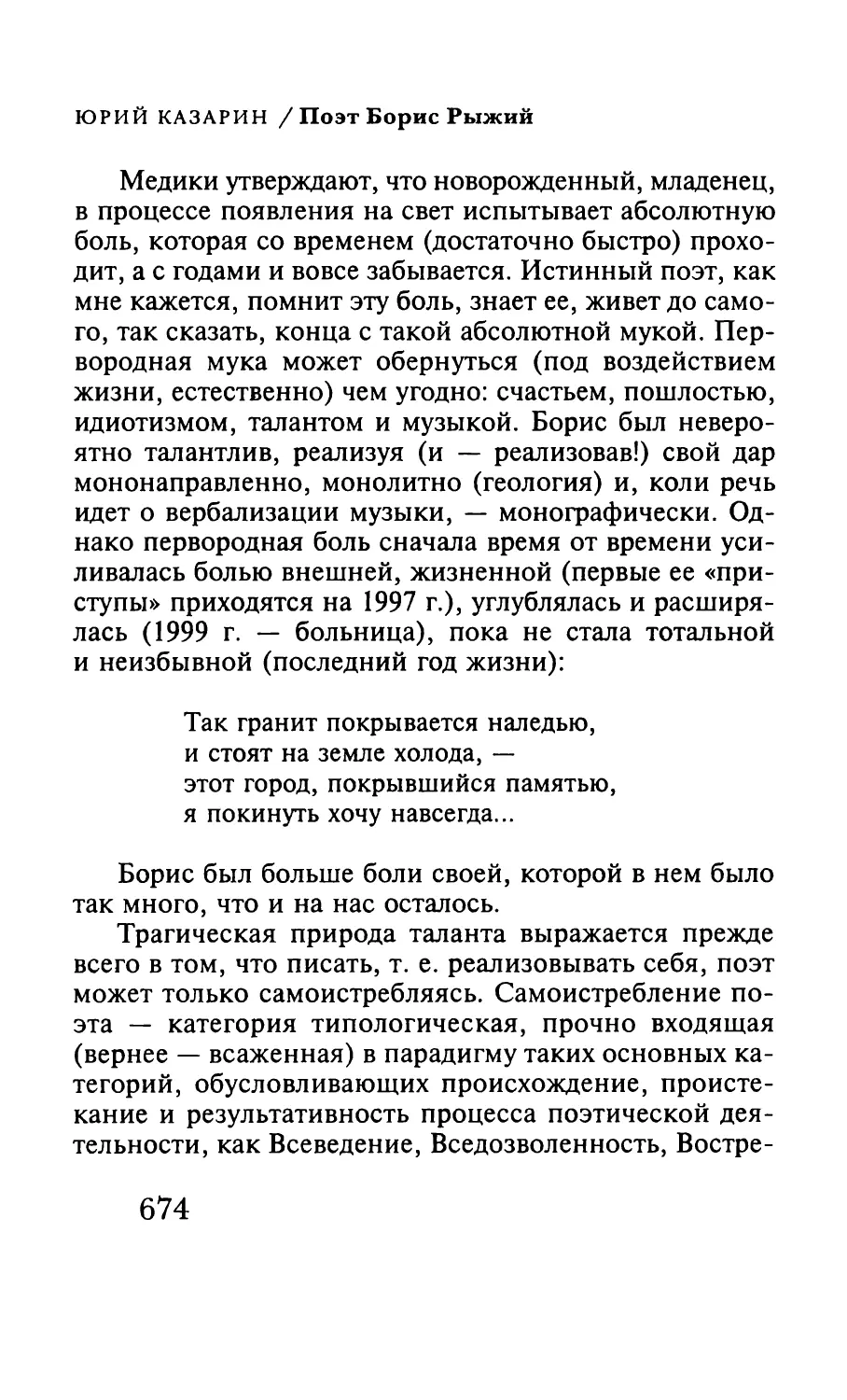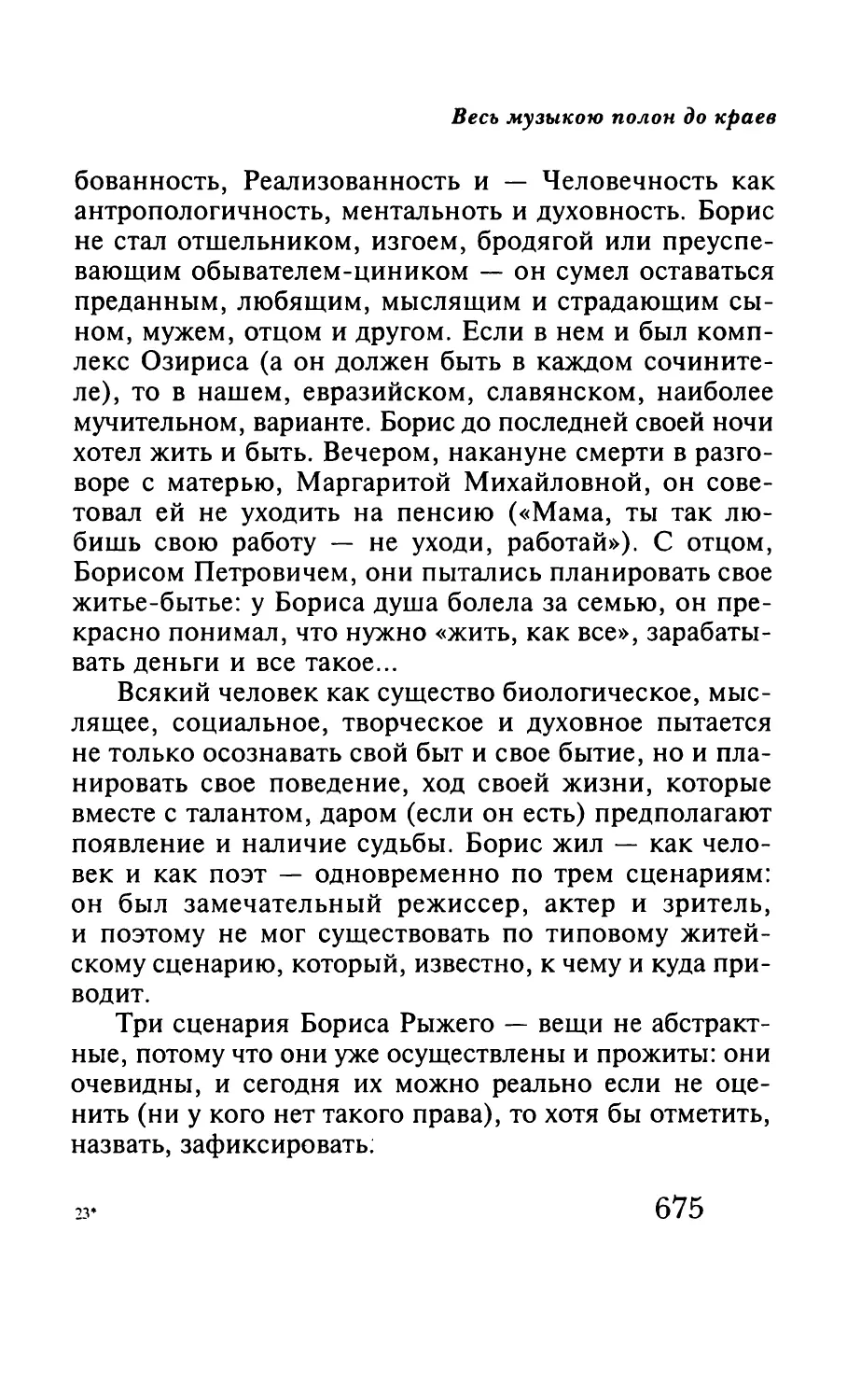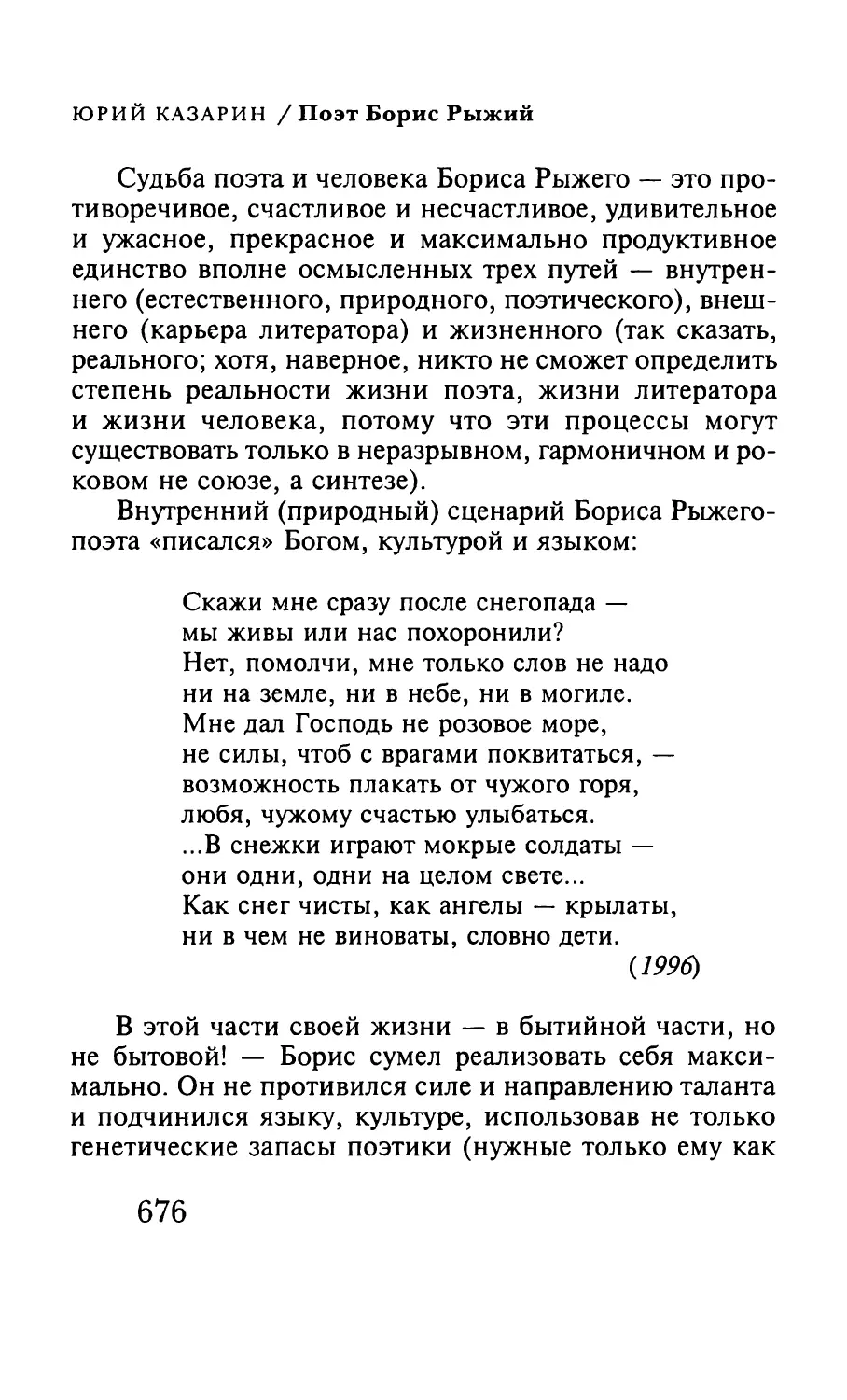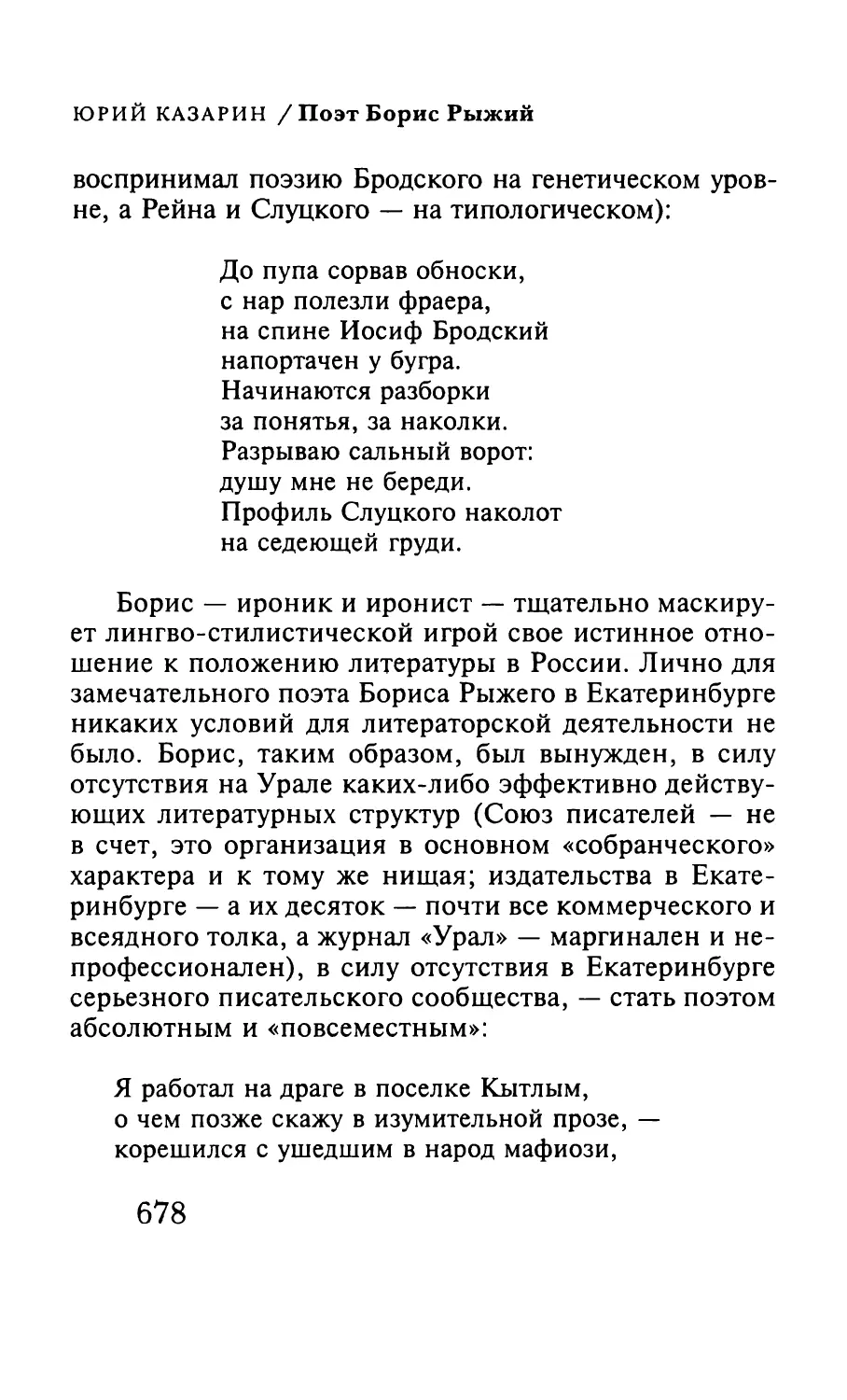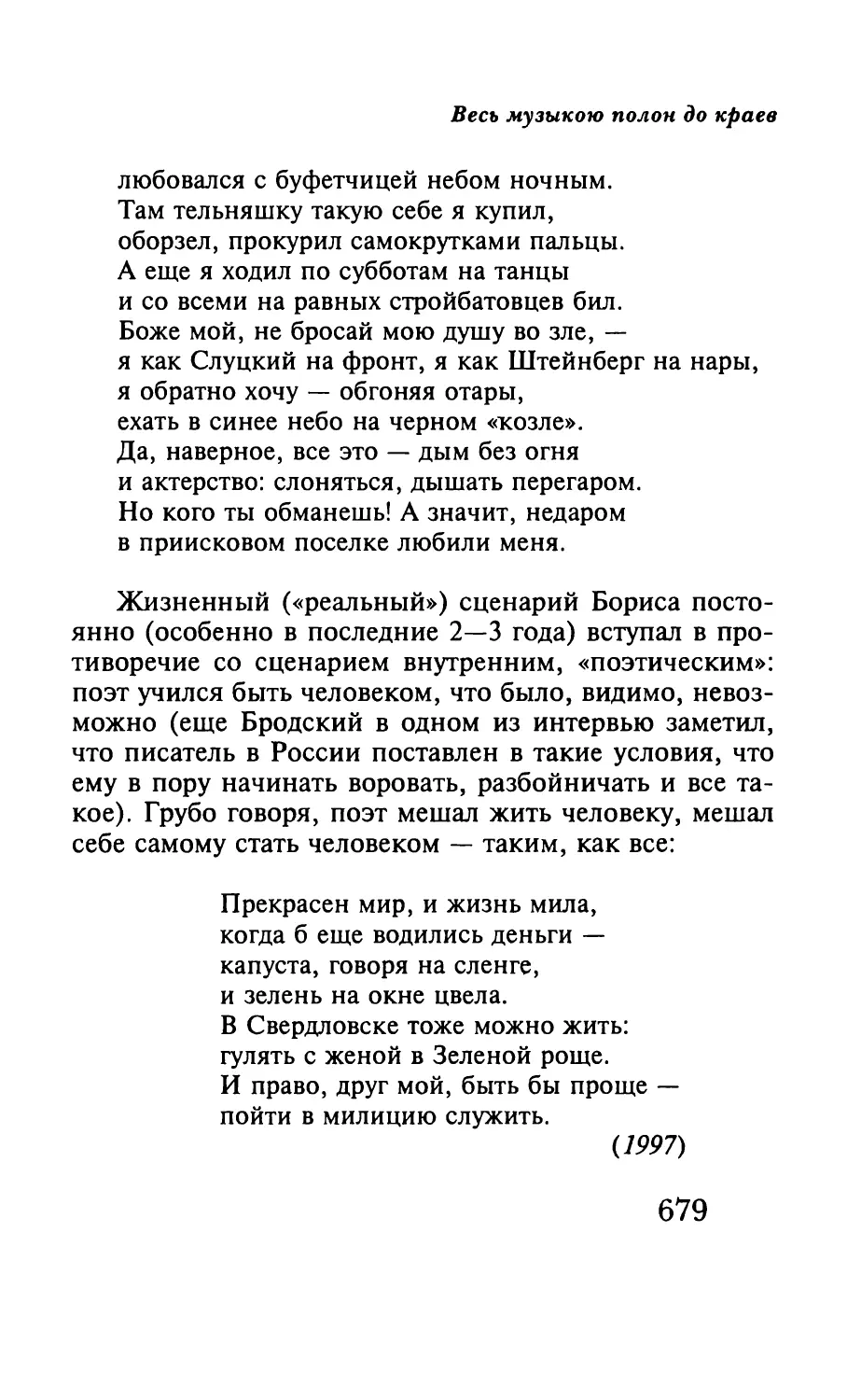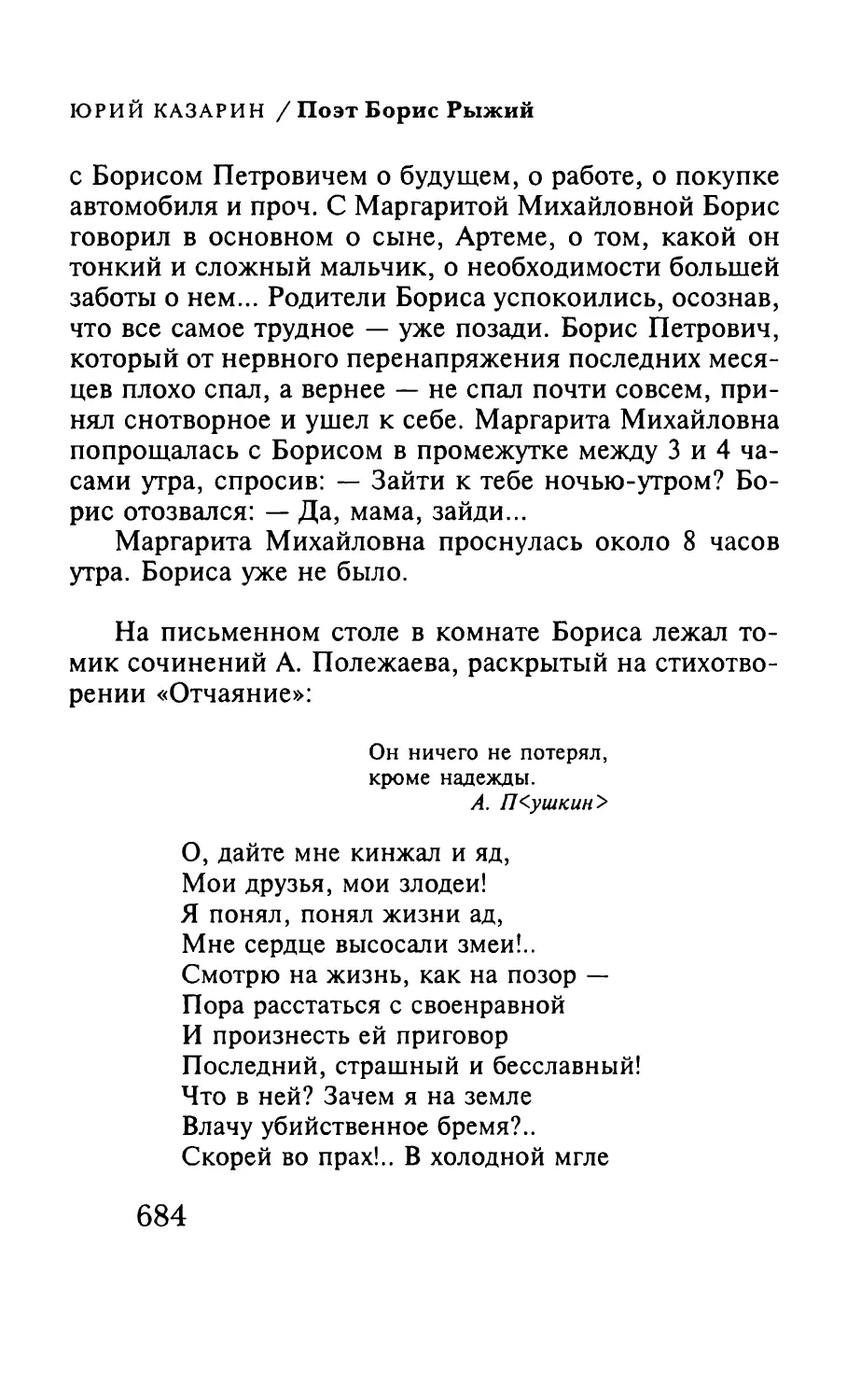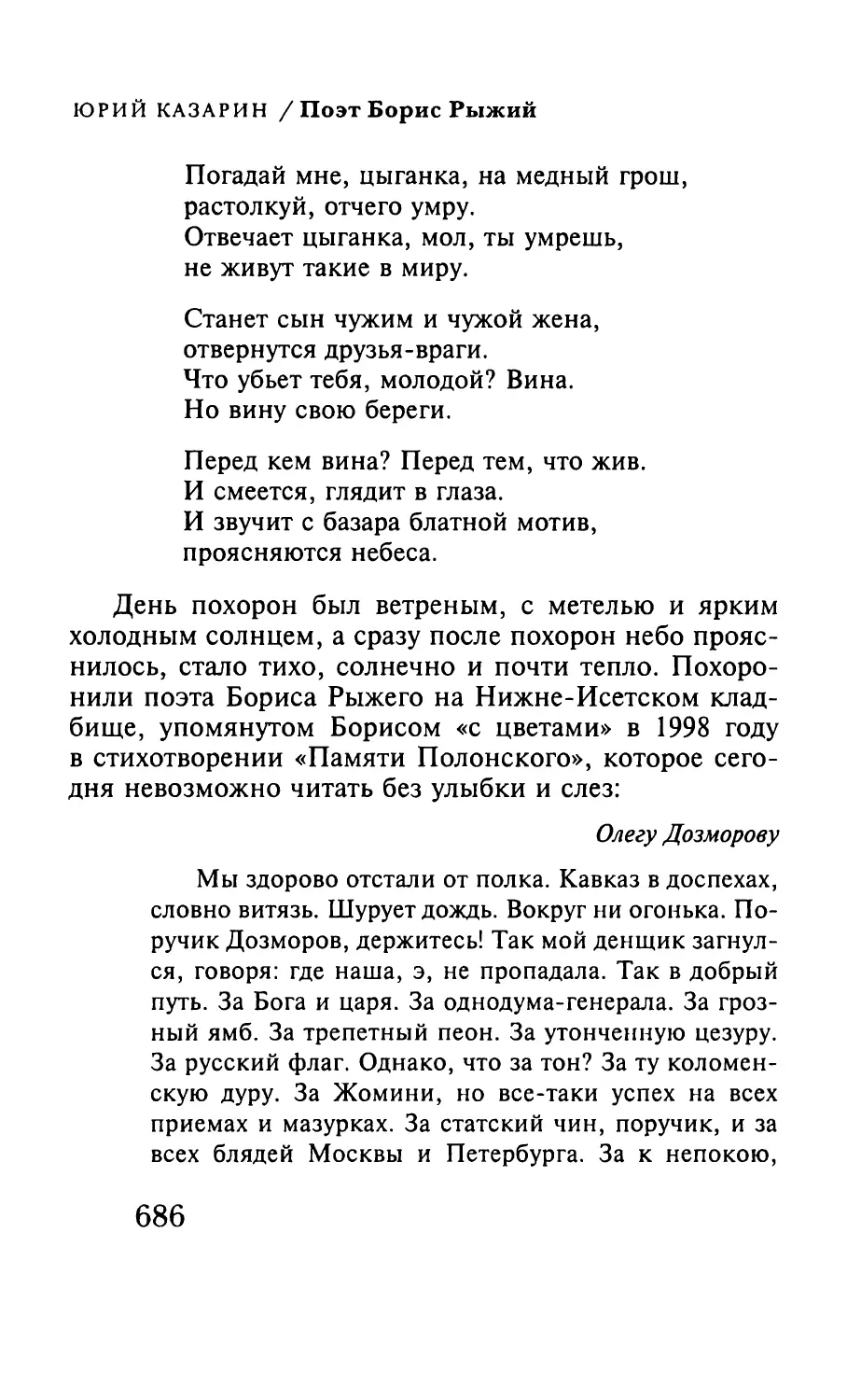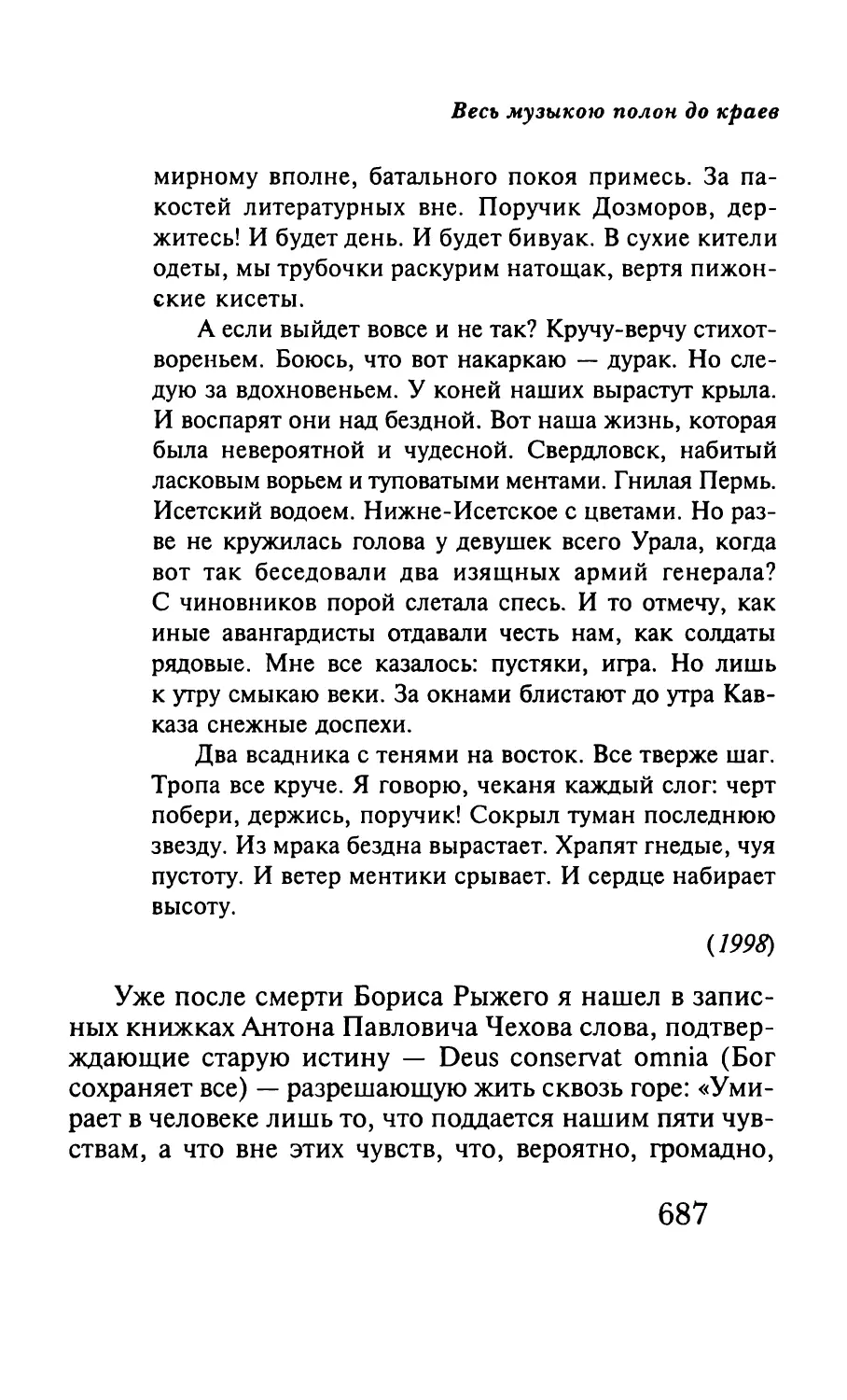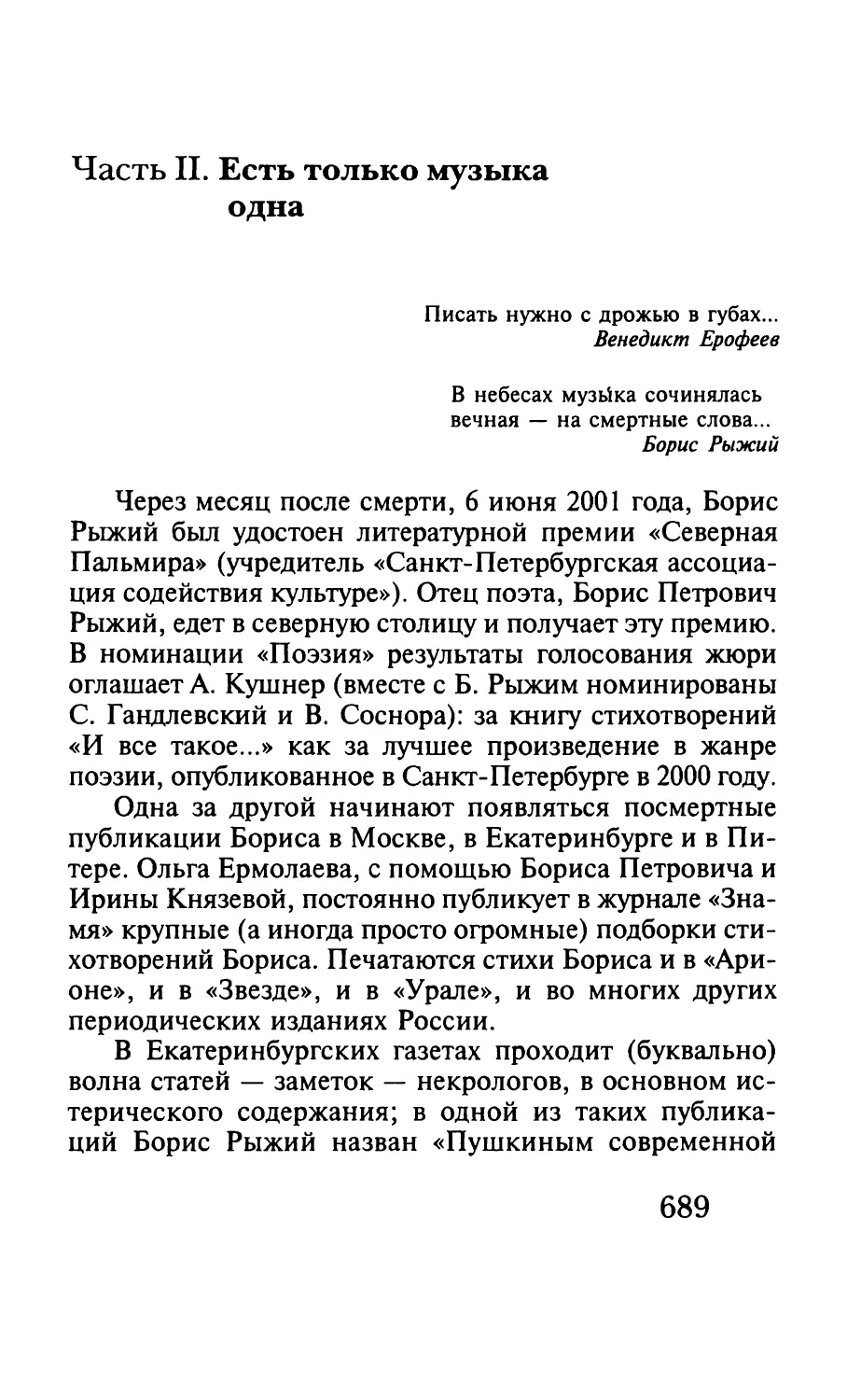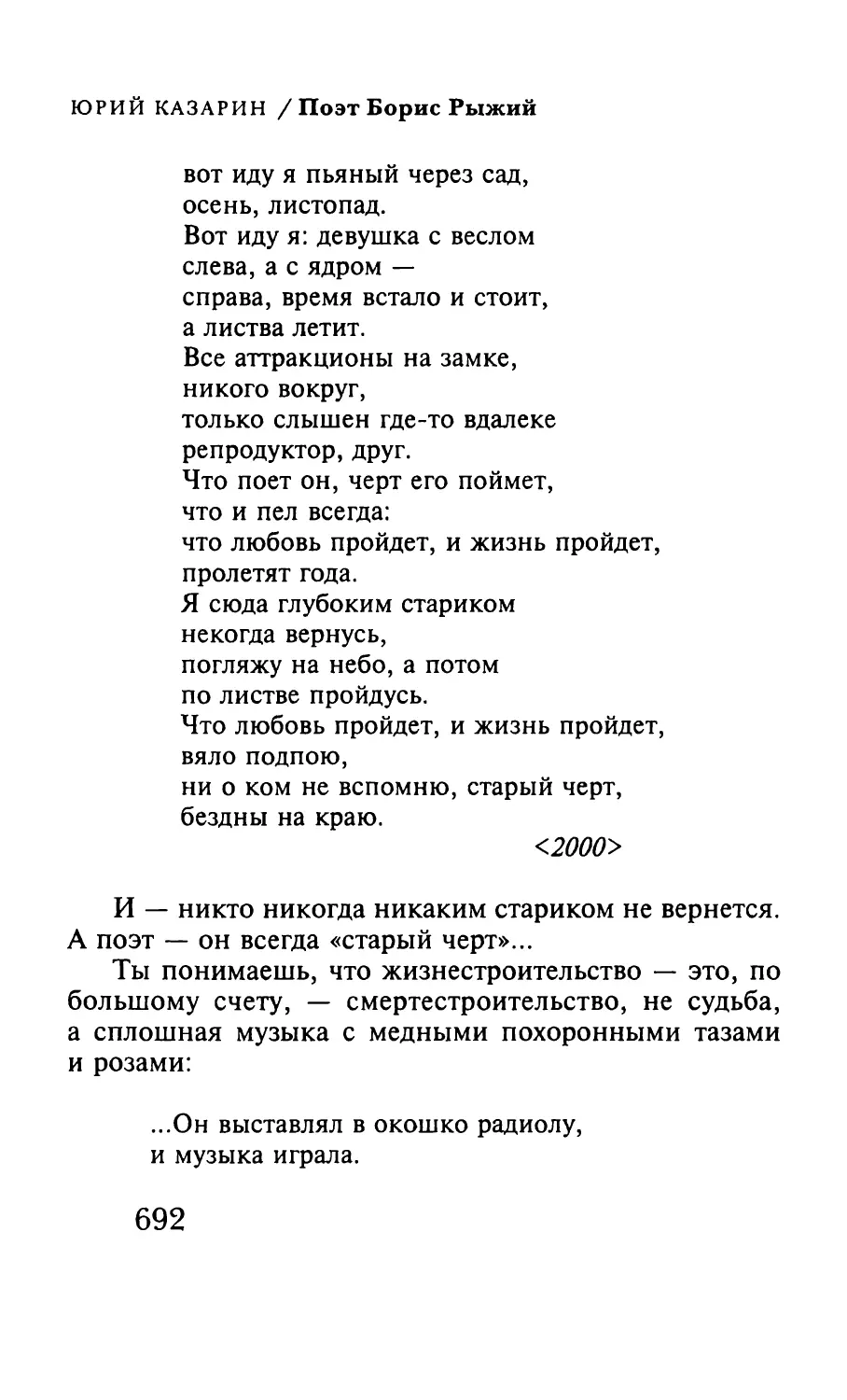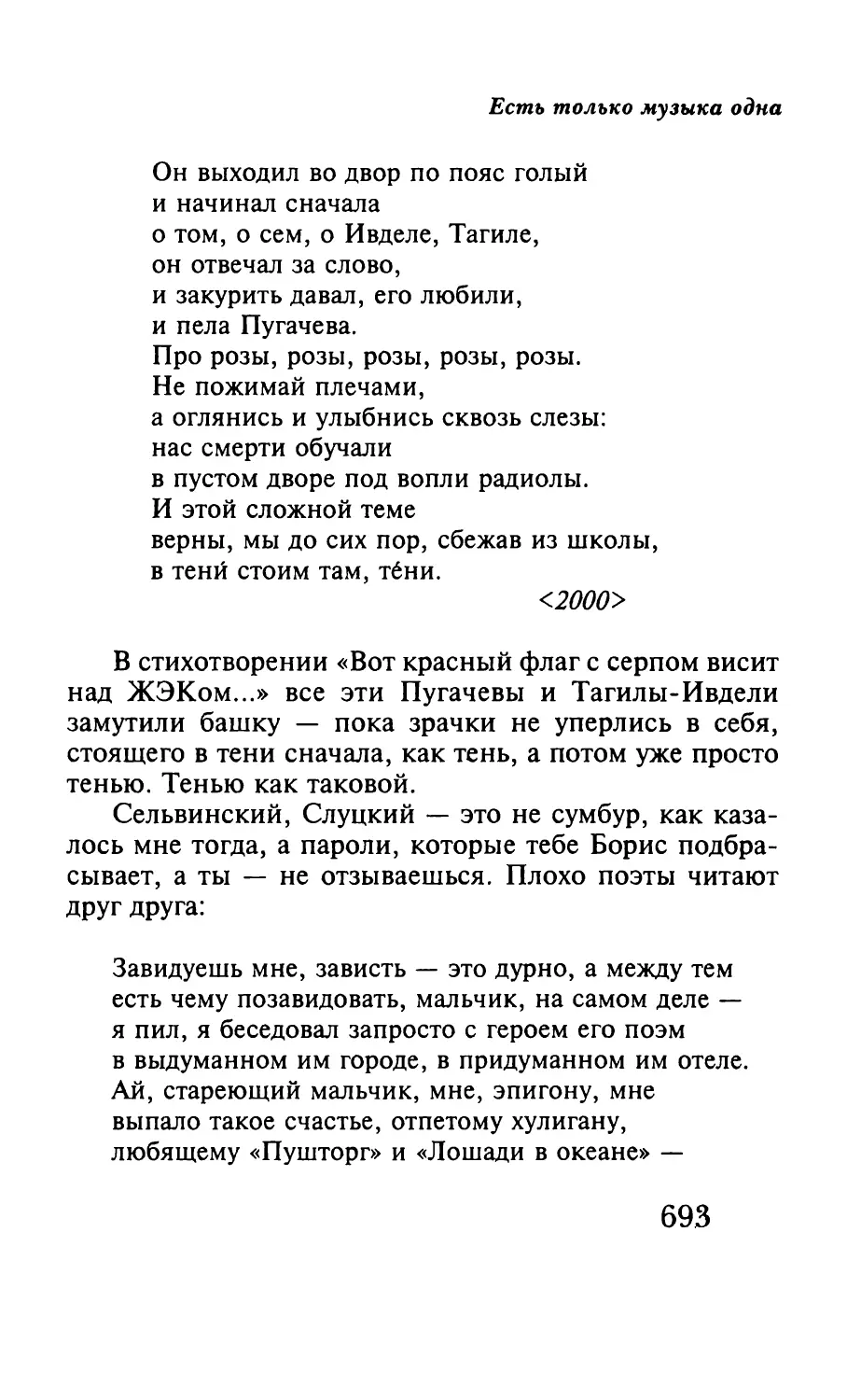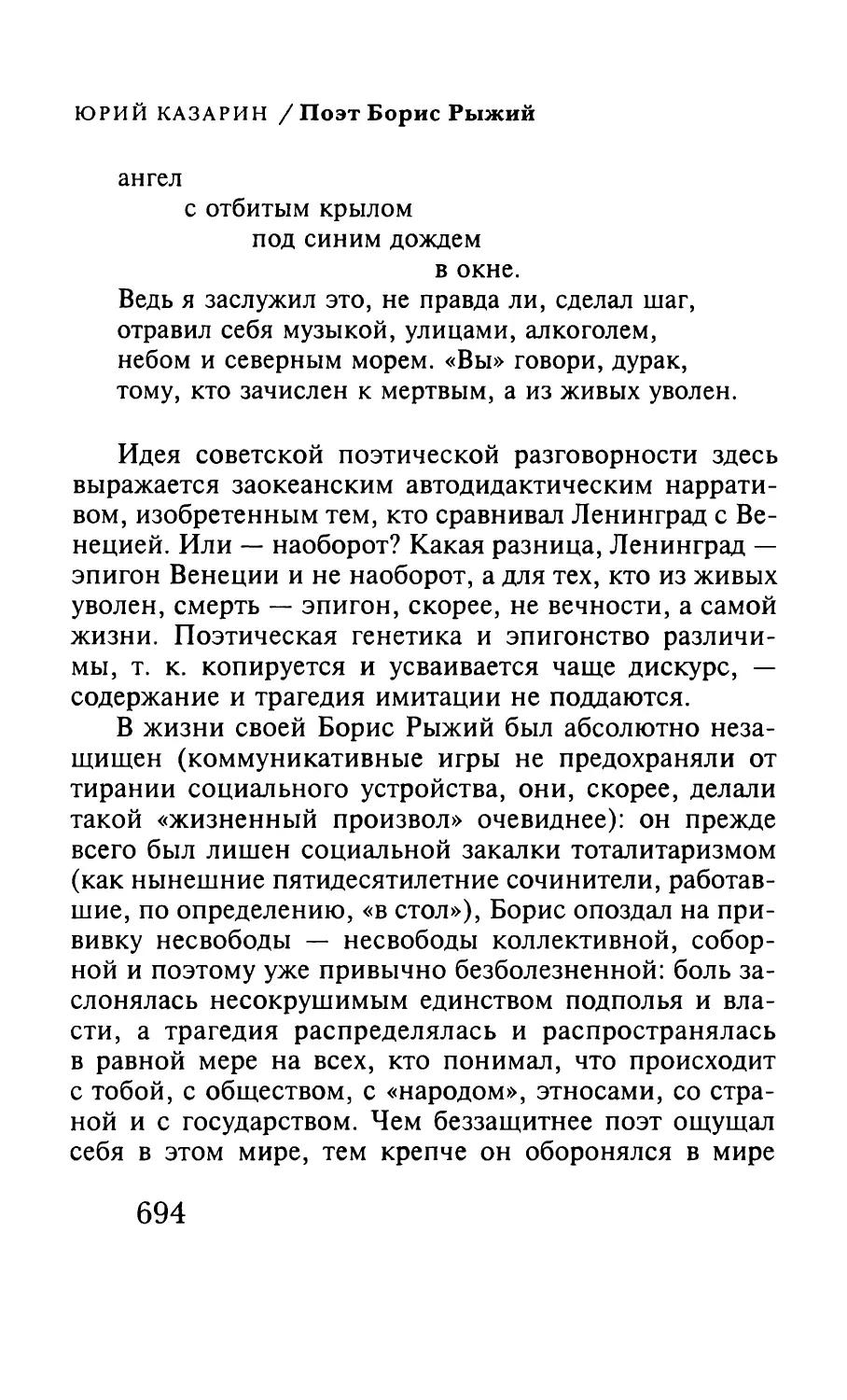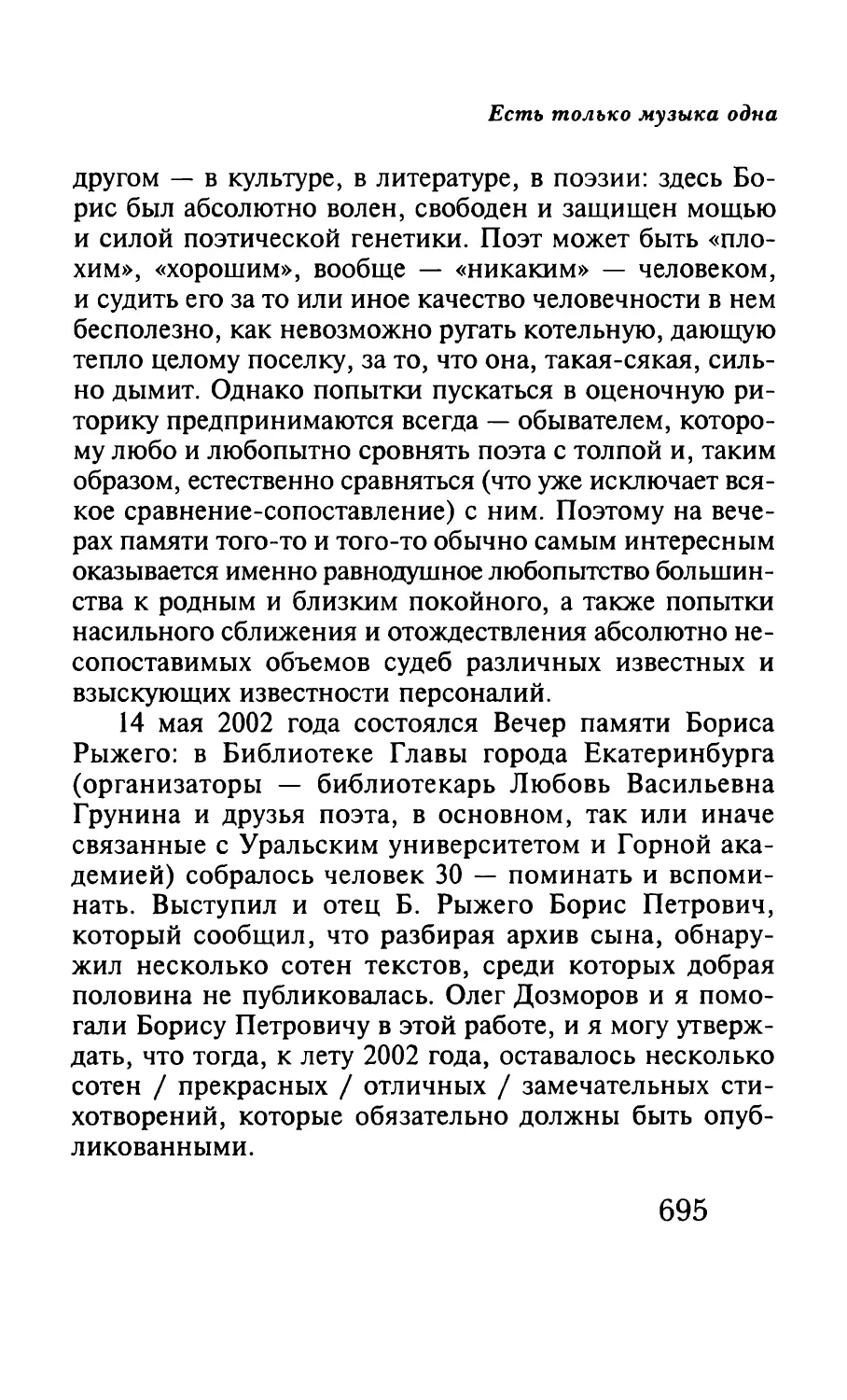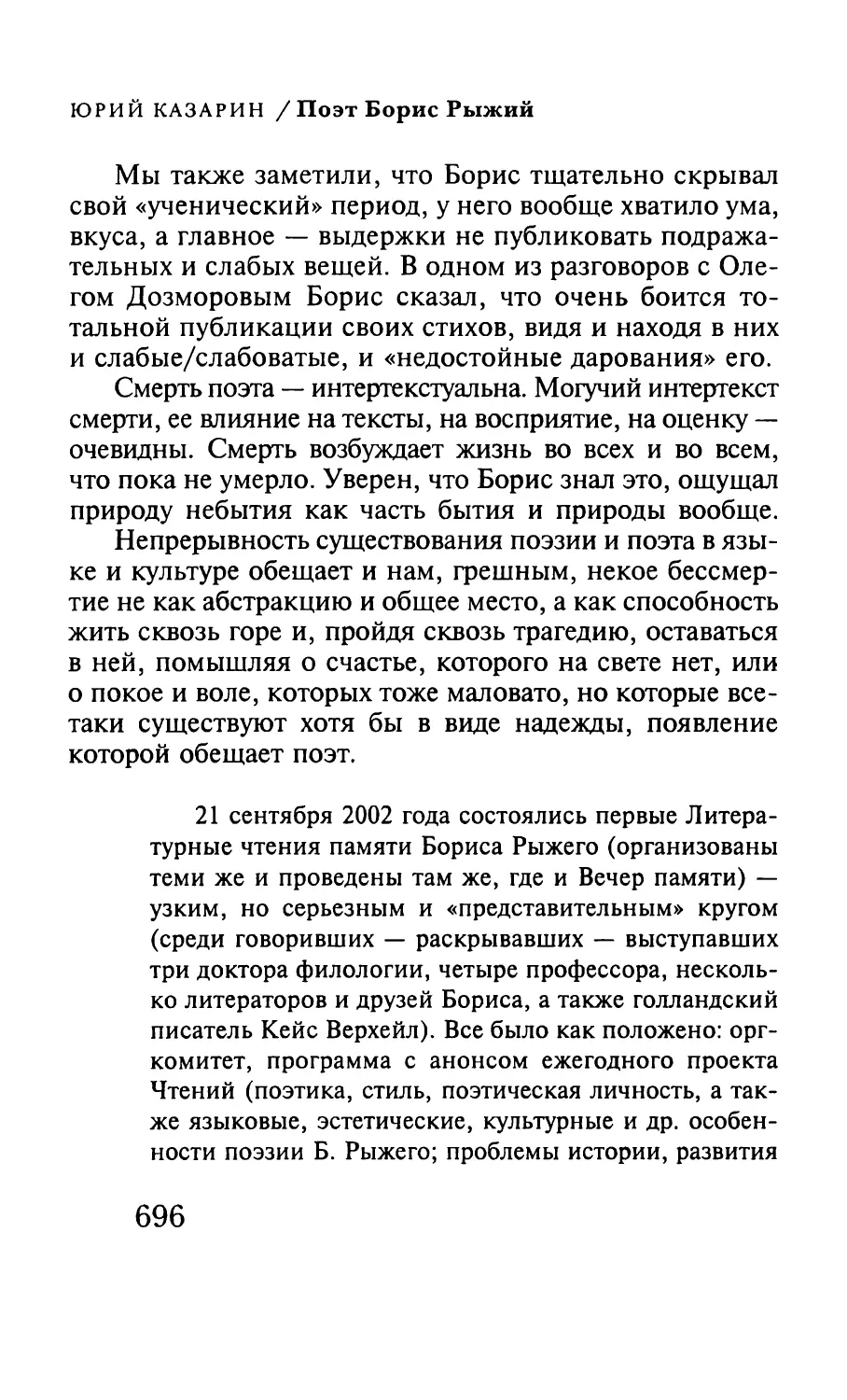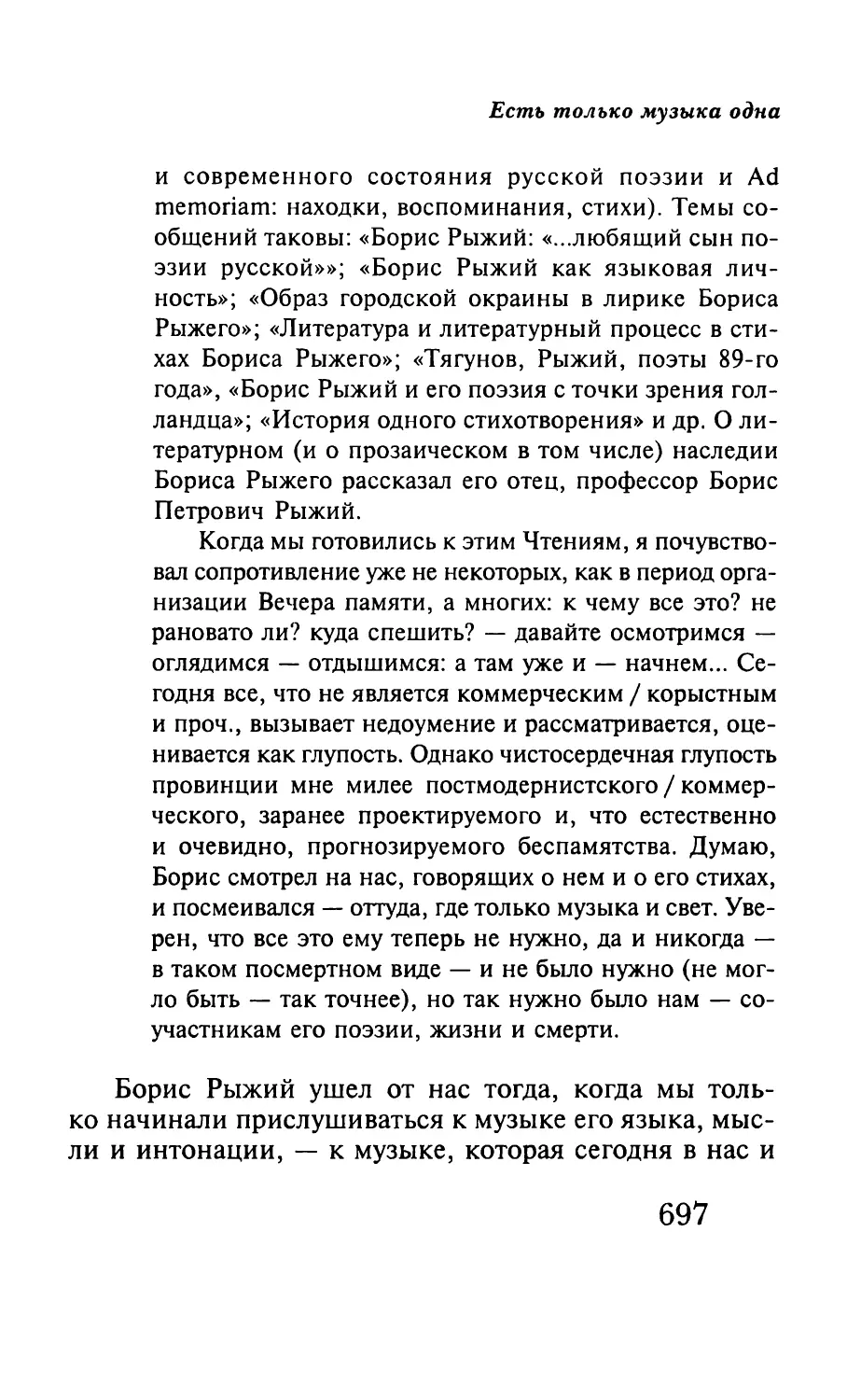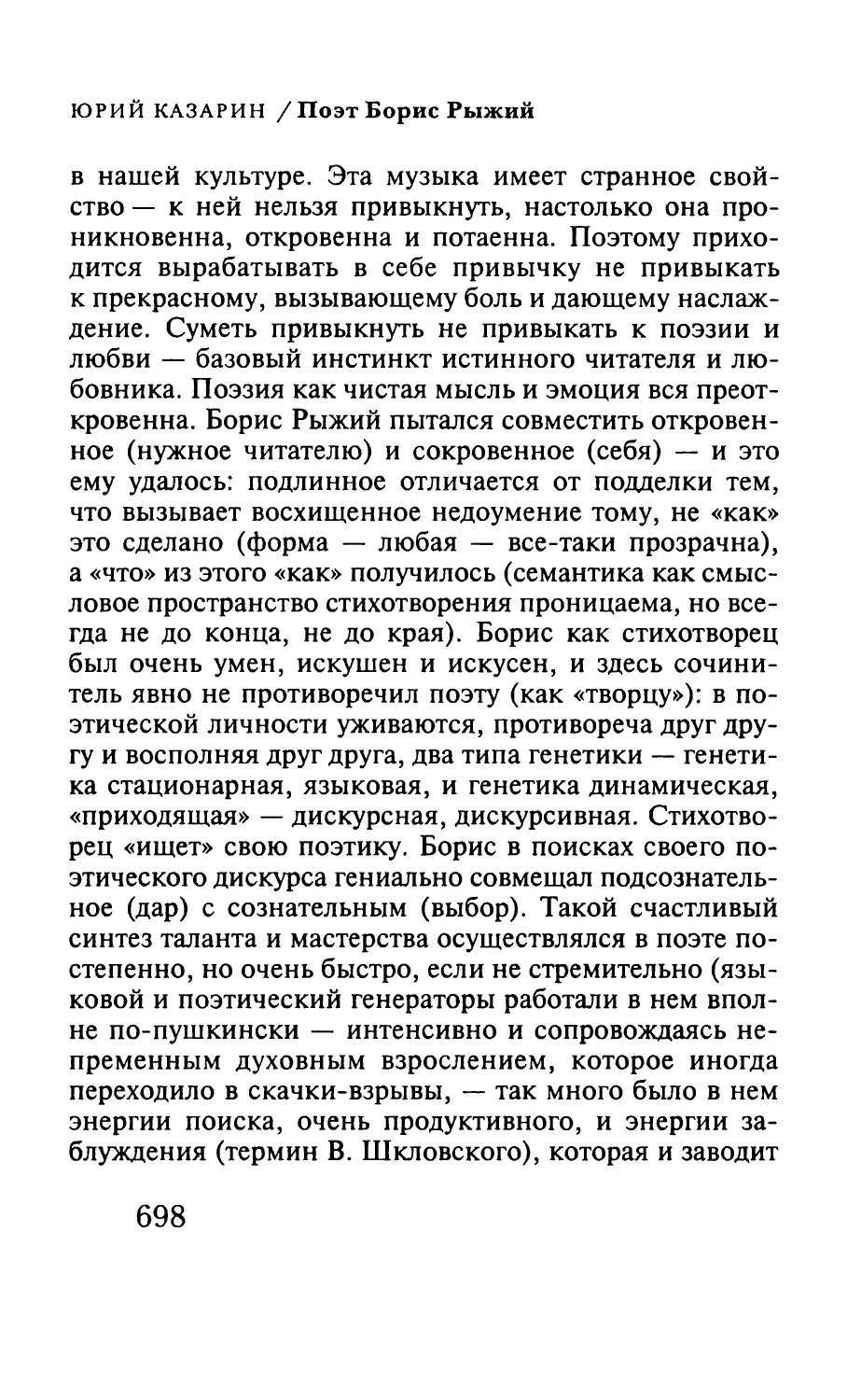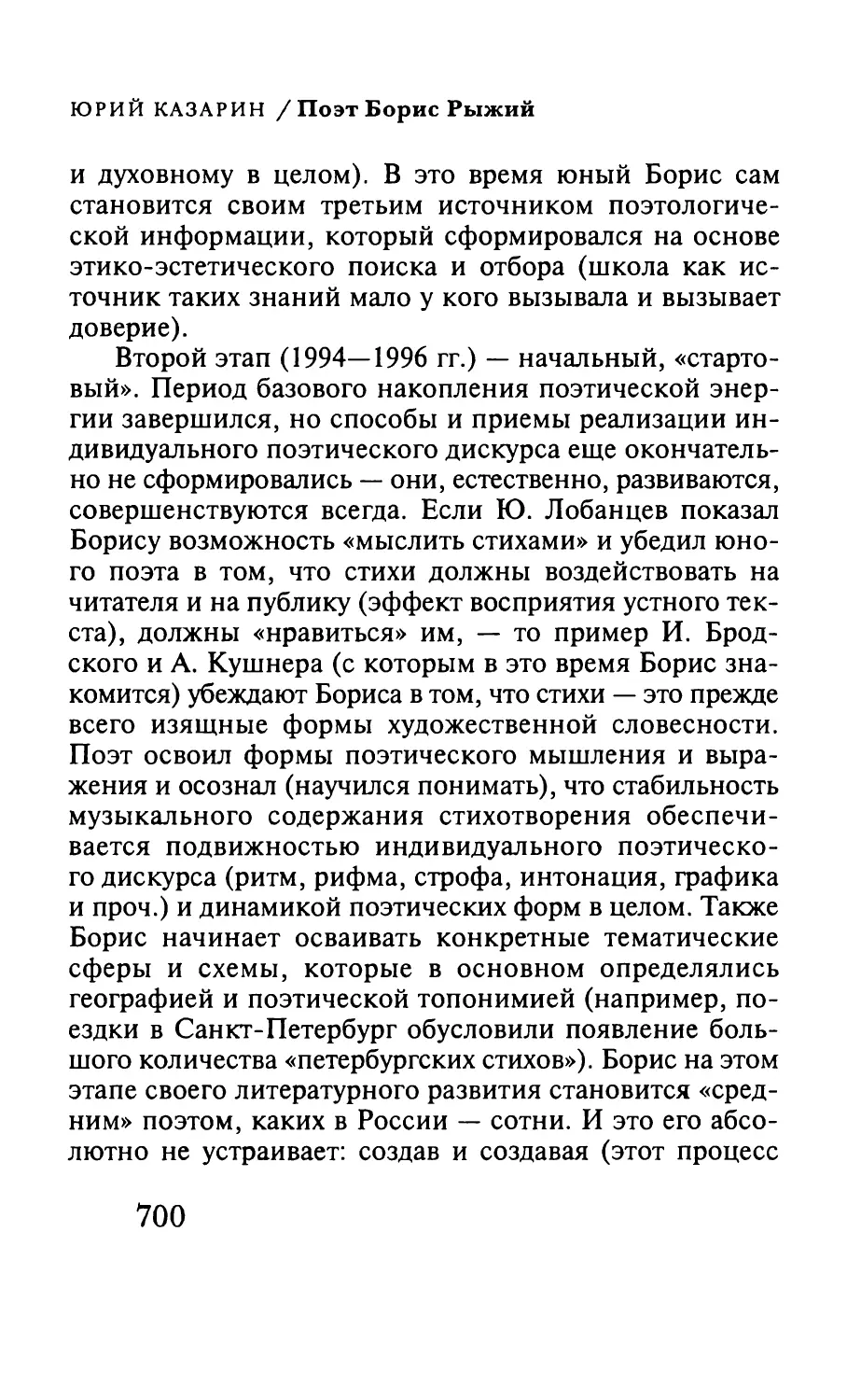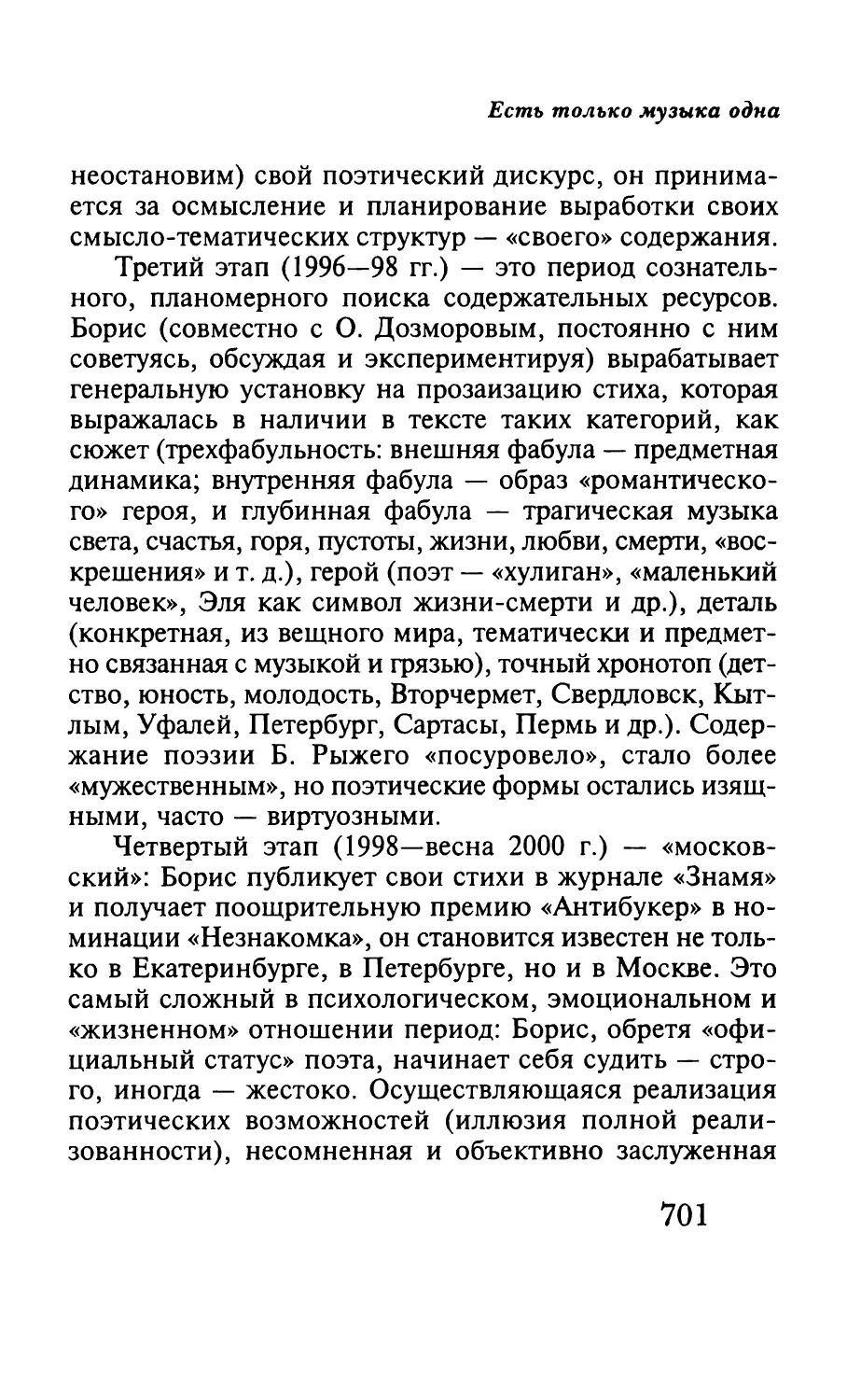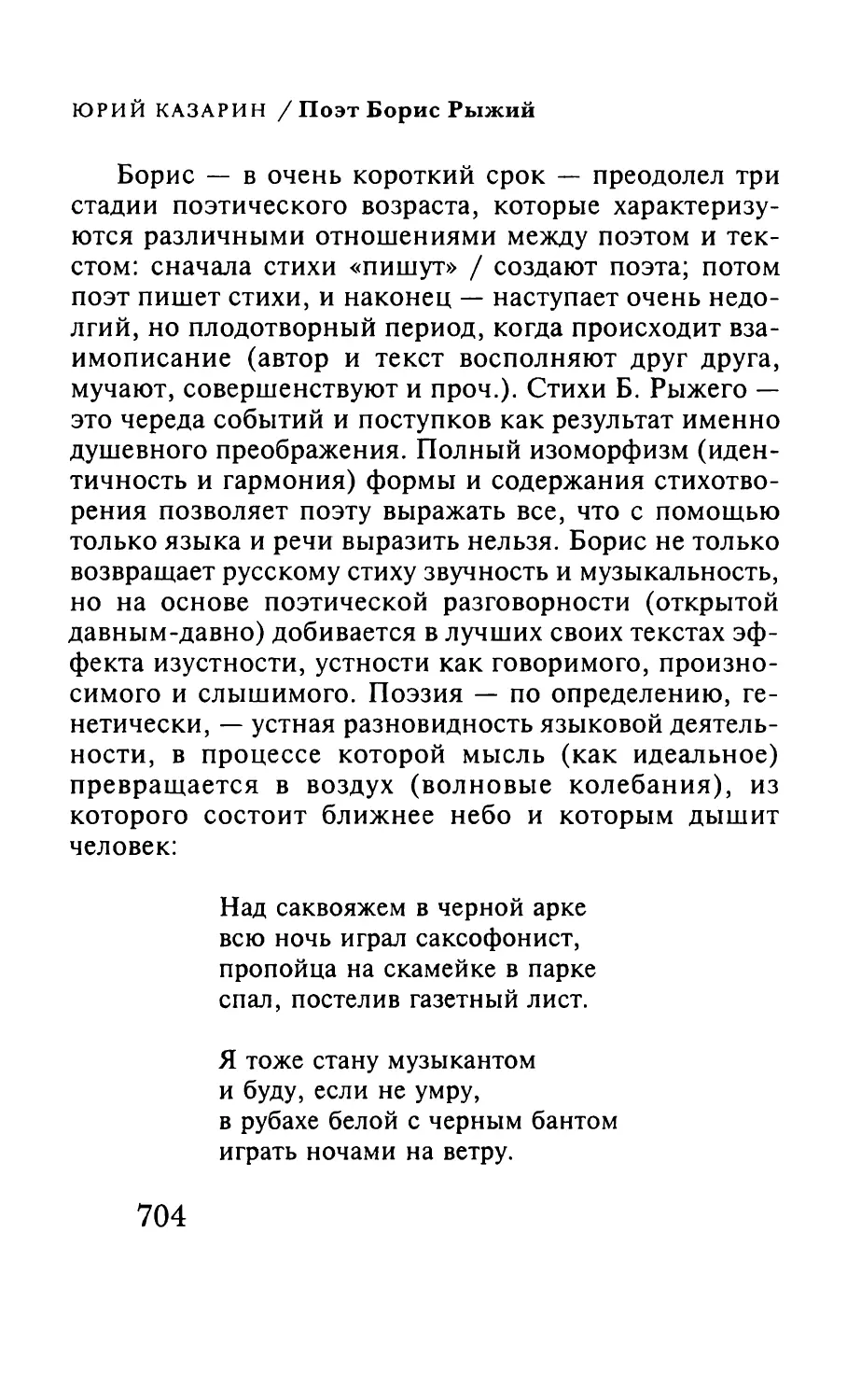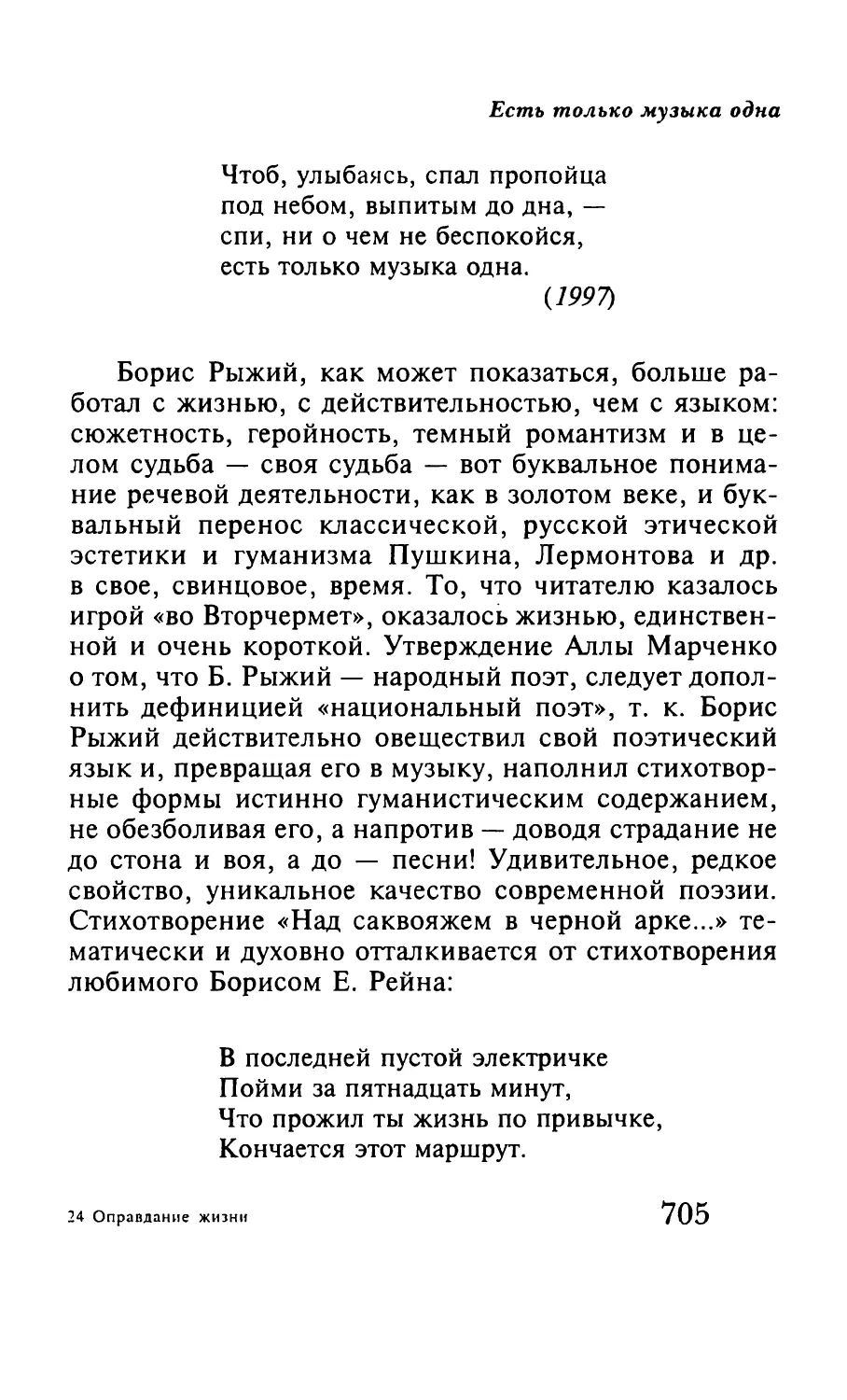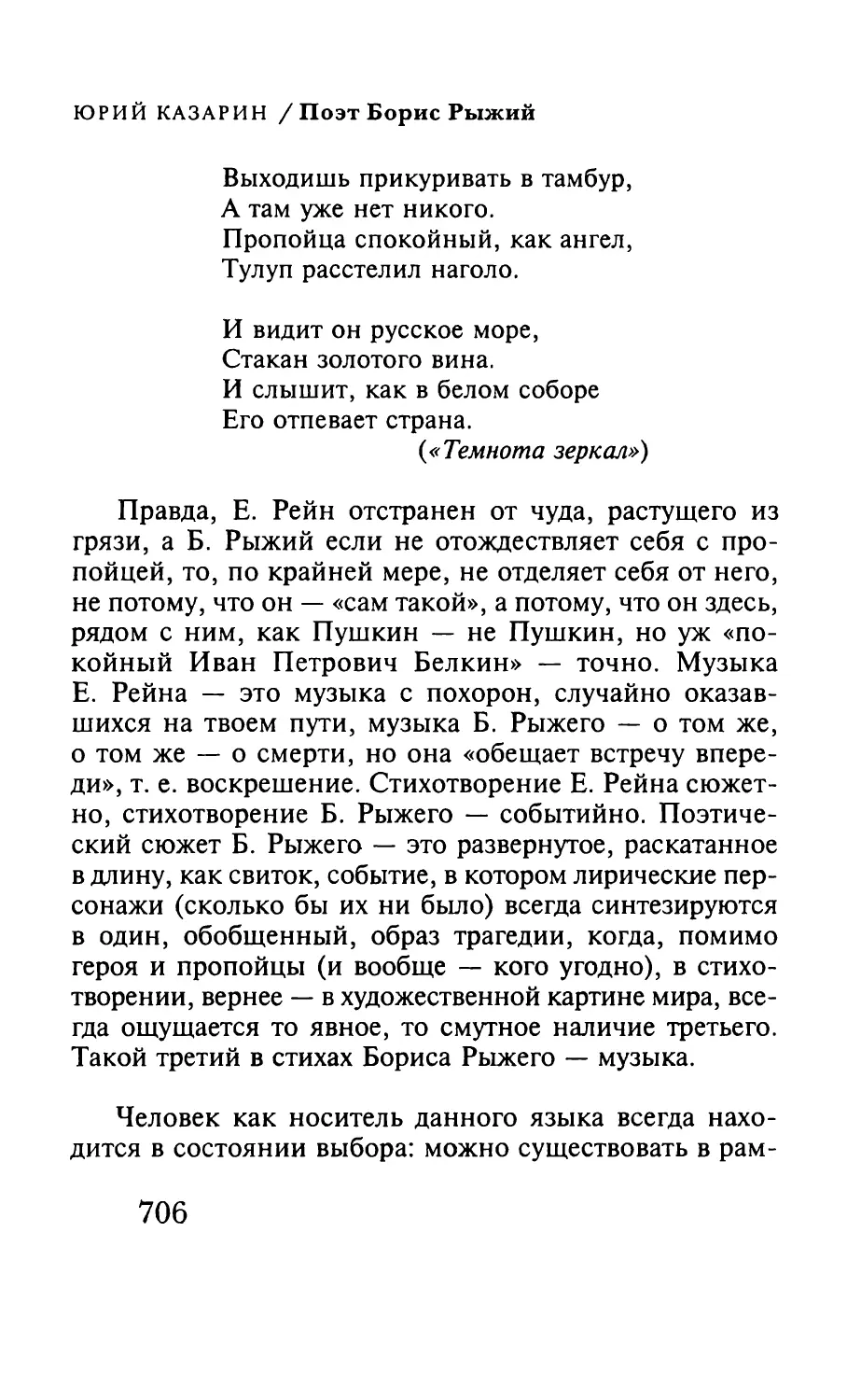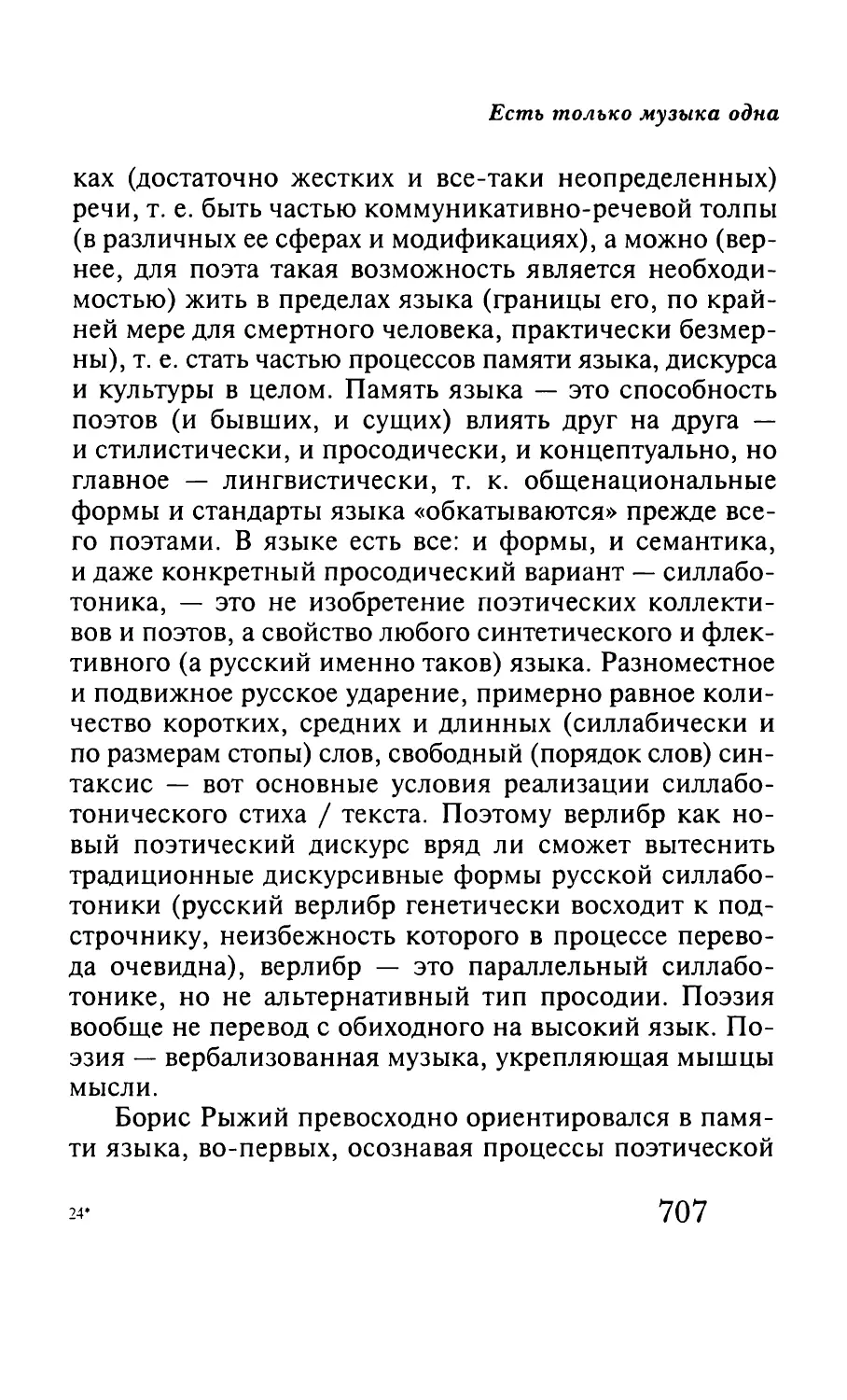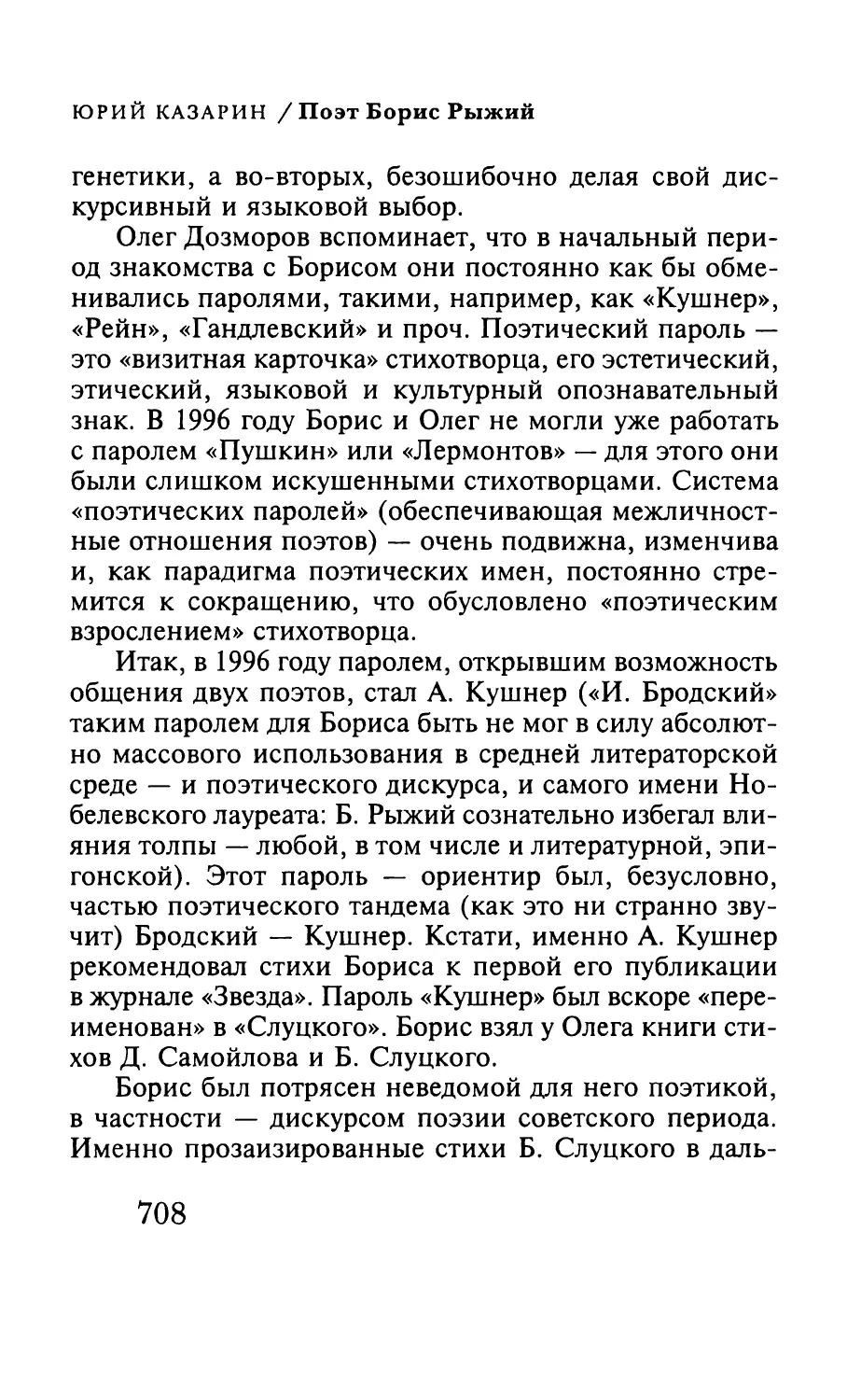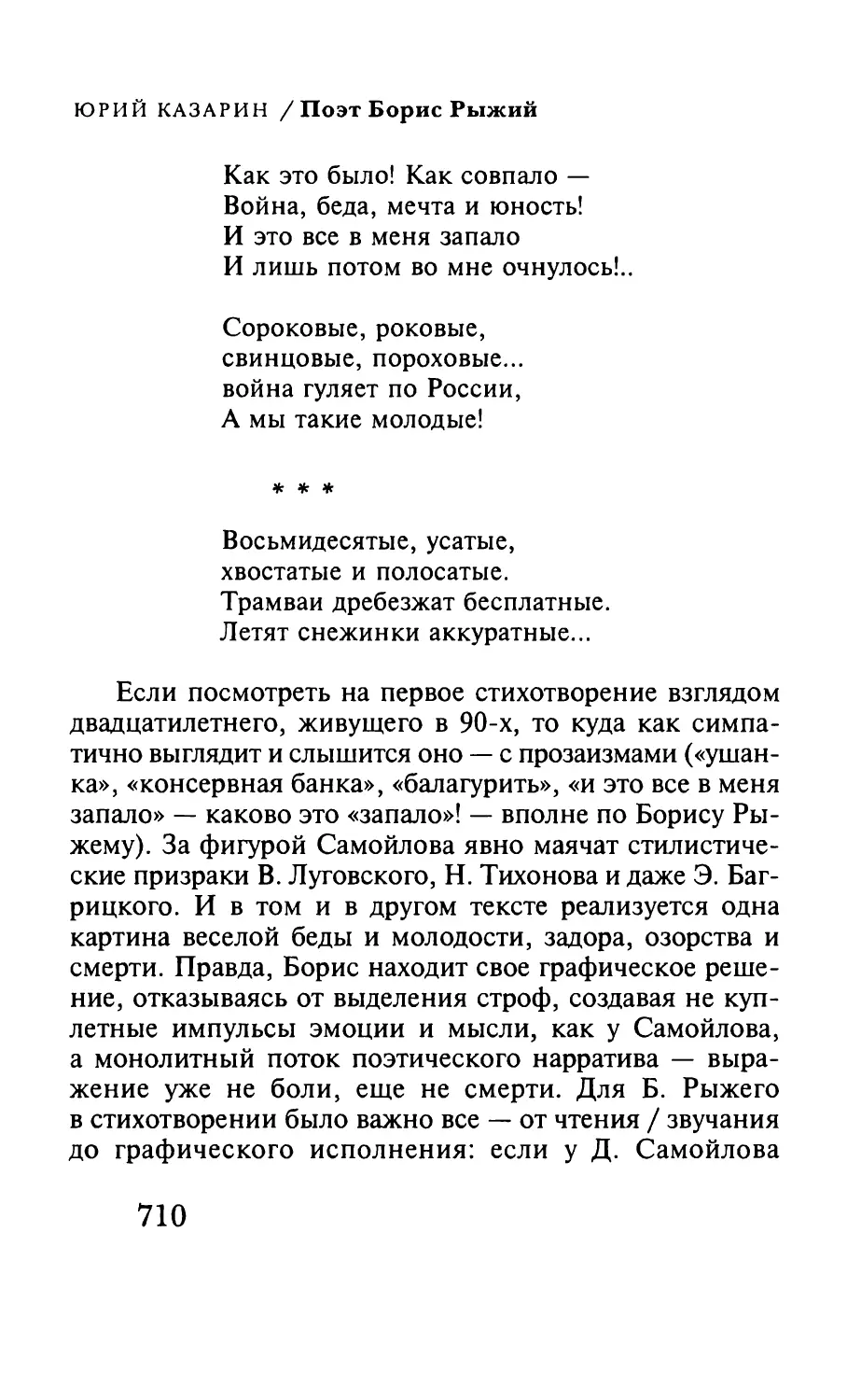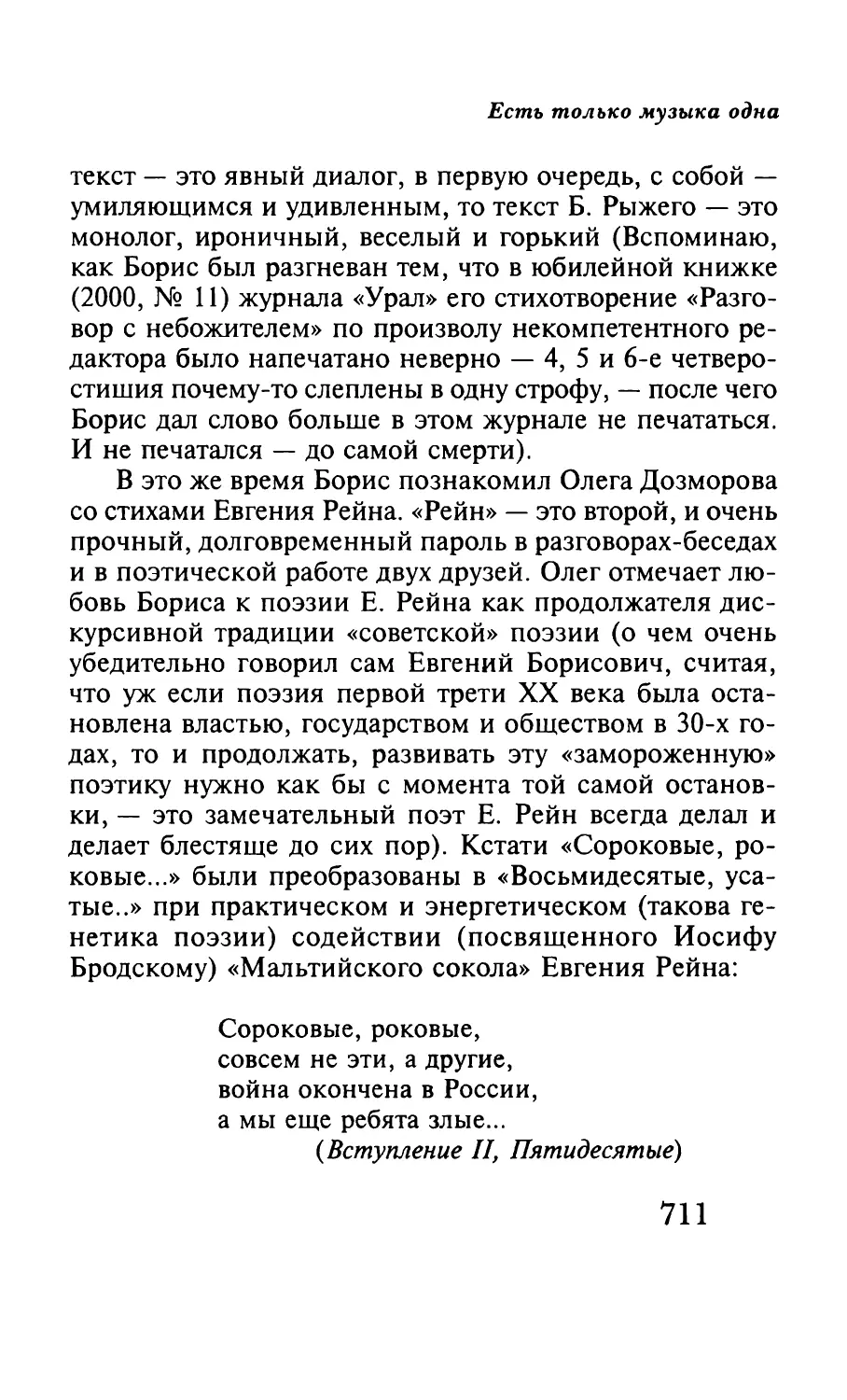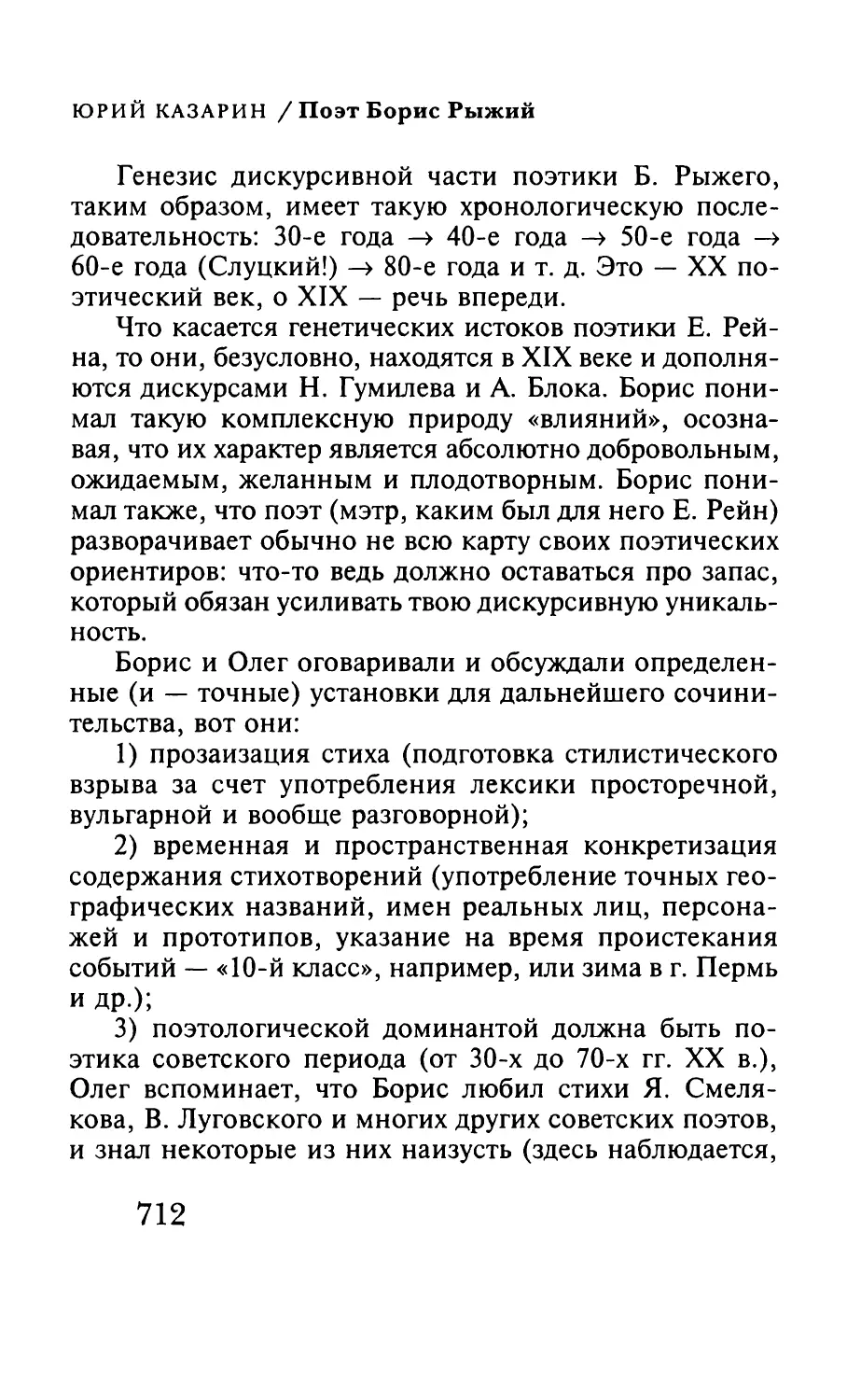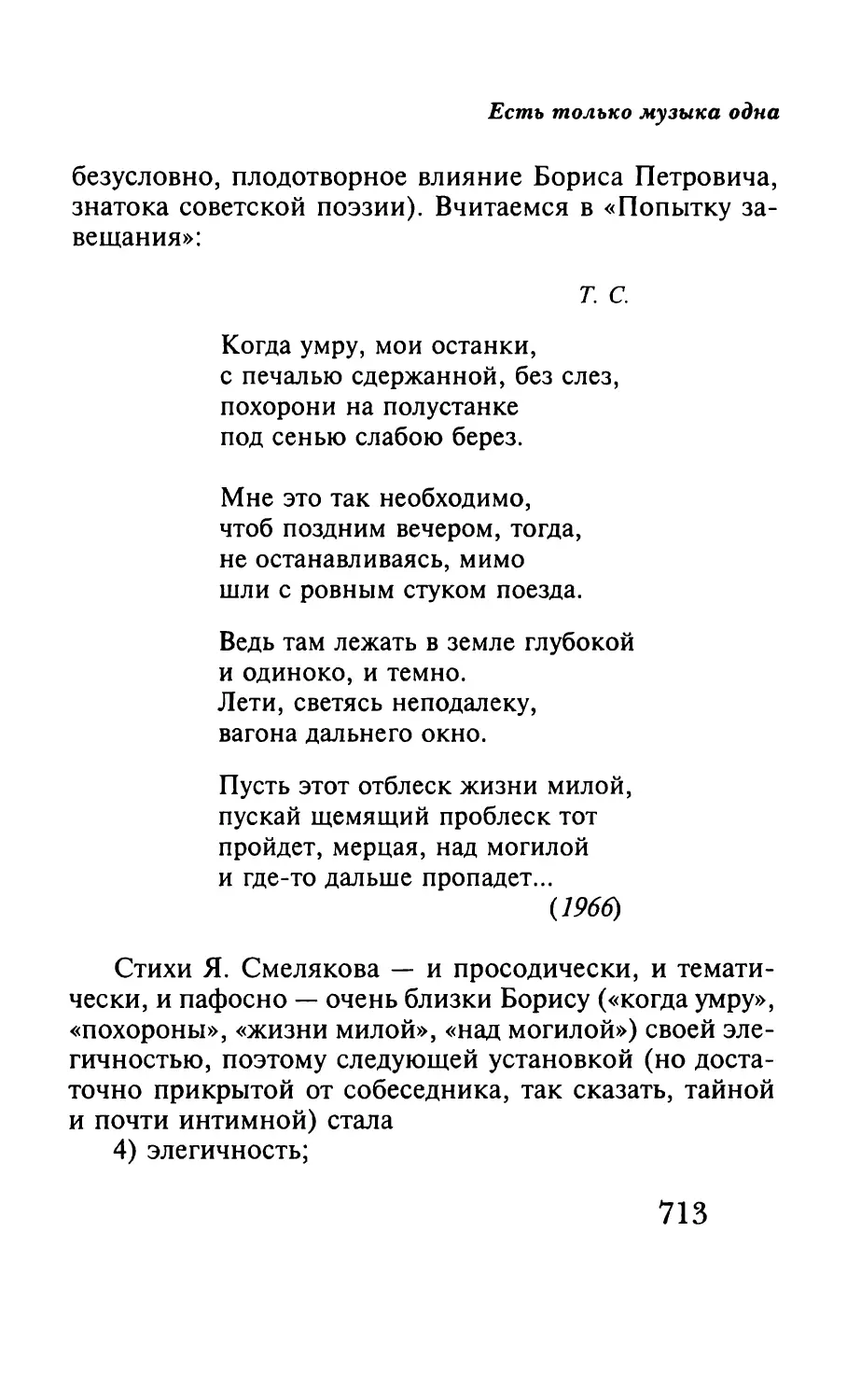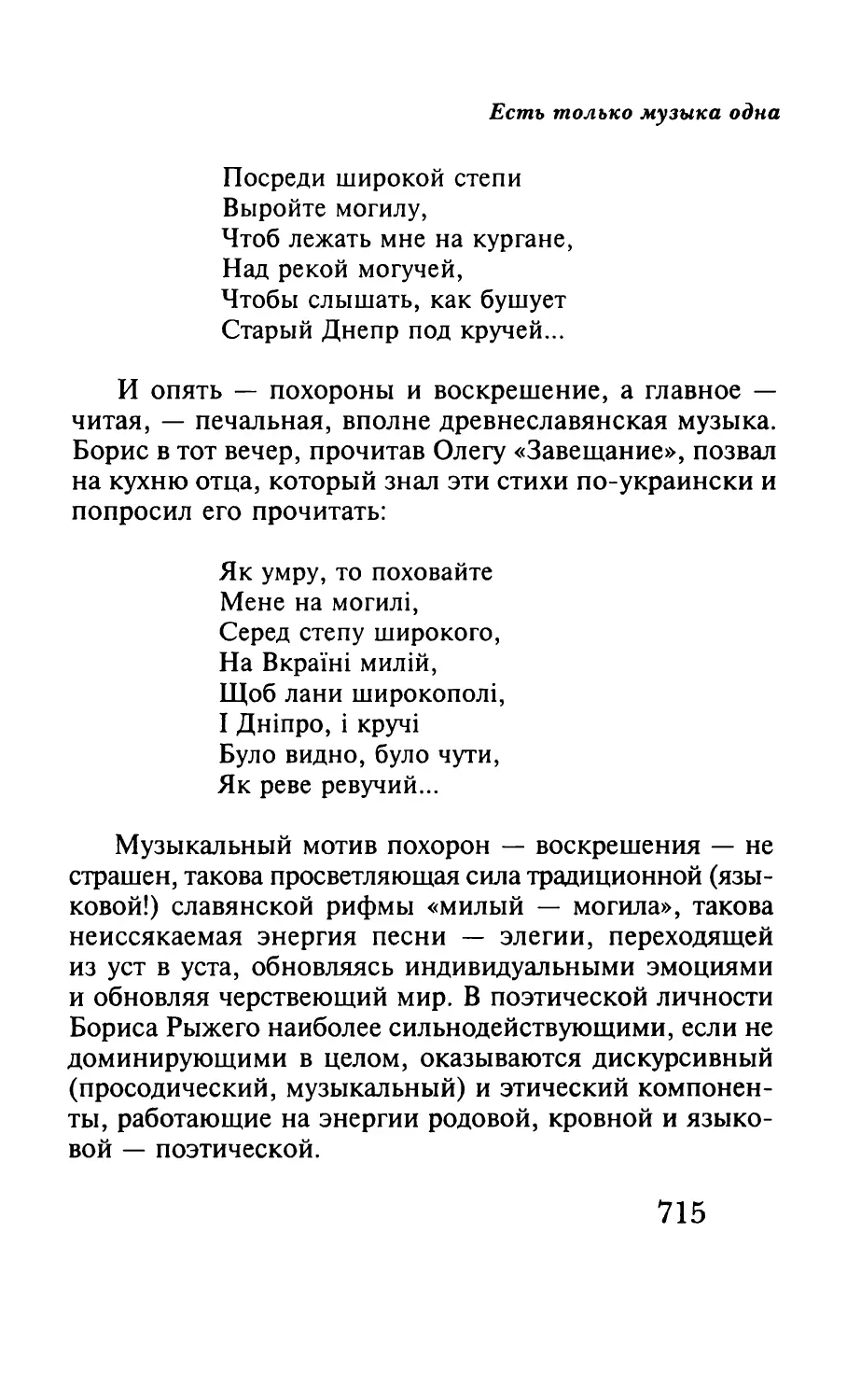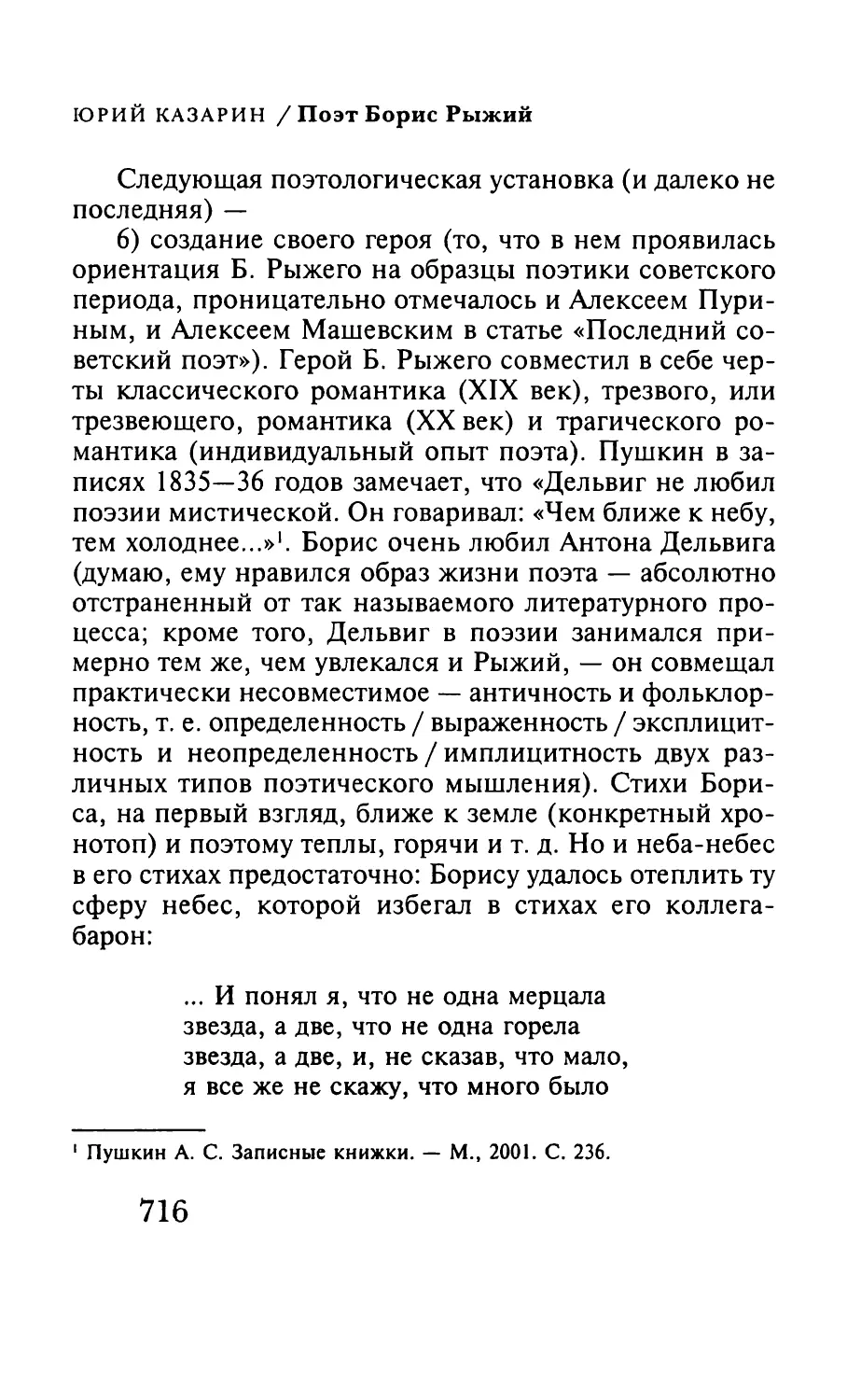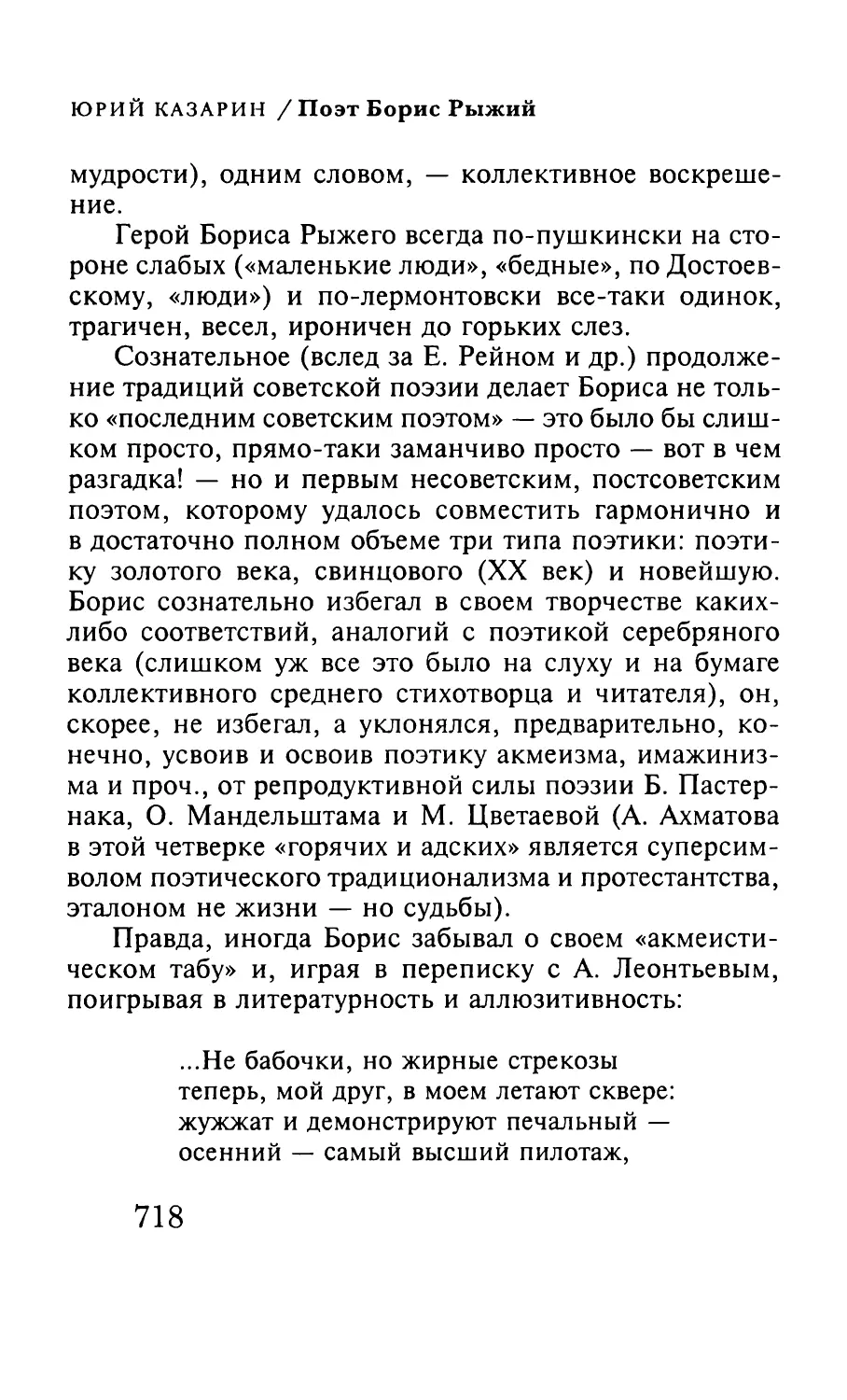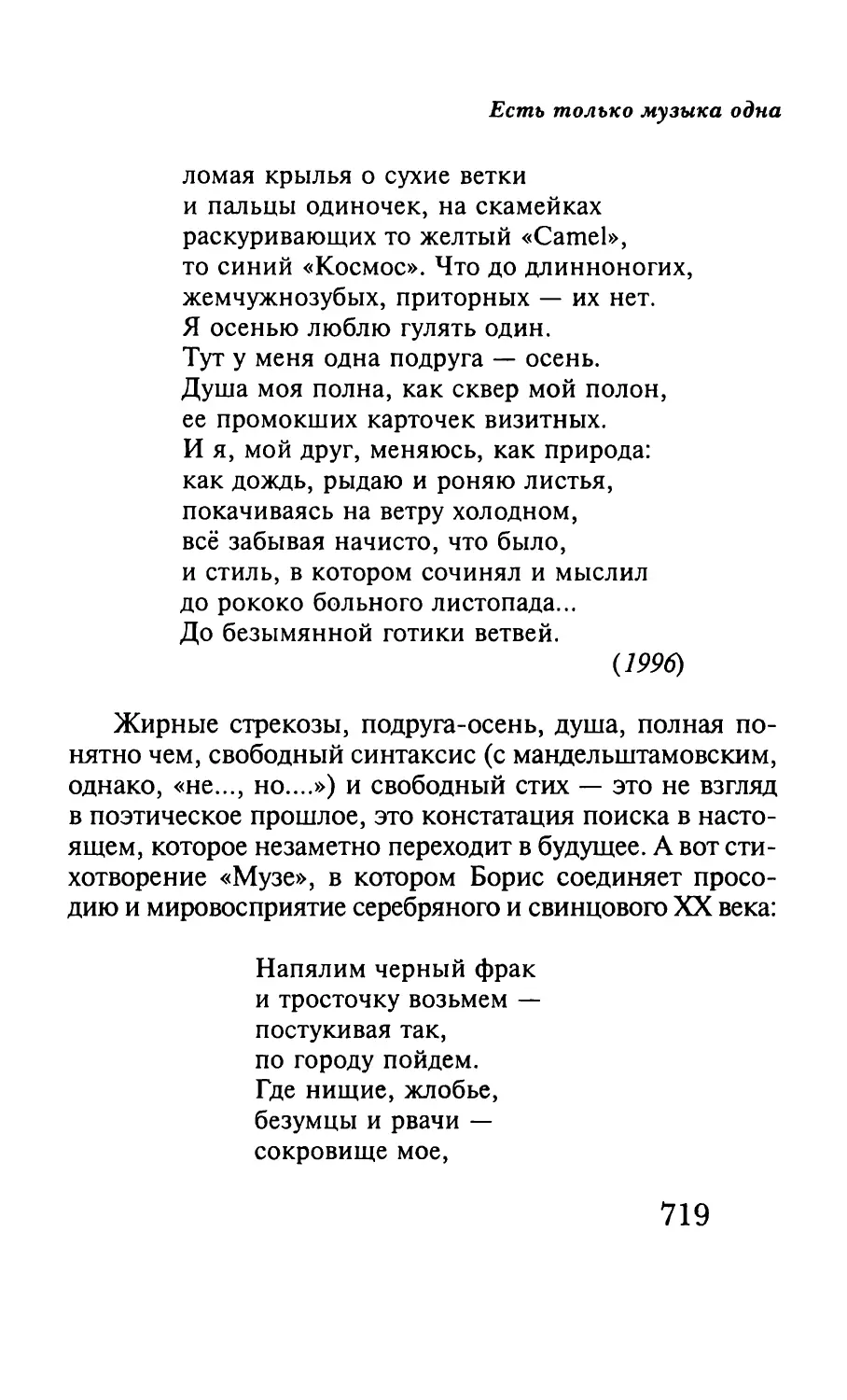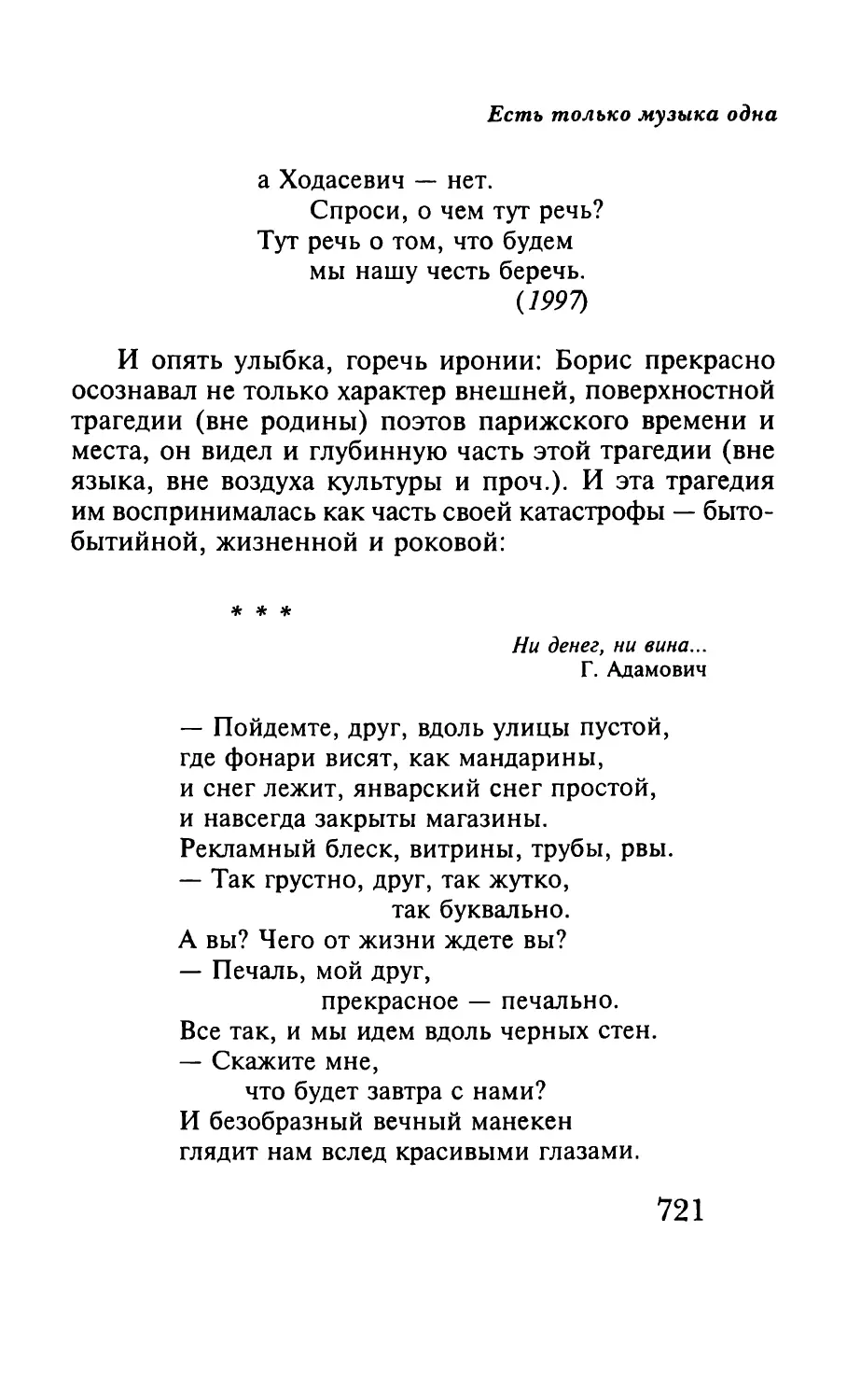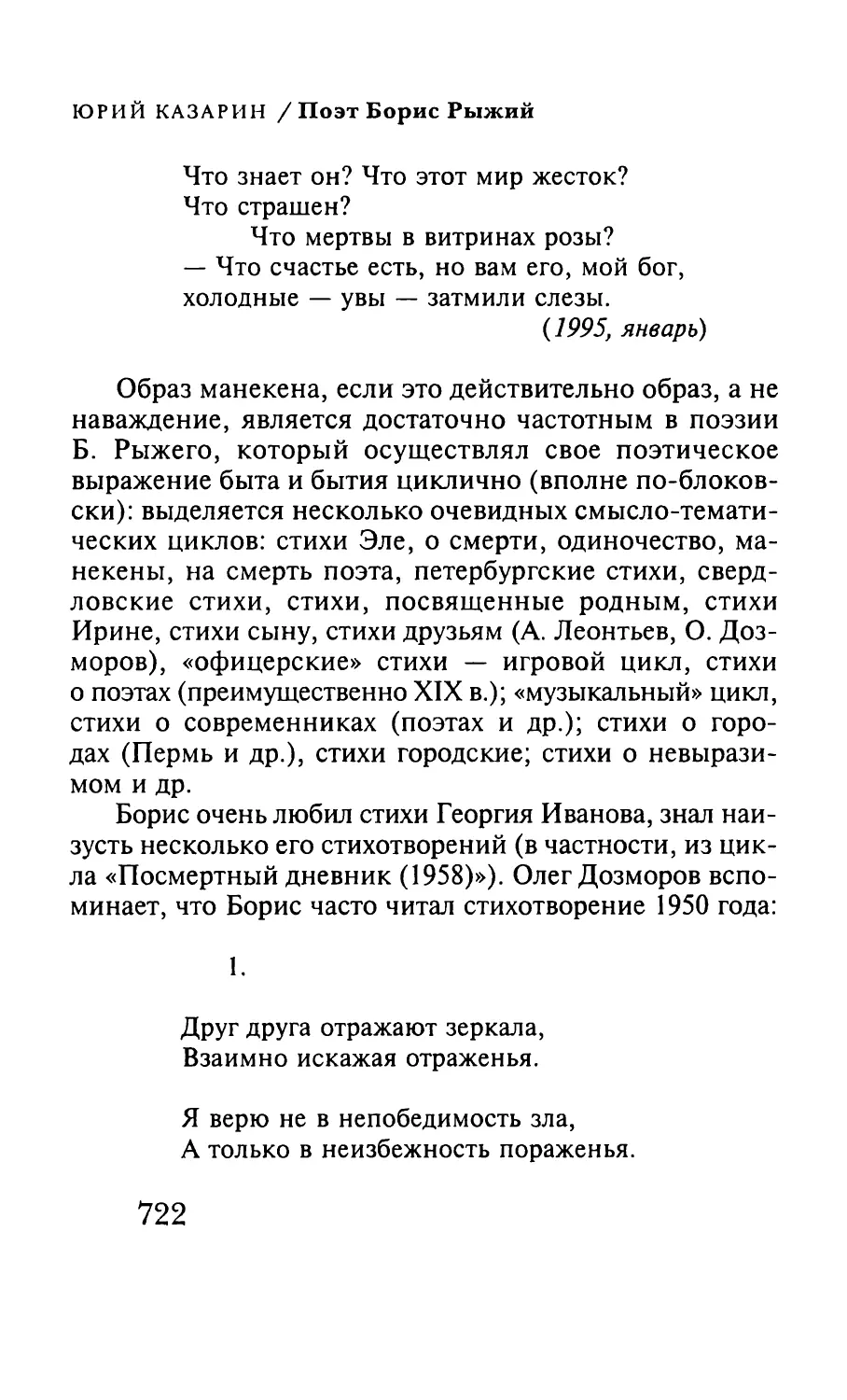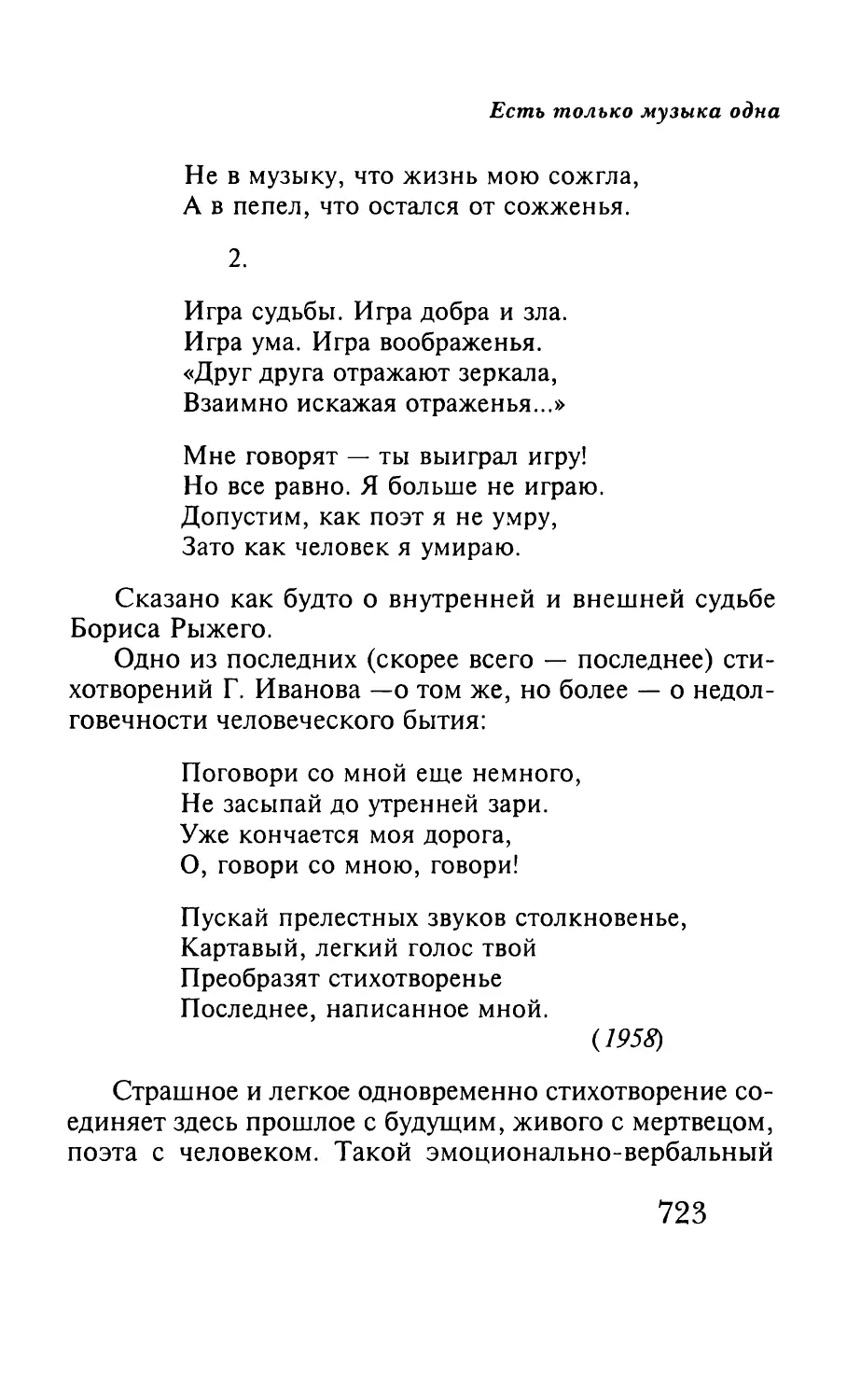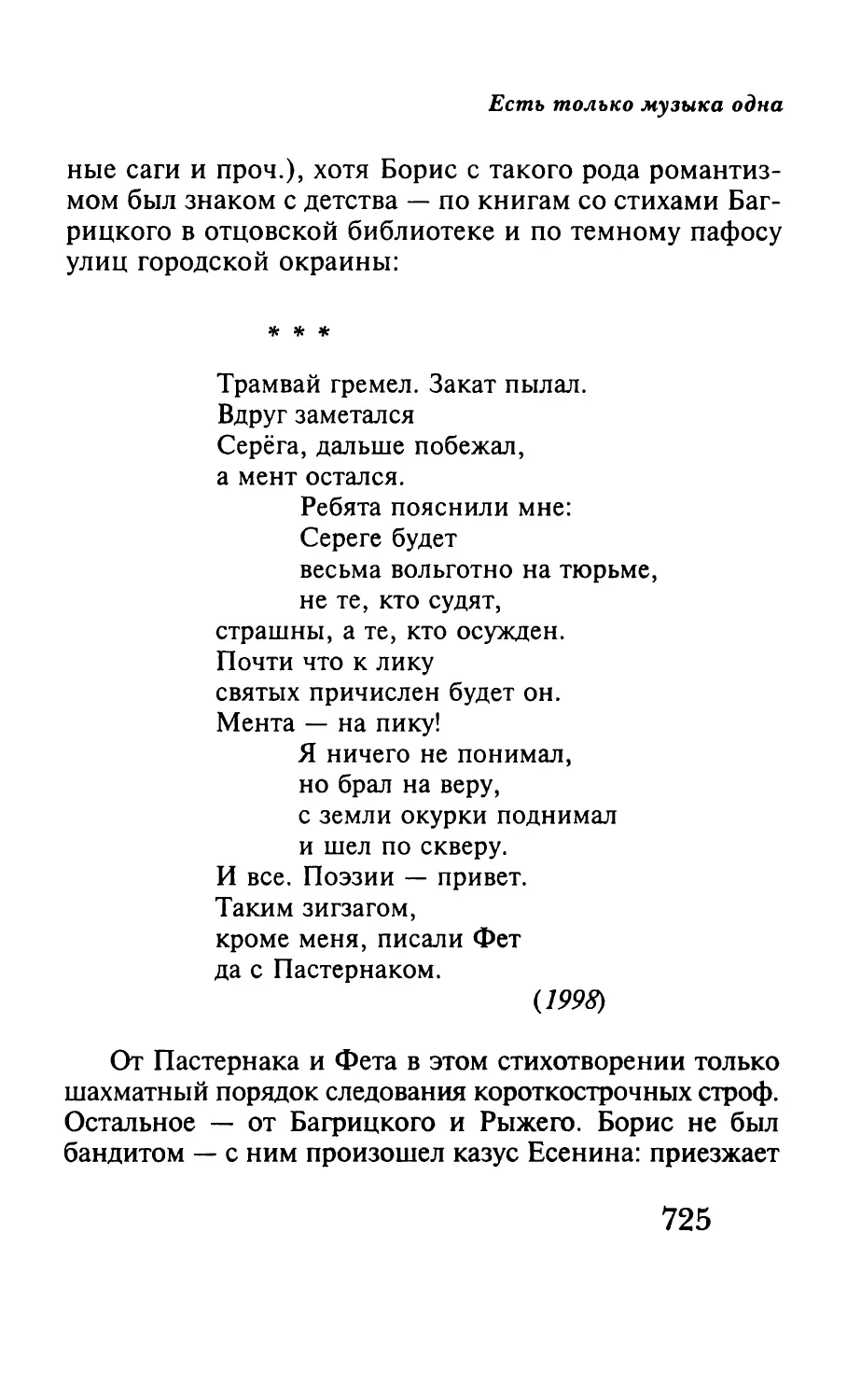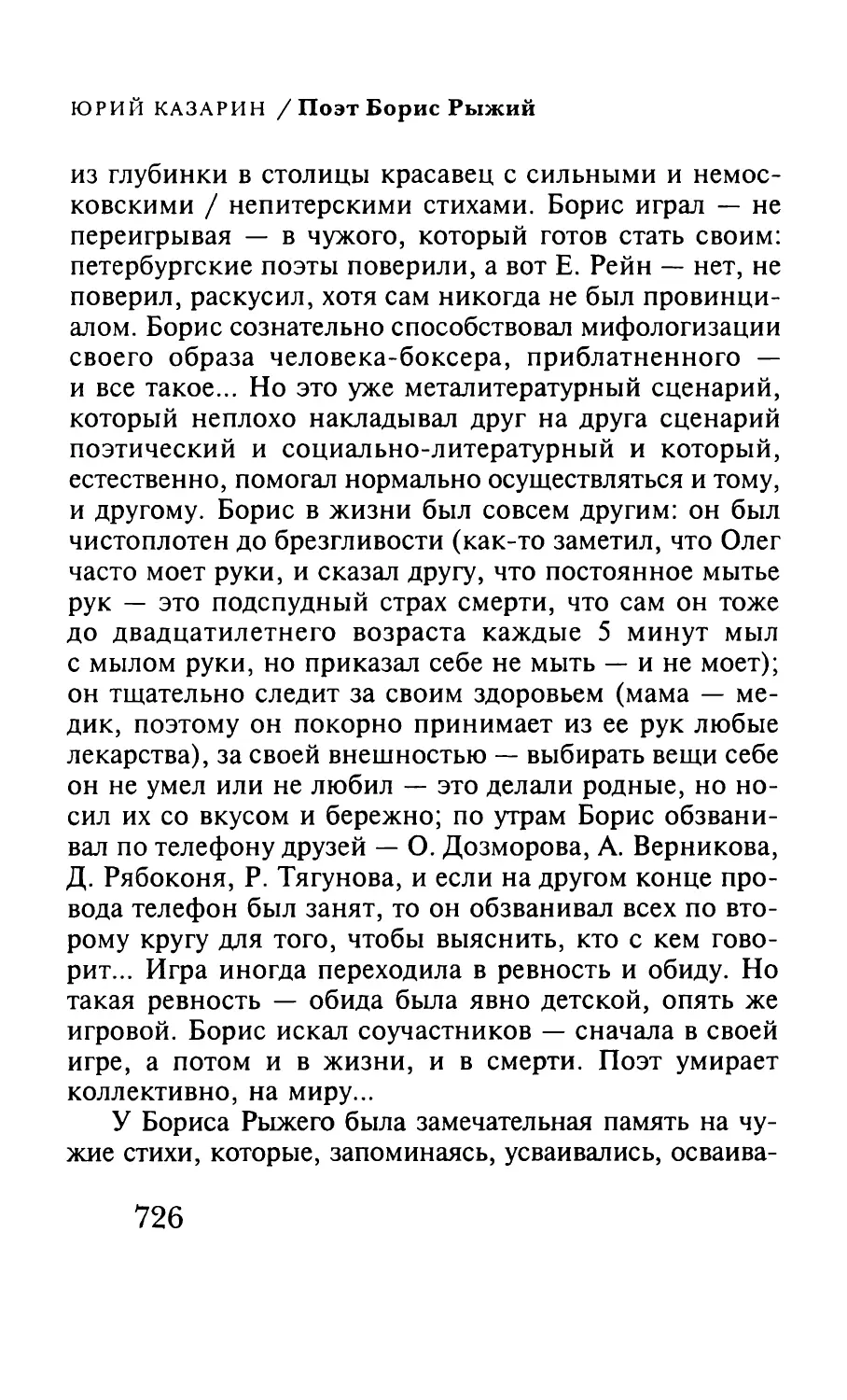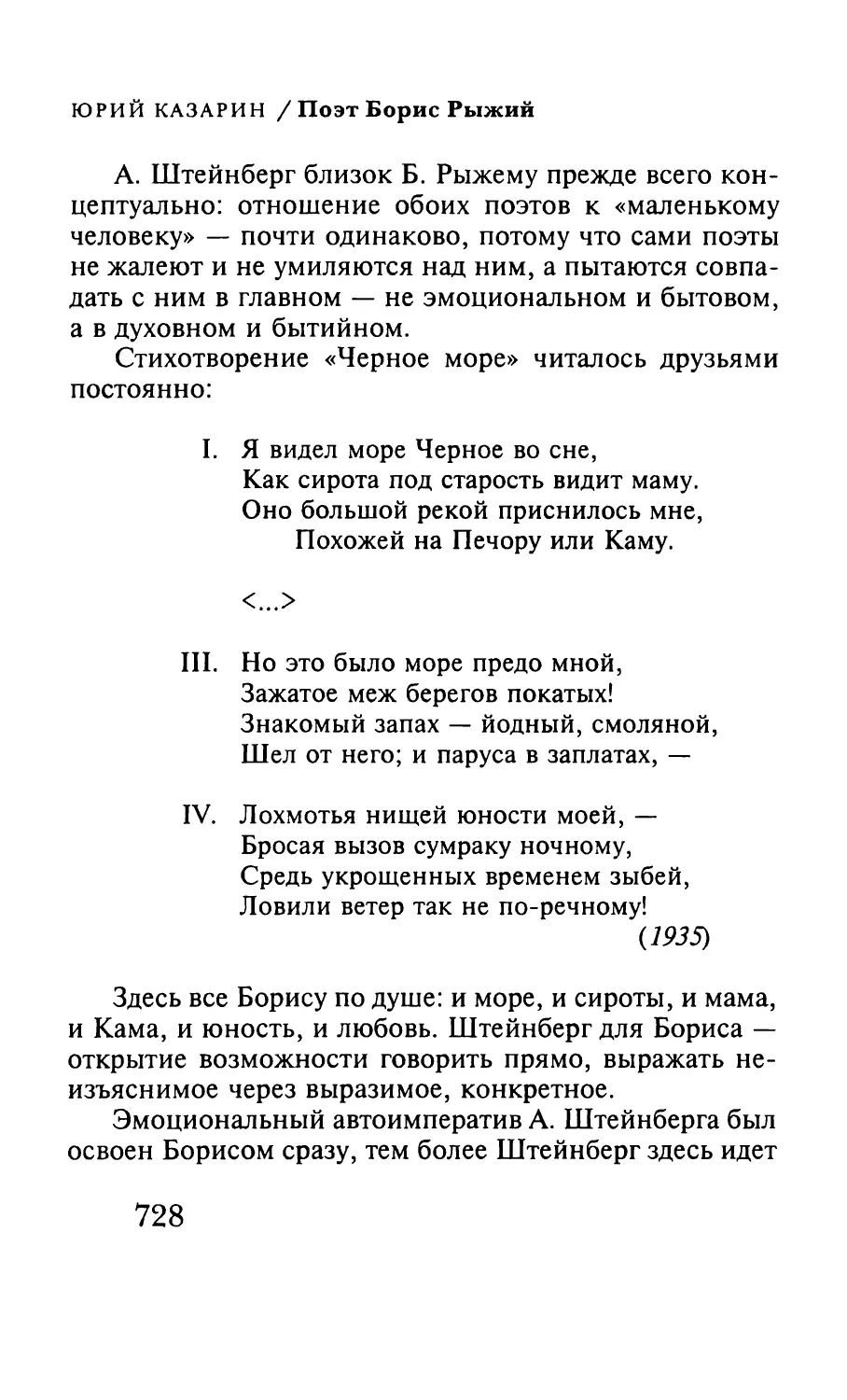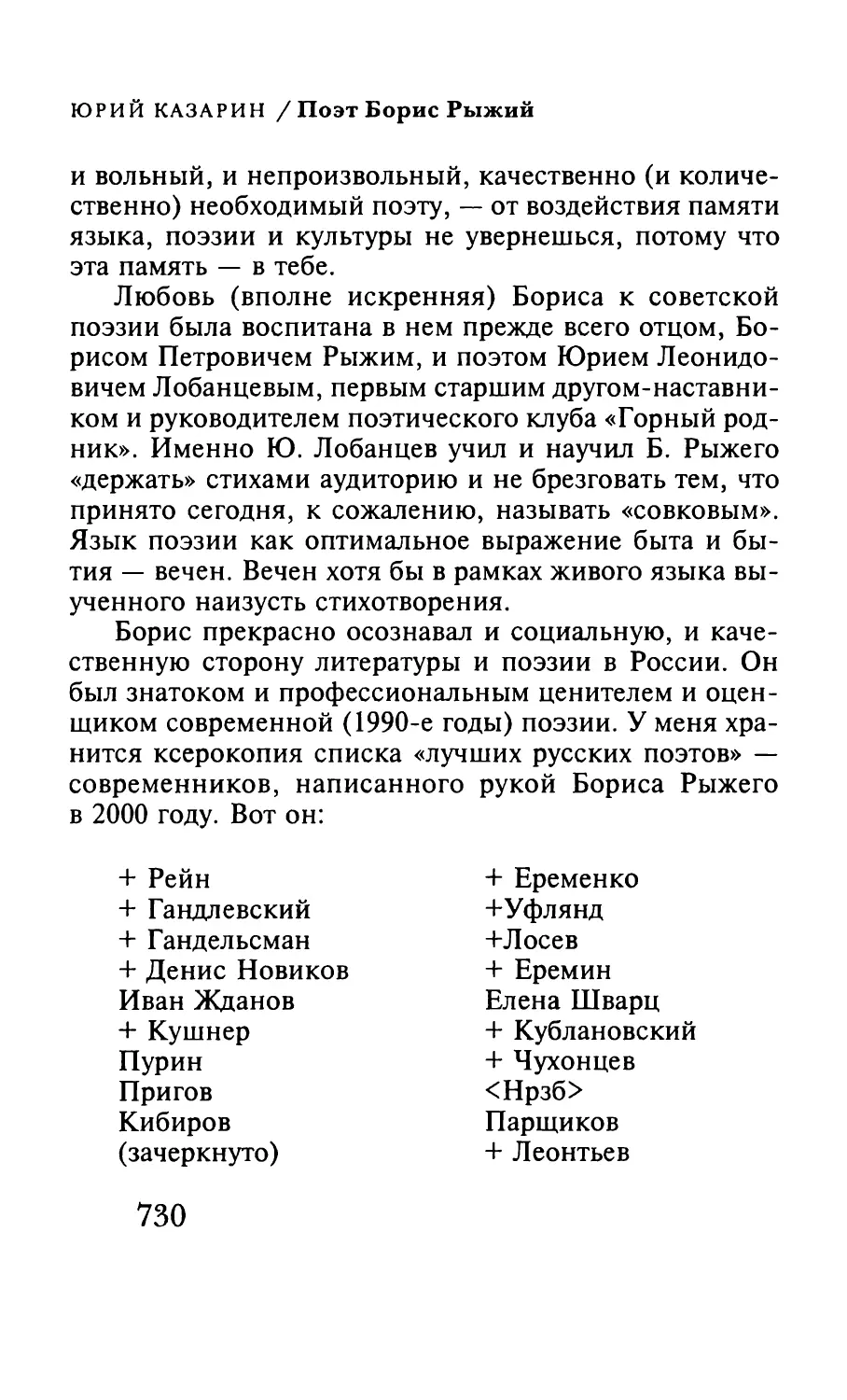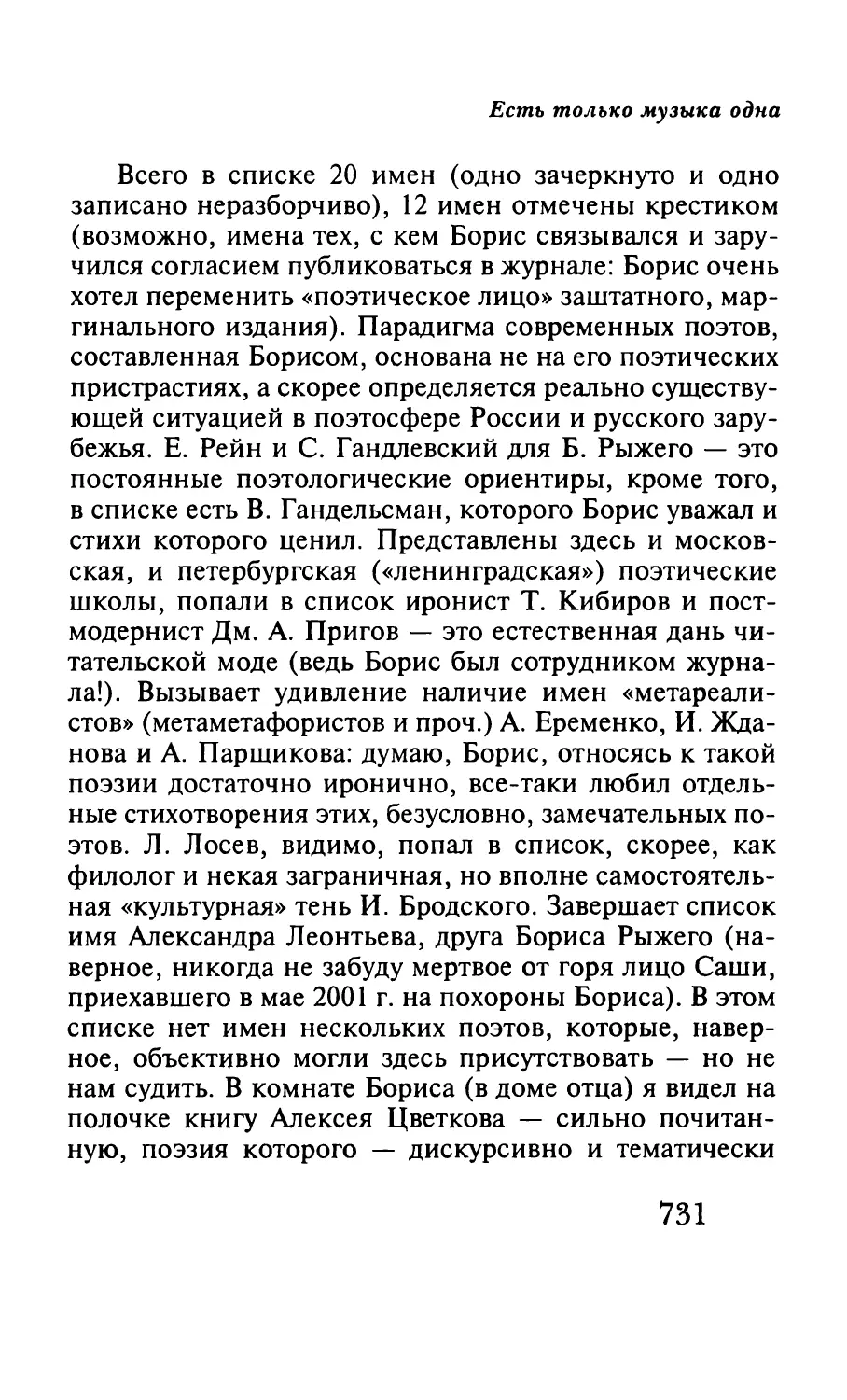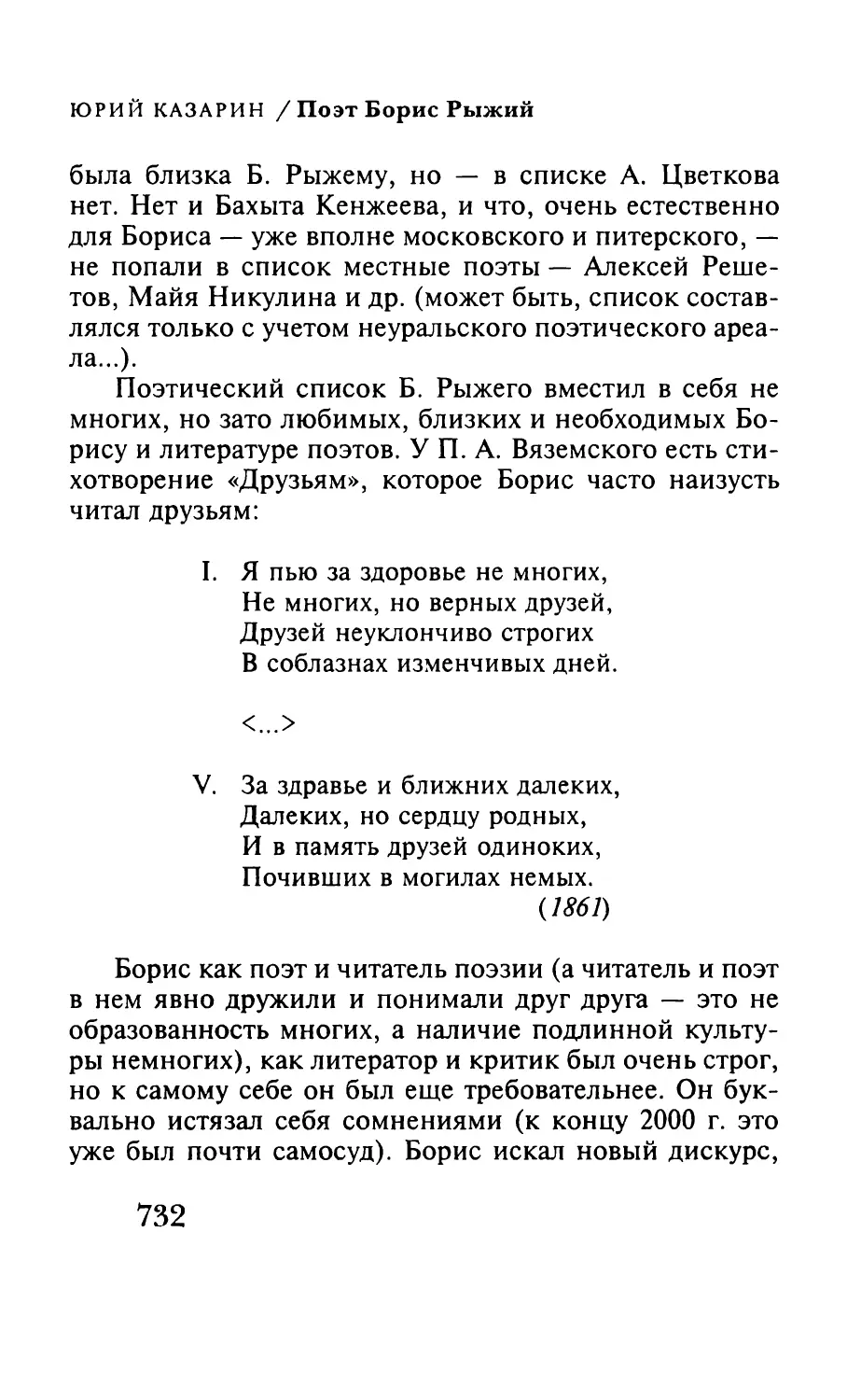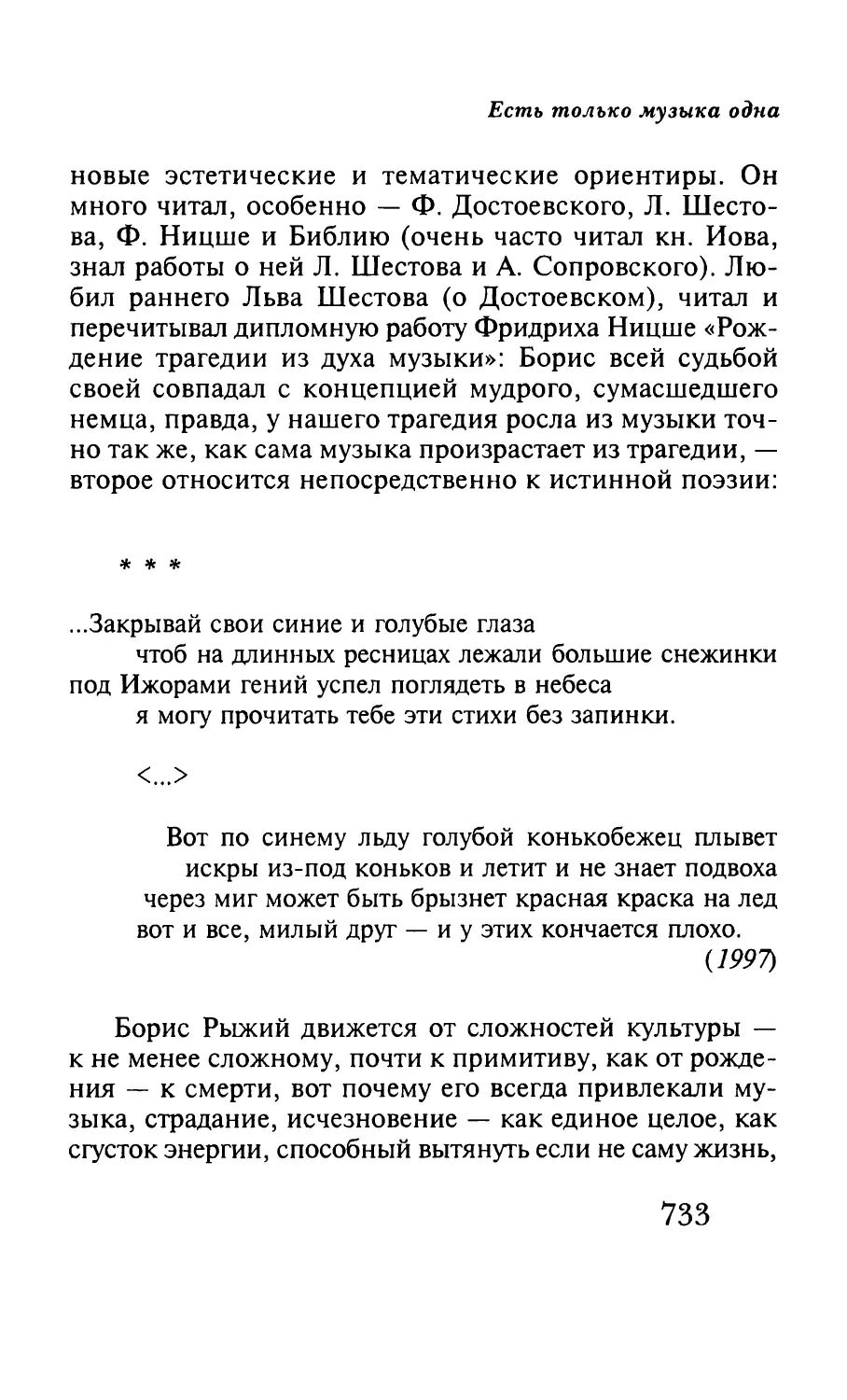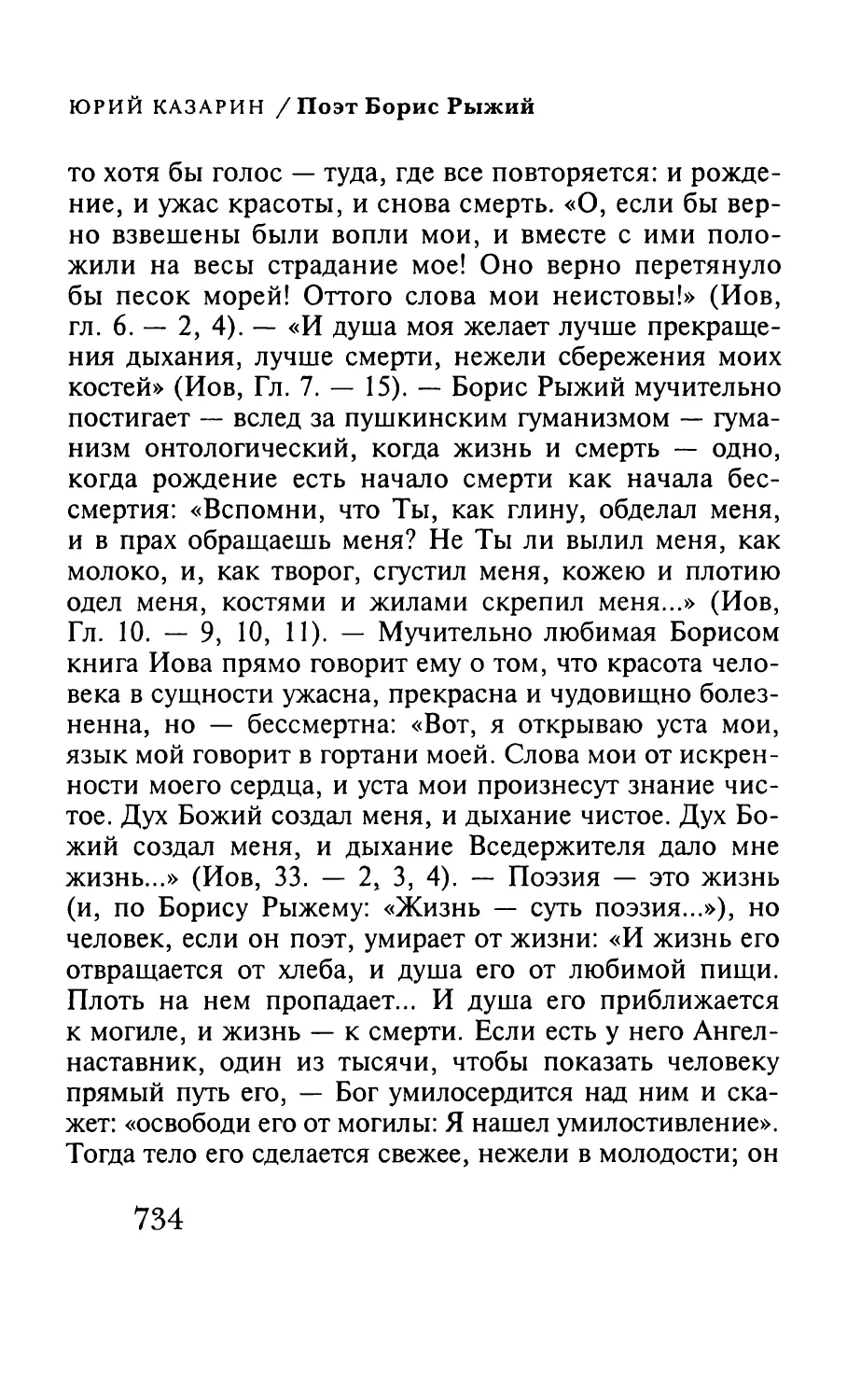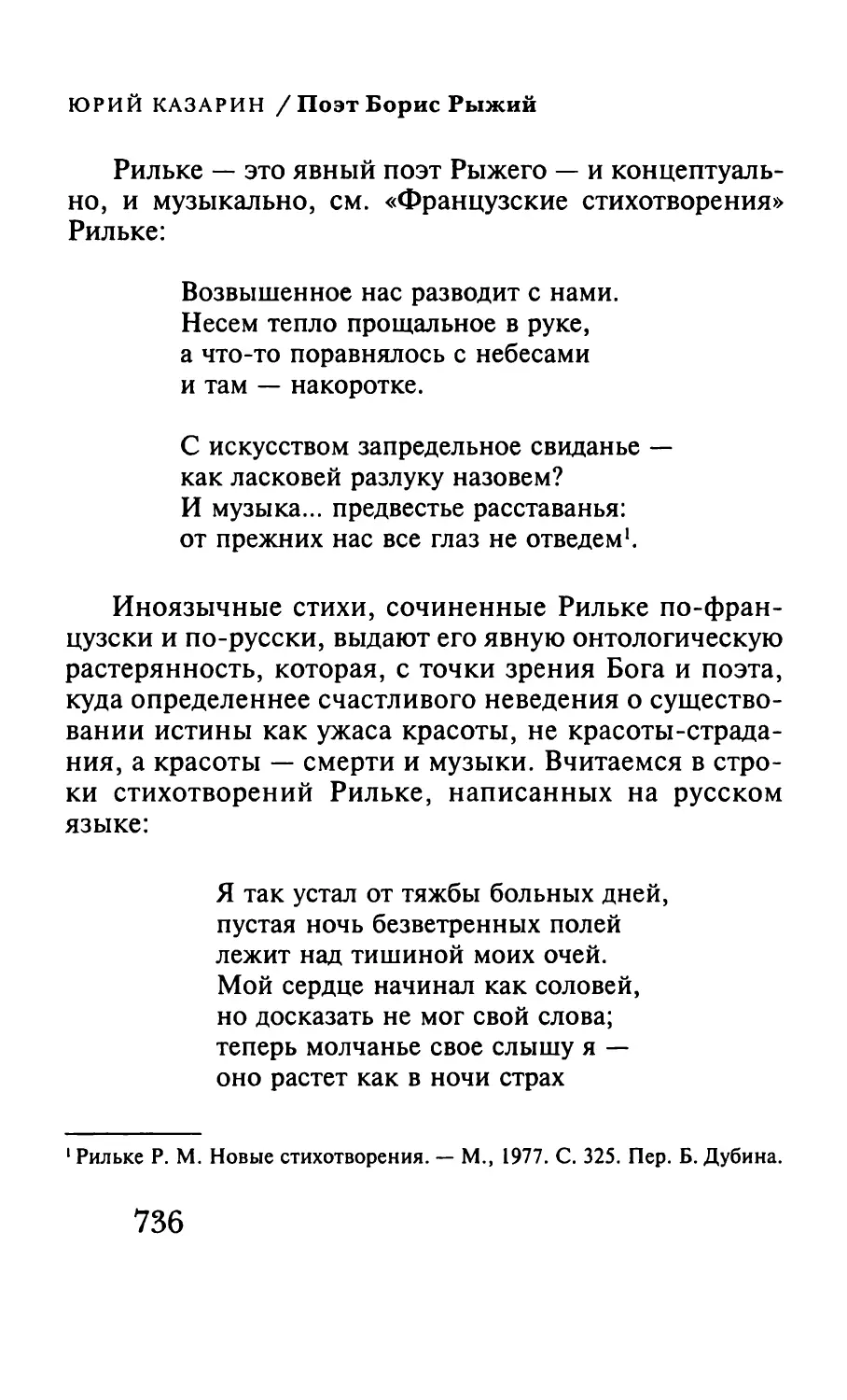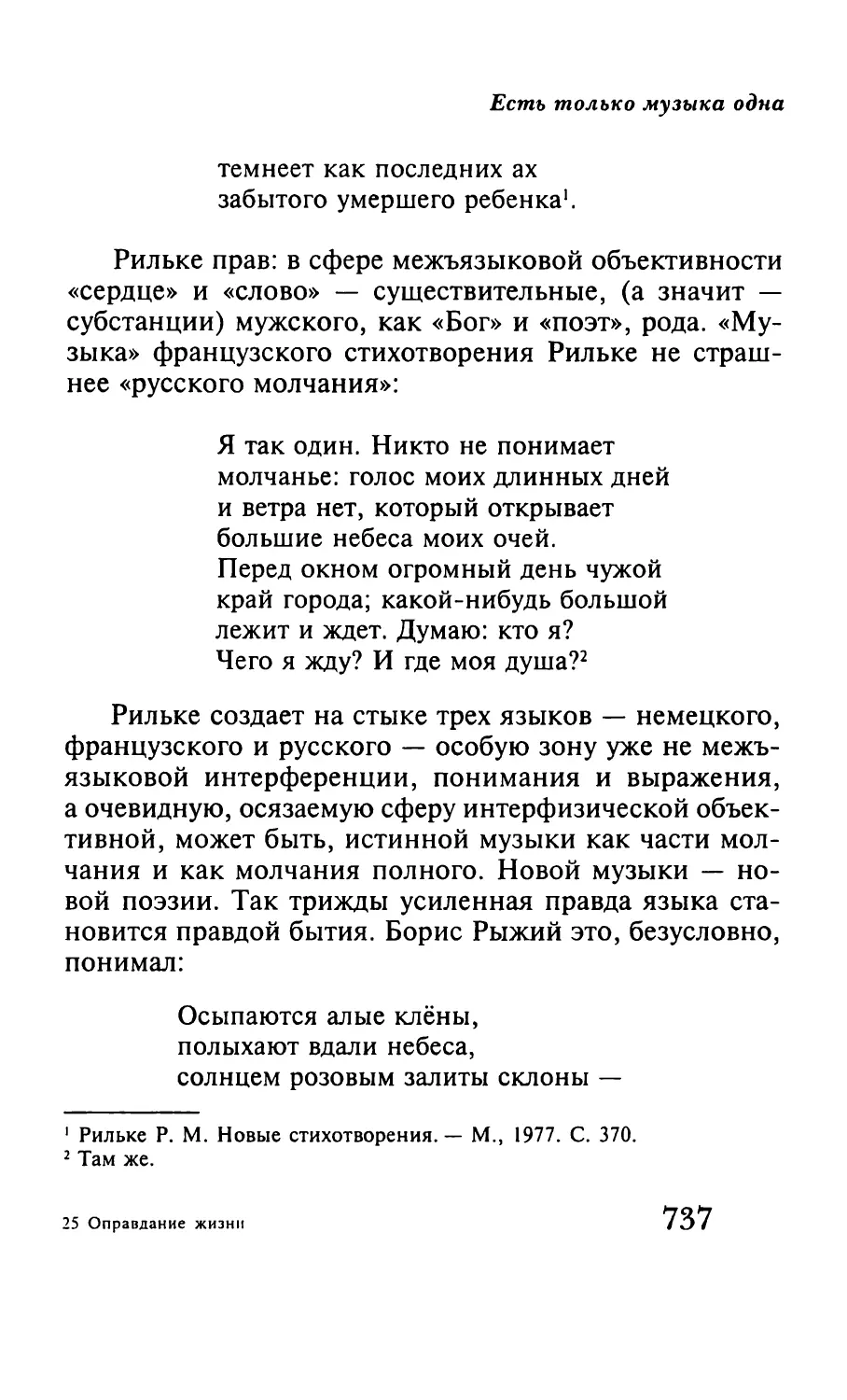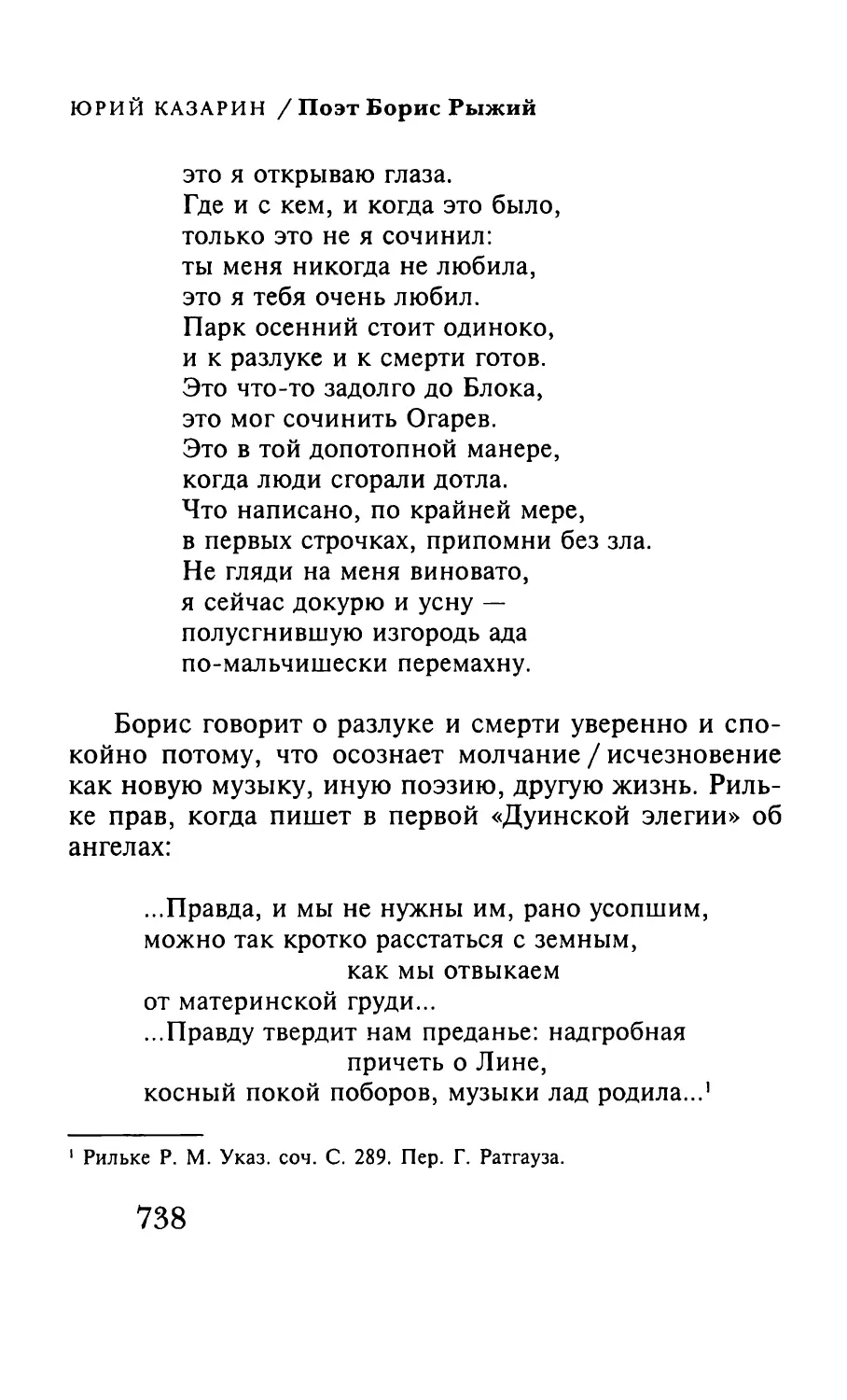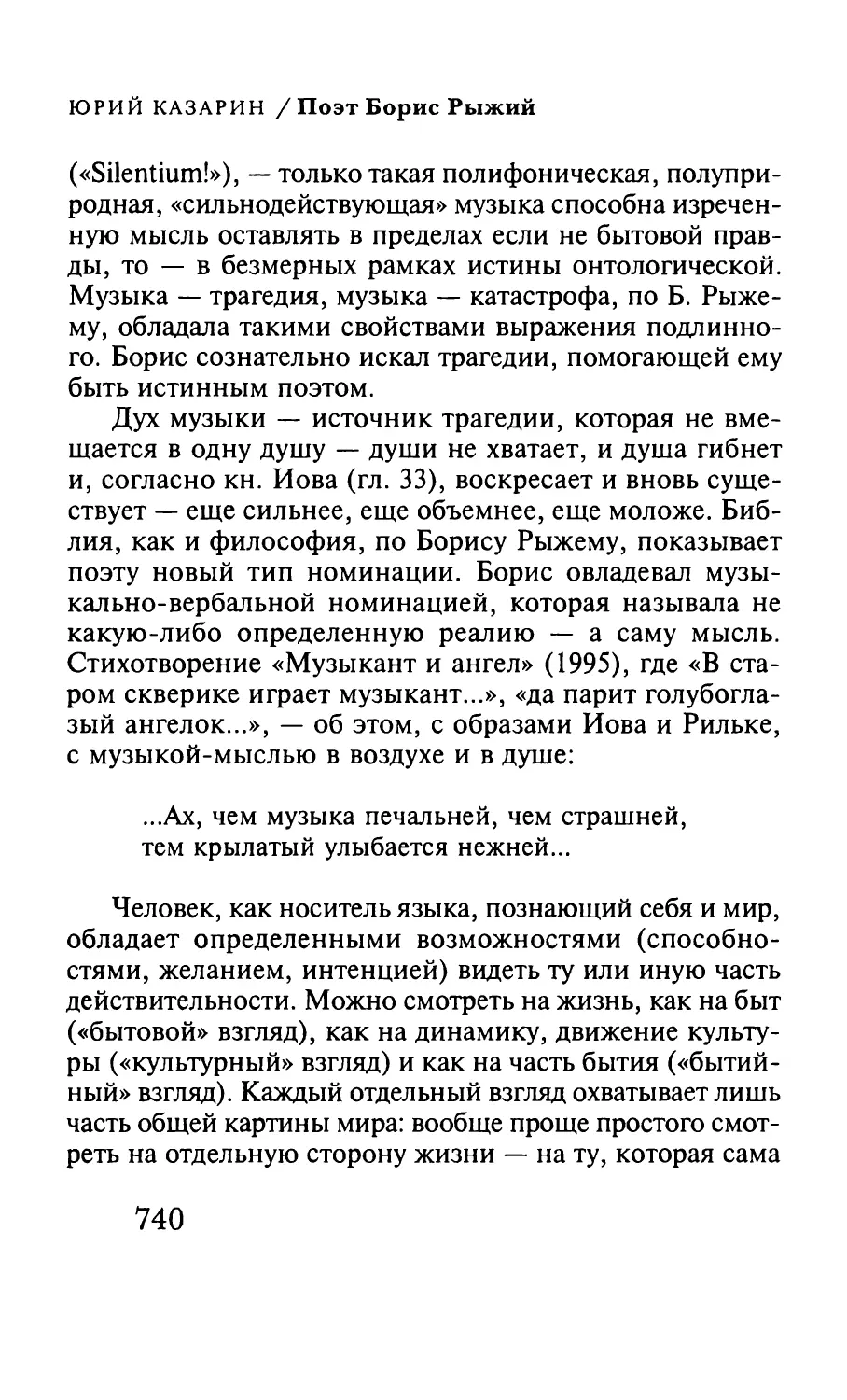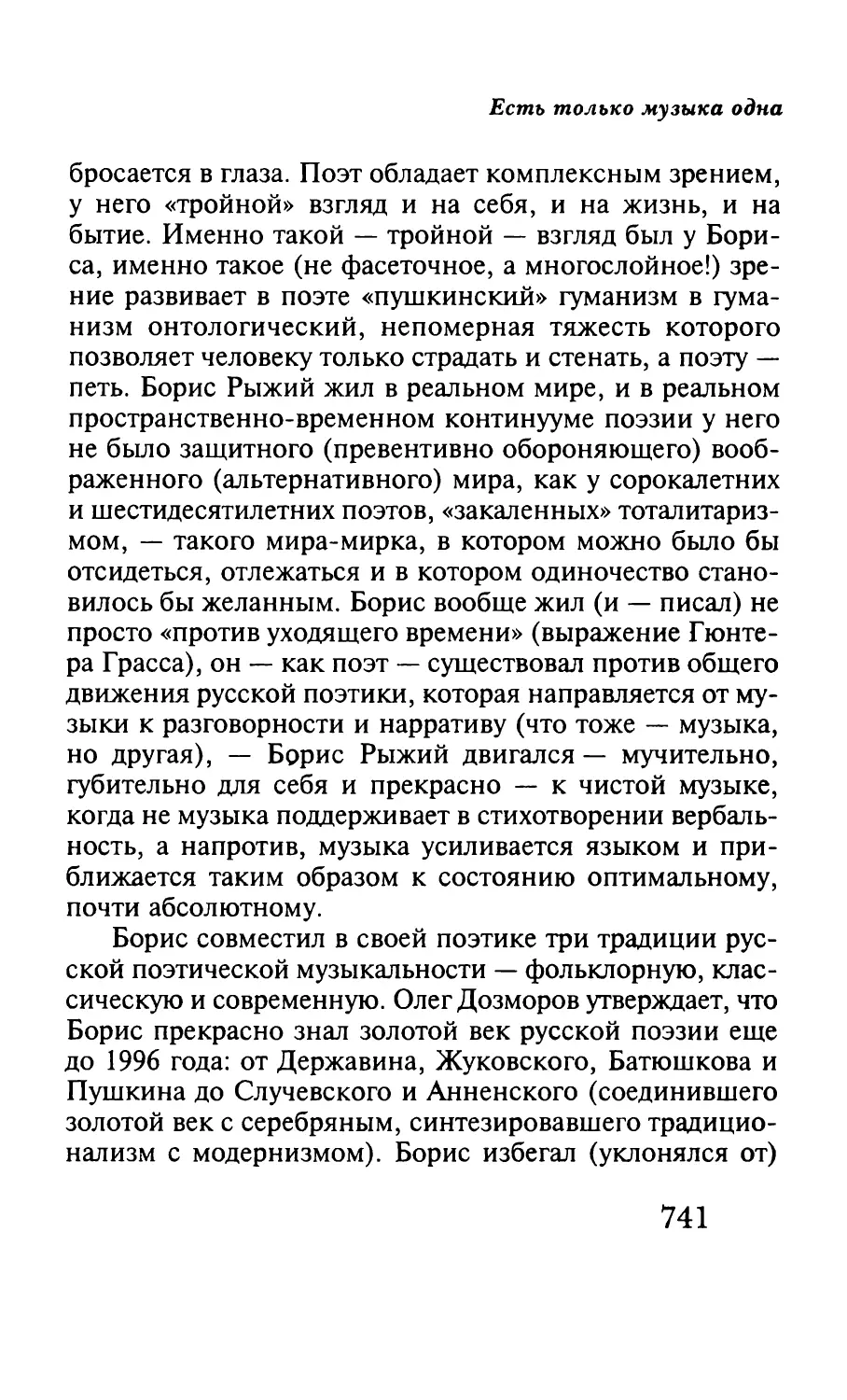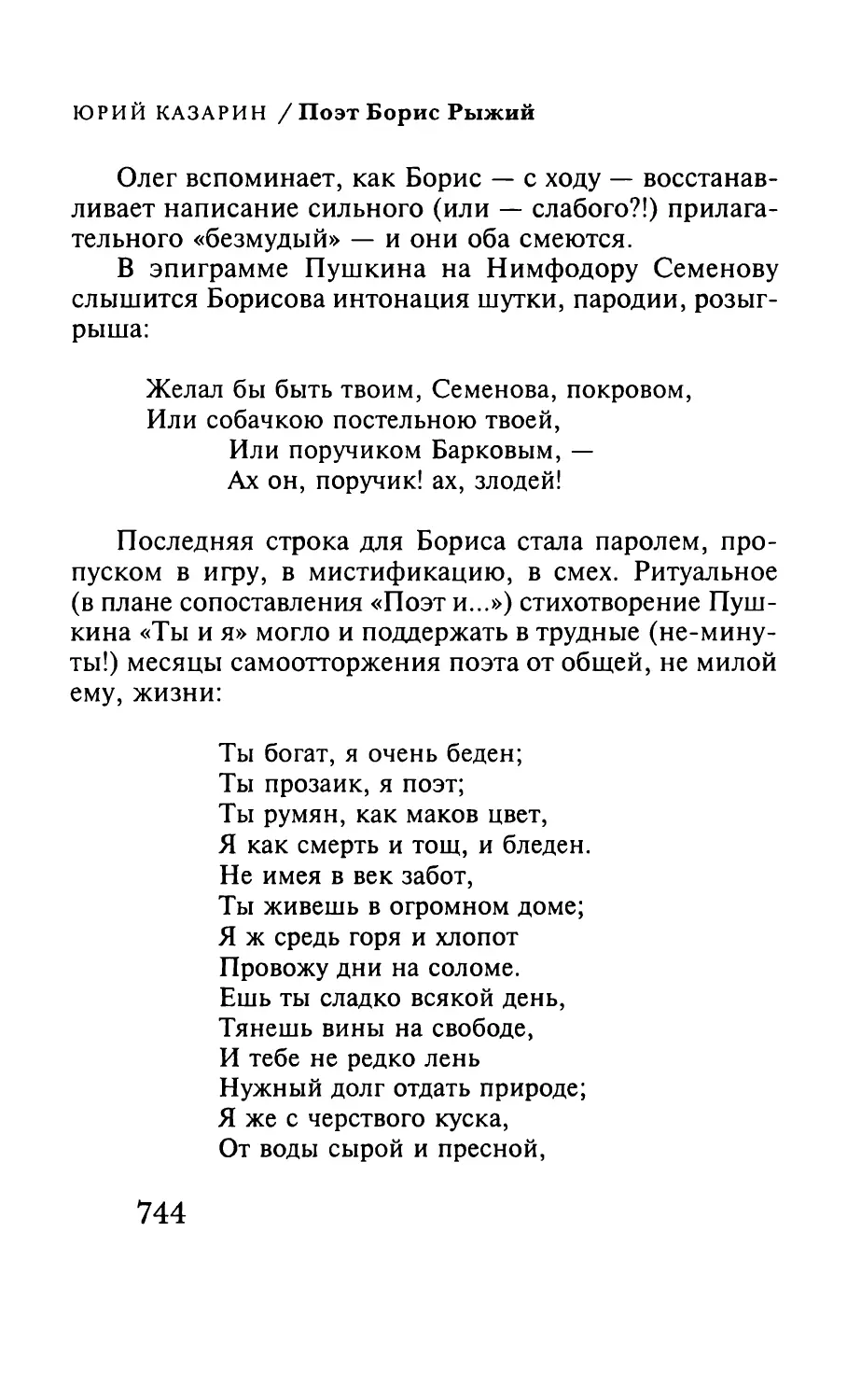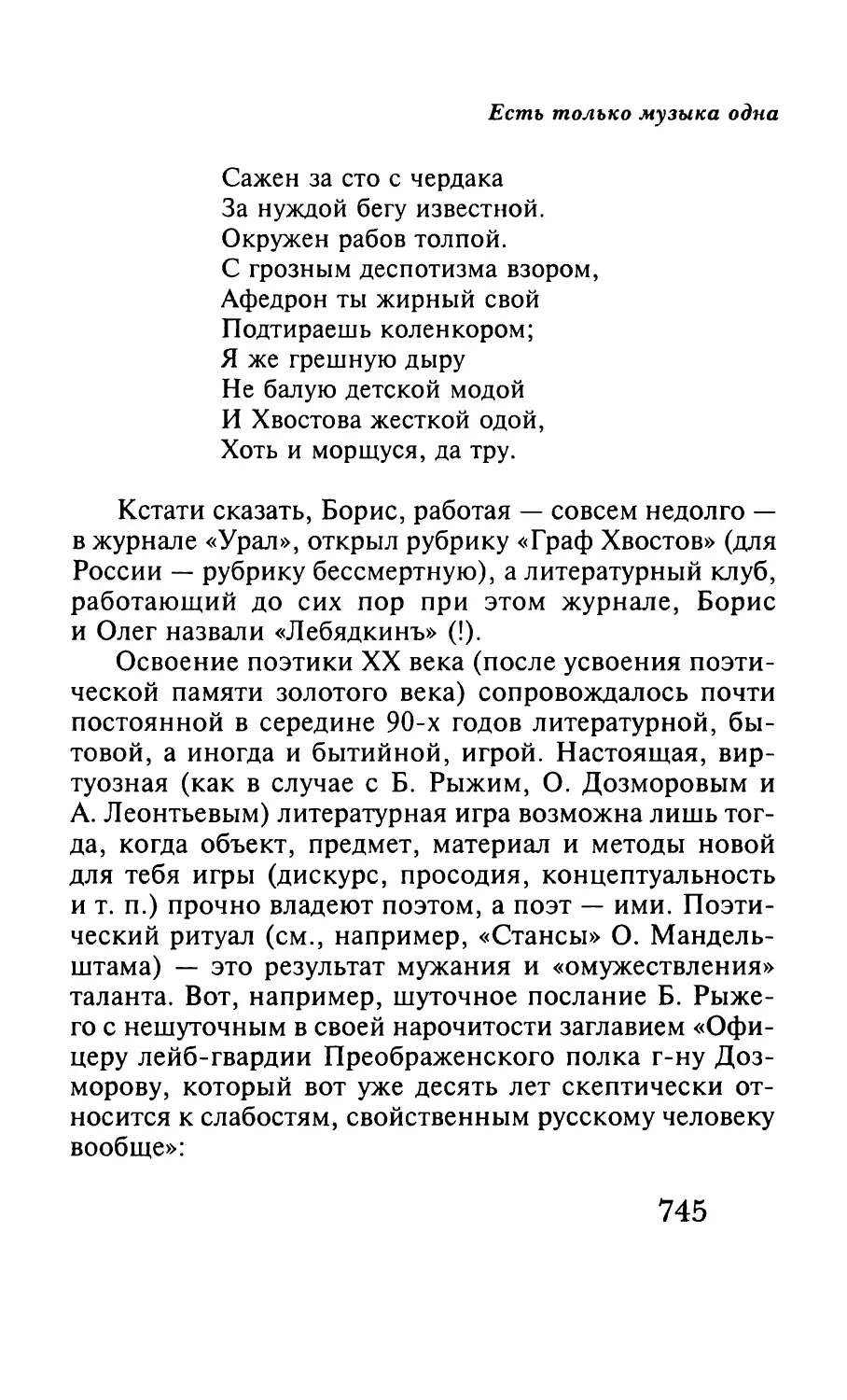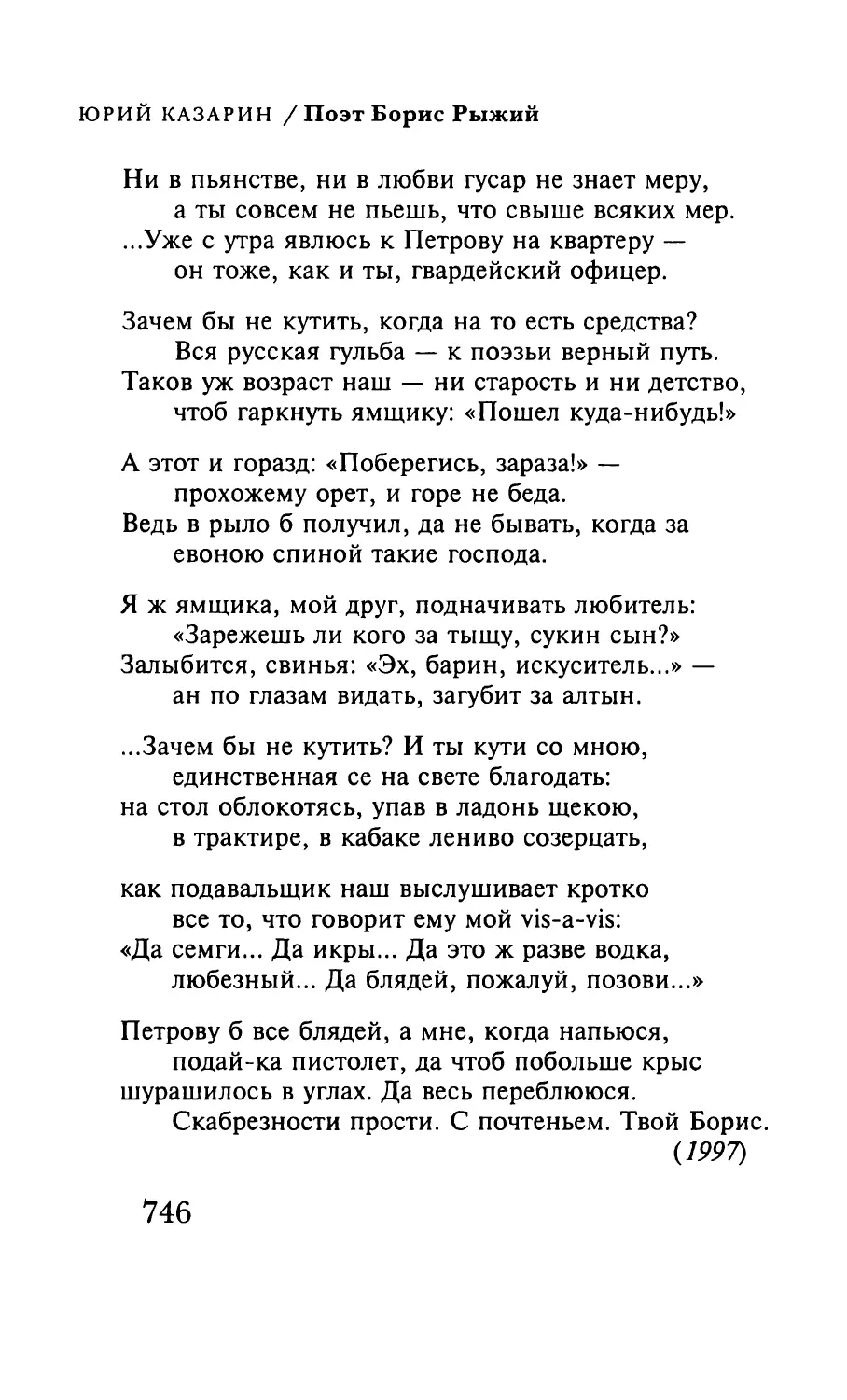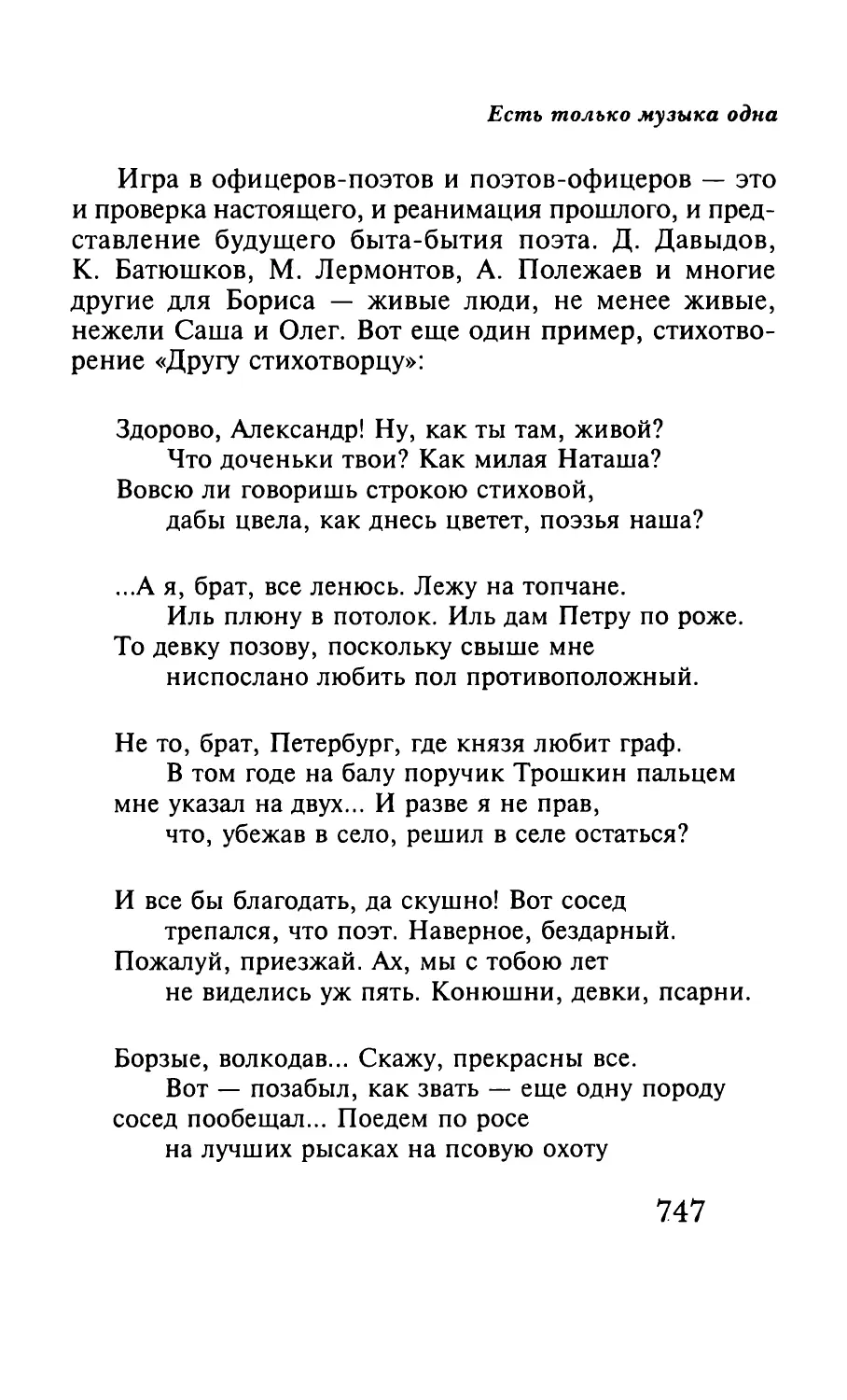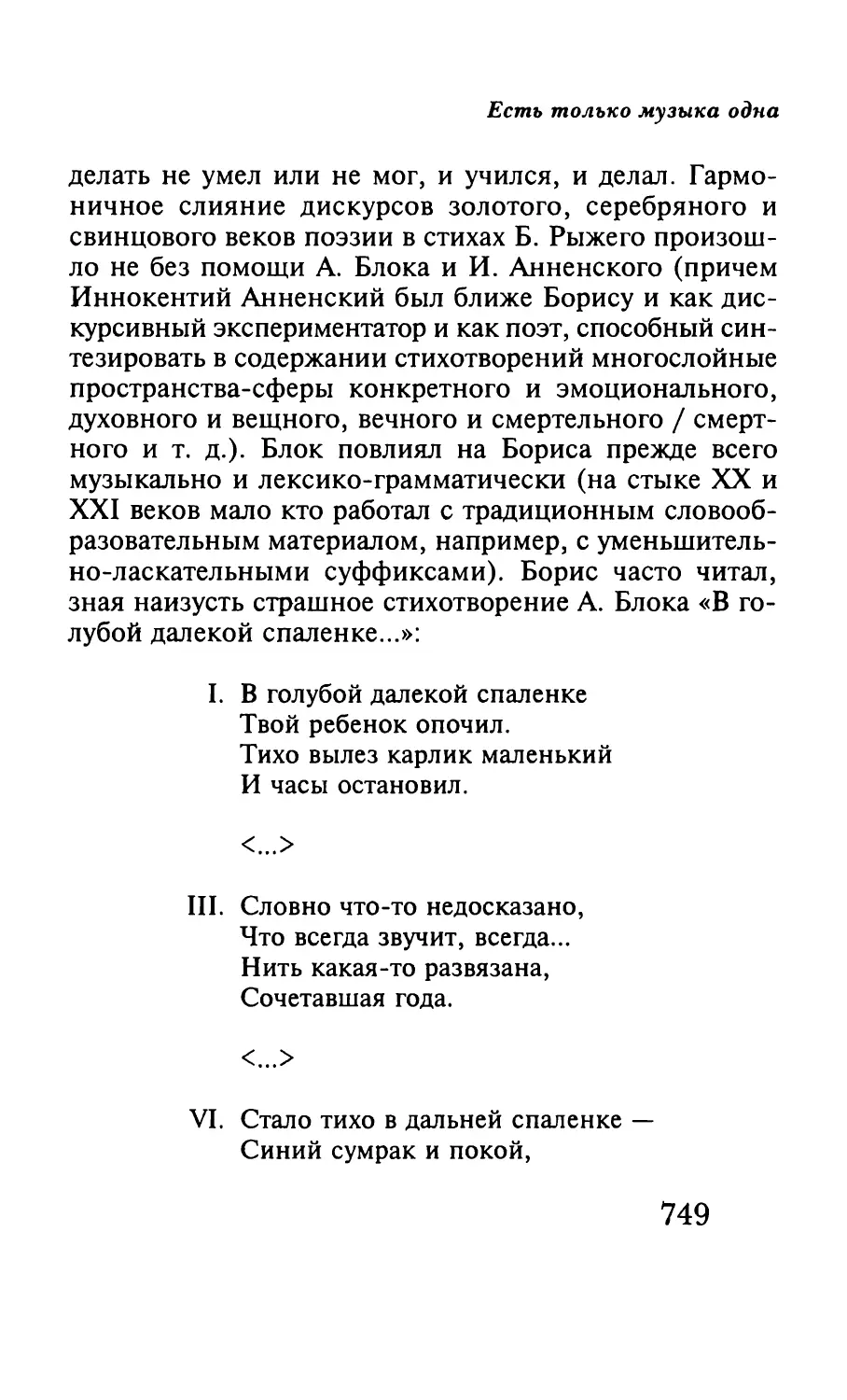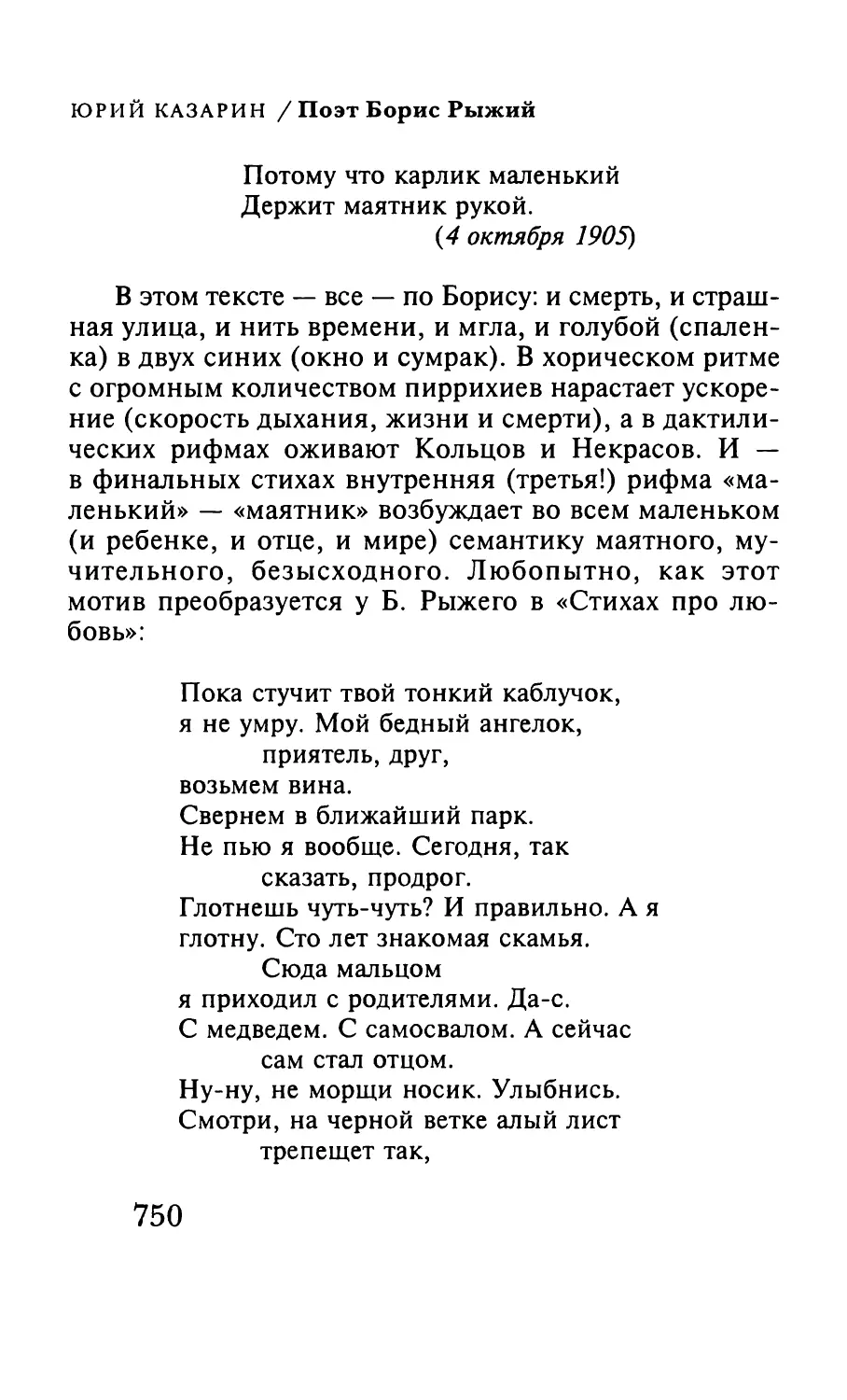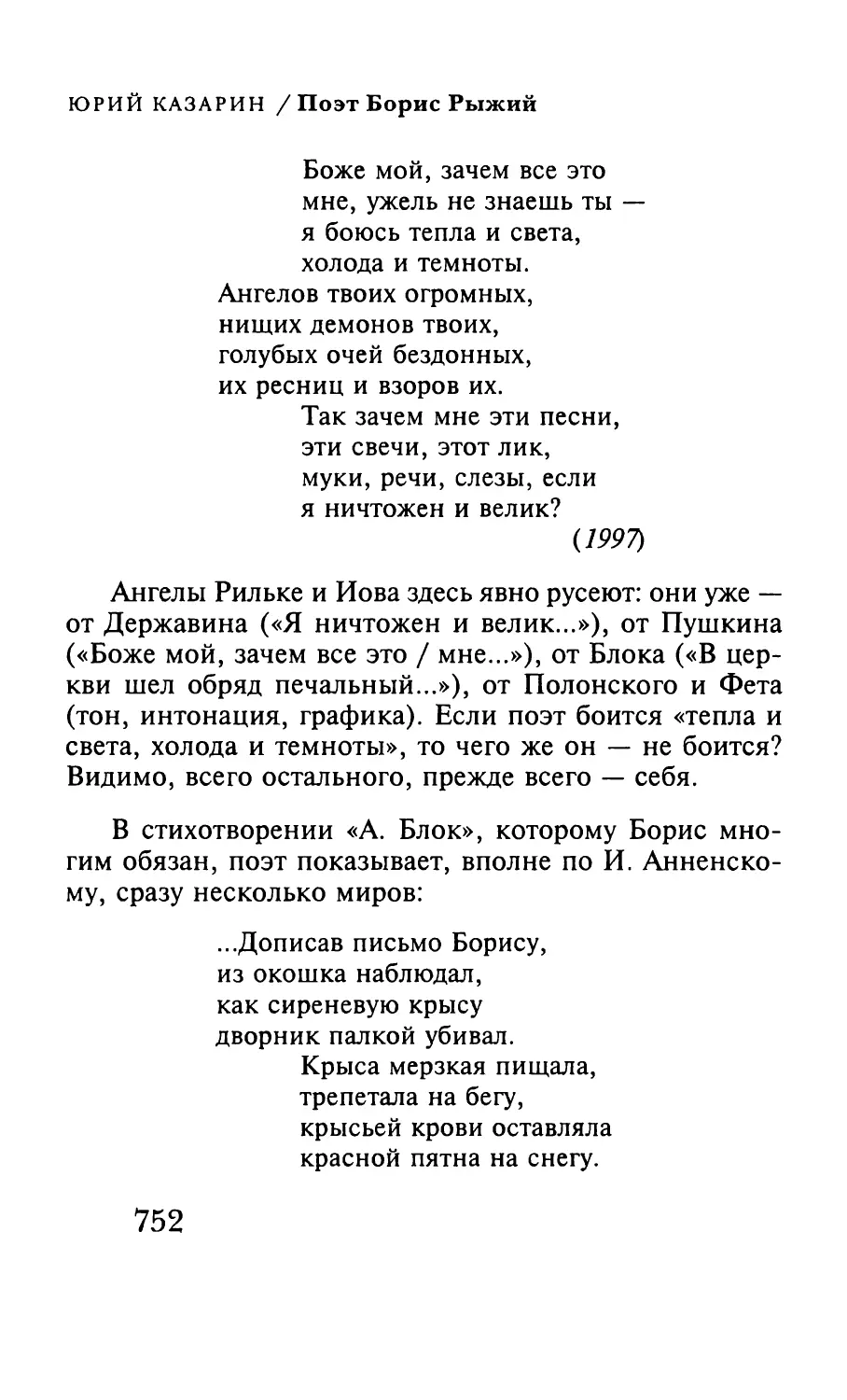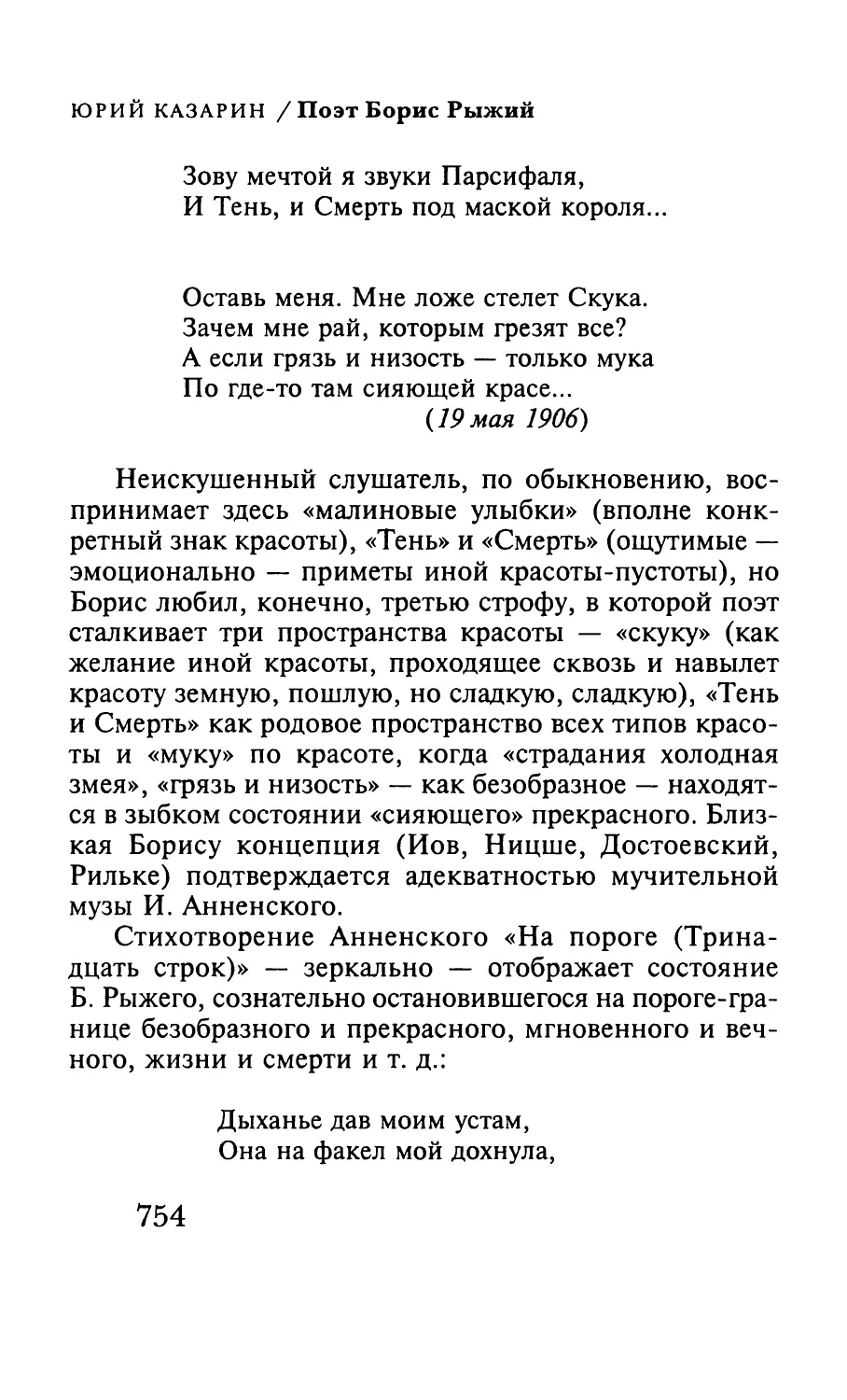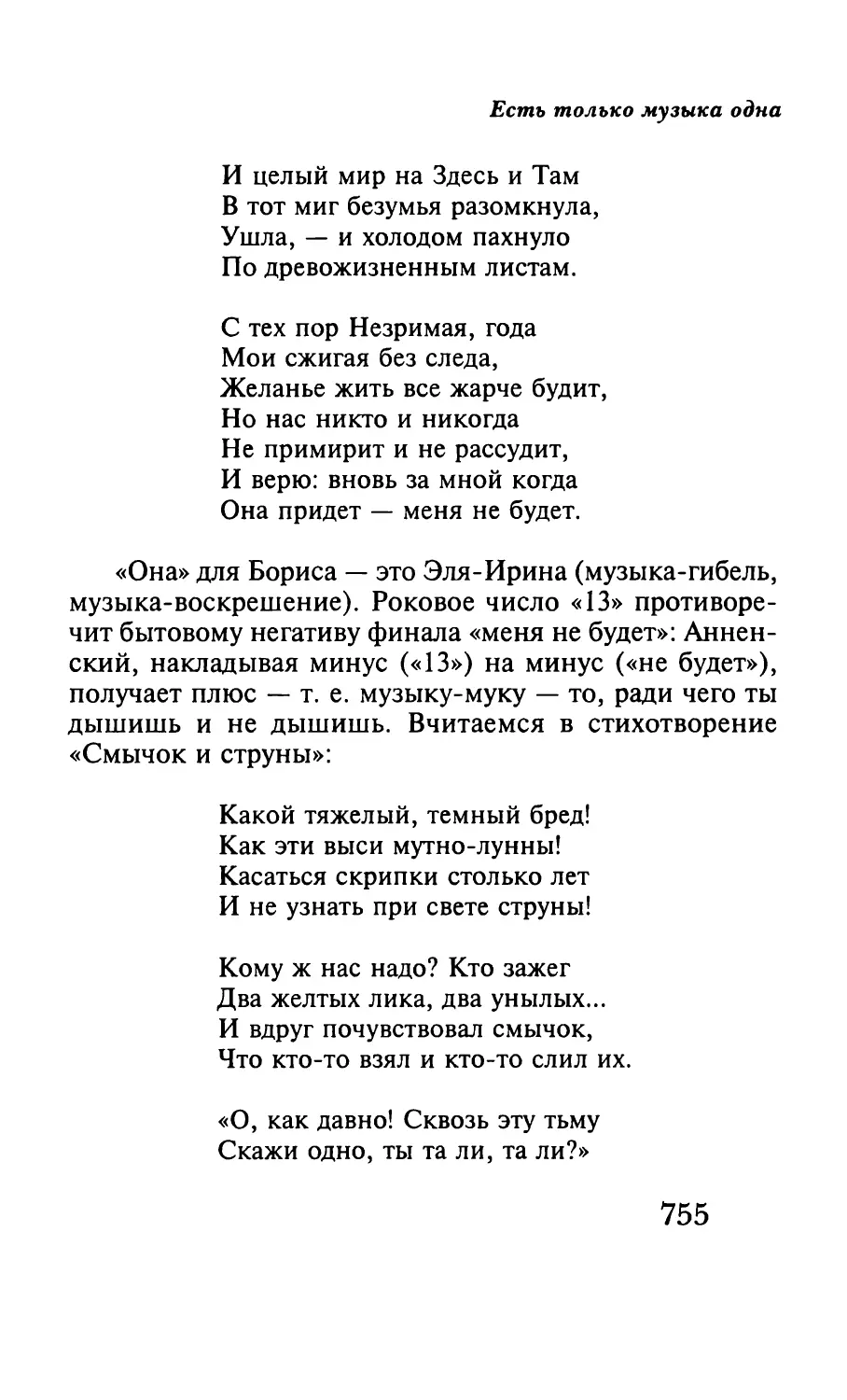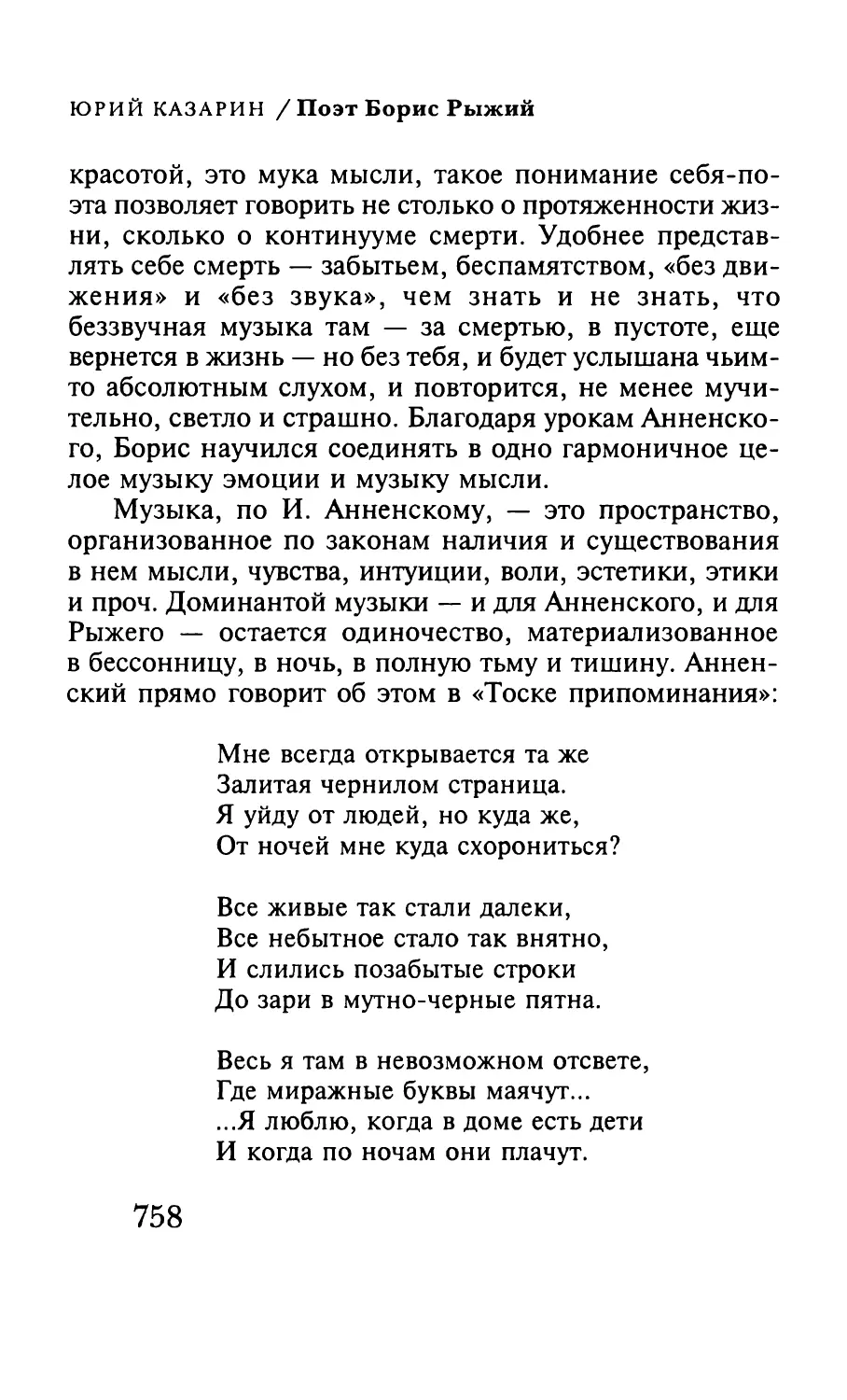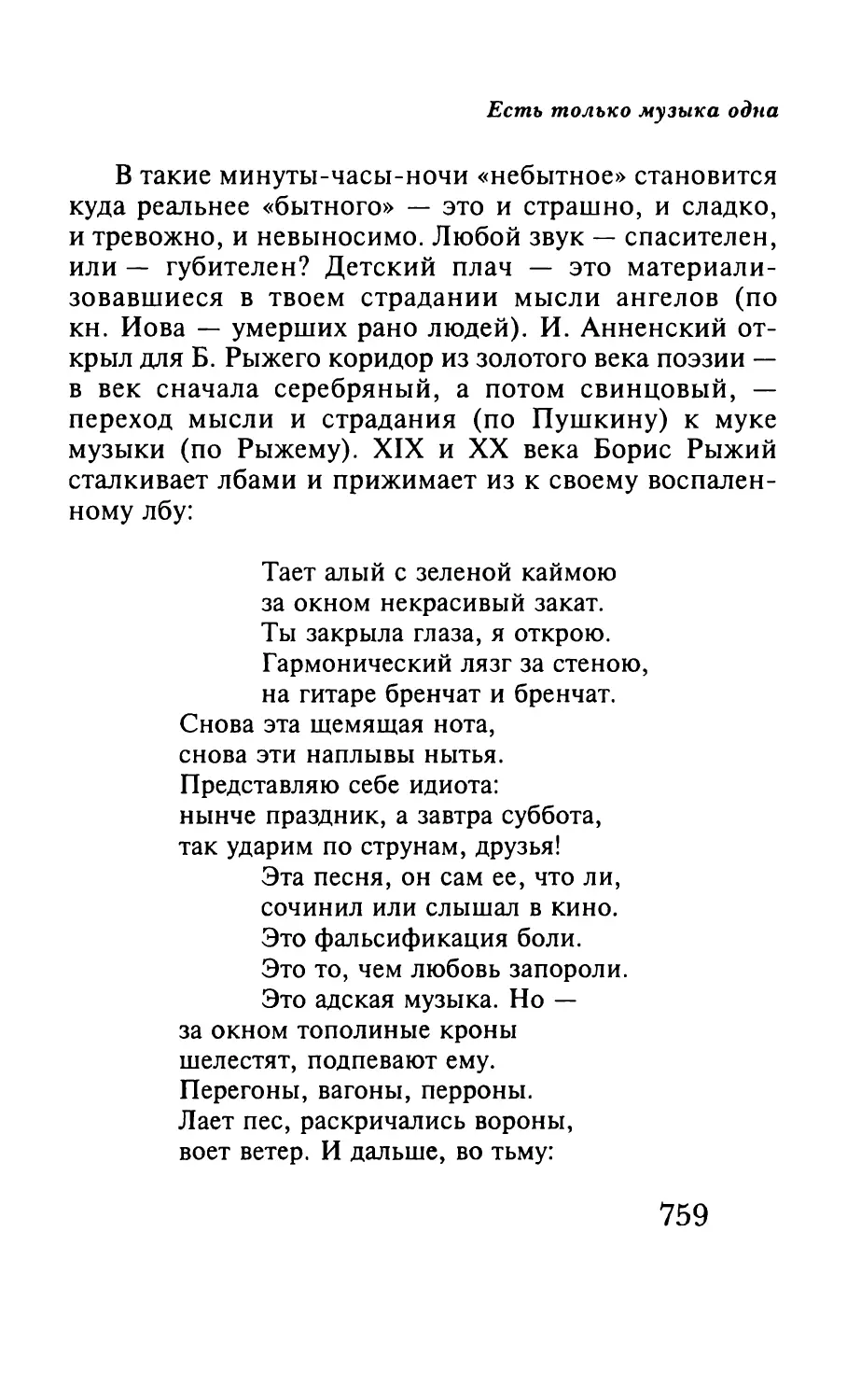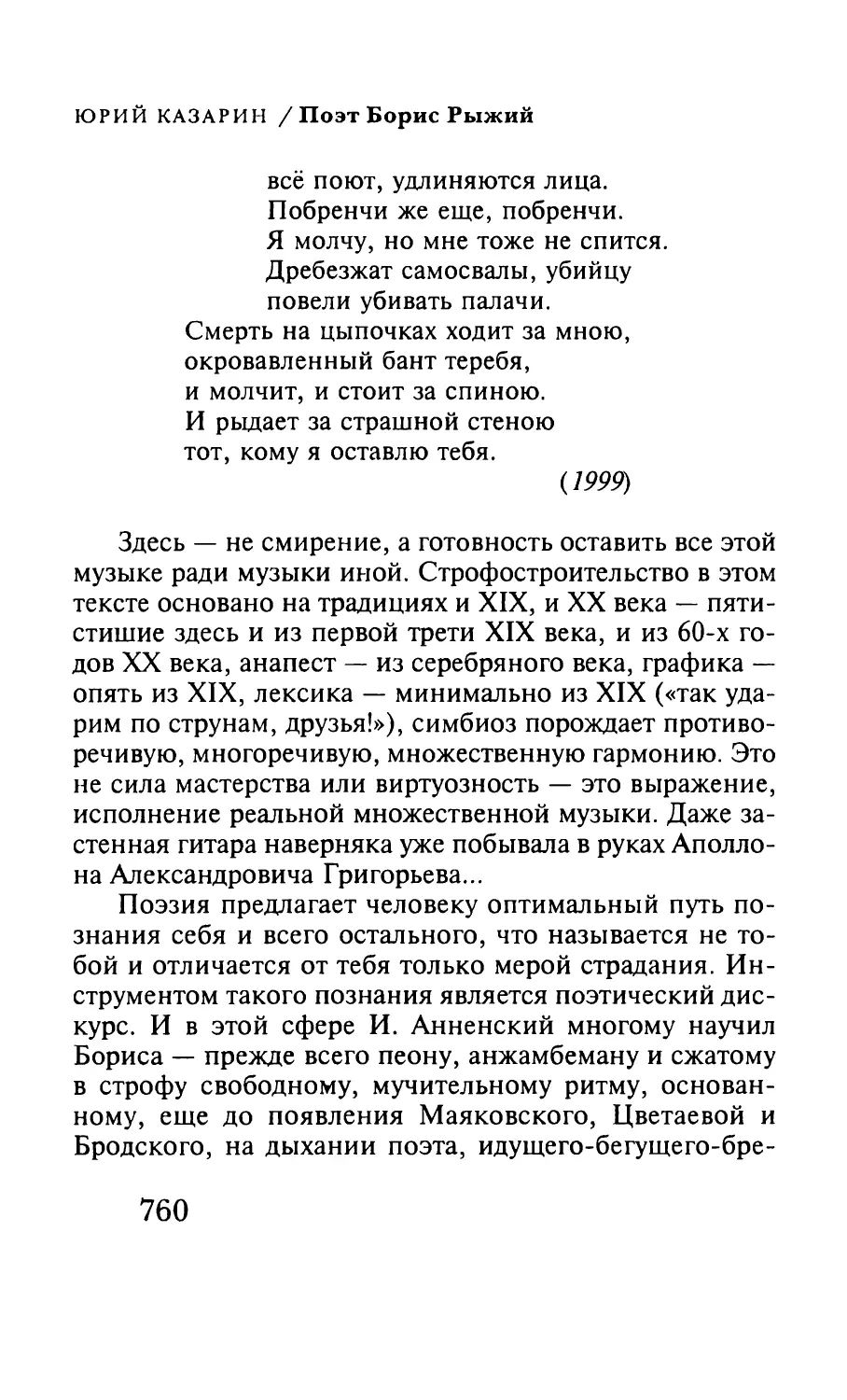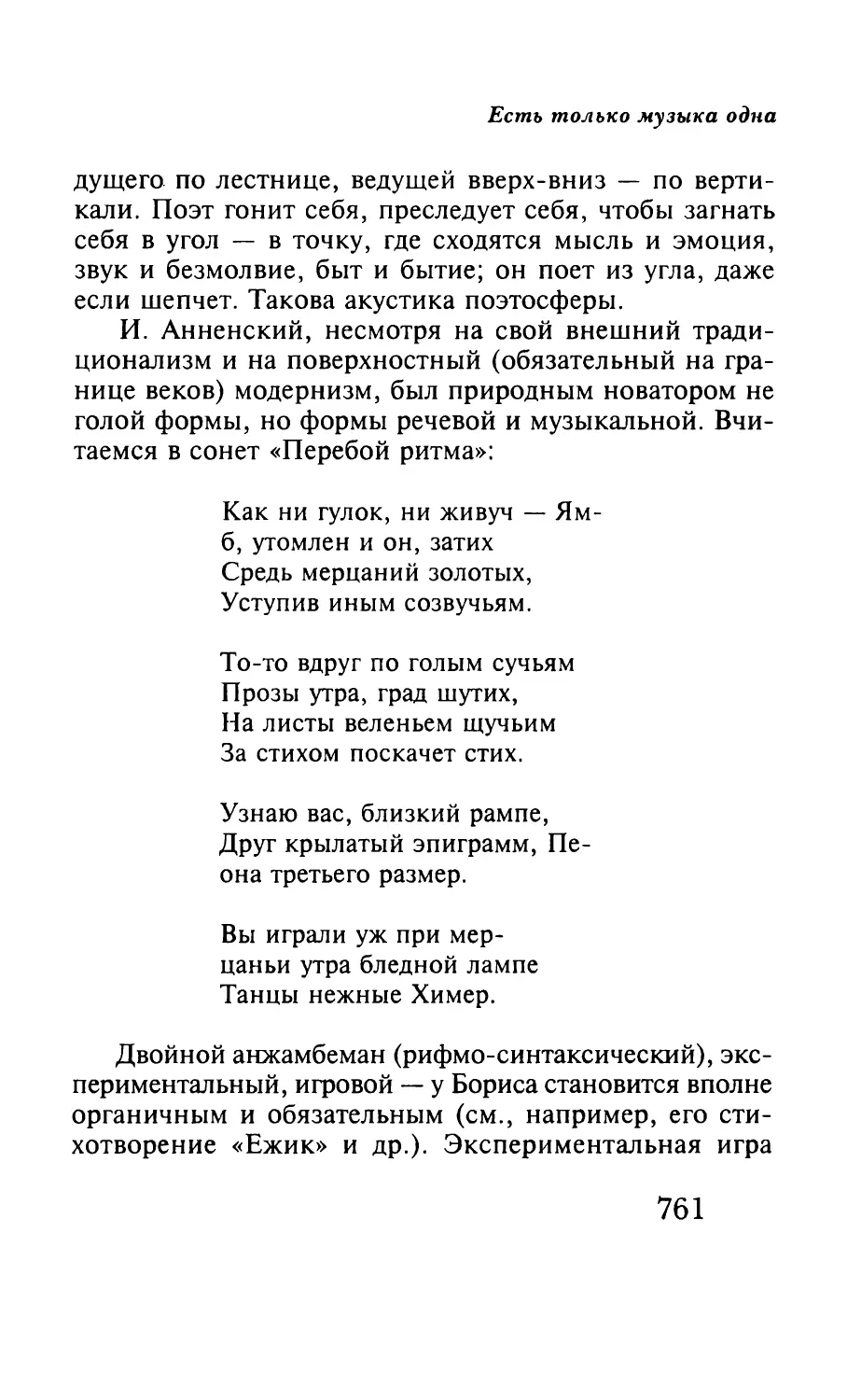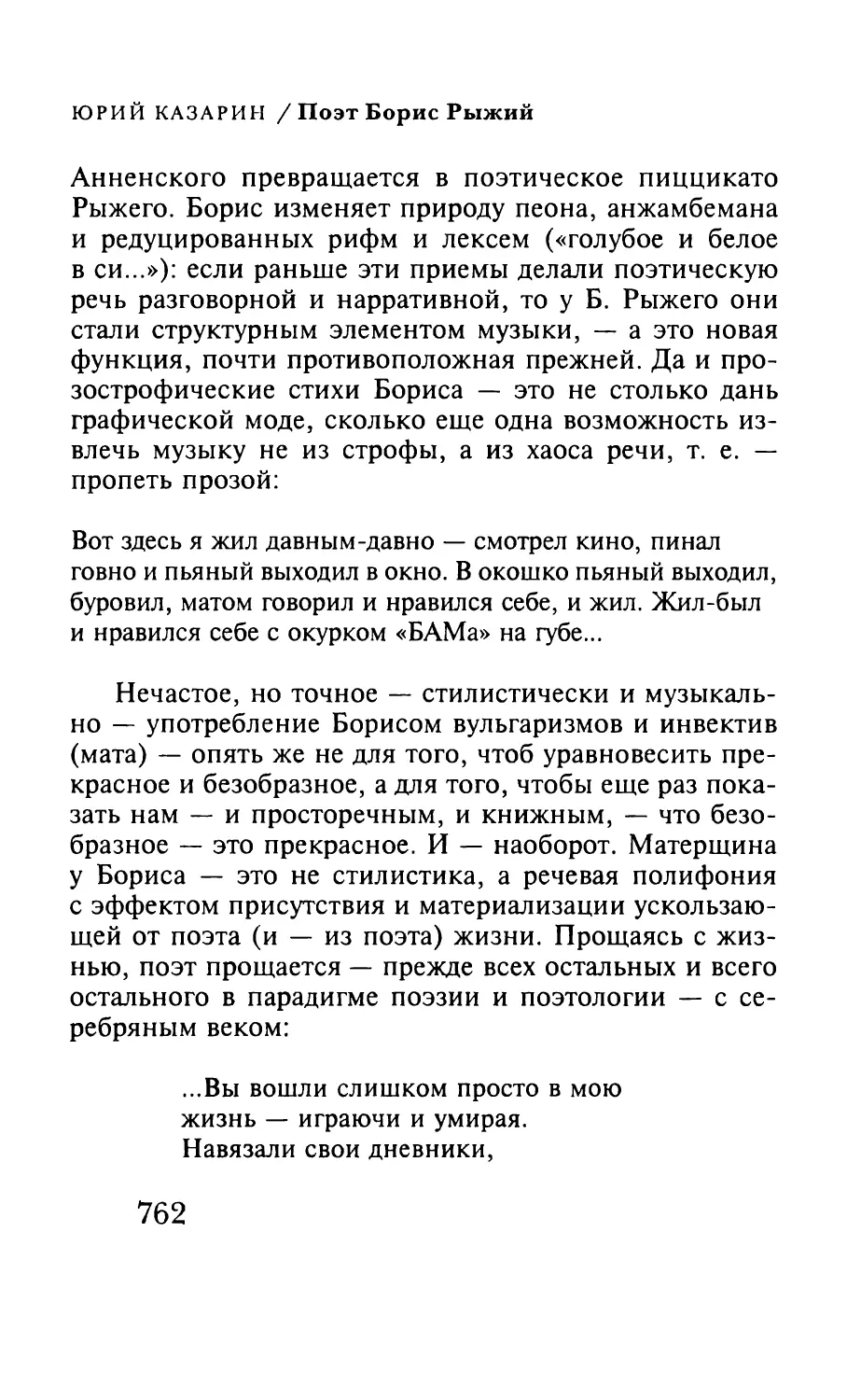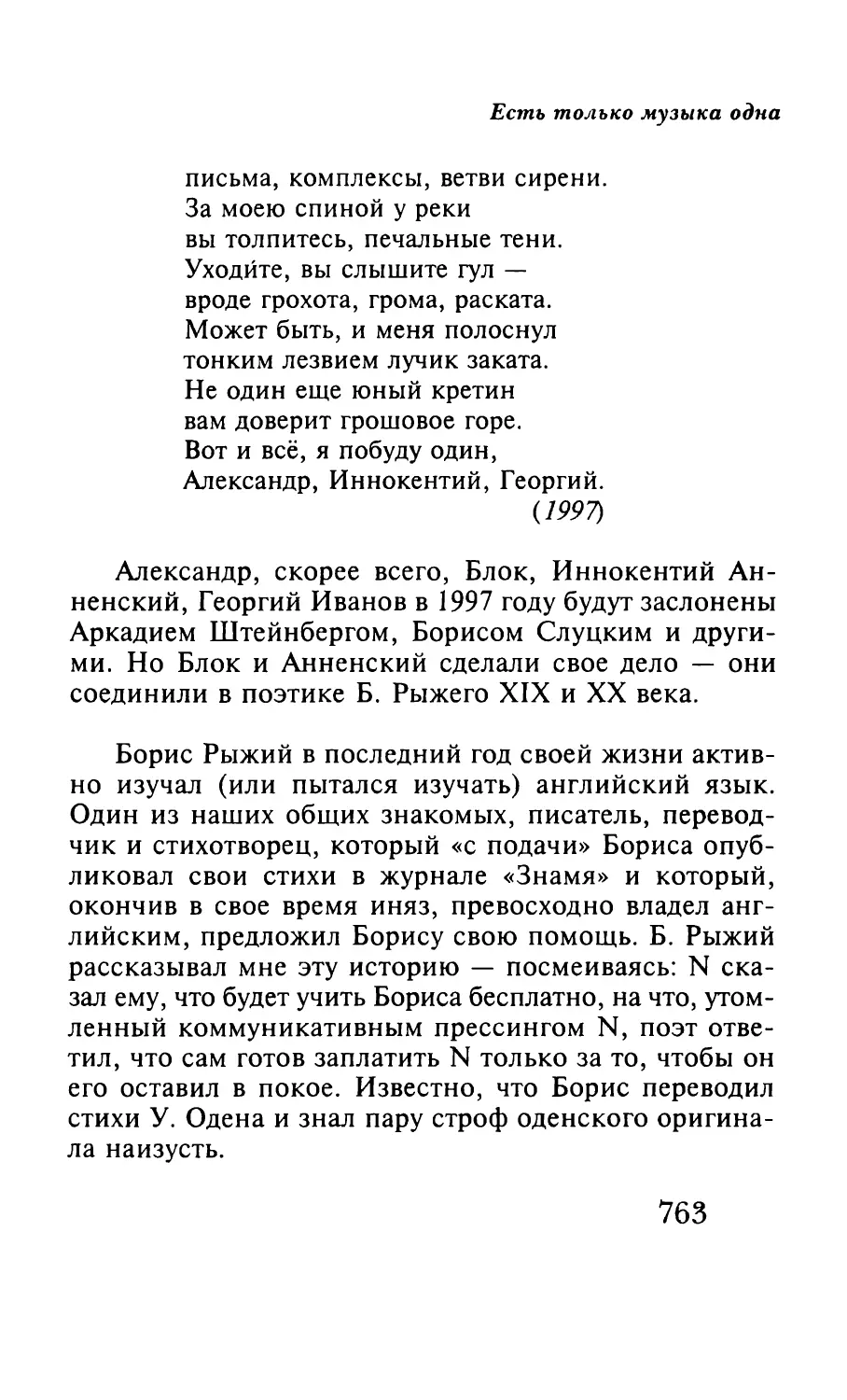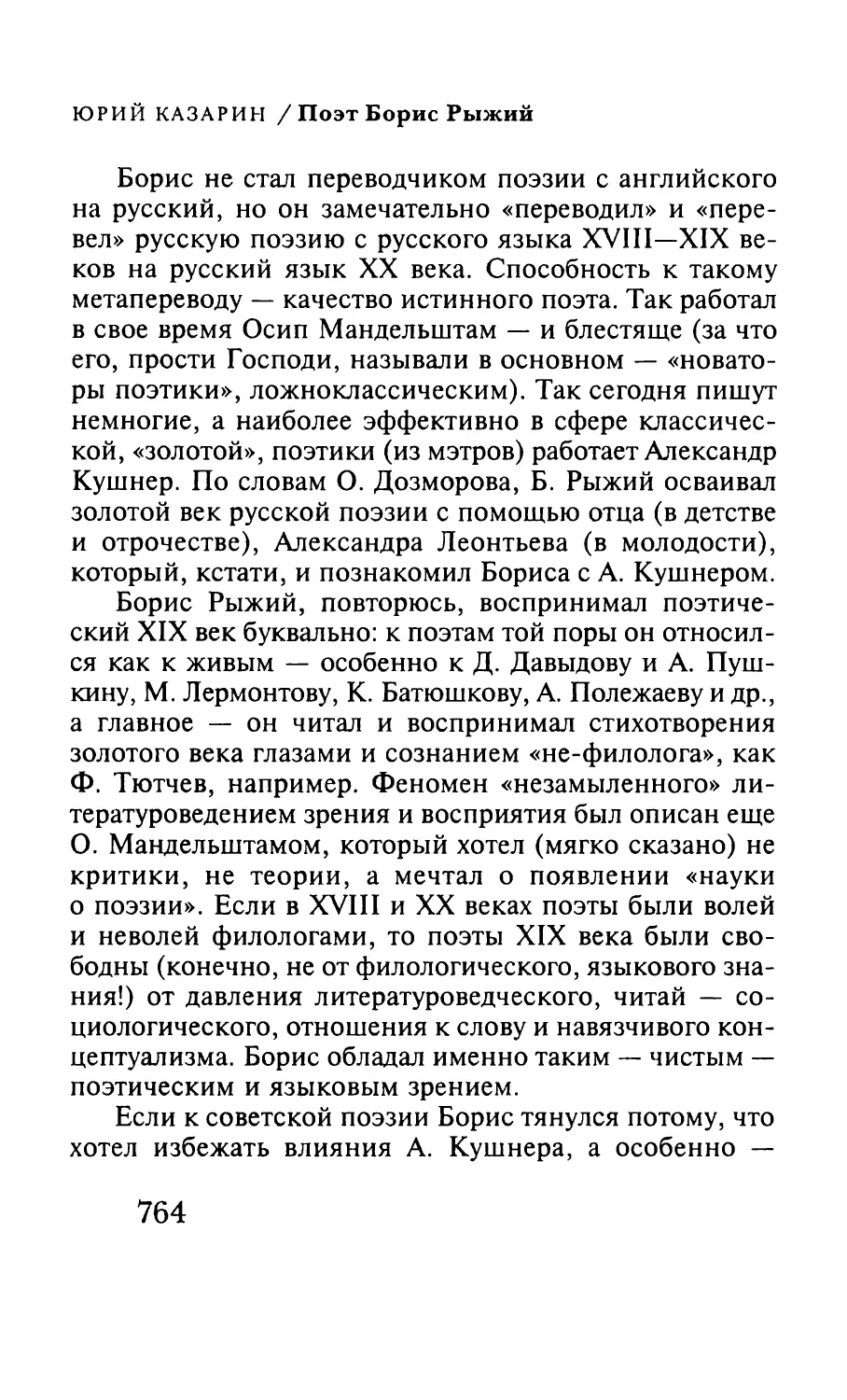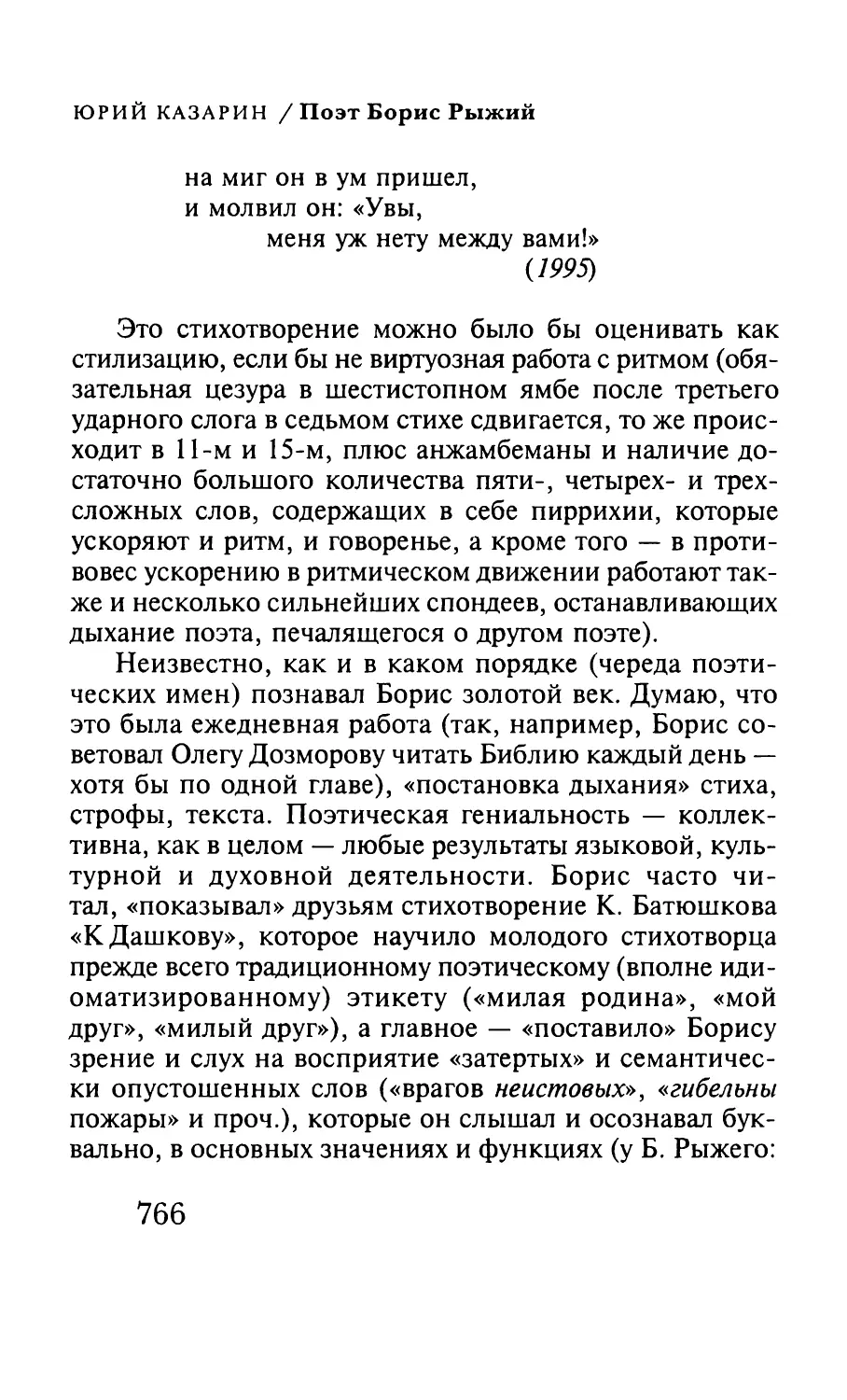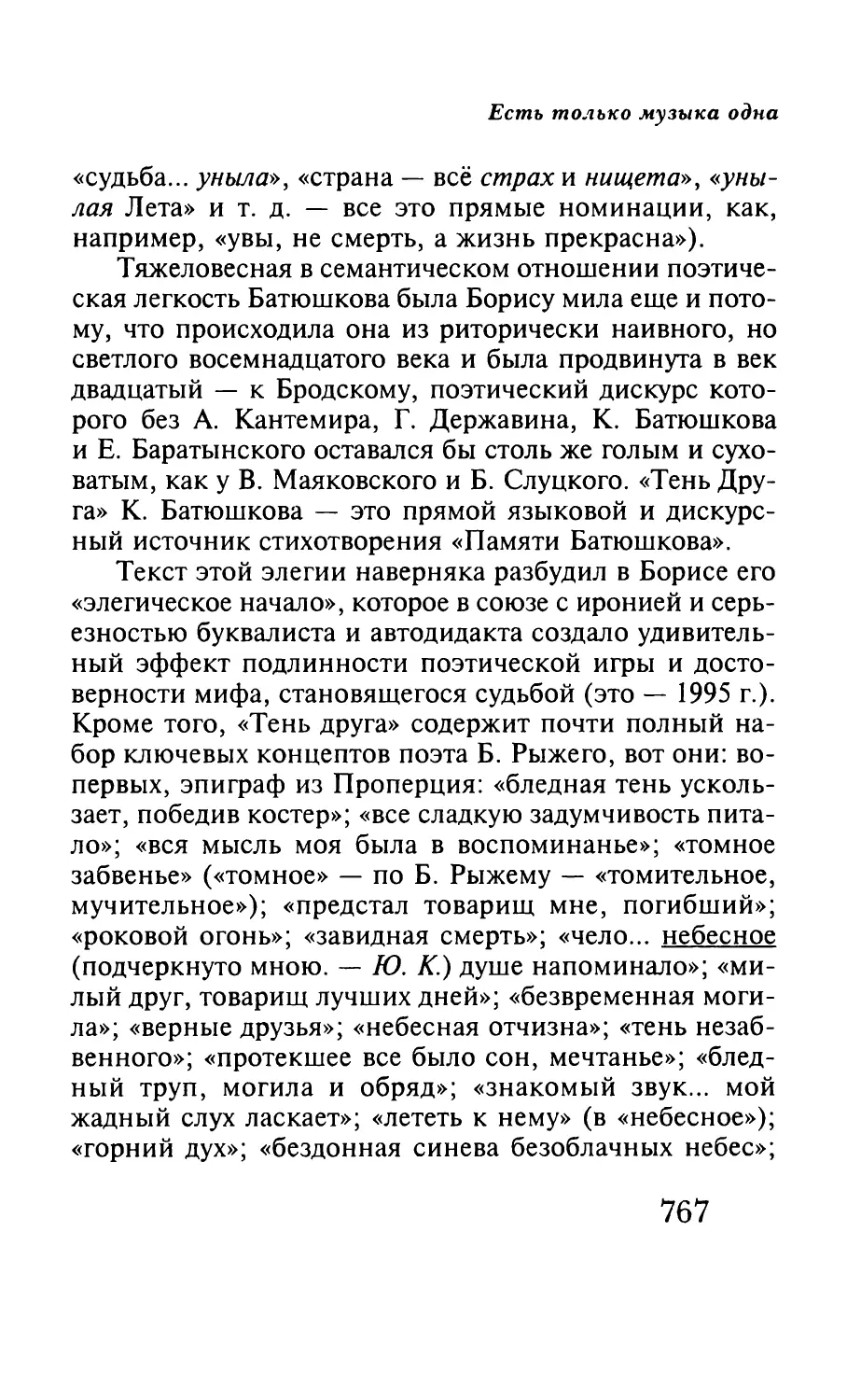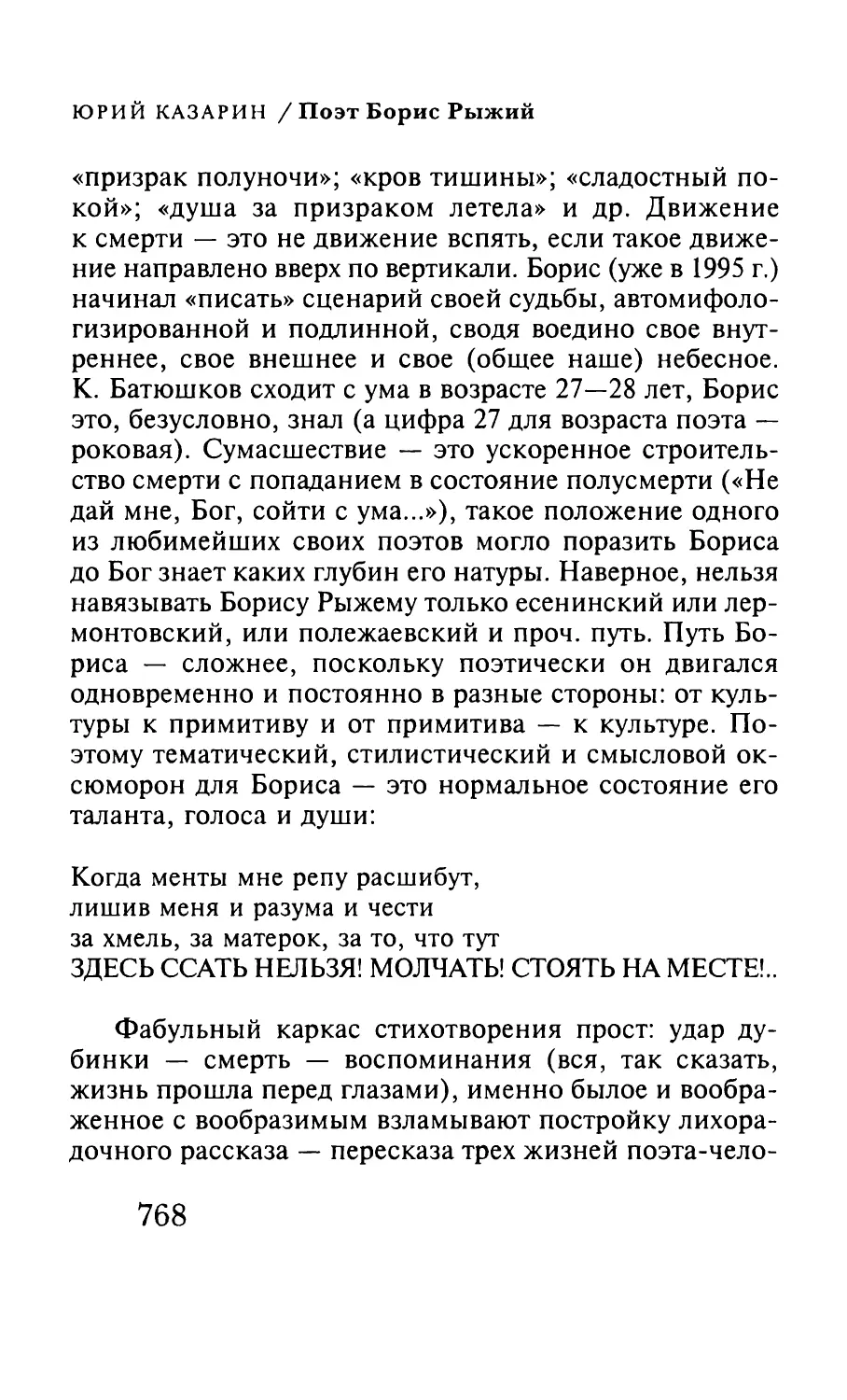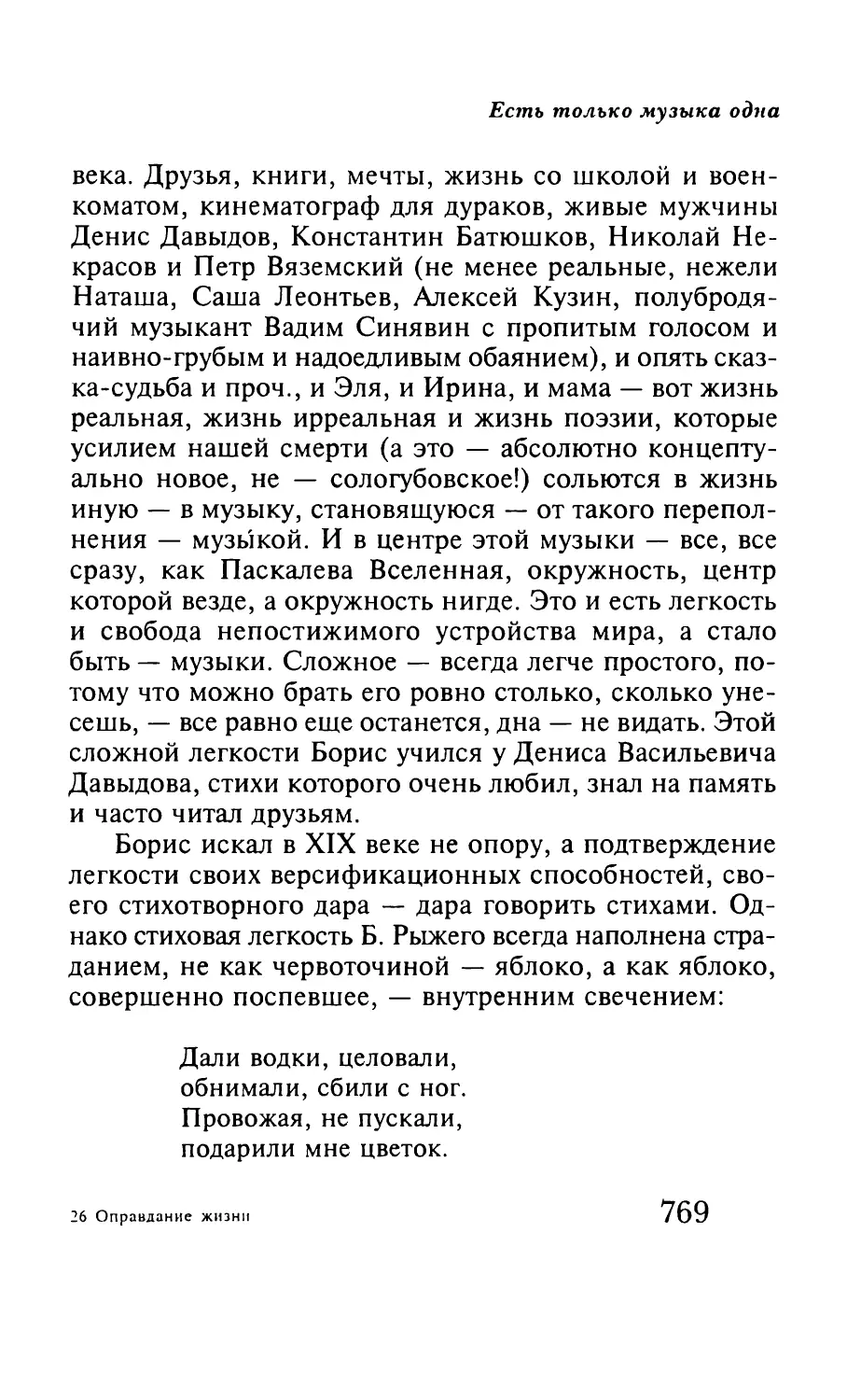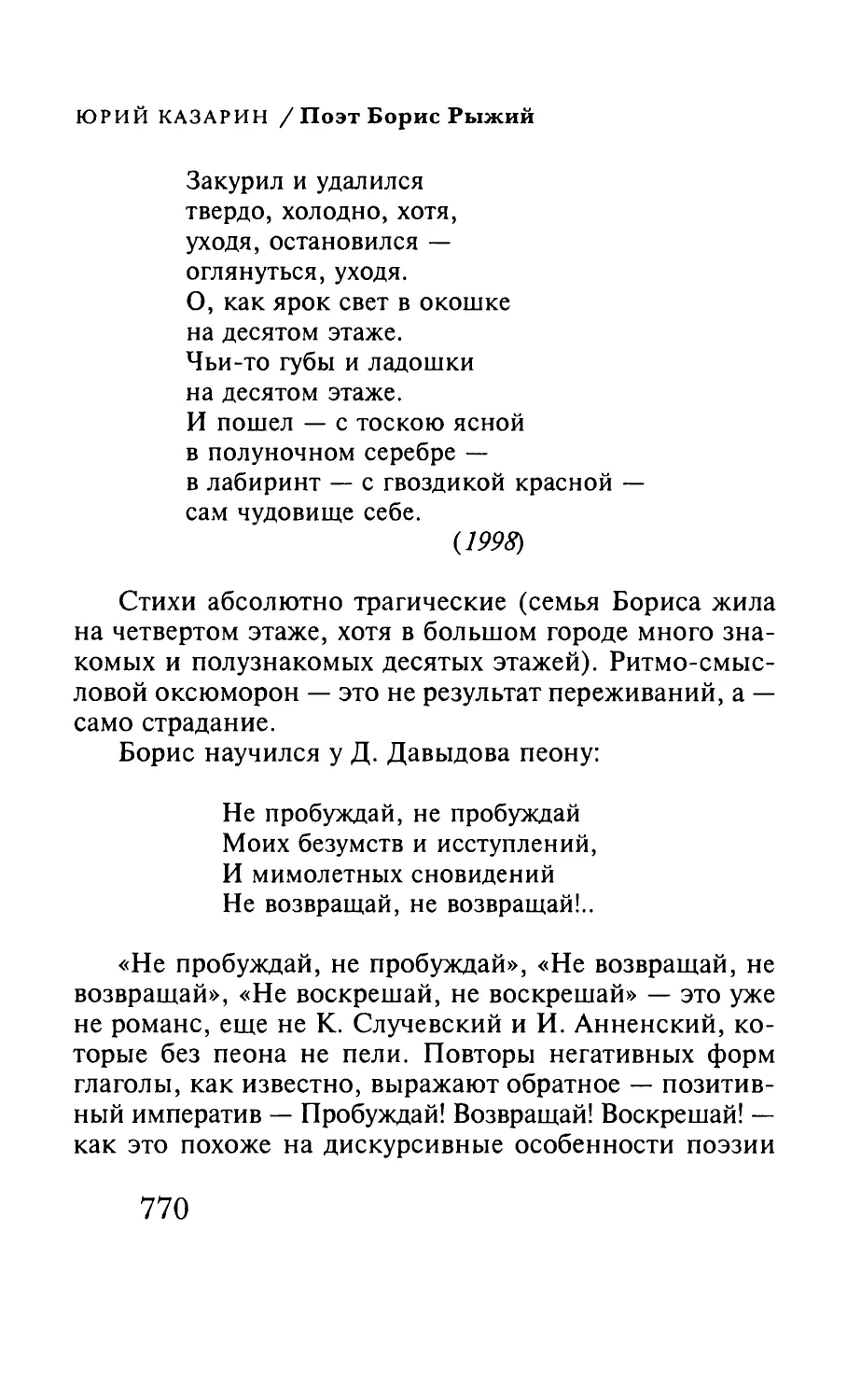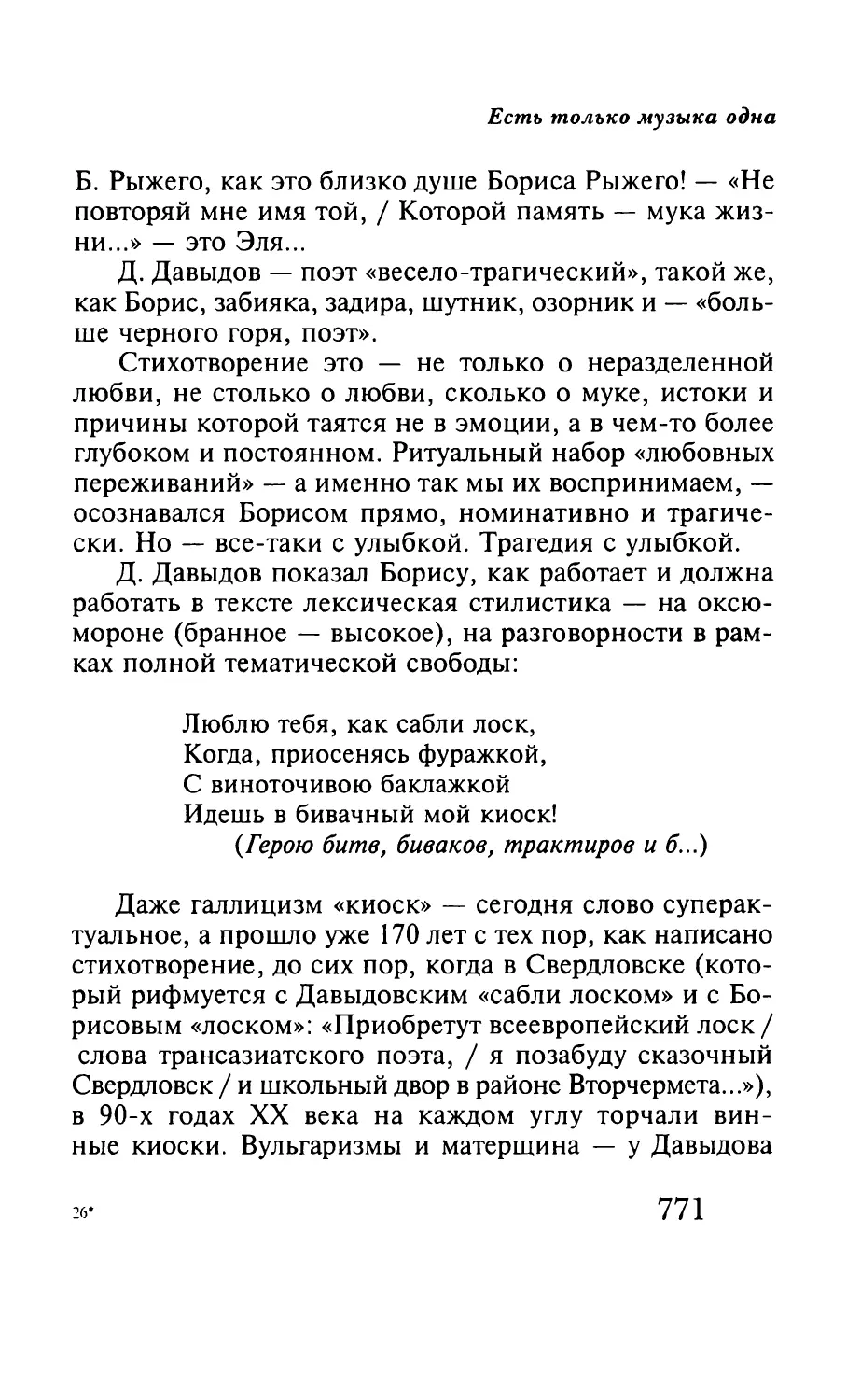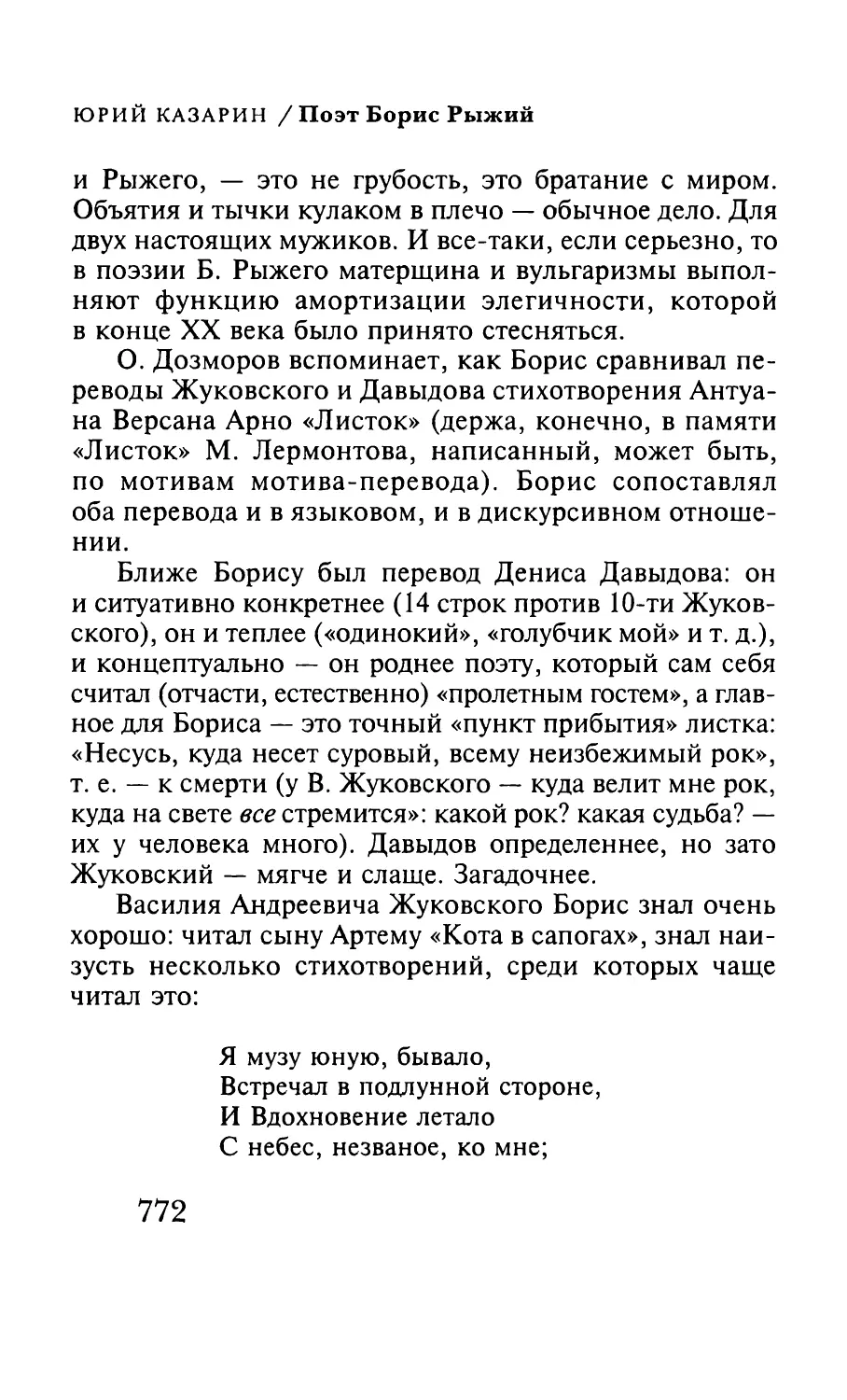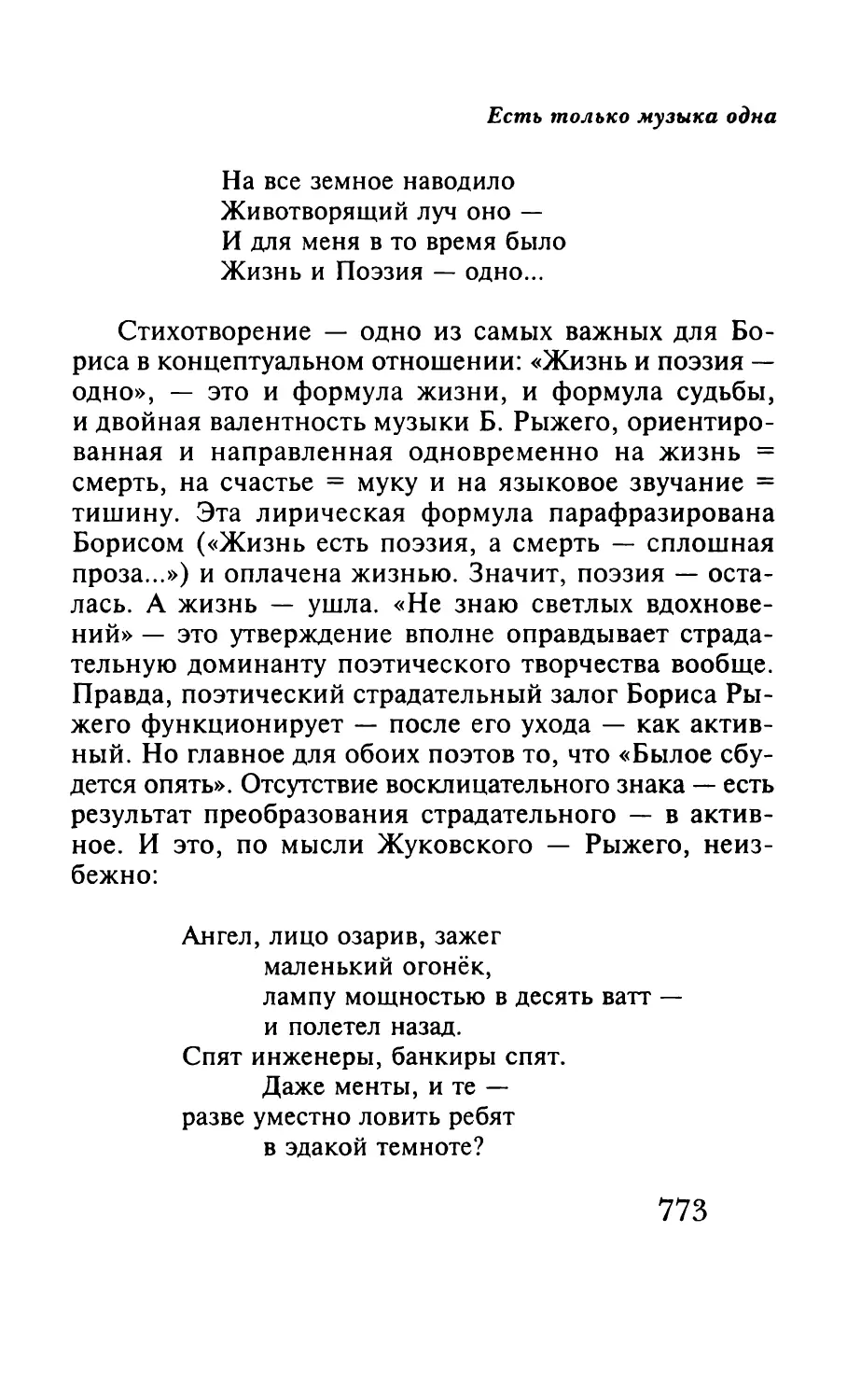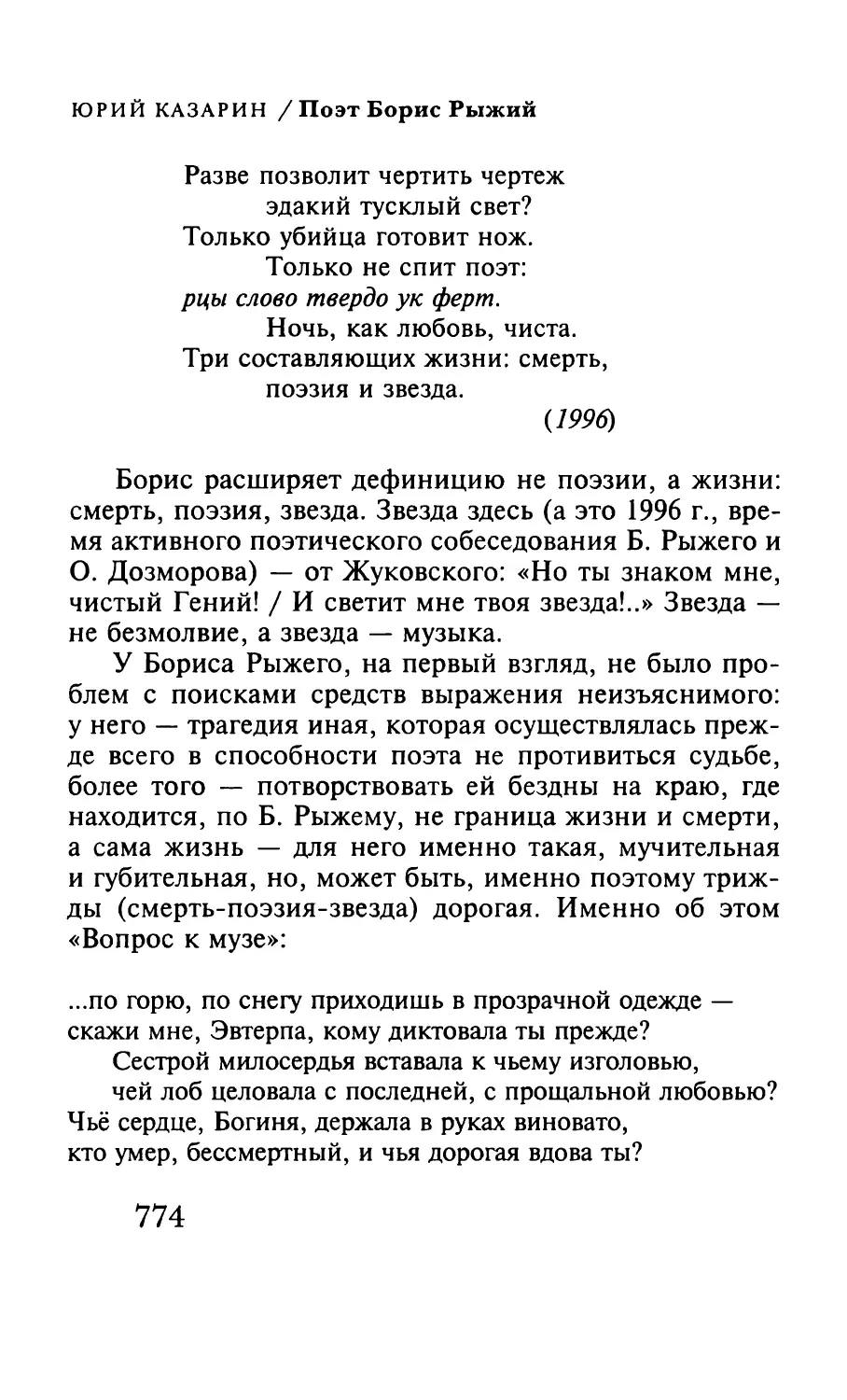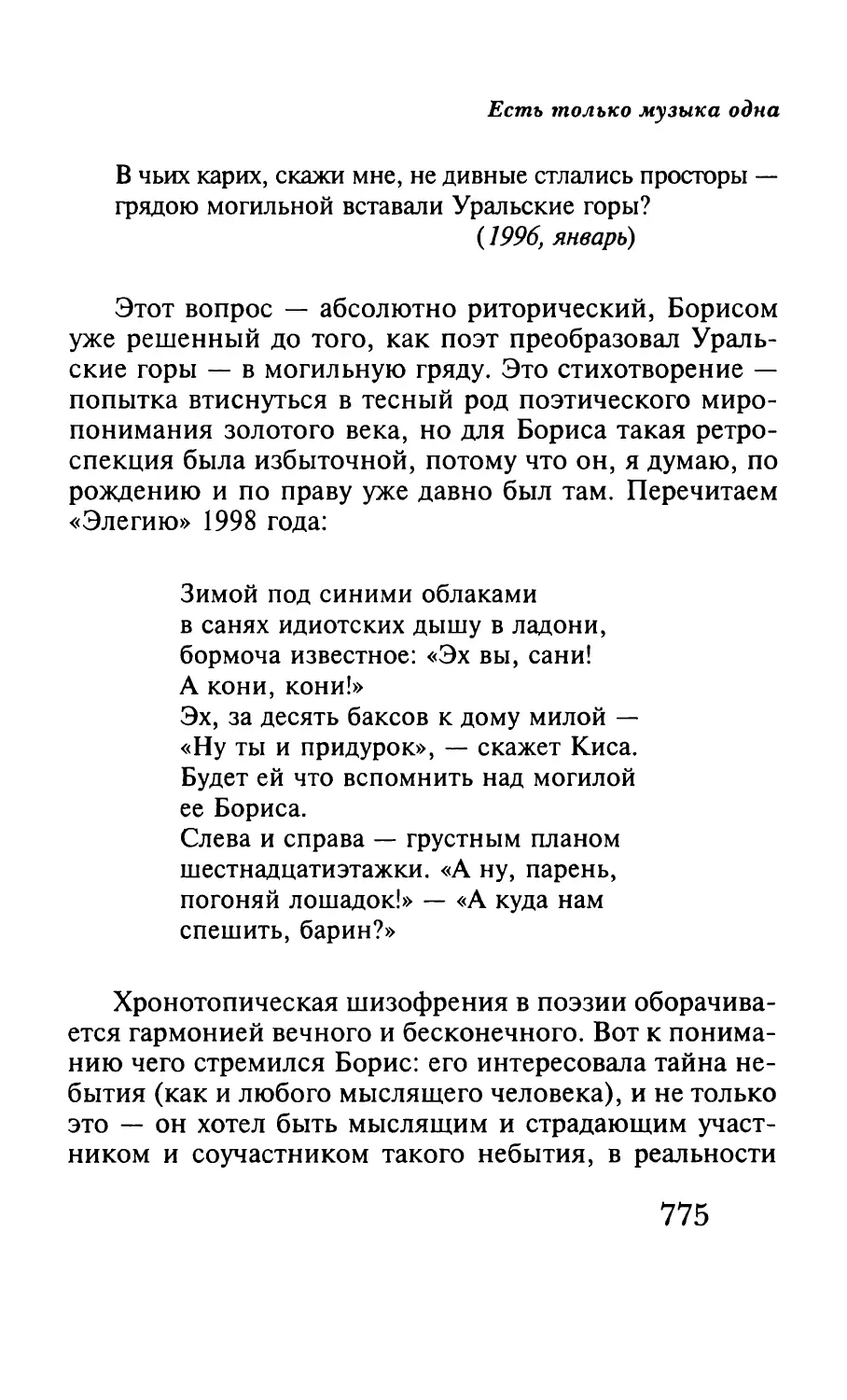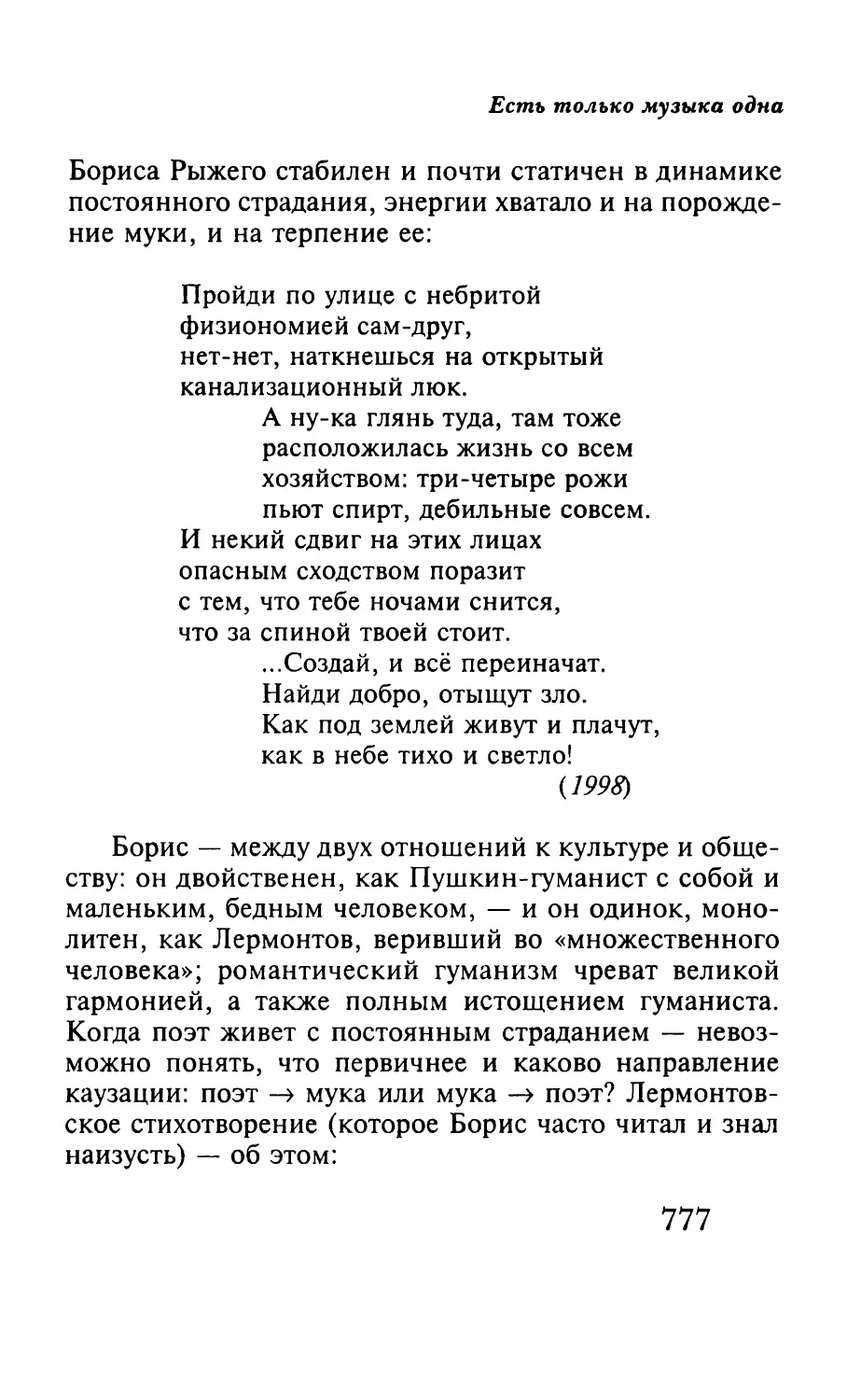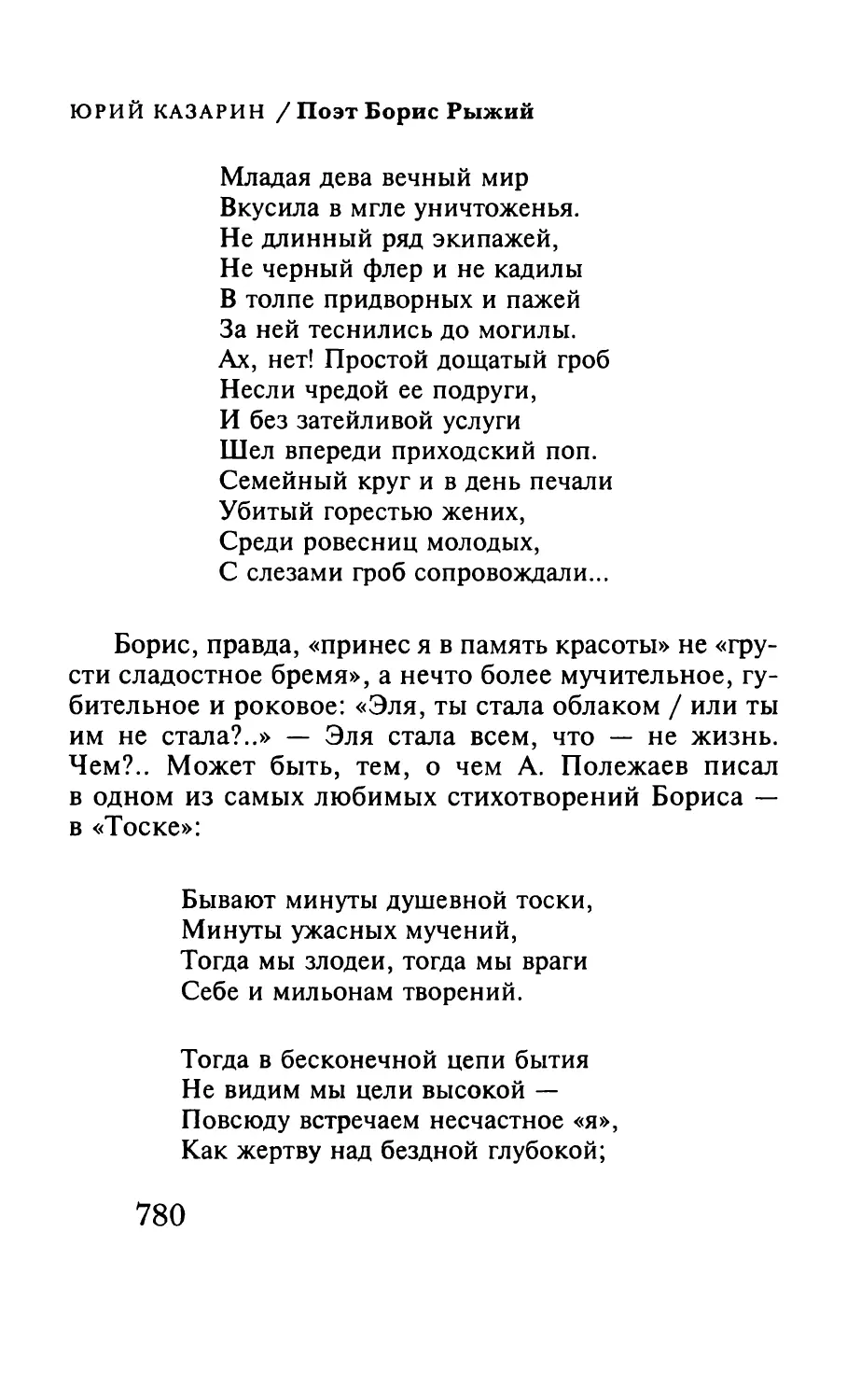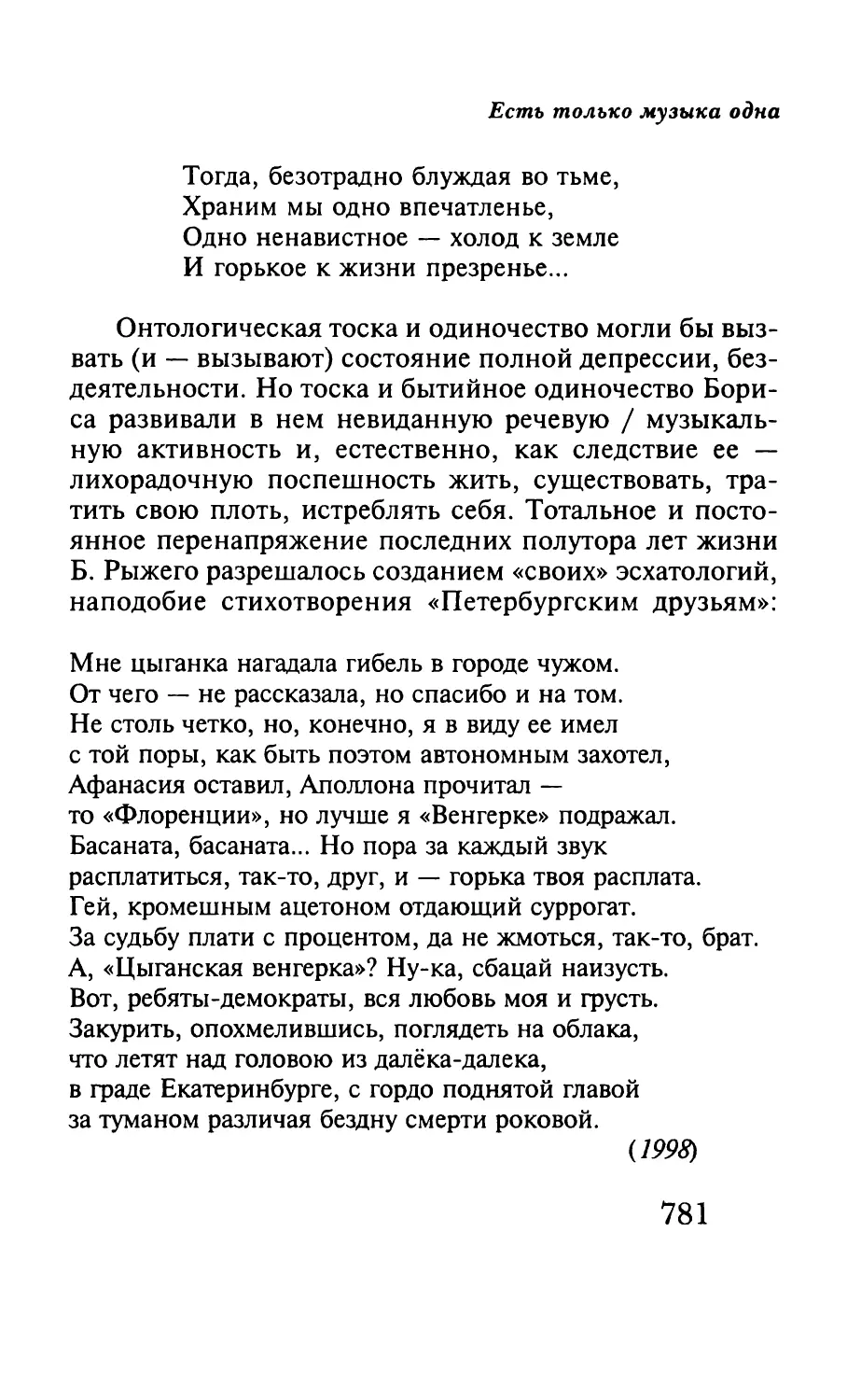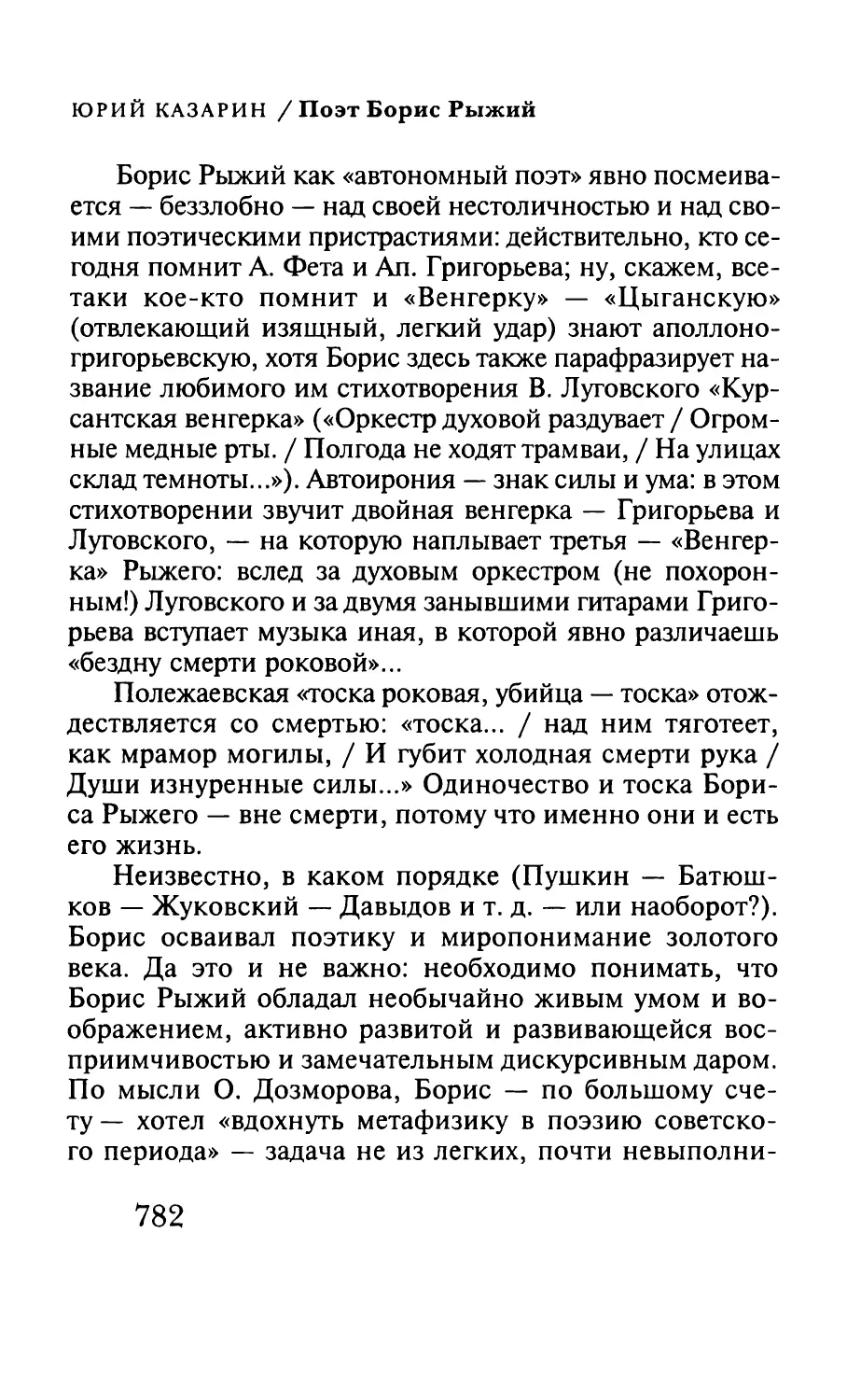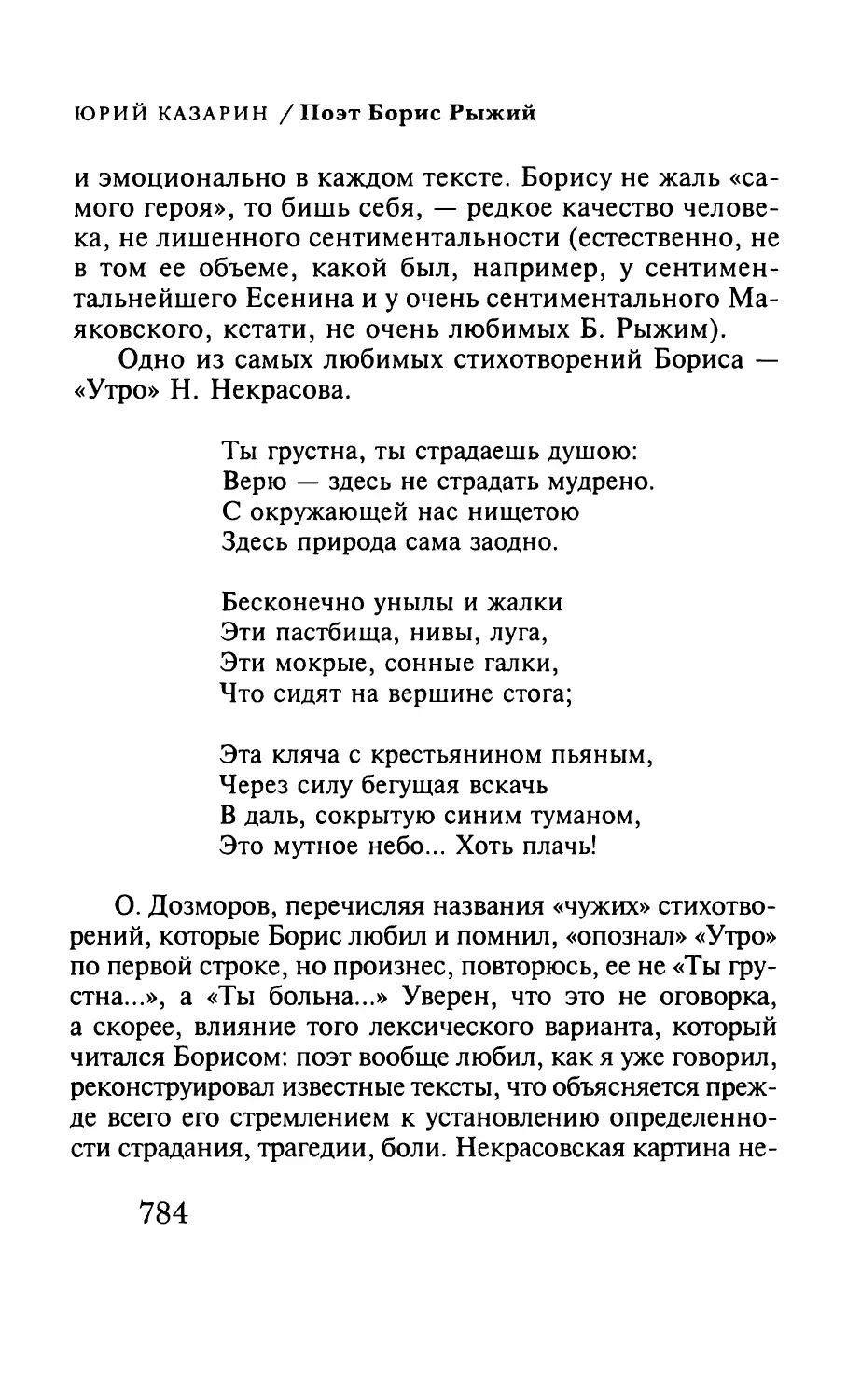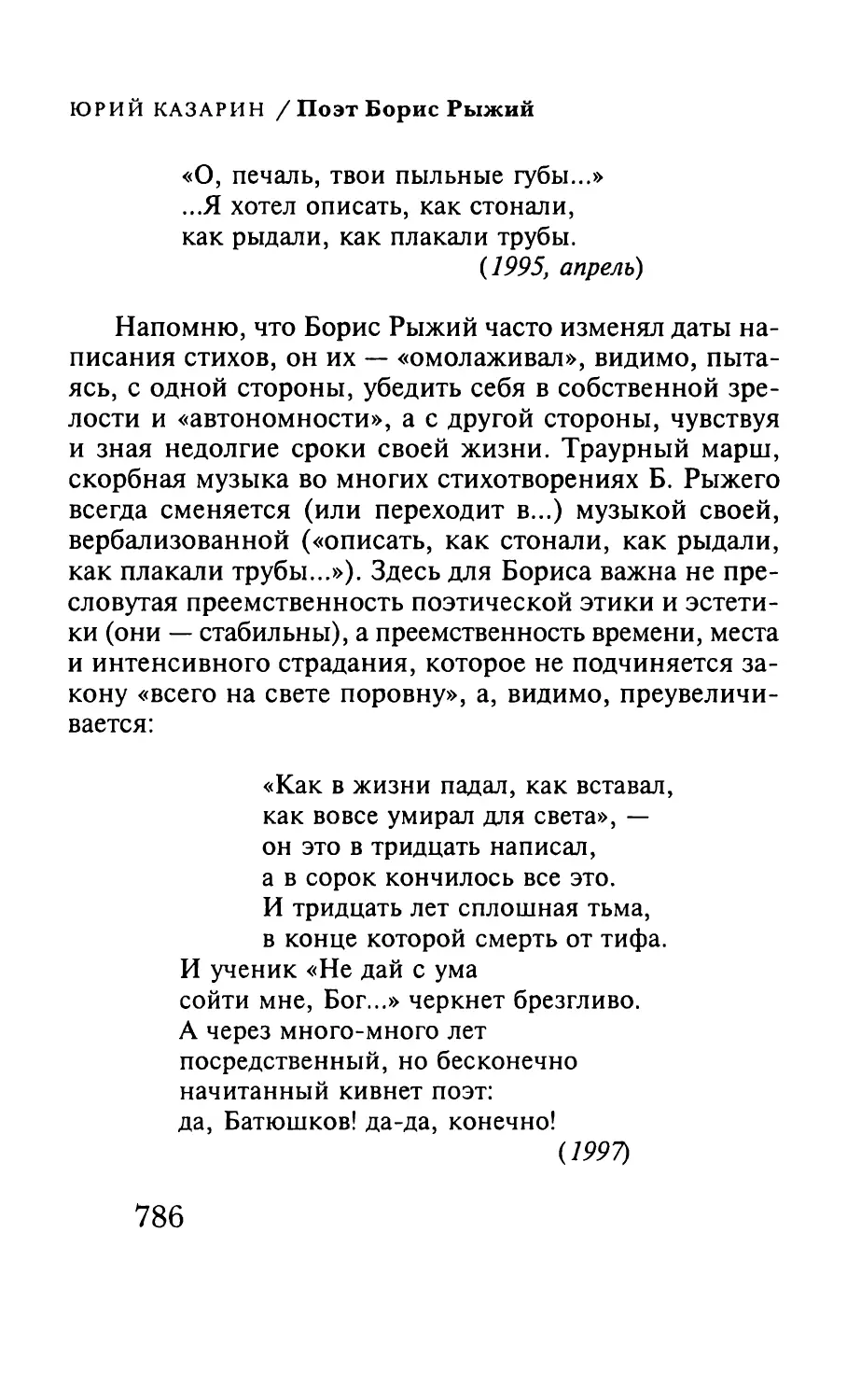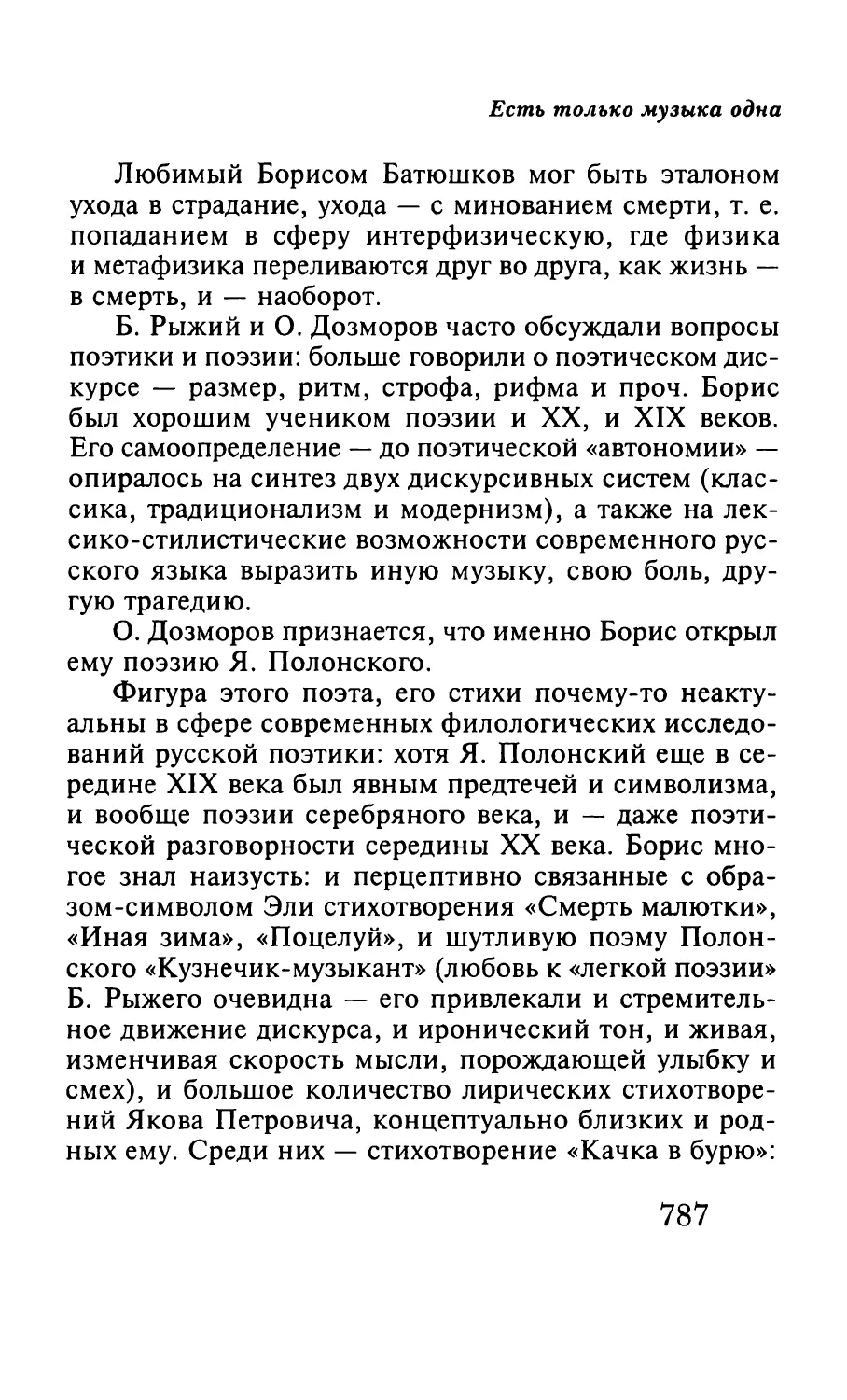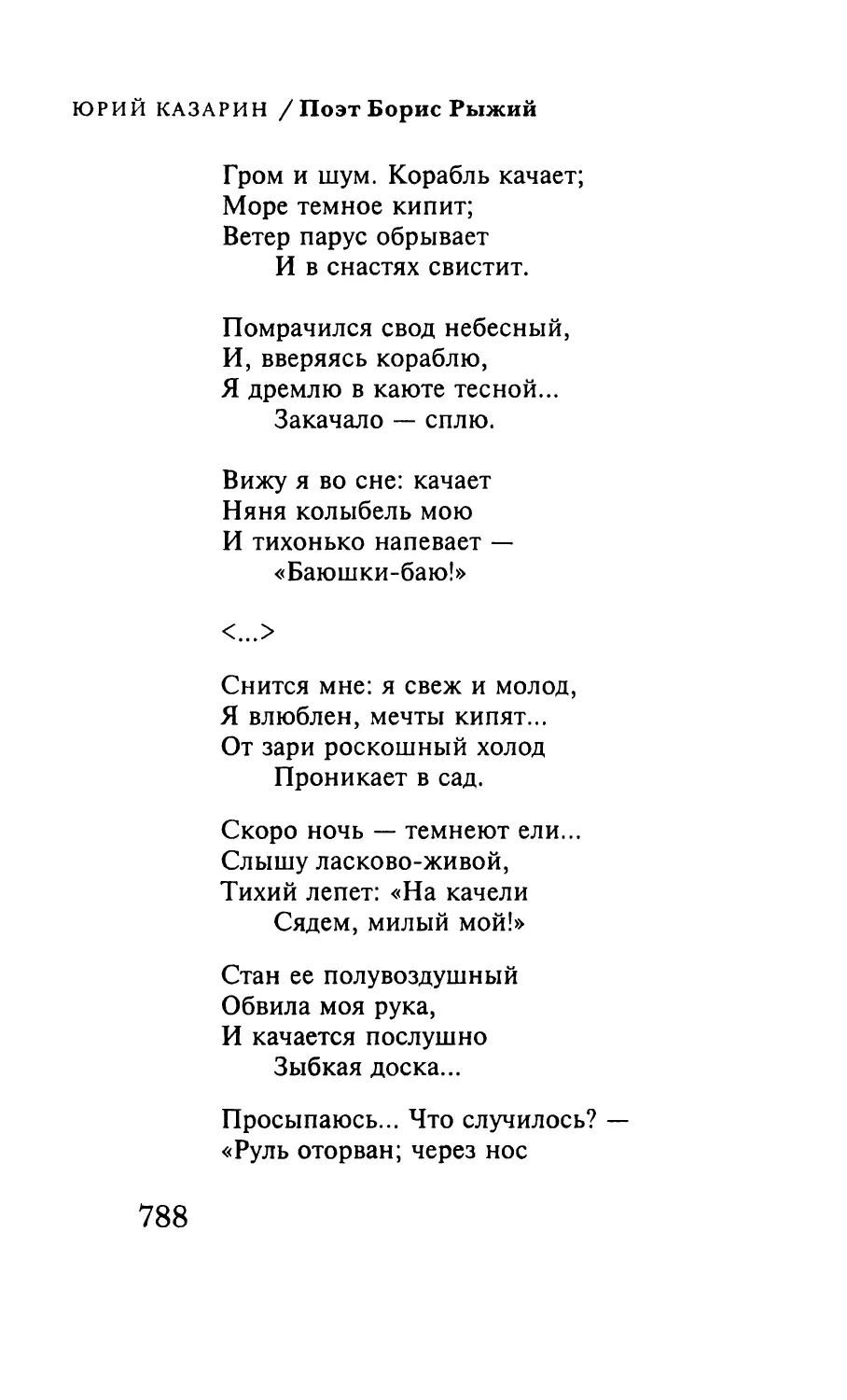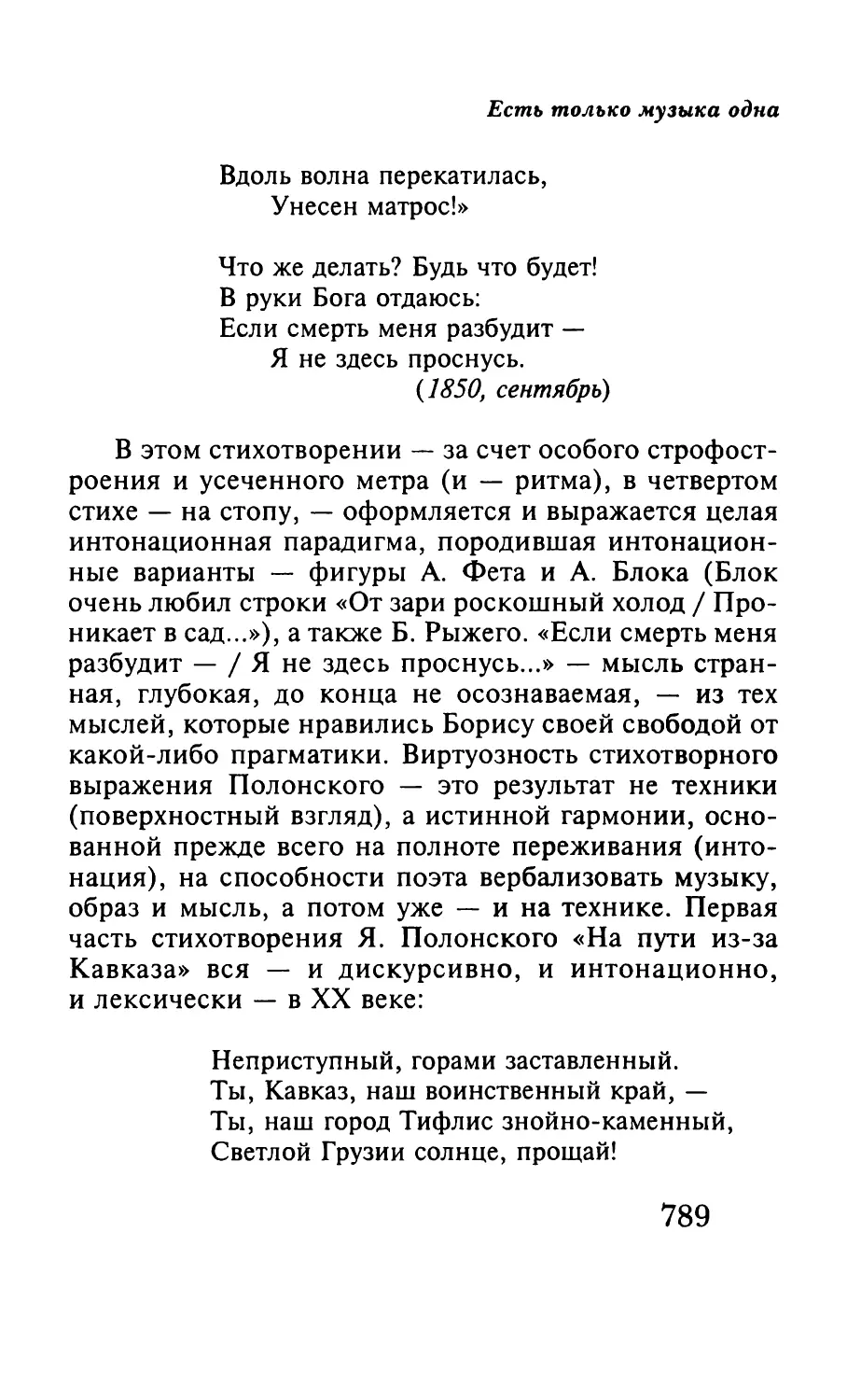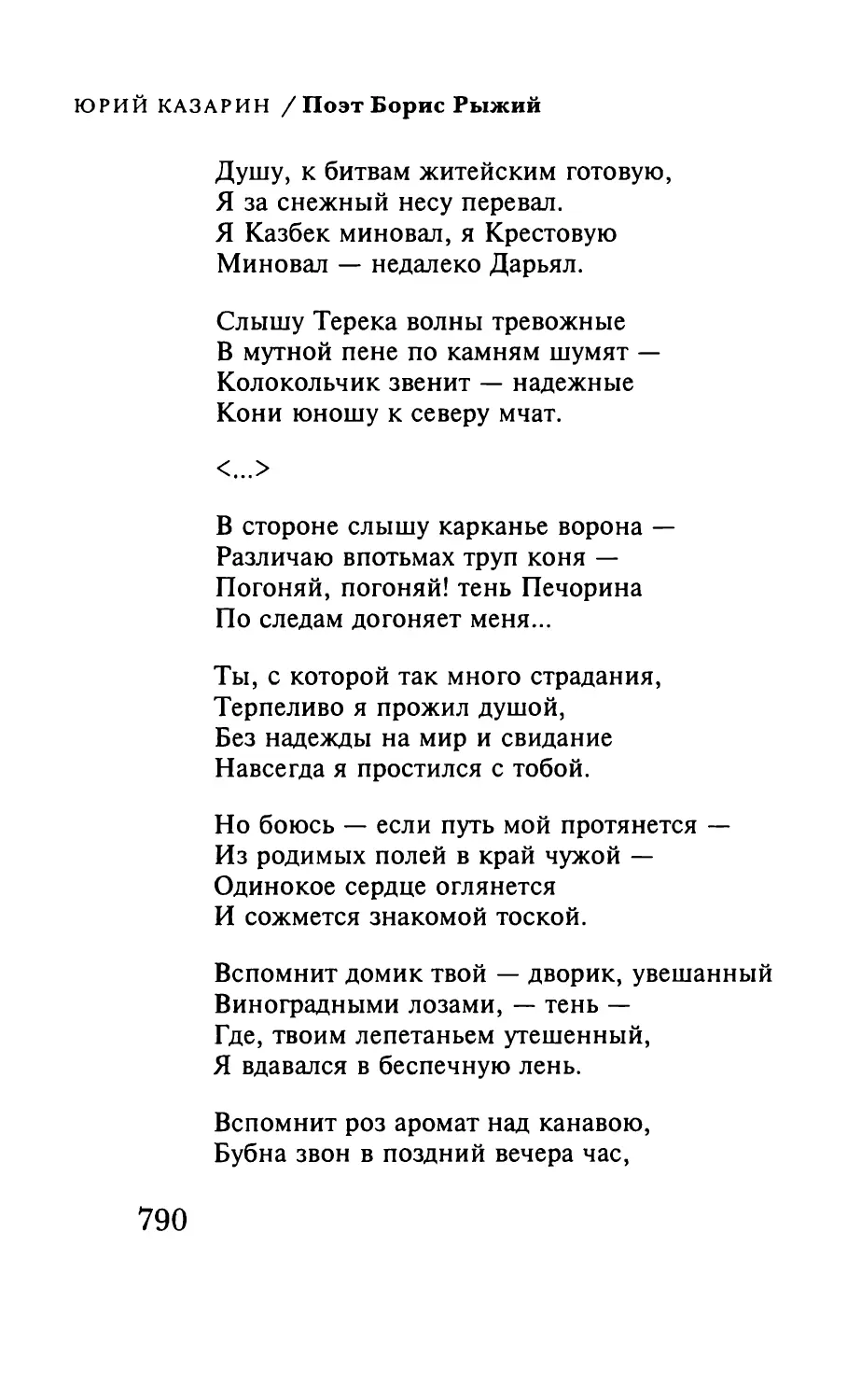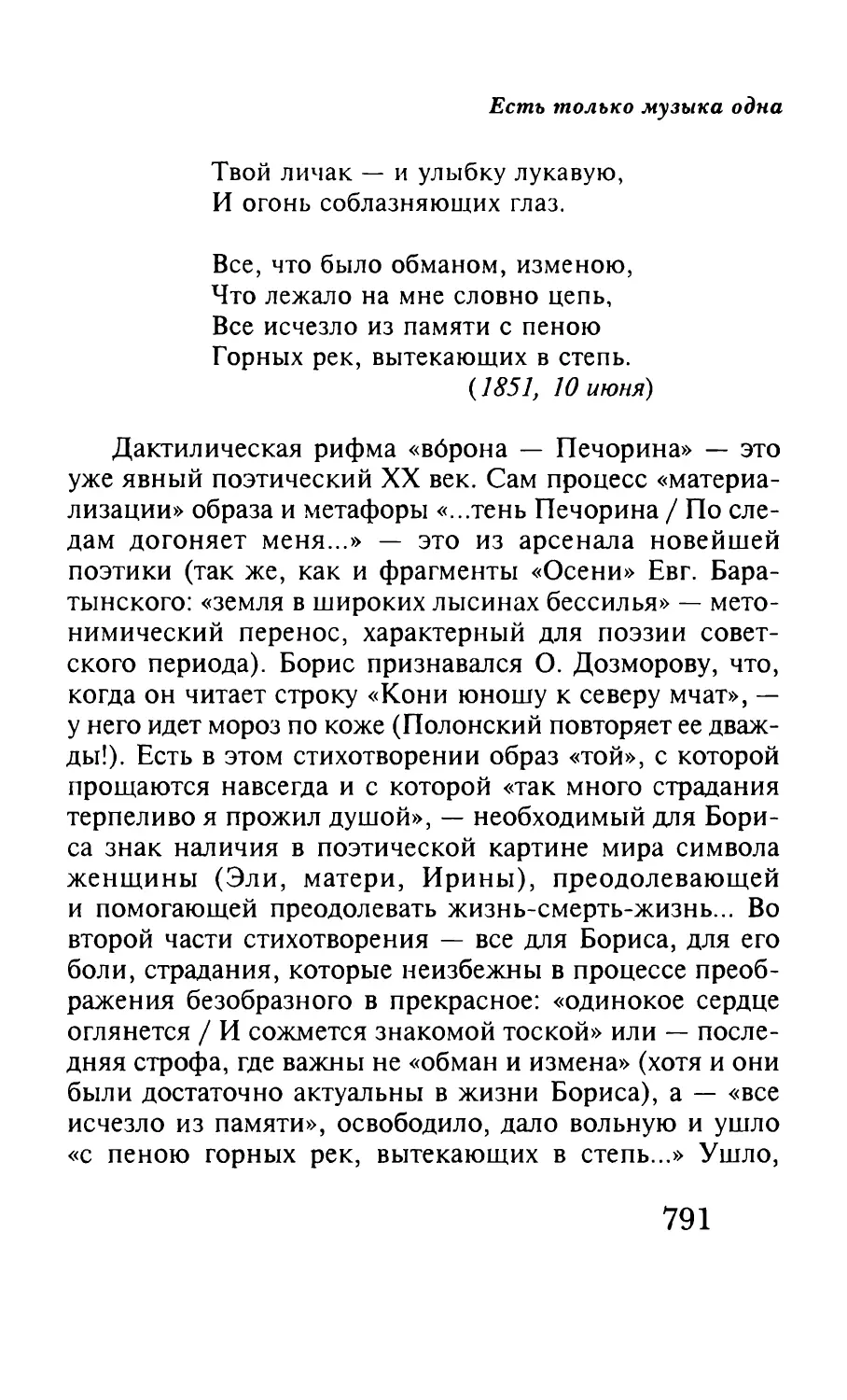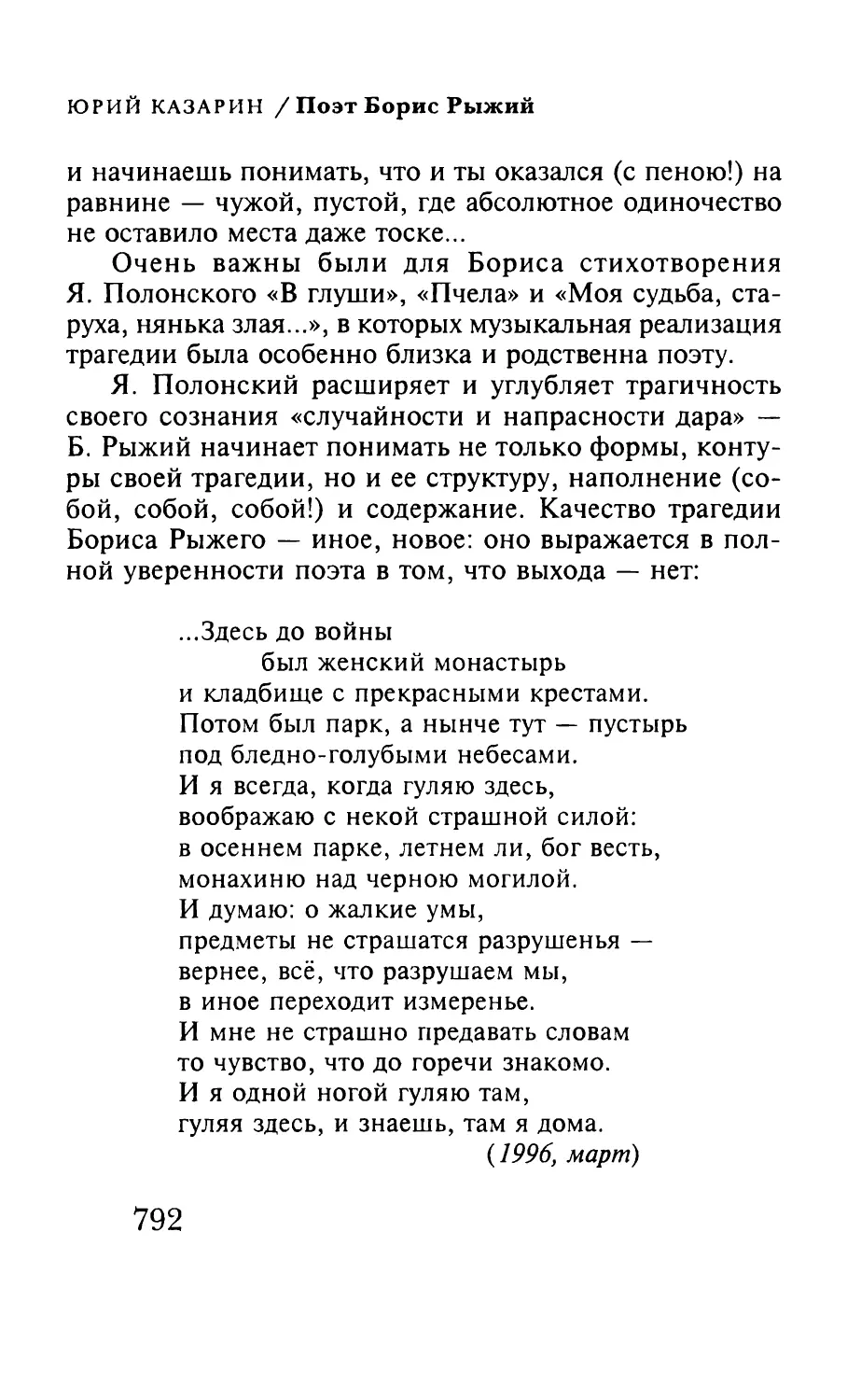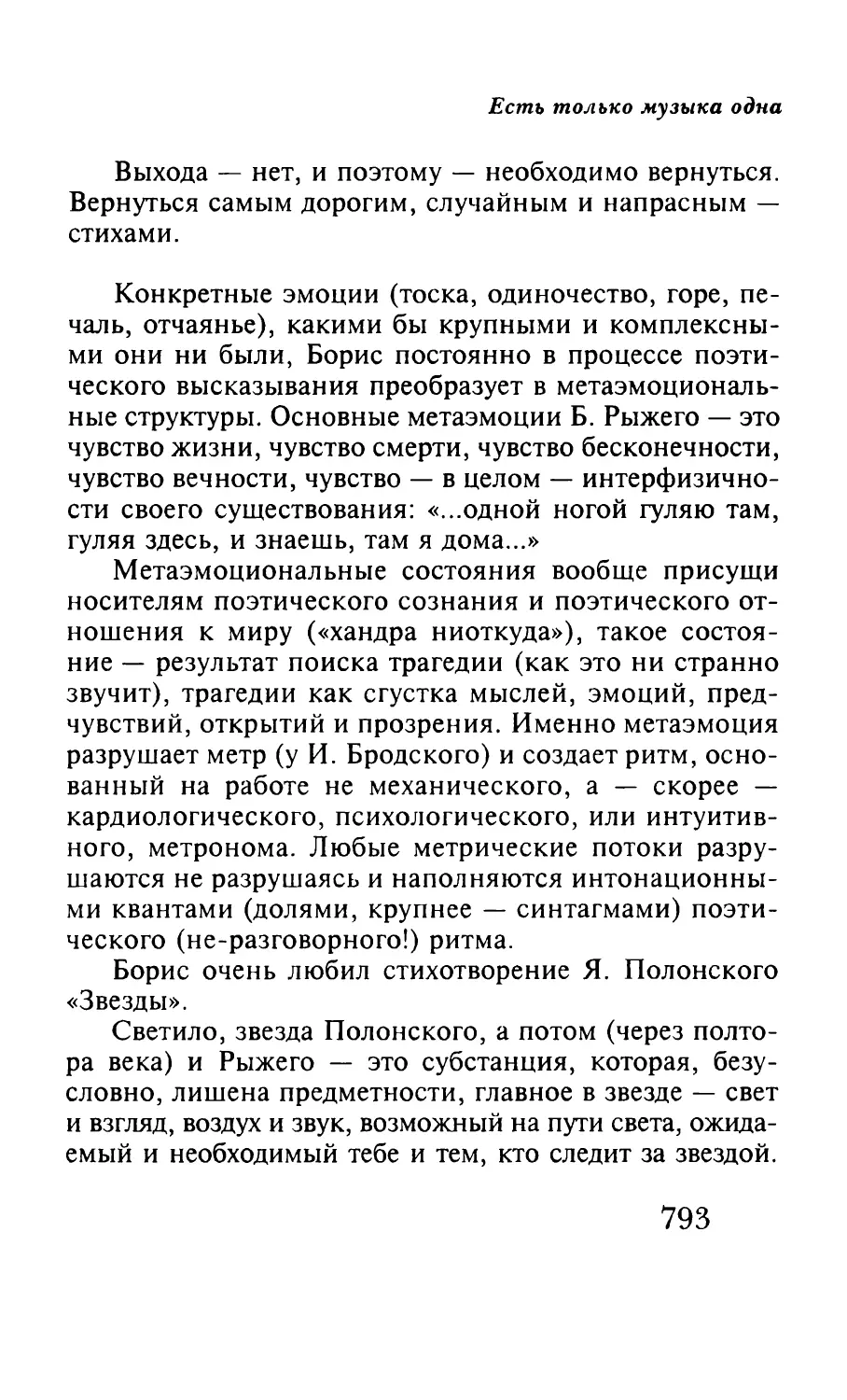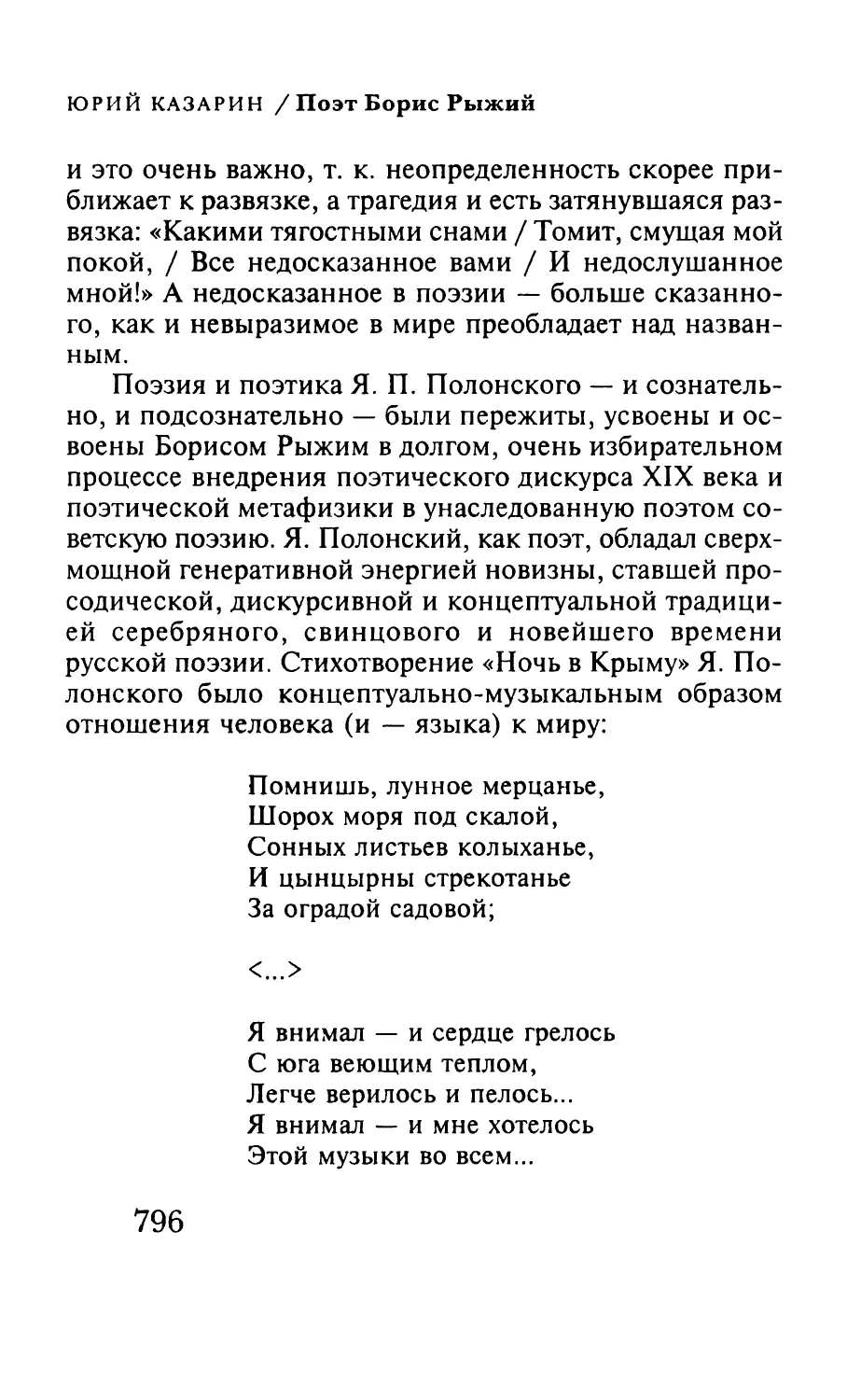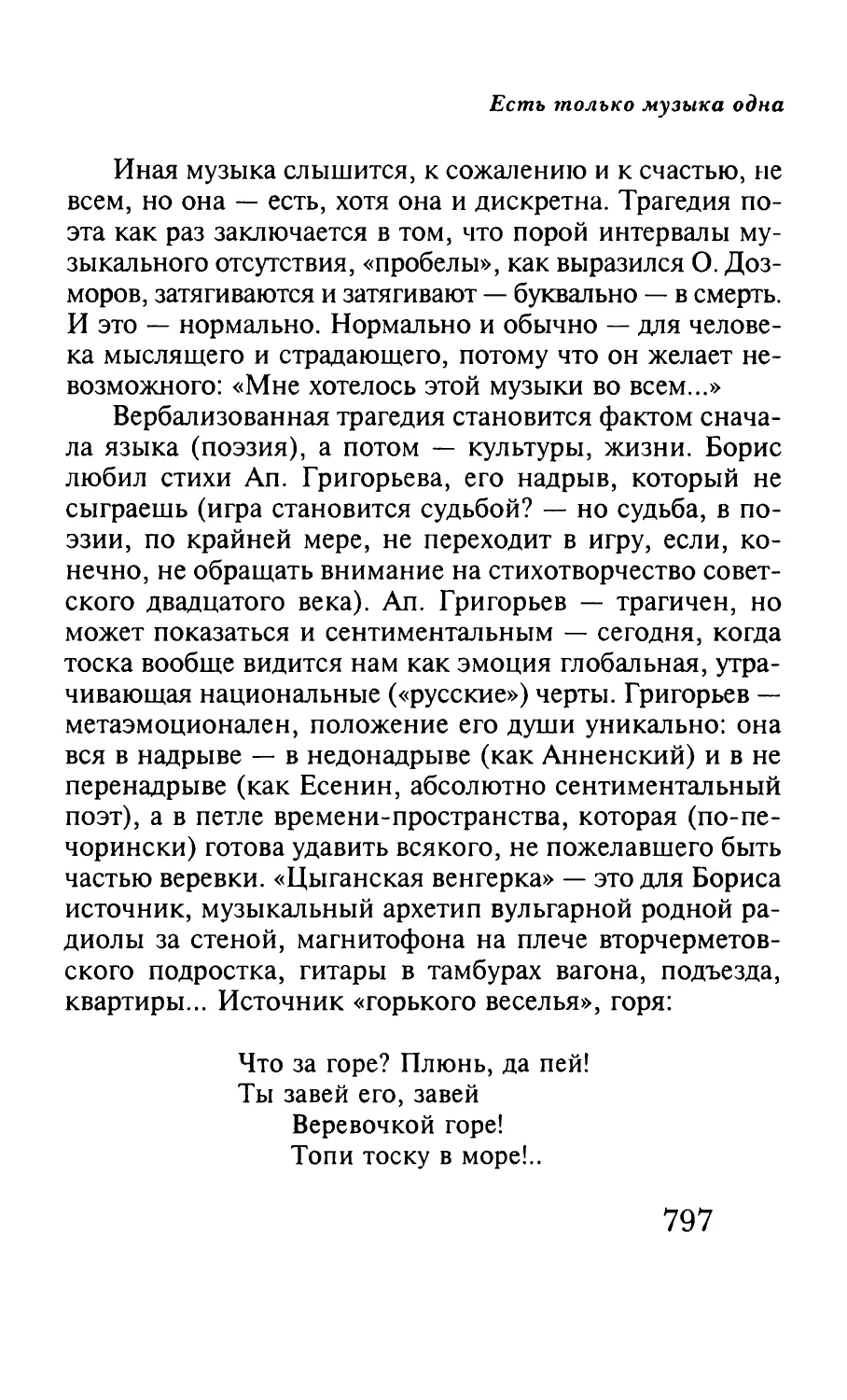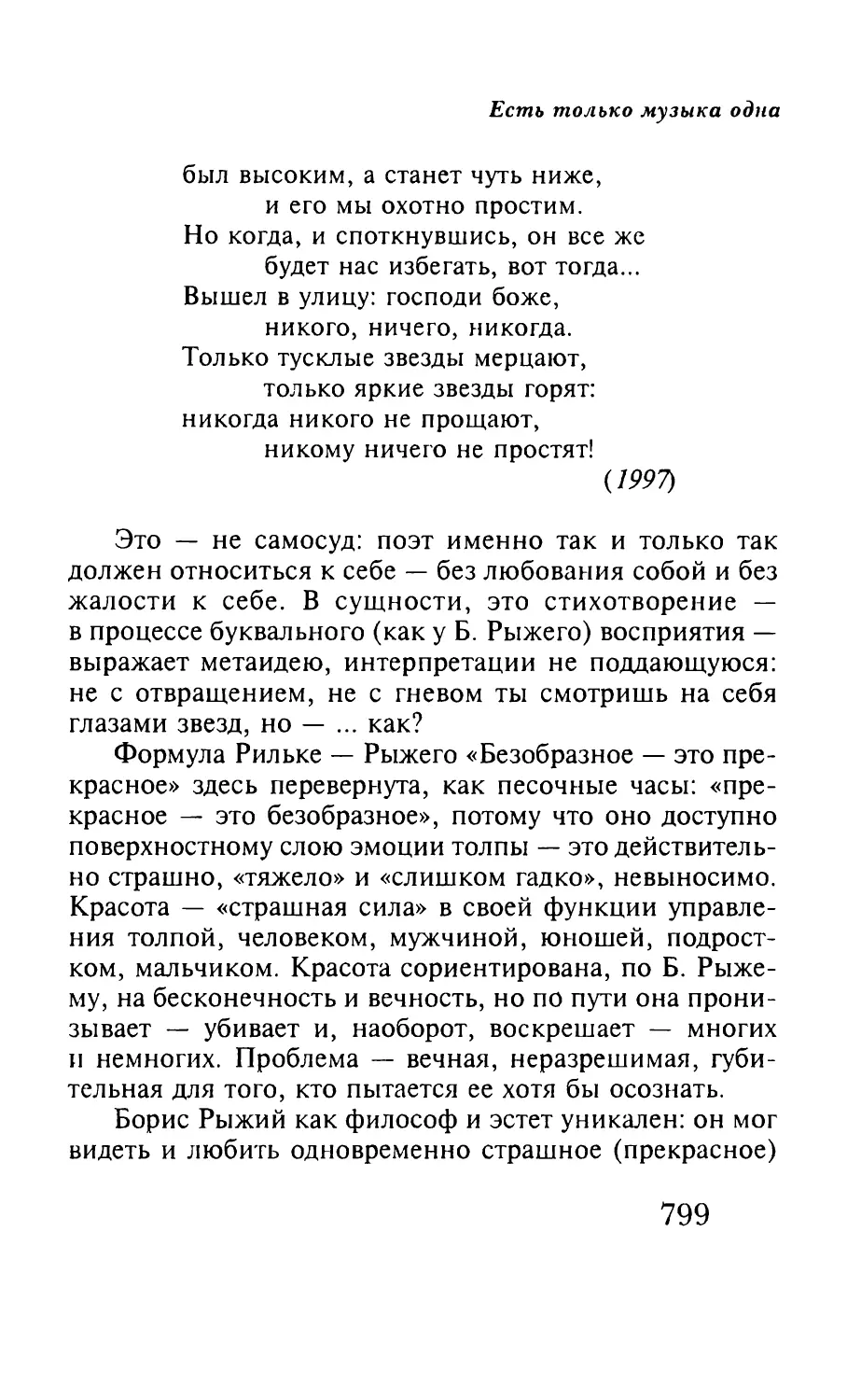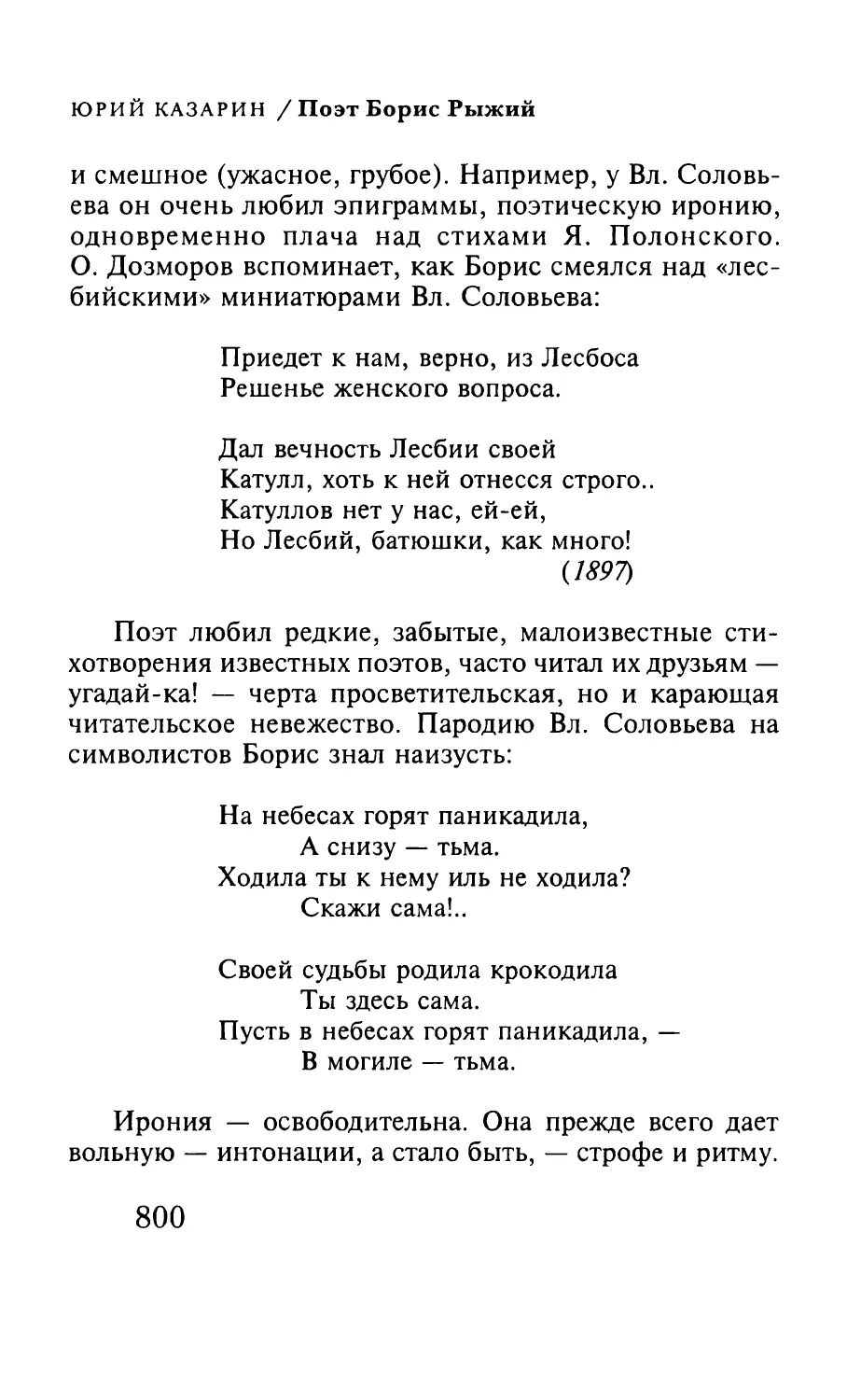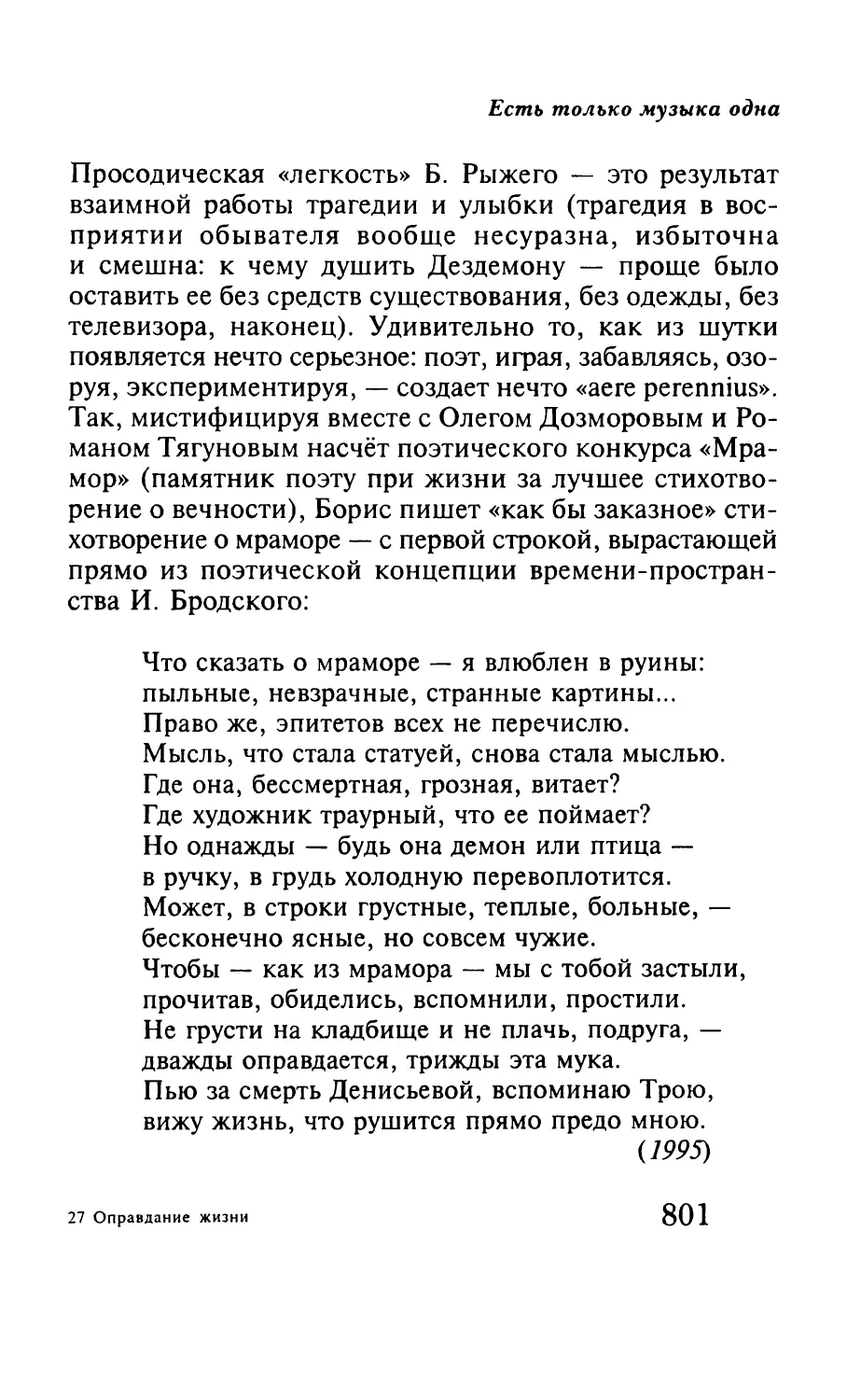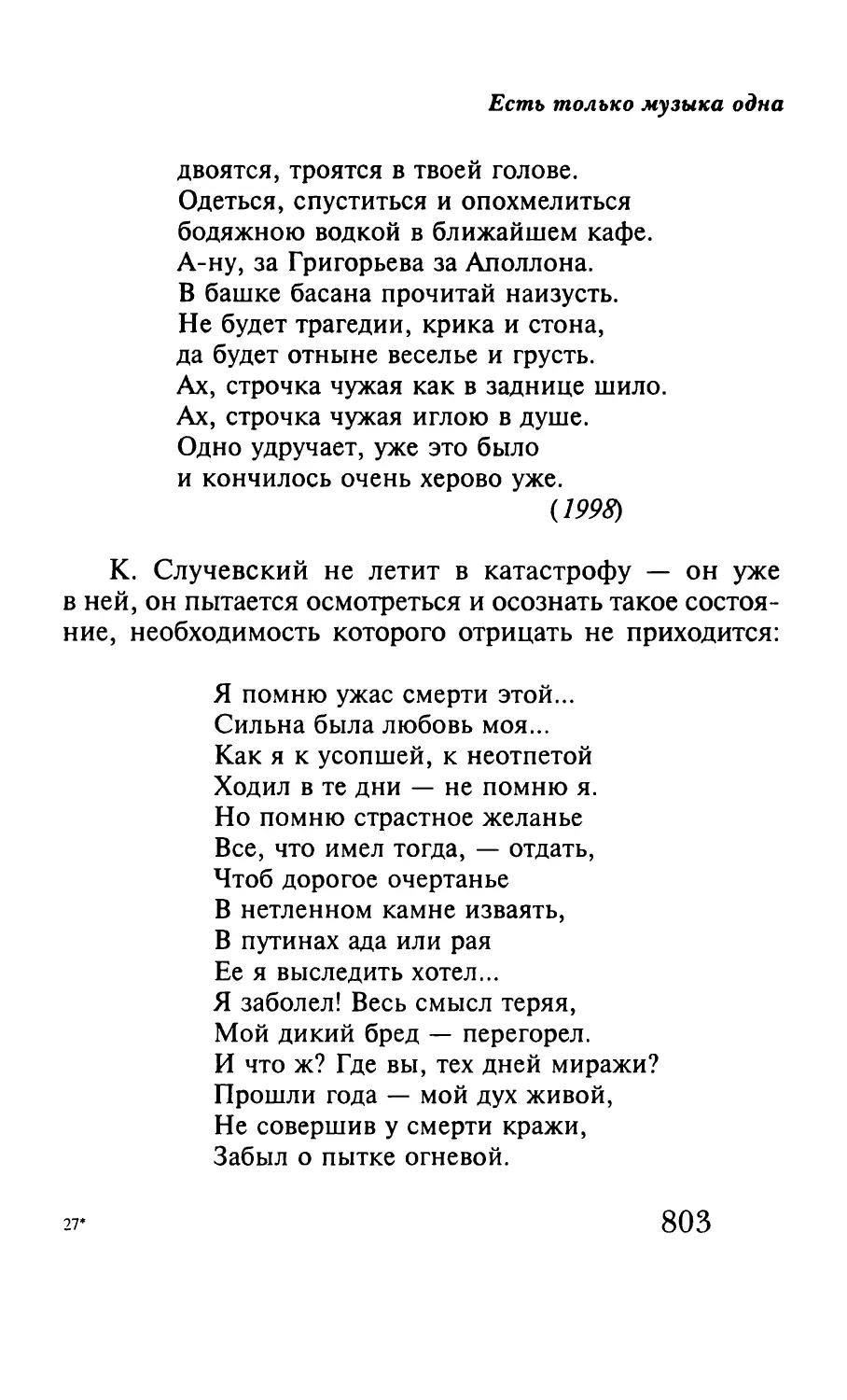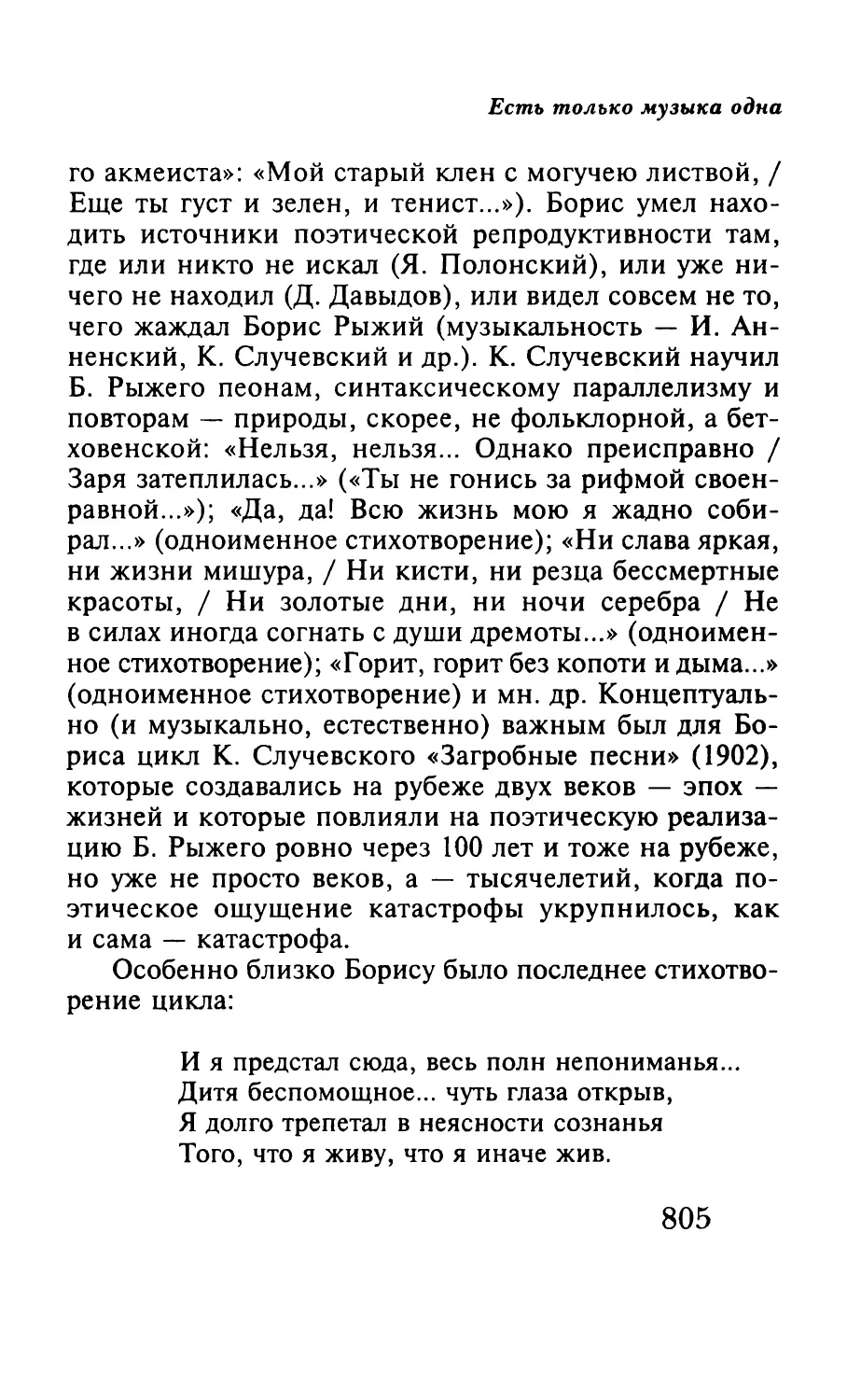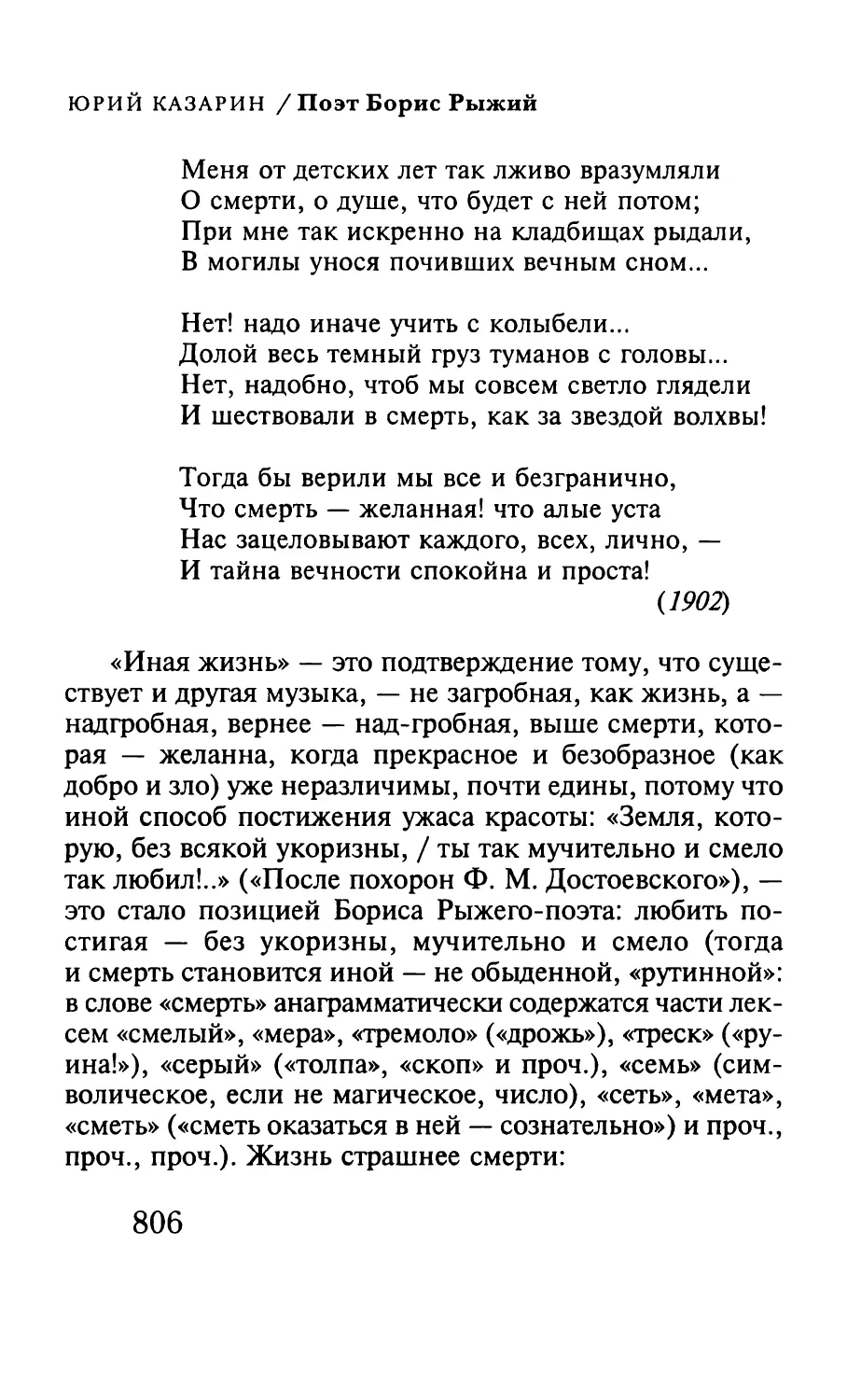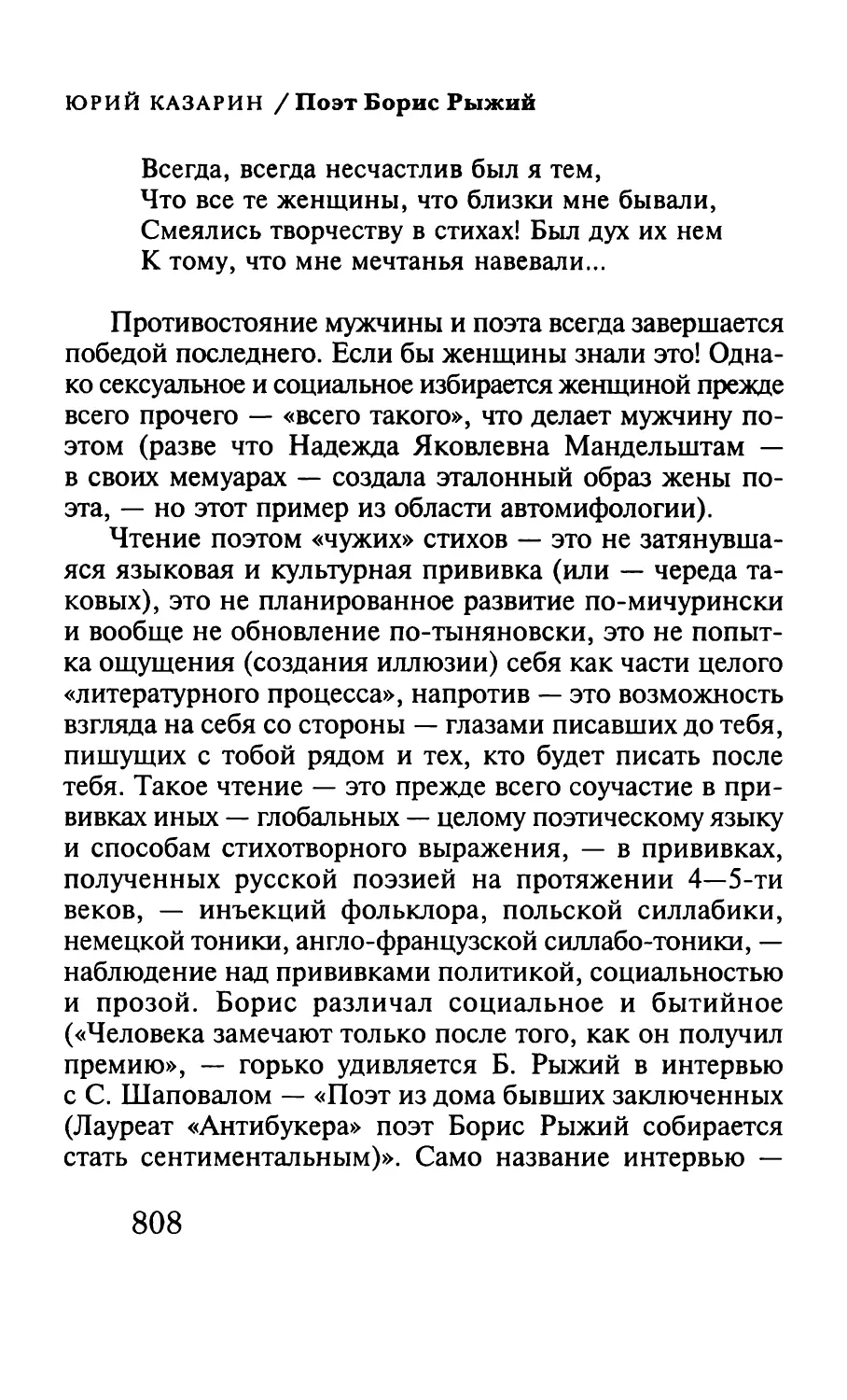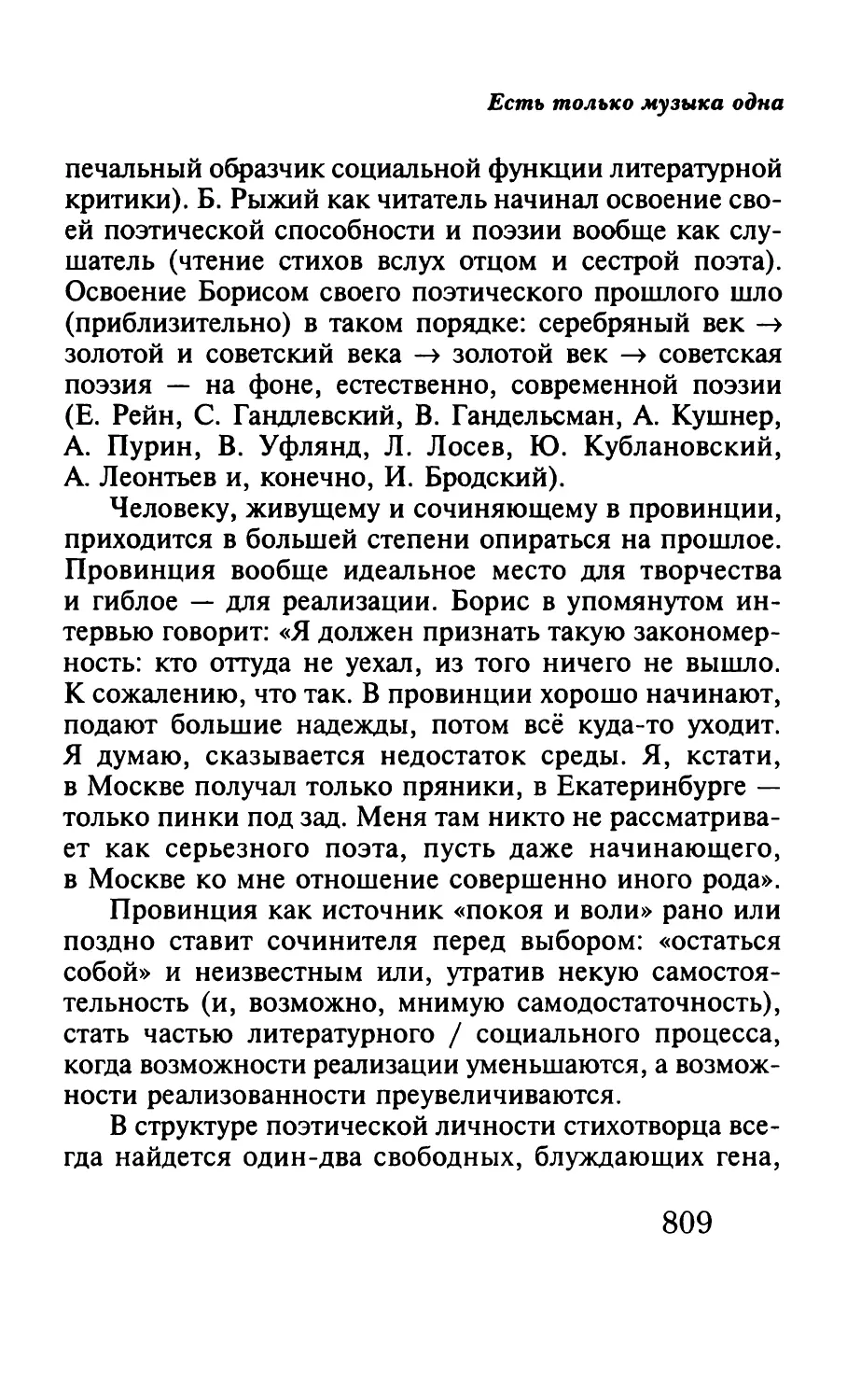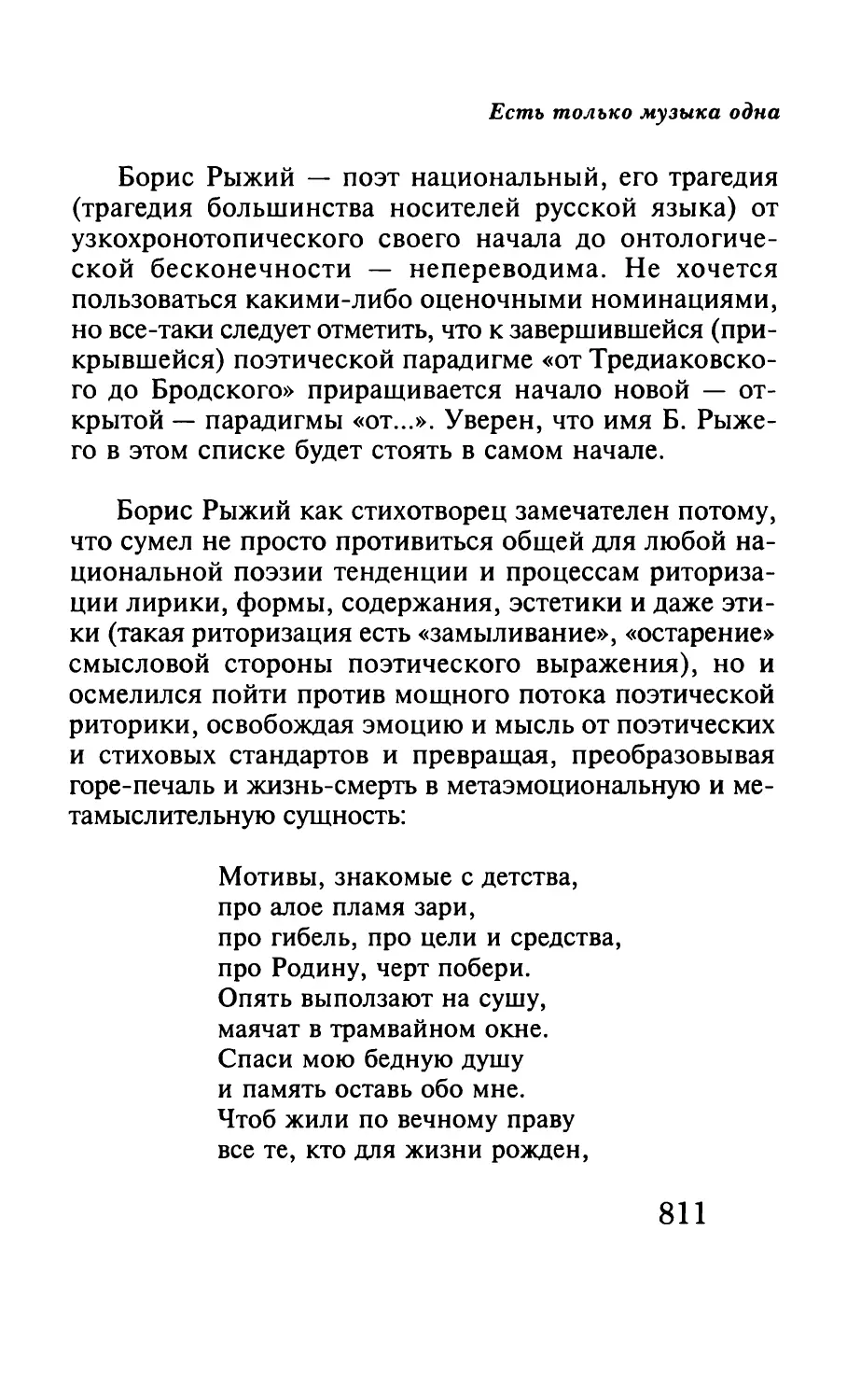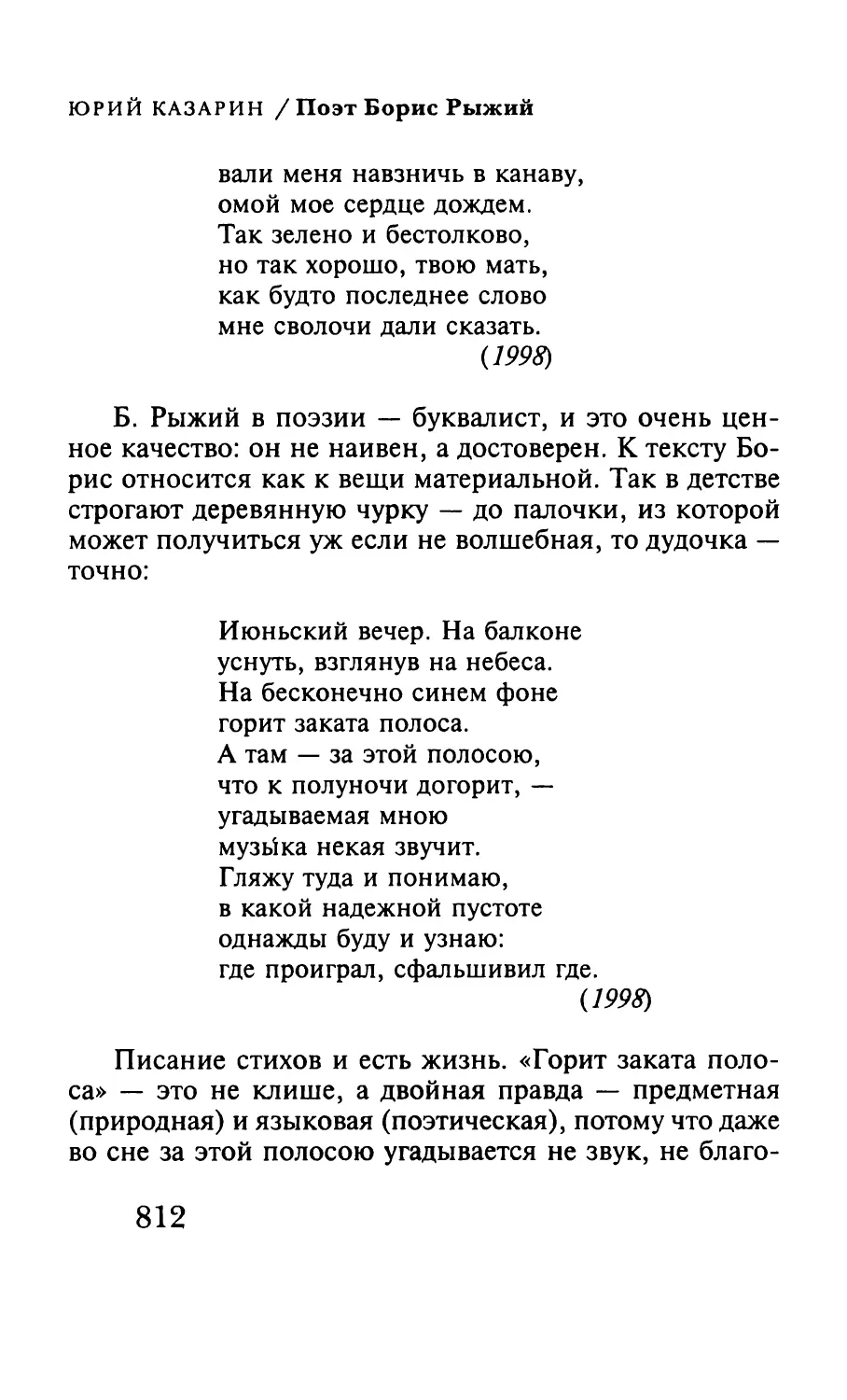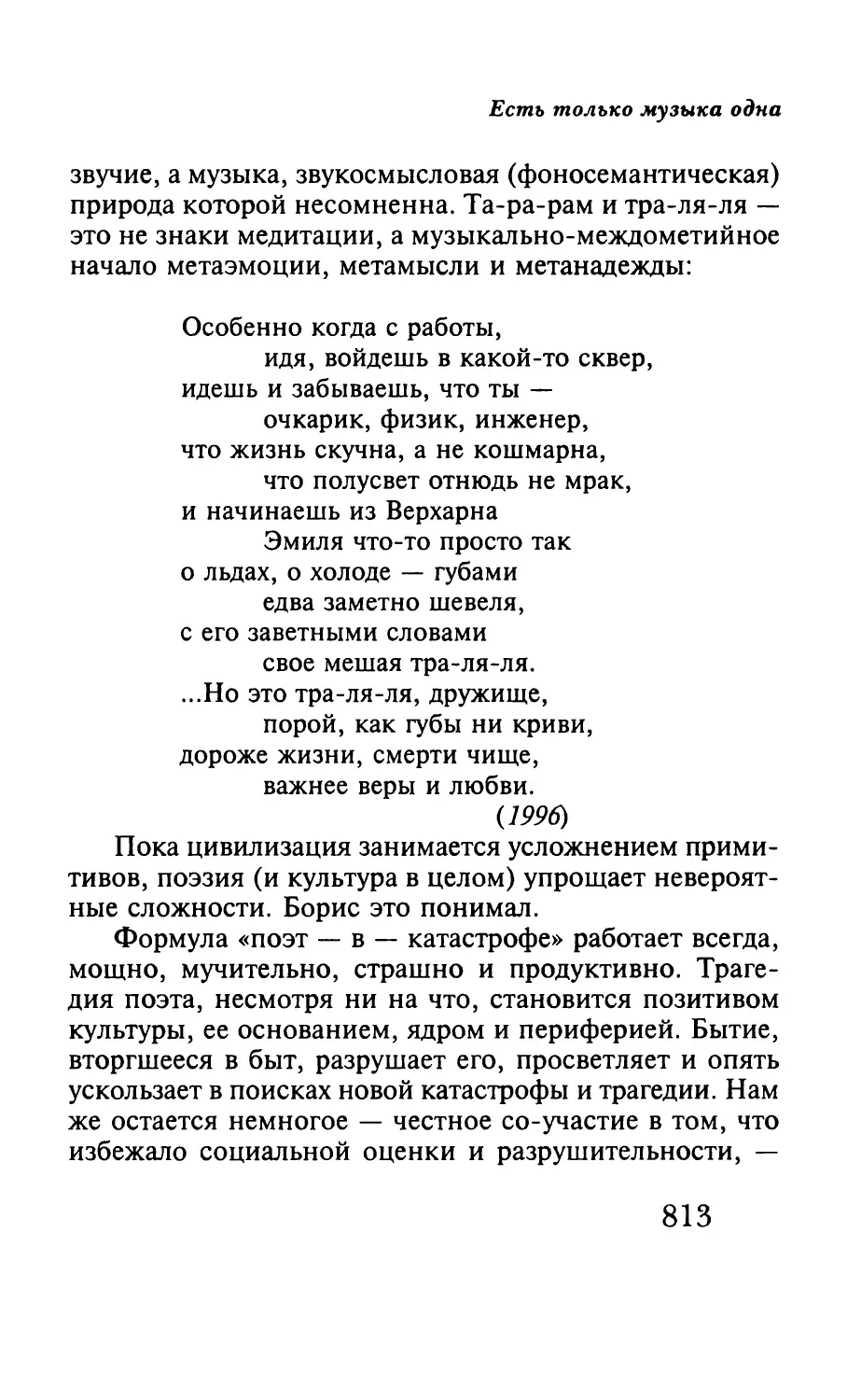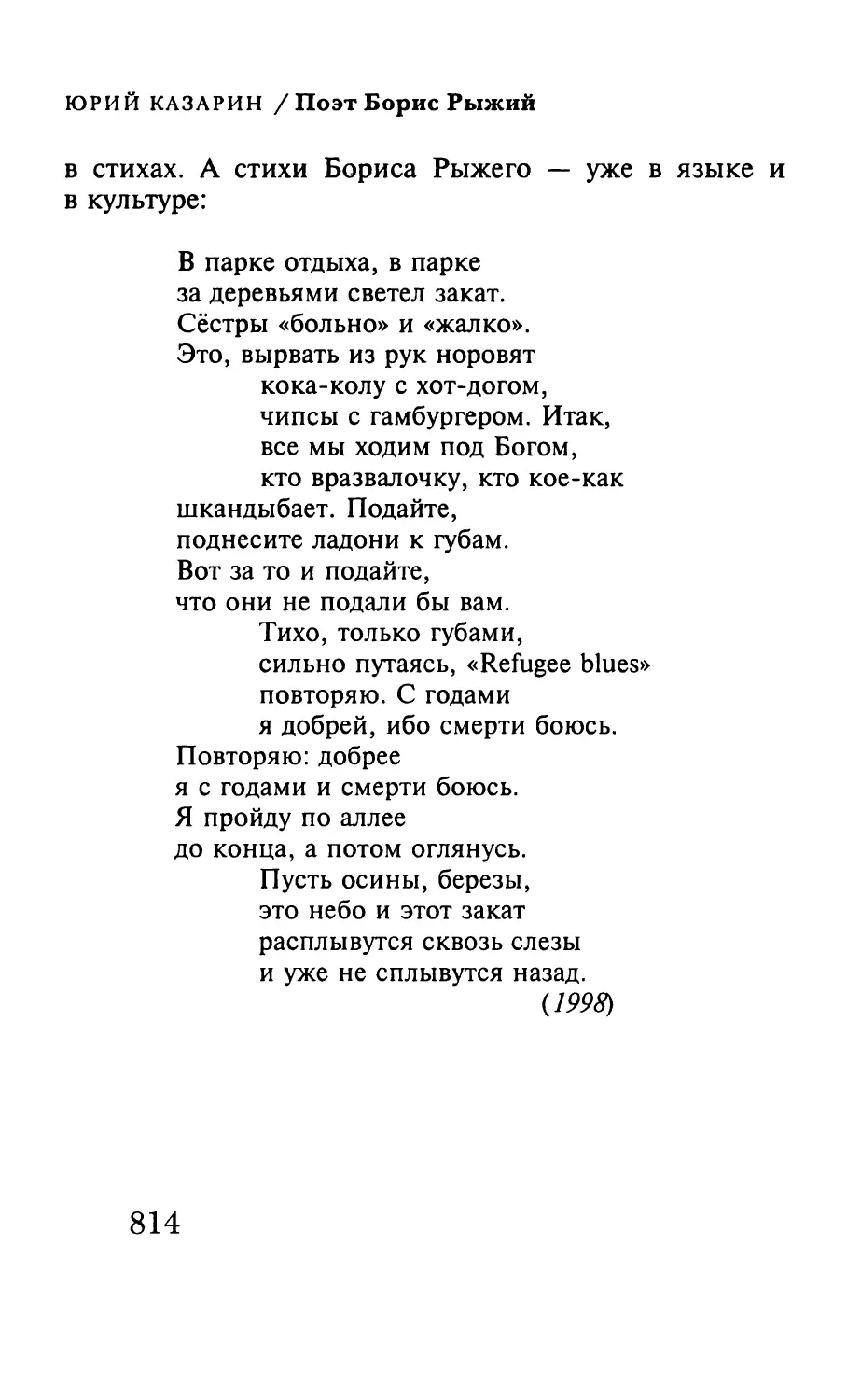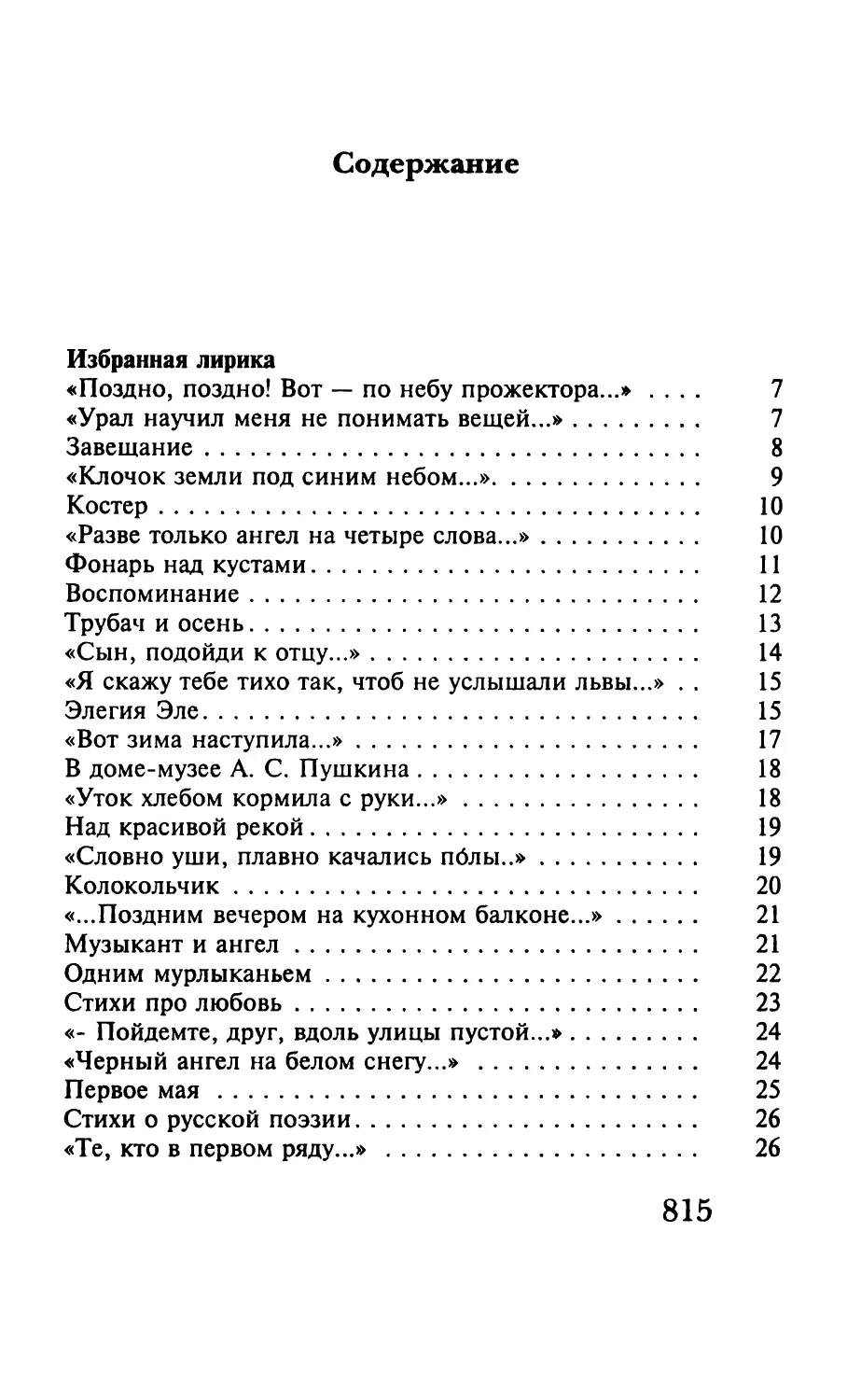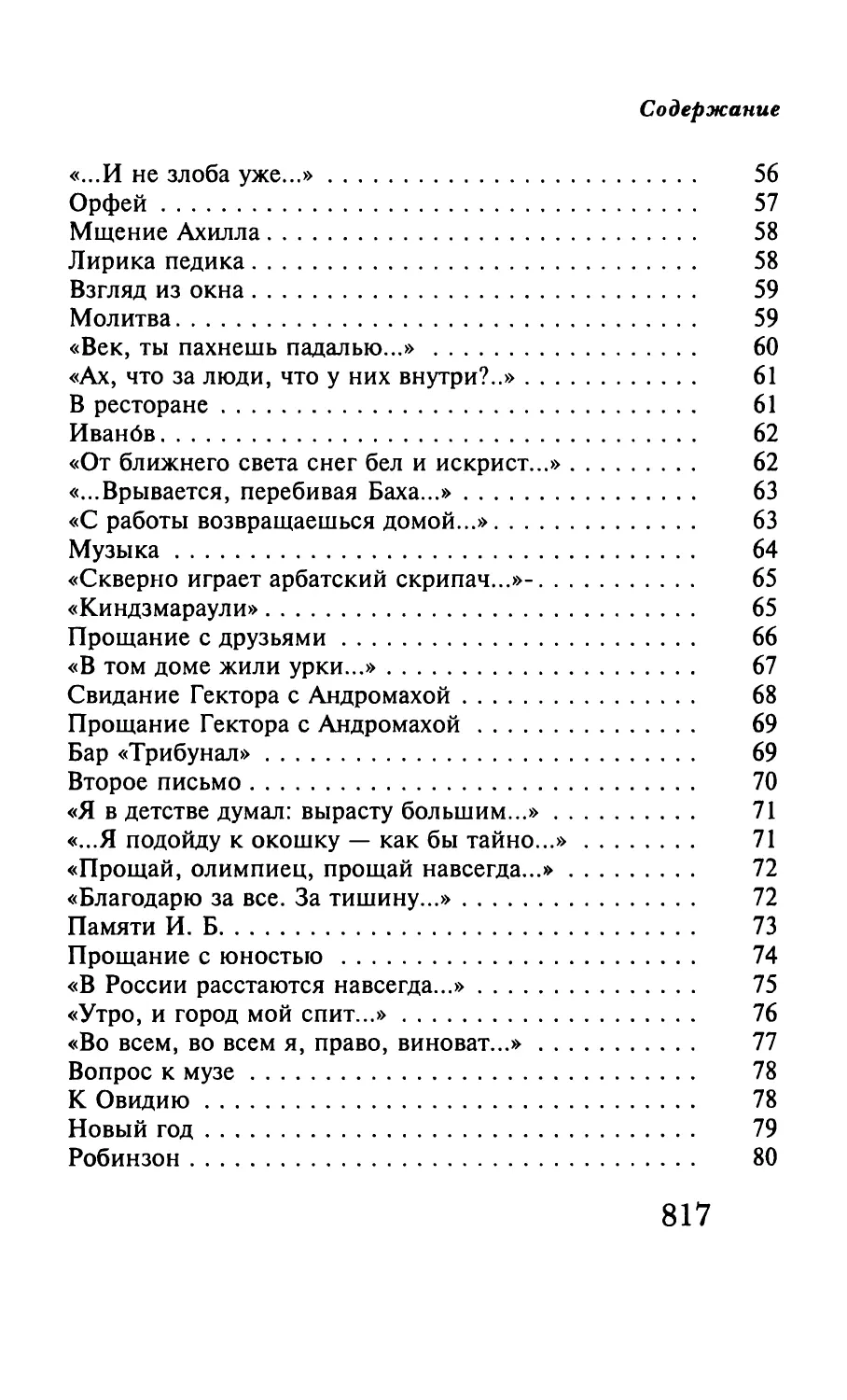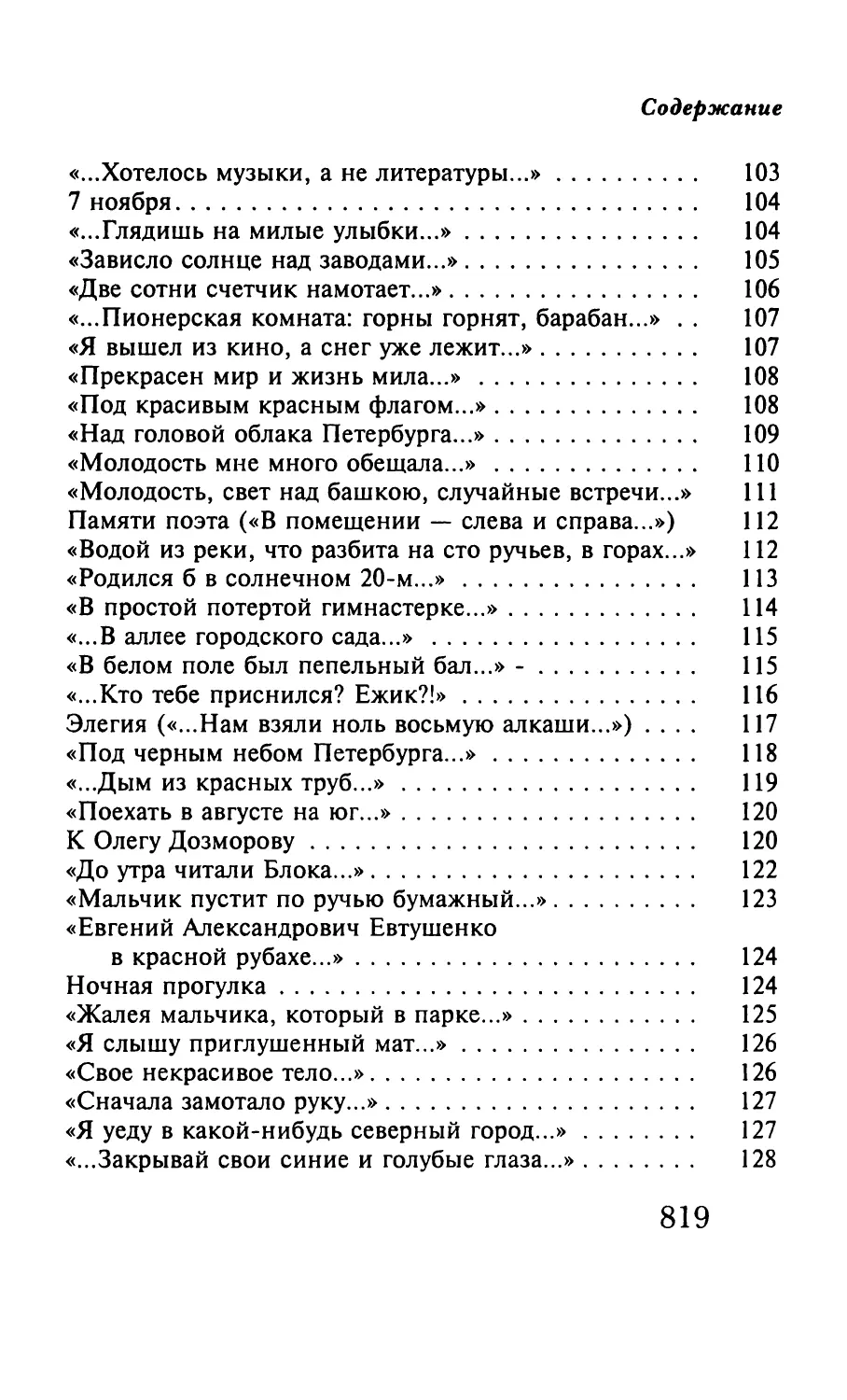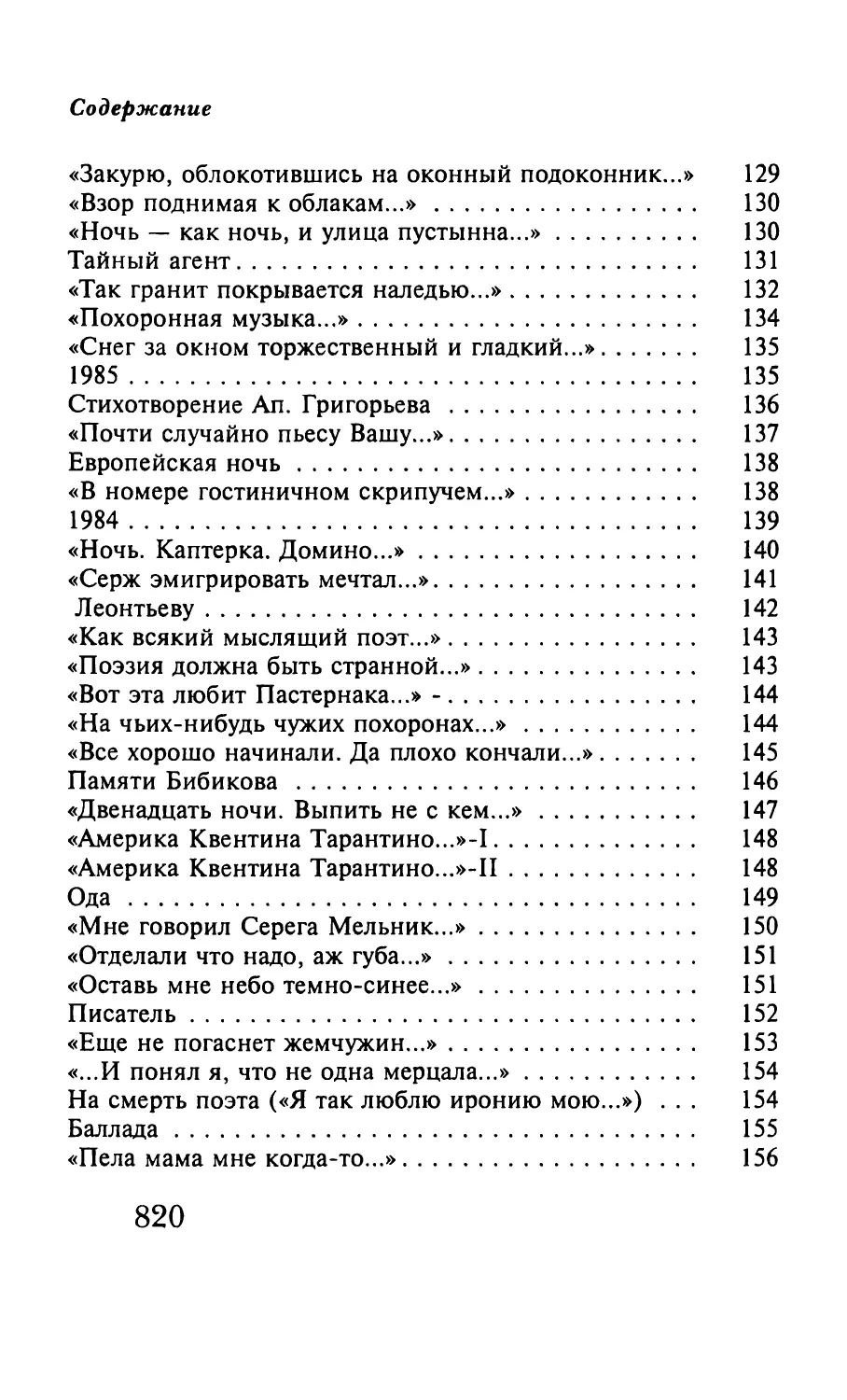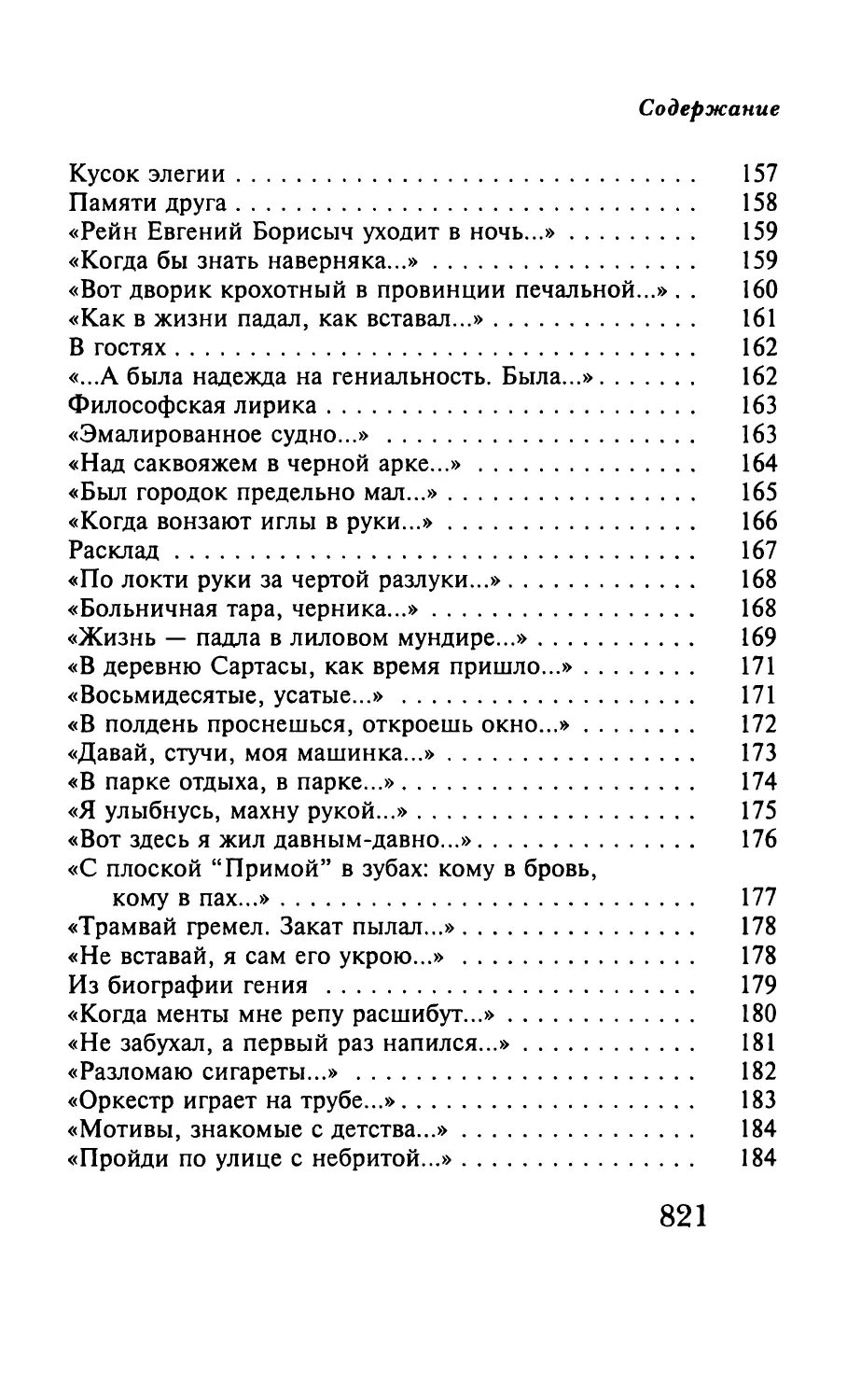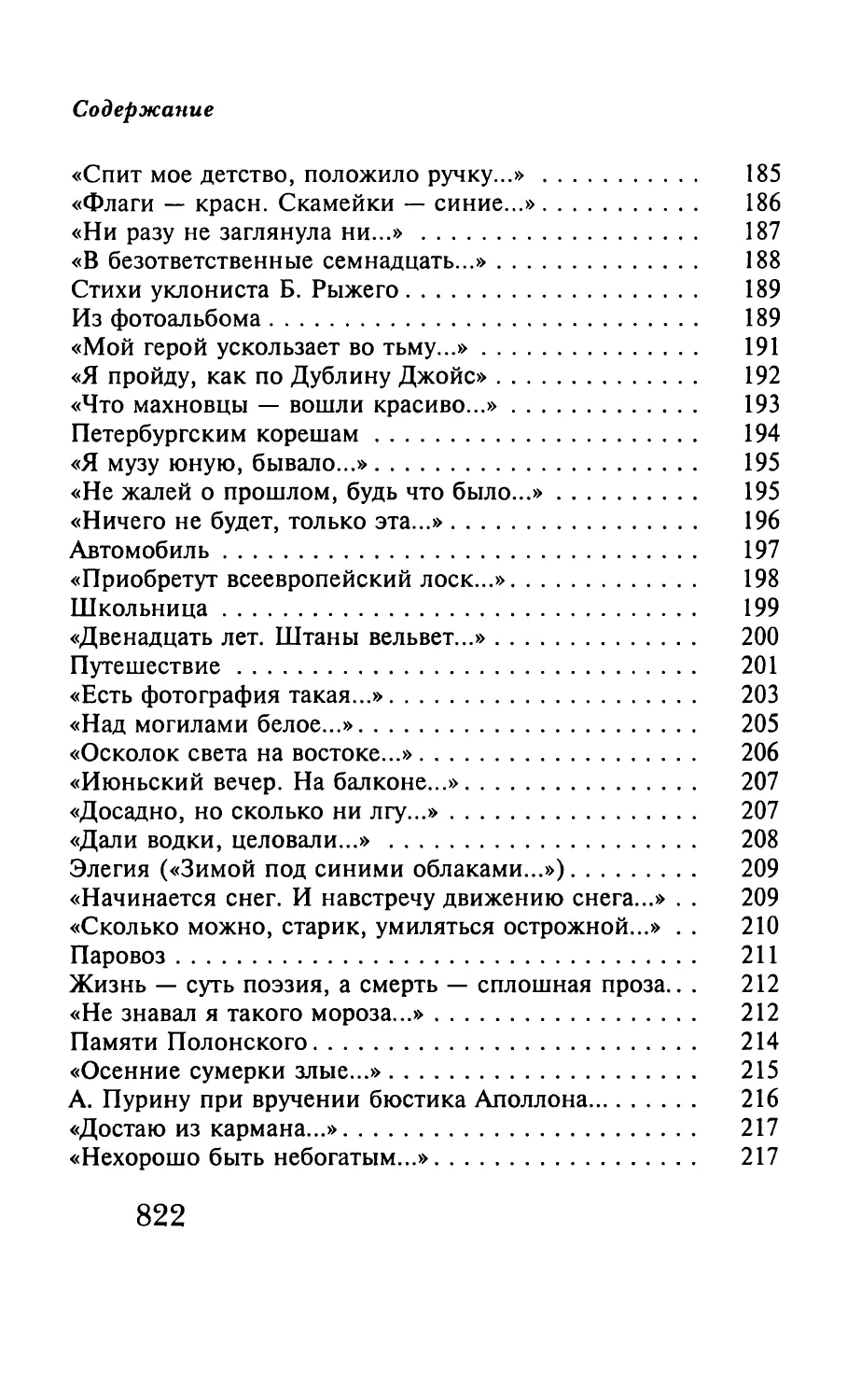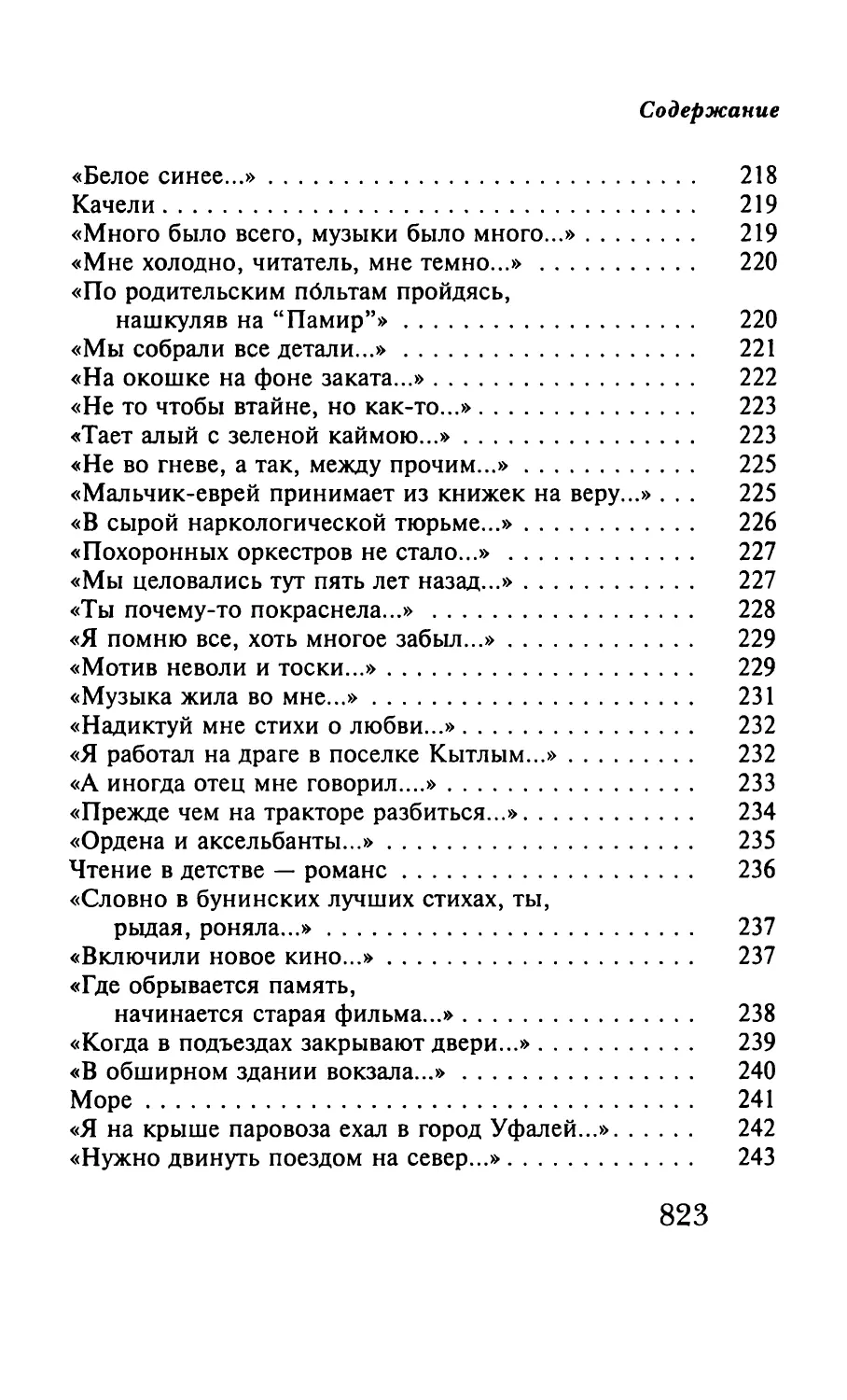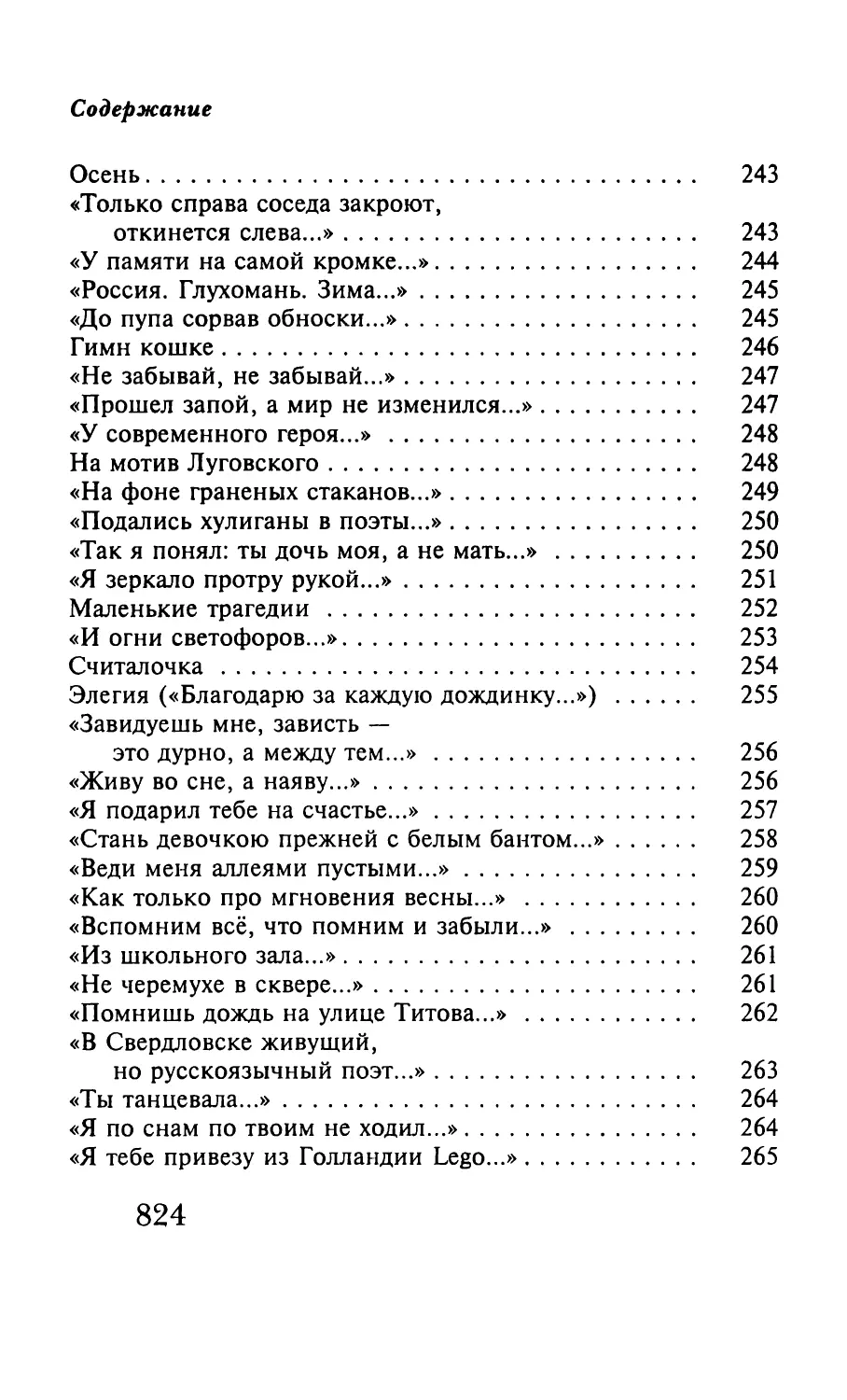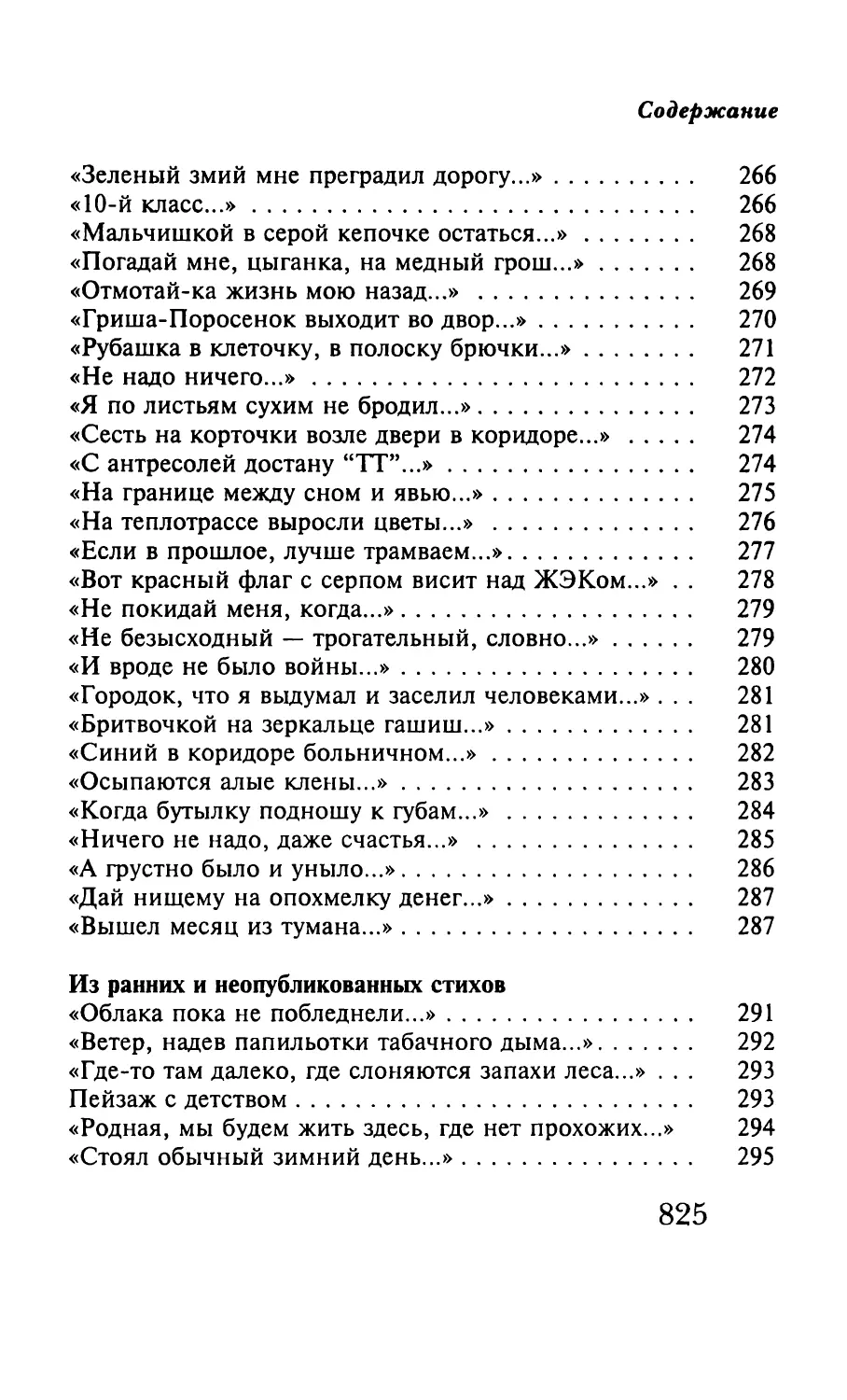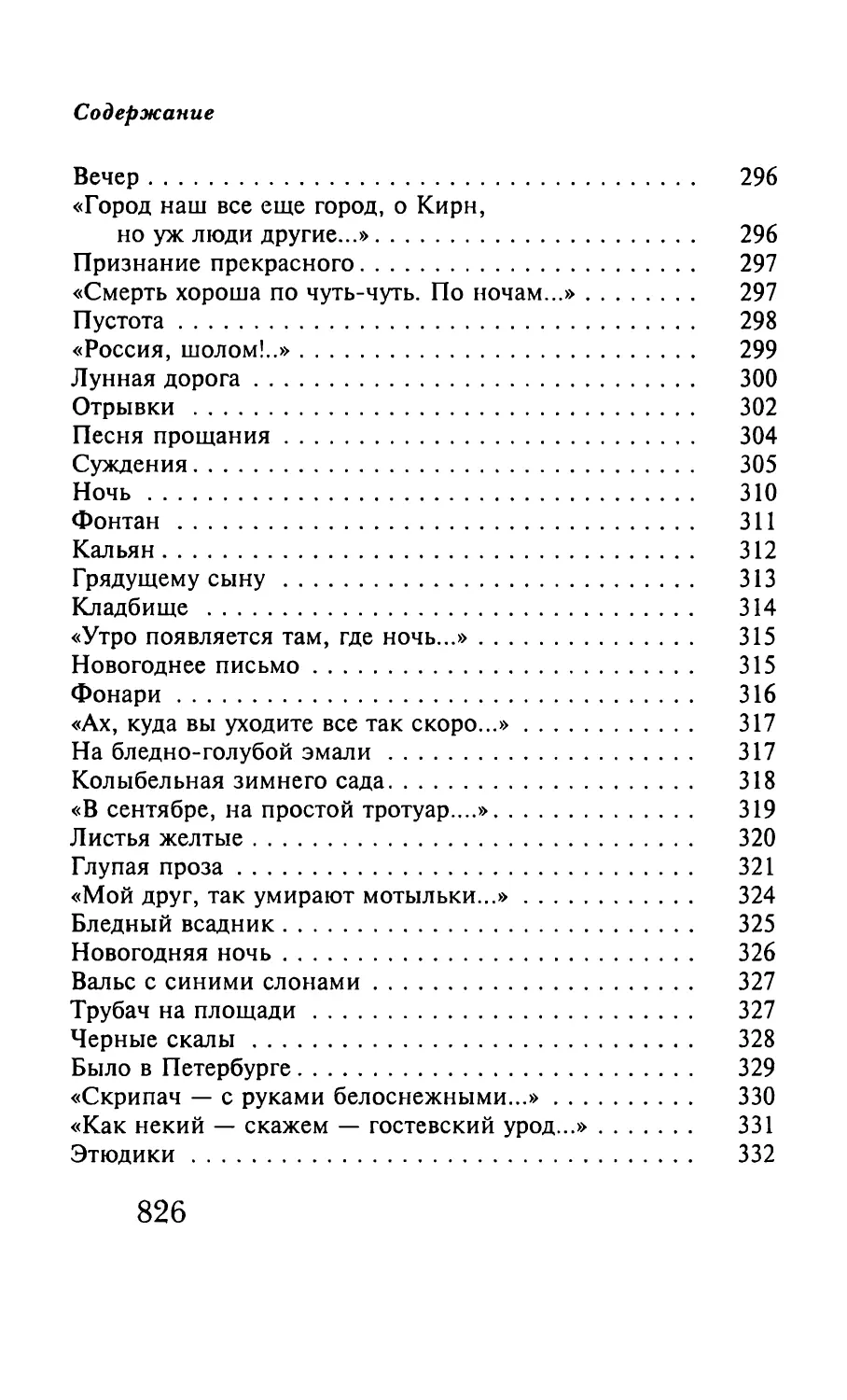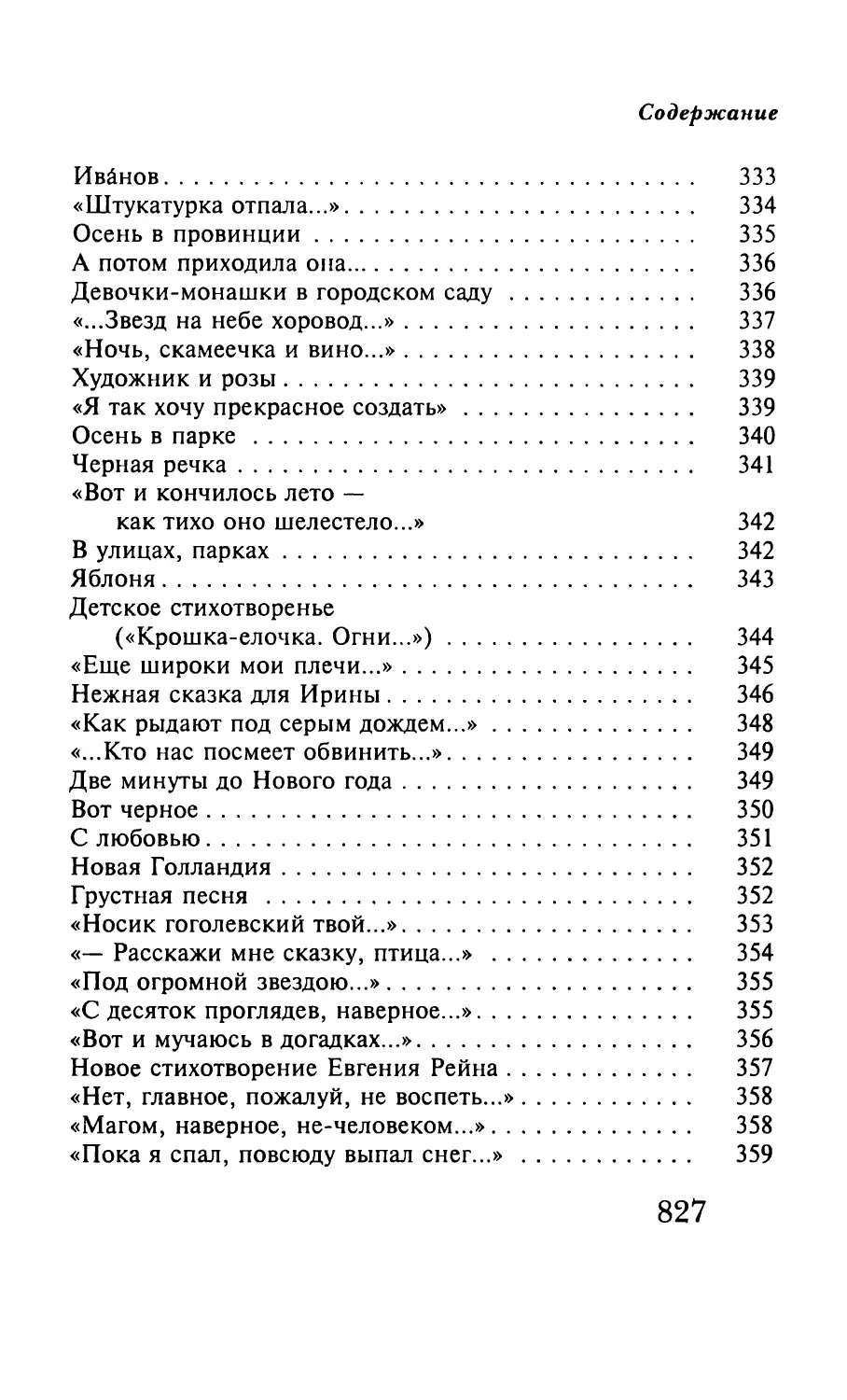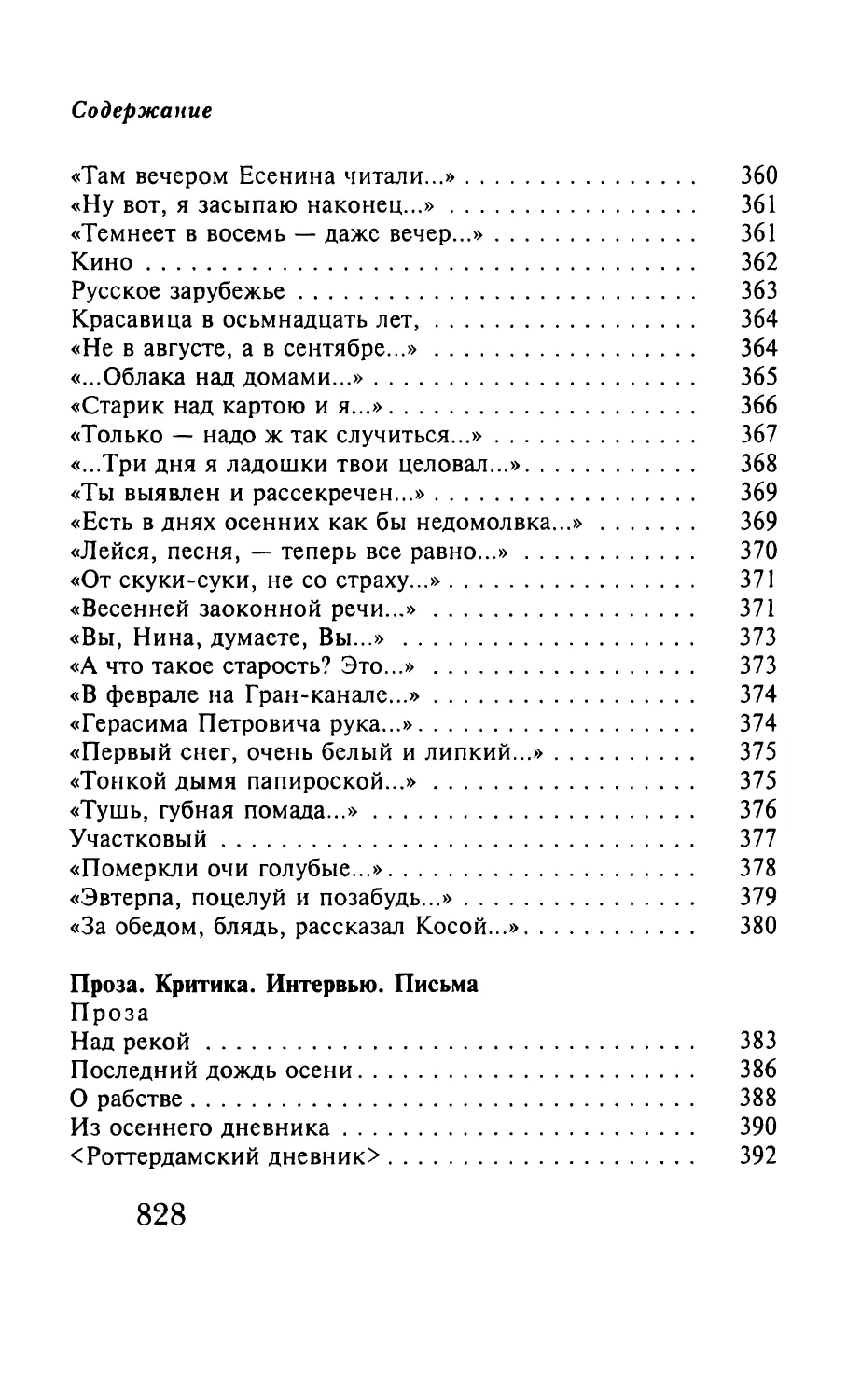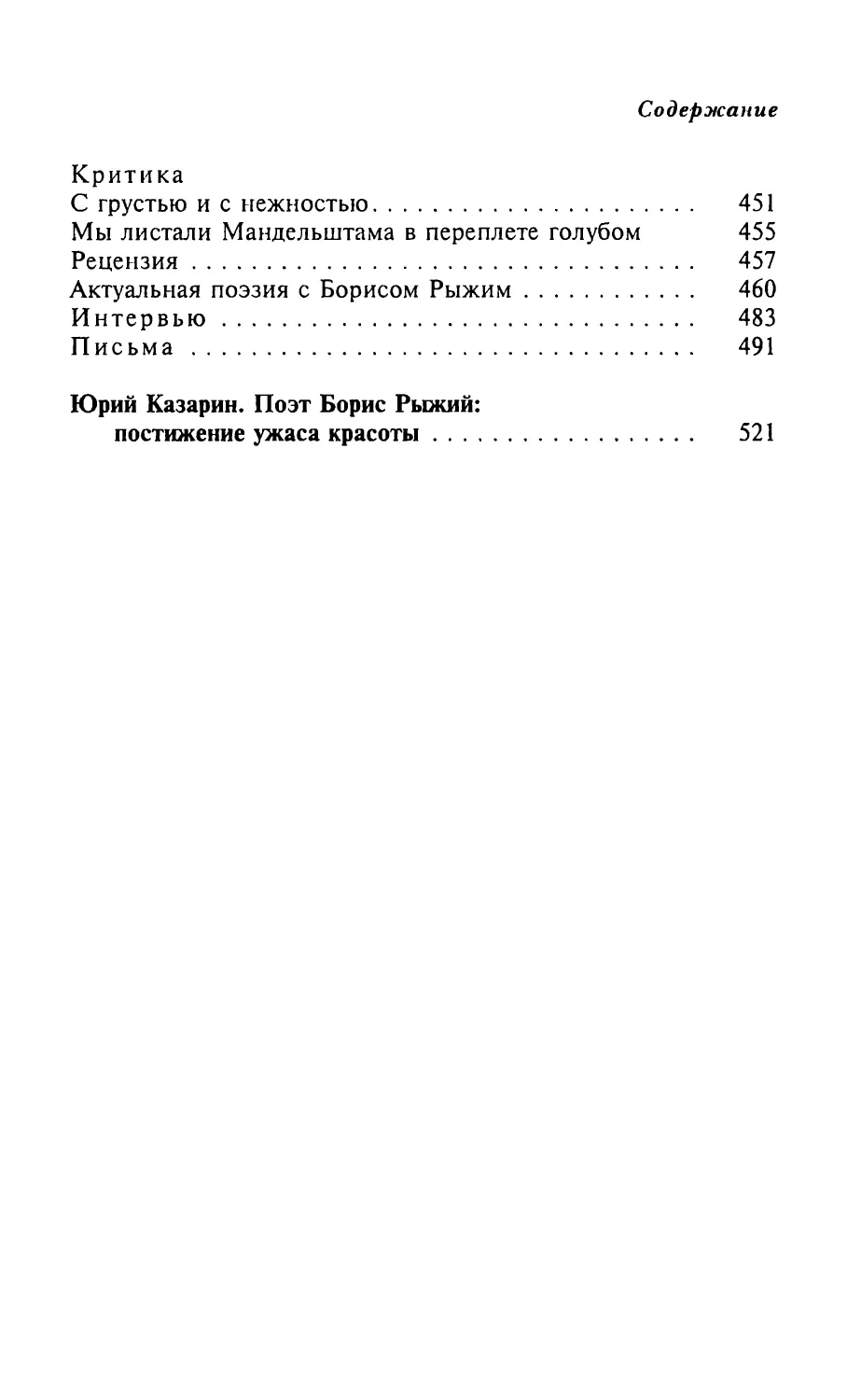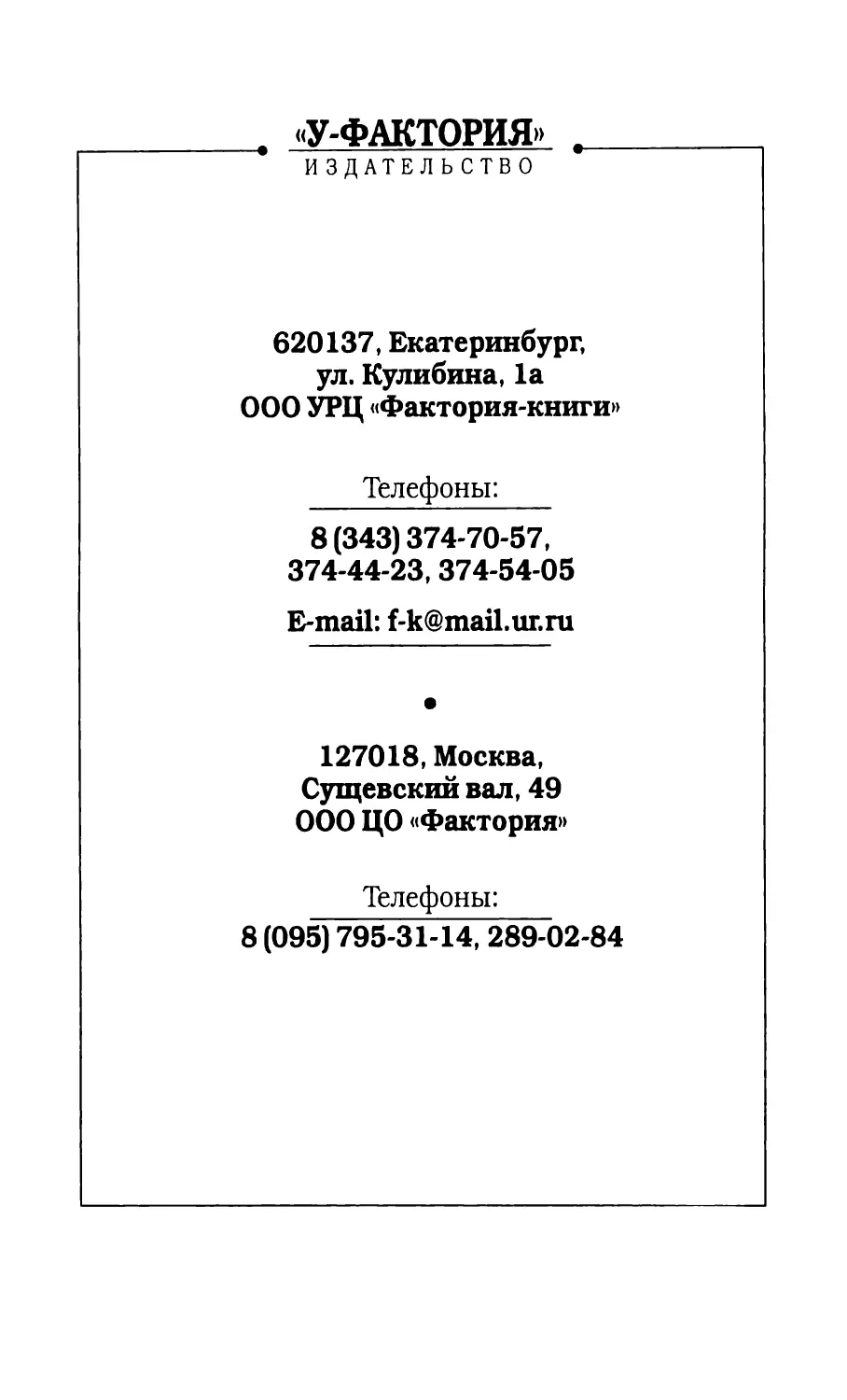Автор: Рыжий Б.
Теги: художественная литература проза стихотворения письма лирика интервью
ISBN: 5-94799-381-3
Год: 2004
Текст
ЛИРИКА . ПРОЗА . КРИТИКА . ИНТЕРВЬЮ . ПИСЬМА
ОПРАВДАНИЕ ЖИЗНИ
Я думаю,
поэт должен
выступать адвокатом,
но никак не прокурором
по отношению к жизни —
мы, поэты,
должны оправдать ее.
Мне кажется,
что я оправдываю,
многое оправдываю.
Мне хотелось, когда я писал
стихи, оправдать жизнь.
Борис Рыжий
ИЗБРАННАЯ ЛИРИКА
ИЗ РАННИХ
И НЕОПУБЛИКОВАННЫХ
СТИХОТВОРЕНИЙ
ПРОЗА
КРИТИКА
ИНТЕРВЬЮ
ПИСЬМА
ЛИРИКА . ПРОЗА . КРИТИКА . ИНТЕРВЬЮ . ПИСЬМА
Во
'орис /" ыжии
ОПРАВДАНИЕ ЖИЗНИ
Екатеринбург
У-Фактория
2004
ББК 84
P 93
Рыжий Б. Б.
Р 93 Оправдание жизни. — Екатеринбург: У-Фактория,
2004. - 832 с.
ISBN 5-94799-381-3
Недолгая земная жизнь Бориса Рыжего (1974—2001) продолжается в его стихах. За подборками в журналах и коллективных
сборниках, книгами — «И все такое...» (2000) и «На холодном
ветру» (2001), которые автор, лауреат премии Антибукер (1999),
сам подписывал в печать, выходят посмертные публикации: «Стихи: 1993—2001» — однотомник «Пушкинского фонда» (ММШ),
большие подборки в «Знамени», «Звезде», «Urbi» и других журналах. Стихи Б. Рыжего опубликованы в Италии, Голландии —
в Амстердаме вышла книга стихов Бориса «Wolken boven E» (2004).
Однотомник избранных произведений нашего земляка, составленный Ю. В. Казариным при участии отца поэта, включает
в себя как лучшие стихотворения из уже выходивших сборников,
так и лирику, не издававшуюся до сих пор, а также прозу и критическую публицистику из архивов автора и часть его эпистолярного наследия.
ISBN 5-94799-381-3
© Рыжий Б. Б., 2004
© Казарин Ю. В., послесл., 2004
© Издательство «У-Фактория», 2004
ЛИРИКА . ПРОЗА . КРИТИКА . ИНТЕРВЬЮ . ПИСЬМА
ИЗБРАННАЯ ЛИРИКА
Поздно, поздно! Вот — nó небу прожектора
загуляли, гуляет народ.
Это в клубе ночном, это фишка, игра.
Словно год 43-й идет.
Будто я от тебя под бомбежкой пойду —
снег с землею взлетят позади,
и, убитый, я в серую грязь упаду...
Ты меня разбуди, разбуди.
1992
* * *
Урал научил меня не понимать вещей
элементарных. Мой собеседник — бред...
С тополя обрываясь, листы — «ничей»,
«чей», «ничей», как ромашка, кончались — «нет».
Мой собеседник-бред ни черта не знать
научил. В телаге, а-ля твой сосед-зэка,
7
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
я шнырял по нему. Если Бог и дарил мне взгляд
сквозь луну, то, как надзиратель, —
сквозь пуп глазка.
И хоть даль, зашвырнув горизонт
(как лопа ту Фрост1,
спешащий до друга с беседой), идет ко мне
руку лизать юляще, как добрый пес,
мигая румянцем, алеющим на щеке,
все равно пред глазами, на памяти,
на памяти, на слуху:
беготня по заводу, крик, задержавший нас,
труп, качающийся под потолком, в цеху
ночном. И тень, как маятник, между глаз.
1993, март
Завещание
В. с.
Договоримся так: когда умру,
ты крест поставишь над моей могилой.
Пусть внешне будет он как все кресты,
но мы, дружище, будем знать с тобою,
что это — просто роспись. Как в бумаге
безграмотный свой оставляет след,
хочу я крест оставить в этом мире.
1 Фрост Роберт Ли (1875—1963) — американский поэт (здесь и далее,
кроме случаев, отмеченных особо, примечания редактора).
8
Избранная лирика
Хочу я крест оставить. Не в ладах
я был с грамматикою жизни.
Прочел судьбу, но ничего не понял.
К одним ударам только и привык,
к ударам, от которых, словно зубы,
выпадывают буквы изо рта.
И пахнут кровью.
1993, ноябрь
* * *
Клочок земли под синим небом.
Не приторный и чистый воздух.
И на губах, как крошки хлеба,
глаза небес: огни и звезды.
Прижмусь спиной к стене сарая.
Ни звука праздного, ни тени.
Земля — она всегда родная,
чем меньше значишь, тем роднее.
Пусть здесь меня и похоронят,
где я обрел на время радость.
С сырым безмолвьем перегноя
нам вместе проще будет сладить,
чтоб, возвернувшись в эту небыль,
промолвить, раздувая ноздри:
«Клочок земли под синим небом.
Не приторный и чистый воздух».
1993, июль
9
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Костер
Внезапный ветр огромную страну
сдул с карты, словно скатерть, — на пол.
Огромный город летом — что костер,
огонь в котором — пестрая одежда
и солнце. Нищие сидят
на тротуарах в черных одеяньях.
И выглядят как угли. У девчушки
на голове алеет бант — она
еще немножко тлеет. Я ищу
в пустом кармане что-то — может, деньги
для нищих, может, справку в небеса,
где сказано, что я не поджигатель.
...А для пожарника я просто слаб.
1993, ноябрь
* * *
Разве только ангел на четыре слова
спустится с небес.
Я, со стуком в двери спутав стук больного,
выхожу в подъезд.
И дитя осенней старой и печальной
кинутой звезды
допивает что-то из груди стеклянной,
но глаза чисты.
Здесь бывал такой-то», «Лена любит Любу»,
«Некто Цой всегда...»,
10
Избранная лирика
Только ночью вижу тех, кто здесь не будет
больше никогда.
Отворить почтовый и, сухие листья
высыпав, закрыть.
Знаю, что правдивей и безмолвней писем
мне не получить.
Потому что можно не читать и вовсе
не писать ответ.
Только я подумал — появились гости
первый раз за ... лет.
Вот и слышу, где-то музыка играет,
тыщу лет играй.
«Здравствуй, моя Мурка, здравствуй, дорогая,
здравствуй и прощай».
1994, май
Фонарь над кустами
Ты помнишь темную аллею,
где мы на лавочке сидели,
о чем — не помню — говоря?
Фонарь глядел на нас печально —
он бледен был необычайно
тогда, в начале сентября.
Кусты заламывали кисти.
Как слезы, осыпались листья.
11
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Какая снилась им беда?
Быть может, то, что станет с нами,
во сне осознано кустами
еще осенними тогда.
Коль так, то бремя нашей боли
мы им отдали поневоле,
мой ангел милый, так давно,
что улыбнись — твоя улыбка
в печаль ударится, как рыбка —
в аквариумное стекло.
И собирайся поскорее
туда, на темную аллею —
ходьбы туда всего лишь час —
быть с теми, кто за нас рыдает,
кто понимает, помнит, знает,
ждет. И тревожится за нас.
1994, октябрь
Воспоминание
Над детским лагерем пылает красный флаг,
Затмив собой огонь рассвета.
О, барабаны бьют, и — если что не так —
Марат Казей1 сойдет с портрета
Всем хулиганам, всем злодеям на беду.
А я влюблен и, вероятно,
1 Казей Марат Иванович (1929—1944) — пионер, разведчик партизанского отряда. Окруженный врагами, подорвал себя гранатой.
12
Избранная лирика
До слез — увы — она стоит в другом ряду —
Мила, причесана, опрятна...
...Не память дней былых меня пугает, друг —
Был день тот летний и прекрасный.
Ведь если время вспять пустить ты сможешь вдруг,
То это будет труд напрасный —
Мне к ней не подойти, ряды не проломить.
Своим же детским сожаленьем
Кажусь себе, мой друг, — о, научи любить,
Любовь мешая с омерзеньем.
1994
Трубач и осень
Полы шляпы висели, как уши слона.
А на небе горела луна.
На причале трубач нам с тобою играл —
словно хобот, трубу поднимал.
Я сказал: посмотри, как он низко берет,
и из музыки город встает.
Арки, лестницы, лица, дома и мосты —
неужели не чувствуешь ты?
Ты сказала: я чувствую город в груди —
арки, люди, дома и дожди.
Ты сказала: как только он кончит играть,
все исчезнет, исчезнет опять.
О, скажи мне, зачем я его не держал,
не просил, чтоб он дальше играл?
И трубач удалялся — печален, как слон.
Мы стояли у пасмурных волн.
13
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
И висели всю ночь напролет фонари.
Говори же со мной, говори.
Но настало туманное утро, и вдруг
все бесформенным стало вокруг —
арки, лестницы, лица, дома и мосты.
И дожди, и речные цветы.
Это таял наш город и тек по рукам —
навсегда, навсегда — по щекам.
1994, сентябрь,
Санкт - Петербург
* * *
Сын, подойди к отцу.
Милый, пока ты зряч,
ближе склонись к лицу.
Сын, никогда не плачь.
Бойся собственных слез,
как боятся собак.
Пьян ты или тверёз,
свет в окне или мрак.
Старым стал твой отец,
сядь рядом со мной.
Видишь этот рубец —
он оставлен слезой.
1994, сентябрь
14
Избранная лирика
* * *
Ибо я не надеюсь вернуться...
T. С. Элиот
Я скажу тебе тихо так, чтоб не услышали львы,
ибо знаю их норов над обсидианом Невы.
Ибо шпиль-перописец выводит на небе «прощай»,
я скажу тебе нежно, дружок, я шепну невзначай.
Все темней и темней, и страшней,
и прохладней вокруг.
И туда, где теплей, скоро статуи двинут — на юг.
Потому и шепну, что мы вместе останемся здесь —
вся останешься ты и твой спутник
встревоженный — весь.
Они грузно пройдут, на снегу оставляя следы.
Мимо нас навсегда, покидая фасады, сады.
Они дружно пройдут, наши смертные
лица презрев, —
снисходительны будем, к лицу ли нам,
милая, гнев.
Мы проводим их молча и после не вымолвим слов,
ибо с ними уйдет наше счастье и наша любовь.
Отвернемся, заплачем, махнув им холодной рукой
в Ленинграде — скажу — в Петербурге
над черной рекой.
1994, октябрь
Элегия Эле
Как-то школьной осенью печальной,
от которой шел мороз по коже,
наши взгляды встретились случайно —
ты была на ангела похожа.
15
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Комсомольские бурлили массы,
в гаражах курили пионеры.
Мы в одном должны учиться классе,
собрались на встречу в школьном сквере.
В белой блузке, с личиком ребенка,
слушала ты речи педагога.
Никого не слушал, думал только —
милый ангел, что в тебе земного?
Миг спустя, любуясь башмаками,
мог ли ведать, что смотрел моими
школьными и синими глазами
Бог — в твои небесно-голубые.
Знал ли — не пройдет четыре года,
я приеду с практики на лето,
мне позвонит кто-нибудь — всего-то
больше нет тебя, и все на этом.
Подойти к окну. И что увижу? —
только то, что мир не изменился
от Москвы — как в песенке — и ближе.
Все живут. Никто не застрелился.
И победно небеса застыли.
По стене сползти на пол бетонный,
чтоб он вбил навеки в сей затылок
память, ударяя монотонно.
Ты была на ангела похожа —
как ты умерла на самом деле.
Эля! — восклицаю я — о боже!
В потолок смотрю и плачу, Эля.
1994, октябрь
16
Избранная лирика
* * *
Вот зима наступила.
И снежинки ссыпаются, как шестеренки,
из разобранной тучи.
О, великий, могучий,
помоги прокормить мне жену и ребенка.
Чтоб отца не забыли.
Снег хрустит под ногою.
Снег бинтует кровавую морду планеты.
Но она проступает
под ногою. Не знаю,
доживем ли до нового лета
мы, родная, с тобою.
Я встаю на колени.
Умываю лицо снегом, смешанным с кровью.
Горизонт — как веревка,
чтоб развешать пеленки
снов ненужных совсем. И с какою любовью...
И с любовью, и с ленью
припадаю к земле и
слышу шум в населенных, прокуренных недрах.
Это мертвые мчатся
на гробах. И несчастней,
и страшней самураев в торпедах.
И печальней, и злее.
1994, февраль
17
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
В доме-музее А. С. Пушкина
«...от Пушкина другой писатель и поэт
отстриг клочок волос. Пошлее, скажешь, нет
истории, дружок. Но как с него мы спросим?
И мы с тобой грешны. И мы под сердцем носим
нам дорогой до слез незримый волосок
России и тоски. Не морщи нос, дружок...» —
Я говорил тебе. Но, чувствуя, как колет
в груди, я замолкал, я умирал от боли,
дружок. И увядал у бедных губ моих
дитя гармонии, александрийский стих.
1994, август
* * *
Уток хлебом кормила с руки —
так проста — у холодной Невы.
Было, кажется, пасмурно и
так ей холодно было — увы.
Отражались в воде облака,
падал снег, и казалось иным —
белых ангелов кормит она —
с грустью ангельской — хлебом своим.
Так пройдут за годами года,
и, быть может, — безмозглый дурак —
в октябре я случайно туда
забреду и увижу: все так
же грустна, молода и проста —
кормит карликов-ангелов — ах.
18
Избранная лирика
Очарован, не брошусь с моста,
но умру у нее на руках.
1994, октябрь
Над красивой рекой
Если жизнь нам дана для разлуки,
я хочу попрощаться с тобой
в этот вечер, под мрачные звуки
мутных волн, под осенней звездой.
Может, лучше не будет мгновенья
для прощанья, и жизнь пролетит
бесполезно, а дальше — забвенье
навсегда, где никто не простит.
Можно долго стоять на причале,
обнимая тебя, теребя
папироску. Как мало прощали
и любили меня и тебя.
Закурить и глядеть, как проходит
мимо нас по красивой реке
пароход. Я скажу — пароходик,
но без нас, налегке, налегке.
1994, ноябрь
* * *
Словно уши, плавно качались пблы
у промокшей шляпы — печальный слоник,
на трубе играя, глядел на волны.
19
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
И садились чайки на крайний столик.
Эти просто пили, а те — кричали,
и фонарь горел, не фонарь — фонарик.
Он играл на черном, как смерть, причале —
выдувал луну, как воздушный шарик.
И казалось — было такое чувство —
он уйдет оттуда — исчезнет море,
пароходик, чайки — так станет грустно,
и глотнешь не пива, уже, а горя.
Потому и лез, и совал купюры, —
чтоб играл, покуда сердца горели:
«Для того придурка, для этой дуры,
для меня, мой нежный, на самом деле».
1994, ноябрь
Колокольчик
Сердце схватило, друг,
Останови коней.
Что за леса вокруг —
Я не видал черней.
На лице, на снегу
Тени сосен. Постой,
Друг, понять не могу,
Что случилось со мной.
Я подышать. Пройдусь
Лесом. А если я
Через час не вернусь —
Поезжай без меня.
Не зови, не кричи,
Будь спокоен и тих —
20
Избранная лирика
Нет на свете причин,
Чтоб пугать вороных.
Что-то знают они —
Чувствуешь, как молчат?
Шибко их не гони
И не смотри назад.
Кони пьют на бегу
Белый морозный день.
Не понять — на снегу
Человек. Или тень.
1994, ноябрь
* * *
...Поздним вечером на кухонном балконе,
закурив среди несданной стеклотары,
ты увидишь небеса как на ладони
и поймешь, что жизнь твоя пройдет не даром.
В этом мире под печальными звездами.
То — случайная возможность попрощаться
с домочадцами, с любимыми, с друзьями.
С тем, что было, с тем, что есть, и с тем, что будет.
1994, июнь
Музыкант и ангел
В старом скверике играет музыкант,
бледнолицый, а на шее — черный бант.
На скамеечке я слушаю его.
В старом сквере больше нету никого,
21
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
только голуби слоняются у НОГ
да парит голубоглазый ангелок.
...Ах, чем музыка печальней, чем страшней,
тем крылатый улыбается нежней...
1995, август
Одним мурлыканьем
1.
Стихи осенние — как водится — печально
легли на сердце, мертвые листы.
Ты, речь родимая, прощальна —
как жизнь любая, драгоценна ты.
2.
А мы-то, глупые, тебя ни в грош не ставим —
болтает радио, романы в сто страниц.
Давай ошибочку исправим,
мой нежный друг, смахнув слезу с ресниц.
3.
Одним мурлыканьем растягивая строчки,
сжимая их мурлыканьем одним,
стихотворение до точки
мы доведем, а там — поговорим.
4.
Мол, драгоценная, затем ты в человеке,
чтоб — руку жаркую в холодной сжав горсти -
с трудом приподнимая веки,
шептать одно осеннее «прости».
1995, сентябрь
22
Избранная лирика
Стихи про любовь
Пока стучит твой тонкий каблучок,
я не умру. Мой бедный ангелок,
приятель, друг,
возьмем вина. Свернем в ближайший парк.
Не пью я вообще. Сегодня, так
сказать, продрог.
Глотнешь чуть-чуть? И правильно. А я
глотну. Сто лет знакомая скамья.
Сюда мальцом
я приходил с родителями. Да-с.
С медведем. С самосвалом. А сейчас
сам стал отцом.
Ну-ну, не морщи носик. Улыбнись.
Смотри, на черной ветке алый лист
трепещет так,
как будто это сердце. Сердце. Нет,
не сердце? Да, банально. Просто бред.
Листок, пустяк.
...Я ей читаю важные стихи —
про осень, про ненастье, про грехи,
про то, что да...
Нет, не было. Распахнуты глаза.
Чуть ротик приоткрыт. Дрожит слеза.
Горит звезда.
1995, октябрь
23
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
* * *
Ни денег, ни вина...
Адамович'
— Пойдемте, друг, вдоль улицы пустой,
где фонари висят как мандарины,
и снег лежит, январский снег простой,
и навсегда закрыты магазины.
Рекламный блеск, витрины, трубы, рвы.
— Так грустно, друг, так жутко, так буквально.
А вы? Чего от жизни ждете вы?
— Печаль, мой друг, прекрасное — печально.
Все так, и мы идем вдоль черных стен.
— Скажите мне, что будет завтра с нами? —
И безобразный вечный манекен
глядит нам вслед красивыми глазами.
— Что знает он? Что этот мир жесток?
Что страшен? Что мертвы в витринах розы?
— Что счастье есть, но вам его, мой бог,
холодные — увы — затмили слезы.
1995, январь
* * *
Черный ангел на белом снегу —
мрачным магом уменьшенный в сто.
Смерть — печальна, а жить — не могу.
В бледном парке не ходит никто. 11 Адамович Георгий Викторович (1892—1972) — поэт и критик, эмигрант.
24
Избранная лирика
В бледном парке всегда тишина,
да сосна — как чужая — стоит.
Прислонись к ней, отведай вина,
что в кармане — у сердца — лежит.
Я припомнил бы — было бы что,
то — унизит, а это — убьет.
Слишком холодно в лёгком пальто.
Ангел черными крыльями бьет.
— Полети ж в свое небо, родной,
и поведай, коль жив еще Бог —
как всегда, мол, зима и покой,
лишь какой-то дурак одинок.
1995, январь
Первое мая
Детство золотое, праздник Первомай —
только это помни и не забывай...
Потому что в школу нынче не идем.
Потому что пахнет счастьем и дождем.
Потому что шарик у тебя в руке.
Потому что Ленин — в мятом пиджаке.
И цветы гвоздики — странные цветы,
и никто не слышит, как плачешь ты...
1995, май
25
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Стихи о русской ПОЭЗИИ
Иванов' тютчевские строки
раскрасил ярко и красиво.
Мы так с тобою одиноки —
но, слава богу, мы в России.
Он жил и умирал в Париже.
Но, Родину не покидая,
и мы с тобой умрем не ближе —
как это грустно, дорогая.
1995, ноябрь
* * *
Те, кто в первом ряду —
руку ребром ко лбу,
во втором стоишь — ковыряй в носу.
Я всегда стоял во втором ряду.
Пионерский лагерь в рябом лесу.
Катя, Света, Лена, Ирина — как
тебя звали? — зелень твоих колен
это сердце нежно повергла в мрак.
Обратила душу в печаль и тлен.
Даже если вдруг повернется вспять,
не прорваться грудью сквозь этот строй,
чтоб при всем параде тебя обнять.
Да мгновенье ока побыть с тобой. 11 Иванов Георгий Владимирович (1894—1958) — русский поэт-эмигрант,
умер на юге Франции.
26
Избранная лирика
Слишком плотно, мрачно стоят ряды,
активисты в бубны колотят злей...
Так прощай, во всем остаешься ты.
...И глядел со стенда Марат Казей.
1995
Пробуждение
Неужели жить? Как это странно —
за ночь жить так просто разучиться.
Отдаленно слышу и туманно
чью-то речь красивую. Укрыться,
поджимая ноги, с головою,
в уголок забиться. Что хотите,
дорогие, делайте со мною.
Стойте над душою, говорите.
Я и сам могу себе два слова
нашептать в горячую ладошку:
«Я не вижу ничего плохого
в том, что полежу еще немножко —
ах, укрой от жизни, одеялко,
разреши несложную задачу».
Боже, как себя порою жалко —
надо жить, а я лежу и плачу.
1995
27
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
За чугунной решеткой
Под руинами неба,
в доме снега и ветра —
у безлукого Феба
так печальна Эвтерпа1.
Нет ни жаркого грека,
ни красивого моря.
Грудь ее — цвета снега,
взор ее — цвета горя.
За чугунной решеткой
листья падают ало.
То бесстыжей, то кроткой
ты ночами бывала.
Чужеземка нагая,
что глядишь, холодея?
Как согреть — я не знаю.
Я помочь не сумею.
Сам потаскан, издержан,
чем тебя я прикрою?
По-осеннему нежен,
я любуюсь тобою.
Но представлю охотно:
с детским личиком чистым
то в штормовке болотной,
то в телаге землистой.
1995, сентябрь
1 Эвтерпа — в древнегреческой мифологии одна из муз, покровительни-
ца лирической поэзии.
28
Избранная лирика
* * *
Когда я утром просыпаюсь,
я жизни заново учусь.
Друзья, как сложно выпить чаю.
Друзья мои, какую грусть
рождает сумрачное утро,
давно знакомый голосок,
газеты, стол, окошко, люстра.
«Не говори со мной, дружок».
Как тень слоняюсь по квартире,
гляжу в окно или курю.
Нет никого печальней в мире —
я это точно говорю.
И вот, друзья мои, я плачу,
шепчу, целуясь с пустотой:
«Для этой жизни предназначен
не я, но кто-нибудь иной —
он сильный, стройный, он, красивый,
живет, живет себе, как бог.
А боги все ему простили
за то, что глуп и светлоок».
А я со скукой, с отвращеньем
мешаю в строчках боль и бред.
И нет на свете сожаленья,
и состраданья в мире нет.
1995, декабрь
* * *
Скрипач — с руками белоснежными
когда расселись птицы страшные
ма проводах, сыграл нам нежную
29
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
музыку — только нас не спрашивал.
В каком-то сквере, в шляпе фетровой —
широкополой, с черной ниточкой.
Все что-то капало — от ветра ли —
с его ресницы, по привычке ли?
Пытались хлопать, но — туманные —
от сердца рук не оторвали мы.
Разбитые — мы стали — странные,
а листья в сквере стали алыми.
Ах, если б звуки нас не тронули,
мы б — скрипачу — бумажки сунули.
— Едино — ноты ли, вороны ли, —
он повторял, — когда вы умерли.
1995, апрель
Трамвайный романс
В стране гуманных контролеров
я жил — печальный безбилетник.
И, никого не покидая,
стихи Ивйнова любил.
Любил пустоты коридоров,
зимой ходил в ботинках летних.
В аду искал приметы рая
и, веря, крестик не носил.
Я ездил на втором и пятом1,
скажи — на первом и последнем,
1 Второй и пятый — трамвайные маршруты в Екатеринбурге, связывающие рабочие окраины города с центром.
30
Избранная лирика
глядел на траурных красоток,
выдумывая имена.
Когда меня ругали матом —
каким-нибудь нахалом вредным,
я был до омерзенья кроток,
и думал — благо, не война.
И стоя над большой рекою
в прожилках дегтя и мазута,
я видел только небо в звездах
и, вероятно, умирал.
Со лба стирая пот рукою,
я век укладывал в минуту.
Родной страны вдыхая воздух,
стыдясь, я чувствовал — украл.
1995, июль
Манекен
Было все как в дурном кино,
но без драчек и красных вин —
мы хотели расстаться, но
так и шли вдоль сырых витрин.
И — ценитель осенних драм,
соглядатай чужих измен —
сквозь стекло улыбался нам
мило английский манекен.
Улыбался, как будто знал
весь расклад — улыбался так.
«Вот и все — я едва шептал —
ангел мой, это добрый знак...»
31
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
И — дождливый — светился ЦУМ
грязно-желтым ночным огнем.
«Ты запомни его костюм —
я хочу умереть в таком...»
1995, август
От самого сердца
Заозерский прииск. Вся власть — один
презапойный мусор. Зовут Махмуд.
По количеству на лице морщин
от детей мужчин отличаешь тут.
Назови кого-нибудь днем «кретин» —
промолчит. А ночью тебя убьют.
А обилие поселковых шлюх?
«Молодой, молоденький. О, чего
покажу». «Мужик-то ее опух —
с тестем что-то выпили, и того».
Мне товарищ так говорит: «Я двух
сразу ух». Ну как не понять его?
Опуститься, что ли? Забыть совсем
обо всем? Кто я вообще таков?
Сочинитель этих своих проблем,
бесполезный деятель тихих слов.
«Я — писатель». Смотрит, как будто: съем,
а потом хохочет. Какой улов.
Ах, скорей уехать бы, черт возьми.
Одиссея помните? Ах, домой.
32
Избранная лирика
Сутки ехать. Смех. По любой грязи.
Чепуха. Толкай «шестьдесят шестой»1.
Не бестактность это, но с чем в связи,
уезжая — нет — не махну рукой?
1995, августа
п. Кытлым2
* * *
Фонтанчик не работает — увы! —
уж осень, но по-прежнему тепло,
В сухую чашу каменные львы
глядят печально — битое стекло,
газеты, чьи-то грязные бинты,
окурочки, обертки от конфет,
нагая кукла, старые листы,
да стоит ли — чего там только нет.
Глядят уныло девять милых морд
клыкастых, дорогих лохматых грив.
Десятым я сажусь на этот борт —
наверное, заплакал бы, но ни в
одном глазу, — а ветер теребит,
как будто нищий, что-то из рванья.
Так и сидим — довольно скверный вид,
скажу я вам, мой ангел, — львы да я.
1995, август
1 ГЛ 1 66 — автомобиль-тягач повышенной проходимости.
1 Поселок городского типа в Свердловской области. Расположен у подножии горы Косьвинский Камень.
•ЙИ/ШНИС жизни
33
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Летний сад
1.
...дождинка, как будто слеза,
упала Эвтерпе на грудь.
Стыжусь, опуская глаза,
теплее, чем надо, взглянуть —
уж слишком открыт этот вид
для сердца, увижу — сгорю.
Последнее, впрочем, болит
так нежно, что я говорю:
«Так значит, когда мы вдвоем
с тобою, и осень вокруг —
и камень в обличье твоем
не может не плакать, мой друг».
2.
«...» «прощай» — чтобы душу скрести,
звук «ща» засорил нашу речь.
Есть тихое слово «прости»,
что значит до смерти беречь
разлуку, безумный покой,
покой. Оглянулась, а я
глаза опустил. Над тобой
два ангела пели, летя:
«Прости его. Ведает бог,
молчание тоже ответ.
Он руку от сердца не смог
отнять — помахать тебе вслед».
3.
...как будто я видел во сне
день пасмурный, день ледяной.
34
Избранная лирика
Вот лебедь на черной воде
и лебедь под черной водой —
два белых, как снег, близнеца
прелестных, по сути — одно...
Ты скажешь: «Не будет конца
у встречи». Хотелось бы, но
лишь стоит взлететь одному —
второй, не осилив стекла,
пойдет, словно камень, ко дну,
терзая о камни крыла.
4.
...художник, скорее — скрипач...
Так беличий тонок смычок,
что так бесконечна, хоть плачь,
скрипичная музыка. Бог
поэтов, скамейка, кусты —
так мило, и траурно — фон.
Не вижу, но слышу, как ты
рисуешь все это. Поклон
тебе в этот ангельский час
от сердца, что грустью живет, —
в твой не попадая пейзаж,
поскольку однажды умрет.
...как осенью в Летнем саду —
туманен, как осень, и тих —
музейной аллеей пройду
среди изваяний чужих,
да сяду на влажной скамье
с окурочком, мокрый дурак.
J*
35
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Вот все, что останется мне:
всей болью почувствовать, как,
за листиком новый листок
роняя, что слезы любви,
сентябрь надевает венок
на бедные кудри мои.
1995, сентябрь-октябрь
* * *
Ах, какие звезды — это сказка —
и снежок.
«Мне нужна твоя земная ласка,
а не Бог».
Я угрюм, но хорошо нам вместе —
ты легка.
Спустимся в подвальчик: «Чай и двести
коньяка».
Отхлебну, не поперхнувшись взглядом.
Дрожь пройдет.
Мне плевать, какая мерзость рядом
ест и пьет.
«Плюнь и ты. Садись как можно ближе.
Не вини.
Мне всегда хотелось быть таким же,
как они.
В шлюхе видеть шлюху. В пьянстве — радость.
Дай мне ру...»
36
Избранная лирика
Выйдем, постоим с тобою малость
на ветру.
Все для них, и звезды. «Знаешь, страшно
жить и петь.
Только ты, мой друг. Ведь ты не дашь мне
умереть?»
1995, октябрь
Стансы
Ев г. Извариной
Фонтан замерз. Хрустальный куст,
сомнительно похожий на
сирень. Каких он символ чувств —
не ведаю. Моя вина.
Сломаем веточку — не хруст,
а звон услышим: «Дин-дина».
Дружок, вот так застынь и ты
на миг один. И, видит Бог,
среди январской темноты
и снега — за листком листок —
на нем распустятся листы.
Такие нежные, дружок.
Мечтать о том, чему не быть,
Влюбляться в вещи, коих нет.
Ведь только так и можно жить.
Судьба бедна. И скуден свет,
и жалок. Чтоб его любить,
додумывай его, поэт.
37
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
За мыслью — мысль. Строка — к строке.
Дописывай. И Бог с тобой.
Живи один, как налегке,
с великой тяжестью земной.
Хрустальный куст. В твоей руке
так хрупок листик ледяной.
1995, октябрь
* * *
Что сказать о мраморе — я влюблен в руины:
пасмурные, милая, мрачные картины...
Право же, эпитетов всех не перечислю.
Мысль, что стала статуей, снова стала мыслью.
Где она, — бессмертная, точная, — витает,
мрачная, веселая, — о, никто не знает.
Чтобы снова — кто она, ангел или птица? —
в черный, белый, розовый мрамор воплотиться.
Или в строки грустные, теплые, больные,
бесконечно нежные и совсем чужие.
Чтобы — как из мрамора — мы с тобой застыли,
прочитав, обиделись, вспомнили, простили.
Не грусти на кладбищах и не плачь, подруга, —
дважды оправдается, трижды эта мука.
Пью за смерть Денисьевой1, а потом — за Трою
и за жизнь, что рушится прямо предо мною.
1995, октябрь
1 Денисьева Елена Александровна (1826—1864), возлюбленная Ф. И. Тютчева. Адресат его лирики. Мать троих внебрачных детей поэта.
38
Избранная лирика
* * *
...Фонари — чья рука
их сорвет, как цветы?
Только эта река,
только эти мосты.
...Только эти дома,
только эти дворцы,
где на крышах с ума
посходили слепцы.
...Это, скинув кафтан,
словно бык раздувал
ноздри Петр, да туман
как каменья тесал.
Это ты, Ленинград,
это ты, Петербург —
рай мой призрачный, ад,
лабиринт моих мук.
Дай я камнем замру —
на века, на века.
Дай стоять на ветру
и смотреть в облака.
Можешь душу забрать,
что трепещет любя.
...Дай с дождями рыдать
на плече у тебя.
1995, сентябрь
Санкт-Петербург
39
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
В том вечернем саду
В том вечернем саду, где фальшивил оркестр
духовой и листы навсегда опадали,
музыкантам давали на жизнь, кто окрест
пили, ели, как будто они покупали
боль и горечь, несли их на белых руках,
чтобы спрятать потом в потайные карманы
возле самого сердца, друзья, и в слезах
вспоминали разлуки, обиды, обманы.
В том вечернем саду друг мой шарил рубли
в пиджаке моем, даже — казалось, что плакал,
и кричал, задыхаясь, и снова несли
драгоценный коньяк из кромешного мрака.
И, как Бог, мне казалось, глядел я во мрак,
все, что было — то было, и было напрасно, —
и казалось, что мне диктовал Пастернак,
и казалось, что это прекрасно, прекрасно.
Что нет лучшего счастья под черной звездой,
чем никчемная музыка, глупая мука.
И в шершавую щеку разбитой губой
целовал, как ребенка, печального друга.
1995, ноябрь
Страшная история
...из камня грозного, гранита,
усатый вырублен цыган.
И «Волга». Милая разбита.
А тот погиб. Такой туман
шашлычный. Водочка рекою.
Сидят цыгане. Мертвеца
40
Избранная лирика
пришли почтить. С такой тоскою
дитя цыгана на отца
глядит гранитного. И долго
потом, шашлычинку в руке
сжимая: «Папа мой и “Волга”», —
на полурусском языке
кричит. Добавим к сей картине
еще деталь. В то время, как
тот плачет, этот на машине
по аду ездит, как дурак.
1995, декабрь
Фет
...читаю «Фантазию» Фета —
так голос знаком, и размер,
как будто, как будто я где-то
встречал его. Вот, например,
«Балладу» другого поэта
мне боль помешала забыть.
И мне не обидно за Фета,
что Фету так весело жить, —
фонтан. Соловьиные трели.
Излишняя роскошь сердец.
Но, милые, вы проглядели
«Фантазии» Фета конец.
Ну что ж, что прекрасна погода,
что души витают, любя, —
Всегда ведь находится кто-то,
кто горечь берет на себя.
41
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Все можно домыслить. Но все же
во всем разобраться нельзя.
О, как интонации схожи
у счастья и горя, друзья.
1995, ноябрь
Прогулка с мальчиком
А. Р.
И снег, и улицы, и трубы,
И люди странные, чужие навсегда.
А ты, мой маленький, что поджимаешь губы,
чуть-чуть прищурившись, ты что-то понял, — да?
Как мать красивая, я над тобой склоняюсь,
сажусь на корточки, как мать, перед тобой —
за все, что понял ты, дружок, я извиняюсь,
я каюсь, милый мой, с прикушенной губой.
За поцелуи все, за все ночные сказки,
за ложь прекрасную, что ты не одинок.
Зачем так смотришь ты, зачем так щуришь глазки
не обвиняй меня, что я могу, дружок.
Мирок мой крохотный, и снег так белоснежен.
«Ты рассужденьями не тронь его, не тронь», —
едва шепчу себе, тебе — до боли нежен —
дыша, мой маленький, в холодную ладонь.
И так мне кажется, что понимаю Бога,
вполне готов его за все простить:
он, сгусток кротости, не создан мыслить строго —
любить нас, каяться и гибнуть, может быть.
1995, ноябрь
42
Избранная лирика
Ходасевич
...Так Вы строго начинали —
будто умерли уже.
Вы так важно замолчали
на последнем рубеже.
На стихи — не с состраданьем —
с дивным холодом гляжу.
Что сказали Вы молчаньем,
никому я не скажу.
Но когда, идя на муку,
я войду в шикарный ад,
я скажу Вам: «Дайте руку,
дайте руку, как я рад —
Вы умели, веря в Бога
так правдиво и легко,
ненавидеть так жестоко
белых ангелов его...»
1995, ноябрь
* * *
Хочется позвонить
кому-нибудь, есть же где-то
кто-нибудь, может быть,
кто не осудит это
«просто поговорить».
43
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Хочется поболтать
с кем-нибудь, но серьезно,
что-нибудь рассказать
путано, тихо, слезно.
Тютчев, нет сил молчать.
Только забыты все
старые телефоны —
и остается мне
мрачные слушать стоны
ветра в моем окне.
Жизни в моих глазах
странное отраженье.
Там нелюбовь и страх,
горечь и отвращенье.
И стихи впопыхах.
Впрочем, есть номерок,
не дозвонюсь, но все же
только один звонок:
«Я умираю тоже,
здравствуй, товарищ Блок...»
1995, ноябрь
* * *
Я скажу тебе не много —
два-три слова или слога.
Ты живешь, и слава богу.
Я живу, и ничего.
44
Избранная лирика
Потихоньку, помаленьку, —
не виню судьбу-злодейку,
свой талант ценю в копейку,
хоть и верую в него.
Разговорчик сей беспечный,
безыскусный, бесконечный
глуп, наверно, друг сердечный,
но, поверь мне, я устал
от заумных, от серьезных,
слишком хладных или слезных.
Я, как Фет, хочу, о звездах —
нынче слаб у них накал.
Был я мальчиком однажды —
и с собой пытался дважды...
Впрочем, это все не важно,
потому что нет, не смог.
Важно то, что в те минуты,
так сказать, сердечной смуты
абсолютно, абсолютно,
нет, никто мне не помог.
Вот и ты, и ты мужайся —
с грустью, с болью расставайся.
Эх, перо мое, сломайся,
что за рифмы, чур меня.
Не оставлю. Понимая,
как нужна тебе, родная,
чепуховина такая,
погремушка, болтовня.
1995, ноябрь
45
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Прощанье
Попрощаться бы с кем-нибудь, что ли,
да уйти безразлично куда
с чувством собственной боли.
Вытирая ладонью со лба
капли влаги холодной.
Да с котомкой, да с палкой. Вот так,
как идут по России голодной
тени странных бродяг.
С грязной девкой гулять на вокзале,
спать на рваном пальто,
чтоб меня не узнали —
ни за что, никогда, ни за что.
Умереть от простуды
у дружка на шершавых руках,
Только б ангелы всюду...
Живность вся, что живет в облаках,
била крыльями часто
и слеталась к затихшей груди.
Было б с кем попрощаться
да откуда уйти.
1995, ноябрь
* * *
Ю. Л. Лобанцеву
Вы говорите: «Мысль
только...» Но если так,
я разумею, мы с
вами идем во мрак.
Разум, идея, мозг,
грозная сеть наук.
46
Избранная лирика
Глупость какая — Бог.
Что это — чувство? Звук.
Ежели так, какой
в смысле есть смысл. Нули
мы, или новый слой
луковицы-Земли.
Ежели так, тогда
мне пустота ясна
космоса. Но пока
здесь, на Земле, весна,
волнует меня одна
тема под пенье птиц:
девичих ног длина
и долгота ресниц.
Вот что скажу еще:
будем мы жить, пока
чувства решают все,
трепет души, стиха.
1995, ноябрь
Дом с призраком
Как-то случилось, жил
в особнячке пустом —
скрип дорогих перил,
дождь за любым окном,
вечная сырость стен,
а на полу — пятно.
Вот я и думал: с кем
тут приключилось что?
Жил, но чуть-чуть робел —
страшен и вечен дуб.
47
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Бледный стоял, как мел,
но с синевой у губ, —
мир и людей кляня, —
ствол подносил к виску.
Нужно убить себя,
чтобы убить тоску.
Жил и готовил чай
крепкий — чефир почти.
И говорил «прощай»,
если хотел уйти.
Я говорил «привет»,
возвратившись впотьмах,
и холодок в ответ
чувствовал на губах.
Но под тревожный стук
ставни мой лоб потел:
«Вот ты и сделал, друг,
то, чего я не смел.
Явишься ли во сне
с пулькой сырой в горсти —
что я скажу тебе?»
...Я опоздал, прости.
1995, август
* * *
Ах, бабочка — два лепесточка
порхающих. Какую тьму
пророчишь мне, сестричка. Дочка,
что пишут сердцу моему
такие траурные крылья
на белом воздухе? Не так
48
Избранная лирика
ли я, почти что без усилья,
за пустяком пишу пустяк:
«Летай. Кружись. Еще немножко.
Я, дорогая, не допел.
Спою и сам тебе ладошку
подставлю, белую, как мел».
1995, декабрь
Детское стихотворение
Видишь дом, назови его дом.
Видишь дерево, дерево тоже
назови, а потом... А потом
назови человека прохожим.
Мост мостом постарайся назвать.
Помни, свет называется светом.
Я прошу тебя не забывать
говорить с каждым встречным предметом.
Меня, кажется, попросту нет —
спит, читает, идет на работу
чей-то полурасслышанный бред,
некрасивое чучело чье-то.
И живу-не-живу я, пока
дорогими устами своими —
сквозь туман, сон, века, облака —
кто-нибудь не шепнет мое имя.
Говори, не давай нам забыть
наше тяжкое дело земное.
Помоги встрепенуться, ожить,
милый друг, повстречаться с собою.
1995, декабрь
49
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
* * *
На белом кладбище гуляли,
читая даты, имена.
Мы смерть старухой представляли.
Но, чернокрылая, она,
навязчивая, над тобою
и надо мною — что сказать —
как будто траурной каймою
хотела нас обрисовать,
ночною бабочкой летала.
Был теплый август, вечер был.
Ты ничего не понимала,
я ни о чем не говорил.
1995, август
* * *
Не верю в моду, верю в жизнь и смерть.
Мой друг, о чем угодно можно петь.
О чем угодно можно говорить —
и улыбаться мило, и хитрить.
Взрослею я, и мне с недавних пор
необходим серьезный разговор.
О гордости, о чести, о земле,
где жизнь проходит, о добре и зле.
Пусть тяжело уйти и страшно жить,
себе я не устану говорить:
«Мне в поколеньи друга не найти,
но мне не одиноко на пути.
50
Избранная лирика
Отца и сына за руки беру —
не страшно на отеческом ветру.
Я человек, и так мне суждено —
в цепи великой хрупкое звено.
И надо жить, чтоб только голос креп,
чтоб становилась прочной наша цепь».
Пусть одиночество звенит вокруг —
нам жаль его, и только, милый друг.
1995, декабрь
На смерть поэта
Дивным светом иных светил
озаренный, гляжу во мрак.
Знаешь, как я тебя любил,
заучил твои строки как.
...У барыги зеленый том
на последние покупал —
бедный мальчик, в углу своем
сам себе наизусть читал.
Так прощай навсегда, старик,
говорю, навсегда прощай.
Белый ангел к тебе приник,
ибо он существует, рай.
Мне теперь не семнадцать лет,
и ослаб мой ребячий пыл.
Но шепчу я, увидев свет:
«Знаешь, как я тебя любил».
51
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Но представить тебя, уволь,
в том краю облаков, стекла,
где безумная гаснет боль
и растут на спине крылй.
1996, январь
* * *
Ангел, лицо озарив, зажег
маленький огонек —
лампу мощностью в десять ватт —
и полетел назад.
Спят инженеры, банкиры спят.
Даже менты, и те —
разве уместно ловить ребят
в эдакой темноте?
Разве позволит чертить чертеж
эдакий тусклый свет?
Только убийца готовит нож.
Только не спит поэт:
рцы слово твердо у к ферт.
Ночь, как любовь, чиста.
Три составляющих жизни: смерть,
поэзия и звезда.
1996
* * *
Я жил как все — во сне, в кошмаре —
и лучшей доли не желал.
В дубленке серой на базаре
ботинками не торговал,
52
Избранная лирика
но не божественные лики,
а лица урок, продавщиц
давали повод для музыки
моей, для шелеста страниц.
Ни славы, милые, ни денег
я не хотел из ваших рук...
Любой собаке — современник,
последней падле — брат и друг.
1996
Львы да кони
...всё львы да кони
под облаками —
на синем фоне
сердца и камни.
Эффект зверинца —
в его глубинах
милее лица
твоих любимых.
В аллеях скверов
любовь от скуки
с губ кавалеров
пьют их подруги.
Тоска, и все же
тут все прекрасно.
...И бабья рожа
у педераста,
53
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
что будет долго
бледнеть от страху,
скажите только:
«Иди ты на ...»
1996
* * *
Еще вполне сопливым мальчиком
я понял с тихим сожаленьем,
что мне не справиться с задачником,
делением и умноженьем,
что, пусть так хвалят, мне не нравится
родимый город многожильный,
что мама вовсе не красавица
и что отец — не самый сильный,
что я, увы, не стану летчиком,
разведчиком и космонавтом,
каким-нибудь шахтопроходчиком,
а буду вечно виноватым,
что никогда не справлюсь с ужином,
что гири тяжелей котлета,
что вряд ли стоит братьям плюшевым
тайком рассказывать все это,
что это все однажды выльется
в простые формулы, тем паче,
что утешать никто не кинется,
что и не может быть иначе.
1996
54
Избранная лирика
Московский дым
Тяжела французская голова:
помирать совсем или есть коней?
...Ты пришел, увидел — горит Москва,
и твоя победа сгорает в ней.
Будешь ты еще одинок и стар
и пожалуешься голубым волнам:
— Ведь дотла сгорела... Каков пожар!..
А зачем горела — не ясно нам.
Разве б мы посмели спалить Париж —
наши башни, парки, дворцы, дома?
Отвечай, волна, — почему молчишь?
Хоть не слаб умом — не достать ума... —
И до сей поры европейский люд,
что опять вдыхает московский дым,
напрягает лбы...
Да и как поймут,
почему горим, для чего горим?
1996
Ответ
«Вы пишите о чем-то о своем,
когда над родиной раскаты, гром...» —
мне говорят, но разве я могу
открыться им, отдать свою тоску.
Возможно, я совсем не патриот.
Возможно, я живу не в страшный год.
55
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Страна моя, мой каждый стих, любя,
в печаль мою вмещает и тебя.
Но, господа, кто что-то смог понять,
имеет право взять и помолчать.
1996, январь
* * *
...И не злоба уже,
Но какая-то вечная жалость
И печаль на душе.
И любовь. Вот и все, что осталось
Черной ночью без снов.
Слышу скрежет металла и стоны —
То на бойню сынов
Отошли и идут эшелоны.
Ах ты, гордость моя, —
Все стыжусь я покоя и воли.
«Я же с вами, друзья,
не от пули умру, так от боли», —
не кричу, а шепчу.
...И, теряя последние силы,
прижимаюсь к плечу,
Вырываюсь от мамки-России,
И бегу в никуда,
И плетусь, и меня догоняют...
И на космы звезда
За звездой как репей налипают.
1996, январь
56
Избранная лирика
Орфей
1.
...и сизый голубь в воздух окунулся,
и белый парус в небе растворился...
Ты плакала, и вот, я оглянулся.
В слезах твоих мой мир отобразился
и жемчугом рассыпался, распался.
...и я с тобою навсегда остался,
и с морем черным я навек простился...
2.
...махни крылом, серебряная чайка,
смахни с небес последних звезд осколки...
Прости за всех, кого до боли жалко,
кого любил всем сердцем, да и только.
Жестоко то, что в данный миг жестоко.
Ум холоден, для сердца нет урока.
...мы ничего не помнить будем долго...
3.
...я помню эти волосы и плечи...
Я знаю все, отныне все иначе.
Я тенью стал, а сумрачные речи
отныне стихнут, тишина их спрячет.
...я вывел бы тебя на свет из ночи —
был краток путь, но жизнь еще короче
и не ценнее греческого плача...
1996, май
57
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Мщение Ахилла
1.
Издевайся как хочешь, кощунствуй, Ахилл,
ты сильней и хитрей, мчи его вокруг Трои.
Прав ли, нет ли, безумец, но ты победил —
это первое, а правота — лишь второе.
Пусть тебя не простят, но и ты не простил.
2.
Пусть за телом притащится старый Приам.
Но отдав, не в содеянном ты усомнишься.
Ты герой, ты не крови боишься из ран —
чужды слезы героям, и слез ты боишься,
хоть и плакал не раз, обращаясь к богам.
3.
Не за то ли ты с жизнью-уродкой на ты,
что однажды на ты был со смертью-красоткой?
...Ночь целует убитых в открытые рты
голубые, пропахшие греческой водкой,
и созвездья у них в головах — как цветы...
1996, октябрь
Лирика педика
Лирика педика — это что-то.
Лирический герой — супермен.
Бесконечное множество разнообразных эрот. сцен.
58
Избранная лирика
Жаль, выдает фото:
этакий гоголевский А.А.
«Жалеть не надо» — говорила А.
Педерасты все похожи друг на друга —
жидкие волосы, очки.
Женщины про таких говорят: сморчки.
Мужчины таким говорят: ну-ка,
сбегай за пивом, едрит
твое налево, и тот бежит.
1996
Взгляд из окна
Не знаю, с кем, зачем я говорю —
так, глядя на весеннюю зарю,
не устаю себе под нос шептать:
«Как просто все однажды потерять...»
Так, из окна мне жизнь моя видна —
и ты, мой друг, и ты, моя весна,
тем и страшны, что нету вас милей,
тем и милы, что жизнь еще страшней.
1996, март
Молитва
Ах, Боже мой, как скучно, наконец,
что я не грузчик или продавец.
...Как надоело грузчиком не быть —
бесплатную еду не приносить,
не щурить на соседку глаз хитро
59
Б О Р И С Р Ы Ж И Й / Оправдание жизни
и алкоголь не заливать в нутро...
...Бессмертия земного с детских лет
назначен я разгадывать секрет —
но разве это, Боже мой, судьба?
«...Спаси, — шепчу я, — Боже мой, раба,
дай мне селедки, водки дай, любви
с соседкою, и сам благослови...»
1996, март
* * *
Век, ты пахнешь падалью,
умирай, проклятый.
Разлагайся весело,
мы сгребем лопатой,
что тобой наделано —
да-с, губа не дура.
...Эй, бомбардировщики,
вот — архитектура.
Ведь без алых ленточек,
бантиков и флагов
в сей пейзаж не впишешься —
Разбомбите, милые,
хмур, неодинаков.
все, что конструктивно,
потому что вечное,
нежное — наивно.
С девочкой в обнимочку,
пьяненький немножко,
рассуждаешь весело:
разве эта ножка —
60
Избранная лирика
до чего прелестная —
создана для маршей?
...Замените Ленина
сапожком из замши.
1996, март
* * *
Ах, что за люди, что у них внутри?
Нет, вдумайся, нет, только посмотри,
как крепко на земле они стоят,
как хорошо они ночами спят,
как ты на фоне этом слаб и сир.
...А мы с тобой, мой ангел, в этот мир
случайно заглянули по пути,
и видим — дальше некуда идти.
Ни хлеба нам не надо, ни вина,
на нас лежит великая вина,
которую нам Бог простит, любя.
Когда б душа могла простить себя...
1996, март
В ресторане
Нашарив побольше купюру в кармане,
вставал из-за столика кто-то, и сразу
скрипач полупьяный в ночном ресторане
пространству огранку давал, как алмазу,
и бабочка с воротничка улетала,
под музыку эту металась, кружилась,
садилась на сердце мое и сгорала,
и жизнь на минуту одну становилась
61
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
похожей на чудо — от водки и скрипки —
для пьяниц приезжих и шушеры местной,
а если бы были на лицах улыбки,
то были бы мы, словно дети, прелестны
и только случайно мрачны и жестоки,
тогда и глаза бы горели, как свечи, —
но я целовал только влажные щеки,
сжимал только бедные, хрупкие плечи.
1996
Иванов
Весеннее солнце расплавило снег.
Шагает по черной земле человек.
Зовут человека Иван Иванов —
идет и мурлыкает песню без слов.
...Когда бы я был Ивановым, дружок,
я был бы силен и бессмертен, как бог,
и, песню без слов напевая, ходил
по пеплу, по праху, по грядкам могил...
1996, май
* * *
От ближнего света снег бел и искрист,
отрадно, да лезет с базаром таксист
с печатью острога во взоре,
ругается матом, кладет на рычаг
почти аномально огромный кулак
с портачкой трагической «Боря».
1996
62
Избранная лирика
* * *
...Врывается, перебивая Баха,
я не виню ее — стена моя тонка.
Блатная музыка, ни горечи, ни страха,
одно невежество, бессмыслица, тоска.
Шальная, наглая, как будто нету смерти,
девица липкая, глаза как два нуля.
...И что мне «Бранденбургские концерты»1,
зачем мне жизнь моя, что стоит жизнь моя?
1996
* * *
С работы возвращаешься домой
и нехотя беседуешь с собой,
то нехотя, то зло, то осторожно:
— Какие там судьба, эпоха, рок,
я просто человек и одинок,
насколько это вообще возможно.
Повсюду снег, и смертная тоска,
и гробовая, видимо, доска.
Убить себя? Возможно, не кошмар, но
хоть повод был бы, такового нет.
Самоубийство — в восемнадцать лет
еще нормально, в двадцать два — вульгарно...
1 В архиве Б. Б. Рыжего остались датированные 1996 годом и написанные его рукой «Стихи неизвестного автора»:
...Борис Борисович Рыжий
плачет, слушая Баха...
Милый Борис Борисович,
умный, добрый человек.
63
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
В подъезд заходишь, лязгает замок,
ступаешь машинально за порог,
а в голове — прочитанный однажды
Петрарки, что ли, душу рвущий стих:
«Быть может, слёзы из очей твоих
исторгну вновь — и не умру от жажды».
1996
Музыка
Что ж, и я нашел однажды
— в этом, верно, схож со всеми —
три рубля, они лежали
просто так на тротуаре.
Было скучно жить на свете.
Я прогуливал уроки.
Я купил на деньги эти
музыкальную шкатулку.
— Это что? — спросила мама. —
И зачем оно? Откуда?
Или мало в доме хлама? —
— Понимаешь, это — чудо,
а откуда — я не знаю.
...Ну-ка, крышечку откроем,
слышишь: тихая, незлая,
под нее не ходят строем...
1996
64
Избранная лирика
* * *
Скверно играет арбатский скрипач —
хочешь, засмейся, а хочешь, заплачь.
Лучше заплачь, да беднягу уважь.
Так ведь и эдак пятерку отдашь,
так ведь и эдак потратишь, дружок.
...Разве зазорно, когда одинок,
вместе с башкой завернувшись в пальто,
сердце настроить угодно на что?
1996, апрель
«Киндзмараули»
...Минуя свалки, ангелов, помойки,
больницы, тюрьмы, кладбища, заводы,
купив вина, пришел я в парк осенний.
Сегодня день рожденья моего.
Ты жив еще? Я жив, живу в Дербенте.
Мне двадцать два отныне. Это возраст,
в котором умер мой великий брат.
Вот, взял вина. И на скамейке пью
как пьяница последний, без закуски,
за тех, кого со мною рядом нет.
И за тебя, мой лучший адресат,
мой первый друг и, видимо, последний,
мешаю три глотка «Киндзмараули»
с венозной кровью,
с ямбом пятистопным.
И сердце трижды —
о сосуд скудельный! —
3 Оправдание жизни
65
Б О Р И С Р Ы Ж И Й / Оправдание жизни
не кровью наполняется, а спиртом,
и трижды робко гонит белый ямб:
киндзмараули — тук — киндзмараули.
1996
Прощание с друзьями
За так одетые страной
и сытые ее дарами,
вы были уличной шпаной,
чтоб стать убийцами, ворами.
Друзья мои, я вас любил
под фонарями, облаками,
я жизнью вашей с вами жил
и обнимал двумя руками.
Вы проходили свой квартал
как олимпийцы, как атлеты,
вам в спины ветер ночь кидал
и пожелтевшие газеты.
Друзья мои, я так хотел
не отставать, идти дворами
куда угодно, за предел,
во все глаза любуясь вами.
Но только вы так быстро шли,
что потерял я вас из виду —
на самом краешке земли
я вашу боль спою, обиду.
И только вас не позову —
так горячо вы обнимали,
что чем вы были наяву,
тем для меня во сне вы стали.
1996
66
Избранная лирика
* * *
В том доме жили урки —
завод их принимал...
Я пыльные окурки
с друзьями собирал.
Так ласково дружили —
и из последних сил
меня изрядно били
и я умело бил.
Сидели мы в подъезде
на пятом этаже.
Всегда мы были вместе,
расстались мы уже.
Мы там играли в карты,
мы пили там вино.
Гам презирали парты
и детское кино.
Нам было по двенадцать
и по тринадцать лет.
Клялись не расставаться
и не бояться бед.
Ilo стороною беды
нс многих обошли.
Vhirmro соседа
по лестнице несли.
67
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Я всматривался в лица,
на лицах был испуг.
...А что не я убийца —
случайность, милый друг.
1996
Свидание Гектора с Андромахой
1.
Был воздух так чист: до молекул, до розовых пчел,
до синих жучков, до зеленых стрекоз водорода...
Обычное время обычного теплого года.
Так долго тебя я искал, и так скоро нашел
у Скейских ворот, чтоб за Скейские выйти ворота.
2.
При встрече с тобой смерть-уродка стыдится себя:
— Младенца возьму, — и мои безоружны ладони
на фоне заката, восхода, на солнечном фоне.
...Но миг, и помчишься, любезного друга стыдя, —
где все перемешано: боги, и люди, и кони.
3.
Стучит твое сердце, и это единственный звук,
что с морем поспорит, шумящим покорно и властно.
И жизнь хороша, и, по-моему, смерть не напрасна.
...Здесь, в Греции, все, даже то, что ужасно, мой друг,
пропитано древней любовью, а значит — прекрасно.
1996, май
68
Избранная лирика
Прощание Гектора с Андромахой
...Он говорил о чести, о стыде
великом перед маленькой отчизной.
Он говорил о смерти, о беде,
о счастьи говорил он и о жизни.
Герой, он ради завтрашнего дня
пылал очистить родину от мрака...
...Как жаль, что не подумал, уходя,
шелом свой снять, и бедный мальчик плакал.
1996, март
Бар «Трибунал»
...В баре «Трибунал»,
в окруженьи швали,
я тебе кричал
о своей печали.
...А тебя грузин
пригласил на танец —
я сидел один,
как христопродавец.
Как в предсмертный час,
музыка гремела,
оглушала нас,
лязгала и пела:
«Чтобы избежать
скуки или смерти,
69
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
надо танцевать
на печальной тверди
в баре “Трибунал”,
в окруженьи швали...»
Ребра бы сломал,
только нас разняли.
1996
Второе письмо
...Что было — было... Мысли облетели,
остались чувства — ветви или чувства —
а с ними чувство тихой пустоты
глубокого и голубого неба.
Я осенью люблю гулять один.
В пространстве и во времени есть место,
что геометрией своей подобно
простейшей геометрии души.
И вот мой сквер, моя подруга осень.
Она и умирая не попросит
подать ей руку сильную, любую.
Я одинок. И те, кто на скамейках
сидят, сегодня страшно одиноки.
Зачем лукавить, друг, друг другу руки
протягивать, заглядывать в глаза?
Нет у души ни братьев, ни знакомых.
Она одна, одна на целом свете —
глядит, пугаясь своего названья,
сама в себе, когда глядит на осень.
Прощает всех, нет — забывает о.
1996
70
Избранная лирика
Не Не Не
Я в детстве думал: вырасту большим —
и страх и боль развеются как дым.
И я увижу важные причины,
когда он станет тоньше паутины.
Я в детстве думал: вырастет со мной
и поумнеет мир мой дорогой.
И ангелы, рассевшись полукругом,
поговорят со мною и друг с другом.
Сто лет прошло. И я смотрю в окно.
Там нищий пьет осеннее вино,
что отливает безобразным блеском.
...А говорить мне не о чем и не с кем.
1996, март
* * *
...Я подойду к окошку — как бы тайно,
как будто я иной, ненастоящий:
о как неосторожно, как случайно
упал он с неба, белый и хрустящий.
Деревья на руках его качают,
а я гляжу, какой он синеватый.
Они его однажды проморгают,
он станет серой, чуть набрякшей, ватой.
Бывают после мутного веселья
такие дни хрустальной, звонкой боли,
71
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
как будто мы дождались новоселья,
мы стали новоселы поневоле.
Подходит время с юностью проститься,
но первый снег еще лежит, не тает.
Но все отчетливей родные лица —
мой бесконечный сон их озаряет.
1996
* * *
Воротишься на родину...
И. Б.
Прощай, олимпиец, прощай навсевда —
сегодня твоя загорелась звезда.
И шепчутся звезды во тьме ледяной:
«Наш брат навсегда возвратился домой...»
«Послушайте, звезды, я тоже скажу...» —
но, взор опуская, слов не нахожу.
Слов не нахожу и гляжу на Неву,
как мальчик, губу прикусил — и реву.
1996, январь
* * *
Благодарю за все. За тишину.
За свет звезды, что спорит с темнотою.
Благодарю за сына, за жену.
За музыку блатную за стеною.
72
Избранная лирика
За то благодарю, что, скверный гость,
я все-таки довольно сносно встречен.
И для плаща в прихожей вбили гвоздь.
И целый мир взвалили мне на плечи.
Благодарю за детские стихи.
Не за вниманье вовсе, за терпенье.
За осень. За ненастье. За грехи.
За неземное это сожаленье.
За Бога и за ангелов его.
За то, что сердце верит, разум знает.
Благодарю за то, что ничего
подобного на свете не бывает.
За все, за все. За то, что не могу,
чужое горе помня, жить красиво.
Я перед жизнью в тягостном долгу.
И только смерть щедра и молчалива.
За все, за все. За мутную зарю.
За хлеб, за соль, тепло родного крова.
За то, что я вас всех благодарю
за то, что вы не слышите ни слова.
1996, март
Памяти И. Б.
Привести свой дом...
А. Л.
Когда бы смерть совсем стирала
что жизнь напела, нашептала —
пускай не все, а только треть —
я б не раздумывал нимало
и согласился умереть.
73
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Милы кладбищенские грядки.
А-ну, сыграем с жизнью в прятки.
Оставим счастье на потом.
Но как оставить в беспорядке
свой дом?
Живешь — не видят и не слышат.
Умри — достанут, перепишут.
Разрушат и воссоздадут.
Дом перестроят вплоть до крыши
и жить туда с детьми придут.
Когда б не только тело гнило.
Спасет ли черная могила?
Чья там душа витает днесь?
Витая, помнит все, что было,
и видит, плача, то, что есть.
1996, март
Прощание с юностью
Как в юности, как в детстве я болел,
как я любил, любви не понимая,
как сложно сочинял, как горько пел,
глагольных рифм почти не принимая,
как выбирал я ритмы, как сорил
метафорами, в неком стиле нервном
всю ночь писал, а поутру без сил
шел в школу, где был двоечником первым.
И все казалось, будто чем сложней,
тем ближе к жизни, к смерти, к человекам,
так продолжалось много-много дней,
74
Избранная лирика
но, юность, ты растаяла со снегом,
и оказалось, мир до боли прост,
но что-то навсегда во мне сломалось,
осталось что-то, пусть пустырь, погост,
но что-то навсегда во мне осталось.
Так, принимая многое умом,
я многое душой не принимаю,
так, вымотавшийся в бою пустом,
теперь я сух и сухо созерцаю
разрозненные части бытия —
но по частям, признаюсь грешным делом,
наверное, уже имею я
больное представление о целом.
И с представленьем этим навсегда
я должен жить не мучась, не страдая,
и слушая, как булькает вода
в бессонных батареях, засыпая,
склоняться к белоснежному листу
в безлюдное, в ночное время суток —
весь этот мрак, всю эту пустоту
вместив в себя, не потеряв рассудок.
1996, март
* * *
В России расстаются навсегда.
В России друг от друга города
столь далеки,
что вздрагиваю я, шепнув «прощай».
Рукой своей касаюсь невзначай
се руки.
75
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Длиною в жизнь любая из дорог.
Скажите, что такое русский Бог?
«Конечно, я
приеду». Не приеду никогда.
В России расстаются навсегда.
«Душа моя,
приеду». Через сотни лет вернусь.
Какая малость, милость, что за грусть —
мы насовсем
прощаемся. «Дай капельку сотру».
Да, не приеду. Видимо, умру
скорее, чем.
В России расстаются навсегда.
Еще один подкинь кусочек льда
в холодный стих...
И поезда уходят под откос...
И самолеты, долетев до звезд,
сгорают в них.
1996, апрель
* * *
Утро, и город мой спит.
Счастья и гордости полон,
нищий на свалке стоит —
глаз не отводит, глядит
на пустячок, что нашел он.
Эдак посмотрит и так —
старый и жалкий до боли.
76
Избранная лирика
Милый какой-то пустяк.
Странный какой-то пустяк.
Баночка, скляночка, что ли.
Жаль ему баночки, жаль.
Что ж ей на свалке пылиться.
Это ведь тоже деталь
жизни — ах, скляночки жаль —
может, на что и сгодится.
Что если вот через миг
наши исчезнут могилы,
божий разгладится лик?
Значит, пристроил, старик?
Где-то приладил, мой милый...
1996
* * *
Во всем, во всем я, право, виноват,
пусть не испачкан братской кровью,
в любой беде чужой, стоящей над
моей безумною любовью,
во всем, во всем, вини меня, вини,
я соучастник, я свидетель,
за все, за боль, за горе, прокляни
за ночь твою, за ложь столетий,
за все, за все, за веру, за огонь
руби налево и направо,
за жизнь, за смерть, но одного не тронь,
а впрочем, вероятно, право,
77
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
к чему они, за детские стихи,
за слезы, страх, дыханье ада,
бери и жги, глаза мои сухи,
мне ничего, господь, не надо.
1996, февраль
Вопрос к музе
...по горю, по снегу приходишь в прозрачной одежде —
скажи мне, Эвтерпа, кому диктовала ты прежде?
Сестрой милосердья вставала к чьему изголовью,
чей лоб целовала с последней, с прощальной любовью?
Чье сердце, богиня, держала в руках виновато,
кто умер, бессмертный, и чья дорогая вдова ты?
В чьих карих, скажи мне, не дивные стлались просторы —
грядою могильной вставали Уральские горы?
1996, январь
К Овидию
Овидий, я как ты, но чуточку сложней
судьба моя. Твоя и горше и страшней.
Волнения твои мне с детских лет знакомы.
Мой горловой Урал едва ль похож на Томы,
но местность такова, что чувства таковы:
78
Избранная лирика
я в Риме не бывал и город свой, увы,
не видел. Только смерть покажет мне дорогу.
Я мальчиком больным шептал на ухо богу:
«Не знаю, где, и как, и кем покинут я,
кто плачет обо мне, волнуясь и скорбя...»
А нынче что скажу? И звери привыкают.
Жаль только, ласточки до нас не долетают.
1996, май
Новый год
Жена заснула, сын заснул —
в квартире сумрачней и тише.
Я остаюсь с собой наедине.
Вхожу на кухню и сажусь на стул.
В окошке звезды, облака и крыши.
Я расползаюсь тенью по стене.
Закуриваю, наливаю чай.
Все хорошо, и слава богу...
Вот-вот раскрою певчий рот.
А впрочем, муза, не серчай:
я музыку включу и понемногу
сойду на нет, как этот год.
Включаю тихо, чтоб не разбудить.
Скрипит игла, царапая пластинку.
И кажется, отчетливее скрип,
чем музыка, которой надо жить.
И в полусне я вижу половинку
сна: это музыка и скрип.
79
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Жена как будто подошла в одной
рубашке, топоток сынули
откуда-то совсем издалека.
И вот уже стоят передо мной.
Любимые, я думал, вы уснули.
В окошке звезды, крыши, облака.
1996
Робинзон
Что воля для быка, Юпитеру — тюрьма.
В провинции моей зима, зима, зима.
И хлопья снежные, как мотыльки, летают,
покуда братья их лежат и умирают —
коль жизни их сложить, получатся века.
Но разве смерть сия достойна мотылька?
В провинции моей они огня искали...
Но тщетно, не нашли. И я найду едва ли
последней степени безумья и тепла,
чтоб черным пеплом стать душа моя могла.
Итак, глядим в окно. Горят огни на зоне.
Я мальчиком читал рассказ о робинзоне:
на острове одном, друзья, он жил один.
Свидетель бурь морских, бежавший их глубин,
он жил, он строил дом, налаживал хозяйство,
тем самым побеждал судьбы своей коварство.
Но все же, думал я, ведь робинзон умрет,
и обветшает дом и разбредется скот —
как, право, жутко жить без друга и без бога.
80
Избранная лирика
И страшно было мне, что мысль моя жестока,
но все-таки, друзья, всем сердцем я желал,
чтоб судно новое у тех погибло скал.
1996, май
* * *
Через парк по ночам я один возвращался домой —
если б все описать, что дорогой случалось со мной —
скольких спас я девиц, распугал похотливых шакалов.
Сколько раз меня били подонки, ломали менты —
вырывался от них, матерился, ломился в кусты.
И от злости дрожал. И жена меня не узнавала в
этом виде. Ругалась, смеялась, но все же, заметь,
соглашалась со мною, пока не усну, посидеть.
Я, как бог, засыпал, и мне снились поля золотые.
Вот в сандалиях с лирой иду, собираю цветы... И
вдруг встречается мне Аполлон, поэтической бог:
«Хорошо сочиняешь, да выглядишь дурно, сынок».
1996
Музе
Напялим черный фрак
и тросточку возьмем —
постукивая так,
по городу пойдем.
Где нищие, жлобье,
безумцы и рвачи —
81
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Сокровище мое,
стучи, стучи, стучи.
Стучи, моя тоска,
Стучи, моя печаль,
у сердца, у виска
за все, чего мне жаль.
За всех, кто умирал
в удушливой глуши.
За всех, кто не отдал
за эту жизнь души.
Среди фуфаек, роб
и всяческих спецух
стучи сильнее, чтоб
окреп великий слух.
Заглянем на базар
и в ресторан зайдем.
Сжирайте свой навар,
мы дар свой не сожрем.
Мы будем битый час
слоняться взад-вперед.
...И бабочка у нас
на горле оживет.
1996, март
Черное небо
...На черном небе белая звезда —
она была и будет навсегда,
до нас доходят тонкие лучи...
Но лучше электричество включи
82
Избранная лирика
и отойди от черного окна —
здесь ты один, а там она одна,
и не о чем вам с нею говорить,
а немоту ни с кем не разделить.
1996, март
Дюймовочка
...Некрасивый трубач
на причале играл —
будто девочке мяч,
небеса надувал.
Мы стояли с тобой
над рекою, дружок,
и горел за рекой
голубой огонек.
Как Дюймовочка, ты
замерзала тогда —
разводили мосты,
проходили года.
Свет холодный звезда
проливала вдали.
А казалось тогда,
это ангелы шли
по полярным цветам
петроградских полей,
прижимая к губам
голубых голубей.
1996, март
83
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
* * *
Не потому ли Бога проглядели,
что не узрели Бога, между нами?
И право, никого он в самом деле
не вылечил, не накормил хлебами.
Какой-нибудь безумец и бродяга —
до пят свисала рваная дерюга,
качалось солнце, мутное, как брага,
и не было ни ангела, ни друга.
А если и была какая сила,
ее изнанка — горечь и бессилье
от знанья, что конец всего — могила.
Не для того ли Бога и убили,
чтобы вина одних была громадна,
а правота других была огромна.
...Подайте сотню нищему, и ладно,
и даже двести, если вам угодно.
1996
* * *
Скажи мне сразу после снегопада —
мы живы, или нас похоронили?
Нет, помолчи, мне только слов не надо
ни на земле, ни в небе, ни в могиле.
Мне дал Господь не розовое море,
не силы, чтоб с врагами поквитаться —
возможность плакать от чужого горя,
любя, чужому счастью улыбаться.
...В снежки играют мокрые солдаты —
84
Избранная лирика
они одни, одни на целом свете...
Как снег — чисты, как ангелы — крылаты,
ни в чем не виноваты, словно дети.
1996
Петербург
...Распахни лазурную шкатулку —
звонкая пружинка запоет,
фея пробежит по переулку
и слезами руки обольет.
Или из тумана выйдут гномы,
утешая, будут говорить:
жизнь прекрасна, детка, ничего мы
тут уже не можем изменить.
Кружатся наивные картинки,
к облачку приколоты иглой.
Или наших жизней половинки
сшиты паутинкой дождевой...
До чего забавная вещица —
неужели правда, милый друг,
ей однажды суждено разбиться,
выпав из твоих усталых рук?
1996
Царское Село
Александру Леонтьеву
Поездку в Царское Село
осуществить до боли просто:
таксист везет за девяносто,
85
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
в салоне тихо и тепло.
«...Поедем в Царское Село?..»
«...Куда там, господи прости, —
неисполнимое желанье.
Какое разочарованье
нас с вами ждет в конце пути...»
Я деньги комкаю в горсти.
«...Чужую жизнь не повторить,
не удержать чужого счастья...»
А там, за окнами, ненастье,
там продолжает дождик лить.
Не едем, надо выходить.
Купить дешевого вина.
Купить и выпить на скамейке,
чтоб тени наши, три злодейки,
шептались, мучались без сна.
Купить, напиться допьяна.
Так разобидеться на всех,
на жизнь, на смерть, на все такое,
чтоб только небо золотое,
и новый стих, и старый грех...
Как боль звенит, как льется смех!
И хорошо, что никуда
мы не поехали, как мило:
где б мы ни пили — нам светила
лишь царскосельская звезда.
Где б мы ни жили, навсегда!
1996, июнь
86
Избранная лирика
* * *
Ах, подожди еще немножко,
постой со мной, послушай, как
играет мальчик на гармошке —
дитя бараков и бродяг.
А рядом, жалкая, как птаха,
стоит девчонка лет пяти.
Народ безлюб, но щедр однако —
подходят с денежкой в горсти.
Скажи в снобизме педагога
ты, пустомеля пустомель,
что путь мальчишки — до острога,
а место девочки — бордель.
Не год, а век, как сон, растает,
твой бедный внук сюда придет,
а этот мальчик все играет,
а эта девочка — поет.
1996
Два ангела
...Мне нравятся детские сказки,
фонарики, горки, салазки,
значки, золотинки, хлопушки,
баранки, конфеты, игрушки.
...больные ангиной недели,
чтоб кто-то сидел на постели
и не отпускал мою руку —
навеки — на адскую муку.
1996, январь
87
Б О Р И С Р Ы Ж И Й / Оправдание жизни
Postquam1
Когда концерт закончится и, важно,
Как боги, музыканты разойдутся,
Когда шаги, прошелестев бумажно,
с зеленоватой тишиной сольются,
Когда взметнутся бабочки, и фраки
закружатся как траурные птицы,
И страшные появятся во мраке
бескровные, болезненные лица...
...И первый, не скрывая нетерпенья,
кивнет, ломая струны, словно нити,
связующие вечность и мгновенье:
«Ломайте скрипки, музыку ищите!»
1996, февраль
Вдоль канала
Когда идешь вдоль черного канала
куда угодно, мнится: жизни мало,
чтоб до конца печального дойти.
Твой город спит. Ни с кем не по пути.
Так тихо спит, что кажется, возможно
любое счастье. Надо осторожно
шагать, чтоб никого не разбудить.
О, Господи, как спящих не простить!
1 Postquam — после того как {лат.).
88
Избранная лирика
Как хочется на эти вот ступени
сесть и уснуть, обняв свои колени.
Как страшно думать в нежный этот час:
какая боль еще разбудит нас...
1996, июнь
Дом поэта
...От тех, кто умер, остается
совсем немного, ничего.
Хотя, откуда что берется:
снег, звезды, улица. Его
любили? Может, и любили.
Ценили? К сожаленью, нет.
Но к дню рождения просили
писать стихи. Он был поэт.
А как же звезды? Разве звезды?
Звезды? Конечно же, звезды!
Когда сложить все это, просто
получим сгусток пустоты.
Но ты подумай, дом поэта.
Снег, звезды, очертанья крыш —
он из окошка видел это,
когда стоял, где ты стоишь.
1996
Золотые сапожки
Я умру в старом парке
на холодном ветру.
Милый друг, я умру
у разрушенной арки.
89
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Чтобы ангелу было
через что прилететь.
Листьев рваную медь
оборвать белокрыло.
Говорю, улыбаясь:
«На холодном ветру...»
Чтоб услышать к утру,
как стучат, удаляясь
по осенней дорожке,
где лежат облачка,
два родных каблучка,
золотые сапожки.
1996, май
* * *
Я хотел на пальце букву «Б»
напортачить, подойти к тебе
обновленным несколько и взрослым.
Было мне тогда тринадцать лет,
я был глуп, и это не секрет,
но уже тогда стремился к звездам.
А Петров — Роман или Иван —
говорил мне старый уркаган
очень тихо, словно по секрету:
— Отсидел я, Боря, восемь лет,
а на теле даже кляксы нет.
Потому что смысла в этом нету.
1996
90
Избранная лирика
* * *
...Я часто дохожу до храма,
но в помещенье не вхожу —
на позолоченного хлама
горы с слезами не гляжу.
В руке, как свечка, сигарета.
Стою минуту у ворот.
Со мною только небо это
и полупьяный нищий сброд.
...Ах, одиночество порою,
друзья, подталкивает нас
к цинизму жуткому, не скрою,
но различайте боль и фарс...
А ты, протягивая руку,
меня, дающего, прости
за жизнь, за ангелов, за скуку,
благослови и отпусти.
Я не набит деньгами туго...
Но, уронив платочек в грязь,
еще подаст моя подруга,
с моей могилы возвратясь.
1996
Воспоминание
И ласточки летают высоко.
А. Т.
...просто так, не к дню рожденья, ни за что
мне купила мама зимнее пальто
в клетку серую, с нашивкою «СОВШВЕЙ» —
даже лучше чем у многих у друзей.
91
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Ах-ты, милое, красивое, до пят.
«Мама, папа, посмотрите, как солдат,
мне ремень еще такой вот да ружье
вот такое, вот такое, да еще...»
...В эту зиму было холодно, темно,
страшно, ветрено, бесчеловечно, но
сын, родившийся под Красною звездой, —
я укутан был Великою страной.
1996, январь
Новое ретро
О нет, я не молчу, когда молчит народ,
я слышу ангельские стоны,
Я вижу, Боже мой, на бойню — словно скот —
сынов увозят эшелоны.
Зачем они? Куда? И что у них в руках?
И в душах что? И кто в ответе?
Я верую в добро, но вижу только страх
и боль на белом свете.
И кто в ответе? Тот уральский истукан?
С него и суд не спросит Страшный —
не правда ли, смешно, вдруг в ад пойдет баран,
к тому ж и шерстию неважный.
Россия, Боже мой, к чему ее трава,
зачем нужны ее березы?
Зачем такая ширь? О, бедные слова,
неиссякаемые слезы.
92
Избранная лирика
Ты хочешь крови? Что ж, убей таких, как я,
пускай земля побагровеет.
...Господь, но пусть глупцов великая семья
живет — умнеет и добреет.
1996, январь
* * *
Вдвоем с тобой, в чужой квартире —
чтоб не замерзнуть, включим газ.
Послушай, в этом черном мире
любой пустяк сильнее нас.
Вот эти розы на обоях,
табачный дым, кофейный чад,
лишь захотят — убьют обоих,
растопчут, если захотят.
Любовники! какое слово,
великая, святая ложь.
Сентиментален? Что ж такого?
Чувствителен не в меру? Что ж!
А помнишь юность? странным светом
озарены и день и ночь.
Закрой глаза, укройся пледом —
я не могу тебе помочь.
1996
* * *
Все, что взял у Тебя, до копейки верну
и отдам Тебе прибыль свою.
Никогда, никогда не пойду на войну,
никогда никого не убью.
93
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Пусть танцуют, вернувшись, герои без ног,
обнимают подружек без рук.
Не за то ли сегодня я так одинок,
что не вхож в этот дьявольский круг?
Мне б ладонями надо лицо закрывать,
на уродов Твоих не глядеть.
Или должен, как Ты, я ночами не спать,
колыбельные песни им петь?
1996
В Рим
Александру Леонтьеву
...Замерзло море, больше не шумит...
Мне только по ночам немного легче —
уж лучше мрак и мрак, чем этот вид,
уж лучше тишина, чем эти речи.
В такое время — как бы наяву —
закрыв лицо ладонями сырыми,
мой нежный друг, я все еще живу
на родине твоей, в далеком Риме —
о нем стихи и мысли до утра...
...Пытался сочинять я о пустыне,
о дикостях ее, et cetera —
но как об этом скажешь на латыни?
1996
94
Избранная лирика
* * *
...Мальчиком с уроков убегу,
потому что больше не могу
слушать звонкий бред учителей.
И слоняюсь вдоль пустых аллей,
на сырой скамеечке сижу —
и на небо синее гляжу.
И плывут по небу корабли,
потому что это край земли.
...И секундной стрелочкой звезда
направляет лучик свой туда,
где на кромке сердца моего
кроме боли нету ничего.
1996, март
Белые ночи
...В Петербурге
мы сойдемся снова.
Да, придурки, —
ну а что такого?
В белом парке
ангелы и кони...
В каждой арке
влажные ладони...
Львиный мостик
переходит дама...
Можно в гости к
сыну Амстердама,
но на львиных
мордах столько боли, —
95
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Я ИЛЬ ВЫ их
успокойте, что ли,
чтоб им снилось
счастье в эти ночи.
Я любил вас,
и люблю вас очень.
1996
Зима
Каждый год наступает зима.
Двадцать раз я ее белизною
был окутан. А этой зимою
я схожу потихоньку с ума,
милый друг. Никого, ничего.
Стих, родившись, уже умирает,
стиснув зубы. Но кто-то рыдает,
слышишь, жалобно так, за него.
...А когда загорится звезда —
отключив электричество в доме,
согреваю дыханьем ладони
и шепчу: «Не беда, не беда».
И гляжу, умирая, в окно
на поля безупречного снега.
Хоть бы чьи-то следы — человека
или зверя, не все ли одно.
1996
96
Избранная лирика
* * *
Для чего мне нужна эта речь?
Я обязан хранить и беречь.
Я обязан таить и молчать.
Я обязан таить и молчать.
Или с нами зима говорит?
Или ветер нам песни поет?
Или ты навсегда не забыт?
Или ты не расшибся о лед?
...Если б заговорила зима —
много может она рассказать —
ты сошел бы, мой ангел, с ума.
...Я обязан таить и молчать.
1996, январь
Дом
...Все с нетерпеньем ждут кино,
живут, рожают, пьют вино.
Картофель жарят, снег идет,
летит по небу самолет.
В кладовке темной бабка спит
и на полу горшок стоит.
Уходят утром на завод.
...А завтра кто-нибудь умрет —
и все пойдут могилу рыть...
В кладовке ангел будет жить —
и станет дочь смотреть в глазок,
как ангел писает в горшок.
1996
4 Оправдание жизни
97
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Тюльпан
Я не люблю твои цветочки,
вьюнки и кактусы, болван.
И у меня растет в горшочке
на подоконнике тюльпан.
Там, за окном, дымят заводы,
там умирают и живут,
идут больные пешеходы,
в ногах кораблики плывут,
там жизнь ужасна, смерть банальна,
там перегибы серых стен,
там улыбается печально
живущий вечно манекен,
там золотые самолеты
бомбят чужие города,
на облака плюют пилоты,
горит зеленая звезда.
И никого, и никого не
волнует, господи прости,
легко ль ему на этом фоне,
такому стройному, цвести.
1996
* * *
...Во всем вторая походила
на первую, но не любила
как первая, а я любил
ее как первую — и в этом
я на поэта походил,
а может быть, и был поэтом.
1996
98
Избранная лирика
* * *
Когда наступит тишина,
у тишины в плену
налей себе стакан вина
и слушай тишину.
Гляди рассеянно в окно —
там улицы пусты.
Ты умер бы давным-давно,
когда б не верил ты,
что стоит пристальней взглянуть,
и все увидят ту,
что освещает верный путь,
неяркую звезду.
Что надо только слух напрячь,
и мир услышит вдруг
и скрипки жалобу, и плач
виолончели, друг.
1996
* * *
Над домами, домами,домами
голубые висят облака —
вот они и останутся с нами
на века, на века, на века.
Только пар, только белое в синем
над громадами каменных плит...
Никогда, никогда мы не сгинем,
мы прочней и нежней, чем гранит.
•I*
99
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Пусть разрушатся наши скорлупы,
геометрия жизни земной —
оглянись, поцелуй меня в губы,
дай мне руку, останься со мной.
А когда мы друг друга покинем,
ты на крыльях своих унеси
только пар, только белое в синем,
голубое и белое в си...
1996
* * *
Особенно, когда с работы,
идя, войдешь в какой-то сквер,
идешь и забываешь, что ты
очкарик, физик, инженер,
что жизнь скучна, а не кошмарна,
что полусвет отнюдь не мрак,
и начинаешь из Верхарна
Эмиля что-то просто так
о льдах, о холоде — губами
едва заметно шевеля,
с его заветными словами
свое мешая тра-ля-ля.
...Но это тра-ля-ля, дружище,
порой, как губы ни криви,
дороже жизни, смерти чище,
важнее веры и любви.
1996
100
Избранная лирика
* * *
Нас с тобой разбудит звон трамвая,
ты протрешь глаза:
небеса, от края и до края
только небеса...
Будем мы обижены как дети:
снова привыкать
к пустякам, что держат нас на свете.
Жить и умирать
возвратят на землю наши души,
хоть второго дня
я, молясь, просил его: послушай,
не буди меня.
1996
Олегу Дозморову
от Бориса Рыжего
Мысль об этом леденит: О-
лег, какие наши годы, а сердце уж разбито,
нету счастья у него,
хоть хорошие мы поэты, никто не любит на-
с — человечество слепое,
это все его вина,
мы погибнем, мы умрем, О-
лег, с тобой от невнимания — это так знакомо —
а за окнами зима,
101
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
а за окнами сугробы,
неуютный грустный вид.
Кто потащит наши гробы,
Кто венки нам подарит?
1996
Памяти поэта
...Остаются нам детали и
разговор о пустоте...
Не в Нью-Йорке, не в Италии,
но в Иркутске, Воркуте,
Гданьске, Шманьске, Белореченске
говорят о смерти Бро.
Но едва ли я гусиное
подточу себе перо —
я люблю свое молчание
и ухмылочку свою.
Если плохо мне ночами, я
песен, право, не пою.
...Узнаю про все на улице
и, смахнув с ушанки снег:
«Ах, Иосиф Александрович,
дорогой мой человек...»
1996
102
Избранная лирика
Фотография
...На скамейке, где сиживал тот —
если сиживал — гений курчавый,
ты сидишь, соискатель работ,
еще нищий, уже величавый.
Фотография? Легкий ожог.
На ладошку упавшая спичка.
Улыбаться не стоит, дружок,
потому что не вылетит птичка.
Но вспорхнет голубой ангелок
на плечо твое, щурясь от света, —
кодак этого видеть не мог,
потому что бессмысленно это.
Пусть над тысячей бед и обид
стих то твердо звучит, то плаксиво...
Только помни того, кто стоит
по ту сторону объектива.
1996
* * *
...Хотелось музыки, а не литературы,
хотелось живописи, а не стиховой
стопы ямбической, пеона и цезуры.
Да мало ли чего хотелось нам с тобой.
Хотелось неба нам, еще хотелось моря.
А я хотел еще, когда ребенком был,
большого, светлого, чтоб как у взрослых, горя.
Вот тут не мучайся — его ты получил.
1996
103
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
7 ноября
До боли снежное и хрупкое
сегодня утро, сердце чуткое
насторожилось, ловит звуки.
Бело пространство заоконное —
мальчишкой я врывался в оное
в одетом наспех полушубке.
В побитом молью синем шарфике
я надувал цветные шарики,
гремели лозунги и речи...
Где ж песни ваши, флаги красные,
вы сами — пьяные, прекрасные —
меня берущие на плечи?
1996
* * *
...Глядишь на милые улыбки
и слышишь шепот за спиной —
редакционные улитки
столы волочат за собой.
Ну, публикация... Ну, сотня...
И без нее бы мог прожить...
Не лучше ль, право, в подворотне
с печальным уркой водку пить?
Есть мир иной, там нету масок —
ужасны лица и без них.
104
Избранная лирика
Есть мир иной, там нету сказок
шутов бесполых и шутих.
Там жизнь обнажена как схема,
и сразу видно: тут убьет.
Зато надутая проблема —
улыбки, взгляда — не встает.
...Покуда в этом вы юлили,
слегка прищуривая глаз,
в том, настоящем, вас убили
и руки вытерли о вас.
1996
* * *
Зависло солнце над заводами,
и стали черными березы.
...Я жил тут, пользуясь свободами
на смерть, на осень и на слезы.
Спецухи, тюрьмы, общежития,
хрущевки красные, бараки,
сплошные случаи, событья,
убийства, хулиганства, драки.
Пройдут по ребрам арматурою
и, выйдя из реанимаций,
до самой смерти ходят хмурые
и водку пьют в тени акаций.
Какие люди, боже праведный,
сидят на корточках в подъезде —
нет ничего на свете правильней
их пониманья дружбы, чести.
105
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
И горько в сквере облетающем
услышать вдруг скороговорку:
«Серегу-Жилу со товарищи
убили в Туле, на разборке...»
1997
* # *
Две сотни счетчик намотает —
очнешься, выпятив губу.
Сын Человеческий не знает,
где приклонить ему главу.
Те съехали, тех дома нету,
та вышла замуж навсегда.
Хоть целый век летай по свету,
тебя не встретят никогда.
Не поцелуют, не обнимут,
не пригласят тебя к столу,
вторую стопку не придвинут,
спать не положат на полу.
Как жаль, что поздно понимаешь
ты про такие пустяки,
но наконец ты понимаешь,
что все на свете мудаки.
И остается расплатиться
и выйти заживо во тьму.
Поет магнитофон таксиста
плохую песню про тюрьму.
1997
106
Избранная лирика
* * *
...Пионерская комната: горны горнят, барабан
барабанит, как дятел. В компании будущих урок
под окошком стою и, засунув ладошку в карман,
горькосахарной «Астры» ищу золотистый окурок.
Как поют, как смеются над нами: опрятны, честны,
остроумны, умны, безразличны — они пионеры,
комсомольцы они — постоим на краю пустоты,
по окурочку выкурим, выйдем в осенние скверы.
Нас не приняли, нас — не примут уже никогда, —
тут, хоти не хоти — ни в какие не примут союзы,
ибо жопу покажем однажды, сблюем, господа
и товарищи, чтоб обомлели державные музы.
Всё берите. Пусть девочки наши вам песни поют:
даже Ирка и та с вами нынче вся в красном и белом.
Пионерская комната. Чай, панибратство, уют.
Пролетайте, века, ничего не изменится в целом.
...Жизнь увидев воочью, сначала почувствуешь боль
и обиду, и хочется сразу... а после припадка
поглядишь на нее сверху вниз — возвышаешься, что ль,
от такого величья сто лет безотрадно и гадко.
1997
* * *
Я вышел из кино, а снег уже лежит,
и бородач стоит с фанерною лопатой,
и розовый трамвай по воздуху бежит —
четырнадцатый, нет, пятый, двадцать пятый1.
1 Четырнадцатый, пятый, двадцать Пятый — трамвайные маршруты, идущие в сторону Вторчермета, соединяя район с центром Екатеринбурга.
107
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Однако целый мир переменился вдруг,
а я все тот же я, куда же мне податься,
я перенаберу все номера подруг,
а там давно живут другие, матерятся.
Всему виною снег, засыпавший цветы.
До дома добреду, побряцаю ключами,
по комнатам пройду — прохладны и пусты.
Зайду на кухню, оп, два ангела за чаем.
1997
* * *
Прекрасен мир и жизнь мила,
когда б еще водились деньги —
капуста, говоря на сленге,
и зелень на окне цвела.
В Свердловске тоже можно жить:
гулять с женой в Зеленой Роще.
И, право, друг мой, быть бы проще
пойти в милицию служить.
1997
* * *
Под красивым красным флагом
голубым июньским днем
мы идём солдатским шагом,
мальчик-девочка идем.
108
Избранная лирика
Мы идем. Повсюду лето.
Жизнь прекрасна. Смерти нет.
Пионер-герой с портрета
смотрит пристально вослед.
Безо всякой, впрочем, веры,
словно думая о нас:
это разве пионеры...
подведут неровен час...
Знать, слаба шеренга наша,
плохо, значит, мы идем.
Подведем, дражайший Паша,
право, Павел, подведем!
1997
* * *
О. Дозморову
Над головой облака Петербурга.
Вот эта улица, вот этот дом.
В пачке осталось четыре окурка —
видишь, мой друг, я большой эконом.
Что ж, закурю, подсчитаю устало:
сколько мы сделали, сколько нам лет?
Долго еще нам идти вдоль канала,
жизни не хватит, вечности нет.
Помнишь ватагу московскую хамов,
читку стихов, ликованье жлобья?
Нет, нам нужнее «Прекрасная дама»,
желчь петербургского дня.
109
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Нет, мне нужней прикурить одиноко,
взором скользнуть по фабричной трубе,
белою ночью под окнами Блока,
друг дорогой, вспоминать о тебе!
1997
* * *
Молодость мне много обещала,
было мне когда-то двадцать лет.
Это было самое начало,
я был глуп, и это не секрет.
Мне тогда хотелось быть поэтом,
но уже не очень, потому
что не заработаешь на этом
и цветов не купишь никому.
Вот и стал я горным инженером,
получил с отличием диплом.
Не ходить мне по осенним скверам,
виршей не записывать в альбом.
В голубом от дыма ресторане
слушать голубого скрипача,
денежки отлистывать в кармане,
развернув огромные плеча.
Знать, не вышло из меня поэта
и уже не выйдет никогда.
Господа, что скажете на это?
Молча пьют и плачут господа.
110
Избранная лирика
Пьют и плачут, девок обнимают,
снова пьют и все-таки молчат,
головой тонически качают,
матом силлабически кричат.
1997
* * *
Молодость, свет над башкою, случайные встречи.
Слушает море под вечер горячие речи,
чайка кричит и качается белый корабль —
этого вечера будет особенно жаль.
Купим пиджак белоснежный и белые брюки,
как в кинофильме, вразвалку подвалим к подруге,
та поразмыслит немного, но вскоре решит:
в августе этом пусть, ладно уж, будет бандит.
Все же какое прекрасное позднее лето.
О удивление: как, у вас нет пистолета?
Два мотылька прилетают на розовый свет
спички, лицо озаряющей. Кажется, нет.
Спичка плывет, с лица исчезает истома.
Нет, вы не поняли, есть пистолет, только дома.
Что ж вы не взяли? И черное море в ответ
гордо волнуется: есть у него пистолет!
Есть пистолет, черный браунинг в черном мазуте.
Браунинг? Врете! Пойдемте и не протестуйте,
в небе огромном зажглась сто вторая звезда.
Любите, Боря, поэзию? Кажется, да.
1997
111
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Памяти поэта
В помещении — слева и справа,
сзади, спереди — тысячи глаз
смотрят пристально так и лукаво:
как он, право, споткнется сейчас!
А споткнувшись, он станет таким же,
как и мы, нехорошим таким,
был высоким, а станет чуть ниже,
и его мы охотно простим.
Но когда, и споткнувшись, он все же
будет нас избегать, вот тогда...
Вышел в улицу: Господи Боже,
никого, ничего, никогда.
Только тусклые звезды мерцают,
только яркие звезды горят:
никогда никого не прощают,
никому ничего не простят!
1997
* * *
Водой из реки, что разбита на сто ручьев, в горах
умылся, осталось в руках
золото, и пошел, и была сосна
по пояс, начиналась весна,
солнце грело, облака
летели над головой дурака,
подснежник цвел — верный знак
не прилечь, так хоть сбавить шаг,
112
Избранная лирика
посмотреть на небо, взглянуть вокруг,
но не сбавил шаг, так и ушел сам-друг,
далеко ушел, далеко,
машинально ладони вытерев о.
Никто не ждал его нигде.
...Только золото в голубой воде,
да подснежник с облаком — одного
цвета синего — будто ждать его...
1997
* * *
Родился б в солнечном 20-м,
писал бы бойкие стишки
о том, как расщепляют атом
в лабораторьях мужики.
Скуластый, розовый, поджарый
всех школ почетный пионер,
из всех пожарников пожарник,
шахтер и милиционер
меж статуй в скверике с блокнотом
и карандашиком стоял,
весь мир разыгрывал по нотам,
простым прохожим улыбал.
А не подходит к слову слово,
ну что же, так тому и быть —
пойти помучить Гумилева
и Пастернака затравить.
1997
113
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
* * *
В простой потертой гимнастерке
идет по улице солдат.
Во след солдату из-за шторки
в окошко девушка глядит.
...Я многого не видел в жизни.
Но не кому-нибудь назло
я не служил своей отчизне,
а просто мне не повезло.
Меня не били по печенкам,
не просыпался я в поту.
И не ждала меня девчонка,
Учащаяся ПТУ.
И вообще меня не ждали,
поскольку я не уезжал.
Решал двойные интегралы
и вычислял факториал.
Глядел в окно на снег и лужи,
опять на лужи и на снег.
И никому я не был нужен,
презренный штатский человек.
Но если подойдут с вопросом:
«Где ты служил?» Скажу: «Сынок!
Морфлот. Сопляк, я был матросом».
И мне поверят, видит Бог.
1997
114
Избранием лирика
* * *
...В аллее городского сада
сказала, бантик теребя:
«Я не люблю тебя, когда ты
такой, Борис». А я тебя —
увы, увы — люблю, любую.
Целую ручку на ветру.
Сорвал фиалку голубую,
поскольку завтра я умру.
1997
* * *
«В белом поле был пепельный бал...» —
вслух читал, у гостей напиваясь,
перед сном как молитву шептал,
а теперь и не вспомнить, признаюсь.
Над великой рекой постою,
где алеет закат догорая.
Вы вошли слишком просто в мою
жизнь — играючи и умирая.
Навязали свои дневники,
письма, комплексы, ветви сирени.
За моею спиной у реки
вы толпитесь, печальные тени.
Уходите, вы слышите гул —
вроде грохота, грома, раската.
115
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Может быть, и меня полоснул
тонким лезвием лучик заката.
Не один еще юный кретин
вам доверит грошовое горе.
Вот и все, я побуду один,
Александр, Иннокентий, Георгий1.
1997
* * *
И. К.
...Кто тебе приснился? Ежик?!
Ну-ка, ну-ка, расскажи.
Редко в сны заходят все же к
нам приятели-ежи.
Чаще нам с тобою снятся
дорогие мертвецы,
безнадежные страдальцы,
палачи и подлецы.
Но скажи, на что нам это,
кроме страха и седин:
просыпаемся от бреда,
в кухне пьем валокардин.
Ежик — это милость рая,
говорю тебе всерьез,
к жаркой ручке припадая
и растроганный до слез.
1997
1 Имена любимых поэтов Б. Рыжего — А. Блока, И. Анненского, Г. Иванова.
не
Избранная лирика
Элегия
...Нам взяли ноль восьмую1 алкаши —
И мы, я и приятель мой Серега,
Отведали безумия в глуши
Строительной, сбежав с урока.
Вся Родина на пачке папирос.
В наличии отсутствие стакана.
Физрук, математичка и завхоз
Ушли в туман. И вышел из тумана
огромный ангел, крылья волоча
По щебню, в старушачьих ботах.
В одной его руке была праща.
В другой кастет блатной работы.
Он, прикурив, пустил кольцо
Из твердых губ и сматерился вяло.
Его асимметричное лицо
Ни гнева, ни любви не выражало.
Гудрон и мел, цемент и провода.
Трава и жесть, окурки и опилки.
Вдали зажглась зеленая звезда
И осветила детские затылки.
...Таков рассказ. Чего добавить тут?
Вот я пришел домой перед рассветом.
Вот я закончил Горный институт.
Ты пил со мной, но ты не стал поэтом.
1997
1 Бутылка емкостью 0,8 л, в просторечии «бомба», в торговле использовалась обычно для розлива дешевых сортов крепленого плодово-ягодного
пина, т. наз. бормотухи.
117
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
* * *
П. Зайченко
Под черным небом Петербурга —
зеленым небом голубым —
глотали пиво три придурка,
глотали папиросный дым.
Один таксистом был, однако
попал в такую канитель:
пропал под пикою поляка,
купил себе Палас-отель.
Второй был богом и поэтом,
то дик в сонетах, чаще — мил,
был левый глаз залит рассветом,
залит закатом правый был.
А третий был всегда печален,
хотя печальным никогда
он не был, тлела за плечами
его печальная звезда.
Бомжи уныло подходили,
Бомжи топтались там и тут.
Бомжи бутылок не просили:
мол, эти сами их сдадут.
Так у Балтийского вокзала
мы пили пиво, поезда
гремели: «Мало, мало, мало...»
Мы расставались навсегда.
1997
118
Избранная лирика
* * *
...Дым из красных труб —
как нарисовали.
Лошадиный труп
в голубом канале.
Грустно без Л. Д.* 1,
что теперь на море.
Лодка на воде,
и звезда — во взоре.
Но зато Л. А.2 —
роковая дама,
и вполне мила,
как сказала мама.
Словно сочинил
это Достоевский.
До утра кадил
фонарями Невский.
И красив как бог
на краю могилы
Александр Блок —
умный, честный, милый.
1997
' Менделеева Любовь Дмитриевна (1881 — 1939) — возлюбленная и жена
А. А. Блока.
1 Дельмас Любовь Александровна (1884—1969) — жена оперного певца
П. 3. Андреева, исполнительница роли Кармен в одноименной опере
Бизе, увлечение А. А. Блока, впервые увидевшего ее в октябре 1913 г.
119
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
* * *
Поехать в августе на юг
на десять дней, трястись в плацкарте,
играя всю дорогу в карты
с прелестной парочкой подруг.
Проститься, выйти на перрон
качаясь, сговориться с первым
о тихом домике фанерном
под тенью шелестящих крон.
Но позабыть вагонный мат,
тоску и чай за тыщу двести,
вдруг повстречавшись в том же месте,
где расставались жизнь назад.
А вечером в полупустой
шашлычной с пустотой во взоре
глядеть в окно и видеть море,
что бушевало в жизни той.
1997
К Олегу Дозморову
Владелец лучшего из баров1,
боксер1 2, филолог и поэт,
здоровый, как рязанский боров,
но утонченный на предмет
1 О. Дозморов действительно владел пивным баром, название которого
точно установить не удалось. Впрочем, правнук поэта в своем последнем
интервью, данном журналу «Поэме анд поэте», сказал, что бар никак не
назывался вообще или назывался «У Федора» (все примечания к этому
стихотворению сделаны Б. Рыжим).
2 О. Дозморов боксом не занимался, что можно увидеть, заглянув в «Воспоминания» поэта. «...Двадцать семь лет, треть моей жизни, прошли в борцовском зале. О, эти продолговатые штанги, круглые гантели и перекла-
120
Избранная лирика
стиха, прими сей панегирик —
элегик, батенька, идиллик.
Когда ты бил официантов3,
я мыслил: разве можно так,
имея дюжину талантов4,
иметь недюжинный кулак.
Из темперамента иль сдуру
хвататься вдруг за арматуру.
Они кричали, что — не надо.
Ты говорил, что — не воруй.
Как огнь, взметнувшийся из ада,
как вихрь, как ливень жесткоструйный, бушевал ты, друг мой милый.
Как Л. Толстой перед могилой.
Потом ты сам налил мне пива,
орешков дал соленых мне.
Две-три строфы5 неторопливо
озвучил в грозной тишине.
И я сказал тебе на это:
«Вновь вижу бога и поэта»6.
дина...» Боксом же занимался Б. Рыжий, который, по меткому замечанию современника, «так любил сей вид спорта, что любого
понравившегося ему вмиг окрестит боксером, а после и сам верит
в это».
3Факт избиения официантов официально не подтверждается.
4 О. Дозморов был замечательным музыкантом и рисовал темперой, кроме того см. прим. 2.
5 Какие именно строфы имеются в виду — неизвестно.
6 Над этим двустишьем Б. Рыжий особенно тяжело и мучительно
работал, имеется около двухсот вариантов. «...Боря целый месяц
сочинял две особенно важные строчки, а меня с детьми на это
время выгнал из дому...» — вспоминает жена Б. Рыжего.
121
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
...Как наше слово отзовется,
дано ли нам предугадать7?
Но, право, весело живется.
И вот уж я иду опять
в сей бар, единственный на свете,
предаться дружеской беседе8.
1997
* * * *
До утра читали Блока.
Говорили зло, жестоко.
Залетал в окошко снег
с неба синего как море.
Тот, со шрамом, Рыжий Боря.
Этот — Дозморов Олег —
филолбг, развратник, Дельвиг,
с виду умница, бездельник.
Первый — жлоб и скандалист,
бабник, пьяница, зануда.
Боже мой, какое чудо
Блок, как мил, мой друг, как чист.
Говорили, пили, ели.
Стоп, да кто мы в самом деле?
7 «Как отзовется слово наше, предугадать нам не дано... А нам, друзья,
не все ль равно...» Ф. И. Тютчев.
* Явная поэтизация. «...B баре этого Дозморова всегда шум, гам. Девки
орут, а мужики гогочут. Мат-перемат. Работают сразу два мощных магнитофона и все танцуют. Боже, как я люблю это злачное место, где
всегда ждет меня моя...» — из дневника Б. Рыжего.
122
Избранная лирика
Может, девочек позвать?
Двух прелестниц ненаглядных
в чистых платьицах нарядных,
двух москвичек, твою мать.
Перед смертью вспомню это,
как стояли два поэта
у открытого окна:
утро, молодость, усталость.
И с рассветом просыпалась
вся огромная страна.
1997
* * *
Мальчик пустит по ручью бумажный
маленький кораблик голубой.
Мы по этой улице однажды
умирать отправимся гурьбой.
Капитаны, боцманы, матросы,
поглядим на крохотный линкор,
важные закурим папиросы
с оттиском печальным «Беломор».
Отупевший от тоски и дыма,
кто-то там скомандует: «Вперед!»
И кораблик жизни нашей мимо
прямо в гавань смерти поплывет.
1997
123
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
* * *
Евгений Александрович Евтушенко в красной рубахе,
говорящий, что любит всех женщин, —
суть символ эпохи,
не больше, не меньше,
не уже, ни шире.
Я был на его концерте
и понял, как славно жить в этом мире.
Я видел бессмертье.
Бессмертье плясало в красной
рубахе, орало и пело
в рубахе атласной
навыпуск — бездарно и смело.
Теперь кроме шуток:
любить наших женщин
готовый, во все времена находился счастливый придурок.
...Ив зале рыдают, и зал рукоплещет.
1997
Ночная прогулка
Дождь ли всех распугал, но заполнен на четверть
зал в районном ДК. Фанатичные глотки
попритихли. Все больше о Боге и смерти
он читал. Отчитавшись:
«Налейте мне водки».
Снисходителен, важен:
«Гандлевский за прозу
124
Избранная лирика
извинялся. Да-да. Подходил. Не жалею
Б. А. Слуцкого».
Лето в провинции. Розы
пахнут после дождя. По огромной аллее
мы идем до гостиницы.
— Знаете, Боря,
в Оклахому стихи присылайте.
— Извольте,
буду рад.
В этот миг словно громкое море
окатило меня:
— Подождите, постойте.
На Центральном, давайте, сейчас стадионе
оглушим темноту прожекторами,
и читайте, читайте, ломайте ладони:
о партийном билете, о бомбе, о маме.
Или в эту прекрасную ночь на субботу
стадион забронирован: тени упрямо
мяч гоняют?
Кричат, задыхаясь от пота:
«Цээска!»,
«Трудовые резервы!»,
«Динамо!».
1997
* * *
Жалея мальчика, который в парке
апрельском промочил не только ноги,
но и глаза, — ученичок Петрарки, —
наивные и голые амуры,
опомнившись, лопочут, синеоки:
125
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
— Чего ты куксишься? Наплюй на это.
Как можно убиваться из-за дуры?
А он свое: «Лаура, Лаурета...»
1997
* * *
Я слышу приглушенный мат
и мыслю: грозные шахтеры,
покуривая «Беломоры»,
начальство гневно матерят.
Шахтеры это в самом деле
иль нет? Я топаю ногой.
Вновь слышу голос с хрипотцой:
вы что там, суки, офигели?!
...Сидят — бутыль, немного хлеба —
четырнадцать простых ребят.
И лампочки, как звезды неба,
на лбах морщинистых горят.
1997
* * *
Свое некрасивое тело
почти уже вытащив за
порог, он открыл до предела
большие, как небо, глаза.
Тогда, отразившись во взоре
сиреневым и голубым,
огромное небо, как море,
протяжно запело над ним.
126
Избранная лирика
Пусть юношам будет наука
на долгие, скажем, года:
жизнь часто прелестная штука,
а смерть безобразна всегда.
1997
* * *
Сначала замотало руку,
а после размололо тело.
Он даже заорать с испугу
не мог, такое было дело.
А даже заори, никто бы
и не услышал — лязг и скрежет
в сталепрокатном, жмутся робы
друг к другу, ждут, кто первый скажет.
А первым говорил начальник
слова смиренья и печали.
Над ним два мальчика печальных
на тонких крылышках летали.
Потом народу было много,
был желтый свет зеленой лампы,
Чудно упасть в объятья бога,
железные покинув лапы.
1997
* * *
Я уеду в какой-нибудь северный город,
закурю папиросу, на корточки сев,
буду ласковым другом случайно заколот,
надо мною расплачется он, протрезвев.
127
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Знаю я на Руси невеселое место,
где веселые люди живут просто так,
попадать туда страшно, уехать — бесчестно,
спирт хлебать для души и молиться во мрак.
Там такие в тайге замурованы реки,
там такой открывается утром простор,
ходят местные бабы, и беглые зеки —
в третью степень возводят любой кругозор.
Ты меня отпусти, я живу еле-еле,
я ничей навсегда, иудей, психопат:
нету черного горя, и черные ели
мне надежное черное горе сулят.
1997
* * *
...Закрывай свои синие и голубые глаза
чтоб на длинных ресницах лежали большие снежинки
под Ижорами гений успел поглядеть в небеса
я могу прочитать тебе эти стихи без запинки.
Как любил я тебя ненавидел твои города
трубы круглые долгие улицы узкие крыши
наберись же терпения чтоб повторить никогда
никогда никогда никогда я тебя не увижу.
Как мне нравится право как Чехова понял Шестов1
ничего-то мол нету есть только концы и начала
1 Шестов Лев Исаакович (1866—1938) — философ-экзистенциалист, называвший А. П. Чехова «убийцей человеческих надежд».
128
Избранная лирика
и ни песен не надо и ни уж тем более слов
надо только как дико но этого все-таки мало.
Вот по синему льду голубой конькобежец плывет
искры из-под коньков и летит и не знает подвоха
через миг может быть брызнет красная краска на лед
вот и всё милый друг — и у этих кончается плохо.
1997
* * *
Закурю, облокотившись на оконный подоконник,
начинайся, русский бред и жизни творческий ликбез, —
это самый, самый, самый настоящий уголовник,
это друг ко мне приехал на машине «Мерседес».
Вместе мы учились в школе, мы учились в пятом классе,
а потом в шестом учились и в седьмом учились мы,
и в восьмом, что разделяет наше общество на классы.
Я закончил класс десятый, Серый вышел из тюрьмы.
Это — типа института, это — новые манеры,
это — долгие рассказы о Иване-Дураке,
это — знание Толстого и Есенина. Ну, Серый,
здравствуй — выколото «Надя» на немаленькой руке.
Обнялись, поцеловались, выпили и закусили,
станцевали в дискотеке, на турбазе сняли баб,
на одной из местных строек пьяных нас отмолотили
трое чурок, а четвертый — русский, думаю — прораб.
1997
5 Оправдание жизни
129
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
* * *
Взор поднимая к облакам,
раздумываю — сто иль двести.
Но я тебя придумал сам,
теперь пляши со мною вместе.
Давным-давно, давным-давно
ты для Григорьева плясала,
покуда тот глядел в окно
с решеткой — гордо и устало.
Нет ни решетки, ни тюрьмы,
ни «Современника», ни Волги,
но гладковыбритые мы
такие ж в сущности подонки.
Итак, покуда ты жива,
с надежной грустью беспредельной
ищи, красавица, слова
для песни страшной, колыбельной.
1997
* * *
Ночь — как ночь, и улица пустынна
так всегда!
Для кого же ты была невинна
и горда?
Вот идут гурьбой милицанеры —
все в огнях
фонарей — игрушки из фанеры
на ремнях.
130
Избранная лирика
Вот летит такси куда-то с важным
седоком,
чуть поодаль — постамент с отважным
мудаком.
Фабрики. Дымящиеся трубы.
Облака.
Вот и я, твои целую губы:
ну, пока.
Вот иду вдоль черного забора,
набекрень
кепочку надев, походкой вора,
прячась в тень.
Как и все хорошие поэты,
в двадцать два
Я влюблен — и, вероятно, это
не слова.
1997
Тайный агент
Развернувшийся где-то в
пеком городе Эн,
я из тайных агентов
самый тайный агент.
В самой тихой конторе
в самом сером пальто
покурю в коридоре —
безупречный никто.
131
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Но скажу по секрету,
что у всех на виду
подрывную работу
я прилежно веду.
Отправляются цифры
в дребезжащий эфир —
зашифрованы рифмы
и обиды на мир.
Это все не случайно
и иначе нельзя:
все прекрасное — тайно
и секретно, друзья.
1997
* * *
Так гранит покрывается наледью,
и стоят на земле холода —
этот город, покрывшийся памятью,
я покинуть хочу навсегда.
Будет теплое пиво вокзальное,
будет облако над головой,
будет музыка очень печальная —
я навеки прощаюсь с тобой.
Больше неба, тепла, человечности.
Больше черного горя, поэт.
Ни к чему разговоры о вечности,
а точнее, о том, чего нет.
132
Избранная лирика
Это было над Камой крылатою,
сине-черною, именно там,
где беззубую песню бесплатную
пушкинистам кричал Мандельштам.
Уркаган, разбушлатившись, в тамбуре
выбивает окно кулаком,
как Григорьев, гуляющий в таборе,
и на стеклах стоит босиком.
Долго по полу кровь разливается.
Долго капает кровь с кулака.
А в отверстие небо врывается,
и лежат на башке облака.
Я родился — доселе не верится —
в лабиринте фабричных дворов
в той стране голубиной, что делится
тыщу лет на ментов и воров.
Потому уменьшительных суффиксов
не люблю, и когда постучат
и попросят с улыбкою уксуса,
я исполню желанье ребят.
Отвращенье домашние кофточки,
полки книжные, фото отца
вызывают у тех, кто на корточки
сев, умеет сидеть до конца.
Свалка памяти: разное, разное.
Как сказал тот, кто умер уже,
безобразное — это прекрасное,
что не может вместиться в душе.
Слишком много всего не вмещается.
Ни вокзале стоят поезда —
му, пора. Мальчик с мамой прощается.
133
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Знать, побрили болезного. «Да
ты пиши хоть, сынуль, мы волнуемся».
На прощанье страшнее рассвет,
чем закат. Ну, давай поцелуемся!
Больше черного горя, поэт.
1997
* * *
Похоронная музыка
на холодном ветру.
Прижимается муза ко
мне: я тоже умру.
Духовые, ударные
в плане вечного сна.
О мои безударные
«о», ударные «а».
Отрешенность водителя,
землекопа возня.
Не хотите, хотите ли,
и меня, и меня
до отверстия в глобусе
повезут на убой
в этом желтом автобусе
с полосой голубой.
1997
134
Избранная лирика
* * *
Снег за окном торжественный и гладкий,
пушистый, тихий.
Поужинав, на лестничной площадке
курили психи.
Стояли и на корточках сидели
без разговора.
Там, за окном, росли большие ели —
деревья бора.
План бегства из больницы при пожаре
и все такое.
...Но мы уже летим в стеклянном шаре.
Прощай, земное!
Всем всё равно куда, а мне — подавно,
куда угодно.
Наследственность плюс родовая травма —
душа свободна.
Гак плавно, так спокойно по орбите
плывет больница.
Любимые, вы только посмотрите
на наши лица!
1997
1985
М дна часа открывались винные магазины,
и и стране прекращалась работа. Грузины
торговали зельем из-под полы.
Повсюду висели флаги
135
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
В зелени скрывались маньяки,
пионеры были предельно злы.
Мы говорили про них: гомосеки.
В неделю раз умирал генсек...
Откинувшийся из тюрьмы сосед
рассказывал небылицы.
Я, прикуривая, опалил ресницы,
и мне исполнилось десять лет.
1997
Стихотворение Ап. Григорьева
После многодневного запоя
синими глазами мудака
погляди на небо голубое,
тормознув у винного ларька.
Ах, как все прекрасно начиналось:
рифма-дура клеилась сама,
ластилась, кривлялась, вырывалась
и сводила мальчика с ума.
Плакала, жеманница, молилась,
нынче улыбается, смотри:
как-то все, мол, глупо получилось,
сопли вытри и слезу сотри.
Да, сентиментален, это точно.
Слезы, рифмы, все, что было, — бред.
Водка скиснет, но таким же точно
небо будет через тыщу лет.
1997
136
Избранная лирика
* * *
К А. П.
Почти случайно пьесу Вашу,
вернувшись с минеральных вод,
прочел и вспомнил встречу нашу
в столице позапрошлый год.
...На легкой бричке по казенным
я из Казани прилетел
усталым, нищим и влюбленным
в поэмы Александра Л.
Звучит ли ныне эта лира,
умолк ли сей печальный глас?
От «Гезиода и Омира»
готов заплакать хоть сейчас.
Иль это Батюшков? Но к делу,
нас познакомил Александр.
Простите, с рифмою заело:
тетраэдр... Гектор... автокар!
Да, точно Батюшков! Он, к слову,
поручик тоже. Что потом?
Зашли к жиду Золотареву,
дурным затарились вином.
Пошли гулять на всю округу,
к цыганам ездили гурьбой.
Неделю ехал через Лугу
и село Бобрищево, домой.
137
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Лесочек, поле, шито-крыто,
мила соседка, глуп сосед.
А Вас спросить позвольте: мы-то
стрелялись что ли? Или нет?
1997
Европейская ночь
Трущоб Парижских горечь,
неоновый рассвет:
Иванов, Адамович
и даже мэт(ы)р Бунин,
а Ходасевич — нет.
Спроси, о чем тут речь?
Тут речь о том, что будем
мы нашу честь беречь.
1997
* * *
В номере гостиничном, скрипучем,
грешный лоб ладонью подперев,
прочитай стихи о самом лучшем,
всех на свете бардов перепев.
Чтобы молодящиеся Гали,
позабыв ежеминутный хлам,
горнишные за стеной рыдали,
растирали краску по щекам.
138
О России, о любви, о чести,
и долой — в чужие города.
Если жизнь всего лишь форма лести
больше хамства: «Водки, господа!»
Чтоб она трещала и ломалась,
и прощалась с ней душа жива.
В небесах музыка сочинялась
вечная — на смертные слова.
1997
1984
До блеска затаскавший тельник,
до дырок износивший ватник,
мне говорил Серега Мельник,
воздушный в юности десантник,
как он попал по хулиганке
из-за какой-то глупой шутки —
кого-то зацепил по пьянке,
потом надбавки да раскрутки.
В бараке замочил узбека,
Таджику покалечил руку.
Во мне он видел человека,
и не какую-нибудь суку.
Мол, этот точно не осудит.
Когда умру, добром помянет.
Выть может, уркою не будет,
но точно мусором не станет.
1997
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
* * *
Ночь. Каптерка. Домино.
Из второго цеха — гости.
День рождения у Кости.
И кончается вино:
ты сегодня младший, брат,
три бутылки и — назад.
И бегу, забыв весь свет,
на меня одна надежда.
В солидоле спецодежда.
Мне почти семнадцать лет.
И обратно — по грязи,
с водкою из магази...
Что такое? Боже мой!
Два мента торчат у «скорой».
Это шкафчик, о который
били Костю головой?
Раз, два, три, четыре, пять?
все — в машину, вашу мать.
Зимний вечер. После дня
трудового над могилой,
впечатляюще унылой,
почему-то плачу я:
ну, прощай, Салимов К. У.
Снег ложится на башку.
1997
140
Избранная лирика
* * *
Серж эмигрировать мечтал,
но вдруг менту по фейсу дал
и сдал дела прокуратуре,
Боб умер, скурвился Вадим,
и я теперь совсем один,
как чмо последнее в натуре.
Едва живу, едва дышу,
что сочиню — не запишу,
на целый день включаю Баха,
летит за окнами листва
едва-едва, едва-едва,
и перед смертью нету страха.
О где же вы, те времена,
когда я пьян был без вина
и из общаговского мрака,
отвесив стражнику поклон,
отчаливал, как Аполлон,
облеплен музами с химфака.
Я останавливал такси —
куда угодно, но вези.
Одной рукой, к примеру, Иру
обняв, другою обнимал,
к примеру, Олю и взлетал
над всею чепухою мира.
1997
141
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Леонтьеву
«...Всё на главу мою...»
А. П.
Сашка, пьяница, поэт,
ни поэму, ни сонет,
ни обычный ворох од
не найдешь ты в сем конверте.
Друг мой, занят я. И вот
чем. Уж думал, дело к смерти,
да-с, короче, твой Борис
было уж совсем раскис,
размышляя на предмет
подземелья, неба, морга.
Вдруг, поверишь ли, поэт,
появляется танцорка.
Звать Наташей. Тренер по
аэробике — и по,
доложу тебе, и но,
и лицом мила, как будто.
Хоть снимай порнокино
на площадке Голливуда.
Так что, Сашка, будь здоров.
Извини, что нет стихов, —
скверной прозою пишу,
что едва ль заборной краше.
С музой больше не грешу,
я грешу с моей Наташей.
1997
142
Избранная лирика
* * *
Как всякий мыслящий поэт,
имею слов запас огромный —
цены сему запасу нет,
а я не гордый, даже скромный.
Однако жадный и скупой:
сейчас, сейчас сундук достану,
пыль рукавом сотру и стану
глазеть на капиталец мой.
А ты свой нос сюда не суй,
не клянчи: Боря, дай хоть слово.
Не дам! А впрочем, что такого,
возьми, пожалуй, это...
1997
* * *
Поэзия должна быть странной —
забыл — бессмысленной, туманной,
Как секс без брака, беззаконной
и хамоватой, как гусар,
шагающий по Миллионной,
ворон пугая звоном шпор.
...Вдруг опустела стеклотара
мы вышли за полночь из бара,
нллея вроде коридора
сужалась, отошел отлить,
не прекращая разговора
с собой: нельзя так много пить.
143
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Взглянул на небо, там мерцала
звезда, другая описала
дугу огромную — как мило —
на западе был сумрак ал.
Она, конечно, не просила,
но я ее поцеловал.
Нет, всё не так, не то. Короче,
давайте с вечера до ночи —
в квартире, за углом, на даче —
забыв про недругов про всех, —
друзья мои, с самоотдачей
пить за шумиху, за успех.
1997
* * *
«Вот эта любит Пастернака...» —
мне мой приятель говорил.
«Я наизусть “Февраль”...», однако
я больше Пушкина любил.
Но ей сказал: «Люблю поэта
я Пастернака...» А потом
я стал герой порносюжета.
И вынужден краснеть за это,
когда листаю синий том.
1997
* * *
На чьих-нибудь чужих похоронах
какого-нибудь хмурого коллеги
144
почувствовать невыразимый страх,
не зная, что сказать о человеке.
Избранная лирика
Всего лишь раз я сталкивался с ним
случайно, выходя из коридора,
его лицо закутал синий дым
немодного сегодня «Беломора».
Пот толстяка катился по вискам.
Большие перекошенные губы.
А знаете, что послезавтра к вам
придут друзья и заиграют трубы?
Вот только ангелов не будет там,
противны им тела, гробы, могилы.
Но слезы растирают по щекам
и ожидают вас, сотрудник милый.
...А это всё слова, слова, слова,
слова, и, преисполнен чувства долга,
минуты три стоял ещё у рва
подонок тихий, выпивший немного.
1997
* * *
Все хорошо начинали. Да плохо кончали.
Покричали и замолчали —
кто — потому что не услышан, кто —
потому что услышан не теми, кем хотелось.
Идут, завернувшись в пальто.
А какая была смелость,
напористость. Это были поэты
настоящие, это
145
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
были поэты, без дураков.
Завернулись в пальто, словно в тени, руки — в
карманы.
Не здороваются, т. к. не любят слов.
Здороваются одни графоманы.
1997
Памяти Бибикова1
Обед готов — хлеб, соль. А к слову
сказать: баран ко дню Петрову
блюденный, сыр, горшочек щей.
Тетрадь. В ней стих какой-то начат.
Читаем, «...росс, Минерва плачут,
на блеклых миртах Гименей».
...Друзья, я возмущен. Какое
стихотворение плохое
однажды гений сочинил!
«Тебя ль оплакивать я должен,
о Бибиков!» Был все же сложен
пиит Державин Гавриил.
«О Бибиков!» — какая гадость.
Пусть честный муж, пусть даже жалость
к Отечеству сильней питал,
чем к детям. Бибиков? Какая
все же фамилия плохая.
«Крамолу ты, разя, скончал...»
Певец «Фелицы», «Водопада»,
«Прогулки...», врать-то было надо
1 Бибиков Александр Ильич (1729—1774) — государственный деятель,
генерал-аншеф, чью смерть воспел Г. Р. Державин, автор од «Фелица»,
«Водопад», «Прогулка в Сарском Селе».
146
Избранная лирика
зачем. Стихи твои, пиит,
исторгли б слезы из очей, но
«Стой, путник! стой благоговейно!
здесь Бибикова прах сокрыт!»
1997
* * *
Двенадцать ночи. Выпить не с кем.
Ковбой один летит над Невским
и курит «Мальборо» ковбой.
Ты тоже закурил устало.
Пожалуй, времечко настало,
чтоб побеседовать с собой.
А если не о чем с собою
беседовать, скажи ковбою,
что он ублюдок и говно.
Зачем, ты спросишь? Я не знаю.
Но сколь его ни оскорбляю,
ему, конечно, все равно.
Он курит «Мальборо», он мчится.
Ему поможет заграница.
Он на коне сам черт не брат,
он на закат глядит с тоскою,
он ночью спит с твоей женою,
он курит, глядя на закат.
Он сукин сын, он грязь и падаль.
Он на коне, и он не падал
в дерьмо со своего коня.
А ты всегда на ровном месте
готов споткнуться с жизнью вместе,
ковбоя даже не виня.
1997
147
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
* * *
Америка Квентина Тарантино —
Сентиментально-глупые боксеры
И профессиональные убийцы,
Ностальгирующие по рок-н-роллу,
Влюбленные в свои автомобили:
«Линкольны», «Мерседесы», «БМВ».
Подкрашен кровью кубик героина —
И с новеньким удобным «Ремингтоном»
Заходит в банк сорокалетний дядя,
Заваливает пару-тройку черных
В бейсболках и футболках с капюшонами
и бородами, как у Христа.
А в Мексике американским богом,
Похожим удивительно на Пресли,
Для тех, кто чисто выиграл, поставив
На жизнь и смерть, построен Рай, и надпись:
«Хороший стиль оправдывает всё!», —
Зеленым распылителем по небу.
1997
* * *
Америка Квентина Тарантино —
Боксеры, проститутки, бизнесмены.
О, профессиональные бандиты,
Ностальгирующие по рок-н-роллу,
Влюбленные в свои автомобили:
«Линкольны», «Мерседесы», «БМВ».
Мы что-то засиделись в Петербурге,
Мы засиделись в Екатеринбурге,
148
Избранная лирика
Перми, Москве, Царицыне, Казани.
Всё Александра Кушнера читаем
И любим даже наших глуповатых,
Начитанных и очень верных жен.
И очень любим наших глуповатых,
Начитанных и очень верных жен.
1997
Ода
Скажу, рысак!
А. Л.
Ночь. Звезда. Милицанеры.
парки, улицы и скверы
объезжают. Тлеют фары
италийских «Жигулей».
Извращенцы, как кошмары,
прячутся в тени аллей.
Четверо сидят в кабине.
Восемь глаз печально-синих.
Иванов. Синицын. Жаров.
Лейкин сорока двух лет,
на ремне его «Макаров».
Впрочем, это пистолет.
Вдруг Синицын: «Стоп-машина».
Скверик возле магазина
«Соки-воды». На скамейке
человек какой-то спит.
Иванов, Синицын, Лейкин,
Жаров: вор или бандит?
149
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Ночь. Звезда. Грядет расплата.
На погонах кровь заката.
«А, пустяк, — сказали только,
выключая ближний свет, —
это пьяный Рыжий Борька,
первый в городе поэт».
1997
* * *
Мне говорил Серега Мельник:
«Живу я, Боря, у базара.
Охота выпить, нету денег —
к урюкам валим без базара.
А закобенятся урюки:
да денег нет, братва, да в слезы.
Ну чё, тогда давайте, суки,
нам дыни, яблоки, арбузы».
Так говорил Серега Мельник,
воздушный в юности десантник,
до дырок износивший тельник,
до блеска затаскавший ватник.
Я любовался человеком
простым и, в сущности, великим.
...Мне не крестить детей с узбеком,
казахом, азером, таджиком.
1997
150
Избранная лирика
* * *
Отделали что надо, аж губа
отвисла эдак. Думал, всё, труба,
приехал ты, Борис Борисыч, милый.
И то сказать: пришел в одних трусах
с носками, кровь хрустела на зубах,
нога болела, грезились могилы.
Ну, подождал, пока сойдет отек.
А из ноги я выгоду извлек:
я трость себе купил и с тростью этой
прекраснейшей ходил туда-сюда,
как некий князь, и нравился — о да! —
и пожинал плоды любви запретной.
1997
* * *
Оставь мне небо темно-синее
и ели темно-голубые,
и повсеместное уныние,
и горы снежные, любые.
Четвертый день нет водки в Кытлыме,
чисты в общаге коридоры —
по ним-то с корешами вышли мы
глядеть на небо и на горы.
Я притворяюсь, что мне нравится
единственно, чтоб не обидеть,
151
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
поддакиваю: да, красавица.
Да, надо знать. Да, надо видеть.
И легкой дымкою затянута,
и слабой краскою облита.
Не уходи, разок хотя бы ты
взгляни в глазок теодолита.
Иначе что от нас останется,
еще два-три таких урока:
душа все время возвращается
туда — и плачет, одинока.
1997
Писатель
Как таксист, на весь дом матерясь,
за починкой кухбнного крана,
ранит руку и, вытерев грязь,
ищет бинт, вспоминая Ивана
Ильича, чуть не плачет, идет
прочь из дома: на волю, на ветер —
синеглазый худой идиот,
переросший трагедию Вертер —
и под грохот зеленой листвы
в захламленном влюбленными сквере
говорит полушепотом: «Вы,
там, в партере!»
1997
152
Еще не погаснет жемчужин
соцветие в городе том,
а я просыпаюсь, разбужен
протяжным фабричным гудком.
Идет на работу кондуктор,
шофер на работу идет.
Фабричный плохой репродуктор
огромную песню поет.
Плохой репродуктор фабричный,
висящий на красной трубе,
играет мотив неприличный,
как будто бы сам по себе.
Но знает вся улица наша,
а может, весь микрорайон:
включает его дядя Паша,
контужен фугаскою он.
А я, собирая свой ранец,
жуя на ходу бутерброд,
пускаюсь в немыслимый танец
известную музыку под.
Как карлик, как тролль на базаре,
живу и пляшу просто так.
Шумите, подземные твари,
покуда я полный мудак.
Мутите озерные воды,
пускайте по лицам мазут.
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Наступят надежные годы,
хорошие годы придут.
Крути свою дрянь, дядя Паша,
но лопни, моя голова,
на страшную музыку вашу
прекрасные лягут слова.
1997
* * *
...И понял я, что не одна мерцала
звезда, а две, что не одна горела
звезда, а две, и не сказав, что мало,
я все же не скажу, что много было
их (звезд), чтобы расправиться со мглою
над круглою моею головою.
1997
На смерть поэта
Я так люблю иронию мою.
И жизнь воспринимаю как удачу —
в надежде на забвенье, словно чачу,
ее, хотя и морщуся, но пью.
Я убивал, а вы играли в дум
до членов немощных изнеможенья.
И выдавало каждое движенье,
как заштампован ваш свободный ум.
154
Избранная лирика
А вы меня учили — это зал,
кулисы, зритель, прочие детали.
Вы жили, потому что вы играли.
Я жил, и лишь поэтому играл.
Вы там, на сцене, многое могли.
А я об стену бился лбом бесславным.
Но в чем-то самом нужном, самом главном
вы мне невероятно помогли.
Я, мнится, нечто новое привнес
в поэзию, когда, столкнувшись с вами,
воспользовался вашими словами,
как бритвой, отвращения не без.
1997
Баллада
На Урале, в городе Кургане,
в день шахтера или ПВО
направлял товарищ Каганович
револьвер на деда моего.
Зыходил мой дед из кабинета
в голубой, как небо, коридор —
мимо транспарантов и портретов
мчался грозный импортный мотор.
Мимо всех живых, живых и мертвых,
сквозь леса, и реки, и века,
а на крыльях выгнутых и черных
синим отражались облака.
155
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Где и под какими облаками,
наконец, в каком таком дыму,
бедный мальчик, тонкими руками
я тебя однажды обниму?
1997
# * *
Пела мама мне когда-то,
слышал я из темноты:
спят ребята и зверята
тихо-тихо, спи и ты.
Только — надо ж так случиться —
холод, пенье, яркий свет:
двадцать лет уж мне не спится,
сны не снятся двадцать лет.
Послоняюсь по квартире
или сяду на кровать.
Надо мне в огромном мире
жить, работать, умирать.
Быть примерным гражданином
и солдатом — иногда.
Но в окне широком, длинном
тлеет узкая звезда.
Освещает крыши, крыши.
Я гляжу на свет из тьмы:
не так громко, сердце, тише —
тут хозяева не мы.
1997
156
Избранная лирика
Кусок элегии
Я.
Дай руку мне — мне скоро двадцать три —
и верь словам, я дольше продержался
меж двух огней — заката и зари.
Хотел уйти, но выпил и остался
удерживать сей призрачный рубеж:
то ангельские отражать атаки,
то дьявольские, охраняя брешь,
сияющую в беспредметном мраке.
Со всех сторон идут, летят, ползут.
Но стороны-то две, а не четыре.
И если я сейчас останусь тут,
я навсегда останусь в этом мире.
И ты со мной — дай руку мне — и ты
теперь со мной, но я боюсь увидеть
глаза, улыбку, облако, цветы.
Все, что умел забыть и ненавидеть.
Оставь меня и музыку включи.
Я рассажу тебе, когда согреюсь,
как входят в дом — не ангелы — врачи
и кровь мою процеживают через
тот самый уголь — если б мир сгорел
со мною и с тобой — тот самый уголь.
А тот, кого любил, как ангел бел,
закрыв лицо, уходит в дальний угол.
И я вишу на красных проводах
в той вечности, где не бывает жалость.
И музыку включи, пусть шпарит Бах —
он умер, но мелодия осталась.
1997
157
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Памяти друга
ю. л.
Жизнь художественна,
смерть — документальна
и математически верна,
конструктивна и монументальна,
зла, многоэтажна, холодна.
Новой окрыленные потерей
расступились люди у ворот.
И тебя втащили в крематорий,
как на белоснежный пароход.
Понимаю, дикое сравненье!
Но покуда я тебя несу,
для тебя прощенья и забвенья
я прошу у неба. А внизу,
запивая спирт вишневым морсом,
у котла подонок-кочегар
отражает оловянным торсом
умопомрачительный пожар.
Поплывешь, как франт, в костюме новом,
в бар войдешь красивым и седым,
перекликнешься с красоткой словом,
а на деле — вырвешься как дым.
Вот и все, и я тебя не встречу
в заграничном розовом порту
с девочкой, чья юбочка короче
перехода сторону на ту.
1997
158
Избранная лирика
* * *
Рейн Евгений Борисыч уходит в ночь,
в белом плаще английском уходит прочь.
В черную ночь уходит в белом плаще,
вообще одинок, одинок вообще.
Вообще одинок, как разбитый полк:
ваш Петербург больше похож на Нью-Йорк.
Вот мы сидим в кафе и глядим в окно:
Рыжий Б., Леонтьев А., Дозморов О.
Вспомнить пытаемся каждый любимый жест:
как матерится, как говорит, как ест.
Как одному «другу» и двум другим
он «Сапожок» подписывал: «дорогим».
Как говорить о Бродском при нем нельзя,
Встал из-за столика: не провожать, друзья.
Завтра мне позвоните, к примеру, в час.
Грустно и больно: занят, целую вас!
1997
* * *
Когда бы знать наверняка,
что это было в самом деле —
там голубые облака
159
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
весь день над крышами летели,
под вечер выпивши слегка,
всю ночь соседи что-то пели.
Отец с работы приходил
и говорил во рту с таблеткой,
ходил по улице дебил,
как Иисус, с бородкой редкой.
Украв, я в тире просадил
трояк, стрельбой занявшись меткой.
Все это было так давно,
что складываются детали
в иное целое одно,
как будто в страшном кинозале
полнометражное кино
за три минуты показали.
В спецшколу будем отдавать
его, пусть учится в спецшколе!
Отец молчит и плачет мать,
а я с друзьями и на воле
ржу, научая слову «блядь»
дебила Николая, Колю.
1997
* * *
Вот дворик крохотный в провинции печальной
где возмужали мы с тобою, тень моя,
откуда съехали — ты помнишь день прощальный?
я вспоминал его, дыханье затая.
160
Избранная лирика
Мир не меняется — о тень — тут все как было:
дома хрущевские, большие тополя,
пушинки кружатся — коль вам уже хватило,
пусть будет пухом вам огромная земля.
Под этим тополем я целовал ладони
да, не красавице, но из последних сил,
летело белое на темно-синем фоне
по небу облако, а я ее любил.
Мир не меняется, а нам какое дело,
что не меняется, что жив еще сосед,
ведь я любил ее, а облако летело,
но нету облака — и мне спасенья нет.
1997
* * *
«Как в жизни падал, как вставал,
как вовсе умирал для света», —
он это в тридцать написал,
а в сорок кончилось все это.
И тридцать лет сплошная тьма,
в конце которой смерть от тифа.
И ученик «Не дай с ума
сойти мне, Бог...» черкнет брезгливо.
А через много-много лет
посредственный, но бесконечно
начитанный кивнет поэт:
да, Батюшков! да-да, конечно!
1997
Л Оприилинпс жизни
161
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
В гостях
— Вот «Опыты», вот «Сумерки», а вот
«Трилистник». — Достает
из шкафа книги. «Сумерки», конечно,
нам интересна более других.
— Стихи — архаика. И скоро их
не будет. — Это бессердечно.
И хочется спросить: а как
же мы? Он понимает — не дурак,
но, вероятно, врать не хочет — кротко
на нас с товарищем глядит
и, улыбаясь, говорит:
— Останьтесь, у меня есть водка.
1997
* * *
...А была надежда на гениальность. Была
да сплыла надежда на гениальность.
— Нет трагедии необходимой, мила
тебе жизнь. А поэзия — это случайность,
а не неизбежность.
— Но в этом как раз
и трагедия, злость золотая и нежность.
Потому что не вечность, а миг только, час.
Да, надежда, трагедия, неизбежность.
1997
162
Избранная лирика
Философская лирика
Прошла гроза, пятьсот тонов заката
разлиты в небе: желтый, темно-синий.
Конечно, ты ни в чем не виновата,
в судьбе, как в небе, нету четких линий.
Так вот на этом темно-синем фоне,
до смерти желтом, розовом, багровом
дай хоть последний раз твои ладони
возьму в свои и не обмолвлюсь словом.
Дай хоть последний раз коснусь губами
щек, глаз, какие глупости, прости же
и помни: за домами-облаками
живет поэт и критик Борька Рыжий.
Живет худой, обросший, одинокий,
изрядно пьющий водку, неустанно
твердящий: друг мой нежный, друг жестокий
(заламывая руки), где ты, Анна?
1997
* * *
Эмалированное судно,
окошко, тумбочка, кровать —
жи ть тяжело и неуютно,
шго уютно умирать.
Лежу и думаю: едва ли
Пот этой белой простыней
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
того вчера не укрывали,
кто нынче вышел в мир иной.
И тихо капает из крана.
И жизнь, растрепана, как блядь,
выходит как бы из тумана
и видит: тумбочка, кровать...
И я пытаюсь приподняться,
хочу в глаза ей поглядеть.
Взглянуть в глаза и — разрыдаться
и никогда не умереть.
1997
* * *
Над саквояжем в черной арке
всю ночь трубил саксофонист.
Бродяга на скамейке в парке
спал, постелив газетный лист.
Я тоже стану музыкантом
и буду, если не умру,
в рубашке белой с синим бантом
играть ночами на ветру.
Чтоб, улыбаясь, спал пропойца
под небом, выпитым до дна, —
спи, ни о чем не беспокойся,
есть только музыка одна.
1997, июнь
Санкт-Петербург
164
Избранная лирика
* * *
Был городок предельно мал,
проспект был листьями застелен.
Какой-то Пушкин или Ленин
на фоне осени стоял
совсем один, как гость случайный,
задумчивый, но не печальный.
...Как однотипны города
горнорабочего Урала.
Двух слов, наверно, не сказала,
и мы расстались навсегда,
и я уехал одинокий,
ожесточенный, не жестокий.
В таком же городе другом,
где тоже Пушкин или Ленин
исписан матом, и забелен
тот мат белилами потом,
проездом был я две недели,
один, как призрак, жил без цели.
Как будто раздвоился мир
и расстоянье беспредельно
меж нами, словно параллельно
мы существуем: щелок, дыр,
лазеек нет, есть только осень,
чей взор безумен и несносен.
Вот та же улица, вот дом
до неприличия похожий,
И у прохожих те же рожи —
165
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
в таком же городе другом —
я не заплачу, но замечу,
что никогда тебя не встречу.
1997
* * *
Когда вонзают иглы в руки
и жизнь чужда и хороша —
быть может, это час разлуки,
не покидай меня, душа.
Сестрица Лена, ангел Оля1,
не уходите никуда —
очистив кровь от алкоголя,
кровь станет чистой навсегда.
Кровь станет чистой, будет красной,
я сочиню стихи о том,
как славно жить в стране прекрасной
и улыбаться красным ртом.
Но краток миг очарованья
и, поутру, открыв глаза,
иду — сентябрь, кварталы, зданья.
И, проклиная небеса,
идут рассерженные люди,
несут по облаку в глазах,
И, улыбаясь, смотрит Руди
и держит агнца на руках.
1997
Елена и Ольга — старшие сестры поэта.
1бб
Избранная лирика
Расклад
Витюра раскурил окурок хмуро.
Завернута в бумагу арматура.
Сегодня ночью (выплюнул окурок)
мы месим чурок.
Алена смотрит на меня влюбленно.
Как в кинофильме мы стоим у клена,
головушка к головушке склонена:
Борис — Алена.
Но мне пора, зовет меня Витюра.
Завернута в бумагу арматура.
Мы исчезаем, легкие, как тени,
в цветах сирени.
Будь, прошлое, отныне поправимо!
Да станет Виктор русским генералом,
да не тусуется у магазина
запойным малым.
А ты, Алена, жди милого друга,
ОМ не закончит университета,
ты будешь верная супруга.
Поклон за это
тебе земной • Гуляя по Парижу,
я как глаза закрою, сразу вижу
все наши приусадебные прозы,
сквозь смех, сквозь слезы.
167
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Но прошлое, оно непоправимо.
Вы все остались, я проехал мимо —
с цигаркой, в бричке, еле уловимо
плыл запах дыма.
1998
* * *
По локти руки за чертой разлуки,
и расцветают яблони весной.
«Весны» монофонические звуки,
тревожный всхлип мелодии блатной.
Составив парты, мы играем в карты,
Серега Л. мочится из окна.
И так все хорошо, как будто завтра,
как в старой фильме, началась война.
1998
* * *
Больничная тара, черника
и спирт голубеют в воде.
Старик, что судил Амальрика1
в тагильском районном суде,
1 Амальрик Андрей Алексеевич (1938—1980) — историк, публицист, московский диссидент, написавший в 1969 году эссе «Просуществует ли
Советский Союз до 1984 года?». Несколько раз был арестован и осужден. В мае 1970 г. был этапирован в Свердловск, где в ноябре состоялся
показательный процесс над ним.
168
Избранная лирика
шарманку беззубую снова
заводит, позорище, блин:
вы знаете, парни, такого?
Не знаем и знать не хотим.
Погиб за границей Амальрик,
загнулся в неведомых США.
Тут плотник, таксист и пожарник,
да ваша живая душа.
Жизнь — сволочь в лиловом мундире,
гуляет светло и легко,
но есть одиночество в мире
и гибель в дырявом трико.
Проветривается палата,
листва залетает в окно.
С утра до отбоя ребята
играют в лото-домино.
От этих фамилий, поверьте,
ни холодно, ни горячо.
Судья, вы забыли о смерти,
что смотрит вам через плечо.
1998
* * *
Жизнь — падла в лиловом мундире,
гуляет светло и легко.
Но есть одиночество в мире —
погибель в дырявом трико.
169
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Больница. В стакане брусника.
Обычная осень в окне.
И вдруг: — Я судил Амальрика,
да вы не поверите мне. —
Проветривается палата.
Листва залетает в окно.
Приходят с обеда ребята,
садятся играть в домино...
Закрой свои зоркие очи.
Соседей от бредней уволь.
Разбудит тебя среди ночи
и вновь убаюкает боль.
Погиб за границей Амальрик.
Причем тут вообще Амальрик?
Тут плотник, поэт и пожарник...
Когда бы ты видел, старик,
с какой беззащитной любовью
тебя обступили, когда,
что тлела в твоем изголовье,
в окошке погасла звезда...
Стой, смерть, безупречно на стреме.
Будь, осень, всегда начеку.
Все тлен и безумие, кроме —
(я вычеркнул эту строку).
1998
170
Избранная лирика
* * *
Мой щегол, я голову закину...
О. М.
В деревню Сартасы, как время пришло,
меня занесло.
Давно рассвело, и скользнуло незло
по Обве1 весло.
Я вышел тогда покурить на крыльцо —
тоска налицо.
Из губ моих, вот, голубое кольцо
летит к облакам.
Я выдержу, фигушки вам, дуракам!
Хлебнуть бы воды,
запить эту горечь беды-лебеды.
Да ведра пусты.
1998
* * *
Восьмидесятые, усатые,
хвостатые и полосатые.
Трамваи дребезжат бесплатные.
Летят снежинки аккуратные.
Фигово жили, словно не были.
Пожалуй, так оно, однако,
гляди сюда, какими лейблами
расписана моя телага.
1 Река в Пермской области.
171
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
На спину «levi’s» пришпандорено,
и «Puma» на рукав пришпилено.
И трехрублевка, что надорвана,
получена с Сереги Жилина.
13 лет. Стою на ринге.
Загар бронею на узбеке.
Я проиграю в поединке,
но выиграю в дискотеке.
Пойду в общагу ПТУ,
гусар, повеса из повес.
Меня «обуют» на мосту
три ухаря из ППС.
И я услышу поутру,
очнувшись головой на свае:
трамваи едут по нутру,
под мостом дребезжат трамваи.
Трамваи дребезжат бесплатные.
Летят снежинки аккуратные...
1998
* * *
В полдень проснешься, откроешь окно
двадцать девятое светлое мая:
Господи, в воздухе пыль золотая.
И ветераны стучат в домино.
Значит, по телеку кажут говно.
Дурочка Рая стоит у сарая,
172
Избранная лирика
и, матерщине ее обучая,
ржут мои други, проснувшись давно.
Но в час пятнадцать начнется кино,
Двор опустеет, а дурочка Рая
станет на небо глядеть не моргая.
И почти сразу уходит на дно
памяти это подобие рая.
Синее небо от края до края.
1998
* * *
Давай, стучи, моя машинка,
неси, старуха, всякий вздор,
о нашем прошлом без запинки,
не умолкая, тараторь.
Колись давай, моя подруга,
тебе, пожалуй, сотня лет,
прошла через какие руки,
чей украшала кабинет?
Торговца, сыщика, чекиста?
Ведь очень даже может быть,
отнюдь не все с тобою чисто
и страшных пятен не отмыть.
Покуда литеры стучали,
кпретка сонная плыла,
в полупустом полуподвале
вершились темные дела.
173
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Тень на стене чернее сажи
росла и уменьшалась вновь,
не перешагивая даже
через запекшуюся кровь.
И шла по мраморному маршу
под освещеньем в тыщу ватт
заплаканная секретарша,
ломая горький шоколад.
1998
* * *
В парке отдыха, в парке
за деревьями светел закат.
Сестры «больно» и «жалко».
Это — вырвать из рук норовят1
кока-колу с хот-догом,
чипсы с гамбургером. Итак,
все мы ходим под Богом,
кто вразвалочку, кто кое-как
шкандыбает. Подайте,
поднесите ладони к губам.
Вот за то и подайте,
что они не подали бы вам.
Вариант первой строфы:
В парке отдыха ярко
за деревьями светит закат.
Так глядят они жалко
и все вырвать из рук норовят
174
Избранная лирика
Тихо, только губами,
сильно путаясь, «Refugee blues»
повторяю. С годами
я добрей, ибо смерти боюсь.
Повторяю: добрее
я с годами и смерти боюсь.
Я пройду по аллее
до конца, а потом оглянусь.
Пусть осины, березы,
это небо и этот закат
расплывутся сквозь слезы,
и уже не сплывутся назад.
1998
* * *
Я улыбнусь, махну рукой,
подобно Юрию Гагарину.
Какое чудо мне подарено,
а к чуду — ключик золотой.
Винты свистят, мотор ревет,
я выхожу на взлет задворками.
Убойными тремя семерками
заряжен чудо-пулемет.
Я в штопор, словно идиот,
вхожу, но выхожу из штопора —
крыло пробитое заштопаю,
пускаюсь заново в полет.
175
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
В невероятный черный день
я буду сбит огромным ангелом
и, полыхнув зеленым факелом,
я рухну в синюю сирень.
В малюсенький, священный двор,
где детство надрывало пузико.
Из шлемофона хлещет музыка,
и слезы застилают взор.
1998
* * *
Вот здесь я жил давным-давно — смотрел
кино, пинал говно и, пьяный, выходил в окно.
В окошко пьяный выходил, буровил, матом говорил и нравился себе, и жил. Жил-был и нравился
себе с окурком «БАМа» на губе.
И очень мне не по себе, с тех пор, как превратился в дым, а также скрипом стал дверным, че-
кушкой, спрятанной за томом Пастернака, нет, —
не то.
Сиротством, жалостью, тоской, не музыкой, но
музыкой, звездой полночного окна, отпавшей литерою «а», запавшей клавишею «б»:
Оркестр игр ет н тру е — хоронят Петю, он де
ил. Витюр хмуро р скурил окурок, ст рый лове-
л с, стоит и пл чет дядя Ст с. И те, кого я сочинил, плюс эти, кто вз пр вду жил, и этот двор,
и этот дом летят н фоне голу ом, летят неведомо
куд — кр сивые к к никогд .
1998
176
Избранная лирика
* * *
С плоской «Примой» в зубах: кому в бровь, кому в пах,
сквозь сиянье вгоняя во тьму.
Только я со шпаною ходил в дружбанах,
до сих пор не пойму, почему.
Я у Жени спрошу, я поеду к нему,
он влиятельным жуликом стал.
Через солнце Анталии вышел во тьму,
в небеса на «Рено» ускакал.
И ответит мне Женя, березы росток,
на ладошку листок оброня:
— Не завидуя мне, потому что, браток,
ты хотел быть таким же, как я.
Всем вручили по жизни, а нам — по судьбе,
словно сразу аванс и расчет.
Мы с тобой прокатились на А и на Б,
поглядели, кто первым умрет.
Так ответит мне Женя. А я улыбнусь
и смахну с подбородка слезу.
На такси до родимых трущоб доберусь,
попрошу, чтобы ждали внизу.
Человек умирает, играет труба,
начинается осень везде.
Музыкант вытирает ладонью со лба
и играет опять на трубе.
1998
177
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
* * *
Трамвай гремел. Закат пылал.
Вдруг заметался
Серега, дальше побежал,
а мент остался.
Ребята пояснили мне:
Сереге будет
весьма вольготно на тюрьме —
не те, кто судят
страшны, а те, кто осужден.
Почти что к лику
святых причислен будет он.
Мента — на пику!
Я ничего не понимал,
но брал на веру,
с земли окурки поднимал
и шел по скверу.
И всё. Поэзии — привет.
Таким зигзагом,
кроме меня, писали Фет
да с Пастернаком.
1998
* * *
Не вставай, я сам его укрою,
спи, пока осенняя звезда
светит над твоею головою
и гудят сырые провода.
178
Избранная лирика
Звоном тишину сопровождают,
но стоит такая тишина,
словно где-то четко понимают,
будто чья-то участь решена.
Этот звон растягивая, снова
стягивая, можно разглядеть
музыку, забыться, вставить слово,
про себя печальное напеть.
Про звезду осеннюю, дорогу,
синие пустые небеса,
про цыганку на пути к острогу,
про чужие черные глаза.
И глаза закрытые Артема
видят сон о том, что навсегда
я пришел и не уйду из дома...
И горит осенняя звезда.
1998
Из биографии гения
...У барона мало денег —
нищета его удел.
Ждет тебя, прекрасный Дельвиг,
Департамент горных дел.
1998
179
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
* * *
Когда менты мне репу расшибут,
лишив меня и разума и чести,
за хмель, за матерок, за то, что тут —
ЗДЕСЬ ССАТЬ НЕЛЬЗЯ! МОЛЧАТЬ!
СТОЯТЬ НА МЕСТЕ!
Тогда бесшумно вырвется вовне,
потянется по сумрачным кварталам
былое или снившееся мне —
затейливым печальным карнавалом:
Наташа, Саша, Леша, Алексей.
Пьеро, сложивший лодочкой ладони.
Шарманщик в окруженьи голубей.
Русалки. Гномы. Ангелы и кони.
Головорезы. Карлики. Льстецы.
Училки. Прапора с военкомата.
Киношные смешные мертвецы,
исчадье пластилинового ада.
Денис Давыдов. Батюшков смешной.
Некрасов желчный.
Вяземский усталый.
Весталка, что склонялась надо мной,
и фея, что меня оберегала.
И проч., и проч., и проч., и проч., и проч.,
Я сам не знаю то, что знает память.
Идите к черту, удаляйтесь в ночь.
От силы две строфы могу добавить.
Три женщины. Три школьницы. Одна
с косичками. Другая в платье строгом.
Закрашена у третьей седина.
За всех троих отвечу перед Богом.
Мы умерли. Озвучит сей предмет
180
Избранная лирика
музыкою, что мной была любима,
за три рубля запроданный кларнет
безвестного Синявина Вадима.
1998
* * *
Не забухал, а первый раз напился
и загулял —
под «Скорпионз» к ее щеке склонился,
поцеловал.
Чего я ждал? Пощечин с размаху
да по виску,
и на ее плечо, как бы на плаху,
поклал башку.
Но понял вдруг, трезвея, цепенея,
жизнь вообще
и в частности, она всегда умнее.
А что еще?
А то еще, что, вопреки злословью,
она проста.
И если, пьян, с последнею любовью
к щеке уста
прижал, и все, и взял рукою руку —
она поймет.
И, предвкушая вечную разлуку,
не оттолкнет.
1998
181
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
* * *
Разломаю сигареты,
хмуро трубочку набью —
как там русские поэты
машут шашками в бою?
Вот из града Петрограда
мне приходит телеграф.
Восклицаю:
— О досада! —
в клочья ленту разорвав.
Чтоб на месте разобраться,
кто зачинщик
и когда,
да разжаловать засранца
в рядовые навсегда.
На сукна зеленом фоне
орденов жемчужный ряд —
в бронированном вагоне
еду в город Петроград.
Только нервы пересилю,
вновь хватаюсь за виски.
Если б тиф!
«Педерастия
косит гвардии полки».
1998
182
Избранны лирика
* * *
Оркестр играет на трубе.
И ты идешь почти вслепую
от пункта А до пункта Б
под мрачную и духовую.
Тюрьма стеной окружена,
и гражданам свободной воли
оттуда музыка слышна.
Л ты поморщился от боли.
А ты по холоду идешь
в пальто осеннем нараспашку.
Ты папиросу достаешь
и хмуро делаешь затяжку.
Но снова ухает труба,
все рассыпается на части
от пункта Б до пункта А.
И ты поморщился от счастья.
Как будто только что убег,
зарезал суку в коридоре.
Вэвэшник выстрелил в висок,
и ты лежишь на косогоре.
И путь-дорога далека.
И пахнет прелою листвою.
И пролетают облака
над непокрытой головою.
1998
183
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
* * *
Мотивы, знакомые с детства,
про алое пламя зари,
про гибель, про цели и средства,
про Родину, черт побери.
Опять выползают на сушу,
маячат в трамвайном окне.
Спаси мою бедную душу
и память оставь обо мне.
Чтоб жили по вечному праву
все те, кто для жизни рожден,
вали меня навзничь в канаву,
омой мое сердце дождем.
Так зелено и бестолково,
но так хорошо, твою мать,
как будто последнее слово
мне сволочи дали сказать.
1998
* * *
Пройди по улице с небритой
физиономией сам-друг,
нет-нет, наткнешься на открытый
канализационный люк.
А ну-ка глянь туда, там тоже
расположилась жизнь со всем
184
Избранная лирика
хозяйством: три-четыре рожи
пьют спирт, дебильные совсем.
И некий сдвиг на этих лицах
опасным сходством поразит
с тем, что тебе ночами снится,
что за спиной твоей стоит.
...Создай, и все переиначат.
Найдут добро, отыщут зло.
Как под землей живут и плачут,
Как в небе тихо и светло!
1998
* * *
Спит мое детство, положило ручку
ах, да под щечку.
А я ищу фломастер, авторучку —
поставить точку
под повестью, романом и поэмой,
или сонетом.
Зачем твой сон не стал моею темой?
Там за рассветом
идет рассвет. И бабочки летают.
Они летают.
И ни хрена они не понимают,
что умирают.
185
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Возможно, впрочем, ты уже допетрил,
лизнув губою
травинку — с ними музыка и ветер.
А смерть — с тобою.
Тогда твой сон трагически окрашен
таким предметом:
ты навсегда бессилен, но бесстрашен.
С сачком при этом.
1998
* * *
Флаги — красн. Скамейки — синие.
Среди говора свердловского
пили пиво в парке имени
Маяковского.
Где качели с каруселями,
мотодромы с автодромами —
мы на корточки присели, мы
любовались панорамою.
Хорошо живет провинция,
четырьмя горит закатами.
Прут в обнимку с выпускницами
ардаки с Маратами.
Времена большие, прочные.
Только чей-то локоточек
пошатнул часы песочные.
Эх, посыпался песочек.
186
Избранная лирика
Мотодромы с автодромами
закрутились-завертелись.
На десятом обороте
к черту втулки разлетелись.
Ты люби меня, красавица,
скоро время вовсе кончится,
и уже сегодня, кажется,
жить не хочется.
1998
* * *
Ни разу не заглянула ни
в одну мою тетрадь.
Тебе уже вставать, а мне
пора ложиться спать.
А то б взяла стишок, и так
сказала мне: дурак,
тут что-то очень Пастернак,
фигня, короче, мрак.
А я из всех удач и бед
за то тебя любил,
что полюбил в пятнадцать лет,
и невзначай отбил
у Гриши Штопорова, у
комсорга школы, блин.
Я, представляющий шпану
Спортсмен-полудебил.
187
Б О Р И С Р Ы Ж И Й / Оправдание жизни
Зачем тогда он не припер
меня к стене, мой свет?
Он точно знал, что я боксер.
А я поэт, поэт.
1998
* * *
В безответственные семнадцать
только приняли в батальон,
громко рявкаешь: рад стараться!
Смотрит пристально Аполлон.
Ну-ка ты, забубень хореем!
Ну-ка, где тут у вас нужник?
Все умеем да разумеем,
слышим музыку каждый миг.
Музыкальной неразберихой
било фраера по ушам.
Эта музыка станет тихой,
тихой-тихой та-ра-ра-рам.
Спотыкаюсь на ровном месте,
беспокоен и тороплив:
мы с тобою погибнем вместе,
я держусь за простой мотив.
Это скрипочка злая-злая
на плече нарыдалась всласть,
это частная жизнь простая
с вечной музыкой обнялась.
188
Избранная лирика
Это в частности, ну а в целом —
оказалось, всерьез игра.
Было синим, а стало белым,
белым-белым та-ра-ра-ра.
1998
Стихи уклониста Б. Рыжего
...поехал бы в Питер...
О.Д.
Когда бы заложить в ломбард рубин заката,
всю бирюзу небес, все золото берез —
в два счета подкупить свиней с военкомата,
порядком забуреть, расслабиться всерьез.
Податься в Петербург, где, загуляв с кентами,
вдруг взять себя в кулак и, резко бросив пить,
березы выкупить, с закатом, с облаками,
сдружиться с музами, поэму сочинить.
1998
Из фотоальбома
Тайга — по центру, Кама — с краю,
с другого края, пьяный в дым,
с разбитой харей, у сарая
стою с Григорием Данским.
Под цифрой 98
слова: деревня Сартасы.
189
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Мы много пили в эту осень
«Агдама», света и росы.
Убита пятая бутылка.
Роится над башками гнус.
Заброшенная лесопилка.
Почти что новый «Беларусь».
А-ну, давай-ка, ай-люли,
в кабину лезь и не юли,
рули вдоль склона неуклонно,
до неба синего рули.
Затарахтел. Зафыркал смрадно.
Фонтаном грязь из-под колес.
И так вольготно и отрадно,
что деться некуда от слез.
Как будто кончено сраженье,
и мы, прожженные, летим,
прорвавшись через окруженье
к своим.
Авария. Башка разбита.
Но фотографию найду,
и повторяю, как молитву,
такую вот белиберду:
Душа моя, огнем и дымом,
путем небесно-голубым,
любимая, лети к любимым
своим.
1998
190
Избранная лирика
* * *
Мой герой ускользает во тьму.
Вслед за ним устремляются трое.
Я придумал его потому
что поэту не в кайф без героя.
Я его сочинил от усталости, что ли, еще от желанья
быть услышанным, что ли, читателю в кайф, грехам в оправданье.
Он бездельничал, «Русскую» пил,
он шмонался по паркам туманным.
Я за чтением зренье садил
да коверкал язык иностранным.
Мне бы как-нибудь дошкандыбать
до посмертной серебряной ренты,
а ему, дармоеду, плевать
на аплодисменты.
Это — бей его, ребя! Душа
без посредников сможет отныне
кое с кем объясниться в пустыне
лишь посредством карандаша.
Воротник поднимаю пальто,
закурив предварительно: время
твое вышло. Мочи его, ребя,
он — никто.
Синий луч с зеленцой по краям
преломляют кирпичные стены.
Слышу рев милицейской сирены,
нарезая по пустырям.
1998
191
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
* * *
Я пройду, как по Дублину Джойс,
сквозь косые дожди проливные
приблатненного города, сквозь
все его тараканьи пивные.
— Чего было, того уже нет,
и поэтому очень печально, —
написал бы наивный поэт,
у меня получилось случайно.
Подвозили наркотик к пяти,
а потом до утра танцевали,
и кенту с портаком «ЛЕБЕДИ»1
неотложку в ночи вызывали.
А теперь кто дантист, кто говно
и владелец нескромного клуба.
Идиоты. А мне все равно.
Обнимаю, целую вас в губы.
Да иду, как по Дублину Джойс,
дым табачный вдыхая до боли.
Here I am not loved for voice,
I am loved for my existence only1 2.
1998
1 ЛЕБЕДИ (татуировка) — аббревиатура: Любить Ее Буду, Если Даже
Изменит (прим, автора).
2 Здесь: Я не любим на словах,
а любим тем, что я есть.
192
Избранная лирика
* * *
Что махновцы — вошли красиво
в незатейливый город N.
По трактирам хлебали пиво
да актерок несли со сцен.
Чем оправдывалось все это?
Тем оправдывалось, что есть
за душой полтора сонета,
сумасшедшинка, искра, спесь.
Обыватели, эпигоны,
марш в унылые конуры!
Пластилиновые погоны,
револьверы из фанеры.
Вы, любители истуканов,
прячьтесь дома по вечерам.
Мы гуляем, палим с наганов
да по газовым фонарям.
Чем оправдывается это?
Тем, что завтра на смертный бой
выйдем трезвые до рассвета,
не вернется никто домой.
Други-недруги. Шило-мыло.
Расплескался по ветру флаг.
А всегда только так и было,
И вовеки пребудет так.
Вы — стоящие на балконе
жизни — умники, дураки.
7 Оправдание жизни
193
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Мы — восхода на алом фоне
исчезающие полки.
1998
Петербургским корешам
Дождь в Нижнем Тагиле.
Лучше лежать в могиле.
Лучше б меня убили
дядя в рыжем плаще
с дядею в серой робе.
Лучше гнить в гробе.
Места добру-злобе
там нет вообще.
Жил-был школьник.
Типа чести невольник.
Сочинил дольник:
я вас любил.
И пошло-поехало.
А куда приехало?
Никуда не приехало.
Дождь. Нижний Тагил.
От порога до бога
пусто и одиноко.
Не шумит дорога.
Не горят фонари.
Ребром встала монета.
Моя песенка спета.
Не вышло из меня поэта,
черт побери!
1998
194
Избранная лирика
* * *
Я музу юную, бывало,
встречал в подлунной стороне.
Она на дудочке играла,
я слушал, стоя в стороне.
Но вдруг милашку окружали,
как я, такие же юнцы.
И, грянув хором, заглушали
мотив прелестный, подлецы.
И думал я: небесный боже,
узрей сие, помилуй мя,
ведь мне тобой дарован тоже
осколок твоего огня,
дай поорать!
1998
* # *
О. Дозморову
Не жалей о прошлом, будь что было,
даже если дело было дрянь.
Штора с чем-то вроде носорога,
на окне обильная герань.
Вспоминаю: с вечера поддали,
вынули гвоздики из петлиц,
в городе Перми заночевали
у филологических девиц.
Т
195
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
На комоде плюшевый мишутка,
стонет холодильник «Бирюса».
Потому так скверно и так жутко,
что банальней выдумать нельзя.
Друг мой милый, я хочу заране
объявить: однажды я умру
на чужом продавленном диване,
головой болея поутру.
Если правда так оно и выйдет,
жаль, что изо всей семьи земной
только эта дура и увидит
светлое сиянье надо мной.
1998
* * *
Ничего не будет, только эта
песня на обветренных губах.
Утомленный мыслями о метафизике и метафизиках,
я умру, а после я воскресну.
И назло моим учителям
очень разухабистую песню
сочиню, по скверам, по дворам,
чтоб она шальная приносилась.
Танцевала, как хмельная блядь.
Чтобы время вспять поворотилось,
и былое началось опять.
196
Избранная лирика
Выхожу в телаге, всюду флаги.
Курят пацаны у гаража.
И торчит из свернутой бумаги
рукоятка финского ножа.
Как известно, это лучше с песней.
По стране несется тру-ля-ля.
Эта песня может быть чудесней,
мимоходом замечаю я.
1998
Автомобиль
В ночи, в чужом автомобиле,
почти бессмертен и крылат,
в каком-то допотопном стиле
сижу, откинувшись назад.
С надменной легкостью водитель
передвигает свой рычаг.
И желтоватый проявитель
кусками оживляет мрак.
Встает Вселенная из мрака —
мир, что построен и забыт.
Мелькнет какой-нибудь бродяга
и снова в вечность улетит.
Почти летя, скользя по краю
в невразумительную даль,
я вспоминаю, вспоминаю,
и мне становится так жаль.
197
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Я вспоминаю чьи-то лица,
все что легко умел забыть,
над чем не выпало склониться,
кого не вышло полюбить.
И я жалею, я жалею,
что раньше видел только дым,
что не сумею, не сумею
вернуться новым и другим.
В ночи, в чужом автомобиле
я понимаю навсегда,
что, может, только те и были,
в кого не верил никогда.
А что? Им тоже неизвестно,
куда шофер меня завез.
Когда-нибудь заглянут в бездну
глазами, светлыми от слез.
1998
* * *
Приобретут всеевропейский лоск
слова трансазиатского поэта,
я позабуду сказочный Свердловск,
и школьный двор в районе Вторчермета.
Но где бы мне ни выпало остыть,
в Париже знойном, Лондоне промозглом,
мой жалкий прах советую зарыть
на безымянном кладбище свердловском.
198
Избранная лирика
Не в плане не лишенной красоты,
но вычурной и артистичной позы,
а потому что там мои кенты,
их профили на мраморе и розы.
На купоросных голубых снегах,
закончившие ШРМ на тройки,
они запнулись с медью в черепах
как первые солдаты перестройки.
Пусть Вторчермет гудит своей трубой.
Пластполимер пускай свистит протяжно.
И женщина, что не была со мной,
альбом откроет и закурит важно.
Она откроет голубой альбом,
где лица наши будущим согреты,
где живы мы, в альбоме голубом,
земная шваль: бандиты и поэты.
1998
Школьница
Осень, дождь, потусторонний свет.
Как бы богом проклятое место.
Школьница четырнадцати лет
в семь ноль-ноль выходит из подъезда.
Переходит стройку и пустырь.
В перспективе школьная ограда.
И с лихвой перекрывает мир
музыка печальнее, чем надо.
Школьница: любовь, но где она?
Школьница: любви на свете нету.
199
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
А любовь столпилась у окна...
и глядит вослед в лице соседа.
Литератор двадцати трех лет,
безнадежный умник-недоучка,
мысленно ей шлет физкультпривет,
грезит ножкой, а целует ручку.
Вот и все. И ничего потом.
Через пару лет закончит школу.
Явится физически влеком
некто Гриша или некто Коля.
Как сосед к соседу забредет,
скажет «брат», а, может быть, «папаша».
И взаймы «Столичную» возьмет
пальцами с наколкою «Наташа».
И когда граница двух квартир
эдаким путем пересечется,
музыка, что перекрыла мир,
кончится, и тишина начнется.
Закурю в кромешной тишине.
Строфы отчеркну, расставлю точки.
За стеною школьница во сне
улыбнется, я сложу листочки.
1998
* * *
Двенадцать лет. Штаны вельвет. Серега Жилин слез с забора и, сквернословя на чем свет,
сказал событие. Ах, Лора. Приехала. Цвела сирень.
В лицо черемуха дышала. И дольше века длился
день. Ах, Лора, ты существовала в башке моей давным-давно. Какое сладкое мученье играть в футбол, ходить в кино, но всюду чувствовать движе-
200
Избранная лирика
нье иных, неведомых планет, они столкнулись
волей бога: с забора Жилин слез Серега, и ты приехала, мой свет.
Кинотеатр: «Пираты двадцатого века». «Бура-
тино» с «Дюшесом». Местная братва у «Соки-Воды»
магазина. А вот и я в трико среди ребят — Семеныч, Леха, Дюха — рукой с наколкой «ЛЕБЕДИ»
вяло почесываю брюхо. Мне сорок с лихуем. Обилен, ворс на груди моей растет. А вот Сергей Петрович Жилин под ручку с Лорою идет — начальник ЖКО, к примеру, и музработник в детсаду.
Когда мы с Лорой шли по скверу и целовались
на ходу, явилось мне виденье это, а через три-
четыре дня — гусара, мальчика, поэта — ты, Лора,
бросила меня.
Прощай же, детство. То, что было, не повторится никогда. «Нева», что вставлена в перила, не
более моя беда. Сперва мычишь: кто эта сука? Но
ясноокая печаль сменяет злость, бинтует руку.
И ничего уже не жаль.
Так над коробкою трубач с надменной внешностью бродяги, с трубою утонув во мраке, трубит
для осени и звезд. И выпуклый бродячий пес ему
бездарно подвывает. И дождь мелодию ломает.
1998
Путешествие
Изрядная река вплыла в окно вагона.
Щекою прислонясь к вагонному окну,
я думал, как ко мне фортуна благосклонна:
и заплачу за всех, и некий дар верну.
201
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Приехали. Поддав, сонеты прочитали,
сплошную похабель оставив на потом.
На пароходе в ночь отчалить полагали,
но пригласили нас в какой-то важный дом.
Там были девочки: Маруся, Роза, Рая.
Им тридцать с гаком, все филологи оне.
И черная река от края и до края
на фоне голубом в распахнутом окне.
Читали наизусть Виталия Кальпиди.
И Дозморов Олег мне говорил: «Борис,
тут водка и икра, Кальпиди так Кальпиди.
Увы, порочный вкус. Смотри, не матерись».
Да я не матерюсь. Белеют пароходы
на фоне голубом в распахнутом окне.
Олег, я ошалел от водки и свободы,
и истина твоя уже открылась мне.
За тридцать, ну и что. Кальпиди так Кальпиди.
Отменно жить: икра и водка. Только нет,
не дай тебе Господь загнуться в сей квартире,
где чтут подобный слог и всем за тридцать лет.
Под утро я проснусь и сквозь рванье тумана,
тоску и тошноту, увижу за окном:
изрядная река, ее названье — Кама.
Белеет пароход на фоне голубом.
1998
202
Избранная лирика
* * *
Я памятник себе воздвиг
нерукотворный...
А. С. Пушкин
...Мной сочиненных. Вспоминал
Я также то, где я бывал...
Н. А. Некрасов
Есть фотография такая
в моем альбоме: бард Петров
и я с бутылкою «Токая».
А в перспективе — ряд столов
с закуской черной, белой, красной.
Ликеры, водка, коньяки
стоят на скатерти атласной.
И ходу мысли вопреки,
но все-таки согласно плану
стихов — я не пишу их спьяну —
висит картина на стене:
Огромный Пушкин на коне
прет рысью в план трансцендентальный.
Поэт хороший, но опальный,
Усталый, нищий, гениальный,
однажды прибыл в город Псков
на конкурс юных мудаков —
версификаторов — нахальный
мальчишка двадцати двух лет.
Полупижон, полупоэт.
Шагнул в толпу из паровоза,
сух, как посредственная проза,
поймал такси и молвил так:
— Вези в Тригорское, земляк!
203
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Подумать страшно, баксов штука —
привет, засранец Вашингтон!
Татарин-спонсор жмет мне руку.
Нефтяник, поднимает он
с колен российскую культуру.
И я т. о., валяя дуру,
ни дать ни взять лауреат.
Еще не пьян. Уже богат.
За проявленье вашей воли
вам суждено держать ответ.
Ба, ты все та же, лес да поле!
Так начинается банкет,
и засыпает ваша совесть.
Честь? Это что еще за новость!
Вы не из тех полукалек,
живущих в длительном подполье.
О, вы нормальный человек.
Вы слишком любите застолье.
Смеетесь, входите в азарт.
Петров, — орете, — первый бард.
И обнимаетесь с Петровым.
И Пушкин, сидя на коне,
глядит милягой чернобровым,
таким простым домашним ге...
Стоп, фотография для прессы!
Аллея Керн. Я очень пьян.
Шарахаются поэтессы —
Нателлы, Стеллы и Агнессы.
Две трети пушкинских полян
озарены вечерним светом.
Типичный негр из МГУ
204
Избранная лирика
читает «Памятник». На этом,
пожалуй, завершить могу
рассказ ни капли не печальный.
Но пусть печален будет он:
я видел свет первоначальный,
был этим светом ослеплен.
Его я предал. Бей, покуда
еще умею слышать боль,
или верни мне веру в чудо,
из всех контор меня уволь.
1998
* * *
Над могилами белое.
Я хочу повторить эту фразу —
над могилами белое,
голубое и синее сразу.
Тишина нагнетается
обоюдно — и сверху, и снизу.
И родством ощущается,
не готовы к такому сюрпризу
нервным мальчиком маленьким —
все он ходит и ходит за мною.
Объясни мне, мой маленький,
расскажи мне, с какой тишиною?
1998
205
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
* * *
Осколок света на востоке.
Дорога пройдена на треть.
Не убивай меня в дороге,
позволь мне дома умереть.
Не высылай за мной по шпалам,
горящим розовым огнем,
дегенерата с самопалом,
неврастеничку с лезвием.
Не поселяй в мои плацкарты
нацмена с города Курган,
что упадает рылом в нарды,
освиневая от ста грамм.
Да будет дождь, да будет холод,
не будет золота в горсти,
дай мне войти в такой-то город,
такой-то улицей пройти.
Чуть постоять, втянуть ноздрями,
под фонарем гнилую тьму.
Потом помойками, дворами —
дорога к дому моему.
Пускай вонзит заточку в печень
или попросит огоньку,
когда совсем расслаблю плечи
видавший виды на веку.
206
Избранная лирика
И перед тем, как рухну в ноги,
заплачу, припаду к груди,
что пса какого, на пороге
прихлопни или пощади.
1998,
дер. Сартасы
* * *
Июньский вечер. На балконе
уснуть, взглянув на небеса.
На бесконечно синем фоне
горит заката полоса.
А там — за этой полосою,
что к полуночи догорит, —
угадываемая мною
музыка некая звучит.
Гляжу туда и понимаю,
в какой надежной пустоте
однажды буду и узнаю:
где проиграл, сфальшивил где.
1998
* * *
Досадно, но сколько ни лгу,
пространство, где мы с тобой жили,
учились любить и любили,
никак сочинить не могу:
207
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
детали, фрагменты, куски,
сирень у чужого подъезда,
ржавеющее неуместно
железо у синей реки.
Вдали похоронный оркестр
(теперь почем-то их нету).
А может быть, главное — это
не время, не место, а жест,
Когда я к тебе наклоняюсь,
не больно сжимая ладони,
на плохо прописанном фоне,
моя неумелая грусть...
1998, 1999
* * *
Дали водки, целовали,
обнимали, сбили с ног.
Провожая, не пускали,
подарили мне цветок.
Закурил и удалился
твердо, холодно, хотя
уходя остановился —
оглянуться, уходя.
О, как ярок свет в окошке
на десятом этаже.
Чьи-то губы и ладошки
на десятом этаже.
208
Избранная лирика
И пошел — с тоскою с ясной
в полуночном серебре —
в лабиринт — с гвоздикой красной —
сам чудовище себе.
1998
Элегия
Зимой под синими облаками
в санях идиотских дышу в ладони,
бормоча известное: «Эх вы, сани!
А кони, кони!»
Эх, за десять баксов к дому милой!
«Ну ты и придурок», — скажет Киса.
Будет ей что вспомнить над могилой
ее Бориса.
Слева и справа — грустным планом
шестнадцатиэтажки. «А-ну, парень,
погоняй лошадок!» — «А куда нам
спешить, барин?»
1998
* * *
Начинается снег. И навстречу движению снега
Поднимается вверх — допотопное слово — душа.
Всё — о жизни, поэзии и о судьбе человека
больше думать не надо, присядь, закури не спеша.
209
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Закурю да на корточках эдаким уркой отпетым
я покуда живой, не нужна мне твоя болтовня.
А когда после смерти я стану прекрасным поэтом,
для эпиграфа вот тебе строчка к статье про меня:
Снег идет и пройдет, и наполнится небо огнями.
Пусть на горы Урала опустятся эти огни.
Я прошел по касательной, но не вразрез с небесами,
в этой точке касания — песни и слезы мои.
1998
* * *
Сколько можно, старик, умиляться острожной
балалаечной нотой с железнодорожной?
Нагловатая трусость в глазах татарвы.
Многократно все это еще мне приснится:
Колокольчики чая, лицо проводницы,
недоверчивое к обращенью на «Вы».
Прячет туфли под полку седой подполковник
да супруге подмигивает: — Уголовник!
Для чего выпускают их из конуры!
Не дослушаю шепота, выползу в тамбур.
На леса и поля надвигается траур.
Серебром в небесах расцветают миры.
Сколько жизней пропало с Москвы до Урала.
Не успею заметить в грязи самосвала,
залюбуюсь красавицей у фонаря
полустанка. Вдали полыхнут леспромхозы.
И подступят к гортани банальные слезы,
в утешенье новую рифму даря.
210
Избранная лирика
Это осень и слякоть, и хочется плакать,
но уже без желания в теплую мякоть
одеяла уткнуться, без «стукнуться лбом».
А идти и идти никуда ниоткуда,
ожидая то смеха, то гнева, то чуда.
Ну, а как? Ты не мальчик! Да я не о том —
спит штабной подполковник на новой шинели.
Прихватить, что ли, туфли его, в самом деле?
Да в ларек за поллитру толкнуть. Да пойти
и пойти по дороге своей темно-синей
под звездйми серебряными, по России,
документ о прописке сжимая в горсти.
1998
Паровоз
С зарплаты рубль — на мыльные шары,
на пластилин, на то, что сердцу мило.
Чего там только не было, все было,
все сны — да-да — советской детворы.
А мне был мил огромный паровоз —
он стоил чирик — черный и блестящий.
Мне грезилось: почти что настоящий!
Звезда и молот украшали нос.
Летящий среди дыма и огня
под злыми грозовыми облаками,
он снился мне. Не трогайте руками!
Не трогаю, оно — не для меня.
211
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Купили бы мне этот паровоз,
теперь я знаю: попроси, заплачь я —
и жизнь моя сложилась бы иначе,
но почему-то не хватало слез.
Ну что ж, лети в серебряную даль,
вези других по золотой дороге.
Сидит безумный нищий на пороге
вокзала, продает свою печаль.
1998
* * *
Жизнь — суть поэзия, а смерть — сплошная проза.
...Предельно-траурна братва у труповоза.
Пол-облака висит над головами. Гроб
вытаскивают — блеск — и восстановлен лоб,
что в офисе ему разбили арматурой.
Стою, взволнованный пеоном и цезурой!
1998
* * *
Нижневартовск, Тюмень и Сургут.
О.Д.
Не знавал я такого мороза,
хоть мороз во России жесток.
Дилер педи- и туберкулеза
из контейнера вынул сапог.
212
Избранная лирика
А, Б, В — ПТУ на задворках.
На задворках того ПТУ,
до пупа в идиотских наколках,
с корешами играет в лапту.
Научается двигать ушами.
Г, Д, Е — начинается суд.
Ж, 3, И — разлучив с корешами,
в эшелоне под Ивдель везут.
Я и сам пошмонался изрядно
по задворкам отчизны родной.
Там не очень тепло и опрятно,
но страшней воротиться домой.
Он приходит к себе на квартиру,
мусора его гонят взашей.
Да подруга ушла к инженеру.
Да уряхали всех корешей.
Так чего ты томишься, бродяга,
или нас с тобой больше не ждут
лес дремучий, скрипучая драга,
Нижневартовск, Тюмень и Сургут?
Или нас, дорогой, не забыли —
обязали беречь и любить,
сторожить пустыри и могилы,
по помойкам говно ворошить?
Если так, отыщи ему пару.
Да шагай по великой зиме,
чтобы не помянуть стеклотару —
тлен и прах в переметной суме.
213
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Заночуй этой ночью на тепло-
магистрали, приснится тебе,
что душа твоя в муках окрепла
и архангел гудит на трубе.
Серп и молот на выцветших флагах.
Солдатня приручила волчат.
Одичалые люди в телагах
по лесам топорами стучат.
1998
Памяти Полонского
Олегу Дозморову
Мы здорово отстали от полка. Кавказ в доспехах, словно витязь. Шурует дождь. Вокруг ни
огонька. Поручик Дозморов, держитесь! Так мой
денщик загнулся, говоря: где наша, э, не пропадала. Так в добрый путь. За Бога и царя. За одноду-
ма-генерала. За грозный ямб. За трепетный пеон.
За утонченную цезуру. За русский флаг. Однако,
что за тон? За ту коломенскую дуру. За Жомини,
но все-таки успех на всех приемах и мазурках. За
статский чин, поручик, и за всех блядей Москвы
и Петербурга. За к непокою, мирному вполне, батального покоя примесь. За пакостей литературных — вне. Поручик Дозморов, держитесь! И будет день. И будет бивуак. В сухие кители одеты,
мы трубочки раскурим натощак, вертя пижонские
кисеты.
А если выйдет вовсе и не так? Кручу-верчу стихотвореньем. Боюсь, что вот накаркаю — дурак.
214
Избранная лирика
Но следую за вдохновеньем. У коней наших вырастут крыла. И воспарят они над бездной. Вот наша
жизнь, которая была невероятной и чудесной.
Свердловск, набитый ласковым ворьем и туповатыми ментами. Гнилая Пермь. Исетский водоем.
Нижне-Исетское с цветами. Но разве не кружилась голова у девушек всего Урала, когда вот так
беседовали два изящных армий генерала? С чиновников порой слетала спесь. И то отмечу, как
иные авангардисты отдавали честь нам, как солдаты рядовые. Мне все казалось: пустяки, игра.
Но лишь к утру смыкаю веки. За окнами блистают до утра Кавказа снежные доспехи.
Два всадника с тенями на восток. Все тверже
шаг. Тропа все круче. Я говорю, чеканя каждый
слог: черт побери, держись, поручик! Сокрыл туман последнюю звезду. Из мрака бездна вырастает. Храпят гнедые, чуя пустоту. И ветер ментики
срывает. И сердце набирает высоту.
1998
* * *
Осенние сумерки злые,
как десятилетье назад.
Аптечные стекла сырые
Фигуру твою исказят.
И прошлое как на ладони.
И листья засыпали сквер.
И мальчик стоит на балконе
И слушает музыку сфер.
215
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
И странное видит виденье
И помнит, что будет потом:
с изящной стремительной тенью
шагает по улице гном.
С изящной стремительной тенью
шагает по улице гном,
красивое стихотворенье
бормочет уродливым ртом.
Бормочет, бормочет, бормочет,
бормочет и тает как сон.
И с жизнью смириться не хочет,
и смерти не ведает он.
1998
А. Пурину при вручении
бюстика Аполлона
и в связи с днем рождения
Сие примите благосклонно. Поставьте это на
окне. Пускай Вам профиль Аполлона напоминает
обо мне. Се бог. А я — еврея помесь с хохлом, но
на брегах Невы не знали Вы, со мной знакомясь,
с кем познакомитеся Вы. Во мне в молчании великом, особенно — когда зальет шары, за благородным ликом хохол жида по морде бьет. Но...
Алексей Арнольдович Пурин, с любовью к грациям и к Вам сие из Греции в натуре для Вас я вез
по облакам.
1998, июль
216
Избранная лирика
* * *
Достаю из кармана упаковку дурмана, из стакана пью дым за Романа, за своего дружбана, за ли-
мона-жигана пью настойку из сна
и тумана. Золотые картины: зеленеют долины, синих гор голубеют
вершины, свет с востока, востока, от порога до Бога пролетает
дорога полого. На поэзии русской
появляется узкий очень точный
узорец восточный, растворяется
прежний — безнадежный, небрежный.
Ах, моя твоя помнит, мой нежный!
1999
* * *
Нехорошо быть небогатым
и очень добрым, а не злым,
каким-нибудь жидом пархатым,
беззубым, лысым и хромым
незнаменитым графоманом,
что в кухне за полночь притих,
осенним облаком, туманом,
а я как раз один из них —
то по приколу, то впустую
пляшу, играю и пою,
спасая злую, злую, злую
не воровскую жизнь мою.
Кривые буковки рисую
217
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
и, горько плача, что умру,
спасаю музыку простую,
спасаю детскую игру.
1999
* * *
Белое синее
с черной каймой.
Точки и линии
стали золой.
То, что задымлено,
было судьбой,
было любимыми,
было тобой.
Ну, ни нелепо ли,
не удалось.
Были и не были.
Радость и злость.
Музыка, музыка.
О, у виска
музыка, музыка.
Ревность, тоска.
Алого пламени
слабый росток.
Вырви из «Знамени»
этот листок.
1999
218
Избранная лирика
Качели
Был двор, а во дворе качели
позвякивали и скрипели.
С качелей прыгали в листву,
что дворники собрать успели.
Качающиеся гурьбой
взлетали сами над собой.
Я помню запах листьев прелых
и запах неба голубой.
Последняя неделя лета,
на нас глядят Алена, Света.
Все прыгнули, а я не смог,
что очень плохо для поэта.
О, как досадно было, но
все в памяти освещено
каким-то жалостливым светом.
Живи, другого не дано!
1999
* * *
Много было всего, музыки было много,
а в кинокассах билеты были почти всегда.
В красном трамвае хулиган с недотрогой
ехали в никуда.
Музыки стало мало
и пассажиров, ибо трамвай — в депо.
219
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Вот мы и вышли в осень из кинозала
и зашагали по
длинной аллее жизни. Оно про лето
было кино, про счастье, не про беду.
В последнем ряду пиво и сигарета.
Я никогда не сяду в первом ряду.
1999
* * *
Мне холодно, читатель, мне темно,
но было бы темней и холодней,
не будь тебя, ведь мы с тобой — одно,
и знаю я — тебе еще трудней,
сложней, читатель, потому — прости,
а я прощу неведомый упрек,
что листик этот не собрал в горсти,
не разорвал, не выбросил, не сжег.
<1999>
* * *
По родительским пбпьтам пройдясь, нашкуляв на «Памир»
и «Памир» «для отца» покупая в газетном киоске,
я уже понимал, как затейлив и сказочен мир.
И когда бы поэты могли нарождаться в Свердловске,
я бы точно родился поэтом: завел бы тетрадь,
стал бы книжки читать, а не «грушу» метелить в спортзале.
220
Избранная лирика
Похоронные трубы не переставали играть —
постоянно в квартале над кем-то рыдали, рыдали.
Плыли дымы из труб и летели кругом облака.
Длинноногие школьницы в школу бежали по лужам.
Описав бы все это, с «Памиром» в пальцах на века
в черной бронзе застыть над Свердловском,
да нафиг я нужен.
Ибо где те засранцы, чтоб походя салютовать, —
к горсовету спиною, глазами ко мне и рассвету?
Остается не думать, как тот генерал, а «Памир» надорвать
да исчезнуть к чертям, раскурив на ветру сигарету.
1999
* * *
Мы собрали все детали
механизма: тук-тук-тук.
Но печали, но печали
не убавилось, мой друг.
Преуспели, песню спели:
та-ра-ра и ла-ла-ла.
А на деле, а на деле
те же грустные дела.
Так же недруги крепчают.
Так же ангелы молчат.
Так же други умирают,
щеки Ирочки горчат.
1999
221
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
* * *
На окошке, на фоне заката,
дрянь какая-то желтым цвела.
В общежитии Жиркомбината
некто Н., кроме прочих, жила.
И в легчайшем подпитье являясь,
я ей всякие розы дарил.
Раздеваясь, но не разуваясь,
несмешно о смешном говорил.
Трепетала надменная бровка,
матерок с алой губки слетал.
Говорить мне об этом неловко,
но я точно стихи ей читал.
Я читал ей о жизни поэта,
четко к смерти поэта клоня.
И за это, за это, за это
эта Н. целовала меня.
Целовала меня и любила,
разливала по кружкам вино.
О печальном смешно говорила.
Михалкова ценила кино.
Выходил я один на дорогу,
чуть шатаясь, мотор тормозил.
Мимо кладбища, цирка, острога
вез меня молчаливый дебил.
И грустил я, спросив сигарету,
что, какая б любовь ни была,
222
Избранная лирика
я однажды сюда не приеду.
А она меня очень ждала.
1999
* * *
Не то чтобы втайне, но как-то
не очень открыто любил,
а зря, вероятно, поскольку
и мелочи не позабыл.
Штрихи, отступленья, детали
и, кажется, помню число,
и как полыхали рябины,
когда нас туда занесло.
На эту фанерную дачу,
где пили, приемник включив.
И втайне я плачу и плачу
под этот дурацкий мотив.
<1999>
* * *
Тает алый с зеленой каймою
за окном некрасивый закат.
Ты закрыла глаза, я открою.
Гармонический лязг за стеною,
на гитаре бренчат и бренчат.
223
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Снова эта щемящая нота,
снова эти наплывы нытья,
представляю себе идиота:
нынче праздник, а завтра суббота,
так ударим по струнам, друзья!
Эта песня, он сам ее, что ли,
сочинил или слышал в кино.
Это фальсификация боли.
Это то, чем любовь запороли.
Это адская музыка. Но —
за окном тополиные кроны
шелестят, подпевают ему.
Перегоны, вагоны, перроны.
Лает пес, раскричались вороны,
воет ветер. И дальше, во тьму:
все поют, удлиняются лица.
Побренчи же еще, побренчи.
Я молчу, но мне тоже не спится.
Дребезжат самосвалы, убийцу
повели убивать палачи.
Смерть на цыпочках ходит за мною,
окровавленный бант теребя,
и молчит, и стоит за спиною.
И рыдает за страшной стеною
тот, кому я оставлю тебя.
1999
224
Избранная лирика
* * *
Не во гневе, а так, между прочим,
созерцавший средь белого дня,
когда в ватниках трое рабочих
подмолотами били меня.
И тогда не исполнивший, в сквере,
где искал я забвенья в вине,
так, чтоб эти милиционеры
были не наяву, а во сне —
Это ладно, всё это детали,
одного не прощу тебя, ты
бля, молчал, когда девки бросали
и когда увядали цветы,
не мешающий спиться, разбиться,
с голым торсом спуститься во мрак,
подвернувшийся под руку птица,
не хранитель мой ангел, а так.
Наблюдаешь за мною с сомненьем,
ходишь сбоку, урчишь у плеча,
клюв повесив, по лужам осенним
одинокие крылья влача.
1999
* * *
Л. Тиновской
Мальчик-еврей принимает из книжек на веру
гостеприимство и русской души широту,
видит березы с осинами, ходит по скверу
8 Оправдание жизни
225
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
и христианства на сердце лелеет мечту.
Следуя заданной логике, к буйству и пьянству
твердой рукою себя приучает, и тут:
видит березу с осиной в осеннем убранстве,
делает песню, и русские люди поют.
Что же касается мальчика, он исчезает.
А относительно пения — песня легко
то форму города некоего принимает,
то повисает над городом, как облако.
1999
* * *
В сырой наркологической тюрьме,
куда меня за глюки упекли,
мимо ребят, столпившихся во тьме,
дерюгу на каталке провезли
два ангела — Серега и Андрей — не
оглянувшись, типа все в делах,
в задроченных, но белых оперениях
со штемпелями на крылах.
Из-под дерюги — пара белых ног,
и синим-синим надпись на одной
была: как мало пройдено дорог...
И только шрам кислотный на другой
ноге — все в непонятках, как всегда:
что на второй написано ноге?
В окне горела синяя звезда,
в печальном зарешеченном окне.
226
Избранная лирика
Стоял вопрос, как говорят, ребром
и заострялся пару-тройку раз.
Единственный один на весь дурдом
я знал на память продолженья фраз,
но я молчал, скрывался и таил,
и осторожно на сердце берег —
чт0 человек на небо уносил
и вообще — чтб значит человек.
1999
* * *
Похоронных оркестров не стало,
стало роскошью, с музыкой чтоб.
Ах, играла, играла, играла,
и лгала, и фальшивила — стоп.
Обязателен дядьке из ЖЭКа —
шляпа мятая, руки дрожат.
Ту-ту-ту: понесли человека.
В синих лужах гвоздики лежат!
1999
* * *
Мы целовались тут пять лет назад,
и пялился какой-то азиат
на нас с тобой — целующихся — тупо
и похотливо, что поделать — хам!
Прожекторы ночного дискоклуба
гуляли по зеленым облакам.
8*
227
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Тогда мне было восемнадцать лет,
я пьяный был, я нес изящный бред.
На фоне безупречного заката
шатался — полыхали облака —
и материл придурка азиата,
сжав кулаки в карманах пиджака.
Где ты, где азиат, где тот пиджак?
Но верю, на горе засвищет рак,
и заново былое повторится.
Я, детка, обниму тебя, и вот,
прожекторы осветят наши лица.
И снова: что ты смотришь, идиот?
А ты опять же преградишь мне путь,
ты закричишь, ты кинешься на грудь,
ты привезешь меня в свою общагу.
Смахнешь рукою крошки со стола.
Я выпью и на пять минут прилягу,
потом проснусь: ан жизнь моя прошла.
1999
* * *
Ты почему-то покраснела,
а я черемухи нарвал,
ты целоваться не умела,
но я тебя поцеловал.
Ребята в сквере водку пили,
играли в свару и буру,
крутили Токарева Вилли
и матерились на ветру.
228
Избранная лирика
Такой покой в волнах эфира,
ну, а пока не льется кровь,
нет ничего уместней, Ира,
чем настоящая любовь.
1999
* * *
Я помню все, хоть многое забыл —
разболтанную школьную ватагу.
Мы к Первомаю замутили брагу,
я из канистры первым пригубил.
Я помню час, когда ногами нас
за хамство избивали демонстранты,
и музыку, и розовые банты.
Но раньше было лучше, чем сейчас.
По-доброму, с любовью, как во сне:
и чудом не потухла папироска,
и мы лежим на площади Свердловска,
где памятник поставят только мне.
1999
* * *
Саше Верникову
Мотив неволи и тоски —
откуда это, осень, что ли?
Звучит и давит на виски
мотив тоски, мотив неволи.
229
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Всегда тоскует человек,
но иногда тоскует очень,
тоскует как тагильский зэк,
как ивдельский разнорабочий.
В осенний вечер проглотив
стакан плохого алкоголя,
сидит и слушает мотив,
мотив тоски, мотив неволи.
Мотив умолкнет, схлынет мрак,
как бы конкретно ни мутило.
Но надо, чтобы накрайняк
у человека что-то было.
Есть у меня дружок Вано
и адресок его жиганский,
ширяться дурью, пить вино
в поселок покачу цыганский.
В реальный табор пить вино —
конечно, это театрально,
и театрально, и смешно,
но упоительно-печально.
Конечно же, давным-давно,
давным-давно не те цыганы,
я представляю все равно
гитары, песни и туманы.
И от подобных перспектив
на случай абсолютной боли
не слишком тягостен мотив
мотив тоски, мотив неволи.
1999
230
Избранная лирика
* * *
Музыка жила во мне,
никогда не умолкала,
но особенно во сне
эта музыка играла.
Словно маленький скрипач,
скрипача того навроде,
что играет, неудачник, в подземном переходе.
В переходе я иду —
руки в брюки, кепка в клетку —
и бросаю на ходу
этой музыке монетку.
Эта музыка в душе
заиграла много позже —
до нее была уже
музыка, играла тоже.
Словно спившийся трубач
похоронного набора,
что шагает мимо прач-
чечной, гаража, забора.
На гараж, молокосос,
я залез, сижу, свалиться
не боюсь, в футболке «КРОСС»,
привезенной из столицы.
1999
231
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
* * *
Надиктуй мне стихи о любви,
хоть немного душой покриви,
мое сердце холодное, злое
неожиданной строчкой взорви.
Расскажи мне простые слова,
чтобы кругом пошла голова.
В мокром парке башками седыми,
улыбаясь, качает братва.
Удивляются: сколь тебе лет?
Ты, братишка, в натуре поэт.
Это все приключилось с тобою,
и цены твоей повести нет.
Улыбаюсь, уделав стакан
за удачу, и прячу в карман,
пожимаю рабочие руки,
уплываю, качаясь, в туман.
Расставляю все точки над «ё».
Мне в аду полыхать за вранье,
но в раю уготовано место
вам — за веру в призванье моё.
1999
♦ ♦ ♦
Роме Тягунову
Я работал на драге в поселке Кытлым,
о чем после скажу в изумительной прозе,
корешился с ушедшим в народ мафиози,
232
Избранная лирика
любовался с буфетчицей небом ночным.
Там тельняшку такую себе я купил,
оборзел, прокурил самокрутками пальцы.
А еще я ходил по субботам на танцы
и со всеми на равных стройбатовцев бил.
Да, наверное, все это — дым без огня
и актерство: слоняться, дышать перегаром.
Но кого ты обманешь! А значит, недаром
в приисковом поселке любили меня.
1999
* * *
А иногда отец мне говорил,
что видит про утиную охоту
сны с продолженьем: лодка и двустволка.
И озеро, где каждый островок
ему знаком. Он говорил: не видел
я озера такого наяву
прозрачного, какая там охота!
представь себе... А впрочем, что ты знаешь
про наши про охотничьи дела.
Скучая, я вставал из-за стола
и шел читать какого-нибудь Кафку,
жалеть себя и сочинять стихи
под Бродского, о том, что человек,
конечно, одиночество в квадрате,
нет, в кубе. Или нехотя звонил
замужней дуре, любящей стихи
под Бродского, а заодно меня —
какой-то экзотической любовью.
233
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Прощай, любовь! Прошло десятилетье.
Ты подурнела, я похорошел,
и снов моих ты больше не хозяйка.
Я за отца досматриваю сны:
прозрачным этим озером блуждаю
на лодочке дюралевой с двустволкой,
любовно огибаю камыши,
чучела расставляю, маскируюсь
и жду, и не промахиваюсь, точно
стреляю, что сомнительно для сна.
Что, повторюсь, сомнительно для сна,
но это только сон и не иначе,
я понимаю это до конца.
И всякий раз, не повстречав отца,
я просыпаюсь, оттого что плачу.
1999
* * *
Прежде чем на тракторе разбиться,
застрелиться, утонуть в реке,
приходил лесник опохмелиться,
приносил мне вишни в кулаке.
С рюмкой спирта мама выходила,
менее красива, чем во сне.
Снова уходила, вишню мыла
и на блюдце приносила мне.
Потому что все меня любили,
дерева молчали до утра.
234
Избранная лирика
«Девочке медведя подарили», —
перед сном читала мне сестра.
Мальчику полнеба подарили,
сумрак елей, золото берез.
На заре гагару подстрелили.
И лесник три вишенки принес.
Было много утреннего света,
с крыши в руки падала вода,
это было осенью, а лето
я не вспоминаю никогда.
1999
* * *
Ордена и аксельбанты
в красном бархате лежат,
и бухие музыканты
в трубы мятые трубят.
В трубы мятые трубили,
отставного хоронили
адмирала на заре,
все рыдали во дворе.
И на похороны эти
любовался сам не свой
местный даун, дурень Петя,
восхищенный и немой.
235
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Он поднес ладонь к виску.
Он кривил улыбкой губы.
Он смотрел на эти трубы,
слушал эту музыку.
А когда он умер тоже,
не играло ни хрена,
тишина, помилуй, Боже,
плохо, если тишина.
Кабы был постарше я,
забашлял бы девкам в морге,
накупил бы в Военторге
я военного шмотья.
Заплатил бы, попросил бы,
занял бы, уговорил
бы, с музоном бы решил бы,
Петю, бля, похоронил.
1999
Чтение в детстве — романс
Окраина стройки советской,
фабричные красные трубы.
Играли в душе моей детской
Ерёменко медные трубы1.
Ерёменко медные трубы
в душе моей детской звучали.
1 Речь о московском поэте Александре Еременко — приятеле многих
литераторов Екатеринбурга.
236
Избранная лирика
Навеки влюбленные, в клубе
мы с Ирою К. танцевали.
Мы с Ирою К. танцевали,
целуясь то в щеки, то в губы.
Но сердце мое разрывали
Ерёменко медные трубы.
И был я так молод, когда-то
надменно, то нежно, то грубо,
то жалобно, то виновато...
Ерёменко медные трубы!
1999
* * *
Словно в бунинских лучших стихах, ты, рыдая, роняла
из волос — что там? — шпильки, хотела уйти навсегда.
И пластинка играла, играла, играла, играла,
и заело пластинку, и мне показалось тогда,
что и время, возможно, должно соскочить со спирали
и, наверно, размолвка должна продолжаться века.
Но запела пластинка, и губы мои задрожали,
словно в лучших стихах Огарева: прости дурака.
1999
* * *
Включили новое кино,
и началась иная пьянка.
Но все равно, но все равно
то там, то здесь звучит «Таганка».
237
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Что Ариосто или Дант!
Я человек того покроя —
я твой навеки арестант,
и все такое, все такое.
1999
* * *
Кейсу Верхейлу, с любовью
Где обрывается память, начинается старая фильма,
играет старая музыка какую-то дребедень.
Дождь прошел в парке отдыха, и не передать, как сильно
благоухает сирень в этот весенний день.
Сесть на трамвай 10-й, выйти, пройти под аркой
сталинской: все как было, было давным-давно.
Здесь меня брали за руку, тут поднимали на руки,
в открытом кинотеатре показывали кино.
Про те же самые чувства показывало искусство,
про этот самый парк отдыха, про мальчика на руках.
И бесконечность прошлого, высвеченного тускло,
очень мешает грядущему обрести размах.
От ностальгии или сдуру и спьяну можно
подняться превыше сосен, до самого неба на
колесе обозренья, но понять невозможно:
то ли войны еще не было, то ли была война.
238
Избранная лирика
Все в черно-белом цвете, ходят с мамами дети,
плохой репродуктор что-то победоносно поет.
Как долго я жил на свете, как переносил все эти
сердцебиенья, слезы, и даже наоборот.
1999
* * *
Когда в подъездах закрывают двери
и светофоры смотрят в небеса,
я перед сном гуляю в этом сквере,
с завидной регулярностью по мере
возможности, по полтора часа.
Семь лет подряд хожу в одном и том же
пальто, почти не ведая стыда,
не просто подвернувшийся прохожий —
писатель, не прозаик, а хороший
поэт, и это важно, господа.
В одних и тех же брюках и ботинках,
один и тот же выдыхая дым,
как портаки на западных пластинках,
я изучил все корни на тропинках.
Сквер будет назван именем моим.
Пускай тогда, когда затылком стукну
по днищу гроба, в подземелье рухну,
заплаканные свердловчане пусть
нарядят механическую куклу
в мое шмотье, придав движеньям грусть.
239
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
И пусть себе по скверу шкандыбает,
пусть курит «Приму» или «Беломор»,
но раз в полгода куклу убирают,
и с Лузиным Серегой запивает
толковый опустившийся актер.
Такие удивительные мысли
ко мне приходят с некоторых пор.
А право, было б шороху в отчизне,
когда б подобны почести — при жизни,
хотя, возможно, это перебор.
1999
* * *
Путь до Магадана недалекий,
поезд за пол года довезет...
Горняцкая песня
В обширном здании вокзала
с полуночи и до утра
гармошка тихая играла:
«та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра».
За бесконечную разлуку,
за невозможное прости,
за искалеченную руку,
за черт-те что в конце пути —
Нечетные играли пальцы,
седую голову трясло.
Круглоголовые китайцы
тащили мимо барахло.
240
Избранная лирика
Не поимеешь, выходило,
здесь ни монеты, ни слезы.
Тургруппа чинно проходила,
несли узбеки арбузы...1
Зачем же, дурень и бездельник,
играешь неизвестно что?
Живи без курева и денег
в одетом наголо пальто.
Надрывы музыки и слезы
не выноси на первый план —
на юг уходят паровозы.
«Уходит поезд в Магадан!..»
1999
Море
В кварталах дальних и печальных, что утром
серы и пусты, где выглядят смешно и жалко сирень и прочие цветы, есть дом шестнадцатиэтажный, у дома тополь или клен стоит, ненужный
и усталый, в пустое небо устремлен, стоит под тополем скамейка и, лбом уткнувшийся в ладонь, на
ней уснул и видит море писатель Дима Рябоконь.
Он развязал и выпил водки, он на хер из дому
ушел, он захотел уехать к морю, но до вокзала не
1 Вариант строфы:
Тургруппы чинно проходили,
несли узбеки арбузь!...
Не поимеешь, выходило,
здесь ни монеты, ни слезы.
241
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
дошел. Он захотел уехать к морю, оно страдания
предел. Проматерился, проревелся и на скамейке
захрапел.
Но море сине-голубое, оно само к нему пришло
и, утреннее и родное, заулыбалося светло. И Дима
тоже улыбался. И, хоть недвижимый лежал, худой,
и лысый, и беззубый, он прямо к морю побежал.
Бежит и видит человека на золотом на берегу. А это
я никак до моря доехать тоже не могу — уснул, качаясь на качели, вокруг какие-то кусты. В кварталах
дальних и печальных, что утром серы и пусты.
1999
* * *
Я на крыше паровоза ехал в город Уфалей
и обеими руками обнимал моих друзей —
Водяного с Черепахой, щуря детские глаза.
Над ушами и носами пролетали небеса.
Можно лечь на синий воздух и почти что полететь,
на бескрайние просторы влажным взором посмотреть:
лес налево, луг направо, лесовозы, трактора.
Вот бродяги-работяги поправляются с утра.
Вот с корзинами маячат бабки, дети — грибники.
Моют хмурые ребята мотоциклы у реки.
Можно лечь на теплый ветер и подумать-полежать:
может, правда нам отсюда никуда не уезжать?
А иначе даром, что ли, желторотый дуралей —
я на крыше паровоза ехал в город Уфалей?
И на каждом на вагоне, волей вольною пьяна,
«Приму» ехала курила вся свердловская шпана.
1999
242
Избранная лирика
* * *
Нужно двинуть поездом на север,
на ракете в космос сквозануть,
чтобы человек тебе поверил,
обогрел и денег дал чуть-чуть.
А когда родился обормотом
и умеешь складывать слова,
нужно серебристым самолетом
долететь до города Москва.
1999
Осень
Уж убран с поля начисто турнепс
и вывезены свекла и капуста.
На фоне развернувшихся небес
шел первый снег, и сердцу было грустно.
Я шел за снегом, размышляя о
бог знает чем, березы шли за мною.
С голубизной мешалось серебро,
мешалось серебро с голубизною.
1999
* * *
Только справа соседа закроют, откинется1 слева:
если кто обижает, скажи, мы соседи, сопляк.
А потом загремит дядя Саша, и вновь дядя Сева
1 Закроют — посадят, откинется — выйдет на свободу (арго).
243
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
в драной майке на лестнице: так, мол, Бориска, и так,
если кто обижает, скажи. Так бы жили и жили,
но однажды столкнулись — какой-то там тесть или зять
из деревни, короче, они мужика замочили.
Их поймали, и некому стало меня защищать.
Я зачем тебе это сказал, а к тому разговору,
что вчера на башке на моей ты нашла серебро —
жизнь проходит, прикинь! Дай мне денег,
я двину к собору,
эти свечи поставлю, отвечу добром на добро.
1999
* * *
У памяти на самой кромке
и на единственной ноге
стоит в ворованной дубленке
Василий Кончев — Гончев, «гэ»!
Он потерял протез по пьянке,
а с ним ботинок дорогой.
Пьет пиво из литровой банки,
как будто в пиве есть покой.
А я протягиваю руку:
уже хорош, давай сюда!
Я верю, мы живем по кругу,
не умираем никогда.
И остается, остается
мне ждать, дыханье затая:
вот он допьет и улыбнется.
И повторится жизнь моя.
1999
244
Россия. Глухомань. Зима.
Но если не сходить с ума,
на кончике карандаша
уместиться душа.
Я лягу спать. А ты пари
над бездною, как на пари,
пари, мой карандаш, уважь
меня, мой карандаш.
Шальную мысль мою лови.
Рисуй объект моей любви
в прозрачном платье, босиком,
на берегу морском.
У моря, на границе сна
она стоит всегда одна.
И море синее шумит,
в башке моей шумит.
И рифмы сладкие живут
И строчки синие бегут
морским подобные волнам,
бегут к ее ногам.
1998
* * *
До пупа сорвав обноски,
с нар сползают фраера,
на спине Иосиф Бродский
напортачен у бугра —
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
начинаются разборки
за понятья, за наколки.
Разрываю сальный ворот:
душу мне не береди.
Профиль Слуцкого1 наколот:
на седеющей груди!
1999
Гимн кошке
Ты столь паршива, моя кошка,
что гимн слагать тебе не буду.
Давай, гляди в свое окошко,
пока я мою здесь посуду.
Тебя я притащил по пьянке,
была ты маленьким котенком.
И за ушами были ранки.
И я их смазывал зеленкой.
Единственное, что тревожит —
когда войду в пределы мрака,
тебе настанет крышка тоже.
И в этом что-то есть однако.
И вот от этого мне страшно.
И вот поэтому мне больно.
А остальное все — неважно.
Шестнадцать строчек. Ты довольна?
1999
1 Слуцкий Борис Абрамович (1919—1986) — один из любимых поэтов
Б. Рыжего.
246
Избранная лирика
* * *
Не забывай, не забывай
игру в очко на задней парте.
Последний ряд в кинотеатре.
Ночной светящийся трамвай.
Волненье девичьей груди.
Но только близко, близко, близко
(не называй меня Бориской!)
не подходи, не подходи.
Всплывет ненужная деталь:
— Прочти мне Одена1, Бориска...
Обыкновенная садистка.
И сразу прошлого не жаль.
1999
* * *
Прошел запой, а мир не изменился,
пришла музыка, кончились слова.
Один мотив с другим мотивом слился.
(Весьма амбициозная строфа.)
...а может быть, совсем не надо слов
для вот таких — каких таких? — ослов...
Под сине-голубыми облаками
стою и тупо развожу руками,
весь музыкою полон до краев.
1999
1 Оден Уистен Хью (1907—1973) — англо-американский поэт, в стихах
которого отразились отчуждение личности и одиночество души.
247
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
* * *
У современного героя
я на часок тебя займу,
в чужих стихах тебя сокрою
поближе к сердцу моему.
Вот: бравый маленький поручик
на тройке ухарской лечу.
Ты, зябко кутаясь в тулупчик,
прижалась к моему плечу.
И эдаким усталым фатом,
закуривая на ветру,
я говорю: живи в двадцатом.
Я в девятнадцатом умру.
Но больно мне представить это:
невеста, в белом, на руках
у инженера-дармоеда,
а я от неба в двух шагах.
Артериальной теплой кровью
я захлебнусь под Машуком,
и медальон, что мне с любовью,
где ты ребенком... В горле ком.
1999
На мотив Луговского
Всякий раз, гуляя по Свердловску,
я в один сворачиваю сквер,
248
Избранная лирика
там стоят торговые киоски,
и висит тряпье из КНР.
За горою джинсового хлама
вижу я знакомые глаза.
Здравствуй, одноклассница Татьяна!
Где свиданья чистая слеза?
Азеров измучила прохлада.
В лужи осыпается листва.
Мне от сказки ничего не надо,
кроме золотого волшебства.
Надо, чтобы нас накрыла снова,
унесла зеленая волна
в море жизни, океан былого,
старых фильмов, музыки и сна.
1999
* * *
М. Окуню
На фоне граненых стаканов
рубаху рвануть что есть сил...
Наколка — Георгий Иванов —
на Вашем плече, Михаил.
Вам грустно, а мне одиноко.
Нам кажут плохое кино.
Ах, Мишенька, с профилем Блока
на сердце живу я давно.
249
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Аптека, фонарь, незнакомка —
не вытравить этот пейзаж
Гомером, двухтомником Бонка'.
Пойдемте, наш выход, на пляж.
1999
* * *
Подались хулиганы в поэты,
под сиренью сидят до утра,
сочиняют свои триолеты.
Лохмандеи пошли в мусора —
ловят шлюх по ночным переулкам,
в нулевых этажах ОВД
в зубы бьют уважаемым уркам,
и т. д., и т. п., и т. д.
Но отыщется нужное слово,
но забродит осадок на дне,
время вспять повернется, и снова
мы поставим вас к школьной стене.
1999
* * *
Так я понял: ты дочь моя, а не мать,
только надо крепче тебя обнять
и взглянуть через голову за окно, 11 Популярный учебник английского языка авторского коллектива под
руководством Натальи Александровны Бонк.
250
Избранная лирика
где сто лет назад, где давным-давно
сопляком шмонался я по двору
и тайком прикуривал на ветру,
окружен шпаной, но всегда один —
твой единственный, твой любимый сын.
Только надо крепче тебя обнять
и потом ладоней не отнимать
сквозь туман и дождь, через сны и сны.
Пред тобой одной я не знал вины.
И когда ты плакала по ночам,
я, ладони в мыслях к твоим плечам
прижимая, смог наконец понять,
понял я: ты дочь моя, а не мать.
И настанет время потом, потом —
не на черно-белом, а на цветном
фото, не на фото, а наяву
точно так же я тебя обниму.
И исчезнут морщины у глаз, у рта,
ты ребенком станешь — о, навсегда! —
с алой лентой, вьющейся на ветру.
...Когда ты уйдешь, когда я умру.
1999
* * *
Я зеркало протру рукой
и за спиной увижу осень.
И беспокоен мой покой,
и счастье счастья не приносит.
251
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
На землю падает листва,
но долго кружится вначале.
И бестолку искать слова
для торжества такой печали.
Для пьяницы-говоруна
на флейте отзвучало лето,
теперь играет тишина
для протрезвевшего поэта.
Я ближе к зеркалу шагну
и всю печаль собой закрою,
но в эту самую минуту грянет ветер за спиною.
Все зеркало заполнит сад,
лицо поэта растворится.
И листья заново взлетят,
и станут падать и кружиться.
1999
Маленькие трагедии
Нагой, но в кепке восьмигранной, переступая
через нас, со знаком качества на члене, идет купаться дядя Стас. У водоема скинул кепку, махнул
седеющей рукой: айда купаться, недотепы, и — оп
о сваю головой.
Он был водителем «КамАЗа». Жена, обмякшая
от слез. И вот: хоронят дядю Стаса под вой сигналов, скрип колес.
252
Избранная лирика
Такие случаи бывали, что мы в натуре, сопляки, стояли и охуевали, чесали лысые башки. Такие
вещи нас касались, такие песни про тюрьму на двух
аккордах обрывались, что не расскажешь никому.
А если и кому расскажешь, так не поверят ни за
что, и, выйдя в полночь, стопку вмажешь в чужом
пальте, в чужом пальто. И, очарованный луною,
окурок выплюнешь на снег и прочь отчалишь.
Будь собою, чужой, ненужный человек.
*
Хожу по прошлому, брожу, как археолог. Наклейку, марку нахожу, стекла осколок. ...Тебя нетронутой, живой, вполне реальной, весь полон
музыкою той вполне печальной. И пролетают облака, и скоро вечер, и тянется моя рука твоей навстречу. Но растворяются во мгле дворы и зданья.
И ты бледнеешь в темноте — мое созданье, то,
кем я жил и кем я жив в эпохе дальней.
И все печальнее мотив, и все печальней.
1999
* * *
И огни светофоров,
и скрещения розовых фар.
Этот город, который
четче, чем полуночный кошмар.
Здесь моя и проходит
жизнь с полуночи и до утра.
253
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
В кабаках ходят-бродят
прожектора.
В кабаке твои губы
ярче ягод на том берегу.
И белей твои зубы
тех жемчужин на талом снегу.
Взор твой ярок и влажен,
как чужой и неискренний дар.
И твой спутник неважен
в свете всех светофоров и фар.
Ну-ка, стрелку положим,
станем тонкою струйкой огня,
чтоб не стало, положим,
ни тебя, ни меня.
Ни тебя, ни меня, ни
голубого дождя из-под шин —
в голубое сиянье
милицейских машин.
2000
Считалочка
Пани-горе, тук-тук,
это Ваш давний друг,
пан Борис на пороге
от рубахи до брюк,
от котелка, нет,
кепочки — до штиблет,
254
Избранная лирика
семечек, макинтоша,
трости и сигарет,
я стучу в Ваш дом
с обескровленным ртом,
чтоб приобресть у Вас маузер,
остальное — потом.
2000
Элегия
Благодарю за каждую дождинку.
Неотразимой музыке былого
подстукивать на пишущей машинке —
она пройдет, начнется снова.
Она начнется снова, я начну
стучать по черным клавишам в надежде,
что вот чуть-чуть, и будет все как прежде,
что, черт возьми, я прошлое верну.
Пусть даже так: меня не будет в нем,
том прошлом, только чтоб без остановки
лил дождь, и на трамвайной остановке
сама Любовь стояла под дождем
в коротком платье летнем, без зонта,
скрестив надменно ручки на груди, со
скорлупкою от семечки у рта.
15 строчек Рыжего Бориса,
забывшего на три минуты зло,
себе и окружающим во благо.
«Olympia» — машинка,
«KYM» — бумага.
такой-то год, такое-то число.
255
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
* * *
як
Завидуешь мне, зависть — это дурно, а между тем
есть чему позавидовать, мальчик, на самом деле —
я пил, я беседовал запросто с героем его поэм
в выдуманном им юроде, в придуманном им отеле.
Ай, стареющий мальчик, мне, эпигону, мне
выпало такое счастье, отпетому хулигану,
любящему «Пушторг» и «Лошади в океане»1 —
ангел с отбитым крылом под синим дождем в окне.
Ведь я заслужил это, не правда ли, сделал шаг,
отравил себя музыкой, улицами, алкоголем,
небом и северным морем. «Вы» говори, дурак,
тому, кто зачислен к мертвым, а из живых уволен.
2000-2001
* * *
Живу во сне, а наяву
сижу-дремлю.
И тех, с которыми живу,
я не люблю.
Просторы, реки, облака,
того-сего.
И да не дрогнула б рука,
сказал, кого.
1 Название стихотворений Ильи Сельвинского и Бориса Слуцкого
256
Избранная лирика
Но если честным быть в конце
и до конца —
лицо свое, в своем лице
лицо отца.
За этот сумрак, этот мрак,
что свыше сил,
я так люблю его, я так
его любил.
Как эти реки, облака
и виражи
стиха, не дрогнула б строка,
как эту жизнь.
<2000>
* * *
Я подарил тебе на счастье
во имя света и любви
запас ненастья
в моей крови.
Дождь, дождь идет, достанем зонтик —
на много, много, много лет
вот этот дождик
тебе, мой свет.
И сколько б он ни лил, ни плакал,
ты стороною не пройдешь...
Накинь, мой ангел,
мой макинтош.
9 Оправдание жизни
257
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Дождь орошает, но и губит,
открой усталый алый рот.
И смерть наступит.
И жизнь пройдет.
<2000>
* * *
Эля, ты стала облаком
или ты им не стала?
Стань девочкою прежней с белым бантом,
я — школьником, рифмуясь с музыкантом,
в тебя влюбленным и в твою подругу,
давай-ка руку.
Не ты, а ты, а впрочем, как угодно —
ты будь со мной всегда, а ты свободна,
а если нет, тогда меняйтесь смело,
не в этом дело.
А дело в том, что в сентября начале
у школы утром ранним нас собрали,
и музыканты полное печали
для нас играли.
И даже, если даже не играли,
так, в трубы дули, но не извлекали
мелодию, что очень вероятно,
пошли обратно.
А ну назад, где облака летели,
где, полыхая, клены облетели,
258
Избранная лирика
туда, где до твоей кончины, Эля,
еще неделя.
Еще неделя света и покоя,
и ты уйдешь вся в белом в голубое,
не ты, а ты с закушенной губою
пойдешь со мною
мимо цветов, решеток, в платье строгом
вперед, где в тоне дерзком и жестоком
ты будешь много говорить о многом
со мной, я — с Богом.
<2000>
* * *
Веди меня аллеями пустыми,
о чем-нибудь ненужном говори,
не четко проговаривая имя.
Оплакивают лето фонари.
Два фонаря оплакивают лето.
Кусты рябины. Влажная скамья.
Любимая, до самого рассвета
побудь со мной, потом оставь меня.
А я , оставшись тенью потускневшей,
еще немного послоняюсь тут,
все вспомню: свет палящий, мрак кромешный.
И сам исчезну через пять минут.
<2000>
9*
259
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
* * *
Как только про мгновения весны
кино начнется, опустеет двор,
ему приснятся сказочные сны,
умнейшие, хоть узок кругозор.
Спи, спи, покуда трескается лед,
пока скрипят качели на ветру.
И ветер поднимает и несет
вчерашнюю газету по двору.
И мальчик на скамейке одинок,
сидит себе, лохматый ротозей,
за пустотой следит, и невдомек
чумазому себя причислить к ней.
* * *
Вспомним всё, что помним и забыли,
всё, чем одарил нас детский бог.
Городок, в котором мы любили,
в облаках затерян городок.
И когда бы пленку прокрутили
мы назад, увидела бы ты,
как пылятся на моей могиле
неживые желтые цветы.
Там я умер, но живому слышен
птичий гомон, и горит заря
над кустами алых диких вишен.
Все, что было после, было зря.
2000
260
Избранная лирика
* * *
Из школьного зала —
в осенний прозрачный покой.
О, если б ты знала,
как мне одиноко с тобой...
Как мне одиноко,
и как это лучше сказать:
с какого урока
в какое кино убежать?
С какой перемены
в каком направленье уйти?
Со сцены, со сцены,
со сцены, со сцены сойти.
2000-2001
* * *
Не черемухе в сквере
и не роще берез,
только музыке верил,
да и то невсерьез.
Хоть она и рыдала
у меня на плече,
хоть и не отпускала
никуда вообще.
Я отдергивал руку
и в лицо ей кричал:
ты продашь меня, сука,
или нет, отвечай?
261
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Проводник хлопал дверью,
грохотал паровоз.
Только в музыку верил,
да и то не до слез.
2000
* * *
Помнишь дождь на улице Титова1,
что прошел немного погодя
после слез и сказанного слова?
Ты не помнишь этого дождя!
Помнишь, под озябшими кустами
мы с тобою простояли час,
и трамваи сонными глазами
нехотя оглядывали нас?
Озирались сонные трамваи
и вода по мордам их текла.
Что еще, Иринушка, не знаю,
но, наверно, музыка была.
Скрипки ли невидимые пели
или что иное, если взять
двух влюбленных на пустой аллее,
музыка не может не играть.
1 Улица в Екатеринбурге, в жилом районе Вторчермет (Чермет). Именно
к домам начала и конца этой улицы выходят трамвайные маршруты,
идущие на Вторник, городскую окраину, воспетую Б. Рыжим. Названа
в честь космонавта Германа Титова. См. с. 8 вклейки.
262
Избранная лирика
Постою немного на пороге,
а потом отчалю навсегда
без музыки, но по той дороге,
по которой мы пришли сюда.
И поскольку сердце не забыло
взор твой, надо тоже не забыть
поблагодарить за все, что было,
потому что не за что простить.
2000
* * И«
В Свердловске живущий,
но русскоязычный поэт,
четвертый день пьющий,
сидит и глядит на рассвет.
Промышленной зоны
красивый и первый певец
сидит на газоне,
традиции новой отец.
Он курит неспешно,
он не говорит ничего
(прижались к коленям его
печально и нежно
козленок с барашком)
и слез его очи полны.
Венок из ромашек,
спортивные, в общем, штаны,
263
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
кроссовки и майка —
короче, одет без затей,
чтоб было не жалко
отдать эти вещи в музей.
Следит за погрузкой
песка на раздолбанный ЗИЛ —
приемный, но любящий сын
поэзии русской.
2000
* * *
Ты танцевала, нет — ты танцевала, ты танцевала, я точно помню — водки было мало, а неба
много. Ну да, ей-богу, это было лето. И до рассвета свет фонаря был голубого цвета. Ты все забыла.
Но это было. А еще ты пела. Листва шумела. Числа какого? Разве в этом дело... Не в этом дело!
А дело вот в чем: я вру безбожно, и скулы сводит, что в ложь, и только, влюбиться можно.
А жизнь проходит.
2000
* * *
Я по снам по твоим не ходил
и в толпе не казался,
не мерещился в сквере, где лил
дождь, верней — начинался
дождь (я вытяну эту строку,
264
Избранная лирика
а другой не замечу),
это блазнилось мне, дураку,
что вот-вот тебя встречу,
это ты мне являлась во сне,
(и меня заполняло
тихой нежностью), волосы мне
на висках поправляла.
В эту осень мне даже стихи
удавались отчасти
(но всегда не хватало строки
или рифмы — для счастья).
<2000>
* * *
Я тебе привезу из Голландии Lego,
мы возьмем и построим из Lego дворец.
Можно годы вернуть, возвратить человека
и любовь, да чего там, еще не конец.
Я ушел навсегда, но вернусь однозначно —
мы поедем с тобой к золотым берегам.
Или снимем на лето обычную дачу,
там посмотрим, прикинем по нашим деньгам.
Станем жить и лениться до самого снега.
Ну, а если не выйдет у нас ничего, —
я пришлю тебе, сын, из Голландии Lego,
ты возьмешь и построишь дворец из него.
2000-2001
265
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
* * *
Зеленый змий мне преградил дорогу
к таким непоборимым высотйм,
что я твержу порою: слава богу,
что я не там.
Он рек мне, змий, на солнце очи щуря:
— Вот ты поэт, а я зеленый змей,
закуривай, присядь со мною, керя,
водяру пей;
там наверху вертлявые драконы
пускают дым, беснуются — скоты,
иди в свои промышленные зоны,
давай на «ты».
Ступай, — он рек, — вали и жги глаголом
сердца людей, простых Марусь и Вась,
раз в месяц наливаясь алкоголем,
неделю квась.
Так он сказал, и вот я здесь, ребята,
в дурацком парке радуюсь цветам
и девушкам, а им того и надо,
что я не там.
2000
* * *
10-й класс —
все это было, было, было:
мир, мир объятия раскрыл, а
нет, не для нас...
266
Избранная лирика
Задрав башку,
апрельскою любуюсь синью
(гоню строку!)
там смерть твоя с моею жизнью
пересеклась,
и в точке соприкосновенья
10-й класс
и тени, тени под сиренью.
И тени, тени под сиренью, тени, тени.
А эти, те,
что пьют портвейн в кустах сирени —
кто? Я и ты.
И нам все это по приколу:
кругом цветы!
Пора? Или забьем на школу?
Забив на жизнь,
на родственников и начальство,
ты там держись
и за меня не огорчайся:
мы еще раз
потом сыграем, как по нотам, —
не ангелы, а кто еще там? —
10-й класс.
2000
267
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
* * *
Мальчишкой в серой кепочке остаться,
самим собой, короче говоря.
Меж правдою и вымыслом слоняться
по облетевшим листьям сентября.
Скамейку выбирая, по аллеям
шататься, ту, которой навсегда
мы прошлое и будущее склеим.
Уйдем — вернемся именно сюда.
Как я любил унылые картины,
посмертные осенние штрихи,
где в синих лужах ягоды рябины,
и с середины пишутся стихи.
Поскольку их начало отзвучало,
на память не оставив ничего.
Как дождик, по карнизу отстучало,
а, может, просто не было его.
Но мальчик был, хотя бы для порядку,
что проводил ладонью по лицу,
молчал, стихи записывал в тетрадку,
в которых строчки двигались к концу.
<2001>
* * *
Погадай мне, цыганка, на медный грош,
растолкуй, отчего умру.
Отвечает цыганка, мол, ты умрешь,
не живут такие в миру.
268
Избранная лирика
Станет сын чужим и чужой жена,
отвернутся друзья-враги.
Что убьет тебя, молодой? Вина.
Но вину свою береги.
Перед кем вина? Перед тем, что жив.
И смеется, глядит в глаза.
И звучит с базара блатной мотив,
проясняются небеса.
<2001>
* * *
Отмотай-ка жизнь мою назад
и еще назад:
вот иду я пьяный через сад,
осень, листопад.
Вот иду я: девушка с веслом
слева, а с ядром —
справа, время встало и стоит,
а листва летит.
Все аттракционы на замке,
никого вокруг,
только слышен где-то вдалеке
репродуктор, друг.
Что поет он, черт его поймет,
что и пел всегда:
что любовь пройдет, и жизнь пройдет,
пролетят года.
269
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Я сюда глубоким стариком
некогда вернусь,
погляжу на небо, а потом
по листве пройдусь.
Что любовь пройдет, и жизнь пройдет,
вяло подпою,
ни о ком не вспомню, старый черт,
бездны на краю.
<2000>
* * *
Гриша-Поросенок выходит во двор,
в правой руке топор.
«Всех попишу, — начинает он
тихо, потом орет: —
Падлы!» Развязно со всех сторон
обступает его народ.
Забирают топор, говорят: «Ну вот!»,
бьют коленом в живот.
Потом лежачего бьют.
И женщина хрипло кричит из окна:
«Они же его убьют».
А во дворе весна.
Белые яблони. Облака
синие. Ну, пока,
молодость, говорю, прощай.
Тусклой звездой освещай мой путь.
Все, и помнить не обещай,
сниться не позабудь.
270
Избранная лирика
Не печалься и не грусти.
Если в чем виноват, прости.
Пусть вечно будет твое лицо
освещено весной.
Плевать, если знаешь, что было со
мной, что будет со мной.
<2000>
* * *
Рубашка в клеточку, в полоску брючки —
со смертью-одноклассницей под ручку
по улице иду,
целуясь на ходу.
Гремят КамАЗы, и дымят заводы.
Локальный Стикс колышет нечистоты.
Акации цветут.
Кораблики плывут.
Я раздаю прохожим сигареты
и улыбаюсь, и даю советы,
и прикурить даю.
У бездны на краю
твой белый бант плывет на синем фоне.
И сушатся на каждом на балконе
то майка, то пальто,
то неизвестно что.
Папаша твой зовет тебя, подруга,
грозит тебе и матерится, сука,
271
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
гребйный пидарас,
в окно увидев нас.
Прости-прощай. Когда ударят трубы,
и старый боров выдохнет сквозь зубы
за именем моим
зеленоватый дым,
подкравшись со спины, двумя руками
закрыв глаза мои под облаками,
дыханье затая,
спроси меня: кто я?
И будет музыка, и грянут трубы,
и первый снег мои засыплет губы
и мертвые цветы.
— Мой ангел, это ты.
<2000>
* * *
Не надо ничего,
оставьте стол и дом
и осенью, того,
рябину за окном.
Не надо ни хрена —
рябину у окна
оставьте, ну и на
столе стакан вина.
Не надо ни хера,
помимо сигарет,
272
Избранная лирика
и чтоб включал с утра
Вертинского сосед.
Пускай о розах, бля,
он мямлит из стены —
я прост, как три рубля,
вы лучше, вы сложны.
Но, право, стол и дом,
рябину, боль в плече,
и память о былом,
и вообще, вобще.
<2000>
* * *
Я по листьям сухим не бродил
с сыном за руку, за облаками,
обретая покой, не следил,
не аллеями шел, а дворами.
Только в песнях страдал и любил.
И права, вероятно, Ирина —
чьи-то книги читал, много пил
и не видел неделями сына.
Так какого же черта даны
мне неведомой щедрой рукою
с облаками летящими сны,
с детским смехом, с опавшей листвою.
<2000>
273
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
* * *
Сесть на корточки возле двери в коридоре
и башку обхватить:
выход или не выход уехать на море,
на работу забить?
Ведь когда-то спасало: над синей волною
зеленела луна.
И, на голову выше, стояла с тобою,
и стройна, и умна.
Пограничники с вышки своей направляли,
суки, прожектора
и чужую любовь, гогоча, освещали.
Эта песня стара.
Это — «море волнуется — раз», в коридоре
самым пасмурным днем
то ли счастье свое полюби, то ли горе,
и вставай, и пойдем.
В магазине прикупим консервов и хлеба
и бутылку вина.
Не спасет тебя больше ни звездное небо,
ни морская волна.
2000
* * *
С антресолей достану «ТТ»,
покручу-поверчу —
я еще поживу и т. д.,
а пока не хочу
274
Избранная лирика
этот свет покидать, этот свет,
этот город и дом.
Хорошо, если есть пистолет,
остальное — потом.
Из окошка взгляну на газон
и обрубок куста.
Домофон загудит, телефон
зазвонит — суета.
Надо дачу сначала купить,
чтобы лес и река
в сентябре начинали грустить
для меня, дурака.
Чтоб летели кругом облака.
Я о чем? Да о том:
облака для меня, дурака.
А еще, а потом,
чтобы лес золотой,голубой
блеск реки и небес.
Не прохладно проститься с собой
чтоб — в слезах, а не без.
2000-2001
* * *
На границе между сном и явью
я тебя представлю
в лучшем виде,
погляжу немного
на тебя, Серега.
Где мы были? С кем мы воевали?
Что мы потеряли?
275
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Что найду я на твоей могиле,
кроме «жили-были»?
Жили-были, били неустанно
Леху-Таракана.
...А хотя, однажды с перепою
обнялись с тобою
и пошли дошли на фоне марта
до кинотеатра.
Это жили, что ли, поживали?
Это умирали.
Это в допотопном кинозале,
где говно казали,
плюнул ты, ушел, а я остался
до конца сеанса.
Пялюсь на экран дебил дебилом.
Мне б к родным могилам
просквозить, Серега, хлопнув дверью,
тенью в нашем сквере.
2000-2001
* * *
На теплотрассе выросли цветы.
Калеки, нищие, собаки и коты
на теплотрассе возлежат, а мимо
идет поэт. Кто, если не секрет?
Кто, как не я! И синий облак дыма
летит за мной. Апрель. Рассвет.
<2000>
276
Избранная лирика
* * *
Если в прошлое, лучше трамваем
со звоночком, поддатым соседом,
грязным школьником, тетей с приветом,
чтоб листва тополиная следом.
Через пять или шесть остановок
въедем в восьмидесятые годы:
слева — фабрики, справа — заводы,
не тушуйся, закуривай, что ты.
Что ты мямлишь скептически, типа
это все из набоковской прозы, —
он барчук, мы с тобою отбросы.
Улыбнись, на лице твоем слезы.
Это наша с тобой остановка:
там — плакаты, а там — транспаранты,
небо синее, красные банты,
чьи-то похороны, музыканты.
Подыграй на зубах этим дядям
и отчаль под красивые звуки:
куртка кожаная, руки в брюки,
да по улочке вечной разлуки.
Да по улице вечной печали
в дом родимый, сливаясь с закатом,
одиночеством, сном, листопадом,
возвращайся убитым солдатом.
<2000>
277
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
* * *
Вот красный флаг с серпом висит над ЖЭКом,
а небо голубое.
Как запросто родиться человеком,
особенно собою.
Он выставлял в окошко радиолу,
и музыка играла.
Он выходил во двор по пояс голый
и начинал сначала
о том, о сём, о Ивделе, Тагиле',
он отвечал за слово,
и закурить давал, его любили,
и пела Пугачева.
Про розы, розы, розы, розы, розы.
Не пожимай плечами,
а оглянись и улыбнись сквозь слёзы:
нас смерти обучали
в пустом дворе под вопли радиолы.
И этой сложной теме
верны, мы до сих пор, сбежав из школы,
в тенй стоим там, тёни.
<2000> 11 Географические названия пунктов особой концентрации мест лишения свободы в Свердловской области.
278
Избранная лирика
* * *
Не покидай меня, когда
горит полночная звезда,
когда на улице и в доме
все хорошо, как никогда.
Ни для чего и низачем,
а просто так и между тем
оставь меня, когда мне больно,
уйди, оставь меня совсем.
Пусть опустеют небеса.
Пусть станут черными леса.
Пусть перед сном предельно страшно
мне будет закрывать глаза.
Пусть ангел смерти, как в кино,
то яду подольет в вино,
то жизнь мою перетасует
и крести бросит на сукно.
А ты останься в стороне —
белей черемухой в окне
и, не дотягиваясь, смейся,
протягивая руку мне.
<2000>
* * *
Не безысходный — трогательный, словно
пять лет назад,
отметить надо дождик, безусловно,
и листопад.
279
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Пойду, чтобы в лицо летели листья, —
я так давно
с предсмертною разлукою сроднился,
что все равно.
Что даже лучше выгляжу на фоне
предзимних дней.
Но с каждой осенью твои ладони
мне все нужней.
Так появись, возьми меня за плечи,
былой любви
во имя, как пойду листве навстречу —
останови.
...Гляди-ка, сопляки на спортплощадке
гоняют мяч.
Шарф размотай, потом сними перчатки,
смотри, не плачь.
<2000>
* * *
И вроде не было войны,
но почему коробит имя
твое в лучах такой весны,
когда глядишь в глаза жены
глазами дерзкими, живыми?
И вроде трубы не играли,
не обнимались, не рыдали,
280
Избранная лирика
не раздавали ордена,
протезы, звания, медали,
а жизнь, что жив, стыда полна?
<2000>
* * *
Городок, что я выдумал и заселил человеками,
городок, над которым я лично пустил облака,
барахлит, ибо жил, руководствуясь некими
соображениями, якобы жизнь коротка.
Вырубается музыка, как музыкант ни старается.
Фонари не горят, как ни кроет их матом
электрик-браток.
На глазах, перед зеркалом стоя, дурнеет красавица.
Барахлит городок.
Виноват, господа, не учел, но она продолжается,
всё к чертям полетело, а что называется мной,
то идет по осенней аллее, и ветер
свистит-надрывается,
и клубится листва за моею спиной.
2000-2001
* * *
Бритвочкой на зеркальце гашиш
отрезая, что-то говоришь,
весь под ноль
281
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
стриженный, что времени в обрез,
надо жить, и снимает стресс
алкоголь.
Ходит всеми комнатами боль,
и не помогает алкоголь.
Навсегда
в памяти моей твои черты
искажаются, но это ты,
понял, да.
Да, и где бы ни был ты теперь,
уходя, ты за собою дверь
не закрыл.
Я гляжу в проем: как сумрак бел...
Я ли тебя, что ли, не жалел,
не любил.
Чьи-то ледяные голоса.
В зеркальце блестят твои глаза
с синевой.
Орден за Анголу на груди,
ты ушел, бери и выходи
за тобой.
2000-2001
* * *
А. П. Сидорову, наркологу
Синий свет в коридоре больничном,
лунный свет за больничным окном.
Надо думать о самом обычном,
надо думать о самом простом.
282
Избранная лирика
Третьи сутки ломает цыгана,
просто нечем цыгану помочь.
Воду ржавую хлещешь из крана,
и не спится, и бродишь всю ночь
коридором больничным при свете
синем-синем, глядишь за окно.
Как же мало ты прожил на свете,
неужели тебе все равно?
(Дочитаю печальную книгу,
что забыта другим впопыхах.
И действительно музыку Грига
на вставных наиграю зубах.)
Да, плевать, но бывает порою.
Все равно, но порой, иногда
я глаза на минуту закрою
и открою потом, и тогда,
обхвативши руками коленки,
размышляю о смерти всерьез,
тупо пялясь в больничную стенку
с нарисованной рощей берез.
<2000>
* * *
Осыпаются алые клены,
полыхают вдали небеса,
солнцем розовым залиты склоны —
это я открываю глаза.
283
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Где и с кем, и когда это было,
только это не я сочинил:
ты меня никогда не любила,
это я тебя очень любил.
Парк осенний стоит одиноко,
и к разлуке и к смерти готов.
Это что-то задолго до Блока,
это мог сочинить Огарев.
Это в той допотопной манере,
когда люди сгорали дотла.
Что написано, по крайней мере
в первых строчках, припомни без зла.
Не гляди на меня виновато,
я сейчас докурю и усну —
полусгнившую изгородь ада
по-мальчишески перемахну.
<2000>
* * *
Когда бутылку подношу к губам,
чтоб чисто выпить, похмелиться чисто,
я становлюсь похожим на горниста
из гипса, что стояли тут и там
по разным пионерским лагерям,
где по ночам — рассказы про садистов,
куренье, чтенье «Графа Монте-Кристо».
Куда теперь девать весь этот хлам,
все это детство с муками и кровью
284
Избранная лирика
из носу, черт-те знает чье
лицо с надломленною бровью,
вонзенное в перила лезвиё,
все это обделенное любовью,
все это одиночество мое?
<2000>
* * *
Ничего не надо, даже счастья
быть любимым, не
надо даже теплого участья,
яблони в окне.
Ни печали женской, ни печали,
горечи, стыда.
Рожей — в грязь, и чтоб не поднимали
больше никогда.
Не вели бухого до кровати.
Вот моя строка:
«Без меня отчаливайте, хватит —
небо, облака!»
Жалуйтесь, читайте и жалейте,
греясь у огня,
вслух читайте, смейтесь, слезы лейте.
Только без меня.
Ничего действительно не надо,
что ни назови:
ни чужого яблоневого сада,
ни чужой любви,
285
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
что тебя поддерживает нежно,
уронить боясь.
Лучше страшно, лучше безнадежно,
лучше рылом в грязь.
<2000>
* * *
А грустно было и уныло,
печально, да ведь?
Но все осветит, все, что было,
исправит память —
звучи заезжанной пластинкой,
хрипи и щелкай.
Была и девочка с картинки
с завитой челкой.
И я был богом и боксером,
а не поэтом.
То было правдою, а вздором
как раз вот это.
Чем дальше будет, тем длиннее
и бесконечней.
Звезда, осенняя аллея,
и губы, плечи.
И поцелуй в промозглом парке,
где наши лица
под фонарем видны неярким —
он вечно длится.
<2000>
286
Избранная лирика
* * *
Дай нищему на опохмелку денег.
Ты сам-то кто? Бродяга и бездельник,
дурак, игрок.
Не первой молодости нравящийся дамам,
давно небритый человек со шрамом,
сопляк, сынок.
Дай просто так и не проси молиться
за душу грешную — когда начнет креститься,
останови.
...От одиночества, от злости, от обиды
на самого, с которым будем квиты, —
не из любви.
<2000>
* * *
На смерть P. Т.
Вышел месяц из тумана —
и на много лет
над могилою Романа1
синий-синий свет.
Свет печальный синий-синий,
легкий, неземной
1 Роман Тягунов — екатеринбургский поэт, друг Бориса, трагически погибший в 2000 году.
287
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
над Свердловском, над Россией,
даже надо мной.
Я свернул к тебе от скуки,
было по пути,
с папироской, руки в брюки,
говорю: прости.
Там, на ангельском допросе
всякий виноват,
за фитюли-папиросы
не сдавай ребят.
А не-то, Роман, под звуки
золотой трубы
за спину закрутят руки
ангелы, жлобы.
В лица наши до рассвета
наведут огни,
отвезут туда, где это
делают они.
Так и мы сойдем с экрана,
не молчи в ответ.
Над могилою Романа
только синий свет.
2000-2001
288
ЛИРИКА . ПРОЗА . КРИТИКА . ИНТЕРВЬЮ . ПИСЬМА
ИЗ РАННИХ
И НЕОПУБЛИКОВАННЫХ
СТИХОТВОРЕНИЙ
10 Оправдание жизни
* * *
Облака пока не побледнели,
Как низкопробное сукно.
Сидя на своей постели,
Смотрел в окно.
Была луна белее лилий,
На ней ветвей кривые шрамы,
Как продолженье четких линий
Оконной рамы.
Потом и жутко, и забавно,
Когда, раскрасив красным небо,
Восход вздымался плавно-плавно...
И смело.
А изнутри, сначала тихо,
Потом, разросшись громыханьем,
Наружу выползало Лихо,
Опережая покаянье.
IO’
291
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
«Еще луны чуть-чуть!» — развоюсь,
Встану, сверкну как гроза и...
Не надо!.. Вдруг еще небо размою
Своими слезами.
1992, 2 марта
* * *
Ветер, надев папильотки табачного дыма,
метался седыми, как старость, аллеями сада
и исчезал, а над зубьями черно-лесными
на взмахе застыли кровавые крылья заката...
А Бог сам с собою играл в бильярд небосвода,
сквозь тучи протиснув косою ухмылкою месяц...
И я, улыбаясь, глядел на обочину леса,
где шлялись, забытые напрочь, прошедшие годы,
в которых я жизнь прометался каким-то поэтом,
которого, в общем-то, не было или... не станет...
А ночь разыгралась и бросила запахи лета
в аллеи седые, как ста... лепестками фиалок.
А ветер, табачного дыма надев папильотки...
А Бог сам с собою играл в бильярд небосвода...
А я, улыбаясь, глядел и всей силою легких
вдыхал в себя сад, ощущая седую свободу.
1992, октябрь
292
Из ранних и неопубликованных стихотворений
* * *
Где-то там далеко, где слоняются запахи леса,
где-то там далеко, где воздух, как обморок, пестр...
Там, где вечер, где осень, где плачет забытое детство,
заломив локоточки за рыжие головы звезд,
там луна, не лесная, моя, по осенним полянам
мечется, тая в полуночном серебре...
Где я — отблеск луны в бледно-си...
в бледно-синем тумане,
где я — жизнь, не дожитая жизнь городских фонарей.
1992, сентябрь
Пейзаж с детством
1.
Небо накуксилось и, отряхнувшись от тени,
прошлось по аллее, ресницы листвы распахнуло
утро. Глаза полусонной простывшей сирени
легли на ладонь мою слякотью трех поцелуев
последнего детства.
2.
Как просто, как просто быть просто пейзажем на фоне,
как просто на фоне приветствовать будущий день и...
Солому тумана жевали бетонные кони
и замирали, нахохлясь фонарною ленью.
Как просто, как просто.
293
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
3.
Стоит за душою пацан, ненавидящий школу,
водка в подъезде, бичи... Но до этого было
дачное детство и скрип деревянного пола,
и откровенья с кровавою пастью камина,
сказки и прочее.
4.
Небо, накуксясь, сглотнуло невкусные лампы
звезд и накуксилось пуще. В тумане ржавеет...
Мне жить с этой жуткой оскоминой жизни не ладно!
И с этим полуночным бредом, но тем не менее:
как просто влюбляюсь!
5.
Как просто влюбляюсь в последнее детство за то, что
сирень опрокинула взгляды, накуксилось небо,
в тумане ржавеет тугая струна горизонта...
Лишь только за то, что там больше ни разу не буду.
И не был.
1992, декабрь
* * *
Ирине
Родная, мы будем жить здесь, где нет прохожих,
где лишь созвездья. И пить сплошные сухие вина.
Здесь реки сбросят сухие русла, как змеи — кожу,
за даль метнувшись. И будет пахнуть сырой овчиной.
Закат, что в небо вкровавлен Богом, безумной розой
завянет. Ветры утихнут. Слезы пойдут на убыль.
294
Из ранних и неопубликованных стихотворений
Мы будем жить здесь. Мы будем вместе смотреть...
А звезды
здесь разноцветны, как в фотоснимке зрачки салюта.
По сути дела не будет лета, зимы и прочих.
Не будет милых моих. Любимых моих. Хороших.
Туман укроет нас белоснежной своей рогожей,
и будут ночи. Сплошные ночи. Сплошные ночи.
Но все проходит. И мы с тобою пройдем задаром.
И будет небо. Сплошное небо, как черный зонт... А
мы будем в ночи, как в отложении — два омара.
...И безресничный прищур безглазого горизонта.
1992, декабрь
* * *
Стоял обычный зимний день,
обычней хрусталя в серванте,
стоял фонарь, лежала тень
от фонаря. (В то время Данте
спускался в Ад, с Эдгаром По
калякал Ворон, Маяковский
взлетал на небо...), за толпой
сутулый силуэт Свердловска
лежал и, будто бы в подушку,
сон продолжая сладкой ленью,
лежал подъезд, в сугроб уткнувшись
бугристой лысиной ступеней... —
так мой заканчивался век,
так несуетно... Что же дальше?
Я грыз окаменевший снег,
сто лет назад в ладонь упавший.
1992
295
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Вечер
Я вышел в улицу. Квартал,
ко рту прижав платочком осень,
ребенком нежным крепко спал,
и с неба смоляные косы —
свисали облака и сны,
как над бумагой виснут штампы,
и мошкарою вокруг лампы
кружилась ночь вокруг луны.
Я вышел в улицу. И поздно
мне было жить для новых дней.
Кружилась ночь, дрожали слезы
в железных веках фонарей,
сочились с неба боль и тишь
сквозь рыжих звезд косые ранки.
И город нес, как сердце — Данко,
седой закат в ладонях крыш.
1993, январь
* * *
«Город наш все еще город, о Кирн, но уж люди другие»,
мне жить в нем приелось, что Богу —
«разнообразность» молитв,
ночь обдает меня фарно-фонарно-серебряной гнилью,
взгляд мой пустует, как поле пустует в предчувствии битв.
«...Люди другие...», не верят ни в Бога...
Не чувствуют лета...
Нервы мои оголились как корни засохшего пня,
ночь обдает... я не знаю, не верю, что кто-то, где-то
ждет, в омут зеркала глядя, жалея, что видит себя,
296
Из ранних и неопубликованных стихотворений
а не меня. На взгляд мой сползлись минотавры улиц,
шею мою овивают тени оконных рам.
Но в постоянную серость глядеть — в эти лица, будни...
Как ни пытайся не верить, станешь дальтоником сам.
1993, январь
Признание прекрасного
Псевдомыльный пузырь окна пытается выдуть ветер.
Сон твой нежен, и вся природа внемлет тебе и сну.
Все уходит: вина и боль, и что там... Приходит лето,
пряча алые слезинки вишен, вишен в табачном дыму.
Я не скажу тебе, сколько надо сил, чтоб, разверзнув очи,
отвести их к окну от рук, от рук, от волос твоих...
Планета выводит ленивый глаз из дряблого века ночи
и свежестью тянет из сада, и сон твой нежен и тих, и тих.
1993, январь
* * *
Смерть хороша по чуть-чуть. По ночам
умирая, под утро воскреснув, за чаем,
замечая какого-нибудь грача
или ворона (точно не замечая),
что единственной чопорной нотой стан
проводов украшает, пенсне фонарных
столбов, расцветающий как тюльпан
восход, гремящего стеклотарой
297
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
жлоба, воткнувшего свой костыль
в планету старца с табачной пачкой,
гулятелей лошадообразных псин,
чьи глаза прозрачнее, чем собачьи,
как-то вдруг понимаешь, что ты воскрес
не надолго, что первой строкой обманут.
Смерть играет с тобою, как тяжеловес —
подпуская, готовит нокаут.
1993, май
Пустота
Да, с пустотою я знаком.
Как с ночью — Фрост. Я помню дом.
Вернее ряд пустых домов.
Как полусгнивших черепов
глазницы, окна голубой
взгляд останавливали мой.
И я, слепец, всю жизнь подряд
поймать чужой пытаюсь взгляд.
Мне б там стоять, замкнув уста,
и слушать ливень, в волосах
шуршащий, как в соломе крыши,
как в вечеру скребутся мыши,
как ветер, выдувая ночь,
копается в душе и прочь
уносит клочья тихих слов,
как выносили из домов
добро, что кое-как нажили,
оставив пряди белой пыли...
298
Из ранних и неопубликованных стихотворений
...Скорей для памяти своей,
а не для сумрачных гостей
замки повесив. Помню дом.
Да, с пустотою я знаком.
1993, июль
* * *
Россия, шолом!
Родная собачья Россия!
Любил бы — пожалуй,
писал, как положено, кровью.
Я вовсе не тонок,
я просто чертовски бессилен.
Любить тебя надо
огромной животной любовью.
Я вскрыл тебя, словно
консервную банку, и губы порезал.
Звезды, как рыбы,
плавали в луже — лови их руками.
И плыли созвездья.
Ах, все ты — одно отраженье:
люди, собаки, поэты
и братья с врагами.
Как часто снега уносят,
сползая в бескрайность,
тебя, словно скатерть —
вчерашний несъеденный ужин.
Мне завтрак не нужен.
Как часто пернатая стая
туда улетает.
299
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
И он мне до боли не нужен.
Ты вся из контрастов.
Медальные шеи бульдогов.
В лишайных дворнягах
нет шерсти на шапку. Мне очень
хочется быть
полуспившимся собаководом —
выгуливать пресные слезы
на впадинах щёчных.
Шолом же, Россия!
Царицы, разбойники, тройки.
Как пиджак — наизнанку
выверни ржавые дали.
Гляди, утопили щенят
на шикарной помойке.
Нас слезы не душат.
И нас с тобой завтра не станет.
1993
Лунная дорога
1.
Вот и пройден мой путь.
Я немного устал.
И квартира пуста.
Темно-синяя муть,
я хотел бы уснуть,
не считая до ста.
Все сжимаю уста,
но сжимается грудь.
...Крыши зданий в ночи
(Небо, Небо, прости)
что могилы отцов.
Тлеет клякса свечи.
И в прихожей плащи
что тела мертвецов.
2.
Темно-синяя ночь
и дурные стихи.
Брызги звездной ухи
300
Из ранних и неопубликованных стихотворений
на ладонях и проч.
Одиночество, прочь!
Мои веки сухи.
В расстояньи руки —
одиночество. Ночь
распрямляет углы.
И закат — что упырь.
Каплю хочется жить.
...Этот век не продлить
потерявшим цифирь
циферблатом луны.
3.
Тень, гляди на меня.
Твой хозяин — Луна.
Я, творец твой, моля
Бога, с самого дна
глаза черпаю явь
полудетского сна.
Там вскипает заря,
как прекрасна она.
Пусть колышется здесь,
как в воде озерка,
как прелестный обман.
И не нужен мне лес.
...Ибо дым табака
заменяет туман.
4.
Пусть метнется душа
и покинет сей дом.
Безболезненным сном
пронесется, шурша,
безрассудство ища
одиноким крылом.
И спасибо на том.
Я не буду мешать.
Я сижу не дыша,
словно твой идиот
не обижен, не зол.
Так метнись же, душа!
...Только тело сползет,
словно скатерть, на пол.
5.
Так найди же тот рай,
так найди же покой.
Пусть стальною рукой
тебе машет фонарь.
За луну, как за шар,
я хватаюсь рукой
и лечу за тобой,
одуревший от чар.
Так уходят во свет,
оставляя во тьме
свое тело рыдать.
...Так несут о себе
несуразицу, бред
чтобы жалость узнать.
6.
Где любимая, где?
Город начал стихать.
Только белая гладь
301
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
на безлюдной луне.
Где любимая? Где
сквозь осенний прилив
ее к телу прижать.
та, с которой рыдать?
Здесь пустая кровать.
Хоть секундочку мне
через плесень морей,
...Гардеробщик Морфей,
мое тело прими
словно старый пиджак.
1993
Отрывки
1.
Огромный город — церкви, зданья, банки —
(где я всю жизнь нежданный гость)
похож на полусъеденный лосось,
чьи ломти спят на дне консервной банки.
Ну а Христа здесь приняли б за панка...
И каково лохматому б пришлось:
не отберешь же у собаки кость,
тем паче если ты противник палки.
Луна, облагородив небосвод,
мертвецкий взгляд несуетливо прячет,
как незнакомец — в полы мятой шляпы,
кусками тучи вытирая лоб,
за ту же тучу. Каждый новый год
новейший ливень обновляет слякоть,
не очищая. И не надо плакать:
судьба здесь такова, таков народ.
302
2.
Из ранних и неопубликованных стихотворений
3.
Воруют все: помногу и помалу.
Воруют все: и умный, и дурак.
Взойдет скорее сор, чем добрый злак,
когда поля ничем не засевают.
Но все приходит к своему финалу
задолго до финала. И за так
лишь бог хранит любителей собак
и меХиканских телесериалов.
4.
С букетом алых роз на стеблях вен
уйти к нему не глупо, но излишне.
Здесь даже смерть, и та живет и дышит,
и так же ощущает тяжесть стен,
в которых я живу две тыщи лет,
за коими, под стать летучей мыши,
висит звезда над одинокой крышей,
сребря кресты могильные антенн.
5.
Но можно выйти в улицу и встать
над допотопной рыжеватой лужей,
и прошептать «я никому не нужен»,
в лицо извне глядящего отца,
и ждать ответа, или ждать конца.
Вот-вот начнется плесневая стужа.
Здесь трудно жить, когда ты безоружен.
А день в Свердловске тяжелей свинца.
1993, май
303
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Песня прощания
Пустой полустанок. Белое поле,
женщина в алом — что капля крови
на той бумаге с виска поэта...
Ведомой ветром.
Пустое поле и тем более,
чем гуще вечер. Плацкарт застелен...
Луна и точка в луне, ужели
их отраженье?
Табачным дымом плацкарт застелен,
где в одеялах... Где все соседи
как свалка вычурных изваяний
вождей и знамен.
И в сонном царстве, и в полумраке,
под шепот бледный — под крик разлуки,
трясется поезд, как после драки
трясутся руки.
Отхлынет ночь и нахлынет город,
горделиво вынув бетон названья...
Я выйду в холод, надвину ворот,
Я в нем останусь.
И не пугают разлуки, встречи.
И не пугает ни тень твоя, не...
Я в жизнь не верю, и этот вечер
меня пугает...
1993, январь
304
Из ранних и неопубликованных стихотворений
Суждения
* * *
Век на исходе. Скоро календарь
сойдет на ноль, как счетчик у таксиста.
Забегаешь по комнате так быстро,
как будто ты еще не очень стар.
Остановить, отпразднуем сей день.
Пусть будет лень
и грязь, и воздух спертый.
Накроем стол. И пригласим всех мертвых.
Век много душ унес. Пусть будут просто
пустые стулья. Сядь и не грусти.
Налей вина, и думай, что они
под стол упали, не дождавшись тоста.
1.
Летний вечер в окне,
словно в перепроявленном фото.
Нависает звезда. Старый город во сне.
Дождь исходит на нем вместе с собственным потом
И спешат фонари за закатом вослед.
Я полсвета объехал верхом на осле.
Созерцал, как несчастны счастливые люди.
Завершилось стремленье. Окончилось чудо.
Как плохое сукно,
Мое сердце распалось на части.
Но я счастлив вполне от того, что несчастлив.
Я гляжу за окно.
2.
Скоро осень придет.
На Урале дожди ядовиты.
305
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Выйду в улицу, стану слоняться, сырой пешеход.
И дожди расцелуют дома, как могильные плиты
отцов — сыновья.
Здесь родная земля.
Я с дождями уйду в эту землю.
Или просто пойду и совсем облысею.
И, нелепый старик, не успевший познать
ничего, кроме водки и хлеба,
буду всем говорить: «То, что сыплется с неба,
не всегда, благодать».
3.
Я везде побывал.
Я держал горизонт, как перила, в руке.
Я имел миллионы. Пришел налегке —
Все бродягам раздал.
Ничего не имея,
ни о чем не жалею.
Только смена пейзажей натерла зрачки
до зеленого цвета. И если в ночи
я устало стою у окошка,
при никчемной луне проклиная судьбу,
наполняя округу, подходят к окну
одичавшие кошки.
4.
Как порой тяжело.
Открываешь глаза и вдруг видишь — чужое
всё: и небо, и звезды, и червь в перегное,
не несущий тепло.
Понимаешь, что сам не уйдешь, уведут под
конвоем.
306
Из ранних и неопубликованных стихотворений
Слава богу, стихи — это нечто иное.
Мое тело висит, словно плащ — на гвозде,
на взгляде, который прикован к звезде.
Я ищу в себе силы
не сдаваться и ждать.
Но в округе до черта камней. Каждый третий —
кидать.
Или строить могилы.
5.
Я забыл шелест книг.
Я листаю оконные стекла.
И свеча освещает нетронутый ужасом лик.
И, как будто меж строк, я читаю меж улиц
промокших
то, что не передать, ибо это иная
книга, нежели те, что обычно читают.
Это книга ветров,
судеб, звезд негорящих, несказанных слов.
Пусть мне хочется спать,
но рука не дрожит. Пусть до боли тревожно,
надо еле дышать, и листать осторожно.
Можно вены порвать.
6.
Суета городов.
Тихий ропот и шепот печальный.
Бесполезное время. Над струнами линий трамвайных
нотный стан проводов...
Ноты спящих ворон
307
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
не метнулися вон,
но расселись для вальса.
И ты тянешь к луне онемевшие пальцы,
И, как пары, на небе кружатся звезды.
Будто раз и навеки забыто ненастье,
будто вдруг разглядишь невеликое счастье
через линзу слезы.
7.
Дорогая, когда
обрастут крыши зданий зарею,
словно львиною гривой, расстанусь с тобою.
И умру, как солдат,
не понюхавший боя.
Будет небо седое.
И, как мины морские, сгоревшие звезды на нем.
Кто-то скажет: «Нальем!
Хоть он не был солдатом, но ведал о том,
что и смерть — лишь обыденный дембель.
Пусть согреет свою двухметровую землю
уходящим теплом».
8.
Стеклодувы на небе
выдувают стоваттную лампу луны.
Засыпая, я вижу прекрасные сны,
разноцветную небьшь.
Все плохое, что было вчера, позабылось сегодня.
Так всевышним угодно,
чтобы мы не привыкли к ударам судьбы,
чтобы новый удар был внезапен, но мы
S08
Из ранних и неопубликованных стихотворений
не сдавались и жили.
И дрожат за окном миллионы огней.
Я пишу ни о чем. Да имей ты хоть сотню друзей,
одиночество — в жилах.
9.
Никого не виню,
что порой легче тело содрать, чем пальто.
Все гниет на корню.
Я не ведаю, что я и кто.
Я, как жгут, растянул окончания рук, я тянулся
к звезде.
Мне везде было плохо и больно. Везде.
От себя не уйти.
Что-то колет в груди.
И качаются тени.
На стене. И закат непохож на рассвет.
Я, войдя в этот мир, оказался в чужом сновиденье.
Пробуждения нет.
10.
Летний вечер в окне.
Словно лошади, яблони в мыле.
Прискакавшие с мест неизвестно каких по
туману и пыли.
Мое сердце в огне.
Черной шалью на плечи
накинувши вечер,
я гляжу за окно. И
309
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
течет по ладони
закатом разбрызганный розовый яд.
Ветер в улицах бродит, как в венах — излишество
крови.
И от серых разводов луна вытирает себя
о стиральные кровли.
* * *
На зрачок соскользнувший фонарик луны
с опустевшего черного синего неба
вялым веком укутав, как милую — пледом,
посвящаю ему все грядущие сны,
что плывут надо мною
по белому морю
преждевременной ночи,
и расчетливо очень
умоляю того, кто стоит надо мной,
не сложив на груди предварительно руки:
«Дай не смыть очертанья последнего друга
проступившей внезапно соленой слезой».
1993, июль
Ночь
Сегодня в ночь
я видел звезды,
как будто слезы
метнулись прочь
310
Был месяц мой
застигнут паром,
Из ранних и неопубликованных стихотворений
как будто парус
морской волной.
Лишь за спиной,
как будто крылья,
портьеры были,
но, бог ты мой,
мне не взлететь,
не видеть неба,
лишь крохи хлеба.
Лишь тихо петь:
«Сегодня, друг,
в крови полмира,
к тому же лира
сойдет за лук.
Колчан пустой?
Стрелы не надо,
поля, где жабы,
покрыты мглой».
1993, сентябрь
Фонтан
Сегодня, друг,
откинув шторы,
унылым взором
взгляни вокруг.
311
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
В такой сезон
и мир осенний
сродни бассейну.
Твой горизонт
в дали пустой
сродни барьеру.
Забудь про веру
и, бог ты мой,
застынь на миг
как изваянье.
Храни молчанье
и плачь, старик.
Не скажет Бог,
никто не скажет:
«А это — даже
не пыль дорог,
не дебри стран,
не жажда рая», —
на мир взирая,
как на фонтан.
1993у сентябрь
Кальян
Так и курят кальян —
дым проходит сквозь чистую воду.
Я, сквозь слезы вдохнув свои годы,
вижу каждый изъян.
312
Из ранних и неопубликованных стихотворений
Сколько было всего.
Как легко забывается детство
и друзья. Я могу оглядеться,
а вокруг — никого.
Остается любовь;
что останется той же любовью,
только станет немного бессловней,
только высохнет кровь.
А стихи, наконец,
это слабость, а не озаренье,
чем печальнее, тем откровенней.
Ты прости мне, отец,
но, когда я умру,
расскажи мне последнюю сказку
и закрой мне глаза — эту ласку
я не морщась приму.
Отнеси меня в лес
и скажи, в оправдание, птицам:
«Он хотел, но не мог научиться
ни работать, ни есть».
1993, ноябрь
Грядущему сыну
Ты скоро придешь и начнется твой первый сезон:
город, что скорпион в янтаре, похоронен в озимой
смоле января. И сожмется в глазах горизонт,
и опять распрямится, пульсируя долгой пружиной.
313
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Но пройдет сотня лет, я мутирую в горсточку букв
и ты встанешь к окну, за которым пейзажатся ночи,
чей-то голос услышишь (подумаешь — Бог) через стук
своих век. Не приписывай Бога, все чище и проще.
Просто — память тех дней, когда ты, милый мой,
в животе
был у мамы, и голос ее... Но вернемся: поверь мне
я так жду тебя. Вот. Что еще я имею к тебе...
Отдыхай же от жизни, осталось — примерно неделя.
А мне что горизонт, мне планета вкорежилась в глаз,
побуквенно вынуть нет сил и, признаться, надежды
на силы... Спи в матери, милый мой (в добрый же час
ты придешь в этот...), голос далекий так звонок
и нежен.
1993, январь
Кладбище
Е. П.
Что кладбища? Все те же города
в миниатюрном варианте. Окна.
И люди в окнах. Смотрят в сад. И сад
лежит, заросший четными цветами.
О домоседы! Я искал твою
могилу. Не нашел и долго
бродил меж этих улиц, словно Бог
меж звезд. И понимал, как Он ничтожен.
314
Из ранних и неопубликованных стихотворений
Моя родная, на колени встав,
хотя б на расстоянии с тобою
сравняться ростом. Так стоять, пока
не выпадут с руки того же Бога
к моим ногам клочки заката, как
с моей — к твоим не выпали гвоздики.
1993, январь
* * *
Утро появляется там, где ночь
исчезает. В колючем разливе света
из глаз исчезают сны и проч.
В глазах появляется лист газеты —
«...потерялась собака, уши...», «...завтра
войска Шеварднадзе...», «...развал науки...»
Морщинится тень. Доеден завтрак.
А мне некому подать руку...
1993, июнь
Новогоднее письмо
Я тоже отмечаю Новый год.
Тем больше веселюсь, чем больше водки,
чем больше водки —« женщин» не скажу —
я выпил. И луна на небе...
Нет, не луна, а свечи освещают
мое лицо.
Прошел тяжелый год.
315
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
И дни, вы были алыми от крови,
Которая лилась, пусть не ручьем,
Но все же....и флажки на елке
Алеют, как листы календаря
Должны алеть.
Я тоже отмечаю
Новейший год. И нависают слезы
От смеха на ресницах, словно те
Флажки — на хвое непушистой елки.
1993, октябрь
Фонари
Фонари, фонари над моей головой,
будьте вы хоть подобьем зари.
Жизнь так скоро проходит — сказав «боже мой»,
не успеешь сказать «помоги».
Как уносит река отраженье лица,
век уносит меня, а душа
остается. И что? — я не вижу конца.
Я предвижу конец. И, дыша
этой ночью замешанной на крови
говорю: «Фонари, фонари,
не могу я промолвить, что болен и слаб.
Что могу я поделать с собой? —
разве что умереть, как последний солдат,
испугавшийся крови чужой».
1993, декабрь
316
Из ранних и неопубликованных стихотворений
* * *
Ах, куда вы уходите все так скоро —
девочка, мальчик в коротких брюках.
Кто вы были? Что это был за город?
Я запомнил первые две-три буквы.
И еще немного — была аллея,
что превращалась то в лес, то в море.
И еще — как щеки ее алели,
когда счастье переходило в горе.
И еще какие-то люди были.
Отражались звезды в глазах их влажных.
Но не помню — добрые они или
злые. Впрочем, совсем не важно.
Снегопад в старой оконной раме.
И кружатся белые хлопья, словно,
В пальто укутавшись, на диване
я курю. И уплываю снова
в сладкий сон, что овладел землею.
Чтоб еще раз их повидать при жизни.
Человек, как медведь, должен спать зимою,
колыбельную спойте ему, пружины.
1994, август
На бледно-голубой эмали
Березы ветви поднимали
и незаметно вечерели.
Я ныне и не помню, как Вас звали.
И были ль Вы со мною в самом деле?
Увы, я вспоминаю только рощу,
хрустящий снег и прочие детали.
317
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Где как-то странно с приближеньем ночи
отчетливее тени наши стали.
И нынче, верно, там они чернеют,
отпугивая всяческую живность.
Все так же — снег не тает, вечереет.
Лежат они — печальные, большие.
Места есть на земле, где расстаются,
кто б ни забрел. Такие уж, поверьте,
места. Так вот они и остаются
в мозгах, сим подчеркнув свое бессмертье.
Там, я считаю, с Вами и гуляли.
Но я не помню, как глаза у Вас темнели
на бледно-голубой эмали,
какая мыслима в апреле.
1994, август
Колыбельная зимнего сада
Вот и зима, мой ангел, наступила —
порог наш черный снегом завалило.
И в рощу обнаженную ресниц
летят снежинки, покружив над нами,
и наших слез касаются крылами,
подобными крылам небесных птиц.
И сад наш пуст. И он стоит уныло.
Все то, что летом было сердцу мило, —
как будто бы резиночкой творец
неверный стих убрал с листа бумаги —
бог стер с земли. И простыни, как флаги,
вдали белеют — кончен бой, конец.
318
Из ранних и неопубликованных стихотворений
Мыв дом войдем с последнею надеждой,
что в нем еще жива любовь, как прежде,
но вновь увидим, за окном — зима.
Я думаю, что спать должны зимою,
как бурые медведи, мы с тобою —
чтоб дальше жить, чтоб не сойти с ума.
И потому, укрыв тебя овчиной,
шепчу: «Не принимай всерьез кончину.
Мы пережили тысячу смертей,
и мы еще увидимся при жизни».
О, спойте колыбельную, пружины,
нам. Усыпите нас до теплых дней.
1994
* * *
В сентябре, на простой тротуар —
где растут фонари как цветы —
лица нежные ветреных пар
вдруг осыпались, словно листы.
Это дождик прошел, черно-бел.
Наклониться над лужей любой —
ты увидишь их, бледных, как мел,
ты махнешь им холодной рукой.
«О, прощайте, — шепнешь, — навсегда,
молодые ль вы, старые ль вы,
пусть растут города, города —
все же лица прекрасней листвы...»
В этих лицах есть горечь и лед.
319
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
В этих лицах есть боль и покой.
«Пусть гербарий из вас соберет
утром траурным школьник седой...»
1994, сентябрь
Листья желтые
Листья желтые, как медные монеты,
осыпаются в ладонь твою. Ах, лето,
осень и надежней и щедрее
в этом плане. На пустой аллее
человек стоит с протянутой рукою.
Тёмен словно тень, что за спиною.
Горький ветер и холодный вечер,
ставший буквой черной. Тихой речью,
обретающей на белом отраженье
с продолженьем:
«Друг мой, преисполненный печали,
подбери и те, пожав плечами,
что упали в слякоть. И туманом
скрытый, разложи их по карманам.
За бессилье и потери и разлуки
осень осыпает твои руки —
что, быть может, не знавали самый лютый —
самою устойчивой валютой,
самой милой — лишь бы только расплатиться
листьями, мой друг. Прими хоть листья».
1994, август
320
Из ранних и неопубликованных стихотворений
Глупая проза
Мне помнится, что я тогда одел
все лучшее, что было в гардеробе.
Верней — что было. И, предполагая
вернуться поздно, взял чуть больше денег,
чтобы домой добраться на такси.
Пять лет подряд мне снилась только ты —
пять лет назад впервые я увидел
тебя, средь комсомольской толчеи.
И — человек, которому не место
в советской школе — к явным недостаткам
своим в тот день еще один прибавил,
заранье окрестив его — любовь.
Потом прошло три года. Мне тебя
достаточно лишь в школе было видеть —
на переменах и издалека —
все эти годы. Но настало лето,
и мне сказали, что в десятый класс
идти я не достоин. Не достоин.
Мол, класс литературный, а — увы! —
я Гоголя превратно понимаю.
Наивные! Могли ль они понять:
до фени — Гоголь, институт — до фени,
и я учиться должен, потому
что крохотный любимый человечек
на крыльях своей юности летает,
как ангелок, по ихним коридорам.
И, ради счастья любоваться им,
терпеть их лица мне необходимо.
11 Оправдание жизни
321
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Прости, Господь, всё, что тобой творимо —
прекрасно, но сомнение грызет,
что многое творимо не тобою.
Прошло еще два года. И настал
тот день, когда я должен был признаться.
И я признался. Правою рукой
держась за стену. А она уныло —
без скрипа поднималась вверх стена.
Тут «пасть к ногам» — увы — звучит буквально.
Ты, вероятно, думала — я псих,
а психам, понимала ты, перечить —
себе дороже. Ты сказала: в три.
И остановку, где. И растворилась.
Я сам очнулся, сам побрел домой.
Тут автор, избегая повторенья,
читателя взыскательного просит
припомнить первых пять стихов. Прости,
но в жизни не бывает повторений.
Я в три пришел в назначенное место.
И ровно в три пространство растворилось
и мое тело. Оставалось лишь
простое сердце, что в ладони билось,
как на ладони рыбака добыча.
Очнувшись в шесть, тебя я не увидел —
ты не пришла. Тогда ты не пришла.
В прокуренном и темном кабаке
мне говорил пятидесятилетний
и потный муж: «Все бабы — бляди, суки».
322
Из ранних и неопубликованных стихотворений
Кричал: «Еще мне с другом по сто грамм.
Да-да, и бутерброды с колбасою».
Как я жалел тогда, что я — не он,
сейчас бы ущипнул официантку,
сказал бы: «Ню-ю...» И долгая слюна
текла б с губы, как продолженье фразы.
Домой я шел пешком. И бормотал.
Все бормотал я. Бормотал все, даже
когда уже пинали. Били молча.
«Ах, подожди, поговори со мною —
что знаешь ты о жизни, расскажи.
Я все тебе, дружок, отдам за это.
Бери штаны, бери рубаху, куртку.
И даже можешь бить потом, коль так
положено у вас — свиней — на свете».
Прошло еще два года. Что теперь
ты скажешь мне, мой ангел, мой любимый?
Винить себя? Какая чепуха!
Я думаю, нет в мире виноватых —
здесь как в игре, как в «тыщу». Знаешь ли,
в ней равные количества очков
у разных Игроков — нулям подобны.
Да, и потом, могли ль они меня
убить тогда? Навряд ли, дорогая.
Для этого тебя убить им надо.
И уж потом... Тогда я сам умру.
1994, ноябрь
и*
323
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
* * *
Мой друг, так умирают мотыльки —
на землю осыпаются, легки,
как будто снегопад в конце июля.
За горсточкою белой наклонись,
ладонь сожми, чтоб ветерком не сдуло
обратно наземь, а, отнюдь, не ввысь.
Что держишь ты, живет не больше дня,
вернее — ночи, и тепло огня
всегда воспринимает так буквально.
Ты разжимаешь теплую ладонь
и говоришь с улыбкою прощальной:
«Кто был из вас в кого из вас влюблен».
И их уносит ветер, ветер прочь
уносит их, и остается ночь
в руке твоей, протянутой навстречу
небытию. И я сжимаюсь весь —
что я скажу тебе и что отвечу
и чем закончу этот стих — бог весть.
Что кажется, что так и мы умрем,
единственная разница лишь в том,
что человек над нами не склонится
и, не полив слезами, как дождем,
не удостоит праздным любопытством —
кто был из нас в кого из нас влюблен.
1994, октябрь
324
Из ранних и неопубликованных стихотворений
Бледный всадник
Над Невою огонь горит —
бьет копытами и храпит.
О, прощай, сероглазый рай.
Каменный град, прощай!
Мил ты мне, до безумья мил —
вряд ли ты бы мне жизнь скостил,
но на фоне камней она
так не слишком длинна.
Да и статуи — страшный грех —
мне милее людей — от тех,
с головой окунувшись в ложь,
уж ничего не ждешь.
И, чего там греха таить,
мне милей по камням ходить —
а земля мне внушает страх,
ибо земля есть прах.
Так прощай навсегда, прощай!
Ждать и помнить не обещай.
Да чего я твержу — дурак —
кто я тебе? Я так.
Пусть деревья страшит огонь.
Для камней он — что рыжий конь.
Вскакивает на коня и мчит
бледный всадник. В ночи.
1994, октябрь
325
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Новогодняя ночь
Новый год. На небе звезды
как хрусталь. Чисты, морозны.
Снег душист как мандарин
золотой. А тот — с луною
схож. Пойдешь гулять со мною?
Если нет, то я один.
Разве могут нас морозы
напугать? Глотают слезы
вдоль дороги фонари,
словно дети, с жизнью в ссоре.
Ах, не видишь? что за горе —
ты прищурившись смотри.
Только ночью Новогодней,
друг мой, дышится свободней,
ты согласна? Просто так
мы пойдем вдоль улиц снежных,
бесконечно длинных, нежных.
И придем в старинный парк.
Там как в сказке: водят звери
хоровод — по крайней мере
мне так кажется — вокруг
елки. Белочки-игрушки
на ветвях. Пойдем, подружка.
Улыбнись, мой милый друг.
1994, январь
326
Из ранних и неопубликованных стихотворений
Вальс с синими слонами
Сотня синих слонов, сотня синих слонов.
О, как величаво уходите вы.
Диким табором. Молча. Без слов.
По пустыне больной головы.
Словно смысл вы несете большой.
Словно жизнь заключается в вас —
только в синих слонах. Если там водопой,
так напейтесь сполна и тотчас,
дорогие мои, возвращайтесь ко мне.
Ну, допустим, я вас посчитать позабыл.
Прежде чем позабудусь во сне,
принесите воды
в долгих хоботах. О, не сочтите за труд.
И устройте фонтан. Хоть на час. Хоть на миг.
Чтоб, когда образуется пруд,
вышло солнце, послышался крик
детворы. Сей к фонтанам положен пейзаж —
утомленное солнце и шепот листвы.
Но колышатся уши у вас,
словно флаги. Уходите вы.
1994, июнь
Трубач на площади
Трубач, как слон в последний день свой, стоит
на площади пустой —
О, как унылы эти пейсы, как он целуется с трубой!
Я встретил вас — и все былое
В отжившем сердце ожило;
327
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Я вспомнил время золотое —
И сердцу стало так тепло...
Но мне , трубач, какое дело до оптимиста одного —
То Тютчеву судьба радела, а я не встречу никого.
И мне печальны эти звуки,
Мой нежный, милый, дорогой —
Я вспоминаю час разлуки
Давным-давно забытый мной.
Все кончено, и ангел медный мне заново не подмигнет,
И потому я нынче бледный на десять тысяч лет вперед.
Но все ж играй, танцуй с трубою,
пусть мы с тобой не верим в Рай.
Пусть вот как грустно нам с тобою,
Но все ж играй, играй, играй.
Пусть не появится надежда — я простою здесь битый час,
Чтоб музыка Невою прежней в холодном сердце
разлилась.
1994, ноябрь
Черные скалы
Черные скалы над черной рекою,
как вы красивы. Как печальны!
О, не убейте меня покоем.
Особенно — в момент прощанья.
Я — заурядный усталый путник.
Всех потерял. Иных — покинул.
Я с вами пробыл лишь пару суток,
но буду помнить до могилы.
Я только затем и сошел с дороги,
чтоб вы хранили меня ночами.
328
Из ранних и неопубликованных стихотворений
С вами молчали боги
и звезды — молчали.
Так познакомьтесь с одним человеком,
что тихо молвит пред грозным ликом:
«Вы меня не помяните даже эхом,
ибо некому меня окликнуть, в мире...»
Но за ночлег — спасибо.
Прощайте, вы тоже устали.
Прощайте еще раз, огромные глыбы.
Над черной рекою черные скалы.
1994, август
Было в Петербурге
Лишь по задумчивой Неве
Струится лунное сиянье
Ф. И. Тютчев
Это было в Петербурге над вечернею Невою —
я шептал клочок поэмы, что написана не мною:
«Ты теперь один остался
Наблюдать, как жизнь проходит».
Месяц на волнах качался,
словно белый пароходик.
Он как будто бросил якорь у гранитного причала,
он как будто ждал кого-то, полный трепетной печали.
Рядом встали иностранцы,
песни пьяные запели.
Я ушел. Остался в сердце
пароходик ранкой белой.
Я уехал к черту в гости, только память и осталась.
Боже милый, что мне нацо? Боже мой, такую малость —
329
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
так тихонечко скажи мне
страшной ночью два-три слова,
что в последний вечер жизни
я туда приеду снова.
Что, увидев пароходик, помашу ему рукою,
и гудок застынет долгий над осеннею Невою.
Вспомню жизнь свою глухую —
хороша, лишь счастья нету.
Камень хладный поцелую
и навеки в смерть уеду.
Ты придешь на берег утром — вздрогнешь
и проснешься сразу,
и увидишь, как уснули фонари-голубоглазы.
Все, что ласковым приснится —
сердцу мило бесконечно.
Ветер треплет их ресницы,
что седого пуха легче.
Ты укутаешься шарфом и, с камнями слившись тенью,
на камнях увидишь слезы. И поверишь на мгновенье,
что, стоящий над Невою,
ты стоишь над тихим небом.
Полный утра и покоя,
и кормящий уток хлебом.
1994, ноябрь
* * *
Скрипач — с руками белоснежными,
когда расселись птицы страшные
на проводах, сыграл нам нежную
музыку — только нас не спрашивал.
330
Из ранних и неопубликованных стихотворений
В каком-то сквере, в шляпе фетровой —
широкополой, с черной ниточкой.
Все что-то капало — от ветра ли —
с его ресницы, по привычке ли?
Пытались хлопать, но — туманные —
от сердца рук не оторвали мы.
Разбитые — мы стали — странные,
а листья в сквере стали алыми.
Ах, если б звуки нас не тронули,
мы б — скрипачу — бумажки сунули.
— Едино — ноты ли, вороны ли, —
он повторял, — когда вы умерли.
1995, апрель
* * *
Я никогда не напишу
о том, как я люблю Россию.
Роман Тягунов
Как некий — скажем — гойевский урод
красавице в любви признаться, рот
закрыв рукой, не может, только пот
лоб леденит, до дрожи рук и ног
я это чувство выразить не мог, —
ведь был тогда с тобою рядом Бог.
Теперь, припав к мертвеющей траве,
ладонь прижав к лохматой голове,
о страшном нашем думаю родстве.
331
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
И говорю: люблю тебя, да-да,
до самых слез, и нет уже стыда,
что некрасив, ведь ты идешь туда,
где боль и мрак, где илистое дно,
где взор с осадком, словно то вино...
Иль я иду, а впрочем — все одно.
1995, март
Этюдики
1.
...вот мраморный бог Аполлон
в нагом окружении муз.
Художник — невзрачный как сон —
Вступая в тяжелый союз
С тоскою, укрыл от дождя
Альбом. И стоит на ветру.
Он прав, не включая меня
В набросок, я скоро умру.
Вот лебедь на черном пруду
Красив, как близнец под водой.
В холодном осеннем саду
Мы не повстречались с тобой.
2.
...есть горечь осенних невстреч —
не сказанных влажных «прости».
Как в стих эту тяжесть облечь,
Что вечно под сердцем нести?
332
Из ранних и неопубликованных стихотворений
В начале сулящие мрак,
Невстречи страшнее разлук.
Дождь льется со щек моих так,
Что можно напиться из рук.
Но я предпочту алкоголь —
Знакомый с печалью моей,
Снимает он острую боль
И шепчет Эвтерпы нежней.
3.
О чем молчат седые камни —
о боли нашей, может быть?
Дружок, их тяжесть так близка мне,
зачем я должен говорить,
а не молчать? Остынут губы,
потрескаются навсегда.
Каналы, грязь, заводы, трубы,
леса, пустыни, города —
не до стиха и не до прозы,
словарь земной до боли мал.
Я утром ранним с камня слезы
ладонью хладной вытирал.
1995, июль
Иванов
...ах, Ивановские строки.
Будто мы идем по саду —
ты стоишь на солнцепеке,
я, подруга, в тень присяду.
333
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
...это краски, эти розы —
лучше нету, дорогая.
Но скажи, откуда слезы
и откуда боль такая?
Полон света и покоя
сад весенний, что случилось?
Почему я плачу? Что я?
Милый друг, скажи на милость.
...Это бабочка ночная —
словно бритвой — неумело
с алой розы улетая,
сердце крылышком задела.
1995, август
* * *
Штукатурка отпала
и обрушился свод
Белый ангел войдет
сложит крылья устало.
Так угрюм, так печален
довоенный ампир —
милый друг этот мир
слишком монументален.
...Шелестели б, дышали,
как минуты и дни.
В старом парке одни
мы с тобою гуляли.
334
Из ранних и неопубликованных стихотворений
...И дрожали ресницы
словно веточки ив.
И хрустальный мотив
мог упасть и разбиться.
«Чуть печальней, чем прежде
дождик слезы прольет —
в эту арку войдет
ангел в лунной одежде».
1995, сентябрь
Осень в провинции
И.
«Целая жизнь нам дана пред разлукой —
не забывай, что мы расстаемся».
«Мы не вернемся?» — вздрогнули руки,
руку сжимая. «Да, не вернемся —
вот потому и неохота быть грубым,
каменным, жестокосердым, упрямым».
Осень в провинции. Черные трубы.
Что ж она смотрит так гордо и прямо?
Душу терзает колючим укором —
хочет, чтоб в счастье с ней поиграли.
«Счастье? Возможно ли перед уходом?»
Только улыбка от светлой печали.
Только улыбка — обиженный лучик
света, с закушенной горько губою.
«А и вернемся? Будет не лучше».
«Кем я хотел бы вернуться? Тобою».
1995, октябрь
335
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
* * *
А потом приходила она —
танцевала на мертвой листве.
И поил ее — о, до пьяна —
нищий дождь. И мерещилось мне,
что, танцуя, поет она. Но
слов не мог разобрать. Закусив
губы, тупо смотрел за окно,
чтоб однажды на этот мотив
положить нашу грубую речь.
Ах, друзья, если б знал те слова...
Дождь смывал ее волосы с плеч
ее хрупких. Шумела листва.
1995, ноябрь
Девочки-монашки
в городском саду
Девочки-монашки
в городском саду.
Все они милашки
на мою беду.
За стеною белой
виден белый храм.
Богу нету дела,
что творится там.
Что же ты, остатки
разливай, дружок.
Я за вас, касатки,
пью на посошок.
336
Из ранних и неопубликованных стихотворений
Не любви Господней,
право же, желать.
Вот что мне сегодня
хочется сказать.
Вы не одиноки,
ибо с вами Бог.
Это так жестоко —
как я одинок.
Днем я пью, а ночью
я пишу стихи.
Это, между прочим,
все мои грехи.
Вот бы кто с любовью,
чтоб меня спасти,
тихо к изголовью
— Господи, прости! —
просто сел, родные,
что-то нашептал.
Чтоб совсем иные
я стихи писал.
1995, ноябрь
* * *
...Звезд на небе хоровод —
это праздник, Новый год.
За столом с тобой болтая,
засидимся до утра.
Ну, снимайся, золотая
с мандарина кожура.
337
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Так, пузатая бутыль,
открывайся — мир мне мил —
заливай хрусталь бокала.
Ты, бесстыдница-свеча,
загорайся в полнакала —
оттени мою печаль.
Вот и сочинил стишок —
так, безделку, восемь строк.
Пьян, ты скажешь? Ну и что же?
Выпить я всегда не прочь.
Только вот, на что похожа,
дай-ка вспомню, эта ночь.
Снег кружится за окном,
за окошком синий гном
ловит белую снежинку,
рот кривит да морщит лоб.
Да, на детскую картинку,
на открытку за 3 коп.
1995
* * *
Ночь, скамеечка и вино,
дребезжащий фонарь-кретин.
Расставаться хотели, но
так и шли вдоль сырых витрин.
И сентябрьских ценитель драм,
соглядатай чужих измен
сквозь стекло улыбался нам
нежно — английский манекен.
338
Из ранних и неопубликованных стихотворений
Вот и все, это добрый знак
или злой — все одно, дружок.
Кто еще улыбнется так
двум преступно влюбленным — Бог
или дьявол? — осенним двум,
под дождем, в городке пустом.
Ты запомни его костюм —
я хочу умереть в таком.
1995, август
Художник и розы
Л. Луговых
Так прозрачен намек: здесь цветы превратились
в слонов —
эти розы на этом холсте обернулись слонами.
Это детский букет незатейливых ласковых снов.
Это — в вазе, в петлице, на сердце, в бутылке, в стакане.
Это — в Грузию ехать, такие и там не собрать.
Это — ветер июля, ресницы колышащий плавно.
Это то, милый друг, что — о как бы точнее сказать —
так в слезе искажается мир, а цветок — и подавно.
1995, сентябрь
* * *
Я так хочу прекрасное создать,
печальное, за это жизнь свою
готов потом хоть дьяволу отдать.
Хоть дьявола я вовсе не люблю.
339
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Поверь, читатель, не сочти за ложь —
что проку мне потом в моей душе?
Что жизнь моя, дружок? — цена ей грош,
а я хочу остаться в барыше.
1995
Осень в парке
Я не понимаю, что это такое...
Я. С.
Ангелы шмонались по пустым аллеям
парка. Мы топтались тупо у пруда.
Молоды мы были. А теперь стареем.
И подумать только, это навсегда.
Был бы я умнее, что ли, выше ростом,
умудренней горьким опытом, мудак,
я сказал бы что-то вроде: «Постум, Постум...»,
как сказал однажды Квинт Гораций Флакк1.
Но совсем не страшно. Только очень грустно.
Друг мой, дай мне руку. Загляни в глаза,
ты увидишь, в мире холодно и пусто.
Мы умрем с тобою через три часа.
В парке, где мы бродим. Умирают розы.
Жалко, что бессмертья не раскрыт секрет.
И дождинки капают, как чужие слезы.
Я из роз увядших соберу букет...
1996
1 Гораций Флакк Квинт (65 до н. э.— 8 до н. э.) — римский поэт.
340
Из ранних и неопубликованных стихотворений
Черная речка
Так густо падает, так плавно — белый снег
у Черной речки, черной розы.
И на ресницах он. И тает он у век.
И эти капельки — как слезы.
Дай руку, руку мне, любимая, скорей.
Не говори со мной. Послушай,
как будто ржание...
Да, ржанье лошадей.
И выстрел, спичкою потухший.
Тебе не кажется —
пройдем еще чуть-чуть,
и нам откроется все это:
кареты, лошади, дымящаяся грудь
на снег упавшего поэта?
Любовь. Предательство. Россия и тоска.
Как можно жить, не погибая?
Ты в даль безлюдную,
ты смотришь в даль, пока
я говорю тебе, родная:
«Пойдем на лед — туда,
скорей туда, на лед —
сквозь время стылое — быть может,
ответит доктор нам, что гений не умрет
и в нас души не уничтожит...»
1996
341
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Вот и кончилось лето — как тихо оно шелестело
на прощанье листвой. Потому и стою оробело
в голом сквере моем, на засыпанной снегом дорожке,
по колено в любви и тоске. Подожди хоть немножко,
хоть немного, прошу. Я еще не успел оглядеться
и прижаться щекой. Потому и хватаюсь за сердце,
что не видел цветов твоих синих, и желтых, и алых —
не срывал их в бою комарином, в руках не держал их.
Думал все, что успею еще, добегу и успею.
На последней пустой электричке доеду, успею.
Оказалось, что я опоздал. Оказалось иначе.
Потому и за сердце держусь я. И видимо, плача:
«Все могло быть иначе, неделю назад оглянись я —
и цветы и, не знаю, такие зеленые, листья».
1996
В улицах, парках
В улицах, парках,
в трамвайных вагонах —
всюду встречаю
я мертвых знакомых.
Мертвых знакомых,
забытых давно —
в скверах, в кафе,
в ресторанах, в кино.
Мертвых знакомых
печальные лица.
Что же ты делаешь,
память-убийца:
342
Из ранних и неопубликованных стихотворений
«Как вы живете?»
«И я — ничего...»
Я и не помню,
как звали его.
Что ты напомнил
мне, мартовский вечер?
...Если ее я
когда-нибудь встречу,
будет мне грустно,
уже не любя,
рядом с тобою
увидеть себя.
1996, март
Яблоня
...Еще зимой я думал, ты жива...
И осмысляя смерть твою, весною
любуюсь, как другие дерева
нежнейшей горьковатою листвою
покрылись. Скоро белые цветы
появятся и удивят прохожих.
И странно мне, и скучно мне, что ты
одна меня в мою весну тревожишь.
...Зимой еще я приходил сюда...
Не замечая маленькой утраты,
я полагал, сей сон не навсегда,
придет весна, а с нею день, когда ты
опередишь в цветении сестер.
343
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Они проснулись и тебя забыли.
Ты умерла, и жив один укор,
пока тебя безумцы не спилили.
...Еще зимой я ничего не знал...
Я помню осень, как ты не хотела
ронять листву. Я это упускал
из виду, не склонялся неумело
перед тобой. Как ровен был мой шаг.
Что мне мешало вдруг остановиться?
Когда бы я в ту осень ведал, как
должна та осень в сердце преломиться.
Все спят давно, я так боюсь уснуть.
Без всяких дел слоняюсь по квартире.
И сам себе я говорю: побудь,
побудь еще немного в этом мире.
Уходом горьким не тревожь сердца,
пускай уход твой будет не замечен
хотя бы до счастливого конца
простой зимы, чей холод нет, не вечен.
1996, апрель
Детское стихотворенье
Крошка-елочка. Огни
разноцветные. Хлопушки.
Залпом выпалят они —
и на остренькой макушке
нашей елочки звезда
загорится навсегда.
344
Из ранних и неопубликованных стихотворений
А под елочкой, гляди,
как уютно. Теплой ватой
ствол укутан. Конфетти.
Там. По-детски виновато
я под елочку смотрю
и с тобою говорю.
Хочешь, стану вот таким,
вот такусеньким. С иголку
ростом. Крохотным смешным,
беззащитным. И под елку
жить уйду. Устроюсь там
с тихой сказкой пополам,
...Крошку хлеба принесешь
и нальешь наперсток водки.
Не простишь и не поймешь.
Погляжу тепло и кротко
На тебя. Ну что. Что я мог,
право, ростом с ноготок.
1 января 1996
* * *
Еще мои руки не связаны.
Л. Т.
Еще широки мои плечи —
под тяжкою ношей не плачу.
Алмазы дарованной речи
на смех и на злобу не трачу.
Не девки ночами мне пляшут,
но сны повисают на веждах:
345
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Мне ручкою с кладбища машет
ребеночек в лунной одежде.
И долго я вижу спросонок:
открылась бесшумная дверца,
вбегает ко мне ангеленок,
касается ручками сердца.
И шепчет с таинственной лаской,
тихонько присев на постели:
«Когда ты придумаешь сказку,
чтоб братья мои подобрели?»
1996, январь
Нежная сказка для Ирины
1.
...мы с тобою пойдем туда,
где над лесом горит звезда.
...мы построим уютный дом,
будет сказочно в доме том.
Да оставим открытой дверь,
чтоб заглядывал всякий зверь
есть наш хлеб. И лакая квас,
говорил: «Хорошо у вас».
2.
...мы с тобою пойдем-пойдем,
только сердце с собой возьмем.
346
Из ранних и неопубликованных стихотворений
...мы возьмем только нашу речь,
чтобы слово «люблю» беречь.
Что ж еще нам с собою взять?
Надо валенки поискать —
как бы их не поела моль.
Что оставим? Печаль и боль.
3.
Будет крохотным домик, да,
чтоб вместилась любовь туда.
Чтоб смогли мы его вдвоем
человечьим согреть теплом.
А в окошечко сотню лет
будет литься небесный свет —
освещать мои книги и
голубые глаза твои.
4.
Всякий день, ровно в три часа,
молока принесет коза.
Да, в невинной крови промок,
волк ягненочка на порог
принесет — одинок я, стар —
и оставит его нам в дар,
347
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
в знак того, что он любит нас, —
ровно в два или, скажем, в час.
5.
...а когда мы с тобой умрем,
старый волк забредет в наш дом —
хлынут слезы из синих глаз,
снимет шкуру, укроет нас.
Будет нас на руках носить
да по-волчьему петь-бубнить:
«Бу-бу-бу. Бу-бу-бу. Бу-бу...», —
в кровь клыком раскусив губу.
1996, январь
* * *
Как рыдают под серым дождем,
как рыдают мои аониды.
Бесконечные эти обиды:
никогда, никому, ни о чем.
Я боюсь каждой осенью, что
навсегда замолчу и заплачу.
Слезы вытру, лицо свое спрячу,
с головой завернувшись в пальто.
Я боюсь «никому, никогда»,
ибо знаю, что сердце из камня.
348
Из ранних и неопубликованных стихотворений
Превратиться боюсь в изваянье
и любимых забыть навсегда.
Позабыть эту горечь и стыд
за стихи, отвернуться от прозы.
...Дождь смывает последние слезы
с рук моих и с ресниц аонид.
1996
* * *
...Кто нас посмеет обвинить
в печали нашей, дорогая?
Ну что ж, что выпало прожить,
войны и голода не зная?
А разве нужен только мрак,
чтоб сделать горькою улыбку?
Ведь скрипка плачет просто так,
а мы с тобой жалеем скрипку.
1996
Две минуты до Нового года
...Мальчик ждет возле елочки чуда —
две минуты до полночи целых.
Уберите ж конфеты и блюдо
желтых сладких и розовых спелых.
Не солдатиков в яркой окраске,
не машинку, не ключик к машинке
мальчик ждет возле елочки сказки.
Две минутки растают как льдинки.
349
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Погляжу за окошко невольно —
мне б во мрак ускользнуть и остаться.
Мне сегодня за мальчика больно,
я готов вместе с ним разрыдаться.
Но не стану, воспитанный строго,
я ведь тоже виновен немножко —
вместо чуда, в отсутствии Бога,
рад вложить безделушку в ладошку.
1996
Вот черное
Мне город этот до безумья мил —
я в нем себя простил и полюбил
тебя. Всю ночь гуляли, а под утро
настал туман. Я так хотел обнять
тебя, но словно рук не мог поднять.
И право же, их не было как будто.
Как будто эти улицы, мосты
вдруг растворились. Город, я, и ты
перемешались, стали паром, паром.
Вот вместо слов взлетают облака
из уст моих. И речь моя легка,
наполнена то счастьем, то кошмаром.
...Вот розовое — я тебя хочу,
вот голубое — видишь, я лечу.
Вот синее — летим со мною вместе
скорей, туда, где нету никого.
Ну, разве кроме счастья самого,
рассчитанного, скажем, лет на двести.
350
Из ранних и неопубликованных стихотворений
...Вот розовое — я тебя люблю,
вот голубое — я тебя молю,
люби меня, пусть это мука, мука...
Вот черное и черное опять —
нет, я не знаю, что хотел сказать.
Но все ж не оставляй меня, подруга.
1996, май
С любовью
...Над северной Летой
стоят рыбаки...
прощай, мое лето,
друзья и враги.
На черном причале —
как те господа —
я, полон печали,
гляжу в никуда.
Прощайте, обиды
и счастье всерьез.
До царства Аида.
До высохших слез.
До желтого моря.
До синего дна.
До краха. До горя.
По небу луна,
как теннисный шарик,
летит в облака.
Унылый кораблик
отчалил... Пока.
1996
351
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Новая Голландия
По чернильной глади я
проведу ладошкой.
Новая Голландия,
как тебя немножко.
Ну к гребёной матери
прозябать в отчизне —
я на белом катере
уплыву по жизни.
Ветер как от веера —
чем дыханье, тише.
«Уличка» Вермеера —
облака и крыши —
в золоченой раме.
Краха что-то вроде, не
умереть на Родине,
в милом Амстердаме.
1996
Грустная песня
Пройди по улице пустой —
морозной, ветреной, ночной.
Закрыты бары, магазины...
Как эти дамы, господа
прекрасны. Яркие витрины.
Не бойся, загляни туда.
352
Из ранних и неопубликованных стихотворений
Не ад ли это? Высший свет
телесных1? Да. А впрочем, нет.
Она, как ангел, человечна.
Ладони повернула так,
как будто плачет, плачет вечно.
И смотрит милая во мрак.
О, этот темно-синий взор —
какая боль, какой укор.
И гордость, друг мой, и смиренье.
Поджаты тонкие уста.
Она — сплошное сожаленье.
Она — сплошная доброта.
...Прижмись небритою щекой
к стеклу холодному. Какой
морозный ветер. Переливы
созвездий чудных на снегу.
И повторяй неторопливо:
«Я тоже больше не могу...»
1996, январь
* * *
Носик гоголевский твой,
Жанна, ручки, Жанна, ножки...
В нашем скверике листвой
все засыпаны дорожки —
я брожу по ним один,
ведь тебя со мною нету.
1 Вариант, сохранившийся в архиве Б. Рыжего: чудовищ. Иным было
и заглавие — «Ночной прохожий».
12 Оправдание жизни
353
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Так дотянем до седин,
Жанна, Жанночка, Жанетта —
говорю почти как Пруст,
только не пишу романы,
потому что мир мой пуст
без тебя, мой ангел Жанна.
Тяжела моя печаль,
ты ж прелестна и желанна...
Жанна, Жанна, как мне жаль,
как не больно, Жанна, Жанна.
1996
* * *
— Расскажи мне сказку, птица,
о невиданных краях.
В южносахарных морях
искупай мои ресницы.
Благо, ты вернулась с юга —
не с Господнего ль стола
ты на крыльях принесла
пыль бесценную, подруга?
— Я на юг не улетала,
потому что не могла.
Белоснежные крыла
потому что поломала.
Под твоим кривым порогом
с бедным богом, птичьим богом
умирала я зимой.
Мертвой куталась листвой.
1996, март
354
Из ранних и неопубликованных стихотворений
* * *
Под огромной звездою
сердце — под Рождество —
с каждой тварью земною
ощущает родство.
С этим официантом,
что спешит показать
перстенек с бриллиантом,
не спеша подливать.
С этой дамой у стойки,
от которой готов
унаследовать стойкий
горький привкус духов.
И блуждая по скверам
с пузырем коньяка,
с этим милицанером
из чужого стиха.
1996
* * *
С десяток проглядев, наверное,
снов, вновь и вновь перенеся
такое мрачное и скверное, —
но лучше, видимо, нельзя.
Одна улыбочка беспечная,
с ней и дотянем до седин.
12*
355
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Ты жив, мой мальчик? Ну конечно, я
живу, как Бог, совсем один.
Живу, разламываю целое.
Глаза открою поутру
зимой — зима такая белая,
в такую зиму я умру.
1996
* * *
Перед вами торт «Букет*
Словно солнца закат — розовый
...Прекрасен как сок березовый
Надпись на торте
Вот и мучаюсь в догадках,
отломив себе кусок, —
кто Вы, кто Вы, автор сладких,
безупречных нежных строк?
Впрочем, что я, что такого —
в мире холод и война.
Ах, далек я от Крылова,
и мораль мне не нужна.
Я бездарно, торопливо
объясняю в двух словах —
мы погибнем не от взрыва
и осколков в животах.
В этот век дремучий, страшный —
открывать ли Вам секрет? —
мы умрем от строчки Вашей:
«Перед вами торт “Букет”...»
1996
356
Из ранних и неопубликованных стихотворений
Новое стихотворение
Евгения Рейна
...Я еще приеду
в этот тесный город,
поглядеться в Лету
и увидеть — молод.
Повстречаю друга —
лучшего поэта,
поцелую руку
в золоте браслета.
И алмаза грани
заблестят навеки
в холоде, тумане.
Поднимая веки,
я увижу небо
розового цвета.
Было бы нелепо
описать все это.
Белоснежный катер
мокнет на причале
в черносливе water
белыми ночами.
1996
357
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
* * *
Нет, главное, пожалуй, не воспеть,
но главное, ни словом не обидеть —
и ласточку над городом увидеть,
и бабочку в руках своих согреть.
О, сколько лет я жил — не замечал
ни веточек, ни листьев, ни травинок.
Я, сам с собой вступивший в поединок,
сам пред собою был и слаб и мал.
И на исходе сумрачного дня
я говорю вам, реки, травы, птицы:
я в мир пришел, чтоб навсегда проститься.
И мнится, вы прощаете меня.
1996, май
* * *
Магом, наверное, не-человеком,
черным, весь в поисках страшной
поживы,
помню, сто раз обошел перед снегом
улицы эти пустые, чужие.
И, одурев от бесхозной любови,
скуки безумной, что связана с нею,
с нежностью дикой из капельки крови
взял да и вырастил девочку-фею.
...Как по утрам ты вставала с постельки,
в капельки света ресницы макая,
358
Из ранних и неопубликованных стихотворений
видела только минутные стрелки...
Сколько я жизни и смерти узнаю,
что мне ступили на сердце —
от ножек —
и каблучками стучат торопливо.
Самый поганый на свете художник
пусть нас напишет — всё будет красиво.
1996
* * *
Пока я спал, повсюду выпал снег —
он падал с неба, белый, синеватый,
и даже вышел грозный человек
с огромной самодельною лопатой
и разбудил меня. А снег меня
не разбудил, он очень тихо падал.
Проснулся я посередине дня,
и за стеной ребенок тихо плакал.
Давным-давно я вышел в снегопад
без шапки и пальто, до остановки
бежал бегом и был до смерти рад
подруге милой в заячьей обновке —
мы шли ко мне, повсюду снег лежал,
и двор был пуст, вдвоем на целом свете
мы были с ней, и я поцеловал
ее тогда, взволнованные дети,
мы озирались, я тайком, она
открыто. Где теперь мои печали,
мои тревоги? Стоя у окна,
я слышу плач и вижу снег. Едва ли
359
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
теперь бы побежал, не столь горяч.
(Снег синеват, что простыни от прачек.)
Скреби лопатой, человече, плачь,
мой мальчик или девочка, мой мальчик.
1997
* * *
Там вечером Есенина читали,
портвейн глушили, в домино играли.
А участковый милиционер
снимал фуражку и садился рядом
и пил вино, поскольку не был гадом.
Восьмидесятый год. СССР.
Тот скверик возле Мясокомбината
я помню, и напоминать не надо.
Мне через месяц в школу, а пока
мне нужен свет и воздух. Вечер. Лето.
«Купи себе марожнова». Монета
в руке моей, во взоре — облака.
«Спасиба». И пошел, не оглянулся.
Семнадцать лет прошло, и я вернулся —
ни света и ни воздуха. Зато
остался скверик. Где же вы, ребята,
теперь? На фоне Мясокомбината
я поднимаю воротник пальто.
И мыслю я: в году восьмидесятом
вы жили хорошо, ругались матом,
360
Из ранних и неопубликованных стихотворений
Есенина ценили и вино.
А умерев, вы превратились в тени.
В моей душе еще живет Есенин,
СССР, разруха, домино.
1997
* * *
Ну вот, я засыпаю наконец,
уткнувшись в бок отцу, еще отец
читает: «Выхожу... я на дорогу...».
Совсем один? Мне пять неполных лет.
Я просыпаюсь, папы рядом нет,
и тихо так и тлеет понемногу
в окне звезда, деревья за окном,
как стражники, мой охраняют дом.
И некого бояться мне, но все же
совсем один. Как бедный тот поэт.
Как мой отец. Мне пять неполных лет.
И все мы друг на друга так похожи.
1997
* * *
Темнеет в восемь — даже вечер
тут по-немецки педантичен.
И сердца стук бесчеловечен
предельно тверд, не мелодичен.
В подвальчик проливает месяц
холодный свет, а не прощальный.
361
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
И пиво пьет обрюзгший немец,
скорее скучный, чем печальный.
Он, пересчитывая сдачу,
находит лишнюю монету.
Он щеки надувает, пряча
в карман вчерашнюю газету.
В его башке полно событий,
его политика тревожит.
Выходит в улицу, облитый
луной, — не любит жить, но может.
В семнадцать лет страдает Вертер,
а в двадцать два умнеет, что ли.
И только ветер, ветер, ветер
заместо памяти и боли.
1997
Кино
Вдруг вспомнятся восьмидесятые
с толпою у кинотеатра
«Заря»1, ребята волосатые
и оттепель в начале марта.
В стране чугун изрядно плавится
и проектируются танки.
Житуха-жизнь, плывет и нравится,
приходят девочки на танцы.
1 Кинотеатр в центре так называемого соцгородка Уралмаш, рабочей
окраины Екатеринбурга-Свердловска.
362
Из ранних и неопубликованных стихотворений
Привозят джинсы из Америки
и продают за ползарплаты
определившиеся в скверике
интеллигентные ребята.
А на балконе комсомолочка
стоит немножечко помята,
она летала, как Дюймовочка,
всю ночь в объятьях депутата.
Но все равно, кино кончается,
и все кончается на свете:
толпа уходит, и валяется
Сын Человеческий в буфете.
1997
Русское зарубежье
...Из голубого океана
приплыл кораблик голубой,
из белоснежного тумана
я наблюдаю за тобой:
плывет Париж в сырой витрине.
А я уже шепчу тебе:
сегодня, ангел мой, — смотри не
умри на улице, в толпе.
1997
363
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
* * *
Красавица в осьмнадцать лет,
смотри, как тихо мы стареем:
все тише музыка и свет
давно не тот, и мы робеем,
но все ж идем в кромешный мрак.
Но, слышишь, музыка иная
уже звучит, негромко так,
едва-едва, моя родная.
Когда-нибудь, когда-нибудь,
когда не знаю, но наверно
окажется прекрасным путь,
казавшийся когда-то скверным.
В окно ворвутся облака,
прольется ливень синеокий.
И музыка издалека
сольется с музыкой далекой.
В сей музыкальный кавардак
войдут две маленькие тени —
от летней музыки на шаг,
на шаг от музыки осенней.
1997
* * *
Не в августе, а в сентябре
деревья сбрасывают листья,
покачиваясь на ветру.
364
Из ранних и неопубликованных стихотворений
Так безотраден и так пре
красен парк, что, оглянись я,
расплачусь сразу и умру.
Летит листва, я не забыл
любовный шепот, шелест платья
и падающий сапожок.
Угаснул юношеский пыл,
и неизвестно, в чьи объятья
теперь ты падаешь, дружок.
Одно известно, не в мои —
и я от мысли этой слезы
со щек стираю или нет.
Зажглись небесные огни —
так избегает жалкой прозы
в стихах посредственный поэт.
Не в сентябре, а в октябре
стоят одни под небесами
деревья в белом серебре,
покачиваясь на ветру.
Ужель тебя отдали сами
мои хладеющие ру?
1997
* * *
...Облака над домами,
облака, облака.
Припадаю губами
к вашей ручке: пока.
365
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Тихой логике мира
я ответить хочу
всем безумием Лира,
припадая к плечу.
Пять минут до разлуки
навсегда, навсегда.
Я люблю эти руки
плечи, волосы, да.
Но прощайте, прощайте,
сколько можно стоять.
Больше не обещайте
помнить, верить, рыдать.
Все вы знаете сами
на века, на века.
Над домами, домами
облака, облака.
1997
* * *
Старик над картою и я
над чертежом в осеннем свете —
вот грустный снимок бытия
двух тел в служебном кабинете.
Ему за восемьдесят лет.
Мне двадцать два, и стол мой ближе
к окну, и в целом мире нет
людей печальнее и ближе.
366
Из ранних и неопубликованных стихотворений
Когда уборщица зайдет,
мы оба поднимаем ноги
и две минуты напролет
сидим, печальные, как боги.
Он глуховат, коснусь руки:
— Окно открыть? — Вы правы, душно.
От смерти равно далеки
и к жизни равно равнодушны.
1997
* * *
Только — надо ж так случиться —
холод, пенье, яркий свет:
двадцать лет уж мне не спится,
сны не снятся двадцать лет.
Пела мама мне когда-то,
слышал я из темноты:
спят ребята и зверята
тихо-тихо, спи и ты.
Все слоняюсь по квартире
или сяду на кровать:
надо мне в огромном мире
жить, работать, умирать.
Быть примерным гражданином
и солдатом — иногда.
А в окне широком, длинном
тлеет узкая звезда.
367
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Освещает крыши, крыши
я гляжу на свет из тьмы.
Не так громко, сердце, тише —
тут хозяева не мы.
1997
* * *
...Три дня я ладошки твои целовал
и плакал от счастья и горя.
Три дня я «Столичной» хрусталь обливал
и клялся поехать на море.
И парила три дня за окошком сирень,
и гром грохотал за окошком.
Рассказами тень наводя на плетень,
я вновь возвращался к ладошкам.
Три дня пронеслись, ты расплакалась вдруг,
я выпил и опохмелился.
...И томик Григорьева выпал из рук,
с подушки Полонский свалился.
И не получилось у нас ничего,
как ты иногда предрекала.
И черное море три дня без меня,
как я, тяжело тосковало.
По черному морю носились суда,
и чайки над морем кричали:
«Сначала его разлюбила она,
он умер потом от печали...»
1997
368
Из ранних и неопубликованных стихотворений
* * *
Ты выявлен и рассекречен —
я не могу тебя любить,
твой лик вполне бесчеловечен —
я не смогу его забыть,
и этот хор, и эти свечи,
и разноцветное стекло —
все быть могло совсем иначе,
гораздо лучше быть могло.
1997
* * *
Есть в днях осенних как бы недомолвка,
намек печальный есть в осенних днях,
но у меня достаточно сноровки
сказать «пустяк», махнуть рукой — пустяк.
Шурует дождь, намокли тротуары,
последний лист кружится и летит.
Под эти тары-бары-растабары
седой бродяга на скамейке спит.
Еще не смерть, а упражненье в смерти,
да вот уже рифмует рифмоплет,
кто понаивней «черти», а «в конверте»
кто похитрей. Хочу наоборот.
Вот подступает смутное желанье
купить дешевой водочки такой,
да сочинить на вечное прощанье
о том, как жили-были, боже мой.
369
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Да под гитару со шпаной по парку
на три аккорда горя развести.
Пошли по парку, завернули в арку,
да под гитарку: «не грусти — прости».
1998
* * *
Лейся, песня, — теперь все равно —
сразу же после таянья снега
мы семь раз наблюдали кино
про пиратов двадцатого века.
Единение с веком, с людьми,
миром, городом, с местной шпаною —
уходи, но не хлопай дверьми,
или сядь и останься со мною.
После вспомнишь: невзрачный пейзаж,
здоровенный призрак экскаватора.
Фильм закончен. Без малого час
мы толпимся у кинотеатра.
Мы все вместе, поскольку гроза.
Только вспомню — сирень расцветает —
проступает такая слеза,
и душа — закипает.
Жили-были, ходили в кино,
наконец пионерами были.
Зазевались, да — эх! — на говно
белоснежной туфлей наступили.
1998
370
Из ранних и неопубликованных стихотворений
* * *
От скуки-суки, не со страху
подняться разом над собой
и, до пупа рванув рубаху,
пнуть дверь ногой.
Валяй, веди во чисто поле,
но там не сразу укокошь,
чтоб въехал, мучаясь от боли,
что смерть не ложь.
От страха чтобы задыхаться,
вполне от ужаса дрожать,
и — никого, с кем попрощаться,
кого обнять.
И умолять тебя о смерти,
и не кичиться, что герой.
Да обернется милосердьем
твой залп второй.
1998
* * *
Весенней заоконной речи
последний звук унесся прочь —
проснусь, когда наступит вечер
и канет в голубую ночь.
И голубым табачным дымом
сдувая пепел со стола,
371
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
сижу себе кретин кретином,
а жизнь была и не была.
Была, смеялась надо мною,
рыдала надо мною, но
лицо родное тишиною
из памяти удалено.
Но тихий треск, но тихий шорох,
крыла какого-нибудь взмах,
убьет чудовищ, о которых
скажу однажды в двух словах.
И на рассвете, на рассвете
уснув, сквозь сон услышу, как
за окнами смеются дети,
стучит за стенкою дурак.
Но, к тишине склоняясь ликом,
я заработал честный сон —
когда вращаются со скрипом
косые шестерни времен.
А вместо этого я вижу,
Душою ощущаю тех,
Кого смертельно ненавижу,
Кого коснуться — смертный грех.
1998
372
Из ранних и неопубликованных стихотворений
* * *
Вы, Нина, думаете, Вы
нужны мне, что Вы, я, увы,
люблю прелестницу Ирину,
а Вы, увы, не таковы.
Ты полагаешь, Гриня, ты —
мой друг единственный? Мечты...
Леонтьев, Дозморов и Лузин —
вот, Гриня, все мои кенты.
Леонтьев — гений и поэт,
и Дозморов, базару нет,
поэт, а Лузин — абсолютный
на РТИ авторитет.
1999
* * *
А что такое старость? Это
парк в середине сентября,
позавчерашняя газета
под тусклым светом фонаря.
Влюбленных слипшиеся пары,
огни под кронами дерев.
И тары-бары-растабары
шурует дождик нараспев.
Расправив зонтик кривобокий,
прохожий шлепает во тьму
и сочиняет эти строки,
не улыбаясь ничему.
1999
373
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
* * *
В феврале на Гран-канале
в ночь тринадцатого дня
на венцьанском карнавале
вы станцуете для меня.
Я в России, я в тревоге
за столом пишу слова:
не-устали-ль-ваши-ноги-
не-кружится-ль-голова?
Предвкушаю ваши слезы
в робких ямочках у рта:
вы в России, где морозы,
ночь, не видно ни черта.
Вы на Родине, в печали.
Это, деточка, фигня —
вы на этом карнавале
потанцуйте для меня.
1999
* * *
Герасима Петровича рука не дрогнула. Воспоминанье номер один: из лужи вытащил щенка —
он был живой, а дома помер. И все. И я его похоронил. И всё. Но для чего, не понимаю, зачем ребятам говорил, что скоро всех собакой покусаю,
что пес взрослеет, воет по ночам, а по утрам ругаются соседи?
374
Из ранних и неопубликованных стихотворений
Потом я долго жил на этом свете и огорчался
или огорчал, и стал большой.
До сей поры, однако, не постоянно, граждане,
а вдруг, сжав кулаки в карманах брюк, боюсь вопроса: где твоя собака?
1992, 1999
* * *
Первый снег, очень белый и липкий,
и откуда-то издалека:
наши лица, на лицах улыбки,
мы построили снеговика.
Может только, наверно, искусство
о таких безмятежностях врать,
там какое-то странное чувство
начинало веселью мешать.
Там какое-то странное чувство
улыбаться мешало, а вот:
чувство смерти, чтоб ей было пусто.
Хули лыбишься, старая ждет!
1999
* * *
Тонкой дымя папироской,
где-то без малого час
Яков Петрович Полонский
пишет стихи про Кавказ.
375
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Господи,только не сразу
финку мне всаживай в грудь.
Дай дотянуть до «Кавказу»1.
Дай сочинить что-нибудь.
Раз, и дурное забыто.
Два, и уже не стучат
в гулком ущелье копыта,
кони по небу летят.
Доброе — как на ладони.
Свет на висках седока.
Тонкие черные кони
в синие прут облака.
1999
* * *
Тушь, губная помада
на столе у окна,
что забыла когда-то,
исчезая, одна.
Ты забыла, забыла
на окне у стола,
ты меня разлюбила,
ты навеки ушла.
Стихотворный цикл Я. П. Полонского «Закавказье» (1846—1851).
376
Из ранних и неопубликованных стихотворений
Но с похмелья сознанье
я теряю когда,
в голубое сиянье
ты приходишь сюда.
И прохладна ладошка
у меня на губах,
и деревья к окошку
подступают в слезах.
И с тоскою во взоре
ты глядишь на меня,
шепчешь: «Боренька, Боря!»
И целуешь меня.
1999
Участковый
Участковый был добрым и пьяным,
сорока или более лет.
В управлении слыл он смутьяном —
не давали ему пистолет.
За дурные привычки, замашки
двор его поголовно любил.
Он ходил без ментовской фуражки,
в кедах на босу ногу ходил.
А еще бы похож на поэта,
то ли Пушкина, то ли кого.
Со шпаною сидел до рассвета.
Что еще я о нем, ничего
377
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
мне не вспомнить о нем, если честно.
А напрячься, и вспомнится вдруг
только тусклая возле подъезда
лампочка с мотыльками вокруг.
1999
* * *
Померкли очи голубые,
Погасли черные глаза —
Стареют школьницы былые,
Беседки, парки, небеса.
Исчезли фартучки, манжеты,
А с ними весь ажурный мир.
И той скамейки в парке нету,
Где было вырезано «Б. Р.».
Я сиживал на той скамейке,
Когда уроки пропускал.
Я для одной за три копейки
Любовь и солнце покупал.
Я говорил ей небылицы:
Умрем, и все начнется вновь.
И вновь на свете повторится
Скамейка, счастье и любовь.
Исчезло все, что было мило,
Что только-только началось, —
378
Из ранних и неопубликованных стихотворений
Любовь и солнце — мимо, мимо
Скамейки в парке пронеслось.
Осталась глупая досада —
И тихо злит меня опять
Не то, что говорить не надо,
А то, что нечего сказать.
Былая школьница, по плану —
У нас развод, да будет так.
Прости былому хулигану —
что там? — поэзию и мрак.
Я не настолько верю в слово,
Чтобы, как в юности, тогда,
Сказать, что все начнется снова.
Ведь не начнется никогда.
1999
* * *
Эвтерпа, поцелуй и позабудь,
где Мельпомена, музы жизни где,
Явись ко мне, и в эту ночь побудь
со мною, пусть слова твои, во мне
преобразившись, с новою тоской
прольются на какой-нибудь листок
бумаги. О, глаза на мир раскрой
тому, кто в нем и глух и одинок.
<1999>
379
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
* * *
За обедом, блядь, рассказал Косой,
что приснилась ему блядь с косой —
фиксы золотые
и глаза пустые.
Ломанулся Косой, а она стоит,
только ногтем грязным ему грозит:
поживи, мол, ладно —
типа: сука, падло.
Был я мальчик, было мне восемь лет,
ну от силы девять, и был я свят
и, вдыхая вешний,
мастерил скворешни.
А потом стал юношей, а потом —
дядей Борей в майке и с животом,
типа вас, Косого,
извини за слово.
И когда ложусь я в свою кровать,
вроде сплю, а сам не умею спать:
мучит чувство злое —
было ли былое?
Только слезы катятся из-под век —
человек я или не человек?
Обступают тени —
В прошлое ступени.
<2000- 2001>
380
ЛИРИКА . ПРОЗА . КРИТИКА . ИНТЕРВЬЮ . ПИСЬМА
ПРОЗА
КРИТИКА
ИНТЕРВЬЮ
ПИСЬМА
Проза
Над рекой
— Время застоялось. Зацвело. Запахло.
— Что же вы предлагаете?
— Выбрать в президенты Жириновского. Пусть все
рухнет к чертовой матери.
Я стоял над рекой и смотрел на уток, плавающих
вместе с пустыми бутылками. Боже мой, при чем же
здесь утки?
— Эй, утки, валите к себе на юг. У нас здесь осень.
Утки улетели. Остались бутылки. Я давно заметил — когда кто-нибудь уходит, обязательно остаются пустые бутылки. Порядочные люди их сдают,
а всякая шваль засоряет оными водоемы и лесные массивы.
Скучно, друзья. Низы привыкли, а верхи — научились. Американский ниндзя, разбив экран, ворвался в мою квартиру. Теперь он спит с моей женой.
На моем диване.
Вот и стою над рекой, и смотрю на бутылки.
383
Б О Р И С Р Ы Ж И Й / Оправдание жизни
— Чё, братан, недавно откинулся?
— А почему вы решили?
Мужчина бомжеватого вида гладит себя по голове, глядя на мою лысину. Я постепенно понимаю, в чем дело.
— Пошел на х...
Короткие волосы — признак рабства. Мужчина, вероятно, это знает. Он уходит. Рабы — самые страшные
люди мира сего.
Неужели я раб? Ведь просто подстригся, без причины особой. «Рабы, чтобы молчать...» Это Мандельштам. Но я не молчу, Осип Эмильевич. Я говорю, а меня
никто не слышит. Все здесь давно оглохли. Или в этом
и заключается парадокс? Неуслышанная речь равна
молчанию? Стоит подонку заткнуть уши, и все вокруг
становятся его рабами? Да, Осип Эмильевич?
А ведь еще три года назад я предпочитал вашим стихам стихи Пастернака. Потом вообще забыл имя последнего. Думаю, как же так — неужели, повзрослев, стал
настолько черствым? Дошло наконец — трещина произошла. Время треснуло. Так и откололось от меня мое
детство. Вот и противно назад взглянуть. Лучше смотреть на бутылки — как они крутятся в грязной водичке,
как блестят на уральском солнышке. Боже ж ты мой.
Вот писатель, а? Написал «на солнышке», а ведь вечер давно. Фонари зажглись. Булки фонарей... Нет-нет,
я не люблю Пастернака, я так больше не чувствую. Мне
не четырнадцать лет.
— Эй, нищий, дай мне денег на трехтомник Георгия Иванова — я на Родине чувствую то, что чувствовал
он в Париже.
384
Проза
Хотя, безусловно, лучше то чувствовать в Париже,
чем в Свердловске.
— Я не нищий, я богатый, — не говорит мне юноша, только что покинувший иностранный автомобиль.
— Сейчас вот — говорю я ему не говорю — заговорю ее в два счета — глядя на ножки его подруги — что
она от тебя слышала? Скажу, что великий писатель,
например. И всего делов. Кто уж чем богат, дорогой
мой, а ты сразу в лоб — я богатый. Дурак ты, а не богатый. Богатый.
Мой не-собеседник впрыгивает в машину и уезжает. Безусловно, предварительно обрызгав мою штанину
грязью. Что ж, будем считать это приметой времени.
Или для этого он должен обрызгать меня кровью?
Бутылки же — плавают и плавают.
— Давай, братан, намахни со стариком.
Я вижу перед собой посланного мною мужчину.
Стоит, лыбится.
— Что, из горла?
— А чё?
Я беру у него бутылку и выпиваю ровно половину —
преимущество непьющего перед пьющим. Хорошо, что
пьющие этого не понимают.
— Когда откинулся, братан?
— Позавчера, зёма. С десятки откинулся.
— А я так не могу, — лыбится беззубый, — я потихоньку. Давай, за тебя.
— За нас давай, за Родину нашу с тобой давай.
— А чё? Давай за Родину.
13 Оправдание жизни
385
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Мужчина пьет. Пьет медленно. Бутылка пустеет, и я
хлопаю его по плечу.
— Пока, братан. Звони, если чего надо.
— Давай, если пошел. Есть куда?
— Есть, правда ниндзю выгнать надо. С женой моей
спит, понимаешь?
Я поворачиваюсь и ухожу. Ветер дует в лицо. Мужик смотрит в спину. Я чувствую его взгляд — взгляд
бывшего зэка, нынешнего бомжа, вообще, не знаю кого.
И уже отдаленно слышу легкий всплеск и звон стекла.
Останавливаюсь и кричу в пустоту черт знает что.
О реке, о бутылках, о застоявшемся времени.
1995, август
Последний дождь осени
Была осень. Вечер. Над тротуаром, как переспелые
мандарины, висели фонари. Был конец сентября.
Я шел домой. Я шел мимо разнообразных ателье, мастерских, магазинов, из которых давно вышли последние покупатели и заказчики. Было пусто. Шел дождь. Шел
последний дождь осени.
Я глядел на витрины.
Пальмы. Фонтаны. Какие-то картины. Фотографии.
И вдруг я увидел мужчину. В витрине стоял мужчина. Он был омерзительно бледен. На нем был дорогой
черный костюм. Он смотрел на меня синими холодными глазами.
Я остановился и достал сигарету. Я хотел прикурить, но руки мои дрожали. «Что это?» — прошептал я.
386
Проза
Здесь должна стоять девушка.
Сквозь размытое дождем стекло на меня смотрел
синими холодными глазами омерзительно бледный мужчина.
Я закрыл глаза и попытался вспомнить. Ее чуть опущенная головка со спадающей на глаза белой прядью.
Ее хрупкие руки. Вернее — ручки. Ладошки. Чуть приподнятые плечи. Нежные, бесконечно нежные черты.
Что-то больно вонзилось в сердце.
«Что это?» — прошептал я.
«Что это?» — прошептал я и бросился бежать в ту
сторону, откуда только что возвращался.
Я глядел на витрины.
Пальмы. Фонтаны. Какие-то картины. Фотографии.
Дождь заливал глаза. Розовый дождь. Будто сок лился
из фонарей.
Пальмы. Фонтаны. Какие-то картины. Фотографии.
Не помню, как я снова оказался рядом с синеглазым
мужчиной. О, это отвратительное лицо. Будь он человеком, я все равно не дождался бы объяснений по поводу
исчезновения девушки. Мокрый, я молча глядел на него.
Каждый вечер, три года подряд, я ходил по этой
улице и глядел на витрины. Так.
Пальмы. Фонтаны. Какие-то картины. Фотографии.
Девушка. Милая девушка в витрине ателье.
Но я никогда не задерживал на ней взгляда. Почему же
так больно и грустно? Почему что-то вонзилось в сердце?
«Что это?» — прошептал я и встал на колени.
На бледном лице мужчины была глупая ярко-красная улыбка.
Нет больше девушки. Ее нет, и жизнь потеряла какую-то дольку смысла. Очень маленькую. Но сколько
их всего? Кто мне ответит?
1.V
387
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Милая девушка. Почему я никогда не останавливался возле нее? Почему не глядел на нее, прижавшись
теплой щекой к витрине? Ее больше нет.
Я посмотрел на небо. Были звезды. Дождь кончился. Но что-то щекотало щеку и падало на ладони.
Неужели я ошибся? Неужели дождь все еще шел?
Шел последний дождь осени.
1995, январь
О рабстве
Теперь, спустя уже век с того момента, как уважаемый классик назвал это явление рабством, я могу с уверенностью сказать, что мы с вами живем в эпоху рабовладельческого строя.
Рекламные листочки контор, подавших тему моему
сочинению, можно увидеть буквально на каждом углу
нашего города — «Прелестница», «Баунти», «Ночной
каприз», «Проказница» етс., етс., етс.
Девушки-красавицы — наряду с потенциальными
губернаторами, гарантирующими уральцам все блага
земные, — предлагают нам интимные услуги с такой
наглостью, которую, вероятно, в не очень образованных
кругах общества и принято называть легким намеком.
Иначе как можно объяснить столь вопиющую безвкусицу этих самых листочков.
Нет, я не журналист, упаси господи, меня не интересует, как это у них там все устроено и кому что платится, я не требую немедленного очищения города от
незаконной рекламы — единственным фактором, подтолкнувшим меня взять перо, является головная боль,
388
Проза
которая, увы, едва ли имеет массовый характер. Массовый же характер, увы, имеет в данном случае полное
спокойствие и безразличие.
Вот что приходит на ум: если есть товар, то есть
и покупатель. Товара, как мы обязаны каждый день
видеть, полно — сотни и сотни названий. Представьте
же себе количество покупателей, учитывая тот факт,
что товар имеет свойство вновь и вновь возвращаться
к своему владельцу после собственного приобретения.
Теперь представьте, сколько в нашем городе безнравственных людей — людей, способных купить подобного себе как бутылку пива, как пачку сигарет, которыми, в свою очередь, девушка оправдывает собственное падение.
В обществе, где есть хоть один раб, нет свободных
людей. Человек, унижающий одного человека, тем самым унижает все человечество. И не надо смотреть в рот
Западу — подобное действо вызывает желание высказаться какой-нибудь избитой пословицей и оказаться
в идиотском положении. Но ведь надо что-то делать,
господа.
И единственное, что мы сегодня можем, это выступать в роли чеховских людей с молоточками, чтобы
напоминать спокойным и безразличным о случившейся трагедии.
Мы должны говорить пусть в нашем начале будет
слово, которое впоследствии обязательно приведет
к хорошему концу: наконец в наших школах будут
говорить о нравственности.
А пока уберите с полки Достоевского — ваши дети
и без него имеют о нем представление.
1995, август
389
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Из осеннего дневника
Мне снилась осень...
Б. Пастернак
Последнее время, опустив веки, я вижу осень. Вернее, осенний парк. Даже когда моргаю, он на мгновение расстилается предо мной со своими черными деревьями и опавшей листвою. В парке, прислонившись
плечом к дереву, стоит высокий худой человек. Его тень
не отличить от тени дерева. Последнее время — закат.
Последнее время, опустив веки, я вижу осень.
Сначала я думал, что это — память. Когда я был ребенком, родители брали меня гулять в парки. Чаще всего осенью. Я бежал впереди них, а когда уставал, отец
брал меня к себе на плечи. Я был в сереньком клетчатом
пальто, синем шарфике, повязанном поверх воротника,
и в шапке, которая застегивалась под подбородком.
Я помню, что шапка колола мне шею. Я нервничал от
этого, иногда — плакал. Впрочем, плакал я почти всегда.
Плакал потому, что не умею так бегать, как умеют другие дети, не умею играть в мяч, драться. Плакал потому,
что у меня были кудрявые волосы, и я не мог их зачесать
на пробор, как такой-то мальчик, которого любила такая-то девочка. Плакал потому, что я не они, которые
видели меня улыбающимся, не понимая, что я плакал.
Сейчас я не плачу. Не плачу, но, опустив веки, вижу
осень. Сначала я думал, что это — память.
Я обошел все парки, где мог когда-либо побывать.
Были и похожие на тот, который я вижу. Были черные
деревья, ломаные тени. Были пожухшие листья. Но ни
в одном из них не было того человека, облокотившегося плечом на ствол дерева. Там были совсем другие люди.
390
Проза
Да и я там был совсем другим человеком. Верней, одним
из совсем других людей. Они — кандидаты наук, рабочие, продавцы. Я — студент какого-то учебного заведения. Какая разница. Разве что, я ищу неведомый им парк.
Верней — искал. Мне было грустно. Последнее время
мне часто бывает грустно. Раньше я не умел грустить.
Раньше я злился. Злился, когда читал стихи Георгия
Иванова, например, и видел пустые глаза слушающих.
Злился, когда меня не любили те, кого я любил. Злился,
когда мои учителя были глупее меня. Злился потому,
что не умел грустить. Теперь я грущу. Теперь, опустив
веки, я вижу осень.
Высокий худой человек прислонился плечом к дереву. Лицо освещено закатом. Он бледен. Он сливается
с деревьями, и тень его не отличить от теней деревьев.
Листья опали на серую твердую землю. Это осень. Осень,
которую я вижу, когда опускаю веки. Это то, чего я не
могу понять, не могу осознать. Не могу осознать, когда
иду на учебу, когда иду на работу. Когда, вдыхая воздух
родного города, чувствую, что ворую. Когда гляжу как
вор на тех, чей это воздух. Тогда мне страшно.
Когда мне страшно, я опускаю веки и вижу осень.
То, чего не могу осознать. Может быть, потому что молод. Может быть, состарившись, я пойму, что это — моя
судьба. Судьба, которую давал мне Бог. А я не взял. Вернее, взяла душа, а тело... Что-то не сработало. Либо там,
в небе. Либо здесь. Никогда я не буду стоять в своем
парке. И всю жизнь мне будет печально именно из-за
несоответствия судьбы и жизни. Возможно, я пойму это,
когда стану старым. Когда стану тем больным стариком,
который мечтает увидеть осень, когда ему опустят об-
мягшие веки.
1994, октябрь
391
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
<Роттердамский дневнто
Эта проза написана Борисом Рыжим вскоре после поездки в Роттердам в 2000 году на ежегодный поэтический фестиваль, куда он был приглашен в составе группы
русских литераторов.Впервые опубликована в апрельской
книжке журнала «Знамя» за 2003 год под названием «...Не
может быть и речи о памятнике в полный рост...».
Я зашел в бар, смутился, вышел и быстро пошел
к бару напротив. Сел за столик и решительно попросил
виски: вис айс, визаут вотэ. На вопросительный взгляд
мулатки отчеканил: энд бир. Вынул из кармана сигареты и тоскливо закурил: дорогое удовольствие, если переводить на рубли, очень дорогое. Потом стал пялиться
в окошко и машинально думать о всякой чепухе. О том,
что, вот, чуть не забурился к педерастам (не стоит об
этом говорить бывшим однокашникам... — могут уважать перестать), о том, что Рейн рассказал мне о Лу-
говском, о том, что я люблю свою жену и сына и очень
хреново мне без них, о идиотской архитектуре Роттердама, о греческом поэте, пишущем на турецком, а живущем в США (совершенном, по-моему, придурке),
о красивой девушке, с которой провел какое-то время,
так и не врубившись, проститутка она или нет, о разном стал думать.
Виски принесли. Пиво тоже. За окном пошел дождь.
«Шел, шел дождь, я пришел на их...» — мелькнула
в башке строчка Гандельсмана. Хорошие стихи. Я печатал их, когда начинал работать в «Урале», когда только
начинал работать в «Урале», когда казалось важным работать в «Урале», когда я выклянчил у Уфлянда стихи,
392
Проза
а Коляда швырнул мне их чуть ли не в лицо, крича что-то
о матерных дешевых песенках, когда я пришел домой, развязал, выпил и стал обзванивать всех и плакать, а утром —
обзванивать всех и, опохмеляясь какой-то дрянью, извиняться, говорить, что впредь, Сергей Маркович, Ольга
Юрьевна, Евгений Борисович, Олег, Саша, Ирина, этого
не повторится. А Владимиру Иосифовичу так и не позвонил (до сих пор), гад, не сказал, что так вот и так.
«Шел, шел дождь, я пришел на их...»
Месяц спустя шел дождь за окном дурки, того ее отделения, куда свозят со всего Екатеринбурга алкашей плюс
наркоманов со всеми их однообразными глюками, страхами, болью. Я сидел в сортире, единственном месте, где
позволялось курить, и глядел в окно, когда сосед по палате, сухой человек с жестким взглядом, предложил мне
побег. Он сказал, что замок на оконной решетке открыть,
как два пальца обоссать, что второй этаж, конечно, хер-
ня, но лучше использовать веревку, которая у него есть,
а относительно погони сказал, что мы на фиг никому не
нужны. В эту же ночь мы бежали. В больничных тапочках и пижамах — он своей дорогой, я своей, к школьному другу Сереге Лузину, не к жене же, не к родителям. Серый был с барышней, которую тут же выпроводил и объявил, что минимум триппер ему обеспечен. Он
всегда так говорит. Серый сходил за пивом и стал внимательно слушать. Выслушал, рассказал о себе и начал старую больную тему.
— Тебе снится? — спрашивал он.
— Снится! — отвечал я.
— Жаль! — говорил он.
— Да, очень... — вздыхал я.
393
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Очень жаль. Он бы мог стать великим боксером. И я
бы мог стать. Мы тренировались каждый день, мы ездили на соревнования, мы завешивали грамотами стены
туалета — якобы все это дерьмо и пустяки, мы благоговели перед нашим тренером, спивающимся экс-чемпионом Европы, мудрейшим из мудрейших и вообще...
Все шло гладко, но женщины, женщины и водка, вернее — спирт, канистра коего стояла на кухне у близняшек, к которым мы повадились захаживать после уроков и вместо тренировок. Налегали на то и на другое,
пустив побоку грядущее, которому теперь только и остается, что проявляться в трогательных снах типа бизнесмена и вроде как поэта.
Я хотел было заказать еще виски, но, решив, что это
будет слишком, прошел квартал и определился в каком-то кафе, заказал виски. Дождь за окном кончился.
Глупо, — подумал я, — глупо тратить кровные гульдены, когда там, в баре для поэтов, можно пить сколько
угодно на халяву! Чего я, в сущности, стыжусь, — подумал я, — все равно вечером притащусь туда в совершенно пьяном виде, и организаторам все равно придется вызывать для меня такси и усиленно улыбаться?
С другой стороны, — подумал я, — хрен с ними, с деньгами. Они, деньги, как-то у меня бывают, не много, но
постоянно. Я достал из кармана свернутый трубочкой
голландский журнал, развернул, раскрыл на нужной
странице и попробовал уловить хотя бы ритм своих же
собственных стихов в переводе Ханса Боланда. Hans
Boland. Это человек, которого Рейн сделал героем одной из своих поэм, якобы этот Ханс Боланд жуткий
наркоман и украл у автора сумку с деньгами и документами. Боланд, как сказал мне Саша Леонтьев, очень
394
Проза
обиделся на Рейна и вообще на русских поэтов: пьют,
сказал, много, а нам, голландцам, все это очень не
нравится. Ну, не нравится, и пошел на х...! Саша Леонтьев, раз уж он тут появился, так укоризненно на меня
посмотрел, когда услышал это, что я устыдился. Ты же
сам-то не русский, а еврей, — говорит Саша, — чего ты
тянешь на них! А я ведь просто так, должна же у меня
быть хоть одна плохая черта.
Саша Леонтьев родился в Ленинграде, потом долгое
время жил в Волгограде, а сейчас плюнул на все и живет
в Москве. Завел себе девку. Квартиру снимает. Денег
у него нет вообще. Приехал в Нижний Новгород на конференцию «Другая провинция» с двадцаткой в кармане,
сообщил всем об этом. Помню, Сергея Павловича Кос-
тырко так это тронуло, что он вынужден был дать Александру сто рублей. Саша тут же поднялся в гостиничный
ресторан и спросил себе водки. А когда официантка сказала, что у нее нет сдачи, Саша встал и обратился к залу:
ребята, разменяйте сто рублей! Никто не обратил на него
внимания. Впрочем, одна лысая голова промямлила, что
она такие деньги только в кино видела. Остальные смеялись. Напился и не поехал читать стихи, лег спать. Я же,
наоборот, поехал, прочитал, вышел покурить, а тут ко
мне подходит человек, говорит, что любит мои стихи,
и предлагает экскурсию по Горькому. Я соглашаюсь, но
при условии, что поеду не один, а с товарищами. Человек достает сотовый и говорит в него следующее: чтоб
через двадцать минут сауна была свободна. Его звали
Колян. После сауны мы поехали в казино, где Колян
с Володей Садовским просадили что-то уж очень много
денег, даже по их меркам. Утром я проснулся, помылся-
побрился, штаны напялил, носки, а рубашку все никак
395
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
найти не могу. Бужу Олега Дозморова, с которым живу
в одном номере, спрашиваю на предмет рубашки.
— А тебя, — говорит, — блин, без рубашки привели,
в куртафане на голое тело, рубашку, сказали, в сауне забыл.
— Кто, — говорю, — привел?
— Колян с Володей.
— Дай, — говорю, — хоть майку какую, что ли, мне
опохмелиться надо сходить.
Прихожу в бар, а там уже Пурин сидит, пиво пьет.
— Что это вы, — говорит, — Борис Борисович в майке, никак рубаху заблевали?
Я только рукой махнул. Потом пришел Голицын со
своей водкой и сказал, что его зовут Алексей Голицын
и он зам. главного редактора журнала «Волга» и что скоро «Волге» звездец придет, не финансируют, мол, ни Министерство культуры, ни деловые люди.
Потом пришел Кирилл Кобрин и стал кричать на всех:
— Ни грамма водки, я повторяю, ни грамма!
Я выпил виски и решил двинуть в отель. Пришел
в номер, принял душ и вышел через специальную дверцу сразу во дворик ресторана. Подсел к столу, где ели
мороженое африканский поэт Карл-Пьер Науди и тайваньская поэтесса Шао Ю, балующиеся по вечерам марихуаной и вообще свои в доску ребята. Поговорили
трошки о поэзии, главным образом о Бродском. Я, кроме
всего прочего, сказал ребятам, что сейчас в Роттердам
приехала из Кельна одна русская дама, собравшая книгу воспоминаний о поэте еще при жизни поэта. Карл-
Пьер сказал мне на это, что русским вообще свойственна
несдержанность, и это нормально, когда, конечно, не
касается неких этических моментов. Потом мы пошли
396
Проза
за марихуаной, веселой травой, которая на меня лично
либо вообще не действует, либо действует как легкое
снотворное. Купили. Я еще купил каким-то неграм по
сигаретке, нищие негры остались довольны. Выкурив
марихуану, мои друзья отправились танцевать и веселиться, а я пошел спать.
Я уже спал и видел европейские сны в то время, когда
в Азии, в Екатеринбурге, два веселых парня под воздействием пластилина вошли в кабинет директора ЗАО «Мрамор. Памятники архитектурных форм», сели за круглый
стол, и тот, который был поменьше ростом, достав из папки много всякого рода бумаг с цифрами и печатями, сказал, что все готово и можно приглашать журналистов.
А тот, который в плане роста удался, сказал директору дрожащим голосом: такого еще никто до нас не делал. Директор, ветеран войны в Анголе, плохо понимая, что происходит, но почему-то веривший, что происходит что-то хорошее, глубоко вздохнул и сказал, что все-таки надо
уложиться в десять—пятнадцать тысяч долларов, больше
он просто не может дать.
— Что ж, — сказал который поменьше, — тогда не
может быть и речи о памятнике в полный рост, ограничимся мраморной стелой в виде раскрытой книги, где
сусальным золотом по гравировке будет выведено какое-
либо четверостишие лауреата.
— Хорошо, — сказал директор, — договорились.
Так поэты Роман Тягунов и Дмитрий Рябоконь убедили шефа похоронного концерна учредить новую литературную премию — за лучшее версификационное произведение года, наиболее полно раскрывающее понятие вечность. Приз — мраморная стела в виде раскрытой книги,
где сусальным золотом и так далее — будет воздвигнут
397
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
в «аллее славы», липовой аллее возле главного офиса ЗАО
«Мрамор». Плюс подарочное издание книги избранных
стихотворений победителя — малахитовая обложка, страницы из бересты уральской березы, тираж 50 пронумерованных и подписанных автором экземпляров.
Меня разбудили возмутительно ласковые слова отца:
— Просыпайся, Боренька, пора, дорогой.
Отец расхаживал по домику в болотных сапогах, которые казались мне верхом мужской доблести. Неужели, думал я, нигде-нигде нельзя купить точно такие же,
только маленькие, для мальчиков? В Москве, наверное,
можно, но, конечно, это будет глупо просить отца привезти из Москвы маленькие болотные сапоги. И потом,
попроси я его об этом, он все сразу поймет и засмеется
надо мной, а я не люблю, когда надо мной смеются.
Одевшись, я с отвращением напялил красные резиновые, на которые последнее время смотрел с некоторым
подозрением — а что, если они вообще девчачьи?
— Надень патронташ, — сказал отец. На этот раз
в его голосе были повелительные нотки, и сердце мое
сжалось: мы на охоте!
Выплыли первыми. Дюралевая лодочка шла легко,
я сидел на рюкзаке с чучелами и держал в руках ружье,
мы плыли навстречу заре, первой мужской заре в моей
маленькой жизни. Скоро озеро из черного стало голубым, солнце стояло достаточно высоко, и отец стрелял
навскидку — два выстрела, чтоб не добивать на воде.
Я был счастлив, но мысль, что мы настреляем меньше
всех, меня немного огорчала. Недаром так ехидно вчера
мужики смотрели на отца, когда он выпил стопку и сказал, что мы идем спать. Я очень огорчился: самое интересное, охотничьи байки, где и отец мог бы блеснуть,
398
Проза
разве можно пропустить это? Может быть, думал я, отец
мой не очень хороший охотник, и мне будет стыдно, когда
мы приплывем пустыми. Возвращались мы под проливным дождем, я старательно вычерпывал воду из лодки
какой-то посудиной, гром закладывал уши и молнии
ослепляли, а отец смеялся, выслушав мои опасения по
поводу: как бы мы не оказались хуже всех.
— Знаешь, Боря, — сказал он перед тем, как захохотать, — вся эта п...добратия пила всю ночь, и никто из
них, уверяю тебя, не отплыл от берега и двух метров. После
этих слов я был действительно счастлив — мой отец настоящий охотник.
Проснулся я от головной боли, с трудом оделся и пошел в бар. Взял три больших пива и виски, какой-то
голландской дряни закусить. Стал понемногу пить и вспоминать сон. Странный сон, вдруг подумал я, ни доли
вымысла. Попросил телефон и позвонил в Россию,
в Екатеринбург, в кардиоцентр, попросил Рыжего из
501-й палаты. Отец подошел не сразу, а услышав мой
голос, совсем почему-то не удивился.
— Ну как ты там? — спросил я.
— Останавливается... — сказал отец, — по-прежнему останавливается, говорят, надо менять бета-блока-
торы, ты как?
Я рассказал про сон.
— Знаешь, — сказал отец, — а я тогда понял, что ты
настоящий мужчина, мы могли утонуть, а ты спокойно
вычерпывал воду.
По моей физиономии потекли пьяные слезы, и я
поспешил проститься, пожелав скорейшего выздоровления и вообще. Боже мой, думал я, боже мой, мне и
в голову не могло прийти, что со мной дурное случится,
399
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
когда рядом ты. Я доверялся и доверяюсь тебе всецело. Береги его, отец, свое сердце. Ты умрешь, и я умру.
Если ты дочитал до этого места, не отбросил брезгливо, поверь, я плакал и тогда, когда писал эти строчки.
Я вообще теперь часто плачу.
Допив пиво и вытерев нос, я вспомнил, что сегодня
вечером мне читать. Поглядел на часы, купленные главным образом для того, чтоб прикрывать ремешком постыдный шрам чуть выше запястья — результат пьяного глупого дела, завершившегося дуркой.
Я пролежал там десять дней вместо положенных сорока, бежал. Но и за десять дней всякого повидал.
Заходит, например, в вашу палату очень интеллигентного вида человек и спрашивает, не оставлял ли он у вас
в палате свой пиджак. Вежливо отвечаете, что нет, не
оставлял, и он уходит. Но через час-другой появляется
с тем же вопросом. А дело вот в чем: с утра до вечера этот
больной только и делает, что ходит по отделению в поисках пиджака.
Или еще пример. Привезли буйного, привязали к кровати, вроде успокоился, и вдруг как заорет:
— Жрать хочу!
А больной напротив добрым старушечьим голоском,
склонившись к буйному, приговаривает:
— Нет-нет, ты не хочешь кушать...
У буйного наливаются кровью глаза:
— Хочу жрать!
А этот мягко так:
— Не-е-е, ты кушать не хочешь...
И так подряд несколько часов. Да один Петруха чего
стоил со своими анекдотами, типа Пушкин с Лермон-
том делят шкуру неубитого медведя, а к ним подходит
400
Проза
Ломонос и говорит: эта шуба моя. Взял и унес. Смеялся
над его анекдотами только я, за что и был Петрухою
любим. Кроме того, я давал ему сигареты и закрепил за
ним право съедать мой завтрак, обед и ужин — я лежал
в палате с цыганом Вано, нам хватало гостинцев с воли.
Вано — хороший человек, мы созваниваемся с ним до
сих пор, встречаемся, выпиваем, за жизнь разговариваем. А Петруха умер, однажды не проснулся, когда все
проснулись, и все. Ему было лет пятьдесят, худой и беззубый. Жаловался нам с Вано, когда его обижали. Старался не плакать, когда ставили уколы. Держался как
мог. Натурально под мышкой унес санитар его маленькое татуированное тело. У Александра Кушнера есть такое стихотворение:
Всё нам Байрон, Гете, мы как дети,
Знать хотим, что думал Теккерей.
Плачет Бог, читая на том свете
Жизнь незамечательных людей...
Далее у Кушнера Бог поправляет очки и с состраданьем смотрит на дядю Пашу, который что-то мастерит,
приговаривая: «этого-того». Этакий Бог-педагог, немец
наполовину. А на деле-то что получится? Вот придете,
Александр Семенович, дай вам Бог здоровья, к Нему
с поклоном, а по правую Его руку дядя Паша сидит (хотя
Вы, наверно, выдумали этого дядю Пашу), а по левую —
мой Петруха. Много чего придется пересмотреть, о многом всерьез поразмыслить.
Я дошел до государственного театра Роттердама, где
проходит основная тусовка, встретил Рейна.
— Ты когда выступаешь? — спросил Рейн.
401
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Ответил, что вот буквально через час. Тогда Евгений Борисович поинтересовался, сколько я уже выпил
пива. Я сказал, что вообще не пью. Он посмотрел на
меня ехидно:
— А знаешь, кто лучший поэт?
— Кто, Евгений Борисович?
— Бахыт Кенжеев! — рявкнул Рейн.
Заметил, думаю, надо как-то трезветь. Будет, думаю,
потом говорить: «Рыжий? Да он же алкоголик! Причем
ужасный! Он выпивает в день два ящика пива, я видел
его в Голландии, он лыка не вязал!» Так и будет... Мы
молчали, а мне хотелось как-то все же завязать разговор.
И тут я вспомнил вот что: Саша Леонтьев мне как-то
передал слова Рейна о том, что настоящий поэт должен
стать немного сумасшедшим. Я и говорю Рейну:
— А ведь, Евгений Борисович, как ни крути, а настоящий поэт должен научиться быть чуточку сумасшедшим.
— Борька, да ты и так сумасшедший, — смягчился
Рейн, — тебе же сейчас читать, ты не смотри, что они
улыбаются, эти люди все замечают, все, и не видать
тебе больше Европы как своих ушей.
Те же слова я слышал от Ольги Юрьевны Ермолаевой на одном помпезном московском мероприятии.
— Вот вам улыбаются, руку жмут, — сказала Ольга
Юрьевна, — а вы не тайте, Борис Борисович, не тайте.
И Олег Дозморов как-то отчитывал меня в этом роде:
я не понимаю, почему ты так уверен в том, что никто
тебе не может сделать подлость? А жена, когда я повадился прогуливаться по ночам, просто руками разводила: с чего ты решил, что тебя не убьют?
402
Проза
Братья Лешие, Череп, Понтюха, Симаран, дядя Саша,
Гутя, Вахтом, Таракан... Вторчермет, Строймашина, Шинный, РТИ, Мясокомбинат... Я забыл про Кису. Киса на
моих глазах завалил мента. Вынырнул из сирени и, щелкнув кнопарем, нырнул обратно. Почти сразу из кустов
вывалился и упал лицом к небу маленький лейтенантик,
в одной руке он держал фуражку, другой шарил по животу. «Киса мента завалил, — сказал кто-то из таких же,
как я, сопляков, — валим в другой двор». Махом собрали
карты, и нас там не было. Вернулись через часок — милиция, скорая, обрывок разговора: если бы сразу позвонили, жил бы и жил паренек... Много было всего, музыки было много. Старый вор дядя Саша, откинувшись,
надел новенький двадцатилетней давности зеленый костюм, включил радиолу и выставил в окошко динамик.
Вышел на улицу и сел на скамеечку у подъезда. Шутка
ли, двадцать лет не был дома. Посидел немного, подошел
к нам.
— Здорово, — сказал, — бродяги, народились, гляжу,
без меня, чтб, как вторчерметовское детство? — Затянулся, сощурившись. Представился. Мы его знали только по
рассказам стариков, слышали о нем как о человеке очень
серьезном. Сошлись быстро, а что, мы дети, он старик.
Проповедовал нам библейские истины, финку мне подарил. Осенью умер.
Я вышел во двор и встретил зареванного мерзавца
Гутю, он обнял меня и сказал:
— Боб, дядька Саня помер...
Я обнял Гутю, но без слез, все-таки Гутя был подонком. А через неделю после смерти дяди Саши убили
Леших, Черепа, Понтюху, Симарана, Вахтома, Таракана и многих других. Местный рынок стали контролировать ребята спортивного телосложения и без вредных
403
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
привычек — просто вывезли в лес и расстреляли. Кончилась старая музыка.
Отбарабанил положенное количество стихотворений,
аплодировали. Пьяный, я хорошо читаю. Кроме своих,
прочитал:
У статуи Родена мы пили спирт-сырец —
Художник, два чекиста и я, полумертвец...1
Проканало, никто ничего не понял, даже Рейн.
Пошел в бар, взял пива и сел за столик. Да, думаю,
сейчас бы сюда Диму Рябоконя или типа Димы кого-
нибудь, было бы весело.
А Дима тем временем не скучал, Дима намахивал водку
и обзванивал пишущую публику, предлагал стать лауреатом премии «Мрамор».
— Ты вдумайся, — говорил Дима, — трехметровая
стела, твои стихи сусальным золотом, круто, может, еще
этих ребят на памятник разболтаем, прикинь, памятник
тебе при жизни будет стоять, да нет, да врубись, клево,
говорю тебе...
Дима получал очередной отказ и звонил Роме Тягу-
нову: Витя Смирнов тоже отказался, вся надежда на Касимова, Рома, на Женю Касимова, у тебя есть еще кто-
нибудь?
Рома говорил Диме, что есть еще на крайний случай
экстремалы — Верников, Спартак...
Экстремалы бездарны, — отнекивался Дима, — нам
нужен в натуре поэт, думай, Рома, думай.
Стихотворение В. Луговского.
404
Проза
Поэт Дмитрий Рябоконь живет один в пустой двухкомнатной квартире; жена, уходя, забрала всю мебель.
Дима отвоевал только телик с диваном. Дима принципиально не работает, а сидит на шее у мужа сестры. «Свояк» — почему-то называет его Дима.
— Пойду, — говорит, — со свояка денег получу.
Вяло одевается, выходит на улицу и с минуту, задрав
лысеющую голову, презрительно смотрит на мужиков,
чего-то там мастерящих на голубятне. Плебс, думает Дима,
живут как в деревне. Идет на автобусную остановку, покупает в ларьке пивко и ждет. Потом автобус, полный
весеннего соблазна, везет Диму до остановки «Бассейн».
Дима пялится на ноги пэтэушниц, но не заигрывает —
после той страшной истории он побаивается несовершеннолетних.
Страшная история имела быть неделю назад. Познакомился Дима с пятнадцатилетней поэтессой Яной, сводил в кафе, провел по мастерским знакомых художников, книгу свою подарил. Пригласил наконец в гости. Но
вдруг забеспокоился, разволновался, стал друзей обзванивать, обрисовывать ситуацию. Позвонил и мне.
— Я, — говорю я Диме, — не вижу в этом ничего
дурного, ты же не собираешься ее силой тащить в кровать?
— Нет, — говорит Дима, — но понимаешь, у нее
отчим какой-то крутой, может по репе настучать, если
узнает.
— А за что, собственно, — говорю я Диме, — по голове стучать, пятнадцать лет не так уж мало по нынешним
меркам.
— Да я понимаю, — говорит Дима, — но этот отчим...
что-то тревожит меня отчим ее.
405
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Так и поговорили. Утром просыпаюсь, завариваю
кофе, выхожу на балкон: небо голубое-голубое, яблони
белые, синяя сирень, в голове «Ночной смотр» Жуковского звучит, настроение как никогда. Чего бы, думаю,
такого сделать, пробегу-ка я, что ли, километра два. Но
вместо пробежки иду к телефону и набираю Рябоконя.
— Ну что, — говорю с явным кавказским акцентом, —
здесь тэкой-сэкой паэт проживает, Рэбакон зовут.
— Кто, с кем я разговариваю, — нервничает Дима, —
кто вы?
— Яном Карловичем зовут меня, — говорю, делая сильное ударение на «о» в слове «Карловичем», — отчим я.
— Ну а что, что, — лепечет Дима.
— А то, — говорю, — что она бэрэмэна.
— Да нет, что вы, что вы, Ян Карлович, — лебезит
Дима, — этого просто быть не может, я все могу расписать по минутам, мы же всегда были на виду, у меня есть
свидетели, мы к художникам ходили.
—Знаю, — говорю, — я этих художников, это не художники, а х...йдожники.
Держу паузу. Дима собирается с духом. Собрался.
— Послушайте, — говорит, — Ян Карлович, у меня
с Яной действительно ничего не было, вы однокашников
ее потрясите, есть там один здоровый, я как-то пришел
ее встречать, а она уже со здоровым таким идет.
— Здоровый? — говорю, — беру на карандаш, какой
он из себя?
Дима описывает мне кого-то, я обещаю еще позвонить или, еще лучше, сразу подъехать, кладу трубку.
Через некоторое время звонок. Звонит Олег Дозморов,
хочет что-то сказать, но смех ему мешает, бросает трубку, чтоб просмеяться, перезванивает.
— Только не отпирайся, — говорит, — это твоя работа.
406
Проза
Тут начинаю хохотать я.
— Слушай, — говорит Олег, — смешно, конечно, но
Дима в ужасе, как бы чего не вышло, он очень напуган.
Пришлось снова звонить Диме, говорить, что действительно этот здоровый во всем виноват.
— Ну, я же вам говорил, Ян Карлович.
— Да, — говорю, — обидел я тебя зря, теперь (черт
меня дернул сказать это!), — говорю, — твой должник
стал, приглашаю поэтому от всей братвы на дачу: шашлыки, девчонки, баня, ага?
— Нет, — врет Дима, — я сегодня уезжаю. Вот и вся
история.
Остановка «Бассейн», — рявкнул водитель и надавил на специальную кнопку. Дима вышел и, метнув пустую бутылку в голубей, двинул в нужном направлении.
Бассейн, очень похожий на крематорий, чернел в конце
здоровенного пустыря, над которым провисало громадное небо. Горело атомное солнце. Трещали кузнечики.
«Цикады, бля!» — думал Дима и вспоминал, как долговязым пионером отлавливал сачком эту гадость, разглядывал, иногда отпускал, а иногда нет, наоборот, отламывал,
например, лапу и смотрел. «Типа Набоков!» — ухмылялся Дима. «Свояк» в плавках, расстегнутой олимпийке
и со свистком на седеющей груди прохаживался по краю
бассейна, приговаривая: хорошо, девочки, хорошо! Девочки, взявшись за руки, медленно вращались на воде,
то разводили, то сводили ноги.
— Завидую я тебе, Валера, — говорил Дима, сглатывая и кивая в сторону пловчих.
Валера вел Диму в заставленную кубками и завешенную медалями тренерскую, доставал из бумажника деньги и протягивал Диме.
407
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
— Ну, как поэзия? — спрашивал Валера, выпроваживая Диму, — не пропивай только, умоляю, подумай о себе,
о сестренке, не губи себя, Дима. — Пожимал маленькую
Димину руку, разворачивался и бежал к своим ученицам.
Диме было неприятно Валерино рукопожатие, потому что он всегда в этот момент вспоминал одно и то же —
напился на свадьбе сестры, заматерился на всех, суками
обозвал.
— Я, — заорал, — поэт, а вы плебеи-обыватели, мразь.
Его рвало, а он все еще пытался размахивать кулаками. И вдруг он легко оторвался от пола, медленно пролетел через несколько комнат и оказался в кровати. Над
ним стоял Валера и, улыбаясь, приговаривал:
— Спи, маленький, спи, завтра ничего не вспомнишь,
а мы напоминать не будем, ничего не произошло, спи.
Дима все помнил.
— Папа, — сказал Артем, — если ты уйдешь, я тебе
лошадку не подарю.
— Какую еще лошадку, Тема, какую такую лошадку, — выговорил я сквозь зубы, глядя на чужое лицо жены.
— Лошадку, — повторил мальчик, — белую с голубой
гривой...
Я сбежал по лестнице и двинул к дороге. Долго ловил
машину. Шел дождь.
Ко всем чертям, думал я, все, навсегда, лошадку они
мне не подарят, в доме бардак, эта — в телик пялится,
тот — в «дум» режется, не могу больше, сами живите,
дайте мне жить, я в конце концов не последний человек,
возьму себя в руки, проживу без вас, все, нет меня.
Машин не было. Пешком дошел до родителей, выпил, лег спать. Сон снился какой-то хороший-хороший,
будто весна, парк, щемящая нежность на сердце. Про-
408
Проза
снулся, пошел на работу, стараясь, вернее, еще не в силах думать о вчерашнем.
Заглядываю к Коляде:
— Привет, Коля!
Коля, вместо привета, швыряет мне чуть ли не в лицо
какую-то рукопись.
— Забирай своего Уфлянда, — кричал Коляда, — мы
серьезный журнал.
Я повернулся и ушел. Пошел в родительскую квартиру,
благо, все жили в саду, пил неделю. Полез на антресоли за
пистолетом, сорвался, грохнулся на пол. Полежал немного, встал. Разгрыз безопасный пластик «Жиллетта», набрал
воды, лег в одежде и — где резать? — пластанул чуть выше
запястья, закрыл глаза, успокоился. Поплыли разные лица,
некоторые были знакомы, но так, ничего особенного, потом какие-то ужасы (недолго), далее видения исчезли, начались звуки, сначала неразборчиво, а потом четче и четче,
я внимательно выслушал голос отца, объяснявший движение некой горной структуры изостатической неуравновешенностью, с цифрами, со ссылками на японских ученых,
потом мама рассказала мне про то, как она, шестилетняя
девочка, радовалась, что ее сестра умирает, потому что
тогда все моченые яблоки ей достанутся, плакала, говорила, что очень голодала в плену, потом все смолкло, и я сочинил стихотворение Набокова «В книге сказок помнишь
ты картину...», вспомнил, что это не мои стихи, и подумал,
что Ирина правильно сделала, не взяв мою фамилию,
а Артема в школе дразнить будут. Перегнулся, сколько мог,
через борт ванны и шмякнулся на кафель. Перетянул, помогая зубами, руку подвернувшейся тряпкой и почти сразу потерял сознание. Между «почти» и «сразу» по лугу с колокольчиками и ромашками проскакал Тоша на маленькой лошадке, и я мысленно кивнул — белая, да, с голубой гривой...
409
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Стихи участников фестиваля с переводами на голландский и английский были изданы в виде брошюрок.
Я взял брошюру Рейна. Пролистал. Удивительно, все
стихи либо посвящены Бродскому, либо Бродский в них
так или иначе фигурирует. Понятно, почему Евгений
Борисович выбрал именно эти стихи — мало кто понимает, что Рейн гений, а гульдены, марки, доллары —
какая разница, за что платят: за то, что ты великий русский поэт, или за то, что ты друг и учитель нобелевского лауреата?
А еще удивительнее другое. Рейн сказал мне такую
штуку: когда он жил в доме Луговского, вдова поэта
отдала ему костюмы мужа.
— Ты не представляешь, Борька, я чувствовал, как
перевоплощаюсь во Владимира Александровича! — говорил мне Рейн.
Действительно, «Стихи из ранних тетрадей» мог бы
написать Луговской, будь он немного талантливей. Последние стихи Рейна мог бы сочинить Иосиф Александрович, будь он чуточку не то, чтобы душевнее, а человечней и, следовательно, талантливей. Рейн — загадка
почище Пушкина. Загадка, которую никогда никто не
разгадает.
— А вот и твоя подруга, — сказал Рейн, подписывая
мне брошюрку, — как, говоришь, ее звать?
Черт его знает, как ее зовут, и вообще непонятно,
проститутка она или нет. Очень хорошая девушка, веселая. Любительница поэзии. Подсела ко мне в кафе,
назвала свое имя, которое я сразу забыл. Поговорили
о том, о сем. Я посетовал на то, что не могу достать
в Роттердаме русской водки. Она сказала, что у нее есть,
вызвала такси по малюсенькому мобильному телефончику, и через пять минут мы оказались у нее дома.
410
Проза
И тут, я не вру, она достала из холодильника настоящий самопал, два пузыря откровенного псшева — 10%
спирта плюс больше димедрола. Сказала, что купила
в Амстердаме. Что делать, пришлось пить.
Я работал на драге в поселке Кытлым. Не совсем,
правда, на драге. Короче, студенты-практиканты, «отбивали» мы платиноносный слой с помощью микросейсмостанции MS-SEIS-5689 и сейсмовибратора, коим служила кувалда с пришпандоренным к ней датчиком. Водитель Семеныч возил нас на «ГАЗ-66» с красным крытым
кузовом и надписью «научно-изыскательская». Единственная, если не считать вахтового автобусика и «девятки»
местного мафиози, машина на весь поселок. Жили мы
в одном общежитии с рабочими драги, которые к нам
с Вадиком относились уважительно, а водителя нашего
почему-то презирали, называли его «гребаным шоферюгой», и грозились сделать с ним такое, чего, честно говоря, от них можно было вполне ожидать.
Первый день пребывания в поселке мы с Вадиком
решили отметить сначала пивом, а дальше как получится. Узнали у ребят, где магазин, и пошли себе потихонечку. Полуразрушенные избы, жуткая слякоть, некрасивые уральские горы со всех сторон. В магазине
матрешки, тельняшки, сырки, портвейн и «Жигулевское» с очень просроченным сроком годности. Пьяненькая здоровенная продавщица, вытиравшая влажной тряпочкой плесень с очередной буханки хлеба, выдала нам
два пива. Мы пристроились на ступеньках магазина
и уже стали «откусывать» с бутылок крышки, как услышали умоляющий и вместе с тем командный картавый
голос:
— Стоп, не открывать, у меня есть!
411
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
К нам подбежал двухметровый милиционер и, вытирая рукавом пот со лба, протянул несколько скомканных
купюр.
— Несите назад это говно, — сказал милиционер, —
как раз на португейзер хватит.
Вадик объяснил ему, что пиво мы пьем не потому,
что нам на портвейн не хватает, а просто так.
Милиционер сник, а я пошел и купил две бутылки
портвейна.
— Ну, — говорю, — куда идем?
Через минуту мы сидели в участке, как называл эту
избу со столом и тремя стульями Махач.
— За знакомство, — сказал Махач, — Махач меня
зовут, я участковый, после начальника драги первая власть
в поселке. Выпил.
Мы представились и тоже выпили. Я стал озираться,
где тут у него клетка, куда хулиганов закрывать.
— Чего смотришь, — загрохотал Махач, — баб я прямо на столе деру!
О Махаче рассказывали следующее: москвич, служил здесь рядом в стройбате, Ленку (Ленка работала
уборщицей в нашем общежитии) полюбил да и остался
после службы, участковым стал, родня плюнула на него
и в Израиль уехала, а ему что, он здесь царь-бог. После,
конечно, начальника драги.
— Одного не советую, ребята, — базлал Махач, — по
пятницам, субботам и воскресеньям на дискотеку не ходите и вообще выезжайте на свой объект в названные
дни с ночевой, тут у нас между своими-то всякое бывает,
а вы вообще, чуете, вообще не свои, такое случится, что
никакая власть не поможет.
Вышли мы от Махача совершенно убитые. Дождь.
Слякоть. Какие-то хибары, темнеет уже. Тащимся до
412
Проза
общаги. И вдруг девушка на велосипеде. Останавливается перед нами, просит сигарету. Красоты необычайной, лепечет что-то, благодарит, уезжает. Кажется, улетает. Переглядываемся, дальше идем.
У общаги нас встречает Лена, протягивает какую-то
бумажку.
— Это вам, — говорит, — от Надьки.
Разворачиваем и читаем следующее:
«Вадим, Боря, приходите сегодня перед дискотекой.
Адрес: Ленина, 1».
— Кто такая, — спрашиваю, — кто?
— А вы ее сегодня видели, — отвечает Лена.
— А сестра, сестра у нее есть? — спрашивает Вадик.
— Младшая, — отвечает Лена.
— Что брать с собой? — спрашиваем.
Лена говорит, что у них все есть, только мужчин
нету.
Идем искать Ленина, 1, причем Вадик заявляет, что
сестру берет на себя. «Во хитрован, думаю, конечно, младшая должна быть еще симпатичней, ну да бог с ним, вдруг
они сводные сестры».
Находим Ленина, 1. Стучим. Дверь открывает какой-
то стройбатовец, но вежлив, предлагает сразу за стол.
Я гляжу на него и уже знаю, что звать его Маратом, до
дембеля неделя... Но что он тут делает?
Садимся за стол, Вадик спрашивает, где Надя, чего
она делает в этой дыре и все такое. Марат говорит, что
девочки переодеваются, сейчас будут.
Я разливаю в три стопаря и говорю:
— Ну, за знакомство, это Вадик, я Борис...
— А я Шустик, — сказал Марат, опрокинув стопку,
помолчал, — вольнонаемный, а теперь внимание, пацаны,
Надюха!
413
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Мы оглянулись. Улыбаясь, к столу подплывала На-
дюха, отпускавшая нам пиво. На лице Вадика я прочитал
сначала недоумение, а потом ужас. Надюха подсела ко
мне. Вадик немного расслабился, но тут же напрягся еще
сильнее. К нему подсела младшая сестра. Надюха по сравнению с младшей казалась по меньшей мере привлекательной. Шустик налил всем. За встречу! Выпили. Шус-
тик сыграл на зубах Моцарта. Я сбацал «Таганку». Вадик
налил себе еще и загрустил, приобнятый Надюхиной
сестрицей, выпил, налил еще.
— Так, — сказала Надюха Марату, — ждем твою еще
десять минут и (тут она хлопнула меня по плечу) — на
дискотеку.
Шустик кивнул. Вадик выпил и сбросил с себя Любкину руку, заглянул в глаза Шустику и что-то понял. Он
понял правильно, потому как через минуту в избу впорхнуло то прелестное существо, на которое и на сестру которого мы рассчитывали. Девушка кивнула нам и поцеловала Шустика в лысую макушку. Вадик выпил и изъявил желание танцевать. Всем сарафаном пошли в клуб.
Местные девушки и стройбатовцы топтались под техногенный музон в кромешной тьме. Я быстро отклеился
от Надюхи и стал искать Вадика. Бродил между танцующими, выглядывая его, а когда объявили медленный
танец, пораскинул с минуту мозгами и быстро пошел
к выходу. Трое служивых обступили Вадика, который
как можно дольше старался прикуривать и вообще держаться.
Шустик, жестикулируя, орал, что это его девушка
и что ты такой крутой приехал, а хули ты приехал. Я подошел сбоку и взял его за руку.
— Не горячись, — говорю, — Марат, давай поговорим.
414
Проза
— А ты где здесь Марата надыбал! — сказал Шустик
и, пока снимал ремень, пропустил «двойку» в челюсть
плюс вдогонку прямой по печени.
Двое других отошли и забоялись Вадика, в правой
руке его блеснула фомка. Мы развернулись и пошли
в общежитие. Шли медленно, я злился на Вадика, он на
весь мир.
— Да меня все это бесит, — говорил Вадик, — все это
говно, я пригласил девушку на танец, что делают здесь
эти черти...
Эти черти, к слову, долбили в горе Волчиха огромную дыру, чтоб оттуда генералы говорили, что делать,
когда начнется атомная война.
— Не знаю, Вадик, — говорил я, — ты ведь, еще не
понимая, куда идешь, прихватил фомочку.
— Так, — говорил Вадик, — после слов Махача я бы
ППШ с собой таскал, будь он у меня, перебил бы всех
этих гавриков.
В общаге еще выпили, Вадик уснул. Я тоже стал было
засыпать, но свет фар в окно и мат заставили меня одеться. Я толкнул Вадика, еще раз толкнул и пошел на улицу.
Зашел за общежитие, увидел «девятку» и толпящихся возле
нее ребят. Подошел ближе, встал. Из толпы отделились
двое, подошли. Марат и какой-то уверенный в себе бра-
телла.
— Пикулястый, — представился брателла, — тут все
через меня, кто тут косорезит, ты, что ли, студент в папоч-
киных штанишках? Ты тут, что ли, берегов не видишь?
Давай тащи своего кента и поедем прокатимся, воздухом
подышим, природой нашей северной полюбуемся.
«Ладно, думаю, попали мы с Вадиком».
— Ладно, — говорю, — ты от кого говоришь и за кого
говоришь? Вижу, от себя говоришь, но не вижу, за кого.
415
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
— Он от меня говорит, — врезался в базар Шустик.
— Ты от Марата говоришь? — спрашиваю Пикуляс-
того.
Всё, мы победили, спи, Вадик, сейчас мы с Пикуля-
стым поедем водку пить.
— Я от себя говорю, баран! — сказал Пикулястый
Шустику.
Из рассказа Пикулястого я понял, что в Кытлыме он
гасится от какой-то братвы, что «девятку» посредством
вертолета доставил.
— Поговорить не с кем, — жаловался Пикулястый.
Прикинь, — говорил, — не с кем поговорить.
— Займись чем-нибудь, — говорил я, — закажи
в Тюмень такую трубу с линзами, будешь звезды изучать.
— Хули звезды... — совсем отчаивался Пикулястый, —
я в детстве на баяне играл...
В общагу я возвратился почти днем, по дороге встретил Махача.
— Чё, — смеялся он, — я думал, вас с товарищем уже
почикали.
Посмотрел в окно: Вадик разматывал провода, Семеныч мочился на переднее колесо «ГАЗ-66».
— Ну и сука ты, Семеныч, ты же все видел... Да
и вахтовики хороши...
— Эй, — ору, — Семеныч, давай ключи, кататься поеду!
— Ты же не умеешь водить, — опустив глаза, пробубнил Семеныч.
— А мне, — говорю, — по барабану, если уж такой
дурень, как ты, водит, так я в пять минут выучусь, тащи
ключи. Поехали, — говорю, — Вадик, поехали к ней, водки
по дороге возьмем.
— Да хорош ты, — говорит Вадик, — хочешь, езжай
один, мне работать надо. — Я сел и поехал...
416
Проза
А ю риали грет рашен поэт? — спросила меня моя
подруга.
— Нет, — говорю, — не грет, а так себе, поэт как
поэт, самый обычный.
— Как тебе, — спрашивает, — Голландия?
— Вери гуд, — говорю, — только скучно здесь.
— А в России не скучно? — спрашивает она.
— Это, — говорю, — смотря где, Россия очень большая страна, вери, — говорю, — биг кантри, ю анде-
стенд ми, май датч леди?
Проснулся посреди ночи, девушка лежала рядом
и была очень красива. «От счастия влюбленному не спится, — подумал я. — Идут часы. Купцу седому снится
В червонном небе вычерченный кран, Склоняющийся
медленно над трюмом, Мерещится изгнанникам угрюмым В цвет юности окрашенный туман». Это Набоков.
«Кто с водкой дружен, тому секс не нужен». Это нарколог Сидоров. Тихо оделся и вышел в ночь.
Когда я был маленьким, отец укладывал меня спать.
Он читал мне Лермонтова, Блока и Есенина (про жеребенка). Иногда детские стихи Луговского. Еще Брюсова
про тень каких-то там латаний на эмалевой стене. Чьи
стихи я читаю сыну? Лосева: «Всё, что бы от нас не скрывали...» и где «...Эй, дэвушка, слушай, красивый такой,
такой молодой». Гандлевского: «Осенний снег упал в траву...» и про тирольскую шляпенку1. «Рынок Андреевский»
Рейна. «Концерт для скрипки и гобоя» Слуцкого. Много
Георгия Иванова и одно, про пароходик, Ходасевича.
1 Речь идет о стихотворении Сергея Гандлевского «Найти охотника. Головоломка...» («...ружье, ягдташ, тирольская шляпенка Сплошную образовывают вязь»).
14 Оправдание жизни
417
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Державинский «Волшебный фонарь» читаю плохо, с меканьем и порою пытаюсь пересказать забытое прозой. Сын
очень похож на своего прадеда, который умер за десять
лет до моего появления на свет. Вряд ли дед читал что-
либо отцу перед сном, он был председателем райкома
партии где-то в Курганской области и, на случай ночных
гостей, спал с пистолетом под подушкой. Теперь пистолет (ТТ) теоретически принадлежит отцу, а фактически
мне. И боюсь, и надеюсь, что я последний владелец
этого чуда.
Работали мы сезон с товарищем Лехой почти геологами в одном богом забытом месте. До ближайшей
деревни час ходу плюс вброд через широченную реку, по
которой чинно плывут коровьи лепешки. Привезенное
с собой выпили в первую же ночь. Дня три терпели, потом взяли карту и, нечего делать, пошли. Дошли до реки —
широченная, из-за утреннего тумана берега вообще не
видно. Нашли какого-то пастуха, спросили, где помельче. Скинули штаны и исподнее, остались в одних тельниках, да и те до пупов подтянули. Идем. Воды ровно по
щиколотку. Идем дальше, воды не прибавляется, идем.
Вдруг туман рассеивается и метрах в десяти от нас
на пирсе стоят дачницы в сарафанах и соломенных
шляпках.
— Од-на-ко! — говорит Леха.
Разворачиваемся и уходим в туман. Перед тем как
сделать второй заход, долго слоняемся по берегу. Идем.
Уже как люди, только штаны закатали. Выходим из тумана — те же дачницы в соломенных шляпках. Ходим по
деревне, спрашиваем про водку. Нет, оказывается, водки
в магазине, а есть у бабки Макарихи. Бабка Макариха
поглядела на нас и говорит: продам, но с условием, что
418
Проза
шесть литров молока еще купите. Помилуй, — говорю, —
бабуля, на кой хер нам твое молоко?
Но бабку не сломить. Купили. Тут же выпили, чтоб не
тащить лишнюю тяжесть. Животы огромные, идем медленно-медленно, даже не говорим друг с другом. Проходим мимо хмурой компании мужиков, я случайно задеваю
одного плечом, но оглянуться, извиниться просто нет сил
никаких — попробуй, развернись с таким брюхом.
— Э, ты чё толкашься? — трусовато и тихо говорит
мужик.
Мы идем дальше, не оглядываемся. Мужик думает,
трусим.
— Хуль ты толкашься, лысый! — довольно громко
говорит мужик.
Не оглядываемся, идем.
— Сейчас, бля, догоню, на х..., так тылкану, чё мало
не буде! — орет мужик.
Идем.
Мужика начинают подогревать товарищи:
— Давай, Никита, п...дани им, чёб мало не показалось.
Смотрю на Леху, Леха спокоен. Идем. А Никита уже
совсем раздухарился, орет жуткие непристойности, глаз
обещает натянуть на жопу, но пока не бежит. Мужики
продолжают подзуживать. Слышим, бежит. Разворачиваемся. Тормозит метрах в двух, смотрит настороженно —
маленький, ресницы длинные, кудрявый-кудрявый. Мужики вдалеке тоже насторожились. Повернулись, идем.
Снова мат за спиной. Доходим до берега. Компания следует за нами. И вдруг дачница с пирса кричит, обращаясь
к нашим преследователям:
— Вот эти, эти двое перед нами мудями трясли, держите подонков!
14*
419
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Мы снова останавливаемся, смотрим заплывшими
жиром глазами на дам, потом на мужиков, молча отворачиваемся и лениво растворяемся в тумане. Переходим реку
и ложимся спать под развесистой русской березой.
— А что, князь, — говорит Леха, уже закрыв глаза, —
мужик в Тульской губернии низкоросл и широкоплеч, не
так ли.
— Как бы нас сонных не зарезали, — говорю я, засыпая, — очень жить хочется.
Я вышел в ночь и понял, что не знаю, где нахожусь,
не знаю, как дойти до отеля. Бужу какого-то чернокожего наркомана и прошу его довести меня куда надо,
конечно, не бесплатно. Ниггер бодро соглашается. Доводит меня какими-то улочками до отеля и, только я
взялся открывать дверь, выхватывает из моего кармана
сто российских рублей. Бежит.
— Э, — кричу ему, — это меньше, чем я тебе собирался дать, ровно в два раза.
Останавливается, рассматривает бумажку, думает.
Направляется ко мне. Отдает сотню и, не приняв гульдены, уходит.
Ну и ну, думаю, ну и ну! За завтраком рассказал эту
историю Рейну.
— Да ты что! — сказал Рейн. — Голландия — самая
воровская страна, со мной приключилась однажды такая история: в Амстердаме, в шахматном клубе, пока я
проигрывал «Индийскую защиту», у меня украли замшевую сумку, где было все, что человеку надо и не
надо — авиабилет в Москву, советский паспорт, две пары
очков...
— Да-да, — говорю, — солнечные и простые!
— Ты совершенно прав, — говорит Рейн...
420
Проза
После дождя мне нравится смотреть на закат, огромный закат со множеством оттенков, — кажется, там, за
закатом, я живу по-настоящему, а этот я, сидящий после
ливня у окна, всего лишь несчастный двойник, никчемная параллель, черт знает вообще кто такой. Я закрываю
глаза и вижу себя там: со мной Ирина и Артем, мы идем
к синей-синей реке, говорим оживленно, но слов я не
слышу. Вполне возможно, что я несу Артема на плечах.
Все хорошо там, за закатом.
— Папа, — однажды сказал мне Артем, когда я собрался уходить из дома, — если ты останешься с нами,
я подарю тебе лошадку.
— Ну что еще за лошадку, Тема? — спросил я сквозь
зубы, продолжая себя взвинчивать.
— Белую, с голубой гривой, — сказал Артем, и глаза
его наполнились слезами.
Потом я оказался в наркологическом отделении психиатрической больницы, днем играл в буру с Вано, слушал Петрухины анекдоты, гоготал над каждой чепухой,
а после отбоя, отвернувшись лицом к стене, зажимал
зубами угол одеяла и думал о жене и сыне, думал все,
конец. Я никогда не жалел себя, а с годами разучился
прощать. Меня, вероятно, любят, но еще более терпят,
Ирина, например. Артем любит и верит, но ему пока
только шесть лет. Когда я ушел, он убил краба, подаренного ему Ириной на Новый год, — что толку в крабе,
когда даже волшебная лошадка не может вернуть отца,
еще вчера веселого и готового помочь пройти сложные
места в «думе»? Впрочем, сам Господь Бог не сможет
объяснить этого поступка маленького доброго мальчика, сам Господь Бог. Он терпеть не может объяснений
и определений.
421
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Евгений Борисович завершил пересказ своей поэмы. Официант убрал со столика и принес два пива.
Кончился обязательный утренний дождик, и засияло
солнце.
— Никакой ностальгии в помине, — сказал Рейн, —
никакой ностальгии.
У меня не было причин возражать: в Свердловске
сейчас скучно, кто на даче, кто где, Дозморов зашился
и диссер катает, Тиновская немецкий учит, тоска...
Однако я ошибался, именно в это время в кабинет
директора ЗАО «Мрамор» вошли поэты Роман Тягунов
и Дмитрий Рябоконь. Сели за круглый стол. Поэт Роман
Тягунов решительно изложил суть их нового визита. Рекламу мы вам сделали, информация прошла во всех читабельных газетах России, по телевидению и радио, теперь
мы должны конкретно договориться о вознаграждении
членам жюри.
— Каждому по штуке, — сказал директор, ветеран
войны в Анголе, — или что, мало?
— Короче, Гена, — сказал Рябоконь, — пятнашку на
троих — и мы ставим памятник Рыжему.
— Подождите, — сказал Гена, — третий у вас кто?
— Олег Дозморов, — сказал Рябоконь.
— А Рыжий согласен? — спросил Гена.
— Плевать, — сказал Тягунов, — Рыжий сейчас
в Европе, приедет, а памятник уже стоит.
— Нет, — сказал Гена, — это нехорошо, надо его предупредить.
К нашему столику подошел бармен и сказал, что
русского поэта господина Рыжего просят к телефону.
Я зашел в отель и попросил, чтоб соединили.
422
Проза
— Здравствуй, Боря, Роман говорит, — сказал Рома и изложил свои соображения по поводу памятника, все, мол, отказываются, одна надежда на тебя,
ты же все равно рано или поздно из Свердловска свалишь.
— Так, — говорю, — Рома, есть другой вариант: вы
выводите Диму из жюри и ставите ему памятник.
— Нет, — говорит, — в жюри должно быть не меньше трех человек.
— Так о чем разговор, — говорю, — включайте меня
в жюри.
— Хорошо, — говорит, — даю тебе Диму.
— Алло, — говорит Дима.
Повторяю ему сказанное Роме.
— Ага, — говорит Дима, — вам по пять косых баксов, а мне памятник?
— Дима, — говорю, — это же слава, она дороже
денег, подумай, все очень серьезно.
— Ну ладно, — говорит, — я согласен, если Дозмо-
ров с Тягуновым против не будут.
— Отлично, — говорю, прощаясь, — считай, что из
моих пяти штука твоя, да и ребята, уверен, скинутся.
— Ну ладно тогда, — говорит, — пока.
Возвращаюсь к Рейну.
— Кто, — спрашивает, — звонил?
Говорю, что друзья.
— Состоятельные, — спрашивает, — что ли, из Екатеринбурга в Роттердам названивать.
— Мафия, — говорю, — головорезы.
— Хорошо! — соглашается Евгений Борисович.
На небе ни облачка, солнечные лучи преломляются в стакане «хейнекена», никакой ностальгии в помине.
423
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Вечером Дима долго размышлял, какое стихотворение отдать на стелу, наконец сориентировался, сбегал за
водкой и позвонил Тягунову.
— Я все, нашел, — сказал Дима, — про Валеру, мужа
моей сестры, я здесь все свои недостатки на него свалил,
«Свояк» называется, слушай, ну, ты будешь слушать?
— Да-да, — сказал Рома, — я весь внимание.
— Ну, б..., тогда слушай:
Тиран семьи и психопат, Валера,
На опохмелку просит четвертак.
Валера, забухав, не знает меры.
Валера, муж сестры моей, свояк.
Валера, это бывший мастер спорта,
В бассейне плавал он быстрее всех,
А нынче утопает в море спирта
И вызывает невеселый смех.
Вчера, нажравшись, он жену с ребенком
В мороз и снег отправил босиком.
И не было управы на подонка,
Который размахался тесаком1.
Из дому тащит все и пропивает.
И потерял уже последний стыд.
Лечиться и работать не желает.
И за сестру душа моя болит.
— Как, круто?
— Ну а что Валера, — спросил Роман, — по этому
поводу скажет?
1 Видимо, цитируется по памяти: в стихах Д. Рябоконя — топором.
424
Проза
— Да ты чё, из народа, народ, короче, — возмутился
Дима, — они любят, когда поэты про них стихи сочиняют, кайф ловят, им прикольно становится, нет, я точно
говорю, свояк затащится, когда со стелы бархат скинут
и он прочитает, тут, я тебе говорю, стопудово, Рома, стопудово.
Дима напился и стал вызванивать подруг. Вызвонил
одну, уламывал прийти в гости, опускаясь до грязных
намеков, потом уснул на полу в обнимку с телефоном,
снова увидел во сне сначала смерть отца, а потом как
будто отец вовсе и не умер, а умер кто-то другой, и отец
жив — Дима смотрит на него и, считая бестактным рассказать отцу, что я-то, дурак, думал, что ты умер, только
плачет, разводя руками, и плачет.
А Роме Тягунову не снилось ничего вообще. Мне
знакомо это состояние, были и у меня ночи без кошмаров — небеса даруют ночное спокойствие младенцам
и воинам. Лучше всего я спал, когда наш район находился в состоянии войны с общежитиями, в которых
обитали рабочие из Азербайджана.
Началось с пустяка: Сява Козлов забурился к ним
на дискотеку, чего-то там натворил, бежал через окно.
Те за ним. Сява через забор на стройку и зашухерился
в ковше экскаватора. Азеры устроили шмон на стройке
и в итоге определили, что обидчик зашкерился именно
в ковше. Каковы их дальнейшие действия? Вытаскивать
парня за шкварник и разбивать туфли о его ребра,
предъявлять энную сумму за нанесенную обиду, закидывать бензиновыми факелами? Нет, азербайджанцы
просто-напросто подвигали рычагами в кабинке, и Сява
до утра завис в загаженном ковше на высоте тридцать
425
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
метров. Это было обидней всего. Вечером следующего
дня мы взяли в кольцо враждебные общежития, предварительно взломав склад «Мясокомбината» и стибрив
огромное количество флагов, хранившихся там на случай демонстрации, сорвали полотнища. Вооруженные
березовыми древками, мы стояли и ждали. Азербайджанцы между тем закладывали окна первых этажей матрасами и сетками от кроватей, уходя в глухую оборону.
Тогда было принято решение разбиться на две боевые
и одну мобильную группу. Одна боевая группа обходила
общежития с левого фланга и сливалась с вечерней
мглою, курить запрещалось. Вторая боевая группа уходила на квартал и напряженно ожидала, сидя на корточках за кустами сирени. Мобильная группа состояла из
десяти человек, умевших быстро бегать и ловко уворачиваться от летящих предметов. Итак, мы отошли.
У враждебной стороны сложилось впечатление, что
нам все надоело. Азербайджанцы помаленьку успокаиваются, но вдруг под их окнами появляются безоружные
наглецы-одиночки, выкрикивающие бранные слова
и всячески кривляющиеся. Взбешенные азербайджанцы
всей братвой — кто с ножом, кто с сечкой, кто просто
с отверткой — выбегают на улицу и гонятся за мобильной группой. Пробегают квартал, и в это время вторая
боевая с гиканьем выступает вперед. Враг бежит в крепость, но не тут-то было — первая боевая преграждает
ему дорогу. Начинается бойня. Милиция приезжает
и, поорав в громкоговоритель, уезжает. Но я не Гомер
и не Гоголь, чтоб суметь в деталях описать всю прелесть
сражения. Помню, меня сбили с ног и стали пинать, но
тут же подоспел Серый Лузин и на секунду, за которую я
успел встать, оттеснил злодеев. Мы явно одерживали победу, и кончилось все довольно быстро. Азербайджанцы
426
Проза
признали свою неправоту и отдали в наше распоряжение
гараж, до крыши заставленный ящиками с водкой «Сибирская». Были искалеченные, но жертв не было. В эту
ночь я, воин, спал как младенец. На следующий день
в районе была большая пьянка, были и жертвы — убили
безрукого Капу и еще пару-тройку ребят. После похорон
дядя Саша медленно говорил нам, что не дело всем миром гужбанить, что водку продать надо было, а на вырученные деньги купить своим дамам цветы.
С букетом обдрипанных роз на автобусной остановке
я ждал Ирину. Ирина опаздывала на час-полтора, и мы
шли гулять. Путь наш был замысловат — то я вел ее дворами, то предлагал свернуть и пройти аллеей, а иной отрезок пути настоятельно советовал проскочить на такси.
Она ничего ровным счетом не понимала и только пожимала детскими плечиками.
— А знаешь, Ирина, ведь меня тогда могли запросто
убить, неужели ты не чувствовала? Так или иначе, мы
с тобой вместе десять лет, а ты ни разу не спросила, что
с моей физиономией? Ты не прочитала ни одного моего
стихотворения... Ты равнодушно проглядела заметку
в «Литературной газете», написанную по всем правилам
доноса — представь, меня бы могли расстрелять, живи
мы с тобой не сейчас. Ты бы плакала, если б меня расстреляли? Жаль, что ты не дочитаешь до этого места, иначе
я бы о многом тебя спросил, многое бы тебе поведал...
Я очень замерзал, когда ждал тебя зимой в джинсовой ветровке, стесняясь надеть зимнее советское пальто. Прости
мне эту слабость, я люблю тебя. Помнишь, какие письма
я писал тебе из Кытлыма? Я описывал горы, карликовые
сосны и невеселое северное солнце, голубые ручьи с крупицами платины, огромные поляны, усыпанные синей
427
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
ягодой, высокое-высокое небо. Все это и по сей день
во мне, только загляни глубже в глаза мои, загляни глубоко-глубоко, и, может быть, удивившись, ты найдешь
в себе силы простить меня.
— Долго ты еще собираешься сидеть в своем Екатеринбурге? — спросил Рейн.
Год назад тот же вопрос задал нам с Олегом Дозмо-
ровым в номере гостиницы «Морская», где мы проживали как участники какого-то конгресса, связанного с юбилеем не то Пушкина, не то Лермонтова, Сергей Маркович Гандлевский, которого мы на правах поклонников
его стихов зазвали к себе пить сок (Саша Леонтьев, присутствовавший там, пил, впрочем, водку).
— Свердловск — это ад! — сказал Сергей Маркович.
Мы с Олегом согласились, это ад. Огромное окно
выходило в ночь, на Финский залив, где полыхал разноцветными огнями теплоход «Максим Горький». Забавный был конгресс. Там я впервые в жизни, например,
слышал стихи Беллы Ахмадулиной. Там можно было зайти
в бар и выслушать нравоучительную историю от какого-
нибудь поэта в летах.
— Вот, — подсаживался к нам кто-то, вероятно, известный и уважаемый, — слушаю я вас, молодые люди, о чем
вы говорите! Что вы пьете? Разве так у поэтов бывало?
— Как же, — спрашивали мы, — бывало?
— А вот так, — говорил поэт, — приходишь к Самойлову, читаешь ему написанное за последние дни, потом сам
Дэзик читает, коньячок, само собой... о чем вы говорите!
Мы, кстати, говорили о письмах Гоголя к Пушкину,
а не пили, потому как зашиты были.
Впрочем, Саша Леонтьев пил. Перед тем, как Андрей
Юрьевич Арьев, представлявший поэтов публике, назвал
428
Проза
фамилию Леонтьев, Саша подошел ко мне с трясущимися руками и сказал, что не нашел в своей книге ни одного хорошего стихотворения, бросил книгу и ушел, читать
не стал. Я поднял книгу и прочитал: «Александр Леонтьев. Зрение», перевернул и еще раз прочитал в левом нижнем углу: «...I've just finished reading Alexander's poems <... >
Some of them are truly wonderful — actually, a very high
percentage of them is»1. И ниже — «Joseph Brodsky. Letter to
Kimberly Hinton. September, 1992»1 2.
Беда нашего поколения в том, что мы слишком мягки
или, как сейчас модно говорить, толерантны. Ведь это же
и моя вина, ведь это я должен был сказать своему другу:
— Старик, оставь в покое Бродского, ты будешь только смешон.
Впрочем, беда нашего поколения еще и в том, что
мы не доверяем друг другу. Скажи я Саше все это, он бы
пропустил мимо ушей, а чего хуже — счел бы за зависть.
— Долго ты еще собираешься сидеть в своем Екатеринбурге?
Я пожал плечами: если с женой наладится, так до
самой смерти и просижу. Да и если не наладится, как я
могу уехать? В Свердловске прошло мое детство, здесь
мои друзья, по этим улицам по ночам прогуливаются
тени родных мертвецов, погибших в самых сказочных
обстоятельствах. В Свердловске до сих пор по 20-му
маршруту ходит автобус, где на спинке последнего
сиденья выцарапаны мои инициалы «Б.Р.» — это я ездил со своего Вторчермета к Ирине в Елизавет.
1 Я только что прочитал стихи Александра <...> Большинство из них
действительно прекрасны (англ.).
2 Иосиф Бродский. Письмо Кимберли Хинтону. Сентябрь 1992 (англ.).
429
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
— А вообще, — говорю, — Евгений Борисович,
с женой у меня вряд ли наладится. Слышал я, — говорю, — вы на ВЛК преподаете, нельзя ли мне каким-
нибудь образом там год-другой перекантоваться?
— Ты с ума сошел, — сказал Рейн, — кто тебя примет, у тебя книга, ты лауреат Антибукера, хули ты ерунду
городишь.
— Ну, — говорю, — книга-то совсем тоненькая, а что
касается Антибукера, так я получил поощрительную премию. Вы же, — говорю, — были в жюри.
— Да! — говорит Рейн.
— А знаете, — говорю, — Евгений Борисович, если б
не вы, так я бы от премии отказался: деньги небольшие,
не хотелось на говно наступать.
— Выходит, — говорит Рейн, — ты из-за меня в говно вступил?
— Выходит так, — говорю.
31 августа 1987 года с «Мясокомбината» удрал баран.
Гриша-Поросенок, увидев в окно сначала барана, а потом
несущуюся за ним ораву малолеток, достал из ящика кухонного стола сечку, снял майку и выбежал из подъезда.
— Где баран? — спросил Гриша-Поросенок играющих в «свару» хулиганов. — Ребята, — повторил Поросенок, — тут баран пробегал...
Старшие, начиная с дяди Саши и заканчивая Гутей,
Гришу не уважали, эта неприязнь передалась и младшему
поколению — Поросенок, по словам старших, в бытность
свою заключенным вел себя не совсем как настоящий мужчина. Обделенный вниманием, Гриша-Поросенок вздохнул, поглядел по сторонам и, размахивая сечкой, сначала
побрел, а затем побежал в выбранном наугад направлении.
Через какое-то время Поросенок с Тараканом тащили
430
Проза
через двор связанного барана. Баран орал по-бабьи, а Поросенок через плечо крыл его за это матом. Барана пронесли мимо нас, затащили в подъезд и, видимо, зарезали. Потом вышли покурить, сели на скамейку напротив, и я, не
слишком азартный человек, оказался невольным слушателем истории, которую Гриша-Поросенок поведал очень худому высокому человеку с малюсенькой головой, Таракану.
— ...Муж еёный во вторую на Шинном горбатился,
а я к ней ходил, то да се. Она в столовке зав. производством была. Я смену отшоферю и — к ней. Закусон приличный, пузырь всегда в холодильнике. Только разли-
вухи литра три возьму с собой, остальное ее. Вечеряли,
а к одиннадцати я уже в общаге. Все как по маслу шло,
даже вроде типа любви что-то между нами образовалось.
Она мне пинжак мужнин отдала, штаны, рубахи, сказала, раздобрел ее Петька что-то. Ни ха себе, думаю, раздобрел, если на мне макинтош евоный как на чучеле висит, а я, считай, пятьдесят второй ношу. И вот раз, дело
к зиме, кажись, было, потому что я резину летнюю уже
снимать подумывал. Прихожу к Наталье, а мужик ее не
на работе. Вижу в проем, сидит на кухне с голым торсом,
ужинает. Наташка мне глаза сделала, но поздняк, этот уже
назад подался на стуле, посмотрел на меня и говорит:
— Ты, что ли, Поросенок? Заходи, не стесняйся.
Захожу.
— Седай, — говорит, — на табурет, водку пить будем.
Наливает. Выпили. — Не жмут, — спрашивает, — шмотки-то мои?
Я в несознанку: ничего не знаю, думал, свободная баба
твоя, что до шмоток, думал, вдова или мужик не на воле...
Выслушал молча. Налил еще. Выпили.
— Короче, — говорит, — раз такая колбаса у нас получается, так втроем и будем жить.
431
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
— Как так, Петя? — говорю.
— А вот так, — говорит, — мы с тобой два брата-
акробата, а Наташка наша жена, сегодня твоя очередь,
завтра моя, вот и вся игрушка...
— И чё, Гриша, — спросил Таракан, — стали жить?
Поросенок задумался, закурил еще одну, посмотрел
пристально на Таракана, потом поглядел на нас и сказал:
— Чего по молодости не бывает!
Водяной взял банк, пересчитал деньги и, не глядя,
обратился к Поросенку.
— Гриша, — спросил он мягко, — вы убили барана?
— В ванне лежит с кляпом в пасти, — сказал Таракан, — завтра убьем.
— Гриша, — сказал Водяной, — сколько ты хочешь за
животное? Я дам тебе сто пятьдесят рублей.
Поросенок с Тараканом вынесли барана и положили
у наших ног. Водяной отсчитал двадцать рублей и протянул обманутому Поросенку.
— Ты чё, Вадя, давай остальную капусту! — возмутился обманутый. Но Вадя был большой жулик, а тут вдобавок ко всему еще и чувствовал свою правоту.
— Иди, иди, Порося, хватит тебе... — сказал Вадя
с особенной волчьей нежностью, — иди, бухай со своим
Тараканом.
Таракан с Поросенком ушли. Барана развязали и отпустили, и где он сейчас, что с ним — я знаю не больше,
чем о других участниках этой истории. Может быть, перевалил Уральский хребет, дошел до Узбекистана и прибился к какому-нибудь дикому стаду. А может, остался
в Свердловске и сейчас на базаре кожаными куртками
банчит. Все может быть.
432
Проза
Человек живет воспоминаниями детства и мыслями
о старости, если, конечно, ему больше нечем жить. Когда
я был маленьким, сестра водила меня в Парк культуры
и отдыха имени Маяковского. Там было все: комната смеха, карусели «цепочки», качели разных видов, мороженое и сладкая вата, маленькая железная дорога, автодромы и, наконец, колесо обозрения, даже два, одно побольше, другое поменьше. Там играла уже тогда устаревшая
музыка, один и тот же набор пластинок. Дети ходили за
руку со взрослыми и улыбались. Можно было пить воду
из фонтанчика, она казалась какой-то особенно вкусной.
На клумбах росли цветы. Цыганки продавали самодельные конфеты в ярких золотинках, мне, правда, запрещалось есть эти конфеты, зато всегда разрешали покупать
у тех же цыганок разноцветные шарики на резинке. Когда
мы поднимались на колесе обозрения, Оля, придерживая
меня, показывала, в какой стороне находится наш дом.
Мы поднимались выше сирени, выше сосен, почти до
самого неба. Года два назад я решил сходить в этот парк
с сыном, побаиваясь, что он закрыт из-за нерентабельности или еще почему-нибудь — по всему городу наставлены импортные аттракционы, кому нужен какой-то Парк
культуры. Мои опасения были напрасны. Проехав несколько остановок на 10-м трамвае, мы прошли под
аркой сталинского ампира, и я, уловив знакомый запах
сирени, услышал знакомую музыку. Те же комната смеха, автодромы, качели, колесо обозрения, все то же, даже
статуя поэта, только нет улыбающихся девочек и мальчиков, сердитых мам и подвыпивших пап, нет цыганок,
продающих милую сердцу ерунду. В парке было потрясающе пусто, хотя кассы работали, аттракционы функционировали. Я первым делом повел сына на «чертово
колесо» — подняться до самых облаков. Потом мы были
433
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
в «комнате смеха», катались на автодроме, прогуливались,
и меня все это время не покидало чувство, что вот-вот
что-то должно случиться — скорее хорошее, чем дурное.
Домой мы шли пешком. Я понял, что Тоша ожидал чего-
то другого, и купил ему диск с новыми гонками. Мальчик
сказал: «Я люблю тебя, папа». Я взял его и понес на руках. Ничего не случилось, а только казалось, что вот-вот,
вот сейчас... Когда я стану старым, я приеду в этот парк
один, сяду на сырую от весеннего дождя скамейку, буду
слушать допотопную хриплую музыку и ждать. Ждать,
когда лопнет хрустальный воздух и парк наполнится
смеющимися детьми, одним из которых, наверно, буду я.
А если так ничего и не произойдет, старик, сидящий под
сиренью в пустом парке отдыха на фоне замершего колеса обозрения, — по крайней мере, это очень красиво.
Александр Верников приехал в Свердловск из города Серова, где прошли его детство и отрочество. Юность
и дальнейшую жизнь Александр Верников решил посвятить продолжению дела своего отца, известного в Серове прозаика Самуила Верникова, написавшего книгу
«Боец в строю» о службе пограничников в мирное время. Верников-сын, воспитанный на современной русской литературе, не знающий ни одного иностранного
языка1 и с брезгливостью отметавший подсовываемых
ему тусовкой Фолкнеров и Куртов Воннегутов, не говоря уже о Сомерсетах Моэмах, впрочем, дебютировал
в журнале «Урал» как автор утонченно-психологических
рассказов, собранных потом в книгу «Дом на ветру»
1 Реальный Александр Верников окончил факультет иностранных языков Уральского госпединститута, профессионально работал переводчиком английского языка, по мере сил изучая грузинский и финский языки и слывя оттого полиглотом.
434
Проза
и изданных в Средне-Уральском книжном издательстве
(в издевательном сокращении — «СУКИ»), Верников-
младший получил большой гонорар и организовал по
дружбе несколько рецензий на свою книгу в местной
прессе. Но время шло, страна трещала по швам. Рассказы Верникова-сына, еще вчера новаторские и все такое,
вдруг начали казаться чем-то чуть ли не более архаичным, нежели лубочные пограничные миниатюры Вер-
никова-отца. Тогда-то Верников-сын и увлекся Кастанедой. С нахрапом стал пожирать мухоморы, за которыми регулярно по осени выезжал с женой-соратницей
(редактором, к слову, «Дома на ветру»1), снял однокомнатную квартиру (мастерская), сел работать над крупной вещью «Странники духа и буквы». Вещь была готова ровно наполовину, когда гул робких аплодисментов,
переходящих в овации, достиг верниковской кельи.
— Кому это, собственно, хлопают? — поинтересовался затворник.
— Пелевину! — был ему резкий ответ.
Верников-младший ушел в глубокую полуторагодичную депрессию.
— Да, — говорила жена-соратница, — Саша опять
опоздал. Не знаю, — говорила жена-соратница, — как
его теперь на новый роман навести, у него жуткая депрессия.
Из депрессии Александр Верников вышел поэтом.
Натурально, за период депрессии, по собственному
признанию младшего Верникова, он написал около
тысячи коротких и две сотни длинных стихотворений.
‘ На самом деле редактором этой первой книги Верникова была С. В. Марченко, а жена-соратница — Ирина Трубецкая — работала в издательстве
помощником главного редактора.
435
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Напечатался сначала в «Урале», потом в «Знамени». Огляделся по сторонам. Огляделся, и то ли ему показалось, то
ли действительно увидел себя одним из первых поэтов
России.
— Два поэта, — дерзко обрывал он собеседника,
когда напивался на какой-нибудь презентации, — два:
я и Амелин.
Спьяну он любил называть Амелина, с которым, кажется, не был знаком лично, Максимушкой и курским
нашим соловьем.
Я был свидетелем, как, прочитав в «Новом мире» заметку Ирины Роднянской о творчестве любимого поэта,
вполне, на мой взгляд, положительную, где критик размышляет о том, что не Бродский, а Амелин закрывает
XX век, Верников-младший с горячностью стал говорить,
что «гениальный Амелин в своем творчестве не только
обобщил опыт предшествующих русских лириков, живших до него, не только подвел итог парадигме имен,
условно говоря, от Пушкина до Амелина, но главное, —
настаивал он, — своим творчеством Максим Амелин логично открывает дверь в XXI век для всей русской, а может быть, и мировой литературы!»
С Александром Верниковым меня свел случай, о котором — как-нибудь потом. Я стал бывать у него по субботам. По субботам у Александра Верникова собирались
творческие люди Екатеринбурга. Немного выпивали, играли в преферанс, а потом слушали романсы Верникова
на слова, главным образом, Амелина, которые исполняла
хозяйка квартиры. На пианино ей аккомпанировал сам
Верников или его отец, когда приезжал погостить к сыну
из Серова. После романсов Верников-сын читал что-
нибудь свое. Однажды мне довелось поговорить по душам
с Верниковым-отцом.
436
Проза
— У гениев, — сказал подполковник, — свои причуды: мальчишке едва за сорок, а он уж и завещание составил — какие стихи и когда опубликовать, и где, и как
денег добыть на полное собрание, всё, всё, каким оно
должно быть, до деталей, и памятник — до деталей...
Тут я заинтересовался и спросил, предварительно извинившись за бестактность, каким именно должен быть
памятник.
— Стела, — уверенно ответил Верников-отец, — стела из белого мрамора в виде раскрытой книги, на одной
странице Сашкины стихи сусальным золотом по гравировке, на другой — чужие стихи памяти его самого...
Честно говоря, я не мог скрыть удивления, и подполковник это заметил.
— В завещании сказано, — он так сильно приблизил в этот момент свое лицо к моему, что глаза его, как
в детской игре, слились для меня в один большой глаз, —
стихи на мою смерть заказать Максиму Амелину и денег
на сие предприятие не жалеть!
Первый сон Максима Амелина
Невообразимых размеров гроб посреди Красной площади цепью огорожен, и людей через специальный вход,
где два омоновца с автоматами стоят, пропускают. Люди,
в основной массе пожилые, но есть и молодые, кладут
четные гвоздики и через другой специальный выход уходят. Просто гора цветов. Венки с траурными лентами.
Свинцовое небо. Возможно, осень. Через весь гроб тоже
огромная траурная лента, ветер треплет ее, прочесть
надпись почти невозможно. А на крышке гроба что-то
вроде трибуны установлено. Пасмурно, повторюсь, вроде
437
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
даже накрапывает чуть-чуть, зябко. И вдруг омоновцы
вход собой загораживают, и сначала тихо, а потом громче
и громче — музыка. Толпа, заполонившая площадь, смолкает прямо пропорционально росту музыки. Музыка поднимается до самого неба и, заполонив собой все, внезапно прекращается. Наступает полнейшая тишина.
Максим Амелин идет по гробу к трибуне, глухие шаги
его слышны даже в последних рядах. Подходит к трибуне
и поднимает правую руку.
— Ода, — говорит он без микрофона, но голос его
могуч, — ода на смерть «Нового мира». — Держит паузу.
Читает.
Легкие всхлипывания народа переходят в откровенные рыдания, сливаются в общий плач.
Дочитывает. Поворачивается, чтоб идти назад, но
дорогу ему преграждает заплаканный Солженицын с черной плоской коробкой в руках. Открывает, достает и надевает Максиму Амелину на голову лавровый венок. Публика рукоплещет, снова играет музыка. Его уже несут куда-
то на руках. Гроб утягивают с площади танками.
— Девочку задавили, — кричат где-то, — девочку.
Он оглядывается и видит в толпе маленькое лицо знакомого критика.
— Молодец, — кричит ему старичок-критик, — цезуру выдержал, выдержал цезуру!
Тем не менее Голландия скучна, они, голландцы, добывают электроэнергию посредством ветровых мельниц.
Это, конечно, экологично, но, черт меня дери, как скучно!
— Это, — говорит мне мой переводчик, словацкая
девушка Ева, — очень экологично!
— А мне, — говорю, — плевать, Ева, на экологию,
у меня других забот полно.
438
Проза
— Ты, — говорит Ева, — как я думаю, волнуешься
сейчас, как и каждый русский, что у вас новый президент?
— Вот уж, Ева, — говорю, — что меня не волнует,
так это.
— О, — улыбается Ева, думая, что попала в точку, — ты расстроен событиями в Чечне?
— Нет, — говорю по-английски, — мне просто все
обрыдло.
Ева сделала большие глаза и посоветовала мне идти
в свой номер, а там лежать и читать Библию до тех пор,
пока не полегчает.
«Библия... Что Библия?» — подумал я.
Эта безусловно Книга книг помогает поддерживать
душевное равновесие тем, кто его уже достиг. От деп-
рессняка, скотского настроения и дикого похмелья Библия не спасает. Эти недуги врачуют другими книгами.
Например, и это проверено не только мною, книгами Юза
Алешковского, которые обладают какой-то волшебной
силой, — один приятель рассказывал мне, что Алешковский спас его от смерти, то есть натурально, человек пролистал «Руку» и решил не вешаться. Вот уж лет десять по
городам и весям России ходят прилизанные европейские
мальчики, беседуя с прохожими о Христе. Благое вроде
бы дело, но что-то не ощущается подвижек к лучшему,
пусть небольших, что-то не стали люди добрее. Полагаю,
если бы по тем же городам и весям вразвалку прогуливались ребята в рубахах с засаленными воротниками и базарили с народом за Алешковского, раздавая на халяву
его брошюры, не прошло бы и пары-тройки лет, — возродилась бы, восстала из праха Россия. Я это вам серьезно говорю. Без, что называется, дураков.
439
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Пришел в отель, позвонил отцу. Договорились
осенью железно ехать на курганские озера, если все
будет нормально.
Позвонил Олегу Дозморову.
— Как, — спрашиваю, — дела?
— Да все нормально, — говорит, — Рябоконь вот
опять запил.
— Случилось что-то? — спрашиваю.
— Да нет, — говорит Олег, — вроде как без повода
запил.
Повод, так или иначе, был. В этот день Дима проснулся чуть раньше обычного, чтоб посмотреть по телику
местную передачу «Криминал». Дима не любил все эти
разборки, бытовуху и изнасилования, передачу же смотрел по причине того, что вел ее его однокурсник.
— В универе вместе учились, — говорил Дима.
Лежит Дима на диване, смотрит телик, где дружок
его возмущенно говорит о росте проституции в Екатеринбурге, вскользь сообщая, что в Юго-Западном районе
девочки берут сорок-пятьдесят рублей — ровно на дозу
плохого наркотика.
— Так ведь я живу в Юго-Западном, — подумал
Дима. — Что такое пятьдесят рублей в наше время? Валера мне вчера полторы косых отвалил.
Дима оделся поприличнее и вышел на улицу. Теплынь на улице, благодать, мужики на голубятне какой-то
херней страдают, приколачивают что-то. Подошел к какому-то наркоману, спросил насчет девочки. За десятку
наркоман пообещал привести прямо на дом.
— Только деньги потом, — сказал Дима. Вернулся
домой, стал ждать. Вдруг телефон.
— Да, — говорит Дима, — слушаю.
440
Проза
— Старик, — говорит ему Рома Тягунов, — о твоей
книге в «Новом мире» написали!
— Как? — спрашивает Дима, не веря такому счастью.
— А вот, — говорит Рома, — где все книги, вышедшие за год, перечисляются, есть и о твоей: Д. Рябоконь.
«Стихи». Издательство Уральского университета. Понял?
Дима от волнения и радости начинает заикаться и, заикаясь, говорит:
— Давай-ка, Ромыч, ко мне, журнал тащи, обмоем это
дело, литруха с меня, да, возьми на закусь чего-нибудь,
у меня только лапша китайская.
Ромыч, живущий двумя этажами ниже, приходит
с журналом и шпротами. Дима бежит за водкой и прибегает, вытирая рукавом пот со лба.
— Ну, за твой успех, Дима! — поднимает тост Рома.
Выпивают.
— Ну, Дима, — говорит Рома после второй, — я побежал, дела, Дима, сам знаешь, и рад бы, но дела.
Дима Рябоконь остался один на один с «Новым миром» в двухкомнатной квартире.
Круто, размышлял Дима, заметили, значит, суки, заметили, хер теперь позволю Дозморову разговаривать со
мной покровительственным тоном, надо стихов им выслать, чтоб напечатали, круто будет — стихи в «Новом
мире». Тут в дверь Рябоконя резко постучали. Рябоконь
открыл. Впереди стоял наркоман, а за спиной его пряталась небольшого роста девица.
— Чего? — спросил совершенно пьяный Рябоконь.
— Давай десятку, — сказал наркоман, — с Юлей после
рассчитаешься.
— Чего? — угрожающе повторил Рябоконь, — да это
она мне пусть платит, ты хоть знаешь, с кем разговариваешь, сопляк?
441
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Девица выскочила из-за спины наркомана и быстробыстро застучала каблучками по лестнице. Наркоман,
недоумевая, тормозил:
— Дядя, ты чё буровишь, ты попутал меня с кем-то,
что ли?
— Вон! -- орал Дима, — к е...й матери, чтоб духу твоего здесь не было!
Наркоман ушел. Дима допил остатки водки и спустился на улицу.
— Вы на X... здесь голубятню построили? — спросил
он мужиков, задрав голову. Те сначала перестали стучать
молотками, потом спустились по лестнице на землю, подошли очень близко к Диме и нехотя стали его бить.
Олег Дозморов подарил мне на день рождения стихи:
Боря, двадцать три
года — это так
много, что смотри,
скоро будешь, как
Лермонтов, а там,
словно Александр
Пушкин, а потом
вовсе будешь стар.
Что тебе сказать?
Не волнуйся. Пей
в меру. Завязать
вовремя успей.
Муз не забывай.
Впрочем, и они
442
бляди... Ну давай,
Бог тебя храни.
Проза
Два года прошло с тех пор. Два года назад кончилось золотое время, когда мы писали друг другу послания в духе Дениса Давыдова, называли друг друга поручиками и упивались шампанским.
Например, едем куда-то в поезде, Олег смотрит
в окно и туповато-многозначительно сообщает:
— Нищета, поручик, вот бич нашей родины!
Попутчики решительно не понимают, что происходит.
Или я звоню Олегу и приглашаю к телефону «поручика Дозморова», предварительно поинтересовавшись:
— Не почивают ли они и в каком нонче духе?
— Вон, идет твой поручик, хохочет... — говорит мама
Олега. Мы обсуждали женщин, надувшись, играли
в преферанс, собирались издавать литературный журнал с виньетками и вые...онами типа «Журнал такой-
то, такой-то нумер за такой-то год. Посвящается любительницам и любителям отечественной словесности
поручиками такого-то полка, расквартированного там-
то и там-то, Дозморовым и Рыжим».
Два года прошло с тех пор, Олег, а кажется, двадцать. Куда все подевалось? Что стало с нами? Почему
господин в зеркале думает о смерти чаще, чем о жизни.
Бреется брезгливо и думает о смерти. Почему стало
плевать на то, во что ты одет? Где стрелочки на брюках? Что за перья и нитки на пальто? И что это за турецкая дрянь у меня на ногах, я всегда носил минимум
«Саламандру»? Мы предпочли вымыслу реальность,
я во всяком случае, а реальность чт<3, вот она такова.
Она серьезна до глупости, она сидит с тобой в кафе
443
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
в виде Оли Славниковой и говорит, что обязательно
надо печататься в «Новом мире», потому что это престижно, или вдруг, превратившись в редактора одного
поэтического альманаха, назидательно объясняет:
— Говорить о Довлатове как о серьезном писателе
просто смешно!
Реальность предлагает сыграть по-крупному.
И как бы ты хорошо ни передергивал, эта дрянь
передергивает лучше.
— Я проиграл несколько деревенек, поручик, но,
черт возьми, я отыграюсь, в один прекрасный день я
оставлю этих ребят без штанов. Слово офицера.
...Выпив двести, он вроде пришел в себя, злоба постепенно схлынула, и Дима без особого наслаждения выслушивал разнообразные варианты мести, предлагаемые ему
Тягуновым. Тягунов сначала предлагал всякую ерунду:
вроде спалить ночью голубятню, подпилить лестницу, короче — какие-то детские штучки, но мысль его работала.
Наконец Рома подошел к телефону, набрал какой-то
номер и проговорил в трубку следующее:
— Юрий Максимыч, тут Рябоконя обидели, вышли
своих ребят. Да, можно и меньше. Да, по тому же адресу.
— Ты куда звонил, в «Мрамор»? — ужаснулся Рябо-
конь.
Ребята приехали на желтом небольшом автобусе с горизонтальной черной полоской. Один побежал за Димой,
трое сели на скамеечку возле голубятни, водитель разделся до трусов и, прихватив замасленное одеяло, полез
загорать на крышу. Мужики-голубятники, почуяв неладное, перестали пилить и ушли внутрь голубятни, закрыли дверь. Через некоторое время из подъезда вышли Рома
с одним из подъехавших, Серегой, потом Дима.
444
Проза
— Э, — крикнул Серега, — э!
Мужики открыли дверь, высунулись.
— Это вы, что ли, те двое, что весь район в страхе
держат? — спросил Серега.
— Нет, — ответили мужики, — не мы.
— А кто вчера человека избил? — спросил Серега, —
тоже, что ли, не вы?
— Так мы ж не знали, — ответили мужики, — что это
ваш человек.
— Незнание закона, — сказал мужикам Серега, — не
спасает от ответственности.
Мужики молчали. Серега тоже молчал. Заговорил
Рябоконь.
— На X... вы меня избили? — спросил Рябоконь.
— Так мы ж, б..., не знали, что ты их человек! —
сказали мужики.
— По мне, б..., не видно, что ли, что я не сам по себе,
я, что ли, б..., на лоха похож? — спросил Рябоконь.
Мужики задумались. Рябоконь продолжал:
— Так неужели, б..., не понятно, что если вы меня
избили, то неприятности у вас будут?
— Понятно, — сказали мужики.
— Так, а на х..., б..., вы себе неприятности наживали,
когда меня били? — спросил Рябоконь.
— Хороши вы, мы видим, п...доболить, — сказали
мужики, не выдержав напряжения, — убывайте на х...
отсюда.
Трое, что сидели на скамейке, встали, водитель слез
с крыши, кинул на сиденье одеяло и стал одеваться. Одевшись, достал из-под сиденья «Калашникова» и сразу дал
продолжительную очередь поверх голубятни.
— Первое предупреждение! — сказал Серега и с остальными направился к автобусу.
445
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Рома пошел домой, а Дима так и остался стоять. Потом залез по лестнице в голубятню — мужики сидели,
обняв колени руками, лица их были искажены ужасом.
Приехали как-то с Олегом Дозморовым в Петербург на уже упомянутый конгресс, посвященный сколь-
ки-то-летию со дня рождения одного из культовых российских сочинителей. Я, как всегда, ухитрился улизнуть, а Олегу Рябоконь навязал-таки увесистую пачку
своих собственных книг.
— Кушнеру, — сказал Рябоконь, — дай пару экземпляров обязательно, ну и если кого влиятельного там
увидишь...
— Что мне с ними делать, — говорил Олег, — б...!
Первые два экземпляра подарили А. Пурину, нашему давнишнему приятелю, который зашел к нам в номер с человеком, похожим на мышь, каким-то телеведущим, и этому самому телеведущему. Таким макаром
и разошлись книжечки, один экземпляр остался. Куда
девать? И тут Олег мне напомнил, что я имею честь
состоять в товарищеских отношениях с любовником
ответственного секретаря одного толстого питерского
журнала, посредственным сочинителем, но весьма добрым малым. Я сказал, что нет проблем. При этом разговоре присутствовал Саша Леонтьев, он-то и предложил не только подарить, но и подписать, типа от Рябо-
коня — такому-то.
— Потупее, — сказал Дозморов, — но трогательно.
Саша подписал.
«Дорогому (имя в уменьшительно-ласкательном качестве, фамилия), чьими стихами я всегда наслаждаюсь, с удовольствием. Ваш Дима Рябоконь (размашистая подпись, число, домашний адрес)». Я подарил.
446
Проза
Через месяц Дмитрий Рябоконь получил письмо.
Письмо пахло дамскими духами и имело следующее
содержание:
Милый Дима!
Благодарю Вас за книгу Ваших стихотворений, я тронут. Книга очень хорошая — за нарочитой грубостью сюжетов и лексики угадывается по-женски нежная душа.
«Душа ведь женщина!», помните, как замечательно это
сказано у О. Мандельштама.
Представляю, как трудно такому тонкому человеку,
как Вы, жить в глухой провинции, как сложно писать
стихи, как почти невозможно найти человека, который
бы относился к Вам с теплотой и пониманием.
Но не опускайте руки, пишите. Пишите, Дима, и, умоляю Вас, высылайте мне, а будет возможность — приезжайте сами.
Очень жаль, что в книге нет Вашего фото.
Обнимаю Вас.
Ваш такой-то. Подпись. Число.
— Это, — говорил Рябоконь по телефону Олегу
Дозморову, — я просто о...ел, когда прочитал, просто
при...ел даже.
— Так ты же, — говорил Олег, — сам просил всяким
влиятельным твои книги раздавать, а тут любовник
ответственного секретаря, солидол.
— Тоже педераст, что ли? — спрашивал Рябоконь.
— Ну, — говорил Олег, — не знаю, если у него есть
любовник, так как?
— Борис, я, короче, на тебя в обиде, — звонил мне
Рябоконь, — на X... вы мои книги в Питере всяким
педерастам раздали?
447
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Что-то промямлив, я вдруг вспомнил, что одну книгу
Рябоконя Олег отдал Сергею Костырко с просьбой упомянуть при случае.
— Парню будет приятно, — сказал Олег.
Вспомнил я этот эпизод и сказал Рябоконю:
— Так это все Дозморов, а я твою книгу человеку
из самого «Нового мира» отдал, приколись!
— А, — сказал Рябоконь, — спасибо. — Но вдруг
спохватился. — Так ведь, — сказал, — ты же не взял
мои книги, Олег взял.
— Ну, — я хлопнул себя по лбу, — я, короче, специально купил в магазине перед отъездом. — Явная ложь,
но Рябоконь все же сделал вид, что поверил, еще раз
поблагодарил.
Олег положил трубку и, тоже подумав, что вряд ли
бы Рябоконь запил без причины, пошел открывать входную дверь.
— О, — сказал Олег, — какими ветрами! В дверях
с торбою через плечо стоял поэт из Нижнего Тагила
Василий Туреико1.
— Я из Нижнего Тагила, — сказал Туренко, — только что, привет, Олег.
Стали пить чай.
Олег, — сказал Туренко, — у меня книга вышла.
— В Тагиле, что ли, — спросил Олег, макая сушку
в чай, — как называется?
— Нет, — сказал, волнуясь, Туренко, — в Челябинске. — Он покопался в торбе, которую положил у ног,
и достал белый прямоугольник.
1 Туренко Евгений (так!) — живущий в Нижнем Тагиле, автор нескольких поэтических сборников, участник антологии уральской поэзии, выпущенной Виталием Кальпиди в 1996 году. См. на с. 451—454 рецензию
Б. Рыжего «С грустью и нежностью».
448
Проза
— Вот, — сказал Туренко, — Кальпиди издал.
Олег повертел книгу, полистал, прищурясь, прочитал название, потом пожал руку Туренко и сказал:
— Поздравляю, хорошая книга.
— Как название, — спросил Туренко, — а?
— Хорошее название, — сказал Олег, — «Вода и
вода», хорошее название для поэтической книги.
— Да, — сказал Туренко с гордостью, — Кальпиди
придумал.
— Правильно, что Кальпиди издательской деятельностью занялся, — сказал Олег, — сколько он с тебя
содрал?
Туренко заволновался.
— Сколько? — еще раз спросил Олег.
— Спонсоры оплатили, — хмуро отвечал Туренко, —
а почему правильно, что Кальпиди издавать книжки
стал?
— Потому что он не поэт, — сказал Олег.
— А кто поэт, — опустив, а потом резко подняв
голову, спросил Туренко, — Рыжий, что ли?
— Да, — сказал Олег, дожевывая очередную сушку, — Рыжий.
— Рыжий, — сказал Туренко, — это совок в худшем
его проявлении, это такое говно, что...
— Стоп, Володя, — сказал Олег, — я этого не слышал, ты этого не говорил. Слушай внимательно, — сказал Олег, разламывая сушку, — учредили новую премию, «Мрамор» называется, я в жюри, могу тебя рекомендовать.
— Кто еще в жюри? — побледнев, спросил Туренко.
— Еще, — сказал Олег, — пара писателей и Рыжий,
последний имеет немалый вес, во всяком случае его
слово что-то значит.
15 Оправдание жизни
449
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
— Так, — краснея, спросил Туренко, — надо ему
книгу подарить?
— Да, — сказал Олег, — обязательно, подпиши только как-нибудь черт его знает эдак, он лесть любит. Туренко полез в торбу, спрашивая о материальной части
премии.
— Стела из белого мрамора? — как бы переспрашивал он, подписывая.
— Ага, — подтверждал Олег, — в виде раскрытой
книги.
— Занятно, — бормотал Туренко, подписывая, —
очень занятно.
— На открытии будут присутствовать Евтушенко
и, пожалуй, Маркес, — говорил Олег. Он сидел спиной
к окну, выходящему, если так сидеть, прямо в небо.
— Маркес! — восхитился Туренко, положив перед
Олегом книгу.
— Да, — отвлекаясь на сушку, кивнул Олег, — они
с Евтушенко друзья с шестьдесят второго...
Критика
С грустью и с нежностью
Антология. Современная уральская поэзия:
сборник стихотворений.
Челябинск: Издание фонда «Галерея»,
Изд-во «Автограф», 1996.
Итак, дорогой читатель, мы имеем четвертую антологию уральской поэзии. Первая и вторая составлены незабвенным Львом Сорокиным, третья — Юрием и Любовью Конецкими, четвертая — «Виталий
Кальпиди — Идея, составление, оформление». Довольно грустный, но весьма и весьма логический перечень.
«В книге представлены тридцать сольных подборок
плюс три поэтических группы» — объявляет составитель в «От составителя», чем собственно показывает
некую рок-н-ролльную подоплеку названного выше
явления. Действительно, оформление книги (особенно
суперобложка) напоминает окрас винила или компакта
какого-нибудь дряблого, но молодящегося парня, умеющего таким образом провести перпендикулярно струнам
15*
451
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
специально длинным и упругим ногтем, чтоб извлечь
некий гармонический лязг — музыку. Именно такого
плана музыку играет подавляющее большинство авторов
антологии.
Вот цитата:
Поэты всегда сжигают мосты.
А зачем — не знает никто.
Никто не знает — зачем, почему
поэты сжигают мосты.
(Я. Болдырев)
О ком это? Что за дикое обобщение? Пушкин что
ли сжег Кокушкин мост? Или Бродский поджег Прачечный? Так нет же, нет. Бродский только стоял на
Прачечном мосту и смотрел на решетку Летнего сада —
между прочим, это открытие — я говорю о решетке
и «стрелках циферблата».
Еще цитата:
Когда мы друг друга хотели,
мы счастливо пили и ели
картофель, посыпанный луком,
и губы встречались со стуком
сердец, заходившихся в гонке
на чистой лыжне самогонки.
(А. Колобянин)
Как-то это нечистоплотно, что ли. Гадко даже. Т. е.
в буквальном смысле, физически, т. к. факт принятия
душа и чистки зубов явно отсутствует.
452
Критика
На таком фоне стихотворения настоящих поэтов
выглядят как бабочки в полштуки на воротничках десятидолларовых джинсовых рубахах рыжеволосых и конопатых американцев, отупевших от индейских набегов и бесконечного виски с содовой. Назовем Казарина
и Ройзмана, Смирнова и Фомина, еще одно-два имени
(уловка моя. — Б. Р.).
Цитата:
За окошком скрип арбуза —
снегопады, пешеход.
По ночам на очи Муза
по копеечке кладет.
( Ю. Казарин)
Геликоны — «о-о-а», «бу» — тромбоны, «з» — литавры. Но прислушайтесь, где-то играют на скрипке.
«Ч-ч-ч» выводит обиженное дитя.
Да, дорогой читатель, поэзия живет в таком «пустяке», в такой маленькой штучке, которая называется БУКВА РУССКОГО АЛФАВИТА, а совсем не в умопомрачительном псевдоджойсовском нагромождении метафор.
Впрочем, вернемся к объекту. Книга проиллюстрирована тремя художниками и одним фотографом. На
рисунках изображено нечто графическое и сумбурное,
но фотографии предельно реалистичны. Всего восемь
фотографий «пермских» и «челябинских» поэтов. Ровно половина — четыре штуки — напоминает непристойные нэпманские открытки — поэт и поэтесса
причудливо и телесно любят друг друга, причем поэт
почему-то напоминает Иисуса Христа, только гораздо
коренастей, а поэтесса — никого не напоминает, но все
равно довольно мила.
453
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Кроме всего прочего, книга снабжена «Сведениями об авторах», довольно, надо сказать, подробными.
Выглядит это приблизительно так: «Иванов Иван Иванович родился в 1937 в Свердловске, публиковался
в самиздате. Участник поэтической группы «Прости,
Дездемона!» Проживает в Свердловске по улице Красноармейцев, д. 2, кв. 3, тел. 322223». Остается добавить: холост, дурных привычек не имею. На самом
же деле составитель рассчитывает на то, что где-нибудь в Москве или Петербурге, в каком-нибудь «Новом Мире», какой-нибудь зав. отд. поэзии, сам бывший провинциал, ностальгирующий по какой-нибудь
Керчи или Туле, в которой у него до сих пор живет
дед или бабка, простая, но очень добрая и умная,
возьмет и напишет этому самому Ване Ивановичу
письмо такого содержания: «Привет, Иван! Прочел
твои стихи сам и своим коллегам по русской поэзии!
Ты гений, Ваня!». Ну, в таком духе. Довольно примитивные мечты.
Что же касается концепции книги, Уральского поэтического ландшафта — это просто смешно. Родина
поэзии — Рим. Культура. Именно по культуре тосковал Овидий, тем не менее сочиняя латинские стихи
и не собирая антологий творчества некультурного народа.
Но закругляюсь, потому что:
Болтать, друзья, неосторожно —
Другого и обидеть можно.
А боже упаси того!
Инженер-геофизик БОРИС Б. РЫЖИЙ
454
Мы листали Мандельштама
в переплете голубом
Критика
Поэзия есть драматическое произведение. Поэзия
вообще. Поэзия как таковая. Поэт только действующее
лицо среди действующих лиц, появляющихся и исчезающих, перебивающих друг друга, отбрасывающих
друг на друга тень. Но и наоборот, помогающих друг
другу гореть, поддерживающих друг друга. Интересно,
как бы звучала «Фантазия» Фета без продолжения
своего, без «Баллады» Анненского? В данном случае
почти идиллия превратилась в трагедию, тем самым
удержавшись на самом краешке прекрасного, настоящего и смертного.
Главная беда сегодняшних поэтов в том, что, любуясь собой, они не желают подыгрывать своим братьям,
еще живущим или уже ушедшим. Другое дело — подражать, перенимать элементы игры, говорить чуткие диалоги. Впрочем, если судить по тиражам этих господ,
многих читателей это устраивает.
Но если вы сумели сохранить интерес к поэзии
в настоящем понимании этого слова, книга Алексея
Кирдянова «Ночь» станет для вас настоящим открытием. Алексей Кирдянов не отталкивается от чьего-либо
творчества, дабы придать ускорение собственному, но
любезно протягивает руку своим предшественникам, как
бы заново знакомит с ними своего читателя.
Я бродил по Петербургу, хрупкому... Февраль,
как разбитую скорлупку, город собирал.
455
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
— кто сегодня умеет говорить такими хрустальными, такими будничными словами? Кажется, это сочинил Мандельштам.
Сквозь восковую занавесь,
Что нежно так сквозит,
Кустарник из тумана весь
Заплаканный глядит.
— кажется, это сочинил Кирдянов. Во всяком случае для меня Мандельштам без этого автора уже невозможен. Кто-то вместо Мандельштама назовет Ахматову, Гумилева... Кто-то — Кузмина, но это скорее от
волнения, чем от ума.
Никто, ни один из учеников Мандельштама, даже
самый важный, не смог перенять от своего учителя
мимолетности, неуловимости.
А за полночь, в троллейбусе парящем,
уколет что-то холодом пьянящим:
то к сердцу мне, что скальпелек хирурга,
приложен шпиль звенящий Петербурга.
— вот та легкость, которой нам так сегодня не хватает. Вот та горечь, которая сама по себе, которая не
нуждается в чьем-либо участии —
Не говори со мной, что я тебе отвечу?
Кажется, слова стихотворений Алексея Кирдянова
даже не нашептаны, а только обозначены движениями
губ. Как мошенник-наперсточник, путает он нас со
своим чувством-шариком —
...Имя я твое с мягким шариком «эр»...
456
Критика
— вот-вот вы угадаете, где оно, вот поймаете за руку,
но снова ошибка, наперсток пуст. Вы словно проживаете много маленьких жизней, постоянно ожидая чуда.
Вы живете и умираете ровно тридцать семь раз —
столько, сколько стихотворений собрано в этой милой
книге.
И еще, очень уж хочется напоследок срезать потенциальных хулителей Алексея Кирдянова — лицемеров и печальных ханжей — словами именно Кузмина:
Взвейтесь выше, песни эти!
Мы не дети.
И поем не для детей.
1996, сентябрь
Рецензия1
Дмитрий Рябоконь. Стихи. / Сост. Е. Ройзман
и Е. Касимов. — Екатеринбург:
Изд-во Уральского университета, 1999.
Со стихами Дмитрия Рябоконя читающая публика
Екатеринбурга знакома благодаря самиздатовским сборникам поэтической группы «Интернационал» и «Антологии современной поэзии Урала», вышедшей недавно
в Челябинске. Все. Всерьез (не в газетах) стихи этого
автора больше нигде не публиковались. Получается, тем
1 Опубликовано в приложении «Литературный квартал»: Уральский рабочий. 26 марта 1999 года.
457
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
ценнее этот сборник, выхвативший из вечности двухлетний период пребывания в Российской словесности
замечательного поэта и справедливо названный замечательным словом «Стихи».
Стихи Рябоконя требуют от читателя особой подготовки, внимания и любви к поэзии. Иначе можно запросто попасть впросак, разрыдавшись над шуточным
стихотворением или, наоборот, рассмеявшись в том
месте, над которым надо бы плакать. Феномен, на мой
взгляд, объясняется сложной литературной родословной (поэтому — «требуют подготовки») и благоприобретенным артистизмом — свойство людей, уяснивших
однажды, что говорить прямо, «в лоб» — глупо и страшно
(поэтому — «внимания и любви»). Второе, впрочем,
относится ко всем поэтам, первые стихотворные опыты
которых пришлись на середину восьмидесятых, когда
просто речь, слова, просто стихи были сведены к такой
скотской простоте, что культурному человеку казалось,
будто над ним намеренно издеваются, обдуманно, жестоко и нагло лезут в душу с сережками ольховыми и
молчаливыми матушками с коромыслами. Вспомните
изнеженных толпами поклонников официальных писателей, счастливых обладателей жизни...
На этом фоне ранние стихи Рябоконя звучат с особенной пронзительностью:
Кустами скрытая могила,
Оградка ржавая, скамья.
Там жизнь мне с кем-то изменила,
Здесь с вечной жизнью в мире я...
Это стихотворение надо знать наизусть. Да и это
тоже:
458
Критика
Расчистил снег и печи затопил.
— Соскучилась, давно ты не был, Дима.
Конечно, женщины. Наверно, много пил,
Любимый мой, любимый мой, любимый.
— А дом-то в скором времени снесут.
Тогда куда податься-то мне. Люба?!1
Для этих шести строчек надо бы написать музыку,
тихую и печальную. Получился бы замечательный гимн
нашей Родины — свердловских задворок, Екатеринбурга.
России, которая оставила поэту единственное право —
любить и оскорблять. И того и другого у Рябоконя достаточно. Любви и оскорблений — в равной степени,
хотя, как мне почему-то кажется, перевес должен быть
все-таки на стороне любви. Любовь все-таки, не до
оскорблений:
Роются в чем-то вороны и галки
(Это везде, а не только у леса).
Нужно надеть респиратор, а палка —
Вовсе не средство защиты от бесов.
Если появятся — к бесам пошли бы
(Тут Геркулес наживал себе грыжу).
Я не куражусь над Родиной, ибо
Родины в прелестях этих не вижу.
Зато Родина видит нас — тут уж ничего не поделаешь. И видит, и слышит, и похоронит за свой счет,
если появится такая необходимость. А что — жизнь
1 Стихотворение Д. Рябоконя имеет еще две строки:
Родные стены больше не снесут...
Дай лучше поцелую тебя в губы...
459
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
трагична и временами вообще неуместна. Дело поэта —
поймать ритм трагедии, изменяющейся во времени и
пространстве, а потом усилить в меру своих музыкальных способностей. С последними у Рябоконя дело
обстоит самым наилучшим образом, музыка его стихов завораживает и остается с вами навсегда.
Поскольку в рецензиях принято желать рецензируемому автору, я хочу пожелать Дмитрию Рябоконю чего-
нибудь реального, а именно — признания. Признание
необходимо писателю. Большая литература, как замечено не мною, возможна только при наличии большого
читателя. То есть какое-то время можно выезжать за
счет куражу, но с годами кураж исчезает — вот тут-то
и должна появиться любовь публики. Ее поэт заслужил.
Напоследок для тех, кто не успел купить книгу, приведу одно стихотворение полностью. Мое любимое из
Рябоконя. Про свояка, про Валеру1.
Б. РЫЖИЙ,
соредактор альманаха «Муравей».
Актуальная поэзия с Борисом Рыжим
Книжный клуб, 2000, № 2
Борис Рыжий — новый культовый поэт, лауреат премии «Антибукер» почетный автор центральных толстых
журналов, участник ряда острых сюжетов литературной
действительности. Весной этого года представлял Россию
1 Стихотворение Д. Рябоконя «Свояк» см. в «Роттердамском дневнике»,
на с. 424.
460
Критика
на Международном конгрессе поэзии в Роттердаме. Живет и работает в Екатеринбурге.
Побывав на шестом бастионе русской поэзии, получив одно пулевое (в плечо) и два осколочных ранения (одно в ногу, другое... тоже в ногу), а также заслужив георгиевский, возвращаюсь к мирной прозаической жизни литератора средней руки. Делиться
воспоминаниями, рассуждать о тех или иных литературных событиях и персонажах, немного философствовать, а иногда просто болтать на отвлеченные темы —
вот, собственно, все, что я собираюсь предложить
читателям «Книжного клуба». Впрочем, как всякий понюхавший пороху офицер, обязуюсь быть предельно
откровенным касательно даже самых пикантных вопросов, не преследовать каких-либо «шкурных» интересов, а ежели и отчебучу порою что-нибудь эдакое,
то единственно по причине самодурства, на которое
мужчина моего возраста и положения вполне имеет
право.
Итак, актуальная поэзия, господа! С чего начнем?
Начнем с простой арифметики, прикинув на пальцах, сколько живых поэтических единиц задействовано на сегодняшний день в распахивании полей отечественной силлаботоники. Возьмем журналы «Новый
мир», «Знамя», «Дружба народов», «Октябрь», «Звезда»
и «Урал». Каждый из этих «толстяков» ежемесячно, если
брать по минимуму, представляет по 4 поэтических
единицы, то есть в совокупности — 24. Помножим 24
на принятое количество месяцев в году, получим 288.
К этим 288 присовокупим господ, печатающихся в чисто поэтическом альманахе «Арион», бойцов невидимого
фронта, выступающих на страницах «Невы» и «Новой
Юности», приплюсуем ко всему этому товарищей из
461
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
«Современника», а также литературных бомжей, ютящихся в разветвленных теплотрассах русского Интернета. Итого: 692. А теперь сделаем вполне вероятное
предположение, что каждый из этих шестисот девяноста двух вырабатывает в год хотя бы одну хорошую строчку. Путем опять-таки простейших вычислений получим 14,41 строки в неделю. Отбросив десятые и сотые,
имеем полноценный сонет — два катрена и две терцины, с обязательной цезурой после второй стопы. Ну,
сонет не сонет, а об одном замечательном стихотворении, а следовательно, и о поэте, раз в неделю-две говорить стоит.
Поговорим о Сергее Гандлевском, чье избранное недавно вышло в екатеринбургском издательстве
«У-Фактория»1. В избранном полностью представлены
нетленный «Праздник», сборник эссе «Поэтическая
кухня», великолепная проза — «Трепанация черепа»,
«Пьеса для чтения», опубликованная в свое время почему-то в «Звезде», а кроме того, стихи последних лет.
Вроде бы абсолютно все, что вышло из-под пера этого
поэта, представлено в избранном, и избранное, таким
образом, является ничем иным, как полным собранием
сочинений — так? Так, да не так. Вот:
Фальстафу молодости я сказал «прощай»
И сел в трамвай.
В процессе эволюции, не вдруг
Был шалопай, а стал бирюк.
И тем не менее апрель
1 См.: Гандлевский С. М. Порядок слов: Стихи, повести, пьеса, эссе. —
Екатеринбург: «У-Фактория», 2000. — 432 с. (Серия «Новый русский
век»).
462
Критика
С безалкогольною капелью
Мне ударяет в голову, как хмель.
Не водрузить ли несколько скворешен
С похвальной целью?
Не пострелять ли в цель?
Короче говоря, я безутешен.
Этого стихотворения нет в книге, следовательно,
мы действительно имеем дело с избранным поэта, чьи
заслуги перед российской словесностью перечислять
сейчас нет ни времени, ни места. А вот о заслугах перед
читателем сказать надо. Впервые после многолетнего
перерыва, открыв обычный литературный журнал, мы
можем взять и прочитать шедевр, написанный не сто,
даже не пять лет назад, а вот совсем недавно, и почувствовать такую близость вечности, какую ощущали, быть
может, только тогда, когда читали в периодике «Поэму
без героя», например, еще живой Анны Андреевны
Ахматовой.
А без ощущения вечности жить можно только теоретически...
Книжный клуб, 2000, № 4
Арсений Тарковский настаивал на том, что поэт не
может быть литератором, а поэзия — не литература. «Я из
ряда вон выходящих сочинений не сочиню, / я запрячу
их в долгий ящик...» — писал Борис Корнилов. Или вот
еще, Борис Слуцкий: «Опубликованному чуду / я больше доверять не буду...» Настоящие стихи беззащитны,
они сочинялись тайно, говорится в них о любви и смерти. Трезвому, высоколобому, расчетливому времени не
463
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
до жалоб ребенка, не до пьяных слез, время не терпит
лирики. Отдавать в печать стихи невыносимо тяжело (это
как вести ребенка в школу), но ничего не поделаешь —
отдавать надо. Поэтому, может быть, к ощущениям, возникающим при чтении подборки или книги живущего
там или сям поэта, примешивается еще и что-то личное,
что ли, — понимание того, что это поступок.
Десятый номер «Нового мира» открывается циклом новых стихов замечательного, стоящего всегда как
бы в стороне ото всех, поэта Ильи Фаликова. Каждое
из стихотворений подборки требует по меньшей мере
разговора, а стихотворение «Памяти Луговского» —
особенно, хотя бы уже из-за своего названия. Обратите
внимание, кого сегодня принято поминать. Принято
поминать Бродского, Мандельштама, Ходасевича. Поэтессы поминают Цветаеву, реже — Ахматову. Те, кто
не относят себя ни к поэтам, ни к поэтессам, т. е. среднее звено, усиленно поминают Кузмина и, непонятно
почему, Иннокентия Анненского — вместо, например,
Апухтина.
Скажу более.
Один очень известный поэт, подвыпив, говорил
мне, что читать советских поэтов решительно не стоит,
а пытаться разобраться в их судьбах — дело абсолютно
бессмысленное. Я не оспаривал этого человека, потому
что думают подобным макаром очень и очень многие.
Есть, конечно, и думающие не только иначе, а совершенно противоположным образом. Другой очень известный поэт, которому вообще-то стоит доверять,
однажды назвал Луговского гением . У него, по правде
говоря, есть личная причина это утверждать: вдова Владимира Александровича как-то взяла и подарила ему
пиджак из гардероба покойного супруга. «Я надел этот
464
Критика
пиджак, — говорил мне поэт, — и что, ты думаешь,
со мною произошло? Я натурально перевоплотился.
Я ощутил себя Владимиром Луговским!» Это, конечно,
тоже крайность.
Но вернемся к предмету. Вот последняя строфа названного стихотворения:
Честный язык, намоловший немало вранья,
шаг по брусчатке, впечатанный в камень сырой,
горькое горе.
Сколок погибшего слова под сердцем храня,
около рынка по воздуху шарю рукой
в северном море.
Это об авторе «Середины века». «Сколок погибшего
слова...» Лучше, полагаю, никто уже не скажет.
Что же касается меня, мне у Луговского нравится
стихотворение «Озеры»:
Вынув пистолеты, мы входим в дом.
Зайчики играют на серебряной посуде.
За тяжелоногим дубовым столом
Час тому назад сидели люди.<...>
В зеркале застыл еще туманный след,
Жизнь чужая медлит, замирая слабо...
Где она оборвана — мне дела нет, —
Дом предназначен для нашего штаба.
Мне, как Илье Фаликову и тому другому, очень известному поэту, есть дело до того, где оборвана жизнь
Владимира Александровича...
465
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Книжный клуб, 2000, № 7
Господа, обратите внимание: в десятом номере журнала «Знамя» напечатаны стихи Елены Тиновской,
дебютировавшей год-два назад в «Урале». «Не-женские»,
правдивые, до боли трогательные вещи:
«Хрущёвский» двор. Там солнце поутру
Позолотило скат ребристой крыши,
И хлопают крылами на ветру
Ободранные старые афиши.
Бесцеремонно серая ветла
Мизинчиком царапается в раму,
Воробушек — за папу и за маму —
Поклёвывает крошки со стола,
Для домино, где пролито вино,
Пятнистая оставлена газета...
Неряшливая верная примета,
Что все как раньше, как заведено.
Всё как раньше, как заведено. Хрущевский, без
кавычек, двор. Стол под обветшалой какой-нибудь сиренью, сколоченный специально для вина и домина.
Ветер, вырывающий газету из-под тяжелой — 0,8 — пустой бутылки с цифрами «777» на этикетке. Тихо и безлюдно, потому что все разбрелись по крохотным своим
квартиркам смотреть очередную серию кина про Штирлица. Кому не знакома эта картина остановившегося —
теперь уже навсегда — времени! Боже мой, боже мой...
А еще облака, синие облака над серыми крышами, самые простые эпитеты и чувства, самая простая жизнь,
466
Критика
самая простая любовь, самая простая жалость, самая
простая смерть.
Не надо ничего, никаких обобщений, выводов, метафор и тропов, Фрейдов и Фроммов, хакеров и Хайдеггеров — ничего не надо, надо сесть в раздолбанный
«львовский» автобус, облокотиться на задней площадке
на перемотанный синей изолентой поручень и ехать,
ехать, ехать, пока дорога не повернет к тому единственному, что есть на свете, — к детству:
Автобус развернулся к Сортировке.
И быстро замелькал по правой бровке
Глухой пейзаж промышленных окраин,
Где островок сосновый неприкаян,
Где толстые панели стеновые
Вдоль территорий по периферии
Срослись плечами на своих заставах,
Притоплены в кустарниках и травах.
Столбы, столбы, опоры с проводами
Над железнодорожными путями,
И неба пласт поверх складов фабричных
В пролётах стен горчичных и коричных,
И пустыря разбойные поляны,
И тополя, и мостовые краны,
Возвысившиеся над тупиками
С контейнерами и товарняками.
Глубокий-глубокий лиризм с каждым новым словом,
слогом, звуком становится все нежнее и нежнее, и не
видно конца этой бесконечной человеческой нежности.
467
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Появляется чувство радости и страха, невозможности
того, что та, кем сочинены эти стихи, живет рядом
с тобой, «работает кондуктором», как сказано в «Знаменской» врезке. С другой стороны, именно это странное обстоятельство и обнадеживает.
...КоНТейнеРаМи и ТоваРНяКаМи — вальс согласных. Время, остановившись, превратилось в музыку,
в медленный-медленный танец, в шепот: ты любишь
меня, любишь?
— О, до головокруженья, до слез, до го-лово-кру-
же-ния!..
Книжный клуб, 2000, № 9
В то время, как Набоков-прозаик, Набоков-писатель
признан и оценен всеми безоговорочно, к Набокову-
стихотворцу относятся в лучшем случае как к эпигону
Ходасевича (в чем отчасти сам Владимир Владимирович и виноват, открыто противопоставив свою персону
в «Даре» Владиславу Фелициановичу — так, во всяком
случае, многим показалось), в худшем же просто воспринимают набоковское стихописание как баловство,
игру, барскую причуду вроде той же охоты на бабочек.
Между тем Набоков — поэт, и поэт огромный. Он сделал что-то такое очень важное для дальнейшего развития изящной словесности, а именно — сохранил для
нас пушкинскую радость, пушкинское достоинство.
И очень даже может быть, что однажды Набокова, которого Георгий Иванов обозвал чем-то вроде бездарного барчука, назовут первым поэтом эмиграции. Не Ходасевича, не Цветаеву, а Набокова. Но и эта оценка
будет, я думаю, слишком заниженной.
468
Критика
Набоков — джентльмен. Вечер с Музой он проводил не в угрюмых размышлениях о судьбе России, не
в жалобах на судьбу собственную. Это была светская
беседа, воспоминания о прошлом и будущем, что для
большого поэта одно и то же, это была легкая болтовня на серьезные темы. Легкая, чтоб не утомлять даму.
Серьезная, чтоб не заскучать самому.
В те дни, дай Бог, от краю и до краю
гражданская повеет благодать:
все сбудется, о чем за чашкой чаю
мы на чужбине любим погадать.
И вот последний человек на свете,
кто будет помнить наши времена,
в те дни на оглушительном банкете,
шалея от волненья и вина,
дрожащий, слабый, в дряхлом умиленье
поднимется... Но нет, он слишком стар:
черта изгнанья тает в отдаленье,
и ничего не помнит юбиляр.
Мы будем спать, минутные поэты;
я, в частности, прекрасно буду спать,
в бою случайном ангелом задетый,
в родимый прах вернувшийся опять.
Библиофил какой-нибудь, я чую,
найдет в былых, не нужных никому
журналах, отпечатанных вслепую
нерусскими наборщиками, тьму
469
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
статей, стихов, чувствительных романов
о том, как Русь была нам дорога,
как жил Петров, как странствовал Иванов,
и как любил покорный ваш слуга.
Но подписи моей он не отметит:
забыто все. И, Муза, не беда.
Давай блуждать, давай глазеть, как дети,
на проносящиеся поезда,
на всякий блеск, на всякое движенье,
предоставляя выспренным глупцам
бранить наш век, пенять на сновиденье,
единый раз дарованное нам.
(Годовщина, 1926)
К своей Музе так относился только Пушкин. Думаю,
и вторую часть «Воспоминания» (самые, на мой непросвещенный взгляд, сильные строфы из всего, что вообще написано им) он отбросил, оставил в черновике, не
дал в печать из обыкновенной человеческой деликатности. Не хотел пугать столь хрупкую и воздушную особу.
Книжный клуб, 2001, № 1
Примерно месяц назад в Доме кино, в малом зале,
прошел вечер поэзии Екатеринбурга, на котором читали стихи почти все наши известные поэты:
Елена Тиновская, Александр Верников, недавно бросивший прозу и принявшийся за поэзию, далее Юрий
Казарин, ОлегДозморов, Юлия Крутеева, Евгений Ройзман, Дмитрий Рябоконь и Аркадий Застырец. (Жаль,
470
Критика
не было Романа Тягунова, и вообще жаль, что он в последнее время куда-то запропастился, он очень хорошо
читает, и, полагаю, устроителю вечера Константину
Богомолову надо было Тягунова все-таки каким-то
образом отыскать и под личным надзором доставить
к месту назначения. Хотя ходят слухи, что Тягунов сейчас пребывает в Тюмени, где помогает какому-то политику занять место то ли в областной думе, то ли еще
где-то. Если это так, то не ехать же, действительно,
Богомолову за Тягуновым в Тюмень...) Вечер вел поэт
Евгений Касимов. Публика, говорят, была, и много,
т. е. зал битком был набит, т. е. нечего жаловаться на
отсутствие ценителей изящной словесности. В конце
вечера дали слово патриарху уральской поэзии Герману Дробизу, который сказал одобрительную речь и прочитал с десяток сочиненных в последнее время крепких стихотворений.
Я тоже должен был читать на этом вечере, но почему-то отказался, сославшись на какие-то неотложные
дела, болезни неизлечимые, еще на что-то. Соврал, короче говоря, и не пошел. Потом стал думать: а почему?
Что, сложно прочитать с листочка в зал пару-тройку
стихотворений? Несложно. Или я жутко боюсь взыскательной местной публики? Нет, не боюсь я никого. Так
в чем же, собственно, дело, может, мне просто наплевать на то, что происходит в родном городе? Да нет же,
я люблю мой город. Ну, так отчего же? Не имею понятия, господин в зеркале, но город я свой люблю.
Люблю его двоечником, сбежавшим с уроков и собирающим пахнущие осенью окурки на аллее, где осыпаются так называемые яблони. Люблю его хулиганом,
выигравшим благодаря крапленой колоде четвертной
у соседа по парте. Люблю его заводы, включая даже
471
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Мясо — и Жиркомбинат. Люблю его чумазое небо.
Я люблю свой город влюбленным в одноклассницу молодым человеком, тощим спортсменом, проигравшим
очередной поединок, пьяным студентом Горного института, другом своих друзей и врагом дружинников
и милиции. Выдыхая дымок сигареты, я на самом ломаном в мире английском рассказывал двум бездомным неграм, как я люблю свой город, и вспоминал
телеграмму, которую в утро отъезда в Роттердам получил от Ромы Тягунова:
друг мой рыжий
в добрый путь
в роттердамах и парижах
про свердловск не позабудь.
На вопрос «Какой он, твой город?» я отвечал «Сказочный, поэтичный!», начинающийся матерящимися
грузчиками в Кольцово, а кончающийся на самой высокой точке неба. Именно, поэтичный, именно.
Свердловск (прошу прощения за старославянизм) —
это и есть поэзия, Свердловск — лирическое пространство в семь-восемь, не менее, четверостиший с автогероем. О каком таком чтении стихов со сцены, да
еще групповом, может идти речь? Это же тавтология.
Это ведь чушь-неразбериха и ничего хорошего. Таковы,
вероятно, были мои ощущения, которые я не мог воплотить в слова.
Именно в связи с этими ощущениями, наверное,
я и не пошел в Дом кино читать стихи, а пошел читать
сыну на сон грядущий «Мемуары Папы Муми-Трол-
ля», которые в былые годы мне читала сестра, когда я
болел ангиной, — а потом сел за статейку для «Неза¬
472
Критика
висимой газеты», где к утру, приговаривая «о-хо-хо-
нюшки», как это делает Муми-Мама, вкратце изложил
сегодняшнюю ситуацию в русской поэзии.
Именно в связи с этим, а не в связи с тем.
Книжный клуб, 2001, № 3
В издательстве Геннадия Комарова «Пушкинский
фонд» вышла очередная книга Владимира Гандельсма-
на «Тихое пальто». Первое стихотворение книги достойно самых лучших эпитетов, и я даже приведу его
здесь целиком.
На что мой взгляд ни упадет,
то станет в мир впечатлено.
Отечный свет аптек придет
из переулочных темно.
За ним туманный гомон бань,
где пухнет матовая мгла,
и в гардеробе горбит брань
худую спину из горла.
За ним убожество больниц,
где выдыхают жизнь плашмя,
или иконы бледных лиц
глядят, как мать сидит кормя.
Пусть известковых стен подъезд
и подворотни грубый грот
дырявят плоскость этих мест —
на черный день есть черный ход
473
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
и есть материя стиха,
когда выныриваешь вдруг
на ленинградские снега.
Бери. Они из первых рук.
сентябрь 1998
Это великолепные стихи, это как раз то, что «останется чрез звуки лиры и трубы», перед тем как тоже
«пожраться вечности жерлом и общей не уйти судьбы».
А теперь свой возвышенно-восхищенный тон, при
всем нежелании, я должен сменить на тон прохладноотстраненный, потому как второе, третье, четвертое
и т. д. стихотворения книги (исключая «С трамвайного
поползновения...», посвященного памяти Л.), при всей
изощренности, затейливости и изобретательности, вряд
ли имеют право на существование, ибо написаны, на
мой взгляд, без вдохновения, а просто от нечего делать или еще по каким-то внепоэтическим причинам.
Поэт — а Гандельсман поэт, и поэт большой — должен, и может быть, даже грубо, заставить замолчать свою
Музу, когда крошка начинает забалтываться, а не слушать зачарованно белиберду этой прелестницы, даже
если белиберда произносится божественно-красивым
голоском. Надо уметь быть мужчиной и в таком женственном деле, как стихосложение.
Думаю, выход этой книги неоправдан. Я раздражен.
Раздражен, потому что Гандельсман, как уже было сказано, замечательный поэт. Замечательный поэт, а не
признанный бездарь, чьи ежегодные книги и ежемесячные публикации воспринимаешь как непогоду, дождь,
слякоть. На бездаря не злишься, он свое получит, когда
явится для известной проверки на небезызвестные брега, бездаря жалеешь, разводишь руками, и только. А вот
474
Критика
что скажет Владимир Гандельсман пред ликом Аполлона? Вернее, что скажет Аполлон, узрев Гандельсмана? —
не знаю, не знаю, наорет, наверное.
Матом даже, может быть, матом.
Книжный клуб, 2001, № 5
Боль утихает,
Если начать
Только стихами
Ей отвечать.
Кто меня мучит,
Мутит мне кровь?
Кто меня учит
Рифме «любовь»?
Рифма глухая...
Впору кричать.
Только стихами
Могу отвечать.
Р. Тягунов
Только стихами мог отвечать... Не стало поэта Романа Тягунова: трагически погиб, как пишут в газетах
и говорят по телевидению и радио, в ночь с тридцатого
на тридцать первое декабря двухтысячного года. Что
случилось? Как так? Пьян был? Трезв? Говорят, при
нем была крупная сумма денег, это правда? Говорят, он
был замешан в политических интригах какого-то губернатора какой-то области? А это вообще убийство
или самоубийство? Господи, да какая разница — что!
475
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
От нас ушел поэт. Не раздутый чиновниками и благополучный болван, выпускающий одну за другой книги
своих записей в столбик, а человек, знающий цену слову, настоящую цену. Смерть поэта страшнее гибели
мира: мир отгорит и вспыхнет снова, придут народы
и падут, но этого молитвослова на столике не создадут. Одной звездой стало меньше над Свердловском.
И сколько их теперь осталось...
Ты снишься мне каждую ночь,
Сбываясь и не забываясь.
Водой после сна умываясь,
Я с ней совпадаю точь-в-точь.
Я днем совпадаю с рекой,
Которую ты переходишь.
Когда ты в ней сон свой находишь,
То с берега машешь рукой.
Я сон свой забыть не могу:
Ты мчишься по звездному кругу.
Когда мы приснимся друг другу?
Проснись на моем берегу.
Я, знавший Рому («Роман Львович, приветствую», —
говорил я в телефонную трубку, набрав его номер) довольно близко, пытаюсь, но не могу склеить осколки
его короткой жизни. Хочу, но не могу уловить логику
в его поступках. Пытаюсь вырезать на память хоть один
кадр из киноленты времени, когда мы сидели у него,
шли по каким-нибудь его делам, читали стихи. Нет, не
могу, слишком мало света, размытая, тусклая пленка,
всегда не хватает солнца, лета, реки, покоя.
476
Критика
Всегда не хватает счастья в его глазах. Здесь ему было
плохо, и нам остается верить, потому что нам более
ничего не остается, что там ему будет хорошо. Здесь его
проводили, там его встретят (да простят мне цитату из
чужого стихотворения): Пушкин — радуга по всей земле, Лермонтов — путь млечный над горами, Тютчев —
ключ, струящийся во мгле, Фет — румяный луч во храме. Будут петь они так нежно, что и мы, в эти годы
горестей и гнева, может быть, услышим из тюрьмы
отзвук тайный их напева.
Прости, Роман Львович.
Книжный клуб, 2001, № 7
Один мой хороший знакомый, живущий в Монреале и читающий там в каком-то университете лекции по
математике, а кроме того, библиофил и вообще, что
называется, эрудит широкой руки, недавно прислал мне
книгу Софии Парнок под редакцией С. Поляковой
с припиской, мол, каждый нормальный человек должен знать и любить эти стихи. О Парнок я знал как
о подруге Марины Цветаевой (цветаевский цикл «Подруга»), читал какие-то ее стихи по разным антологиям — то женской поэзии, то Серебряного века; в одной
из них, с предисловием Гаспарова, о Парнок говорится
как об эпигоне Владислава Ходасевича.
Эпигон Ходасевича. Чушь это собачья. Вот одно из
последних стихотворений Парнок:
Ты помнишь коридорчик узенький
В кустах смородинных?..
С тех пор мечте ты стала музыкой,
Чудесной родиной.
477
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Ты жизнию и смертью стала мне —
Такая хрупкая —
И ты истаяла, усталая,
Моя голубка.
Прости, что я, как гость непрошеный,
Тебя не радую,
Что я сама под страстной ношею
Под этой падаю.
О, эта грусть неутолимая!
Ей нету имени...
Прости, что я люблю, любимая,
Прости, прости меня!
А вот одно из ранних стихотворений:
Каждый вечер я молю
Бога, чтобы ты мне снилась:
До того я долюбилась,
Что уж больше не люблю.
Каждый день себя вожу
Мимо опустелых комнат, —
Память сонную бужу,
Но она тебя не помнит.
И упрямо, вновь и вновь,
Я твое губами злыми
Тихо повторяю имя,
Чтобы пробудить любовь.
478
Критика
На первый взгляд кажется, что лучше бы было —
и по звукописи и по ритмическому рисунку — «проговариваю имя», но это будет неправдой, потому что именно «тихо», т.е. медленно, отсюда и замедление стиха.
Вообще, у Парнок все настолько обдуманно и уместно,
что не веришь в земное происхождение ее стихотворений.
Умерла София Парнок под Москвой 26 августа
1933 года, так и не опубликовав свою лучшую, на мой
взгляд, книгу лирики. Умерла, и о ней забыли. Я смотрю на ее фотографию, вглядываюсь в это прекрасное
лицо и с невероятным сожалением думаю о том, что
эта гениальная женщина никогда не была влюблена
в мужчину... Никогда!
«Будем счастливы во что бы то ни стало...»
Да, мой друг, мне счастье стало в жизнь!
Вот уже смертельная усталость
И глаза и душу мне смежит.
Вот уж, не бунтуя, не противясь,
Слышу я, как сердце бьет отбой.
Я слабею, и слабеет привязь,
Крепко нас вязавшая с тобой.
Вот уж ветер вольно веет выше, выше,
Все в цвету, и тихо все вокруг, —
До свиданья, друг мой! Ты не слышишь?
Я с тобой прощаюсь, дальний друг.
479
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Книжный клуб, 2001, № 8
Представить с ямбами, зачем они ему?
Все так. И мало ли, о чем могу жалеть я?
Жалей, не жалуйся, гори, сходя во тьму.
А. К.
Восьмого февраля в доме работников искусства прошел вечер поэзии, посвященный памяти Романа Тягу-
нова. Там же презентовался сборник его стихотворений, изданный замечательным поэтом Евгением Ройзманом, пишущим, к сожалению, очень скупо («...Пойдем
по Стрелочников прочь / Непроходимыми дворами
/ К вокзалу черному, где ночь / Зачеркнута прожекторами...» — Цитирую по памяти...). Что ж, человек погиб, сочинения его изданы, вечер его поэзии проведен,
чего еще нам надо? Не знаю, думаю, восстановления
справедливости, но не в отдельном случае, посмертно,
а вообще и желательно при жизни. Самой обыкновенной справедливости, ничего более.
Лучшие поэты города, я не говорю о России, чтоб
снизить пафос, лучшие поэты города вынуждены зарабатывать на жизнь черт знает чем. Юрий Казарин —
ведущий какой-то утренней развлекательной передачи,
направленной на пробуждение екатеринбуржцев от красочных сновидений: трагический поэт ведет развлекательную программу. Олег Дозморов зарабатывает на
жизнь рекламными текстами для глянцевого журнала,
издаваемого для обывателей в квадрате, пошленького
глянцевого чтива, которое разбрасывается по почтовым
ящикам. Елена Тиновская вынуждена торговать на Вайнера китайским барахлом. Дмитрий Рябоконь просто
тихо спивается. Это те, кого принято называть «молодыми».
480
Критика
Господа, наши стихотворцы в России живут хуже,
чем их коллеги, эмигрировавшие в послереволюционные годы на Запад, в Европу, Китай. Все это бред Марь
Иванны, что физический или какой-то еще труд только помогает творчеству. Для творчества нужны покой
и воля, уж поверьте дураку, я в этом что-то понимаю.
Пару лет назад мне позвонила известнейшая в свое время поэтесса Виталина Тхоржевская, мы договорились
о встрече около церкви в Зеленой Роще. Мы с ней не
были знакомы. Я немного опоздал, а увидев сидящую
на скамейке нищенку, чуть было не полез в карман за
милостыней — это была Виталина. От Синих Камней,
где она жила, до Московской горки, где живу я, она
дошла пешком, у нее не было денег даже на трамвай.
Зачем я все это пишу? Поверьте, не для того, чтоб
заставить чиновников задуматься над этой «проблемой»,
и уж точно не для того, чтоб привлечь, как это делают
наши московские друзья, товарищей меценатов. Я пишу
это ни для чего, просто так, потому что «больно и страшно». Недавно мы все были свидетелями физической
гибели Поэта, но бывает еще и духовная гибель — от
нищеты, невнимания, постоянных унижений и проч.,
и проч.
Не знаю, хорошо это или плохо, если в Екатеринбурге не останется ни одного поэта. Знаю одно: город,
из которого ушли поэты, превращается в кладбище, над
которым, как вороны, парят графоманы. Кого-то это,
вероятно, устраивает — можно жить и на кладбище,
лишь бы не надоедали с вечными вопросами, не мешали не задумываться над смыслом жизни, а что касается
ворон, их легко приручить премиальными деньгами
и дипломом в дубовой рамке с разнообразными завитушками (последнюю местную премию за «поэзию»
16 Оправдание жизни
481
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
получила женщина, публиковавшая свои стихи в журнале «Работница». Это были чуть ли не вирши «на случай»: к дню рождения такого-то, на юбилей родного
завода и т.д. Один из членов жюри назвал эти опусы
«стихами высокого лада». А премию журнала «Урал» за
этот год вручили даже не графоману, не знаю, как сказать помягче, чтоб не обидеть, ведь боязно).
Обидно за город, за поэтов не обидно. И еще: если
поэзия — архаика, то жизнь, уважаемые, того-этого,
тоже архаика.
Интервью
Я улыбнусь, махну рукой...
По-моему, в проживаемый нами отрезок времени
с поэзией нашей все обстоит самым наилучшим образом. Эпигоны Иосифа Бродского после смерти своего
кумира куда-то и сами запропастились со своими текстами. Правда, посмотрите вокруг, их почти не стало —
куда делись, непонятно. (С другой стороны, стали по
неведомым причинам появляться эпигоны Ходасевича,
но это ребята безобидные в основе своей и ненавязчивые, как и подобает эпигонам Ходасевича.)
Кроме того, изящная наша словесность избавилась
от чистой воды проходимцев, рифмоплетов, потому как
дело это по большому счету стало безденежным и бесславным. Есть, конечно, жулики, мыслящие глобально
и выстраивающие колоссальные литературные пирамиды, но как бы они ни старались, все во благо опять-
таки поэзии — эти господа оттягивают на себя графоманов, которые в былые времена атаковали серьезные
издания. Редакторы в связи с этим стали менее нервозны, и с ними приятно общаться. С критикой, конечно,
плоховато, но в России всегда так было, было и хуже.
16*
483
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Что еще? Исчезла так называемая партийность. Мы
научились любить хорошие стихи в любом случае, даже
если они сочинены дурным, как нам по тем или иным
соображениям кажется, человеком, и перестали замечать какие-нибудь нескладные вирши, которые раньше
наизусть знали потому только, что автор их пер против
режима и вообще. Я, воспитанный в семье, где «Евтушенко» было ругательным словом, недавно собственноручно откопал у этого поэта хорошее стихотворение.
До Вознесенского пока просто руки не дошли — может,
и найду чего интересное. А вот о Высоцком я что-то
последнее время совсем и не вспоминаю...
Короче говоря, Шопенгауэр был все-таки прав, говоря о том, что лучшее, что может сделать государство
для искусства, так это лишить его всяческого внимания.
Тут, конечно, само собой напрашивается вопрос: а на
какие, собственно, деньги жить сочинителю? Но ведь
поэзия — роскошь, не так ли? А не средство к существованию. Поэт, думается, должен где-то служить, охранять
объект какой-нибудь строительный, торговать или, например, заниматься разбоем, почему бы и нет? К последнему, понятно, настойчиво не призываю...
Еще что? Да, проблема читателя, якобы читателя
сегодня нет. Неправда, у меня есть вещественные доказательства, которые при необходимости могу показать.
Вот буквально вчера получил письмо от чудака из Крас-
нотурьинска1, писано в стихах: «Я Рыжего сегодня почитал/ и, каждую его запомнив фразу,/ мне захотелось
двинуть на вокзал,/ чтоб с ним в Свердловске водки
выпить сразу!» Хорошо, что не приехал, а то я вот уж
1 Ошибка Б. Рыжего: письмо в стихах ему прислал стихотворец из
г. Тавды Геннадий Жмаев.
484
Интервью
почти год как подшился. Не пью то есть, любезный
мой сосед! А если без дураков, поэзию нашу читают и
в России, и за ее пределами. Не поголовно все, как это
было, когда я пошел в первый класс, а те, кто может
позволить себе эту опять-таки роскошь. Ведь поэзия —
роскошь, я настаиваю на этом. Или я не прав?
А слава, что слава... Слава — это для теноров, как
могла бы сказать Ахматова. Я так думаю.
Независимая газета /
Кулиса № 16, — 8 декабря 2000 года
Вся правда о литературе
За круглыми столами ресторана «Серебряный век»
прошло юбилейное торжество «Антибукера»
Борис Рыжий
Владислав Ходасевич как-то заметил, что поэт должен слушать музыку времени, нравится она ему или
нет. Это и есть ангельское пение, только в разные времена ангелы поют разными голосами. Это пение суть
оправдание человеческой жизни, какой бы ни была эта
жизнь с точки зрения судей, которые, как сказал великий философ Лев Шестов, для поэта всегда выполняют
роль подсудимых.
Поэт стоит не на стороне справедливости, а на стороне жалости — не сострадания, но высокого сожаления, объяснить которое, выразить можно только стихотворением. Именно поэтому, именно потому, что поэт
несправедлив, нелогичен в своих привязанностях, верен
музыке, слову (слово, кстати сказать, которое обыватель
485
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
вряд ли считает достойным своих ушей, может быть
действительно бранным — именно поэтому поэт «всюду неуместен, как ребенок»).
Взрослые судьи не знают, что делать с этим ребенком, — гнать его за Урал или, наоборот, привозить
с Урала? В деловой беседе с моим издателем Геннадием
Комаровым1, между прочим, я похвастался, что попал
в короткий список «Антибукера», на что мой собеседник,
выдержав паузу, изрек: лучше попасть в короткий список «Антибукера», чем на рудники Колымы. Я с ним
полностью согласился.
Я благодарю замечательного поэта и зав. отделом
поэзии журнала «Знамя» Ольгу Ермолаеву, которая опубликовала мои стихи (к слову, эта подборка пролежала
около года в одном уважаемом питерском журнале).
Я искренне благодарен жюри премии «Антибукер»,
за то, что меня так или иначе прочли и оценили, в том
числе и бесконечно уважаемые мною люди.
Я благодарен «Антибукеру» вообще за финансовую
и моральную поддержку, чего мне порою так не хватает. Спасибо!
Независимая газета, 25 января 2000 года
1 Комаров Геннадий Федорович — редактор всех вышедших в «Пушкинском фонде» (С.-Петербург) книг Б. Рыжего — «И все такое...» (2000),
«На холодном ветру» (2001), «Стихи: 1993—2001» (2003).
486
Интервью
«Бывают, друг, такие миги...»
Студенту геофизического факультета Борису Рыжему
19 лет. Читатели уже знакомы с некоторыми его стихами,
напечатанными в «Горняке». А недавно им отвел целую страницу журнал «Уральский следопыт» (N 9, 1993). В начале
февраля Борис, пройдя творческий конкурс, был приглашен
на совещание молодых авторов, организованное Союзом
писателей России. Мы поинтересовались его впечатлениями.
— Борис, где проходило совещание и кто им руководил? Каков был состав участников?
— Молодые литераторы со всех концов России,
в том числе, и из автономных республик собрались
в Москве, на Комсомольском проспекте, 13. Это здание СП России. Мы заседали там три дня. Творческими семинарами руководили известные прозаики и поэты — Юрий Бондарев, Юрий Кузнецов и другие. Я попал в семинар к поэту и критику Станиславу Золотцеву
и оказался там самым молодым, как, впрочем, и вообще среди участников совещания. Многие приехавшие
уже давно печатались, выпустили первые книги. А среди прозаиков были писатели весьма солидного возраста и, по виду, далеко не бедные. Кажется, они пишут детективы или что-то такое, что хорошо раскупается. Поэты же больше думают не о рынке, а о душе,
которую нужно выразить в слове. Этим они, на мой
взгляд, и интересны, хотя у некоторых чересчур много
гонора.
— В чем состояла работа семинаров?
— В моем семинаре — в обсуждении стихов. Каждый из участников читал свои произведения, а затем
487
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
остальные, а также руководители семинара высказывали свои впечатления, замечания, пожелания. Взгляды
на поэзию не всегда совпадали. Например, когда я прочитал свои стихи, то услышал, что пишу не совсем в традиционном ключе, ориентируюсь на «иной пласт культуры». Имя почитаемого мной Иосифа Бродского, на
творчество которого я сослался, не оказалось здесь авторитетным. Но никто не запрещал спорить, доказывать
свою точку зрения. Мне тоже не все нравилось из того,
что читали другие.
В конце концов С. Золотцев подвел итог: лично не
разделяя моих поэтических симпатий, он все-таки отозвался о моих стихах положительно и ободряюще. В общем, я остался доволен обсуждением, которое помогло
мне шире, профессиональней взглянуть на смысл поэзии и ее средства.
— Значит, время и деньги, потраченные на поездку
в Москву, не пропали зря?
— Я не надеялся, что меня примут в Союз писателей, подобно тем, кто уже являются авторами книг. Главная польза была в творческом общении с более опытными товарищами по перу — Николаем Колычевым из
Мурманска, Сергеем Квитковым из Краснодара, Александром Леонтьевым из Волгограда и другими. Я понял,
что только серьезное, критическое отношение к собственному творчеству помогает не удовлетворяться сделанным.
Лишь поэт, который постоянно развивается сам, может
повести за собой читателей. Иначе не бывает...
Горняк, N9 4, 1994
488
Интервью
Ответы на вопросы анкеты
к 60-летию Иосифа Бродского
Борис Рыжий
1. Стихи Иосифа Бродского, как и все люди моего
поколения, читал в огромных количествах, причем сначала в книгах, а потом наизусть — барышням (сейчас
они почти все забылись — и стихи, и барышни).
2. Мне было лет 13—14, мы пили чай с моей сестрой Олей, я говорил о Маяковском и восторгался фрагментом (от «Дождь обрыдал тротуары...» до «...слезы из
глаз, да, из распахнутых глаз водосточных труб...») его
поэмы. А Оля прочитала мне «Ниоткуда с любовью...»
и сказала, что это Бродский. Я, конечно, был потрясен.
3. См. ответ на вопрос № 2.
4. Безусловно, оказывал. В той же мере, что и Маяковский и Пастернак. Я даже немного зол на эту троицу — они отняли у меня два-три года юности, хотя я до
них набрел на свою интонацию. Возвращаться всегда
мучительно.
5. Сегодня о «месте Бродского» говорить рано: письма еще не изданы, эпигоны пока не перевелись, т. е.
нет той пресловутой чистоты восприятия.
6. Я родился в год написания стихотворения «На
смерть Жукова». Это потрясающие стихи, интонационно восходящие даже не к Державину, а к Карамзину
(о генеалогии можно и не говорить, но раз уж так нынче принято...). Что еще? Это очень мужественные стихи, я очень их люблю и всегда мысленно проговариваю, когда прохожу мимо Зеленой Рощи, где «глухо,
в опале» жил маршал, это в двух шагах от моего дома.
7. Поэт и эссеист вообще явления разных порядков,
Бродский не исключение.
489
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
8. Новатором был, а классиком пока не стал. Надеюсь, станет.
9. Мне кажется, Иосиф Бродский подозревал, что
и Блок, будь они современники, относился бы к автору
«Представления» с презрением. Это как бы такая запоздалая защитная реакция.
10. Можно. И не только представить. Можно увидеть.
Их тьмы и тьмы. И бог с ней, молодежью, удивительно
то, что и так называемые «маститые пииты», плюнув на
сделанное ими, совершенно открыто подражают Бродскому. Как быть, не знаю.
11. Я не знаток англоязычной литературы, а «от
фонаря» говорить не буду.
12. Иосиф Бродский — русский поэт.
13. Бродский, как всякий большой поэт, не мог и не
желал переступать через свое высочество, поэтому любой его перевод более говорит о душе переводчика, нежели переводимого автора.
14. В день смерти Бродского тысячи негодяев получили тему для сочинительства стихов, циклов стихотворений, поэм «На смерть поэта», «На сороковой день»,
«На годовщину» и т. д. С этого дня в поэзии все стало
дозволено, некого стало стыдиться. Это страшный день
для русской словесности. О положительных же аспектах этой смерти пусть скажет кто-нибудь другой...
15. Надеюсь, Иосиф Александрович будет стоять
в одном ряду с Александром Александровичем и Николаем Алексеевичем, несмотря на взаимную неприязнь.
16. Сегодня мне мешают думать о Бродском говорящие о нем вслух — эпигоны, журналисты, короче, детвора.
490
Письма
Переписка Бориса Рыжего
с Кейсом Верхейлом
К. Верхейл — Б. Рыжему
5.10.2000
Мой друг! Я внимательно и с энтузиазмом прочел
Ваш сборник. Первое впечатление о Вашей поэзии,
прочитанной в «Знамени»1, подтвердилось, но открыл
я и новые грани. Оригинальность Вашего таланта бросается в глаза (и тем более, в уши), и поэтому казалось
бы, что Вам грозит опасность впасть в «манеру». Но
такого я пока никак не заметил. У Вас свежесть, поразительная естественность сочетается с интересной сложностью. Как только читателю начинает казаться: понимаю, о чем идет речь, к чему клонится мысль или настроение поэта, непременно случается что-нибудь
неожиданное. И без какой-либо натяжки, просто так
уж устроен организм (инструмент) данного артиста:
в этом, по моему впечатлению, главное достоинство Ваших стихов. И еще в их музыкальности, о которой я
1 Подборка «Горный инженер» в № 3 за 2000 год.
491
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Вам уже говорил при нашей встрече. Читая сборник,
я не раз поражался, как захватывающе и опять-таки неожиданно для слуха переходит строчка в строчку, строфа в строфу. Определение «волшебные стихи», данное
Ахматовой ранней поэзии Бродского, мне в этой связи
приходило в голову.
Эффективностью героя Ваших стихов, этакого разбойника с душой, многие (и я в том числе) естественно
восхищаются. Было б соблазнительно, но и губительно
в конце концов, на почве этого успеха навязывать себе
и читателю своего рода номер. Поэтому я обрадовался,
увидев, как сознательно, с неуловимой хитростью, поэт
подходит к созданию своего имиджа. Значит, он не будет жертвой этого процесса претворения; у него кое-
что (главное?) остается за душой, и в смысле технического развития и в духовном плане. Короче говоря, поэт
с непредсказуемым будущим (как мне очень нравится
поверить). Жалею — но это отнюдь не критика, скорее
наоборот — что мне, как иностранцу, некоторые слова
непонятны. При случае пишите мне, что такое, например, «Таганка» (стр. 28), или РТИ (24), или на каком
«козле» можно ехать в небо (18)?
Передайте привет Олегу и скажите ему, что его стихи в «Урале» мне понравились и показались на редкость
чистыми в разных смыслах, и по их литературному качеству, и по психологическому складу их сочинителя. Меня
поразила точность его картин осенней природы, которые по стечению обстоятельств мы видели перед собой
при нашем пребывании в Ваших краях.
Кланяйтесь в особенности Вашей маме и Вашему
отцу. Встреча с семьей Рыжих стала лучшим и самым
глубоким впечатлением недавней поездки в Россию.
Вспоминаем с радостью об этом событии еще каждый
492
Письма
день. Если сообщите мне почтовый адрес, пошлю фото
и одну свою публикацию.
Обнимаю Вас, Кейс.
Б. Рыжий — К. Верхейлу
Дата не проставлена
Дорогой Кейс!
С большим волнением ждал Вашего письма — думал, что Вам не понравятся стихи и все такое в этом
роде. Я счастлив, как мальчишка. Спасибо. Вы одобрили мною сделанное и намекнули, что главное то, что
будет потом. Я понимаю, что пора пользоваться более
нейтральной лексикой, что нельзя паразитировать на
однажды найденных герое и интонации, но мне бы хотелось естественно подойти к другому. Думаю, новая
книга будет другой, или ее не будет никогда. Сейчас
мои стихи либо незаслуженно хвалят, либо незаслуженно
ругают, я то теряюсь, то нервничаю. Вам же я бесконечно доверяю, и пусть Вам не покажется высокопарным, но мне легче жить после Ваших слов. Ваша оценка очень высока и в то же время проста, и я рад, рад,
рад! Это честь для меня — быть Вашим другом.
Что такое «Таганка»? — это блатная русская песня
почти без сюжета о московской тюрьме Таганке со следующим припевом: «Таганка, все ночи полные огня, /
Таганка, зачем сгубила ты меня, / Таганка, я твой навеки арестант / — пропали сила и талант / в твоих стенах...». «РТИ» — аббревиатура (Завод резино-технических изделий), так называется промышленный район
Екатеринбурга, мой школьный товарищ Серега Лузин
был одно время там криминальным авторитетом (сейчас на него нельзя без боли смотреть, он законченный
наркоман). «Ехать на козле» — козел: так называют
493
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
старый дешевый мотоцикл еще советской фирмы «ИЖ»
(если ехать в гору, кажется, что в небо).
Кейс, я постоянно вспоминаю о нашей встрече, мы
много говорим с Олегом про Вас (Олег сильно рад, что
Вам понравились его стихи и передает Вам и Кису
огромный привет). Все было так просто и хорошо —
беседа, Ваши оценки того или иного поэта, неожиданный снег и холод, дом Жукова. Позавчера, когда шел
по этой дороге, почувствовал, что скучаю по Вам,
и неожиданно вспомнилось «Голландия есть плоская
страна, / переходящая в конечном счете в море...»
Мои мама и папа передают Вам и Кису сердечный
привет. Мама все переживает, что плохо Вас угостила,
говорит, что Вы очаровательны, а папа жалеет, что не
было хорошего вина (чему я тайно рад), чтоб поговорить о том о сем.
Буду очень признателен за фотографии (спасибо
Кейсу) и за публикацию, вот мой адрес: <...>
Крепко Вас обнимаю, мой дорогой друг. Привет
Кису. Спасибо еще раз за все. Борис.
К. Верхейл — Б. Рыжему
17.10.2000
Дорогой друг. Завтра отправлю фотографии; надеюсь, не будут идти слишком долго до Свердловска. Спасибо за теплое письмо и за адрес. Недавно обнаружил
Ваши новые стихи в «Знамени»1. Последнее вспоминаю по чтению дома, или я ошибаюсь? Несмотря на все
прежние впечатления, я опять потрясен. Вы умеете взмахом Ваших стихов переместить читателя и в ад, и в небо.
Это очень редкий дар. Люблю Вас и радуюсь нашему
1 Подборка «Горнист» в N° 9 за 2000 год.
494
Письма
знакомству. Сердечный привет Вашим родителям и Олегу, Кейс.
P.S. Насчет Вашего словаря Вы меня неправильно поняли. Ради бога, не стремитесь к «нейтральности». Я люблю конкретные слова, даже если они мне непонятны.
Б. Рыжий — К. Верхейлу
29.10.2000
Дорогой Кейс!
Я все получил. Не знаю, как благодарить Вас, и пишу
Вам, с трудом подбирая слова, потому что моя радость,
полагаю, может перейти известные границы. Я столь
трепетно отношусь к Вам, Вашему творчеству, тем людям и событиям, другом и участником которых Вы являлись и являетесь, что, боюсь, так хочу нравиться Вам,
что боюсь показаться фальшивым и надуманным.
Я долго рассматривал фотографии, потом еще раз
прочел Вашу замечательную статью, что вызвало так
много чувств и ассоциаций...
Спасибо, дорогой Кейс, огромное спасибо! В ближайшие дни напишу вам и вышлю почтой письмо и
пару новых стихотворений. Слова благодарности Кису.
С бесконечной преданностью и любовью, обнимаю.
Ваш Борис.
P. S. Мама и Олег передают Вам сердечный привет
и спасибо.
Б. Рыжий — К. Верхейлу
7.11.2000
Дорогой Кейс!
Высылаю два стихотворения, которые я читал Вам
в Екатеринбурге. Мне показалось, что они Вам понравились.
495
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Кейс, те Ваши несколько страничек воспоминаний
о Бродском, как я чувствую и судя по отзывам тех, кому
я доверяю, — лучшее из всего того, что сказано о нем.
Ваш Бродский живой, и Вы его любите, и хотелось бы,
чтоб именно таким, живым и любимым, мы знали его
благодаря Вашим воспоминаниям.
Вы высказали очень правильную мысль о «тихости»
Бродского и боязни точки (смерти), т. е. сказали не
о том, о чем говорит поэт, а о том, может быть, главном, что он пытается скрыть. Я тоже об этом думал —
иногда умалчиваемое поэтом, если поэт настоящий,
важнее всего остального.
Сегодня в России появилось множество глупых воспоминаний о Бродском и работ по его творчеству, поэтому то, что делаете Вы, стоит очень дорого. Спасибо
Вам за это.
У нас наконец зима. Я давно не пишу, но с приходом зимы появились надежды — зимой мне лучше. Думаю, вот-вот появится что-нибудь.
Как Ваши дела, Кейс? Скучаю по Вам и желаю Вам
всего самого хорошего. Кису — огромный привет.
Ваш Борис.
К. Верхейл — Б. Рыжему
30.11.2000
Борис, милый! Я на днях получил Ваше письмо.
Огромное спасибо. Стихи мне понравились еще сильнее, чем тогда, не только как чистая поэзия, но и как
факт моей жизни. Чего уже только стоит такое твое
слово: «старая фильма» — где ты его нашел? Когда-
нибудь задам еще массу вопросов. Пришел к заключению, что помимо редкой лирической силы, Вы еще и
настоящий эпик. Т. е. тот уголок мира, которым Вы
496
Письма
случайно (?) окружены, Вы превратили и продолжаете
превращать, в непосредственную реальность для каждого Вашего читателя, где бы тот ни находился.
Пишу коротко и в неприятной спешке, так как послезавтра опять поеду в Ленинград и вслед затем в Москву, в связи с презентацией романа «Вилла Бермонд»
в книжной форме. 5-го дек. в Ахматовском Музее
в СПб., 11-го в московском клубе «О.Г.И.»1. 17-го мы
с Кисом вернемся сюда. Конечно, все это суета сует,
но вместе с тем безумно приятно, хотя и боюсь разочарования, не моего личного, то есть, а русской публики. Очень жалко, что в этот раз не попаду в Екатеринбург.
Но будем опять переписываться, не так ли? Радуюсь уже прочно установленной, как мне кажется, нашей дружбе.
Сердечный привет от Киса. Передайте всего самого
лучшего Олегу, Рите и Вашему отцу.
Обнимаю. Кейс.
Б. Рыжий — К. Верхейлу
7.12.2000
Милый Кейс!
Я только сегодня вернулся домой из другого города,
поэтому с опозданием отвечаю Вам и очень жалею, что
не успел пожелать Вам с Кисом счастливо съездить
и выступить в Петербурге и Москве. Но я уверен, что
все пройдет (уже прошло) отлично. Радуюсь за Вас и
поздравляю с выходом книги. Спасибо за отзыв о моих
стихах. «Старая фильма» — черт его знает, почему так...
Это существительное мужского рода, но мне показалось,
1 «О. Г. И.» — «Объединенное гуманитарное издательство» в Москве.
497
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
так лучше? Вопреки всем правилам. Все наши передают Вам и Кису привет. А я обнимаю Вас и помню всегда. Ваш Боря.
Б. Рыжий — К. Верхейпу (телеграмма)
30.12.2000
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ ЗПТ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С НОВЫМ ТЫСЯЧЕЛЕТЬЕМ ВОСКЛ ЖЕЛАЮ ВСЕГО САМОГО-САМОГО ХОРОШЕГО И ДОБРОГО ТЧК
С ЛЮБОВЬЮ ЗПТ ВАШ БОРИС РЫЖИЙ
К. Верхейл — Б. Рыжему
2.01.2001
Боря, дорогой!
Спасибо огромное за новогодний привет. Желаю
тебе здоровья, счастья, успеха (Пора нам, мне кажется, в этом тысячелетии перейти на Ты; согласен?). Наилучшие пожелания также от Киса. По-прежнему вспоминаем о Екатеринбурге. Каждые два-три дня смотрим в Интернете, какая у Вас погода. О декабрьской
поездке в Петербург-Москву напишу отдельно. Книжку
пришлю по почте, как только будут новые экземпляры.
Целую Тебя в обе. Кейс.
Б. Рыжий — К. Верхейлу
8.02.2001
Дорогой Кейс, давно я не писал тебе (на «ты»!). Как
твои дела?
Чего нового вообще? У меня все как прежде, ничего
интересного — разве только простуда из-за холодов.
Удачи тебе и Кису.
Обнимаю, твой Борис
498
Письма
К. Верхейл — Б. Рыжему
14.02.2001
Боря!
У Тебя, по-видимому, сильная интуиция. Письмецо Твое написано накануне моего дня рождения. Так
что я его принял как своевременный и очень удачный
подарок. Интересно, когда получишь мою посылку: уже
известный Тебе роман, но теперь в форме книги. Занят
его продолжением, которое двигается медленно-медленно, но все-таки двигается. Наряду с этим в виде исключения сделал новый перевод с русского: последнюю
замечательную статью Самуила Лурье о Бродском — м. б.
лучшее, что сказано об этом поэте. Была напечатана
в голландской газете в конце января. В области русской поэзии в последнее время прочитывал те сборники, которые мне подарили в Московском «О.Г.И.», когда
там выступил в прошлом году. Больше других мне
понравились Гандлевский и Бахыт Кенжеев. Как Ты
к ним относишься? Также уточнил свое отношение
к Лосеву, о котором мы с Тобой говорили в сентябре,
но которого я тогда, говоря по правде, плоховато знал,
только частично (ведь Бродский при своей жизни для
меня всех современников затмевал или, вернее, заглушал). У Леши все-таки свой голос, тонкий и симпатичнейший, не так ли?
А как стихи моего Рыжего? Есть ли новые? Ты мне
сказал, что зима Тебе обычно полезна для работы. Если
что-нибудь готово и (или) уже напечатано, не скрывай! Скучаю по всему, относящемуся к Екатеринбургу
и к Тебе лично.
С поцелуем, Кейс
499
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Б. Рыжий — К. Верхейлу
19.02.2001
Кейс, роман твой дошел наконец до Екб. Спасибо.
Олег тоже очень благодарен. Очень хочется продолжения. Замечательная книга.
Извини, если я в прошлом письме слишком резко
сказал о Кенжееве и Лосеве, безапелляционно — м. б.
это я глуховат...
Привет Кису. Обнимаю, твой Б. Р.
К. Верхейл — Б. Рыжий
20.02.2001
Боря, милый! Какой сюрприз. Я ошеломлен твоим
подарком и очень, очень рад. Стихотворение «Где обрывается память...» мне дорого с тех пор, как с ним
познакомился. Помимо его поэтической самоценности, оно для меня как-то суммирует наше с тобой отношение. В нем сосредоточено почти все, что мне в тебе
как поэте с первого момента понравилось. Потом оно
тесно связано с обстоятельствами нашей встречи в сентябре: с твоим чтением дома у родителей, с дальнейшей перепиской и т. д. Когда его перечитываю (теперь,
как правило, раза три в день), слышу твой голос (вместе с табачным дымом), ловлю твой испытующий взгляд.
И все это чрезвычайно приятно.
Даешь ли себе полный отчет в том, каким уместным вышел этот подарок к моему дню рождения? Ведь
я родился в феврале 1940-го года: то ли войны еще не
было, то ли была война. В Европе Вторая мировая началась в сентябре 39-го, а в Голландии только в мае
40-го (в России еще позже). Так что малопонятно, человек ли я довоенный или военного времени. Любопытное совпадение, да? Но еще интереснее то, что
500
Письма
в данный момент я сильно занят продолжением романа, в частности той его части, где стараюсь описать впечатления своего самого раннего детства, т. е. военные
годы. И также здесь стараюсь расширять свою личную
память дальше в сторону прошлого, в предысторию, так
сказать, за счет искусства, преданий предыдущего поколения, своей фантазии и т. п. Так что и здесь все
поразительно сходится по смыслу с Подарком.
Кстати, занимаясь прошлым сороковых годов, часто вспоминаю о том, что нам рассказала твоя мама. То,
что она говорила про работу у немцев под Лейпцигом
и о возвращении в СССР, мне глубоко запало в душу.
Передай Рите мой нежный привет.
В большей степени, чем когда-либо прежде.
Твой, Кейс
С самым дружеским приветом, естественно, также
от «другого Кейса»
Б. Рыжий — К. Верхейлу
21.02.2001
Милый Кейс! Рад, что ты доволен, — я давно хотел
послать это посвящение, но боялся по некоторым причинам. Во-первых: тебе посвящал стихи И.Б., что с моей
стороны после него было бы, что называется, моветон,
второе — я боялся за качество ст-я. Но все, кому я доверяю, отнеслись к нему очень благосклонно. А главное, я все отчетливее видел его родство с «Виллой Бер-
монд», и когда ты написал, что выслал книгу, я решился. Сейчас, дочитав последнюю страницу книги, еще
раз понимаю, что все правильно. По чувствам, по ощущению, восприятию ВРЕМЕНИ — потока слез и света
улыбок, непрерывности любви человеческой... та жалкая лепта, которую мы вносим в этот поток своими
501
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
жизнями, но в то же время память, которая оживляет
ВСЁ. Постоянно думаю о тебе и о твоем романе. Обнимаю крепко. Привет Кису. Твой Боря.
К. Верхейл — Б. Рыжему
5.03.2001
Боря, ты наверное слышал, что я позвонил и говорил с твоей мамой. Жалко, конечно, что тебя не было,
но и так было невыразимо хорошо попасть еще раз
в квартиру на ул. Шейнкмана и отвести свою душу.
У меня не было особенных сообщений тебе, просто сильное желание слышать любимый голос из-за Урала,
и еще раз передать тебе мою радость по поводу стих.
«Где обрывается память...» и его надписи. Перечитывая
его, я все больше проникался его особенной музыкой,
передающей весь дух 40-х — 60-х годов, но и сразу
узнаваемой как музыка современная, в частности, твоя
собственная. Мне пришла мысль, что то, что меня поразило при первом знакомстве с твоими стихами, и что
мне особенно дорого и в подаренном стих. Это — чувство возврата гармонии в русском языке. Ведь в России
со времени революции, более или менее после Блока,
вся поэзия была построена на дисгармонии, и это было
естественно. У всех, даже у Мандельштама (дисгармония у него между мыслью и смыслом). А ты, и может
быть и лучшие другие твоего поколения, как поэты
впервые опять «сыны гармонии» по-блоковски.
Кстати, на моем плане Ек.бурга я нашел «Парк к.
и отд. им. Маяковского» с изображением обозритель-
ного колеса. Что мне об этом думать? Ведет ли туда
трамвайная линия 10, и откуда ведет? Может быть,
я выдумываю, а я люблю такого рода реализм, особенно в поэзии музыкальной, метафизической, с «настрое¬
502
Письма
нием». Пиши мне когда-нибудь об обстоятельствах становления этих стихов. Мне все будет интересно.
Еще один вопрос. К. Кобрин мне послал твои ответы на анкету о Бродском, где ты ставишь его в один ряд
с А. А. (Блоком, по-видимому) и Ник. Алексеевичем.
Если это Клюев, я очередной раз готов тебя расцеловать, п. что Кл. один из моих самых любимых (И. Б.
тоже к нему относился с полным восхищением, мы
с ним на эту тему говорили не раз).
Извини, что я так заболтался. В четверг уезжаю
в Италию недели на две-три. Не возьму с собой свой
компьютер, а мысленно буду продолжать и в Риме наш
разговор. Пока.
Кейс
Б Рыжий — К. Верхейлу
12.03.2001
С возвращением, милый Кейс!!! Обнимаю нежно.
Все собираюсь написать тебе на бумаге, выслать стихи,
но никак не могу дойти до почты, купить конверт —
прости мне мою необязательность, я завтра же сделаю
все это.
Мама в восторге от твоего звонка, как жаль, что меня
не было дома! Что касается стихотворения. Есть такой
парк им. Маяковского, туда ходит десятый трамвай, там
есть арка «сталинского ампира», там звучит старая музыка из старого репродуктора, там когда-то показывали
советское кино о любви в открытом кинотеатре. Меня
водили туда гулять... Сейчас там совершенно никто не
гуляет. Я иногда бываю там, когда мне бывает больно.
Это мое лучшее стихотворение — оно твое, дорогой Кейс.
Да, конечно, это Клюев! Конечно!
Обнимаю крепко, твой Боря
503
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Б. Рыжий — К. Верхейлу
16.03.2001
Мой дорогой Кейс!
Вернулся ли ты из Рима? Я никогда там не был, но
обязательно буду. Как твои дела? Я прочитал вторую
часть (?) «Виллы» (то, что выслал мне Кобрин) — она
восхитительна. По нежности, любви, по тому, что сейчас называют «психологизмом» (глупое слово). Странно, и я никак не хочу тебя обидеть, но у меня упорное
ощущение, что мы сверстники — просто ты более образован, начитан, более повидал...
У меня все как всегда. Работаю, немного пишу, пытаюсь избегать «литературных» людишек. Увы, с редакторами все равно приходится общаться: стихотворение, посвященное тебе, выйдет в альманахе (московском) «Арион»
№ 2 (это апрель-май). Я очень рад, что тебе оно нравится.
Кейс, у меня такое впечатление, что наша беседа
продолжается уже столетие, и мне сложно сказать тебе
что-то новое. Разве только стихи...
Высылаю тебе еще одно (хотя пишу довольно много), — мне кажется, оно тебя должно заинтересовать.
С бесконечной любовью, твой Боря.
P. S. Мама передает тебе сердечный привет и охает,
как это ты потратил столько денег на разговор с ней.
Бедная мама.
Обнимаю.
К. Верхейл — Б. Рыжему
28.03.2001
Мой милый! Как хорошо вернуться и дома найти твое
письмо. Спасибо огромное, теплотой твоих слов ты мне
облегчил тяжесть переезда с летнего Юга (выше 20 градусов) на Север, где еще падал снег. Вернее, ты превра¬
504
Письма
тил этот переезд в праздник души. Очень, очень прошу
пойти на почту в эти дни. Хочется видеть твой почерк,
прямой след твоей пишущей руки и твоих ног (шедших
к почтовому ящику). Общаться по-электронному удобно, но все-таки не совсем то, слишком абстрактно.
Следующий раз, когда буду в Екатеринбурге, вместе
поедем десятым трамваем в парк Маяковского и будем
там гулять. Договорились?
Обнимаю Тебя нежно.
Кейс
Б. Рыжий — К. Ъерхейлу
31.03.2001
Милый Кейс, я отправил почтой тебе «твое» стихотворение. Получил ли ты?
На десятом трамвае обязательно поедем — кататься
на колесе. Обнимаю крепко.
Твой Борис.
К. Верхейл — Б. Рыжему
12.04.2001
Боря, дорогой! На днях получил твое письмо по почте. Так приятно почувствовать твое реальное присутствие и следить за тем, как твой почерк вместе с мыслями становится развязнее с каждым абзацем. Истинный
друг! Спасибо и за «мое» стихотворение Рыжего с расширенным посвящением. Почти покраснел от радости.
Твое второе, новое, стихотворение меня поразило тем,
что его тематика совпадает с одной главой романа, которую я еще должен писать. Лишнее доказательство нашей внутренней близости. Теперь ты меня опередил.
Мне было приятно и интересно читать твои заметки о продолжении «Виллы». Ты знаешь ли, что очень
505
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
по-разному на него реагируют те, которые читали этот
неопубликованный текст в России? Кажется, что все здесь
зависит от поколения. Как ты считаешь, стоит ли отдать
его в какой-нибудь из ваших журналов как самостоятельную повесть? То есть, не дожидаясь окончания того
томика, в который она войдет как его первая часть?
Недавно я послал, или вернее, переводчица в Питере послала одну главу моей книги о Бродском К. Богомолову для публикации в «Урале». Посмотрим, что получится. Пока от него ничего не слышно.
Будут ли у тебя Пасхальные каникулы? Поздравляю
с предстоящим праздником. Сердечный привет Олегу
и твоим родителям. Скажи маме, чтобы не испугалась,
если когда-нибудь снова позвоню. Для меня это чистая
радость, дома ли ты или нет. Кис очень просит передать свои лучшие пожелания. Время от времени фантазируем вместе о новой поездке в Свердловск.
Целую, Кейс.
Б. Рыжий — К. Верхейлу
28.04.2001
Дорогой Кейс, прости, что долго не писал. Как твое
здоровье? Я до сих пор удивляюсь, вспоминая наш разговор по телефону, — твой голос. Так близко.
Кейс, я думаю, дело не в поколениях (возвращаясь
к Тютчеву), а в отношении человека к поэзии вообще. Для
нас с тобой Тютчев (как и Овидий) жив, жив настолько,
насколько он был жив на самом деле. Для других он мертвец, а мертвецов в России любят какой-то странной любовью — могут двух живых за одного мертвеца убить.
Пиши, звони (если будет возможность).
Сердечный привет Кису.
Обнимаю, твой Борис.
506
Письма
Переписка Бориса Рыжего
с Александром Кушнером
и Еленой Ушаковой
Б. Рыжий — А. Кушнеру1
Уважаемый Александр Семенович!
Прошло уже более месяца после Вашего разговора
со мной. Честно говоря, думал, что никогда не решусь
написать Вам. Искренне удивляюсь своей наглости.
Я и звонить Вам тогда боялся. Думал, отвергните всё.
Боялся, изменится отношение к Вашим стихам.
Я все же учусь у Вас, хоть Вы и сочли моим учителем Рейна. Вот Вы говорили о ритмике «У северной
Леты / стоят рыбаки...» Но ведь это Ваше «Сентябрь
выметает широкой метлой...» Впрочем, Вы, Рейн, Бродский... Воюют только эпигоны. Ваши и Бродского.
Мне кажется, вы части одного целого, громадного
чего-то.
Не знаю, могу ли я... Читал Ваши стихи в «Новом
мире» и одно о римлянине с красной шеей1 2 — случайно
в Петербурге, дома у Саши Леонтьева. Такие жесткие
стихи, так нужны они сегодня... Когда у Вас выйдет
книга?
Спасибо Вам за все, Александр Семенович. Всего
Вам самого наилучшего.
Ваш Борис Рыжий.
1 Письмо без даты. На конверте штамп 24.02.97. Екатеринбург. К письму
приложены стихи «Памяти Бибикова», «Поехать в августе на юг...», »«Вот
в этом доме Пушкин пил...», «Был городок предельно мал...», «Скажи
мне — сам не вспомню, хоть убей.. .», «Ода», «Вторые сутки снег идет...»
2 «О римлянине с красной шеей» — имеется в виду стихотворение «Взгляд
с расстоянья страшен близкого...» — о Блоке. Опубликовано в книге
А. Кушнера «Тысячелистник» (СПб, 1998).
507
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
P.S. Я тогда сказал о Пушкине. Не сочтите это за
грубую лесть или еще что-то. Но Петербург так далек
от Екатеринбурга... Почти как 1997 год — от 1827.
Б. Рыжий — А. Кушнеру
8.06.97.
Дорогой Александр Семенович! Я очень люблю Ваши
стихи, а поэтому и ревную их к их поклонникам. В данном случае этого чувства можно избежать только одним
путем: найти в возлюбленной то, чего не замечают остальные, и молчать об этом хотя бы уже потому, что
найдется какой-нибудь подлец (как бы сказал Чичиков),
который любит ее именно за это. Но ведь я пишу Вам,
это большое счастье для меня.
Книга очень хороша1. Стихам тесно, но как-то по-
хорошему тесно: сбежавшись в один том, они как будто
хотят оставить больше места для мыслей о них. Время
в книге движется так быстро, что порою кажется, что
это не время вовсе, а пространство меняется: может
быть, так и есть, ведь душа неизменна. Что же касается
отсутствия опыта, то я либо не понял предисловия, либо
решительно против сказанного там. В любом случае,
там где речь идет о поэте Вашей величины, следует
говорить о стране, времени и человеке, ибо последние
3 Речь идет о книге «Избранное» (СПб, 1997) с предисловием Бродского,
где, в частности, сказано: «Поэтическими биографиями — преимущественно трагического характера — мы прямо-таки развращены, в этом столетии в особенности. Между тем биография, даже чрезвычайно насыщенная захватывающими воображение событиями, к литературе имеет отношение чрезвычайно отдаленное... Можно отсидеть двадцать лет в лагере
или пережить Хиросиму и не написать ни строчки, а можно, не обладая
никаким опытом, кроме мимолетной влюбленности, написать «Я помню
чудное мгновенье» {Прим. А. С. Кушнера).
508
Письма
и являются главной составляющей поэта. Ваши стихи
помогают жить, дышать, ведь это так просто, ведь лучшего о стихах сказать нельзя.
Кажется, Шестов сказал, что быть всеми любимым
просто, надо быть только гордым. Во всем написанном
Вами гордыни не наберется и на строку. К слову сказать. Ваши подражатели заметно Вас обогнали в этом.
Ну да черт с ними. Один поэт сказал, что стихи не орудие мести, а серебряной чести родник. Вот, только что
я пригубил из этого родника еще раз. Простите высокопарность, я избегал ее сколько возможно.
Спасибо Вам за все и простите меня, если что не
так. Всего Вам самого хорошего.
Искренно уважающий Вас Борис Рыжий.
И еще. От времени писатели бегут куда угодно:
в древнюю Грецию, в Рим, в Библию; раздуваются какие-то метафоры, но все это для литературоведов. На
мой взгляд. Вы сегодня единственный, кто никуда не
бежал и не бежит. Вот этот вопрос Анненского «наша
совесть, наша совесть»1 слышится в каждом Вашем стихотворении. Мне кажется, что и музыка Анненского
играет в Вашей поэзии только поэтому.
И еще: «если пальцы руки твоей тонки...»1 2
1 «Наша совесть... Наша совесть...» — И. Анненский «В дороге».
2 «Если пальцы руки твоей тонки...» — И. Анненский «Старые эстонки».
509
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Б. Рыжий — А. Кушнеру
11.11.97.
Дорогой Александр Семенович!
Вот, высылаю Вам несколько стихотворений1. Мог
бы больше, но боюсь надоесть Вам. После публикации
в «Звезде» я серьезно задумался, долго ничего не писал.
Все кажется каким-то искусственным, вторичным, а хочется свежести, адекватности времени, что ли.
Раньше думал, что в Екатеринбурге жить страшно,
теперь же вижу — в Петербурге еще страшней. В провинции хотя бы соблюдаются какие-то правила, пусть
жесткие... В провинции можно быть просто человеком
сочиняющим стихи, а в столицах надо играть; порой
это дурные игры.
Кажется, сегодня только Вы отвечаете за слова. Вероятно, это многих раздражает, в то время, как это норма. Я вот сделал первый шаг и уже посвятил стихотворение человеку, к которому отношусь достаточно прохладно. Что же будет дальше!
Благодарю судьбу за то, что она свела меня с Сашей
Леонтьевым и с Вами — вот уж на что я совершенно не
рассчитывал.
Александр Семенович, если будете писать ко мне,
не жалейте меня, прошу Вас, пишите как есть. Спасибо
Вам за все. Желаю Вам всего самого хорошего. Поклон
Елене Всеволодовне.
Ваш Борис Рыжий.
Олег Дозморов кланяется Вам.
1 К письму приложены стихи Б. Рыжего: «Водой из реки, разбитой на
сто ручьев, в горах...»,» «Все хорошо начинали. Да плохо кончали...»,
«А была надежда на гениальность. Была...», «Там вечером Есенина читали...», «Звезд на небе хоровод...».
510
Письма
Б. Рыжий — Л. Кушнеру
14.07.2000
Дорогой Александр Семенович!
<...>
Был в Голландии. Смотрел Вермеера. Стоял перед
«Ночным дозором». Дельфт. Всё это замечательно. Дважды читал, читал уверенно и, кажется, воспринят был
публикой хорошо. Хотя Рейн и Алехин говорят, что я
читал плохо. Много фотографировал — потом оказалось,
что зря, т. к. фотоаппарат у меня в конечном счете украли. В квартал красных фонарей не зашел принципиально. Вообще же было очень одиноко, спасался тем, что
покупал игрушки для сына. Думал о многом, понял многое, а главное — никуда, никогда и ни во имя чего бы то
ни было, я не уеду из России, какова бы она ни была.
Возвращался домой через Москву. В аэропорту меня
встретил Саша Леонтьев с новой женой <...>. Саша не
играл, был естественен и как-то обреченно спокоен.
Потом мой московский коллега, который тоже приехал
повидать меня, отвез их домой. Саша долго махал, высунувшись из окна машины, а я, поймав себя на мысли, что, возможно, прощаемся навсегда, ужаснулся и
пошел пешком от Терминала-2 к Терминалу-1. По дороге хотел заплакать, но не найдя причины трагедии,
усомнился в своем решении и не заплакал.
Ваша новая книга1 у меня уже есть. Читаю в парке,
пока сын катается на велосипеде (хотел съездить на юг,
1 Речь щет о книге «Летучая гряда» (СПб, 2000). Стихотворение «Замечтаться в саду, заглядеться на клумбу...» посвящено А. Леонтьеву. Удивительно,
что Борис правильно понял стихотворение, несколько зашифрованное: имя
Чайковского в нем не названо. Посвящено оно А. Леонтьеву, поскольку
инфинитивная конструкция (см. о ней в работах А. Жолковского) выражает
«виртуальное инобытие субъекта», а в данном случае — в «мечтательном наклонении» — пожелание легкой, благополучной жизни {Прим. А. С Кушнера).
511
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
но спекулянты раскупили билеты — билет самолетом до
Сочи стоит десять тысяч рублей, — пришлось остаться
в городе). И вот что я понял: гениальные вещи можно
прочесть только находясь в полном душевном равновесии. Излечить болезнь, снять боль книгой нельзя, наоборот, надо вылечиться для того, чтоб читать книги.
Книги же помогают оставаться здоровым здоровому
человеку. Я был спокоен, когда открыл Вашу книгу,
и она помогает мне быть спокойным и даже счастливым, пока я ее читаю, держу в уме и сердце, соглашаюсь
и спорю. Некоторое недоумение вызвало стихотворение
о Чайковском, а именно — почему эти стихи посвящены Саше?
Я немного пишу. В 9 «Знамени» выйдет подборка.
Кажется, уже в ней есть небольшой сдвиг, отход или,
скорее, прорыв через дворы, бараки и т. д. — больше
музыки, чем живописи.
Олег Дозморов передает привет Вам и Елене Всеволодовне, благодарит Вас за письмо. Я же желаю Вам
всего самого наилучшего, еще раз прошу извинить меня
за всё, мне очень стыдно.
Искренне Ваш Борис Рыжий.
Елене Всеволодовне низкий поклон, слова благодарности за понимание и сочувствие.
Б. Рыжий — А. Кушнеру
10.08.2000
Дорогой Александр Семенович!
Спасибо за теплое письмо. Очень рад, что моя книга показалась Вам интересной. Что же касается лирического героя, этот господин был очень нужен, без него
я бы не смог сконструировать, что ли, лирическое поле.
«И в белом платье тень приходит в воздухоплаватель¬
512
Письма
ный парк...» Живя в Свердловске, нельзя сочинить такие дивные строчки. Но что делать, если уж живешь
здесь и сейчас, и при этом считаешь себя поэтом. Мне
нужно было понять и полюбить свой город, чтоб потом
подумать о себе.
<...>
От Саши Леонтьева никаких вестей.
Я пытаюсь писать что-то вроде прозы, стихи совсем
не пишутся.
Как Вы? Как Елена Всеволодовна, пишет ли она?
Сердечный привет ей от меня. Спасибо еще раз за всё.
Ваш Борис Рыжий.
Олег передает Вам большой привет.
Б. Рыжий — А. Кушнеру
14.09.2000
Дорогой Александр Семенович!
Мне показалось, что я задел Вас тем, что ничего не
написал Вам о «Летучей гряде». Попытаюсь оправдаться. Вы гениальный поэт, все написанное Вами мной
высоко ценимо и горячо любимо, я знаю наизусть почти все Ваши стихи. Короче говоря, я просто постеснялся, побоялся ляпнуть очередную глупость. «Летучая
гряда» не лучше и не хуже предыдущих Ваших книг, но
она другая, более масштабная, что ли, а точнее — серьезная. Ну вот сейчас судят-рядят, кто из поэтов закрывает тысячелетие — если включиться в эту игру, я бы не
задумываясь назвал Вас, имея в виду эту Вашу книгу.
Действительно, в «Летучей гряде» как бы подведен итог
какой-то огромной эпохе. Итог этот подведен поэтом
трезвым, без байронического плаща, всяческих доспехов или ужимок. Вообще, знаете, мне как-то в голову
пришла также мысль. Что когда я читаю Рейна или
17 Оправдание жизни
513
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Бродского, то все-таки подсознательно понимаю, что
нахожусь в той или иной степени в кинотеатре, в Вашем случае, наоборот, каждое почерпнутое из стихотворения чувство — ужас, тоска, счастье, нежность —
словно подталкивают: «это тебе не кино»! Это жизнь.
Но при этом это и высочайшая поэзия. Вот в чем Ваша
тайна, то есть никакой тайны вроде бы и нет, тайна
в самой жизни. Когда я читаю «Летучую гряду», это
ощущение не оставляет меня ни на секунду. Глупо
и смешно с моей стороны что-либо выделять, но сейчас я бы выделил «Альпы», я просто заворожен этой
вещью, этой высотой, этим полетом.
Александр Семенович, посылаю Вам подборку стихотворений, которая появилась в «Знамени» за этот год.
Не дурны ли эти стихи? Я совсем сбит с толку тем, что
обо мне пишут, морально я не был готов не то что
к выходу книги — к простой публикации. Все валится
из рук, но успокаиваю себя тем, что надо пройти через
это, и это еще не самое страшное.
Простите меня, если что не так. Желаю Вам всего
самого наилучшего, с бесконечной теплотой к Вам
и Елене Всеволодовне,
Ваш Борис Рыжий.
18.03.2001 (Электронное письмо)
Дорогой Александр Семенович, Елена Всеволодовна дала мне Ваш электронный адрес. Правильно ли я
его записал? Как Ваши дела? У меня все хорошо. Желаю скорейшего выздоровления Елене Всеволодовне.
Пишите, если письмо дошло в человеческом виде.
Обнимаю, Ваш Борис Рыжий.
514
Письма
А. С. Кушнер — Б. Рыжему
22.03.2001 (Электронное письмо)
Дорогой Боря, Ваше письмо получил. Простите, что
отвечаю не сразу, — был здорово занят. Я вернулся из
Москвы, где выступал на вечере, посвященном выходу
книги «Пруст в русской литературе». Очень рад, что
теперь мы сможем переписываться таким способом. Что
касается Е.В., то пока, увы, зубная эпопея продолжается. Если у Вас будет возможность, посмотрите «Звезду» № 3, — там напечатано мое эссе, как ни странно,
0 Гомере. Как Вы живете, что пишете? Как я понял,
Ваша новая книга выйдет у Комарова. Буду ждать.
Привет от Е. В. Ваш А. К.
Б. Рыжий — А. Кушнеру
3.04.2001 (Электронное письмо)
Дорогой Александр Семенович, отвечаю с некоторым опозданием по причине каких-то неполадок на
нашем сервере. Очень рад, что Елена Всеволодовна
поправилась (вчера ночью перечитывал ее «Метель»1.
Замечательная книга, но порою устаешь от слишком
длинных строчек, впрочем, это так, к слову). Всё еще не
читал Вашей статьи, по той же причине невозможности
войти в сеть. А статью Елены Всеволодовны о Д. Дате-
шидзе2 читал. Как говаривал Шариков: да не согласен я.
Впрочем, Вы знаете, я вообще против такой поэтики,
такого стиля. Дай бог, чтоб он продержался еще лет пять-
шесть. А может я и ошибаюсь.
Спасибо за приглашение в Питер, осенью. Было бы
здорово, если бы все получилось.
1 Книга стихов Елены Ушаковой «Метель» (СПб, 2000).
2 См.: Невзглядова Елена. «Что-то важное начать» (О стихах Дениса Да-
тешидзе). — Звезда. 2001. № 2.
17*
515
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
Я сейчас читаю (впервые!) стихи Парнок. Просто
потрясен ее поэзией. А то, что Мандельштам стибрил
у нее «Налей мне, друг, лучистого, / искристого вина.
/ Смотри, как гнется истово / лакейская спина...» меня
просто шокировало — так вот за что он ее не любил1.
Александр Семенович, через несколько дней я получу гранки из «Знамени», а потом сразу перешлю Вам.
Сейчас же прицепляю несколько стихотворений, м. б.
Вам будет интересно1 2 3.
Елене Всеволодовне поклон и всяческие добрые
пожелания. Всего Вам наилучшего, Ваш Борис.
Б. Рыжий — А. Кушнеру
апрель 200Р
Дорогой Александр Семенович!
Высылаю вам «Знаменскую» верстку. Что скажете?
Честно говоря, что касается меня, я слегка огорчен —
мне казалось, что стихи эти иные, нежели те, что я
1 Стихотворение Софьи Парнок «Налей мне, друг, искристого...». Есть
некоторое сходство, прежде всего ритмическое, между этим стихотворением и мандельштамовским «Жил Александр Герцевич...», написанным
через шесть лет. У Парнок: «Пред той ли, этой сволочью, — / Не все ли
ей равно?... / Играй, пускай иголочки, / Морозное вино!»
В поэзии Софьи Парнок, лишенной сложных мандельштамовских
ассоциативных связей, Б.Рыжего привлек, по-видимому, легкий мелодический рисунок («И жизнь не больше весила, / Чем тополиный
пух, — / И страшно так и весело / Захватывало дух!» («Прекрасная
пора была!..»), свойственный также его собственным стихам {Прим.
А. С. Куш мера).
2 К письму приложен файл со стихами «Я подарил тебе на счастье...»,
«Веди меня аллеями пустыми...», «И огни светофоров...», «Как только
про мгновения весны...», «Погадай мне, цыганка, наследный грош...»,
«Маленькие трагедии», «Мальчишкой в серой кепочке остаться», «Вспомним все» (Прим. А. С. Кушнера).
3 На конверте штамп: 19.04.2001. Екатеринбург. К письму приложена
верстка стихов, опубликованных в журнале «Знамя» № 6 за 2001 г.
516
Письма
писал прежде... Оказывается, ничего подобного. Да и
на строфы в «Знамени» почему-то не делят. И выстроил бы я подборку иначе. Я бы «Рубашку в клеточку»
поставил первым.
<...>
Ваши стихи в «Литературке» великолепны. Много
бы я отдал, чтоб написать что-то подобное. Но звучит
у меня в голове вот уже больше месяца стихотворение
«Дослушайте...» Правда, я живу с ним это время.
В середине или конце мая, если будут деньги, обязательно приеду в Ваш город. По Вам с Еленой Всеволодовной очень скучаю. По городу тоже.
Александр Семенович, всего Вам самого наилучшего, Елене Всеволодовне — низкий поклон.
С глубоким уважением. Ваш Борис Рыжий. Апрель
2001.
А. Кушнер — Б. Рыжему
24.04.2001
Дорогой Боря! Ваша подборка в «Знамени» очень
хорошая. Вот главная особенность Ваших стихов — они
живые. Это редкое качество, и, может быть, единственное, делающее стихи стихами.
Ведь так часто приходится читать стихи, в которых
есть все: ум, аллюзии, все модное слововерчение и т. д.,
а душа к ним не лежит — они мертвые. В таких случаях
я испытываю нечто вроде того, что у Толстого чувствовал художник Михайлов, глядя на живопись Вронского:
нельзя возражать, если человек напротив тебя на скамье
целует восковую куклу, как живую возлюбленную, — но
противно. Особенно мне понравились «Рубашка в клеточку» и «Зеленый змий». Но и другие тоже, в частности,
517
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
«На смерть P. Т.», «Отмотай — как жизнь мою назад»,
«Завидуешь мне...», «В Свердловске живущий», «Если
в прошлое, лучше трамваем» — в этом стих-нии не забудьте исправить «на зубах этих дядям» (надо: «на зубах
этим дядям»). Во всех стихах есть что-то новое, по сравнению с прежними: они повзрослели, если так можно
сказать о стихах; в них больше печали (не заемной, общепоэтической, а своей). Е.В. присоединяется к моему
мнению и шлет Вам самый нежный привет. <...>
Обнимаю Ваш А. К.1
Б. Рыжий — Е. Ушаковой
24.03.2000
Дорогая Елена Всеволодовна!
Еще раз спасибо за замечательный подарок1 2. Великолепная книга. Очень честная и чистая. Вы действительно ученик (или ученица?) Александра Семеновича,
а учеников всегда мало. Много эпигонов, которые тщательно скрывают это. Честно говоря, я всегда завидовал поэтам Вашего склада, когда нет нажима на тему,
а сюжет (не сюжет даже, а нечто иное) получается сам
по себе. Не сюжет, а «душа речи». Я уже говорил Вам
о стихотворении Алексею Герману и «В саду Таврическом, в Таврическом саду...». Еще мне очень нравится
«Когда, не часто, но довольного долго...» Поймите меня
1 Последний раз Борис позвонил мне за несколько дней до гибели. Он
вообще звонил гораздо чаще, чем писал (например, в 1998 и 1999 году
наше общение в основном состояло из телефонных разговоров).
В последнем телефонном разговоре я успел сказать ему, что почти уверен в том, что он получит премию «Северная Пальмира». Так и случилось, но он об этом уже не узнал {Прим. А. С. Кушнера).
2 Е. В. Ушакова прислала Б. Б. Рыжему свой сборник стихов «Метель».
В названии стихотворения «Когда, не часто, но довольно долго...» Борис
ошибся: правильно — «Иногда, не часто, но довольно долго...»
518
Письма
правильно, все стихи превосходны, но эти три волнуют
меня больше других, каждое по-своему.
Вы прекрасно, как мало кто, выдерживаете разностопный ямб, анапест — странно, что Александр Семенович рекомендует Вам писать акцентным стихом. Не
тоньше ли небольшие сдвиги и перебивки в стихе регулярном — мне кажется, это и есть главный Ваш плюс.
Хотя, возможно, я и неправ вовсе.
Александру Семеновичу самые добрые слова. Я очень
благодарен ему. За первую, и единственную настоящую
поддержку. Сейчас мне проще и сложней одновременно — стихи просят те издания, о которых я и не мечтал,
а чего-то качественно нового нет. С Сашей Леонтьевым оборвалась связь, последний раз звонил месяц назад, а сейчас что-то не могу дозвониться.
Всего Вам самого наилучшего, Елена Всеволодовна.
Очень скучаю по Вам и Александру Семеновичу.
Ваш Борис.
Дорогая Елена Всеволодовна!
Только что вернулся с прогулки, гулял в парке
у разрушенной церкви и шептал «Вербную неделю»1.
Вернулся, распечатал Ваше письмо, а там «То огнем, то
снегом нас слепило.,.» Удивительный поэт. Я так его
люблю и знаю — странно, что он не влияет на меня.
Как и Кузмин — я бы жизнь отдал, чтобы написать
«Невнятен смысл твоих велений...», но мне от Кузмина
1 Вербная неделя («В желтый сумрак мертвого апреля...») — стихотворение Иннокентия Анненского. Я думаю, что как раз от Анненского Боре
«перепало»: музыкальность его стихов связана с этим поэтом; не случайно и не напрасно на прогулке он шептал строки его стихов.
«То огнем, то снегом нас слепило...» — строки из стихотворения «Старая шарманка» (Прим. Е. В. Ушаковой).
519
БОРИС РЫЖИЙ / Оправдание жизни
так ничего и не перепало, увы. Знаете, есть еще одно
стихотворение, за которое можно отдать всё — набоковское «В книге сказок помню я картину...» Но никто
со мной в данном случае не соглашается.
Я обязательно приеду в Петербург. Петербург мне
снится. Да, представляете, глупость, конечно, но вчера
я видел сон, будто прогуливаюсь с Александром Семеновичем и Мандельштамом — очень странно, какой-то
канал там был. А о чем говорили — не помню, но было
весело.
<...>
Простите, что отвлекаю Вас отдел, но что-то очень
захотелось написать Вам. Это Анненский виноват со
своими апрелями. Александру Семеновичу сердечный
привет. Поздравления с книгой, которая вот-вот появится. Всего Вам самого наилучшего.
Ваш Борис Рыжий.
P. S. Моя книга, если не обманут, выйдет в мае, но
я, честно говоря, не совсем согласен с составителем.
Боюсь, будет плохо.
Юрий Казарин
ПОЭТ БОРИС РЫЖИЙ
постижение ужаса красоты
Автор искренне благодарен за помощь, содействие
и соучастие в написании этого очерка семье Бориса Рыжего — вдове Ирине Владимировне Князевой, матери
Маргарите Михайловне, отцу
Борису Петровичу, сестрам
Елене и Ольге, а также его
друзьям — Олегу Дозморову,
Елене Тиновской, Евгении
Извариной и многим другим,
знавшим поэта и поделившимся этим своим знанием.
И хотел бы посвятить эссе
Артему Борисовичу Рыжему — сыну поэта.
ОТ АВТОРА
В жизни есть вещи, которые принято считать важнейшими — категориальными — и не поддающимися полному определению: любовь, смерть, Бог... Это, как и сама
жизнь, знаемо, но непознаваемо нами до конца, потому
что всё это и есть мы. Поэзия — исходный, первородный, самый ясный, счастливый и мучительный способ
познания прежде всего себя, своих близких и дальних.
Поэзия — продуктивный и бескорыстный образ мышления, которое испокон веку пытается объять и объединить в процессе называния быт и бытие. Поэзия как
память языка и культуры до сих пор создает свой мир,
в котором любовь и смерть, жизнь и Бог оказываются
более ясными, нежели в мире социальном, научном,
условном, договорном и достаточно примитивном.
Поэт живет среди нас, с нами и остается одиноким,
потому что он — творец (греч. poieo = творить) и творит в одиночестве, от которого в конце концов гибнет.
Поэт всегда трагедия: сделай его неодиноким — и он
перестанет писать.
Борис Рыжий (1974—2001) — поэт по определению,
поэт абсолютный и пока не втиснутый литературоведами в поэтологические классификации, иерархии
523
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
и кондуиты. Борис Рыжий жил недолго — ровно
столько, сколько было нужно ему, природе, языку,
поэзии, культуре, чтобы наметить, прострочить, завести неровный шов, должный соединить два века, две
эпохи, два мировоззрения.
Поэзия Бориса Рыжего — это только самое начало
новейшей художественной словесности, произрастающей непосредственно из ядра трехвековой русской силлабо-тонической поэзии.
Это эссе не столько описание жизни и судьбы замечательного поэта, сколько попытка не уступить забвению образ красивого, удивительно одаренного, счастливого и одинокого человека-поэта, постигавшего и узнавшего за нас и для нас ужас красоты.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Мой герой ускользает во тьму...
Борис Рыжий
7 мая 2001 год. Понедельник. Сижу за рабочим столом на кафедре русского языка Уральского университета, пью кофе, курю. Звонит кафедральный телефон,
смотрю на часы — 13.38, почему-то знаю, что это по
мою душу. Звонит старый друг:
— Юра, здравствуй. Сегодня ночью повесился Боря
Рыжий...
Когда тебе за 45 — начинаешь привыкать к очевидной неизбежности череды трагедий. Нет, руки у тебя,
опускаясь, не опускаются, и слезы из глаз не текут, только сердечная боль медленно проворачивает в спине левую лопатку, как весло кормовое по команде «право
руля!», да ощущение силы той закономерной несправедливости, что принято называть судьбой, поведет по
кругу в черствой от горя голове не твои—твои слова
«Тягунов», «Артем», «отец-мать», «Ирина»... И каждое
слово чертится поперек лба того, к кому оно относится, и относит его от тебя, и вдруг возвращает в смутную
тесную пустоту твоего очередного — нового осознания
смерти...
525
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
Борис Рыжий как человек и поэт в писательском
«сообществе» Екатеринбурга был и своим и чужим
одновременно: печатался преимущественно в Москве
и в Петербурге, первая (и единственная в тот момент)
книга вышла тоже не в бывшем Свердловске (где ежегодно издаются десятки убогих сборников, альманахов
и еще бог знает чего), а в престижном «Пушкинском
фонде», в обожаемом Борисом Ленинграде/Питере.
Борис обходил стороной социальную сферу провинциальной литературности. Собственно творчества здесь,
действительно, как и в любом другом городе, в том числе
и столичном, мало, маловато, т. е. ровно столько, сколько реально может и должно быть. Поэтому его дорога
(не как поэта, а как «литератора») вполне соответствовала национальному представлению о литературных
путешествиях «Из Петербурга в Москву», «Из Москвы
в Петушки», «Из Петушков в Нью-Йорк». Качественно
преобразовавшись в «дорогу жизни» (Борис любил языковую игру), она была оформлена названиями практически несовместимых пунктов отбытия и назначения —
«Из Вторчермета в Роттердам». Языковая игра превратилась в языковую и поэтическую судьбу, потому что
человек рождается поэтом, и поэт затем всю жизнь учится или пытается учиться быть человеком.
Борис Рыжий младше меня на 19 лет. Другое поколение. Но в поэзии (не в литературе!) возрастная линейность поколений переходит в вертикаль, а вертикали —
сближают и сближаются, как стволы деревьев в лесу. Поэтому в Екатеринбурге Бориса знали — любили и ненавидели, не замечали и боготворили — абсолютно разные
по возрасту люди: шестидесятилетние Майя Никулина
и Герман Дробиз, покойный Юрий Лобанцев, сорока¬
526
Предисловие
пятидесятилетние Александр Верников и Алексей Кузин, Наталья Смирнова и Евгений Касимов, двадцатитридцатилетние Елена Тиновская, Евгения Изварина,
Андрей Ильенков, Игорь Воротников и многие др.
Впрочем, со временем Борис Рыжий мог себя считать товарищем таких известных ныне литераторов и
поэтов, как Александр Кушнер, Алексей Пурин, Сергей
Гандлевский, Евгений Рейн, Александр Леонтьев ит. д.
Борис как поэт, учащийся быть человеком, мучительно выбирал и строил свой тип творческого поведения: поэт-аристократ (поэтическая игра с О. Дозморо-
вым в дворян-офицеров XIX века) трансформировался
в поэта-скандалиста (многие оценивали бытовое поведение Бориса как есенинское), оставаясь, несмотря ни
на что, поэтом-отшельником. К сожалению, ббльшая
часть российской публики выбирает в предлагаемом поэтом наборе типов жизни-судьбы именно есенинский.
Борис Рыжий как поэт — явление типично-уникальное для России: как М. Лермонтов, Я. Полонский,
Ал. Григорьев, К. Случевский, И. Анненский, А. Блок...
Он не описывал мир, даже не познавал его — Борис
Рыжий в поэзии сразу же ухватил быка за рога: он
взял жизнь за смерть, а смерть — за жизнь.
Редкие качества для поэзии конца XX века — смысловая открытость, тематическая противоречивость (когда
бытовая альтернативность, если не маргинальность, становится материалом выражения бытийного), виртуозно оформленный поэтический дискурс (метр, ритм,
рифма, строфа, интонационные жесты и рисунки как
результат авторского синтеза поэтики XIX и XX веков),
а главное — возвращенная Б. Рыжим на рубеже XX—
XXI веков русской поэзии (слава богу, уже не «городской» и не «деревенской», не «столичной», но и не
527
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
«провинциальной») музыкальность, — все это обусловливает высокую степень востребованности и, естественно, известности Б. Рыжего как стихотворца.
В сфере поэтики Борис Рыжий — явный современник и XIX, и XX, и XXI веков, что наверняка обеспечит
должный интерес к его стихам в будущем.
Сам Б. Рыжий говорил о сознательном выборе
поэтом своего художественного хронотопа: «Попытка
поэта жить в настоящем приводит в лучшем случае
к неминуемой физической гибели (Маяковский, Мандельштам, Есенин), в худшем — к гибели самого таланта... Не время выбирает поэта, а поэт — время, и это,
пожалуй, главное его преимущество перед простыми
смертными...»
Борис Рыжий понимал, что он живет не по одному,
а сразу по нескольким авторизованным сценариям —
как внешним, так и внутренним. В этом заключается
жизненная трагедия поэта, которая чудесным образом
делает эстетику искусства этичной, а этику жизни —
эстетичной и которая управляет скоростью жизни и
смерти. Поэты вообще отшлифованные трагедией люди.
Борис не умел или не хотел корректировать скорость
своей трагедии. Категория всеведения поэта, о которой
в начале XX века вспомнил А. Блок, может легко и незаметно трансформироваться в категорию вседозволенности, т. к. поэт, учась быть человеком, все-таки постоянно находится в процессе языкового стресса, который принято называть поэтической одаренностью или
поэтическим талантом. Поэт — всегда рыжий. Рыжий
на фоне серо-светло-темноголовых.
Был ли Борис действительно рыжим? Наверное,
потому что рыжины в цвет его волос отчасти добавляла
фамилия... Рыжий — тревожащий.
528
Предисловие
Б. Рыжий осознавал и оценивал свою особливость,
уникальность всегда с болью и с иронией. В последние
месяцы жизни Борис чаще или хохотал, или усмехался,
нежели улыбался. Он понимал, что каждый человек неповторим и что всякий человек вполне повторим —
почти ксерокопичен, когда находится в толпе. Поэт не
видит толпы, а она его за это ненавидит:
Снег за окном торжественный и гладкий,
пушистый, тихий.
Поужинав, на лестничной площадке
курили психи.
Стояли и на корточках сидели
без разговора.
Там, за окном, росли большие ели —
деревья бора.
План бегства из больницы при пожаре
и все такое.
...Но мы уже летим в стеклянном шаре.
Прощай, земное!
Всем все равно куда, а мне — подавно,
куда угодно.
Наследственность плюс родовая травма —
душа свободна.
Так плавно, так спокойно по орбите
плывет больница.
Любимые, вы только посмотрите
на наши лица!
(1997)
529
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
Поэт ни с кем и ни с чем не борется, он никому
никакой дороги не освещает, никого не зовет с собой —
просто приводит в чувство и в сознание обывателя,
ослабшего от голода или обжорства. У поэта родовая
травма — душевная. И это норма для него.
Такая генетическая, поэтологическая (не патологическая ли?) особенность человека, думающего и говорящего, поющего и плачущего стихами, оформилась
к концу XX века, когда в России начала происходить
смена эпох и абсолютное перерождение людей в рамках, так сказать, прежней плоти. Вместе с коммерциализацией искусства и слиянием культуры с шоу-бизнесом начали оформляться новые глобальные для России
оппозиции: Цивилизация — Культура и Государство —
Страна. Борис Рыжий остро осознавал быто-бытийное
противоречие в развитии цивилизации как обеспечения комфорта (Борис боялся комфорта и в то же время
любил его) и жизни культуры как стремления к душевному, онтологическому дискомфорту («Но не хочу,
о други, умирать — Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать...»). Борис «обходил» государство стороной и любил страну, народ-пьяницу, уголовника, творца, рабочего и бездельника, «крутого», интеллигента и ученого:
Ничего не надо, даже счастья
быть любимым, не
надо даже теплого участья,
яблони в окне.
Ни печали женской, ни печали,
горечи, стыда.
Рожей — в грязь, и чтоб не поднимали
больше никогда.
Не вели бухого до кровати.
530
Предисловие
Вот моя строка:
без меня отчаливайте, хватит —
небо, облака!
Жалуйтесь, читайте и жалейте,
греясь у огня,
вслух читайте, смейтесь, слёзы лейте.
Только без меня...
<2000-2001>
На рубеже эпох, на хронотопическом рубце, частью
которого являемся все мы, живущие в России в начале
XXI века, видоизменяется само понятие «поэт»: если
в XIX веке это субстанция редкая, уникальная, то в свинцовом XX веке поэт — явление цеховое (пусть «Цех поэтов» и начинался в серебряном веке), массовое (Союз
писателей и проч. союзы) и хоровое (ангажированность
идеологическая, социальная и эстетическая, в целом —
сервилистекая, унифицированно-служебная и проч.).
Подлинность как основа духовной и нравственной жизни вытесняется сначала ее аналогами историко-национального характера, а затем и вовсе подделкой, копией,
размножаемой и тиражируемой телевидением, постмодернистской эстетикой, шоу-бизнесом, «черной литературой».
Культура не гибнет, она видоизменяется, регрессирует, реанимируя старые, известные образцы: постмодернизм в живописи опирается на законы наскального рисования, в словесности — на граффити; модная
литература/беллетристика приближается к доантично-
му и постантичному примитиву, театр и эстрада ориентированы, как и во времена рабовладельцев, на плебеев. Коммерческий прагматизм современного искусства — не более, чем дикость до-культурного (или —
пост-культурного) творчества. Искусство перестает быть
531
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
бесполезным, безденежным; эстетика материализуется не
только в инсталляциях, но и во многочисленных и постоянных выставках поп-арта. Вот почему один из лидеров постмодернизма Дм. А. Пригов, выступая по ТВ (кстати, на канале «Культура»), констатирует «кризис перепроизводства художественных текстов», что обусловливает
наличие в стране моды на писателя, на имя и на произведение. Постхудожественные тексты хороши и интересны только такому читателю, который отродясь не
видел текста художественного или видел, да не заметил
в силу его неглянцевого, неяркого — без голых девок
и бандитских загривков — оформления.
Борис Рыжий — поэт известный, но, слава богу, немодный, да боль никогда и не войдет в моду:
В безответственные семнадцать
только приняли в батальон,
громко рявкаешь: рад стараться!
Смотрит пристально Аполлон:
«Ну-ка, ты, забубень хореем.
Парни, где тут у вас нужник?»
Всё умеем да разумеем,
слышим музыку каждый миг.
Музыкальной неразберихой
било фраера по ушам.
Эта музыка стала тихой,
тихой-тихой та-ра-ра-рам.
Спотыкаюсь на ровном месте,
беспокоен и тороплив:
мы с тобою погибнем вместе,
я держусь за простой мотив.
532
Предисловие
Это скрипочка злая-злая
на плече нарыдалась всласть.
Это частная жизнь простая
с вечной музыкой обнялась.
Это в частности, ну а в целом
оказалось, всерьез игра.
Было синим, а стало белым,
белым-белым та-ра-ра-ра.
U998)
Игра и впрямь обернулась судьбой: культура губит
одних, мучает других и защищает третьих.
Смена ментально-этических ориентиров (в России это
происходит примерно раз в 700 лет: национальная триада
Богатырь — Соборность — Государство, сформировавшаяся в конце XIV века, сегодня замещается другой —
Я (крайний, прагматический индивидуализм) — Семья
(по типу мафии) — Власть (коррумпированная бюрократия)), перерождение индивидуального и общественного
сознания привели к резкому социальному / материальному / и прочему расслоению народонаселения.
По словам отца поэта, Борис тяжело переживал время, когда Зло становилось все очевиднее и материальнее.
Все это, и многое другое, о чем речь еще впереди,
несомненно, увеличивало скорость жизни поэта. Борис
чувствовал и понимал причины такой неожиданной востребованности его стихов, но он и осознавал цену того,
что с ним происходило. Его стремительный бросок
к подлинности, к тому, что он называл музыкой, не мог
не сказаться на его жизни: Борис постоянно, будучи уверенным в себе как авторе, сомневался в том, не чтб он
делает, а скорее — кйк он «пишет». В начале апреля
533
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
2001 года я, по просьбе зав. отделом поэзии журнала «Знамя» О. Ю. Ермолаевой, привез из Москвы верстку новой
стихотворной подборки Б. Рыжего, которая оказалась последней авторской и первой посмертной публикацией
поэта («Знамя», 2001, № 6). До сих пор чувствую себя
виноватым, т. к. не передал ее Борису сразу же: только
через 2—3 дня моя жена встретилась с Б. П. Рыжим, отцом
Бориса, и вручила ему верстку (и Борис, и я — болели).
Через день-два Борис мне позвонил, чтобы узнать
мое мнение о стихах, идущих в «Знамя». Честно говоря, именно та подборка мне не совсем пришлась по
душе: мне тогда показалось, что «вторчерметовские»
стихи Бориса в печати начали как-то приедаться. Я чувствовал, что у него есть какие-то другие вещи, более
близкие мне как закоренелому «традиционалисту». «Узко-
хронотопные» стихи Борис, видимо, публиковал еще по
инерции, он вошел, так сказать, в образ поэта-пацана
с окраины индустриального города:
Городок, что я выдумал и заселил человеками,
городок, над которым я лично пустил облака,
барахлит, ибо жил, руководствуясь некими
соображениями, якобы жизнь коротка.
Вырубается музыка, как музыкант ни старается.
Фонари не горят, как ни кроет их матом электрик-браток.
На глазах, перед зеркалом стоя, дурнеет красавица.
Барахлит городок.
Виноват, господа, не учел, но она продолжается,
все к чертям полетело, а что называется мной,
то идет по осенней аллее, и ветер свистит-надрывается,
и клубится листва за моею спиной.
(.2000-2001)
534
Предисловие
Поэт, вербализуя музыку, никогда не лжет. Поэтическая прямота созданного Борисом Рыжим трагична,
естественна и легка.
В том (одном из последних наших) разговоре мы
говорили о том, о сем. Разговор наш закончился неожиданными словами Бориса (а он почти никогда не
жаловался на обстоятельства — чаще пенял себе, своему озорному, иногда необузданному нраву) о том, что,
мол, старик, как все это достает — и жизнь, и люди,
и погода...
Если культура уничтожает, давит слабых, то поэзия
убивает только истинных поэтов, как это парадоксально ни звучит, — поэт и поэзия пожирают друг друга,
поэт губит себя ради стихов. Борис жил и был целиком
в литературе. А это — смертельно. Как-то поэт Геннадий Русаков, обращаясь к юной авторице на одном из
семинаров Всесоюзного совещания молодых писателей
весной 1989 года, произнес тогда еще не совсем понятную мне, а сегодня абсолютно ясную фразу: «Поэзия —
дело мужское, кровавое...»
В июне 2001 года, когда в редакции журнала «Урал»
мы с коллегами готовили посмертную публикацию стихотворений Бориса Рыжего, и зимой 2002 года, когда
к годовщине смерти поэта мы собирали тексты для «Венка Борису Рыжему», я наслушался Бог знает каких историй — о «Боре», о «Борьке», о «Борисе», о «Борисе
Борисовиче», в которых, как правило, воспоминатель
и герой все время пили да гуляли, да девок обнимали...
И понял я, что поэт достоин не только взгляда обывателя, что поэт — это единая, нестерпимо жгучая точка множественного зрения — зрения прежде всего самого поэта, его родных и самых близких друзей, в искренности
535
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
и душевной чистоте которых сомневаться не приходится. Память о поэте — это точка пересечения взоров самого поэта, любви и Бога, потому что «Бог сохраняет
все — особенно слова прощенья и любви, как собственный Свой голос...».
Судьба Бориса Рыжего интересует, волнует и удивляет многих. История его жизни — это история сложная, с многослойным дном, переходящим в бездну, потому что это история человека, родившегося поэтом,
который учился жить, постигая музыкой-музыкой высокий ужас красоты.
Часть I: Весь музыкою
полон до краев
Это скрипочка злая-злая
на плече нарыдалась всласть.
Это частная жизнь простая
с вечной музыкой обнялась.
Борис Рыжий
Борис Рыжий был красив: хорошего роста (около
175 см), гармоничного сложения, очень стройный, тонкий, но жилистый, крепкий и сильный, — он нравился
женщинам и вообще привлекал внимание окружающих.
В первую очередь, пожалуй, удивительным взглядом своих серо-голубых глаз, которые в особенно утомительные
и напряженные минуты становились почти сиреневыми,
они темнели от печали, от безысходности очевидной рутины встреч, пустых разговоров, посиделок и постоянной — по молодости — необходимости доказывать и подтверждать свой счастливый мучительный статус поэта.
Лицо у Бориса было чуть вытянутое, с прямым, но
и одновременно «боксерским» носом, ровным и чистым лбом, нервными бровями, небольшим ртом с подвижными и готовыми к улыбке-усмешке губами и шрамом на левой щеке. Волосы были густые и вьющиеся,
темно-русые.
Расслабленным Бориса я не видел никогда: иногда он бывал медлительным, иногда — стремительным,
но всегда — напряженным, как всякий, кто думает
о чем-то своем, успевая при этом и говорить, и оценивать. Внутреннее напряжение Бориса было заметно
537
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
почти всегда — очевидной была его постоянная сосредоточенно-озорная и веселая готовность ко всему на
свете: к любви, к схватке, к смерти и к жизни...
Внешне Борис старался держаться (особенно с незнакомыми людьми) то ли отстраненно, то ли чуть-чуть
развязно (и то и другое, как я понимаю, было от смущения). В зависимости от ситуации, он мог быть сдержанно аристократичным, приходилось его видеть и томным, и даже слегка вульгарным, — но все это была игра,
игра с чуть приметным подмигиванием тому, кто ее
понимал. Был у Бориса один часто повторяющийся
жест — непроизвольное потирание лба1.
Борис любил часто повторять некоторые словечки,
которые, видимо, с одной стороны, помогали ему скрывать волнение или смущение, а с другой стороны, давали время на некую передышку в беседе, в споре, а также
были материальными знаками музыкального оформления интонации, помогая Борису разграничивать свою
повседневную разговорность от разговорности поэтической. Постоянно он повторял «да, да», «заметь», «да ведь»,
«нет ведь», «скажи», «подлянка», «классно», «э-э-э»,
«правда?!», «ну-ну», «туда-сюда», «слово 3â слово», «пя-
тое-десятое», «и всё такое» (последнее — стало названием первой книги) и др.
Поэт, в отличие от стихотворца, появляется на свет
с уже с готовыми к функционированию своим языком,
1 О. Дозморов рассказывает забавную историю: однажды Борис обратился
к нему с диким для них обоих вопросом, не походит ли он на голубого.
Олег рассмеялся и успокоил своего друга — явно выраженного мужика,
поинтересовавшись, откуда могло вообще появиться такое, так сказать,
подозрение. Борис ответил, что, когда он ехал в такси, водитель, спросил
у него, не гомик ли он, коли лоб себе как-то так странно, черт побери,
потирает.
538
Весь музыкою полон до краев
своей музыкой и своим идиостилем. И количество времени, прожитого поэтом, может лишь усилить или
ослабить, или оставить неизменной степень напряженности языковой, эстетической и культурной энергии,
которую принято называть Божьим даром и которая,
иссякнув в человеке, продолжает свою работу в тексте,
в речи, вообще в языке, в культуре, в истории. Поэты
живут по-разному, потому что они люди, но, в отличие
от непоэтов, они не могут жить без сочинительства, без
востребованности публикой их творений, без самоистребления и любви до гроба, без осознания единства
жизни и смерти, смерти и вечности.
Поэт Майя Никулина, говоря о поэте Владимире Коч-
каренко, погибшем очень рано, заметила, что есть люди,
которые могут быть только молодыми. Действительно,
многие поэты жили совсем недолго: Дм. Веневитинов —
около 22 лет, И. Коневской (Ореус) — около 23 лет,
М. Лермонтов — 27 лет, П. Васильев — 27 лет, С. Есенин — 30 лет, Б. Корнилов — 30 лет...
Борис Рыжий ушел от нас слишком рано. Но берусь
утверждать, что как поэт он прожил «полную», максимально реализованную поэтически, культурно и духовно жизнь.
Борис Борисович Рыжий родился в г. Челябинске
в семье геофизика и медика 8 сентября 1974 года в 14 часов 15 минут.
Мать Бориса, Маргарита Михайловна, вспоминает,
что Борис родился очень большим — 5 кг с пеленками
(точный вес 4 850 г).
До появления на свет Бориса семья Рыжих состояла
из пяти человек: Маргарита Михайловна, ее мать Евдокия
539
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
Сергеевна Пашкова, Борис Петрович и дочери Лена и
Оля, старшие сестры мальчика.
Маргарита Михайловна родилась 8 февраля 1936 года
в Москве, где в то время жили ее родители. Потом ее
семья переехала в деревню Скрипово Орловской области. Отец Михаил Иванович происходил из рода Пашковых. Бабушка — Раевская Евдокия Митрофановна рассказывала внучке, что ее отец — незаконнорожденный,
едва ли не из дворян, и приехал сюда издалека. Борис
был очень похож на отца Маргариты Михайловны (отсюда в Б. Рыжем, видимо, была неистребимая аристократичность манер). Жили Раевские-Пашковы в добротном кирпичном доме. В 1987 году Борис Петрович, Маргарита Михайловна и их сын ездили в Скрипово: Борис
буквально оторопел, оказавшись как бы на стыке двух
времен. А кругом яблони (бунинские места!). Дом крыт
соломой. Тихо. Пусто. Боря был потрясен рассказами
о судьбе Пашковых, воспоминаниями о войне (Курская дуга как раз захватывает Скрипово), ощущением
родины и, конечно, ароматом и обилием крепких и красивых антоновских яблок...
Сегодня в Скрипово и окрест, где остались только
сады, понаехали болгары, которые строят «по линейке»
новые деревни для новых поселенцев.
Борис редко говорил о Пашковых, но помнил о них
постоянно, поэтому стихотворение 1996 года «В России расстаются навсегда...» не кажется сегодня — в силу
абсолютной серьезности его тона и некоторой нарочитости употребления слова «Россия» — случайным;
в Борисе Рыжем всегда присутствовала, не рвалась глубинная связь с Орловщиной, с Москвой (где, напомню, родилась его мать), с Питером, с Уралом, вообще
с евразийской громадой страны:
540
Весь музыкою полон до краев
В России расстаются навсегда.
В России друг от друга города
столь далеки,
что вздрагиваю я, шепнув «прощай».
Рукой своей касаюсь невзначай
ее руки.
Длиною в жизнь любая из дорог.
Скажите, что такое русский бог?
«Конечно, я
приеду». Не приеду никогда.
В России расстаются навсегда.
«Душа моя,
приеду». Через сотни лет вернусь.
Какая малость, милость, что за грусть —
мы насовсем
прощаемся. «Дай капельку сотру».
Да, не приеду. Видимо, умру
скорее, чем.
В России расстаются навсегда.
Ещё один подкинь кусочек льда
в холодный стих.
...И поезда уходят под откос,
...И самолеты, долетев до звезд,
сгорают в них.
{апрель, 1996)
Эти стихи почему-то порождают во мне вполне
понятный для современной нашей действительности
вопрос: захотел бы Борис уехать из России? Разговоры
Б. Рыжего с его другом О. Дозморовым свидетельствуют о том, что Борис мог бы переехать в Москву,
541
ЮРИЙ КАЗАРИН /Поэт Борис Рыжий
возможно (хотя, это очень сомнительно), в Питер, ну,
в Голландию (к своему другу Кейсу Верхейлу) ненадолго, в Америку — на месяц-другой, но уехать совсем из
России...
Маргарита Михайловна вспоминает, что во время
Великой Отечественной войны деревня Скрипово, оказавшись в танково-артиллерийском пекле Курской дуги,
трижды переходила из рук в руки, а в июле 1943 года
немцы угнали все население деревни в Германию, где
она со своей матерью Евдокией Сергеевной и сестрой
Женей провела два года. Только в апреле 1945 года их
освободили американцы. Путь в Россию из неволи был
долгим и длинным: их перевезли через Эльбу в Польшу,
где поляки продержали освобожденных невольников
почти полгода.
В ноябре 1945 года, выдав каждому по караваю хлеба, их повезли на открытых платформах в Россию. Сестра Женя простыла и сразу же после приезда умерла.
Брат Евдокии Сергеевны, матери Маргариты Михайловны, Иван Сергеевич Пашков перевез измученных
родственников к себе в поселок Юргамыш Курганской
области, потому что в Москву бывших «перемещенных
лиц» не пускали. Таких людей считали «предателями»,
поэтому факт плена долгое время приходилось скрывать, лишь в момент поступления в Омский медицинский институт, получая военный билет, Маргарита Михайловна, как человек необыкновенно честный, рассказала чиновнику о том, что была угнана, «перемещена»,
однако офицер — добрая душа — посоветовал об этом
эпизоде своей биографии в анкете не упоминать.
С Борисом Петровичем Рыжим Маргарита Михайловна Пашкова познакомилась в шестом классе (ей
было 14, а ему 12 лет) юргамышской поселковой школы.
542
Весь музыкою полон до краев
В школе были очень хорошие учителя, в основном
эвакуированные из Москвы и Ленинграда.
Борис, по словам его жены Ирины Князевой, любил своих родителей такой любовью, какой она никогда
и нигде не встречала: после того, как он стал жить отдельно, Борис навещал отца и мать в их квартире на
Московской горке ежедневно, уходил от них 3â полночь
и иногда оставался ночевать. Любовь всегда мука, без
которой, правда, жизнь всякого нормального человека
немыслима. Борис не просто был рядом с матерью и
отцом, он буквально жил их жизнью, разделял и переживал их болезни и невзгоды, он явно — всем своим
любящим и страдающим от любви существом — противоречил древнему, но вполне оцивилизованному закону, определяющему прямо и жестоко статус сына-доче-
ри: «ребенок — гость в доме». Борис, скорее, был гостем в мире. Страдания, которые выпали на долю матери
в 1941—45 годах, ее любовь к людям («Я всех любила
и жалела. Я не дифференцирую людей по должностям», — точные слова Маргариты Михайловны), ее природная тревога за дочерей, за сына, за мужа, за семью,
за родных, близких и знакомых, за целый мир — все
это, только в преувеличенном и мучительно обязательном, душевно и поэтически определенном виде Борис
держал в себе, и поэтому предметное основание его стихотворения «Так я понял: ты дочь моя, а не мать...»
(1999) становится более очевидным, не ускользающим,
а почти навязчивым и до слез необходимым.
Семья для Бориса Рыжего была его ускользающим
счастьем (старение родителей, постоянное беспокойство об их здоровье) и плодотворным мучением (когда
неизбывное страдание генерирует поэтическую энергию).
543
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
Борис Петрович Рыжий родился 27 февраля 1938 года
в с. Кошкуль Омской области в семье служащего.
Мать Бориса Петровича, Анна Григорьевна, родилась в Крыму в г. Мариуполь в семье Ханны Ароновны
Лекус (Лекусы — выходцы из Эстонии) и Григория Израилевича Шапиро, который был представителем французской фирмы на юге Украины (по продаже сельхозтехники). В семье Шапиро было шестеро детей — три
сына и три дочери, — в которых соединились эстонская и еврейская кровь.
До 1917 года семья Шапиро жила в Крыму. После
Октябрьской революции, во время гражданской войны,
дед и бабка Бориса Петровича умерли от тифа, а их детей разобрали и приютили родственники на Украине.
Анна Григорьевна жила в Харькове, где работала
телефонисткой на заводе «Серп и Молот» и где познакомилась со своим будущим мужем Петром Афанасьевичем Рыжим.
Петр работал бригадиром наладчиков на том же заводе. Борис Петрович рассказал о том, как познакомились его родители: однажды Анна самовольно отключила электрооборудование в цехе от источника питания, т. к. ей необходимо было починить телефонную
проводку. Петр включил рубильник, возобновив работу электрооборудования в родном цехе. Естественно,
будущий отец Бориса Петровича не желал ничего худого своей будущей жене, с которой он даже не был знаком. Однако Анну Григорьевну, ничего не подозревавшую о неожиданно заработавшей электросети, ударило
током — и бедная девушка, у которой временно отнялись ноги, попала в больницу, где виновник инцидента
навестил пострадавшую — в итоге Анна и Петр полюбили друг друга.
544
Антибукеровская речь (2000 г.)
С женой Ириной Князевой. Екатеринбург (1991 г.)
В саду. Екатеринбург (1991 г.)
Сын Артем
В Москве (2000 г.)
Антибукер. Москва (2000 г.)
В родительском доме с матерью Маргаритой Михайловной,
Кейсом Верхейлом и Олегом Дозморовым (2000 г.)
Антибукер: поздравления от Евгения Рейна. Москва (2000 г.)
Дома. Екатеринбург (1990-е гг)
С отцом Борисом Петровичем. Екатеринбург (1998 г.)
В экспедиции. Пос. Кытлым (1996 г.)
Весь музыкою полон до краев
Отец Петра Афанасьевича (прадед Бориса Рыжего)
был украинцем, потомком сотника из Запорожской Сечи.
Другой предок Афанасия был чумаком — возил соль из
Крыма. Мать Петра Афанасьевича была русской мещанкой, страстно любившей театр и особенно — музыкальную комедию. Семья жила в одном из районов Харькова — на Холодной Горе... Борис с удовольствием и кровным интересом слушал рассказы своей прабабушки из
уст отца. Эти рассказы изобиловали украинизмами, просторечием и особым харьковским приблатненным сленгом, что, несомненно, потом сказалось на высокой интенсивности лексико-стилистической игры в стихах
Б. Рыжего. (Борис Петрович произносит, лукаво посматривая на меня: «Семья жила на Холодной Горе, а на
Украине говорят, что харьковский урка, особенно если
он с Холодной Горы, то это тебе не какая-нибудь зеленая сявка с одесского Привоза»). Харьковские окраины
в сознании юного Бориса силою фантазии, жизни и языка
свободно сливались со свердловским Вторчерметом
(а еще есть ВИЗ, Химмаш, Пионерский поселок, ЖБИ
и знаменитый Уралмаш), и это щемящее душу единство
преобразовалось — мучительно и счастливо — в вербализованную музыку стиха:
Отполированный тюрьмою,
ментами, заводским двором,
лет десять сряду шел за мною
дешевый урка с топором.
А я от встречи уклонялся,
как мог, от боя уходил:
он у парадного слонялся —
я через черный выходил.
19 Опраилание жизни
545
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
Лет десять я боялся драки,
как всякий мыслящий поэт.
...Сам выточил себе нунчаки
и сам отлил себе кастет.
Чуть сгорбившись, расслабив плечи,
как гусеничный вездеход
теперь иду ему навстречу —
и расступается народ.
Окурок выплюнув, до боли
табачный выдыхаю дым,
на кулаке портачку «Оля»
читаю зреньем боковым.
И что ни миг, чем расстоянье
короче между ним и мной,
тем над моею головой
очаровательней сиянье.
(1997)
Талант Бориса Рыжего был настоян на четырех кровях (эстонской, еврейской, украинской, русской) «двойного» — аристократического и простонародного —
«розлива», поэтому степень подлинности, достоверности и силы музыкальной и лирической интонации
поэта так высока. Поэтому его русоволосая голова, когда
он, печальный и всему чужой, читал свои стихи, как
могло показаться, действительно излучала сиянье.
Дед Рыжего Петр был человеком своеобразным. Он
часто говаривал: «Главное не то, что было на самом
деле, а главное то, что об этом потом говорят люди».
Интеллектуальное озорство, игра — языковая, событий¬
546
Весь музыкою полон до краев
ная, вообще любовь к мистификации, — все это, видимо, перешло от деда к внуку (Борис был блестящим
речевым игроком, шутливым манипулятором и мистификатором).
Во время войны с фашистской Германией Петр
Афанасьевич трижды писал заявления с просьбой отправить его на фронт. И, наконец, член сталинского
политбюро ВКП(б) Лазарь Каганович окоротил главу
района, ответственного работника: «Ты захотел умереть
легкой смертью! Если хоть один колос окажется под
снегом — мы тебя расстреляем и семья твоя будет опозорена!» В эту же ночь выпал снег. Катастрофа! Однако
хлеб собрали — в основном усилиями детей, скосивших пшеницу вручную. Борис Петрович говорит, что
вторая история отражена в стихах Бориса (это «Баллада», опубликованная в журнале «Знамя» в 1999 году).
Стихотворение это всегда воспринималось мной как
некая стилизованная историческая фантазия и гипербола, но оказалось, что оно в фактологическом отношении достаточно точное (почему правда воспринимается нами как преувеличение?):
На Урале в городе Кургане
в День шахтера или ПВО
направлял товарищ Каганович
револьвер на деда моего.
Выходил мой дед из кабинета
в голубой, как небо, коридор.
Мимо транспарантов и портретов
ехал черный импортный мотор.
Мимо всех живых, живых и мертвых,
сквозь леса, и реки, и века.
А на крыльях выгнутых и черных
!(>*
547
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
синим отражались облака.
Где и под какими облаками,
наконец, в каком таком дыму,
бедный мальчик, тонкими руками
я его однажды обниму?
(1997)
У Петра Афанасьевича было пять сыновей: покойный Юрий — от первой жены (жил в Варгашах); а остальные — по алфавиту: Анатолий — горняк, заместитель министра золотодобывающей промышленности
Якутии, в профессиональной сфере знаменит тем, что
впервые запустил драгу на льду, взорвав его, затем директор института «Уралгипроюжвод» (г. Челябинск), Борис — отец Б. Рыжего, Владимир — выпускник пединститута, преподаватель вуза, работник одной из заводских лабораторий, Григорий — доцент сельхозинститута
в Кургане. Семья Рыжих — трудовая, интеллигентная,
крепкая, каждый человек в ней — особый, обязательно
чем-нибудь знаменитый, отмеченный «лица не общим
выраженьем». Анна Григорьевна (бабушка Бориса) была
почетным гражданином Ленинграда (не отсюда ли берет начало интерес, а потом и любовь Бориса к Питеру?), заведовала районо в Варгашах и пеклась в свое
время о детском доме, эвакуированном с детьми во время
войны из Ленинграда. Петр Афанасьевич в 1952 году
стал персональным пенсионером и умер от очередного,
далеко не первого, инфаркта. Его похороны в Кургане
по количеству провожающих были сравнимы с первомайской демонстрацией.
Борис чувствовал постоянную и болезненно напряженную связь со своей «рыжей» родней, с Варгашами,
с рабочим Курганом, сменившимся сначала промыш¬
548
Весь музыкою полон до краев
ленным Челябинском, а потом — индустриальным Свердловском, с его Вторчерметом и Химмашем — Эльма-
шем — Уралмашем.
Родители Бориса познакомились в 1950 году в школе, когда в 6-й класс, где уже училась Маргарита Пашкова, завуч ввела в класс мальчика и сказала, что это
Боря Рыжий, который будет учиться в вашем классе.
А в самом центре классной комнаты сидела самая красивая девочка, Маргарита — Рита, который через два
года (Борису Петровичу было тогда всего 14 лет) мальчик заявил, что никуда ты, Рита, не денешься — выйдешь за меня замуж.
Борис Петрович — доктор геолого-минералогических наук, профессор, заслуженный деятель науки, член
Нью-Йоркской Академии науки и искусств, академик
Международной академии минеральных ресурсов и проч.;
он работал главным инженером геофизической экспедиции, 8 лет был главным геофизиком Урал геологии
(г. Свердловск), 12 лет возглавлял Институт геофизики
УрОАН и сегодня заведует лабораторией того же института.
Отец для Бориса был безусловным авторитетом.
Жизнь в благополучной семье, тем не менее, странным
образом обостряло «болевое» зрение поэта, который
видел и другое — бедное и, вполне очевидно, несчастное существование большинства советских людей, жителей промышленных окраин большого города...
Борису Петровичу и Маргарите Михайловне удалось создать такую семью, где каждый реально ощущает себя частью целого, а целое не может жить и обходиться без каждого. Семья Рыжих и понимала, и принимала жар поэзии их Бориса, и сама согревала поэта,
несмотря, быть может, на его эмоциональный перегрев,
549
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
перенакал, перенапряжение. Борис не мог жить без
родителей, живя рядом (буквально через две улицы)
и постоянно думая о них (о чем свидетельствуют и жена,
и друзья Бориса).
Фамилия «Рыжий», по семейному преданию, появилась в начале XIX века, когда один из прапрадедов
Афанасия вступал в русскую армию, и полковой писарь вместо украинского имени «Рудый» (красный,
рыжий) записал русский аналог «Рыжий».
В Борисе гармонично соединились внешние приметы матери и отца и глубинные черты их характеров:
трудно определить, на кого больше походил Борис, когда
он молчал и смотрел внимательно на собеседника —
в его лице явно «проступало» лицо матери, а когда он
говорил, спорил, а особенно, смеялся — он становился
почти копией отца. Это был несколько отрывистый,
может быть, даже задиристый, но абсолютно полный,
глубокий смех, дающий и передышку в разговоре и точную эмоциональную оценку происходящему.
Походка и основные телодвижения Бориса вполне
соответствовали тому, как перемещается и размещается в пространстве его отец Борис Петрович. Борис, как
это сегодня видится и осознается, был связан с родителями тотально: и внешне, и эмоционально, и психологически, и духовно, и в целом — бытийно.
Борис Рыжий был связан с отцом более всего энергетически, в этой отцовской-сыновней коллегиальности явно просматривалась конгениальность с переменным лидерством и подчинением друг другу. Если мать
и сестры Лена и Оля могли воплотить свою любовь
к Борису в заботе и нежности, то любовь отца распадалась на два мощных потока: материальной помощи сыну
и постоянного — пусть болезненного, но счастливого
550
Весь музыкою полон до краев
интеллектуально-духовного соперничества. Таково извечное единство-противоположность отцов и детей.
Энергетика таких — общеизвестных — отношений чудовищно мощна и продуктивна.
Борис любил своего отца особой любовью:
...Я за отца досматриваю сны:
прозрачным этим озером блуждаю
на лодочке дюралевой с двустволкой,
любовно огибаю камыши,
чучёла расставляю, маскируюсь
и жду, и не промахиваюсь, точно
стреляю, что сомнительно для сна.
Что, повторюсь, сомнительно для сна,
но это только сон и не иначе,
я понимаю это до конца.
И всякий раз, не повстречав отца,
я просыпаюсь, оттого что плачу.
U999)
Отношения отца и сына, слава Богу, вообще невозможно проследить, проанализировать, осознать до конца. Потому что в основе этих отношений, несмотря ни
на что, — единство постоянно накладывающихся друг
на друга тождеств и антонимий.
Вся жизнь Бориса Рыжего пронизана любовью.
И прежде всего — любовью семьи.
Борис появился на свет, когда матери шел тридцать
девятый, а отцу тридцать седьмой год. В семье уже были
две девочки — сестры Елена (она была на 13 лет старше
брата) и Ольга (почти на 12 лет старше Бориса), которые смотрели в то время на младенца-брата, как на чудо.
551
ЮРИЙ КАЗАРИН /Поэт Борис Рыжий
Через 22 года Борис напишет стихи, в которых горечь
и одиночество обыденного существования вдруг накрываются чистой и светлой волной любви к сестрам
и безадресной надежды на возможные перемены к лучшему:
Когда вонзают иглы в руки,
и жизнь чужда и хороша —
быть может, это час разлуки,
не покидай меня, душа.
Сестрица Лена, ангел Оля,
не уходите никуда —
очистив кровь от алкоголя,
кровь станет чистой навсегда.
Кровь станет чистой, будет красной,
я сочиню стихи о том,
как славно жить в стране прекрасной
и улыбаться красным ртом.
Но краток миг очарованья,
и, поутру, открыв глаза,
иду — сентябрь, кварталы, зданья.
И, проклиная небеса,
идут рассерженные люди,
несут по облаку в глазах.
И, улыбаясь, смотрит Руди
и держит агнца на руках.
(1997)
До года и семи месяцев Бориса кормили грудью. Он
начал ходить достаточно уверенно и крепко, когда ему
исполнился год. На первый взгляд, ничего особенного
в развитии ребенка не происходило, но тем не менее
552
Весь музыкою полон до краев
говорить он начал рано, раньше своих сестер. Маргарита Михайловна вспоминает, что в возрасте 1 года на
прогулке в одном из челябинских парков Борис отчетливо произнес слово «банан».
Сестра Бориса Ольга говорит, что хорошо помнит
брата в возрасте одного года. И почему-то совсем не
помнит обычной и заурядной ревности к родителям,
которые много занимались с маленьким братом, — была
какая-то сплошная, абсолютная любовь к Борису.
Борис в детстве, да и всю свою жизнь, относился
к сестрам нежно и хорошо. Они подолгу гуляли, помогали матери, и хлопоты эти для сестер были в радость.
В семье существовало некое «разновозрастное равенство» брата и сестер, правда, Лена обходилась с Борисом мягче (она вообще добрый и мягкий человек),
а Оля — построже (Лена, по единодушному мнению всей
семьи Рыжих, «пошла вся в мать», а Оля унаследовала
твердость отцовского характера). Конечно, маленький
Борис был избалован вниманием, а особенно — любовью, но известно, что любовью человека не испортишь. Поэтому вполне объяснимы его повышенная чувствительность и чувственность, а главное — гипервосприимчивость мира и окружающих его людей. Частые
выезды на дачу, к озеру, в лес (г. Пласт Челябинской
области, лесничество, где, кстати, когда все собирали
ягоды, Борис, сидя верхом — на шее — у отца-матери
или сестры, произнес второе «свое» слово «пелепёрка»),
Борис в детстве очень любил лес, тосковал по нему
и вообще мечтал жить в деревне в своем «домике». Борис понимал природу, и она любила его и принимала,
почему же в стихах Б. Рыжего так мало так называемых
«негородских» стихов? Может быть, потому, что главным для Бориса была не форма леса и ландшафта,
553
ЮРИЙ КАЗАРИН /Поэт Борис Рыжий
а содержание, «душа» — одна на всех и вся: на дерево,
на человека, на птицу, музыку и небо:
Прежде чем на тракторе разбиться,
застрелиться, утонуть в реке,
приходил лесник опохмелиться,
приносил мне вишни в кулаке.
С рюмкой спирта мама выходила,
менее красива, чем во сне.
Снова уходила, вишню мыла
и на блюдце приносила мне.
Патронташ повесив в коридоре,
привозил отец издалека
с камышами синие озера,
белые в озерах облака.
Потому что все меня любили,
дерева молчали до утра.
«Девочке медведя подарили» —
перед сном читала мне сестра.
Мальчику полнеба подарили,
сумрак елей, золото берез.
На заре гагару подстрелили.
И лесник три вишенки принес.
Было много утреннего света,
с крыши в руки падала вода,
это было осенью, а лето
я не вспоминаю никогда.
(1999)
В детстве, да и в отрочестве, Борису много читали
вслух, в основном это были стихи русских поэтов. По
семейной традиции, когда детей укладывали спать, им
всегда — и Лене, и Оле, и Борису — на сон грядущий
554
Весь музыкою полон до краев
читались стихи. Борис Петрович любил звучную, музыкальную поэзию, и Борису он читал наизусть стихи
A. Блока («Под насыпью во рву некошеном...», «Я одену тебя в серебро...» и др. ), В. Брюсова («Чтоб меня не
увидел никто...», «Я жрец Изиды светлокудрой...»,
«Я вождь земных царей...» и многое др.), стихотворения С. Есенина, М. Лермонтова, «Silentium» Ф. Тютчева, очень много А. Пушкина.
Любовь к поэзии — вообще давняя и неизменная
традиция семьи Рыжих в нескольких поколениях: дед
Бориса Петр Афанасьевич выписывал журнал «Новый
мир» с первого номера, в его доме были полное академическое издание А. С. Пушкина, собрание книг классической и современной поэзии, почти все выпуски
альманахов «День поэзии» и проч. Сам Борис Петрович — страстный поклонник русской поэзии и творчества Валерия Брюсова: первую книжку стихотворений
B. Брюсова получил еще в Варгашах, когда ему было
7 лет, а с двухтомником Брюсова в 1956 году Борис Петрович отправился на практику в экспедицию, где прочитал геологам одну лекцию о русской поэзии и о творчестве своего любимого поэта. Страсть к книгам от отца
закономерно перешла и к сыну.
Поэтическое творчество — явление исконное, природное, связанное с работой всех известных сегодня
типов и разновидностей памяти: в поэте заложен огромный объем информации и энергии культурного, языкового, исторического и генетического (кровного) характера. Слушание и восприятие юным Борисом стихов не
только возбуждали в нем некую первичную поэтическую память, но и отвлекали его (как в свое время и
О. Мандельштама, Н. Заболоцкого, И. Бродского идр.)
555
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
от подражания, от лабораторного стихописания и стихотворчества.
Борис безошибочно выбирал музыкально-поэтические ориентиры и эталоны, которые его память находила в стихах К. Батюшкова и В. Жуковского, М. Лермонтова и А. Полежаева, Ап. Григорьева и Я. Полонского,
К. Случевского, И. Анненского и А. Блока, А. Штейн-
берга и Б. Слуцкого и др.
А. П. Чехов как-то заметил: «Чем культурнее, тем
несчастнее»1, — действительно, несчастливое счастье
поэта позволяет ему жить, любить и умирать по иным
законам, по которым не может существовать человеческое большинство. Судьба поэта — не в его жизни,
или не совсем в его жизни, она — в его творчестве, поэтому быть поэтом и человеком чрезвычайно трудно,
почти невозможно. Тот же Чехов утверждает, что «за
новыми формами в литературе всегда следуют новые
формы жизни (предвозвестники), и поэтому они бывают так противны консервативному человеческому духу»1 2.
Борис Рыжий как поэт был новатором: его музыкальность основывалась на опыте классической поэтики, его новизна, выражающаяся в гармоническом синтезе поэтической разговорности и тотальной музыкальности стиха, — очевидна. Очевидно и то, что между
Борисом и его современником не было того интервала,
который наполняется, как правило, неприятием и непониманием. Поэзия Б. Рыжего — любима и воспринимаема одновременно как нечто новое и вместе с тем знакомое, родное. В недолгой, по общечеловеческим представлениям, жизни Б. Рыжего доминировала судьба —
1 Антон Чехов. Записные книжки. — М., 2000. С. 29.
2 Там же. С. 32.
556
Весь музыкою полон до краев
судьба поэта — носителя языка, и судьба поэта — носимого языком. Внешний романтизм поэтической темы
и тематики — это всего лишь слабое отражение и выражение внутренней поэтической работы, основанной
на синтезе противоречий поэтического и жизненного,
эстетического и этического, бытийного и бытового. Борис Рыжий как поэт смог соединить несовместимые
вещи: грубое, сниженное в стилистическом и стилевом
отношении — с высоким музыкальным.
А. С. Пушкин так объясняет подобное достаточно
редкое и противоречивое в словесном творчестве явление: «В зрелой словесности приходит время, когда умы,
наскуча однообразными произведениями искусства, ограниченным кругом языка условленного, избранного, обращаются к свежим вымыслам народным и к странному
просторечию, сначала презренному»1. Поэтическая музыка Б. Рыжего, несмотря на просторечную ее оболочку, — чиста. Музыка, по А. Блоку, творит мир. «Она есть
духовное тело мира — мысль (текучая) мира. <...> Музыка предшествует всему, что обусловливает»1 2:
В номере гостиничном, скрипучем,
грешный лоб ладонью подперев,
прочитай стихи о самом лучшем,
всех на свете бардов перепев.
Чтобы молодящиеся Гали,
позабыв ежеминутный хлам,
горнишные за стеной рыдали,
растирали краску по щекам.
О России, о любви, о чести,
1 Александр Пушкин. Записные книжки. — М., 2001. С. 60.
2 Александр Блок. Записные книжки. — М., 2000. С. 55.
557
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
и долой — в чужие города.
Если жизнь всего лишь форма лести,
больше хамства: водки, господа!
Чтоб она трещала и ломалась,
и прощалась с ней душа жива.
В небесах музыка сочинялась
вечная — на смертные слова.
(1997)
Музыка для Бориса Рыжего — не содержательная
категория, а онтологическая, основополагающая сущность жизни и поэзии.
Склонный к постоянным розыгрышам и мистификации, Борис сознательно не препятствовал появлению
о нем мифов, «случаев», историй. Например, крупный
шрам на его лице был не менее приметен и загадочен,
нежели его необычная фамилия. Многие, и я в том числе, были уверены в том, что Борис получил его в одной
из жестоких драк, в которых ему приходилось, де, участвовать. Однако реальная история этого шрама куда
как более проста и тривиальна.
Борису было четыре года, и он, естественно, собирался стать шофером (кто из нас в детстве не хотел
быть пожарником, водителем трамвая или продавцом
мороженого?) и поэтому постоянно играл в машины
(в «заводить-машины», в «заправлять-машины», в «ез-
дить-на-машине» и т. п.). Семья Рыжих жила в то время (это было лето 1977—78 гг.) на даче, и Борис, неся
в руках пару банок с водой, игравшей роль топлива,
споткнулся и упал. Банки разбились, а мальчик осколком стекла серьезно поранил лицо. Доктор, когда снимал швы, произнес избитую истину «шрамы украшают
мужчину» и, конечно, оказался прав.
558
Весь музыкою полон до краев
Борис развивался нормально. Он, по словам Маргариты Михайловны, не был вундеркиндом: хорошо
лепил из пластилина, однажды вылепил целый город
с людьми, машинами и гаражами. Выучил алфавит, но
читать не любил, многое знал наизусть, в том числе
и букварь. Неплохо рисовал, постоянно чем-нибудь
увлекался, например, собирал машинки.
Борис рос любимым всеми мальчишкой, очень, если
не чересчур, впечатлительным и добрым. Еще будучи
дошкольником, он смотрел фильм Серго Закариадзе
«Отец солдата» и плакал. А потом решил написать
письмо на телестудию с просьбой — «чтобы люди не
погибали». Через много лет Борис напишет, на первый
взгляд, странные стихи, появление которых, после
истории с фильмом «Отец солдата», выглядит вполне
закономерным:
Поздно, поздно! Вот — nó небу прожектора
загуляли, гуляет народ.
Это в клубе ночном, это фишка, игра,
будто год 43-й идет.
Будто я от тебя под бомбежкой пойду —
снег с землею взлетят позади,
и, убитый, я в серую грязь упаду.
Ты меня разбуди, разбуди.
U992)
В 1980 году семья Рыжих переезжает из Челябинска в Свердловск (сегодня Екатеринбург). Этот переезд
изменил многое: и прежде всего положение Бориса Петровича как геолога-ученого, как руководителя; Маргарита Михайловна работает в Свердловске врачом-
559
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
эпидемиологом (хотя начинала свою деятельность как
педиатр в деревне Долговка, где в свое время «стартовал» в медицине знаменитый хирург-ортопед Илизаров), девочкам тоже было нелегко привыкать к новому
городу, к новым людям, к новым условиям.
Шестилетний Борис в этот момент узнает цену перемен: завершается его дошкольное детство. Начинается очень важный этап формирования и структурирования его языковой и поэтической личности, когда под
воздействием внутренних (еще детских) переживаний
и внешних раздражителей обретает свои предварительные очертания этико-эстетическая составляющая личности этого очень сложного ребенка.
Семья Рыжих поселяется в рабочем районе Свердловска — на Вторчермете — в четырехкомнатной квартире, и личное благополучное существование Бориса
вступает в явное и жестокое противоречие с окраинным бытованием и существованием окружающего его
неблагополучного, враждебного и чужого (родного!) и
всегда жалеемого большинства людей. Около 11 лет
Борис проведет на Вторчермете, на ул. Титова, д. 44,
кв. 30. Происходит смена мягкого, почти степного
южно-уральского пейзажа на более суровый — средне-уральский, горный, с лесными массивами и лесом
дымящих и коптящих труб окрест поселений (городов, городков, поселков, сел и многочисленных зон —
промышленных и уголовных). Новый топоним «Свердловск» куда жестче, определеннее и крепче фонетически благодушного татарского имени «Челябинск».
Челяба и Свердловск/Екатеринбург — это языковые
знаки двух ранних возрастов Бориса. Плюс наплыв
неудобопроизносимого «Вторчермет» (хотя те, кто
живет здесь, зовут свой район иронически-нежно —
560
Весь музыкою полон до краев
«Вторник») — именно эта аббревиатура с элементом
«мет» (металл) вместо боже привычного для уральских
центров военно-промышленного комплекса «маш» (машина, нечто почти живое, движущееся само по себе)
отметит начало третьего возраста Бориса — теперь
поэта. Поэтический хронотоп 1996—97 годов конкретизируется и сузится до Вторчермета как отправной
точки сначала ментального, а потом и материального
путешествия из Вторчермета в Свердловск (Екатеринбург) и дальше — в Питер и в Москву, и еще дальше —
в Европу, в Роттердам:
Приобретут всеевропейский лоск
слова трансазиатского поэта,
я позабуду сказочный Свердловск
и школьный двор в районе Вторчермета.
Но где бы мне ни выпало остыть,
в Париже знойном, Лондоне промозглом,
мой жалкий прах советую зарыть
на безымянном кладбище свердловском...
(1998)
Душевное развитие любого человека как части общества прежде всего основывается на усвоении, понимании и неприятии (активном или пассивном) чужих
страданий. Борис был ласковым (буквально зацелованным, по словам Ольги) и добрым ребенком: он любил
животных и несчастья, связанные с ними, переживал
как трагедию (смерть шестнадцатилетнего кота Кузи
стала потрясением, смерть и похороны щенка, принесенного домой Борисом, — то же самое). Маргарита Михайловна вспоминает, как Борис был напуган
561
ЮРИЙ КАЗАРИН /Поэт Борис Рыжий
говяжьим языком, кончик которого торчал из накрытой тарелкой чашки: «Зачем режут животных?!» —
с отчаянием спросил он мать.
Еще в более раннем возрасте (3—4 года) Борис, отдыхая с семьей в лесничестве (г. Пласт Челябинской
обл.), отказался есть выменянную у аборигенов на тушенку курицу: — «Не буду есть, она (курица) в пыли
валялась...» И не ел. Но уже по другим причинам:
Борис был очень чистоплотен и даже брезглив (терпеть
не мог горячую воду из крана в Свердловске — за неприятный запах и нечистоту).
Там, на Вторчермете, Борис начинает сопоставлять
жизнь и любовь своей семьи с жизнью и иной любовью
людей, которые, будучи «другими», были все-таки твоими, говорившими по-русски, да не так, носившими ту
же, вроде, одежду, да не ту; евшими ту же пищу — картошку, рыбу и курицу — да не ту... Думается, в этот
период семейную дружбу, родственное нерасторжимое
единство и любовь Борис волей-неволей делает своей
самой дорогой тайной особенно тогда, когда он оказывается вне стен своего четырехкомнатного дома. Борис
начинает осознавать мучительную для него несовместимость мира семьи и мира — сначала улицы, а потом
и мира вообще. Мир семьи и мир мира — сущности не
просто противоречивые для любого ребенка, но и некое единство — на первых порах его осознания и освоения — физического и душевного, внешнего (враждебного) и внутреннего (родного). Борис понимал, что
динамика взаимоотношения этих миров трагична. Читаем стихотворение «Расклад»:
Витюра раскурил окурок хмуро.
Завернута в бумагу арматура.
562
Весь музыкою полон до краев
Сегодня ночью (выплюнул окурок)
мы месим чурок.
Алена смотрит на меня влюбленно.
Как в кинофильме, мы стоим у клена.
Головушка к головушке склонена:
Борис — Алена.
Но мне пора, зовет меня Витюра.
Завернута в бумагу арматура.
Мы исчезаем, легкие как тени,
в цветах сирени.
Будь, прошлое, отныне поправимо!
Да станет Виктор русским генералом,
да не тусуется у магазина
запойным малым.
А ты, Алена, жди милого друга,
он не закончит университета,
ему ты будешь верная супруга.
Поклон за это
тебе земной. Гуляя по Парижу,
я, как глаза закрою, сразу вижу
все наши приусадебные прозы
сквозь смех, сквозь слезы.
А прошлое, оно непоправимо.
Вы все остались, я проехал мимо —
с цигаркой, в бричке, еле уловимо
плыл запах дыма.
(1998)
563
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
Стилизация, узкий и конкретный хронотоп, бравада — все это тоже способы познания, а значит присвоения абсолютно чужого, но романтизированного и, тем
не менее, не ставшего твоим мира, на который смотришь сквозь смех и слезы.
Слезы материальнее смеха. Горе, печаль, тоска вообще продуктивнее мажорного и поэтому неопределенного (оценочно) отношения к миру.
Именно в период 1980—85 годов в Борисе начинает
формироваться горько-ироническое (с помощью муз —
«сестер «больно» и «жалко») отношение к времени и
месту, к себе, но не к людям, которых ты любишь —
всех (от отца до пьяницы в канаве) и несмотря ни на
что, а главное — вопреки деспотизму вообще любви,
и твоей, и родных, и других, кого подпускаешь к себе
не подпуская. В целом любовь такая — трагична, потому что она изначально несобытийна, но почему-то динамична, иногда безадресна (особенно в отрочестве),
но сильна страшной силой, которая, слава Богу, увеличивает напряжение той части твоего существа и твоей
души, где затаился и скоро заработает — мощно и неостановимо — двигатель музыки и языка.
Улица — место притягательное и гибельное одновременно, там все происходит одновременно всерьез
и очень театрально. Там бьют морду и учат уважать и
быть уважаемым. Дома тебя балуют, но улица этого не
знает. Не дай Бог — узнает...
Маргарита Михайловна вспоминает, как баловали
Бориса. В доме Рыжих существовал такой ритуал: после
ванны Борис всегда съедал яйцо, вареное обязательно
«в мешочек» (когда варишь его, нужно сосчитать до 180 —
и готово). Но Борис, тем не менее, не был избалован,
потому что любовь родителей, как правило, деспотична
564
Весь музыкою полон до краев
(особенно во взаимоотношении отец — сын), и «тяжесть»
родительской любви нивелирует, т. е. невероятным образом преуменьшает уровень избалованности.
Борис обладал тонким чувством юмора, был умен
и мышление его отличалось той степенью комбинатор-
ности, которая позволяла ему уметь и сметь манипулировать людьми — и в шутку (чаще), и всерьез — на
основе бытовой, а иногда и бытийной мистификации.
Борис был коммуникабельным, но скоро уставал от
общения со сверстниками, что объясняется повышенной его восприимчивостью и впечатлительностью. Борис был очень обаятелен: смесь аристократизма, простодушия (естественно, напускного) и простонародной
порывистости, открытости и закрытости — буквально
притягивала к нему людей, среди которых лошадь Таня
(кобыла лесника из окрестностей г. Пласт) была не
последним существом.
В детстве Борис не любил слушать сказки, вообще,
по словам сестры Ольги, не любил народные сказки.
Думается, это происходило по нескольким причинам:
во-первых, известно, чем, как правило, кончаются наши
сказки (особенно с героями-животными: оторвана медвежья лапа, косточки, клочки по закоулочкам и проч.) —
смертью; во-вторых, Борис рано распознал характер
сказочного конфликта (поубивают-покалечат друг друга — и живут счастливо до самой смерти), что явно
противоречило его собственным представлениям о гармонии и счастье; в-третьих, Борис как поэт (поэт-ребенок) знал (блоковское всеведение поэта), что в реальной
жизни так не бывает, в жизни все может быть или гораздо лучше, или еще хуже, нежели в фольклорных текстах. Поэтому вопрос «кем быть» стал для него игрой —
не для себя, а скорее — для близких: сначала Борис
565
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
готовился стать водителем, потом в пятилетием возрасте он «захотел» стать геологом (как отец); будучи у мамы
на работе, сказал, что будет строителем (на встречное
замечание: «Строитель — это опасно», Борис уточнил:
«Так я же буду начальником» (по словам Маргариты
Михайловны)). Когда Рыжие поселились на Вторчер-
мете, где жили в основном рабочие, он сказал Ольге,
что будет, как все, рабочим. Игра «кем быть» вовсе не
была игрой. В парадигме предполагаемых профессий
преобладают «рабочие» специальности, что свидетельствует не столько о природном демократизме Бориса,
а сколько о том, что в нем началось формирование так
называемой двойной социальной морали, подобной той,
на которой основывался гуманизм Пушкина (дворянин <-> станционный смотритель). Борис видел, как за
отцом приезжает машина (Борис Петрович руководил
институтом), а сосед в кустах пьяный валяется.
Именно в этот период начинают оформляться основные принципы творческого (и бытового) поведения
Бориса Рыжего. Синтез различных этико-эстетических
ориентиров. Пушкинская дисгармония мира и маленького человека и общая гармония стиха. Лермонтовский
романтизм: «Мой герой ускользает во тьму...»; блоковская музыка. Поэтический дискурс Я. Полонского,
Ап. Григорьева. Глобальность трагического мироощущения К. Случевского и И. Анненского. Синтаксическая свобода Б. Слуцкого, А. Штейнберга, И. Бродского и особенности бытового поведения С. Есенина и др.
Единство несовместимых в рамках одного — пусть даже
очень талантливого — творчества создаст возможность
появления такого уникального, одновременно «культурного» (изысканного, рафинированного) и при этом не
утратившего народного начала поэта Бориса Рыжего.
566
Весь музыкою полон до краев
Рифмовать Борис начал достаточно рано — когда
пошел в школу. Обычно это происходило по вечерам,
когда Борис с Ольгой традиционно болтали-разговаривали или сестра читала брату что-нибудь вслух. Сочиняли вместе, о чем угодно, о том, что на слуху или
о чем только что читали, говорили. Например, о воробье... Борис и Ольга много шутили в то время, острили,
играли речевыми кусочками, складывая их в пестрые
и смешные тексты.
Борис был очень увлекающимся человеком: если он
рисовал, то говорил, что станет великим художником...
О чем же он думал, когда они сочиняли стишки с Олей
или когда он рифмовал в одиночестве?
Однажды в разговоре Борис признался мне, что
пытался в детстве (когда ему было лет 6—8) переводить мелодию на слова. Была ли это поэзия? Думаю,
что да. Видимо, музыкальная вербализация, лежащая
в основе стихотворчества, развивалась, проходя примерно такие этапы: сначала мелодия искала в голове и
душе ребенка себе слова-заменители, аналоги; потом,
естественно, слова начинали доминировать и, наконец, наступал этап сознательного сведения в одно целое тождественных друг другу музыки и языка. В конце девяностых годов Борис прекрасно выражает это
мучительно-счастливое (сестры «слезы» и «боль»!) состояния горькой гармонии звука человеческой гортани и ощущения, слышания другого звука — звука архетипичного, музыкального:
В обширном здании вокзала
с полуночи и до утра
гармошка тихая играла:
«та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра».
567
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
За бесконечную разлуку,
за невозможное прости,
за искалеченную руку,
за черт-те что в конце пути —
нечетные играли пальцы,
седую голову трясло.
Круглоголовые китайцы
тащили мимо барахло.
Тургруппы чинно проходили,
несли узбеки арбузы...
Не поимеешь, выходило,
здесь ни монеты, ни слезы.
Зачем же, дурень и бездельник,
играешь неизвестно что?
Живи без курева и денег
в одетом наголо пальто.
Надрывы музыки и слезы
не выноси на первый план —
на юг уходят паровозы.
«Уходит поезд в Магадан!»
(1999)
Трудно исчислить, какой объем поэтической энергии высвобождается, когда к единению музыки и языка
прибавляется болезненный союз жизни и судьбы...
Борис рос чутким, открытым/прикрытым для своих и бескорыстным для чужих. Его отношение к «простым людям», как это представляется, было одновременно чистым и болезненным (у соседского Димы
568
Весь музыкою полон до краев
родители — рабочие, и живут они вчетвером в однокомнатной квартире, тогда как семья Бориса впятером живет в четырехкомнатной), когда социальное
и бытовое неравенство воспринимается как несправедливая справедливость, как незаконная законность,
как несчастливое счастье. Потому что жизнь — это,
безусловно, счастье, переходящее в боль. Борис уже
тогда понимал, что жизнь — смертельна. Поэт переживает это раньше всех, потому что знает. Знание такое, его источники, его сила — неопределимы. Поэтому синдром «белой вороны», «всезнайки» присущ поэту с самого нежного возраста.
Борис был волевым человеком. Ольга вспоминает
поездку с Борисом на озеро Иткуль (Челябинская область), где однажды, взяв лодку и запас пищи, пропла-
вали-прогребли целый день, приставали к островам —
и снова в путь. Неожиданно одиннадцатилетний Борис
сказал Ольге, что сегодня он научится плавать. И вечером — поплыл. Поплыл сам. Борис вообще любил все
делать сразу, без долгих раздумий и какой-либо подготовки (Ольга уточняет, что, по китайскому календарю,
она и Борис — «тигры»; Борис действительно был похож на тигра, особенно когда был взволнован и напряжен: сильный, поджарый, резкий...).
До десятилетнего возраста Борис был центром общего внимания семьи Рыжих. А потом у его сестры
Елены родился сын Сергей, первый внук Бориса Петровича и Маргариты Михайловны, и Борис начал осознавать недолговечность своей возрастной (бытовой)
исключительности, и понимание это совпало с первыми ощущениями своей исключительности бытийной:
быть единственным не по рождению, а по судьбе. Такова интенциональная сущность поэта:
569
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
Россия — старое кино.
О чем ни вспомнишь, все равно
на заднем плане ветераны
сидят, играют в домино.
Когда я выпью и умру —
сирень качнется на ветру,
и навсегда исчезнет мальчик,
бегущий в шортах по двору.
А седобровый ветеран
засунет сладости в карман:
куда — подумает — девался?
А я ушел на первый план.
Поэт как языковая личность чаще всего работает
с крупными планами. Лирика музыкального и жизненного первых планов была реализована в стихах Бориса
Рыжего максимально.
Школа (советская, российская, школа вообще) —
это место, обладающее огромной силой и способностью
проявлять и развивать такие качества и состояния ребенка, как одиночество, коммуникабельность, лидерство, социальная мимикрия и разрушение индивидуальности. Ступор в развитии личности обычно сопрягается с одиночеством, тогда как лидерство держится
прежде всего на управляемой коммуникации. Борис
в школьной среде не признавал законов толпы и, будучи в ней одиноким, стал лидером. Лидером не столько
по физическому превосходству (хотя Борис в школьные годы стремился стать сильным и был таковым) или
по организационному «выдвижению», сколько неким
570
Весь музыкою полон до краев
неформальным центром, не вожаком, а неким структурно необходимым ядром класса, школы — и дальше — школьного двора, то бишь улицы. Лидерство Бориса было сознательным, и основывалось оно прежде
всего на превосходстве интеллектуальном, психологическом и эмоциональном. Лидерство поэта в толпе —
явление достаточно уникальное, и глубинная функция
такого лидерства — самозащита, охранение своей индивидуальности и своего одиночества.
Вторчерметовская школа № 106 — явление для промышленных окраин типичное: «контингент» ломает
учителей, и те постепенно превращаются в постоянно
орущих женщин (сталинская школа, где преподают
в основном женщины, т. к. мужики или пашут, или служат, или воюют, или валят лес окрест зон и лагерей).
Законы полуармии, полузоны царили в 106-й: ученики
строили «зонно»-армейскую иерархию в своих отношениях, а учителя нередко бивали своих подопечных.
В таких условиях необходимо было сделать выбор: или
подчиниться и стать частью толпы, или замкнуться
в себе, т. е. подчиниться волей-неволей и стать козлом
отпущения, или не подчиниться — и стать лидером, но
не «по школьным понятиям» и законам, а по законам
своим, которые позволяли, передумав («переумнев») других, управлять ими, или — командовать, но неприметно — так, как это делает заезжий из столицы режиссер
в заштатном театре. Средняя школа была для Бориса
школой игрока, режиссера, манипулятора, добивавшегося своими действиями, как правило, комического
эффекта, что доставляло удовольствие и тебе, и окружающим — зрителям, статистам и актерам.
Борис был очень разборчив в выборе товарищей.
Они были — одноклассники, но он быстро уставал от
571
ЮРИЙ КАЗАРИН /Поэт Борис Рыжий
длительного общения с ними — абсолютно печоринс-
кая черта.
В то же самое время будущий поэт начинает переживать пору отроческого мужания. Борису 11 лет, и он
ломает плечо, испытывая самодельный парашют и прыгая с вторчерметовского тополя. Маргарита Михайловна говорит о том, что Борис оказывается очень терпеливым: гипс наложен неправильно, и ему больно, но
на приемах у хирурга молчит, терпит. Терпит до тех
пор, пока в отделении травматологии ему не накладывают гипс верно. По словам матери и сестры Оли, Борис не выносил вида крови: когда ее брали на анализ —
бледнел, а в военкомате, проходя медкомиссию, даже
потерял сознание. Он начинает заниматься спортом.
Сначала дзюдо. Потом — бокс, в тринадцатилетнем
возрасте Борис становится чемпионом, по одним сведениям, — города, по другим, — Свердловской области
в своей весовой категории.
Ольга купила брату гантели, чтобы подкачался и смог
давать отпор бесчисленной вторчерметовской шпане.
Борис, как уже отмечалось, быстро увлекался чем-
либо и не менее скоро «перегорал». В конце концов
спорт (и дзюдо, и бокс) ему поднадоели, и в 10—11 классах Борис увлекается культуризмом (бодибилдингом),
ест только ячневую кашу.
Учился Борис легко, почти не готовясь к урокам.
Ольга вспоминает, что ему было неинтересно учиться,
участвовать в примитивной игре «в познание», где учителя особенно не старались учить, а ученики только
делали вид, что учатся. Да и вся огромная страна в пореформенную эпоху после 1985 года жила как бы понарошку, плохо ориентируясь не только в настоящем, но
и в прошлом, и в будущем своем.
572
Весь музыкою полон до краев
Однажды Борис напишет в школьном сочинении
«Моя улица»: «Иду я по улице, а вокруг меня — весна,
красивые дома, свежий воздух и т. п.» Ольга посетует
на то, что брат пишет неправду. Борис усмехается и
говорит: «Хорошо. Иду я в школу и думаю, почему ручьи под ногами, — это не оттепель, не весна, это —
прорвало канализацию. Отвратительный, мерзкий запах, доносящийся от «Мясокомбината». Прохожу мимо
магазина «Сухарь» — вижу огромную толпу мужиков,
желающих опохмелиться. Они ругаются, бьют друг другу
морды и страшно матерятся...» В этой связи, подумалось, что и локально-тематические стихи Б. Рыжего —
это отнюдь не стилизация, романтизация чертовой грязной жизни, как думают многие читатели, а назойливая
память, типовая, устойчивая картинка окраинного мира,
постоянно и назойливо — как негатив на готовой фотографии — проступает на общем фоне глобальной картины мира, выступает изнутри:
Как пел пропойца под моим окном!
Беззубый, перекрикивая птиц,
пропойца под окошком пел о том,
как много в мире тюрем и больниц.
В тюрьме херово: стражники, воры.
В больнице хорошо: врач, медсестра.
Окраинные слушали дворы
такого рода песни до утра.
Потом настал мучительный рассвет,
был голубой до боли небосвод.
И понял я: свободы в мире нет
и не было, есть пара несвобод.
573
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
Одна стремится вопреки убить,
другая воскрешает вопреки.
Мешает свет уснуть и, может быть,
во сне узнать, как звезды к нам близки.
Несвобода и несвободы необходимы поэту хотя бы
для того, чтобы знать, как и от чего охранять свободу
свою — истинную и абсолютную. Свобода поэта может
существовать только в плотной, почти непроницаемой
и страшной оболочке несвобод. Такая свобода всегда
мучительна, желанна и чревата трагедией.
Однажды около трех часов пополудни Ольга собралась погулять с дочерью Асей. Пятнадцатилетний Борис предупреждает ее о том, чтобы не ходила туда, где
лежит труп человека, выбросившегося из окна. Он наткнулся на него еще вчера, поздно вечером: «Ольга,
Ольга, я чуть не наступил на него! Уже занес ногу —
обдало холодом...» Труп самоубийцы пролежал возле
дома почти сутки...
Ольга признается, что она постоянно испытывала
безотчетный страх за брата: он не совпадал с окружающим его миром, в котором вещи вполне обыденные —
пьянство, поножовщина, драки, убийства и проч. — вызывали в Борисе глубокие потрясения, интенсивность
которых с годами никак не снижалась.
В Борисе-подростке гармонично уживались озорство, дерзость, ум, остроумие, впечатлительность, сила
характера, нежность, обаяние и — в нужном времени
и месте — грубость (не мимикрическая, не вторчерме-
товская, а своя — бесшабашного, иронического и сильного человека), любовь к близким и способность, постоянная готовность к розыгрышу (порой злому, но
всегда смешному). Из всех школьных недоразумений
574
Весь музыкою полон до краев
и конфликтов Борис почти всегда выходил сухим —
сухим из воды, потому что в жизни (а поэт воспринимает ее не столько предметно, сколько музыкально
и лингвистически) в речи рабочего города была сплошная вода... Борис искал другую речь — такую, которая,
когда она звучала, могла бы поменяться местами
с музыкой.
Возможность обнаружения музыки в речи, а языка — в мелодии Борис, скорее всего, начал осознавать
в возрасте 13—14 лет.
Читал Борис до этого времени, по словам Ольги,
маловато. Как-то она взяла в библиотеке для брата книгу
о войне. Сам читать не стал — Оля читала ему вслух,
а Борис из уважения к ней слушает и вдруг замечает,
что книжка — дрянь полная; маски серьезности были
скинуты — и сестра с братом расхохотались... По-настоящему первой книгой Бориса стал роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита», причем Борису запал
в душу образ не Мастера, а Понтия Пилата.
В это же время (1987 г.) начали появляться первые
стихи, которые существовали не только изустно (т. е.
несколько дней), но и записывались — где угодно и на
чем угодно. Борис писал на стенах «шкварки» (его выражение), очень смешные, остроумные. Чаще сочиняются
юмористические, иронические стихи (Борис вообще
очень любил «веселую» поэзию, особенно XIX века, например, юмор и сатиру поэтов «Искры»), Ольга вспоминает песню о Б. Ельцине: «Они его ногами били и просто так, и под говно. За что его — его, товарищ Ельцин,
товарищ Берия, за что?!»
Борис сочиняет невероятные—правдивые истории. Ольга рассказывает одну из них — про бородачей:
арестовывают, забирают, «закрывают» всех, у кого есть
575
ЮРИЙ КАЗАРИН /Поэт Борис Рыжий
борода (обвинение в политпреступлениях, вандализме
и проч.). Всех бородачей собрали и посадили. Взяли
и одного безбородого, который, уже в тюрьме, оброс
дикой бородой. На допросе новоиспеченный бородач
заявляет: — У меня нет бороды! А следователь ему
в лицо тычет грязным, но холеным пальцем: — А это
что?! Тогда же арестовали и целую геологическую
партию, и геологи, дескать, только после вмешательства иностранцев чудом вышли из тюрьмы...
Борис любил и умел отлично пародировать просторечные тексты. Часто с Ольгой они затевали речевую игру:
— Ольга, игде ключи?
— У тебя, в кармане спинжака...
Ольга уточняет, что на Вторчермете (на Вторчике!)
до переезда на Московскую горку было легко и весело,
на ул. Шейнкмана — началась другая жизнь.
В восьмом классе Борис обнаруживает в себе другого человека, вернее — иную сущность, субстанцию: как
человек, он и без стихов разительно отличался от местной приблатненной публики; теперь же происходит самосознание, ожидаемое и неожиданное открытие в себе
если не поэта, то художника, одним словом, кого-то
странного и одновременно чужого-родного. Ощущение
это — счастливое и мучительное, горькое и сладкое,
обещающее Бог знает что, но, видимо, что-то красивое
и ужасное одновременно.
Борис чувствовал свою непохожесть на других и поэтому сознательно играл себя-как-и-они, возможно, пародировал чужое поведение, как с Ольгой, — чужую
полуграмотную речь. Но и в чужих способах существования, от которого некуда было деться, приходилось —
и это получалось волей-неволей, само собой — выделить нечто истинное, не главное, а подлинное. Под¬
576
Весь музыкою полон до краев
линное виделось Борисом само, оно бросалось в глаза,
потому что поэт обладает абсолютным зрением.
Борис, зная о существовании музыки своей, глубинной («музыки сфер», как говаривали в XVIII—XIX вв.),
не избегал и музыки земной. По словам Ольги, он
в старших классах был постоянным инициатором и организатором дискотек. Борис открыл сестре песни «Наутилуса», «ДДТ», «Звуки Му», «Скорпионз» идр. Собирал, покупал, выискивал, выменивал и систематизировал собрание пластинок и кассет (в тринадцатилетнем
еще возрасте он сам изобрел и смастерил себе звукомузыкальную установку). Был куплен за 300 рублей (деньги
по тем временам немалые) магнитофон. Рок Борис слушал с Олей, а матери как-то прокрутил кассету с несколькими блатными песнями, среди которых особенно нравилась ему «Таганка». Городская музыка — это
эмоционально-смысловой концентрат жизни улицы,
окраин и дворов. Музыка никогда не врет. Это Борис
знал и пытался учиться и у такой нахрапистой и разудалой музыкальной гармонии (он не подслушивал, по-
ахматовски, у музыки что-то, чтоб выдать потом за свое,
а выжимал эти песенные веники, стряхивал с них слабые жухлые листики — и видел прутья как основу структуры музыкального примитива).
Слушал Борис и классическую музыку (Бах, Моцарт и др.), но контакты с такой музыкой происходили
чаще в одиночестве, не в силу известной интимности
музыкального контакта, а в силу необходимого присутствия в этом деле тайны. Тайны от всех.
Музыка в известном смысле была основой существования Бориса Рыжего. В его стихах на вербальном
уровне слово и понятие «музыка» наиболее частотные.
Музыка в его поэзии — это и лейтмотив, и концепт,
20 Оправдание жизни
577
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
и макротема. Музыка для поэта Б. Рыжего — это и причина, и процесс, и результат его поэтического выражения любого объекта, предмета, детали, атрибута, жеста,
эмоции.
Борис и Ольга много читают, в основном — стихи:
С. Есенин (сентиментальное, про жеребенка из «Сорокоуста», например) и В. Маяковский (что-нибудь смешное, ироническое: «Важно живут ангелы, важно...»).
В возрасте 14—15 лет Борис впервые читает стихи Иосифа Бродского (это примерно 1988—1989 годы, когда
в СССР начали появляться первые публикации и книжки стихов Нобелевского лауреата). Борис очень любил
стихотворение «Ниоткуда с любовью, надцатого мар-
тобря...».
Первые стихи Бориса записывала Ольга, пока
у юного стихотворца не выработалась привычка сначала записывать, а потом дописывать, дорабатывать, переписывать и т. д. — до бесконечности: (работа с архивом Б. Рыжего показала, что в рукописях поэта сохранились от 2-х до 5—6 вариантов одного стихотворения —
например, «Памяти поэта», «Памяти И. Б.» и т. д.).
В поэтической памяти и в поэтическом сознании
Бориса Рыжего к 1990 году формируется некая достаточно стойкая в системном и структурном отношении
поэтологическая цепочка: поэтика серебряного века
(В. Брюсов, А. Блок, С. Есенин, В. Маяковский и др.)
—» поэтика XIX века (Ф. Тютчев, М. Лермонтов, А. Пушкин и др.) —» поэтика XX века (М. Булгаков и некоторые поэты советского периода) —» поэтика нового времени (И. Бродский и др.). Эта парадигма со временем,
особенно после знакомства с Алексеем Кузиным в начале 90-х и с Олегом Дозморовым в середине 90-х годов, пополнялась, расширялась и углублялась с неотвра¬
578
Весь музыкою полон до краев
тимой селекцией и ротацией — в частности, это каса-
ется узнавания Борисом поэтического дискурса XIX века
с Я. Полонским, Ап. Григорьевым, В. Жуковским,
К. Батюшковым, Д. Давыдовым и др., а также с восприятием поэтического нарратива XX века с Э. Багрицким, Б. Слуцким, Арк. Штейнбергом, И. Бродским
(в полном объеме) и поэзии нового времени, рубежа
столетий, тысячелетий, вообще эпох — с С. Гандлевским, А. Сопровским, Е. Рейном, А. Кушнером, В. Ган-
дельсманом, А. Цветковым, Б. Кенжеевым, А. Пури-
ным и многими другими.
Свои стихи в то время Борис, по словам Ольги, записывал и переписывал на листах желтоватой бумаги
и почти сразу после их написания — перепечатывал на
отцовской машинке. Этот период жизни Бориса Рыже-
го-поэта можно считать началом его поэтической и литературной судьбы.
Красивый и обаятельный мальчик (подросток, юноша и мужчина) — Борис Рыжий — очень нравился девочкам (девушкам, женщинам). Качество притягательной силы Бориса основывалось не только на необычной, благородной, бесспорно красивой его внешности
и явной сексапильности. Но и на том, что принято называть «внутренним магнетизмом», силой энергии
странного, особенного, из ряда вон выходящего, — силой загадочности, даже таинственности, которая складывалась из природной, изначальной талантливости
и дара, а также из игры, мистификации и особого типа
поведения, обусловленного внутренней, скрытой, но
необыкновенно мощной авторежиссурой. В Борисе была
заключена значительная энергия физиологического,
психологического, эмоционального, социального и музыкально-поэтического характера. Борис был талантлив
;о*
579
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
не только как поэт, стихотворец, сочинитель, вообще
литератор, он был талантлив в поведении — в способе
жить, думать, страдать и наслаждаться. Последнее помогало в поиске драгоценных слов, строк, строф и целых законченных текстов.
Борис был вообще очень способным человеком: за
что бы он ни брался — все у него, как правило, получалось, выходило, реализовывалось, претворялось, так
сказать, в жизнь. Он был хорошим (если не отличным)
спортсменом, умел работать руками (авиамоделизм, самодельная цветомузыка; по словам его жены Ирины,
он все сам делал и по дому — от ремонта чего угодно до
чистки картофеля); Борис прекрасно знал, любил людей и был прирожденным лидером; он был замечательным психологом и игроком: управлял окружающими
его людьми и обстоятельствами, был хорошим организатором и т. д. Большая часть знавших Бориса любила
его и прощала ему нормальный для поэта эгоцентризм,
снисходительно относилась к его достаточно серьезным
и в то же время уморительным розыгрышам. Однако
любая деятельность Борису достаточно быстро наскучивала, поэтому истинное наслаждение он, как правило, испытывал лишь тогда, когда планировал и непосредственно осуществлял что-то. Продолжать делать то
же самое было для него уже рутиной, «обязаловкой».
Монотонности Борис не переносил.
«Первая любовь» случилась еще в Челябинске, до
переезда в Свердловск: соседская девочка Юля, дочка
портнихи, была постоянной подругой Бориса в играх
и домашних развлечениях. Девочка была очень веселая
и шумная: они вместе танцевали, пели и по-детски плясали в челябинской квартире, в так называемой большой комнате. Но, по словам Маргариты Михайловны,
580
Весь музыкою полон до краев
Борис быстро утомлялся и начинал тяготиться общением с Юлей...
Свои амурные истории Борис, по словам родных,
скрывал от всех. В первом классе он получил от девочки такую записку: «Боря, я тебя люблю. Давай жить
вместе». Борис так прокомментировал содержание первого к нему «любовного» письма: понятно, откуда она
это взяла: одно из правил октябрят — «Вместе жить —
весело дружить!» Девочки звонили Борису по телефону
постоянно — искали встречи, приглашали в кино и т. п.
Ольга рассказывает, как он обычно (лет в 12—14) говорил с поклонницами по телефону: — Что? Не понял я,
куда мне идти? В кино?! Зачем мне с тобой в кино идти?..
Не пойду я с тобой в кино!
До знакомства со своей будущей женой Ириной
Князевой у Бориса, пожалуй, была лишь одна любовь,
реальность, объем, силу и обстоятельства которой выяснить сегодня не представляется возможным. Эля была
одноклассницей Бориса, которая ушла из школы после
окончания 8-го класса и которая умерла почти сразу
после окончания школы (лето 1994 г.). Борис показывал Ольге ее фотографию, но впоследствии почти ничего и никому не рассказывал о ней. Ясно одно: Эля
стала для Бориса неким символом трагического существования человека вообще. Эля — это и красота, и ужас
красоты, и жизнь, и смерть. Женщина для мужчины,
как правило, представляет собой хронотоп если не его
жизни, то уж судьбы — точно: женщина как единство
прекрасного (твоего и не твоего) пространства и времени (твоего и ее, потому что женщина есть не реакция на
время — цветение, зрелость, увядание, — а собственно
само время в определенной оболочке — плоти с невероятно сложным, непостижимым содержанием женского
581
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
ума (логики), женской психологии, эмоций, энергии
и силы). Эля для Бориса — сама жизнь, сама смерть.
Эля — это сгусток боли, счастья, воздуха, которым трудно и почти невозможно дышать. Эля — это трагедия:
...Три женщины. Три школьницы. Одна
с косичками, другая в платье строгом,
закрашена у третьей седина.
За всех троих отвечу перед Богом.
Мы умерли. Озвучит сей предмет
музыкою, что мной была любима,
за три рубля запроданный кларнет
безвестного Синявина Вадима.
Борис не называет имена трех женщин, но, скорее
всего, что «одна с косичками» — это, несомненно, Эля;
«другая в платье строгом» — это, скорее, Ирина Князева (или сестра Ольга) и «закрашена у третьей седина» —
это мать Бориса, Маргарита Михайловна. Естественно,
интерпретация в данном случае не является единственно возможной.
Другое стихотворение — тоже посвящено трагедии.
В нем Эля представляет собой сложный музыкально-
образно-смысловой синтез Красоты — Жизни — Трагедии — Смерти — Музыки (Поэзии):
Рубашка в клеточку, в полоску брючки —
со смертью-одноклассницей под ручку
по улице иду,
целуясь на ходу.
Гремят КамАЗы, и дымят заводы.
Локальный Стикс колышет нечистоты.
Акации цветут.
582
Весь музыкою полон до краев
Кораблики плывут.
Я раздаю прохожим сигареты
и улыбаюсь, и даю советы,
и прикурить даю.
У бездны на краю
твой белый бант плывет на синем фоне...
Трагедия для Бориса заключается не в том, что
смерть неотвратима, а в том, что жизнь может быть отвращена смертью и что ты знаешь, когда, где и как это
произойдет. Здесь есенинское «предназначенное расставание обещает встречу впереди» срабатывает абсолютно трагически, бескатарсисно и обреченно — для
нас, читателей. У поэта катарсис другой, объем и качество его определяется генетически накопленной энергией абсолютной трагедии (для Бориса это — поэтически освоенная трагедия в XIX и XX вв.). Борис здесь
«работает» не с языком, а уже с музыкой, не с горем-
печалью-тоской — а с самим временем-невременем,
с тотальной жизнью-пустотой, перед которой и смерть —
не смерть.
Стихи Б. Рыжего — «Элегия Эле» посвящены Не-
Эле, потому что они — тотально эмоциональны, а эмоция не может быть посвящением. Потому что Эля —
это эмоция. Эмоция ужаса красоты и эмоция тайного
счастья пустоты:
Как-то школьной осенью печальной,
от которой шел мороз по коже,
наши взгляды встретились случайно —
ты была на ангела похожа.
<...>
583
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
В белой блузке, с личиком ребенка,
слушала ты речи педагога.
Никого не слушал, думал только:
милый ангел, что в тебе земного.
<...>
Знал ли: не пройдет четыре года,
я приеду с практики на лето,
позвонит мне кто-нибудь — всего-то
больше нет тебя, и всё на этом.
Подойти к окну. И что увижу?
Только то, что мир не изменился
от Москвы — как в песенке — и ближе.
Все живут. Никто не застрелился.
<...>
Ты была на ангела похожа,
как ты умерла на самом деле.
Эля! — восклицаю я. — О Боже!
В потолок смотрю и плачу, Эля.
{октябрь, 1994)
Трагическая несовместимость мира семьи и мира
улицы, школы, района, города, страны — эта трагедия
не вмещает в себя трагедию страшной совместимости
жизни и смерти. Борис не был ритуально верующим
человеком. «Бог» вообще не частый участник его стихотворений (междометийное употребление этой лексемы не в счет, особняком стоит стихотворение «Разговор с Богом», хотя этот текст может относиться к раз¬
584
Весь музыкою полон до краев
ряду ритуальных — с изрядной долей тематической гиперболизации: жанр поэтического разговора (с книгоиздателем, с критиком, с самодержцем, у Маяковского — с Пушкиным и т. д.) при высокой степени нарративное™, «разговорности» поэзии Б. Рыжий был вполне
органичен для поэта, ориентированного в поэтологическом отношении преимущественно на стихотворный
XIX век). «Элегия Эле» — при всей своей внешне назойливой и красивой анаграмматичности — абсолютно
концептуальна: Бог смотрит на землю и на людей глазами поэта («смотрел моими школьными и синими глазами Бог — в твои небесно-голубые»), который, естественно, в силу такого двойного зрения, знает и ведает,
предвидит все. Знать и предвидеть — это для Бориса не
скука, а боль. Боль, доводимая до трагедии. Боль, воз-
модимая в трагедию двойного — своего и небесного —
одиночества.
Любовь для Бориса Рыжего, трагически романтизирующего жизнь и смерть, — отнюдь не выход из узкого
(не такого плодотворного и плодородного) пространства, стиснутого физико-метафизическими ножницами
эмоционально-музыкального и музыкально-поэтического познания, когда познание интуитивно и генетически оказывается знаемым, ведомым и, усиливаясь постоянной душевной (и физической!) тревогой за себя,
за семью, за жизнь вообще, преобразуется в трагическую констатацию. Такая поэтическая констатация трагедии одновременно и очищает-возвышает (катарсис),
и погружает в безотчетную и вполне определенную тотальную тревогу. Любовь для Бориса — это способ жить,
умирать и оставаться бессмертным.
Четырнадцати—пятнадцатилетний Борис окончательно осознает свое изначальное и неизменное оди¬
585
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
ночество. При всей своей острой чувствительности
и чувственности, ранимости и беззащитности Борис обладал огромным упорством, крепкой волей и сильным
характером.
Борис был честен и упрям. Школа, где он учился,
по словам родных, была «ужасная», но Борис и в этом
хаосе оставался самим собой. Учиться было неинтересно. У Бориса хорошо шла математика (не то, чтобы
любил, просто отец помогал). Поэтому после 8-го класса
Бориса решили перевести в другую, с математическим
уклоном, школу. Однако Борис не желал уходить из
своей 106 школы. А документы новоиспеченного девятиклассника уже были переданы в 61-ю школу.
Борис сказал, что лучше пойдет в ПТУ, нежели
в 61-ю школу. Просьбы родителей, обращение их в районе и гороно не помогли. 1 сентября на праздничную
линейку Бориса не пустили. Он стоял в стороне и демонстративно курил. И тут вмешались чиновники из
облоно. Помог и молодой преподаватель литературы.
Но главной ударной и пробивной силой обладала Маргарита Михайловна — нет, не знакомствами и блатом
(тогда очень популярное словечко), а твердым характером своим. Взяли Бориса в 106-ю с испытательным сроком. А он объявил голодовку: ничего не ел ни дома, ни
в школе. Голодал четыре дня — и своего добился.
Возникает вопрос: какая, Господи Боже мой, разница — где учиться? Но Борисом, видимо, управляла
сама судьба: он оказался в одном классе с Ириной,
и эта встреча изменила его жизнь.
Сестра Бориса Ольга очень остро чувствовала уникальность своего брата, выражавшуюся прежде всего
в его внутренней свободе, которая вела, как это ни странно, к абсолютной незащищенности души подростка /
586
Весь музыкою полон до краев
юноши. Ольга вслед за Борисом Петровичем довольно
рано — к началу 90-х годов — стала понимать, что параллельно, если не альтернативно, шутливым стихам
появляются и такие, которых Борис явно стеснялся (работая в архиве Б. Рыжего, я обратил внимание на то,
как много среди неопубликованных оказалось стихотворений, которые в литературоведении принято называть «философской лирикой»; таких текстов насчитывается около 50 — целая книга!).
Борис болезненно относился к тому, что все, по советским обычаям и возможностям, ходили в одинаковой обуви и одежде. В магазинах можно было найти
только войлочные башмаки и одинаковые (грязносерого цвета!) пальто. Однажды продавщица, обратив
внимание на абсолютно потерянный вид потенциальных покупателей — мальчика и девушки, вдруг сжалилась над ними и сказала, что, мол, есть у них еще одно
такое-эдакое пальто. «Не в клеточку!» И это было для
Бориса большой удачей — не походить на всех, кто образует толпу.
Одно время Борис носил даже телогрейку (просторечное — телага). Ольга купила ее на Уралмаше в магазине рабочей одежды. Борис любил иронически похвалиться своей телагой: смотри, какими лейблами расписана моя телага! Он очень ее любил, даже пришлось на
нее переставить воротник с пальто.
Родные вспоминают, что Борис бывал очень обидчив — скорее не на конкретных людей, а вообще на
ситуации, на так называемую судьбу: однажды в зоопарке Борис (ему было 10—11 лет) просунул самовя-
занную варежку в клетку к лисе. Лиса ее выхватывает,
затаскивает в глубь клетки и разрывает в клочья. Борис
587
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
обижен до слез. Подлянка (его слово)! Или после хорошего фильма в «Космосе» Ольга и Борис возвращаются
домой с мороженым, счастливые — идут через Плотнику... И вдруг — велосипедисты: грязные брызги летят
Борису в лицо. Радость мгновенно меркнет... Ольга замечает, что в бытовой повседневной жизни полной радости у Бориса никогда не было: когда ему было 13 лет,
они с ним как-то поехали на турбазу в г. Сысерть; Ольга
была беременна и не стала рисковать, а ее «восточный»
муж попросту никогда раньше не стоял на лыжах. Борис
расстроился — парня обломали... Но вдруг решился и
рванул — поехал сам, один, с крутой горы: съехал по
слаломному спуску — впервые и ни разу не упав.
В 1991 году семья Рыжих переезжает из района Втор-
чермета ближе к центру Екатеринбурга — на Московскую горку, улица Шейнкмана, 108.
Московская горка — один из достаточно новых (теперь уже «среднего возраста») спальных — не районов,
а рядов, — представляет собой действительно ряд высотных жилых домов светло-серого цвета с вкраплением почему-то темно-зеленых отделочных плит. Спальный ряд тянется от ул. Большакова (естественно, большевика) до ул. Народной воли (которая, в конце концов
в объективном отношении была или утрачена, или
в субъектном отношении зашла Бог знает куда). Московская горка отделяет Юго-Западный район Екатеринбурга от центра и от Зеленой рощи, которая когда-то
была, а сегодня вновь стала монастырской. Улица
Шейнкмана (кто такой — не знаю, думаю, что тоже
большевик, способствовавший переименованию и переделке Екатеринбурга в Свердловск) — одна из самых
интересных в архитектурном и социальном отношении
588
Весь музыкою полон до краев
улица: на ней — совсем еще недавно — можно было
увидеть и бараки, и сталинские серые кубы, и хрущов-
ки всех мастей, и брежневские недомерки, и перестроечные голубятни, а сегодня — и элитные особнякового
вида серьезные строения. Московская горка — район
явно не рабочий, живут там преимущественно люди
«умственного труда», в том числе бывшие и нынешние
работники Уральского отделения РАН. Четырехкомнатную на Вторчермете разменяли на трехкомнатную и на
жилплощадь для Ольгиной семьи (сестра Бориса Елена
прочно осела в Челябинске).
Родные вспоминают, что после переезда на новое
место Борис очень изменился. Для него, действительно, началась какая-то другая жизнь: во-первых, он уже
прочно связал свою жизнь и судьбу с сочинительством,
во-вторых, отношения с Ириной Князевой стали для
Бориса необходимыми и обязательными; в-третьих, он
оказался в новой речевой среде: часть города, в которой теперь жила семья Рыжих, была преимущественно
студенческой: рядом два колледжа, Горная академия и
Экономический университет (бывший СИНХ), а еще
недалеко цирк, дендрарий с восстановленной часовней,
откуда до центра — рукой подать. Если раньше Борис
сосуществовал с рабочим просторечием, матом, жаргоном шпаны и уголовников, то теперь он чаще слышал
тот же мат, тот же жаргон, правда, просторечие стало
мягче (в Зеленой роще и окрест в то время, нач. 90-х,
гуляли в основном мамаши с детскими колясками, ручные собаки со своими поводырями — днем, а вечером —
тот же Вторчермет, Уралмаш, Химмаш); в-четвертых,
приходилось думать о послешкольном будущем; в-пя-
тых, все отчетливее становилось ощущение и осознание себя поэтом. Борис рассказывал, как однажды его,
589
ЮРИЙ КАЗАРИН /Поэт Борис Рыжий
семнадцатилетнего, осенила счастливая и, горькая в то
же время, мысль: вот я иду по городу, по улице, по тротуару, а навстречу мне движутся люди, я смотрю на них,
они смотрят на меня, и никто из этих людей не знает,
что навстречу им идет поэт... Это тайное знание и ощущение себя поэтом, может, — самое светлое, надежное
и защищенное состояние поэта в толпе. Кабы, конечно, не жажда востребованности, если бы не желание,
переходящее в мощную интенцию, говорить со всеми и
говорить так, как все не говорят. Как не говорит никто.
В это время начинает формироваться новое качество поэтической музыки Бориса Рыжего — это музыка
почти молчаливого ожидания начала, начала звучания,
это предощущение слияния жизни и судьбы, внешнего
и внутреннего, музыки вечной и твоей, какой бы она
ни была.
Время переезда — это время перемен семейных, географических, время топографической и иных (да всех,
всех) редукций страны, когда твоя жизнь, твоя судьба
строится в тот момент, когда рушится, разваливается
империя, СССР, и из полыньи (а взгляд потомственного геолога умеет абстрагироваться и, соединяясь со взором поэта, видит эту замерзающую, уменьшающуюся
полынью Евразии, топографический абрис страны, точно очерчивающий распахнутую шкуру медвежью) — из
этой чертовой полыньи, мерцая, попахивая болотом,
колышась и кое-где плеща и вспениваясь, проступает
новая страна. В общем, говоря языком литературной
тусовки, «кино и немцы».
Однако Борис Рыжий — семнадцатилетний, талантливый и красивый — в это страшное (особенно для
провинции) время уже знает, кто он и что он, он знает,
что в нем есть главное: картина мира, приобретающая
590
Весь музыкою полон до краев
в целом трагический характер, становится окончательно
поэтической, абсолютно готовой к вербализации и оркестровке. Это не только главное, это — единственное
(что скоро подтвердится — мощно, прекрасно и страшно), ради чего ты пришел сюда, был здесь и ушел отсюда
не уходя:
Включили новое кино,
и началась иная пьянка.
Но все равно, но все равно
то там, то здесь звучит «Таганка».
Что Ариосто или Дант!
Я человек того покроя,
я твой навеки арестант,
и все такое, все такое.
В одном из последних телефонных разговоров с Борисом (в апреле 2001 г.) я сказал ему, что стихи Г. Державина, вообще поэзия XVIII века, — это тоже музыка,
но другая, более определенная, может быть, даже грубоватая и какая-то однотипная, что ли (в силу жанровой отягченности ее), но не примитивная. Борис вдруг
спросил меня, помню ли я «Последние стихи» Г. Державина. Я ответил утвердительно и заметил, что собираюсь составлять — писать антологию последнего русского стихотворения, поэтому знаю много «последних»
стихов многих поэтов. И тут я воспользовался случаем
(я старался опросить как можно больше друзей и знакомых литераторов, предлагая им список, который должен был включать в себя около сотни имен поэтов
XVIII—XX вв.) и перечислил по порядку — от В. Треди-
аковского до И. Бродского — всех, кого предварительно
591
ЮРИЙ КАЗАРИН /Поэт Борис Рыжий
включил в антологию, подумав о том, на какой поэти-
ческий век Борис обратит большее внимание. Борис
прокомментировал все три века, в целом соглашаясь
с тем, что есть, и спросил, почему в XVIII веке нет
М. Хераскова, в XIX веке — К. Фофанова, а в XX веке —
А. Штейнеберга (этих же поэтов мне настоятельно советовал включить в антологию и близкий друг Бориса — Олег Дозморов; кстати, М. Хераскова я все-таки
не взял, а Фофанова и Штейнберга, к своему стыду
и счастью, открыл для себя заново — «на сорок шестом
году пятилетки»). Потом он вернулся к Державину, и я,
плотно занимавшийся тогда поэтической анаграммой,
спросил Бориса, не заметил ли он в этом стихотворении
элементов акростиха. Державин («синий», т. е. в серии
«Библиотека поэта») у меня был под рукой, и я прочитал ему «Последние стихи»:
Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы.
(6 июля 1816)
Если это акростих, то получалось: РУИНАЧТИ
(кстати, в 2002 г., читая «Записки и выписки» М. Л. Гаспарова, я наткнулся на эту «РУИНУ», но какой-либо
вразумительный интерпретации там не было — только
констатация «руины»), Борис, зная эти стихи наизусть,
как-то так твердо предположил, что это — обращение
592
Весь музыкою полон до краев
поэта к руине: «Руина, чти...» Ну а коли стихотворение
завершено (фрагмент объемом в одну строфу — восьмистишие), то нужно просто подумать, кого или что
должны чтить Руина, Время, Вечность, Смерть, Пустота и проч. Руина, чти меня? — Глупость. Руина, чти
мысль мою? Да, да, да... Надо подумать, прикинуть...
Время безразлично к бессмысленному пространству,
поэтому время прежде всего показывается и открывается человеку. Хотя бы своим абсолютно неопределенным наличием. Время для Бориса Рыжего — это любовь. Любовь к родным, близким. Любовь к женщине.
Любовь вообще.
С Ириной Князевой Борис познакомился в 1989 году,
когда из четырех девятых классов слепили два десятых
и Ирина пришла в гуманитарный класс школы № 106
(Мясокомбинат, Вторчермет). Два года проучились вместе, рядом. Борис, по словам Ирины, очень выделялся,
был лидером, но не силовым, а другим — интеллектуальным, эмоциональным, или — «художественным руководителем толпы».
Ирину раздражала великолепная и постоянно реализующаяся способность Бориса манипулировать парнями. Из-за этого часто переругивались, потому что
Ирина понимала, что в любых манипуляциях людьми
есть нечто унижающее их. Но Борис был неутомим
и неостановим: он был не просто манипулятором и
в шутку, и всерьез, он был организатором своего социального пространства — легкого, удобного и смешного;
легкость и веселье таких отношений, естественно, защищали его от воздействия темной энергии толпы, социума, которому присущ прежде всего феномен само-
нивелирования, самоуничижения и саморазрушения.
593
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
Борис одновременно проказничал, управлял и показывал — прежде всего себе — возможность перемены обстановки, ситуации, может быть, даже какого-то отрезка так называемого хода событий и жизни.
Парни в классе, по словам Ирины, плясали под его
дудку и в переносном, и в прямом смысле: однажды
Борис изобразил схематически, мелом на портфеле-дипломате магнитофон (круглые динамики, дека и все такое и заставил одного из одноклассников танцевать под
такую «музыку», поставив «магнитофон» по-негриятн-
ски, по-бруклински на плечо.
Учился Борис (в старших классах) нормально, легко: алгебра, правда, шла с трудом, а вот геометрию он
любил — большинство теорем решал — доказывал сам,
без заглядывания в книгу.
Борис, как думает Ирина, не был хулиганом, он, по
определению, был проказником: он ставил спектакли-
миниатюры-импровизации и разыгрывал их. Например,
в 8 классе, на перемене, сидит Борис на парте и как бы
думает вслух:
— А хорошо бы было половую тряпку надеть на голову N...
X, как по команде, немедленно водружает эту чертову тряпку на голову N. В этот самый веселый момент
в класс входит преподаватель истории и, не задумываясь, спокойно и уверенно говорит:
— Рыжий, выйди из класса!
Или однажды по классу ходила записка, сочиненная матом и скабрезного содержания (Борис подделал
почерк своего одноклассника)... Когда разбирались
с этим «инцидентом», Борис сознался в том, что написал это безобразие он. Но учительница не поверила...
Искусство жить сильнее «правды жизни».
594
Весь музыкою полон до краев
Эмоциональная связь-зависимость Ирины и Бориса установилась сразу: Борис был, по мнению Ирины,
«лучший из мужиков», красив, строен, высок, а главное — обаятелен, дерзок и умен; было в Борисе и что-то
такое, внутренне притягательное, магнетизм, работавший на чудовищно сильной и мощной энергии таланта. 1991 год, Борис как-то подошел к Ирине, стоял и
долго смотрел на нее — так сказать, «испепелял взглядом». Ирина впервые явно и достаточно остро почувствовала в этом парне нечто абсолютно странное, тревожащее и обещающее что-то иное, не то, чего можно
было ожидать от других (полтора года он, сидя на первой парте в первом ряду, постоянно смотрел на Ирину, которая располагалась за второй партой в среднем
РЯДУ).
Борис смотрел на Ирину, красивую, умную девушку, с отличной фигурой, что очень важно для юноши-
подростка — «лучшего из мужиков»; он смотрел на девушку, которая была явно независима (и от него, в том
числе), странна, которая тоже, как и он, не вполне совпадала с толпой. Борис смотрел на Ирину — кого и что
он видел? Видел ли он себя, свое грядущее, а в Ирине —
свою будущую жену, видел ли он женщину как таковую,
любовь, Элю, мать, сестер Лену и Олю? Позднее Борис
напишет странные стихи «Разговор с небожителем»,
в которых не только Эля, но и в большей мере, в большем объеме присутствует, выражаясь по-Рыжему, — «все
такое»:
10-й класс —
все это было, было, было:
мир, мир объятия раскрыл, а
нет, не для нас...
595
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
Задрав башку,
апрельскою любуюсь синью
(гоню строку!) —
там смерть твоя с моею жизнью
пересеклась,
и в точке соприкосновенья —
10-й класс
и тени, тени под сиренью.
И тени,те —
ни под сиренью, тени, тени.
А эти, те,
что пьют портвейн в кустах сирени
— кто? Я и ты.
И нам все это по приколу:
кругом цветы!
Пора? Или забьем на школу?
Забив на жизнь,
на родственников и начальство,
ты там держись
и за меня не огорчайся:
мы еще раз
потом сыграем, как по нотам, —
не ангелы, а кто еще там? —
10-й класс.
Лирический женский субъект этого текста представляется одновременно и определенным, и неопределенным: концепция поэта, которому за двадцать, подми¬
596
Весь музыкою полон до краев
нает под себя концепцию шестнадцатилетнего поэта,
поэтому «объятия мира» — это «тени, тени, тени», которые рвутся — «и тени, те — ни под сиренью»; это
точка самоприкосновения жизни и жизни, жизни
и смерти, смерти и смерти как соприкосновения абсолютной жизни (уже не-бытия) и абсолютной музыки
(сплошного бытия). Женщина для Бориса пока неопределенна — до взгляда («испепеляющего») на Ирину.
С этого момента женщина для Бориса становилась не
только притягательной оболочкой, плотью, но и музой:
Я музу юную, бывало,
встречал в подлунной стороне.
Она на дудочке играла,
я слушал, стоя в стороне.
Но вдруг милашку окружали,
как я, такие же юнцы.
И, грянув хором, заглушали
мотив прелестный, подлецы.
И думал я: небесный боже,
узрей сие, помилуй мя,
ведь мне с тобой дарован тоже
осколок твоего огня,
дай поорать!
(1998)
Ирина вспоминает, как однажды им задали на дом
написать сочинение о В. Маяковском (в архиве поэта
мы обнаружили несколько, совсем немного — пару-
тройку — текстов, сочиненных «под Маяковского»).
Оля, сестра Бориса, часто писала сочинения за брата
(и это понятно: я иногда вовсе не сочинял — и получал
597
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
двойки — на тему «Мы идем путем отцов, дорогой Ленина», например), а Ирина написала критическую заметку. Общая оценка творчества этого поэта получилась такой: Борис — за, Ирина — против. Учитель никак не оценил их работы, отметив, что сочинение
Бориса — это «сомнительно», а критическая заметка
Ирины — это «лихо». Из-за Маяковского Ирина с Борисом чуть было не поругались — так много и горячо
спорили, ни в чем не уступая друг другу. Позднее Борис так определит свое тогдашнее (конец 80-х — начало 90-х гг.) состояние:
Мальчик-еврей принимает из книжек на веру
гостеприимство и русской души широту,
видит березы с осинами, ходит по скверу
и христианства на сердце лелеет мечту,
следуя заданной логике, к буйству и пьянству
твердой рукою себя приучает, и тут —
видит березу с осиной в осеннем убранстве,
делает песню, и русские люди поют.
Что же касается мальчика, он исчезает.
А относительно пения, песня легко
то форму города некоего принимает,
то повисает над городом, как облако.
(1999)
Стихотворение посвящено Елене Тиновской, екатеринбурженке, подруге Бориса. Номинация «мальчик-
еврей» — явно игровая, для Бориса еврей в данном
случае — чужак, иной, альтернативный, маргинал, не
такой, как все, вне толпы (кстати, Лена Тиновская —
598
Весь музыкою полон до краев
еврейка, талантливый поэт, и Борис здесь явно указывает на родство, не кровное, а поэтическое, поскольку
стилистически и тематически Е. Тиновская шла следом за Б. Рыжим). Кроме того, в конце 80-х — начале
90-х годов в России складывалась явно предпогром-
ная ситуация (крепло так называемое национал-пат-
риотическое движение...). В Екатеринбурге еврейский
вопрос в то время стоял не менее остро, чем в Питере
и в Москве. Известный поэт и переводчик Аркадий
Застырец даже написал такой сонет:
Опять пришел на память им Иуда,
Апостолам славянской темноты,
Но эта «память» вытекла оттуда,
Где Джугашвили с Гитлером на ты.
Великое они находят в малом,
Для них любая тайна не секрет, —
И скоро разберутся с «капиталом»,
Лишь первый том посмотрят на просвет.
Вкус крови у «спасительных теорий»,
«Отечество» дымит как крематорий,
Их лозунги — погрома не хитрей —
Услада дураку и негодяю!
Я русский, но по-русски заявляю,
Что, если бьют евреев, я — еврей.
(1987)
На одной из вечеринок, накануне 23 февраля
1991 года, Ирина, выпив с подружками, стала более открытой и танцевала с Борисом, продолжая спорить
599
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
с ним о Маяковском... Ирина вспоминает, как она, немного играя, в конце концов сказала Борису:
— Если ты любишь Маяковского...
Борис неожиданно, почти перебивая ее, произнес:
— Я люблю тебя, Ира...
Борис сочинял Ирине любовно-шутливые стихи от
имени их одноклассника Андрея Ждахина (того самого, который плясал в классе с портфелем-«магнитофо-
ном» на плече). Ирина ответила так мнимому Ждахи-
ну, т. е. ждущему и жаждущему Борису, известным стихотворением А. Пушкина «Соловей и роза»:
В безмолвии садов, весной, во мгле ночей,
Поет над розою восточный соловей.
Но роза милая не чувствует, не внемлет,
И под влюбленный гимн колеблется и дремлет.
Не так ли ты поешь для хладной красоты?
Опомнись, о поэт, к чему стремишься ты?
Она не слушает, не чувствует поэта;
Глядишь, она цветет; взываешь — нет ответа.
(1827)
Классическая фабула, ритуальная тематика этого
стихотворения прекрасно накладывается — заподлицо —
на любую ситуацию амурного характера.
Вскоре, после такого необычного признания, где-
то между 23 февраля и 8 марта четыре девушки и несколько парней из их класса поехали на турбазу. Борис
после того объяснения — ни слова. Молчит и виду не
показывает. С Ириной не разговаривает. 23 февраля,
в День Советской армии, на вечере танцует с другими.
На турбазе — то же самое: ноль внимания. Ирина
600
Весь музыкою полон до краев
нервничает, поделилась своими сомнениями с подругами и ждет от Бориса прямого объяснения. Другой парень, который ухаживал («бегал», по терминологии подростков) за Ириной, вдруг (возможно, при содействии
Бориса) сбегает с турбазы в Свердловск. И здесь неожиданно Борис — один на один — объясняется с Ириной:
— Я же тебя люблю, но молчу...
И вдруг добавляет:
— Ты выйдешь за меня замуж...
Ирина крайне удивлена, думает — сумасшедший...
Борис вдруг начинает рассказывать о своем деде Петре Афанасьевиче, который делает предложение бабке
Бориса, думая, что она не может ходить, обезножела
после удара электрическим током... Ночь проходит
в разговорах, которые были по преимуществу монологом Бориса... Утром Борис ведет себя так, как будто
ничего не произошло. Даже просит Ирину: — Ирина,
пересядь в другое место — мы тут будем в карты играть. — Ирина — в недоумении...
В школе отношения Ирины и Бориса оставались
прежними — такими, какими они были до объяснения
Бориса в любви...
Как-то Ирина отправилась с подружками в кино.
Борис догоняет ее и вдруг хватает за руку:
— Ирина, сегодня надо встретиться... — Его трясет
от волнения. Ирина растерялась: такого странного отношения к ней, с таким напором, натиском, она еще
не испытывала. Вечером встретились. Ирина спросила,
куда они пойдут.
— Ко мне, не бойся: у меня дома родители. — Глаза
у Бориса, по словам Ирины, были абсолютно сумасшедшие.
601
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
Дома, в комнате Бориса Ирина впервые видит его
письменный стол, накрытый бумагой, разрисованной
Борисом (бумага, видимо, часто менялась). На стене
полки с кассетами — все в идеальном порядке...
Борис был всегда абсолютно искренен и честен
с Ириной, никогда не врал и не играл. Однажды он
признался ей, что среагировал впервые не на внешность,
а на голос Ирины.
С тех пор Борис не давал Ирине проходу и продыху
(Иринино слово). Они были вместе всегда — и в школе, и после школы. Ирина очень уставала. Она даже
говорила Борису, что не любит его, что у нее есть друг,
который учится в соседней школе. Но Борис прекрасно понимал, чувствовал, что если отпустит от себя Ирину
хоть на несколько дней — то все, конец... Он знал
о друге Ирины, просил ее порвать с ним. Борис был
неукротим: он даже побил одного парня, которому нравилась Ирина и который этого не скрывал.
Ирина признается, что такой полноты, открытости,
искренности и силы чувств, какие были у Бориса к ней,
она не встречала никогда и ни у кого: Борис словно
подсознательно, интуитивно планировал их жизнь и
теперь уже манипулировал собой — не толпой, а собой,
несмотря на то, что был очень сильным человеком.
Борис любил Ирину — до слез, до музыки, до гроба:
Помнишь дождь на улице Титова,
что прошел немного погодя
после слез и сказанного слова?
Ты не помнишь этого дождя!
Помнишь, под озябшими кустами
мы с тобою простояли час,
602
Весь музыкою полон до краев
и трамваи сонными глазами
нехотя оглядывали нас?
Озирались сонные трамваи,
и вода по мордам их текла.
Что еще, Иринушка, не знаю,
но, наверное, музыка была...
Главным для Бориса было понимание того, что
с любовью музыка — неостановима. Потому что эта музыка — совсем иная, новая, объединившая в себе музыку земли и неба, плоти и души, жизни и смерти — одним словом, музыку музыки и музыку языка.
Борис был абсолютно («адски», как выразилась Ирина) ревнив. Однажды Ирина ехала в автобусе (№ 20, следующий до поселка Елизавет, одной из южных окраин
Екатеринбурга) и обратила внимание на молодого человека, который спрашивал у пассажиров, как добраться
до елизаветинской церкви. Ирина вступила в разговор,
и парень уговорил ее показать ему церковь. Приехали
в Елизавет («на Елизавет», как говорят местные), вошли
в церковь. Вдруг кто-то сзади хватает Ирину за воротник:
— Это он?! (Ирина недавно получила письмо из
Таджикистана, где отдыхала).
— Кто — он? — К счастью, все закончилось миром:
Борис дождался любителя церквей, который оказался
художником, приехавшим из Белоруссии. А вообще
Борис был резок и скор на расправу с мнимыми конкурентами: драться он умел. И был неуправляем, когда
начинал ревновать.
В ноябре 1991 года, уже после поступления в Уральскую государственную горно-геологическую академию, Борис сделал Ирине предложение, приехал к ее
603
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
родителям (с цветами) официально, а 27 декабря состоялась свадьба. Кстати, УГГГА Ирина закончила на два
года позже Бориса (он — в 1997 г., а она — в 1999 г.):
сначала взяла академический отпуск на год по состоянию здоровья, а потом — еще один отпуск, уже декретный, после рождения 19 января 1993 года сына Артема.
Музыка тянулась к Борису сама.
Ирина говорит о том, что Борис начал писать стихи
серьезно (т. е. постоянно и не в шутку) после того, как
они поженились, зимой 1991 — 1992 года. Именно в это
время Борис знакомится с поэтом Алексеем Кузиным,
который оценил эти первые стихотворные опыты (Ирина вспоминает, что это стихи о луне, о ночи. А. Кузин,
сыгравший огромную роль в формировании поэтического дискурса Б. Рыжего, похвалил их, и Бориса эти
добрые слова очень поддержали).
Все свеженаписанные стихи Борис читал Ирине. Она
чувствовала качественные перемены, происходящие
в Борисе, и никогда не мешала ему двигаться в том
направлении, где музыки было больше:
Из школьного зала —
в осенний прозрачный покой.
О, если б ты знала,
как мне одиноко с тобой...
Как мне одиноко,
и как это лучше сказать:
с какого урока
в какое кино убежать?
С какой перемены
в каком направленье уйти?
604
Весь музыкою полон до краев
Со сцены, со сцены,
со сцены, со сцены сойти.
А может быть, идти туда, где ее, музыки, по общепринятому представлению, не было совсем: свойство
поэта озвучивать пустоту — уникально. Но и мучительно. И для него самого, и для тех, кто ему близок.
Борис наедине с Ириной был всегда другим, не таким, каким его знали мы: он редко ее обижал — а это
много стоит для человека открыто-закрытого, страстного и ревнивого до бешенства, до драки, для человека
умного и безумного в своих ночных бдениях на кухне
над листом бумаги, в своих шатаниях по городу — по
друзьям, в своих муках, исходящих от себя же самого,
для человека, устающего от себя, от толпы, от погоды,
от монотонного чередования дней — ночей, лиц — ликов и морд, сезонов и будней, будней, будней, человека, ненавидящего рутину вообще и во всем. Борис никогда не матерился при Ирине — факт удивительный:
мы знаем, как писатели обожают играть суперэкспрессивной лексикой и, заигрываясь, уже не могут остановиться, превращаясь в трансляторы тускнеющих и опу-
стевающих языковых инвектив. Борис был одинок как
поэт, и неодиночество семьи, спасибо ей, порою облегчало постоянное давление одиночества голосового. Борис это прекрасно осознавал и Ирине был всегда благодарен за то, что она у него есть:
Я
Ты помнишь тот старый фонтан,
забытый в осеннем саду?
Молочный, как известь, туман
и розы на черном пруду?
605
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
Как мраморный тот истукан
грустил, что тонули цветы?
И щеки в извилинках ран
от вечной, от горькой воды?
Так мило, как будто во сне,
я нынче тебе улыбнусь.
Да будет на алой волне
пронзительней глаз моих грусть.
Когда ж мой настанет конец,
и стану я бледен как мел,
ты вспомни про черный рубец —
я плакал, я жил, я жалел.
(январь, 1995)
Ирина вспоминает о том, как и почему Борис написал стихотворение «...кто тебе приснился? Ежик!»:
Ирина часто (почти каждую ночь) видит сны — так уж
она устроена. И всегда рассказывала свои сны мужу.
А Борису сны почему-то не снились. На что он в шутку
сетовал всегда. Однажды Ирина проснулась посреди
ночи, увидев три сна подряд. И каждый раз ей снился
ежик. Она разбудила Бориса и рассказала ему свои сны
о ежике. Борис произнес:
— Кто тебе приснился? Ежики тебе приснились! —
В этих словах была и мягкая ирония, и доброта, и нежность:
...Кто тебе приснился? Ежик!
Ну-ка, ну-ка расскажи.
Редко в сны заходят все же к
нам приятели-ежи.
Чаще нам с тобою снятся
дорогие мертвецы,
606
Весь музыкою полон до краев
безнадежные страдальцы,
палачи и подлецы.
Но скажи, на что нам это,
кроме страха и седин:
просыпаемся от бреда,
в кухнях пьем валокордин.
Ежик — это милость рая,
говорю тебе всерьез,
к жаркой ручке припадая
и растроганный до слез.
(1997)
Борис специально к дню рождения Ирины (3 ноября 1973 г.) сочинял стихи. Всего было несколько таких
стихотворений.
Борис практически ежедневно навещал родителей.
Ирина говорит, что он так их любил, так о них беспокоился, что буквально не находил себе места, если не
видел отца и мать день-два. Обычно он засиживался
у родителей допоздна (где не только общался с Маргаритой Михайловной, Борисом Петровичем, Олей и племянниками, но и звонил в любимый Питер, в Москву,
принимал гостей — друзей-стихотворцев, читал, писал), иногда оставался и до утра. Возвращался Борис
домой, к Ирине и Артему, измотанным, порой даже
опустошенным и на следующий день опять шел с Куйбышева (где они с Ириной жили с 24 октября 1996 г.
в двухкомнатной квартире) на Шейнкмана. Такая забота о родителях одновременно успокаивала Бориса
и мучила его.
С другой стороны, Борис заботился о своей семье.
Старался зарабатывать. Делал что-то по дому: соседи
607
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
затопят — сам белил потолок, мастерил полки-стеллажи, стирал белье (Ирина уточняет: все свое стирал сам).
Хозяйственная рутина его не смущала: он мыл пол,
чистил картошку (обычно в семье готовил тот, кому
сподручнее, кто ближе оказывался в данный момент
к кухне, к плите). Ирина улыбается, это он у мамы
с папой — избалованный, барчук, а дома — расторопный, ловкий, умелый. Борис все делал сам, не очень
любил, когда ему помогали; конечно же, он постоянно
играл в Бориса Рыжего-булоручку, а на самом деле все
умел и грязной работы не боялся.
Однажды пермский поэт Григорий Данской разбил
умывальник-раковину. И как-то Ирина с Борисом шли
по улице Радищева, прилегающей к Центральному рынку, на которой был расположен стихийный «блошиный
рынок», Ирина увидела раковину, которую можно было
поставить взамен разбитой, предлагает Борису — давай
купим, но Борис заупрямился: нет, надо подумать,
а потом уже специально идти сюда за этим необходимым в быту предметом1. Кстати, я не встречал — ни
в архиве поэта, ни в блоке его опубликованных стихов — текстов, в которых бы доминировала «хозяйственно-бытовая» тематика или интенсивно эстетически работали детали, относящиеся квартирно-кухонного интерьеру или вообще «хозяйству». В его стихотворениях
есть «кепочка», «рубашка», платье, наколки на руках,
предметы архитектуры (арки, например), облака, рябина, березы, поезда, невские ландшафты и петербургская скульптура, небеса. Все остальное — музыка.
1 По словам О. Дозморова, походы Ирины и Бориса на рынок были
практически еженедельными и в своем роде стали ритуалом.
608
Весь музыкою полон до краев
Ирина вспоминает, что Борис — как человек увлекающийся, — если уж отдавался какому-либо занятию,
то отдавался сполна (будь это физика или метафизика— все равно что). Она вспоминает, как он читал,
изучал исторические работы В. О. Ключевского: он не
просто прочитал известный многотомник, он проработал все карты, прилагавшиеся к этому капитальному
труду. В своем творческом поведении Борис был абсолютно зеркален тому объекту, с которым он работал:
объем энергозатрат поэта должен был соответствовать
объему энергии, заключавшемуся в изучаемом, наблюдаемом, любимом, ненавидимом или просто интересующем его предмете. Так, смерть Эли, по Борису Рыжему, должна быть во всех отношениях адекватна жизни:
такая ментальная, духовная идентичность смерти и
жизни позволяет этим невероятно сложным и смутным
субстанциям соединяться, а такой чудовищно прекрасный синтез позволяет быть, наличествовать Эле в этом
смешанном жутковато счастливым пространстве, а также разрешает поэту уцелеть, хотя бы на некоторое время, в состоянии не балансирования, а полета, правда,
полета, скорее не птицы или насекомого, а взгляда,
слуха, звуковых волн — музыки:
Эля, ты стала облаком
или ты им не стала?
Стань девочкою прежней с белым бантом,
я — школьником, рифмуясь с музыкантом,
в тебя влюбленным и в твою подругу,
давай-ка руку.
Не ты, а ты, а впрочем, как угодно —
ты будь со мной всегда, а ты свободна,
21 Оправдание жизни
609
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
а если нет, тогда меняйтесь смело,
не в этом дело.
А дело в том, что в сентября начале
у школы утром ранним нас собрали,
и музыканты полное печали
для нас играли.
И даже, если даже не играли,
так, в трубы дули, но не извлекали
мелодию, что очень вероятно,
пошли обратно.
А ну назад, где облака летели,
где, полыхая, клены облетели,
туда, где до твоей кончины, Эля,
еще неделя.
Еще неделя света и покоя,
и ты уйдешь вся в белом в голубое,
не ты, а ты с закушенной губою
пойдешь со мною
мимо цветов, решеток, в платье строгом
вперед, где в тоне дерзком и жестоком
ты будешь много говорить о многом
со мной, я — с Богом.
<2000>
Мелодия извлекает поэта из любого неясного, смутного, иногда даже счастливого состояния. Музыка «исполняет» поэта, вынимая его из толпы, из быта, из шума,
из одиночества человеческого — в одиночество певца.
610
Весь музыкою полон до краев
По словам Ирины, Борис писал стихи по ночам.
Днем это случалось редко, днем он их как бы «обкатывал» — повторял отдельные слова, словосочетания, фразы, иногда рифмы, наборматывал-набалтывал ритм,
словно взбалтывал воздух и разглядывал в нем на просвет пузырьки смысла, пауз, анжамбеманов и бледных,
слабых, хаотично всплывающих и вплывающих друг
в друга квантов мелодии. Днем Борис только записывал — основная «работа» (а это десятки-сотни «исполнений», «репетиций» и «прогонов» вербализованных отрезков музыки) происходила ночью — на кухне. Обычно утром он обращался к Ирине:
— Ирина, я такое классное стихотворение написал...
Борис оказывал на Ирину, на Артема огромное влияние, которое основывалось на диалектике уверенности-
неуверенности, приятия-неприятия, любви-нелюбви
(здесь середины, по Б. Рыжему, быть не могло). Борис
иногда рассуждал так: почему в Спарте не было поэтов
и музыкантов? — потому что спартанцы уничтожали
уродов (надо понимать — не только больных, но «иных»:
не таких, как здоровая и ловкая, прожорливая и похотливая, выносливая и боевитая толпа). Ирина вспоминает, что к себе Борис относился как раз как к неспар-
танцу. И это проявлялось всегда и во всем: Я красивый? Урод? Я гений? Бездарность? Я прав? Не прав?
И т. д. Борис очень радовался своему литературному
успеху, но, как свидетельствует Ирина и как покажет
жизнь, понимал, что это («заметь»!) — мишура: однако
внешний успех и успех внутренний (востребованность —
реализованность) были все-таки одинаково для него
важны (Ирина уточняет: 50 на 50). Борис — к своим
двадцати пяти годам — оставался юношей-мужчиной,
иногда усиливая качества то одного, то другого — это
:г
611
ЮРИЙ КАЗАРИН /Поэт Борис Рыжий
в быту, так сказать, в жизни, но в поэзии и любви он
подошел к новому воздуху, в котором могла существовать только музыка. И Борис это отлично осознавал:
сначала языком, т. е. непроизвольно, а потом и всем
своим существом, которому — после такого открытия —
осуществляться и существовать было все равно где. Это
свойство поэта — быть как бы отсутствуя, уходить не
уходя и молчать, молчать, намалчивая такую музыку,
что диву даешься:
Я вышел из кино, а снег уже лежит,
и бородач стоит с фанерною лопатой,
и розовый трамвай по воздуху бежит —
четырнадцатый, нет, девятый, двадцать пятый.
Однако целый мир переменился вдруг,
а я все тот же я, куда же мне податься,
я перенаберу все номера подруг,
а там давно живут другие, матерятся.
Всему виною снег, засыпавший цветы.
До дома добреду, побряцаю ключами,
по комнатам пройду — прохладны и пусты.
Зайду на кухню, оп, два ангела за чаем.
(1997)
Переменился не мир, а просто — с появлением поэта — увеличилось окрест количество энергии, способной не только прояснить или смутить этот мир, но и
сохранить его.
Борис научил Ирину понимать несчастных. Он часто думал и спрашивал жену: кто мы? Интеллигенция?
Низший класс (выражение Бориса)? Он не завидовал
богатым, но любил иметь деньги, чтобы, естественно,
612
Весь музыкою полон до краев
тратить их. Борис, по словам Ирины, любил человека,
а не человечество, жалел бедных, сочувствовал униженным, бомжам, пьяницам, калекам (Ирина вспоминает,
что днем Борис мог в школе издеваться над одноклассником, а утром — проклинал себя за это, переживал).
Борис всегда подавал милостыню нищим, и если это был
законченный на вид алкоголик, Ирина замечала: все равно пропьет, на что Борис обычно говорил: а может быть,
как раз сегодня он, этот пропойца, купит себе хлеба.
Артем, замечает Ирина, внутренне очень похож на
Бориса: в нем есть уверенность в себе, в своих силах.
Девятилетний Артем, действительно, ведет себя очень
независимо, входит в комнату, сидит рядом с нами,
потом уходит, опять возвращается, что-то уточняет, даже
поправляет мать, серьезно посматривает на меня. Дай
Бог ему здоровья и сил.
Осенью 2002 года в Екатеринбург на Первые Литературные чтения памяти В. Рыжего (21 сентября) приехал голландский писатель, Кейс Верхейл, который
в своем сообщении «Борис Рыжий и его поэзия с точки
зрения голландца» удивительно интерпретировал прекрасное стихотворение Бориса «Я тебе привезу из Голландии Lego...», посвященное Артему. Он обратил внимание, что строки: «...Можно годы вернуть, возвратить
человека / и любовь, да чего там, еще не конец. //
Я ушел навсегда, но вернусь однозначно — / мы поедем с тобой к золотым берегам. / ...Ну, а если не выйдет у нас ничего — / я пришлю тебе, сын, из Голландии
Lego, / ты возьмешь и построишь дворец из него», —
по смыслу гораздо глубже, чем может показаться. Ведь
нельзя вернуть годы, невозможно вернуть человека.
Только вот поэта же, как выражение и состояние абсолютной любви, возвращать не нужно — потому что он
613
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
никуда не уходил: он в нас, в нашем языке, он с нами,
т. е. живет в тех дворцах, которые строили мы...
Ирина вспоминает, что в Екатеринбурге у Бориса
было много приятелей, товарищей и совсем немного
друзей: в детстве — это Сергей Лузин, потом Александр
Леонтьев (существует их довольно объемная переписка),
но другом «самым нужным» и важным для Бориса был
Олег Дозморов.
Ирина вспоминает, что Борис порою избегал встреч
со многими, кто, естественно, по мере роста известности его как поэта, искал с ним знакомства, разговора,
вообще контакта. Все чаще и чаще он просил Ирину
отвечать по телефону «Его нет дома» — и уточнял: «Меня
нет дома для всех, кроме Олега». Мандельштамовская
категория «собеседник поэта» — вещь вполне реальная
и кровно необходимая человеку, мучающему себя (и других) и находящемуся один на один с языком и немотой,
с музыкой и молчанием, с любовью и пустотой. Олег
Дозморов — это, не считая отца, Бориса Петровича, вообще родных, был единственным постоянным, почти
ежедневным, литературным собеседником Бориса Рыжего (об этой дружбе, о таком собеседничестве — речь
впереди).
Мне приходилось бывать у Бориса в его квартире
на улице Куйбышева, но Ирину я видел мельком —
миловидная молодая женщина, почти девушка, со строгими, но абсолютно спокойными, привычными ко многому и многим глазами. Стройная, среднего роста, —
Ирина внешне напоминает какую-то до боли знакомую известную актрису, постоянно снимающуюся
в кино в ролях «второго», среднего плана. Она обычно
614
Весь музыкою полон до краев
здоровалась, чуть-чуть суховато, интерес в ее недолгом,
но цепком взгляде к пришедшему впервые в их дом
незнакомцу заслоняется какой-то если не настороженностью и тревогой, то, может быть, заботой. Быть женой поэта — это большая забота.
До встречи поздней, заснеженной осенью 2002 года
мы виделись с Ириной несколько раз только на кладбище или на вечерах памяти Бориса. 23 ноября я напросился «в гости», чтобы поговорить о том, каким был
Борис «дома», на Куйбышева. Мы сидим в «большой»
комнате, в креслах, между нами очень красивый журнальный столик. Ирина одета по-домашнему, она очень
красивая (стараюсь смотреть на нее глазами не сорокасемилетнего лысого дядьки, а глазами двадцатишестилетнего мужчины). Ирина волнуется, но волнуется как-
то привычно для себя, «спокойно», что ли? Вспоминаю
стихи Бориса про «...смотри не плачь»:
И.
Не безысходный — трогательный, словно
пять лет назад,
отметить надо дождик, безусловно,
и листопад.
Пойду, чтобы в лицо летели листья, —
я так давно
с предсмертною разлукою сроднился,
что все равно.
Что даже лучше выгляжу на фоне
предзимних дней.
Но с каждой осенью твои ладони
мне все нужней.
615
ЮРИЙ КАЗАРИН /Поэт Борис Рыжий
Так появись, возьми меня за плечи,
былой любви
во имя, как пойду листве навстречу, —
останови.
...Гляди-ка, сопляки на спортплощадке
гоняют мяч.
Шарф размотай, потом сними перчатки,
смотри не плачь.
Смотрю на руку Ирины — очень красивая с изящной кистью, тонкими пальцами. Разговариваем. Ирина
все-таки крепко волнуется («смотри не плачь»), она говорит чуть-чуть сбивчиво, но все ее слова очень точны.
И до меня часа через полтора-два вдруг доходит, что
Ирина понимает все-все-все, потому что чувствует Бориса очень глубоко — и переживает. Сильная женщина. Десятилетний Артем иногда вступает в наш диалог — уверенно и спокойно (а может быть, действительно серьезно — абсолютно по-взрослому серьезно).
Артем — худенький мальчик —подросток с развитой
речью, а, главное с вполне самостоятельной, своей интонацией. Сижу и думаю: «Господи-Боже-мой!» У Артема уже есть свой взгляд на отца, своя память об отце —
«Типа песня»:
Вот колечко мое, донашивай, после сыну отдашь, сынок,
А про трещинку не расспрашивай по рубину наискосок:
В общежитии жили азеры, торговали туда-сюда,
Здоровенные как бульдозеры — ты один не ходи туда.
Ну а если тебя обидели, ты компанию собери,
как без курева в вытрезвителе люди голые ждут зари.
616
Весь музыкою полом до краев
Жди возмездия, жди возмездия и не рыпайся сгоряча.
Так серебряная поэзия ждет рубинового луча.
Мы гурьбою пошли по краешку тротуара — должок вернуть,
я колечко кровавым камешком вниз забыл перевернуть.
Ты колечко кровавым камешком вниз забудешь перевернуть,
шапку на лоб надвинуть, варежки скинуть с ручек не позабудь.
К концу разговора оба — Ирина и Артем — спокойны и красивы. Никакой неловкости нет. Все нормально. В комнату входит черно-белая кошка — посмотреть
на меня. Ирина рассказывает, как шесть с чем-то лет
назад Борис принес ночью котенка, кота назвали Чарли. (Утром Чарли оказался кошкой, но в Шарлотту
переименован не был). Чарли — тоже красивая, очень
умная и от Ирины с Артемом ни на шаг не отходит.
Осенью 1991 года Борис становится студентом УГГГА.
Почему студентом-горняком, а не филологом, искусствоведом, журналистом, на худой конец? Во-первых,
потому, что надежно: отец — известный ученый-геолог,
профессор, руководитель крупного научного учреждения, так сказать, династия. Во-вторых, очевиден контраст оппозиции Вторчермет — университет, а Горная
академия — это организация преимущественно мужская, не требующая этической перестройки, да и вообще жить как-то нужно, думать, видимо, о будущем, где
предполагается как-то зарабатывать деньги (1991-й —
это год пика политической, экономической и социальной нестабильности и полной государственной несостоятельности СССР как империи). «Горный институт»,
или «горный» в общей студенческой среде Екатеринбурга славен своей грубоватостью, явно выраженной
617
ЮРИЙ КАЗАРИН /Поэт Борис Рыжий
«мужественностью» и проч. (отношения людей улицы,
основанные на социальном лимите «не верь, не бойся,
не проси!» распространены в России повсеместно, где
собираются в одной точке больше двух-трех мужиков:
тюремно-армейский пафос таких межличностных отношений и есть твоя жизнь, конечно, чужая, но знакомая, практически ведомая тебе). В-третьих, поэту «где
бы ни учиться — лишь бы не учиться», не мешать тебе
и музыке твоей, а следовательно — общей. Наверное,
есть много причин, по которым Борис выбрал именно
«горный» и которых мы никогда не узнаем, но главными из них являются все-таки две: внешняя — влияние
семьи, особенно Бориса Петровича, и внутренняя причина, обусловленная непосредственно местом рождения и обитания Бориса, это — Урал.
Если в XVIII и XIX веках поэты появлялись (в прямом и иных смыслах) в столицах, то к XX веку культура
художественной словесности распространилась тотально
по всей громадной территории Евразии, и русский поэт
двадцатого века мог родиться на Алтае, в Сибири, на Урале, в Поволжье, в Черноземье, на Русском севере, в южных районах страны. Поэтосфера XX—XXI веков — явление абсолютно не книжное, а воздушное, «кровяное», природное, поэтому сегодня русский поэт может родиться и
в Канаде, и в Израиле, и в Аргентине, потому что поэзия —
это дух и язык, которые могут существовать в основном
«безвидно», т. е. метафизически, как, например, семантика, образность, эмотивность и мысль вообще. Поэзия —
это и есть такой воздух, которым дышат не все, а только
те, у кого есть второй (и основной) «набор легких».
Борис Рыжий родился на Урале, жил здесь и умер.
Почему на Урале? Почему Челябинск — Екатеринбург,
а не, например, Челябинск — Горький? — Судьба.
618
Весь музыкою полон до краев
Судьба не только отца Бориса, но и всей семьи,
а особенно — поэта, поэзии. Думаю, что здесь, вокруг
и на евразийском горно-лесном шве, накопилось
столько лингво-культурной энергии покоя, заблуждения, страдания, отчаяния, надежды и трагедии тех, кто
в этих местах жил и живет, и тех, кто постоянно (по
Сибирскому тракту) пересекает Екатеринбург с Запада на Восток по пути на каторгу, в лагерь, в экспедиции, в ссылку, в поход и т. п. На стыке Европы и Азии
выпущено на волю, на воздух огромное количество
энергии — земли, вскрытой лопатою, ломом и киркою, карьерных пустот и камня. Камень — овеществленное время. Камень архетипичен слову: у языка и
геосферы общая судьба появления, формирования, ме-
таморфных изменений и возможности участвовать
в творении и быть творением. Поэзия и геология
(в широком смысле), камень и слово обладают замечательной совместимостью: у камня — «быстрая, скоростная форма» и «медленное» содержание, у слова —
наоборот, достаточно стабильная форма и абсолютно
мобильное содержание. Геология методологически
сродни филологии — искать, углубляться и добывать
новое, необходимое и драгоценное.
Маргарита Михайловна вспоминает, что в «горный»
Борис все-таки пошел «без желания». И это — нормально: человек сочиняющий учится прежде всего сам,
а поэт, скорее, вообще не учится, а ищет подтверждений тому, что знает природно, по определению, а знает
он все (Всеведение поэта) и умеет все: гениальные поэты, по словам С. Довлатова (об И. Бродском), «вообще
способные люди».
В социальном отношении Борис был почти всегда
«свой среди чужих» («вторчерметство», мужская компания,
619
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
улица, «простые» — бедные, по Ф. Достоевскому, люди
и проч.) и «чужой среди своих» (литературная среда —
«тусовка» — в Екатеринбурге, в Москве, в Петербурге).
В нелитературной сфере жизни Борис мог и должен был
играть, исполнять партию «своего», что давало все основания для игры и пародирования роли лидера, дирижера,
режиссера, манипулятора, инициатора, чужого нужноненужного, забавного поведения.
Борис одновременно любил людей и посмеивался
над ними, понимая (или — чувствуя?), насколько чистая, беззаветная любовь губительна для обеих сторон-
участников этого процесса, этих отношений, в основе
которых в непримиримом единстве одинаково мощно
работают и нежность, и тревога за..., и забота, и ревность, и деспотизм. Любовь, по Борису Рыжему, всегда
глобальна — и к отцу, и к матери, и к сестрам, и к Ирине, и к друзьям. Борис был, что называется, окружен
любовью (и сам «окружал» ею), но оболочка таких отношений — со временем — становится плотной и почти непроницаемой. Запас, объем энергии любви в Борисе был огромен, но не бесконечен. Человек волей-
неволей начинает пытаться — хоть на время — вырваться
из пределов такой взаимоопеки, чтобы передохнуть,
пообдуться свежим ветром, другим воздухом, иной речью — молчанием и музыкой.
В Горной академии многие годы существовало и
продолжает работать литературное объединение, которое сегодня называется «Горный родник». В 80-х —
начале 90-х годов им руководил известный на Урале
поэт Юрий Леонидович Лобанцев (1939—1997), человек сложный, определявший и осуществлявший свою
литературную деятельность достаточно узко, признавая в поэзии в качестве магистральных направлений
620
Весь музыкою полон до краев
социальность, этико-эстетическое воздействие (во имя
добра, которое, естественно, должно быть с кулаками)
и мысль как поступок, концептуальная действенность
которого должна подчиняться логике здравого смысла, т. е. должна быть для всех очевидной, практически
единственно верной, правильной и, следовательно, необходимой. Ю. Лобанцев сразу же выделил из среды
участников «Горного родника» Бориса: «Борис — очень
нежная душа, нельзя его обижать». Может быть, именно
Ю. Лобанцев внушил Борису главную заповедь русского литератора, которую сформулировал А. Пушкин:
«Поэма, обдуманная в уединении, в летние ночи при
свете луны продается потом в книжной лавке и критикуется в журналах дураками»1. Социальное качество
такого литературного творчества начало возрождаться
в России после 1985 года. Борис уже не мог, как сорокалетние сочинители, «писать в стол». Свобода печати
и изданий в конце XX века, как это ни печально признавать, привела к катастрофическому снижению эстетического, этического уровня и качества художественного текста, который под влиянием постмодернизма
и настоящего бездарнизма, любительства и проч. начинал превращаться в недохудожественный и как бы
единственно ныне возможный, а значит, таким образом, однако и несомненно, вроде бы как эталонный.
Повторимся: культура губит слабых, столкнувшихся
(буквально!) с культурой впервые (сколько их — тысячи графоманов-писарей, кувшинных рыл, рыльцев и
личиков — обитает в провинции, где пишется в основном от скуки и желания славы, денег и еще черт знает
чего!).
1 Пушкин А. С. Записные книжки. — М., 2001. С. 88.
621
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
Но Борис прекрасно знал и другое известное утверждение Александра Сергеевича: «В других землях писатели пишут или для толпы, или для малого числа.
У нас последнее невозможно, дблжно писать для себя
самого»1. Наверняка Борис помнил слова А. Блока о том,
что поэт, вспомнивший и позаботившийся о читателе,
перестает быть поэтом. Однако, видимо, существуют
какие-то пропорции творческо-прагматического анализа и синтеза «для себя» и «для читателя». Борис их знал
замечательно и внутренне ориентировался на них.
Ю. Лобанцев очень помог Борису, особенно на первых порах, когда неуверенность, скромность и почти застенчивость позволяют остальным вытеснить новичка из
плотного ряда «литературных учеников» руководителя.
В любом случае в такого рода объединении (где много
молодых) запрограммировано ложное лидерство на
необъективное первенство, на нереальную одаренность,
где каждому кажется, что руководитель именно его выделяет из толпы, отмечает и благословляет именно его.
Ю. Лобанцев буквально заставил Бориса поехать
в Москву на Фестиваль студенческой поэзии (где он
«занял» второе, по другим сведениям — третье место,
а через год — первое). Когда Юрий Леонидович был
болен (как оказалось, смертельно), Борис навещал его
и поддерживал. Он уважал и любил Ю. Лобанцева прежде всего за сильный и строгий ум, за абсолютную честность и порядочность.
Не менее важным для Бориса Рыжего-поэта было
знакомство с Алексеем Кузиным, который на протяжении почти 10 лет был литературным «собеседником»
Бориса.
1 Пушкин А. С. Записные книжки. — М., 2001. С. 161.
622
Весь музыкою полон до краев
Борис был безусловным лидером «Горного родника», но не очень-то любил такого рода «тусовки»: это
было лидерство поневоле, помимо игры и желания играть такую роль, потому что «актеры» были откровенно
слабее, а зрители, по определению, глухи и слепы. Борису нужны были Питер, Москва, Европа и Нью-Йорк.
Он понимал, что для признания нужны не только публикации, но и знакомства, контакты, разговоры и симпатии — антипатии, но до всего этого необходимо было
освободиться от провинциального подвижничества, ту-
годумия и упертости (в Екатеринбурге живет прекрасный поэт Майя Никулина, колдующая в последнее время
со словом и камнем, с камнем и словом; жил, переехав
сюда из Перми, — Алексей Решетов, — кто знает их
в Москве с их серебряными — хрустальными голосами?!). Тем не менее, Борис и этот отрезок жизни проживал так, как всегда, да не так: он был весел, пружинист — молод, и он всерьез подумывал о «завоевании»
Питера — Москвы.
Борис, конечно, сопоставлял свой талант с бездарностью и талантливостью остальных, но видел себя,
естественно, не в екатеринбургском «литературном» контексте, где можно существовать преимущественно в литературном подполье, сочиняя в стол. Причем, в любые
времена, потому что провинция — это полное отсутствие
социально активных частиц хроноса (так живут и жили
почти все — и А. Решетов, и М. Никулина, и Е. Туренко
и многие др.). Поэт знал, что он должен реализовываться и может реализоваться (состояться, как говорят критики) только там — за горами-лесами, в центре, в метрополиях), успев убедиться в том, что ему здесь не место:
такое стремление к «легкому» прохождению местных
литературных иерархий обеспечивалось прежде всего
623
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
уверенностью в своей абсолютной исключительности,
в неизбежности успеха и проч.
Хотя, по утверждению родственников, Борис был
все-таки очень неуверенным в себе — в социальном
и психологическом отношении — человеком. Поэт вообще уверен только в том, что он пишет стихи, — все
остальное — изменчивая погода и постоянно нарушаемый пейзаж множественной и всегда несправедливой
оценки любых социумов, — оценки дискретного характера (с забывами и провалами), оценки поверхностной,
подбирающейся к смерти, после которой — вдруг —
устанавливается истинное и стабильное отношение и
к тебе, и к твоим опусам:
Погадай мне, цыганка, на медный грош,
растолкуй, отчего умру.
Отвечает цыганка, мол, ты умрешь,
не живут такие в миру.
Станет сын чужим и чужой жена,
отвернутся друзья-враги.
Что убьет тебя, молодой? Вина.
Но вину свою береги.
Перед кем вина? Перед тем, что жив.
И смеется, глядит в глаза.
И звучит с базара блатной мотив,
проясняются небеса.
(2001)
В 1992 году состоялась дебютная публикация стихотворений Б. Рыжего в «Российской газете» — «Облака
пока не побледнели...», «Елизавет» и «Воплощение в лес».
Первая журнальная публикация произошла в следующем
624
Весь музыкою полон до краев
1993 году в «Уральском следопыте» (1993, № 9), чему
способствовал Юрий Шинкаренко (в 1994 г. он возьмет
у Бориса интервью и опубликует его с восемью стихотворениями в «Екатеринбургской неделе»). В 1994 году
уже было более пяти публикаций, в 1995 — 5, в 1996 — 3,
но одна — в журнале «Урал». Начиная с 1997 года, менее
5 раз в год (иногда чаще) Борис не публиковался. Публикация в Петербурге состоялась в 1997 году («Звезда»,
№ 9), а в Москве — в 1999 году («Знамя», № 4 — премия
«Антибукер»).
Публикация и издание своих литературных произведений — процесс мучительный и радостный одновременно: сначала радуешься (подсознательно ждешь признания, успеха), потом начинаешь сомневаться в себе
(Борис часто звонил и буквально выпытывал оценку своих
напечатанных там-то стихов), разочаровываться, уставать.
А потом, к сожалению и к счастью, все это превращается в рутину, в приятно-неприятную и тревожную обязанность, когда тебя постоянно мучает одна и та же
мысль: кто я и что я — поэт? Вот и все? Теперь я — для
них для всех — поэт? Поэт-поэт-поэт. А что дальше? —
Находясь в таком плохо сбалансированном и вечно напряженном (внутренне и внешне) состоянии, поэт не
замечает, как мучительная легкость сочинительства переходит в трагедию. Игра — в трагедию. Наслаждение
(кайф!), получаемое в процессе стихотворчества, непостижимым образом превращается в мучение. Счастье сочинителя становится трагедией творца.
Поэт нуждается в собеседнике. Не потому, что поговорить не с кем, а потому, что говорить со всеми подряд не хочется. Функция литературного собеседника проста: прежде всего — протетическая, поддерживающая
поэта в промежутках, интервалах, в пробелах между
625
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
написанием двух-трех текстов, когда от пустоты в тебе
и всюду можно сойти с ума; другая сторона собеседни-
чества — обучающая, когда происходят необходимые
тебе и штудия, и апробация, и даже некое планирование (хотя бы тематическое) творчества-сочинительства.
Все это могло бы показаться игрой (действительно —
легко, непринужденно, весело и молодо собеседуют поэты, правда, к сожалению, не всегда), если бы не исключительная важность такой поэтологической коммуникации, такого братско-сопернического общения.
Борис познакомился с Олегом Дозморовым в начале октября 1996 года, когда обоим было по 22 (Олег
старше Бориса на 3 месяца и 2 дня). Город Екатеринбург в поэтическом отношении — маленький: в 1995 году
на одной из поэтических «тусовок» молодые ребята
читали друг другу стихи, потом был фуршет, и Дозмо-
ров подошел к какому-то незнакомцу и спросил:
— Вы Борис Рыжий?
— Нет, не я...
Уже тогда, видимо, появилась необходимость в этом
конкретном знакомстве, контакте. Еще в 1994 году на
совещание молодых литераторов в Москву должны были
поехать О. Дозморов, А. Сверчков и Б. Рыжий. Олег не
поехал, а Борис поехал и познакомился с Александром
Леонтьевым (ключевое, по мнению О. Дозморова, знакомство). Олег и Борис познакомились по инициативе
Алексея Кузина, с которым Олег был знаком и с которым они вместе ездили в Ярославль — на очередное
совещание литераторов. Борис был очень рад этому
знакомству, т. к. у него появился прямой (и всегда рядом, под боком) собеседник: с А. Леонтьевым Борис
виделся достаточно редко — общался в основном по
почте, 2 письма (примерно) в неделю.
626
Весь музыкою полон до краев
Олег Дозморов — известный в городе поэт (автор
двух поэтических книг, одна из которых с предисловием Бориса — вышла уже после смерти его друга, и многих публикаций в Екатеринбурге, Петербурге и Москве), прекрасно образован, умен, честен, порядочен,
а поэтому очень самостоятельный и сильный человек.
О. Дозморов ориентирован на поэтическую культуру не
какого-то конкретного времени, а сразу на всю — трехчетырехвековую. По образованию он филолог (окончил аспирантуру в Уральском университете), но по призванию — поэт и чистый, бескорыстный знаток и любитель изящной словесности. Борис в предисловии
к готовящейся книге Олега («Стихи», Екатеринбург,
2002. С. 3—4) так аттестовал своего друга:
«Человек с книгой в руке у окна, за которым
осень, — такая, на мой взгляд, картинка должна стоять перед глазами читающего этот сборник стихотворений Олега Дозморова. С голубоватыми и наполненными воздухом «Сумерками», посвященными еще
живому князю П. А. Вяземскому, в руке, а осень за
окном — осень 1842 года. Человек зачарован осыпающимися розами, листопадом, бог знает чем еще, какой-нибудь удавшейся, на его взгляд, строчкой, а прошлое... Что касается прошлого, оно было и незачем
о нем говорить.
Мы расставались в осеннем парке
После недолгой разлуки, жарким
И одиноким горел сентябрь.
Это, пожалуй, единственное прямое упоминание
о любви и разлуке, и есть психологическая разгадка
627
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
книги. И недаром в этом стихотворении мелькнул Державин, и не зря написано оно ритмом, который не
принес счастья ни одному российскому стихотворцу.
Время и место неудавшейся любви принято покидать,
в первую очередь для того, чтобы вспоминать о нем
без ненависти, а с любовью — осенью, в середине девятнадцатого века, с пахнущей типографской краской
книгой Баратынского в руке.
Вот вам, кстати, лирика о лирике, которой так боялся Мандельштам, но что поделаешь. Олег Дозмо-
ров — один из любимых моих поэтов, мой, пожалуй,
единственный друг, которому я могу пожелать вдумчивого читателя, но, увы, не громкой славы, он недостаточно решителен для этого.
Борис Рыжий.
2.08.2000».
Поэзия как проявление счастья — занятие несчастливое. Борис и Олег — как мужики и поэты — явления
абсолютно разные, но невероятным образом совпадающие в дружбе. Борис очень подвижен, артистичен и
обаятелен, Олег — более медлителен, угловат и застенчив. Борис абсолютно коммуникабелен, причем он умеет
управлять общением, знакомством и приятельством,
Олег более прямодушен и может быть или открытым,
или закрытым для других, тогда как Борис (с «чужими») постоянно открыто-прикрыт. Борис — вне семьи —
всегда играет в две игры — в сознательную и бессознательную, он прирожденный лидер-«коллективист», ему
нужен зритель, а Олег — одиночка, он умеет подыграть — и блестяще, любит мистификацию (однажды мы
с ним сумели убедить студентку-стихотворку в том, что
628
Весь музыкою полон до краев
Олег внучатый племянник Достоевского и племянник
Чехова одновременно!), обожает розыгрыш, но при этом
сам редко бывает инициатором таких деяний. Олег —
постоянно углублен, а Борис — и углублен, и расширен, и приоткровенен. Борис и Олег — явные друзья-
соперники, и это нормально. Главное все-таки не это.
Главное то, что они — собеседники:
О. Дозморову
Не жалей о прошлом, будь что было,
даже если дело было дрянь.
Штора с чем-то вроде носорога.
На окне какая-то герань.
Вспоминаю, с вечера поддали,
вынули гвоздики из петлиц,
в городе Перми заночевали
у филологических девиц.
На комоде плюшевый мишутка.
Стонет холодильник «Бирюса».
Потому так скверно и так жутко,
что банальней выдумать нельзя.
Я хочу сказать тебе заранее,
милый друг, однажды я умру
на чужом продавленном диване,
головой болея поутру.
Если правда так оно и выйдет,
кто-то тихо вскрикнет за стеной —
это Аня Кузина увидит
светлое сиянье надо мной.
(1998)
Видел ли Борис сиянье над головой Олега? Думаю, да. Но он также видел и умение Олега защищаться
629
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
и заботиться о том, чтобы инстинкт самосохранения поэта в нем не ослабевал. Борис как-то незаметно стал
(к 1999—2000 гг.) участником трех поэтических «тусовок»:
екатеринбургской (лидер), московской (только обозначился знакомством с С. Гандлевским, Е. Рейном и др., но
главное, он подружился с О. Ермолаевой и стал реально
постоянным и, видимо, самым частым автором журнала
«Знамя») и — петербургской (его знали и ценили А. Куш-
нер и А. Пурин и многие др. плюс публикации в «Звезде», в «Urbi» и проч.). В Екатеринбурге же Борис намеренно не вступал в тесный контакт с известными (хотя
бы на Урале) поэтами и писателями, за исключением
Ю. Лобанцева, рано умершего, О. Славниковой и А. Верникова. По словам Олега, Борис хотел оставаться здесь,
«дома», свободным и как бы «маргинальным», он хотел
быть на Урале, находиться в этой, так сказать, Сибири
в качестве «ссыльного», ведь для москвичей Сибирь начинается сразу же за Волгой. Это была, конечно, игра.
Игра в боксера, в ссыльного, в еврея.
Поддерживал ли Олег такую тотальную — социальную игру? Думаю, внешне — да, а внутренне — не
очень. Борис это знал, т. к. оба друга были одинаково
умны, прозорливы и несчастны (кто видел когда-нибудь счастливого поэта?).
Борис играл в еврейство, подчеркивая прежде всего свою исключительность — особливость во всем, даже
в этническом отношении; «кровью царей и пастухов,
волхвов и евангелистов» он оборонялся от дураков
и подлецов, страшась смешаться с толпой. Даже дома,
на кухне среди других есть на стене, слева от газовой
плиты, такая шутливая надпись (цитата из Бродского)
фломастером, адресованная Ирине и, естественно,
миру:
630
Весь музыкою полон до краев
Жизнь, она как лотерея —
Вышла девка за еврея.
Олег если и играл, то играл осторожно, не так остро
и жестоко, как Борис, но от дружбы и соперничества
с ним не уклонялся. Подлинный поэт не может быть ни
сионистом, ни антисемитом. Поэт, кто бы он ни был
этнически, — сам себе еврей в толпе горячих неевреев
(М. Л. Гаспаров замечает, со ссылкой на Н. Харджиева,
что «любимым раздумьем Ю. Тынянова было: кто из
русских писателей был евреем...»1). Может быть, подсознательное, литературное «еврейство» — это своеобразное обозначение, проявление, маркировка не только
литературного, языкового и культурного родства, но и
вообще единства с Пушкиным, так сказать, наследниче-
ства? Но, по мысли М. Л. Гаспарова, «чтобы иметь право мерить Пушкиным (и — «мериться им». — Ю. К.),
нужно объединиться с ним в смерти, т. к. объединиться
с Пушкиным в жизни может только Хлестаков»1 2.
Борис и Олег рождены и воспитаны в абсолютно
разных условиях — обстановках: Олег единственный
сын, «безотцовщина», привыкший к полной социальной самостоятельности и независимости; Борис — третий, поздний ребенок, безоговорочный лидер женской
половины семьи, — очень зависел от отца: Борис Петрович — личность сильная, даже мощная, человек состоявшийся и пытавшийся, что вполне естественно,
направить сына по своим (и профессиональным, и житейским) стопам, волей-неволей подчиняя себе, своей
семье и отцовской, эмпирической правоте — сына.
1 Гаспаров М. Л. Записки и выписки. — М., 2000. С. 23.
2 Там же. С. 30.
631
ЮРИЙ КАЗАРИН /Поэт Борис Рыжий
Ситуация типичная, естественная, распространенная
повсеместно. Такая любовь, такая дружба, такое соперничество, безусловно, стимулировали и интенсифицировали скорость жизни Бориса и как поэта, и как мужчины.
Поэзия не может быть реакцией на что-либо, поэзия — это способ, напротав, не рефлексии, а иного
существования, на которое обычно реагирует общество
как языковая, культурная и, никуда не деться, обывательская толпа. Поэзия — это сопротивление пошлости обиходной речи, просторечию и общему косноязычию мира. Борис это понимал. И его игра — социальная,
бытовая, языковая, топонимическая и онтологическая, — начиная с 1995—96 года обернулась судьбой.
Стремительность развития и окончательного становления его языковой поэтической личности, особенно этического и эстетического компонентов ее, основывается
на невероятно интенсивном духовном росте. Высокая
скорость жизни увеличивает скорость смерти. Поэтому
поэт существует в катастрофе («поэт в катастрофе» —
В. Козовой) так, как обыватель — просто в жизни.
«Художник платит случайной жизнью за неслучайный
путь»1 — мысль красивая, но неточная: художник траге-
дизирует (катастрофицирует) жизнь, потому что она (по
крайней мере в XX в.) недостаточно чиста и прекрасна, — в этом заключается ужас красоты и всего остального, что должно вызывать потрясение, а стало быть,
способствует прозрению и очищению. Художник переназывает мир, пытаясь хотя бы обозначить в нем главное: любовь-любовь-любовь, жизнь-жизнь-жизнь,
смерть-смерть-смерть и опять — любовь-любовь-
1 Книпович Е. Об Александре Блоке. — М., 1987. С. 40.
632
Весь музыкою полон до краев
любовь. Художника убивает не катарсис, а отсутствие
его, непостоянность наличия катарсиса в жизни. Поэт —
катарсисоман.
Катастрофичность развития поэта в конце XX века
очевидна. Образ катастрофы в поэтическом сознании Бориса оформлялся и углублялся — расширялся
на основе целого ряда антиномий абсолютно трагического характера: семья — мир; любовь (дружба) —
любовь (деспотия), в любви вообще отсутствует какая-
либо демократия; женщина-жизнь (мать, сестра, жена) —
женщина-смерть (это как сложный концепт смерти-
жизни—любви) и т. д. Добавим к этому следующее:
несмотря на аполитичноть, Борис понимал, что жизнь
в России если и не рушится (скорее — рушится!), то
меняется — катастрофически для большинства «бедных людей» — к худшему, к страшному, к непонятно
чему.
Долгие разговоры-беседы-откровения Бориса и Олега позволяют сегодня констатировать полисценарность
творческого поведения Б. Рыжего. По наблюдениям
О. Дозморова, отношение Бориса к миру складывалось
из его понимания трагического триединства «Рай» —
«Ад» — «Потерянный Рай»: «Рай» — это счастливое прошлое, детство, всеобщая взаимная любовь, мир прекрасный, противоречивый и родной; «Ад» — это настоящее, это любовь и страх за ближних своих, это сначала
игра в трагедию, в горькую комедию, романтизация неромантического: Борис напоминал Григория Александровича Печорина, пишущего стихи (а Лермонтов —
«тень» Пушкина), но в Борисе было много именно от
Пушкина — он был моцартовской породы; Борис был
в поэтологическом отношении явно переразвит (поэты
вообще страдают комплексом полноценности): в нем
633
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
был и Лермонтов, и Полежаев, и Фофанов, и Блок
и вся поэтическая разговорность XX века; образ романтического героя у Бориса персонифицировался
до такой степени, что стал идентичен творцу: в этом
заключается счастье — несчастье любого поэта; «Потерянный рай» — это будущее: смерть, воскрешение и
возвращение в Детство, назад (или вперед? по кругу?)
в «Рай».
Стихи Бориса — метасюжетны. Метасюжет проявляется в абсолютно гармоничном, музыкально-вербальном
единстве трех состояний — миров, освоение которых и
есть постижение ужаса красоты. В стихах (а таких текстов предостаточно) Борис — талантлив, в жизни — одарен умением быть счастливым и несчастным.
В Борисе, по словам Олега, кроме поэта, существовали минимум два человека (именно наличие их, должно быть, позволяли поэту жить): один был в маске, когда
общался (имитировал, играл такое приятельство — товарищество — жизнь) с ребятами из Вторчермета, из
Горного (с Вадимом Курочкиным, Сашей Макаровым
и с др., они — хорошие люди, но они отвлекали, они
оставались в прошлом, куда возвращаться не хотелось —
обычное дело; другой был игрок, «лермонтовский фаталист», манипулятор, обаятельный озорник и т. п. Бориса тянуло к успеху, он хотел признания, славы, но
«кодекс чести Б. Б. Р.» мешал ему достигнуть «социального» благополучия в литературе.
Борис, конечно, был до конца честен только с самим собой:
Дай нищему на опохмелку денег.
Ты сам-то кто? Бродяга и бездельник,
дурак, игрок.
634
Весь музыкою полон до краев
Не первой молодости нравящийся дамам,
давно небритый человек со шрамом,
сопляк, сынок.
Дай просто так и не проси молиться
за душу грешную; когда начнет креститься,
останови.
...От одиночества, от злости, от обиды
на самого, с которым будем квиты, —
не из любви.
<2001>
Борис — в литературном отношении был более успешен в Петербурге, нежели в родном городе. Он не хотел
успеха в Екатеринбурге: был знаком со многими (Г. Дро-
биз, В. Блинов, А. Титов, А. Верников и др.), но старался
ни с кем не сближаться. Почему? Наверное, потому, что
признавал возможность наличия социально-литературной
карьеры у поэта, но в провинции любой литературный
пейзаж — игрушечен, самоделен, самодеятелен.
Борис понимал, что карьера литератора и судьба
поэта — вещи разные и часто не совсем взаимообусловленные, но наличие одного не отрицает существования другого: Борис, может быть, строил свой «путь
в литературу» по отцовскому образцу «пути в науку».
Так или иначе, успех Бориса в метрополиях раздражал
многих местных, так сказать, мэтров. Борис знал себе
цену и, тем не менее, постоянно искал подтверждения
ей: Олег вспоминает, как они, гуляя, встретились с бывшим классным руководителем старшеклассника Рыжего и Борис представил ему Олега:
— Олег Дозморов — первый поэт Екатеринбурга...
После меня.
635
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
Борис, после московского успеха и в период начинающего крепнуть признания, помогал всем, чьи стихи
ему нравились: А. Верникову, Е. Тиновской, мне, грешному, — все мы с подачи Бориса публиковались Ольгой Ермолаевой, беззаветно любившей Бориса, в журнале «Знамя». Борис помогал многим, но не Олегу.
Почему? Друзья — соперники? Может быть, Борис дружески ревновал Олега? Может быть, что — скорее —
ближе к истине, он не хотел мешать естественному ходу
событий, составляющих жизнь и судьбу друга? Олег
вспоминает, как Борис подбадривал его в трудные времена, когда «не пишется»: «Пиши, пиши! Техника садится...» Думаю — все дело в том, что Олег — поэт,
а Борис — и поэт, и литератор (как Пушкин и Бродский). Борис Рыжий умел реализовываться одновременно по двум сценариям: внутреннему — поэтическому
и внешнему — литературному.
В 1997 году Борис «завоевывает» Санкт-Петербург,
куда он стал наведываться по нескольку раз в год и где
он, благодаря А. Леонтьеву, знакомится с такими поэтами, как Александр Кушнер, Алексей Пурин и др.
В 1998 году появляется большая подборка (18 стихотворений) в альманахе «Urbi», и Бориса теперь узнает вся
литературная Россия. Духовное и поэтическое развитие Бориса Рыжего качественно совпадает с поэтосфе-
рой Петербурга — провинциальной столицы страны,
города Пушкина и Бродского, которых Борис постоянно «держал в уме».
Поэтика — это языковая генетика. Поэтический дискурс Бориса разнообразен, но устойчив и индивидуален
за счет постоянно осуществляемого синтеза несовместимых «стилистик» XIX и XX веков, разговорности и музыкальности, приблатненного нарратива и музыки, узкой
636
Весь музыкою полон до краев
топонимии и космоса в виде голубых его окраин — небес.
Поэтический талант — это не только наличие меры, вкуса и чувства объема, — это еще и способность чужое (но
генетически — сродное) сделать своим. Родной-чужой для
Бориса поэтический XIX век был все-таки роднее абсолютно родного XX века: Борис — в процессе вспоминания — познания «чужих» поэтических дискурсов — обладал умением и умел делать все не-свое — своим. Федор
Сологуб как-то заметил: «Будет время, когда придет настоящий разбойник в литературу: Он смело и открыто
ограбит всех, и это будет великий русский поэт» («Ленинград», 1925, № 27). Любой поэт, по определению, разбойник. Не литературный, а поэтологический, дискурсивный присваиватель чужого. Борис в этом смысле, безусловно, не был исключением: ведь язык-то на всех один,
и поэт у языка — один, и русская языковая (лексическая)
силлабика одна, и русское ударение — подвижное и разноместное — одно, и свободный синтаксис — один. Все
дело здесь не в присвоении, в приобщении, в единении —
как раз в том, что удавалось Борису Рыжему блестяще.
По словам Олега Дозморова, Борис часто изменял
даты написания того или иного стихотворения — в основном указывая более ранние сроки написания текста: поэт как бы продлевал, вытягивал свою жизнь
в прошлое, зная, что, чем больше было, тем больше
остается, или — количество прошлого в поэзии, в культуре вообще, обеспечивает соответствующее ему количество будущего.
В начале 1998 года Борис и Олег съездили в Пермь,
где познакомились с Григорием Данским и где Борис
впервые ощутил себя поэтом, состоявшимся во многих отношениях — и в литературном, и в социальном,
и в собственно культурном.
637
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
Сохранилась видеозапись чтения Борисом Рыжим
своих стихов со сцены: поэт абсолютно иронически,
в сопровождении смеха слушателей, сам посмеиваясь и
усмехаясь, в свободно-разговорной манере произносит
то, что должно быть музыкой, как бы отстраняясь от
реального текста, от настоящего его звучания, от трагического оригинала, от ужаса открытия — прозрения —
говорения.
Так же он читал и построенное на «пермском» материале стихотворение «Путешествие»:
...Там были девочки: Маруся, Роза, Рая.
Им тридцать с гаком, все филологи оне.
И черная река от края и до края
на фоне голубом в распахнутом окне.
Читали наизусть Виталия Кальпиди.
И Дозморов Олег мне говорил: «Борис,
тут водка и икра,
Кальпиди так Кальпиди.
Увы, порочный вкус.
Смотри, не матерись».
Да я не матерюсь. Белеют пароходы
на фоне голубом в распахнутом окне.
Олег, я ошалел от водки и свободы,
и истина твоя уже открылась мне.
За тридцать, ну и что.
Кальпиди так Кальпиди.
Отменно жить: икра и водка.
Только нет,
не дай тебе Господь загнуться
в сей квартире,
где чтут подобный слог
и всем за тридцать лет.
638
Весь музыкою полон до краев
Под утро я проснусь
и сквозь рванье тумана,
тоску и тошноту, увижу за окном:
изрядная река, ее названье — Кама.
Белеет пароход на фоне голубом.
{1998)
Олег до самой гибели Бориса оставался самым близким его другом. Собеседником.
В 1997 году Б. Рыжий окончил УГГГА (год пришлось провести в академическом отпуске) и поступает
в очную аспирантуру Института геофизики, из которой
выпускается в 2000 году. Весной 2001 года Владимир
Блинов, писатель, председатель правления Екатеринбургского отделения СП России, поинтересовался
у Бориса, как обстоят дела с его диссертацией, на что
поэт ответил — вполне серьезно — все в порядке, работа движется к завершению. Всего у Бориса 18 научных
работ. Последняя работа опубликована (в соавторстве
с отцом) в «Докладах Академии наук» за 2002 год (т. 385,
№ 5. С. 685—687). По словам Маргариты Михайловны, Борис несколько раз порывался уйти из Горного,
чтобы поступать в Московский Литературный институт (писательница Ольга Славникова обещала как-то
помочь, но, видимо, не получилось). Борис подумывал
уехать из Екатеринбурга, что, видимо, было невозможно: его приглашал в США поэт Владимир Гандельсман
(не поехал — не было денег, да и желания), звал в Прагу Игорь Кобрин. Екатеринбург держал — семьей, родителями, землей...
Весной 1999 года главный редактор журнала «Урал»
В. П. Лукьянин пригласил О. Дозморова работать в ред¬
639
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
коллегии (Олег стал руководить литературным клубом
«Лебядкинъ»), следом за ним в редакцию пришел и
Борис (в это время главным редактором стал драматург
Н. Коляда). Борис работал рецензентом на контрактной основе: 600 руб. (тогда ок. 20$) в месяц. По словам
Олега, Борис буквально жаждал литературной работы —
открытой, честной, оценочно-качественной и т. п. Однако в журнале «Урал» при номинальном, постоянно
отсутствующем, редакторе и реальном завпроизводством,
который руководил работой журнала, такая литераторская деятельность была затруднена. Борис вынужден был
уйти из журнала «Урал» в июне 2000 года (Олег уволился в апреле) из-за отвергнутой Н. Колядой подборки
стихотворений Владимира Уфлянда (в одном из названий было употреблено существительное «презерватив»,
которую Борис лично вытребовал у автора и сам подготовил ее к печати.
Борис, обладая умом и поэтическим талантом, был
вообще-то наивным человеком: он верил в поэзию и одновременно верил в необходимость литературной карьеры; он верил в возможность управляемой межличностной коммуникации и был абсолютно одинок.
Поэт всегда одинок, и если трагедия поэта — вещь
очевидная, то все дело — в степени такой неотвратимой и необъяснимой трагичности. Отец Б. Рыжего,
Борис Петрович, нашел в архиве сына около тридцати
стихотворений, объединенных мотивом одиночества.
Поэт одинок антропологически и бытийно, потому что
душа может работать только так, только в таком, невыносимом для ее носителя состоянии и режиме.
Мечта поэта — быть любимым всеми — осуществляется сразу после его жизни. Борис знал, как относятся
к провинциалам в столицах, он понимал, что — как это
640
Весь музыкою полон до краев
ни цинично звучит — в метрополиях любят экзотику,
и в этом плане стихи Б. Рыжего могли — прежде всего
тононимической «внешностью» своей («Вторчер-
мет», «Кытлым», «Уфалей», «Свердловск», «ул. Титова»
и т. п.) — быть замечены, отмечены и даже приняты
петербургскими и московскими поэтами. Почти «есенинское» вхождение Бориса и его поэзии в Москву—
Петербург отмечает в предисловии ко второй (посмертной) книге Б. Рыжего Сергей Гандлевский: «Сорвиголова, он видывал виды — отсюда в его стихах хулиганский
шик, люмпенская экзотика приблатненных окраин и
лихих пригородов, которые, вообще говоря, в долгу
перед Борисом Рыжим...»1. Но и Борис оставался в долгу
перед провинцией, где, оказывается — для столичного
недалекого взора, — тоже живут люди. Наличие жизни,
по С. Гандлевскому, так далеко от Москвы подтверждается прежде всего стихами провинциального, но искушенного поэта: «Ведь все эти губернские, областные
и районные центры для большинства из нас (москвичей? — Ю. К.) так и останутся ничего ни уму, ни сердцу
не говорящими административно-территориальными
единицами, пока не найдется талантливый человек, который привяжется к какой-нибудь дыре и замолвит за
нее слово. Тогда на культурной карте появляется новая
местность, напоминая нам, что всюду жизнь»1 2.
Борис был знаком с С. Гандлевским, и с Е. Рейном,
к которому в апреле 1997 года, по звонку А. Леонтьева,
он и О. Дозморов зашли в гости. Евгений Борисович
был, к сожалению, занят с автором, и молодые люди,
потоптавшись в прихожей и уронив чей-то (может быть,
1 «На холодном ветру...». — СПб, 2001. С. 6.
2 Там же.
22 Опраидание жизни
641
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
хозяйский) зонтик с вешалки, вручили мэтру рукописи своих стихов, а Олег протянул Евгению Борисовичу его книгу «Сапожок» с просьбой подписать. У Бориса с собой такой книжки не было, поэтому хозяин
подписал Олегов экземпляр сразу двоим: «Олегу Доз-
морову и Борису Рыжему с приветом. Рейн». Борис
очень жалел, что не прихватил «Сапожок» к Рейну (то
ли не купил еще, то ли не носил ее с собой), поэтому
книгу с «двойным» автографом друзья решили считать
общей.
«Есенничал» ли Борис в Москве и Петербурге? По
свидетельству Олега, — да, но не со всеми. В мае
2000 года Борис и Олег заехали из Нижнего Новгорода
в Питер и навестили Александра Семеновича Кушне-
ра, от которого, уже ночью, двинулись «в гости» к Михаилу Окуню. До утра проговорили на кухне. Олег сидел на старом табурете и, раскачиваясь, сломал его,
причем этот предмет мебели развалился, рассыпался,
как старый деревянный скелет. Хозяин был страшно
расстроен: оказывается на этом табурете как-то давным-
давно сидел В. Высоцкий. Табурет, так сказать, Владимира Высоцкого не выдержал давления поэзии с Урала.
Смущенный Олег собрал и склеил раритетную мебель,
а Борис наверняка думал о том, кто сломает стул, на
котором сидит он, будет ли этот незнакомец смущен
и расстроен так же, как Олег и Михаил Окунь, спасающие табурет Высоцкого...
Двухсотлетний юбилей А. С. Пушкина Борис вместе с Олегом отмечали в Санкт-Петербурге. Именно
здесь, в Северной Пальмире, Борис познакомился с издателем Г. Ф. Комаровым, который сам подошел к Борису и предложил издать книгу стихотворений в «Пушкинском фонде». Борис, по словам Олега, на этот раз
642
Весь музыкою полон до краев
вел себя в компании Е. Рейна, А. Пурина, С. Гандлевского, А. Леонтьева и другими как равный среди равных.
На рубеже 1999—2000 годов Борис Рыжий не просто попадает в некий список поэтических имен, он
начинает ощущать себя частью и поэтической парадигмы конца XX века, и общей русской поэтосферы:
призвание, дар, талант соединились с внутренней реализованностью и внешним признанием — состояние
крайне сложное, вполне ожидаемое, новое, вызывающее удовлетворение и одновременно — раздражение
на себя — того, еще «немосковского» и «неинтересного», — состояние конца и начала, потому что твоя судьба — иная, но — какая? Борис догадывался, почти
знал — какая:
Александр Семенович Кушнер читает стихи,
снимает очки, закуривает сигару.
Александр Блок стоит у реки.
Заболоцкий запрыгивает на нары.
Анненского встречает Царскосельский вокзал.
Пушкин готовится к дуэли.
Мандельштама за Урал
увозит поезд, в окне — снежные ели.
Слуцкий выступает против Пастернака, Пастернак
готов простить его, а тот болен.
Баратынский пьет, по горло войдя во мрак.
Бродский выступает в роли
мученика. Александр Семенович смотрит в
окно — единственный солдат разбитого войска, —
отвечая жизнью за тех, в чьей смерти вы
виноваты.
(октябрь, 1997)
643
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
В декабре 1998 года Борис посылает подборку своих
стихотворений в журнал «Знамя» и через некоторое
время получает телеграмму от Ольги Юрьевны Ермолаевой, сообщавшей, что стихи приняты к публикации.
Стихи вышли в № 4 за 1999 год и были затем отмечены
поощрительной премией «Антибукера» в номинации
«Незнакомка».
Именно Ольга Ермолаева открыла поэзию Бориса
Рыжего не только Москве и всей читающей России, но
прежде всего — как это ни странно звучит — Екатеринбургу, где Борис стал литературной знаменитостью (его
даже уговорили вступить в Союз российских писателей,
к чему, впрочем, Борис относился крайне иронически).
Ольга Юрьевна относилась к Борису с нежностью: весной 2001 года я, наконец, оказался в Москве и зашел
в редакцию «Знамени», на стене редакционной комнатки Ольги Ермолаевой среди прочих увидел фотографию
Бориса — красивого, в чем-то нараспашку, улыбающегося, измученного и усталого. В узком коридорчике, где
мы с ней перекуривали, она как-то утвердительно-нежно и, как показалось, тревожно спросила: а правда,
Борис Борисович совсем как молодой Лермонтов?..
Публикация стихов Бориса в журнале «Знамя» начала новый, «зрелый», этап жизни и судьбы поэта Б. Рыжего.
После смерти Бориса Ольга Ермолаева, Борис Петрович Рыжий и Ирина Князева, находясь в постоянном контакте, продолжают готовить к печати и публиковать его замечательные стихи.
Поэзия — это реализация абсолютной языковой свободы и, следовательно, свободы слова (поэзия Бориса
Рыжего как раз такова, и его узкохронотопные стихи —
644
Весь музыкою полон до краев
убедительная и очень плодотворная попытка управления степенью свободы языка и слова). Однако такая языковая свобода и свобода слова оборачивалась, как правило, несвободой поэта. Если среднестатистический носитель языка — «владеет» языком, то поэт, несомненно,
находится в полной не просто зависимости, но и собственности языка. Языка прежде всего как памяти, потенциала и выразителя культуры. Поэзия — одновременно и больше, и меньше языка: поэзия — это, видимо,
как любовь — по Чехову, — «остаток чего-то вырождающегося, бывшего когда-то громадным, или же это часть
того, что в будущем разовьется в нечто громадное»1.
Поэтому художник, в отличие от нехудожника, подсознательное делает сознательным, а иногда — наоборот.
Борис умел делать и то, и другое. Именно это качество
поэта остается загадкой для непоэтов. Писатель Владимир Блинов, говоря об уникальности Бориса-поэта, рассказал мне о нескольких своих встречах с Рыжим.
В 1991 году он присутствовал на заседании литературного клуба «Горный родник», которым руководил
Ю. Лобанцев. В тот день все присутствующие читали
стихи «по кругу», по очереди, друг за другом (в этом
занятии есть что-то неприятное, это почти насилие —
тем более, неопытные, юные «чтецы», как правило, не
слушают других, т. к. постоянно пытаются вспомнить —
повторить «в уме» свое, предназначенное для чтения, стихотворение). Среди прочих читал свои стихи и покойный Альфред Гольд, который говорил также и об особенностях поэзии шестидесятников, а двадцатилетний Борис подавал реплики, иронизировал. Подошла
очередь выступать — и Борис вышел — он был очень
1 Чехов А. П. Записные книжки. С. 58.
645
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
бледен, — говорит, что сейчас прочтет стихи, что очень
волнуется: — Видите, какой я бледный! — И вдруг начинает бледнеть еще больше — почти до синевы! —
И в этом было что-то почти магическое и дерзкое одновременно. Он читал тогда стихи о Фете: и было видно, что
в Екатеринбурге появился не просто новый и свежий талант, а талант невероятно сложный, подлинный и крупный.
Владимир Блинов уточняет, что именно Борис Рыжий стал первым стипендиатом губернатора Свердловской области.
По словам В. Блинова, Борис очень уважал и ценил
Юрия Лобанцева, который, несмотря на свои жесткие
концептуальные установки, был тонким ценителем поэзии и признавал другую — неконцептуальную (неточное определение, скорее — свободную от явной социальности) поэзию. В. Блинов уточняет: критик Л. Быков в статье «Лица не пряча, сердце не тая» (к годовщине
ухода Бориса Рыжего) утверждает: «Рыжий пишет не
о себе — он себя пишет...», — однако это не совсем так,
потому что поэзия Б. Рыжего и биографична, и духо-
графична, т. е. две музыки сливаются в одну...1
Вторая встреча В. Блинова с Борисом произошла
летом 1997 года, когда в Екатеринбург приехал Евгений Евтушенко. Юрий Лобанцев, тогда уже очень больной, на день-два покинул больницу для того, чтобы повидаться с Евтушенко. Из «Горного родника» он взял
с собой на эту встречу только Бориса Рыжего. Е. Евтушенко читал свои стихи в Уральском политехническом
институте (ныне УГТУ-УПИ), после чего человек 10
вместе с гостем устроились в клубе УПИ, где ели-пили
и стихи читали. Борис прочитал 3—4 стихотворения —
1 Чаша круговая. — Екатеринбург, 2002. С. 179.
646
Весь музыкою полон до краев
Евтушенко слушал его очень внимательно. Потом, как
всегда это бывает, за столом шумели, смеялись, курили
(В. Блинов сидел рядом с московским поэтом, а Борис — прямо напротив, через стол). В клубе было жарко, душно, накурено. И вдруг Борис обратился к Евгению Александровичу:
— Евгений Александрович, Вы ведь знаете, что здесь,
за этим столом, только два поэта — Вы и я, а остальные — фигня... (следует заметить, что, по словам Олега
Дозморова, Борис долго колебался: идти на эту встречу
или не идти?) — Фраза прозвучала как вызов: в ней
были и самоуверенность, и самооценка, и бравада,
и дерзкая ирония... Когда уже прощались со знаменитым москвичом, Евтушенко спросил Бориса:
— Ты зачем такой псевдоним взял?
Борис ответил, что это его реальное имя и все такое...
На этом же вечере Борис рассказывал, как он съездил в Питер, где познакомился с А. Кушнером и где
обнаружил огромное количество педерастов. Видимо,
Борис, очень красивый, стройный, тонкий и артистичный, постоянно боялся, что его за такие внешние данные могут причислить к сексуальным меньшинствам
(эта тема не раз обсуждалась и с О. Дозморовым, и однажды со мной). В. Блинов говорит о том, каким мужественным и отчаянно, бесшабашно дерзким и смелым
мог быть Борис: когда возвращались из УПИ, в течение получаса Владимир буквально вытащил, вырвал Бориса из трех драк, инициатором которых был сам Борис. Отчаянная задиристость поэта, его неожиданные
для всех легкие и стремительные, «кавалерийские», наскоки на огромных мужиков — это, скорее всего, следствие внутреннего, психологического и эмоционального перенапряжения в сочетании с невероятно сложным
647
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
и трудным (невыносимым) состоянием, когда тебе не
пишется. 7 мая 1904 года А. Блок записывает в дневнике: «Господи! Без стихов давно! Чем это кончится? Как
черно в душе. Как измученно!»1
Только поэт знает, где у бездны — край. Борис знал.
Зимой 1999 года Олег Дозморов познакомил Бориса
с екатеринбургским поэтом Романом Тягуновым (Олег
привел Романа в дом родителей Бориса). Дружба с Романом была недолгой, около полутора лет: в ночь с 30
на 31 декабря 2000 года Роман погиб.
Это была странная дружба. Роман, как стихотворец,
увлекался поэтикой авангарда, вообще языковой игрой.
Его стихотворение «В библиотеке имени меня...», наверное, в Екатеринбурге знал каждый; единственная
книга Р. Тягунова «Стихи» (Екатеринбург, 2000) стала
посмертной — ее выпустили в свет друзья поэта Ю. Кру-
теева, Е. Касимов и Е. Ройзман. Роман был игрок, игрок
во всем — и в литературе, и в жизни, и в судьбе. В его
натуре было одинаково много и света и чего-то темного,
одновременно страшноватого и смешного. Роман был
чистый «авантюрист», но авантюрист-неудачник, мечтавший разбогатеть на изготовлении, например, стихотворной рекламы, на имиджмейкерстве и прочей ерунде,
с точки зрения поэта и, наверное, Бога. Так, Роман, про-
моутируя похоронно-мраморный бизнес своих друзей
(их у Романа было слишком много, хотя единственным
его другом, как мне кажется, был поэт, коллекционер,
историк и проч. Евгений Ройзман), он, вместе с поэтом
Дмитрием Рябоконем и присоединившимися к ним —
«по приколу!», «поприкалываться» — Олегом и Бори¬
1 Блок А. А. Записные книжки. — М., 2000. С. 28.
648
Весь музыкою полон до краев
сом, учреждает премию «Мрамор» за лучшее стихотворение «о вечности», жюри составили Роман, Борис, Олег
и Дима (так его зовет весь город) Рябоконь, которого
«воспел» Борис в шуточном прозострофическом стихотворении «Море»:
В кварталах дальних и печальных, что утром серы
и пусты, где выглядят смешно и жалко сирень и прочие цветы, есть дом шестнадцатиэтажный, у дома тополь или клен стоит ненужный и усталый, в пустое
небо устремлен; стоит под тополем скамейка, и, лбом
уткнувшийся в ладонь, на ней уснул и видит море писатель Дима Рябоконь.
Он развязал и выпил водки, он на хер из дому ушел,
он захотел уехать к морю, но до вокзала не дошел. Он
захотел уехать к морю, оно — страдания предел. Про-
матерился, проревелся и на скамейке захрапел.
Но море сине-голубое, оно само к нему пришло
и, утреннее и родное, заулыбалося светло. И Дима тоже
улыбнулся. И, хоть недвижимый лежал, худой, и лысый, и беззубый, он прямо к морю побежал.
Бежит и видит человека на золотом на берегу.
А это я никак до моря доехать тоже не могу —
уснул, качаясь на качели, вокруг какие-то кусты. В кварталах дальних и печальных, что утром серы и пусты.
Роман и Дима всерьез рассчитывали заработать на
этом конкурсе, суть которого заключалась в следующем: жюри рассматривает стихи конкурсантов — о вечности, то бишь о мраморе, победителю ставят памятник, естественно, из мрамора и, как это ни4 странно,
при жизни. Шутка не шутка, но было в ней что-то зловещее: поэт — мрамор — смерть — кладбище — мрамор
(кстати, двоих из членов жюри уже нет — такие дела)...
649
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
Конкурс широко рекламировали и представляли местные СМИ, особенно ныне покойная (уж не «мрамор»
ли подействовал?) газета «Вечерние ведомости» (одним
словом, мраморные Васюки). Поэтический конкурс
«Мрамор» оценивается сегодня О. Дозморовым как игра,
авантюра, заигрывание со смертью. Однако Борис и Олег
из жюри, видимо, наигравшись, выходят, и Роман, может быть, уже чуявший свой близкий конец, начинает
вполне приблатненно, а реально — смешно и беспомощно, «наезжать» на Олега. В конце концов Борис
назначает Роману встречу в полночь у Дворца спорта.
Встреча, почти, так сказать, дуэль, состоялась, но Роман — бежал (Борис уточнял: как заяц). Однако Борис,
склонный играть до конца, начинает (при поддержке
Олега) разыгрывать Диму Рябоконя, который как-то
позвонил Борису домой, и Ирина, наученная Борисом,
ответила ему, что Бори дома нет — он и Олег поехали
в «Мрамор» получать деньги. Бедный Дима не находил
себе места — обманули, обманули, обошли!
Роман Тягунов — фигура странная и по-своему загадочная. В конце своей жизни (лето—осень 2000 г.)
он перессорился буквально со всеми, в том числе и
с А. Верниковым, который был большим любителем
его стихов и который предсказал гибель Романа. Думаю, каждый из нас чувствовал тогда, что Роман —
уже над бездной. Борис это знал, видимо, раньше всех:
Я никогда не напишу
О том, как я люблю Россию...
Роман Тягунов
Как некий — скажем — гойевский урод
Красавице в любви признаться, рот
Закрыв рукой, не может, только пот
650
Весь музыкою полон до краев
Лоб леденит, до дрожи рук и ног
Я это чувство выразить не мог,
Ведь был тогда с тобою рядом Бог.
Теперь, припав к мертвеющей траве,
Ладонь прижав к лохматой голове,
О страшном нашем думаю родстве.
И говорю: люблю тебя, да-да,
До самых слез, и нет уже стыда,
Что некрасив, ведь ты идешь туда,
Где боль и мрак, где илистое дно,
Где взор с осадком, словно то вино...
Иль я иду, а впрочем — всё одно.
(1995, март)
Тогда Р. Тягунов уехал в Тюмень — имиджмейкер-
ствовать, где, говорят, наделал долгов. Поздней осенью
2000 года я встретился с ним — случайно — в университете: в его глазах уже не было той веселой, иногда злой,
но очень живой тоски — была просто тоска.
30 декабря 2000 года, за четыре месяца с неделей до
гибели Бориса, Роман Тягунов, находясь в чужом доме и
неизвестно с кем, падает с пятого этажа — то ли прыгает
в окно, то ли ему помогают это сделать... Смерть Ромы
Тягунова потрясла всех, похоронили его — в страшный
мороз — на Северном кладбище, за Уралмашем.
Борис тяжело переживал смерть Тягунова. Он плакал. Не находил себе места. Рассказывал Олегу, что
Роман ему снится — зовет его с собой:
Достаю из кармана упаковку дурмана,
из стакана пью дым за Романа,
за своего дружбана, за лимона-жигана
пью настойку из сна и тумана...
(1999)
651
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
У больших людей — большие добродетели и большие грехи. Поэт — это всегда крупная личность, противоречивая, но цельная, способная на совершенно
разные — ожидаемые и непредсказуемые, великодушные и злые — поступки. В личности и в характере Бориса Рыжего позитивного было больше, чем чего-либо
другого. Сегодня, когда личность Бориса обитает в двух
противоположных сферах — в поэзии и в памяти, —
начинаешь понимать, что горечь правоты поэта может
происходить как от его всеведения, так и от его произвола. Поэт, в силу своей огромной зависимости от языка, — произволен в своих поступках, а главное — в поисках музыки, кванты которой, частицы музыкального
вещества, как правило, находятся в самых неожиданных, страшноватых для обывателя, пограничных между
здравым смыслом и безумием — местах — в том пространстве, где стрекозы прошибают оконное стекло,
потому что в окнах — главное не квадрат, не форточка,
не проем, а, перефразируя Ивана Жданова, — крест.
Последние два—два с половиной года своей жизни
Борис жил и работал максимально продуктивно (1999—
2000 — весна 2001 гг.): его поэтическое выражение в это
время стало абсолютно искренним — до самосуда, — черта
поэзии пушкинской. Исповедальность такой лирики —
термин слабый, потому что в нескольких десятках прекрасных и страшных своей красотой стихотворениях не
поэт «исповедуется» перед близкими и перед собой,
а сам язык — перед музыкой:
Ты танцевала, нет, ты, танцевала, ты танцевала,
я точно помню — водки было мало, а неба много. Ну
да, ей-богу, это было лето. И до рассвета свет фонаря
был голубого цвета. Ты все забыла. Но это было.
652
Весь музыкою полон до краев
А еще ты пела. Листва шумела. Числа какого? Разве
в этом дело... Не в этом!
А дело вот в чем: я вру безбожно, и скулы сводит,
что в ложь, и только, влюбиться можно.
А жизнь проходит.
(2000)
Известность Бориса Рыжего в Екатеринбурге — огромна. Его имя становится почти синонимом понятий
«поэт» и «поэзия» — синонимом иногда абсолютным,
иногда контекстным, иногда — бытовым. 9 марта
2000 года Борис знакомится с писательницей Натальей
Смирновой (тогда еще доцентом филфака Уральского
университета; ныне живет в Москве). Н. Смирнова работала тогда с писательскими анкетами по заданию
С. Чупринина. В ответах Бориса была чудовищная ошибка (книга «И все такое...» вышла в свет еще до рождения автора). Созвонились. Борис пригласил Наталью
в гости. Встретились на Московской горке в доме Бориса Петровича и Маргариты Михайловны, где также
были Елена Тиновская и Олег Дозморов. Просидели до
5 утра, Борис, Олег и Елена читали свои стихи, потом
играли в поэтическую «угадайку», распознавая стихи
С. Есенина, А. Фета, И. Анненского, Е. Рейна, С. Гандлевского, Я. Полонского, К. Случевского, Ап. Григорьева и др. Борис читал много своих вещей и — с особым удовольствием стихотворение Сергея Гандлевского «про охотника»:
Найти охотника. Головоломка.
Вся хитрость в том, что ясень или вяз,
Ружье, ягдташ, тирольская шляпенка
Сплошную образовывает вязь...
653
ЮРИЙ КАЗАРИН /Поэт Борис Рыжий
С 2000 года, как я заметил, Борис любил только те
«чужие» стихи, в которых находил подтверждение своей муке — не сужение, а скорее — расширение тоски,
несчастья, какую-то новую сторону трагедии, которая
была все-таки общей — и для Лермонтова, и для Гандлевского, и для Рыжего, и для других...
Олег вспоминает, как смеялись и сочувствовали они
с Борисом одному стихотворению С. Гандлевского: «Пи-
дарасы», — сказал Хрущев./Был я смолоду не готов/
Осознать правоту Хрущева,/Но, дожив до своих годов,/
Убедился, честное слово.//Суета сует и обман,/Словом,
полный анжамбеман./Сунь два пальца в рот, сочинитель,/Чтоб остались только азы:/Мойдодыр, «жи—ши»
через «и»,/Потому что система — ниппель.//В пору взять
и лечь в лазарет,/Где врачует речь логопед./Вдруг она
и срастется в гипсе/Прибаутки, мол, дул в дуду/Хаби-
булин в х/б б/у/Все б/у. Хрущев не ошибся. Борис любил европейскую горечь иронии, к которой добавлялся
такой суховатый не по-славянски славянский надрыв,
вызывающий смех сквозь слезы.
Тогда же, в марте 2000-го, Борис впервые побывал
на кухне Евгения Касимова, в его «нехорошей квартире», где бывали-живали днями-неделями-месяцами
Александр Еременко, Алексей Парщиков, Слава Курицын, Виталий Кальпиди, Слава Дрожащих и многие-
многие поэты и художники Большого Урала, Москвы
и других городов — как раз все те, кого Борис считал
«не своими».
По словам друзей Бориса, он постоянно искал подтверждения своему таланту. Думаю, что — скорее — не
таланту, а мучительной составляющей его, его «компоненте» и «доминанте» — музыке, которую замечали только тогда, когда она вербализовалась и была заключена
654
Весь музыкою полон до краев
в коробочки строф, которые Борис как стихотворец мял
в кулаке, — его строфостроительство и прозострофические стихи — блестящи.
Н. Смирнова вспоминает, что чтение стихов ночь
напролет создало в ней такое ощущение, будто попала
она в другой век. Поэтическое дежавю — и никакого
компьютера...
Наталья замечает, что Борис — человек абсолютно
трагический, но в компании (где были только «свои»)
они постоянно смеялись, хохотали, «ржали» — так было
легко и весело: стихи, шутки, розыгрыши, разговоры
и главное — молодость Бориса.
Борис иногда бывал непредсказуемо горяч и даже
драчлив: прежняя картина мира (Вторчермет, улица,
шпана и все такое) неожиданно наплывала на картину
мира сущую, настоящую, и совсем посторонний человек, гуляющий, например, в центре города, из 2000-го
года мог усилием деромантизированной фантазии поэта очутиться в 80—90-х годах XX века, да еще и на
Вторнике, Уралмаше — Химмаше — ВИЗе. Н. Смирнова вспоминает, как Борис пристает к огромному мужику в тулупе, силы явно неравные — супертяжеловес и
средневесовик. Тем не менее, Борис все же одолевает,
«достает» этого богатыря — сидит на нем верхом, и все
это страшно смешно. Или — смешно и страшно.
Внутренняя перенапряженность Бориса разрешается в 1999—2000 годах одновременно обретением
подлинной языковой, музыкальной и, следовательно,
поэтической свободы и появлением в нем двух—трех
способов поведения: со своими он очень покладист,
мил, обаятелен, прост и почти нежен; с чужими он заносчив, грубоват и продолжает играть — виртуозно —
655
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
в свои тонкие и явные социальные игры; внутренний
и внешний сценарий поэта, поэтической жизни — работы — судьбы совпадают, или почти совпадают, но
сама жизнь — это нечто другое, третье, самое очевидное и понятное, «простое» — не поддается, не подчиняется тебе, ускользает вода-водой, не держится в пределах взгляда, рук, мыслей... Борис часто мрачнеет,
ему не сидится на одном месте, его что-то гонит — то
ли вперед, то ли назад (как у Александра Межирова —
«одиночество гонит меня от порога к порогу...»).
У Бориса был «нормальный», типичный для поэта
«комплекс полноценности», который выражается
в боязни утраты дара слова, или боязнь-чувство устаревания-бессилия этого дара, поэтому писатель всегда
напряжен в процессе накопления сил и энергии для
производства усилия обновления («усилье воскреше-
нья» — по Б. Пастернаку). Борис явно ждал появления нового качества музыки, голоса и, естественно,
поэтической судьбы.
Игорь Богданов, принимая Бориса у себя, после
обычного угощения и вообще застолья, узнав, что Борис — лауреат «Антибукера», просил его читать стихи
(— Читай, раз ты поэт!). Борис прочитал «Охотника»
С. Гандлевского. И вновь Игорь пытался учить Бориса
оставаться всегда и прежде всего человеком. Учил Бориса прежде чем что-то делать — сходить к жене, посмотреть на нее, взглянуть ей в глаза и — подумать.
Борис, как отмечают почти все, кто знал его достаточно хорошо, был не по возрасту умудренным временем человеком, поэтому он, видимо, и стремился общаться с людьми, которые были гораздо старше его —
с Кейсом Верхейлом, Евгением Рейном, Сергеем Гандлевским и другими.
656
Весь музыкою полон до краев
Звонил Борис мне, говорил примерно одно и то же:
«Старик, Юра, у тебя есть такое стихотворение, стишок такой... Вот — слушай». И начинал читать:
Я понимал, когда на мушку
меня, стреноженного, брали
и алюминиевую кружку
срывал с цепочки на вокзале.
Кончалась водка, поезд вышел,
солдат по тамбурам качая.
Я даже выстрела не слышал
за колокольчиками чая.
Как после сечи, лес валился
в лицо от скорости — навстречу.
А мой вагон остановился —
и семафор плеснул на плечи.
Когда ты мертв, ты больше значишь
в глухой российской тишине,
где наяву ты горько плачешь
и улыбаешься во сне.
Стихи посвящены памяти прозаика Юрия Казакова (у которого есть очень печальный рассказ «Во сне
ты горько плакал»). В оригинале, в первой строке, должно быть так: Я чувствовал, когда на мушку / меня,
стреноженного, брали... Однако Борис (а читал он мне
этот «стишок» с десяток раз) всегда аффектированно
произносил именно «понимал» — Я// понимал // когда
на мушку... Он явно выделял два слова — «Я» и «понимал». Сегодня, задним, так сказать, числом, становится
657
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
достаточно ясной такая лексическая замена: Борис
уже понял то, о чем мы, к ужасу своему, скоро все
узнаем...
Одно из последних публичных появлений Бориса
произошло на «Курицынских чтениях» (Слава Курицын чуть ли не ежегодно приезжает в феврале в Екатеринбург и почти «по приколу», но вполне серьезно присутствует на научно-практической конференции, устраиваемой в честь себя самого) в феврале 2001 года.
Борис прекрасно осознавал «идиотизм сельской жизни»
екатеринбургского литературно-научного кружка и ежегодного собора. Вел он себя вызывающе и крайне раздраженно. Ему, по словам очевидцев, очень хотелось
побить постмодерниста (а кому, скажите, не хочется?!).
Вечером с Василием Чепелевым сидели у Смирновой. Лицо у Бориса было измученное — он говорил сам
с собой: у меня умер друг, и я влюблен — я только так
могу писать стихи... Вообще, хочу написать книгу, как
у Джойса, чтобы там было море, чайки и никаких лифчиков...
Затем вывел Курицына в коридор — и ушел спать.
А утром они на такси (еще до начала второго дня Чтений) съездят с Курицыным на могилу к этому умершему другу. Карусель судорожной, спазматически взрывчатой активности начинала вращаться так же неожиданно, как и останавливалась. Маятник изменчивого
состояния и настроения — пишется / не пишется, бежать / не бежать, думать / не думать, любить / не любить, наконец — жить / не жить — работал почти постоянно, как метроном. Музыка была всегда, но иногда
она становилась очень тихой, а порой оглушала —
и Бориса, и всех, кто любил его. Музыка пропадала,
а метроном стучал: маятник раскачивался так, что стекло
658
Весь музыкою полон до краев
в окне потрескивало по ночам, когда не спится, когда
сна — ни в одном глазу, когда вещество поэзии не удерживает в себе слова, потому что, видимо, дописался уже
до Бог знает чего, может быть, до музыки дописался.
Дальше для записи ее графика бессильна, и ноты неспособны фиксировать небывалую гонку частиц музыки — музыки языка:
В Свердловске живущий,
но русскоязычный поэт,
четвертый день пьющий,
сидит и глядит на рассвет.
Промышленной зоны
красивый и первый певец
сидит на газоне,
традиции новой отец.
Он курит неспешно,
он не говорит ничего
(прижались к коленям его
печально и нежно
козленок с барашком),
и слёз его очи полны.
Венок из ромашек,
спортивные, в общем, штаны,
кроссовки и майка —
короче, одет без затей,
чтоб было не жалко
отдать эти вещи в музей.
Следит за погрузкой
песка на раздолбанный ЗИЛ —
приемный, но любящий сын
поэзии русской.
(2000)
659
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
После окончания аспирантуры (2000 г.) Борис остается работать в качестве младшего научного сотрудника
в Лаборатории региональной геофизики. Работал он очень
своеобразно: Борис отлично владел компьютером и обычно выполнял самую срочную, «горящую» работу.
Тема его кандидатской диссертации был связана
с глобальной проблематикой сейсмичности России,
в частности — с проблемой внутриплатной сейсмичности (жаль, что Борис не успел познакомиться ближе
в поэтом Майей Никулиной, увлекшейся и серьезно занимающейся мифологией, историей и философией камня, горы, пещеры, мастера и сказителя: Урал, надо понимать, не только «опорный край державы», но и хранитель-демонстратор овеществленного камнем времени,
творчества природы, переходящего в творчество человека, и мысли — общей для земли, воды, воздуха, мастера
и поэта). Борису нравилось заниматься наукой: по свидетельству Бориса Петровича, он был прирожденным
ученым-геологом, а Олег Дозморов добавляет, что и
к людям, и ко всему на свете он относился как геолог,
понимая и ощущая не только многослойное устройство
личности, но и чувствуя все возможные и происходящие
в ней «тектонические» изменения и «внутриплитную»
динамику.
Борису было крайне тяжело тянуть — не воз, а целый обоз обязанностей и забот: семья, стихи, наука, работа, — и это все внешнее, меньшее по объему в сопоставлении с тем, что происходило внутри, двигалось, наталкивалось само на себя — целые поезда, составы
мчались, ползли, обрывались, громыхали и летели беззвучно Бог знает куда. Усталость от всего — от внешнего
и внутреннего, — глобальное переутомление не позволяли уже ни расслабиться (водка в такой ситуации
660
Весь музыкою полон до краев
кажется не крепче воды), ни встряхнуться, ни вырваться
из эмоционального оцепенения, изредка переходящего
в череду языковых и иных взрывов. В такие минуты
жизнестроительство невольно и закономерно превращается (незаметно для тебя) в смертестроительство.
Романтика юношеского жизнестроительства оказалась, как принято говорить сегодня, «судьбоносной»,
а, говоря старым русским языком, — роковой:
Я на крыше паровоза ехал в город Уфалей
и обеими руками обнимал моих друзей —
Водяного с Черепахой, щуря детские глаза.
Над ушами и носами пролетали небеса.
Можно лечь на синий воздух и почти что полететь,
на бескрайние просторы влажным взором посмотреть:
лес налево, луг направо, лесовозы, трактора.
Вот бродяги-работяги поправляются с утра.
Вот с корзинами маячат бабки, дети — грибники.
Моют хмурые ребята мотоциклы у реки.
Можно лечь на теплый ветер и подумать-полежать:
может, правда, нам отсюда никуда не уезжать?
А иначе даром, что ли, желторотый дуралей —
я на крыше паровоза ехал в город Уфалей!
И на каждом на вагоне, волей вольною пьяна,
«Приму» ехала курила вся свердловская шпана.
(1999)
Дошел ли поезд до заштатного уральского Уфалея,
проезжая, кстати, мимо тех мест с чудесными именами
Горный Щит, Мокрая Будка. Соседи-Шабры, где прятался мой дед-дворянин от украинских потрошителей-
болыиевиков и без удивления поглядывал на внука-заику, который — обычное в нашем роду дело — говорил
661
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
без запинки стихами?.. Поезд ушел — это точно. А Бориса — снесло, вынесло, вознесло не встречным напором дымного воздуха, а притяжением неба: положило —
и выпрямило, и вложило в такую музыку, какой здесь
отродясь не слыхивали.
Радость от вина (оно на радость нам дано!) в России
иссякла в 1917 году. После 17-го года вино для русского человека стало основным материалом возведения своего, не государственного, а нового и, естественно, коллективного (раньше на троих, а сегодня — на стол, на
стойку в баре и т. п.) времени — пространства, параллельного, переходящего в альтернативный, — хронотопа. Вино в России, соединяя физический и метафизический миры, обладает странной, интерфизической природой и силой. Как, собственно, и смерть, которая
синтезирует мир этот с миром тем, загробным, мифическим, Дантовым, фольклорным, таким древним, когда еще существовали живая вода и мертвая, и смерть
была ручной, а бытие и небытие — смежными, как комнаты, как сознание спящего или пьяного человека. Читаю дневники Александра Блока, самого музыкального
нашего поэта, любимого Борисом Рыжим: «1908 год,
18 июля. Пью в Озерках. Сегодня написал Любе письмо. День был мучительный и жаркий — напиваюсь. «Хозяйка дома моего». Адом перестроен. Вытравлено ужасное нынешней зимы. Не знаю, не знаю... Сегодня тихо...
22 июля. Жалуется (так в дневнике. — Ю. К.) на то,
что провинциальные читатели не знают имен. И слава
Богу! Имен слишком много. Ведь в «народном» театре
не знают имен Островского и Мольера, — а волнуются.
И маляру, который пел мои стихи, не было дела до
меня. Адтора «Коробейников» не знают, «Солнце выходит <и заходит>» — мало.
662
Весь музыкою полон до краев
27 июля. ...я встречаю
Твои глаза
Что можно Бога позабыть
в лицо врагу
И ненавидеть
я знаю.
Напиваюсь под граммофон в пивной на Гороховой.
31 июля. Трезвый. Кончается этот поганый месяц,
полный тьмы. Дай Бог, чтобы новый наступил.
На велосипеде почти научился.
2 августа. Ресторан — напиваюсь.
6 августа. Пью на углу Большого и 1-й линии. Был
и гулял с Городецким.
12 сентября. ... Искать людей. Написать доклад
о единственном возможном преодолении одиночества —
приобщение к народной душе и занятие общественной
деятельностью. Только чувствуя себя гражданином, —
и т. д...»1.
Блоку в 1908 году — 28 лет, чуть больше, чем Борису Рыжему, у которого не было ни театра, ни Шахматова, ни легкой, игрушечной свободы символизма, ни доброй, вольной воли «демократического» реализма, ни
государства; ни революции, ни интеллигенции, которая бы молилась на него, как на Блока. Правда, у Александра Блока и Бориса Рыжего была музыка.
Блоковское стихотворение 1908 года (26 октября)
«Я пригвожден к трактирной стойке...» — чудесное, сладкое и горькое на вкус (мне, старому алкоголику, это
1 Блок А. А. Записные книжки. — М., 2000. С. 40—41.
663
ЮРИЙ КАЗАРИН /Поэт Борис Рыжий
очень знакомо) стихотворение, в котором полупьяный
лепет и бормотание («я пьян давно. Мне все — равно»)
сменяется прямой и четкой, сильной речью трезвеющего автодидакта («потонуло в снегу времен, в дали
веков»), вновь перекрываемой влажным шлепаньем
губ — не мандельштамовским шевелением, а шелушением, пузырями лопающимися и уже пахнущими землей («пьяным-пьяна... пьяным-пьяна...»). Блок любуется собой, своим состоянием, своей зимой, своей тройкой, влетающей — с бубенцами, дугой и подковами —
прямо в мозг; он гордится своим падением, рисуется —
вон он какой я, молодец, совсем не жалею себя, — Блок
поддерживает сам себя — и пьяного, и одинокого, желающего и изучающего улицы (до самых «Скифов» и
«Двенадцати»), мужиков, уходящего от прежнего себя
к «Пляскам смерти» 1912-го года с ночью, улицей, фонарем и аптекой («Около каждого дома есть аптека», —
будет сказано Блоком Василию Гиппиусу в октябре
1912 г.). Борис Рыжий пишет в 2000-м году, казалось
бы, о том же:
Зелёный змий мне преградил дорогу
к таким непоборимым высотам,
что я твержу порою: слава богу,
что я не там.
Он рек мне, змий, на солнце очи щуря:
вот ты поэт, а я зеленый змей,
закуривай, присядь со мною, керя,
водяру пей;
там наверху вертлявые драконы
пускают дым, беснуются — скоты,
иди в свои промышленные зоны,
давай на «ты».
664
Весь музыкою полон до краев
Ступай, он рек, вали и жги глаголом
сердца людей, простых Марусь и Вась,
раз в месяц наливаясь алкоголем,
неделю квась.
Так он сказал, и вот я здесь, ребята,
в дурацком парке радуюсь цветам
и девушкам, а им того и надо,
что я не там. —
да не о том. Борис анализирует, используя самый жестокий и точный метод разделения и синтеза — автоиронию. Серьезность «пьяного» Блока по большому счету — игра, такая серьезная игра порядочного человека,
вдруг осознавшего, что в поэзии, в душе, вообще в России порядочность и трезвость — вещи ненужные, избыточные. Борис же, играя, говорит абсолютно серьезно — и о своем вине и о своей вине, которую в XIX веке
прозывали поэтическим призванием. Борис, сочиняя
пародийного «Пророка», создал образ новый; если пушкинский «Пророк» состоит из трех текстов, в каждом
из которых фиксируется состояние человека, втянутого
Богом и языком в мучительную, мученическую иерархию: человек —> поэт —> гений, — то Б. Рыжий объединяет три состояния пророка в одно противоречивое целое, в один образ, и пророк Бориса — это и поэт,
и гений. И — что очень важно — человек. Кого и чего
в таком человеке-поэте-пророке больше — Борис проясняет (и для себя в первую очередь)в одном из лучших
своих стихотворений:
Прошел запой, а мир не изменился.
Пришла музыка, кончились слова.
Один мотив с другим мотивом слился.
(Весьма амбициозная строфа).
665
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
...а может быть, совсем не надо слов
для вот таких — каких таких? — ослов...
Под сине-голубыми облаками
стою и тупо развожу руками,
весь музыкою полон до краев.
Земля — не отпускает, не позволяет человеку стать
пророком, разрешив побыть поэтом. Но человек-поэт
совершает невероятное: в шарообразном чудовищно
мощном месиве двух притяжений — земли и неба —■
заработало притяжение третье, притяжение поэта-че-
ловека, наполнившее Бориса и музыкой земли, и музыкой небес. Такое состояние, скорее всего, несовместимо с жизнью поэта, остающегося человеком, бывающего пророком и... И все такое...
Борис — это пророк виноватый и повинный, пророк, решивший оставаться и поэтом, и человеком.
В июне 2000 года Борис едет в Голландию на Всемирный фестиваль поэзии (Poetry International Festival
2000 (Vertaalproject Jules Deelder)). Участие Бориса в этом
фестивале связано с его друзьями, во-первых, с Александром Леонтьевым, который был участником Всемирного фестиваля-1999 и который по праву прежнего номинанта называет имя преемника — Б. Рыжего; во-вторых, в Голландии живет будущий друг Бориса, писатель
и литературовед Кейс Верхейл, которого на фестивале
не будет и который в сентябре 2000 года приедет в Екатеринбург специально для того, чтобы познакомиться
с Борисом Рыжим. Осенью (октябрь) 2002 года Кейс
рассказал присутствовавшим на первых Литературных
Чтениях памяти Бориса Рыжего об этом посещении Екатеринбурга: он приехал в город, где не знал никого
666
Весь музыкою полон до краев
(чужая страна, Урал, почти Сибирь, а по понятиям иностранцев — самая что ни есть Сибирь, глубинка, полюс
холода и невежества, дикости и т. п., чужой город —
полуприоткрытый, но уже не совсем военно-закрытый),
узнал телефон Рыжих и встретился с Борисом в его родительском доме, был радушно принят Борисом Петровичем и Маргаритой Михайловной, а Борис позвал
на эту встречу-знакомство Дозморова. Кейс, который
в свое время дружил с Иосифом Бродским, признался,
что они — Бродский и Рыжий — очень похожи друг на
друга и внешне, и особенно внутренне. Поэзия как попытка воскрешения и материализации любого времени-пространства — это сплошное узнавание, дежавю,
обретение прошлого и будущего в настоящем.
Борис побывал в Роттердаме, где выступил с чтением своих стихов (на большом экране транслировались —
параллельно голосу поэта — английские, немецкие
и голландские субтитры — подстрочные их переводы).
В журнале «Passionate», 2000, № 4 (хорошее название,
такое — экстремально-русское) были опубликованы биография Б. Рыжего и 5 его стихотворений (в том числе
«7-е ноября» и «Из Свердловска с любовью...»). Кроме
того, там же был издан буклет с 13-ю стихотворениями Бориса на русском и английском языках, а также
«3151 Poetry International Festival catalogue» с биографией
Бориса и стихотворениями «Памяти деда» на русском,
голландском и английском языках (р. 144—147). Борис
и Кейс Верхейл постоянно созванивались и состояли
в переписке (в достаточной степени периодического характера: письма Бориса к Кейсу Верхейлу и Александру Леонтьеву наверняка рано или поздно будут опубликованы). Кстати, стихи Б. Рыжего переводились и переводятся на Западе.
667
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
«Смертью смерть поправ» — это о поэте... Поэт оправдывает и укрепляет свою (и вообще) поэзию — только
смертью. Как это ни горько, ни странно — но это свойство истинного, или — абсолютного, поэта.
В современном мире, где из читателя целенаправленно, планомерно (насколько позволяют ломаные
рамки рыночных отношений) делают потребителя, постепенно и без каких-либо серьезных усилий производство товаров культуры и искусства вытесняет творчество. Работа и халтура оттесняет жизнь и судьбу
художника. Поэт сам выбирает себе время (это утверждение Бориса в предисловии к книге О. Дозморова
касается прежде всего поэтики, языка, стиля), время
реальное — как таковое: Ф. Тютчев выбрал себе время
вообще, время как субстанцию, скорее, умозрительную,
метафизическую, оторванную напрочь отданного пространства; М. Лермонтов взял время себе (и запустил
себя в него) ментальное, время душевное и духовное,
сопротивляющееся до сих пор времени социальному;
А. Фет оставался лишь в той части времени, которая
вполне соответствовала (или, напротив, явно контрастировала) его эмоциональному состоянию — это время «погодное», так сказать, сезонное; а Борис остался
в своем — родном и чужом, вопреки благородному своему происхождению, в жестоком, грязном и прекрасном, любимом и ненавистном времени, в котором красота — ужасна, но необходима, потому что она — единственная, другой нет и не будет. Борис — поэтически,
ментально, а значит — физически — выбирает время
реальное, перенабитое красотой и пошлостью, которой — по крайней мере для него, для его души —
оказалось больше. Борис — из «недолгоиграющих»
поэтов и потому, что таким родился (и не хотел ме-
66S
Весь музыкою полон до краев
няться!), и потому, что не мог, не умел и не хотел
быть благополучным, пока общая красота — и по
определению, и по времени — ужасна. Он печатал
в журналах, да и в первой своей книге, то, что прежде
всего — одновременно — было востребовано редактором и уцелевшим читателем и что, по его разумению
и таланту, точно и заново номинировало этот любимый, бесценный, раздолбанный нами, богатый, сильный, бедный и увечный мир. Вечное его слово выходит из архивов, оно не недописано, оно уже сказано,
потому что недосказанное есть добрая и весомая часть
сказанного.
Когда душа изоморфна музыке — тело уже не нужно, и поэт, несмотря ни на что, умирает вовремя. Потому что недосказанное, как часть сказанного, — это
еще и нерасслышанное:
Ничего не будет, только эта
песня на обветренных губах.
Утомленный мыслями о метафизике и метафизиках,
я умру, а после я воскресну.
И назло моим учителям
очень разухабистую песню
сочиню. По скверам и дворам
чтоб она шальная проносилась.
Танцевала, как хмельная блядь...
Чем нерасслышаннее слово — тем оно чудесней. Оно
еще расслышится и услышится, но уже не нами, а теми,
кто будет после нас. Потому что поэзия, питаясь прошлым и вызревая в настоящем, существует в будущем.
Таков хронотоп поэзии.
669
ЮРИЙ КАЗАРИН /Поэт Борис Рыжий
Альбер Камю в своем дневнике за 1943—46 годы
делает запись, содержание которой, наверное, знает
каждый, кто задумывается о пустоте и небытии: «Предчувствие смерти, к которому я с некоторых пор привык: оно лишено поддержки болью. Боль привязывает
к настоящему, она вовлекает в борьбу. Но предчувствовать смерть просто при виде окровавленного платка, не
совершая никакого усилия, — это головокружительное
погружение во время: страх перед изменчивостью бытия»1. Постоянное предчувствие смерти (а у Бориса есть
огромное количество стихотворений с таким мотивом)
волей-неволей переходит в участие (или соучастие)
в ней, потому что мыслящему и страдающему человеку
известно, что «Смерть сообщает новую форму любви —
а равно и жизни, она превращает любовь в судьбу»1 2.
Неимоверно сложное и практически непознаваемое
состояние предчувствия смерти и со-участия в ней своим наличием у человека и в человеке должно рано или
поздно утвердить его в странной и не совсем постижимой живыми мысли о том, что смерти нет. Есть какие-
то другие состояния, некоторые из них подтверждаются тем, что, например, стихи (и картины, и музыка,
и проч.) «хорошеют», становятся абсолютно подлинными (как воздух, дерево и птица) и достоверными после
смерти их создателя. Смерть поэта начинает настоящую жизнь его стихов (таково соотношение человеческой жизни и поэтической судьбы Лермонтова, Слу-
чевского, Анненского и др.). И это еще одно свойство,
качество природы ужаса красоты. Предчувствие смерти — это участие в смерти, это жизнь, другая жизнь,
1 Камю А. Записные книжки. — М., 2000. С. 123.
2 Там же. С. 123-124.
670
Весь музыкою полон до краев
в которой участвуют память, стихи, а значит, и ты —
сам собою, — потому что поэзия — и есть ты. Борис
это знал. И поэтому сила его иронии куда мощнее слез
и причитаний:
Жизнь — суть поэзия, а смерть — сплошная проза.
...Предельно траурна братва у труповоза.
Полоблака висит над головами. Гроб
вытаскивают — блеск — и восстановлен лоб,
что в офисе ему разбили арматурой.
Стою, взволнованный пеоном и цезурой!
Смерть здесь, по Б. Рыжему, — это анжамбеман
(«Гроб // вытаскивают»), это пеон (столкновение, по
А. Белому, хорея с ямбом («Жйзнь — суть поэзия»))
и, следовательно, сама цезура, пауза («Жизнь — суть
поэзия, // а смерть — сплошная проза» и т. д.): жизнь
переходит в смерть, как хорей в ямб, и смерть переходит в жизнь, как ямб — в хорей, и то и другое, естественно, медлят и мучают тебя, как анжамбеман и цезура. Смерть — цезура.
Поэзия — дело мужское, кровавое (Г. Русаков). Это
понимаешь только тогда, когда к тебе приходит поэтическая зрелость, когда уже не ты пишешь стихи и не
они — тебя, а человек и стихи пишут друг друга. Борис
ощущал себя не временно бессмертным, как люди-не-
поэты, а временно живущим и вечно живым. С точки
зрения непоэта, поэт, погибший молодым, никогда не
будет ни тридцати-, ни сорокалетним. Непоэт просто
не может или не хочет понять, что поэт— человек все-
возрастный вообще. Смерть — не разумница и не рас-
судительница, смерть — дура, пугающая обыденное сознание и отделяющая ужас от красоты.
671
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
К началу 2001 года в жизни Бориса, уже испещренной паузами, накопился критический запас цезуры. Он
это чувствовал — уже не предчувствовал, а — знал:
Ничего не надо, даже счастья
быть любимым, не
надо даже теплого участья,
яблони в окне.
Ни печали женской, ни печали,
горечи, стыда.
Рожей — в грязь, и чтоб не поднимали
больше никогда.
Не вели бухого до кровати.
Вот моя строка:
без меня отчаливайте, хватит —
небо, облака!
Жалуйтесь, читайте и жалейте,
греясь у огня,
вслух читайте, смейтесь, слезы лейте.
Только без меня.
Ничего действительно не надо,
что ни назови:
ни чужого яблоневого сада,
ни чужой любви,
что тебя поддерживает нежно,
уронить боясь.
Лучше страшно, лучше безнадежно,
лучше рылом в грязь.
(2000)
«Без меня» — значит «со мной»: в поэзии часто самое главное говорится «от противного» — когда выворачивается наизнанку не только душа, но и мир.
672
Весь музыкою полон до краев
Пушкин, например, утверждая и все-таки сомневаясь в том, что:
Нет, весь я не умру — душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит —
И славен буду я... —
в полутора строках отрицает только что сказанное, т. к.:
... доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит. —
Не читатель, не просто некий носитель и потребитель русского, родного Пушкину и его поэзии, языка,
а — пиит, поэт, певец, читатель — пловец одинокий.
В поэзии пессимистичнее (и — торжественнее) такой
самооценки я не встречал. Или, опять же пушкинское,
«Я вас любил так искренно, так нежно, // Как дай вам
Бог любимой быть другим», с учетом любви, которая
«угасла не совсем» оборачивается, вернее, выворачивается такой любовью, от которой у читателя судорогой
челюсти сводит. Кстати сказать, предфинальная женская рифма из стихотворения Бориса «Ничего не надо,
даже счастья...» «нежно — безнадежно» — это перевертень пушкинской предфинальной рифмы, ср.:
... Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим,
Я вас любил так искренне, так нежно,
Как дай вам Бог любимой быть другим.
Пушкин движется от безнадежности к нежности —
путь Бориса лежит, наоборот, напротив, от любви —
к безнадежности. Но — пути все-таки совпали.
23 Оправдание жизни
673
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
Медики утверждают, что новорожденный, младенец,
в процессе появления на свет испытывает абсолютную
боль, которая со временем (достаточно быстро) проходит, а с годами и вовсе забывается. Истинный поэт, как
мне кажется, помнит эту боль, знает ее, живет до самого, так сказать, конца с такой абсолютной мукой. Первородная мука может обернуться (под воздействием
жизни, естественно) чем угодно: счастьем, пошлостью,
идиотизмом, талантом и музыкой. Борис был невероятно талантлив, реализуя (и — реализовав!) свой дар
мононаправленно, монолитно (геология) и, коли речь
идет о вербализации музыки, — монографически. Однако первородная боль сначала время от времени усиливалась болью внешней, жизненной (первые ее «приступы» приходятся на 1997 г.), углублялась и расширялась (1999 г. — больница), пока не стала тотальной
и неизбывной (последний год жизни):
Так гранит покрывается наледью,
и стоят на земле холода, —
этот город, покрывшийся памятью,
я покинуть хочу навсегда...
Борис был больше боли своей, которой в нем было
так много, что и на нас осталось.
Трагическая природа таланта выражается прежде
всего в том, что писать, т. е. реализовывать себя, поэт
может только самоистребляясь. Самоистребление поэта — категория типологическая, прочно входящая
(вернее — всаженная) в парадигму таких основных категорий, обусловливающих происхождение, проистекание и результативность процесса поэтической деятельности, как Всеведение, Вседозволенность, Востре¬
674
Весь музыкою полон до краев
бованность, Реализованность и — Человечность как
антропологичность, ментальноть и духовность. Борис
не стал отшельником, изгоем, бродягой или преуспевающим обывателем-циником — он сумел оставаться
преданным, любящим, мыслящим и страдающим сыном, мужем, отцом и другом. Если в нем и был комплекс Озириса (а он должен быть в каждом сочинителе), то в нашем, евразийском, славянском, наиболее
мучительном, варианте. Борис до последней своей ночи
хотел жить и быть. Вечером, накануне смерти в разговоре с матерью, Маргаритой Михайловной, он советовал ей не уходить на пенсию («Мама, ты так любишь свою работу — не уходи, работай»), С отцом,
Борисом Петровичем, они пытались планировать свое
житье-бытье: у Бориса душа болела за семью, он прекрасно понимал, что нужно «жить, как все», зарабатывать деньги и все такое...
Всякий человек как существо биологическое, мыслящее, социальное, творческое и духовное пытается
не только осознавать свой быт и свое бытие, но и планировать свое поведение, ход своей жизни, которые
вместе с талантом, даром (если он есть) предполагают
появление и наличие судьбы. Борис жил — как человек и как поэт — одновременно по трем сценариям:
он был замечательный режиссер, актер и зритель,
и поэтому не мог существовать по типовому житейскому сценарию, который, известно, к чему и куда приводит.
Три сценария Бориса Рыжего — вещи не абстрактные, потому что они уже осуществлены и прожиты: они
очевидны, и сегодня их можно реально если не оценить (ни у кого нет такого права), то хотя бы отметить,
назвать, зафиксировать;
23*
675
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
Судьба поэта и человека Бориса Рыжего — это противоречивое, счастливое и несчастливое, удивительное
и ужасное, прекрасное и максимально продуктивное
единство вполне осмысленных трех путей — внутреннего (естественного, природного, поэтического), внешнего (карьера литератора) и жизненного (так сказать,
реального; хотя, наверное, никто не сможет определить
степень реальности жизни поэта, жизни литератора
и жизни человека, потому что эти процессы могут
существовать только в неразрывном, гармоничном и роковом не союзе, а синтезе).
Внутренний (природный) сценарий Бориса Рыжего-
поэта «писался» Богом, культурой и языком:
Скажи мне сразу после снегопада —
мы живы или нас похоронили?
Нет, помолчи, мне только слов не надо
ни на земле, ни в небе, ни в могиле.
Мне дал Господь не розовое море,
не силы, чтоб с врагами поквитаться, —
возможность плакать от чужого горя,
любя, чужому счастью улыбаться.
...В снежки играют мокрые солдаты —
они одни, одни на целом свете...
Как снег чисты, как ангелы — крылаты,
ни в чем не виноваты, словно дети.
(1996)
В этой части своей жизни — в бытийной части, но
не бытовой! — Борис сумел реализовать себя максимально. Он не противился силе и направлению таланта
и подчинился языку, культуре, использовав не только
генетические запасы поэтики (нужные только ему как
676
Весь музыкою полон до краев
поэту), но и научившись управлять своей поэтической,
а стало быть — и бытийной, «метафизической» деятельностью:
У современного героя
я на часок тебя займу,
в чужих стихах тебя сокрою
поближе к сердцу моему.
Вот: бравый маленький поручик
на тройке ухарской лечу.
Ты, зябко кутаясь в тулупчик,
прижалась к моему плечу.
И эдаким усталым фатом,
закуривая на ветру,
я говорю: живи в двадцатом.
Я в девятнадцатом умру.
Но больно мне представить это:
невеста, в белом, на руках
у инженера-дармоеда,
а я от неба в двух шагах.
Артериальной теплой кровью
я захлебнусь под Машуком,
и медальон, что мне с любовью,
где ты ребенком... В горле ком.
U999)
Борис, по словам О. Дозморова, признавал и собирался «делать литературную карьеру». Он был прирожденным литератором: в архиве есть образцы его
отличной прозы, эссеистики, литературной критики и
записки. Борис говорил Олегу Дозморову о том, что «эталоном» литературной карьеры для него является жизнь
И. Бродского-литератора (Олег уточняет, что Борис
677
ЮРИЙ КАЗАРИН /Поэт Борис Рыжий
воспринимал поэзию Бродского на генетическом уровне, а Рейна и Слуцкого — на типологическом):
До пупа сорвав обноски,
с нар полезли фраера,
на спине Иосиф Бродский
напортачен у бугра.
Начинаются разборки
за понятья, за наколки.
Разрываю сальный ворот:
душу мне не береди.
Профиль Слуцкого наколот
на седеющей груди.
Борис — ироник и иронист — тщательно маскирует лингво-стилистической игрой свое истинное отношение к положению литературы в России. Лично для
замечательного поэта Бориса Рыжего в Екатеринбурге
никаких условий для литераторской деятельности не
было. Борис, таким образом, был вынужден, в силу
отсутствия на Урале каких-либо эффективно действующих литературных структур (Союз писателей — не
в счет, это организация в основном «собранческого»
характера и к тому же нищая; издательства в Екатеринбурге — а их десяток — почти все коммерческого и
всеядного толка, а журнал «Урал» — маргинален и непрофессионален), в силу отсутствия в Екатеринбурге
серьезного писательского сообщества, — стать поэтом
абсолютным и «повсеместным»:
Я работал на драге в поселке Кытлым,
о чем позже скажу в изумительной прозе, —
корешился с ушедшим в народ мафиози,
678
Весь музыкою полон до краев
любовался с буфетчицей небом ночным.
Там тельняшку такую себе я купил,
оборзел, прокурил самокрутками пальцы.
А еще я ходил по субботам на танцы
и со всеми на равных стройбатовцев бил.
Боже мой, не бросай мою душу во зле, —
я как Слуцкий на фронт, я как Штейнберг на нары,
я обратно хочу — обгоняя отары,
ехать в синее небо на черном «козле».
Да, наверное, все это — дым без огня
и актерство: слоняться, дышать перегаром.
Но кого ты обманешь! А значит, недаром
в приисковом поселке любили меня.
Жизненный («реальный») сценарий Бориса постоянно (особенно в последние 2—3 года) вступал в противоречие со сценарием внутренним, «поэтическим»:
поэт учился быть человеком, что было, видимо, невозможно (еще Бродский в одном из интервью заметил,
что писатель в России поставлен в такие условия, что
ему в пору начинать воровать, разбойничать и все такое). Грубо говоря, поэт мешал жить человеку, мешал
себе самому стать человеком — таким, как все:
Прекрасен мир, и жизнь мила,
когда б еще водились деньги —
капуста, говоря на сленге,
и зелень на окне цвела.
В Свердловске тоже можно жить:
гулять с женой в Зеленой роще.
И право, друг мой, быть бы проще —
пойти в милицию служить.
(1997)
679
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
Триединая жизнь поэта-человека — это триединое счастье его и триединая мука. Более всего Борис боялся не
реализовать свой дар. Если первый сценарий, писанный
Богом и языком, поддавался твоей корректировке, а второй — внешний — почти абсолютно был подвластен тебе,
и ты был волен менять его в зависимости от тех или иных
обстоятельств (поездки в Питер, потом в Москву и проч.),
если внутренний сценарий мог соответствовать — и соответствовал — внешнему (поэт, естественно, «помогает»
литератору), то третий — реальный сценарий, — по
определению, был резко противопоставлен двум первым,
и, по сценарию жизни, ты из сценариста, режиссера и
актера мог превратиться вообще в марионетку — в куклу.
Борис этого не хотел. Боялся быть «мудаком» (например,
как поэт N., который «закодировался» от пьянства, удачно женился («на богатой») и жил в свое удовольствие).
Борис с ужасом говорил Олегу Дозморову о том, что неужели он — тоже, как все, — будет ходить с животиком,
ездить на дачку, служить Бог знает где. Перечитаем стихотворение «Из биографии гения»:
...У барона мало денег —
нищета его удел.
Ждет тебя, прекрасный Дельвиг,
Департамент горных дел.
U998)
Борьба первородного с социальным всегда заканчивается победой таланта и гибелью его носителя, если,
конечно, одаренный человек не запрещает себе быть
таковым. В этом и заключается ужас и красота жизни.
Метафизическое (дар) сталкивается с физическим («социальное» жизни) — и, усиливая скорость реализации
680
Весь музыкою полон до краев
таланта, ускоряет и ход жизни, и подступление конца.
Смерть, какой бы страшной она ни была, — не страшнее жизни — невыносимой, мешающей и воспрещающей быть не таким, как все. Энергия языка и культуры — неисчерпаема, но в объеме одного таланта — вполне определенна, т. к. энергия, превращаясь из языковой
в поэтическую, в музыкальную, опустошает свое вместилище — человека, освобождается и становится вечной. Объем вечности стихов напрямую зависит от объема
вечности памяти, языка и музыки:
...Хотелось музыки, а не литературы,
хотелось живописи, а не стиховой
стопы ямбической, пеона и цезуры.
Да мало ли чего хотелось нам с тобой.
Хотелось неба нам, еще хотелось моря.
А я хотел еще, когда ребенком был,
большого, светлого, чтоб как у взрослых, горя.
Вот тут не мучайся — его ты получил.
(1996)
Сегодня друзья, а особенно — приятели Бориса Рыжего пытаются осознать причины гибели поэта. Думаю, что такие причины — в определенном, упорядоченном, иерархическом, в целом — каузативном виде —
просто отсутствуют, потому что музыка, литература
и жизнь, объединенные и преувеличенные единым
процессуальным напором, единым движением (синтезом и распадом, своими доминантами и периферией,
и проч., проч., проч.), — это триединство и есть причина, событие и результат такой деятельности, такой
трагедии, такого конца-начала другой жизни — абсолютно музыкальной, чистой и духовной, к которой
681
ЮРИЙ КАЗАРИН /Поэт Борис Рыжий
стремился поэт, литератор и человек Борис Рыжий.
Борис никогда не был пошлым и поэтому не мог жить-
поживать да добра наживать. Вот почему в конце марта Ольга Ермолаева сказала мне, что Борис Борисович
очень похож на молодого Лермонтова...
Есть люди, которые могут быть только молодыми, —
и это, я думаю, не только капризы природы, но и скрытые, не поддающиеся наблюдению законы генетики
и динамики языковой творческой личности, которая
в линейном социальном времени длится ровно столько,
сколько ей необходимо для того, чтобы ускориться и
вырваться в шаровое время бытия. Не быта — а бытия:
Вспомним всё, что помним и забыли.
Все, чем одарил нас детский бог.
Городок, в котором мы любили,
в облаках затерян городок.
И когда бы пленку прокрутили
мы назад, увидела бы ты,
как пылятся на моей могиле
неживые желтые цветы.
Там я умер, но живому слышен
птичий гомон, и горит заря
над кустами алых диких вишен.
Все, что было после, было зря.
(2000)
Последние дни жизни Бориса Рыжего, я уверен, еще
будут подробно и глубоко исследованы и расписаны по
минутам. Последний же день Бориса, практически,
ничем не отличался от других. 5 мая 2001 года, по сло¬
682
Весь музыкою полон до краев
вам Ирины, у них, на ул. Куйбышева, была жена А. Верникова Ирина Трубецкая (с которой Борис дружил и
с мужем которой, писателем и достаточно скандальной
достопримечательностью Екатеринбурга, был в приятельских отношениях). 6 мая Борис был у родителей,
где и остался ночевать, потому что 7 мая ему нужно
было сходить в больницу. По словам Бориса Петровича
и Маргариты Михайловны, у Бориса (уже вечером) были
гости — три поэта, после их ухода он был несколько
раздражен и встревожен.
Так эту встречу вспоминает один из гостей — Дмитрий Теткин, молодой поэт: часов в 5 (17.00) вечера они —
Елена Тиновская, Александр Верников и Теткин —
пришли к Борису, который гостил у родителей. Вечер
прошел спокойно, в разговорах. Дмитрий говорил «об
ужасе поэтического существования» (подлинные слова
Д. Теткина): может ли поэт не писать, оставаясь живым, простым и просто человеком? Борис хотел узнать
мнение Д. Теткина о стихах в верстке для журнала «Знамя». Теткин похвалил подборку стихов и сказал что-то
об особой музыкальности поэзии Бориса Рыжего. Борис поморщился — такая оценка его явно не удовлетворила. Около 8 вечера (20.00) ушел А. Верников. В комнату Бориса, где они сидели, несколько раз заходила
Маргарита Михайловна, обеспокоенная, может быть,
состоянием сына. Е. Тиновская и Д. Теткин ушли ровно в 21.00. Борис попрощался с ними дважды: в прихожей и возле лифта, где очень серьезно сказал: — Ну,
теперь уж давайте... окончательно — до свиданья...
После этого Борис ушел от родителей домой, на
ул. Куйбышева (О. Дозморов позвонил туда после 22.00,
и друзья около часа разговаривали, смеялись), затем вернулся на Шейнкмана (после 23.30) и долго говорил
683
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
с Борисом Петровичем о будущем, о работе, о покупке
автомобиля и проч. С Маргаритой Михайловной Борис
говорил в основном о сыне, Артеме, о том, какой он
тонкий и сложный мальчик, о необходимости большей
заботы о нем... Родители Бориса успокоились, осознав,
что все самое трудное — уже позади. Борис Петрович,
который от нервного перенапряжения последних месяцев плохо спал, а вернее — не спал почти совсем, принял снотворное и ушел к себе. Маргарита Михайловна
попрощалась с Борисом в промежутке между 3 и 4 часами утра, спросив: — Зайти к тебе ночью-утром? Борис отозвался: — Да, мама, зайди...
Маргарита Михайловна проснулась около 8 часов
утра. Бориса уже не было.
На письменном столе в комнате Бориса лежал томик сочинений А. Полежаева, раскрытый на стихотворении «Отчаяние»:
Он ничего не потерял,
кроме надежды.
А. П<ушкин>
О, дайте мне кинжал и яд,
Мои друзья, мои злодеи!
Я понял, понял жизни ад,
Мне сердце высосали змеи!..
Смотрю на жизнь, как на позор —
Пора расстаться с своенравной
И произнесть ей приговор
Последний, страшный и бесславный!
Что в ней? Зачем я на земле
Влачу убийственное бремя?..
Скорей во прах!.. В холодной мгле
684
Весь музыкою полон до краев
Покойно спит земное племя:
Ничто печальной тишины
Костей иссохших не тревожит,
И череп мертвой головы
Один лишь червь могильный гложет.
Безумство, страсти и тоска,
Любовь, отчаянье, надежды
И все, чем славились века,
Чем жили гении, невежды, —
Все праху, все заплатит дань,
До той поры, пока природы
В слух уничтоженного рода
Речет торжественно: «Восстань!»
<1836>
Слева от книги Полежаева, если стоять лицом к окну,
лежал лист бумаги, который был свернут трижды (и таким образом поделен на 8 частей) и на котором ранее
было написано стихотворение «Свети, слеза моя, свети
у края глаза...», — на нем левой рукой, крайне неразборчиво, Борис написал:
Мое хладеющее тело
Побудь еще со мной
не в этом дело
10 мая 2001 года мы прощались с Борисом. В голове
у меня, на цыганский мотив, как часто это бывает
в минуты и часы крайнего напряжения и опустошенности, звучало — постоянно, назойливо и страшно, как
в non-stop записи — стихотворение Бориса, опубликованное в февральской книжке «Ариона» за 2001 год:
685
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
Погадай мне, цыганка, на медный грош,
растолкуй, отчего умру.
Отвечает цыганка, мол, ты умрешь,
не живут такие в миру.
Станет сын чужим и чужой жена,
отвернутся друзья-враги.
Что убьет тебя, молодой? Вина.
Но вину свою береги.
Перед кем вина? Перед тем, что жив.
И смеется, глядит в глаза.
И звучит с базара блатной мотив,
проясняются небеса.
День похорон был ветреным, с метелью и ярким
холодным солнцем, а сразу после похорон небо прояснилось, стало тихо, солнечно и почти тепло. Похоронили поэта Бориса Рыжего на Нижне-Исетском кладбище, упомянутом Борисом «с цветами» в 1998 году
в стихотворении «Памяти Полонского», которое сегодня невозможно читать без улыбки и слез:
Олегу Дозморову
Мы здорово отстали от полка. Кавказ в доспехах,
словно витязь. Шурует дождь. Вокруг ни огонька. Поручик Дозморов, держитесь! Так мой денщик загнулся, говоря: где наша, э, не пропадала. Так в добрый
путь. За Бога и царя. За однодума-генерала. За грозный ямб. За трепетный пеон. За утонченную цезуру.
За русский флаг. Однако, что за тон? За ту коломенскую дуру. За Жомини, но все-таки успех на всех
приемах и мазурках. За статский чин, поручик, и за
всех блядей Москвы и Петербурга. За к непокою,
686
Весь музыкою полон до краев
мирному вполне, батального покоя примесь. За пакостей литературных вне. Поручик Дозморов, держитесь! И будет день. И будет бивуак. В сухие кители
одеты, мы трубочки раскурим натощак, вертя пижонские кисеты.
А если выйдет вовсе и не так? Кручу-верчу стихотвореньем. Боюсь, что вот накаркаю — дурак. Но следую за вдохновеньем. У коней наших вырастут крыла.
И воспарят они над бездной. Вот наша жизнь, которая
была невероятной и чудесной. Свердловск, набитый
ласковым ворьем и туповатыми ментами. Гнилая Пермь.
Исетский водоем. Нижне-Исетское с цветами. Но разве не кружилась голова у девушек всего Урала, когда
вот так беседовали два изящных армий генерала?
С чиновников порой слетала спесь. И то отмечу, как
иные авангардисты отдавали честь нам, как солдаты
рядовые. Мне все казалось: пустяки, игра. Но лишь
к утру смыкаю веки. За окнами блистают до утра Кавказа снежные доспехи.
Два всадника с тенями на восток. Все тверже шаг.
Тропа все круче. Я говорю, чеканя каждый слог: черт
побери, держись, поручик! Сокрыл туман последнюю
звезду. Из мрака бездна вырастает. Храпят гнедые, чуя
пустоту. И ветер ментики срывает. И сердце набирает
высоту.
{1998)
Уже после смерти Бориса Рыжего я нашел в записных книжках Антона Павловича Чехова слова, подтверждающие старую истину — Deus conservât omnia (Бог
сохраняет все) — разрешающую жить сквозь горе: «Умирает в человеке лишь то, что поддается нашим пяти чувствам, а что вне этих чувств, что, вероятно, громадно,
687
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
невообразимо высоко и находится вне наших чувств,
остается жить».
И живет...
Над домами, домами, домами
голубые висят облака —
вот они и останутся с нами
на века, на века, на века.
Только пар, только белое в синем
над громадами каменных плит...
никогда никуда мы не сгинем,
Мы прочней и нежней, чем гранит.
Пусть разрушатся наши скорлупы,
геометрия жизни земной —
оглянись, поцелуй меня в губы,
дай мне руку, останься со мной.
А когда мы друг друга покинем,
ты на крыльях своих унеси
только пар, только белое в синем,
голубое и белое в си...
(1996)
Часть II. Есть только музыка
одна
Писать нужно с дрожью в губах...
Венедикт Ерофеев
В небесах музыка сочинялась
вечная — на смертные слова...
Борис Рыжий
Через месяц после смерти, 6 июня 2001 года, Борис
Рыжий был удостоен литературной премии «Северная
Пальмира» (учредитель «Санкт-Петербургская ассоциация содействия культуре»). Отец поэта, Борис Петрович
Рыжий, едет в северную столицу и получает эту премию.
В номинации «Поэзия» результаты голосования жюри
оглашает А. Кушнер (вместе с Б. Рыжим номинированы
С. Гандлевский и В. Соснора): за книгу стихотворений
«И все такое...» как за лучшее произведение в жанре
поэзии, опубликованное в Санкт-Петербурге в 2000 году.
Одна за другой начинают появляться посмертные
публикации Бориса в Москве, в Екатеринбурге и в Питере. Ольга Ермолаева, с помощью Бориса Петровича и
Ирины Князевой, постоянно публикует в журнале «Знамя» крупные (а иногда просто огромные) подборки стихотворений Бориса. Печатаются стихи Бориса и в «Ари-
оне», и в «Звезде», и в «Урале», и во многих других
периодических изданиях России.
В Екатеринбургских газетах проходит (буквально)
волна статей — заметок — некрологов, в основном истерического содержания; в одной из таких публикаций Борис Рыжий назван «Пушкиным современной
689
ЮРИЙ КАЗАРИН /Поэт Борис Рыжий
поэзии» — прямое свидетельство провинциального глобализма и социального катарсиса. Коллективный катарсис вообще явление в большей степени искусственное, интенсификация и расширение которого, как правило, провоцируют СМИ, — дело вполне обычное
в условиях дикой демократии. Смерть поэта сначала
рассматривается, а затем ощущается, как сенсация, наиважнейшая новость и событие.
Смерть поэта — не событие, а процесс, в котором
участвуют многие, прежде всего деятели провинциального, вялого движения культуры, вернее, ее притоков и
оттоков (журналисты, бульварные публицисты-аналитики
и проч.). Друзья поэта просто горевали. Я вспоминаю
трудное — до слез — молчание и тоскливое недоумение
Олега Дозморова в тот день (август 2001 г.), когда мы
(Саша Верников, Женя Касимов) сидели у меня дома
перед телекамерой и пытались хоть как-то, преодолевая
неловкость и дикость журналистского речевого напора,
ответить на в целом страшные для любого человека,
участвовавшего в смерти близкого, вопросы.
Смерть поэта — процесс, в котором физическое существование человека превращается в метафизическое
бытие написанного им. Смерть — интерфизична: стихи
после гибели Бориса стали существовать самовольно
и самостоятельно. Подборка стихотворений, появившаяся в журнале «Знамя» в № 6 за 2001 год, — абсолютно
не переменившись фактически и физически, — уже разительно отличалась от себя самой, привезенной мною
из Москвы, — от верстки, которая мне тогда, в апреле
2001 года, не пришлась по душе. В таком случае (смертельном) меняется в основном не восприятие посмертных стихов, а — мир и отношение к той авторской картине мира, которая неожиданно (у нас в России все
690
Есть только музыка одна
вдруг, но с помощью и при содействии смерти) становится и твоей картиной, скорее, не мира, а его самой
важной (хотя бы в поэтосфере) части — трагедии. И теперь ты начинаешь понимать, что «в Свердловске живущий, но русскоязычный поэт» (каково это «но» —
абсолютно антипровинциальное крепко-модальное выражение), — это и ты, и он (например, О. Дозморов),
и она (Лена Тиновская, Женя Изварина). И стихотворение «Считалочка» 2000 года, показавшееся мне «загадочным», — разгадано сегодня жизнью-смертью:
Пани-горе, тук-тук,
это Ваш давний друг,
пан Борис на пороге
от рубахи до брюк,
от котелка, нет,
кепочки — до штиблет,
семечек, макинтоша,
трости и сигарет,
я стучу в Ваш дом
с обескровленным ртом,
чтоб приобресть у Вас маузер,
остальное — потом.
«Рубашка в клеточку, в полоску брючки — со смер-
тью-одноклассницей под ручку» — это и твое отрочество, только уралмашевское — с безотцовщиной, с ножом («пикой», изготовленной из автомобильного «дворника») под лопатку, с детской счастливой тоской и не
совсем чистоплотной романтикой жизни-смерти:
Отмотай-ка жизнь мою назад
и еще назад:
691
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
вот иду я пьяный через сад,
осень, листопад.
Вот иду я: девушка с веслом
слева, а с ядром —
справа, время встало и стоит,
а листва летит.
Все аттракционы на замке,
никого вокруг,
только слышен где-то вдалеке
репродуктор, друг.
Что поет он, черт его поймет,
что и пел всегда:
что любовь пройдет, и жизнь пройдет,
пролетят года.
Я сюда глубоким стариком
некогда вернусь,
погляжу на небо, а потом
по листве пройдусь.
Что любовь пройдет, и жизнь пройдет,
вяло подпою,
ни о ком не вспомню, старый черт,
бездны на краю.
<2000>
И — никто никогда никаким стариком не вернется.
А поэт — он всегда «старый черт»...
Ты понимаешь, что жизнестроительство — это, по
большому счету, — смертестроительство, не судьба,
а сплошная музыка с медными похоронными тазами
и розами:
...Он выставлял в окошко радиолу,
и музыка играла.
692
Есть только музыка одна
Он выходил во двор по пояс голый
и начинал сначала
о том, о сем, о Ивделе, Тагиле,
он отвечал за слово,
и закурить давал, его любили,
и пела Пугачева.
Про розы, розы, розы, розы, розы.
Не пожимай плечами,
а оглянись и улыбнись сквозь слезы:
нас смерти обучали
в пустом дворе под вопли радиолы.
И этой сложной теме
верны, мы до сих пор, сбежав из школы,
в тенй стоим там, тбни.
<2000>
В стихотворении «Вот красный флаг с серпом висит
над ЖЭКом...» все эти Пугачевы и Тагилы-Ивдели
замутили башку — пока зрачки не уперлись в себя,
стоящего в тени сначала, как тень, а потом уже просто
тенью. Тенью как таковой.
Сельвинский, Слуцкий — это не сумбур, как казалось мне тогда, а пароли, которые тебе Борис подбрасывает, а ты — не отзываешься. Плохо поэты читают
друг друга:
Завидуешь мне, зависть — это дурно, а между тем
есть чему позавидовать, мальчик, на самом деле —
я пил, я беседовал запросто с героем его поэм
в выдуманном им городе, в придуманном им отеле.
Ай, стареющий мальчик, мне, эпигону, мне
выпало такое счастье, отпетому хулигану,
любящему «Пушторг» и «Лошади в океане» —
693
ЮРИЙ КАЗАРИН /Поэт Борис Рыжий
ангел
с отбитым крылом
под синим дождем
в окне.
Ведь я заслужил это, не правда ли, сделал шаг,
отравил себя музыкой, улицами, алкоголем,
небом и северным морем. «Вы» говори, дурак,
тому, кто зачислен к мертвым, а из живых уволен.
Идея советской поэтической разговорности здесь
выражается заокеанским автодидактическим нарративом, изобретенным тем, кто сравнивал Ленинград с Венецией. Или — наоборот? Какая разница, Ленинград —
эпигон Венеции и не наоборот, а для тех, кто из живых
уволен, смерть — эпигон, скорее, не вечности, а самой
жизни. Поэтическая генетика и эпигонство различимы, т. к. копируется и усваивается чаще дискурс, —
содержание и трагедия имитации не поддаются.
В жизни своей Борис Рыжий был абсолютно незащищен (коммуникативные игры не предохраняли от
тирании социального устройства, они, скорее, делали
такой «жизненный произвол» очевиднее): он прежде
всего был лишен социальной закалки тоталитаризмом
(как нынешние пятидесятилетние сочинители, работавшие, по определению, «в стол»), Борис опоздал на прививку несвободы — несвободы коллективной, соборной и поэтому уже привычно безболезненной: боль заслонялась несокрушимым единством подполья и власти, а трагедия распределялась и распространялась
в равной мере на всех, кто понимал, что происходит
с тобой, с обществом, с «народом», этносами, со страной и с государством. Чем беззащитнее поэт ощущал
себя в этом мире, тем крепче он оборонялся в мире
694
Есть только музыка одна
другом — в культуре, в литературе, в поэзии: здесь Борис был абсолютно волен, свободен и защищен мощью
и силой поэтической генетики. Поэт может быть «плохим», «хорошим», вообще — «никаким» — человеком,
и судить его за то или иное качество человечности в нем
бесполезно, как невозможно ругать котельную, дающую
тепло целому поселку, за то, что она, такая-сякая, сильно дымит. Однако попытки пускаться в оценочную риторику предпринимаются всегда — обывателем, которому любо и любопытно сровнять поэта с толпой и, таким
образом, естественно сравняться (что уже исключает всякое сравнение-сопоставление) с ним. Поэтому на вечерах памяти того-то и того-то обычно самым интересным
оказывается именно равнодушное любопытство большинства к родным и близким покойного, а также попытки
насильного сближения и отождествления абсолютно несопоставимых объемов судеб различных известных и
взыскующих известности персоналий.
14 мая 2002 года состоялся Вечер памяти Бориса
Рыжего: в Библиотеке Главы города Екатеринбурга
(организаторы — библиотекарь Любовь Васильевна
Грунина и друзья поэта, в основном, так или иначе
связанные с Уральским университетом и Горной академией) собралось человек 30 — поминать и вспоминать. Выступил и отец Б. Рыжего Борис Петрович,
который сообщил, что разбирая архив сына, обнаружил несколько сотен текстов, среди которых добрая
половина не публиковалась. Олег Дозморов и я помогали Борису Петровичу в этой работе, и я могу утверждать, что тогда, к лету 2002 года, оставалось несколько
сотен / прекрасных / отличных / замечательных стихотворений, которые обязательно должны быть опубликованными.
695
ЮРИЙ КАЗАРИН /Поэт Борис Рыжий
Мы также заметили, что Борис тщательно скрывал
свой «ученический» период, у него вообще хватило ума,
вкуса, а главное — выдержки не публиковать подражательных и слабых вещей. В одном из разговоров с Олегом Дозморовым Борис сказал, что очень боится тотальной публикации своих стихов, видя и находя в них
и слабые/слабоватые, и «недостойные дарования» его.
Смерть поэта — интертекстуальна. Могучий интертекст
смерти, ее влияние на тексты, на восприятие, на оценку —
очевидны. Смерть возбуждает жизнь во всех и во всем,
что пока не умерло. Уверен, что Борис знал это, ощущал
природу небытия как часть бытия и природы вообще.
Непрерывность существования поэзии и поэта в языке и культуре обещает и нам, грешным, некое бессмертие не как абстракцию и общее место, а как способность
жить сквозь горе и, пройдя сквозь трагедию, оставаться
в ней, помышляя о счастье, которого на свете нет, или
о покое и воле, которых тоже маловато, но которые все-
таки существуют хотя бы в виде надежды, появление
которой обещает поэт.
21 сентября 2002 года состоялись первые Литературные чтения памяти Бориса Рыжего (организованы
теми же и проведены там же, где и Вечер памяти) —
узким, но серьезным и «представительным» кругом
(среди говоривших — раскрывавших — выступавших
три доктора филологии, четыре профессора, несколько литераторов и друзей Бориса, а также голландский
писатель Кейс Верхейл). Все было как положено: оргкомитет, программа с анонсом ежегодного проекта
Чтений (поэтика, стиль, поэтическая личность, а также языковые, эстетические, культурные и др. особенности поэзии Б. Рыжего; проблемы истории, развития
696
Есть только музыка одна
и современного состояния русской поэзии и Ad
memoriam: находки, воспоминания, стихи). Темы сообщений таковы: «Борис Рыжий: «...любящий сын поэзии русской»»; «Борис Рыжий как языковая личность»; «Образ городской окраины в лирике Бориса
Рыжего»; «Литература и литературный процесс в стихах Бориса Рыжего»; «Тягунов, Рыжий, поэты 89-го
года», «Борис Рыжий и его поэзия с точки зрения голландца»; «История одного стихотворения» и др. О литературном (и о прозаическом в том числе) наследии
Бориса Рыжего рассказал его отец, профессор Борис
Петрович Рыжий.
Когда мы готовились к этим Чтениям, я почувствовал сопротивление уже не некоторых, как в период организации Вечера памяти, а многих: к чему все это? не
рановато ли? куда спешить? — давайте осмотримся —
оглядимся — отдышимся: а там уже и — начнем... Сегодня все, что не является коммерческим / корыстным
и проч., вызывает недоумение и рассматривается, оценивается как глупость. Однако чистосердечная глупость
провинции мне милее постмодернистского / коммерческого, заранее проектируемого и, что естественно
и очевидно, прогнозируемого беспамятства. Думаю,
Борис смотрел на нас, говорящих о нем и о его стихах,
и посмеивался — оттуда, где только музыка и свет. Уверен, что все это ему теперь не нужно, да и никогда —
в таком посмертном виде — и не было нужно (не могло быть — так точнее), но так нужно было нам — соучастникам его поэзии, жизни и смерти.
Борис Рыжий ушел от нас тогда, когда мы только начинали прислушиваться к музыке его языка, мысли и интонации, — к музыке, которая сегодня в нас и
697
ЮРИЙ КАЗАРИН /Поэт Борис Рыжий
в нашей культуре. Эта музыка имеет странное свойство — к ней нельзя привыкнуть, настолько она проникновенна, откровенна и потаенна. Поэтому приходится вырабатывать в себе привычку не привыкать
к прекрасному, вызывающему боль и дающему наслаждение. Суметь привыкнуть не привыкать к поэзии и
любви — базовый инстинкт истинного читателя и любовника. Поэзия как чистая мысль и эмоция вся преот-
кровенна. Борис Рыжий пытался совместить откровенное (нужное читателю) и сокровенное (себя) — и это
ему удалось: подлинное отличается от подделки тем,
что вызывает восхищенное недоумение тому, не «как»
это сделано (форма — любая — все-таки прозрачна),
а «что» из этого «как» получилось (семантика как смысловое пространство стихотворения проницаема, но всегда не до конца, не до края). Борис как стихотворец
был очень умен, искушен и искусен, и здесь сочинитель явно не противоречил поэту (как «творцу»): в поэтической личности уживаются, противореча друг другу и восполняя друг друга, два типа генетики — генетика стационарная, языковая, и генетика динамическая,
«приходящая» — дискурсная, дискурсивная. Стихотворец «ищет» свою поэтику. Борис в поисках своего поэтического дискурса гениально совмещал подсознательное (дар) с сознательным (выбор). Такой счастливый
синтез таланта и мастерства осуществлялся в поэте постепенно, но очень быстро, если не стремительно (языковой и поэтический генераторы работали в нем вполне по-пушкински — интенсивно и сопровождаясь непременным духовным взрослением, которое иногда
переходило в скачки-взрывы, — так много было в нем
энергии поиска, очень продуктивного, и энергии заблуждения (термин В. Шкловского), которая и заводит
698
Есть только музыка одна
поэта по-цветаевски «далеко», которая выводит поэта
к истине, которая часто воспринимается обществом как
очередная языковая спесь и непроходимая заумь и ересь,
игра со смертью).
Работа с архивом Бориса Рыжего, наблюдения за его
опубликованными текстами, беседы с родными Бориса
(особенно с отцом), его друзьями позволяют сегодня —
хотя бы в общих чертах — увидеть жизнь и судьбу поэта
как некое единое целое, как путь, обозначенный движением индивидуально-авторской поэтики, дискурса, мысли, музыки и состоящий из отдельных отрезков, наличие которых обусловлено, с одной стороны, скоростью
жизни Бориса, а с другой стороны — временем, его прерывистой бесконечностью, то бишь хронологией.
Литературная динамика поэтической судьбы Б. Рыжего, имея качественно иерархический характер, усиливалась пошагово (как, например, ступенчатый, «шаговый», характер русского словообразования с сохранением явного изоморфизма формы и содержания),
интенсифицировалась и развивалась поэтапно. Вот эти
этапы.
Первый этап (до 1992—93 гг.) — накопительный.
Борис усваивает, накапливает эстетическую и этическую информацию и энергию в основном золотого и
серебряного века русской поэзии. У Бориса было три
источника знаний, которым он безоговорочно доверял:
отец (Борис Петрович начал читать уже стихи вслух
годовалому Борису), сестра Ольга (коллективное чтение, а затем и первые опыты изустного сочинительства
с братом, который не только рифмовал шуточные зарисовки, но и «писал» в 12—13-летнем возрасте детективные романы: вообще, попытка разобраться в поэтике подобна детективу — детективу «вкусовому», этическому
699
ЮРИЙ КАЗАРИН /Поэт Борис Рыжий
и духовному в целом). В это время юный Борис сам
становится своим третьим источником поэтологической информации, который сформировался на основе
этико-эстетического поиска и отбора (школа как источник таких знаний мало у кого вызывала и вызывает
доверие).
Второй этап (1994—1996 гг.) — начальный, «стартовый». Период базового накопления поэтической энергии завершился, но способы и приемы реализации индивидуального поэтического дискурса еще окончательно не сформировались — они, естественно, развиваются,
совершенствуются всегда. Если Ю. Лобанцев показал
Борису возможность «мыслить стихами» и убедил юного поэта в том, что стихи должны воздействовать на
читателя и на публику (эффект восприятия устного текста), должны «нравиться» им, — то пример И. Бродского и А. Кушнера (с которым в это время Борис знакомится) убеждают Бориса в том, что стихи — это прежде
всего изящные формы художественной словесности.
Поэт освоил формы поэтического мышления и выражения и осознал (научился понимать), что стабильность
музыкального содержания стихотворения обеспечивается подвижностью индивидуального поэтического дискурса (ритм, рифма, строфа, интонация, графика
и проч.) и динамикой поэтических форм в целом. Также
Борис начинает осваивать конкретные тематические
сферы и схемы, которые в основном определялись
географией и поэтической топонимией (например, поездки в Санкт-Петербург обусловили появление большого количества «петербургских стихов»). Борис на этом
этапе своего литературного развития становится «средним» поэтом, каких в России — сотни. И это его абсолютно не устраивает: создав и создавая (этот процесс
700
Есть только музыка одна
неостановим) свой поэтический дискурс, он принимается за осмысление и планирование выработки своих
смысло-тематических структур — «своего» содержания.
Третий этап (1996—98 гг.) — это период сознательного, планомерного поиска содержательных ресурсов.
Борис (совместно с О. Дозморовым, постоянно с ним
советуясь, обсуждая и экспериментируя) вырабатывает
генеральную установку на прозаизацию стиха, которая
выражалась в наличии в тексте таких категорий, как
сюжет (трехфабульность: внешняя фабула — предметная
динамика; внутренняя фабула — образ «романтического» героя, и глубинная фабула — трагическая музыка
света, счастья, горя, пустоты, жизни, любви, смерти, «воскрешения» и т. д.), герой (поэт — «хулиган», «маленький
человек», Эля как символ жизни-смерти и др.), деталь
(конкретная, из вещного мира, тематически и предметно связанная с музыкой и грязью), точный хронотоп (детство, юность, молодость, Вторчермет, Свердловск, Кыт-
лым, Уфалей, Петербург, Сартасы, Пермь и др.). Содержание поэзии Б. Рыжего «посуровело», стало более
«мужественным», но поэтические формы остались изящными, часто — виртуозными.
Четвертый этап (1998—весна 2000 г.) — «московский»: Борис публикует свои стихи в журнале «Знамя»
и получает поощрительную премию «Антибукер» в номинации «Незнакомка», он становится известен не только в Екатеринбурге, в Петербурге, но и в Москве. Это
самый сложный в психологическом, эмоциональном и
«жизненном» отношении период: Борис, обретя «официальный статус» поэта, начинает себя судить — строго, иногда — жестоко. Осуществляющаяся реализация
поэтических возможностей (иллюзия полной реализованности), несомненная и объективно заслуженная
701
ЮРИЙ КАЗАРИН /Поэт Борис Рыжий
востребованность стихов влекут за собой третье, мучительное, состояние самоистребления. Поэт — в катастрофе, потому что в его жизни и судьбе появляется —
к уже существующему метасюжету «больше черного горя,
поэт — смертельно раненый, умирает, но музыка всегда чревата воскрешением» — антисюжет «известный,
успешный, «матерый» литератор живет долго, трудно,
но, в общем-то неплохо, у него есть слава, деньги, премии и проч.» Поэтический герой Бориса усложняется
невероятно: это уже не герой, а человек — сюжет и
антисюжет плюс человек — трагедия, катастрофа. К сожалению (а может быть, к счастью, как это страшно
ни звучит), евразийская ментальность, а следовательно, и художественность (художничество) предрасположены в большей мере к трагедии. Трагическое познание себя и мира — наиболее эффективно, убедительно
и продуктивно. Трагический характер русского художественного гуманизма очевиден в силу своей двойственной природы (высокое и низкое, поэт и «маленький
человек» — все это оппозиции пушкинские, Достоевские, отчасти ницшеанские). Борис апробирует оба сюжета: он живет, как его герой, — это трагический сюжет, и он пытается жить, как успешный литератор, —
не менее трудный и трагический антисюжет. Но поэту
первый тип трагедии — ближе.
Пятый этап (весна 2000 — весна 2001 г.) — «музыкальный»: Борис пишет «свои» стихи, он уже абсолютно свободен от жизни и смерти:
А грустно было и уныло,
печально, да ведь?
Но все осветит, все, что было,
исправит память —
702
Есть только музыка одна
звучи заезжанной пластинкой,
хрипи и щелкай.
Была и девочка с картинки
с завитой челкой.
И я был богом и боксером,
а не поэтом.
То было правдою, а вздором
как раз вот это.
Чем дальше будет, тем длиннее
и бесконечней.
Звезда, осенняя аллея,
и губы, плечи.
И поцелуй в промозглом парке,
где наши лица
под фонарем видны неярким, —
он вечно длится.
Лирический герой уже умер. Поэтому стихи пятого
этапа — из вечности. Конец Сюжета (воскрешение) совпал с началом Антисюжета (известный литератор),
и победил — в силу своей абсолютной трагичности, —
Сюжет.
Природа катастрофы поэта выражается в его духовном пути. У Бориса Рыжего, как у Пушкина, постоянно
осуществлялся духовный рост — от текста к тексту, основанный на яростном и жестоком самопознании. Поэт
Борис Рыжий — это сплошное самопознание, беспощадная работа над собой, это «саморост», приведший к трагическому самовыражению. Если писать так, как писал
Борис Рыжий, — много не напишешь. Потому что поэт —
это не только саморастение, но и самосмерть.
703
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
Борис — в очень короткий срок — преодолел три
стадии поэтического возраста, которые характеризуются различными отношениями между поэтом и текстом: сначала стихи «пишут» / создают поэта; потом
поэт пишет стихи, и наконец — наступает очень недолгий, но плодотворный период, когда происходит вза-
имописание (автор и текст восполняют друг друга,
мучают, совершенствуют и проч.). Стихи Б. Рыжего —
это череда событий и поступков как результат именно
душевного преображения. Полный изоморфизм (идентичность и гармония) формы и содержания стихотворения позволяет поэту выражать все, что с помощью
только языка и речи выразить нельзя. Борис не только
возвращает русскому стиху звучность и музыкальность,
но на основе поэтической разговорности (открытой
давным-давно) добивается в лучших своих текстах эффекта изустности, устности как говоримого, произносимого и слышимого. Поэзия — по определению, генетически, — устная разновидность языковой деятельности, в процессе которой мысль (как идеальное)
превращается в воздух (волновые колебания), из
которого состоит ближнее небо и которым дышит
человек:
Над саквояжем в черной арке
всю ночь играл саксофонист,
пропойца на скамейке в парке
спал, постелив газетный лист.
Я тоже стану музыкантом
и буду, если не умру,
в рубахе белой с черным бантом
играть ночами на ветру.
704
Есть только музыка одна
Чтоб, улыбаясь, спал пропойца
под небом, выпитым до дна, —
спи, ни о чем не беспокойся,
есть только музыка одна.
{1997)
Борис Рыжий, как может показаться, больше работал с жизнью, с действительностью, чем с языком:
сюжетность, геройность, темный романтизм и в целом судьба — своя судьба — вот буквальное понимание речевой деятельности, как в золотом веке, и буквальный перенос классической, русской этической
эстетики и гуманизма Пушкина, Лермонтова и др.
в свое, свинцовое, время. То, что читателю казалось
игрой «во Вторчермет», оказалось жизнью, единственной и очень короткой. Утверждение Аллы Марченко
о том, что Б. Рыжий — народный поэт, следует дополнить дефиницией «национальный поэт», т. к. Борис
Рыжий действительно овеществил свой поэтический
язык и, превращая его в музыку, наполнил стихотворные формы истинно гуманистическим содержанием,
не обезболивая его, а напротив — доводя страдание не
до стона и воя, а до — песни! Удивительное, редкое
свойство, уникальное качество современной поэзии.
Стихотворение «Над саквояжем в черной арке...» тематически и духовно отталкивается от стихотворения
любимого Борисом Е. Рейна:
В последней пустой электричке
Пойми за пятнадцать минут,
Что прожил ты жизнь по привычке,
Кончается этот маршрут.
24 Оправдание жизни
705
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
Выходишь прикуривать в тамбур,
А там уже нет никого.
Пропойца спокойный, как ангел,
Тулуп расстелил наголо.
И видит он русское море,
Стакан золотого вина.
И слышит, как в белом соборе
Его отпевает страна.
{«Темнота зеркал»)
Правда, Е. Рейн отстранен от чуда, растущего из
грязи, а Б. Рыжий если не отождествляет себя с пропойцей, то, по крайней мере, не отделяет себя от него,
не потому, что он — «сам такой», а потому, что он здесь,
рядом с ним, как Пушкин — не Пушкин, но уж «покойный Иван Петрович Белкин» — точно. Музыка
Е. Рейна — это музыка с похорон, случайно оказавшихся на твоем пути, музыка Б. Рыжего — о том же,
о том же — о смерти, но она «обещает встречу впереди», т. е. воскрешение. Стихотворение Е. Рейна сюжет -
но, стихотворение Б. Рыжего — событийно. Поэтический сюжет Б. Рыжего — это развернутое, раскатанное
в длину, как свиток, событие, в котором лирические персонажи (сколько бы их ни было) всегда синтезируются
в один, обобщенный, образ трагедии, когда, помимо
героя и пропойцы (и вообще — кого угодно), в стихотворении, вернее — в художественной картине мира, всегда ощущается то явное, то смутное наличие третьего.
Такой третий в стихах Бориса Рыжего — музыка.
Человек как носитель данного языка всегда находится в состоянии выбора: можно существовать в рам¬
706
Есть только музыка одна
ках (достаточно жестких и все-таки неопределенных)
речи, т. е. быть частью коммуникативно-речевой толпы
(в различных ее сферах и модификациях), а можно (вернее, для поэта такая возможность является необходимостью) жить в пределах языка (границы его, по крайней мере для смертного человека, практически безмерны), т. е. стать частью процессов памяти языка, дискурса
и культуры в целом. Память языка — это способность
поэтов (и бывших, и сущих) влиять друг на друга —
и стилистически, и просодически, и концептуально, но
главное — лингвистически, т. к. общенациональные
формы и стандарты языка «обкатываются» прежде всего поэтами. В языке есть все: и формы, и семантика,
и даже конкретный просодический вариант — силлабо-
тоника, — это не изобретение поэтических коллективов и поэтов, а свойство любого синтетического и флективного (а русский именно таков) языка. Разноместное
и подвижное русское ударение, примерно равное количество коротких, средних и длинных (силлабически и
по размерам стопы) слов, свободный (порядок слов) синтаксис — вот основные условия реализации силлабо-
тонического стиха / текста. Поэтому верлибр как новый поэтический дискурс вряд ли сможет вытеснить
традиционные дискурсивные формы русской силлабо-
тоники (русский верлибр генетически восходит к подстрочнику, неизбежность которого в процессе перевода очевидна), верлибр — это параллельный силлабо-
тонике, но не альтернативный тип просодии. Поэзия
вообще не перевод с обиходного на высокий язык. Поэзия — вербализованная музыка, укрепляющая мышцы
мысли.
Борис Рыжий превосходно ориентировался в памяти языка, во-первых, осознавая процессы поэтической
24*
707
ЮРИЙ КАЗАРИН /Поэт Борис Рыжий
генетики, а во-вторых, безошибочно делая свой дискурсивный и языковой выбор.
Олег Дозморов вспоминает, что в начальный период знакомства с Борисом они постоянно как бы обменивались паролями, такими, например, как «Кушнер»,
«Рейн», «Гандлевский» и проч. Поэтический пароль —
это «визитная карточка» стихотворца, его эстетический,
этический, языковой и культурный опознавательный
знак. В 1996 году Борис и Олег не могли уже работать
с паролем «Пушкин» или «Лермонтов» — для этого они
были слишком искушенными стихотворцами. Система
«поэтических паролей» (обеспечивающая межличностные отношения поэтов) — очень подвижна, изменчива
и, как парадигма поэтических имен, постоянно стремится к сокращению, что обусловлено «поэтическим
взрослением» стихотворца.
Итак, в 1996 году паролем, открывшим возможность
общения двух поэтов, стал А. Кушнер («И. Бродский»
таким паролем для Бориса быть не мог в силу абсолютно массового использования в средней литераторской
среде — и поэтического дискурса, и самого имени Нобелевского лауреата: Б. Рыжий сознательно избегал влияния толпы — любой, в том числе и литературной, эпигонской). Этот пароль — ориентир был, безусловно,
частью поэтического тандема (как это ни странно звучит) Бродский — Кушнер. Кстати, именно А. Кушнер
рекомендовал стихи Бориса к первой его публикации
в журнале «Звезда». Пароль «Кушнер» был вскоре «переименован» в «Слуцкого». Борис взял у Олега книги стихов Д. Самойлова и Б. Слуцкого.
Борис был потрясен неведомой для него поэтикой,
в частности — дискурсом поэзии советского периода.
Именно прозаизированные стихи Б. Слуцкого в даль¬
708
Есть только музыка одна
нейшем помогут Борису сделать свой решительный шаг
в сторону поэтической разговорности и нарратива. От
стихов Д. Самойлова он воспринял легкость, классическую (подзабытую в 70—80-х гг. XX в.) просодическую гармонию и гармоничность. Из парафразы (и аллюзий) самойловского стихотворения «Сороковые, роковые...» родилось стихотворение «Восьмидесятые, усатые...» Рыжего, сравните:
Сороковые, роковые,
Военные и фронтовые,
Где извещенья похоронные
И перестуки эшелонные.
Гудят накатанные рельсы.
Просторно. Холодно. Высоко.
И погорельцы, погорельцы
Кочуют с запада к востоку...
А это я на полустанке
В своей замурзанной ушанке,
Где звездочка не уставная,
А вырезанная из банки.
Да, это я на белом свете,
Худой, веселый и задорный.
И у меня табак в кисете,
И у меня мундштук наборный.
И я с девчонкой балагурю,
И больше нужного хромаю,
И пайку надвое ломаю,
И все на свете понимаю.
709
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
Как это было! Как совпало —
Война, беда, мечта и юность!
И это все в меня запало
И лишь потом во мне очнулось!..
Сороковые, роковые,
свинцовые, пороховые...
война гуляет по России,
А мы такие молодые!
* * *
Восьмидесятые, усатые,
хвостатые и полосатые.
Трамваи дребезжат бесплатные.
Летят снежинки аккуратные...
Если посмотреть на первое стихотворение взглядом
двадцатилетнего, живущего в 90-х, то куда как симпатично выглядит и слышится оно — с прозаизмами («ушанка», «консервная банка», «балагурить», «и это все в меня
запало» — каково это «запало»! — вполне по Борису Рыжему). За фигурой Самойлова явно маячат стилистические призраки В. Луговского, Н. Тихонова и даже Э. Багрицкого. И в том и в другом тексте реализуется одна
картина веселой беды и молодости, задора, озорства и
смерти. Правда, Борис находит свое графическое решение, отказываясь от выделения строф, создавая не куплетные импульсы эмоции и мысли, как у Самойлова,
а монолитный поток поэтического нарратива — выражение уже не боли, еще не смерти. Для Б. Рыжего
в стихотворении было важно все — от чтения / звучания
до графического исполнения: если у Д. Самойлова
710
Есть только музыка одна
текст — это явный диалог, в первую очередь, с собой —
умиляющимся и удивленным, то текст Б. Рыжего — это
монолог, ироничный, веселый и горький (Вспоминаю,
как Борис был разгневан тем, что в юбилейной книжке
(2000, № 11) журнала «Урал» его стихотворение «Разговор с небожителем» по произволу некомпетентного редактора было напечатано неверно — 4, 5 и 6-е четверостишия почему-то слеплены в одну строфу, — после чего
Борис дал слово больше в этом журнале не печататься.
И не печатался — до самой смерти).
В это же время Борис познакомил Олега Дозморова
со стихами Евгения Рейна. «Рейн» — это второй, и очень
прочный, долговременный пароль в разговорах-беседах
и в поэтической работе двух друзей. Олег отмечает любовь Бориса к поэзии Е. Рейна как продолжателя дискурсивной традиции «советской» поэзии (о чем очень
убедительно говорил сам Евгений Борисович, считая,
что уж если поэзия первой трети XX века была остановлена властью, государством и обществом в 30-х годах, то и продолжать, развивать эту «замороженную»
поэтику нужно как бы с момента той самой остановки, — это замечательный поэт Е. Рейн всегда делал и
делает блестяще до сих пор). Кстати «Сороковые, роковые...» были преобразованы в «Восьмидесятые, усатые..» при практическом и энергетическом (такова генетика поэзии) содействии (посвященного Иосифу
Бродскому) «Мальтийского сокола» Евгения Рейна:
Сороковые, роковые,
совсем не эти, а другие,
война окончена в России,
а мы еще ребята злые...
(Вступление II, Пятидесятые)
711
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
Генезис дискурсивной части поэтики Б. Рыжего,
таким образом, имеет такую хронологическую последовательность: 30-е года —» 40-е года -» 50-е года —>
60-е года (Слуцкий!) -» 80-е года и т. д. Это — XX поэтический век, о XIX — речь впереди.
Что касается генетических истоков поэтики Е. Рейна, то они, безусловно, находятся в XIX веке и дополняются дискурсами Н. Гумилева и А. Блока. Борис понимал такую комплексную природу «влияний», осознавая, что их характер является абсолютно добровольным,
ожидаемым, желанным и плодотворным. Борис понимал также, что поэт (мэтр, каким был для него Е. Рейн)
разворачивает обычно не всю карту своих поэтических
ориентиров: что-то ведь должно оставаться про запас,
который обязан усиливать твою дискурсивную уникальность.
Борис и Олег оговаривали и обсуждали определенные (и — точные) установки для дальнейшего сочинительства, вот они:
1) прозаизация стиха (подготовка стилистического
взрыва за счет употребления лексики просторечной,
вульгарной и вообще разговорной);
2) временная и пространственная конкретизация
содержания стихотворений (употребление точных географических названий, имен реальных лиц, персонажей и прототипов, указание на время проистекания
событий — «10-й класс», например, или зима в г. Пермь
и др.);
3) поэтологической доминантой должна быть поэтика советского периода (от 30-х до 70-х гг. XX в.),
Олег вспоминает, что Борис любил стихи Я. Смеля-
кова, В. Луговского и многих других советских поэтов,
и знал некоторые из них наизусть (здесь наблюдается,
712
Есть только музыка одна
безусловно, плодотворное влияние Бориса Петровича,
знатока советской поэзии). Вчитаемся в «Попытку завещания»:
Т. С
Когда умру, мои останки,
с печалью сдержанной, без слез,
похорони на полустанке
под сенью слабою берез.
Мне это так необходимо,
чтоб поздним вечером, тогда,
не останавливаясь, мимо
шли с ровным стуком поезда.
Ведь там лежать в земле глубокой
и одиноко, и темно.
Лети, светясь неподалеку,
вагона дальнего окно.
Пусть этот отблеск жизни милой,
пускай щемящий проблеск тот
пройдет, мерцая, над могилой
и где-то дальше пропадет...
(1966)
Стихи Я. Смелякова — и просодически, и тематически, и пафосно — очень близки Борису («когда умру»,
«похороны», «жизни милой», «над могилой») своей элегичностью, поэтому следующей установкой (но достаточно прикрытой от собеседника, так сказать, тайной
и почти интимной) стала
4) элегичность;
713
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
5) наивность, песенность, «протяжность», явная,
внешняя, музыкальность и т. п. Олег вспоминает, что
Борис знал наизусть и любил стихотворение Л. Якубовича «Украинские мелодии»:
Где ты, доля, моя доля,
На горе или средь поля?
Гору можно раскопать,
Поле можно распахать.
Иль близ моря на долине
Диким маком ты цветешь?
Или в роще, на калине
Ты малиновкой поешь?
Прилети же птичкой, доля,
Хоть на миг ко мне присядь;
Ах, ты доля, моя доля!
Где тебя мне, доля, взять?...
Бориса прельщали здесь прежде всего наивная картина мира, безыскусность, сентиментальность и абсолютная музыкально-стилистическая открытость. Неопределенная определенность фольклорных способов
выражения эмоции держится на повторах, которые Борис использовал виртуозно и которые в его творчестве
были также поддержаны опытом таких «рефренистов»-
поэтов, как К. Случевский и И. Анненский.
Олег вспоминает, как однажды они сидели на кухне
в родительском доме и Борис прочитал наизусть стихотворение Т. Шевченко «Завещание» (он любил Тараса Шевченко особенной любовью — отзывались и сказывались украинские, харьковские, корни):
Как умру, похороните
На Украйне милой,
714
Есть только музыка одна
Посреди широкой степи
Выройте могилу,
Чтоб лежать мне на кургане,
Над рекой могучей,
Чтобы слышать, как бушует
Старый Днепр под кручей...
И опять — похороны и воскрешение, а главное —
читая, — печальная, вполне древнеславянская музыка.
Борис в тот вечер, прочитав Олегу «Завещание», позвал
на кухню отца, который знал эти стихи по-украински и
попросил его прочитать:
Як умру, то поховайте
Мене на могши,
Серед степу широкого,
На Вкранп милш,
Щоб лани широкопол!,
I Дншро, i круч1
Було видно, було чути,
Як реве ревучий...
Музыкальный мотив похорон — воскрешения — не
страшен, такова просветляющая сила традиционной (языковой!) славянской рифмы «милый — могила», такова
неиссякаемая энергия песни — элегии, переходящей
из уст в уста, обновляясь индивидуальными эмоциями
и обновляя черствеющий мир. В поэтической личности
Бориса Рыжего наиболее сильнодействующими, если не
доминирующими в целом, оказываются дискурсивный
(просодический, музыкальный) и этический компоненты, работающие на энергии родовой, кровной и языковой — поэтической.
715
ЮРИЙ КАЗАРИН /Поэт Борис Рыжий
Следующая поэтологическая установка (и далеко не
последняя) —
6) создание своего героя (то, что в нем проявилась
ориентация Б. Рыжего на образцы поэтики советского
периода, проницательно отмечалось и Алексеем Пури-
ным, и Алексеем Машевским в статье «Последний советский поэт»). Герой Б. Рыжего совместил в себе черты классического романтика (XIX век), трезвого, или
трезвеющего, романтика (XX век) и трагического романтика (индивидуальный опыт поэта). Пушкин в записях 1835—36 годов замечает, что «Дельвиг не любил
поэзии мистической. Он говаривал: «Чем ближе к небу,
тем холоднее...»1. Борис очень любил Антона Дельвига
(думаю, ему нравился образ жизни поэта — абсолютно
отстраненный от так называемого литературного процесса; кроме того, Дельвиг в поэзии занимался примерно тем же, чем увлекался и Рыжий, — он совмещал
практически несовместимое — античность и фольклорность, т. е. определенность / выраженность / эксплицит-
ность и неопределенность / имплицитность двух различных типов поэтического мышления). Стихи Бориса, на первый взгляд, ближе к земле (конкретный хронотоп) и поэтому теплы, горячи и т. д. Но и неба-небес
в его стихах предостаточно: Борису удалось отеплить ту
сферу небес, которой избегал в стихах его коллега-
барон:
... И понял я, что не одна мерцала
звезда, а две, что не одна горела
звезда, а две, и, не сказав, что мало,
я все же не скажу, что много было
Пушкин А. С. Записные книжки. — М., 2001. С. 236.
716
Есть только музыка одна
их (звезд), чтобы расправиться со мглою
над круглою моею головою.
(1997)
Для Бориса звезда — это и есть жизнь, теплая, горячая, жаркая; это женщина, судьба, любовь и т. д. Поэт
усилием своей жизни и смерти синтезирует бытийное
и бытовое, онтологическое и этическое. Бытие у Бориса
Рыжего этично — для того, чтобы оставалась если не
возможность, то хотя ты надежда на воскрешение. А когда
этой надежды нет, то остается, что называется, прорываться:
Дай нищему на опохмелку денег.
Ты сам-то кто? Бродяга и бездельник,
дурак, игрок.
Не первой молодости нравящийся дамам,
давно небритый человек со шрамом,
сопляк, сынок.
Дай просто так и не проси молиться
за душу грешную; когда начнет креститься,
останови.
...От одиночества, от злости, от обиды
на самого, с которым будем квиты, —
не из любви.
Здесь у Бориса — не-грубость, это и есть усилие воскрешения, но не по Пастернаку — воскрешения чудесного, божественного; воскрешение по Рыжему — земляное, с шашлыками, с чертовщиной — напористое, почти озорное (ирония и автоирония как показатель ума,
717
ЮРИЙ КАЗАРИН /Поэт Борис Рыжий
мудрости), одним словом, — коллективное воскрешение.
Герой Бориса Рыжего всегда по-пушкински на стороне слабых («маленькие люди», «бедные», по Достоевскому, «люди») и по-лермонтовски все-таки одинок,
трагичен, весел, ироничен до горьких слез.
Сознательное (вслед за Е. Рейном и др.) продолжение традиций советской поэзии делает Бориса не только «последним советским поэтом» — это было бы слишком просто, прямо-таки заманчиво просто — вот в чем
разгадка! — но и первым несоветским, постсоветским
поэтом, которому удалось совместить гармонично и
в достаточно полном объеме три типа поэтики: поэтику золотого века, свинцового (XX век) и новейшую.
Борис сознательно избегал в своем творчестве каких-
либо соответствий, аналогий с поэтикой серебряного
века (слишком уж все это было на слуху и на бумаге
коллективного среднего стихотворца и читателя), он,
скорее, не избегал, а уклонялся, предварительно, конечно, усвоив и освоив поэтику акмеизма, имажинизма и проч., от репродуктивной силы поэзии Б. Пастернака, О. Мандельштама и М. Цветаевой (А. Ахматова
в этой четверке «горячих и адских» является суперсимволом поэтического традиционализма и протестантства,
эталоном не жизни — но судьбы).
Правда, иногда Борис забывал о своем «акмеистическом табу» и, играя в переписку с А. Леонтьевым,
поигрывая в литературность и аллюзитивность:
...Не бабочки, но жирные стрекозы
теперь, мой друг, в моем летают сквере:
жужжат и демонстрируют печальный —
осенний — самый высший пилотаж,
718
Есть только музыка одна
ломая крылья о сухие ветки
и пальцы одиночек, на скамейках
раскуривающих то желтый «Carnei»,
то синий «Космос». Что до длинноногих,
жемчужнозубых, приторных — их нет.
Я осенью люблю гулять один.
Тут у меня одна подруга — осень.
Душа моя полна, как сквер мой полон,
ее промокших карточек визитных.
И я, мой друг, меняюсь, как природа:
как дождь, рыдаю и роняю листья,
покачиваясь на ветру холодном,
всё забывая начисто, что было,
и стиль, в котором сочинял и мыслил
до рококо больного листопада...
До безымянной готики ветвей.
(1996)
Жирные стрекозы, подруга-осень, душа, полная понятно чем, свободный синтаксис (с мандельштамовским,
однако, «не..., но....») и свободный стих — это не взгляд
в поэтическое прошлое, это констатация поиска в настоящем, которое незаметно переходит в будущее. А вот стихотворение «Музе», в котором Борис соединяет просодию и мировосприятие серебряного и свинцового XX века:
Напялим черный фрак
и тросточку возьмем —
постукивая так,
по городу пойдем.
Где нищие, жлобье,
безумцы и рвачи —
сокровище мое,
719
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
стучи, стучи, стучи.
Стучи, моя тоска,
стучи, моя печаль,
у сердца, у виска
за все, чего мне жаль.
За всех, кто умирал
в удушливой глуши,
за всех, кто не отдал
за эту жизнь души.
Среди фуфаек, роб
и всяческих спецух
стучи сильнее, чтоб
окреп великий слух.
...Заглянем на базар
и в ресторан зайдем —
сжирайте свой навар,
мы дар свой не сожрем.
Мы будем битый час
слоняться взад-вперед.
...И бабочка у нас
на горле оживет...
(1996, март)
Борис отлично знал поэтов, которым пришлось наблюдать перерождение поэтического серебра в стихотворный свинец: он любил стихи В. Ходасевича, Г. Адамовича, Г. Иванова и др.:
Европейская ночь
Трущоб парижских горечь,
неоновый рассвет:
Иванов, Адамович
и даже мэт(ы)р Бунин,
720
Есть только музыка одна
а Ходасевич — нет.
Спроси, о чем тут речь?
Тут речь о том, что будем
мы нашу честь беречь.
(1997)
И опять улыбка, горечь иронии: Борис прекрасно
осознавал не только характер внешней, поверхностной
трагедии (вне родины) поэтов парижского времени и
места, он видел и глубинную часть этой трагедии (вне
языка, вне воздуха культуры и проч.). И эта трагедия
им воспринималась как часть своей катастрофы — бытобытийной, жизненной и роковой:
Не Не Не
Ни денег, ни вина...
Г. Адамович
— Пойдемте, друг, вдоль улицы пустой,
где фонари висят, как мандарины,
и снег лежит, январский снег простой,
и навсегда закрыты магазины.
Рекламный блеск, витрины, трубы, рвы.
— Так грустно, друг, так жутко,
так буквально.
А вы? Чего от жизни ждете вы?
— Печаль, мой друг,
прекрасное — печально.
Все так, и мы идем вдоль черных стен.
— Скажите мне,
что будет завтра с нами?
И безобразный вечный манекен
глядит нам вслед красивыми глазами.
721
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
Что знает он? Что этот мир жесток?
Что страшен?
Что мертвы в витринах розы?
— Что счастье есть, но вам его, мой бог,
холодные — увы — затмили слезы.
(1995, январь)
Образ манекена, если это действительно образ, а не
наваждение, является достаточно частотным в поэзии
Б. Рыжего, который осуществлял свое поэтическое
выражение быта и бытия циклично (вполне по-блоковски): выделяется несколько очевидных смысло-тематических циклов: стихи Эле, о смерти, одиночество, манекены, на смерть поэта, петербургские стихи, свердловские стихи, стихи, посвященные родным, стихи
Ирине, стихи сыну, стихи друзьям (А. Леонтьев, О. Доз-
моров), «офицерские» стихи — игровой цикл, стихи
о поэтах (преимущественно XIX в.); «музыкальный» цикл,
стихи о современниках (поэтах и др.); стихи о городах (Пермь и др.), стихи городские; стихи о невыразимом и др.
Борис очень любил стихи Георгия Иванова, знал наизусть несколько его стихотворений (в частности, из цикла «Посмертный дневник (1958)»). Олег Дозморов вспоминает, что Борис часто читал стихотворение 1950 года:
1.
Друг друга отражают зеркала,
Взаимно искажая отраженья.
Я верю не в непобедимость зла,
А только в неизбежность пораженья.
722
Есть только музыка одна
Не в музыку, что жизнь мою сожгла,
А в пепел, что остался от сожженья.
2.
Игра судьбы. Игра добра и зла.
Игра ума. Игра воображенья.
«Друг друга отражают зеркала,
Взаимно искажая отраженья...»
Мне говорят — ты выиграл игру!
Но все равно. Я больше не играю.
Допустим, как поэт я не умру,
Зато как человек я умираю.
Сказано как будто о внутренней и внешней судьбе
Бориса Рыжего.
Одно из последних (скорее всего — последнее) стихотворений Г. Иванова —о том же, но более — о недолговечности человеческого бытия:
Поговори со мной еще немного,
Не засыпай до утренней зари.
Уже кончается моя дорога,
О, говори со мною, говори!
Пускай прелестных звуков столкновенье,
Картавый, легкий голос твой
Преобразят стихотворенье
Последнее, написанное мной.
(1958)
Страшное и легкое одновременно стихотворение соединяет здесь прошлое с будущим, живого с мертвецом,
поэта с человеком. Такой эмоционально-вербальный
723
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
синтез различных временных планов был сродни поэтическому хроносу Б. Рыжего: «рай» становился постижимым и достижимым только через смерть (концепция
вечная, но не утратившая своей трагичности за счет постоянного обновления трагедии жизнью и судьбой очередного поэта).
Поэзия XX века, вслед за Лермонтовым, научила Бориса Рыжего мыслить, переживать и звучать отдельными, виртуозно и эмоционально организованными лирическими формулами, которые, сливаясь в одно целое,
представляли собой или строфический музыкальный
фрагмент, или песню, или просто музыку, которую можно
оборвать на полуслове. Поэзия Эдуарда Багрицкого, романтического лидера 20—30-х годов XX века была особенно любима Борисом. Формула «Украина, мать родная, Украина милая» Шевченко была усвоена Багрицким и преобразована в «Ой, Украина, моя Украина! Горит
Украина, кричит Украина!» и подхвачена — в уже ином,
несколько облегченном и опустошенном до символа, виде
Самойловым — «Украина золотая, Белоруссия родная!».
Эта лирическая формула прошла просодический путь от
песни кобзаря до либретто оперы «Дума про Опанаса»
и вернулась к песне победителя-освободителя Украины,
Белоруссии, Польши и т. д. Истоки элегичности поэзии
Б. Рыжего, таким образом, находятся также и в устной
народной поэзии.
Борис знал наизусть и любил «произносить» (иначе
не скажешь) такие общеизвестные стихотворения
Э. Багрицкого, как «Арбуз» и «Контрабандисты». Увлечение романтикой Багрицкого — «Ай, Черное море!..
Вор на воре!» — совпало с тотальной симпатией государства и страны к романтике криминальной (чтиво,
телесериалы, теленовости, документальные криминаль¬
724
Есть только музыка одна
ные саги и проч.), хотя Борис с такого рода романтизмом был знаком с детства — по книгам со стихами Багрицкого в отцовской библиотеке и по темному пафосу
улиц городской окраины:
* * *
Трамвай гремел. Закат пылал.
Вдруг заметался
Серёга, дальше побежал,
а мент остался.
Ребята пояснили мне:
Сереге будет
весьма вольготно на тюрьме,
не те, кто судят,
страшны, а те, кто осужден.
Почти что к лику
святых причислен будет он.
Мента — на пику!
Я ничего не понимал,
но брал на веру,
с земли окурки поднимал
и шел по скверу.
И все. Поэзии — привет.
Таким зигзагом,
кроме меня, писали Фет
да с Пастернаком.
(7998)
От Пастернака и Фета в этом стихотворении только
шахматный порядок следования короткострочных строф.
Остальное — от Багрицкого и Рыжего. Борис не был
бандитом — с ним произошел казус Есенина: приезжает
725
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
из глубинки в столицы красавец с сильными и немосковскими / непитерскими стихами. Борис играл — не
переигрывая — в чужого, который готов стать своим:
петербургские поэты поверили, а вот Е. Рейн — нет, не
поверил, раскусил, хотя сам никогда не был провинциалом. Борис сознательно способствовал мифологизации
своего образа человека-боксера, приблатненного —
и все такое... Но это уже металитературный сценарий,
который неплохо накладывал друг на друга сценарий
поэтический и социально-литературный и который,
естественно, помогал нормально осуществляться и тому,
и другому. Борис в жизни был совсем другим: он был
чистоплотен до брезгливости (как-то заметил, что Олег
часто моет руки, и сказал другу, что постоянное мытье
рук — это подспудный страх смерти, что сам он тоже
до двадцатилетнего возраста каждые 5 минут мыл
с мылом руки, но приказал себе не мыть — и не моет);
он тщательно следит за своим здоровьем (мама — медик, поэтому он покорно принимает из ее рук любые
лекарства), за своей внешностью — выбирать вещи себе
он не умел или не любил — это делали родные, но носил их со вкусом и бережно; по утрам Борис обзванивал по телефону друзей — О. Дозморова, А. Верникова,
Д. Рябоконя, Р. Тягунова, и если на другом конце провода телефон был занят, то он обзванивал всех по второму кругу для того, чтобы выяснить, кто с кем говорит... Игра иногда переходила в ревность и обиду. Но
такая ревность — обида была явно детской, опять же
игровой. Борис искал соучастников — сначала в своей
игре, а потом и в жизни, и в смерти. Поэт умирает
коллективно, на миру...
У Бориса Рыжего была замечательная память на чужие стихи, которые, запоминаясь, усваивались, осваива-
726
Есть только музыка одна
лись и становились вполне своими. Поэт даже заменял
некоторые, видимо, очень важные для него, авторские
слова — на свои, — что свидетельствует о наличии у Бориса превосходного чутья на не только семантическую,
но и музыкальную, эстетическую и этическую позицию
слова (так в некрасовском стихотворении «Утро», зная
его наизусть, Борис подсознательно произносил не «ты
грустна, ты страдаешь душою...», а «Ты больна, ты страдаешь душою...», — явный перевод эмоции в более глубокое, комплексное, эмоционально-физиологическое и обнаженно духовное состояние). Борис обладал необыкновенно широким диапазоном поэтических цитат, что
прежде всего объясняется его природным, а не филологическим, благоприобретенным, отношением к поэзии,
к стихам и к поэтам: умение воспринимать поэтическую
речь и поэтический язык буквально — свойство подлинного поэта. Игры в «угадайку» (а это чье стихотворение?) —
любимое занятие и Бориса, и Олега, которые часто разыгрывали своих столичных (бывало, и весьма почтенных коллег), читая им малоизвестные и совсем нехарактерные для данного автора стихи А. Блока, И. Анненского, Н. Некрасова и других.
Потрясением стало для Бориса знакомство с поэзией Аркадия Штейнберга: здесь все было его, Борисово, — и судьба, и поэтика, музыкальная боль, и необыкновенно чистая (а не — мощная, как, например,
у советских поэтов 20-х—30-х гг.) речевая энергия и
интонация:
Идет купаться портовой рабочий,
Расстегивает куртку на ходу.
Тем временем вода теплеет к ночи,
И трубы спорят в городском саду...
727
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
А. Штейнберг близок Б. Рыжему прежде всего концептуально: отношение обоих поэтов к «маленькому
человеку» — почти одинаково, потому что сами поэты
не жалеют и не умиляются над ним, а пытаются совпадать с ним в главном — не эмоциональном и бытовом,
а в духовном и бытийном.
Стихотворение «Черное море» читалось друзьями
постоянно:
I. Я видел море Черное во сне,
Как сирота под старость видит маму.
Оно большой рекой приснилось мне,
Похожей на Печору или Каму.
<...>
III. Но это было море предо мной,
Зажатое меж берегов покатых!
Знакомый запах — йодный, смоляной,
Шел от него; и паруса в заплатах, —
IV. Лохмотья нищей юности моей, —
Бросая вызов сумраку ночному,
Средь укрощенных временем зыбей,
Ловили ветер так не по-речному!
(1935)
Здесь все Борису по душе: и море, и сироты, и мама,
и Кама, и юность, и любовь. Штейнберг для Бориса —
открытие возможности говорить прямо, выражать неизъяснимое через выразимое, конкретное.
Эмоциональный автоимператив А. Штейнберга был
освоен Борисом сразу, тем более Штейнберг здесь идет
728
Есть только музыка одна
от Блока, а Блок для Бориса Рыжего — это прежде всего музыка.
Штейнберг и Рыжий совпадают и тематически,
и интонационно и, что очень важно, онтологически.
«Отходная» Аркадия Штейнберга была особенно любима Борисом:
...С незакатных высот
Светопад ослепляющий,
Нестерпимо пылающий,
Весть благую несет.
И мерцают лучи
На серебряной храмине
Алым отблеском пламени
Поминальной свечи.
(1971)
Борис, в последние полтора-два года своей жизни,
занимался (и подсознательно, и прямо вербализуя
в своих стихах конец жизни, край бездны) смертестро-
ительством.
Поэтологическая парадигма Блок — Штейнберг —
Рейн (а в стихах Е. Рейна присутствие Штейнберга
ощутимо, да и сам поэт любил своего старшего товарища: см. его стихотворение «Из Лермонтова» [Памяти Аркадия Штейнберга], которое также было очень
близко Борису) стала мощной энергетической поддержкой самороста и самовоспитания Бориса Рыжего.
Был ли Борис Рыжий «последним советским поэтом» — вопрос риторический: поэтическая генетика
любого стихотворца не терпит пустот, она — процесс,
729
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
и вольный, и непроизвольный, качественно (и количественно) необходимый поэту, — от воздействия памяти
языка, поэзии и культуры не увернешься, потому что
эта память — в тебе.
Любовь (вполне искренняя) Бориса к советской
поэзии была воспитана в нем прежде всего отцом, Борисом Петровичем Рыжим, и поэтом Юрием Леонидовичем Лобанцевым, первым старшим другом-наставни-
ком и руководителем поэтического клуба «Горный родник». Именно Ю. Лобанцев учил и научил Б. Рыжего
«держать» стихами аудиторию и не брезговать тем, что
принято сегодня, к сожалению, называть «совковым».
Язык поэзии как оптимальное выражение быта и бытия — вечен. Вечен хотя бы в рамках живого языка выученного наизусть стихотворения.
Борис прекрасно осознавал и социальную, и качественную сторону литературы и поэзии в России. Он
был знатоком и профессиональным ценителем и оценщиком современной (1990-е годы) поэзии. У меня хранится ксерокопия списка «лучших русских поэтов» —
современников, написанного рукой Бориса Рыжего
в 2000 году. Вот он:
+ Рейн
+ Гандлевский
+ Гандельсман
+ Денис Новиков
Иван Жданов
+ Кушнер
Пурин
Пригов
Кибиров
(зачеркнуто)
+ Еременко
+Уфлянд
+Лосев
+ Еремин
Елена Шварц
+ Кублановский
+ Чухонцев
<Нрзб>
Парщиков
+ Леонтьев
730
Есть только музыка одна
Всего в списке 20 имен (одно зачеркнуто и одно
записано неразборчиво), 12 имен отмечены крестиком
(возможно, имена тех, с кем Борис связывался и заручился согласием публиковаться в журнале: Борис очень
хотел переменить «поэтическое лицо» заштатного, маргинального издания). Парадигма современных поэтов,
составленная Борисом, основана не на его поэтических
пристрастиях, а скорее определяется реально существующей ситуацией в поэтосфере России и русского зарубежья. Е. Рейн и С. Гандлевский для Б. Рыжего — это
постоянные поэтологические ориентиры, кроме того,
в списке есть В. Гандельсман, которого Борис уважал и
стихи которого ценил. Представлены здесь и московская, и петербургская («ленинградская») поэтические
школы, попали в список иронист Т. Кибиров и постмодернист Дм. А. Пригов — это естественная дань читательской моде (ведь Борис был сотрудником журнала!). Вызывает удивление наличие имен «метареалистов» (метаметафористов и проч.) А. Еременко, И. Жданова и А. Парщикова: думаю, Борис, относясь к такой
поэзии достаточно иронично, все-таки любил отдельные стихотворения этих, безусловно, замечательных поэтов. Л. Лосев, видимо, попал в список, скорее, как
филолог и некая заграничная, но вполне самостоятельная «культурная» тень И. Бродского. Завершает список
имя Александра Леонтьева, друга Бориса Рыжего (наверное, никогда не забуду мертвое от горя лицо Саши,
приехавшего в мае 2001 г. на похороны Бориса). В этом
списке нет имен нескольких поэтов, которые, наверное, объективно могли здесь присутствовать — но не
нам судить. В комнате Бориса (в доме отца) я видел на
полочке книгу Алексея Цветкова — сильно почитанную, поэзия которого — дискурсивно и тематически
731
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
была близка Б. Рыжему, но — в списке А. Цветкова
нет. Нет и Бахыта Кенжеева, и что, очень естественно
для Бориса — уже вполне московского и питерского, —
не попали в список местные поэты — Алексей Реше-
тов, Майя Никулина и др. (может быть, список составлялся только с учетом неуральского поэтического ареала...).
Поэтический список Б. Рыжего вместил в себя не
многих, но зато любимых, близких и необходимых Борису и литературе поэтов. У П. А. Вяземского есть стихотворение «Друзьям», которое Борис часто наизусть
читал друзьям:
I. Я пью за здоровье не многих,
Не многих, но верных друзей,
Друзей неуклончиво строгих
В соблазнах изменчивых дней.
<...>
V. За здравье и ближних далеких,
Далеких, но сердцу родных,
И в память друзей одиноких,
Почивших в могилах немых.
(1861)
Борис как поэт и читатель поэзии (а читатель и поэт
в нем явно дружили и понимали друг друга — это не
образованность многих, а наличие подлинной культуры немногих), как литератор и критик был очень строг,
но к самому себе он был еще требовательнее. Он буквально истязал себя сомнениями (к концу 2000 г. это
уже был почти самосуд). Борис искал новый дискурс,
732
Есть только музыка одна
новые эстетические и тематические ориентиры. Он
много читал, особенно — Ф. Достоевского, Л. Шесто-
ва, Ф. Ницше и Библию (очень часто читал кн. Иова,
знал работы о ней Л. Шестова и А. Сопровского). Любил раннего Льва Шестова (о Достоевском), читал и
перечитывал дипломную работу Фридриха Ницше «Рождение трагедии из духа музыки»: Борис всей судьбой
своей совпадал с концепцией мудрого, сумасшедшего
немца, правда, у нашего трагедия росла из музыки точно так же, как сама музыка произрастает из трагедии, —
второе относится непосредственно к истинной поэзии:
* * *
...Закрывай свои синие и голубые глаза
чтоб на длинных ресницах лежали большие снежинки
под Ижорами гений успел поглядеть в небеса
я могу прочитать тебе эти стихи без запинки.
<...>
Вот по синему льду голубой конькобежец плывет
искры из-под коньков и летит и не знает подвоха
через миг может быть брызнет красная краска на лед
вот и все, милый друг — и у этих кончается плохо.
(1997)
Борис Рыжий движется от сложностей культуры —
к не менее сложному, почти к примитиву, как от рождения — к смерти, вот почему его всегда привлекали музыка, страдание, исчезновение — как единое целое, как
сгусток энергии, способный вытянуть если не саму жизнь,
733
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
то хотя бы голос — туда, где все повторяется: и рождение, и ужас красоты, и снова смерть. «О, если бы верно взвешены были вопли мои, и вместе с ими положили на весы страдание мое! Оно верно перетянуло
бы песок морей! Оттого слова мои неистовы!» (Иов,
гл. 6. — 2, 4). — «И душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, нежели сбережения моих
костей» (Иов, Гл. 7. — 15). — Борис Рыжий мучительно
постигает — вслед за пушкинским гуманизмом — гуманизм онтологический, когда жизнь и смерть — одно,
когда рождение есть начало смерти как начала бессмертия: «Вспомни, что Ты, как глину, обделал меня,
и в прах обращаешь меня? Не Ты ли вылил меня, как
молоко, и, как творог, сгустил меня, кожею и плотию
одел меня, костями и жилами скрепил меня...» (Иов,
Гл. 10. — 9, 10, 11). — Мучительно любимая Борисом
книга Иова прямо говорит ему о том, что красота человека в сущности ужасна, прекрасна и чудовищно болезненна, но — бессмертна: «Вот, я открываю уста мои,
язык мой говорит в гортани моей. Слова мои от искренности моего сердца, и уста мои произнесут знание чистое. Дух Божий создал меня, и дыхание чистое. Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне
жизнь...» (Иов, 33. — 2, 3, 4). — Поэзия — это жизнь
(и, по Борису Рыжему: «Жизнь — суть поэзия...»), но
человек, если он поэт, умирает от жизни: «И жизнь его
отвращается от хлеба, и душа его от любимой пищи.
Плоть на нем пропадает... И душа его приближается
к могиле, и жизнь — к смерти. Если есть у него Ангел-
наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку
прямый путь его, — Бог умилосердится над ним и скажет: «освободи его от могилы: Я нашел умилостивление».
Тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости; он
734
Есть только музыка одна
возвратится к дням юности своей» (Иов, 33. — 20—25), —
значит смерть — «не сплошная проза», а — другая жизнь
и поэзия. Какая? Именно эту, иную поэзию, «бытийную», искал Борис в Библии: «Он освободил душу мою
от могилы, и жизнь моя видит свет... Вот, все это делает
Бог два, три раза с человеком» (Иов, 33. — 28, 29), —
четыре, пять — и так может продолжаться до бесконечности, потому что все смертное умирает и не умирает,
оно исчезает оставаясь и не исчезая, оно и есть красота,
какой бы страшной и безобразной эта красота ни была.
Книга Иова подсказывает, что человек (если он
поэт) — больше черного горя, больше смерти, потому
что поэт — это человек, Богом пролитый не «молоком»
и сгущенный не в «творог», а пролитый музыкой и сгущенный в слово. «Свалка памяти, разное, разное. / Как
сказал тот, кто умер уже, / безобразное — это прекрасное, / что не может вместиться в душе...» Это — обрусевшая цитата из P. М. Рильке, которого Борис почитал за вполне разумное безумие, за «ославяненный» немецкий ум, за гармонию интеллектуально-чувственного
оксюморона. Идея Рильке о красоте близка идеям Достоевского (красота — страшная сила) и Ницше (красота — трагедия):
... Ибо красота —
только вестница страха, уже нестерпимого сердцу.
Ею любуемся мы, ибо надменная нас
пощадила. Каждый ангел нам страшен...
...Даже умные звери уже понимают,
как наша жизнь ненадежна в мире рассудка,
на неизменной земле...1
1 Дуинские элегии. Элегия первая. — Рильке P. М. Новые стихотворе¬
ния. — М., 1977. С. 286. Пер. Г. Ратгауза.
735
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
Рильке — это явный поэт Рыжего — и концептуально, и музыкально, см. «Французские стихотворения»
Рильке:
Возвышенное нас разводит с нами.
Несем тепло прощальное в руке,
а что-то поравнялось с небесами
и там — накоротке.
С искусством запредельное свиданье —
как ласковей разлуку назовем?
И музыка... предвестье расставанья:
от прежних нас все глаз не отведем1.
Иноязычные стихи, сочиненные Рильке по-французски и по-русски, выдают его явную онтологическую
растерянность, которая, с точки зрения Бога и поэта,
куда определеннее счастливого неведения о существовании истины как ужаса красоты, не красоты-страдания, а красоты — смерти и музыки. Вчитаемся в строки стихотворений Рильке, написанных на русском
языке:
Я так устал от тяжбы больных дней,
пустая ночь безветренных полей
лежит над тишиной моих очей.
Мой сердце начинал как соловей,
но досказать не мог свой слова;
теперь молчанье свое слышу я —
оно растет как в ночи страх
1 Рильке P. М. Новые стихотворения. — М., 1977. С. 325. Пер. Б. Дубина.
736
Есть только музыка одна
темнеет как последних ах
забытого умершего ребенка1.
Рильке прав: в сфере межъязыковой объективности
«сердце» и «слово» — существительные, (а значит —
субстанции) мужского, как «Бог» и «поэт», рода. «Музыка» французского стихотворения Рильке не страшнее «русского молчания»:
Я так один. Никто не понимает
молчанье: голос моих длинных дней
и ветра нет, который открывает
большие небеса моих очей.
Перед окном огромный день чужой
край города; какой-нибудь большой
лежит и ждет. Думаю: кто я?
Чего я жду? И где моя душа?2
Рильке создает на стыке трех языков — немецкого,
французского и русского — особую зону уже не межъязыковой интерференции, понимания и выражения,
а очевидную, осязаемую сферу интерфизической объективной, может быть, истинной музыки как части молчания и как молчания полного. Новой музыки — новой поэзии. Так трижды усиленная правда языка становится правдой бытия. Борис Рыжий это, безусловно,
понимал:
Осыпаются алые клёны,
полыхают вдали небеса,
солнцем розовым залиты склоны —
1 Рильке P. М. Новые стихотворения. — М., 1977. С. 370.
2 Там же.
25 Оправдание жизни
737
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
это я открываю глаза.
Где и с кем, и когда это было,
только это не я сочинил:
ты меня никогда не любила,
это я тебя очень любил.
Парк осенний стоит одиноко,
и к разлуке и к смерти готов.
Это что-то задолго до Блока,
это мог сочинить Огарев.
Это в той допотопной манере,
когда люди сгорали дотла.
Что написано, по крайней мере,
в первых строчках, припомни без зла.
Не гляди на меня виновато,
я сейчас докурю и усну —
полусгнившую изгородь ада
по-мальчишески перемахну.
Борис говорит о разлуке и смерти уверенно и спокойно потому, что осознает молчание / исчезновение
как новую музыку, иную поэзию, другую жизнь. Рильке прав, когда пишет в первой «Дуинской элегии» об
ангелах:
...Правда, и мы не нужны им, рано усопшим,
можно так кротко расстаться с земным,
как мы отвыкаем
от материнской груди...
...Правду твердит нам преданье: надгробная
причеть о Лине,
косный покой поборов, музыки лад родила...1
1 Рильке P. М. Указ. соч. С. 289. Пер. Г. Ратгауза.
738
Есть только музыка одна
Все дело не в музыке, а в ее удивительном свойстве —
никогда не исчезать, но — мучить, мучить, мучить...
Борис был читателем диким, стихийным, первородным. Интуитивно он выбирал себе именно ту книгу,
которая могла стать частью его творческой и жизненной концепции (это уже в середине 90-х гг., а до этих
пор он читал в основном то, что было в хорошей,
в плане поэтической подборки, отцовской библиотеке,
где была представлена преимущественно советская поэзия, — вот еще одно основание для увлечения Бориса
именно таким поэтическим наследием-материалом).
Достоевский, Шестов, Ницше, Рильке, Библия (и, естественно, многое другое) — помогли Борису сформулировать и освоить свою концепцию быта и бытия художника для того, чтобы — а это было в характере поэта,
настойчивом, целеустремленном, — апробировать ее на
конкретном поэтическом материале, т. е. — на себе. Тютчевский пессимизм (мощно функционирующий и энергетически неиссякаемый), выразившийся в требовании
тишины, вполне устраивал Бориса: «Мысль изреченная
есть ложь» — это утверждение, если следовать Ф. Тютчеву,
тоже — ложь, т. к. оно уже изречено. Поэтому Борис (естественно, подсознательно — как очень одаренный и крупный художник) ищет способы уменьшения степени влияния языка на мысль, ищет возможности неискажения мысли
(любой — и эмоциональной в том числе) и — с помощью
Достоевского, Шестова, Ницше, Рильке и кн. Иова — осознает, что только музыка как оболочка истинной «страшной», губительной, смертельной красоты, музыка языковая (материальная) и музыка метафизическая (смысловая, эмоциональная, пафосная, романтическая, одним словом — ментальная) как часть тишины и молчания
35*
739
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
(«Silentium!»), — только такая полифоническая, полупри-
родная, «сильнодействующая» музыка способна изреченную мысль оставлять в пределах если не бытовой правды, то — в безмерных рамках истины онтологической.
Музыка — трагедия, музыка — катастрофа, по Б. Рыжему, обладала такими свойствами выражения подлинного. Борис сознательно искал трагедии, помогающей ему
быть истинным поэтом.
Дух музыки — источник трагедии, которая не вмещается в одну душу — души не хватает, и душа гибнет
и, согласно кн. Иова (гл. 33), воскресает и вновь существует — еще сильнее, еще объемнее, еще моложе. Библия, как и философия, по Борису Рыжему, показывает
поэту новый тип номинации. Борис овладевал музыкально-вербальной номинацией, которая называла не
какую-либо определенную реалию — а саму мысль.
Стихотворение «Музыкант и ангел» (1995), где «В старом скверике играет музыкант...», «да парит голубоглазый ангелок...», — об этом, с образами Иова и Рильке,
с музыкой-мыслью в воздухе и в душе:
...Ах, чем музыка печальней, чем страшней,
тем крылатый улыбается нежней...
Человек, как носитель языка, познающий себя и мир,
обладает определенными возможностями (способностями, желанием, интенцией) видеть ту или иную часть
действительности. Можно смотреть на жизнь, как на быт
(«бытовой» взгляд), как на динамику, движение культуры («культурный» взгляд) и как на часть бытия («бытийный» взгляд). Каждый отдельный взгляд охватывает лишь
часть общей картины мира: вообще проще простого смотреть на отдельную сторону жизни — на ту, которая сама
740
Есть только музыка одна
бросается в глаза. Поэт обладает комплексным зрением,
у него «тройной» взгляд и на себя, и на жизнь, и на
бытие. Именно такой — тройной — взгляд был у Бориса, именно такое (не фасеточное, а многослойное!) зрение развивает в поэте «пушкинский» гуманизм в гуманизм онтологический, непомерная тяжесть которого
позволяет человеку только страдать и стенать, а поэту —
петь. Борис Рыжий жил в реальном мире, и в реальном
пространственно-временном континууме поэзии у него
не было защитного (превентивно обороняющего) воображенного (альтернативного) мира, как у сорокалетних
и шестидесятилетних поэтов, «закаленных» тоталитаризмом, — такого мира-мирка, в котором можно было бы
отсидеться, отлежаться и в котором одиночество становилось бы желанным. Борис вообще жил (и — писал) не
просто «против уходящего времени» (выражение Гюнтера Грасса), он — как поэт — существовал против общего
движения русской поэтики, которая направляется от музыки к разговорности и нарративу (что тоже — музыка,
но другая), — Борис Рыжий двигался — мучительно,
губительно для себя и прекрасно — к чистой музыке,
когда не музыка поддерживает в стихотворении вербаль-
ность, а напротив, музыка усиливается языком и приближается таким образом к состоянию оптимальному,
почти абсолютному.
Борис совместил в своей поэтике три традиции русской поэтической музыкальности — фольклорную, классическую и современную. Олег Дозморов утверждает, что
Борис прекрасно знал золотой век русской поэзии еще
до 1996 года: от Державина, Жуковского, Батюшкова и
Пушкина до Случевского и Анненского (соединившего
золотой век с серебряным, синтезировавшего традиционализм с модернизмом). Борис избегал (уклонялся от)
741
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
тяжеловесной точности и музыкальной вязкости акмеизма — он лечил себя от серебряного века — золотым,
и прежде всего — просодической легкостью, стихотворной иронией и даже пародийной, эпиграммной веселостью. О. Дозморов вспоминает, как Борис хохотал
над стихотворением одного из поэтов-искровцев Петра
Вейнберга:
Он был титулярный советник,
Она — генеральская дочь;
Он робко в любви объяснился,
Она прогнала его прочь.
Пошел титулярный советник
И пьянствовал с горя всю ночь —
И в винном тумане носилась
Пред ним генеральская дочь...
(1859)
По словам Олега, Борис любил, сидя на стуле, —
качаться. Однажды он так укачался, что — упал. Так
и «легкая» поэзия помогает замечтавшемуся или за-
угрюмившемуся поэту вовремя упасть со стула.
Борис отлично знал Пушкина: двухтомник «Друзья
Пушкина» и «Письма А. С. Пушкина» — были его любимыми книгами. Он часто цитировал письма Пушкина
к друзьям и приятелям, к жене и неблизким, иным людям — и заметил, что Александр Сергеевич был со всеми
абсолютно разным: С П. Вяземским грубоват, с Карамзиными тепел, с друзьями по-приятельски весел и откровенен и т. п. Такой же способностью быть своим с любым
человеком обладал и Борис Рыжий. Противоречивость его
отношения к людям была обаятельна и симпатична: по
742
Есть только музыка одна
определению, он по-пушкински «болел» всегда за «слабую команду», но хотел играть — и играл — в сильной,
в «сборной» страны. Повторюсь: Борис воспринимал любое время (прошлое, настоящее и будущее) буквально,
а к Пушкину (к Батюшкову, к Лермонтову, к Ап. Григорьеву и к др.) относился как к реальному человеку:
Вот в этом доме Пушкин пил
с гусарами. Я полюбил
за то его как человека.
...Мы поворачиваем — и
реалии иного века:
автомобили и огни...
Почти все, хорошо знавшие Бориса Рыжего, отмечают, что даже в самый разгар трагедии и катастрофы
он оставался очень восприимчивым к юмору, часто похохатывал (своим отрывистым смехом — чуть в сторону), посмеивался и улыбался. Он знал наизусть «инвек-
тивного» («табуированного») Пушкина, очень любил
«Царя Никиту и сорок его дочерей» и часто читал пушкинские стихотворные миниатюры:
К кастрату раз пришел скрыпач,
Он был бедняк, а тот богач.
«Смотри, — сказал певец без...ый, —
Мои алмазы, изумруды —
Я их от скуки разбирал.
А! кстати, брат, — он продолжал, —
Когда тебе бывает скучно,
Ты что творишь, сказать прошу».
В ответ бедняга равнодушно:
— Я? я м..е себе чешу.
(1835)
743
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
Олег вспоминает, как Борис — с ходу — восстанавливает написание сильного (или — слабого?!) прилагательного «безмудый» — и они оба смеются.
В эпиграмме Пушкина на Нимфодору Семенову
слышится Борисова интонация шутки, пародии, розыгрыша:
Желал бы быть твоим, Семенова, покровом,
Или собачкою постельною твоей,
Или поручиком Барковым, —
Ах он, поручик! ах, злодей!
Последняя строка для Бориса стала паролем, пропуском в игру, в мистификацию, в смех. Ритуальное
(в плане сопоставления «Поэт и...») стихотворение Пушкина «Ты и я» могло и поддержать в трудные (не-мину-
ты!) месяцы самоотторжения поэта от общей, не милой
ему, жизни:
Ты богат, я очень беден;
Ты прозаик, я поэт;
Ты румян, как маков цвет,
Я как смерть и тощ, и бледен.
Не имея в век забот,
Ты живешь в огромном доме;
Я ж средь горя и хлопот
Провожу дни на соломе.
Ешь ты сладко всякой день,
Тянешь вины на свободе,
И тебе не редко лень
Нужный долг отдать природе;
Я же с черствого куска,
От воды сырой и пресной,
744
Есть только музыка одна
Сажен за сто с чердака
За нуждой бегу известной.
Окружен рабов толпой.
С грозным деспотизма взором,
Афедрон ты жирный свой
Подтираешь коленкором;
Я же грешную дыру
Не балую детской модой
И Хвостова жесткой одой,
Хоть и морщуся, да тру.
Кстати сказать, Борис, работая — совсем недолго —
в журнале «Урал», открыл рубрику «Граф Хвостов» (для
России — рубрику бессмертную), а литературный клуб,
работающий до сих пор при этом журнале, Борис
и Олег назвали «Лебядкинъ» (!).
Освоение поэтики XX века (после усвоения поэтической памяти золотого века) сопровождалось почти
постоянной в середине 90-х годов литературной, бытовой, а иногда и бытийной, игрой. Настоящая, виртуозная (как в случае с Б. Рыжим, О. Дозморовым и
А. Леонтьевым) литературная игра возможна лишь тогда, когда объект, предмет, материал и методы новой
для тебя игры (дискурс, просодия, концептуальность
и т. п.) прочно владеют поэтом, а поэт — ими. Поэтический ритуал (см., например, «Стансы» О. Мандельштама) — это результат мужания и «омужествления»
таланта. Вот, например, шуточное послание Б. Рыжего с нешуточным в своей нарочитости заглавием «Офицеру лейб-гвардии Преображенского полка г-ну Доз-
морову, который вот уже десять лет скептически относится к слабостям, свойственным русскому человеку
вообще»:
745
ЮРИЙ КАЗАРИН /Поэт Борис Рыжий
Ни в пьянстве, ни в любви гусар не знает меру,
а ты совсем не пьешь, что свыше всяких мер.
...Уже с утра явлюсь к Петрову на квартеру —
он тоже, как и ты, гвардейский офицер.
Зачем бы не кутить, когда на то есть средства?
Вся русская гульба — к поэзьи верный путь.
Таков уж возраст наш — ни старость и ни детство,
чтоб гаркнуть ямщику: «Пошел куда-нибудь!»
А этот и горазд: «Поберегись, зараза!» —
прохожему орет, и горе не беда.
Ведь в рыло б получил, да не бывать, когда за
евоною спиной такие господа.
Я ж ямщика, мой друг, подначивать любитель:
«Зарежешь ли кого за тыщу, сукин сын?»
Залыбится, свинья: «Эх, барин, искуситель...» —
ан по глазам видать, загубит за алтын.
...Зачем бы не кутить? И ты кути со мною,
единственная се на свете благодать:
на стол облокотясь, упав в ладонь щекою,
в трактире, в кабаке лениво созерцать,
как подавальщик наш выслушивает кротко
все то, что говорит ему мой vis-a-vis:
«Да семги... Да икры... Да это ж разве водка,
любезный... Да блядей, пожалуй, позови...»
Петрову б все блядей, а мне, когда напьюся,
подай-ка пистолет, да чтоб побольше крыс
шурашилось в углах. Да весь переблююся.
Скабрезности прости. С почтеньем. Твой Борис.
(1997)
746
Есть только музыка одна
Игра в офицеров-поэтов и поэтов-офицеров — это
и проверка настоящего, и реанимация прошлого, и представление будущего быта-бытия поэта. Д. Давыдов,
К. Батюшков, М. Лермонтов, А. Полежаев и многие
другие для Бориса — живые люди, не менее живые,
нежели Саша и Олег. Вот еще один пример, стихотворение «Другу стихотворцу»:
Здорово, Александр! Ну, как ты там, живой?
Что доченьки твои? Как милая Наташа?
Вовсю ли говоришь строкою стиховой,
дабы цвела, как днесь цветет, поэзья наша?
...А я, брат, все ленюсь. Лежу на топчане.
Иль плюну в потолок. Иль дам Петру по роже.
То девку позову, поскольку свыше мне
ниспослано любить пол противоположный.
Не то, брат, Петербург, где князя любит граф.
В том годе на балу поручик Трошкин пальцем
мне указал на двух... И разве я не прав,
что, убежав в село, решил в селе остаться?
И все бы благодать, да скушно! Вот сосед
трепался, что поэт. Наверное, бездарный.
Пожалуй, приезжай. Ах, мы с тобою лет
не виделись уж пять. Конюшни, девки, псарни.
Борзые, волкодав... Скажу, прекрасны все.
Вот — позабыл, как звать — еще одну породу
сосед пообещал... Поедем по росе
на лучших рысаках на псовую охоту
747
ЮРИЙ КАЗАРИН /Поэт Борис Рыжий
в начале сентября. Тогда нарядный бор,
как барышня, весь ал от поцелуев влажных
тумана и дождя. Стоит, потупив взор.
А в небе лебеди летят на крыльях важных —
ну не поэзья ли? Я прикажу принять
тебя, мой Александр, по всем законам барства.
...Вернемся за полночь и сядем вспоминать
шальную молодость, совместное гусарство.
(1997)
Поэтическое «офицерствование» у Бориса проявлялось довольно часто, он и мне, служившему на флоте,
подписал книгу «И все такое...» вполне по правилам
своей игры:
Юре К. от Бори Р. —
как морскому офицеру
сухопутный офицер.
(1.10.2000)
«Поэзия» есть во всем — не только в вине, в табаке
и в женщинах, она прежде всего — в дружбе. Литературная игра Бориса Рыжего — это несерьезное, но очень
плодотворное сопротивление поэта стандартам современной ему «поэтической карьеры», которая должна
обеспечиваться «поэтическими знакомствами» и опять
же игрой в «своего среди чужих» в литературной среде
и «чужого среди своих» — в жизни.
И. В. Гете, работавший с метафизикой как с конкретной вещью, как-то (видимо, крепко слукавив) признался: «Я знаю, что я могу, и чего не могу. И я хочу то,
что могу». Борис Рыжий всегда брался за то, чего
748
Есть только музыка одна
делать не умел или не мог, и учился, и делал. Гармоничное слияние дискурсов золотого, серебряного и
свинцового веков поэзии в стихах Б. Рыжего произошло не без помощи А. Блока и И. Анненского (причем
Иннокентий Анненский был ближе Борису и как дискурсивный экспериментатор и как поэт, способный синтезировать в содержании стихотворений многослойные
пространства-сферы конкретного и эмоционального,
духовного и вещного, вечного и смертельного / смертного и т. д.). Блок повлиял на Бориса прежде всего
музыкально и лексико-грамматически (на стыке XX и
XXI веков мало кто работал с традиционным словообразовательным материалом, например, с уменьшительно-ласкательными суффиксами). Борис часто читал,
зная наизусть страшное стихотворение А. Блока «В голубой далекой спаленке...»:
I. В голубой далекой спаленке
Твой ребенок опочил.
Тихо вылез карлик маленький
И часы остановил.
<...>
III. Словно что-то недосказано,
Что всегда звучит, всегда...
Нить какая-то развязана,
Сочетавшая года.
<...>
VI. Стало тихо в дальней спаленке —
Синий сумрак и покой,
749
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
Потому что карлик маленький
Держит маятник рукой.
(4 октября 1905)
В этом тексте — все — по Борису: и смерть, и страшная улица, и нить времени, и мгла, и голубой (спаленка) в двух синих (окно и сумрак). В хорическом ритме
с огромным количеством пиррихиев нарастает ускорение (скорость дыхания, жизни и смерти), а в дактилических рифмах оживают Кольцов и Некрасов. И —
в финальных стихах внутренняя (третья!) рифма «маленький» — «маятник» возбуждает во всем маленьком
(и ребенке, и отце, и мире) семантику маятного, мучительного, безысходного. Любопытно, как этот
мотив преобразуется у Б. Рыжего в «Стихах про любовь»:
Пока стучит твой тонкий каблучок,
я не умру. Мой бедный ангелок,
приятель, друг,
возьмем вина.
Свернем в ближайший парк.
Не пью я вообще. Сегодня, так
сказать, продрог.
Глотнешь чуть-чуть? И правильно. А я
глотну. Сто лет знакомая скамья.
Сюда мальцом
я приходил с родителями. Да-с.
С медведем. С самосвалом. А сейчас
сам стал отцом.
Ну-ну, не морщи носик. Улыбнись.
Смотри, на черной ветке алый лист
трепещет так,
750
Есть только музыка одна
как будто это сердце. Сердце. Нет,
не сердце? Да, банально. Просто бред.
Листок, пустяк.
...Я ей читаю важные стихи —
про осень, про ненастье, про грехи,
про то, что да...
Нет, не было. Распахнуты глаза.
Чуть ротик приоткрыт. Дрожит слеза.
Горит звезда.
(1995, октябрь)
Ангел, маленький и маятный, здесь и от Блока, и от
Рильке, и от Иова. Ангелок и словообразовательная
уменьшительность в этом стихотворении изоморфны
и монофункциональны: поэт, измучившись с собой и
с миром, вдруг осознает, что его страдание — это
конститутивная, структурная часть страдания и земного, и бытийного. Ангелы Бориса Рыжего — повсюду:
и на кухне («оп, два ангела за чаем» — родители, сестры, сын и жена, друзья...), и в воздухе, и в тебе самом:
В церкви шел обряд печальный
и торжественный обряд,
как свиданье и прощанье
навсегда со всем подряд.
Исповедовался, плакал
и крестился человек.
Между тем на землю падал
прямо с неба белый снег.
Вот и я из церкви вышел
и отправился домой —
не дослушал, не расслышал,
не увидел, боже мой.
751
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
Боже мой, зачем все это
мне, ужель не знаешь ты —
я боюсь тепла и света,
холода и темноты.
Ангелов твоих огромных,
нищих демонов твоих,
голубых очей бездонных,
их ресниц и взоров их.
Так зачем мне эти песни,
эти свечи, этот лик,
муки, речи, слезы, если
я ничтожен и велик?
(1997)
Ангелы Рильке и Иова здесь явно русеют: они уже —
от Державина («Я ничтожен и велик...»), от Пушкина
(«Боже мой, зачем все это / мне...»), от Блока («В церкви шел обряд печальный...»), от Полонского и Фета
(тон, интонация, графика). Если поэт боится «тепла и
света, холода и темноты», то чего же он — не боится?
Видимо, всего остального, прежде всего — себя.
В стихотворении «А. Блок», которому Борис многим обязан, поэт показывает, вполне по И. Анненскому, сразу несколько миров:
...Дописав письмо Борису,
из окошка наблюдал,
как сиреневую крысу
дворник палкой убивал.
Крыса мерзкая пищала,
трепетала на бегу,
крысьей крови оставляла
красной пятна на снегу.
752
Есть только музыка одна
Дворник в шубе царской, длинной
величав, брадат, щекаст —
назови его скотиной,
он и руку не подаст.
(1997)
Хронотоп здесь складывается как минимум из пяти
картин мира: 1) картина А. Блока; 2) картина дворника;
3) картины крысы; 4) картина Б. Рыжего и 5) картина
общая, уже не плоскостная, а вздуваемая в четыре разных воздуха, шарообразная — такова подлинность и достоверность музыкально-вербального нарратива. Борис
Рыжий — не сюрреалист и не постмодернист, он не
изображает нечто, а отображает все (в том числе и гумилевскую крысу с красными огоньками глаз, подбирающуюся к блоковской кроватке в голубой спаленке,
с карликом маленьким, где «твой ребенок опочил»), —
все — это и есть ужас красоты, потому что «безобразное — это прекрасное, что не может вместиться в душе...»
Борис очень любил стихи Иннокентия Анненского
(в имени которого слышится двойной стон: инн—анн).
Н. Смирнова вспоминает, как Б. Рыжий читал стихотворение «О нет, не стан...», читал очень серьезно, но
всегда завершал свою декламацию каким-то странным
поклоном:
О нет, не стан, пусть он так нежно-зыбок,
Я из твоих соблазнов затаю
Не влажный блеск малиновых улыбок —
Страдания холодную змею.
Так иногда в банально-пестрой зале,
Где вальс звенит, волнуя и моля,
753
ЮРИЙ КАЗАРИН /ПоэтБорис Рыжий
Зову мечтой я звуки Парсифаля,
И Тень, и Смерть под маской короля...
Оставь меня. Мне ложе стелет Скука.
Зачем мне рай, которым грезят все?
А если грязь и низость — только мука
По где-то там сияющей красе...
(19 мая 1906)
Неискушенный слушатель, по обыкновению, воспринимает здесь «малиновые улыбки» (вполне конкретный знак красоты), «Тень» и «Смерть» (ощутимые —
эмоционально — приметы иной красоты-пустоты), но
Борис любил, конечно, третью строфу, в которой поэт
сталкивает три пространства красоты — «скуку» (как
желание иной красоты, проходящее сквозь и навылет
красоту земную, пошлую, но сладкую, сладкую), «Тень
и Смерть» как родовое пространство всех типов красоты и «муку» по красоте, когда «страдания холодная
змея», «грязь и низость» — как безобразное — находятся в зыбком состоянии «сияющего» прекрасного. Близкая Борису концепция (Иов, Ницше, Достоевский,
Рильке) подтверждается адекватностью мучительной
музы И. Анненского.
Стихотворение Анненского «На пороге (Тринадцать строк)» — зеркально — отображает состояние
Б. Рыжего, сознательно остановившегося на пороге-границе безобразного и прекрасного, мгновенного и вечного, жизни и смерти и т. д.:
754
Дыханье дав моим устам,
Она на факел мой дохнула,
Есть только музыка одна
И целый мир на Здесь и Там
В тот миг безумья разомкнула,
Ушла, — и холодом пахнуло
По древожизненным листам.
С тех пор Незримая, года
Мои сжигая без следа,
Желанье жить все жарче будит,
Но нас никто и никогда
Не примирит и не рассудит,
И верю: вновь за мной когда
Она придет — меня не будет.
«Она» для Бориса — это Эля-Ирина (музыка-гибель,
музыка-воскрешение). Роковое число «13» противоречит бытовому негативу финала «меня не будет»: Анненский, накладывая минус («13») на минус («не будет»),
получает плюс — т. е. музыку-муку — то, ради чего ты
дышишь и не дышишь. Вчитаемся в стихотворение
«Смычок и струны»:
Какой тяжелый, темный бред!
Как эти выси мутно-лунны!
Касаться скрипки столько лет
И не узнать при свете струны!
Кому ж нас надо? Кто зажег
Два желтых лика, два унылых...
И вдруг почувствовал смычок,
Что кто-то взял и кто-то слил их.
«О, как давно! Сквозь эту тьму
Скажи одно, ты та ли, та ли?»
755
ЮРИЙ КАЗАРИН /Поэт Борис Рыжий
И струны ластились к нему,
Звеня, но, ластясь, трепетали.
«Не правда ль, больше никогда
Мы не расстанемся? довольно...»
И скрипка отвечала «да»,
Но сердцу скрипки было больно.
Смычок все понял, он затих,
А в скрипке эхо все держалось...
И было мукою для них,
Что людям музыкой казалось.
Но человек не погасил
До утра свеч... И струны пели...
Лишь солнце их нашло без сил
На черном бархате постели.
Скрипка в стихах Бориса — один из самых значимых музыкальных инструментов («скрипочка злая-
злая»), она, скорее, не то, из чего извлекают звуки,
а собственно нервная система воздуха, жизни и поэта.
Думаю, что скрипка в стихах Б. Рыжего — прежде всего
из небогатого оркестра И. Анненского как «вербального музыканта» — из того же «Villa Nazionale»:
Смычка заслушавшись, тоскливо
Волна горит, а луч померк, —
И в тени душные залива
Вот-вот ворвется фейерверк...
И. Анненский научил Б. Рыжего различать и понимать разные виды музыки: музыку речи и музыку мысли
(термин В. Вейдле), музыку чувства и музыку пейзажа,
756
Есть только музыка одна
музыку скрипки и музыку муки — все, что составляет
музыку иную. Какую?..
На формирование у Бориса концепции исчезнове-
ния-звучания-воскрешения повлияли такие стихотворения И. Анненского, как цикл «Лилии» («Второй мучительный сонет», «Падение лилий»), «Ты опять со мной»,
«Тоска воспоминания» и др. По словам Олега Дозморо-
ва, Борис особенно ценил стихотворение «Нервы (Пластинка для граммофона)», где обилие прямой речи, как
это ни странно, типизирует городскую картинку улицы,
соединяя ее с улицами того города и того времени, которые принадлежали Борису; который понимает, что бытовая сфера жизни — неизменна и содержит в себе примерно тот же объем пошлости, милой, теплой и родной
всем, кроме поэта. Стихотворение «Черное море», где
море «не символ мятежа», а «Смерти чаша круговая» являло собой — Борису — образец другой музыки — не
улицы, а природы: и эта красота оказывается (вполне по
Рильке) губительной, хотя она не столь мучительна, как
«прекрасное безобразного».
Самое любимое Борисом стихотворение И. Анненского «Когда б не смерть, а забытье...»:
Когда б не смерть, а забытье,
Чтоб ни движения, ни звука...
Ведь если вслушаться в нее,
Вся жизнь моя — не жизнь, а мука...
Буквальное восприятие и понимание поэзии Борисом, безусловно, стремительно взращивало его как
поэта и губило как человека. Количество жизни, по
И. Анненскому, равно количеству смерти, и весы, поднимающие физику и метафизику, — это страдание
757
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
красотой, это мука мысли, такое понимание себя-по-
эта позволяет говорить не столько о протяженности жизни, сколько о континууме смерти. Удобнее представлять себе смерть — забытьем, беспамятством, «без движения» и «без звука», чем знать и не знать, что
беззвучная музыка там — за смертью, в пустоте, еще
вернется в жизнь — но без тебя, и будет услышана чьим-
то абсолютным слухом, и повторится, не менее мучительно, светло и страшно. Благодаря урокам Анненского, Борис научился соединять в одно гармоничное целое музыку эмоции и музыку мысли.
Музыка, по И. Анненскому, — это пространство,
организованное по законам наличия и существования
в нем мысли, чувства, интуиции, воли, эстетики, этики
и проч. Доминантой музыки — и для Анненского, и для
Рыжего — остается одиночество, материализованное
в бессонницу, в ночь, в полную тьму и тишину. Анненский прямо говорит об этом в «Тоске припоминания»:
Мне всегда открывается та же
Залитая чернилом страница.
Я уйду от людей, но куда же,
От ночей мне куда схорониться?
Все живые так стали далеки,
Все небытное стало так внятно,
И слились позабытые строки
До зари в мутно-черные пятна.
Весь я там в невозможном отсвете,
Где миражные буквы маячут...
...Я люблю, когда в доме есть дети
И когда по ночам они плачут.
758
Есть только музыка одна
В такие минуты-часы-ночи «небытное» становится
куда реальнее «бытного» — это и страшно, и сладко,
и тревожно, и невыносимо. Любой звук — спасителен,
или — губителен? Детский плач — это материализовавшиеся в твоем страдании мысли ангелов (по
кн. Иова — умерших рано людей). И. Анненский открыл для Б. Рыжего коридор из золотого века поэзии —
в век сначала серебряный, а потом свинцовый, —
переход мысли и страдания (по Пушкину) к муке
музыки (по Рыжему). XIX и XX века Борис Рыжий
сталкивает лбами и прижимает из к своему воспаленному лбу:
Тает алый с зеленой каймою
за окном некрасивый закат.
Ты закрыла глаза, я открою.
Гармонический лязг за стеною,
на гитаре бренчат и бренчат.
Снова эта щемящая нота,
снова эти наплывы нытья.
Представляю себе идиота:
нынче праздник, а завтра суббота,
так ударим по струнам, друзья!
Эта песня, он сам ее, что ли,
сочинил или слышал в кино.
Это фальсификация боли.
Это то, чем любовь запороли.
Это адская музыка. Но —
за окном тополиные кроны
шелестят, подпевают ему.
Перегоны, вагоны, перроны.
Лает пес, раскричались вороны,
воет ветер. И дальше, во тьму:
759
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
всё поют, удлиняются лица.
Побренчи же еще, побренчи.
Я молчу, но мне тоже не спится.
Дребезжат самосвалы, убийцу
повели убивать палачи.
Смерть на цыпочках ходит за мною,
окровавленный бант теребя,
и молчит, и стоит за спиною.
И рыдает за страшной стеною
тот, кому я оставлю тебя.
(1999)
Здесь — не смирение, а готовность оставить все этой
музыке ради музыки иной. Строфостроительство в этом
тексте основано на традициях и XIX, и XX века — пятистишие здесь и из первой трети XIX века, и из 60-х годов XX века, анапест — из серебряного века, графика —
опять из XIX, лексика — минимально из XIX («так ударим по струнам, друзья!»), симбиоз порождает противоречивую, многоречивую, множественную гармонию. Это
не сила мастерства или виртуозность — это выражение,
исполнение реальной множественной музыки. Даже за-
стенная гитара наверняка уже побывала в руках Аполлона Александровича Григорьева...
Поэзия предлагает человеку оптимальный путь познания себя и всего остального, что называется не тобой и отличается от тебя только мерой страдания. Инструментом такого познания является поэтический дискурс. И в этой сфере И. Анненский многому научил
Бориса — прежде всего пеону, анжамбеману и сжатому
в строфу свободному, мучительному ритму, основанному, еще до появления Маяковского, Цветаевой и
Бродского, на дыхании поэта, идущего-бегущего-бре-
760
Есть только музыка одна
дущего по лестнице, ведущей вверх-вниз — по вертикали. Поэт гонит себя, преследует себя, чтобы загнать
себя в угол — в точку, где сходятся мысль и эмоция,
звук и безмолвие, быт и бытие; он поет из угла, даже
если шепчет. Такова акустика поэтосферы.
И. Анненский, несмотря на свой внешний традиционализм и на поверхностный (обязательный на границе веков) модернизм, был природным новатором не
голой формы, но формы речевой и музыкальной. Вчитаемся в сонет «Перебой ритма»:
Как ни гулок, ни живуч — Ям-
б, утомлен и он, затих
Средь мерцаний золотых,
Уступив иным созвучьям.
То-то вдруг по голым сучьям
Прозы утра, град шутих,
На листы веленьем щучьим
За стихом поскачет стих.
Узнаю вас, близкий рампе,
Друг крылатый эпиграмм, Пеона третьего размер.
Вы играли уж при мер-
цаньи утра бледной лампе
Танцы нежные Химер.
Двойной анжамбеман (рифмо-синтаксический), экспериментальный, игровой — у Бориса становится вполне
органичным и обязательным (см., например, его стихотворение «Ежик» и др.). Экспериментальная игра
761
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
Анненского превращается в поэтическое пиццикато
Рыжего. Борис изменяет природу пеона, анжамбемана
и редуцированных рифм и лексем («голубое и белое
в си...»): если раньше эти приемы делали поэтическую
речь разговорной и нарративной, то у Б. Рыжего они
стали структурным элементом музыки, — а это новая
функция, почти противоположная прежней. Да и прозострофические стихи Бориса — это не столько дань
графической моде, сколько еще одна возможность извлечь музыку не из строфы, а из хаоса речи, т. е. —
пропеть прозой:
Вот здесь я жил давным-давно — смотрел кино, пинал
говно и пьяный выходил в окно. В окошко пьяный выходил,
буровил, матом говорил и нравился себе, и жил. Жил-был
и нравился себе с окурком «БАМа» на губе...
Нечастое, но точное — стилистически и музыкально — употребление Борисом вульгаризмов и инвектив
(мата) — опять же не для того, чтоб уравновесить прекрасное и безобразное, а для того, чтобы еще раз показать нам — и просторечным, и книжным, — что безобразное — это прекрасное. И — наоборот. Матерщина
у Бориса — это не стилистика, а речевая полифония
с эффектом присутствия и материализации ускользающей от поэта (и — из поэта) жизни. Прощаясь с жизнью, поэт прощается — прежде всех остальных и всего
остального в парадигме поэзии и поэтологии — с серебряным веком:
...Вы вошли слишком просто в мою
жизнь — играючи и умирая.
Навязали свои дневники,
762
Есть только музыка одна
письма, комплексы, ветви сирени.
За моею спиной у реки
вы толпитесь, печальные тени.
Уходите, вы слышите гул —
вроде грохота, грома, раската.
Может быть, и меня полоснул
тонким лезвием лучик заката.
Не один еще юный кретин
вам доверит грошовое горе.
Вот и всё, я побуду один,
Александр, Иннокентий, Георгий.
(1997)
Александр, скорее всего, Блок, Иннокентий Анненский, Георгий Иванов в 1997 году будут заслонены
Аркадием Штейнбергом, Борисом Слуцким и другими. Но Блок и Анненский сделали свое дело — они
соединили в поэтике Б. Рыжего XIX и XX века.
Борис Рыжий в последний год своей жизни активно изучал (или пытался изучать) английский язык.
Один из наших общих знакомых, писатель, переводчик и стихотворец, который «с подачи» Бориса опубликовал свои стихи в журнале «Знамя» и который,
окончив в свое время иняз, превосходно владел английским, предложил Борису свою помощь. Б. Рыжий
рассказывал мне эту историю — посмеиваясь: N сказал ему, что будет учить Бориса бесплатно, на что, утомленный коммуникативным прессингом N, поэт ответил, что сам готов заплатить N только за то, чтобы он
его оставил в покое. Известно, что Борис переводил
стихи У. Одена и знал пару строф оденского оригинала наизусть.
763
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
Борис не стал переводчиком поэзии с английского
на русский, но он замечательно «переводил» и «перевел» русскую поэзию с русского языка XVIII—XIX веков на русский язык XX века. Способность к такому
метапереводу — качество истинного поэта. Так работал
в свое время Осип Мандельштам — и блестяще (за что
его, прости Господи, называли в основном — «новаторы поэтики», ложноклассическим). Так сегодня пишут
немногие, а наиболее эффективно в сфере классической, «золотой», поэтики (из мэтров) работает Александр
Кушнер. По словам О. Дозморова, Б. Рыжий осваивал
золотой век русской поэзии с помощью отца (в детстве
и отрочестве), Александра Леонтьева (в молодости),
который, кстати, и познакомил Бориса с А. Кушнером.
Борис Рыжий, повторюсь, воспринимал поэтический XIX век буквально: к поэтам той поры он относился как к живым — особенно к Д. Давыдову и А. Пушкину, М. Лермонтову, К. Батюшкову, А. Полежаеву и др.,
а главное — он читал и воспринимал стихотворения
золотого века глазами и сознанием «не-филолога», как
Ф. Тютчев, например. Феномен «незамыленного» литературоведением зрения и восприятия был описан еще
О. Мандельштамом, который хотел (мягко сказано) не
критики, не теории, а мечтал о появлении «науки
о поэзии». Если в XVIII и XX веках поэты были волей
и неволей филологами, то поэты XIX века были свободны (конечно, не от филологического, языкового знания!) от давления литературоведческого, читай — социологического, отношения к слову и навязчивого концептуализма. Борис обладал именно таким — чистым —
поэтическим и языковым зрением.
Если к советской поэзии Борис тянулся потому, что
хотел избежать влияния А. Кушнера, а особенно —
764
Есть только музыка одна
И. Бродского (поэт двигался против общего течения
современной подражательной поэтики), то золотой век
русской поэзии был для Б. Рыжего родным. Книги советских поэтов хранились в библиотеке отца — Бориса
Петровича, тогда как классическая русская поэзия —
почти вся — стояла на полках в квартире Бориса на
ул. Куйбышева.
Стихи и судьба загадочного и стоящего в пушкинской парадигме поэтов особняком Константина Батюшкова были крайне важны для Бориса, который до середины 90-х годов активно «работал» над совершенствованием своего внутреннего, поэтического сценария.
Прочитаем еще раз его стихотворение «Памяти Батюшкова»:
Едва ль на свете есть печальнее судьба —
последняя всегда уныла —
друзей своих забыть, врагов, сойти с ума,
как это с Батюшковым было.
История, страна — всё страх и нищета.
«Лишь угли, прах и к£мней горы».
Так книга падает из рук — душа пуста.
Верней, иные зрит просторы.
Что видела она — сочна и зелена
на берегах унылой Леты
трава? И ласковою кажется волна?
Враги кругом, друзья, поэты?
Но что б там ни было — я думаю, отец,
об этом бережно и часто —
какой бы в вечности ты не имел венец —
увы, не смерть, а жизнь прекрасна.
О, Батюшкова взор вообразите вы,
когда, любуясь небесами,
765
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
на миг он в ум пришел,
и молвил он: «Увы,
меня уж нету между вами!»
(1995)
Это стихотворение можно было бы оценивать как
стилизацию, если бы не виртуозная работа с ритмом (обязательная цезура в шестистопном ямбе после третьего
ударного слога в седьмом стихе сдвигается, то же происходит в 11-м и 15-м, плюс анжамбеманы и наличие достаточно большого количества пяти-, четырех- и трехсложных слов, содержащих в себе пиррихии, которые
ускоряют и ритм, и говоренье, а кроме того — в противовес ускорению в ритмическом движении работают также и несколько сильнейших спондеев, останавливающих
дыхание поэта, печалящегося о другом поэте).
Неизвестно, как и в каком порядке (череда поэтических имен) познавал Борис золотой век. Думаю, что
это была ежедневная работа (так, например, Борис советовал Олегу Дозморову читать Библию каждый день —
хотя бы по одной главе), «постановка дыхания» стиха,
строфы, текста. Поэтическая гениальность — коллективна, как в целом — любые результаты языковой, культурной и духовной деятельности. Борис часто читал, «показывал» друзьям стихотворение К. Батюшкова
«К Дашкову», которое научило молодого стихотворца
прежде всего традиционному поэтическому (вполне иди-
оматизированному) этикету («милая родина», «мой
друг», «милый друг»), а главное — «поставило» Борису
зрение и слух на восприятие «затертых» и семантически опустошенных слов («врагов неистовых», «гибельны
пожары» и проч.), которые он слышал и осознавал буквально, в основных значениях и функциях (у Б. Рыжего:
766
Есть только музыка одна
«судьба... уныла», «страна — всё страх и нищета», «унылая Лета» и т. д. — все это прямые номинации, как,
например, «увы, не смерть, а жизнь прекрасна»).
Тяжеловесная в семантическом отношении поэтическая легкость Батюшкова была Борису мила еще и потому, что происходила она из риторически наивного, но
светлого восемнадцатого века и была продвинута в век
двадцатый — к Бродскому, поэтический дискурс которого без А. Кантемира, Г. Державина, К. Батюшкова
и Е. Баратынского оставался бы столь же голым и суховатым, как у В. Маяковского и Б. Слуцкого. «Тень Друга» К. Батюшкова — это прямой языковой и дискурсный источник стихотворения «Памяти Батюшкова».
Текст этой элегии наверняка разбудил в Борисе его
«элегическое начало», которое в союзе с иронией и серьезностью буквалиста и автодидакта создало удивительный эффект подлинности поэтической игры и достоверности мифа, становящегося судьбой (это — 1995 г.).
Кроме того, «Тень друга» содержит почти полный набор ключевых концептов поэта Б. Рыжего, вот они: во-
первых, эпиграф из Проперция: «бледная тень ускользает, победив костер»; «все сладкую задумчивость питало»; «вся мысль моя была в воспоминанье»; «томное
забвенье» («томное» — по Б. Рыжему — «томительное,
мучительное»); «предстал товарищ мне, погибший»;
«роковой огонь»; «завидная смерть»; «чело... небесное
(подчеркнуто мною. — Ю. К.) душе напоминало»; «милый друг, товарищ лучших дней»; «безвременная могила»; «верные друзья»; «небесная отчизна»; «тень незабвенного»; «протекшее все было сон, мечтанье»; «бледный труп, могила и обряд»; «знакомый звук... мой
жадный слух ласкает»; «лететь к нему» (в «небесное»);
«горний дух»; «бездонная синева безоблачных небес»;
767
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
«призрак полуночи»; «кров тишины»; «сладостный покой»; «душа за призраком летела» и др. Движение
к смерти — это не движение вспять, если такое движение направлено вверх по вертикали. Борис (уже в 1995 г.)
начинал «писать» сценарий своей судьбы, автомифоло-
гизированной и подлинной, сводя воедино свое внутреннее, свое внешнее и свое (общее наше) небесное.
К. Батюшков сходит с ума в возрасте 27—28 лет, Борис
это, безусловно, знал (а цифра 27 для возраста поэта —
роковая). Сумасшествие — это ускоренное строительство смерти с попаданием в состояние полусмерти («Не
дай мне, Бог, сойти с ума...»), такое положение одного
из любимейших своих поэтов могло поразить Бориса
до Бог знает каких глубин его натуры. Наверное, нельзя
навязывать Борису Рыжему только есенинский или лермонтовский, или полежаевский и проч. путь. Путь Бориса — сложнее, поскольку поэтически он двигался
одновременно и постоянно в разные стороны: от культуры к примитиву и от примитива — к культуре. Поэтому тематический, стилистический и смысловой оксюморон для Бориса — это нормальное состояние его
таланта, голоса и души:
Когда менты мне репу расшибут,
лишив меня и разума и чести
за хмель, за матерок, за то, что тут
ЗДЕСЬ ССАТЬ НЕЛЬЗЯ! МОЛЧАТЬ! СТОЯТЬ НА МЕСТЕ!..
Фабульный каркас стихотворения прост: удар дубинки — смерть — воспоминания (вся, так сказать,
жизнь прошла перед глазами), именно былое и воображенное с вообразимым взламывают постройку лихорадочного рассказа — пересказа трех жизней поэта-чело-
768
Есть только музыка одна
века. Друзья, книги, мечты, жизнь со школой и военкоматом, кинематограф для дураков, живые мужчины
Денис Давыдов, Константин Батюшков, Николай Некрасов и Петр Вяземский (не менее реальные, нежели
Наташа, Саша Леонтьев, Алексей Кузин, полубродя-
чий музыкант Вадим Синявин с пропитым голосом и
наивно-грубым и надоедливым обаянием), и опять сказка-судьба и проч., и Эля, и Ирина, и мама — вот жизнь
реальная, жизнь ирреальная и жизнь поэзии, которые
усилием нашей смерти (а это — абсолютно концептуально новое, не — сологубовское!) сольются в жизнь
иную — в музыку, становящуюся — от такого переполнения — музыкой. И в центре этой музыки — все, все
сразу, как Паскалева Вселенная, окружность, центр
которой везде, а окружность нигде. Это и есть легкость
и свобода непостижимого устройства мира, а стало
быть — музыки. Сложное — всегда легче простого, потому что можно брать его ровно столько, сколько унесешь, — все равно еще останется, дна — не видать. Этой
сложной легкости Борис учился у Дениса Васильевича
Давыдова, стихи которого очень любил, знал на память
и часто читал друзьям.
Борис искал в XIX веке не опору, а подтверждение
легкости своих версификационных способностей, своего стихотворного дара — дара говорить стихами. Однако стиховая легкость Б. Рыжего всегда наполнена страданием, не как червоточиной — яблоко, а как яблоко,
совершенно поспевшее, — внутренним свечением:
Дали водки, целовали,
обнимали, сбили с ног.
Провожая, не пускали,
подарили мне цветок.
26 Оправдание жизни
769
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
Закурил и удалился
твердо, холодно, хотя,
уходя, остановился —
оглянуться, уходя.
О, как ярок свет в окошке
на десятом этаже.
Чьи-то губы и ладошки
на десятом этаже.
И пошел — с тоскою ясной
в полуночном серебре —
в лабиринт — с гвоздикой красной —
сам чудовище себе.
(1998)
Стихи абсолютно трагические (семья Бориса жила
на четвертом этаже, хотя в большом городе много знакомых и полузнакомых десятых этажей). Ритмо-смысловой оксюморон — это не результат переживаний, а —
само страдание.
Борис научился у Д. Давыдова пеону:
Не пробуждай, не пробуждай
Моих безумств и исступлений,
И мимолетных сновидений
Не возвращай, не возвращай!..
«Не пробуждай, не пробуждай», «Не возвращай, не
возвращай», «Не воскрешай, не воскрешай» — это уже
не романс, еще не К. Случевский и И. Анненский, которые без пеона не пели. Повторы негативных форм
глаголы, как известно, выражают обратное — позитивный императив — Пробуждай! Возвращай! Воскрешай! —
как это похоже на дискурсивные особенности поэзии
770
Есть только музыка одна
Б. Рыжего, как это близко душе Бориса Рыжего! — «Не
повторяй мне имя той, / Которой память — мука жизни...» — это Эля...
Д. Давыдов — поэт «весело-трагический», такой же,
как Борис, забияка, задира, шутник, озорник и — «больше черного горя, поэт».
Стихотворение это — не только о неразделенной
любви, не столько о любви, сколько о муке, истоки и
причины которой таятся не в эмоции, а в чем-то более
глубоком и постоянном. Ритуальный набор «любовных
переживаний» — а именно так мы их воспринимаем, —
осознавался Борисом прямо, номинативно и трагически. Но — все-таки с улыбкой. Трагедия с улыбкой.
Д. Давыдов показал Борису, как работает и должна
работать в тексте лексическая стилистика — на оксюмороне (бранное — высокое), на разговорности в рамках полной тематической свободы:
Люблю тебя, как сабли лоск,
Когда, приосенясь фуражкой,
С виноточивою баклажкой
Идешь в бивачный мой киоск!
(Герою битв, биваков, трактиров и б...)
Даже галлицизм «киоск» — сегодня слово суперактуальное, а прошло уже 170 лет с тех пор, как написано
стихотворение, до сих пор, когда в Свердловске (который рифмуется с Давыдовским «сабли лоском» и с Борисовым «лоском»: «Приобретут всеевропейский лоск /
слова трансазиатского поэта, / я позабуду сказочный
Свердловск / и школьный двор в районе Вторчермета...»),
в 90-х годах XX века на каждом углу торчали винные киоски. Вульгаризмы и матерщина — у Давыдова
26*
771
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
и Рыжего, — это не грубость, это братание с миром.
Объятия и тычки кулаком в плечо — обычное дело. Для
двух настоящих мужиков. И все-таки, если серьезно, то
в поэзии Б. Рыжего матерщина и вульгаризмы выполняют функцию амортизации элегичности, которой
в конце XX века было принято стесняться.
О. Дозморов вспоминает, как Борис сравнивал переводы Жуковского и Давыдова стихотворения Антуана Версана Арно «Листок» (держа, конечно, в памяти
«Листок» М. Лермонтова, написанный, может быть,
по мотивам мотива-перевода). Борис сопоставлял
оба перевода и в языковом, и в дискурсивном отношении.
Ближе Борису был перевод Дениса Давыдова: он
и ситуативно конкретнее (14 строк против 10-ти Жуковского), он и теплее («одинокий», «голубчик мой» и т. д.),
и концептуально — он роднее поэту, который сам себя
считал (отчасти, естественно) «пролетным гостем», а главное для Бориса — это точный «пункт прибытия» листка:
«Несусь, куда несет суровый, всему неизбежимый рок»,
т. е. — к смерти (у В. Жуковского — куда велит мне рок,
куда на свете все стремится»: какой рок? какая судьба? —
их у человека много). Давыдов определеннее, но зато
Жуковский — мягче и слаще. Загадочнее.
Василия Андреевича Жуковского Борис знал очень
хорошо: читал сыну Артему «Кота в сапогах», знал наизусть несколько стихотворений, среди которых чаще
читал это:
Я музу юную, бывало,
Встречал в подлунной стороне,
И Вдохновение летало
С небес, незваное, ко мне;
772
Есть только музыка одна
На все земное наводило
Животворящий луч оно —
И для меня в то время было
Жизнь и Поэзия — одно...
Стихотворение — одно из самых важных для Бориса в концептуальном отношении: «Жизнь и поэзия —
одно», — это и формула жизни, и формула судьбы,
и двойная валентность музыки Б. Рыжего, ориентированная и направленная одновременно на жизнь =
смерть, на счастье = муку и на языковое звучание =
тишину. Эта лирическая формула парафразирована
Борисом («Жизнь есть поэзия, а смерть — сплошная
проза...») и оплачена жизнью. Значит, поэзия — осталась. А жизнь — ушла. «Не знаю светлых вдохновений» — это утверждение вполне оправдывает страдательную доминанту поэтического творчества вообще.
Правда, поэтический страдательный залог Бориса Рыжего функционирует — после его ухода — как активный. Но главное для обоих поэтов то, что «Былое сбудется опять». Отсутствие восклицательного знака — есть
результат преобразования страдательного — в активное. И это, по мысли Жуковского — Рыжего, неизбежно:
Ангел, лицо озарив, зажег
маленький огонёк,
лампу мощностью в десять ватт —
и полетел назад.
Спят инженеры, банкиры спят.
Даже менты, и те —
разве уместно ловить ребят
в эдакой темноте?
773
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
Разве позволит чертить чертеж
эдакий тусклый свет?
Только убийца готовит нож.
Только не спит поэт:
рцы слово твердо ук ферт.
Ночь, как любовь, чиста.
Три составляющих жизни: смерть,
поэзия и звезда.
(1996)
Борис расширяет дефиницию не поэзии, а жизни:
смерть, поэзия, звезда. Звезда здесь (а это 1996 г., время активного поэтического собеседования Б. Рыжего и
О. Дозморова) — от Жуковского: «Но ты знаком мне,
чистый Гений! / И светит мне твоя звезда!..» Звезда —
не безмолвие, а звезда — музыка.
У Бориса Рыжего, на первый взгляд, не было проблем с поисками средств выражения неизъяснимого:
у него — трагедия иная, которая осуществлялась прежде всего в способности поэта не противиться судьбе,
более того — потворствовать ей бездны на краю, где
находится, по Б. Рыжему, не граница жизни и смерти,
а сама жизнь — для него именно такая, мучительная
и губительная, но, может быть, именно поэтому трижды (смерть-поэзия-звезда) дорогая. Именно об этом
«Вопрос к музе»:
...по горю, по снегу приходишь в прозрачной одежде —
скажи мне, Эвтерпа, кому диктовала ты прежде?
Сестрой милосердья вставала к чьему изголовью,
чей лоб целовала с последней, с прощальной любовью?
Чьё сердце, Богиня, держала в руках виновато,
кто умер, бессмертный, и чья дорогая вдова ты?
774
Есть только музыка одна
В чьих карих, скажи мне, не дивные стлались просторы —
грядою могильной вставали Уральские горы?
( 1996, январь)
Этот вопрос — абсолютно риторический, Борисом
уже решенный до того, как поэт преобразовал Уральские горы — в могильную гряду. Это стихотворение —
попытка втиснуться в тесный род поэтического миропонимания золотого века, но для Бориса такая ретроспекция была избыточной, потому что он, я думаю, по
рождению и по праву уже давно был там. Перечитаем
«Элегию» 1998 года:
Зимой под синими облаками
в санях идиотских дышу в ладони,
бормоча известное: «Эх вы, сани!
А кони, кони!»
Эх, за десять баксов к дому милой —
«Ну ты и придурок», — скажет Киса.
Будет ей что вспомнить над могилой
ее Бориса.
Слева и справа — грустным планом
шестнадцатиэтажки. «А ну, парень,
погоняй лошадок!» — «А куда нам
спешить, барин?»
Хронотопическая шизофрения в поэзии оборачивается гармонией вечного и бесконечного. Вот к пониманию чего стремился Борис: его интересовала тайна небытия (как и любого мыслящего человека), и не только
это — он хотел быть мыслящим и страдающим участником и соучастником такого небытия, в реальности
775
ЮРИЙ КАЗАРИН /Поэт Борис Рыжий
которого он не сомневался: он очень любит стихотворение В. Жуковского «Таинственный посетитель»
1824 года, где поэт-читатель, следуя мыслью за призраком, сам уподобляется ему:
Кто ты, призрак, гость прекрасный?
К нам откуда прилетал?
Безответно и безгласно
Для чего от нас пропал?
Где ты? Где твое селенье?
Что с тобой? Куда исчез?
И зачем твое явленье
В поднебесную с небес?..
«Явление в поднебесную с небес» — это «обещанная встреча впереди» здесь, где «снят покров; любви не
стало; жизнь пуста, и счастье — сон». Здесь, где «святая
Поэзия была», где «Предчувствие сходило» и «говорило
о небесном, о святом». У кого-то — «часто в жизни так
бывало», а у Бориса — постоянно, стало быть — всегда:
«Кто-то светлый к нам летит, подымает покрывало и
в далекое манит». Жизнь, еще не кончившись, уже становится «милым воспоминанием» (стихотворение В. Жуковского «Мотылек и цветы», особо любимое Борисом)
потому, что ты сам пишешь сценарий, по которому живешь, — и тебе некуда деться, потому что существование в человеческой зрелости — это другой сценарий,
не твой — в нем нет ни слова твоего, значит он — чужой...
Метафизика Жуковского (германских корней) явно
овеществлялась Борисом в его стихах, где он — сам себе
призрак — ходил по улицам Свердловска, любил и мыслил, и страдал, и «уходил на первый план». Авто герой
776
Есть только музыка одна
Бориса Рыжего стабилен и почти статичен в динамике
постоянного страдания, энергии хватало и на порождение муки, и на терпение ее:
Пройди по улице с небритой
физиономией сам-друг,
нет-нет, наткнешься на открытый
канализационный люк.
А ну-ка глянь туда, там тоже
расположилась жизнь со всем
хозяйством: три-четыре рожи
пьют спирт, дебильные совсем.
И некий сдвиг на этих лицах
опасным сходством поразит
с тем, что тебе ночами снится,
что за спиной твоей стоит.
...Создай, и всё переиначат.
Найди добро, отыщут зло.
Как под землей живут и плачут,
как в небе тихо и светло!
(7998)
Борис — между двух отношений к культуре и обществу: он двойственен, как Пушкин-гуманист с собой и
маленьким, бедным человеком, — и он одинок, монолитен, как Лермонтов, веривший во «множественного
человека»; романтический гуманизм чреват великой
гармонией, а также полным истощением гуманиста.
Когда поэт живет с постоянным страданием — невозможно понять, что первичнее и каково направление
каузации: поэт -» мука или мука -> поэт? Лермонтовское стихотворение (которое Борис часто читал и знал
наизусть) — об этом:
777
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
Нет, не тебя так пылко я люблю,
Не для меня красы твоей блистанье:
Люблю в тебе я прошлое страданье
И молодость погибшую мою...
В разговоре со мной Борис отмечал избыточность
третьей строфы — и качественную, и количественную,
одновременно утверждая, что именно в этой строфе —
весь его Лермонтов. Думаю, что было бы слишком примитивно определять адресат этого стихотворения с точки
зрения Бориса (женщина, может быть, вообще, как таковая и — Эля как «подруга юных дней»). Борис, скорее, считал адресатом саму жизнь, превращающуюся
в воспоминание.
Истинный поэт не страдает литературной ксенофобией. Но он и не испытывает синдрома читательского
равнодушия и всеядности. Читают ли поэты друг друга? А. Ахматова утверждала, что Б. Пастернак никого
не читает (не читает чужих стихов). Поэты читают друг
друга. Еще как. Борис же был читателем природным,
с замечательной памятью и способностью отыскивать
в чужих стихах подтверждение (хотя бы частичное) своим
мыслям, своей концепции жизни и смерти, своим планам. Александр Полежаев — и судьбой, и музой своей — был очень близок Борису Рыжему. На письменном столе поэта в доме отца до сих пор лежит книга
А. Полежаева, раскрытая на стихотворении «Отчаяние»,
в котором поэт, возможно, обнаружил некий образец
вербализации своего замысла: «Я понял, понял жизни
ад...» — «Смотрю на жизнь, как на позор — / Пора
расстаться с своенравной / И произнесть ей приговор /
Последний, страшный и бесславный...» Поэт (оба поэта) осуществляет свои — трагические, субъективиро-
778
Есть только музыка одна
ванные, конкретные — варианты пушкинского — всеобъемлющего, онтологического инварианта:
Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?
Борис считал свой дар мучением и, возможно, наказанием. Может быть, случайным, но не напрасным,
поскольку именно жизнь, ее сценарий, более всего мучила поэта. Медленная — затянувшаяся на годы — казнь
мукой всегда, в любую минуту может быть остановлена
смертью. Онтологическая тоска, бытийное одиночество
любого поэта — неизъяснимы, т. к. именно неизъяснимое, в конечном счете, является объектом всякого поэтического выражения. Выразить себя — через неназы-
ваемое — это не цель, потому что не ты к ней стремишься, а она влечет, тянет, волочит тебя к себе.
Абсолютная языковая свобода поэта сталкивается с его
эмоционально-рациональным безволием и бессилием:
он — невольник, заложник, как сказано, вечности,
и все такое. Но все-таки самое страшное в одиночестве — для кого угодно — «однозвучной жизни шум».
Роковая рутина. Полежаевский вопрос «Зачем я на земле / Влачу убийственное бремя?..» — не риторический
и требующий немедленного ответа: «Скорей во прах!..»
Стихотворение А. Полежаева «Погребение», как считал Б. Рыжий (по словам О. Дозморова), — это зеркальное отражение притягательного ужаса смерти Эли:
Я видел смерти лютой пир —
Обряд унылый погребенья:
779
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
Младая дева вечный мир
Вкусила в мгле уничтоженья.
Не длинный ряд экипажей,
Не черный флер и не кадилы
В толпе придворных и пажей
За ней теснились до могилы.
Ах, нет! Простой дощатый гроб
Несли чредой ее подруги,
И без затейливой услуги
Шел впереди приходский поп.
Семейный круг и в день печали
Убитый горестью жених,
Среди ровесниц молодых,
С слезами гроб сопровождали...
Борис, правда, «принес я в память красоты» не «грусти сладостное бремя», а нечто более мучительное, губительное и роковое: «Эля, ты стала облаком / или ты
им не стала?..» — Эля стала всем, что — не жизнь.
Чем?.. Может быть, тем, о чем А. Полежаев писал
в одном из самых любимых стихотворений Бориса —
в «Тоске»:
Бывают минуты душевной тоски,
Минуты ужасных мучений,
Тогда мы злодеи, тогда мы враги
Себе и мильонам творений.
Тогда в бесконечной цепи бытия
Не видим мы цели высокой —
Повсюду встречаем несчастное «я»,
Как жертву над бездной глубокой;
780
Есть только музыка одна
Тогда, безотрадно блуждая во тьме,
Храним мы одно впечатленье,
Одно ненавистное — холод к земле
И горькое к жизни презренье...
Онтологическая тоска и одиночество могли бы вызвать (и — вызывают) состояние полной депрессии, бездеятельности. Но тоска и бытийное одиночество Бориса развивали в нем невиданную речевую / музыкальную активность и, естественно, как следствие ее —
лихорадочную поспешность жить, существовать, тратить свою плоть, истреблять себя. Тотальное и постоянное перенапряжение последних полутора лет жизни
Б. Рыжего разрешалось созданием «своих» эсхатологий,
наподобие стихотворения «Петербургским друзьям»:
Мне цыганка нагадала гибель в городе чужом.
От чего — не рассказала, но спасибо и на том.
Не столь четко, но, конечно, я в виду ее имел
с той поры, как быть поэтом автономным захотел,
Афанасия оставил, Аполлона прочитал —
то «Флоренции», но лучше я «Венгерке» подражал.
Басаната, басаната... Но пора за каждый звук
расплатиться, так-то, друг, и — горька твоя расплата.
Гей, кромешным ацетоном отдающий суррогат.
За судьбу плати с процентом, да не жмоться, так-то, брат.
А, «Цыганская венгерка»? Ну-ка, сбацай наизусть.
Вот, ребяты-демократы, вся любовь моя и грусть.
Закурить, опохмелившись, поглядеть на облака,
что летят над головою из далёка-далека,
в граде Екатеринбурге, с гордо поднятой главой
за туманом различая бездну смерти роковой.
(1998)
781
ЮРИЙ КАЗАРИН / ПоэтБорис Рыжий
Борис Рыжий как «автономный поэт» явно посмеивается — беззлобно — над своей нестоличностью и над своими поэтическими пристрастиями: действительно, кто сегодня помнит А. Фета и Ап. Григорьева; ну, скажем, все-
таки кое-кто помнит и «Венгерку» — «Цыганскую»
(отвлекающий изящный, легкий удар) знают аполлоно-
григорьевскую, хотя Борис здесь также парафразирует название любимого им стихотворения В. Луговского «Курсантская венгерка» («Оркестр духовой раздувает / Огромные медные рты. / Полгода не ходят трамваи, / На улицах
склад темноты...»). Автоирония — знак силы и ума: в этом
стихотворении звучит двойная венгерка — Григорьева и
Луговского, — на которую наплывает третья — «Венгерка» Рыжего: вслед за духовым оркестром (не похоронным!) Луговского и за двумя занывшими гитарами Григорьева вступает музыка иная, в которой явно различаешь
«бездну смерти роковой»...
Полежаевская «тоска роковая, убийца — тоска» отождествляется со смертью: «тоска... / над ним тяготеет,
как мрамор могилы, / И губит холодная смерти рука /
Души изнуренные силы...» Одиночество и тоска Бориса Рыжего — вне смерти, потому что именно они и есть
его жизнь.
Неизвестно, в каком порядке (Пушкин — Батюшков — Жуковский — Давыдов и т. д. — или наоборот?).
Борис осваивал поэтику и миропонимание золотого
века. Да это и не важно: необходимо понимать, что
Борис Рыжий обладал необычайно живым умом и воображением, активно развитой и развивающейся восприимчивостью и замечательным дискурсивным даром.
По мысли О. Дозморова, Борис — по большому счету — хотел «вдохнуть метафизику в поэзию советского периода» — задача не из легких, почти невыполни¬
782
Есть только музыка одна
мая, но чрезвычайно интересная и многообещающая
(вспомним слова Ф. Сологуба о том, что рано или поздно в поэзию придет поэт, который обворует всех, всю
предыдущую поэзию — и это будет новый Пушкин,
новый гений). Борис любил и принимал в поэзии XX,
XIX и — глубже — XVIII веков абсолютно разные стороны и формы, и содержания: он обожал легкий иронический стих Д. Давыдова, А. Пушкина, поэтов
«Искры», В. Курочкина, А. К. Толстого. Олег Дозмо-
ров вспоминает, как они хохотали над стихотворением
одного из родителей Козьмы Пруткова «Бунт в Ватикане».
Борис был весел и трагичен одновременно — черта
абсолютно возрожденческая и обществом не принимаемая и не понимаемая. Он мог до слез посмеяться над
виршами Пруткова и до слез растрогаться, читая наизусть Н. Некрасова:
Внимая ужасам войны,
При каждой новой жертве боя
Мне жаль не друга, не жены,
Мне жаль не самого героя...
Увы! утешится жена,
И друга лучший друг забудет;
Но где-то есть душа одна —
Она до гроба помнить будет!..
Буквальное, прямое восприятие Борисом поэзии
XIX века и стихов вообще усиливало «мощь поэтической энергии за счет «нормального» осознания им предметной, фактологической информации, помимо других типов и пластов семантики и смысла, — информации, выражавшейся (особенно в XIX в.) вербально
783
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
и эмоционально в каждом тексте. Борису не жаль «самого героя», то бишь себя, — редкое качество человека, не лишенного сентиментальности (естественно, не
в том ее объеме, какой был, например, у сентиментальнейшего Есенина и у очень сентиментального Маяковского, кстати, не очень любимых Б. Рыжим).
Одно из самых любимых стихотворений Бориса —
«Утро» Н. Некрасова.
Ты грустна, ты страдаешь душою:
Верю — здесь не страдать мудрено.
С окружающей нас нищетою
Здесь природа сама заодно.
Бесконечно унылы и жалки
Эти пастбища, нивы, луга,
Эти мокрые, сонные галки,
Что сидят на вершине стога;
Эта кляча с крестьянином пьяным,
Через силу бегущая вскачь
В даль, сокрытую синим туманом,
Это мутное небо... Хоть плачь!
О. Дозморов, перечисляя названия «чужих» стихотворений, которые Борис любил и помнил, «опознал» «Утро»
по первой строке, но произнес, повторюсь, ее не «Ты грустна...», а «Ты больна...» Уверен, что это не оговорка,
а скорее, влияние того лексического варианта, который
читался Борисом: поэт вообще любил, как я уже говорил,
реконструировал известные тексты, что объясняется прежде всего его стремлением к установлению определенности страдания, трагедии, боли. Некрасовская картина не¬
784
Есть только музыка одна
счастного мира почти зеркально точно соотносится с действительностью 90-х годов XX века: пространство уральской провинции нормально принимает на себя структуры 70-х годов XIX века, разве что утром не «офицеры
в наемной карете скачут за город: будет дуэль», а бритоголовые ребята на иномарках торопятся на «стрелку», на
«толковище», на «сходняк»; количество торгашей и проституток и в конце XX века остается стабильно высоким;
крестьяне в опустошенных деревнях все так же пьяны;
нищета — та же; правда, хоронят все чаще убиенных
в Чечне (и ордена на подушках другие) и погибших
в боях (междуусобных) за сферы всяческого влияния, за
передел местной промышленности и проч. Все те же вороны и галки, и грязь, и мутное небо... И тоска, и одиночество — хоть плачь! Однако Борису мало горестной — до
слез — некрасовской констатации, он — в силу молодости и особенностей своего активного в выражении боли
таланта — наполняет страдание динамикой поэтического осмысления и музыкой:
Во дворе было страшно и людно.
«Гроб ему за валюту купили...»
Только были черны обоюдно —
люди, галстуки, автомобили.
А в квартале — весна и разруха.
«Так и надо, он сам был убийца...»
И шептала — так мерзко — старуха,
и белели — так мраморно — лица.
Но когда прекратилась музыка —
словно в сердце растаяла глыба, —
я поднял с тротуара гвоздику,
кто б ты ни был — прости и спасибо.
Мы ведь тоже смертельно устали.
785
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
«О, печаль, твои пыльные губы...»
...Я хотел описать, как стонали,
как рыдали, как плакали трубы.
( 1995, апрель)
Напомню, что Борис Рыжий часто изменял даты написания стихов, он их — «омолаживал», видимо, пытаясь, с одной стороны, убедить себя в собственной зрелости и «автономности», а с другой стороны, чувствуя
и зная недолгие сроки своей жизни. Траурный марш,
скорбная музыка во многих стихотворениях Б. Рыжего
всегда сменяется (или переходит в...) музыкой своей,
вербализованной («описать, как стонали, как рыдали,
как плакали трубы...»). Здесь для Бориса важна не пресловутая преемственность поэтической этики и эстетики (они — стабильны), а преемственность времени, места
и интенсивного страдания, которое не подчиняется закону «всего на свете поровну», а, видимо, преувеличивается:
«Как в жизни падал, как вставал,
как вовсе умирал для света», —
он это в тридцать написал,
а в сорок кончилось все это.
И тридцать лет сплошная тьма,
в конце которой смерть от тифа.
И ученик «Не дай с ума
сойти мне, Бог...» черкнет брезгливо.
А через много-много лет
посредственный, но бесконечно
начитанный кивнет поэт:
да, Батюшков! да-да, конечно!
(1997)
786
Есть только музыка одна
Любимый Борисом Батюшков мог быть эталоном
ухода в страдание, ухода — с минованием смерти, т. е.
попаданием в сферу интерфизическую, где физика
и метафизика переливаются друг во друга, как жизнь —
в смерть, и — наоборот.
Б. Рыжий и О. Дозморов часто обсуждали вопросы
поэтики и поэзии: больше говорили о поэтическом дискурсе — размер, ритм, строфа, рифма и проч. Борис
был хорошим учеником поэзии и XX, и XIX веков.
Его самоопределение — до поэтической «автономии» —
опиралось на синтез двух дискурсивных систем (классика, традиционализм и модернизм), а также на лексико-стилистические возможности современного русского языка выразить иную музыку, свою боль, другую трагедию.
О. Дозморов признается, что именно Борис открыл
ему поэзию Я. Полонского.
Фигура этого поэта, его стихи почему-то неактуальны в сфере современных филологических исследований русской поэтики: хотя Я. Полонский еще в середине XIX века был явным предтечей и символизма,
и вообще поэзии серебряного века, и — даже поэтической разговорности середины XX века. Борис многое знал наизусть: и перцептивно связанные с образом-символом Эли стихотворения «Смерть малютки»,
«Иная зима», «Поцелуй», и шутливую поэму Полонского «Кузнечик-музыкант» (любовь к «легкой поэзии»
Б. Рыжего очевидна — его привлекали и стремительное движение дискурса, и иронический тон, и живая,
изменчивая скорость мысли, порождающей улыбку и
смех), и большое количество лирических стихотворений Якова Петровича, концептуально близких и родных ему. Среди них — стихотворение «Качка в бурю»:
787
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
Гром и шум. Корабль качает;
Море темное кипит;
Ветер парус обрывает
И в снастях свистит.
Помрачился свод небесный,
И, вверяясь кораблю,
Я дремлю в каюте тесной...
Закачало — сплю.
Вижу я во сне: качает
Няня колыбель мою
И тихонько напевает —
«Баюшки-баю!»
<...>
Снится мне: я свеж и молод,
Я влюблен, мечты кипят...
От зари роскошный холод
Проникает в сад.
Скоро ночь — темнеют ели...
Слышу ласково-живой,
Тихий лепет: «На качели
Сядем, милый мой!»
Стан ее полувоздушный
Обвила моя рука,
И качается послушно
Зыбкая доска...
Просыпаюсь... Что случилось? —
«Руль оторван; через нос
788
Есть только музыка одна
Вдоль волна перекатилась,
Унесен матрос!»
Что же делать? Будь что будет!
В руки Бога отдаюсь:
Если смерть меня разбудит —
Я не здесь проснусь.
( 1850, сентябрь)
В этом стихотворении — за счет особого строфост-
роения и усеченного метра (и — ритма), в четвертом
стихе — на стопу, — оформляется и выражается целая
интонационная парадигма, породившая интонационные варианты — фигуры А. Фета и А. Блока (Блок
очень любил строки «От зари роскошный холод / Проникает в сад...»), а также Б. Рыжего. «Если смерть меня
разбудит — / Я не здесь проснусь...» — мысль странная, глубокая, до конца не осознаваемая, — из тех
мыслей, которые нравились Борису своей свободой от
какой-либо прагматики. Виртуозность стихотворного
выражения Полонского — это результат не техники
(поверхностный взгляд), а истинной гармонии, основанной прежде всего на полноте переживания (интонация), на способности поэта вербализовать музыку,
образ и мысль, а потом уже — и на технике. Первая
часть стихотворения Я. Полонского «На пути из-за
Кавказа» вся — и дискурсивно, и интонационно,
и лексически — в XX веке:
Неприступный, горами заставленный.
Ты, Кавказ, наш воинственный край, —
Ты, наш город Тифлис знойно-каменный,
Светлой Грузии солнце, прощай!
789
ЮРИЙ КАЗАРИН /Поэт Борис Рыжий
Душу, к битвам житейским готовую,
Я за снежный несу перевал.
Я Казбек миновал, я Крестовую
Миновал — недалеко Дарьял.
Слышу Терека волны тревожные
В мутной пене по камням шумят —
Колокольчик звенит — надежные
Кони юношу к северу мчат.
<...>
В стороне слышу карканье ворона —
Различаю впотьмах труп коня —
Погоняй, погоняй! тень Печорина
По следам догоняет меня...
Ты, с которой так много страдания,
Терпеливо я прожил душой,
Без надежды на мир и свидание
Навсегда я простился с тобой.
Но боюсь — если путь мой протянется —
Из родимых полей в край чужой —
Одинокое сердце оглянется
И сожмется знакомой тоской.
Вспомнит домик твой — дворик, увешанный
Виноградными лозами, — тень —
Где, твоим лепетаньем утешенный,
Я вдавался в беспечную лень.
Вспомнит роз аромат над канавою,
Бубна звон в поздний вечера час,
790
Есть только музыка одна
Твой личак — и улыбку лукавую,
И огонь соблазняющих глаз.
Все, что было обманом, изменою,
Что лежало на мне словно цепь,
Все исчезло из памяти с пеною
Горных рек, вытекающих в степь.
{1851, 10 июня)
Дактилическая рифма «вброна — Печорина» — это
уже явный поэтический XX век. Сам процесс «материализации» образа и метафоры «...тень Печорина / По следам догоняет меня...» — это из арсенала новейшей
поэтики (так же, как и фрагменты «Осени» Евг. Баратынского: «земля в широких лысинах бессилья» — метонимический перенос, характерный для поэзии советского периода). Борис признавался О. Дозморову, что,
когда он читает строку «Кони юношу к северу мчат», —
у него идет мороз по коже (Полонский повторяет ее дважды!). Есть в этом стихотворении образ «той», с которой
прощаются навсегда и с которой «так много страдания
терпеливо я прожил душой», — необходимый для Бориса знак наличия в поэтической картине мира символа
женщины (Эли, матери, Ирины), преодолевающей
и помогающей преодолевать жизнь-смерть-жизнь... Во
второй части стихотворения — все для Бориса, для его
боли, страдания, которые неизбежны в процессе преображения безобразного в прекрасное: «одинокое сердце
оглянется / И сожмется знакомой тоской» или — последняя строфа, где важны не «обман и измена» (хотя и они
были достаточно актуальны в жизни Бориса), а — «все
исчезло из памяти», освободило, дало вольную и ушло
«с пеною горных рек, вытекающих в степь...» Ушло,
791
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
и начинаешь понимать, что и ты оказался (с пеною!) на
равнине — чужой, пустой, где абсолютное одиночество
не оставило места даже тоске...
Очень важны были для Бориса стихотворения
Я. Полонского «В глуши», «Пчела» и «Моя судьба, старуха, нянька злая...», в которых музыкальная реализация
трагедии была особенно близка и родственна поэту.
Я. Полонский расширяет и углубляет трагичность
своего сознания «случайности и напрасности дара» —
Б. Рыжий начинает понимать не только формы, контуры своей трагедии, но и ее структуру, наполнение (собой, собой, собой!) и содержание. Качество трагедии
Бориса Рыжего — иное, новое: оно выражается в полной уверенности поэта в том, что выхода — нет:
...Здесь до войны
был женский монастырь
и кладбище с прекрасными крестами.
Потом был парк, а нынче тут — пустырь
под бледно-голубыми небесами.
И я всегда, когда гуляю здесь,
воображаю с некой страшной силой:
в осеннем парке, летнем ли, бог весть,
монахиню над черною могилой.
И думаю: о жалкие умы,
предметы не страшатся разрушенья —
вернее, всё, что разрушаем мы,
в иное переходит измеренье.
И мне не страшно предавать словам
то чувство, что до горечи знакомо.
И я одной ногой гуляю там,
гуляя здесь, и знаешь, там я дома.
(1996, март)
792
Есть только музыка одна
Выхода — нет, и поэтому — необходимо вернуться.
Вернуться самым дорогим, случайным и напрасным —
стихами.
Конкретные эмоции (тоска, одиночество, горе, печаль, отчаянье), какими бы крупными и комплексными они ни были, Борис постоянно в процессе поэтического высказывания преобразует в метаэмоциональ-
ные структуры. Основные метаэмоции Б. Рыжего — это
чувство жизни, чувство смерти, чувство бесконечности,
чувство вечности, чувство — в целом — интерфизично-
сти своего существования: «...одной ногой гуляю там,
гуляя здесь, и знаешь, там я дома...»
Метаэмоциональные состояния вообще присущи
носителям поэтического сознания и поэтического отношения к миру («хандра ниоткуда»), такое состояние — результат поиска трагедии (как это ни странно
звучит), трагедии как сгустка мыслей, эмоций, предчувствий, открытий и прозрения. Именно метаэмоция
разрушает метр (у И. Бродского) и создает ритм, основанный на работе не механического, а — скорее —
кардиологического, психологического, или интуитивного, метронома. Любые метрические потоки разрушаются не разрушаясь и наполняются интонационными квантами (долями, крупнее — синтагмами) поэтического (не-разговорного!) ритма.
Борис очень любил стихотворение Я. Полонского
«Звезды».
Светило, звезда Полонского, а потом (через полтора века) и Рыжего — это субстанция, которая, безусловно, лишена предметности, главное в звезде — свет
и взгляд, воздух и звук, возможный на пути света, ожидаемый и необходимый тебе и тем, кто следит за звездой.
793
ЮРИЙ КАЗАРИН /Поэт Борис Рыжий
Звезда как «беспредметное овеществление» метаэмоции,
скорее, осмысляется, предчувствуется, нежели видится, встречается и провожается глазами. Поэт — весь
зрение, зрение всем своим внешним, внутренним и
переходным, интерфизическим, существом. Об этом —
в стихотворении «Вдоль канала»:
Когда идешь вдоль черного канала
куда угодно, мнится: жизни мало,
чтоб до конца печального дойти.
Твой город спит. Ни с кем не по пути.
Так тихо спит, что кажется, возможно
любое счастье. Надо осторожно
шагать, чтоб никого не разбудить.
О, господи, как спящих не простить!
Как хочется на эти вот ступени
сесть и уснуть, обняв свои колени.
Как страшно думать в нежный этот час:
какая боль еще разбудит нас...
(1996, июнь)
Я. Полонский явно опережал и тем самым предопределял появление поэтики Н. Некрасова и А. Фета,
хотя и был им современником («Мое сердце — родник,
мое сердце волна...» — стихотворение абсолютно «некрасовское», а «—Подойди ко мне, старушка...» сделано голосом зрелого А. Фета: «Да» сказал цветок ей темным, / Сердцу внятным языком...»).
Борис, по свидетельству О. Дозморова, любил такие
стихотворения Я. Полонского, как «У двери» (Посвящается А. П. Чехову), «Памяти В. Гаршина», трагическая
судьба этого писателя потрясла Бориса, «Ф. И. Тютчеву». Б. Рыжего прежде всего, конечно, интересовал осо¬
794
Есть только музыка одна
бый тип творческого поведения русского писателя-по-
эта: невеселая судьба Чехова (чахотка, женитьба, одиночество), самоубийство Гаршина, долгая жизнь и загадочная судьба, полная утрат и любви, Тютчева, — все
это так или иначе повлияло на создание сценария собственной поэтической судьбы, жизни и трагедии.
Борис знал наизусть и очень любил стихотворение
Я. Полонского «Утрата»:
Когда предчувствием разлуки
Мне грустно голос ваш звучал,
Когда, смеясь, я ваши руки
В моих руках отогревал,
Когда дорога яркой далью
Меня манила из глуши —
Я вашей тайною печалью
Гордился в глубине души.
Перед непризнанной любовью
Я весел был в прощальный час,
Но — боже мой! с какою болью
В душе очнулся я без вас!
Какими тягостными снами
Томит, смущая мой покой,
Все недосказанное вами
И недослушанное мной!..
(1857)
Строфопредложения Я. Полонского явно были по
душе Б. Рыжему: процессы естественного дыхания и
задыхания, вербализованные поэтом, создают эффект
абсолютной подлинности интонации, а стало быть, —
и переживания, и мысли. Метаэмоция неопределенна —
795
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
и это очень важно, т. к. неопределенность скорее приближает к развязке, а трагедия и есть затянувшаяся развязка: «Какими тягостными снами / Томит, смущая мой
покой, / Все недосказанное вами / И недослушанное
мной!» А недосказанное в поэзии — больше сказанного, как и невыразимое в мире преобладает над названным.
Поэзия и поэтика Я. П. Полонского — и сознательно, и подсознательно — были пережиты, усвоены и освоены Борисом Рыжим в долгом, очень избирательном
процессе внедрения поэтического дискурса XIX века и
поэтической метафизики в унаследованную поэтом советскую поэзию. Я. Полонский, как поэт, обладал сверхмощной генеративной энергией новизны, ставшей просодической, дискурсивной и концептуальной традицией серебряного, свинцового и новейшего времени
русской поэзии. Стихотворение «Ночь в Крыму» Я. Полонского было концептуально-музыкальным образом
отношения человека (и — языка) к миру:
Помнишь, лунное мерцанье,
Шорох моря под скалой,
Сонных листьев колыханье,
И цынцырны стрекотанье
За оградой садовой;
<...>
Я внимал — и сердце грелось
С юга веющим теплом,
Легче верилось и пелось...
Я внимал — и мне хотелось
Этой музыки во всем...
796
Есть только музыка одна
Иная музыка слышится, к сожалению и к счастью, не
всем, но она — есть, хотя она и дискретна. Трагедия поэта как раз заключается в том, что порой интервалы музыкального отсутствия, «пробелы», как выразился О. Доз-
моров, затягиваются и затягивают — буквально — в смерть.
И это — нормально. Нормально и обычно — для человека мыслящего и страдающего, потому что он желает невозможного: «Мне хотелось этой музыки во всем...»
Вербализованная трагедия становится фактом сначала языка (поэзия), а потом — культуры, жизни. Борис
любил стихи Ап. Григорьева, его надрыв, который не
сыграешь (игра становится судьбой? — но судьба, в поэзии, по крайней мере, не переходит в игру, если, конечно, не обращать внимание на стихотворчество советского двадцатого века). Ап. Григорьев — трагичен, но
может показаться и сентиментальным — сегодня, когда
тоска вообще видится нам как эмоция глобальная, утрачивающая национальные («русские») черты. Григорьев —
метаэмоционален, положение его души уникально: она
вся в надрыве — в недонадрыве (как Анненский) и в не
перенадрыве (как Есенин, абсолютно сентиментальный
поэт), а в петле времени-пространства, которая (по-пе-
чорински) готова удавить всякого, не пожелавшего быть
частью веревки. «Цыганская венгерка» — это для Бориса
источник, музыкальный архетип вульгарной родной радиолы за стеной, магнитофона на плече вторчерметов-
ского подростка, гитары в тамбурах вагона, подъезда,
квартиры... Источник «горького веселья», горя:
Что за горе? Плюнь, да пей!
Ты завей его, завей
Веревочкой горе!
Топи тоску в море!..
797
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
Но Борис любил и другого Григорьева:
<...>
Мы не пойдем рука с рукою,
Но память прошлого с собою
Нести равно осуждены.
Мы в жизнь, обоим нам пустую,
Уносим веру роковую
В одни несбыточные сны...
Поиски родного в чужом — это попытка самоутверждения в катастрофе, это возможность и способность воспринимать страдание как нормальное (и —
нормативное) состояние поэта. Полонский и Григорьев, помимо всего прочего, предлагают забытый двадцатым веком гармонический синтез строфы, синтаксиса,
интонации, музыки и метрического ритма, в котором
становится реальной вербализацией любой, самой
страшной, мысли, любого чувства метаэмотивного характера, любой музыки: «в нас равно страданье гордо»,
«память прошлого», «жизнь пустая», «несбыточные сны»,
«блаженства и мученья» и др. — вот знаки метамысли,
метаэмоции и метамузыки. Максимальная мука требует максимально прямого выражения — как в стихотворении Б. Рыжего «Памяти поэта»:
В помещении — слева и справа,
сзади, спереди — тысячи глаз
смотрят пристально так и лукаво:
как он, право, споткнется сейчас!
А споткнувшись, он станет таким же,
как и мы, нехорошим таким,
798
Есть только музыка одна
был высоким, а станет чуть ниже,
и его мы охотно простим.
Но когда, и споткнувшись, он все же
будет нас избегать, вот тогда...
Вышел в улицу: господи боже,
никого, ничего, никогда.
Только тусклые звезды мерцают,
только яркие звезды горят:
никогда никого не прощают,
никому ничего не простят!
(1997)
Это — не самосуд: поэт именно так и только так
должен относиться к себе — без любования собой и без
жалости к себе. В сущности, это стихотворение —
в процессе буквального (как у Б. Рыжего) восприятия —
выражает метаидею, интерпретации не поддающуюся:
не с отвращением, не с гневом ты смотришь на себя
глазами звезд, но — ... как?
Формула Рильке — Рыжего «Безобразное — это прекрасное» здесь перевернута, как песочные часы: «прекрасное — это безобразное», потому что оно доступно
поверхностному слою эмоции толпы — это действительно страшно, «тяжело» и «слишком гадко», невыносимо.
Красота — «страшная сила» в своей функции управления толпой, человеком, мужчиной, юношей, подростком, мальчиком. Красота сориентирована, по Б. Рыжему, на бесконечность и вечность, но по пути она пронизывает — убивает и, наоборот, воскрешает — многих
и немногих. Проблема — вечная, неразрешимая, губительная для того, кто пытается ее хотя бы осознать.
Борис Рыжий как философ и эстет уникален: он мог
видеть и любить одновременно страшное (прекрасное)
799
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
и смешное (ужасное, грубое). Например, у Вл. Соловьева он очень любил эпиграммы, поэтическую иронию,
одновременно плача над стихами Я. Полонского.
О. Дозморов вспоминает, как Борис смеялся над «лесбийскими» миниатюрами Вл. Соловьева:
Приедет к нам, верно, из Лесбоса
Решенье женского вопроса.
Дал вечность Лесбии своей
Катулл, хоть к ней отнесся строго..
Катуллов нет у нас, ей-ей,
Но Лесбий, батюшки, как много!
(1897)
Поэт любил редкие, забытые, малоизвестные стихотворения известных поэтов, часто читал их друзьям —
угадай-ка! — черта просветительская, но и карающая
читательское невежество. Пародию Вл. Соловьева на
символистов Борис знал наизусть:
На небесах горят паникадила,
А снизу — тьма.
Ходила ты к нему иль не ходила?
Скажи сама!..
Своей судьбы родила крокодила
Ты здесь сама.
Пусть в небесах горят паникадила, —
В могиле — тьма.
Ирония — освободительна. Она прежде всего дает
вольную — интонации, а стало быть, — строфе и ритму.
800
Есть только музыка одна
Просодическая «легкость» Б. Рыжего — это результат
взаимной работы трагедии и улыбки (трагедия в восприятии обывателя вообще несуразна, избыточна
и смешна: к чему душить Дездемону — проще было
оставить ее без средств существования, без одежды, без
телевизора, наконец). Удивительно то, как из шутки
появляется нечто серьезное: поэт, играя, забавляясь, озоруя, экспериментируя, — создает нечто «aere perennius».
Так, мистифицируя вместе с Олегом Дозморовым и Романом Тягуновым насчёт поэтического конкурса «Мрамор» (памятник поэту при жизни за лучшее стихотворение о вечности), Борис пишет «как бы заказное» стихотворение о мраморе — с первой строкой, вырастающей
прямо из поэтической концепции времени-пространства И. Бродского:
Что сказать о мраморе — я влюблен в руины:
пыльные, невзрачные, странные картины...
Право же, эпитетов всех не перечислю.
Мысль, что стала статуей, снова стала мыслью.
Где она, бессмертная, грозная, витает?
Где художник траурный, что ее поймает?
Но однажды — будь она демон или птица —
в ручку, в грудь холодную перевоплотится.
Может, в строки грустные, теплые, больные, —
бесконечно ясные, но совсем чужие.
Чтобы — как из мрамора — мы с тобой застыли,
прочитав, обиделись, вспомнили, простили.
Не грусти на кладбище и не плачь, подруга, —
дважды оправдается, трижды эта мука.
Пью за смерть Денисьевой, вспоминаю Трою,
вижу жизнь, что рушится прямо предо мною.
(1995)
27 Оправдание жизни
801
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
В первом стихе все: и Бродский, и улыбка-ирония,
и державинское «РУИНАЧТИ», и т. п. Далее — констатация воскрешения без смерти и без усилия, сплошная
игра — разгон, разбег. Все настоящее, подлинное начинается на 13-й (!) строке: кладбище, слезы, «продуктивная» мука (русская печаль, тоска, горе весьма продуктивны в сфере, так сказать, работы души), смерть
и жизнь, которая рушится, — пока без тебя, но разрушение ее движется тебе навстречу так же, как и ты идешь
прямо на него.
Борис Рыжий — удивительное явление — внешне
был очень похож одновременно и на Александра Блока, и на древнегреческого Аполлона (см. фотографии
А. Блока в восьмитомнике) и фотографию Б. Рыжего
в его паспорте). Такие, казалось бы, случайные аналогии (или совпадения?), если бы они не были связаны
с поэтом, можно было бы назвать незакономерными.
Но в судьбе поэта все случайное, экстраординарное, даже
патологическое — закономерно, нормативно, нормально и необходимо / обязательно.
По словам О. Дозморова, большое влияние на
Б. Рыжего оказывали стихи К. К. Случевского, в которых доминировало поэтическое постижение смерти.
Ап. Григорьев добровольно отдавался стихии гибели
(и скорость гибели была потрясающе высокой), и Борис это хорошо понимал. Вот стихи, адресованные
Алексею Пурину:
Ворбтишься с очередной свистопляски,
заснешь, а проснешься: обидно до слез.
Григорьева Фбтушка в крытой коляске
пьянющего в сиську по Питеру вез.
Знакомые и незнакомые лица
802
Есть только музыка одна
двоятся, троятся в твоей голове.
Одеться, спуститься и опохмелиться
бодяжною водкой в ближайшем кафе.
А-ну, за Григорьева за Аполлона.
В башке басана прочитай наизусть.
Не будет трагедии, крика и стона,
да будет отныне веселье и грусть.
Ах, строчка чужая как в заднице шило.
Ах, строчка чужая иглою в душе.
Одно удручает, уже это было
и кончилось очень херово уже.
(1998)
К. Случевский не летит в катастрофу — он уже
в ней, он пытается осмотреться и осознать такое состояние, необходимость которого отрицать не приходится:
Я помню ужас смерти этой...
Сильна была любовь моя...
Как я к усопшей, к неотпетой
Ходил в те дни — не помню я.
Но помню страстное желанье
Все, что имел тогда, — отдать,
Чтоб дорогое очертанье
В нетленном камне изваять,
В путинах ада или рая
Ее я выследить хотел...
Я заболел! Весь смысл теряя,
Мой дикий бред — перегорел.
И что ж? Где вы, тех дней миражи?
Прошли года — мой дух живой,
Не совершив у смерти кражи,
Забыл о пытке огневой.
27*
803
ЮРИЙ КАЗАРИН /Поэт Борис Рыжий
И вот — портрет с ее чертами!..
Но холодна моя душа...
Гляжу спокойными очами
И говорю: «Как хороша!..»
Обязательность и постоянное наличие ужаса смерти, по Случевскому, делает эту эмоцию если не обыденной, то конститутивно и конструктивно важной для
того, кто не бессмертен, кто понимает смерть как часть
жизни, какой бы долгой и счастливой она ни была.
Смерть — любовь — красота — такое единство вполне
соотносится с библейскими представлениями о плоти
и душе (кн. Иова) и не противоречит концепции
любимых Борисом мыслителей — Ницше, Достоевского, Шестова и Рильке.
К. Случевский — явный предтеча поэтики акмеизма и в большей степени — О. Мандельштама:
Когда на краткий срок, здесь ясен горизонт
И солнце сыплет блеск по отмелям и лудам,
Ни Адриатики волна, ни Геллеспонт
Таким темнеющим не блещут изумрудом;
У них не так густа бывает синь черты,
Делящей горизонт на небо и на море...
Здесь вечность, в веяньи суровой красоты,
Легла для отдыха и дышит на просторе!
Это стихотворение — явная просодическая, дискурсивная и концептуальная пропозиция поэтики
О. Мандельштама (характер музыкальности такого стихотворения К. Случевского, как «Осенний мотив», станет в свое время просодической доминантой «главно¬
804
Есть только музыка одна
го акмеиста»: «Мой старый клен с могучею листвой, /
Еще ты густ и зелен, и тенист...»). Борис умел находить источники поэтической репродуктивности там,
где или никто не искал (Я. Полонский), или уже ничего не находил (Д. Давыдов), или видел совсем не то,
чего жаждал Борис Рыжий (музыкальность — И. Анненский, К. Случевский и др.). К. Случевский научил
Б. Рыжего пеонам, синтаксическому параллелизму и
повторам — природы, скорее, не фольклорной, а бет-
ховенской: «Нельзя, нельзя... Однако преисправно /
Заря затеплилась...» («Ты не гонись за рифмой своенравной...»); «Да, да! Всю жизнь мою я жадно собирал...» (одноименное стихотворение); «Ни слава яркая,
ни жизни мишура, / Ни кисти, ни резца бессмертные
красоты, / Ни золотые дни, ни ночи серебра / Не
в силах иногда согнать с души дремоты...» (одноименное стихотворение); «Горит, горит без копоти и дыма...»
(одноименное стихотворение) и мн. др. Концептуально (и музыкально, естественно) важным был для Бориса цикл К. Случевского «Загробные песни» (1902),
которые создавались на рубеже двух веков — эпох —
жизней и которые повлияли на поэтическую реализацию Б. Рыжего ровно через 100 лет и тоже на рубеже,
но уже не просто веков, а — тысячелетий, когда поэтическое ощущение катастрофы укрупнилось, как
и сама — катастрофа.
Особенно близко Борису было последнее стихотворение цикла:
И я предстал сюда, весь полн непониманья...
Дитя беспомощное... чуть глаза открыв,
Я долго трепетал в неясности сознанья
Того, что я живу, что я иначе жив.
805
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
Меня от детских лет так лживо вразумляли
О смерти, о душе, что будет с ней потом;
При мне так искренно на кладбищах рыдали,
В могилы унося почивших вечным сном...
Нет! надо иначе учить с колыбели...
Долой весь темный груз туманов с головы...
Нет, надобно, чтоб мы совсем светло глядели
И шествовали в смерть, как за звездой волхвы!
Тогда бы верили мы все и безгранично,
Что смерть — желанная! что алые уста
Нас зацеловывают каждого, всех, лично, —
И тайна вечности спокойна и проста!
(1902)
«Иная жизнь» — это подтверждение тому, что существует и другая музыка, — не загробная, как жизнь, а —
надгробная, вернее — над-гробная, выше смерти, которая — желанна, когда прекрасное и безобразное (как
добро и зло) уже неразличимы, почти едины, потому что
иной способ постижения ужаса красоты: «Земля, которую, без всякой укоризны, / ты так мучительно и смело
так любил!..» («После похорон Ф. М. Достоевского»), —
это стало позицией Бориса Рыжего-поэта: любить постигая — без укоризны, мучительно и смело (тогда
и смерть становится иной — не обыденной, «рутинной»:
в слове «смерть» анаграмматически содержатся части лексем «смелый», «мера», «тремоло» («дрожь»), «треск» («руина!»), «серый» («толпа», «скоп» и проч.), «семь» (символическое, если не магическое, число), «сеть», «мета»,
«сметь» («сметь оказаться в ней — сознательно») и проч.,
проч., проч.). Жизнь страшнее смерти:
806
Есть только музыка одна
Каких-нибудь пять-шесть дежурных фраз;
Враждебных клик наскучившие схватки;
То жар, то холод вечной лихорадки,
Здесь — рана, там — излом, а тут — подбитый глаз!
Талантики случайных содержаний,
Людишки, трепетно вертящие хвосты
В минуты искренних, почтительных лизаний
И в обожании хулы и клеветы;
На говор похвалы наставленные уши;
Во всех казнах заложенные души;
Дела, затеянные в пьянстве иль в бреду,
С болезнью дряблых тел в ладу...
Все это с примесью старинных, пошлых шуток,
С унылым пеньем панихид, —
Вот проявленья каждых суток,
Любезной жизни милый вид...
«Любезной жизни милый вид» — это базовый оксюморон поэта. Жизнь как сплошная физиологичноть,
психологичность и социологичность убийственна, юный
Борис понимал это уже в 1993 году, когда написано
«Завещание», оно есть в подборках первого раздела этой
книги.
Белые стихи содержат в себе достаточно много черного и красного, они, на первый взгляд, не совсем самостоятельны (Мятлев, Давыдов, Блок), но Борис умел
любую стилизацию — к последней строфе — превращать в свое — качество таланта восприимчивого, требовательного и продуктивного. Все, что «затеивалось
в пьянстве иль в бреду», писалось, реализовывалось
и трансформировалось в прекрасное и чистое. Борис
часто читал (зная наизусть) одно из самых печальных
стихотворений К. Случевского:
807
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
Всегда, всегда несчастлив был я тем,
Что все те женщины, что близки мне бывали,
Смеялись творчеству в стихах! Был дух их нем
К тому, что мне мечтанья навевали...
Противостояние мужчины и поэта всегда завершается
победой последнего. Если бы женщины знали это! Однако сексуальное и социальное избирается женщиной прежде
всего прочего — «всего такого», что делает мужчину поэтом (разве что Надежда Яковлевна Мандельштам —
в своих мемуарах — создала эталонный образ жены поэта, — но этот пример из области автомифологии).
Чтение поэтом «чужих» стихов — это не затянувшаяся языковая и культурная прививка (или — череда таковых), это не планированное развитие по-мичурински
и вообще не обновление по-тыняновски, это не попытка ощущения (создания иллюзии) себя как части целого
«литературного процесса», напротив — это возможность
взгляда на себя со стороны — глазами писавших до тебя,
пишущих с тобой рядом и тех, кто будет писать после
тебя. Такое чтение — это прежде всего соучастие в прививках иных — глобальных — целому поэтическому языку
и способам стихотворного выражения, — в прививках,
полученных русской поэзией на протяжении 4—5-ти
веков, — инъекций фольклора, польской силлабики,
немецкой тоники, англо-французской силлабо-тоники, —
наблюдение над прививками политикой, социальностью
и прозой. Борис различал социальное и бытийное
(«Человека замечают только после того, как он получил
премию», — горько удивляется Б. Рыжий в интервью
с С. Шаповалом — «Поэт из дома бывших заключенных
(Лауреат «Антибукера» поэт Борис Рыжий собирается
стать сентиментальным)». Само название интервью —
808
Есть только музыка одна
печальный образчик социальной функции литературной
критики). Б. Рыжий как читатель начинал освоение своей поэтической способности и поэзии вообще как слушатель (чтение стихов вслух отцом и сестрой поэта).
Освоение Борисом своего поэтического прошлого шло
(приблизительно) в таком порядке: серебряный век —>
золотой и советский века —> золотой век -» советская
поэзия — на фоне, естественно, современной поэзии
(Е. Рейн, С. Гандлевский, В. Гандельсман, А. Кушнер,
А. Пурин, В. Уфлянд, Л. Лосев, Ю. Кублановский,
А. Леонтьев и, конечно, И. Бродский).
Человеку, живущему и сочиняющему в провинции,
приходится в большей степени опираться на прошлое.
Провинция вообще идеальное место для творчества
и гиблое — для реализации. Борис в упомянутом интервью говорит: «Я должен признать такую закономерность: кто оттуда не уехал, из того ничего не вышло.
К сожалению, что так. В провинции хорошо начинают,
подают большие надежды, потом всё куда-то уходит.
Я думаю, сказывается недостаток среды. Я, кстати,
в Москве получал только пряники, в Екатеринбурге —
только пинки под зад. Меня там никто не рассматривает как серьезного поэта, пусть даже начинающего,
в Москве ко мне отношение совершенно иного рода».
Провинция как источник «покоя и воли» рано или
поздно ставит сочинителя перед выбором: «остаться
собой» и неизвестным или, утратив некую самостоятельность (и, возможно, мнимую самодостаточность),
стать частью литературного / социального процесса,
когда возможности реализации уменьшаются, а возможности реализованности преувеличиваются.
В структуре поэтической личности стихотворца всегда найдется один-два свободных, блуждающих гена,
809
ЮРИЙ КАЗАРИН/ПоэтБорис Рыжий
способных к поиску материалов, которые могут стать
поэтически родными ему. Поэтическая генетика (это
и зависимость, и эпигонство, и ученичество, и страх
влияния, по Харолду Блуму, и основа самостоятельности) — вещь практически непознаваемая. Парадигма поэтических имен, близких Борису, естественно,
не может быть полной (список этот составлен только
на основе выявления и выяснения личных симпатий и
пристрастия, личного знания поэта Бориса Рыжего),
она, конечно, будет еще дополняться в процессе дальнейших исследований критиков-литературоведов, по-
этологов и лингвистов. Пока же отмечены лишь некоторые (а их совсем немного) аспекты поэзии и поэтической генетики Б. Рыжего: «есенинщина — ложное
впечатление от стихов Б. Рыжего» (А. Машевский),
«с Есениным у Рыжего нет ничего общего» (Д. Быков); «парижская нота»; Денис Давыдов; Осип Мандельштам (А. Машевский); Александр Блок; Эдуард
Багрицкий; Ярослав Смеляков; Александр Кушнер;
Иосиф Бродский (А. Машевский, А. Пурин, И. Фали-
ков); связь с классической поэзией и поэтикой (И. Фа-
ликов); «стопроцентный лирик», «упразднивший дистанцию между поэтом и гонимым» (Л. Костюков);
«Б. Рыжий сгущает отчаяние, потому что ему нечего
больше сгущать» (Л. Костюков); элегичность (Л. Быков); музыкальность (К. Верхейл, А. Пурин); выражение неизъяснимого (А. Пурин); поэтическая дерзость
(О. Славникова); «трансазиатский поэт» (автономинация, а также И. Фаликов); «оригинальный и воистину
народный поэт (А. Марченко); «первый поэт XXI века»
(А. Марченко); «единственное светлое пятно в истории русской поэзии конца двадцатого века» (Д. Быков) и проч.
810
Есть только музыка одна
Борис Рыжий — поэт национальный, его трагедия
(трагедия большинства носителей русской языка) от
узкохронотопического своего начала до онтологической бесконечности — непереводима. Не хочется
пользоваться какими-либо оценочными номинациями,
но все-таки следует отметить, что к завершившейся (прикрывшейся) поэтической парадигме «от Тредиаковско-
го до Бродского» приращивается начало новой — открытой — парадигмы «от...». Уверен, что имя Б. Рыжего в этом списке будет стоять в самом начале.
Борис Рыжий как стихотворец замечателен потому,
что сумел не просто противиться общей для любой национальной поэзии тенденции и процессам риториза-
ции лирики, формы, содержания, эстетики и даже этики (такая риторизация есть «замыливание», «остарение»
смысловой стороны поэтического выражения), но и
осмелился пойти против мощного потока поэтической
риторики, освобождая эмоцию и мысль от поэтических
и стиховых стандартов и превращая, преобразовывая
горе-печаль и жизнь-смерть в метаэмоциональную и ме-
тамыслительную сущность:
Мотивы, знакомые с детства,
про алое пламя зари,
про гибель, про цели и средства,
про Родину, черт побери.
Опять выползают на сушу,
маячат в трамвайном окне.
Спаси мою бедную душу
и память оставь обо мне.
Чтоб жили по вечному праву
все те, кто для жизни рожден,
811
ЮРИЙ КАЗАРИН / Поэт Борис Рыжий
вали меня навзничь в канаву,
омой мое сердце дождем.
Так зелено и бестолково,
но так хорошо, твою мать,
как будто последнее слово
мне сволочи дали сказать.
{1998)
Б. Рыжий в поэзии — буквалист, и это очень ценное качество: он не наивен, а достоверен. К тексту Борис относится как к вещи материальной. Так в детстве
строгают деревянную чурку — до палочки, из которой
может получиться уж если не волшебная, то дудочка —
точно:
Июньский вечер. На балконе
уснуть, взглянув на небеса.
На бесконечно синем фоне
горит заката полоса.
А там — за этой полосою,
что к полуночи догорит, —
угадываемая мною
музыка некая звучит.
Гляжу туда и понимаю,
в какой надежной пустоте
однажды буду и узнаю:
где проиграл, сфальшивил где.
U998)
Писание стихов и есть жизнь. «Горит заката полоса» — это не клише, а двойная правда — предметная
(природная) и языковая (поэтическая), потому что даже
во сне за этой полосою угадывается не звук, не благо¬
812
Есть только музыка одна
звучие, а музыка, звукосмысловая (фоносемантическая)
природа которой несомненна. Та-ра-рам и тра-ля-ля —
это не знаки медитации, а музыкально-междометийное
начало метаэмоции, метамысли и метанадежды:
Особенно когда с работы,
идя, войдешь в какой-то сквер,
идешь и забываешь, что ты —
очкарик, физик, инженер,
что жизнь скучна, а не кошмарна,
что полусвет отнюдь не мрак,
и начинаешь из Верхарна
Эмиля что-то просто так
о льдах, о холоде — губами
едва заметно шевеля,
с его заветными словами
свое мешая тра-ля-ля.
...Но это тра-ля-ля, дружище,
порой, как губы ни криви,
дороже жизни, смерти чище,
важнее веры и любви.
(1996)
Пока цивилизация занимается усложнением примитивов, поэзия (и культура в целом) упрощает невероятные сложности. Борис это понимал.
Формула «поэт — в — катастрофе» работает всегда,
мощно, мучительно, страшно и продуктивно. Трагедия поэта, несмотря ни на что, становится позитивом
культуры, ее основанием, ядром и периферией. Бытие,
вторгшееся в быт, разрушает его, просветляет и опять
ускользает в поисках новой катастрофы и трагедии. Нам
же остается немногое — честное со-участие в том, что
избежало социальной оценки и разрушительности, —
813
ЮРИЙ КАЗАРИН /Поэт Борис Рыжий
в стихах. А стихи Бориса Рыжего — уже в языке и
в культуре:
В парке отдыха, в парке
за деревьями светел закат.
Сёстры «больно» и «жалко».
Это, вырвать из рук норовят
кока-колу с хот-догом,
чипсы с гамбургером. Итак,
все мы ходим под Богом,
кто вразвалочку, кто кое-как
шкандыбает. Подайте,
поднесите ладони к губам.
Вот за то и подайте,
что они не подали бы вам.
Тихо, только губами,
сильно путаясь, «Refugee blues»
повторяю. С годами
я добрей, ибо смерти боюсь.
Повторяю: добрее
я с годами и смерти боюсь.
Я пройду по аллее
до конца, а потом оглянусь.
Пусть осины, березы,
это небо и этот закат
расплывутся сквозь слезы
и уже не сплывутся назад.
(1998)
814
Содержание
Избранная лирика
«Поздно, поздно! Вот — по небу прожектора...» .... 7
«Урал научил меня не понимать вещей...» 7
Завещание 8
«Клочок земли под синим небом...» 9
Костер 10
«Разве только ангел на четыре слова...» 10
Фонарь над кустами 11
Воспоминание 12
Трубач и осень 13
«Сын, подойди к отцу...» 14
«Я скажу тебе тихо так, чтоб не услышали львы...» . . 15
Элегия Эле 15
«Вот зима наступила...» 17
В доме-музее А. С. Пушкина 18
«Уток хлебом кормила с руки...» 18
Над красивой рекой 19
«Словно уши, плавно качались пблы..» 19
Колокольчик 20
«...Поздним вечером на кухонном балконе...» 21
Музыкант и ангел 21
Одним мурлыканьем 22
Стихи про любовь 23
«- Пойдемте, друг, вдоль улицы пустой...» 24
«Черный ангел на белом снегу...» 24
Первое мая 25
Стихи о русской поэзии 26
«Те, кто в первом ряду...» 26
815
Содержание
Пробуждение 27
За чугунной решеткой 28
«Когда я утром просыпаюсь...» 29
«Скрипач — с руками белоснежными...» 29
Трамвайный романс 30
Манекен 31
От самого сердца 32
«Фонтанчик не работает — увы!..»- 33
Летний сад 34
«Ах, какие звезды — это сказка...» 36
Стансы 37
«Что сказать о мраморе — я влюблен в руины...». ... 38
«Фонари — чья рука...» 39
В том вечернем саду 40
Страшная история 40
Фет 41
Прогулка с мальчиком 42
Ходасевич 43
«Хочется позвонить...» 43
«Я скажу тебе не много...» 44
Прощанье 46
«Вы говорите: “Мысль...”» 46
Дом с призраком 47
«Ах, бабочка — два лепесточка...» 48
Детское стихотворение
(«Видишь дом, назови его дом ...») 49
«На белом кладбище гуляли...» 50
«Не верю в моду, верю в жизнь и смерть...» 50
На смерть поэта («Дивным светом иных светил...»). . 51
«Ангел, лицо озарив, зажег...» 52
«Я жил как все — во сне, в кошмаре...» 52
Львы да кони 53
«Еще вполне сопливым мальчиком...» 54
Московский дым 55
Ответ 55
816
Содержание
«...И не злоба уже...» 56
Орфей 57
Мщение Ахилла 58
Лирика педика 58
Взгляд из окна 59
Молитва 59
«Век, ты пахнешь падалью...» 60
«Ах, что за люди, что у них внутри?..» 61
В ресторане 61
Иванбв 62
«От ближнего света снег бел и искрист...» 62
«...Врывается, перебивая Баха...» 63
«С работы возвращаешься домой...» 63
Музыка 64
«Скверно играет арбатский скрипач...»- 65
«Киндзмараули» 65
Прощание с друзьями 66
«В том доме жили урки...» 67
Свидание Гектора с Андромахой 68
Прощание Гектора с Андромахой 69
Бар «Трибунал» 69
Второе письмо 70
«Я в детстве думал: вырасту большим...» 71
«...Я подойду к окошку — как бы тайно...» 71
«Прощай, олимпиец, прощай навсегда...» 72
«Благодарю за все. За тишину...» 72
Памяти И. Б 73
Прощание с юностью 74
«В России расстаются навсегда...» 75
«Утро, и город мой спит...» 76
«Во всем, во всем я, право, виноват...» 77
Вопрос к музе 78
К Овидию 78
Новый год 79
Робинзон 80
817
Содержание
«Через парк по ночам я один возвращался домой...» 81
Музе 81
Черное небо 82
Дюймовочка 83
«Не потому ли Бога проглядели...» 84
«Скажи мне сразу после снегопада...» 84
Петербург 85
Царское Село 85
«Ах, подожди еще немножко...» 87
Два ангела 87
Postquam 88
Вдоль канала 88
Дом поэта 89
Золотые сапожки 89
«Я хотел на пальце букву “Б”» 90
«...Я часто дохожу до храма...» 91
Воспоминание 91
Новое ретро 92
«Вдвоем с тобой, в чужой квартире...» 93
«Все, что взял у Тебя, до копейки верну...» 93
В Рим 94
«...Мальчиком с уроков убегу...» 95
Белые ночи 95
Зима 96
Для чего мне нужна эта речь? 97
Дом 97
Тюльпан 98
«...Во всем вторая походила...» 98
«Когда наступит тишина...» 99
«Над домами, домами, домами...» 99
«Особенно, когда с работы...» 100
«Нас с тобой разбудит звон трамвая...» 101
Олегу Дозморову от Бориса Рыжего 101
Памяти поэта («...Остаются нам детали и...») 102
Фотография 103
818
Содержание
«...Хотелось музыки, а не литературы...» 103
7 ноября 104
«...Глядишь на милые улыбки...» 104
«Зависло солнце над заводами...» 105
«Две сотни счетчик намотает...» 106
«...Пионерская комната: горны горнят, барабан...» . . 107
«Я вышел из кино, а снег уже лежит...» 107
«Прекрасен мир и жизнь мила...» 108
«Под красивым красным флагом...» 108
«Над головой облака Петербурга...» 109
«Молодость мне много обещала...» 110
«Молодость, свет над башкою, случайные встречи...» 111
Памяти поэта («В помещении — слева и справа...») 112
«Водой из реки, что разбита на сто ручьев, в горах...» 112
«Родился б в солнечном 20-м...» 113
«В простой потертой гимнастерке...» 114
«...В аллее городского сада...» 115
«В белом поле был пепельный бал...» - 115
«...Кто тебе приснился? Ежик?!» 116
Элегия («...Нам взяли ноль восьмую алкаши...») .... 117
«Под черным небом Петербурга...» 118
«...Дым из красных труб...» 119
«Поехать в августе на юг...» 120
К Олегу Дозморову 120
«До утра читали Блока...» 122
«Мальчик пустит по ручью бумажный...» 123
«Евгений Александрович Евтушенко
в красной рубахе...» 124
Ночная прогулка 124
«Жалея мальчика, который в парке...» 125
«Я слышу приглушенный мат...» 126
«Свое некрасивое тело...» 126
«Сначала замотало руку...» 127
«Я уеду в какой-нибудь северный город...» 127
«...Закрывай свои синие и голубые глаза...» 128
819
Содержание
«Закурю, облокотившись на оконный подоконник...» 129
«Взор поднимая к облакам...» 130
«Ночь — как ночь, и улица пустынна...» 130
Тайный агент 131
«Так гранит покрывается наледью...» 132
«Похоронная музыка...» 134
«Снег за окном торжественный и гладкий...» 135
1985 135
Стихотворение Ап. Григорьева 136
«Почти случайно пьесу Вашу...» 137
Европейская ночь 138
«В номере гостиничном скрипучем...» 138
1984 139
«Ночь. Каптерка. Домино...» 140
«Серж эмигрировать мечтал...» 141
Леонтьеву 142
«Как всякий мыслящий поэт...» 143
«Поэзия должна быть странной...» 143
«Вот эта любит Пастернака...» - 144
«На чьих-нибудь чужих похоронах...» 144
«Все хорошо начинали. Да плохо кончали...» 145
Памяти Бибикова 146
«Двенадцать ночи. Выпить не с кем...» 147
«Америка Квентина Тарантино...»-1 148
«Америка Квентина Тарантино...»-II 148
Ода 149
«Мне говорил Серега Мельник...» 150
«Отделали что надо, аж губа...» 151
«Оставь мне небо темно-синее...» 151
Писатель 152
«Еще не погаснет жемчужин...» 153
«...И понял я, что не одна мерцала...» 154
На смерть поэта («Я так люблю иронию мою...») . . . 154
Баллада 155
«Пела мама мне когда-то...» 156
820
Содержание
Кусок элегии 157
Памяти друга 158
«Рейн Евгений Борисыч уходит в ночь...» 159
«Когда бы знать наверняка...» 159
«Вот дворик крохотный в провинции печальной...» . . 160
«Как в жизни падал, как вставал...» 161
В гостях 162
«...A была надежда на гениальность. Была...» 162
Философская лирика 163
«Эмалированное судно...» 163
«Над саквояжем в черной арке...» 164
«Был городок предельно мал...» 165
«Когда вонзают иглы в руки...» 166
Расклад 167
«По локти руки за чертой разлуки...» 168
«Больничная тара, черника...» 168
«Жизнь — падла в лиловом мундире...» 169
«В деревню Сартасы, как время пришло...» 171
«Восьмидесятые, усатые...» 171
«В полдень проснешься, откроешь окно...» 172
«Давай, стучи, моя машинка...» 173
«В парке отдыха, в парке...» 174
«Я улыбнусь, махну рукой...» 175
«Вот здесь я жил давным-давно...» 176
«С плоской “Примой” в зубах: кому в бровь,
кому в пах...» 177
«Трамвай гремел. Закат пылал...» 178
«Не вставай, я сам его укрою...» 178
Из биографии гения 179
«Когда менты мне репу расшибут...» 180
«Не забухал, а первый раз напился...» 181
«Разломаю сигареты...» 182
«Оркестр играет на трубе...» 183
«Мотивы, знакомые с детства...» 184
«Пройди по улице с небритой...» 184
821
Содержание
«Спит мое детство, положило ручку...» 185
«Флаги — красн. Скамейки — синие...» 186
«Ни разу не заглянула ни...» 187
«В безответственные семнадцать...» 188
Стихи уклониста Б. Рыжего 189
Из фотоальбома 189
«Мой герой ускользает во тьму...» 191
«Я пройду, как по Дублину Джойс» 192
«Что махновцы — вошли красиво...» 193
Петербургским корешам 194
«Я музу юную, бывало...» 195
«Не жалей о прошлом, будь что было...» 195
«Ничего не будет, только эта...» 196
Автомобиль 197
«Приобретут всеевропейский лоск...» 198
Школьница 199
«Двенадцать лет. Штаны вельвет...» 200
Путешествие 201
«Есть фотография такая...» 203
«Над могилами белое...» 205
«Осколок света на востоке...» 206
«Июньский вечер. На балконе...» 207
«Досадно, но сколько ни лгу...» 207
«Дали водки, целовали...» 208
Элегия («Зимой под синими облаками...») 209
«Начинается снег. И навстречу движению снега...» . . 209
«Сколько можно, старик, умиляться острожной...» . . 210
Паровоз 211
Жизнь — суть поэзия, а смерть — сплошная проза.. . 212
«Не знавал я такого мороза...» 212
Памяти Полонского 214
«Осенние сумерки злые...» 215
А. Пурину при вручении бюстика Аполлона 216
«Достаю из кармана...» 217
«Нехорошо быть небогатым...» 217
822
Содержание
«Белое синее...» 218
Качели 219
«Много было всего, музыки было много...» 219
«Мне холодно, читатель, мне темно...» 220
«По родительским пбльтам пройдясь,
нашкуляв на “Памир”» 220
«Мы собрали все детали...» 221
«На окошке на фоне заката...» 222
«Не то чтобы втайне, но как-то...» 223
«Тает алый с зеленой каймою...» 223
«Не во гневе, а так, между прочим...» 225
«Мальчик-еврей принимает из книжек на веру...» . . . 225
«В сырой наркологической тюрьме...» 226
«Похоронных оркестров не стало...» 227
«Мы целовались тут пять лет назад...» 227
«Ты почему-то покраснела...» 228
«Я помню все, хоть многое забыл...» 229
«Мотив неволи и тоски...» 229
«Музыка жила во мне...» 231
«Надиктуй мне стихи о любви...» 232
«Я работал на драге в поселке Кытлым...» 232
«А иногда отец мне говорил....» 233
«Прежде чем на тракторе разбиться...» 234
«Ордена и аксельбанты...» 235
Чтение в детстве — романс 236
«Словно в бунинских лучших стихах, ты,
рыдая, роняла...» 237
«Включили новое кино...» 237
«Где обрывается память,
начинается старая фильма...» 238
«Когда в подъездах закрывают двери...» 239
«В обширном здании вокзала...» 240
Море 241
«Я на крыше паровоза ехал в город Уфалей...» 242
«Нужно двинуть поездом на север...» 243
823
Содержание
Осень 243
«Только справа соседа закроют,
откинется слева...» 243
«У памяти на самой кромке...» 244
«Россия. Глухомань. Зима...» 245
«До пупа сорвав обноски...» 245
Гимн кошке 246
«Не забывай, не забывай...» 247
«Прошел запой, а мир не изменился...» 247
«У современного героя...» 248
На мотив Луговского 248
«На фоне граненых стаканов...» 249
«Подались хулиганы в поэты...» 250
«Так я понял: ты дочь моя, а не мать...» 250
«Я зеркало протру рукой...» 251
Маленькие трагедии 252
«И огни светофоров...» 253
Считалочка 254
Элегия («Благодарю за каждую дождинку...») 255
«Завидуешь мне, зависть —
это дурно, а между тем...» 256
«Живу во сне, а наяву...» 256
«Я подарил тебе на счастье...» 257
«Стань девочкою прежней с белым бантом...» 258
«Веди меня аллеями пустыми...» 259
«Как только про мгновения весны...» 260
«Вспомним всё, что помним и забыли...» 260
«Из школьного зала...» 261
«Не черемухе в сквере...» 261
«Помнишь дождь на улице Титова...» 262
«В Свердловске живущий,
но русскоязычный поэт...» 263
«Ты танцевала...» 264
«Я по снам по твоим не ходил...» 264
«Я тебе привезу из Голландии Lego...» 265
824
Содержание
«Зеленый змий мне преградил дорогу...» 266
«10-й класс...» 266
«Мальчишкой в серой кепочке остаться...» 268
«Погадай мне, цыганка, на медный грош...» 268
«Отмотай-ка жизнь мою назад...» 269
«Гриша-Поросенок выходит во двор...» 270
«Рубашка в клеточку, в полоску брючки...» 271
«Не надо ничего...» 272
«Я по листьям сухим не бродил...» 273
«Сесть на корточки возле двери в коридоре...» 274
«С антресолей достану “ТТ”...» 274
«На границе между сном и явью...» 275
«На теплотрассе выросли цветы...» 276
«Если в прошлое, лучше трамваем...» 277
«Вот красный флаг с серпом висит над ЖЭКом...» . . 278
«Не покидай меня, когда...» 279
«Не безысходный — трогательный, словно...» 279
«И вроде не было войны...» 280
«Городок, что я выдумал и заселил человеками...» . . . 281
«Бритвочкой на зеркальце гашиш...» 281
«Синий в коридоре больничном...» 282
«Осыпаются алые клены...» 283
«Когда бутылку подношу к губам...» 284
«Ничего не надо, даже счастья...» 285
«А грустно было и уныло...» 286
«Дай нищему на опохмелку денег...» 287
«Вышел месяц из тумана...» 287
Из ранних и неопубликованных стихов
«Облака пока не побледнели...» 291
«Ветер, надев папильотки табачного дыма...» 292
«Где-то там далеко, где слоняются запахи леса...» . . . 293
Пейзаж с детством 293
«Родная, мы будем жить здесь, где нет прохожих...» 294
«Стоял обычный зимний день...» 295
825
Содержание
Вечер 296
«Город наш все еще город, о Кирн,
но уж люди другие...» 296
Признание прекрасного 297
«Смерть хороша по чуть-чуть. По ночам...» 297
Пустота 298
«Россия, шолом!..» 299
Лунная дорога 300
Отрывки 302
Песня прощания 304
Суждения 305
Ночь 310
Фонтан 311
Кальян 312
Грядущему сыну 313
Кладбище 314
«Утро появляется там, где ночь...» 315
Новогоднее письмо 315
Фонари 316
«Ах, куда вы уходите все так скоро...» 317
На бледно-голубой эмали 317
Колыбельная зимнего сада 318
«В сентябре, на простой тротуар....» 319
Листья желтые 320
Глупая проза 321
«Мой друг, так умирают мотыльки...» 324
Бледный всадник 325
Новогодняя ночь 326
Вальс с синими слонами 327
Трубач на площади 327
Черные скалы 328
Было в Петербурге 329
«Скрипач — с руками белоснежными...» 330
«Как некий — скажем — гостевский урод...» 331
Этюдики 332
826
Содержание
Ивйнов 333
«Штукатурка отпала...» 334
Осень в провинции 335
А потом приходила она 336
Девочки-монашки в городском саду 336
«...Звезд на небе хоровод...» 337
«Ночь, скамеечка и вино...» 338
Художник и розы 339
«Я так хочу прекрасное создать» 339
Осень в парке 340
Черная речка 341
«Вот и кончилось лето —
как тихо оно шелестело...» 342
В улицах, парках 342
Яблоня 343
Детское стихотворенье
(«Крошка-елочка. Огни...») 344
«Еще широки мои плечи...» 345
Нежная сказка для Ирины 346
«Как рыдают под серым дождем...» 348
«...Кто нас посмеет обвинить...» 349
Две минуты до Нового года 349
Вот черное 350
С любовью 351
Новая Голландия 352
Грустная песня 352
«Носик гоголевский твой...» 353
«— Расскажи мне сказку, птица...» 354
«Под огромной звездою...» 355
«С десяток проглядев, наверное...» 355
«Вот и мучаюсь в догадках...» 356
Новое стихотворение Евгения Рейна 357
«Нет, главное, пожалуй, не воспеть...» 358
«Магом, наверное, не-человеком...» 358
«Пока я спал, повсюду выпал снег...» 359
827
Содержание
«Там вечером Есенина читали...» 360
«Ну вот, я засыпаю наконец...» 361
«Темнеет в восемь — даже вечер...» 361
Кино 362
Русское зарубежье 363
Красавица в осьмнадцать лет, 364
«Не в августе, а в сентябре...» 364
«...Облака над домами...» 365
«Старик над картою и я...» 366
«Только — надо ж так случиться...» 367
«...Три дня я ладошки твои целовал...» 368
«Ты выявлен и рассекречен...» 369
«Есть в днях осенних как бы недомолвка...» 369
«Лейся, песня, — теперь все равно...» 370
«От скуки-суки, не со страху...» 371
«Весенней заоконной речи...» 371
«Вы, Нина, думаете, Вы...» 373
«А что такое старость? Это...» 373
«В феврале на Гран-канале...» 374
«Герасима Петровича рука...» 374
«Первый снег, очень белый и липкий...» 375
«Тонкой дымя папироской...» 375
«Тушь, губная помада...» 376
Участковый 377
«Померкли очи голубые...» 378
«Эвтерпа, поцелуй и позабудь...» 379
«За обедом, блядь, рассказал Косой...» 380
Проза. Критика. Интервью. Письма
Проза
Над рекой 383
Последний дождь осени 386
О рабстве 388
Из осеннего дневника 390
<Роттердамский дневник> 392
828
Содержание
Критика
С грустью и с нежностью 451
Мы листали Мандельштама в переплете голубом 455
Рецензия 457
Актуальная поэзия с Борисом Рыжим 460
Интервью 483
Письма 491
Юрий Казарин. Поэт Борис Рыжий:
постижение ужаса красоты 521
Борис РЫЖИИ
Оправдание жизни
Редактор
£. Зашихин
Художественный редактор
С. Сакнынь
Технический редактор
Т. Еськова
Корректор
В. Раткевич
Компьютерная верстка
Т. Упоровой
Подписано в печать 30.09.2004. Формат 76 х 108‘/э2.
Бумага офсетная. Гарнитура NewtonC.
Печать офсетная. Уел. печ. л. 39,52.
Тираж 3 000 экз. Заказ № 289.
ООО «Издательство «У-Фактория»
620142, Екатеринбург, ул. Большакова, 77
e-mail: uf@ufactory.ru
Отдел продаж: 8 (343) 251-42-92
Отпечатано с готовых диапозитивов
на ФГУИПП «Уральский рабочий»
620219, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13
http://www.uralprint.ru
e-mail: book@uralprint.ru
«У-ФАКТОРИЯ»
ИЗДАТЕЛЬСТВО
По вопросам
оптовой покупки книг
ИЗДАТЕЛЬСТВА
«У-ФАКТОРИЯ»
обращаться по адресу:
620142, Екатеринбург,
ул. Большакова, 77
ООО «Издательство
«У-Фактория»
Телефоны:
8(343)257-85-89,
251-42-92
Факс:
8(343)257-85-35
«У-ФАКТОРИЯ»
ИЗДАТЕЛЬСТВО
620137, Екатеринбург,
ул. Кулибина, 1а
ООО УРЦ «Фактория-книги»
Телефоны:
8(343)374-70-57,
374-44-23, 374-54-05
E-mail: f-k@mail.ur.ru
•
127018, Москва,
Сущевский вал, 49
ООО ЦО «Фактория»
Телефоны:
8 (095) 795-31-14, 289-02-84
ISBN 5-94799-381-3
9*785947 9938 1 3
ИЗБРАННАЯ ЛИРИКА
ИЗ РАННИХ
И НЕОПУБЛИКОВАННЫХ
СТИХОТВОРЕНИЙ
ПРОЗА
КРИТИКА
ИНТЕРВЬЮ
ПИСЬМА
Юрий Казарин
Поэт БОРИС РЫЖИЙ
постижение ужаса красоты
У\Факторня