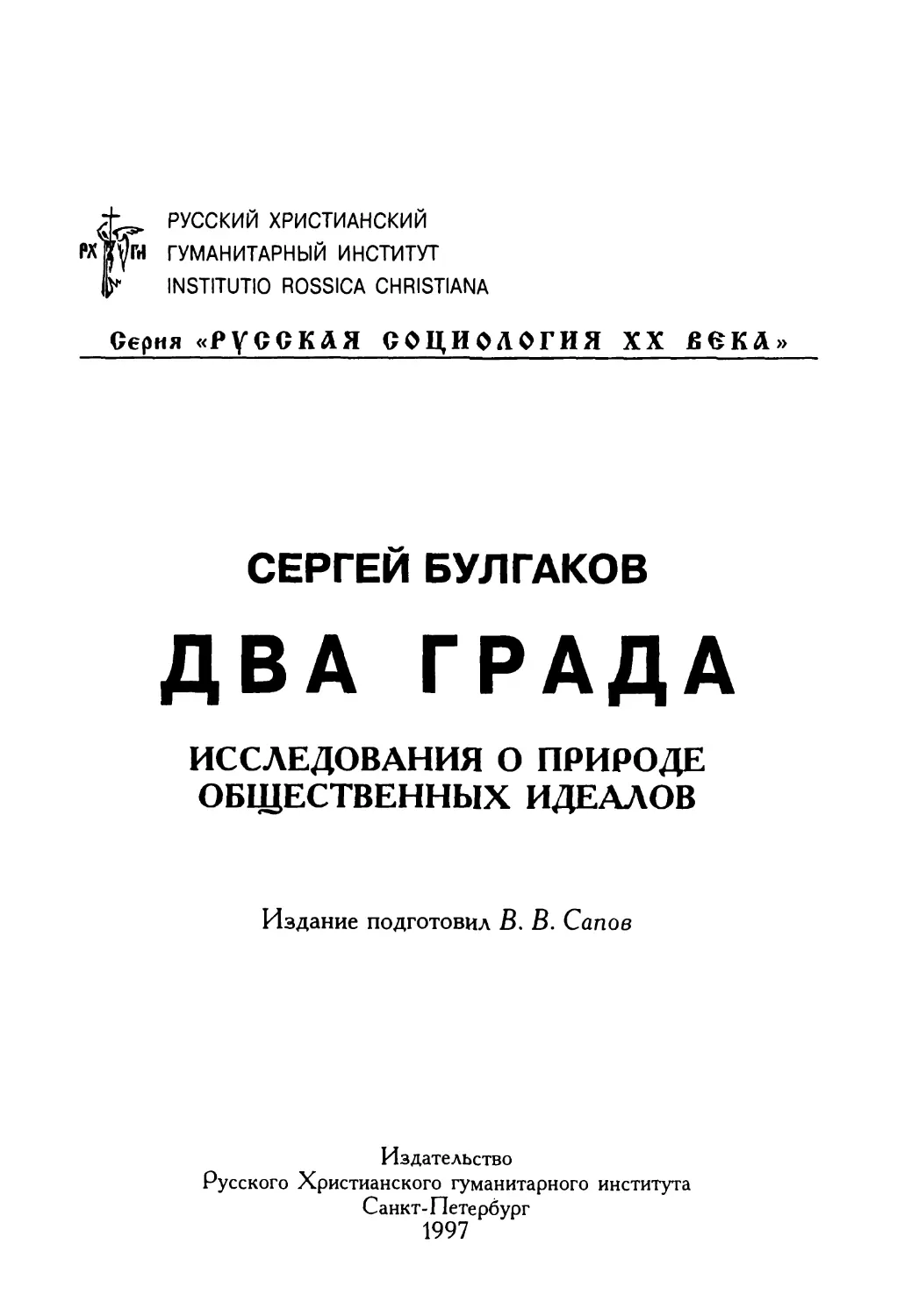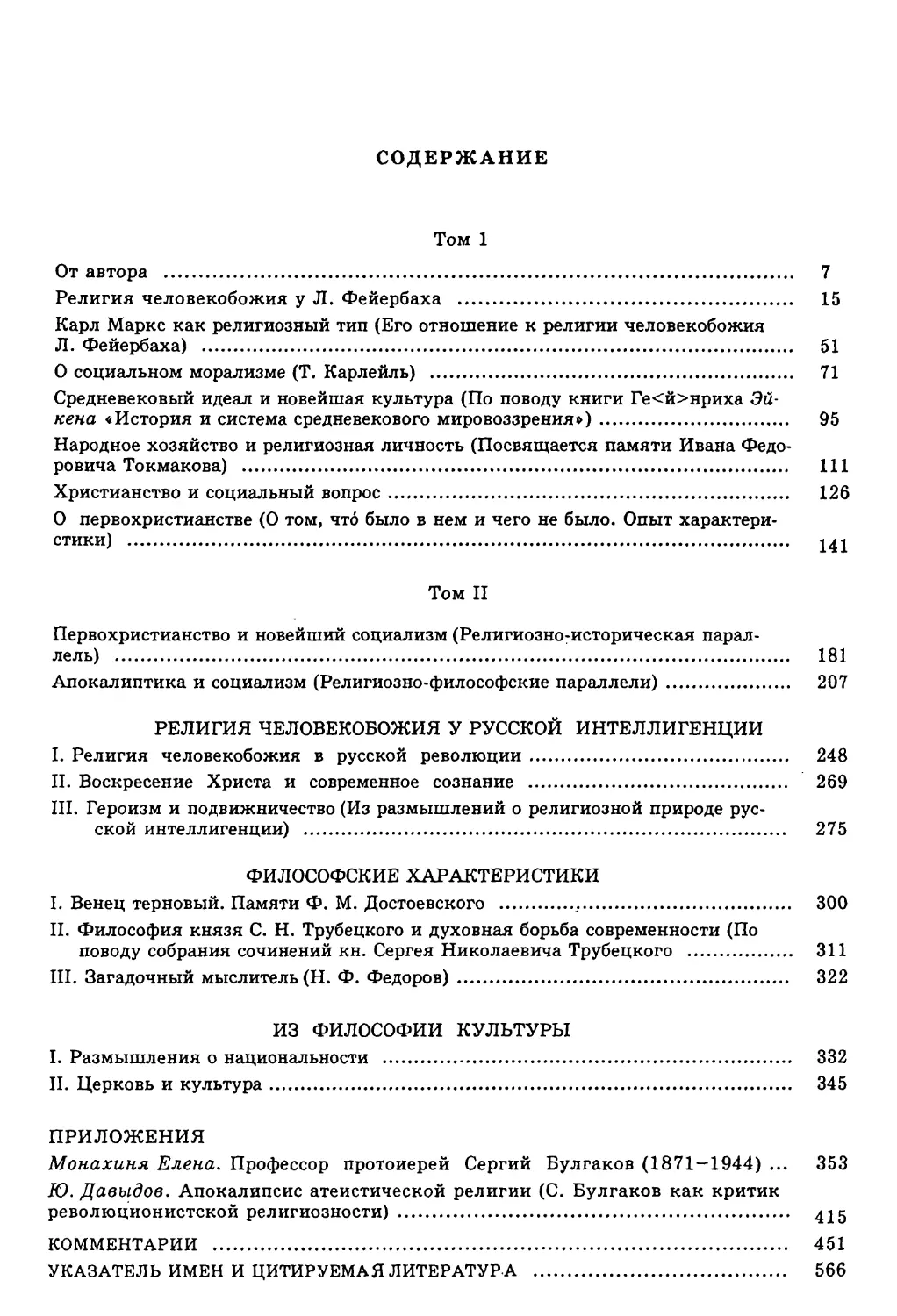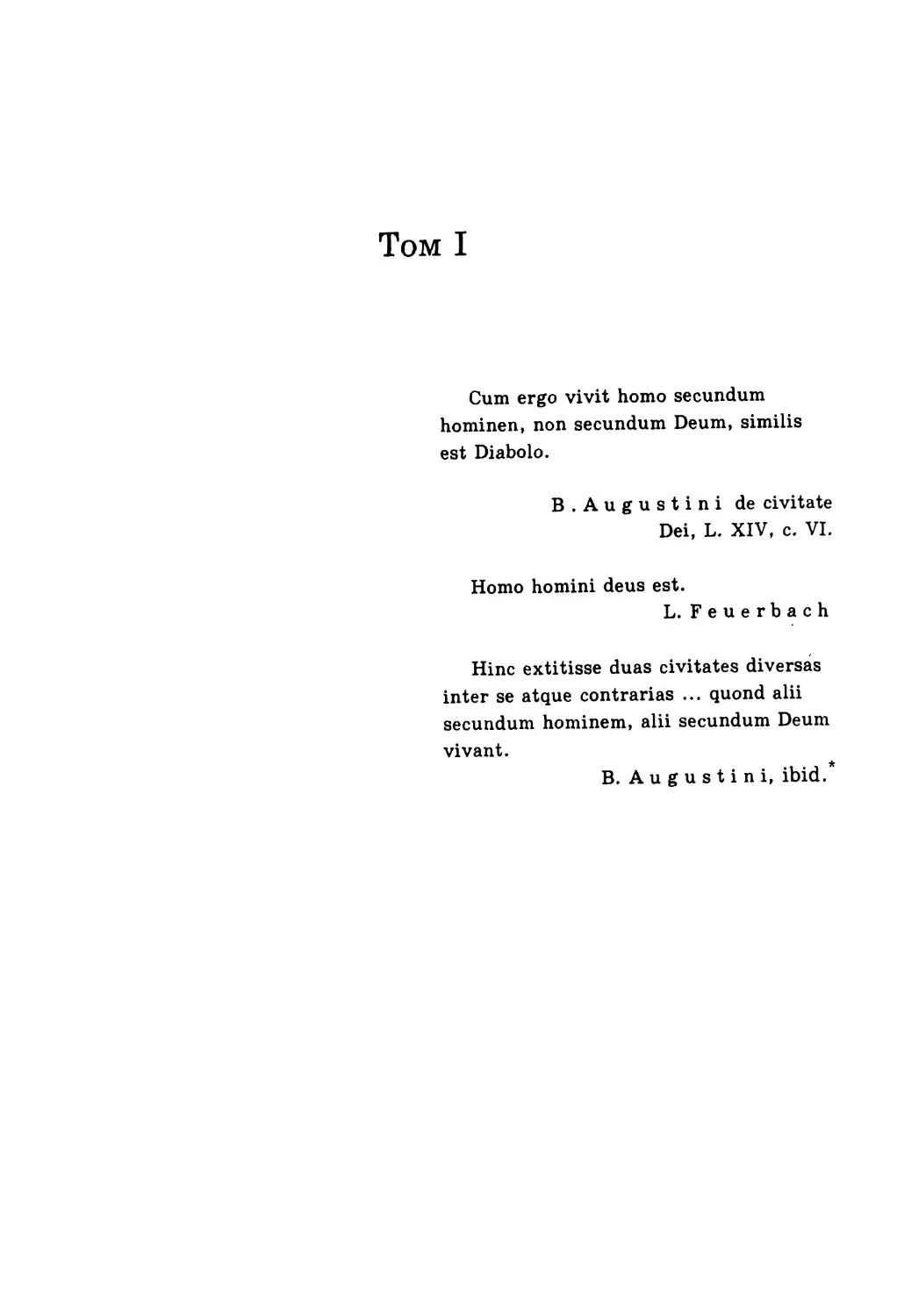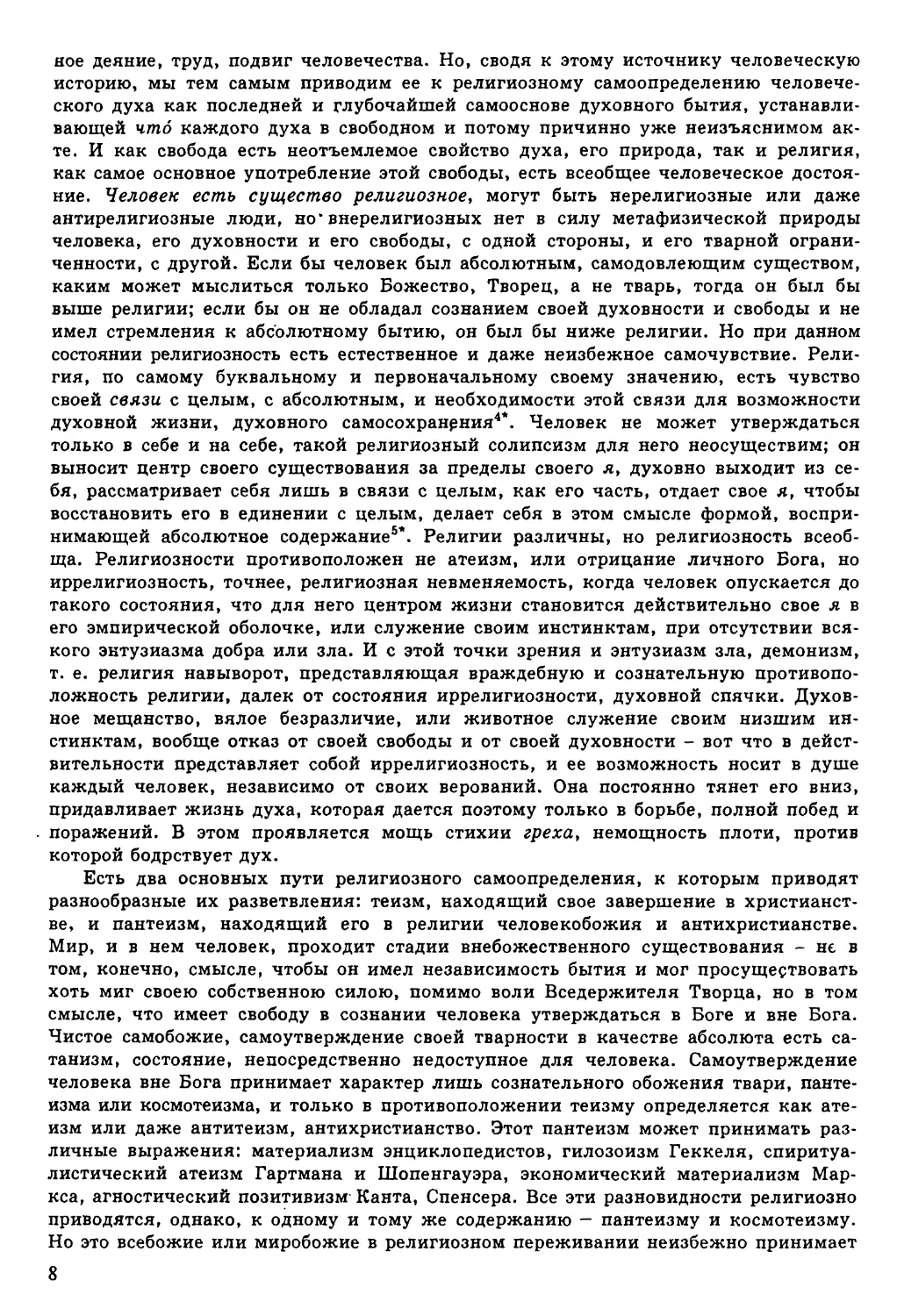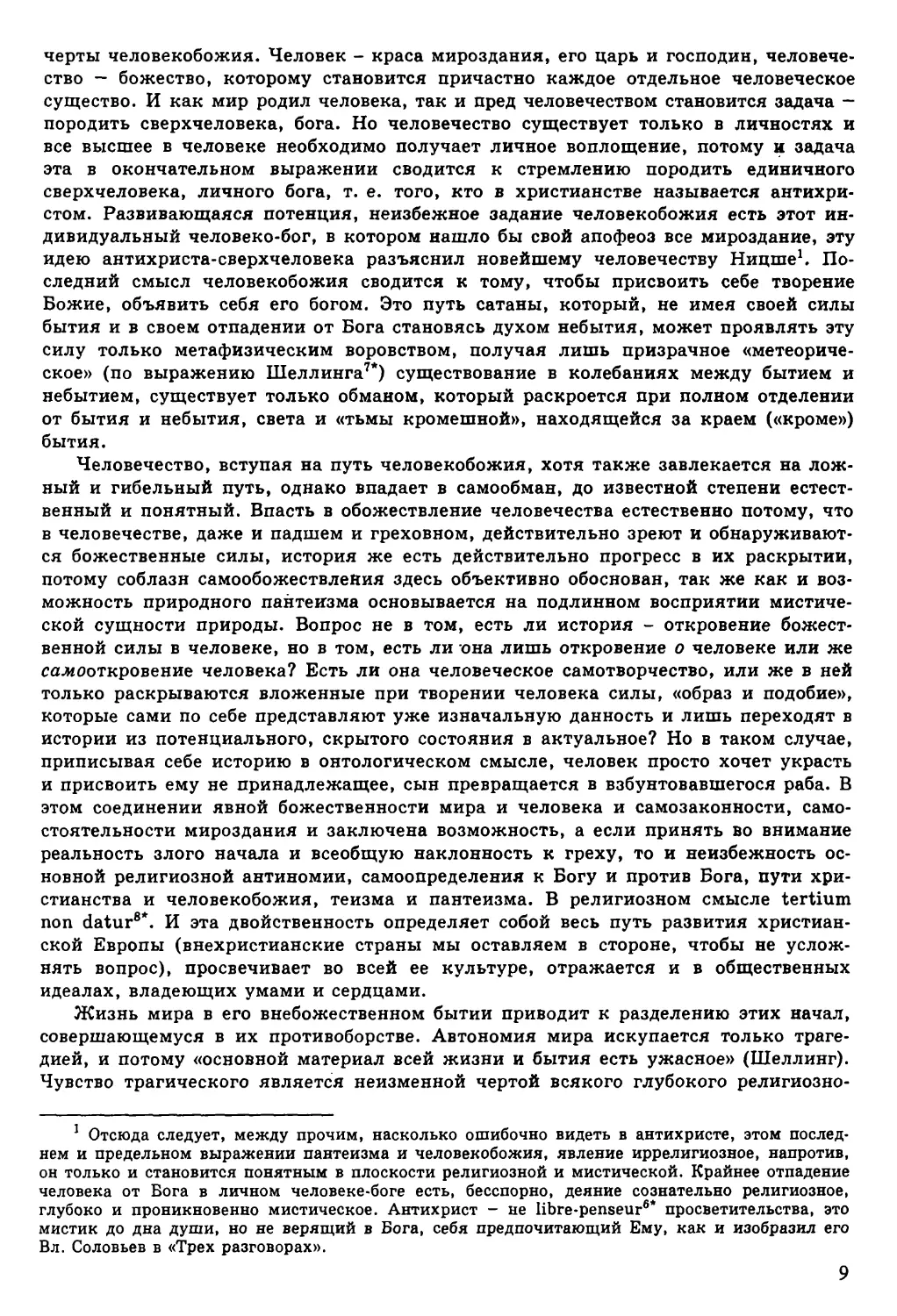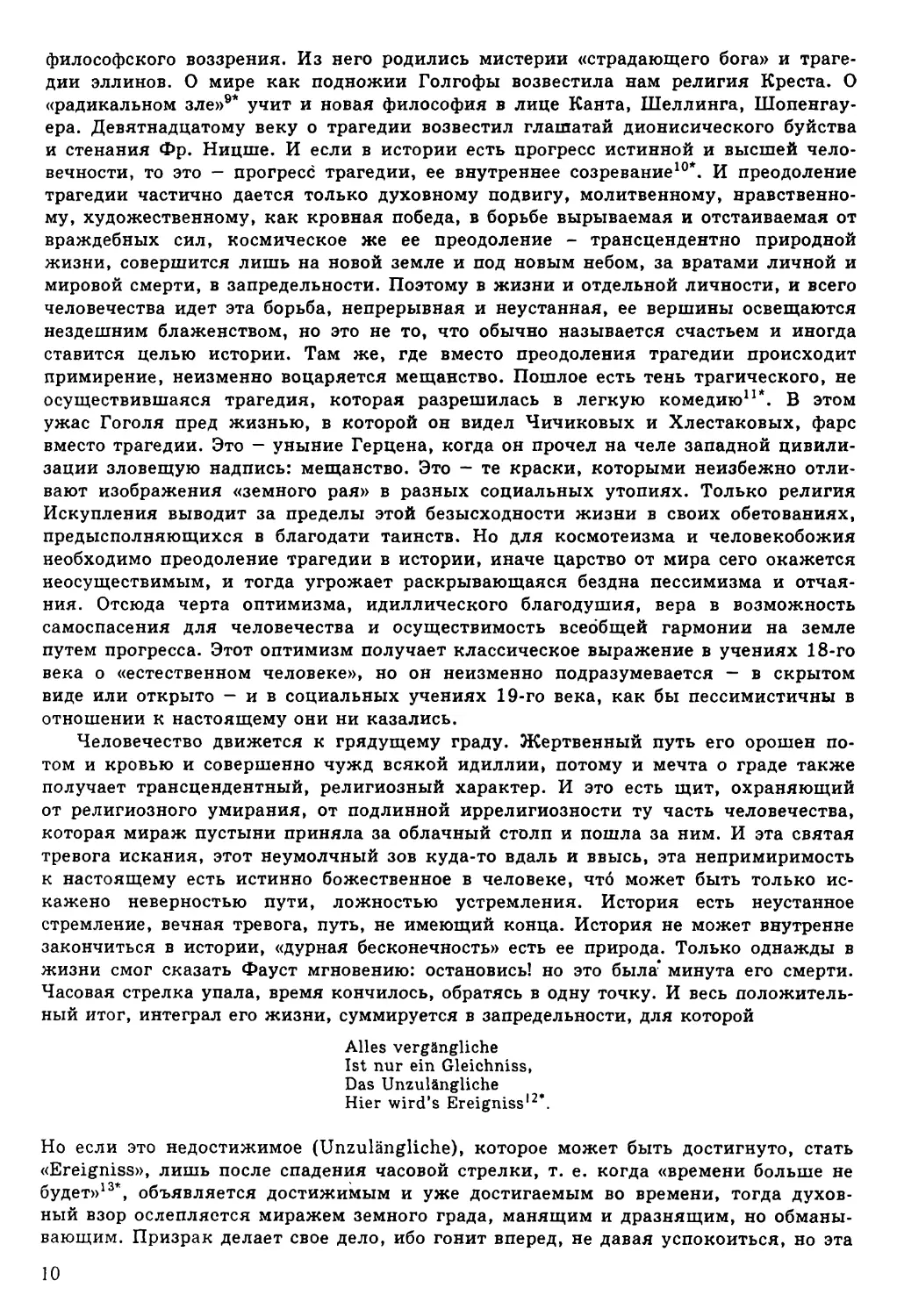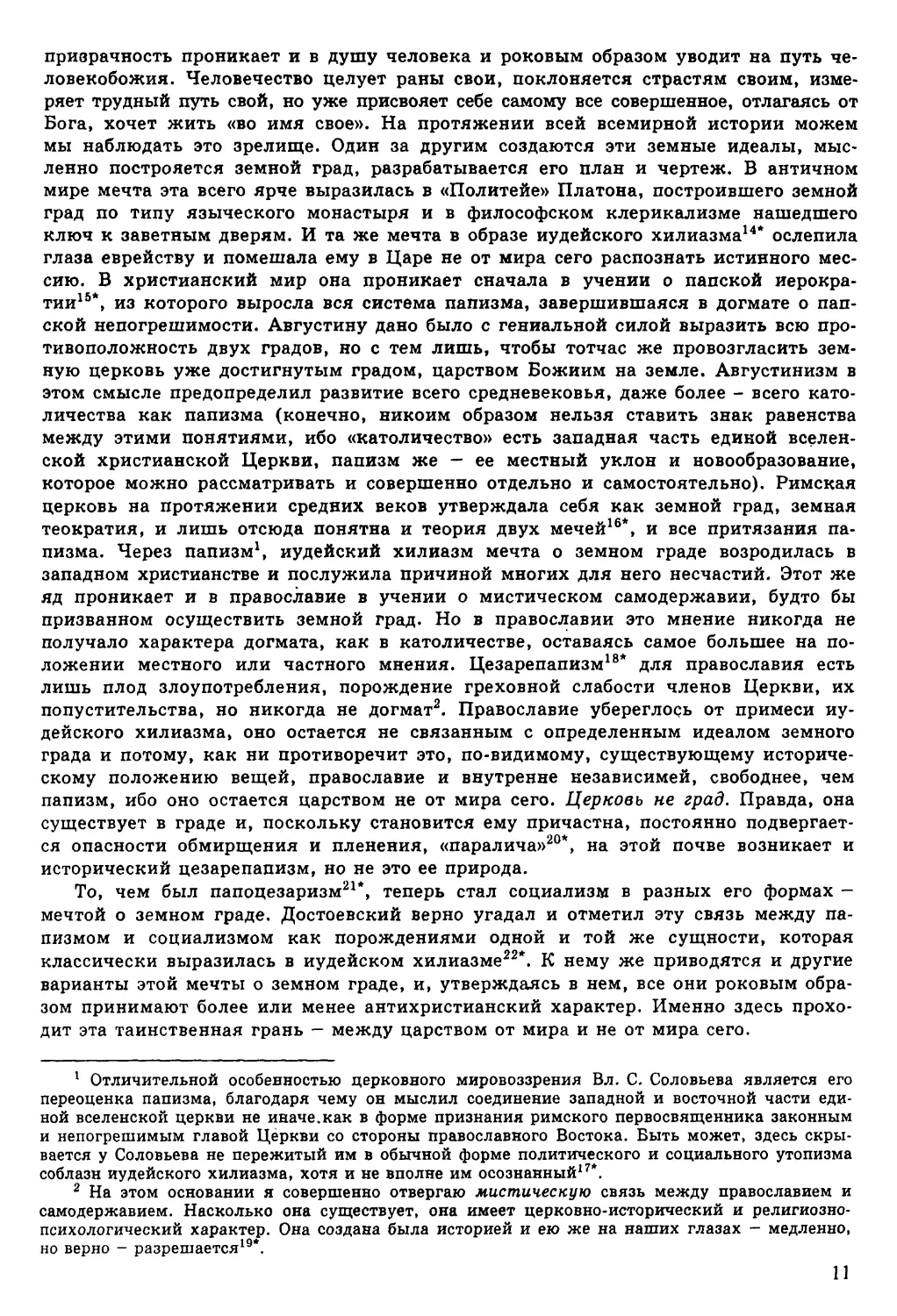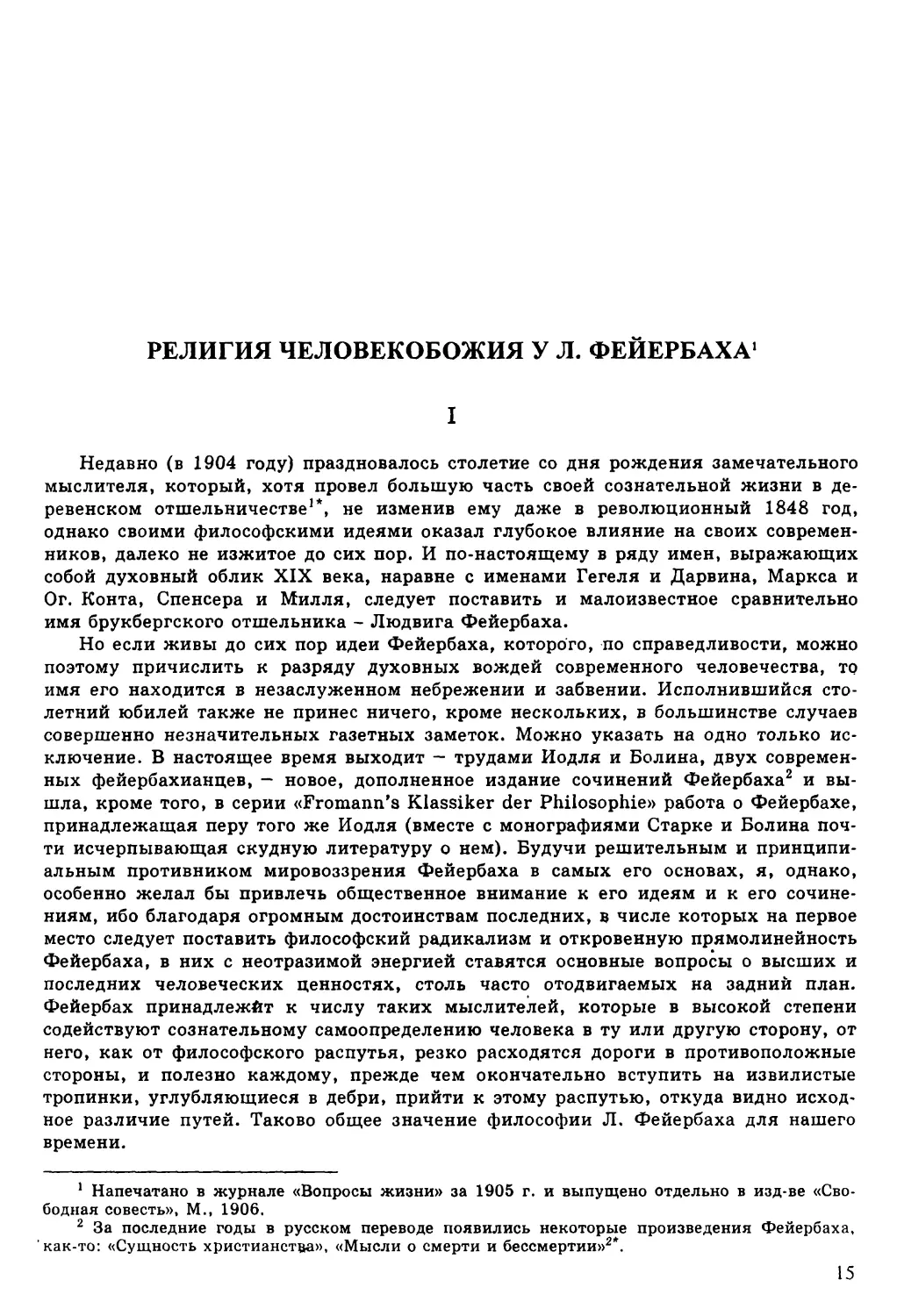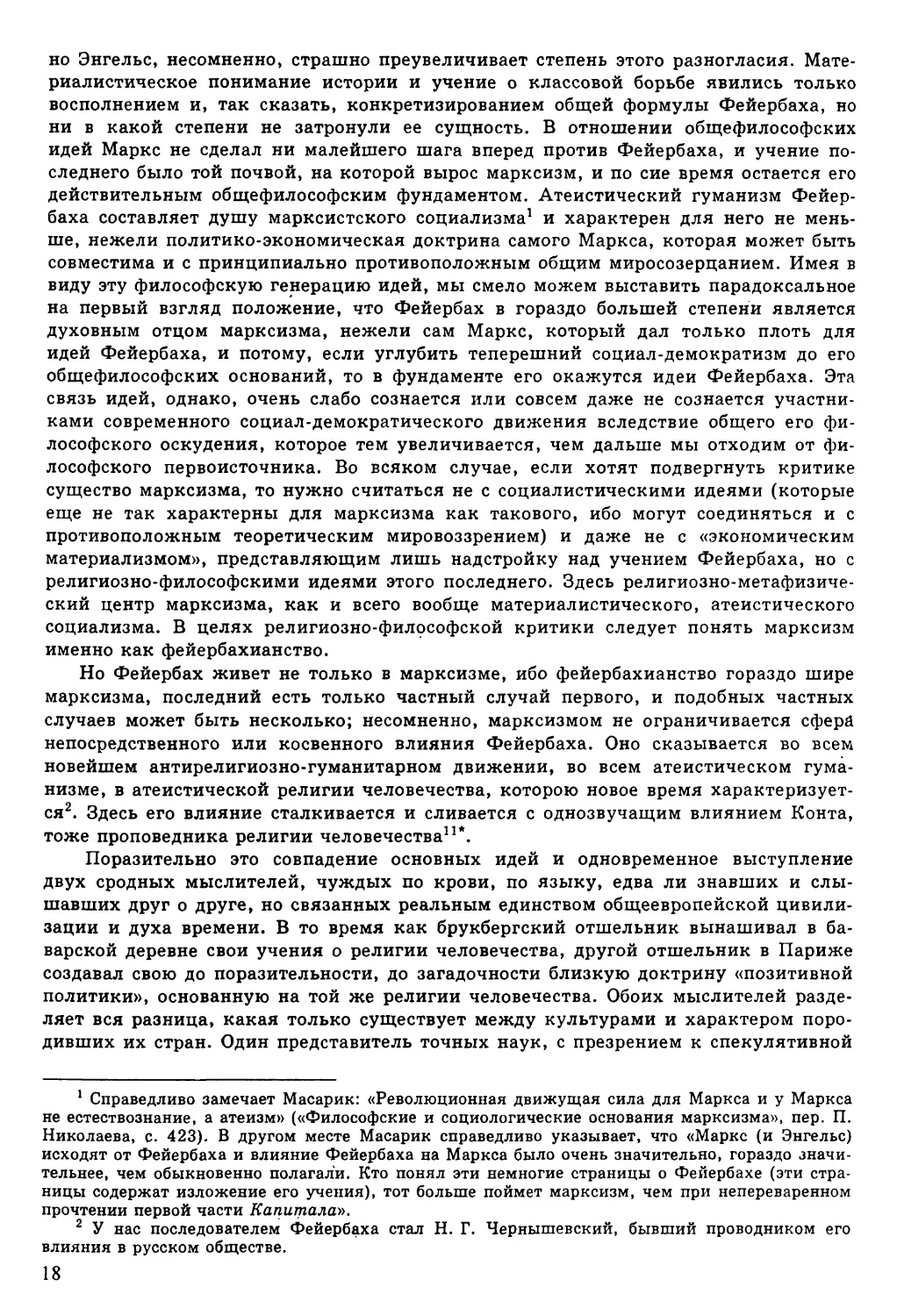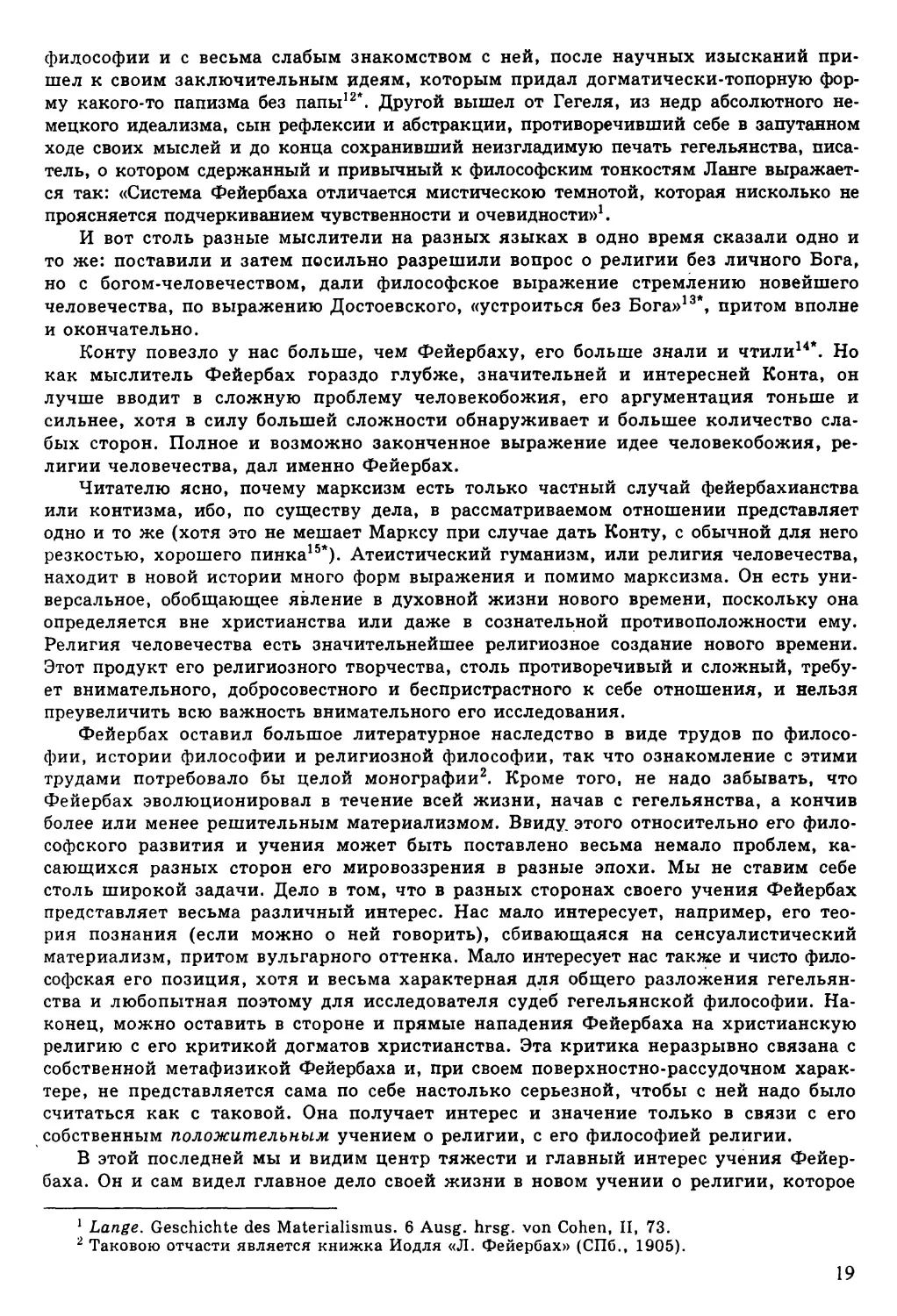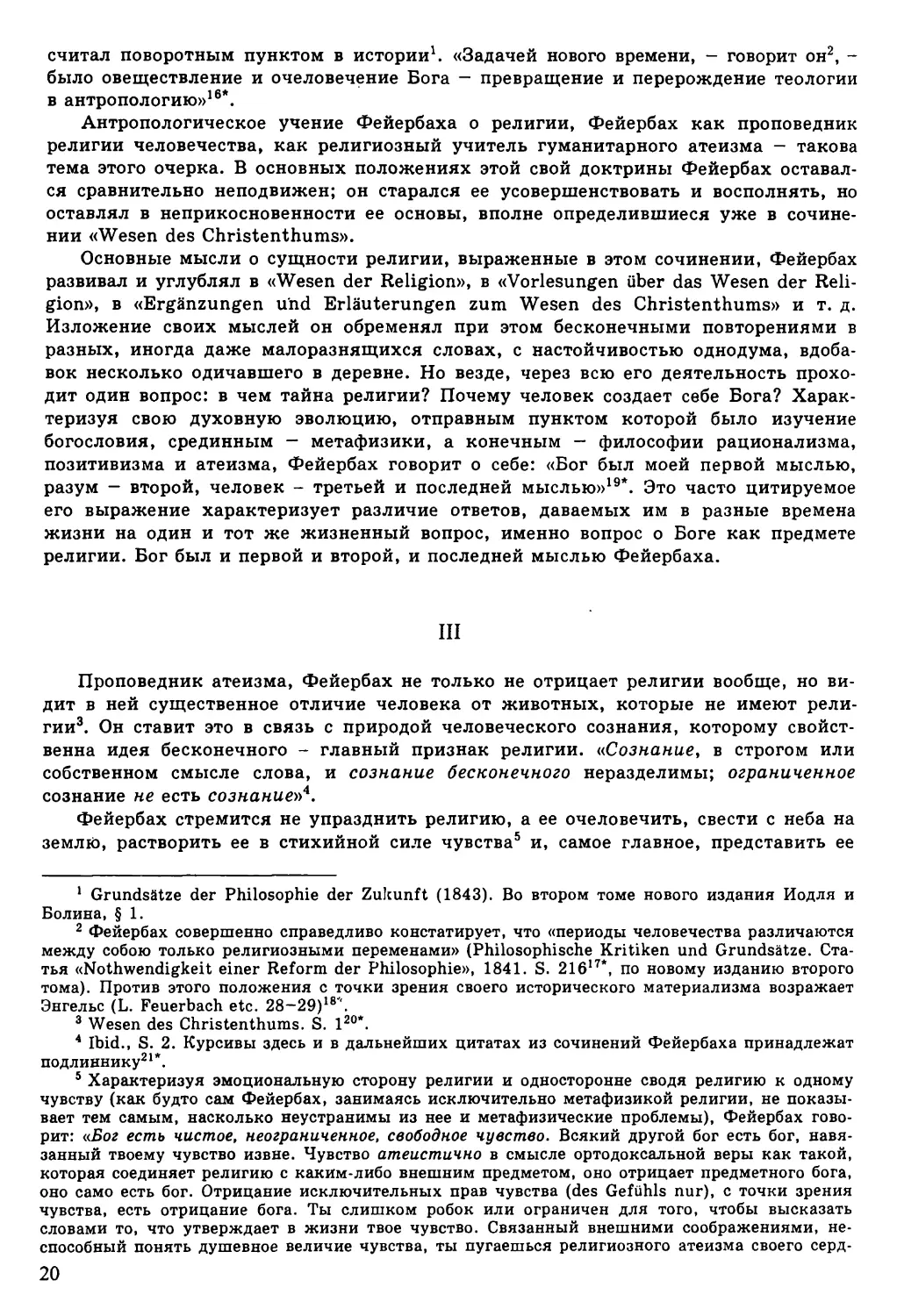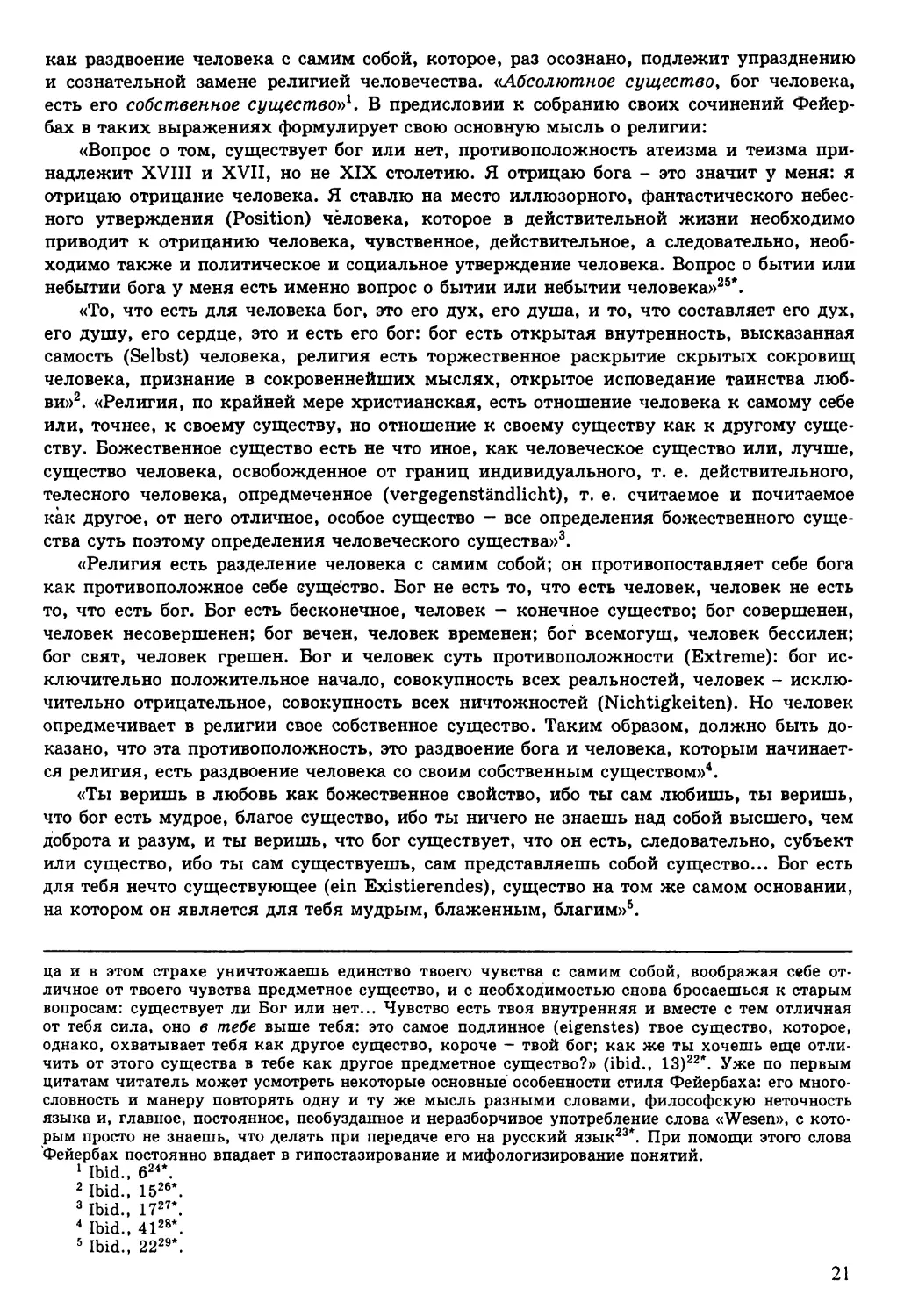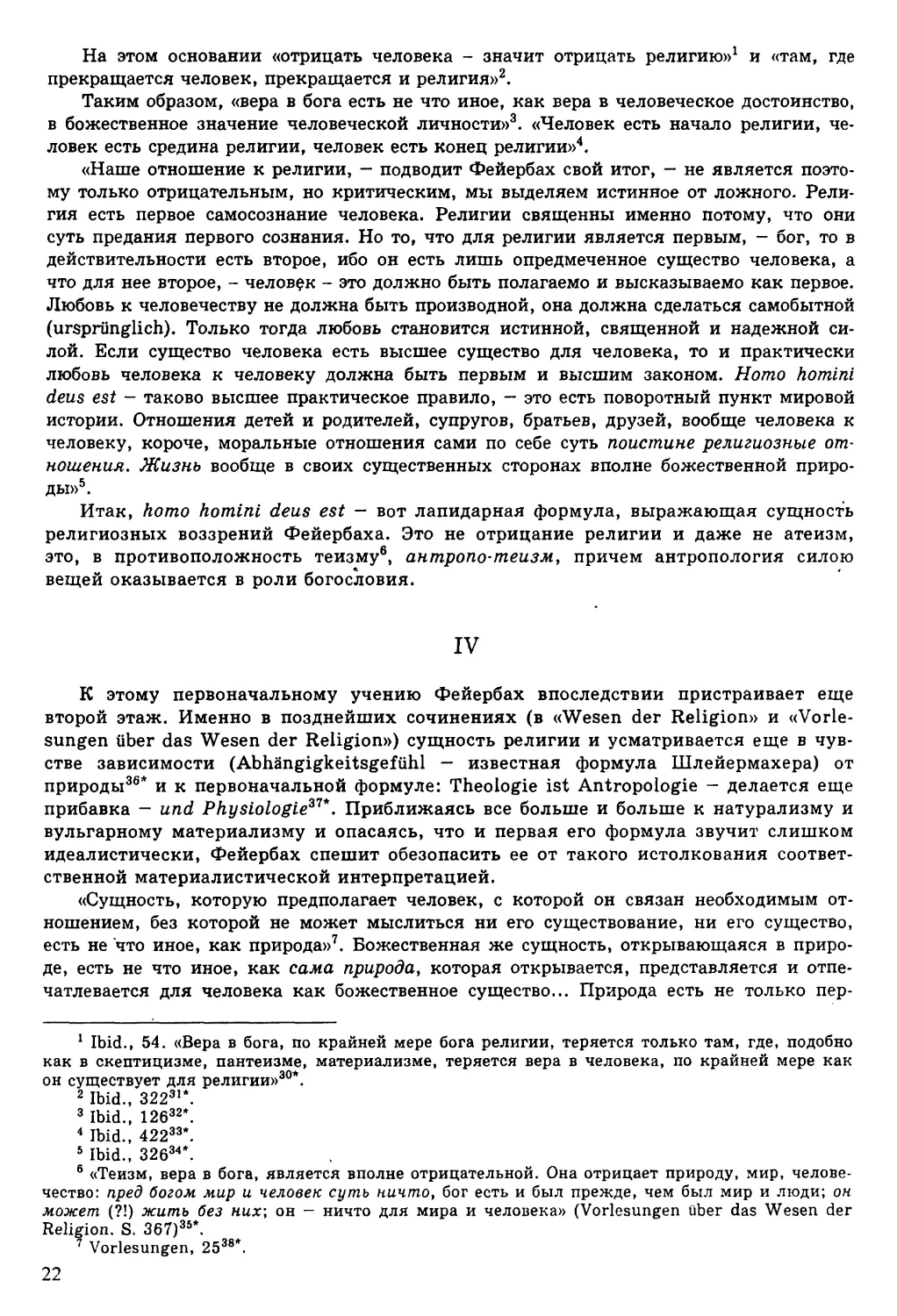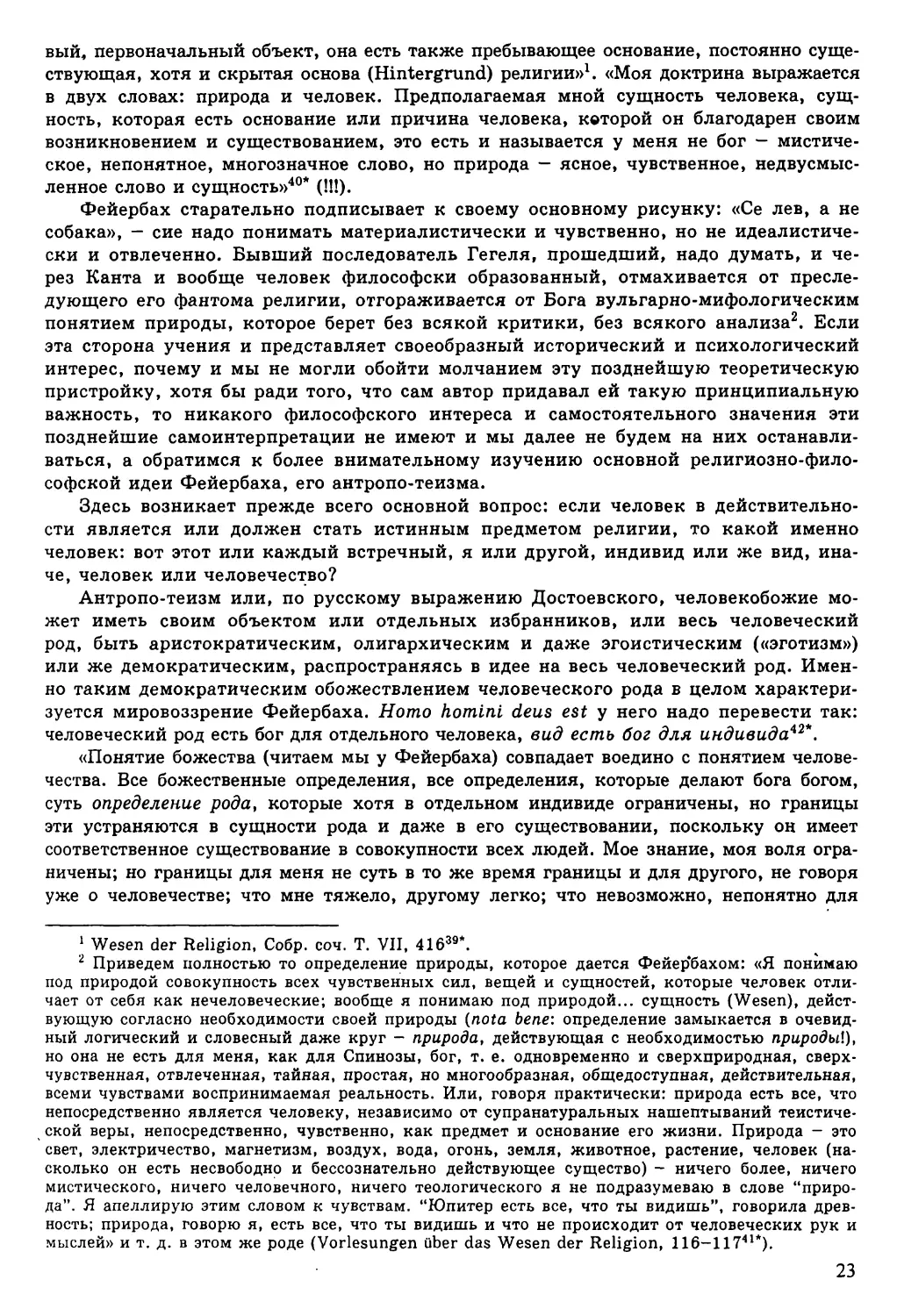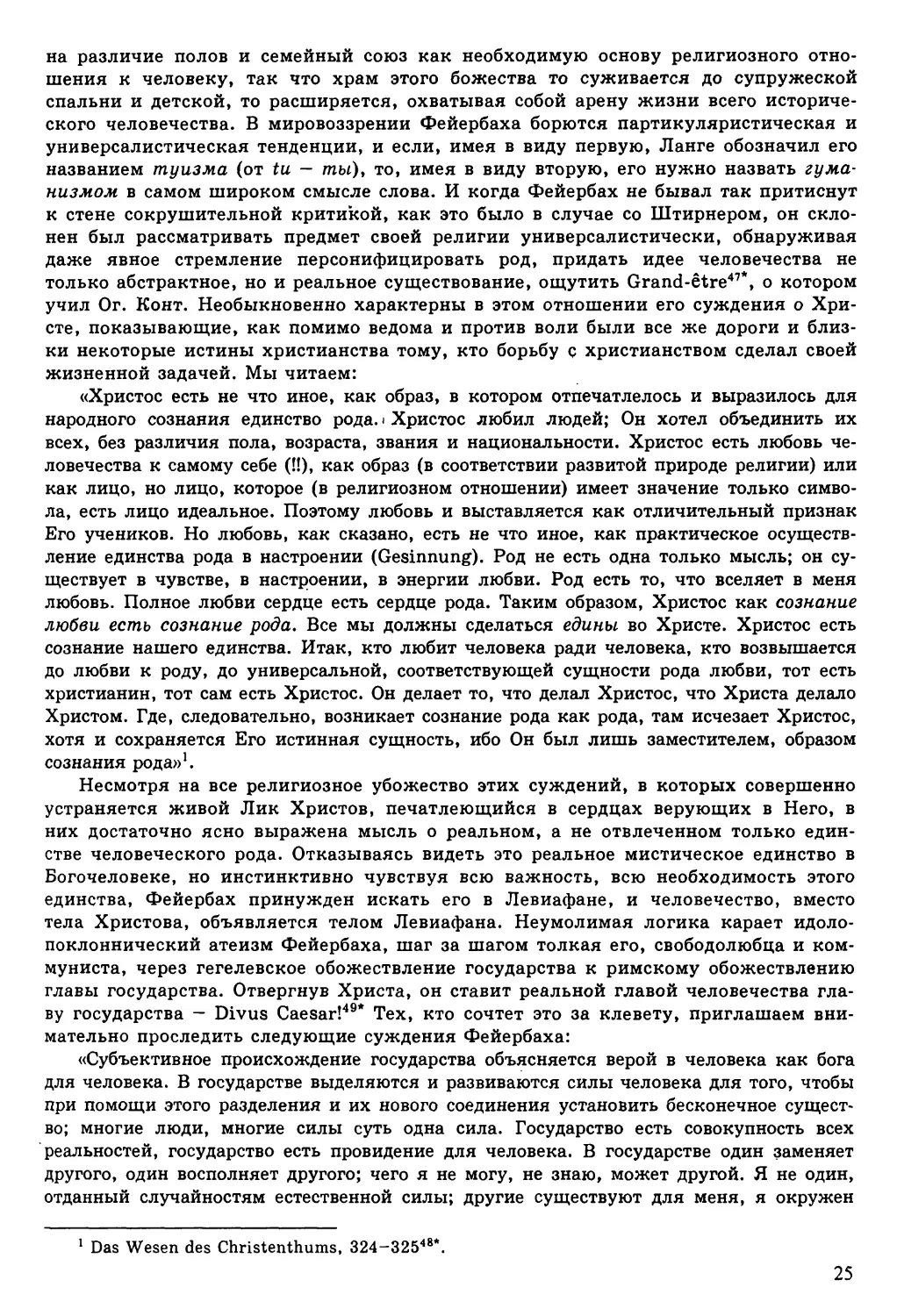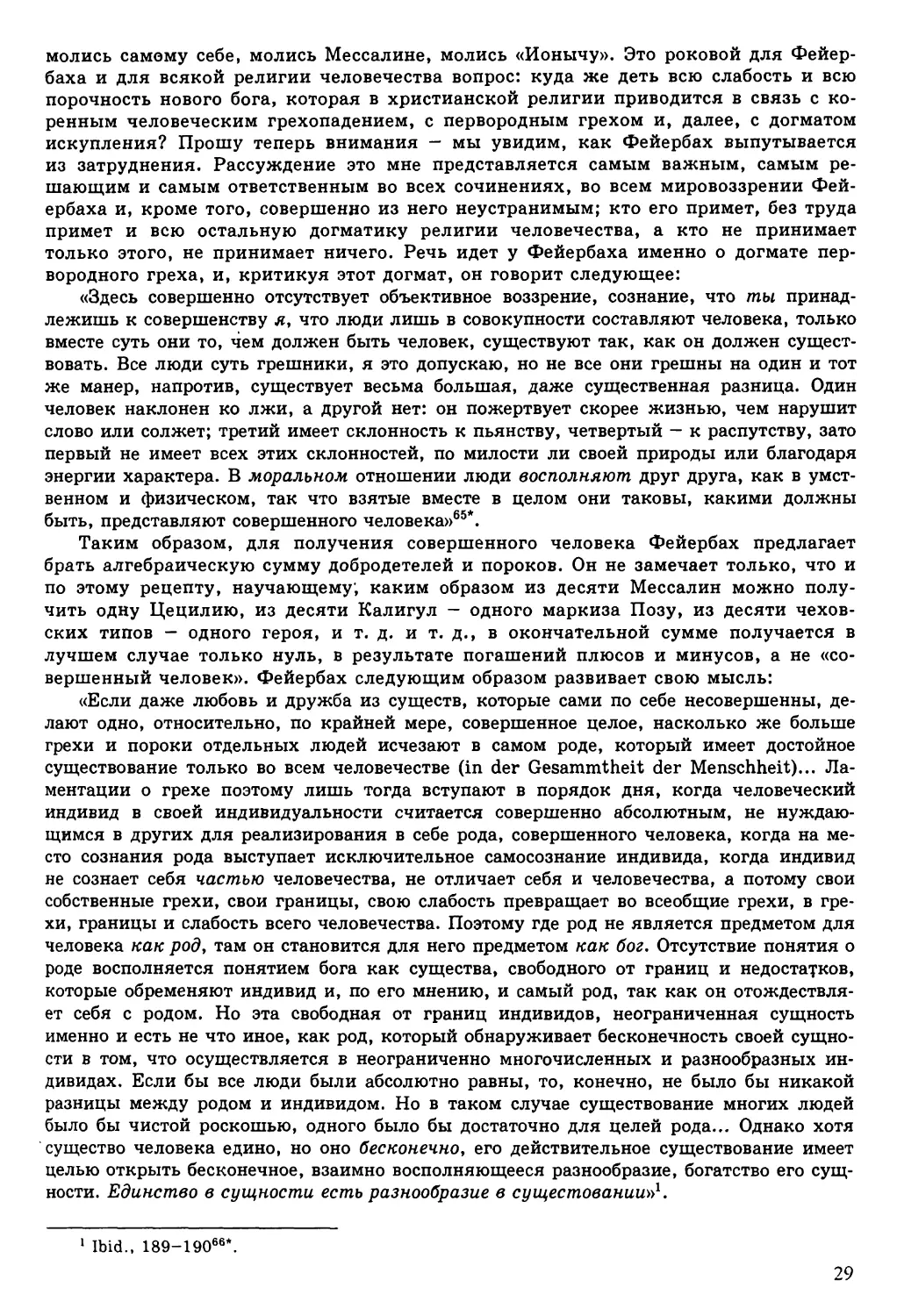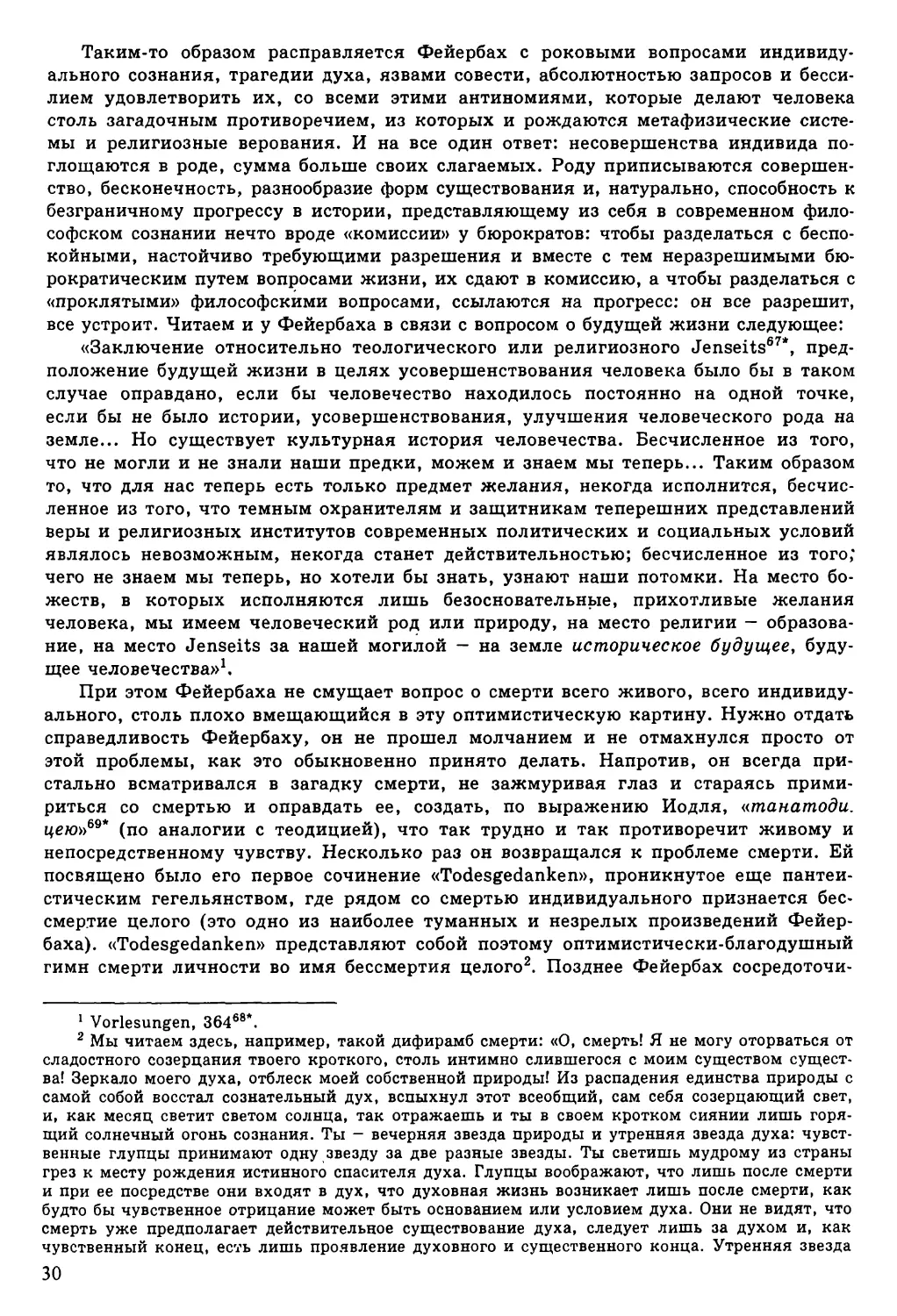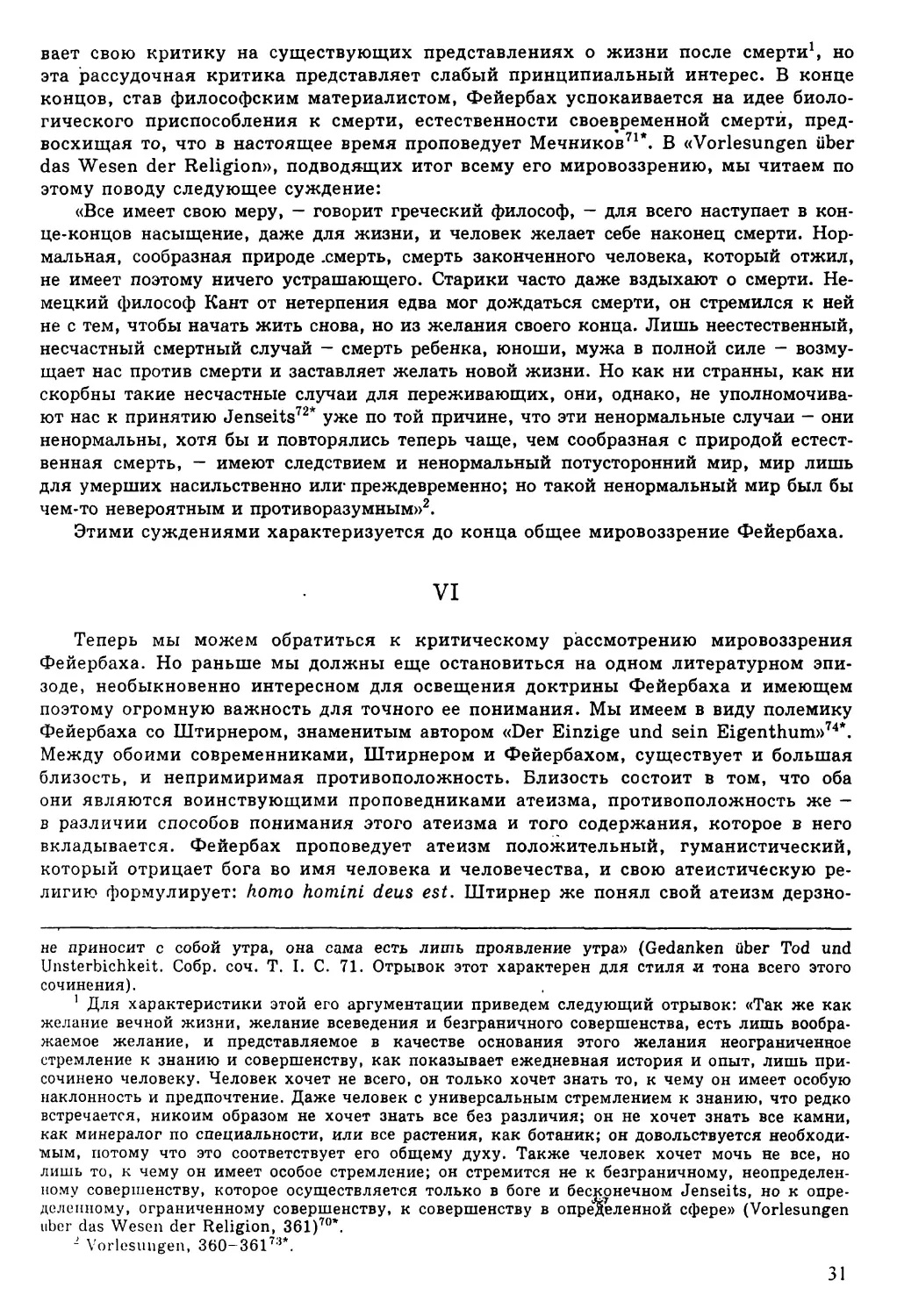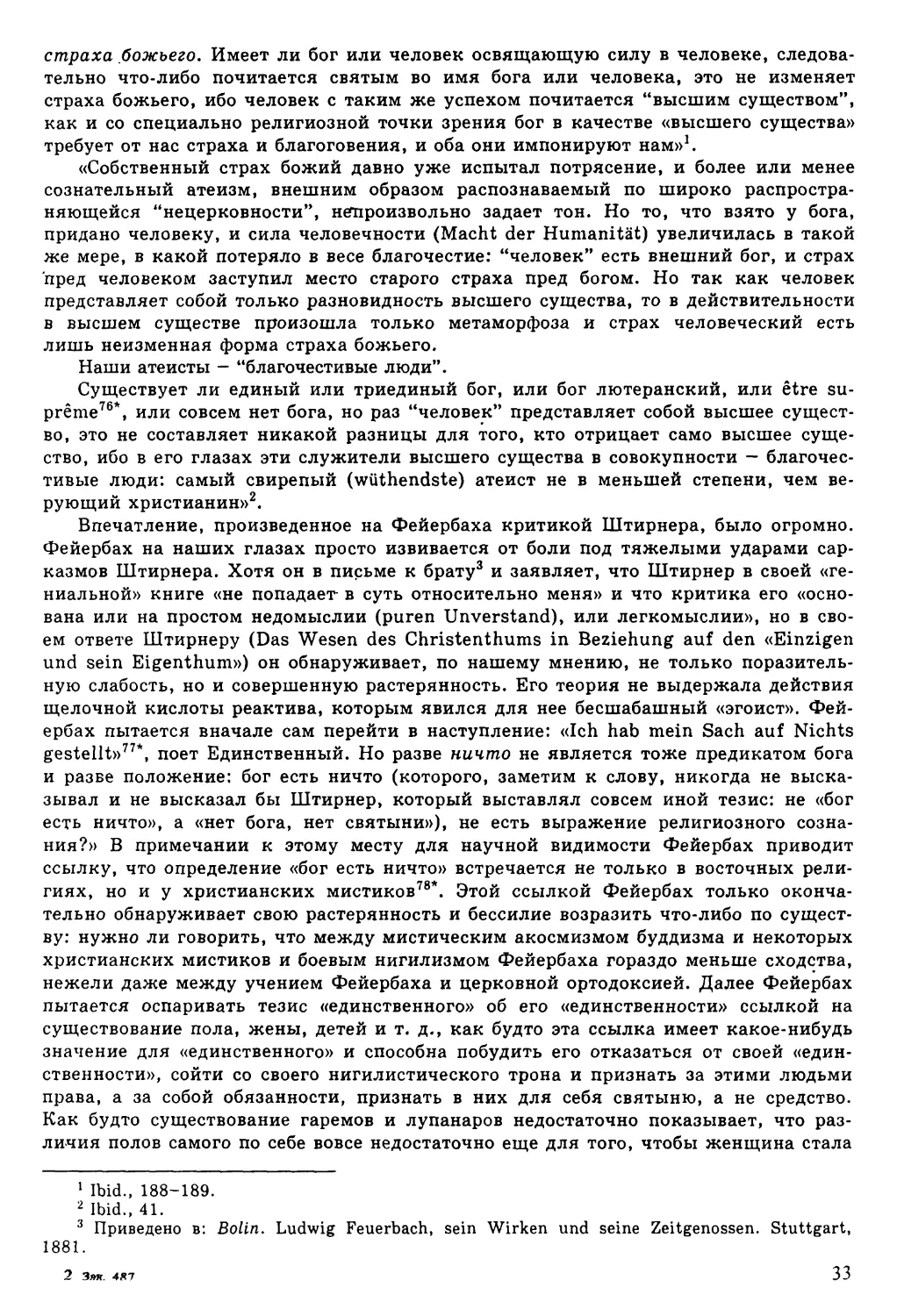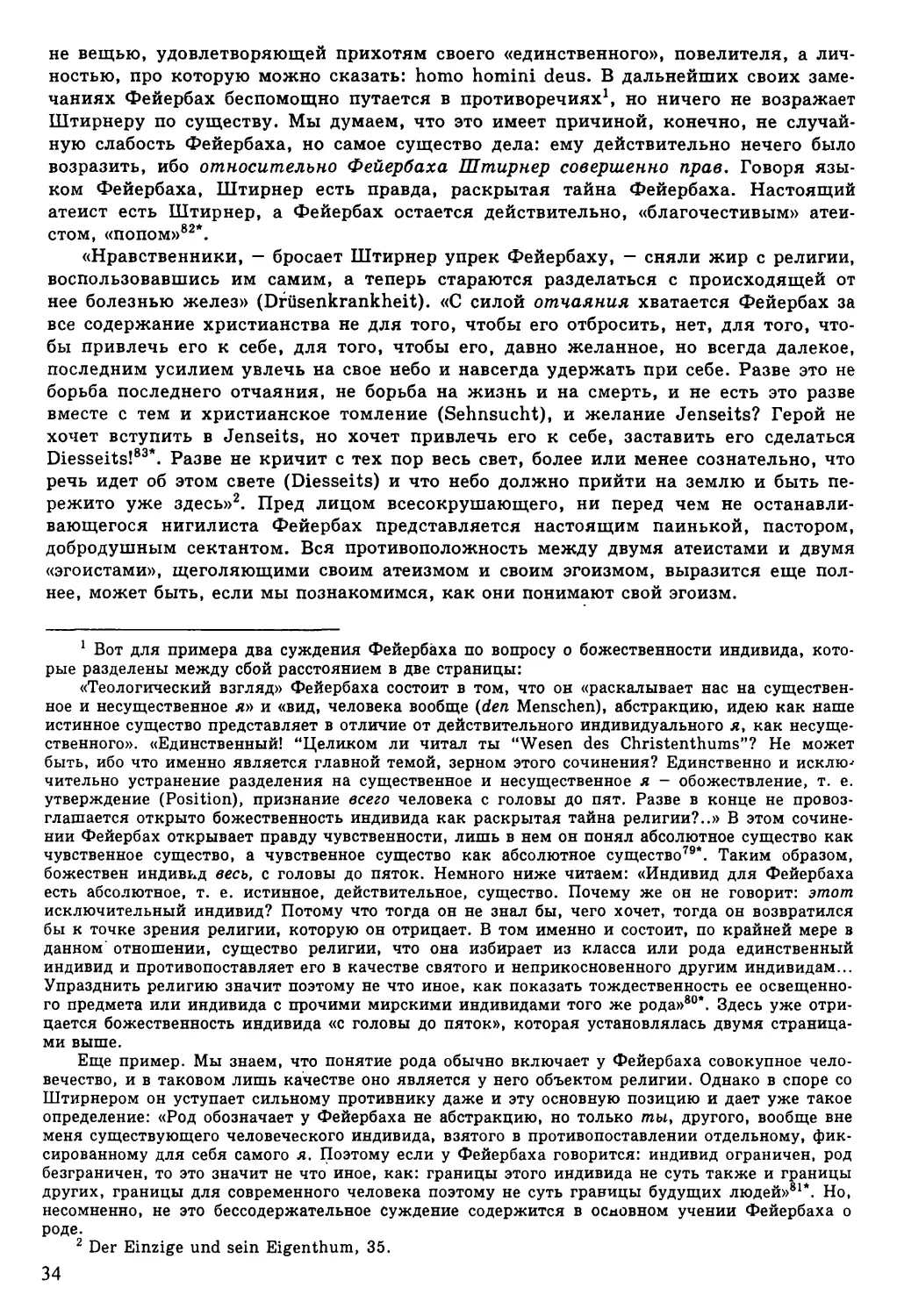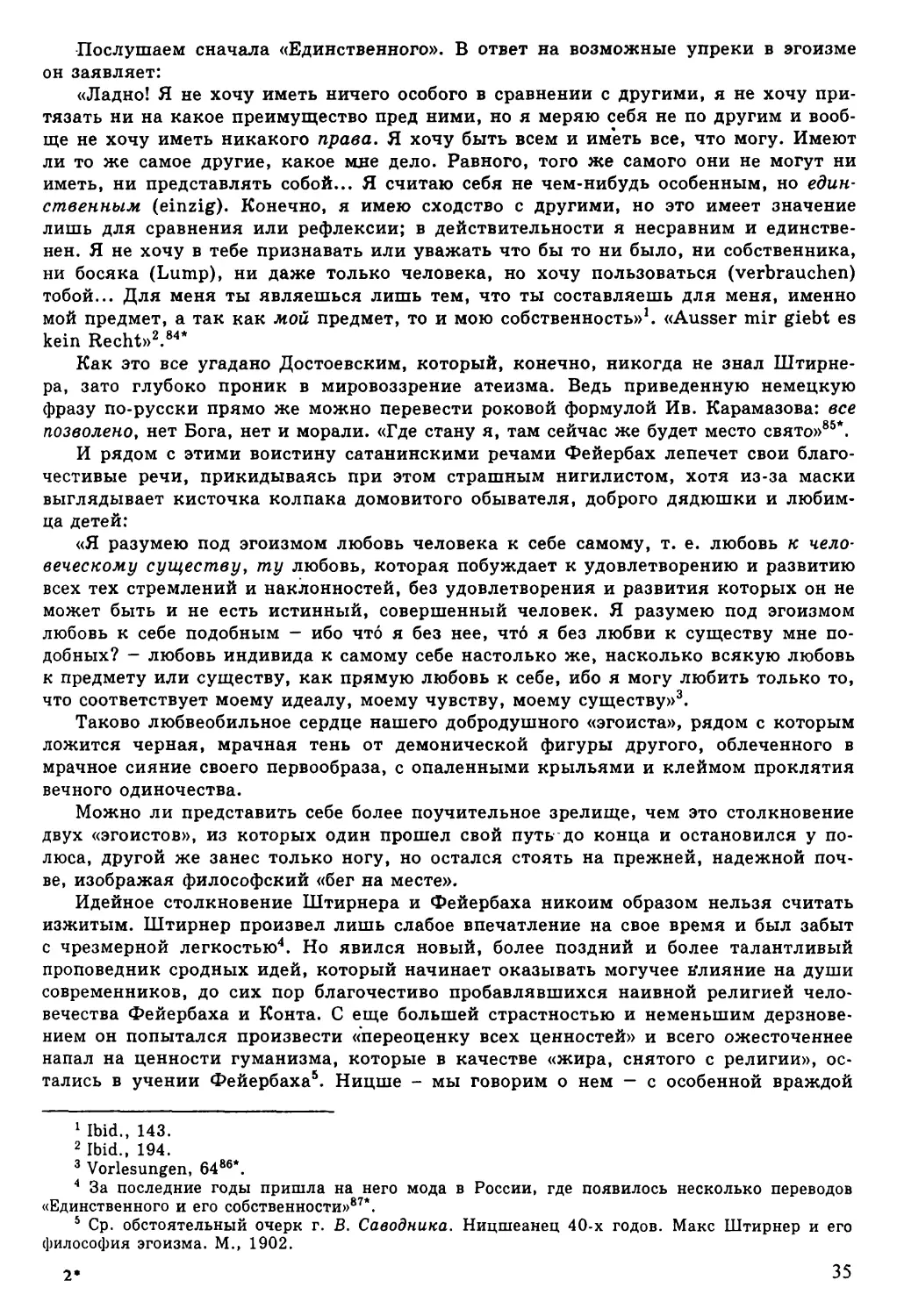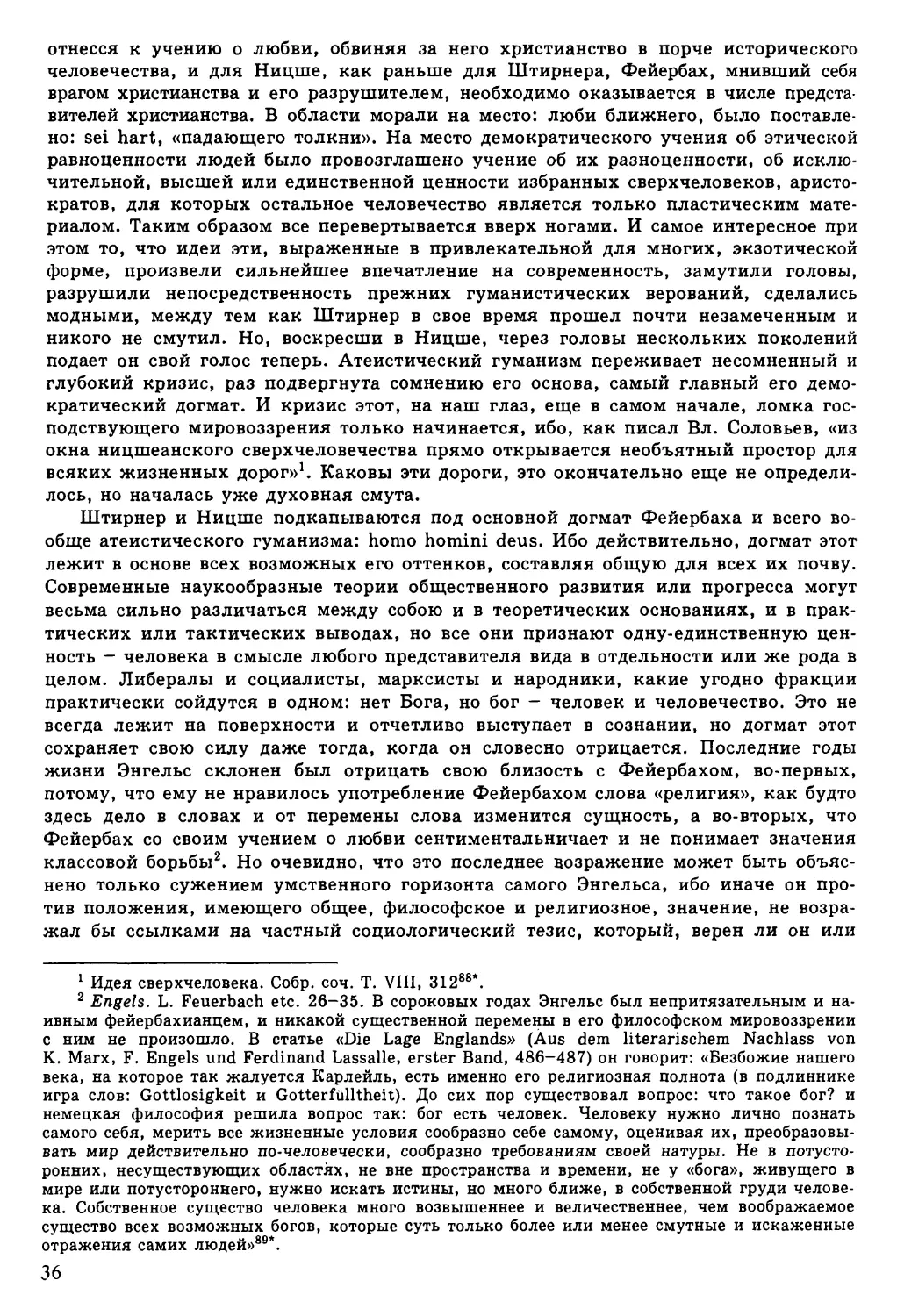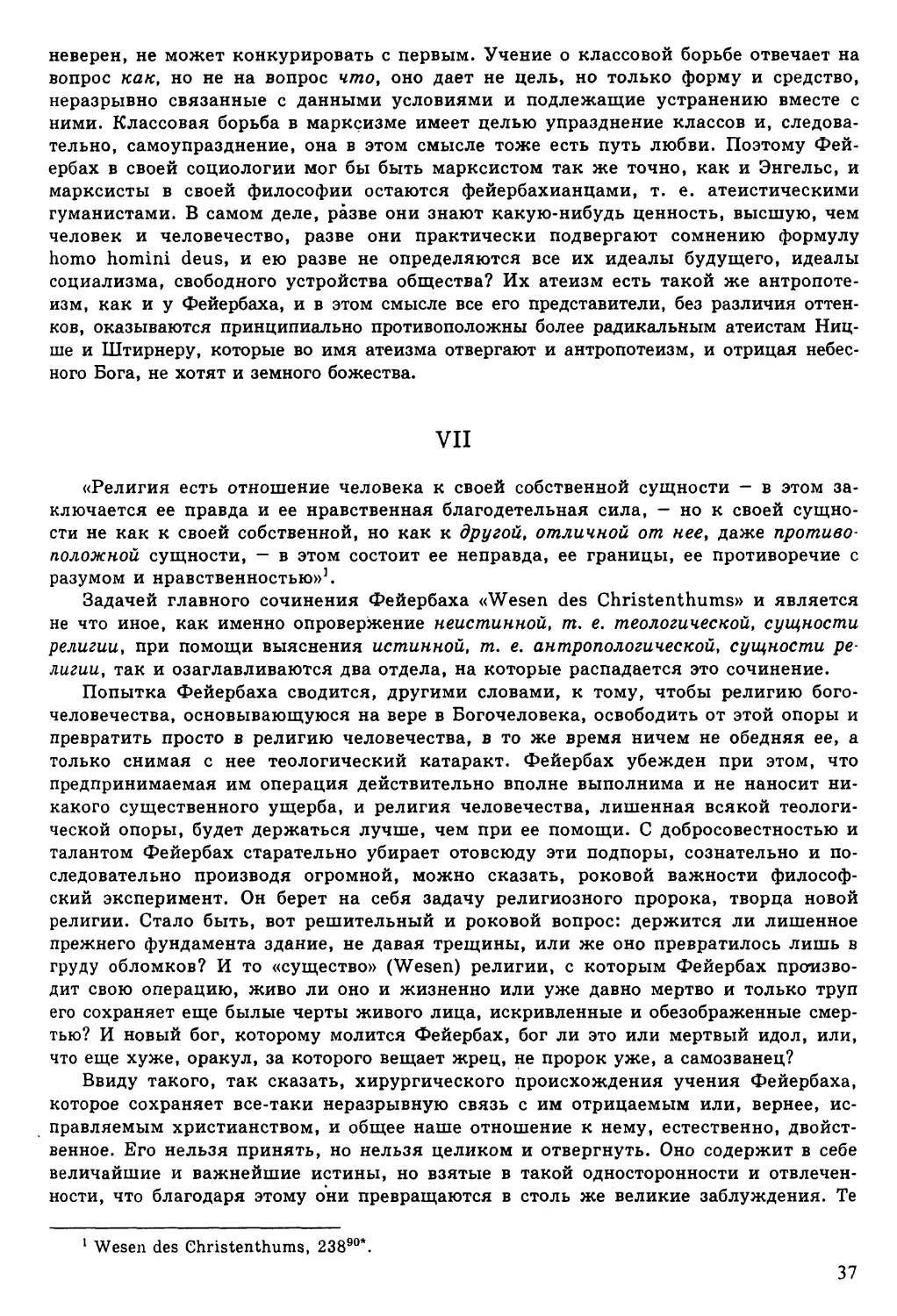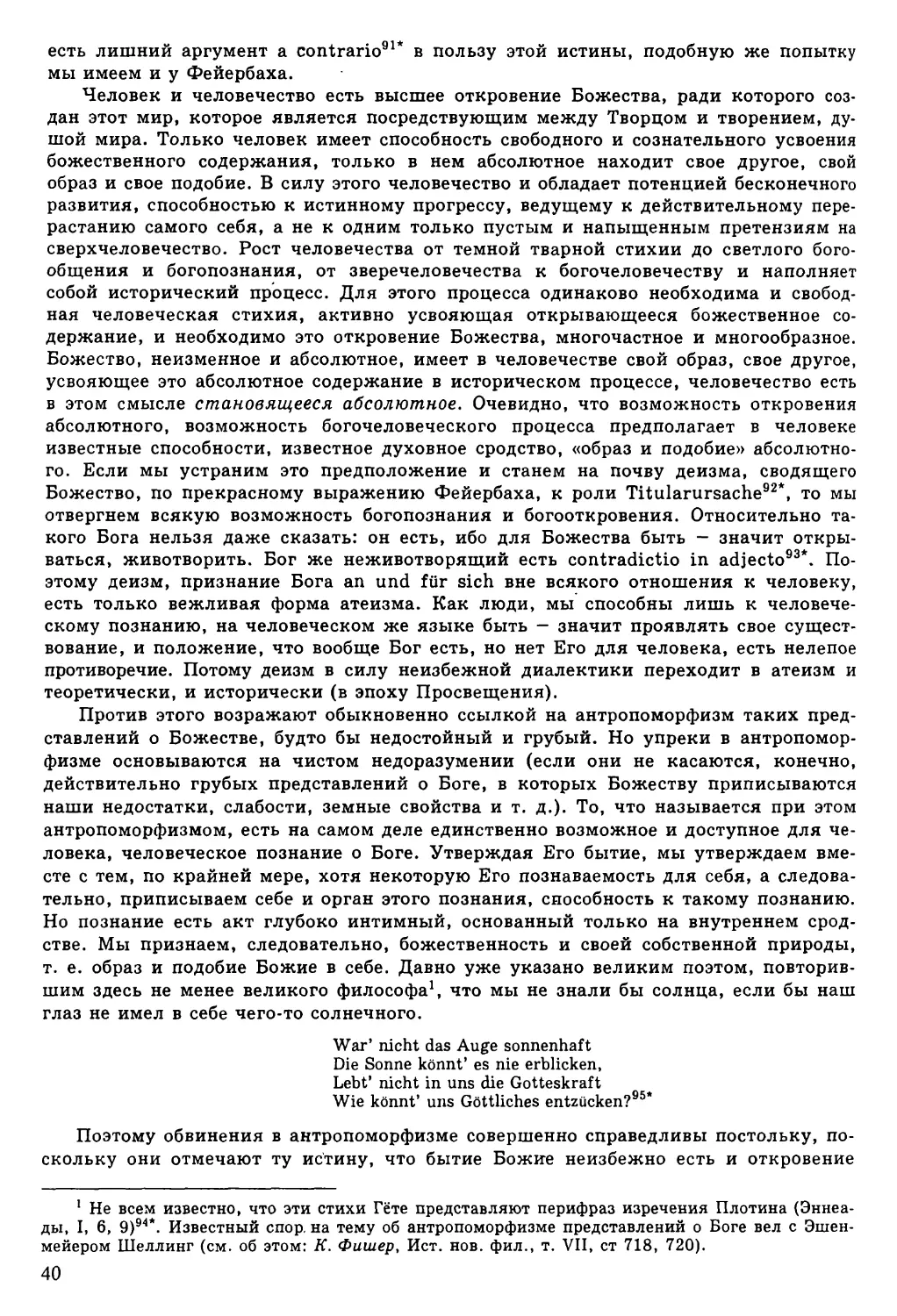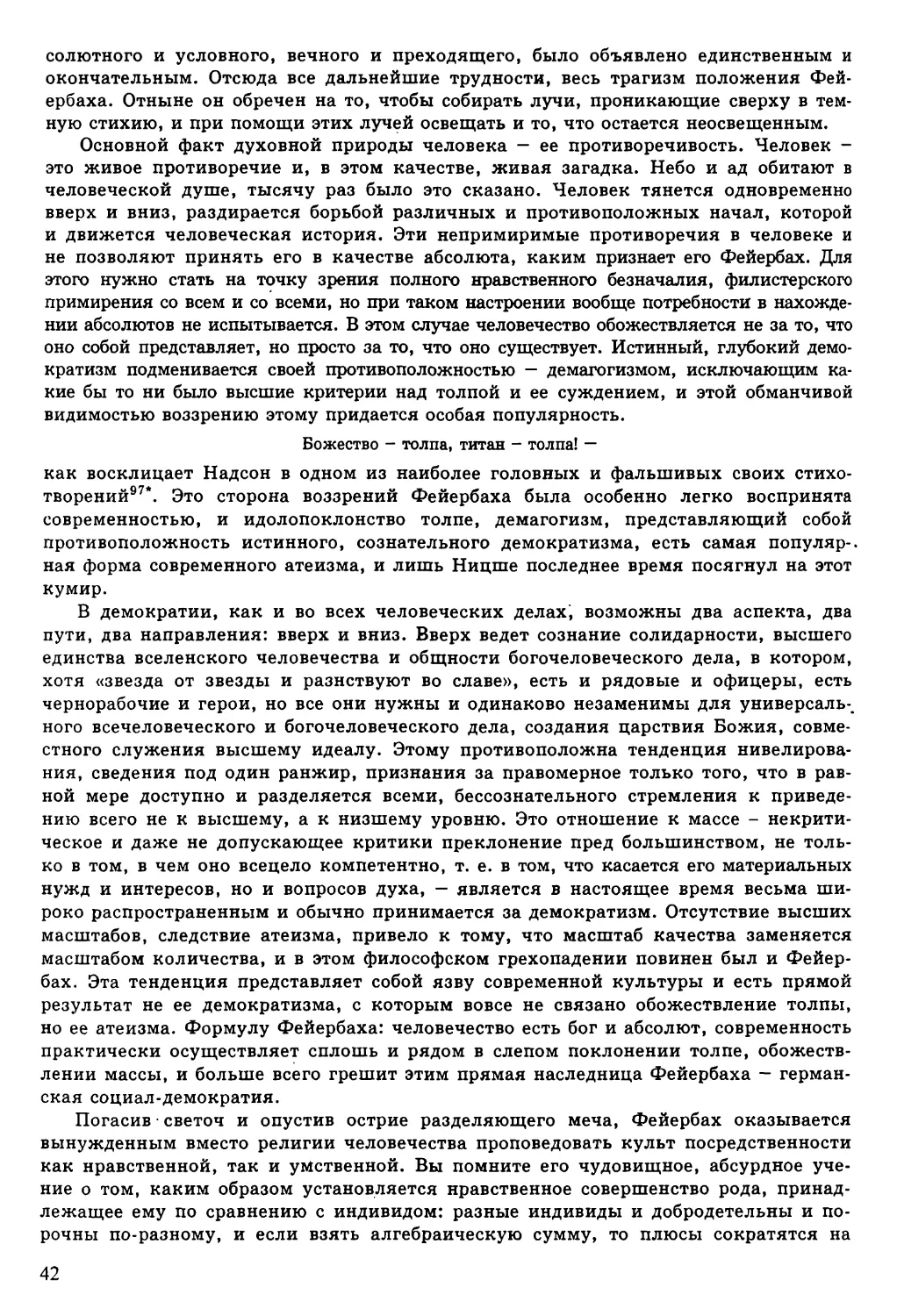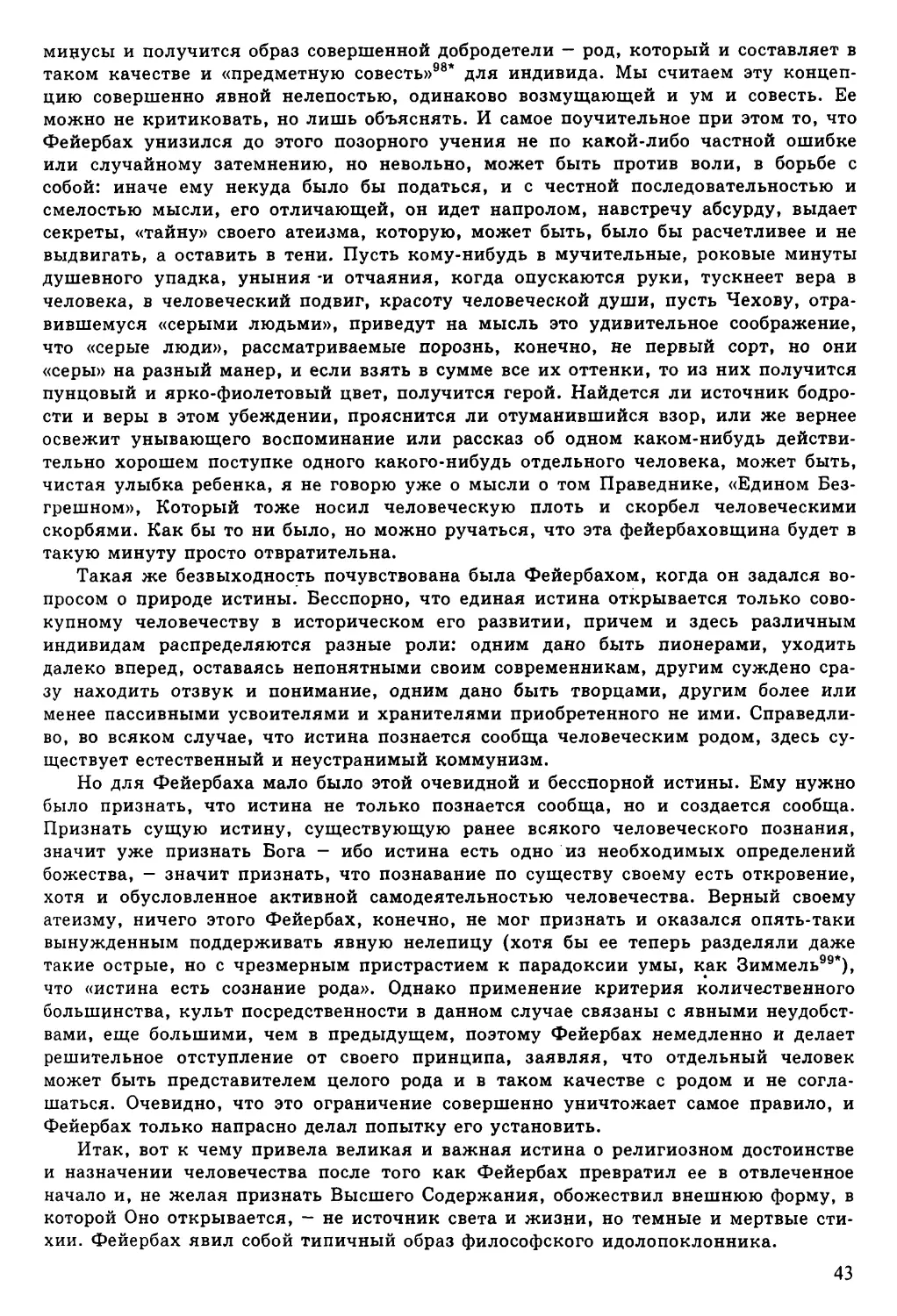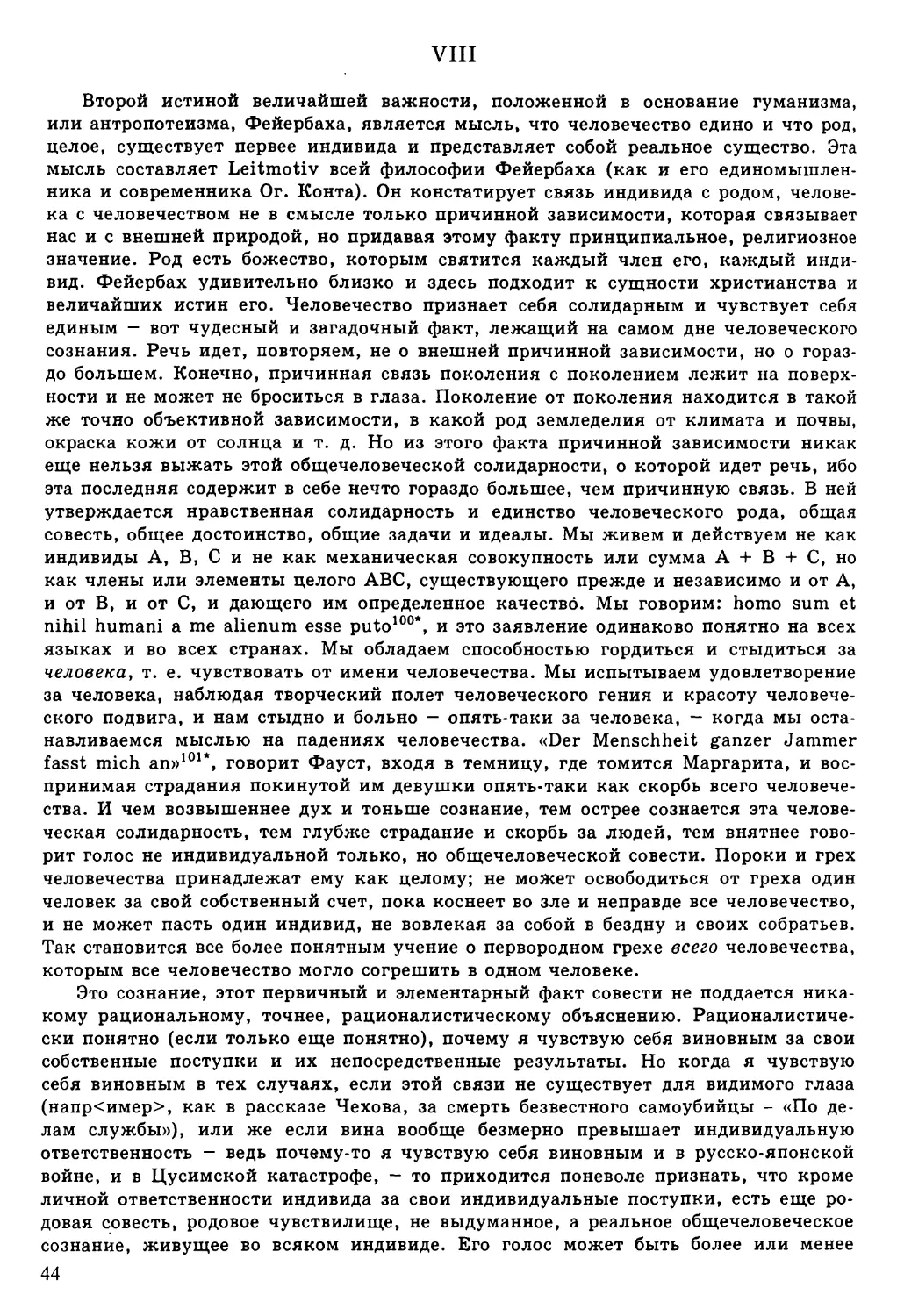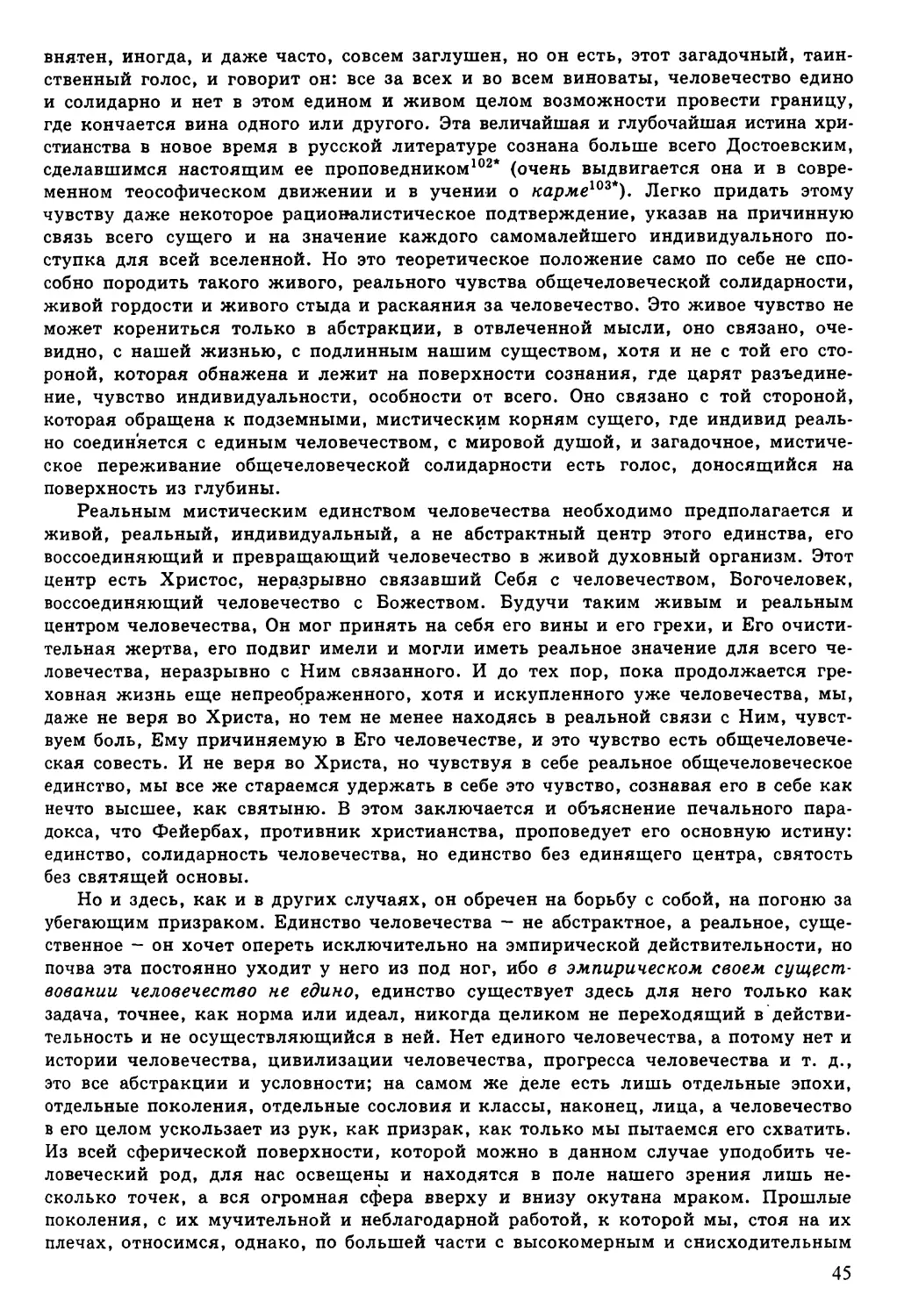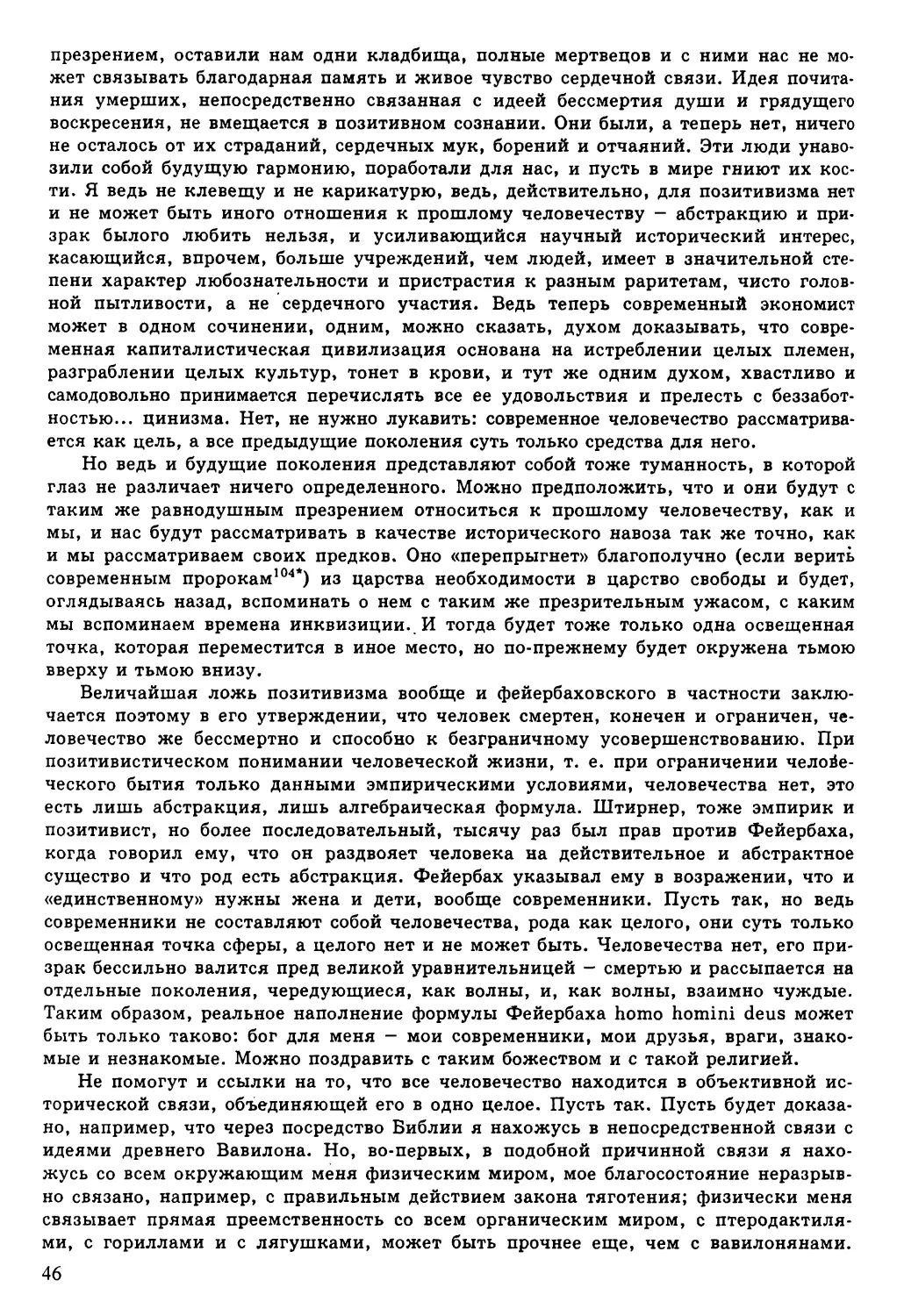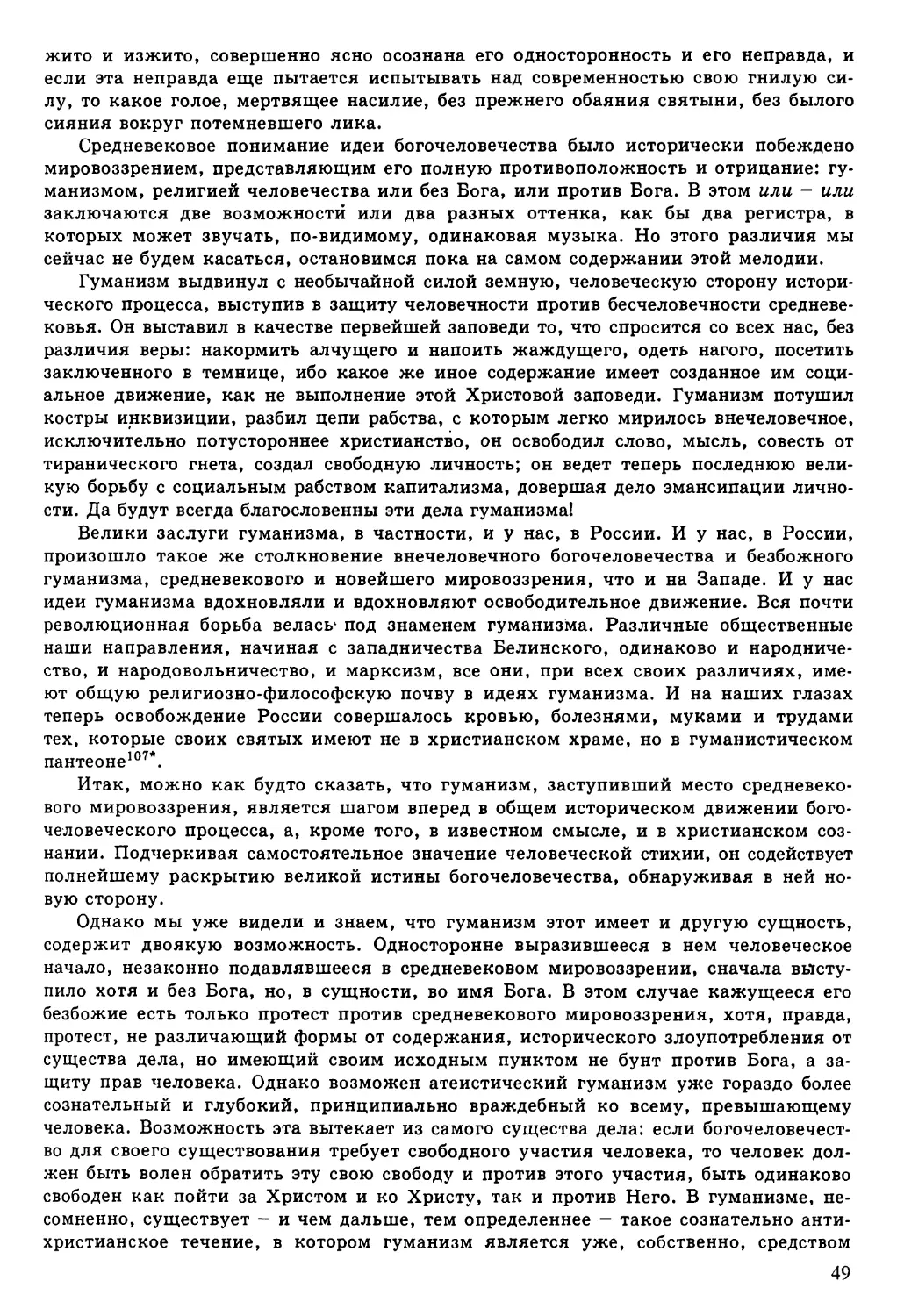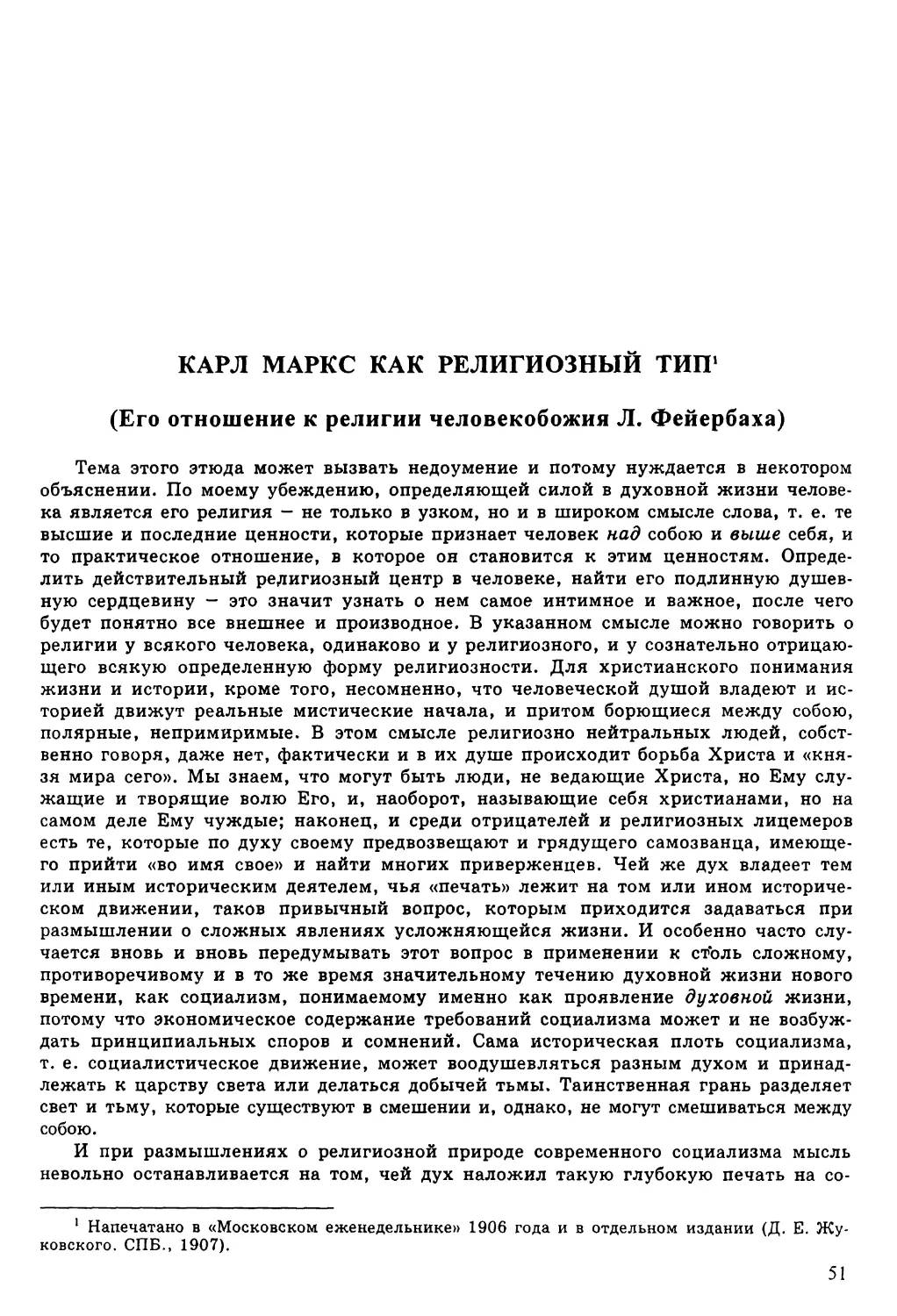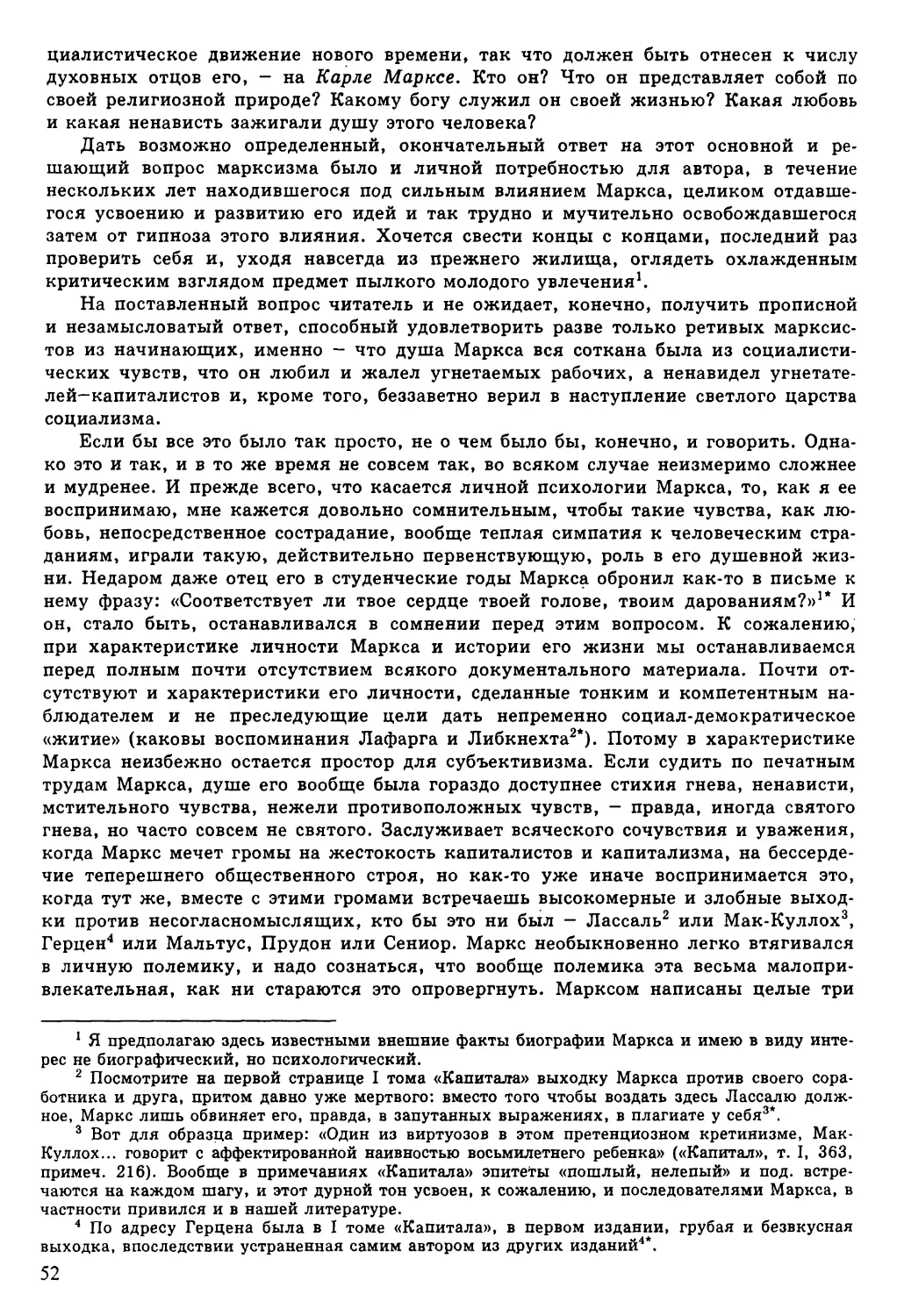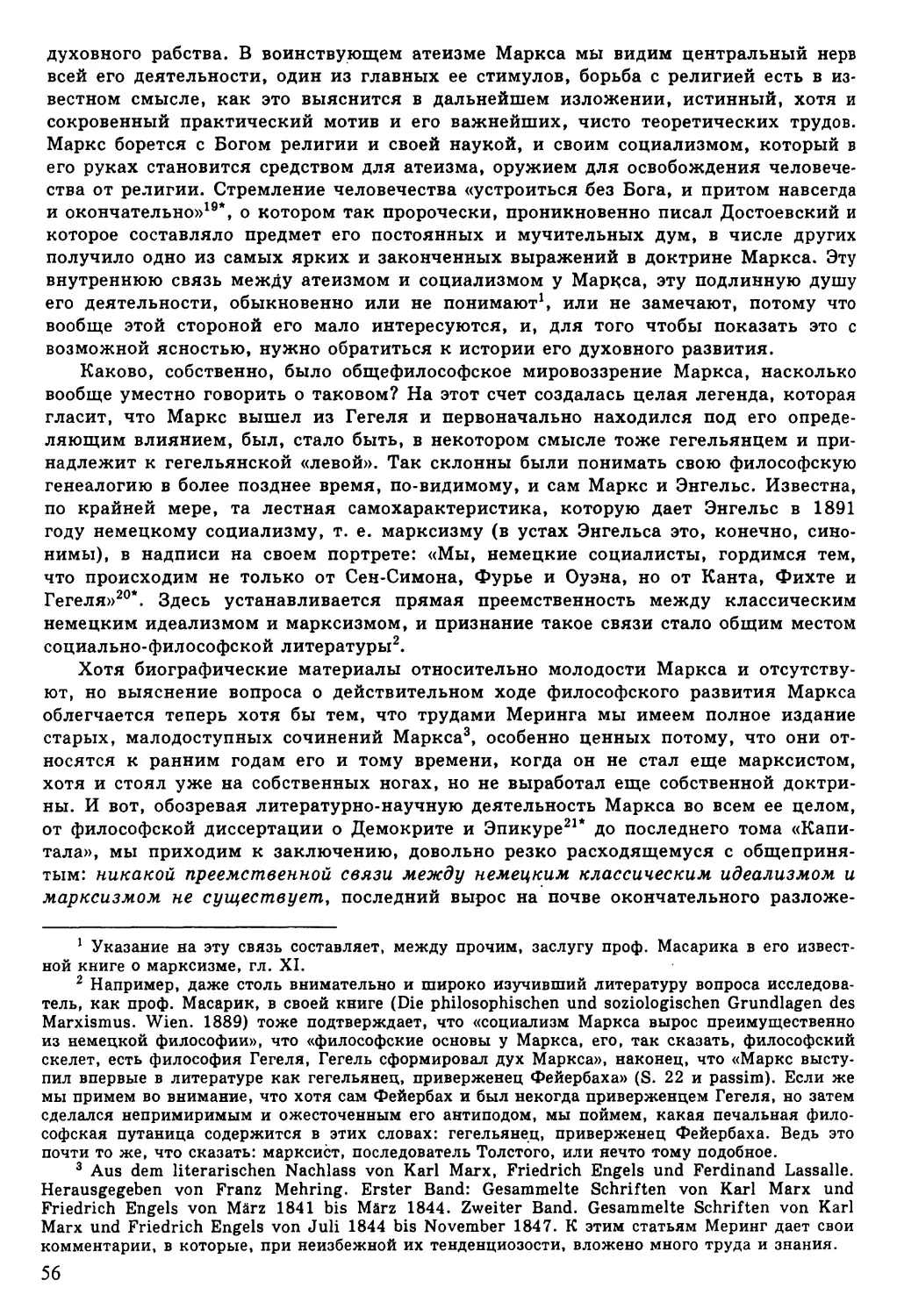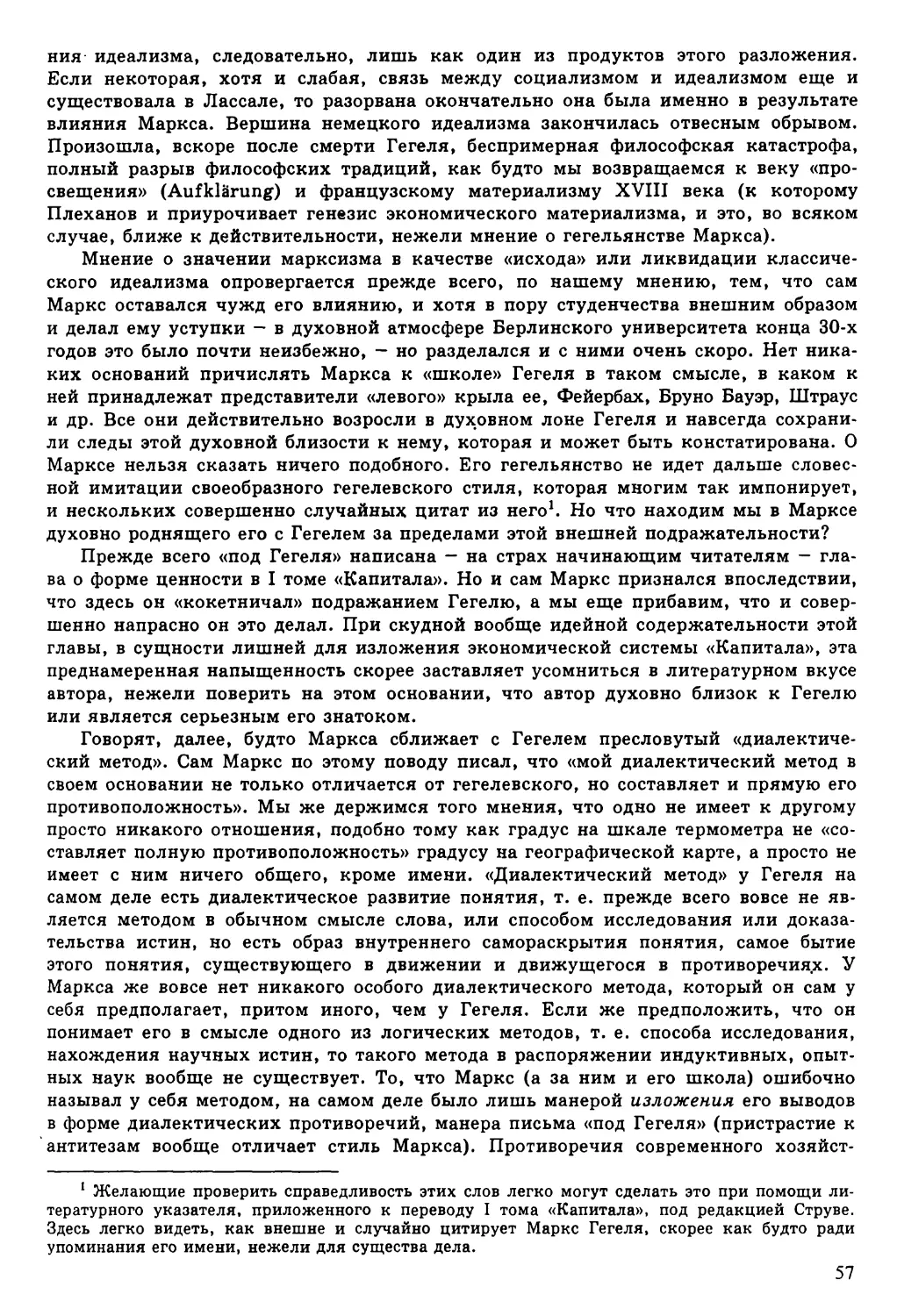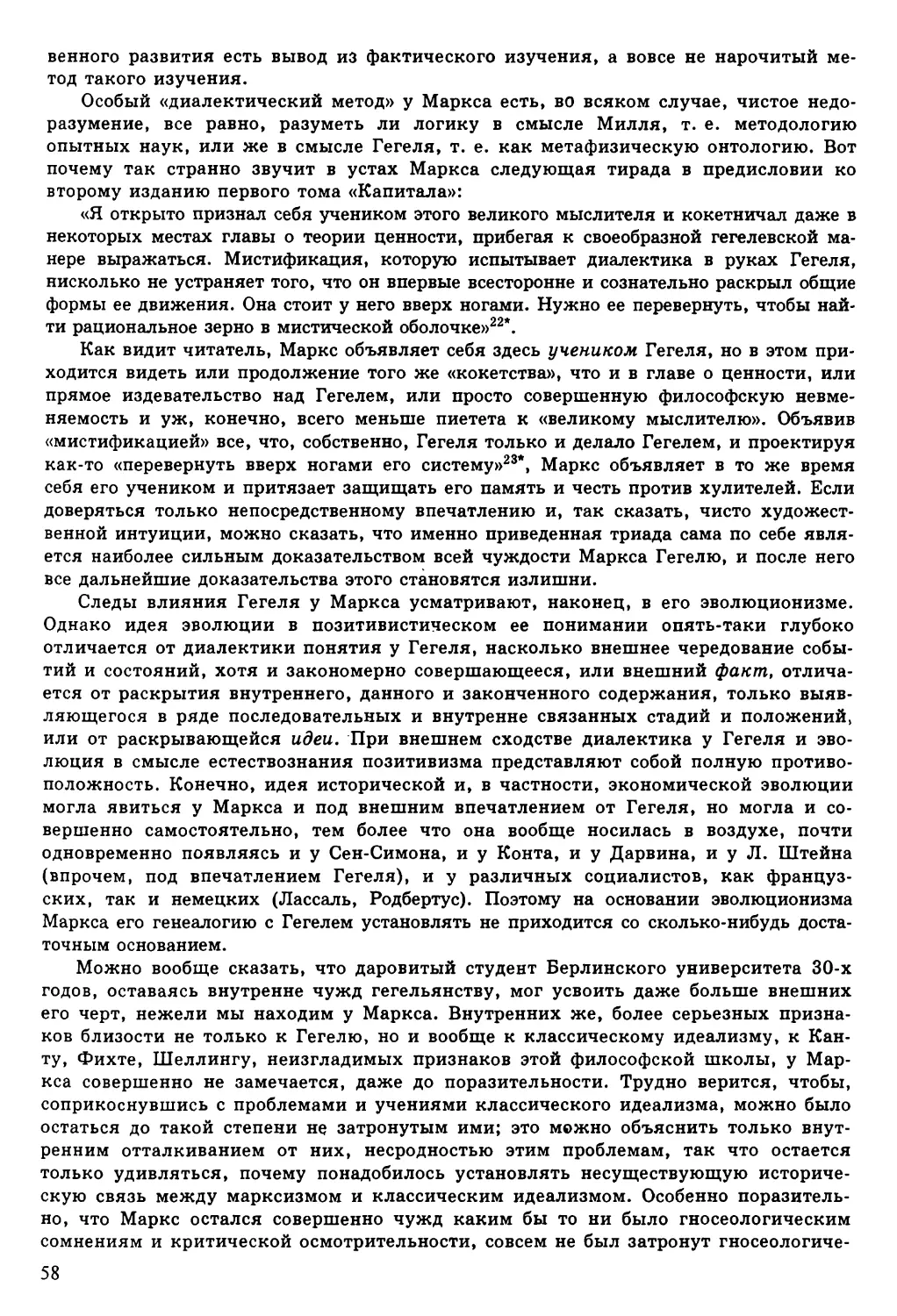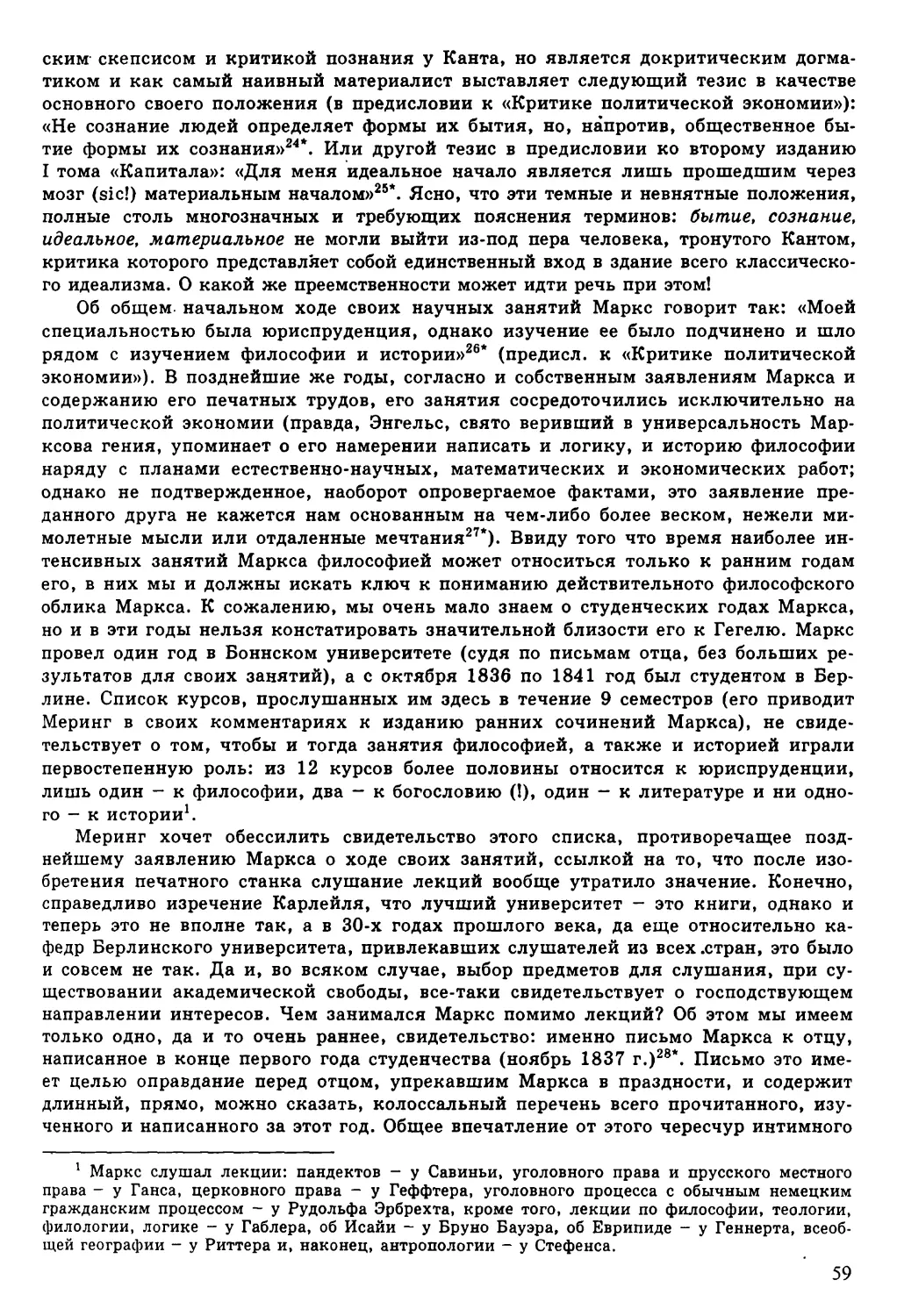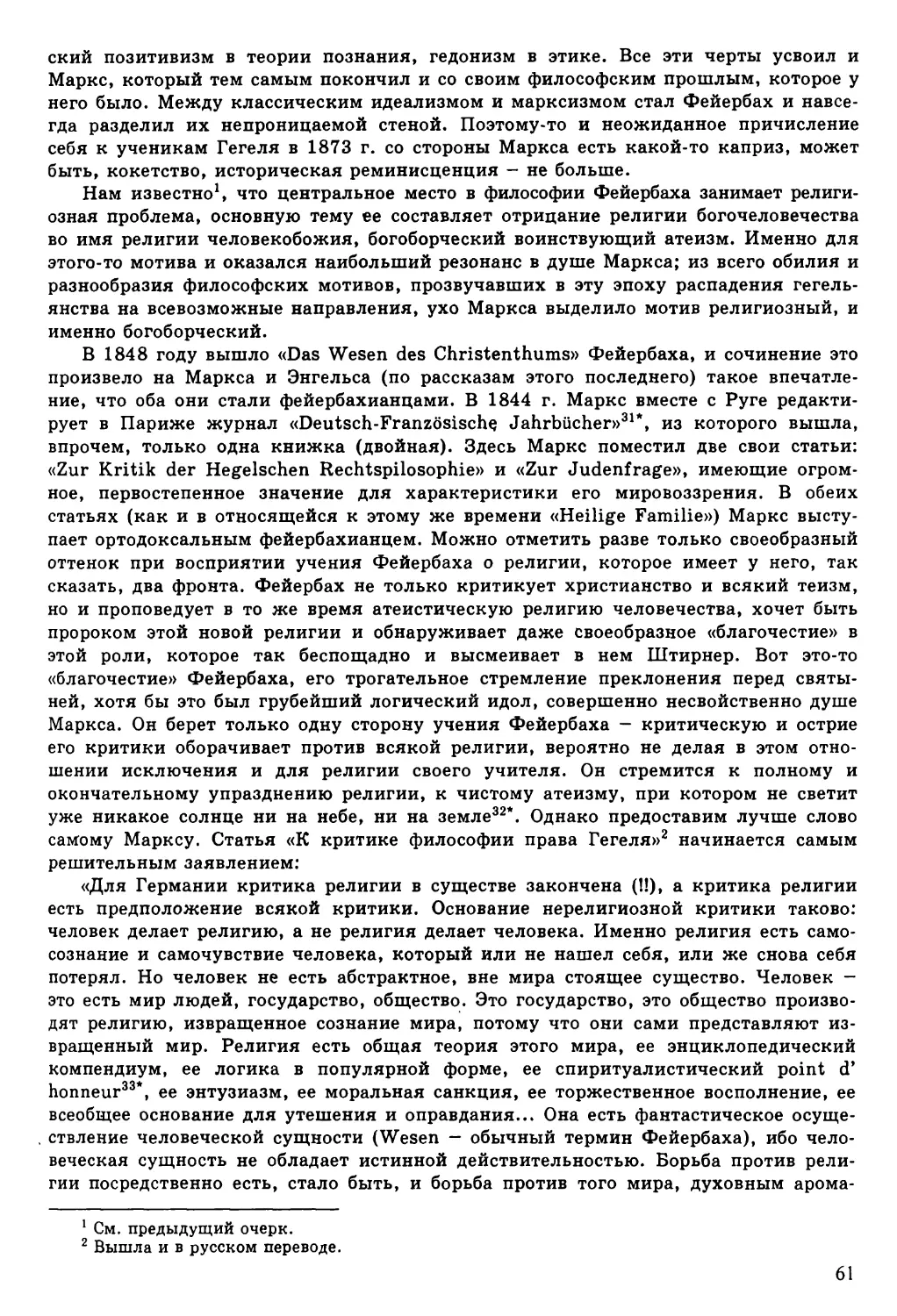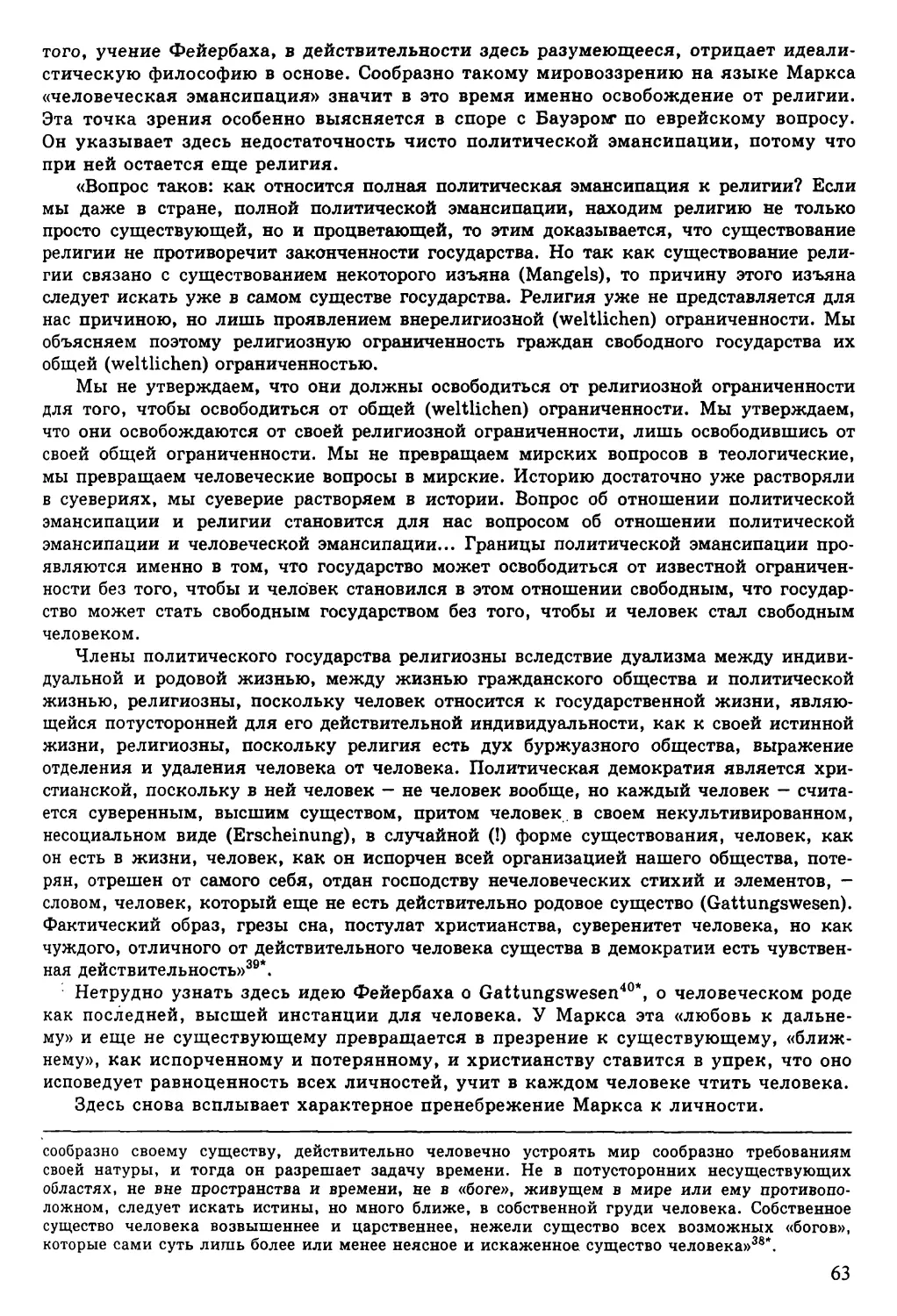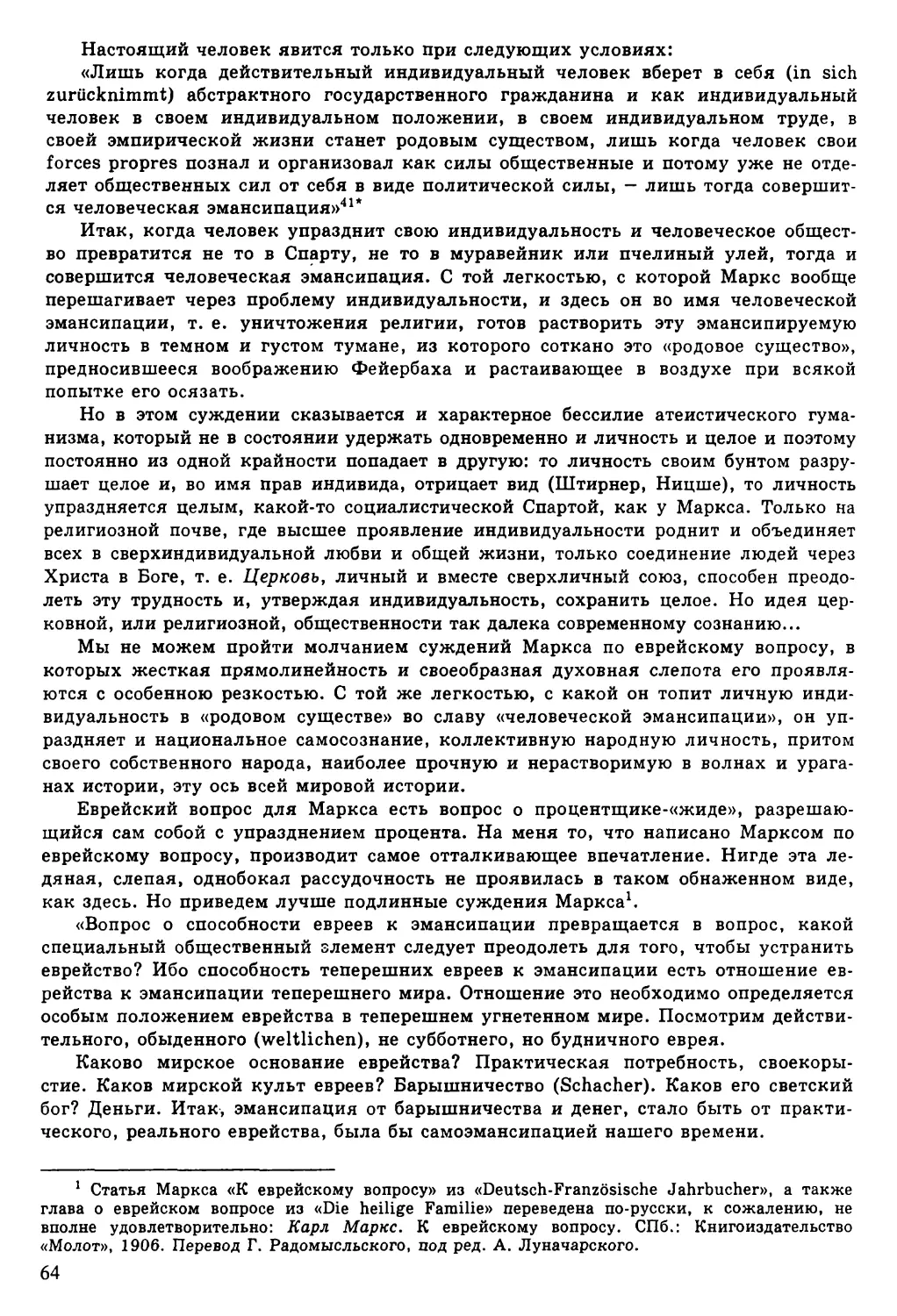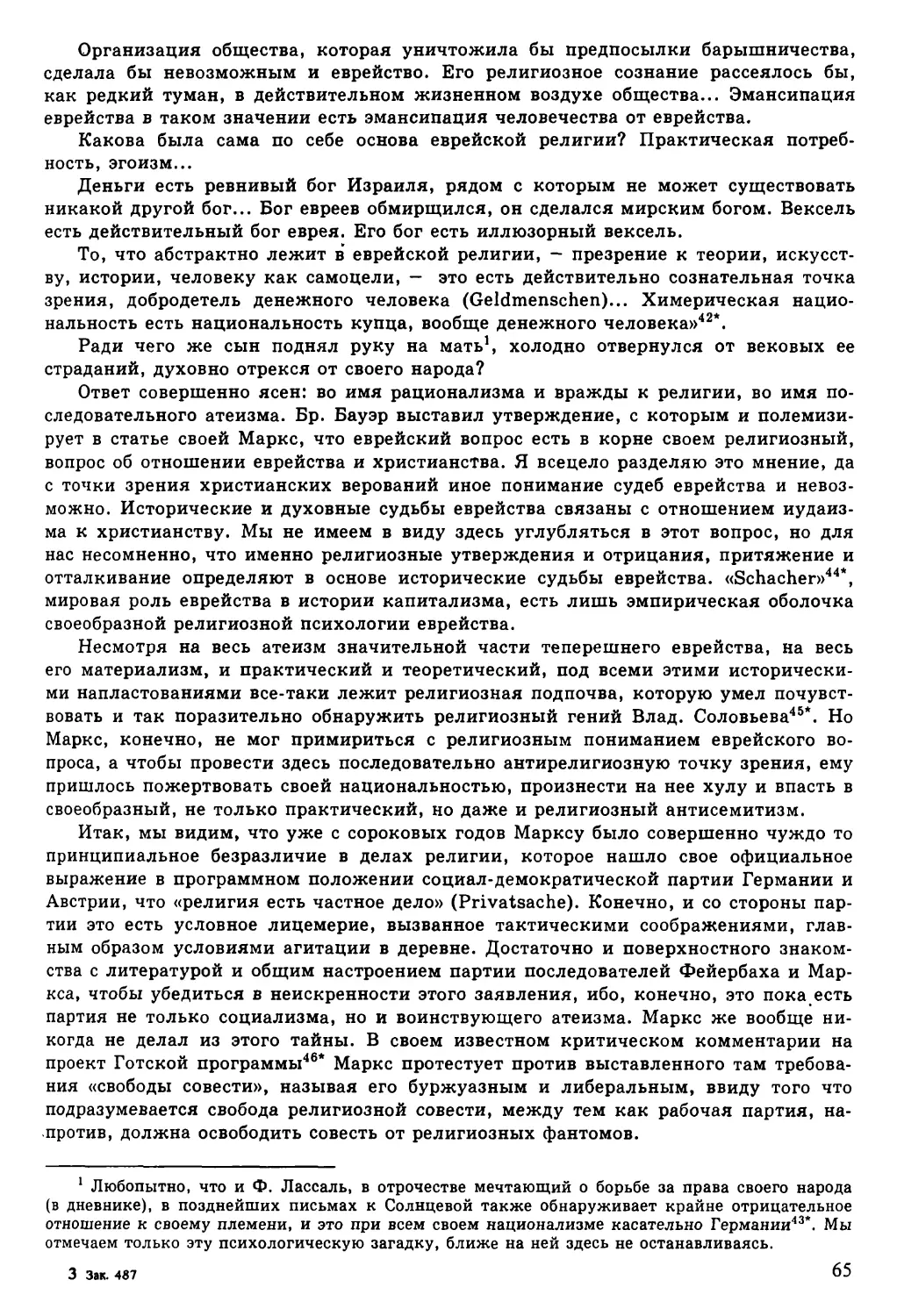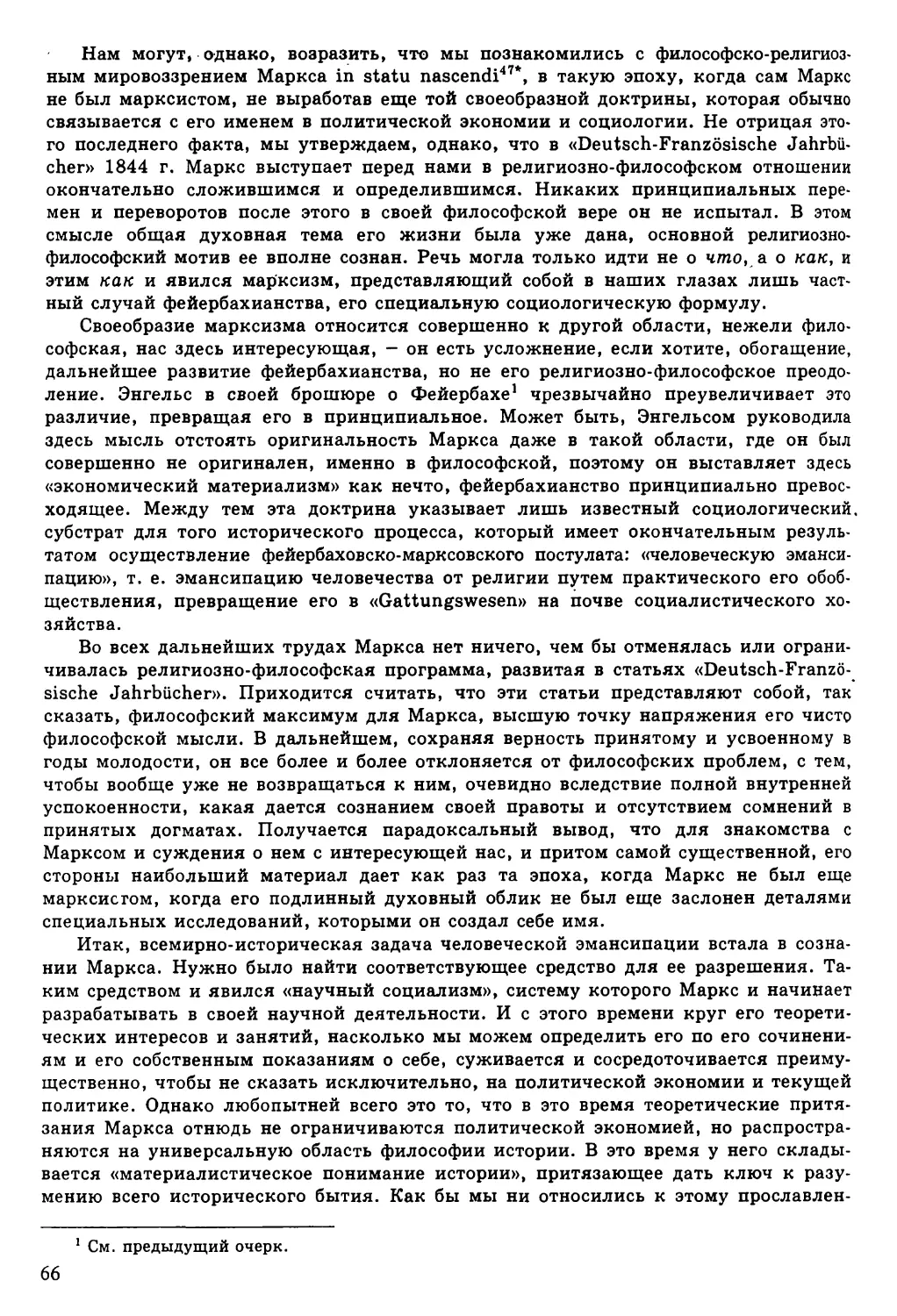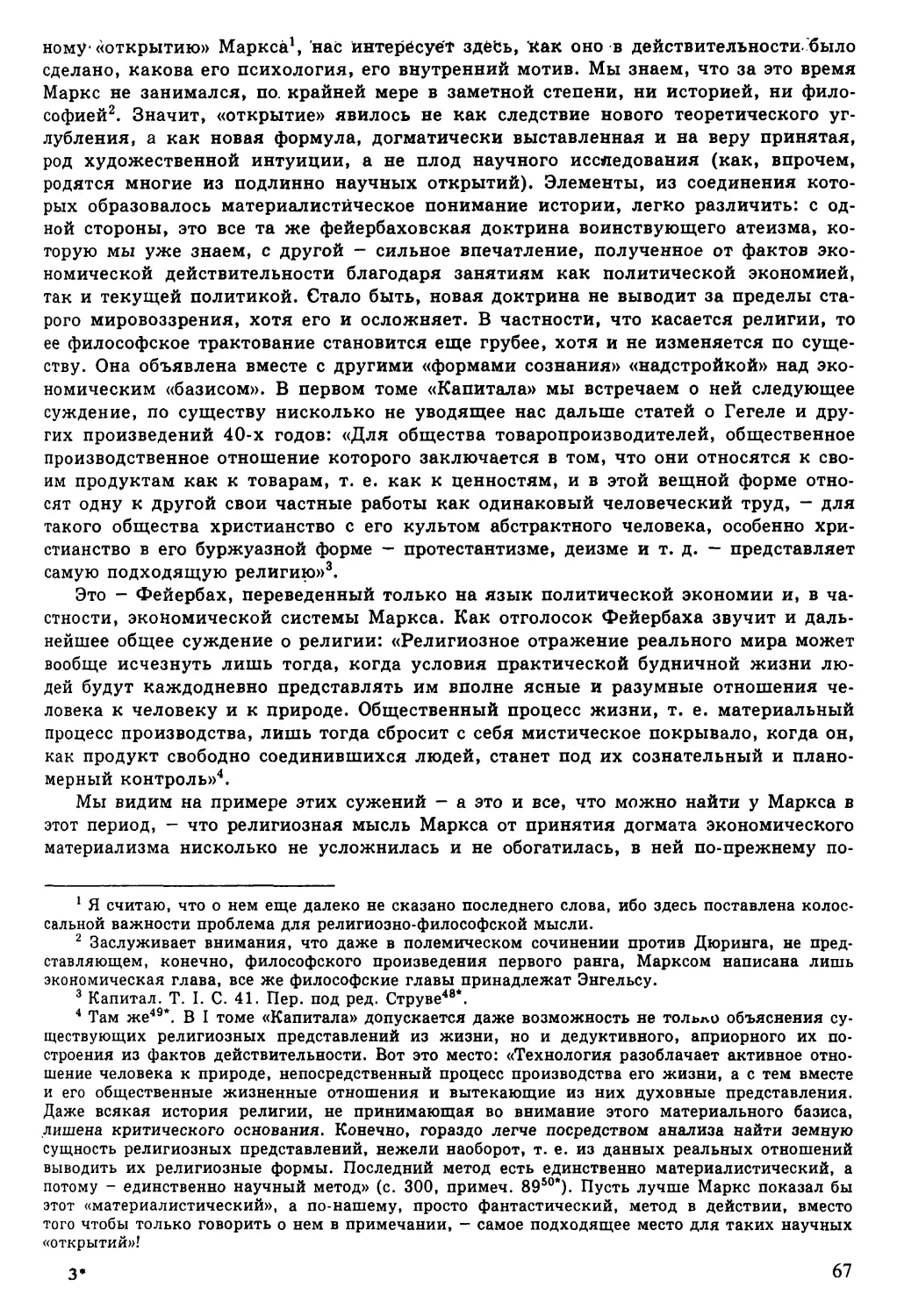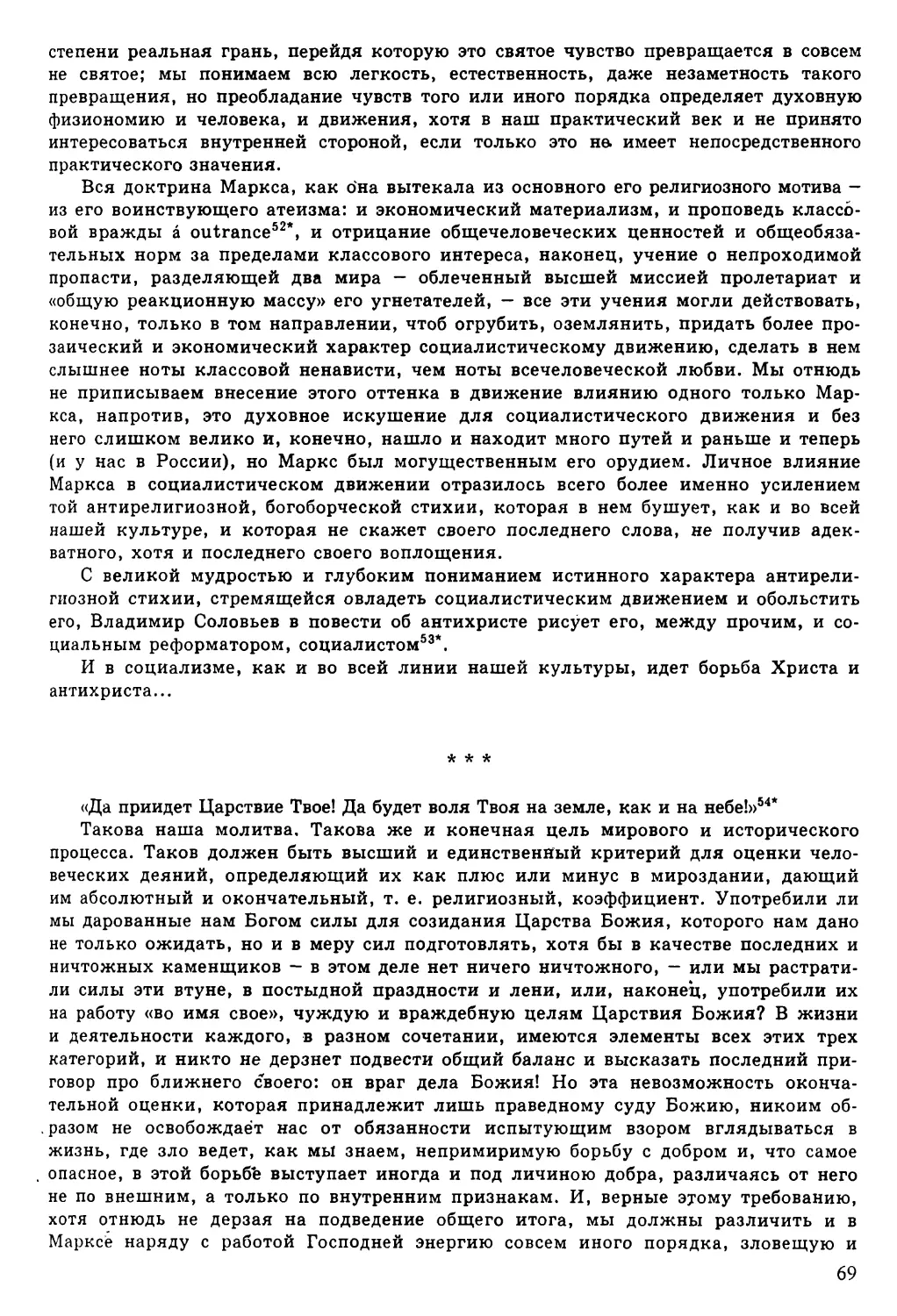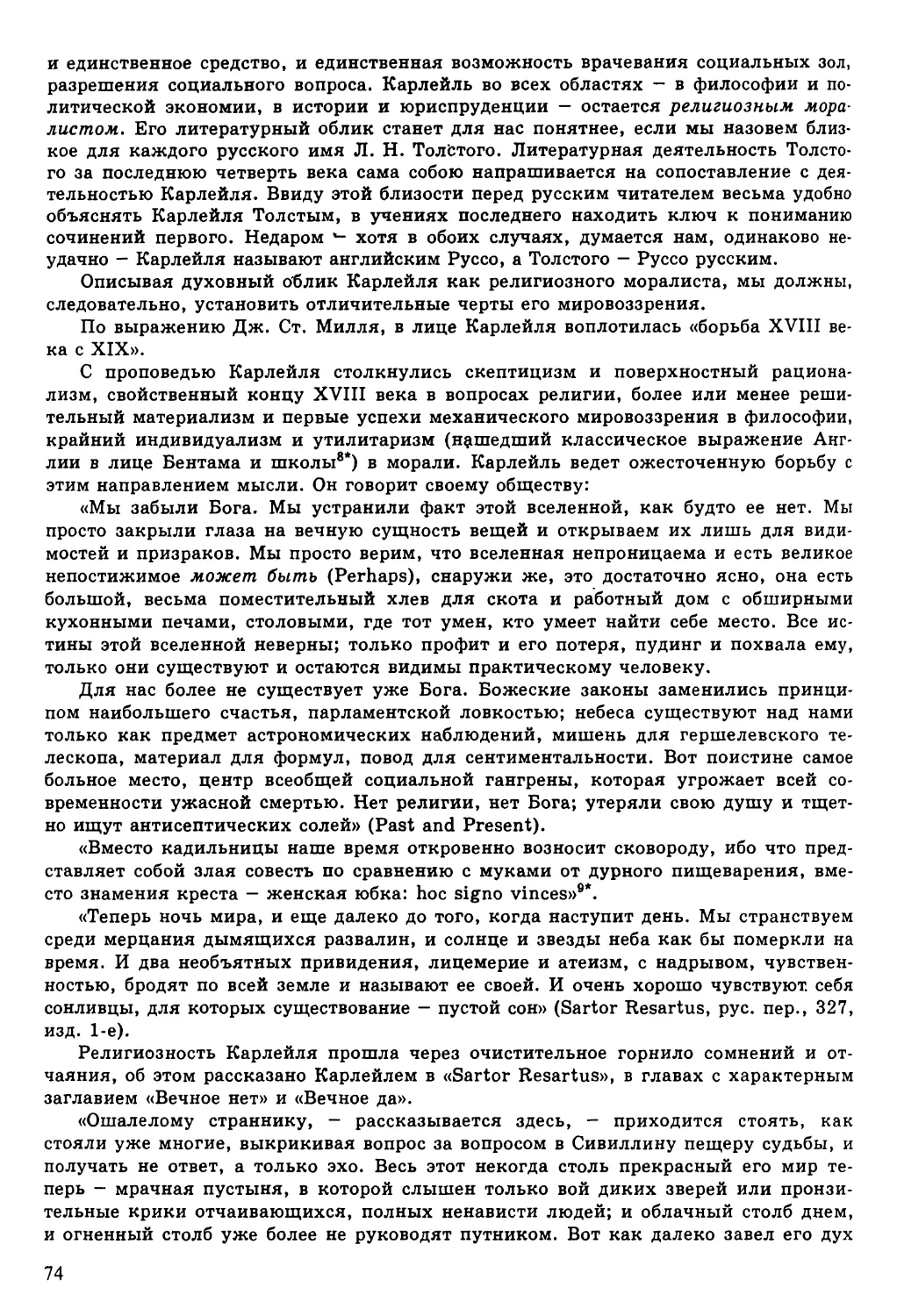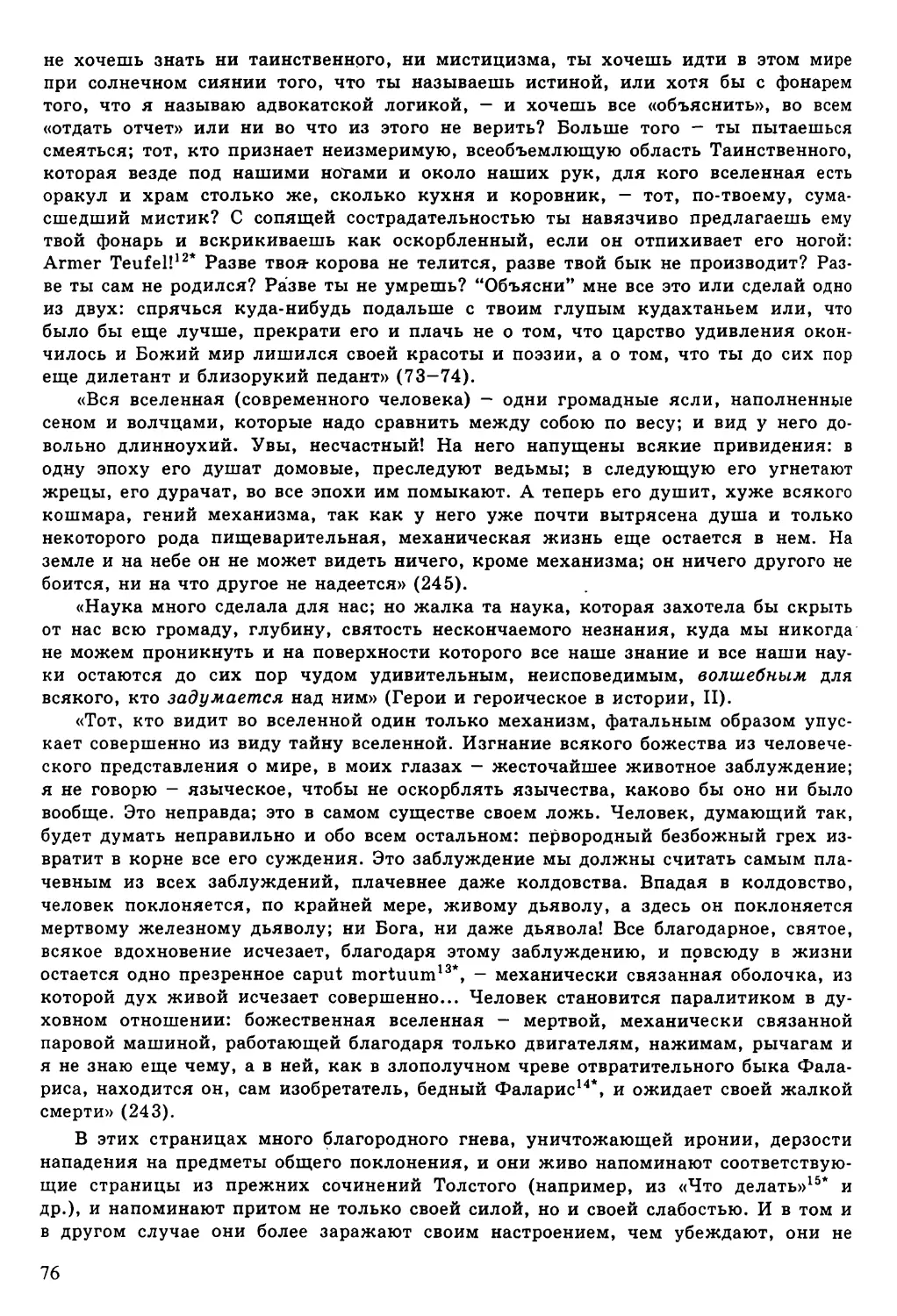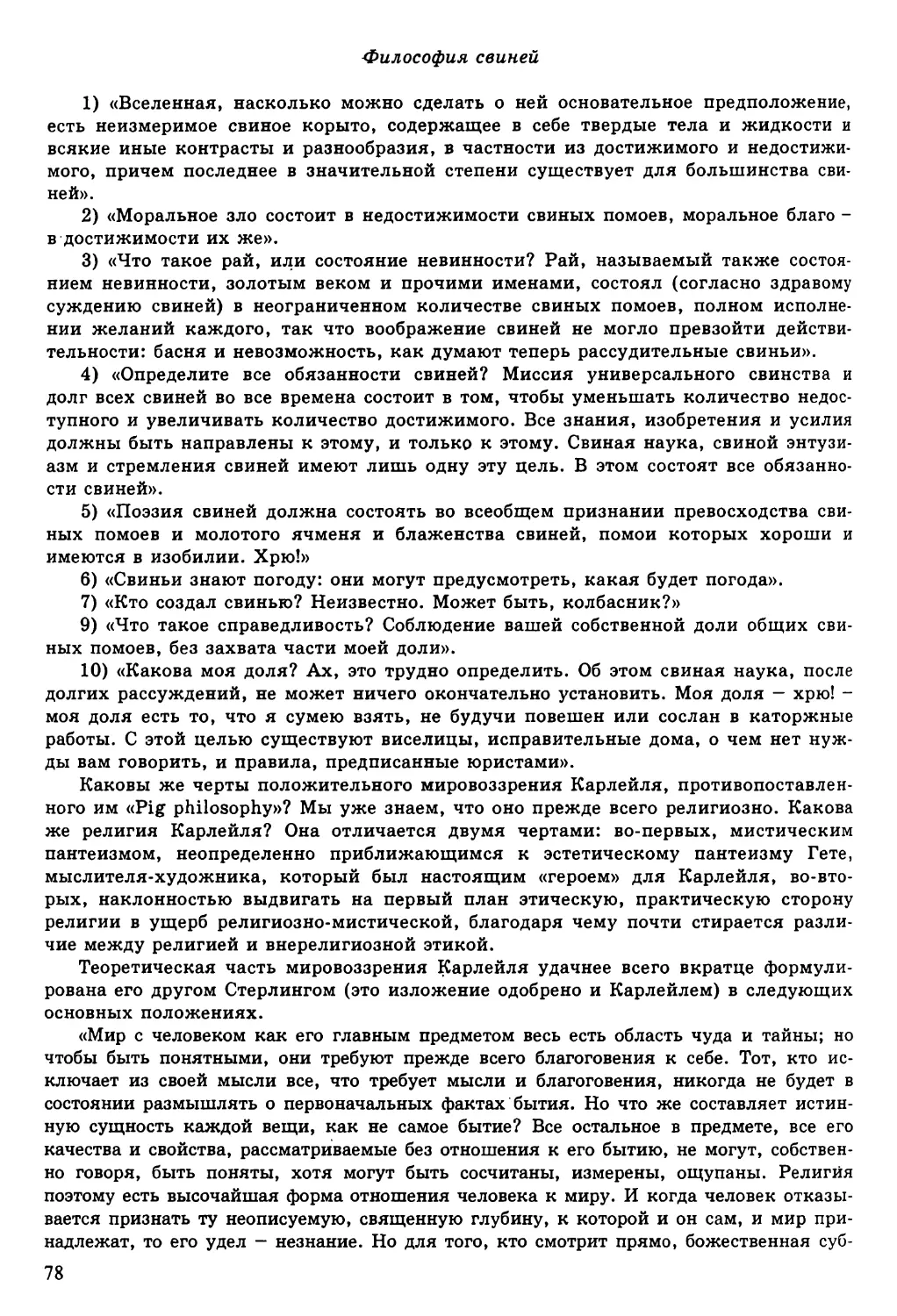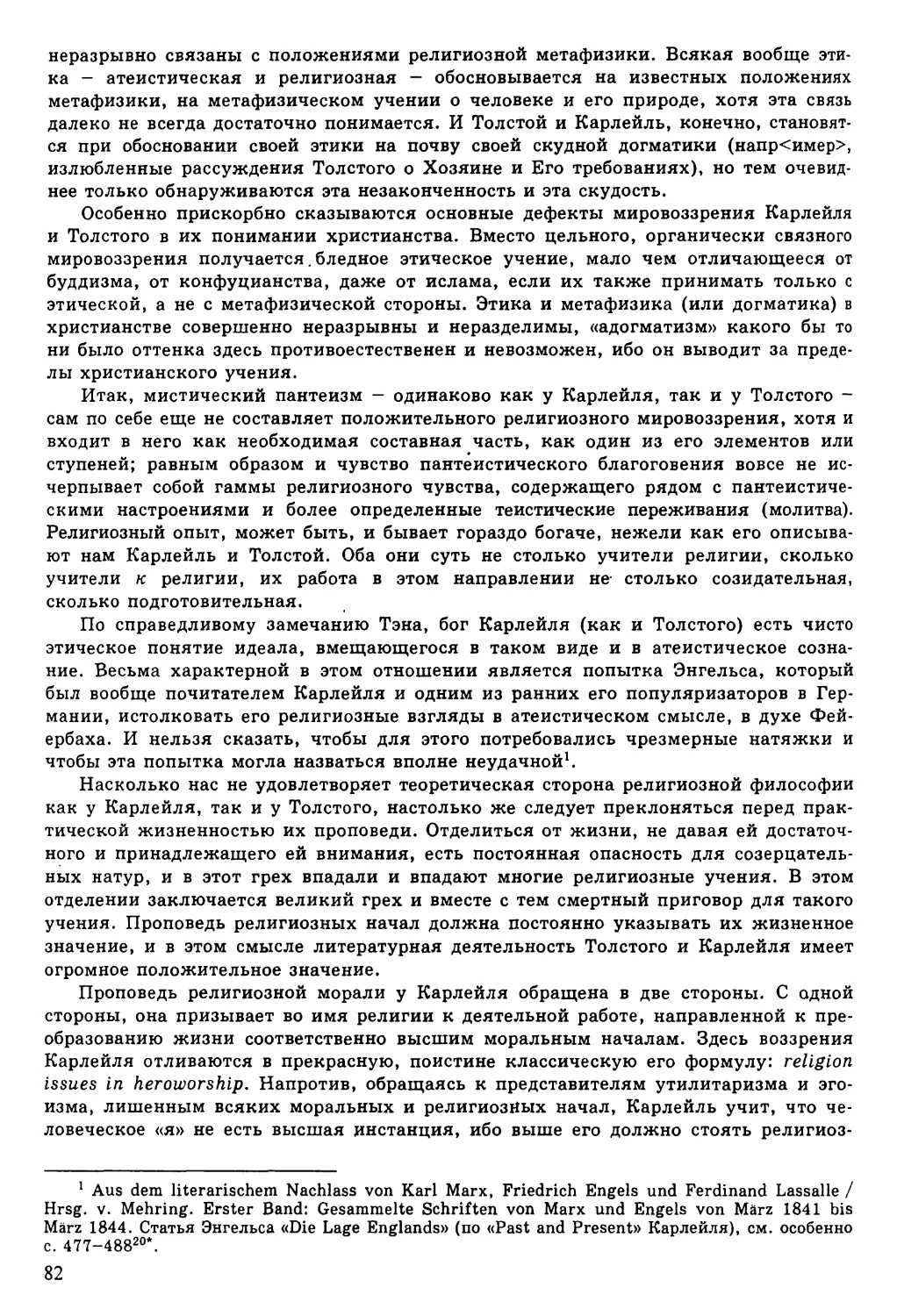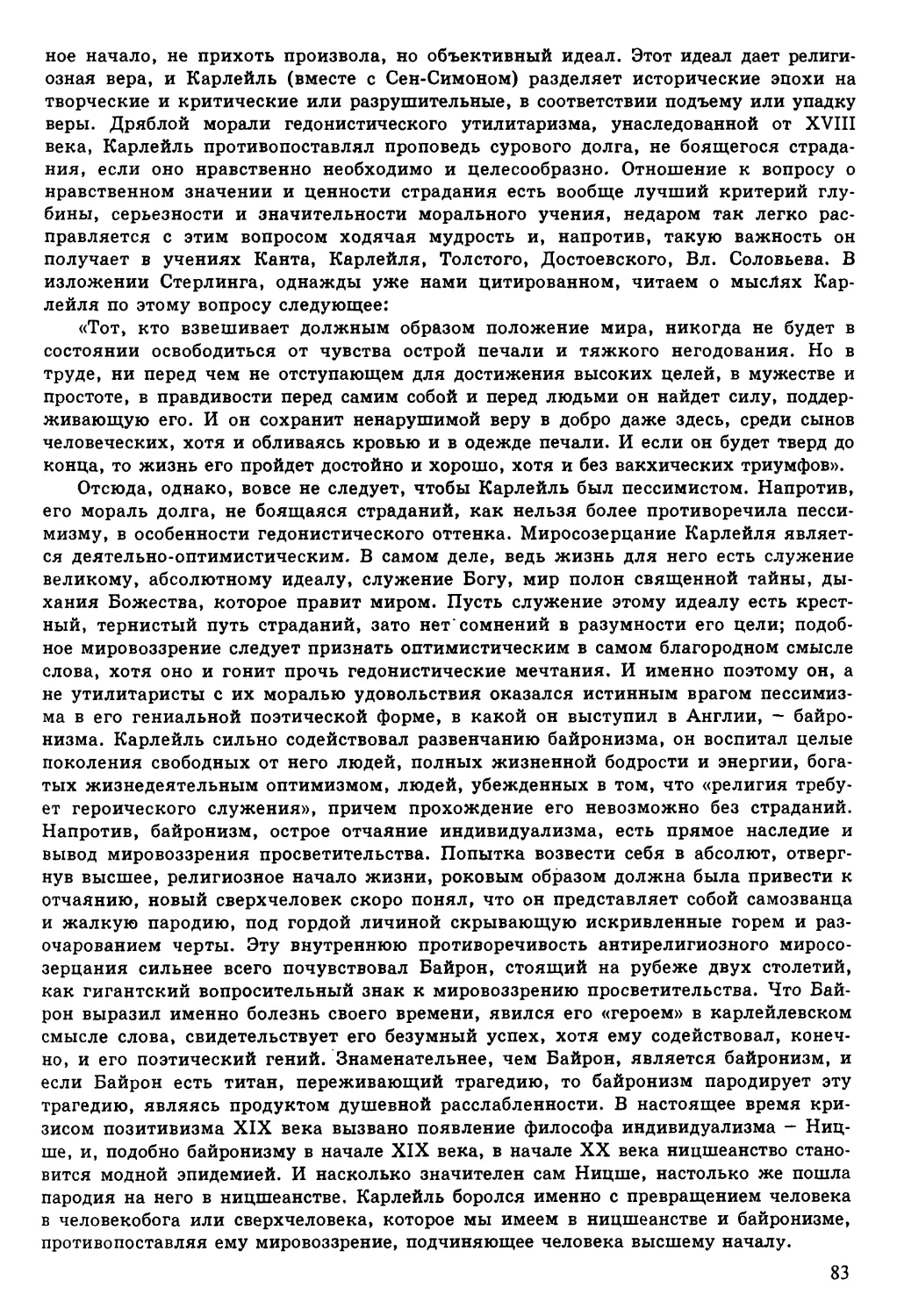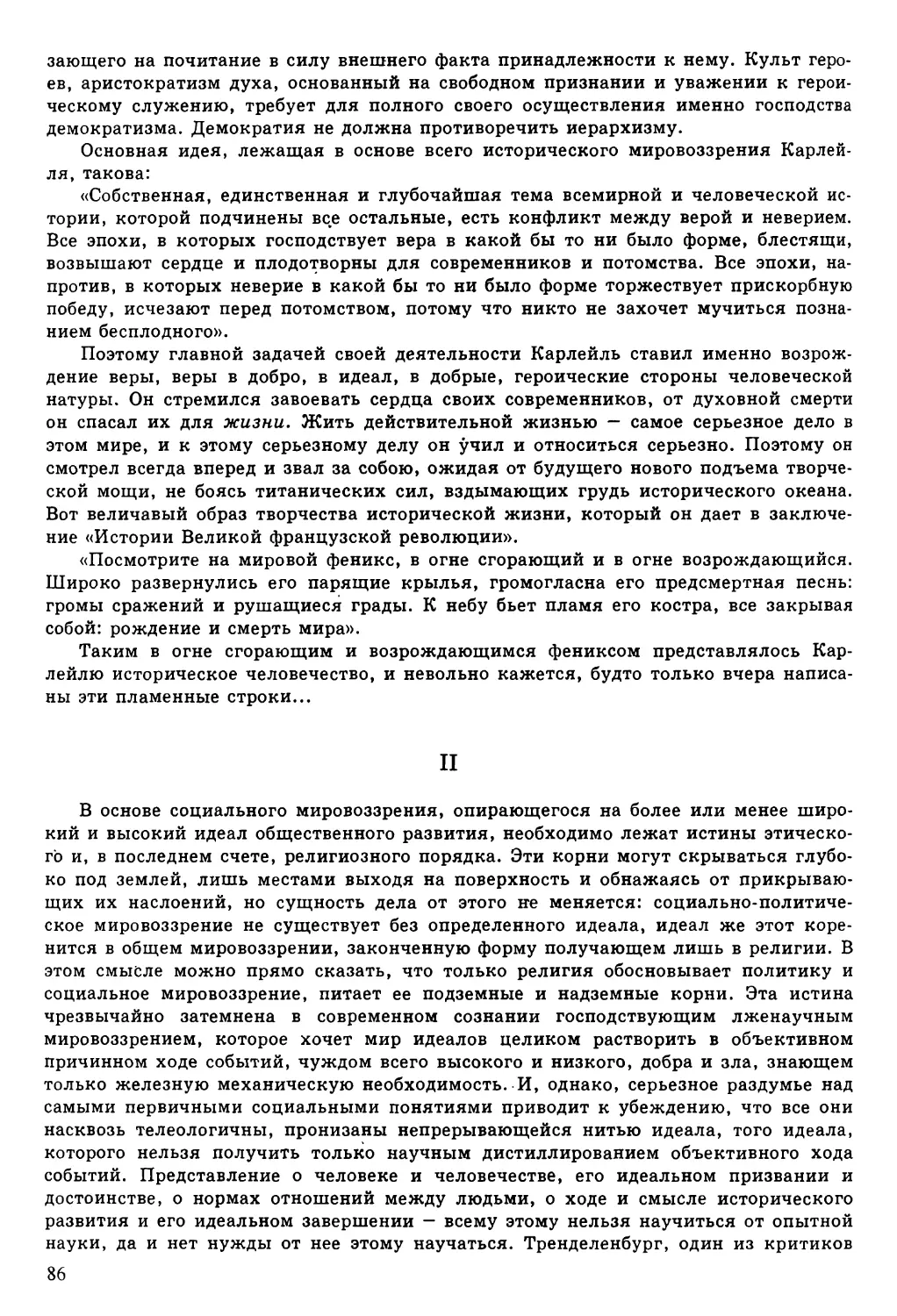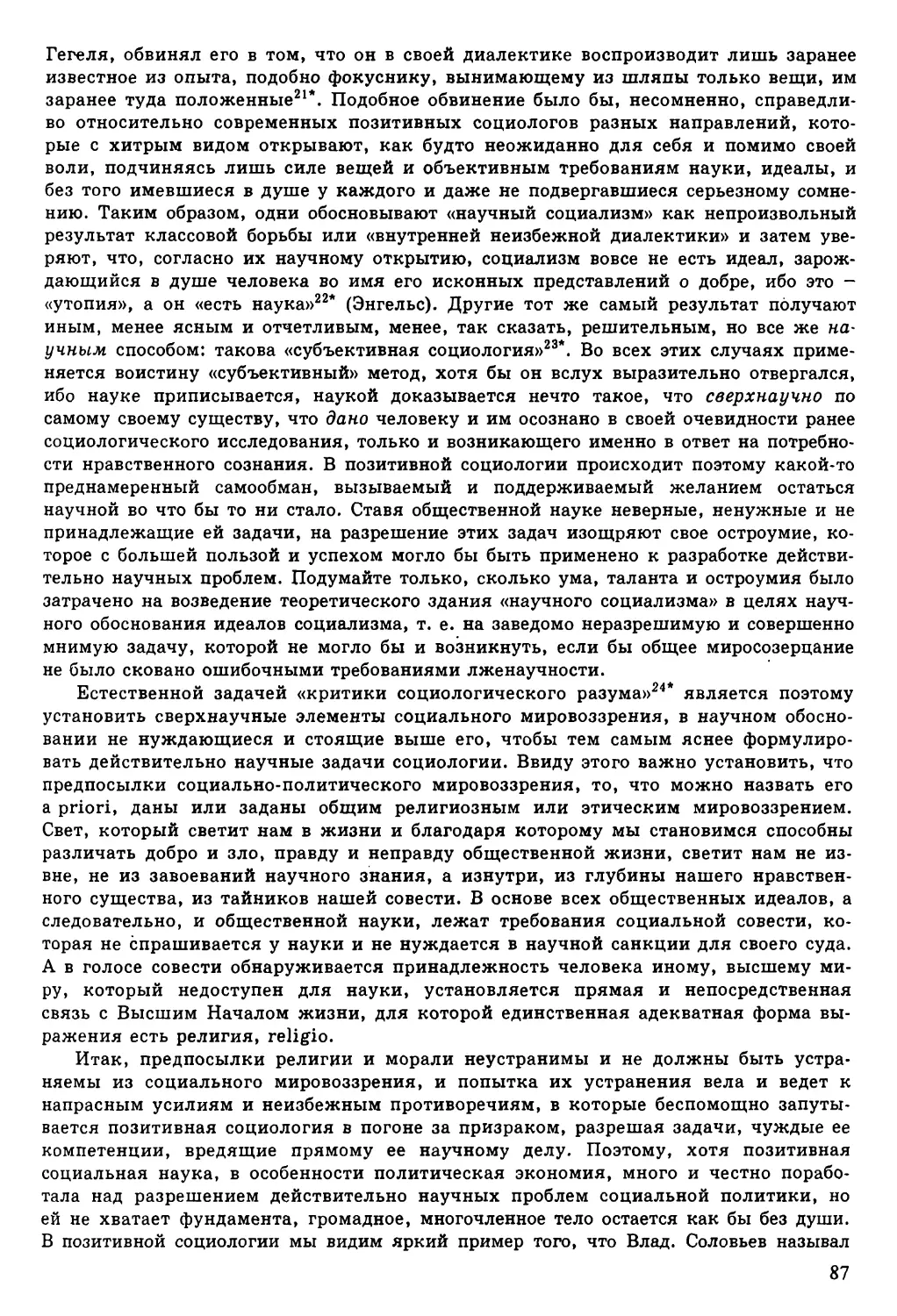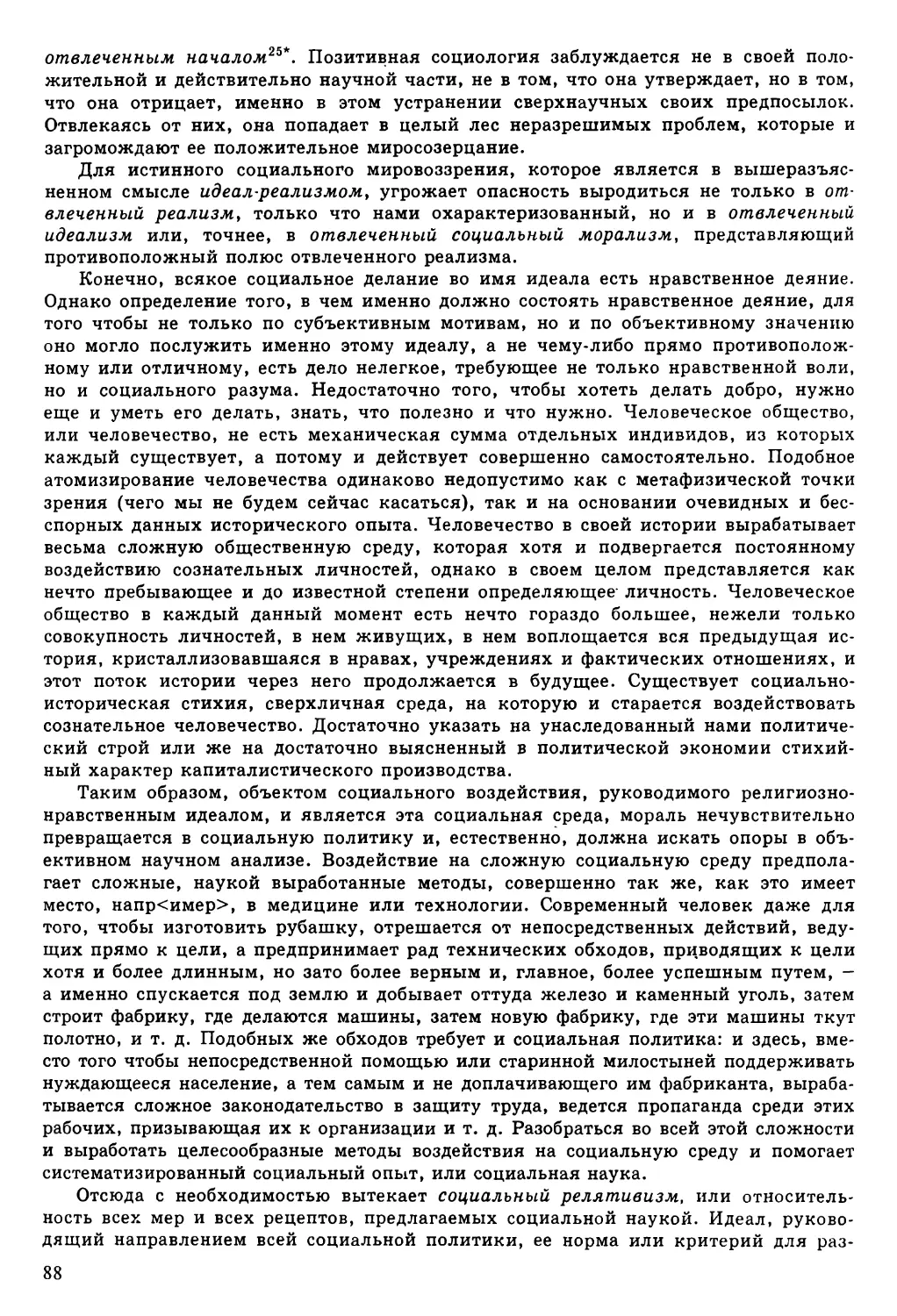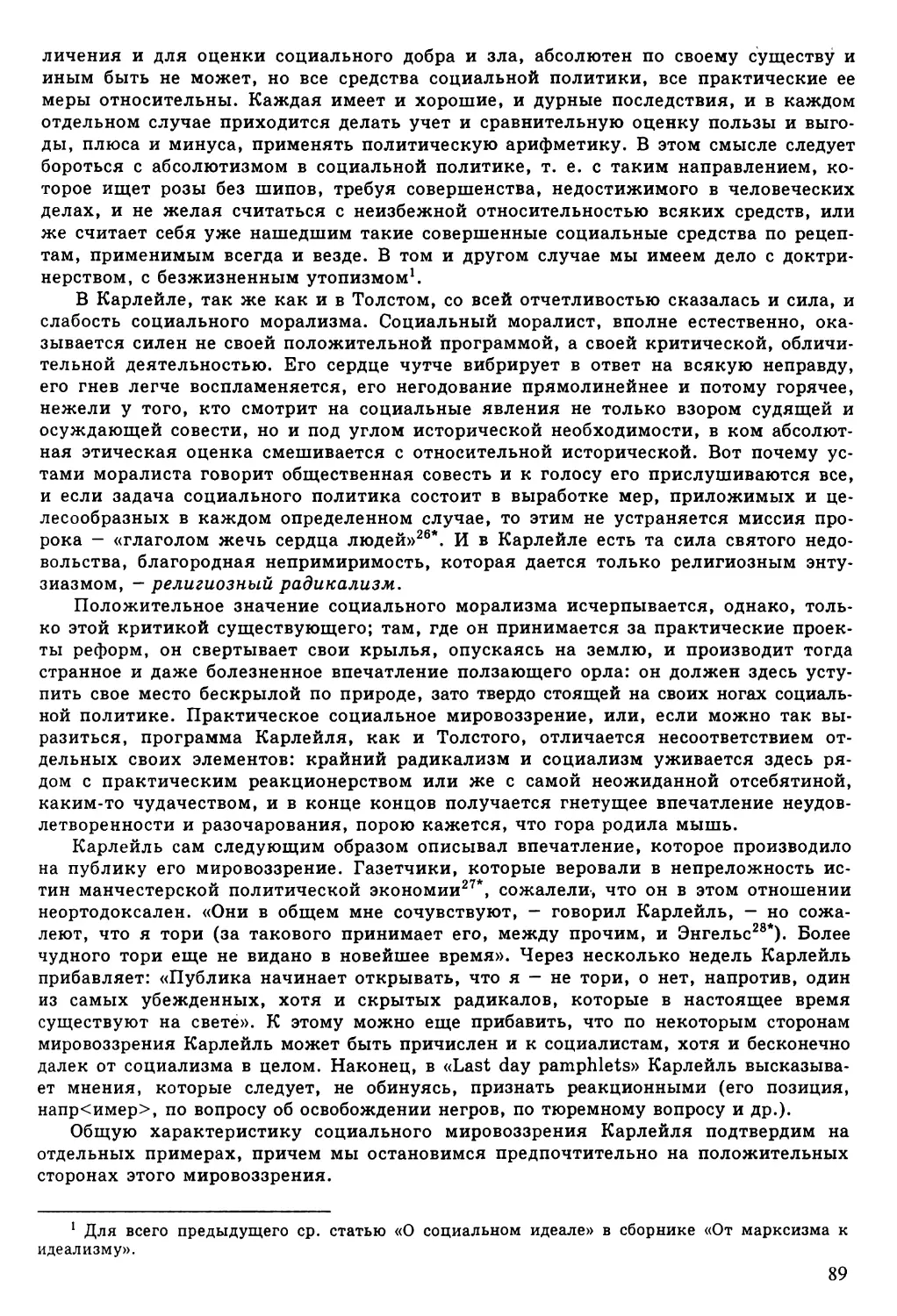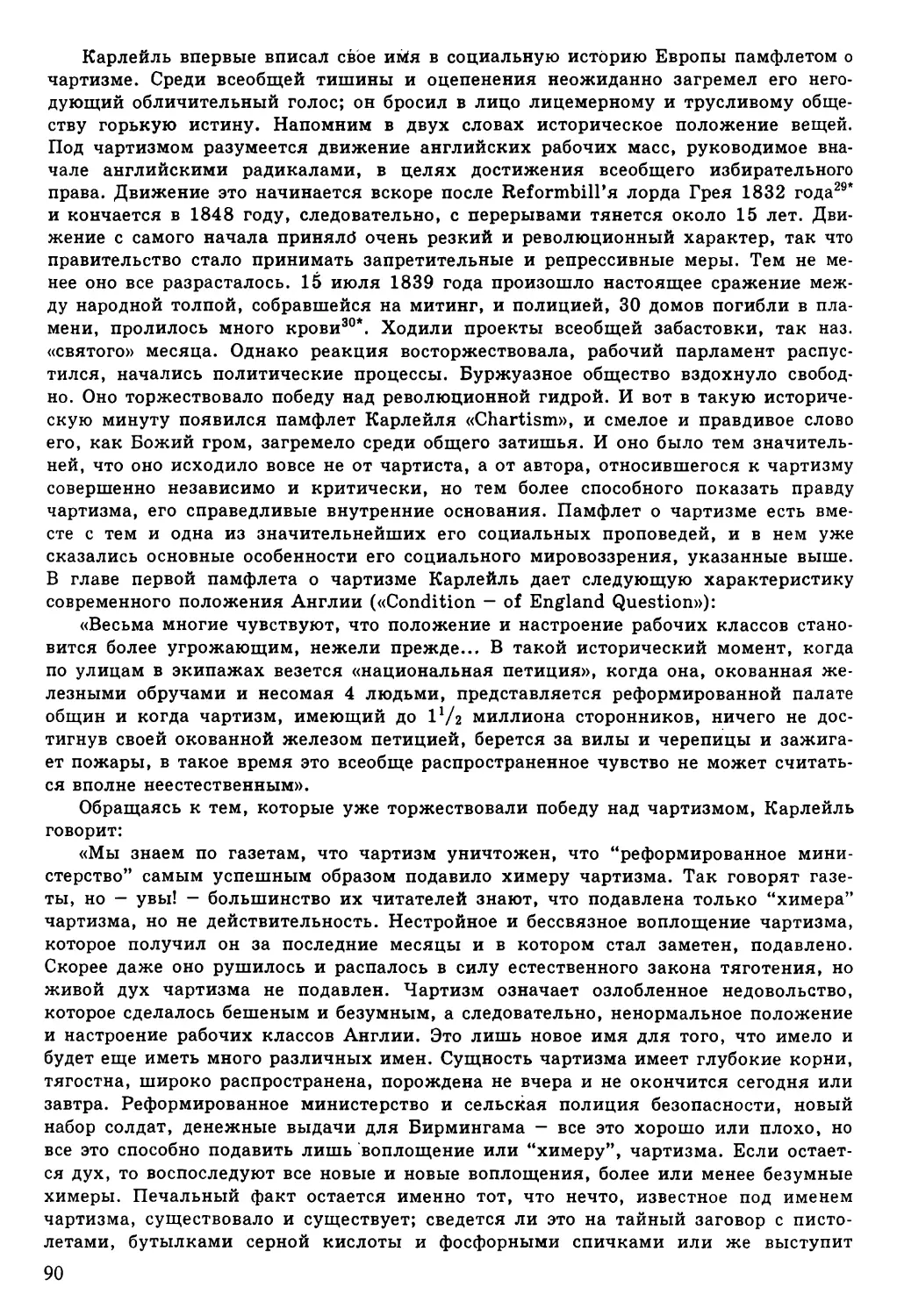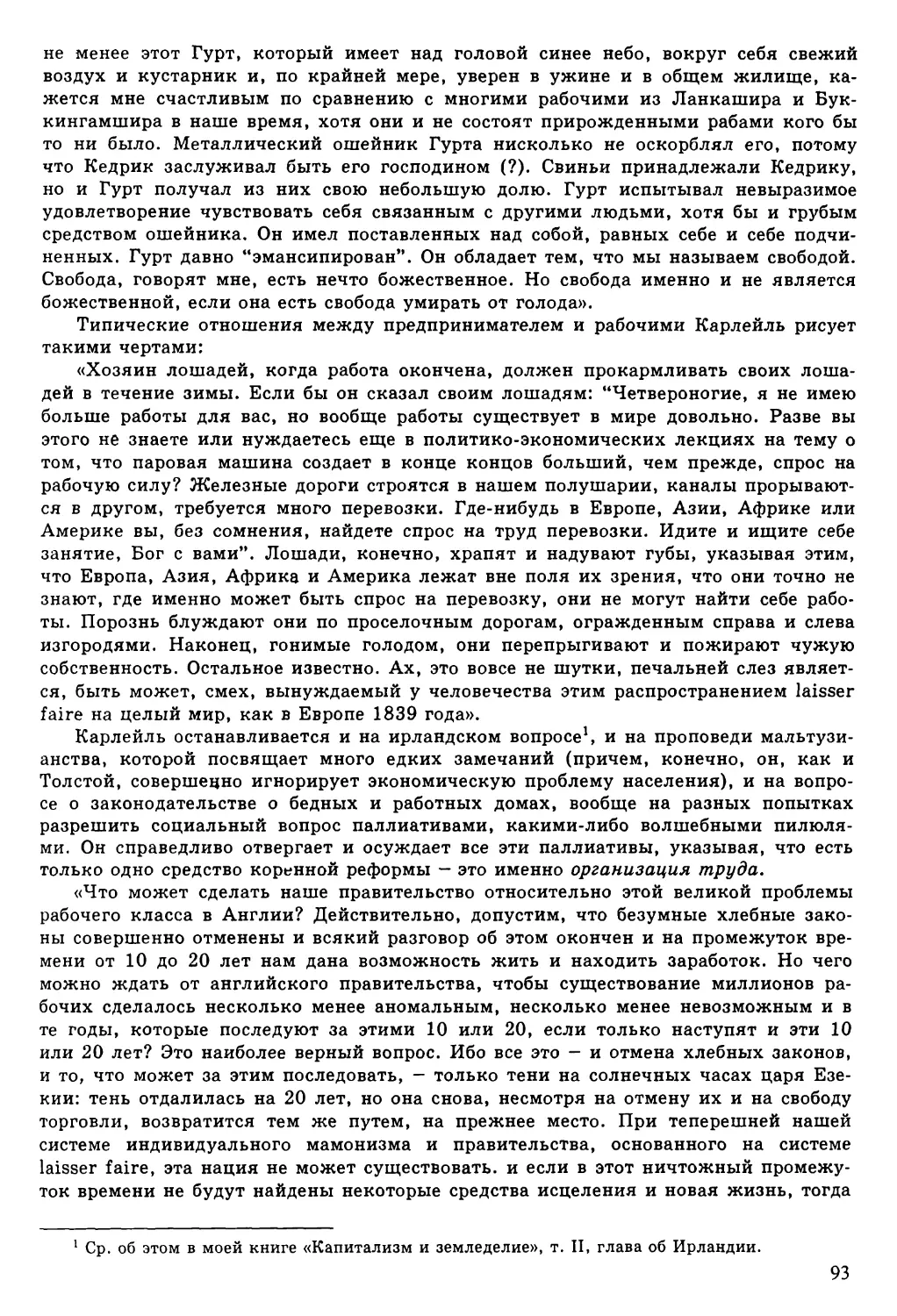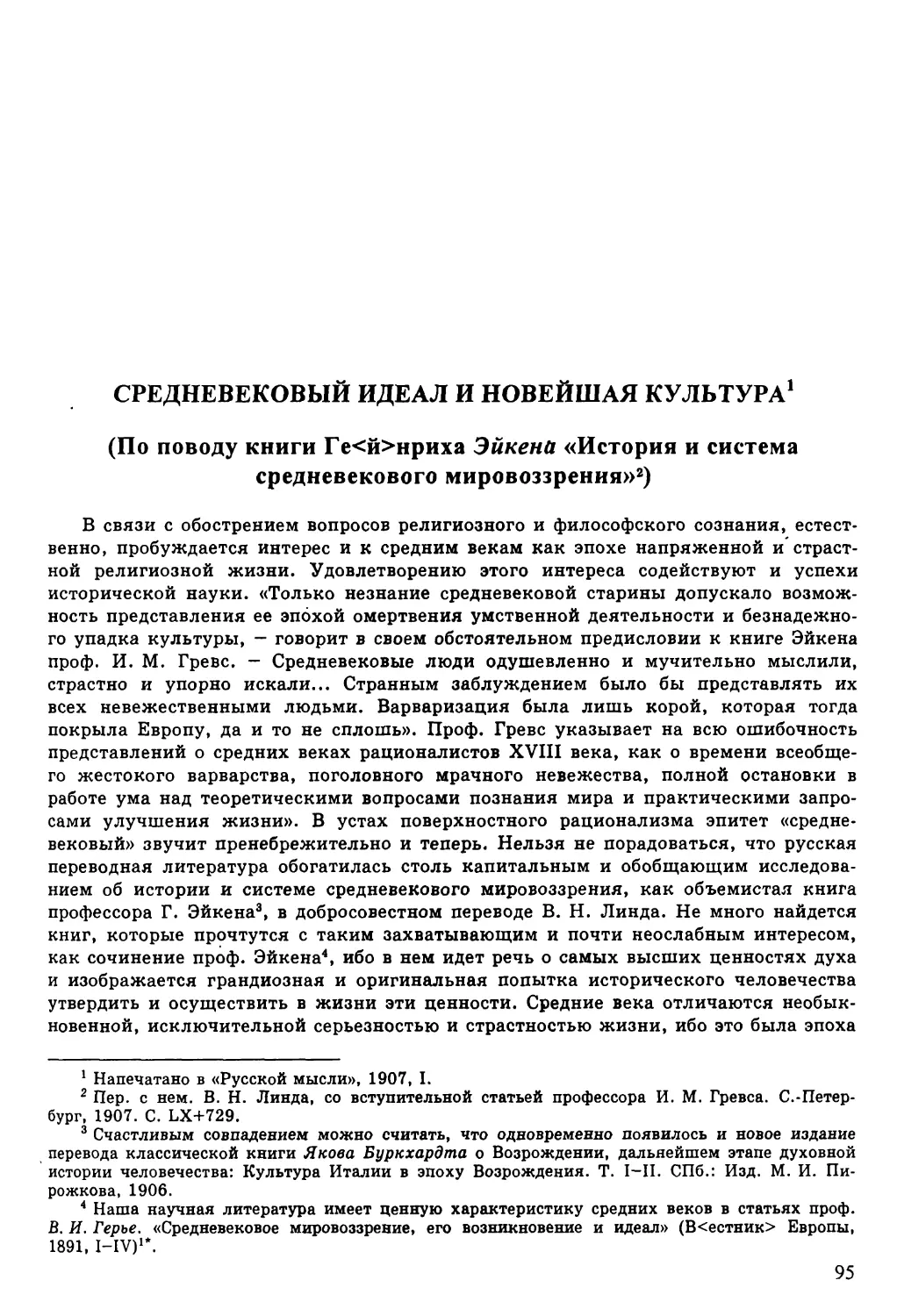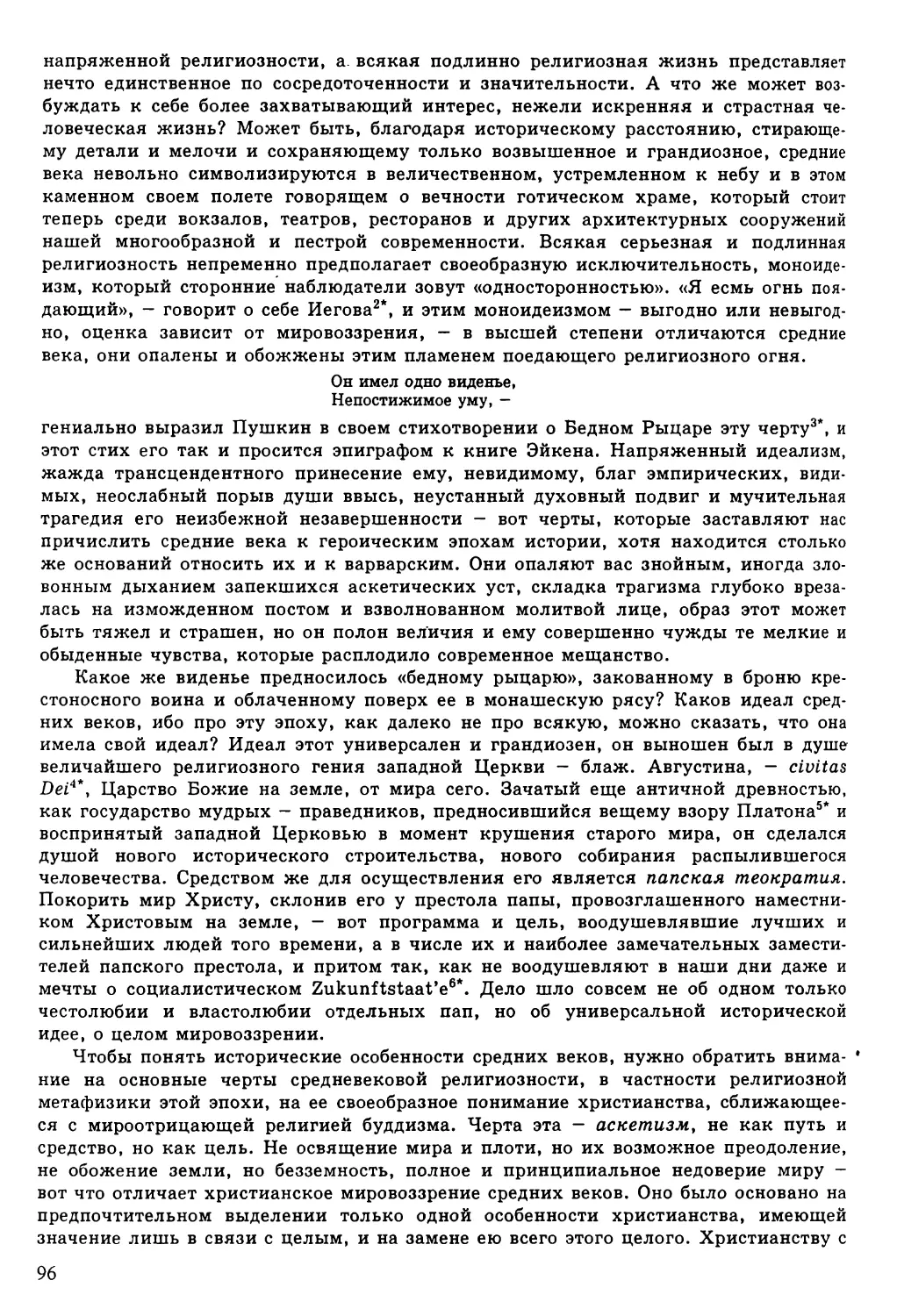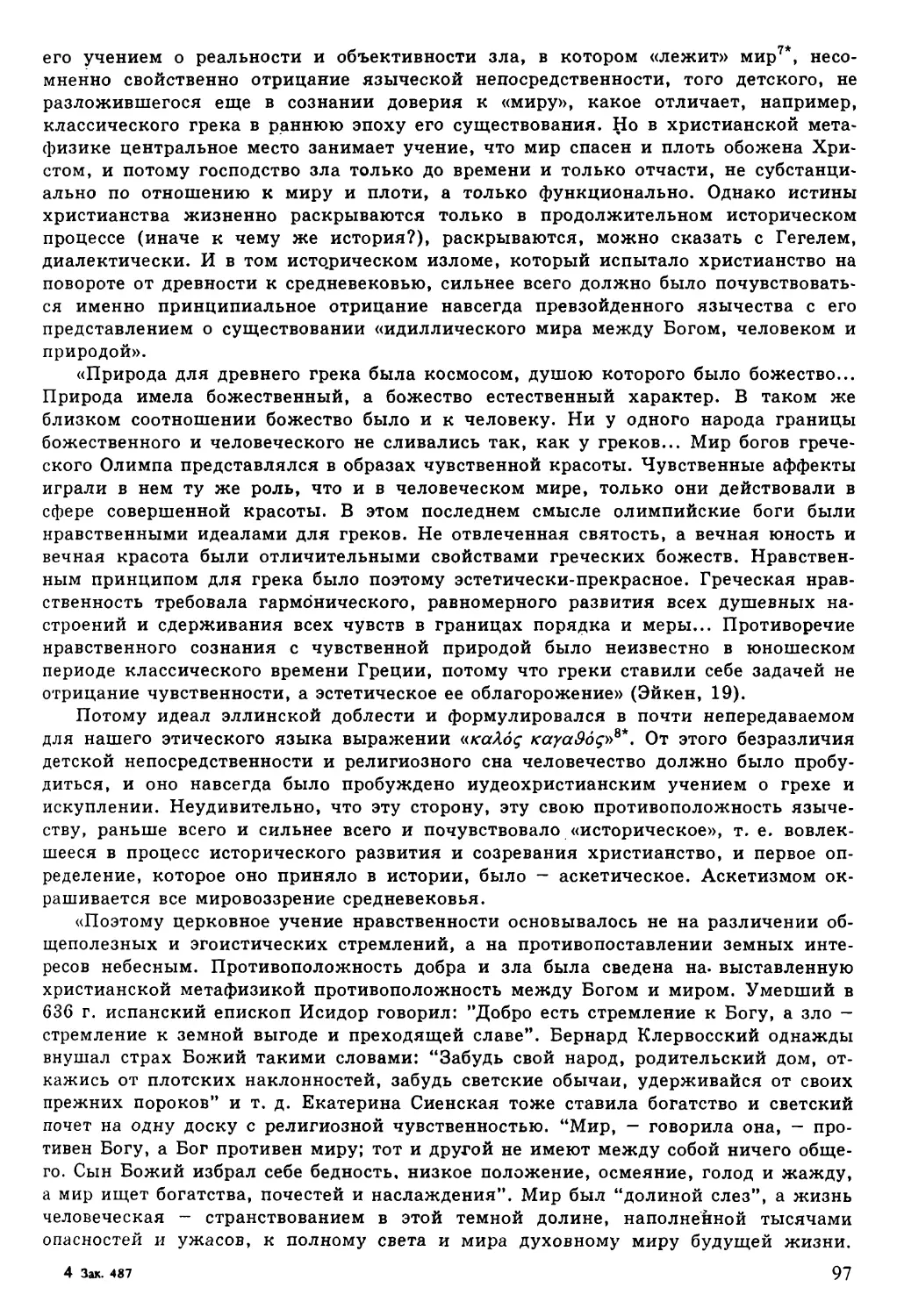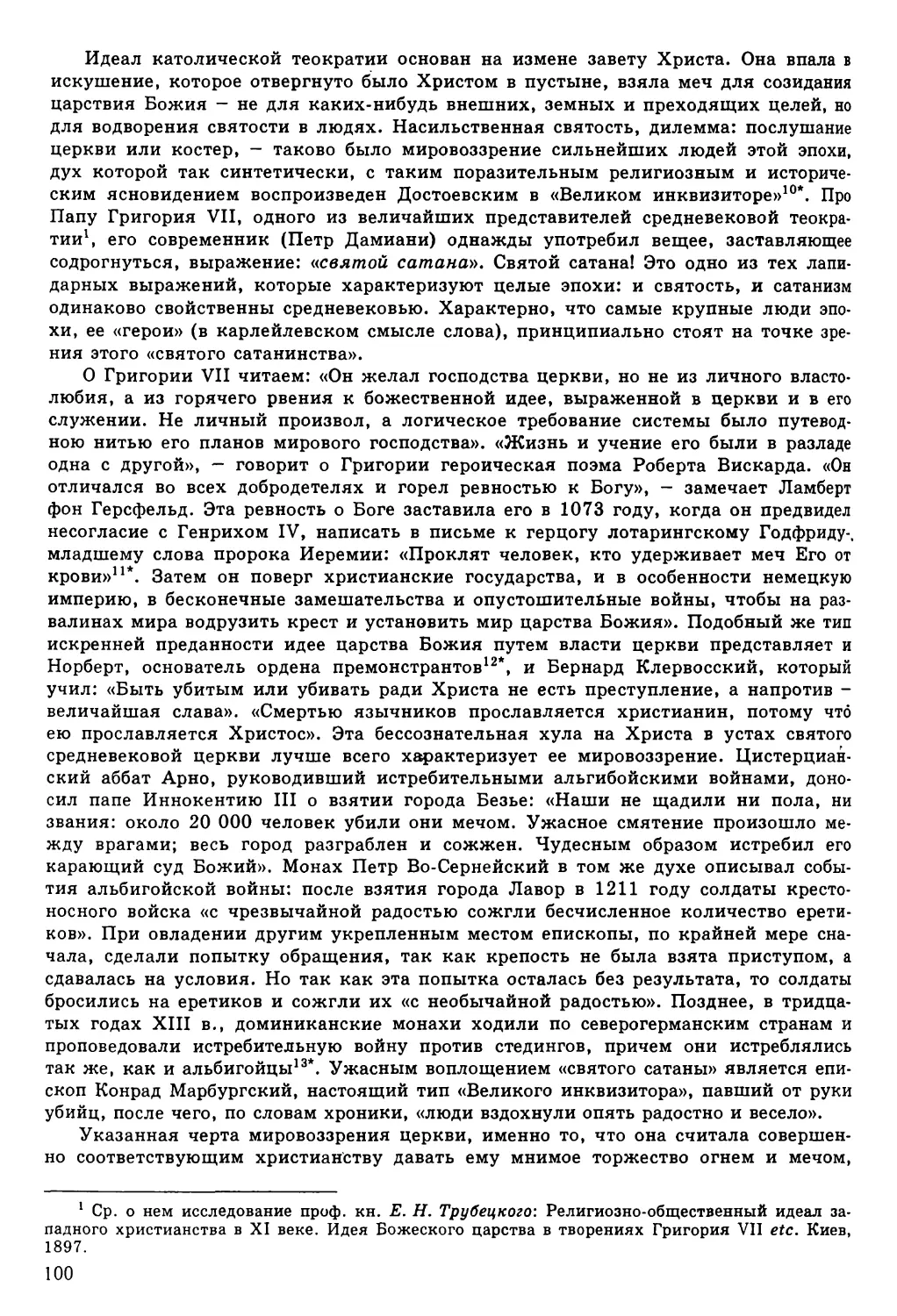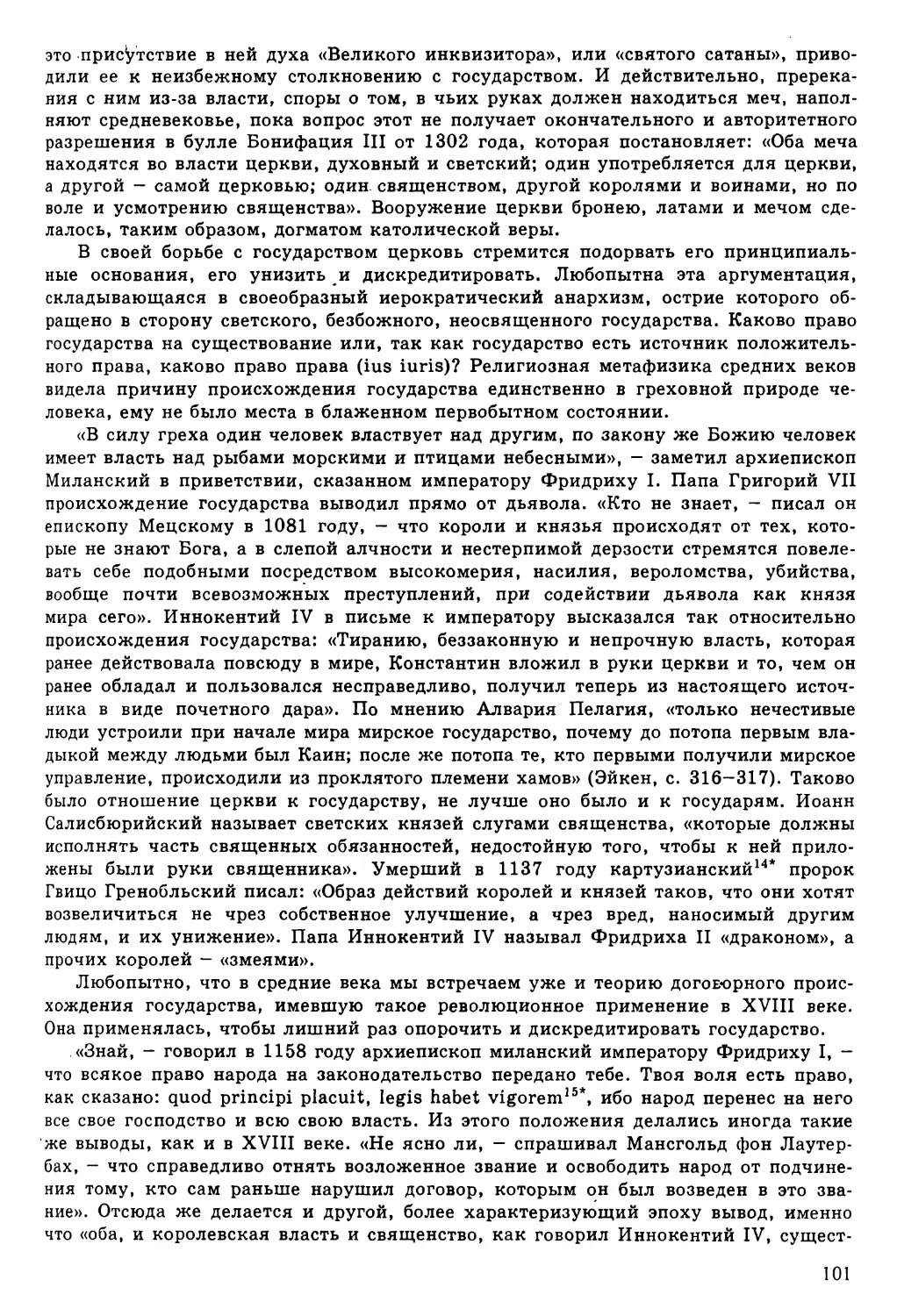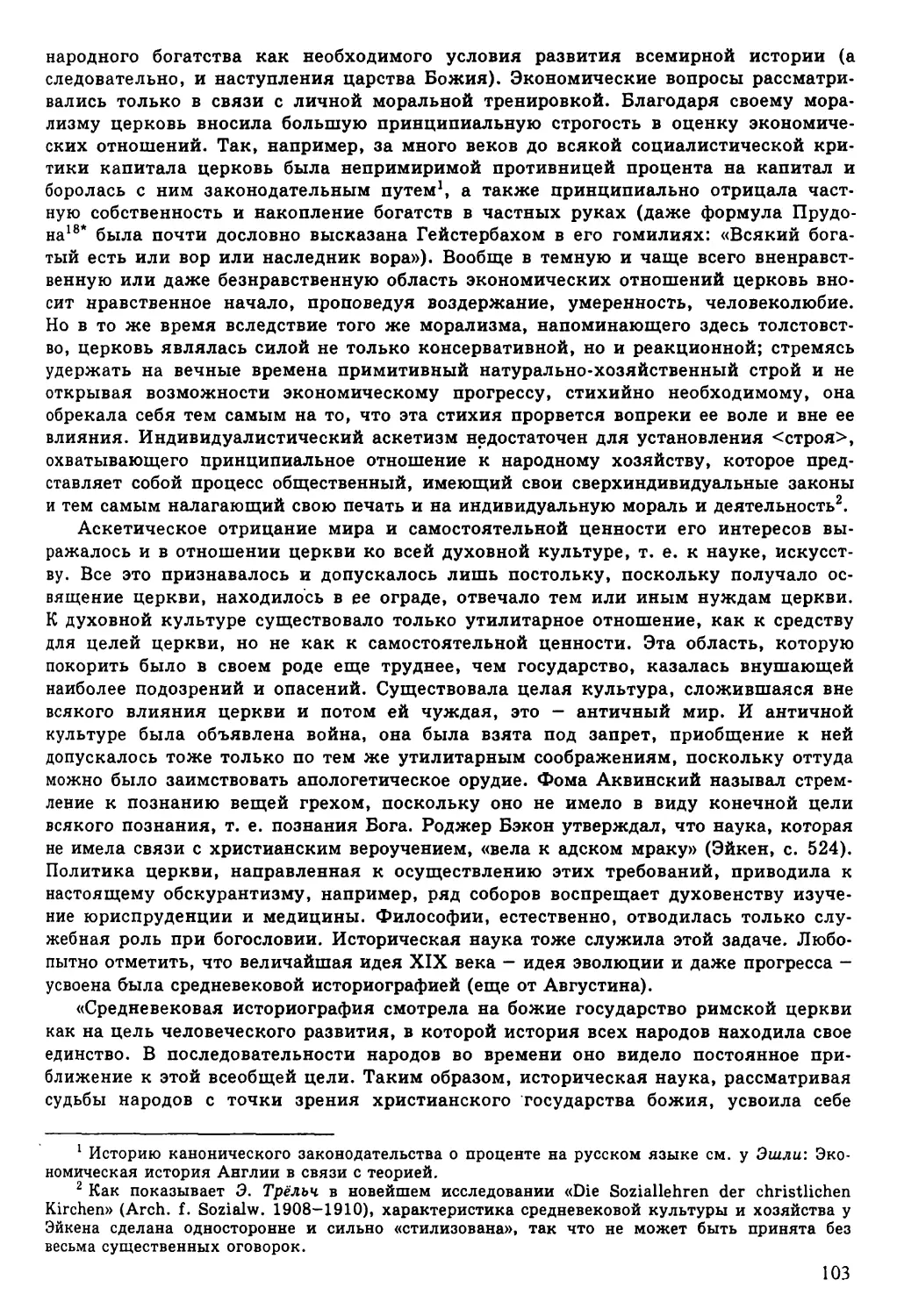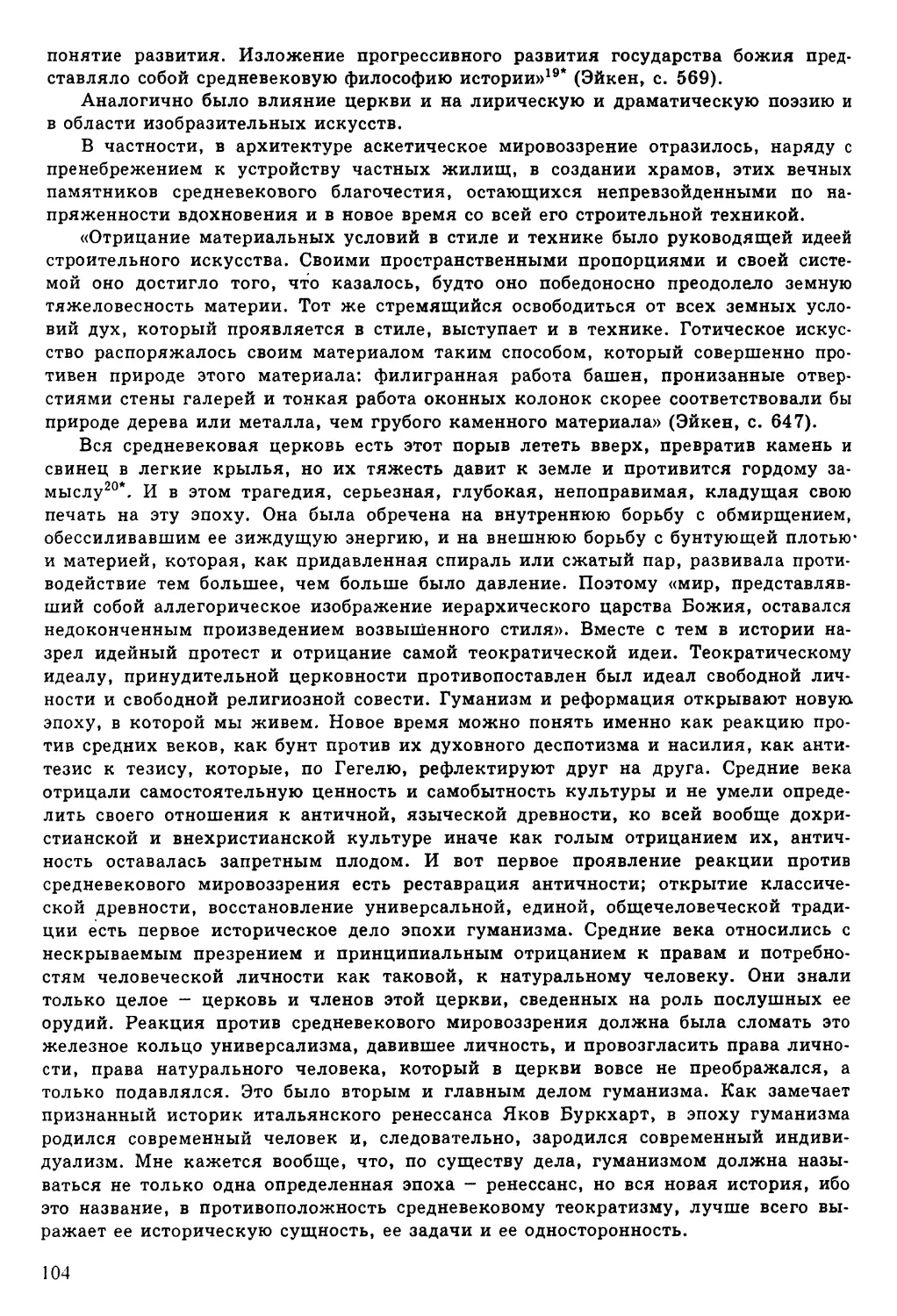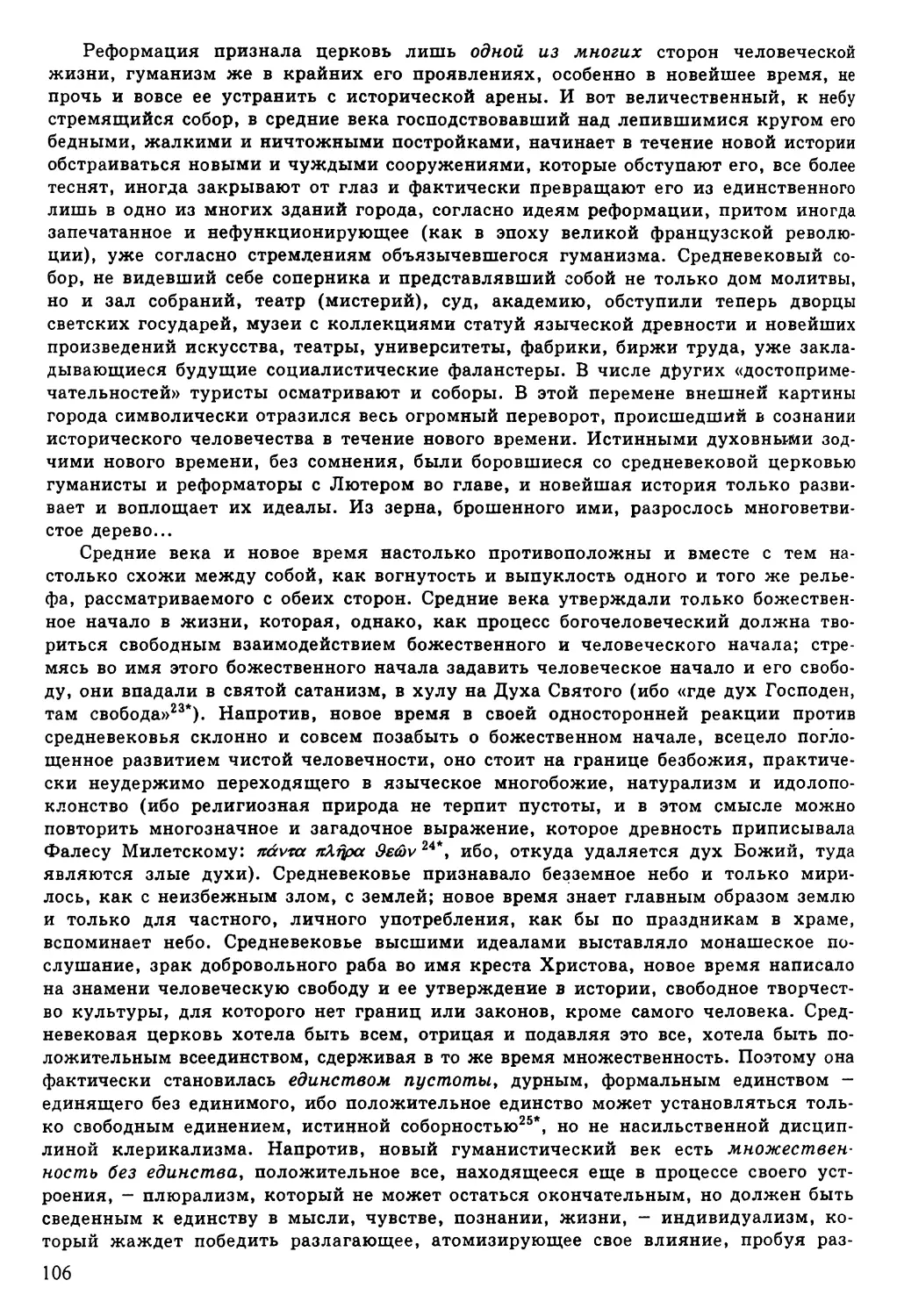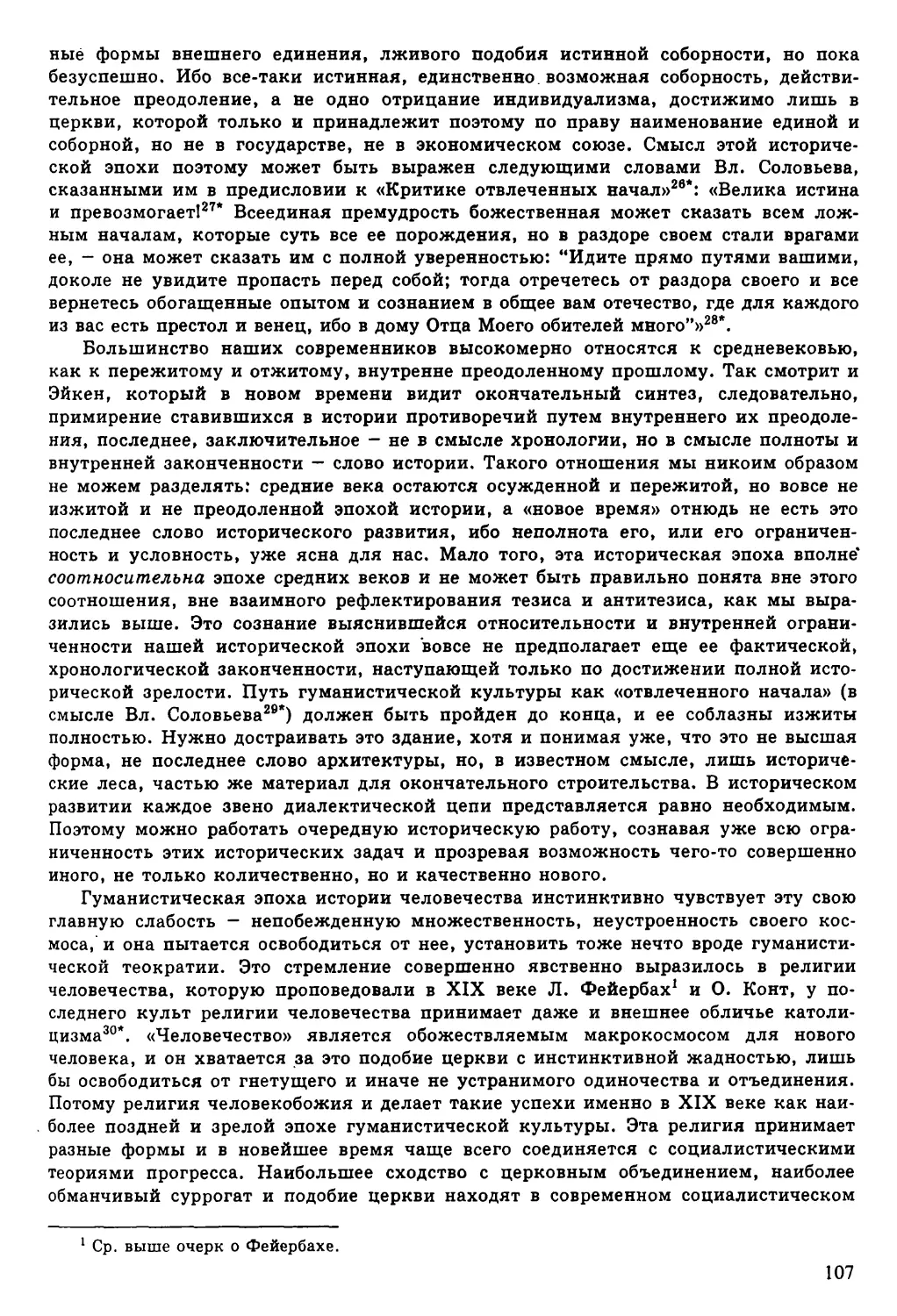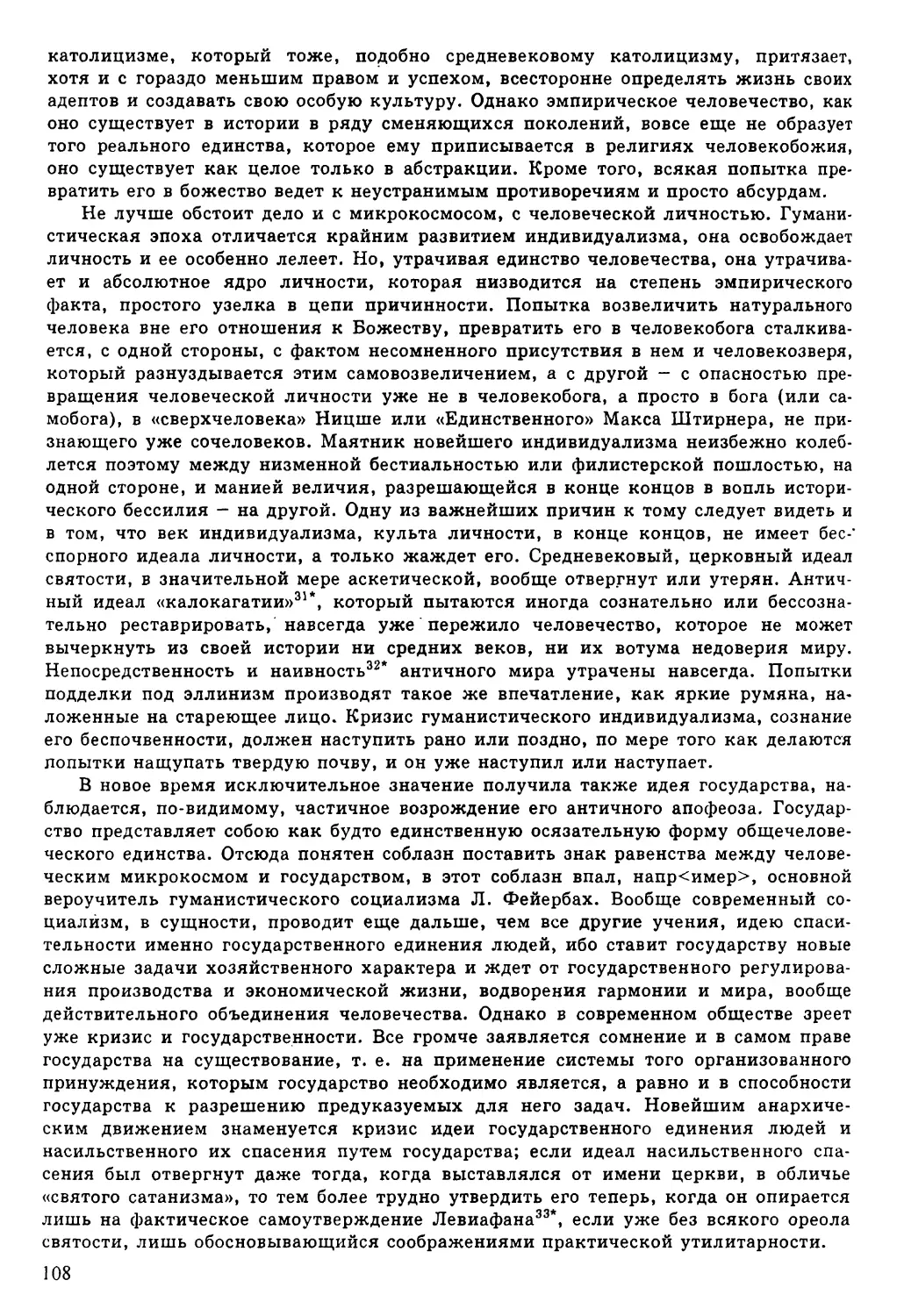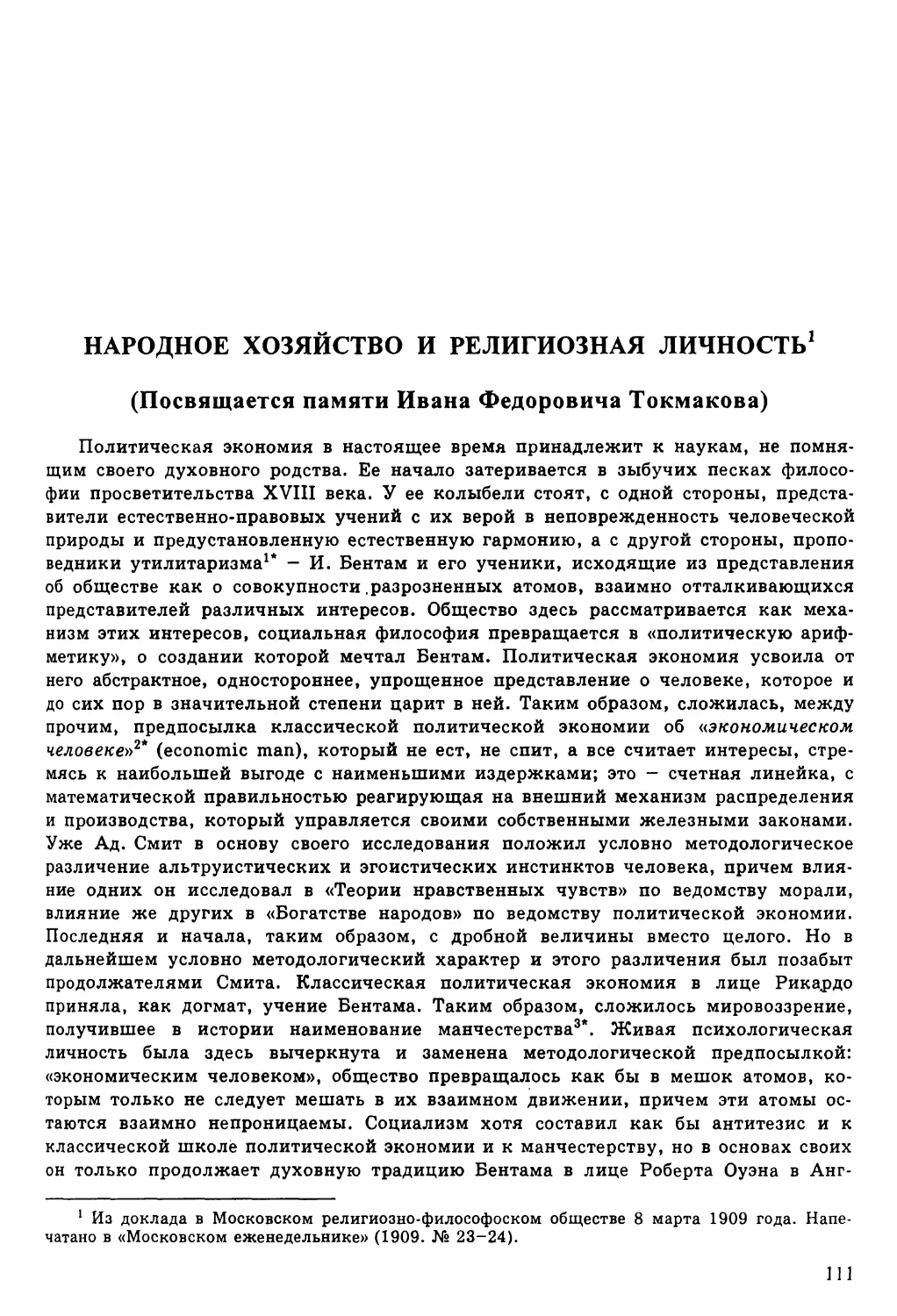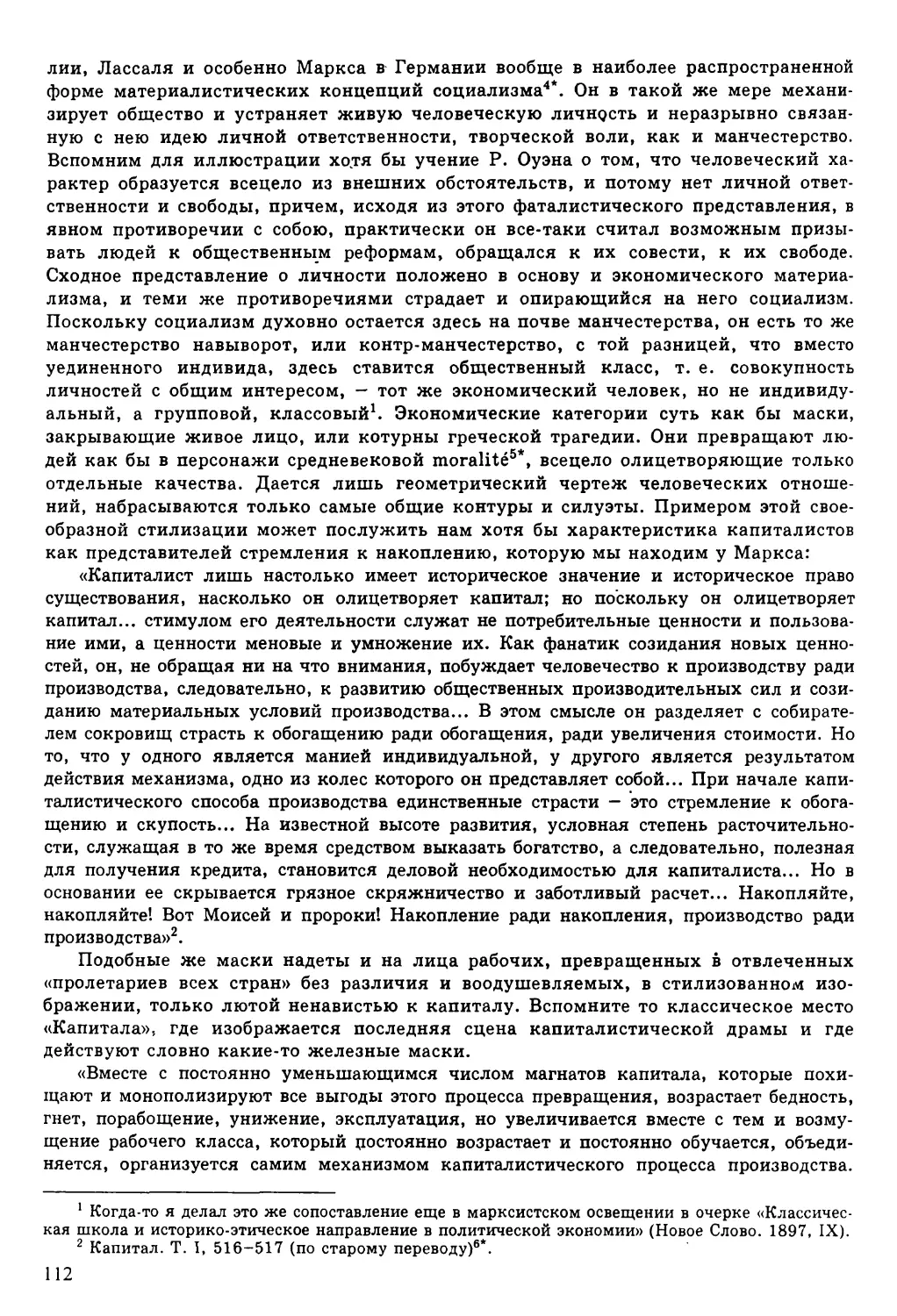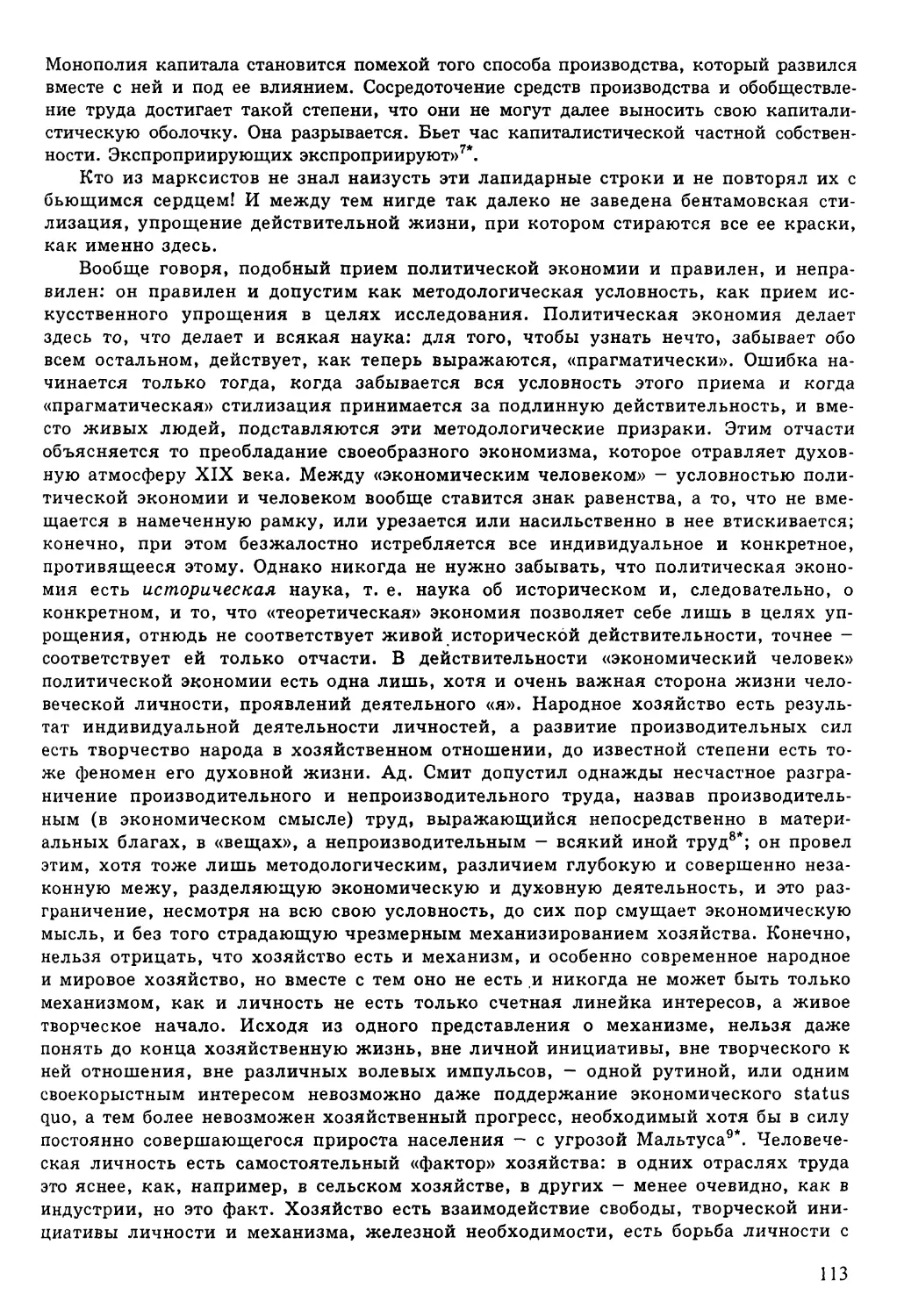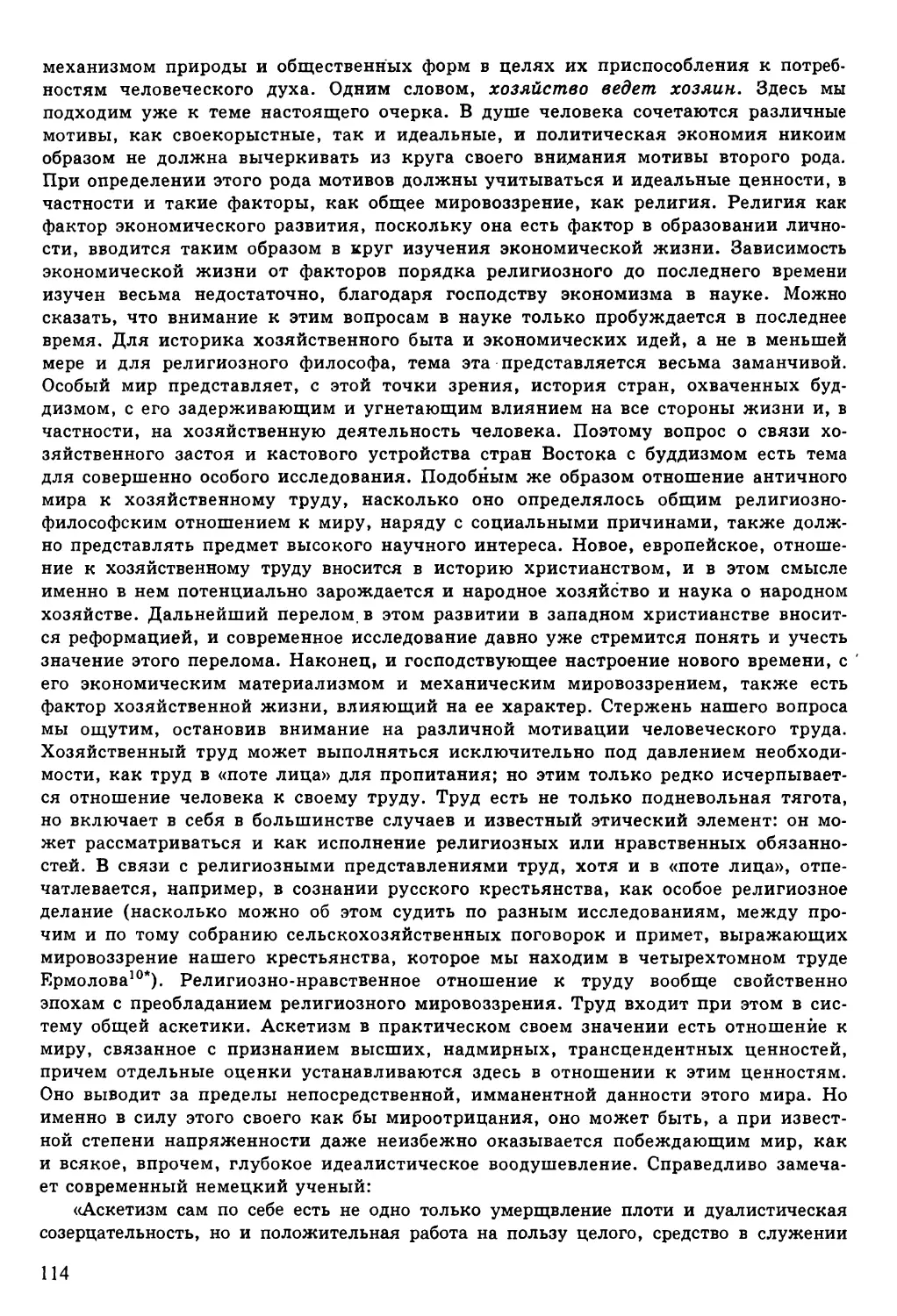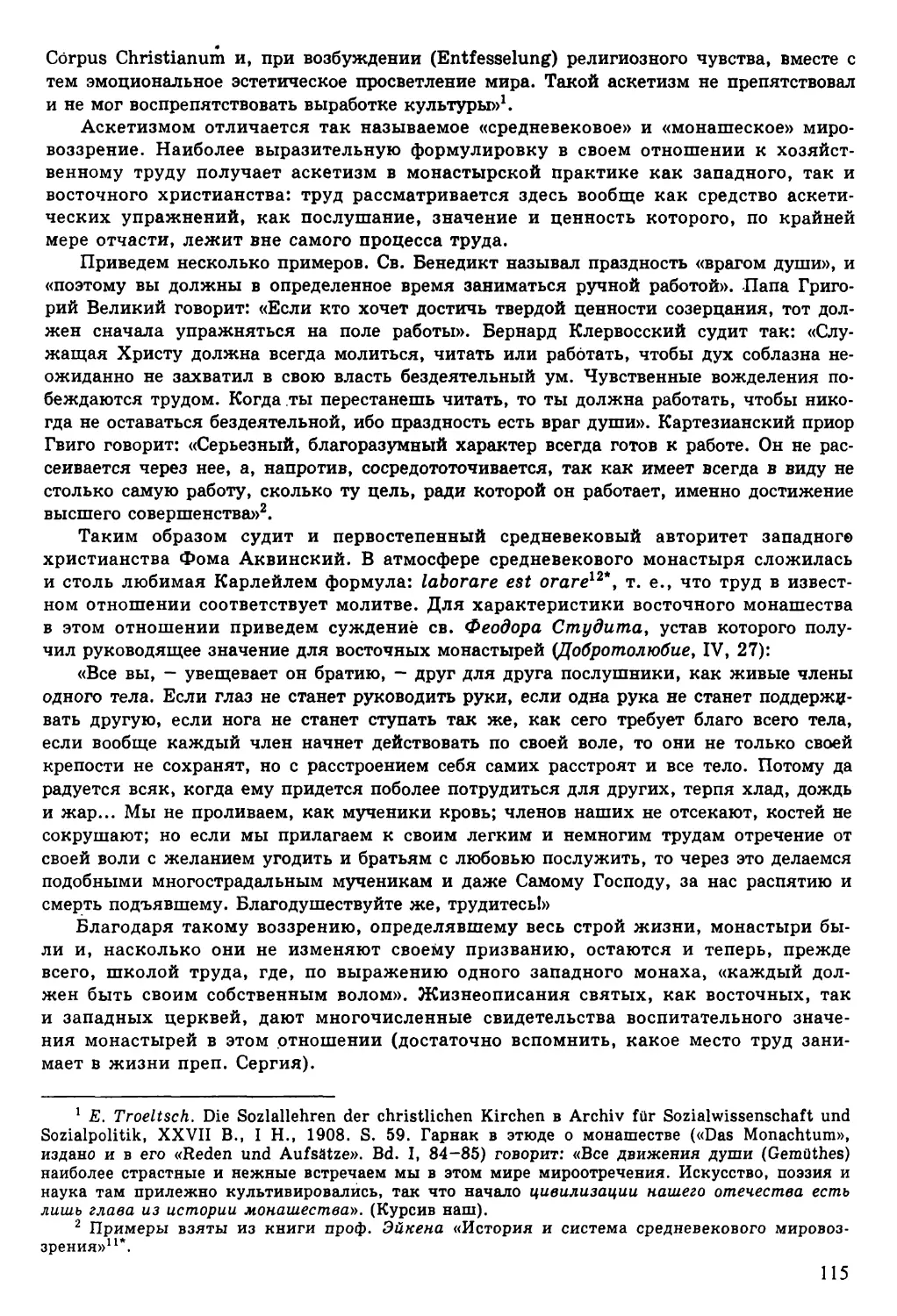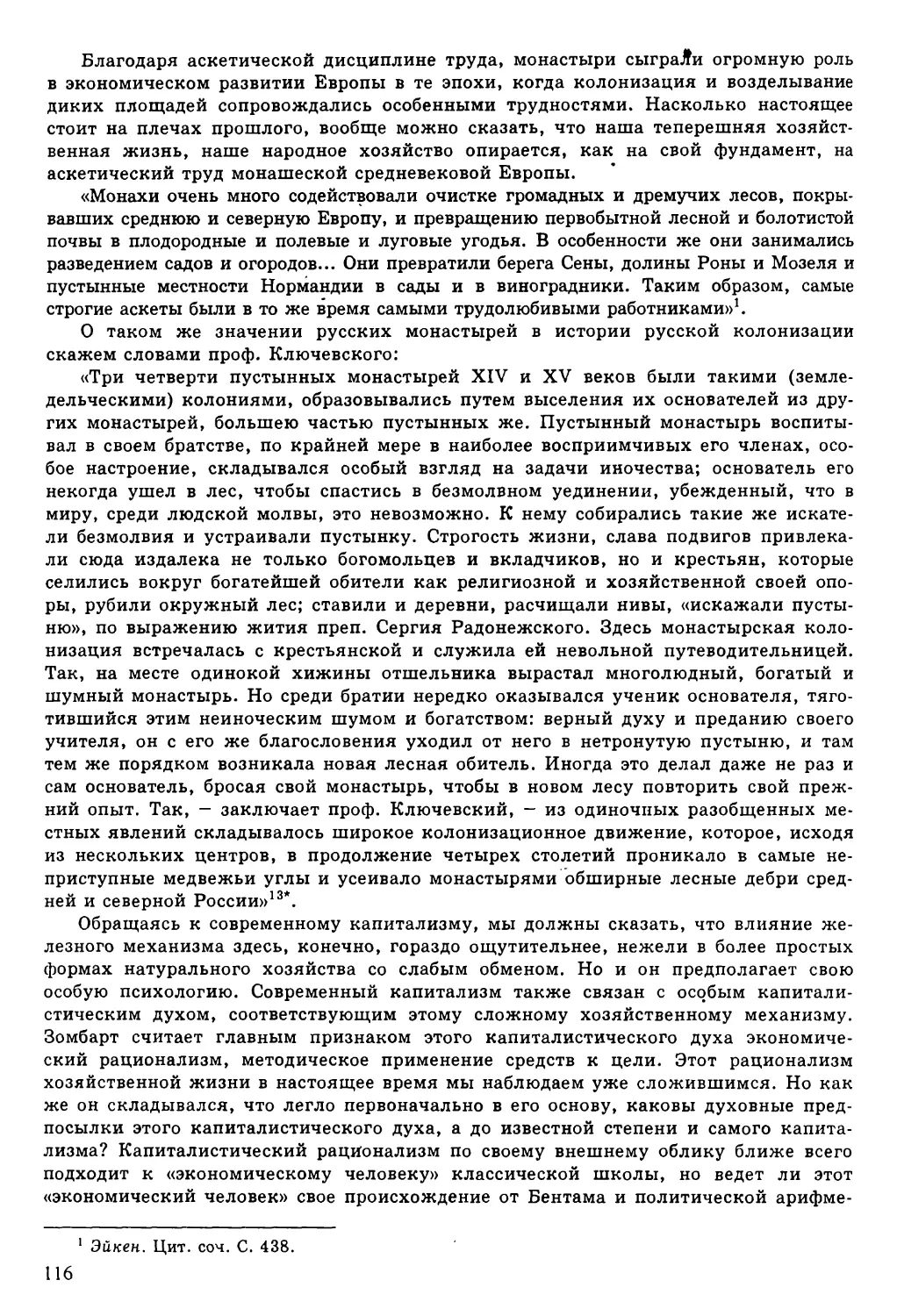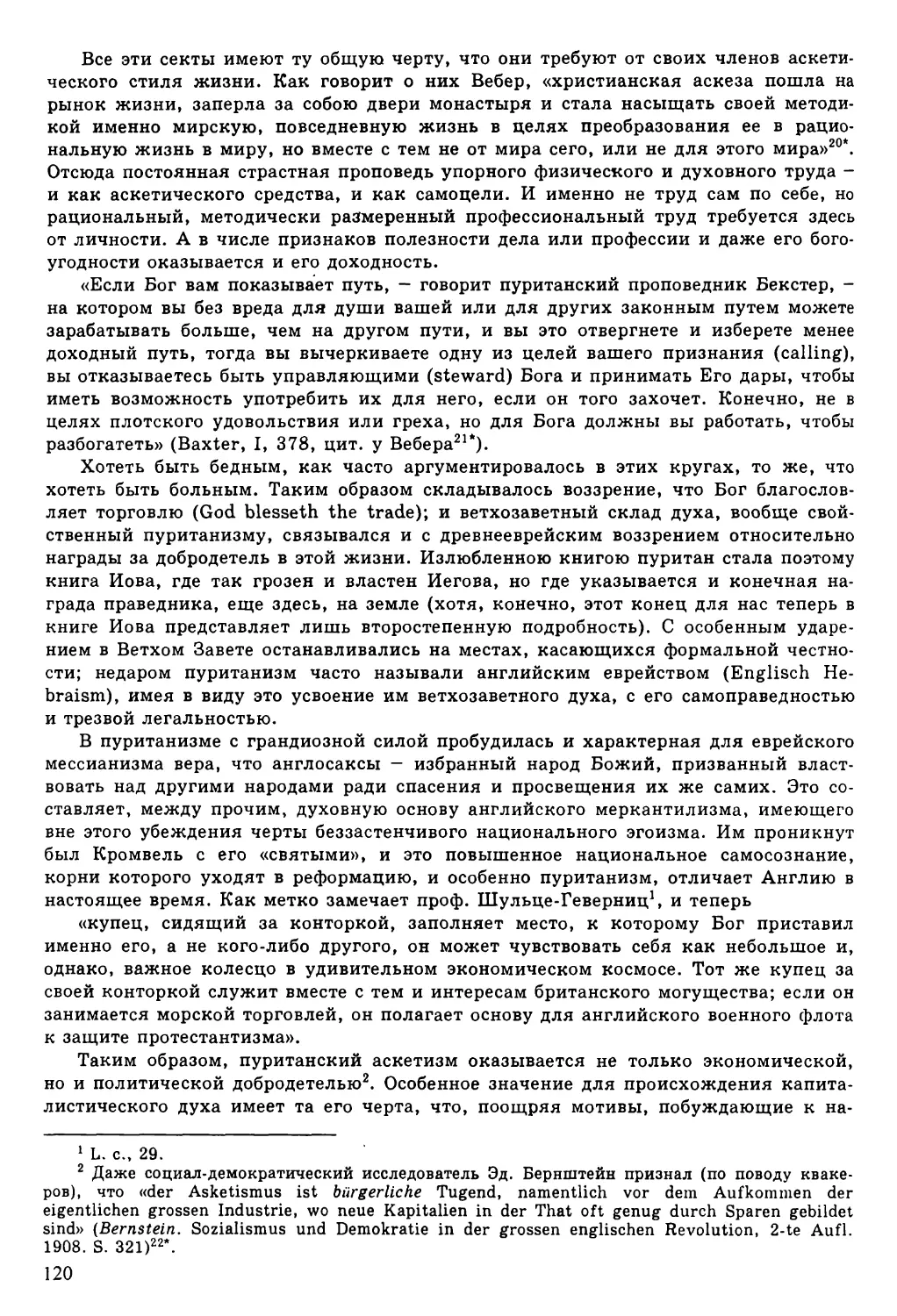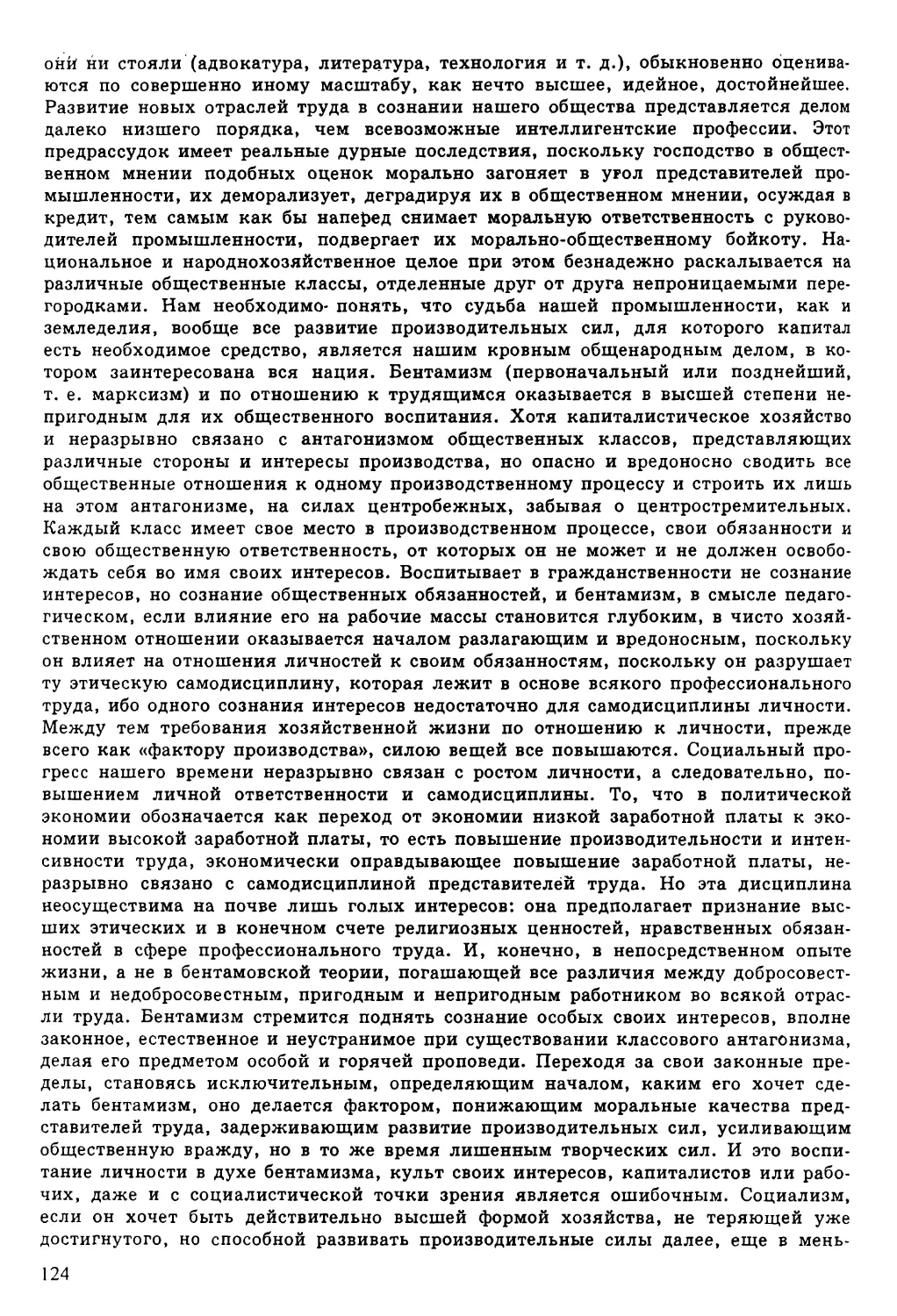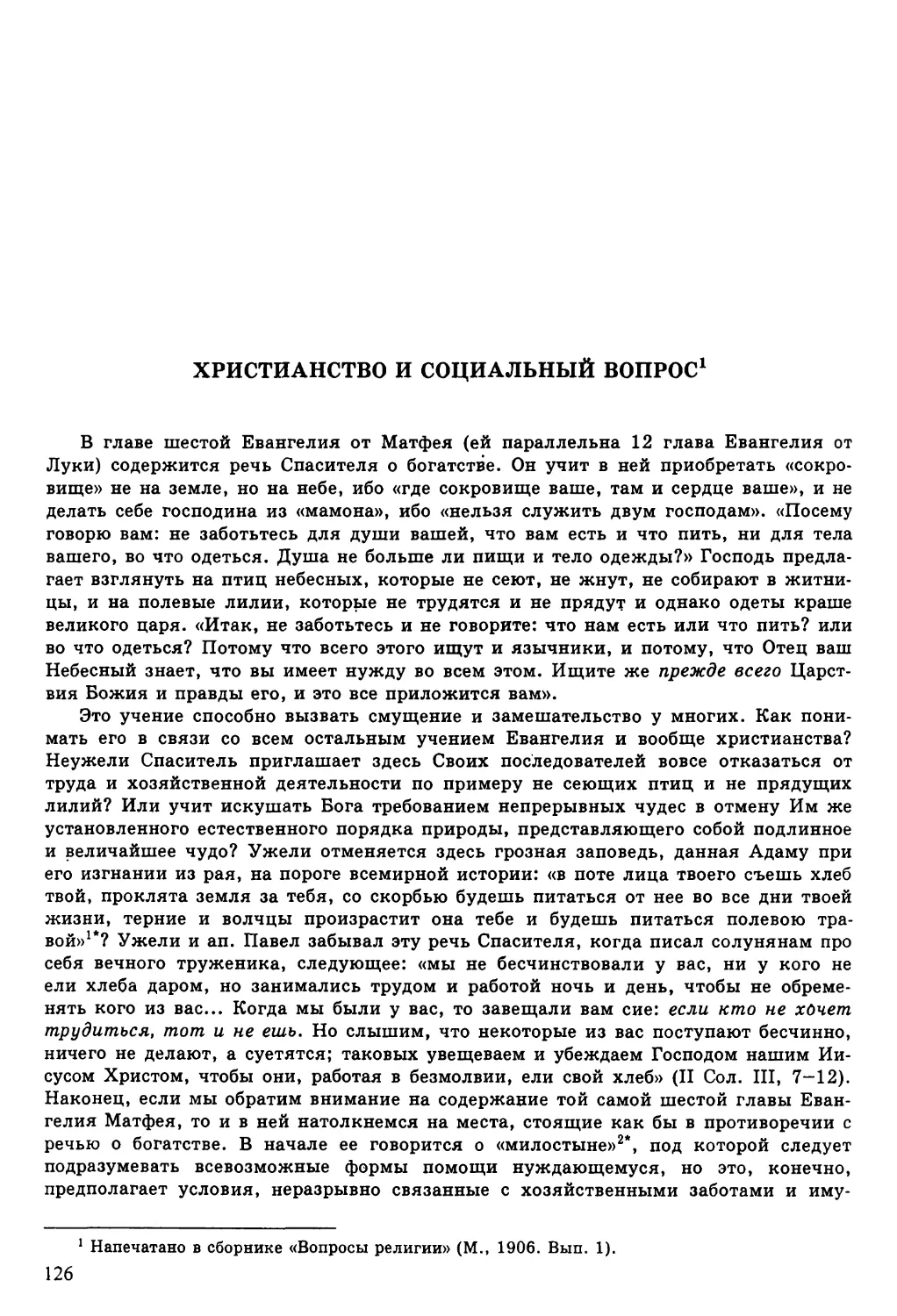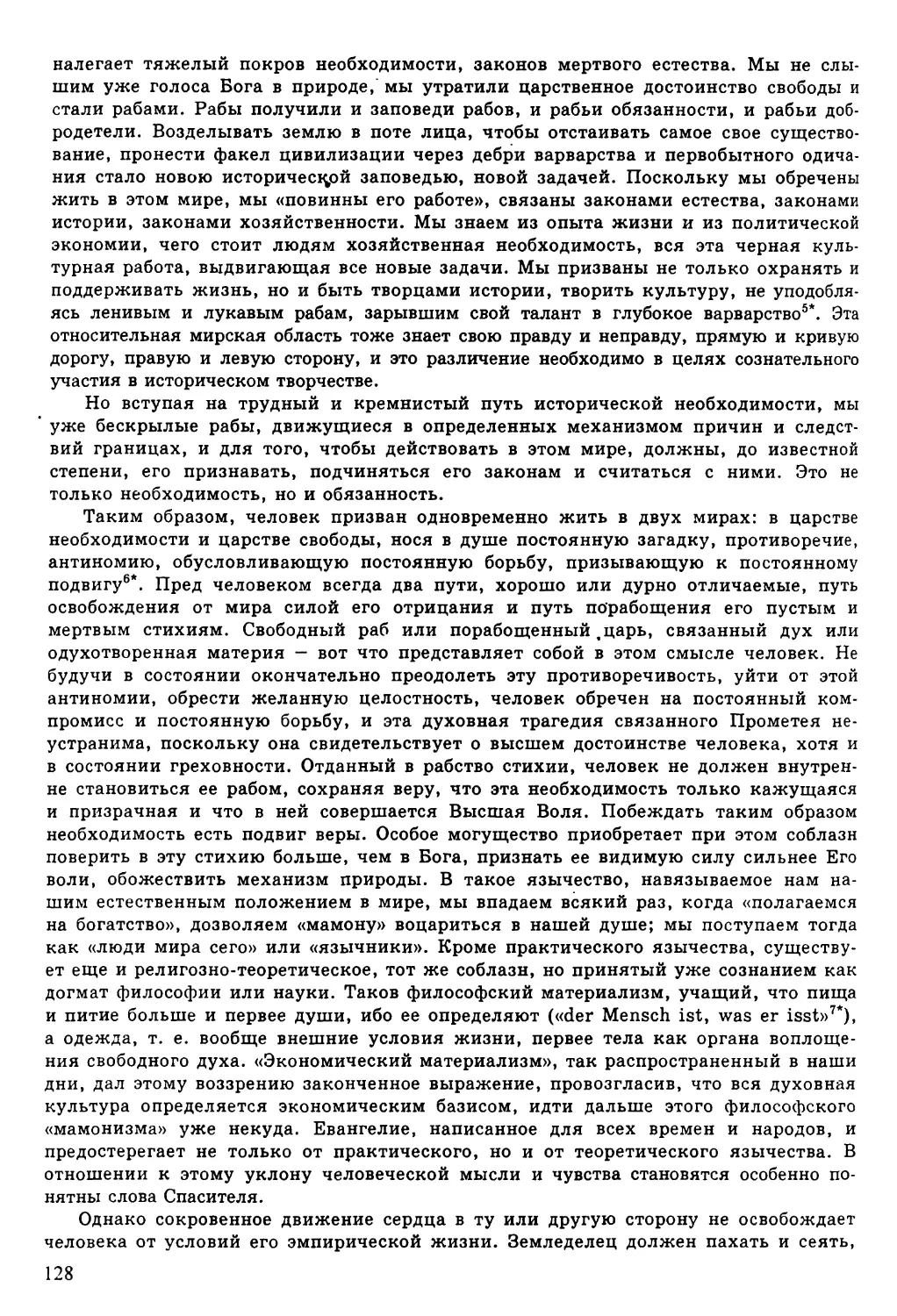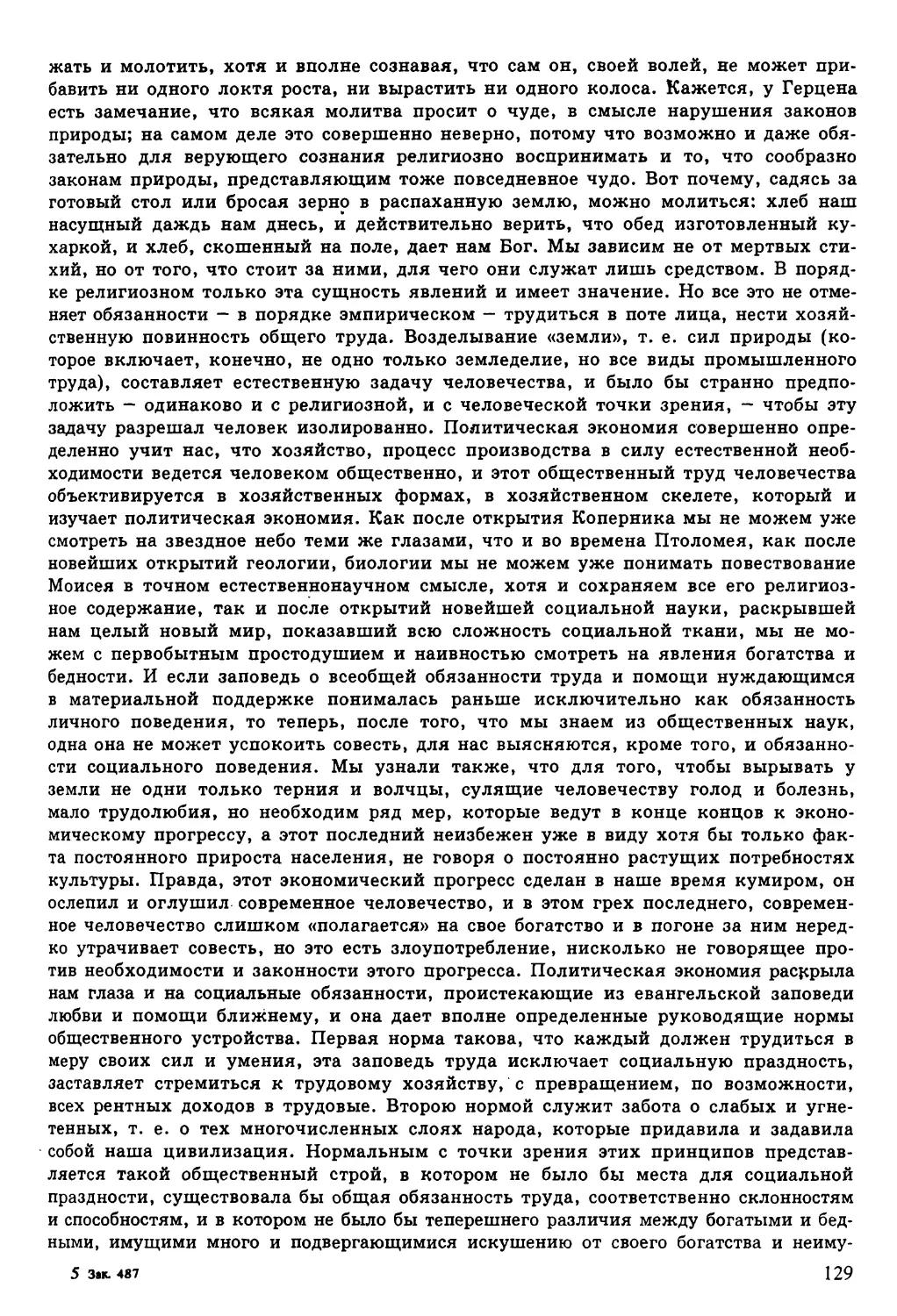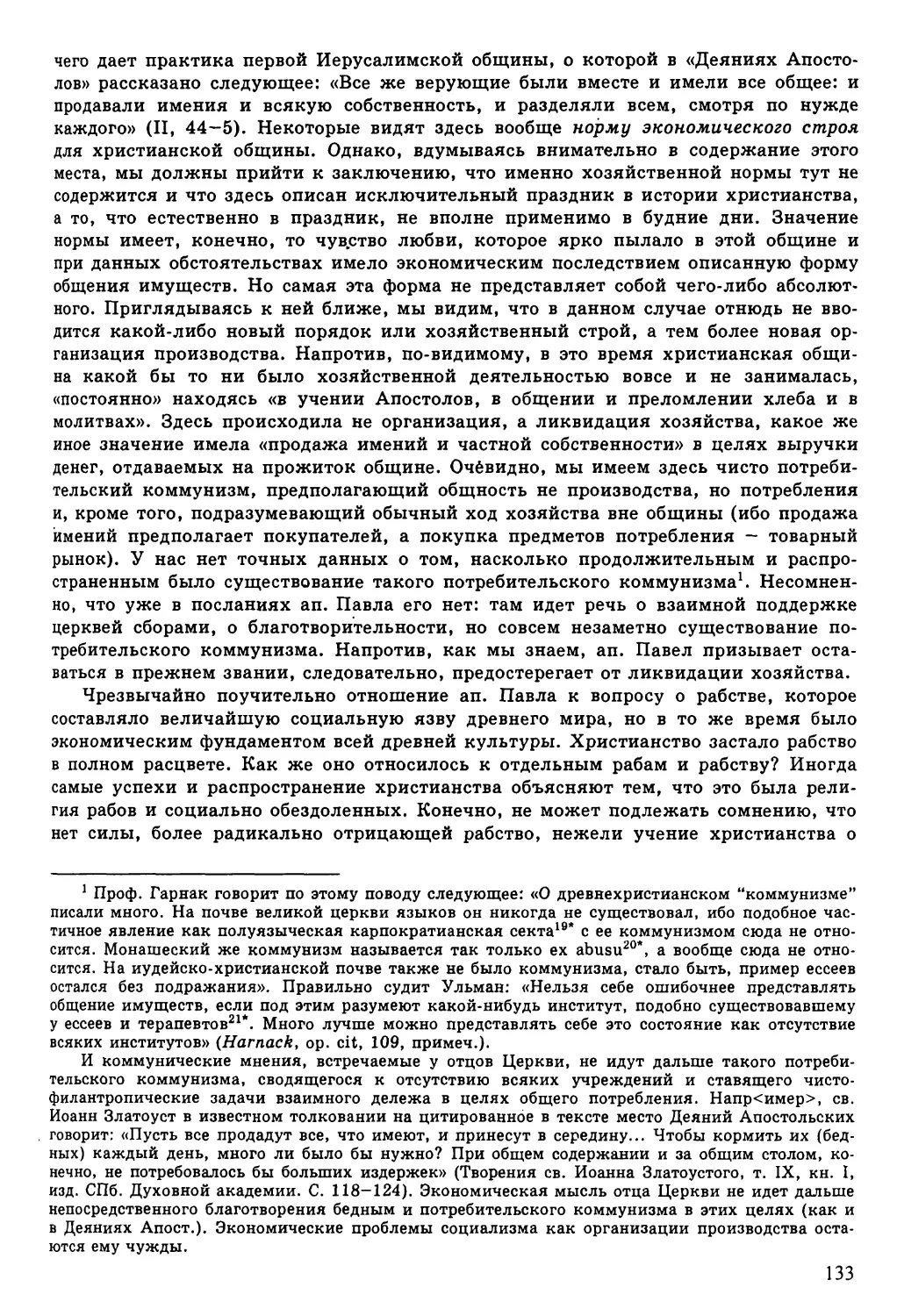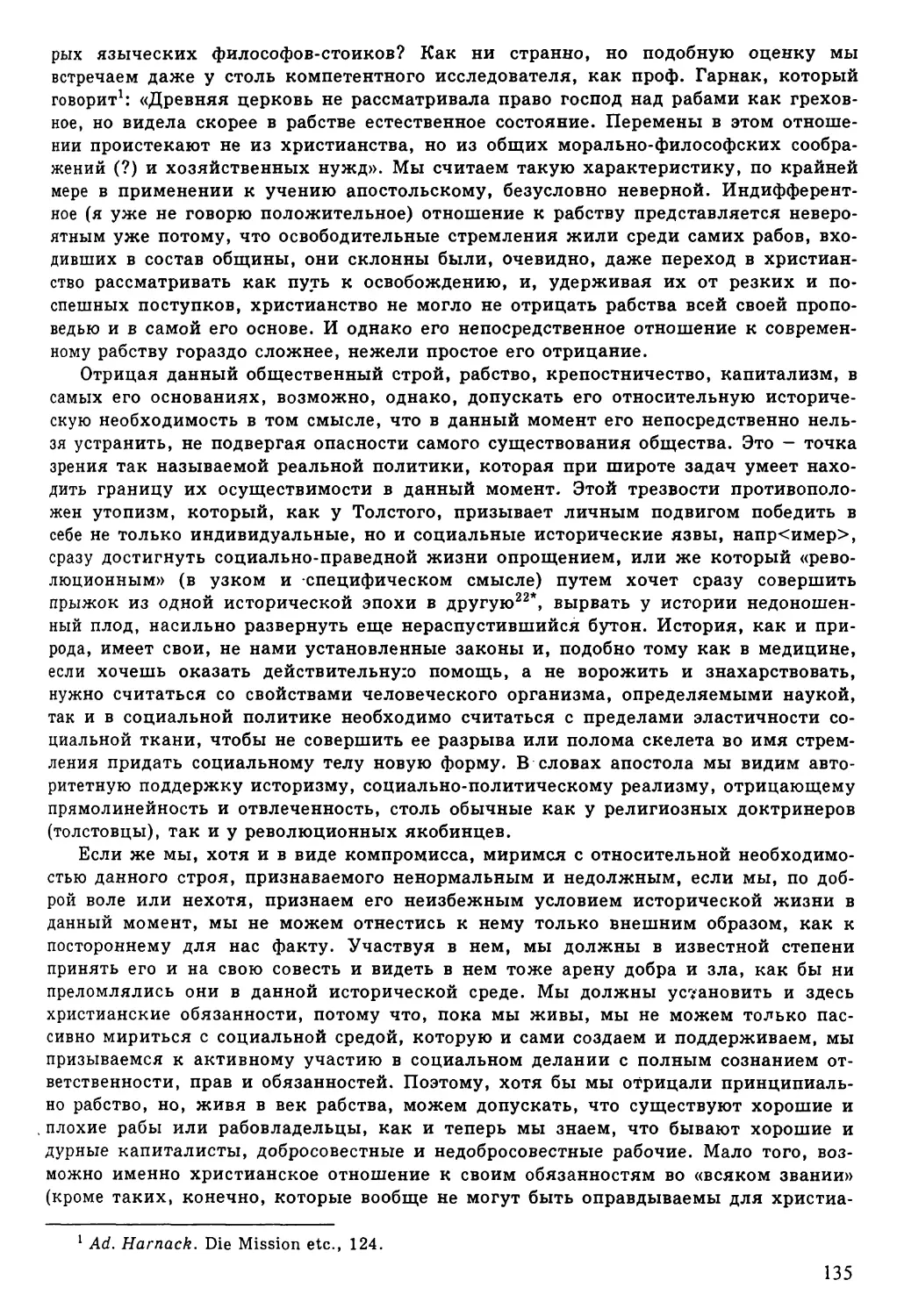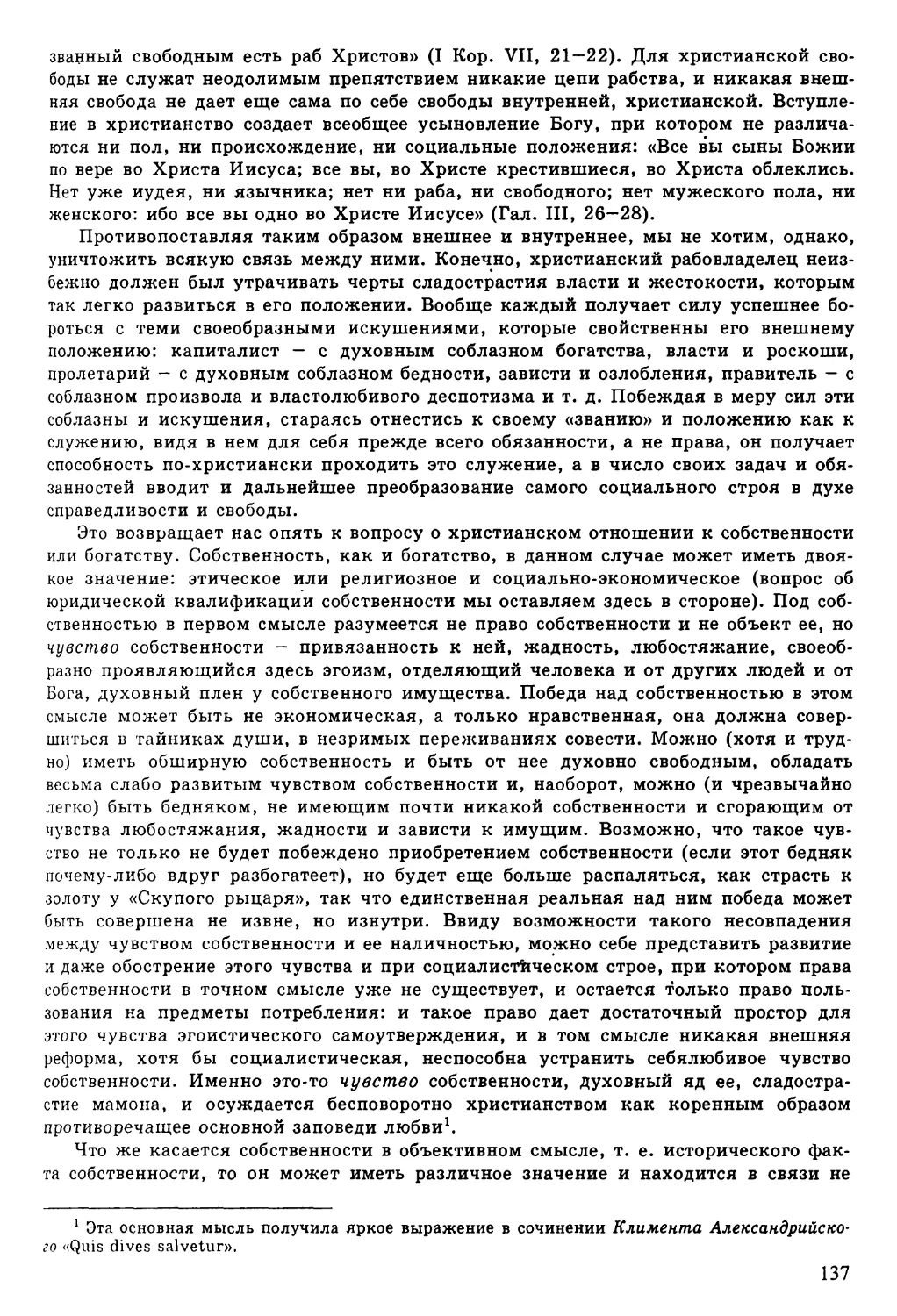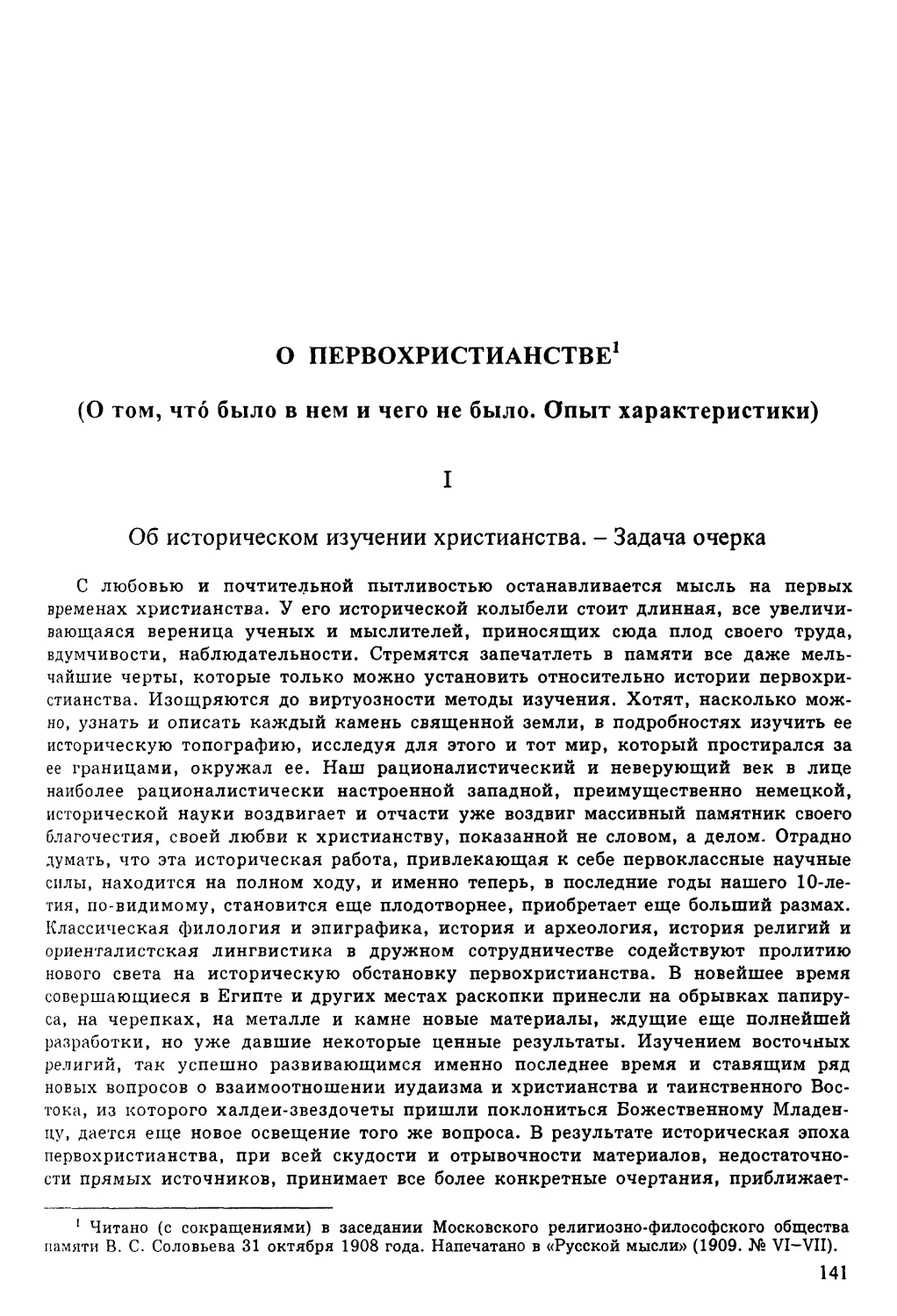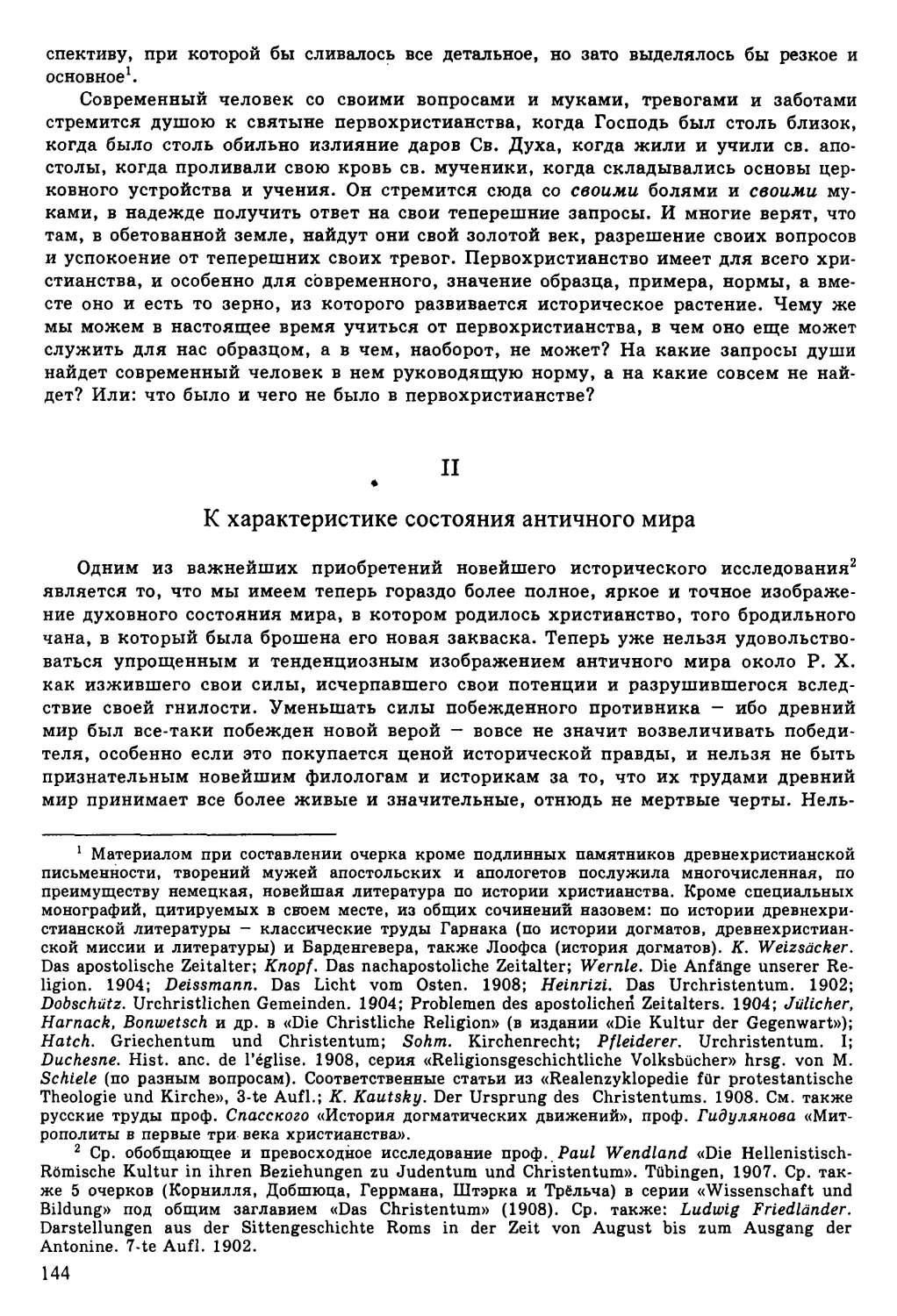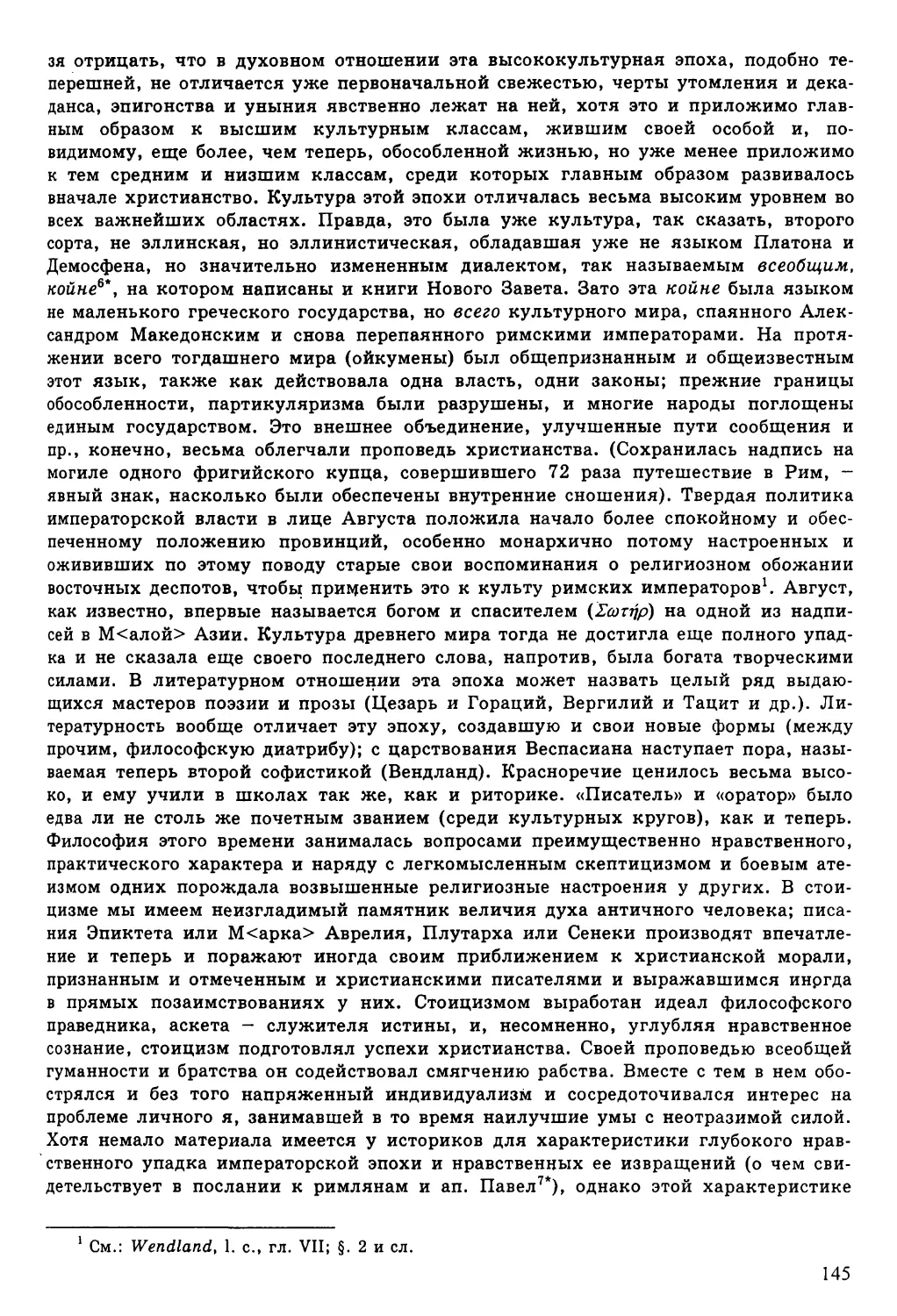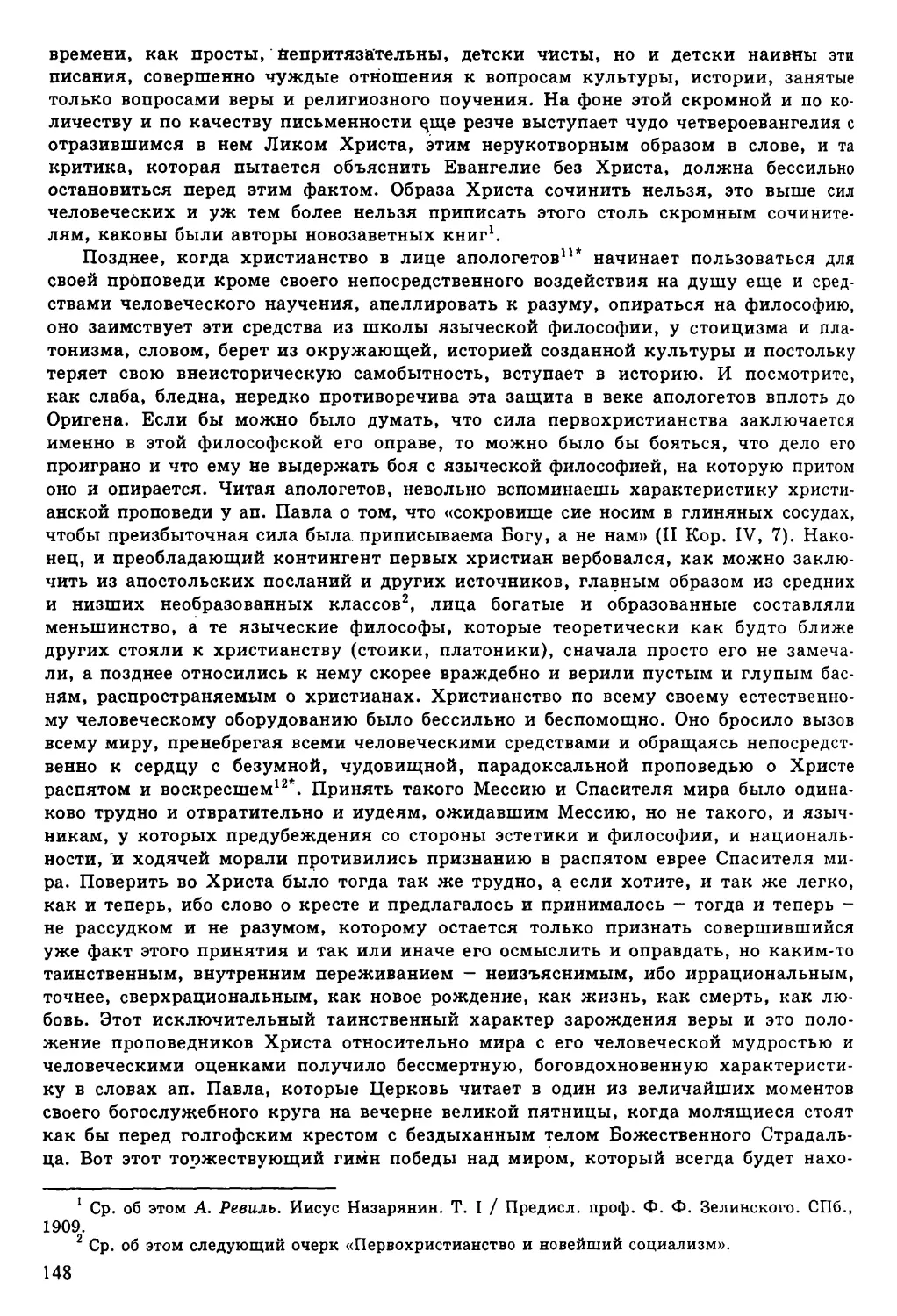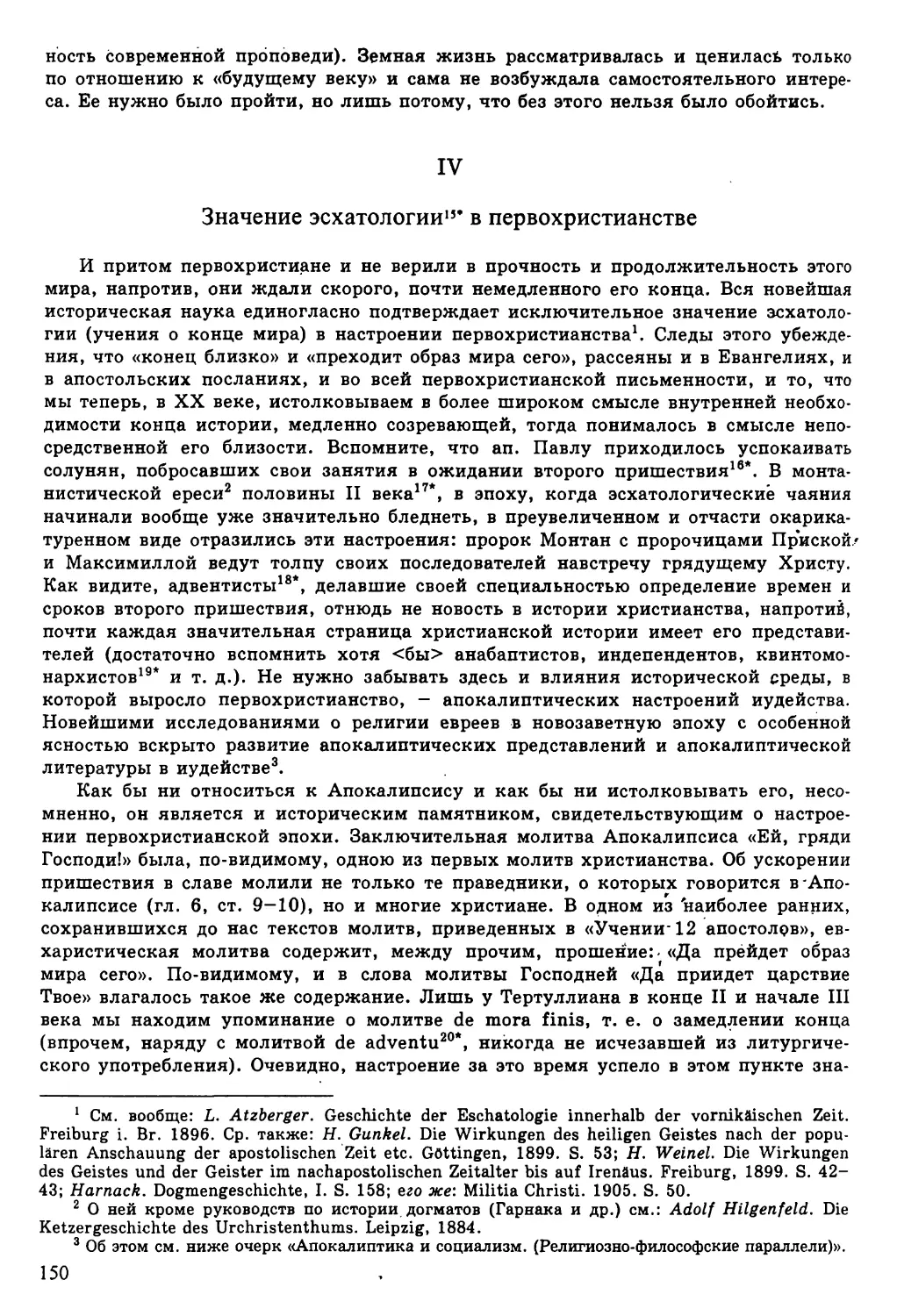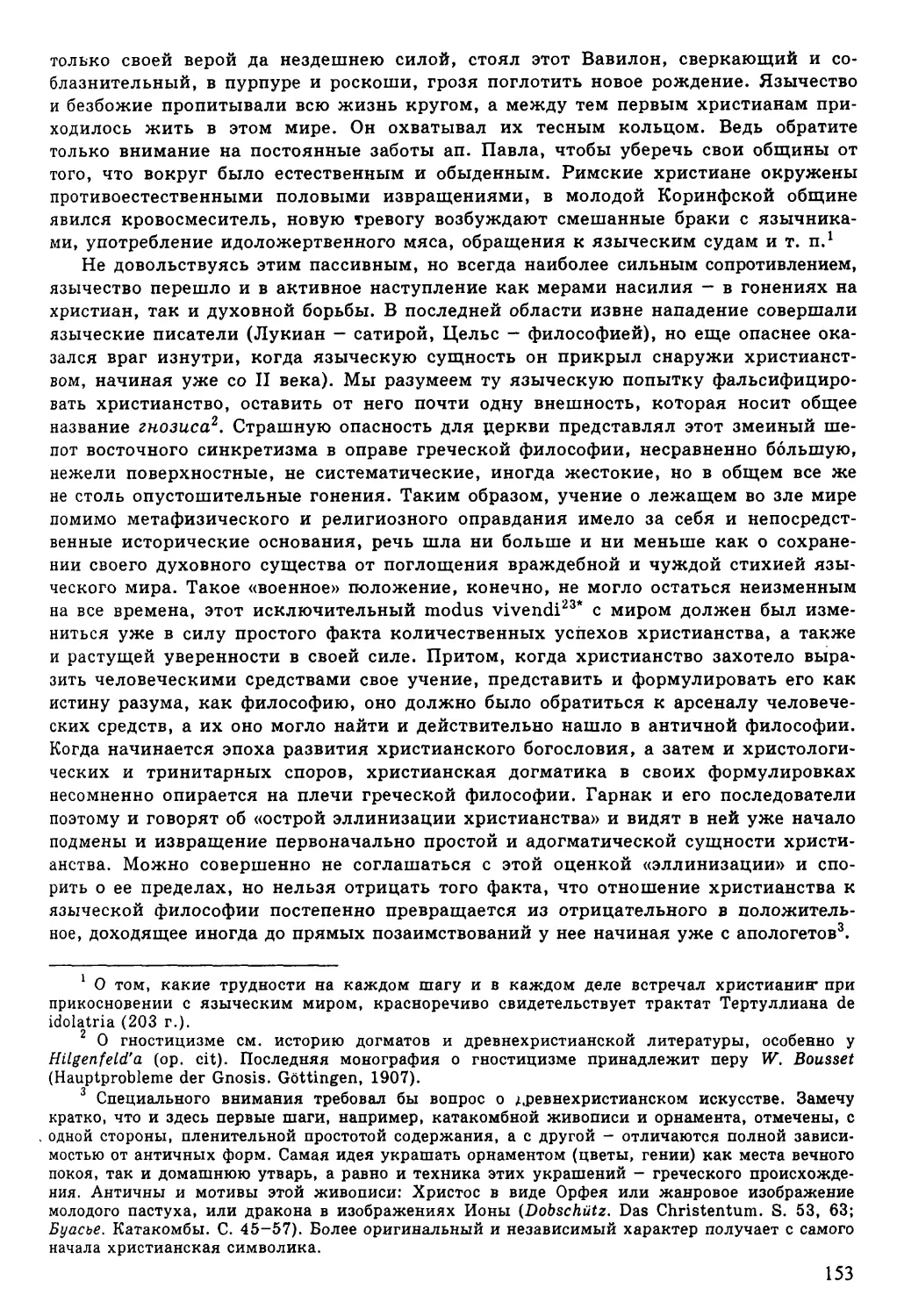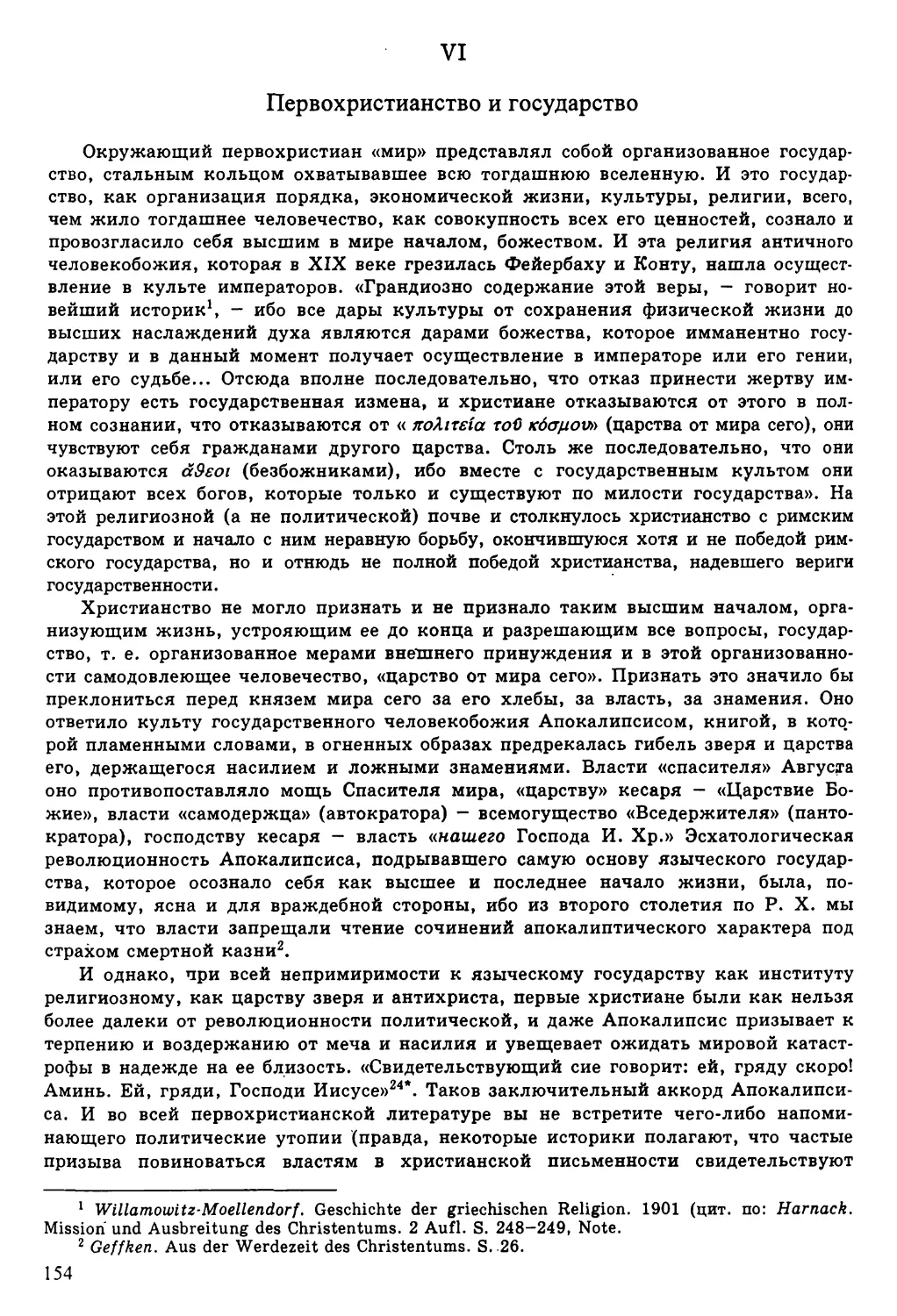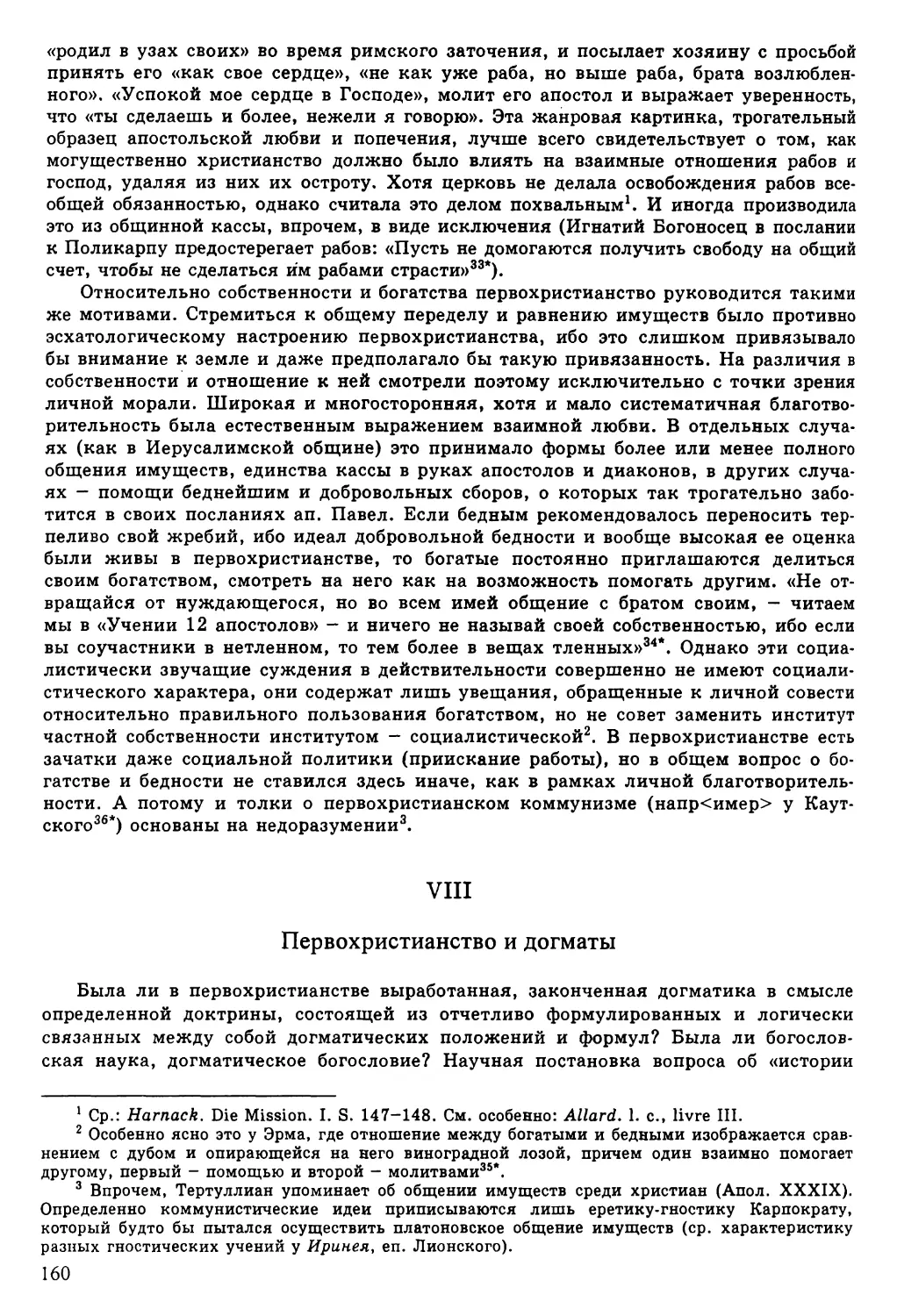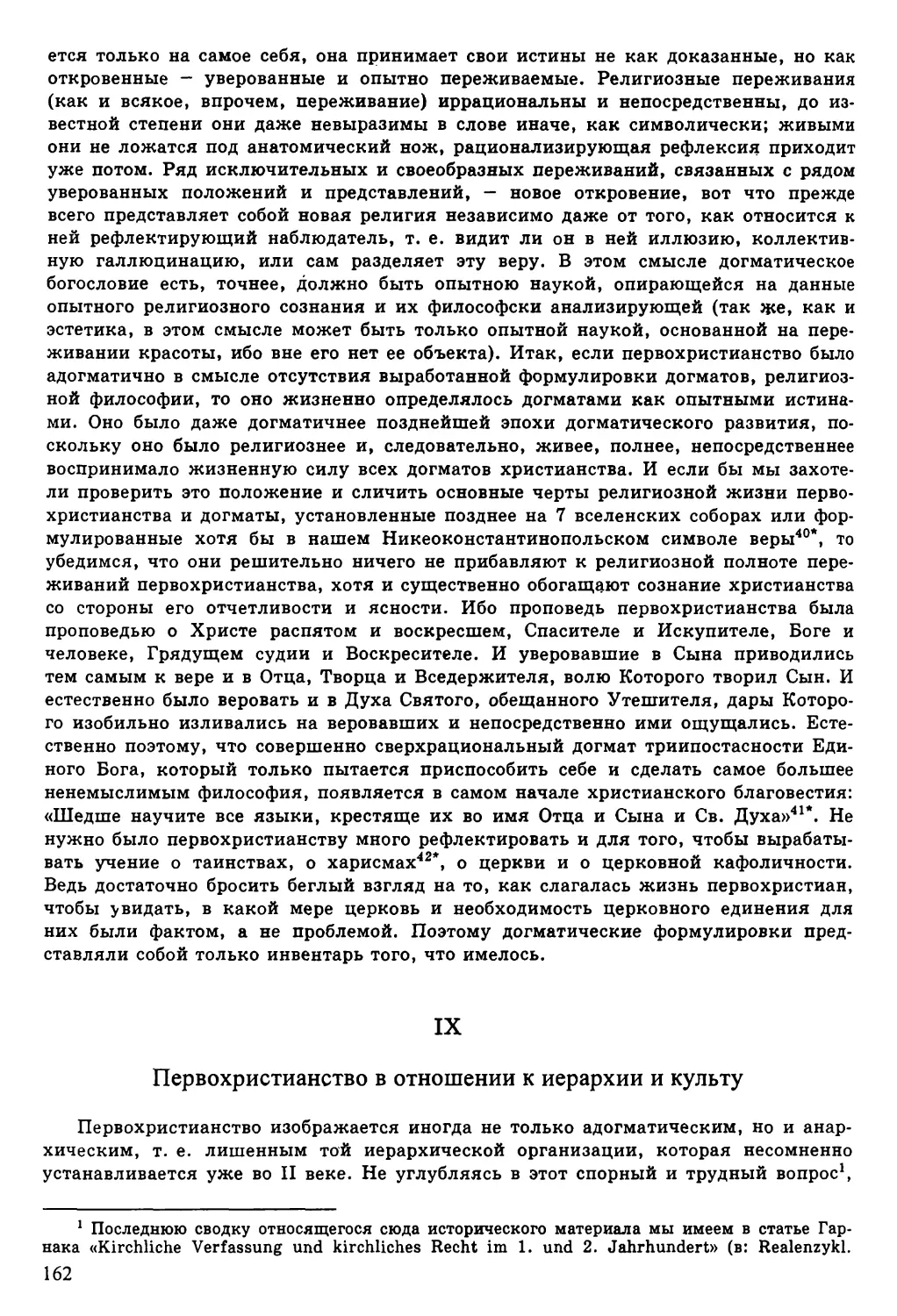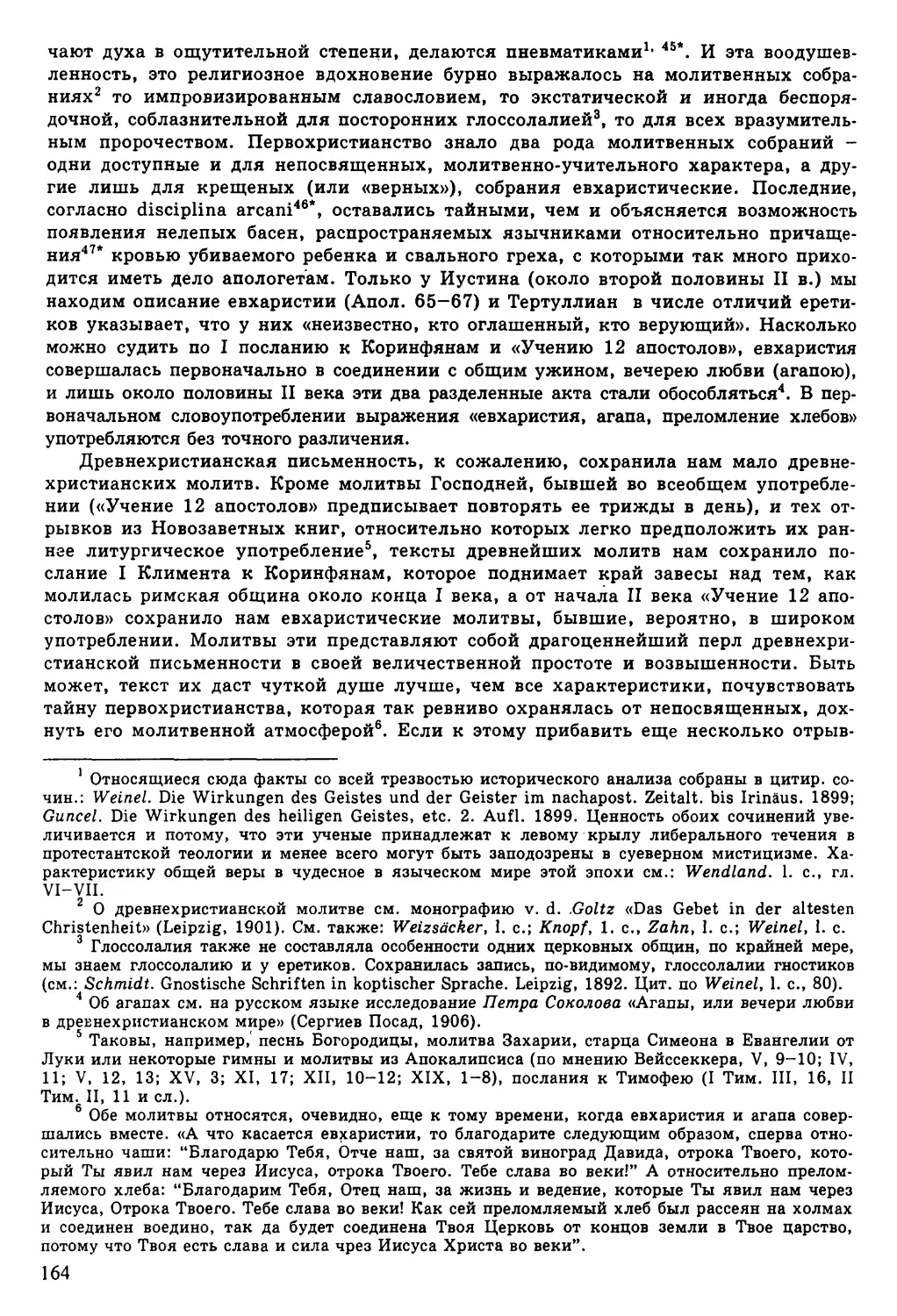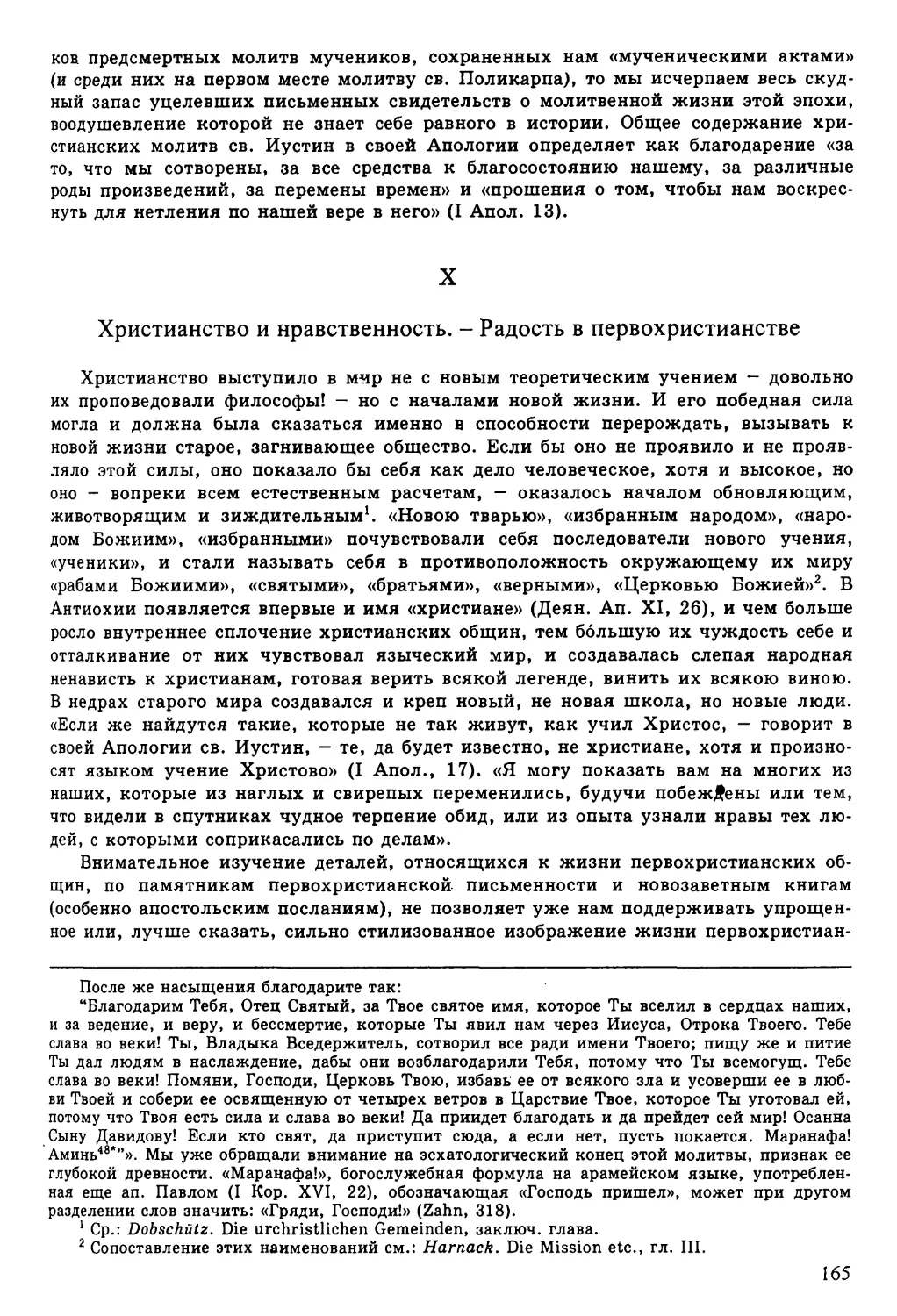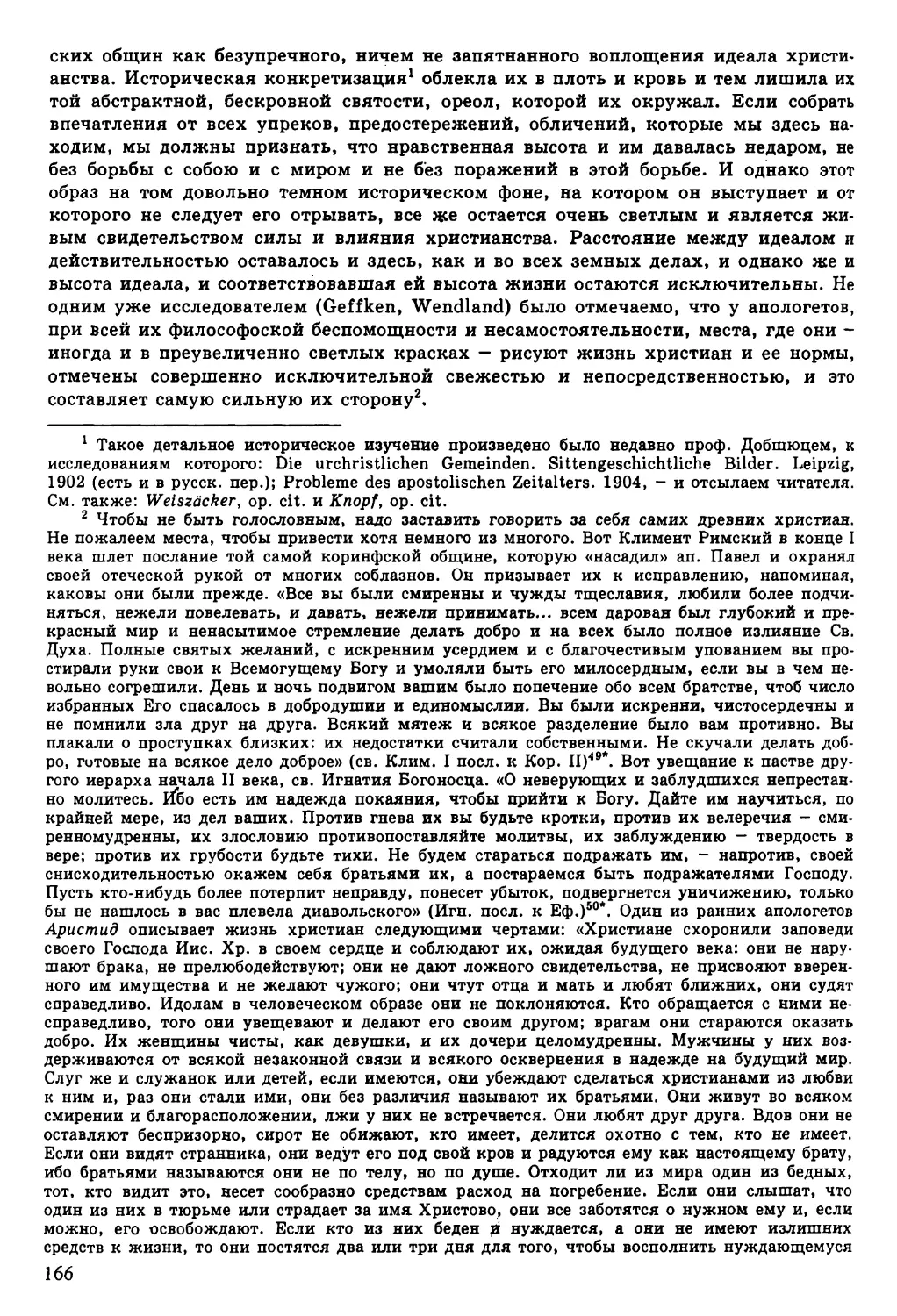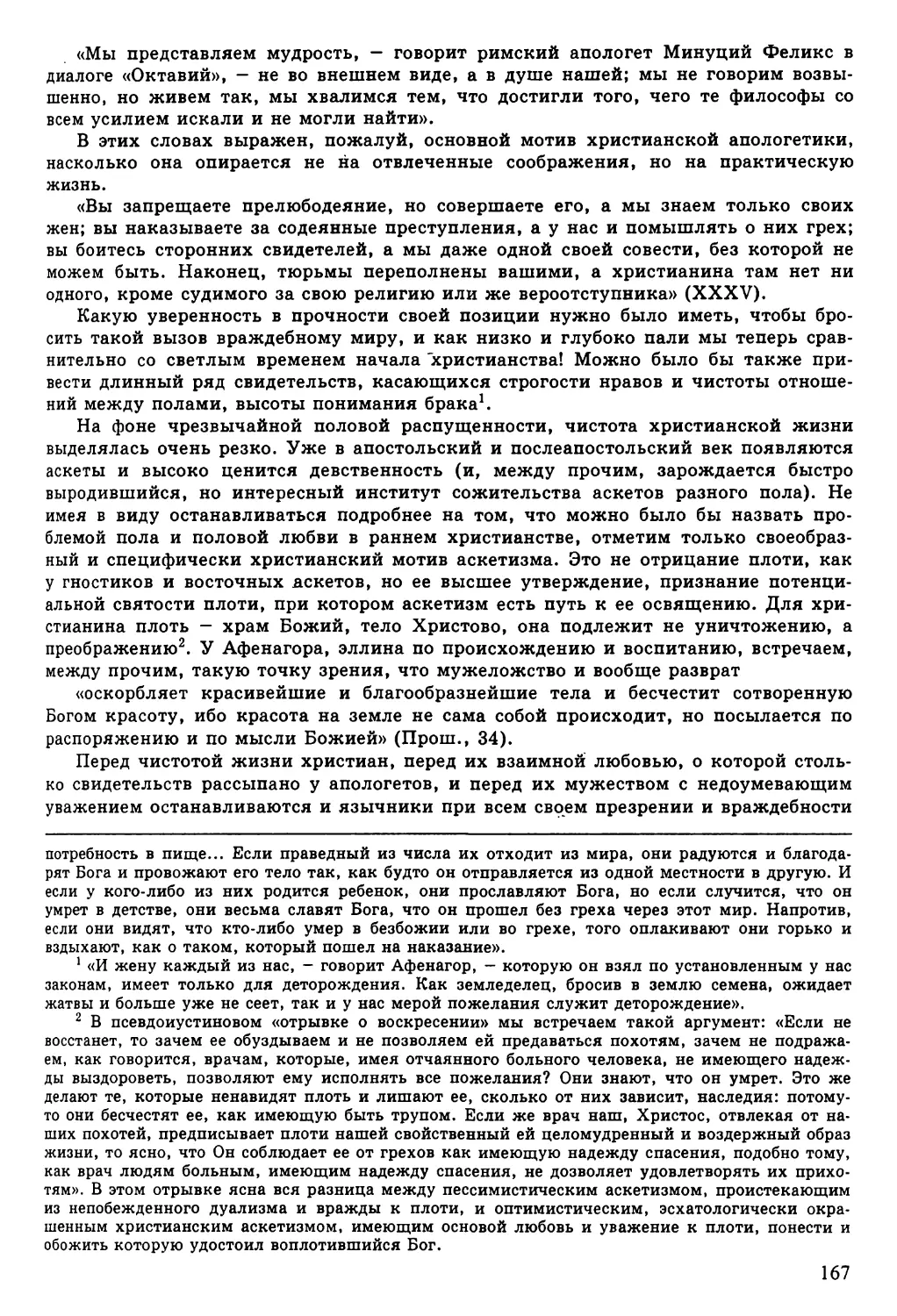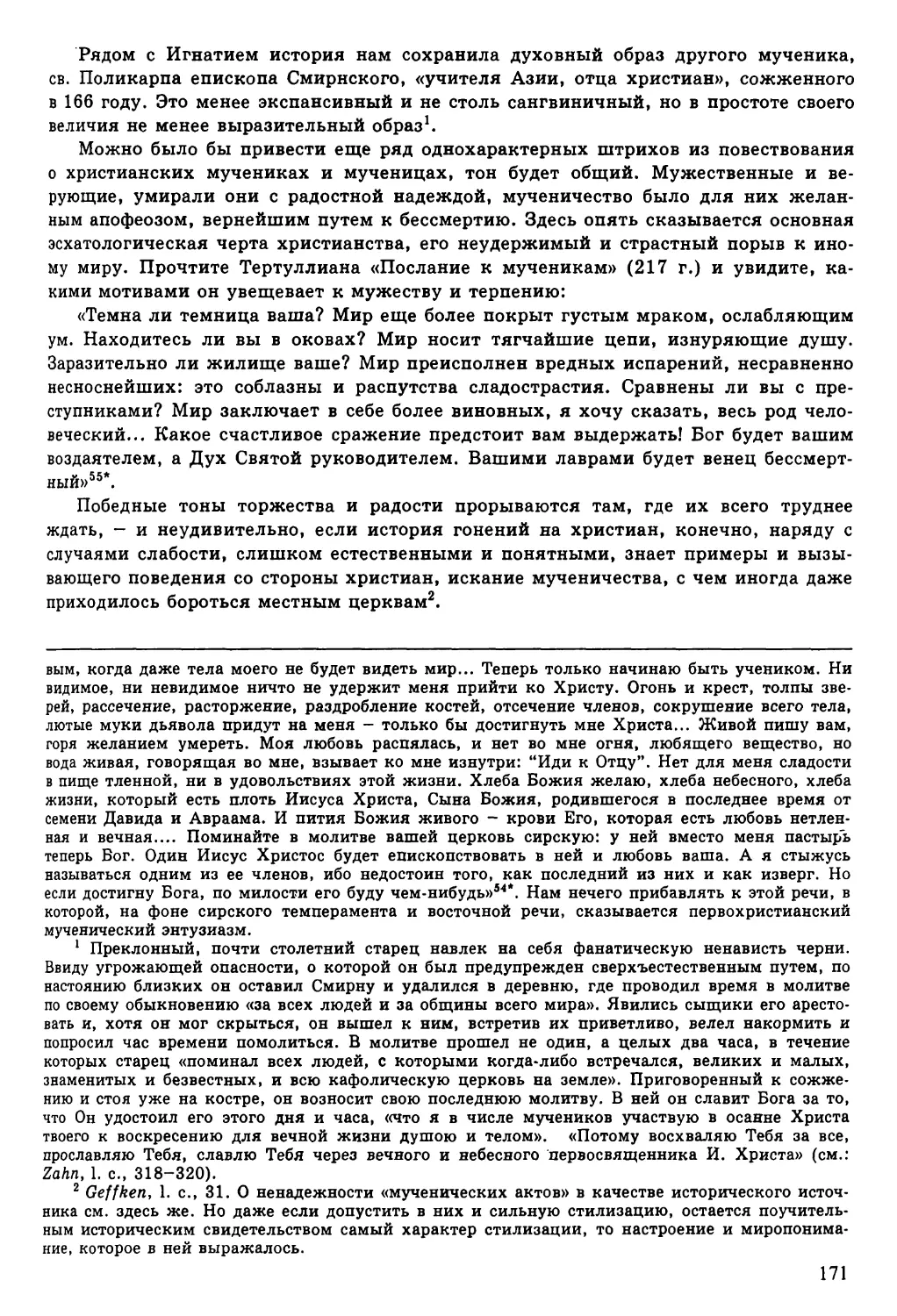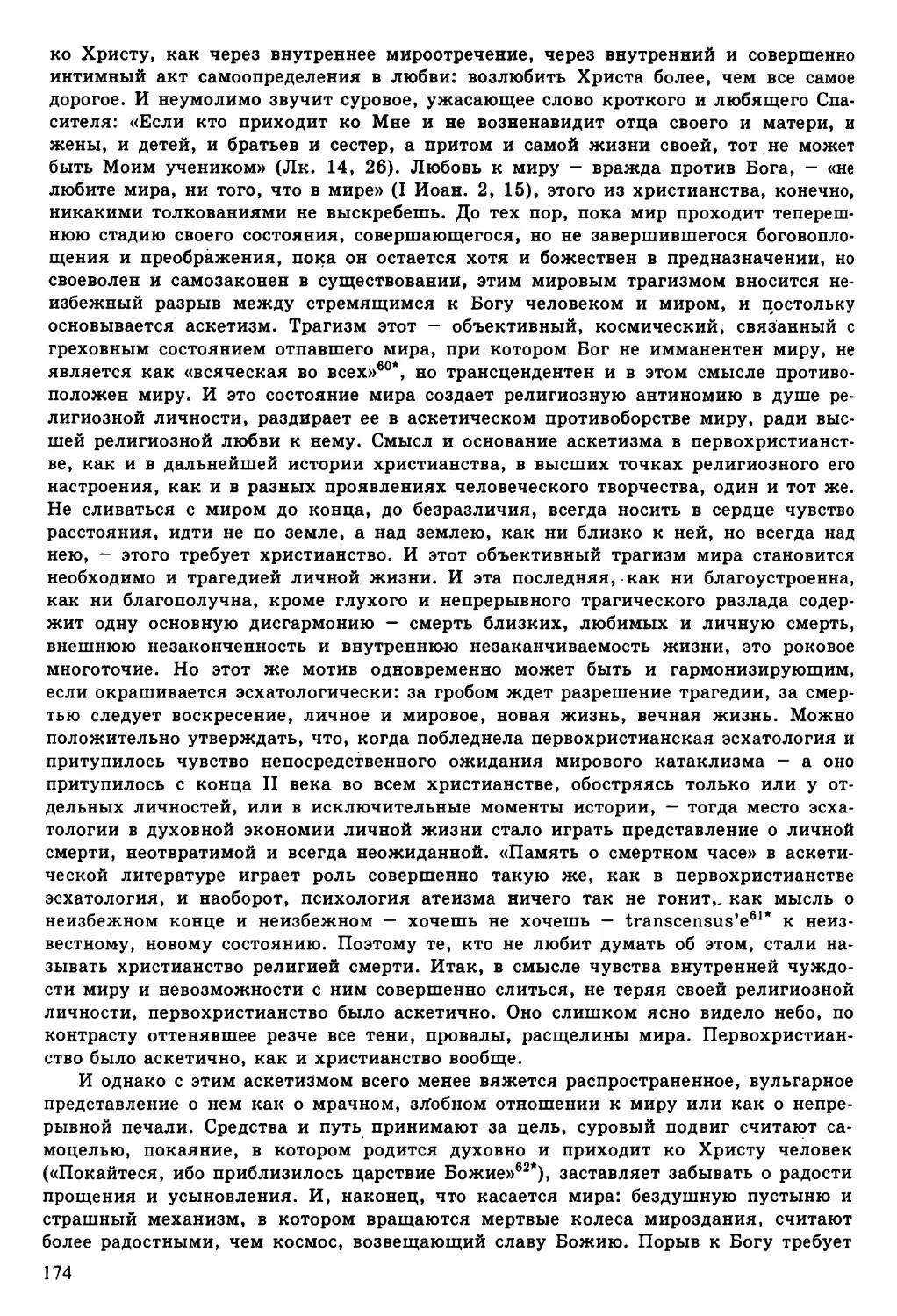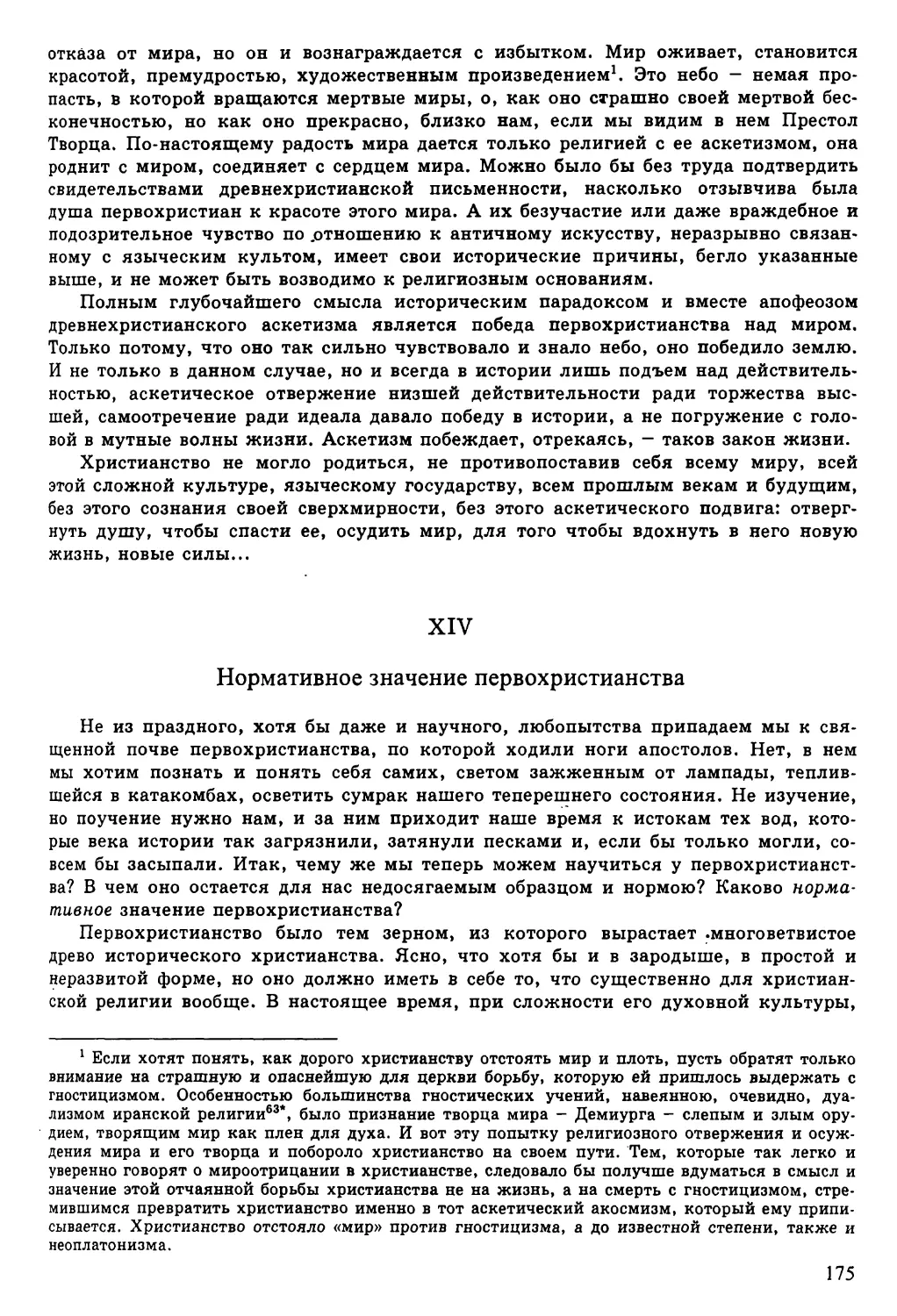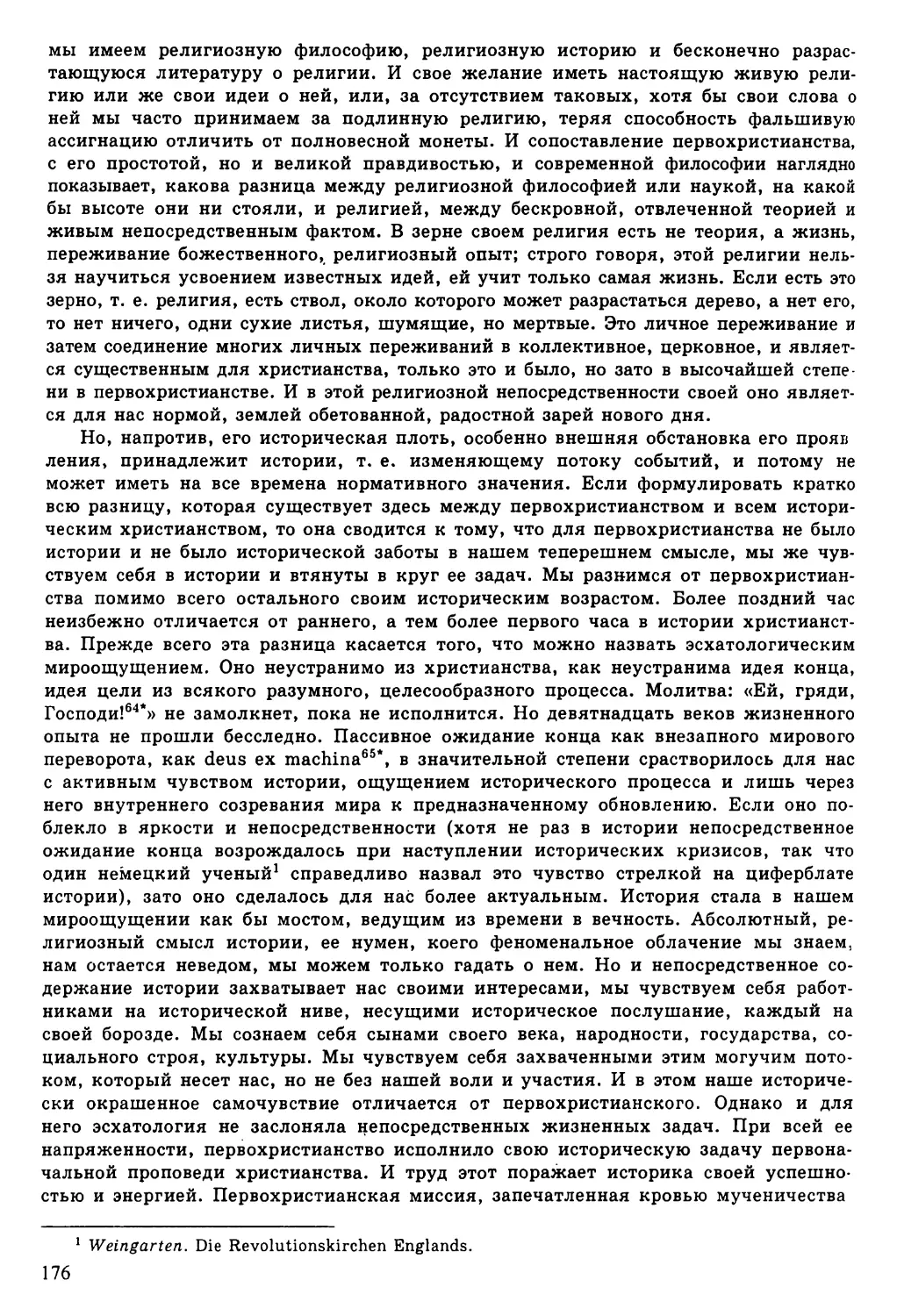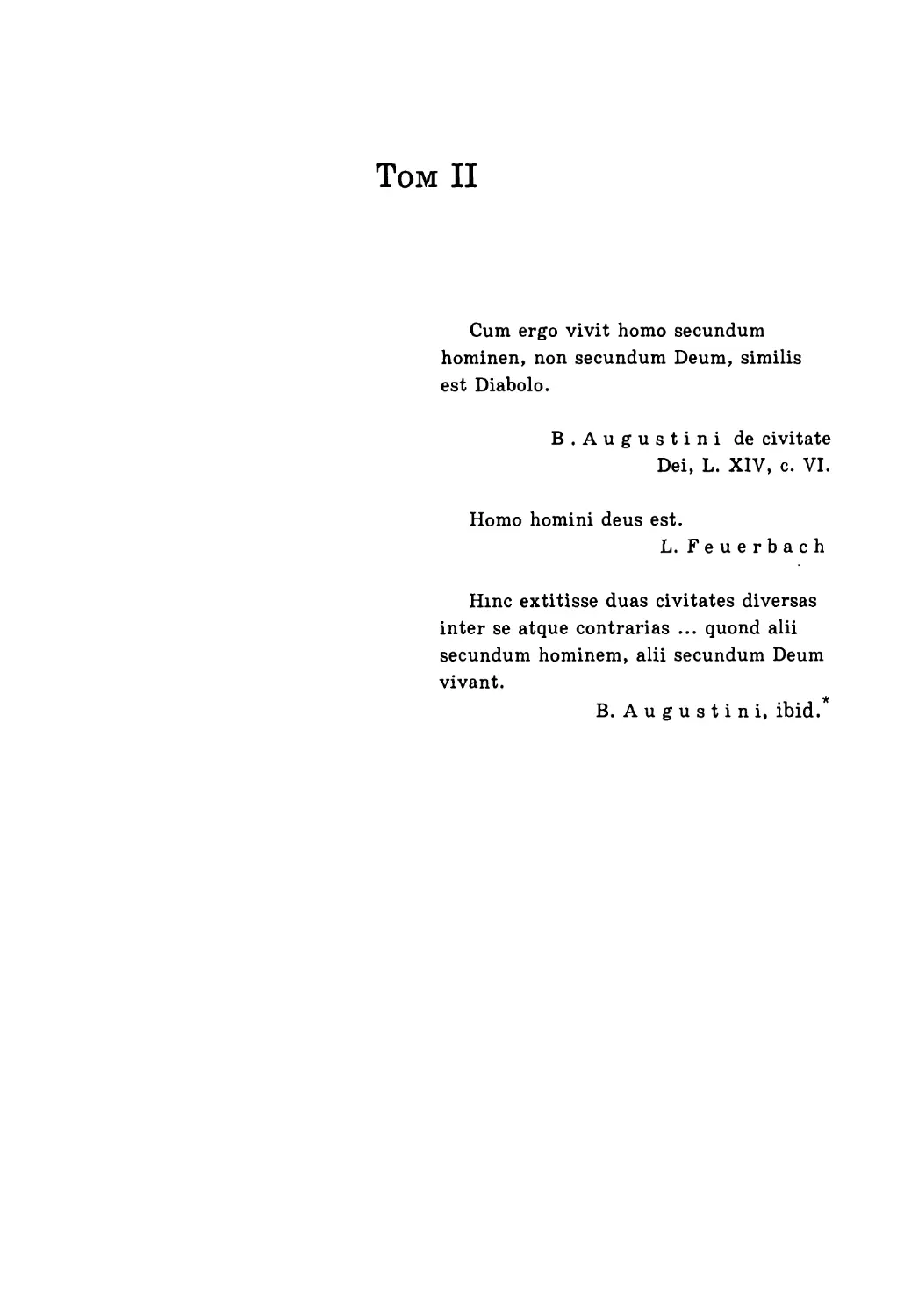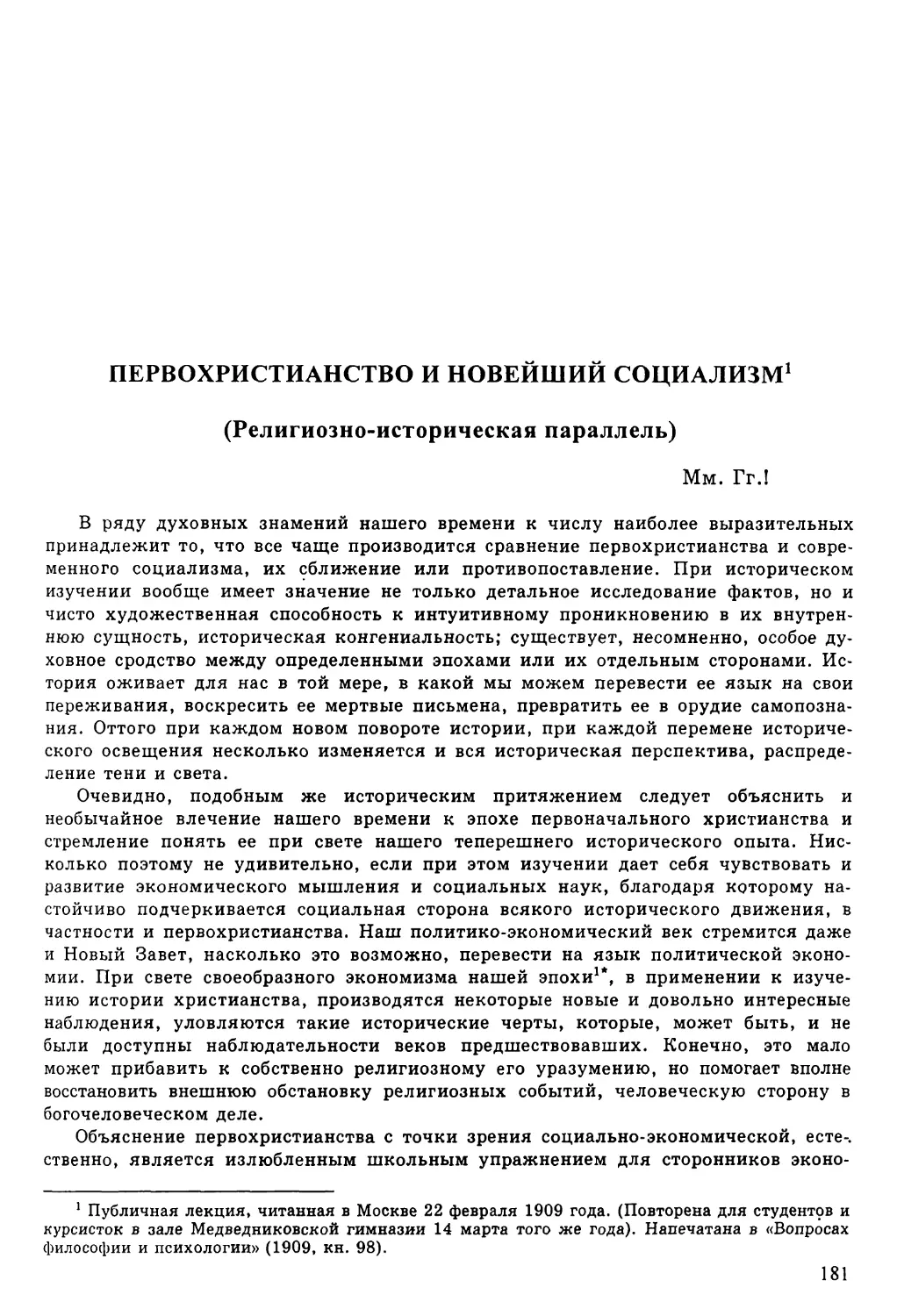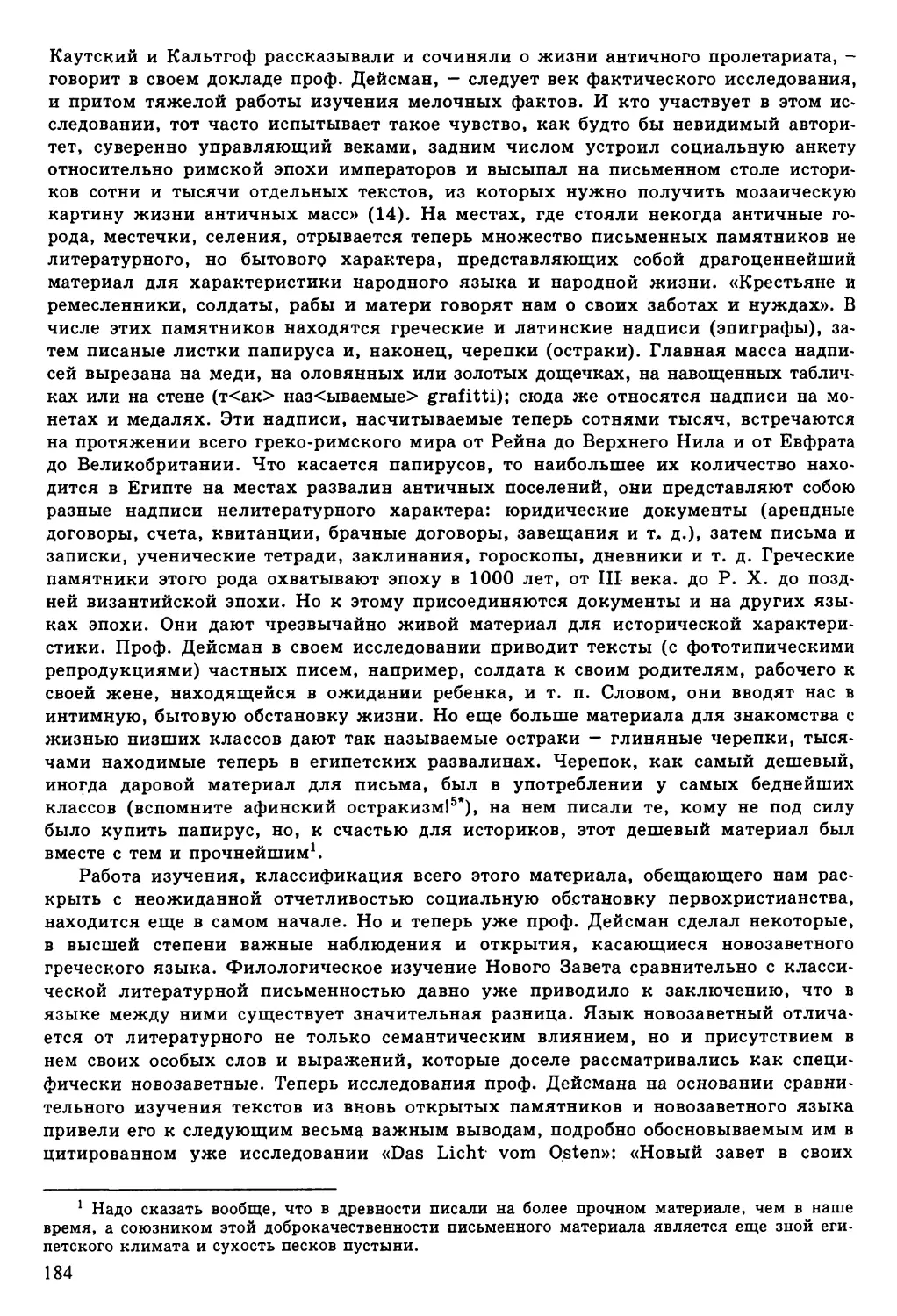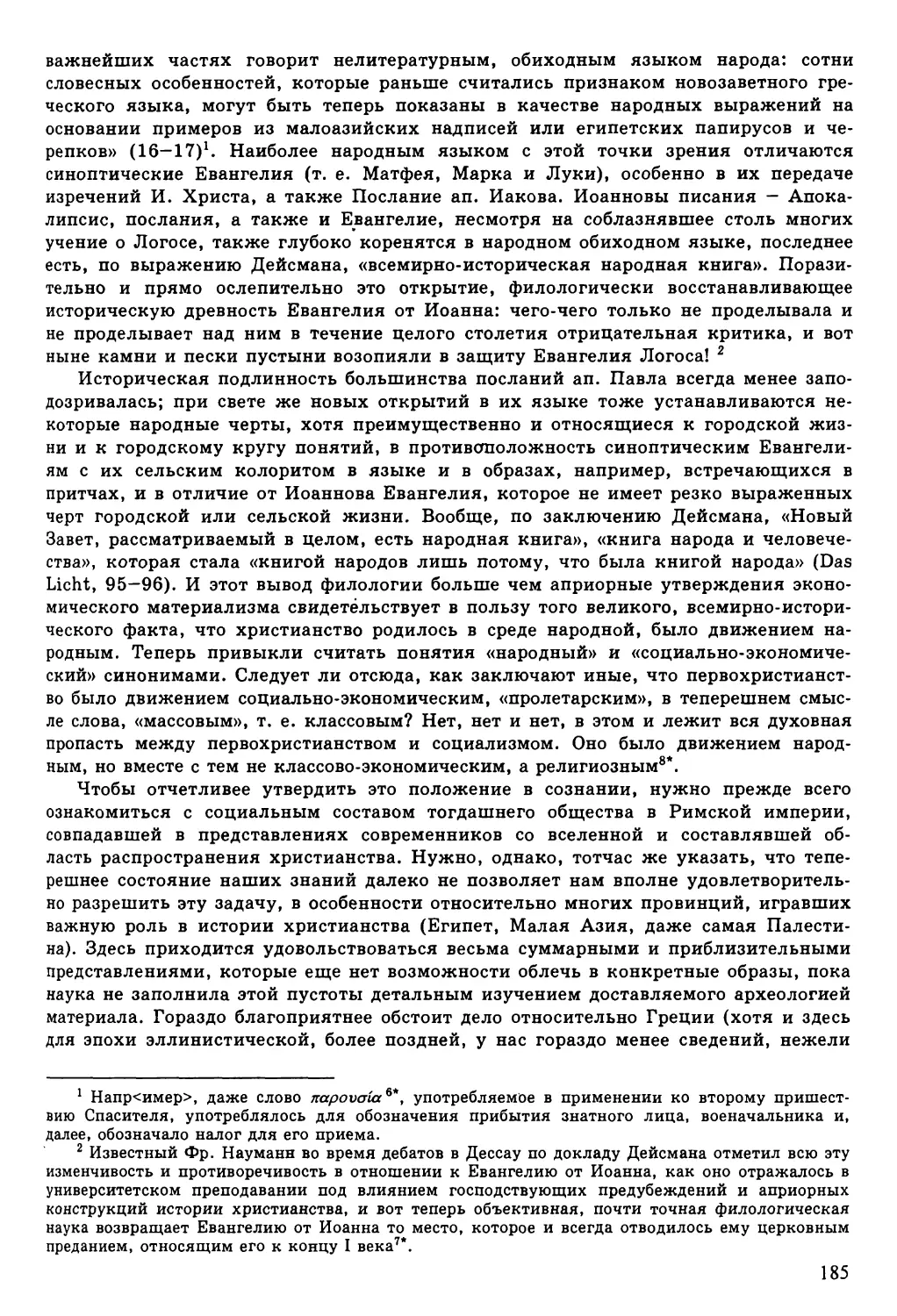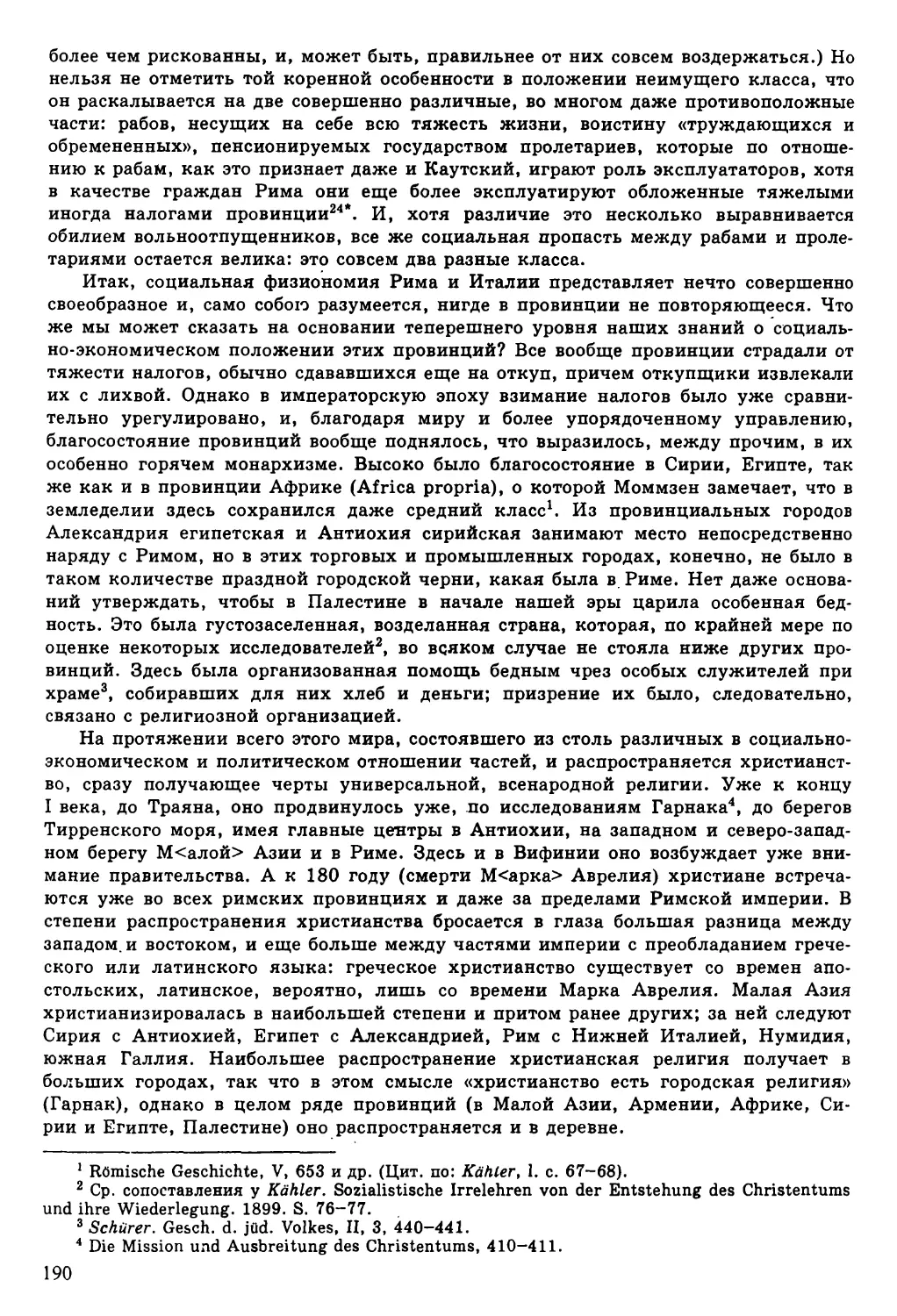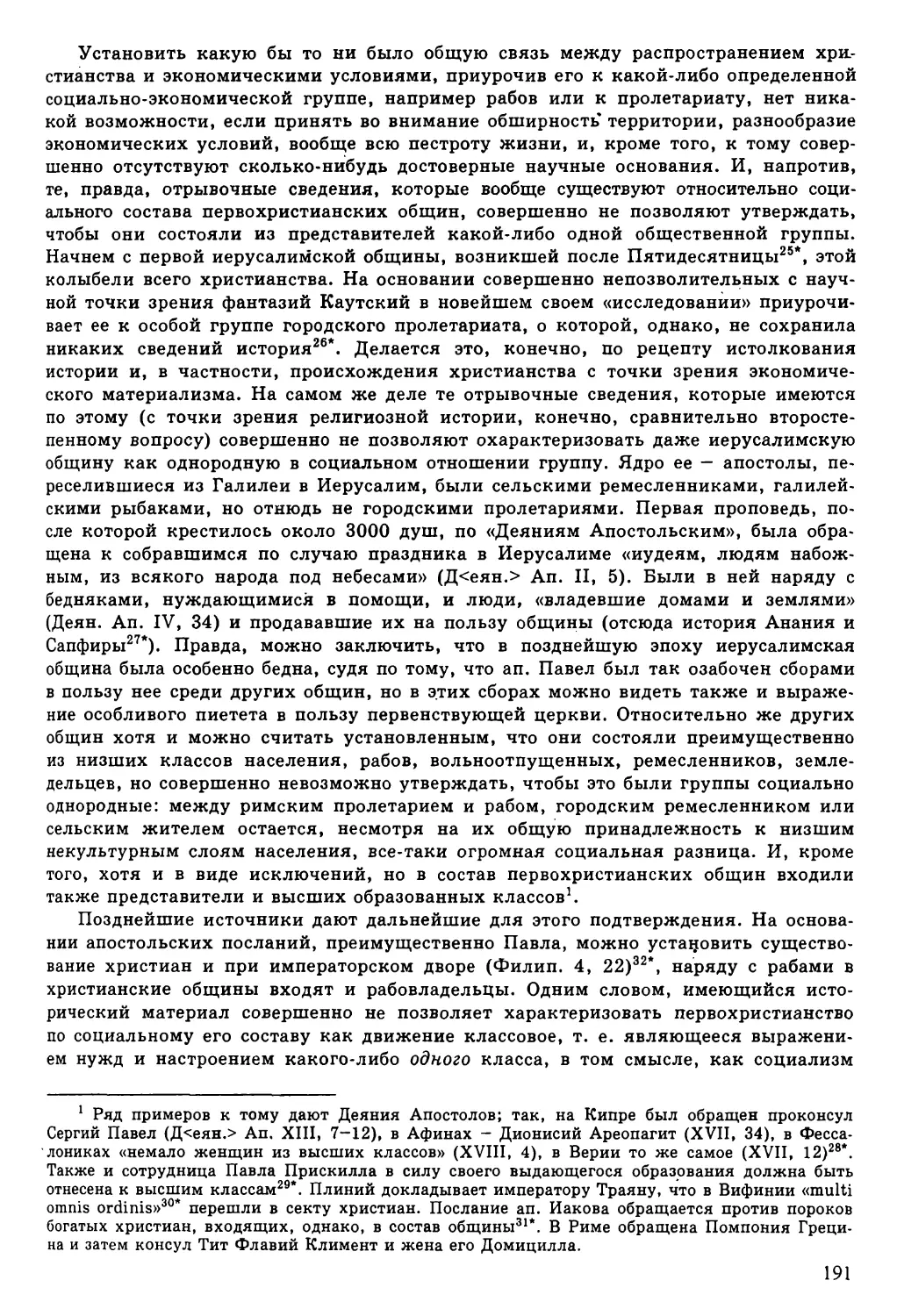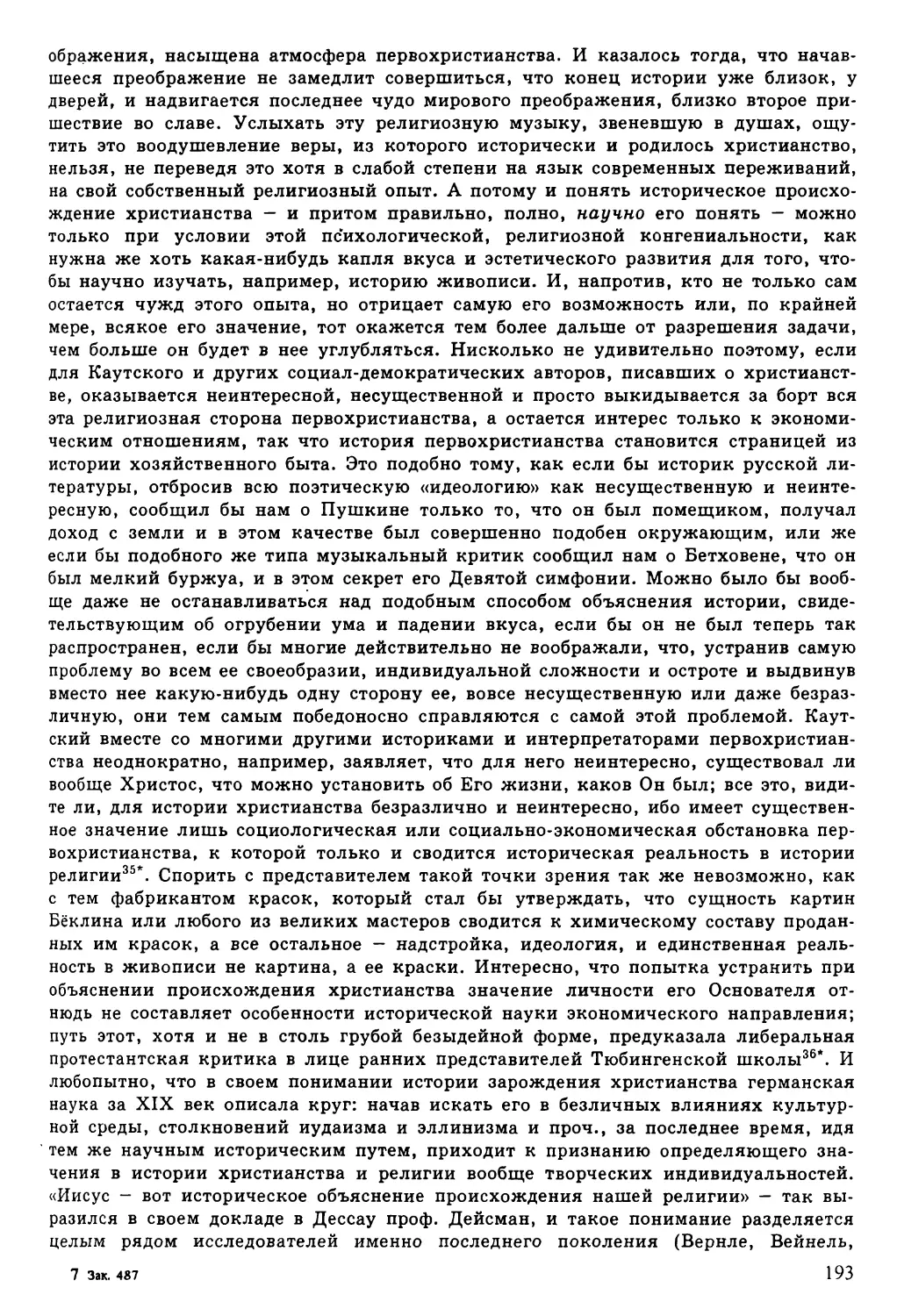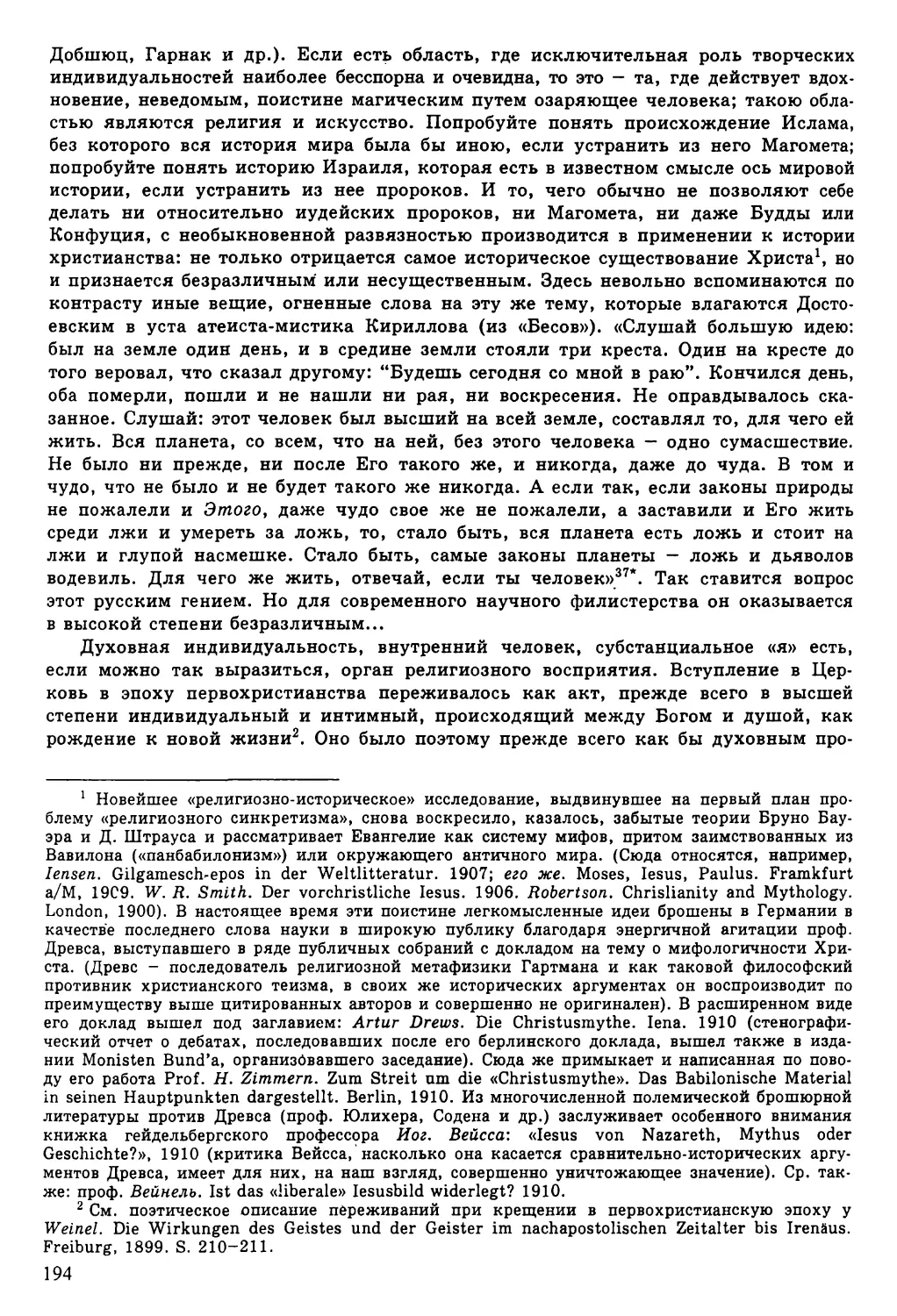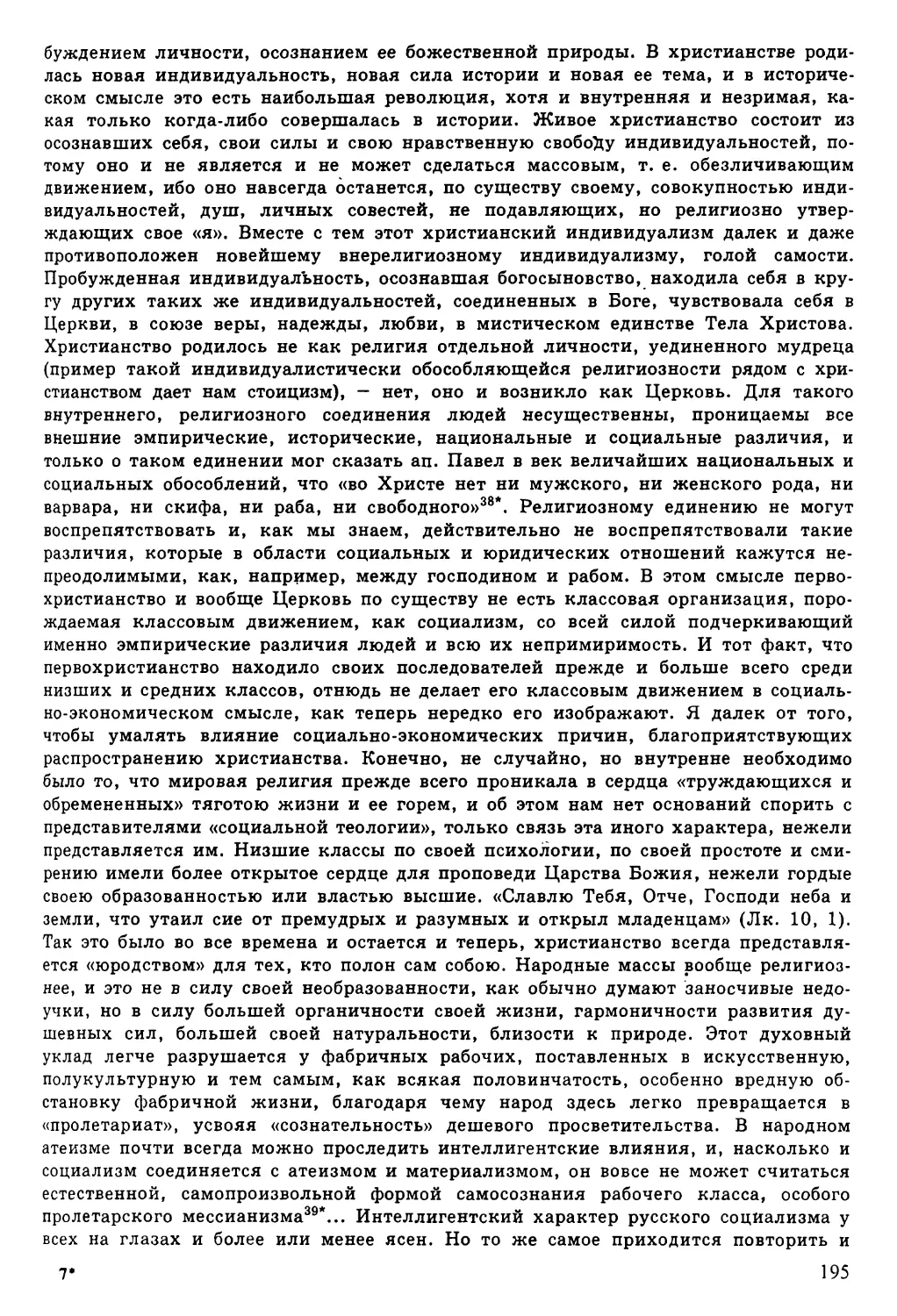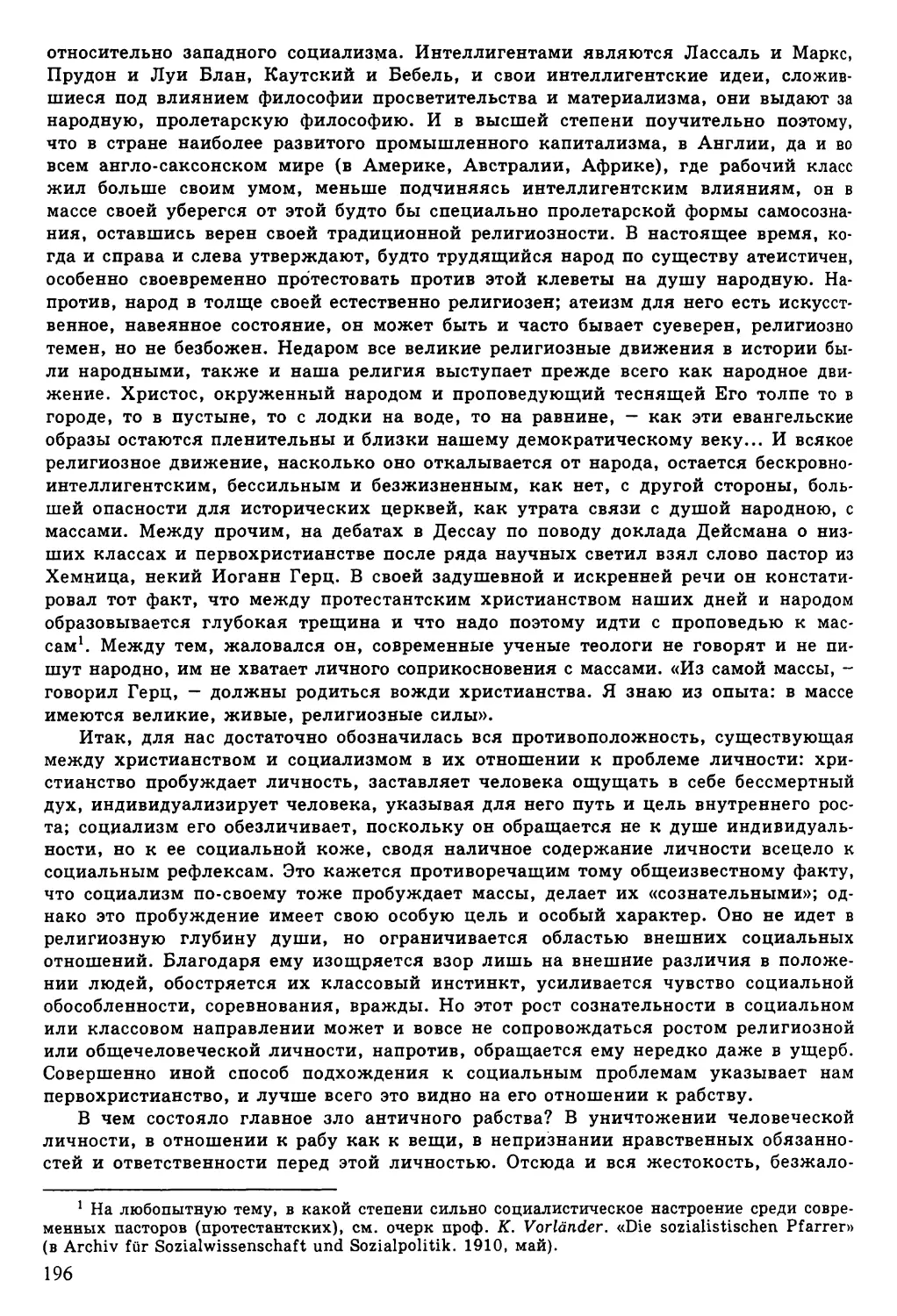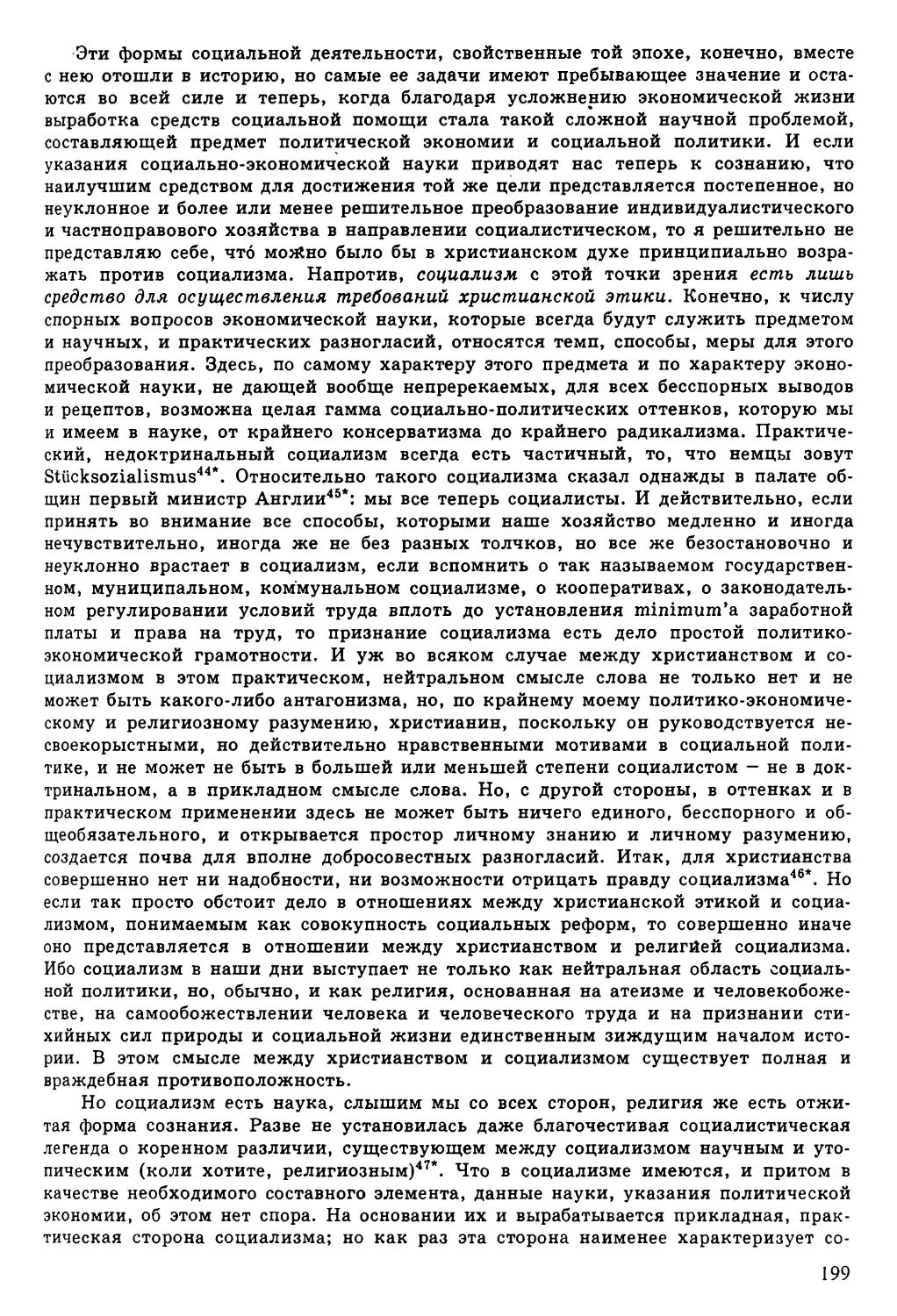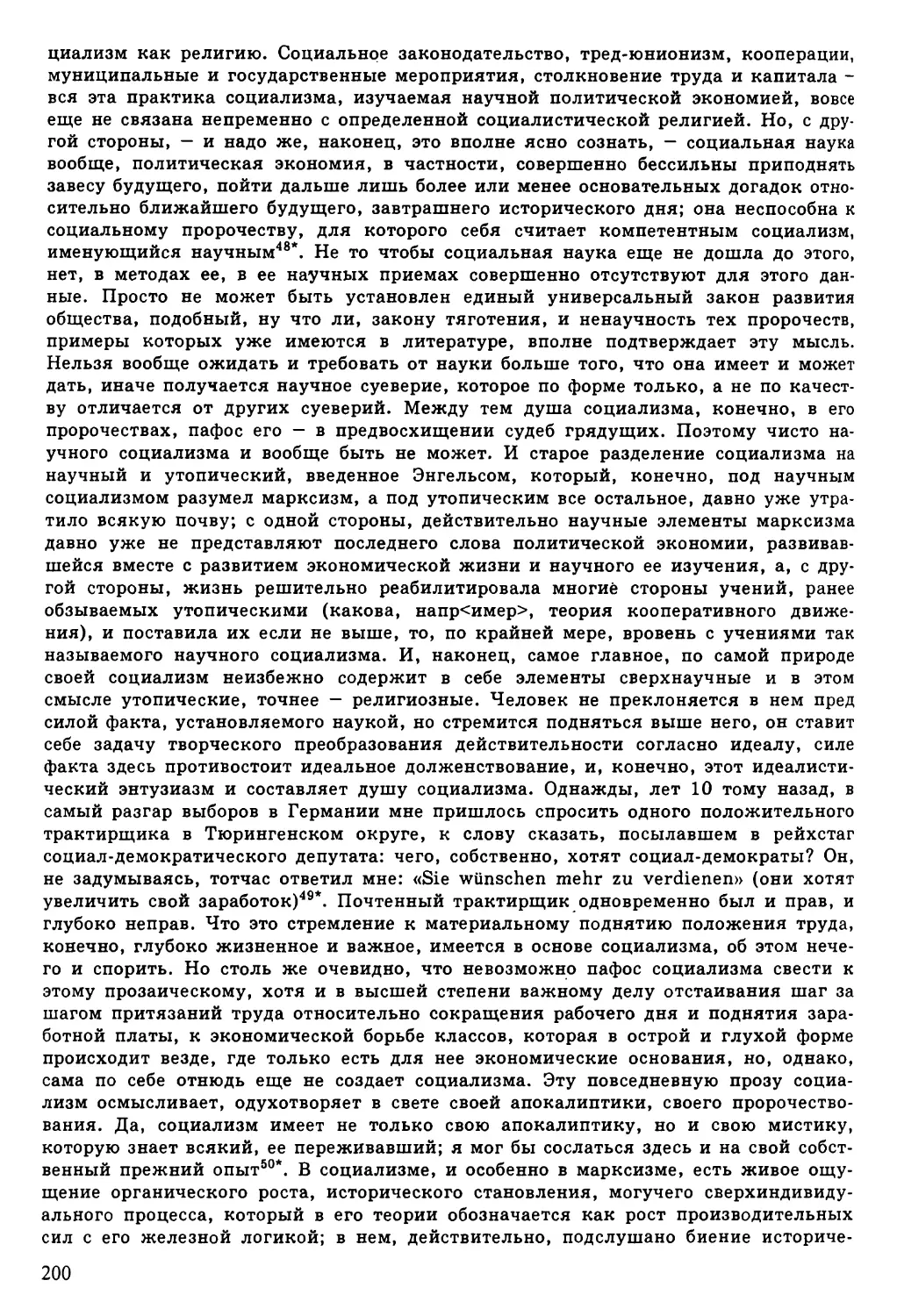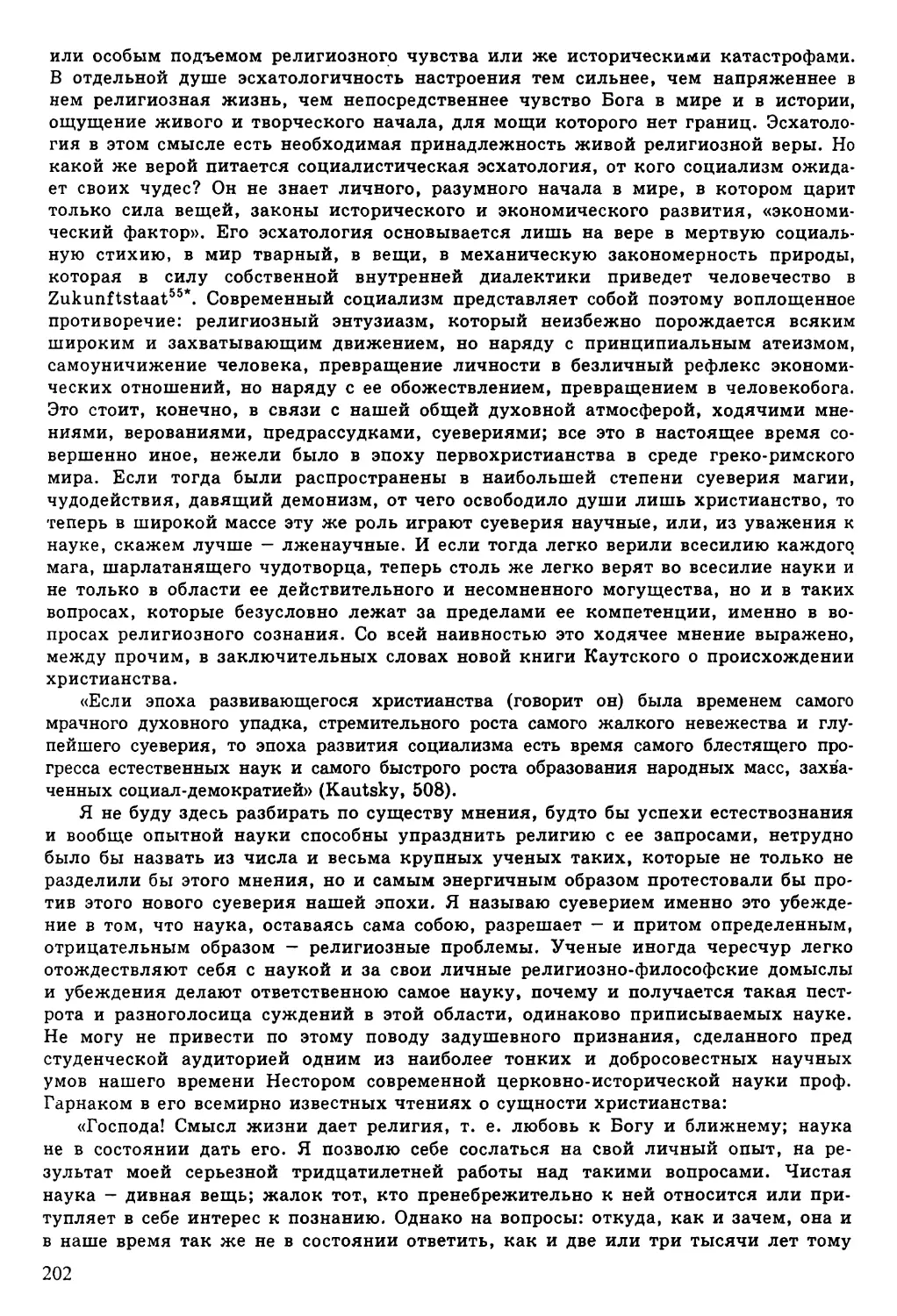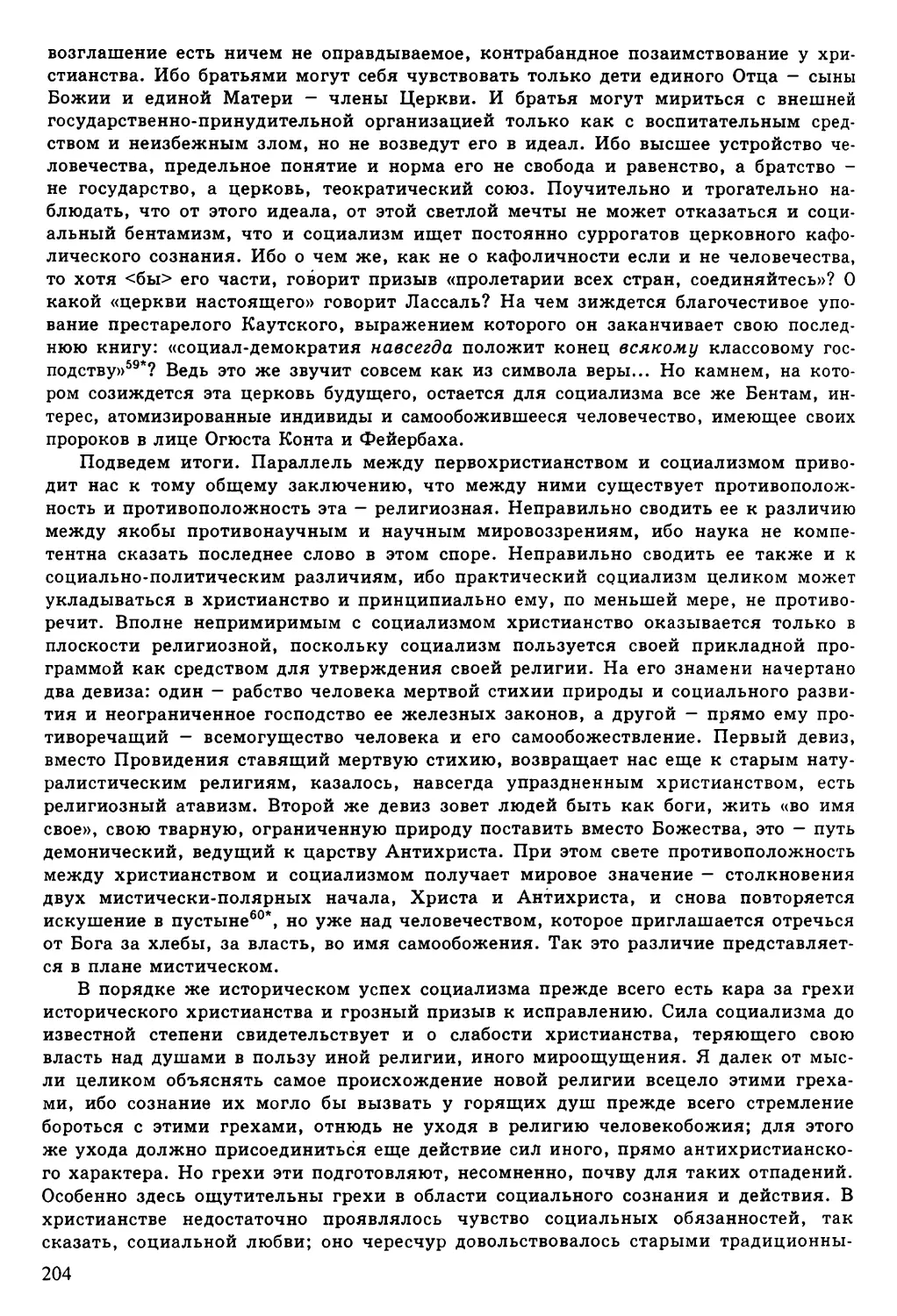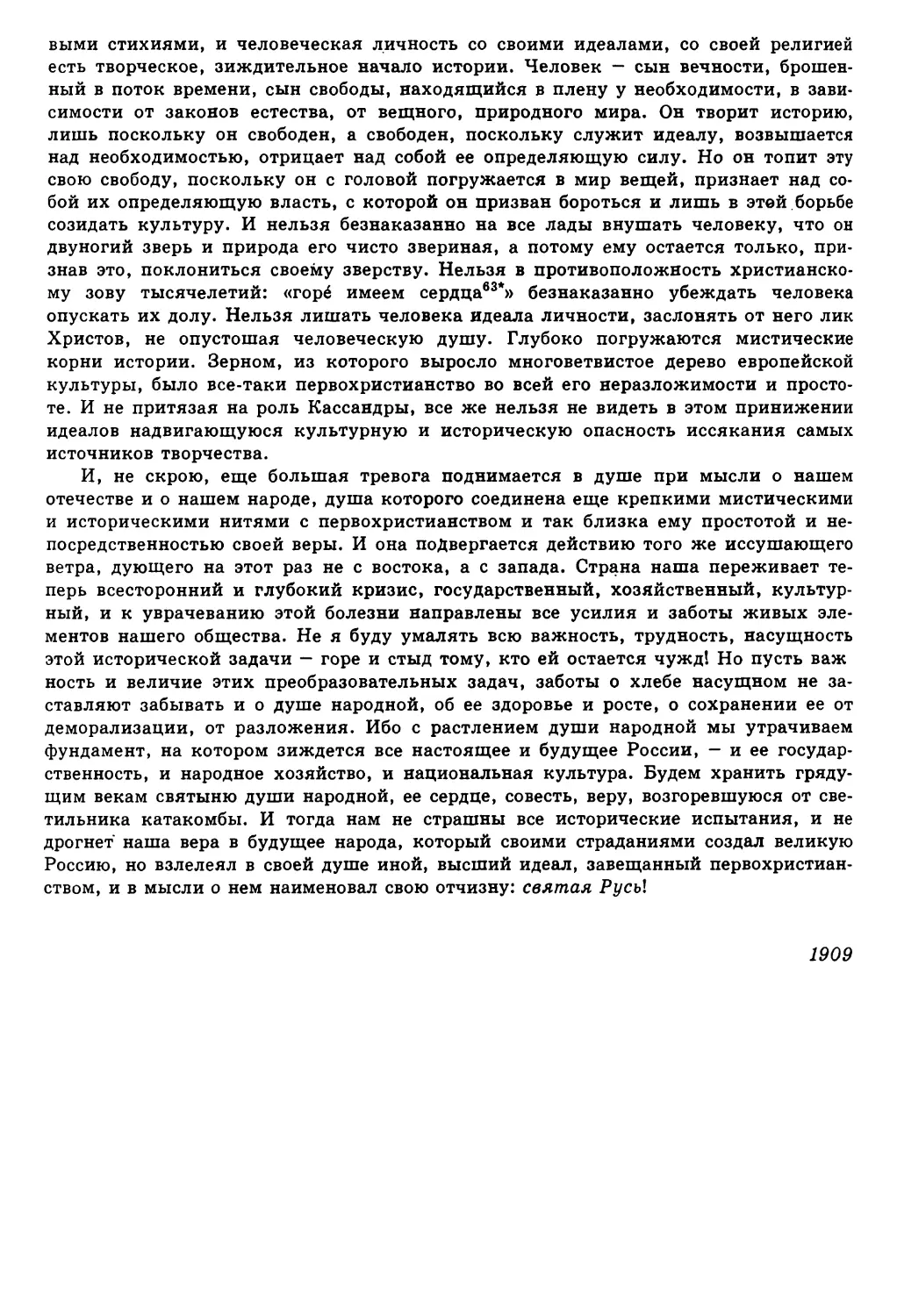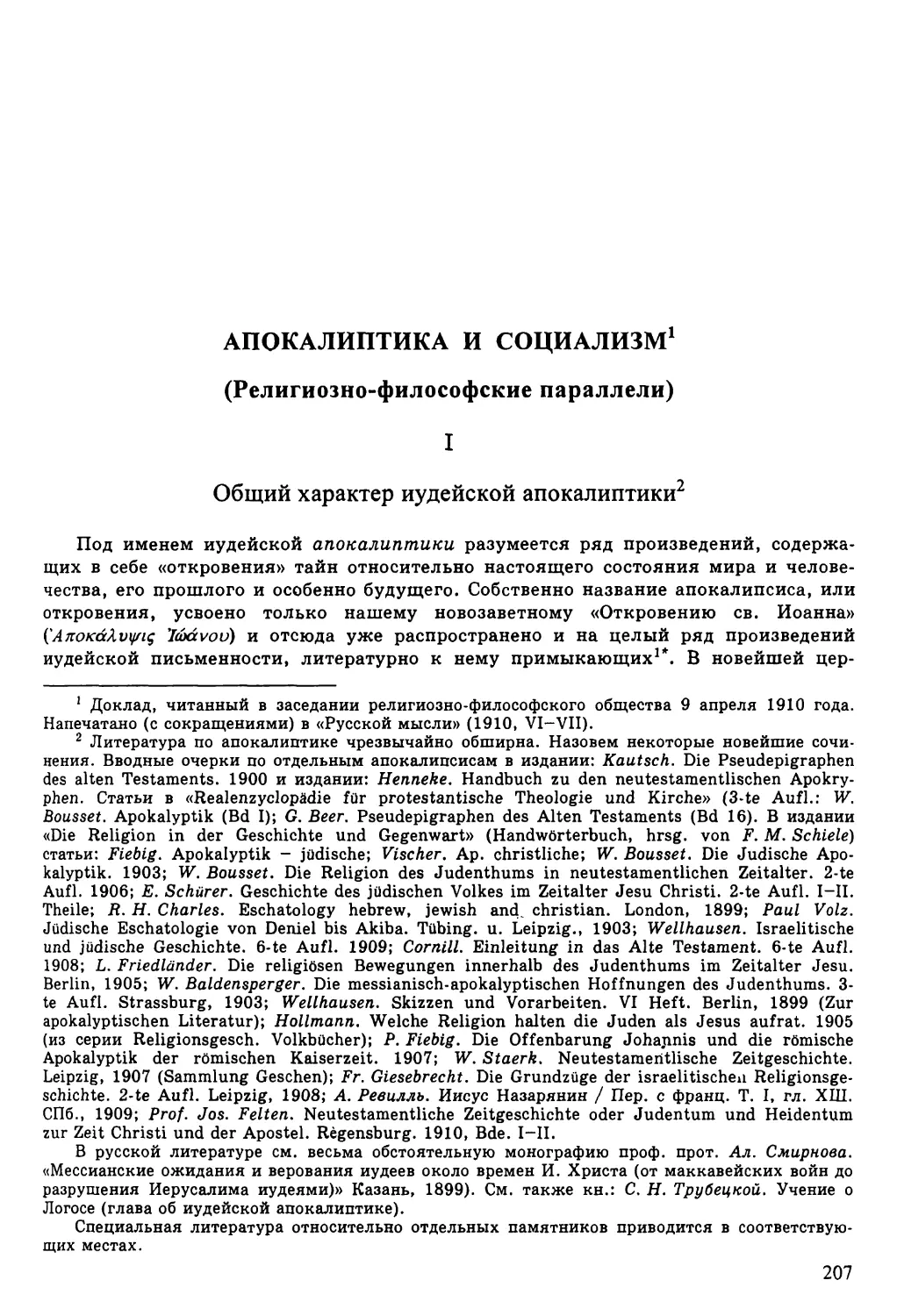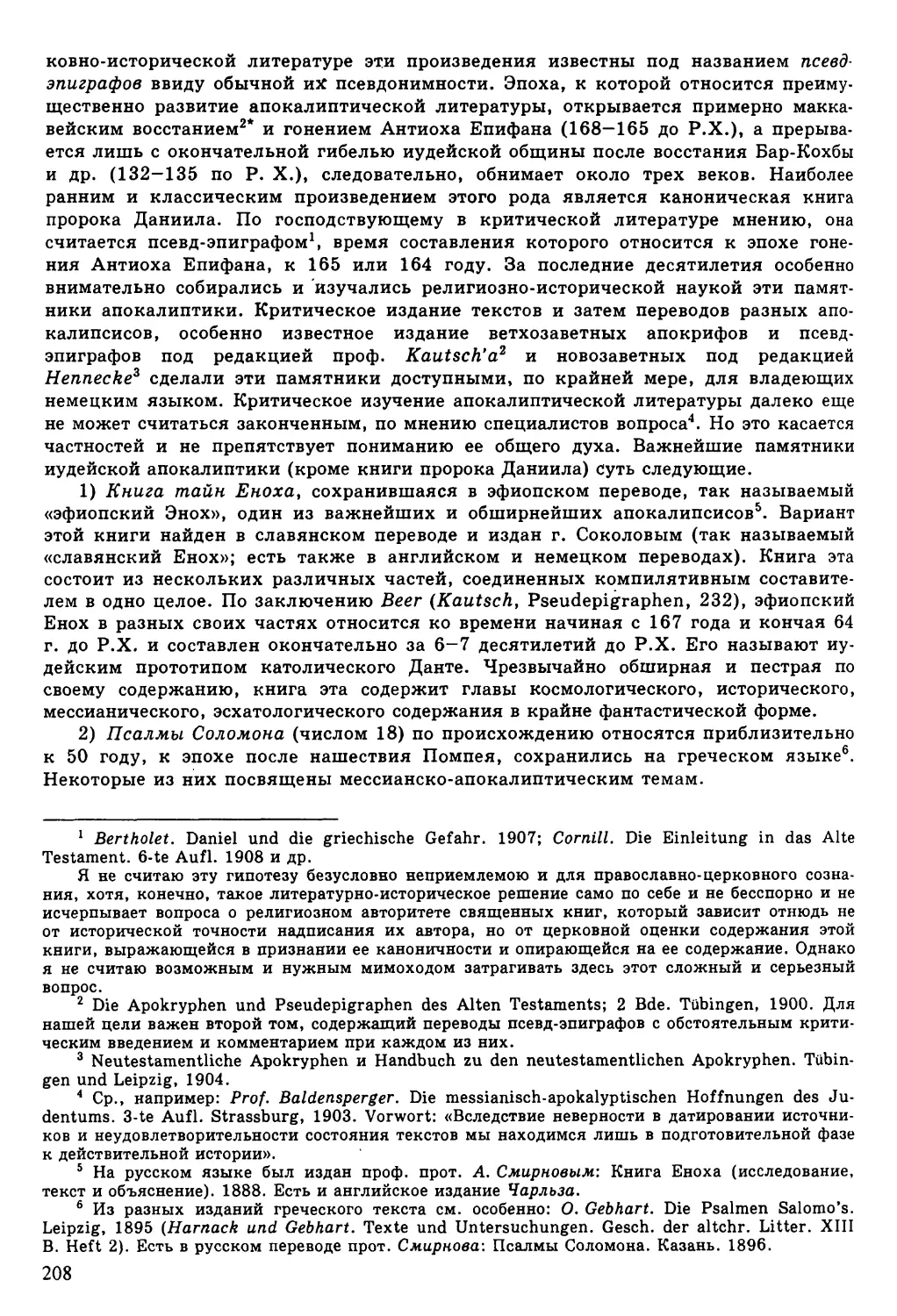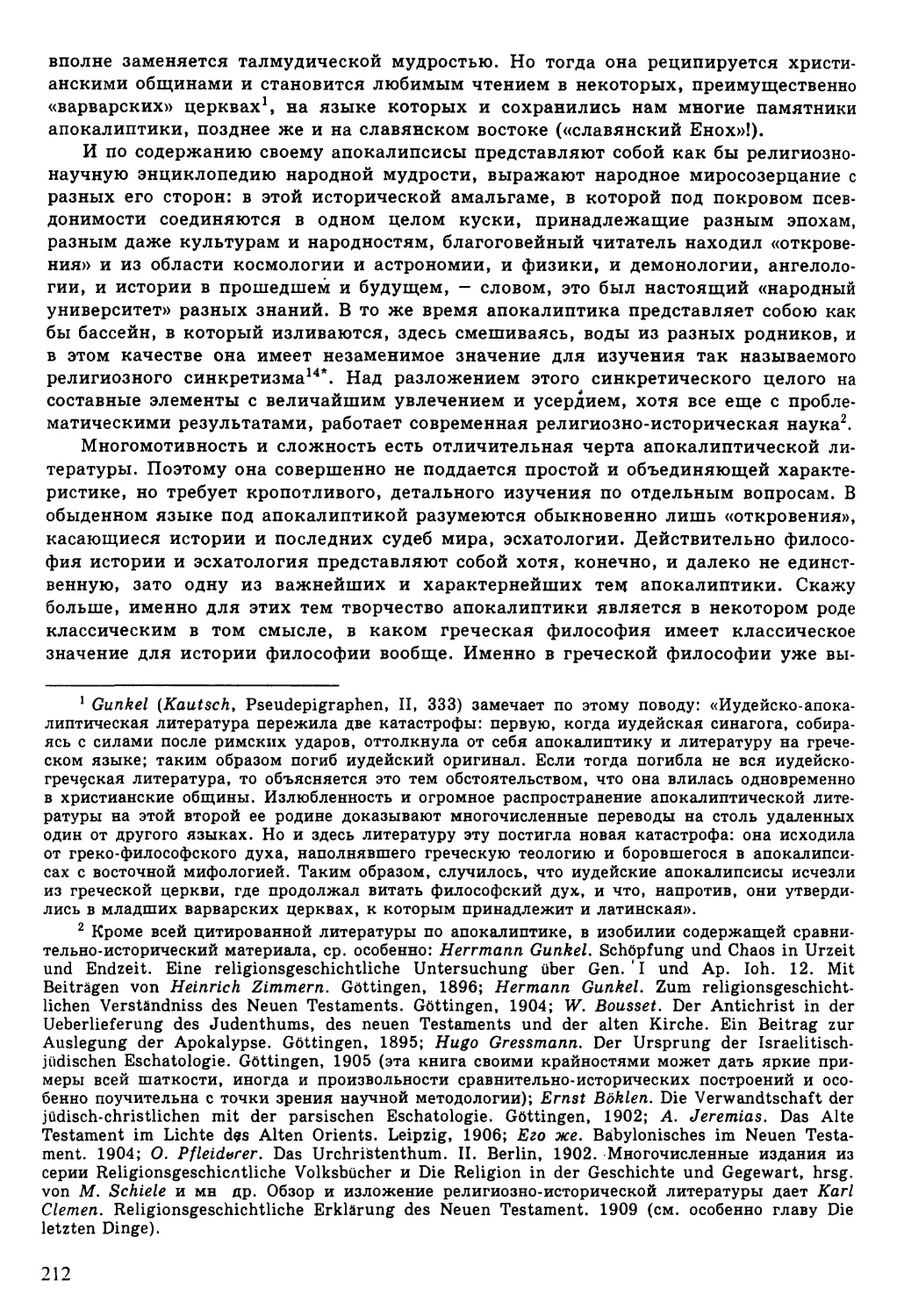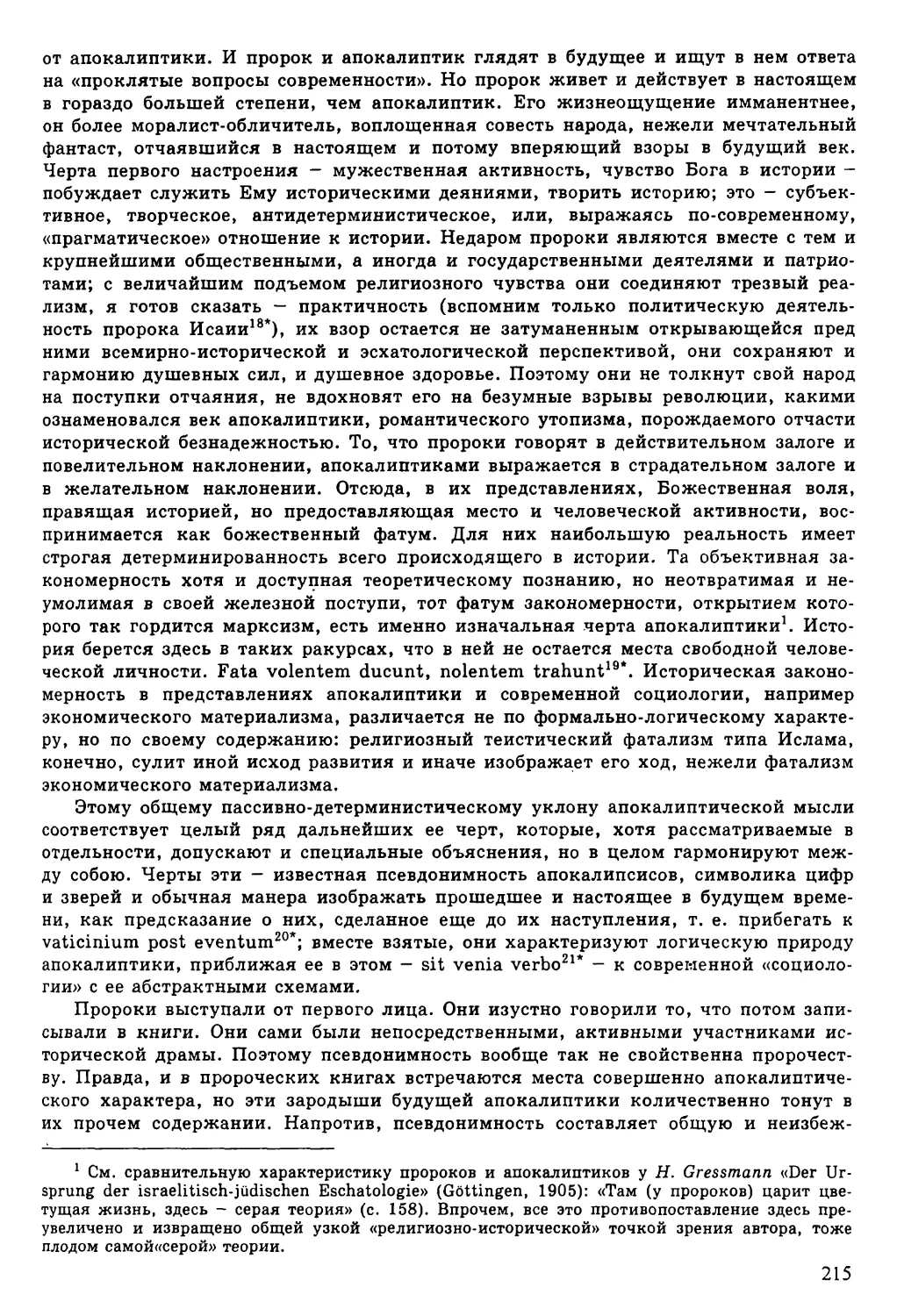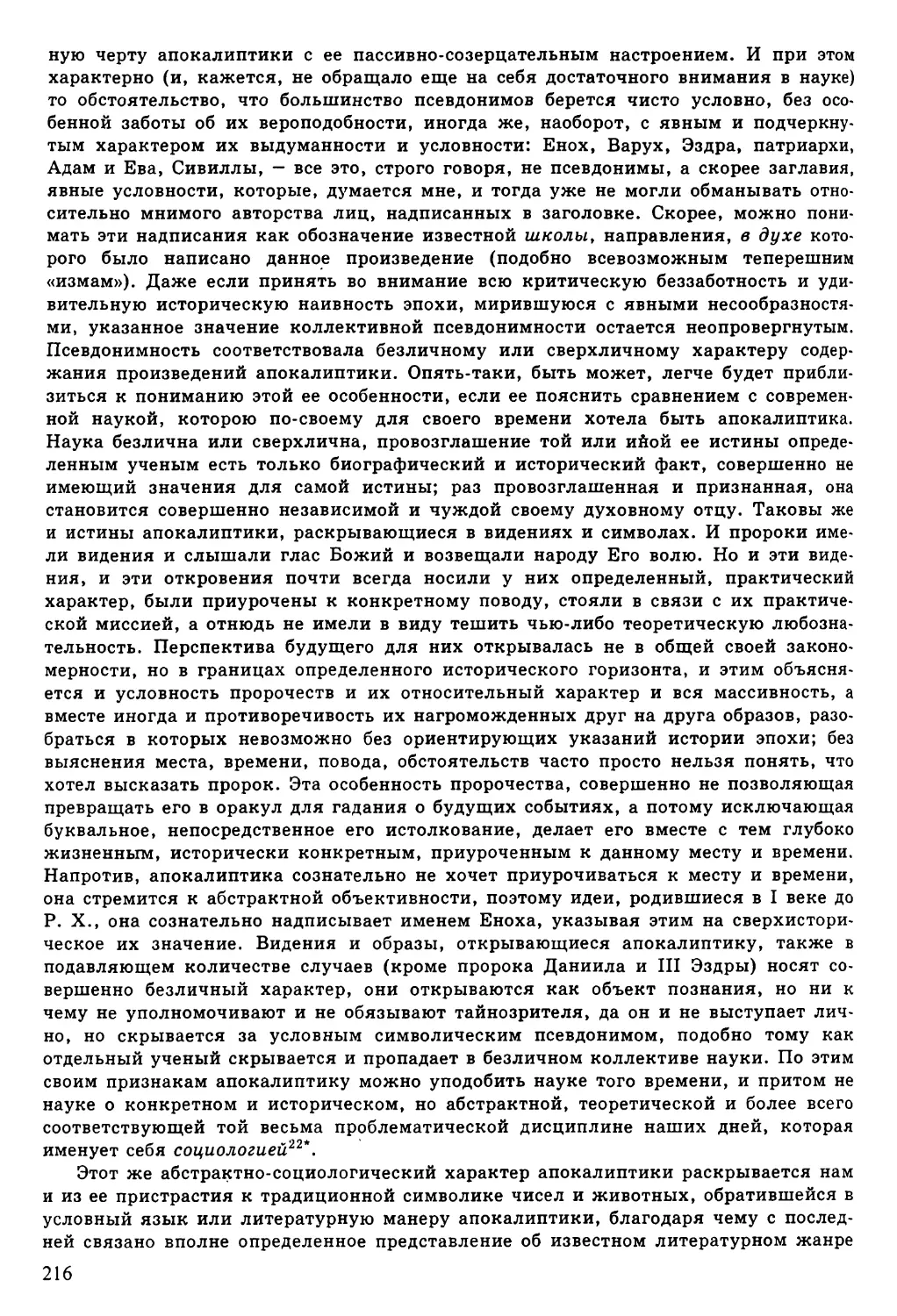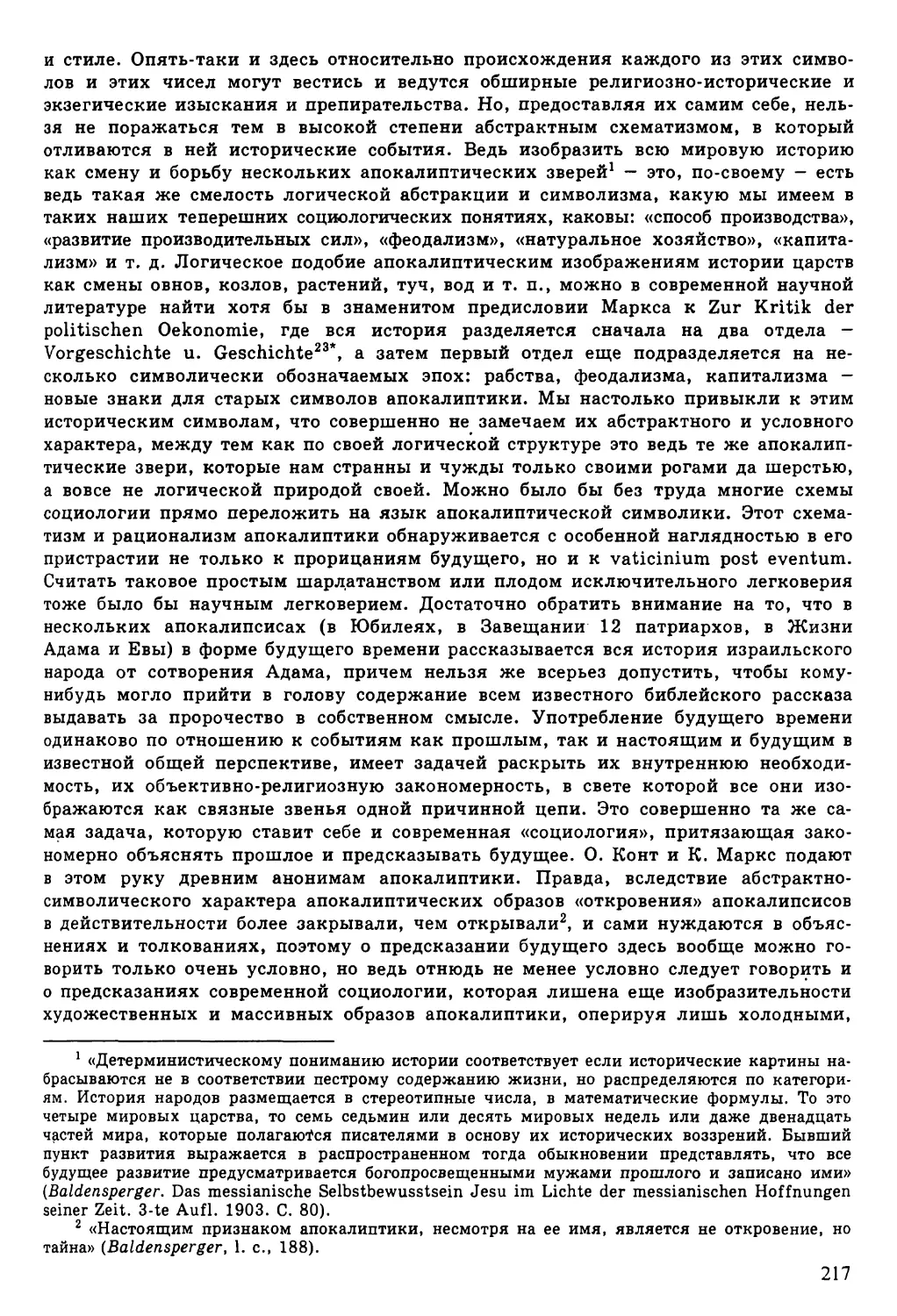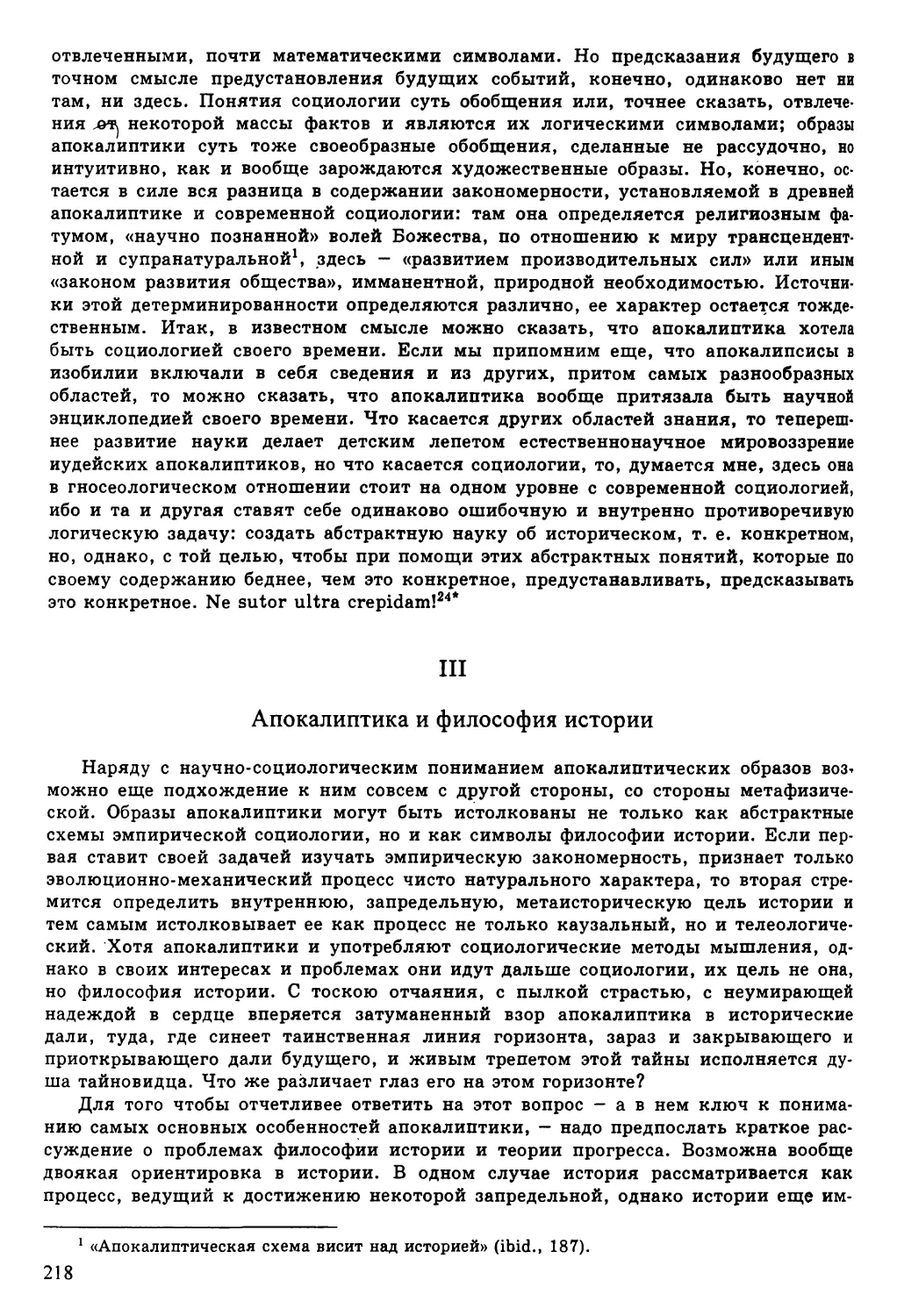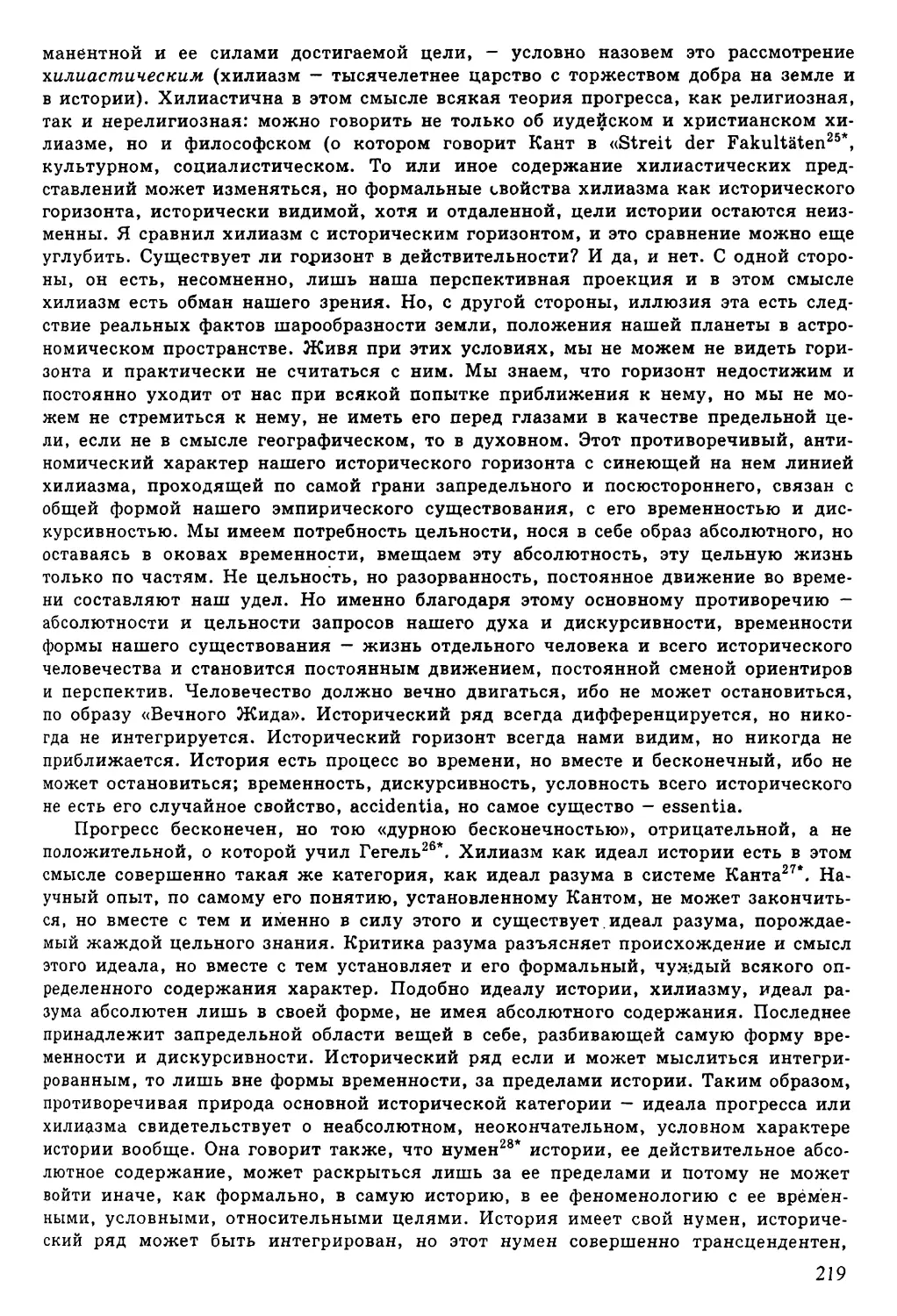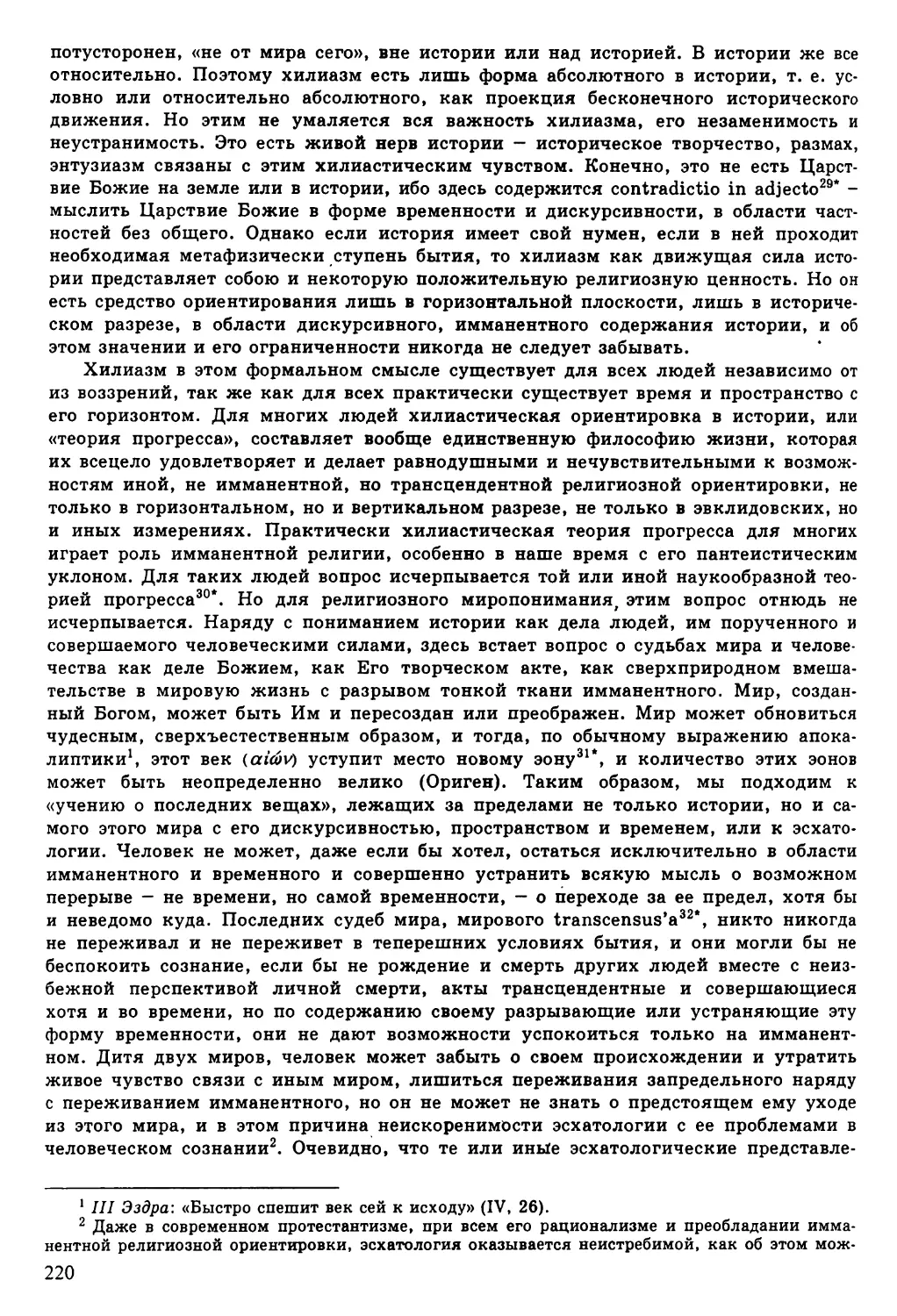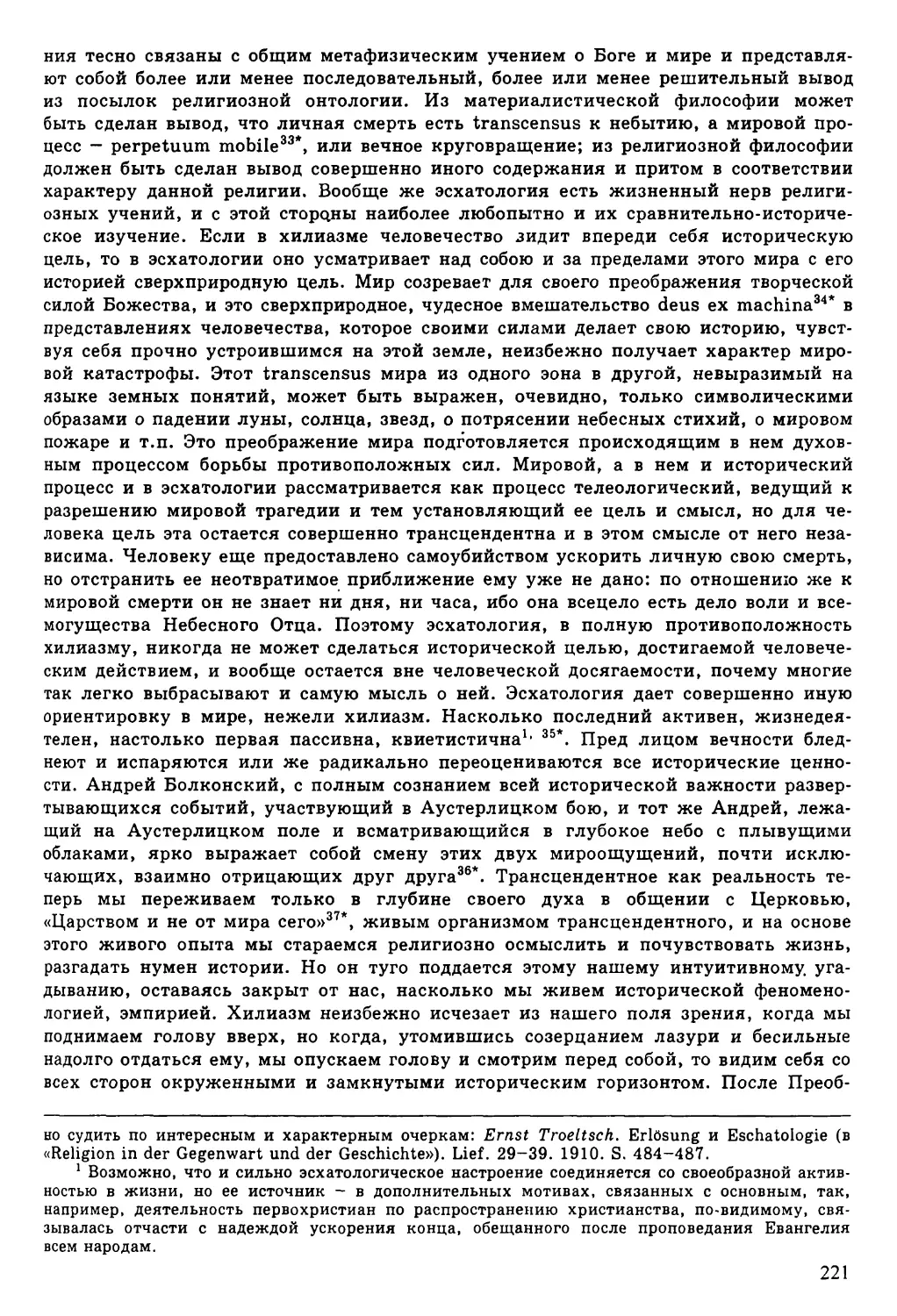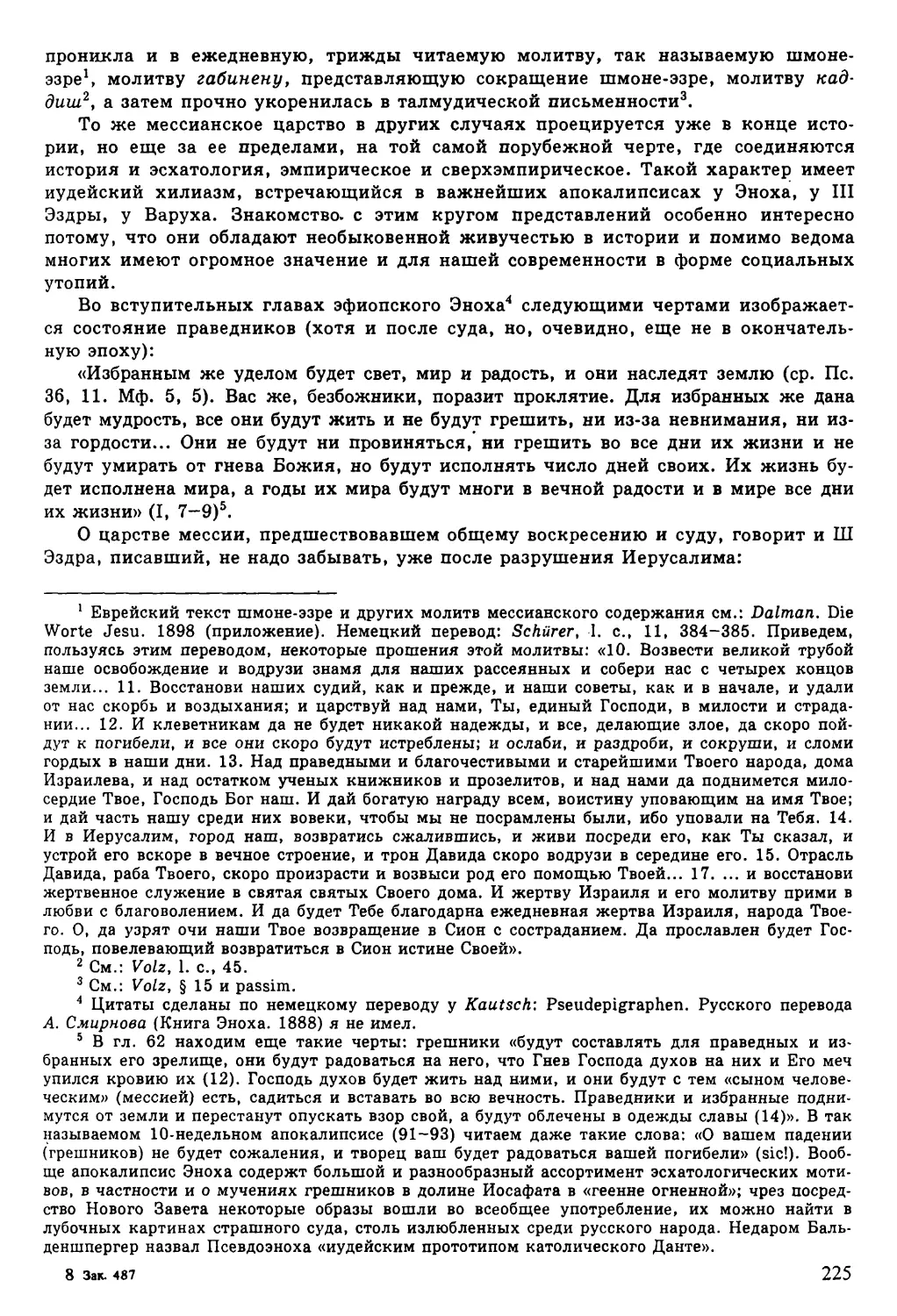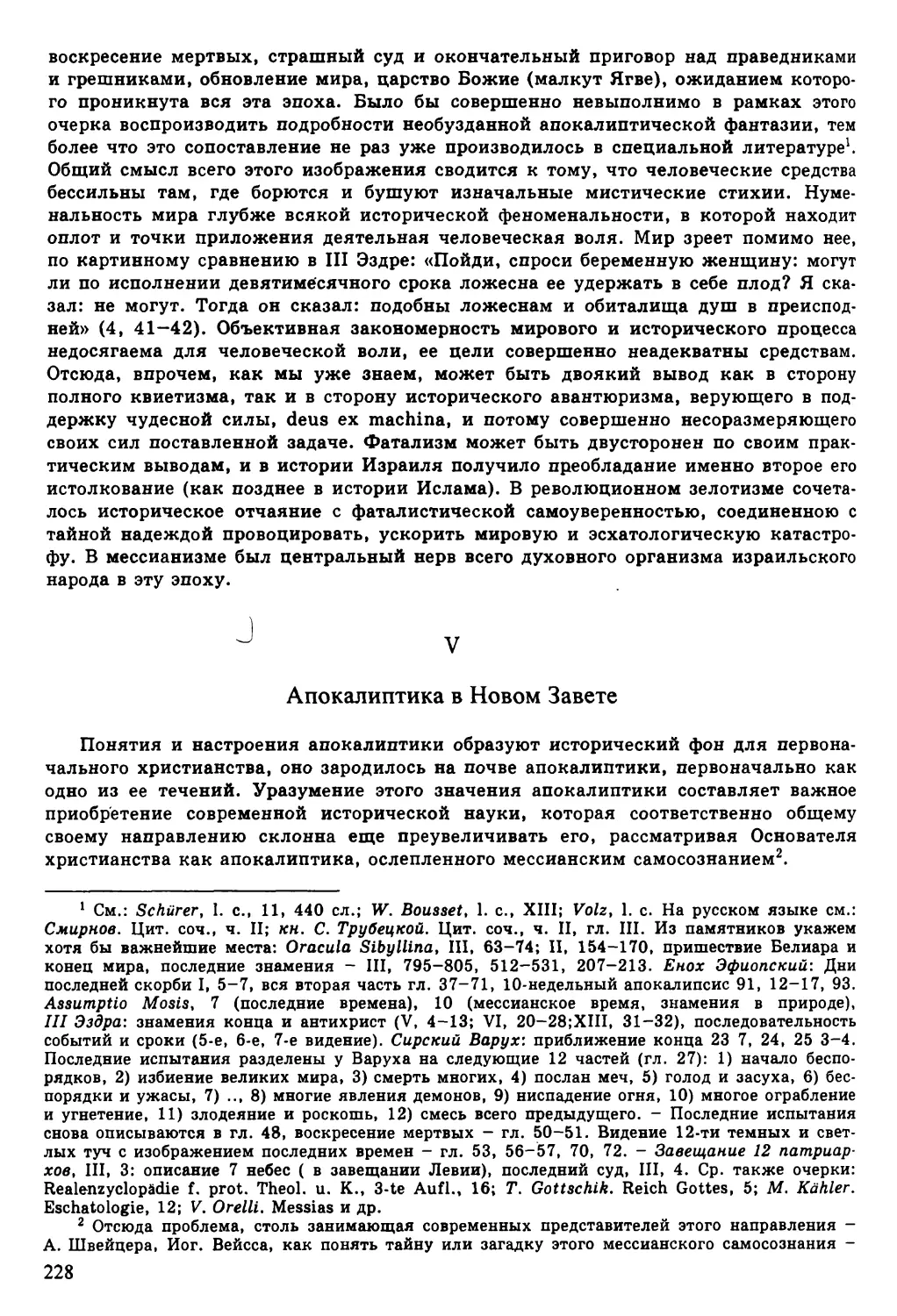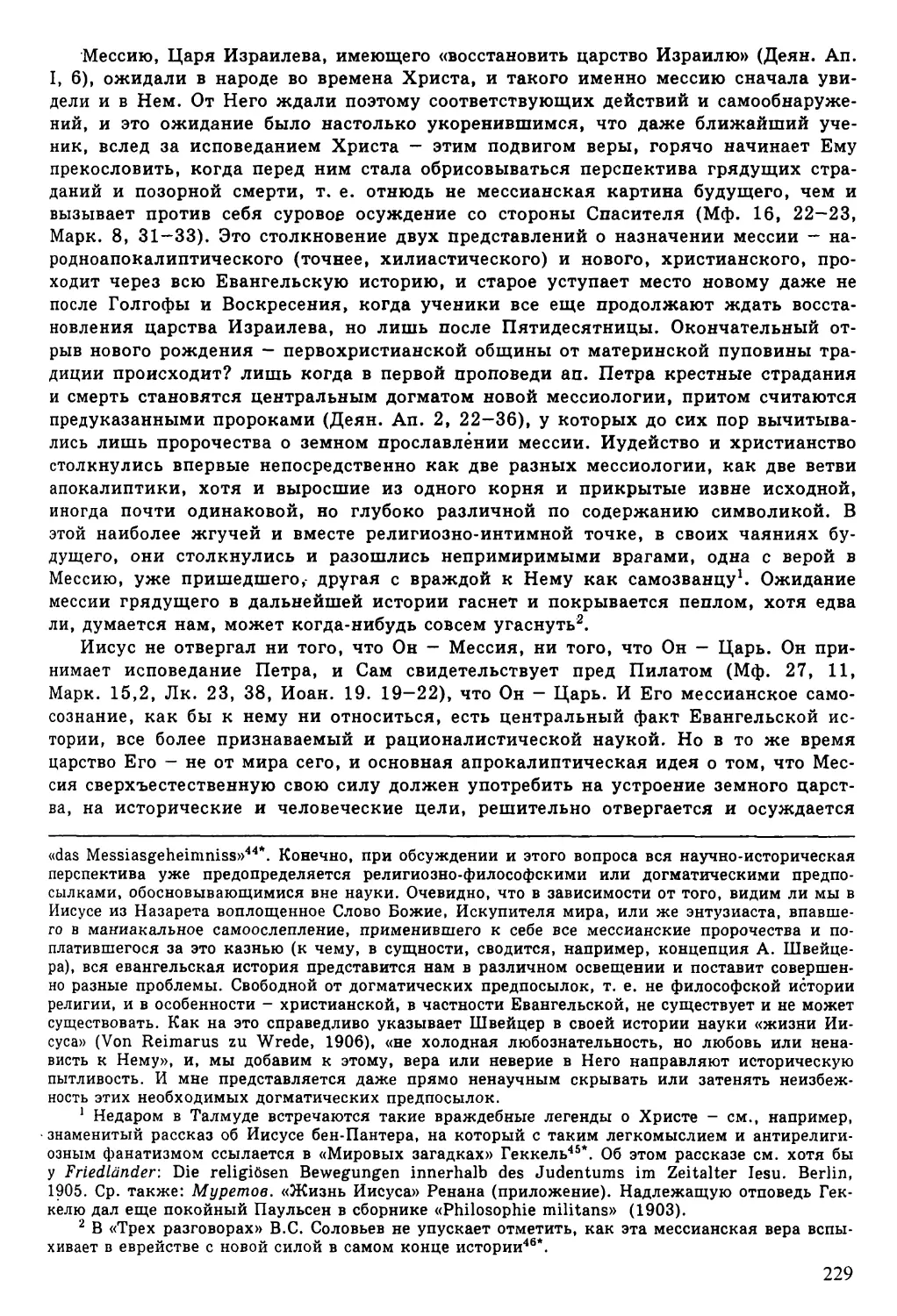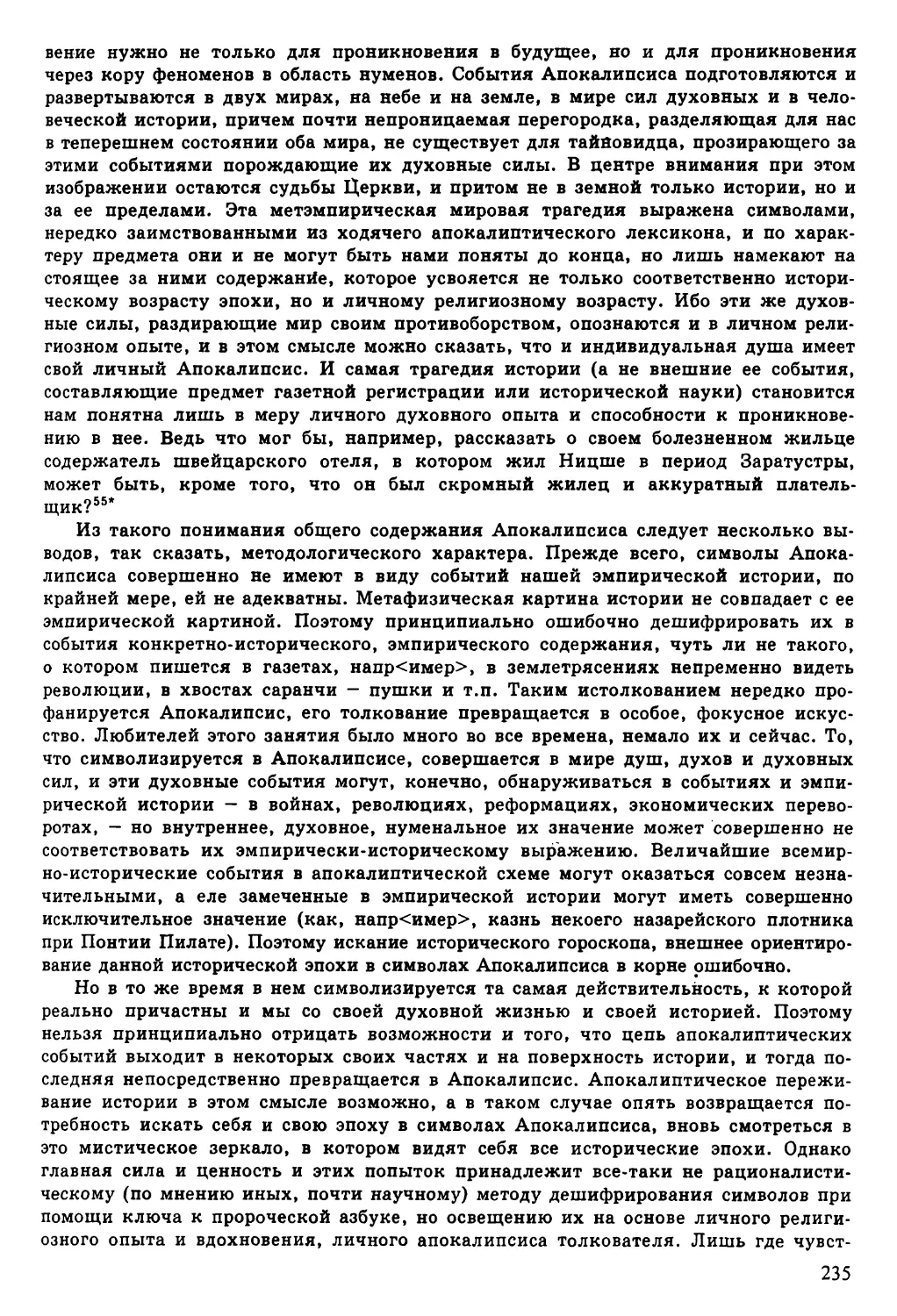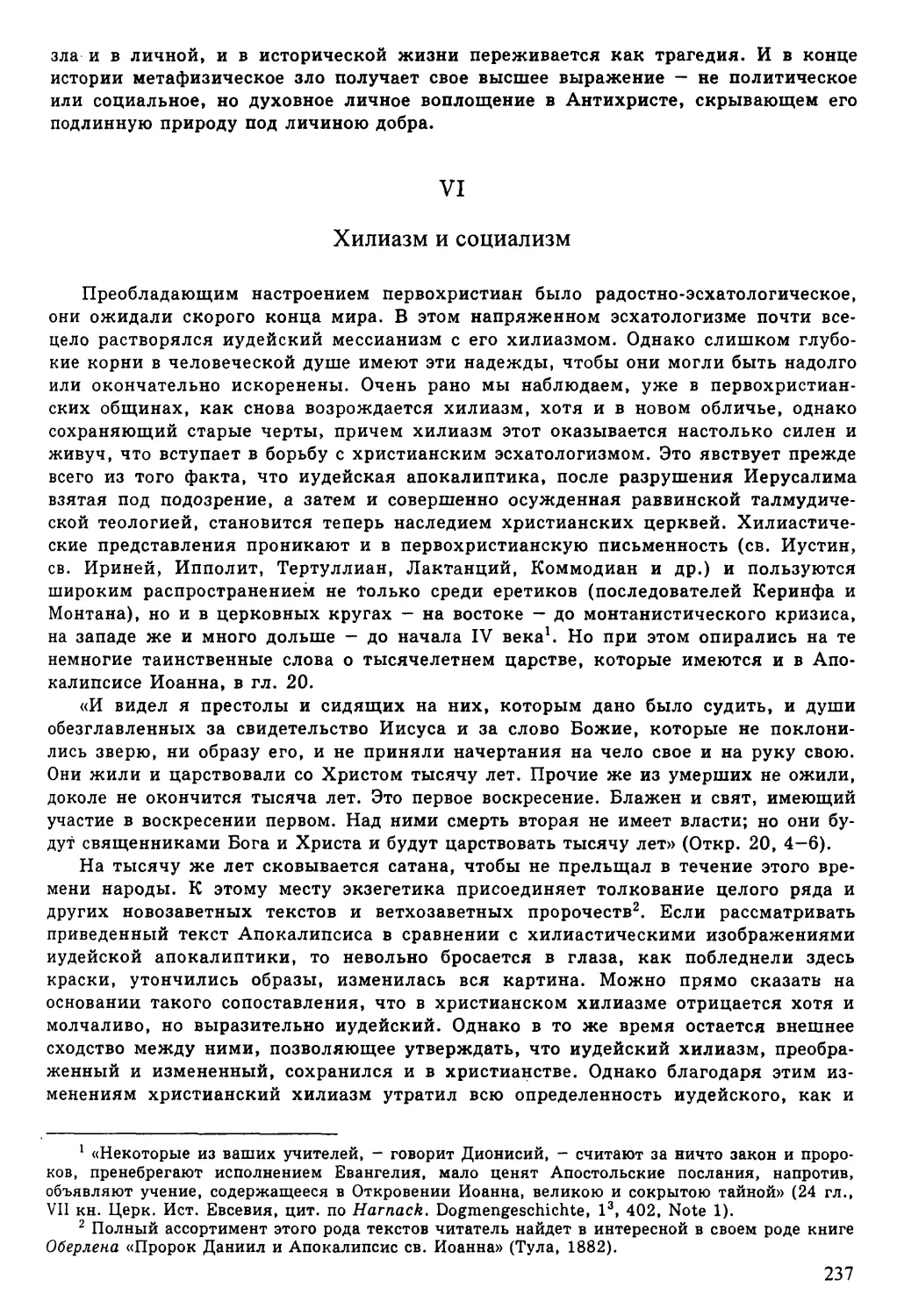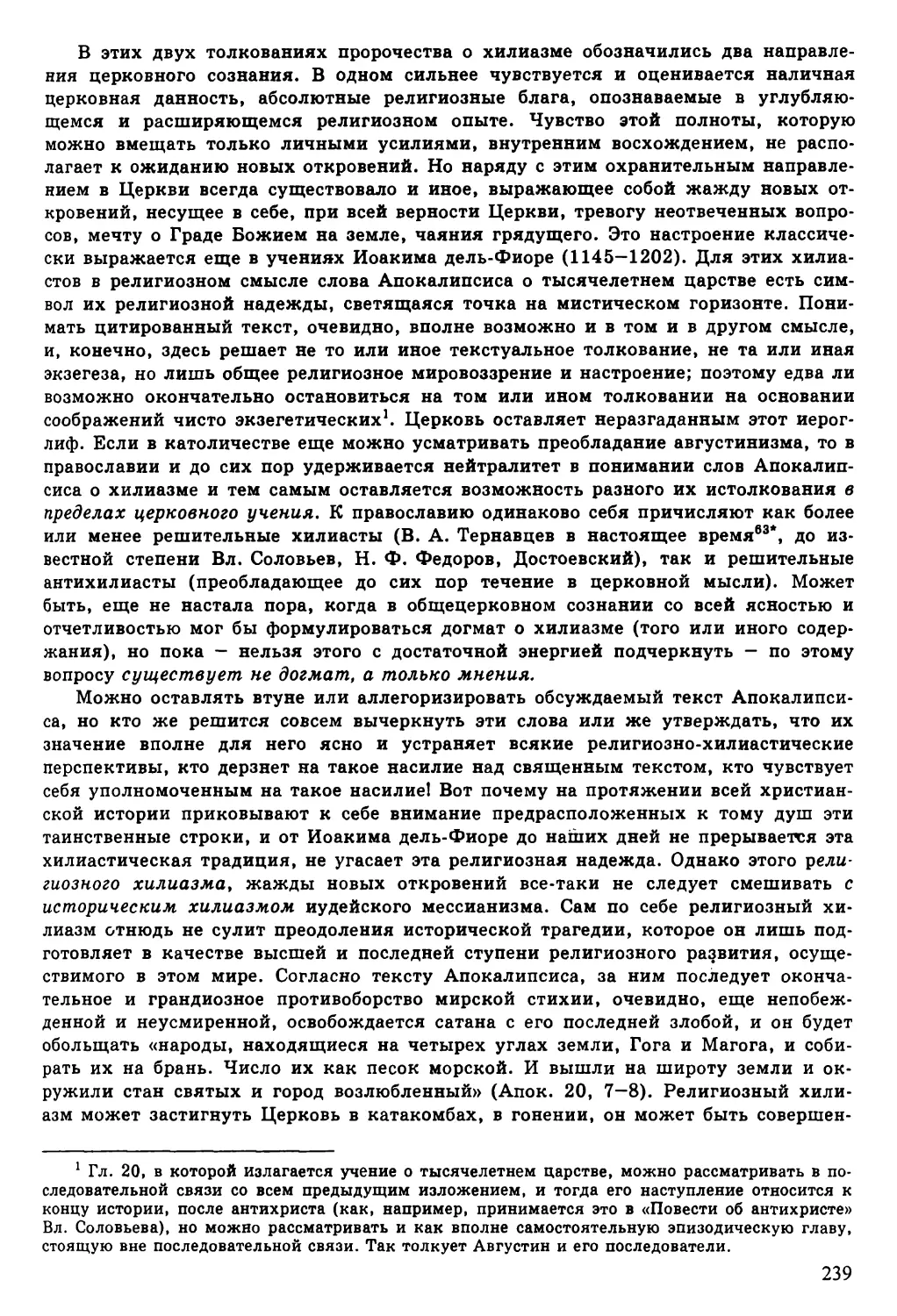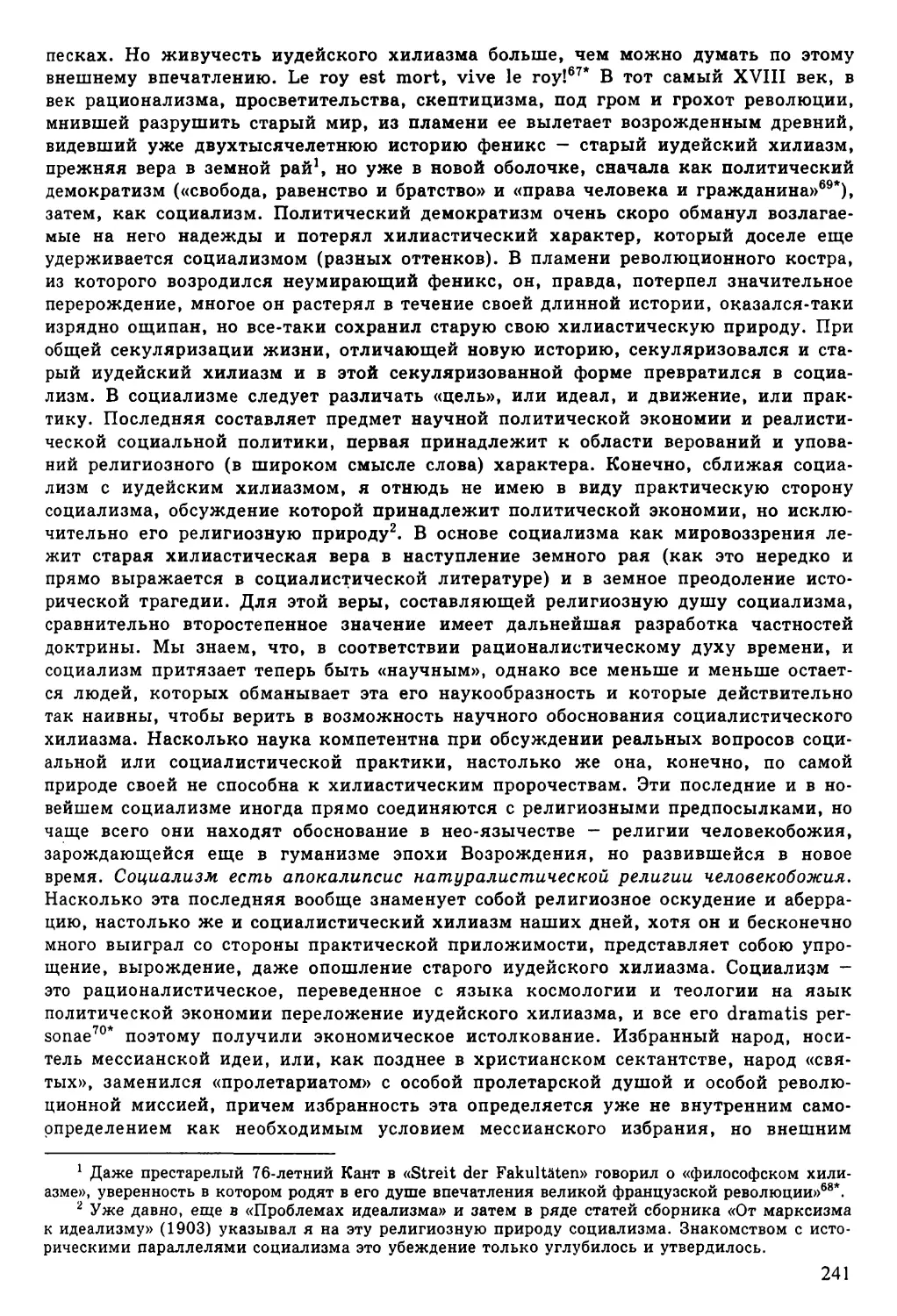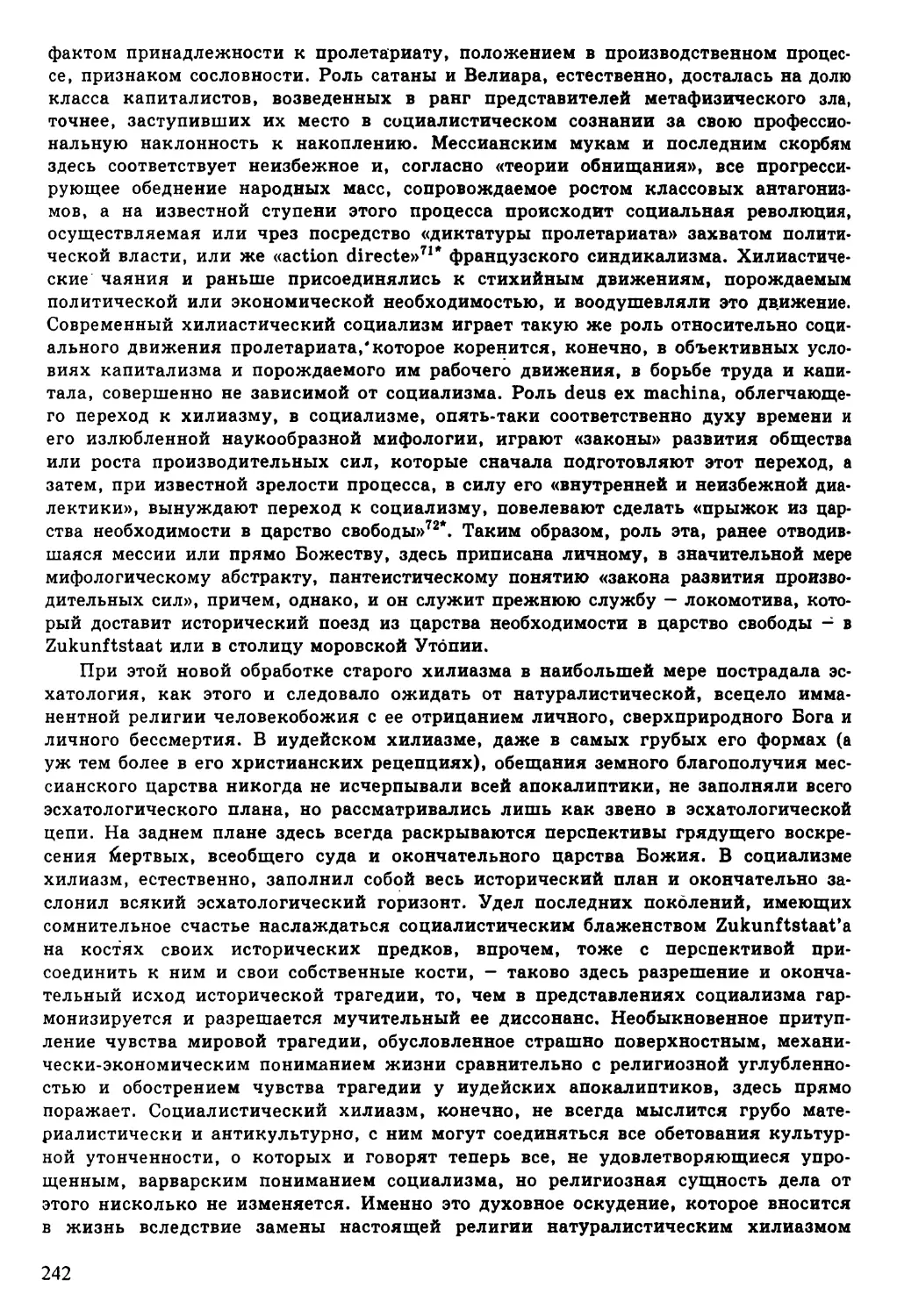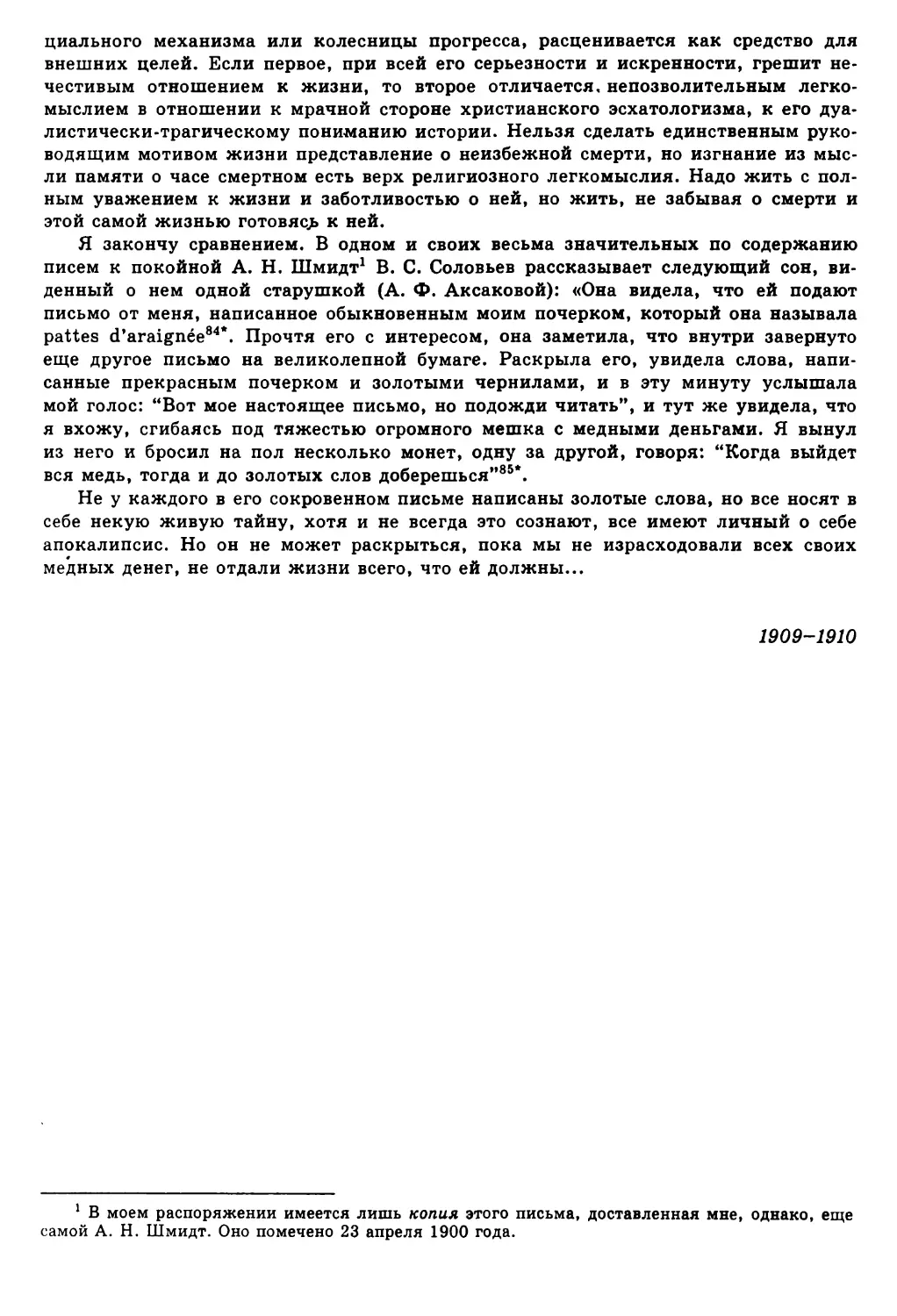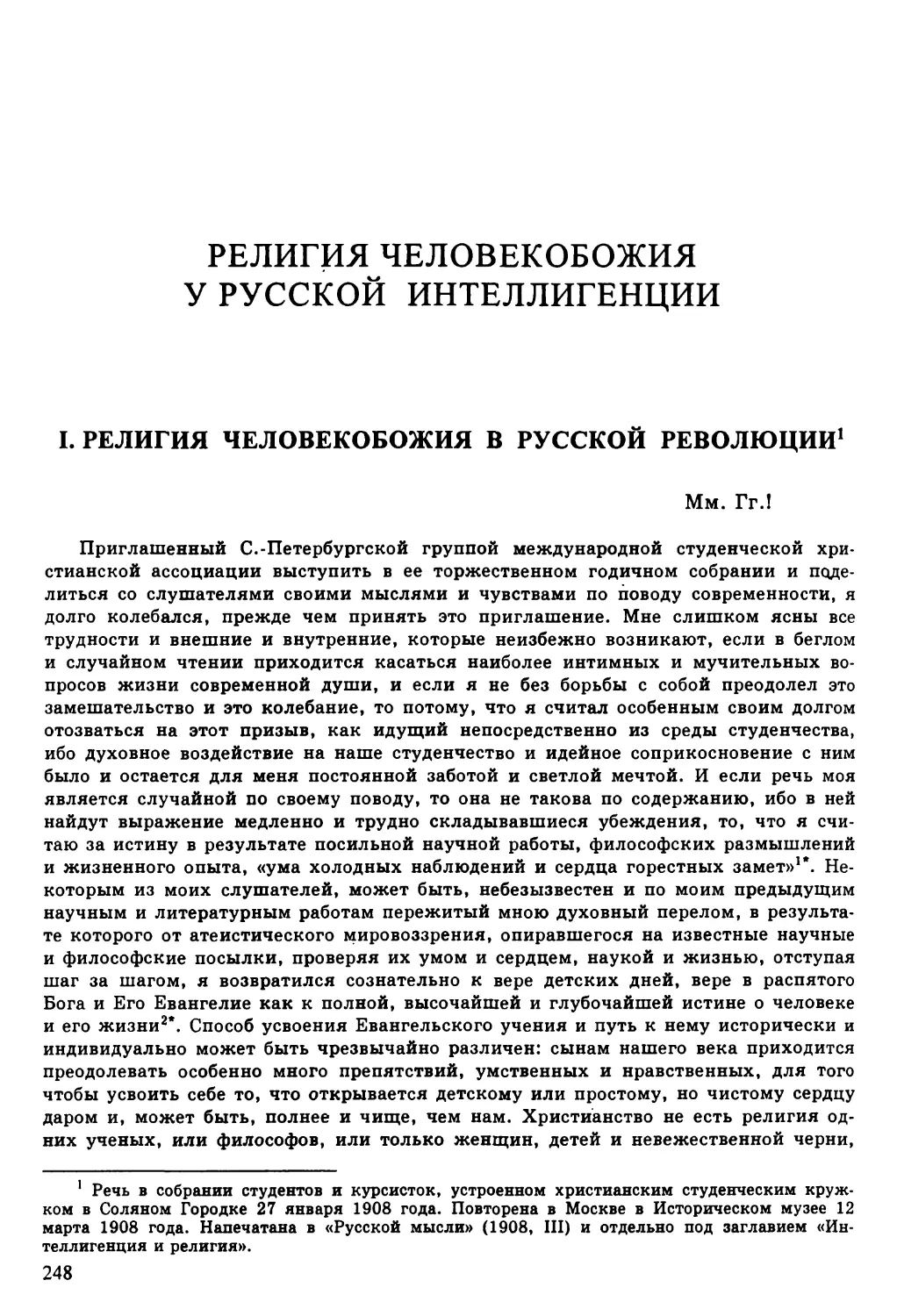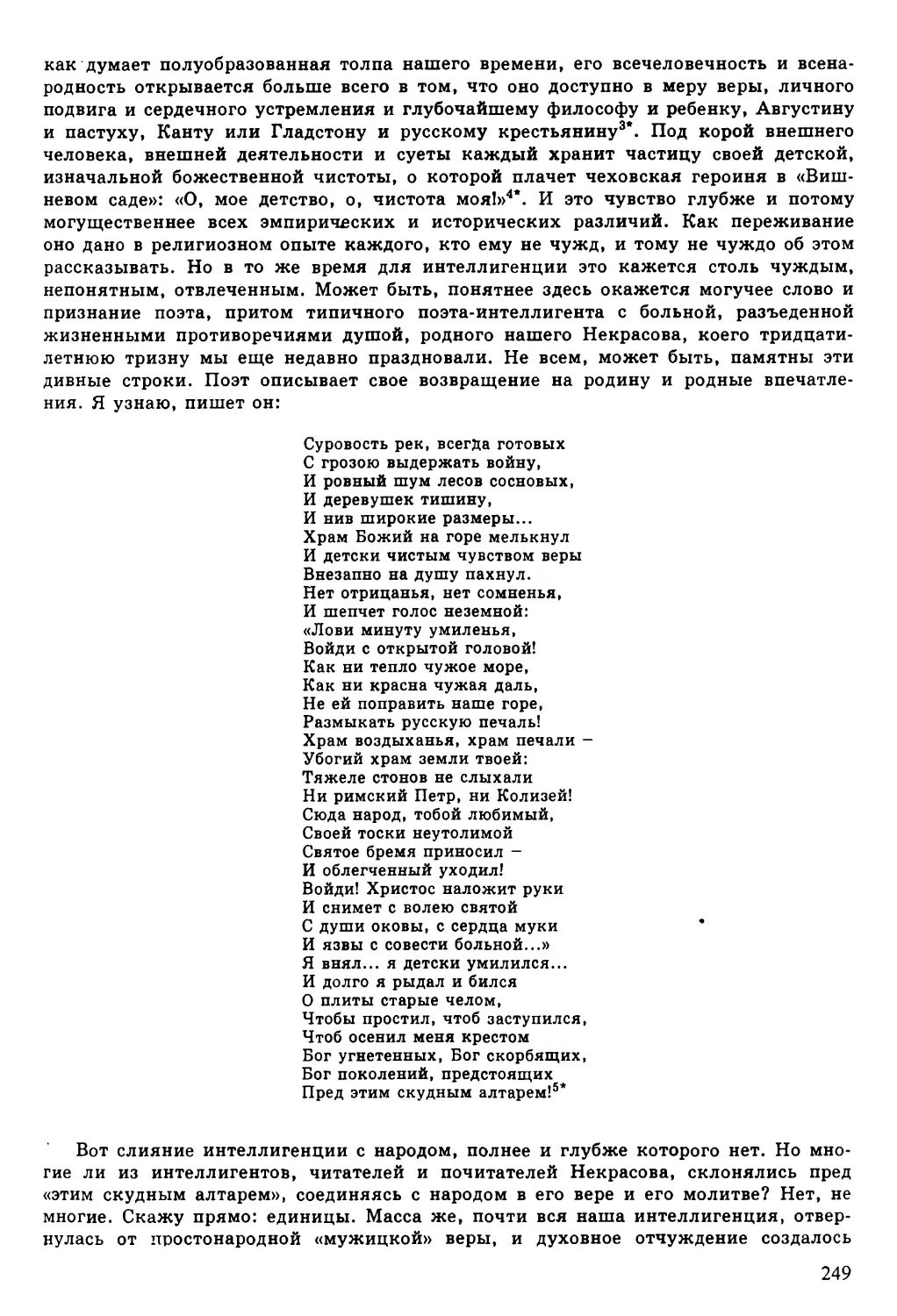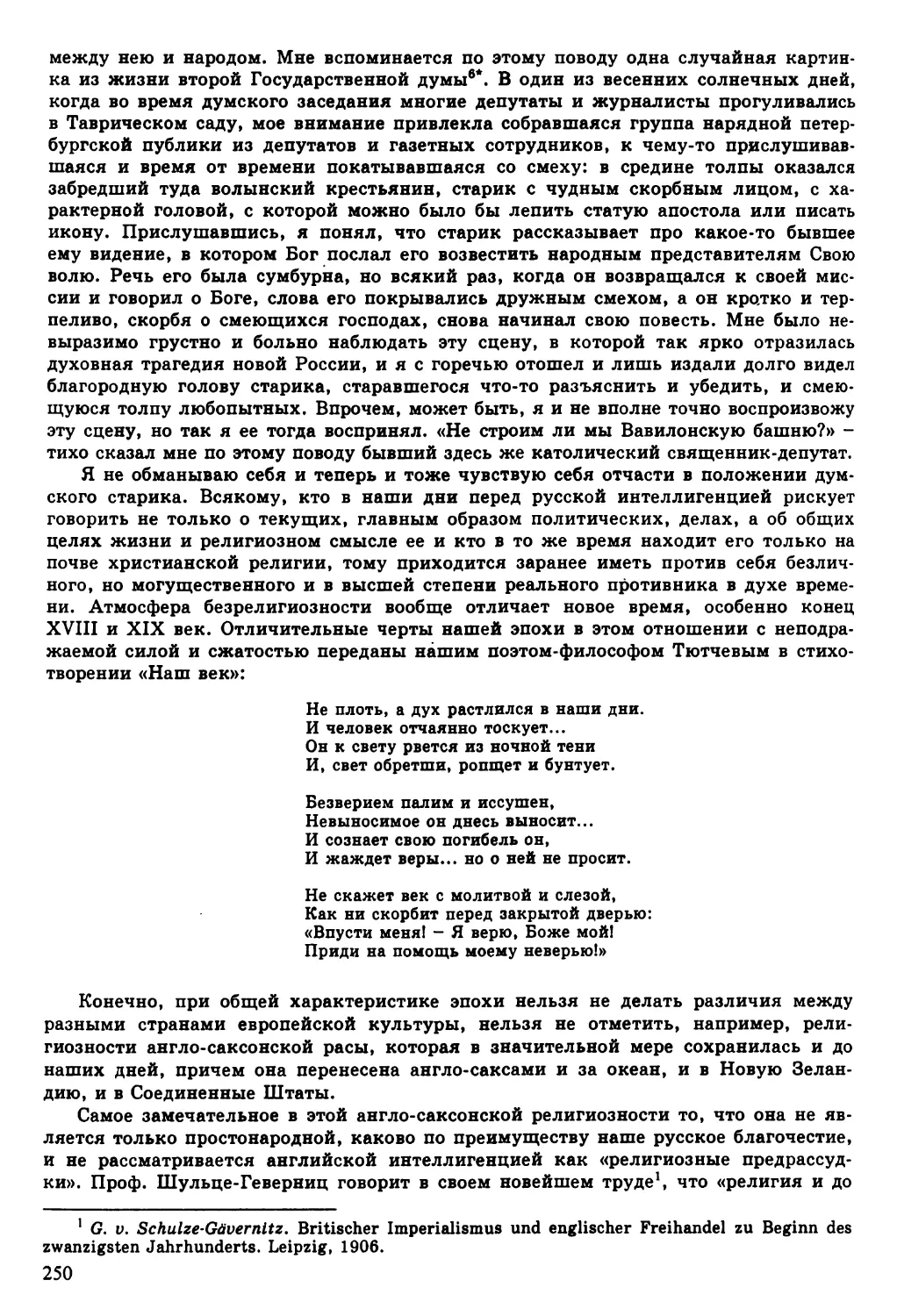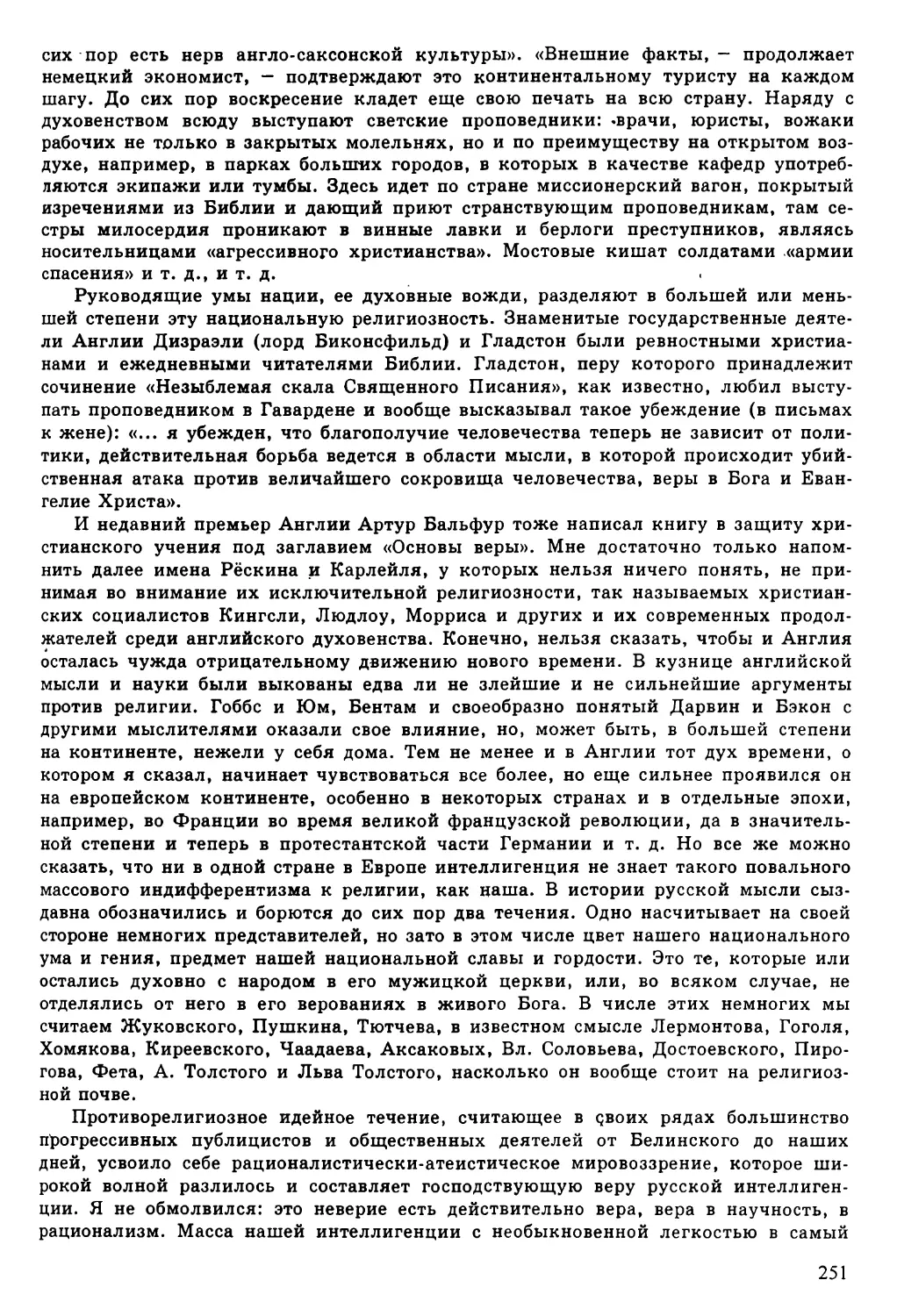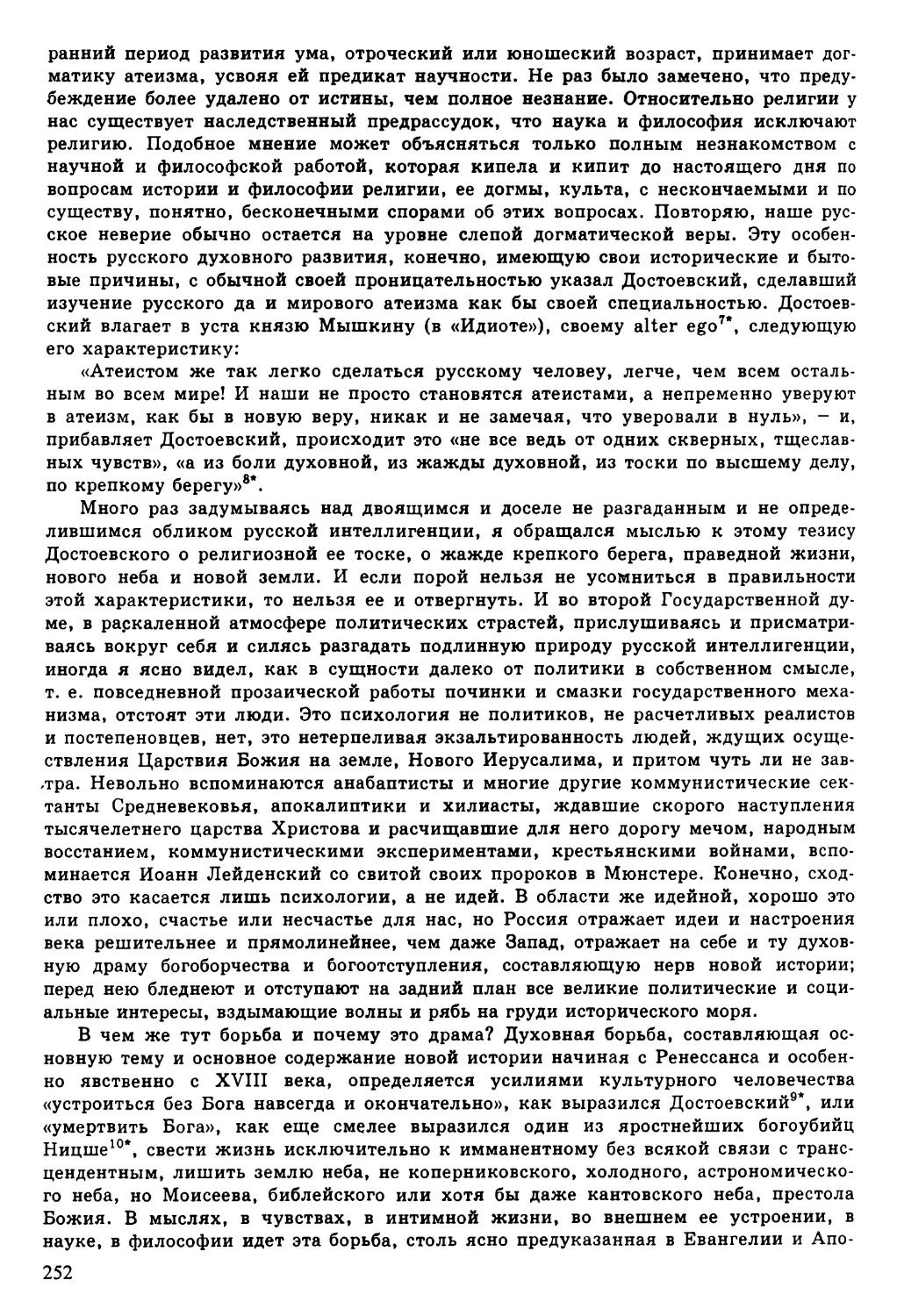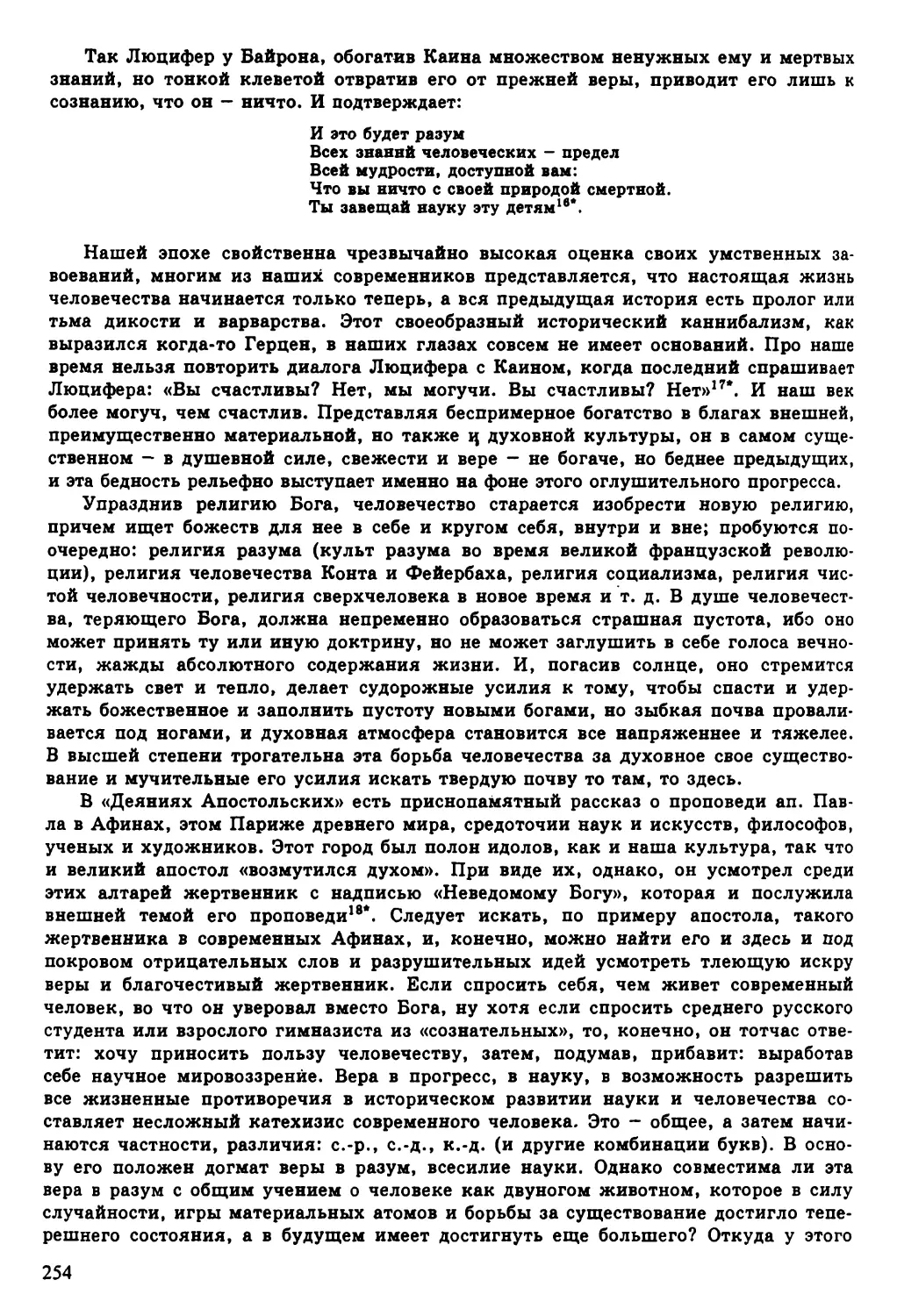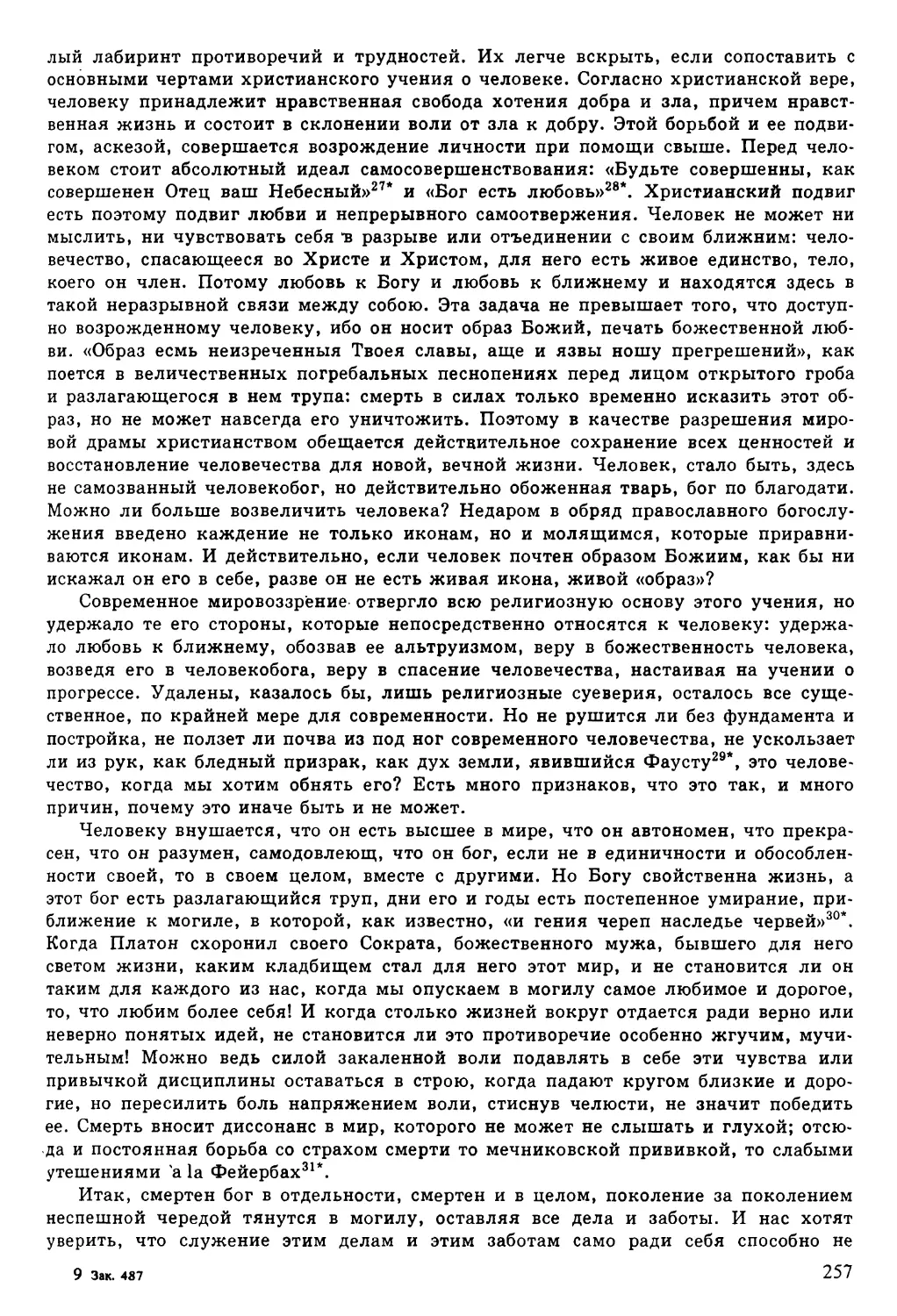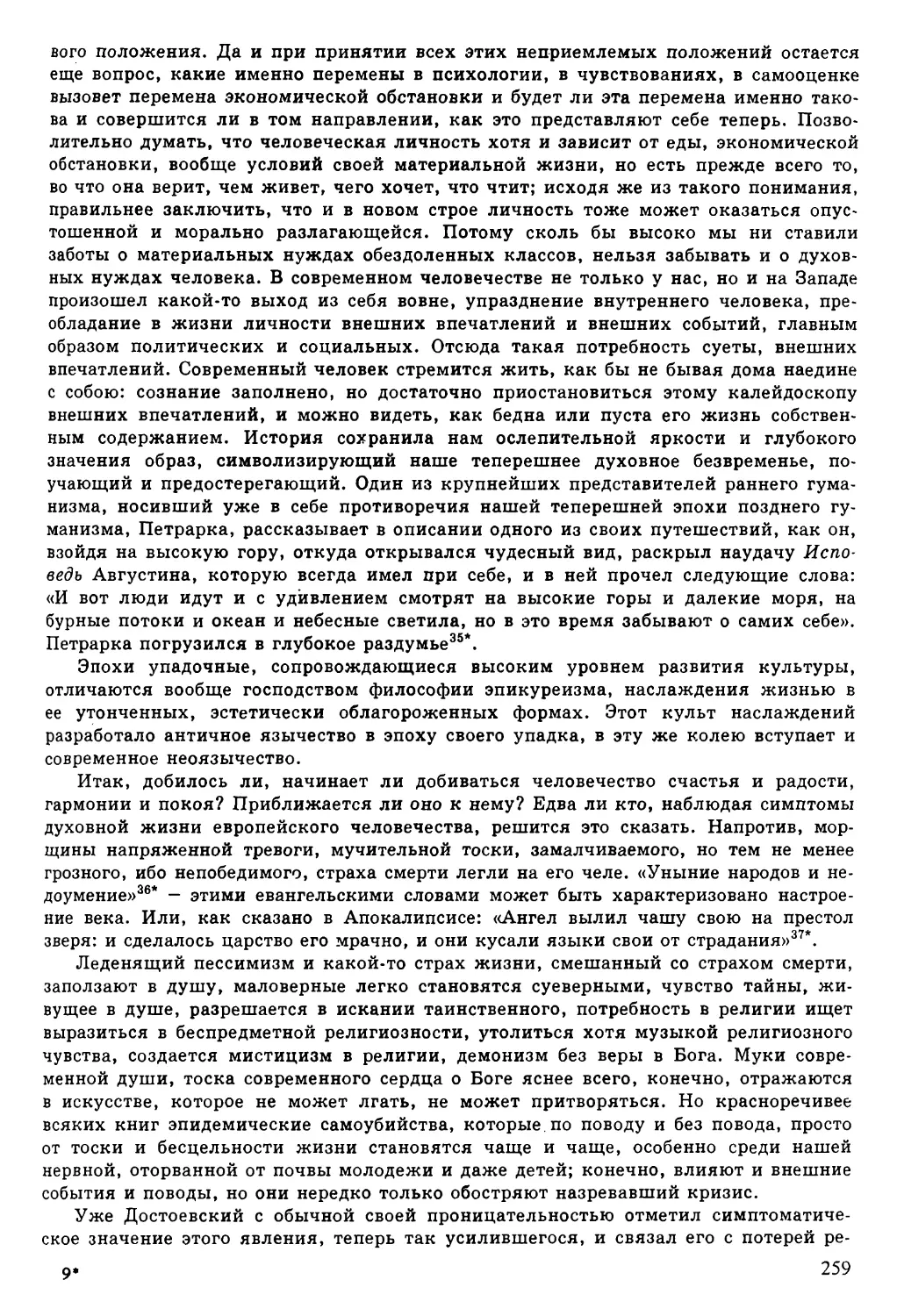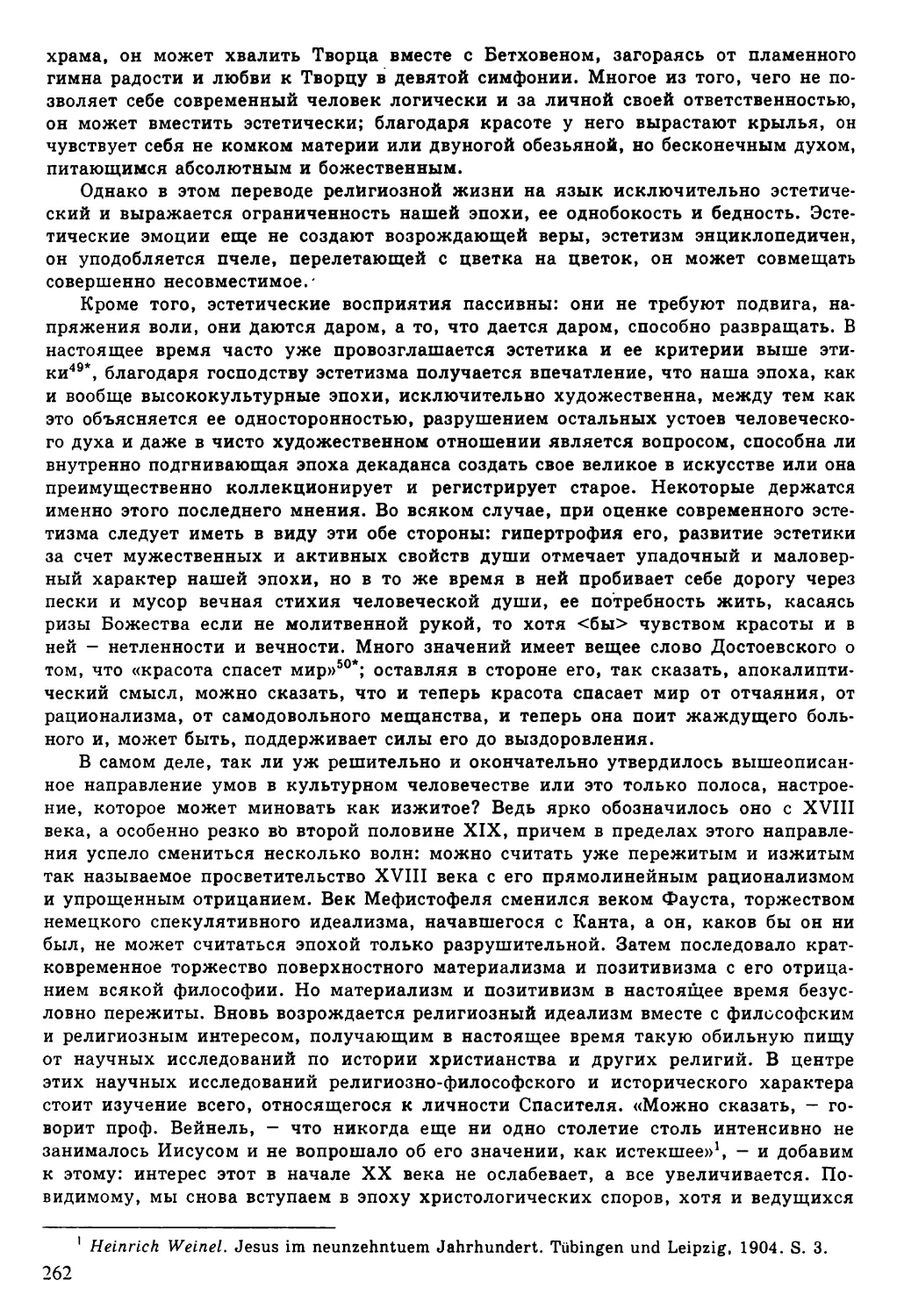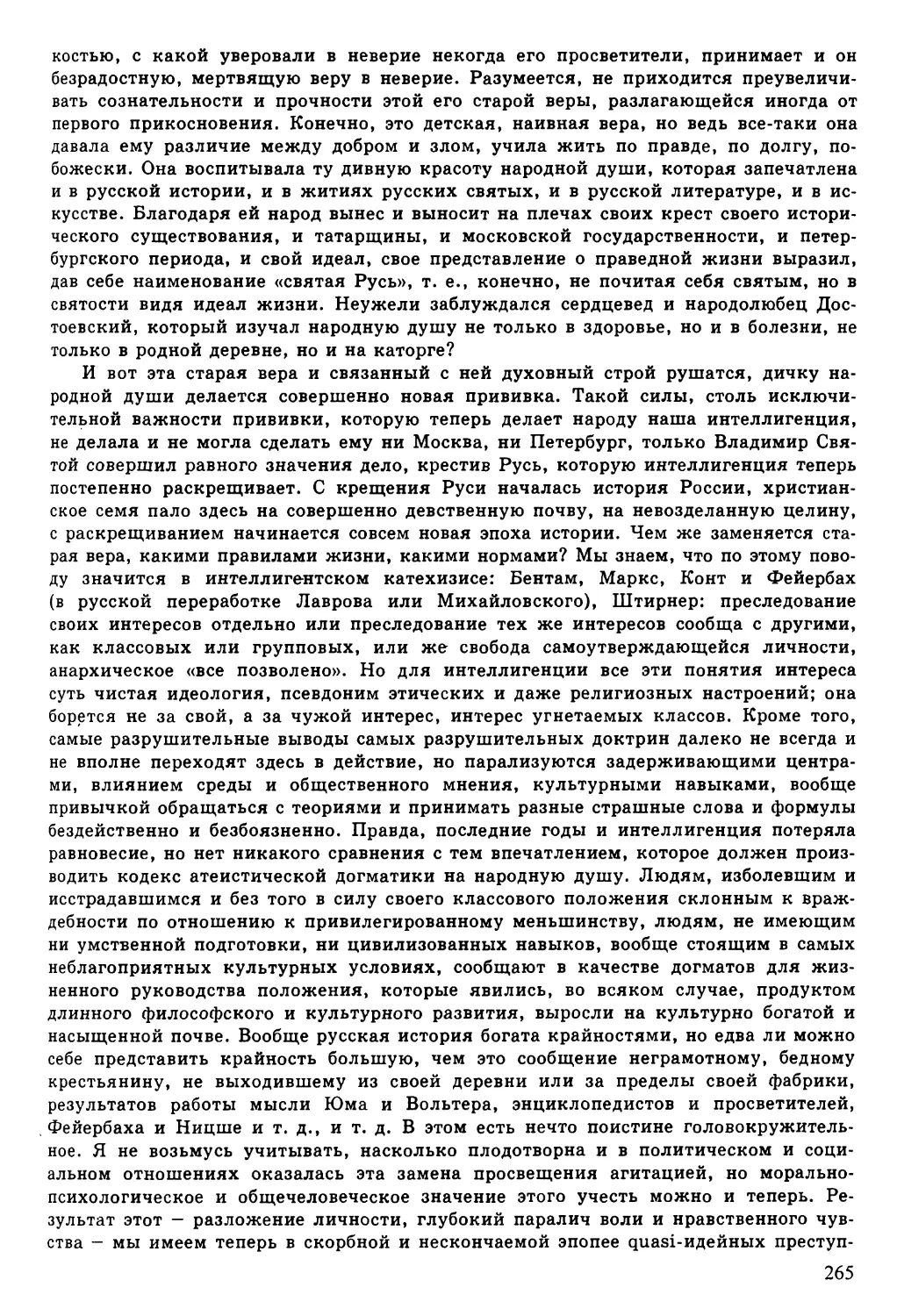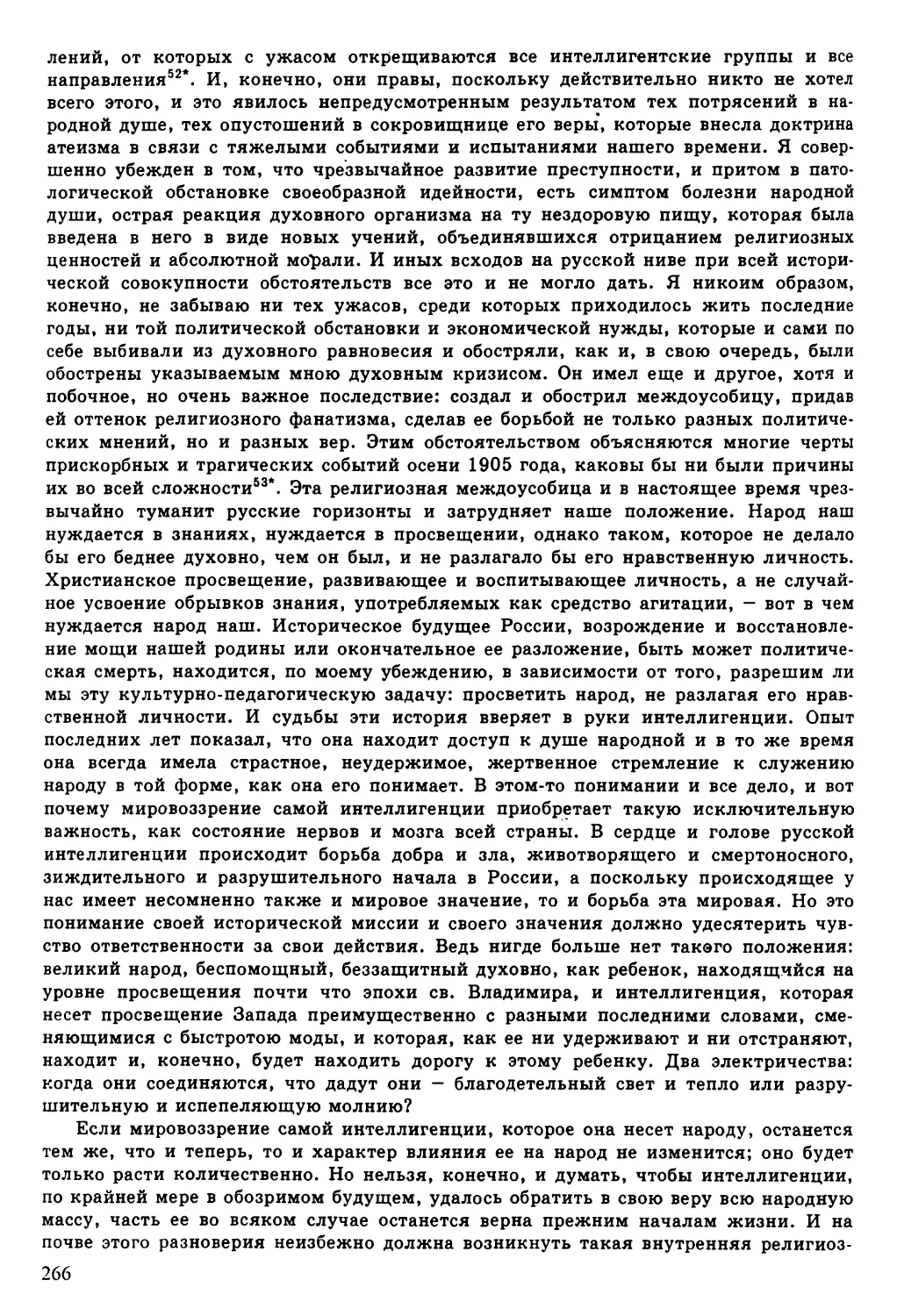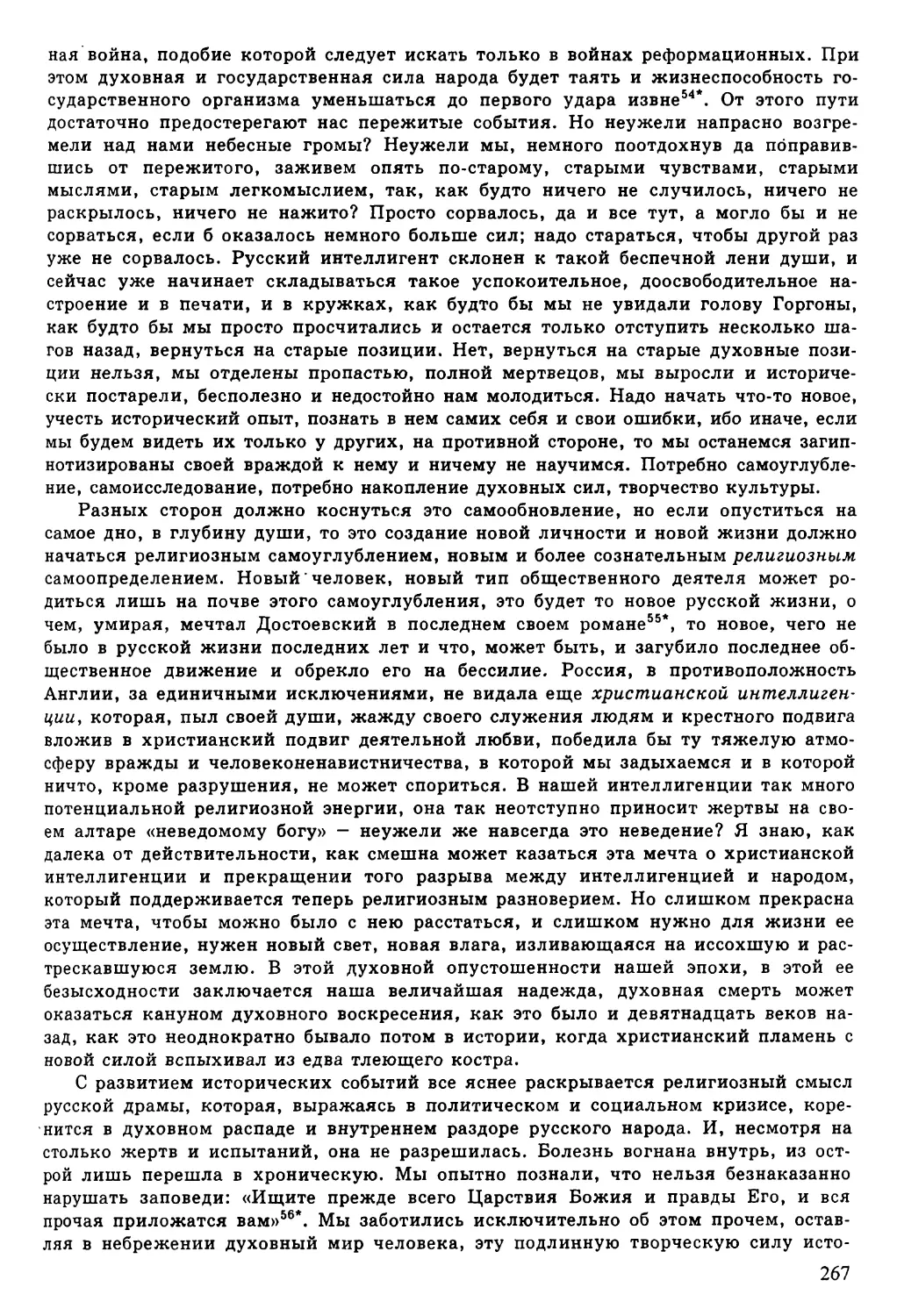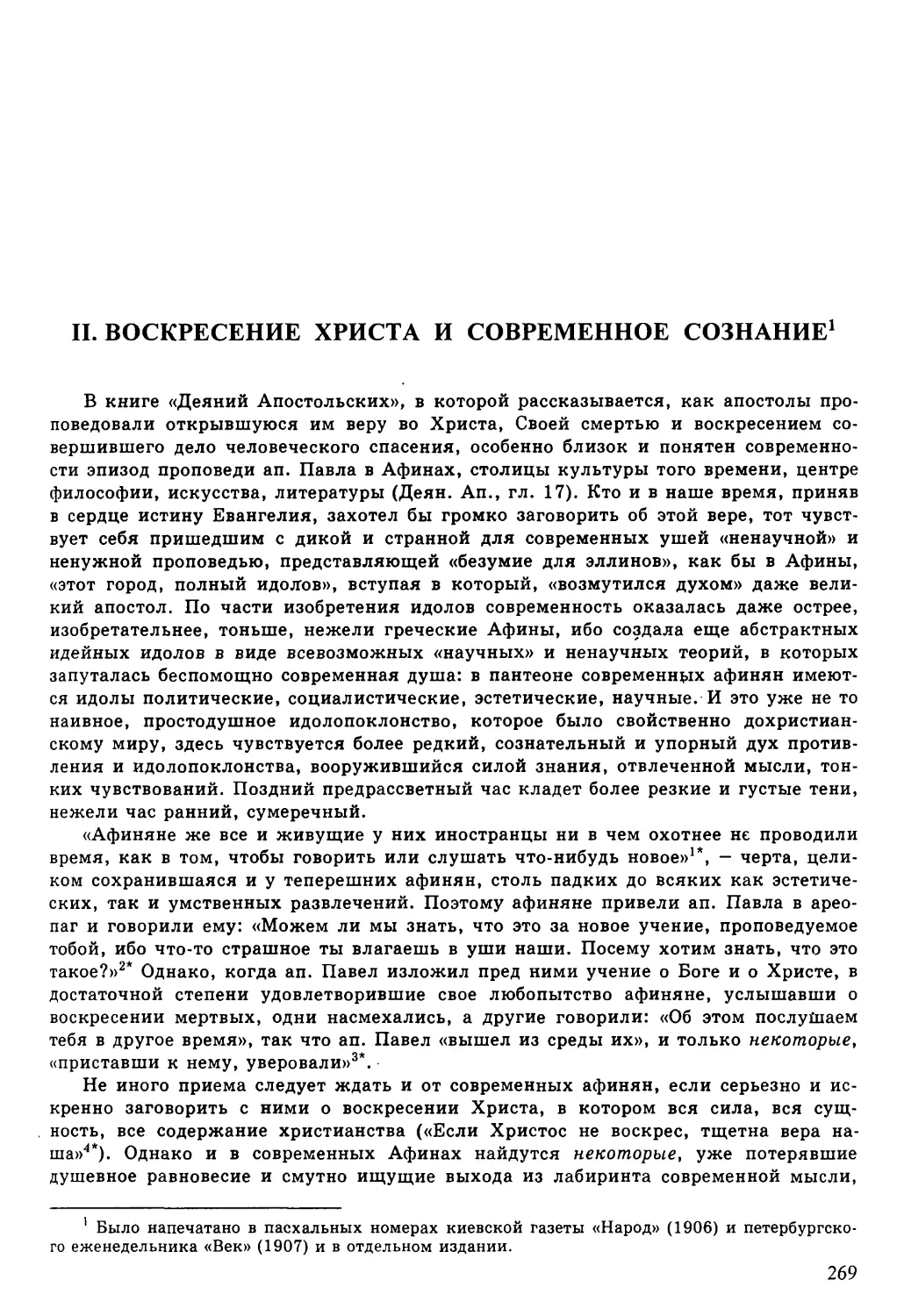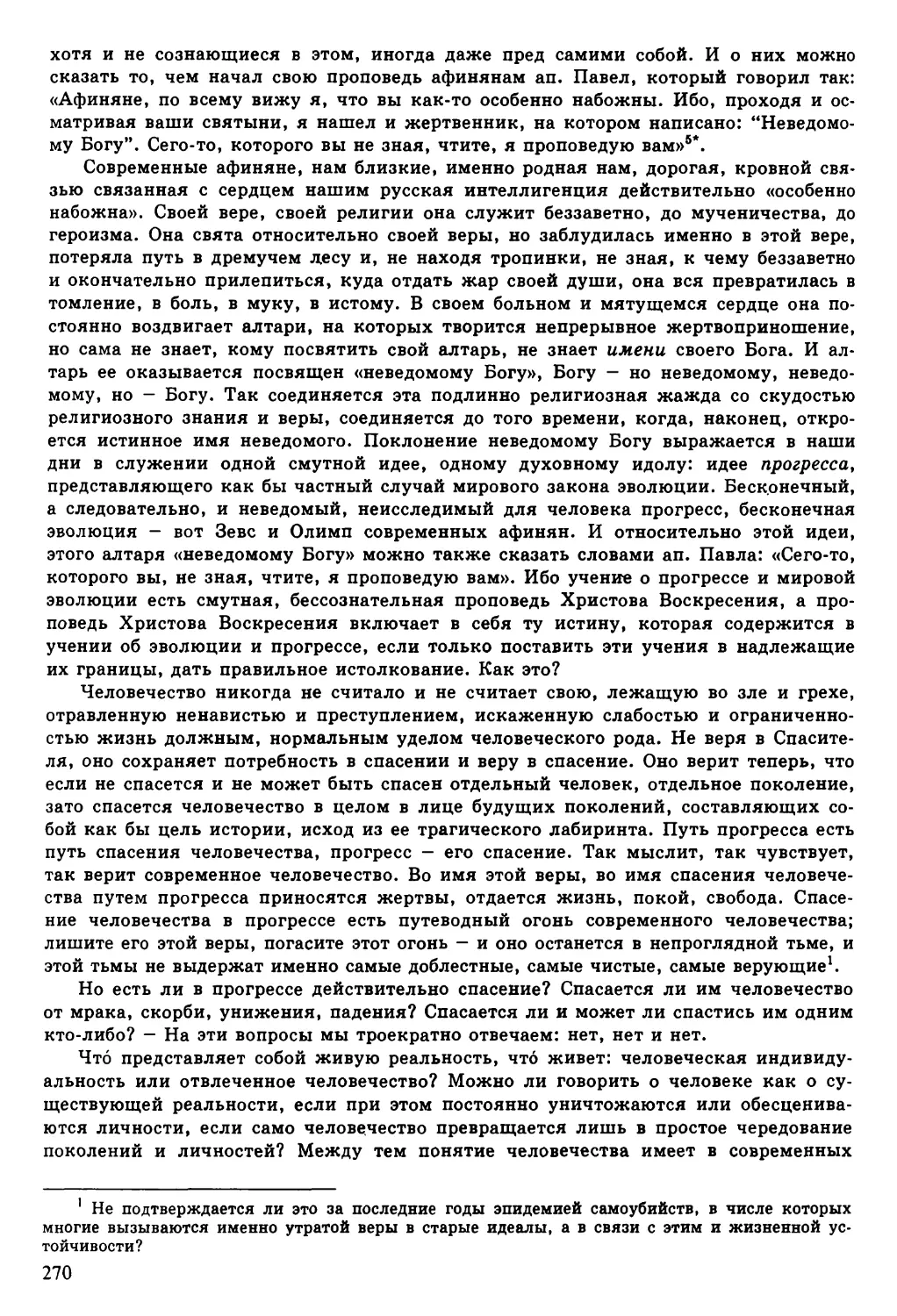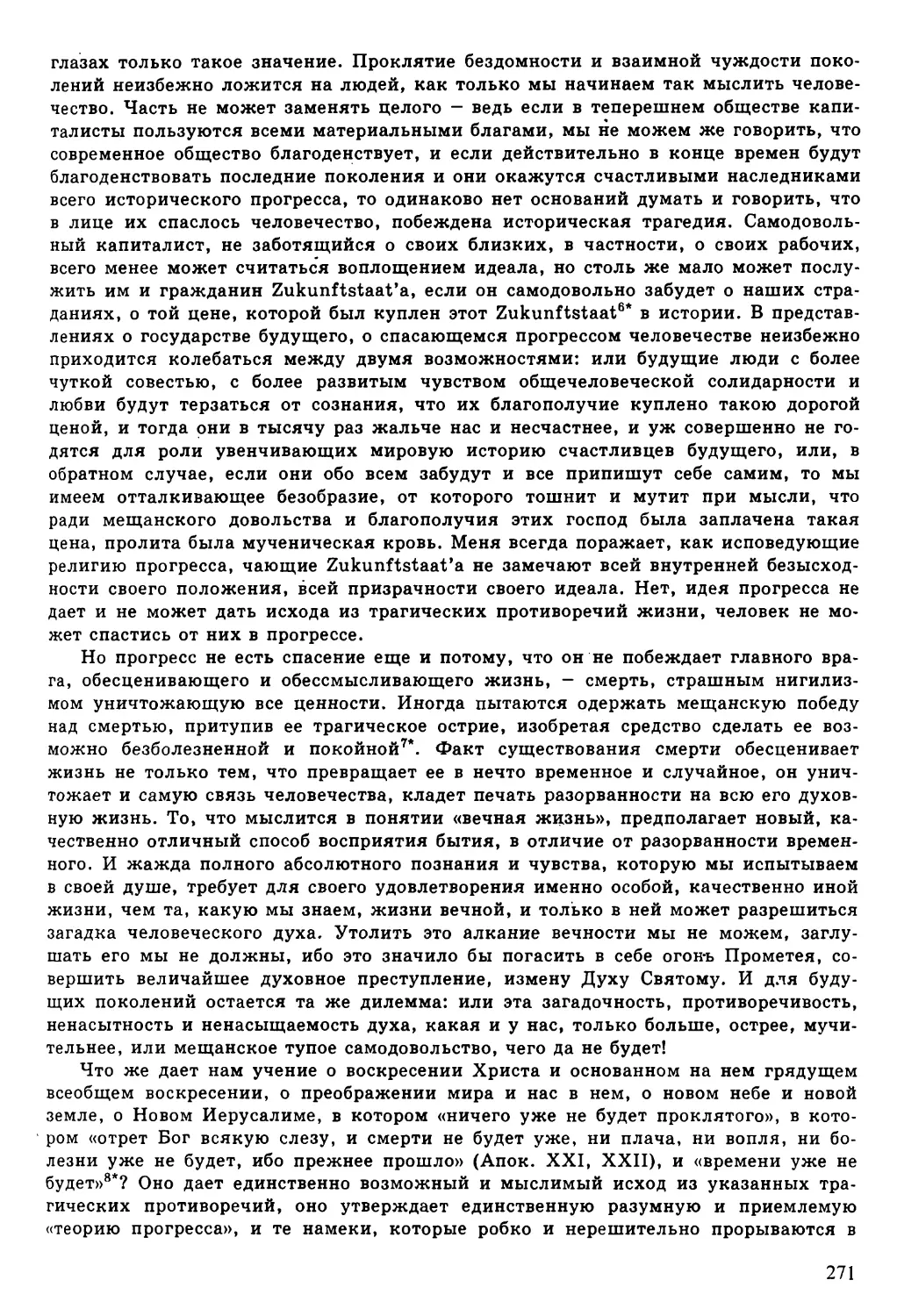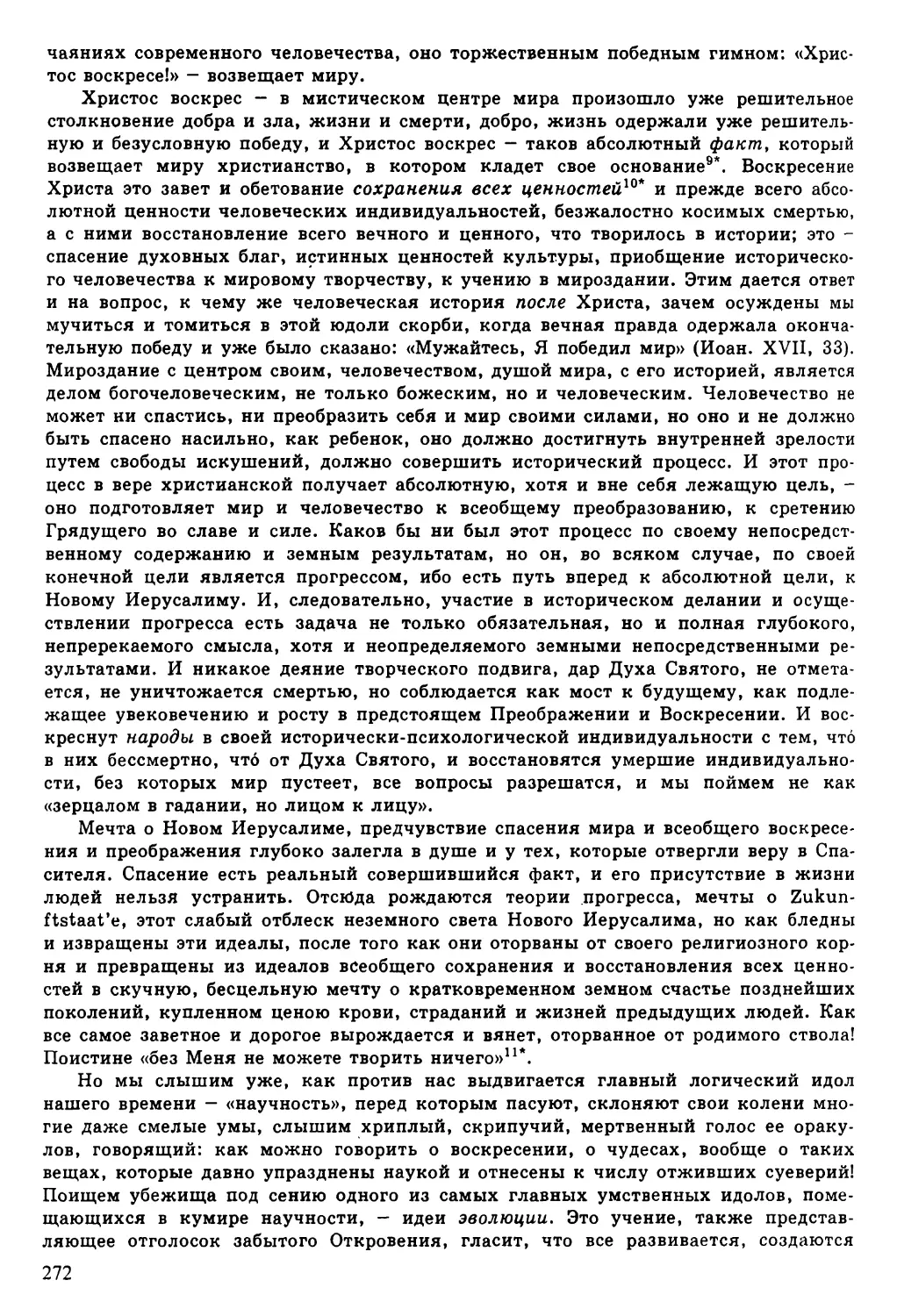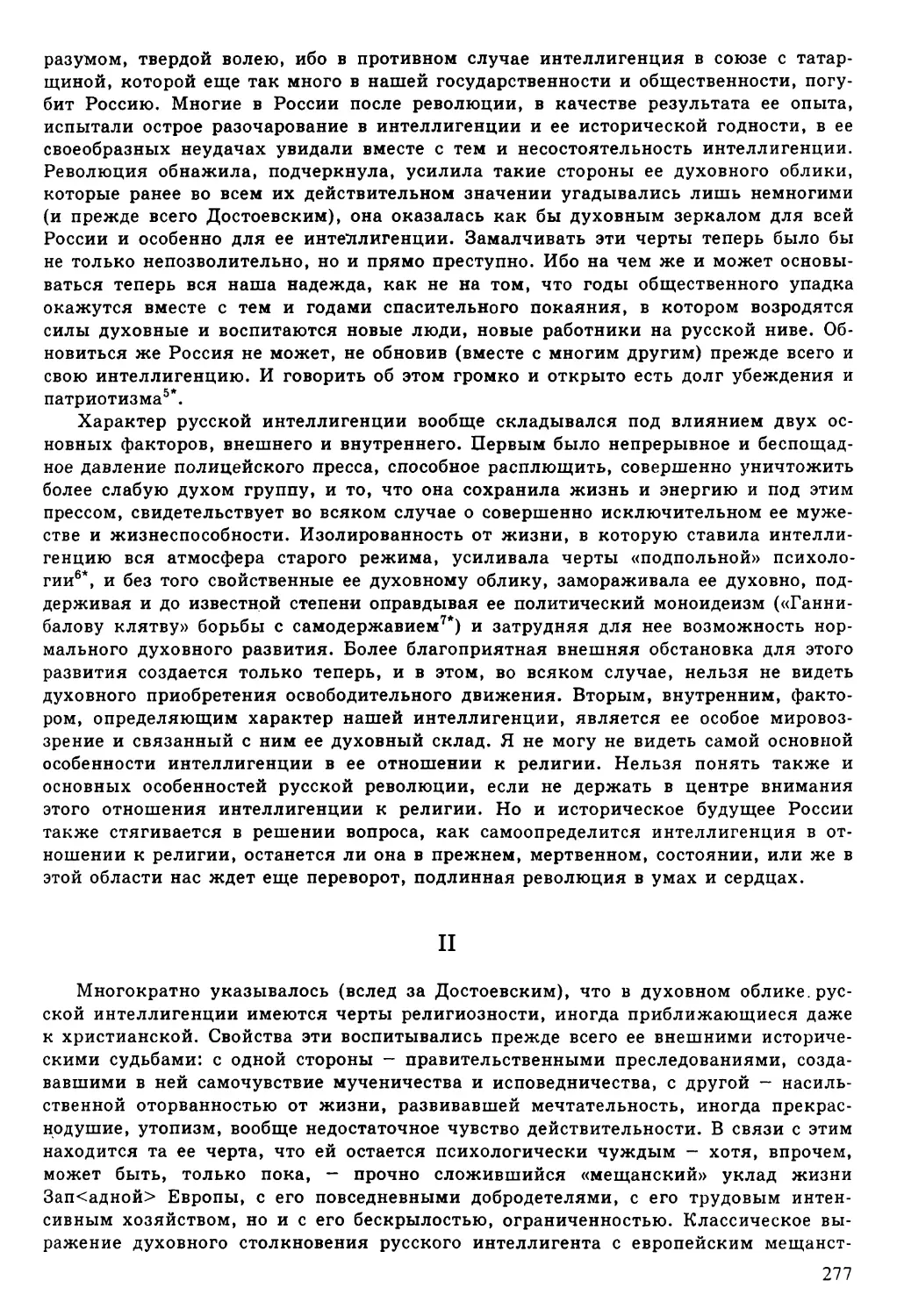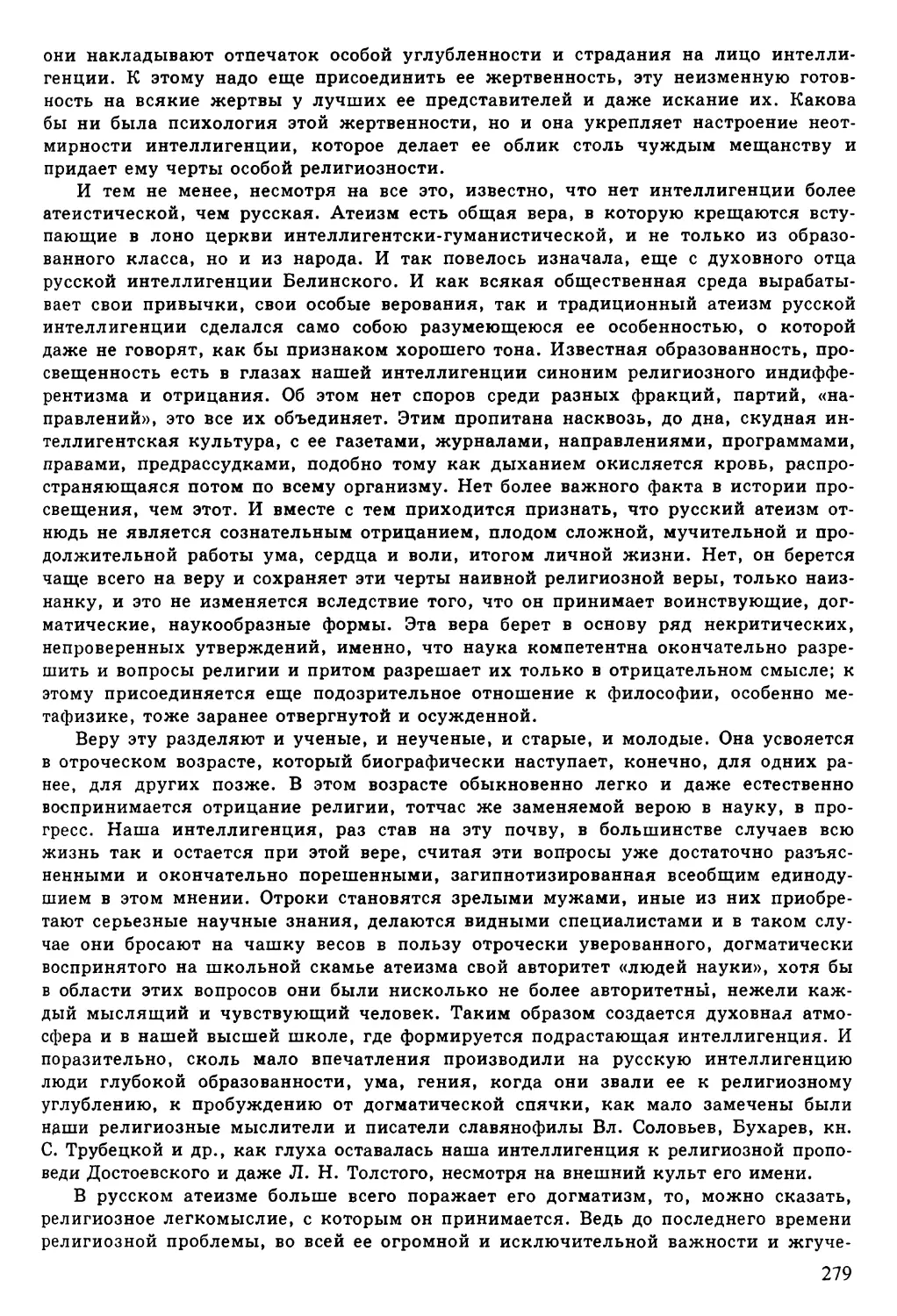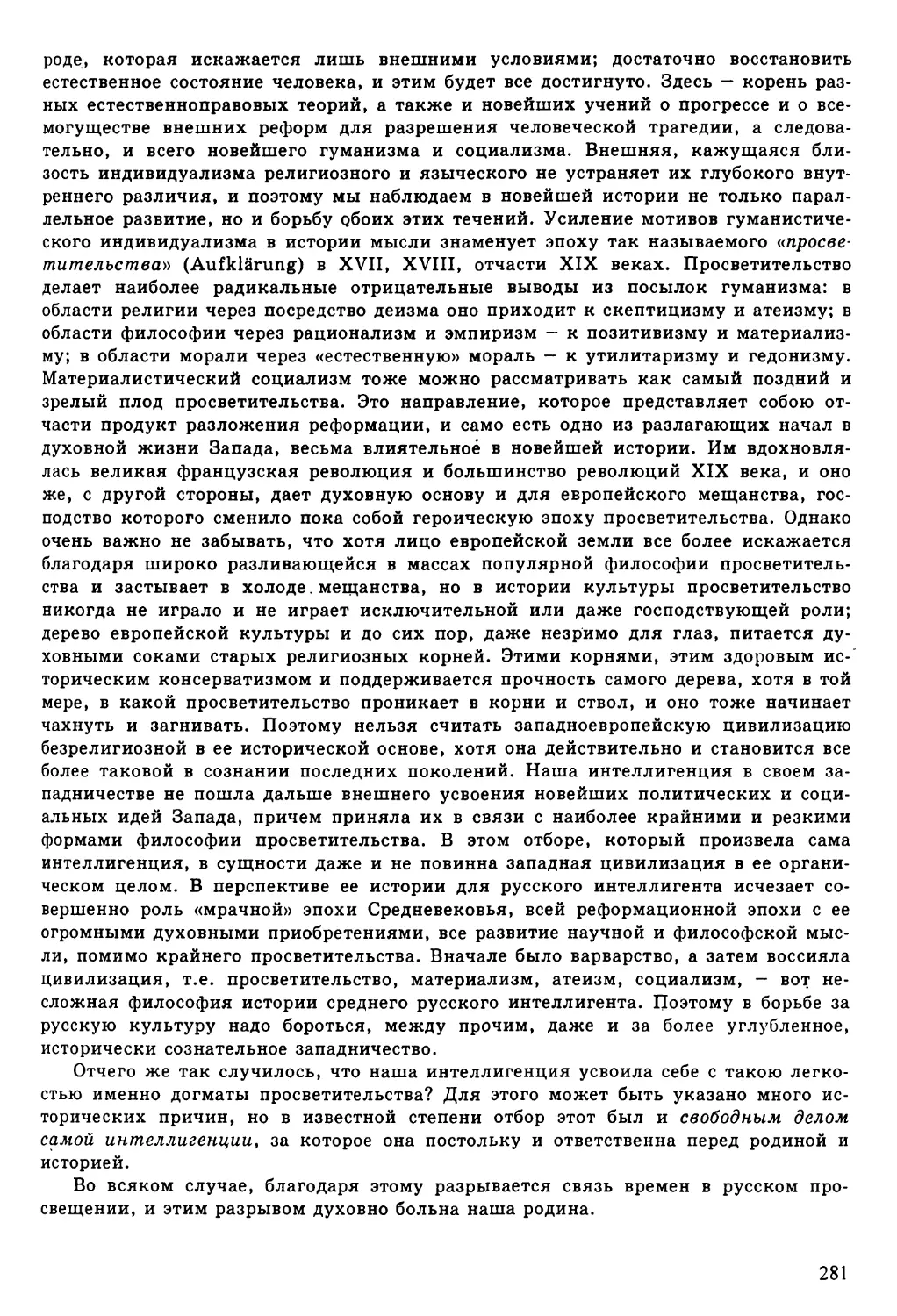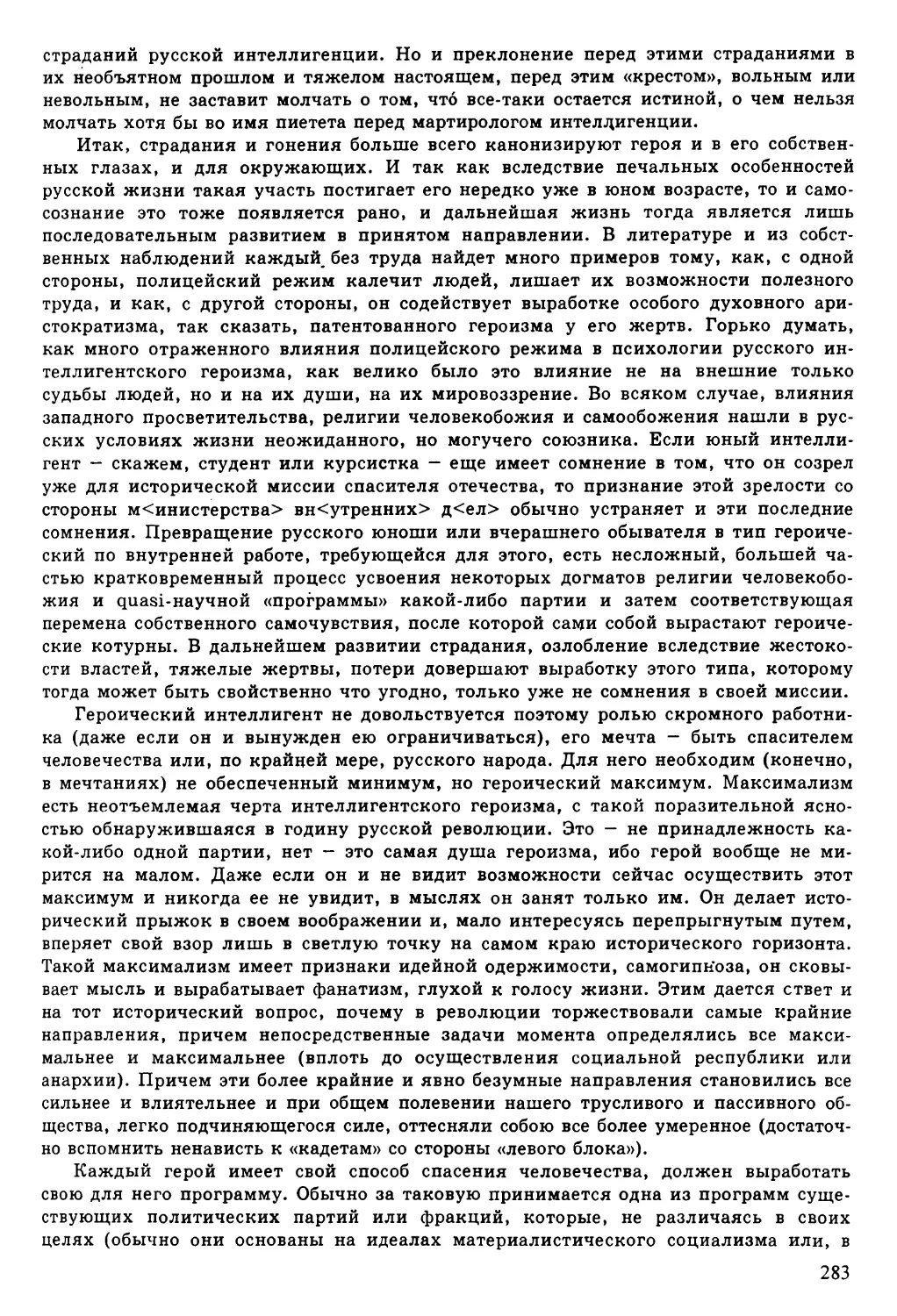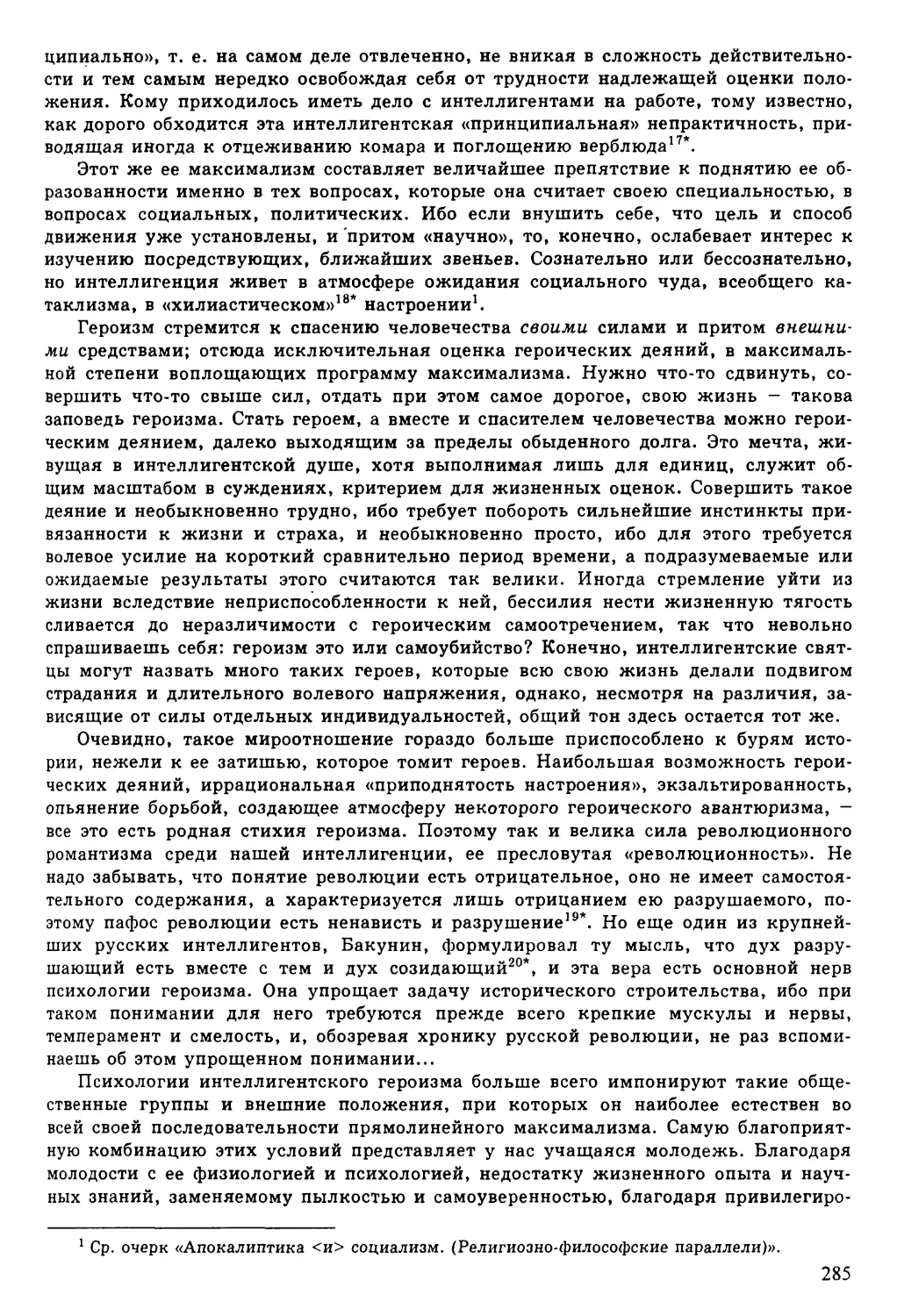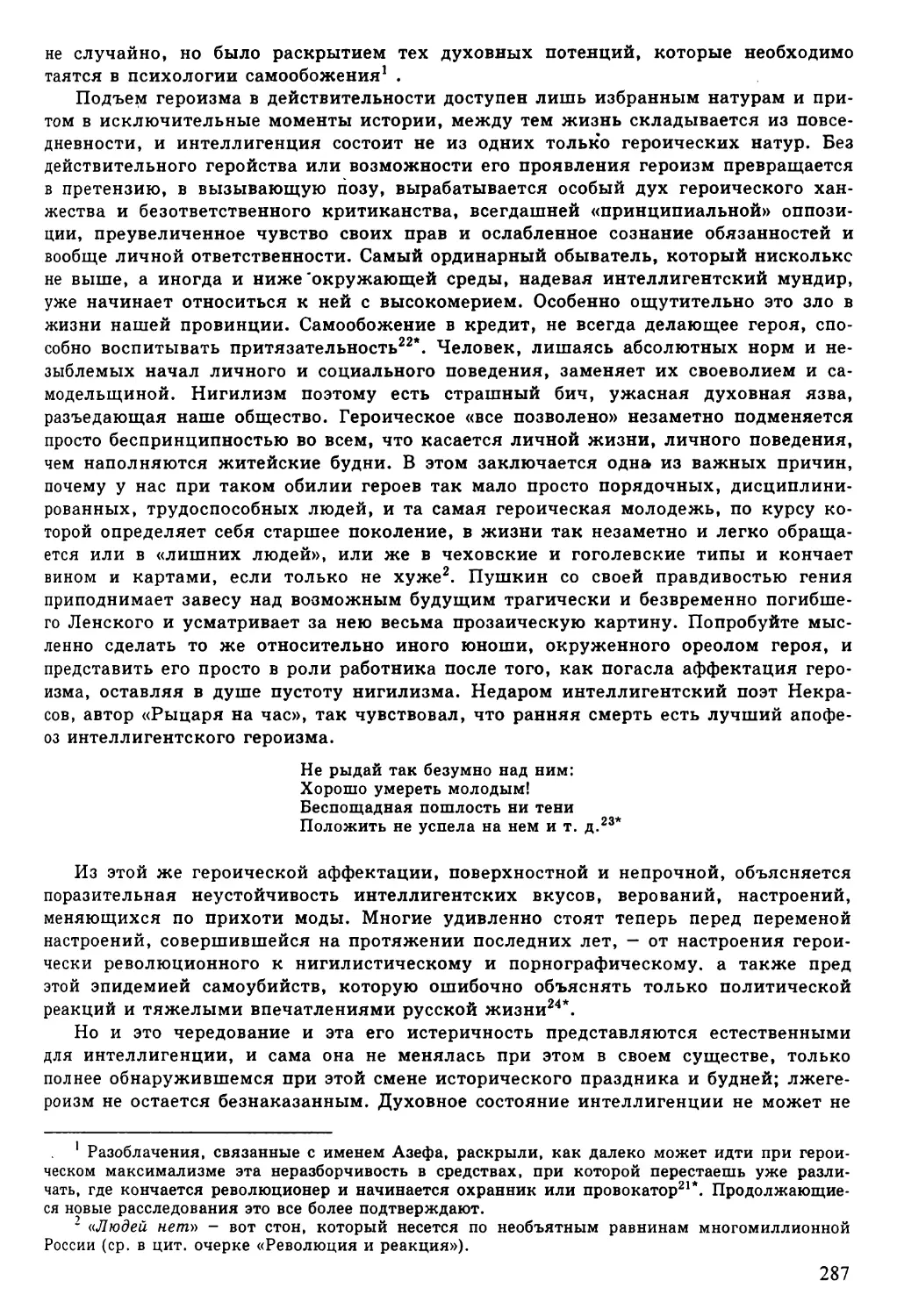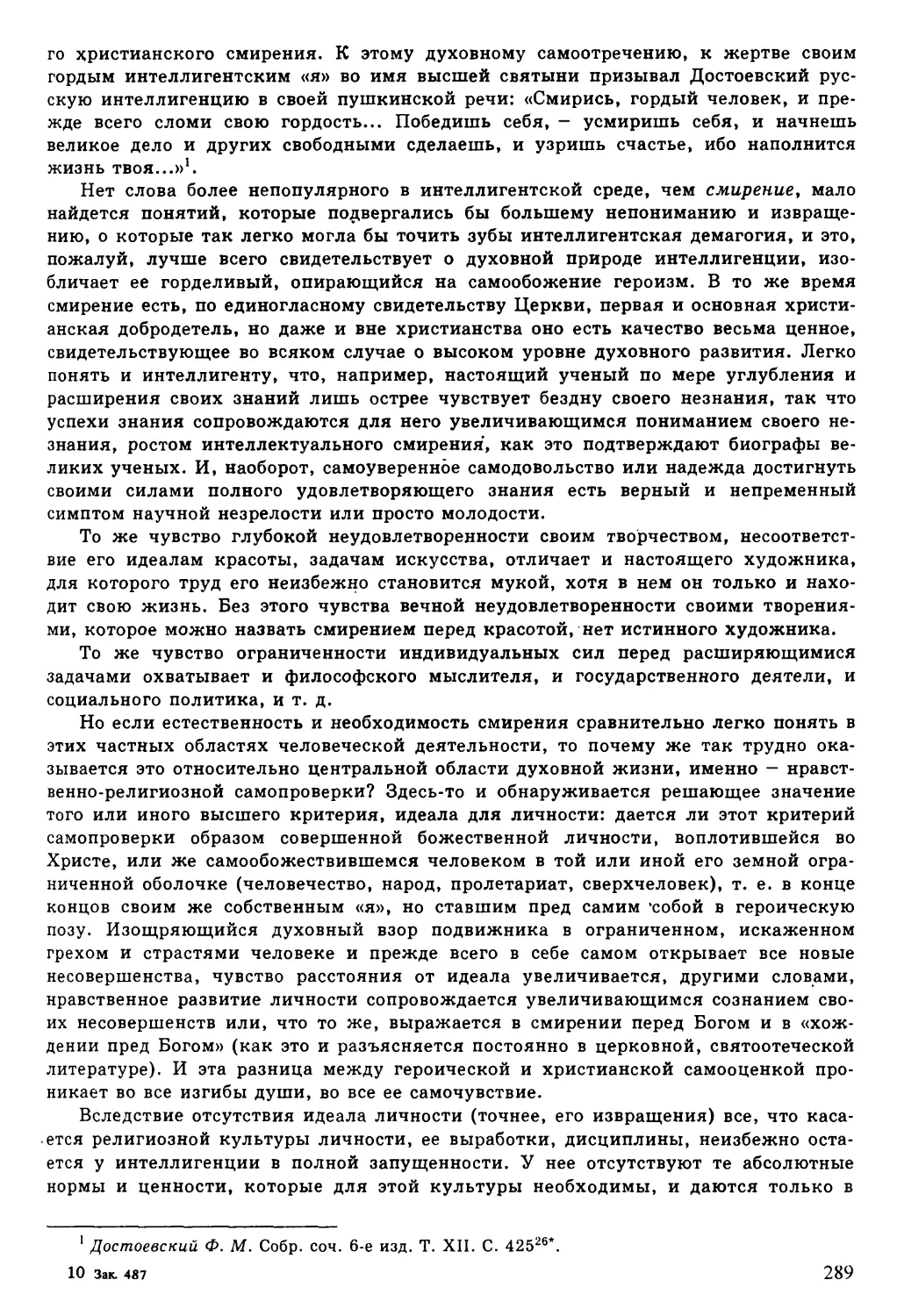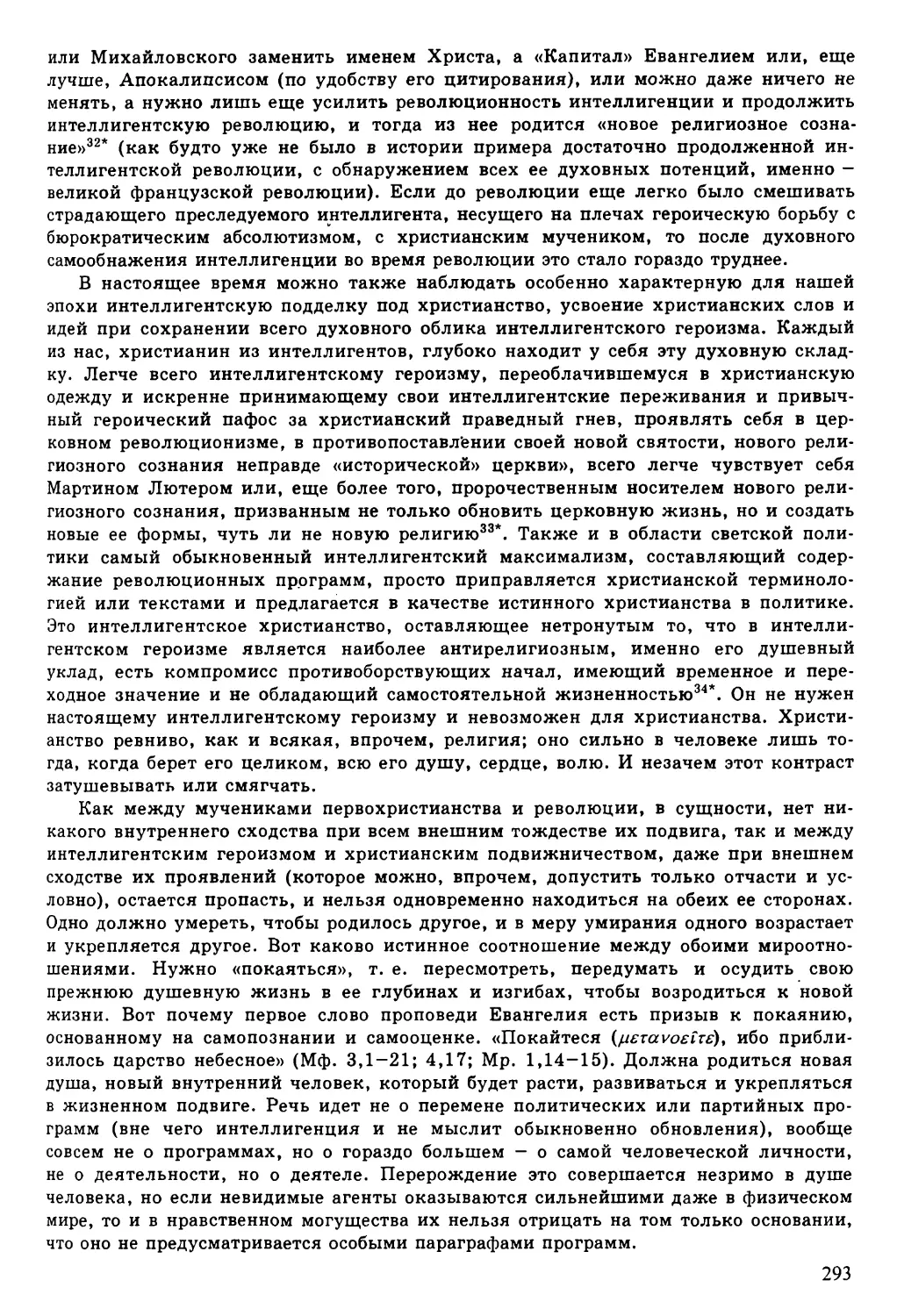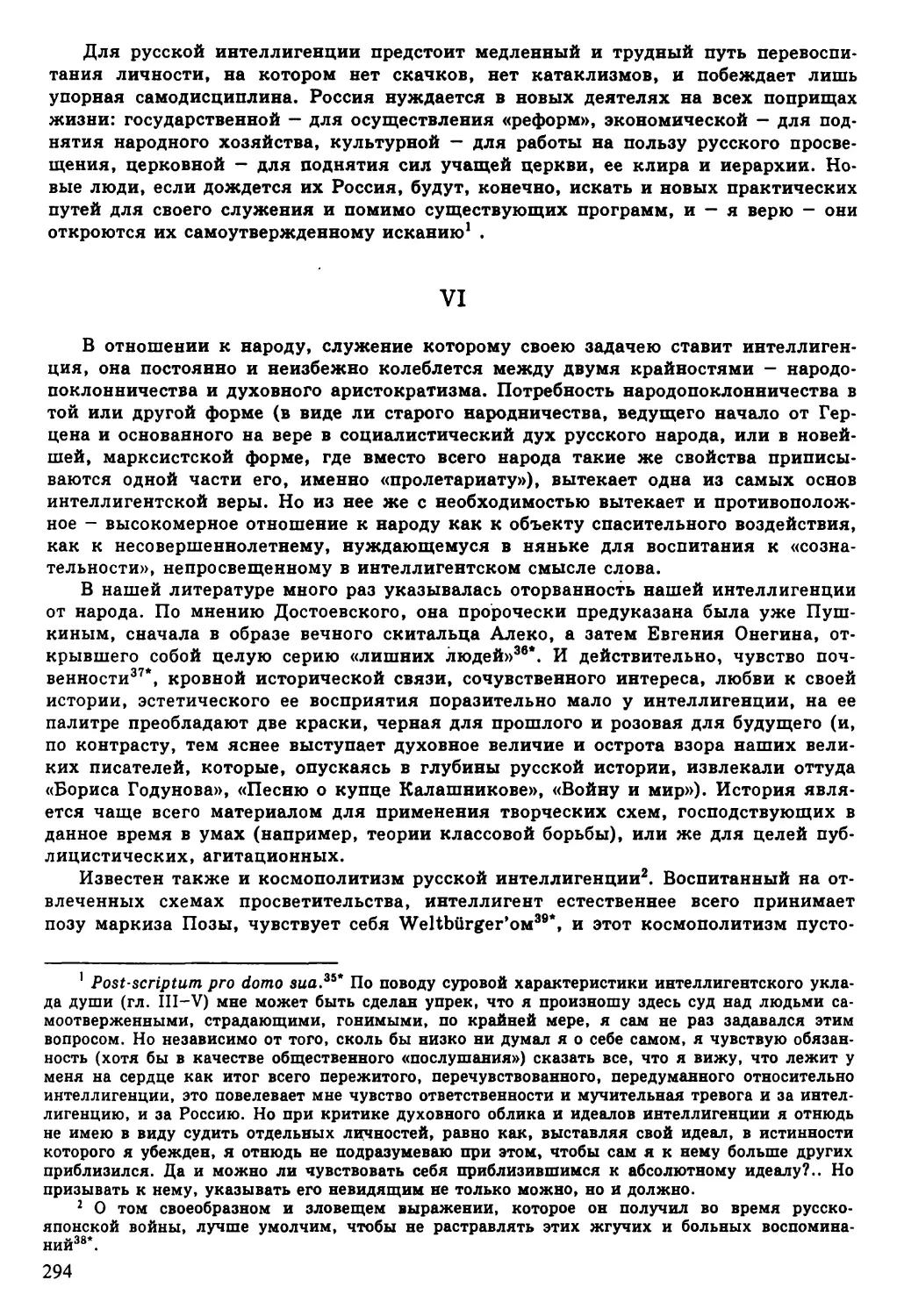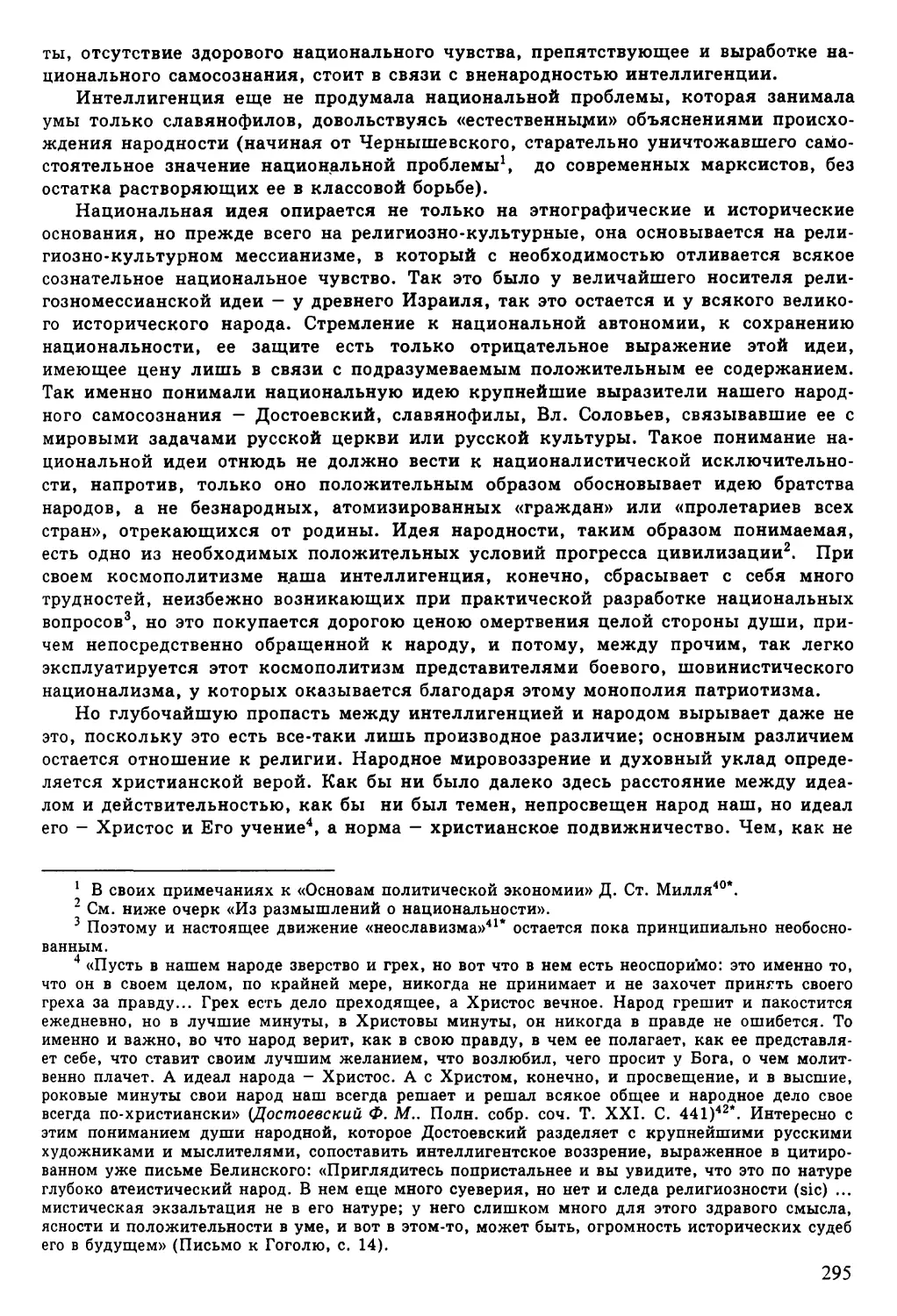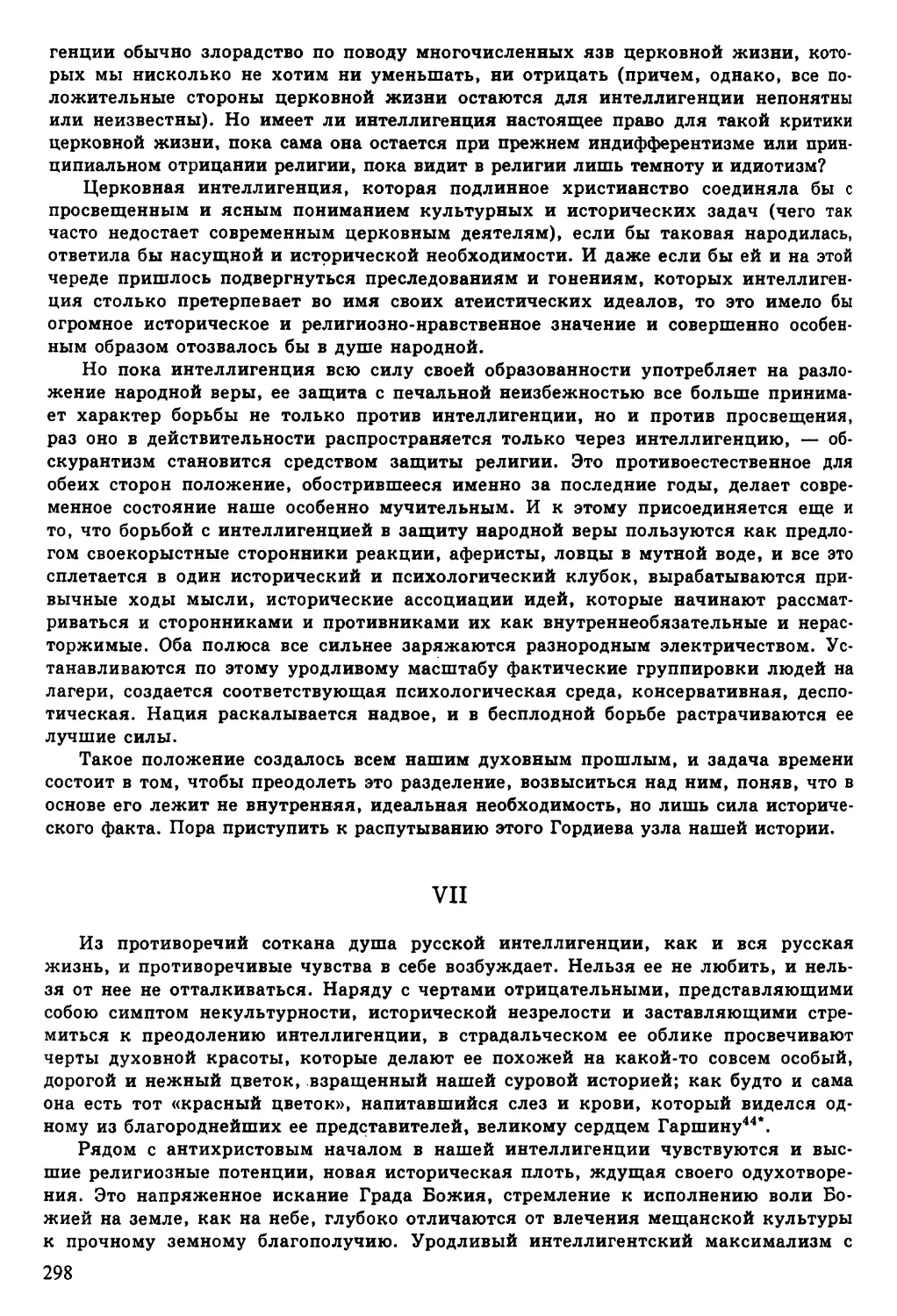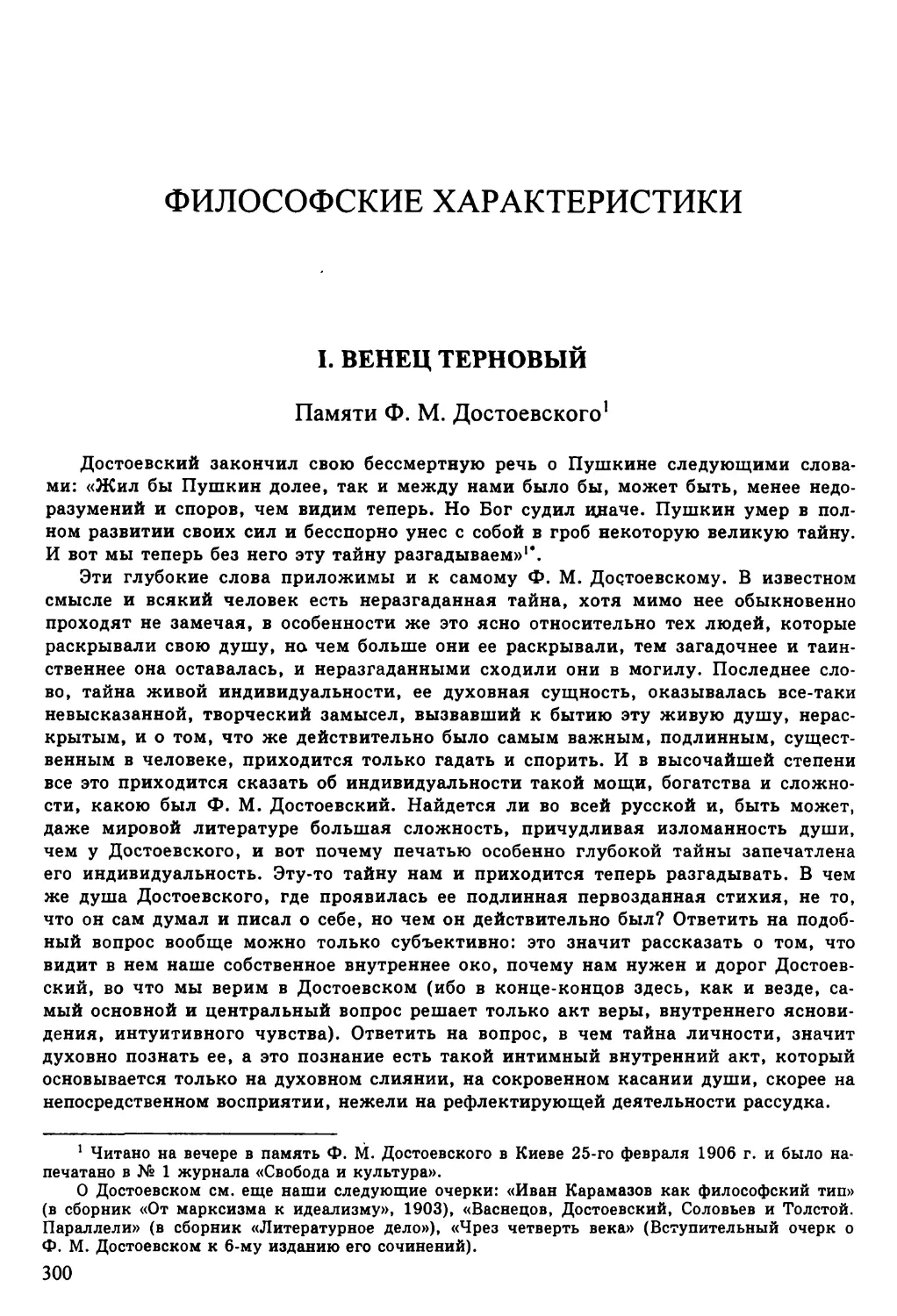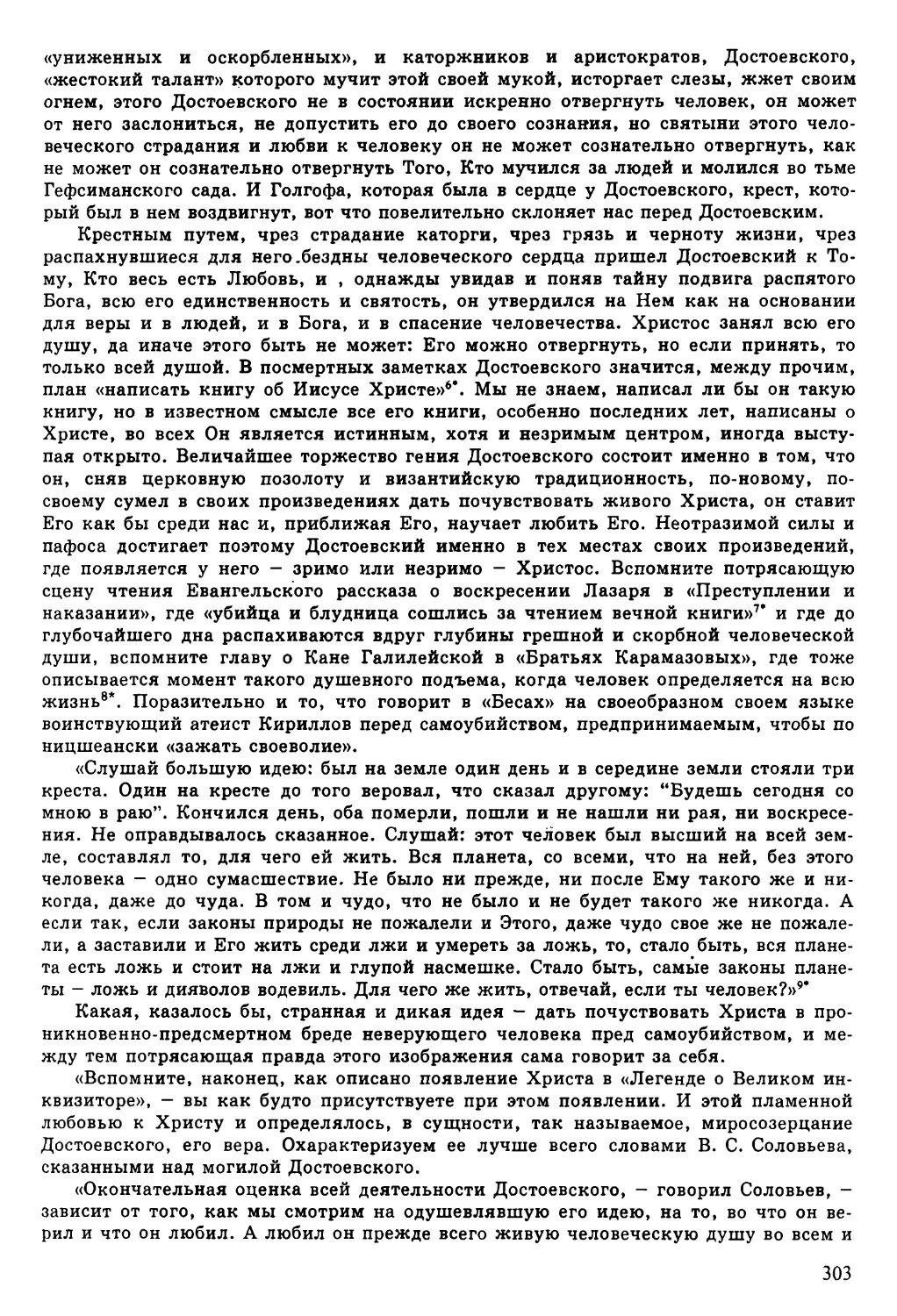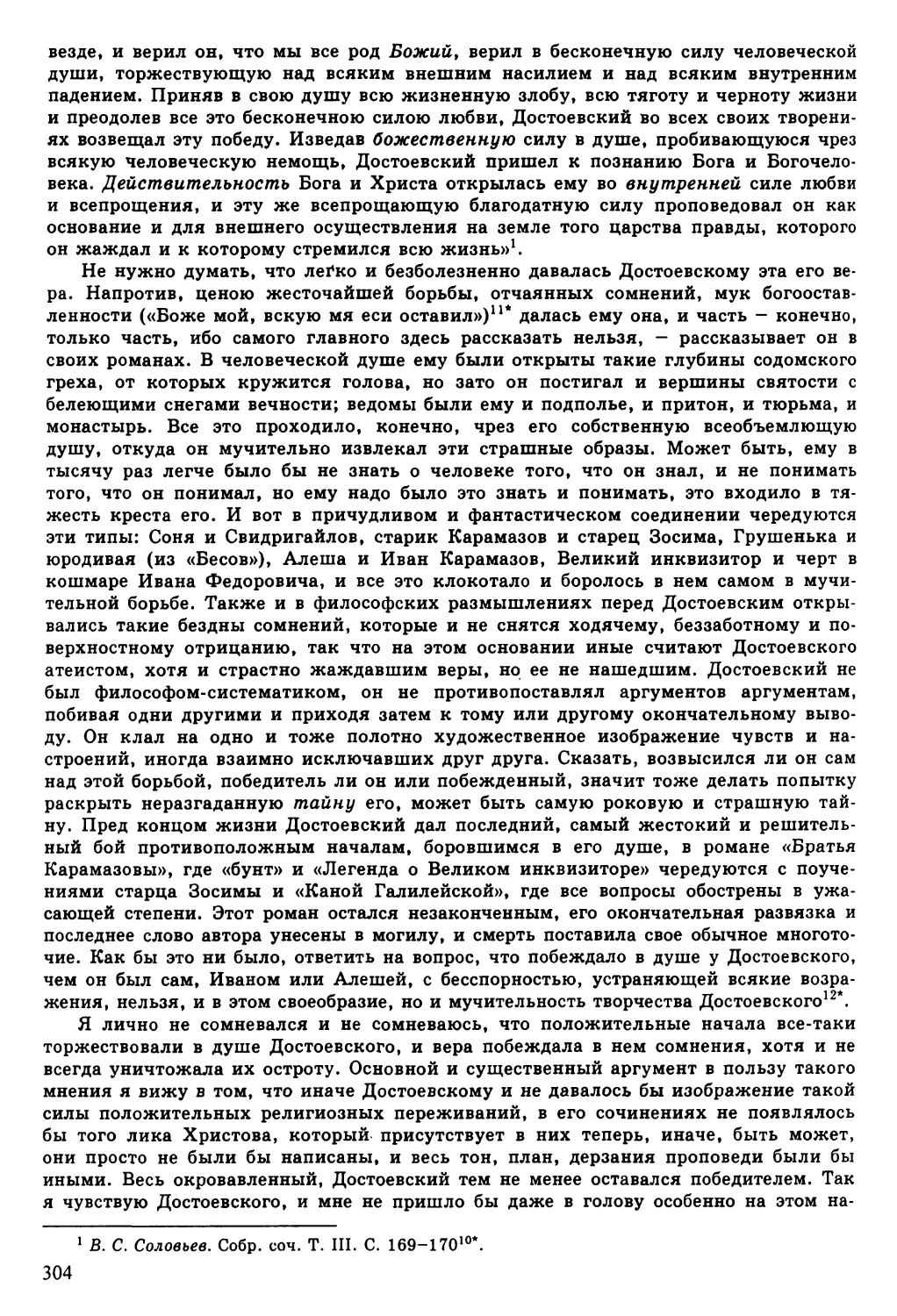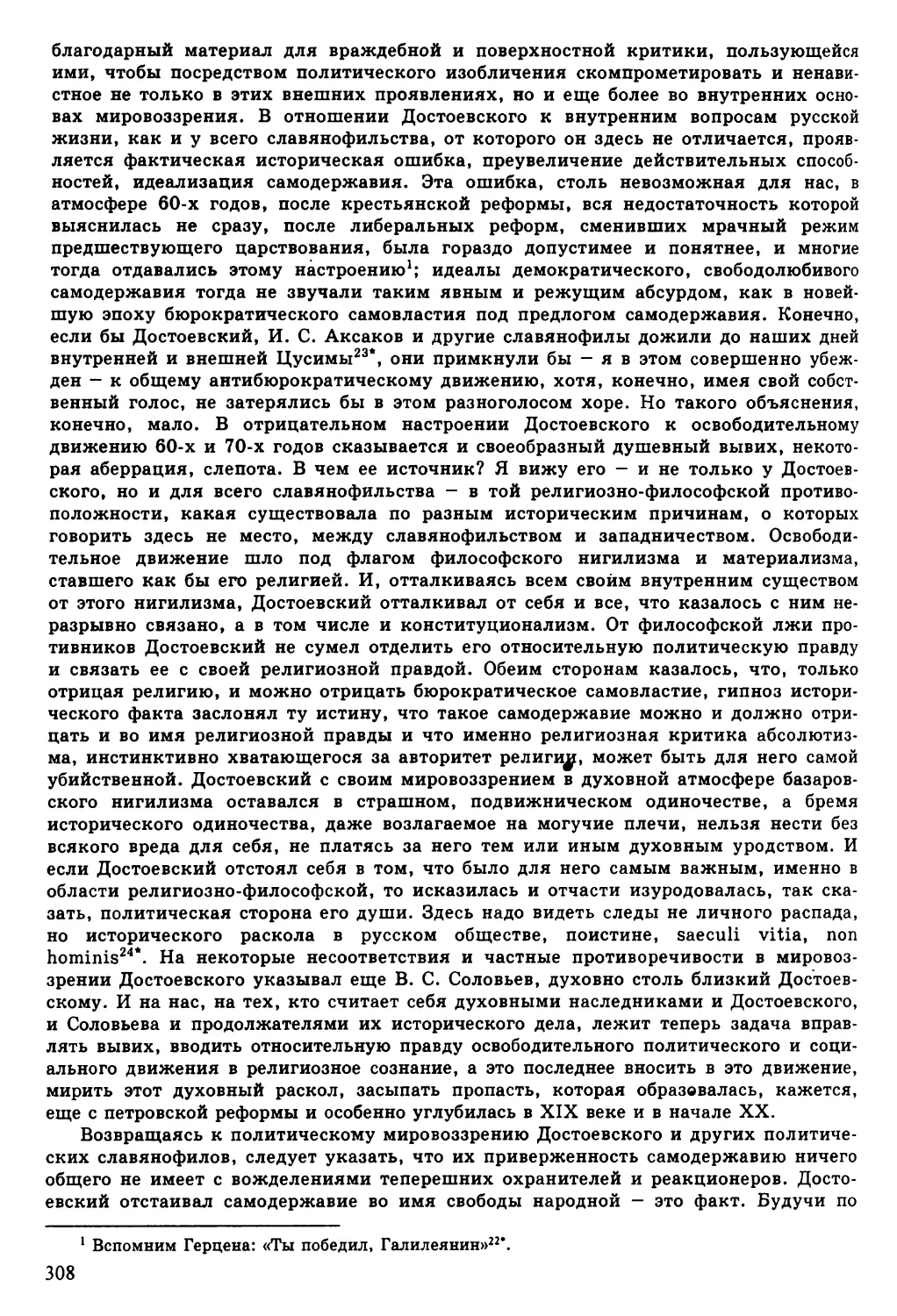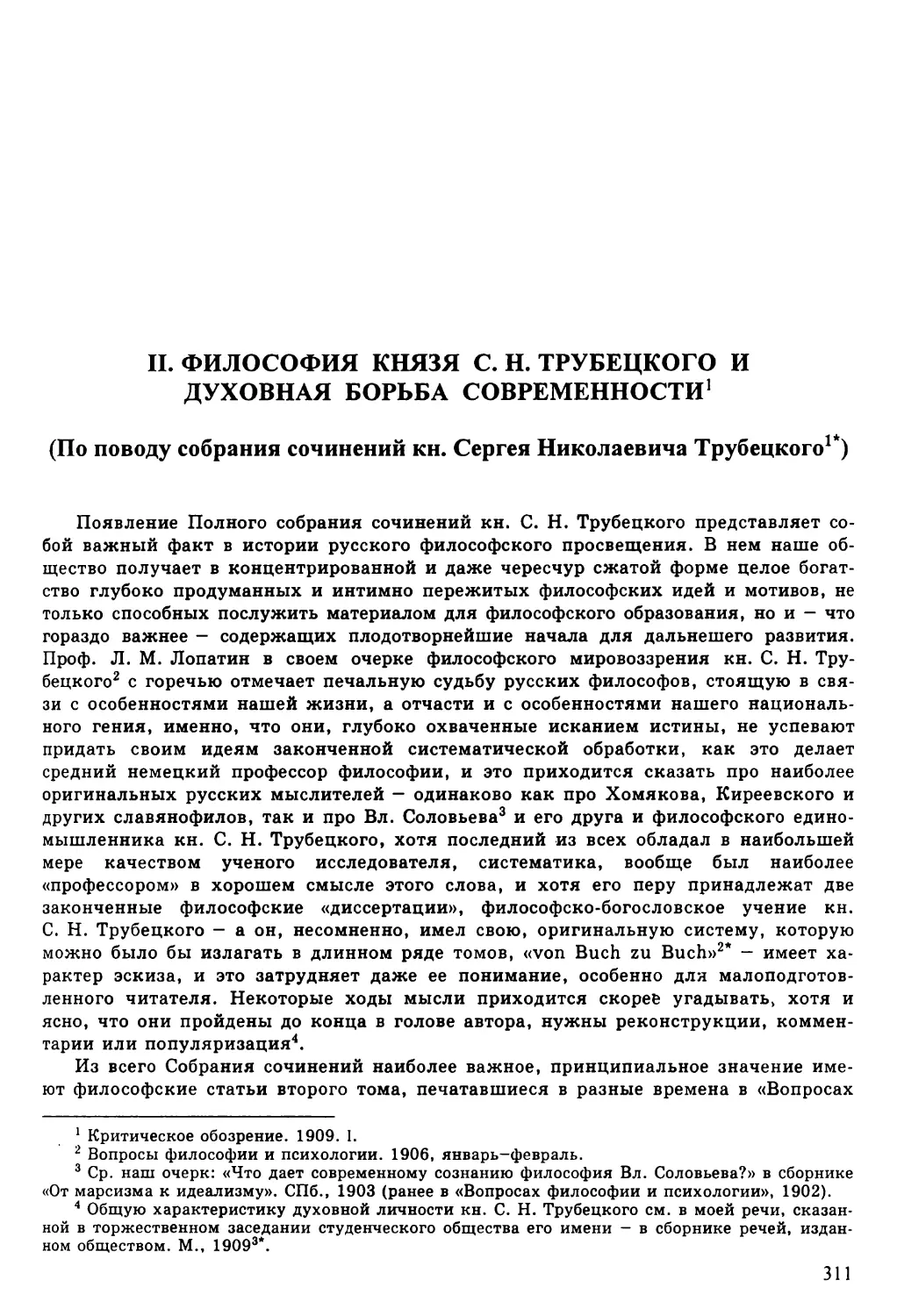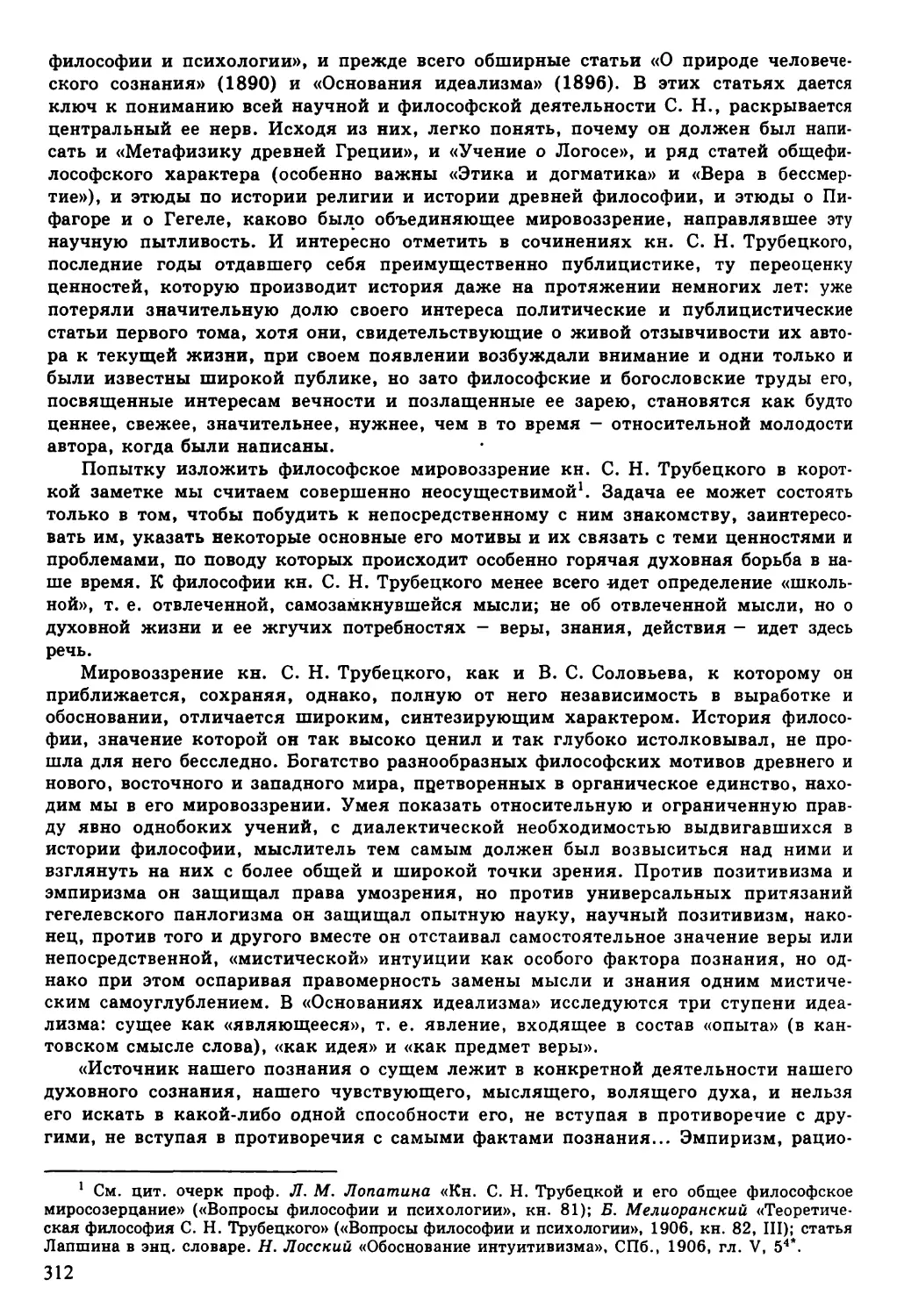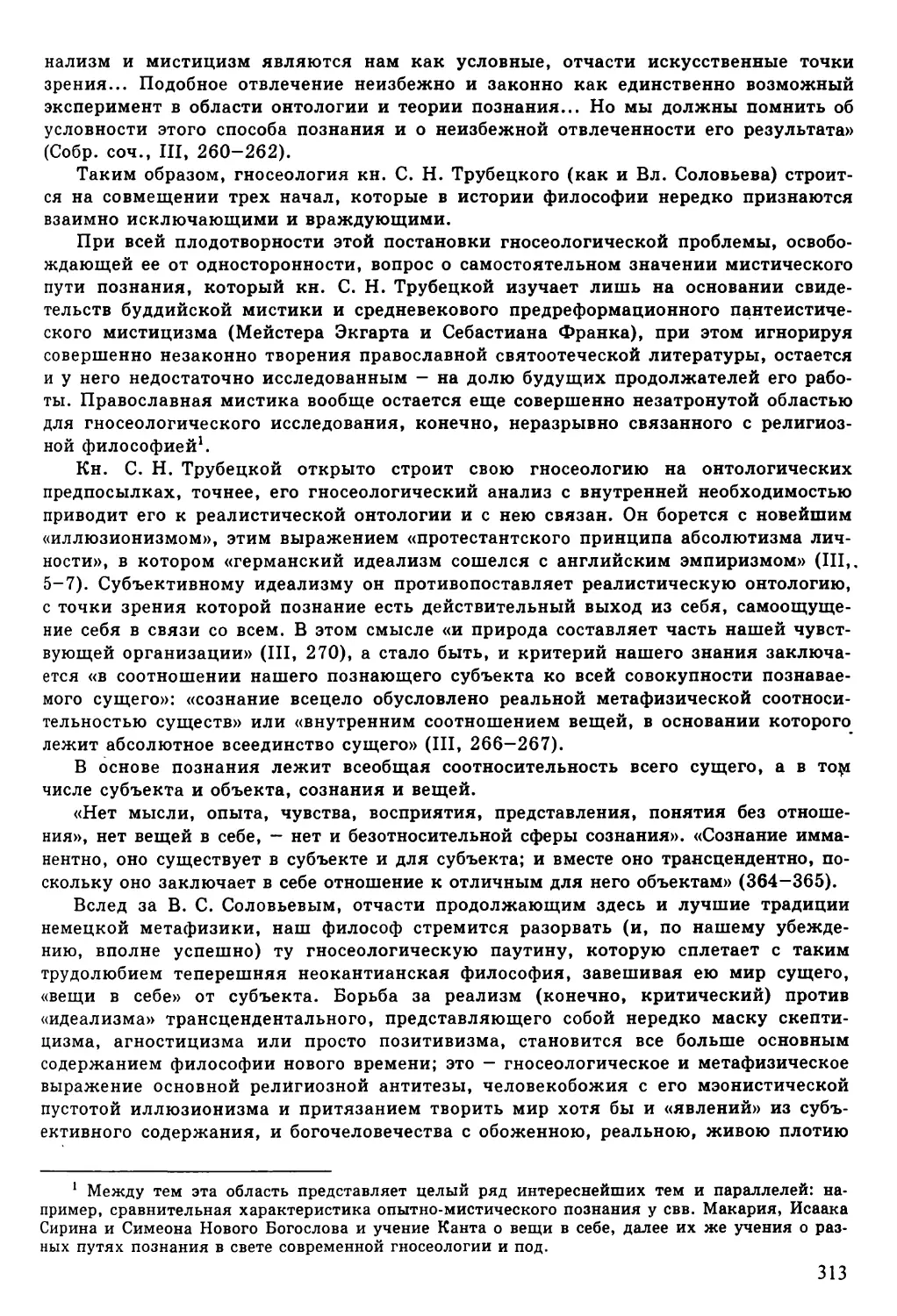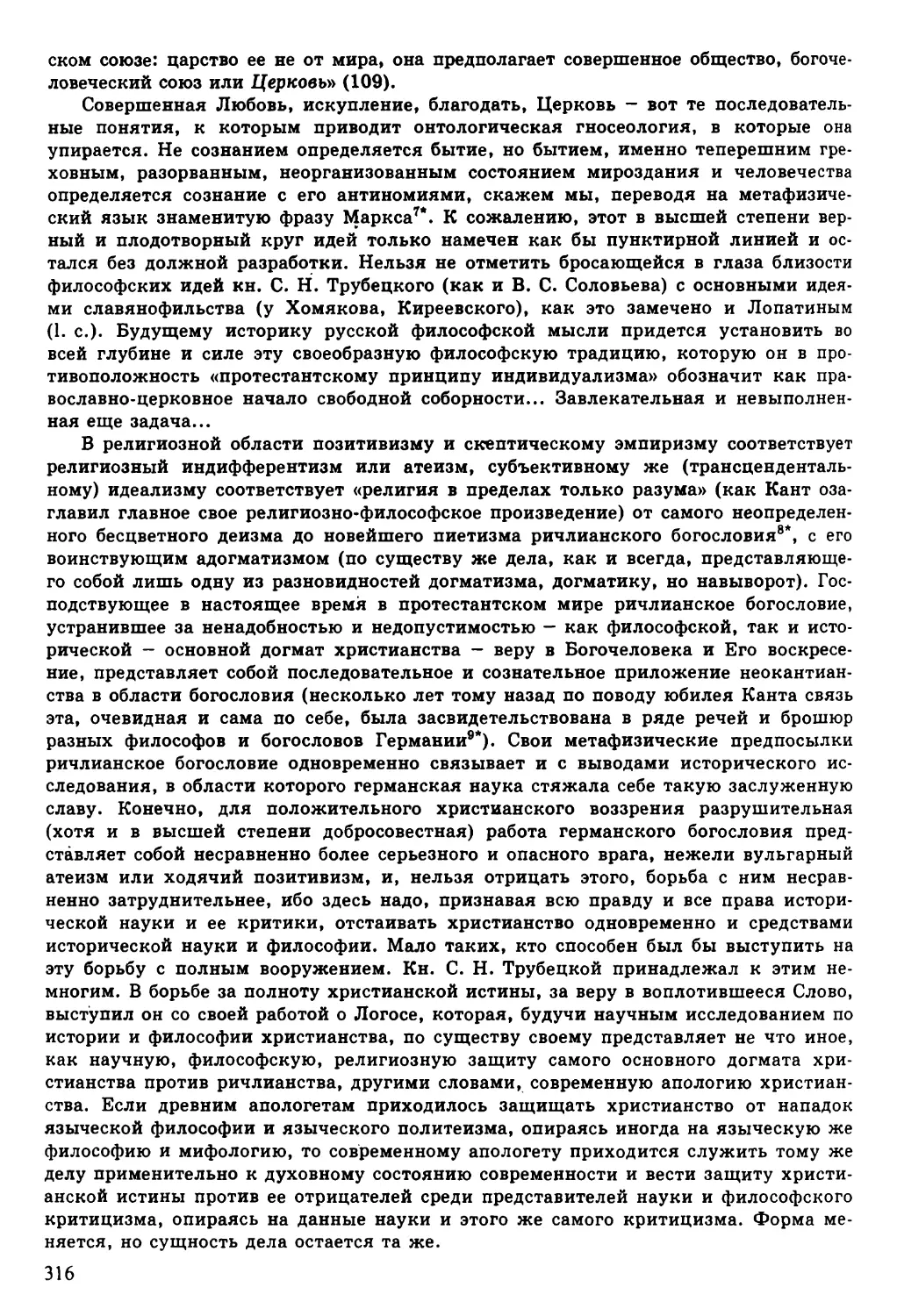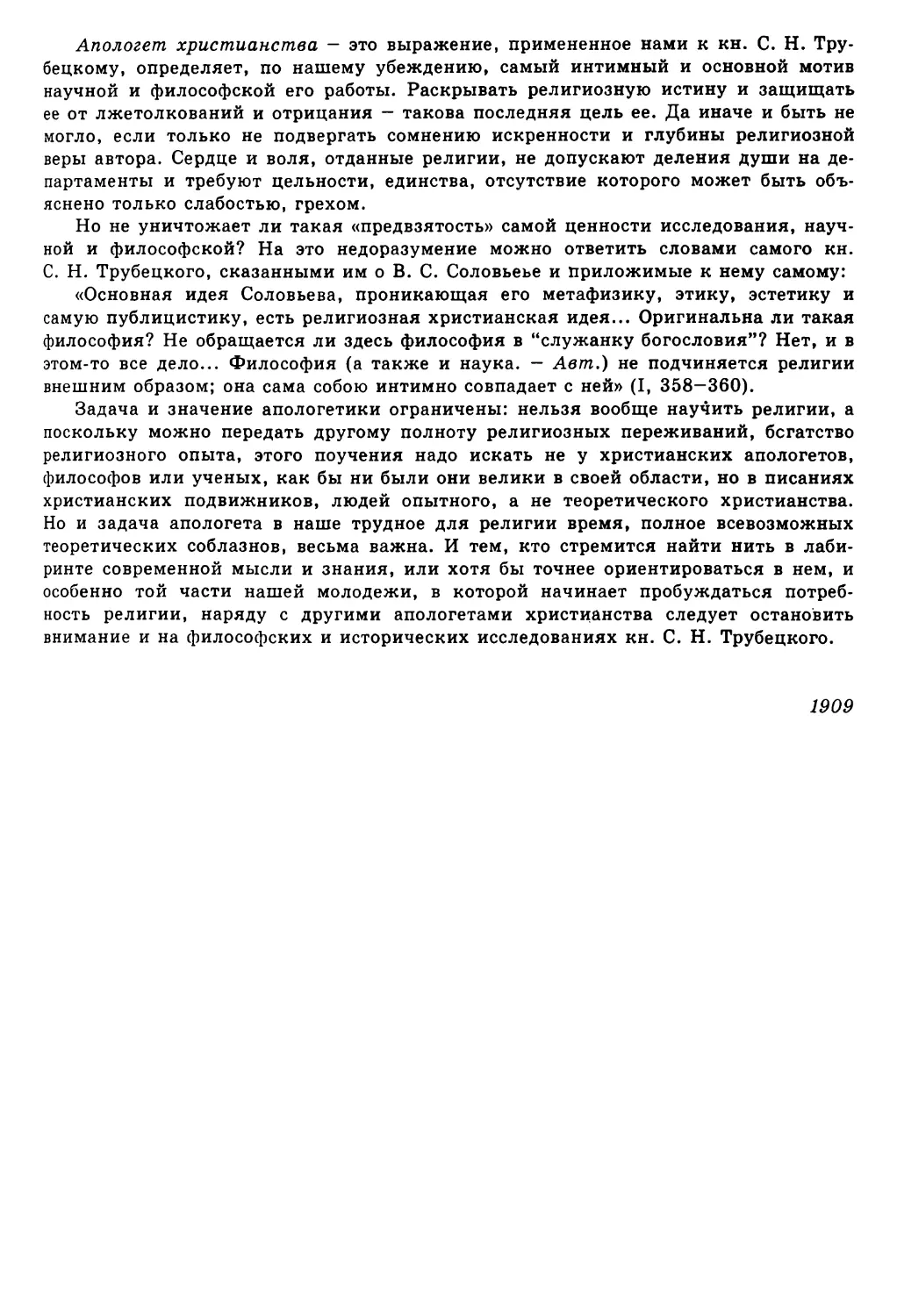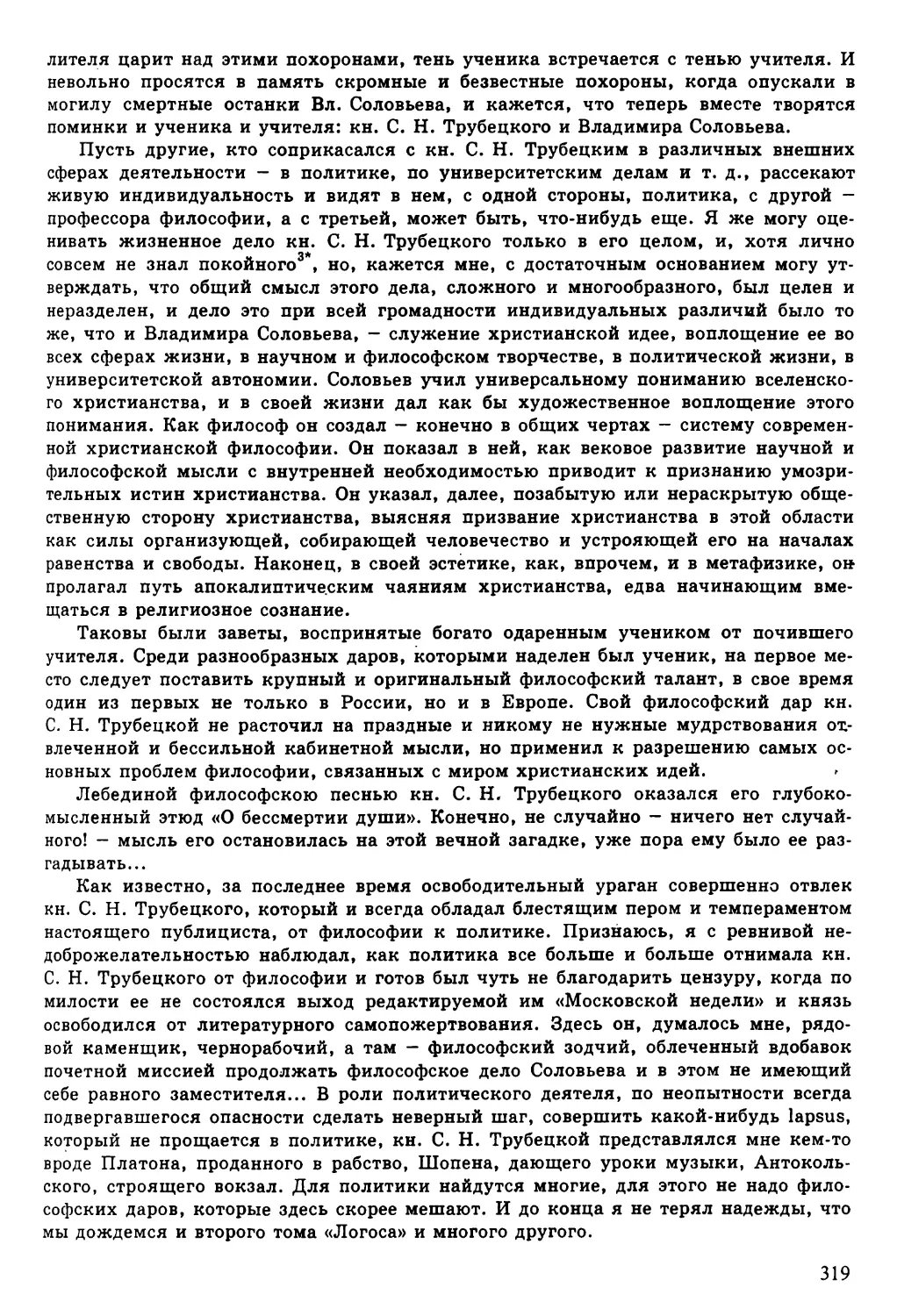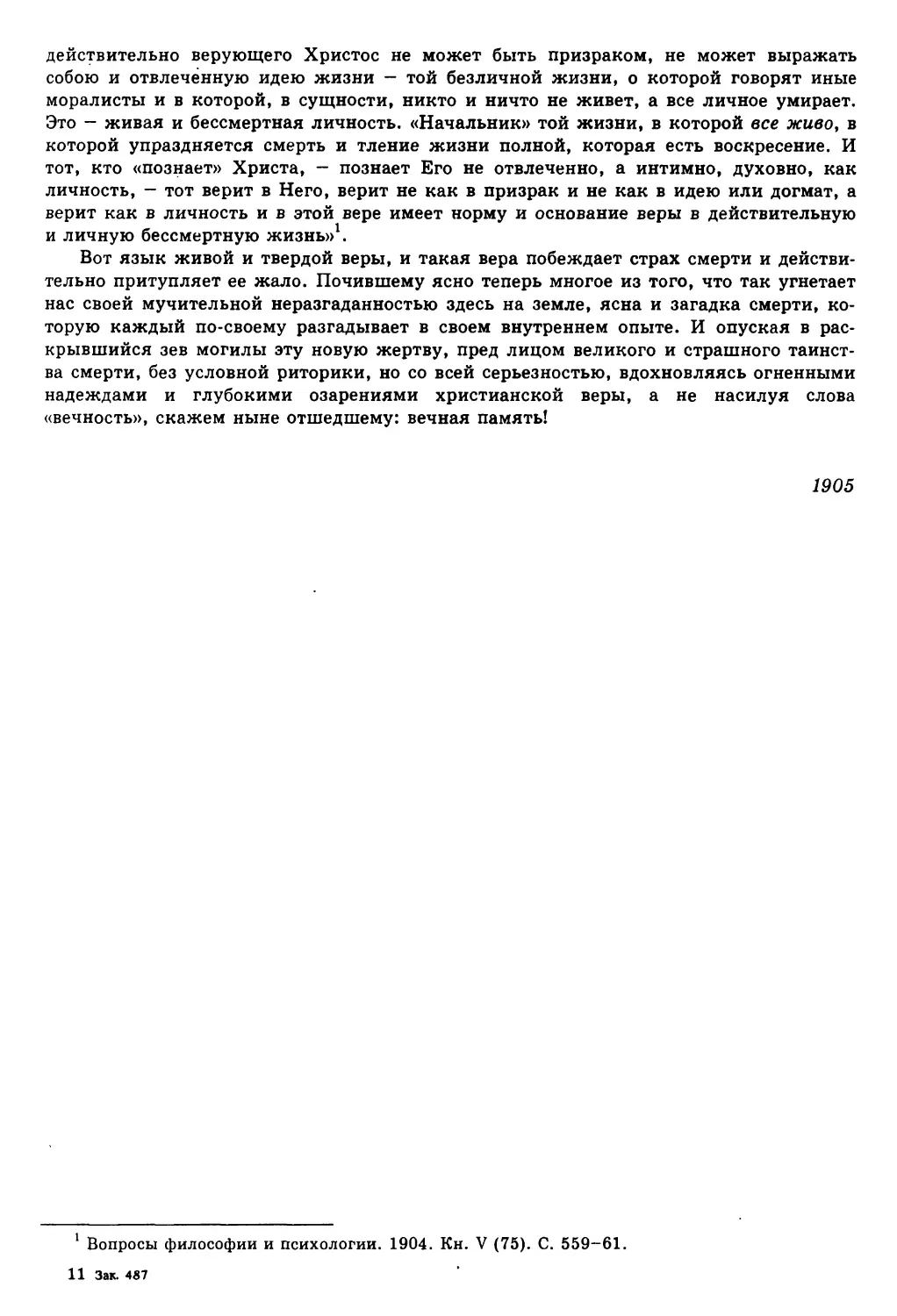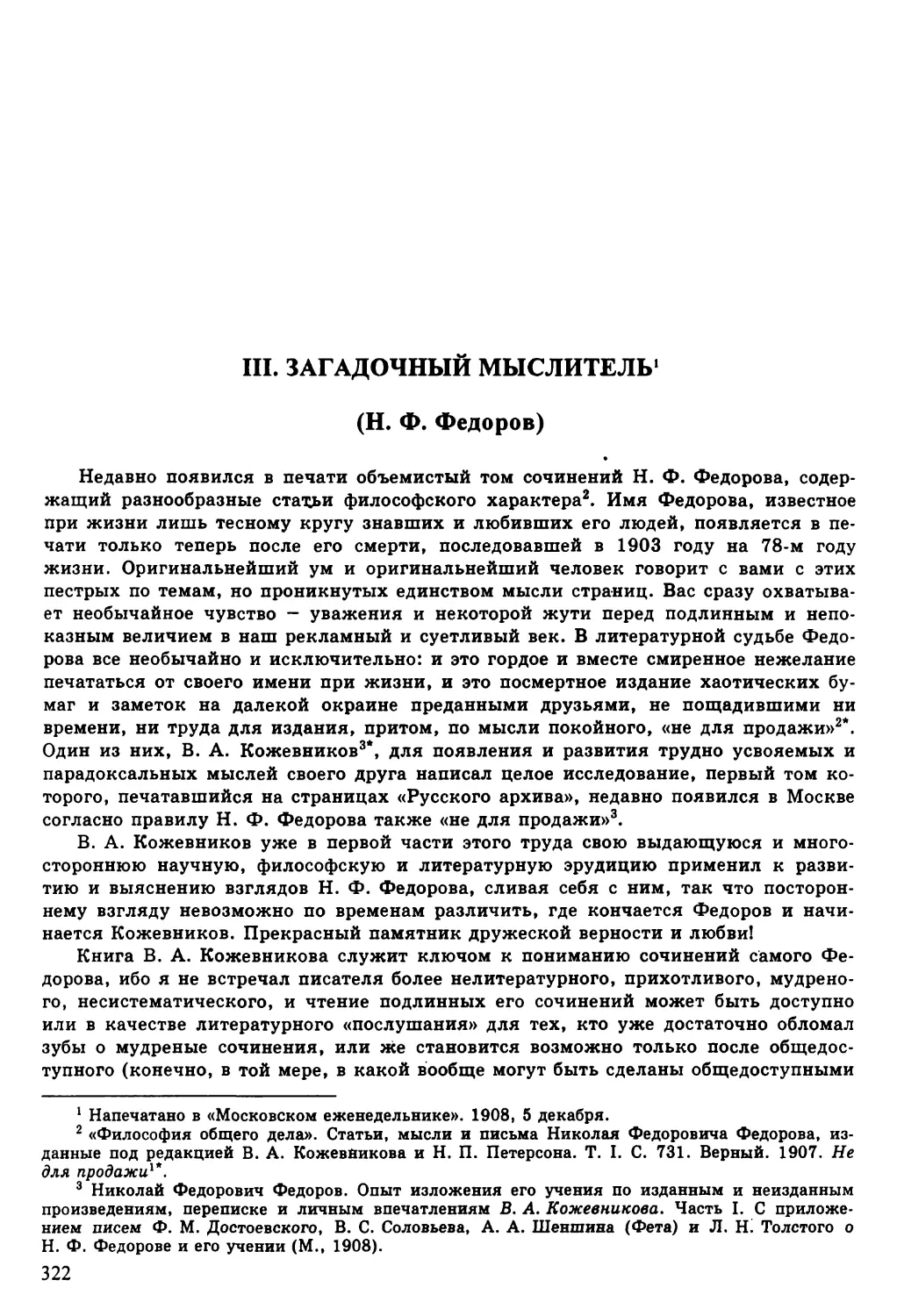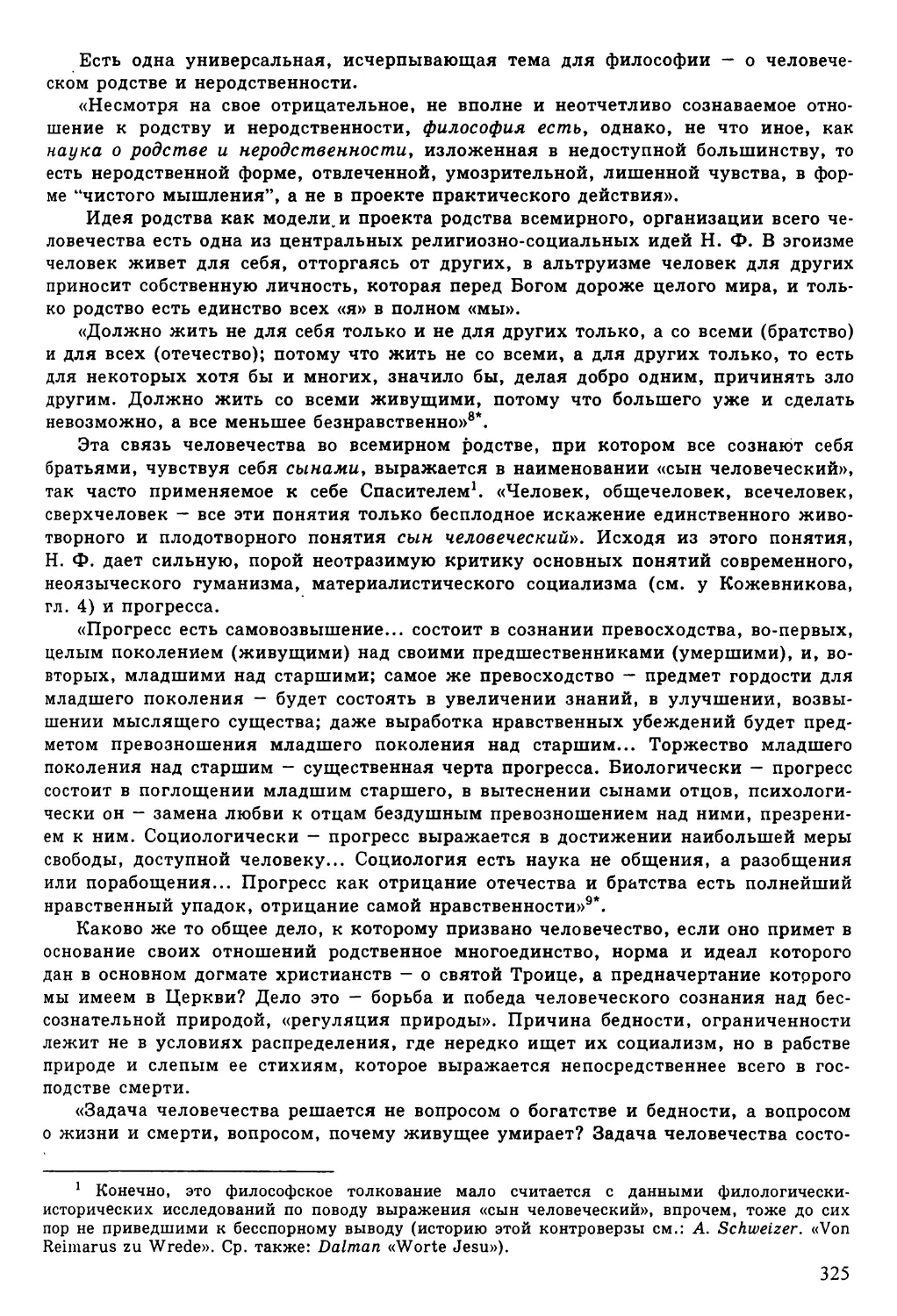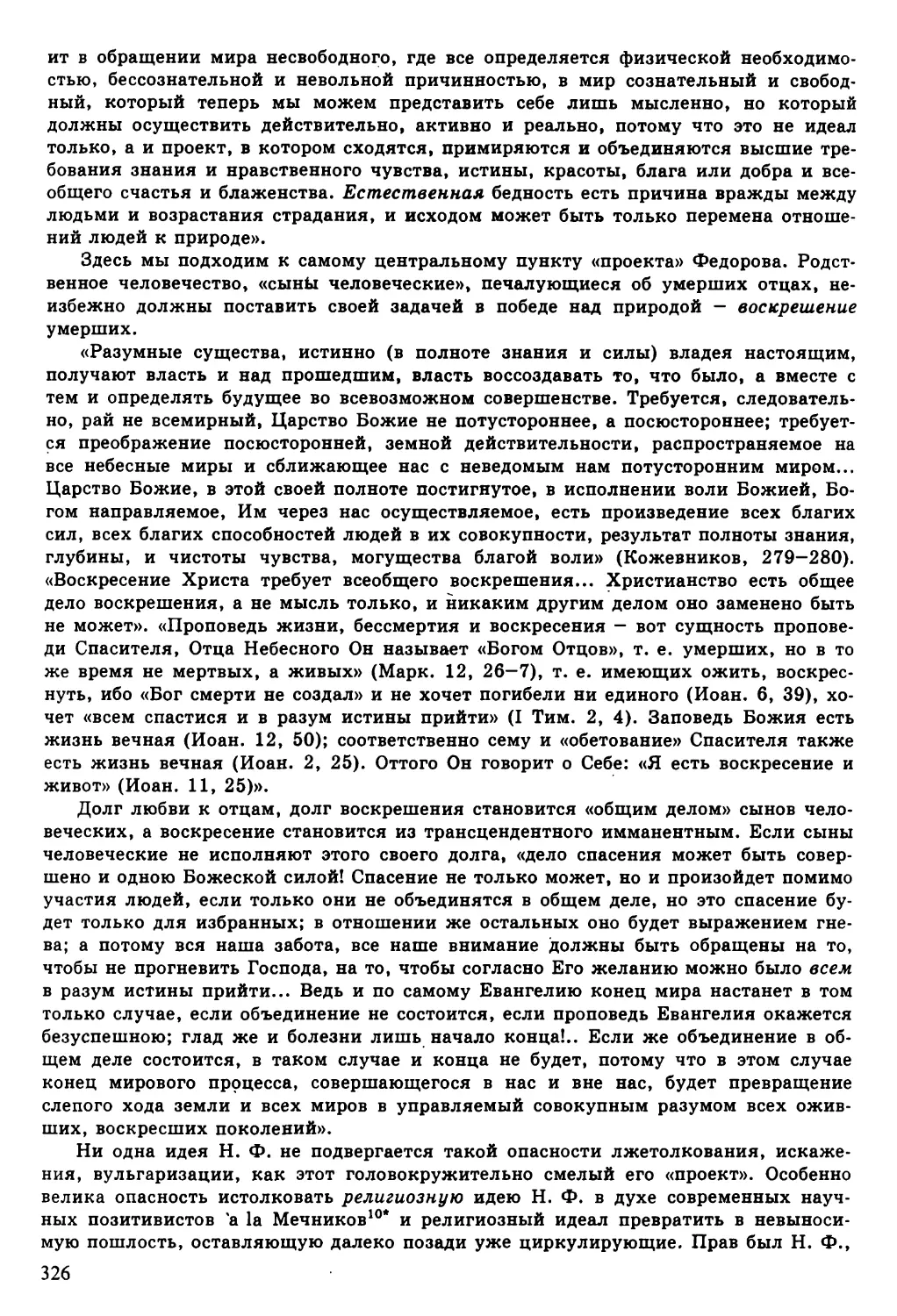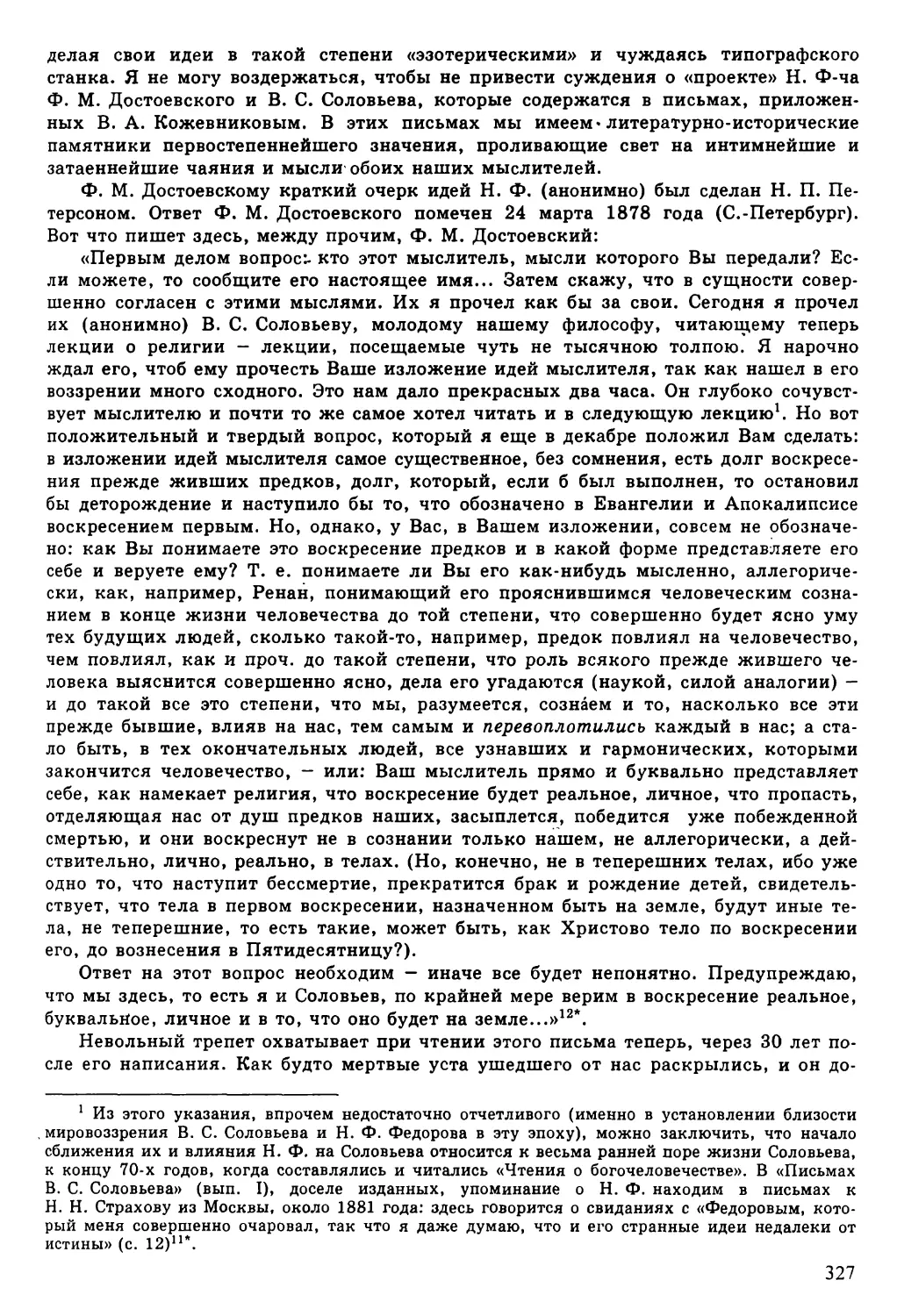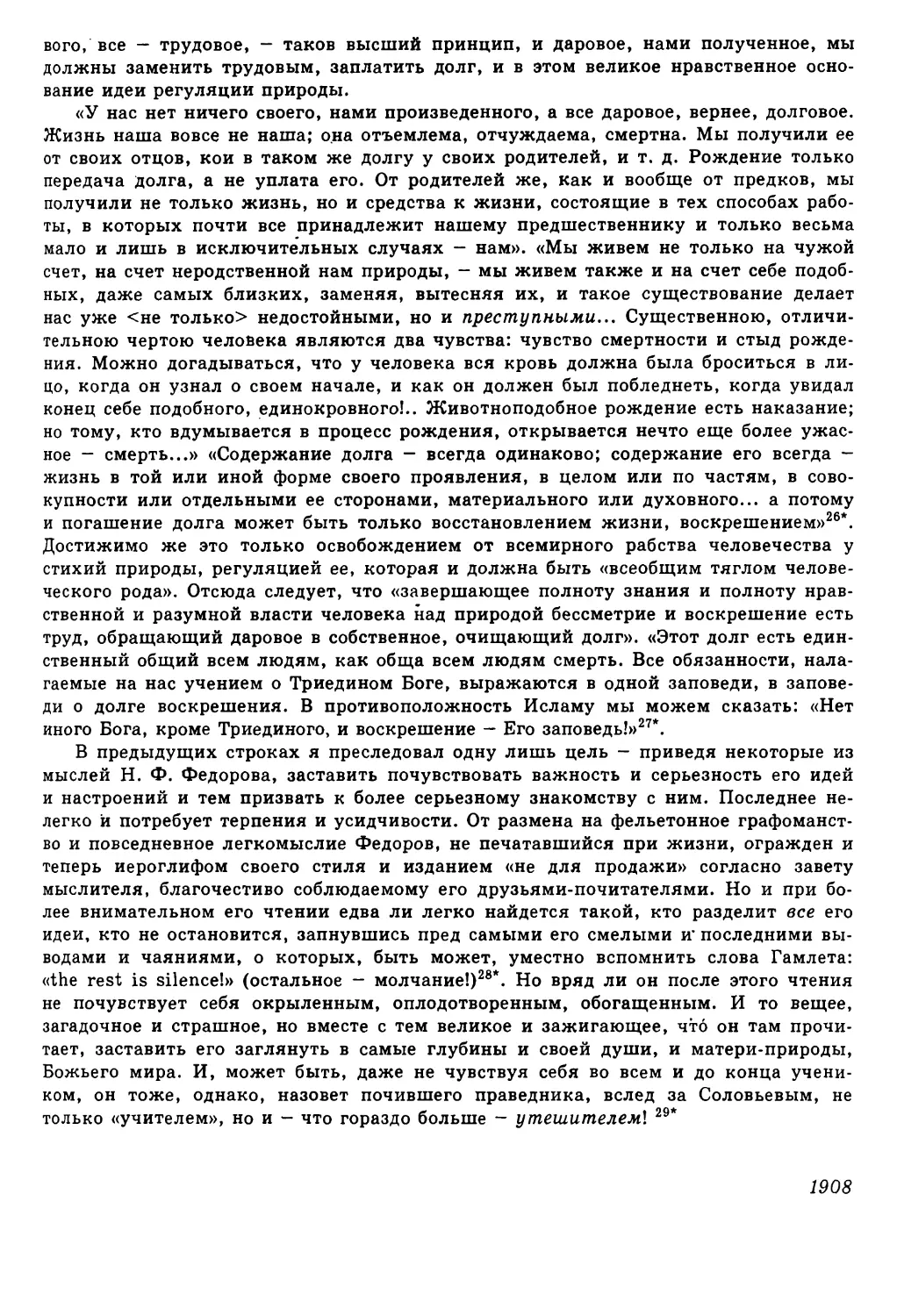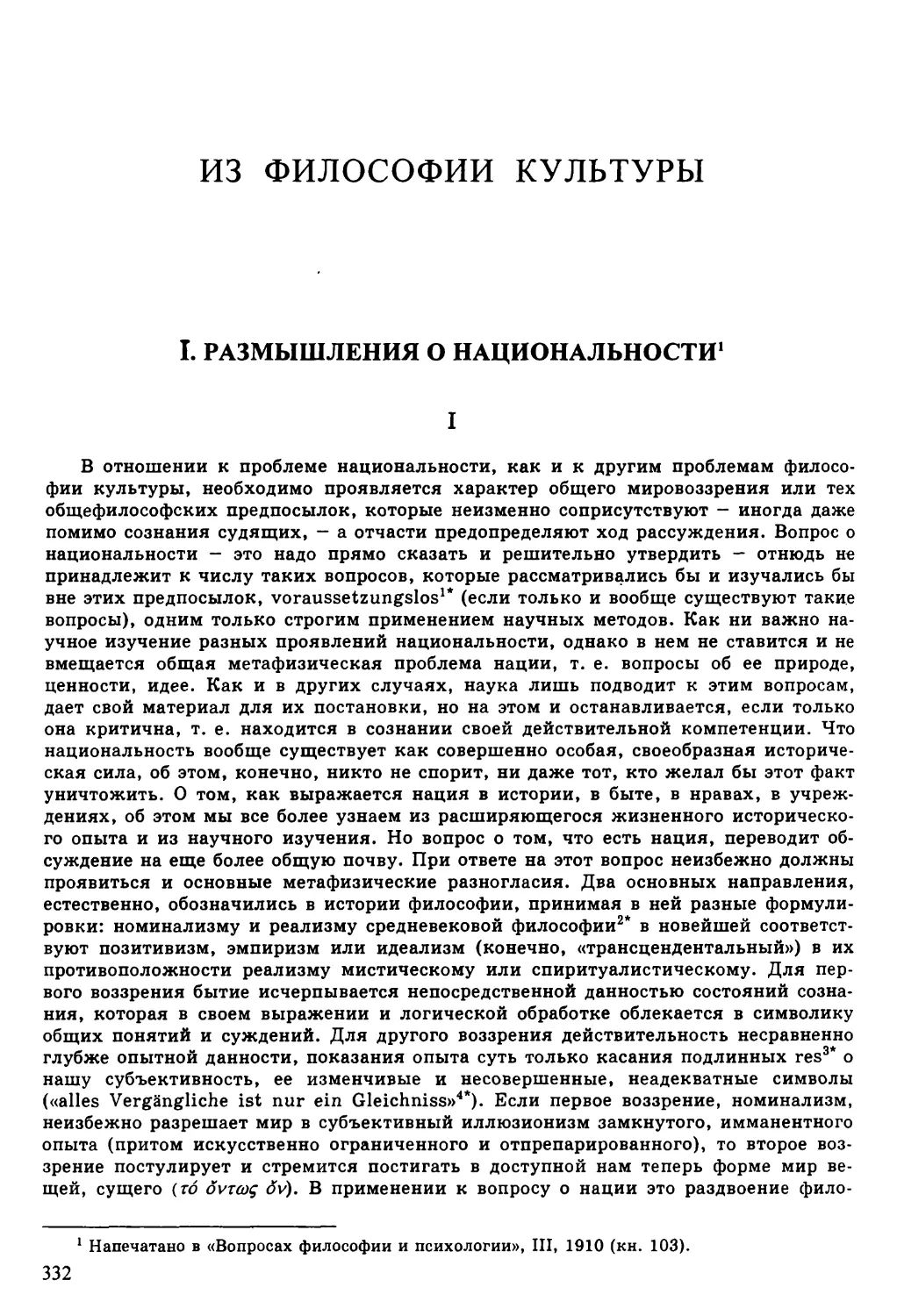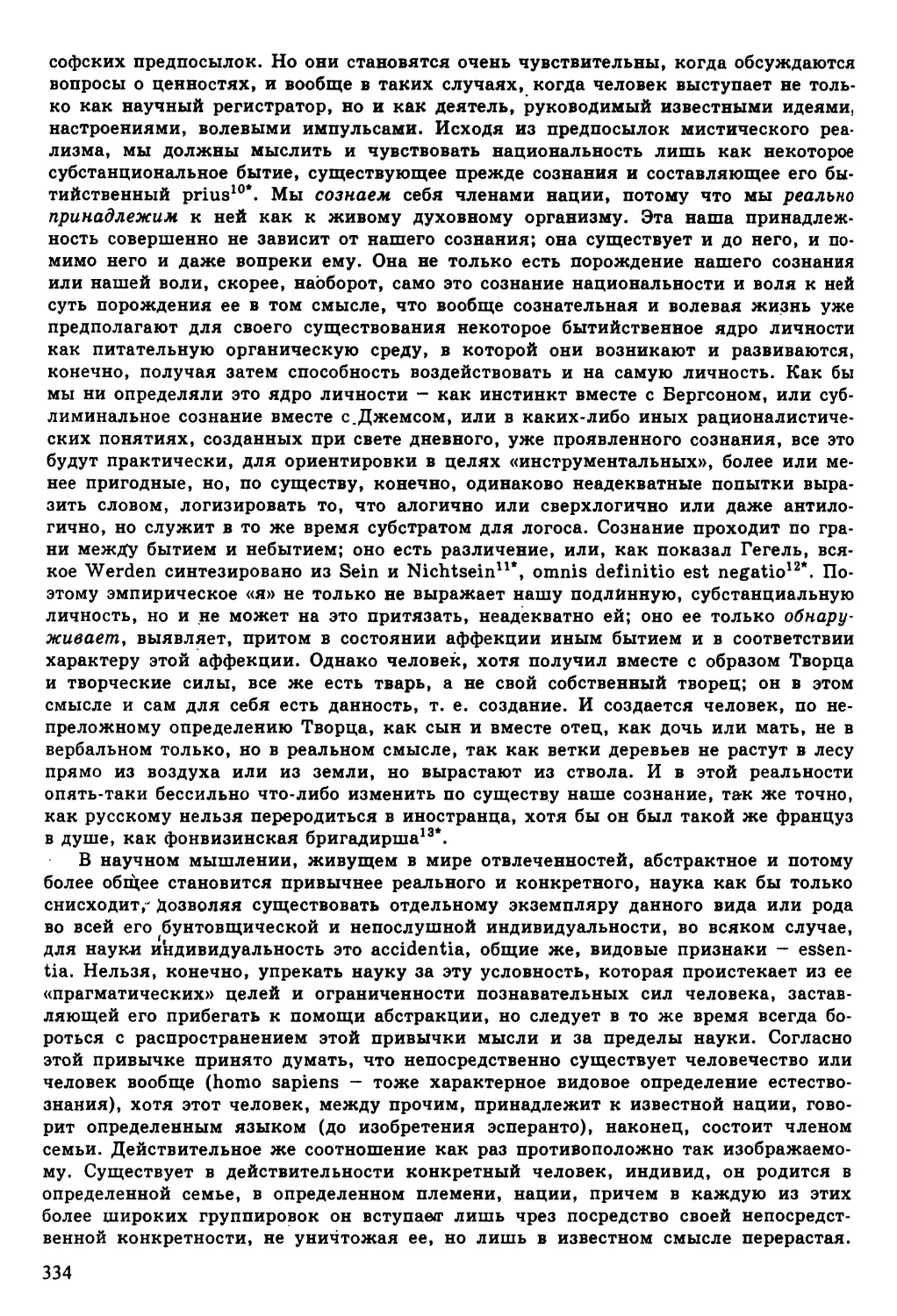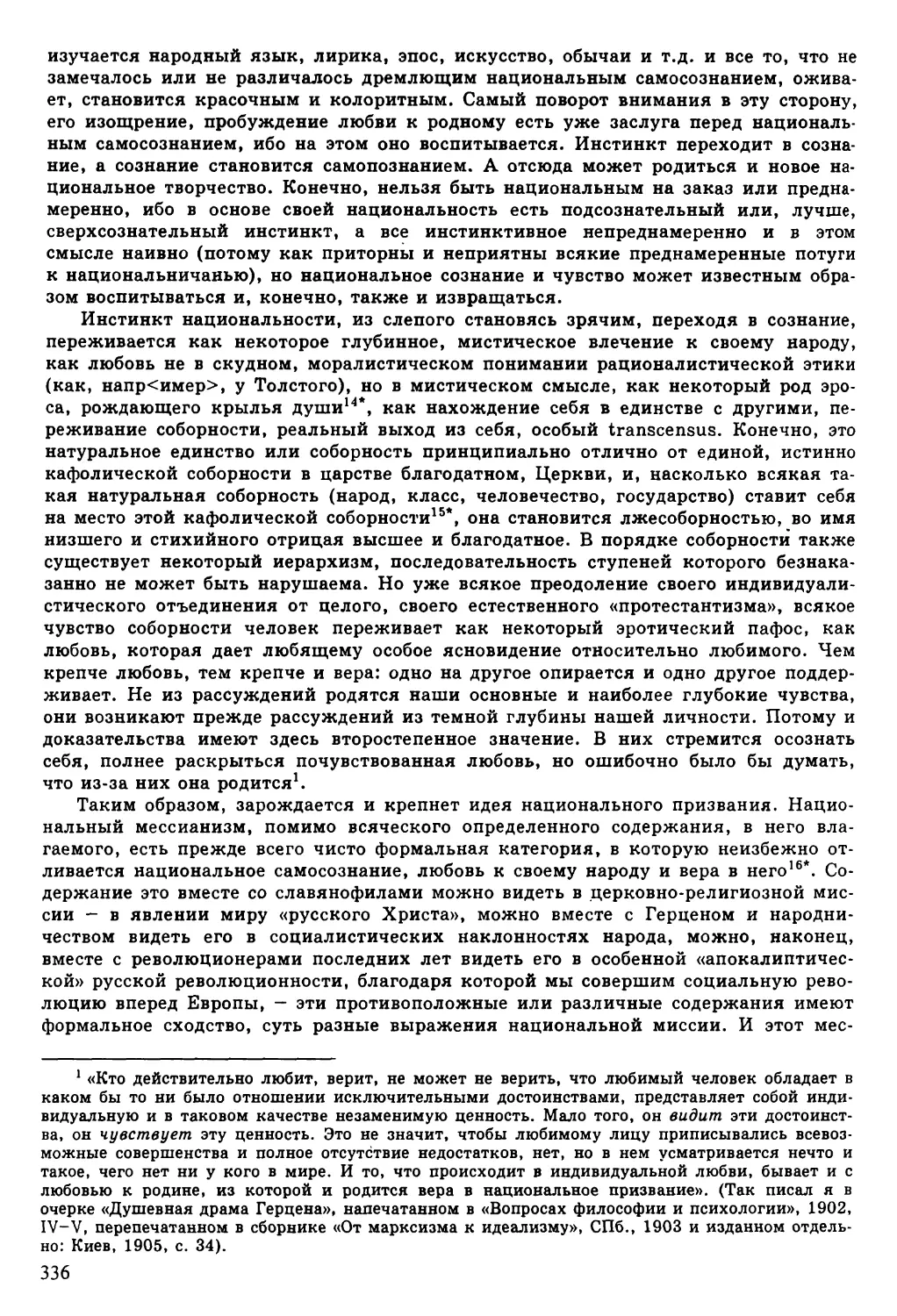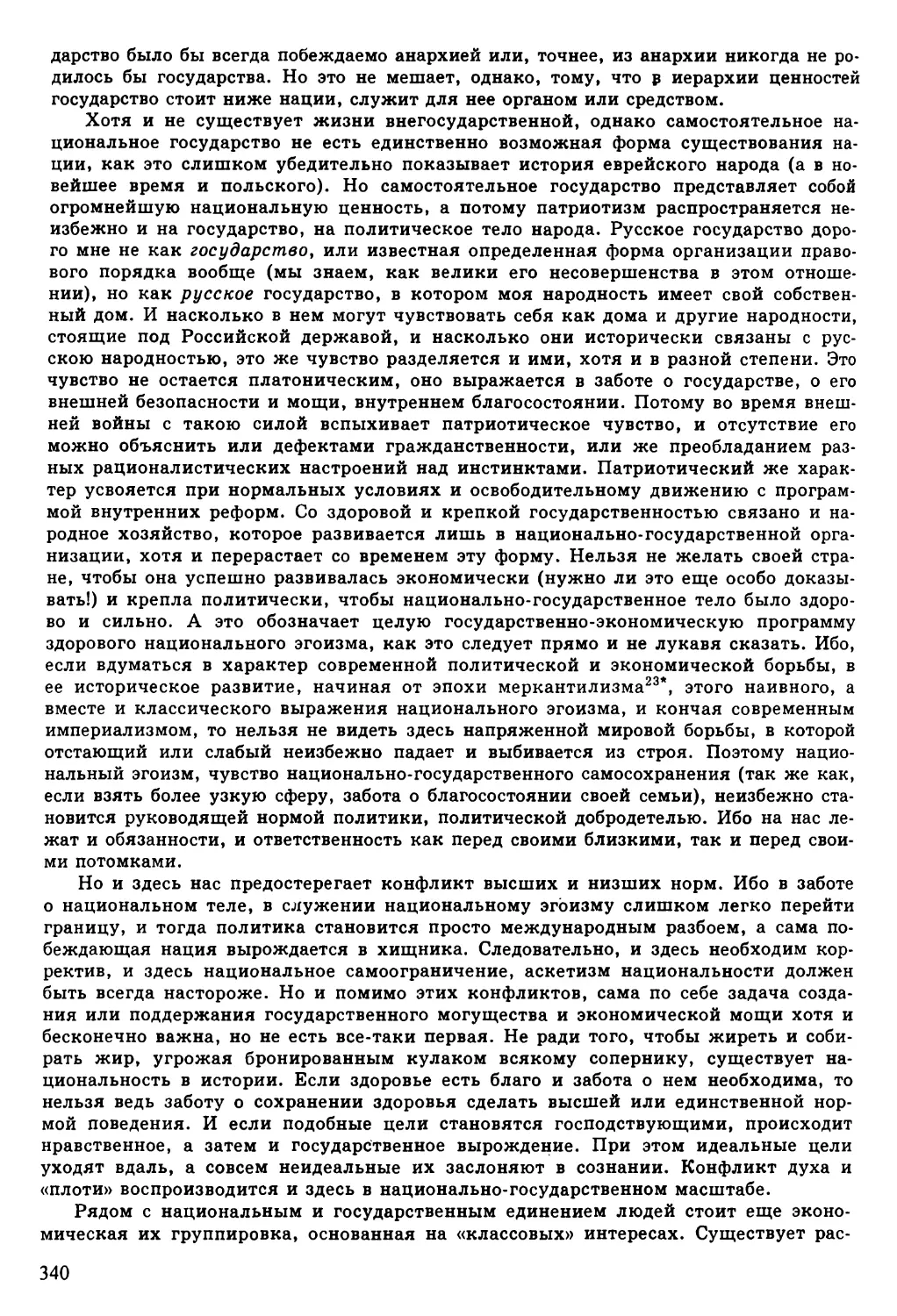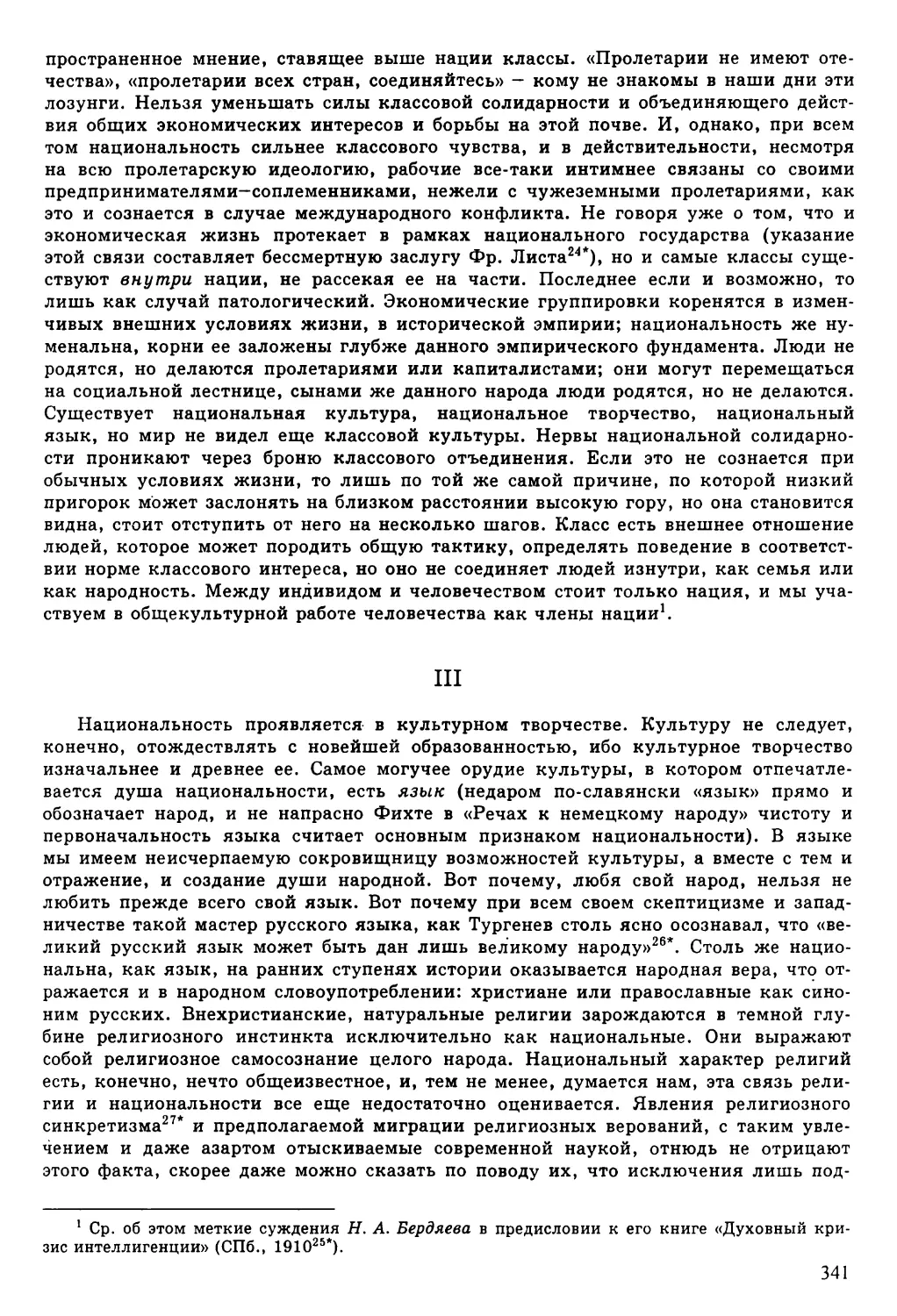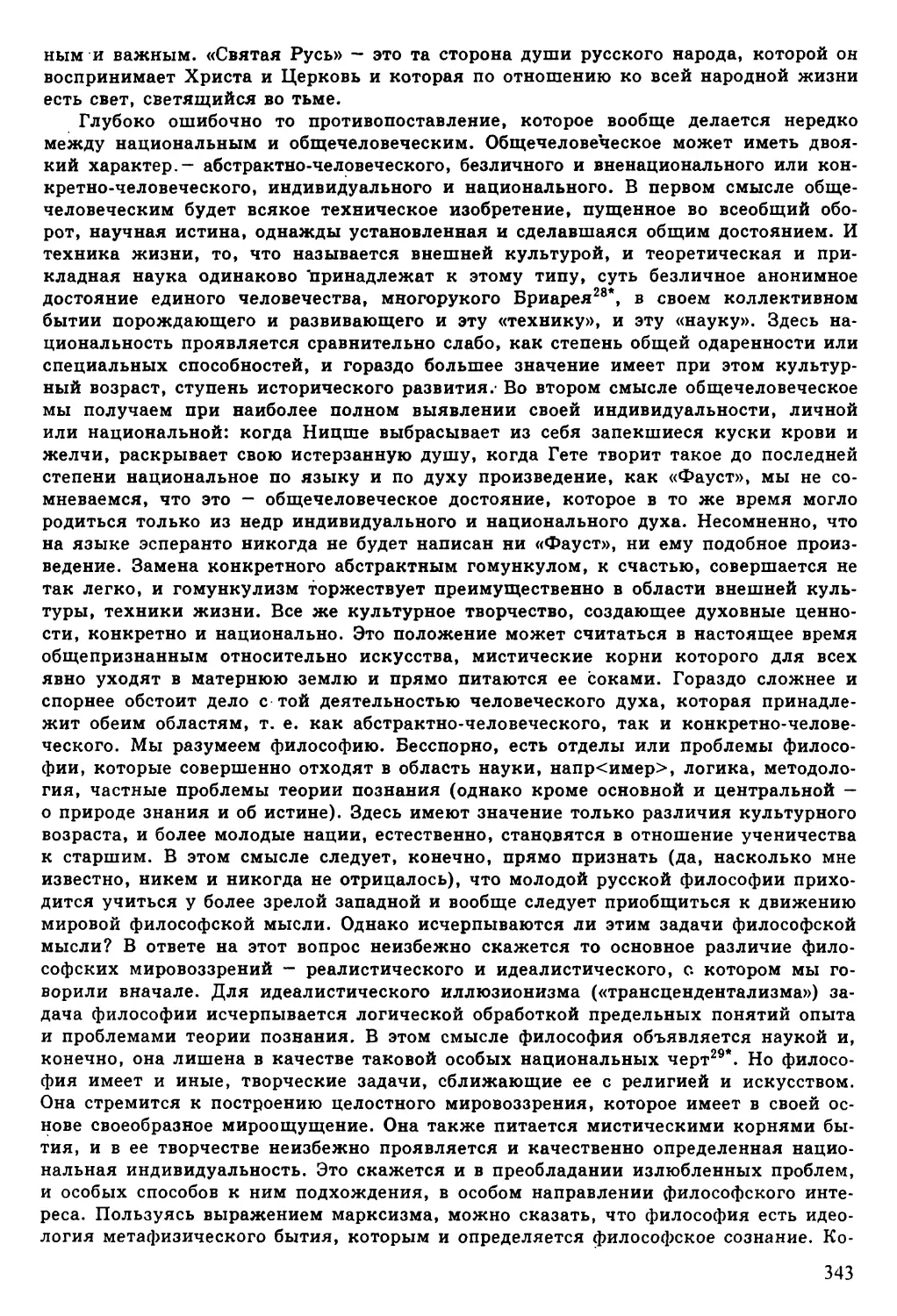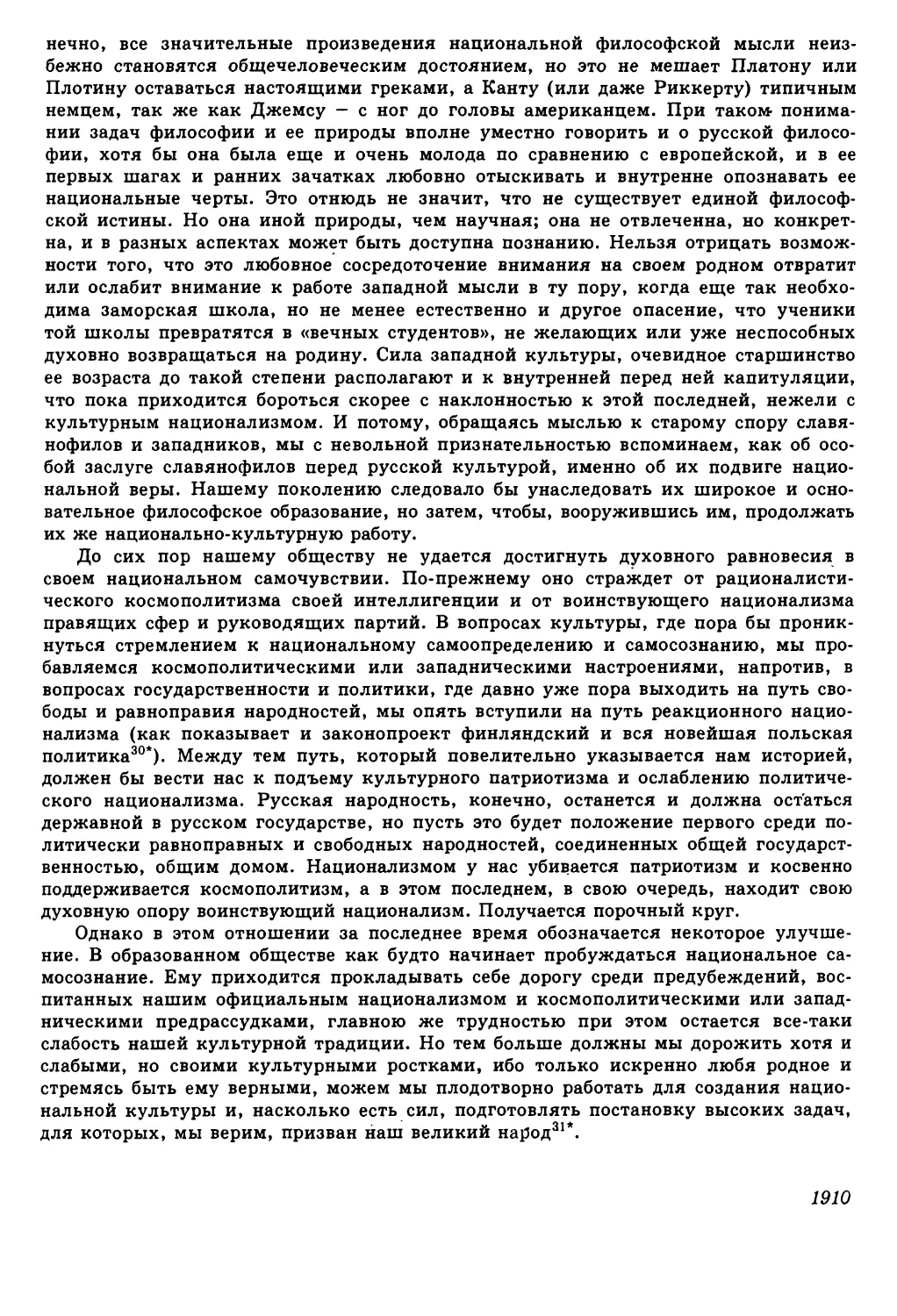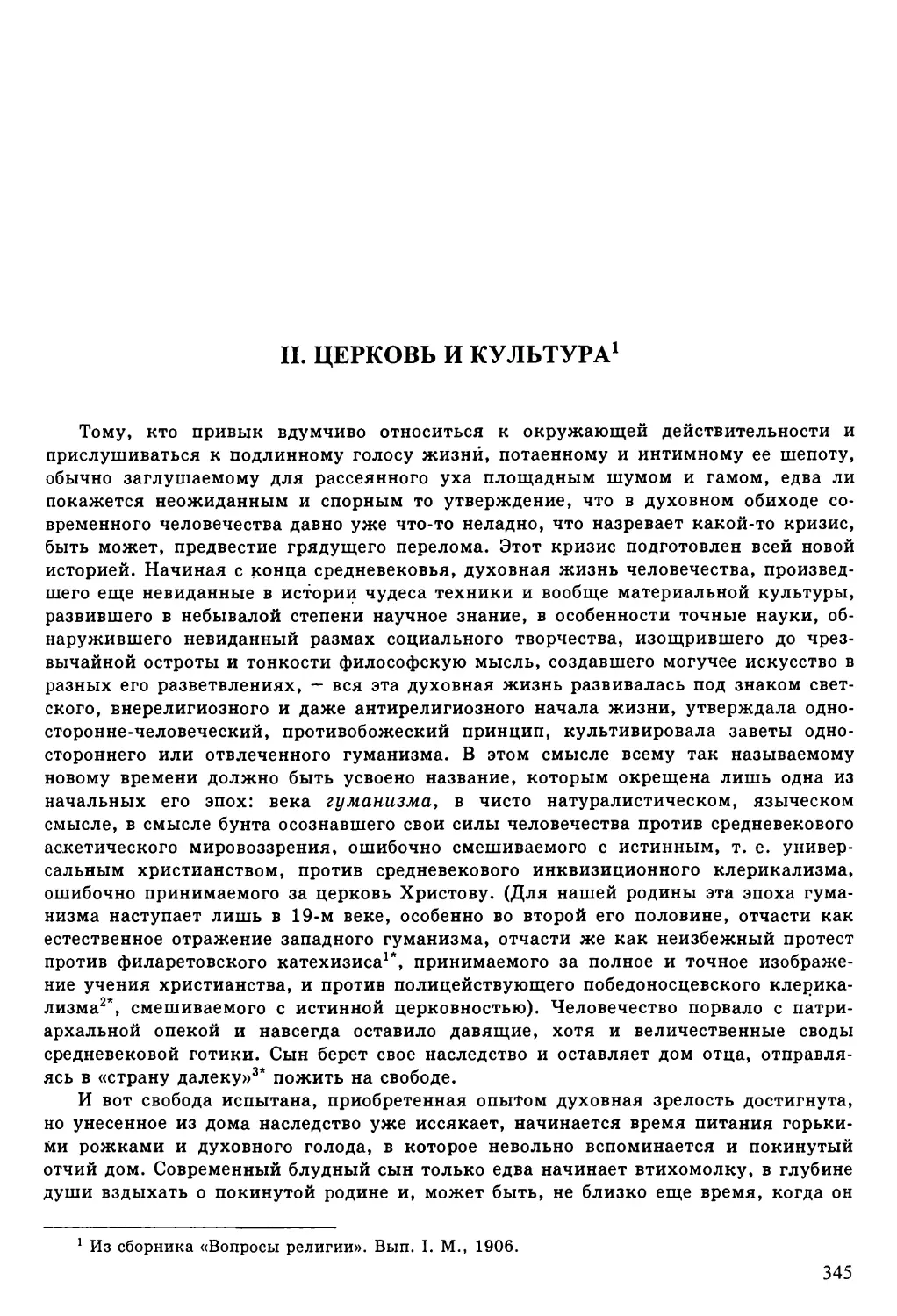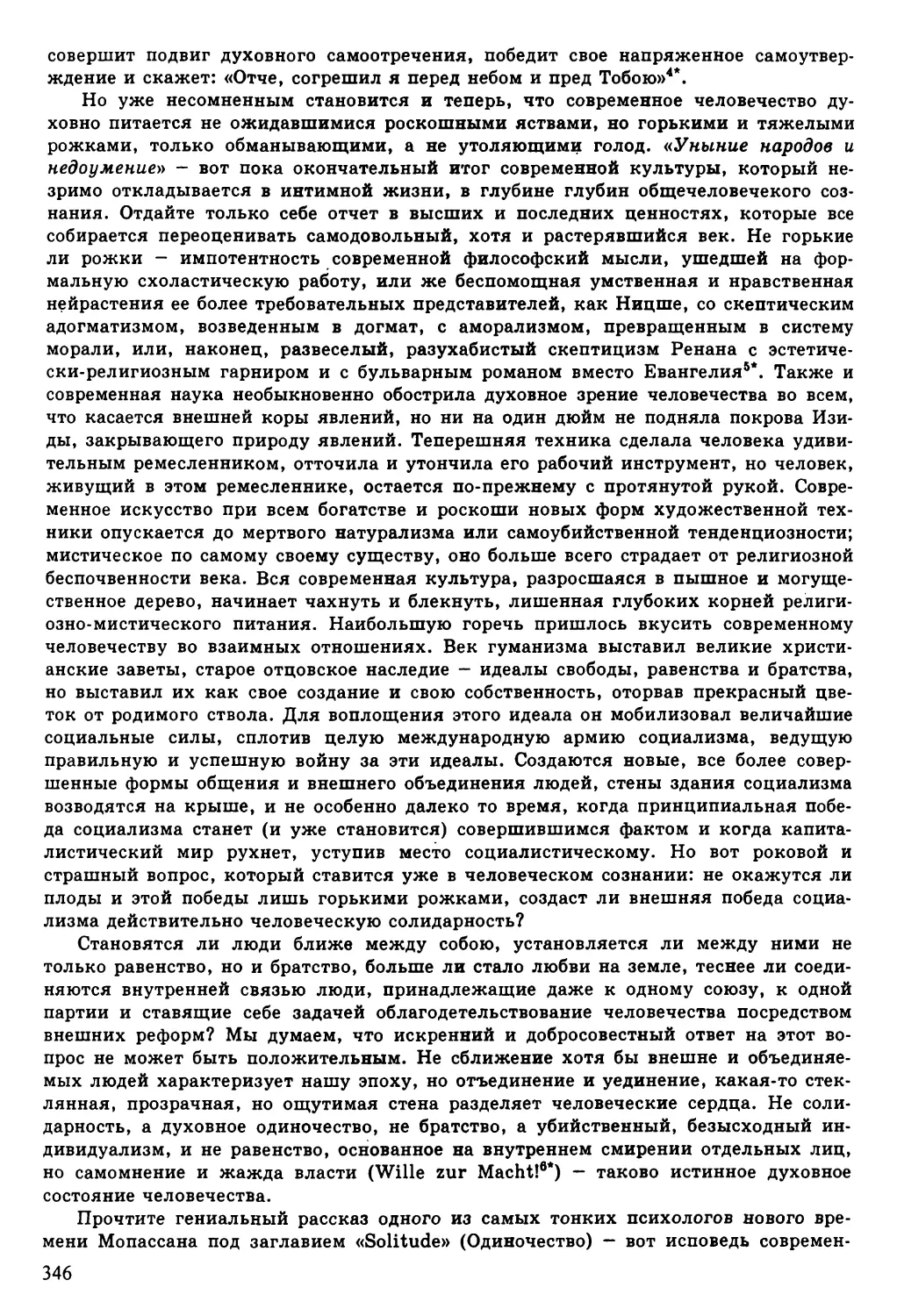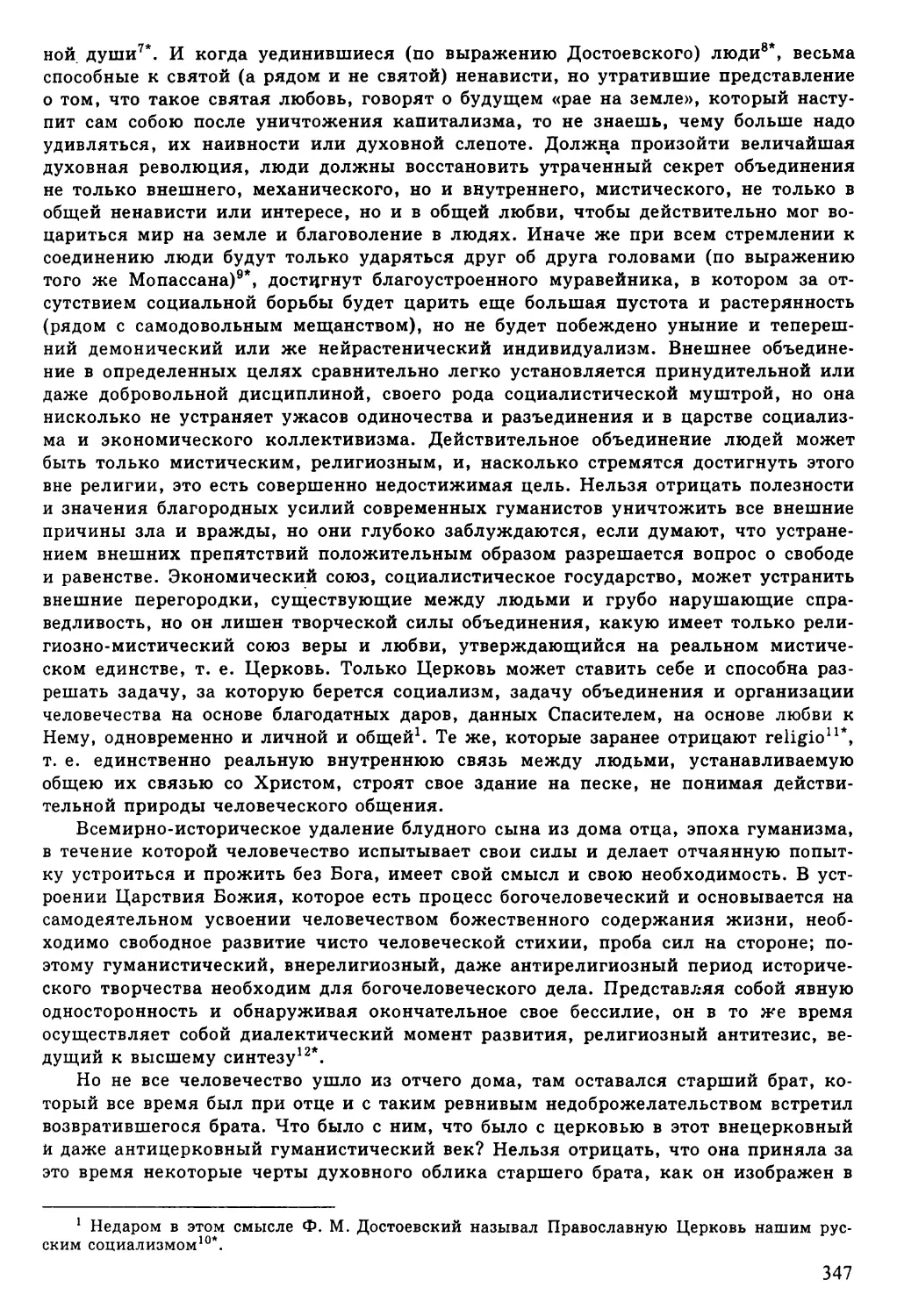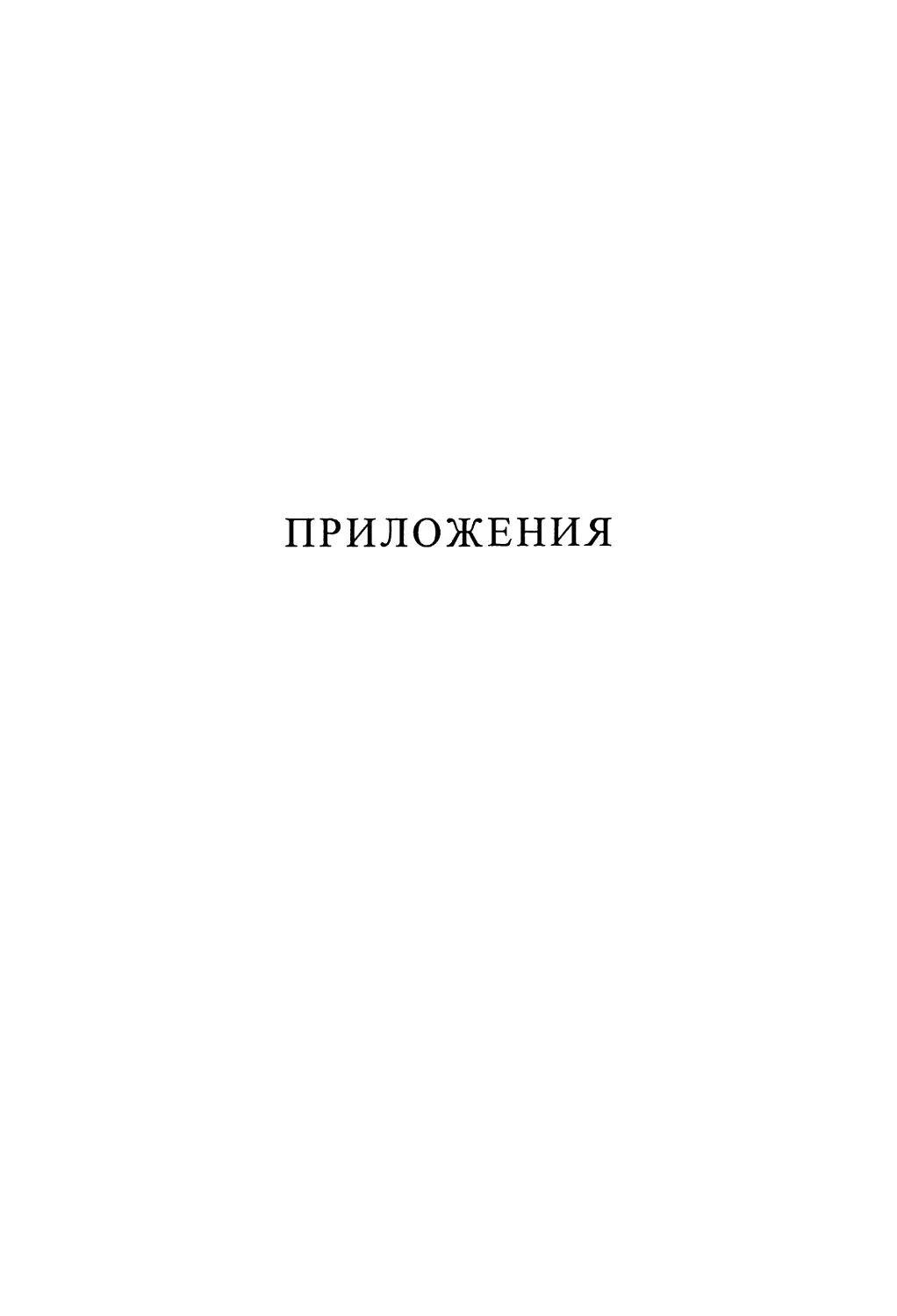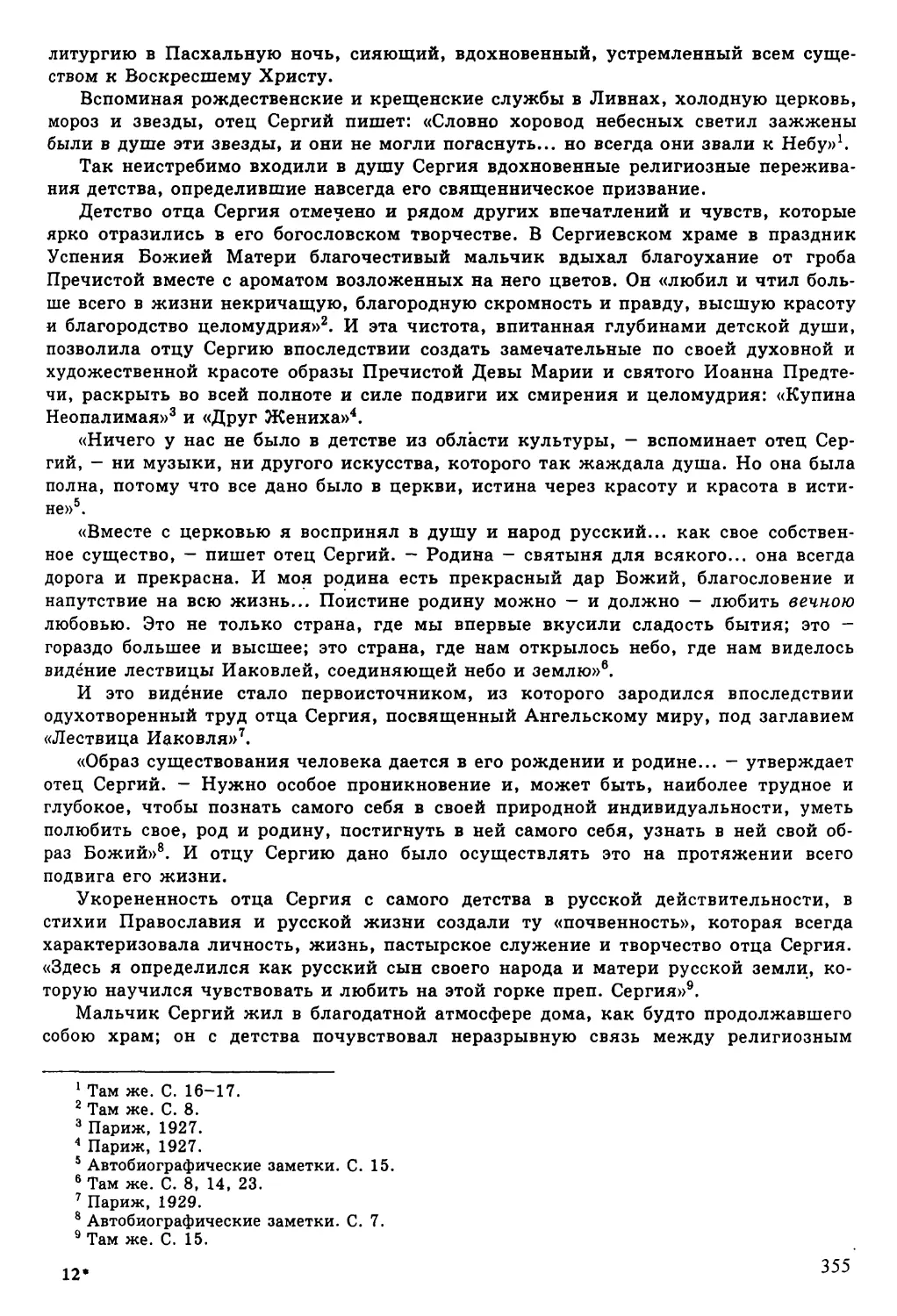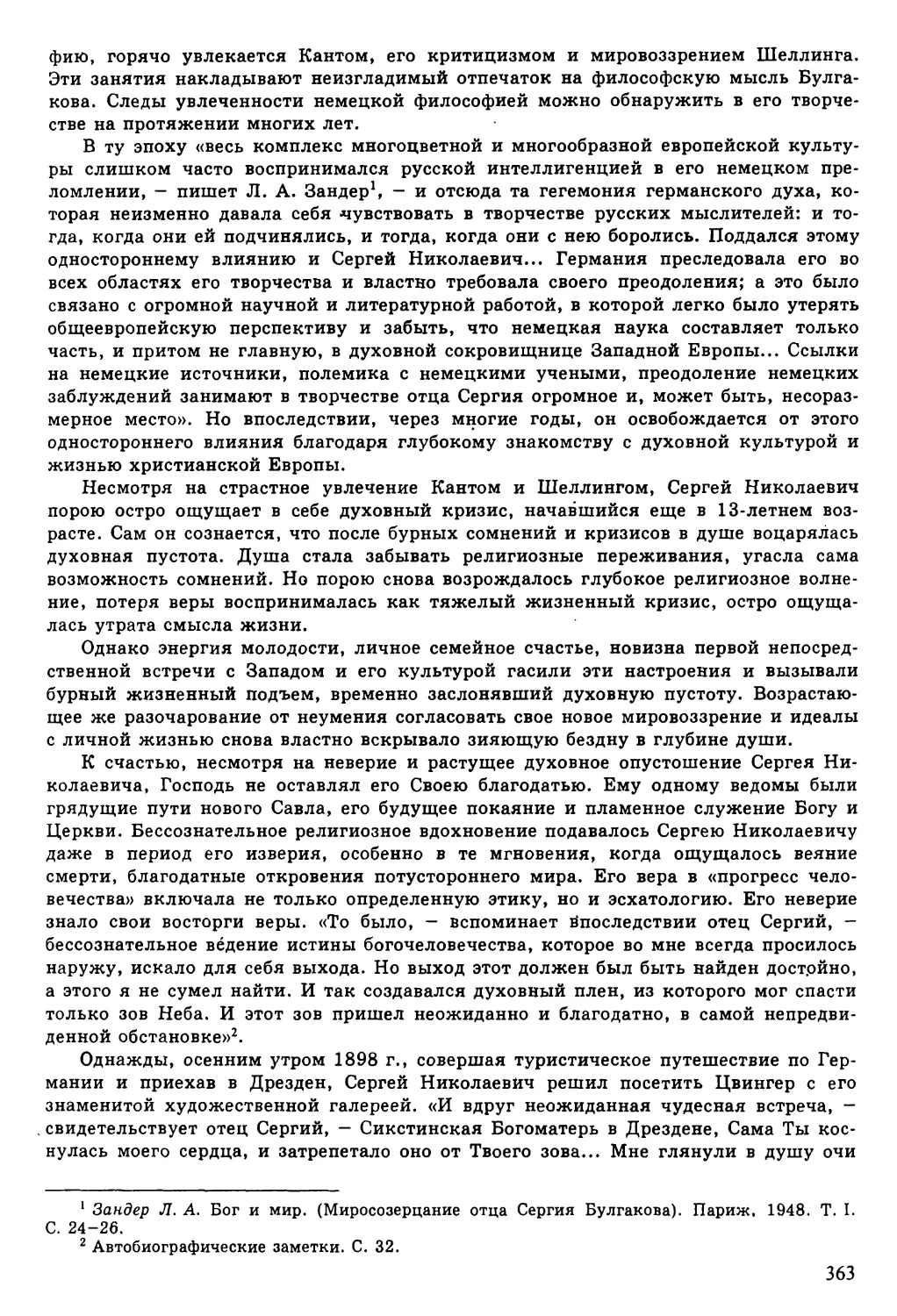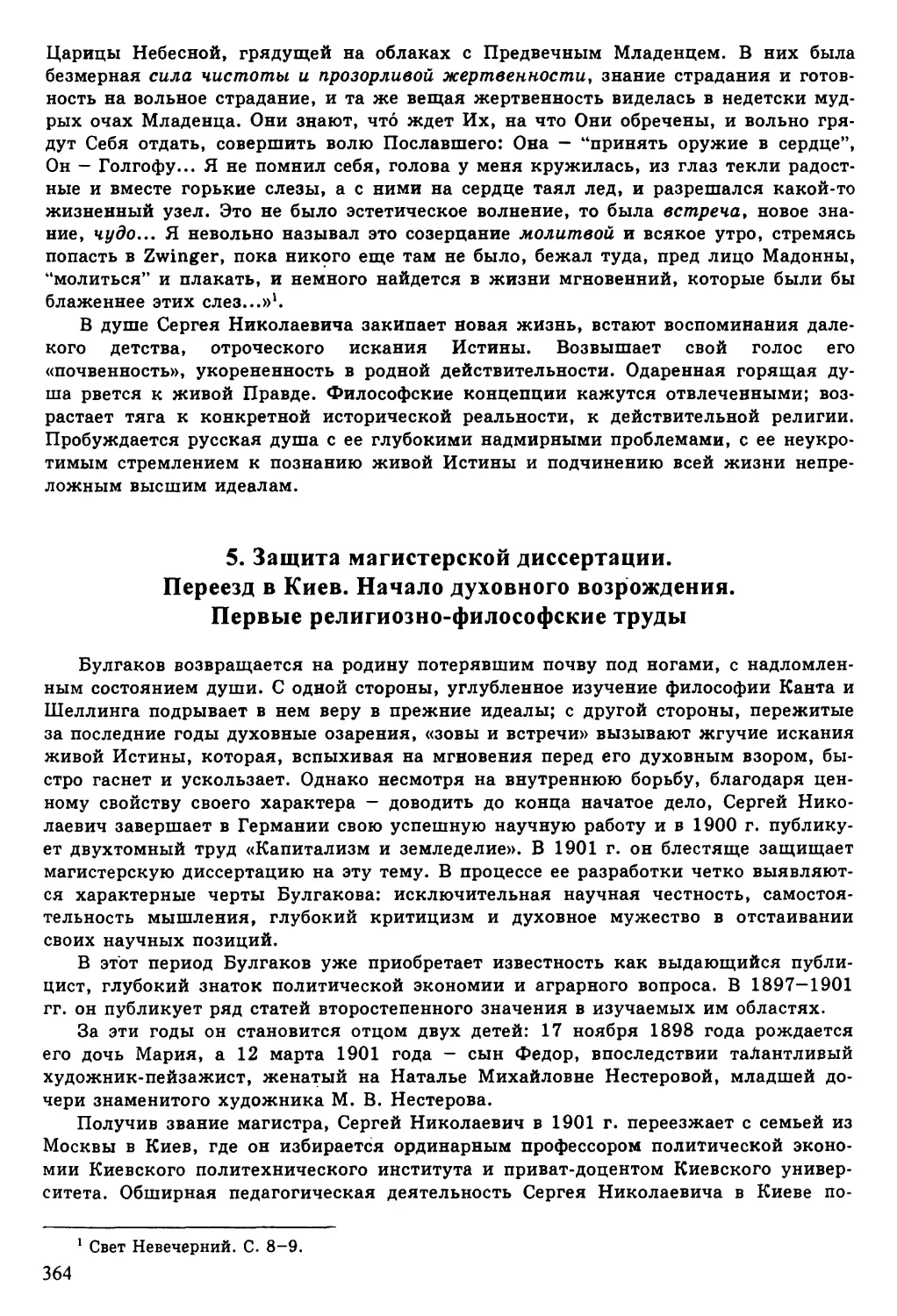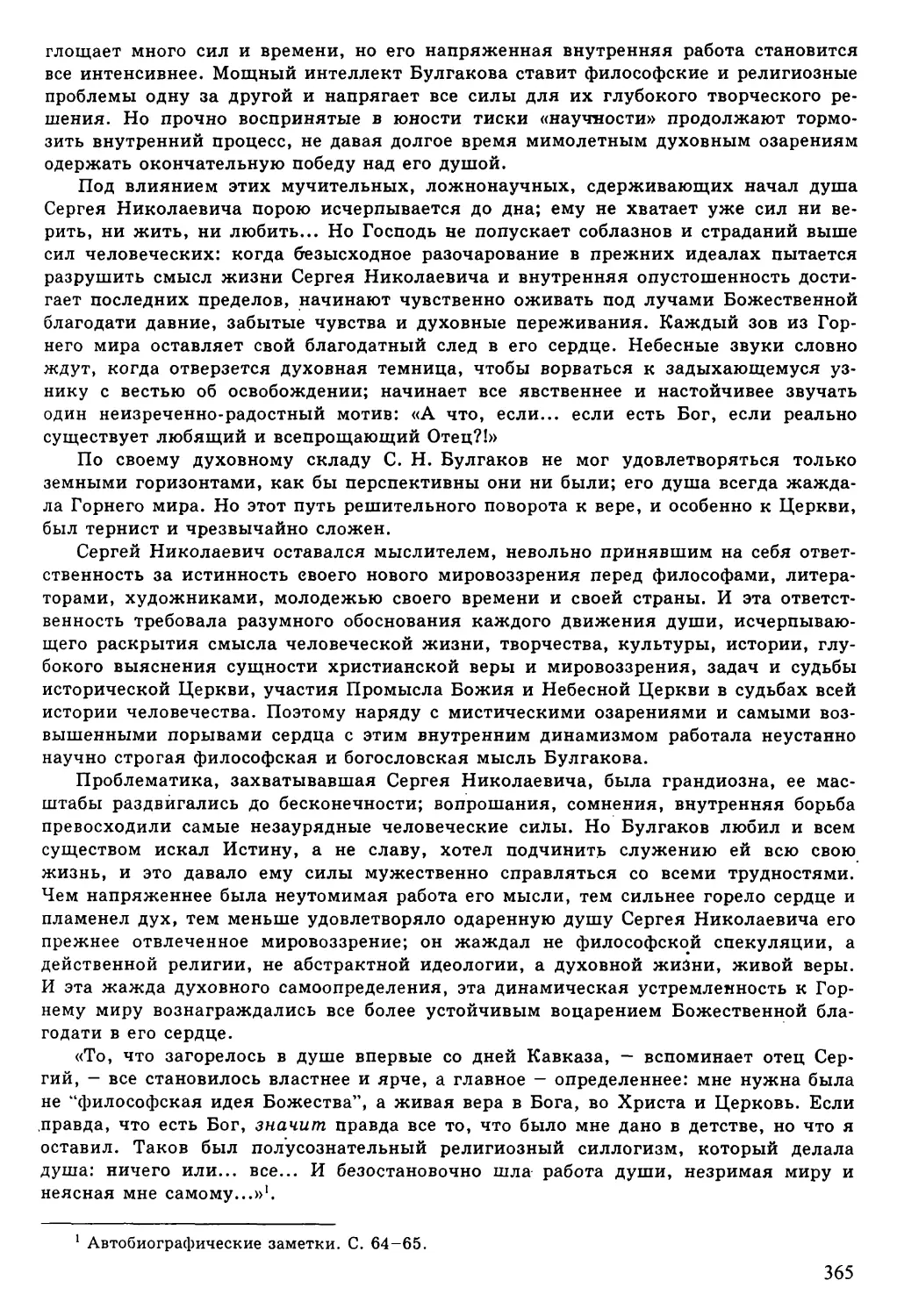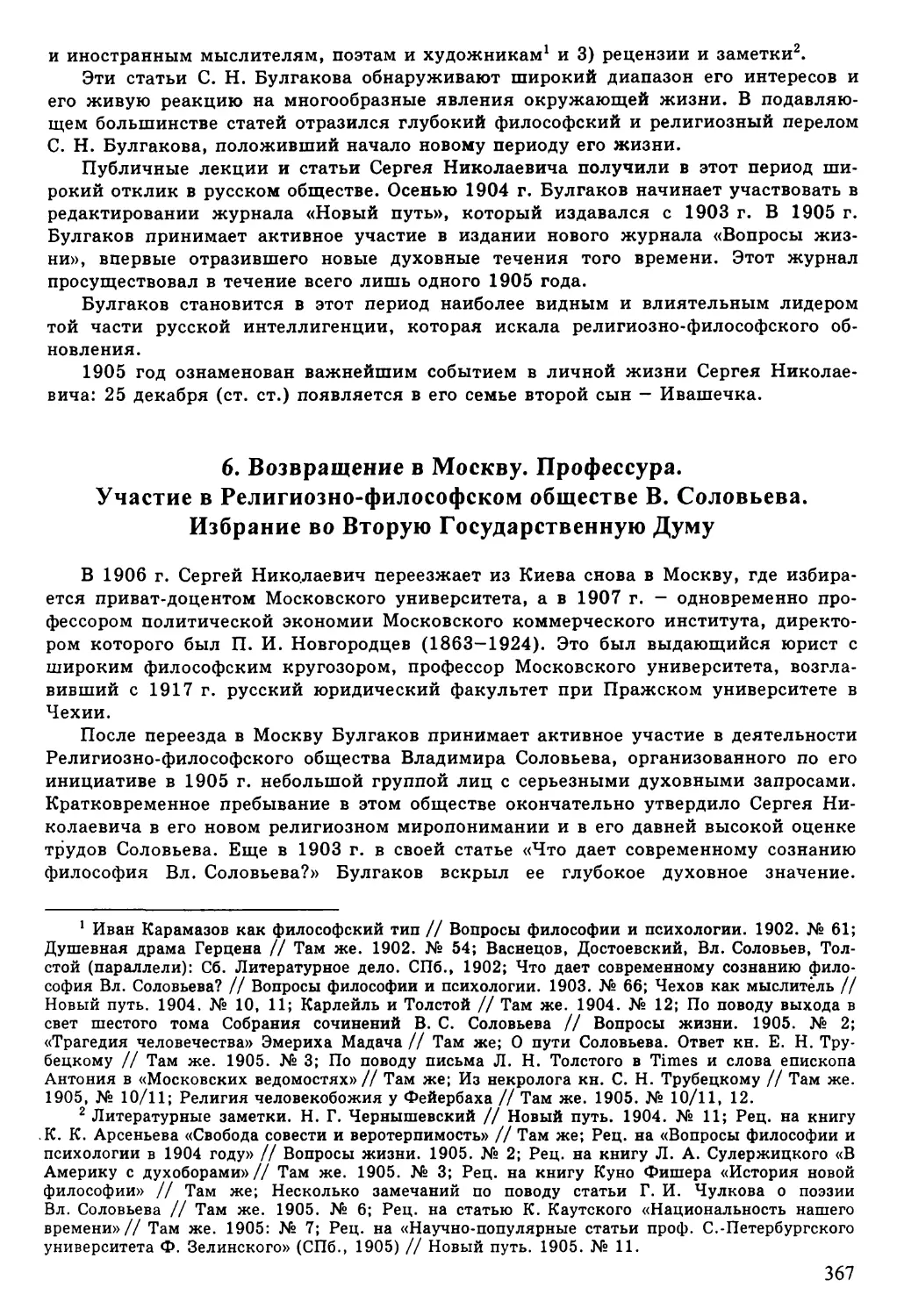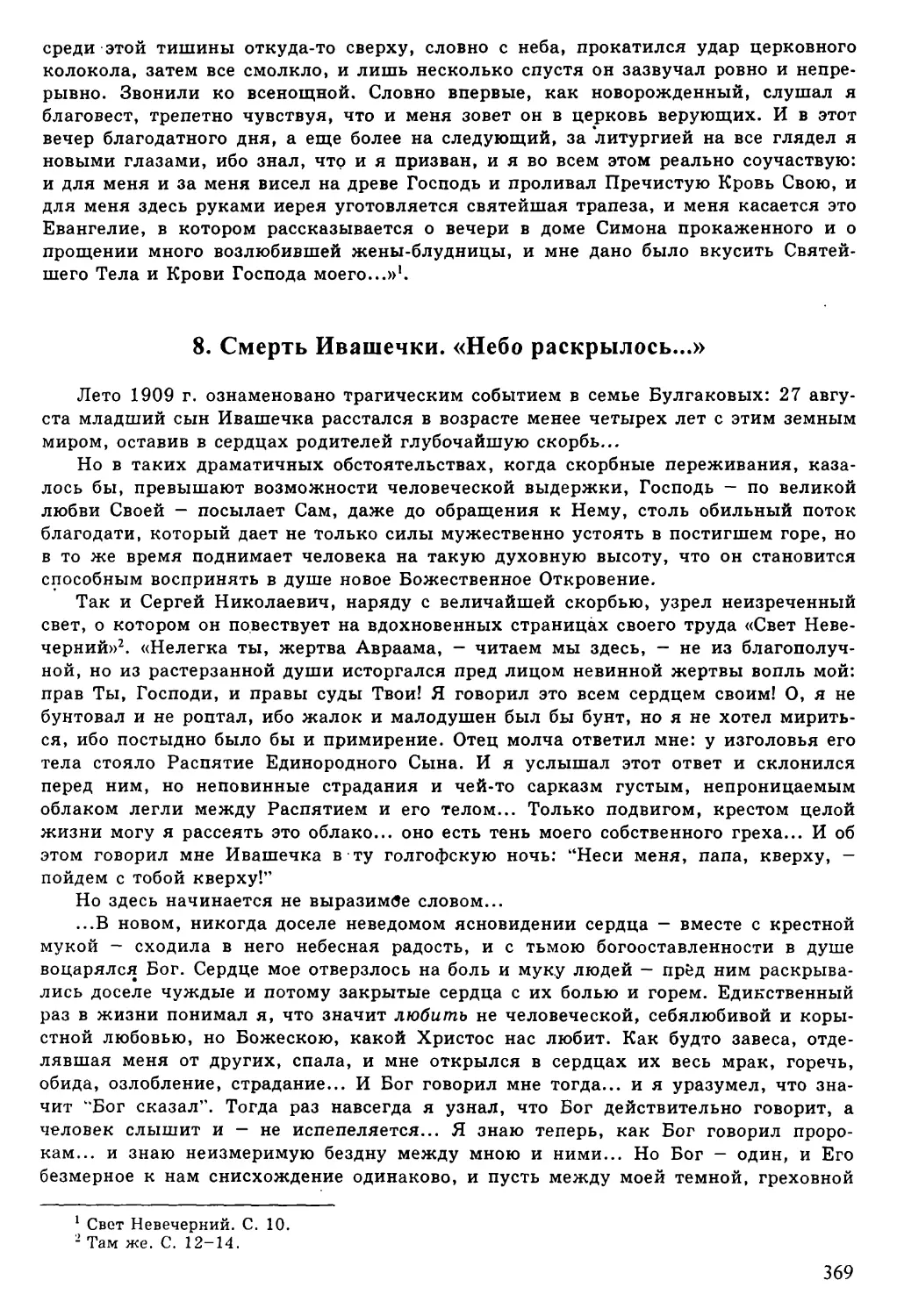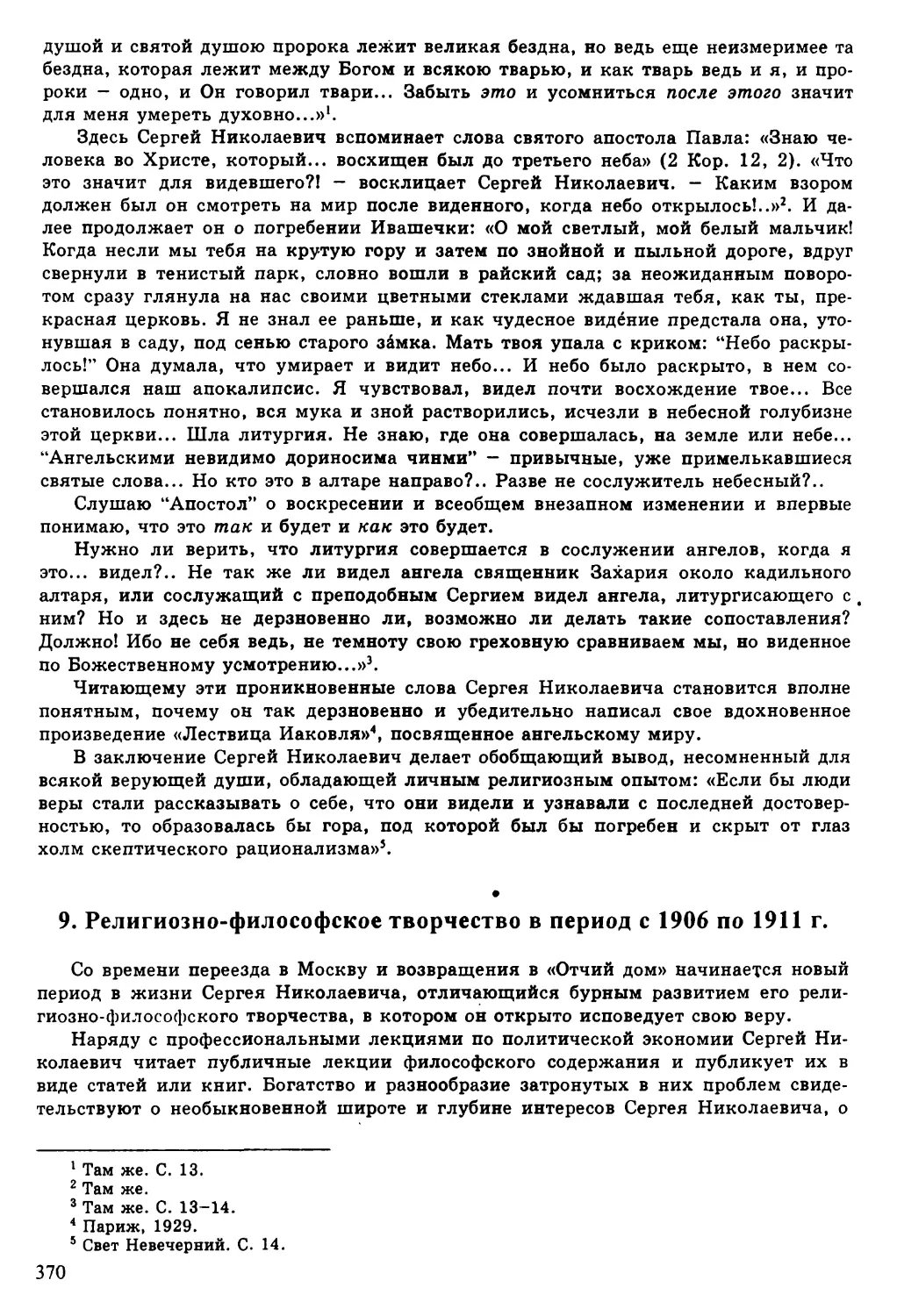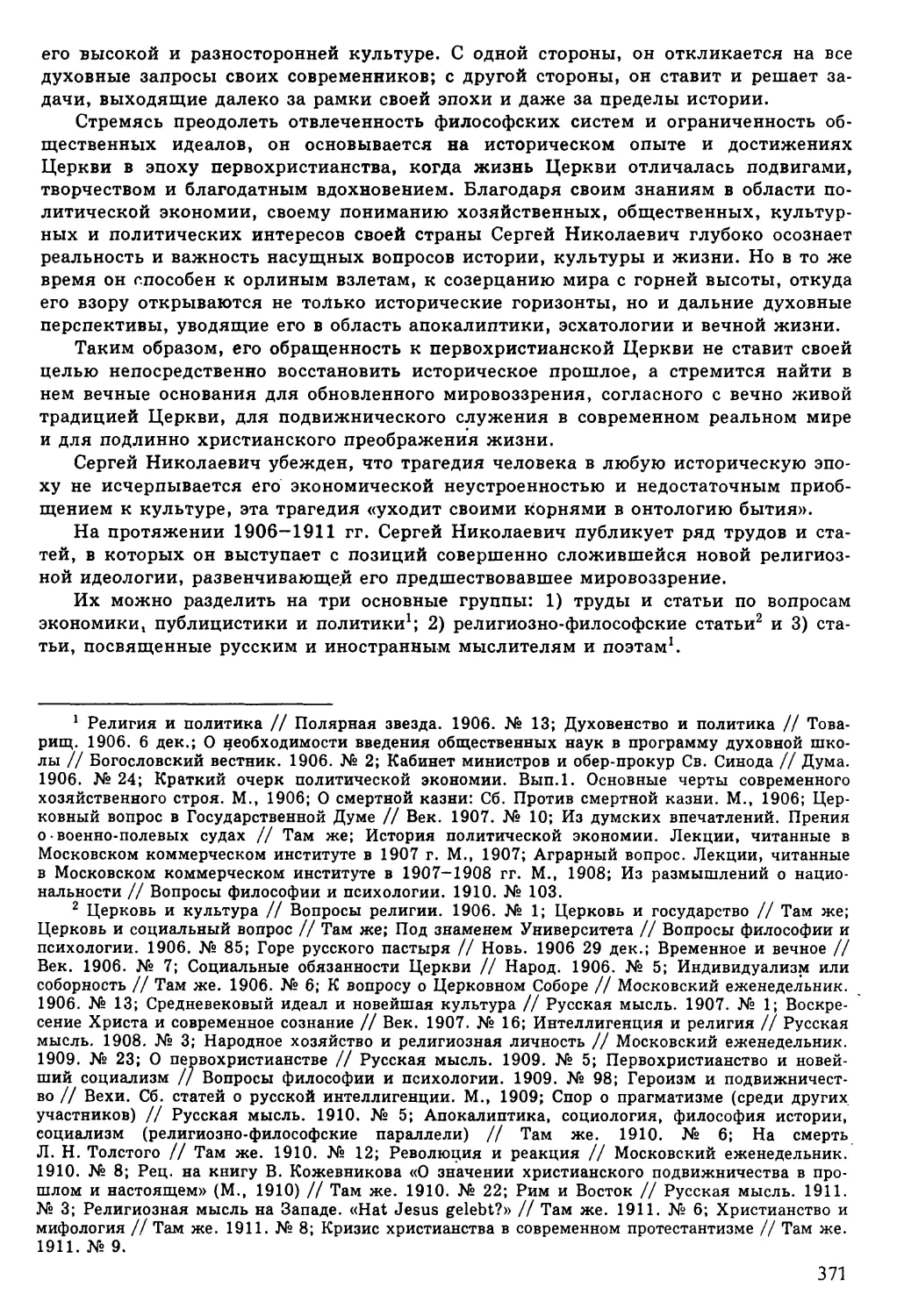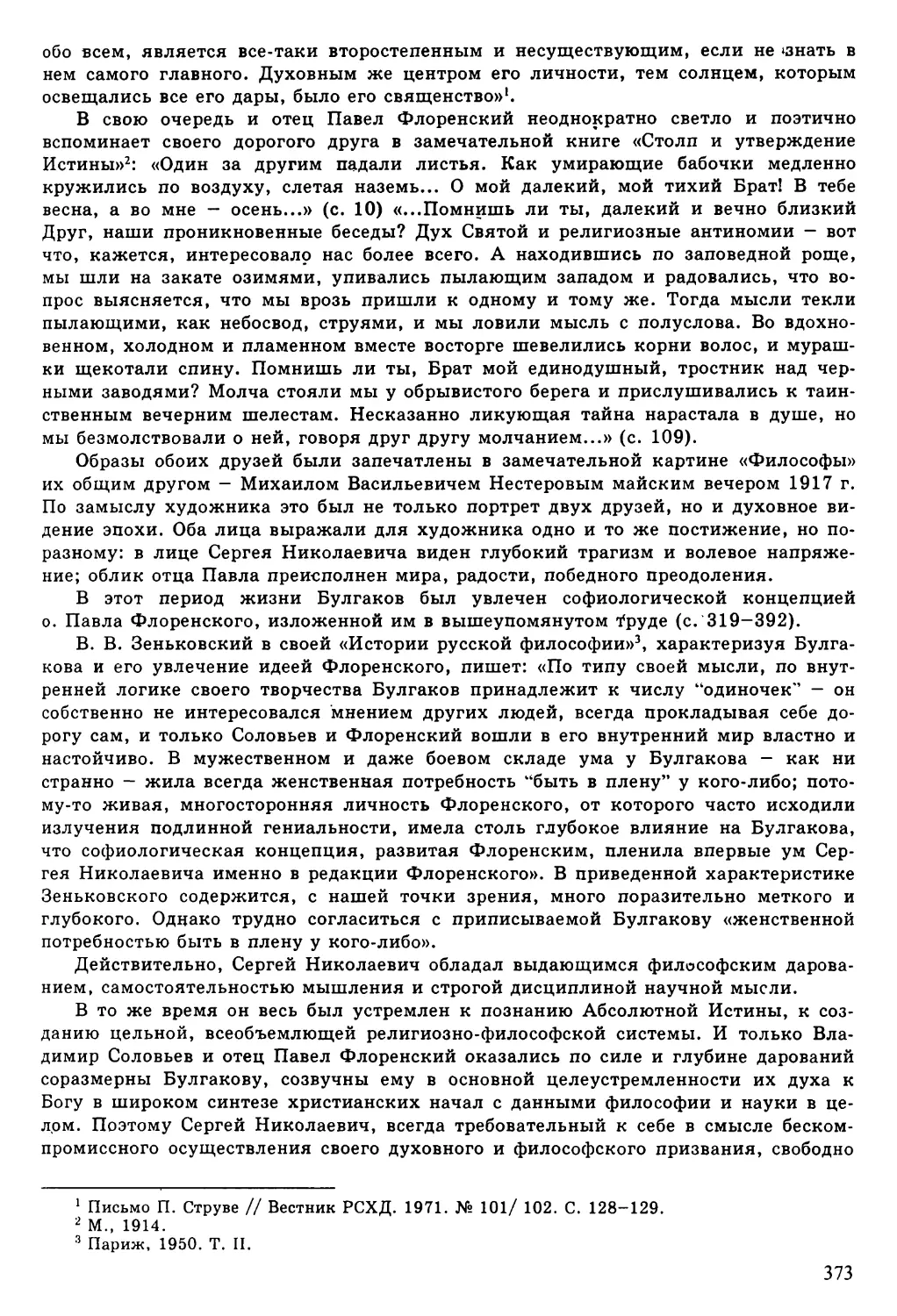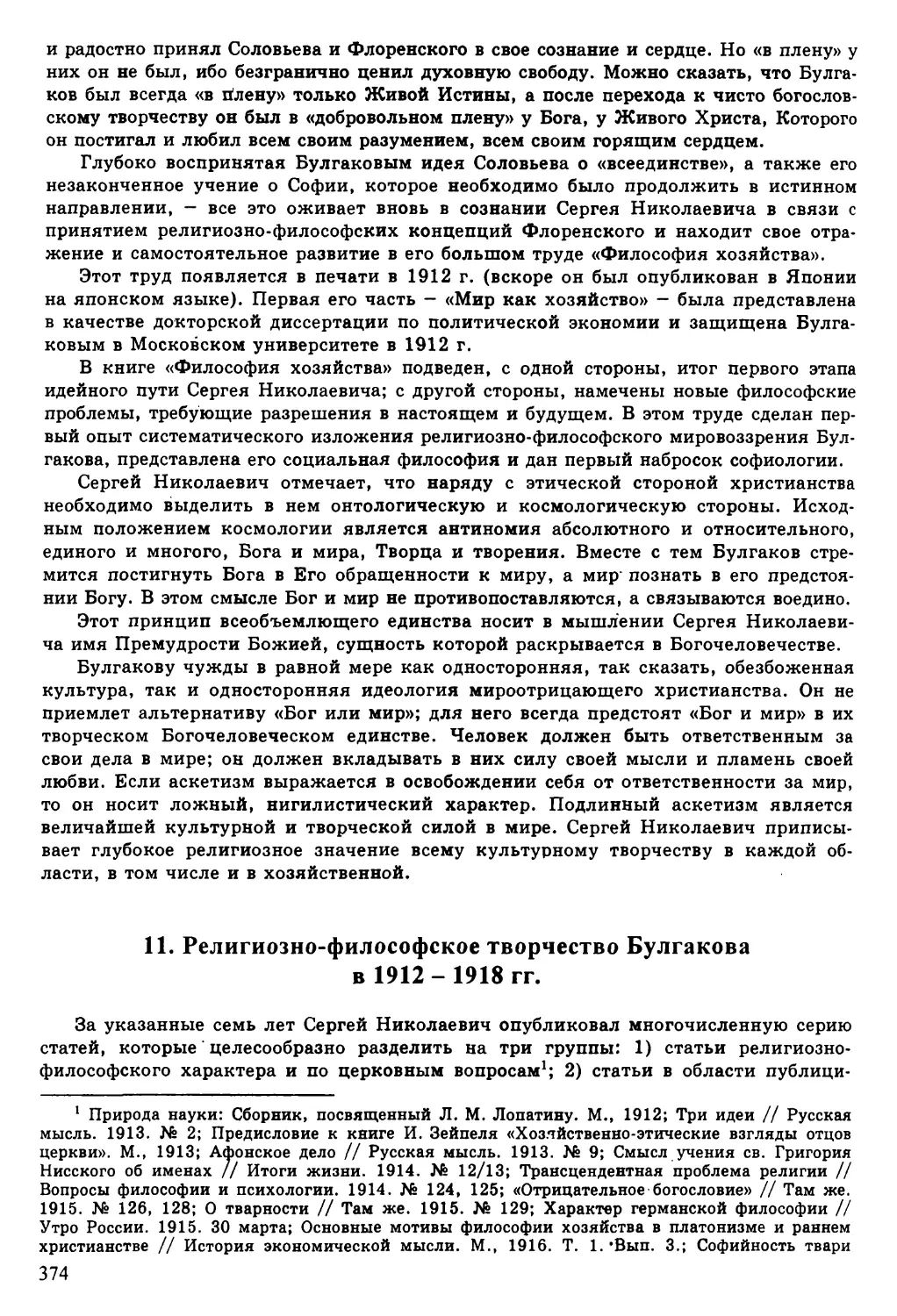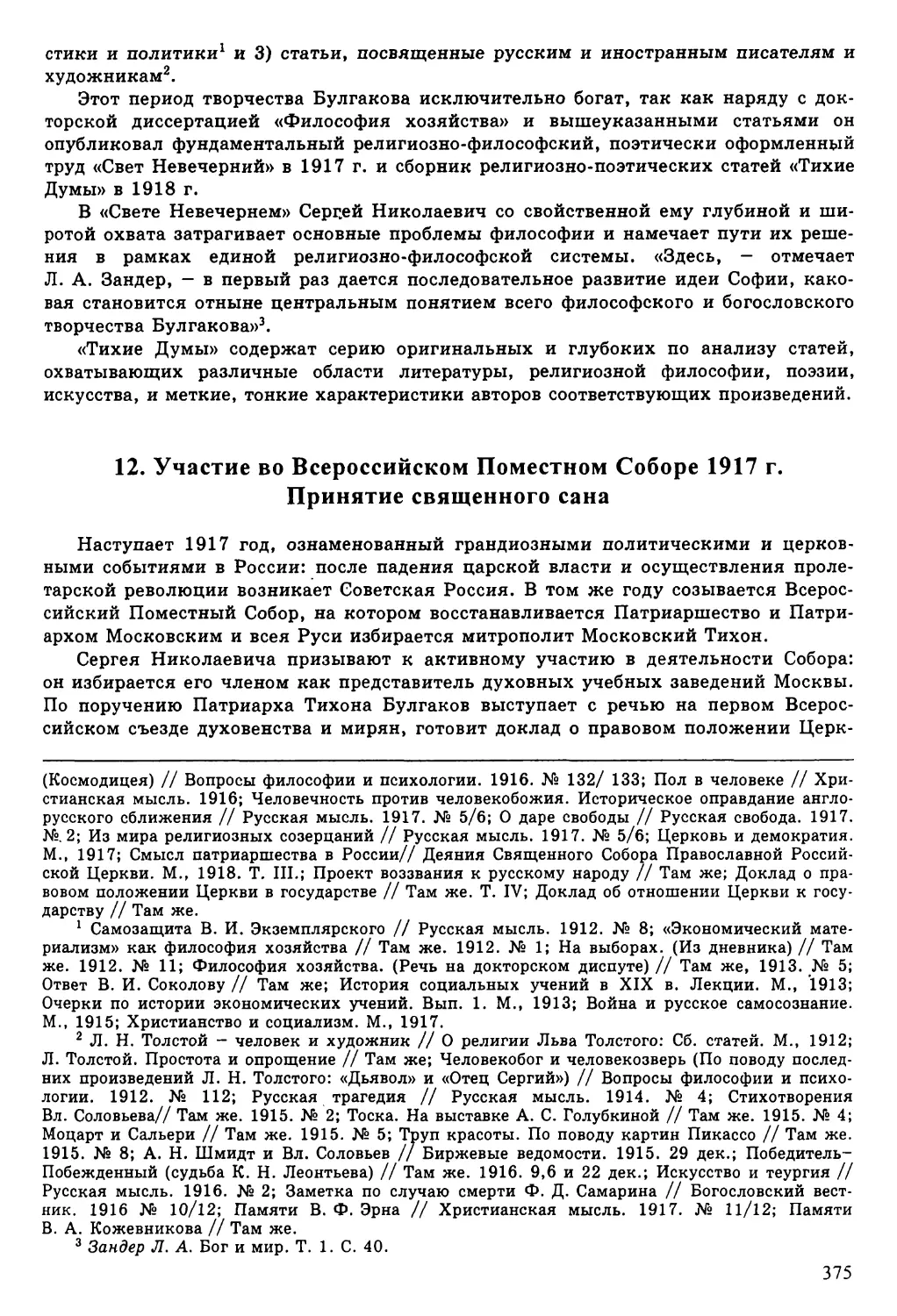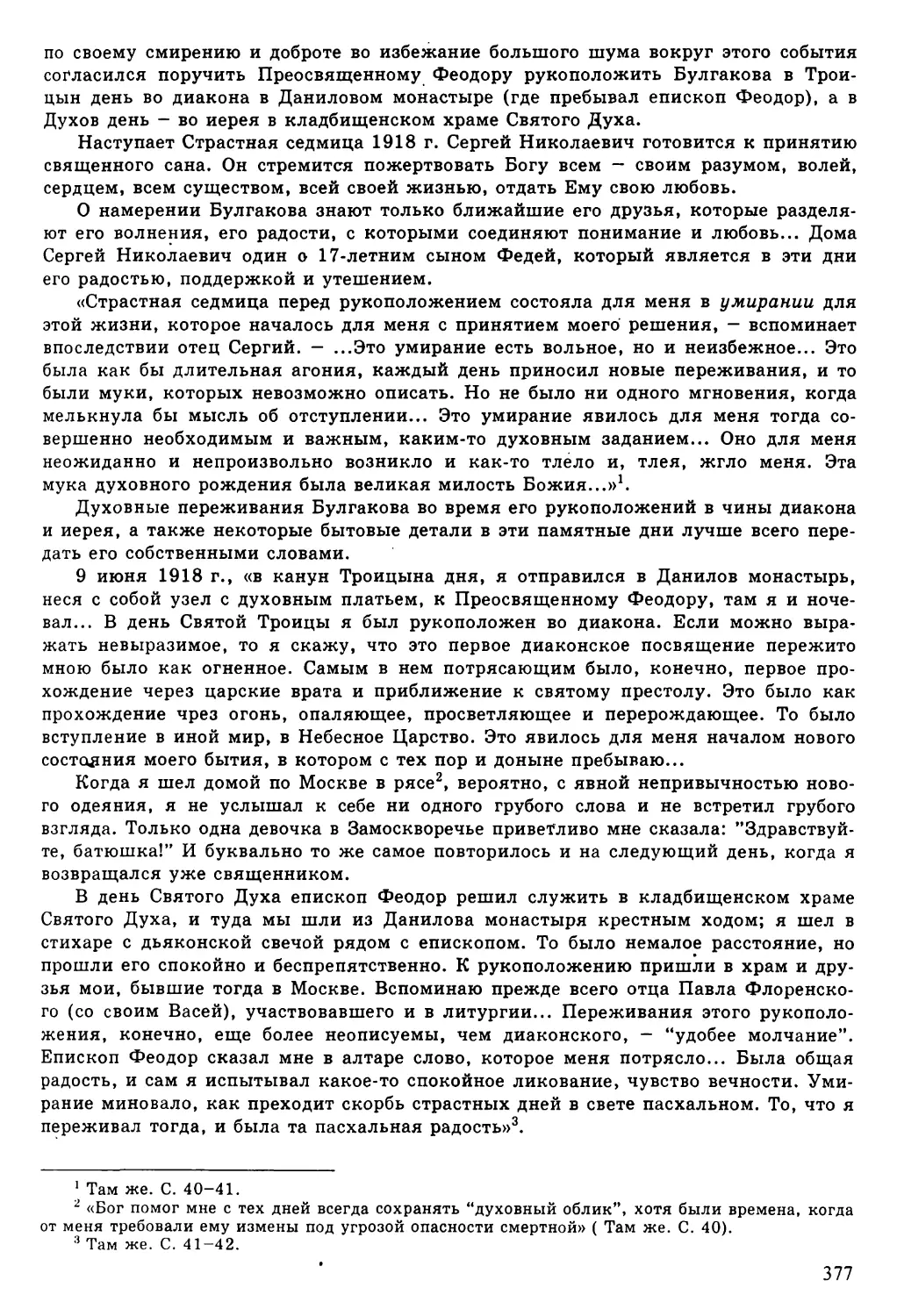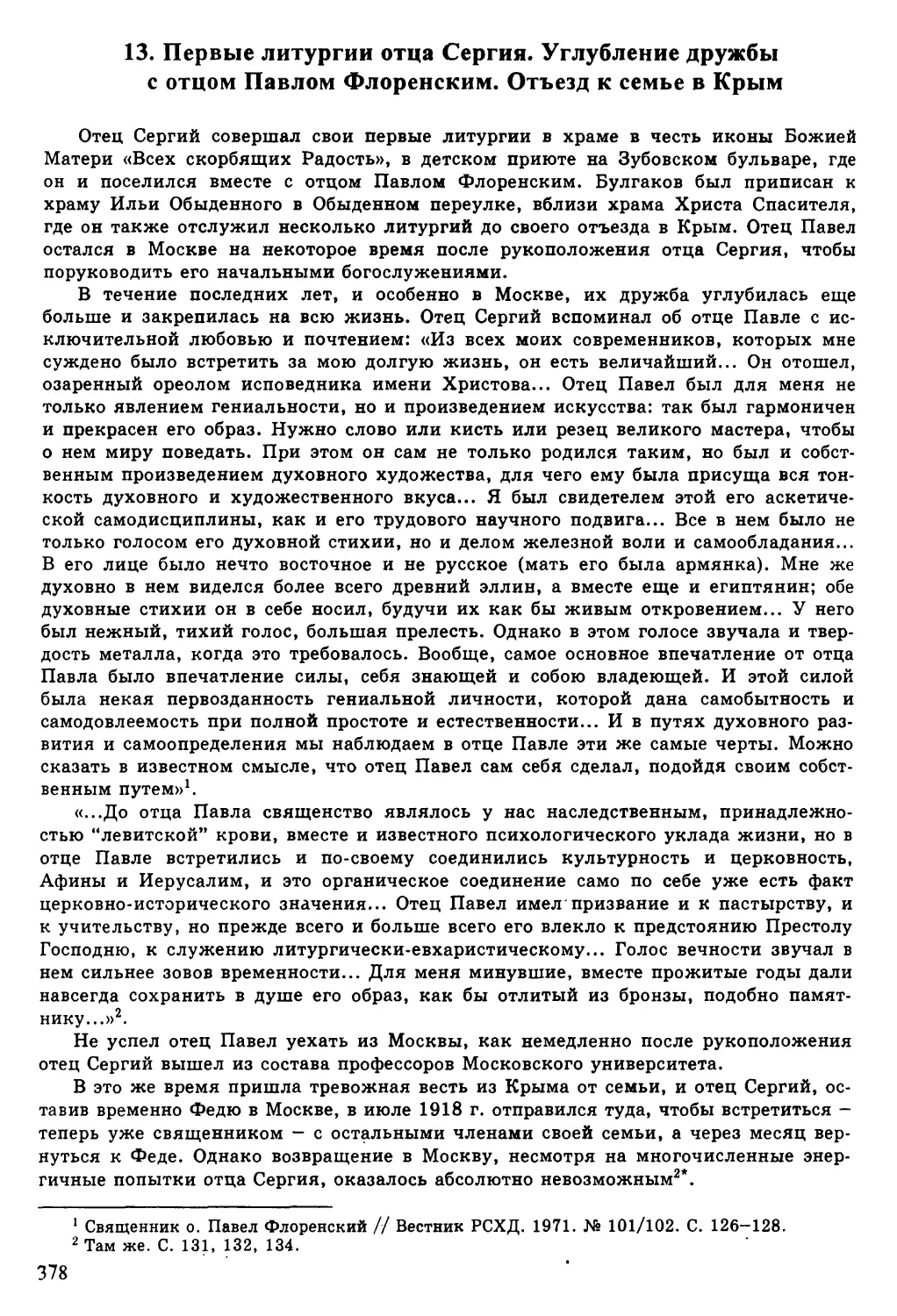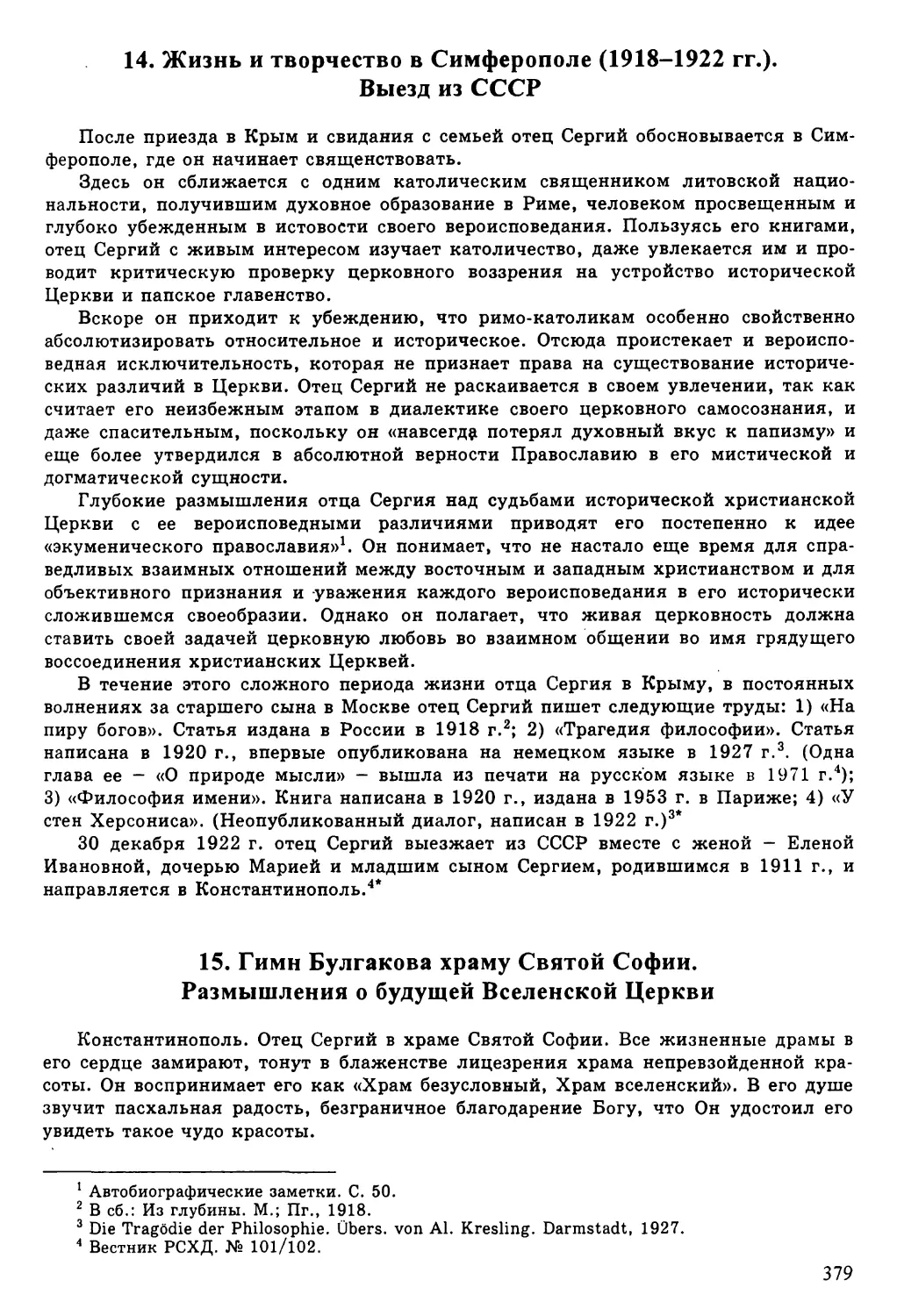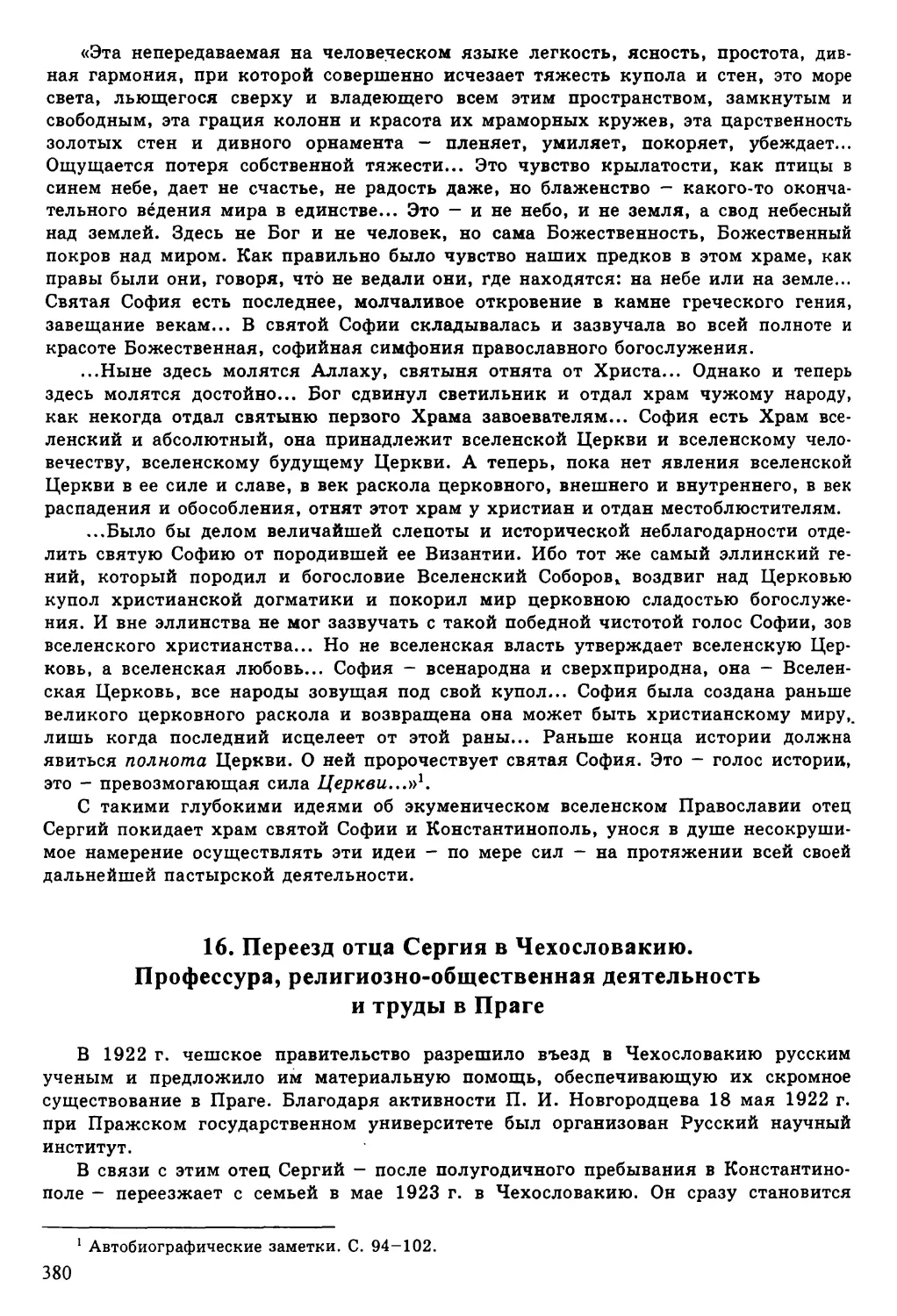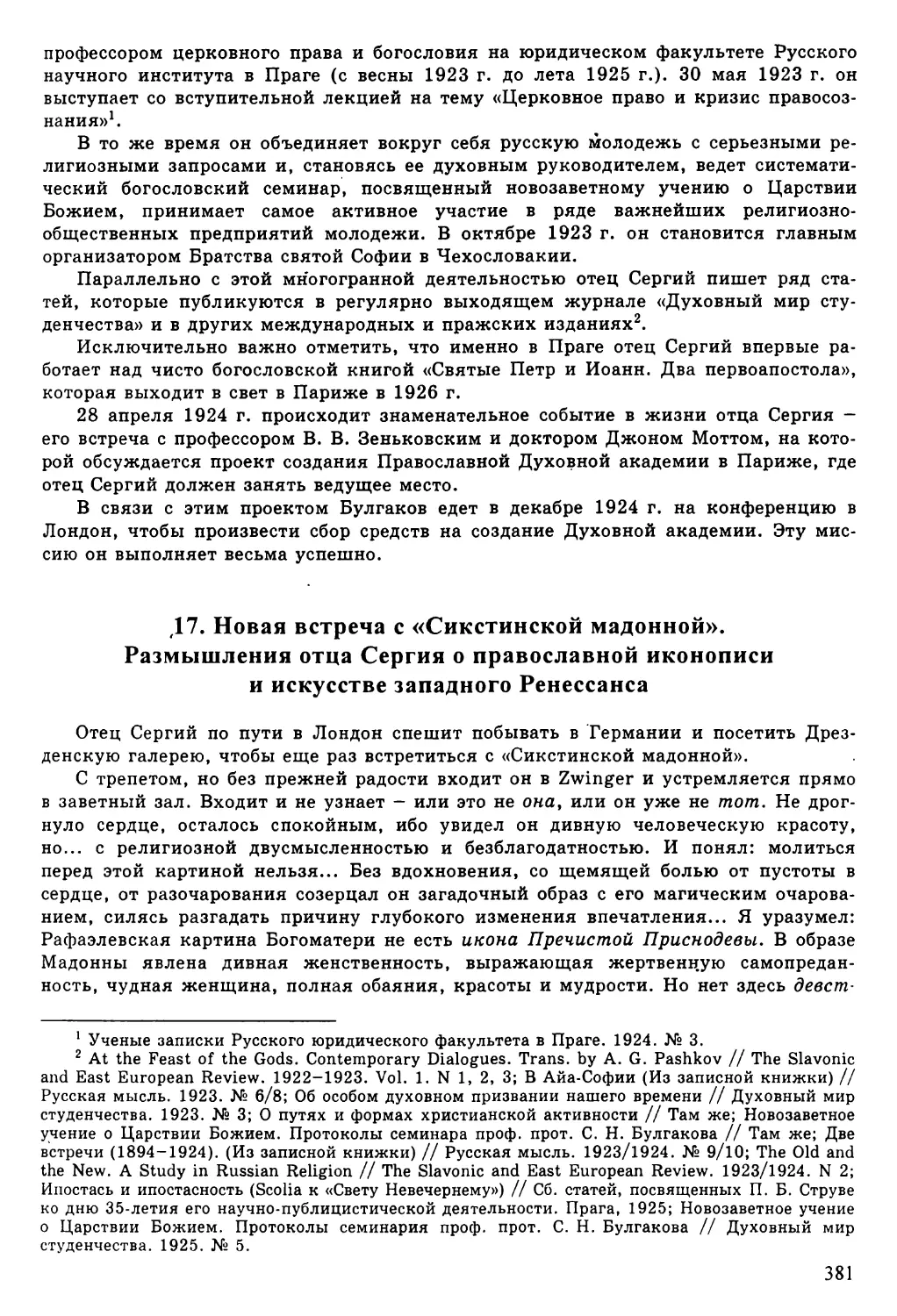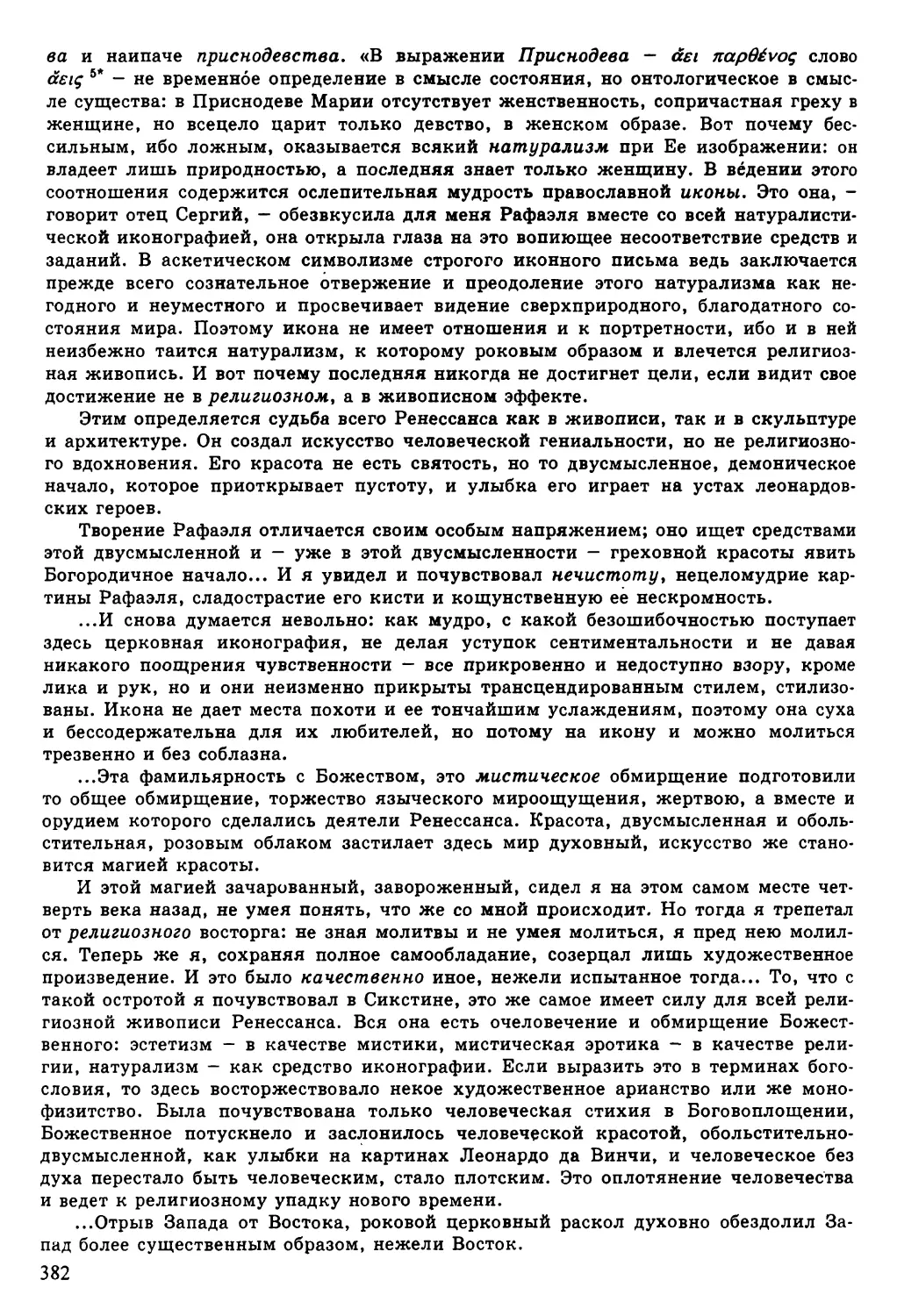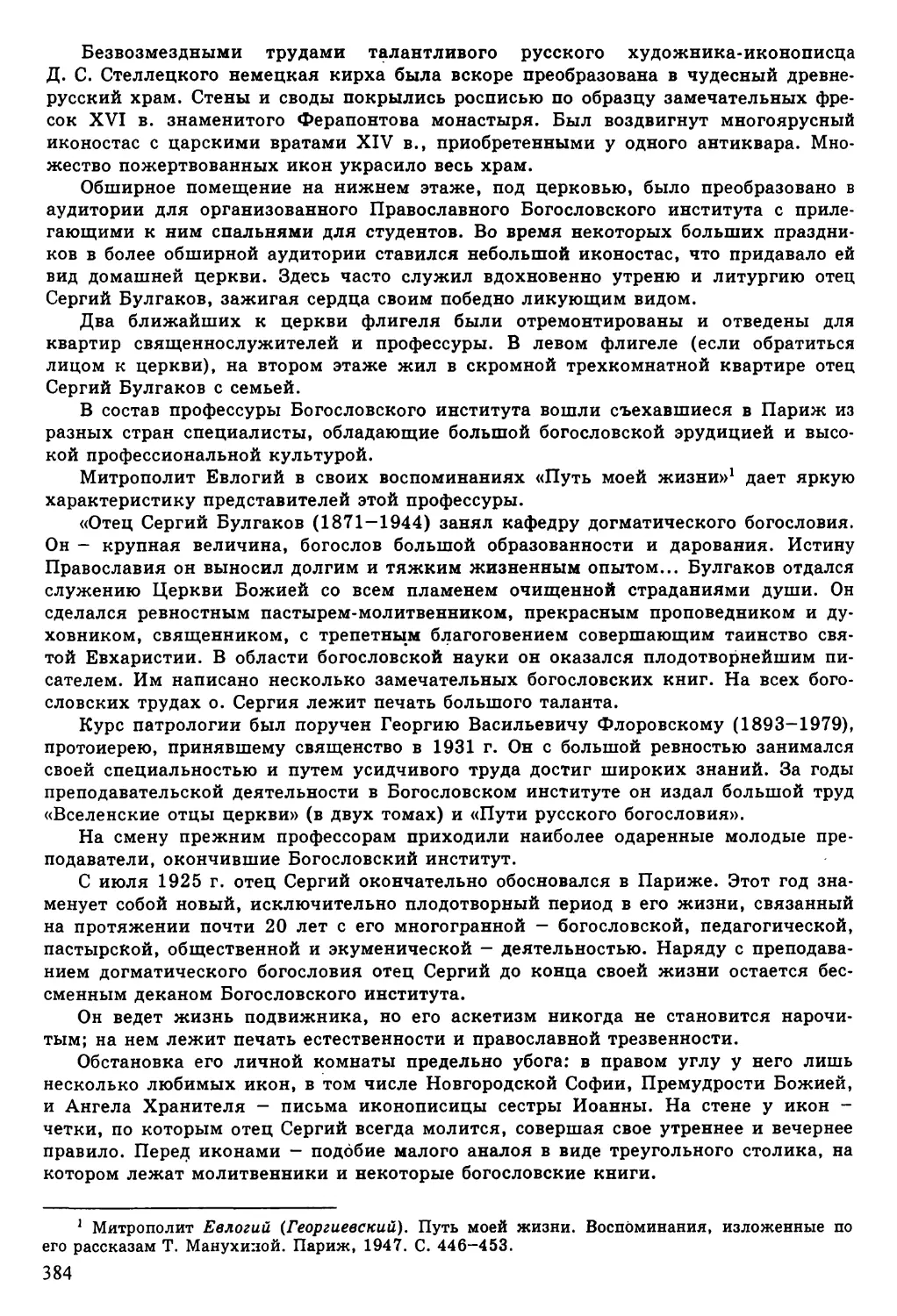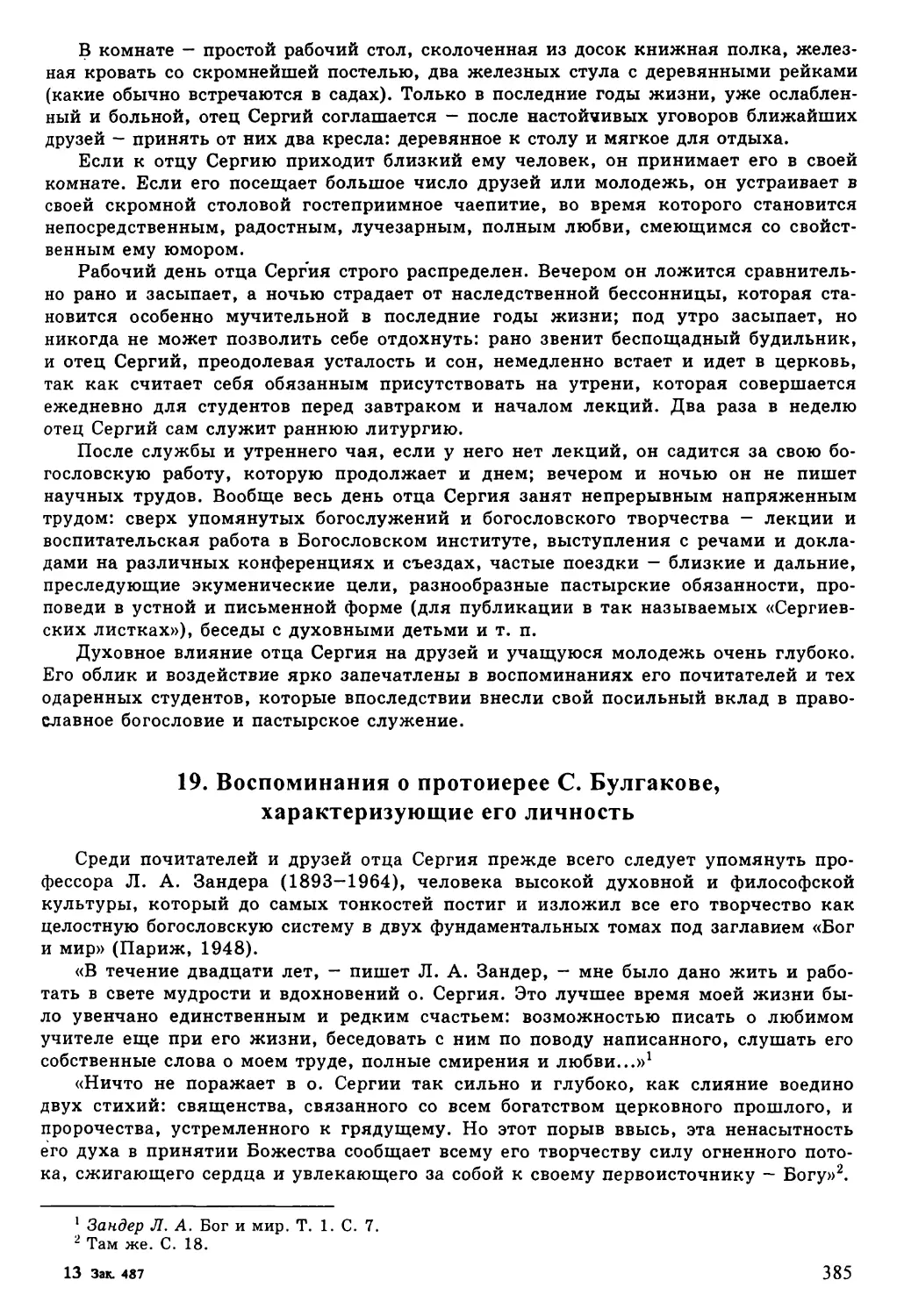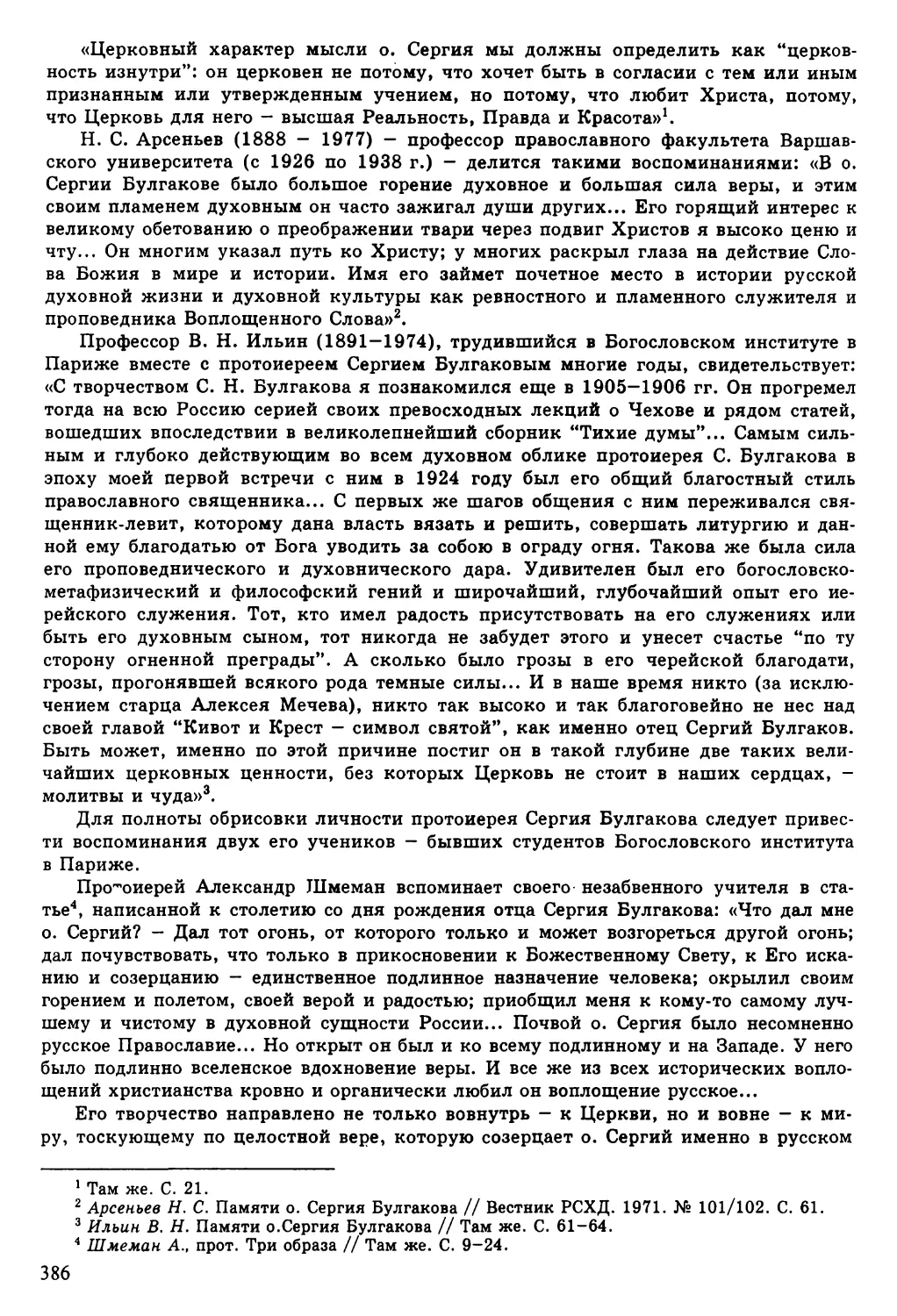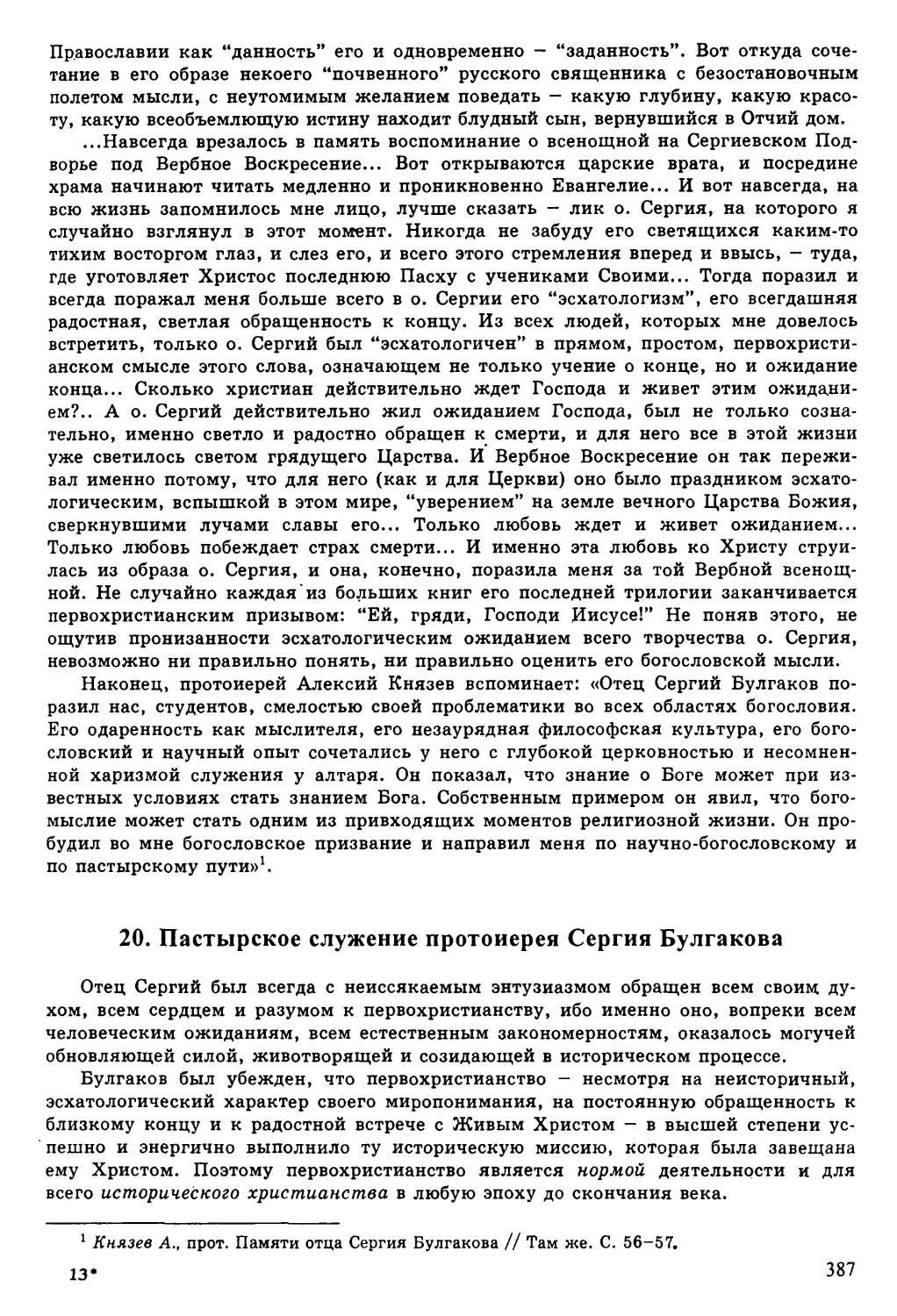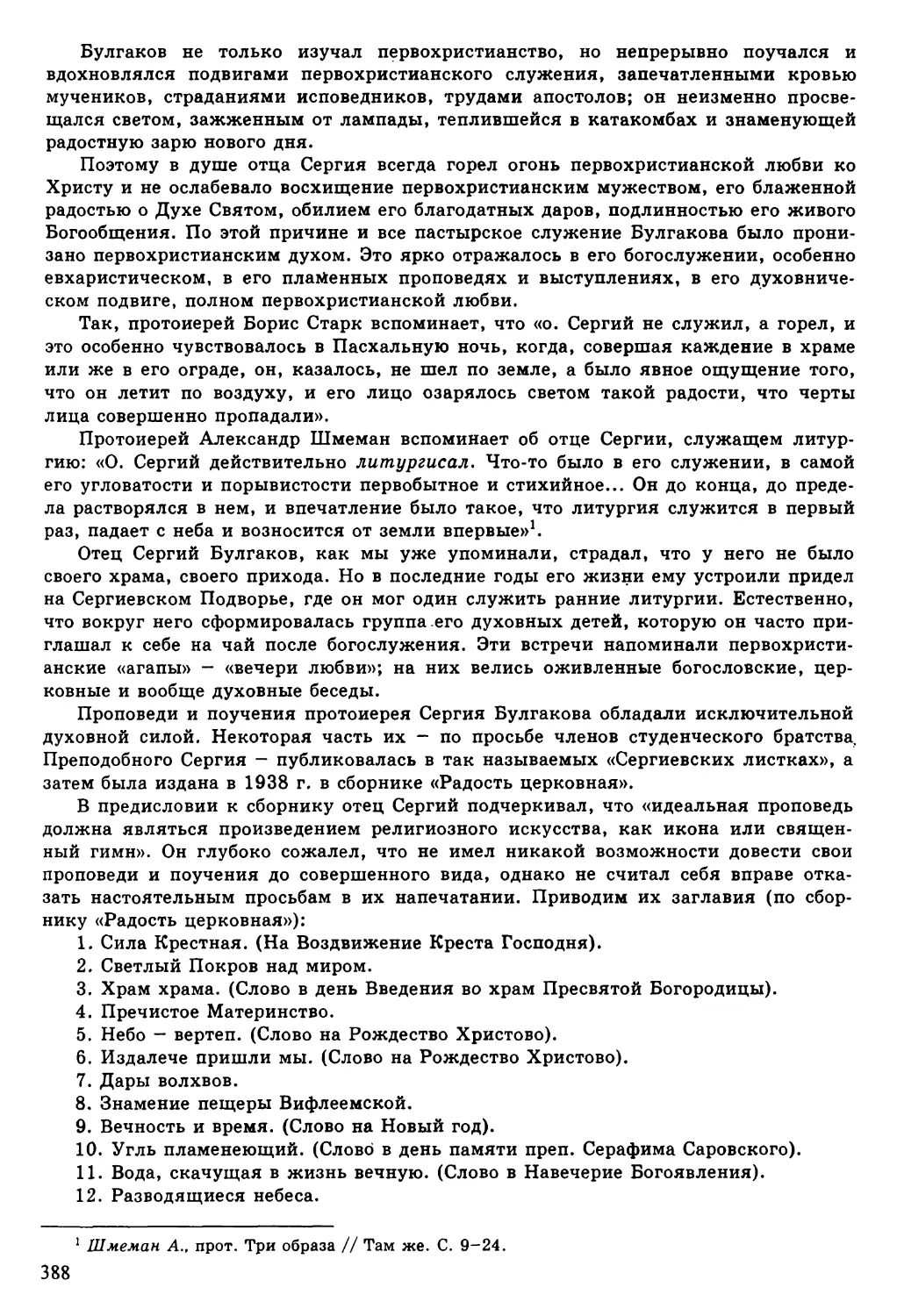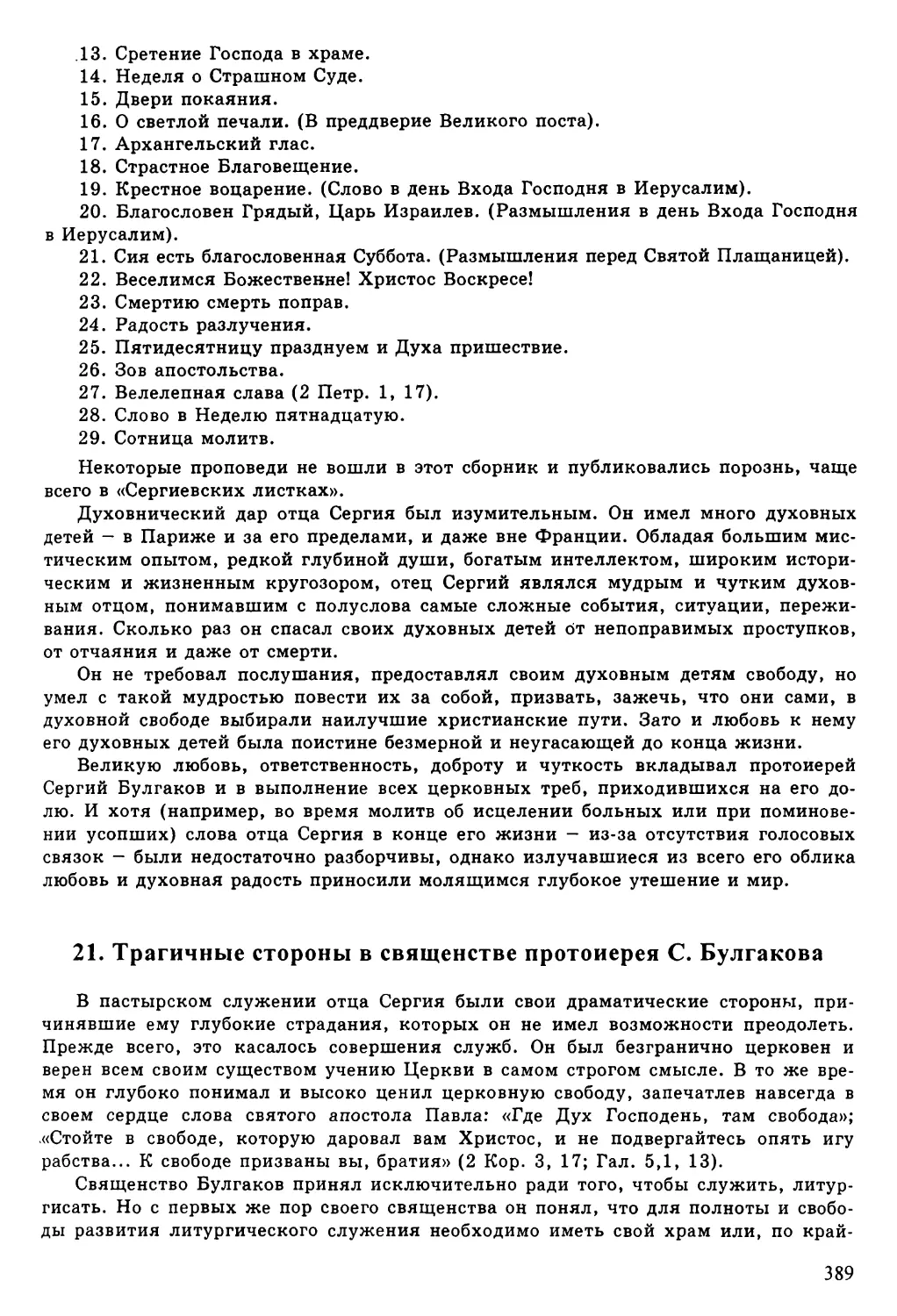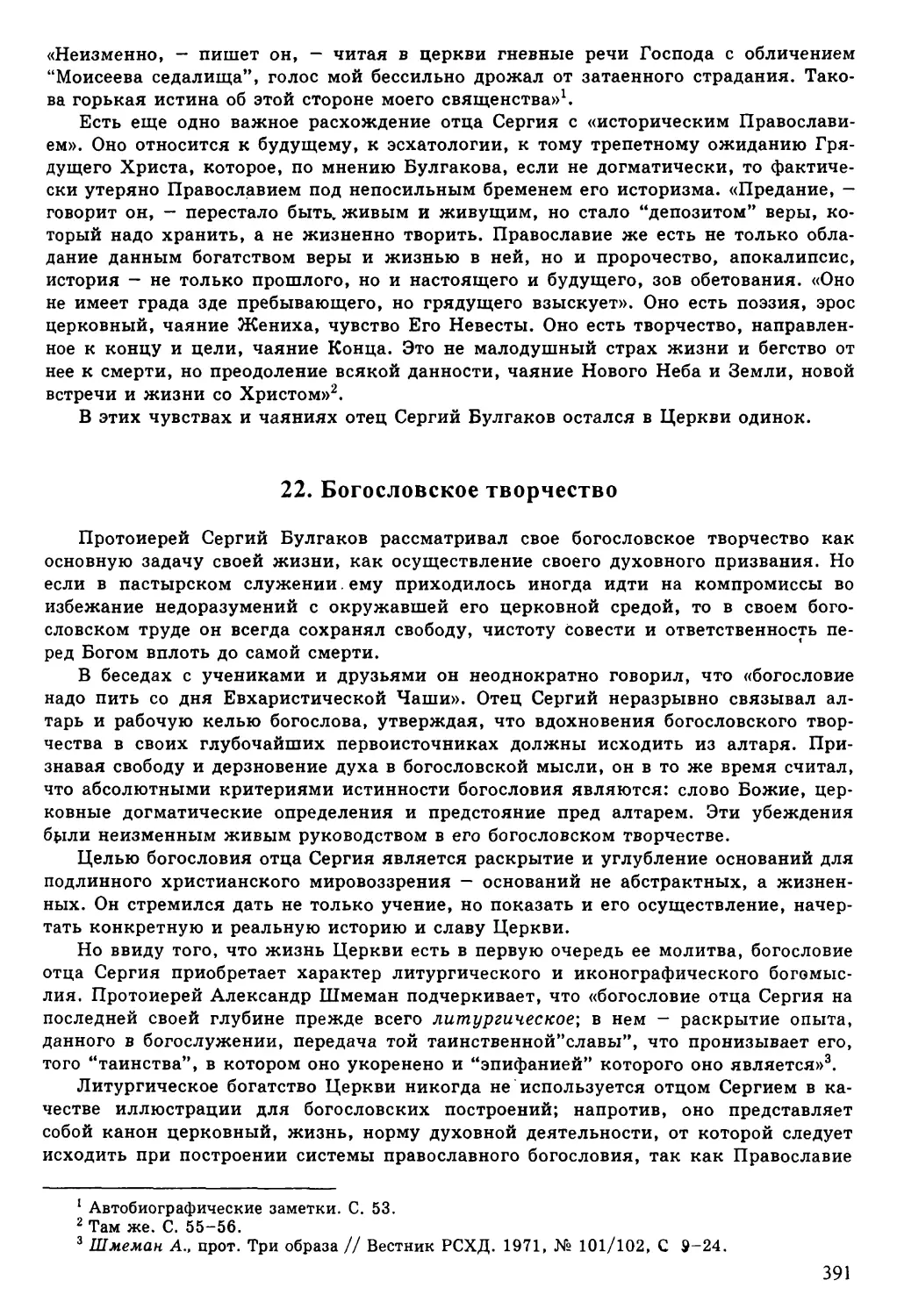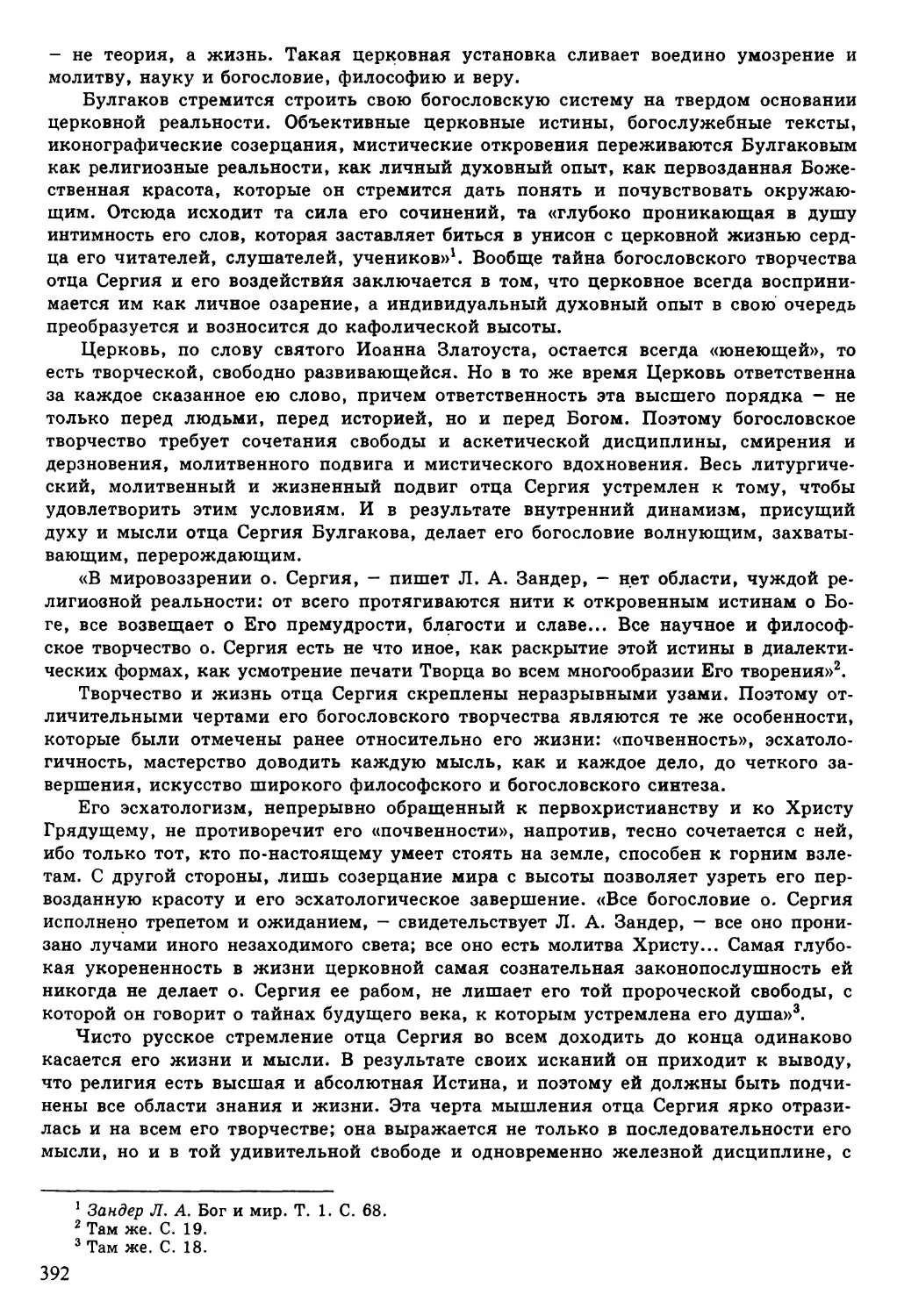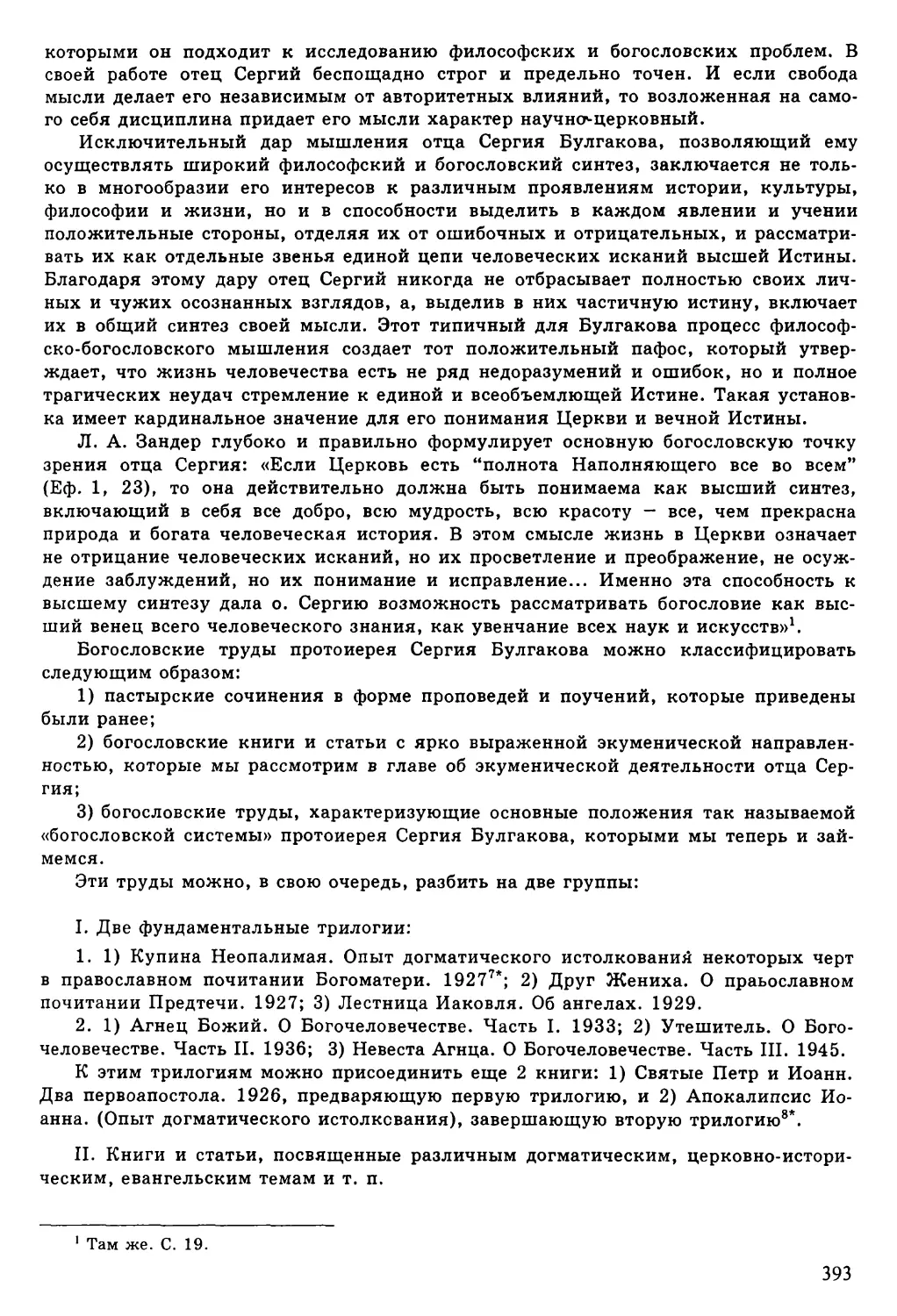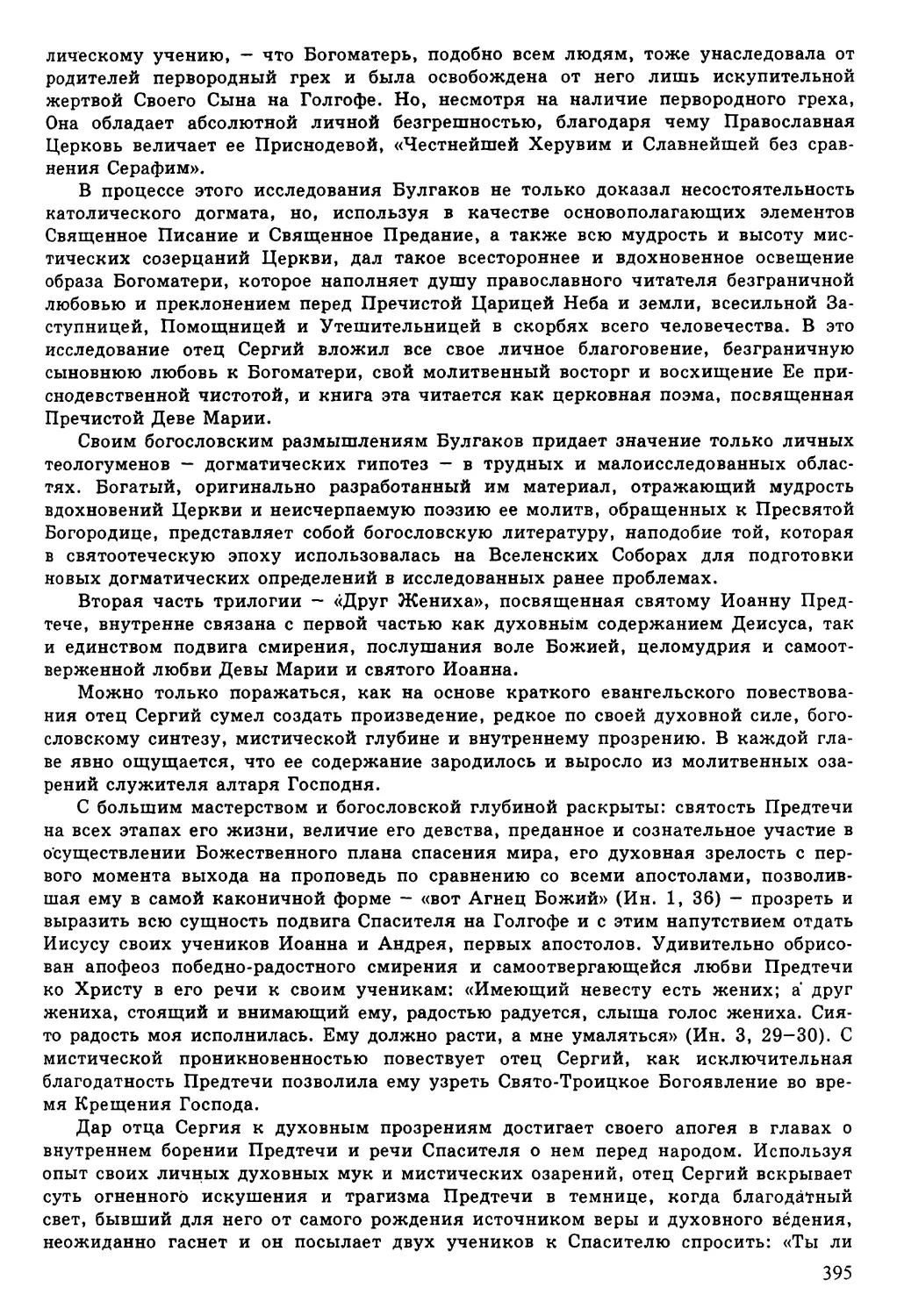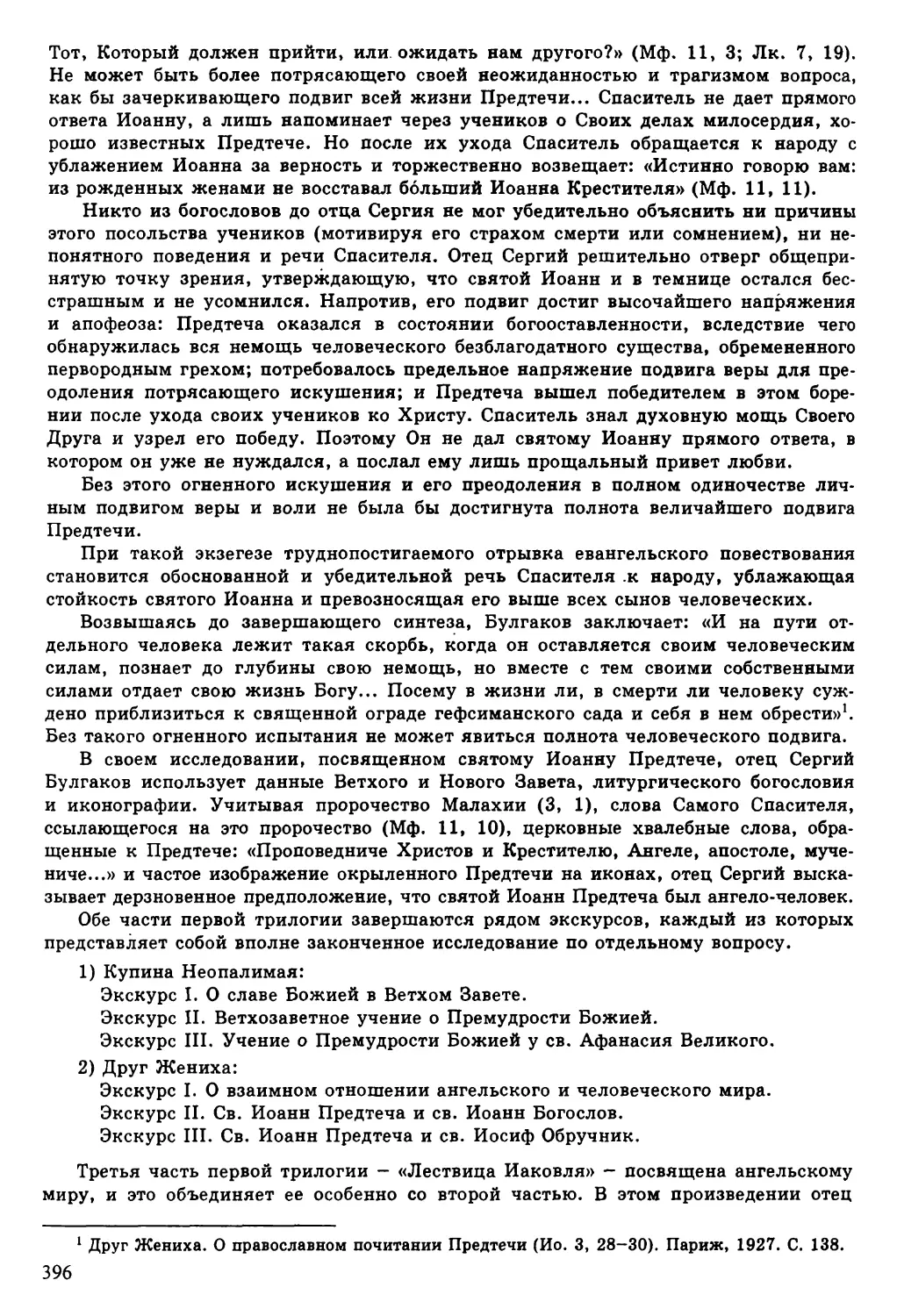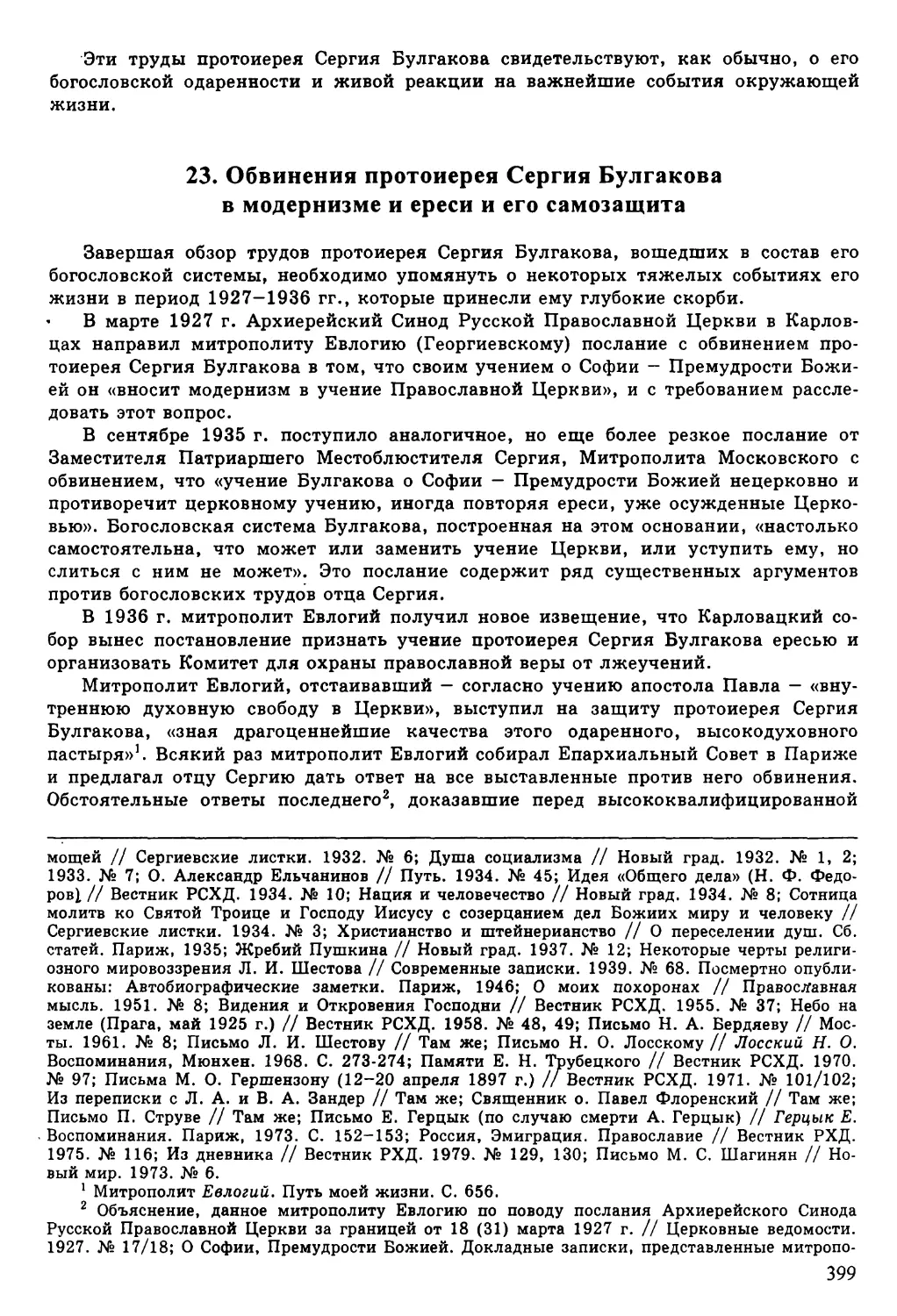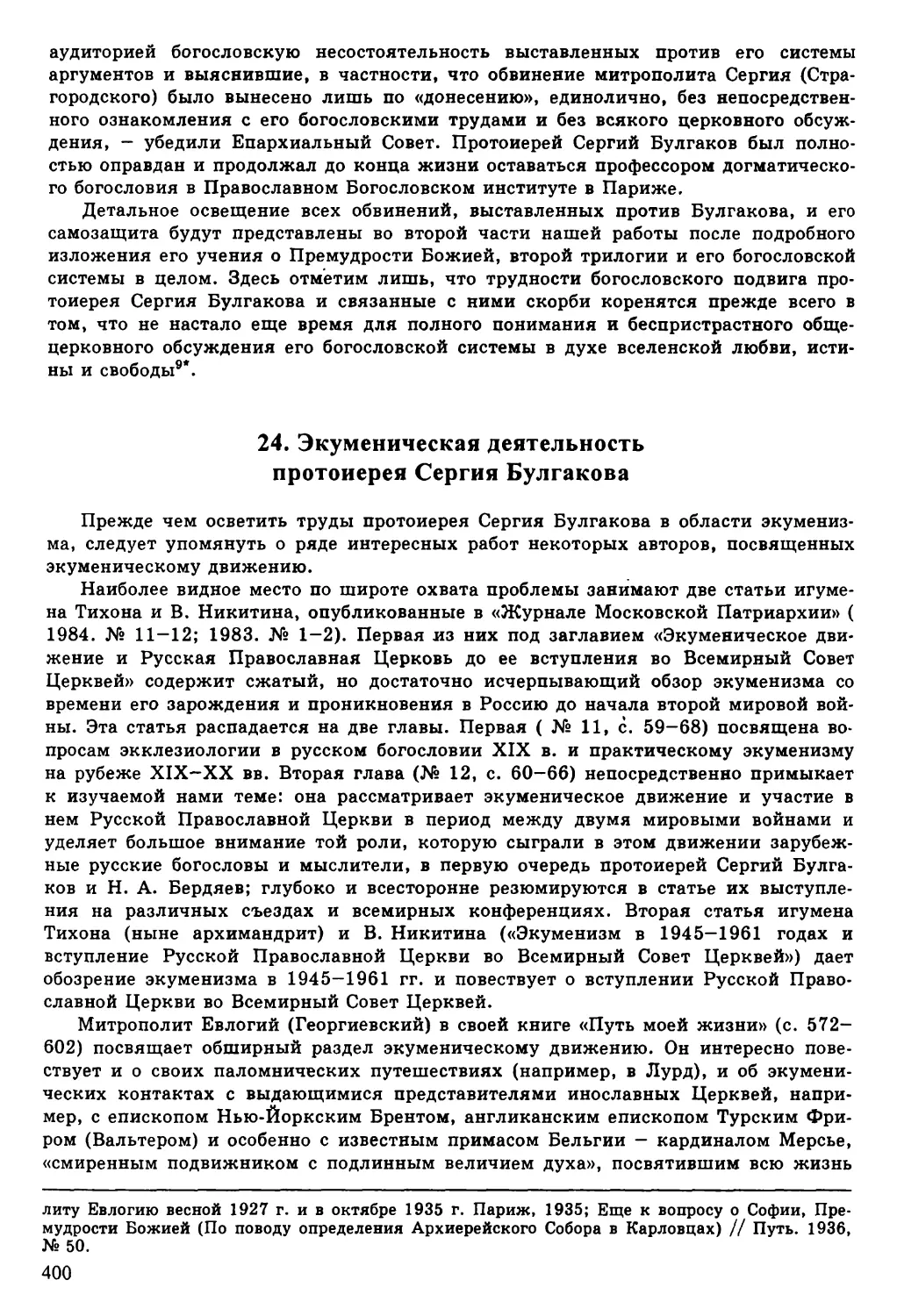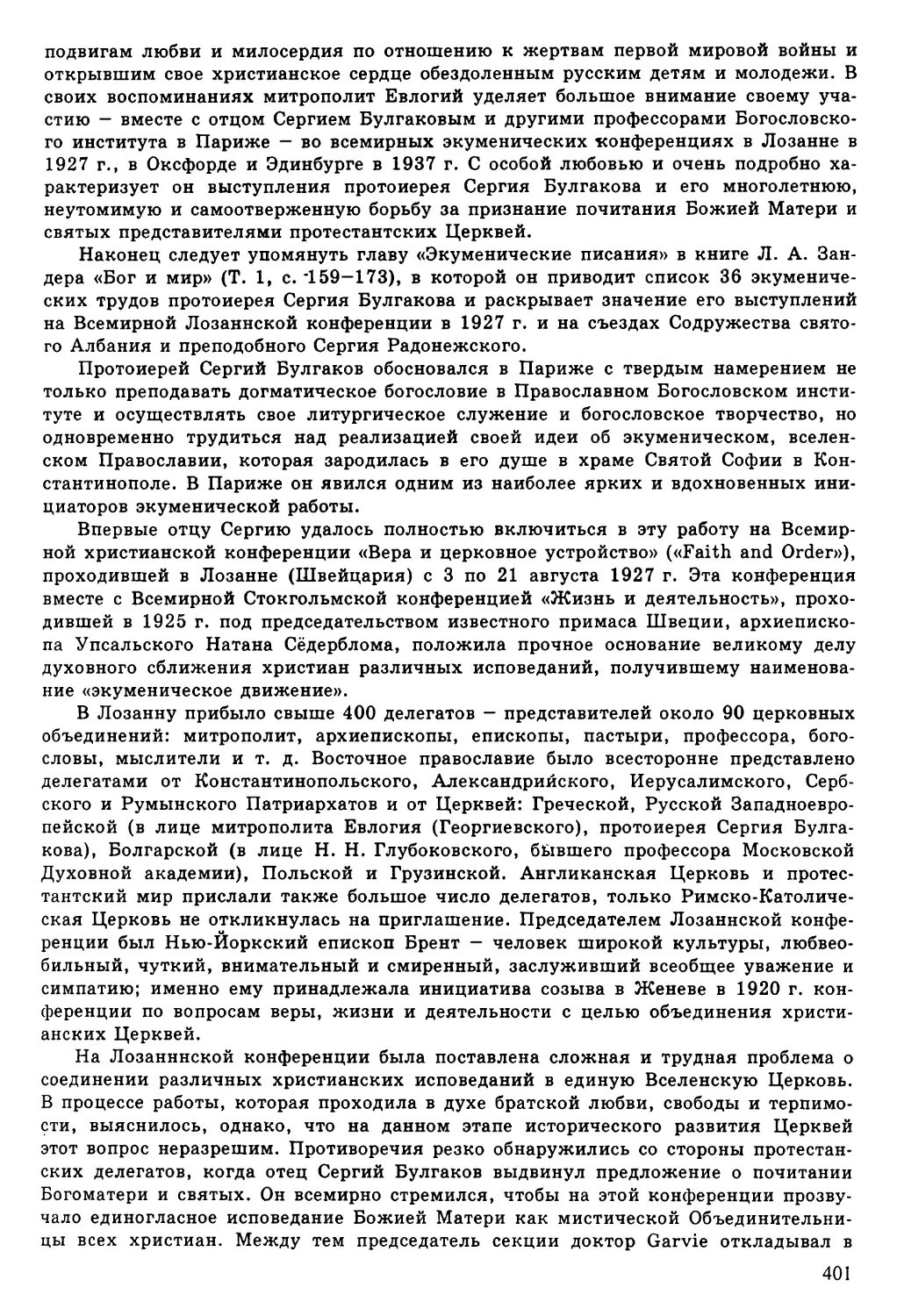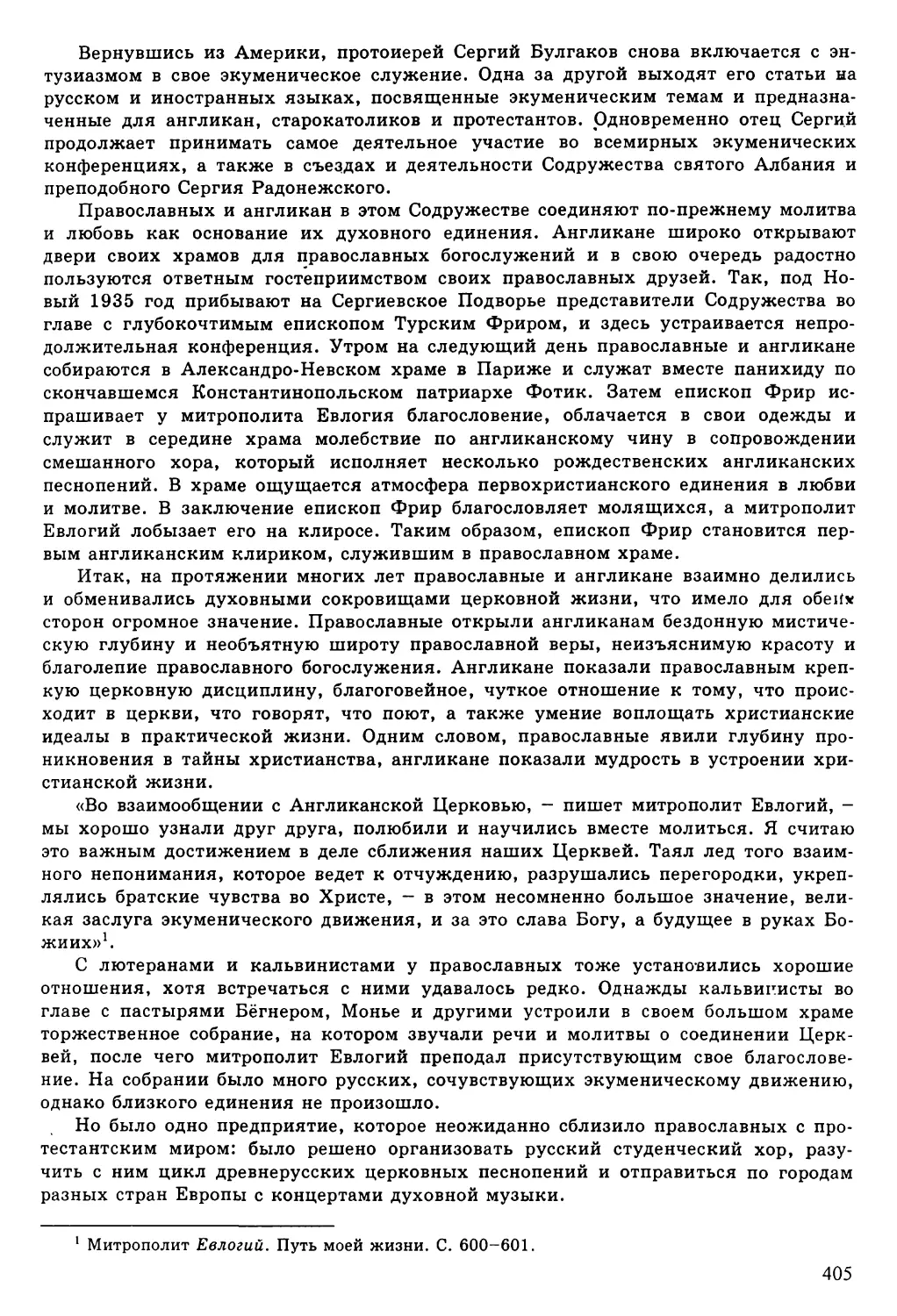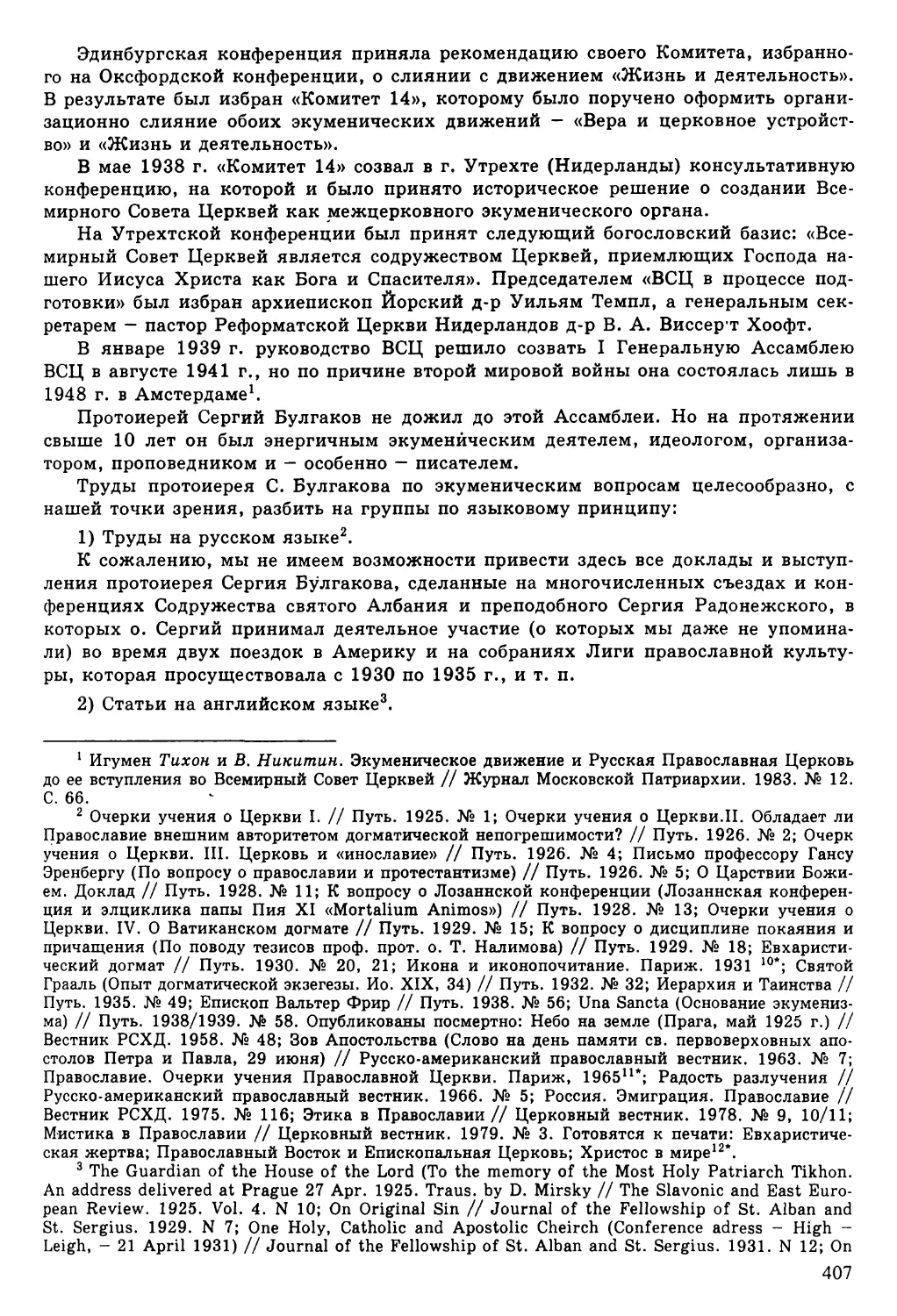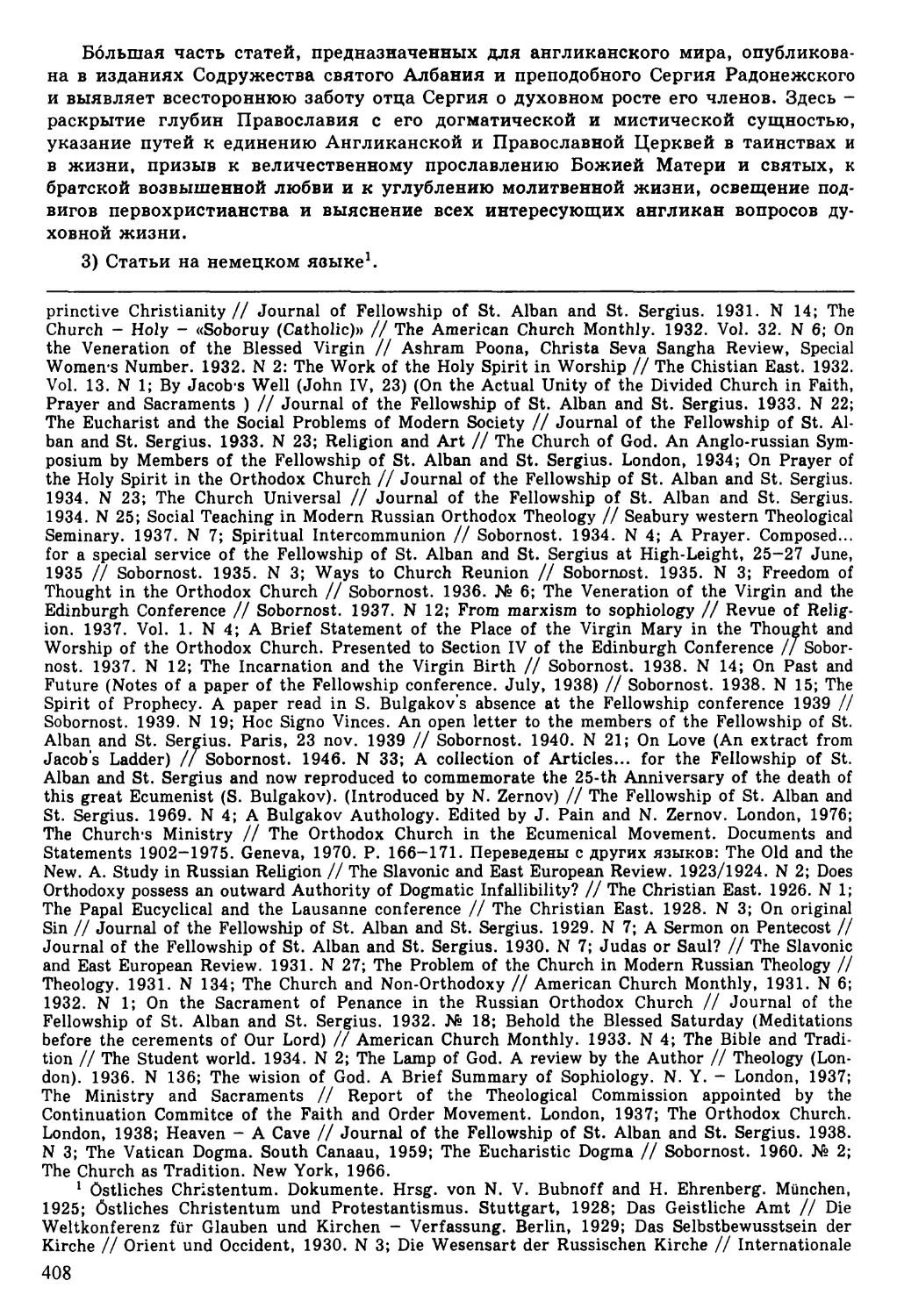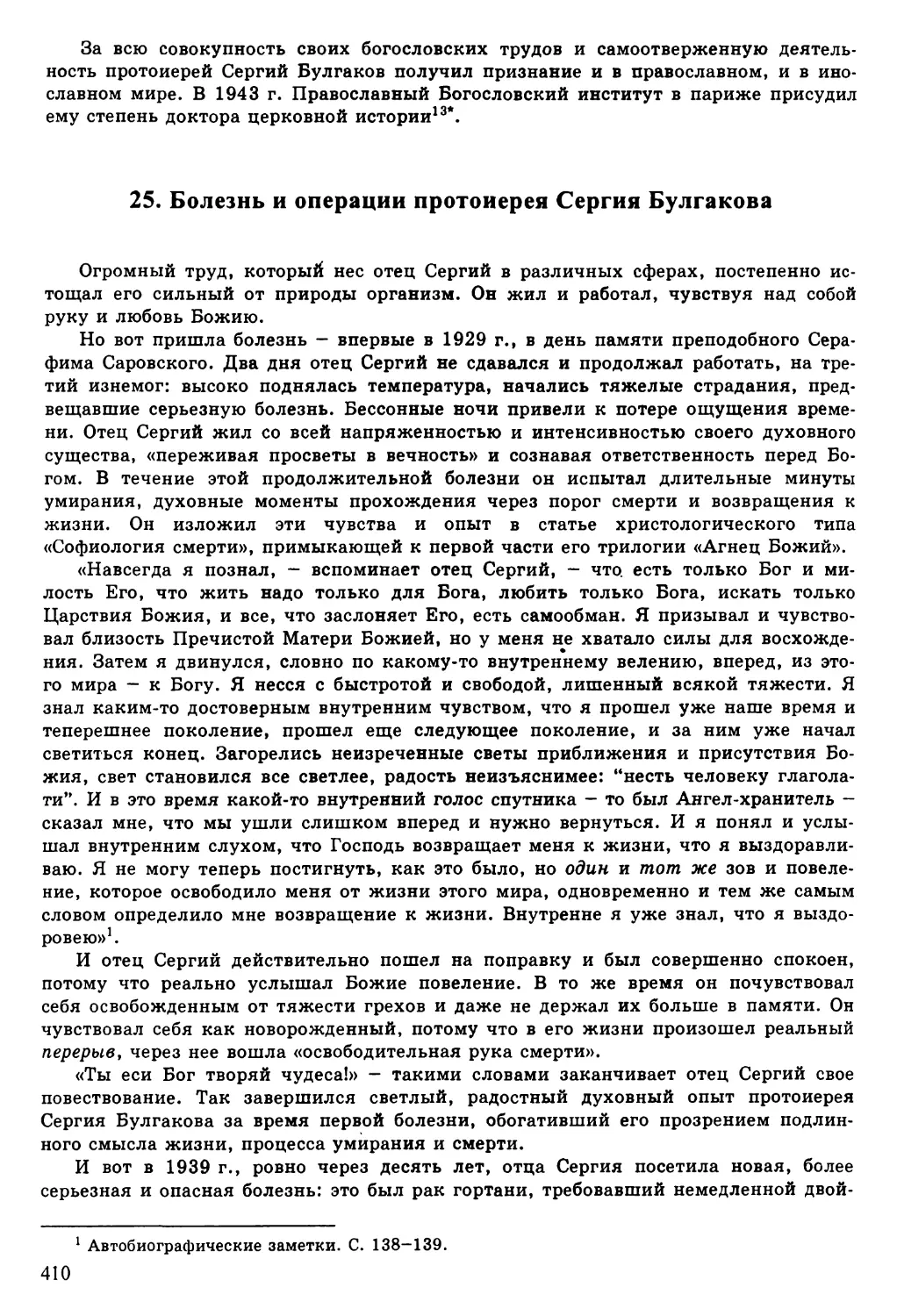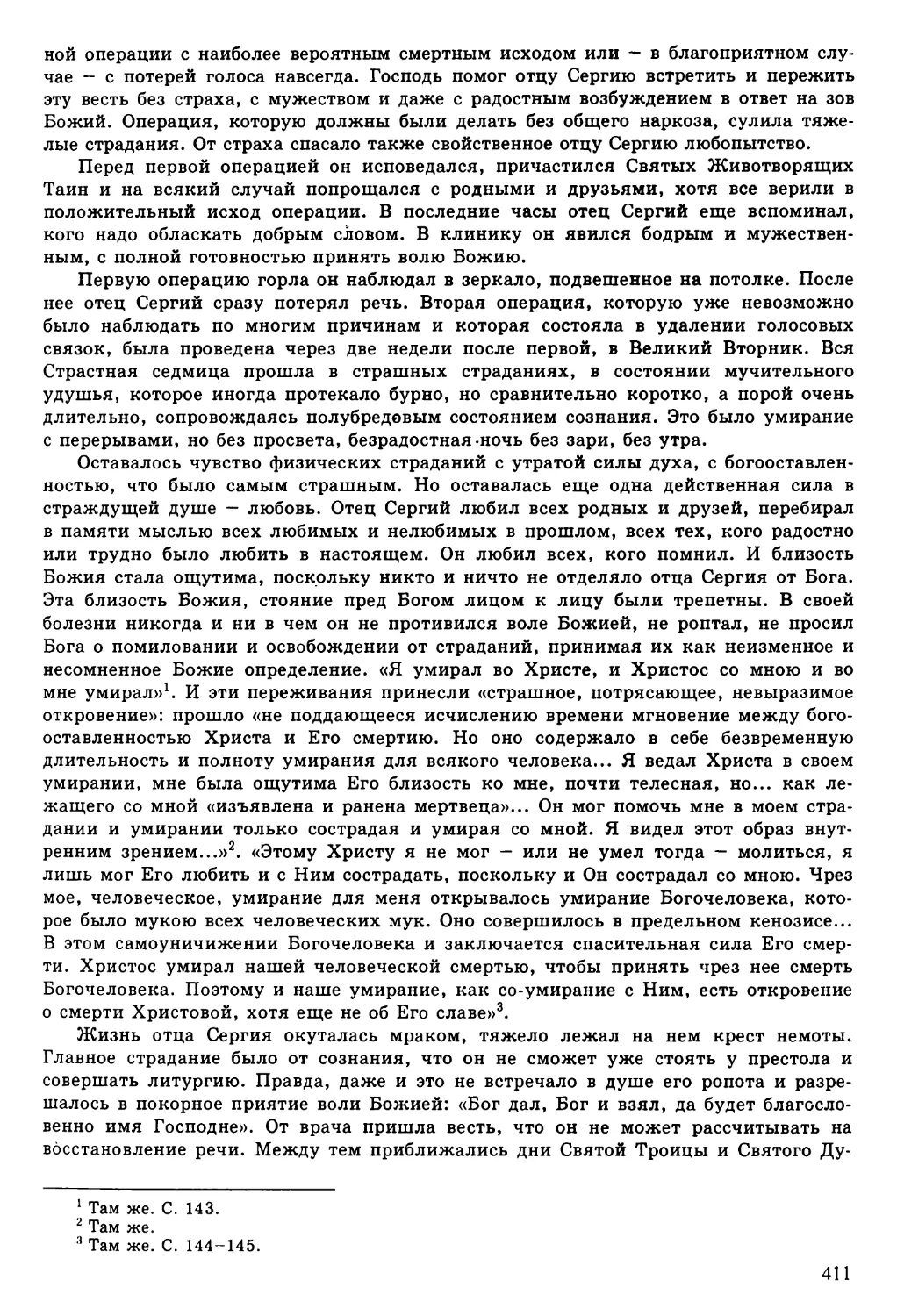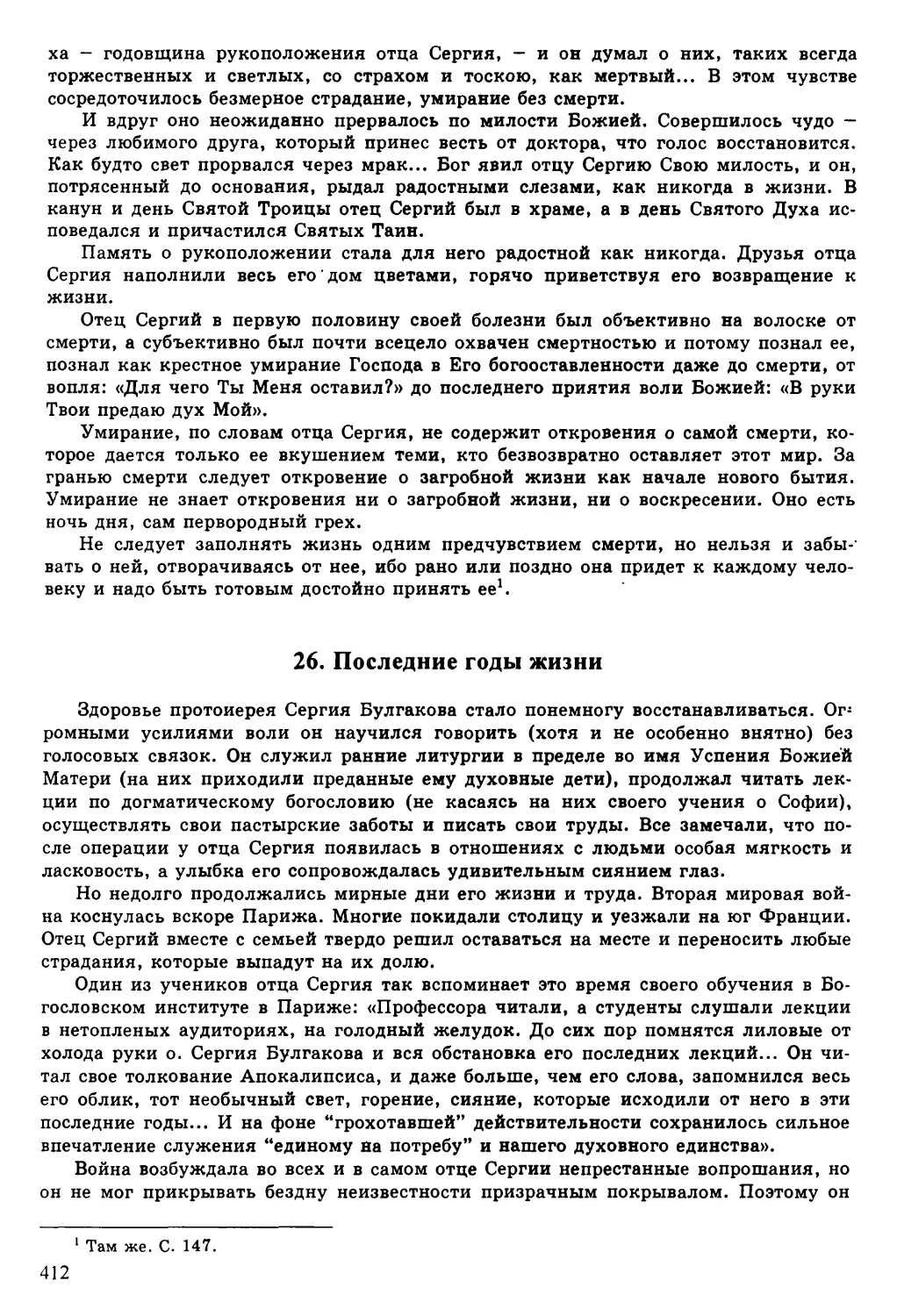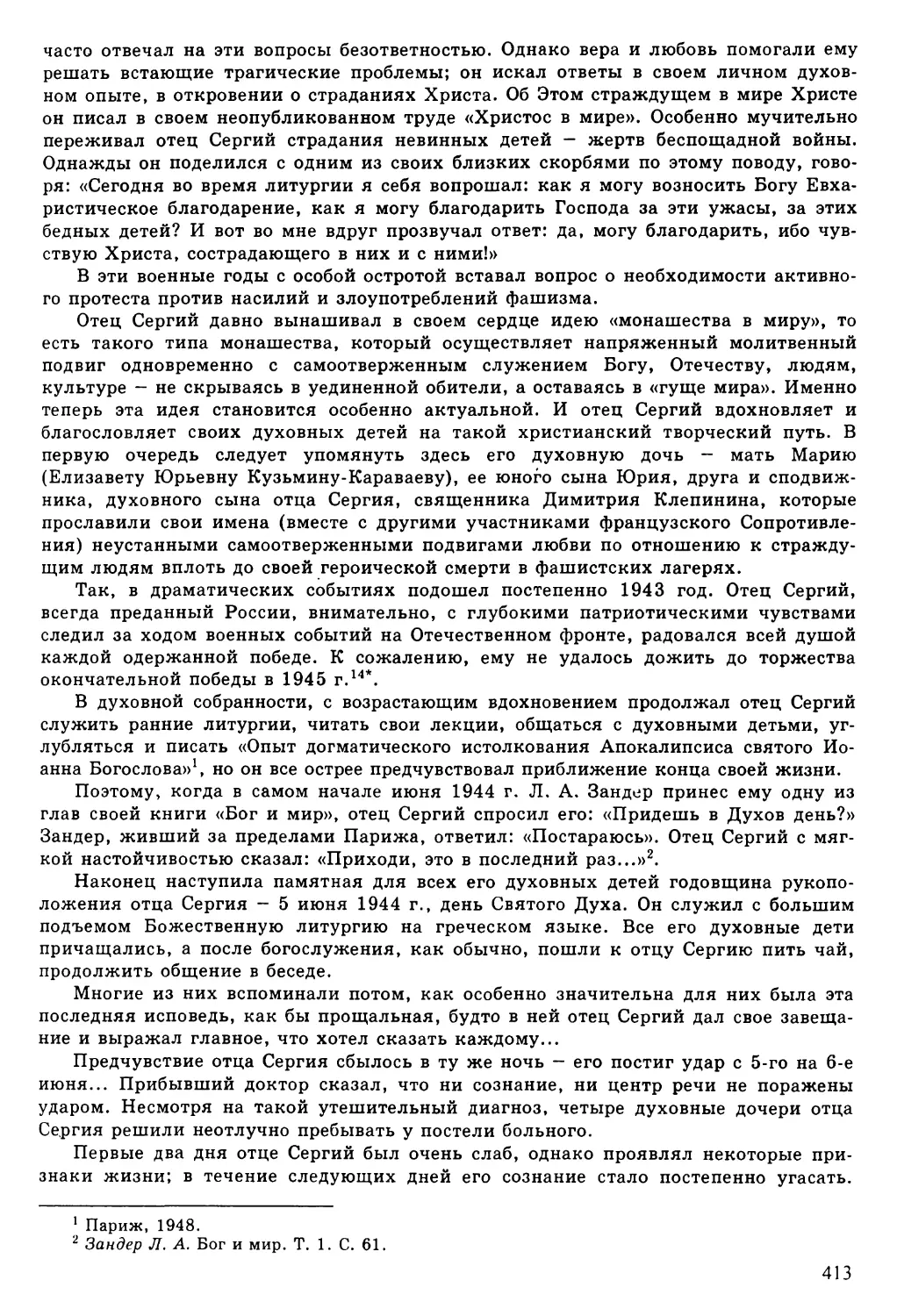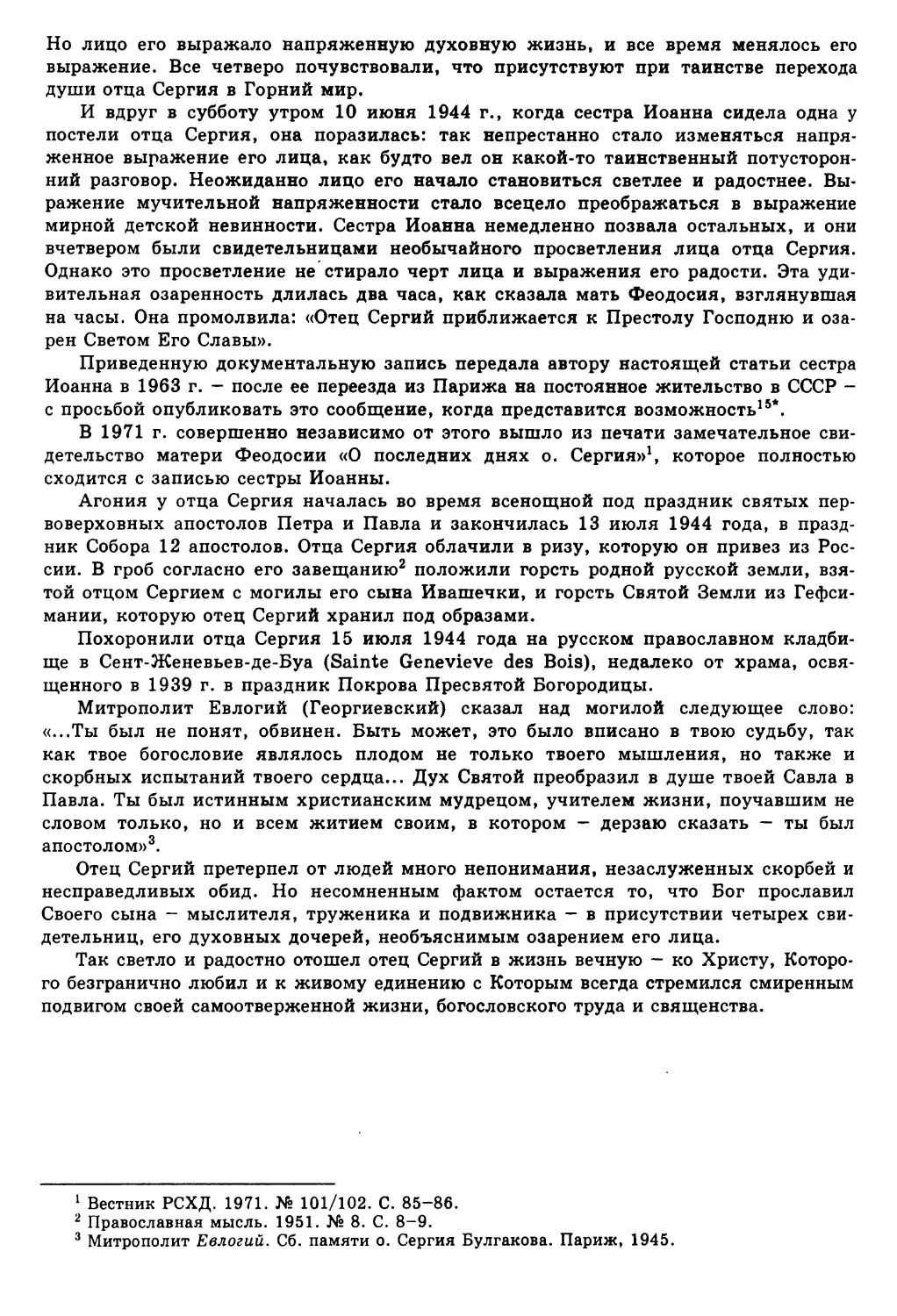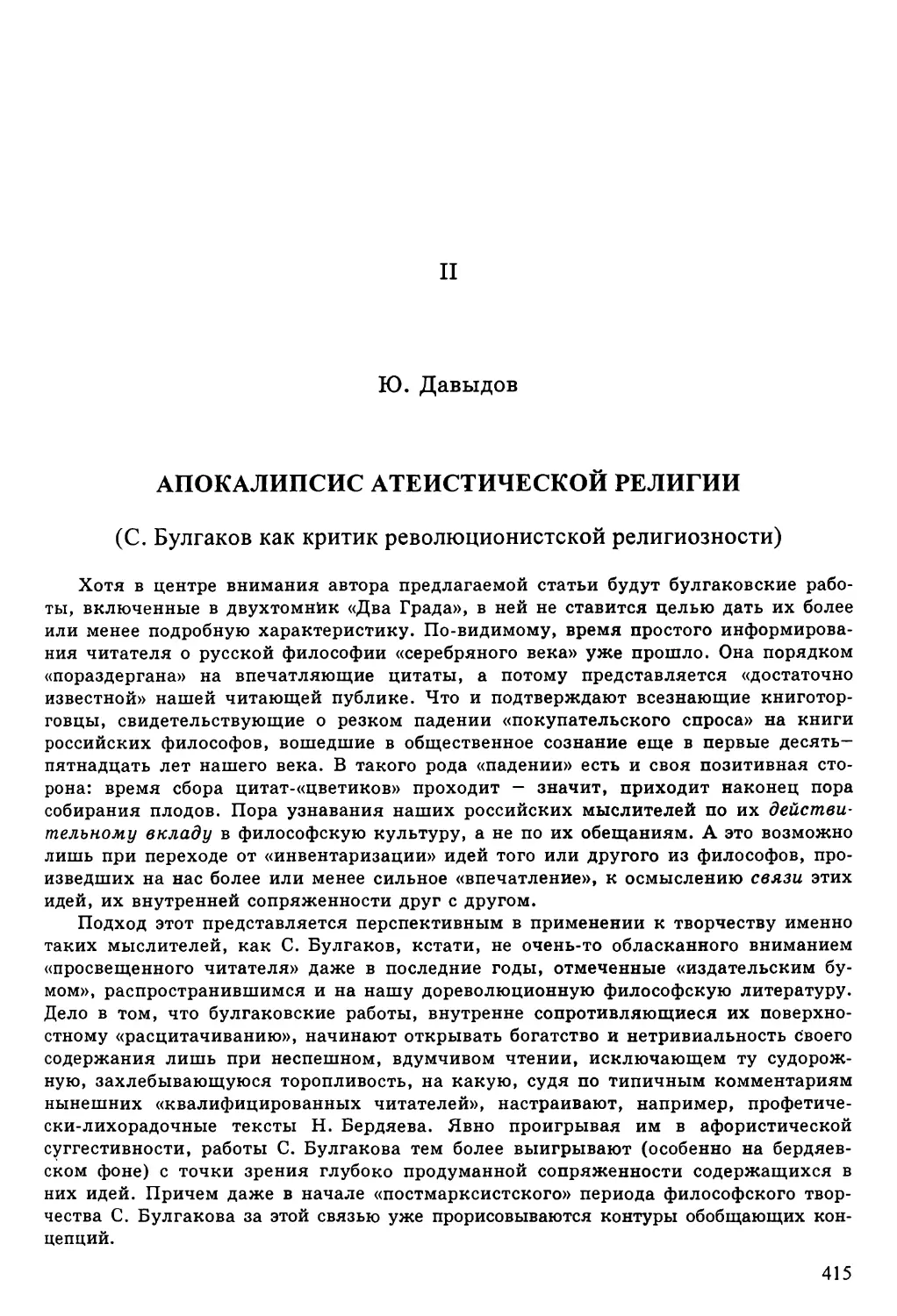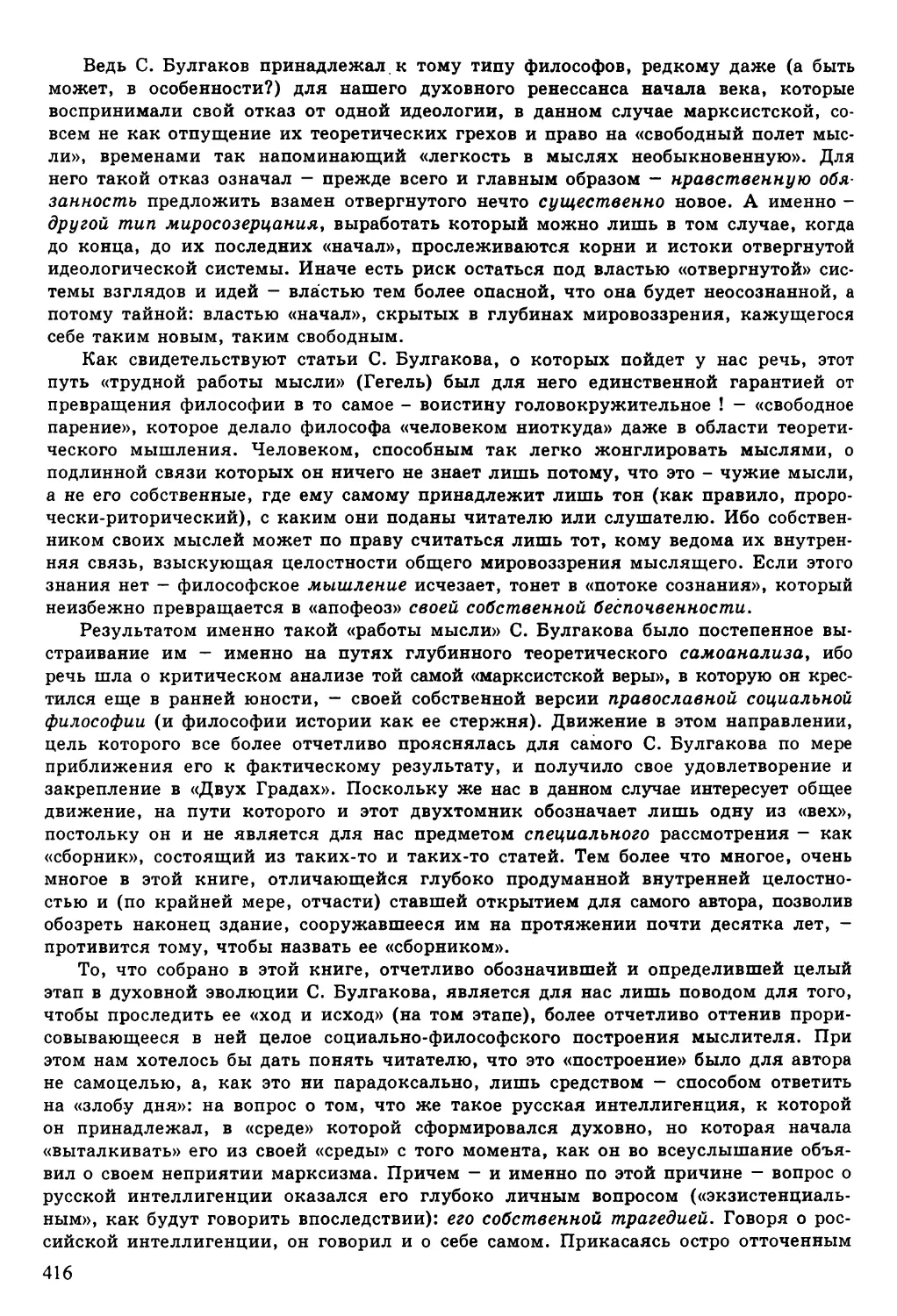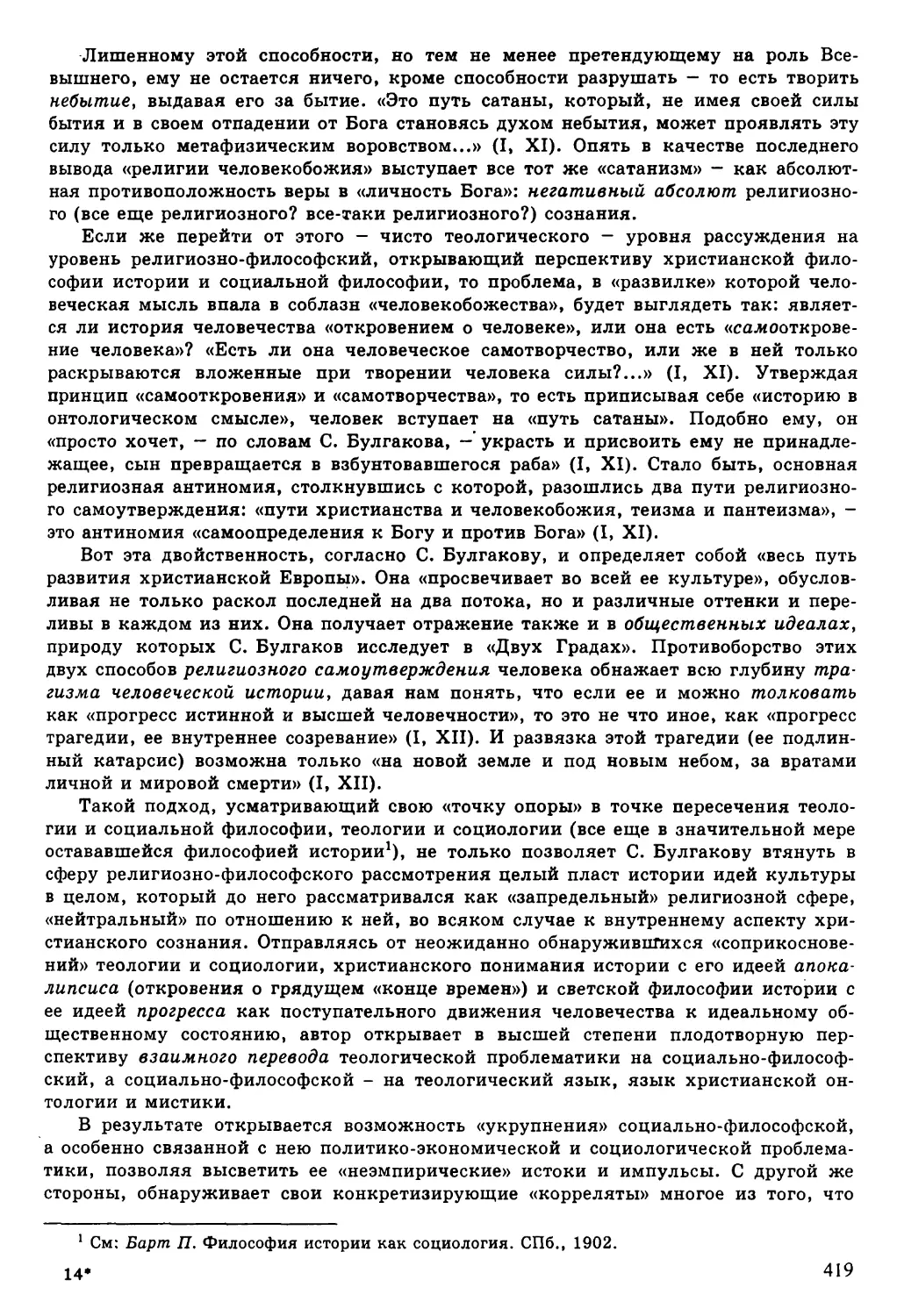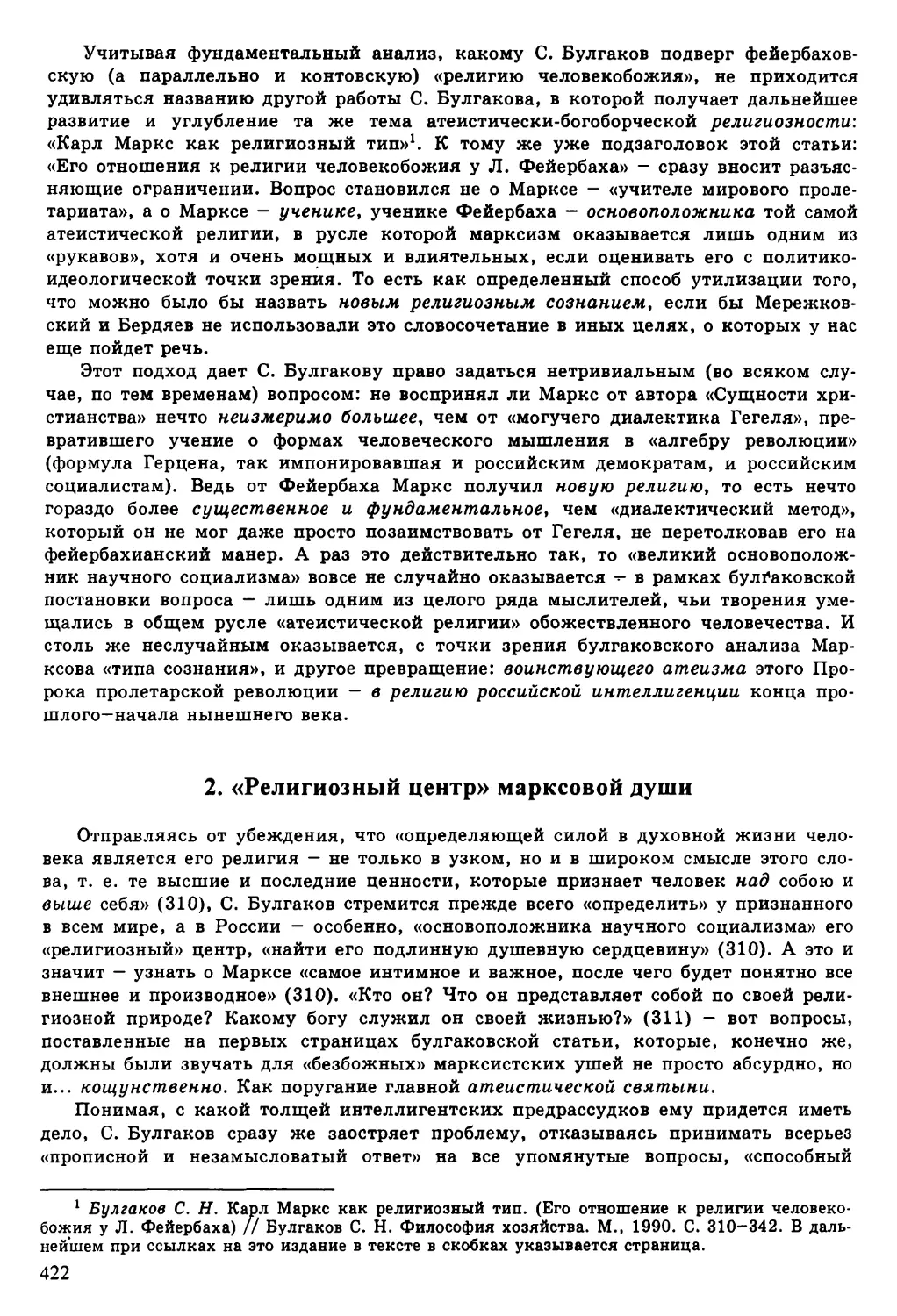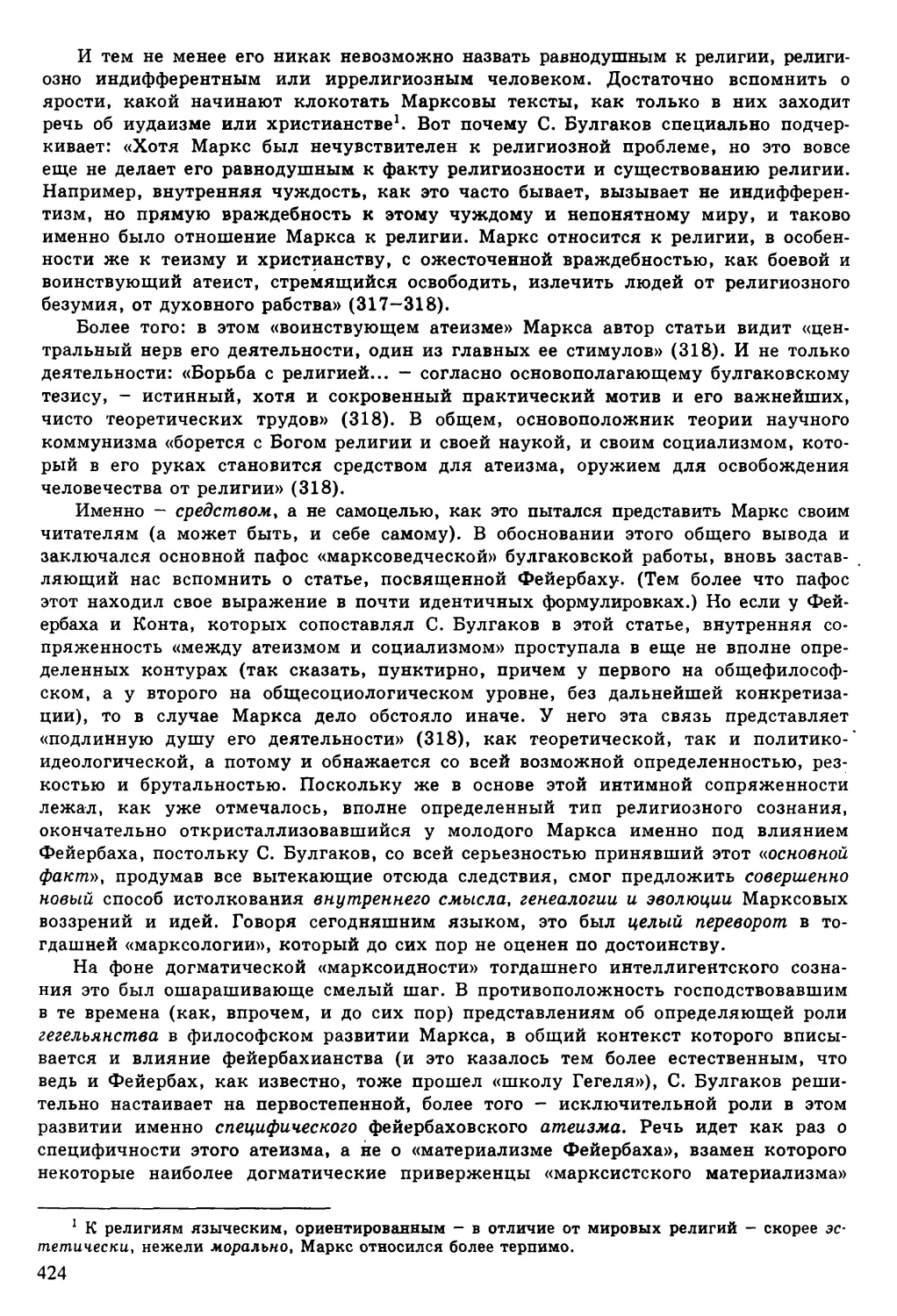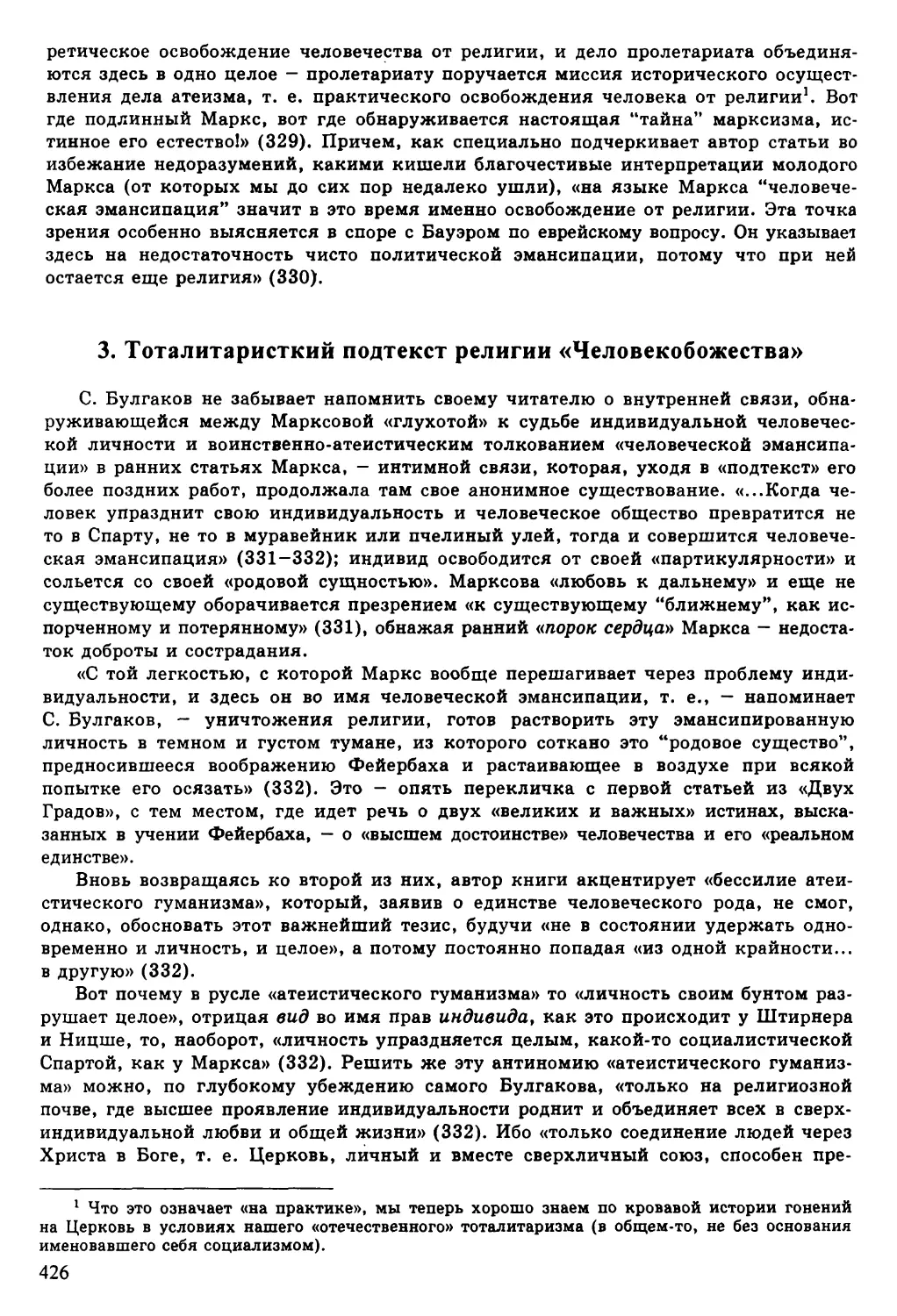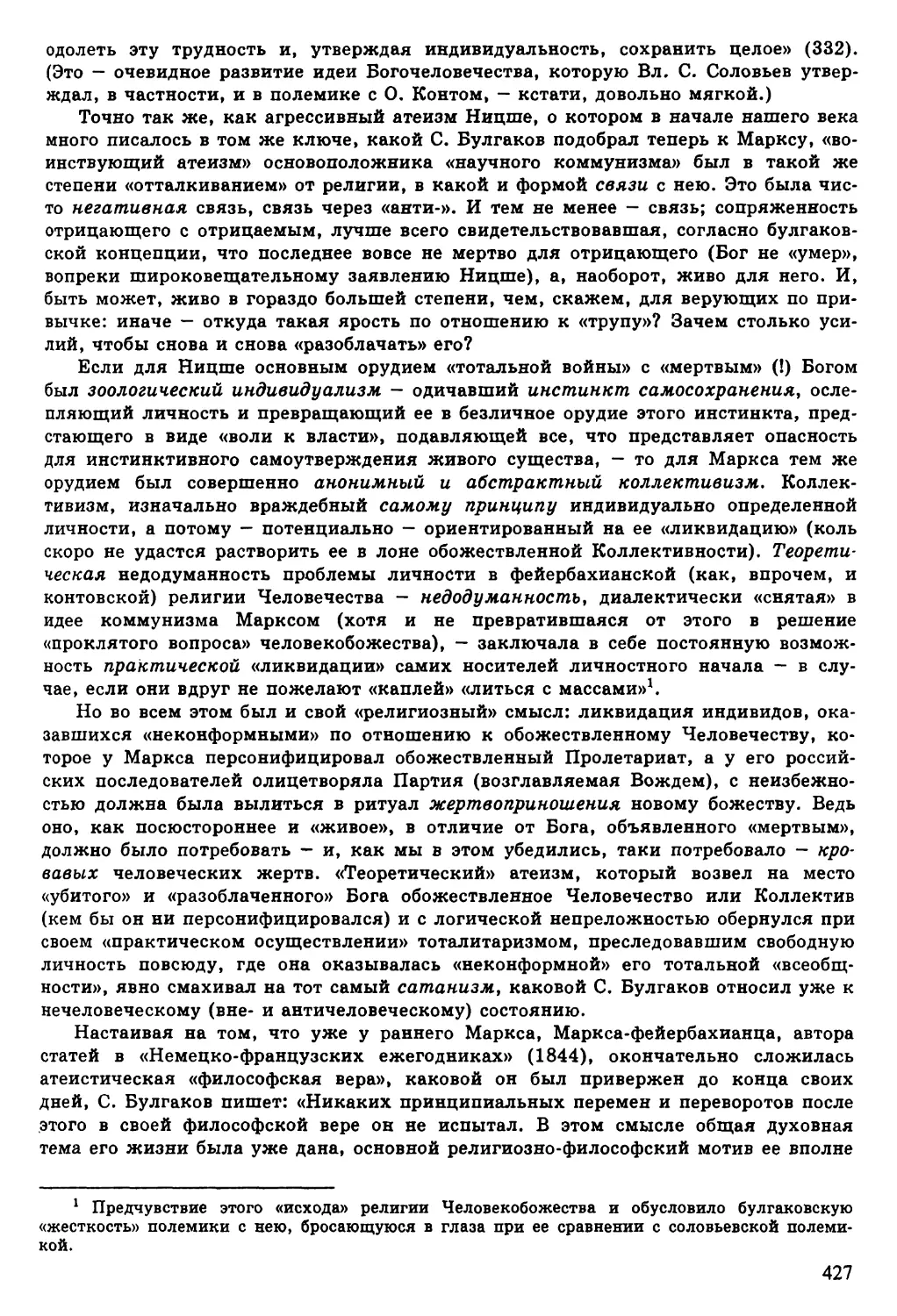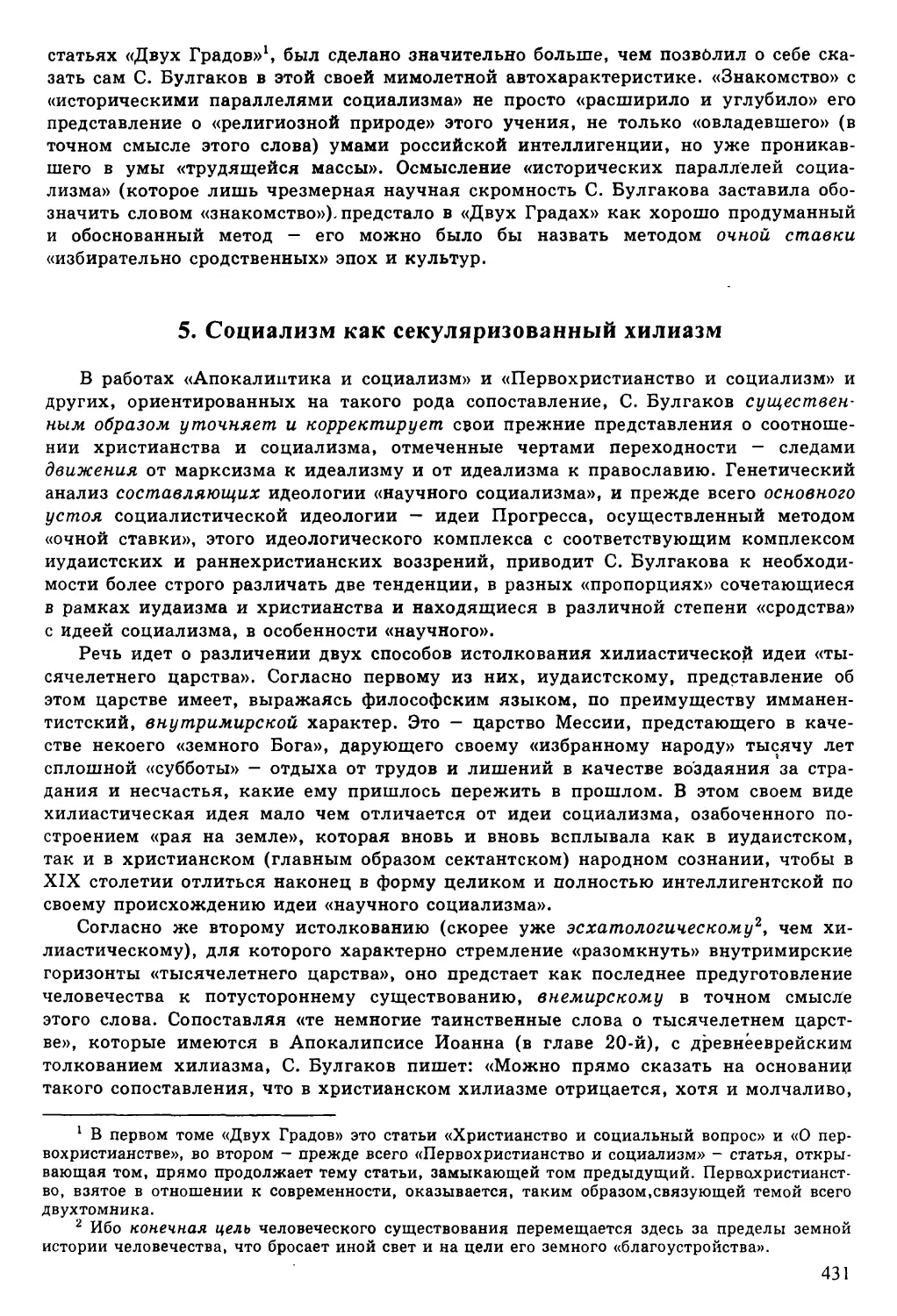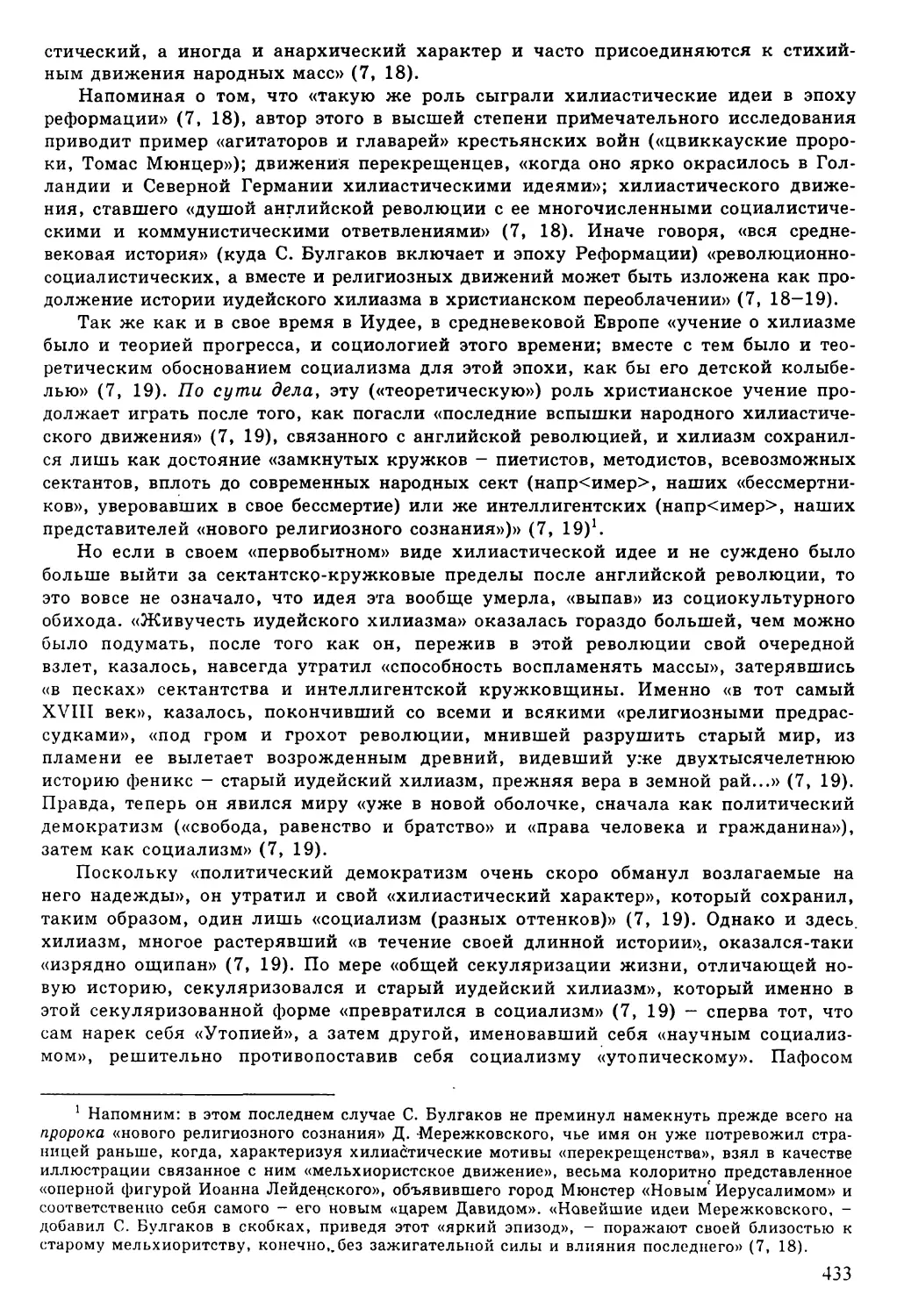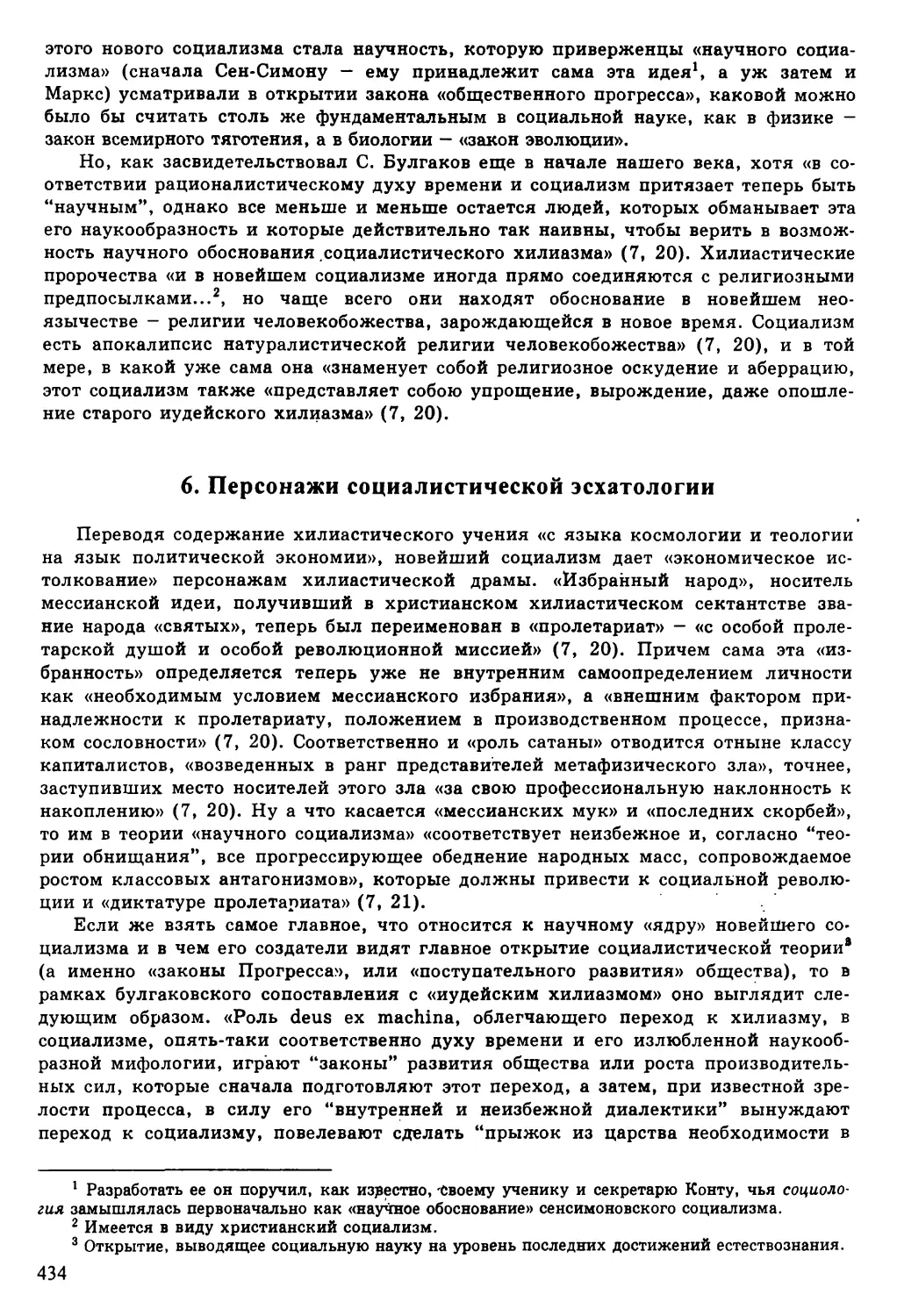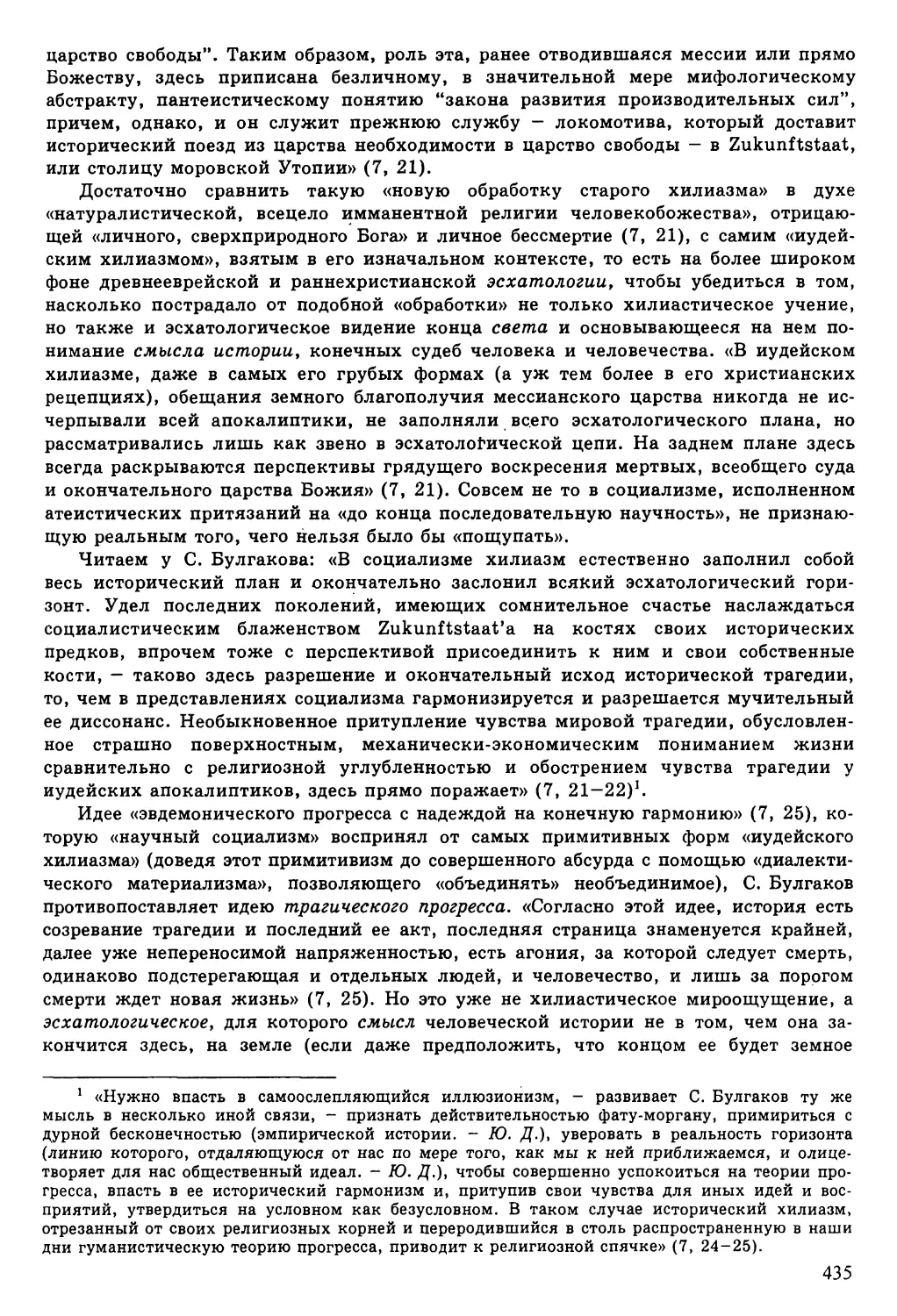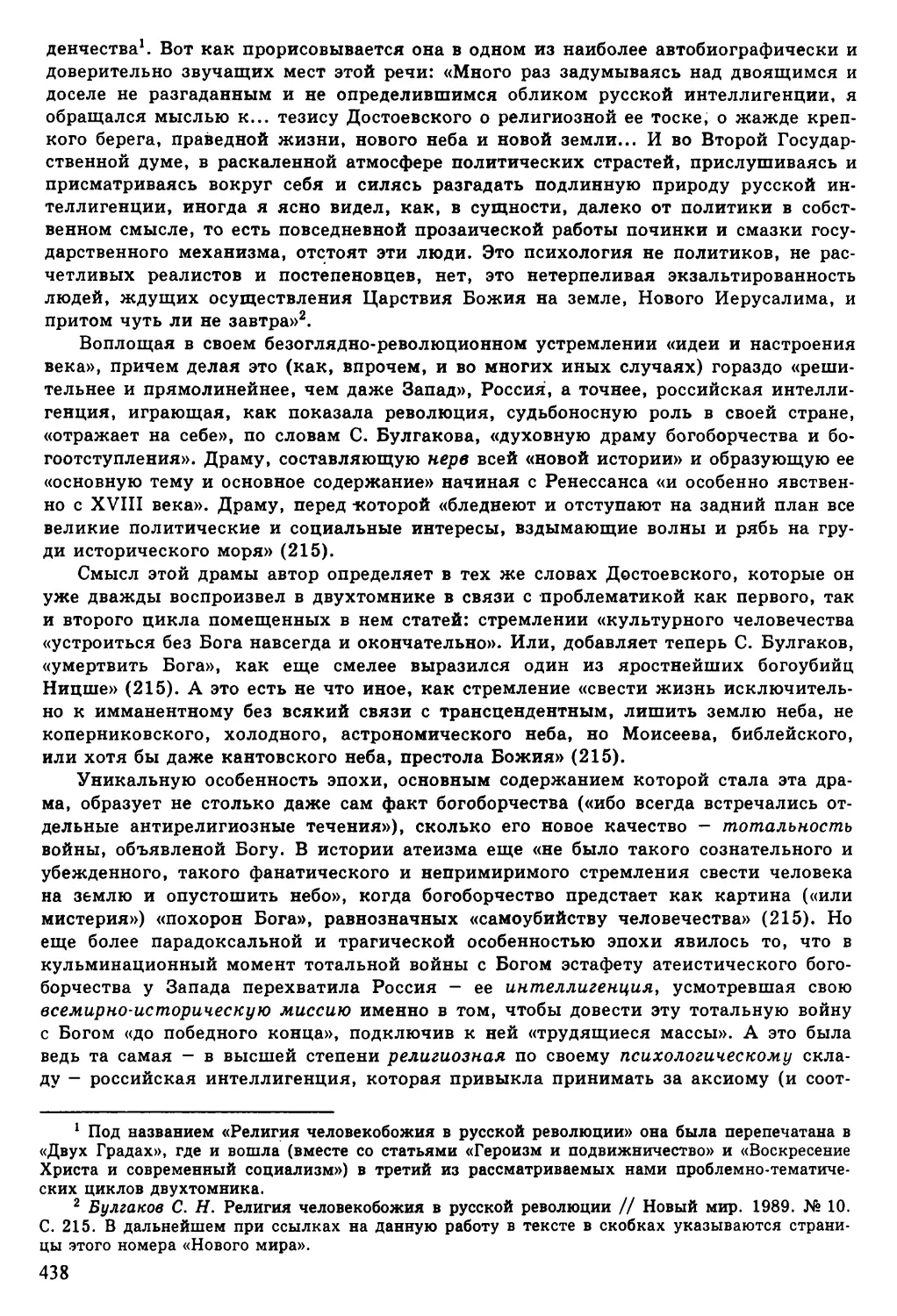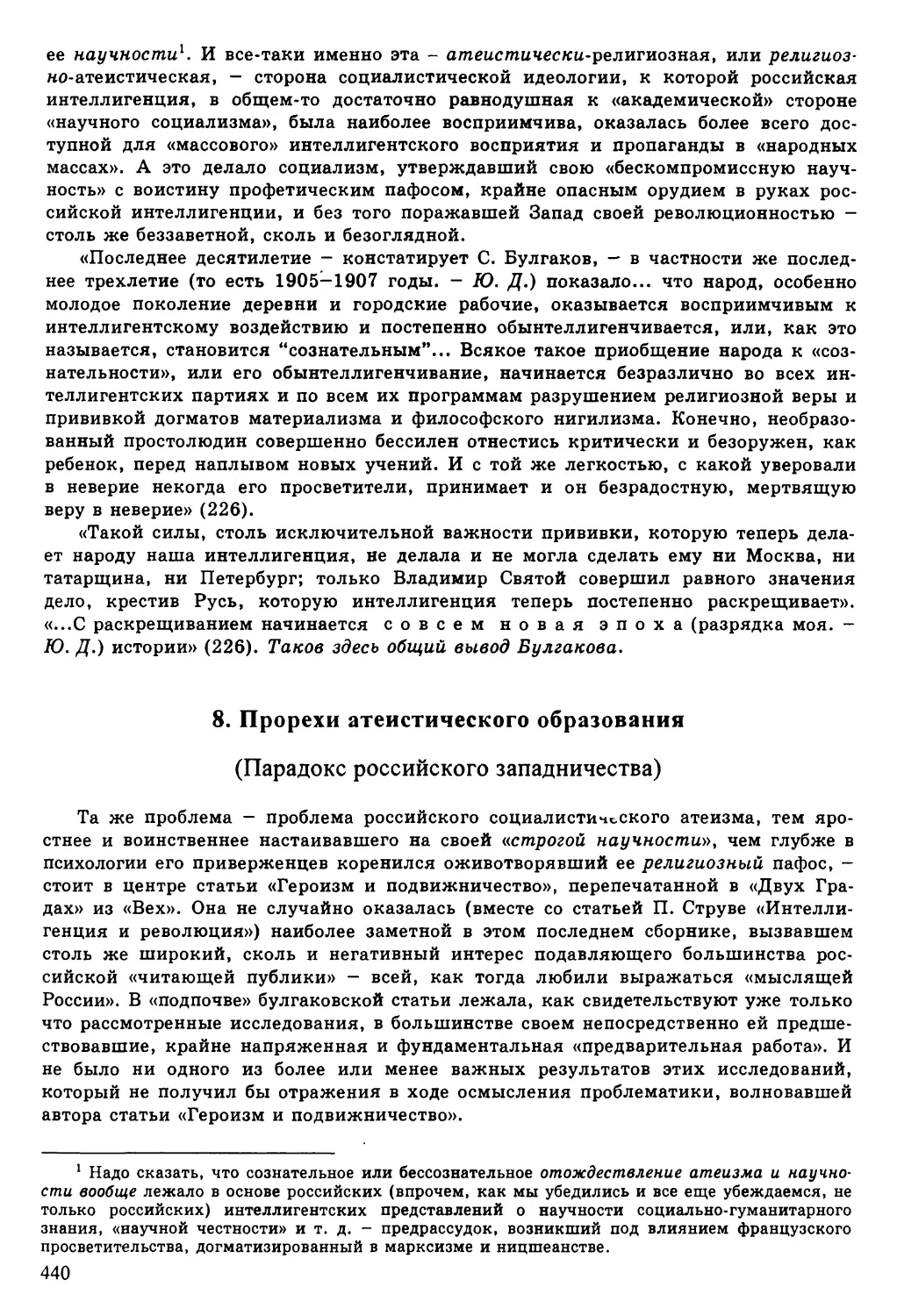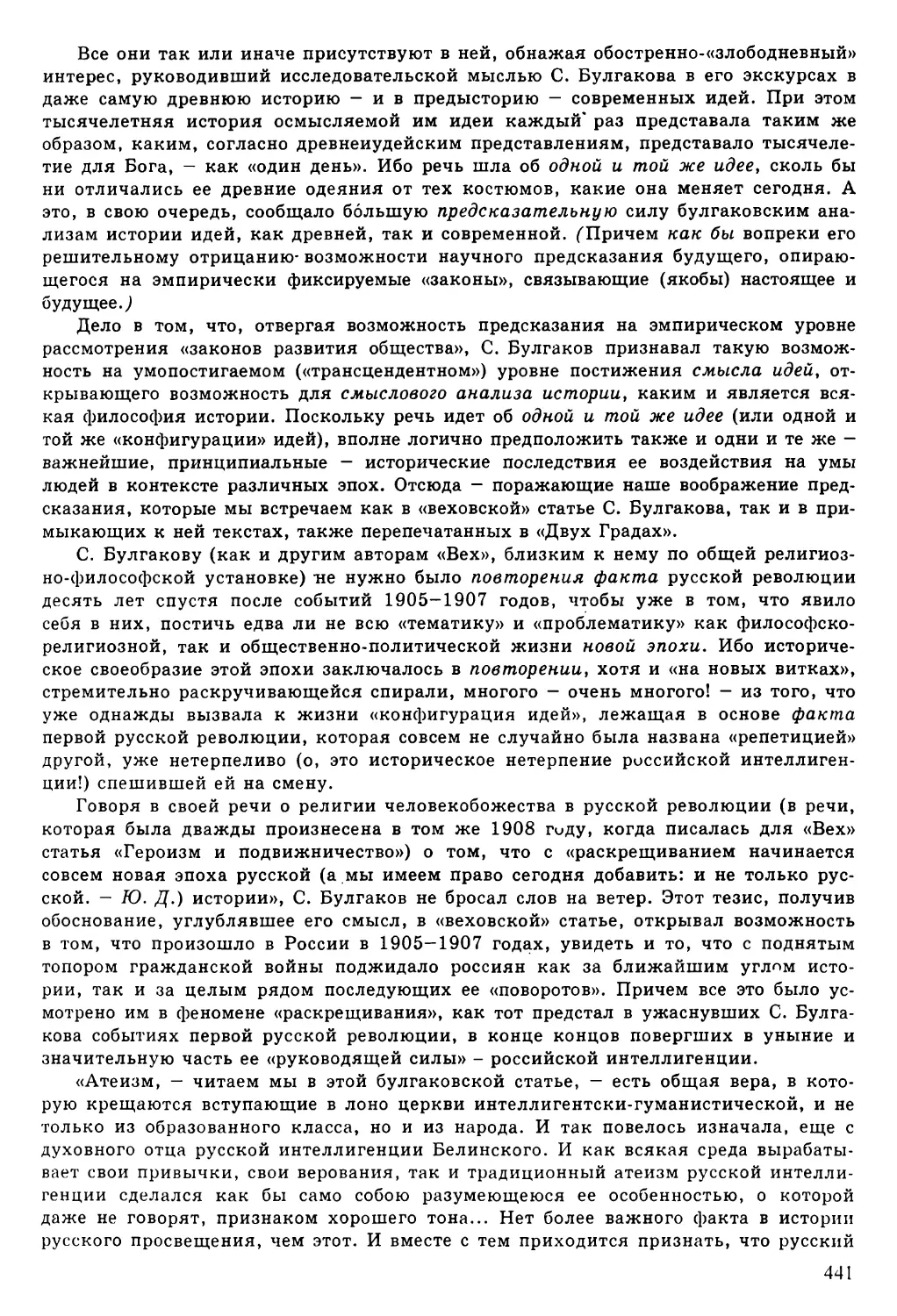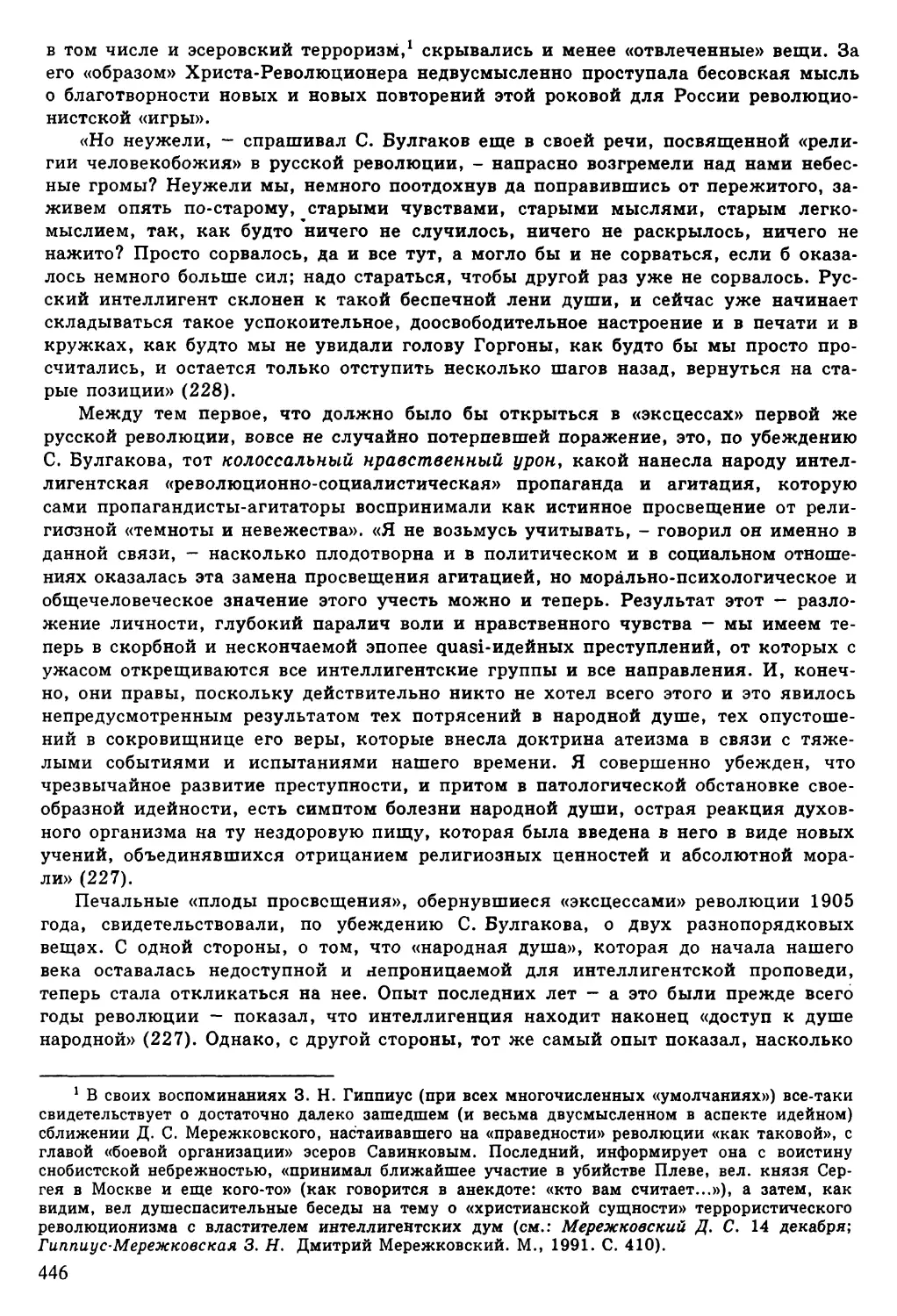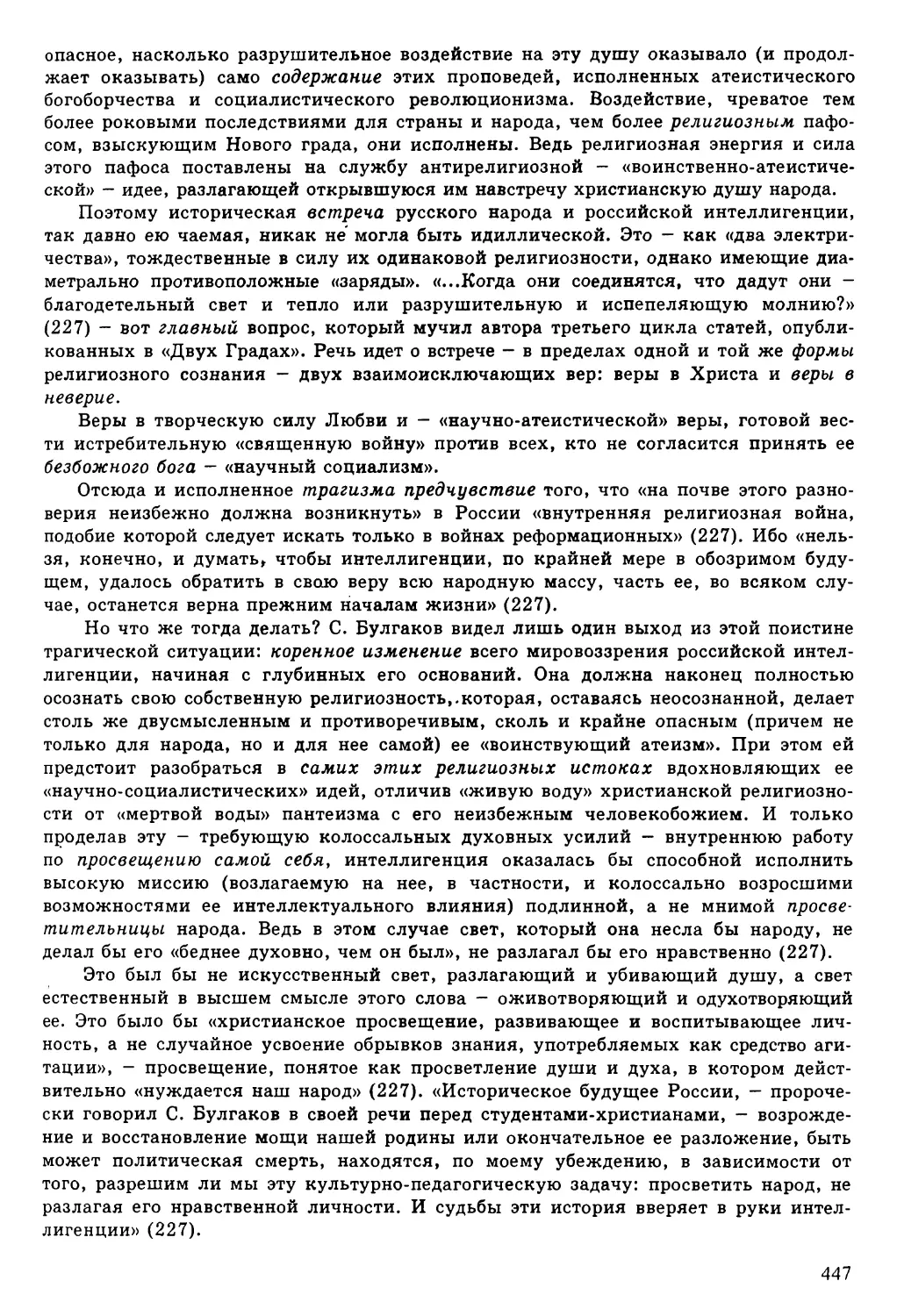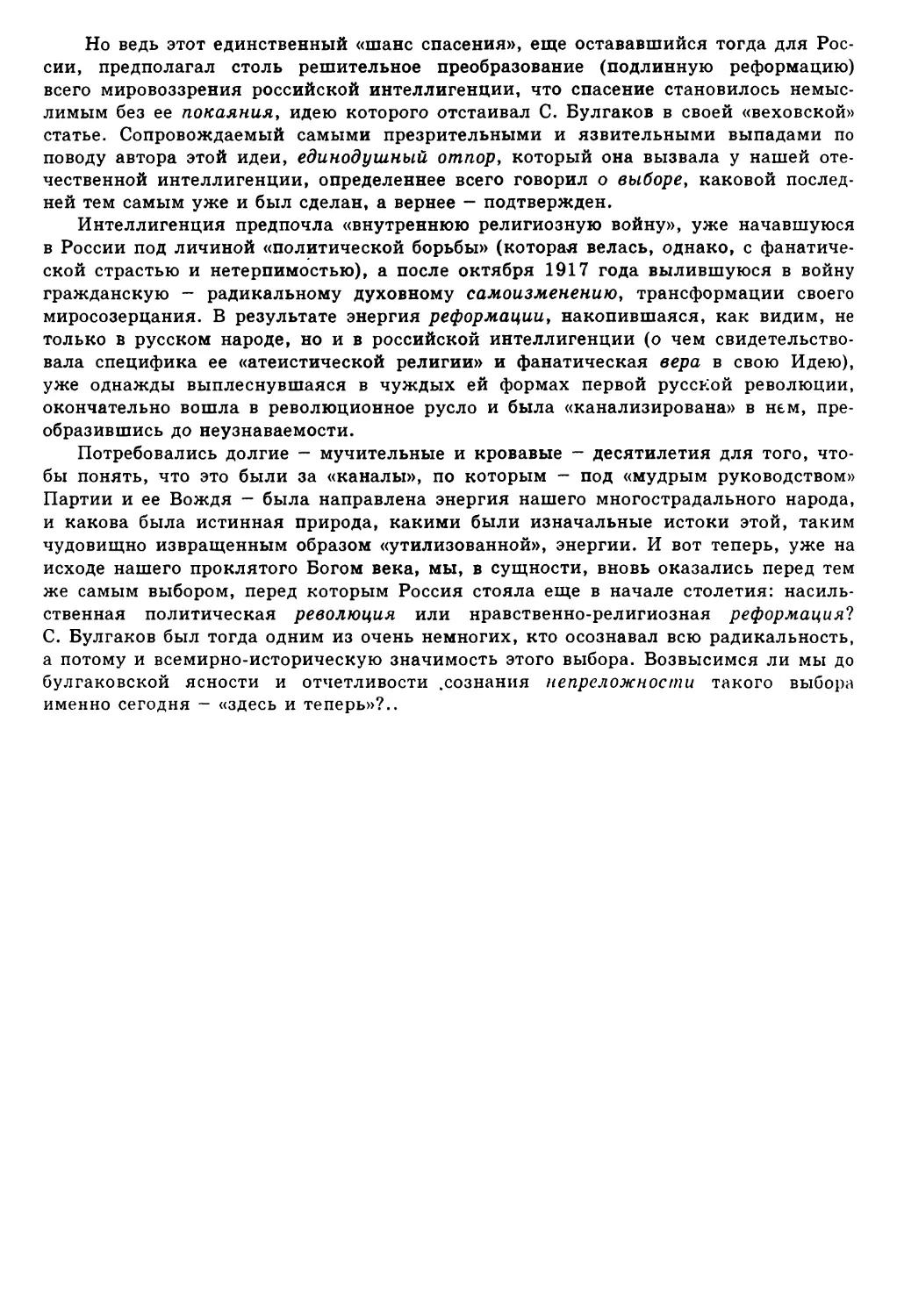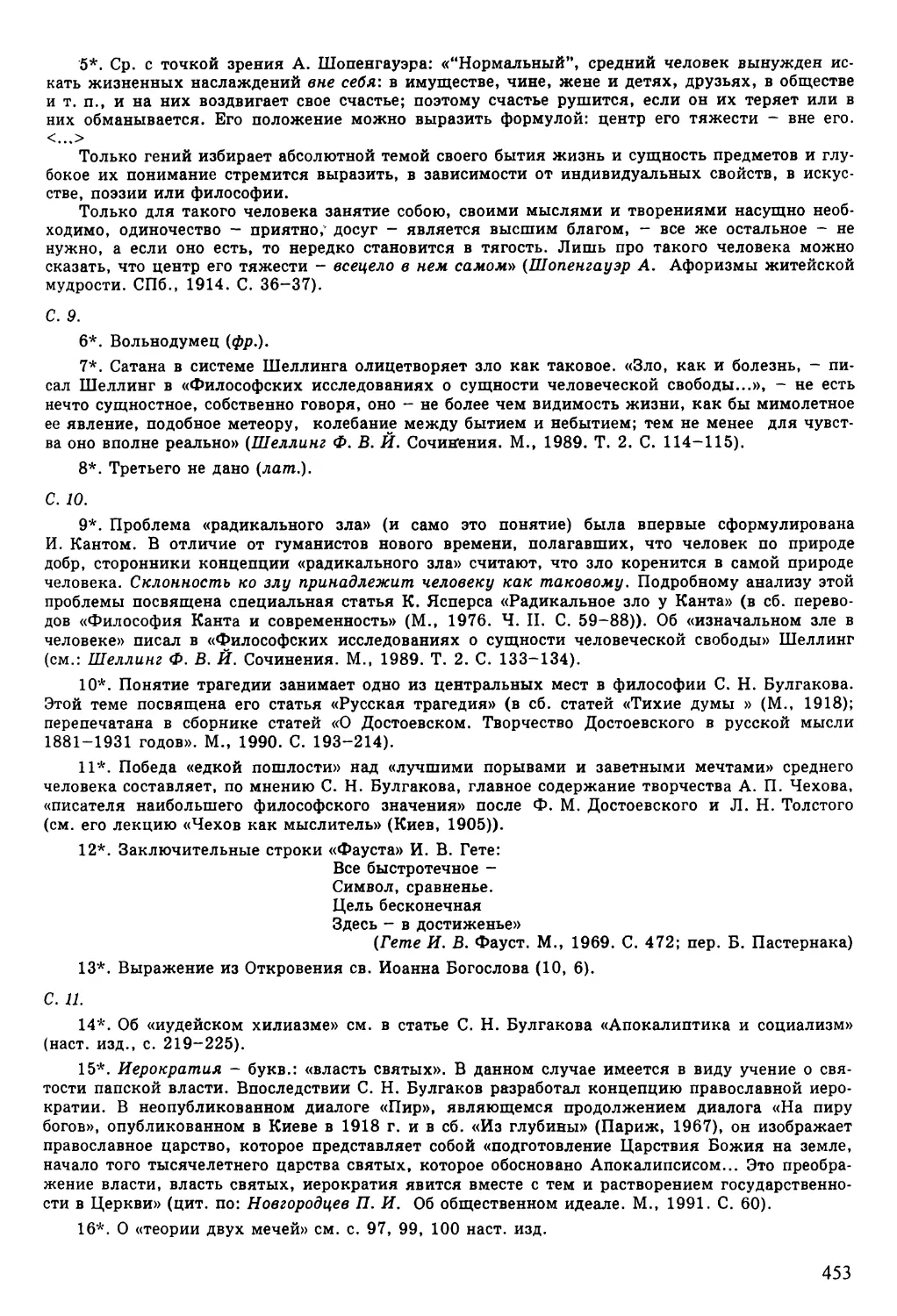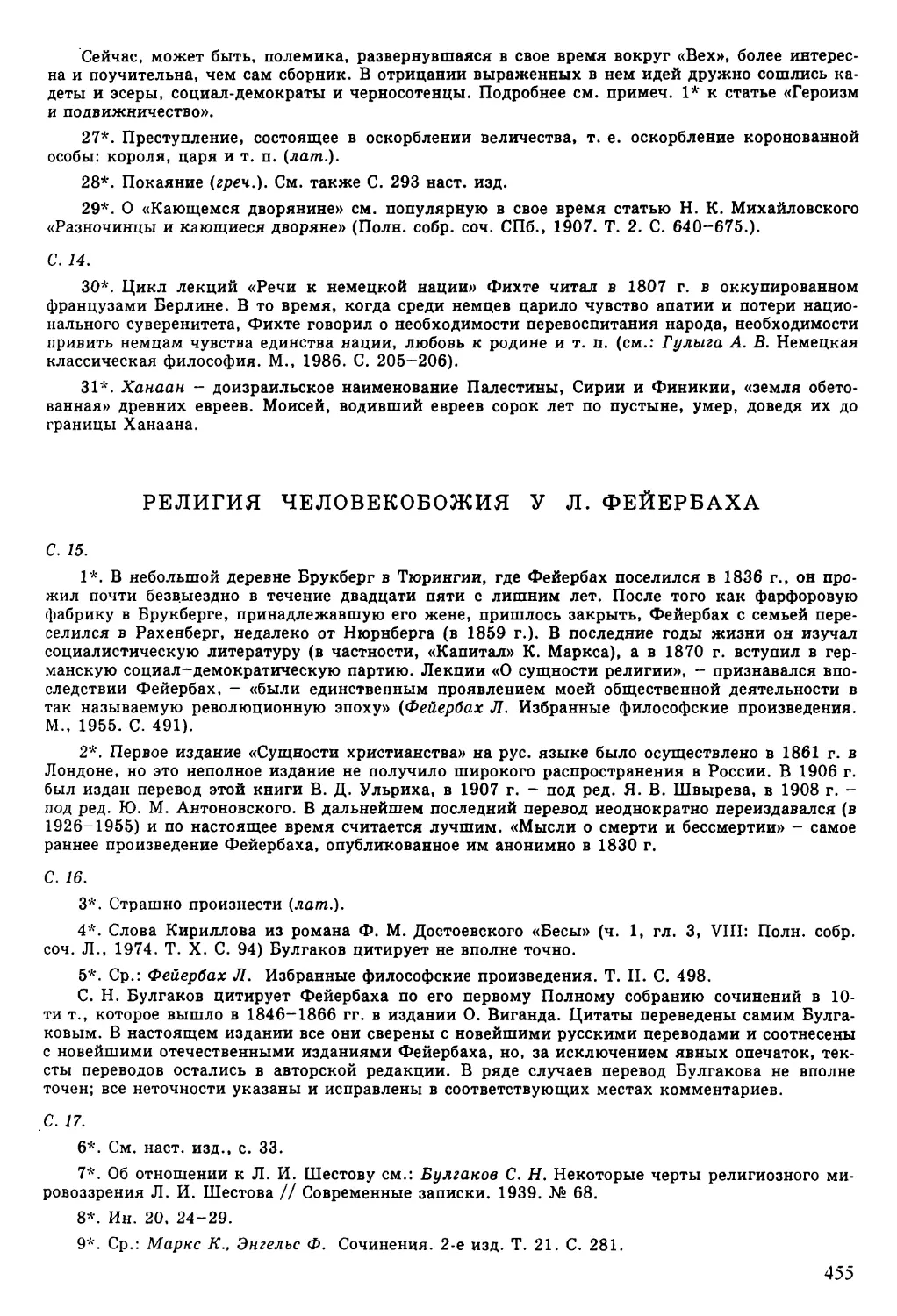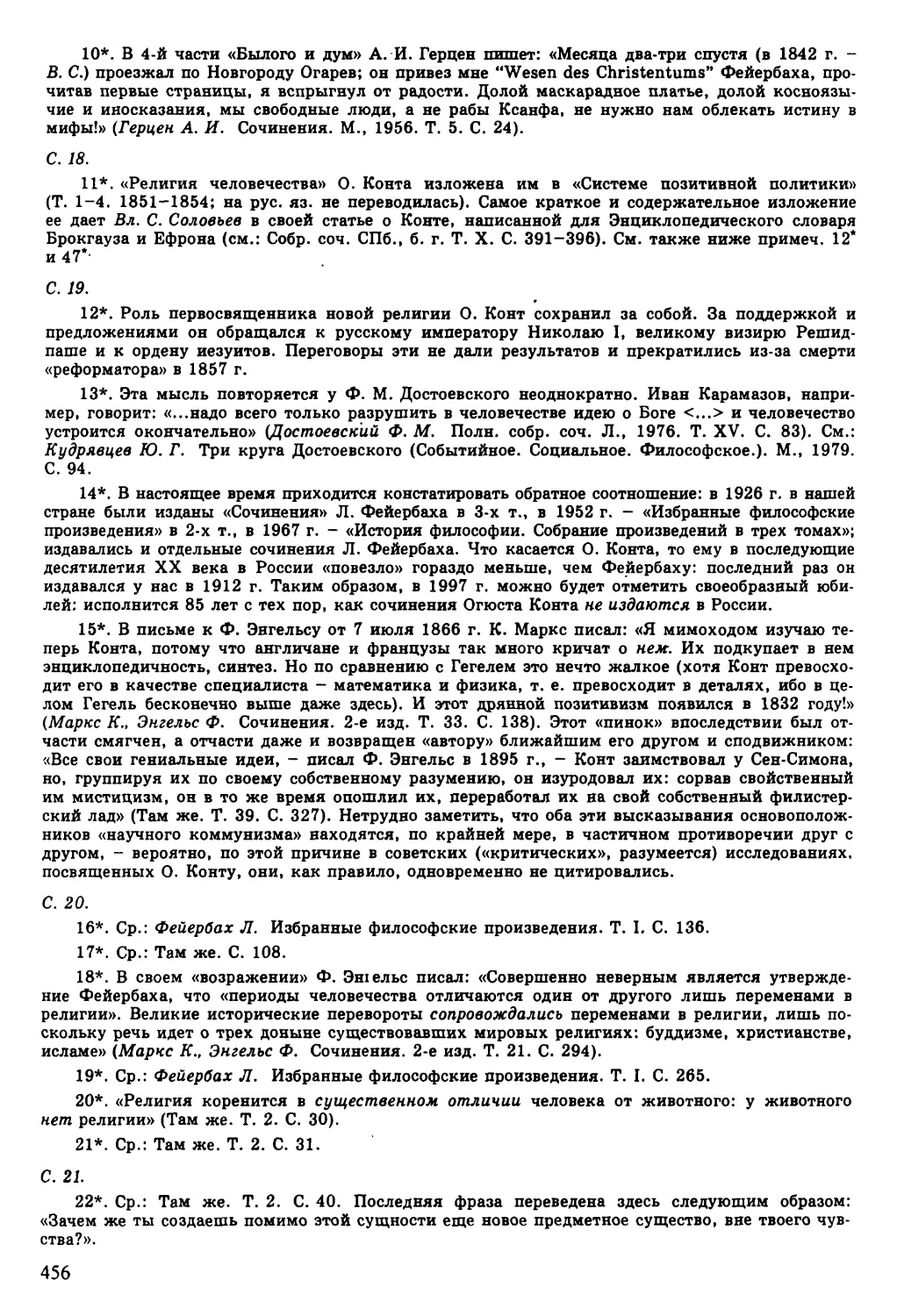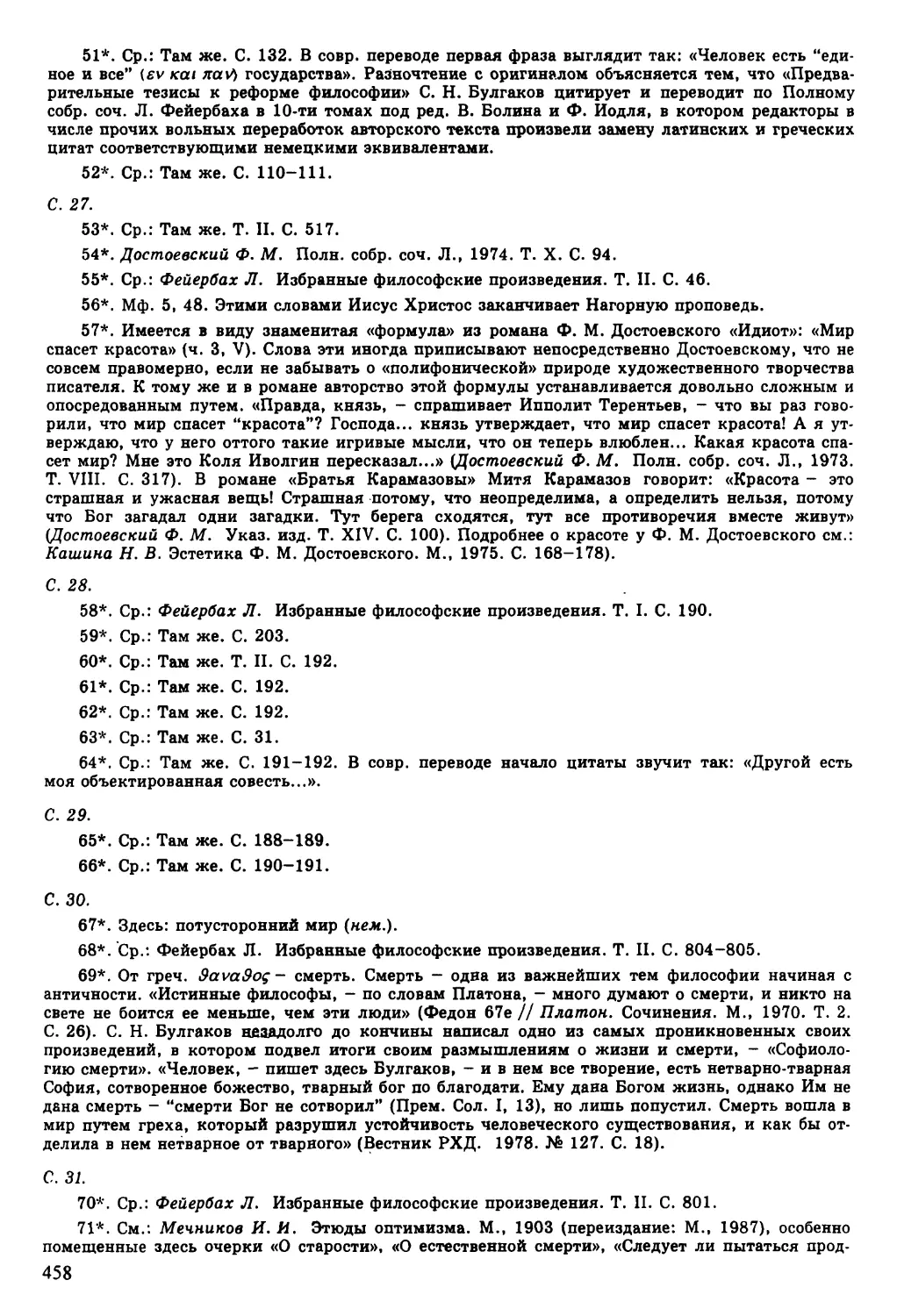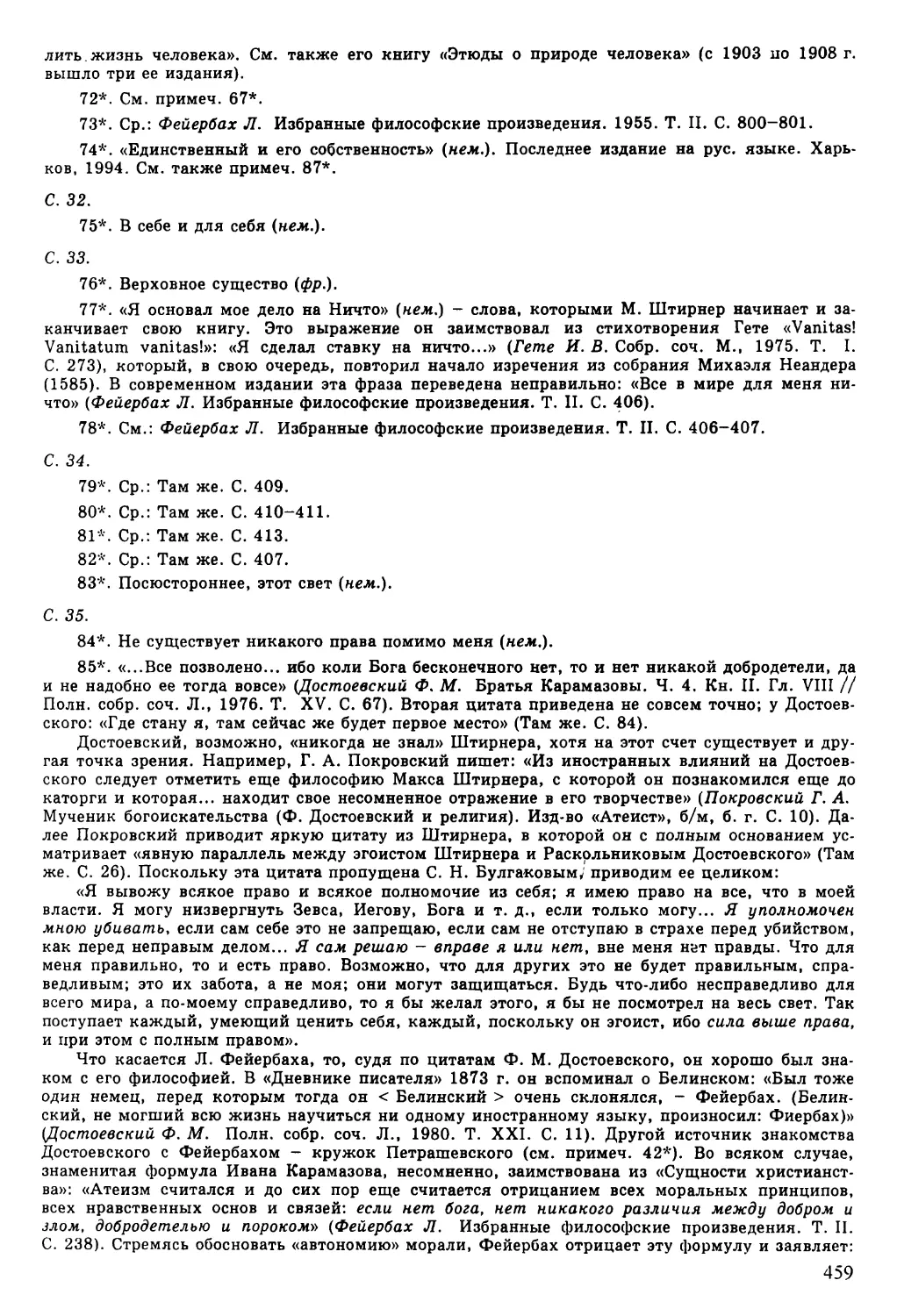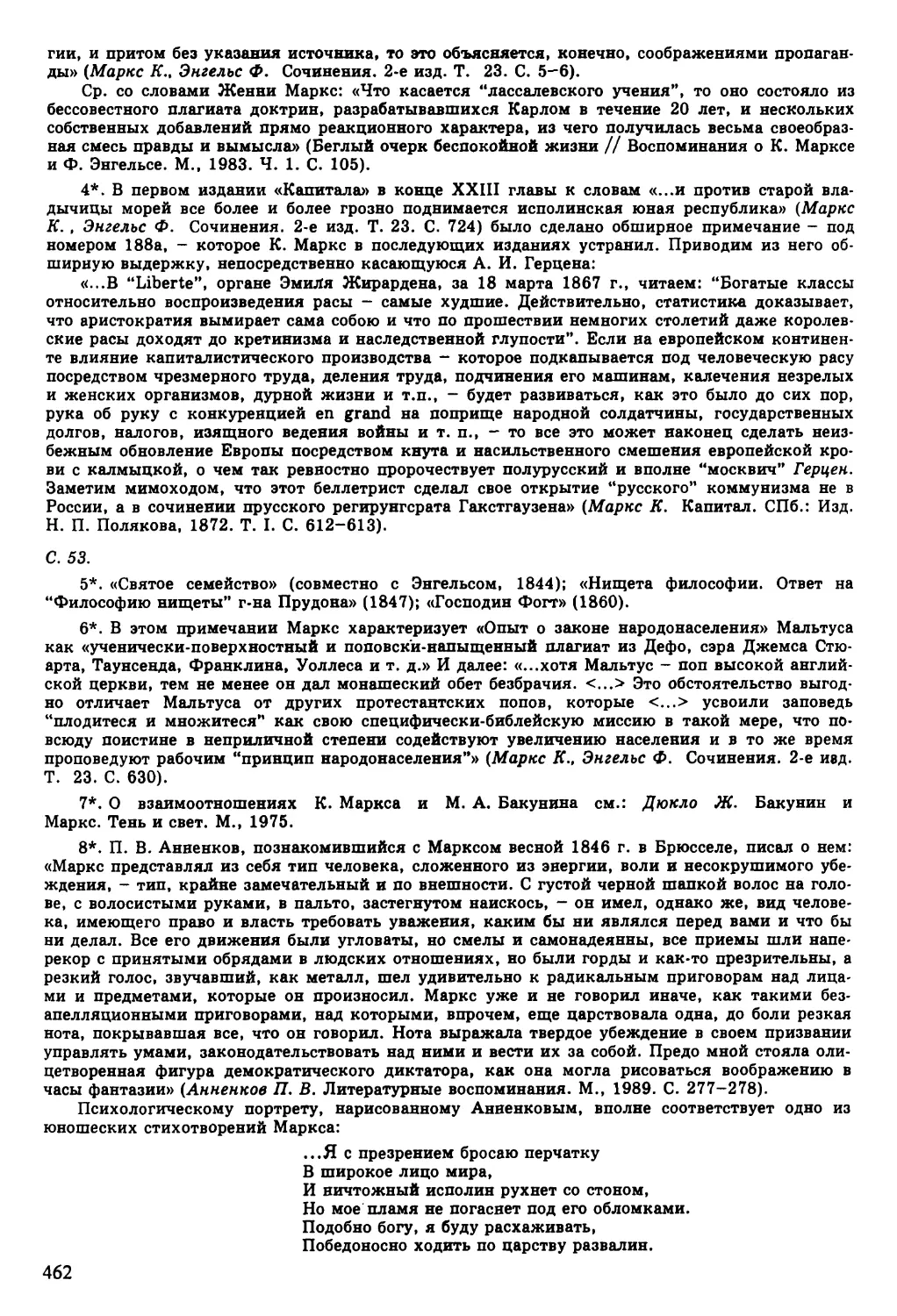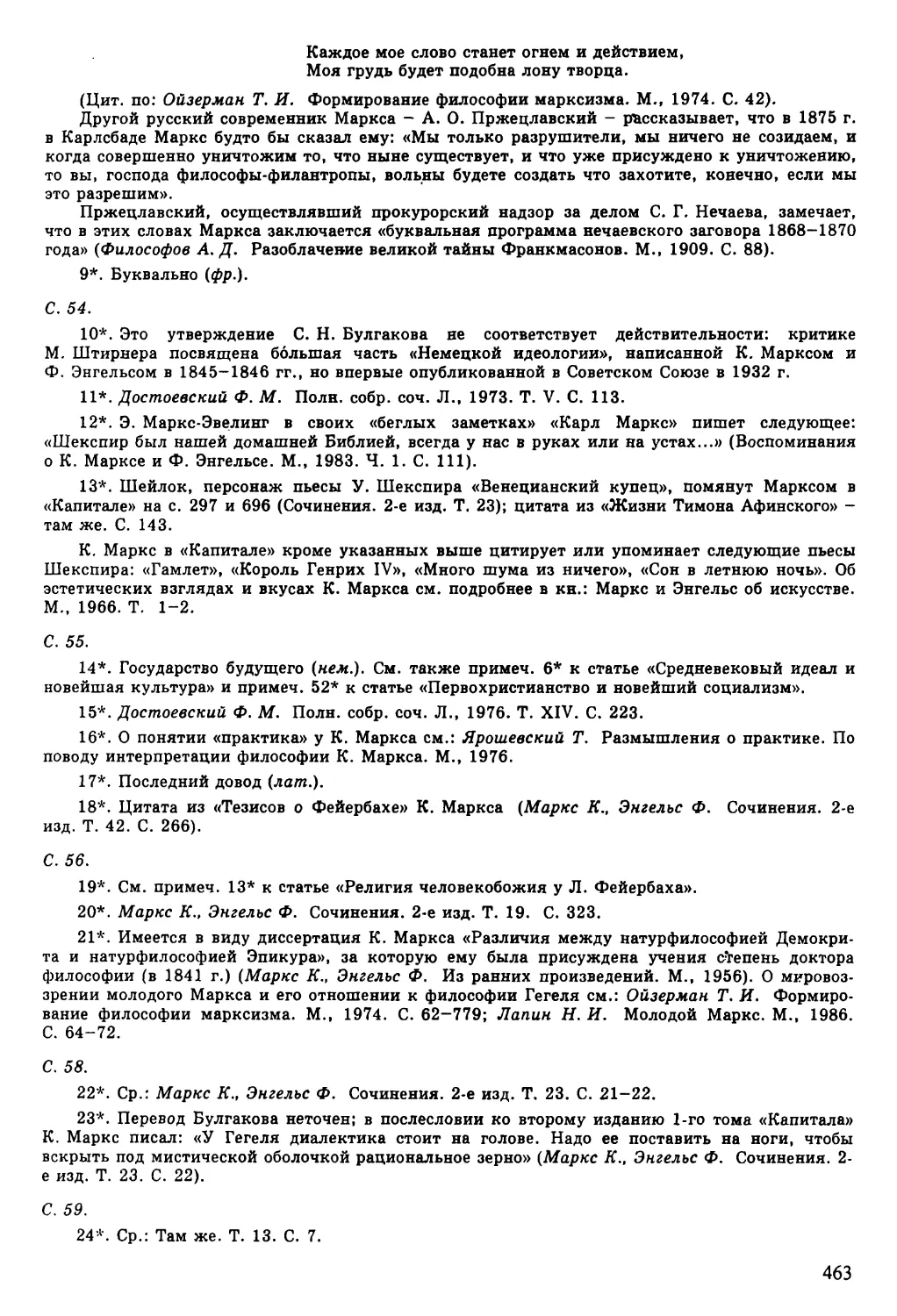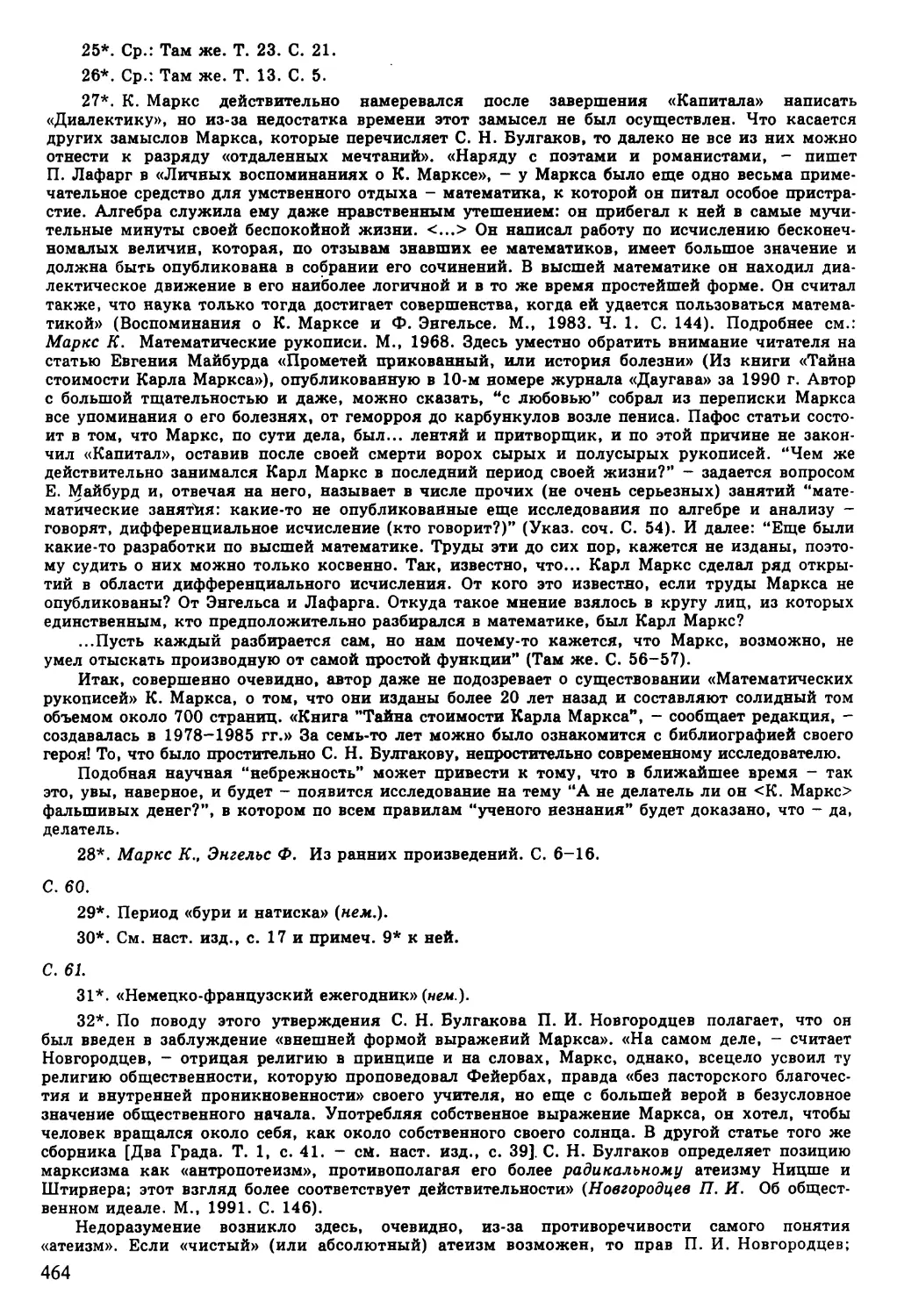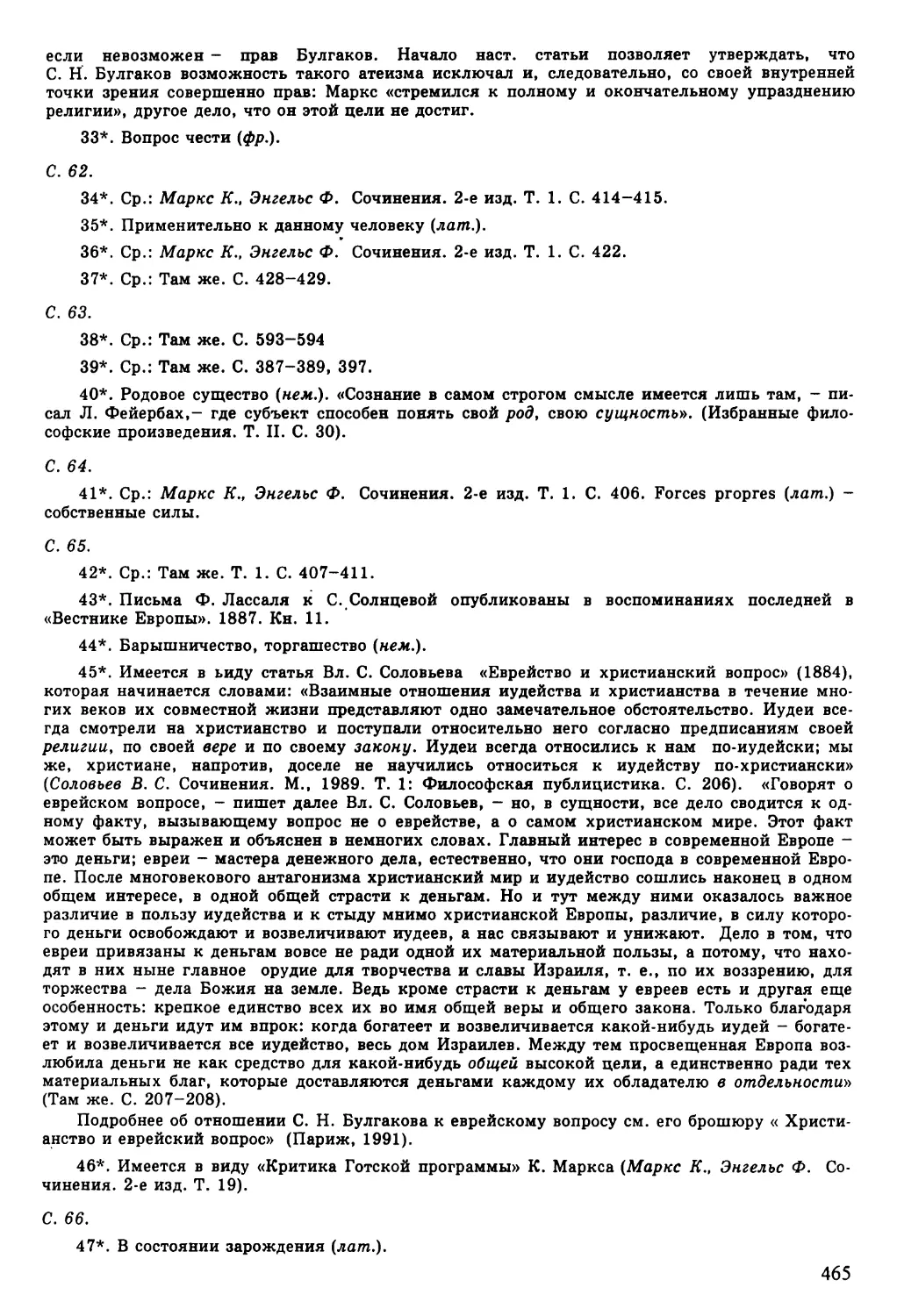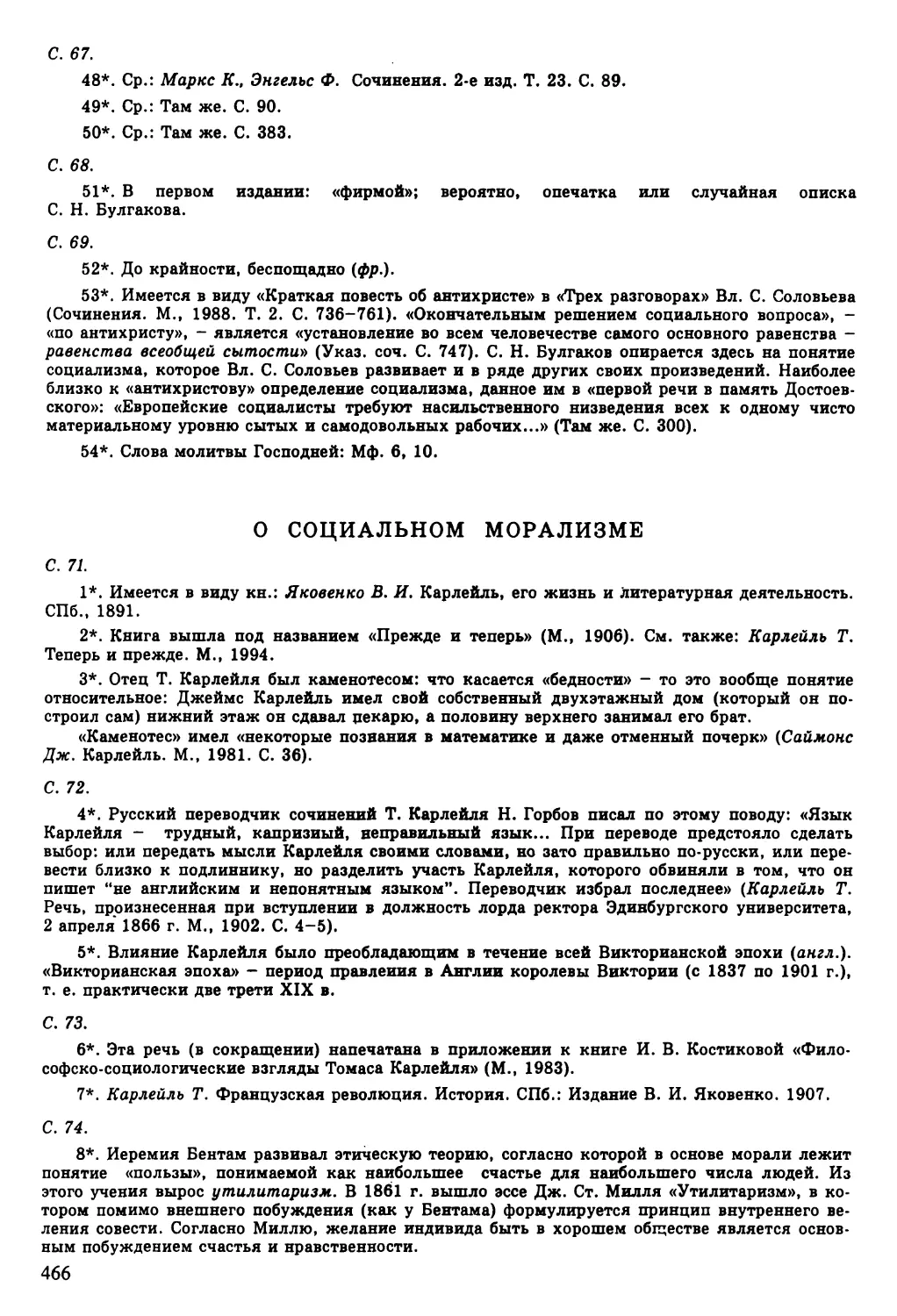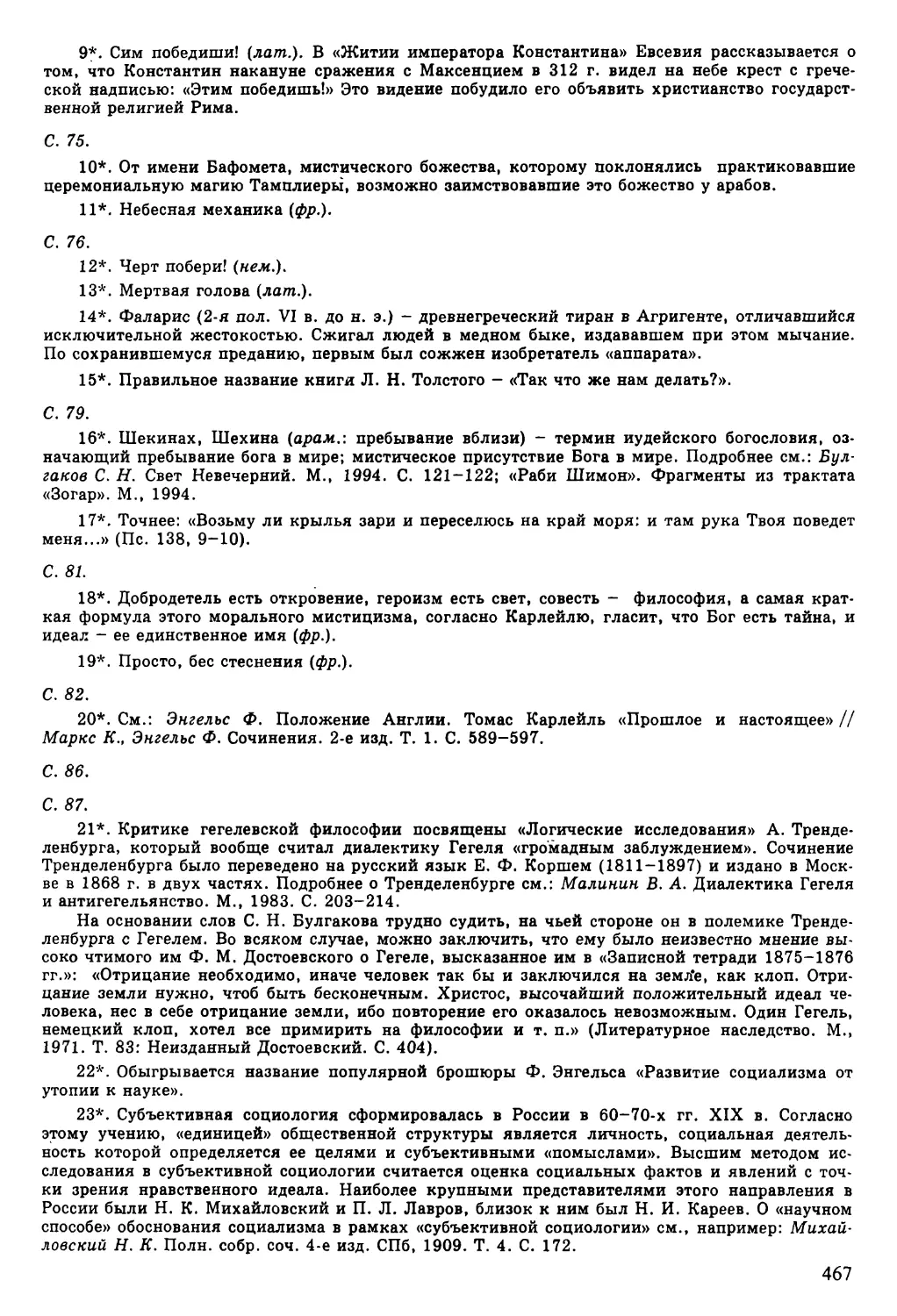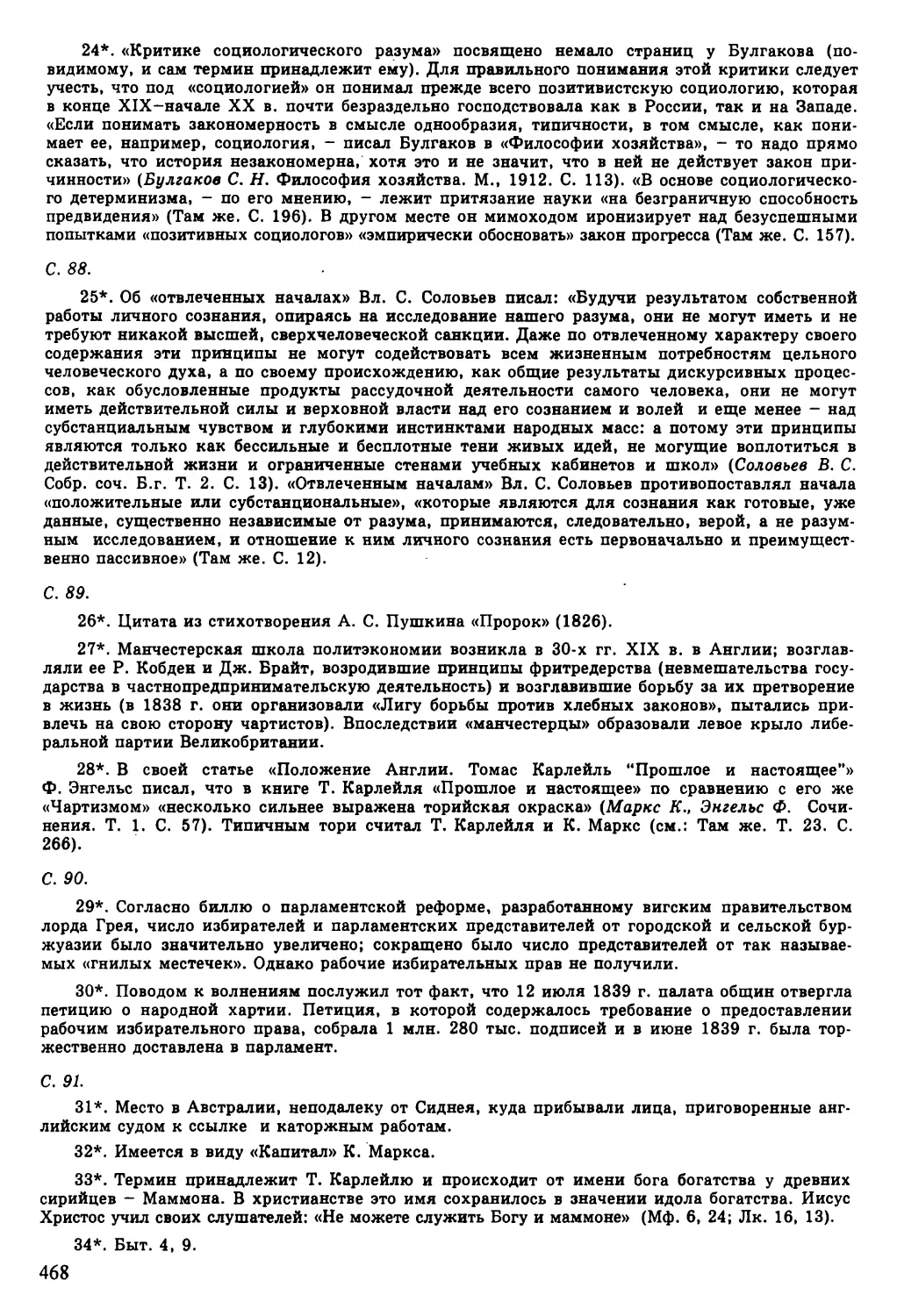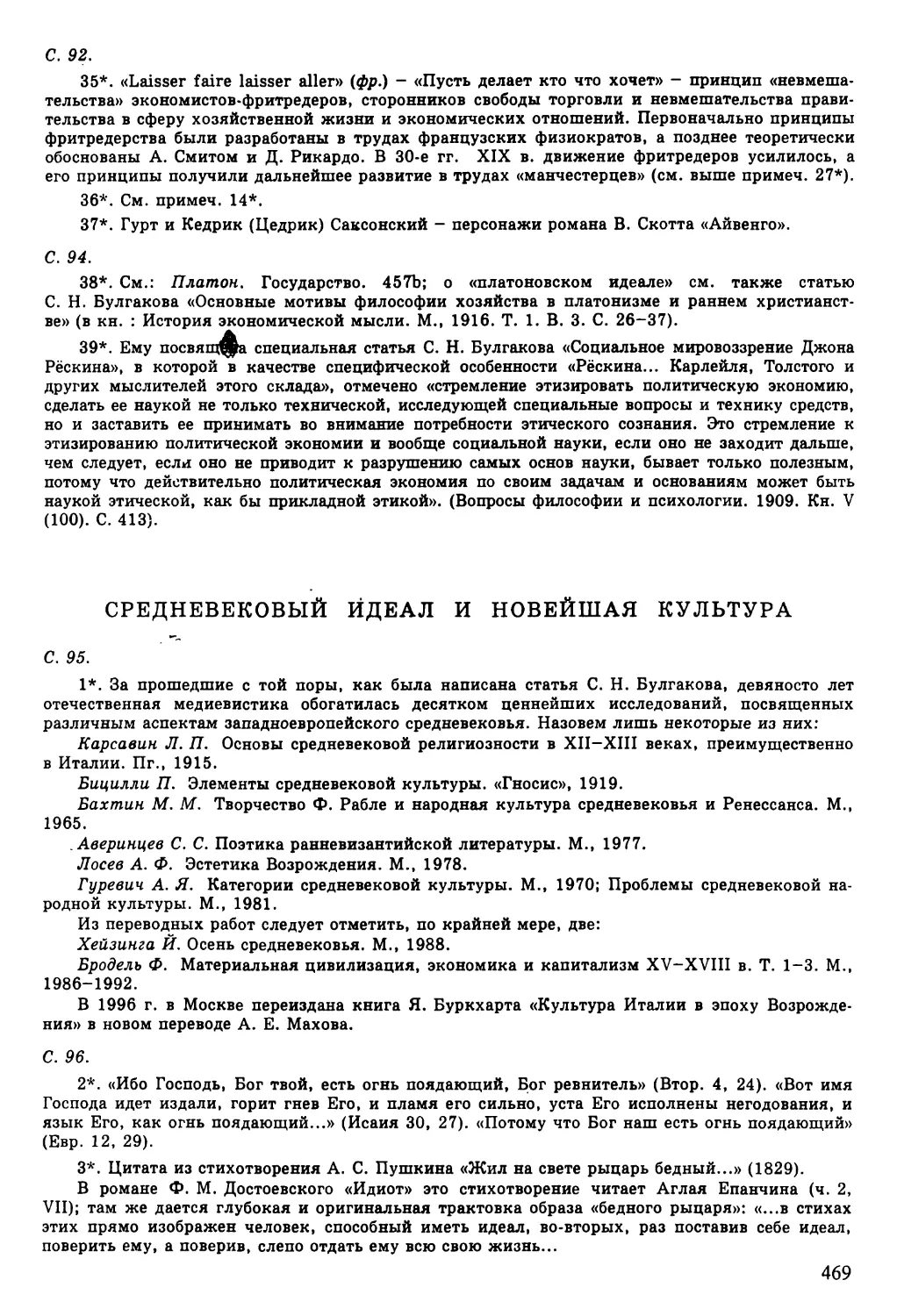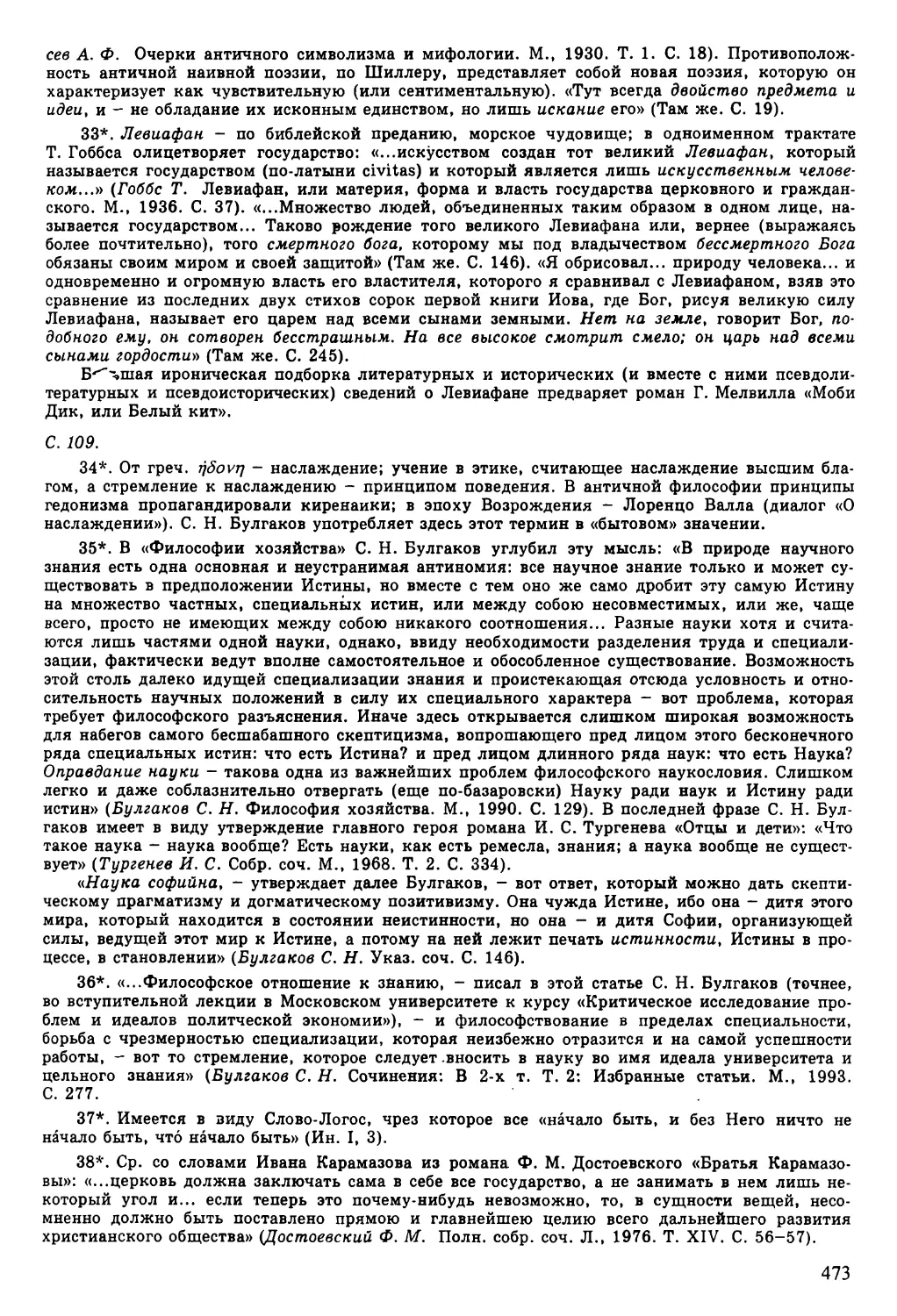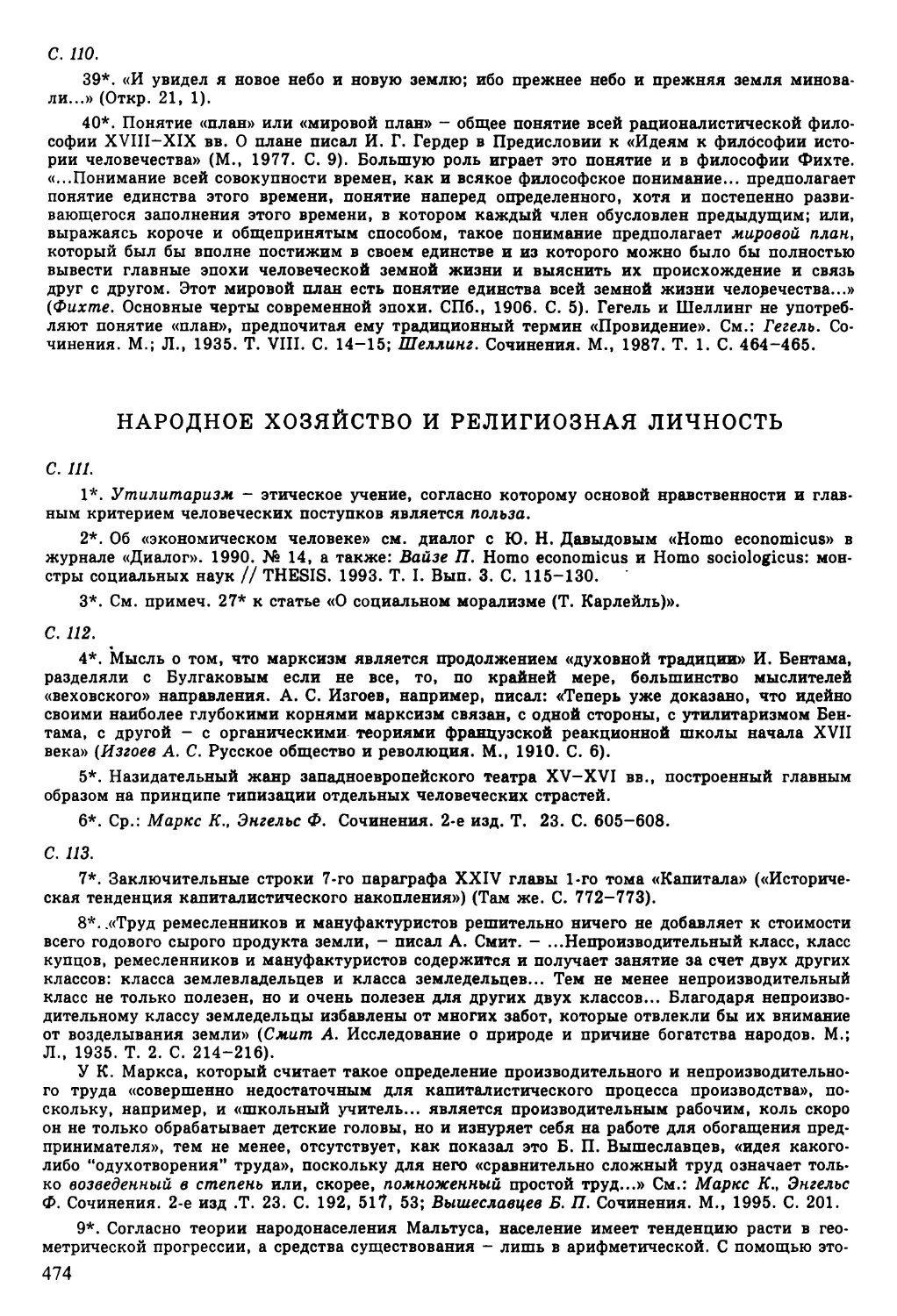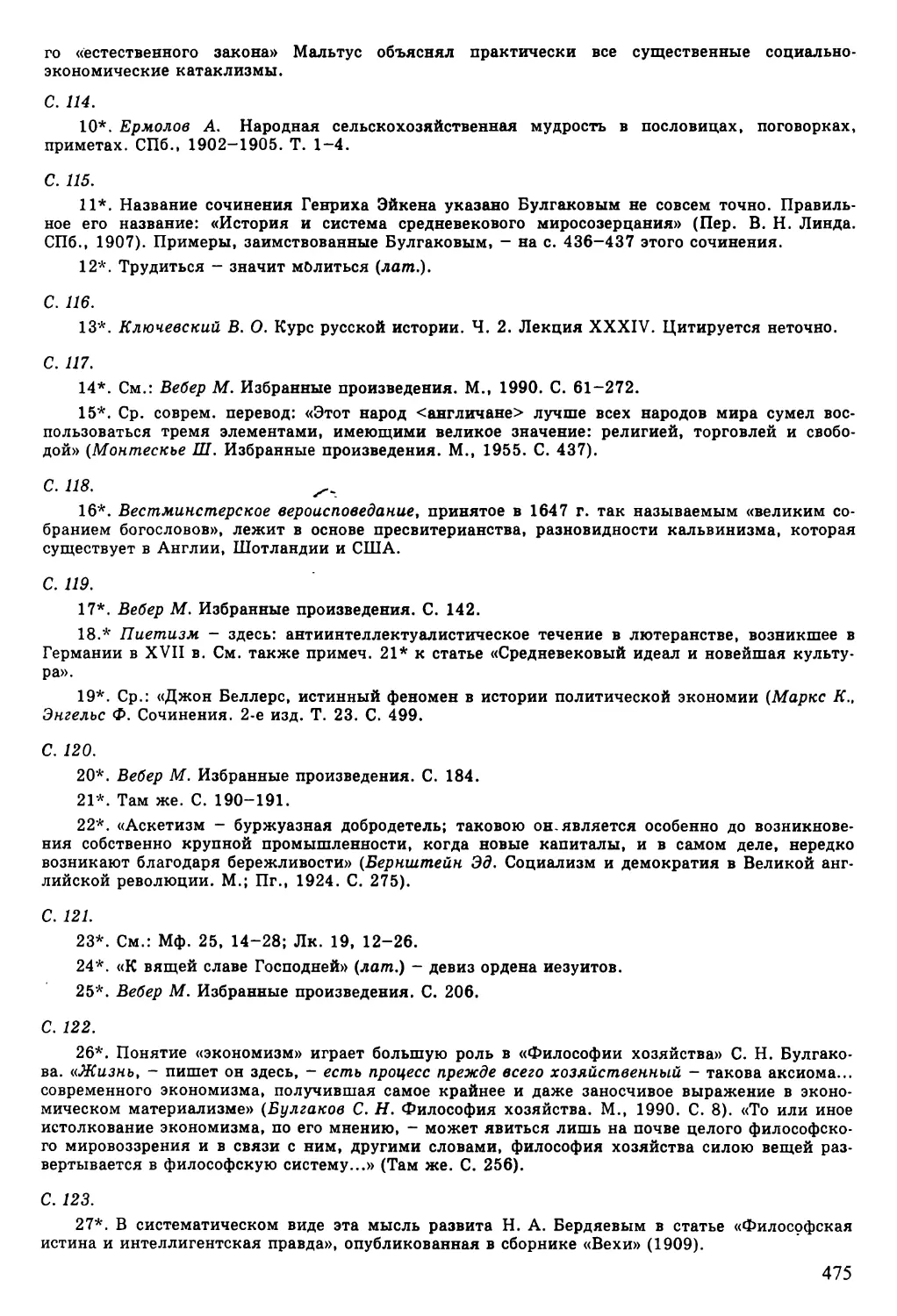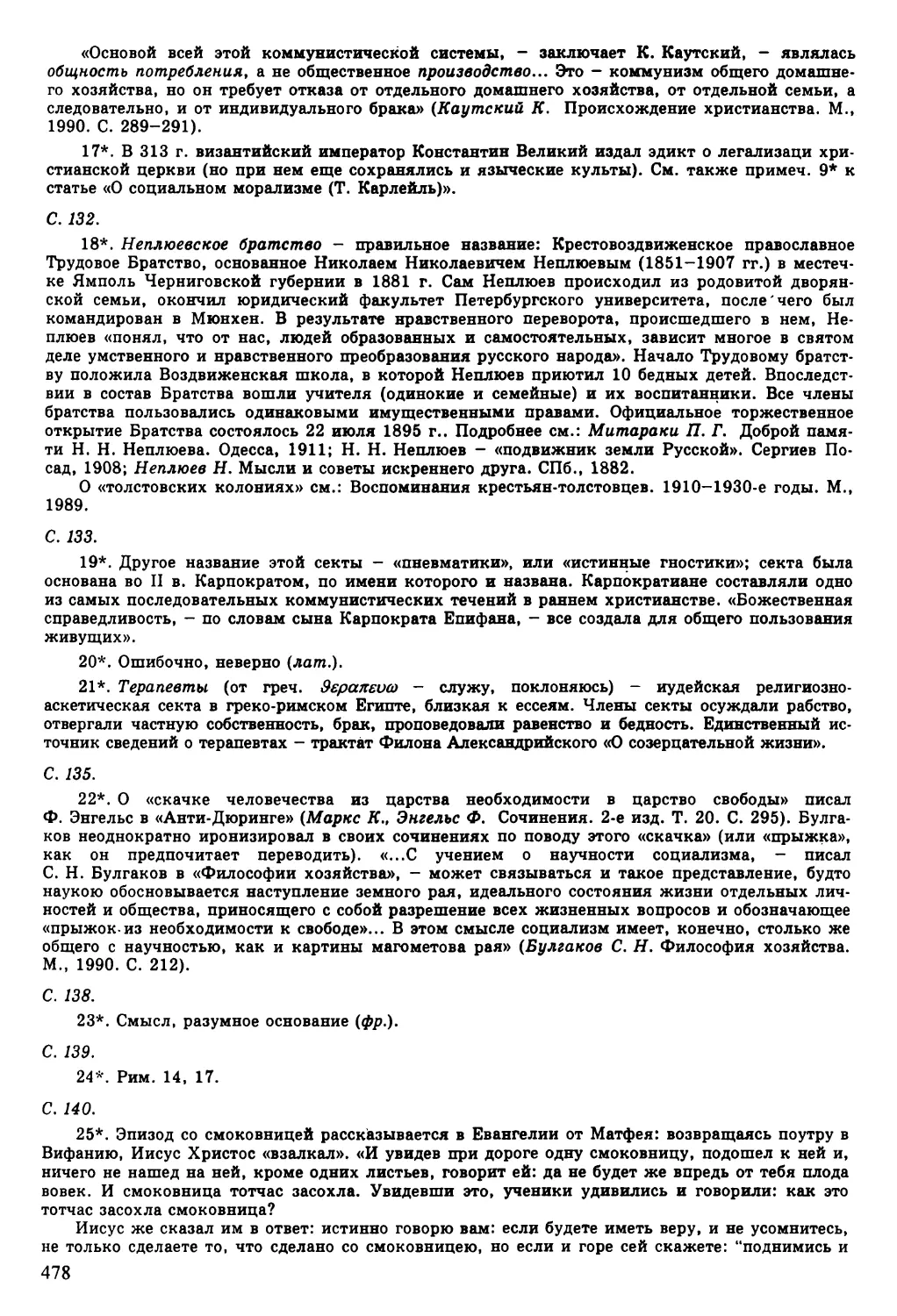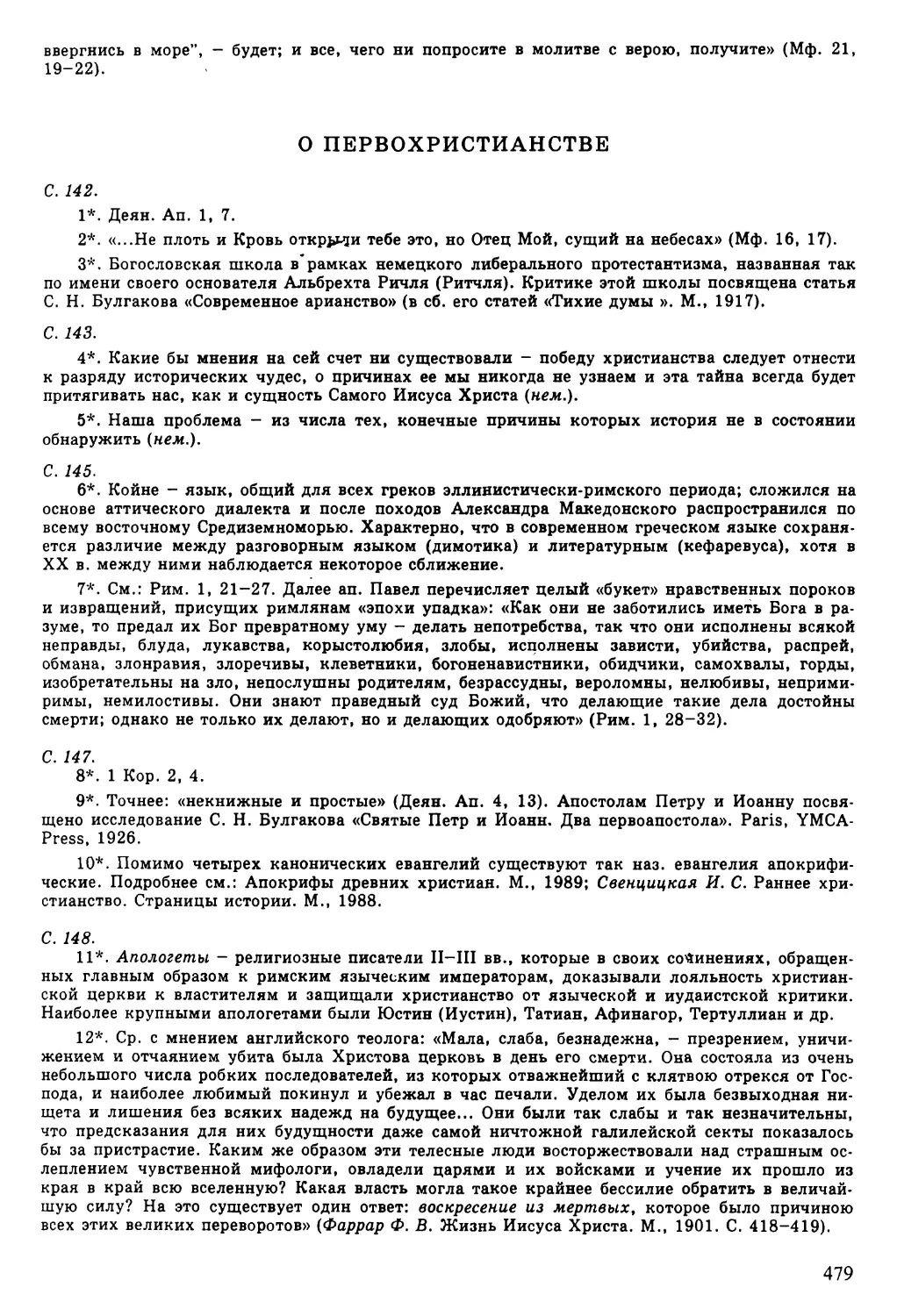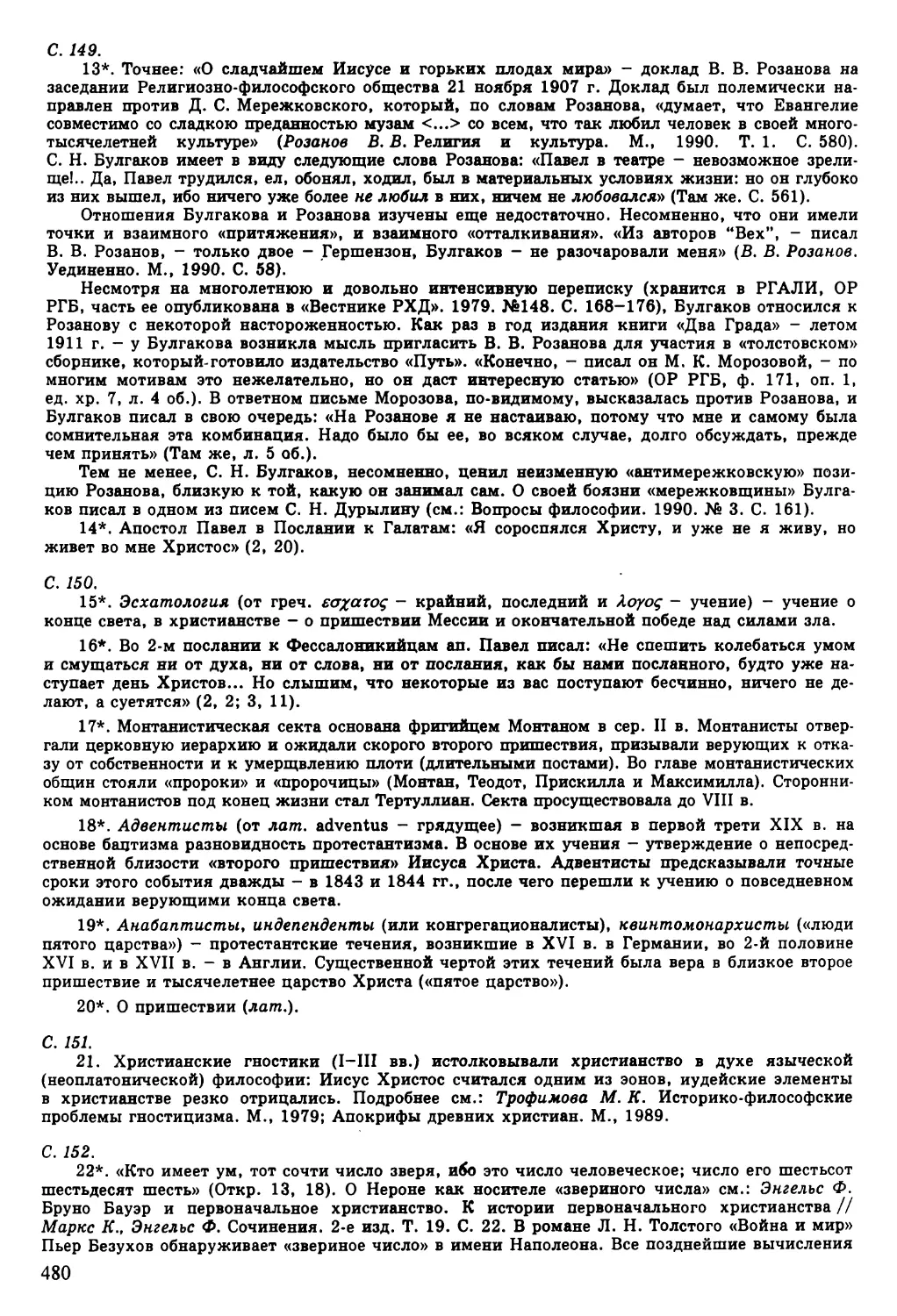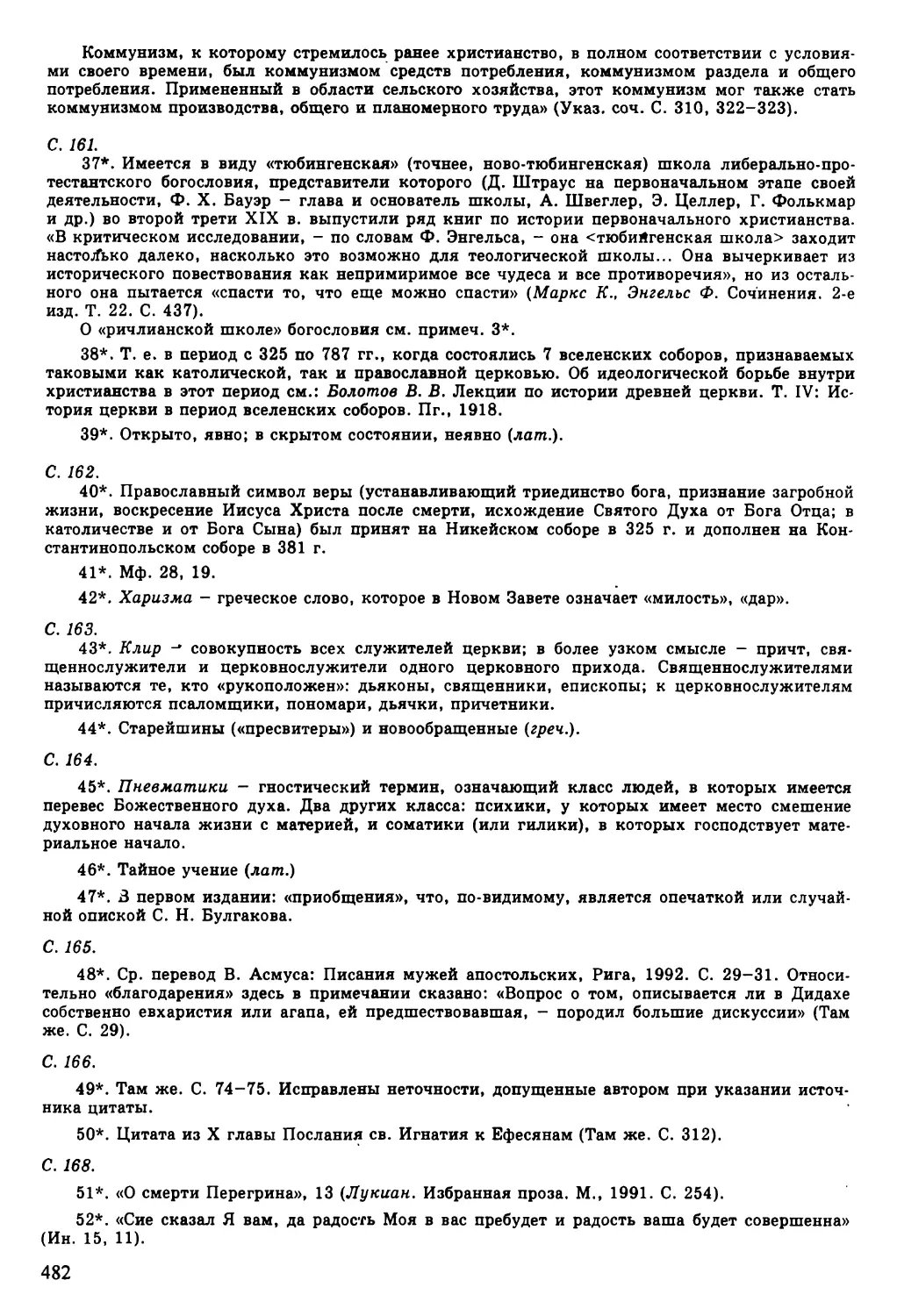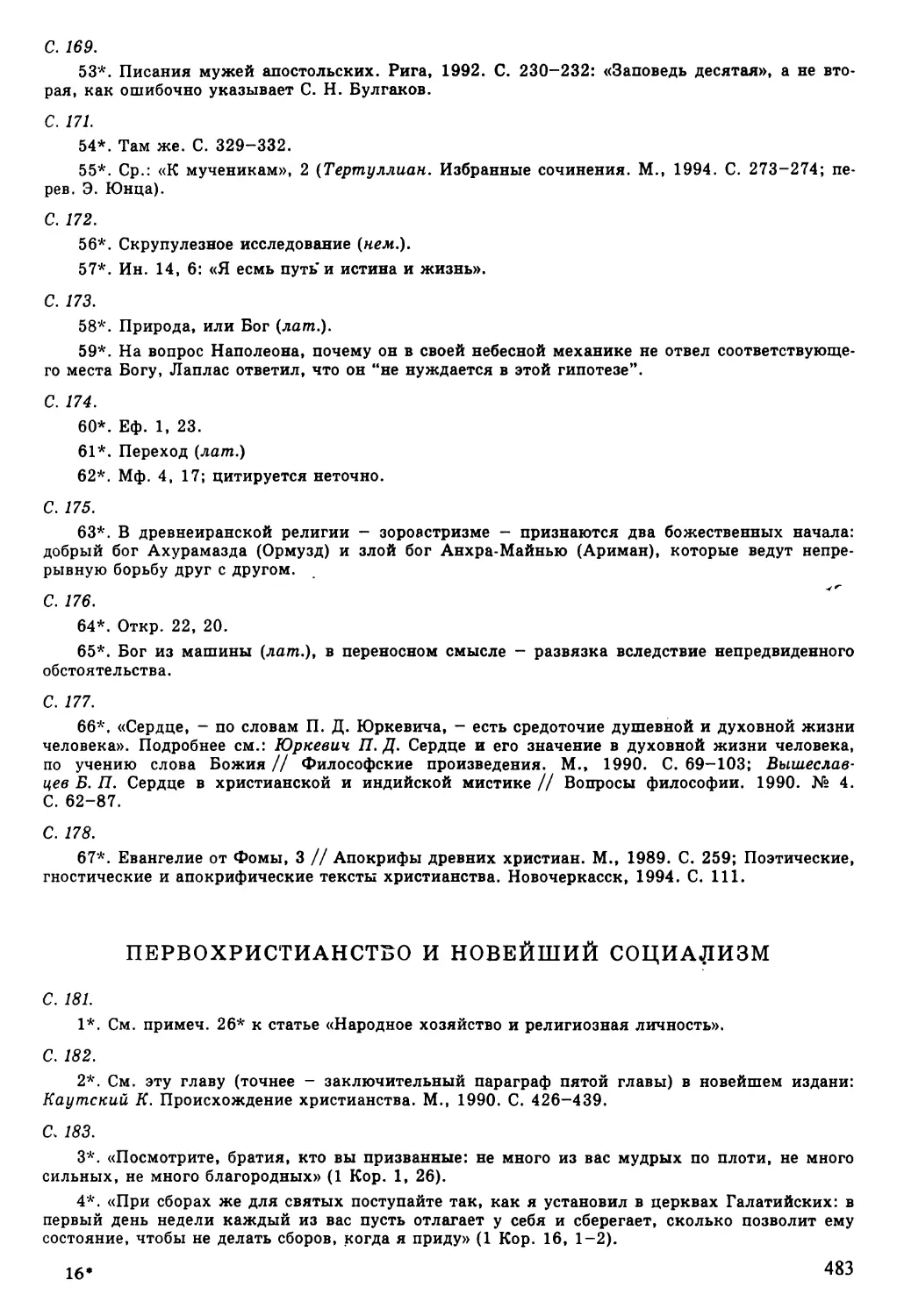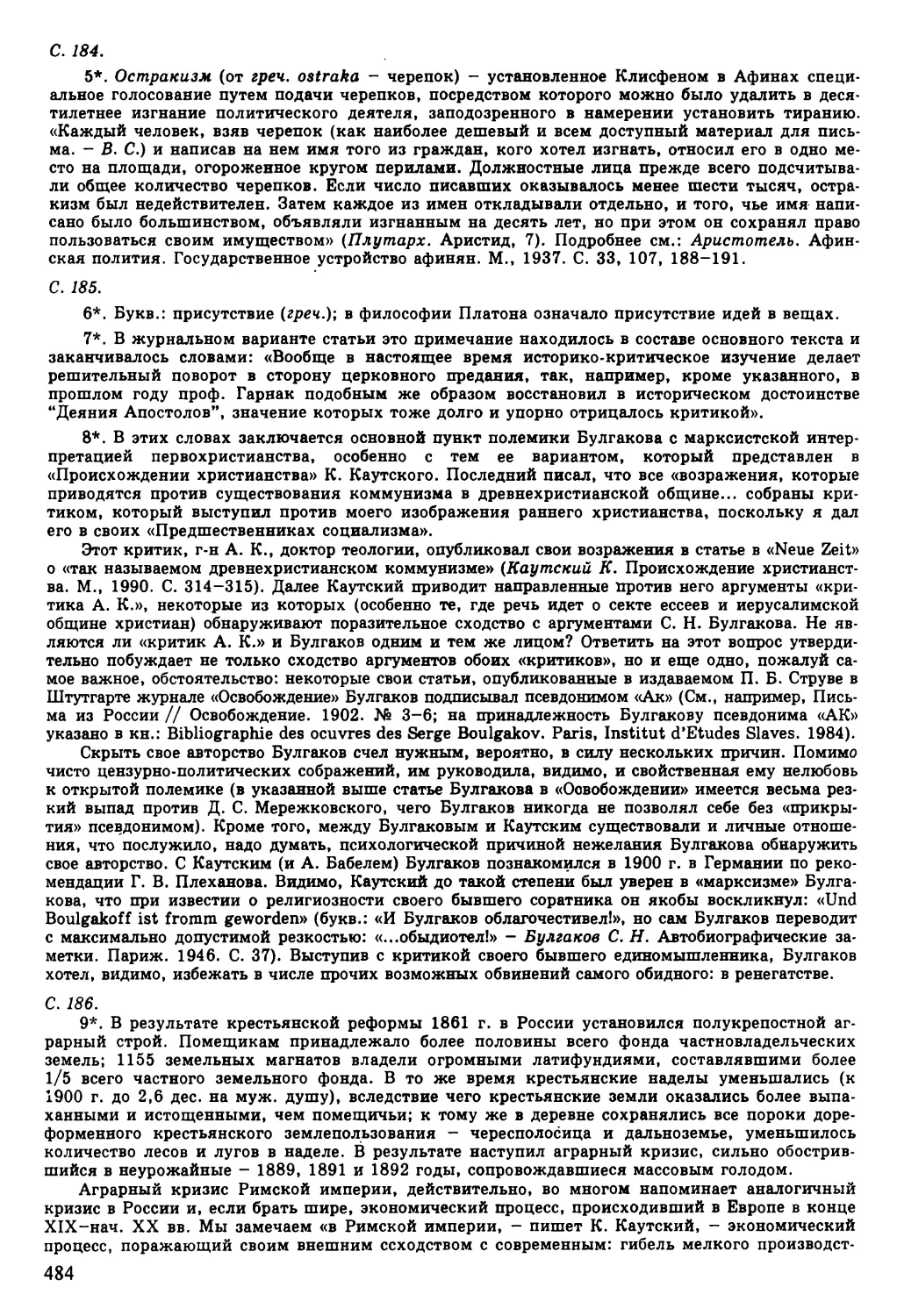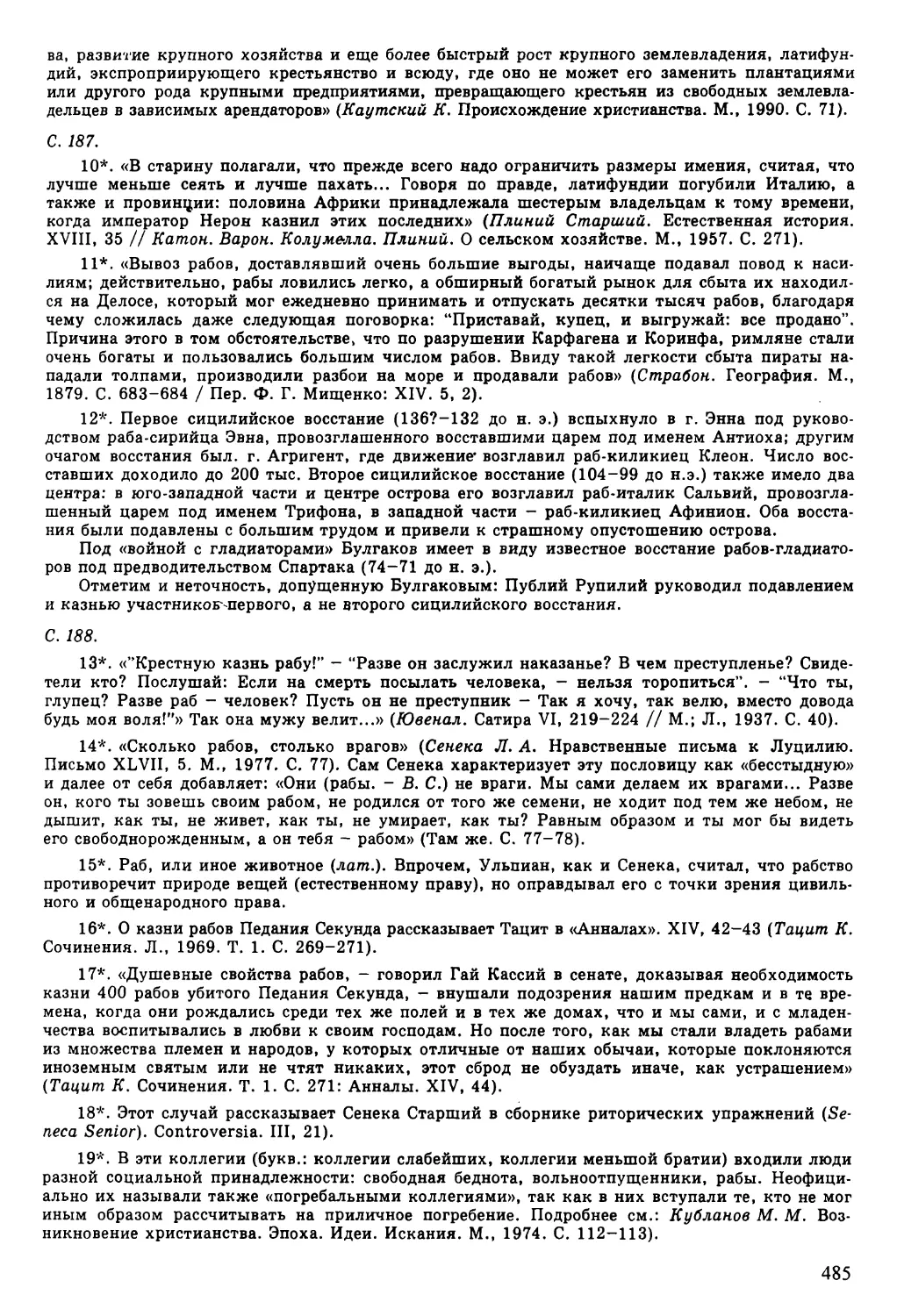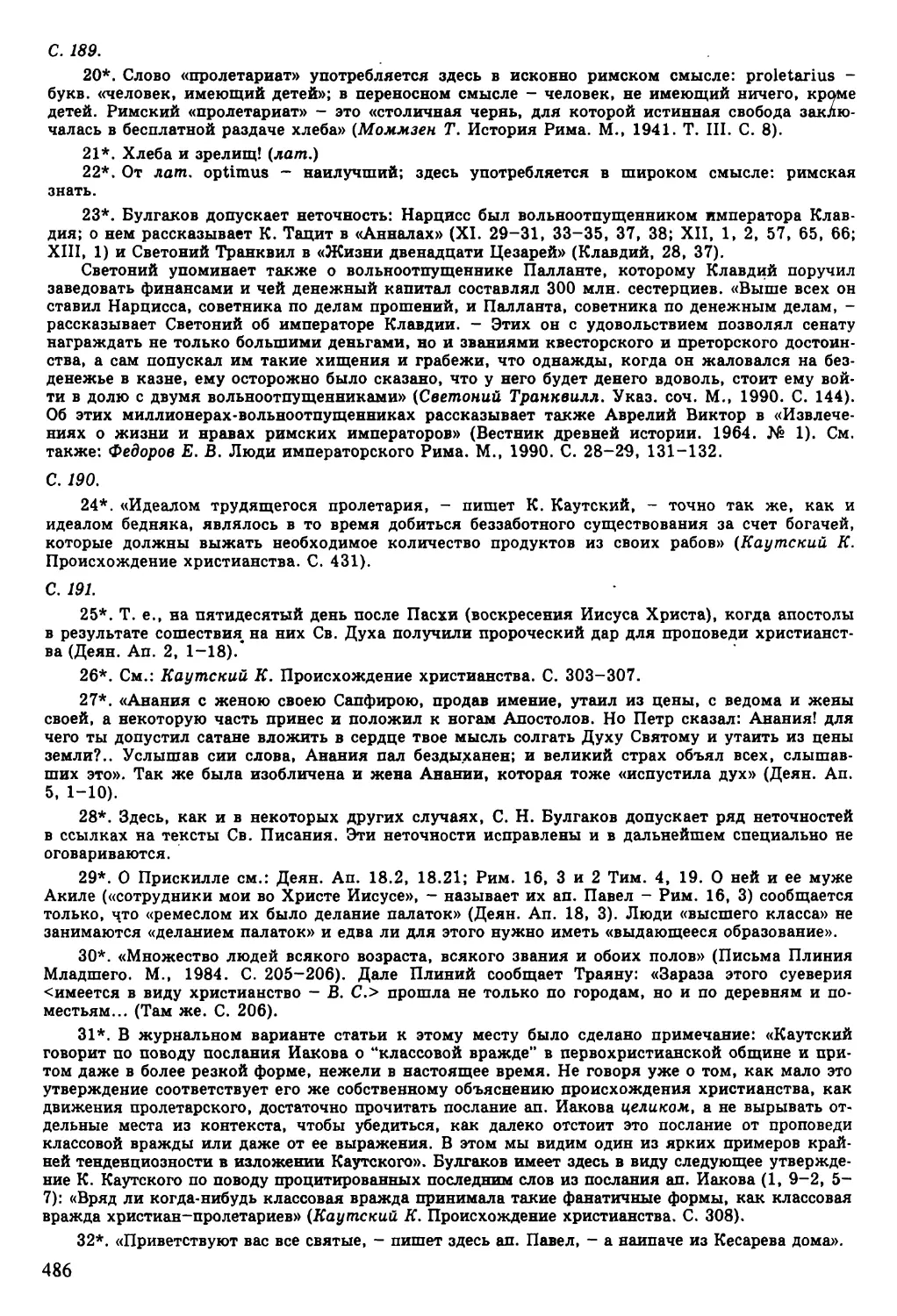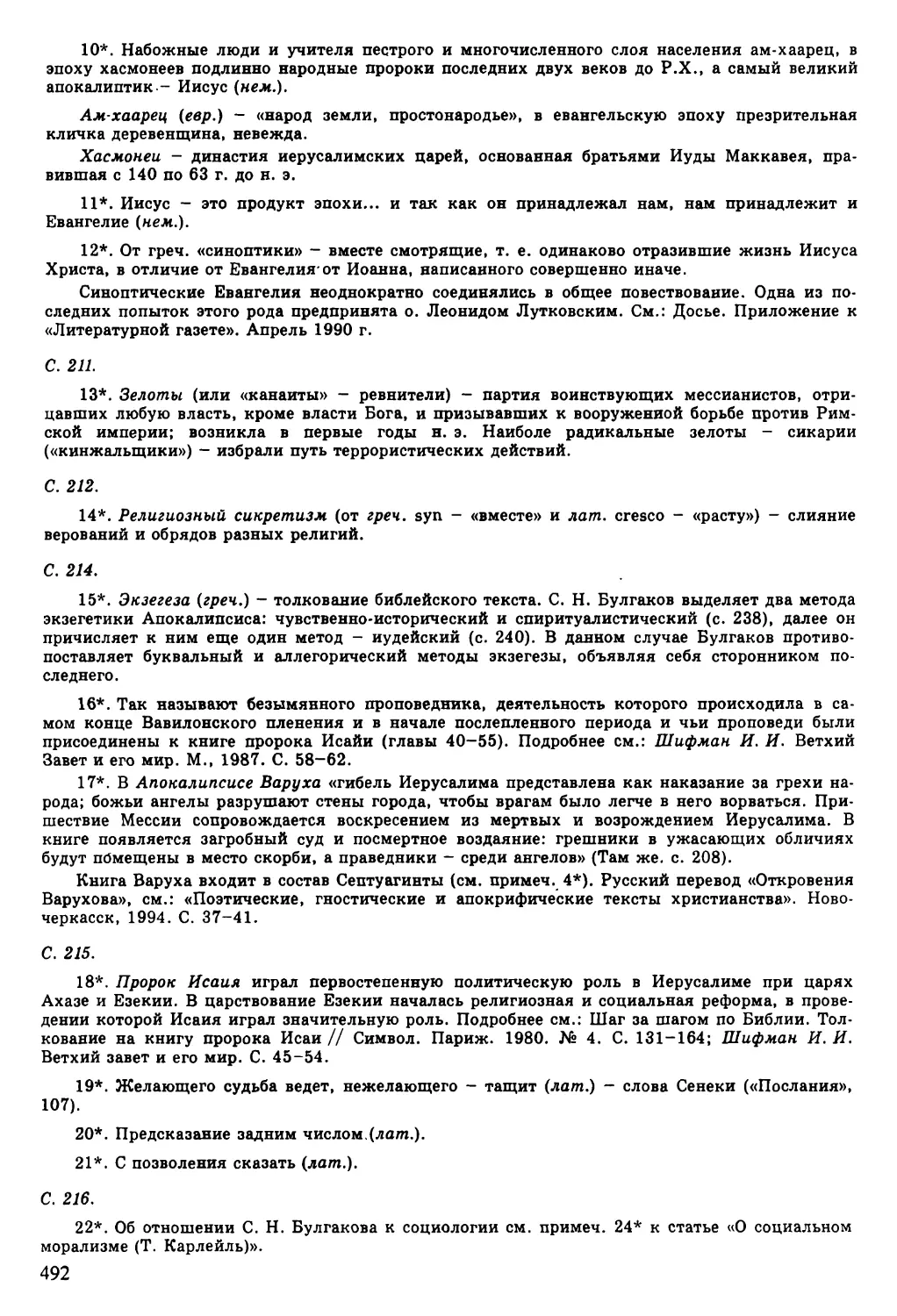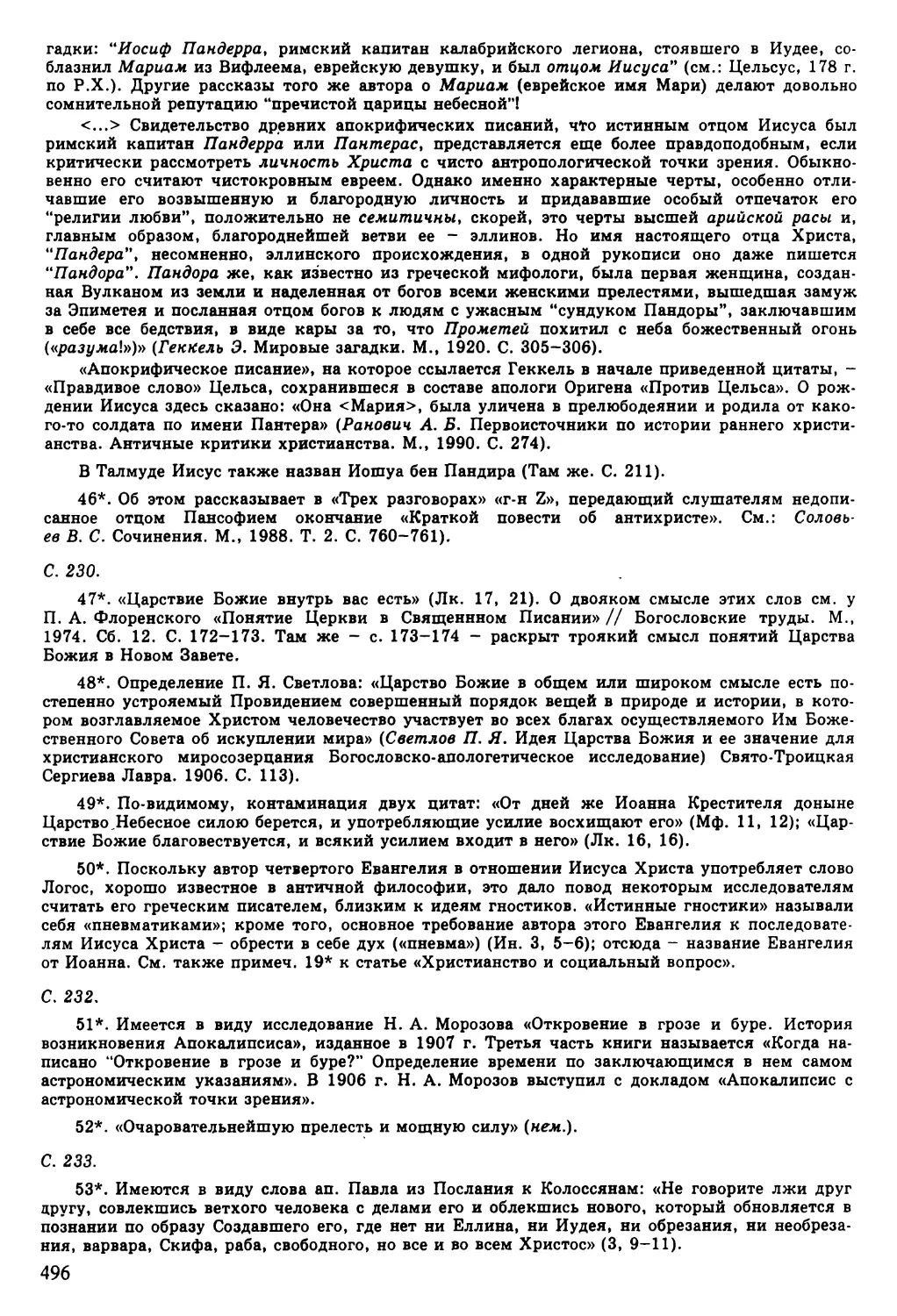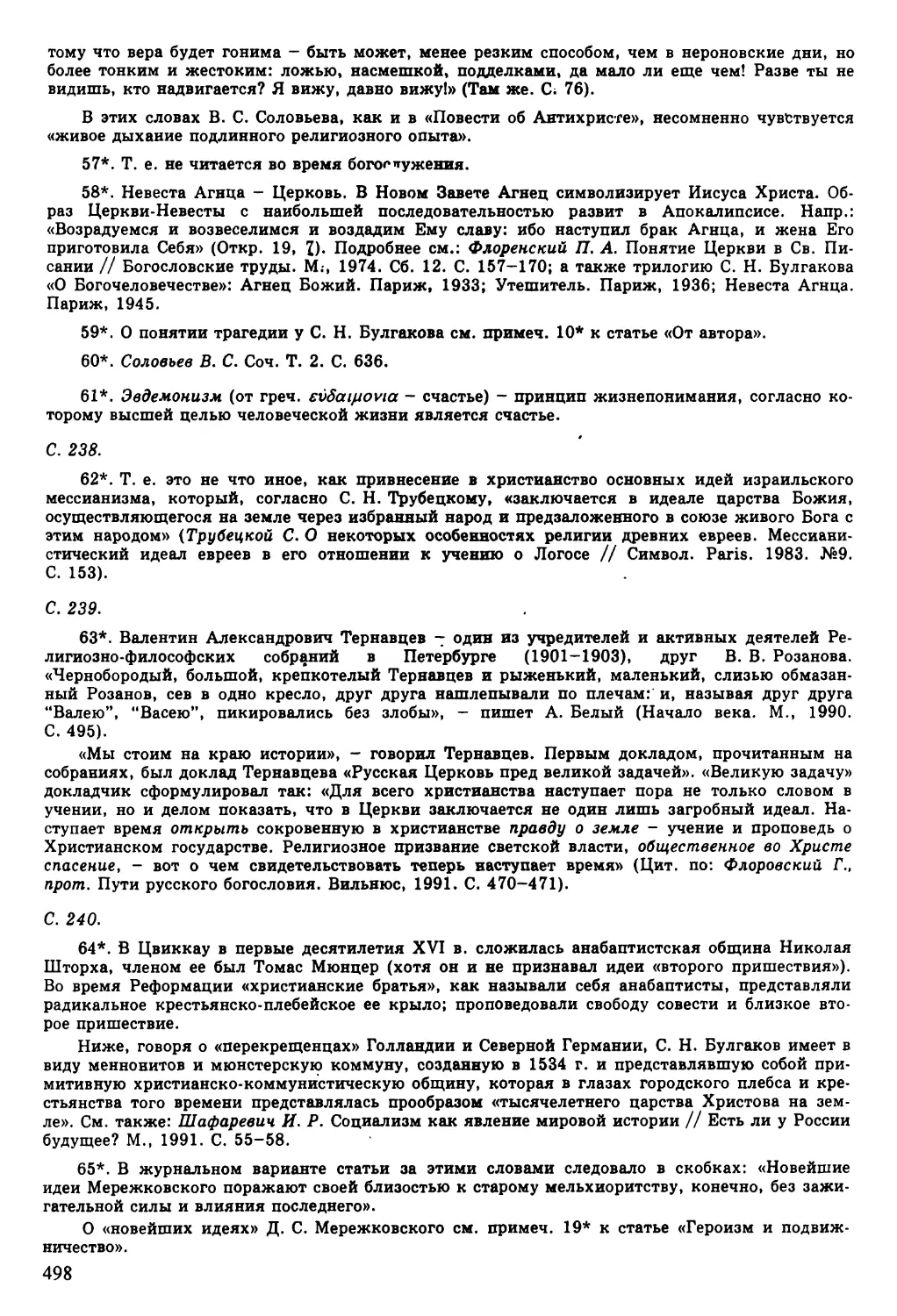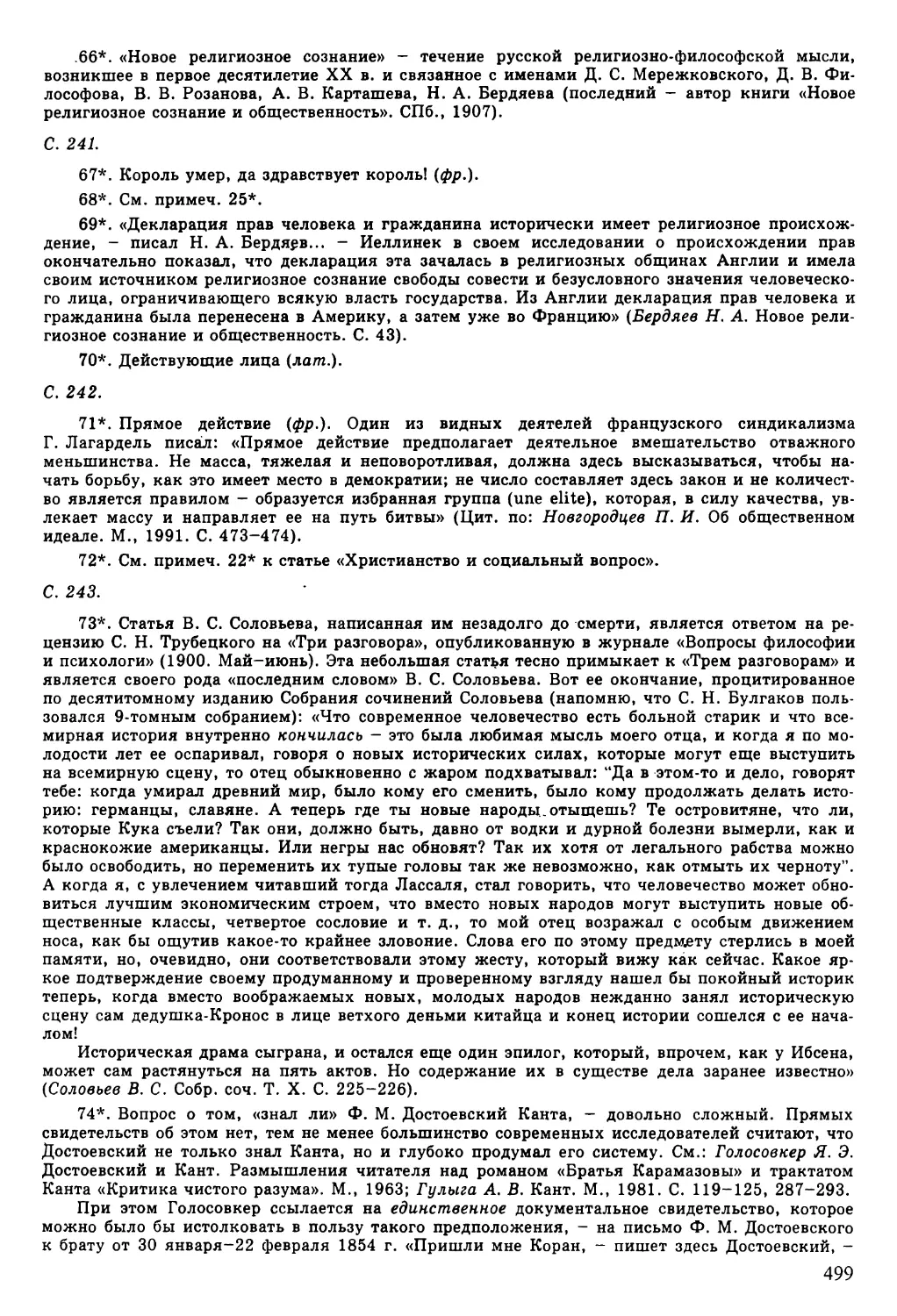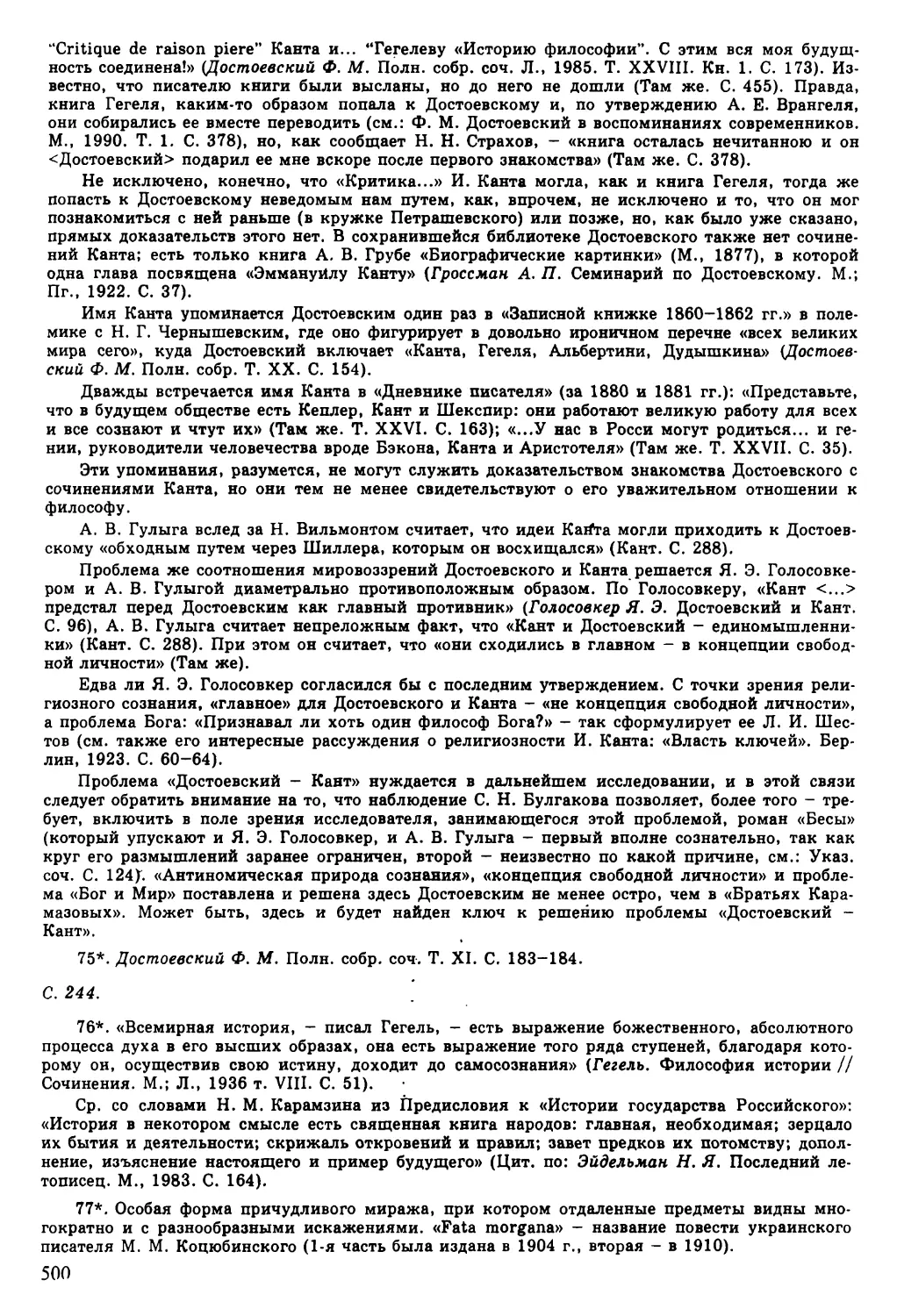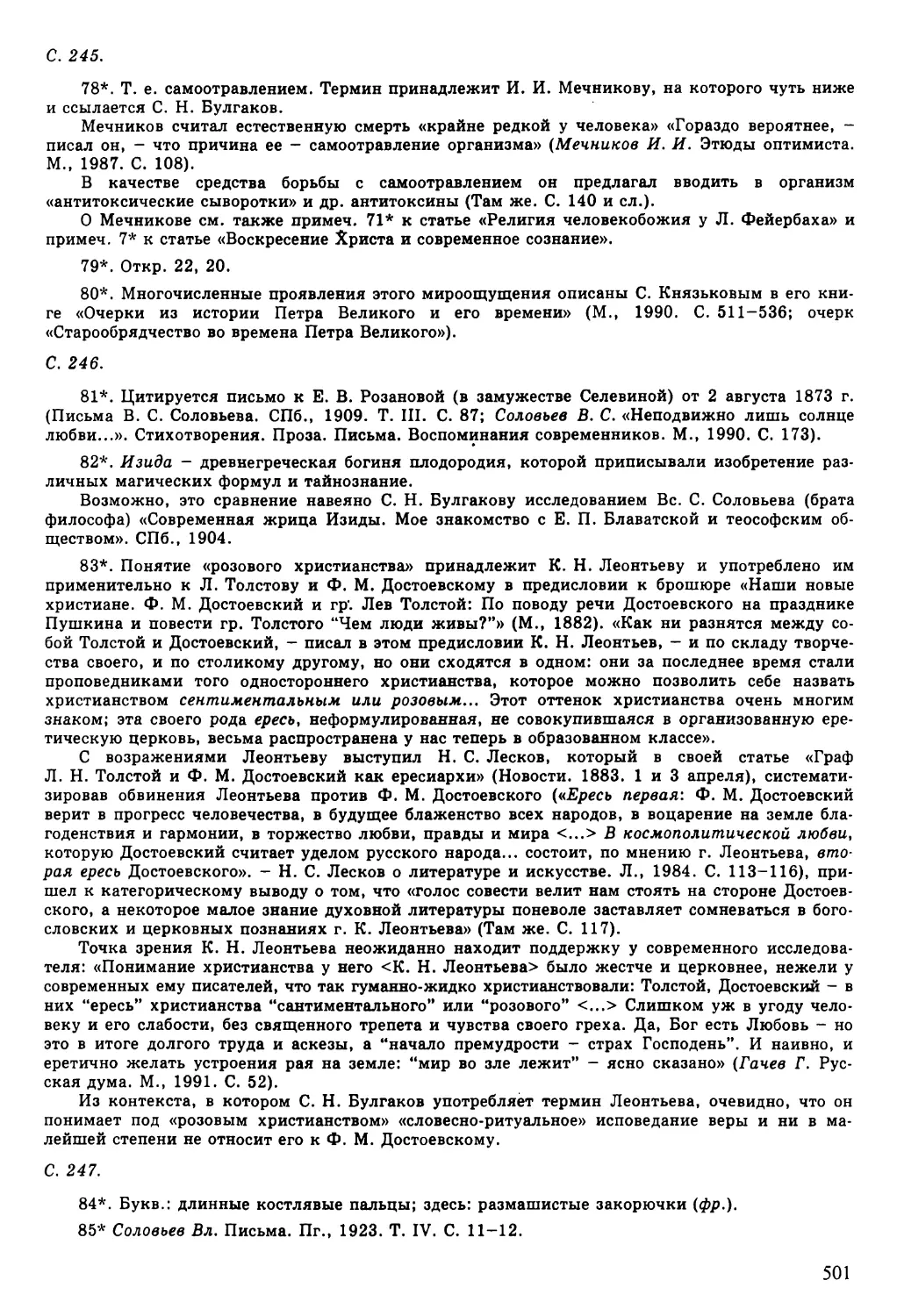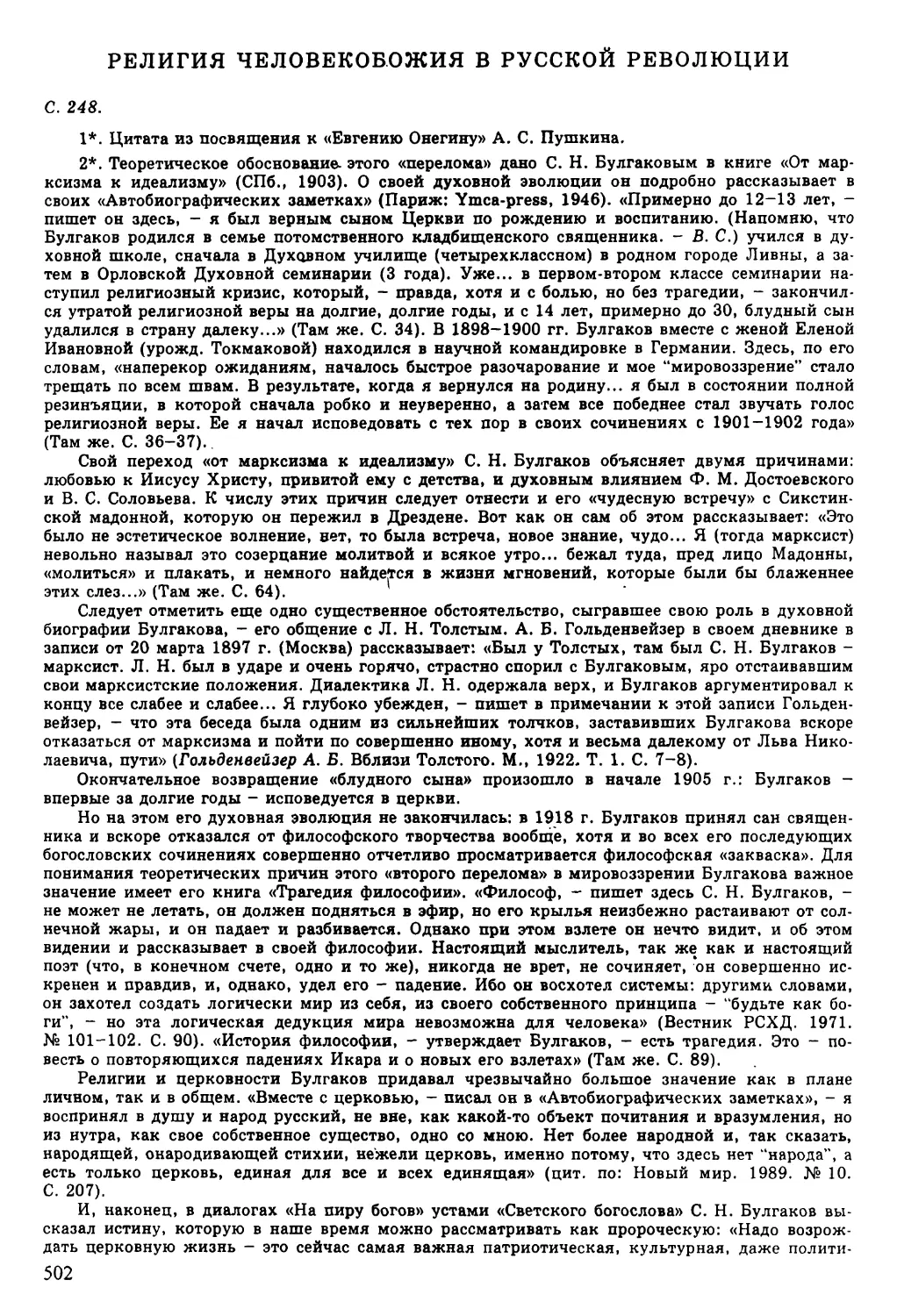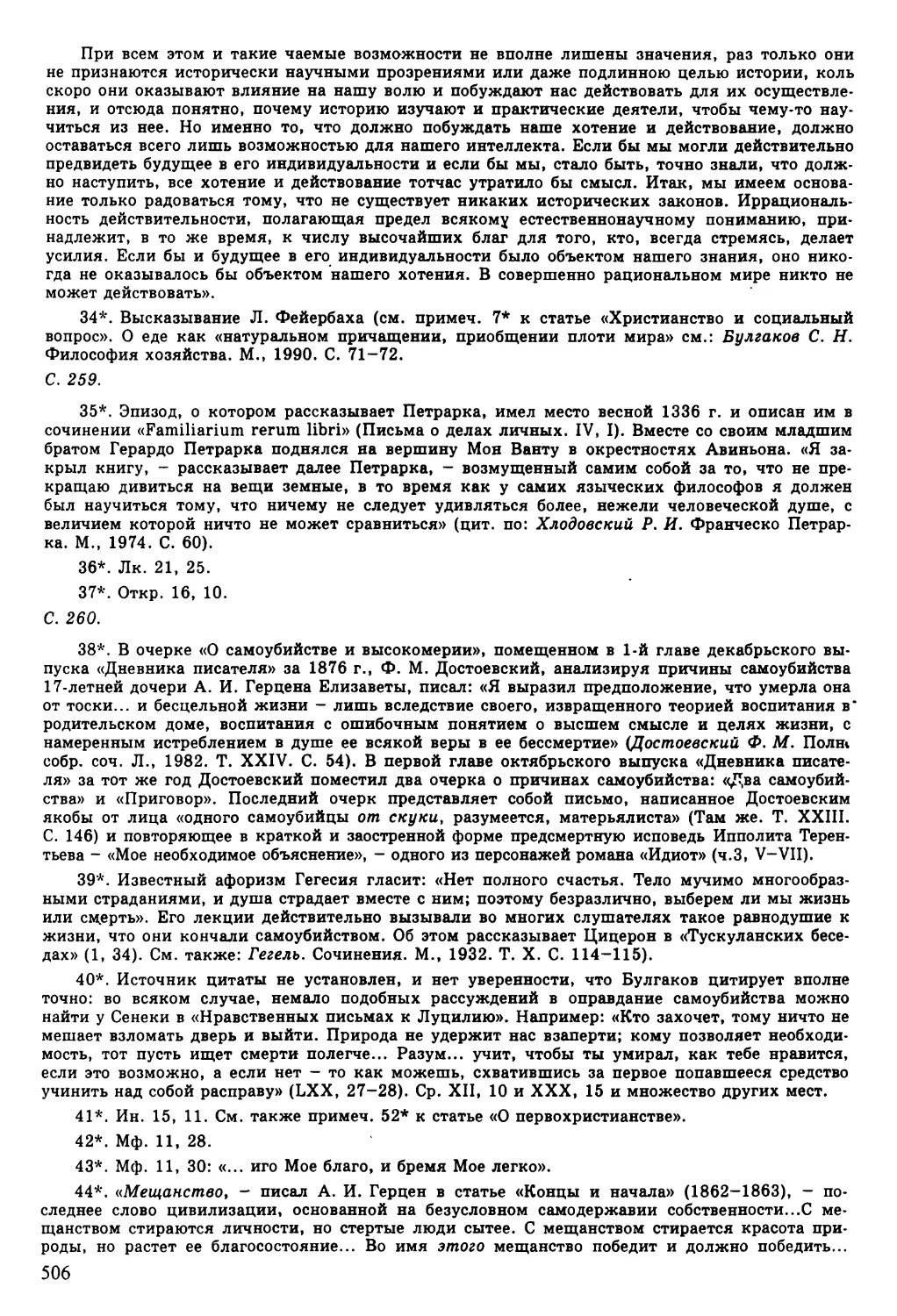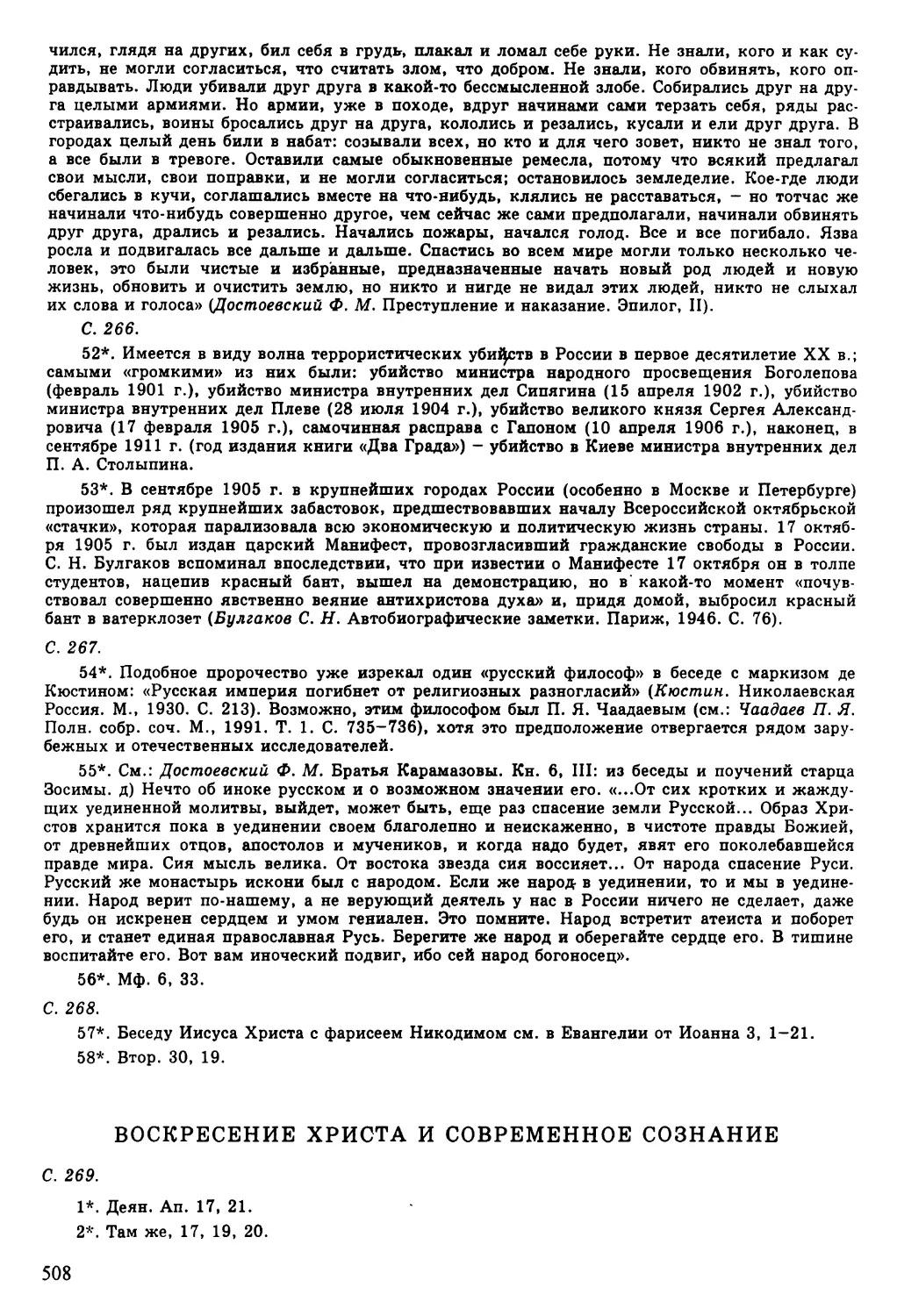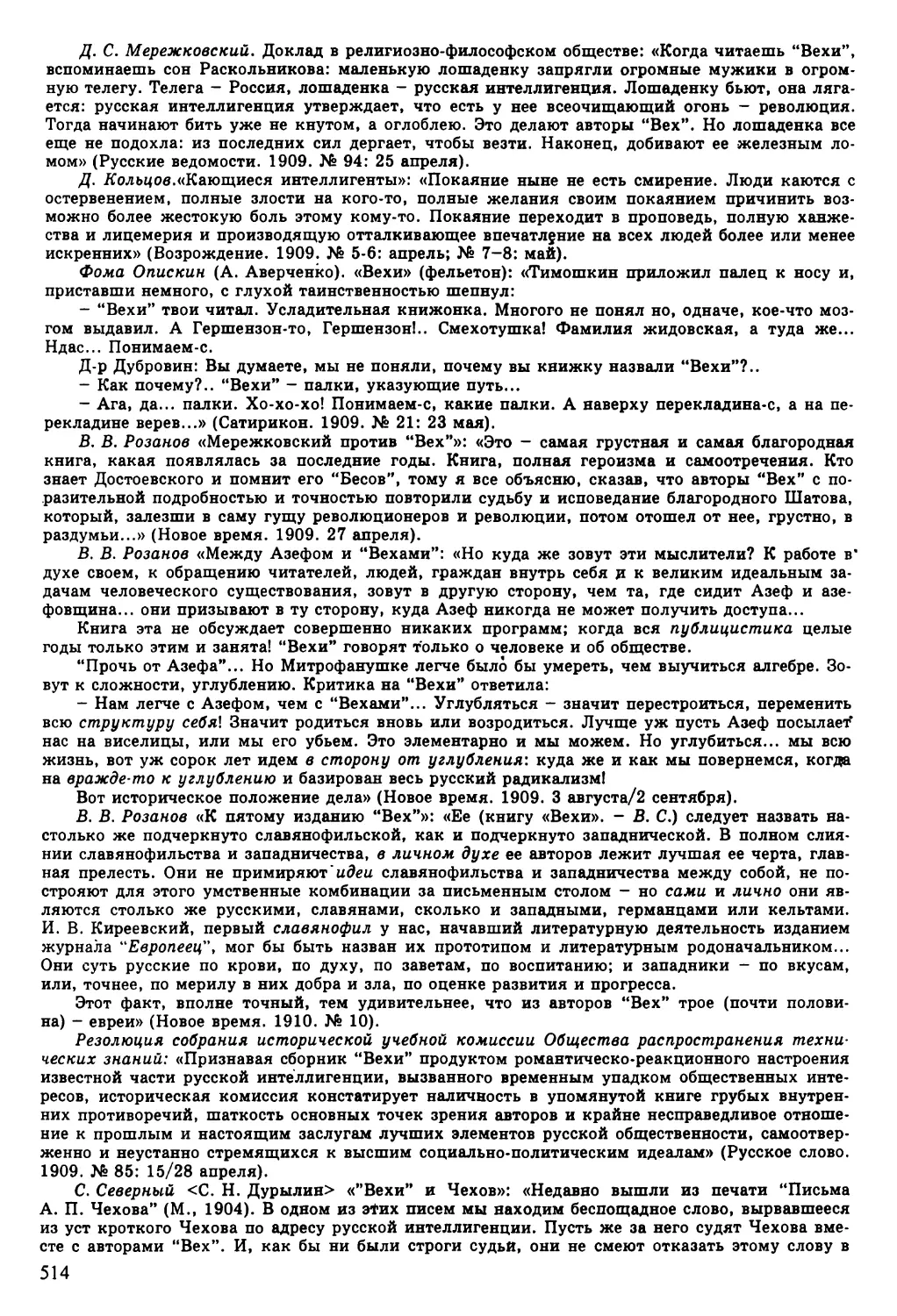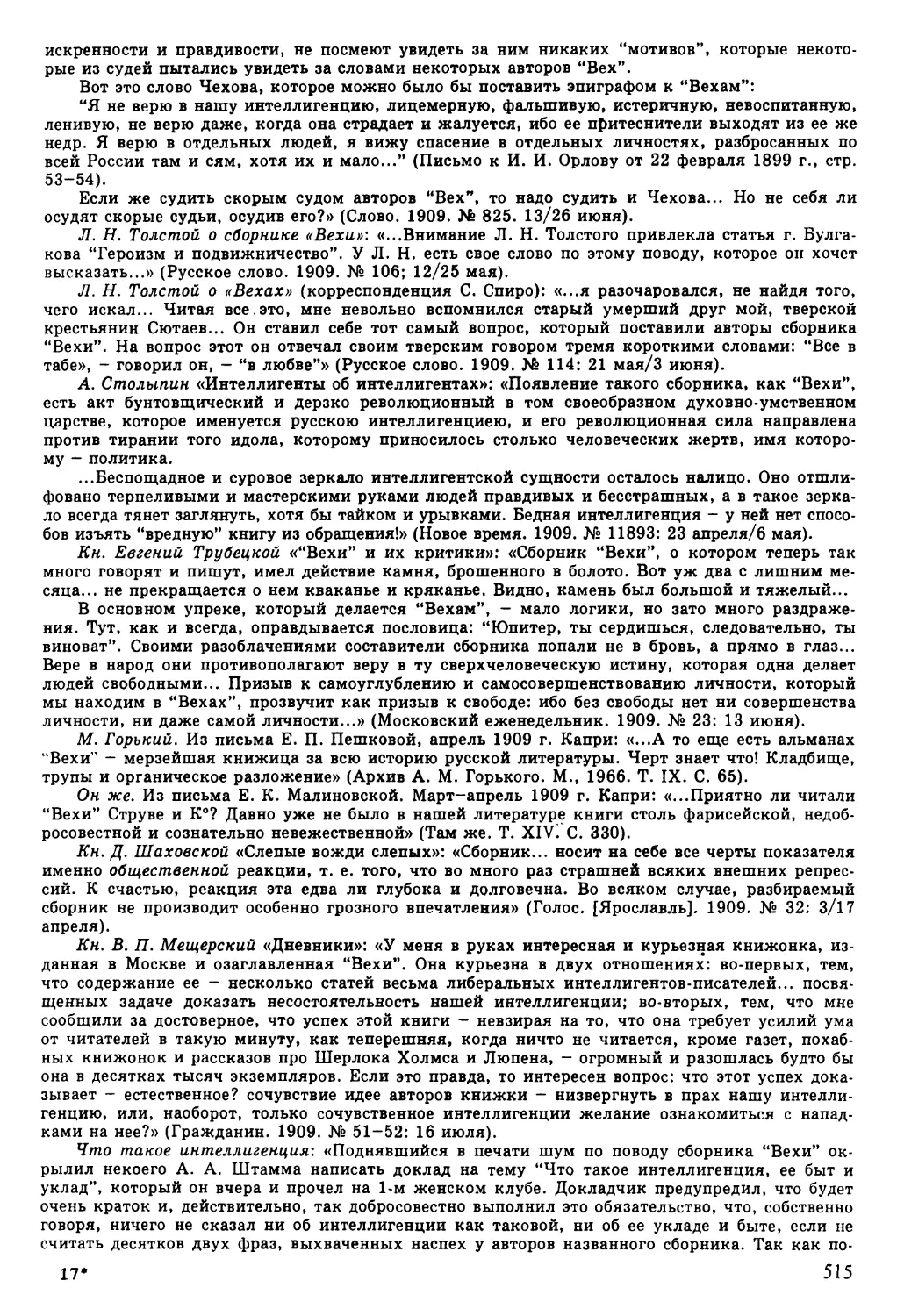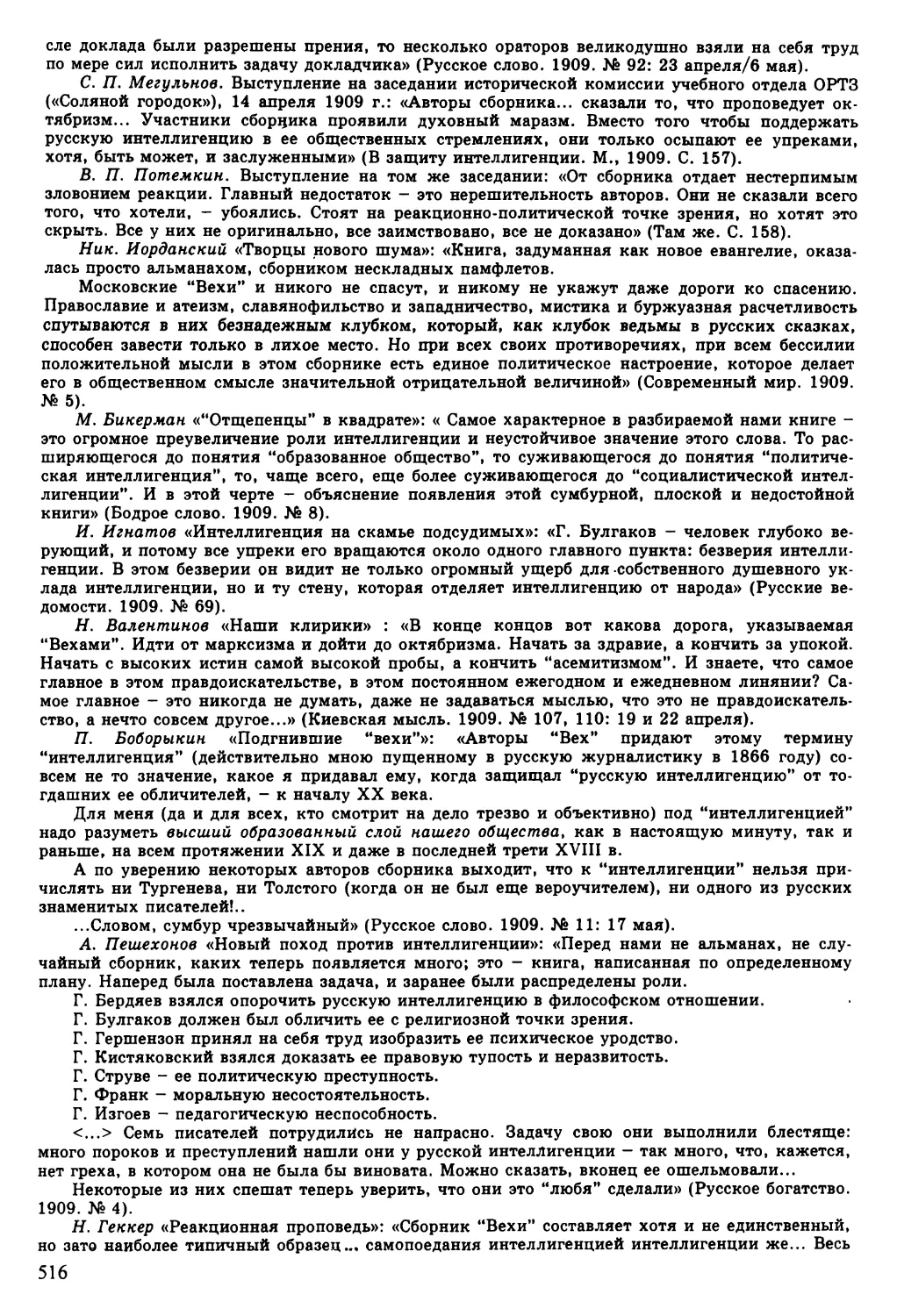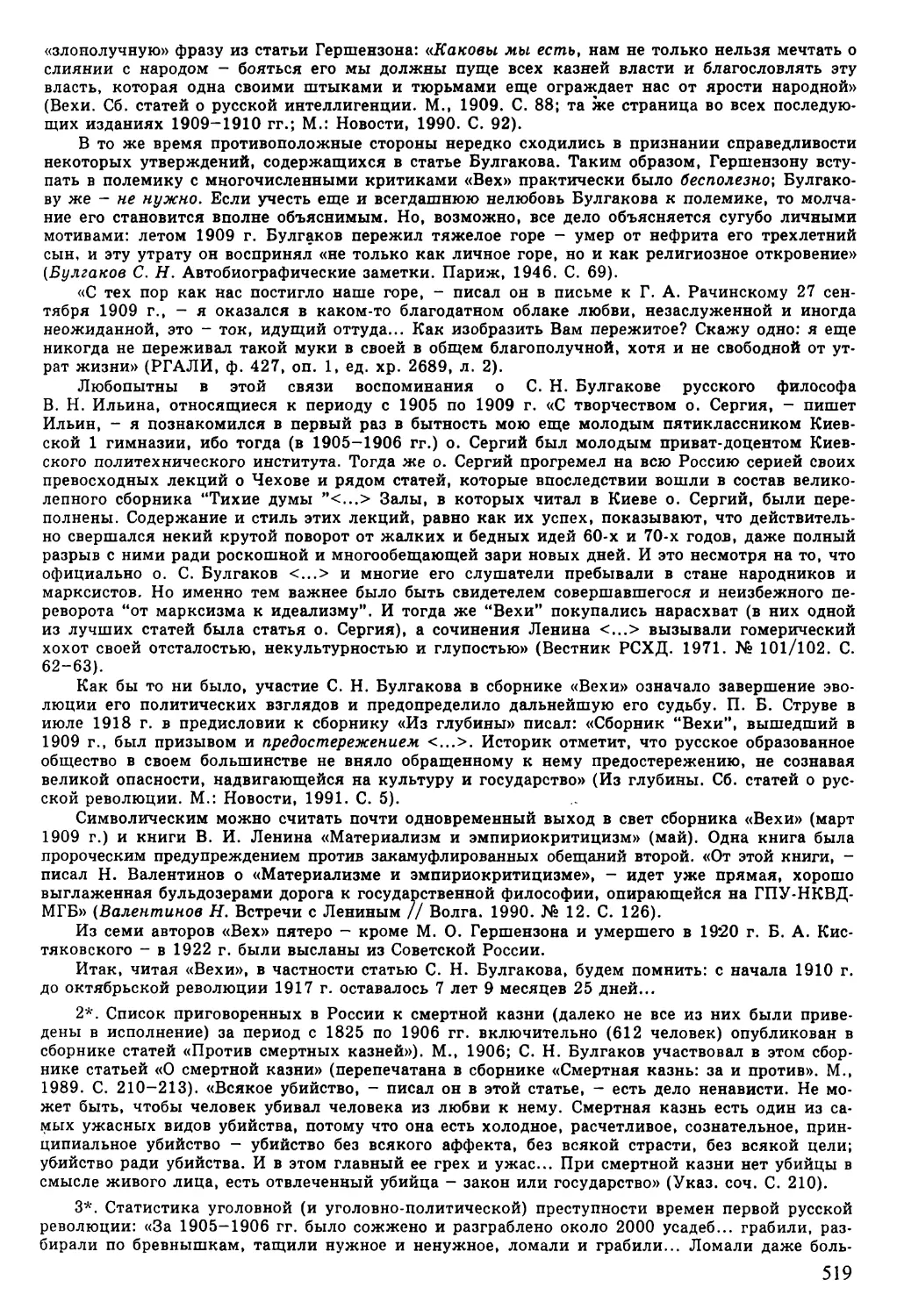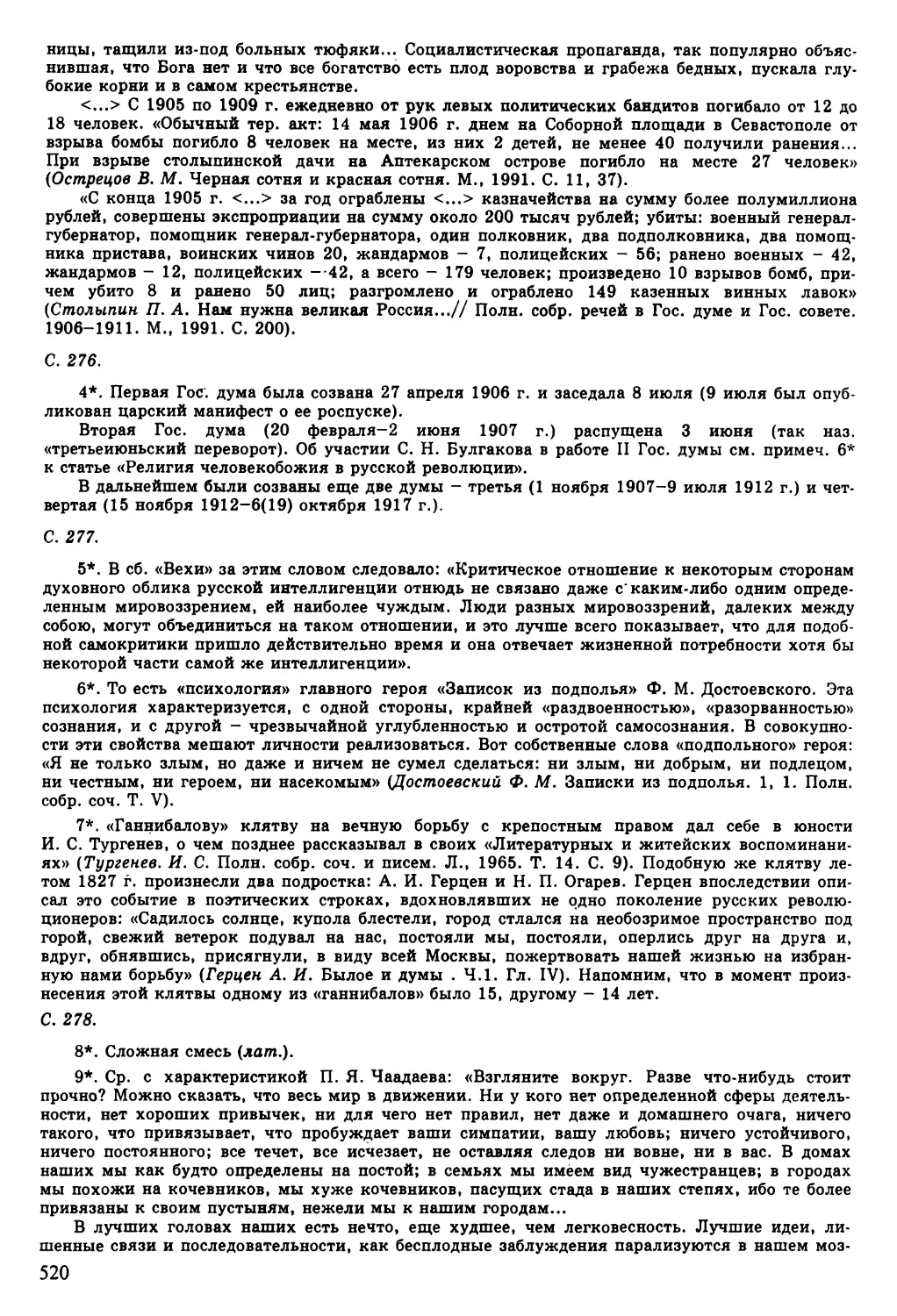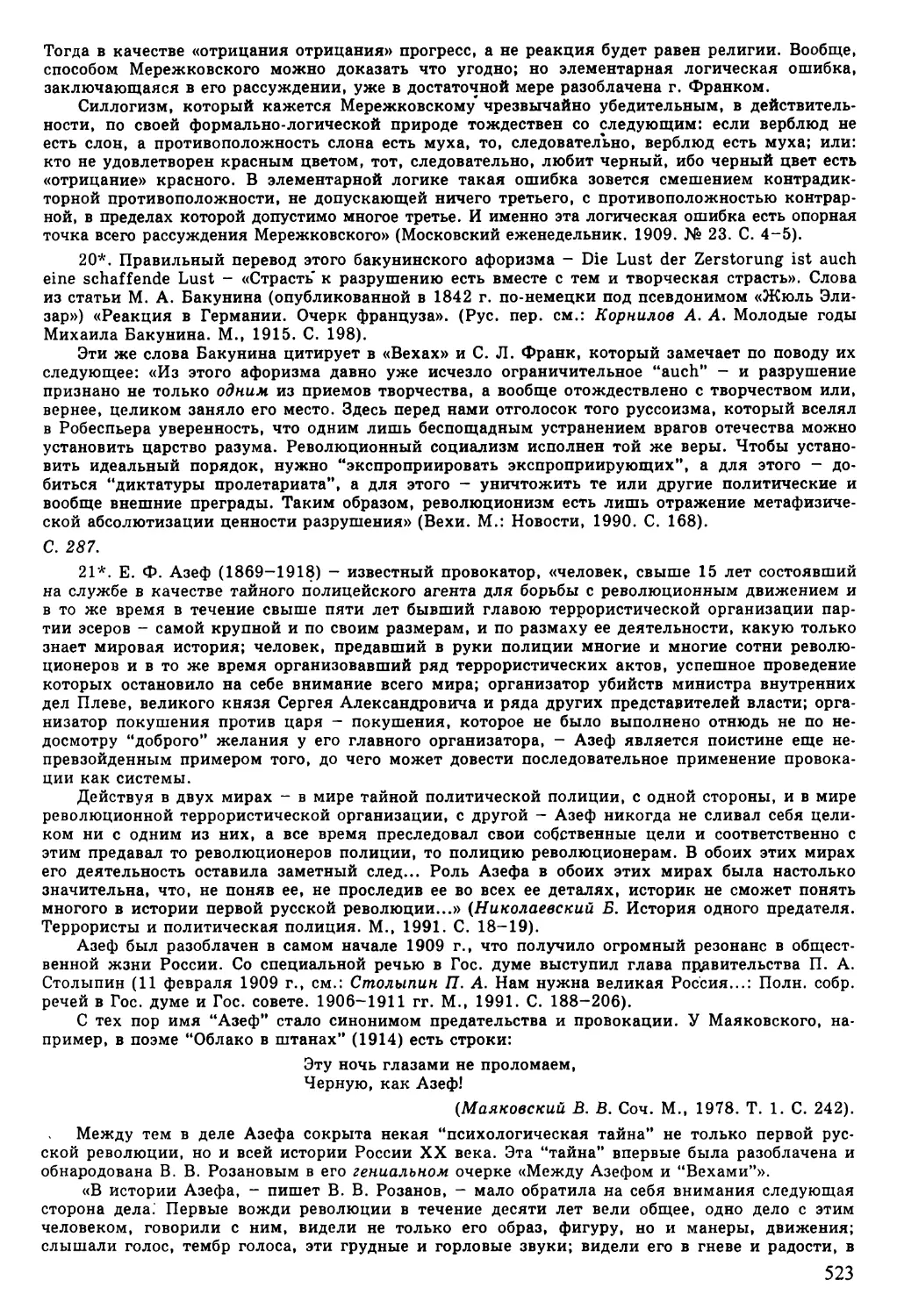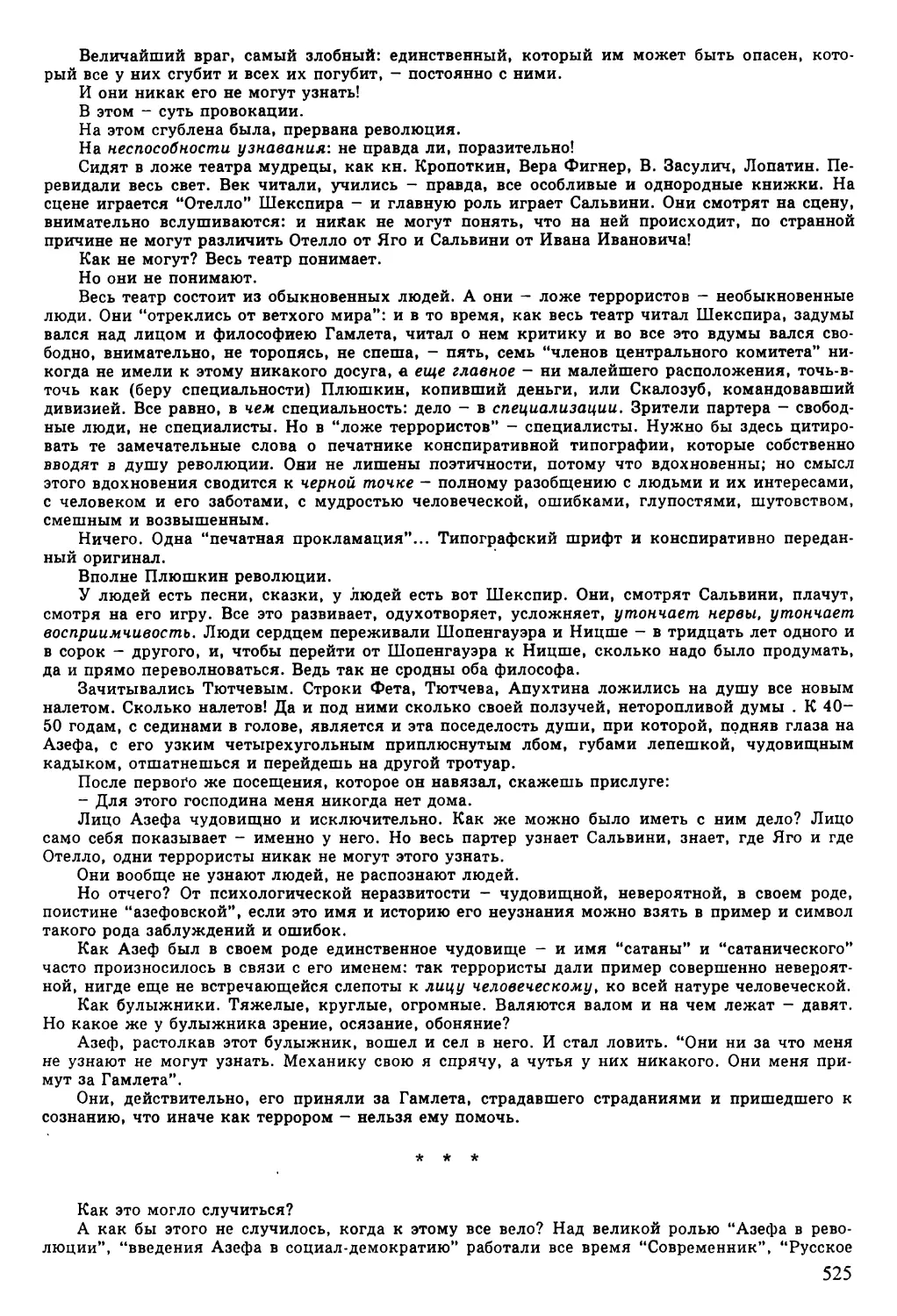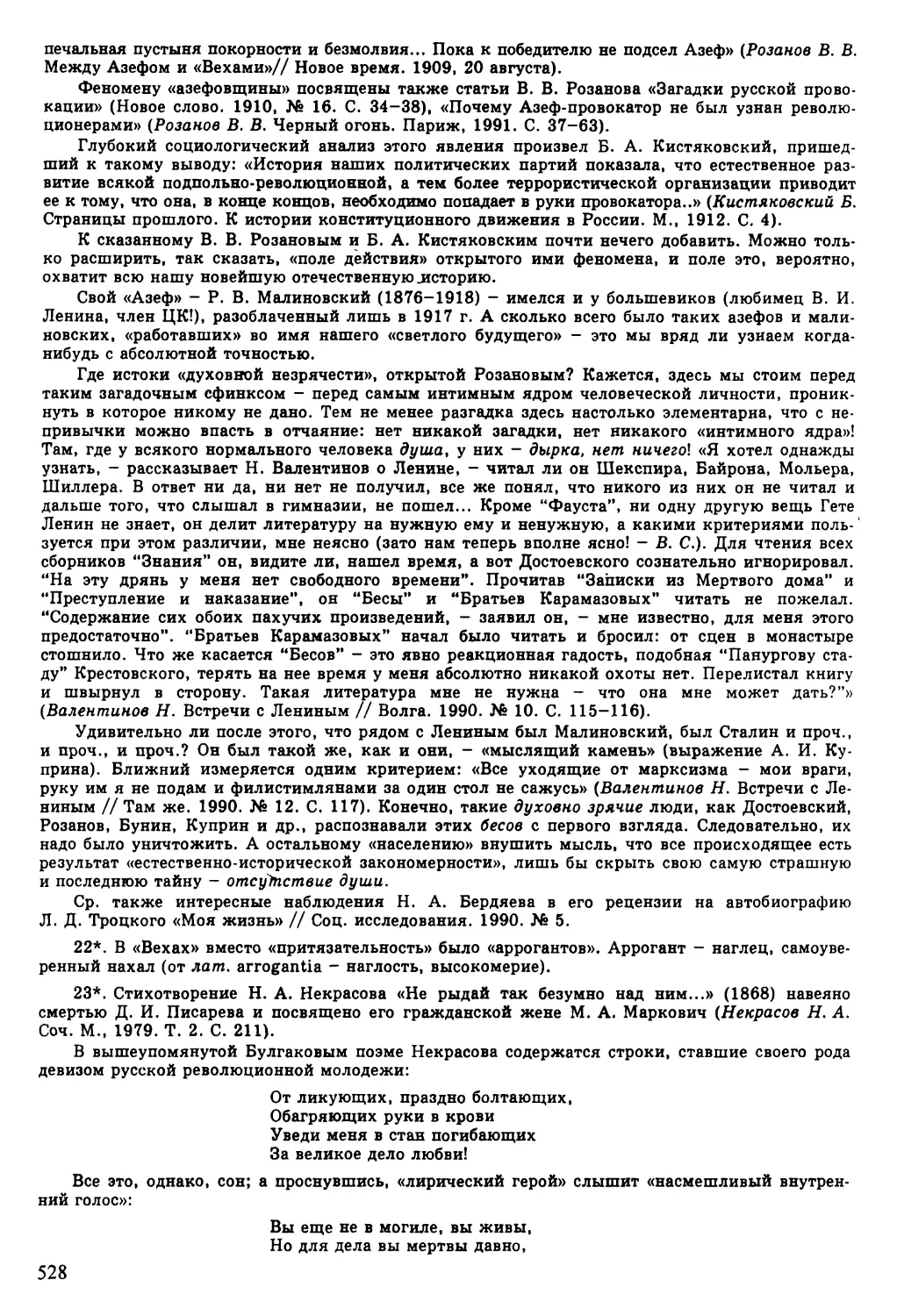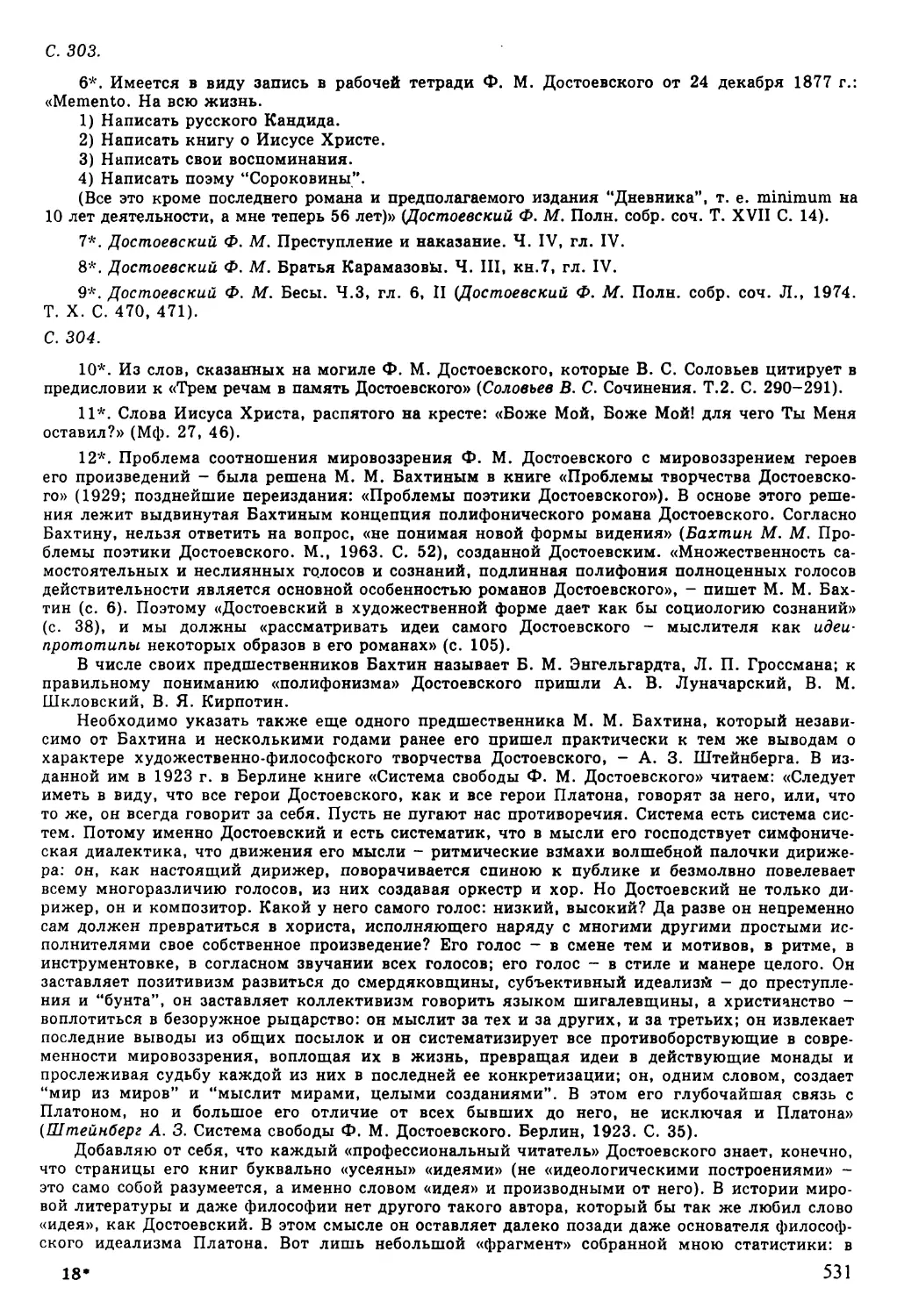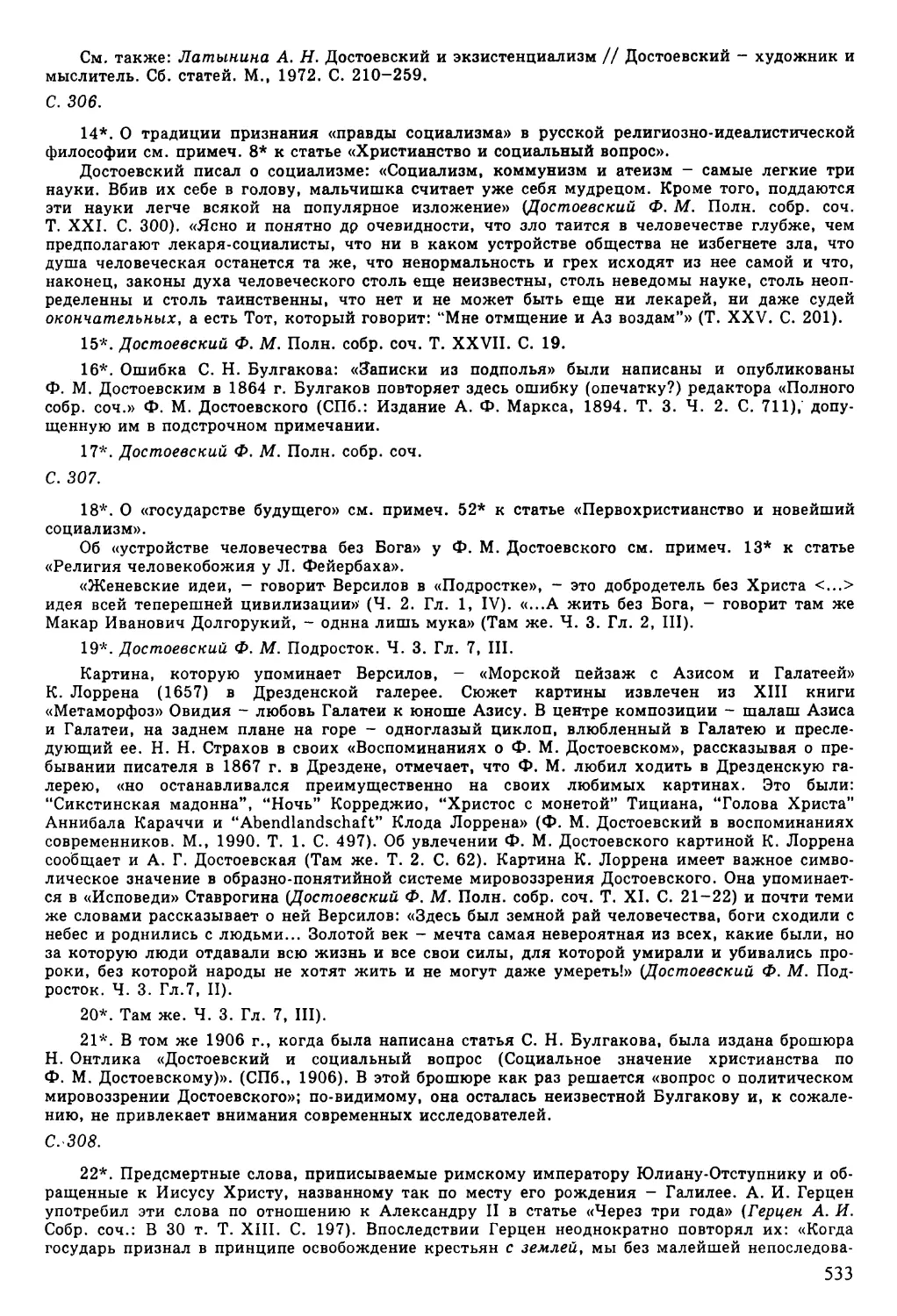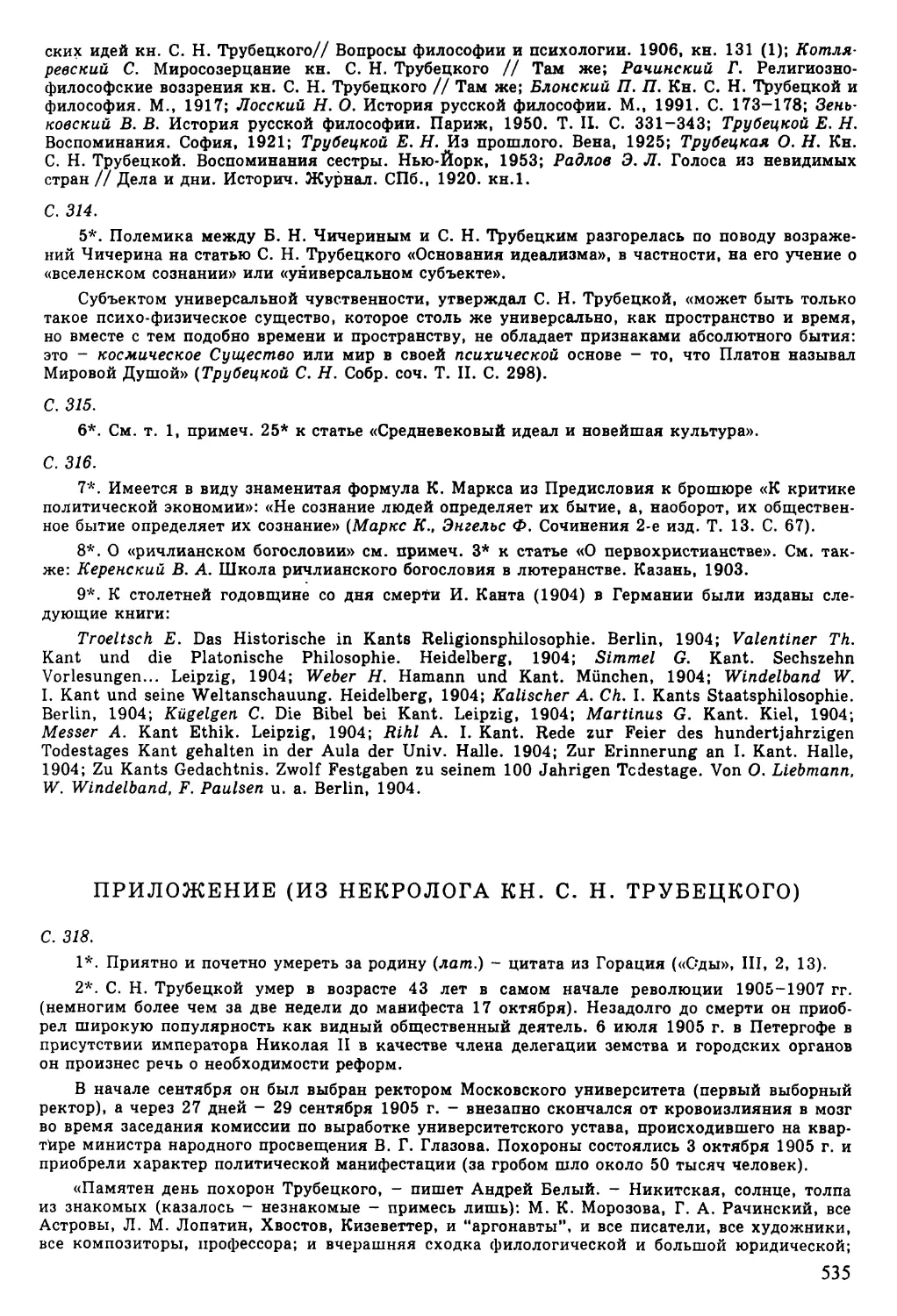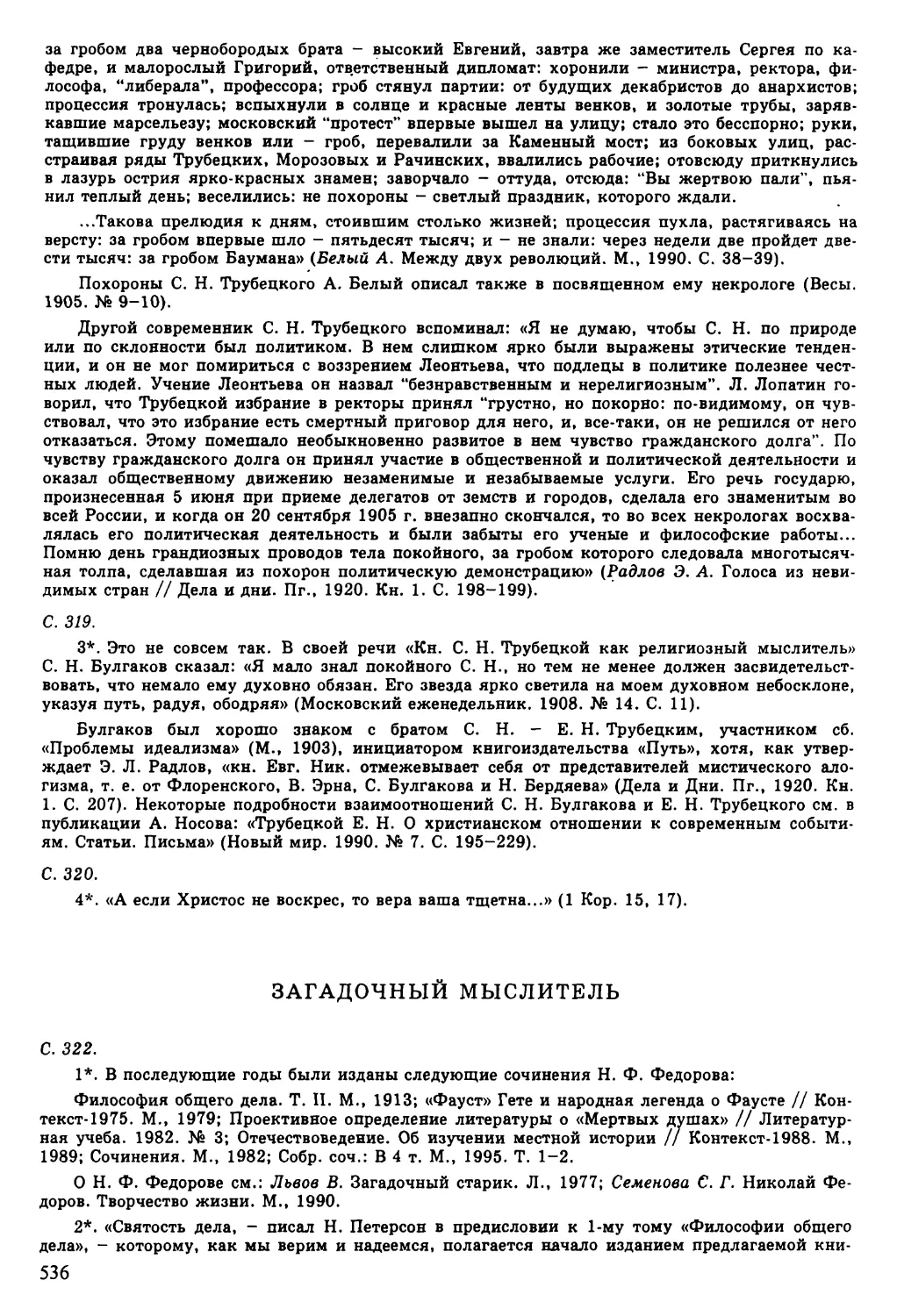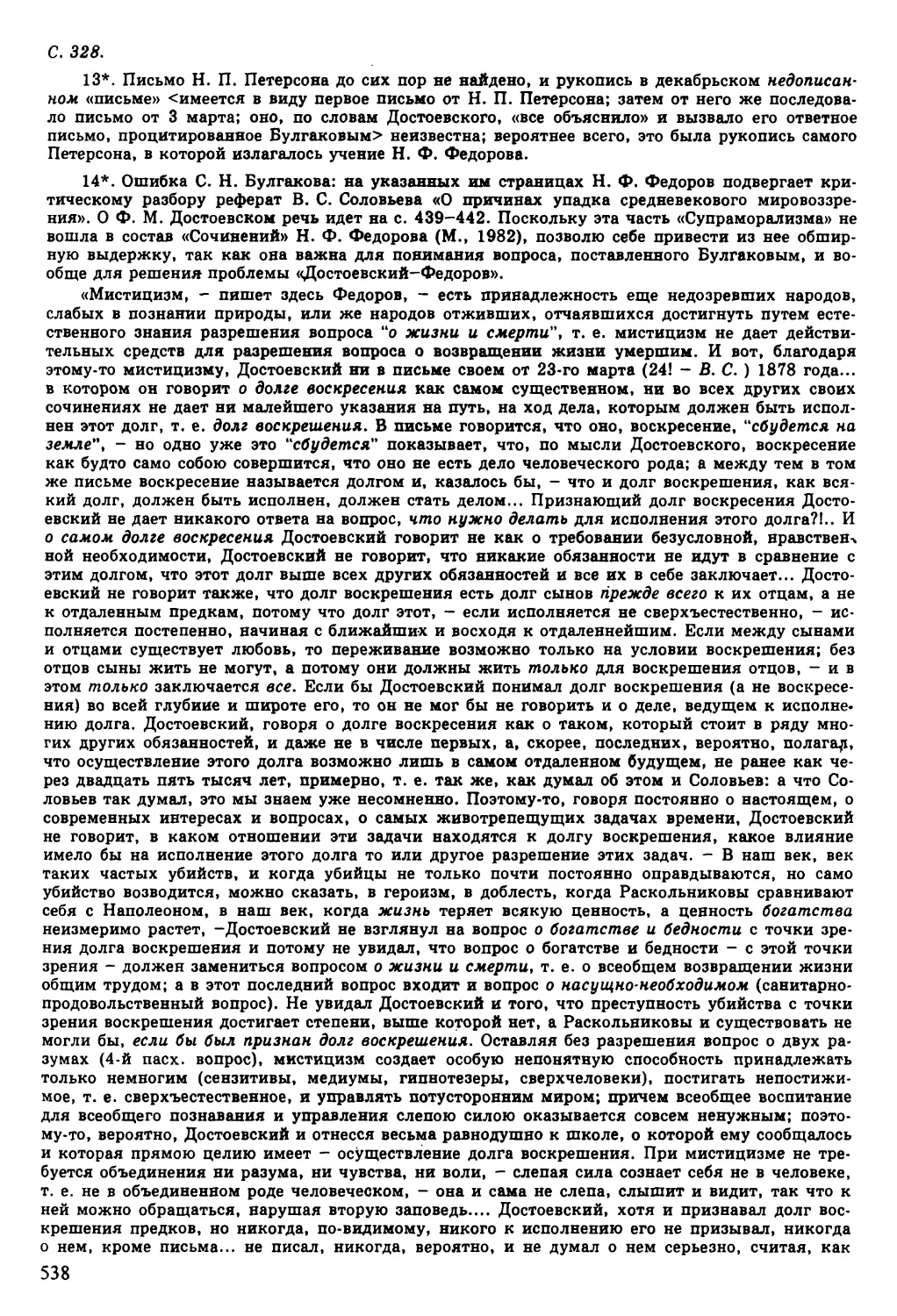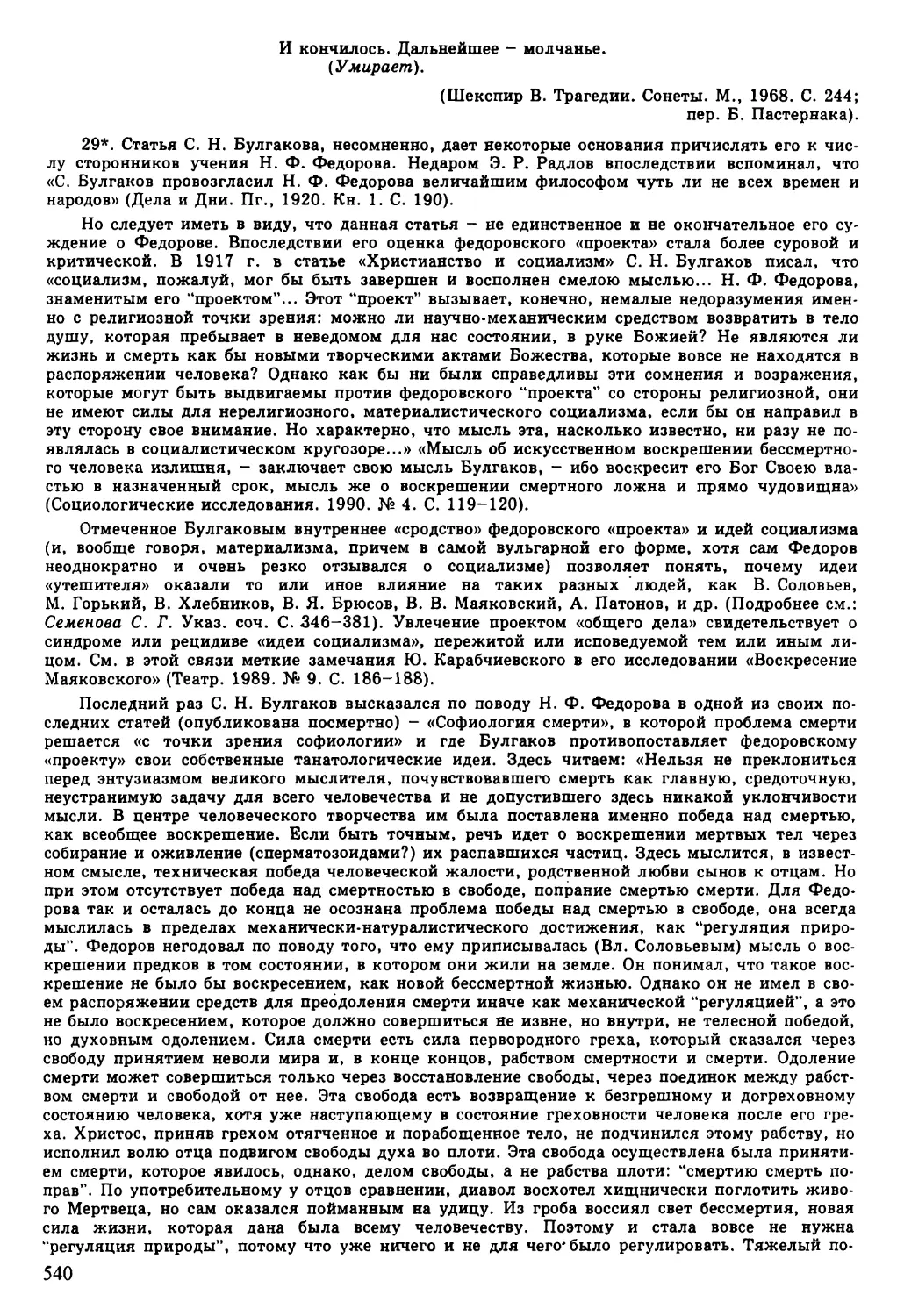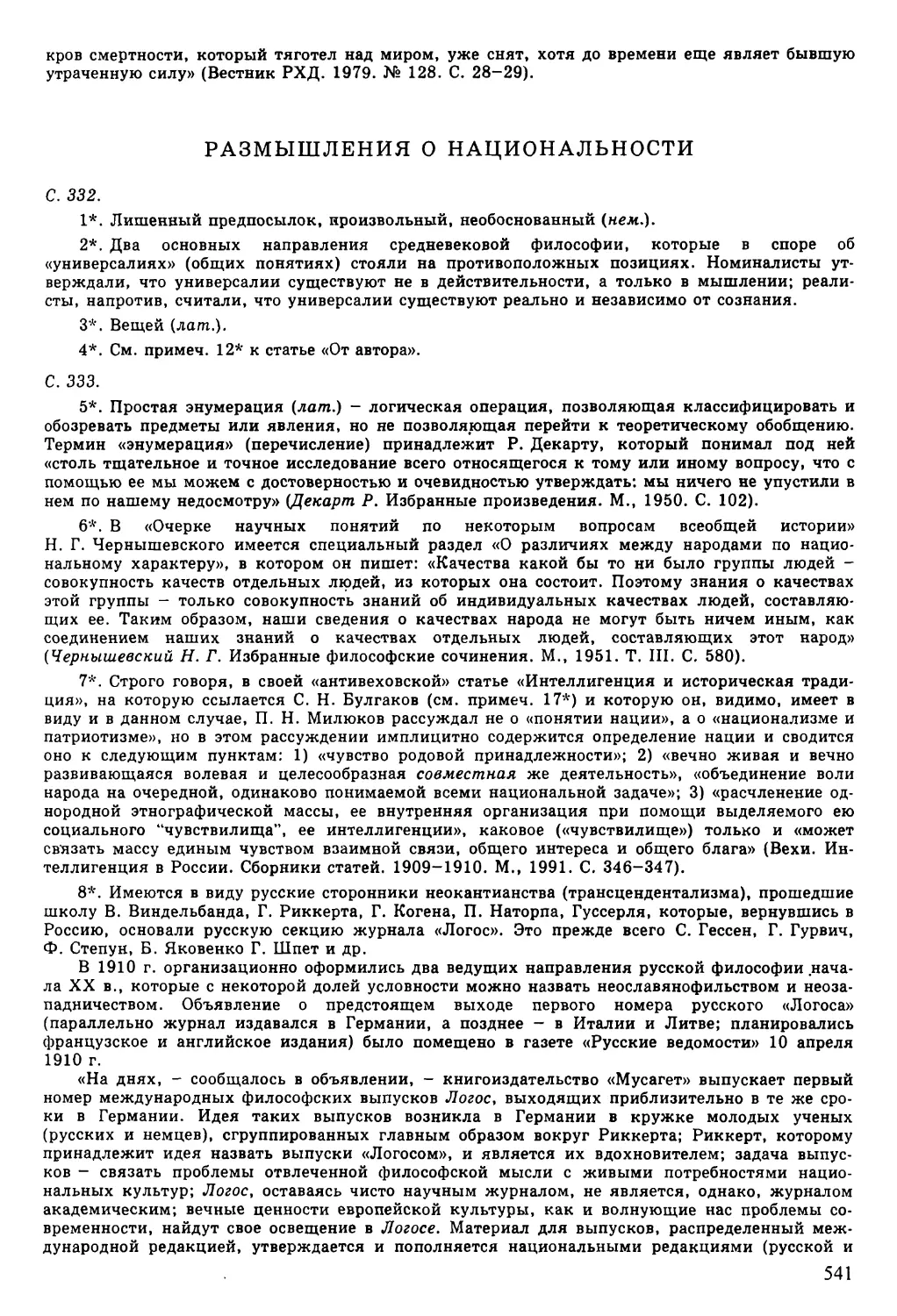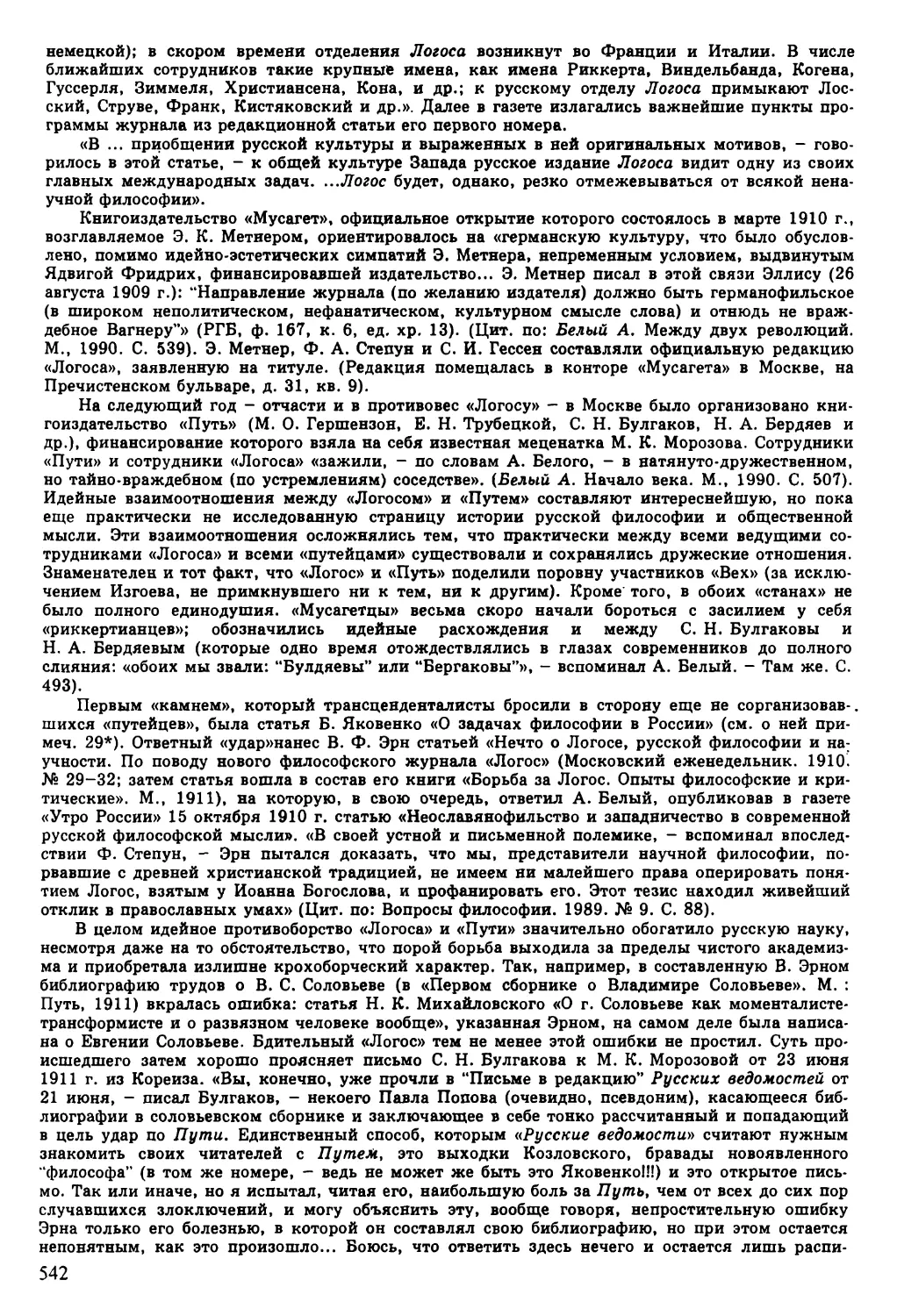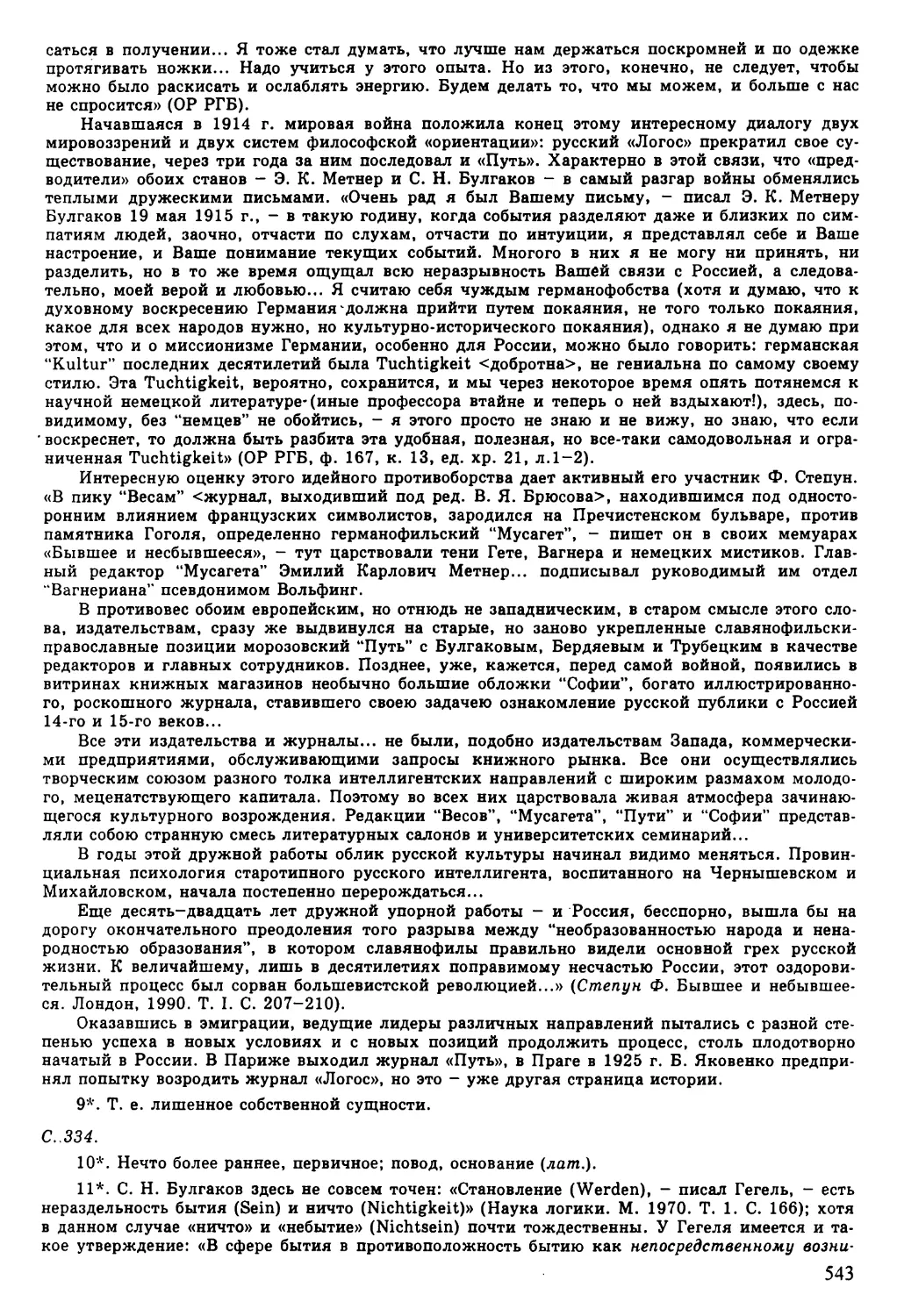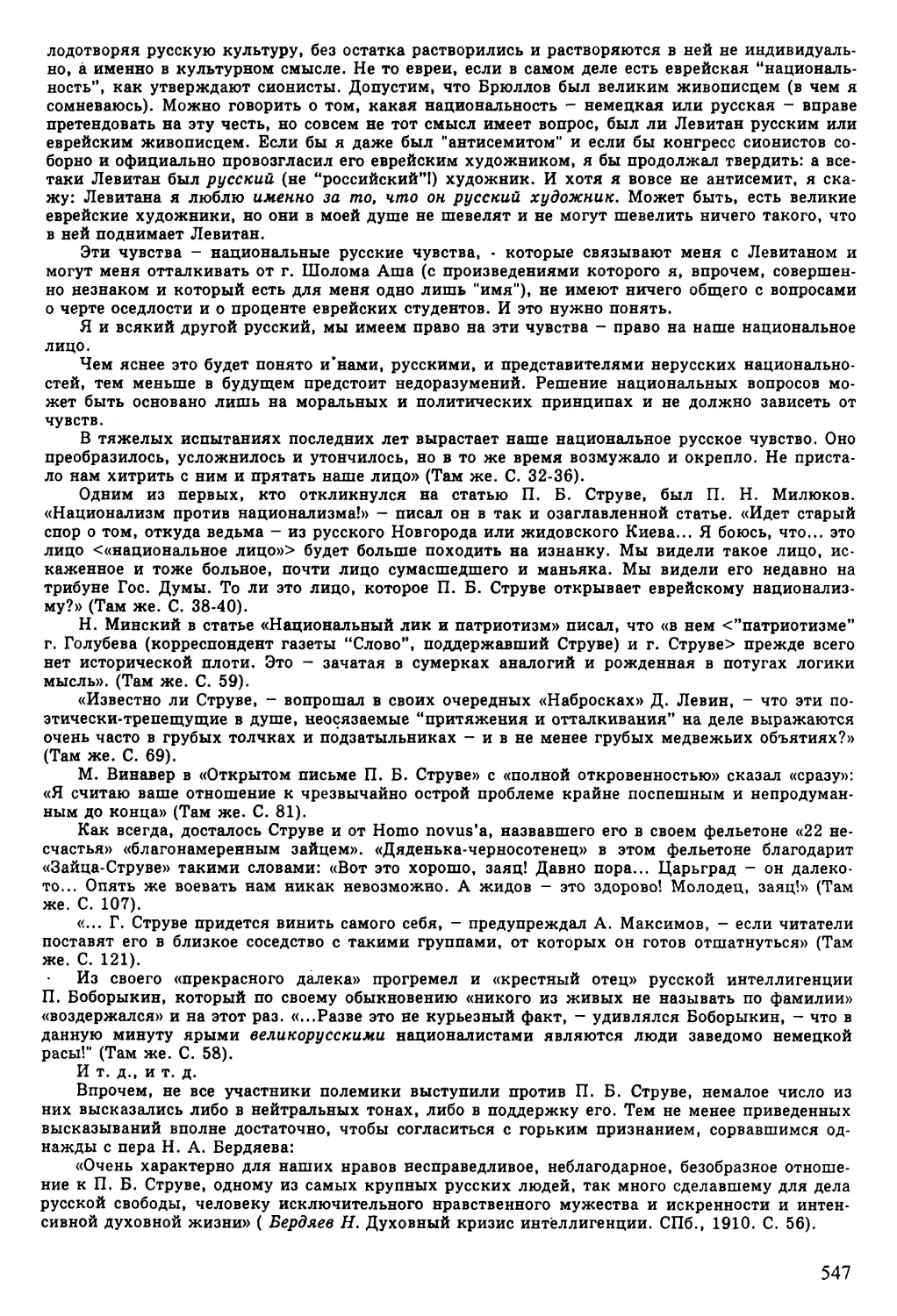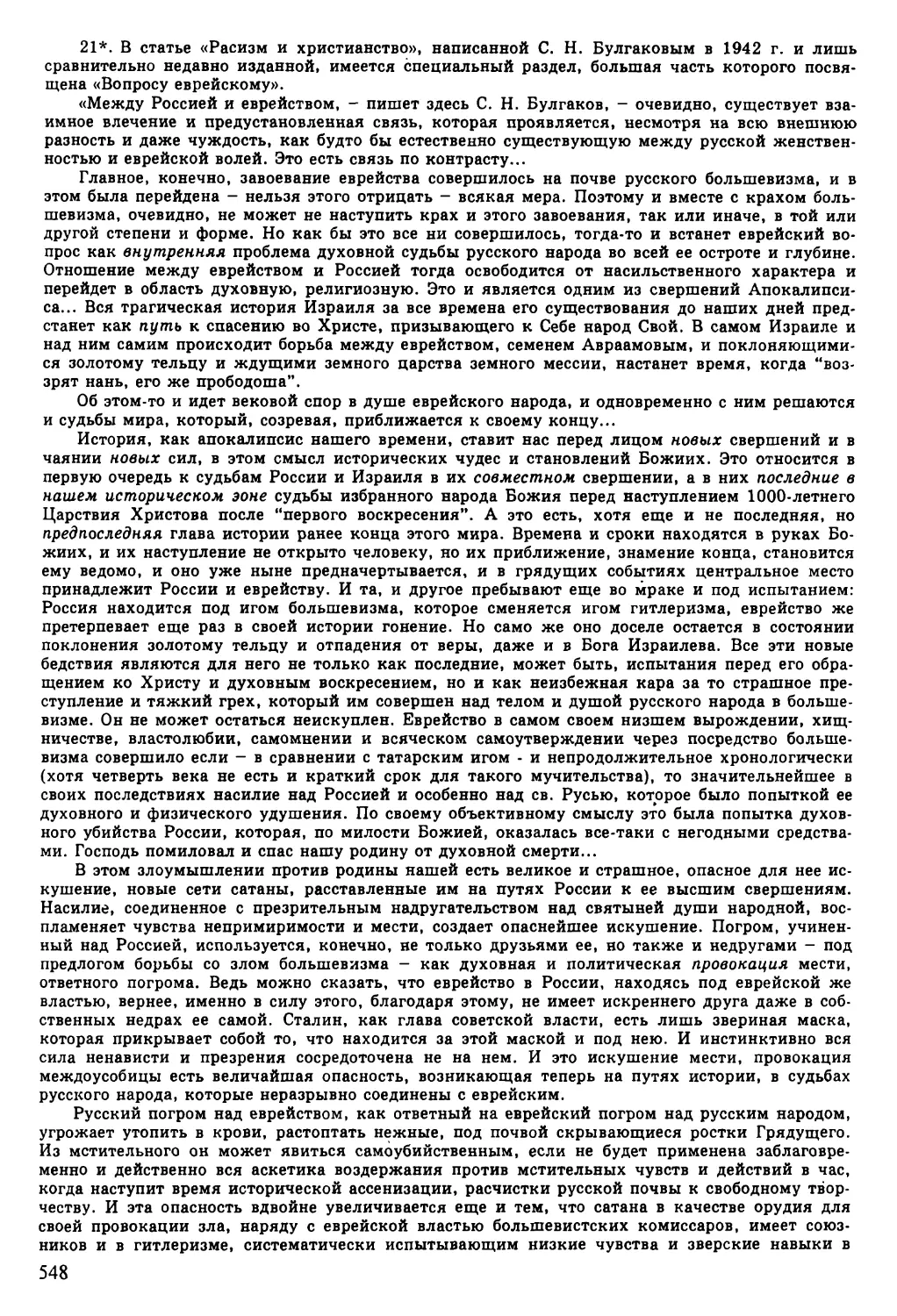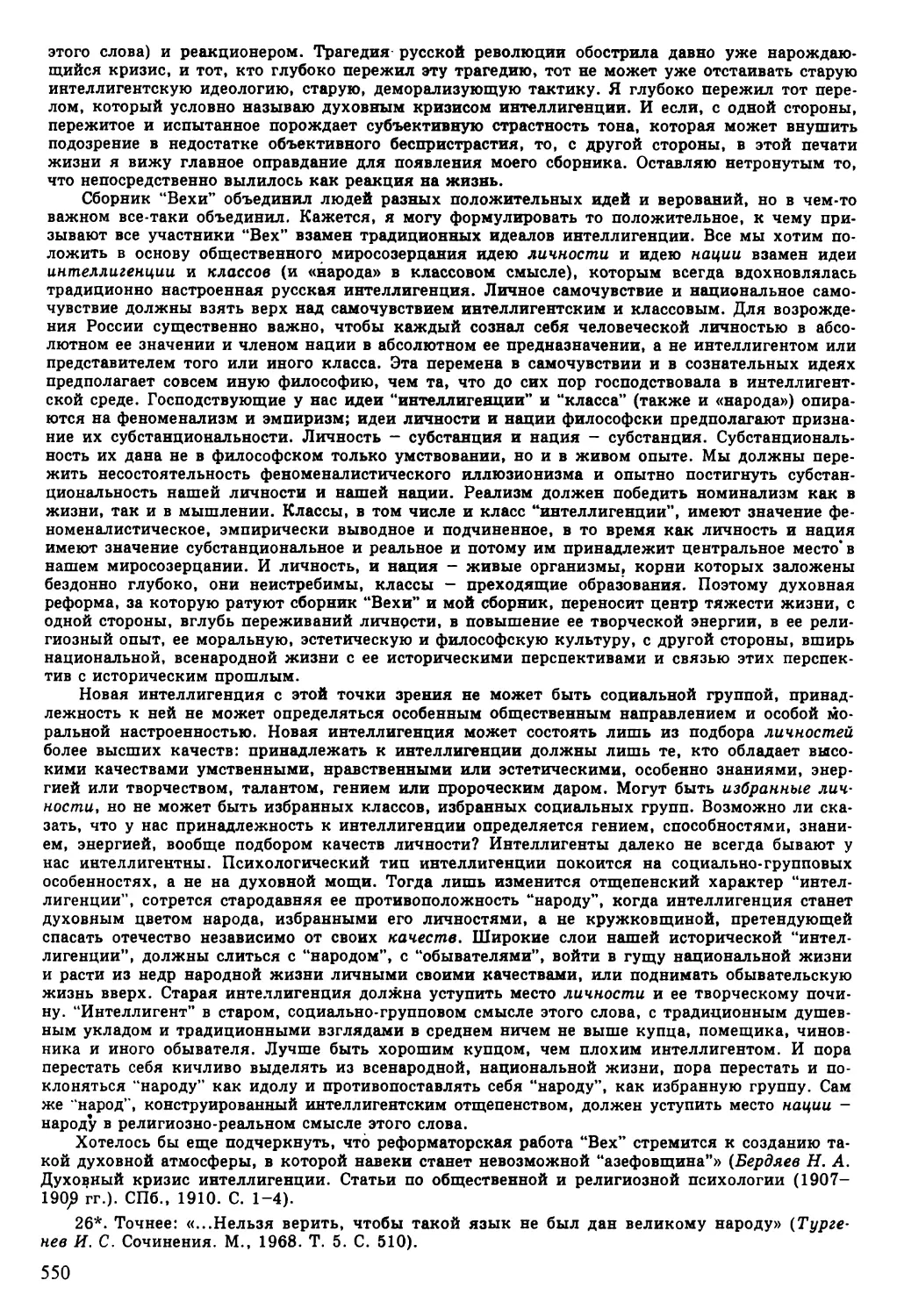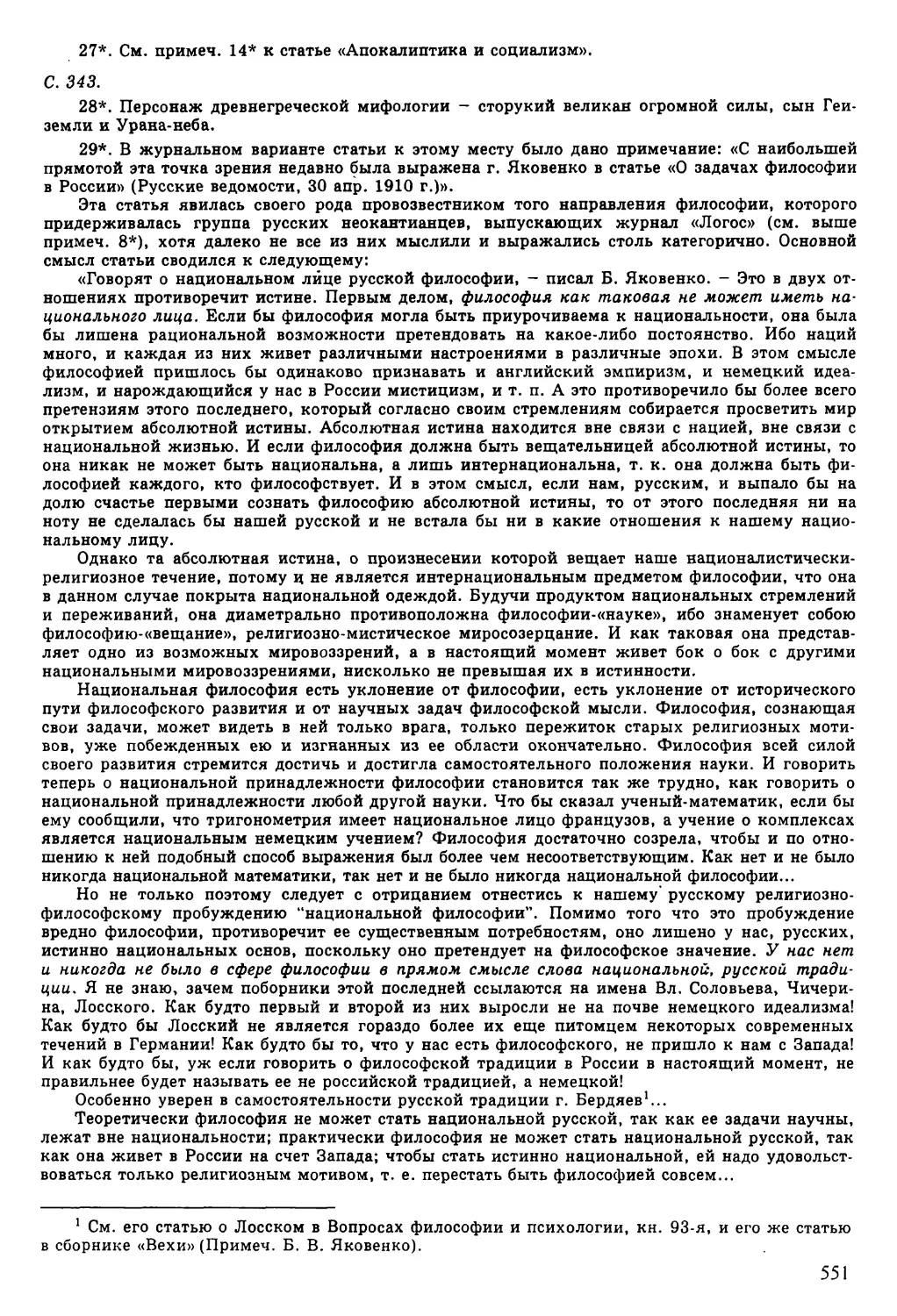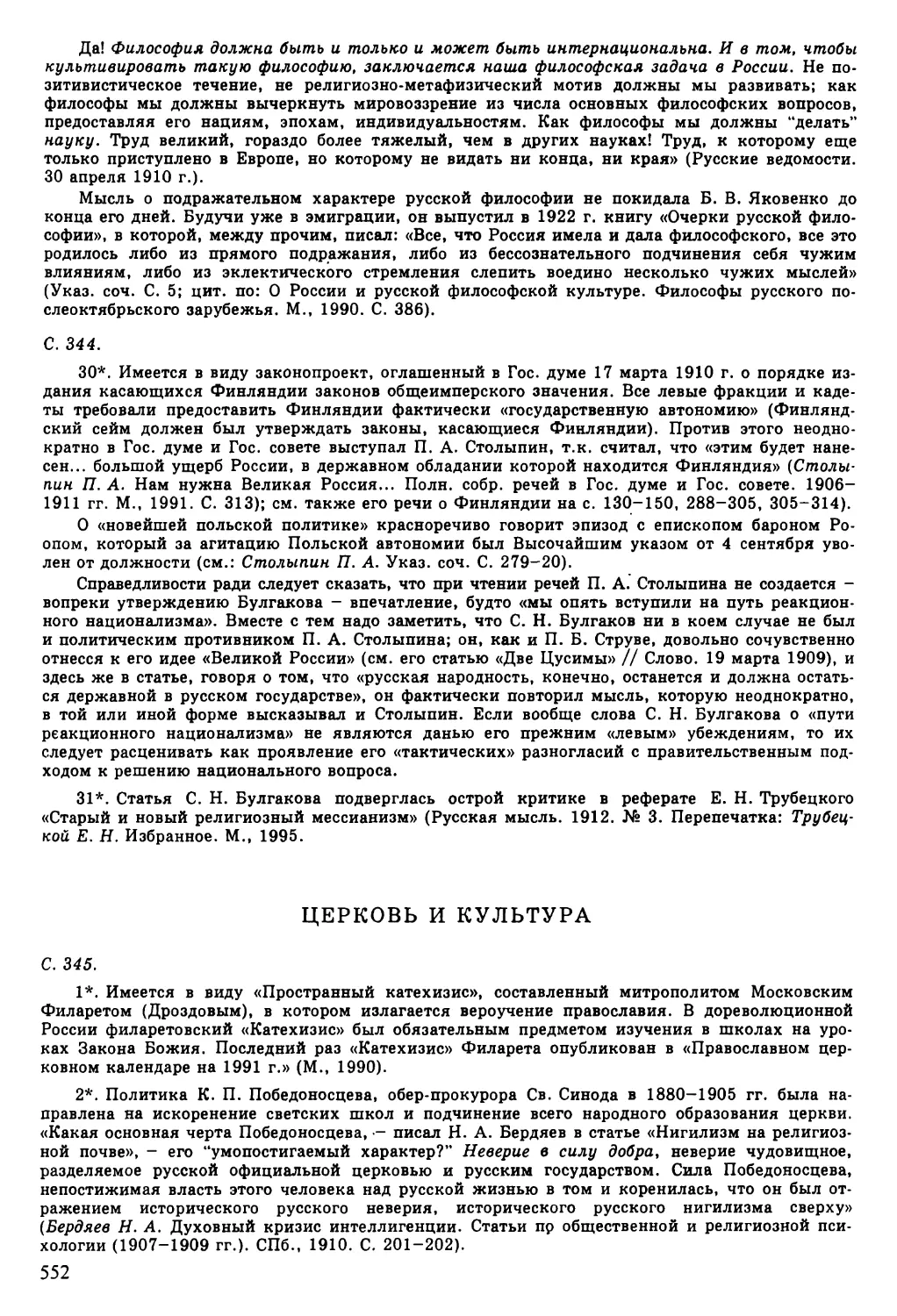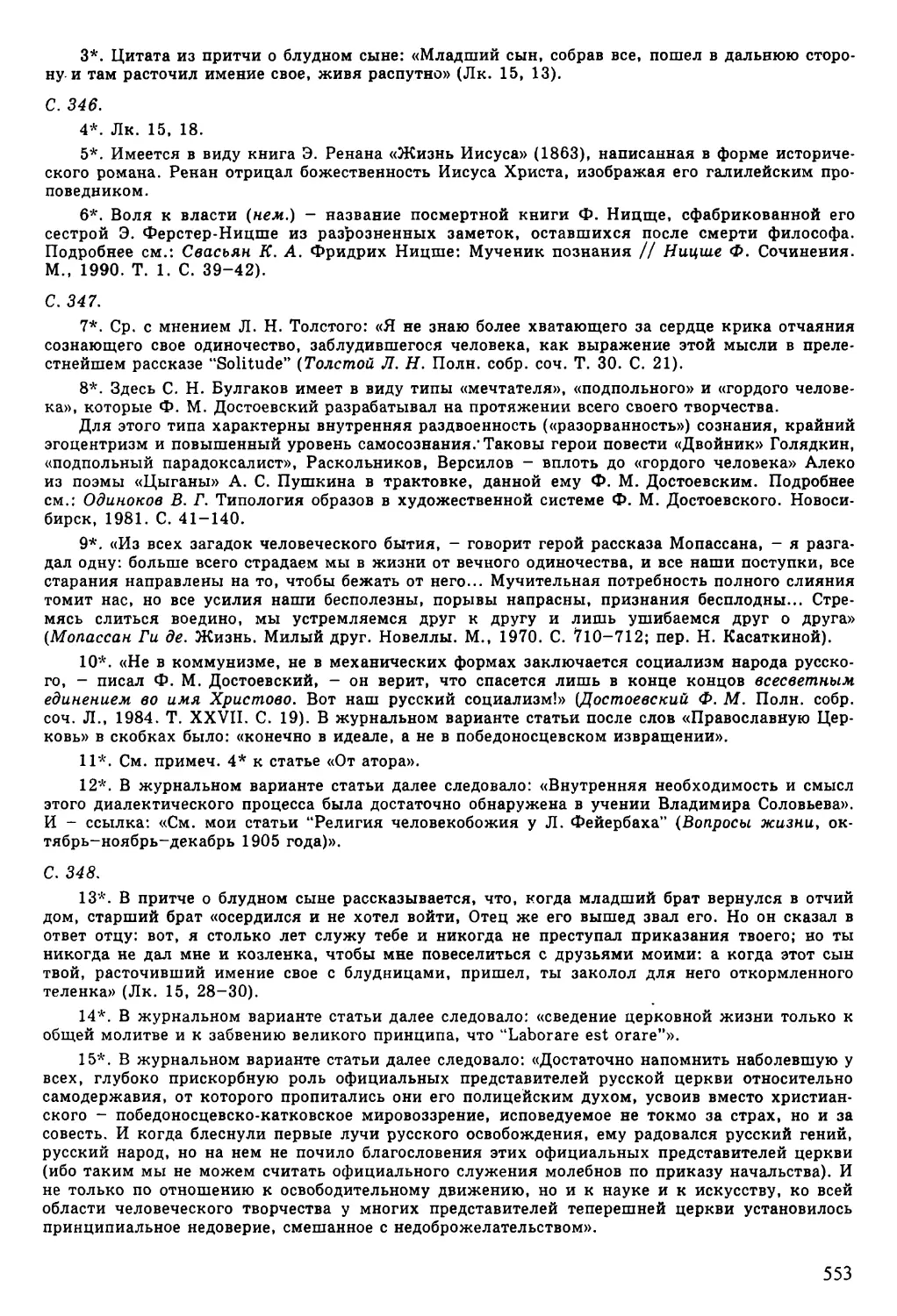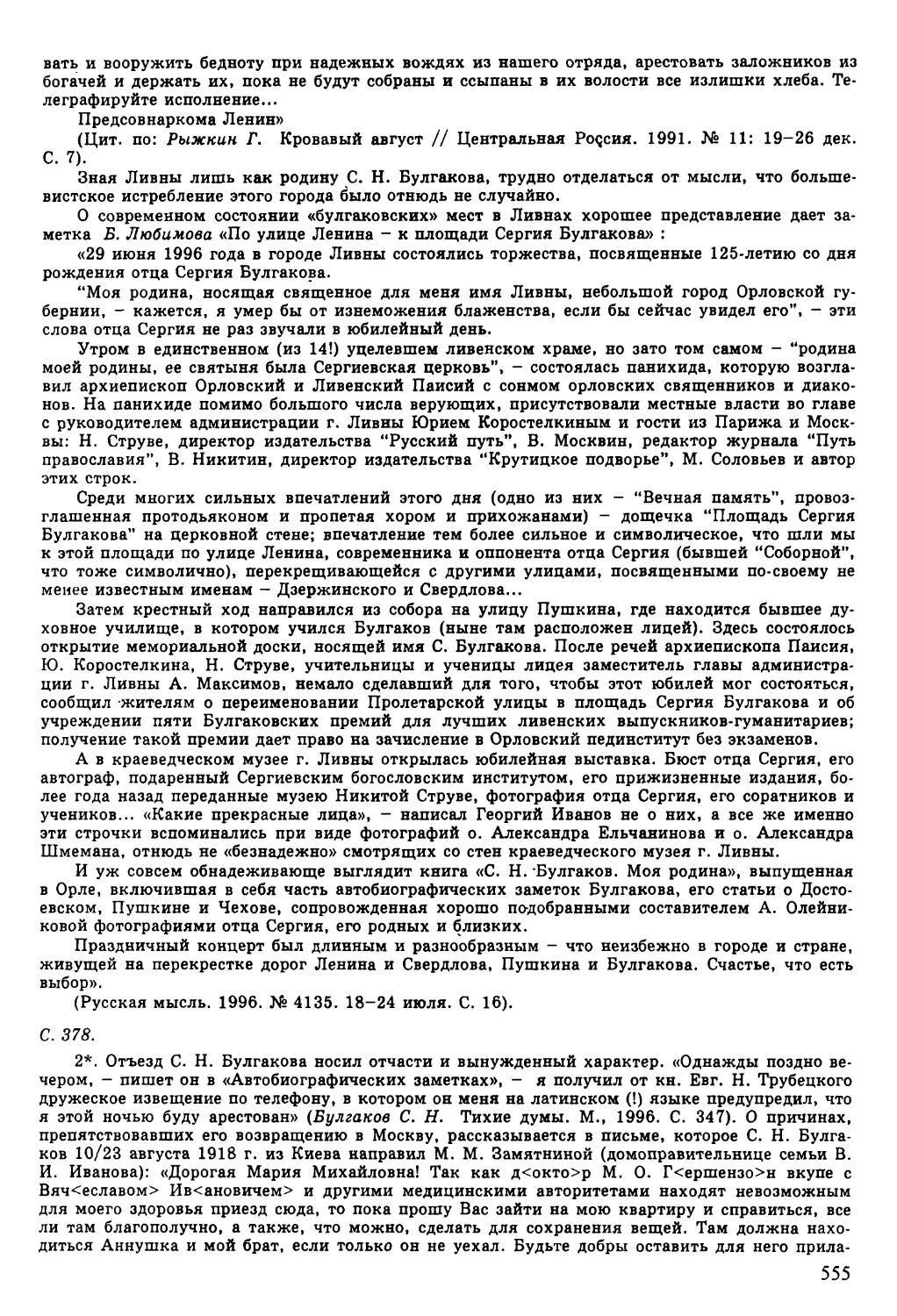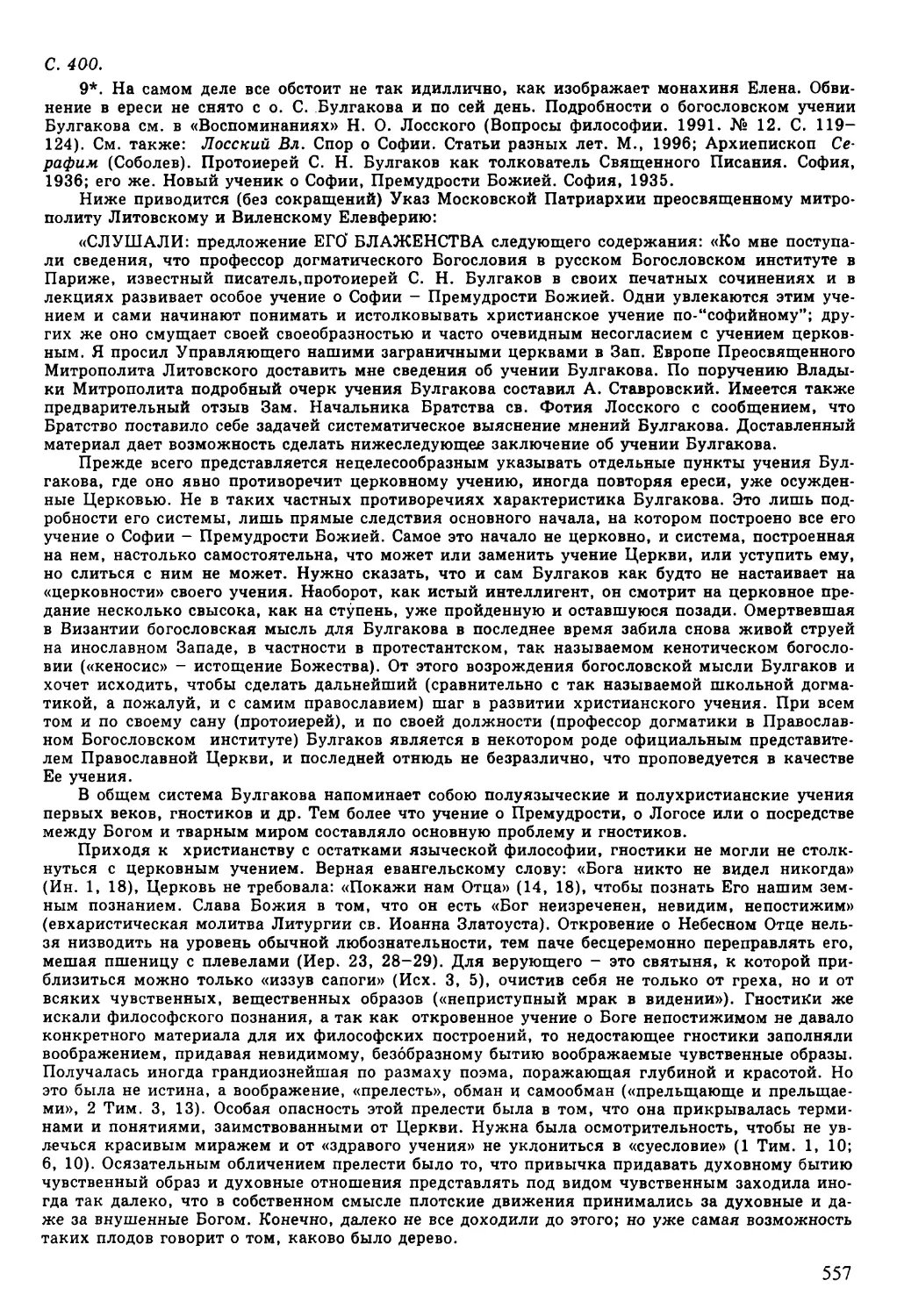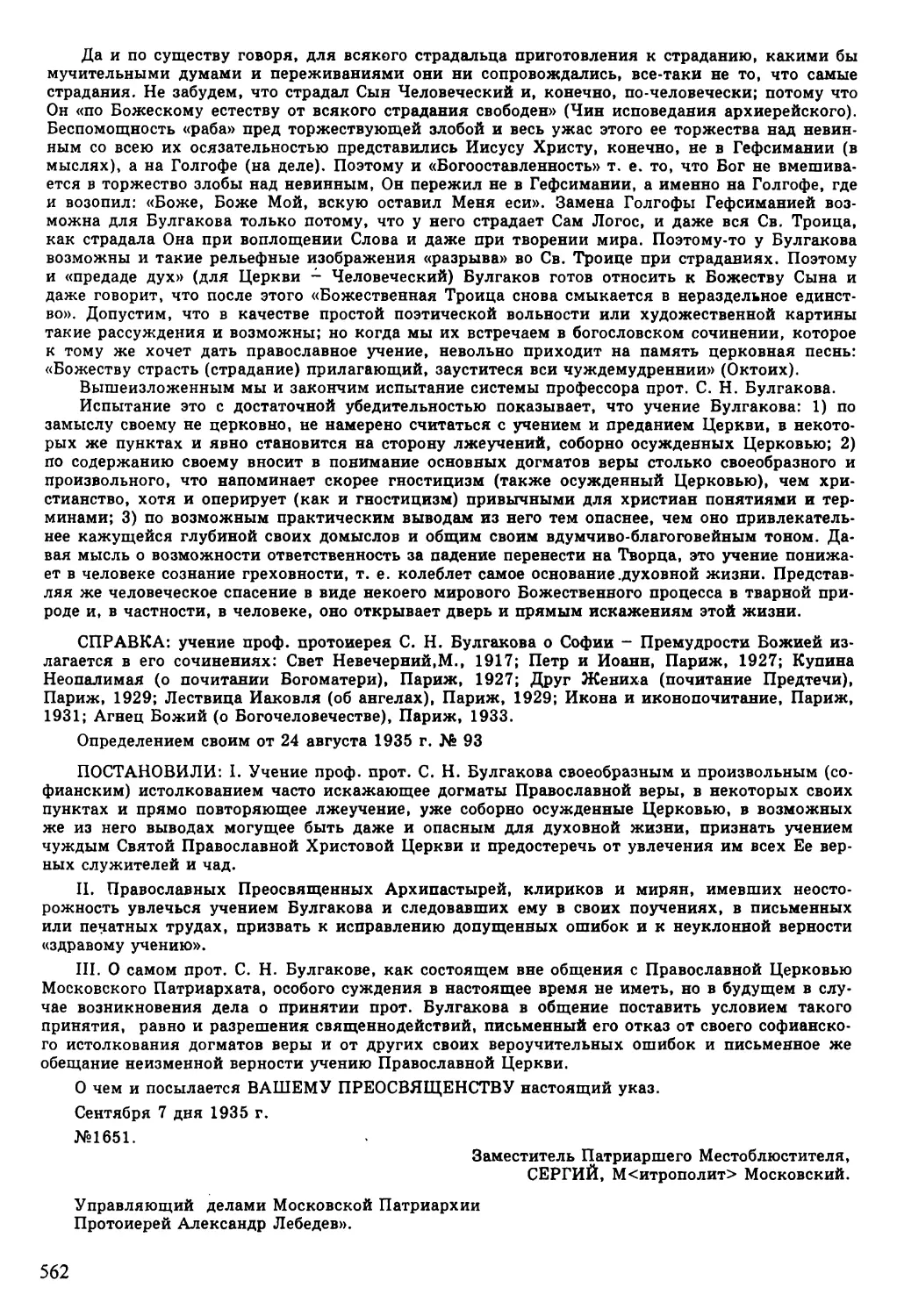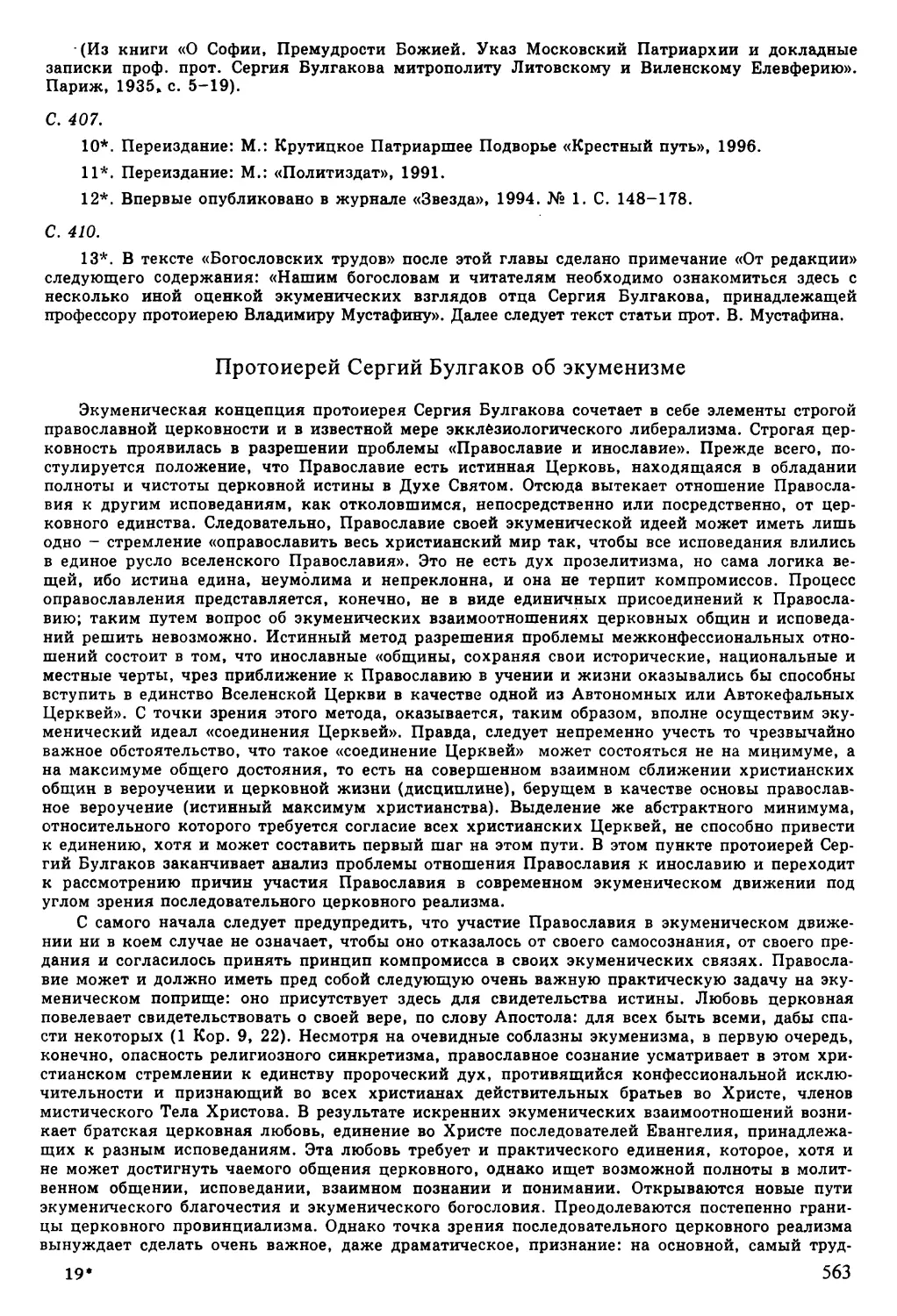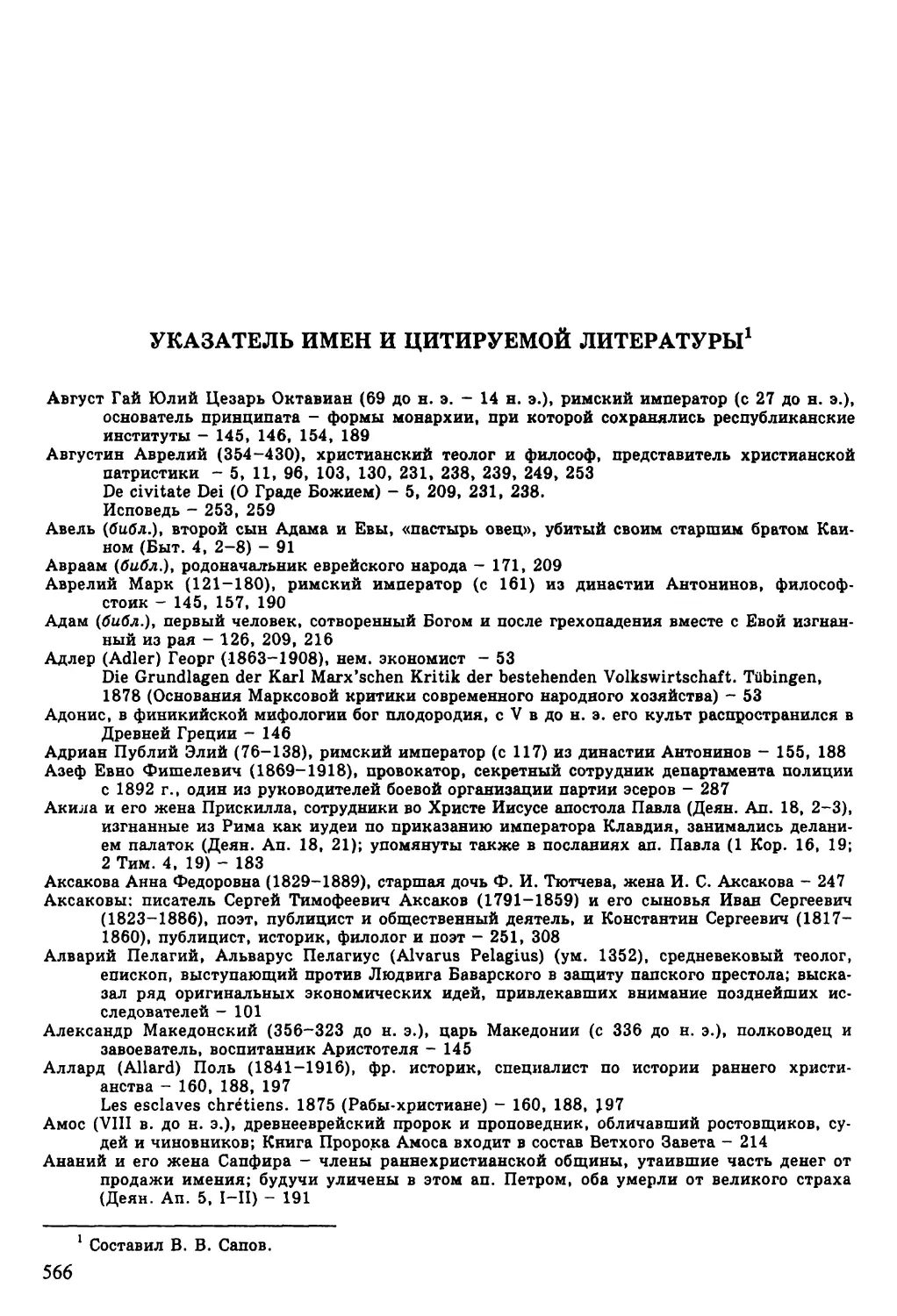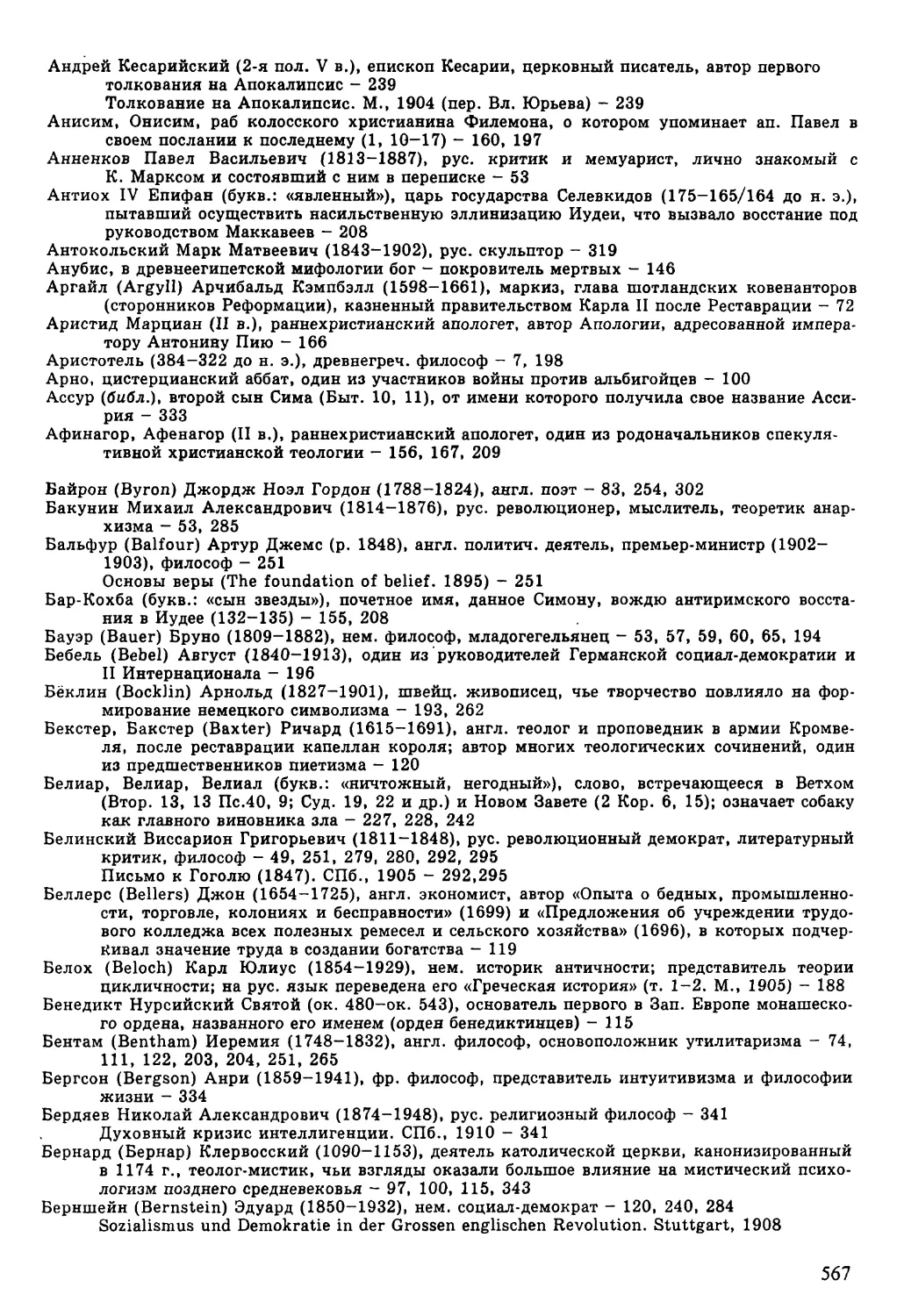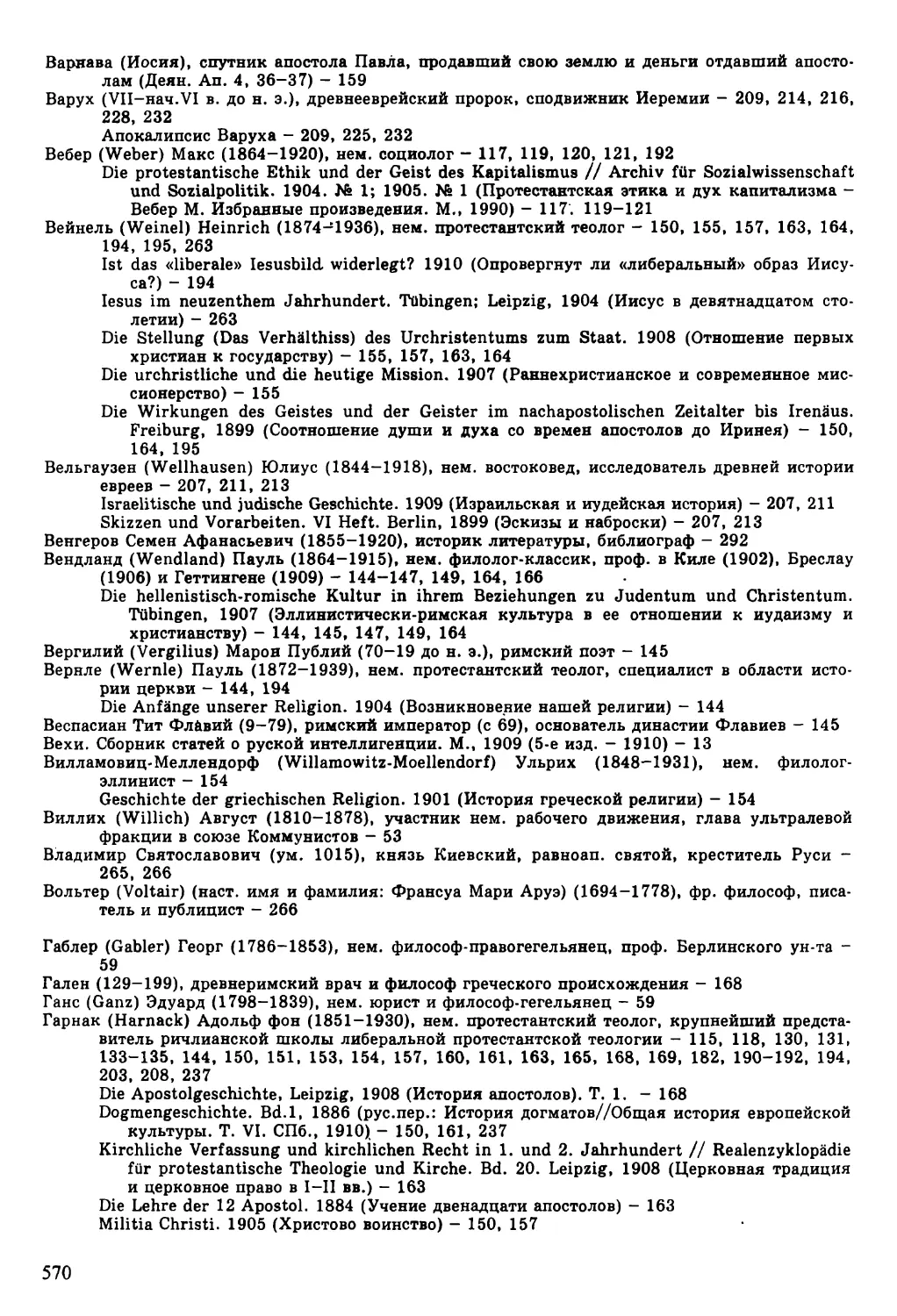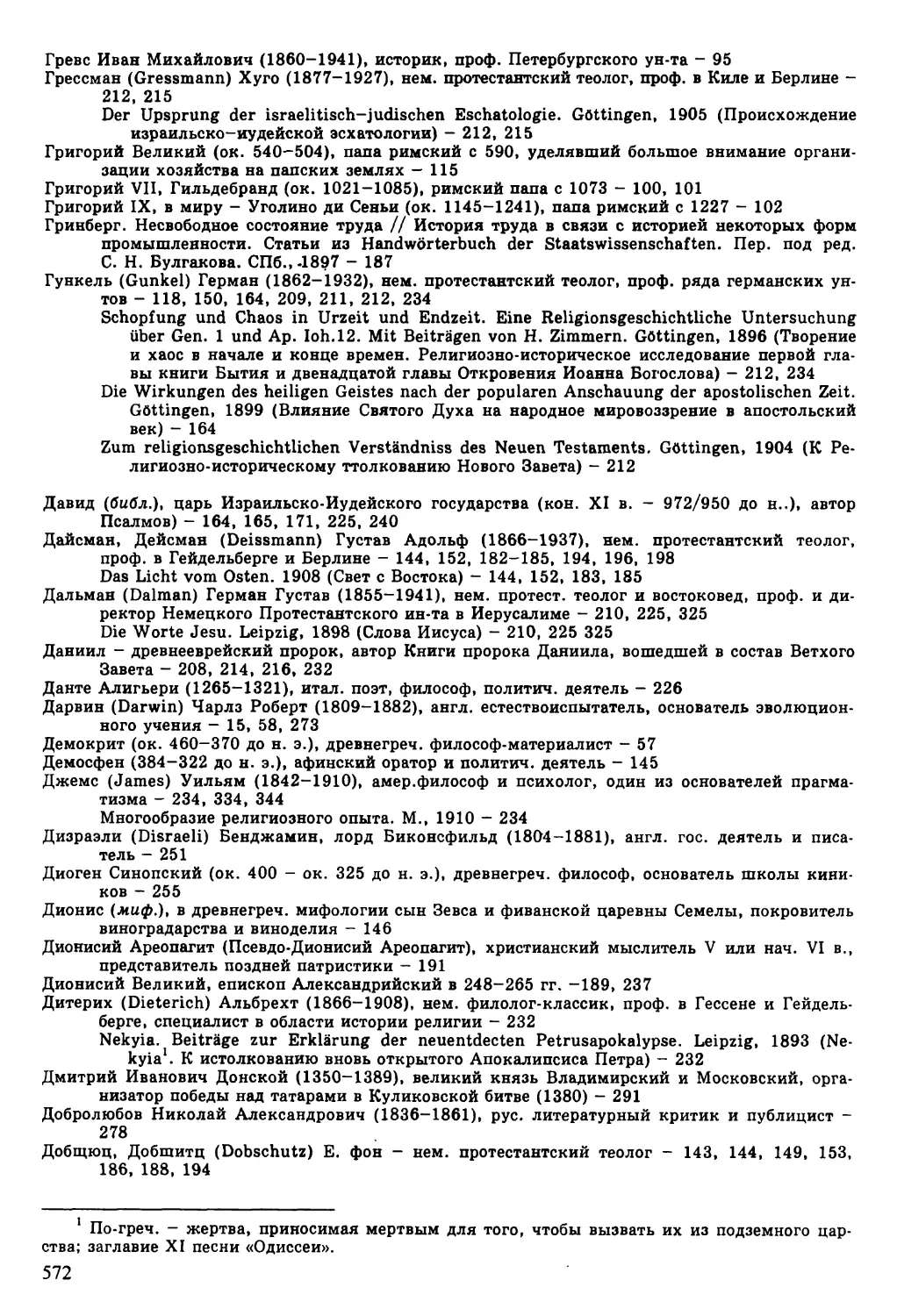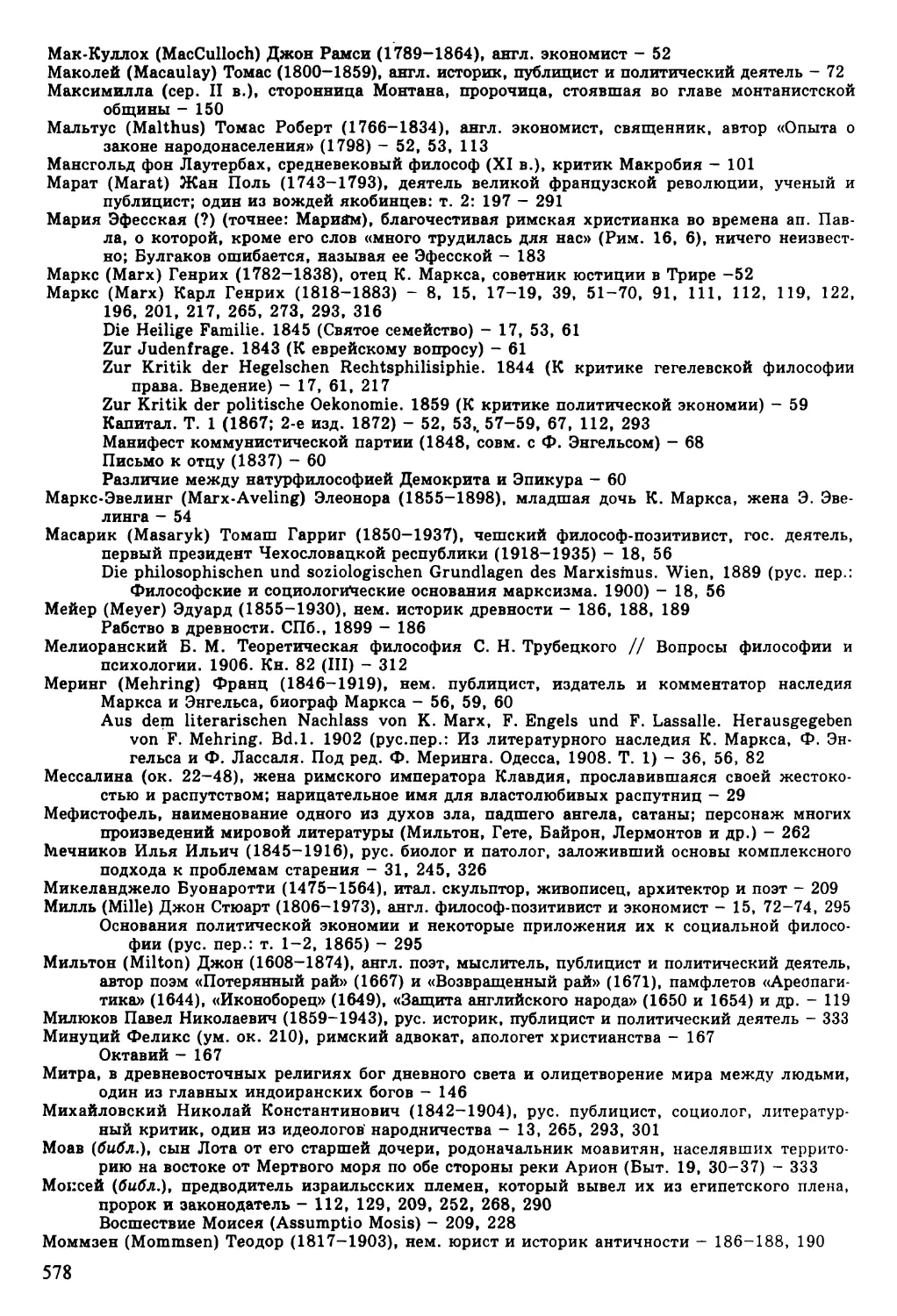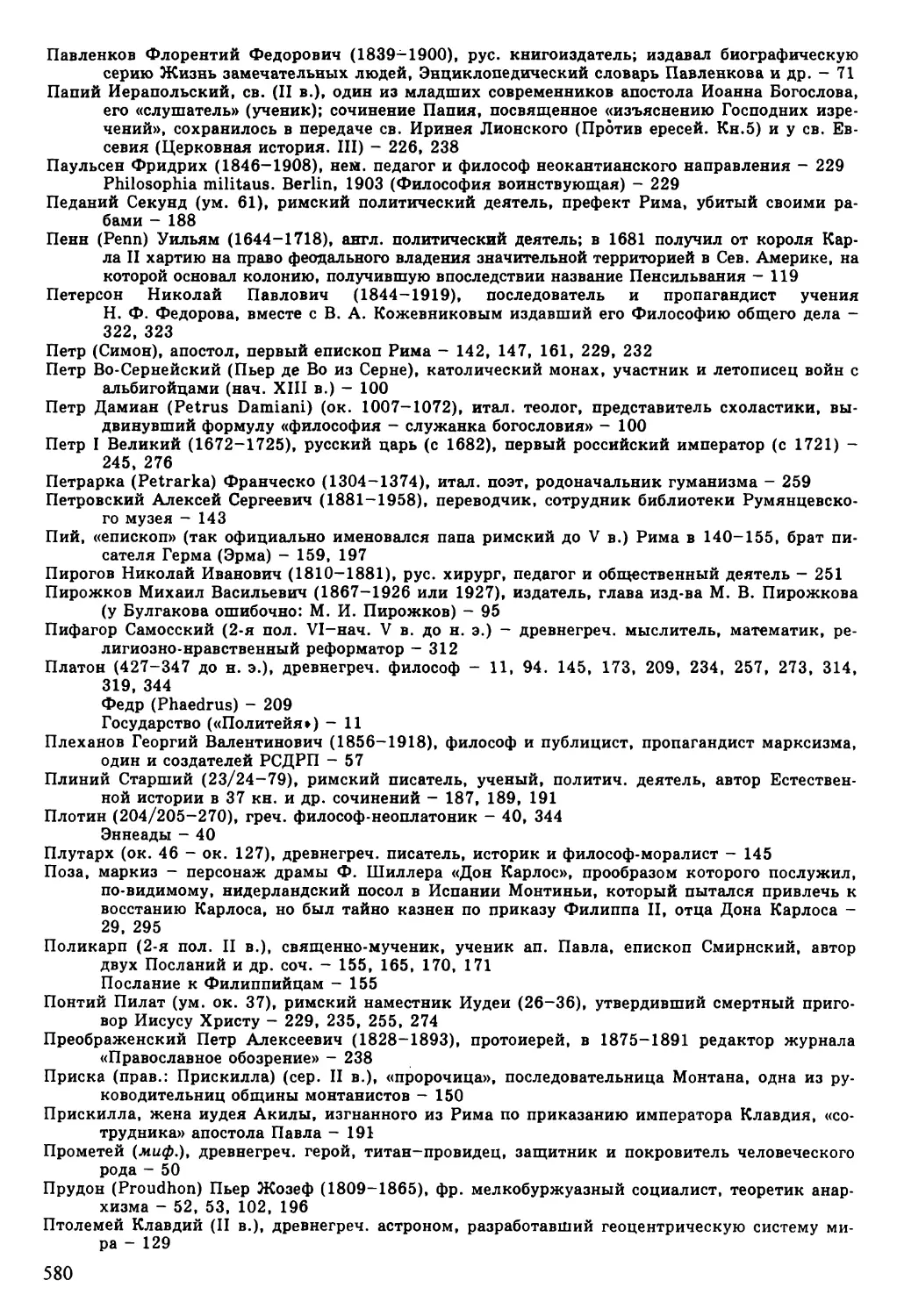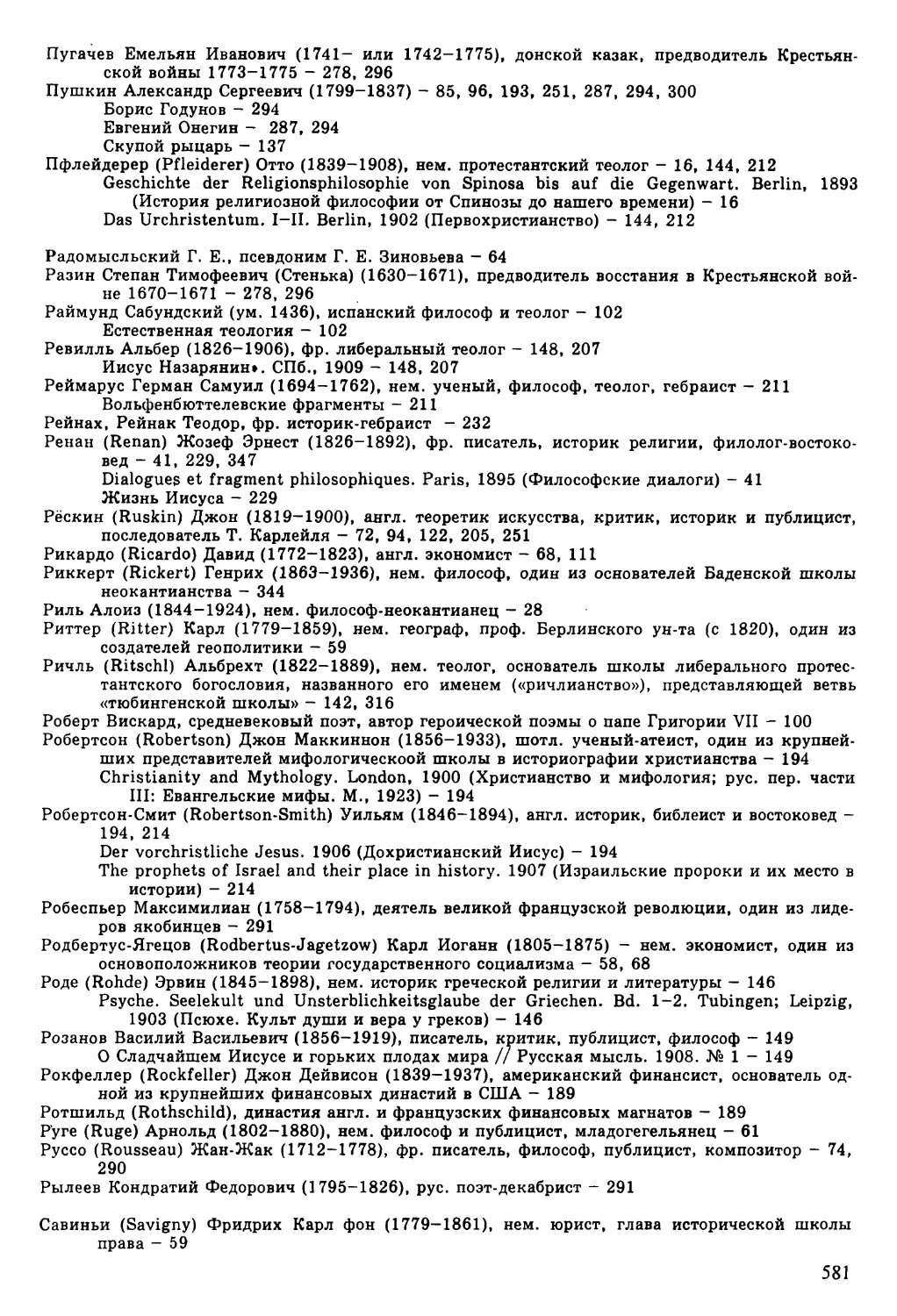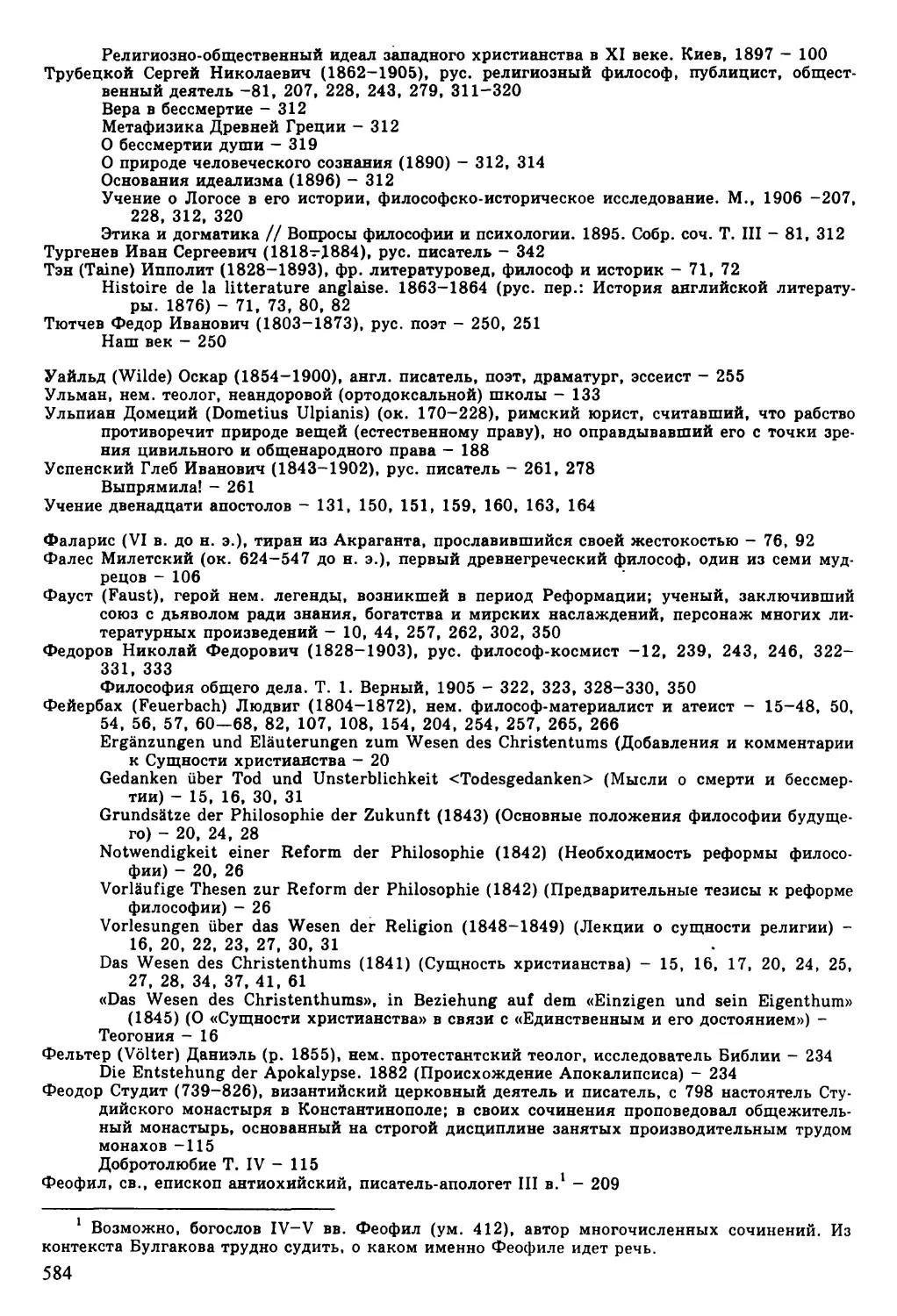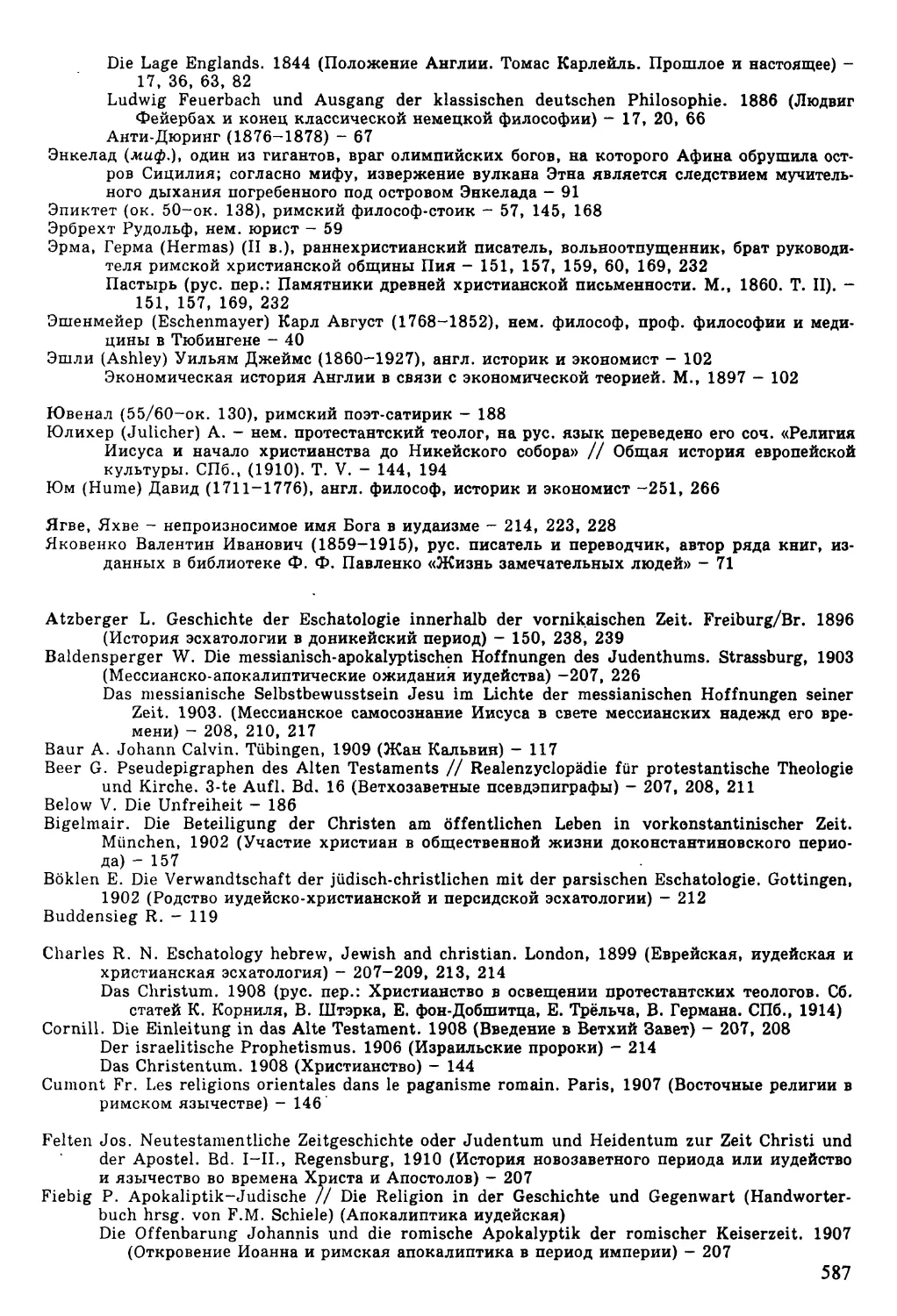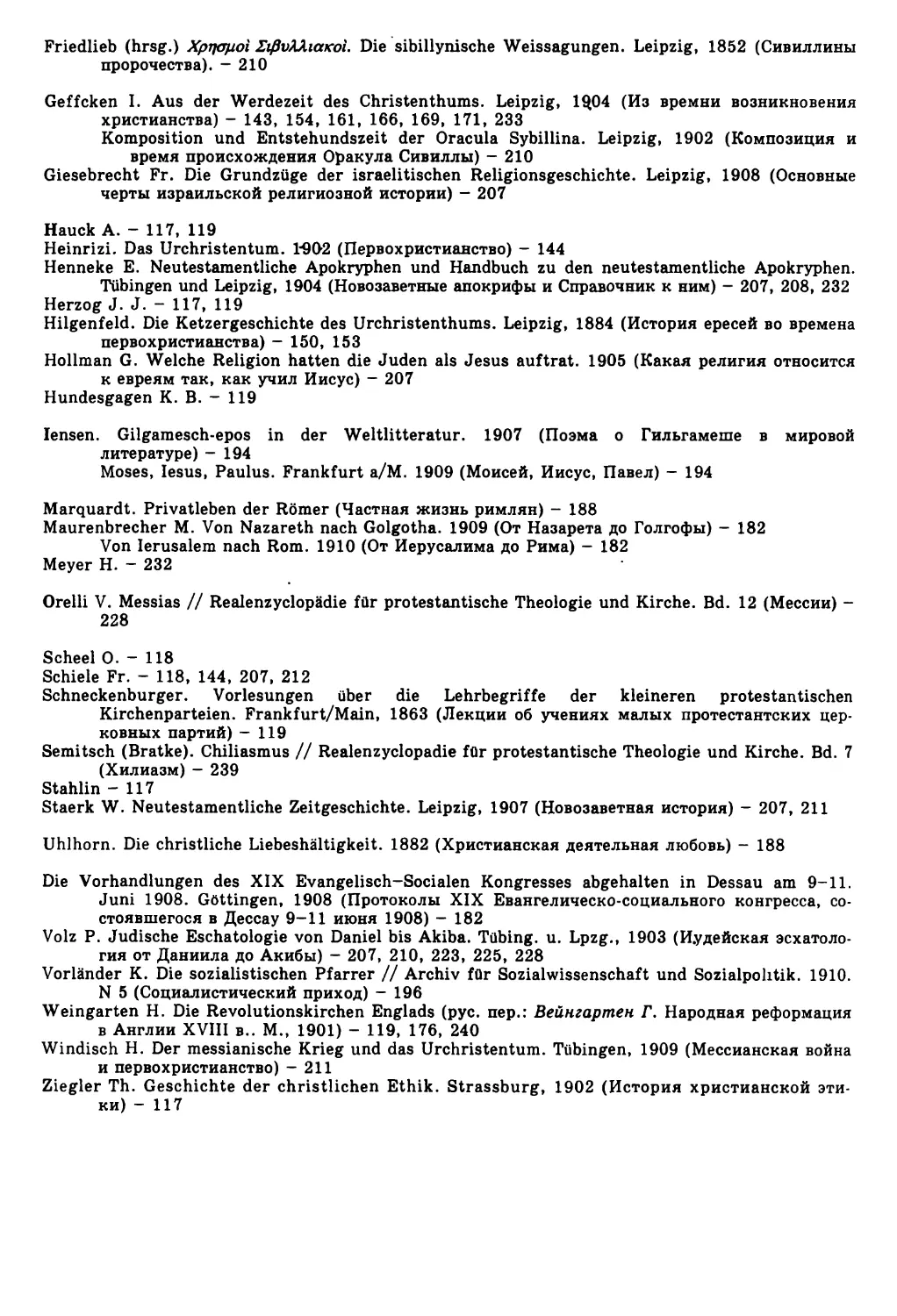Текст
СЕРГЕЙ БУЛГАКОВ
ДВА ГРАДА
ИССЛЕДОВАНИЯ О ПРИРОДЕ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ИДЕАЛОВ
Издание подготовил В. В. Сапов
Издательство
Русского Христианского гуманитарного института
Санкт- Петербург
1997
Редколлегия серии:
Давыдов Ю. Н., Сапов В. В., Ядов В. А. (председатель)
Булгаков С. Н.
ДВА ГРАДА. Исследование о природе общественных
идеалов.— СПб.: Изд-во РХГИ, 1997. — 589 с.
В книге выдающегося русского мыслителя и богослова прот.
Сергия Булгакова (1871-1944) собраны «исследования и этюды»,
написанные в 1904-1910 гг., посвященные различным вопросам
философского и экономического характера. Книга впервые была
издана в 1911 г. московским книжным издательством «Путь» и с
тех пор не издавалась.
Предназначена для широкого круга читателей.
Лицензия № 071122 © РХГИ, 1997
от 04. 01. 1995 г. © Сапов В. В., составление, ком.,
указ., 1997
© Давыдов Ю., статья, 1997
© Храмцов В. Н., макет, 1997
ISBN-5—88812—042—1
СОДЕРЖАНИЕ
Том 1
От автора 7
Религия человекобожия у Л. Фейербаха 15
Карл Маркс как религиозный тип (Его отношение к религии человекобожия
Л. Фейербаха) 51
О социальном морализме (Т. Карлейль) 71
Средневековый идеал и новейшая культура (По поводу книги Ге<й>нриха Эй-
кена «История и система средневекового мировоззрения») 95
Народное хозяйство и религиозная личность (Посвящается памяти Ивана
Федоровича Токмакова) 111
Христианство и социальный вопрос 126
О первохристианстве (О том, что было в нем и чего не было. Опыт
характеристики) 2.41
Том II
Первохристианство и новейший социализм (Религиозно-историческая
параллель) 181
Апокалиптика и социализм (Религиозно-философские параллели) 207
РЕЛИГИЯ ЧЕЛОВЕКОБОЖИЯ У РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
I. Религия человекобожия в русской революции 248
И. Воскресение Христа и современное сознание 269
III. Героизм и подвижничество (Из размышлений о религиозной природе
русской интеллигенции) 275
ФИЛОСОФСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
I. Венец терновый. Памяти Ф. М. Достоевского ,. 300
И. Философия князя С. Н. Трубецкого и духовная борьба современности (По
поводу собрания сочинений кн. Сергея Николаевича Трубецкого 311
III. Загадочный мыслитель (Н. Ф. Федоров) 322
ИЗ ФИЛОСОФИИ КУЛЬТУРЫ
I. Размышления о национальности 332
И. Церковь и культура 345
ПРИЛОЖЕНИЯ
Монахиня Елена. Профессор протоиерей Сергий Булгаков (1871-1944) ... 353
Ю. Давыдов. Апокалипсис атеистической религии (С. Булгаков как критик
революционистской религиозности) 415
КОММЕНТАРИИ 451
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И ЦИТИРУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 566
Том I
Cum ergo vivit homo secundum
hominen, non secundum Deum, similis
est Diabolo.
В. Augustini de civitate
Dei, L. XIV, с. VI.
Homo homini deus est.
L. Feuerbach
Hinc extitisse duas civitates diverses
inter se atque contrarias ... quond alii
secundum hominem, alii secundum Deum
vivant.
В. Augustini, ibid.
ОТ АВТОРА
В этой книге собраны исследования и этюды, написанные на протяжении
нескольких последних лет и посвященные разным вопросам философского,
социологического, религиозно-исторического, экономического характера1. Но при этой
внешней пестроте ее тем одна дума, один замысел объединяет их и составляет
духовный нерв всей книги. Это вопрос об истинной природе культурно-общественного
идеала, об его последней .основе.
Для меня является аксиомой, имеющей аподиктическую достоверность, что
истинную основу общественности надо видеть в религии2. Религия есть феномен
общественности, тот «базис», на котором воздвигаются различные «надстройки». В
этом смысле религия есть универсальное единящее начало, и человек есть
существо общественное (ζώον πολίτίκόν Аристотеля1*), лишь насколько он есть существо
религиозное. Хотя в истории действуют разные причины или «факторы»
стихийного, безличного свойства, но в конечном счете они все-таки служат лишь пассивным
материалом, который побеждается, оформляется человеческим духом, активным
началом истории. Остается истиной, что человек делает свою историю, хотя и делает
ее не из ничего, а из косного и сопротивляющегося материала, и история есть
арена деятельности духовных сил, борьба духовных потенций, созревающих и
выясняющихся в этой борьбе. Это общее понимание сущности истории может сохранять
силу и при весьма реалистическом, даже экономическом истолковании конкретной
истории, ибо, какие бы слои пассивной материи мы ни вскрывали при изучении,
единственным активным, подлинно творческим началом остается дух,
пробивающийся через эти препятствия, их преодолевающий и в этой победе сознающий
себя, к себе возвращающийся. Только по недоразумению или в полном ослеплении
можно говорить о стихийном, безличном, а следовательно, бездушном и вещном
(или «естественном») ходе истории. То, что в истории есть подлинно творческого,
принадлежит, конечно, человеческому духу в его живом и потому конкретном
самоопределении, природа же духа есть свобода. История в этом смысле есть свобод-
1 Сюда вошло далеко не все напечатанное мною за эти (1904-1910) годы, в частности не
вошел ряд статей в «Вопросах философии и психологии», «Вопросах жизни», «Московском
еженедельнике», в разных сборниках, а также публицистические статьи в газетах2*.
2 В этом отношении настоящая книга непосредственно примыкает к моему предыдущему
сборнику «От марксизма к идеализму», СПб., 19043*. Начав чистым общественником, но,
подвергая исследованию основу идеалов общественности, я опознал, что эта основа - в религии.
«Есть ли Добро, есть ли Правда? Другими словами, это значит: есть ли Бог?» (Предисловие,
XVIII). В такой форме предстала мне здесь проблема общественности.
7
ное деяние, труд, подвиг человечества. Но, сводя к этому источнику человеческую
историю, мы тем самым приводим ее к религиозному самоопределению
человеческого духа как последней и глубочайшей самооснове духовного бытия,
устанавливающей что каждого духа в свободном и потому причинно уже неизъяснимом
акте. И как свобода есть неотъемлемое свойство духа, его природа, так и религия,
как самое основное употребление этой свободы, есть всеобщее человеческое
достояние. Человек есть существо религиозное, могут быть нерелигиозные или даже
антирелигиозные люди, но" внерелигиозных нет в силу метафизической природы
человека, его духовности и его свободы, с одной стороны, и его тварной
ограниченности, с другой. Если бы человек был абсолютным, самодовлеющим существом,
каким может мыслиться только Божество, Творец, а не тварь, тогда он был бы
выше религии; если бы он не обладал сознанием своей духовности и свободы и не
имел стремления к абсолютному бытию, он был бы ниже религии. Но при данном
состоянии религиозность есть естественное и даже неизбежное самочувствие.
Религия, по самому буквальному и первоначальному своему значению, есть чувство
своей связи с целым, с абсолютным, и необходимости этой связи для возможности
духовной жизни, духовного самосохранения4*. Человек не может утверждаться
только в себе и на себе, такой религиозный солипсизм для него неосуществим; он
выносит центр своего существования за пределы своего я, духовно выходит из
себя, рассматривает себя лишь в связи с целым, как его часть, отдает свое л, чтобы
восстановить его в единении с целым, делает себя в этом смысле формой,
воспринимающей абсолютное содержание5*. Религии различны, но религиозность
всеобща. Религиозности противоположен не атеизм, или отрицание личного Бога, но
иррелигиозность, точнее, религиозная невменяемость, когда человек опускается до
такого состояния, что для него центром жизни становится действительно свое я в
его эмпирической оболочке, или служение своим инстинктам, при отсутствии
всякого энтузиазма добра или зла. И с этой точки зрения и энтузиазм зла, демонизм,
т. е. религия навыворот, представляющая враждебную и сознательную
противоположность религии, далек от состояния иррелигиозности, духовной спячки.
Духовное мещанство, вялое безразличие, или животное служение своим низшим
инстинктам, вообще отказ от своей свободы и от своей духовности - вот что в
действительности представляет собой иррелигиозность, и ее возможность носит в душе
каждый человек, независимо от своих верований. Она постоянно тянет его вниз,
придавливает жизнь духа, которая дается поэтому только в борьбе, полной побед и
поражений. В этом проявляется мощь стихии греха, немощность плоти, против
которой бодрствует дух.
Есть два основных пути религиозного самоопределения, к которым приводят
разнообразные их разветвления: теизм, находящий свое завершение в
христианстве, и пантеизм, находящий его в религии человекобожия и антихристианстве.
Мир, и в нем человек, проходит стадии внебожественного существования - не в
том, конечно, смысле, чтобы он имел независимость бытия и мог просуществовать
хоть миг своею собственною силою, помимо воли Вседержителя Творца, но в том
смысле, что имеет свободу в сознании человека утверждаться в Боге и вне Бога.
Чистое самобожие, самоутверждение своей тварности в качестве абсолюта есть
сатанизм, состояние, непосредственно недоступное для человека. Самоутверждение
человека вне Бога принимает характер лишь сознательного обожения твари,
пантеизма или космотеизма, и только в противоположении теизму определяется как
атеизм или даже антитеизм, антихристианство. Этот пантеизм может принимать
различные выражения: материализм энциклопедистов, гилозоизм Геккеля,
спиритуалистический атеизм Гартмана и Шопенгауэра, экономический материализм
Маркса, агностический позитивизм Канта, Спенсера. Все эти разновидности религиозно
приводятся, однако, к одному и тому же содержанию - пантеизму и космотеизму.
Но это всебожие или миробожие в религиозном переживании неизбежно принимает
8
черты человекобожия. Человек - краса мироздания, его царь и господин,
человечество — божество, которому становится причастно каждое отдельное человеческое
существо. И как мир родил человека, так и пред человечеством становится задача -
породить сверхчеловека, бога. Но человечество существует только в личностях и
все высшее в человеке необходимо получает личное воплощение, потому и задача
эта в окончательном выражении сводится к стремлению породить единичного
сверхчеловека, личного бога, т. е. того, кто в христианстве называется
антихристом. Развивающаяся потенция, неизбежное задание человекобожия есть этот
индивидуальный человеко-бог, в котором нашло бы свой апофеоз все мироздание, эту
идею антихриста-сверхчеловека разъяснил новейшему человечеству Ницше1.
Последний смысл человекобожия сводится к тому, чтобы присвоить себе творение
Божие, объявить себя его богом. Это путь сатаны, который, не имея своей силы
бытия и в своем отпадении от Бога становясь духом небытия, может проявлять эту
силу только метафизическим воровством, получая лишь призрачное
«метеорическое» (по выражению Шеллинга7*) существование в колебаниях между бытием и
небытием, существует только обманом, который раскроется при полном отделении
от бытия и небытия, света и «тьмы кромешной», находящейся за краем («кроме»)
бытия.
Человечество, вступая на путь человекобожия, хотя также завлекается на
ложный и гибельный путь, однако впадает в самообман, до известной степени
естественный и понятный. Впасть в обожествление человечества естественно потому, что
в человечестве, даже и падшем и греховном, действительно зреют и
обнаруживаются божественные силы, история же есть действительно прогресс в их раскрытии,
потому соблазн самообожествления здесь объективно обоснован, так же как и
возможность природного пантеизма основывается на подлинном восприятии
мистической сущности природы. Вопрос не в том, есть ли история - откровение
божественной силы в человеке, но в том, есть ли она лишь откровение о человеке или же
салгооткровение человека? Есть ли она человеческое самотворчество, или же в ней
только раскрываются вложенные при творении человека силы, «образ и подобие»,
которые сами по себе представляют уже изначальную данность и лишь переходят в
истории из потенциального, скрытого состояния в актуальное? Но в таком случае,
приписывая себе историю в онтологическом смысле, человек просто хочет украсть
и присвоить ему не принадлежащее, сын превращается в взбунтовавшегося раба. В
этом соединении явной божественности мира и человека и самозаконности,
самостоятельности мироздания и заключена возможность, а если принять во внимание
реальность злого начала и всеобщую наклонность к греху, то и неизбежность
основной религиозной антиномии, самоопределения к Богу и против Бога, пути
христианства и человекобожия, теизма и пантеизма. В религиозном смысле tertium
non datur8*. И эта двойственность определяет собой весь путь развития
христианской Европы (внехристианские страны мы оставляем в стороне, чтобы не
усложнять вопрос), просвечивает во всей ее культуре, отражается и в общественных
идеалах, владеющих умами и сердцами.
Жизнь мира в его внебожественном бытии приводит к разделению этих начал,
совершающемуся в их противоборстве. Автономия мира искупается только
трагедией, и потому «основной материал всей жизни и бытия есть ужасное» (Шеллинг).
Чувство трагического является неизменной чертой всякого глубокого религиозно-
Отсюда следует, между прочим, насколько ошибочно видеть в антихристе, этом
последнем и предельном выражении пантеизма и человекобожия, явление иррелигиозное, напротив,
он только и становится понятным в плоскости религиозной и мистической. Крайнее отпадение
человека от Бога в личном человеке-боге есть, бесспорно, деяние сознательно религиозное,
глубоко и проникновенно мистическое. Антихрист - не libre-penseur6* просветительства, это
мистик до дна души, но не верящий в Бога, себя предпочитающий Ему, как и изобразил его
Вл. Соловьев в «Трех разговорах».
9
философского воззрения. Из него родились мистерии «страдающего бога» и
трагедии эллинов. О мире как подножии Голгофы возвестила нам религия Креста. О
«радикальном зле»9* учит и новая философия в лице Канта, Шеллинга, Шопенгау-
ера. Девятнадцатому веку о трагедии возвестил глашатай дионисического буйства
и стенания Фр. Ницше. И если в истории есть прогресс истинной и высшей
человечности, то это - прогресс трагедии, ее внутреннее созревание10*. И преодоление
трагедии частично дается только духовному подвигу, молитвенному,
нравственному, художественному, как кровная победа, в борьбе вырываемая и отстаиваемая от
враждебных сил, космическое же ее преодоление - трансцендентно природной
жизни, совершится лишь на новой земле и под новым небом, за вратами личной и
мировой смерти, в запредельности. Поэтому в жизни и отдельной личности, и всего
человечества идет эта борьба, непрерывная и неустанная, ее вершины освещаются
нездешним блаженством, но это не то, что обычно называется счастьем и иногда
ставится целью истории. Там же, где вместо преодоления трагедии происходит
примирение, неизменно воцаряется мещанство. Пошлое есть тень трагического, не
осуществившаяся трагедия, которая разрешилась в легкую комедию11*. В этом
ужас Гоголя пред жизнью, в которой он видел Чичиковых и Хлестаковых, фарс
вместо трагедии. Это - уныние Герцена, когда он прочел на челе западной
цивилизации зловещую надпись: мещанство. Это — те краски, которыми неизбежно
отливают изображения «земного рая» в разных социальных утопиях. Только религия
Искупления выводит за пределы этой безысходности жизни в своих обетованиях,
предысполняющихся в благодати таинств. Но для космотеизма и человекобожия
необходимо преодоление трагедии в истории, иначе царство от мира сего окажется
неосуществимым, и тогда угрожает раскрывающаяся бездна пессимизма и
отчаяния. Отсюда черта оптимизма, идиллического благодушия, вера в возможность
самоспасения для человечества и осуществимость всеобщей гармонии на земле
путем прогресса. Этот оптимизм получает классическое выражение в учениях 18-го
века о «естественном человеке», но он неизменно подразумевается — в скрытом
виде или открыто - и в социальных учениях 19-го века, как бы пессимистичны в
отношении к настоящему они ни казались.
Человечество движется к грядущему граду. Жертвенный путь его орошен
потом и кровью и совершенно чужд всякой идиллии» потому и мечта о граде также
получает трансцендентный, религиозный характер. И это есть щит, охраняющий
от религиозного умирания, от подлинной иррелигиозности ту часть человечества,
которая мираж пустыни приняла за облачный столп и пошла за ним. И эта святая
тревога искания, этот неумолчный зов куда-то вдаль и ввысь, эта непримиримость
к настоящему есть истинно божественное в человеке, что может быть только
искажено неверностью пути, ложностью устремления. История есть неустанное
стремление, вечная тревога, путь, не имеющий конца. История не может внутренне
закончиться в истории, «дурная бесконечность» есть ее природа. Только однажды в
жизни смог сказать Фауст мгновению: остановись! но это была' минута его смерти.
Часовая стрелка упала, время кончилось, обратясь в одну точку. И весь
положительный итог, интеграл его жизни, суммируется в запредельности, для которой
Alles vergängliche
Ist nur ein Gleichniss,
Das Unzulängliche
Hier wird's Ereigniss12*.
Но если это недостижимое (Unzulängliche), которое может быть достигнуто, стать
«Ereigniss», лишь после спадения часовой стрелки, т. е. когда «времени больше не
будет»13*, объявляется достижимым и уже достигаемым во времени, тогда
духовный взор ослепляется миражем земного града, манящим и дразнящим, но
обманывающим. Призрак делает свое дело, ибо гонит вперед, не давая успокоиться, но эта
10
призрачность проникает и в душу человека и роковым образом уводит на путь че-
ловекобожия. Человечество целует раны свои, поклоняется страстям своим,
измеряет трудный путь свой, но уже присвояет себе самому все совершенное, отлагаясь от
Бога, хочет жить «во имя свое». На протяжении всей всемирной истории можем
мы наблюдать это зрелище. Один за другим создаются эти земные идеалы,
мысленно построяется земной град, разрабатывается его план и чертеж. В античном
мире мечта эта всего ярче выразилась в «Политейе» Платона, построившего земной
град по типу языческого монастыря и в философском клерикализме нашедшего
ключ к заветным дверям. И та же мечта в образе иудейского хилиазма14* ослепила
глаза еврейству и помешала ему в Царе не от мира сего распознать истинного
мессию. В христианский мир она проникает сначала в учении о папской иерокра-
тии15*, из которого выросла вся система папизма, завершившаяся в догмате о
папской непогрешимости. Августину дано было с гениальной силой выразить всю
противоположность двух градов, но с тем лишь, чтобы тотчас же провозгласить
земную церковь уже достигнутым градом, царством Божиим на земле. Августинизм в
этом смысле предопределил развитие всего средневековья, даже более - всего
католичества как папизма (конечно, никоим образом нельзя ставить знак равенства
между этими понятиями, ибо «католичество» есть западная часть единой
вселенской христианской Церкви, папизм же - ее местный уклон и новообразование,
которое можно рассматривать и совершенно отдельно и самостоятельно). Римская
церковь на протяжении средних веков утверждала себя как земной град, земная
теократия, и лишь отсюда понятна и теория двух мечей16*, и все притязания
папизма. Через папизм1, иудейский хилиазм мечта о земном граде возродилась в
западном христианстве и послужила причиной многих для него несчастий. Этот же
яд проникает и в православие в учении о мистическом самодержавии, будто бы
призванном осуществить земной град. Но в православии это мнение никогда не
получало характера догмата, как в католичестве, оставаясь самое большее на
положении местного или частного мнения. Цезарепапизм18* для православия есть
лишь плод злоупотребления, порождение греховной слабости членов Церкви, их
попустительства, но никогда не догмат2. Православие убереглось от примеси
иудейского хилиазма, оно остается не связанным с определенным идеалом земного
града и потому, как ни противоречит это, по-видимому, существующему
историческому положению вещей, православие и внутренне независимей, свободнее, чем
папизм, ибо оно остается царством не от мира сего. Церковь не град. Правда, она
существует в граде и, поскольку становится ему причастна, постоянно
подвергается опасности обмирщения и пленения, «паралича»20*, на этой почве возникает и
исторический цезарепапизм, но не это ее природа.
То, чем был папоцезаризм21*, теперь стал социализм в разных его формах -
мечтой о земном граде. Достоевский верно угадал и отметил эту связь между
папизмом и социализмом как порождениями одной и той же сущности, которая
классически выразилась в иудейском хилиазме22*. К нему же приводятся и другие
варианты этой мечты о земном граде, и, утверждаясь в нем, все они роковым
образом принимают более или менее антихристианский характер. Именно здесь
проходит эта таинственная грань - между царством от мира и не от мира сего.
1 Отличительной особенностью церковного мировоззрения Вл. С. Соловьева является его
переоценка папизма, благодаря чему он мыслил соединение западной и восточной части
единой вселенской церкви не иначе,как в форме признания римского первосвященника законным
и непогрешимым главой Церкви со стороны православного Востока. Быть может, здесь
скрывается у Соловьева не пережитый им в обычной форме политического и социального утопизма
соблазн иудейского хилиазма, хотя и не вполне им осознанный17*.
2 На этом основании я совершенно отвергаю мистическую связь между православием и
самодержавием. Насколько она существует, она имеет церковно-исторический и религиозно-
психологический характер. Она создана была историей и ею же на наших глазах - медленно,
но верно - разрешается19*.
11
Но не значит ли это обесценивать историю, топить временное в пучине
вечности, лишать историю религиозного нумена23*? Ни в каком случае. Христианство
само есть религия историческая, боговоплощение произошло во времени, и для
всего существует полнота времен, «времена и сроки». Выводя исход истории за
пределы временного, оно не лишает значения этот временный процесс, которого
нельзя ни обойти, ни перепрыгнуть. Все имманентное имеет связь с
трансцендентным, есть его символ. Одинаково как индивидуальная жизнь имеет абсолютное
значение, так и история, эта биография всего человечества. И как природа есть
книга откровения, неписаная Библия, так и в истории совершается откровение,
приобретается религиозный опыт, мир внутренне зреет, и в конечном итоге
история сопредельна запредельному1. Потому, между прочим, и земная жизнь Церкви
предполагает непрестанно совершающееся откровение, другими словами,
догматическое творчество не может иссякнуть, хотя и может временно приостанавливаться
или принимать неуловимый и неопределимый характер. Отрицать это может
только тот, кто не верит в Церковь. В связи с этим стоит вопрос и о христианском
хилиазме (в его противоположности иудейскому) как идеальной проекции
религиозных откровений в полноте, доступной в истории. Это лишь другая формула идеи
религиозного откровения в истории. Но расти можно только из почвы, которая
обусловливает непрерывность и единство роста, и, чтобы устремляться в будущее,
надо быть крепко связанным с прошлым, жить им, опытно его знать. В церковной
жизни не должно быть поэтому ни перерывов, ни революций, вся она возрастает на
единой лозе. И те, кто говорят о новом религиозном творчестве в разрыве с
Церковью, делают прыжок в пустоту или же роковым образом отъединяются в
сектантство. Высказанного здесь, конечно, не разделят и те, кто придерживается старове-
рия (в широком смысле), т. е. кто отрицает возможность движения в церковной
жизни и неподвижность возводит в догмат. Иногда это вытекает из самых лучших
побуждений, как протест против беспочвенности и легкомыслия таких
реформаторов, которые просто не знают и не умеют ценить церковной связи. Но если эта
неподвижность возводится в догмат, то это есть уже явное заблуждение. Никогда в
Церкви не было догматического определения о том, что не может быть новых
догматов, и что все они исчерпываются определениями семи Вселенских соборов24*.
Такое глубоко антиисторичное воззрение не может найти себе догматического
обоснования. Церковь есть жизнь, творчество, порыв. Закон безостановочного
движения имеет здесь силу более, чем где-либо2.
Итак, в истории действительно строится град, к этому и сводится
положительное ее содержание, но он строится частями и целое не вмещается в сознание
строящих. К тому же и сами строящие приступают только по очереди к труду своему, и
смерть соблюдает правильность этой очереди. Смерть есть поэтому одно из
основных предусловий исторического процесса, и выход за грань истории необходимо
связан с победой над смертью. Все историческое делание должно оцениваться по
двойственному критерию: при свете временной целесообразности, преследования
очередных задач истории, и при свете религиозного сознания, чувства вечности,
живущего в душе. Равнодействующая истории идет по диагонали, определяющейся
этими двумя перпендикулярами и более приближающейся то к тому, то к другому.
Ее нахождение есть дело творчества личной жизни.
Антитеза теизма и пантеизма, христианства и человекобожия ставится во всей
европейской истории. Две души живут и развиваются, стремясь к достижению
1 Это глубоко почувствовано в учении Н. Ф. Федорова, при всей его крайности.
2 Прекрасно говорит об этом Вл. Соловьев: «Нет, никогда не будет и не должно быть
успокоения человеческому духу в этом мире. Нет, не может и не должно быть такого авторитета,
который заменил бы наш разум и совесть и сделал бы ненужным свободное исследование.
Церковь, как и отчизна, как и библейская "жена юности", должна быть для нас внутренней
силой неустанного движения к вечной цели, а не подушкой успокоения». (Собр. соч., VIII,
307)25\
12
зрелости, в этой культуре, единой лишь в своем овеществлении, но двойственной в
духовных своих потенциях. Два града строятся в ней. Культура есть средство для
духа. Оно может быть более или менее совершенно технически — отсюда различие
степеней «культурности» разных стран или их различный культурный возраст, но
коэффициентом культуры является лишь тот дух, который в ней живет, или,
точнее, - так как духов этих не один, а два, - то их противоборство и его итог.
Это же противоборство совершается и в русской культуре, и оно осознается в
душе русской интеллигенции. Проблема русской культуры становится поэтому
неизбежно и проблемой русской интеллигенции. Последняя с небывалою остротой
поставлена была русской революцией, этим зеркалом всей нашей жизни,
испытанием наших духовных и культурно-исторических сил, и она остается и поднесь
загадкой русского Эдипа, приковывающей его глаза к страшному Сфинксу. В
русской душе, при ее религиозной страстности, соединяющейся в то же время с
отсутствием культурного самовоспитания, столкновение двух начал происходит с
особенной силой и опустошительностью и порождает на одной стороне темное,
фантастическое «черносотенство», принимающее себя за христианство, а на другой
стороне - столь же фанатическое человекобожие, оставляя не вовлеченным в эту
роковую, бесплодную и в основе ложную антитезу лишь небольшое количественно и
невлиятельное исторически меньшинство. В черносотенстве говорят темные силы
прошлого, его некультурность, темнота и самовластие. Как бы ни было велико
фактическое влияние этой силы в настоящий момент благодаря исторической
конъюнктуре, все-таки это есть сила прошлого, естественно ослабевающая с ростом
просвещения и культуры, лишенная будущего. С ней неизбежно приходится
считаться практическому политику, но она представляет малый и лишь
отрицательный интерес для русской культуры. Не то интеллигенция, которая, какова бы она
ни была, есть новая сила, ей принадлежит будущее культуры. И в душе ее борется
мертвящая «интеллигентщина» с духовными потенциями истинно культурного
творчества. Я определил бы «интеллигентщину» как крайнее человекобожие,
сосредотачиваемое притом лишь на интеллигенции, т. е. на самих себе, в соединении с
примитивной некультурностью, отсутствием воспитания в культуре, понимаемой как.
трудовой, созидательный процесс. И этот нигилизм, уменьшая практическую
годность культурно-руководящего класса, затрудняя и без того затрудненный общеисто»
рическими и общеполитическими условиями процесс культурного воспитания
страны, представляет собой прямо-таки нашу национальную болезнь.
Но «интеллигентщина» не есть неустранимая сущность интеллигенции,
напротив, она есть болезненное искажение ее лика. Многочисленные критики и
обличители Вех26* не хотят понять той простой мысли, что критиковать
«интеллигентщину», совершать crimen laesae majestatis27* этого идола, имеющего столько
искренних и лицемерных жрецов, можно только во имя любви к интеллигенции и
веры в нее. И поскольку в критике звучала эта обида, потревоженное
самодовольство, постольку этим только подтверждалась правильность поставленного диагноза.
Историческое дело, намечаемое Вехами, можно сказать, находится еще в самом
начале. Будущее русской культуры в значительной мере зависит от того, победит
ли в себе «интеллигентщину» русская интеллигенция и окажется ли она способной,
органически сросшись с нацией, творить национальную культуру. Но для этого
необходима μετάνοια18*, сознательный пересмотр себя, самопроверка и неизбежное
самоосуждение, короче, личное и общественное «покаяние». Вина наша пред
родиной не только в том, в чем видят ее обычно и на что отвечают социальным
покаянием, как «кающийся дворянин» у Михайловского29*, - ведь и при этом можно
остаться в душе своей все-таки «дворянином», — но в личном самопревознесении,
высокомерно-покровительственном отношении к народной, исторической и
церковной стихии. Этот внутренний отрыв от родной почвы может быть преодолен только
изнутри. И это признание вины -и, снова подчеркиваю, прежде всего личной, а не
13
отвлеченно-социальной, - способно изменить и всю общественную психологию,
отразиться и на практической деятельности, ибо личность, определяющаяся в
тайниках души и интимнейших переживаниях совести, есть все же единственное
творческое начало в истории. Только здесь свобода, и только свободе принадлежит
творчество.
Настоящая эпоха представляет собой в некоторых отношениях критический и
поворотный период в русской истории. Если предыдущее десятилетие по
преимуществу было подготовительным периодом роста политического самосознания, то
настоящее знаменует собой критическую эпоху в нашем культурном самосознании.
Конечно, мы далеки еще от удовлетворительного разрешения и политических
вопросов, поставленных жизнью, но здесь должна делать свое дело медленная и
трудная историческая работа, политический перевал уже перейден, мы живем при
новых политических и общественных условиях. Но именно это ставит русскую
культуру в новое положение, требует для нее углубленного самосознания. И это
напряжение творческих сил нации необыкновенно трудно, несравненно труднее,
конечно, чисто политического движения. Нам приходится стоять перед лицом
мощной западной культуры в полном ее расцвете, нам необходимо, кроме того,
учиться у нее, известным образом усвоять ее. Но даже самое это усвоение не есть
процесс только механический, а требует органической ассимиляции. И еще более
надо сказать это про самостоятельное культурное творчество, слабые ростки
которого подвергаются опасности хотя и родственной, но все-таки чуждой прививки.
Пред нами опять стоит антиномия славянофильства и западничества, в новой лишь
ее постановке. Тогда, как и теперь, западничество, т. е. духовная капитуляция
пред культурно сильнейшим, остается линией наименьшего сопротивления, и
стремление к культурной самобытности, конечно на основе творческого усвоения
мировой культуры и приобщения к ней, тогда, как и теперь, может утверждаться
лишь подвигом веры, казаться некоторым дерзанием. Однако не дерзал ли в этом
смысле и Фихте, произносивший свои «Речи к германскому народу»30* тоже в
эпоху политического и национального распада? Русская боль и русская тревога за
нашу культуру не должны ослабевать в это трудное и ответственное время, когда
задачи так огромны, культурные силы так разрозненны и слабы, а национальное
самосознание так придавлено. И в грядущее, к будущей молодой России, обращено
наше упование, наша вера. Пусть она достигнет наконец Ханаана31*, возвратится
на свою духовную родину, и пусть она будет счастливее нашего переходного
поколения, которому суждено, быть может, погибнуть во время сорокалетних
странствований в песках пустыни.
Но не является ли таким же непрерывным странствованием в стремлении к
грядущему граду как личная жизнь каждого из нас, так и всего исторического
человечества. В этом движении к запредельной цели возможен только перерыв, но
невозможна остановка, по слову Апостола:
ου γαρ εχομεν ώδεμένουσαν πόλιν, άλλα τήνμέλλονσαν έπιζητοϋμεν.
Не имамы бо зде пребывающаго града, но грядущаго взыскуем (Евр. XIII, 14).
Москва, 30 октября 1910 г.
РЕЛИГИЯ ЧЕЛОВЕКОБОЖИЯ У Л. ФЕЙЕРБАХА1
I
Недавно (в 1904 году) праздновалось столетие со дня рождения замечательного
мыслителя, который, хотя провел большую часть своей сознательной жизни в
деревенском отшельничестве1*, не изменив ему даже в революционный 1848 год,
однако своими философскими идеями оказал глубокое влияние на своих
современников, далеко не изжитое до сих пор. И по-настоящему в ряду имен, выражающих
собой духовный облик XIX века, наравне с именами Гегеля и Дарвина, Маркса и
Ог. Конта, Спенсера и Милля, следует поставить и малоизвестное сравнительно
имя брукбергского отшельника - Людвига Фейербаха.
Но если живы до сих пор идеи Фейербаха, которого, по справедливости, можно
поэтому причислить к разряду духовных вождей современного человечества, то
имя его находится в незаслуженном небрежении и забвении. Исполнившийся
столетний юбилей также не принес ничего, кроме нескольких, в большинстве случаев
совершенно незначительных газетных заметок. Можно указать на одно только
исключение. В настоящее время выходит — трудами Иодля и Болина, двух
современных фейербахианцев, — новое, дополненное издание сочинений Фейербаха2 и
вышла, кроме того, в серии «Fromann's Klassiker der Philosophie» работа о Фейербахе,
принадлежащая перу того же Иодля (вместе с монографиями Старке и Болина
почти исчерпывающая скудную литературу о нем). Будучи решительным и
принципиальным противником мировоззрения Фейербаха в самых его основах, я, однако,
особенно желал бы привлечь общественное внимание к его идеям и к его
сочинениям, ибо благодаря огромным достоинствам последних, в числе которых на первое
место следует поставить философский радикализм и откровенную прямолинейность
Фейербаха, в них с неотразимой энергией ставятся основные вопросы о высших и
последних человеческих ценностях, столь часто отодвигаемых на задний план.
Фейербах принадлежит к числу таких мыслителей, которые в высокой степени
содействуют сознательному самоопределению человека в ту или другую сторону, от
него, как от философского распутья, резко расходятся дороги в противоположные
стороны, и полезно каждому, прежде чем окончательно вступить на извилистые
тропинки, углубляющиеся в дебри, прийти к этому распутью, откуда видно
исходное различие путей. Таково общее значение философии Л. Фейербаха для нашего
времени.
1 Напечатано в журнале «Вопросы жизни» за 1905 г. и выпущено отдельно в изд-ве
«Свободная совесть», М., 1906.
2 За последние годы в русском переводе появились некоторые произведения Фейербаха,
как-то: «Сущность христианства», «Мысли о смерти и бессмертии»2*.
15
Понять, почему Фейербах так мало пользуется вниманием со стороны
представителей современной философской мысли, в особенности немецкой школьной
философии1, весьма нетрудно. Это объясняется больше всего тем, что он слишком на
них не похож, - шероховатый, дерзкий, даже революционный писатель чересчур
отличается от солидных и чинных представителей «научной» критической
философии, шокирующихся воинствующим и страстным атеизмом Фейербаха, но не
желающих усмотреть и оценить в нем подлинно человеческих мотивов и настоящих
человеческих страданий. Пришла уже мода на Ницше, но не дошла еще, а может
быть, и не дойдет очередь до Фейербаха. Основная и коренная причина этого
холодного равнодушия к Фейербаху (она же долгое время препятствовала тому,
чтобы разглядеть также и Ницше) состоит в том, что философия для Фейербаха не
есть дело школы и школьной специальности, как для многих специалистов по
философии, но дело жизни. Фейербах жил в своей философии, отсюда ее
взволнованность, непоследовательность и постоянная, неугомонная его склонность развивать,
переделывать и изменять свою систему. В этом смысле в нем есть нечто
ницшеанское. Раз философия действительно становится делом жизни, то это необходимо
отражается и на ее темах, на основных ее проблемах. Отступают на задний план -
не будем отрицать, нередко в ущерб точности и ясности мышления - проблемы
характера школьного, пропедевтического, технического (у Фейербаха, например,
совсем отсутствуют — horribile dictu3* — специальные трактаты по теории
познания, когда же он касается этих вопросов, то впадает в беспомощный ребяческий
сенсуализм, доступный для опровержения со стороны среднего студента
философии). Зато все внимание его поглощают жизненные задачи философии, вопросы об
абсолютных ценностях или о смысле человеческой жизни, т. е. вопросы
религиозные. Религиозный интерес у Фейербаха всю жизнь оставался господствующим, так
что к нему вполне применима характеристика одного из героев Достоевского:
«Меня всю жизнь Бог мучил»4*, и, несмотря на весь фейербаховский атеизм, его,
по справедливости, следует назвать атеистическим богословом. Он сам говорит о
себе в лекциях о религии, читанных им уже на склоне жизни в единственное
почти его выступление перед публикой: «Несмотря на различие тем моих сочинений;
все они имеют, строго говоря, только одну цель, одну волю и мысль, одну тему.
Именно эта тема есть религия и теология и все, что связано с ними... Во всех
своих сочинениях я никогда не упускал из внимания отношения к религии и теологии
и всегда занимался этим главным предметом моей мысли и жизни, хотя, конечно,
и различно в соответствии с различием лет»2.
И достаточно беглого знакомства с его сочинениями, чтобы убедиться в
справедливости этой характеристики. Он выступил впервые в литературе с «Мыслями о
смерти и бессмертии»; основное его сочинение, представляющее собой один из
замечательнейших и характернейших памятников мысли XIX века, есть «Сущность
христианства», к которому он написал еще целый том дополнений и объяснений.
Далее следовали: «Сущность религии», «Лекции о религии», «Теогония» и многие
мелкие этюды критические, полемические, даже стихи (двустишия). И эта
напряженность религиозных исканий, атеистическая страсть, которой одержим был
Фейербах, постоянные усилия богоборчества, не могущего успокоиться и окончательно
победить «мучащего» Бога, — словом, это отсутствие религиозного
индифферентизма, столь обычного в наше время, делает Фейербаха весьма своеобразным и
значительным явлением религиозной жизни XIX века. И все эти черты, которые отчуж-
1 Даже в специальном трактате по истории философии религии проф. О. Пфлейдерера
посвящено Фейербаху лишь несколько совершенно бесцветных страниц. Prof. Otto Pfleiderer.
Geschichte der Religionsphilosophie von Spinosa bis auf die Gegenwart. Dritte Ausgabe. Berlin,
1893. S. 447-454.
2 Vorlesungen über das Wesen der Religion* составляющие 8-й том старого, изданного еще
самим автором, собрания сочинений, 0.-6-75*. .
16
дают его от его теперешних соотечественников, странным образом приближают его
к нам, к нашим теперешним исканиям. Нам не претит его нестрогость в школьном
смысле слова, ибо не нам на нее претендовать, но зато как дорога и понятна нам
эта религиозная распаленность, сосредоточенная замкнутость его мысли, его
религиозный, хотя и атеистический энтузиазм. Штирнер иронически обозвал Фейербаха
«благочестивым атеистом» (frommer Atheist6*), и на самом деле Фейербах
благочестив в своем атеизме, хотя в то же время в нем было какое-то непримиримое
упрямство (составляющее, на нащ взгляд, самую характерную черту в его лице на
портрете), какое-то тяжелое однодумство, которое отвращало его сердце от Бога и
делало его воплощенным противоречием, - «благочестивым» богоборцем. Но в
искреннем и тяжелом, мучительном богоборчестве, может быть, и впрямь
заключается особый (хотя и, так сказать, предварительный) тип благочестия. Неужели же
Фейербах, Ницше, даже Штирнер (у нас теперь Шестов7*), как коршуны, сами
поедающие свою печень, столь чуждые и далекие от уравновешенного и
успокоенного, «трезвого» индифферентизма позитивистов, и впрямь не найдут для себя
места в одной из «многих обителей», уготованных Отцом, и не вложат наконец свои
пытующие персты неверующего Фомы в язвы гвоздиные?8* Неужели не
вознаграждены будут эти искренние религиозные страдания!?
II
Но если Фейербах столь близок нам своей десницей, которой мы считаем
чуждое религиозного индифферентизма направление его мысли, то не менее жизненное
значение получает он и благодаря своей шуйце, которой мы считаем все
положительное содержание его учения, его атеистическую догматику, вообще его
религиозно-философскую доктрину. Эта доктрина живет и по настоящее время, и прежде
всего в массах, исповедующих учение Маркса и Энгельса, ибо в
религиозно-философском отношении оба они являются учениками Фейербаха, и притом
неоригинальными учениками, со своей стороны только иссушившими доктрину учителя.
Для знакомых с генезисом марксизма известно, какое огромное влияние имели
здесь идеи Фейербаха. Впрочем, об этом рассказывает сам Энгельс в своей
брошюре, хотя и не имеющей самостоятельного философского значения, но
представляющей большой интерес исторический, - «Л. Фейербах и исход классической
философии». Здесь мы читаем следующее: «...тогда появилось "Wesen des Chris-
tenthums" Фейербаха. Одним ударом оно уничтожило противоречие, возведя без
обиняков снова на трон материализм. Природа существует независимо от всякой
философии; она есть основа, на которой мы выросли; мы, люди, сами продукт
природы; вне натуры и человека не существует ничего, и высшие существа, которых
создала наша религиозная философия, суть только фантастические отражения
нашего собственного существа. Чары были разрушены, "система" лопнула и отброшена
в сторону, противоречие устранено, хотя оно имелось только в воображении.
Нужно было пережить на себе освободительное влияние этой книги, чтобы составить
себе о нем представление. Воодушевление было общее: мы все моментально стали
фейербахианцами»1.
Ранние сочинения Маркса, относящиеся к 40-м годам и переизданные теперь
Мерингом, отражают это увлечение Фейербахом (Heilige Familie, Zur Kritik der He-
gelschen Rechtsphilosophie, отчасти - Zur Judenfrage, у Энгельса - Die Lage
Englands). Позднее Маркс и Энгельс отступили от ортодоксального фейербахианства,
1 F. Engels. L. Feuerbach und der Ausgang der klassischen Philosophie, 10-119*. (С тех пор
как написаны эти строки, вышло уже несколько русских переводов этой брошюры.) Ср.
аналогичный рассказ Герцена о впечатлении, произведенном на него чтением Wesen des Christen-
thums» («Былое и думы»)10*.
17
но Энгельс, несомненно, страшно преувеличивает степень этого разногласия.
Материалистическое понимание истории и учение о классовой борьбе явились только
восполнением и, так сказать, конкретизированием общей формулы Фейербаха, но
ни в какой степени не затронули ее сущность. В отношении общефилософских
идей Маркс не сделал ни малейшего шага вперед против Фейербаха, и учение
последнего было той почвой, на которой вырос марксизм, и по сие время остается его
действительным общефилософским фундаментом. Атеистический гуманизм
Фейербаха составляет душу марксистского социализма1 и характерен для него не
меньше, нежели политико-экономическая доктрина самого Маркса, которая может быть
совместима и с принципиально противоположным общим миросозерцанием. Имея в
виду эту философскую генерацию идей, мы смело можем выставить парадоксальное
на первый взгляд положение, что Фейербах в гораздо большей степени является
духовным отцом марксизма, нежели сам Маркс, который дал только плоть для
идей Фейербаха, и потому, если углубить теперешний социал-демократизм до его
общефилософских оснований, то в фундаменте его окажутся идеи Фейербаха. Эта
связь идей, однако, очень слабо сознается или совсем даже не сознается
участниками современного социал-демократического движения вследствие общего его
философского оскудения, которое тем увеличивается, чем дальше мы отходим от
философского первоисточника. Во всяком случае, если хотят подвергнуть критике
существо марксизма, то нужно считаться не с социалистическими идеями (которые
еще не так характерны для марксизма как такового, ибо могут соединяться и с
противоположным теоретическим мировоззрением) и даже не с «экономическим
материализмом», представляющим лишь надстройку над учением Фейербаха, но с
религиозно-философскими идеями этого последнего. Здесь
религиозно-метафизический центр марксизма, как и всего вообще материалистического, атеистического
социализма. В целях религиозно-философской критики следует понять марксизм
именно как фейербахианство.
Но Фейербах живет не только в марксизме, ибо фейербахианство гораздо шире
марксизма, последний есть только частный случай первого, и подобных частных
случаев может быть несколько; несомненно, марксизмом не ограничивается сфера
непосредственного или косвенного влияния Фейербаха. Оно сказывается во всем
новейшем антирелигиозно-гуманитарном движении, во всем атеистическом
гуманизме, в атеистической религии человечества, которою новое время
характеризуется2. Здесь его влияние сталкивается и сливается с однозвучащим влиянием Конта,
тоже проповедника религии человечества11*.
Поразительно это совпадение основных идей и одновременное выступление
двух сродных мыслителей, чуждых по крови, по языку, едва ли знавших и
слышавших друг о друге, но связанных реальным единством общеевропейской
цивилизации и духа времени. В то время как брукбергский отшельник вынашивал в
баварской деревне свои учения о религии человечества, другой отшельник в Париже
создавал свою до поразительности, до загадочности близкую доктрину «позитивной
политики», основанную на той же религии человечества. Обоих мыслителей
разделяет вся разница, какая только существует между культурами и характером
породивших их стран. Один представитель точных наук, с презрением к спекулятивной
1 Справедливо замечает Масарик: «Революционная движущая сила для Маркса и у Маркса
не естествознание, а атеизм» («Философские и социологические основания марксизма», пер. П.
Николаева, с. 423). В другом месте Масарик справедливо указывает, что «Маркс (и Энгельс)
исходят от Фейербаха и влияние Фейербаха на Маркса было очень значительно, гораздо
значительнее, чем обыкновенно полагали. Кто понял эти немногие страницы о Фейербахе (эти
страницы содержат изложение его учения), тот больше поймет марксизм, чем при непереваренном
прочтении первой части Капитала».
2 У нас последователем Фейербаха стал Н. Г. Чернышевский, бывший проводником его
влияния в русском обществе.
18
философии и с весьма слабым знакомством с ней, после научных изысканий
пришел к своим заключительным идеям, которым придал догматически-топорную
форму какого-то папизма без папы12*. Другой вышел от Гегеля, из недр абсолютного
немецкого идеализма, сын рефлексии и абстракции, противоречивший себе в запутанном
ходе своих мыслей и до конца сохранивший неизгладимую печать гегельянства,
писатель, о котором сдержанный и привычный к философским тонкостям Ланге
выражается так: «Система Фейербаха отличается мистическою темнотой, которая нисколько не
проясняется подчеркиванием чувственности и очевидности»1.
И вот столь разные мыслители на разных языках в одно время сказали одно и
то же: поставили и затем посильно разрешили вопрос о религии без личного Бога,
но с богом-человечеством, дали философское выражение стремлению новейшего
человечества, по выражению Достоевского, «устроиться без Бога»13*, притом вполне
и окончательно.
Конту повезло у нас больше, чем Фейербаху, его больше знали и чтили14*. Но
как мыслитель Фейербах гораздо глубже, значительней и интересней Конта, он
лучше вводит в сложную проблему человекобожия, его аргументация тоньше и
сильнее, хотя в силу большей сложности обнаруживает и большее количество
слабых сторон. Полное и возможно законченное выражение идее человекобожия,
религии человечества, дал именно Фейербах.
Читателю ясно, почему марксизм есть только частный случай фейербахианства
или контизма, ибо, по существу дела, в рассматриваемом отношении представляет
одно и то же (хотя это не мешает Марксу при случае дать Конту, с обычной для него
резкостью, хорошего пинка15*). Атеистический гуманизм, или религия человечества,
находит в новой истории много форм выражения и помимо марксизма. Он есть
универсальное, обобщающее явление в духовной жизни нового времени, поскольку она
определяется вне христианства или даже в сознательной противоположности ему.
Религия человечества есть значительнейшее религиозное создание нового времени.
Этот продукт его религиозного творчества, столь противоречивый и сложный,
требует внимательного, добросовестного и беспристрастного к себе отношения, и нельзя
преувеличить всю важность внимательного его исследования.
Фейербах оставил большое литературное наследство в виде трудов по
философии, истории философии и религиозной философии, так что ознакомление с этими
трудами потребовало бы целой монографии2. Кроме того, не надо забывать, что
Фейербах эволюционировал в течение всей жизни, начав с гегельянства, а кончив
более или менее решительным материализмом. Ввиду, этого относительно его
философского развития и учения может быть поставлено весьма немало проблем,
касающихся разных сторон его мировоззрения в разные эпохи. Мы не ставим себе
столь широкой задачи. Дело в том, что в разных сторонах своего учения Фейербах
представляет весьма различный интерес. Нас мало интересует, например, его
теория познания (если можно о ней говорить), сбивающаяся на сенсуалистический
материализм, притом вульгарного оттенка. Мало интересует нас также и чисто
философская его позиция, хотя и весьма характерная для общего разложения
гегельянства и любопытная поэтому для исследователя судеб гегельянской философии.
Наконец, можно оставить в стороне и прямые нападения Фейербаха на христианскую
религию с его критикой догматов христианства. Эта критика неразрывно связана с
собственной метафизикой Фейербаха и, при своем поверхностно-рассудочном
характере, не представляется сама по себе настолько серьезной, чтобы с ней надо было
считаться как с таковой. Она получает интерес и значение только в связи с его
собственным положительным учением о религии, с его философией религии.
В этой последней мы и видим центр тяжести и главный интерес учения
Фейербаха. Он и сам видел главное дело своей жизни в новом учении о религии, которое
1 Lange. Geschichte des Materialismus. 6 Ausg. hrsg. von Cohen, II, 73.
2 Таковою отчасти является книжка Иодля «Л. Фейербах» (СПб., 1905).
19
считал поворотным пунктом в истории1. «Задачей нового времени, — говорит он2, -
было овеществление и очеловечение Бога — превращение и перерождение теологии
в антропологию»16*.
Антропологическое учение Фейербаха о религии, Фейербах как проповедник
религии человечества, как религиозный учитель гуманитарного атеизма — такова
тема этого очерка. В основных положениях этой свой доктрины Фейербах
оставался сравнительно неподвижен; он старался ее усовершенствовать и восполнять, но
оставлял в неприкосновенности ее основы, вполне определившиеся уже в
сочинении «Wesen des Christenthums».
Основные мысли о сущности религии, выраженные в этом сочинении, Фейербах
развивал и углублял в «Wesen der Religion», в «Vorlesungen über das Wesen der
Religion», в «Ergänzungen und Erläuterungen zum Wesen des Christenthums» и т. д.
Изложение своих мыслей он обременял при этом бесконечными повторениями в
разных, иногда даже малоразнящихся словах, с настойчивостью однодума,
вдобавок несколько одичавшего в деревне. Но везде, через всю его деятельность
проходит один вопрос: в чем тайна религии? Почему человек создает себе Бога?
Характеризуя свою духовную эволюцию, отправным пунктом которой было изучение
богословия, срединным - метафизики, а конечным - философии рационализма,
позитивизма и атеизма, Фейербах говорит о себе: «Бог был моей первой мыслью,
разум — второй, человек - третьей и последней мыслью»19*. Это часто цитируемое
его выражение характеризует различие ответов, даваемых им в разные времена
жизни на один и тот же жизненный вопрос, именно вопрос о Боге как предмете
религии. Бог был и первой и второй, и последней мыслью Фейербаха.
III
Проповедник атеизма, Фейербах не только не отрицает религии вообще, но
видит в ней существенное отличие человека от животных, которые не имеют
религии3. Он ставит это в связь с природой человеческого сознания, которому
свойственна идея бесконечного - главный признак религии. «Сознание, в строгом или
собственном смысле слова, и сознание бесконечного неразделимы; ограниченное
сознание не есть сознание»4.
Фейербах стремится не упразднить религию, а ее очеловечить, свести с неба на
землю, растворить ее в стихийной силе чувства5 и, самое главное, представить ее
1 Grundsätze der Philosophie der Zukunft (1843). Во втором томе нового издания Иодля и
Болина, § 1.
2 Фейербах совершенно справедливо констатирует, что «периоды человечества различаются
между собою только религиозными переменами» (Philosophische Kritiken und Grundsätze.
Статья «Nothwendigkeit einer Reform der Philosophie», 1841. S. 21 б17*, по новому изданию второго
тома). Против этого положения с точки зрения своего исторического материализма возражает
Энгельс (L. Feuerbach etc. 28-29)18".
3 Wesen des Christenthums. S. l20*.
4 Ibid., S. 2. Курсивы здесь и в дальнейших цитатах из сочинений Фейербаха принадлежат
подлиннику21*.
5 Характеризуя эмоциональную сторону религии и односторонне сводя религию к одному
чувству (как будто сам Фейербах, занимаясь исключительно метафизикой религии, не
показывает тем самым, насколько неустранимы из нее и метафизические проблемы), Фейербах
говорит: «Бог есть чистое, неограниченное, свободное чувство. Всякий другой бог есть бог,
навязанный твоему чувство извне. Чувство атеистично в смысле ортодоксальной веры как такой,
которая соединяет религию с каким-либо внешним предметом, оно отрицает предметного бога,
оно само есть бог. Отрицание исключительных прав чувства (des Gefühls nur), с точки зрения
чувства, есть отрицание бога. Ты слишком робок или ограничен для того, чтобы высказать
словами то, что утверждает в жизни твое чувство. Связанный внешними соображениями,
неспособный понять душевное величие чувства, ты пугаешься религиозного атеизма своего серд-
20
как раздвоение человека с самим собой, которое, раз осознано, подлежит упразднению
и сознательной замене религией человечества. «Абсолютное существо, бог человека,
есть его собственное существо»1. В предисловии к собранию своих сочинений
Фейербах в таких выражениях формулирует свою основную мысль о религии:
«Вопрос о том, существует бог или нет, противоположность атеизма и теизма
принадлежит XVIII и XVII, но не XIX столетию. Я отрицаю бога - это значит у меня: я
отрицаю отрицание человека. Я ставлю на место иллюзорного, фантастического
небесного утверждения (Position) человека, которое в действительной жизни необходимо
приводит к отрицанию человека, чувственное, действительное, а следовательно,
необходимо также и политическое и социальное утверждение человека. Вопрос о бытии или
небытии бога у меня есть именно вопрос о бытии или небытии человека»25*.
«То, что есть для человека бог, это его дух, его душа, и то, что составляет его дух,
его душу, его сердце, это и есть его бог: бог есть открытая внутренность, высказанная
самость (Selbst) человека, религия есть торжественное раскрытие скрытых сокровищ
человека, признание в сокровеннейших мыслях, открытое исповедание таинства
любви»2. «Религия, по крайней мере христианская, есть отношение человека к самому себе
или, точнее, к своему существу, но отношение к своему существу как к другому
существу. Божественное существо есть не что иное, как человеческое существо или, лучше,
существо человека, освобожденное от границ индивидуального, т. е. действительного,
телесного человека, опредмеченное (vergegenständlicht), т. е. считаемое и почитаемое
как другое, от него отличное, особое существо - все определения божественного
существа суть поэтому определения человеческого существа»3.
«Религия есть разделение человека с самим собой; он противопоставляет себе бога
как противоположное себе существо. Бог не есть то, что есть человек, человек не есть
то, что есть бог. Бог есть бесконечное, человек — конечное существо; бог совершенен,
человек несовершенен; бог вечен, человек временен; бог всемогущ, человек бессилен;
бог свят, человек грешен. Бог и человек суть противоположности (Extreme): бог
исключительно положительное начало, совокупность всех реальностей, человек -
исключительно отрицательное, совокупность всех ничтожностей (Nichtigkeiten). Но человек
опредмечивает в религии свое собственное существо. Таким образом, должно быть
доказано, что эта противоположность, это раздвоение бога и человека, которым
начинается религия, есть раздвоение человека со своим собственным существом»4.
«Ты веришь в любовь как божественное свойство, ибо ты сам любишь, ты веришь,
что бог есть мудрое, благое существо, ибо ты ничего не знаешь над собой высшего, чем
доброта и разум, и ты веришь, что бог существует, что он есть, следовательно, субъект
или существо, ибо ты сам существуешь, сам представляешь собой существо... Бог есть
для тебя нечто существующее (ein Existierendes), существо на том же самом основании,
на котором он является для тебя мудрым, блаженным, благим»5.
ца и в этом страхе уничтожаешь единство твоего чувства с самим собой, воображая себе
отличное от твоего чувства предметное существо, и с необходимостью снова бросаешься к старым
вопросам: существует ли Бог или нет... Чувство есть твоя внутренняя и вместе с тем отличная
от тебя сила, оно в тебе выше тебя: это самое подлинное (eigenstes) твое существо, которое,
однако, охватывает тебя как другое существо, короче - твой бог; как же ты хочешь еще
отличить от этого существа в тебе как другое предметное существо?» (ibid., 13)22*. Уже по первым
цитатам читатель может усмотреть некоторые основные особенности стиля Фейербаха: его много-
словность и манеру повторять одну и ту же мысль разными словами, философскую неточность
языка и, главное, постоянное, необузданное и неразборчивое употребление слова «Wesen», с
которым просто не знаешь, что делать при передаче его на русский язык23*. При помощи этого слова
Фейербах постоянно впадает в гипостазирование и мифологизирование понятий.
1 Ibid., б24*.
2 Ibid., 1526\
3 Ibid., 1727\
4 Ibid., 4128\
5 Ibid., 2229*.
21
На этом основании «отрицать человека - значит отрицать религию»1 и «там, где
прекращается человек, прекращается и религия»2.
Таким образом, «вера в бога есть не что иное, как вера в человеческое достоинство,
в божественное значение человеческой личности»3. «Человек есть начало религии,
человек есть средина религии, человек есть конец религии»4.
«Наше отношение к религии, — подводит Фейербах свой итог, — не является
поэтому только отрицательным, но критическим, мы выделяем истинное от ложного.
Религия есть первое самосознание человека. Религии священны именно потому, что они
суть предания первого сознания. Но то, что для религии является первым, - бог, то в
действительности есть второе, ибо он есть лишь опредмеченное существо человека, а
что для нее второе, - человек - это должно быть полагаемо и высказываемо как первое.
Любовь к человечеству не должна быть производной, она должна сделаться самобытной
(ursprünglich). Только тогда любовь становится истинной, священной и надежной
силой. Если существо человека есть высшее существо для человека, то и практически
любовь человека к человеку должна быть первым и высшим законом. Homo homini
deus est — таково высшее практическое правило, — это есть поворотный пункт мировой
истории. Отношения детей и родителей, супругов, братьев, друзей, вообще человека к
человеку, короче, моральные отношения сами по себе суть поистине религиозные
отношения. Жизнь вообще в своих существенных сторонах вполне божественной
природы»5.
Итак, homo homini deus est - вот лапидарная формула, выражающая сущность
религиозных воззрений Фейербаха. Это не отрицание религии и даже не атеизм,
это, в противоположность теизму6, антропо-теизм, причем антропология силою
вещей оказывается в роли богословия.
IV
К этому первоначальному учению Фейербах впоследствии пристраивает еще
второй этаж. Именно в позднейших сочинениях (в «Wesen der Religion» и
«Vorlesungen über das Wesen der Religion») сущность религии и усматривается еще в
чувстве зависимости (Abhängigkeitsgefühl - известная формула Шлейермахера) от
природы36* и к первоначальной формуле: Theologie ist Antropologie — делается еще
прибавка - und Physiologie37*. Приближаясь все больше и больше к натурализму и
вульгарному материализму и опасаясь, что и первая его формула звучит слишком
идеалистически, Фейербах спешит обезопасить ее от такого истолкования
соответственной материалистической интерпретацией.
«Сущность, которую предполагает человек, с которой он связан необходимым
отношением, без которой не может мыслиться ни его существование, ни его существо,
есть не что иное, как природа»7. Божественная же сущность, открывающаяся в
природе, есть не что иное, как сама природа, которая открывается, представляется и
отпечатлевается для человека как божественное существо... Природа есть не только пер-
1 Ibid., 54. «Вера в бога, по крайней мере бога религии, теряется только там, где, подобно
как в скептицизме, пантеизме, материализме, теряется вера в человека, по крайней мере как
он существует для религии»30*.
2 Ibid., 32231*.
3 Ibid., 12632\
4 Ibid., 42233*.
5 Ibid., 32634\
6 «Теизм, вера в бога, является вполне отрицательной. Она отрицает природу, мир,
человечество: пред богом мир и человек суть ничто, бог есть и был прежде, чем был мир и люди; он
может (?!) жить без них; он - ничто для мира и человека» (Vorlesungen über das Wesen der
Religion. S. 367)35\
7 Vorlesungen, 2538\
22
вый, первоначальный объект, она есть также пребывающее основание, постоянно
существующая, хотя и скрытая основа (Hintergrund) религии»1. «Моя доктрина выражается
в двух словах: природа и человек. Предполагаемая мной сущность человека,
сущность, которая есть основание или причина человека, которой он благодарен своим
возникновением и существованием, это есть и называется у меня не бог —
мистическое, непонятное, многозначное слово, но природа — ясное, чувственное,
недвусмысленное слово и сущность»40* (!!!).
Фейербах старательно подписывает к своему основному рисунку: «Се лев, а не
собака», — сие надо понимать материалистически и чувственно, но не
идеалистически и отвлеченно. Бывший последователь Гегеля, прошедший, надо думать, и
через Канта и вообще человек философски образованный, отмахивается от
преследующего его фантома религии, отгораживается от Бога вульгарно-мифологическим
понятием природы, которое берет без всякой критики, без всякого анализа2. Если
эта сторона учения и представляет своеобразный исторический и психологический
интерес, почему и мы не могли обойти молчанием эту позднейшую теоретическую
пристройку, хотя бы ради того, что сам автор придавал ей такую принципиальную
важность, то никакого философского интереса и самостоятельного значения эти
позднейшие самоинтерпретации не имеют и мы далее не будем на них
останавливаться, а обратимся к более внимательному изучению основной
религиозно-философской идеи Фейербаха, его антропо-теизма.
Здесь возникает прежде всего основной вопрос: если человек в
действительности является или должен стать истинным предметом религии, то какой именно
человек: вот этот или каждый встречный, я или другой, индивид или же вид,
иначе, человек или человечество?
Антропо-теизм или, по русскому выражению Достоевского, человекобожие
может иметь своим объектом или отдельных избранников, или весь человеческий
род, быть аристократическим, олигархическим и даже эгоистическим («эготизм»)
или же демократическим, распространяясь в идее на весь человеческий род.
Именно таким демократическим обожествлением человеческого рода в целом
характеризуется мировоззрение Фейербаха. Homo homini deus est y него надо перевести так:
человеческий род есть бог для отдельного человека, вид есть бог для индивида42*.
«Понятие божества (читаем мы у Фейербаха) совпадает воедино с понятием
человечества. Все божественные определения, все определения, которые делают бога богом,
суть определение рода, которые хотя в отдельном индивиде ограничены, но границы
эти устраняются в сущности рода и даже в его существовании, поскольку он имеет
соответственное существование в совокупности всех людей. Мое знание, моя воля
ограничены; но границы для меня не суть в то же время границы и для другого, не говоря
уже о человечестве; что мне тяжело, другому легко; что невозможно, непонятно для
1 Wesen der Religion, Собр. соч. Т. VII, 41 б39*.
2 Приведем полностью то определение природы, которое дается Фейербахом: «Я понимаю
под природой совокупность всех чувственных сил, вещей и сущностей, которые человек
отличает от себя как нечеловеческие; вообще я понимаю под природой... сущность (Wesen),
действующую согласно необходимости своей природы {nota bene: определение замыкается в
очевидный логический и словесный даже круг - природа, действующая с необходимостью природы1.),
но она не есть для меня, как для Спинозы, бог, т. е. одновременно и сверхприродная,
сверхчувственная, отвлеченная, тайная, простая, но многообразная, общедоступная, действительная,
всеми чувствами воспринимаемая реальность. Или, говоря практически: природа есть все, что
непосредственно является человеку, независимо от супранатуральных нашептываний
теистической веры, непосредственно, чувственно, как предмет и основание его жизни. Природа - это
свет, электричество, магнетизм, воздух, вода, огонь, земля, животное, растение, человек
(насколько он есть несвободно и бессознательно действующее существо) - ничего более, ничего
мистического, ничего человечного, ничего теологического я не подразумеваю в слове
"природа". Я апеллирую этим словом к чувствам. "Юпитер есть все, что ты видишь", говорила
древность; природа, говорю я, есть все, что ты видишь и что не происходит от человеческих рук и
мыслей» и т. д. в этом же роде (Vorlesungen über das Wesen der Religion, 116-11741*).
23
одного времени, то понятно и возможно для будущего. Моя жизнь связана с
определенным временем, жизнь же человечества нет (?!). История человечества состоит не в
чем ином, как в прогрессирующем преодолении границ, которые в каждое
определенное время считаются границами человечества и потому абсолютными,
непреодолимыми. Будущее раскрывает все более, что предполагаемые границы рода были лишь
границами индивидов... Таким образом, род неограничен, ограничен только индивид.
Но чувство ограниченности тягостно, от этой тягостности индивидуум
освобождается в созерцании высшего существа; в нем владеет он тем, чего ему не хватает. Бог
у христиан есть не что иное, как созерцание (Anschauung) непосредственного единства
рода и индивида, общего и отдельного существа. Бог есть понятие рода как индивида,
понятие или сущность рода, которая является родом в качестве всеобщего существа,
как совокупности всех совершенств, всех свойств, освобожденных от действительных
или мнимых границ индивида, но вместе с тем и индивидуальным, особым существом.
"Сущность и существование для бога идентичны". — Это значит не что иное, как то,
что он есть родовое понятие, родовое существо, непосредственно существующее и как
отдельное существо»1.
«Идея рода (развивает Фейербах в полемике с Штирнером) необходима,
неотъемлема для отдельного индивида, а каждый ведь является отдельным. "Мы достаточно
совершенны", справедливо и изящно выражается Единственный (Штирнер); но в то же
время мы чувствуем себя ограниченными и несовершенными, ибо мы необходимо
сравниваем себя не только с другими, но и с самими собой. Мы чувствуем себя
ограниченными не только морально, но и чувственно, в пространстве и времени; мы, данные
индивиды, существуем лишь на этом определенном месте, в этом ограниченном
времени. Как можем мы исцелиться от чувства этой ограниченности, если не в мысли о
неограниченном роде, т. е. в мысли о других людях, других местах, других счастливых
временах? Кто не ставит поэтому на место божества род, тот оставляет в индивиде
пробел, который необходимо заполняется представлением о боге, т. е.
персонифицированном существе рода. Лишь род в состоянии упразднить божество и религию, а вместе и
заменить их. (Фейербах проговаривается здесь о подлинном, богоборческом мотиве,
которым вызвана к жизни его религия человечества.) Не иметь никакой религии -
значит, думать только о самом себе, иметь религию — значит, думать о других. И
эта религия есть единственно пребывающая, ибо, раз только мы имеем хотя бы двух
людей - мужа и жену, мы имеем уже религию. Двое, различение, есть
происхождение религии — ты есть бог для меня, ибо я не существую без тебя, я завишу от тебя,
нет тебя, нет и меня»2. В «Grundsätze der Philosophie der Zukunft» мы находим
следующие решительные афоризмы о божествености рода:
«Отдельный человек сам по себе не имеет существа человека в себе ни как в
моральном, ни как в мыслящем существе. Существо человека содержится только в
общении, в единстве человека с человеком - единстве, опирающемся лишь на реальности
различия между я и тыу> (№ 59)45*. «Одиночество есть конечность и ограниченность,
общественность есть свобода и бесконечность. Человек сам по себе (für sich) есть только
человек (в обычном смысле слова); человек с человеком - единство я и ты - есть
бог» (§ 60)46\
Таким образом нет никакого сомнения в том, что речь идет здесь не о чем
другом, как именно о религиозном обожении человечества в лице ли первого
встречного ты или же совокупного человеческого рода. Фейербах постоянно колеблется
(и колебание это, как мы убедимся ниже, вытекает из самого существа дела, есть
неизбежное свойство занятой им философской позиции) между узким и широким
пониманием человечества как Бога. В полемике со Штирнером он указывает даже
1 Wesen des Christ., 184-18543*.
2 Das Wesen des Christenthums in Beziehung auf den «Einzigen und sein Eigenthum». Band
VII, 30344\
24
на различие полов и семейный союз как необходимую основу религиозного
отношения к человеку, так что храм этого божества то суживается до супружеской
спальни и детской, то расширяется, охватывая собой арену жизни всего
исторического человечества. В мировоззрении Фейербаха борются партикуляристическая и
универсалистическая тенденции, и если, имея в виду первую, Ланге обозначил его
названием туизма (от tu - ты), то, имея в виду вторую, его нужно назвать
гуманизмом в самом широком смысле слова. И когда Фейербах не бывал так притиснут
к стене сокрушительной критикой, как это было в случае со Штирнером, он
склонен был рассматривать предмет своей религии универсалистически, обнаруживая
даже явное стремление персонифицировать род, придать идее человечества не
только абстрактное, но и реальное существование, ощутить Grand-être47*, о котором
учил Ог. Конт. Необыкновенно характерны в этом отношении его суждения о
Христе, показывающие, как помимо ведома и против воли были все же дороги и
близки некоторые истины христианства тому, кто борьбу ç христианством сделал своей
жизненной задачей. Мы читаем:
«Христос есть не что иное, как образ, в котором отпечатлелось и выразилось для
народного сознания единство рода. > Христос любил людей; Он хотел объединить их
всех, без различия пола, возраста, звания и национальности. Христос есть любовь
человечества к самому себе (!!), как образ (в соответствии развитой природе религии) или
как лицо, но лицо, которое (в религиозном отношении) имеет значение только
символа, есть лицо идеальное. Поэтому любовь и выставляется как отличительный признак
Его учеников. Но любовь, как сказано, есть не что иное, как практическое
осуществление единства рода в настроении (Gesinnung). Род не есть одна только мысль; он
существует в чувстве, в настроении, в энергии любви. Род есть то, что вселяет в меня
любовь. Полное любви сердце есть сердце рода. Таким образом, Христос как сознание
любви есть сознание рода. Все мы должны сделаться едины во Христе. Христос есть
сознание нашего единства. Итак, кто любит человека ради человека, кто возвышается
до любви к роду, до универсальной, соответствующей сущности рода любви, тот есть
христианин, тот сам есть Христос. Он делает то, что делал Христос, что Христа делало
Христом. Где, следовательно, возникает сознание рода как рода, там исчезает Христос,
хотя и сохраняется Его истинная сущность, ибо Он был лишь заместителем, образом
сознания рода»1.
Несмотря на все религиозное убожество этих суждений, в которых совершенно
устраняется живой Лик Христов, печатлеющийся в сердцах верующих в Него, в
них достаточно ясно выражена мысль о реальном, а не отвлеченном только
единстве человеческого рода. Отказываясь видеть это реальное мистическое единство в
Богочеловеке, но инстинктивно чувствуя всю важность, всю необходимость этого
единства, Фейербах принужден искать его в Левиафане, и человечество, вместо
тела Христова, объявляется телом Левиафана. Неумолимая логика карает
идолопоклоннический атеизм Фейербаха, шаг за шагом толкая его, свободолюбца и
коммуниста, через гегелевское обожествление государства к римскому обожествлению
главы государства. Отвергнув Христа, он ставит реальной главой человечества
главу государства - Divus Caesar!49* Тех, кто сочтет это за клевету, приглашаем
внимательно проследить следующие суждения Фейербаха:
«Субъективное происхождение государства объясняется верой в человека как бога
для человека. В государстве выделяются и развиваются силы человека для того, чтобы
при помощи этого разделения и их нового соединения установить бесконечное
существо; многие люди, многие силы суть одна сила. Государство есть совокупность всех
реальностей, государство есть провидение для человека. В государстве один заменяет
другого, один восполняет другого; чего я не могу, не знаю, может другой. Я не один,
отданный случайностям естественной силы; другие существуют для меня, я окружен
1 Das Wesen des Christenthums, 324-32548*.
25
(umfangen) всеобщим существом, являюсь членом целого. Истинное государство есть
неограниченный, бесконечный, истинный, совершенный, божественный человек. Лишь
государство есть человек, сам себя определяющий, к самому себя относящийся,
абсолютный человек... Связь государства есть практический атеизм; люди существуют в
государстве потому, что они существуют в государстве без бога, государство есть бог
для человека, почему оно и виндицирует себе по праву божественный предикат
"величества" (Majestät)»1.
Своеобразный культ! Но послушаем еще:
«Человек есть основное существо (Grundwesen) государства. Государство есть
реализованная, организованная, выявленная целокупность (Totalität) человеческого
существа. В государстве воплощаются в различных сословиях существенные качества или
виды деятельности человека, но в лице главы государства снова сводятся к тождеству
(Identität). Глава государства представляет все сословия без различия: пред ним все
они равно необходимы и равноправны. Глава государства есть представитель
универсального человека»2.
Вот какое содержание в конце концов получает формула «homo homini deus
est»: богом для человека является глава государства, и остается только воскресить
и внешнюю оболочку этой античной идеи, т. е. восстановить священные
изображения главы государства, принесение им жертв и т. д. Не проносится ли здесь, как
роковое предчувствие, тень того, кто некогда воссядет во храме как бог и
потребует для себя божеских почестей!..
Так или иначе, но такова религия, проповедуемая Фейербахом. Ибо речь идет
именно о религии, которая была бы способна противостоять христианской религии,
о сознательно антихристианской религии. Фейербаху мало одного философского
учения, какими являлись до сих пор разные теории.
«До сих пор (die bisherige) философия не могла заместить религии; она была
философией, но не религией, без религии. Она оставляла своеобразную сущность религии
вне себя, она лритязала (vindicirte) для себя лишь на форму мышления
(Gedankenform). Если же философия призвана заместить религию, то она должна сделаться
религией как философия, она должна принять в себя способом, ей свойственным (ihr
konform), то, что составляет сущность религии, те преимущества, которые имеет
последняя пред философией».
«Если практически человек стал теперь на место христианина, то и теоретически
человеческая сущность должна стать на место божественной. Словом, мы должны то,
чем мы хотим стать, выразить в одном высшем принципе, в одном высшем слове: лишь
таким образом освящаем мы нашу жизнь, обосновываем нашу тенденцию. Лишь таким
образом освобождаемся мы от противоречия, которое отравляет в настоящее время
наше внутреннее существо: от противоречия между нашей жизнью и мышлением и
коренным образом противоречащей им религии. Ибо мы должны снова сделаться
религиозными, - политика должна делаться нашей религией, но это возможно в том лишь
случае, если мы и в нашем мировоззрении будем иметь в качестве самого высшего то,
что обращает для нас политику в религию».
«Можно делать политику религией инстинктивно, но здесь дело идет о высшем
сознанном (letztem ausgesprochenen) основании, об официальном принципе. Этот
принцип есть не что иное, как, выражаясь негативно, атеизм, т. е. устранение бога,
отличного от человека»3.
Слова, замечательно характерные для Фейербаха, раздвигающие туманную
философскую завесу и показывающие и главный двигатель его мысли, и его
горделивую мечту: двигатель этот — атеизм, определеннее - антихристианство, меч-
1 Philosophische Kritiken und Grundsätze, статья «Nothwendigkeit einer Reform der
Philosophie» (1841). Bd. IL S. 219-22050*.
2 Vorläufige Thesen zur Reform der Philosophie (1842), Bd II, S. 24451\
3 Bd Π, 218-21952*.
26
та начать новую эру, создать новую религию, превратить людей из «теологов в
антропологов, из теофилов в филантропов, из кандидатов на тот свет в студентов
этого света, из религиозных и политических камердинеров небесной и земной
монархии и аристократии в сознательных, свободных граждан земли»1.
Нет бога кроме человека, и Фейербах пророк его. Не о малом идет речь, ибо,
если справедливо собственное мнение самого Фейербаха, что периоды истории
различаются между собой религиозными переворотами, то Фейербах хотел открыть
новую эру в истории и в глуши своего Брукберга выковать духовный рычаг,
которым можно было бы перевернуть и поставить на новый путь человечество.
Замечательно, насколько удалось Фейербаху в цитированных словах угодить
духу времени. Нельзя было сказать чего-либо более соответствующего
современному настроению, более угодного лукавству князя мира сего, как этот призыв иметь
религию в политике, сделать политику религией. Ибо ведь в течение всего XIX
века и до наших дней — и чем дальше, тем быстрее, — растет количество людей,
обходящихся без потусторонних идеалов и целиком перенесших их сюда, в
«царство мира сего», и фактически для этих людей политика стала религией.
Многочисленные полки материалистического социализма, непрерывно множащиеся в
разных странах, живут этой религией. Здесь подтверждается, между прочим,
справедливость наших вступительных замечаний о том, до какой степени Фейербах
выражает своим учением душу современного материалистического социализма, его
религию, насколько он проникает в самую сокровенную и интимную его сердцевину.
V
Раз род объявлен абсолютом и божеством, отсюда получается неизбежный и
необходимый вывод, именно что «das Maass der Gattung ist das absolute Maass, Gesetz
und Kriterium der Menschheit»2, т. е. что «мера рода есть абсолютная мера, закон
и критерий человечества». В роде - весь закон и все пророки.
Хотя догматика религии рода только бегло и неполно намечена Фейербахом,
однако мы укажем некоторые основные догматы ее ввиду их характерности для
всего замысла и возможного направления дальнейшей разработки.
Верующие видят в божестве живое воплощение истины, которая раскрывается
в историческом познании человечества, в развитии научной и философской мысли,
постепенно приближающейся к человеческому сознанию. Они видят в нем, далее,
воплощение абсолютного нравственного совершенства, живой идеал, о котором
сказано: «Будьте совершенны, как Отец ваш небесный совершен есть»56*. Они видят
в нем, наконец, источник совершенной красоты, разлитой в мире и имеющей в
торжестве своем «спасти мир»57*. Божество мыслится как триединство истины,
добра и красоты. Религия рода у Фейербаха не упраздняет этого .триединства, но
она относит его к своему божеству, делает эти определения предикатами рода,
играющего роль абсолюта. (Нужно, впрочем, заметить, что сам Фейербах не
занимался вопросами эстетики, но нетрудно себе представить, в каком направлении могла
бы она разрабатываться в общем соответствии основным его идеям).
Истина, по Фейербаху, является функцией рода, установляется родовым
сознанием.
1 Vorlesungen, 2953*. Сравните рассуждения Кириллова в «Бесах» Достоевского: «Бог есть
боль страха смерти. Кто победит боль и страх, тот сам станет богом. Тогда новая жизнь, тогда
новый человек, все новое... Тогда историю будут делить на две части: от гориллы до
уничтожения Бога и от уничтожения Бога до... до перемены земли и человека физически. Будет
богом человек и переменится физически»54*.
2 Wesen des Christenthums, 2055*.
27
«Только в общении, только из отношений между людьми возникают идеи. Не в
одиночку, но лишь сообща приходят к понятиям, вообще к знанию. Два человека
необходимы для рождения человека духовного так же, как и физического: общение
человека с человеком есть первый принцип и критерий истины и всеобщности. Уверенность
даже в существовании других вещей, кроме меня, для меня опосредована уверенностью
в существовании другого человека помимо меня. Что я вижу один, в том я сомневаюсь;
верно лишь то, что видит и другой»1. «Истина существует не в мышлении, не в знании
за свой счет (für sich selbst). Истина есть лишь целокупность человеческой жизни и
существа»2. «Истинно то, в чем другой со мной соглашается - единогласие (Uebereinstim-
mung) есть первый признак истины, но лишь потому, что род есть последний масштаб
(Maas) истины... истинно то, что согласно с существом рода, ложно то, что ему
противоречит. Другого закона истины не существует»3.
Таков основной гносеологический тезис Фейербаха, который в настоящее
время, осложненный кантианством и дарвинизмом, выражает основную
гносеологическую идею Зиммеля (отчасти Риля). Фейербах сам, однако, отшатывается от
выводов, проистекающих из прямолинейного и решительного применения этого тезиса,
по которому выходит, что прав не Сократ, а его судья, не Коперник, а судивший
его трибунал, вообще не новатор и революционер мысли, но косная и темная
толпа. «Другой, - продолжает Фейербах, - по отношению ко мне есть представитель
рода, заместитель других во множественном числе, именно его суждение может
иметь для меня большее значение, нежели суждение бесчисленной толпы»4. Таким
образом Фейербах утекает от собственной демагогической гносеологии, а так как в
другом месте5 Фейербах замечает, что индивид сам для себя представляет род, то
тезис Фейербаха теряет всякое реальное значение и, освободив себя от всех
неприятных выводов из своего учения, из обороны он переходит в наступление: «Словом,
существует качественное, критическое различие между людьми, но христианство
погашает эти качественные различия»62*. Виновато или невиновно христианство в
этом погашении, но при такой интерпретации религия рода, человечества,
нечувствительно переходит в религию индивида-сверхчеловека, а Фейербах преображается
в Ницше, вообще говоря, представляющего из себя антипод Фейербаха именно в
этом пункте.
В роде не только истина, но и добро. «Другой есть моя предметная совесть-, он
упрекает меня за мои недостатки, даже если он прямо не говорит мне об этом: он
есть мое персонифицированное чувство стыда. Сознание морального закона, права,
целесообразности, даже истины, приурочено к сознанию других»6.
Однако для рода как абсолюта, недостаточно быть «предметной совестью», т. е.
субъективным возбудителем добра, - это положение само по себе мало характерно
для религии человечества: ему надо быть и объективным добром, воплощением
сущего добра. Абсолют - так уж абсолют, ему принадлежит, следовательно, в
качестве неотъемлемого атрибута и святость. Сумма состоит из всех слагаемых, а род
из всех индивидов, значит, в коллективной святости участвую и я со всеми
несмываемыми пятнами, какие только знает моя совесть, и Мессалина, и Калигула, и
Борджиа, и чеховские «нудные», серые люди... Вот твой бог, пади ниц и молись,
1 Grundsätze der Philosophie der Zukunft. Собр. соч. T. II, 304, § 4158*.
2 Ibid., § 5859*.
3 Wesen des Christenthums60*.
4 Ibid.61*.
5 «Человек мыслит, т. е. общается (conversirt), говорит сам с собою. Животное не может
выполнять функцию рода без другого индивида вне себя; человек же может выполнять
родовую функцию мышления и речи, ибо мышление и речь суть настоящие функции рода, без
другого. Человек есть сам для себя вместе я и ты, он может себя самого поставить на место
другого именно потому, что предметом ему является его род, его существо, не только его
индивидуальность» (Wesen des Christenthums, 3)63\
6 Ibid., 19064\
28
молись самому себе, молись Мессалине, молись «Ионычу». Это роковой для
Фейербаха и для всякой религии человечества вопрос: куда же деть всю слабость и всю
порочность нового бога, которая в христианской религии приводится в связь с
коренным человеческим грехопадением, с первородным грехом и, далее, с догматом
искупления? Прошу теперь внимания - мы увидим, как Фейербах выпутывается
из затруднения. Рассуждение это мне представляется самым важным, самым
решающим и самым ответственным во всех сочинениях, во всем мировоззрении
Фейербаха и, кроме того, совершенно из него неустранимым; кто его примет, без труда
примет и всю остальную догматику религии человечества, а кто не принимает
только этого, не принимает ничего. Речь идет у Фейербаха именно о догмате
первородного греха, и, критикуя этот догмат, он говорит следующее:
«Здесь совершенно отсутствует объективное воззрение, сознание, что ты
принадлежишь к совершенству я, что люди лишь в совокупности составляют человека, только
вместе суть они то, чем должен быть человек, существуют так, как он должен
существовать. Все люди суть грешники, я это допускаю, но не все они грешны на один и тот
же манер, напротив, существует весьма большая, даже существенная разница. Один
человек наклонен ко лжи, а другой нет: он пожертвует скорее жизнью, чем нарушит
слово или солжет; третий имеет склонность к пьянству, четвертый - к распутству, зато
первый не имеет всех этих склонностей, по милости ли своей природы или благодаря
энергии характера. В моральном отношении люди восполняют друг друга, как в
умственном и физическом, так что взятые вместе в целом они таковы, какими должны
быть, представляют совершенного человека»65*.
Таким образом, для получения совершенного человека Фейербах предлагает
брать алгебраическую сумму добродетелей и пороков. Он не замечает только, что и
по этому рецепту, научающему, каким образом из десяти Мессалин можно
получить одну Цецилию, из десяти Калигул - одного маркиза Позу, из десяти
чеховских типов - одного героя, и т. д. и т. д., в окончательной сумме получается в
лучшем случае только нуль, в результате погашений плюсов и минусов, а не
«совершенный человек». Фейербах следующим образом развивает свою мысль:
«Если даже любовь и дружба из существ, которые сами по себе несовершенны,
делают одно, относительно, по крайней мере, совершенное целое, насколько же больше
грехи и пороки отдельных людей исчезают в самом роде, который имеет достойное
существование только во всем человечестве (in der Gesammtheit der Menschheit)...
Ламентации о грехе поэтому лишь тогда вступают в порядок дня, когда человеческий
индивид в своей индивидуальности считается совершенно абсолютным, не
нуждающимся в других для реализирования в себе рода, совершенного человека, когда на
место сознания рода выступает исключительное самосознание индивида, когда индивид
не сознает себя частью человечества, не отличает себя и человечества, а потому свои
собственные грехи, свои границы, свою слабость превращает во всеобщие грехи, в
грехи, границы и слабость всего человечества. Поэтому где род не является предметом для
человека как род, там он становится для него предметом как бог. Отсутствие понятия о
роде восполняется понятием бога как существа, свободного от границ и недостатков,
которые обременяют индивид и, по его мнению, и самый род, так как он
отождествляет себя с родом. Но эта свободная от границ индивидов, неограниченная сущность
именно и есть не что иное, как род, который обнаруживает бесконечность своей
сущности в том, что осуществляется в неограниченно многочисленных и разнообразных
индивидах. Если бы все люди были абсолютно равны, то, конечно, не было бы никакой
разницы между родом и индивидом. Но в таком случае существование многих людей
было бы чистой роскошью, одного было бы достаточно для целей рода... Однако хотя
существо человека едино, но оно бесконечно, его действительное существование имеет
целью открыть бесконечное, взаимно восполняющееся разнообразие, богатство его
сущности. Единство в сущности есть разнообразие в сущестовании»1.
1 Ibid., 189-19066*.
29
Таким-то образом расправляется Фейербах с роковыми вопросами
индивидуального сознания, трагедии духа, язвами совести, абсолютностью запросов и
бессилием удовлетворить их, со всеми этими антиномиями, которые делают человека
столь загадочным противоречием, из которых и рождаются метафизические
системы и религиозные верования. И на все один ответ: несовершенства индивида
поглощаются в роде, сумма больше своих слагаемых. Роду приписываются
совершенство, бесконечность, разнообразие форм существования и, натурально, способность к
безграничному прогрессу в истории, представляющему из себя в современном
философском сознании нечто вроде «комиссии» у бюрократов: чтобы разделаться с
беспокойными, настойчиво требующими разрешения и вместе с тем неразрешимыми
бюрократическим путем вопросами жизни, их сдают в комиссию, а чтобы разделаться с
«проклятыми» философскими вопросами, ссылаются на прогресс: он все разрешит,
все устроит. Читаем и у Фейербаха в связи с вопросом о будущей жизни следующее:
«Заключение относительно теологического или религиозного Jenseits67*,
предположение будущей жизни в целях усовершенствования человека было бы в таком
случае оправдано, если бы человечество находилось постоянно на одной точке,
если бы не было истории, усовершенствования, улучшения человеческого рода на
земле... Но существует культурная история человечества. Бесчисленное из того,
что не могли и не знали наши предки, можем и знаем мы теперь... Таким образом
то, что для нас теперь есть только предмет желания, некогда исполнится,
бесчисленное из того, что темным охранителям и защитникам теперешних представлений
веры и религиозных институтов современных политических и социальных условий
являлось невозможным, некогда станет действительностью; бесчисленное из того;
чего не знаем мы теперь, но хотели бы знать, узнают наши потомки. На место
божеств, в которых исполняются лишь безосновательные, прихотливые желания
человека, мы имеем человеческий род или природу, на место религии —
образование, на место Jenseits за нашей могилой - на земле историческое будущее,
будущее человечества»1.
При этом Фейербаха не смущает вопрос о смерти всего живого, всего
индивидуального, столь плохо вмещающийся в эту оптимистическую картину. Нужно отдать
справедливость Фейербаху, он не прошел молчанием и не отмахнулся просто от
этой проблемы, как это обыкновенно принято делать. Напротив, он всегда
пристально всматривался в загадку смерти, не зажмуривая глаз и стараясь
примириться со смертью и оправдать ее, создать, по выражению Иодля, «танатоди.
цею»69* (по аналогии с теодицией), что так трудно и так противоречит живому и
непосредственному чувству. Несколько раз он возвращался к проблеме смерти. Ей
посвящено было его первое сочинение «Todesgedanken», проникнутое еще
пантеистическим гегельянством, где рядом со смертью индивидуального признается
бессмертие целого (это одно из наиболее туманных и незрелых произведений
Фейербаха). «Todesgedanken» представляют собой поэтому оптимистически-благодушный
гимн смерти личности во имя бессмертия целого2. Позднее Фейербах сосредоточи-
1 Vorlesungen, 36468*.
2 Мы читаем здесь, например, такой дифирамб смерти: «О, смерть! Я не могу оторваться от
сладостного созерцания твоего кроткого, столь интимно слившегося с моим существом
существа! Зеркало моего духа, отблеск моей собственной природы! Из распадения единства природы с
самой собой восстал сознательный дух, вспыхнул этот всеобщий, сам себя созерцающий свет,
и, как месяц светит светом солнца, так отражаешь и ты в своем кротком сиянии лишь
горящий солнечный огонь сознания. Ты - вечерняя звезда природы и утренняя звезда духа:
чувственные глупцы принимают одну звезду за две разные звезды. Ты светишь мудрому из страны
грез к месту рождения истинного спасителя духа. Глупцы воображают, что лишь после смерти
и при ее посредстве они входят в дух, что духовная жизнь возникает лишь после смерти, как
будто бы чувственное отрицание может быть основанием или условием духа. Они не видят, что
смерть уже предполагает действительное существование духа, следует лишь за духом и, как
чувственный конец, есть лишь проявление духовного и существенного конца. Утренняя звезда
30
вает свою критику на существующих представлениях о жизни после смерти1, но
эта рассудочная критика представляет слабый принципиальный интерес. В конце
концов, став философским материалистом, Фейербах успокаивается на идее
биологического приспособления к смерти, естественности своевременной смерти,
предвосхищая то, что в настоящее время проповедует Мечников71*. В «Vorlesungen über
das Wesen der Religion», подводящих итог всему его мировоззрению, мы читаем по
этому поводу следующее суждение:
«Все имеет свою меру, — говорит греческий философ, — для всего наступает в кон-
це-концов насыщение, даже для жизни, и человек желает себе наконец смерти.
Нормальная, сообразная природе .смерть, смерть законченного человека, который отжил,
не имеет поэтому ничего устрашающего. Старики часто даже вздыхают о смерти.
Немецкий философ Кант от нетерпения едва мог дождаться смерти, он стремился к ней
не с тем, чтобы начать жить снова, но из желания своего конца. Лишь неестественный,
несчастный смертный случай - смерть ребенка, юноши, мужа в полной силе -
возмущает нас против смерти и заставляет желать новой жизни. Но как ни странны, как ни
скорбны такие несчастные случаи для переживающих, они, однако, не
уполномочивают нас к принятию Jenseits72* уже по той причине, что эти ненормальные случаи - они
ненормальны, хотя бы и повторялись теперь чаще, чем сообразная с природой
естественная смерть, - имеют следствием и ненормальный потусторонний мир, мир лишь
для умерших насильственно или· преждевременно; но такой ненормальный мир был бы
чем-то невероятным и противоразумным»2.
Этими суждениями характеризуется до конца общее мировоззрение Фейербаха.
VI
Теперь мы можем обратиться к критическому рассмотрению мировоззрения
Фейербаха. Но раньше мы должны еще остановиться на одном литературном
эпизоде, необыкновенно интересном для освещения доктрины Фейербаха и имеющем
поэтому огромную важность для точного ее понимания. Мы имеем в виду полемику
Фейербаха со Штирнером, знаменитым автором «Der Einzige und sein Eigenthum»74*.
Между обоими современниками, Штирнером и Фейербахом, существует и большая
близость, и непримиримая противоположность. Близость состоит в том, что оба
они являются воинствующими проповедниками атеизма, противоположность же -
в различии способов понимания этого атеизма и того содержания, которое в него
вкладывается. Фейербах проповедует атеизм положительный, гуманистический,
который отрицает бога во имя человека и человечества, и свою атеистическую
религию формулирует: homo homini deus est. Штирнер же понял свой атеизм дерзно-
не приносит с собой утра, она сама есть лишь проявление утра» (Gedanken über Tod und
Unsterbichkeit. Собр. соч. Т. I. С. 71. Отрывок этот характерен для стиля и тона всего этого
сочинения).
1 Для характеристики этой его аргументации приведем следующий отрывок: «Так же как
желание вечной жизни, желание всеведения и безграничного совершенства, есть лишь
воображаемое желание, и представляемое в качестве основания этого желания неограниченное
стремление к знанию и совершенству, как показывает ежедневная история и опыт, лишь
присочинено человеку. Человек хочет не всего, он только хочет знать то, к чему он имеет особую
наклонность и предпочтение. Даже человек с универсальным стремлением к знанию, что редко
встречается, никоим образом не хочет знать все без различия; он не хочет знать все камни,
как минералог по специальности, или все растения, как ботаник; он довольствуется
необходимым, потому что это соответствует его общему духу. Также человек хочет мочь не все, но
лишь то, к чему он имеет особое стремление; он стремится не к безграничному,
неопределенному совершенству, которое осуществляется только в боге и бесконечном Jenseits, но к
определенному, ограниченному совершенству, к совершенству в определенной сфере» (Vorlesungen
über das Wesen der Religion, 361)70*.
- Vorlesungen, 360-3617:i*.
31
венно-нигилистически, заострил его в проповеди чистого нигилизма, отрицания
всяких высших ценностей, всего святого: «Alles Heilige ist ein Band, eine Fessel»1.
Он подошел к самому краю пропасти, за которым открывается зияющая бездна, он
атомизировал человечество, упразднив всякий коллективизм его существования и
оставив только одно-«единственное» свое Я, для которого нет ни права, ни общей
нормы, ни добра (Ich bin meine Gattung, bin ohne Norm, ohne Gesetz, ohne Muster
u. dgl.), ибо все эти понятия возникли и связаны с идеей признания человеческого
общества, «рода», равноценности чужого я моему я. Штирнер говорит в
предисловии к своей книге: «Божеское есть дело бога, человеческое — дело "человека". Мое
дело есть ни божеское, ни человеческое, оно не есть истинное, доброе,
справедливое, свободное и т. д., но исключительно мое собственное (das Meinige), и оно
вовсе не есть всеобщее, но есть единственное (Einzig), как и я есть единственный.
Нет ничего выше меня! (Mir geht nichts über Mich)»2. Вот две лапидарные
формулы, выражающие два атеизма, штирнеровский и фейербаховский: «Mir geht nichts
über Mich» и «homo homini deus est». Может ли быть большая противоположность,
еще подчеркивающаяся близостью исходных позиций? Столкновение этих двух
атеистов имеет огромный философский интерес, до сих пор как-то не замеченный и
не оцененный в литературе. Кто прав из них в качестве атеиста? Кто из них более
подлинный атеист, чей атеизм последовательней, радикальнее, искреннее, смелее?
Заметьте, что для людей, которые сделали атеизм как бы специальностью, которые
ни о чем так не заботятся, как о том, чтобы быть последовательными атеистами,
не может быть большего оскорбления, злейшей иронии, как обвинение их в
теологии, благочестии, религиозности. И такое именно обвинение выставил один, более
смелый, атеист против другого, который хотел бы, по грубой, но меткой поговорке,
и невинность соблюсти и капитал приобрести, хотел бы при атеистической
догматике не отказываться и от некоторых выводов из верований религиозных. Штирнер
первый бросил перчатку в своей книге, которая, можно сказать, представляет
собой одно сплошное возражение против Фейербаха, выступив с открытой насмешкой
над его благочестием:
«После уничтожения веры Фейербах мечтает укрыться в мнимомирную бухту
любви. "Высший и первый закон должна быть любовь человека к человеку. Homo homini
deus est - таково высшее практическое правило, таков поворотный пункт истории".
Собственно изменился, только бог, deus, любовь же осталась: там любовь становилась
сверхчеловеческим богом, здесь любовь к человеческому богу и homo в качестве deus.
Стало быть, человек для Меня свят. И все "истинно-человеческое" для Меня свято!
Брак свят сам по себе. И так же обстоит дело со всеми нравственными отношениями.
Свята есть и да будет тебе дружба, свята собственность, свят брак, свято благо каждого
человека, но свят an und für sich75*. Разве нет здесь снова попа? Кто его бог? Человек
Что считается божественным? Человеческое! Таким образом, только предикат
превращен в субъект и вместо положения: "бог есть любовь", стоит: «любовь божественна»,
вместо: "бог сделался человеком", стоит: "человек сделался богом", и т. д. Это есть
только новая религия»2.
Восставая против помыслов и понятий современности, эгоист безжалостно
совершает самое решительное уничтожение святынь (Entheiligung). Ничто ему не свято!
«Было бы глупо утверждать, что я не имею никакой власти над своей
собственной. Только позиция, которую я занимаю по отношению к ней, будет совершенно
иная, чем та, которая существовала в век религиозный: я буду врагом всякой
высшей власти, тогда как религия учит делать ее другом нашим и унижаться
перед ней. Уничтожатель святынь (Entheiliger) напрягает все свои силы против
1 Der Einzige und sein Eigenthum, изд. 1884 г., с. 220: «Все святое есть узы, оковы».
2 Ibid., 8.
3 Ibid., 60-61.
32
страха божьего. Имеет ли бог или человек освящающую силу в человеке,
следовательно что-либо почитается святым во имя бога или человека, это не изменяет
страха божьего, ибо человек с таким же успехом почитается "высшим существом",
как и со специально религиозной точки зрения бог в качестве «высшего существа»
требует от нас страха и благоговения, и оба они импонируют нам»1.
«Собственный страх божий давно уже испытал потрясение, и более или менее
сознательный атеизм, внешним образом распознаваемый по широко
распространяющейся "нецерковности", непроизвольно задает тон. Но то, что взято у бога,
придано человеку, и сила человечности (Macht der Humanität) увеличилась в такой
же мере, в какой потеряло в весе благочестие: "человек" есть внешний бог, и страх
пред человеком заступил место старого страха пред богом. Но так как человек
представляет собой только разновидность высшего существа, то в действительности
в высшем существе произошла только метаморфоза и страх человеческий есть
лишь неизменная форма страха божьего.
Наши атеисты - "благочестивые люди".
Существует ли единый или триединый бог, или бог лютеранский, или être
suprême76*, или совсем нет бога, но раз "человек" представляет собой высшее
существо, это не составляет никакой разницы для того, кто отрицает само высшее
существо, ибо в его глазах эти служители высшего существа в совокупности —
благочестивые люди: самый свирепый (wüthendste) атеист не в меньшей степени, чем
верующий христианин»2.
Впечатление, произведенное на Фейербаха критикой Штирнера, было огромно.
Фейербах на наших глазах просто извивается от боли под тяжелыми ударами сар-
казмов Штирнера. Хотя он в письме к брату3 и заявляет, что Штирнер в своей
«гениальной» книге «не попадает в суть относительно меня» и что критика его
«основана или на простом недомыслии (puren Unverstand), или легкомыслии», но в
своем ответе Штирнеру (Das Wesen des Christenthums in Beziehung auf den «Einzigen
und sein Eigenthum») он обнаруживает, по нашему мнению, не только
поразительную слабость, но и совершенную растерянность. Его теория не выдержала действия
щелочной кислоты реактива, которым явился для нее бесшабашный «эгоист».
Фейербах пытается вначале сам перейти в наступление: «Ich hab mein Sach auf Nichts
gestellt»77*, поет Единственный. Но разве ничто не является тоже предикатом бога
и разве положение: бог есть ничто (которого, заметим к слову, никогда не
высказывал и не высказал бы Штирнер, который выставлял совсем иной тезис: не «бог
есть ничто», а «нет бога, нет святыни»), не есть выражение религиозного
сознания?» В примечании к этому месту для научной видимости Фейербах приводит
ссылку, что определение «бог есть ничто» встречается не только в восточных
религиях, но и у христианских мистиков78*. Этой ссылкой Фейербах только
окончательно обнаруживает свою растерянность и бессилие возразить что-либо по
существу: нужно ли говорить, что между мистическим акосмизмом буддизма и некоторых
христианских мистиков и боевым нигилизмом Фейербаха гораздо меньше сходства,
нежели даже между учением Фейербаха и церковной ортодоксией. Далее Фейербах
пытается оспаривать тезис «единственного» об его «единственности» ссылкой на
существование пола, жены, детей и т. д., как будто эта ссылка имеет какое-нибудь
значение для «единственного» и способна побудить его отказаться от своей
«единственности», сойти со своего нигилистического трона и признать за этими людьми
права, а за собой обязанности, признать в них для себя святыню, а не средство.
Как будто существование гаремов и лупанаров недостаточно показывает, что
различия полов самого по себе вовсе недостаточно еще для того, чтобы женщина стала
1 Ibid., 188-189.
2 Ibid., 41.
3 Приведено в: Botin. Ludwig Feuerbach, sein Wirken und seine Zeitgenossen. Stuttgart,
1881.
2 Зотг. 4Я7
33
не вещью, удовлетворяющей прихотям своего «единственного», повелителя, а
личностью, про которую можно сказать: homo homini deus. В дальнейших своих
замечаниях Фейербах беспомощно путается в противоречиях1, но ничего не возражает
Штирнеру по существу. Мы думаем, что это имеет причиной, конечно, не
случайную слабость Фейербаха, но самое существо дела: ему действительно нечего было
возразить, ибо относительно Фейербаха Штирнер совершенно прав. Говоря
языком Фейербаха, Штирнер есть правда, раскрытая тайна Фейербаха. Настоящий
атеист есть Штирнер, а Фейербах остается действительно, «благочестивым»
атеистом, «попом»82*.
«Нравственники, - бросает Штирнер упрек Фейербаху, — сняли жир с религии,
воспользовавшись им самим, а теперь стараются разделаться с происходящей от
нее болезнью желез» (Drüsenkrankheit). «С силой отчаяния хватается Фейербах за
все содержание христианства не для того, чтобы его отбросить, нет, для того,
чтобы привлечь его к себе, для того, чтобы его, давно желанное, но всегда далекое,
последним усилием увлечь на свое небо и навсегда удержать при себе. Разве это не
борьба последнего отчаяния, не борьба на жизнь и на смерть, и не есть это разве
вместе с тем и христианское томление (Sehnsucht), и желание Jenseits? Герой не
хочет вступить в Jenseits, но хочет привлечь его к себе, заставить его сделаться
Diesseits!83*. Разве не кричит с тех пор весь свет, более или менее сознательно, что
речь идет об этом свете (Diesseits) и что небо должно прийти на землю и быть
пережито уже здесь»2. Пред лицом всесокрушающего, ни перед чем не
останавливающегося нигилиста Фейербах представляется настоящим паинькой, пастором,
добродушным сектантом. Вся противоположность между двумя атеистами и двумя
«эгоистами», щеголяющими своим атеизмом и своим эгоизмом, выразится еще
полнее, может быть, если мы познакомимся, как они понимают свой эгоизм.
1 Вот для примера два суждения Фейербаха по вопросу о божественности индивида,
которые разделены между сбой расстоянием в две страницы:
«Теологический взгляд» Фейербаха состоит в том, что он «раскалывает нас на
существенное и несущественное я» и «вид, человека вообще (den Menschen), абстракцию, идею как наше
истинное существо представляет в отличие от действительного индивидуального л, как
несущественного». «Единственный! "Целиком ли читал ты "Wesen des Christenthums"? Не может
быть, ибо что именно является главной темой, зерном этого сочинения? Единственно и исклю^
чительно устранение разделения на существенное и несущественное я - обожествление, т. е.
утверждение (Position), признание всего человека с головы до пят. Разве в конце не
провозглашается открыто божественность индивида как раскрытая тайна религии?..» В этом
сочинении Фейербах открывает правду чувственности, лишь в нем он понял абсолютное существо как
чувственное существо, а чувственное существо как абсолютное существо79*. Таким образом,
божествен индивьд весь, с головы до пяток. Немного ниже читаем: «Индивид для Фейербаха
есть абсолютное, т. е. истинное, действительное, существо. Почему же он не говорит: этот
исключительный индивид? Потому что тогда он не знал бы, чего хочет, тогда он возвратился
бы к точке зрения религии, которую он отрицает. В том именно и состоит, по крайней мере в
данном" отношении, существо религии, что она избирает из класса или рода единственный
индивид и противопоставляет его в качестве святого и неприкосновенного другим индивидам...
Упразднить религию значит поэтому не что иное, как показать тождественность ее
освещенного предмета или индивида с прочими мирскими индивидами того же рода»80*. Здесь уже
отрицается божественность индивида «с головы до пяток», которая установлялась двумя
страницами выше.
Еще пример. Мы знаем, что понятие рода обычно включает у Фейербаха совокупное
человечество, и в таковом лишь качестве оно является у него объектом религии. Однако в споре со
Штирнером он уступает сильному противнику даже и эту основную позицию и дает уже такое
определение: «Род обозначает у Фейербаха не абстракцию, но только ты, другого, вообще вне
меня существующего человеческого индивида, взятого в противопоставлении отдельному,
фиксированному для себя самого я. Поэтому если у Фейербаха говорится: индивид ограничен, род
безграничен, то это значит не что иное, как: границы этого индивида не суть также и границы
других, границы для современного человека поэтому не суть границы будущих людей»81*. Но,
несомненно, не это бессодержательное суждение содержится в основном учении Фейербаха о
роде.
2 Der Einzige und sein Eigenthum, 35.
34
Послушаем сначала «Единственного». В ответ на возможные упреки в эгоизме
он заявляет:
«Ладно! Я не хочу иметь ничего особого в сравнении с другими, я не хочу
притязать ни на какое преимущество пред ними, но я меряю себя не по другим и
вообще не хочу иметь никакого права. Я хочу быть всем и иметь все, что могу. Имеют
ли то же самое другие, какое мне дело. Равного, того же самого они не могут ни
иметь, ни представлять собой... Я считаю себя не чем-нибудь особенным, но
единственным (einzig). Конечно, я имею сходство с другими, но это имеет значение
лишь для сравнения или рефлексии; в действительности я несравним и
единственен. Я не хочу в тебе признавать или уважать что бы то ни было, ни собственника,
ни босяка (Lump), ни даже только человека, но хочу пользоваться (verbrauchen)
тобой... Для меня ты являешься лишь тем, что ты составляешь для меня, именно
мой предмет, а так как мой предмет, то и мою собственность»1. «Ausser mir giebt es
kein Recht»2.84*
Как это все угадано Достоевским, который, конечно, никогда не знал Штирне-
ра, зато глубоко проник в мировоззрение атеизма. Ведь приведенную немецкую
фразу по-русски прямо же можно перевести роковой формулой Ив. Карамазова: все
позволено, нет Бога, нет и морали. «Где стану я, там сейчас же будет место свято»85*.
И рядом с этими воистину сатанинскими речами Фейербах лепечет свои
благочестивые речи, прикидываясь при этом страшным нигилистом, хотя из-за маски
выглядывает кисточка колпака домовитого обывателя, доброго дядюшки и
любимца детей:
«Я разумею под эгоизмом любовь человека к себе самому, т. е. любовь к
человеческому существу, ту любовь, которая побуждает к удовлетворению и развитию
всех тех стремлений и наклонностей, без удовлетворения и развития которых он не
может быть и не есть истинный, совершенный человек. Я разумею под эгоизмом
любовь к себе подобным - ибо что я без нее, что я без любви к существу мне
подобных? - любовь индивида к самому себе настолько же, насколько всякую любовь
к предмету или существу, как прямую любовь к себе, ибо я могу любить только то,
что соответствует моему идеалу, моему чувству, моему существу»3.
Таково любвеобильное сердце нашего добродушного «эгоиста», рядом с которым
ложится черная, мрачная тень от демонической фигуры другого, облеченного в
мрачное сияние своего первообраза, с опаленными крыльями и клеймом проклятия
вечного одиночества.
Можно ли представить себе более поучительное зрелище, чем это столкновение
двух «эгоистов», из которых один прошел свой путь до конца и остановился у
полюса, другой же занес только ногу, но остался стоять на прежней, надежной
почве, изображая философский «бег на месте».
Идейное столкновение Штирнера и Фейербаха никоим образом нельзя считать
изжитым. Штирнер произвел лишь слабое впечатление на свое время и был забыт
с чрезмерной легкостью4. Но явился новый, более поздний и более талантливый
проповедник сродных идей, который начинает оказывать могучее влияние на души
современников, до сих пор благочестиво пробавлявшихся наивной религией
человечества Фейербаха и Конта. С еще большей страстностью и неменьшим
дерзновением он попытался произвести «переоценку всех ценностей» и всего ожесточеннее
напал на ценности гуманизма, которые в качестве «жира, снятого с религии»,
остались в учении Фейербаха5. Ницше - мы говорим о нем - с особенной враждой
1 Ibid., 143.
2 Ibid., 194.
3 Vorlesungen, 6486\
4 За последние годы пришла на него мода в России, где появилось несколько переводов
«Единственного и его собственности»87*.
5 Ср. обстоятельный очерк г. В. Саводника. Ницшеанец 40-х годов. Макс Штирнер и его
философия эгоизма. М., 1902.
2*
35
отнесся к учению о любви, обвиняя за него христианство в порче исторического
человечества, и для Ницше, как раньше для Штирнера, Фейербах, мнивший себя
врагом христианства и его разрушителем, необходимо оказывается в числе
представителей христианства. В области морали на место: люби ближнего, было
поставлено: sei hart, «падающего толкни». На место демократического учения об этической
равноценности людей было провозглашено учение об их разноценности, об
исключительной, высшей или единственной ценности избранных сверхчеловеков,
аристократов, для которых остальное человечество является только пластическим
материалом. Таким образом все перевертывается вверх ногами. И самое интересное при
этом то, что идеи эти, выраженные в привлекательной для многих, экзотической
форме, произвели сильнейшее впечатление на современность, замутили головы,
разрушили непосредственность прежних гуманистических верований, сделались
модными, между тем как Штирнер в свое время прошел почти незамеченным и
никого не смутил. Но, воскресши в Ницше, через головы нескольких поколений
подает он свой голос теперь. Атеистический гуманизм переживает несомненный и
глубокий кризис, раз подвергнута сомнению его основа, самый главный его
демократический догмат. И кризис этот, на наш глаз, еще в самом начале, ломка
господствующего мировоззрения только начинается, ибо, как писал Вл. Соловьев, «из
окна ницшеанского сверхчеловечества прямо открывается необъятный простор для
всяких жизненных дорог»1. Каковы эти дороги, это окончательно еще не
определилось, но началась уже духовная смута.
Штирнер и Ницше подкапываются под основной догмат Фейербаха и всего
вообще атеистического гуманизма: homo homini deus. Ибо действительно, догмат этот
лежит в основе всех возможных его оттенков, составляя общую для всех их почву.
Современные наукообразные теории общественного развития или прогресса могут
весьма сильно различаться между собою и в теоретических основаниях, и в
практических или тактических выводах, но все они признают одну-единственную
ценность - человека в смысле любого представителя вида в отдельности или же рода в
целом. Либералы и социалисты, марксисты и народники, какие угодно фракции
практически сойдутся в одном: нет Бога, но бог — человек и человечество. Это не
всегда лежит на поверхности и отчетливо выступает в сознании, но догмат этот
сохраняет свою силу даже тогда, когда он словесно отрицается. Последние годы
жизни Энгельс склонен был отрицать свою близость с Фейербахом, во-первых,
потому, что ему не нравилось употребление Фейербахом слова «религия», как будто
здесь дело в словах и от перемены слова изменится сущность, а во-вторых, что
Фейербах со своим учением о любви сентиментальничает и не понимает значения
классовой борьбы2. Но очевидно, что это последнее возражение может быть
объяснено только сужением умственного горизонта самого Энгельса, ибо иначе он
против положения, имеющего общее, философское и религиозное, значение, не
возражал бы ссылками на частный социологический тезис, который, верен ли он или
1 Идея сверхчеловека. Собр. соч. Т. VIII, 31288*.
2 Engels. L. Feuerbach etc. 26-35. В сороковых годах Энгельс был непритязательным и
наивным фейербахианцем, и никакой существенной перемены в его философском мировоззрении
с ним не произошло. В статье «Die Lage Englands» (Aus dem literarischem Nachlass von
K. Marx, F. Engels und Ferdinand Lassalle, erster Band, 486-487) он говорит: «Безбожие нашего
века, на которое так жалуется Карлейль, есть именно его религиозная полнота (в подлиннике
игра слов: Gottlosigkeit и Gotterfülltheit). До сих пор существовал вопрос: что такое бог? и
немецкая философия решила вопрос так: бог есть человек. Человеку нужно лично познать
самого себя, мерить все жизненные условия сообразно себе самому, оценивая их,
преобразовывать мир действительно по-человечески, сообразно требованиям своей натуры. Не в
потусторонних, несуществующих областях, не вне пространства и времени, не у «бога», живущего в
мире или потустороннего, нужно искать истины, но много ближе, в собственной груди
человека. Собственное существо человека много возвышеннее и величественнее, чем воображаемое
существо всех возможных богов, которые суть только более или менее смутные и искаженные
v, QQ*
отражения самих людей»0* .
36
неверен, не может конкурировать с первым. Учение о классовой борьбе отвечает на
вопрос как, но не на вопрос что, оно дает не цель, но только форму и средство,
неразрывно связанные с данными условиями и подлежащие устранению вместе с
ними. Классовая борьба в марксизме имеет целью упразднение классов и,
следовательно, самоупразднение, она в этом смысле тоже есть путь любви. Поэтому
Фейербах в своей социологии мог бы быть марксистом так же точно, как и Энгельс, и
марксисты в своей философии остаются фейербахианцами, т. е. атеистическими
гуманистами. В самом деле, разве они знают какую-нибудь ценность, высшую, чем
человек и человечество, разве они практически подвергают сомнению формулу
homo homini deus, и ею разве не определяются все их идеалы будущего, идеалы
социализма, свободного устройства общества? Их атеизм есть такой же антропоте-
изм, как и у Фейербаха, и в этом смысле все его представители, без различия
оттенков, оказываются принципиально противоположны более радикальным атеистам
Ницше и Штирнеру, которые во имя атеизма отвергают и антропотеизм, и отрицая
небесного Бога, не хотят и земного божества.
VII
«Религия есть отношение человека к своей собственной сущности - в этом
заключается ее правда и ее нравственная благодетельная сила, — но к своей
сущности не как к своей собственной, но как к другой, отличной от нее, даже
противоположной сущности, — в этом состоит ее неправда, ее границы, ее противоречие с
разумом и нравственностью»1.
Задачей главного сочинения Фейербаха «Wesen des Christenthums» и является
не что иное, как именно опровержение неистинной, т. е. теологической, сущности
религии, при помощи выяснения истинной, т. е. антропологической, сущности
религии, так и озаглавливаются два отдела, на которые распадается это сочинение.
Попытка Фейербаха сводится, другими словами, к тому, чтобы религию бого-
человечества, основывающуюся на вере в Богочеловека, освободить от этой опоры и
превратить просто в религию человечества, в то же время ничем не обедняя ее, а
только снимая с нее теологический катаракт. Фейербах убежден при этом, что
предпринимаемая им операция действительно вполне выполнима и не наносит
никакого существенного ущерба, и религия человечества, лишенная всякой
теологической опоры, будет держаться лучше, чем при ее помощи. С добросовестностью и
талантом Фейербах старательно убирает отовсюду эти подпоры, сознательно и
последовательно производя огромной, можно сказать, роковой важности
философский эксперимент. Он берет на себя задачу религиозного пророка, творца новой
религии. Стало быть, вот решительный и роковой вопрос: держится ли лишенное
прежнего фундамента здание, не давая трещины, или же оно превратилось лишь в
груду обломков? И то «существо» (Wesen) религии, с которым Фейербах
производит свою операцию, живо ли оно и жизненно или уже давно мертво и только труп
его сохраняет еще былые черты живого лица, искривленные и обезображенные
смертью? И новый бог, которому молится Фейербах, бог ли это или мертвый идол, или,
что еще хуже, оракул, за которого вещает жрец, не пророк уже, а самозванец?
Ввиду такого, так сказать, хирургического происхождения учения Фейербаха,
которое сохраняет все-таки неразрывную связь с им отрицаемым или, вернее,
исправляемым христианством, и общее наше отношение к нему, естественно,
двойственное. Его нельзя принять, но нельзя целиком и отвергнуть. Оно содержит в себе
величайшие и важнейшие истины, но взятые в такой односторонности и
отвлеченности, что благодаря этому они превращаются в столь же великие заблуждения. Те
1 Wesen des Christenthums, 238!
37
утверждения, которые Фейербах удерживает из отвергнутого им христианства,
истинны, но, принимая эти производные истины, он отрицает в то же время гораздо
более важные истины, их обосновывающие, и получается странная смесь
уродливостей, противоречий и парадоксов, лабиринт, в котором нужно искать пути.
Две великие и важные истины высказаны с огромным ударением и энергией в
учении Фейербаха: первая, что человек и человечество имеют безусловное
религиозное значение, иначе, что человек для человека или человечество для индивида
есть и должно быть религиозной святыней, пользуясь выражением Фейербаха,
быть земным богом, как бы абсолютом; вторая истина состоит в том, что
человечество есть единое целое, в котором индивиды суть только отдельные части, вне его
теряющие всякий смысл и всякое значение, и это единство есть не абстракция,
существует не в отвлечении только, но вполне реально, человечество есть живой и
собирательный организм.
Обе эти истины, о высшем достоинстве человеческого рода и о его реальном
единстве, органически связанные между собою, представляют собой
положительную часть учения Фейербаха, отрицательная же сторона его состоит в том, что он
ставит их в непосредственную связь, стремится их представить в качестве
необходимых выводов из философии атеизма и этим подрывает в основе оба учения.
Полагая сущность своего мировоззрения в атеизме, Фейербах подрывает и свой
гуманизм, ведет непрерывную борьбу с собой, раздирается непримиримыми
противоречиями. Присмотримся к этой поучительной борьбе.
Начнем с первого тезиса, о религиозном значении человечества. На языке
Фейербаха он формулируется не в том значении, что человек божествен только в смысле
своих потенциальных способностей и конечного предназначения, но в совершенно
обратном: нет Бога, а следовательно, человек человеку — бог, т. е. формулируется в
качестве вывода из атеизма, как его синоним или вогнутая сторона рельефа.
Но антропотеизм в качестве вывода из атеизма содержит в себе внутреннее
противоречие, ибо относительно частностей утверждает то, что отрицает в общем и
целом, именно, уничтожая Бога, стремится сохранить божественное, святыню.
Внутренняя и необходимая диалектика атеизма ведет поэтому от антропотеизма к
религиозному нигилизму, к отрицанию всякой святыни, всякой ценности или, что то
же, к возведению факта, потому только, что он - факт, в ранг высшей ценности, к
приданию религиозного значения факту как таковому. Эту диалектику атеизм
совершил при жизни Фейербаха в учении Штирнера, проповедника нигилизма,
аморализма и «эгоизма», «сокрушителя святынь» (Entheiliger). Мы уже познакомились
с этим знаменательным эпизодом истории мысли и знаем, что победителем в этом
столкновении двух мыслителей нужно считать не Фейербаха, а Штирнера. Для
последовательного и искреннего атеиста, не оставляющего для практического
обихода старых религиозных верований, нет спасения от мертвящего нигилизма, от
убийственной пустоты полного одиночества, и не одиночества в пустыне или
тюремном заключении, но одиночества среди людей, отъединения от них.
И действительно, если отвергнута и объявлена несуществующей высшая,
абсолютная ценность, источник всяких ценностей производных, то какая же существует
логическая, да и нравственная, возможность утвердиться на ценности
относительной, производной, которая, как луна, отражает свет от солнца и гаснет вместе с
последним? Ведь человечество, рассматриваемое в порядке натуральном, а не
религиозном, есть все-таки только факт внешнего мира, факт биологии, истории,
социологии и т. д., в этом качестве принципиально не отличающийся от других
фактов или объектов внешнего мира, какими являются, напр<имер>, камень или гора,
или этот стол. Между фактами этими существует, конечно, огромное
количественное различие, но не принципиальное, не по ценности или рангу. Обожествление
факта, т. е. приписывание факту производному и относительному значения
абсолютной ценности, предиката божественности, есть поклонение кумиру, на обычном
38
языке называемое идолопоклонством. И если предки наши и современные дикари
поклоняются как божеству предметам мира физического - камню, животному,
светилам небесным, то Фейербах таковым же образом предлагает поклоняться
человечеству, совокупности особей homo sapiens. И если современный человек, войдя
в кумирню, не найдет там ничего, кроме безобразных кукол и фигур, то и в
кумирне Фейербаха настоящий атеист найдет тоже только кумиры, хотя и
отвлеченного характера, и - посмеется над ними. Снявши голову, по волосам не тужат, мог
бы сказать Штирнер благочестивому атеисту Фейербаху — отвергнув абсолют,
нужно оставить и благочестие,-а не пытаться сохранить все его атрибуты, приписав их
существу заведомо неабсолютному. Противоречие неисходное, нечего даже на этом
особенно настаивать. Прав Штирнер: атеизм и нигилизм, в какую бы они форму не
облекались, - синонимы. Или есть надо мною Высшее, перед Которым я простираюсь
ниц, или я выше себя и над собой ничего не знаю, и ego (a не homo) deus sum.
Понятно и естественно идолопоклонство в эпохи темного и наивного сознания
человечества, тем более что тогда идолопоклонство и не являлось вовсе атеизмом и
идолы имели значение действительно священных изображений. Но трудно
положение мыслителя XIX века, вышедшего от Гегеля, утратившего, следовательно,
всякую наивность и непосредственность и принужденного в силу внутренней душевной
необходимости сотворить себе заведомый кумир, проповедовать его божественность
и молиться ему, причем этот кумир не какое-нибудь недосягаемое светило или
неведомое существо, но мы сами, мы и наши друзья, жены и дети, их знакомые,
знакомые их знакомых, наши предки и наши потомки, т. е. человечество. Такой
человек должен переживать постоянную трагедию, терзаться жгучим
противоречием, томиться от внутреннего беспокойства, и вот одна из причин, почему Фейербах
никогда не мог остановиться на окончательной формулировке своего учения; всю
жизнь он его перерабатывал, часто только повторяя другими словами старые
мысли и как бы звуком новых слов стремясь заглушить внутренние сомнения. В этом
беспокойстве - весь Фейербах, его лучшая благороднейшая сущность, и
удивительно, если за маской догматического, воинствующего атеизма просматривают это
борение и это беспокойство.
Человек есть святыня, и человечество священно, оно имеет абсолютное
религиозное предназначение. Это глубоко почувствовал Фейербах. В особенную заслугу -
не логики, но его человеческого чутья - ему надо вменить то, что он заговорил
именно о религии человечества, что при всем своем атеизме он не отрицал, но
проповедовал религию. Этим он становится десятью головами выше тех, которые
стремятся упразднить не только ту или иную форму религии, но религиозное обо-
жение вообще, а в то же время с высокомерной гримасой отворачиваются от
настоящего сокрушителя святынь Штирнера. Везде, где есть абсолютные ценности,
предмет преклонения, святыня, в чем бы она ни состояла - в абстрактной идее
человечества или в букве Эрфуртской программы — есть религия, и мало чести
проницательности Энгельса и Маркса делает то, что, удерживая философию
Фейербаха, они старательно - в атеистическом и материалистическом своем фанатизме -
устраняют его религию1. И, конечно, единственно мыслимой формой атеистической
религии остается религия человечества, обожение человека, как его проповедовал
Фейербах.
Или Бог, или человек - такова альтернатива Фейербаха. Между тем, на самом
деле здесь не только нет противоположения, или - или, но оба эти понятия
неразрывно связаны между собою, фактически объединяясь в понятии богочеловечества.
Вера в Бога есть вера и в человека, и без этой веры человек превращается в
странную, полную непонятных противоречий, двуногую тварь. Но отъединить эти веры
одну от другой невозможно, и всякая попытка дать религию человечества без Бога
Ср. следующий очерк: «К. Маркс как религиозный тип».
39
есть лишний аргумент a contrario91* в пользу этой истины, подобную же попытку
мы имеем и у Фейербаха.
Человек и человечество есть высшее откровение Божества, ради которого
создан этот мир, которое является посредствующим между Творцом и творением,
душой мира. Только человек имеет способность свободного и сознательного усвоения
божественного содержания, только в нем абсолютное находит свое другое, свой
образ и свое подобие. В силу этого человечество и обладает потенцией бесконечного
развития, способностью к истинному прогрессу, ведущему к действительному
перерастанию самого себя, а не к одним только пустым и напыщенным претензиям на
сверхчеловечество. Рост человечества от темной тварной стихии до светлого бого-
общения и богопознания, от зверечеловечества к богочеловечеству и наполняет
собой исторический процесс. Для этого процесса одинаково необходима и
свободная человеческая стихия, активно усвояющая открывающееся божественное
содержание, и необходимо это откровение Божества, многочастное и многообразное.
Божество, неизменное и абсолютное, имеет в человечестве свой образ, свое другое,
усвояющее это абсолютное содержание в историческом процессе, человечество есть
в этом смысле становящееся абсолютное. Очевидно, что возможность откровения
абсолютного, возможность богочеловеческого процесса предполагает в человеке
известные способности, известное духовное сродство, «образ и подобие»
абсолютного. Если мы устраним это предположение и станем на почву деизма, сводящего
Божество, по прекрасному выражению Фейербаха, к роли Titularursache92*, то мы
отвергнем всякую возможность богопознания и богооткровения. Относительно
такого Бога нельзя даже сказать: он есть, ибо для Божества быть — значит
открываться, животворить. Бог же неживотворящий есть contradictio in adjecto93*.
Поэтому деизм, признание Бога an und für sich вне всякого отношения к человеку,
есть только вежливая форма атеизма. Как люди, мы способны лишь к
человеческому познанию, на человеческом же языке быть - значит проявлять свое
существование, и положение, что вообще Бог есть, но нет Его для человека, есть нелепое
противоречие. Потому деизм в силу неизбежной диалектики переходит в атеизм и
теоретически, и исторически (в эпоху Просвещения).
Против этого возражают обыкновенно ссылкой на антропоморфизм таких
представлений о Божестве, будто бы недостойный и грубый. Но упреки в
антропоморфизме основываются на чистом недоразумении (если они не касаются, конечно,
действительно грубых представлений о Боге, в которых Божеству приписываются
наши недостатки, слабости, земные свойства и т. д.). То, что называется при этом
антропоморфизмом, есть на самом деле единственно возможное и доступное для
человека, человеческое познание о Боге. Утверждая Его бытие, мы утверждаем
вместе с тем, по крайней мере, хотя некоторую Его познаваемость для себя, а
следовательно, приписываем себе и орган этого познания, способность к такому познанию.
Но познание есть акт глубоко интимный, основанный только на внутреннем
сродстве. Мы признаем, следовательно, божественность и своей собственной природы,
т. е. образ и подобие Божие в себе. Давно уже указано великим поэтом,
повторившим здесь не менее великого философа1, что мы не знали бы солнца, если бы наш
глаз не имел в себе чего-то солнечного.
War' nicht das Auge sonnenhaft
Die Sonne könnt' es nie erblicken,
Lebt' nicht in uns die Gotteskraft
Wie könnt' uns Göttliches entzücken?95*
Поэтому обвинения в антропоморфизме совершенно справедливы постольку,
поскольку они отмечают ту истину, что бытие Божие неизбежно есть и откровение
1 Не всем известно, что эти стихи Гёте представляют перифраз изречения Плотина (Эннеа-
ды, I, 6, 9)94*. Известный спор, на тему об антропоморфизме представлений о Боге вел с Эшен-
мейером Шеллинг (см. об этом: К. Фишер, Ист. нов. фил., т. VII, ст 718, 720).
40
Божие, а потому Абсолютное Сущее предполагает и Абсолютное Становящееся.
Если есть Бог, то, значит, божествен и человек, божественное происхождение и
божественное предназначение имеют и его духовные силы. Таким образом, то, что
обычно называется религиозным антропоморфизмом, т. е. признание
божественного достоинства и образа и за человеком, нисколько не служит аргументом в пользу
атеизма, в качестве какового пользуется им, между прочим, и Фейербах. Фейербах
старается доказать, что человек создает бога по своему образу и подобию, как
объективированные, опредмеченные желания своего сердца, как мечту1. Он
выворачивает утверждение, что человек имеет образ и подобие Божие, в том смысле, что Бог
имеет образ и подобие человеческое. Но этим нисколько не решается вопрос,
человек ли создал Бога как продукт своей фантазии, или человек создан Богом и
постоянно сознает и чувствует свое богоподобие. Метафизически-религиозный вопрос
этим указанием Фейербаха, которое он принимает за сильнейший аргумент в
пользу атеизма, даже считает разоблачением тайны религии и поворотным пунктом
истории, не только не разрешается, но, в сущности, и не ставится. Фейербах в
«Сущности христианства» и Вл. Соловьев в «Чтениях о Богочеловечестве» (а
раньше его Шеллинг) весьма близко подходят к друг другу, поскольку дело идет об
установлении богоподобия человека, но затем расходятся из этой общей точки в
диаметрально противоположные стороны. Вообще эти сочинения имеют какое-то
странное сходство и близость при величайшем контрасте, ибо оба они, при всей
бездне, разделяющей их, характеризуются в сущности своей ответом на один
основной и вечный вопрос, именно вопрос: что думаете вы о Сыне человеческом? И в
ответе на него заключается ответ и на другой вопрос: что думаете вы о человеке и
о себе самих? Недаром же Фейербах первоначально проектировал в заглавии своего
сочинения выставить призыв к самосознанию: Γνώθι σαυτόν96*.
Итак, антропологию Фейербаха, которую он считал самым победоносным и
неотразимым орудием в арсенале атеизма, мы таковым совершенно не считаем, и она
никоим образом не уполномочивает его к тем религиозно-метафизическим выводам
в пользу атеизма, какие он сам из нее делал. Те данные религиозной психологии,
которые были отмечены Фейербахом, укладываются и в противоположное
мировоззрение; это, впрочем, не раз уже указывалось. Отвергнув Бога, Абсолютное Сущее,
Фейербах должен был признать богом абсолютное становящееся, человечество
обожествляющееся. Становление приравнено было законченному бытию, обожествляе-
мость - обожествленности. Абсолютное в процессе, слагающемся из смешения аб-
1 Кроме этой альтернативы, что или бог существует, или есть лишь продукт фантазии,
оказывается, возможна еще и третья, согласно которой бога еще нет, но он будет создан
человечеством. Это философское изобретение, представляющее собой, на наш взгляд, самую
безбожную и нечестивую выдумку всего XIX века, принадлежит эстетическому скептику и
умственному гастроному Эрнсту Ренану. Читайте в его «Философских диалогах» следующий обмен
мнений:
«Евтифрон.
Вы думаете, значит, как Гегель (??!!), что бога нет, но он будет?
Теофраст.
Не вполне. Идеал существует; он вечен; но он еще не вполне осуществлен материально, но
когда-нибудь будет осуществлен сознанием, аналогичным сознанию человечества, но
бесконечно высшим, которое по сравнению с нашим теперешним сознанием, столь ужасным, столь
темным, покажется совершенной паровой машиной рядом со старой машиной de Marly.
Универсальная задача всего живущего - создать совершенного Бога (de faire Dieu parfait),
содействовать великому окончательному результату, который заключит круг вещей в единстве.
Разум, который до сих пор не принимал никакого участия в этой работе, совершавшейся
слепо, при посредстве темного стремления всего существующего, разум, говорю я, заберет когда-
нибудь в руки руководство этим великим трудом и, организовав человечество, организует Бога
(organisera le Dieu, даже с большой буквы!)» (Renan. Dialogues et fragments philosophiques. 4-
me éd. Paris. 1895. Диалог Probabilités, с 78-79. Курсив мой). К удивлению, эти идеи в
последние годы нашли себе отголосок и на русской почве, среди разочарованных марксистов.
41
солютного и условного, вечного и преходящего, было объявлено единственным и
окончательным. Отсюда все дальнейшие трудности, весь трагизм положения
Фейербаха. Отныне он обречен на то, чтобы собирать лучи, проникающие сверху в
темную стихию, и при помощи этих лучей освещать и то, что остается неосвещенным.
Основной факт духовной природы человека - ее противоречивость* Человек -
это живое противоречие и, в этом качестве, живая загадка. Небо и ад обитают в
человеческой душе, тысячу раз было это сказано. Человек тянется одновременно
вверх и вниз, раздирается борьбой различных и противоположных начал, которой
и движется человеческая история. Эти непримиримые противоречия в человеке и
не позволяют принять его в качестве абсолюта, каким признает его Фейербах. Для
этого нужно стать на точку зрения полного нравственного безначалия, филистерского
примирения со всем и со всеми, но при таком настроении вообще потребности в
нахождении абсолютов не испытывается. В этом случае человечество обожествляется не за то, что
оно собой представляет, но просто за то, что оно существует. Истинный, глубокий
демократизм подменивается своей противоположностью - демагогизмом, исключающим
какие бы то ни было высшие критерии над толпой и ее суждением, и этой обманчивой
видимостью воззрению этому придается особая популярность.
Божество - толпа, титан - толпа! —
как восклицает Надсон в одном из наиболее головных и фальшивых своих
стихотворений97*. Это сторона воззрений Фейербаха была особенно легко воспринята
современностью, и идолопоклонство толпе, демагогизм, представляющий собой
противоположность истинного, сознательного демократизма, есть самая популяр-,
ная форма современного атеизма, и лишь Ницше последнее время посягнул на этот
кумир.
В демократии, как и во всех человеческих делах, возможны два аспекта, два
пути, два направления: вверх и вниз. Вверх ведет сознание солидарности, высшего
единства вселенского человечества и общности богочеловеческого дела, в котором,
хотя «звезда от звезды и разнствуют во славе», есть и рядовые и офицеры, есть
чернорабочие и герои, но все они нужны и одинаково незаменимы для универсаль-,
ного всечеловеческого и богочеловеческого дела, создания царствия Божия,
совместного служения высшему идеалу. Этому противоположна тенденция
нивелирования, сведения под один ранжир, признания за правомерное только того, что в
равной мере доступно и разделяется всеми, бессознательного стремления к
приведению всего не к высшему, а к низшему уровню. Это отношение к массе -
некритическое и даже не допускающее критики преклонение пред большинством, не
только в том, в чем оно всецело компетентно, т. е. в том, что касается его материальных
нужд и интересов, но и вопросов духа, - является в настоящее время весьма
широко распространенным и обычно принимается за демократизм. Отсутствие высших
масштабов, следствие атеизма, привело к тому, что масштаб качества заменяется
масштабом количества, и в этом философском грехопадении повинен был и
Фейербах. Эта тенденция представляет собой язву современной культуры и есть прямой
результат не ее демократизма, с которым вовсе не связано обожествление толпы,
но ее атеизма. Формулу Фейербаха: человечество есть бог и абсолют, современность
практически осуществляет сплошь и рядом в слепом поклонении толпе,
обожествлении массы, и больше всего грешит этим прямая наследница Фейербаха -
германская социал-демократия.
Погасив светоч и опустив острие разделяющего меча, Фейербах оказывается
вынужденным вместо религии человечества проповедовать культ посредственности
как нравственной, так и умственной. Вы помните его чудовищное, абсурдное
учение о том, каким образом установляется нравственное совершенство рода,
принадлежащее ему по сравнению с индивидом: разные индивиды и добродетельны и
порочны по-разному, и если взять алгебраическую сумму, то плюсы сократятся на
42
минусы и получится образ совершенной добродетели — род, который и составляет в
таком качестве и «предметную совесть»98* для индивида. Мы считаем эту
концепцию совершенно явной нелепостью, одинаково возмущающей и ум и совесть. Ее
можно не критиковать, но лишь объяснять. И самое поучительное при этом то, что
Фейербах унизился до этого позорного учения не по какой-либо частной ошибке
или случайному затемнению, но невольно, может быть против воли, в борьбе с
собой: иначе ему некуда было бы податься, и с честной последовательностью и
смелостью мысли, его отличающей, он идет напролом, навстречу абсурду, выдает
секреты, «тайну» своего атеизма, которую, может быть, было бы расчетливее и не
выдвигать, а оставить в тени. Пусть кому-нибудь в мучительные, роковые минуты
душевного упадка, уныния *и отчаяния, когда опускаются руки, тускнеет вера в
человека, в человеческий подвиг, красоту человеческой души, пусть Чехову,
отравившемуся «серыми людьми», приведут на мысль это удивительное соображение,
что «серые люди», рассматриваемые порознь, конечно, не первый сорт, но они
«серы» на разный манер, и если взять в сумме все их оттенки, то из них получится
пунцовый и ярко-фиолетовый цвет, получится герой. Найдется ли источник
бодрости и веры в этом убеждении, прояснится ли отуманившийся взор, или же вернее
освежит унывающего воспоминание или рассказ об одном каком-нибудь
действительно хорошем поступке одного какого-нибудь отдельного человека, может быть,
чистая улыбка ребенка, я не говорю уже о мысли о том Праведнике, «Едином
Безгрешном», Который тоже носил человеческую плоть и скорбел человеческими
скорбями. Как бы то ни было, но можно ручаться, что эта фейербаховщина будет в
такую минуту просто отвратительна.
Такая же безвыходность почувствована была Фейербахом, когда он задался
вопросом о природе истины. Бесспорно, что единая истина открывается только
совокупному человечеству в историческом его развитии, причем и здесь различным
индивидам распределяются разные роли: одним дано быть пионерами, уходить
далеко вперед, оставаясь непонятными своим современникам, другим суждено
сразу находить отзвук и понимание, одним дано быть творцами, другим более или
менее пассивными усвоителями и хранителями приобретенного не ими.
Справедливо, во всяком случае, что истина познается сообща человеческим родом, здесь
существует естественный и неустранимый коммунизм.
Но для Фейербаха мало было этой очевидной и бесспорной истины. Ему нужно
было признать, что истина не только познается сообща, но и создается сообща.
Признать сущую истину, существующую ранее всякого человеческого познания,
значит уже признать Бога - ибо истина есть одно из необходимых определений
божества, - значит признать, что познавание по существу своему есть откровение,
хотя и обусловленное активной самодеятельностью человечества. Верный своему
атеизму, ничего этого Фейербах, конечно, не мог признать и оказался опять-таки
вынужденным поддерживать явную нелепицу (хотя бы ее теперь разделяли даже
такие острые, но с чрезмерным пристрастием к парадоксии умы, как Зиммель99*),
что «истина есть сознание рода». Однако применение критерия количественного
большинства, культ посредственности в данном случае связаны с явными
неудобствами, еще большими, чем в предыдущем, поэтому Фейербах немедленно и делает
решительное отступление от своего принципа, заявляя, что отдельный человек
может быть представителем целого рода и в таком качестве с родом и не
соглашаться. Очевидно, что это ограничение совершенно уничтожает самое правило, и
Фейербах только напрасно делал попытку его установить.
Итак, вот к чему привела великая и важная истина о религиозном достоинстве
и назначении человечества после того как Фейербах превратил ее в отвлеченное
начало и, не желая признать Высшего Содержания, обожествил внешнюю форму, в
которой Оно открывается, - не источник света и жизни, но темные и мертвые
стихии. Фейербах явил собой типичный образ философского идолопоклонника.
43
VIII
Второй истиной величайшей важности, положенной в основание гуманизма,
или антропотеизма, Фейербаха, является мысль, что человечество едино и что род,
целое, существует первее индивида и представляет собой реальное существо. Эта
мысль составляет Leitmotiv всей философии Фейербаха (как и его
единомышленника и современника Ог. Конта). Он констатирует связь индивида с родом,
человека с человечеством не в смысле только причинной зависимости, которая связывает
нас и с внешней природой, но придавая этому факту принципиальное, религиозное
значение. Род есть божество, которым святится каждый член его, каждый
индивид. Фейербах удивительно близко и здесь подходит к сущности христианства и
величайших истин его. Человечество признает себя солидарным и чувствует себя
единым - вот чудесный и загадочный факт, лежащий на самом дне человеческого
сознания. Речь идет, повторяем, не о внешней причинной зависимости, но о
гораздо большем. Конечно, причинная связь поколения с поколением лежит на
поверхности и не может не броситься в глаза. Поколение от поколения находится в такой
же точно объективной зависимости, в какой род земледелия от климата и почвы,
окраска кожи от солнца и т. д. Но из этого факта причинной зависимости никак
еще нельзя выжать этой общечеловеческой солидарности, о которой идет речь, ибо
эта последняя содержит в себе нечто гораздо большее, чем причинную связь. В ней
утверждается нравственная солидарность и единство человеческого рода, общая
совесть, общее достоинство, общие задачи и идеалы. Мы живем и действуем не как
индивиды А, В, С и не как механическая совокупность или сумма А + В + С, но
как члены или элементы целого ABC, существующего прежде и независимо и от А,
и от В, и от С, и дающего им определенное качество. Мы говорим: homo sum et
nihil humani a me alienum esse puto100*, и это заявление одинаково понятно на всех
языках и во всех странах. Мы обладаем способностью гордиться и стыдиться за
человека, т. е. чувствовать от имени человечества. Мы испытываем удовлетворение
за человека, наблюдая творческий полет человеческого гения и красоту
человеческого подвига, и нам стыдно и больно — опять-таки за человека, - когда мы
останавливаемся мыслью на падениях человечества. «Der Menschheit ganzer Jammer
fasst mich an»101*, говорит Фауст, входя в темницу, где томится Маргарита, и
воспринимая страдания покинутой им девушки опять-таки как скорбь всего
человечества. И чем возвышеннее дух и тоньше сознание, тем острее сознается эта
человеческая солидарность, тем глубже страдание и скорбь за людей, тем внятнее
говорит голос не индивидуальной только, но общечеловеческой совести. Пороки и грех
человечества принадлежат ему как целому; не может освободиться от греха один
человек за свой собственный счет, пока коснеет во зле и неправде все человечество,
и не может пасть один индивид, не вовлекая за собой в бездну и своих собратьев.
Так становится все более понятным учение о первородном грехе всего человечества,
которым все человечество могло согрешить в одном человеке.
Это сознание, этот первичный и элементарный факт совести не поддается
никакому рациональному, точнее, рационалистическому объяснению.
Рационалистически понятно (если только еще понятно), почему я чувствую себя виновным за свои
собственные поступки и их непосредственные результаты. Но когда я чувствую
себя виновным в тех случаях, если этой связи не существует для видимого глаза
(напр<имер>, как в рассказе Чехова, за смерть безвестного самоубийцы - «По
делам службы»), или же если вина вообще безмерно превышает индивидуальную
ответственность - ведь почему-то я чувствую себя виновным и в русско-японской
войне, и в Цусимской катастрофе, - то приходится поневоле признать, что кроме
личной ответственности индивида за свои индивидуальные поступки, есть еще
родовая совесть, родовое чувствилище, не выдуманное, а реальное общечеловеческое
сознание, живущее во всяком индивиде. Его голос может быть более или менее
44
внятен, иногда, и даже часто, совсем заглушён, но он есть, этот загадочный,
таинственный голос, и говорит он: все за всех и во всем виноваты, человечество едино
и солидарно и нет в этом едином и живом целом возможности провести границу,
где кончается вина одного или другого. Эта величайшая и глубочайшая истина
христианства в новое время в русской литературе сознана больше всего Достоевским,
сделавшимся настоящим ее проповедником102* (очень выдвигается она и в
современном теософическом движении и в учении о карме103*). Легко придать этому
чувству даже некоторое рационалистическое подтверждение, указав на причинную
связь всего сущего и на значение каждого самомалейшего индивидуального
поступка для всей вселенной. Но это теоретическое положение само по себе не
способно породить такого живого, реального чувства общечеловеческой солидарности,
живой гордости и живого стыда и раскаяния за человечество. Это живое чувство не
может корениться только в абстракции, в отвлеченной мысли, оно связано,
очевидно, с нашей жизнью, с подлинным нашим существом, хотя и не с той его
стороной, которая обнажена и лежит на поверхности сознания, где царят
разъединение, чувство индивидуальности, особности от всего. Оно связано с той стороной,
которая обращена к подземными, мистическим корням сущего, где индивид
реально соединяется с единым человечеством, с мировой душой, и загадочное,
мистическое переживание общечеловеческой солидарности есть голос, доносящийся на
поверхность из глубины.
Реальным мистическим единством человечества необходимо предполагается и
живой, реальный, индивидуальный, а не абстрактный центр этого единства, его
воссоединяющий и превращающий человечество в живой духовный организм. Этот
центр есть Христос, неразрывно связавший Себя с человечеством, Богочеловек,
воссоединяющий человечество с Божеством. Будучи таким живым и реальным
центром человечества, Он мог принять на себя его вины и его грехи, и Его
очистительная жертва, его подвиг имели и могли иметь реальное значение для всего
человечества, неразрывно с Ним связанного. И до тех пор, пока продолжается
греховная жизнь еще непреображенного, хотя и искупленного уже человечества, мы,
даже не веря во Христа, но тем не менее находясь в реальной связи с Ним,
чувствуем боль, Ему причиняемую в Его человечестве, и это чувство есть
общечеловеческая совесть. И не веря во Христа, но чувствуя в себе реальное общечеловеческое
единство, мы все же стараемся удержать в себе это чувство, сознавая его в себе как
нечто высшее, как святыню. В этом заключается и объяснение печального
парадокса, что Фейербах, противник христианства, проповедует его основную истину:
единство, солидарность человечества, но единство без единящего центра, святость
без святящей основы.
Но и здесь, как и в других случаях, он обречен на борьбу с собой, на погоню за
убегающим призраком. Единство человечества — не абстрактное, а реальное,
существенное - он хочет опереть исключительно на эмпирической действительности, но
почва эта постоянно уходит у него из под ног, ибо в эмпирическом своем
существовании человечество не едино, единство существует здесь для него только как
задача, точнее, как норма или идеал, никогда целиком не переходящий в
действительность и не осуществляющийся в ней. Нет единого человечества, а потому нет и
истории человечества, цивилизации человечества, прогресса человечества и т. д.,
это все абстракции и условности; на самом же деле есть лишь отдельные эпохи,
отдельные поколения, отдельные сословия и классы, наконец, лица, а человечество
в его целом ускользает из рук, как призрак, как только мы пытаемся его схватить.
Из всей сферической поверхности, которой можно в данном случае уподобить
человеческий род, для нас освещены и находятся в поле нашего зрения лишь
несколько точек, а вся огромная сфера вверху и внизу окутана мраком. Прошлые
поколения, с их мучительной и неблагодарной работой, к которой мы, стоя на их
плечах, относимся, однако, по большей части с высокомерным и снисходительным
45
презрением, оставили нам одни кладбища, полные мертвецов и с ними нас не
может связывать благодарная память и живое чувство сердечной связи. Идея
почитания умерших, непосредственно связанная с идеей бессмертия души и грядущего
воскресения, не вмещается в позитивном сознании. Они были, а теперь нет, ничего
не осталось от их страданий, сердечных мук, борений и отчаяний. Эти люди
унавозили собой будущую гармонию, поработали для нас, и пусть в мире гниют их
кости. Я ведь не клевещу и не карикатурю, ведь, действительно, для позитивизма нет
и не может быть иного отношения к прошлому человечеству — абстракцию и
призрак былого любить нельзя, и усиливающийся научный исторический интерес,
касающийся, впрочем, больше учреждений, чем людей, имеет в значительной
степени характер любознательности и пристрастия к разным раритетам, чисто
головной пытливости, а не сердечного участия. Ведь теперь современный экономист
может в одном сочинении, одним, можно сказать, духом доказывать, что
современная капиталистическая цивилизация основана на истреблении целых племен,
разграблении целых культур, тонет в крови, и тут же одним духом, хвастливо и
самодовольно принимается перечислять все ее удовольствия и прелесть с
беззаботностью... цинизма. Нет, не нужно лукавить: современное человечество
рассматривается как цель, а все предыдущие поколения суть только средства для него.
Но ведь и будущие поколения представляют собой тоже туманность, в которой
глаз не различает ничего определенного. Можно предположить, что и они будут с
таким же равнодушным презрением относиться к прошлому человечеству, как и
мы, и нас будут рассматривать в качестве исторического навоза так же точно, как
и мы рассматриваем своих предков. Оно «перепрыгнет» благополучно (если верить
современным пророкам104*) из царства необходимости в царство свободы и будет,
оглядываясь назад, вспоминать о нем с таким же презрительным ужасом, с каким
мы вспоминаем времена инквизиции. И тогда будет тоже только одна освещенная
точка, которая переместится в иное место, но по-прежнему будет окружена тьмою
вверху и тьмою внизу.
Величайшая ложь позитивизма вообще и фейербаховского в частности
заключается поэтому в его утверждении, что человек смертен, конечен и ограничен,
человечество же бессмертно и способно к безграничному усовершенствованию. При
позитивистическом понимании человеческой жизни, т. е. при ограничении
человеческого бытия только данными эмпирическими условиями, человечества нет, это
есть лишь абстракция, лишь алгебраическая формула. Штирнер, тоже эмпирик и
позитивист, но более последовательный, тысячу раз был прав против Фейербаха,
когда говорил ему, что он раздвояет человека на действительное и абстрактное
существо и что род есть абстракция. Фейербах указывал ему в возражении, что и
«единственному» нужны жена и дети, вообще современники. Пусть так, но ведь
современники не составляют собой человечества, рода как целого, они суть только
освещенная точка сферы, а целого нет и не может быть. Человечества нет, его
призрак бессильно валится пред великой уравнительницей - смертью и рассыпается на
отдельные поколения, чередующиеся, как волны, и, как волны, взаимно чуждые.
Таким образом, реальное наполнение формулы Фейербаха homo homini deus может
быть только таково: бог для меня — мои современники, мои друзья, враги,
знакомые и незнакомые. Можно поздравить с таким божеством и с такой религией.
Не помогут и ссылки на то, что все человечество находится в объективной
исторической связи, объединяющей его в одно целое. Пусть так. Пусть будет
доказано, например, что через посредство Библии я нахожусь в непосредственной связи с
идеями древнего Вавилона. Но, во-первых, в подобной причинной связи я
нахожусь со всем окружающим меня физическим миром, мое благосостояние
неразрывно связано, например, с правильным действием закона тяготения; физически меня
связывает прямая преемственность со всем органическим миром, с
птеродактилями, с гориллами и с лягушками, может быть прочнее еще, чем с вавилонянами.
46
Во-вторых же, и главное, ссылка эта ничего не говорит ибо речь идет не об
объективной причинной связи, установляемой наукой, а о живом чувстве сознания этой
связи, о том сердечном признании, нужном для религии или даже просто для чувства
солидарности, которым только и живо единое человечество.
Следует поэтому отвергнуть как эвфемизм105*, как фальшивую монету, понятие:
общечеловеческий прогресс, общечеловеческая цивилизация, правильнее говорить о
цивилизации будущих поколений, об их благополучии и счастии, но не
употреблять часть вместо целого и эти поколения — мы не знаем ни того, сколько их
будет, ни того, каковы они будут, - не называть человечеством. Современный
позитивизм все словоупотребление и, отчасти, даже круг идей заимствовал у
христианства, не замечая, что все это, отсеченное от живого стола, мертвеет и вянет,
превращается в пустой звук. Понятие единого человечества содержит непримиримую
антиномию: с одной стороны, сознание этого единства дано нам в непосредственном
чувстве и является естественным и неизбежным постулатом, нормой наших
действий, мыслей и чувств; с другой же, это единство безжалостно уничтожается
смертью, которая внутреннее единство превращает во внешнее чередование поколений,
а сознание связи и солидарности — в наследственные традиции истории, в
исторический процесс. Единственный выход из противоречия, разрешение антиномии
возможно только в том случае, если признать, что история не есть окончательная
форма жизни человечества и что результаты совокупной деятельности и трудов
всего человечества имеют значение действительно для всего человечества. Но это
воззрение возможно только при принятии христианской веры в «будущий век» и
всеобщее воскресение, с которым только и может быть связана вера в прогресс, в
историческое творчество человечества, а не отдельных, чередующихся поколений.
Иначе оно превращается в бессмыслицу, в воплощенную иронию: неужели же
нужны были многовековые страдания всего человечества, чтобы доставить
благополучие неведомым избранникам на короткое время их жизни? Торжествует
только одна победительница - смерть.
Фейербах чувствовал эти противоречия, недаром он так длинно и многословно
критиковал идею личного бессмертия и восхвалял смерть, недаром он готов был
спастись от них даже ценою явного абсурда. Отвергнув Богочеловека, мистический
центр, единящий человечество, он начал искать его в эмпирическом мире и, как
мы знаем, нашел его... в государстве. Читатель помнит, что в конце концов глава
государства является в роли заместителя бога. Этот абсурд показывает, что внутри
самого учения не все обстоит благополучно, является грозным предостережением
для последователей Фейербаха.
Религиозная антропология, учение антропотеизма, есть ключ, которым Фейербах
пытается отмыкать все тайники религии и христианства. Эта критическая его работа
имеет второстепенное и производное значение, хотя в ней и много остроумия и блеска,
но принципиальные ее основания даны в антропологии... И если этот .универсальный
ключ оказывается покрыт со всех сторон ржавчиной и ломается в руках, мы считаем
себя вправе освободить себя здесь от рассмотрения частностей критики христианства у
Фейербаха, ибо принципиальное суждение о ней уже произнесено, исследование же
подробностей может составить лишь специальную задачу.
IX
Если откинуть индивидуальные особенности, которые имеются у каждого
писателя, то про Фейербаха вместе с Ог. Контом надо сказать, что им дано было
сделаться выразителями духа нового времени в его самой основной, существенной и
глубокой характеристике. Характеристика эта исчерпывается одним словом:
гуманизму рассматриваемым не в узком смысле литературного, по преимуществу, тече-
47
ния, каким он выступил впервые в новой истории (хотя между средневековым и
современным гуманизмом и существует прямое идейное сродство и
преемственность), но понимаемым как величайший жизненный факт нового времени, начиная
примерно с великой французской революции или даже ранее, с XVII-XVHI века.
Гуманизм и новое время — синонимы. Новейший гуманизм не знает своего Лютера,
или Цвингли, или Кальвина. Нивелирующий и демократический гуманизм не
нуждается и даже не допускает единичных вождей, воплощающих или создающих
движение. «Герои» гуманизма, понимая это слово в карлейлевском смысле, его
«führende Geister»106*, конечно, не являются теми исполинами, как, например,
Магомет или упомянутые герои Реформации, но если и это время имеет своих
героев, то в числе их непременно должен быть поименован и Фейербах. Дух нового
времени, его настроения и чувства рельефнее, может быть, чем у более
прославляемых его современников, отражается в его трудах. И в этом историческое
значение Фейербаха, которое гораздо больше, чем чисто теоретическая и философская
ценность его сочинений.
Совершенное богочеловечество, которое, по учению христианства, является
окончательной мыслью Творца о Своем творении, идеальной задачей, разрешаемой
в мировом и историческом процессе, предполагает свободное усвоение
божественного содержания жизни, следовательно, устраняет возможность подавления
человеческой стихии со стороны божественной силы. Человек хотя и усвояет данное
ему божественное содержание, но воспринимает его в свободном творчестве, в
историческом процессе, в результате развития собственных сил как реальное
осуществление образа Божия в собственном существе. Это усвоение поэтому не может
быть никоим образом лишь пассивным восприятием чуждого содержания, оно
предполагает движение и от себя, навстречу ему, движение самостоятельное,
человеческое. Для этой цели человеческая стихия должна временно отделиться от
божественной, быть осознанной до глубины как таковая, человек должен стоять на
собственных ногах, чтобы свободно принять и усвоить божественное содержание жизни.
Таким образом, совершенное богочеловечество в равной степени невозможно как
без Бога, так и без человека. В историческом раскрытии богочеловеческого единства,
которое совершается вообще диалектически путем противоречий, были испробованы
обе крайности, обе возможности одностороннего понимания универсальной идеи бо-
гочеловечества: если в средние века господствовало мировоззрение богочеловечества
без человека или, точнее, помимо человека, то в новое время преобладает идея
человечества без Бога или помимо Бога. В основе средневекового мировоззрения и
основанной на нем практики жизни лежало недоверие к человеку и его силам, к его
земным интересам и делам. Монашество считалось наиболее совершенным и адекватным
воплощением богочеловеческой идеи. Меньше чем кто-либо, я склонен преуменьшать
одностороннюю правду этой идеи: напряженный идеализм, острота переживаний
трансцендентного, могучая вера — всеми этими особенностями средневековье
накопило в душе человечества богатство, доселе еще не изжитое нами, запас высоких
чувств, молитвенных настроений, идеалистического презрения к преходящим благам
этого мира. В русской душе, может быть еще более, чем в европейской, живы эти
чувства, связанные с общей духовной родиной европейского человечества —
средневековьем (разумея этот термин не в смысле хронологической, но
культурно-исторической эпохи). И до сих пор средневековая архитектура представляет
непревзойденный и даже не достигнутый предел напряжения идеалистически-религиозного
искусства (так же, как непревзойденной и недостигнутой — в совершенно другой сфере -
остается для нас красота античного искусства). И по сравнению с этими величавыми
памятниками душевной жизни средневекового человечества современность со своими
вокзалами и отелями кажется такой мелкой, прозаической, мещанской. Нужно
уметь поклоняться этой старине.
И тем не менее средневековое мировоззрение представляет для нас теперь,
несомненно, уже историческое прошлое, и притом невозвратное прошлое. Оно пере-
48
жито и изжито, совершенно ясно осознана его односторонность и его неправда, и
если эта неправда еще пытается испытывать над современностью свою гнилую
силу, то какое голое, мертвящее насилие, без прежнего обаяния святыни, без былого
сияния вокруг потемневшего лика.
Средневековое понимание идеи богочеловечества было исторически побеждено
мировоззрением, представляющим его полную противоположность и отрицание:
гуманизмом, религией человечества или без Бога, или против Бога. В этом или - или
заключаются две возможности или два разных оттенка, как бы два регистра, в
которых может звучать, по-видимому, одинаковая музыка. Но этого различия мы
сейчас не будем касаться, остановимся пока на самом содержании этой мелодии.
Гуманизм выдвинул с необычайной силой земную, человеческую сторону
исторического процесса, выступив в защиту человечности против бесчеловечности
средневековья. Он выставил в качестве первейшей заповеди то, что спросится со всех нас, без
различия веры: накормить алчущего и напоить жаждущего, одеть нагого, посетить
заключенного в темнице, ибо какое же иное содержание имеет созданное им
социальное движение, как не выполнение этой Христовой заповеди. Гуманизм потушил
костры инквизиции, разбил цепи рабства, с которым легко мирилось внечеловечное,
исключительно потустороннее христианство, он освободил слово, мысль, совесть от
тиранического гнета, создал свободную личность; он ведет теперь последнюю
великую борьбу с социальным рабством капитализма, довершая дело эмансипации
личности. Да будут всегда благословенны эти дела гуманизма!
Велики заслуги гуманизма, в частности, и у нас, в России. И у нас, в России,
произошло такое же столкновение внечеловечного богочеловечества и безбожного
гуманизма, средневекового и новейшего мировоззрения, что и на Западе. И у нас
идеи гуманизма вдохновляли и вдохновляют освободительное движение. Вся почти
революционная борьба велась* под знаменем гуманизма. Различные общественные
наши направления, начиная с западничества Белинского, одинаково и
народничество, и народовольничество, и марксизм, все они, при всех своих различиях,
имеют общую религиозно-философскую почву в идеях гуманизма. И на наших глазах
теперь освобождение России совершалось кровью, болезнями, муками и трудами
тех, которые своих святых имеют не в христианском храме, но в гуманистическом
107*
пантеоне1"' .
Итак, можно как будто сказать, что гуманизм, заступивший место
средневекового мировоззрения, является шагом вперед в общем историческом движении бого-
человеческого процесса, а, кроме того, в известном смысле, и в христианском
сознании. Подчеркивая самостоятельное значение человеческой стихии, он содействует
полнейшему раскрытию великой истины богочеловечества, обнаруживая в ней
новую сторону.
Однако мы уже видели и знаем, что гуманизм этот имеет и другую сущность,
содержит двоякую возможность. Односторонне выразившееся в нем человеческое
начало, незаконно подавлявшееся в средневековом мировоззрении, сначала
выступило хотя и без Бога, но, в сущности, во имя Бога. В этом случае кажущееся его
безбожие есть только протест против средневекового мировоззрения, хотя, правда,
протест, не различающий формы от содержания, исторического злоупотребления от
существа дела, но имеющий своим исходным пунктом не бунт против Бога, а
защиту прав человека. Однако возможен атеистический гуманизм уже гораздо более
сознательный и глубокий, принципиально враждебный ко всему, превышающему
человека. Возможность эта вытекает из самого существа дела: если богочеловечест-
во для своего существования требует свободного участия человека, то человек
должен быть волен обратить эту свою свободу и против этого участия, быть одинаково
свободен как пойти за Христом и ко Христу, так и против Него. В гуманизме,
несомненно, существует — и чем дальше, тем определеннее — такое сознательно
антихристианское течение, в котором гуманизм является уже, собственно, средством
49
борьбы со Христом. Великая мировая трагедия, борьба Христа с антихристом,
неизбежно должна была проявиться под этой личиной, и притом острее и
сознательнее, чем где бы то ни было, ибо раз принято общее гуманистическое credo и понято
как необходимое практическое приложение христианства, то, естественно, на
первый план выдвигается уже различие последних, высших ценностей, от которых
зависит и самое credo, и его регистр. Антихристианский гуманизм хочет
ограничить духовный полет человечества ценой земного благополучия, он, как некогда
дух в пустыне, предлагает обратить — и обращает чудесами техники - камни в
хлебы, но при условии, чтобы ему воздано было божеское поклонение. Он хочет
окончательно погасить тот огонь Прометея, которым как-никак пылало
средневековье, и, притупив трагический разлад в индивидуальной душе, создать царство
духовной буржуазности, культурного мещанства. Он несет с собою тончайший
духовный яд, обесценивающий и превращающий в дьявольские искушения его дары.
И понятия человечества, человечности, религии человечества в этом употреблении
оказываются, странно сказать, только личиной антихриста, его псевдонимом...108*
При своем возникновении, когда гуманизм только начинал выступать против
христианства, ошибочно считая его окончательным и полным выражением
средневекового мировоззрения, трудно еще было различить, к чему именно относится
вражда. Но по мере дальнейшей дифференциации идей и практических успехов и
завоеваний гуманизма, особенно же с тех пор, как начинают все более раскрываться в
умах понятия истинного богочеловечества, целиком включающего в себе всю правду
гуманизма, все его заботы о человеке и подлинно человеческом, все более отчетливо
должны обозначиться два течения: гуманизм со Христом и во имя Его или же против.
Христа и во имя свое. «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а если
иной придет во имя свое, его примете» (Иоан. VI, 43). Вот разделившаяся бездна, вот
верх и низ, правая и левая сторона: во имя кого? И будущему историческому
развитию дано будет окончательно выявить -в религиозном сознании два начала, две не-
примиримейшие противоположности, скрывающиеся пока под общим ярлыком
гуманизма. Эти противоположности, обнажающие человеческую душу до подлинной ее
метафизической сущности, коренятся, конечно, не столько в складках гибкого ума,
сколько в сокровенных глубинах сердца, в свободном самоопределении его в сторону
добра и зла. Поэтому и вся гуманистическая цивилизация также имеет
антиномический, дуалистический характер, ценность ее заключена в конечной цели, цель же эта
может быть различна и даже противоположна.
Дуализм этот не случайный и надуманный, но коренной, метафизический,
лежащий как в основе всего мироздания, так и в основе человеческой души. Источник
этого дуализма - свобода, в которой наше высшее достоинство - образ Божий. Где
есть свобода, там есть и выбор и разделение, там есть и борьба, и не для ленивого
прозябания, но для борьбы непримиримой и безостановочной посланы мы в этот мир,
для созидания царствия Божия путем свободной борьбы.
Тем не менее необходимым фундаментом этого царствия Божия, во всяком
случае, является свободное человечество, и высвобождение человека в истории,
внешняя человеческая эмансипации, которая есть главная задача и главное дело
гуманизма, есть необходимое для того условие. Поэтому те, кто трудились на поприще
гуманизма, содействуя этой богочеловеческой цели — освобождению личности,
принесли свой камень для сооружения нового Иерусалима. И в числе этих
каменщиков и работников займет свое место и Л. Фейербах, вдохновенный проповедник
гуманизма, «благочестивый атеист», вопреки своему атеизму прозиравший
божественную стихию в человеке и выразивший свои прозрения в многозначной и
загадочной формуле: homo homini deus est.
1905
КАРЛ МАРКС КАК РЕЛИГИОЗНЫЙ ТИП
(Его отношение к религии человекобожия Л. Фейербаха)
Тема этого этюда может вызвать недоумение и потому нуждается в некотором
объяснении. По моему убеждению, определяющей силой в духовной жизни
человека является его религия - не только в узком, но и в широком смысле слова, т. е. те
высшие и последние ценности, которые признает человек над собою и выше себя, и
то практическое отношение, в которое он становится к этим ценностям.
Определить действительный религиозный центр в человеке, найти его подлинную
душевную сердцевину - это значит узнать о нем самое интимное и важное, после чего
будет понятно все внешнее и производное. В указанном смысле можно говорить о
религии у всякого человека, одинаково и у религиозного, и у сознательно
отрицающего всякую определенную форму религиозности. Для христианского понимания
жизни и истории, кроме того, несомненно, что человеческой душой владеют и
историей движут реальные мистические начала, и притом борющиеся между собою,
полярные, непримиримые. В этом смысле религиозно нейтральных людей,
собственно говоря, даже нет, фактически и в их душе происходит борьба Христа и
«князя мира сего». Мы знаем, что могут быть люди, не ведающие Христа, но Ему
служащие и творящие волю Его, и, наоборот, называющие себя христианами, но на
самом деле Ему чуждые; наконец, и среди отрицателей и религиозных лицемеров
есть те, которые по духу своему предвозвещают и грядущего самозванца,
имеющего прийти «во имя свое» и найти многих приверженцев. Чей же дух владеет тем
или иным историческим деятелем, чья «печать» лежит на том или ином
историческом движении, таков привычный вопрос, которым приходится задаваться при
размышлении о сложных явлениях усложняющейся жизни. И особенно часто
случается вновь и вновь передумывать этот вопрос в применении к столь сложному,
противоречивому и в то же время значительному течению духовной жизни нового
времени, как социализм, понимаемому именно как проявление духовной жизни,
потому что экономическое содержание требований социализма может и не
возбуждать принципиальных споров и сомнений. Сама историческая плоть социализма,
т. е. социалистическое движение, может воодушевляться разным духом и
принадлежать к царству света или делаться добычей тьмы. Таинственная грань разделяет
свет и тьму, которые существуют в смешении и, однако, не могут смешиваться между
собою.
И при размышлениях о религиозной природе современного социализма мысль
невольно останавливается на том, чей дух наложил такую глубокую печать на со-
1 Напечатано в «Московском еженедельнике» 1906 года и в отдельном издании (Д. Е.
Жуковского. СПБ., 1907).
51
циалистическое движение нового времени, так что должен быть отнесен к числу
духовных отцов его, - на Карле Марксе. Кто он? Что он представляет собой по
своей религиозной природе? Какому богу служил он своей жизнью? Какая любовь
и какая ненависть зажигали душу этого человека?
Дать возможно определенный, окончательный ответ на этот основной и
решающий вопрос марксизма было и личной потребностью для автора, в течение
нескольких лет находившегося под сильным влиянием Маркса, целиком
отдавшегося усвоению и развитию его идей и так трудно и мучительно освобождавшегося
затем от гипноза этого влияния. Хочется свести концы с концами, последний раз
проверить себя и, уходя навсегда из прежнего жилища, оглядеть охлажденным
критическим взглядом предмет пылкого молодого увлечения1.
На поставленный вопрос читатель и не ожидает, конечно, получить прописной
и незамысловатый ответ, способный удовлетворить разве только ретивых
марксистов из начинающих, именно — что душа Маркса вся соткана была из
социалистических чувств, что он любил и жалел угнетаемых рабочих, а ненавидел
угнетателей-капиталистов и, кроме того, беззаветно верил в наступление светлого царства
социализма.
Если бы все это было так просто, не о чем было бы, конечно, и говорить.
Однако это и так, и в то же время не совсем так, во всяком случае неизмеримо сложнее
и мудренее. И прежде всего, что касается личной психологии Маркса, то, как я ее
воспринимаю, мне кажется довольно сомнительным, чтобы такие чувства, как
любовь, непосредственное сострадание, вообще теплая симпатия к человеческим
страданиям, играли такую, действительно первенствующую, роль в его душевной
жизни. Недаром даже отец его в студенческие годы Маркса обронил как-то в письме к
нему фразу: «Соответствует ли твое сердце твоей голове, твоим дарованиям?»1* И
он, стало быть, останавливался в сомнении перед этим вопросом. К сожалению,
при характеристике личности Маркса и истории его жизни мы останавливаемся
перед полным почти отсутствием всякого документального материала. Почти
отсутствуют и характеристики его личности, сделанные тонким и компетентным
наблюдателем и не преследующие цели дать непременно социал-демократическое
«житие» (каковы воспоминания Лафарга и Либкнехта2*). Потому в характеристике
Маркса неизбежно остается простор для субъективизма. Если судить по печатным
трудам Маркса, душе его вообще была гораздо доступнее стихия гнева, ненависти,
мстительного чувства, нежели противоположных чувств, - правда, иногда святого
гнева, но часто совсем не святого. Заслуживает всяческого сочувствия и уважения,
когда Маркс мечет громы на жестокость капиталистов и капитализма, на
бессердечие теперешнего общественного строя, но как-то уже иначе воспринимается это,
когда тут же, вместе с этими громами встречаешь высокомерные и злобные
выходки против несогласномыслящих, кто бы это ни был — Лассаль2 или Мак-Куллох3,
Герцен4 или Мальтус, Прудон или Сениор. Маркс необыкновенно легко втягивался
в личную полемику, и надо сознаться, что вообще полемика эта весьма
малопривлекательная, как ни стараются это опровергнуть. Марксом написаны целые три
1 Я предполагаю здесь известными внешние факты биографии Маркса и имею в виду
интерес не биографический, но психологический.
2 Посмотрите на первой странице I тома «Капитала» выходку Маркса против своего сора-
ботника и друга, притом давно уже мертвого: вместо того чтобы воздать здесь Лассалю
должное, Маркс лишь обвиняет его, правда, в запутанных выражениях, в плагиате у себя3*.
3 Вот для образца пример: «Один из виртуозов в этом претенциозном кретинизме, Мак-
Куллох... говорит с аффектированной наивностью восьмилетнего ребенка» («Капитал», т. I, 363,
примеч. 216). Вообще в примечаниях «Капитала» эпитеты «пошлый, нелепый» и под.
встречаются на каждом шагу, и этот дурной тон усвоен, к сожалению, и последователями Маркса, в
частности привился и в нашей литературе.
4 По адресу Герцена была в I томе «Капитала», в первом издании, грубая и безвкусная
выходка, впоследствии устраненная самим автором из других изданий4*.
52
полемические книги5* (не говоря уже о мелочах), и эти произведения теперь
тягостно читать, и не только оттого, что полемика вообще возбуждает больший интерес
среди писателей, чем среди читателей. Одна из этих книг направлена против Фогта
и полна эмигрантских дрязг и взаимных обвинений в самых недостойных
поступках, в частности в шпионстве; вторая книга - против бывшего друга Маркса Бруно
Бауэра, из-за удаления которого из берлинского университета Маркс будто бы
отказался от мысли о профессуре, полная издевательств и без всякой нужды
получившая почему-то кощунственное заглавие («Святое семейство»); наконец, третья -
наиболее известная и ценная книга против Прудона, тон которой тоже не
соответствует ни теме, ни недавним отношениям Маркса к Прудону А сколько этих
полемических красот, с которыми трудно было мириться даже в пору наибольшего
увлечения Марксом, в библиографических примечаниях I тома Капитала, сколько
там выстрелов из пушек по воробьям, ненужных сарказмов и даже просто грубости
(как иначе определить, например, примечание о Мальтусе и протестантском
духовенстве и его чрезмерном деторождении: с. 516-518, пер., ред. Струве6*).
Воспоминания некоторых из современников со стороны, из нейтральных кругов,
совпадающие с этим непосредственным впечатлением, рисуют Маркса как натуру
самоуверенную, властную, не терпящую возражений (нужно вспомнить борьбу Маркса с
Бакуниным в Интернационале7* и вообще историю его распадения). Известно,
какую резкую характеристику Маркса на основании ряда удостоверенных фактов
дает Герцен, лично, впрочем, не знавший Маркса. (В новом, легальном издании
сочинений Герцена — см. том III «Былое и думы», глава: «Немцы в эмиграции» —
Герцен рассказывает здесь, как Маркс обвинил Бакунина в шпионстве, когда тот
сидел в тюрьме и не мог защищаться, а также ряд попыток набросить тень
обвинения и на самого Герцена, которого Маркс лично даже и не знал.)
«Демократический диктатор» — так определяет Маркса Анненков (в известных своих
воспоминаниях8*). И это определение кажется нам правильно выражающим общее
впечатление от Маркса1, от этого нетерпеливого и властного самоутверждения, которым
проникнуто все, в чем отпечатлелась его личность.
Характерной особенностью натур диктаторского типа является их
прямолинейное и довольно бесцеремонное отношение к человеческой индивидуальности, люди
.превращаются для них как бы в алгебраические знаки, предназначенные быть
средством для тех или иных, хотя бы весьма возвышенных целей, или объектом
для более или менее энергичного, хотя бы и самого благожелательного,
воздействия. В области теории черта эта выразится в недостатке внимания к конкретной,
живой челоЁеческой личности, иначе говоря, в игнорировании проблемы
индивидуальности. .Это теоретическое игнорирование личности, устранение проблемы ин-
1 Георг Адлер в своей книге «Die Grundlagen der Karl Marx'schen Kritik der bestehenden
Volkswirtschaft». Tübingen, 1887 (цитирует интересный отрывок из письма демократа Трехова,
посетившего Маркса в Лондоне. Трехов формулирует здесь между прочим свои личные
впечатления от него: «Маркс произвел на меня впечатление не только редкого умственного
превосходства, но и значительной личности. Если бы он имел столько же сердца, сколько ума,
столько любви, сколько ненависти, я готов бы пойти за него в огонь, несмотря на то что он не
только различным образом давал мне чувствовать, но в конце концов и открыто выразил свое
полнейшее ко мне пренебрежение. Он есть единственный и первый между нами, которому я
доверил бы право властвовать и не теряться в мелочах при великих событиях. Я сожалею
только ради общей нашей цели, что этот человек наряду с выдающимся своим умом не
располагает благородным сердцем. Он смеется над глупцами, которые набожно повторяют вслед за
ним катехизис пролетариев, так же как и над коммунистами â la Виллих, так же как и над
буржуа. Единственно, кого он уважает, это - аристократы, настоящие аристократы, с полным
сознанием этого. Чтобы устранить их от власти, он нуждается в силе, которую находит только
в пролетариях, потому к ним он и пригнал свою систему. Несмотря на все уверения в
обратном, может быть именно благодаря им, я получил впечатление, что его личное господство есть
цель всех его действий» (283, примеч.). Конечно, мы вовсе не думаем принимать здесь
сказанное â la lettre9*, но общий тон согласуется с тем, что сообщает и Анненков, и Герцен.
53
дивидуального под предлогом социологического истолкования истории
необыкновенно характерно и для Маркса. Для него проблема индивидуальности, абсолютно
неразложимого ядра человеческой личности, интегрального ее естества, не
существует. Маркс-мыслитель, невольно подчиняясь здесь Марксу-человеку, растворил
индивидуальность в социологии до конца, т. е. не только то, что в ней
действительно растворимо, но и то, что совершенно нерастворимо, и эта черта его, между
прочим, облегчила построение смелых и обобщающих концепций «экономического
понимания истории», где личности и личному творчеству вообще поется
похоронная песнь. Маркса не смутил, не произвел даже сколько-нибудь заметного
впечатления бунт Штирнера, который был его современником10* и от которого так круто
приходилось учителю Маркса Фейербаху1, он благополучно миновал, тоже без
всяких видимых последствий для себя, могучий этический индивидуализм Канта и
Фихте, дыханием которых был напоен самый воздух Германии 30-х годов (как
чувствуется это влияние даже в Лассале!). И уж тем более Марксу не
представлялась возможной разъедающая критика «подпольного человека» Достоевского,
который, в числе других прав, отстаивает естественное право на... глупость и прихоть,
лишь бы «по своей собственной глупой воле пожить»11*. В нем не было ни
малейшего предчувствия бунтующего индивидуализма грядущего Ницше, когда он
зашнуровывал жизнь и историю в ломающий ребра социологический корсет. Для
взоров Маркса люди складываются в социологические группы, а группы эти чинно и
закономерно образуют правильные геометрические фигуры, так, как будто, кроме
этого мерного движения социологических элементов, в истории ничего не
происходит, и это упразднение проблемы и заботы о личности, чрезмерная абстрактность,
есть основная черта марксизма, и она так идет к волевому, властному душевному
складу создателя этой системы. В воспоминаниях о Марксе его дочери (Элеоноры)
сообщается, что Маркс любил поэзию Шекспира и часто его перечитывал12*. Мы не
можем, конечно, заподозривать правильность этих показаний, возможны всякие
капризы вкуса, однако, ища следов этого увлечения и осязательного влияния
Шекспира на Маркса в сочинениях этого последнего, мы должны сказать, что такового
вообще не замечается. И это неудивительно, потому что просто нельзя представить
себе более чуждой и противоположной для всего марксизма стихии, нежели мир
поэзии Шекспира, в котором трагедия индивидуальной души и неисследуемые
судьбы ее являются центром. Право, кажется, почти единственный след, который
мы находим у Маркса от Шекспира, это цитата из «Тимона Афинского» о золоте и,
затем, не менее приличествующее экономическому трактату упоминание о Шейло-
ке13*, но именно внешний характер этих упоминаний только подтверждает нашу
мысль о том, что у Маркса нет внутреннего соприкосновения с Шекспиром и
музыка душ их совершенно не сливается в одно, а производит чудовищный
диссонанс. Маркс, несмотря на свою бурную жизнь, принадлежит к числу людей,
чуждых всякой трагедии, внутренне спокойных, наименее сродных мятущейся душе
Шекспира. Указанная нами основная черта личности и мировоззрения Маркса, его
игнорирование проблемы индивидуального и конкретного, в значительной степени
предопределяет и общий его религиозный облик, предрешает его сравнительную
нечувствительность к остроте религиозной проблемы, ибо ведь это прежде всего
есть проблема индивидуального. Это есть вопрос о ценности моей жизни, моей
личности, моих страданий, об отношении к Богу индивидуальной человеческой
души, о ее личном, а не социологическом только, спасении. Та единственная в
своем роде, незаменимая, абсолютно неповторяемая личность, которая только
однажды, на какой-нибудь момент промелькнула в истории, притязает на вечность,
на абсолютность, на непреходящее значение, которое может обещать только
религия, живой «Бог живых» религии, а не мертвый бог мертвых социологии. И эта-то,
1 Ср. предыдущий очерк.
54
помимо религии и вне религии неразрешимая, даже просто невместимая проблема,
и придает религиозному сознанию, религиозному сомнению и вообще религиозным
переживаниям такую остроту, жгучесть и мучительность. Здесь, если хотите,
индивидуалистический эгоизм, но высшего порядка, не эмпирическое себялюбие, но
высшая духовная жажда, то высшее утверждение я, тот святой эгоизм, который
повелевает погубить душу свою, для того чтобы спасти ее, погубить эмпирическое,
тленное и осязательное, чтобы спасти духовное, невидимое и нетленное. И это - не
проблема, а мука индивидуальности, эта загадка о человеке и человечестве, о том,
что в них есть единственно реального и непреходящего, о живой душе,
сопровождает мысль во всех изгибах, не позволяет религиозно уснуть человеку, из нее, как
из зерна растения, вырастают религиозные учения и философские системы, и не
есть ли эта потребность и способность к «исканию горнего» явное свидетельство
нездешнего происхождения человека!
Как мы сказали, Маркс остается малодоступен религиозной проблеме, его не
беспокоит судьба индивидуальности, он весь поглощен тем, что является общим
для всех индивидуальностей, следовательно, «е-индивидуальным в них, и это
неиндивидуальное, хотя и не-внеиндивидуальное, обобщает в отвлеченную формулу,
сравнительно легко отбрасывая то, что остается в личности за вычетом этого
неиндивидуального в ней, или со спокойным сердцем приравнивая этот остаток нулю. В
этом и состоит пресловутый «объективизм» в марксизме: личности погашаются в
социальные категории, подобно тому как личность солдата погашается полком и
ротой, в которой он служит. Влад. Соловьев выразился однажды по поводу
Чичерина, что это ум по преимуществу «распорядительный», т. е. в подлинном смысле
слова доктринерский, и вот таким распорядительным умом обладал и Маркс.
Поэтому и настоящий аромат религии остается недоступен его духовному обонянию, а
его атеизм остается таким спокойным, бестрагичным, доктринерским. У него не
зарождаются сомнения, что социологическое спасение человечества, перспектива
социалистического «Zukunftstaat'a»14*, может оказаться недостаточным для
спасения человека и не может заменить собой надежды на спасение религиозное. Ему
непонятны и чужды муки Ивана Карамазова о безысходности исторической
трагедии, его опасные для веры в социологическое спасение человечества вопрошания о
цене исторического прогресса, о стоимости будущей гармонии, о «слезинке
ребенка»15*. Для разрешения всех вопросов Маркс рекомендует одно универсальное
средство — «практику» жизни (die Praxis16*); достаточно оглушить себя гамом и шумом
улицы, и там, в этом гаме, в заботах дня найдешь исход всем сомнениям. Мне это
приглашение философские и религиозные сомнения лечить «практикой» жизни, в
которой бы некогда было дохнуть и подумать, в качестве исхода именно от этих
сомнений (а не ради особой, самостоятельной ценности этой «практики», которую я
не думаю ни отрицать, ни уменьшать), кажется чем-то равносильным
приглашению напиться до бесчувствия и таким образом тоже сделаться нечувствительным к
своей душевной боли. Приглашение вываляться в «гуще жизни», которое в
последнее время стало последним словом уличной философии и рецептом для разрешения
всех философских вопросов и сомнений, и у Маркса играет роль ultima ratio17*
философии, хотя и не в такой, конечно, оголенной и вульгарной форме. «Философы
достаточно истолковывали мир, пора приняться за его практическое
переустройство»18*, вот девиз Маркса, не только практический, но и философский.
Хотя Маркс был нечувствителен к религиозной проблеме, но это вовсе еще не
делает его равнодушным к факту религиозности и существованию религии.
Напротив, внутренняя чуждость, как это часто бывает, вызывает не индифферентизм, но
прямую враждебность к этому чуждому и непонятному миру, и таково именно
было отношение Маркса к религии. Маркс относится к религии, в .особенности же к
теизму и христианству, с ожесточенной враждебностью, как боевой и
воинствующий атеист, стремящийся освободить, излечить людей от религиозного безумия, от
55
духовного рабства. В воинствующем атеизме Маркса мы видим центральный нерв
всей его деятельности, один из главных ее стимулов, борьба с религией есть в
известном смысле, как это выяснится в дальнейшем изложении, истинный, хотя и
сокровенный практический мотив и его важнейших, чисто теоретических трудов.
Маркс борется с Богом религии и своей наукой, и своим социализмом, который в
его руках становится средством для атеизма, оружием для освобождения
человечества от религии. Стремление человечества «устроиться без Бога, и притом навсегда
и окончательно»19*, о котором так пророчески, проникновенно писал Достоевский и
которое составляло предмет его постоянных и мучительных дум, в числе других
получило одно из самых ярких и законченных выражений в доктрине Маркса. Эту
внутреннюю связь между атеизмом и социализмом у Маркса, эту подлинную душу
его деятельности, обыкновенно или не понимают1, или не замечают, потому что
вообще этой стороной его мало интересуются, и, для того чтобы показать это с
возможной ясностью, нужно обратиться к истории его духовного развития.
Каково, собственно, было общефилософское мировоззрение Маркса, насколько
вообще уместно говорить о таковом? На этот счет создалась целая легенда, которая
гласит, что Маркс вышел из Гегеля и первоначально находился под его
определяющим влиянием, был, стало быть, в некотором смысле тоже гегельянцем и
принадлежит к гегельянской «левой». Так склонны были понимать свою философскую
генеалогию в более позднее время, по-видимому, и сам Маркс и Энгельс. Известна,
по крайней мере, та лестная самохарактеристика, которую дает Энгельс в 1891
году немецкому социализму, т. е. марксизму (в устах Энгельса это, конечно,
синонимы), в надписи на своем портрете: «Мы, немецкие социалисты, гордимся тем,
что происходим не только от Сен-Симона, Фурье и Оуэна, но от Канта, Фихте и
Гегеля»20*. Здесь устанавливается прямая преемственность между классическим
немецким идеализмом и марксизмом, и признание такое связи стало общим местом
социально-философской литературы2.
Хотя биографические материалы относительно молодости Маркса и
отсутствуют, но выяснение вопроса о действительном ходе философского развития Маркса
облегчается теперь хотя бы тем, что трудами Меринга мы имеем полное издание
старых, малодоступных сочинений Маркса3, особенно ценных потому, что они
относятся к ранним годам его и тому времени, когда он не стал еще марксистом,
хотя и стоял уже на собственных ногах, но не выработал еще собственной
доктрины. И вот, обозревая литературно-научную деятельность Маркса во всем ее целом,
от философской диссертации о Демокрите и Эпикуре21* до последнего тома
«Капитала», мы приходим к заключению, довольно резко расходящемуся с
общепринятым: никакой преемственной связи между немецким классическим идеализмом и
марксизмом не существует, последний вырос на почве окончательного разложе-
1 Указание на эту связь составляет, между прочим, заслугу проф. Масарика в его
известной книге о марксизме, гл. XI.
2 Например, даже столь внимательно и широко изучивший литературу вопроса
исследователь, как проф. Масарик, в своей книге (Die philosophischen und soziologischen Grundlagen des
Marxismus. Wien. 1889) тоже подтверждает, что «социализм Маркса вырос преимущественно
из немецкой философии», что «философские основы у Маркса, его, так сказать, философский
скелет, есть философия Гегеля, Гегель сформировал дух Маркса», наконец, что «Маркс
выступил впервые в литературе как гегельянец, приверженец Фейербаха» (S. 22 и passim). Если же
мы примем во внимание, что хотя сам Фейербах и был некогда приверженцем Гегеля, но затем
сделался непримиримым и ожесточенным его антиподом, мы поймем, какая печальная
философская путаница содержится в этих словах: гегельянец, приверженец Фейербаха. Ведь это
почти то же, что сказать: марксист, последователь Толстого, или нечто тому подобное.
3 Aus dem literarischen Nachlass von Karl Marx, Friedrich Engels und Ferdinand Lassalle.
Herausgegeben von Franz Mehring. Erster Band: Gesammelte Schriften von Karl Marx und
Friedrich Engels von März 1841 bis März 1844. Zweiter Band. Gesammelte Schriften von Karl
Marx und Friedrich Engels von Juli 1844 bis November 1847. К этим статьям Меринг дает свои
комментарии, в которые, при неизбежной их тенденциозости, вложено много труда и знания.
56
ния идеализма, следовательно, лишь как один из продуктов этого разложения.
Если некоторая, хотя и слабая, связь между социализмом и идеализмом еще и
существовала в Лассале, то разорвана окончательно она была именно в результате
влияния Маркса. Вершина немецкого идеализма закончилась отвесным обрывом.
Произошла, вскоре после смерти Гегеля, беспримерная философская катастрофа,
полный разрыв философских традиций, как будто мы возвращаемся к веку
«просвещения» (Aufklärung) и французскому материализму XVIII века (к которому
Плеханов и приурочивает генезис экономического материализма, и это, во всяком
случае, ближе к действительности, нежели мнение о гегельянстве Маркса).
Мнение о значении марксизма в качестве «исхода» или ликвидации
классического идеализма опровергается прежде всего, по нашему мнению, тем, что сам
Маркс оставался чужд его влиянию, и хотя в пору студенчества внешним образом
и делал ему уступки - в духовной атмосфере Берлинского университета конца 30-х
годов это было почти неизбежно, - но разделался и с ними очень скоро. Нет
никаких оснований причислять Маркса к «школе» Гегеля в таком смысле, в каком к
ней принадлежат представители «левого» крыла ее, Фейербах, Бруно Бауэр, Штраус
и др. Все они действительно возросли в духовном лоне Гегеля и навсегда
сохранили следы этой духовной близости к нему, которая и может быть констатирована. О
Марксе нельзя сказать ничего подобного. Его гегельянство не идет дальше
словесной имитации своеобразного гегелевского стиля, которая многим так импонирует,
и нескольких совершенно случайных цитат из него1. Но что находим мы в Марксе
духовно роднящего его с Гегелем за пределами этой внешней подражательности?
Прежде всего «под Гегеля» написана — на страх начинающим читателям -
глава о форме ценности в I томе «Капитала». Но и сам Маркс признался впоследствии,
что здесь он «кокетничал» подражанием Гегелю, а мы еще прибавим, что и
совершенно напрасно он это делал. При скудной вообще идейной содержательности этой
главы, в сущности лишней для изложения экономической системы «Капитала», эта
преднамеренная напыщенность скорее заставляет усомниться в литературном вкусе
автора, нежели поверить на этом основании, что автор духовно близок к Гегелю
или является серьезным его знатоком.
Говорят, далее, будто Маркса сближает с Гегелем пресловутый
«диалектический метод». Сам Маркс по этому поводу писал, что «мой диалектический метод в
своем основании не только отличается от гегелевского, но составляет и прямую его
противоположность». Мы же держимся того мнения, что одно не имеет к другому
просто никакого отношения, подобно тому как градус на шкале термометра не
«составляет полную противоположность» градусу на географической карте, а просто не
имеет с ним ничего общего, кроме имени. «Диалектический метод» у Гегеля на
самом деле есть диалектическое развитие понятия, т. е. прежде всего вовсе не
является методом в обычном смысле слова, или способом исследования или
доказательства истин, но есть образ внутреннего самораскрытия понятия, самое бытие
этого понятия, существующего в движении и движущегося в противоречиях. У
Маркса же вовсе нет никакого особого диалектического метода, который он сам у
себя предполагает, притом иного, чем у Гегеля. Если же предположить, что он
понимает его в смысле одного из логических методов, т. е. способа исследования,
нахождения научных истин, то такого метода в распоряжении индуктивных,
опытных наук вообще не существует. То, что Маркс (а за ним и его школа) ошибочно
называл у себя методом, на самом деле было лишь манерой изложения его выводов
в форме диалектических противоречий, манера письма «под Гегеля» (пристрастие к
антитезам вообще отличает стиль Маркса). Противоречия современного хозяйст-
1 Желающие проверить справедливость этих слов легко могут сделать это при помощи
литературного указателя, приложенного к переводу I тома «Капитала», под редакцией Струве.
Здесь легко видеть, как внешне и случайно цитирует Маркс Гегеля, скорее как будто ради
упоминания его имени, нежели для существа дела.
57
венного развития есть вывод из фактического изучения, а вовсе не нарочитый
метод такого изучения.
Особый «диалектический метод» у Маркса есть, во всяком случае, чистое
недоразумение, все равно, разуметь ли логику в смысле Милля, т. е. методологию
опытных наук, или же в смысле Гегеля, т. е. как метафизическую онтологию. Вот
почему так странно звучит в устах Маркса следующая тирада в предисловии ко
второму изданию первого тома «Капитала»:
«Я открыто признал себя учеником этого великого мыслителя и кокетничал даже в
некоторых местах главы о теории ценности, прибегая к своеобразной гегелевской
манере выражаться. Мистификация, которую испытывает диалектика в руках Гегеля,
нисколько не устраняет того, что он впервые всесторонне и сознательно раскрыл общие
формы ее движения. Она стоит у него вверх ногами. Нужно ее перевернуть, чтобы
найти рациональное зерно в мистической оболочке»22*.
Как видит читатель, Маркс объявляет себя здесь учеником Гегеля, но в этом
приходится видеть или продолжение того же «кокетства», что и в главе о ценности, или
прямое издевательство над Гегелем, или просто совершенную философскую
невменяемость и уж, конечно, всего меньше пиетета к «великому мыслителю». Объявив
«мистификацией» все, что, собственно, Гегеля только и делало Гегелем, и проектируя
как-то «перевернуть вверх ногами его систему»23*, Маркс объявляет в то же время
себя его учеником и притязает защищать его память и честь против хулителей. Если
доверяться только непосредственному впечатлению и, так сказать, чисто
художественной интуиции, можно сказать, что именно приведенная триада сама по себе
является наиболее сильным доказательством всей чуждости Маркса Гегелю, и после него
все дальнейшие доказательства этого становятся излишни.
Следы влияния Гегеля у Маркса усматривают, наконец, в его эволюционизме.
Однако идея эволюции в позитивистическом ее понимании опять-таки глубоко
отличается от диалектики понятия у Гегеля, насколько внешнее чередование
событий и состояний, хотя и закономерно совершающееся, или внешний факт,
отличается от раскрытия внутреннего, данного и законченного содержания, только
выявляющегося в ряде последовательных и внутренне связанных стадий и положений,
или от раскрывающейся идеи. При внешнем сходстве диалектика у Гегеля и
эволюция в смысле естествознания позитивизма представляют собой полную
противоположность. Конечно, идея исторической и, в частности, экономической эволюции
могла явиться у Маркса и под внешним впечатлением от Гегеля, но могла и
совершенно самостоятельно, тем более что она вообще носилась в воздухе, почти
одновременно появляясь и у Сен-Симона, и у Конта, и у Дарвина, и у Л. Штейна
(впрочем, под впечатлением Гегеля), и у различных социалистов, как
французских, так и немецких (Лассаль, Родбертус). Поэтому на основании эволюционизма
Маркса его генеалогию с Гегелем установлять не приходится со сколько-нибудь
достаточным основанием.
Можно вообще сказать, что даровитый студент Берлинского университета 30-х
годов, оставаясь внутренне чужд гегельянству, мог усвоить даже больше внешних
его черт, нежели мы находим у Маркса. Внутренних же, более серьезных
признаков близости не только к Гегелю, но и вообще к классическому идеализму, к
Канту, Фихте, Шеллингу, неизгладимых признаков этой философской школы, у
Маркса совершенно не замечается, даже до поразительности. Трудно верится, чтобы,
соприкоснувшись с проблемами и учениями классического идеализма, можно было
остаться до такой степени не затронутым ими; это можно объяснить только
внутренним отталкиванием от них, несродностью этим проблемам, так что остается
только удивляться, почему понадобилось установлять несуществующую
историческую связь между марксизмом и классическим идеализмом. Особенно
поразительно, что Маркс остался совершенно чужд каким бы то ни было гносеологическим
сомнениям и критической осмотрительности, совсем не был затронут гносеологиче-
58
ским скепсисом и критикой познания у Канта, но является докритическим
догматиком и как самый наивный материалист выставляет следующий тезис в качестве
основного своего положения (в предисловии к «Критике политической экономии»):
«Не сознание людей определяет формы их бытия, но, напротив, общественное
бытие формы их сознания»24*. Или другой тезис в предисловии ко второму изданию
I тома «Капитала»: «Для меня идеальное начало является лишь прошедшим через
мозг (sic!) материальным началом»25*. Ясно, что эти темные и невнятные положения,
полные столь многозначных и требующих пояснения терминов: бытие, сознание,
идеальное, материальное не могли выйти из-под пера человека, тронутого Кантом,
критика которого представляет собой единственный вход в здание всего
классического идеализма. О какой же преемственности может идти речь при этом!
Об общем начальном ходе своих научных занятий Маркс говорит так: «Моей
специальностью была юриспруденция, однако изучение ее было подчинено и шло
рядом с изучением философии и истории»26* (предисл. к «Критике политической
экономии»). В позднейшие же годы, согласно и собственным заявлениям Маркса и
содержанию его печатных трудов, его занятия сосредоточились исключительно на
политической экономии (правда, Энгельс, свято веривший в универсальность Мар-
ксова гения, упоминает о его намерении написать и логику, и историю философии
наряду с планами естественно-научных, математических и экономических работ;
однако не подтвержденное, наоборот опровергаемое фактами, это заявление
преданного друга не кажется нам основанным на чем-либо более веском, нежели
мимолетные мысли или отдаленные мечтания27*). Ввиду того что время наиболее
интенсивных занятий Маркса философией может относиться только к ранним годам
его, в них мы и должны искать ключ к пониманию действительного философского
облика Маркса. К сожалению, мы очень мало знаем о студенческих годах Маркса,
но и в эти годы нельзя констатировать значительной близости его к Гегелю. Маркс
провел один год в Боннском университете (судя по письмам отца, без больших
результатов для своих занятий), а с октября 1836 по 1841 год был студентом в
Берлине. Список курсов, прослушанных им здесь в течение 9 семестров (его приводит
Меринг в своих комментариях к изданию ранних сочинений Маркса), не
свидетельствует о том, чтобы и тогда занятия философией, а также и историей играли
первостепенную роль: из 12 курсов более половины относится к юриспруденции,
лишь один - к философии, два - к богословию (!), один - к литературе и ни
одного - к истории1.
Меринг хочет обессилить свидетельство этого списка, противоречащее
позднейшему заявлению Маркса о ходе своих занятий, ссылкой на то, что после
изобретения печатного станка слушание лекций вообще утратило значение. Конечно,
справедливо изречение Карлейля, что лучший университет - это книги, однако и
теперь это не вполне так, а в 30-х годах прошлого века, да еще относительно
кафедр Берлинского университета, привлекавших слушателей из всех .стран, это было
и совсем не так. Да и, во всяком случае, выбор предметов для слушания, при
существовании академической свободы, все-таки свидетельствует о господствующем
направлении интересов. Чем занимался Маркс помимо лекций? Об этом мы имеем
только одно, да и то очень раннее, свидетельство: именно письмо Маркса к отцу,
написанное в конце первого года студенчества (ноябрь 1837 г.)28*. Письмо это
имеет целью оправдание перед отцом, упрекавшим Маркса в праздности, и содержит
длинный, прямо, можно сказать, колоссальный перечень всего прочитанного,
изученного и написанного за этот год. Общее впечатление от этого чересчур интимного
1 Маркс слушал лекции: пандектов - у Савиньи, уголовного права и прусского местного
права - у Ганса, церковного права - у Геффтера, уголовного процесса с обычным немецким
гражданским процессом - у Рудольфа Эрбрехта, кроме того, лекции по философии, теологии,
филологии, логике - у Габлера, об Исайи - у Бруно Бауэра, об Еврипиде - у Геннерта,
всеобщей географии - у Риттера и, наконец, антропологии - у Стефенса.
59
письма таково, что, хотя оно свидетельствует о выдающейся пытливости,
прилежании и работоспособности 19-летнего студента, но, написанное под определенным
настроением, оно не должно быть принимаемо слишком буквально, да это и
невозможно. Там рассказывается о двух системах философии права (из них одна в 300
листов!), которые сочинил за этот год молодой автор, с тем чтобы немедленно
разочароваться в них, о целом философском диалоге, двух драмах, стихах для невесты
(которые вообще не раз посылал Маркс) и т. д. Кроме того, в нем приводится
длиннейший список прочитанных и изученных книг, на который и при хороших
способностях не хватило бы года. Юношеский пыл вместе с юношеским самолюбованием,
большое прилежание, однако при некоторой разбросанности, ярко отразились здесь,
но именно это и заставляет нас осторожно относиться к этому письму, к слову
сказать, не только не успокоившему, но еще более раздражившему старика Маркса1.
Во всяком случае, в этом письме мы видим Маркса с большими запросами, но
не установившимися еще вкусами, в Sturm und Drangperiod'e29*. О дальнейших
студенческих годах Маркса, кроме перечня лекций, мы ничего не знаем. В 1841
году Маркс получает степень доктора за диссертацию на философскую тему:
«Различие философии природы у Демокрита и Эпикура» (издана Мерингом). Она слабо
отличается от обычного типа докторских диссертаций и дает мало материала
судить о философской индивидуальности и общем философском мировоззрении
автора (оценку специальных исследований предоставляем специалистам по истории
греческой философии). Судя по посвящению (своему будущему тестю), Маркс
является здесь приверженцем «идеализма», хотя и неясно, какого именно.
Гегельянства и здесь не усматривается (разве только в предисловии с уважением
упоминается «История философии» Гегеля). Во всяком случае, можно сказать, что те
преувеличенные ожидания, которые могли явиться на основании юношеского письма,
здесь не осуществились. Маркс мечтает, однако, в это время о кафедре философии,
но скоро отказывается от этой мысли под впечатлением удаления его друга Бруно
Бауэра из университета за вольномыслие. Нам думается, однако, что, судя по этой
легкости отказа от кафедры, это удаление было скорее предлогом, а причиной была
несомненная внутренняя его несродность к этого рода деятельности.
Философская неопределенность облика Маркса вместе со смутным,
студенческим «идеализмом» скоро, однако, исчезает, и через два-три года Маркс выступает
уже самим собой, тем материалистическим позитивистом и учеником Фейербаха,
под общим влиянием которого он оставался всю жизнь. Маркс - это фейебахиа-
нецу впоследствии несколько лишь изменивший и восполнивший доктрину
учителя. Нельзя понять Маркса, не поставив в центр внимания этого основного факта.
Маркс сам не называл себя учеником Фейербаха, которым в действительности был,
предпочитая почему-то называть себя учеником Гегеля, которым не был. После 40-
х годов имя Фейербаха уже не встречается у Маркса, а Энгельс упоминает о нем
как об увлечении прошлого и резко себя ему противопоставляет30*. И, однако,
употребляя любимое выражение Фейербаха, следует сказать, что Фейербах - это
невысказанная тайна Маркса, настоящая его разгадка.
Легко понять, что, усвоив мировоззрение Фейербаха, Маркс должен был
окончательно и навсегда потерять вкус к Гегелю, даже если он когда-либо его и имел.
Известно, какую роль для Фейербаха играет борьба с Гегелем, причем борьба эта
вовсе не есть симптом дальнейшего развития системы в руках ученика, хотя и
отходящего от учителя, но продолжающего его же дело, а настоящий бунт,
окончательное отрицание спекулятивной философии вообще, которая олицетворялась
тогда в Гегеле, отпадение в грубейший материализм в метафизике, сенсуалистиче-
1 Даже для Меринга, который старается принять буквально каждое слово этого письма,
размер рукописи в 300 листов кажется сомнительным, и он предполагает здесь описку или
ошибку.
60
ский позитивизм в теории познания, гедонизм в этике. Все эти черты усвоил и
Маркс, который тем самым покончил и со своим философским прошлым, которое у
него было. Между классическим идеализмом и марксизмом стал Фейербах и
навсегда разделил их непроницаемой стеной. Поэтому-то и неожиданное причисление
себя к ученикам Гегеля в 1873 г. со стороны Маркса есть какой-то каприз, может
быть, кокетство, историческая реминисценция - не больше.
Нам известно1, что центральное место в философии Фейербаха занимает
религиозная проблема, основную тему ее составляет отрицание религии богочеловечества
во имя религии человекобожия, богоборческий воинствующий атеизм. Именно для
этого-то мотива и оказался наибольший резонанс в душе Маркса; из всего обилия и
разнообразия философских мотивов, прозвучавших в эту эпоху распадения
гегельянства на всевозможные направления, ухо Маркса выделило мотив религиозный, и
именно богоборческий.
В 1848 году вышло «Das Wesen des Christenthums» Фейербаха, и сочинение это
произвело на Маркса и Энгельса (по рассказам этого последнего) такое
впечатление, что оба они стали фейербахианцами. В 1844 г. Маркс вместе с Руге
редактирует в Париже журнал «Deutsch-Französische. Jahrbücher»31*, из которого вышла,
впрочем, только одна книжка (двойная). Здесь Маркс поместил две свои статьи:
«Zur Kritik der Hegeischen Rechtspilosophie» и «Zur Judenfrage», имеющие
огромное, первостепенное значение для характеристики его мировоззрения. В обеих
статьях (как и в относящейся к этому же времени «Heilige Familie») Маркс
выступает ортодоксальным фейербахианцем. Можно отметить разве только своеобразный
оттенок при восприятии учения Фейербаха о религии, которое имеет у него, так
сказать, два фронта. Фейербах не только критикует христианство и всякий теизм,
но и проповедует в то же время атеистическую религию человечества, хочет быть
пророком этой новой религии и обнаруживает даже своеобразное «благочестие» в
этой роли, которое так беспощадно и высмеивает в нем Штирнер. Вот это-то
«благочестие» Фейербаха, его трогательное стремление преклонения перед
святыней, хотя бы это был грубейший логический идол, совершенно несвойственно душе
Маркса. Он берет только одну сторону учения Фейербаха - критическую и острие
его критики оборачивает против всякой религии, вероятно не делая в этом
отношении исключения и для религии своего учителя. Он стремится к полному и
окончательному упразднению религии, к чистому атеизму, при котором не светит
уже никакое солнце ни на небе, ни на земле32*. Однако предоставим лучше слово
самому Марксу. Статья «К критике философии права Гегеля»2 начинается самым
решительным заявлением:
«Для Германии критика религии в существе закончена (!!), а критика религии
есть предположение всякой критики. Основание нерелигиозной критики таково:
человек делает религию, а не религия делает человека. Именно религия есть
самосознание и самочувствие человека, который или не нашел себя, или же снова себя
потерял. Но человек не есть абстрактное, вне мира стоящее существо. Человек -
это есть мир людей, государство, общество. Это государство, это общество
производят религию, извращенное сознание мира, потому что они сами представляют
извращенный мир. Религия есть общая теория этого мира, ее энциклопедический
компендиум, ее логика в популярной форме, ее спиритуалистический point d'
honneur33*, ее энтузиазм, ее моральная санкция, ее торжественное восполнение, ее
всеобщее основание для утешения и оправдания... Она есть фантастическое
осуществление человеческой сущности (Wesen - обычный термин Фейербаха), ибо
человеческая сущность не обладает истинной действительностью. Борьба против
религии посредственно есть, стало быть, и борьба против того мира, духовным арома-
1 См. предыдущий очерк.
2 Вышла и в русском переводе.
61
том которого является религия. Религиозное убожество (Elend) в одних есть
выражение действительного убожества в других, есть протест против действительного
убожества. Религия есть вздох утесненного сознания, настроение бессердечного
(herzlosen) мира, а также дух бездушной эпохи. Она есть опиум для народа.
Уничтожение религии как иллюзорного счастья народа есть требование его
действительного счастья. Требование устранения иллюзий относительно своего
существования есть требование устранения такого состояния, которое требует иллюзий. Таким
образом, критика иллюзий в существе дела есть критика юдоли скорби, в которой
призраком святости является религия. Критика сорвала с цепей воображаемые цветы не
затем, чтобы человек нес лишенные фантазии, утешения цепи, но затем, чтобы он
сбросил цепи и стал срывать живые цветы. Критика религии разочаровывает человека,
чтобы он думал, действовал, определяя окружающую действительность, как
разочарованный, образумившийся человек, чтобы он двигался около самого себя, следовательно
около действительного своего солнца»34*.
Это все - изложение основных положений Фейербаха, сделанное почти его же
словами. Но у Маркса гораздо ярче выражено практическое, революционное
приложение этой «критики религии».
«Критика неба, - говорит он, - превращается в критику земли, критика религии -
в критику права, критика теологии - в критику политики... Оружие критики,
конечно, не может заменить критики оружия, материальная сила должна быть свергнута
материальной силой, но и теория становится материальной силой, раз она охватывает
массы. Теория способна охватить массы, если она способна демонстрировать acj
hominem35*, если она радикальна. Быть же радикальным - значит брать дело в корне.
Корнем же для человека является сам человек. Очевидным доказательством
радикализма для немецкой теории, стало быть и для ее практической энергии, есть ее
отправление (Ausgang) от решительного положительного устранения религии. Критика
религии кончает учением, что человек есть высшее существо для человека,
следовательно, категорическим императивом опрокидывает все условия, в которых человек
является униженным, окованным, покинутым, презренным существом»36*.
В статье этой в заключение слышится «музыка будущего», основной мотив
социологической доктрины Маркса: «Единственное практически возможное
освобождение Германии есть освобождение на точке зрения теории, которая объявляет
человека высшим существом для человека (т. е. учения Фейербаха! - Авт.).
Эмансипация немца есть эмансипация человека. Голова этой эмансипации есть
философия, ее сердце - пролетариат. Философия не может быть осуществлена без
устранения (Aufhebung) пролетариата, пролетариат не может устраниться без
осуществления философии»37*. Дело философии, т. е. учения Фейербаха, именно
теоретическое освобождение человечества от религии, и дело пролетариата объединяются
здесь в одно целое - пролетариату поручается миссия исторического
осуществления дела атеизма, т. е. практического освобождения человека от религии. Вот где
подлинный Маркс, вот где обнаруживается настоящая «тайна» марксизма, истинное
его естество!
Это место цитируется обыкновенно для подтверждения мнимой связи
марксизма с классической философией, как ее хотел установить и Энгельс. Читатель
видит, однако, что в нем нельзя усмотреть ничего подобного. Напротив, здесь скорее
отвергается такая связь, поскольку классическая идеалистическая философия
неизменно соединялась с теми или иными религиозными идеями1 и поскольку, кроме
1 Энгельс в том же журнале в статье «Die Lage Englands» (написанной по поводу карлей-
левского «Past and Present») является тоже последователем Фейербаха. Здесь мы читаем: «До
сих пор всегда было вопросом: что такое бог? И немецкая философия (т. е. опять-таки только
Фейербах. - Авт.) решила вопрос в таком смысле: бог есть человек. Человеку нужно лишь
познать самого себя, мерить по себе самому все свои жизненные обстоятельства, обсуждать их
62
того, учение Фейербаха, в действительности здесь разумеющееся, отрицает
идеалистическую философию в основе. Сообразно такому мировоззрению на языке Маркса
«человеческая эмансипация» значит в это время именно освобождение от религии.
Эта точка зрения особенно выясняется в споре с Бауэром* по еврейскому вопросу.
Он указывает здесь недостаточность чисто политической эмансипации, потому что
при ней остается еще религия.
«Вопрос таков: как относится полная политическая эмансипация к религии? Если
мы даже в стране, полной политической эмансипации, находим религию не только
просто существующей, но и процветающей, то этим доказывается, что существование
религии не противоречит законченности государства. Но так как существование
религии связано с существованием некоторого изъяна (Mangels), то причину этого изъяна
следует искать уже в самом существе государства. Религия уже не представляется для
нас причиною, но лишь проявлением внерелигиозной (weltlichen) ограниченности. Мы
объясняем поэтому религиозную ограниченность граждан свободного государства их
общей (weltlichen) ограниченностью.
Мы не утверждаем, что они должны освободиться от религиозной ограниченности
для того, чтобы освободиться от общей (weltlichen) ограниченности. Мы утверждаем,
что они освобождаются от своей религиозной ограниченности, лишь освободившись от
своей общей ограниченности. Мы не превращаем мирских вопросов в теологические,
мы превращаем человеческие вопросы в мирские. Историю достаточно уже растворяли
в суевериях, мы суеверие растворяем в истории. Вопрос об отношении политической
эмансипации и религии становится для нас вопросом об отношении политической
эмансипации и человеческой эмансипации... Границы политической эмансипации
проявляются именно в том, что государство может освободиться от известной
ограниченности без того, чтобы и человек становился в этом отношении свободным, что
государство может стать свободным государством без того, чтобы и человек стал свободным
человеком.
Члены политического государства религиозны вследствие дуализма между
индивидуальной и родовой жизнью, между жизнью гражданского общества и политической
жизнью, религиозны, поскольку человек относится к государственной жизни,
являющейся потусторонней для его действительной индивидуальности, как к своей истинной
жизни, религиозны, поскольку религия есть дух буржуазного общества, выражение
отделения и удаления человека от человека. Политическая демократия является
христианской, поскольку в ней человек - не человек вообще, но каждый человек -
считается суверенным, высшим существом, притом человек.в своем некультивированном,
несоциальном виде (Erscheinung), в случайной (!) форме существования, человек, как
он есть в жизни, человек, как он испорчен всей организацией нашего общества,
потерян, отрешен от самого себя, отдан господству нечеловеческих стихий и элементов, -
словом, человек, который еще не есть действительно родовое существо (Gattungswesen).
Фактический образ, грезы сна, постулат христианства, суверенитет человека, но как
чуждого, отличного от действительного человека существа в демократии есть
чувственная действительность»39*.
Нетрудно узнать здесь идею Фейербаха о Gattungswesen40*, о человеческом роде
как последней, высшей инстанции для человека. У Маркса эта «любовь к
дальнему» и еще не существующему превращается в презрение к существующему,
«ближнему», как испорченному и потерянному, и христианству ставится в упрек, что оно
исповедует равноценность всех личностей, учит в каждом человеке чтить человека.
Здесь снова всплывает характерное пренебрежение Маркса к личности.
сообразно своему существу, действительно человечно устроять мир сообразно требованиям
своей натуры, и тогда он разрешает задачу времени. Не в потусторонних несуществующих
областях, не вне пространства и времени, не в «боге», живущем в мире или ему
противоположном, следует искать истины, но много ближе, в собственной груди человека. Собственное
существо человека возвышеннее и царственнее, нежели существо всех возможных «богов»,
которые сами суть лишь более или менее неясное и искаженное существо человека»38*.
63
Настоящий человек явится только при следующих условиях:
«Лишь когда действительный индивидуальный человек вберет в себя (in sich
zurücknimmt) абстрактного государственного гражданина и как индивидуальный
человек в своем индивидуальном положении, в своем индивидуальном труде, в
своей эмпирической жизни станет родовым существом, лишь когда человек свои
forces propres познал и организовал как силы общественные и потому уже не
отделяет общественных сил от себя в виде политической силы, — лишь тогда
совершится человеческая эмансипация»41*
Итак, когда человек упразднит свою индивидуальность и человеческое
общество превратится не то в Спарту, не то в муравейник или пчелиный улей, тогда и
совершится человеческая эмансипация. С той легкостью, с которой Маркс вообще
перешагивает через проблему индивидуальности, и здесь он во имя человеческой
эмансипации, т. е. уничтожения религии, готов растворить эту эмансипируемую
личность в темном и густом тумане, из которого соткано это «родовое существо»,
предносившееся воображению Фейербаха и растаивающее в воздухе при всякой
попытке его осязать.
Но в этом суждении сказывается и характерное бессилие атеистического
гуманизма, который не в состоянии удержать одновременно и личность и целое и поэтому
постоянно из одной крайности попадает в другую: то личность своим бунтом
разрушает целое и, во имя прав индивида, отрицает вид (Штирнер, Ницше), то личность
упраздняется целым, какой-то социалистической Спартой, как у Маркса. Только на
религиозной почве, где высшее проявление индивидуальности роднит и объединяет
всех в сверхиндивидуальной любви и общей жизни, только соединение людей через
Христа в Боге, т. е. Церковь, личный и вместе сверхличный союз, способен
преодолеть эту трудность и, утверждая индивидуальность, сохранить целое. Но идея
церковной, или религиозной, общественности так далека современному сознанию...
Мы не можем пройти молчанием суждений Маркса по еврейскому вопросу, в
которых жесткая прямолинейность и своеобразная духовная слепота его
проявляются с особенною резкостью. С той же легкостью, с какой он топит личную
индивидуальность в «родовом существе» во славу «человеческой эмансипации», он
упраздняет и национальное самосознание, коллективную народную личность, притом
своего собственного народа, наиболее прочную и нерастворимую в волнах и
ураганах истории, эту ось всей мировой истории.
Еврейский вопрос для Маркса есть вопрос о процентщике-«жиде»,
разрешающийся сам собой с упразднением процента. На меня то, что написано Марксом по
еврейскому вопросу, производит самое отталкивающее впечатление. Нигде эта
ледяная, слепая, однобокая рассудочность не проявилась в таком обнаженном виде,
как здесь. Но приведем лучше подлинные суждения Маркса1.
«Вопрос о способности евреев к эмансипации превращается в вопрос, какой
специальный общественный элемент следует преодолеть для того, чтобы устранить
еврейство? Ибо способность теперешних евреев к эмансипации есть отношение
еврейства к эмансипации теперешнего мира. Отношение это необходимо определяется
особым положением еврейства в теперешнем угнетенном мире. Посмотрим
действительного, обыденного (weltlichen), не субботнего, но будничного еврея.
Каково мирское основание еврейства? Практическая потребность,
своекорыстие. Каков мирской культ евреев? Барышничество (Schacher). Каков его светский
бог? Деньги. Итак, эмансипация от барышничества и денег, стало быть от
практического, реального еврейства, была бы самоэмансипацией нашего времени.
1 Статья Маркса «К еврейскому вопросу» из «Deutsch-Französische Jahrbucher», а также
глава о еврейском вопросе из «Die heilige Familie» переведена по-русски, к сожалению, не
вполне удовлетворительно: Карл Маркс. К еврейскому вопросу. СПб.: Книгоиздательство
«Молот», 1906. Перевод Г. Радомысльского, под ред. А. Луначарского.
64
Организация общества, которая уничтожила бы предпосылки барышничества,
сделала бы невозможным и еврейство. Его религиозное сознание рассеялось бы,
как редкий туман, в действительном жизненном воздухе общества... Эмансипация
еврейства в таком значении есть эмансипация человечества от еврейства.
Какова была сама по себе основа еврейской религии? Практическая
потребность, эгоизм...
Деньги есть ревнивый бог Израиля, рядом с которым не может существовать
никакой другой бог... Бог евреев обмирщился, он сделался мирским богом. Вексель
есть действительный бог еврея. Его бог есть иллюзорный вексель.
То, что абстрактно лежит в" еврейской религии, - презрение к теории,
искусству, истории, человеку как самоцели, — это есть действительно сознательная точка
зрения, добродетель денежного человека (Geldmenschen)... Химерическая
национальность есть национальность купца, вообще денежного человека»42*.
Ради чего же сын поднял руку на мать1, холодно отвернулся от вековых ее
страданий, духовно отрекся от своего народа?
Ответ совершенно ясен: во имя рационализма и вражды к религии, во имя
последовательного атеизма. Бр. Бауэр выставил утверждение, с которым и
полемизирует в статье своей Маркс, что еврейский вопрос есть в корне своем религиозный,
вопрос об отношении еврейства и христианства. Я всецело разделяю это мнение, да
с точки зрения христианских верований иное понимание судеб еврейства и
невозможно. Исторические и духовные судьбы еврейства связаны с отношением
иудаизма к христианству. Мы не имеем в виду здесь углубляться в этот вопрос, но для
нас несомненно, что именно религиозные утверждения и отрицания, притяжение и
отталкивание определяют в основе исторические судьбы еврейства. «Schacher»44*,
мировая роль еврейства в истории капитализма, есть лишь эмпирическая оболочка
своеобразной религиозной психологии еврейства.
Несмотря на весь атеизм значительной части теперешнего еврейства, на весь
его материализм, и практический и теоретический, под всеми этими
историческими напластованиями все-таки лежит религиозная подпочва, которую умел
почувствовать и так поразительно обнаружить религиозный гений Влад. Соловьева45*. Но
Маркс, конечно, не мог примириться с религиозным пониманием еврейского
вопроса, а чтобы провести здесь последовательно антирелигиозную точку зрения, ему
пришлось пожертвовать своей национальностью, произнести на нее хулу и впасть в
своеобразный, не только практический, но даже и религиозный антисемитизм.
Итак, мы видим, что уже с сороковых годов Марксу было совершенно чуждо то
принципиальное безразличие в делах религии, которое нашло свое официальное
выражение в программном положении социал-демократической партии Германии и
Австрии, что «религия есть частное дело» (Privatsache). Конечно, и со стороны
партии это есть условное лицемерие, вызванное тактическими соображениями,
главным образом условиями агитации в деревне. Достаточно и поверхностного
знакомства с литературой и общим настроением партии последователей Фейербаха и
Маркса, чтобы убедиться в неискренности этого заявления, ибо, конечно, это пока есть
партия не только социализма, но и воинствующего атеизма. Маркс же вообще
никогда не делал из этого тайны. В своем известном критическом комментарии на
проект Готской программы46* Маркс протестует против выставленного там
требования «свободы совести», называя его буржуазным и либеральным, ввиду того что
подразумевается свобода религиозной совести, между тем как рабочая партия,
напротив, должна освободить совесть от религиозных фантомов.
1 Любопытно, что и Ф. Лассаль, в отрочестве мечтающий о борьбе за права своего народа
(в дневнике), в позднейших письмах к Солнцевой также обнаруживает крайне отрицательное
отношение к своему племени, и это при всем своем национализме касательно Германии43*. Мы
отмечаем только эту психологическую загадку, ближе на ней здесь не останавливаясь.
3 Зак. 487
65
Нам могут, однако, возразить, что мы познакомились с
философско-религиозным мировоззрением Маркса in statu nascendi47*, в такую эпоху, когда сам Маркс
не был марксистом, не выработав еще той своеобразной доктрины, которая обычно
связывается с его именем в политической экономии и социологии. Не отрицая
этого последнего факта, мы утверждаем, однако, что в «Deutsch-Französische
Jahrbücher» 1844 г. Маркс выступает перед нами в религиозно-философском отношении
окончательно сложившимся и определившимся. Никаких принципиальных
перемен и переворотов после этого в своей философской вере он не испытал. В этом
смысле общая духовная тема его жизни была уже дана, основной религиозно-
философский мотив ее вполне сознан. Речь могла только идти не о что, а. о как, и
этим как и явился марксизм, представляющий собой в наших глазах лишь
частный случай фейербахианства, его специальную социологическую формулу.
Своеобразие марксизма относится совершенно к другой области, нежели
философская, нас здесь интересующая, - он есть усложнение, если хотите, обогащение,
дальнейшее развитие фейербахианства, но не его религиозно-философское
преодоление. Энгельс в своей брошюре о Фейербахе1 чрезвычайно преувеличивает это
различие, превращая его в принципиальное. Может быть, Энгельсом руководила
здесь мысль отстоять оригинальность Маркса даже в такой области, где он был
совершенно не оригинален, именно в философской, поэтому он выставляет здесь
«экономический материализм» как нечто, фейербахианство принципиально
превосходящее. Между тем эта доктрина указывает лишь известный социологический,
субстрат для того исторического процесса, который имеет окончательным
результатом осуществление фейербаховско-марксовского постулата: «человеческую
эмансипацию», т. е. эмансипацию человечества от религии путем практического его
обобществления, превращение его в «Gattungswesen» на почве социалистического
хозяйства.
Во всех дальнейших трудах Маркса нет ничего, чем бы отменялась или
ограничивалась религиозно-философская программа, развитая в статьях
«Deutsch-Französische Jahrbücher». Приходится считать, что эти статьи представляют собой, так
сказать, философский максимум для Маркса, высшую точку напряжения его чистр
философской мысли. В дальнейшем, сохраняя верность принятому и усвоенному в
годы молодости, он все более и более отклоняется от философских проблем, с тем,
чтобы вообще уже не возвращаться к ним, очевидно вследствие полной внутренней
успокоенности, какая дается сознанием своей правоты и отсутствием сомнений в
принятых догматах. Получается парадоксальный вывод, что для знакомства с
Марксом и суждения о нем с интересующей нас, и притом самой существенной, его
стороны наибольший материал дает как раз та эпоха, когда Маркс не был еще
марксистом, когда его подлинный духовный облик не был еще заслонен деталями
специальных исследований, которыми он создал себе имя.
Итак, всемирно-историческая задача человеческой эмансипации встала в
сознании Маркса. Нужно было найти соответствующее средство для ее разрешения.
Таким средством и явился «научный социализм», систему которого Маркс и начинает
разрабатывать в своей научной деятельности. И с этого времени круг его
теоретических интересов и занятий, насколько мы можем определить его по его
сочинениям и его собственным показаниям о себе, суживается и сосредоточивается
преимущественно, чтобы не сказать исключительно, на политической экономии и текущей
политике. Однако любопытней всего это то, что в это время теоретические
притязания Маркса отнюдь не ограничиваются политической экономией, но
распространяются на универсальную область философии истории. В это время у него
складывается «материалистическое понимание истории», притязающее дать ключ к
разумению всего исторического бытия. Как бы мы ни относились к этому прославлен-
1 См. предыдущий очерк.
66
ному-«открытию» Маркса1, нас интересует здеЬь, Как оно в действительности, было
сделано, какова его психология, его внутренний мотив. Мы знаем, что за это время
Маркс не занимался, по. крайней мере в заметной степени, ни историей, ни
философией2. Значит, «открытие» явилось не как следствие нового теоретического
углубления, а как новая формула, догматически выставленная и на веру принятая,
род художественной интуиции, а не плод научного исследования (как, впрочем,
родятся многие из подлинно научных открытий). Элементы, из соединения
которых образовалось материалистическое понимание истории, легко различить: с
одной стороны, это все та же фейербаховская доктрина воинствующего атеизма,
которую мы уже знаем, с другой - сильное впечатление, полученное от фактов
экономической действительности благодаря занятиям как политической экономией,
так и текущей политикой. Стало быть, новая доктрина не выводит за пределы
старого мировоззрения, хотя его и осложняет. В частности, что касается религии, то
ее философское трактование становится еще грубее, хотя и не изменяется по
существу. Она объявлена вместе с другими «формами сознания» «надстройкой» над
экономическим «базисом». В первом томе «Капитала» мы встречаем о ней следующее
суждение, по существу нисколько не уводящее нас дальше статей о Гегеле и
других произведений 40-х годов: «Для общества товаропроизводителей, общественное
производственное отношение которого заключается в том, что они относятся к
своим продуктам как к товарам, т. е. как к ценностям, и в этой вещной форме
относят одну к другой свои частные работы как одинаковый человеческий труд, - для
такого общества христианство с его культом абстрактного человека, особенно
христианство в его буржуазной форме - протестантизме, деизме и т. д. — представляет
самую подходящую религию»3.
Это - Фейербах, переведенный только на язык политической экономии и, в
частности, экономической системы Маркса. Как отголосок Фейербаха звучит и
дальнейшее общее суждение о религии: «Религиозное отражение реального мира может
вообще исчезнуть лишь тогда, когда условия практической будничной жизни
людей будут каждодневно представлять им вполне ясные и разумные отношения
человека к человеку и к природе. Общественный процесс жизни, т. е. материальный
процесс производства, лишь тогда сбросит с себя мистическое покрывало, когда он,
как продукт свободно соединившихся людей, станет под их сознательный и
планомерный контроль»4.
Мы видим на примере этих сужений - а это и все, что можно найти у Маркса в
этот период, - что религиозная мысль Маркса от принятия догмата экономического
материализма нисколько не усложнилась и не обогатилась, в ней по-прежнему по-
1 Я считаю, что о нем еще далеко не сказано последнего слова, ибо здесь поставлена
колоссальной важности проблема для религиозно-философской мысли.
2 Заслуживает внимания, что даже в полемическом сочинении против Дюринга, не
представляющем, конечно, философского произведения первого ранга, Марксом написана лишь
экономическая глава, все же философские главы принадлежат Энгельсу.
3 Капитал. Т. I. С. 41. Пер. под ред. Струве48*.
4 Там же49*. В I томе «Капитала» допускается даже возможность не тольло объяснения
существующих религиозных представлений из жизни, но и дедуктивного, априорного их
построения из фактов действительности. Вот это место: «Технология разоблачает активное
отношение человека к природе, непосредственный процесс производства его жизни, а с тем вместе
и его общественные жизненные отношения и вытекающие из них духовные представления.
Даже всякая история религии, не принимающая во внимание этого материального базиса,
лишена критического основания. Конечно, гораздо легче посредством анализа найти земную
сущность религиозных представлений, нежели наоборот, т. е. из данных реальных отношений
выводить их религиозные формы. Последний метод есть единственно материалистический, а
потому - единственно научный метод» (с. 300, примеч. 8950*). Пусть лучше Маркс показал бы
этот «материалистический», а по-нашему, просто фантастический, метод в действии, вместо
того чтобы только говорить о нем в примечании, - самое подходящее место для таких научных
«открытий»!
3·
61
вторяются положения, усвоенные от Фейербаха. Этот догмат не заставляет здесь от
чего-либо отказываться или заново пересматривать, а оставляет все по-прежнему,
давая лишь специальную формулу, которая специальный предмет новых научных
занятий - политическую экономию - делает наукой всех наук, объявляет ключом ко
всяким «идеологиям», т. е. ко всей духовной жизни человечества.
Коснемся в заключение того своеобразного отпечатка, который получил у
Маркса социализм. И здесь мы должны констатировать, что наиболее глубокое,
определяющее влияние Маркса на социалистическое движение в Германии, а позднее и
в других странах проявилось не столько в его политической и экономической
программе, сколько в общем религиозно-философском облике.
Социал-демократическая партия, вообще политическая форма рабочего движения в Германии создана
не Марксом, которому, собственно, принадлежит неудачная попытка отклонить его
на ложный путь интернациональной организации (к ней призывает и
«Коммунистический манифест»), но Лассалем, основавшим и окончательно поставившим на
рельсы рабочую партию. Дальнейшее ее развитие и судьбы определились
специфическими условиями прусско-германского режима и последующими историческими
событиями, но отнюдь не влиянием Маркса. Правда, своими экономическими
трудами Маркс определил мировоззрение социал-демократических теоретиков и через
них - официальное credo партии. Однако это теоретическое credo отнюдь не
связано столь неразрывно с фактической программой, которой является не
теоретический марксизм, а так называемая программа-минимум, более или менее общая у
всех демократических партий, независимо от их отношения к Марксу.
Ощутительное влияние марксизма сказывается здесь только тем, что его догма вяжет еще
ноги партии в аграрном вопросе, да и здесь настоятельная нужда жизни заставляет
окончательно пренебречь этой догмой, как это и сделали уже русские социал-
демократы, делают и немецкие. Кроме того, для всякого экономиста должно быть
очевидно, насколько уже отстала от развивающейся жизни и социальной науки и
чисто экономическая доктрина Маркса уже в силу времени; обнаруживая все
новые изъяны и просто устаревая, она все в большей степени представляет чисто
исторический интерес, отходит на божницу истории политической экономии, где
имя Маркса, конечно, должно быть сопричислено к сонму почетных имен Кенэ,
Смита, Рикардо, Листа, Родбертуса и других творцов политической экономии.
Итак, как ни рискованно подобное утверждение и как ни противоречит оно
господствующему мнению, мы все же считаем весьма правдоподобным, что и без Маркса
рабочее движение отлилось бы в теперешнюю политическую форму, создалась бы
социал-демократическая рабочая партия приблизительно с такой же программой и
тактикой, как и существующая. Но Маркс наложил на нее неизгладимую печать
своего духа (а следовательно, и того духа, которого он сам был орудием) в отношении
философско-религиозном, а через посредство Маркса и Фейербах. Общая концепция
социализма, выработанная Марксом, конечно, проникнута этим духом, отвечает
потребностям воинствующего атеизма; он придал ему тот тон, который, по поговорке,
делает музыку, превратив социализм в средство борьбы с религией. Как бы ни
представлялись ясны общие исторические задачи социализма, но конкретные формы
социалистического движения, мы знаем, могут весьма различаться по своему
духовному содержанию и этической ценности. Оно может быть воодушевляемо высоким,
чисто религиозным энтузиазмом, поскольку социализм ищет осуществления правды,
справедливости и любви в общественных отношениях, но может отличаться
преобладанием чувств иного, не столь высокого порядка: классовой ненависти, эгоизма, той
же самой буржуазности — только навыворот, одним словом, теми чувствами, которые
под формой51* классовой точки зрения и классовых интересов играют столь
доминирующую роль в проповеди марксизма. Негодование против зла есть, конечно,
высокое и даже святое чувство, без которого не может обойтись живой человек и
общественный деятель, однако есть тонкая, почти неуловимая и тем не менее в высшей
68
степени реальная грань, перейдя которую это святое чувство превращается в совсем
не святое; мы понимаем всю легкость, естественность, даже незаметность такого
превращения, но преобладание чувств того или иного порядка определяет духовную
физиономию и человека, и движения, хотя в наш практический век и не принято
интересоваться внутренней стороной, если только это не. имеет непосредственного
практического значения.
Вся доктрина Маркса, как она вытекала из основного его религиозного мотива —
из его воинствующего атеизма: и экономический материализм, и проповедь
классовой вражды a outrance52*, и отрицание общечеловеческих ценностей и
общеобязательных норм за пределами классового интереса, наконец, учение о непроходимой
пропасти, разделяющей два мира - облеченный высшей миссией пролетариат и
«общую реакционную массу» его угнетателей, - все эти учения могли действовать,
конечно, только в том направлении, чтоб огрубить, оземлянить, придать более
прозаический и экономический характер социалистическому движению, сделать в нем
слышнее ноты классовой ненависти, чем ноты всечеловеческой любви. Мы отнюдь
не приписываем внесение этого оттенка в движение влиянию одного только
Маркса, напротив, это духовное искушение для социалистического движения и без
него слишком велико и, конечно, нашло и находит много путей и раньше и теперь
(и у нас в России), но Маркс был могущественным его орудием. Личное влияние
Маркса в социалистическом движении отразилось всего более именно усилением
той антирелигиозной, богоборческой стихии, которая в нем бушует, как и во всей
нашей культуре, и которая не скажет своего последнего слова, не получив
адекватного, хотя и последнего своего воплощения.
С великой мудростью и глубоким пониманием истинного характера
антирелигиозной стихии, стремящейся овладеть социалистическим движением и обольстить
его, Владимир Соловьев в повести об антихристе рисует его, между прочим, и
социальным реформатором, социалистом53*.
И в социализме, как и во всей линии нашей культуры, идет борьба Христа и
антихриста...
* * *
«Да приидет Царствие Твое! Да будет воля Твоя на земле, как и на небе!»54*
Такова наша молитва. Такова же и конечная цель мирового и исторического
процесса. Таков должен быть высший и единственный критерий для оценки
человеческих деяний, определяющий их как плюс или минус в мироздании, дающий
им абсолютный и окончательный, т. е. религиозный, коэффициент. Употребили ли
мы дарованные нам Богом силы для созидания Царства Божия, которого нам дано
не только ожидать, но и в меру сил подготовлять, хотя бы в качестве последних и
ничтожных каменщиков - в этом деле нет ничего ничтожного, - или мы
растратили силы эти втуне, в постыдной праздности и лени, или, наконец, употребили их
на работу «во имя свое», чуждую и враждебную целям Царствия Божия? В жизни
и деятельности каждого, в разном сочетании, имеются элементы всех этих трех
категорий, и никто не дерзнет подвести общий баланс и высказать последний
приговор про ближнего своего: он враг дела Божия! Но эта невозможность
окончательной оценки, которая принадлежит лишь праведному суду Божию, никоим об-
. разом не освобождает нас от обязанности испытующим взором вглядываться в
жизнь, где зло ведет, как мы знаем, непримиримую борьбу с добром и, что самое
опасное, в этой борьб'е выступает иногда и под личиною добра, различаясь от него
не по внешним, а только по внутренним признакам. И, верные этому требованию,
хотя отнюдь не дерзая на подведение общего итога, мы должны различить и в
Марксе наряду с работой Господней энергию совсем иного порядка, зловещую и
69
опасную, - она загадочно и страшно двоится. Социалистическая деятельность
Маркса как одного из вождей движения, направленного к защите обездоленных в
капиталистическом обществе и к преобразованию общественного строя на началах
справедливости, равенства и свободы, по объективным своим целям, казалось бы,
должна быть признана работой для созидания Царствия Божия. Но то
обстоятельство, что он хотел сделать это движение средством для разрушения святыни в
человеке и поставления на место ее самого себя и этой целью руководился в своей
деятельности, с религиозной точки зрения, должно получить отрицательную
оценку; здесь мы имеем именно тот тонкий и самый опасный соблазн, когда добро и
зло различаются не снаружи, а изнутри. Что здесь перевешивает - плюс или
минус, — мы узнаем это только тогда, когда подведен будет и наш собственный
баланс, а сами должны оставить вопрос открытым. Однако высказать здесь то, что
после многолетнего и напряженного всматривания в духовное лицо Маркса мы в нем
увидели и чего не видят многие другие, мы сочли своим нравственным долгом, делом
совести, как бы ни было это принято теми, кому сродна как раз эта темная, теневая
сторона Марксова духа.
1906
О СОЦИАЛЬНОМ МОРАЛИЗМЕ1
(Т. Карлейль)
Еще в 1891 году в русском переводе появилось одно из замечательнейших
произведений английской литературы - сочинение Томаса Карлейля «Герои и
героическое в истории», с интересным введением от переводчика В. И. Яковенко (которому
принадлежит и биография Карлейля в известной биографической библиотеке Пав-
ленкова1*. По-видимому, при выходе своем эта пламенная книга не произвела у нас
должного впечатления. Зато, кажется, более было замечено другое основное
сочинение Карлейля - «Sartor Resartus. Жизнь и мысли герр Тейфельсдрека», в
переводе г. Н. Горбова, в последние годы переведшего еще и «Past and Present»
(Прошлое и настоящее)2*. Нельзя не быть благодарным г. Н. Горбову, работа которого
есть, конечно, немалый литературный труд, выполненный с одинаковой любовью
как к переводимому автору, так и к родному слову. Знакомство с Карлейлем
немало затрудняется особенностями его стиля (Тэн2 уверяет, что сами англичане не
советовали ему читать Карлейля, потому что его все равно нельзя понять
иностранцу). Не принадлежа к числу горячих поклонников Карлейля, мы считаем его,
однако, ярким и интересным представителем нравственно-религиозной мысли XIX
века. В настоящих заметках мы хотим отметить некоторые характерные
особенности мировоззрения Карлейля, в которых, по нашему мнению, отразились не только
индивидуальные его черты, но и выразился особый тип религиозности, в связи с
своеобразным социальным складом.
I
Существует афоризм, что истории Англии, а равно и современного ее состояния
нельзя понять, не приняв во внимание влияние английской Церкви и вообще
религии. Это положение нужно еще усилить, говоря о Карлейле. Карлейля нельзя
понять, если не принять во внимание его шотландского происхождения и
пуританского духа Шотландии, до такой степени жившего в самом Карлейле, что его
называют иногда пуританином или Кальвином XIX века. Карлейль происходил из
рабочей среды, был сыном бедного каменщика бедной шотландской деревни3*. Он
родился и вырос в атмосфере старинной строгой набожности весьма высокой этиче-
1 Напечатано под заглавием «Карлейль и Толстой» в «Новом пути» (1904, XII) и «Вопросах
жизни» (1905, I).
2 Histoire de la littérature anglaise par H. Taine. Tome cinquième. К этому сочинению
относятся и все последующие ссылки.
71
ской пробы; уже под старость он называл свою мать, простую и честную
труженицу, самой религиозной женщиной, а она передала свою религиозность и сыну.
Шестидесятилетний Карлейль с полной отчетливостью вспоминает, как собиралась
в маленькой часовне деревенская община — бородатые старики с важными и
серьезными лицами, в дождь и слякоть сходившиеся туда, по холмам и болотам
Шотландии, для общей молитвы. По его словам, нигде в Англии не было людей, до
такой степени воплощавших в своей простой и суровой жизни христианство
первых веков; проповедника же этой общины Джонстона Карлейль называет самым
религиозным из всех известных ему людей, носивших церковное одеяние. «Эта
группа крестьян, — писал он, — этот маленький, поросший мхом дом и этот
бесхитростный проповедник Евангелия, собственно, и составляли всю церковную
общину. Они для многих были спасением и благословлением, и во мне до сих пор
живет их благочестивое, небесное влияние». Атмосфера была насыщена рассказами
о религиозных героях, мучениках Реформации, которые отказывались молиться за
короля и изменить присяге парламенту и за это платились жизнью. На
Эдинбургском кладбище есть, между прочим, такая надпись: «С 27 мая 1661 года, когда
был обезглавлен высокоблагородный маркиз Аргайльский, до 17 февраля 1688 г.,
когда пострадал Дж. Ренвик, за то же дело тем или иным способом было
умерщвлено и замучено до 18 000 благородных мучеников, кровью своей исповедовавших
Иисуса Христа».
Таковы были детские впечатления, которые, по собственному признанию Кар-
лейля, залегли в его душу и светили ему всю жизнь: можно без всякого
преувеличения сказать, что отзвук их слышится на протяжении всей литературной
деятельности Карлейля. Этим впечатлениям соответствовала и жизнь Карлейля,
вынесшего свою судьбу на своих плечах, испытавшего и бедность, и горе, и неудачи,
долго и упорно боровшегося с непониманием и непризнанием, но всегда
сохранявшего свою независимость и самобытность. Последняя проявляется не только в
идеях, но и во внешности писаний Карлейля. Его стиль, причудливый, вдохновенный,
порой небрежный и даже грамматически неправильный, составляет теперь предмет
филологических исследований, а в свое время, когда английский читатель привык
к плавному стиля Маколея и др., явился прямо дерзостью и невоспитанностью.
Читать Карлейля действительно нелегко. Вначале он кажется просто невыносим, в
него нужно вчитаться, и тогда, говорят, он покоряет (хотя, должен сознаться, я не
умею ценить карлейлевского стиля). Однако, каков бы он ни был, стиль этот ни на
чей не похож, есть в своем роде единственный4*.
Тэн говорит, что если англичанина, в особенности моложе 40 лет, спросить,
кого он считает в ряду мыслящих людей своего народа, то прежде всего он назовет
Карлейля. По его же наблюдениям, в Англии в XIX веке не было писателя более
влиятельного, нежели Карлейль, влияния его не избег даже Дж. Ст. Милль, сам
это с признательностью констатирующий, — и это при всей чуждости склада их
умов и убеждений. Оно было определяющим1 и для так назыв. «христианских
социалистов» (Ч. Кингслей, Моррис, Людлоу и др.), и для Дж. Рёскина2.
И это влияние на современников, которое заставило одного из немецких
биографов Карлейля (Шульце-Геверница) выставить эпиграфом к главе, ему
посвященной, характерную фразу: Th. Carlyle dominates the Victorian ere5*, приобретено
им исключительно деятельностью писателя. Карлейль всю жизнь оставался в
стороне от большой дороги, чуждаясь политики, кафедры (на которую вступал только
в виде исключения), от всех родов общественной деятельности. Его единственными
делами были только его книги, а единственным внешним отличием было избрание
его на 70-м году на пост ректора Эдинбургского университета. Предшественником
1 См.: Брентано Л. Христианско-социальное движение в Англии.
2 См. мой очерк «Социальное мировоззрение Дж. Рёскина» (Вопр<осы> философии и
психологии. 1909. V).
72
Карлейля на этом посту явился Гладстон, перед оставлением ее сказавший с
колоссальным успехом одну из своих блистательных речей. Но явился Карлейль, и этот
угрюмый и дикий старик, чуть не насильно вытащенный из своего
провинциального уединения, заставил забыть о красноречии Гладстона. За его речью6*, совсем не
красноречивой или более чем красноречивой, последовало и нечто большее, нежели
громовые аплодисменты, — трепетное молчание, и, когда оно сменилось бурей
оваций, оратора уже не было в зале — он искал успокоения на могилах своих
родителей, лучших в мире родителей, согласно его мнению. Речь разошлась в несколько
дней в 20 000 экземпляров. По этой мелочи можно судить о степени популярности
Карлейля в английском обществе1.
Если мы попытаемся определить ближе характер литературной деятельности
Карлейля в терминах общепринятых литературных специальностей, то нас
встретят большие затруднения. Карлейль не был ученым-исследователем в обычном
смысле слова. Правда, ему принадлежит несколько многотомных исторических
сочинений: жизнь Кромвеля, Фридриха Великого, история великой французской
революции2. Но эта последняя не есть обычного типа историческое исследование,
настоящий цеховой историк таковым его, наверно, и не признает (посмотрите, как
отзывался Тэн). Это скорее проповеди на исторические темы, исторические
поучения, иллюстрации вечных нравственно-религиозных истин на примерах великих
исторических событий, так что цель такого исследования лежит не в нем самом, а
вне его. Также и книга о «героях и героическом в истории» всего менее является
школьным трактатом о философии истории, а есть просто собрание проповедей о
великих людях, их ценности, их значении, которые могли бы быть совершенно
свободно произнесены с кафедры какой-нибудь религиозной общины. Сочинения
Карлейля, посвященные политике и социальному вопросу (о чартизме, «Past and
Present», памфлеты и пр.) также менее всего могут быть признаны научными
социологическими исследованиями. Не является Карлейль и
философом-метафизиком в школьном смысле этого слова. Правда, Карлейль открыл для англичан
немецкую философию и популяризировал некоторые начала немецкого идеализма
(Канта и Фихте), но при этом он сильно энглизировал и упрощал их, беря из них
конечные выводы этического характера и оставаясь сравнительно равнодушным к
гносеологической и метафизической части их учений, так что от немецкого
идеализма в транспозиции Карлейля улетучивается многое для него характерное. К
метафизике в собственном смысле этого слова он относился с откровенным и
нескрываемым презрением, не делая исключения даже для своего молодого и рано
умершего друга и почитателя Стерлинга (жизнь которого он написал
впоследствии). Наконец, не является Карлейль и беллетристом, несмотря на то что «Sartor
Resartus» представляет собой нечто вроде повествовательного романа (по образцу
гетевского): читатель скоро убеждается, что это есть что угодно, только не
беллетристика. Чем же, однако, был в действительности Карлейль и как можно
определить его литературную физиономию? Он был нравственно-религиозным
проповедником, в некотором смысле социальным пророком своего времени и своего народа.
Исайей XIX века - конечно, не без большого преувеличения - называет его один
из его биографов. Своим влиянием на умы и сердца Карлейль обязан именно этому
своему служению, заражающему своим нравственным энтузиазмом даже такого
далекого и чуждого читателя, каким был, например, Милль.
Каково же было общее содержание той проповеди, с которой обращался
Карлейль к своим современникам? Это была проповедь религиозного возрождения и
личной морали, проповедь покаяния и исправления сердец, в котором заключается
1 Эта речь имеется в русском переводе того же г. Горбова: Карлейль Т. Речь,
произнесенная при вступлении в должность лорда-ректора Эдинбургского университета 2 апреля 1866
года. М., 1902. Читая эту речь, трудно понять секрет впечатления, ею произведенного и
состоявшего, очевидно, в личной обаятельности.
2 Вдохновенный труд Карлейля о французской революции появился и в русском переводе7*.
73
и единственное средство, и единственная возможность врачевания социальных зол,
разрешения социального вопроса. Карлейль во всех областях — в философии и
политической экономии, в истории и юриспруденции — остается религиозным
моралистом. Его литературный облик станет для нас понятнее, если мы назовем
близкое для каждого русского имя Л. Н. Толстого. Литературная деятельность
Толстого за последнюю четверть века сама собою напрашивается на сопоставление с
деятельностью Карлейля. Ввиду этой близости перед русским читателем весьма удобно
объяснять Карлейля Толстым, в учениях последнего находить ключ к пониманию
сочинений первого. Недаром «- хотя в обоих случаях, думается нам, одинаково
неудачно — Карлейля называют английским Руссо, а Толстого — Руссо русским.
Описывая духовный о"блик Карлейля как религиозного моралиста, мы должны,
следовательно, установить отличительные черты его мировоззрения.
По выражению Дж. Ст. Милля, в лице Карлейля воплотилась «борьба XVIII
века с XIX».
С проповедью Карлейля столкнулись скептицизм и поверхностный
рационализм, свойственный концу XVIII века в вопросах религии, более или менее
решительный материализм и первые успехи механического мировоззрения в философии,
крайний индивидуализм и утилитаризм (нашедший классическое выражение
Англии в лице Бентама и школы8*) в морали. Карлейль ведет ожесточенную борьбу с
этим направлением мысли. Он говорит своему обществу:
«Мы забыли Бога. Мы устранили факт этой вселенной, как будто ее нет. Мы
просто закрыли глаза на вечную сущность вещей и открываем их лишь для види-
мостей и призраков. Мы просто верим, что вселенная непроницаема и есть великое
непостижимое может быть (Perhaps), снаружи же, это достаточно ясно, она есть
большой, весьма поместительный хлев для скота и работный дом с обширными
кухонными печами, столовыми, где тот умен, кто умеет найти себе место. Все
истины этой вселенной неверны; только профит и его потеря, пудинг и похвала ему,
только они существуют и остаются видимы практическому человеку.
Для нас более не существует уже Бога. Божеские законы заменились
принципом наибольшего счастья, парламентской ловкостью; небеса существуют над нами
только как предмет астрономических наблюдений, мишень для гершелевского
телескопа, материал для формул, повод для сентиментальности. Вот поистине самое
больное место, центр всеобщей социальной гангрены, которая угрожает всей
современности ужасной смертью. Нет религии, нет Бога; утеряли свою душу и
тщетно ищут антисептических солей» (Past and Present).
«Вместо кадильницы наше время откровенно возносит сковороду, ибо что
представляет собой злая совесть по сравнению с муками от дурного пищеварения,
вместо знамения креста — женская юбка: hoc signo vinces»9*.
«Теперь ночь мира, и еще далеко до того, когда наступит день. Мы странствуем
среди мерцания дымящихся развалин, и солнце и звезды неба как бы померкли на
время. И два необъятных привидения, лицемерие и атеизм, с надрывом,
чувственностью, бродят по всей земле и называют ее своей. И очень хорошо чувствуют, себя
сонливцы, для которых существование - пустой сон» (Sartor Resartus, рус. пер., 327,
изд. 1-е).
Религиозность Карлейля прошла через очистительное горнило сомнений и
отчаяния, об этом рассказано Карлейлем в «Sartor Resartus», в главах с характерным
заглавием «Вечное нет» и «Вечное да».
«Ошалелому страннику, - рассказывается здесь, - приходится стоять, как
стояли уже многие, выкрикивая вопрос за вопросом в Сивиллину пещеру судьбы, и
получать не ответ, а только эхо. Весь этот некогда столь прекрасный его мир
теперь - мрачная пустыня, в которой слышен только вой диких зверей или
пронзительные крики отчаивающихся, полных ненависти людей; и облачный столб днем,
и огненный столб уже более не руководят путником. Вот как далеко завел его дух
74
исследования. Но что же из того? — восклицает он. Это только общая участь в
наше время... Весь мир подобно тебе предан неверию; их древние храмы Божества,
уже давно не защищаемые от дождя, обрушились, и люди теперь спрашивают: где
Божество? Наши глаза никогда не видали Его» (ib., 182). «Я должен отметить,
однако, одно обстоятельство: после всех невероятных страданий, которые
причинил мне дух исследования, проистекавший у меня (что не всегда случается) из
неподдельной любви к истине, я тем не менее любил истину и не уступил бы и
йоты из моей верности к ней... Таким образом, несмотря на всех перетирателей
причин и механические философии прибыли и убытка, с болезненной офтальмией
и галлюцинациями, которые они производили, бесконечная природа долга, хотя
смутно, но все же была передо мной: хотя и живя в мире без Бога, я не был,
однако, вполне лишен света Бога; если мои глаза, пока еще как бы запечатанные, с их
невыразимым стремлением, нигде не могли Его видеть, тем не менее в моем сердце
Он присутствовал и Его написанный на небесах закон еще стоял там, легко
читаемый и священный» (182-183). Мучительные сомнения миновали и «вечное нет»
разрешилось в «вечное да». «Рыкающие волны времени не поглощают тебя, но
несут тебя вверх, к лазури вечности. Люби не удовольствие; люби Бога. Вот то
Вечное Да, которым разрешается всякое противоречие; кто ходит и работает в нем,
благо тому» (214).
Таким образом совершилось то, что Карлейль называет своим «духовным
возрождением» или же «Бафометическим крещением огнем» (188)10\
Всю энергию своего стиля и своей аргументации Карлейль обращает против
философии позитивизма, которая мнит себя научной философией, считает только
себя соответствующей требованиям науки, между тем как на самом деле она
неизмеримо далека от истинной научности, требующей прежде всего понимания
действительной компетенции науки. Нападки против этой лженаучной философии
неразрывно соединяются у Карлейля с едкой критикой утилитаризма, который
действительно находится во внутренней связи с механическим мировоззрением.
Извиняясь за длительные цитаты, приведем все-таки характерные отрывки,
выражающие отношение Карлейля к позитивизму его дней:
«Тейфельсдрек (герой «Sartor Resartus», устами которого говорит Карлейль)
высказывает весьма мало уважения к тому прогрессу науки, который стремится разрушить
удивление и заменить его измерением и счетом, хотя, вообще говоря, он весьма
уважает эти два последние процесса. Может ли ваша наука — восклицает он — развиваться в
одной подземной мастерской одной только логики, куда едва проникает свет сквозь
небольшую щель или в которой коптит тусклый ночник? И может ли человеческий ум
сделаться арифметической мельницей, где память есть насыпь, а мукой являются одни
только таблицы синусов и тангенсов, кодификация да трактаты того, что вы называете
политической экономией? И что такое эта ваша наука, которую могла бы развивать
научная голова одна, без тени сердца?... Более всего нестерпим для него этот класс
лавочников логики, визгливых свистунов и профессиональных врагов удивления,
которые в настоящее время в таком множестве, как ночные сторожа, держат патруль
вокруг института механической науки и, как истинные древнеримские гуси и гусенята,
гогочут вокруг своего Капитолия или и без него; которые даже часто, как
просвещенные скептики, являются в самое мирное общество средь бела дня с*трещоткой и
фонарем и настойчиво предлагают вам проводить вас или охранять вас, хотя солнце ярко
светит и улица полна одними только благонамеренными людьми.
Человек, который не может удивляться, который не имеет привычки
удивляться и благоговеть, будь он президентом бесчисленных королевских обществ и храни
он в одной своей голове всю Mécanique Celeste11* и философию Гегеля и конспект
всех лабораторий и обсерваторий со всеми их результатами, такой человек есть не
более как пара очков, за которыми нет глаз. Пусть те, у кого есть глаза, смотрят
сквозь него, при таком условии, может быть, и он на что-нибудь пригодится. Ты
75
не хочешь знать ни таинственного, ни мистицизма, ты хочешь идти в этом мире
при солнечном сиянии того, что ты называешь истиной, или хотя бы с фонарем
того, что я называю адвокатской логикой, - и хочешь все «объяснить», во всем
«отдать отчет» или ни во что из этого не верить? Больше того — ты пытаешься
смеяться; тот, кто признает неизмеримую, всеобъемлющую область Таинственного,
которая везде под нашими нотами и около наших рук, для кого вселенная есть
оракул и храм столько же, сколько кухня и коровник, — тот, по-твоему,
сумасшедший мистик? С сопящей сострадательностью ты навязчиво предлагаешь ему
твой фонарь и вскрикиваешь как оскорбленный, если он отпихивает его ногой:
Armer Teufel!12* Разве твоя- корова не телится, разве твой бык не производит?
Разве ты сам не родился? Разве ты не умрешь? "Объясни" мне все это или сделай одно
из двух: спрячься куда-нибудь подальше с твоим глупым кудахтаньем или, что
было бы еще лучше, прекрати его и плачь не о том, что царство удивления
окончилось и Божий мир лишился своей красоты и поэзии, а о том, что ты до сих пор
еще дилетант и близорукий педант» (73-74).
«Вся вселенная (современного человека) — одни громадные ясли, наполненные
сеном и волчцами, которые надо сравнить между собою по весу; и вид у него
довольно длинноухий. Увы, несчастный! На него напущены всякие привидения: в
одну эпоху его душат домовые, преследуют ведьмы; в следующую его угнетают
жрецы, его дурачат, во все эпохи им помыкают. А теперь его душит, хуже всякого
кошмара, гений механизма, так как у него уже почти вытрясена душа и только
некоторого рода пищеварительная, механическая жизнь еще остается в нем. На
земле и на небе он не может видеть ничего, кроме механизма; он ничего другого не
боится, ни на что другое не надеется» (245).
«Наука много сделала для нас; но жалка та наука, которая захотела бы скрыть
от нас всю громаду, глубину, святость нескончаемого незнания, куда мы никогда
не можем проникнуть и на поверхности которого все наше знание и все наши
науки остаются до сих пор чудом удивительным, неисповедимым, волшебным для
всякого, кто задумается над ним» (Герои и героическое в истории, II).
«Тот, кто видит во вселенной один только механизм, фатальным образом
упускает совершенно из виду тайну вселенной. Изгнание всякого божества из
человеческого представления о мире, в моих глазах — жесточайшее животное заблуждение;
я не говорю — языческое, чтобы не оскорблять язычества, каково бы оно ни было
вообще. Это неправда; это в самом существе своем ложь. Человек, думающий так,
будет думать неправильно и обо всем остальном: первородный безбожный грех
извратит в корне все его суждения. Это заблуждение мы должны считать самым
плачевным из всех заблуждений, плачевнее даже колдовства. Впадая в колдовство,
человек поклоняется, по крайней мере, живому дьяволу, а здесь он поклоняется
мертвому железному дьяволу; ни Бога, ни даже дьявола! Все благодарное, святое,
всякое вдохновение исчезает, благодаря этому заблуждению, и повсюду в жизни
остается одно презренное caput mortuum13*, - механически связанная оболочка, из
которой дух живой исчезает совершенно... Человек становится паралитиком в
духовном отношении: божественная вселенная - мертвой, механически связанной
паровой машиной, работающей благодаря только двигателям, нажимам, рычагам и
я не знаю еще чему, а в ней, как в злополучном чреве отвратительного быка Фала-
риса, находится он, сам изобретатель, бедный Фаларис14*, и ожидает своей жалкой
смерти» (243).
В этих страницах много благородного гнева, уничтожающей иронии, дерзости
нападения на предметы общего поклонения, и они живо напоминают
соответствующие страницы из прежних сочинений Толстого (например, из «Что делать»15* и
др.), и напоминают притом не только своей силой, но и своей слабостью. И в том и
в другом случае они более заражают своим настроением, чем убеждают, они не
76
дают, в руки надежного орудия, которым не только можно отговориться, но и
отбиться от «перетирателей причин», людей «с очками вместо глаз» и с «адвокатской
логикой». Можно ли считать, что Карлейль или Толстой одерживают
действительную, т. е. внутреннюю, победу над так называемым научным, а в действительности
лженаучным мировоззрением, когда они поносят ограниченность его
представителей или просто отворачиваются от него? И не подвергаются ли они в такой борьбе
с лженаучностью опасности незаметно впасть в обскурантизм противонаучности,
неуважение к свету человеческого разума? Позитивизм есть действительно
лженаучная философия, потому что здесь приписывается выводам науки совершенно не
то значение, которое они перед лицом разума на самом деле имеют. И, однако, это
может быть показано только тем, что наука будет отведена на свое действительное,
по праву ей принадлежащее место, когда будут уважены ее бесспорные права. Без
сознательной философской победы над притязаниями лженаучности, без серьезного
и внимательного разбора этих притязаний не может быть логически устойчивого
идеалистического или религиозного мировоззрения, подобно тому как для
восхождения на высшую ступень необходимо должны быть пройдены все низшие. Этим
ставится на очередь самостоятельная, в высшей степени важная философская
проблема о философских правах и значении опытной науки и ее выводов. Здесь
содержатся, собственно, два вопроса. Во-первых, представляет ли собой знание и
научное мышление высшую и последнюю инстанцию, к которой может
апеллировать человеческая мысль, или же, напротив, самые права науки нуждаются в
утверждении и утверждаются философией. Очевидно, это вопрос теории познания,
которой и принадлежит здесь голос. Если в теории познания можно доказывать,
что приоритет науки чисто .фиктивный, ибо вся наука основывается на таких
предпосылках, которые в пределах опытной науки недоказуемы, то первый и
единственный аргумент философии позитивизма падает. Тогда на очередь становится
второй вопрос, или вторая задача: как связать общие выводы опытной науки с
принципами философского или религиозного миросозерцания так, чтобы они входили в
него или как часть, или как материал или, по меньшей мере, этим выводам не
противоречили. Требуется, другими словами, философская или, точнее,
метафизическая переработка выводов науки, они должны быть введены в высшее
обобщение, вплетены в цельное и универсальное миросозерцание.
Во всяком случае, необходимо признавать эту задачу и с нею считаться,
необходимо уважать науку в ее действительных правах, и вот этого-то уважения и
признания не хватает ни у Толстого, ни у Карлейля. Оба они обнаруживают крайнюю
раздражительность и нетерпеливость там, где необходима сложная аргументация.
И потому, если они правы относительно того, что они осуждают, то они
совершенно не правы и становятся на чрезвычайно скользкую почву в своем пренебрежении
или даже отрицании не только лженаучности, но и науки. Их философия в этом
отношении дефектна, а потому и бессильна. «Эмфатическое крещение огнем»
Карлейля остается неполным: «вечное да» ответило не на все сомнения, не совершенно
обессилило «вечное нет». В нем нет никакой гносеологии и никакой метафизики.
Конечно, мы не хотим умалять значение Карлейля за то, что он не был гносеоло-
гом или натурфилософом. Мы лишь анализируем его миросозерцание с точки
зрения потребностей философского сознания нашего времени и отмечаем, в чем оно
удовлетворяет эти потребности и в чем не удовлетворяет.
Моральное и практическое мировоззрение своих современников, пропитанное
началами механизма, гедонизма и утилитаризма, Карлейль беспощадно бичует в
крупных и мелких своих произведениях. Приведем для образца только одну,
полную гневной иронии и сарказма характеристику «философии свиней» (Pig
philosophy), которую он дает в одном из последних своих сочинений (Latterday pamphlets.
Jesuitism):
77
Философия свиней
1) «Вселенная, насколько можно сделать о ней основательное предположение,
есть неизмеримое свиное корыто, содержащее в себе твердые тела и жидкости и
всякие иные контрасты и разнообразия, в частности из достижимого и
недостижимого, причем последнее в значительной степени существует для большинства
свиней».
2) «Моральное зло состоит в недостижимости свиных помоев, моральное благо -
в достижимости их же».
3) «Что такое рай, или состояние невинности? Рай, называемый также
состоянием невинности, золотым веком и прочими именами, состоял (согласно здравому
суждению свиней) в неограниченном количестве свиных помоев, полном
исполнении желаний каждого, так что воображение свиней не могло превзойти
действительности: басня и невозможность, как думают теперь рассудительные свиньи».
4) «Определите все обязанности свиней? Миссия универсального свинства и
долг всех свиней во все времена состоит в том, чтобы уменьшать количество
недоступного и увеличивать количество достижимого. Все знания, изобретения и усилия
должны быть направлены к этому, и только к этому. Свиная наука, свиной
энтузиазм и стремления свиней имеют лишь одну эту цель. В этом состоят все
обязанности свиней».
5) «Поэзия свиней должна состоять во всеобщем признании превосходства
свиных помоев и молотого ячменя и блаженства свиней, помои которых хороши и
имеются в изобилии. Хрю!»
6) «Свиньи знают погоду: они могут предусмотреть, какая будет погода».
7) «Кто создал свинью? Неизвестно. Может быть, колбасник?»
9) «Что такое справедливость? Соблюдение вашей собственной доли общих
свиных помоев, без захвата части моей доли».
10) «Какова моя доля? Ах, это трудно определить. Об этом свиная наука, после
долгих рассуждений, не может ничего окончательно установить. Моя доля - хрю! -
моя доля есть то, что я сумею взять, не будучи повешен или сослан в каторжные
работы. С этой целью существуют виселицы, исправительные дома, о чем нет
нужды вам говорить, и правила, предписанные юристами».
Каковы же черты положительного мировоззрения Карлейля,
противопоставленного им «Pig philosophy»? Мы уже знаем, что оно прежде всего религиозно. Какова
же религия Карлейля? Она отличается двумя чертами: во-первых, мистическим
пантеизмом, неопределенно приближающимся к эстетическому пантеизму Гете,
мыслителя-художника, который был настоящим «героем» для Карлейля,
во-вторых, наклонностью выдвигать на первый план этическую, практическую сторону
религии в ущерб религиозно-мистической, благодаря чему почти стирается
различие между религией и внерелигиозной этикой.
Теоретическая часть мировоззрения Карлейля удачнее всего вкратце
формулирована его другом Стерлингом (это изложение одобрено и Карлейлем) в следующих
основных положениях.
«Мир с человеком как его главным предметом весь есть область чуда и тайны; но
чтобы быть понятными, они требуют прежде всего благоговения к себе. Тот, кто
исключает из своей мысли все, что требует мысли и благоговения, никогда не будет в
состоянии размышлять о первоначальных фактах бытия. Но что же составляет
истинную сущность каждой вещи, как не самое бытие? Все остальное в предмете, все его
качества и свойства, рассматриваемые без отношения к его бытию, не могут,
собственно говоря, быть поняты, хотя могут быть сосчитаны, измерены, ощупаны. Религия
поэтому есть высочайшая форма отношения человека к миру. И когда человек
отказывается признать ту неописуемую, священную глубину, к которой и он сам, и мир
принадлежат, то его удел - незнание. Но для того, кто смотрит прямо, божественная суб-
78
станция всего иногда открывает себя, и притом как в малейших, так и величайших
вещах, ибо бытие само божественно и будит в том, кто его созерцает, чувство
божественного. Мы сотворены силами природы или Того, чьим созданием является сама
природа, лишь для того, чтобы быть самим творцами. Творить, работать — вот наше
призвание, ради которого нам дана жизнь» (S. R., пред.).
Чувства удивления, благоговения и тайны - основа религии Карлейля. Вся
вселенная есть для него символ и эмблема.
«Все видимые вещи суть эмблемы; все, что ты видишь, существует не за свой
собственный счет; строго говоря, его вовсе нет: материя существует только
духовно, чтобы представить какую-нибудь идею и воплощать ее» (S. R. 77).
«Собственно, в символе, в том, что мы можем назвать символом, заключается всегда, более
или менее ясно и прямо, некоторое воплощение и откровение Бесконечного:
Бесконечное помощью его сливается с Конечным, является видимым и, так сказать,
досягаемым. Символами вследствие этого человек руководится, управляется,
делается счастливым, делается несчастным. Повсюду видит он себя окруженным
символами, признаваемыми за таковые или не признаваемыми: Вселенная есть только
обширный символ Бога и, если ты этого хочешь, - что такое сам человек, как не
символ Бога? Разве все, что он делает, не символично — откровение чувству
мистической, Богом данной силы, которая заключается в нем, "Благовестив свободы",
которое он, "Мессия природы", проповедует, как может, словом и делом?» (244).
«Если все, на что бы мы ни обратили свой взор, является для нас эмблемой Бога,
то в еще большой мере, чем всякая внешняя вещь, представляет подобную эмблему
сам человек. Вы слышали известные слова св. Златоуста, сказанные им
относительно шекинаха16* или скинии завета, видимого откровения Бога, данного евреям:
"истинный шекинах есть человек". Да, именно так; это вовсе не пустая фраза, это
действительно так. Суть нашего существа, то таинственное, что называет само себя
"я", есть дыхание неба. Высочайшее существо открывает себя в человеке. Это тело,
эти способности, эта жизнь наша - разве не составляет все это как бы внешнего
покрова сущности, не имеющей имени? Мы - чудо из чудес, великая,
неисповедимая тайна Бога. Мы не можем понять ее, мы не знаем, как говорить о ней, но мы
можем чувствовать и знать, если хотите, что это именно так» (Герои, 14).
Пантеистический символизм Карлейля делает его чрезвычайно восприимчивым
к чувству космического единства, одушевленности и связанности всех частей
вселенной.
Карлейль говорит устами Тейфельсдрека (S. R., 75-77):
«Хорошо пел еврейский псалмопевец: "Возьму ли я крылья зари и переселюсь в
крайние пределы вселенной, - и там Бог"17*. И ты сам, о цивилизованный
читатель, который слишком, вероятно, не псалмопевец, а прозаик, и знаешь Бога
только по преданию, - знаешь ли ты такой уголок вселенной, где бы не было, по
крайней мере, Силы? Капля, которую ты стряхиваешь с мокрой руки, не остается там,
где она упала, но ты находишь ее назавтра уже исчезнувшей: на крыльях
северного ветра она уже приближается к тропику Рака. Но как же вышло, что она
испарилась, а не осталась лежать недвижимо? Думаешь ли ты, что существует что-либо
недвижимое без силы и совершенно мертвое?
Раз, когда я ехал верхом по Шварцвальду, я сказал себе: этот маленький
огонек, который блестит, подобно звезде, среди темнеющего болота, где закоптелый
кузнец стоит, согнувшись над своей наковальней, и где ты надеешься заменить
твою потерянную подкову, — есть ли этот огонек отторгнутое, отделенное пятно,
отсеченное от всей вселенной, — или же он неразрывно связан с целым? Безумный!
Этот кузнечный огонь был первоначально зажжен от солнца; он питается от
воздуха, который существовал ранее потопа, простирается далее Сириуса; здесь силой
железа, силой угля и — еще гораздо более — странной силой человека приводятся в
действие тонкие силы сродства, вызываются битвы и победы силы; он — маленький
79
•ганглий, или нервный центр, в огромном жизненном организме необъятного.
Назови его, если хочешь, бессознательным алтарем, возжженным на лоне Всецелого;
алтарем, чьи железные жертвы, чей железный дым и действия проникают сквозь
это Всецелое, чей темный жрец не словом, но мозгом и мышцами проповедует
тайную силу; проповедует (довольно экзотерично) один маленький текст из Евангелия
свободы, Евангелия человеческой силы, которая и теперь уже властна, а со
временем будет всевластна» (S. R. 76).
Теория символов определяет отношение Карлейля и к христианству, к
которому он относился с глубоким уважением, однако сохраняя полную независимость от
какой бы то ни было формы церковности и удерживая полную свободу в
понимании его учений. Теория символов и эмблем не изменяет ему и здесь, получая здесь,
на наш глаз, несколько странное применение.
«Высочайшие из всех символов суть те, в которых художник или поэт
возвысился до пророка и в которых все люди могут узнать присутствующего Бога и
поклониться Ему: я разумею религиозные символы. Чрезвычайно разнообразны были
эти религиозные символы, то, что мы называем религиями. В зависимости от того,
на той или на другой ступени культуры стояли люди и хуже ли или лучше могли
они воплотить божественное, некоторые символы имеют преходящую внутреннюю
ценность, многие же лишь внешнюю. Если ты спросишь, до какой высоты достиг в
этом отношении человек, взгляни на наш божественнейший символ: на Иисуса из
Назарета, на Его жизнь, на Его жизнеописание и что из этого последовало. Выше
человеческая мысль не достигала: это христианская вера и христианский мир -
символ безусловно, вечного бесконечного характера».
Изложенным учением о символах и исчерпывается вся скудная «догматика»
Карлейля. Гораздо чаще, охотнее и, добавим от себя, с большим успехом он
останавливается на практическом приложении религии, на этической ее стороне. В
этом (условном и ограниченном) смысле нельзя не отметить того определения
религии, которое он дает на первых же страницах «Героев» и которое чрезвычайно
верно характеризует ее практическую сторону:
«То, во что человек верит на деле, то, что человек на деле принимает близко к
сердцу, считает за достоверное во всем, касающемся его жизненных отношений к
таинственной вселенной, его долга, его судьбы; то, что при всяких обстоятельствах
составляет главное для него, обусловливает и определяет собой все прочее, — вот
это его религия или, быть может, его чистый скептицизм, его безверие (no-
religion): религия - это тот образ, каким человек чувствует себя духовно
связанным с невидимым миром или с немиром (no-world). И я утверждаю: если вы
скажете мне, каково это отношение человека, то вы тем самым с большой степенью
достоверности определите мне, каков этот человек и какие дела он совершит.
Поэтому-то как относительно отдельного человека, так и относительно целого народа,
мы первым делом спрашиваем: какова его религия?»
В этом практическом смысле Карлейль сводит религию к работе, часто
вспоминая изречение средневековых монахов: laborare est orare - труд есть молитва.
«Работа, — читаем мы в «Past and Present», — имеет религиозную природу:
работа имеет мужественную (brave) природу и в этом состоит цель всякой религии...
Собственно говоря, всякая истинная работа есть религия, и то в религии, что не
есть работа, может отправляться и жить среди браминов, антиномистов,
вертящихся дервишей или где хотите еще, у меня это не найдет убежища. Удивительно это
выражение старых монахов: laborare est orare. Старее, чем все проповеданные
Евангелия, было это непроповеданное, невысказанное, но и неискоренимое, всегда
сохраняющееся евангелие: работай и в этом находи свое благополучие. Человек,
сын неба и земли,· не ослабляй в своей груди духа активности, силы к работе».
Это же значение имеет и классическая формула Карлейля: religion issues in
heroworship, - религия состоит в героизме, в героическом служении. Итак, вот два
80
положения, к которым можно свести все религиозное учение Карлейля: 1) мир и
человек полон тайны и есть символ божества; 2) laborare est orare, так что вполне
справедливой является характеристика его у Тэна: «La vertu est une révélation,
l'héroisme est une lumière, la consience une philisophie, et l'on exprimera en abrégé
ce mysticisme moral en disant que Dieu, pour Carlyle, est um mystère dont le seul
nom est l'idéal»18*.
Учение Карлейля - мы снова возвращаемся к прежнему сопоставлению -
поразительно сближается здесь с религиозным учением Толстого. Если отвлечься от
индивидуальных различий, которые неизбежны хотя бы ввиду исключительного
своеобразия и яркости сравниваемых писателей, можно сказать, что мы имеем в
обоих случаях один и тот же тип религиозного мышления, адогматического и
преимущественно этического характера. Неопределенная пантеистическая окраска
мировоззрения Карлейля, в котором гораздо явственнее выражено отрицательное
отношение к самодовольному позитивизму, лженаучной ограниченности, нежели
какое-либо положительное религиозное мировоззрение, вполне соответствует
пантеистическому складу мысли Толстого. И у последнего мы находим несомненное
отрицание позитивизма и атеизма, но в то же время нет и никакого
положительного религиозного учения, или же религиозный эклектизм, преднамеренно
антидогматичный.
Но близость Толстого и Карлейля в еще большей степени выражается в
одинаковом у обоих этизировании религии. Стремление упразднить в религии все, кроме
этики, обеднить ее, рационализировать в одинаковой мере свойственны и Толстому,
и Карлейлю, и вот почему, думается нам, ни тот ни другой не могут утолить
действительной религиозной жажды, не могут удовлетворить человека, ищущего не
морали (которая возможна и вне религии), а именно религии.
Этот их догматический адогматизм (нельзя этого иначе определить)
проистекает из их общей односторонности и какой-то как бы преднамеренной
ограниченности. Для человека, который тем или иным путем пришел к отрицанию основного
догмата атеистического позитивизма и утвердился в этом отрицании, естественно,
нет вопроса более жгучего, более настоятельного, нежели дальнейшее выяснение
положительного уже содержания своего мировоззрения; в этом смысле вопросы о
Боге, Его свойствах, Его отношении к миру и человеку, вопросы, которые
затрагиваются в так называемых догматах и составляют религиозную метафизику,
представляют неустранимую и неотъемлемую часть религиозного сознания. Пусть эти
вопросы не допускают окончательного или единогласного разрешения, но они
постоянно стоят в мысли и сознании. Между тем этих вопросов как будто нет у
Карлейля, как нет их и у Толстого, у которого по отношению к ним единственным
ресурсом является какой-то просто-таки обидный рассудочный рационализм
просветительства. Оба они - и Карлейль, и Толстой - относятся презрительно к работе
философской, метафизической мысли, которая стремится осветить эти насущные
вопросы: в глазах Карлейля попытки метафизики характеризуются «несказанным
бесплодием», Толстой же считает их просто продуктом праздности, если чего не
хуже. И это отношение обусловливается в данном случае не действительным
превосходством, не внутренним преодолением существующих здесь трудностей или
разрешением ставящихся здесь проблем, а говоря sans façons19* - их непониманием
или же упрямым нежеланием с ними считаться. И Карлейлю не помогло здесь и
его знакомство с немецким идеализмом.
Усиленно подчеркивая важность практического, жизненного значения религии,
этической ее стороны, и Карлейль, и Толстой не замечают, насколько «этика»
вообще связана с «догматикой»1, или те или иные положения религиозной этики
1 Вопрос это хорошо выяснен кн. С. Трубецким в статье «Этика и догматика» («Вопр<осы>
философии и психологии» 1895 года - в Собрании сочинений, том III).
81
неразрывно связаны с положениями религиозной метафизики. Всякая вообще
этика - атеистическая и религиозная — обосновывается на известных положениях
метафизики, на метафизическом учении о человеке и его природе, хотя эта связь
далеко не всегда достаточно понимается. И Толстой и Карлейль, конечно,
становятся при обосновании своей этики на почву своей скудной догматики (напр<имер>,
излюбленные рассуждения Толстого о Хозяине и Его требованиях), но тем
очевиднее только обнаруживаются эта незаконченность и эта скудость.
Особенно прискорбно сказываются основные дефекты мировоззрения Карлейля
и Толстого в их понимании христианства. Вместо цельного, органически связного
мировоззрения получается. бледное этическое учение, мало чем отличающееся от
буддизма, от конфуцианства, даже от ислама, если их также принимать только с
этической, а не с метафизической стороны. Этика и метафизика (или догматика) в
христианстве совершенно неразрывны и неразделимы, «адогматизм» какого бы то
ни было оттенка здесь противоестественен и невозможен, ибо он выводит за
пределы христианского учения.
Итак, мистический пантеизм - одинаково как у Карлейля, так и у Толстого -
сам по себе еще не составляет положительного религиозного мировоззрения, хотя и
входит в него как необходимая составная часть, как один из его элементов или
ступеней; равным образом и чувство пантеистического благоговения вовсе не
исчерпывает собой гаммы религиозного чувства, содержащего рядом с
пантеистическими настроениями и более определенные теистические переживания (молитва).
Религиозный опыт, может быть, и бывает гораздо богаче, нежели как его
описывают нам Карлейль и Толстой. Оба они суть не столько учители религии, сколько
учители к религии, их работа в этом направлении не· столько созидательная,
сколько подготовительная.
По справедливому замечанию Тэна, бог Карлейля (как и Толстого) есть чисто
этическое понятие идеала, вмещающегося в таком виде и в атеистическое
сознание. Весьма характерной в этом отношении является попытка Энгельса, который
был вообще почитателем Карлейля и одним из ранних его популяризаторов в
Германии, истолковать его религиозные взгляды в атеистическом смысле, в духе
Фейербаха. И нельзя сказать, чтобы для этого потребовались чрезмерные натяжки и
чтобы эта попытка могла назваться вполне неудачной1.
Насколько нас не удовлетворяет теоретическая сторона религиозной философии
как у Карлейля, так и у Толстого, настолько же следует преклоняться перед
практической жизненностью их проповеди. Отделиться от жизни, не давая ей
достаточного и принадлежащего ей внимания, есть постоянная опасность для
созерцательных натур, и в этот грех впадали и впадают многие религиозные учения. В этом
отделении заключается великий грех и вместе с тем смертный приговор для такого
учения. Проповедь религиозных начал должна постоянно указывать их жизненное
значение, и в этом смысле литературная деятельность Толстого и Карлейля имеет
огромное положительное значение.
Проповедь религиозной морали у Карлейля обращена в две стороны. С одной
стороны, она призывает во имя религии к деятельной работе, направленной к
преобразованию жизни соответственно высшим моральным началам. Здесь воззрения
Карлейля отливаются в прекрасную, поистине классическую его формулу: religion
issues in heroworship. Напротив, обращаясь к представителям утилитаризма и
эгоизма, лишенным всяких моральных и религиозных начал, Карлейль учит, что
человеческое «я» не есть высшая инстанция, ибо выше его должно стоять религиоз-
1 Aus dem literarischem Nachlass von Karl Marx, Friedrich Engels und Ferdinand Lassalle /
Hrsg. v. Mehring. Erster Band: Gesammelte Schriften von Marx und Engels von März 1841 bis
März 1844. Статья Энгельса «Die Lage Englands» (no «Past and Present» Карлейля), см. особенно
с. 477-48820*.
82
ное начало, не прихоть произвола, но объективный идеал. Этот идеал дает
религиозная вера, и Карлейль (вместе с Сен-Симоном) разделяет исторические эпохи на
творческие и критические или разрушительные, в соответствии подъему или упадку
веры. Дряблой морали гедонистического утилитаризма, унаследованной от XVIII
века, Карлейль противопоставлял проповедь сурового долга, не боящегося
страдания, если оно нравственно необходимо и целесообразно. Отношение к вопросу о
нравственном значении и ценности страдания есть вообще лучший критерий
глубины, серьезности и значительности морального учения, недаром так легко
расправляется с этим вопросом ходячая мудрость и, напротив, такую важность он
получает в учениях Канта, Карлейля, Толстого, Достоевского, Вл. Соловьева. В
изложении Стерлинга, однажды уже нами цитированном, читаем о мыслях
Карлейля по этому вопросу следующее:
«Тот, кто взвешивает должным образом положение мира, никогда не будет в
состоянии освободиться от чувства острой печали и тяжкого негодования. Но в
труде, ни перед чем не отступающем для достижения высоких целей, в мужестве и
простоте, в правдивости перед самим собой и перед людьми он найдет силу,
поддерживающую его. И он сохранит ненарушимой веру в добро даже здесь, среди сынов
человеческих, хотя и обливаясь кровью и в одежде печали. И если он будет тверд до
конца, то жизнь его пройдет достойно и хорошо, хотя и без вакхических триумфов».
Отсюда, однако, вовсе не следует, чтобы Карлейль был пессимистом. Напротив,
его мораль долга, не боящаяся страданий, как нельзя более противоречила
пессимизму, в особенности гедонистического оттенка. Миросозерцание Карлейля
является деятельно-оптимистическим. В самом деле, ведь жизнь для него есть служение
великому, абсолютному идеалу, служение Богу, мир полон священной тайны,
дыхания Божества, которое правит миром. Пусть служение этому идеалу есть
крестный, тернистый путь страданий, зато нет'сомнений в разумности его цели;
подобное мировоззрение следует признать оптимистическим в самом благородном смысле
слова, хотя оно и гонит прочь гедонистические мечтания. И именно поэтому он, а
не утилитаристы с их моралью удовольствия оказался истинным врагом
пессимизма в его гениальной поэтической форме, в какой он выступил в Англии, -
байронизма. Карлейль сильно содействовал развенчанию байронизма, он воспитал целые
поколения свободных от него людей, полных жизненной бодрости и энергии,
богатых жизнедеятельным оптимизмом, людей, убежденных в том, что «религия
требует героического служения», причем прохождение его невозможно без страданий.
Напротив, байронизм, острое отчаяние индивидуализма, есть прямое наследие и
вывод мировоззрения просветительства. Попытка возвести себя в абсолют,
отвергнув высшее, религиозное начало жизни, роковым образом должна была привести к
отчаянию, новый сверхчеловек скоро понял, что он представляет собой самозванца
и жалкую пародию, под гордой личиной скрывающую искривленные горем и
разочарованием черты. Эту внутреннюю противоречивость антирелигиозного
миросозерцания сильнее всего почувствовал Байрон, стоящий на рубеже двух столетий,
как гигантский вопросительный знак к мировоззрению просветительства. Что
Байрон выразил именно болезнь своего времени, явился его «героем» в карлейлевском
смысле слова, свидетельствует его безумный успех, хотя ему содействовал,
конечно, и его поэтический гений. Знаменательнее, чем Байрон, является байронизм, и
если Байрон есть титан, переживающий трагедию, то байронизм пародирует эту
трагедию, являясь продуктом душевной расслабленности. В настоящее время
кризисом позитивизма XIX века вызвано появление философа индивидуализма -
Ницше, и, подобно байронизму в начале XIX века, в начале XX века ницшеанство
становится модной эпидемией. И насколько значителен сам Ницше, настолько же пошла
пародия на него в ницшеанстве. Карлейль боролся именно с превращением человека
в человекобога или сверхчеловека, которое мы имеем в ницшеанстве и байронизме,
противопоставляя ему мировоззрение, подчиняющее человека высшему началу.
83
В связи с общим мировоззрением Карлейля стоит и столь парадоксальное на
первый взгляд учение его о почитании героев, развиваемое им в книге «Герои и
героическое в истории». Основная ее мысль выражена на первой же странице этой
книги в следующих словах.
«Всемирная история, история того, что человек совершил в этом мире, есть, по
моему разумению, в сущности, история великих людей, потрудившихся здесь, на
земле. Они, эти великие люди-, были вождями человечества, образователями,
образцами и, в широком смысле, творцами всего того, что вся масса людей вообще
стремилась осуществить, — чего она хотела достигнуть; все содеянное в мире
представляет, в сущности, внешний минеральный результат, практическую реализацию
и воплощение мыслей, принадлежавших великим людям, посланным в этом мир.
История этих последних составляет поистине душу всей мировой истории».
«История мира есть лишь биография великих людей».
Приведенные суждения, по-видимому, противоречат тому,.что ныне сообщается
всякому школьнику, и как будто опрокидывают все приобретения новейшей
историографии, возвращая ее к временам Цезаря, Фукидида, Геродота, а вместе с тем,
может быть, и оскорбляют современное демократическое чувство столь явным
духовным аристократизмом. Однако это впечатление на самом деле неверно.
Конечно, справедливо, что историк, который стремится нарисовать картину
исторического развития, дать, как говорится, «каузальное» объяснение того или
иного исторического факта в его происхождении и развитии, не будет руководиться
теорией Карлейля: он должен будет прежде всего приняться за основательное
изучение социально-экономического быта, политических условий, культурных
традиций. Все индивидуальное при этом объяснении он будет, стремиться погасить и
свести к общим причинам - это идеал «социологического» объяснения. Однако и
при этом объяснении добросовестный историк должен будет остановиться пред
некоторым неразложимым далее и, следовательно, индивидуальным остатком:
остаток этот создается своеобразием, неповторяющимися свойствами человеческой
личности. Такое своеобразие принадлежит, конечно, всякой человеческой
личности, но при обычных условиях оно невидимо невооруженному историческому
глазу, так что практически можно его игнорировать. Но это становится совершенно
уже невозможно относительно великих людей, которые своей индивидуальностью
оказывают большое или малое, но самостоятельное влияние на ход исторических
событий. Они являются в этом смысле как бы первичными элементами,
элементарными силами истории, наряду со стихийными факторами исторического развития,
и этого никоим образом не должна игнорировать (и не игнорирует) научная
историография. В этом смысле не опровергнуто и не может быть опровергнуто
положение, что, по крайней мере, великие люди (а на самом деле и все люди) являются не
только пассивным продуктом, но и творцами истории, и для хода ее далеко не
безразлично, что за личность стоит на том или другом историческом повороте или
перекрестке1. Это мы говорим не в'защиту теории Карлейля, а против ненаучных
стремлений нашего времени упростить историческую задачу, исключив из нее
личность как самостоятельную элементарную силу, и оставить только безличную
среду. Для оценки же карлейлевских взглядов не имеет значения эта поправка, ибо
его учение относится совершенно к другой плоскости мысли, нежели
«социологическое объяснение», и не совместимо с теориями, выдвигающими
одностороннее влияние среды. Учение Карлейля имеет в виду не причинное
объяснение, а культурно-исторические ценности и по-настоящему, в развернутом виде, оно
1 Это обстоятельство, в связи с совершенной невозможностью предусмотреть появление тех
или иных индивидуальностей в ту или иную минуту истории, служит в моих глазах лишним
аргументом, подтверждающим невозможность научных исторических предсказаний. Ср. в
сборнике «От марксизма к идеализму» статью «Основные проблемы теории прогресса».
84
гласит: культурно-исторические ценности, ради которых мы ценим историю,
создаются великими людьми, и в этом смысле можно сказать, что история как
ценность создается великими людьми. Речь идет у Карлейля не о «социологическом»
истолковании исторических событий, к которому он остается просто равнодушен, а
об их содержании и смысле, об их оценке. Поясним указанное различие примером.
Примем как исторически доказанное, что поэзия Пушкина явилась цветком,
выросшим на ядовитой почве крепостного права; на этой же почве вырастали и
совершенно иные злаки, как, напр<имер>, Салтычиха и другие изверги. Но даже тот,
кто берет Пушкина и Салтычиху за одну скобку с точки зрения «социологического»
объяснения, рассуждая о ценности и значении величайшего русского поэта и
величайшего русского изверга, должен признать, что высшее выражение свое
рассматриваемая эпоха имеет все-таки в Пушкине, который и является ее героем в карлейлев-
ском смысле слова. Герой для Карлейля есть тот, кто воплощает в себе высшие
способности человека и лучшие его стремления в данную эпоху, кто в наибольшей
степени приближается к идеалу, является служителем Бога. И поскольку они
воплощают идеал, им должно оказываться почитание, как дань уважения этому идеалу.
«Почитание героя - это трансцендентное удивление перед великим человеком... В
груди человека нет чувства более благородного, чем это удивление перед тем, кто выше
его... Не может человек более печальным образом засвидетельствовать свое собственное
ничтожество, как высказывая неверие в великого человека».
Почитание героев получает, таким образом, у Карлейля религиозный оттенок.
Этим определяются и границы этого почитания. Герой почитается только как
служитель идеала и поскольку он является таковым. Но:
«горе герою, если он обратит повиновение людей в орудие своих корыстных
целей; горе ему, если он отступит от необходимости принять мученический венец за
свои убеждения; горе ему, если он посмотрит на жизнь как на источник радостей
или на поле для своего возвышения! Настоящий герой всегда труженик... Его
высшее звание - слуга людей. Он первый рабочий на поденном труде своих
сограждан, первый мститель за неправду, первый восторженный ценитель всего благого.
Если герой - царь, то ему нет покоя, пока хоть один из подданых его голодает;
если он мыслитель - ему нет отдыха, пока хоть одна ложь считается неложью. Из
этого ясно, что деятельность его не терпит остановок, что он вечно стремится к
недостижимому идеалу. Если он раз уклонился от избранного пути, он уже
согрешил, если он раз поставил свое личное «я» превыше интересов общих, он уже не
герой, а служитель мрака».
Отсюда следует, между прочим, насколько далеко понятие героя в карлейлев-
ском смысле от новейшего понятия сверхчеловека: не может быть больше
противоположности, как между героем и байронизирующим сверхчеловеком или
сверхчеловечком (причем последнему грозит постоянная опасность выродиться в
сверхнахала). Здесь - одни обязанности, тяжелое и ответственное служение, смирение
перед идеалом и верховенство этого последнего, там - одни притязания,
самодовольство и самовлюбленность, эгоизм и нежелание знать ничего выше своей особы.
Понятие героя связано с религиозным мировоззрением, сверхчеловека - с
антирелигиозным.
Сказанным достаточно опровергнуто опасение, что карлейлевский культ героев
противоречит принципам демократизма. Истинный демократизм не только не
соединяется с культом посредственности, среднего или даже низшего уровня духовного
развития (это уже вырождение демократии в сторону демагогии и охлократии), но,
напротив, внутренне связан с почитанием героев в карлейлевском смысле.
Торжество истинной демократии устраняет все фальшивые ценности, суррогаты
героизма, какими является аристократическое происхождение, имущественный ценз и
под. Оно делает возможным оценку человека во имя его внутренних достоинств
как человека, а не как представителя того или иного общественного класса, притя-
85
зающего на почитание в силу внешнего факта принадлежности к нему. Культ
героев, аристократизм духа, основанный на свободном признании и уважении к
героическому служению, требует для полного своего осуществления именно господства
демократизма. Демократия не должна противоречить иерархизму.
Основная идея, лежащая в основе всего исторического мировоззрения Карлей-
ля, такова:
«Собственная, единственная и глубочайшая тема всемирной и человеческой
истории, которой подчинены все остальные, есть конфликт между верой и неверием.
Все эпохи, в которых господствует вера в какой бы то ни было форме, блестящи,
возвышают сердце и плодотворны для современников и потомства. Все эпохи,
напротив, в которых неверие в какой бы то ни было форме торжествует прискорбную
победу, исчезают перед потомством, потому что никто не захочет мучиться
познанием бесплодного».
Поэтому главной задачей своей деятельности Карлейль ставил именно
возрождение веры, веры в добро, в идеал, в добрые, героические стороны человеческой
натуры. Он стремился завоевать сердца своих современников, от духовной смерти
он спасал их для жизни. Жить действительной жизнью — самое серьезное дело в
этом мире, и к этому серьезному делу он учил и относиться серьезно. Поэтому он
смотрел всегда вперед и звал за собою, ожидая от будущего нового подъема
творческой мощи, не боясь титанических сил, вздымающих грудь исторического океана.
Вот величавый образ творчества исторической жизни, который он дает в
заключение «Истории Великой французской революции».
«Посмотрите на мировой феникс, в огне сгорающий и в огне возрождающийся.
Широко развернулись его парящие крылья, громогласна его предсмертная песнь:
громы сражений и рушащиеся грады. К небу бьет пламя его костра, все закрывая
собой: рождение и смерть мира».
Таким в огне сгорающим и возрождающимся фениксом представлялось Кар-
лейлю историческое человечество, и невольно кажется, будто только вчера
написаны эти пламенные строки...
II
В основе социального мировоззрения, опирающегося на более или менее
широкий и высокий идеал общественного развития, необходимо лежат истины
этического и, в последнем счете, религиозного порядка. Эти корни могут скрываться
глубоко под землей, лишь местами выходя на поверхность и обнажаясь от
прикрывающих их наслоений, но сущность дела от этого не меняется:
социально-политическое мировоззрение не существует без определенного идеала, идеал же этот
коренится в общем мировоззрении, законченную форму получающем лишь в религии. В
этом смысле можно прямо сказать, что только религия обосновывает политику и
социальное мировоззрение, питает ее подземные и надземные корни. Эта истина
чрезвычайно затемнена в современном сознании господствующим лженаучным
мировоззрением, которое хочет мир идеалов целиком растворить в объективном
причинном ходе событий, чуждом всего высокого и низкого, добра и зла, знающем
только железную механическую необходимость. И, однако, серьезное раздумье над
самыми первичными социальными понятиями приводит к убеждению, что все они
насквозь телеологичны, пронизаны непрерывающейся нитью идеала, того идеала,
которого нельзя получить только научным дистиллированием объективного хода
событий. Представление о человеке и человечестве, его идеальном призвании и
достоинстве, о нормах отношений между людьми, о ходе и смысле исторического
развития и его идеальном завершении — всему этому нельзя научиться от опытной
науки, да и нет нужды от нее этому научаться. Тренделенбург, один из критиков
86
Гегеля, обвинял его в том, что он в своей диалектике воспроизводит лишь заранее
известное из опыта, подобно фокуснику, вынимающему из шляпы только вещи, им
заранее туда положенные21*. Подобное обвинение было бы, несомненно,
справедливо относительно современных позитивных социологов разных направлений,
которые с хитрым видом открывают, как будто неожиданно для себя и помимо своей
воли, подчиняясь лишь силе вещей и объективным требованиям науки, идеалы, и
без того имевшиеся в душе у каждого и даже не подвергавшиеся серьезному
сомнению. Таким образом, одни обосновывают «научный социализм» как непроизвольный
результат классовой борьбы или «внутренней неизбежной диалектики» и затем
уверяют, что, согласно их научному открытию, социализм вовсе не есть идеал,
зарождающийся в душе человека во имя его исконных представлений о добре, ибо это -
«утопия», а он «есть наука»22* (Энгельс). Другие тот же самый результат получают
иным, менее ясным и отчетливым, менее, так сказать, решительным, но все же
научным способом: такова «субъективная социология»23*. Во всех этих случаях
применяется воистину «субъективный» метод, хотя бы он вслух выразительно отвергался,
ибо науке приписывается, наукой доказывается нечто такое, что сверхнаучно по
самому своему существу, что дано человеку и им осознано в своей очевидности ранее
социологического исследования, только и возникающего именно в ответ на
потребности нравственного сознания. В позитивной социологии происходит поэтому какой-то
преднамеренный самообман, вызываемый и поддерживаемый желанием остаться
научной во что бы то ни стало. Ставя общественной науке неверные, ненужные и не
принадлежащие ей задачи, на разрешение этих задач изощряют свое остроумие,
которое с большей пользой и успехом могло бы быть применено к разработке
действительно научных проблем. Подумайте только, сколько ума, таланта и остроумия было
затрачено на возведение теоретического здания «научного социализма» в целях
научного обоснования идеалов социализма, т. е. на заведомо неразрешимую и совершенно
мнимую задачу, которой не могло бы и возникнуть, если бы общее миросозерцание
не было сковано ошибочными требованиями лженаучности.
Естественной задачей «критики социологического разума»24* является поэтому
установить сверхнаучные элементы социального мировоззрения, в научном
обосновании не нуждающиеся и стоящие выше его, чтобы тем самым яснее
формулировать действительно научные задачи социологии. Ввиду этого важно установить, что
предпосылки социально-политического мировоззрения, то, что можно назвать его
a priori, даны или заданы общим религиозным или этическим мировоззрением.
Свет, который светит нам в жизни и благодаря которому мы становимся способны
различать добро и зло, правду и неправду общественной жизни, светит нам не
извне, не из завоеваний научного знания, а изнутри, из глубины нашего
нравственного существа, из тайников нашей совести. В основе всех общественных идеалов, а
следовательно, и общественной науки, лежат требования социальной совести,
которая не спрашивается у науки и не нуждается в научной санкции для своего суда.
А в голосе совести обнаруживается принадлежность человека иному, высшему
миру, который недоступен для науки, установляется прямая и непосредственная
связь с Высшим Началом жизни, для которой единственная адекватная форма
выражения есть религия, religio.
Итак, предпосылки религии и морали неустранимы и не должны быть
устраняемы из социального мировоззрения, и попытка их устранения вела и ведет к
напрасным усилиям и неизбежным противоречиям, в которые беспомощно
запутывается позитивная социология в погоне за призраком, разрешая задачи, чуждые ее
компетенции, вредящие прямому ее научному делу. Поэтому, хотя позитивная
социальная наука, в особенности политическая экономия, много и честно
поработала над разрешением действительно научных проблем социальной политики, но
ей не хватает фундамента, громадное, многочленное тело остается как бы без души.
В позитивной социологии мы видим яркий пример того, что Влад. Соловьев называл
87
отвлеченным началом25*. Позитивная социология заблуждается не в своей
положительной и действительно научной части, не в том, что она утверждает, но в том,
что она отрицает, именно в этом устранении сверхнаучных своих предпосылок.
Отвлекаясь от них, она попадает в целый лес неразрешимых проблем, которые и
загромождают ее положительное миросозерцание.
Для истинного социального мировоззрения, которое является в вышеразъяс-
ненном смысле идеал-реализмом, угрожает опасность выродиться не только в
отвлеченный реализм, только что нами охарактеризованный, но и в отвлеченный
идеализм или, точнее, в отвлеченный социальный морализм, представляющий
противоположный полюс отвлеченного реализма.
Конечно, всякое социальное делание во имя идеала есть нравственное деяние.
Однако определение того, в чем именно должно состоять нравственное деяние, для
того чтобы не только по субъективным мотивам, но и по объективному значению
оно могло послужить именно этому идеалу, а не чему-либо прямо
противоположному или отличному, есть дело нелегкое, требующее не только нравственной воли,
но и социального разума. Недостаточно того, чтобы хотеть делать добро, нужно
еще и уметь его делать, знать, что полезно и что нужно. Человеческое общество,
или человечество, не есть механическая сумма отдельных индивидов, из которых
каждый существует, а потому и действует совершенно самостоятельно. Подобное
атомизирование человечества одинаково недопустимо как с метафизической точки
зрения (чего мы не будем сейчас касаться), так и на основании очевидных и
бесспорных данных исторического опыта. Человечество в своей истории вырабатывает
весьма сложную общественную среду, которая хотя и подвергается постоянному
воздействию сознательных личностей, однако в своем целом представляется как
нечто пребывающее и до известной степени определяющее- личность. Человеческое
общество в каждый данный момент есть нечто гораздо большее, нежели только
совокупность личностей, в нем живущих, в нем воплощается вся предыдущая
история, кристаллизовавшаяся в нравах, учреждениях и фактических отношениях, и
этот поток истории через него продолжается в будущее. Существует социально-
историческая стихия, сверхличная среда, на которую и старается воздействовать
сознательное человечество. Достаточно указать на унаследованный нами
политический строй или же на достаточно выясненный в политической экономии
стихийный характер капиталистического производства.
Таким образом, объектом социального воздействия, руководимого религиозно-
нравственным идеалом, и является эта социальная среда, мораль нечувствительно
превращается в социальную политику и, естественно, должна искать опоры в
объективном научном анализе. Воздействие на сложную социальную среду
предполагает сложные, наукой выработанные методы, совершенно так же, как это имеет
место, напр<имер>, в медицине или технологии. Современный человек даже для
того, чтобы изготовить рубашку, отрешается от непосредственных действий,
ведущих прямо к цели, а предпринимает рад технических обходов, приводящих к цели
хотя и более длинным, но зато более верным и, главное, более успешным путем, -
а именно спускается под землю и добывает оттуда железо и каменный уголь, затем
строит фабрику, где делаются машины, затем новую фабрику, где эти машины ткут
полотно, и т. д. Подобных же обходов требует и социальная политика: и здесь,
вместо того чтобы непосредственной помощью или старинной милостыней поддерживать
нуждающееся население, а тем самым и не доплачивающего им фабриканта,
вырабатывается сложное законодательство в защиту труда, ведется пропаганда среди этих
рабочих, призывающая их к организации и т. д. Разобраться во всей этой сложности
и выработать целесообразные методы воздействия на социальную среду и помогает
систематизированный социальный опыт, или социальная наука.
Отсюда с необходимостью вытекает социальный релятивизм, или
относительность всех мер и всех рецептов, предлагаемых социальной наукой. Идеал,
руководящий направлением всей социальной политики, ее норма или критерий для раз-
88
личения и для оценки социального добра и зла, абсолютен по своему существу и
иным быть не может, но все средства социальной политики, все практические ее
меры относительны. Каждая имеет и хорошие, и дурные последствия, и в каждом
отдельном случае приходится делать учет и сравнительную оценку пользы и
выгоды, плюса и минуса, применять политическую арифметику. В этом смысле следует
бороться с абсолютизмом в социальной политике, т. е. с таким направлением,
которое ищет розы без шипов, требуя совершенства, недостижимого в человеческих
делах, и не желая считаться с неизбежной относительностью всяких средств, или
же считает себя уже нашедшим такие совершенные социальные средства по
рецептам, применимым всегда и везде. В том и другом случае мы имеем дело с
доктринерством, с безжизненным утопизмом1.
В Карлейле, так же как и в Толстом, со всей отчетливостью сказалась и сила, и
слабость социального морализма. Социальный моралист, вполне естественно,
оказывается силен не своей положительной программой, а своей критической,
обличительной деятельностью. Его сердце чутче вибрирует в ответ на всякую неправду,
его гнев легче воспламеняется, его негодование прямолинейнее и потому горячее,
нежели у того, кто смотрит на социальные явления не только взором судящей и
осуждающей совести, но и под углом исторической необходимости, в ком
абсолютная этическая оценка смешивается с относительной исторической. Вот почему
устами моралиста говорит общественная совесть и к голосу его прислушиваются все,
и если задача социального политика состоит в выработке мер, приложимых и
целесообразных в каждом определенном случае, то этим не устраняется миссия
пророка — «глаголом жечь сердца людей»26*. И в Карлейле есть та сила святого
недовольства, благородная непримиримость, которая дается только религиозным
энтузиазмом, - религиозный радикализм.
Положительное значение социального морализма исчерпывается, однако,
только этой критикой существующего; там, где он принимается за практические
проекты реформ, он свертывает свои крылья, опускаясь на землю, и производит тогда
странное и даже болезненное впечатление ползающего орла: он должен здесь
уступить свое место бескрылой по природе, зато твердо стоящей на своих ногах
социальной политике. Практическое социальное мировоззрение, или, если можно так
выразиться, программа Карлейля, как и Толстого, отличается несоответствием
отдельных своих элементов: крайний радикализм и социализм уживается здесь
рядом с практическим реакционерством или же с самой неожиданной отсебятиной,
каким-то чудачеством, и в конце концов получается гнетущее впечатление
неудовлетворенности и разочарования, порою кажется, что гора родила мышь.
Карлейль сам следующим образом описывал впечатление, которое производило
на публику его мировоззрение. Газетчики, которые веровали в непреложность
истин манчестерской политической экономии27*, сожалели, что он в этом отношении
неортодоксален. «Они в общем мне сочувствуют, - говорил Карлейль, - но
сожалеют, что я тори (за такового принимает его, между прочим, и Энгельс28*). Более
чудного тори еще не видано в новейшее время». Через несколько недель Карлейль
прибавляет: «Публика начинает открывать, что я - не тори, о нет, напротив, один
из самых убежденных, хотя и скрытых радикалов, которые в настоящее время
существуют на свете». К этому можно еще прибавить, что по некоторым сторонам
мировоззрения Карлейль может быть причислен и к социалистам, хотя и бесконечно
далек от социализма в целом. Наконец, в «Last day pamphlets» Карлейль
высказывает мнения, которые следует, не обинуясь, признать реакционными (его позиция,
напр<имер>, по вопросу об освобождении негров, по тюремному вопросу и др.).
Общую характеристику социального мировоззрения Карлейля подтвердим на
отдельных примерах, причем мы остановимся предпочтительно на положительных
сторонах этого мировоззрения.
1 Для всего предыдущего ср. статью «О социальном идеале» в сборнике «От марксизма к
идеализму».
89
Карлейль впервые вписал свое имя в социальную историю Европы памфлетом о
чартизме. Среди всеобщей тишины и оцепенения неожиданно загремел его
негодующий обличительный голос; он бросил в лицо лицемерному и трусливому
обществу горькую истину. Напомним в двух словах историческое положение вещей.
Под чартизмом разумеется движение английских рабочих масс, руководимое
вначале английскими радикалами, в целях достижения всеобщего избирательного
права. Движение это начинается вскоре после Reformbill^ лорда Грея 1832 года29*
и кончается в 1848 году, следовательно, с перерывами тянется около 15 лет.
Движение с самого начала приняло очень резкий и революционный характер, так что
правительство стало принимать запретительные и репрессивные меры. Тем не
менее оно все разрасталось. 15 июля 1839 года произошло настоящее сражение
между народной толпой, собравшейся на митинг, и полицией, 30 домов погибли в
пламени, пролилось много крови30*. Ходили проекты всеобщей забастовки, так наз.
«святого» месяца. Однако реакция восторжествовала, рабочий парламент
распустился, начались политические процессы. Буржуазное общество вздохнуло
свободно. Оно торжествовало победу над революционной гидрой. И вот в такую
историческую минуту появился памфлет Карлейля «Chartism», и смелое и правдивое слово
его, как Божий гром, загремело среди общего затишья. И оно было тем
значительней, что оно исходило вовсе не от чартиста, а от автора, относившегося к чартизму
совершенно независимо и критически, но тем более способного показать правду
чартизма, его справедливые внутренние основания. Памфлет о чартизме есть
вместе с тем и одна из значительнейших его социальных проповедей, и в нем уже
сказались основные особенности его социального мировоззрения, указанные выше.
В главе первой памфлета о чартизме Карлейль дает следующую характеристику
современного положения Англии («Condition — of England Question»):
«Весьма многие чувствуют, что положение и настроение рабочих классов
становится более угрожающим, нежели прежде... В такой исторический момент, когда
по улицам в экипажах везется «национальная петиция», когда она, окованная
железными обручами и несомая 4 людьми, представляется реформированной палате
общин и когда чартизм, имеющий до IV2 миллиона сторонников, ничего не
достигнув своей окованной железом петицией, берется за вилы и черепицы и
зажигает пожары, в такое время это всеобще распространенное чувство не может
считаться вполне неестественным».
Обращаясь к тем, которые уже торжествовали победу над чартизмом, Карлейль
говорит:
«Мы знаем по газетам, что чартизм уничтожен, что "реформированное
министерство" самым успешным образом подавило химеру чартизма. Так говорят
газеты, но - увы! - большинство их читателей знают, что подавлена только "химера"
чартизма, но не действительность. Нестройное и бессвязное воплощение чартизма,
которое получил он за последние месяцы и в котором стал заметен, подавлено.
Скорее даже оно рушилось и распалось в силу естественного закона тяготения, но
живой дух чартизма не подавлен. Чартизм означает озлобленное недовольство,
которое сделалось бешеным и безумным, а следовательно, ненормальное положение
и настроение рабочих классов Англии. Это лишь новое имя для того, что имело и
будет еще иметь много различных имен. Сущность чартизма имеет глубокие корни,
тягостна, широко распространена, порождена не вчера и не окончится сегодня или
завтра. Реформированное министерство и сельская полиция безопасности, новый
набор солдат, денежные выдачи для Бирмингама - все это хорошо или плохо, но
все это способно подавить лишь воплощение или "химеру", чартизма. Если
остается дух, то воспоследуют все новые и новые воплощения, более или менее безумные
химеры. Печальный факт остается именно тот, что нечто, известное под именем
чартизма, существовало и существует; сведется ли это на тайный заговор с
пистолетами, бутылками серной кислоты и фосфорными спичками или же выступит
90
открыто с пиками и факелами, во всяком случае, это остается в силе, пока не
будут испробованы совсем иные меры. Что значит эта ожесточенная ненависть
трудящихся классов? Откуда она проистекает и куда ведет? Сказать, что она безумна,
ужасна, воспламенительна, не значит дать ответ. Чем может помочь здесь
негодование, приговоры, и ссылки в Ботанибей?31* Факельные собрания чартистов,
восстания и пожары суть лишь многочисленные симптомы на поверхности, бесполезно
уничтожать симптомы, если болезнь остается незатронутой. Опухоли на
поверхности могут быть излечимы или неизлечимы, это имеет мало значения, пока очаг
заразы гноится внутри и отравляет источники жизни, он создает новые опухоли и
ищет новые выходы».
Таким образом, не присоединяясь к чартизму и даже имея глубокое недоверие
к реформе, основанной на «избирательных ящиках» и каких-либо парламентских
мерах, Карлейль обращается к совести нации, рабочего класса, который, как
скованный Энкелад, производит землетрясение, когда начинает шевелиться,
расправляя затекшие члены. Уже в этом памфлете Карлейль обрушивается с едкой
критикой на парламент, занимающийся всевозможными пустячными вопросами, кроме
одного, «который должен быть альфой и омегой всего».
«Стороннему наблюдателю кажется, что они забывают о своем долге. Разве не
является их миссией и прямым назначением говорить о благе нации? Или они суть
ходатаи за тот немой страдающий класс, который не может сам говорить, или они
представляют собой нечто такое, чего нельзя назвать в вежливых выражениях».
Английская литература не знает более резкой критики существующего строя
капиталистических отношений, нежели та, которую дает Карлейль. Он остался
непревзойден в этом ни одним из английских социалистов. Заслуживает
замечания, что то обличение капитализма, которое на немецком языке с наибольшей
силой произведено было в трехтомном научном трактате, посвященном «критике
политической экономии»32*, на английском языке получило форму социальной
проповеди религиозно-нравственного характера. Исходные точки зрения в том и
другом случае глубоко различны: тогда как Маркс видел в капитализме
исторически необходимый продукт неизбежной диалектики экономических отношений и
этими отношениями объяснял моральный мир капиталистического общества,
Карлейль в капитализме видел прежде всего «мамонизм»33*, нравственную болезнь.
«Я счел бы излишним, — говорит он, - призывать правительство к мерам
помощи, если бы думал, что мамонизм и вперед останется основным принципом
нашего существования». «Нужно сознаться, мы приходим к странным заключениям с
своим евангелием мамонизма. Мы говорим об обществе и открыто проповедуем
полнейшее разделение и изолированность. Наша жизнь не есть взаимная помощь;
скорее она, под прикрытием законов войны, называемой свободным
соперничеством и т. д., есть взаимная вражда. Мы совершенно забыли во всех отношениях, что
уплата наличностью не есть единственная форма отношений человеческих существ;
мы полагаем, нимало не сомневаюсь, что она разрешает и ликвидирует все
обязанности человека. "Мои голодающие рабочие? - отвечает богатый собственник
фабрики. - Разве я не нанимаю их честно на рынке? Разве я не плачу им до
последней копейки условленную сумму? Какое же мне еще может быть до них дело?"
Поистине, служение Мамоне есть печальная вера. Когда Каин в своих собственных
интересах убил Авеля и был спрошен о нем: "где брат твой?" - то он тотчас
ответил: «разве я сторож брату своему? Разве я не уплатил своему брату следующую
ему плату, то, что он заработал у меня?»34*
Товарная форма рабочей силы, пролетаризация непосредственных
производителей, есть центральный пункт и экономической критики Маркса, и этической
критики Карлейля, и поэтому особенно поучительно сравнивать трактование одних и
тех же вопросов у того и другого, причем одна критика может вовсе и не
исключать, а восполнять другую.
91
Соответственно общей точке зрения Карлейля, пауперизм, неизменный спутник
капитализма, есть также явление прежде всего нравственного порядка,
социальный грех. «Pauperism is our socialism grow manifest» (пауперизм есть наш
социальный грех, обнаружившийся вовне); этом положением проникнута вся его
социальная критика.
Общая характеристика социального строя дана была Карлейлем уже в
«Чартизме». В «Sartor Resartus» особая, глава посвящена полной едкой иронии и гневных
сарказмов характеристике «корпорации денди», или щеголей (кн. III, гл. X), и
«корпорации пур-слэвов» (бедняков), на которых распалось современное общество,
они сравниваются им с положительным и отрицательным полюсом электрической
батареи. Но самое важное значение в рассматриваемом отношении имеет сочинение
Карлейля «Past and Present» (Прошлое и настоящее), посвященное сравнительной
характеристике социально-экономического уклада средних веков и нового времени.
Основываясь на записках средневекового монаха, Карлейль рисует здесь
монастырский быт как полную противоположность «мамонизма»: насколько первый был
проникнут нравственно-религиозным началом общей солидарности, органических устоев
жизни, настолько дезорганизовано и лишено всякого нравственного начала наше
время. Первая часть носит характерное название «Мидас». Мифологическим образом
сребролюбивого царя характеризуется, конечно, капитализм с его богатствами и не
находящими сбыта товарами, на одной стороне, и с его пауперизмом — на другой.
«Для кого существует это богатство, богатство Англии? Кого оно благословляет,
кого делает оно счастливее, красивее, лучше, умнее? До сих пор никого. Наша
успешно развивающаяся индустрия не имеет до сих пор никаких результатов;
окруженный богатством, голодает народ; среди золотых стен и полных закромов
никто не чувствует себя довольным и безопасным. Мидас Жаждал золота и поносил
Олимп. Он получил золото, так что в него превращалось все, к чему он
прикасался, но это помогло мало ему с его длинными ушами». «Спуститесь в низшие
классы, куда хотите, в городе ли или в деревне, и через какой угодно канал, взявши
официальные исследования, имеющиеся по этому поводу, или просто открыв глаза
и осмотревшись вокруг себя. Всегда получится один и тот же печальный результат.
Именно придется признать, что рабочая часть богатой английской нации
опустилась или опускается до такого состояния, которое, если принять во внимание все
его стороны, еще никогда не имело себе равного».
«Я думаю, - читаем мы в другом месте, - что никогда еще с начала общества
судьба этих молчаливых миллионов тружеников не была так в общем невыносима,
как в дни, переживаемые нами теперь. Теперь человека делает несчастным не то,
что он умирает и даже умирает от голода — многие люди уже умерли, и все мы
должны умереть, - но то, что он живет в таком жалком состоянии неизвестно
почему. Тяжело работать и ничего не получать, быть удрученным сердцем,
утомленным, вдобавок еще одиноким, отчужденным, окруженным всеобщим холодным
laisser faire35*: это значит умирать в течение всей своей жизни, среди глухой,
мертвой, бесконечной несправедливости, как в проклятом железном брюхе быка
Фалариса!36* Это представляется и навсегда будет представляться невыносимым для
всех, созданных Богом. Удивляться ли Французской революции, чартизму,
трехдневным восстаниям? Времена наши прямо беспримерны».
Сравнивая «прошлое и настоящее», средневековый и новейший общественный
строй, Карлейль приходит к тому выводу, что средневековая организация труда,
основывавшаяся на известных личных патриархальных отношениях между
господином и крепостными, все же лучше теперешней, когда думают, что «уплатой
известного количества фунтов и шиллингов погашаются все обязательства
относительно рабочего».
«Гурт, урожденный крепостной Кедрика Саксонского37*, заслуживает
сожаления. Гурт, в металлическом ошейнике пасущий свиней Кедрика, конечно, не
представляет собой того, что я мог бы назвать образцом человеческого счастья. Но тем
92
не менее этот Гурт, который имеет над головой синее небо, вокруг себя свежий
воздух и кустарник и, по крайней мере, уверен в ужине и в общем жилище,
кажется мне счастливым по сравнению с многими рабочими из Ланкашира и Бук-
кингамшира в наше время, хотя они и не состоят прирожденными рабами кого бы
то ни было. Металлический ошейник Гурта нисколько не оскорблял его, потому
что Кедрик заслуживал быть его господином (?). Свиньи принадлежали Кедрику,
но и Гурт получал из них свою небольшую долю. Гурт испытывал невыразимое
удовлетворение чувствовать себя связанным с другими людьми, хотя бы и грубым
средством ошейника. Он имел поставленных над собой, равных себе и себе
подчиненных. Гурт давно "эмансипирован". Он обладает тем, что мы называем свободой.
Свобода, говорят мне, есть нечто божественное. Но свобода именно и не является
божественной, если она есть свобода умирать от голода».
Типические отношения между предпринимателем и рабочими Карлейль рисует
такими чертами:
«Хозяин лошадей, когда работа окончена, должен прокармливать своих
лошадей в течение зимы. Если бы он сказал своим лошадям: "Четвероногие, я не имею
больше работы для вас, но вообще работы существует в мире довольно. Разве вы
этого не знаете или нуждаетесь еще в политико-экономических лекциях на тему о
том, что паровая машина создает в конце концов больший, чем прежде, спрос на
рабочую силу? Железные дороги строятся в нашем полушарии, каналы
прорываются в другом, требуется много перевозки. Где-нибудь в Европе, Азии, Африке или
Америке вы, без сомнения, найдете спрос на труд перевозки. Идите и ищите себе
занятие, Бог с вами". Лошади, конечно, храпят и надувают губы, указывая этим,
что Европа, Азия, Африка и Америка лежат вне поля их зрения, что они точно не
знают, где именно может быть спрос на перевозку, они не могут найти себе
работы. Порознь блуждают они по проселочным дорогам, огражденным справа и слева
изгородями. Наконец, гонимые голодом, они перепрыгивают и пожирают чужую
собственность. Остальное известно. Ах, это вовсе не шутки, печальней слез
является, быть может, смех, вынуждаемый у человечества этим распространением laisser
faire на целый мир, как в Европе 1839 года».
Карлейль останавливается и на ирландском вопросе1, и на проповеди
мальтузианства, которой посвящает много едких замечаний (причем, конечно, он, как и
Толстой, совершецно игнорирует экономическую проблему населения), и на
вопросе о законодательстве о бедных и работных домах, вообще на разных попытках
разрешить социальный вопрос паллиативами, какими-либо волшебными
пилюлями. Он справедливо отвергает и осуждает все эти паллиативы, указывая, что есть
только одно средство коренной реформы - это именно организация труда.
«Что может сделать наше правительство относительно этой великой проблемы
рабочего класса в Англии? Действительно, допустим, что безумные хлебные
законы совершенно отменены и всякий разговор об этом окончен и на промежуток
времени от 10 до 20 лет нам дана возможность жить и находить заработок. Но чего
можно ждать от английского правительства, чтобы существование миллионов
рабочих сделалось несколько менее аномальным, несколько менее невозможным и в
те годы, которые последуют за этими 10 или 20, если только наступят и эти 10
или 20 лет? Это наиболее верный вопрос. Ибо все это — и отмена хлебных законов,
и то, что может за этим последовать, — только тени на солнечных часах царя Езе-
кии: тень отдалилась на 20 лет, но она снова, несмотря на отмену их и на свободу
торговли, возвратится тем же путем, на прежнее место. При теперешней нашей
системе индивидуального мамонизма и правительства, основанного на системе
laisser faire, эта нация не может существовать, и если в этот ничтожный
промежуток времени не будут найдены некоторые средства исцеления и новая жизнь, тогда
Ср. об этом в моей книге «Капитализм и земледелие», т. II, глава об Ирландии.
93
не будет уже дано новой отсрочки. Тень на солнечных часах пойдет вперед без
перерыва. Что же может сделать правительство? То, что называют «организацией
труда, есть правильно понятое, вопрос всего будущего для всех, кто хочет в этом
будущем управлять людьми. Но первый, предварительный шаг к разрешению: что
делать с современными миллионами рабочих в Англии? Вот повелительно-
настоятельная проблема нашего времени, давящая поистине страшной
интенсивностью и грозностью в эти года и дни».
Мы видим, что в критике капиталистического строя дальше Карлейля идти
некуда. Вполне справедливо также его мнение, что единственным спасением от зол
капитализма является только совершенное его устранение; дезорганизованность
труда, стихийные отношения вещного характера, установляемые капитализмом,
следует заменить планомерной организацией труда, общественным ведением
производства. То, что в настоящее время звучит азбучной истиной, на фоне
господствующей классической политической экономии Карлейлю далеко не
представлялось с такой принципиальной ясностью, и в этом отношении Карлейля следует
причислить к духовным отцам новейшего социализма.
Однако радикальные требования у Карлейля звучат слишком абстрактно, не
развертываются в программу социальной политики, не воплощаются в плоть и
кровь. И мало того, Карлейль сам умаляет значение своей точки зрения тем, что
становится спиной или боком к тем реальным историческим течениям, о которых
была речь уже выше. Проф. Шульце-Геверниц находит у Карлейля и практическую
программу, однако с тем же успехом ее можно найти и у Толстого; но на самом
деле она одинаково отсутствует и у того и у другого. Мы находим у Карлейля
стремление решать социально-экономический вопрос нового времени средствами,
заимствованными и применимыми к хозяйственному укладу средневековья; это
возможно только потому, что при этом приглядываются именно те специфические
трудности, для которых совершенно неприменимы старые приемы организации.
Подобным же образом на наших глазах Л. Н. Толстой все проблемы капитализма и
городской жизни, соответствующие определенной ступени хозяйственного развития
и, между прочим, связанные с определенной густотой населения, разрешает, сажая
всех на землю и возвращая к земледельческому труду. И то и другое не может
быть даже серьезно обсуждаемо в качестве социально-экономического рецепта, а
уж тем более панацеи.
Карлейль стремился применить свою теорию героического служения и к
экономической жизни в своем учении о руководящей роли духовной аристократии,
«капитанов труда», в организации производства. Этих вождей промышленности он очень
отличал от существующих представителей земельной аристократии и промышленной
буржуазии, на которых часто опускался его гневный сатирический бич.
Общественная проблема рассматривалась им в значительной мере как задача общественного
воспитания, неразрешимая вне применения духовного иерархизма, различения
вождей и рядовых. Платоновский идеал социал-аристократизма, господства мудрецов (и
вместе с тем праведников) был применен им к экономической жизни38*.
Плодотворность этой идеи далеко еще не в полной мере оценена современниками, хотя она и
находила себе сторонников, например в лице знаменитого Дж. Рёскина39*.
Карлейлю принадлежит великая заслуга формулировать социальный вопрос
как этический и, в последнем счете, религиозный вопрос. Он показал с полной
очевидностью, что за окружающее социальное зло несет нравственную
ответственность породившее его общество, оно есть его социальный грех. И раньше всякого
на него воздействия оно должно быть осознано как таковое. Он выражает собою
тип религиозного радикализма, связывая отрицание царящей неправды с
подлинными мистическими основами жизни и духа. И знакомство с духовным обликом
Карлейля в целях понимания этого типа в его силе, а вместе и в его слабости и
ограниченности сохраняет свою поучительность и для наших дней.
СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ИДЕАЛ И НОВЕЙШАЯ КУЛЬТУРА1
(По поводу книги Ге<й>нриха Эйкенй «История и система
средневекового мировоззрения»2)
В связи с обострением вопросов религиозного и философского сознания,
естественно, пробуждается интерес и к средним векам как эпохе напряженной и
страстной религиозной жизни. Удовлетворению этого интереса содействуют и успехи
исторической науки. «Только незнание средневековой старины допускало
возможность представления ее эпохой омертвения умственной деятельности и
безнадежного упадка культуры, - говорит в своем обстоятельном предисловии к книге Эйкена
проф. И. М. Гревс. - Средневековые люди одушевленно и мучительно мыслили,
страстно и упорно искали... Странным заблуждением было бы представлять их
всех невежественными людьми. Варваризация была лишь корой, которая тогда
покрыла Европу, да и то не сплошь». Проф. Гревс указывает на всю ошибочность
представлений о средних веках рационалистов XVIII века, как о времени
всеобщего жестокого варварства, поголовного мрачного невежества, полной остановки в
работе ума над теоретическими вопросами познания мира и практическими
запросами улучшения жизни». В устах поверхностного рационализма эпитет
«средневековый» звучит пренебрежительно и теперь. Нельзя не порадоваться, что русская
переводная литература обогатилась столь капитальным и обобщающим
исследованием об истории и системе средневекового мировоззрения, как объемистая книга
профессора Г. Эйкена3, в добросовестном переводе В. Н. Линда. Не много найдется
книг, которые прочтутся с таким захватывающим и почти неослабным интересом,
как сочинение проф. Эйкена4, ибо в нем идет речь о самых высших ценностях духа
и изображается грандиозная и оригинальная попытка исторического человечества
утвердить и осуществить в жизни эти ценности. Средние века отличаются
необыкновенной, исключительной серьезностью и страстностью жизни, ибо это была эпоха
1 Напечатано в «Русской мысли», 1907, I.
2 Пер. с нем. В. Н. Линда, со вступительной статьей профессора И. М. Гревса.
С.-Петербург, 1907. С. LX+729.
3 Счастливым совпадением можно считать, что одновременно появилось и новое издание
перевода классической книги Якова Бур к хард та о Возрождении, дальнейшем этапе духовной
истории человечества: Культура Италии в эпоху Возрождения. Т. 1-Й. СПб.: Изд. М. И. Пи-
рожкова, 1906.
4 Наша научная литература имеет ценную характеристику средних веков в статьях проф.
В. И. Герье. «Средневековое мировоззрение, его возникновение и идеал» (В<естник> Европы,
1891, I-IV)1*.
95
напряженной религиозности, а. всякая подлинно религиозная жизнь представляет
нечто единственное по сосредоточенности и значительности. А что же может
возбуждать к себе более захватывающий интерес, нежели искренняя и страстная
человеческая жизнь? Может быть, благодаря историческому расстоянию,
стирающему детали и мелочи и сохраняющему только возвышенное и грандиозное, средние
века невольно символизируются в величественном, устремленном к небу и в этом
каменном своем полете говорящем о вечности готическом храме, который стоит
теперь среди вокзалов, театров, ресторанов и других архитектурных сооружений
нашей многообразной и пестрой современности. Всякая серьезная и подлинная
религиозность непременно предполагает своеобразную исключительность, моноиде-
изм, который сторонние наблюдатели зовут «односторонностью». «Я есмь огнь поя-
дающий», - говорит о себе Иегова2*, и этим моноидеизмом — выгодно или
невыгодно, оценка зависит от мировоззрения, - в высшей степени отличаются средние
века, они опалены и обожжены этим пламенем поедающего религиозного огня.
Он имел одно виденье,
Непостижимое уму, -
гениально выразил Пушкин в своем стихотворении о Бедном Рыцаре эту черту3*, и
этот стих его так и просится эпиграфом к книге Эйкена. Напряженный идеализм,
жажда трансцендентного принесение ему, невидимому, благ эмпирических,
видимых, неослабный порыв души ввысь, неустанный духовный подвиг и мучительная
трагедия его неизбежной незавершенности — вот черты, которые заставляют нас
причислить средние века к героическим эпохам истории, хотя находится столько
же оснований относить их и к варварским. Они опаляют вас знойным, иногда
зловонным дыханием запекшихся аскетических уст, складка трагизма глубоко
врезалась на изможденном постом и взволнованном молитвой лице, образ этот может
быть тяжел и страшен, но он полон величия и ему совершенно чужды те мелкие и
обыденные чувства, которые расплодило современное мещанство.
Какое же виденье предносилось «бедному рыцарю», закованному в броню
крестоносного воина и облаченному поверх ее в монашескую рясу? Каков идеал
средних веков, ибо про эту эпоху, как далеко не про всякую, можно сказать, что она
имела свой идеал? Идеал этот универсален и грандиозен, он выношен был в душе
величайшего религиозного гения западной Церкви — блаж. Августина, — ciuitas
Dei4*, Царство Божие на земле, от мира сего. Зачатый еще античной древностью,
как государство мудрых — праведников, предносившийся вещему взору Платона5* и
воспринятый западной Церковью в момент крушения старого мира, он сделался
душой нового исторического строительства, нового собирания распылившегося
человечества. Средством же для осуществления его является папская теократия.
Покорить мир Христу, склонив его у престола папы, провозглашенного
наместником Христовым на земле, - вот программа и цель, воодушевлявшие лучших и
сильнейших людей того времени, а в числе их и наиболее замечательных
заместителей папского престола, и притом так, как не воодушевляют в наши дни даже и
мечты о социалистическом Zukunftstaat'e6*. Дело шло совсем не об одном только
честолюбии и властолюбии отдельных пап, но об универсальной исторической
идее, о целом мировоззрении.
Чтобы понять исторические особенности средних веков, нужно обратить внима- *
ние на основные черты средневековой религиозности, в частности религиозной
метафизики этой эпохи, на ее своеобразное понимание христианства,
сближающееся с мироотрицающей религией буддизма. Черта эта — аскетизм, не как путь и
средство, но как цель. Не освящение мира и плоти, но их возможное преодоление,
не обожение земли, но безземность, полное и принципиальное недоверие миру -
вот что отличает христианское мировоззрение средних веков. Оно было основано на
предпочтительном выделении только одной особенности христианства, имеющей
значение лишь в связи с целым, и на замене ею всего этого целого. Христианству с
96
его учением о реальности и объективности зла, в котором «лежит» мир7*,
несомненно свойственно отрицание языческой непосредственности, того детского, не
разложившегося еще в сознании доверия к «миру», какое отличает, например,
классического грека в раннюю эпоху его существования. Но в христианской
метафизике центральное место занимает учение, что мир спасен и плоть обожена
Христом, и потому господство зла только до времени и только отчасти, не
субстанциально по отношению к миру и плоти, а только функционально. Однако истины
христианства жизненно раскрываются только в продолжительном историческом
процессе (иначе к чему же история?), раскрываются, можно сказать с Гегелем,
диалектически. И в том историческом изломе, который испытало христианство на
повороте от древности к средневековью, сильнее всего должно было
почувствоваться именно принципиальное отрицание навсегда превзойденного язычества с его
представлением о существовании «идиллического мира между Богом, человеком и
природой».
«Природа для древнего грека была космосом, душою которого было божество...
Природа имела божественный, а божество естественный характер. В таком же
близком соотношении божество было и к человеку. Ни у одного народа границы
божественного и человеческого не сливались так, как у греков... Мир богов
греческого Олимпа представлялся в образах чувственной красоты. Чувственные аффекты
играли в нем ту же роль, что и в человеческом мире, только они действовали в
сфере совершенной красоты. В этом последнем смысле олимпийские боги были
нравственными идеалами для греков. Не отвлеченная святость, а вечная юность и
вечная красота были отличительными свойствами греческих божеств.
Нравственным принципом для грека было поэтому эстетически-прекрасное. Греческая
нравственность требовала гармонического, равномерного развития всех душевных
настроений и сдерживания всех чувств в границах порядка и меры... Противоречие
нравственного сознания с чувственной природой было неизвестно в юношеском
периоде классического времени Греции, потому что греки ставили себе задачей не
отрицание чувственности, а эстетическое ее облагорожение» (Эйкен, 19).
Потому идеал эллинской доблести и формулировался в почти непередаваемом
для нашего этического языка выражении «καλός καγαοός»8*. От этого безразличия
детской непосредственности и религиозного сна человечество должно было
пробудиться, и оно навсегда было пробуждено иудеохристианским учением о грехе и
искуплении. Неудивительно, что эту сторону, эту свою противоположность
язычеству, раньше всего и сильнее всего и почувствовало «историческое», т. е.
вовлекшееся в процесс исторического развития и созревания христианство, и первое
определение, которое оно приняло в истории, было - аскетическое. Аскетизмом
окрашивается все мировоззрение средневековья.
«Поэтому церковное учение нравственности основывалось не на различении
общеполезных и эгоистических стремлений, а на противопоставлении земных
интересов небесным. Противоположность добра и зла была сведена на. выставленную
христианской метафизикой противоположность между Богом и миром. Умеоший в
636 г. испанский епископ Исидор говорил: "Добро есть стремление к Богу, а зло —
стремление к земной выгоде и преходящей славе". Бернард Клервосский однажды
внушал страх Божий такими словами: "Забудь свой народ, родительский дом,
откажись от плотских наклонностей, забудь светские обычаи, удерживайся от своих
прежних пороков" и т. д. Екатерина Сиенская тоже ставила богатство и светский
почет на одну доску с религиозной чувственностью. "Мир, — говорила она, -
противен Богу, а Бог противен миру; тот и другой не имеют между собой ничего
общего. Сын Божий избрал себе бедность, низкое положение, осмеяние, голод и жажду,
а мир ищет богатства, почестей и наслаждения". Мир был "долиной слез", а жизнь
человеческая - странствованием в этой темной долине, наполненной тысячами
опасностей и ужасов, к полному света и мира духовному миру будущей жизни.
4 Зак. 487
97
Таким образом, жизнь души, в сущности, начиналась в тот момент, когда жизнь
тела оканчивалась. Смерть земного тела была освобождением души. Естественное
отношение между жизнью и смертью превращалось в обратное. Полнее всего это
мироотрицающее направление средних веков выразилось в сочинении "О презрении
к миру", написанном папой Иннокентием III в 1198 г., когда он был еще
кардиналом1. В нем говорится: "Мы умираем, пока живем, и лишь тогда перестаем
умирать, когда перестаем жить". Те, кто преодолевали страх смерти, со страстным
желанием ждали своего земного конца» (Эйкен, 279-280).
«Любовь (charitas) есть презрение к миру и любовь к Богу», - говорит цистер-
цианский9* аббат Огерий. «Любовь к Богу удаляет человека от мира, а любовь к
миру - от Бога».
Парадоксия средневекового аскетического мировоззрения заключается, по
мнению Эйкена, в том, что это мироотрицающее, безземное учение приводило к
стремлению овладеть этим осужденным миром и этой землей, как бы натурализоваться в
этом мире. Трансцендентная метафизика оказывалась связанной с клерикальным
позитивизмом римского престола и его властолюбивыми замыслами. Те, которые
не знали в этом мире никаких ценностей, отдавали всю свою энергию, чтобы
овладеть этим миром.
«Аскетизм и владычество церкви проникли в самую глубину жизни западных
народов. Их политическая и экономическая жизнь, наука и искусство, до
мельчайших подробностей повседневной жизни были равномерно определены этими
идеями церковного учения. Во всем строе средневековой жизни проходили эти две
черты: с одной стороны — страдальческая черта отречения от мира, с другой -
характерная, насильственная черта всемирного завоевания. Символ христианской
религии, крест, был в средние века таким же "знаком умерщвления плоти", как и
"победы над миром". Средневековье победило и покорило мир, одновременно
отрицая его. Умереть для мира значило то же, что жить для церкви... Во всех случаях,
когда, с одной стороны, отрицался мир, то, с другой стороны, утверждалась
церковь. Усиление аскетизма имело необходимым последствием соответствующее
усиление мирской власти церкви. То и другое - отрицание мира и всемирное
владычество церкви - были в средневековом мировоззрении однозначащими понятиями. В
полной выработке этих обоих взаимно обусловливаемых стремлений заключалась
оригинальность и сущность средневековой культуры. Только с этой точки зрения
одинакового значения аскетизма и всемирного владычества священства становится
понятным дух средневековой истории. В то время как идея всемирного
владычества церкви вводит все земные дела в круг ее деятельности, сама церковь
стремилась, с одной стороны, в силу своей трансцендентной метафизики, прочь от
земного мира с другой - в силу своего иерархического принципа снова возвращалась к
миру и его интересам» (Эйкен, 137).
Эйкен в своем сочинении дает совершенно удовлетворительное объяснение
кажущемуся противоречию между аскетизмом и стремлением к власти, в котором
иные усматривали непоследовательность или плод личного честолюбия и
властолюбия пап. «Мироотрицание и мировладычество имеют свой общий исходный пункт в
кресте Христовом». Причина этого заключается в стремлении средневековой
церкви насильственно спасти мир. Не зная никаких самостоятельных ценностей в
мире и считая, что единственным способом его спасения может служить его
обуздание и полная покорность церковной организации, т. е., собственно говоря, клиру
с папой во главе, эта последняя вступила в бой не на жизнь, а на смерть с
непокорным «миром»; отрицая всякую возможность, а следовательно, и задачу
просветления и освящения мира и плоти, церковь навалилась на них всей своей — тогда
1 Ср. очерк проф. В. И. Геръе: Торжество теократического начала на Западе (XII век). Папа
Иннокентий III (Вестн<ик> Европы, 1892, январь-февраль).
98
огромной - тяжестью, подавляла их насколько могла. Вполне и окончательно
подавить мир и дать торжество церкви и в средние века никогда не удавалось, и
постоянно шла глухая борьба непокорного мира и мироотрицающей, но в силу того и
мирообъемлющей церкви. Действительость представляла собой фактический
компромисс, определяющийся соотношением сил.
«Сопротивление, которое человеческая природа, связанная с условиями земной
жизни, оказывала сверхчувственно-миродержавной идее церкви, несмотря на ее
подавляющую логику, было не чем иным, как проявлением глубокого страдания
чувственности при совершаемом* над нею насилии. Эта глубоко отмеченная на
физиономии средних веков черта страдания, обусловленного мироотрицанием,
являлась в народной истории отражением образа умирающего на кресте Искупителя, в
Котором средние века видели идеальный образ человеческой жизни. Эта
характерная черта страдания - чувства, отрицаемого религиозной идеей церкви, -
превращала миродержавное средневековое царство Божие в картину страстей Господних»
(Эйкен, 306-307).
Духовный деспотизм церкви давил на средневековую жизнь, набрасывал
своеобразную церковно-аскетическую пелену на все ее области. Главное, с чем он не
мирился и не хотел мириться, с чем ожесточеннее всего боролся, это - столь нам
привычное разделение жизни на области церковную и светскую. Средневековая
церковь принципиально не хотела допустить ничего светского, т. е. ей чуждого
или ей непокорного. Как замечает Эйкен,
«религиозный дух средних веков безусловно отрицал всю светскую культуру,
ставя на ее место божественные установления церкви. По своей идее церковь не
была - как она утверждала, не сознавая собственных своих целей, - опорой
светского образования и государственного правового порядка, но скорее
принципиальной противницей их. Существование государства и семьи, светского искусства и
науки было обеспечено лишь настолько, насколько им удавалось оградить себя от
религиозной идеи церкви. Разрушение существующих светских учреждений и
восстановление общества по прообразу идеального царства Божия - такова основная
черта средневековой культуры, правильно повторяющаяся во всех областях.
Средневековая культура создала грандиозную, охватывающую все отношения систему,
основная мысль которой, христианская идея об искуплении, была последовательно
проведена даже в мельчайших событиях жизни человека. Из этой мысли были
выведены все отношения средневековья. Вся область культуры была превращена в
царство Божие на земле, в аллегорическое изображение царства небесного...
Церковь была положительной ценностью, обеспечивавшей мысленный образ
сверхчувственного мира. Идея царствия Божия означала не что иное, как всемирную власть
церкви. Таким образом, средневековье, с одной стороны стремясь отрешиться от
мира, с другой - постоянно к нему возвращалось. Отрицание мира было
равнозначаще с передачей церкви всей светской власти, и мировая власть церкви сделалась
центральным пунктом всей религиозной системы. Евангелие любви, со времени
возникновения церкви превратилось в учение о господстве и насилии... Идея
отрицания мира сама стала источником «обмирщения» церкви. Чем упорнее
религиозный дух старался бежать от мира, тем глубже ему приходилось погружаться в
мирскую суету. Отрицание мира - с одной стороны обусловливало равносильное
утверждение - с другой. Через посредство Евангелия нищеты церковь приобрела
неисчислимые богатства; своим отрицанием половой чувственности она превратила
религиозную метафизику в систему грубейших чувственных представлений;
Евангелие смирения помогло церкви сделаться величайшим и сильнейшим
государством своего времени. В этом внутреннем разложении сверхчувственного царства
Божия заключалось трагическое противоречие средневековой истории развития»
(Эйкен, с. 656-657).
4·
99
Идеал католической теократии основан на измене завету Христа. Она впала в
искушение, которое отвергнуто было Христом в пустыне, взяла меч для созидания
царствия Божия - не для каких-нибудь внешних, земных и преходящих целей, но
для водворения святости в людях. Насильственная святость, дилемма: послушание
церкви или костер, — таково было мировоззрение сильнейших людей этой эпохи,
дух которой так синтетически, с таким поразительным религиозным и
историческим ясновидением воспроизведен Достоевским в «Великом инквизиторе»10*. Про
Папу Григория VII, одного из величайших представителей средневековой
теократии1, его современник (Петр Дамиани) однажды употребил вещее, заставляющее
содрогнуться, выражение: «святой сатана». Святой сатана! Это одно из тех
лапидарных выражений, которые характеризуют целые эпохи: и святость, и сатанизм
одинаково свойственны средневековью. Характерно, что самые крупные люди
эпохи, ее «герои» (в карлейлевском смысле слова), принципиально стоят на точке
зрения этого «святого сатанинства».
О Григории VII читаем: «Он желал господства церкви, но не из личного
властолюбия, а из горячего рвения к божественной идее, выраженной в церкви и в его
служении. Не личный произвол, а логическое требование системы было путевод-
ною нитью его планов мирового господства». «Жизнь и учение его были в разладе
одна с другой», - говорит о Григории героическая поэма Роберта Вискарда. «Он
отличался во всех добродетелях и горел ревностью к Богу», - замечает Ламберт
фон Герсфельд. Эта ревность о Боге заставила его в 1073 году, когда он предвидел
несогласие с Генрихом IV, написать в письме к герцогу лотарингскому Годфриду-,
младшему слова пророка Иеремии: «Проклят человек, кто удерживает меч Его от
крови»11*. Затем он поверг христианские государства, и в особенности немецкую
империю, в бесконечные замешательства и опустошительные войны, чтобы на
развалинах мира водрузить крест и установить мир царства Божия». Подобный же тип
искренней преданности идее царства Божия путем власти церкви представляет и
Норберт, основатель ордена премонстрантов12*, и Бернард Клервосский, который
учил: «Быть убитым или убивать ради Христа не есть преступление, а напротив -
величайшая слава». «Смертью язычников прославляется христианин, потому что
ею прославляется Христос». Эта бессознательная хула на Христа в устах святого
средневековой церкви лучше всего характеризует ее мировоззрение. Цистерциан-
ский аббат Арно, руководивший истребительными альгибойскими войнами,
доносил папе Иннокентию III о взятии города Безье: «Наши не щадили ни пола, ни
звания: около 20 000 человек убили они мечом. Ужасное смятение произошло
между врагами; весь город разграблен и сожжен. Чудесным образом истребил его
карающий суд Божий». Монах Петр Во-Сернейский в том же духе описывал
события альбигойской войны: после взятия города Лавор в 1211 году солдаты
крестоносного войска «с чрезвычайной радостью сожгли бесчисленное количество
еретиков». При овладении другим укрепленным местом епископы, по крайней мере
сначала, сделали попытку обращения, так как крепость не была взята приступом, а
сдавалась на условия. Но так как эта попытка осталась без результата, то солдаты
бросились на еретиков и сожгли их «с необычайной радостью». Позднее, в
тридцатых годах XIII в., доминиканские монахи ходили по северогерманским странам и
проповедовали истребительную войну против стедингов, причем они истреблялись
так же, как и альбигойцы13*. Ужасным воплощением «святого сатаны» является
епископ Конрад Марбургский, настоящий тип «Великого инквизитора», павший от руки
убийц, после чего, по словам хроники, «люди вздохнули опять радостно и весело».
Указанная черта мировоззрения церкви, именно то, что она считала
совершенно соответствующим христианству давать ему мнимое торжество огнем и мечом,
1 Ср. о нем исследование проф. кн. Е. Н. Трубецкого: Религиозно-общественный идеал
западного христианства в XI веке. Идея Божеского царства в творениях Григория VII etc. Киев,
1897.
100
это присутствие в ней духа «Великого инквизитора», или «святого сатаны»,
приводили ее к неизбежному столкновению с государством. И действительно,
пререкания с ним из-за власти, споры о том, в чьих руках должен находиться меч,
наполняют средневековье, пока вопрос этот не получает окончательного и авторитетного
разрешения в булле Бонифация III от 1302 года, которая постановляет: «Оба меча
находятся во власти церкви, духовный и светский; один употребляется для церкви,
а другой - самой церковью; один, священством, другой королями и воинами, но по
воле и усмотрению священства». Вооружение церкви бронею, латами и мечом
сделалось, таким образом, догматом католической веры.
В своей борьбе с государством церковь стремится подорвать его
принципиальные основания, его унизить и дискредитировать. Любопытна эта аргументация,
складывающаяся в своеобразный иерократический анархизм, острие которого
обращено в сторону светского, безбожного, неосвященного государства. Каково право
государства на существование или, так как государство есть источник
положительного права, каково право права (ius iuris)? Религиозная метафизика средних веков
видела причину происхождения государства единственно в греховной природе
человека, ему не было места в блаженном первобытном состоянии.
«В силу греха один человек властвует над другим, по закону же Божию человек
имеет власть над рыбами морскими и птицами небесными», — заметил архиепископ
Миланский в приветствии, сказанном императору Фридриху I. Папа Григорий VII
происхождение государства выводил прямо от дьявола. «Кто не знает, — писал он
епископу Мецскому в 1081 году, - что короли и князья происходят от тех,
которые не знают Бога, а в слепой алчности и нестерпимой дерзости стремятся
повелевать себе подобными посредством высокомерия, насилия, вероломства, убийства,
вообще почти всевозможных преступлений, при содействии дьявола как князя
мира сего». Иннокентий IV в письме к императору высказался так относительно
происхождения государства: «Тиранию, беззаконную и непрочную власть, которая
ранее действовала повсюду в мире, Константин вложил в руки церкви и то, чем он
ранее обладал и пользовался несправедливо, получил теперь из настоящего
источника в виде почетного дара». По мнению Алвария Пелагия, «только нечестивые
люди устроили при начале мира мирское государство, почему до потопа первым
владыкой между людьми был Каин; после же потопа те, кто первыми получили мирское
управление, происходили из проклятого племени хамов» (Эйкен, с. 316-317). Таково
было отношение церкви к государству, не лучше оно было и к государям. Иоанн
Салисбюрийский называет светских князей слугами священства, «которые должны
исполнять часть священных обязанностей, недостойную того, чтобы к ней
приложены были руки священника». Умерший в 1137 году картузианский14* пророк
Гвицо Гренобльский писал: «Образ действий королей и князей таков, что они хотят
возвеличиться не чрез собственное улучшение, а чрез вред, наносимый другим
людям, и их унижение». Папа Иннокентий IV называл Фридриха II «драконом», а
прочих королей - «змеями».
Любопытно, что в средние века мы встречаем уже и теорию договорного
происхождения государства, имевшую такое революционное применение в XVIII веке.
Она применялась, чтобы лишний раз опорочить и дискредитировать государство.
«Знай, - говорил в 1158 году архиепископ миланский императору Фридриху I, -
что всякое право народа на законодательство передано тебе. Твоя воля есть право,
как сказано: quod principi placuit, legis habet vigorem15*, ибо народ перенес на него
все свое господство и всю свою власть. Из этого положения делались иногда такие
же выводы, как и в XVIII веке. «Не ясно ли, — спрашивал Мансгольд фон Лаутер-
бах, - что справедливо отнять возложенное звание и освободить народ от
подчинения тому, кто сам раньше нарушил договор, которым он был возведен в это
звание». Отсюда же делается и другой, более характеризующий эпоху вывод, именно
что «оба, и королевская власть и священство, как говорил Иннокентий IV, сущест-
101
вуют в народе Божьем, священство - по божескому призванию, а королевская
власть - по человеческому принуждению».
Исходя из такого представления о различной природе церкви и государства,
представители церкви стремились последовательно провести разграничение этих
сфер. Вопрос об отделении церкви от государства ставился и в средние века, но
получал практическое разрешение во внешнем подчинении государства власти
церкви в лице папы.
Григорий VII неоднократно заявлял, ссылаясь на свидетельство древней
церкви, что «свобода» церкви является целью его стремлений. Однако «во имя этой
свободы оправдывались все вторжения церкви в сферу светских властей. Ради
"свободы церкви" Иннокентий IV предписал низложение Фридриха II и назначение
нового короля и, наконец, проповедал крестовый поход против Штауфенов. Даже
жестокие преследования еретиков должны были служить для восстановления
"церковной свободы", как объяснял папа Григорий IX в буллах, изданных в 1233 и
1239 годах» (Эйкен, с. 331).
Церковь стремилась к тому, чтобы изъять из сферы влияния неуважаемого,
даже презираемого государства не только церковные дела, но и все вообще задачи,
кроме внутренней и внешней защиты. Теория государства-будочника, которую
высмеивал и опровергал Ф. Лассаль в своей полемике с прусскими либералами,
также зародилась в средние века.
«Все идеальные культурные задачи, наука и искусство и способствующие их
изучению школы были всецело переданы в руки церкви. Затем государство было
устранено от всей области благотворительности, от попечения о бедных и больных,
так как предполагалось, что дела милосердной любви прежде всего касаются
церкви. Точно так же отнесены были к ведению церкви все те отделы гражданского и
уголовного права, которые так или иначе, прямо или косвенно, затрагивали
интересы будущей жизни. Во всяком случае, церковь имела или, по крайней мере,
предъявляла право на юрисдикцию в делах об опеке и завещаниях, в спорах о
десятине и патронате, ее суду подлежали дела о таких преступлениях, как
богохульство, святотатство, нарушение святости брака и т. п. Призыв на военную службу и
ведение войны, монетная регалия, взимание податей и пошлин, ограниченное
верховное право суда и полицейская власть составляли все содержание средневекового
государства» (Эйкен, с. 328).
Принизив государство в его функциях, церковь хотела удержать за собой
верховный суверенитет над ним и, сообразно своим потребностям, возводить на трон
или сводить с него императоров, отнимать первенствующее положение у одной
нации и передавать другой. Власть папы, всякая, в том числе и земная, была, как
учила «Естественная теология» Раймунда Сабундского, «беспредельна, безгранична
и безмерна». Естественно, государство не могло без боя подчиниться безмерности
этих притязаний. Тяжба между церковной организацией и государственной из-за
прерогатив ведется на протяжении всей средневековой, да и новейшей истории, и
последние акты ее разыгрываются на наших глазах в форме окончательного
отделения церкви от государства во Франции. Клерикализация государства в средние
века с необходимостью уступает место лаицизации16* его в новое время. Но и до
сих пор живы еще в Риме и связанных с ним странах средневековые
представления о принадлежности обоих мечей церковной власти и не умерли еще мечты о
реставрации порядка, над которым история навсегда сделала уже неизгладимую
надпись: мене, текел, фарес17*.
Аскетизм накладывает свою печать и на хозяйственную деятельность средних
веков, и на отношение церкви к материальной культуре. В отношении к
материальной культуре была усвоена точка зрения религиозной педагогики, притом, что
самое здесь характерное, в ее исключительно индивидуалистической постановке, в
которую совершенно не вмещалась проблема роли материальной культуры и роста
102
народного богатства как необходимого условия развития всемирной истории (а
следовательно, и наступления царства Божия). Экономические вопросы
рассматривались только в связи с личной моральной тренировкой. Благодаря своему
морализму церковь вносила большую принципиальную строгость в оценку
экономических отношений. Так, например, за много веков до всякой социалистической
критики капитала церковь была непримиримой противницей процента на капитал и
боролась с ним законодательным путем1, а также принципиально отрицала
частную собственность и накопление богатств в частных руках (даже формула Прудо-
на18* была почти дословно высказана Гейстербахом в его гомилиях: «Всякий
богатый есть или вор или наследник вора»). Вообще в темную и чаще всего вненравст-
венную или даже безнравственную область экономических отношений церковь
вносит нравственное начало, проповедуя воздержание, умеренность, человеколюбие.
Но в то же время вследствие того же морализма, напоминающего здесь
толстовство, церковь являлась силой не только консервативной, но и реакционной; стремясь
удержать на вечные времена примитивный натурально-хозяйственный строй и не
открывая возможности экономическому прогрессу, стихийно необходимому, она
обрекала себя тем самым на то, что эта стихия прорвется вопреки ее воле и вне ее
влияния. Индивидуалистический аскетизм недостаточен для установления <строя>,
охватывающего принципиальное отношение к народному хозяйству, которое
представляет собой процесс общественный, имеющий свои сверхиндивидуальные законы
и тем самым налагающий свою печать и на индивидуальную мораль и деятельность2.
Аскетическое отрицание мира и самостоятельной ценности его интересов
выражалось и в отношении церкви ко всей духовной культуре, т. е. к науке,
искусству. Все это признавалось и допускалось лишь постольку, поскольку получало
освящение церкви, находилось в ее ограде, отвечало тем или иным нуждам церкви.
К духовной культуре существовало только утилитарное отношение, как к средству
для целей церкви, но не как к самостоятельной ценности. Эта область, которую
покорить было в своем роде еще труднее, чем государство, казалась внушающей
наиболее подозрений и опасений. Существовала целая культура, сложившаяся вне
всякого влияния церкви и потом ей чуждая, это - античный мир. И античной
культуре была объявлена война, она была взята под запрет, приобщение к ней
допускалось тоже только по тем же утилитарным соображениям, поскольку оттуда
можно было заимствовать апологетическое орудие. Фома Аквинский называл
стремление к познанию вещей грехом, поскольку оно не имело в виду конечной цели
всякого познания, т. е. познания Бога. Роджер Бэкон утверждал, что наука, которая
не имела связи с христианским вероучением, «вела к адском мраку» (Эйкен, с. 524).
Политика церкви, направленная к осуществлению этих требований, приводила к
настоящему обскурантизму, например, ряд соборов воспрещает духовенству
изучение юриспруденции и медицины. Философии, естественно, отводилась только
служебная роль при богословии. Историческая наука тоже служила этой задаче.
Любопытно отметить, что величайшая идея XIX века - идея эволюции и даже прогресса -
усвоена была средневековой историографией (еще от Августина).
«Средневековая историография смотрела на божие государство римской церкви
как на цель человеческого развития, в которой история всех народов находила свое
единство. В последовательности народов во времени оно видело постоянное
приближение к этой всеобщей цели. Таким образом, историческая наука, рассматривая
судьбы народов с точки зрения христианского государства божия, усвоила себе
1 Историю канонического законодательства о проценте на русском языке см. у Эшли:
Экономическая история Англии в связи с теорией.
2 Как показывает Э. Трёлъч в новейшем исследовании «Die Soziallehren der christlichen
Kirchen» (Arch. f. Sozialw. 1908-1910), характеристика средневековой культуры и хозяйства у
Эйкена сделана односторонне и сильно «стилизована», так что не может быть принята без
весьма существенных оговорок.
103
понятие развития. Изложение прогрессивного развития государства божия
представляло собой средневековую философию истории»19* (Эйкен, с. 569).
Аналогично было влияние церкви и на лирическую и драматическую поэзию и
в области изобразительных искусств.
В частности, в архитектуре аскетическое мировоззрение отразилось, наряду с
пренебрежением к устройству частных жилищ, в создании храмов, этих вечных
памятников средневекового благочестия, остающихся непревзойденными по
напряженности вдохновения и в новое время со всей его строительной техникой.
«Отрицание материальных условий в стиле и технике было руководящей идеей
строительного искусства. Своими пространственными пропорциями и своей
системой оно достигло того, что казалось, будто оно победоносно преодолело земную
тяжеловесность материи. Тот же стремящийся освободиться от всех земных
условий дух, который проявляется в стиле, выступает и в технике. Готическое
искусство распоряжалось своим материалом таким способом, который совершенно
противен природе этого материала: филигранная работа башен, пронизанные
отверстиями стены галерей и тонкая работа оконных колонок скорее соответствовали бы
природе дерева или металла, чем грубого каменного материала» (Эйкен, с. 647).
Вся средневековая церковь есть этот порыв лететь вверх, превратив камень и
свинец в легкие крылья, но их тяжесть давит к земле и противится гордому
замыслу20*. И в этом трагедия, серьезная, глубокая, непоправимая, кладущая свою
печать на эту эпоху. Она была обречена на внутреннюю борьбу с обмирщением,
обессиливавшим ее зиждущую энергию, и на внешнюю борьбу с бунтующей плотью·
и материей, которая, как придавленная спираль или сжатый пар, развивала
противодействие тем большее, чем больше было давление. Поэтому «мир,
представлявший собой аллегорическое изображение иерархического царства Божия, оставался
недоконченным произведением возвышенного стиля». Вместе с тем в истории
назрел идейный протест и отрицание самой теократической идеи. Теократическому
идеалу, принудительной церковности противопоставлен был идеал свободной
личности и свободной религиозной совести. Гуманизм и реформация открывают новую
эпоху, в которой мы живем. Новое время можно понять именно как реакцию
против средних веков, как бунт против их духовного деспотизма и насилия, как
антитезис к тезису, которые, по Гегелю, рефлектируют друг на друга. Средние века
отрицали самостоятельную ценность и самобытность культуры и не умели
определить своего отношения к античной, языческой древности, ко всей вообще
дохристианской и внехристианской культуре иначе как голым отрицанием их,
античность оставалась запретным плодом. И вот первое проявление реакции против
средневекового мировоззрения есть реставрация античности; открытие
классической древности, восстановление универсальной, единой, общечеловеческой
традиции есть первое историческое дело эпохи гуманизма. Средние века относились с
нескрываемым презрением и принципиальным отрицанием к правам и
потребностям человеческой личности как таковой, к натуральному человеку. Они знали
только целое - церковь и членов этой церкви, сведенных на роль послушных ее
орудий. Реакция против средневекового мировоззрения должна была сломать это
железное кольцо универсализма, давившее личность, и провозгласить права
личности, права натурального человека, который в церкви вовсе не преображался, а
только подавлялся. Это было вторым и главным делом гуманизма. Как замечает
признанный историк итальянского ренессанса Яков Буркхарт, в эпоху гуманизма
родился современный человек и, следовательно, зародился современный
индивидуализм. Мне кажется вообще, что, по существу дела, гуманизмом должна
называться не только одна определенная эпоха — ренессанс, но вся новая история, ибо
это название, в противоположность средневековому теократизму, лучше всего
выражает ее историческую сущность, ее задачи и ее односторонность.
104
Русский историк гуманизма, покойный профессор М. С. Корелин, указывает
следующие черты, характеризующие гуманистический индивидуализм: «во-первых,
интерес человека к себе самому, к своему внутреннему миру; во-вторых, интерес во
внешнем мире преимущественно к другому человеку; в-т&етьих, убеждение в
высоком достоинстве человеческой природы вообще и в неотъемлемом праве человека
развивать свои способности и удовлетворять свои потребности; в-четвертых,
интерес к окружающей действительности, поскольку она имеет влияние на человека»1.
Гуманизм и возрождение явились фактическим протестом и отрицанием
средневекового аскетического теократизма. Поскольку, однако, религия оставалась
живой исторической силой и церковь сохраняла свой религиозный авторитет,
требовалось еще и религиозное оправдание совершившегося факта, и религиозный
протест против учения и практики церкви. Эту религиозную оболочку требований
гуманистического индивидуализма дала реформация, которая, с одной стороны,
притязаниям церковного универсализма противопоставила права верующей,
религиозной личности, находящие обоснование в догматическом учении об оправдании
верой и в критике церковного учения о таинствах и иерархии. С другой стороны,
реформация религиозно оправдывала ту секуляризацию культуры, которая
началась уже в гуманистическом движении. Реформация не только отвергала
метафизику аскетизма, но и вообще низводила роль церкви, которую считала простым
обществом верующих, до положения одного из многих институтов или факторов
исторической жизни, принципиально отрицая самую задачу церкви охватить в себе
все стороны жизни и тем пролагая путь уединенному пиетизму21*, соединенному с
общим обмирщением жизни. Эйкен совершенно справедливо указывает на это
значение реформации.
«Аскетическая церковная мораль, которая выводила из греховного начала
государство, брак, собственность и прибыль, была побеждена (?) реформаторским
учением об оправдании. Последнее не ставило религиозные верования и заботу о
спасении души в противоречие с мирскими делами, как римская церковь, но смотрела
на них как на настоящую практическую область действия веры. Учение
реформации признавало государство за непосредственное божественное установление, а не
такое, которое обусловлено посредничеством церкви... Реформатор смотрел на
экономический труд не как на учреждение, нужное только ввиду греховности
человеческой природы и препятствующее состоянию христианского совершенства, но как
на условие, совершенно необходимое для установления права человека на
существование. Религиозное назидание и земная деятельность были для него неразрывно
связанными задачами человека...
Поэтому реформация отделила от церкви всю область гражданского порядка
жизни, государство, семью и хозяйственную политику, согласно с их правовой
природой и предоставила их собственному направлению. Апология аугсбургского
исповедания22* высказалась по этому вопросу в следующих словах: "Весь этот
пункт о различии царства Христова и царства гражданского с пользой истолкован
в сочинениях наших писателей в том смысле, что царство Христово духовно, т. е.
дает в сердце начало познания Бога, страха Божия и веры, вечной справедливости
и вечной жизни, тогда как во внешней жизни оно предоставляет нам пользоваться
существующим у разных народов законным и государственным порядком, под
действием которого мы живем, точно так же, как предоставляет нам пользоваться
врачебным искусством, строительным искусством, едой, питьем и удовольствиями"
(Libri Symbolici ecclesiae Lutheranae). Следовательно, реформация распространяла
круг своего действия столько же на государство, семью, хозяйственные занятия,
сколько и на религиозные верования. Лютер был реформатором первых не менее,
чем и последних» (Эйкен, 709, 713-714).
1 Ранний итальянский гуманизм и его историография: Критическое исследование Михаила
Корелина. М., 1892. Т. II. С. 1061.
105
Реформация признала церковь лишь одной из многих сторон человеческой
жизни, гуманизм же в крайних его проявлениях, особенно в новейшее время, не
прочь и вовсе ее устранить с исторической арены. И вот величественный, к небу
стремящийся собор, в средние века господствовавший над лепившимися кругом его
бедными, жалкими и ничтожными постройками, начинает в течение новой истории
обстраиваться новыми и чуждыми сооружениями, которые обступают его, все более
теснят, иногда закрывают от глаз и фактически превращают его из единственного
лишь в одно из многих зданий города, согласно идеям реформации, притом иногда
запечатанное и нефункционирующее (как в эпоху великой французской
революции), уже согласно стремлениям объязычевшегося гуманизма. Средневековый
собор, не видевший себе соперника и представлявший собой не только дом молитвы,
но и зал собраний, театр (мистерий), суд, академию, обступили теперь дворцы
светских государей, музеи с коллекциями статуй языческой древности и новейших
произведений искусства, театры, университеты, фабрики, биржи труда, уже
закладывающиеся будущие социалистические фаланстеры. В числе других
«достопримечательностей» туристы осматривают и соборы. В этой перемене внешней картины
города символически отразился весь огромный переворот, происшедший в сознании
исторического человечества в течение нового времени. Истинными духовными
зодчими нового времени, без сомнения, были боровшиеся со средневековой церковью
гуманисты и реформаторы с Лютером во главе, и новейшая история только
развивает и воплощает их идеалы. Из зерна, брошенного ими, разрослось
многоветвистое дерево...
Средние века и новое время настолько противоположны и вместе с тем
настолько схожи между собой, как вогнутость и выпуклость одного и того же
рельефа, рассматриваемого с обеих сторон. Средние века утверждали только
божественное начало в жизни, которая, однако, как процесс богочеловеческий должна
твориться свободным взаимодействием божественного и человеческого начала;
стремясь во имя этого божественного начала задавить человеческое начало и его
свободу, они впадали в святой сатанизм, в хулу на Духа Святого (ибо «где дух Господен,
там свобода»23*). Напротив, новое время в своей односторонней реакции против
средневековья склонно и совсем позабыть о божественном начале, всецело
поглощенное развитием чистой человечности, оно стоит на границе безбожия,
практически неудержимо переходящего в языческое многобожие, натурализм и
идолопоклонство (ибо религиозная природа не терпит пустоты, и в этом смысле можно
повторить многозначное и загадочное выражение, которое древность приписывала
Фалесу Милетскому: πάντα πλήρα θεών24*, ибо, откуда удаляется дух Божий, туда
являются злые духи). Средневековье признавало безземное небо и только
мирилось, как с неизбежным злом, с землей; новое время знает главным образом землю
и только для частного, личного употребления, как бы по праздникам в храме,
вспоминает небо. Средневековье высшими идеалами выставляло монашеское
послушание, зрак добровольного раба во имя креста Христова, новое время написало
на знамени человеческую свободу и ее утверждение в истории, свободное
творчество культуры, для которого нет границ или законов, кроме самого человека.
Средневековая церковь хотела быть всем, отрицая и подавляя это все, хотела быть
положительным всеединством, сдерживая в то же время множественность. Поэтому она
фактически становилась единством пустоты, дурным, формальным единством -
единящего без единимого, ибо положительное единство может установляться
только свободным единением, истинной соборностью25*, но не насильственной
дисциплиной клерикализма. Напротив, новый гуманистический век есть
множественность без единства, положительное все, находящееся еще в процессе своего
устроения, - плюрализм, который не может остаться окончательным, но должен быть
сведенным к единству в мысли, чувстве, познании, жизни, — индивидуализм,
который жаждет победить разлагающее, атомизирующее свое влияние, пробуя раз-
106
ныё формы внешнего единения, лживого подобия истинной соборности, но пока
безуспешно. Ибо все-таки истинная, единственно возможная соборность,
действительное преодоление, а не одно отрицание индивидуализма, достижимо лишь в
церкви, которой только и принадлежит поэтому по праву наименование единой и
соборной, но не в государстве, не в экономическом союзе. Смысл этой
исторической эпохи поэтому может быть выражен следующими словами Вл. Соловьева,
сказанными им в предисловии к «Критике отвлеченных начал»26*: «Велика истина
и превозмогает!27* Всеединая премудрость божественная может сказать всем
ложным началам, которые суть все ее порождения, но в раздоре своем стали врагами
ее, - она может сказать им с полной уверенностью: "Идите прямо путями вашими,
доколе не увидите пропасть перед собой; тогда отречетесь от раздора своего и все
вернетесь обогащенные опытом и сознанием в общее вам отечество, где для каждого
из вас есть престол и венец, ибо в дому Отца Моего обителей много"»28*.
Большинство наших современников высокомерно относятся к средневековью,
как к пережитому и отжитому, внутренне преодоленному прошлому. Так смотрит и
Эйкен, который в новом времени видит окончательный синтез, следовательно,
примирение ставившихся в истории противоречий путем внутреннего их
преодоления, последнее, заключительное - не в смысле хронологии, но в смысле полноты и
внутренней законченности - слово истории. Такого отношения мы никоим образом
не можем разделять: средние века остаются осужденной и пережитой, но вовсе не
изжитой и не преодоленной эпохой истории, а «новое время» отнюдь не есть это
последнее слово исторического развития, ибо неполнота его, или его
ограниченность и условность, уже ясна для нас. Мало того, эта историческая эпоха вполне*
соотносительна эпохе средних веков и не может быть правильно понята вне этого
соотношения, вне взаимного рефлектирования тезиса и антитезиса, как мы
выразились выше. Это сознание выяснившейся относительности и внутренней
ограниченности нашей исторической эпохи "вовсе не предполагает еще ее фактической,
хронологической законченности, наступающей только по достижении полной
исторической зрелости. Путь гуманистической культуры как «отвлеченного начала» (в
смысле Вл. Соловьева29*) должен быть пройден до конца, и ее соблазны изжиты
полностью. Нужно достраивать это здание, хотя и понимая уже, что это не высшая
форма, не последнее слово архитектуры, но, в известном смысле, лишь
исторические леса, частью же материал для окончательного строительства. В историческом
развитии каждое звено диалектической цепи представляется равно необходимым.
Поэтому можно работать очередную историческую работу, сознавая уже всю
ограниченность этих исторических задач и прозревая возможность чего-то совершенно
иного, не только количественно, но и качественно нового.
Гуманистическая эпоха истории человечества инстинктивно чувствует эту свою
главную слабость - непобежденную множественность, неустроенность своего
космоса, и она пытается освободиться от нее, установить тоже нечто вроде
гуманистической теократии. Это стремление совершенно явственно выразилось в религии
человечества, которую проповедовали в XIX веке Л. Фейербах1 и О. Конт, у
последнего культ религии человечества принимает даже и внешнее обличье
католицизма30*. «Человечество» является обожествляемым макрокосмосом для нового
человека, и он хватается за это подобие церкви с инстинктивной жадностью, лишь
бы освободиться от гнетущего и иначе не устранимого одиночества и отъединения.
Потому религия человекобожия и делает такие успехи именно в XIX веке как
наиболее поздней и зрелой эпохе гуманистической культуры. Эта религия принимает
разные формы и в новейшее время чаще всего соединяется с социалистическими
теориями прогресса. Наибольшее сходство с церковным объединением, наиболее
обманчивый суррогат и подобие церкви находят в современном социалистическом
Ср. выше очерк о Фейербахе.
107
католицизме, который тоже, подобно средневековому католицизму, притязает,
хотя и с гораздо меньшим правом и успехом, всесторонне определять жизнь своих
адептов и создавать свою особую культуру. Однако эмпирическое человечество, как
оно существует в истории в ряду сменяющихся поколений, вовсе еще не образует
того реального единства, которое ему приписывается в религиях человекобожия,
оно существует как целое только в абстракции. Кроме того, всякая попытка
превратить его в божество ведет к неустранимым противоречиям и просто абсурдам.
Не лучше обстоит дело и с микрокосмосом, с человеческой личностью.
Гуманистическая эпоха отличается крайним развитием индивидуализма, она освобождает
личность и ее особенно лелеет. Но, утрачивая единство человечества, она
утрачивает и абсолютное ядро личности, которая низводится на степень эмпирического
факта, простого узелка в цепи причинности. Попытка возвеличить натурального
человека вне его отношения к Божеству, превратить его в человекобога
сталкивается, с одной стороны, с фактом несомненного присутствия в нем и человекозверя,
который разнуздывается этим самовозвеличением, а с другой - с опасностью
превращения человеческой личности уже не в человекобога, а просто в бога (или
самобога), в «сверхчеловека» Ницше или «Единственного» Макса Штирнера, не
признающего уже сочеловеков. Маятник новейшего индивидуализма неизбежно
колеблется поэтому между низменной бестиальностью или филистерской пошлостью, на
одной стороне, и манией величия, разрешающейся в конце концов в вопль
исторического бессилия — на другой. Одну из важнейших причин к тому следует видеть и
в том, что век индивидуализма, культа личности, в конце концов, не имеет бес-'
спорного идеала личности, а только жаждет его. Средневековый, церковный идеал
святости, в значительной мере аскетической, вообще отвергнут или утерян.
Античный идеал «калокагатии»31*, который пытаются иногда сознательно или
бессознательно реставрировать, навсегда уже пережило человечество, которое не может
вычеркнуть из своей истории ни средних веков, ни их вотума недоверия миру.
Непосредственность и наивность32* античного мира утрачены навсегда. Попытки
подделки под эллинизм производят такое же впечатление, как яркие румяна,
наложенные на стареющее лицо. Кризис гуманистического индивидуализма, сознание
его беспочвенности, должен наступить рано или поздно, по мере того как делаются
попытки нащупать твердую почву, и он уже наступил или наступает.
В новое время исключительное значение получила также идея государства,
наблюдается, по-видимому, частичное возрождение его античного апофеоза.
Государство представляет собою как будто единственную осязательную форму
общечеловеческого единства. Отсюда понятен соблазн поставить знак равенства между
человеческим микрокосмом и государством, в этот соблазн впал, напр<имер>, основной
вероучитель гуманистического социализма Л. Фейербах. Вообще современный
социализм, в сущности, проводит еще дальше, чем все другие учения, идею
спасительности именно государственного единения людей, ибо ставит государству новые
сложные задачи хозяйственного характера и ждет от государственного
регулирования производства и экономической жизни, водворения гармонии и мира, вообще
действительного объединения человечества. Однако в современном обществе зреет
уже кризис и государственности. Все громче заявляется сомнение и в самом праве
государства на существование, т. е. на применение системы того организованного
принуждения, которым государство необходимо является, а равно и в способности
государства к разрешению предуказуемых для него задач. Новейшим
анархическим движением знаменуется кризис идеи государственного единения людей и
насильственного их спасения путем государства; если идеал насильственного
спасения был отвергнут даже тогда, когда выставлялся от имени церкви, в обличье
«святого сатанизма», то тем более трудно утвердить его теперь, когда он опирается
лишь на фактическое самоутверждение Левиафана33*, если уже без всякого ореола
святости, лишь обосновывающийся соображениями практической утилитарности.
108
Отличительной чертой всей гуманистической культуры является ее духовная
раздробленность; правда, в этой множественности выражается ее богатство и
полнота, но вместе и незавершенность. Средние века выставляли одну общую и
единую святыню, которую хотели запечатлеть на всех отраслях культуры; новое время
такой общей святыни не имеет, оно знает много «ценностей», но это суть ценности
лишь для специалистов или для специальных областей, которые между собой
связи не имеют и могут даже впадать в противоречия между собою.
Церковь в средние века усыновляла вполне принципиальное отношение, на-
пр<имер>, к хозяйственной жизни, определяемое применением к этой области
церковно-аскетического идеала. Экономическая жизнь нового времени или
подчинена господству натуральных инстинктов? или же признает лишь свои,
специальные, отнюдь не бесспорные этические нормы, из которых главная: умножай
богатство. Но так как богатство может получать в качестве средства совершенно
различное употребление и потому может служить не только крыльями, но и путами
для человеческого духа, то на почве его развивается, наряду с истинной культурой,
и уродливое, разъедающее мещанство или же отвратительный, язычествующий
гедонизм34*. (Я называю его язычествующим в противоположность языческому,
ибо, как замечено выше, искреннее, простодушное язычество теперь невозможно.)
В области духовной культуры наблюдается та же множественность или тот же
разброд. Наука превращается в науки, в отдельные специальности35*, все более
отчуждающиеся друг от друга1. В философии и искусстве существуют также лишь
взаимно отрицающие и друг друга уничтожающие направления. Однако нельзя не
думать, что дифференциация и разрозненность эти могут быть здесь только
временными и преходящими явлениями. Человеческий дух слишком жаждет
единства, чтобы легко мириться со своей собственной разорванностью, и идеал науки и
философии — цельное знание, как и идеал искусства — цельное творчество,
художественное преображение мира и жизни, не померкнут в душе человека,
просвещаемой единящим Логосом37*, а могут только разве временно затмиться. Пока же
все эти разрозненные начала идут путями своими и должны пройти врозь свой
самостоятельный путь до конца.
Итак, мы не можем признать гуманистическую культуру за высший продукт
истории, за ее зрелый плод. Мы подразумеваем при этом не количественную
степень ее развития — конечно, она может еще далеко прогрессировать, — но
качественную недостаточность самых ее оснований, ее внерелигиозность, а потому
разрозненность и беспочвенность. Ее смутное стремление к единству есть стремление
к утверждению религиозного, божественного начала в жизни, которое было
отвергнуто вместе со средневековой теократией. В ней, в этой теократии, была
отвергнута не только ложная и насильственная историческая форма, но и
содержащаяся в ней, хотя бы в намеке, глубокая истина, именно что религия, серьезно
понятая и искренно принятая, не может и не должна мириться с ролью лишь
одной из сторон жизни, где-нибудь в уголке38*, куда отводит ее покладистый
протестантизм, с положением приживалки цивилизации, нет, она неизбежно должна
стремиться охватить все, вместить и освятить всю жизнь. И формально средние
века были правы в постановке этой задачи, которую они пытались решать, к
сожалению, негодными и противоречащими ей средствами, чем и вызвали против себя
реакцию гуманизма, торжество свободного и несправедливо угнетенного ими
человеческого начала. Полной истины в одинаковой степени нет ни в средневековом
теократизме, ни в новейшем безрелигиозном гуманизме. Зрелым плодом истории
можно признать только свободное торжество божественного начала в свободном
человеческом творчестве, как это и вытекает из богочеловеческого характера исто-
1 Ср. наш очерк «Под знаменем университета» (Вопр<осы> фил<ософии> и
психол<огии>, 1906, V)36*.
109
рического процесса. Религиозная общественность, религиозная культура, внутреннее
единство в проявленной множественности - вот тот плод, который зреет в истории,
хотя, может быть, окончательное его созревание лежит уже вне ее пределов, под
«новым небом» и на «новой земле»39*. Для христианского мировоззрения иной
философии истории быть не может.
Развертывающийся перед нами процесс истории обосновывает и проясняет
наши чаяния новой, религиозной общности, жажда которой начинает уже томить
людей. Эти новые предчувствия не могут еще оформиться и вылиться в
конкретные образы, ибо все же мы - дети этой истории, этой культуры, этой
общественности, этой государственности,· но уже рвемся к иной жизни, к иному, неизмеримо
более тесному, интимному и богатому общению с людьми в религиозной жизни.
Этот «синтез» средних веков и нового времени, примирение как бы непримиримого,
даст только грядущее возрождение церкви, в котором и разрешатся противоречия
истории. Возрожденная церковь явит в себе не только «церковь-храм, но и
церковь-человечество, церковь-культуру, церковь-общественность»1. То
обстоятельство, что подобные предчувствия и алкания начинают уже волновать людей, есть
явный знак, что гуманистическая эпоха если уже не приблизилась, то
приближается к своей полной зрелости.
Вся человеческая история выражает одну творческую мысль, подчинена одному
плану40*, представляет живое целое. Эту отвлеченную истину, всегда признаваемую
умом, сравнительно редко приходится переживать в непосредственном чувстве. Но
за книгой Эйкена мне живо почувствовалось, как близки к нам и эти средние века,
и вся седая древность, которая стоит позади них, насколько и мы со своими
стремлениями и наши будущие заместители на исторической сцене одно со всеми
предыдущими поколениями, как близки нам и греки, и эти сумрачные фигуры
средневековья, и брызжущие радостью гуманисты. И находить себя в этом реальном
единстве истории, ощущать себя его живой клеткой, атомом богочеловеческого тела
было мне так радостно, и в душе невольно поднимался прибой бодрых чувств и
возвышающих надежд.
1907
1 Ср. ниже очерк «Церковь и культура».
НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЕЛИГИОЗНАЯ ЛИЧНОСТЬ1
(Посвящается памяти Ивана Федоровича Токмакова)
Политическая экономия в настоящее время принадлежит к наукам, не
помнящим своего духовного родства. Ее начало затеривается в зыбучих песках
философии просветительства XVIII века. У ее колыбели стоят, с одной стороны,
представители естественно-правовых учений с их верой в неповрежденность человеческой
природы и предустановленную естественную гармонию, а с другой стороны,
проповедники утилитаризма1* - И. Бентам и его ученики, исходящие из представления
об обществе как о совокупности .разрозненных атомов, взаимно отталкивающихся
представителей различных интересов. Общество здесь рассматривается как
механизм этих интересов, социальная философия превращается в «политическую
арифметику», о создании которой мечтал Бентам. Политическая экономия усвоила от
него абстрактное, одностороннее, упрощенное представление о человеке, которое и
до сих пор в значительной степени царит в ней. Таким образом, сложилась, между
прочим, предпосылка классической политической экономии об «экономическом
человеке»2* (economic man), который не ест, не спит, а все считает интересы,
стремясь к наибольшей выгоде с наименьшими издержками; это - счетная линейка, с
математической правильностью реагирующая на внешний механизм распределения
и производства, который управляется своими собственными железными законами.
Уже Ад. Смит в основу своего исследования положил условно методологическое
различение альтруистических и эгоистических инстинктов человека, причем
влияние одних он исследовал в «Теории нравственных чувств» по ведомству морали,
влияние же других в «Богатстве народов» по ведомству политической экономии.
Последняя и начала, таким образом, с дробной величины вместо целого. Но в
дальнейшем условно методологический характер и этого различения был позабыт
продолжателями Смита. Классическая политическая экономия в лице Рикардо
приняла, как догмат, учение Бентама. Таким образом, сложилось мировоззрение,
получившее в истории наименование манчестерства3*. Живая психологическая
личность была здесь вычеркнута и заменена методологической предпосылкой:
«экономическим человеком», общество превращалось как бы в мешок атомов,
которым только не следует мешать в их взаимном движении, причем эти атомы
остаются взаимно непроницаемы. Социализм хотя составил как бы антитезис и к
классической школе политической экономии и к манчестерству, но в основах своих
он только продолжает духовную традицию Бентама в лице Роберта Оуэна в Анг-
1 Из доклада в Московском религиозно-философоском обществе 8 марта 1909 года.
Напечатано в «Московском еженедельнике» (1909. № 23-24).
Ш
лии, Лассаля и особенно Маркса в Германии вообще в наиболее распространенной
форме материалистических концепций социализма4*. Он в такой же мере
механизирует общество и устраняет живую человеческую личность и неразрывно
связанную с нею идею личной ответственности, творческой воли, как и манчестерство.
Вспомним для иллюстрации хотя бы учение Р. Оуэна о том, что человеческий
характер образуется всецело из внешних обстоятельств, и потому нет личной
ответственности и свободы, причем, исходя из этого фаталистического представления, в
явном противоречии с собою, практически он все-таки считал возможным
призывать людей к общественным реформам, обращался к их совести, к их свободе.
Сходное представление о личности положено в основу и экономического
материализма, и теми же противоречиями страдает и опирающийся на него социализм.
Поскольку социализм духовно остается здесь на почве манчестерства, он есть то же
манчестерство навыворот, или контр-манчестерство, с той разницей, что вместо
уединенного индивида, здесь ставится общественный класс, т. е. совокупность
личностей с общим интересом, — тот же экономический человек, но не
индивидуальный, а групповой, классовый1. Экономические категории суть как бы маски,
закрывающие живое лицо, или котурны греческой трагедии. Они превращают
людей как бы в персонажи средневековой moralité5*, всецело олицетворяющие только
отдельные качества. Дается лишь геометрический чертеж человеческих
отношений, набрасываются только самые общие контуры и силуэты. Примером этой
своеобразной стилизации может послужить нам хотя бы характеристика капиталистов
как представителей стремления к накоплению, которую мы находим у Маркса:
«Капиталист лишь настолько имеет историческое значение и историческое право
существования, насколько он олицетворяет капитал; но поскольку он олицетворяет
капитал... стимулом его деятельности служат не потребительные ценности и
пользование ими, а ценности меновые и умножение их. Как фанатик созидания новых
ценностей, он, не обращая ни на что внимания, побуждает человечество к производству ради
производства, следовательно, к развитию общественных производительных сил и
созиданию материальных условий производства... В этом смысле он разделяет с
собирателем сокровищ страсть к обогащению ради обогащения, ради увеличения стоимости. Но
то, что у одного является манией индивидуальной, у другого является результатом
действия механизма, одно из колес которого он представляет собой... При начале
капиталистического способа производства единственные страсти — это стремление к
обогащению и скупость... На известной высоте развития, условная степень
расточительности, служащая в то же время средством выказать богатство, а следовательно, полезная
для получения кредита, становится деловой необходимостью для капиталиста... Но в
основании ее скрывается грязное скряжничество и заботливый расчет... Накопляйте,
накопляйте! Вот Моисей и пророки! Накопление ради накопления, производство ради
производства»2.
Подобные же маски надеты и на лица рабочих, превращенных в отвлеченных
«пролетариев всех стран» без различия и воодушевляемых, в стилизованном
изображении, только лютой ненавистью к капиталу. Вспомните то классическое место
«Капитала», где изображается последняя сцена капиталистической драмы и где
действуют словно какие-то железные маски.
«Вместе с постоянно уменьшающимся числом магнатов капитала, которые
похищают и монополизируют все выгоды этого процесса превращения, возрастает бедность,
гнет, порабощение, унижение, эксплуатация, но увеличивается вместе с тем и
возмущение рабочего класса, который цостоянно возрастает и постоянно обучается,
объединяется, организуется самим механизмом капиталистического процесса производства.
1 Когда-то я делал это же сопоставление еще в марксистском освещении в очерке
«Классическая школа и историко-этическое направление в политической экономии» (Новое Слово. 1897, IX).
2 Капитал. Т. I, 516-517 (по старому переводу)6*.
112
Монополия капитала становится помехой того способа производства, который развился
вместе с ней и под ее влиянием. Сосредоточение средств производства и
обобществление труда достигает такой степени, что они не могут далее выносить свою
капиталистическую оболочку. Она разрывается. Бьет час капиталистической частной
собственности. Экспроприирующих экспроприируют»7*.
Кто из марксистов не знал наизусть эти лапидарные строки и не повторял их с
бьющимся сердцем! И между тем нигде так далеко не заведена бентамовская
стилизация, упрощение действительной жизни, при котором стираются все ее краски,
как именно здесь.
Вообще говоря, подобный прием политической экономии и правилен, и
неправилен: он правилен и допустим как методологическая условность, как прием
искусственного упрощения в целях исследования. Политическая экономия делает
здесь то, что делает и всякая наука: для того, чтобы узнать нечто, забывает обо
всем остальном, действует, как теперь выражаются, «прагматически». Ошибка
начинается только тогда, когда забывается вся условность этого приема и когда
«прагматическая» стилизация принимается за подлинную действительность, и
вместо живых людей, подставляются эти методологические призраки. Этим отчасти
объясняется то преобладание своеобразного экономизма, которое отравляет
духовную атмосферу XIX века. Между «экономическим человеком» - условностью
политической экономии и человеком вообще ставится знак равенства, а то, что не
вмещается в намеченную рамку, или урезается или насильственно в нее втискивается;
конечно, при этом безжалостно истребляется все индивидуальное и конкретное,
противящееся этому. Однако никогда не нужно забывать, что политическая
экономия есть историческая наука, т. е. наука об историческом и, следовательно, о
конкретном, и то, что «теоретическая» экономия позволяет себе лишь в целях
упрощения, отнюдь не соответствует живой исторической действительности, точнее -
соответствует ей только отчасти. В действительности «экономический человек»
политической экономии есть одна лишь, хотя и очень важная сторона жизни
человеческой личности, проявлений деятельного «я». Народное хозяйство есть
результат индивидуальной деятельности личностей, а развитие производительных сил
есть творчество народа в хозяйственном отношении, до известной степени есть
тоже феномен его духовной жизни. Ад. Смит допустил однажды несчастное
разграничение производительного и непроизводительного труда, назвав
производительным (в экономическом смысле) труд, выражающийся непосредственно в
материальных благах, в «вещах», а непроизводительным — всякий иной труд8*; он провел
этим, хотя тоже лишь методологическим, различием глубокую и совершенно
незаконную межу, разделяющую экономическую и духовную деятельность, и это
разграничение, несмотря на всю свою условность, до сих пор смущает экономическую
мысль, и без того страдающую чрезмерным механизированием хозяйства. Конечно,
нельзя отрицать, что хозяйство есть и механизм, и особенно современное народное
и мировое хозяйство, но вместе с тем оно не есть и никогда не может быть только
механизмом, как и личность не есть только счетная линейка интересов, а живое
творческое начало. Исходя из одного представления о механизме, нельзя даже
понять до конца хозяйственную жизнь, вне личной инициативы, вне творческого к
ней отношения, вне различных волевых импульсов, - одной рутиной, или одним
своекорыстным интересом невозможно даже поддержание экономического status
quo, а тем более невозможен хозяйственный прогресс, необходимый хотя бы в силу
постоянно совершающегося прироста населения —. с угрозой Мальтуса9*.
Человеческая личность есть самостоятельный «фактор» хозяйства: в одних отраслях труда
это яснее, как, например, в сельском хозяйстве, в других — менее очевидно, как в
индустрии, но это факт. Хозяйство есть взаимодействие свободы, творческой
инициативы личности и механизма, железной необходимости, есть борьба личности с
113
механизмом природы и общественных форм в целях их приспособления к
потребностям человеческого духа. Одним словом, хозяйство ведет хозяин. Здесь мы
подходим уже к теме настоящего очерка. В душе человека сочетаются различные
мотивы, как своекорыстные, так и идеальные, и политическая экономия никоим
образом не должна вычеркивать из круга своего внимания мотивы второго рода.
При определении этого рода мотивов должны учитываться и идеальные ценности, в
частности и такие факторы, как общее мировоззрение, как религия. Религия как
фактор экономического развития, поскольку она есть фактор в образовании
личности, вводится таким образом в круг изучения экономической жизни. Зависимость
экономической жизни от факторов порядка религиозного до последнего времени
изучен весьма недостаточно, благодаря господству экономизма в науке. Можно
сказать, что внимание к этим вопросам в науке только пробуждается в последнее
время. Для историка хозяйственного быта и экономических идей, а не в меньшей
мере и для религиозного философа, тема эта представляется весьма заманчивой.
Особый мир представляет, с этой точки зрения, история стран, охваченных
буддизмом, с его задерживающим и угнетающим влиянием на все стороны жизни и, в
частности, на хозяйственную деятельность человека. Поэтому вопрос о связи
хозяйственного застоя и кастового устройства стран Востока с буддизмом есть тема
для совершенно особого исследования. Подобным же образом отношение античного
мира к хозяйственному труду, насколько оно определялось общим религиозно-
философским отношением к миру, наряду с социальными причинами, также
должно представлять предмет высокого научного интереса. Новое, европейское,
отношение к хозяйственному труду вносится в историю христианством, и в этом смысле
именно в нем потенциально зарождается и народное хозяйство и наука о народном
хозяйстве. Дальнейший перелом, в этом развитии в западном христианстве
вносится реформацией, и современное исследование давно уже стремится понять и учесть
значение этого перелома. Наконец, и господствующее настроение нового времени, с
его экономическим материализмом и механическим мировоззрением, также есть
фактор хозяйственной жизни, влияющий на ее характер. Стержень нашего вопроса
мы ощутим, остановив внимание на различной мотивации человеческого труда.
Хозяйственный труд может выполняться исключительно под давлением
необходимости, как труд в «поте лица» для пропитания; но этим только редко
исчерпывается отношение человека к своему труду. Труд есть не только подневольная тягота,
но включает в себя в большинстве случаев и известный этический элемент: он
может рассматриваться и как исполнение религиозных или нравственных
обязанностей. В связи с религиозными представлениями труд, хотя и в «поте лица»,
отпечатлевается, например, в сознании русского крестьянства, как особое религиозное
делание (насколько можно об этом судить по разным исследованиям, между
прочим и по тому собранию сельскохозяйственных поговорок и примет, выражающих
мировоззрение нашего крестьянства, которое мы находим в четырехтомном труде
Ермолова10*). Религиозно-нравственное отношение к труду вообще свойственно
эпохам с преобладанием религиозного мировоззрения. Труд входит при этом в
систему общей аскетики. Аскетизм в практическом своем значении есть отношение к
миру, связанное с признанием высших, надмирных, трансцендентных ценностей,
причем отдельные оценки устанавливаются здесь в отношении к этим ценностям.
Оно выводит за пределы непосредственной, имманентной данности этого мира. Но
именно в силу этого своего как бы мироотрицания, оно может быть, а при
известной степени напряженности даже неизбежно оказывается побеждающим мир, как
и всякое, впрочем, глубокое идеалистическое воодушевление. Справедливо
замечает современный немецкий ученый:
«Аскетизм сам по себе есть не одно только умерщвление плоти и дуалистическая
созерцательность, но и положительная работа на пользу целого, средство в служении
114
Corpus Christianum и, при возбуждении (Entfesselung) религиозного чувства, вместе с
тем эмоциональное эстетическое просветление мира. Такой аскетизм не препятствовал
и не мог воспрепятствовать выработке культуры»1.
Аскетизмом отличается так называемое «средневековое» и «монашеское»
мировоззрение. Наиболее выразительную формулировку в своем отношении к
хозяйственному труду получает аскетизм в монастырской практике как западного, так и
восточного христианства: труд рассматривается здесь вообще как средство
аскетических упражнений, как послушание, значение и ценность которого, по крайней
мере отчасти, лежит вне самого процесса труда.
Приведем несколько примеров. Св. Бенедикт называл праздность «врагом души», и
«поэтому вы должны в определенное время заниматься ручной работой». Папа
Григорий Великий говорит: «Если кто хочет достичь твердой ценности созерцания, тот
должен сначала упражняться на поле работы». Бернард Клервосский судит так:
«Служащая Христу должна всегда молиться, читать или работать, чтобы дух соблазна
неожиданно не захватил в свою власть бездеятельный ум. Чувственные вожделения
побеждаются трудом. Когда ты перестанешь читать, то ты должна работать, чтобы
никогда не оставаться бездеятельной, ибо праздность есть враг души». Картезианский приор
Гвиго говорит: «Серьезный, благоразумный характер всегда готов к работе. Он не
рассеивается через нее, а, напротив, сосредототочивается, так как имеет всегда в виду не
столько самую работу, сколько ту цель, ради которой он работает, именно достижение
высшего совершенства»2.
Таким образом судит и первостепенный средневековый авторитет западног©
христианства Фома Аквинский. В атмосфере средневекового монастыря сложилась
и столь любимая Карлейлем формула: laborare est orare12*, т. е., что труд в
известном отношении соответствует молитве. Для характеристики восточного монашества
в этом отношении приведем суждение св. Феодора Студита, устав которого
получил руководящее значение для восточных монастырей (Добротолюбие, IV, 27):
«Все вы, - увещевает он братию, — друг для друга послушники, как живые члены
одного тела. Если глаз не станет руководить руки, если одна рука не станет
поддерживать другую, если нога не станет ступать так же, как сего требует благо всего тела,
если вообще каждый член начнет действовать по своей воле, то они не только своей
крепости не сохранят, но с расстроением себя самих расстроят и все тело. Потому да
радуется всяк, когда ему придется поболее потрудиться для других, терпя хлад, дождь
и жар... Мы не проливаем, как мученики кровь; членов наших не отсекают, костей не
сокрушают; но если мы прилагаем к своим легким и немногим трудам отречение от
своей воли с желанием угодить и братьям с любовью послужить, то через это делаемся
подобными многострадальным мученикам и даже Самому Господу, за нас распятию и
смерть подъявшему. Благодушествуйте же, трудитесь!»
Благодаря такому воззрению, определявшему весь строй жизни, монастыри
были и, насколько они не изменяют своему призванию, остаются и теперь, прежде
всего, школой труда, где, по выражению одного западного монаха, «каждый
должен быть своим собственным волом». Жизнеописания святых, как восточных, так
и западных церквей, дают многочисленные свидетельства воспитательного
значения монастырей в этом отношении (достаточно вспомнить, какое место труд
занимает в жизни преп. Сергия).
1 Е. Troeltsch. Die Soziallehren der christlichen Kirchen в Archiv für Sozialwissenschaft und
Sozialpolitik, XXVII В., Ι Η., 1908. S. 59. Гарнак в этюде о монашестве («Das Monachtum»,
издано и в его «Reden und Aufsätze». Bd. I, 84-85) говорит: «Все движения души (Gemüthes)
наиболее страстные и нежные встречаем мы в этом мире мироотречения. Искусство, поэзия и
наука там прилежно культивировались, так что начало цивилизации нашего отечества есть
лишь глава из истории монашества». (Курсив наш).
2 Примеры взяты из книги проф. Эйкена «История и система средневекового
мировоззрения»11*.
115
Благодаря аскетической дисциплине труда, монастыри сыграЛи огромную роль
в экономическом развитии Европы в те эпохи, когда колонизация и возделывание
диких площадей сопровождались особенными трудностями. Насколько настоящее
стоит на плечах прошлого, вообще можно сказать, что наша теперешняя
хозяйственная жизнь, наше народное хозяйство опирается, как на свой фундамент, на
аскетический труд монашеской средневековой Европы.
«Монахи очень много содействовали очистке громадных и дремучих лесов,
покрывавших среднюю и северную Европу, и превращению первобытной лесной и болотистой
почвы в плодородные и полевые и луговые угодья. В особенности же они занимались
разведением садов и огородов... Они превратили берега Сены, долины Роны и Мозеля и
пустынные местности Нормандии в сады и в виноградники. Таким образом, самые
строгие аскеты были в то же время самыми трудолюбивыми работниками»1.
О таком же значении русских монастырей в истории русской колонизации
скажем словами проф. Ключевского:
«Три четверти пустынных монастырей XIV и XV веков были такими
(земледельческими) колониями, образовывались путем выселения их основателей из
других монастырей, большею частью пустынных же. Пустынный монастырь
воспитывал в своем братстве, по крайней мере в наиболее восприимчивых его членах,
особое настроение, складывался особый взгляд на задачи иночества; основатель его
некогда ушел в лес, чтобы спастись в безмолвном уединении, убежденный, что в
миру, среди людской молвы, это невозможно. К нему собирались такие же
искатели безмолвия и устраивали пустынку. Строгость жизни, слава подвигов
привлекали сюда издалека не только богомольцев и вкладчиков, но и крестьян, которые
селились вокруг богатейшей обители как религиозной и хозяйственной своей
опоры, рубили окружный лес; ставили и деревни, расчищали нивы, «искажали
пустыню», по выражению жития преп. Сергия Радонежского. Здесь монастырская
колонизация встречалась с крестьянской и служила ей невольной путеводительницей.
Так, на месте одинокой хижины отшельника вырастал многолюдный, богатый и
шумный монастырь. Но среди братии нередко оказывался ученик основателя,
тяготившийся этим неиноческим шумом и богатством: верный духу и преданию своего
учителя, он с его же благословения уходил от него в нетронутую пустыню, и там
тем же порядком возникала новая лесная обитель. Иногда это делал даже не раз и
сам основатель, бросая свой монастырь, чтобы в новом лесу повторить свой
прежний опыт. Так, - заключает проф. Ключевский, - из одиночных разобщенных
местных явлений складывалось широкое колонизационное движение, которое, исходя
из нескольких центров, в продолжение четырех столетий проникало в самые
неприступные медвежьи углы и усеивало монастырями обширные лесные дебри
средней и северной России»13*.
Обращаясь к современному капитализму, мы должны сказать, что влияние
железного механизма здесь, конечно, гораздо ощутительнее, нежели в более простых
формах натурального хозяйства со слабым обменом. Но и он предполагает свою
особую психологию. Современный капитализм также связан с особым
капиталистическим духом, соответствующим этому сложному хозяйственному механизму.
Зомбарт считает главным признаком этого капиталистического духа
экономический рационализм, методическое применение средств к цели. Этот рационализм
хозяйственной жизни в настоящее время мы наблюдаем уже сложившимся. Но как
же он складывался, что легло первоначально в его основу, каковы духовные
предпосылки этого капиталистического духа, а до известной степени и самого
капитализма? Капиталистический рационализм по своему внешнему облику ближе всего
подходит к «экономическому человеку» классической школы, но ведет ли этот
«экономический человек» свое происхождение от Бентама и политической арифме-
1 Эйкен. Цит. соч. С. 438.
116
тики или же он имеет совсем другую генеалогию? Этому вопросу за последние
годы было посвящено несколько научных исследований. На первом месте здесь
должны быть поставлены капитальные исследования проф. Макса Вебера1: «Die
protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus» (Протестантская этика и дух
капитализма)14*. Под впечатлением этих исследований написана последняя работа
проф. Шульце-Геверница2.
В этих исследованиях генезис духа капитализма приводится в связь с духом
протестантизма и протестантского аскетизма. Корни современного народного
хозяйства открываются не только в хозяйственных нуждах нашей эпохи, но и в
духовной жизни человеческих личностей. Особенно большую роль в этом генезисе
играют некоторые течения реформации и прежде всего кальвинизм в Англии,
принявший облик пуританизма. Основная особенность новейшей истории Англии
состоит в том, что здесь реформация сливается с революцией, и главные завоевания
освободительного движения, как и его идеи (в частности, идеи о правах человека и
гражданина, о свободе совести и слова), неразрывно связаны здесь с религиозным
движением реформации. Но с ним же связаны и экономические судьбы Англии.
Происхождение английского капитализма стоит в связи не только с
огораживанием полей и промышленной революцией, но и с духом пуританизма. Как известно,
сам Кальвин, «протестантский папа», как называли его современники, во время
своего господства в Женеве немало содействовал экономическому процветанию
республики3. Монтескье в «Духе Законов» замечает, что «англичане в трех важных
вещах превосходят все народы мира: в благочестии, в торговле и свободе»15*,
соединяя, таким образом, неразрывно эти три черты. И действительно, связь кальвини-
стического благочестия, купеческой предприимчивости и свободолюбия повсеместно
отмечается в ее истории. Исследователь хозяйственной истории Готгейн замечает:
«Кто ищет следов капиталистического развития, в какой бы стране Европы это
ни было, всегда будет наталкиваться на один и тот же факт: кальвинистическая
диаспора есть вместе с тем рассадник капиталистического хозяйства. Испанцы
выразили это с горьким раздумьем в такой формуле: еретичество содействует
торговому духу»4.
В чем же эта внутренняя связь, исторически устанавливающаяся между
капитализмом и кальвинизмом? Дело в следующем. Существенным свойством «духа»
капитализма является то, что «идеальный» капиталист считает себя обязанным по
отношению к своему имуществу и его увеличение путем производительных затрат
признает своим долгом, высшее благо для капиталистической этики состоит в
увеличении богатства, рассматриваемого как самоцель. Своеобразная идея
капиталистической этики о профессиональном долге перед имуществом и устанавливает этот
особый капиталистический дух, без которого был бы невозможен современный
капитализм, как он был, например, психологически (а не только экономически)
невозможен в глубине средневековья. Его происхождение связано поэтому не
только с рядом объективных экономических и отчасти технических перемен, но и с
1 Archiv für Socialwissenschaft und Socialpolitik. 1904, I; 1905, I.
2 Btitischer Imperialismus und englischer Freihandel. Leipzig, 1906.
3 Истекшее в 1909 году 400-летие со дня рождения Кальвина вызвало появление ряда
монографий о нем и изданий его писем и сочинений. Краткий и содержательный очерк о нем
Stähllin'a см.: Realenzyclopedie für prot. Theol. u. Kirche, herausg. von Hauck u. Herzog, 3-te
Ausg., также в серии Religionsgesch. Volksbücher: А. Ваиг. Johann Calvin. Tübingen, 1909.
.Характеристику этики кальвинизма, см.: Theobald Ziegler. Geschichte der christlichen Ethik.
Strassburg, 1902.
4 Gothein. Wirtschaftsgeschichte des Schwarzwaldes, I, 674 (Цит. по: Sombart. Der
moderne Kapitalismus). Приведя это суждение, Зомбарт от себя прибавляет, что «протестантизм,
особенно в разновидностях его - квакерстве и кальвинизме - существенно содействует
развитию капитализма, есть слишком известный факт, чтобы он нуждался в дальнейшем обосновании»
(I.e., 380-381).
117
новым направлением творческой инициативы, личной энергии. Новаторы
промышленности подвергаются обыкновенно нападкам: около их имени образуются
легенды, иногда устрашающего содержания, и сравнительно реже замечают, насколько
твердый характер и выдающееся самообладание, словом, определенные личные
этические качества в действительности важны для образования этих типов. Эти
черты в значительной мере утрачиваются представителями новейшего
капитализма, руководящимися нередко или грубо своекорыстными интересами или просто
привычкою, заботою о семье и т. п. Однако, идеальный капиталист имеет мало общего с
такими типами так же, как с сынками, проматывающими накопленное отцами, он
имеет в характере тоже известные аскетические черты. В немецком языке слово
«Beruf» и еще более английское «calling» имеет религиозный оттенок, обозначает
религиозное призвание к данной светской профессии. Напротив, латинско-католи-
ческие народы, а также и русский, равно как и классическая древность, не имеют
соответствующего слова, встречающегося у всех протестантских народов. Слово это
в теперешнем употреблении заимствовано из лютеровского перевода Библии1. В
понятии «Beruf» выражается центральный догмат всех протестантских
исповеданий. Протестантизм, в противоположность средневековому католицизму,
отправляется от принципиального уничтожения противопоставления церковного и светского
или мирского, причем мирские занятия, гражданские профессии, деятельность в
доме, в предприятии, в должности рассматриваются как исполнение религиозных
обязанностей, сфера которых расширяется, таким образом, на всякую мирскую
деятельность. Одновременно с этим он провозглашает автономию мирской жизни и
стремится изъять из-под влияния церкви, т. е. папской иерократии, эту жизнь. В
этом выражается протестантское обмирщение христианства, сопровождающееся,
однако, религиозным этизированием мирской жизни2. Те протестантские секты, в
которых были особенно сильны эти идеалы религиозно-аскетического
регулирования мирской жизни, и играют наибольшую роль в истории капитализма при
выработке капиталистического духа, как-то: кальвинизм в реформаторстве, пиетизм в
лютеранстве, методизм в англиканстве и, наконец, из сект, выросших на почве
анабаптизма, — квакерство; наибольшее значение в истории капитализма имеет
кальвинизм, особенно в его британской разновидности, — пуританизм. Почему он
получил здесь такое значение? Мы знаем, что основным догматом кальвинизма
было учение о предопределении: по предвечному и совершенно непостижимому для
нас акту Божественной воли одни предопределены к вечной гибели, другие к
спасению3. Это фаталистическое учение, казалось бы, должно было совершенно пара-
1 Именно при передаче текста из книги Иисуса Сираха XI, 20-21. (Соответствующее место
русского перевода: «веруй Господу и пребывай в труде [=Beruf] своем»).
2 По мнению Gothein'a, «эмансипация государства и народного хозяйства от влияния
церкви составляет существенную часть жизненной работы Лютера» (Статья «Renaissance und
Reformation» в Handwörterbuch der Staatswissenschaften). Гарнак замечает: «Гражданская
профессия, скромная деятельность в доме и во дворе, в предприятии и в должности
рассматривается не как отвлекающее от неба занятие, но действительно духовное занятие... Лютер
возвестил свободу и ответственность трудящихся... Он восстановил в своем значении
всякий·профессиональный труд...» {Harnack. Reden und Aufsätze, I, 162, речь о Лютере).
Ср. статью Г. Наумана «Beruf» в новейшей энциклопедии «Die Religion in Geschichte und
Gegenwart», Handwörterbuch in gemeinverständlicher Darstellung unter Mitwirkung von H. Gun-
kel und O. Scheel herausgegeben von Fr. M. Schiele. 11/12 Lieferung. Tübingen, 1909.
3 В гл. 3, § 3 Westminster confession 1647 года16*, принятом в этом пункте индепендент-
скими и баптистскими исповеданиями, мы, между прочим, читаем: «Бог в откровение Своего
величия предопределил (predestinated) некоторых людей... к вечной жизни, некоторых же
предназначил (foreordained) к вечной смерти». § 5: «Тех из человеческого рода, которые
определены к жизни, Бог, раньше чем было положено основание миру, по Своему вечному и
неизменному плану и тайному решению и по произволению Своей воли, избрал во Христе к
вечному блаженству, и это по чисто свободному дару и любви, не потому, что предведение веры и
добрых дел или устойчивости в том или другом, или иное что в творениях, побуждали Его к
118
лизовать волю и личную ответственность; между тем в практическом приложении
эти догматы, наоборот, оказались наиболее содействующими выработке характера
и личной энергии. В настроении людей, воспитывавшихся на этом учении, оно
должно было отразиться прежде всего, «чувством неслыханного внутреннего
уединения отдельного индивидуума» (М. Weber, 1. с. II17*), выработать чуждый всяких
иллюзий, пессимистически окрашенный индивидуализм: каждый в себе и за себя,
люди разделены друг от друга как бы стеклянной, прозрачной, но непроницаемой
перегородкой, актом предвечного предызбрания. Состояния избранности нельзя
определить ни по каким внешним или внутренним признакам, как и нельзя его
ничем достигнуть, но оно выражается в известных чертах поведения. Считать себя
избранными, за отсутствием возможности доказать противное, должны все, и самое
сомнение в этом следует отгонять, как дьявольское наваждение; проверять же
состояние избранности можно, только следя за своим поведением, неусыпным
самоконтролем, постоянным «щупаньем себе пульса»; методическая дисциплина жизни,
выражающаяся прежде всего в неустанном профессиональном труде, есть первый
практический вывод из учения кальвинизма. Бог кальвинизма требует
прославления Его в мире святою жизнью: повседневная жизнь должна методически
определяться аскетической дисциплиной. То, что считалось обязательным лишь для
монахов и в монастырях, выставляется здесь в качестве общего требования и притом
в применении к мирской профессиональной жизни. Те страстные, серьезные и
сосредоточенные натуры, которые ранее давали монашеству своих лучших предста^
вителей, в кальвинизме остаются в миру и в нем деятельно проявляют себя. В этой
мысли о необходимости удостоверения своей веры в светской профессии
кальвинизм дал положительный мотив для ее развития и связал практическую этику с
учением о предопределении. Вместо духовной аристократии вне мира и над миром
он выставил духовную аристократию избранных Богом, от вечности святых в миру.
Подобным же характером светского монашества или мирского аскетизма
отличается, хотя и в меньшей степени, и пиетизм18*, и методизм, и, в особенности,
квакерство, сыгравшее такую выдающуюся роль в социальной и политической
истории Англии и Соединенных Штатов (В. Пени). Краткость этого очерка не
позволяет нам останавливаться на отдельных чертах этих учений1.
тому как условие или причина, но всецело ценою Своей величественной милости». § 7: «Богу
было угодно прочих из человеческого рода, согласно неисследимому решению Своей воли, по
которому Он оказывает или не оказывает милость как ему угодно, для возвеличения Своей
неограниченной власти распоряжаться Своими творениями и определять их к бесчестию и
гневу за их грех... Избранным Бог дает силу и желание творить Его волю, а осужденных
ослепляет- и ожесточает, отдает искушениям и силе сатаны».
«Пусть я пойду в ад, но такой Бог никогда не вынудит у меня уважения», - высказался по
поводу этого учения Мильтон.
1 Обо всех, кроме упомянутых статей М. Вебера, см. сжатые, но чрезвычайно
содержательные очерки в Realenzyclopedie f. prot. Theol. u. Kirche, hrsg. von Hauck und Herzog, 3-te
Ausg. В частности, о квакерстве, кроме статьи в R. Е. Robert Buddensieg'a см. еще Weingarten,
Die Revolutionskirchen Englands (есть русский пер.), а также Schneckenburg er. Vorlesungen
über die Lehrbegriffe der kleineren protestantischen Kirchenparteien, hrsg. von Hundesgagen,
Frankfurt a. M., 1863. Характеристику социального значения квакерства см. у Шулъце-
Геверница: Britischer Imperalismus etc., 61-62. Заслуживает упоминания, что первым,
сформулировавшим теорию прибавочной ценности и этим заслужившим особенные симпатии
Маркса («феномен буржуазной политической экономии»), был квакер Дж. Беллерс19*. Его прин-
. ципиальная точка зрения, столь глубоко чужая рецепировавшему его экономические идеи
Марксу, такова: «Прискорбно видеть, что тело многих бедняков, которое может и должно быть
храмом для обитания Св. Духа, оказывается вместилищем такого порока и греха». Его
главный трактат где он развивает идеи кооперации, имеющие такое значение для нашего времени,
называется: «Proposals for raising a college of industry for all useful trade and industry» (1695).
Кроме того: «Essays about the poor, manufacture, trade plantations, immorality and of the
Excellency the Divinity of the inward light» (1699).
119
Все эти секты имеют ту общую черту, что они требуют от своих членов
аскетического стиля жизни. Как говорит о них Вебер, «христианская аскеза пошла на
рынок жизни, заперла за собою двери монастыря и стала насыщать своей
методикой именно мирскую, повседневную жизнь в целях преобразования ее в рацио-
го*
нальную жизнь в миру, но вместе с тем не от мира сего, или не для этого мира>ги .
Отсюда постоянная страстная проповедь упорного физического и духовного труда -
и как аскетического средства, и как самоцели. И именно не труд сам по себе, но
рациональный, методически размеренный профессиональный труд требуется здесь
от личности. А в числе признаков полезности дела или профессии и даже его бого-
угодности оказывается и его доходность.
«Если Бог вам показывает путь, - говорит пуританский проповедник Бекстер, -
на котором вы без вреда для души вашей или для других законным путем можете
зарабатывать больше, чем на другом пути, и вы это отвергнете и изберете менее
доходный путь, тогда вы вычеркиваете одну из целей вашего признания (calling),
вы отказываетесь быть управляющими (steward) Бога и принимать Его дары, чтобы
иметь возможность употребить их для него, если он того захочет. Конечно, не в
целях плотского удовольствия или греха, но для Бога должны вы работать, чтобы
разбогатеть» (Baxter, I, 378, цит. у Вебера21*).
Хотеть быть бедным, как часто аргументировалось в этих кругах, то же, что
хотеть быть больным. Таким образом складывалось воззрение, что Бог
благословляет торговлю (God blesseth the trade); и ветхозаветный склад духа, вообще
свойственный пуританизму, связывался и с древнееврейским воззрением относительно
награды за добродетель в этой жизни. Излюбленною книгою пуритан стала поэтому
книга Иова, где так грозен и властен Иегова, но где указывается и конечная
награда праведника, еще здесь, на земле (хотя, конечно, этот конец для нас теперь в
книге Иова представляет лишь второстепенную подробность). С особенным
ударением в Ветхом Завете останавливались на местах, касающихся формальной
честности; недаром пуританизм часто называли английским еврейством (Englisch
Hebraism), имея в виду это усвоение им ветхозаветного духа, с его самоправедностью
и трезвой легальностью.
В пуританизме с грандиозной силой пробудилась и характерная для еврейского
мессианизма вера, что англосаксы — избранный народ Божий, призванный
властвовать над другими народами ради спасения и просвещения их же самих. Это
составляет, между прочим, духовную основу английского меркантилизма, имеющего
вне этого убеждения черты беззастенчивого национального эгоизма. Им проникнут
был Кромвель с его «святыми», и это повышенное национальное самосознание,
корни которого уходят в реформацию, и особенно пуританизм, отличает Англию в
настоящее время. Как метко замечает проф. Шульце-Геверниц1, и теперь
«купец, сидящий за конторкой, заполняет место, к которому Бог приставил
именно его, а не кого-либо другого, он может чувствовать себя как небольшое и,
однако, важное колесцо в удивительном экономическом космосе. Тот же купец за
своей конторкой служит вместе с тем и интересам британского могущества; если он
занимается морской торговлей, он полагает основу для английского военного флота
к защите протестантизма».
Таким образом, пуританский аскетизм оказывается не только экономической,
но и политической добродетелью2. Особенное значение для происхождения
капиталистического духа имеет та его черта, что, поощряя мотивы, побуждающие к на-
1 L. с, 29.
2 Даже социал-демократический исследователь Эд. Бернштейн признал (по поводу
квакеров), что «der Asketismus ist bürgerliche Tugend, namentlich vor dem Aufkommen der
eigentlichen grossen Industrie, wo neue Kapitalien in der That oft genug durch Sparen gebildet
sind» (Bernstein. Sozialismus und Demokratie in der grossen englischen Revolution, 2-te Aufl.
1908. S. 321)22*.
120
коплению, он связывает потребление. Допущение радости от чистого эстетического
или даже спортивного наслаждения всегда имеет в пуританизме одну границу: оно
не должно ничего стоить. Человек есть лишь управляющий благ, врученных ему
милостью Божией: он должен, как лукавый раб в Библии23* дать отчет в каждом
гроше. Мысль о существовании обязанностей у человека перед вверенным ему
имуществом, которому он подчинен как служащий-управитель или как машина
для приобретения (Erwerbmaschine), всей своей охлаждающей тяжестью ложится
на жизнь; чем больше имущество, тем тяжелее чувство ответственности за него,
чтобы сохранить его во славу Божию и еще увеличить его безостановочной
работой. Мало-помалу вырабатывается столь хорошо знакомый нам теперь деловой
капиталистический фетишизм. Мирской протестантский аскетизм, — так можно
резюмировать все вышесказанное, — действуя со всей силой против беспечного
пользования имуществом и связывая потребление, особенно же предметов
роскоши, освобождает накопление от препятствий со стороны традиционной этики, он
разрывает аскетические путы к накоплению во имя же аскетизма, не только
легализируя стремление к обогащению, но и рассматривая его прямо как дело
богоугодное, ad majorem Dei gloriam24*. Таким образом, пуританский аскетизм стоит у
колыбели современного «экономического человека», орудующего на бирже и
рынке. Эпоха XVII века завещала своей утилитарной наследнице прежде всего
необычайно спокойную, - мы смело можем сказать, - фарисейски спокойную совесть
при наживании денег, если оно только совершается в легальной форме. Возникает
специфически буржуазная профессиональная этика. Силою религиозного аскетизма
воспитаны были для буржуазного предпринимателя трезвые, совестливые,
необыкновенно работоспособные, привязанные к труду как к богоугодной цели жизни и
чувствующие свою ответственность перед ними рабочие, отцы современного
«пролетариата».
«Пуританин хотел быть профессионалом, - заключает Вебер, - нам приходится
быть им»25*. Теперь хозяйственный космос не нуждается в подпорках; он
принудительно, даже и без особенных внутренних мотивов и оправдания, заставляет
подчиняться тому разделению труда, тому ажиотажу, который принимает нередко
характер неудержимой страсти и спорта. Но и до сих пор новое колоссальное
здание держится на старом фундаменте.
«Из школы пуританизма, - замечает Шульце-Геверниц, - англо-саксонский
мир вынес половую, национальную и социальную дисциплину, составляющую
противовес капиталистическому духу. Англия достигла господства, между прочим,
потому, что превосходила конкурентов чистотой семейной жизни, готовностью
жертвовать из любви к отечеству, чувством социальной ответственности.
Превосходство англо-саксонского типа основано на капиталистической, половой,
национальной и социальной дисциплине» (1. с, с. 46—47).
Сознание пуританского понимания предпринимательского долга и до сих пор не
вполне умерло в современных представителях англо-саксонского капитализма1.
Таковы общие заключения новейших исследователей ранней истории
капитализма. Нельзя не выразить сожаления о том, что подобного рода исследования
почти совершенно отсутствуют относительно русской хозяйственной жизни, в част-
1 Известный американский миллиардер Карнеджи (Andrew Karnegie. Kaufmanns Herrschaft -
empire of bisiness. Berlin, 1904, S. 93, 96-97) в своем credo так формулирует обязанность
сбережения: «Сбережение есть первый, важнейший долг. Бережливость есть необходимейшее
условие всякого прогресса. Без сбережений нет железных дорог, каналов, судов, телеграфов,
церквей, газет, словом, ничего, что всегда так велико и дорого... Для человека возникает
первая обязанность — приобресть себе достаточное состояние и сделаться самостоятельным.
Дальнейшая его обязанность сделать нечто для своих нуждающихся ближних, его долг - сделать
что-либо для блага того общества, к которому он принадлежит... Стремиться к тому, чтобы
оставить мир лучше, чем застал его, значит, преследовать благородную цель жизни».
121
ности, истории русской промышленности. «Экономизм», одинаково свойственный и
нашему народничеству и неомарксизму, не располагал к изучению духовных
факторов экономического развития26*. Материал подобных исследований в семейных
архивах, в исторических и статистических данных, надо думать, нашелся бы
изобильный. Исследования из истории русской промышленности в связи с духовными
биографиями и всей бытовой обстановкой русских пионеров-предпринимателей
раскрыли бы религиозно-этические основы психологии русской промышленности.
Известна, например, особенно близкая связь русского капитализма со
старообрядчеством, к которому принадлежат представители целого ряда крупнейших русских
фирм. Выяснение характера этой связи, вообще изучение влияния вероисповедных
различий на хозяйство было бы весьма интересно. Можно, однако, заранее,
думается мне, установить, что связь религиозного сознания и экономической
деятельности должна быть приурочена не только к определенной догматике, но и еще
более к практическим выводам религии и особенно к требовательности ее в данный
исторический момент. Здесь важен способ проникновения ее духа в жизнь,
непосредственного ее влияния, так сказать, градус религиозно-аскетического
отношения к жизни. Большое значение, конечно, имеет здесь и внешнее положение того
или иного исповедания: гонения и преследования, отсеивая слабых, вырабатывают
стойкость и цельность характера, обнаруживающуюся во всех областях жизни, а в
частности и экономической. Напротив, привилегированное внешнее положение
(огосударствление церкви) ослабляет степень влияния религиозного фактора на
жизнь, независимо даже от того или иного вероучения, по крайней мере, в
интенсивности, если и не в экстенсивности. Особенно интересно было бы специально
выяснить экономические потенции православия, но это потребовало бы обширного
религиозно-философского и исторического экскурса, далеко выводящего за
пределы этого очерка. Отличаясь коренным образом в своем отношении к миру от
пуританизма и вообще протестантизма, оно в дисциплине аскетического «послушания»
и «хождения перед Богом» (так же, как и догматически не отличающееся от него
старообрядчество) имеет могучие средства для воспитания личности и выработки
чувства личной ответственности и долга, столь существенных для экономической
деятельности, как и для всех остальных видов общественного служения. И если
теперь влияние религиозной дисциплины православия в экономическом творчестве
русского народа становится все менее ощутительным и часто оказывается слабее, чем
диссидентства, то это служит лишним обнаружением прискорбного упадка
православия в данный исторический момент. (Отчасти такова, впрочем, судьба всех «широких
церквей» с их многочисленным и пестрым составом, сравнительно с
малочисленными, но воодушевленными сектами).
В настоящее время, впрочем, как и всегда, борются между собою два
отношения к миру вообще и к хозяйственной жизни в частности:
механически-утилитарное и религиозное. В первом случае наперед выдвигаются разные интересы и их
борьба, - момент сознания обязанностей, общественного служения остается
сравнительно в тени; во втором случае подчеркивается сознание обязанностей,
утверждается понимание и самой общественной жизни как системы взаимных
обязанностей. В XIX веке оба эти мировоззрения получили резкое и обособленное
выражение у разных социальных мыслителей, в различных социально-экономических
системах. XIX век породил на одной стороне Бентама, Р. Оуэна, Маркса, но наряду
с ними и Карлейля, Рёскина, Морриса, Кингсли, Толстого, Вл. Соловьева... В
частности, в вопросе об экономической жизни и предпринимательской деятельности,
наряду с учением о классовой борьбе как универсальном., всеобъемлющем
принципе ее объяснения, мы имеем учение о классовых обязанностях, о классовом
служении, особенно ярко выразившееся в идеях Карлейля и Рёскина о «вождях
промышленности». Карлейль, как мы знаем, хочет видеть в предпринимателях не
122
своекорыстных служителей накопления, но исполненных сознанием долга
«капитанов промышленности»1. Оба эти воззрения борются и в жизни, и, насколько вообще
идеи, общественное мнение, общая духовная атмосфера влияют на человеческую
личность, преобладание того или иного воззрения оказывает влияние на
хозяйственную жизнь. Господство утилитаризма и упадок личности угрожают подорвать
хозяйственное развитие, как этого начинают опасаться уже относительно Англии2
и еще более относительно Франции с ее хозяйственным застоем. Народное
хозяйство требует духовного здоровья народа. В русском обществе, среди интеллигенции
развитие производительных сил (выражение, столь часто повторяемое
марксистами) как своеобразная религиозно-этическая задача, как вид общественного
служения пока очень недостаточно оценивается. В воззрениях на экономическую жизнь,
особенно на ход промышленного развития, у нас господствует крайний бентамизм в
той или иной форме (чаще всего в его марксистской разновидности), и фикция
«экономического человека» принимается без анализа и критики. Преобладающее
внимание сосредоточивает на себе момент распределения27*, понимаемого как
результат конкуренции, классовой борьбы; сравнительно слабее сознается значение
развития производительных сил, как творческой задачи, — роста всего народного
хозяйства как совокупных усилий человеческих воль.
Такое отношение особенно характерно выразилось в постановке и решении у
нас вопроса об аграрной реформе. Аграрный вопрос есть, как это очевидно по всем
статистическим и экономическим данным, прежде всего вопрос развития
производительных сил, и лишь во второй и сравнительно второстепенной инстанции пере-*
распределения земли. Между тем в нашем общественном сознании еще так недавно
он необыкновенно быстро и легко превратился в вопрос о черном переделе и
уничтожении частной собственности на землю. Развитие производительных сил и
вообще успешности производительного труда, несмотря на все социалистическое его
превознесение, в сущности, находит далеко не достаточную оценку в нашем
общественном сознании, встречает к себе высокомерное, пренебрежительное отношение.
Стремление к развитию производства и творческая инициатива в этой области
слишком часто у нас рассматриваются исключительно под углом зрения классового
бентамизма, как «буржуйство», стремление к наживе, и, наоборот,
интеллигентские профессии, в какой бы степени зависимости от промышленности, от «капитала»
1 «Руководители промышленности являются в существе вождями мира; если в них не
будет благородства, то никогда не будет более аристократии... Пусть вожди промышленности
уединятся в свои собственные сердца и торжественно спросят: можно ли там открыть что-
нибудь, кроме волчьего голода к тонким винам и хвастовству челядью и раззолоченными
экипажами... Трудящийся мир столько же, как и воюющий мир, не может быть руководим без
благородного рыцарства труда и законов и определенных правил, из него вытекающих... Ты
должен добиться искренней преданности твоих доблестных военных армий и рабочих армий,
они должны быть и будут упорядочены; за ними должна быть закономерно укреплена
справедливая доля в победах, одержанных под твоим руководительством; они должны быть соединены
с тобой истинным братством, сыновством, совершенно иными и более глубокими узами, чем
временные узы поденной платы... Взгляните вокруг себя! Ваши мировые армии все в
восстании, в смятении, в распадении; они накануне огненной гибели и безумия! Они не пойдут далее
для вас за 6 пенсов по принципу спроса и предложения... Вы должны привести их в порядок,
в справедливое подчинение: благородная верность в возмездие за благородное руководство... Не
как озверевшая, озверяющая толпа, но как сильное, устроенное войско с истинными вождями
во главе будут вперед выступать эти люди. Все человеческие интересы, соединенные
человеческие стремления и общественный рост в этом мире на известной ступени своего развития,
требовали организации; и труд, величайший из человеческих интересов, требует ее теперь.
Богу известно, что эта задача будет тяжела, но ни одна благородная задача не бывает легка»
(Карлейль. Прошлое настоящее / Пер. Н. Горбова, гл. «Вожди промышленности». Объективный
анализ качеств, требующихся от руководителей промышленности, от «капиталистического
предпринимателя» см. в очерке: Werner Sombart. Der kapitalistische Unternehmer, особенно гл.
VIII. Unternehmernaturen (Arch. f. S. u. Sozialpol. XXXIX, 3, November-Heft, 1909).
2 Ср. вообще цит. соч. Шульце-Геверница.
123
они ни стояли (адвокатура, литература, технология и т. д.), обыкновенно
оцениваются по совершенно иному масштабу, как нечто высшее, идейное, достойнейшее.
Развитие новых отраслей труда в сознании нашего общества представляется делом
далеко низшего порядка, чем всевозможные интеллигентские профессии. Этот
предрассудок имеет реальные дурные последствия, поскольку господство в
общественном мнении подобных оценок морально загоняет в угол представителей
промышленности, их деморализует, деградируя их в общественном мнении, осуждая в
кредит, тем самым как бы наперед снимает моральную ответственность с
руководителей промышленности, подвергает их морально-общественному бойкоту.
Национальное и народнохозяйственное целое при этом безнадежно раскалывается на
различные общественные классы, отделенные друг от друга непроницаемыми
перегородками. Нам необходимо- понять, что судьба нашей промышленности, как и
земледелия, вообще все развитие производительных сил, для которого капитал
есть необходимое средство, является нашим кровным общенародным делом, в
котором заинтересована вся нация. Бентамизм (первоначальный или позднейший,
т. е. марксизм) и по отношению к трудящимся оказывается в высшей степени
непригодным для их общественного воспитания. Хотя капиталистическое хозяйство
и неразрывно связано с антагонизмом общественных классов, представляющих
различные стороны и интересы производства, но опасно и вредоносно сводить все
общественные отношения к одному производственному процессу и строить их лишь
на этом антагонизме, на силах центробежных, забывая о центростремительных.
Каждый класс имеет свое место в производственном процессе, свои обязанности и
свою общественную ответственность, от которых он не может и не должен
освобождать себя во имя своих интересов. Воспитывает в гражданственности не сознание
интересов, но сознание общественных обязанностей, и бентамизм, в смысле
педагогическом, если влияние его на рабочие массы становится глубоким, в чисто
хозяйственном отношении оказывается началом разлагающим и вредоносным, поскольку
он влияет на отношения личностей к своим обязанностям, поскольку он разрушает
ту этическую самодисциплину, которая лежит в основе всякого профессионального
труда, ибо одного сознания интересов недостаточно для самодисциплины личности.
Между тем требования хозяйственной жизни по отношению к личности, прежде
всего как «фактору производства», силою вещей все повышаются. Социальный
прогресс нашего времени неразрывно связан с ростом личности, а следовательно,
повышением личной ответственности и самодисциплины. То, что в политической
экономии обозначается как переход от экономии низкой заработной платы к
экономии высокой заработной платы, то есть повышение производительности и
интенсивности труда, экономически оправдывающее повышение заработной платы,
неразрывно связано с самодисциплиной представителей труда. Но эта дисциплина
неосуществима на почве лишь голых интересов: она предполагает признание
высших этических и в конечном счете религиозных ценностей, нравственных
обязанностей в сфере профессионального труда. И, конечно, в непосредственном опыте
жизни, а не в бентамовской теории, погашающей все различия между
добросовестным и недобросовестным, пригодным и непригодным работником во всякой
отрасли труда. Бентамизм стремится поднять сознание особых своих интересов, вполне
законное, естественное и неустранимое при существовании классового антагонизма,
делая его предметом особой и горячей проповеди. Переходя за свои законные
пределы, становясь исключительным, определяющим началом, каким его хочет
сделать бентамизм, оно делается фактором, понижающим моральные качества
представителей труда, задерживающим развитие производительных сил, усиливающим
общественную вражду, но в то же время лишенным творческих сил. И это
воспитание личности в духе бентамизма, культ своих интересов, капиталистов или
рабочих, даже и с социалистической точки зрения является ошибочным. Социализм,
если он хочет быть действительно высшей формой хозяйства, не теряющей уже
достигнутого, но способной развивать производительные силы далее, еще в мень-
124
шей степени может мириться с бентамизмом; напротив, он требует такой личной
ответственности и самодисциплины, которые неосуществимы во имя одних только
личных интересов, но предполагают высокую этическую культуру.
Историческое исследование, освобождая мысль от давящего предубеждения и
односторонности, все более обнаруживает психологические корни хозяйственной
деятельности и выясняет экономическое значение тех религиозных основ,
которыми живая человеческая душа определяется. В частном примере, нами
рассмотренном, именно в вопросе о происхождении капиталистического духа, яснее всего
можно видеть, насколько сложно психологически происхождение «экономического
человека», который принимается в политической экономии за нечто простое,
элементарное, неразложимое. Этот призрак «экономического человека» рассеивается
при свете исторического исследования. Нам нужно освободиться от многих
идейных фантомов, а в том числе и от «экономического человека». Нужно понять, что и
хозяйственная деятельность может быть общественным служением и исполнением
нравственного долга, и только при таком к ней отношении и при воспитании
общества в таком ее понимании создается наиболее благоприятная духовная атмосфера
как для развития производства, так и для реформ в области распределения, для
прогресса экономического и социального. Упругая воля и зоркий глаз теперь
слишком редко встречаются в нашем образованном обществе, и, благодаря этому
низкому качеству человеческой личности, наряду, конечно, с другими внешними
причинами, происходит медленное, но верное и неизбежное (если все останется без
изменений) экономическое завоевание России иностранцами. Для того, чтобы выше
стать на поприще напряженного экономического соревнования, нам необходима, в
числе других условий, и иная оценка хозяйственной деятельности, нежели
интеллигентское пренебрежение или барски-снисходительное отношение к этой прозе
жизни. Для русского возрождения необходимо и национальное самовоспитание,
включающее в себя, в качестве одного из прикладных выводов, и более здоровое,
трезвое и, прибавлю, более честное отношение к вопросу о развитии
производительных сил. В нашем обществе существует, по-видимому, живой интерес к
экономическим вопросам. Экономические нужды России настолько очевидны и
настоятельны, что не требуют пояснения, и тем не менее надлежащие оценки
хозяйственной деятельности, понимание развития производительных сил, как
общенародного дела, в нашем обществе еще недостаточны. Общественное мнение
принадлежит к числу невесомых, духовных факторов исторического развития и
экономической жизни; особенно если сравнивать его со столь осязательным влиянием
железного экономического механизма мирового рынка, то можно прийти к полному его
отрицанию или совершенному к нему пренебрежению. Однако невесомые силы и
современным естествознанием признаются иногда наиболее могучими, — и
подобным же невесомым, но реальным и могучим фактором экономического развития
служит и общественное мнение и, в частности, те верования и убеждения, которые
им руководят. Ибо, повторим это еще раз, народное хозяйство есть не только
механизм, но и активная деятельность человеческих личностей, а социальная жизнь есть
не только борьба классов, но и сложная система взаимных обязанностей этих
классов. И если личность, играющая роль фактора экономического развития, развивается
под определяющим влиянием своих этических и религиозных убеждений, то, стало
быть, и то или иное религиозное самоопределение личности и вообще религия, как
оказывающая влияние на все области жизни, также относится к числу важных
факторов развития народного хозяйства. Поэтому, преследуя цель экономического
оздоровления и обновления России, не следует забывать и о духовных его предпосылках,
именно о выработке и соответствующей хозяйственной психологии, которая может
явиться лишь делом общественного самовоспитания.
, 1909
ХРИСТИАНСТВО И СОЦИАЛЬНЫЙ ВОПРОС1
В главе шестой Евангелия от Матфея (ей параллельна 12 глава Евангелия от
Луки) содержится речь Спасителя о богатстве. Он учит в ней приобретать
«сокровище» не на земле, но на небе, ибо «где сокровище ваше, там и сердце ваше», и не
делать себе господина из «мамона», ибо «нельзя служить двум господам». «Посему
говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела
вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды?» Господь
предлагает взглянуть на птиц небесных, которые не сеют, не жнут, не собирают в
житницы, и на полевые лилии, которые не трудятся и не прядут и однако одеты краше
великого царя. «Итак, не заботьтесь и не говорите: что нам есть или что пить? или
во что одеться? Потому что всего этого ищут и язычники, и потому, что Отец ваш
Небесный знает, что вы имеет нужду во всем этом. Ищите же прежде всего
Царствия Божия и правды его, и это все приложится вам».
Это учение способно вызвать смущение и замешательство у многих. Как
понимать его в связи со всем остальным учением Евангелия и вообще христианства?
Неужели Спаситель приглашает здесь Своих последователей вовсе отказаться от
труда и хозяйственной деятельности по примеру не сеющих птиц и не прядущих
лилий? Или учит искушать Бога требованием непрерывных чудес в отмену Им же
установленного естественного порядка природы, представляющего собой подлинное
и величайшее чудо? Ужели отменяется здесь грозная заповедь, данная Адаму при
его изгнании из рая, на пороге всемирной истории: «в поте лица твоего съешь хлеб
твой, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни твоей
жизни, терние и волчцы произрастит она тебе и будешь питаться полевою
травой»1*? Ужели и ап. Павел забывал эту речь Спасителя, когда писал солунянам про
себя вечного труженика, следующее: «мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не
ели хлеба даром, но занимались трудом и работой ночь и день, чтобы не
обременять кого из вас... Когда мы были у вас, то завещали вам сие: если кто не хочет
трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые из вас поступают бесчинно,
ничего не делают, а суетятся; таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим
Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб» (II Сол. III, 7-12).
Наконец, если мы обратим внимание на содержание той самой шестой главы
Евангелия Матфея, то и в ней натолкнемся на места, стоящие как бы в противоречии с
речью о богатстве. В начале ее говорится о «милостыне»2*, под которой следует
подразумевать всевозможные формы помощи нуждающемуся, но это, конечно,
предполагает условия, неразрывно связанные с хозяйственными заботами и иму-
1 Напечатано в сборнике «Вопросы религии» (М., 1906. Вып. 1).
126
щественными отношениями. Также и обязанность накормить голодного, одеть
нагого, посетить заключенного в темнице, о которой спросится со всех людей,
предполагает особенно внимательное отношение к хозяйственной стороне жизни и,
следовательно, к хозяйственному труду. Но, что особенно поразительно, в той же
шестой главе Евангелия от Матфея, мы находим и молитву Господню, в которой рядом
с универсальными, всеобъемлющими прошениями непосредственно стоит: «хлеб
наш насущный даждь нам днесь»3*. Это высшее освящение хозяйственной заботы,
включение ее в молитву молитв, все прошения которой таковы, что, требуя
помощи свыше, они предполагают и нашу деятельную работу в соответствии богочело-
веческому характеру всего исторического процесса, достаточно уже само говорит за
себя. Молясь о насущном хлебе, мы просим благословения Божия на нашу
хозяйственную деятельность и хозяйственную заботу, на все частное и народное хозяйство.
Кажущееся противоречие этих двух точек зрения на хозяйственную
деятельность, по нашему разумению, объясняется тем, что они относятся к разным
плоскостям и отражают на себе основную религиозную антиномию мира и человеческой
жизни. Если веровать в Небесного Отца, святая и премудрая воля Которого царит в
мире, то жизнь и мир должны представляться нам раскрытием этой попечительной
воли. И проникновение этой верой должно вселять в душу необыкновенное
спокойствие и отсутствие мирских тревог, и только одна забота должна наполнять всю
жизнь, брать в распоряжение всю душу, - забота творить волю Отца, всегда и во
всем искать «прежде всего» Царствия Божия, при котором «прилагается» все
прочее. При таком, чисто религиозном, отношении к миру, все теряет свою
непроницаемость, освобождается от тяжелого, мертвящего покрова железной
необходимости, живет в непосредственном общении с Небесным Отцом, так, как жили наши
прародители, непосредственно слышавшие голос Бога. В «раю» нет места для тех
хозяйственных забот, которые отчуждают человека от Бога, и подобное же
состояние свободы от хозяйственной необходимости и забот рисуется и в Апокалипсисе
относительно Нового Иерусалима, Града Божьего (гл. XII, 1-5), в качестве
завершения истории. И такое отношение к миру есть высшая норма и идеал
религиозного его восприятия, - убеждение, что волос не падает с головы без воли Отца, и
Он знает, в чем мы имеем нужду, и вовремя пошлет нужное, должно постоянно
наполнять душу, окрашивать собой жизнь! Нет томящей повседневной заботы, нет
этого мучительного страха жизни, нет непоправимого несчастья! Кто живет в
таком настроении, чья душа полна этих чувств, тот живет уже в том царстве
свободы, гражданами которого все мы призваны быть, тому доступно истинное
блаженство и спокойствие, у того вырастают крылья, восстановляется утерянная связь с
космосом и со всею живою тварью. Таково состояние святости. Пленительный
образ такого существования дает нам жизнь св. Франциска Ассизского4* - вот что
значит жить без забот, подобно воронам и полевым лилиям (надо заметить, что,
согласно евангельскому рассказу, Спаситель с этими заповедями обращался именно
к ближайшим своим ученикам, а не к окружавшей его в это время толпе). С
мирской точки зрения здесь можно видеть утопизм или слепоту, поскольку не
замечаются обычные условия жизни и обычная реальность считается призраком. Такие
люди живут в этом мире, хотя и повинуясь его законам, но их не замечая,
внутренне не преклоняясь перед давящей необходимостью, которая существует и
страшна только для робеющих пред ней. Иной религиозной нормы отношения к
миру, к богатству, к материальным условиям жизни, кроме данной в учении
Спасителя, быть не может. Но эта норма, отвечающая идеальной действительности
безгрешного или спасенного мира, в котором она является единственно возможным
и естественным законом жизни, в теперешнем мире, на земле проклятия, есть
только идеал, отрицающий дурную действительность и требующий от нас борьбы с
ней и с самими собой, поскольку и в нас она имеет силу. Раз нарушено прямое,
открытое и нормальное отношение человека к миру и в мире появилось зло, на все
127
налегает тяжелый покров необходимости, законов мертвого естества. Мы не
слышим уже голоса Бога в природе, мы утратили царственное достоинство свободы и
стали рабами. Рабы получили и заповеди рабов, и рабьи обязанности, и рабьи
добродетели. Возделывать землю в поте лица, чтобы отстаивать самое свое
существование, пронести факел цивилизации через дебри варварства и первобытного
одичания стало новою исторический заповедью, новой задачей. Поскольку мы обречены
жить в этом мире, мы «повинны его работе», связаны законами естества, законами
истории, законами хозяйственности. Мы знаем из опыта жизни и из политической
экономии, чего стоит людям хозяйственная необходимость, вся эта черная
культурная работа, выдвигающая все новые задачи. Мы призваны не только охранять и
поддерживать жизнь, но и быть творцами истории, творить культуру, не
уподобляясь ленивым и лукавым рабам, зарывшим свой талант в глубокое варварство5*. Эта
относительная мирская область тоже знает свою правду и неправду, прямую и кривую
дорогу, правую и левую сторону, и это различение необходимо в целях сознательного
участия в историческом творчестве.
Но вступая на трудный и кремнистый путь исторической необходимости, мы
уже бескрылые рабы, движущиеся в определенных механизмом причин и
следствий границах, и для того, чтобы действовать в этом мире, должны, до известной
степени, его признавать, подчиняться его законам и считаться с ними. Это не
только необходимость, но и обязанность.
Таким образом, человек призван одновременно жить в двух мирах: в царстве
необходимости и царстве свободы, нося в душе постоянную загадку, противоречие,
антиномию, обусловливающую постоянную борьбу, призывающую к постоянному
подвигу6*. Пред человеком всегда два пути, хорошо или дурно отличаемые, путь
освобождения от мира силой его отрицания и путь порабощения его пустым и
мертвым стихиям. Свободный раб или порабощенный .царь, связанный дух или
одухотворенная материя — вот что представляет собой в этом смысле человек. Не
будучи в состоянии окончательно преодолеть эту противоречивость, уйти от этой
антиномии, обрести желанную целостность, человек обречен на постоянный
компромисс и постоянную борьбу, и эта духовная трагедия связанного Прометея
неустранима, поскольку она свидетельствует о высшем достоинстве человека, хотя и
в состоянии греховности. Отданный в рабство стихии, человек не должен
внутренне становиться ее рабом, сохраняя веру, что эта необходимость только кажущаяся
и призрачная и что в ней совершается Высшая Воля. Побеждать таким образом
необходимость есть подвиг веры. Особое могущество приобретает при этом соблазн
поверить в эту стихию больше, чем в Бога, признать ее видимую силу сильнее Его
воли, обожествить механизм природы. В такое язычество, навязываемое нам
нашим естественным положением в мире, мы впадаем всякий раз, когда «полагаемся
на богатство», дозволяем «мамону» воцариться в нашей душе; мы поступаем тогда
как «люди мира сего» или «язычники». Кроме практического язычества,
существует еще и религозно-теоретическое, тот же соблазн, но принятый уже сознанием как
догмат философии или науки. Таков философский материализм, учащий, что пища
и питие больше и первее души, ибо ее определяют («der Mensch ist, was er isst»7*),
а одежда, т. е. вообще внешние условия жизни, первее тела как органа
воплощения свободного духа. «Экономический материализм», так распространенный в наши
дни, дал этому воззрению законченное выражение, провозгласив, что вся духовная
культура определяется экономическим базисом, идти дальше этого философского
«мамонизма» уже некуда. Евангелие, написанное для всех времен и народов, и
предостерегает не только от практического, но и от теоретического язычества. В
отношении к этому уклону человеческой мысли и чувства становятся особенно
понятны слова Спасителя.
Однако сокровенное движение сердца в ту или другую сторону не освобождает
человека от условий его эмпирической жизни. Земледелец должен пахать и сеять,
128
жать и молотить, хотя и вполне сознавая, что сам он, своей волей, не может
прибавить ни одного локтя роста, ни вырастить ни одного колоса. Кажется, у Герцена
есть замечание, что всякая молитва просит о чуде, в смысле нарушения законов
природы; на самом деле это совершенно неверно, потому что возможно и даже
обязательно для верующего сознания религиозно воспринимать и то, что сообразно
законам природы, представляющим тоже повседневное чудо. Вот почему, садясь за
готовый стол или бросая зерно в распаханную землю, можно молиться: хлеб наш
насущный даждь нам днесь, и действительно верить, что обед изготовленный
кухаркой, и хлеб, скошенный на поле, дает нам Бог. Мы зависим не от мертвых
стихий, но от того, что стоит за ними, для чего они служат лишь средством. В
порядке религиозном только эта сущность явлений и имеет значение. Но все это не
отменяет обязанности — в порядке эмпирическом — трудиться в поте лица, нести
хозяйственную повинность общего труда. Возделывание «земли», т. е. сил природы
(которое включает, конечно, не одно только земледелие, но все виды промышленного
труда), составляет естественную задачу человечества, и было бы странно
предположить - одинаково и с религиозной, и с человеческой точки зрения, - чтобы эту
задачу разрешал человек изолированно. Политическая экономия совершенно
определенно учит нас, что хозяйство, процесс производства в силу естественной
необходимости ведется человеком общественно, и этот общественный труд человечества
объективируется в хозяйственных формах, в хозяйственном скелете, который и
изучает политическая экономия. Как после открытия Коперника мы не можем уже
смотреть на звездное небо теми же глазами, что и во времена Птоломея, как после
новейших открытий геологии, биологии мы не можем уже понимать повествование
Моисея в точном естественнонаучном смысле, хотя и сохраняем все его
религиозное содержание, так и после открытий новейшей социальной науки, раскрывшей
нам целый новый мир, показавший всю сложность социальной ткани, мы не
можем с первобытным простодушием и наивностью смотреть на явления богатства и
бедности. И если заповедь о всеобщей обязанности труда и помощи нуждающимся
в материальной поддержке понималась раньше исключительно как обязанность
личного поведения, то теперь, после того, что мы знаем из общественных наук,
одна она не может успокоить совесть, для нас выясняются, кроме того, и
обязанности социального поведения. Мы узнали также, что для того, чтобы вырывать у
земли не одни только терния и волчцы, сулящие человечеству голод и болезнь,
мало трудолюбия, но необходим ряд мер, которые ведут в конце концов к
экономическому прогрессу, а этот последний неизбежен уже в виду хотя бы только
факта постоянного прироста населения, не говоря о постоянно растущих потребностях
культуры. Правда, этот экономический прогресс сделан в наше время кумиром, он
ослепил и оглушил современное человечество, и в этом грех последнего,
современное человечество слишком «полагается» на свое богатство и в погоне за ним
нередко утрачивает совесть, но это есть злоупотребление, нисколько не говорящее
против необходимости и законности этого прогресса. Политическая экономия раскрыла
нам глаза и на социальные обязанности, проистекающие из евангельской заповеди
любви и помощи ближнему, и она дает вполне определенные руководящие нормы
общественного устройства. Первая норма такова, что каждый должен трудиться в
меру своих сил и умения, эта заповедь труда исключает социальную праздность,
заставляет стремиться к трудовому хозяйству, с превращением, по возможности,
всех рентных доходов в трудовые. Второю нормой служит забота о слабых и
угнетенных, т. е. о тех многочисленных слоях народа, которые придавила и задавила
собой наша цивилизация. Нормальным с точки зрения этих принципов
представляется такой общественный строй, в котором не было бы места для социальной
праздности, существовала бы общая обязанность труда, соответственно склонностям
и способностям, и в котором не было бы теперешнего различия между богатыми и
бедными, имущими много и подвергающимися искушению от своего богатства и неиму-
5 Зак. 487 1 29
щими ничего, подавляемыми этой бедностью. В обычном словоупотреблении строй этот
зовется социалистическим.
Не только живые люди, но и человеческие учреждения, тоже результат
деятельности людей, кристалл человеческого духа, служат правде или неправде,
любви или ненависти. Как рабовладение и крепостное право для нас теперь
представляет явно греховное установление, так и современный капитализм, основанный на
эксплуатации труда, классовых антагонизмах, контрастах богатства и бедности,
содержит в себе грех человеконенавистничества. Христианство не допускает
примирения с каким бы то ни было общественным строем, основанным на насилии и
ненависти, оно может благословлять только строй, воплощающий начала любви,
свободы и равенства, и, пока остается социальная неправда, оно всегда зовет
вперед, к социальному прогрессу, к очищению общества от этих пороков, проповедует
не только личное, но и общественное покаяние1. Опять-таки и здесь Евангелие
предостерегает также и от превращения социализма в панацею, в духовный кумир,
как делает это наша современность. Но это злоупотребление и религиозное
извращение идей социализма отнюдь не уничтожает той относительной правды, которая
в них, несомненно, содержится8*.
Итак, бесспорно, существуют для христиан обязанности в экономической
жизни, в области экономической и социальной политики. Однако, религиозное учение
в этой области дает указания только относительно цели, оставляя человеческому
творчеству нахождение соответствующих средств в каждом частном случае,
относительно последних и христианам обязательно консультировать политическую
экономию, вообще, так сказать, социальную технологию, прибегать к помощи
научного мышления, так же точно, как для постройки машин следует учиться механике,
домов - строительному искусству и т. д. Здесь, в области практических действий,
мы вступаем в область механической причинности и механических расчетов,
вольный полет вдохновения сменяется прозаическим ремесленным делом.
Возможно при этом, что люди одинакового настроения разойдутся в оценке
средств в области социальной механики и окажутся вследствие этого в разных
(хотя, конечно, близких) группах. По этому поводу приходится сказать словами
блаженного Августина: in necessariis unitas, in dubiis libertas10*. Должна быть
предоставлена свобода социальной совести каждого, - только при таком
централистическом клерикализме, какой мы имеем, напр<имер>, в партии германских
католиков11*, приказ из центра заменяет свободную совесть и мысль ее членов, но
подобный клерикальный фетишизм есть соблазн Рима, замена церкви папой и
клиром, которая не может быть поставлена в пример. Любопытно, что зачатки того,
что теперь мы зовем социальной политикой, в недифференцированном виде
существовала уже в первые века христианства. Проф. Ад. Гарнак в своем известном
труде о миссии и распространении христианства в первые три века констатирует,
между прочим, что среди христианских общин, наряду с разными формами
благотворительности в узком смысле слова (милостыня, поддержка учителей, вдов и
сирот, больных и неспособных к труду, забота о пленных и томящихся в рудниках, о
погребении бедных и вообще об умерших, о рабах, помощь при крупных несчасти-
1 В Ветхом Завете, особенно у пророков, а также и в Новом Завете найдется немало мест,
полных праведного социального гнева и как бы непосредственно направленных против
злоупотреблений современного капитализма. «Если брат и сестра твои наги, - читаем у ал.
Иакова, - и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: идите с миром,
грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы?» (И, 15-16). «Послушайте,
вы; богатые: плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило,
и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро изоржавели... Вот плата, удержанная
вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет и вопли жнецов дошли до слуха Господа
Саваофа9*. Вы роскошествовали на земле и наслаждались; напитали сердца ваши как бы на
день заклания. Вы осудили, вы убили праведника, он не противился вам» (V, 1-5). Можно ли
сильнее обличать социальные язвы хотя бы и современного хозяйственного строя!
130
ях, забота о приезжих собратьях и бедных или пострадавших общинах),
существовали задатки и того, что мы теперь назвали бы социальной политикой и даже в
довольно современной форме: именно, нечто вроде организации приискания труда
(Arbeitsnachweis) и признание права на труд в пределах* христианских общин1.
При обсуждении способов христианского участия в экономической и
социальной политике естественно возбуждается и такой вопрос: не следует ли стремиться
к созданию обособленного, христианского или церковнообщинного хозяйства? Не
может ли существовать особого церковного социализма, непосредственно
церковного хозяйства? Мы с полным убеждением и со всей энергией на этот чрезвычайно
важный вопрос отвечаем отрицательно.
Может ли церковь как союз веры, молитвы и люиви органически ввести в свою
жизнь хозяйство? Тогда почему и не государство, не полицию? Ведь в Евангелии
указана только одна религиозная норма относительно хозяйства, имеющая силу
для общения душ в момент их религиозного осенения и реального
соприкосновения в церкви: не заботьтесь, что вам есть и пить и во что одеваться, взгляните на
птиц небесных и на полевые лилии. Господь и Сам ел и пил во время своей земной
жизни, среди Его учеников был даже казначей (хотя на судьбе последнего и
подтвердилась вся опасность хозяйственного соблазна15*), но это оставалось только
внешним фактом жизни Его и апостолов, и Господь не давал завета общине своих
последователей устроить хозяйственную коммуну (хотя пример коммунистической
секты ессеев16* был на глазах). Он не только не хотел связать церковь с какой-либо
организацией хозяйства, но выразительно и решительно расторгнул эту связь так
же, как расторгнул союз церкви с государством, хотя одинаково не отвергал ни
того, ни другого в качестве· условий жизни.
Мы отрицаем поэтому в самой идее церковные хозяйственные общины, которых
мы не знаем и в первые века христианства, и так учит об этом и ап. Павел,
требовавший, чтобы каждый оставался в том звании, в котором был призван (I Кор. VII,. 2),
рабов оставлявший по-прежнему рабами, а господ — господами. Идея делать
вступление в христианство средством освобождения от рабства или вступления в
социалистическую фаланстеру была совершенно чужда апостолу, предостерегавшему
Тимофея против людей, «чуждых истине, которые думают, будто благочестие
служит для прибытка» (1 Тим. VI, 5). Мы знаем, как загрязнились ряды христиан,
когда после эдикта Константина Великого17* обращение в христианство стало
средством делать карьеру. Поэтому-то мы так отрицательно относимся к идее различ-
1 «Мы давно уже имеем свидетельства, из которых можно заключить, что в древнейшем
христианстве, наряду с признанием прав за каждым христианским собратом требовать Exis-
tenzminimum'a12* существовала и обязанность общин этот минимум доставлять или
посредством приискания труда или помощью. Так, мы читаем в псевдоклементинских гомилиях (ср.
Clem. 8): «трудоспособным труд, неспособным сострадание». Также Киприан (ср. 2) считает
само собой разумеющимся, что община, если она воспрещает учителю драматического искусства
это занятие, должна озаботиться о нем, а в том случае, если он, кроме этого, не имеет
профессии, обеспечить ему Existenzminimum. Но до сих пор мы не знали, действительно ли эта
обязанность пользовалась всеобщим признанием. Но с тех пор, как мы имеем «Учение 12
апостолов»13* это изменилось. Здесь значится (с. 12), что ни один трудоспособный брат не должен
получать поддержку от общины дольше, чем в продолжение двух или трех дней. Существует,
стало быть, право у общины отсылать такого брата. Но это право обратной своей стороной
имеет обязанность: «Если брат знает ремесло, то пусть он занимается своим ремеслом и ест. А
если не знает, то смотрите, чтобы ни один христианин не жил в среде вашей в праздности. А
если он не хочет этого делать (т. е. исполнять порученную ему работу), то он принадлежит к
числу торгующих Христом {Χριστέμπορος). Остерегайтесь таковых». На основании этого
является несомненным, что христианский брат в общине может требовать работы и она должна ее
ему доставить. Стало быть, не только обязанность поддержки связывала членов - это была
только ultima ratio14*, - но в этом смысле они были и рабочими общинами, так что общины, где
было нужно, должны были доставлять работу брату» (Adolf Harnack. Die Mission und Ausbreitung
des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten. I Ausg. Leipzig, 1902. S. 127-128).
5*
131
ных религиозно-хозяйственных скитов, будет ли это толстовская колония или не-
плюевское «братство»18*, опирающееся на солидный экономический базис в виде
земельных и денежных пожертвований своего «блюстителя», или, что то же,
богатый монастырь, изнемогающий духовно от своих богатств, или, наконец, разные
сектантские социалистические коммуны, которые основывались в Америке.
Благодаря соединению благочестия и «прибытка», такие начинания носят в себе начало
своего разложения.
Идея такого церковного социализма на фоне общего господства
капиталистического строя не только религиозно ложна, но и противоречит требованиям
человеколюбия, и практически приводит к церковному эгоизму. В самом деле,
представим себе, что такой фаланстер существует, стало быть, он имеет достаточно
средств, чтобы безбедно содержать трудящуюся общину. В ее пределах будет
осуществлено то драгоценное преимущество, которого не знает человечество при
господстве капитализма, — право на труд. У ворот такой общины, конечно, неизбежно
будет толпиться целая армия бедного, голодного безработного люда, который будет
просить не милостыни, но работы, не подачки, но внимания и любви к себе. Как
же останется поступить таким общинам? Разве с нас спросится о помощи только
христианину, а не всякому человеку, в ней нуждающемуся? Нет, такое
обособление прямо противоречит духу христианства. Христиане должны стремиться к
усовершенствованию социального строя для всех, но не создавать привилегий для
избранных. Наконец, такая мысль совершенно несостоятельна и с деловой,
политико-экономической точки зрения, по крайней мере, для нашей эпохи народного
или даже мирового хозяйства, ставящего во взаимную экономическую зависимость
благодаря сети обмена все культурное человечество, - само Провидение сделало
неосуществимым план отъединения в экономической жизни. При существовании
народного и международного разделения труда и товарного обмена в христианском
фаланстере можно организовать на кооперативных началах несколько отраслей
производства, но они должны находиться в меновых отношениях со всем
остальным капиталистическим миром. Производительные кооперации и с чисто
экономической точки зрения вызывают против себя справедливые возражения по той
именно причине, что ими вгоняется клин в рабочий класс, создается
привилегированная группа как бы мелких капиталистов, но даже если и считать такие
ассоциации заслуживающими поощрения, то странно делать условием вступления в
них религиозные убеждения. Одна ложь не преминет вызвать в скором времени и
другую - обман и лицемерие, «благочестие ради прибытка».
Следует устранить возможное недоразумение. Мы вовсе не отрицаем
необходимости имущественных прав за церковным союзом, за церковью как юридическим
лицом. Церковный союз есть внешняя, так сказать, земная сторона церкви: для
отправления культа, содержания клира, школ и для удовлетворения некоторых
материальных нужд он нуждается в средствах, как в них нуждается любое
общество или союз. Можно спорить о том, больше или меньше эти средства» как они
добываются, но это уже не касается принципиального разрешения вопроса, которое
может быть только утвердительное.
В этой необходимости иметь церковные имущества для церковного союза
заключается источник постоянного соблазна превратить средство в цель,
отождествить действительные интересы церкви с имущественными интересами церковного
союза (каким бы образом ни создавались его имущества, из государственных или
частных пожертвований). Этим создается возможность постоянного уклона к
клерикализму, и относительно этой опасности всегда надо быть настороже. Но на этом
вопросе мы не предполагаем сейчас останавливаться.
Изложенный взгляд противоречит тому воззрению, будто истинная любовь
христианская необходимо приводит к «общению имуществ» и уничтожению всякой
«собственности», словом, к непосредственному коммунизму, руководящий пример
132
чего дает практика первой Иерусалимской общины, о которой в «Деяниях
Апостолов» рассказано следующее: «Все же верующие были вместе и имели все общее: и
продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде
каждого» (II, 44-5). Некоторые видят здесь вообще норму экономического строя
для христианской общины. Однако, вдумываясь внимательно в содержание этого
места, мы должны прийти к заключению, что именно хозяйственной нормы тут не
содержится и что здесь описан исключительный праздник в истории христианства,
а то, что естественно в праздник, не вполне применимо в будние дни. Значение
нормы имеет, конечно, то чувство любви, которое ярко пылало в этой общине и
при данных обстоятельствах имело экономическим последствием описанную форму
общения имуществ. Но самая эта форма не представляет собой чего-либо
абсолютного. Приглядываясь к ней ближе, мы видим, что в данном случае отнюдь не
вводится какой-либо новый порядок или хозяйственный строй, а тем более новая
организация производства. Напротив, по-видимому, в это время христианская
община какой бы то ни было хозяйственной деятельностью вовсе и не занималась,
«постоянно» находясь «в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в
молитвах». Здесь происходила не организация, а ликвидация хозяйства, какое же
иное значение имела «продажа имений и частной собственности» в целях выручки
денег, отдаваемых на прожиток общине. Очевидно, мы имеем здесь чисто
потребительский коммунизм, предполагающий общность не производства, но потребления
и, кроме того, подразумевающий обычный ход хозяйства вне общины (ибо продажа
имений предполагает покупателей, а покупка предметов потребления - товарный
рынок). У нас нет точных данных о том, насколько продолжительным и
распространенным было существование такого потребительского коммунизма1.
Несомненно, что уже в посланиях ап. Павла его нет: там идет речь о взаимной поддержке
церквей сборами, о благотворительности, но совсем незаметно существование
потребительского коммунизма. Напротив, как мы знаем, ап. Павел призывает
оставаться в прежнем звании, следовательно, предостерегает от ликвидации хозяйства.
Чрезвычайно поучительно отношение ап. Павла к вопросу о рабстве, которое
составляло величайшую социальную язву древнего мира, но в то же время было
экономическим фундаментом всей древней культуры. Христианство застало рабство
в полном расцвете. Как же оно относилось к отдельным рабам и рабству? Иногда
самые успехи и распространение христианства объясняют тем, что это была
религия рабов и социально обездоленных. Конечно, не может подлежать сомнению, что
нет силы, более радикально отрицающей рабство, нежели учение христианства о
1 Проф. Гарнак говорит по этому поводу следующее: «О древнехристианском "коммунизме"
писали много. На почве великой церкви языков он никогда не существовал, ибо подобное
частичное явление как полуязыческая карпократианская секта19* с ее коммунизмом сюда не
относится. Монашеский же коммунизм называется так только ex abusu20*, a вообще сюда не
относится. На иудейско-христианской почве также не было коммунизма, стало быть, пример ессеев
остался без подражания». Правильно судит Ульман: «Нельзя себе ошибочнее представлять
общение имуществ, если под этим разумеют какой-нибудь институт, подобно существовавшему
у ессеев и терапевтов21*. Много лучше можно представлять себе это состояние как отсутствие
всяких институтов» (Harnack, op. cit, 109, примеч.).
И коммунические мнения, встречаемые у отцов Церкви, не идут дальше такого
потребительского коммунизма, сводящегося к отсутствию всяких учреждений и ставящего чисто-
филантропические задачи взаимного дележа в целях общего потребления. Напр<имер>, св.
Иоанн Златоуст в известном толковании на цитированное в тексте место Деяний Апостольских
говорит: «Пусть все продадут все, что имеют, и принесут в середину... Чтобы кормить их
(бедных) каждый день, много ли было бы нужно? При общем содержании и за общим столом,
конечно, не потребовалось бы больших издержек» (Творения св. Иоанна Златоустого, т. IX, кн. I,
изд. СПб. Духовной академии. С. 118-124). Экономическая мысль отца Церкви не идет дальше
непосредственного благотворения бедным и потребительского коммунизма в этих целях (как и
в Деяниях Апост.). Экономические проблемы социализма как организации производства
остаются ему чужды.
133
бесконечном достоинстве человеческой личности и равенстве людей перед Богом,
однако отмирание рабства совершилось лишь в продолжительном историческом
процессе. Христианство поставило этот императив в истории (вместе с другими), но
не сделало непосредственной задачей момента. Оно не поднимало рабов на
восстание, на социальную революцию, хотя это было вполне возможно, судя по примерам
бывших восстаний. Оно не требовало даже непосредственного освобождения
христиан-рабов от христиан-хозяев, не делая, стало быть, принятие христианства
платой за свободу и не превращая его в привилегию; оно не трогало непосредственно
существующего строя, предоставляя преобразование его своей перерождающей
работе в истории1. Многих шокирует, удивляет и даже обескураживает, что
апостолы требуют от рабов повиновения господам, и не только добрым и кротким, но
и строптивым. Они указывают лишь взаимные обязанности рабов и господ, но и
только всего. У ап. Павла читаем: «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со
страхом и трепетом, в простоте сердца вашего как Христу, не с видимой только
услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю
Божию от души, служа с усердием как Господу, а не как человекам, зная, что
каждый получит от Господа в меру добра, которое он сделал, раб ли или свободный. И
вы, господа, поступайте с ними также умеряя строгость, зная, что над вами самими
и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия» (Еф. VI, 5-9).
Апостол особенно предостерегает (и, очевидно, не без поводов к тому), чтобы
принадлежность к христианству не служила поводом к манкированию обязанностями
со стороны раба: «Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих
достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учение. Те, которые
имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они
братья; но тем более должны служить им, что они верные и возлюбленные и
благодетельствуют им» (I Тим. VI, 1—2). «Рабов увещевай повиноваться своим
господам, угождать им, не прекословить, не красть, но оказывать всю добрую верность»
(II Тим. I, 9-10). Одновременно же апостол обращается и к богатым с
напоминанием им относительно их обязанностей: «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы
они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога
живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали,
богатели добрыми делами, были щедры и общительны» (I Тим. VI, 17—9). Что же
все это значит? Не значит ли в самом деле, что апостолы внутренне мирились с
институтом рабства, относясь к нему с принципиальным безразличием, не чувствуя
всего его несоответствия учению христианства и в гуманности отставая от некото-
1 Проф. Гарнак практическое отношение древнего христианства по вопросу о рабстве
формулирует в следующих пунктах:
a) Обращенные рабы и рабыни в религиозном отношении признавались братьями и
сестрами; их положение в мире рассматривалось, напротив, как нечто безразличное.
b) Поэтому они в полном объеме пользовались правами членов общин; рабы могли быть и
клириками и даже епископами.
c) Как личности (в нравственном отношении) они должны были цениться так же, как и
свободные: половые честь и стыдливость рабынь не должны быть оскорбляемы, у рабов
должны предполагаться те же добродетели, как и у свободных, а потому должна быть такая же
оценка этих добродетелей.
d) Господа и госпожи настойчиво увещевались гуманно обходиться со всеми рабами, а по
отношению к христианским рабам не забывать, что они братья. Наоборот, рабам христианам
говорилось, что они не должны с презрением относиться к господам, т. е. не должны
становиться им наравне.
e) Отпущение рабов на свободу, вероятно, сначала считалось делом похвальным, иначе не
могло бы возникнуть притязание рабов христиан на освобождение; но такого притязания - по
крайней мере по отношению к общинной кассе - древняя церковь не признавала, но
выразительно его отвергала; однако в нескольких случаях она выкупила рабов из общинной кассы»
(Harnack, op. cit., 122-124). Ср. след. очерки: «О первохристианстве» и «Первохристианство и
социализм».
134
рых языческих философов-стоиков? Как ни странно, но подобную оценку мы
встречаем даже у столь компетентного исследователя, как проф. Гарнак, который
говорит1: «Древняя церковь не рассматривала право господ над рабами как
греховное, но видела скорее в рабстве естественное состояние. Перемены в этом
отношении проистекают не из христианства, но из общих морально-философских
соображений (?) и хозяйственных нужд». Мы считаем такую характеристику, по крайней
мере в применении к учению апостольскому, безусловно неверной.
Индифферентное (я уже не говорю положительное) отношение к рабству представляется
невероятным уже потому, что освободительные стремления жили среди самих рабов,
входивших в состав общины, они склонны были, очевидно, даже переход в
христианство рассматривать как путь к освобождению, и, удерживая их от резких и
поспешных поступков, христианство не могло не отрицать рабства всей своей
проповедью и в самой его основе. И однако его непосредственное отношение к
современному рабству гораздо сложнее, нежели простое его отрицание.
Отрицая данный общественный строй, рабство, крепостничество, капитализм, в
самых его основаниях, возможно, однако, допускать его относительную
историческую необходимость в том смысле, что в данный момент его непосредственно
нельзя устранить, не подвергая опасности самого существования общества. Это - точка
зрения так называемой реальной политики, которая при широте задач умеет
находить границу их осуществимости в данный момент. Этой трезвости
противоположен утопизм, который, как у Толстого, призывает личным подвигом победить в
себе не только индивидуальные, но и социальные исторические язвы, напр<имер>,
сразу достигнуть социально-праведной жизни опрощением, или же который
«революционным» (в узком и специфическом смысле) путем хочет сразу совершить
прыжок из одной исторической эпохи в другую22*, вырвать у истории
недоношенный плод, насильно развернуть еще нераспустившийся бутон. История, как и
природа, имеет свои, не нами установленные законы и, подобно тому как в медицине,
если хочешь оказать действительную помощь, а не ворожить и знахарствовать,
нужно считаться со свойствами человеческого организма, определяемыми наукой,
так и в социальной политике необходимо считаться с пределами эластичности
социальной ткани, чтобы не совершить ее разрыва или полома скелета во имя
стремления придать социальному телу новую форму. В словах апостола мы видим
авторитетную поддержку историзму, социально-политическому реализму, отрицающему
прямолинейность и отвлеченность, столь обычные как у религиозных доктринеров
(толстовцы), так и у революционных якобинцев.
Если же мы, хотя и в виде компромисса, миримся с относительной
необходимостью данного строя, признаваемого ненормальным и недолжным, если мы, по
доброй воле или нехотя, признаем его неизбежным условием исторической жизни в
данный момент, мы не можем отнестись к нему только внешним образом, как к
постороннему для нас факту. Участвуя в нем, мы должны в известной степени
принять его и на свою совесть и видеть в нем тоже арену добра и зла, как бы ни
преломлялись они в данной исторической среде. Мы должны установить и здесь
христианские обязанности, потому что, пока мы живы, мы не можем только
пассивно мириться с социальной средой, которую и сами создаем и поддерживаем, мы
призываемся к активному участию в социальном делании с полным сознанием
ответственности, прав и обязанностей. Поэтому, хотя бы мы отрицали
принципиально рабство, но, живя в век рабства, можем допускать, что существуют хорошие и
плохие рабы или рабовладельцы, как и теперь мы знаем, что бывают хорошие и
дурные капиталисты, добросовестные и недобросовестные рабочие. Мало того,
возможно именно христианское отношение к своим обязанностям во «всяком звании»
(кроме таких, конечно, которые вообще не могут быть оправдываемы для христиа-
1 Ad. Harnack. Die Mission etc., 124.
135
нина, напр<имер>, профессия палача), в том смысле можно было говорить и о
христианских обязанностях раба и рабовладельца, по крайней мере о них говорил
ап. Павел, можно говорить и о христианских обязанностях рабочего и
капиталиста. Слова ап. Павла относительно обязанностей рабов и богачей и рабовладельцев
могут быть с соответственными изменениями приложены и к нашей
капиталистической эпохе.
В таком отношении иные усмотрят «оппортунизм». Таким именем охотно
клеймят у нас чуждое задора и крикливости указание не только взаимных прав, но и
обязанностей. По существу дела такая ирония, конечно, лишена всякого
основания. Есть коренная разница в отношении к человеку в ходячем радикализме и
христианстве. Христианство не разделяет и не может разделить господствующего
детерминизма, согласно которому человек всецело определяется внешними
условиями жизни, общественными-ли формами или производственными отношениями,
так что собственно вменяемой и свободной человеческой личности нет, а есть
только равнодействующая этих внешних влияний! По учению же христианства, есть в
человеческой душе нечто, притом самое существенное в ней, в чем он определяется
не внешними условиями жизни, а только самим собой, своим собственным
свободным волеопределением. И если человек связан законом причинности в своем
эмпирическом самоопределении, в проявлении своей воли вне себя, то в этом основном
волеопределении он свободен и без предположения этой свободы теряли бы всякий
смысл все основные учения христианства о спасении, о вере и любви. И в этом
смысле спасение души остается личным делом, которого один не может выполнить
за другого и которое не зависит от внешних форм. Христианство, как и всякая,
впрочем, религия, неизбежно требует личного подвига, еоть личное, интимное
дело, в этом присущий ему неустранимый индивидуализм, который восполняется, но
отнюдь не уничтожается христианской общественностью и церковностью.
Насколько индивидуальная душа в своем личном переживании поворачивается к Богу, как
Высшему Благу и Всеобщему Отцу, и встречается при этом с такими же
переживаниями других индивидуальных душ, причем сливается с ними в этом
переживании, в этой общей вере, молитве и любви, она тем самым оказывается в церкви, в
которой присутствует и всех реально соединяет Христос.
Для подобного союза и для такого общения нет непреодолимых волею
препятствий, а также нет и непроницаемых перегородок, создаваемых различиями
социального положения. Социальные перегородки, оставаясь в своей исторической
косности и неподвижности, преодолеваются изнутри, и раб и рабовладелец, рабочий и
капиталист получают способность смотреть поверх этих внешних и в этом смысле
случайных ограничений друг другу в душу и видеть в ней отблеск сияния неба и
общую жажду Бога. Христианин уступает неизбежности, от него независящей
невозможности сдвинуть гору социального строя единоличным усилием, но, не
отказываясь от этого как от задачи исторического развития, он не может, однако,
религиозной жизни и религиозного общения ставить в зависимость от фактов
внешней необходимости и дожидаться для этого наступления социального и правового
равенства всех людей. Христос основал церковь не дожидаясь этого времени,
значит, эти перегородки не могут препятствовать церковному общению. Обыкновенно
люди материалистического мировоззрения говорят, что надо сначала разрешить
социальный вопрос, устранить социальные перегородки, а пока не мешать этому
серьезному и важному делу такими пустяками, как религия; когда все это будет
устроено, тогда, наряду с другими развлечениями, можно допустить и религию.
Но, конечно, так можно рассуждать только людям уверовавшим в материю и
стихию мира, как высшие силы, по крайней мере в теории. Апостольская же
проповедь гласила: «Каждый оставайся в том звании, в котором призван. Рабом ли ты
призван, не смущайся; но если и можешь сделаться свободным, то лучшим
воспользуйся. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа; равно и при-
136
званный свободным есть раб Христов» (I Кор. VII, 21—22). Для христианской
свободы не служат неодолимым препятствием никакие цепи рабства, и никакая
внешняя свобода не дает еще сама по себе свободы внутренней, христианской.
Вступление в христианство создает всеобщее усыновление Богу, при котором не
различаются ни пол, ни происхождение, ни социальные положения: «Все в'ы сыны Божий
по вере во Христа Иисуса; все вы, во Христе крестившиеся, во Христа облеклись.
Нет уже иудея, ни язычника; нет ни раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни
женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал. III, 26—28).
Противопоставляя таким образом внешнее и внутреннее, мы не хотим, однако,
уничтожить всякую связь между ними. Конечно, христианский рабовладелец
неизбежно должен был утрачивать черты сладострастия власти и жестокости, которым
так легко развиться в его положении. Вообще каждый получает силу успешнее
бороться с теми своеобразными искушениями, которые свойственны его внешнему
положению: капиталист — с духовным соблазном богатства, власти и роскоши,
пролетарий - с духовным соблазном бедности, зависти и озлобления, правитель — с
соблазном произвола и властолюбивого деспотизма и т. д. Побеждая в меру сил эти
соблазны и искушения, стараясь отнестись к своему «званию» и положению как к
служению, видя в нем для себя прежде всего обязанности, а не права, он получает
способность по-христиански проходить это служение, а в число своих задач и
обязанностей вводит и дальнейшее преобразование самого социального строя в духе
справедливости и свободы.
Это возвращает нас опять к вопросу о христианском отношении к собственности
или богатству. Собственность, как и богатство, в данном случае может иметь
двоякое значение: этическое или религиозное и социально-экономическое (вопрос об
юридической квалификации собственности мы оставляем здесь в стороне). Под
собственностью в первом смысле разумеется не право собственности и не объект ее, но
чувство собственности - привязанность к ней, жадность, любостяжание,
своеобразно проявляющийся здесь эгоизм, отделяющий человека и от других людей и от
Бога, духовный плен у собственного имущества. Победа над собственностью в этом
смысле может быть не экономическая, а только нравственная, она должна
совершиться в тайниках души, в незримых переживаниях совести. Можно (хотя и
трудно) иметь обширную собственность и быть от нее духовно свободным, обладать
весьма слабо развитым чувством собственности и, наоборот, можно (и чрезвычайно
легко) быть бедняком, не имеющим почти никакой собственности и сгорающим от
чувства любостяжания, жадности и зависти к имущим. Возможно, что такое
чувство не только не будет побеждено приобретением собственности (если этот бедняк
почему-либо вдруг разбогатеет), но будет еще больше распаляться, как страсть к
золоту у «Скупого рыцаря», так что единственная реальная над ним победа может
быть совершена не извне, но изнутри. Ввиду возможности такого несовпадения
между чувством собственности и ее наличностью, можно себе представить развитие
и даже обострение этого чувства и при социалистическом строе, при котором права
собственности в точном смысле уже не существует, и остается только право
пользования на предметы потребления: и такое право дает достаточный простор для
этого чувства эгоистического самоутверждения, и в том смысле никакая внешняя
реформа, хотя бы социалистическая, неспособна устранить себялюбивое чувство
собственности. Именно это-то чувство собственности, духовный яд ее,
сладострастие мамона, и осуждается бесповоротно христианством как коренным образом
противоречащее основной заповеди любви1.
Что же касается собственности в объективном смысле, т. е. исторического
факта собственности, то он может иметь различное значение и находится в связи не
1 Эта основная мысль получила яркое выражение в сочинении Климента Александрийско
го «Quis dives salvetur».
137
только с организацией потребления, но и организацией производительного труда,
производства, вообще в связи с экономической организацией данного общества.
Значение собственности определяется именно характером этой организации, на-
пр<имер>, одно значение собственность имеет при капитализме, другое в мелком
крестьянском или ремесленном хозяйстве, третье в рабовладельческом и т. д.
Raison d'être23* данной формы собственности определяется относительной
исторической необходимостью и целесообразностью данной формы производства, одной из
подробностей которой она и является. В этом смысле вопрос о собственности не
есть отдельный, самостоятельный вопрос, он разрешается в связи с общим
вопросом о данной форме производства. Собственность капиталиста на фабрику означает
не то, что он владеет ею как предметом личного потребления, например, платьем,
пищей, жилищем, но что он, владея ею, заведует данной отраслью общественного
производства. Если надлежащим образом понять значение собственности в этом
смысле, то она есть столько же право, сколько и обязанность, с ней связана
важная и ответственная функция. Вопрос об освобождении от такой собственности
совсем не разрешается так просто, как относительно предметов потребления, где
простой отказ собственника в пользу других и потребительский коммунизм
совершенно исчерпывает все затруднения. До тех пор, пока известный экономический
строй, в данном случае капитализм, остается непоколебленным и представляет
общее условие исторического существования, такая собственность налагает перед
обществом весьма серьезные и ответственные обязанности на того, кому она
досталась. И такую собственность можно (хотя, конечно, и трудно) иметь и без
особенного развития собственнических чувств, «классовых интересов», господство
которых, хотя фактически по слабости человеческой и составляет общее правило, но не
представляет предела, его же не прейдеши. И христианство, с его историзмом,
открывающим поле для реальной политики, не может требовать немедленного и
фактического отказа от такого рода собственности, потому что это означало бы
требование немедленного введения социалистического производства. Тот капиталист,
который был бы в своем «звании» проникнут действительно христианским духом,
мог бы в своей личной жизни и потребностях оставаться каким угодно аскетом и
бессребреником, отдавая другим все свои доходы или даже затрачивая их целиком
на дело социализма (такие примеры бывали), но он не имел бы права освободить
себя от ответственности за судьбу и благо своих рабочих, продав свою
«собственность» какому-нибудь кулаку хотя бы с целью раздать эти деньги «нищим».
Богатство в социальном смысле, социальная мощь и власть, обязывает ее носителей как
и всякая власть1. Не будучи в состоянии в одиночку выпрыгнуть из своей
социальной эпохи сразу в царство социализма, они должны нести хотя бы как бремя свою
«собственность», но нести его добросовестно и честно2. Впрочем, остается, конечно,
еще исход: передать фабрику в собственность рабочих, превратив их тем самым в
мелких собственников, но большой вопрос, принесло ли бы это им пользу как в
духовном, так и в экономическом отношении, как об этом свидетельствует история
производительных коопераций. Гораздо легче разделить и раздать землю, но и это
1 Ср. предыдущий очерк «Народное хозяйство и религиозная личность».
2 Именно к подобным случаям «неправедного богатства», от которого трудно отказаться,
или неизбежного фактического компромисса, относим мы вообще загадочную притчу
Спасителя о неверном управителе (Лк. XVI, 1-12). Этот неверный управитель, чтобы поправить свои
дела, теряя место, заставил должников хозяина уменьшить сумму долга с целью заслужить их
расположение и поддержку и за это удостоился похвалы от самого хозяина за догадливость. «И
Я говорю вам (продолжал Спаситель): приобретайте себе друзей богатством неправедным,
чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а
неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были
верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше?» За этим
непосредственно следуют слова о невозможности служить Богу и Мамоне.
138
зависит от обстоятельств. Мы не берем в этих рассуждениях того исключительного
случая, когда личные наклонности влекут от всяких «деловых» занятий к тому
призванию, которое всегда останется, конечно, выше всякой такой запряжки, - на
путь вольного и самоотверженного религиозного служения, - путь пророчественный.
Франциска Ассизского мы никогда и ни при каком строе не может вообразить хотя
бы заведующим фабрикой, его можно представить себе только добровольным нищим,
который весь радость, молитва и вдохновение и который, сам будучи человеческой
радостью, служит людям самую лучшую и высшую службу. Но только такое проро-
чественное (в широком смысле) и священственное служение может освободить
человека от обязанностей пред прозой жизни.
Собственность на средства производства, или «капитал», есть важнейшая форма
собственности в наше время, определяющая наш общественный строй. За вычетом
ее остается собственность на предметы потребления, на доходы в точном и тесном
смысле слова, которые отражают господствующую форму производства со стороны
«распределения». Доходы эти, конечно, не могут быть социализированы без
соответствующей социализации средств производства. Поэтому и осуществление
общения имуществ в качестве всеобщего и постоянного института вне этой
социализации тоже осуществиться не может. Подобное требование, выставляемое иногда как
основная норма христианства в области экономической жизни, вообще никакого
определенного экономического содержания не имеет, если не подразумевать здесь
случайной помощи друг другу. Кроме того, едва ли рационально выставлять
самостоятельно даже и это требование, ибо отношение к нему служит только
симптомом, показывающим наличность и живую силу христианской любви, ее
термометром, а нельзя стремиться·, как к самостоятельной цели, к тому, чтобы получить
известное показание на шкале термометра, когда это всецело зависит от
температуры. «Царствие Божие не есть пища и питие»24*, и ждать от него прежде всего
устроения имущественных отношений и устранения имущественных неустройств,
это значит впадать в тот же соблазн, каким соблазнялись апостолы во все время
земной жизни Христа, склоняться к тому уклону, по которому современный
материалистический социализм приходит к отождествлению задач Царствия Божия с
устройством социалистического хозяйства. Надо принципиально отвергнуть этот
соблазн и сказать, что непосредственного разрешения практических задач в виде
«общения имуществ» христианство не сулит и что какого-либо специфического
христианского и церковнообщинного социализма не существует и существовать не
должно. Должна быть только христианская проповедь задач социализма и
христианское истолкование его действительных целей (христианская этика и философия
социализма), но самый социализм как экономический факт, как совокупность
внешних объективных институтов юридических и экономических может быть
только один и тот же для всех членов данного общества, и для христиан и для
язычников. Поэтому в целях фактического преобразования существующего строя на
началах социализма и приближения его к воплощению справедливости и любви в
экономических отношениях христиане должны стать в общую запряжку истории,
отнюдь не обособляясь и не аристократничая, не уклоняясь от совместной работы с
«язычниками», насколько и они, преследуя общегуманистические задачи, хотят
делать дело Христово. Конечно, как и все, что делают христиане, и эту работу они
должны пропитать духом Христовым и вести непримиримую борьбу с теми
языческими и антихристианскими соблазнами, которые здесь имеются, они не должны
затеряться здесь, но остаться сплоченным отрядом церкви воинствующей. Однако,
противопоставляясь в том, в чем существует глубокая и непримиримая
противоположность между христианским и языческим отношением к социализму, не следует
без крайней необходимости разъединяться в том, что соединяет, является общим, и
в преследовании таких объективных задач следует идти в стройной армии прогрес-
139
са, в общих рядах социализма, ибо в социализме как хозяйственной организации
содержится христианская идея, заложено организующее начало социальной любви.
Мы понимаем, что здесь заключается немалая опасность обмирщения и даже
утраты самого дорогого - религиозной индивидуальности, и относительно этой
опасности всегда надо быть настороже. Однако уклоняться от опасности значит в
данном случае то же, что уклоняться от жизни, от живого дела, от подвига любви.
И уклоняясь во имя этой опасности от жизни, не подвергаемся ли мы гораздо
худшей опасности, — очерстветь и омертветь в брезгливом равнодушии к
«греховному» миру и уподобиться той бесплодной смоковнице25*, участь которой да минует
каждого из нас!
1906
О ПЕРВОХРИСТИАНСТВЕ1
(О том, что было в нем и чего не было. Опыт характеристики)
I
Об историческом изучении христианства. - Задача очерка
С любовью и почтительной пытливостью останавливается мысль на первых
временах христианства. У его исторической колыбели стоит длинная, все
увеличивающаяся вереница ученых и мыслителей, приносящих сюда плод своего труда,
вдумчивости, наблюдательности. Стремятся запечатлеть в памяти все даже
мельчайшие черты, которые только можно установить относительно истории первохри-
стианства. Изощряются до виртуозности методы изучения. Хотят, насколько
можно, узнать и описать каждый камень священной земли, в подробностях изучить ее
историческую топографию, исследуя для этого и тот мир, который простирался за
ее границами, окружал ее. Наш рационалистический и неверующий век в лице
наиболее рационалистически настроенной западной, преимущественно немецкой,
исторической науки воздвигает и отчасти уже воздвиг массивный памятник своего
благочестия, своей любви к христианству, показанной не словом, а делом. Отрадно
думать, что эта историческая работа, привлекающая к себе первоклассные научные
силы, находится на полном ходу, и именно теперь, в последние годы нашего
10-летия, по-видимому, становится еще плодотворнее, приобретает еще больший размах.
Классическая филология и эпиграфика, история и археология, история религий и
ориенталистская лингвистика в дружном сотрудничестве содействуют пролитию
нового света на историческую обстановку первохристианства. В новейшее время
совершающиеся в Египте и других местах раскопки принесли на обрывках
папируса, на черепках, на металле и камне новые материалы, ждущие еще полнейшей
разработки, но уже давшие некоторые ценные результаты. Изучением восточных
религий, так успешно развивающимся именно последнее время и ставящим ряд
новых вопросов о взаимоотношении иудаизма и христианства и таинственного
Востока, из которого халдеи-звездочеты пришли поклониться Божественному
Младенцу, дается еще новое освещение того же вопроса. В результате историческая эпоха
первохристианства, при всей скудости и отрывочности материалов,
недостаточности прямых источников, принимает все более конкретные очертания, приближает-
1 Читано (с сокращениями) в заседании Московского религиозно-философского общества
памяти В. С. Соловьева 31 октября 1908 года. Напечатано в «Русской мысли» (1909. № VI—VII).
141
ся к нашему глазу из туманной дали исторической перспективы и схематической
стилизации. Если мало нового можно узнать о самом первохристианстве сверх
того, что мы имеем в новозаветных книгах и скудных памятниках
древнехристианской письменности и что можно почерпнуть из их всестороннего изучения (хотя и
здесь последние десятилетия могут похвалиться некоторыми находками), зато
становится понятнее та историческая среда, в которой родилось и развивалось перво-
христианство, создается богатый исторический фон, на котором заново выступают
отдельные черты нам уже известной картины. Я знаю, что в некоторых кругах
существует недоверие к этой исторической работе якобы ввиду разрушительности
для веры ее результатов; повод к такому опасению дают мнения многих ее
представителей (хотя и в этом отношении нельзя не отметить за последнее время
некоторого, хотя и медленного, поворота среди представителей критического
^направления в сторону возвращения к церковной традиции, обусловленного самим
развитием науки). Я не разделяю этого отношения к историческому исследованию,
насколько оно остается в границах строгой науки1. Конечно, чтобы без смущения для
веры относиться к некоторым результатам этого исследования, нужно раз навсегда
отказаться от того воззрения, по которому весь внехристианский мир обречен на
одну лишь тьму заблуждения и вся его история есть бессмысленное блуждание в
ней. Для христианства как религии богочеловеческой естественная, человеческая
сторона религиозного развития, а следовательно, и исторические его пути никоим
образом не должны быть игнорируемы. Христос пришел, когда «исполнились
времена и сроки»1*, когда для этого достаточно созрело историческое человечество. И
если находят черты сходства и близости между библейскими учениями и,
например, вавилонскими верованиями или же ищут связи между отдельными чертами
иудейской, а затем и христианской апокалиптики с религиями Ирана и Вавилона,
то такое сродство, это существование точек соприкосновения между христианством
и «язычеством», даже если бы оно было .окончательно доказано, вовсе не подрывает
религиозного значения библейского повествования и даже его «боговдохновеннос-
ти», а свидетельствует лишь о том, что отдельные стороны или черты истины,
соединенные, однако, обыкновенно с многими заблуждениями и извращениями,
можно находить и в «естественных» религиях2. Очевидно, такого рода научные
открытия, поскольку они могут считаться твердо установленными и строго
проверенными, а не являются плодом поспешных и легкомысленных обобщений,
подсказанных неверием, должны побудить к расширению и некоторому видоизменению
наших старых представлений о религиозном пути человечества; религиозная
философия истории должна уяснить значение естественного откровения, но для того
чтобы не считать их опасными для основ веры, нужно твердо помнить и самим
ученым, и широкой публике о границах историзма. Историческое исследование
совершенно некомпетентно дать решающий ответ о высших религиозных ценностях,
составляющих содержание догматов веры. Ибо последние истины и основы веры
стоят - выше или ниже, - но во всяком случае вне научного доказательства, а
следовательно, и исторического исследования. Ведь, напр<имер>, научно доказывать,
что Христос - Богочеловек, нельзя, это может раскрыть только личный
религиозный опыт, непосредственная интуиция, ибо не «плоть и кровь» открывают это по
слову самого Господа исповедовавшему Его Петру2*. Уверование есть свободный,
поистине чудесный акт, как новое рождение. А то, чего нельзя научно доказать,
нельзя и опровергать научно. И если историческая («ричлианская»3*) школа в Гер-
1 Ср. об этом интересную работу Prof. Ernst Troeltsch «Die Absolutheit des Christentums
und die Religionsgeschichte» (1902).
2 Вообще одна из самых настоятельных потребностей современного религиозного сознания -
философия мифологии, как она зародилась еще в гениальной голове Шеллинга (его
«Philosophie der Mythologie» сохраняет свое значение и поныне), но приведенная в связь с
завоеваниями современной науки.
142
мании в настоящее время отрицает Богочеловечество Христа, то не по научно-
историческим, а по религиозно-метафизическим основаниям, вследствие своего
совершенно особого понимания христианства и стоящего ,с ним в связи
религиозного опыта. Эти границы историзма у лучших представителей исторической науки
сознаются, можно сказать, чем.дальше, тем отчетливее. И" наиболее добросовестные
и тонкие из современных историков, чувствуя эти границы, иногда и в самом
научном исследовании признают недостаточность сил естественного объяснения.
Верные научному долгу, они стремятся довести естественнонаучное объяснение до
конца, но не уклоняются признать, где оно неприложимо. В этом смысле у лучших
представителей исторической науки вы встретите не раз заявление, что хотя
причины распространения первохристианства и могут быть усматриваемы в разных
естественных фактах, но все же зарождение его остается загадочным и чудесным1.
Благодаря особенностям предмета в истории христианства личная вера, личная
религия, личная интуиция имеют первостепенное значение, ибо ведь в совершенно
разном свете представляется вся история возникновения первохристианства для
уверовавших во Христа или для неверующих в Него, но верующих только в Его
Отца (современная немецкая школа ричлианского богословия), или совсем
неверующих ни в Сына, ни в Отца. Этим объясняется, между прочим, поразительная
религиозная, а вместе и историческая слепота неверующих исследователей,
которые находят возможным объяснять христианство* без Христа, вообще помимо
всякого влияния религиозных индивидуальностей, из каких-либо естественных,
стихийных, например экономических, факторов; это подобно тому, как если бы кто-
либо стал писать историю музыки не только не понимая, но питая отвращение к
музыке. Понятно, какой истории можно ожидать от такого исследователя. Здесь
надлежит вспомнить прекрасные слова профессора Зома. То, что он говорит
юристам, применимо ко всем исследователям:
«Новый мир окружает юриста, мир христианской жизни по вере, мир, в
котором он не в состоянии видеть что-либо глазами юриста и схватить что-либо руками
юриста. Сними твою обувь, потому что почва, на которой ты стоишь, земля святая!
Христианство вошло в мир сверхземное, сверхмирное. Ты никогда не поймешь
этого, если сам не испил из чудесной чаши, содержимое которой утоляет жажду
души. Испей, и ты не возжаждешь вовеки. Испей, и ты откроешь новый мир,
невидимый тобою дотоле никогда, мир духовного, покрывающий как сводом,
обливающий лучами света мир земного»2.
В основу характеристики первохристианства (Urchristentum), эпохи,
охватывающей так называемый апостольский и послеапостольский век, т. е.
простирающийся приблизительно до средины II века, я полагаю не те черты его, по поводу
которых ведется спор и разделяются мнения различных исследователей или
различных вероисповеданий, но то, что составляет, насколько я умею судить,
незыблемо установленные исторические факты, против которых сейчас не будет спорить
ни историк, ни богослов. Само собой разумеется, что для того, чтобы найти такие
общие черты, ощутить такие опорные точки, надо, во-первых, ограничиться
немногими и суммарными штрихами, во-вторых, взять широкую историческую пер-
Вот, например, заключительные слова проф. Геффкена в его работе «Aus der Werdezeit
des Christentums» (Leipzig, 1904. S. 135): «Aber vielleicht ist auch alles dies nur Klügelei, und
gehört der Sieg des Christentums zu den historischen Wundern, deren Ursachen uns stets ein
"Ignorabimus" bleiben, ein Geheimniss, immer wieder lockend, immer wieder sich verhüllend, wie
das Wesen Jesu Christi selbst»4*. Ср. аналогичный отзыв проф. Добшюца в его «Problemen des
apostolischen Zeitalters» (Leipzig^ 1904. S. 11): «Unser Problem gehört zu denen, die im letzten
Grunde listorisch unlöslich sind» .
2 Рудольф Зом. Церковный строй в первые века христианства / Пер. А. Петровского и
П. Флоренского. М., 1906. С. 7. (В этой книжке переведена первая глава известного труда
Зома «Das Kirchenrecht», 1892).
143
спективу, при которой бы сливалось все детальное, но зато выделялось бы резкое и
основное1.
Современный человек со своими вопросами и муками, тревогами и заботами
стремится душою к святыне первохристианства, когда Господь был столь близок,
когда было столь обильно излияние даров Св. Духа, когда жили и учили св.
апостолы, когда проливали свою кровь св. мученики, когда складывались основы
церковного устройства и учения. Он стремится сюда со своими болями и своими
муками, в надежде получить ответ на свои теперешние запросы. И многие верят, что
там, в обетованной земле, найдут они свой золотой век, разрешение своих вопросов
и успокоение от теперешних своих тревог. Первохристианство имеет для всего
христианства, и особенно для современного, значение образца, примера, нормы, а
вместе оно и есть то зерно, из которого развивается историческое растение. Чему же
мы можем в настоящее время учиться от первохристианства, в чем оно еще может
служить для нас образцом, а в чем, наоборот, не может? На какие запросы души
найдет современный человек в нем руководящую норму, а на какие совсем не
найдет? Или: что было и чего не было в первохристианстве?
II
К характеристике состояния античного мира
Одним из важнейших приобретений новейшего исторического исследования2
является то, что мы имеем теперь гораздо более полное, яркое и точное
изображение духовного состояния мира, в котором родилось христианство, того бродильного
чана, в который была брошена его новая закваска. Теперь уже нельзя
удовольствоваться упрощенным и тенденциозным изображением античного мира около Р. X.
как изжившего свои силы, исчерпавшего свои потенции и разрушившегося
вследствие своей гнилости. Уменьшать силы побежденного противника - ибо древний
мир был все-таки побежден новой верой - вовсе не значит возвеличивать
победителя, особенно если это покупается ценой исторической правды, и нельзя не быть
признательным новейшим филологам и историкам за то, что их трудами древний
мир принимает все более живые и значительные, отнюдь не мертвые черты. Нель-
1 Материалом при составлении очерка кроме подлинных памятников древнехристианской
письменности, творений мужей апостольских и апологетов послужила многочисленная, по
преимуществу немецкая, новейшая литература по истории христианства. Кроме специальных
монографий, цитируемых в своем месте, из общих сочинений назовем: по истории
древнехристианской литературы - классические труды Гарнака (по истории догматов,
древнехристианской миссии и литературы) и Барденгевера, также Лоофса (история догматов). К. Weizsäcker.
Das apostolische Zeitalter; Knopf. Das nachapostoliche Zeitalter; Wernle. Die Anfänge unserer
Religion. 1904; Deissmann. Das Licht vom Osten. 1908; Heinrizi. Das Urchristentum. 1902;
Dobschütz. Urchristlichen Gemeinden. 1904; Problemen des apostolicheri Zeitalters. 1904; Jülicher,
Harnack, Bonwetsch и др. в «Die Christliche Religion» (в издании «Die Kultur der Gegenwart»);
Hatch. Griechentum und Christentum; Sohm. Kirchenrecht; Pfleiderer. Urchristentum. I;
Duchesne. Hist. anc. de l'église. 1908, серия «Religionsgeschichtliche Volksbücher» hrsg. von M.
Schiele (по разным вопросам). Соответственные статьи из «Realenzyklopedie für protestantische
Theologie und Kirche», 3-te Aufl.; K. Kautsky. Der Ursprung des Christentums. 1908. См. также
русские труды проф. Спасского «История догматических движений», проф. Гидулянова
«Митрополиты в первые три века христианства».
2 Ср. обобщающее и превосходное исследование проф. Paul Wendland «Die Hellenistisch-
Römische Kultur in ihren Beziehungen zu Judentum und Christentum». Tübingen, 1907. Ср.
также 5 очерков (Корнилля, Добшюца, Геррмана, Штэрка и Трёльча) в серии «Wissenschaft und
Bildung» под общим заглавием «Das Christentum» (1908). Ср. также: Ludwig Friedländer.
Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms in der Zeit von August bis zum Ausgang der
Antonine. 7-te Aufl. 1902.
144
зя отрицать, что в духовном отношении эта высококультурная эпоха, подобно
теперешней, не отличается уже первоначальной свежестью, черты утомления и
декаданса, эпигонства и уныния явственно лежат на ней, хотя это и приложимо
главным образом к высшим культурным классам, жившим своей особой и, по-
видимому, еще более, чем теперь, обособленной жизнью, но уже менее приложимо
к тем средним и низшим классам, среди которых главным образом развивалось
вначале христианство. Культура этой эпохи отличалась весьма высоким уровнем во
всех важнейших областях. Правда, это была уже культура, так сказать, второго
сорта, не эллинская, но эллинистическая, обладавшая уже не языком Платона и
Демосфена, но значительно измененным диалектом, так называемым всеобщим,
койне6*, на котором написаны и книги Нового Завета. Зато эта койне была языком
не маленького греческого государства, но всего культурного мира, спаянного
Александром Македонским и снова перепаянного римскими императорами. На
протяжении всего тогдашнего мира (ойкумены) был общепризнанным и общеизвестным
этот язык, также как действовала одна власть, одни законы; прежние границы
обособленности, партикуляризма были разрушены, и многие народы поглощены
единым государством. Это внешнее объединение, улучшенные пути сообщения и
пр., конечно, весьма облегчали проповедь христианства. (Сохранилась надпись на
могиле одного фригийского купца, совершившего 72 раза путешествие в Рим, -
явный знак, насколько были обеспечены внутренние сношения). Твердая политика
императорской власти в лице Августа положила начало более спокойному и
обеспеченному положению провинций, особенно монархично потому настроенных и
ожививших по этому поводу старые свои воспоминания о религиозном обожании
восточных деспотов, чтобы применить это к культу римских императоров1. Август,
как известно, впервые называется богом и спасителем (Σωτήρ) на одной из
надписей в М<алой> Азии. Культура древнего мира тогда не достигла еще полного
упадка и не сказала еще своего последнего слова, напротив, была богата творческими
силами. В литературном отношении эта эпоха может назвать целый ряд
выдающихся мастеров поэзии и прозы (Цезарь и Гораций, Вергилий и Тацит и др.).
Литературность вообще отличает эту эпоху, создавшую и свои новые формы (между
прочим, философскую диатрибу); с царствования Веспасиана наступает пора,
называемая теперь второй софистикой (Вендланд). Красноречие ценилось весьма
высоко, и ему учили в школах так же, как и риторике. «Писатель» и «оратор» было
едва ли не столь же почетным званием (среди культурных кругов), как и теперь.
Философия этого времени занималась вопросами преимущественно нравственного,
практического характера и наряду с легкомысленным скептицизмом и боевым
атеизмом одних порождала возвышенные религиозные настроения у других. В
стоицизме мы имеем неизгладимый памятник величия духа античного человека;
писания Эпиктета или М<арка> Аврелия, Плутарха или Сенеки производят
впечатление и теперь и поражают иногда своим приближением к христианской морали,
признанным и отмеченным и христианскими писателями и выражавшимся инргда
в прямых позаимствованиях у них. Стоицизмом выработан идеал философского
праведника, аскета - служителя истины, и, несомненно, углубляя нравственное
сознание, стоицизм подготовлял успехи христианства. Своей проповедью всеобщей
гуманности и братства он содействовал смягчению рабства. Вместе с тем в нем
обострялся и без того напряженный индивидуализм и сосредоточивался интерес на
проблеме личного я, занимавшей в то время наилучшие умы с неотразимой силой.
Хотя немало материала имеется у историков для характеристики глубокого
нравственного упадка императорской эпохи и нравственных ее извращений (о чем
свидетельствует в послании к римлянам и ап. Павел7*), однако этой характеристике
1 См.: Wendland, 1. с, гл. VII; §. 2 и ел.
145
нельзя не сделать и ряда ограничений. Уже самая наличность среди римского
общества столь высоких нравственных учений и основанных на них нравственных
суждений и оценок заставляет считать нравственное состояние античного мира все-
таки не столь безнадежным.
В это время можно встретить (напр<имер>, у Сенеки) и рассуждения о вреде
многознания и о бессилии науки ответить на конечные вопросы, напоминающие
теперешние разговоры о банкротстве науки. Нельзя сказать, чтобы это время не
знало и науки уже в виде точного, эмансипировавшегося от философии знания. В
эллинистическую эпоху (в III веке до Р. X. в Александрии) именно точные науки
достигают небывалого усовершенствования своих методов. Математика и
астрономия, география, механика, оптика, медицина получают особое развитие, хотя
ближе к христианской эре самостоятельное научное творчество уже ослабевает
(Wendland, 26-27). О том, что мощь греческой мысли еще не была исчерпана, лучше
всего свидетельствует школа неоплатонизма, достойно венчающая собой развитие
греческой философии. Отличительной чертой настроения и мысли лучших людей
этого времени было религиозное беспокойство и искание Бога. Сама философия по
характеру своих проблем все более становится богословием, причем религиозная
философия тогда, как и теперь, нередко оказывалась суррогатом религии. Жажда
откровения, реального переживания Божества вместо философствования о Нем широко
разливается в обществе.
Этому содействовало и состояние религии этого времени. Собственная религия
Греции и Рима в значительной степени разложилась. Первоначальный политеизм
под влиянием философии понемногу перерождается в монотеизм, причем боги
получают символическое, аллегорическое истолкование. Наплыв культов из всех стран,
вошедших в состав империи, стирает индивидуальность старых национальных
богов и нивелирует их в абстрактные образы, а вместе порождает небывалый в
истории религиозный синкретизм. Восточные религии и культы с их таинственными,
эксцентричными, оргиастическими особенностями оказывали сильнейшее влияние:
Египет (Серапис и Изида и Анубис), Сирия (Адонис), Фригия (Кибела), Вавилон и
Персия (культ Митры) передали римскому государству своих богов и свои культы.
Они вели за собой свою магию, астрологию, волшебство, кудесничество1. К этому
нужно присоединить еще оживление мистических течений в эллинистической ре*
лигии; орфики с их таинствами, орден пифагорейцев, культ Диониса2 - все это
стремилось разрушить преграду между человеком и миром трансцендентным, во всем
выражалась жажда откровения, спасения, искупления. В этом смысле мир готов был
встретить Провозвестника вечной, бессмертной жизни, принять Искупителя.
Заслуживает замечания, что в это же время сказала свое последнее (или первое?)
слово религия человекобожия в виде культа императоров. Этот последний, который
следует рассматривать в связи со всем воззрением древности на возможность
обожествления человека, обобщает собой и резюмирует то, что разрозненно и намеками
выражалось ранее. Организованное и живущее государственной и культурной
жизнью человечество и государство как организация этой жизни, олицетворенное в
кесарях, и раньше всего «спаситель» Август, - вот божество, пред которым преклонились
и принесли жертву и философ, и простец, и набожный язычник, и скептик.
Императорский культ есть купол, увенчавший античный мир.
Итак, древний мир в эпоху появления христианства хотя и был болен, но еще
не собирался тотчас умирать. Напротив, многое из того, что современный человек
любит и ценит в своей культуре, — литературу, философию, науку, искусство, по-
1 Ср. превосходный очерк у Wendland'a: 1. с. 77 и далее. Там же обильные
библиографические указания. Ср. также: Fr. Cumont. Les religions orientales dans le paganisme romain. Paris,
1907.
2 Ср.: Ε. Rohde. Die Psyche.
146
литику - он найдет и здесь. В античной истории имеются многие основные
элементы нашей теперешней культуры (кроме развития точного знания и прикладной
науки и основанной на них индустрии, а следовательно, и связанного с ней нашего
социализма).
Христианство стоит перед «миром» и культурой уже с самого начала.
Христианство вступило в мир в пору^ когда он находился в культурном своем зените,
причем античная культура стояла на плечах древнейших погибших культур
Вавилона и Египта. Как же оно вступило, к чему прилепилось, на что оперлось, как
самоопределилось?
III
Вступление христианства в мир. - Историческая безоружность первых
его проповедников. - Сила их проповеди
Христианство вступило в мир неземными путями. Оно не воспользовалось
какими-либо средствами, взятыми из исторически сложившейся среды, оно явилось
как совершенно новая и особая сила, внекультурная и внеисторическая,
отрицающая кривые и ломаные исторические пути. Оно обращалось не к исторической
оболочке человека и даже не к разуму, но к его сердцу, брало его волю, зажигало
в нем новую жизнь. Слова ап. Павла о своей проповеди, что она совершается «не в
убедительных словах премудрости человеческой, но в явлении духа и силы»8*,
могут служить характеристикой всей первохристианской миссии. На проповедь
вышли не философы на манер тех стоиков, которые в это время бродили с
философским учением, не ученые (один только Павел был затронут раввинской наукой, но
и это вовсе не была эллинская мудрость века) и не литераторы, которые ценились
так высоко в этот литературный век. Нужно ли говорить много о нелитературности
христианства, когда известно, что апостолы были люди «некнижные и
малограмотные»9* (как называются в Деян. Ап. апостолы Петр и Иоанн - {αγράμματοι και
ίδιώται), едва ли все они умели читать, эти провинциалы, выросшие в отдаленном
уголке Римской империи — Палестине, которая хотя и не была закрыта для
эллинистических влияний, но все же сохранила свой особый теократический склад и
среди тогдашней культуры. Около столетия прошло, прежде чем появились первые
писатели в христианстве1. Священные книги Нового Завета появились тоже далеко
не сразу2. Первое христианское поколение довольствовалось устным преданием,
рассказами о жизни и учении Спасителя от Его апостолов10*. Наши канонические
Евангелия возникли вовсе не как литературные произведения, но как учительные
чтения для религиозного назидания. Большинство апостольских посланий
первоначально тоже были частными письмами к различным общинам, лишь позднее
получившими значение общецерковного достояния. Самые ранние памятники
христианской письменности относятся уже ко второму веку, и надо видеть, как далеки
они по своему содержанию и форме от чисто литературных произведений этого же
1 J. Leipoldt. Geschichte des neutestamentlichen Kanons. Erster Theil. Die Entstehung.
Leipzig, 1907. S. 1 etc.
2 Для моей цели можно не входить в рассмотрение запутанных и сложных вопросов об
истории канона Новозаветных книг и так называемой «новозаветной критики». Не говоря о том,
что эта работа по сложности своей требует специального исследования, она не имеет в наших
глазах и того принципиального значения, которое все больше получает в протестантизме и
особенно в ричлианском богословии, исходящем из отрицания учения о Божестве И. Христа.
Лишь при этой догматической предпосылке получают аргументы «библейской» критики такую
силу и решающее значение, каких они совершенно не имеют для положительного религиозного
воззрения.
147
времени, как просты, непритязательны, детски чисты, но и детски наивны эти
писания, совершенно чуждые отношения к вопросам культуры, истории, занятые
только вопросами веры и религиозного поучения. На фоне этой скромной и по
количеству и по качеству письменности е^ще резче выступает чудо четвероевангелия с
отразившимся в нем Ликом Христа, этим нерукотворным образом в слове, и та
критика, которая пытается объяснить Евангелие без Христа, должна бессильно
остановиться перед этим фактом. Образа Христа сочинить нельзя, это выше сил
человеческих и уж тем более нельзя приписать этого столь скромным
сочинителям, каковы были авторы новозаветных книг1.
Позднее, когда христианство в лице апологетов11* начинает пользоваться для
своей проповеди кроме своего непосредственного воздействия на душу еще и
средствами человеческого научения, апеллировать к разуму, опираться на философию,
оно заимствует эти средства из школы языческой философии, у стоицизма и
платонизма, словом, берет из окружающей, историей созданной культуры и постольку
теряет свою внеисторическую самобытность, вступает в историю. И посмотрите,
как слаба, бледна, нередко противоречива эта защита в веке апологетов вплоть до
Оригена. Если бы можно было думать, что сила первохристианства заключается
именно в этой философской его оправе, то можно было бы бояться, что дело его
проиграно и что ему не выдержать боя с языческой философией, на которую притом
оно и опирается. Читая апологетов, невольно вспоминаешь характеристику
христианской проповеди у ап. Павла о том, что «сокровище сие носим в глиняных сосудах,
чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам» (II Кор. IV, 7).
Наконец, и преобладающий контингент первых христиан вербовался, как можно
заключить из апостольских посланий и других источников, главным образом из средних
и низших необразованных классов2, лица богатые и образованные составляли
меньшинство, а те языческие философы, которые теоретически как будто ближе
других стояли к христианству (стоики, платоники), сначала просто его не
замечали, а позднее относились к нему скорее враждебно и верили пустым и глупым
басням, распространяемым о христианах. Христианство по всему своему
естественному человеческому оборудованию было бессильно и беспомощно. Оно бросило вызов
всему миру, пренебрегая всеми человеческими средствами и обращаясь
непосредственно к сердцу с безумной, чудовищной, парадоксальной проповедью о Христе
распятом и воскресшем12*. Принять такого Мессию и Спасителя мира было
одинаково трудно и отвратительно и иудеям, ожидавшим Мессию, но не такого, и
язычникам, у которых предубеждения со стороны эстетики и философии, и
национальности, "и ходячей морали противились признанию в распятом еврее Спасителя
мира. Поверить во Христа было тогда так же трудно, а если хотите, и так же легко,
как и теперь, ибо слово о кресте и предлагалось и принималось - тогда и теперь -
не рассудком и не разумом, которому остается только признать совершившийся
уже факт этого принятия и так или иначе его осмыслить и оправдать, но каким-то
таинственным, внутренним переживанием — неизъяснимым, ибо иррациональным,
точнее, сверхрациональным, как новое рождение, как жизнь, как смерть, как
любовь. Этот исключительный таинственный характер зарождения веры и это
положение проповедников Христа относительно мира с его человеческой мудростью и
человеческими оценками получило бессмертную, боговдохновенную
характеристику в словах ап. Павла, которые Церковь читает в один из величайших моментов
своего богослужебного круга на вечерне великой пятницы, когда молящиеся стоят
как бы перед голгофским крестом с бездыханным телом Божественного
Страдальца. Вот этот торжествующий гимн победы над миром, который всегда будет нахо-
1 Ср. об этом А. Ревиль. Иисус Назарянин. Т. I / Предисл. проф. Φ. Φ. Зелинского. СПб.,
1909.
2 Ср. об этом следующий очерк «Первохристианство и новейший социализм».
148
дить отклик в сердцах верующих. Смотря на скромную общину, плод его
проповеди в Коринфе, одном из центров тогдашнего просвещения, апостол говорит:
«Христос послал меня... благовествовать не в премудрости слова, чтобы не
упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас,
спасаемых, сила Божия. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных
отвергну (Ис. 29, 14). Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обра-
' тил ли Бог мудрость мира сего в безумие (Ис. 33, 18). Ибо, когда мир своей мудростью
не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди
спасти верующих. Ибо и Иудеи требуют чуда, и Эллины ищут мудрости; а мы
проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Эллинов безумие, для самих же
призванных, Иудеев же и Эллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость, потому
что немудрое Божие премудрее человеков и немощное Божие сильнее человеков.
Посмотрите, братья, кто вы призванные: не много из вас мудрых по плоти, не много
сильных, не много благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить
мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное мира и
уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значущее, для того,
чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом» (I Кор. I, 17-29).
Может ли быть сделан вызов миру более решительный, нежели в этих словах?
И после этих слов нужно ли ставить обычный теперь вопрос: как же относился ап.
Павел к окружавшей его культуре, к науке, к искусству? Да никак. Достаточно
только поставить этот вопрос, чтобы почувствовать, что он направлен не по адресу
и что на него не может быть ответа1. Ап. Павел, а с ним и все первое христианство
в религиозной основе своей стоит вне мира, вне истории, а стало быть, и культуры.
Эту его основную черту устанавливает не только непосредственное религиозное
чутье, но и современная историческая наука2. Оно было исключительно и, по
мнению иных, односторонне религиозно. Оно учило и интересовалось отношением не к
миру, но к Богу (и лишь в Боге к миру), учило спасаться от «лежащего во зле
мира» в Боге. Ап. Павел, как известно, говорил о себе, что он желает «разрешиться»,
чтобы быть со Христом, и только любовь и забота о пастве своей заставляет его
ценить жизнь. При этой религиозной полноте, при такой реальности богообщения,
заставившей однажды апостола сказать о себе, что он «не сам живет, но живет в
нем Христос»14*, скучны казались все песни земли в сравнении с этой звеневшей в
душе музыкой сфер небесных. Стена между миром здешним и потусторонним была,
хотя ненадолго, устранена, лестница между землей и небом наконец восстановлена.
Для того чтобы завоевать душу, нужно было не убедить, а лишь приобщить ее к
этой благодатной жизни, не доказывать, а показывать христианство, ибо
«Царствие Божие не в слове, а силе» (I Кор. IV, 17). (К сожалению, мы утратили теперь
эту силу и оставили себе одни только слова, оттого и мертвенность и безжизнен-
1 В. В. Розанов совершенно прав, что, говоря символически, ап. Павла нельзя себе
представить не только в тогдашнем языческом, но и в нашем, хотя бы и Художественном, театре.
(Ср. его очерк «Об Иисусе сладчайшем»)1 *. Но можно ли себе представить и теперь и даже
самого обыкновенного человека в театре в такие моменты, когда его душа горит молитвой,
чувством Бога, как она, по-видимому, непрестанно горела у апостола?
2 Вот для примера несколько отзывов: «Первохристианство отчужденно противостоит
греко-римской культуре. Христианство и мировая культура суть величины, которые
первоначально не имеют внутреннего соотношения. Почти до средины II века царит это чуждое культуре
направление» (Wendland, 1. с, 127). «Если спросить себя, что является общим в выражениях
христианства I века у Павла, Иоанна, Иакова, то это есть высочайшее напряжение
религиозного чувства. Религия для них все. Масса вопросов человеческой жизни: проблема культуры,
государства, права, науки и т. д. для них вовсе не существует... Этому первохристианскому
энтузиазму присуща могучая надмирность (Ueberweltlichkeit), даже внемирность (Unweltlich-
keit)». (Dobschütz. Probl. d. apost. Zeitalters. Leipzig, 1904. S. 112-113; ср.: его же в «Das
Christenthum» S. 47). Ср. также: Knopf. Das nachapost. Zeitalt. S. 120-122. Количество этих
отзывов можно значительно умножить, ибо речь идет о бесспорном явлении, доступном
историческому наблюдению и независимо от его религиозных предпосылок.
149
ность современной проповеди). Земная жизнь рассматривалась и ценилась только
по отношению к «будущему веку» и сама не возбуждала самостоятельного
интереса. Ее нужно было пройти, но лишь потому, что без этого нельзя было обойтись.
IV
Значение эсхатологии13' в первохристианстве
И притом первохристиане и не верили в прочность и продолжительность этого
мира, напротив, они ждали скорого, почти немедленного его конца. Вся новейшая
историческая наука единогласно подтверждает исключительное значение
эсхатологии (учения о конце мира) в настроении первохристианства1. Следы этого
убеждения, что «конец близко» и «преходит образ мира сего», рассеяны и в Евангелиях, и
в апостольских посланиях, и во всей первохристианской письменности, и то, что
мы теперь, в XX веке, истолковываем в более широком смысле внутренней
необходимости конца истории, медленно созревающей, тогда понималось в смысле
непосредственной его близости. Вспомните, что ап. Павлу приходилось успокаивать
солунян, побросавших свои занятия в ожидании второго пришествия16*. В монта-
нистической ереси2 половины II века17*, в эпоху, когда эсхатологические чаяния
начинали вообще уже значительно бледнеть, в преувеличенном и отчасти
окарикатуренном виде отразились эти настроения: пророк Монтан с пророчицами Приской/
и Максимиллой ведут толпу своих последователей навстречу грядущему Христу.
Как видите, адвентисты18*, делавшие своей специальностью определение времен и
сроков второго пришествия, отнюдь не новость в истории христианства, напротие,
почти каждая значительная страница христианской истории имеет его
представителей (достаточно вспомнить хотя <бы> анабаптистов, индепендентов, квинтомо-
нархистов19* и т. д.). Не нужно забывать здесь и влияния исторической среды, в
которой выросло первохристианство, - апокалиптических настроений иудейства.
Новейшими исследованиями о религии евреев в новозаветную эпоху с особенной
ясностью вскрыто развитие апокалиптических представлений и апокалиптической
литературы в иудействе3.
Как бы ни относиться к Апокалипсису и как бы ни истолковывать его,
несомненно, он является и историческим памятником, свидетельствующим о
настроении первохристианской эпохи. Заключительная молитва Апокалипсиса «Ей, гряди
Господи!» была, по-видимому, одною из первых молитв христианства. Об ускорении
пришествия в славе молили не только те праведники, о которых говорится
в-Апокалипсисе (гл. 6, ст. 9—10), но и многие христиане. В одном из наиболее ранних,
сохранившихся до нас текстов молитв, приведенных в «Учении712 апостолов»,
евхаристическая молитва содержит, между прочим, прошение:- «Да прейдет образ
мира сего». По-видимому, и в слова молитвы Господней «Да приидет царствие
Твое» влагалось такое же содержание. Лишь у Тертуллиана в конце II и начале III
века мы находим упоминание о молитве de mora finis, т. е. о замедлении конца
(впрочем, наряду с молитвой de adventu20*, никогда не исчезавшей из
литургического употребления). Очевидно, настроение за это время успело в этом пункте зна-
1 См. вообще: L. Atzberger. Geschichte der Eschatologie innerhalb der vornikäischen Zeit.
Freiburg i. Br. 1896. Ср. также: H. Gunkel. Die Wirkungen des heiligen Geistes nach der
populären Anschauung der apostolischen Zeit etc. Göttingen, 1899. S. 53; H. Weinel. Die Wirkungen
des Geistes und der Geister im nachapostolischen Zeitalter bis auf Irenäus. Freiburg, 1899. S. 42-
43; Harnach. Dogmengeschichte, I. S. 158; его же: Militia Christi. 1905. S. 50.
2 О ней кроме руководств по истории догматов (Гарнака и др.) см.: Adolf Hilgenfeld. Die
Ketzergeschichte des Urchristenthums. Leipzig, 1884.
3 Об этом см. ниже очерк «Апокалиптика и социализм. (Религиозно-философские параллели)».
150
чительно измениться. Представление о втором пришествии у одних связывалось с
общим концом мира, у других носило яркие черты чувственной иудейской апока-
липтики, т. е. земного тысячелетнего царства, так называемого хилиазма. В той
или другой форме, но идея близкого мирового катаклизма проникает
немногочисленную христианскую литературу I—II веков. В «Учении 12 апостолов», памятнике
начала II века, вновь открытом только в 1883 г., заключительная глава говорит о
втором пришествии, перед которым явится антихрист.
«И тогда явится знамение истины: во-первых, знамение отверстия на небе,
потом знамение звука трубного и третье - воскресение мертвых, однако же не всех,
но как сказано: приидет Господь и все святые с ним. Тогда увидит мир Господа,
грядущего на облаках небесных»1.
Послание Псевдоварнавы (конца I века), высокочтимое и многочитаемое в
раннем христианстве, так выражает отношение к жизни:
«Весьма утешаюсь, ожидая своего освобождения». Оно говорит также о
близости антихриста («последнее искушение приблизилось»), «о последних днях».
«Близок день, в который все погибнет с нечестивым. Близок Господь и Его награда».
В I послании Климента, папы Римского, тоже около 100 года, в качестве
мотива к увещанию быть в мире и любви говорится:
«Скоро по истине и внезапно совершится воля Господа, по свидетельству самого
писания: скоро придет и не замедлит и внезапно придет в храм Свой Господь и
Святый, Которого все ожидаете».
В Пастыре Эрма, полуапокалиптическом, полуучительном произведении
середины II века, весьма читавшемся в Римской церкви и почитаемом даже как
каноническое, в ряде видений автору раскрываются судьбы церкви. В одном из видений
церковь изображается в виде строящейся башни, близящейся уже к концу. «Башня
все еще строится... но она скоро будет окончена», и этой уверенностью проникнуто
все произведение. Игнатий Богоносец в начале II века в послании к ефесянам
говорит: «Уже последние времена». Те же мотивы и у ранних апологетов, сменивших в
христианской письменности так называемых мужей апостольских. Иустин-философ
(половина II века) в «Разговоре с иудеем Трифоном» говорит: «Между тем времена
приближаются к концу века и уже стоит при дверях Тот, кто на Всевышнего будет
произносить хульные и дерзкие слова» и т.д. В дальнейшем Иустин рисует вполне
чувственную хилиастическую картину. Еще более чувственную картину
тысячелетнего царства рисует св. Ириней, еп. Лионский, знаменитый своей борьбой с гно-
стицизмом2]* (как известно, некоторые гностики, сильно зараженные восточным
дуализмом и отрицательным отношением к плоти, именно потому враждебно
относились и к хилиазму и аллегорически истолковывали соответственные места
пророков и Апокалипсиса. Ириней борется с этим истолкованием). О том, насколько
«странниками и пришельцами на земле» чувствовали себя христиане·, красноречиво
говорит термин, употребляемый в I Климентовом послании при обозначении адреса
общины: община странствующая (παροικοϋσα) в таком-то городе. Но довольно
цитат. Несомненно, что всякая картина первохрйстианских настроений будет
неверна и неполна, если в центре ее не поставить эту пламенную уверенность в
близости конца, нетерпеливое и страстное ожидание его и порыв навстречу
Грядущему. В этом порыве поднялось над землей и отделилось от нее первохристианство,
сделало себя безразличным к земным ценностям. Все скоро сгорит, небеса прейдут
с шумом, нечестивый Вавилон падет, уже звучит в небе гимн: «Пал, пал Вавилон»
(Апок.), надо укрепляться против последних искушений, которые, к слову сказать,
не заставили себя ждать в виде начавшихся гонений. Недаром образ первого гони-
1 По русскому переводу К. Андреева, сличенному и исправленному по подлиннику в
издании Гебгарта и Гарнака.
151
теля Нерона находят в апокалиптическом звере и «звериное число» (666 или, по
другим рукописям, 61 б)22* дешифруется как сумма цифр его имени1.
Поэтому-то в представлениях первохристиан вообще не было места истории в
нашем теперешнем смысле. Их представления о конце оставались внешними, а его
ожидание - пассивным. Ожидая конца, они не думали, что их потомкам придется
заново устраиваться и перестраиваться на этой скучной земле и что история только
начинает новую свою главу. Как в отдаленной перспективе сливаются все
промежуточные точки и видны только пределы, как две горы, разделенные пропастью,
обрывами, глубокими долинами, издали сливаются в одну, так и у первых христиан
исторический путь человечества проецировался в одной плоскости, и благодаря этому
отсутствию чувства исторической перспективы они думали, что на земле все
окончено, они были уверены, что мир уже созрел для этого конца. Они впали в обман
исторического зрения, должны мы сказать теперь с любящей почтительностью, но
совершенно твердо. Для нас - не умозаключениями и настроениями, а
непосредственным опытом XIX веков — выяснилось, что существует история со своими задачами и
проблемами. Мы стоим теперь под знаком историзма, и эсхатологическое
мировоззрение первых христиан тоже рассматриваем исторически и потому должны учесть
его во всем его весе при понимании истории первохристианства.
V
Первохристианство и языческий «мир»
Указанное выше отношение первохристиан к окружающему миру,
проистекавшее из напряженности и полноты их религиозных переживаний, находит свое
объяснение и в том, что весь этот мир представлялся им находящимся во власти
демонов. Это был языческий мир, где царило идолопоклонство, и культура была
языческой по самому своему происхождению. Христианские общины чувствовали
себя островками, затерянными в безбрежном море язычества с его извращениями,
утлым суденышком, носимым по волнам океана. Мир этот первоначально поэтому
не мог вызывать к себе даже пытливости, а уж тем более сочувственного
внимания. Нужно было заботиться о самосохранении, а для этого пришлось стать к
языческому миру в положение недоверчивой и непримиримой оппозиции и борьбы.
Читающему 17-ю главу Деян. Ап., где рассказывается о проповеди ап. Павла в
афинском ареопаге и где особенно живо чувствуется непосредственное
соприкосновение апостола с языческим миром, не может не броситься в глаза, какое слабое и
одностороннее впечатление производит на него столица Эллады, даже развалины
которой так много говорят теперь нашему сердцу. Здесь нет следов восхищения
перед красотой статуй, перед изяществом архитектуры, нет, здесь говорится лишь
с суровым лаконизмом: «...Павел возмутился духом при виде этого города, полного
идолов» (XVII, 16). Вся соблазнительная, чарующая красота языческого города и
культа побледнела при мысли, что это — идолы, им молятся вместо истинного
Бога... Ведь даже иной из нас, при всей нашей религиозной расслабленности, потерял
бы вкус к Венере Милосской или другой античной статуе, красотой которой мы
теперь восхищаемся, если бы она стояла не в музее, а в храме и служила
предметом не эстетического созерцания, а религиозного поклонения. Можно понять
поэтому и ту непримиримость и иногда ожесточение, с которыми и последующие
христиане относились не только к идолопоклонству, но и к самым идолам. В то же
время перед взором христианина, безоружного в человеческом смысле и сильного
1 Deissman. Das Licht von Orient. S. 199-200.
152
только своей верой да нездешнею силой, стоял этот Вавилон, сверкающий и
соблазнительный, в пурпуре и роскоши, грозя поглотить новое рождение. Язычество
и безбожие пропитывали всю жизнь кругом, а между тем первым христианам
приходилось жить в этом мире. Он охватывал их тесным кольцом. Ведь обратите
только внимание на постоянные заботы ап. Павла, чтобы уберечь свои общины от
того, что вокруг было естественным и обыденным. Римские христиане окружены
противоестественными половыми извращениями, в молодой Коринфской общине
явился кровосмеситель, новую тревогу возбуждают смешанные браки с
язычниками, употребление идоложертвенного мяса, обращения к языческим судам и т. п.1
Не довольствуясь этим пассивным, но всегда наиболее сильным сопротивлением,
язычество перешло и в активное наступление как мерами насилия - в гонениях на
христиан, так и духовной борьбы. В последней области извне нападение совершали
языческие писатели (Лукиан - сатирой, Цельс - философией), но еще опаснее
оказался враг изнутри, когда языческую сущность он прикрыл снаружи
христианством, начиная уже со II века). Мы разумеем ту языческую попытку
фальсифицировать христианство, оставить от него почти одну внешность, которая носит общее
название гнозиса2. Страшную опасность для церкви представлял этот змеиный
шепот восточного синкретизма в оправе греческой философии, несравненно большую,
нежели поверхностные, не систематические, иногда жестокие, но в общем все же
не столь опустошительные гонения. Таким образом, учение о лежащем во зле мире
помимо метафизического и религиозного оправдания имело за себя и
непосредственные исторические основания, речь шла ни больше и ни меньше как о
сохранении своего духовного существа от поглощения враждебной и чуждой стихией
языческого мира. Такое «военное» положение, конечно, не могло остаться неизменным
на все времена, этот исключительный modus vivendi23* с миром должен был
измениться уже в силу простого факта количественных успехов христианства, а также
и растущей уверенности в своей силе. Притом, когда христианство захотело
выразить человеческими средствами свое учение, представить и формулировать его как
истину разума, как философию, оно должно было обратиться к арсеналу
человеческих средств, а их оно могло найти и действительно нашло в античной философии.
Когда начинается эпоха развития христианского богословия, а затем и христологи-
ческих и тринитарных споров, христианская догматика в своих формулировках
несомненно опирается на плечи греческой философии. Гарнак и его последователи
поэтому и говорят об «острой эллинизации христианства» и видят в ней уже начало
подмены и извращение первоначально простой и адогматической сущности
христианства. Можно совершенно не соглашаться с этой оценкой «эллинизации» и
спорить о ее пределах, но нельзя отрицать того факта, что отношение христианства к
языческой философии постепенно превращается из отрицательного в
положительное, доходящее иногда до прямых позаимствований у нее начиная уже с апологетов3.
О том, какие трудности на каждом шагу и в каждом деле встречал христианин* при
прикосновении с языческим миром, красноречиво свидетельствует трактат Тертуллиана de
idolatria (203 г.).
2 О гностицизме см. историю догматов и древнехристианской литературы, особенно у
Hilgenfeld'a (op. cit). Последняя монография о гностицизме принадлежит перу W. Bousset
(Hauptprobleme der Gnosis. Göttingen, 1907).
Специального внимания требовал бы вопрос о древнехристианском искусстве. Замечу
кратко, что и здесь первые шаги, например, катакомбной живописи и орнамента, отмечены, с
одной стороны, пленительной простотой содержания, а с другой - отличаются полной
зависимостью от античных форм. Самая идея украшать орнаментом (цветы, гении) как места вечного
покоя, так и домашнюю утварь, а равно и техника этих украшений - греческого
происхождения. Античны и мотивы этой живописи: Христос в виде Орфея или жанровое изображение
молодого пастуха, или дракона в изображениях Ионы {Dobschütz. Das Christentum. S. 53, 63;
Буасъе. Катакомбы. С. 45-57). Более оригинальный и независимый характер получает с самого
начала христианская символика.
153
VI
Первохристианство и государство
Окружающий первохристиан «мир» представлял собой организованное
государство, стальным кольцом охватывавшее всю тогдашнюю вселенную. И это
государство, как организация порядка, экономической жизни, культуры, религии, всего,
чем жило тогдашнее человечество, как совокупность всех его ценностей, сознало и
провозгласило себя высшим в мире началом, божеством. И эта религия античного
человекобожия, которая в XIX веке грезилась Фейербаху и Конту, нашла
осуществление в культе императоров. «Грандиозно содержание этой веры, — говорит
новейший историк1, - ибо все дары культуры от сохранения физической жизни до
высших наслаждений духа являются дарами божества, которое имманентно
государству и в данный момент получает осуществление в императоре или его гении,
или его судьбе... Отсюда вполне последовательно, что отказ принести жертву
императору есть государственная измена, и христиане отказываются от этого в
полном сознании, что отказываются от « πολιτεία τοϋ κόσμου» (царства от мира сего), они
чувствуют себя гражданами другого царства. Столь же последовательно, что они
оказываются άθεοι (безбожниками), ибо вместе с государственным культом они
отрицают всех богов, которые только и существуют по милости государства». На
этой религиозной (а не политической) почве и столкнулось христианство с римским
государством и начало с ним неравную борьбу, окончившуюся хотя и не победой
римского государства, но и отнюдь не полной победой христианства, надевшего вериги
государственности.
Христианство не могло признать и не признало таким высшим началом,
организующим жизнь, устрояющим ее до конца и разрешающим все вопросы,
государство, т. е. организованное мерами внешнего принуждения и в этой
организованности самодовлеющее человечество, «царство от мира сего». Признать это значило бы
преклониться перед князем мира сего за его хлебы, за власть, за знамения. Оно
ответило культу государственного человекобожия Апокалипсисом, книгой, в кото.-
рой пламенными словами, в огненных образах предрекалась гибель зверя и царства
его, держащегося насилием и ложными знамениями. Власти «спасителя» Августа
оно противопоставляло мощь Спасителя мира, «царству» кесаря - «Царствие Бо-
жие», власти «самодержца» (автократора) - всемогущество «Вседержителя» (панто-
кратора), господству кесаря - власть «нашего Господа И. Хр.» Эсхатологическая
революционность Апокалипсиса, подрывавшего самую основу языческого
государства, которое осознало себя как высшее и последнее начало жизни, была, по-
видимому, ясна и для враждебной стороны, ибо из второго столетия по Р. X. мы
знаем, что власти запрещали чтение сочинений апокалиптического характера под
страхом смертной казни2.
И однако, при всей непримиримости к языческому государству как институту
религиозному, как царству зверя и антихриста, первые христиане были как нельзя
более далеки от революционности политической, и даже Апокалипсис призывает к
терпению и воздержанию от меча и насилия и увещевает ожидать мировой
катастрофы в надежде на ее близость. «Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро!
Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе»24*. Таков заключительный аккорд
Апокалипсиса. И во всей первохристианской литературе вы не встретите чего-либо
напоминающего политические утопии (правда, некоторые историки полагают, что частые
призыва повиноваться властям в христианской письменности свидетельствуют
1 Willamowitz-Moellendorf. Geschichte der griechischen Religion. 1901 (цит. по: Harnack.
Mission und Ausbreitung des Christentums. 2 Aufl. S. 248-249, Note.
2 Geffken. Aus der Werdezeit des Christentums. S. 26.
154
именно о нервности и неспокойности политического настроения, однако
заключение это является по меньшей мере спорным). Не забудем еще, что в первом веке
Палестина была охвачена страстным стремлением к политическому освобождению.
Мотивы эти играют роль и в Евангельской истории при осуждении Иисуса, и даже
перед распятием, когда народу был предоставлен выбор, Ему предпочтен был
террорист Варавва1, едва ли не политический убийца. Палестина первого века по Р. X.
была ареной непрерывных революций, восстаний, закончившихся беспримерным
истреблением евреев и уничтожением Иерусалима. Иерусалимская община
христиан из иудеев, вообще близко связанная с своими соплеменниками хотя бы
посещением храма и соблюдением закона, по преданию, сохраненному у Евсевия, перед
революционной вспышкой, закончившейся гибелью святого города, получив
пророческое предостережение, выселилась в Пеллу, и это безучастие христиан, наряду с
религиозными причинами, делало их иудеям так ненавистными, что во время
последнего восстания Бар-Кохбы25* восставшими было перебито много христиан. Так
обстояло дело в наиболее неспокойном месте, и еще более это можно сказать про
другие местности Империи, где христиане были в ничтожном меньшинстве. Для
тех, кто жил надеждой и уверенностью в близости величайших мировых катастроф
под действием Высшей силы, политический революционизм представлялся
неинтересным паллиативом. К этому надо присоединить еще и указанную выше общую
пассивность первохристианской эсхатологии.
Однако пока мирового катаклизма не наступило, надо было жить в государстве,
от него нельзя было уйти. Первохристиане и не уходили. Они принимали
государство, но не как божество, а как порядок вещей, предназначенный охранять
возможность существования. Только в вопросе о принесении жертв и проповеди
христианства, которое было запрещенной или неразрешенной религией, для христиан
служили нормой поведения слова апостолов, сказанные ими членам синедриона в
ответ на запрещение проповедовать о Христе: «Должно повиноваться больше Богу,
чем человекам» (Деян. Ап. V, 29), и Божьему они решительно отдавали
предпочтение перед кесаревым. В остальном же христиане считали себя обязанными к
лояльному поведению перед властью: вносили подати, оказывали повиновение и
вообще рассматривали власть в качестве орудия добра и порядка, как богоучрежден-
ное установление, по известному определению ап. Павла (Рим. 13, 1-7). Также и
призывы молиться за царя и за власть, «да тихое и безмолвное житие поживем во
всяком благочестии и чистоте» повторяются не раз в апостольских посланиях
(I Тим. 2, 1-3, Тит. 3; I Петр. 2, 13-17). И все это получает тем большее значение,
что писалось в эпоху преследований, в эпоху Нерона, Домициана, Траяна,
Адриана2.
В литературе апостольских мужей и апологетов мы часто встречаем
упоминание о молитве за власти. Священномученик Поликарп, ученик Св. Иоанна
Богослова, только недавно проводивший на растерзание зверей в Рим Игнатия Богоносца,
пишет в послании к Филиппийцам: «Молитесь также за царей, за власти и князей,
даже за преследующих и ненавидящих вас, и за врагов креста». А в одной из
древнейших молитв римской общины в конце I века, сохраненной нам в I послании
Климента к Коринфянам, мы видим, как исполнялось это увещание апостолов,
причем надо заметить, что по времени молитва эта относится к концу царствова-
1 Ср. текст евангельского рассказа: Мф. 27, 16-17, 20-21; Мр. 15, 7-11; Лк. 23, 18-19;
Иоан. 18, 39-40.
2 Проф. Вейнель видит в настойчивости этих увещаний борьбу с революционным
радикализмом апокалиптических настроений. По мнению этого исследователя, увещания эти значили
в переводе: «Рим все-таки не так плох: все, что угодно, только не революция» (Weinel. Die
Stellung des Urchristentums zum Staat. 1908; его же: Die urchristliche und die heutige Mission.
1907. S. 12).
155
ния Домициана, ознаменовавшемуся жестоким гонением на христиан. Около
четверти всего довольно обширного текста молитвы относится к императору1.
Молитва за императора сохранилась и несмотря на тяжелые испытания,
которые пережила растущая церковь во II и III веках. «Мы не можем приносить
жертвы перед изображениями императоров, но мы молимся об их благе» - ответ, часто
повторяющийся в мученических актах позднейшего времени2. Хотя свидетельства
апологетов иногда несколько заподозриваются ввиду специальной задачи апологии -
защитить христиан от преследований, однако их согласием с приведенными нами
свидетельствами подтверждается их достоверность3.
Итак, можно сказать, что первохристиане были или, по крайней мере, хотели
быть, лояльными верноподданными и признавать обязанности граждан4. Но при
всем том они были, конечно, плохими гражданами римского государства, и по-
своему не совсем неправ был римский патриот Цельс, который восклицал к этим
«анархистам»: «Если бы все поступали, как христиане, то император скоро остался
бы один и изолирован, течение дел на земле скоро попало бы в руки самых диких
и отвратительных варваров»26*. Первохристианство относится к римскому
самообожествляющемуся государству самое большее лишь с пассивным попустительством,
но в этой пассивности безучастие оказывает ему большее сопротивление, нежели
прямой бунт и революция. Ибо римская государственность была религией,
требовала активности воли и ума, всего человека, и для настоящего римского патриота
вид «атеистов и анархистов», отрицающих религию государственности, хотя и
молящихся за государя, не имел ничего привлекательного и возбуждал в нем
растущую тревогу. Практическое участие христиан в государственной жизни
определялось состоянием пассивного безразличия. Здесь имела силу заповедь ап. Павла о
том, чтобы каждый оставался в том звании, в котором призван27*. История
сохранила нам лишь отдельные имена государственных чиновников-христиан (самый
выдающийся из них Тит Флавий Климент был обвиняем в атеизме и contemptissi-
«Ты, о Владыка, дал им власть царствования твоею величественною и неизъяснимой
силою, дабы мы в сознании данной им тобою чести и достоинства повиновались им, ни в чем не
противореча твоей воле. Дай им, Господи, здоровье, мир, согласие и постоянство, дабы они
беспрепятственно выполняли врученное им тобою правление. Ибо Ты, Небесный Владыка,
Царь Веков, даешь человеческим сынам честь и достоинство и силу над всем, что есть на
земле. Ты, о Господи, направь их разум к тому, что благо и благоугодно пред Тобою, дабы в мире
и простоте они благочестиво применяли данную им Тобою власть и удостоились Твоей
милости» (Th. Zahn. Skizzen aus dem Leben der Alten Kirche. 3-Aufl. Leipzig, 1908. S. 313. См. текст
молитвы у υ. d. Goltz «Das Gebet in der ältesten Christenheit»; 1901, в приложении).
2 Knopf. Das nachapostolische Zeitalter. S. 108.
3 Св. Иустин Философ (И век) в своей апологии говорит, например: «Хотя мы поклоняемся
одному Богу, но в других отношениях и сами охотно служим, признавая вас царями и
правителями людей и молясь о том, чтобы вы, при царской власти, были одарены и здоровым
суждением» (Апол. 17). Особенно интересны свидетельства Тертуллиана, по темпераменту
прямолинейного африканца, известного своим ригоризмом в вопросе о солдатской службе, о
занятиях разными профессиями. «О здравии и благоденствии императоров мы молим Бога
предвечного... От Него приемлют они и власть и жизнь... Император велик, поколику признает в Боге
неба и земли своего Владыку... Чрез Него он - император, и прежде нежели сделался
императором, он был и есть человек. Он приял царский венец от того же Бога, от Которого получил и
жизнь. Мы просим у Бога императорам благоденствия, мирного царствования, безопасности их
дома, храбрости воинства, верности сената, благонравия народа, спокойствия всего мира»
(XXX). К этому присоединяется и еще один интересный аргумент, показывающий, насколько
побледнели к началу III века эсхатологические настроения и нетерпеливое ожидание конца:
«Нам известно, что конец мира со всеми ужасами, имеющими сопровождать его, отлагается по
причине существования Римской империи. Следовательно, молясь об удалении сего страшного
переворота, мы молимся и о продолжении империи Римской» (Апол. XXXII), «молимся об
императорах, об их министрах, о всех властях, о мире, о благосостоянии всего мира, об
отдалении конца (pro mora finis)» (XXXIX). По свидетельству апологета Афенагора христиане
молились даже за продолжение династии.
4 Пример ап. Павла, ссылавшегося на свои права как римского гражданина, достаточно
красноречиво говорит, что в случае нужды защищались и гражданские права.
156
ma inertia28*). Их и не могло быть много, ибо первоначально христиане вербовались из
низшего класса и лишь позднее, в III веке, они появляются на всех ступенях
общественного положения1.
Особенно интересным и жгучим является вопрос об отношении христиан к
военной службе2, отягчаемой еще идолопоклонством и поборами войск с населения.
По-видимому, особого «солдатского вопроса» в первохристианстве не существовало
по той простой причине, что не было всеобщей обязательной воинской повинности,
добровольно же, конечно, христианину не было нужды идти на этот путь соблазна.
Для тех, однако, которые принимали христианство, находясь на военной службе,
сохраняло силу положение ап. Павла о том, чтобы оставаться в прежнем звании.
Материал относительно христиан в войске существует лишь с 170 г., т. е. к концу
нашего периода, причем присутствие многочисленных христиан в войске (именно в
12 легионе Марка Аврелия - fulminata Melitensis29*) является уже несомненным
фактом, и увеличивающееся количество христиан в войске, по замечанию Гарна-
ка3, решило впервые вопрос о победе христианства над язычеством и публичном
признании прав христианской религии. Тертуллиан, сам свидетельствующий о
наличности христиан в войске, еще возбуждает вопрос о том, может ли быть
солдатом христианин, и разрешает его с своим обычным ригоризмом отрицательно в
противоположность Клименту Александрийскому, который остерегает христианских
солдат только от исполнения предписаний, противоречащих религии. Во всяком
случае, жизнь уже разрешила этот вопрос в то время в положительном смысле.
Внутреннее же отношение первохристианства к государству определялось
преимущественно скорым ожиданием конца и покорностью Промыслу. «Эсхатология, -
справедливо замечает по этому, поводу Гарнак, - сделалась, таким образом, квие-
тистическим и консервативным принципом»4. Не веря в продолжительность
существования этого мира, первохристиане не могли особенно интересоваться и его
делами, а лишь терпеливо и пассивно несли лежащее на них бремя как послушание.
«Смотри, - предостерегает «Пастырь» Эрма, - подобно страннику на чужой стороне
не приготовляй себе ничего более, как сколько тебе необходимо для жизни; и будь
готов к тому, чтобы когда господин этого города захочет изгнать тебя из него за
то, что не повинуешься закону его, — выйти <тебе> в свое отечество и жить по
твоему закону беспечально и радостно» (Подобия, под. 1-е)30*.
Государство было для античного человека всем: домом, родиной, храмом, у
христианина же оно из центра переместилось в периферию, ибо новое жилище
нашел он, и не только за пределами этого мира, но и на земле. Это - экклезия,
церковь, община. Под Римом императорским создался подкапывающий его мир
подземный (Roma soterranea), с этим миром связывали христианина все нити
сердца. Его определения, а не государственные имели для него решающую силу, здесь
находил он высшую норму личной и общественной жизни. Родилась новая идея,
новая заповедь, новый, высший идеал общения людей, не в земном человекобоже-
ском государстве, а в союзе божественном, теократическом, церковном. И до сих
1 В 217 г. Тертуллиан (вероятно, не без преувеличения) пишет в своей «Апологии»: «Мы
существуем, так сказать, со вчерашнего дня и уже наполняем все: ваши города, острова,
замки, пригороды, советы, лагери, трибы, декурии, двор, сенат, форум: предоставляем вам только
храмы». В той же «Апологии» Тертуллиан защищает христиан от обвинения в том, будто они
«бесполезны для связей общественной жизни». «Мы не уподобляемся индийским брахманам и
гимнософистам, не обитаем в лесах, не бегаем от людей... Мы с вами бываем на площади, на
рынках, в банях, в лавках, в гостиницах, на ярмарках, во всех местах, необходимых для
сообщения с другими. Мы с вами плаваем по рекам и морям, носим оружие, обрабатываем
землю, торгуем, употребляем те же искусства» (XLII).
2 См. вообще: Harnach. Militia Christi; Weinel. Das Verhältniss des Urchristenthums zum
Staate; Bigelmair. Die Beteiligung der Christen am öffentlichen Leben in vorconstantinischer Zeit.
München, 1902.
3 Militia Christi. S. 87.
4 Ibid., 50.
157
пор мучительно борются и сталкиваются эти два плана жизни, два порядка
отношений, пронизывающих и раздирающих человеческую душу и создающих
практически неразрешимую, по-видимому, проблему — об отношении церкви и
государства1. Но Провидение облегчило первохристианам эту мучительную задачу. Ведь они
были запрещенной, гонимой, маленькой сектой, которая не могла иметь никакого
влияния на дела государства, а потому и свободна была от ответственности за него.
Первохристианство не несло государства на своей совести, оно могло относиться
к нему извне, как к постороннему, чуждому миру, то враждебно, как к
апокалиптическому «зверю», то дружелюбно, как к «Божьему слуге», и, во всяком случае,
считая пребывание в нем непродолжительным, переходным. И лишь когда,
получив большинство в государстве, христианство было объявлено государственной
религией, и само государство если и не смогло сделаться христианским, то стало
государством христиан (по крайней мере, по имени), когда эсхатологические
ожидания окончательно побледнели и началась история, когда пришлось устраиваться
надолго и прочно на этой грешной земле, — тогда с неотвратимой и зловещей силой
надвинулся вопрос об отношении церкви и государства. Христианству пришлось
принять на свою совесть и на свою ответственность облекавшую его
государственность. «Мир», во зле лежащий, который первохристиане имели вне себя, теперь
вошел вовнутрь, и борьба с ним внутри стала отнюдь не легче, но гораздо сложнее
и глубже, нежели когда он был вовне и замучивал отрицавших его жестокое иго.
Первохристиане просто освобождены были от этого трагического разлада своей
детской, радостной верой, что все скоро кончится и что мир не стоит забот о нем,
они освобождены были от него своим положением безответственного, гонимого
меньшинства. Подобно источникам в узких расселинах скал, они хранили чисты-,
ми, как дождевая слеза, свои воды, которыми и теперь утоляем мы свою жажду,
но чем больше поднимался уровень их и чем большую поверхность они заливали,
тем больше окрашивались они в краски окружающей среды и тем больше
принимали в себя посторонних элементов. Образовалась мутная, на внешний взгляд
неразрешимая почти смесь. Так это остается и по сие время...
VII
Первохристианство и социальный вопрос, его отношение к рабству
Перейдем к вопросу, как относилось первохристианство к социальным и
экономическим нуждам своего времени. Не входя в подробности, ограничимся самыми
общими чертами2. Как известно, первохристианству пришлось столкнуться с
социальным вопросом в самой острой и ужасной форме, в какой только он когда-либо
ставился, - с существованием узаконенного и широко распространенного рабства,
этого экономического фундамента всей античной цивилизации. Хотя рабство и
смягчалось под влиянием стоиков и вообще философской проповеди, отчасти же
под гуманизирующим влиянием эллинизма и экономических нужд времени, однако
оно все-таки было очень сурово и, быть может, переживалось еще тяжелее
вследствие обострявшегося сознания несправедливости этого института.
Восстания рабов, укрощавшиеся самыми жестокими мерами, его сопровождают.
Излишне говорить, насколько рабство противоречит всему существу
христианства, и не чуткой совести первохристианства нужно было бы это доказывать. И
однако, как всем известно, первохристианство не пошло на прямую и непосредст-
1 Об иррациональности отношений между церковью и государством см. у Ernst Troeltsch.
Die Trennung von Staat und Kirche etc. Tübingen, 1907. S. 56. Ср. также наш очерк «Церковь и
государство» в сборнике «Вопросы религии» (М., 1906. Вып. I).
2 Ср. следующий очерк «Первохристианство и социализм».
158
венную борьбу с рабством как институтом. Оно признало его как исторический
факт, как исторически данную обстановку, с которой надо считаться, как мы
теперь признаем силу факта за капитализмом. И едва ли можно себе представить
столь радикальный переворот, как немедленное уничтожение рабства, без
грандиозной революции, которая, помимо своей бесплодности (как бесплодны
оказывались и восстания рабов), совершенно отклонила бы христианство от его
непосредственной религиозной задачи. Кроме того, и на рабство оно взглянуло несколько
эсхатологически-квиетистическим взглядом: близок конец, надо претерпеть до
конца. Не начинать же сложную перестройку общественного уклада, когда
известно, что он все равно скоро погибнет, и не отвлекать же на это силы, направленные
к одной цели - проповеди христианства, ускоряющей наступление всеобщего
избавления, конца мира. Социальный революционизм, также как и политический,
оказывается ненужным и просто неинтересным ввиду надвигающегося
эсхатологического переворота. Для непосредственной же религиозной цели проповеди
христианства рабство совсем не представляло неодолимой преграды, оно было в
религиозном смысле несущественно, как и всегда останутся несущественными всякие
внешние различия перед Богом. Первохристианство обращалось не к социальному
положению, не к классу, но к личности, к внутреннему человеку и обращалось
притом с проповедью немедленного личного обращения, покаяния, перерождения.
Таковое доступно всем и равняет всех. «Во Христе Иисусе несть эллин, ни иудей,
варвар и скиф, раб и свободь»31*. В евхаристическом преломлении хлеба, в проро-
чествовании молитвенного собрания нет социальных различий. Благодать не
считается с внешним положением. Рабы занимали иногда высокие места в экклезии (еп.
Пий, брат Эрма, по-видимому, был рабом; римский папа Каллист был раньше
рабом), из рабов выходили всеобще чтимые мученики, почитавшиеся святыми
(достаточно напомнить мученицу Бландину). Разница положения господ и рабов не
составляла и не могла составить препятствия к проповеди христианства, оно делало
проницаемыми самые непроницаемые социальные перегородки. И понятно, что, не
изменяя основной своей задачи — чисто религиозной проповеди, христианство и не
могло в то время принять на себя сложную и требующую продолжительного
времени задачу коренной социальной реформы вовне. Социальный максимализм
момента остался ему совершенно чужд. Социальное положение каждого человека, не
случайное, а провиденциальное, рассматривалось как налагающее свои особые
обязанности. Отсюда не должно казаться странным, что в апостольских посланиях
(особенно у ап. Павла) столь часто преподаются рабам советы терпеливо переносить
свою горькую долю и исполнять добросовестно свои "обязанности, и аналогичные
же увещания - к господам. Последние притом не увещеваются немедленно
отказаться от своего положения и распустить своих рабов, а эти предостерегаются от
того, чтобы пользоваться единством религии как средством для улучшения своего
положения, ибо «благочестие не служит для прибытка»32*. Такое же положение
вопроса мы находим и в после-апостольский век у мужей апостольских (учение 12
апостолов, послание Варнавы, Игнатия Богоносца). И замечательно, что первохри-
стианству, в составе которого было так много рабов, так что не без основания
можно говорить о «пролетарском» или, точнее, рабском его характере, совершенно
остались чужды черты социально-революционного движения, в русло которого так
легко было ему впасть.
И тем не менее христианство, конечно, имело огромное влияние на улучшение
положения рабов. Ведь естественно, если раб и владелец встречались на
религиозной почве как совершенно равные, это братство о Христе не могло не отразиться на
их взаимных отношениях, на смягчении нравов, на сдержанном и внимательном,
человечном отношении друг к другу, к которому призывают апостолы и мужи
апостольские. Лучшей иллюстрацией того, как это было и могло быть, служит
послание ап. Павла к некоему зажиточному колосскому христианину Филимону, с
которым был близок ап. Павел. У Филимона сбежал раб Анисим, которого ап. Павел
159
«родил в узах своих» во время римского заточения, и посылает хозяину с просьбой
принять его «как свое сердце», «не как уже раба, но выше раба, брата
возлюбленного». «Успокой мое сердце в Господе», молит его апостол и выражает уверенность,
что «ты сделаешь и более, нежели я говорю». Эта жанровая картинка, трогательный
образец апостольской любви и попечения, лучше всего свидетельствует о том, как
могущественно христианство должно было влиять на взаимные отношения рабов и
господ, удаляя из них их остроту. Хотя церковь не делала освобождения рабов
всеобщей обязанностью, однако считала это делом похвальным1. И иногда производила
это из общинной кассы, впрочем, в виде исключения (Игнатий Богоносец в послании
к Поликарпу предостерегает рабов: «Пусть не домогаются получить свободу на общий
счет, чтобы не сделаться им рабами страсти»33*).
Относительно собственности и богатства первохристианство руководится такими
же мотивами. Стремиться к общему переделу и равнению имуществ было противно
эсхатологическому настроению первохристианства, ибо это слишком привязывало
бы внимание к земле и даже предполагало бы такую привязанность. На различия в
собственности и отношение к ней смотрели поэтому исключительно с точки зрения
личной морали. Широкая и многосторонняя, хотя и мало систематичная
благотворительность была естественным выражением взаимной любви. В отдельных
случаях (как в Иерусалимской общине) это принимало формы более или менее полного
общения имуществ, единства кассы в руках апостолов и диаконов, в других
случаях — помощи беднейшим и добровольных сборов, о которых так трогательно
заботится в своих посланиях ап. Павел. Если бедным рекомендовалось переносить
терпеливо свой жребий, ибо идеал добровольной бедности и вообще высокая ее оценка
были живы в первохристианстве, то богатые постоянно приглашаются делиться
своим богатством, смотреть на него как на возможность помогать другим. «Не
отвращайся от нуждающегося, но во всем имей общение с братом своим, — читаем
мы в «Учении 12 апостолов» - и ничего не называй своей собственностью, ибо если
вы соучастники в нетленном, то тем более в вещах тленных»34*. Однако эти
социалистически звучащие суждения в действительности совершенно не имеют
социалистического характера, они содержат лишь увещания, обращенные к личной совести
относительно правильного пользования богатством, но не совет заменить институт
частной собственности институтом - социалистической2. В первохристианстве есть
зачатки даже социальной политики (приискание работы), но в общем вопрос о
богатстве и бедности не ставился здесь иначе, как в рамках личной
благотворительности. А потому и толки о первохристианском коммунизме (напр<имер> у
Каутского36*) основаны на недоразумении3.
VIII
Первохристианство и догматы
Была ли в первохристианстве выработанная, законченная догматика в смысле
определенной доктрины, состоящей из отчетливо формулированных и логически
связанных между собой догматических положений и формул? Была ли
богословская наука, догматическое богословие? Научная постановка вопроса об «истории
1 Ср.: Harnach. Die Mission. I. S. 147-148. См. особенно: Allard. 1. с, livre III.
2 Особенно ясно это у Эрма, где отношение между богатыми и бедными изображается
сравнением с дубом и опирающейся на него виноградной лозой, причем один взаимно помогает
другому, первый - помощью и второй - молитвами35*.
3 Впрочем, Тертуллиан упоминает об общении имуществ среди христиан (Апол. XXXIX).
Определенно коммунистические идеи приписываются лишь еретику-гностику Карпократу,
который будто бы пытался осуществить платоновское общение имуществ (ср. характеристику
разных гностических учений у Иринея, ей. Лионского).
160
догматов» составляет величайшую заслугу церковно-исторической науки XIX века,
которая в лице многочисленных исследователей разных школ пролила много света
в этой области (впрочем, как чаще всего бывает в исторической науке, больше
наставив проблем, нежели получив ответов). Если при этом научно установляемые
факты получили своеобразное «тюбингенское», «ричлианское»37* и под. освещение,
то причина этому не только в самой истории, но и в способе ее истолкования и
оценки, обусловленном философскими и религиозными, даже конфессиональными
предпосылками. Как бы то ни было, вне спора стоит тот основной факт, что
богословски выработанной догматики, которую можно было бы формулировать в
символе веры и в катехизисе, тогда не было. Острые логические грани, отточенные
определения, продуманные и проработанные до последней йоты религиозно-
философской мыслью, начали изыскиваться позднее. Это была работа ряда
поколений богословов начиная с Оригена, продолжавшаяся в течение эпохи вселенских
соборов38* и, по нашему пониманию, продолжающаяся и после них и имеющая
продолжаться до конца истории. Ранние христианские богословы в своих попытках
дать рациональную, более или менее точную богословскую формулировку
основного догмата христианства о Богочеловечестве Иисуса Христа впадают не только в
разногласие между собою, но иногда и в противоречие с позднейшим
догматическим определением церкви. Пересмотрите беспристрастным глазом то, что имеется
по вопросам христологическим у Иустина, Тертуллиана, Иринея и др. апологетов
менее крупных, и увидите, как непосильна была для их богословской мысли хри-
стологическая проблема. По замечанию одного немецкого исследователя, «эта
беспомощность» еще «неверных шагов» древнего христианства в области философской
мысли содержит в себе нечто «трогательное»1. И если это приходится
констатировать даже относительно позднейшей эпохи, тем большую силу имеет это суждение
относительно более ранней: ни Новый Завет, ни первохристианская письменность
совсем не имеют дела с рациональным богословием, они не философствуют, но ус-
тановляют религиозные факты и события, благовествуют, возвещают откровение
как «Божию силу и Божию премудрость», не заботясь придавать этому
философскую обработку и приспособляющую форму. И, однако, отсюда отнюдь нельзя
сделать вывода, будто первохристианство было адогматично, чуждо догматов по
самому существу своему, как склонны думать и современные протестантские ученые и
иные морализирующие упростители и исправители христианства. В известном
смысле христианство и в первые времена своего существования было нисколько не
менее догматично, чем стало позднее в эпоху вселенских соборов, и никогда не
было только моралью. Все те догматы или самоопределения, которые впоследствии
explicite приняла церковь, implicite39*, в зерне, были налицо в самом раннем
христианстве, начиная с того мирового дня, когда впервые раздалась в Иерусалиме
проповедь ап. Петра: «Иисуса Бог воскресил, расторгнув узы смерти, потому что ей
невозможно было удержать Его»; «Он, быв вознесен десницею Божиею и, приняв от
Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите»; «Бог
соделал Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли» (Деян. Ап. II, 24,
33, 36). Для того чтобы понять это, нужно только не забывать о том, что такое
догмат и на что он опирается; на неправильном понимании этого покоится много
антидогматических предрассудков (впрочем, не без вины не только противников,
но и иных защитников догматов). Догмат есть рефлектированное, выраженное в
логических или философских понятиях живое религиозное переживание, факт
религиозного опыта или их совокупность, содержание живой, не теоретической
только, но и практически переживаемой веры. Вера эта, собственно говоря, опира-
Geffken. Aus der Werdezeit des Christenthums. Отличительные черты христологии
апологетов отмечены у Спасского: История догматических движений в эпоху вселенских соборов.
1906. Т. I, гл. I. Ср.: Harnack. Dogmengeschichte. В. I.
6 Зак. 487
161
ется только на самое себя, она принимает свои истины не как доказанные, но как
откровенные - уверованные и опытно переживаемые. Религиозные переживания
(как и всякое, впрочем, переживание) иррациональны и непосредственны, до
известной степени они даже невыразимы в слове иначе, как символически; живыми
они не ложатся под анатомический нож, рационализирующая рефлексия приходит
уже потом. Ряд исключительных и своеобразных переживаний, связанных с рядом
уверованных положений и представлений, — новое откровение, вот что прежде
всего представляет собой новая религия независимо даже от того, как относится к
ней рефлектирующий наблюдатель, т. е. видит ли он в ней иллюзию,
коллективную галлюцинацию, или сам разделяет эту веру. В этом смысле догматическое
богословие есть, точнее, должно быть опытною наукой, опирающейся на данные
опытного религиозного сознания и их философски анализирующей (так же, как и
эстетика, в этом смысле может быть только опытной наукой, основанной на
переживании красоты, ибо вне его нет ее объекта). Итак, если первохристианство было
адогматично в смысле отсутствия выработанной формулировки догматов,
религиозной философии, то оно жизненно определялось догматами как опытными
истинами. Оно было даже догматичнее позднейшей эпохи догматического развития,
поскольку оно было религиознее и, следовательно, живее, полнее, непосредственнее
воспринимало жизненную силу всех догматов христианства. И если бы мы
захотели проверить это положение и сличить основные черты религиозной жизни перво-
христианства и догматы, установленные позднее на 7 вселенских соборах или
формулированные хотя бы в нашем Никеоконстантинопольском символе веры40*, то
убедимся, что они решительно ничего не прибавляют к религиозной полноте
переживаний первохристианства, хотя и существенно обогащают сознание христианства
со стороны его отчетливости и ясности. Ибо проповедь первохристианства была
проповедью о Христе распятом и воскресшем, Спасителе и Искупителе, Боге и
человеке, Грядущем судии и Воскресителе. И уверовавшие в Сына приводились
тем самым к вере и в Отца, Творца и Вседержителя, волю Которого творил Сын. И
естественно было веровать и в Духа Святого, обещанного Утешителя, дары
Которого изобильно изливались на веровавших и непосредственно ими ощущались.
Естественно поэтому, что совершенно сверхрациональный догмат триипостасности
Единого Бога, который только пытается приспособить себе и сделать самое большее
ненемыслимым философия, появляется в самом начале христианского благовестил:
«Шедше научите все языки, крестяще их во имя Отца и Сына и Св. Духа»41*. Не
нужно было первохристианству много рефлектировать и для того, чтобы
вырабатывать учение о таинствах, о харисмах42*, о церкви и о церковной кафоличности.
Ведь достаточно бросить беглый взгляд на то, как слагалась жизнь первохристиан,
чтобы увидать, в какой мере церковь и необходимость церковного единения для
них были фактом, а не проблемой. Поэтому догматические формулировки
представляли собой только инвентарь того, что имелось.
IX
Первохристианство в отношении к иерархии и культу
Первохристианство изображается иногда не только адогматическим, но и
анархическим, т. е. лишенным той иерархической организации, которая несомненно
устанавливается уже во II веке. Не углубляясь в этот спорный и трудный вопрос1,
1 Последнюю сводку относящегося сюда исторического материала мы имеем в статье Гар-
нака «Kirchliche Verfassung und kirchliches Recht im 1. und 2. Jahrhundert» (в: Realenzykl.
162
имеющий наиболее острое значение для протестантско-католической распри, но по
существу совсем не такой жгучий, можно констатировать, что, действительно, пер-
вохристианство, по-видимому, не имело той выработанной организации клира43* с
епископом во главе, которая отличает церковь впоследствии. Обилие даров
духовных в первенствующей церкви, по-видимому, не требовало, а может быть, и не
допускало строго регулированного клира, всецело основанного на идее харисмати-
ческого преемства. Епископат, по-видимому, имел несколько иное, более
служебное назначение, чем получил уже со II века (Sohm, Harnack). «Учение 12
апостолов» говорит о трех категориях харисматиков: об апостолах (причем это понятие
расширяется в объеме и включает вообще профессиональных проповедников), о
пророках и учителях наряду со светской должностью епископов и пресвитеров, и,
по-видимому, различие между πρεσβύτεροι и νεώτεροι*** тогда не имело харисмати-
ческого значения, а основывалось на давности принадлежности к общине и отчасти
возрасте. Однако несомненно, что уже с самого начала в соответствии своему
существу, по меткому выражению одного немецкого ученого1, церковная организация
стала не аристократической и не демократической, но харисматической. И
естественное развитие харисматической организации скоро, уже во II веке, привело к
выделению клира, облеченного особыми, священническими полномочиями,
основанными на харисматическом преемстве рукоположения. Сказанное относительно
организации клира должно быть применено и к порядку богослужения, которое,
естественно, не могло сразу получить общего однообразного характера. Этому
препятствовала в то время и напряженность религиозного энтузиазма, находившего
выражение в необычных проявлениях; внимание наше останавливает, например,
т<ак> н<азываемая> глоссолалия, т. е. произнесение в состоянии экстаза слов и
фраз загадочного, не всегда понятного самому лицу содержания, которое затем
особо истолковывалось самими этими лицами или же другими, имевшими дар
истолкования. Злоупотребление этими экстатическими речами вело иногда к
замешательству, от которого остерегает ап. Павел свою коринфскую общину (I Кор. XIV).
Наряду с непонятной без толкования глоссолалией, обычны были «пророчества»,
понятные для всех. Затем в богослужение входили поучения, импровизированные
молитвы, «псалмы». Чтобы получить картину свободного и вдохновенного, богатого
духовными дарами богослужения, достаточно перечитать 12-14 главы I поел, к
Коринфянам. В числе других даров здесь упоминаются дары исцелений, чудотво-
рений, различения духов. Как бы мы теперь ни относились к вопросу о чудесах и
исцелениях, но нельзя ни вычеркнуть, ни ослабить того факта, что первохристиан-
ство жило в атмосфере чуда, и еще св. Ириней Лионский (средина II века) говорит
о чудесах, вплоть до воскресения мертвых, совершаемых христианами. Впрочем,
следует не забывать и при самой полной вере в дары чудотворения, что понятие
чудесного тогда определялось совсем иными, не столько естественнонаучными,
сколько религиозными критериями и в этом отношении гораздо правильнее, чем
теперь, так что, например, естественное излечение больного, совершенное с
молитвой, тоже считалось, по-видимому, чудом. Чудом считалось всякое осязательное
действие Божьей воли, как бы она ни проявлялась. Атмосфера чудесного
характеризует всю эту эпоху, «чудеса» (точнее «знамения») совершались и еретиками, на
пример, гностиками (см. у того же св. Иринея Лионского), и языческими
кудесниками, и христианские писатели совсем не отвергают этого, но только объясняют
эти чудеса силой бесовской. Непосредственный опыт убеждал, что все христиане
после крещения становятся в большей или меньшей степени харисматиками, полу-
f. рг. К. 3-te Aufl. Bd 20. Leipzig, 1908). Ср. также: Harnack. Die Lehre der 12 Apostel. 1884;
R. Sohms. Das Kirchenrecht; Harnack. Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den
ersten drei Jahrhunderten; Weizsäcker. Apost. Zeitalter; Knopf. Das nachapostolische Zeitalter;
П. В. Гидулянов. Митрополиты в первые три века христианства. М., 1905.
1 Weinel. Die Stellung des Urchristentums zum Staat. S. 37.
6*
163
чают духа в ощутительной степени, делаются пневматиками1, 45*. И эта воодушев-
ленность, это религиозное вдохновение бурно выражалось на молитвенных
собраниях2 то импровизированным славословием, то экстатической и иногда
беспорядочной, соблазнительной для посторонних глоссолалией3, то для всех
вразумительным пророчеством. Первохристианство знало два рода молитвенных собраний -
одни доступные и для непосвященных, молитвенно-учительного характера, а
другие лишь для крещеных (или «верных»), собрания евхаристические. Последние,
согласно disciplina arcani46*, оставались тайными, чем и объясняется возможность
появления нелепых басен, распространяемых язычниками относительно
причащения47* кровью убиваемого ребенка и свального греха, с которыми так много
приходится иметь дело апологетам. Только у Иустина (около второй половины II в.) мы
находим описание евхаристии (Апол. 65-67) и Тертуллиан в числе отличий
еретиков указывает, что у них «неизвестно, кто оглашенный, кто верующий». Насколько
можно судить по I посланию к Коринфянам и «Учению 12 апостолов», евхаристия
совершалась первоначально в соединении с общим ужином, вечерею любви (агапою),
и лишь около половины II века эти два разделенные акта стали обособляться4. В
первоначальном словоупотреблении выражения «евхаристия, агапа, преломление хлебов»
употребляются без точного различения.
Древнехристианская письменность, к сожалению, сохранила нам мало
древнехристианских молитв. Кроме молитвы Господней, бывшей во всеобщем
употреблении («Учение 12 апостолов» предписывает повторять ее трижды в день), и тех
отрывков из Новозаветных книг, относительно которых легко предположить их
раннее литургическое употребление5, тексты древнейших молитв нам сохранило
послание I Климента к Коринфянам, которое поднимает край завесы над тем, как
молилась римская община около конца I века, а от начала II века «Учение 12
апостолов» сохранило нам евхаристические молитвы, бывшие, вероятно, в широком
употреблении. Молитвы эти представляют собой драгоценнейший перл
древнехристианской письменности в своей величественной простоте и возвышенности. Быть
может, текст их даст чуткой душе лучше, чем все характеристики, почувствовать
тайну первохристианства, которая так ревниво охранялась от непосвященных,
дохнуть его молитвенной атмосферой6. Если к этому прибавить еще несколько отрыв-
Относящиеся сюда факты со всей трезвостью исторического анализа собраны в цитир. со-
чин.: Weinel. Die Wirkungen des Geistes und der Geister im nachapost. Zeitalt. bis Irinäus. 1899;
Guncel. Die Wirkungen des heiligen Geistes, etc. 2. Aufl. 1899. Ценность обоих сочинений
увеличивается и потому, что эти ученые принадлежат к левому крылу либерального течения в
протестантской теологии и менее всего могут быть заподозрены в суеверном мистицизме.
Характеристику общей веры в чудесное в языческом мире этой эпохи см.: Wendland. 1. с, гл.
VI-VII.
2 О древнехристианской молитве см. монографию v. d. .Goltz «Das Gebet in der ältesten
Christenheit» (Leipzig, 1901). См. также: Weizsäcker, 1. с; Knopf, 1. с, Zahn, 1. с; Weinel, 1. с.
3 Глоссолалия также не составляла особенности одних церковных общин, по крайней мере,
мы знаем глоссолалию и у еретиков. Сохранилась запись, по-видимому, глоссолалии гностиков
(см.: Schmidt. Gnostische Schriften in koptischer Sprache. Leipzig, 1892. Цит. по Weinel, 1. с, 80).
4 Об агапах см. на русском языке исследование Петра Соколова «Агапы, или вечери любви
в древнехристианском мире» (Сергиев Посад, 1906).
5 Таковы, например,' песнь Богородицы, молитва Захарии, старца Симеона в Евангелии от
Луки или некоторые гимны и молитвы из Апокалипсиса (по мнению Вейссеккера, V, 9-10; IV,
11; V, 12, 13; XV, 3; XI, 17; XII, 10-12; XIX, 1-8), послания к Тимофею (I Тим. III, 16, II
Тим. II, И и ел.).
6 Обе молитвы относятся, очевидно, еще к тому времени, когда евхаристия и агапа
совершались вместе. «А что касается евхаристии, то благодарите следующим образом, сперва
относительно чаши: "Благодарю Тебя, Отче наш, за святой виноград Давида, отрока Твоего,
который Ты явил нам через Иисуса, отрока Твоего. Тебе слава во веки!" А относительно
преломляемого хлеба: "Благодарим Тебя, Отец наш, за жизнь и ведение, которые Ты явил нам через
Иисуса, Отрока Твоего. Тебе слава во веки! Как сей преломляемый хлеб был рассеян на холмах
и соединен воедино, так да будет соединена Твоя Церковь от концов земли в Твое царство,
потому что Твоя есть слава и сила чрез Иисуса Христа во веки".
164
ков предсмертных молитв мучеников, сохраненных нам «мученическими актами»
(и среди них на первом месте молитву св. Поликарпа), то мы исчерпаем весь
скудный запас уцелевших письменных свидетельств о молитвенной жизни этой эпохи,
воодушевление которой не знает себе равного в истории. Общее содержание
христианских молитв св. Иустин в своей Апологии определяет как благодарение «за
то, что мы сотворены, за все средства к благосостоянию нашему, за различные
роды произведений, за перемены времен» и «прошения о том, чтобы нам
воскреснуть для нетления по нашей вере в него» (I Апол. 13).
X
Христианство и нравственность. - Радость в первохристианстве
Христианство выступило в мчр не с новым теоретическим учением - довольно
их проповедовали философы! - но с началами новой жизни. И его победная сила
могла и должна была сказаться именно в способности перерождать, вызывать к
новой жизни старое, загнивающее общество. Если бы оно не проявило и не
проявляло этой силы, оно показало бы себя как дело человеческое, хотя и высокое, но
оно - вопреки всем естественным расчетам, — оказалось началом обновляющим,
животворящим и зиждительным1. «Новою тварью», «избранным народом»,
«народом Божиим», «избранными» почувствовали себя последователи нового учения,
«ученики», и стали называть себя в противоположность окружающему их миру
«рабами Божиими», «святыми», «братьями», «верными», «Церковью Божией»2. В
Антиохии появляется впервые и имя «христиане» (Деян. Ап. XI, 26), и чем больше
росло внутреннее сплочение христианских общин, тем большую их чуждость себе и
отталкивание от них чувствовал языческий мир, и создавалась слепая народная
ненависть к христианам, готовая верить всякой легенде, винить их всякою виною.
В недрах старого мира создавался и креп новый, не новая школа, но новые люди.
«Если же найдутся такие, которые не так живут, как учил Христос, - говорит в
своей Апологии св. Иустин, — те, да будет известно, не христиане, хотя и
произносят языком учение Христово» (I Апол., 17). «Я могу показать вам на многих из
наших, которые из наглых и свирепых переменились, будучи побеждены или тем,
что видели в спутниках чудное терпение обид, или из опыта узнали нравы тех
людей, с которыми соприкасались по делам».
Внимательное изучение деталей, относящихся к жизни первохристианских
общин, по памятникам первохристианской письменности и новозаветным книгам
(особенно апостольским посланиям), не позволяет уже нам поддерживать
упрощенное или, лучше сказать, сильно стилизованное изображение жизни первохристиан-
После же насыщения благодарите так:
"Благодарим Тебя, Отец Святый, за Твое святое имя, которое Ты вселил в сердцах наших,
и за ведение, и веру, и бессмертие, которые Ты явил нам через Иисуса, Отрока Твоего. Тебе
слава во веки! Ты, Владыка Вседержитель, сотворил все ради имени Твоего; пищу же и питие
Ты дал людям в наслаждение, дабы они возблагодарили Тебя, потому что Ты всемогущ. Тебе
слава во веки! Помяни, Господи, Церковь Твою, избавь ее от всякого зла и усоверши ее в
любви Твоей и собери ее освященную от четырех ветров в Царствие Твое, которое Ты уготовал ей,
потому что Твоя есть сила и слава во веки! Да приидет благодать и да прейдет сей мир! Осанна
Сыну Давидову! Если кто свят, да приступит сюда, а если нет, пусть покается. Маранафа!
Аминь48*"». Мы уже обращали внимание на эсхатологический конец этой молитвы, признак ее
глубокой древности. «Маранафа!», богослужебная формула на арамейском языке,
употребленная еще ап. Павлом (I Кор. XVI, 22), обозначающая «Господь пришел», может при другом
разделении слов значить: «Гряди, Господи!» (Zahn, 318).
1 Ср.: Dobschütz. Die urchristlichen Gemeinden, заключ. глава.
2 Сопоставление этих наименований см.: Harnack. Die Mission etc., гл. III.
165
ских общин как безупречного, ничем не запятнанного воплощения идеала
христианства. Историческая конкретизация1 облекла их в плоть и кровь и тем лишила их
той абстрактной, бескровной святости, ореол, которой их окружал. Бели собрать
впечатления от всех упреков, предостережений, обличений, которые мы здесь
находим, мы должны признать, что нравственная высота и им давалась недаром, не
без борьбы с собою и с миром и не без поражений в этой борьбе. И однако этот
образ на том довольно темном историческом фоне, на котором он выступает и от
которого не следует его отрывать, все же остается очень светлым и является
живым свидетельством силы и влияния христианства. Расстояние между идеалом и
действительностью оставалось и здесь, как и во всех земных делах, и однако же и
высота идеала, и соответствовавшая ей высота жизни остаются исключительны. Не
одним уже исследователем (Geffken, Wendland) было отмечаемо, что у апологетов,
при всей их философоской беспомощности и несамостоятельности, места, где они -
иногда и в преувеличенно светлых красках — рисуют жизнь христиан и ее нормы,
отмечены совершенно исключительной свежестью и непосредственностью, и это
составляет самую сильную их сторону2.
1 Такое детальное историческое изучение произведено было недавно проф. Добшюцем, к
исследованиям которого: Die urchristlichen Gemeinden. Sittengeschichtliche Bilder. Leipzig,
1902 (есть и в русск. пер.); Probleme des apostolischen Zeitalters. 1904, - и отсылаем читателя.
См. также: Weiszäcker, op. cit. и Knopf, op. cit.
2 Чтобы не быть голословным, надо заставить говорить за себя самих древних христиан.
Не пожалеем места, чтобы привести хотя немного из многого. Вот Климент Римский в конце I
века шлет послание той самой коринфской общине, которую «насадил» ап. Павел и охранял
своей отеческой рукой от многих соблазнов. Он призывает их к исправлению, напоминая,
каковы они были прежде. «Все вы были смиренны и чужды тщеславия, любили более
подчиняться, нежели повелевать, и давать, нежели принимать... всем дарован был глубокий и
прекрасный мир и ненасытимое стремление делать добро и на всех было полное излияние Св.
Духа. Полные святых желаний, с искренним усердием и с благочестивым упованием вы
простирали руки свои к Всемогущему Богу и умоляли быть его милосердным, если вы в чем
невольно согрешили. День и ночь подвигом вашим было попечение обо всем братстве, чтоб число
избранных Его спасалось в добродушии и единомыслии. Вы были искренни, чистосердечны и
не помнили зла друг на друга. Всякий мятеж и всякое разделение было вам противно. Вы
плакали о проступках близких: их недостатки считали собственными. Не скучали делать
добро, готовые на всякое дело доброе» (св. Клим. I поел, к Кор. II)49*. Вот увещание к пастве
другого иерарха начала II века, св. Игнатия Богоносца. «О неверующих и заблудшихся
непрестанно молитесь. Ибо есть им надежда покаяния, чтобы прийти к Богу. Дайте им научиться, по
крайней мере, из дел ваших. Против гнева их вы будьте кротки, против их велеречия - сми-
ренномудренны, их злословию противопоставляйте молитвы, их заблуждению - твердость в
вере; против их грубости будьте тихи. Не будем стараться подражать им, - напротив, своей
снисходительностью окажем себя братьями их, а постараемся быть подражателями Господу.
Пусть кто-нибудь более потерпит неправду, понесет убыток, подвергнется уничижению, только
бы не нашлось в вас плевела диавольского» (Игн. поел, к Еф.)50*. Один из ранних апологетов
Аристид описывает жизнь христиан следующими чертами: «Христиане схоронили заповеди
своего Господа Иис. Хр. в своем сердце и соблюдают их, ожидая будущего века: они не
нарушают брака, не прелюбодействуют; они не дают ложного свидетельства, не присвояют
вверенного им имущества и не желают чужого; они чтут отца и мать и любят ближних, они судят
справедливо. Идолам в человеческом образе они не поклоняются. Кто обращается с ними
несправедливо, того они увещевают и делают его своим другом; врагам они стараются оказать
добро. Их женщины чисты, как девушки, и их дочери целомудренны. Мужчины у них
воздерживаются от всякой незаконной связи и всякого осквернения в надежде на будущий мир.
Слуг же и служанок или детей, если имеются, они убеждают сделаться христианами из любви
к ним и, раз они стали ими, они без различия называют их братьями. Они живут во всяком
смирении и благорасположении, лжи у них не встречается. Они любят друг друга. Вдов они не
оставляют беспризорно, сирот не обижают, кто имеет, делится охотно с тем, кто не имеет.
Если они видят странника, они ведут его под свой кров и радуются ему как настоящему брату,
ибо братьями называются они не по телу, но по душе. Отходит ли из мира один из бедных,
тот, кто видит это, несет сообразно средствам расход на погребение. Если они слышат, что
один из них в тюрьме или страдает за имя Христово, они все заботятся о нужном ему и, если
можно, его освобождают. Если кто из них беден и нуждается, а они не имеют излишних
средств к жизни, то они постятся два или три дня для того, чтобы восполнить нуждающемуся
166
«Мы представляем мудрость, - говорит римский апологет Минуций Феликс в
диалоге «Октавий», - не во внешнем виде, а в душе нашей; мы не говорим
возвышенно, но живем так, мы хвалимся тем, что достигли того, чего те философы со
всем усилием искали и не могли найти».
В этих словах выражен, пожалуй, основной мотив христианской апологетики,
насколько она опирается не на отвлеченные соображения, но на практическую
жизнь.
«Вы запрещаете прелюбодеяние, но совершаете его, а мы знаем только своих
жен; вы наказываете за содеянные преступления, а у нас и помышлять о них грех;
вы боитесь сторонних свидетелей, а мы даже одной своей совести, без которой не
можем быть. Наконец, тюрьмы переполнены вашими, а христианина там нет ни
одного, кроме судимого за свою религию или же вероотступника» (XXXV).
Какую уверенность в прочности своей позиции нужно было иметь, чтобы
бросить такой вызов враждебному миру, и как низко и глубоко пали мы теперь
сравнительно со светлым временем начала "христианства! Можно было бы также
привести длинный ряд свидетельств, касающихся строгости нравов и чистоты
отношений между полами, высоты понимания брака1.
На фоне чрезвычайной половой распущенности, чистота христианской жизни
выделялась очень резко. Уже в апостольский и послеапостольский век появляются
аскеты и высоко ценится девственность (и, между прочим, зарождается быстро
выродившийся, но интересный институт сожительства аскетов разного пола). Не
имея в виду останавливаться подробнее на том, что можно было бы назвать
проблемой пола и половой любви в раннем христианстве, отметим только
своеобразный и специфически христианский мотив аскетизма. Это не отрицание плоти, как
у гностиков и восточных яскетов, но ее высшее утверждение, признание
потенциальной святости плоти, при котором аскетизм есть путь к ее освящению. Для
христианина плоть - храм Божий, тело Христово, она подлежит не уничтожению, а
преображению2. У Афенагора, эллина по происхождению и воспитанию, встречаем,
между прочим, такую точку зрения, что мужеложство и вообще разврат
«оскорбляет красивейшие и благообразнейшие тела и бесчестит сотворенную
Богом красоту, ибо красота на земле не сама собой происходит, но посылается по
распоряжению и по мысли Божией» (Прош., 34).
Перед чистотой жизни христиан, перед их взаимной любовью, о которой
столько свидетельств рассыпано у апологетов, и перед их мужеством с недоумевающим
уважением останавливаются и язычники при всем своем презрении и враждебности
потребность в пище... Если праведный из числа их отходит из мира, они радуются и
благодарят Бога и провожают его тело так, как будто он отправляется из одной местности в другую. И
если у кого-либо из них родится ребенок, они прославляют Бога, но если случится, что он
умрет в детстве, они весьма славят Бога, что он прошел без греха через этот мир. Напротив,
если они видят, что кто-либо умер в безбожии или во грехе, того оплакивают они горько и
вздыхают, как о таком, который пошел на наказание».
1 «И жену каждый из нас, - говорит Афенагор, - которую он взял по установленным у нас
законам, имеет только для деторождения. Как земледелец, бросив в землю семена, ожидает
жатвы и больше уже не сеет, так и у нас мерой пожелания служит деторождение».
2 В псевдоиустиновом «отрывке о воскресении» мы встречаем такой аргумент: «Если не
восстанет, то зачем ее обуздываем и не позволяем ей предаваться похотям, зачем не
подражаем, как говорится, врачам, которые, имея отчаянного больного человека, не имеющего
надежды выздороветь, позволяют ему исполнять все пожелания? Они знают, что он умрет. Это же
делают те, которые ненавидят плоть и лишают ее, сколько от них зависит, наследия: потому-
то они бесчестят ее, как имеющую быть трупом. Если же врач наш, Христос, отвлекая от
наших похотей, предписывает плоти нашей свойственный ей целомудренный и воздержный образ
жизни, то ясно, что Он соблюдает ее от грехов как имеющую надежду спасения, подобно тому,
как врач людям больным, имеющим надежду спасения, не дозволяет удовлетворять их
прихотям». В этом отрывке ясна вся разница между пессимистическим аскетизмом, проистекающим
из непобежденного дуализма и вражды к плоти, и оптимистическим, эсхатологически
окрашенным христианским аскетизмом, имеющим основой любовь и уважение к плоти, понести и
обожить которую удостоил воплотившийся Бог.
167
к иудейской секте. Так, известный философ Эпиктет отмечает бесстрашие
христиан перед угрозами тиранов. Знаменитый врач Гален (середины II века), говоря о
христианах, хочет воздать им высокую похвалу, признавая, что христиане
поступают «как истинные философы»1.
И даже сатирик Лукиану высмеивающий и стоиков, и христиан в своем «Реге-
grinus», принужден признать высокие качества последних2.
Исторгнуть такие признания и оценки у лиц враждебных и предубежденных (о
силе, характере и мотивах этого предубеждения наилучшее понятие дает Цельс)3,
значило очень много.
Мы пропустили бы весьма существенную черту в этой беглой и неполной
характеристике первохристианских настроений, если бы не упомянули о религиозной
радости, этом величайшем Божьем даре, который дается людям. Христиане
чувствовали Бога, и воскресший Христос был их жизнью. И чувствовать Бога не есть ли
высшая радость, «радость совершенная»52*? Вглядитесь в сияющие этой неземной
радостью лики преп. Серафима Саровского, встречающего всех ликующих
приветствием: «Христос Воскресе!», Франциска Ассизского или даже меньших их, и в
отблеске их радости, который засветит в вашей темной, угрюмой, «озлобленной
злобой душезлобного мира» (по выражению панихидного канона) душе, вы
почувствуете эту радость первохристиан. Соберите в душе своей воспоминания о коротких и
быстроубегающих моментах религиозного просветления, и ваше ухо откроется,
может быть, для этого гимна религиозной радости, который звенит в книге
«Деяний Апостольских»4.
Мир искуплен, Христос воплотился, пострадал и воскрес. За недвижимой
тьмою ночи прозревались огненные лучи воскресения и преображения. То, что для
позднейших христианских подвижников бывало лишь плодом их долгого и
сурового подвига, здесь было благодатным даром, как залог и начаток. И кто не видит и
не чувствует этого в первохристианстве, кто не слышит здесь этого победного и
ликующего гимна: «Христос воскресе!» тот и не поймет, почему побеждало
христианство, какою верою оно покоряло: Христос воскрес, Он здесь, близ, дает осязать
Себя, дает вкушать Себя, от Него любовью горит сердце. Можно ли непослушным
и мертвым словом рассказать теперь о том, что переживалось на евхаристических
вечерях, когда у самих участников послушное слово изнемогало и исторгалась, как
1 «Ибо то, что они презирают смерть, мы имеем перед нашими глазами, а также, что они,
движимые известным целомудрием, отказываются от любовных наслаждений. Ибо среди них
есть женщины и мужчины, всю жизнь воздерживающиеся от полового общения. Далее, есть и
такие, которые в самообладании и господстве над своей душой и в величайшем старании об
этом заходят так далеко, что не уступают истинно философствующим (vere phlosophantibus)».
Цит. по Knopf. Das nachapost. Zeitalter. Tübingen, 1905. S. 132-133).
2 «Их первый законодатель вселил им убеждение, что все они братья между собою; они
развивают невероятную отзывчивость; если случается что-либо, затрагивающее их совместные
интересы, тогда они ничего не жалеют»51*.
3 Ср. его весьма интересную и злобную, но, очевидно, не лишенную фактических
оснований характеристику приемов христианской миссии в языческих домах (Цит. по Harnack.
Mission etc., 248-249, Note).
4 Ср. краткий, но чрезвычайно содержательный экскурс «Lukas und die Freude» в
новейшем исследовании: Harnack. Die Apostelgeschichte. (Leipzig, 1908. S. 207-210). Еще ни разу не
получала столь яркого выражения тенденция научного исторического исследования к
сближению с церковным преданием. Еще со времен тюбингенцев считалось признаком хорошего
критического тона отвергать историческую ценность «Деян. Ап.» и возможность авторства Луки. И
вот сам маститый глава церковно-исторической науки, прежде тоже разделявший
предубеждение против исторической ценности «Деян. Ап.», по чисто научным историко-филологическим
основаниям возвращается к церковной традиции и идет навстречу всему, что считалось
бесспорным в критической науке. Красноречивое свидетельство шаткости историко-экзегети-
ческих выводов, которыми так кичится современная церковно-историческая наука, и
невозможности опирать свои религиозные мнения и верования всецело на данные этой науки!
168
водопад, как стихи, бурная глоссолалия. Опять-таки, чтобы приблизиться к
пониманию этого, следует обратиться к описаниям религиозных переживаний у
христианских мистиков, аскетов, к их намекам на то, чем является живое и подлинное
богообщение... Я полагаю, что раскрывать эту интимнейшую сторону, святая
святых, тайну первохристианства, правильнее всего по творениям мужей, по крайней
мере, не меньшего религиозного опыта: св. Макария Египетского, Исаака Сирина,
Симеона Нового Богослова, у такого рода свидетелей вернее можно научиться
живому пониманию живого первохристианства, его «сущности», нежели у Гарнака и
других ученых, у которых мы учимся внешней его истории. Основываясь на их
опыте, можно понять заповедь, данную фессалоникийской общине ап. Павлом:
«Всегда радуйтеся. Непрестанно молитесь. О всем благодарите» (I Фес. V, 16-18).
«Впрочем, братие, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь» (II Кор. XIII, 11), -
заканчивает он же послание к коринфянам. И основное определение, сделанное
Павлом гласит, что «Царствие Божие не пища и питие, но правда, мир и радость о
Духе Святом» (Рим. XIV, 17)1.
Указывая все значение радости в первохристианстве и вообще христианстве, я
надеюсь, не вызову недоразумения в том смысле, будто этим умаляется значение
покаяния, скорби о грехах, вообще тягостей пути, по которому христианин
восходит на высоты. Но там, на высоте - Бог, а Бог есть любовь, и царствие Его -
радость. И борьба с миром и стремление к Богу есть борьба с его трагическими
изъязвлениями, с его скорбью, победа над миром есть прорыв к радости, не частной,
опредмеченной, обособленной, но вселенской, «радостью о Духе Святом». И из
борьбы, поражений и побед, хотя бы кратковременных, неполных,
неокончательных, но прорезающих мрак лучами своих молний, и слагается религиозная жизнь.
XI
Первохристианство и мученичество
Нельзя, говоря о первохристианстве, пройти молчанием мученичество, ибо
церковь первенствующая есть церковь мученическая. Хотя гонения на христиан не
имели всеобщего и систематического характера (по мнению некоторых2), римская
власть благодаря этому просто проглядела и пропустила христианство, хватившись,
когда уже было поздно и когда не могли помочь и более планомерные
преследования), однако христиане были совершенно бесправны и беззащитны и отдавались на
пытку и казнь, по свидетельству апологетов, часто за одно имя. Исповедание себя
христианином и отказ принести жертву изображению императора были
достаточной причиной, чтобы отправить за «атеизм и анархию» на казнь. И в тех хотя
недостаточных и не всегда точных сведениях, которые мы имеем в так называемых
мученических актах (Acta martyrii), мы узнаем, как при этом проявлялась природа
христианства. Конечно, нельзя в настоящее время ставить христианству на
исключительный плюс самую наличность мучеников в его среде. По справедливому заме-
1 Любопытно воззрение середины II века, выразившееся в «Пастыре» Эрма, что «печаль
есть самый злой из всех духов и самый вредный для рабов Божиих... Всякий радующийся
человек делает доброе и помышляет о добром и презирает печаль. А человек печальный всегда
зол, во-первых, потому что оскодбляет Св. Духа, который дан человеку радостный; и,
во-вторых, потому, что он делает беззаконие, не обращаясь и не исповедуясь ко Господу. Молитва
печального человека никогда не имеет силы восходить к престолу Божию» (Пастырь, II,
заповедь вторая)53*.
2 Ср., например, Geffken, op. cit.
169
чанию Буасье1, церковь потеряла право на это притязание после того, как сама не
только имела мучеников, но и других делала ими. Кроме того, жертва жизнью из-
за убеждений или ради других людей составляет хотя и не обычное, но во всяком
случае широко распространенное явление и в дохристианском и в нехристианском
мире в разные его времена: мы видим достаточно примеров политического
мученичества, притом вне сознательно религиозных мотивов, и много примеров вольных
жертв своею жизнью за других дает нам каждая война, хотя бы и последняя, и
притом с обеих сторон.
Не самый факт мученичества, но его психология нас здесь интересует. В этом
отношении первохристианство имеет свои специфические особенности, вытекающие
из его свойств. Ибо в живой вере его побеждается смерть не судорожным усилием
человеческой воли, направленным к подавлению естественного страха смерти, но
со всей мистической реальностью. Общеизвестно то настроение примирения и
всепрощения, молитвы за врагов и за убивающих, которое свойственно только перво-
христианству. На переднем плане стоит залитая небесным светом фигура первому-
ченика диакона Стефана. Он перед казнью видит открытое небо, славу Божию и
Христа; побиваемый камнями, он молится: «Господи, прими дух мой!» и умирает с
молитвой на устах: «Господи! не вмени им греха сего». В этом рассказе,
благочестиво передаваемом и сохраняемом устно раньше, чем был он записан, сохранилось
представление первохристианской общины о том, как свойственно умирать
христианским мученикам, как умирал первый и лучший их представитель, пред смертью
видевший Христа. В более определенных и конкретных очертаниях выступает
перед нами другой, позднейший, образ христианского мученика, св. Игнатия,
епископа антиохийского, прозванного Богоносцем. Мы имеем яркий автопортрет его в
его посланиях, представляющих собой перл древнехристианской письменности.
Сириец по происхождению и темпераменту, Игнатий, стоявший в непосредственной
близости к мужам апостольскими (напр<имер>, св. Поликарпу, ученику Иоанна
Богослова, а может быть, и к апостолам), он 40 лет управлял церковью Антиохий-
ской. Когда император Траян решил искоренить христианство и начал гонение,
Игнатий, в бытность его в Антиохии, явился сам к нему с тем, чтобы или
отвратить гонение, или самому удостоиться мученичества. В результате император
приказал отвести Игнатия в оковах в Рим и там предать на съедение диким зверям.
Путь св. Игнатия, ведомого 10 воинами, которых за жестокое обращение он
называет «леопардами, от благодеяний, им оказываемых, делающимися только злее»,
был как бы его апофеозом при жизни. Когда он проезжал через Малую Азию, его
встретил в Смирне еп. Поликарп и депутация от малоазийских церквей, чрез своих
епископов, пресвитеров и диаконов свидетельствовавших свою любовь к узнику и
просивших его указаний и благословения. Мы имеем эти указания в виде
пастырских посланий ведомого к зверям епископа, в которых он дал прекрасное
выражение своей любви и заботливости о пастве Христовой. Но для нас наиболее
интересно здесь его послание к римской общине, относительно которой он получил
сведение, что она стремится освободить его от мученичества. Он просит ее не лишать
его мученического венца и в просьбе этой со всей страстью изливает свою душу2.
1 Гастон Буасье. Падение язычества. М., 1892.
2 «Не делайте для меня ничего более, как чтобы я заклан был Богу теперь, когда
жертвенник уже готов, и тогда составьте любовию хор и воспойте хвалебную песнь Отцу во Иисусе
Христе, что Бог удостоил епископа Сирии призвать с Востока на Запад. Прекрасно мне
закатиться от мира к Богу, чтобы в нем мне воссиять... Просите для меня у Бога внешней и
внутренней силы, но, чтобы я не говорил только, но и желал, чтобы не назывался только
христианином, но был им на самом деле... Я пишу церквам и всем сказываю, что добровольно умираю
за Бога... Оставьте меня быть пищей зверей и посредством их достигнуть Бога. Я пшеница
Божия: пусть измелют меня зубы зверей, чтобы я сделался чистым хлебом Христовым. Лучше
приласкайте этих зверей, чтобы они сделались гробом моим и ничего не оставили от моего
тела, дабы по смерти мне не быть никому в тягость. Тогда я буду поистине учеником Христо-
170
Рядом с Игнатием история нам сохранила духовный образ другого мученика,
св. Поликарпа епископа Смирнского, «учителя Азии, отца христиан», сожженного
в 166 году. Это менее экспансивный и не столь сангвиничный, но в простоте своего
величия не менее выразительный образ1.
Можно было бы привести еще ряд однохарактерных штрихов из повествования
о христианских мучениках и мученицах, тон будет общий. Мужественные и
верующие, умирали они с радостной надеждой, мученичество было для них
желанным апофеозом, вернейшим путем к бессмертию. Здесь опять сказывается основная
эсхатологическая черта христианства, его неудержимый и страстный порыв к
иному миру. Прочтите Тертуллиана «Послание к мученикам» (217 г.) и увидите,
какими мотивами он увещевает к мужеству и терпению:
«Темна ли темница ваша? Мир еще более покрыт густым мраком, ослабляющим
ум. Находитесь ли вы в оковах? Мир носит тягчайшие цепи, изнуряющие душу.
Заразительно ли жилище ваше? Мир преисполнен вредных испарений, несравненно
несноснейших: это соблазны и распутства сладострастия. Сравнены ли вы с
преступниками? Мир заключает в себе более виновных, я хочу сказать, весь род
человеческий... Какое счастливое сражение предстоит вам выдержать! Бог будет вашим
воздаятелем, а Дух Святой руководителем. Вашими лаврами будет венец
бессмертный»55*.
Победные тоны торжества и радости прорываются там, где их всего труднее
ждать, - и неудивительно, если история гонений на христиан, конечно, наряду с
случаями слабости, слишком естественными и понятными, знает примеры и
вызывающего поведения со стороны христиан, искание мученичества, с чем иногда даже
приходилось бороться местным церквам2.
вым, когда даже тела моего не будет видеть мир... Теперь только начинаю быть учеником. Ни
видимое, ни невидимое ничто не удержит меня прийти ко Христу. Огонь и крест, толпы
зверей, рассечение, расторжение, раздробление костей, отсечение членов, сокрушение всего тела,
лютые муки дьявола придут на меня - только бы достигнуть мне Христа... Живой пишу вам,
горя желанием умереть. Моя любовь распялась, и нет во мне огня, любящего вещество, но
вода живая, говорящая во мне, взывает ко мне изнутри: "Иди к Отцу". Нет для меня сладости
в пище тленной, ни в удовольствиях этой жизни. Хлеба Божия желаю, хлеба небесного, хлеба
жизни, который есть плоть Иисуса Христа, Сына Божия, родившегося в последнее время от
семени Давида и Авраама. И пития Божия живого - крови Его, которая есть любовь
нетленная и вечная.... Поминайте в молитве вашей церковь сирскую: у ней вместо меня пастырь
теперь Бог. Один Иисус Христос будет епископствовать в ней и любовь ваша. А я стыжусь
называться одним из ее членов, ибо недостоин того, как последний из них и как изверг. Но
если достигну Бога, по милости его буду чем-нибудь»54*. Нам нечего прибавлять к этой речи, в
которой, на фоне сирского темперамента и восточной речи, сказывается первохристианский
мученический энтузиазм.
1 Преклонный, почти столетний старец навлек на себя фанатическую ненависть черни.
Ввиду угрожающей опасности, о которой он был предупрежден сверхъестественным путем, по
настоянию близких он оставил Смирну и удалился в деревню, где проводил время в молитве
по своему обыкновению «за всех людей и за общины всего мира». Явились сыщики его
арестовать и, хотя он мог скрыться, он вышел к ним, встретив их приветливо, велел накормить и
попросил час времени помолиться. В молитве прошел не один, а целых два часа, в течение
которых старец «поминал всех людей, с которыми когда-либо встречался, великих и малых,
знаменитых и безвестных, и всю кафолическую церковь на земле». Приговоренный к
сожжению и стоя уже на костре, он возносит свою последнюю молитву. В ней он славит Бога за то,
что Он удостоил его этого дня и часа, «что я в числе мучеников участвую в осанне Христа
твоего к воскресению для вечной жизни душою и телом». «Потому восхваляю Тебя за все,
прославляю Тебя, славлю Тебя через вечного и небесного первосвященника И. Христа» (см.:
Zahn, 1. с, 318-320).
2 Geffken, 1. с, 31. О ненадежности «мученических актов» в качестве исторического
источника см. здесь же. Но даже если допустить в них и сильную стилизацию, остается
поучительным историческим свидетельством самый характер стилизации, то настроение и
миропонимание, которое в ней выражалось.
171
XII
В чем тайна первохристианства?
Перебирая в уме основные черты первохристианства, невольно спрашиваешь
себя: в чем же тайна первохристианства, в чем его «победа, победившая мир», в
чем сила успеха первохристианской миссии? На основании сказанного до сих пор
можно если не ответить, то хотя подойти к ответу на этот вопрос, который всегда
составлял и составляет в одинаковой мере загадку для историка и проблему для
религиозного мыслителя. И прежде всего совершенно не следует отрицать, что
существовал целый ряд естественных условий, политических, культурных и
экономических, облегчавших распространение христианства. Но дело, конечно, не в
них только, ибо ни одно из них в отдельности, ни все они в совокупности не
способны были породить христианство, создать эту новую историческую силу. И сила
эта опиралась не на какие-либо орудия земного влияния и могущества - мы
видели, как безоружно и беззащитно в мирском смысле было первохристианство, как
внеисторично оно рассуждало и чувствовало, считая для себя все внешние
самоопределения в известном смысле несущественными, разрешая запутаннейшие
вопросы жизни с какой-то божественной, но и — не остановлюсь признать это — детски-
наивной простотой, наполовину их не замечая и в них не вникая. Для
нерелигиозного наблюдателя легко принять эту простоту его за элементарность,
некультурность, и путь новейшим отрицателям в этом отношении проложили уже древние
критики христианства, тот же Цельс или Лукиан. Нам думается, что для
понимания того, чем было первохристианство сильно, а следовательно, и для правильного
научного понимания истории его, мало Detailforschung56* какой угодно
добросовестности, ибо все это будет только добросовестная вивисекция, не приводящая к
познанию живого организма; необходима еще и религиозная интуиция, основанная
не только на личном опыте, но главным образом на историческом опыте всего
христианства в его величайших религиозных представителях. И с этой стороны между
первохристианством и живым христианством всех времен и народов не только нет
противоположности, но неизбежно существует тождество, ибо тождествен, верен и
неизменен Тот, Кто есть «путь, истина и жизнь»57* для христианства. Что же было
в первохристианстве такого, что не сохранилось и не могло быть передано в его
письменах, что только намекается и отгадывается по краткому и целомудренно
сдержанному, чуждому литературной и риторической фальши его языку? Это то,
что первые христиане имели подлинное, непосредственное переживание Божества,
они чувствовали себя в реальном и непосредственном общении со Христом, они
горели радостью поклонения Воскресшему... Я останавливаюсь, ибо чувствую, как
подхожу здесь к границе того, что может быть выражено словом и чего
позволительно касаться в литературе. Чтобы приподнять завесу и приблизить к себе то,
что обычно так далеко от нас, всмотритесь внимательно в лики тех, которые
находились в живом общении с небом, в ком чувствовали вы эту непостижимую силу. В
их кратких, стыдливых и сдержанных описаниях того, что они переживали, в их
религиозном опыте узнаете вы силу первохристианства. И даже оставляя эти
освещенные небесным светом высоты, до которых поднимаются только избранники, и
обращаясь к религиозной повседневности, достаточно внимательнее оглядеться
кругом себя, чтобы и здесь увидеть хотя и слабые, разорванные, но все те же
световые пятна. Кому не приходилось наблюдать где-нибудь в темном уголке храма
или даже в пестроте повседневности живую веру и преданность Богу в простоте,
смирении и слезах. И не будет дерзостью, если даже каждый из нас, религиозно
бессильных, обращаясь к скудному опыту своей жизни, выделит в ней те светлые
моменты, когда и для него вера была не теоретическим постулатом, но живой дей-
172
ствительностью, когда сердце трепетало и горело от чувства Бога. И все это -
великое и малое, сильное и слабое, святое и грешное, поскольку обращено к небу, -
одно и то же, разнится количественно, а не качественно. И это есть то, чем было и
первохристианство. Ни противопоставления, ни разрыва, ни какой-либо
качественной разницы здесь нет и нельзя ее допустить, если только всерьез верить, что
источник света один, как бы многообразны и различны ни были его преломления и
отражения. Как глубока и как проста эта сущность первохристианства!
Современные протестантские историки с справедливым ударением говорят о той «простоте и
углублении» религии, которые его отличают (хотя сами они, в силу своего
предвзятого антидогматизма, и заводят это упрощение дальше, чем следует). Об этой
простоте и вместе универсальности, всечеловечности, именно благодаря этой
простоте говорит Евангелие: «Истинно говорю вам: кто не примет царствия Божия,
как дитя, тот не войдет в него» (Мр., 10, 15; Мф., 18, 3; Лк., 18, 17). Слова эти,
как и вся проповедь Евангелия, обращены ко всем, помимо всех случайных
эмпирических различий: к ученым и неученым, молодым и старым, богатым и бедным,
умным и глупым. Все они должны почувствовать себя в глубине своего сердца
простыми, доверчивыми детьми, если хотят прийти к Небесному Отцу.
XIII
Первохристианство и аскетизм
Первохристиане вперяли свой взор в небо и мало замечали землю. Аскетизм ли
это? В каком смысле можно говорить об аскетизме первохристианства, как и всего
вообще живого христианства? Вопрос ставится здесь об аскетизме не как о начале
этики (ибо в этом смысле он кажется мне совершенно неустранимым из
христианской, да и всякой вообще серьезной этики, от Платона до Канта), но как о начале
метафизики, о характере мироощущения. Да, в известном смысле
первохристианство настроено, несомненно, аскетически. Первохристианская эсхатология своим
практическим последствием имела аскетическое ослабление интереса к делам этого
мира, который, употребляя вульгарное сравнение, представлялся наподобие
станции с короткой остановкой. Однако эта острота эсхатологических ожиданий есть
только особенная историческая форма того чувства непрочности и, главное,
неокончательности теперешнего состояния мира как становящегося, которое
свойственно самому существу христианской религии, и из нее неустранимо. Бог не как
пантеистический, разлитый в природе разум или красота, не безличная natura sive
Deus58* Спинозы, но живой личный Бог, Творец, Бог религии, а не одной лишь
философии, науки или искусства открывается нам только в противоположении
миру и в борьбе с ним. Автономный, замкнутый в себе, самодовлеющий мир
безбожен, атеизм — его естественное состояние. Это не значит, конечно, чтобы в мире не
было Бога и мир не отражал бы Его на себе как Его творение — мы далеки от этой
нелепости и кощунства - но мир автономен, ему дано самостоятельное,
самозаконное, так сказать, естественнонаучное существование, которое, по известному
выражению Лапласа, не нуждается в гипотезе Бога59*, и нельзя узнать в нем личного
Бога, если не прийти к Нему, прорвавшись через мир (transcensus) мистическим,
непосредственным путем религии, актом дерзновения веры. Лишь тогда и мир
оживает, снимается его мертвая маска, законы природы становятся мыслями
Творца, красота мира Его ризою, история Его живым откровением. Подняться над
миром, прорваться через мир, искать чуда веры - ибо всякая живая вера чудесна как
незакономерная, свободная — этого требует в сущности всякая теистическая
религия, и этого аскетического подвига требует христианство. Нет иного пути к Богу и
173
ко Христу, как через внутреннее мироотречение, через внутренний и совершенно
интимный акт самоопределения в любви: возлюбить Христа более, чем все самое
дорогое. И неумолимо звучит суровое, ужасающее слово кроткого и любящего
Спасителя: «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и
жены, и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может
быть Моим учеником» (Лк. 14, 26). Любовь к миру - вражда против Бога, - «не
любите мира, ни того, что в мире» (I Иоан. 2, 15), этого из христианства, конечно,
никакими толкованиями не выскребешь. До тех пор, пока мир проходит
теперешнюю стадию своего состояния, совершающегося, но не завершившегося боговопло-
щения и преображения, пока он остается хотя и божествен в предназначении, но
своеволен и самозаконен в существовании, этим мировым трагизмом вносится
неизбежный разрыв между стремящимся к Богу человеком и миром, и постольку
основывается аскетизм. Трагизм этот - объективный, космический, связанный с
греховным состоянием отпавшего мира, при котором Бог не имманентен миру, не
является как «всяческая во всех»60*, но трансцендентен и в этом смысле
противоположен миру. И это состояние мира создает религиозную антиномию в душе
религиозной личности, раздирает ее в аскетическом противоборстве миру, ради
высшей религиозной любви к нему. Смысл и основание аскетизма в первохристианст-
ве, как и в дальнейшей истории христианства, в высших точках религиозного его
настроения, как и в разных проявлениях человеческого творчества, один и тот же.
Не сливаться с миром до конца, до безразличия, всегда носить в сердце чувство
расстояния, идти не по земле, а над землею, как ни близко к ней, но всегда над
нею, — этого требует христианство. И этот объективный трагизм мира становится
необходимо и трагедией личной жизни. И эта последняя, как ни благоустроенна,
как ни благополучна, кроме глухого и непрерывного трагического разлада
содержит одну основную дисгармонию — смерть близких, любимых и личную смерть,
внешнюю незаконченность и внутреннюю незаканчиваемость жизни, это роковое
многоточие. Но этот же мотив одновременно может быть и гармонизирующим,
если окрашивается эсхатологически: за гробом ждет разрешение трагедии, за
смертью следует воскресение, личное и мировое, новая жизнь, вечная жизнь. Можно
положительно утверждать, что, когда побледнела первохристианская эсхатология и
притупилось чувство непосредственного ожидания мирового катаклизма - а оно
притупилось с конца II века во всем христианстве, обостряясь только или у
отдельных личностей, или в исключительные моменты истории, - тогда место
эсхатологии в духовной экономии личной жизни стало играть представление о личной
смерти, неотвратимой и всегда неожиданной. «Память о смертном часе» в
аскетической литературе играет роль совершенно такую же, как в первохристианстве
эсхатология, и наоборот, психология атеизма ничего так не гонит,, как мысль о
неизбежном конце и неизбежном — хочешь не хочешь — transcensus'e61* к
неизвестному, новому состоянию. Поэтому те, кто не любит думать об этом, стали
называть христианство религией смерти. Итак, в смысле чувства внутренней
чуждости миру и невозможности с ним совершенно слиться, не теряя своей религиозной
личности, первохристианство было аскетично. Оно слишком ясно видело небо, по
контрасту оттенявшее резче все тени, провалы, расщелины мира.
Первохристианство было аскетично, как и христианство вообще.
И однако с этим аскетизмом всего менее вяжется распространенное, вульгарное
представление о нем как о мрачном, злобном отношении к миру или как о
непрерывной печали. Средства и путь принимают за цель, суровый подвиг считают
самоцелью, покаяние, в котором родится духовно и приходит ко Христу человек
(«Покайтеся, ибо приблизилось царствие Божие»62*), заставляет забывать о радости
прощения и усыновления. И, наконец, что касается мира: бездушную пустыню и
страшный механизм, в котором вращаются мертвые колеса мироздания, считают
более радостными, чем космос, возвещающий славу Божию. Порыв к Богу требует
174
отказа от мира, но он и вознаграждается с избытком. Мир оживает, становится
красотой, премудростью, художественным произведением1. Это небо - немая
пропасть, в которой вращаются мертвые миры, о, как оно страшно своей мертвой
бесконечностью, но как оно прекрасно, близко нам, если мы видим в нем Престол
Творца. По-настоящему радость мира дается только религией с ее аскетизмом, она
роднит с миром, соединяет с сердцем мира. Можно было бы без труда подтвердить
свидетельствами древнехристианской письменности, насколько отзывчива была
душа первохристиан к красоте этого мира. А их безучастие или даже враждебное и
подозрительное чувство по .отношению к античному искусству, неразрывно
связанному с языческим культом, имеет свои исторические причины, бегло указанные
выше, и не может быть возводимо к религиозным основаниям.
Полным глубочайшего смысла историческим парадоксом и вместе апофеозом
древнехристианского аскетизма является победа первохристианства над миром.
Только потому, что оно так сильно чувствовало и знало небо, оно победило землю.
И не только в данном случае, но и всегда в истории лишь подъем над
действительностью, аскетическое отвержение низшей действительности ради торжества
высшей, самоотречение ради идеала давало победу в истории, а не погружение с
головой в мутные волны жизни. Аскетизм побеждает, отрекаясь, - таков закон жизни.
Христианство не могло родиться, не противопоставив себя всему миру, всей
этой сложной культуре, языческому государству, всем прошлым векам и будущим,
без этого сознания своей сверхмирности, без этого аскетического подвига:
отвергнуть душу, чтобы спасти ее, осудить мир, для того чтобы вдохнуть в него новую
жизнь, новые силы...
XIV
Нормативное значение первохристианства
Не из праздного, хотя бы даже и научного, любопытства припадаем мы к
священной почве первохристианства, по которой ходили ноги апостолов. Нет, в нем
мы хотим познать и понять себя самих, светом зажженным от лампады,
теплившейся в катакомбах, осветить сумрак нашего теперешнего состояния. Не изучение,
но поучение нужно нам, и за ним приходит наше время к истокам тех вод,
которые века истории так загрязнили, затянули песками и, если бы только могли,
совсем бы засыпали. Итак, чему же мы теперь можем научиться у
первохристианства? В чем оно остается для нас недосягаемым образцом и нормою? Каково
нормативное значение первохристианства?
Первохристианство было тем зерном, из которого вырастает .многоветвистое
древо исторического христианства. Ясно, что хотя бы и в зародыше, в простой и
неразвитой форме, но оно должно иметь в себе то, что существенно для
христианской религии вообще. В настоящее время, при сложности его духовной культуры,
1 Если хотят понять, как дорого христианству отстоять мир и плоть, пусть обратят только
внимание на страшную и опаснейшую для церкви борьбу, которую ей пришлось выдержать с
гностицизмом. Особенностью большинства гностических учений, навеянною, очевидно,
дуализмом иранской религии63*, было признание творца мира - Демиурга - слепым и злым
орудием, творящим мир как плен для духа. И вот эту попытку религиозного отвержения и
осуждения мира и его творца и побороло христианство на своем пути. Тем, которые так легко и
уверенно говорят о мироотрицании в христианстве, следовало бы получше вдуматься в смысл и
значение этой отчаянной борьбы христианства не на жизнь, а на смерть с гностицизмом,
стремившимся превратить христианство именно в тот аскетический акосмизм, который ему
приписывается. Христианство отстояло «мир» против гностицизма, а до известной степени, также и
неоплатонизма.
175
мы имеем религиозную философию, религиозную историю и бесконечно
разрастающуюся литературу о религии. И свое желание иметь настоящую живую
религию или же свои идеи о ней, или, за отсутствием таковых, хотя бы свои слова о
ней мы часто принимаем за подлинную религию, теряя способность фальшивую
ассигнацию отличить от полновесной монеты. И сопоставление первохристианства,
с его простотой, но и великой правдивостью, и современной философии наглядно
показывает, какова разница между религиозной философией или наукой, на какой
бы высоте они ни стояли, и религией, между бескровной, отвлеченной теорией и
живым непосредственным фактом. В зерне своем религия есть не теория, а жизнь,
переживание божественного, религиозный опыт; строго говоря, этой религии
нельзя научиться усвоением известных идей, ей учит только самая жизнь. Если есть это
зерно, т. е. религия, есть ствол, около которого может разрастаться дерево, а нет его,
то нет ничего, одни сухие листья, шумящие, но мертвые. Это личное переживание и
затем соединение многих личных переживаний в коллективное, церковное, и
является существенным для христианства, только это и было, но зато в высочайшей
степени в первохристианстве. И в этой религиозной непосредственности своей оно
является для нас нормой, землей обетованной, радостной зарей нового дня.
Но, напротив, его историческая плоть, особенно внешняя обстановка его прояв
ления, принадлежит истории, т. е. изменяющему потоку событий, и потому не
может иметь на все времена нормативного значения. Если формулировать кратко
всю разницу, которая существует здесь между первохристианством и всем
историческим христианством, то она сводится к тому, что для первохристианства не было
истории и не было исторической заботы в нашем теперешнем смысле, мы же
чувствуем себя в истории и втянуты в круг ее задач. Мы разнимся от
первохристианства помимо всего остального своим историческим возрастом. Более поздний час
неизбежно отличается от раннего, а тем более первого часа в истории
христианства. Прежде всего эта разница касается того, что можно назвать эсхатологическим
мироощущением. Оно неустранимо из христианства, как неустранима идея конца,
идея цели из всякого разумного, целесообразного процесса. Молитва: «Ей, гряди,
Господи!64*» не замолкнет, пока не исполнится. Но девятнадцать веков жизненного
опыта не прошли бесследно. Пассивное ожидание конца как внезапного мирового
переворота, как deus ex machina65*, в значительной степени срастворилось для нас
с активным чувством истории, ощущением исторического процесса и лишь через
него внутреннего созревания мира к предназначенному обновлению. Если оно
поблекло в яркости и непосредственности (хотя не раз в истории непосредственное
ожидание конца возрождалось при наступлении исторических кризисов, так что
один немецкий ученый1 справедливо назвал это чувство стрелкой на циферблате
истории), зато оно сделалось для нас более актуальным. История стала в нашем
мироощущении как бы мостом, ведущим из времени в вечность. Абсолютный,
религиозный смысл истории, ее нумен, коего феноменальное облачение мы знаем,
нам остается неведом, мы можем только гадать о нем. Но и непосредственное
содержание истории захватывает нас своими интересами, мы чувствуем себя
работниками на исторической ниве, несущими историческое послушание, каждый на
своей борозде. Мы сознаем себя сынами своего века, народности, государства,
социального строя, культуры. Мы чувствуем себя захваченными этим могучим
потоком, который несет нас, но не без нашей воли и участия. И в этом наше
исторически окрашенное самочувствие отличается от первохристианского. Однако и для
него эсхатология не заслоняла непосредственных жизненных задач. При всей ее
напряженности, первохристианство исполнило свою историческую задачу
первоначальной проповеди христианства. И труд этот поражает историка своей
успешностью и энергией. Первохристианская миссия, запечатленная кровью мученичества
1 Weingarten. Die Revolutionskirchen Englands.
176
страданиями исповедничества, трудами апостольства, есть величайший
исторический подвиг. Первохристиане, столь внеисторично настроенные, и на поприще
исторической работы сделали свое дело и заповедали всем грядущим поколениям
следовать своему примеру, каждому на своей исторической череде.
«Я, приблизившись, Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на
земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Св.
Духа и уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и се Я с вами до скончания
века. Аминь». (Мф. 28, 18-20). В этой напутственной заповеди Господа, данной
одиннадцати ученикам, а в лице их всему христианскому миру, указана норма
христианской деятельности в истории. Научение всех народов истинной вере и
соблюдение повелений Христовых, внесение новой жизни и нового духа во всю жизнь -
вот творческая задача христианской истории. Задача христианской миссии в
собственном смысле, проповеди веры, апологетической ее защиты, относящаяся,
конечно, не к одной первохристианской эпохе, но и ко всем другим, необходимо
сопровождается и раскрытием истин христианства естественными силами человека,
которые даны были ему и до Христа. Человеческая философия, наука, культура, как
бы слепые в дохристианском мире, становятся зрячими, получают свой логос,
раскрывающийся в их естественном историческом развитии, и также становятся
орудием «научения». Не менее всеобъемлюща заповедь «соблюдения» повелений
Христовых, ибо она открывает беспредельные перспективы как для
усовершенствования личности с ее внутренним миром, так и для исправления внешних
человеческих отношений, т. е. для того, что мы называем теперь политическим и
социальным прогрессом. Христианство не дает программ, не указывает панацей, но в
стихийные, инстинктивно слагающиеся формы жизни оно сильно вложить свое
содержание, создавая нового человека. Явилась новая тема всемирной истории -
человеческая личность, и всю ее можно в известном смысле рассматривать как
разработку этой темы, как искание автономной, освобожденной христианством
личностью соответствующих форм внешней жизни. Проблема свободной личности
есть ось, около которой обращается мысль нового времени. По отношению к этой
проблеме новейшая социальная наука, политическая экономия, государствоведе-
ние, есть только техника, на основании изучения законов социальной жизни
разрешающая поставляемые ей задачи, но не имеющая самостоятельного идеала,
который дается религиозным отношением к личности. Многие отказываются теперь
от христианства, но никто из отрекающихся от дерева не отрекся от этого плода, на
нем выросшего.
Христианство, восстановляя идеальное достоинство личности в сознании ее бо-
госыновства, дает и высшую норму общения этих личностей в идеале церкви,
внутреннего единства и братства во Христе по образу триипостасного Бога, абсолютного
единения трех ипостасей, единосущной и нераздельной Троицы, во имя Которой
крещаются вступающие в Церковь. Таким образом, пред христианским сознанием
становится задача преемственной работы над исторической плотью человечества
для преобразования ее по духу христианских настроений и заповедей, покуда ей
суждено расти и зреть, до «полноты времен». Но путь, через который христианство
непосредственно влияет на мир, все-таки есть внутренний человек, его сердце66*,
живой дух. Он есть творческая энергия в истории, но не мертвые стихии природы
или социального тела. В порабощении этим стихиям исторической плоти, в объя-
зычении личности, в погружении духа в мир тварный с забвением о Творце лежит
наибольшая духовная опасность нашего времени. И против этого-то оземлянения
человека снова и снова поднимает свой тихий, однако слышный через даль веков
голос первохристианство. Как отдаленный благовест, призывает он вверх долу
поникших. В историческом потоке великого переселения народов не спаслась
античная цивилизация с ее чарами и ее силами, не уцелела старая плоть истории,
сохранилась лишь новая душа истории - первохристианская церковь. И эта духовная
177
сила, зарождающаяся в недрах религиозной личности и преобразующая ее в
чувствах, настроениях, делах, преобразовывает и новую плоть истории, историческое
лицо мира. Об этой воспламеняющей, очищающей и перерождающей силе
религиозного огня, первая искра которого зажигается в отдельных душах, но который
разгорается потом во всемирноисторический костер, и говорится в изречении
Господа, сохраненном нам преданием: «Кто близ Меня, тот близ огня»*1*, или же,
как сказано в Евангелии от Луки: «Огонь пришел Я низвести на землю, и как
желал бы, чтобы он уже возгорелся>> (XII, 49).
1908
Том II
Cum ergo vivit homo secundum
hominen, non secundum Deum, similis
est Diabolo.
В. Augustini de civitate
Dei, L. XIV, с VI.
Homo homini deus est.
L. Feuerbach
Hinc extitisse duas civitates diversas
inter se atque contrarias ... quond alii
secundum hominem, alii secundum Deum
vivant.
■ff
B. Augustini, ibid.
ПЕРВОХРИСТИАНСТВО И НОВЕЙШИЙ СОЦИАЛИЗМ1
(Религиозно-историческая параллель)
Мм. Гг.!
В ряду духовных знамений нашего времени к числу наиболее выразительных
принадлежит то, что все чаще производится сравнение первохристианства и
современного социализма, их сближение или противопоставление. При историческом
изучении вообще имеет значение не только детальное исследование фактов, но и
чисто художественная способность к интуитивному проникновению в их
внутреннюю сущность, историческая конгениальность; существует, несомненно, особое
духовное сродство между определенными эпохами или их отдельным сторонами.
История оживает для нас в той мере, в какой мы можем перевести ее язык на свои
переживания, воскресить ее мертвые письмена, превратить ее в орудие
самопознания. Оттого при каждом новом повороте истории, при каждой перемене
исторического освещения несколько изменяется и вся историческая перспектива,
распределение тени и света.
Очевидно, подобным же историческим притяжением следует объяснить и
необычайное влечение нашего времени к эпохе первоначального христианства и
стремление понять ее при свете нашего теперешнего исторического опыта.
Нисколько поэтому не удивительно, если при этом изучении дает себя чувствовать и
развитие экономического мышления и социальных наук, благодаря которому
настойчиво подчеркивается социальная сторона всякого исторического движения, в
частности и первохристианства. Наш политико-экономический век стремится даже
и Новый Завет, насколько это возможно, перевести на язык политической
экономии. При свете своеобразного экономизма нашей эпохи1*, в применении к
изучению истории христианства, производятся некоторые новые и довольно интересные
наблюдения, уловляются такие исторические черты, которые, может быть, и не
были доступны наблюдательности веков предшествовавших. Конечно, это мало
может прибавить к собственно религиозному его уразумению, но помогает вполне
восстановить внешнюю обстановку религиозных событий, человеческую сторону в
богочеловеческом деле.
Объяснение первохристианства с точки зрения социально-экономической, есте-.
ственно, является излюбленным школьным упражнением для сторонников эконо-
1 Публичная лекция, читанная в Москве 22 февраля 1909 года. (Повторена для студентов и
курсисток в зале Медведниковской гимназии 14 марта того же года). Напечатана в «Вопросах
философии и психологии» (1909, кн. 98).
181
мического материализма. Для них заранее известно, что никакой особой
религиозной проблемы не существует и что первохристианство было идеологической
надстройкой к социально-экономическом фундаменту I—II века нашей эры,
естественно, под эту схему и подгоняется истолкование событий евангельской истории. Для
экономического материалиста, конечно, нет более мертвого и неинтересного
предмета, чем история религии, в частности история христианства; однако
агитационные потребности вызывают появление ряда книг и брошюр, пропагандирующих
атеизм и с этой целью вскрывающих «земные корни» религии. О том, каковы
могут быть результаты подобного истолкования для религиозного чувства,
свидетельствуют работы хотя бы недавно умершего бременского пастора (!) Кальтгофа,
доказывавшего в своей «социальной теологии», что исторической личности Христа
вообще не существовало и первохристианство было движением
социально-экономическим1. В таком же роде выводы известного Каутского, только что выпустившего
толстый том о происхождении христианства2, где он по старым еще схемам Бруно
Бауэра еще раз экономически истолковывает происхождение христианства,
конечно, также вне всякого отношения к личности его Основателя и Его апостолов. То
же самое делается в партийной и брошюрной литературе, не представляющей ни
научного, ни религиозно-философского интереса, но, конечно, оказывающей свое
влияние на массы. И в более независимой научной литературе наблюдается интерес
к этой стороне изучения первохристианства. Так, на 19-м
евангелически-социальном конгрессе в Дессау (9—11 июня 1908 г.) имели место в высшей степени
интересные дебаты по докладу проф. Дейсмана «Первохристианство и низшие классы»,
в котором обсуждался тот же вопрос о социальном составе первохристианства и об
его экономической подпочве3. На этой стороне более или менее останавливается
теперь большинство выдающихся новейших историков первохристианства.
При этом изучении само собою напрашивается сопоставление и великого
народного движения наших дней - социалистического - с движением
первохристианства. Ибо и социализм тоже выступает в наши дни в качестве религии масс
народных, которые воспитывались в течение 19 веков в христианстве; он является,
стало быть, естественным соперником и противником христианства. Это — первое в
истории христианских народов движение, имеющее религиозные черты и притом
сознательно враждебные христианству, стремящиеся отторгнуть у него массы
народные. Все интеллектуальные течения, направляющиеся против религии, до XIX'
века (или конца XVIII) не выходили за пределы салонов, университетских
аудиторий, частных домов, не становились достоянием масс в такой степени, как
теперешний социализм. Народные массы, которые и в наиболее культурных странах,
конечно, ни по образу жизни, ни по подготовке своей не могут усвоить социализм
как научную доктрину, опирающуюся на научную аргументацию, принимают его
как новую веру, новую религию, призванную заменить и устранить старую,
христианскую. Таким образом, перед нами происходит борьба двух вер, столкновение
двух религий. И у наблюдающих эту борьбу, даже независимо от их собственных
1 Albert Kalthof. Das Christusproblem. Grundlinien einer Sozialtheologie. 1902; его же. Die
Entstehung des Christenthums. Neue Beiträge zum Christusproblem. 1904. Критический разбор
см.: Prof. W. Bousset. Was wissen wir von Jesus? Tübingen, 1906.
2 Karl Kaut sky. Der Ursprung des Christentums. Stuttgart, 1908. S. 508. В русском
переводе вышло под заглавием «Античный мир, иудейство и христианство» (Пер. Н. Рязанова. 1909).
Русский перевод снабжен еще «Предисловием" к русскому изданию», но в нем почему-то
отсутствует заключительная глава подлинника «Christentum und Soziasldemokratie»2*. Ср. также
примыкающие к «социально-теологическому направлению» работы: Мах Maurenbrecher. Von
Nazareth nach Golgotha. 1909; его же. Von Ierusalem nach Rom. 1910.
3 Die Verhandlungen des XIX Evabgelisch-Sozialen Kongresses abgehalten in Dessau am 9-11
Juni 1908. Göttingen, 1908. В прениях принимали участие, кроме председательствующего
проф. А. Гарнака и докладчика проф. Дейсмана, следующие лица: проф. фон Соден, проф.
Тициус, Гольман, Фридрих Науманн, рабочий секретарь Фишер, паст. И. Герц.
182
религиозных убеждений, симпатий или антипатий, естественно появляется
потребность возвратиться мыслью к тем временам, когда христианская религия впервые
вступала в мир и его завоевывала, как теперь хочет завоевать его социализм.
Одним из наиболее прочно установленных фактов истории первохристианства,
за последнее время обращающих на себя особенное внимание, при этом является
то, что по социальному положению своих последователей оно было движением
преимущественно народным, или, как любят выражаться теперь, «пролетарским»,
захватывало первоначально низшие и лишь в значительно меньшей степени
средние слои населения, высшие же были представлены совсем слабо. В
констатировании этого факта, обращавшего на себя внимание еще древних противников
христианства (Цельз!), сходятся и Каутский со своими единомышленниками,
объясняющий отсюда первохристианство как движение иудейского и греко-римского
пролетариата, и независимое историческое исследование. Немало свидетельств
относительно этого находится и в самом тексте Нового Завета — достаточно вспомнить
для примера характеристику коринфской общины в I главе I послания апостола
Павла к Коринфянам3*. Вообще, печать простоты и даже некоторой
простонародности лежит и на первоначальных общинах христианства. Зарождается оно в стороне
от больших исторических центров, в отдаленной провинции, Палестине.
Основатель его проводит Свои ранние годы в семье плотника и Сам принимает участие в
плотничьих работах. Апостолы вышли из среды рыбаков и вообще простых людей,
и даже самый ученый из них — апостол Павел - был ремесленником (I Кор. 4, 12),
делателем палаток, который и во время своих миссионерских путешествий
трудится своими руками, добывая себе пропитание. Характерна подробность, что ап.
Павел, прибывая в Коринф, останавливается тоже у товарища по ремеслу и брата по
вере Акилы. Как выразительны эти простые слова, которыми ап. Павел хвалит
Эфесскую Марию (Рим. 16, 6): «она много поработала для вас». Почти эти же слова
начертаны на одной надгробной надписи на родине ап. Павла, на юго-западном
малоазийском берегу, на могиле простого человека, некоего Дафна, хорошего
садовника, который скончался, «много поработав». И еще в римских катакомбах мы
находим отзвук привычного выражения: жена хвалит своего мужа, «который много
поработал для нее». Так хвалят лишь люди, знающие цену честному и тяжелому
труду. Не странно поэтому встретить у ап. Павла известную максиму: «кто не
работает, да не ест» (2 Фес. 3, 10). Не раз уж обращали внимание филологов также и
имена лиц, приветствуемых в посланиях ап. Павла - здесь без труда узнают
немало обычных имен рабов, которые, как известно, вместо фамилий получали клички
или прозвища. Останавливает внимание также засвидетельствованная в посланиях
ап. Павла глубокая бедность некоторых общин, например иерусалимской,
македонских, в пользу которых он постоянно делает сборы, причем, по тонкому
наблюдению Дейсмана, характерны и приемы, рекомендуемые им при этом сборе в галат-
ской общине: он рекомендует откладывать по небольшой сумме каждое
воскресенье, это - правило для бедных людей, существующих заработной платой4*. Весьма
интересное и самое новейшее подтверждение этого же народного характера
первохристианства, как оказывается, приносят в настоящее время египетские пески и
недра африканской земли. Минувшим летом (1908) упоминаемый мною проф.
Дейсман выпустил большой том (за это время вышедший уже вторым изданием)
под заглавием «Das Licht vom Osten» (основные выводы изложены им в реферате в
Дессау), где он заставляет эти пески и недра говорить живым и воодушевленным
языком, свидетельствовать неопровержимо о народном характере
первохристианства. В результатах новейших египетских раскопок тот средний и нижний слой, в
котором распространялось первохристианство, оживает теперь перед
исследователем в своей повседневной трудовой жизни с ее горестями и заботами, говорит с
нами своим языком и рассказывает о своем бытие. Современными археологами
откопан как бы живой кусок истории. «За периодом фантазий, в течение которого
183
Каутский и Кальтгоф рассказывали и сочиняли о жизни античного пролетариата, -
говорит в своем докладе проф. Дейсман, — следует век фактического исследования,
и притом тяжелой работы изучения мелочных фактов. И кто участвует в этом
исследовании, тот часто испытывает такое чувство, как будто бы невидимый
авторитет, суверенно управляющий веками, задним числом устроил социальную анкету
относительно римской эпохи императоров и высыпал на письменном столе
историков сотни и тысячи отдельных текстов, из которых нужно получить мозаическую
картину жизни античных масс» (14). На местах, где стояли некогда античные
города, местечки, селения, отрывается теперь множество письменных памятников не
литературного, но бытового характера, представляющих собой драгоценнейший
материал для характеристики народного языка и народной жизни. «Крестьяне и
ремесленники, солдаты, рабы и матери говорят нам о своих заботах и нуждах». В
числе этих памятников находятся греческие и латинские надписи (эпиграфы),
затем писаные листки папируса и, наконец, черепки (остраки). Главная масса
надписей вырезана на меди, на оловянных или золотых дощечках, на навощенных
табличках или на стене (т<ак> наз<ываемые> grafitti); сюда же относятся надписи на
монетах и медалях. Эти надписи, насчитываемые теперь сотнями тысяч, встречаются
на протяжении всего греко-римского мира от Рейна до Верхнего Нила и от Евфрата
до Великобритании. Что касается папирусов, то наибольшее их количество
находится в Египте на местах развалин античных поселений, они представляют собою
разные надписи нелитературного характера: юридические документы (арендные
договоры, счета, квитанции, брачные договоры, завещания и т„ д.), затем письма и
записки, ученические тетради, заклинания, гороскопы, дневники и т. д. Греческие
памятники этого рода охватывают эпоху в 1000 лет, от III века, до Р. X. до
поздней византийской эпохи. Но к этому присоединяются документы и на других
языках эпохи. Они дают чрезвычайно живой материал для исторической
характеристики. Проф. Дейсман в своем исследовании приводит тексты (с фототипическими
репродукциями) частных писем, например, солдата к своим родителям, рабочего к
своей жене, находящейся в ожидании ребенка, и т. п. Словом, они вводят нас в
интимную, бытовую обстановку жизни. Но еще больше материала для знакомства с
жизнью низших классов дают так называемые остраки — глиняные черепки,
тысячами находимые теперь в египетских развалинах. Черепок, как самый дешевый,
иногда даровой материал для письма, был в употреблении у самых беднейших
классов (вспомните афинский остракизм!5*), на нем писали те, кому не под силу
было купить папирус, но, к счастью для историков, этот дешевый материал был
вместе с тем и прочнейшим1.
Работа изучения, классификация всего этого материала, обещающего нам
раскрыть с неожиданной отчетливостью социальную обстановку первохристианства,
находится еще в самом начале. Но и теперь уже проф. Дейсман сделал некоторые,
в высшей степени важные наблюдения и открытия, касающиеся новозаветного
греческого языка. Филологическое изучение Нового Завета сравнительно с
классической литературной письменностью давно уже приводило к заключению, что в
языке между ними существует значительная разница. Язык новозаветный
отличается от литературного не только семантическим влиянием, но и присутствием в
нем своих особых слов и выражений, которые доселе рассматривались как
специфически новозаветные. Теперь исследования проф. Дейсмана на основании
сравнительного изучения текстов из вновь открытых памятников и новозаветного языка
привели его к следующим весьма важным выводам, подробно обосновываемым им в
цитированном уже исследовании «Das Licht vom Osten»: «Новый завет в своих
1 Надо сказать вообще, что в древности писали на более прочном материале, чем в наше
время, а союзником этой доброкачественности письменного материала является еще зной
египетского климата и сухость песков пустыни.
184
важнейших частях говорит нелитературным, обиходным языком народа: сотни
словесных особенностей, которые раньше считались признаком новозаветного
греческого языка, могут быть теперь показаны в качестве народных выражений на
основании примеров из малоазийских надписей или египетских папирусов и
черепков» (16-17)1. Наиболее народным языком с этой точки зрения отличаются
синоптические Евангелия (т. е. Матфея, Марка и Луки), особенно в их передаче
изречений И. Христа, а также Послание ап. Иакова. Иоанновы писания —
Апокалипсис, послания, а также и Евангелие, несмотря на соблазнявшее столь многих
учение о Логосе, также глубоко коренятся в народном обиходном языке, последнее
есть, по выражению Дейсмана, «всемирно-историческая народная книга».
Поразительно и прямо ослепительно это открытие, филологически восстанавливающее
историческую древность Евангелия от Иоанна: чего-чего только не проделывала и
не проделывает над ним в течение целого столетия отрицательная критика, и вот
ныне камни и пески пустыни возопияли в защиту Евангелия Логоса! 2
Историческая подлинность большинства посланий ап. Павла всегда менее
заподозривалась; при свете же новых открытий в их языке тоже устанавливаются
некоторые народные черты, хотя преимущественно и относящиеся к городской
жизни и к городскому кругу понятий, в противоположность синоптическим
Евангелиям с их сельским колоритом в языке и в образах, например, встречающихся в
притчах, и в отличие от Иоаннова Евангелия, которое не имеет резко выраженных
черт городской или сельской жизни. Вообще, по заключению Дейсмана, «Новый
Завет, рассматриваемый в целом, есть народная книга», «книга народа и
человечества», которая стала «книгой народов лишь потому, что была книгой народа» (Das
Licht, 95-96). И этот вывод филологии больше чем априорные утверждения
экономического материализма свидетельствует в пользу того великого,
всемирно-исторического факта, что христианство родилось в среде народной, было движением
народным. Теперь привыкли считать понятия «народный» и
«социально-экономический» синонимами. Следует ли отсюда, как заключают иные, что первохристианст-
во было движением социально-экономическим, «пролетарским», в теперешнем
смысле слова, «массовым», т. е. классовым? Нет, нет и нет, в этом и лежит вся духовная
пропасть между первохристианством и социализмом. Оно было движением
народным, но вместе с тем не классово-экономическим, а религиозным8*.
Чтобы отчетливее утвердить это положение в сознании, нужно прежде всего
ознакомиться с социальным составом тогдашнего общества в Римской империи,
совпадавшей в представлениях современников со вселенной и составлявшей
область распространения христианства. Нужно, однако, тотчас же указать, что
теперешнее состояние наших знаний далеко не позволяет нам вполне
удовлетворительно разрешить эту задачу, в особенности относительно многих провинций, игравших
важную роль в истории христианства (Египет, Малая Азия, даже самая
Палестина). Здесь приходится удовольствоваться весьма суммарными и приблизительными
представлениями, которые еще нет возможности облечь в конкретные образы, пока
наука не заполнила этой пустоты детальным изучением доставляемого археологией
материала. Гораздо благоприятнее обстоит дело относительно Греции (хотя и здесь
для эпохи эллинистической, более поздней, у нас гораздо менее сведений, нежели
1 Напр<имер>, даже слово παρουσία6*, употребляемое в применении ко второму
пришествию Спасителя, употреблялось для обозначения прибытия знатного лица, военачальника и,
далее, обозначало налог для его приема.
2 Известный Фр. Науманн во время дебатов в Дессау по докладу Дейсмана отметил всю эту
изменчивость и противоречивость в отношении к Евангелию от Иоанна, как оно отражалось в
университетском преподавании под влиянием господствующих предубеждений и априорных
конструкций истории христианства, и вот теперь объективная, почти точная филологическая
наука возвращает Евангелию от Иоанна то место, которое и всегда отводилось ему церковным
преданием, относящим его к концу I века7*.
185
для эпохи классической, поры расцвета демократии), а еще более относительно
Италии и Рима.
Можно уже наперед сказать, что огромная территория Римского государства в
императорскую эпоху представляла собой огромное разнообразие в
этнографическом, культурном, социально-экономическом отношении, притом даже большее,
чем теперь, ибо тогда отсутствовало нивелирующее влияние международного
капитализма.
Самой выдающейся особенностью, отличающей социально-экономическую жизнь
древнего мира, является, без сомнения, рабство. Это — такая яркая точка, которая
невольно фиксирует на себе внимание, так что неудивительно, если
распространение рабства и его значение часто даже преувеличиваются. Рабство было,
действительно, фундаментальным, наиболее важным устоем социальной жизни древнего
мира, но все-таки оно не было ни всеобщим, ни определяющим хотя бы, например,
в такой мере, как наемный труд в современном капитализме.
В Греции наибольшее распространение рабства относится к эпохе после
персидских войн, вообще к V веку1. Рабский труд применялся в промышленности, на
своеобразных рабовладельческих фабриках, в рудниках, а также в земледелии на
больших имениях. Крупные центры промышленной жизни V века - Коринф,
Афины, Эгина, Сиракузы - были центрами скопления рабов. Как ни велика была
конкуренция, создававшаяся рабством свободному труду, этот последний никогда не
был вытеснен окончательно, особенно в области земледелия. Отличительной чертой
рабского режима в Греции сравнительно с римским была его сравнительная
мягкость и в нравах, и в законодательстве. С этим следует поставить в связь, может*
быть, и то, что греческая история не сообщает нам ничего ρ крупных возмущениях
рабов, подобных случавшимся в Риме. Опасно поэтому отождествлять греческое и
римское рабство на том только формально-юридическом основании, что в том и в
другом случае применялись к людям нормы вещного права, и раб рассматривался
как живое орудие производства. Наибольшего распространения в Риме рабство
достигает в первом веке до Р. X., в конце республики и в начале империи, и к этой
же эпохе относится та общеизвестная свирепость в применении этого жестокого
права, которая заставила Моммзена, с некоторым, впрочем, преувеличением,
высказаться, что страдания негров в рабстве есть только капля в море по сравнению
со страданиями римских рабов. Тот болезненный процесс народнохозяйственного
вырождения, который совершился в Римской республике за последние три века ее
существования, привел к развитию капиталистических латифундий и вытеснению
свободного труда рабским, что имело последствием деградацию свободного труда.
«Римское мировое господство было делом государственной и военной организации,
покоившейся на крестьянском населении Италии»2, причем вначале рабы совсем не
играли первостепенной роли. С течением времени успешные войны наводняли
страну в лице военнопленных все новыми полчищами рабов, а вместе с тем они же
расшатывали самостоятельное крестьянское хозяйство, ибо отрывали от сохи
крестьян, призываемых в ряды воинов. Неизбежная задолженность и
бесхозяйственность довершали крестьянское разорение. Была и еще одна могущественная
причина, содействовавшая разорению крестьянского хозяйства: аграрный кризис,
свирепствовавший в Италии и многими чертами напоминающий нашу новейшую
аграрную депрессию конца XIX века9*. С итальянским земледелием, благодаря ввозу
в Италию земледельческих продуктов из колоний, вступили в конкуренцию
провинции, в числе которых была и тогдашняя житница империи - Египет. Падение
цен, неизбежное уже в силу этой конкуренции, еще усиливалось государственными
1 V. Below. Die Unfreiheit (Wort. d. Volksw. II, 1106). Dobschütz в R. E. von Hauck und
Herzog, 3-te Ausg. «Sclaverei und Christentum».
2 Эд. Мейер. Рабство в древнем мире. С. 39.
186
мероприятиями, установлявшими продажу хлеба по заведомо пониженным ценам,
с благотворительной целью. Помимо этих рыночных конъюктур, особенно
неблагоприятных для крестьянского хозяйства, и без того уже расшатанного и
находившегося в неустойчивом равновесии, для крестьян закрылся и источник новых
земельных наделений, из так называемых ager publicus, государственных земель,
которые становятся достоянием богатых. На этой почве возникло движение к аграрной
реформе, во главе которого стояли братья Гракхи; однако оно не имело успеха.
Крестьянское хозяйство было обречено на гибель. Крестьянские участки скупались
спекулянтами-капиталистами, и таким образом создавались знаменитые римские
латифундии, которые, по известному выражению Плиния Старшего, погубили Рим10*.
Для их возделывания применялся более дешевый рабский труд. Военнопленных
уже не хватало, явилась потребность в организованном похищении рабов частью на
законном основании при помощи ростовщичества в провинциях, частью же просто
путем морского разбоя по всему побережью Средиземного моря, особенно же в
Малой Азии. Главным рынком для работорговли был остров Делос, где, по
свидетельству Страбона, продавались ежедневно тысячи рабов (мириады)11*. Общее число
рабов в Италии даже превышало свободных в пору наибольшего распространения
рабства. Коренное население Италии постепенно изгоняется со своих пепелищ.
Следы этого латифундиарного вырождения италийского земледелия
сказываются буквально до сих пор, например, в римской Кампанье, из житницы
превратившейся в болотистый рассадник малярии. Обезлюженные поля, которые под
давлением аграрного кризиса, подобного тому как в новейшее время по той же причине
в Англии, в значительной мере превращаются в пастбища, возделываются
разноплеменными, похищенными или военнопленными рабами, деградированными, по
выражению Моммзена, до "домашнего животного. «На земле крупных владельцев
рабы иногда с клеймами, выжженными на теле, с ногами, закованными в цепи,
целый день работали в поле под неусыпным надзором жестоких сторожей, а на
ночь загонялись в казарму, напоминавшую собой темницу и нередко
расположенную под землей»1. Такое рабское хозяйство невозможно было, конечно, без
террористического режима (Моммзен), но и несмотря на это II и I столетия до Р. X.
ознаменовываются грандиозными возмущениями рабов в Сицилии, которая раньше и
жесточе других применяла рабовладение. Две сицилийских войны с рабами и
большая война с гладиаторами чуть не привели государство на край гибели, и
свыше 20 тысяч человек по распоряжению консула Публия Рупилия были
пригвождены к крестам после второго сицилийского восстания12*. Впрочем, эти восстания
были скорее всего лишь неизбежной, стихийной реакцией против порабощения
огромных масс недавно еще свободных людей, но касаться самого института
рабства, стремиться к его уничтожению и к легальной свободе никому из бунтовщиков
не приходило в голову. Одновременно с земледельческими рабами (familia rustica)
выступают огромные массы городских домашних рабов (familia urbana),
потребляемых частью в качестве личной прислуги, частью же, с применением
утонченного разделения труда, для выполнения всевозможных домашних работ2
(насчитывают до 146 названий этих отдельных специальностей). Создается то бешеное
роскошество в рабовладении, употребление рабов для удовлетворения прихотей,
впечатление от которого на все времена оставил императорский Рим. Впрочем, не
только в целях роскоши, но и для ремесленного и даже для фабричного
производства (насколько можно о нем говорить по состоянию тогдашней техники)
применялся преимущественно рабский труд, так что большая часть того, что в
теперешней Европе производится свободным трудом, в римской жизни выполнялось раба-
1 Гринберг. Несвободное состояние труда (в «Истории труда», сборник статей из Handw. d.
Staatsw.)·
2 Бюхер. Происхождение народного хозяйства, 15.
187
ми1. Численность рабов в Риме была поэтому очень высока. На общее население,
составлявшее, по оценке Белоха, разделяемой и Эд. Мейером, 800 000 человек (по
другой оценке она определяется около 11/г млн.), около начала нашей эры
приходилось наполовину рабов2. Положение рабов было безотрадно и беспросветно.
Римское рабовладение отличается в начале христианской эры совершенно
исключительной жестокостью и бесчеловечностью. «Да разве раб человек!» — так
восклицает у Ювенала относительно посланного на казнь (через распятие) раба одна из
римских дам, на жестокость которых жалуются Овидий и Ювенал13*. У Сенеки
приводится характерная поговорка: totidem hostes quot servi14*. По определению юриста
Ульпиана, раб есть животное: servus vel animal aliud15*. Юридическое положение
раба как движимости (res mobilis) исключало всякие права: он не имел семьи,
которая могла быть всегда расторгнута волею владельца, не имел права даже над
собственным телом. Поэтому проституирование было одним из наиболее доходных
способов эксплуатации рабынь. Известно также, сколь деморализующее влияние
для чистоты брака у самих римлян имела эта безответность раба. Только при
Адриане было отнято право продажи рабов в гладиаторы или в дома терпимости без
серьезных оснований. Особенно жестоки были наказания за попытки бегства:
беспощадное бичевание, заковывание, карцер, работа на топчаке, в рудниках, в
каменоломнях. Попытки к возмущению карались смертной казнью. В год прибытия ап.
Павла в Рим, в 61 г., был убит городской субпрефект Педаний Секунд, а так как
убийца не был разыскан, то по обычному праву должны были подвергнуться казни
все рабы убитого, находившиеся в доме в момент убийства и навлекающие этим на
себя подозрение16*. Их оказалось 400. И хотя за них вступилась городская чернь,
сенат при помощи военной силы добился выполнения кровавого приговора. За
рабом не признавалось и права на религию, по крайней мере, исповедуемую
свободными людьми. «Рабы не имеют религии или имеют только чужестранную», —
говорил в сенате при Нероне Кассий17*. Ритор Сенека рассказывает случай, когда один
господин в благодарность рабу за спасение дочери хотел отдать ее за него замуж,
но при этом встретил возражения с той, между прочим, стороны, что жена должна
разделять культ и очаг с мужем, между тем как раб ни имеет ни очага, ни
культа18*. Впрочем, рабам была предоставлена некоторая свобода удовлетворения
религиозных потребностей путем вступления в низшие религиозные коллегии (collegia
tenuiorum)19*.
Неудивительно, что настроение рабов нередко полно было беспросветного
уныния и отчаяния3. Одни предавались разврату и в ночных оргиях, после каторжного
труда целого дня прожигали быстро догоравшую жизнь, разрушая душу и тело,
другие в самоубийстве искали свободы от рабства. Законодательством императоров
под гуманизирующим влиянием стоицизма с его учением о естественном праве и
равенстве людей рабство несколько смягчается в позднейшую эпоху (о значении
христианства речь будет ниже), да и число рабов тогда уже значительно
сокращается и постепенно рабство отмирает, теряя свое значение в качестве
экономического института.
Но какова же была дальнейшая судьба тех, которых рост латифундий вытеснял
из деревни? Наша эпоха также знает в огромных размерах перемещение населения
из деревни в городские и промышленные центры; на этом передвижении населе-
1 Friedländer. Sittengeschichte Roms. 6-е Aufl., 229.
2 Оценки эти очень колеблются. Мерквардт определяет число рабов в Риме в 900 000 при
600 000 свободных, Белох - в 200 00Ö-300 000, Фридлендер - наполовину (Цит. по Dobschütz,
I.e.).
3 О положении рабов, кроме цит. сочинений, ср. еще: P. Guiraud. Etudes économiques sur
l'antiquité. Paris, 1905; Marquardt. Privatleben der Römer; Th. Mommsen. Römische Geschichte,
II; Th. Zahn. Sklaverei u. Chrisrenthum in der alten Welt (Skizzen aus dem Leben der alten
Kirche); Allard. Les esclaves chrétiens. 1875; Uhlhorn. Die christliche Liebeshältigkeit. 1882.
188
ния, тяге его в город базируется как на своем популяционистическом основании
современный индустриализм1. Но где же тогда мог искать себе занятий италийский
крестьянин, оторвавшийся от родной земли, если и в городе при слабом, а
сравнительно с теперешним и прямо ничтожным развитием промышленности его ждала
та же убийственная конкуренция рабского труда, которой он не выдержал и в
деревне! Страшая безработица, такое скопление безработного и голодного
пролетариата20*, какого, по мнению Эд. Мейера, не знает и современный
капиталистический мир, было неизбежным следствием. В силу политической необходимости
государство должно было поставить себе задачу призрения свободных граждан, и вот
римский (а раньше и греческий) пролетарий превращается в государственного
пенсионера. В бюджете римского государства расходы на содержание пролетариев
играют все более видную роль. Податной пресс, выдавливающий подати из всех
провинций, делал римского пролетария пенсионером не столько Рима, сколько, в
сущности, всего тогдашнего мира. Не говоря уже об общественных сооружениях,
предпринимаемых для создания заработка безработным, о праздниках, народных
торжествах и т. п., общим правилом в Риме становится даровая и удешевленная
выдача хлеба, а затем и других предметов необходимости2.
Таким образом рабство жестоко мстило за себя внутренней социальной отравой
в лице этого класса тунеядцев, которые требовали еще и развлечений - panem et
circenses21* теперь становится лозунгом черни - и для которых строились эти
грандиозные театры, цирки3.
Надо, однако, к этому прибавить, что все эти государственные и частные
подачки, выпадавшие главным образом на долю взрослого мужского населения,
отнюдь не исключали наличности городской бедноты, особенно среди
многосемейных, так же как и рабский труд все же неспособен был совершенно вытеснить
свободное ремесло: впрочем, среди его представителей было много
вольноотпущенников, тоже бывших рабов, обученных ремеслу еще у своего господина. Если
отвлечься от этих сравнительно второстепенных деталей и остановить внимание на
самых крупных подразделениях общества, то можно сказать, что в эпоху
зарождения христианства социальное неравенство и концентрация имуществ в руках
немногих оптиматов22* при пролетаризации или порабощении остального населения
были основной особенностью эпохи. Правда, если сравнивать эту концентрацию
капитала с теперешней, она кажется слабою; ибо что значат первые богачи
древнего Рима, какой-нибудь авгур Лентул или вольноотпущенник Нерона Нарцисс23* с
их капиталом миллионов в 35-40, приносящих всего около IV2 млн. рублей
годового дохода, по сравнению с сегодняшними миллиардерами Америки -
Рокфеллером, Морганом, Карнеджи или же Ротшильдом. Но ведь этому богатству зато
противостояли такая бедность и порабощение масс, по сравнению с которым
положение среднего американского или европейского рабочего, особенно тред-юниониста,
кажется недосягаемым благополучием. (Впрочем, все такие экономические
сближения отдаленных исторических эпох благодаря различию психологии вообще
1 Ср. сопоставления в нашем «Кратком очерке политической экономии». М.,1906. Вып.1,
гл.1.
2 Даровая раздача хлеба, введенная впервые Каем Гракхом, делается регулярной с закона
123 года до Р. X., причем сначала хлеб давался за полцены, а с 58 г. стал раздаваться и даром.
При Августе общее количество лиц мужского пола, получавших помощь от государства,
составляло круглым число около 300 тыс. Начиная с Цицерона, пятая часть vectigalia
(косвенных налогов) поглощается даровыми раздачами одного Рима; в 46 г. по Р. X. расход составлял
уже 77 м. сестерций (ок. 6 м. р.), причем условием получения хлеба было лишь право
римского гражданства и римская оседлость. Но к этим регулярным выдачам присоединялись еще
чрезвычайные (так наз<ываемые> largitiones), очень частые при императорах, а также и
подарки деньгами или выдача денег по завещанию.
3 По сообщению Дионисия, число мест в римском центре доходило до 150 000, а по
сообщению Плиния, после расширения цирка Нероном - до 250 000.
189
более чем рискованны, и, может быть, правильнее от них совсем воздержаться.) Но
нельзя не отметить той коренной особенности в положении неимущего класса, что
он раскалывается на две совершенно различные, во многом даже противоположные
части: рабов, несущих на себе всю тяжесть жизни, воистину «труждающихся и
обремененных», пенсионируемых государством пролетариев, которые по
отношению к рабам, как это признает даже и Каутский, играют роль эксплуататоров, хотя
в качестве граждан Рима они еще более эксплуатируют обложенные тяжелыми
иногда налогами провинции24*. И, хотя различие это несколько выравнивается
обилием вольноотпущенников, все же социальная пропасть между рабами и
пролетариями остается велика: это совсем два разные класса.
Итак, социальная физиономия Рима и Италии представляет нечто совершенно
своеобразное и, само собою разумеется, нигде в провинции не повторяющееся. Что
же мы может сказать на основании теперешнего уровня наших знаний о
социально-экономическом положении этих провинций? Все вообще провинции страдали от
тяжести налогов, обычно сдававшихся еще на откуп, причем откупщики извлекали
их с лихвой. Однако в императорскую эпоху взимание налогов было уже
сравнительно урегулировано, и, благодаря миру и более упорядоченному управлению,
благосостояние провинций вообще поднялось, что выразилось, между прочим, в их
особенно горячем монархизме. Высоко было благосостояние в Сирии, Египте, так
же как и в провинции Африке (Africa propria), о которой Моммзен замечает, что в
земледелии здесь сохранился даже средний класс1. Из провинциальных городов
Александрия египетская и Антиохия сирийская занимают место непосредственно
наряду с Римом, но в этих торговых и промышленных городах, конечно, не было в
таком количестве праздной городской черни, какая была в. Риме. Нет даже
оснований утверждать, чтобы в Палестине в начале нашей эры царила особенная
бедность. Это была густозаселенная, возделанная страна, которая, по крайней мере по
оценке некоторых исследователей2, во всяком случае не стояла ниже других
провинций. Здесь была организованная помощь бедным чрез особых служителей при
храме3, собиравших для них хлеб и деньги; призрение их было, следовательно,
связано с религиозной организацией.
На протяжении всего этого мира, состоявшего из столь различных в социально-
экономическом и политическом отношении частей, и распространяется
христианство, сразу получающее черты универсальной, всенародной религии. Уже к концу
I века, до Траяна, оно продвинулось уже, по исследованиям Гарнака4, до берегов
Тирренского моря, имея главные центры в Антиохии, на западном и
северо-западном берегу М<алой> Азии и в Риме. Здесь и в Вифинии оно возбуждает уже
внимание правительства. А к 180 году (смерти М<арка> Аврелия) христиане
встречаются уже во всех римских провинциях и даже за пределами Римской империи. В
степени распространения христианства бросается в глаза большая разница между
западом, и востоком, и еще больше между частями империи с преобладанием
греческого или латинского языка: греческое христианство существует со времен
апостольских, латинское, вероятно, лишь со времени Марка Аврелия. Малая Азия
христианизировалась в наибольшей степени и притом ранее других; за ней следуют
Сирия с Антиохией, Египет с Александрией, Рим с Нижней Италией, Нумидия,
южная Галлия. Наибольшее распространение христианская религия получает в
больших городах, так что в этом смысле «христианство есть городская религия»
(Гарнак), однако в целом ряде провинций (в Малой Азии, Армении, Африке,
Сирии и Египте, Палестине) оно распространяется и в деревне.
1 Römische Geschichte, V, 653 и др. (Цит. по: KähLer, 1. с. 67-68).
2 Ср. сопоставления у Kahler. Sozialistische Irrelehren von der Entstehung des Christentums
und ihre Wiederlegung. 1899. S. 76-77.
3 Schürer. Gesch. d. jüd. Volkes, II, 3, 440-441.
4 Die Mission und Ausbreitung des Christentums, 410-411.
190
Установить какую бы то ни было общую связь между распространением
христианства и экономическими условиями, приурочив его к какой-либо определенной
социально-экономической группе, например рабов или к пролетариату, нет
никакой возможности, если принять во внимание обширность территории, разнообразие
экономических условий, вообще всю пестроту жизни, и, кроме того, к тому
совершенно отсутствуют сколько-нибудь достоверные научные основания. И, напротив,
те, правда, отрывочные сведения, которые вообще существуют относительно
социального состава первохристианских общин, совершенно не позволяют утверждать,
чтобы они состояли из представителей какой-либо одной общественной группы.
Начнем с первой иерусалимской общины, возникшей после Пятидесятницы25*, этой
колыбели всего христианства. На основании совершенно непозволительных с
научной точки зрения фантазий Каутский в новейшем своем «исследовании»
приурочивает ее к особой группе городского пролетариата, о которой, однако, не сохранила
никаких сведений история26*. Делается это, конечно, по рецепту истолкования
истории и, в частности, происхождения христианства с точки зрения
экономического материализма. На самом же деле те отрывочные сведения, которые имеются
по этому (с точки зрения религиозной истории, конечно, сравнительно
второстепенному вопросу) совершенно не позволяют охарактеризовать даже иерусалимскую
общину как однородную в социальном отношении группу. Ядро ее — апостолы,
переселившиеся из Галилеи в Иерусалим, были сельскими ремесленниками,
галилейскими рыбаками, но отнюдь не городскими пролетариями. Первая проповедь,
после которой крестилось около 3000 душ, по «Деяниям Апостольским», была
обращена к собравшимся по случаю праздника в Иерусалиме «иудеям, людям
набожным, из всякого народа под небесами» (Д<еян.> Ап. И, 5). Были в ней наряду с
бедняками, нуждающимися в помощи, и люди, «владевшие домами и землями»
(Деян. Ап. IV, 34) и продававшие их на пользу общины (отсюда история Анания и
Сапфиры27*). Правда, можно заключить, что в позднейшую эпоху иерусалимская
община была особенно бедна, судя по тому, что ап. Павел был так озабочен сборами
в пользу нее среди других общин, но в этих сборах можно видеть также и
выражение особливого пиетета в пользу первенствующей церкви. Относительно же других
общин хотя и можно считать установленным, что они состояли преимущественно
из низших классов населения, рабов, вольноотпущенных, ремесленников,
земледельцев, но совершенно невозможно утверждать, чтобы это были группы социально
однородные: между римским пролетарием и рабом, городским ремесленником или
сельским жителем остается, несмотря на их общую принадлежность к низшим
некультурным слоям населения, все-таки огромная социальная разница. И, кроме
того, хотя и в виде исключений, но в состав первохристианских общин входили
также представители и высших образованных классов1.
Позднейшие источники дают дальнейшие для этого подтверждения. На
основании апостольских посланий, преимущественно Павла, можно установить
существование христиан и при императорском дворе (Филип. 4, 22)32*, наряду с рабами в
христианские общины входят и рабовладельцы. Одним словом, имеющийся
исторический материал совершенно не позволяет характеризовать первохристианство
по социальному его составу как движение классовое, т. е. являющееся
выражением нужд и настроением какого-либо одного класса, в том смысле, как социализм
1 Ряд примеров к тому дают Деяния Апостолов; так, на Кипре был обращен проконсул
Сергий Павел (Д<еян.> Ап, XIII, 7-12), в Афинах - Дионисий Ареопагит (XVII, 34), в Фесса-
лониках «немало женщин из высших классов» (XVIII, 4), в Верии то же самое (XVII, 12)28*.
Также и сотрудница Павла Прискилла в силу своего выдающегося образования должна быть
отнесена к высшим классам29*. Плиний докладывает императору Траяну, что в Вифинии «multi
omnis ordinis»30* перешли в секту христиан. Послание ап. Иакова обращается против пороков
богатых христиан, входящих, однако, в состав общины31*. В Риме обращена Помпония Греци-
на и затем консул Тит Флавий Климент и жена его Домицилла.
191
есть, в сущности, движение промышленного пролетариата, следовательно,
приуроченное к его особенному положению в производственном процессе. В этом смысле
первохристианство остается движением внеклассовым, междуклассовым,
народным, но не групповым и не сословным. Его распространение с гораздо большим
основанием можно приурочивать к группе национально-религиозной, именно к
иудейскому рассеянию, диаспоре33*, имевшей определенный религиозно-национальный
центр — синагогу, в которой обыкновенно и появлялись апостолы с проповедью. По
замечанию Гарнака, «сеть синагог наперед намечает главные центры и линии
христианской пропаганды»1. Есть еще одна черта в распространении первохристианст-
ва, не позволяющая уподоблять его движению социальному или классовому, на
манер современного социализма: оно не является движением массовым, как этот
последний; напротив, оно распространяется гнездами, причем зародившиеся
общины образуют естественные центры для дальнейшего распространения2.
Итак, первохристианство было, по преобладающему своему составу, народным
движением, но оно не было ни классовым, ни массовым, ни даже национальным,
ибо оно стряхивает с себя черты иудейской ограниченности. Всеми этими
свойствами оно одновременно и сближается, и противополагается современному
социализму, также движению народному, но, в отличие от первохристианства,
массовому, классовому, пролетарскому и притом индустриальному. Но все эти признаки
суть лишь производные; они связаны с основным внутренним различием обоих
этих движений, с различием их сердца и души. Ибо первохристианство есть
прежде всего, в своей глубочайшей жизненной основе, движение религиозное3,
вытекающее из отношения души к Богу и лишь в качестве производных выводов
дающее принципы социальные; социализм же есть прежде всего движение социально-
экономическое, связанное с внешним положением лица в производстве, с
отношением класса наемных рабочих к своим предпринимателям, хотя при этом даже
обладающее и некоторыми чертами движения религиозного. Остановимся ближе на
этом сопоставлении природы первохристианства и социализма.
Происхождение христианства связано с таинственным, неисследимым,
чудесным зарождением в мире новой веры и новой жизни. Огненные языки, в день
Пятидесятницы спустившиеся на землю, зажгли религиозное пламя, светом и теплом
которого просвещаемся и согреваемся мы и доселе. Вера в воскресшего Спасителя,
с неодолимой силой вспыхнувшая в мире, чувство Его реального присутствия,
потоки божественной любви и прощения исторгли из душ никогда незвеневшую в
мире религиозную песнь молитвы, радости, примирения, восторга, любви.
Первохристианство4 как будто представляет собою в истории христианства те 40 дней
после воскресения, когда Господь, хотя невидимый, близок и является ждущим
Его ученикам на зов горящего сердца. В повседневном труде — на рыбной ловле -
является Он им и благословляет Своим участием их труд, на пути в Эммаус
встречается Он неузнанным путником и открывается им «в преломлении хлеба»; Он
снисходит к сомнению, давая чувственное удостоверение Своей реальности, и
вместе с тем торжественно открывается как имеющий всякую власть на небе и на
земле34*. Чувством непрерывно совершающегося чуда, начинающегося мирового пре-
1 Ibid., 1.
2 Один из знатоков эпохи Шюрер говорит об этом: «Мы не должны преувеличивать числа и
значения первых общин до начала II века. Это были лишь очень небольшие кружки, едва
заметные в общественной жизни крупных городов, во всяком случае, в ней не выделяющиеся»
(Цит. по: Kahler, 1. с, 78-79).
3 Оно «не было созданием социального движения, т. е. не вытекало из какой-либо
классовой борьбы и вообще нигде прямо не соединяется с социальным переворотом древнего
общества» (Prof. Ernst Troeltsch. Die Soziallehren der christlichen Kirchen в Archiv für
Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, hrsg. von W. Sombart und W. Weber, XXVI Band, I Heft, 1908. S. 14).
4 Ср. предыдущий очерк «О первохристанстве».
192
ображения, насыщена атмосфера первохристианства. И казалось тогда, что
начавшееся преображение не замедлит совершиться, что конец истории уже близок, у
дверей, и надвигается последнее чудо мирового преображения, близко второе
пришествие во славе. Услыхать эту религиозную музыку, звеневшую в душах,
ощутить это воодушевление веры, из которого исторически и родилось христианство,
нельзя, не переведя это хотя в слабой степени на язык современных переживаний,
на свой собственный религиозный опыт. А потому и понять историческое
происхождение христианства - и притом правильно, полно, научно его понять - можно
только при условии этой психологической, религиозной конгениальности, как
нужна же хоть какая-нибудь капля вкуса и эстетического развития для того,
чтобы научно изучать, например, историю живописи. И, напротив, кто не только сам
остается чужд этого опыта, но отрицает самую его возможность или, по крайней
мере, всякое его значение, тот окажется тем более дальше от разрешения задачи,
чем больше он будет в нее углубляться. Нисколько не удивительно поэтому, если
для Каутского и других социал-демократических авторов, писавших о
христианстве, оказывается неинтересной, несущественной и просто выкидывается за борт вся
эта религиозная сторона первохристианства, а остается интерес только к
экономическим отношениям, так что история первохристианства становится страницей из
истории хозяйственного быта. Это подобно тому, как если бы историк русской
литературы, отбросив всю поэтическую «идеологию» как несущественную и
неинтересную, сообщил бы нам о Пушкине только то, что он был помещиком, получал
доход с земли и в этом качестве был совершенно подобен окружающим, или же
если бы подобного же типа музыкальный критик сообщил нам о Бетховене, что он
был мелкий буржуа, и в этом секрет его Девятой симфонии. Можно было бы
вообще даже не останавливаться над подобным способом объяснения истории,
свидетельствующим об огрубении ума и падении вкуса, если бы он не был теперь так
распространен, если бы многие действительно не воображали, что, устранив самую
проблему во всем ее своеобразии, индивидуальной сложности и остроте и выдвинув
вместо нее какую-нибудь одну сторону ее, вовсе несущественную или даже
безразличную, они тем самым победоносно справляются с самой этой проблемой.
Каутский вместе со многими другими историками и интерпретаторами
первохристианства неоднократно, например, заявляет, что для него неинтересно, существовал ли
вообще Христос, что можно установить об Его жизни, каков Он был; все это,
видите ли, для истории христианства безразлично и неинтересно, ибо имеет
существенное значение лишь социологическая или социально-экономическая обстановка
первохристианства, к которой только и сводится историческая реальность в истории
религии35*. Спорить с представителем такой точки зрения так же невозможно, как
с тем фабрикантом красок, который стал бы утверждать, что сущность картин
Бёклина или любого из великих мастеров сводится к химическому составу
проданных им красок, а все остальное - надстройка, идеология, и единственная
реальность в живописи не картина, а ее краски. Интересно, что попытка устранить при
объяснении происхождения христианства значение личности его Основателя
отнюдь не составляет особенности исторической науки экономического направления;
путь этот, хотя и не в столь грубой безыдейной форме, предуказала либеральная
протестантская критика в лице ранних представителей Тюбингенской школы36*. И
любопытно, что в своем понимании истории зарождения христианства германская
наука за XIX век описала круг: начав искать его в безличных влияниях
культурной среды, столкновений иудаизма и эллинизма и проч., за последнее время, идя
тем же научным историческим путем, приходит к признанию определяющего
значения в истории христианства и религии вообще творческих индивидуальностей.
«Иисус - вот историческое объяснение происхождения нашей религии» — так
выразился в своем докладе в Дессау проф. Дейсман, и такое понимание разделяется
целым рядом исследователей именно последнего поколения (Вернле, Вейнель,
7 Зак. 487 193
Добшюц, Гарнак и др.)· Если есть область, где исключительная роль творческих
индивидуальностей наиболее бесспорна и очевидна, то это - та, где действует
вдохновение, неведомым, поистине магическим путем озаряющее человека; такою
областью являются религия и искусство. Попробуйте понять происхождение Ислама,
без которого вся история мира была бы иною, если устранить из него Магомета;
попробуйте понять историю Израиля, которая есть в известном смысле ось мировой
истории, если устранить из нее пророков. И то, чего обычно не позволяют себе
делать ни относительно иудейских пророков, ни Магомета, ни даже Будды или
Конфуция, с необыкновенной развязностью производится в применении к истории
христианства: не только отрицается самое историческое существование Христа1, но
и признается безразличным или несущественным. Здесь невольно вспоминаются по
контрасту иные вещие, огненные слова на эту же тему, которые влагаются
Достоевским в уста атеиста-мистика Кириллова (из «Бесов»). «Слушай большую идею:
был на земле один день, и в средине земли стояли три креста. Один на кресте до
того веровал, что сказал другому: "Будешь сегодня со мной в раю". Кончился день,
оба померли, пошли и не нашли ни рая, ни воскресения. Не оправдывалось
сказанное. Слушай: этот человек был высший на всей земле, составлял то, для чего ей
жить. Вся планета, со всем, что на ней, без этого человека — одно сумасшествие.
Не было ни прежде, ни после Его такого же, и никогда, даже до чуда. В том и
чудо, что не было и не будет такого же никогда. А если так, если законы природы
не пожалели и Этого, даже чудо свое же не пожалели, а заставили и Его жить
среди лжи и умереть за ложь, то, стало быть, вся планета есть ложь и стоит на
лжи и глупой насмешке. Стало быть, самые законы планеты — ложь и дьяволов
водевиль. Для чего же жить, отвечай, если ты человек»37*. Так ставится вопрос
этот русским гением. Но для современного научного филистерства он оказывается
в высокой степени безразличным...
Духовная индивидуальность, внутренний человек, субстанциальное «я» есть,
если можно так выразиться, орган религиозного восприятия. Вступление в
Церковь в эпоху первохристианства переживалось как акт, прежде всего в высшей
степени индивидуальный и интимный, происходящий между Богом и душой, как
рождение к новой жизни2. Оно было поэтому прежде всего как бы духовным про-
1 Новейшее «религиозно-историческое» исследование, выдвинувшее на первый план
проблему «религиозного синкретизма», снова воскресило, казалось, забытые теории Бруно
Бауэра и Д. Штрауса и рассматривает Евангелие как систему мифов, притом заимствованных из
Вавилона («панбабилонизм») или окружающего античного мира. (Сюда относятся, например,
Iensen. Gilgamesch-epos in der Weltlitteratur. 1907; его же. Moses, lesus, Paulus. Framkfurt
a/M, 19C9. W. R. Smith. Der vorchristliche lesus. 1906. Robertson. Chrislianity and Mythology.
London, 1900). В настоящее время эти поистине легкомысленные идеи брошены в Германии в
качестве последнего слова науки в широкую публику благодаря энергичной агитации проф.
Древса, выступавшего в ряде публичных собраний с докладом на тему о мифологичности
Христа. (Древе - последователь религиозной метафизики Гартмана и как таковой философский
противник христианского теизма, в своих же исторических аргументах он воспроизводит по
преимуществу выше цитированных авторов и совершенно не оригинален). В расширенном виде
его доклад вышел под заглавием: Artur Drews. Die Christusmythe. Iena. 1910
(стенографический отчет о дебатах, последовавших после его берлинского доклада, вышел также в
издании Monisten Bund'a, организовавшего заседание). Сюда же примыкает и написанная по
поводу его работа Prof. Я. Zimmern. Zum Streit um die «Christusmythe». Das Babilonische Material
in seinen Hauptpunkten dargestellt. Berlin, 1910. Из многочисленной полемической брошюрной
литературы против Древса (проф. Юлихера, Содена и др.) заслуживает особенного внимания
книжка гейдельбергского профессора Йог. Вейсса: «lesus von Nazareth, Mythus oder
Geschichte?», 1910 (критика Вейсса, насколько она касается сравнительно-исторических
аргументов Древса, имеет для них, на наш взгляд, совершенно уничтожающее значение). Ср.
также: проф. Вейнель. Ist das «liberale» Iesusbild widerlegt? 1910.
2 См. поэтическое описание переживаний при крещении в первохристианскую эпоху у
Weinel. Die Wirkungen des Geistes und der Geister im nachapostolischen Zeitalter bis Irenäus.
Freiburg, 1899. S. 210-211.
194
буждением личности, осознанием ее божественной природы. В христианстве
родилась новая индивидуальность, новая сила истории и новая ее тема, и в
историческом смысле это есть наибольшая революция, хотя и внутренняя и незримая,
какая только когда-либо совершалась в истории. Живое христианство состоит из
осознавших себя, свои силы и свою нравственную свободу индивидуальностей,
потому оно и не является и не может сделаться массовым, т. е. обезличивающим
движением, ибо оно навсегда останется, по существу своему, совокупностью
индивидуальностей, душ, личных совестей, не подавляющих, но религиозно
утверждающих свое «я». Вместе с тем этот христианский индивидуализм далек и даже
противоположен новейшему внерелигиозному индивидуализму, голой самости.
Пробужденная индивидуальность, осознавшая богосыновство, находила себя в
кругу других таких же индивидуальностей, соединенных в Боге, чувствовала себя в
Церкви, в союзе веры, надежды, любви, в мистическом единстве Тела Христова.
Христианство родилось не как религия отдельной личности, уединенного мудреца
(пример такой индивидуалистически обособляющейся религиозности рядом с
христианством дает нам стоицизм), - нет, оно и возникло как Церковь. Для такого
внутреннего, религиозного соединения людей несущественны, проницаемы все
внешние эмпирические, исторические, национальные и социальные различия, и
только о таком единении мог сказать ап. Павел в век величайших национальных и
социальных обособлений, что «во Христе нет ни мужского, ни женского рода, ни
варвара, ни скифа, ни раба, ни свободного»38*. Религиозному единению не могут
воспрепятствовать и, как мы знаем, действительно не воспрепятствовали такие
различия, которые в области социальных и юридических отношений кажутся
непреодолимыми, как, например, между господином и рабом. В этом смысле перво-
христианство и вообще Церковь по существу не есть классовая организация,
порождаемая классовым движением, как социализм, со всей силой подчеркивающий
именно эмпирические различия людей и всю их непримиримость. И тот факт, что
первохристианство находило своих последователей прежде и больше всего среди
низших и средних классов, отнюдь не делает его классовым движением в
социально-экономическом смысле, как теперь нередко его изображают. Я далек от того,
чтобы умалять влияние социально-экономических причин, благоприятствующих
распространению христианства. Конечно, не случайно, но внутренне необходимо
было то, что мировая религия прежде всего проникала в сердца «труждающихся и
обремененных» тяготою жизни и ее горем, и об этом нам нет оснований спорить с
представителями «социальной теологии», только связь эта иного характера, нежели
представляется им. Низшие классы по своей психологии, по своей простоте и
смирению имели более открытое сердце для проповеди Царства Божия, нежели гордые
своею образованностью или властью высшие. «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и
земли, что утаил сие от премудрых и разумных и открыл младенцам» (Лк. 10, 1).
Так это было во все времена и остается и теперь, христианство всегда
представляется «юродством» для тех, кто полон сам собою. Народные массы вообще
религиознее, и это не в силу своей необразованности, как обычно думают заносчивые
недоучки, но в силу большей органичности своей жизни, гармоничности развития
душевных сил, большей своей натуральности, близости к природе. Этот духовный
уклад легче разрушается у фабричных рабочих, поставленных в искусственную,
полукультурную и тем самым, как всякая половинчатость, особенно вредную
обстановку фабричной жизни, благодаря чему народ здесь легко превращается в
«пролетариат», усвояя «сознательность» дешевого просветительства. В народном
атеизме почти всегда можно проследить интеллигентские влияния, и, насколько и
социализм соединяется с атеизмом и материализмом, он вовсе не может считаться
естественной, самопроизвольной формой самосознания рабочего класса, особого
пролетарского мессианизма39*... Интеллигентский характер русского социализма у
всех на глазах и более или менее ясен. Но то же самое приходится повторить и
7*
195
относительно западного социализма. Интеллигентами являются Лассаль и Маркс,
Прудон и Луи Блан, Каутский и Бебель, и свои интеллигентские идеи,
сложившиеся под влиянием философии просветительства и материализма, они выдают за
народную, пролетарскую философию. И в высшей степени поучительно поэтому,
что в стране наиболее развитого промышленного капитализма, в Англии, да и во
всем англо-саксонском мире (в Америке, Австралии, Африке), где рабочий класс
жил больше своим умом, меньше подчиняясь интеллигентским влияниям, он в
массе своей уберегся от этой будто бы специально пролетарской формы
самосознания, оставшись верен своей традиционной религиозности. В настоящее время,
когда и справа и слева утверждают, будто трудящийся народ по существу атеистичен,
особенно своевременно протестовать против этой клеветы на душу народную.
Напротив, народ в толще своей естественно религиозен; атеизм для него есть
искусственное, навеянное состояние, он может быть и часто бывает суеверен, религиозно
темен, но не безбожен. Недаром все великие религиозные движения в истории
были народными, также и наша религия выступает прежде всего как народное
движение. Христос, окруженный народом и проповедующий теснящей Его толпе то в
городе, то в пустыне, то с лодки на воде, то на равнине, — как эти евангельские
образы остаются пленительны и близки нашему демократическому веку... И всякое
религиозное движение, насколько оно откалывается от народа, остается бескровно-
интеллигентским, бессильным и безжизненным, как нет, с другой стороны,
большей опасности для исторических церквей, как утрата связи с душой народною, с
массами. Между прочим, на дебатах в Дессау по поводу доклада Дейсмана о
низших классах и первохристианстве после ряда научных светил взял слово пастор из
Хемница, некий Иоганн Герц. В своей задушевной и искренней речи он
констатировал тот факт, что между протестантским христианством наших дней и народом
образовывается глубокая трещина и что надо поэтому идти с проповедью к
массам1. Между тем, жаловался он, современные ученые теологи не говорят и не
пишут народно, им не хватает личного соприкосновения с массами. «Из самой массы, -
говорил Герц, - должны родиться вожди христианства. Я знаю из опыта: в массе
имеются великие, живые, религиозные силы».
Итак, для нас достаточно обозначилась вся противоположность, существующая
между христианством и социализмом в их отношении к проблеме личности:
христианство пробуждает личность, заставляет человека ощущать в себе бессмертный
дух, индивидуализирует человека, указывая для него путь и цель внутреннего
роста; социализм его обезличивает, поскольку он обращается не к душе
индивидуальности, но к ее социальной коже, сводя наличное содержание личности всецело к
социальным рефлексам. Это кажется противоречащим тому общеизвестному факту,
что социализм по-своему тоже пробуждает массы, делает их «сознательными»;
однако это пробуждение имеет свою особую цель и особый характер. Оно не идет в
религиозную глубину души, но ограничивается областью внешних социальных
отношений. Благодаря ему изощряется взор лишь на внешние различия в
положении людей, обостряется их классовый инстинкт, усиливается чувство социальной
обособленности, соревнования, вражды. Но этот рост сознательности в социальном
или классовом направлении может и вовсе не сопровождаться ростом религиозной
или общечеловеческой личности, напротив, обращается ему нередко даже в ущерб.
Совершенно иной способ подхождения к социальным проблемам указывает нам
первохристианство, и лучше всего это видно на его отношении к рабству.
В чем состояло главное зло античного рабства? В уничтожении человеческой
личности, в отношении к рабу как к вещи, в непризнании нравственных
обязанностей и ответственности перед этой личностью. Отсюда и вся жестокость, безжало-
1 На любопытную тему, в какой степени сильно социалистическое настроение среди
современных пасторов (протестантских), см. очерк проф. К. Vorländer. «Die sozialistischen Pfarrer»
(в Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. 1910, май).
196
стное издевательство и мучительство в положении раба, приравненного к
животному. Сам по себе социально-экономический институт рабства как известная
организация труда хотя, конечно, представляет собою весьма суровую и тягостную ее
форму, но все-таки допускает различное применение в зависимости от духовной
атмосферы, от быта и нравов. Его упразднение как социально-экономической
организации производства и замена иною, высшею, могли совершиться только в
медленном органическом процессе истории, путем хозяйственной эволюции так же
точно, как может совершиться и постепенное отмирание современного
капитализма, и христианство вовсе не призвано доставить человечеству скатерть-самобранку
и исторический ковер-самолет. То, что должно быть совершено в истории трудом
многих поколений и в долгом процессе, и должно быть в нем совершаемо: камни
не превратятся, как бы волшебством, в хлебы. Но христианство своим новым,
религиозным отношением к личности изнутри перерождает античное рабство: там,
где вчера стояли друг перед другом рабовладелец и одушевленная вещь — раб,
сегодня стоят уже равноценные, равные перед Богом личности. Во внешней жизни
они находятся на разных ступенях социальной лестницы, но самое это различное
положение свое они должны рассматривать как источник взаимных нравственных
обязанностей; в этом смысле и надо понимать неоднократные увещания ап. Павла
к господам и рабам об их взаимных обязанностях40*. Первохристианская церковь
осуществляла полное религиозное равенство, для нее воистину не было раба и
свободного, и это само по себе было незримой, но громовой духовной революцией.
Если в языческом мире раб считался не имеющим религии или, по крайней мере,
исключался от религиозного общения со свободными, то в Церкви рабы
рассматривались как полноправные члены: они могли быть клириками и даже епископами
(даже на римской кафедре мы-знаем Папу Пия, по-видимому из рабов, и Каллиста,
несомненно раба). Из рабов выходили мученики и святые, память которых чтилась
Церковью. Прекрасно говорит об этом французский историк (Allard): «Всегда,
когда христиане призывались исповедовать свою веру, приходил и раб, и рабская
кровь смешивалась с кровью свободных на зубах зверей или на топоре палачей...
Из его уст вырывались прекрасные призывы к совести... Рабы умели умирать -
одни за свою веру, другие за свою чистоту. Церковь при пении гимнов возносила
останки этих смиренных жертв и в известные дни, к большому изумлению
язычников, верные из всех сословий склонялись коленопреклоненно пред камнем,
превращенным в алтарь, под которым почивал мученик из рабов». Поразительный
факт, что в христианских катакомбах совершенно отсутствует в могильных
надписях звание раба, несмотря на то, что, как мы знаем, тысячи рабов были здесь
погребаемы, и в противоположность этому в языческих на могиле раба записывается
подробно его звание и специальность. Молчаливое, но выразительное свидетельство
древнехристианского равенства! Яркую иллюстрацию этой социальной реформы
изнутри дает небольшое послание ап. Павла, надписываемое «к Филимону»,
богатому фессалоникийцу, у которого по неизвестным причинам сбежал раб Онисим,
обращенный к вере ап. Павлом во время его римского заточения. Мы уже знаем,
что бегство раба обычно каралось жестоко, между тем здесь раб отсылается к
хозяину, сопровождаемый таким пожеланием апостола: «Прими его как мое сердце...
Не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного ... Успокой мое сердце в
Господе» (Филим. 12, 16, 20), «и знаю, - прибавляет апостол, - что ты сделаешь и
больше, нежели говорю».
Для первохристианства, как видно из примера с рабством, социальные вопросы
были в основе своей религиозно-этическими; внутренним критерием здесь
оставалась религиозная личность, живущая в атмосфере любви церковной. Но это не
делало первохристиан равнодушными и к внешним средствам ее проявления,
безучастными к настоятельным нуждам жизни. Совсем напротив, и в этой области оно
внесло новые масштабы, произвело переоценку. И прежде всего эта переоценка
касается отношения к труду. Античный мир отчасти под влияниям рабства, отчас-
197
ти под влиянием других, идейных, даже религиозно-философских, мотивов
презирает труд, считая его низким, недостойным свободного человека и гражданина
занятием, «банаусическим», по известному выражению Аристотеля41*.
Христианство, напротив, благословляет и освящает труд не только примером своих апостолов,
провозгласивших устами ап. Павла принцип всеобщей повинности труда: «Кто не
работает, да не ест»42*, и примером своих первых общин, но и принципиально
новым отношением к миру и твари, обоженной воплощением Христа. Я могу сейчас
только скользнуть по этой мысли, но для историка экономических идей должно
быть ясно, что христианство вносит коренной переворот и в экономическое
мировоззрение. Благодаря положительной оценке труда именно в нем потенциально
зарождается и новейшее народное хозяйство, а стало быть, и наша теперешняя
наука о народном хозяйстве, сколько бы основательно ни была позабыта и затемнена
теперь эта связь.
Не только труд, но и зачатки социальной политики, систематической борьбы с
бедностью и поддержки неимущих в христианстве получают высшую санкцию в
заповеди любви и деятельной помощи ближнему, об исполнении которой спросится
с нас согласно Евангелию на Страшном Суде. Ввиду различных проявлений
социальной деятельности в первохристианстве внимание останавливается прежде всего
на мнимом коммунизме иерусалимской общины, о которой в книге «Деяния
Апостольские» читаем следующее: «Все же верующие были вмести и имели все общее.
И продавали имение и всякую собственность и разделяли всем, смотря по нуждам
каждого» (II, 44-45). «Не было же между ними никого нуждающегося, ибо все,
которые владели землями и домами, продавая их, приносили цену проданного и
полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду» (IV, 34, 5).
Быт иерусалимской общины приковывает к себе внимание на протяжении всей
истории христианства: почти все многочисленные религиозно-коммунистические
движения средних веков, реформации, даже новейшего времени, берут его нормой
и видят в нем опору для своих коммунистических чаяний и стремлений. В
новейшей отрицательной литературе этот же самый рассказ берется за основание для
того, чтобы изобразить первохристианство как движение социально-экономическое,
как своеобразный коммунизм потребления, напоминающий нравы аскетической
иудейской секты ессеев, конечно, чтобы этим истолкованием устранить или
уменьшить значение чисто религиозного момента. Такое истолкование находим мы,
между прочим, у Каутского43*. Беспристрастное рассмотрение этого свидетельства
должно привести нас к иному заключению, в котором сходится теперь вся
серьезная историческая наука, - именно, что о коммунизме как экономическом
институте здесь нет и речи. По меткому замечанию Дейсмана, «нравоучительный пафос
этой формулировки смешивают с языком социально-политической анкеты», и
внешнее проявление первой любви христианской, более всего похожее на то, что
можно -наблюдать в дружной любящей семье, превращают в учреждение,
планомерно преследующее экономические задачи. У нас нет сведений о том, долго ли
продолжалось это общение имуществ, и в других общинах мы его не встречаем.
Если же его оценивать в общей религиозно-исторической перспективе, то оно
становится в ряд с другими формами древнехристианской благотворительности и
социальной политики. Сюда относятся: сборы милостыни при богослужении,
содержание учителей и служащих общины, поддержка вдов и сирот, бедных, слабых и
неспособных к труду, попечение о заключенных в темницах и работающих в
рудниках, выкуп рабов или отпуск их на свободу, оказание помощи при больших
бедствиях, приискание труда для приходящих в общину и забота о приезжающих
братьях, а также о бедных или подвергающихся особливой опасности общинах, о чем так
много и трогательно печется обыкновенно ап. Павел1.
1 Ср. очерк «Христианство и социальный вопрос».
198
Эти формы социальной деятельности, свойственные той эпохе, конечно, вместе
с нею отошли в историю, но самые ее задачи имеют пребывающее значение и
остаются во всей силе и теперь, когда благодаря усложнению экономической жизни
выработка средств социальной помощи стала такой сложной научной проблемой,
составляющей предмет политической экономии и социальной политики. И если
указания социально-экономической науки приводят нас теперь к сознанию, что
наилучшим средством для достижения той же цели представляется постепенное, но
неуклонное и более или менее решительное преобразование индивидуалистического
и частноправового хозяйства в направлении социалистическом, то я решительно не
представляю себе, что можно было бы в христианском духе принципиально
возражать против социализма. Напротив, социализм с этой точки зрения есть лишь
средство для осуществления требований христианской этики. Конечно, к числу
спорных вопросов экономической науки, которые всегда будут служить предметом
и научных, и практических разногласий, относятся темп, способы, меры для этого
преобразования. Здесь, по самому характеру этого предмета и по характеру
экономической науки, не дающей вообще непререкаемых, для всех бесспорных выводов
и рецептов, возможна целая гамма социально-политических оттенков, которую мы
и имеем в науке, от крайнего консерватизма до крайнего радикализма.
Практический, недоктринальный социализм всегда есть частичный, то, что немцы зовут
Stücksozialismus44*. Относительно такого социализма сказал однажды в палате
общин первый министр Англии45*: мы все теперь социалисты. И действительно, если
принять во внимание все способы, которыми наше хозяйство медленно и иногда
нечувствительно, иногда же не без разных толчков, но все же безостановочно и
неуклонно врастает в социализм, если вспомнить о так называемом
государственном, муниципальном, коммунальном социализме, о кооперативах, о
законодательном регулировании условий труда вплоть до установления minimum'a заработной
платы и права на труд, то признание социализма есть дело простой политико-
экономической грамотности. И уж во всяком случае между христианством и
социализмом в этом практическом, нейтральном смысле слова не только нет и не
может быть какого-либо антагонизма, но, по крайнему моему
политико-экономическому и религиозному разумению, христианин, поскольку он руководствуется
несвоекорыстными, но действительно нравственными мотивами в социальной
политике, и не может не быть в большей или меньшей степени социалистом - не в док-
тринальном, а в прикладном смысле слова. Но, с другой стороны, в оттенках и в
практическом применении здесь не может быть ничего единого, бесспорного и
общеобязательного, и открывается простор личному знанию и личному разумению,
создается почва для вполне добросовестных разногласий. Итак, для христианства
совершенно нет ни надобности, ни возможности отрицать правду социализма46*. Но
если так просто обстоит дело в отношениях между христианской этикой и
социализмом, понимаемым как совокупность социальных реформ, то совершенно иначе
оно представляется в отношении между христианством и религией социализма.
Ибо социализм в наши дни выступает не только как нейтральная область
социальной политики, но, обычно, и как религия, основанная на атеизме и человекобоже-
стве, на самообожествлении человека и человеческого труда и на признании
стихийных сил природы и социальной жизни единственным зиждущим началом
истории. В этом смысле между христианством и социализмом существует полная и
враждебная противоположность.
Но социализм есть наука, слышим мы со всех сторон, религия же есть
отжитая форма сознания. Разве не установилась даже благочестивая социалистическая
легенда о коренном различии, существующем между социализмом научным и
утопическим (коли хотите, религиозным)47*. Что в социализме имеются, и притом в
качестве необходимого составного элемента, данные науки, указания политической
экономии, об этом нет спора. На основании их и вырабатывается прикладная,
практическая сторона социализма; но как раз эта сторона наименее характеризует со-
199
циализм как религию. Социальное законодательство, тред-юнионизм, кооперации,
муниципальные и государственные мероприятия, столкновение труда и капитала -
вся эта практика социализма, изучаемая научной политической экономией, вовсе
еще не связана непременно с определенной социалистической религией. Но, с
другой стороны, - и надо же, наконец, это вполне ясно сознать, - социальная наука
вообще, политическая экономия, в частности, совершенно бессильны приподнять
завесу будущего, пойти дальше лишь более или менее основательных догадок
относительно ближайшего будущего, завтрашнего исторического дня; она неспособна к
социальному пророчеству, для которого себя считает компетентным социализм,
именующийся научным48*. Не то чтобы социальная наука еще не дошла до этого,
нет, в методах ее, в ее научных приемах совершенно отсутствуют для этого
данные. Просто не может быть установлен единый универсальный закон развития
общества, подобный, ну что ли, закону тяготения, и ненаучность тех пророчеств,
примеры которых уже имеются в литературе, вполне подтверждает эту мысль.
Нельзя вообще ожидать и требовать от науки больше того, что она имеет и может
дать, иначе получается научное суеверие, которое по форме только, а не по
качеству отличается от других суеверий. Между тем душа социализма, конечно, в его
пророчествах, пафос его - в предвосхищении судеб грядущих. Поэтому чисто
научного социализма и вообще быть не может. И старое разделение социализма на
научный и утопический, введенное Энгельсом, который, конечно, под научным
социализмом разумел марксизм, а под утопическим все остальное, давно уже
утратило всякую почву; с одной стороны, действительно научные элементы марксизма
давно уже не представляют последнего слова политической экономии,
развивавшейся вместе с развитием экономической жизни и научного ее изучения, а, с
другой стороны, жизнь решительно реабилитировала многие стороны учений, ранее
обзываемых утопическими (какова, напр<имер>, теория кооперативного
движения), и поставила их если не выше, то, по крайней мере, вровень с учениями так
называемого научного социализма. И, наконец, самое главное, по самой природе
своей социализм неизбежно содержит в себе элементы сверхнаучные и в этом
смысле утопические, точнее — религиозные. Человек не преклоняется в нем пред
силой факта, установляемого наукой, но стремится подняться выше него, он ставит
себе задачу творческого преобразования действительности согласно идеалу, силе
факта здесь противостоит идеальное долженствование, и, конечно, этот
идеалистический энтузиазм и составляет душу социализма. Однажды, лет 10 тому назад, в
самый разгар выборов в Германии мне пришлось спросить одного положительного
трактирщика в Тюрингенском округе, к слову сказать, посылавшем в рейхстаг
социал-демократического депутата: чего, собственно, хотят социал-демократы? Он,
не задумываясь, тотчас ответил мне: «Sie wünschen mehr zu verdienen» (они хотят
увеличить свой заработок)49*. Почтенный трактирщик одновременно был и прав, и
глубоко неправ. Что это стремление к материальному поднятию положения труда,
конечно, глубоко жизненное и важное, имеется в основе социализма, об этом
нечего и спорить. Но столь же очевидно, что невозможно пафос социализма свести к
этому прозаическому, хотя и в высшей степени важному делу отстаивания шаг за
шагом притязаний труда относительно сокращения рабочего дня и поднятия
заработной платы, к экономической борьбе классов, которая в острой и глухой форме
происходит везде, где только есть для нее экономические основания, но, однако,
сама по себе отнюдь еще не создает социализма. Эту повседневную прозу
социализм осмысливает, одухотворяет в свете своей апокалиптики, своего пророчество-
вания. Да, социализм имеет не только свою апокалиптику, но и свою мистику,
которую знает всякий, ее переживавший; я мог бы сослаться здесь и на свой
собственный прежний опыт50*. В социализме, и особенно в марксизме, есть живое
ощущение органического роста, исторического становления, могучего
сверхиндивидуального процесса, который в его теории обозначается как рост производительных
сил с его железной логикой; в нем, действительно, подслушано биение историче-
200
ского пульса, есть ощущение исторического прозябания. В этом смысле при всем
своем историческом рационализме социализм имеет свою подлинную хотя и
атеистическую мистику, и в ней-то, даже помимо сознания, и заключается его главная
притягательная сила. Ибо, потеряв религию, человек не перестает страдать своей
оторванностью от мирового целого, он жаждет органической целостности,
суррогата церковного общения и потому так легко и охотно находит его в социализме.
Классическое, непревзойденное до сих пор выражение этого пафоса социализма мы
находим в заключительной странице речи Лассаля «Программа работников». При
чтении ее становится особенно "ясно, какая разница существует между желанием
«mehr zu verdienen»51* и социализмом.
«Высокая всемирно-историческая честь такого предназначения (сделать свою идею
руководящей идеей общества) должна преисполнить собою все наши помыслы. Пороки
угнетенных, праздные развлечения людей немыслящих, даже невинное легкомыслие
ничтожных, все это теперь недостойно вас. Вы скала, на которой созиждется церковь
настоящего! Пусть эта мысль во всей своей высокой нравственной строгости со
страстной исключительностью овладеет вашими умами, пусть она наполнит ваш дух, и пусть
вся ваша жизнь будет достойна ее, сообразна с нею и навсегда проникнута ею. Пусть
нравственная строгость этой мысли никогда не. покидает вас, ни в мастерской за
работой, ни в часы досуга, ни на прогулках, ни на сходках и даже, когда вы ляжете на
ваше жесткое ложе, пусть и там она наполняет и занимает вашу душу, пока вы не
забудетесь сном. Чем исключительнее углубитесь вы в нее, чем безраздельнее будет
ваша страсть к ней, тем скорее, поверьте, современный исторический период
осуществит свою задачу, тем быстрее достигнете вы этой цели».
Вот что значит быть социалистом по изображению одной из наиболее
увлекательных и ярких индивидуальностей этого движения. Если то, о чем здесь
говорится, есть не религия (конечно, в широком смысле), то я спрашиваю тогда, что
же это такое?
Ни в чем так не сказывается религиозная природа социализма, а вместе с тем и
вся его именно религиозная противоположность христианству как в эсхатологии, в
учении о социальном катаклизме и о будущем веке, о «государстве будущего»52*.
Вера в социальное чудо, в перерождение общества путем социального переворота
глубоко коренится в религии социализма, в его пророчествах, его апокалиптике. И
всегда в истории, когда особенно высоко поднималась религиозная волна
социализма, обострялось и это эсхатологическое чувство и ожидание скорого,
немедленного, нежданного, как тать в нощи подкравшегося социального катаклизма, чрез
который человечество совершит, по выражению даже трезвого и прозаического
Маркса, «прыжок из царства необходимости в царство свободы», из «Vorgeschichte»
в «Geschichte»53*. В Англии во времена чартизма, во Франции в революционные
годы, в 1848 и 1871, в Германии в те же революционные подъемы, в России в
1905-1906 гг. оживала уверенность в скорости социального преображения, и,
напротив, когда это чувство ослабевает, то наиболее воодушевленные вожди
социализма видят в этом ослаблении своего рода социалистический декаданс,
«ревизионизм», «бернштейнианство», что-то мелкое, не вдохновляющее54*. Конечно, и эту
эсхатологию объявляют научно обоснованной, но над этой наивностью просто не
следует и останавливаться, чтобы не обижать напрасно ни эту веру, ни науку.
Эсхатология - вера в будущий век и его ожидание, чаяние нового неба и новой
земли, в которых правда живет, есть неустранимая часть религиозных верований;
особенно же важную роль она играла как в иудействе, так и в христианстве. Пер-
вохристианство жило особенно напряженным ожиданием близкого конца мира и
второго пришествия Спасителя во славе. В настоящее время можно считать вполне
установленным историческим фактом, что эта напряженность ожидания скорого
мирового катаклизма играла огромную роль в целом ряде оценок и
самоопределений первохристианства. В дальнейшей истории христианства ожидание это теряет
свою напряженность, обостряясь лишь в отдельные моменты истории, отмеченные
201
или особым подъемом религиозного чувства или же историческими катастрофами.
В отдельной душе эсхатологичность настроения тем сильнее, чем напряженнее в
нем религиозная жизнь, чем непосредственнее чувство Бога в мире и в истории,
ощущение живого и творческого начала, для мощи которого нет границ.
Эсхатология в этом смысле есть необходимая принадлежность живой религиозной веры. Но
какой же верой питается социалистическая эсхатология, от кого социализм
ожидает своих чудес? Он не знает личного, разумного начала в мире, в котором царит
только сила вещей, законы исторического и экономического развития,
«экономический фактор». Его эсхатология основывается лишь на вере в мертвую
социальную стихию, в мир тварный, в вещи, в механическую закономерность природы,
которая в силу собственной внутренней диалектики приведет человечество в
Zukunftstaat55*. Современный социализм представляет собой поэтому воплощенное
противоречие: религиозный энтузиазм, который неизбежно порождается всяким
широким и захватывающим движением, но наряду с принципиальным атеизмом,
самоуничижение человека, превращение личности в безличный рефлекс
экономических отношений, но наряду с ее обожествлением, превращением в человекобога.
Это стоит, конечно, в связи с нашей общей духовной атмосферой, ходячими
мнениями, верованиями, предрассудками, суевериями; все это в настоящее время
совершенно иное, нежели было в эпоху первохристианства в среде греко-римского
мира. Если тогда были распространены в наибольшей степени суеверия магии,
чудодействия, давящий демонизм, от чего освободило души лишь христианство, то
теперь в широкой массе эту же роль играют суеверия научные, или, из уважения к
науке, скажем лучше - лженаучные. И если тогда легко верили всесилию каждого
мага, шарлатанящего чудотворца, теперь столь же легко верят во всесилие науки и
не только в области ее действительного и несомненного могущества, но и в таких
вопросах, которые безусловно лежат за пределами ее компетенции, именно в
вопросах религиозного сознания. Со всей наивностью это ходячее мнение выражено,
между прочим, в заключительных словах новой книги Каутского о происхождении
христианства.
«Если эпоха развивающегося христианства (говорит он) была временем самого
мрачного духовного упадка, стремительного роста самого жалкого невежества и
глупейшего суеверия, то эпоха развития социализма есть время самого блестящего
прогресса естественных наук и самого быстрого роста образования народных масс,
захваченных социал-демократией» (Kautsky, 508).
Я не буду здесь разбирать по существу мнения, будто бы успехи естествознания
и вообще опытной науки способны упразднить религию с ее запросами, нетрудно
было бы назвать из числа и весьма крупных ученых таких, которые не только не
разделили бы этого мнения, но и самым энергичным образом протестовали бы
против этого нового суеверия нашей эпохи. Я называю суеверием именно это
убеждение в том, что наука, оставаясь сама собою, разрешает — и притом определенным,
отрицательным образом - религиозные проблемы. Ученые иногда чересчур легко
отождествляют себя с наукой и за свои личные религиозно-философские домыслы
и убеждения делают ответственною самое науку, почему и получается такая
пестрота и разноголосица суждений в этой области, одинаково приписываемых науке.
Не могу не привести по этому поводу задушевного признания, сделанного пред
студенческой аудиторией одним из наиболее тонких и добросовестных научных
умов нашего времени Нестором современной церковно-исторической науки проф.
Гарнаком в его всемирно известных чтениях о сущности христианства:
«Господа! Смысл жизни дает религия, т. е. любовь к Богу и ближнему; наука
не в состоянии дать его. Я позволю себе сослаться на свой личный опыт, на
результат моей серьезной тридцатилетней работы над такими вопросами. Чистая
наука - дивная вещь; жалок тот, кто пренебрежительно к ней относится или
притупляет в себе интерес к познанию. Однако на вопросы: откуда, как и зачем, она и
в наше время так же не в состоянии ответить, как и две или три тысячи лет тому
202
назад. Она дает нам знание фактов, вскрывает противоречия, связывает явления и
исправляет обманы наших чувств и представлений. Но где и как начинается, куда
и как ведет кривая мира и нашей собственной жизни, кривая, которой она
показывает лишь некоторую часть, на этот вопрос наука не даат ответа»1.
Та духовная атмосфера, в которой возникла религия социализма, определяется
не столько строгой научностью, сколько теми религиозно-философскими
настроениями, в духе которых воспринимаются выводы науки. А настроения эти
зарождаются в особом духовном течении, которое, начиная с ренессанса, чем дальше,
тем сильнее обозначается в европейской культуре в самообожествлении
человечества, опирающемся на отрицание высших религиозных ценностей и потустороннего
мира. Я разумею здесь так называемое просветительство. Оно имеет много
разветвлений, и одним из них является и новейший социализм, который разделяет с ним
механическое понимание как личности, так и природы общественных отношений.
Последним словом просветительства к концу XVIII и началу XIX века в
социальной философии был социальный атомизм, который в этике выразился в бентамиз-
ме, или утилитаризме, а в политической экономии в манчестерстве56*. Общество
рассматривалось как сумма обособленных личностей, преследующих
исключительно свои собственные интересы и пользы. Отсюда задача разумной политики состоит
в размежевании этих интересов, определяется чисто отрицательными чертами. В
представлениях манчестерской школы она наилучшим образом разрешалась
введением полной свободы промышленности и торговли. Человечество рассыпается здесь
на атомизированные индивиды, извне толкающиеся друг о друга, но не имеющие
внутренней связи. Личность, с одной стороны, деградирована, превращена в
машину для подсчета польз и убытков, а вместе с тем и возведена на трон, оказывается
единственной реальностью, центром вселенной. Когда манчестерство достаточно
дискредитировало себя результатами своей политики, и выяснилась практическая
невозможность для государства ограничиваться функциями одной охранительной
полиции, ролью ночного сторожа, по выражению Лассаля57*, то место
просветительского манчестерства заступил просветительский же социализм, который,
ничего не изменив в принципиальной постановке вопросов, ограничился лишь
переменой программы практической политики, оставаясь идейно только антиманчестерст-
вом, той же арифметикой интересов, приводящей лишь к иному разрешению
прежней задачи. Социализм в этом смысле есть не что иное, как социальный бента-
мизм58*. Если для Бентама и манчестерства единицей был индивид, то здесь
таковой единицей представляется класс, состоящий из индивидов с совпадающими
интересами. Социальный атомизм не преодолевается, а только видоизменяется.
Социализм, как и манчестерство, построяет общество на размежевании интересов,
причем размежевывает их только внешняя принудительная организация, именно —
государство, классовое ли государство настоящего или социалистическое
государство будущего, но оно есть высшая и окончательная форма человеческого
обобществления в представлениях социализма. Иными ресурсами внутреннего, церковного
объединения людей, помимо государственности, просветительский социализм не
располагает. Люди при всем своем внешнем обобществлении остаются
непроницаемы друг для друга, отгораживаются стеклянной стеной, невидной, но
ощутительной, и этот дурной, нездоровый индивидуализм в социализме всегда будет
угрожать ему анархическим бунтом против этой социалистической муштры.
Государству отводится миссия обеспечить и раздать каждому по куску и следить за тем,
чтобы куски были равны. Из этих начал легко вывести принцип свободы,
понимаемой как внешнее ограждение индивидуальной автономии, равенства как
обеспечения равных прав и экономического достатка, но для братства, обычно сюда
присоединяемого, здесь вообще нет места и явиться ему неоткуда, и самое его про-
1 Гарнак. Сущность христианства, перев. Л.; М. С. 221.
203
возглашение есть ничем не оправдываемое, контрабандное позаимствование у
христианства. Ибо братьями могут себя чувствовать только дети единого Отца — сыны
Божий и единой Матери - члены Церкви. И братья могут мириться с внешней
государственно-принудительной организацией только как с воспитательным
средством и неизбежным злом, но не возведут его в идеал. Ибо высшее устройство
человечества, предельное понятие и норма его не свобода и равенство, а братство -
не государство, а церковь, теократический союз. Поучительно и трогательно
наблюдать, что от этого идеала, от этой светлой мечты не может отказаться и
социальный бентамизм, что и социализм ищет постоянно суррогатов церковного
кафолического сознания. Ибо о чем же, как не о кафоличности если и не человечества,
то хотя <бы> его части, говорит призыв «пролетарии всех стран, соединяйтесь»? О
какой «церкви настоящего» говорит Лассаль? На чем зиждется благочестивое
упование престарелого Каутского, выражением которого он заканчивает свою
последнюю книгу: «социал-демократия навсегда положит конец всякому классовому
господству»59*? Ведь это же звучит совсем как из символа веры... Но камнем, на
котором созиждется эта церковь будущего, остается для социализма все же Бентам,
интерес, атомизированные индивиды и самообожившееся человечество, имеющее своих
пророков в лице Огюста Конта и Фейербаха.
Подведем итоги. Параллель между первохристианством и социализмом
приводит нас к тому общему заключению, что между ними существует
противоположность и противоположность эта - религиозная. Неправильно сводить ее к различию
между якобы противонаучным и научным мировоззрениям, ибо наука не
компетентна сказать последнее слово в этом споре. Неправильно сводить ее также и к
социально-политическим различиям, ибо практический социализм целиком может
укладываться в христианство и принципиально ему, по меньшей мере, не
противоречит. Вполне непримиримым с социализмом христианство оказывается только в
плоскости религиозной, поскольку социализм пользуется своей прикладной
программой как средством для утверждения своей религии. На его знамени начертано
два девиза: один — рабство человека мертвой стихии природы и социального
развития и неограниченное господство ее железных законов, а другой - прямо ему
противоречащий — всемогущество человека и его самообожествление. Первый девиз,
вместо Провидения ставящий мертвую стихию, возвращает нас еще к старым
натуралистическим религиям, казалось, навсегда упраздненным христианством, есть
религиозный атавизм. Второй же девиз зовет людей быть как боги, жить «во имя
свое», свою тварную, ограниченную природу поставить вместо Божества, это - путь
демонический, ведущий к царству Антихриста. При этом свете противоположность
между христианством и социализмом получает мировое значение — столкновения
двух мистически-полярных начала, Христа и Антихриста, и снова повторяется
искушение в пустыне60*, но уже над человечеством, которое приглашается отречься
от Бога за хлебы, за власть, во имя самообожения. Так это различие
представляется в плане мистическом.
В порядке же историческом успех социализма прежде всего есть кара за грехи
исторического христианства и грозный призыв к исправлению. Сила социализма до
известной степени свидетельствует и о слабости христианства, теряющего свою
власть над душами в пользу иной религии, иного мироощущения. Я далек от
мысли целиком объяснять самое происхождение новой религии всецело этими
грехами, ибо сознание их могло бы вызвать у горящих душ прежде всего стремление
бороться с этими грехами, отнюдь не уходя в религию человекобожия; для этого
же ухода должно присоединиться еще действие сил иного, прямо
антихристианского характера. Но грехи эти подготовляют, несомненно, почву для таких отпадений.
Особенно здесь ощутительны грехи в области социального сознания и действия. В
христианстве недостаточно проявлялось чувство социальных обязанностей, так
сказать, социальной любви; оно чересчур довольствовалось старыми традиционны-
204
ми. средствами социальной помощи, чуть ли не непосредственной раздачи
милостыни, оставаясь сравнительно глухим к указаниям науки и изменившейся
исторической обстановки народного хозяйства, капиталистического производства. При
этом оказывают свое действие и разные греховные наклонности: любостяжание,
раболепство, равнодушие, прикрываемое ханжеством, причем самые заветные
верования становятся средством самооправдания или маскировки. Как говорил Дж.
Рёскин, «мы обыкновенно верим в бессмертие, чтобы избежать приготовления к
смерти, и в отсутствие бессмертия, чтобы избежать приготовления к будущей
жизни»61*. Столь же лицемерное истолкование получают нередко и евангельские
заветы о терпении, воздержании, когда применяют их к другим, и притом к
неимущим, а не к себе. Грехи исторического христианства в социальной области велики
и многочисленны, их не надо "замалчивать, их надо сознать в целях
самоисправления, ибо наступает грозный, ответственный час истории. Эти грехи связаны не
только со слабостью или порочностью воли, но отчасти и с односторонним
пониманием христианства, с тем, что можно назвать индивидуалистическим
гипераскетизмом, устраняющим самое понятие истории, а следовательно, исторических
задач и обязанностей. Внимание всецело сосредоточивает на себе уединенная жизнь
души, отрекшейся от мира и освободившей себя от участия в истории. Такой уход
из истории начинают считать единственной нормальной формой христианской
жизни, отдавая мир стихии или безбожию, очищая место социализму. Волей или
неволей, но суровая историческая действительность заставляет считаться со своими
нуждами, и религиозное преодоление социализма может быть совершено лишь на
почве христианской философии истории, т. е. путем не отрицательной только
критики, но и раскрытия положительного учения.
Оставляя в стороне эти мистические перспективы, мы должны сказать, что
успехи материалистического человекобожия, распространение этой веры в массах и
по своему непосредственному историческому значению знаменует собой
надвигающуюся культурную опасность,· угрозу европейскому человечеству с его
цивилизацией, внутреннюю болезнь, постепенно подтачивающую его духовное здоровье.
Часто забывается и далеко не всеми понимается, что теперешняя культура
исторически имеет религиозные корни и до сих пор еще питается их здоровыми соками.
Последнюю страницу истории принимают за целую книгу, а цвет — за все
растение, не видя внутренней связи прошлого с настоящим, всей органичности,
преемственности этого культурного развития. Новая Европа была духовно вскормлена и
воспитана христианской церковью, и теперешняя европейская культура с ее
наукой по своему происхождению является христианской, хотя в своем сознании она
начинает утрачивать эту связь62*. На атеистическом фундаменте не была еще
воздвигнута ни одна цивилизация в истории, - да, по моему убеждению, и не
может быть воздвигнута. Атеистическая культура может быть только
паразитарным растением на чужом стволе и притом губящим корни дерева, к которому
присосалось. Самообожение есть не жизнетворное, но смертоносное начало. Я
допускаю, что его прививкой можно ускорить или облегчить достижение какой-нибудь
частной, близлежащей исторической цели, подобно тому, как введение яда в
организм иногда деет нездоровое и непродолжительное возбуждение энергии. Вполне
возможно, что введение в душу народную яда материалистического человекобожия
поможет быстрее двинуть пролетариат на капиталистов, мобилизовать социальную
революцию, вырвать важные социальные реформы. Но какою ценою будет куплена
эта победа, с какими духовными силами вступит это человечество в следующую
эпоху истории? Только уверовав в экономическое провидение, во всемогущество
стихийных сил в истории, только отрицая человеческую личность и почитая ее
простым рефлексом, можно с беззаботностью и доверием смотреть на будущее и не
слышать запаха уже начавшегося гниения души народной, лишающейся осоляю-
щеего ее христианства. А между тем история творится живыми силами, а не мерт-
205
выми стихиями, и человеческая личность со своими идеалами, со своей религией
есть творческое, зиждительное начало истории. Человек — сын вечности,
брошенный в поток времени, сын свободы, находящийся в плену у необходимости, в
зависимости от законов естества, от вещного, природного мира. Он творит историю,
лишь поскольку он свободен, а свободен, поскольку служит идеалу, возвышается
над необходимостью, отрицает над собой ее определяющую силу. Но он топит эту
свою свободу, поскольку он с головой погружается в мир вещей, признает над
собой их определяющую власть, с которой он призван бороться и лишь в этой борьбе
созидать культуру. И нельзя безнаказанно на все лады внушать человеку, что он
двуногий зверь и природа его чисто звериная, а потому ему остается только,
признав это, поклониться своему зверству. Нельзя в противоположность
христианскому зову тысячелетий: «горе имеем сердца63*» безнаказанно убеждать человека
опускать их долу. Нельзя лишать человека идеала личности, заслонять от него лик
Христов, не опустошая человеческую душу. Глубоко погружаются мистические
корни истории. Зерном, из которого выросло многоветвистое дерево европейской
культуры, было все-таки первохристианство во всей его неразложимости и
простоте. И не притязая на роль Кассандры, все же нельзя не видеть в этом принижении
идеалов надвигающуюся культурную и историческую опасность иссякания самых
источников творчества.
И, не скрою, еще большая тревога поднимается в душе при мысли о нашем
отечестве и о нашем народе, душа которого соединена еще крепкими мистическими
и историческими нитями с первохристианством и так близка ему простотой и
непосредственностью своей веры. И она подвергается действию того же иссушающего
ветра, дующего на этот раз не с востока, а с запада. Страна наша переживает
теперь всесторонний и глубокий кризис, государственный, хозяйственный,
культурный, и к уврачеванию этой болезни направлены все усилия и заботы живых
элементов нашего общества. Не я буду умалять всю важность, трудность, насущность
этой исторической задачи - горе и стыд тому, кто ей остается чужд! Но пусть важ
ность и величие этих преобразовательных задач, заботы о хлебе насущном не
заставляют забывать и о душе народной, об ее здоровье и росте, о сохранении ее от
деморализации, от разложения. Ибо с растлением души народной мы утрачиваем
фундамент, на котором зиждется все настоящее и будущее России, — и ее
государственность, и народное хозяйство, и национальная культура. Будем хранить
грядущим векам святыню души народной, ее сердце, совесть, веру, возгоревшуюся от
светильника катакомбы. И тогда нам не страшны все исторические испытания, и не
дрогнет наша вера в будущее народа, который своими страданиями создал великую
Россию, но взлелеял в своей душе иной, высший идеал, завещанный
первохристианством, и в мысли о нем наименовал свою отчизну: святая Русъ\
1909
АПОКАЛИПТИКА И СОЦИАЛИЗМ1
(Религиозно-философские параллели)
I
Общий характер иудейской апокалиптики2
Под именем иудейской апокалиптики разумеется ряд произведений,
содержащих в себе «откровения» тайн относительно настоящего состояния мира и
человечества, его прошлого и особенно будущего. Собственно название апокалипсиса, или
откровения, усвоено только нашему новозаветному «Откровению св. Иоанна»
^Αποκάλυψις Ίώάνου) и отсюда уже распространено и на целый ряд произведений
иудейской письменности, литературно к нему примыкающих1*. В новейшей цер-
1 Доклад, читанный в заседании религиозно-философского общества 9 апреля 1910 года.
Напечатано (с сокращениями) в «Русской мысли» (1910, VI-VII).
2 Литература по апокалиптике чрезвычайно обширна. Назовем некоторые новейшие
сочинения. Вводные очерки по отдельным апокалипсисам в издании: Kautsch. Die Pseudepigraphen
des alten Testaments. 1900 и издании: Henneke. Handbuch zu den neutestamentlischen
Apokryphen. Статьи в «Realenzyclopädie für protestantische Theologie und Kirche» (3-te Aufl.: W.
Bousset. Apokalyptik (Bd I); G. Beer. Pseudepigraphen des Alten Testaments (Bd 16). В издании
«Die Religion in der Geschichte und Gegenwart» (Handwörterbuch, hrsg. von F. M. Schiele)
статьи: Fiebig. Apokalyptik - jüdische; Vischer. Ap. christliche; W. Bousset. Die Judische
Apokalyptik. 1903; W. Bousset. Die Religion des Judenthums in neutestamentlichen Zeitalter. 2-te
Aufl. 1906; E. Schürer. Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi. 2-te Aufl. I—II.
Theile; R. H. Charles. Eschatology hebrew, Jewish and. christian. London, 1899; Paul Volz.
Jüdische Eschatologie von Deniel bis Akiba. Tübing. u. Leipzig., 1903; Wellhausen. Israelitische
und jüdische Geschichte. 6-te Aufl. 1909; Cornill. Einleitung in das Alte Testament. 6-te Aufl.
1908; L. Friedländer. Die religiösen Bewegungen innerhalb des Judenthums im Zeitalter Jesu.
Berlin, 1905; W. Baldensperger. Die messianisch-apokalyptischen Hoffnungen des Judenthums. 3-
te Aufl. Strassburg, 1903; Wellhausen. Skizzen und Vorarbeiten. VI Heft. Berlin, 1899 (Zur
apokalyptischen Literatur); Hollmann. Welche Religion halten die Juden als Jesus auf rat. 1905
(из серии Religionsgesch. Volkbücher); P. Fiebig. Die Offenbarung Johajinis und die römische
Apokalyptik der römischen Kaiserzeit. 1907; W. Staerk. Neutestameritlische Zeitgeschichte.
Leipzig, 1907 (Sammlung Gesehen); Fr. Giesebrecht. Die Grundzüge der israelitischen
Religionsgeschichte. 2-te Aufl. Leipzig, 1908; А. Ревилль. Иисус Назарянин / Пер. с франц. Т. I, гл. XIII.
СПб., 1909; Prof. Jos. Feiten. Neutestamentliche Zeitgeschichte oder Judentum und Heidentum
zur Zeit Christi und der Apostel. Regensburg. 1910, Bde. I—II.
В русской литературе см. весьма обстоятельную монографию проф. прот. Ал. Смирнова.
«Мессианские ожидания и верования иудеев около времен И. Христа (от маккавейских войн до
разрушения Иерусалима иудеями)» Казань, 1899). См. также кн.: С. Н. Трубецкой. Учение о
Логосе (глава об иудейской апокалиптике).
Специальная литература относительно отдельных памятников приводится в
соответствующих местах.
207
ковно-исторической литературе эти произведения известны под названием псевд-
эпиграфов ввиду обычной их псевдонимности. Эпоха, к которой относится
преимущественно развитие апокалиптической литературы, открывается примерно макка-
вейским восстанием2* и гонением Антиоха Епифана (168-165 до Р.Х.)» а
прерывается лишь с окончательной гибелью иудейской общины после восстания Бар-Кохбы
и др. (132-135 по Р. X.), следовательно, обнимает около трех веков. Наиболее
ранним и классическим произведением этого рода является каноническая книга
пророка Даниила. По господствующему в критической литературе мнению, она
считается псевд-эпиграфом1, время составления которого относится к эпохе
гонения Антиоха Епифана, к 165 или 164 году. За последние десятилетия особенно
внимательно собирались и изучались религиозно-исторической наукой эти
памятники апокалиптики. Критическое издание текстов и затем переводов разных
апокалипсисов, особенно известное издание ветхозаветных апокрифов и псевд-
эпиграфов под редакцией проф. Kautsch'a2 и новозаветных под редакцией
Hennecke3 сделали эти памятники доступными, по крайней мере, для владеющих
немецким языком. Критическое изучение апокалиптической литературы далеко еще
не может считаться законченным, по мнению специалистов вопроса4. Но это касается
частностей и не препятствует пониманию ее общего духа. Важнейшие памятники
иудейской апокалиптики (кроме книги пророка Даниила) суть следующие.
1) Книга тайн Еноха, сохранившаяся в эфиопском переводе, так называемый
«эфиопский Энох», один из важнейших и обширнейших апокалипсисов5. Вариант
этой книги найден в славянском переводе и издан г. Соколовым (так называемый
«славянский Енох»; есть также в английском и немецком переводах). Книга эта
состоит из нескольких различных частей, соединенных компилятивным
составителем в одно целое. По заключению Beer (Kautsch, Pseudepigraphen, 232), эфиопский
Енох в разных своих частях относится ко времени начиная с 167 года и кончая 64
г. до Р.Х. и составлен окончательно за 6-7 десятилетий до Р.Х. Его называют
иудейским прототипом католического Данте. Чрезвычайно обширная и пестрая по
своему содержанию, книга эта содержит главы космологического, исторического,
мессианического, эсхатологического содержания в крайне фантастической форме.
2) Псалмы Соломона (числом 18) по происхождению относятся приблизительно
к 50 году, к эпохе после нашествия Помпея, сохранились на греческом языке6.
Некоторые из них посвящены мессианско-апокалиптическим темам.
1 Bertholet. Daniel und die griechische Gefahr. 1907; Cornill. Die Einleitung in das Alte
Testament. 6-te Aufl. 1908 и др.
Я не считаю эту гипотезу безусловно неприемлемою и для православно-церковного
сознания, хотя, конечно, такое литературно-историческое решение само по себе и не бесспорно и не
исчерпывает вопроса о религиозном авторитете священных книг, который зависит отнюдь не
от исторической точности надписания их автора, но от церковной оценки содержания этой
книги, выражающейся в признании ее каноничности и опирающейся на ее содержание. Однако
я не считаю возможным и нужным мимоходом затрагивать здесь этот сложный и серьезный
вопрос.
2 Die Apokryphen und Pseudepigraphen des Alten Testaments; 2 Bde. Tübingen, 1900. Для
нашей цели важен второй том, содержащий переводы псевд-эпиграфов с обстоятельным
критическим введением и комментарием при каждом из них.
3 Neutestamentliche Apokryphen и Handbuch zu den neutestamentlichen Apokryphen.
Tübingen und Leipzig, 1904.
4 Ср., например: Prof. Baldensperger. Die messianisch-apokalyptischen Hoffnungen des
Judentums. 3-te Aufl. Strassburg, 1903. Vorwort: «Вследствие неверности в датировании
источников и неудовлетворительности состояния текстов мы находимся лишь в подготовительной фазе
к действительной истории».
5 На русском языке был издан проф. прот. А. Смирновым: Книга Еноха (исследование,
текст и объяснение). 1888. Есть и английское издание Чарльза.
6 Из разных изданий греческого текста см. особенно: О. Gebhart. Die Psalmen Salomo's.
Leipzig, 1895 (Harnack und Gebhart. Texte und Untersuchungen. Gesch. der altchr. Litter. XIII
B. Heft 2). Есть в русском переводе прот. Смирнова: Псалмы Соломона. Казань. 1896.
208
3) Книга Юбилеев (так называемый Лептогенезис, Малое Бытие), содержащая
рассказ, параллельный книге Бытия, с некоторыми эсхатологическими мотивами. Время
написания трудно установимо, сохранилась лишь в переводе.
4) Восшествие Моисея (Assumptio или Ascensio Mosis, Άνάλεψχ Μουσέως)
памятник Ι века по Рождестве Христове, отрывок из него сохранился в латинском
переводе, найденном в 1861 году, содержит очерк истории израильского народа, с
эсхатологическим концом.
5) Апокалипсис Эздры (в.русской Библии - Ш книга Эздры, главы III-XIV),
относится к царствованию Домициана, ко времени после разрушения
Иерусалима3*, сохранился в латинском переводе Вульгаты4*, одно из самых значительных и
проникновенных произведений иудейской апокалиптики1.
6) Апокалипсис Варуха в двух вариантах - сирском и греческом. Особенно
важен первый, относящийся к той же эпохе, что и Эздра2.
7) Завещание 12 патриархов5*', сохранившееся в греческом, армянском и древ-
неславянском переводах, содержит увещания 12 сыновей Иакова к своим детям,
причем в них проскальзывают и апокалиптические мотивы. К этой группе
присоединяются апокрифы, сохранившиеся только в незначительных отрывках или же
известные почти по названию (Жизнь Адама и Евы, Апокалипсисы Илии, Софо-
нии, Захарии, Моисея, Авраама, завещания и др.). В значительной степени
христианский характер носит апокриф Мученичество Исайи (Άναβατικόν Ήσαΐου или
ascensio Jesaiae).
Особое место в апокалиптической литературе занимают сибиллины (oracula
sybillina). Эти пророчества сивилл, с их коллективной псевдонимностью, слагаются
в течение долгих веков, легенда приурочивает появление сивилл к VIII веку до
Рождества Христова в Малой Азии, вообще к Востоку. Платон (Phaedrus, 244 AB)
говорит о сивилле как общественной пророчице. В Риме сибиллины удерживают
каноническое значение до конца императорской эры3. Затем формой сивиллиных
пророчеств4 воспользовалось эллинизированное иудейство, а вслед за ним и
христианский мир (ссылки на сивиллины среди церковных писателей мы встречает у
св. Иустина Мученика, Афенагора, Феофила, особенно у Климента
Александрийского, Лактанция и даже у Августина De civitate Dei, lib. XVIII, cap. XXIII). Об
авторитете сивиллин в средневековой церкви свидетельствуют как известный стих
Dies irae, dies ilia
Solvet Saeclum in fovilla
Teste David et Sibylla6*,
так и место на плафоне Сикстинской капеллы, т. е. в храмовой иконописи,
отведенное четырем сивиллам Микеланджело. Сохранившиеся благодаря такому
уважению тексты (из известных по заглавиям 15 книг мы не имеем только трех -
1 Полный перевод с критическими примечаниями и вступительным очерком проф. Гункеля
см.: Kautsch, op. cit.
2 Перевод на немецкий язык см.: Kautsch, 1. с. Чарльзом издан английский перевод сир-
ского Варуха.
3 Ср. проф. Зелинский. Из жизни идей. СПб.; 1905 («Первое светопреставление»).
4 Различалось несколько сивилл по месту их пророчествования: 1) Герофила в Греции и
М. Азии, прозванная эритрейской сивиллой, 2) ливийская, 3) куманская в Нижней Италии, 4)
еврейская, или так называемая вавилонская или египетская. Форма пророчеств - гекзаметр,
иногда с применением акростиха. «Сборник, которым мы располагаем, 'есть дикий хаос,
который никогда не удастся упорядочить и систематизировать даже самой проницательной
критике... даже отдельные книги представляют собой, произвольные агрегаты отдельных кусков.
Проклятие псевдонимного писательства, по-видимому, особенно тяготело над этими
оракулами» (Schürer, 1. с, II, 794). С этим сходятся отзывы и остальных специалистов.
209
книг IX, Χ, XV) содержат много апокалиптических мотивов иудейства и раннего
христианства1 , особенное значение имеют книги III, IV, V.
Наконец, раввинская теология, талмуд, древние иудейские молитвы (шмоне-
эзра, габинену, каддиш, музаф7*) содержат также некоторые прошения
эсхатологического характера2. Не чужд апокалиптике оказался даже такой платонизирующий
спиритуалист и индивидуалист, как Филон3. Надо думать, что известными в
настоящее время памятниками, конечно, далеко не исчерпывается апокалиптическая
литература изучаемой эпохи8*.
Апокалиптика не была литературой в теперешнем смысле слова, т. е.
произведением оторванного от жизни народных масс, субъективного, иногда кабинетного
творчества. Это была народная литература, питавшая настроения народных масс
еврейских и вместе их отражавшая. Она уподобляется сгущающимся облакам
испарений, поднимающимся над исторической нивой, подобно тому как и теперь
социалистическая литература, по крайней мере, в некоторой своей части, выражает
стихийные настроения рабочих масс. То были народные верования, народная
мудрость и наука, народная религия. Было бы, конечно, неправильно характеризовать
всю иудейскую религию в эпоху Христа одним этим апокалиптическим
фольклором, ибо рядом с этим огромное значение имело и обрядовое фарисейское
благочестие, религия закона; у некоторых исследователей мы находим противопоставление
апокалиптики как народной религии (ам-гаарец), фарисеизму «книжников» с его
застывшей обрядностью иерархической аристократии4 . О том, как интимно мир
апокалиптических образов и чаяний сросся с народной душой, лучше всего
свидетельствует новозаветная письменность, хотя бы так называемые синоптические
Евангелия (Матфея, Марка, Луки)12*. Мы находимся здесь в атмосфере
апокалиптики, слышим ее язык, ее образы, как это со всей силой чувствуется при
непосредственном переходе от чтения апокалиптических памятников к новозаветным.
Понятен поэтому тот интерес, который возбуждает в наши дни изучение
апокалиптики в целях точнейшего понимания исторического фона евангельской истории. При
этом стали обычны в рационалистической литературе попытки объяснить
Евангелие из апокалиптики, изобразить Иисуса не только всецело охваченным
апокалиптическими представлениями, но и разделяющим всю их условность и
ограниченность эпохи5. Значение апокалиптики как исторической среды, наложившей свою
1 Издание текста сивиллиных пророчеств на греческом и немецком языках под редакцией
Friedlieb, Χρησμοί Σιβυλλιακοι, Die sibyllinische Weissagungen. Leipzig, 1852.
Новейшее издание Kirchenvaterkommission Прусской Академии наук под редакцией Геф-
фкена 1902 года. Ср. его критическое введение: Iohannes Geffken. Komposition und
Entstehungszeit der Oracula Sibyllina. Leipzig, 1902. W. Bousset. Sibyllen und sibyllinischen Bücher (RE3,
18), очерк F. Blassa'a в издании Ε. Kautsch'а, а также общую литературу об апокалиптике.
2 Незнание еврейского языка и сложность талмудической литературы не позволили мне
познакомиться с этим материалом по подлинникам. Тексты названных молитв см.: Volz, 1. с,
Schürer, 1. с, Bousset, 1. с, также: G. Dalman. Die Worte Jesu. Leipzig, 1898.
3 См. его произведения De praemiis et poenitentiis и De execrationibus (Philonis Iudaei opera
omnia. Vol.V.Lipsiae, 1828).
4 Особенно эту мысль подчеркивает Friedländer:
Die religiösen Bewegungen innerhalb des Judentums im Zeitalter Jesu. Berlin. 1905. Он
называет фарисеев и саддукеев «Obere Zehntasusend»9* и противопоставляет им апокалиптиков
как «die Frommen und die Lehrer jener und breitesten Volksschichten, der Am-haarez in der
hasmonäischen Zeit» (22-23), «die wirklichen Volkspropheten der beiden letzten vorchristlichen
Jahrhunderte» (77), a «der grösste aller Apokalyptiker Jesus»10*. Весьма любопытна позиция
этого еврея, стоящего на основе своей религии и исходя из нее приходящего к выводу, что
«Jesus (не церковный Христос, воплощенный Логос, но пророк Иисус современного
«либерального» протестантизма) ist die Erfüllung der Zeit» (328) «denn er war unser und seit Evangelium
ist unser» (XIX)11*.
5 Из новейших исследований сюда особенно относятся Baldensperger (Das Selbstbewusstsein
Jesu im Lichte der messianischen Hoffnungen seiner Zeit) и особенно новейшее
радикально-эсхатологическое направление, имеющее представителями Albert Schweitzer'a (Das Messianitäts und
210
печать на язык и образы Евангелия, всего сильнее - в эсхатологических его
частях, в настоящее время не может быть оспариваемо независимо от характера общего
религиозного мировоззрения. Чрез посредство Нового Завета мы, сами того не ведая,
усвоили как привычные многие образы этого отдаленного и уже умершего теперь
прошлого, зародившиеся в раскаленной атмосфере последних веков иудаизма.
В этой ее раскаленности в.ряду других причин отчасти повинна и сама апока-
липтика. Известно, что эти века отмечены в истории иудейского народа
исключительным трагизмом. Это была эпоха непосильной, отчаянной борьбы небольшого
народа за свою политическую, а вместе и религиозную самобытность сначала с*
греческим, а потом с римским орлом, причем, несмотря на всю свою
безнадежность, борьба эта отмечалась не одними поражениями, но и успехами, хотя бы и
непрочными. С самого восстания Маккавеев огонь политического и религиозного
мессианизма то скрывается под пеплом, то прорывается наружу в революционных
движениях. Мы не будем останавливаться на перипетиях этой религиозно-
революционной борьбы, закончившейся лишь под развалинами Иерусалима и его
святыни-храма в пламени, своими языками пожиравшего вместе с иерусалимскими
зданиями и иудейскую апокалиптику. Но это именно она воодушевляла все
движение, поддерживала надежду на сверхъестественую помощь посланника небес -
мессии, сулила избранникам блаженство мессианского царства взамен рабства,
бедности, унижения, насилий. Революционные мессии, один за другим
появлявшиеся в эту эпоху, предсказывались апокалипсисами. Вообще можно сказать
вместе с одним исследователем1, что «Израиль погиб на своей эсхатологии». На почве
апокалиптической революционности развилось и своеобразное
социально-революционное террористическое движение, зелотизм2, 13*, поднявшее голову особенно в
последние годы, когда тело иудейского народа содрогалось уже в предсмертных
конвульсиях; тогда «к войне против Рима присоединилась социальная
революция»3. И таким значением апокалиптики в политической истории Иудеи еще более
подчеркивается ее народный характер. Это была народная вера и надежда, как
определялась она в то время в результате всего тысячелетнего религиозного
развития и всей многострадальной политической истории Израиля. После разрушения
Иерусалима и падения Иудеи апокалиптика сначала берется под подозрение в
руководящих кругах иудейства, а затем и совершенно изгоняется из употребления и
Leidensgeheimniss. 1901; его же. Von Reimarus zu Wrede. Tübingen, 1906) и Iohannes Weiss'a
(Die Predigt Jesu vom Reiche Gottes. Göttingen, 1900). Предшественника оно имеет в Реймару-
се, анонимном авторе изданных Лессингом «Вольфенбюттелевских фрагментов» (см. вообще:
Schweitzer. Von Reimarus zu Wrede). Ср. еще на эту тему речь Е. Schürer. Das messianische
Sellbstbewusstsein Jesu. 1903.
1 Beer: Pseudepigraphen des A.T. (RE3, 16, 23430).
2 Вот как характеризует это движение, для нас столь хорошо знакомое, Велльгаузен в
своей «Israelitische und jüdische Geschichte» (6. Auf. 1907. 355-356): «Людьми эпохи были зелоты.
Это было очень смешанное общество. Честные мечтатели и воодушевленные патриоты
принадлежали к нему, люди недостаточного образования и сильной веры, не имевшие страха и не
знавшие раздумья, ибо они о политическом положении не знали ничего, кроме тою, что Бог
сильнее Рима. К ним присоединялись также и сомнительные элементы; фанатизм был
неразборчив относительно своих приверженцев. Как обычно, выдвигались самые прямолинейные
люди действия и получали руководящую роль. Настоящие герои не выносились наверх
течением; недостаток выдающихся умов в иудейском восстании поражает, действуют только
элементарные силы. Терроризм, практиковавшийся зелотами, был ужасен. Они полагали, что кто не
восстает против рабства, должен быть принужден к свободе, и соответственно этому и
поступали. Их последнее средство убеждения было злодейское убийство». Исторический очерк
революционных движений в Иудее в новозаветную эпоху кроме сочинений Иосифа Флавия
«Иудейские древности» (рус. пер. Генкеля; В 2 т. СПб., 1900) и «Иудейская война» (рус. пер. Л. Я.
Чертка) см. у Schürer, также у Staerk. Краткий и популярный очерк представляет работа Hans
Windisch «Der messisnische Krieg und das Urchristentum» (Tübingen, 1909).
3 Staerk. Neutestamentliche Zeitgeschichte. I. S. 150. Wellhausen, 359, 365. Гункель (Kautsch.
Pseudepigraphen. II. S. 333).
211
вполне заменяется талмудической мудростью. Но тогда она реципируется
христианскими общинами и становится любимым чтением в некоторых, преимущественно
«варварских» церквах1, на языке которых и сохранились нам многие памятники
апокалиптики, позднее же и на славянском востоке («славянский Енох»!).
И по содержанию своему апокалипсисы представляют собой как бы религиозно-
научную энциклопедию народной мудрости, выражают народное миросозерцание с
разных его сторон: в этой исторической амальгаме, в которой под покровом псев-
донимости соединяются в одном целом куски, принадлежащие разным эпохам,
разным даже культурам и народностям, благоговейный читатель находил
«откровения» и из области космологии и астрономии, и физики, и демонологии, ангелоло-
гии, и истории в прошедшем и будущем, - словом, это был настоящий «народный
университет» разных знаний. В то же время апокалиптика представляет собою как
бы бассейн, в который изливаются, здесь смешиваясь, воды из разных родников, и
в этом качестве она имеет незаменимое значение для изучения так называемого
религиозного синкретизма14*. Над разложением этого синкретического целого на
составные элементы с величайшим увлечением и усердием, хотя все еще с
проблематическими результатами, работает современная религиозно-историческая наука2.
Многомотивность и сложность есть отличительная черта апокалиптической
литературы. Поэтому она совершенно не поддается простой и объединяющей
характеристике, но требует кропотливого, детального изучения по отдельным вопросам. В
обыденном языке под апокалиптикой разумеются обыкновенно лишь «откровения»,
касающиеся истории и последних судеб мира, эсхатологии. Действительно
философия истории и эсхатология представляют собой хотя, конечно, и далеко не
единственную, зато одну из важнейших и характернейших тем апокалиптики. Скажу
больше, именно для этих тем творчество апокалиптики является в некотором роде
классическим в том смысле, в каком греческая философия имеет классическое
значение для истории философии вообще. Именно в греческой философии уже вы-
1 Gunkel {Kautsch, Pseudepigraphen, II, 333) замечает по этому поводу: «Иудейско-апока-
липтическая литература пережила две катастрофы: первую, когда иудейская синагога,
собираясь с силами после римских ударов, оттолкнула от себя апокалиптику и литературу на
греческом языке; таким образом погиб иудейский оригинал. Если тогда погибла не вся иудейско-
гречсская литература, то объясняется это тем обстоятельством, что она влилась одновременно
в христианские общины. Излюбленность и огромное распространение апокалиптической
литературы на этой второй ее родине доказывают многочисленные переводы на столь удаленных
один от другого языках. Но и здесь литературу эту постигла новая катастрофа: она исходила
от греко-философского духа, наполнявшего греческую теологию и боровшегося в
апокалипсисах с восточной мифологией. Таким образом, случилось, что иудейские апокалипсисы исчезли
из греческой церкви, где продолжал витать философский дух, и что, напротив, они
утвердились в младших варварских церквах, к которым принадлежит и латинская».
2 Кроме всей цитированной литературы по апокалиптике, в изобилии содержащей
сравнительно-исторический материала, ср. особенно: Herrmann Gunkel. Schöpfung und Chaos in Urzeit
und Endzeit. Eine religionsgeschichtliche Untersuchung über Gen. ' I und Ap. loh. 12. Mit
Beiträgen von Heinrich Zimmern. Göttingen, 1896; Hermann Gunkel. Zum
religionsgeschichtlichen Verständniss des Neuen Testaments. Göttingen, 1904; W. Bousset. Der Antichrist in der
Ueberlieferung des Judenthums, des neuen Testaments und der alten Kirche. Ein Beitrag zur
Auslegung der Apokalypse. Göttingen, 1895; Hugo Gressmann. Der Ursprung der Israelitisch-
jüdischen Eschatologie. Göttingen, 1905 (эта книга своими крайностями может дать яркие
примеры всей шаткости, иногда и произвольности сравнительно-исторических построений и
особенно поучительна с точки зрения научной методологии); Ernst Böklen. Die Verwandtschaft der
jüdisch-christlichen mit der parsischen Eschatologie. Göttingen, 1902; A. Jeremias. Das Alte
Testament im Lichte des Alten Orients. Leipzig, 1906; Его же. Babylonisches im Neuen
Testament. 1904; O. Pf leiderer. Das Urchristenthum. II. Berlin, 1902. Многочисленные издания из
серии Religionsgeschicntliche Volksbücher и Die Religion in der Geschichte und Gegewart, hrsg.
von M. Schiele и мн др. Обзор и изложение религиозно-исторической литературы дает Karl
Clemen. Religionsgeschichtliche Erklärung des Neuen Testament. 1909 (см. особенно главу Die
letzten Dinge).
212
сказаны основные мотивы философских систем, намечены, хотя иногда и в
зачатках, основные философские проблемы и направления, так что вся дальнейшая
история философии может быть представлена как разработка тем и раскрытие
мотивов греческой философии. Аналогичное же значение имеет иудейская апокалипти-
ка относительно философии истории и эсхатологии — для всех почти идей,
мотивов, настроений в этой области можно найти или аналогию или зародыш в апока-
липтике. Она имеет значение как бы формальной логики или учения об основных
«категориях» философии исто-рии. И связанный с этим интерес духовного
проникновения в мир иудейской апокалиптики с особенной живостью чувствуется в нашу
эпоху, в сознании которой так неотступно встает проблема о смысле истории, цели
ее и исходе, которая охвачена трепетным чувством какого-то стремительного,
неудержимого, непроизвольного даже движения вперед, смутным ощущением
исторического прорастания. Это разлито в нашей духовной атмосфере и питает такое
характернейшее движение наших дней, как социализм, прорывается в кровавом и
хмельном энтузиазме революций с их зелотизмом, но и с их историческим
порывом. Наше ухо оказывается особенно чутко, когда прислушивается к биению
исторического пульса хотя и отдаленных, но сродных эпох. Поэтому нисколько не
удивительно, если при этом победоносном шествии историзма в современной науке
внимание религиозно-исторического исследования все настойчивее и пристальнее
останавливается (особенно последние десятилетия) на изучении апокалиптики,
которая становится отчасти как будто историческим зеркалом и для нашей эпохи,
сродняется со жгучей и трепетной современностью, становится для нас средством
духовного ориентирования. Оставляя в стороне все остальные мотивы
апокалиптики, в настоящем очерке мы .ограничимся одной только этой темой.
II
Апокалиптика и «социология»
Апокалиптика в религиозной жизни иудейского народа исторически заступает
место пророчества. Когда пророки умолкли, верующие стали искать ободрение в
тяжелых жизненных обстоятельствах в таинственной, прикровенной
псевдонимами, полной символов апокалиптике. Живое, личное слово пророка заменилось
писанным, безличным произведением апокалиптиков. Сравнительно с огненным
вдохновением великих пророков, слышавших и возвещавших слова Божий,
апокалиптики представляются нам эпигонами1, они питаются прежними вдохновениями
и пророчествами2, хотя и по-своему перерабатывают их. Вдохновение пророков
было связано с их личностью и обстоятельствами, оно имело поводом определенные
исторические события, причем сам пророк нередко был не только обличителем или
«вещуном» (наби), но и общественным деятелем. Лишь беря отправным пунктом
события современности, пророчество восходит в величественных поэтических об-
1 Ср. Bertholet. Daniel und die griechische Gefahr. 1907. S. 33-34.
2 Wellhausen («Skizzen und Vorarbeiten». VI. S. 226) высказывает мысль, что «иудейская
эсхатология проистекает из профетии, именно из неисполненного пророчества. Оно принимает
его содержание и точнее определяет лишь, когда и как» (следуют примеры). Эту мысль
повторяет и Charles. Eschatology etc., 168 ел. Даже если принять это объяснение, оно лишь дает
ключ к пониманию отдельных черт апокалиптики, но совершенно не объясняет
происхождения ее в целом. При всем религиозном синкретизме апокалиптика есть нечто до такой степени
оригинальное и исключительное, что должно быть признано продуктом творческой
деятельности иудейского духа в последнюю эпоху.
213
разах1 к созерцанию «тайн Царства Божия» и судеб его в истории человечества, и в
частности еврейского народа. В противоположность этой практической природе
пророчества апокалиптик остается созерцателем, набожным начетчиком,
вопрошающим Бога о грядущем. Пророки возвестили своему народу, а через него и
всему человечеству идею Ягве как Бога истории; они истолковывали исторические
события как судьбины гнева Божия, как осуществление плана Его и правды Его.
Начиная с Амоса, самого раннего из пророков, слова и дела которых записаны в
книге, наблюдаем мы развитие этой идеи - истории как откровения Бога2.
Выступая в бурные и тревожные эпохи жизни народной как буревестники истории (по
меткому выражению Корнилля), они орлиным взором всматривались в будущее и
там искали разгадки испытаний, исполнения обетовании если не на всем народе, то
хотя <бы> на «остатке Израиля», на его «святом остатке». Они воспитывали в своем
народе веру в непреложное торжество правды Божией — в обнаружение Бога в
истории, подготовляли то мессианское мировоззрение, которое, выделяя израильтян из
всех народов истории, подготовляло встречу истинному Мессии, чаянию языков.
Идею религиозной философии истории, внутренней закономерности всего
происходящего в жизни народов от пророков восприняли апокалиптики. Книга
пророка Даниила, которая, к какому бы времени ни относить ее происхождение, во
всяком случае открывает собой апокалиптическую литературу, представляет
грандиозную символику философии истории, охватывающую в своих образах всю
всемирно-историческую драму, давая ей телеологическое истолкование3. Влияние этой
книги не только на свою эпоху, но и на христианство было и остается огромно. По
справедливой оценке Корнилля4, «это одна из важнейших и влиятельнейших книг,
которые когда-либо были написаны, — мы и теперь оперируем понятиями и
пользуемся выражениями, непосредственно заимствованными из книги Даниила». И
она всецело занята проблемой философии истории, и эту черту разделяет с нею вся
апокалиптика5. Но здесь сказывается большое и существенное отличие пророчества
1 Я разделяю тот экзегический принцип15* при понимании пророческих образов, по
которому не следует искать буквального понимания пророчества. Справедливо говорит в своем
прекрасном исследовании «The prothets of Israel and their place in history» (1907) покойный
W. Robertson Smith: «Даже более серьезные исследователи Писания не всегда ясно сознают всю
важность устранения буквального понимания пророчеств... Всякая древняя мысль,
касающаяся абстрактных и трансцендентных представлений, обычно выражалась при помощи образов и
аналогий, и эта общая истина воспринималась и выражалась в частных и даже случайных
формах» (339-340). «Большая ошибка предполагать, чтобы ясновидцы (seers) Израиля глядели
в отдаленное будущее с таким же ясным пониманием деталей, какое им свойственно
относительно современных событий. Сущность мессианских пророчеств идеальна, не буквальна; дело
пророка не предвосхищать историю, но намечать основания божественной благости,
управляющей будущим, ибо они вечны, как планы Иеговы. Истинная вера и не спрашивает ни о
чем, кроме этого, только неверие испытывает раньше времени и срока» (S. 249).
2 Cornill. Der israelitische Prophetismus. 1906. S. 36: «Израильский пророк есть человек,
который имеет способность временные вещи рассматривать под углом вечности, который
всегда распознает власть Бога и как воплощенный голос Бога умеет своим современникам
раскрывать план Божий и руководить ими по воле Божией». «У Исайи впервые находим мы ясно
сознанный план мировой истории; все, что происходит на земле, руководимо единой
сверхмирной святой волею и имеет последней целью прославление Бога» (57). «Более
величественной теологии истории, если можно так выразиться, чем Второисаии16*, никогда не бывало»
(143). Ср. также: Robertson Smith, 1. с. passim, также Charles, 1. с.
3 Ср.: Bertholet. Daniel und die griechische Gefahr. S. 58.
4 L. c, 174.
5 Яркое, чисто пророческое выражение идея Бога в истории получает в Апокалипсисе Ва-
руха:
О Господи! Ты вызываешь наступление времен, и они стоят перед Тобою,
Ты повелеваешь преходить господству миров, и они Тебе не прекословят,
Ты устрояешь бег времен года, и они повинуются Тебе,
Ты один знаешь продолжительность поколений и не открываешь своих тайн
широкой массе...17*
214
от апокалиптики. И пророк и апокалиптик глядят в будущее и ищут в нем ответа
на «проклятые вопросы современности». Но пророк живет и действует в настоящем
в гораздо большей степени, чем апокалиптик. Его жизнеощущение имманентнее,
он более моралист-обличитель, воплощенная совесть народа, нежели мечтательный
фантаст, отчаявшийся в настоящем и потому вперяющий взоры в будущий век.
Черта первого настроения - мужественная активность, чувство Бога в истории -
побуждает служить Ему историческими деяниями, творить историю; это -
субъективное, творческое, антидетерминистическое, или, выражаясь по-современному,
«прагматическое» отношение к истории. Недаром пророки являются вместе с тем и
крупнейшими общественными, а иногда и государственными деятелями и
патриотами; с величайшим подъемом религиозного чувства они соединяют трезвый
реализм, я готов сказать — практичность (вспомним только политическую
деятельность пророка Исайи18*), их взор остается не затуманенным открывающейся пред
ними всемирно-исторической и эсхатологической перспективой, они сохраняют и
гармонию душевных сил, и душевное здоровье. Поэтому они не толкнут свой народ
на поступки отчаяния, не вдохновят его на безумные взрывы революции, какими
ознаменовался век апокалиптики, романтического утопизма, порождаемого отчасти
исторической безнадежностью. То, что пророки говорят в действительном залоге и
повелительном наклонении, апокалиптиками выражается в страдательном залоге и
в желательном наклонении. Отсюда, в их представлениях, Божественная воля,
правящая историей, но предоставляющая место и человеческой активности,
воспринимается как божественный фатум. Для них наибольшую реальность имеет
строгая детерминированность всего происходящего в истории. Та объективная
закономерность хотя и доступная теоретическому познанию, но неотвратимая и
неумолимая в своей железной поступи, тот фатум закономерности, открытием
которого так гордится марксизм, есть именно изначальная черта апокалиптики1.
История берется здесь в таких ракурсах, что в ней не остается места свободной
человеческой личности. Fata volentem ducunt, nolentem trahunt19*. Историческая
закономерность в представлениях апокалиптики и современной социологии, например
экономического материализма, различается не по формально-логическому
характеру, но по своему содержанию: религиозный теистический фатализм типа Ислама,
конечно, сулит иной исход развития и иначе изображает его ход, нежели фатализм
экономического материализма.
Этому общему пассивно-детерминистическому уклону апокалиптической мысли
соответствует целый ряд дальнейших ее черт, которые, хотя рассматриваемые в
отдельности, допускают и специальные объяснения, но в целом гармонируют
между собою. Черты эти - известная псевдонимность апокалипсисов, символика цифр
и зверей и обычная манера изображать прошедшее и настоящее в будущем
времени, как предсказание о них, сделанное еще до их наступления, т. е. прибегать к
vaticinium post eventum20*; вместе взятые, они характеризуют логическую природу
апокалиптики, приближая ее в этом - sit venia verbo21* — к современной
«социологии» с ее абстрактными схемами.
Пророки выступали от первого лица. Они изустно говорили то, что потом
записывали в книги. Они сами были непосредственными, активными участниками
исторической драмы. Поэтому псевдонимность вообще так не свойственна
пророчеству. Правда, и в пророческих книгах встречаются места совершенно
апокалиптического характера, но эти зародыши будущей апокалиптики количественно тонут в
их прочем содержании. Напротив, псевдонимность составляет общую и неизбеж-
1 См. сравнительную характеристику пророков и апокалиптиков у Н. Gressmann «Der
Ursprung der israelitisch-jüdischen Eschatologie» (Göttingen, 1905): «Там (у пророков) царит
цветущая жизнь, здесь - серая теория» (с. 158). Впрочем, все это противопоставление здесь
преувеличено и извращено общей узкой «религиозно-исторической» точкой зрения автора, тоже
плодом самой«серой» теории.
215
ную черту апокалиптики с ее пассивно-созерцательным настроением. И при этом
характерно (и, кажется, не обращало еще на себя достаточного внимания в науке)
то обстоятельство, что большинство псевдонимов берется чисто условно, без
особенной заботы об их вероподобности, иногда же, наоборот, с явным и
подчеркнутым характером их выдуманности и условности: Енох, Варух, Эздра, патриархи,
Адам и Ева, Сивиллы, — все это, строго говоря, не псевдонимы, а скорее заглавия,
явные условности, которые, думается мне, и тогда уже не могли обманывать
относительно мнимого авторства лиц, надписанных в заголовке. Скорее, можно
понимать эти надписания как обозначение известной школы, направления, в духе
которого было написано данное произведение (подобно всевозможным теперешним
«измам»). Даже если принять во внимание всю критическую беззаботность и
удивительную историческую наивность эпохи, мирившуюся с явными
несообразностями, указанное значение коллективной псевдонимности остается неопровергнутым.
Псевдонимность соответствовала безличному или сверхличному характеру
содержания произведений апокалиптики. Опять-таки, быть может, легче будет
приблизиться к пониманию этой ее особенности, если ее пояснить сравнением с
современной наукой, которою по-своему для своего времени хотела быть апокалиптика.
Наука безлична или сверхлична, провозглашение той или ийой ее истины
определенным ученым есть только биографический и исторический факт, совершенно не
имеющий значения для самой истины; раз провозглашенная и признанная, она
становится совершенно независимой и чуждой своему духовному отцу. Таковы же
и истины апокалиптики, раскрывающиеся в видениях и символах. И пророки
имели видения и слышали глас Божий и возвещали народу Его волю. Но и эти
видения, и эти откровения почти всегда носили у них определенный, практический
характер, были приурочены к конкретному поводу, стояли в связи с их
практической миссией, а отнюдь не имели в виду тешить чью-либо теоретическую
любознательность. Перспектива будущего для них открывалась не в общей своей
закономерности, но в границах определенного исторического горизонта, и этим
объясняется и условность пророчеств и их относительный характер и вся массивность, а
вместе иногда и противоречивость их нагроможденных друг на друга образов,
разобраться в которых невозможно без ориентирующих указаний истории эпохи; без
выяснения места, времени, повода, обстоятельств часто просто нельзя понять, что
хотел высказать пророк. Эта особенность пророчества, совершенно не позволяющая
превращать его в оракул для гадания о будущих событиях, а потому исключающая
буквальное, непосредственное его истолкование, делает его вместе с тем глубоко
жизненным, исторически конкретным, приуроченным к данному месту и времени.
Напротив, апокалиптика сознательно не хочет приурочиваться к месту и времени,
она стремится к абстрактной объективности, поэтому идеи, родившиеся в I веке до
Р. X., она сознательно надписывает именем Еноха, указывая этим на
сверхисторическое их значение. Видения и образы, открывающиеся апокалиптику, также в
подавляющем количестве случаев (кроме пророка Даниила и III Эздры) носят
совершенно безличный характер, они открываются как объект познания, но ни к
чему не уполномочивают и не обязывают тайнозрителя, да он и не выступает
лично, но скрывается за условным символическим псевдонимом, подобно тому как
отдельный ученый скрывается и пропадает в безличном коллективе науки. По этим
своим признакам апокалиптику можно уподобить науке того времени, и притом не
науке о конкретном и историческом, но абстрактной, теоретической и более всего
соответствующей той весьма проблематической дисциплине наших дней, которая
именует себя социологией22*.
Этот же абстрактно-социологический характер апокалиптики раскрывается нам
и из ее пристрастия к традиционной символике чисел и животных, обратившейся в
условный язык или литературную манеру апокалиптики, благодаря чему с
последней связано вполне определенное представление об известном литературном жанре
216
и стиле. Опять-таки и здесь относительно происхождения каждого из этих
символов и этих чисел могут вестись и ведутся обширные религиозно-исторические и
экзегические изыскания и препирательства. Но, предоставляя их самим себе,
нельзя не поражаться тем в высокой степени абстрактным схематизмом, в который
отливаются в ней исторические события. Ведь изобразить всю мировую историю
как смену и борьбу нескольких апокалиптических зверей1 — это, по-своему — есть
ведь такая же смелость логической абстракции и символизма, какую мы имеем в
таких наших теперешних социологических понятиях, каковы: «способ производства»,
«развитие производительных сил», «феодализм», «натуральное хозяйство»,
«капитализм» и т. д. Логическое подобие апокалиптическим изображениям истории царств
как смены овнов, козлов, растений, туч, вод и т. п., можно в современной научной
литературе найти хотя бы в знаменитом предисловии Маркса к Zur Kritik der
politischen Oekonomie, где вся история разделяется сначала на два отдела -
Vorgeschichte u. Geschichte23*, а затем первый отдел еще подразделяется на
несколько символически обозначаемых эпох: рабства, феодализма, капитализма -
новые знаки для старых символов апокалиптики. Мы настолько привыкли к этим
историческим символам, что совершенно не замечаем их абстрактного и условного
характера, между тем как по своей логической структуре это ведь те же
апокалиптические звери, которые нам странны и чужды только своими рогами да шерстью,
а вовсе не логической природой своей. Можно было бы без труда многие схемы
социологии прямо переложить на язык апокалиптической символики. Этот
схематизм и рационализм апокалиптики обнаруживается с особенной наглядностью в его
пристрастии не только к прорицаниям будущего, но и к vaticinium post eventum.
Считать таковое простым шарлатанством или плодом исключительного легковерия
тоже было бы научным легковерием. Достаточно обратить внимание на то, что в
нескольких апокалипсисах (в Юбилеях, в Завещании 12 патриархов, в Жизни
Адама и Евы) в форме будущего времени рассказывается вся история израильского
народа от сотворения Адама, причем нельзя же всерьез допустить, чтобы кому-
нибудь могло прийти в голову содержание всем известного библейского рассказа
выдавать за пророчество в собственном смысле. Употребление будущего времени
одинаково по отношению к событиям как прошлым, так и настоящим и будущим в
известной общей перспективе, имеет задачей раскрыть их внутреннюю
необходимость, их объективно-религиозную закономерность, в свете которой все они
изображаются как связные звенья одной причинной цепи. Это совершенно та же
самая задача, которую ставит себе и современная «социология», притязающая
закономерно объяснять прошлое и предсказывать будущее. О. Конт и К. Маркс подают
в этом руку древним анонимам апокалиптики. Правда, вследствие абстрактно-
символического характера апокалиптических образов «откровения» апокалипсисов
в действительности более закрывали, чем открывали2, и сами нуждаются в
объяснениях и толкованиях, поэтому о предсказании будущего здесь вообще можно
говорить только очень условно, но ведь отнюдь не менее условно следует говорить и
о предсказаниях современной социологии, которая лишена еще изобразительности
художественных и массивных образов апокалиптики, оперируя лишь холодными,
1 «Детерминистическому пониманию истории соответствует если исторические картины
набрасываются не в соответствии пестрому содержанию жизни, но распределяются по
категориям. История народов размещается в стереотипные числа, в математические формулы. То это
четыре мировых царства, то семь седьмин или десять мировых недель или даже двенадцать
частей мира, которые полагаются писателями в основу их исторических воззрений. Бывший
пункт развития выражается в распространенном тогда обыкновении представлять, что все
будущее развитие предусматривается богопросвещенными мужами прошлого и записано ими»
(Baldensperger. Das messianische Selbstbewusstsein Jesu im Lichte der messianischen Hoffnungen
seiner Zeit. 3-te Aufl. 1903. С 80).
2 «Настоящим признаком апокалиптики, несмотря на ее имя, является не откровение, но
тайна» (Baldensperger, 1. с, 188).
217
отвлеченными, почти математическими символами. Но предсказания будущего в
точном смысле предустановления будущих событий, конечно, одинаково нет ни
там, ни здесь. Понятия социологии суть обобщения или, точнее сказать,
отвлечения job некоторой массы фактов и являются их логическими символами; образы
апокалиптики суть тоже своеобразные обобщения, сделанные не рассудочно, но
интуитивно, как и вообще зарождаются художественные образы. Но, конечно,
остается в силе вся разница в содержании закономерности, установляемой в древней
апокалиптике и современной социологии: там она определяется религиозным
фатумом, «научно познанной» волей Божества, по отношению к миру
трансцендентной и супранатуральной1, здесь - «развитием производительных сил» или иным
«законом развития общества», имманентной, природной необходимостью.
Источники этой детерминированности определяются различно, ее характер остается
тождественным. Итак, в известном смысле можно сказать, что апокалиптика хотела
быть социологией своего времени. Если мы припомним еще, что апокалипсисы в
изобилии включали в себя сведения и из других, притом самых разнообразных
областей, то можно сказать, что апокалиптика вообще притязала быть научной
энциклопедией своего времени. Что касается других областей знания, то
теперешнее развитие науки делает детским лепетом естественнонаучное мировоззрение
иудейских апокалиптиков, но что касается социологии, то, думается мне, здесь она
в гносеологическом отношении стоит на одном уровне с современной социологией,
ибо и та и другая ставят себе одинаково ошибочную и внутренно противоречивую
логическую задачу: создать абстрактную науку об историческом, т. е. конкретном,
но, однако, с той целью, чтобы при помощи этих абстрактных понятий, которые по
своему содержанию беднее, чем это конкретное, предустанавливать, предсказывать
это конкретное. Ne sutor ultra crepidam!24*
Ill
Апокалиптика и философия истории
Наряду с научно-социологическим пониманием апокалиптических образов воз*
можно еще подхождение к ним совсем с другой стороны, со стороны
метафизической. Образы апокалиптики могут быть истолкованы не только как абстрактные
схемы эмпирической социологии, но и как символы философии истории. Если
первая ставит своей задачей изучать эмпирическую закономерность, признает только
эволюционно-механический процесс чисто натурального характера, то вторая
стремится определить внутреннюю, запредельную, метаисторическую цель истории и
тем самым истолковывает ее как процесс не только каузальный, но и
телеологический. Хотя апокалиптики и употребляют социологические методы мышления,
однако в своих интересах и проблемах они идут дальше социологии, их цель не она,
но философия истории. С тоскою отчаяния, с пылкой страстью, с неумирающей
надеждой в сердце вперяется затуманенный взор апокалиптика в исторические
дали, туда, где синеет таинственная линия горизонта, зараз и закрывающего и
приоткрывающего дали будущего, и живым трепетом этой тайны исполняется
душа тайновидца. Что же различает глаз его на этом горизонте?
Для того чтобы отчетливее ответить на этот вопрос — а в нем ключ к
пониманию самых основных особенностей апокалиптики, - надо предпослать краткое
рассуждение о проблемах философии истории и теории прогресса. Возможна вообще
двоякая ориентировка в истории. В одном случае история рассматривается как
процесс, ведущий к достижению некоторой запредельной, однако истории еще им-
1 «Апокалиптическая схема висит над историей» (ibid., 187).
218
манентной и ее силами достигаемой цели, — условно назовем это рассмотрение
хилиастическим (хилиазм — тысячелетнее царство с торжеством добра на земле и
в истории). Хилиастична в этом смысле всякая теория прогресса, как религиозная,
так и нерелигиозная: можно говорить не только об иудейском и христианском
хилиазме, но и философском (о котором говорит Кант в «Streit der Fakultäten25*,
культурном, социалистическом. То или иное содержание хилиастических
представлений может изменяться, но формальные свойства хилиазма как исторического
горизонта, исторически видимой, хотя и отдаленной, цели истории остаются
неизменны. Я сравнил хилиазм с историческим горизонтом, и это сравнение можно еще
углубить. Существует ли горизонт в действительности? И да, и нет. С одной
стороны, он есть, несомненно, лишь наша перспективная проекция и в этом смысле
хилиазм есть обман нашего зрения. Но, с другой стороны, иллюзия эта есть
следствие реальных фактов шарообразности земли, положения нашей планеты в
астрономическом пространстве. Живя при этих условиях, мы не можем не видеть
горизонта и практически не считаться с ним. Мы знаем, что горизонт недостижим и
постоянно уходит от нас при всякой попытке приближения к нему, но мы не
можем не стремиться к нему, не иметь его перед глазами в качестве предельной
цели, если не в смысле географическом, то в духовном. Этот противоречивый,
антиномический характер нашего исторического горизонта с синеющей на нем линией
хилиазма, проходящей по самой грани запредельного и посюстороннего, связан с
общей формой нашего эмпирического существования, с его временностью и дис-
курсивностью. Мы имеем потребность цельности, нося в себе образ абсолютного, но
оставаясь в оковах временности, вмещаем эту абсолютность, эту цельную жизнь
только по частям. Не цельность, но разорванность, постоянное движение во
времени составляют наш удел. Но именно благодаря этому основному противоречию —
абсолютности и цельности запросов нашего духа и дискурсивности, временности
формы нашего существования - жизнь отдельного человека и всего исторического
человечества и становится постоянным движением, постоянной сменой ориентиров
и перспектив. Человечество должно вечно двигаться, ибо не может остановиться,
по образу «Вечного Жида». Исторический ряд всегда дифференцируется, но
никогда не интегрируется. Исторический горизонт всегда нами видим, но никогда не
приближается. История есть процесс во времени, но вместе и бесконечный, ибо не
может остановиться; временность, дискурсивность, условность всего исторического
не есть его случайное свойство, accidentia, но самое существо — essentia.
Прогресс бесконечен, но тою «дурною бесконечностью», отрицательной, а не
положительной, о которой учил Гегель26*. Хилиазм как идеал истории есть в этом
смысле совершенно такая же категория, как идеал разума в системе Канта27*.
Научный опыт, по самому его понятию, установленному Кантом, не может
закончиться, но вместе с тем и именно в силу этого и существует. идеал разума,
порождаемый жаждой цельного знания. Критика разума разъясняет происхождение и смысл
этого идеала, но вместе с тем установляет и его формальный, чуждый всякого
определенного содержания характер. Подобно идеалу истории, хилиазму, идеал
разума абсолютен лишь в своей форме, не имея абсолютного содержания. Последнее
принадлежит запредельной области вещей в себе, разбивающей самую форму
временности и дискурсивности. Исторический ряд если и может мыслиться
интегрированным, то лишь вне формы временности, за пределами истории. Таким образом,
противоречивая природа основной исторической категории — идеала прогресса или
хилиазма свидетельствует о неабсолютном, неокончательном, условном характере
истории вообще. Она говорит также, что нумен28* истории, ее действительное
абсолютное содержание, может раскрыться лишь за ее пределами и потому не может
войти иначе, как формально, в самую историю, в ее феноменологию с ее
временными, условными, относительными целями. История имеет свой нумен,
исторический ряд может быть интегрирован, но этот нумен совершенно трансцендентен,
219
потусторонен, «не от мира сего», вне истории или над историей. В истории же все
относительно. Поэтому хилиазм есть лишь форма абсолютного в истории, т. е.
условно или относительно абсолютного, как проекция бесконечного исторического
движения. Но этим не умаляется вся важность хилиазма, его незаменимость и
неустранимость. Это есть живой нерв истории — историческое творчество, размах,
энтузиазм связаны с этим хилиастическим чувством. Конечно, это не есть
Царствие Божие на земле или в истории, ибо здесь содержится contradictio in adjecto29* -
мыслить Царствие Божие в форме временности и дискурсивности, в области
частностей без общего. Однако если история имеет свой нумен, если в ней проходит
необходимая метафизически ступень бытия, то хилиазм как движущая сила
истории представляет собою и некоторую положительную религиозную ценность. Но он
есть средство ориентирования лишь в горизонтальной плоскости, лишь в
историческом разрезе, в области дискурсивного, имманентного содержания истории, и об
этом значении и его ограниченности никогда не следует забывать.
Хилиазм в этом формальном смысле существует для всех людей независимо от
из воззрений, так же как для всех практически существует время и пространство с
его горизонтом. Для многих людей хилиастическая ориентировка в истории, или
«теория прогресса», составляет вообще единственную философию жизни, которая
их всецело удовлетворяет и делает равнодушными и нечувствительными к
возможностям иной, не имманентной, но трансцендентной религиозной ориентировки, не
только в горизонтальном, но и вертикальном разрезе, не только в эвклидовских, но
и иных измерениях. Практически хилиастическая теория прогресса для многих
играет роль имманентной религии, особенно в наше время с его пантеистическим
уклоном. Для таких людей вопрос исчерпывается той или иной наукообразной
теорией прогресса30*. Но для религиозного миропонимания, этим вопрос отнюдь не
исчерпывается. Наряду с пониманием истории как дела людей, им порученного и
совершаемого человеческими силами, здесь встает вопрос о судьбах мира и
человечества как деле Божием, как Его творческом акте, как сверхприродном
вмешательстве в мировую жизнь с разрывом тонкой ткани имманентного. Мир,
созданный Богом, может быть Им и пересоздан или преображен. Мир может обновиться
чудесным, сверхъестественным образом, и тогда, по обычному выражению апока-
липтики1, этот век (αιών) уступит место новому зону31*, и количество этих эонов
может быть неопределенно велико (Ориген). Таким образом, мы подходим к
«учению о последних вещах», лежащих за пределами не только истории, но и
самого этого мира с его дискурсивностью, пространством и временем, или к
эсхатологии. Человек не может, даже если бы хотел, остаться исключительно в области
имманентного и временного и совершенно устранить всякую мысль о возможном
перерыве - не времени, но самой временности, — о переходе за ее предел, хотя бы
и неведомо куда. Последних судеб мира, мирового transcensus'a32*, никто никогда
не переживал и не переживет в теперешних условиях бытия, и они могли бы не
беспокоить сознание, если бы не рождение и смерть других людей вместе с
неизбежной перспективой личной смерти, акты трансцендентные и совершающиеся
хотя и во времени, но по содержанию своему разрывающие или устраняющие эту
форму временности, они не дают возможности успокоиться только на
имманентном. Дитя двух миров, человек может забыть о своем происхождении и утратить
живое чувство связи с иным миром, лишиться переживания запредельного наряду
с переживанием имманентного, но он не может не знать о предстоящем ему уходе
из этого мира, и в этом причина неискоренимости эсхатологии с ее проблемами в
человеческом сознании2. Очевидно, что те или иные эсхатологические представле-
1 III Эздра: «Быстро спешит век сей к исходу» (IV, 26).
2 Даже в современном протестантизме, при всем его рационализме и преобладании
имманентной религиозной ориентировки, эсхатология оказывается неистребимой, как об этом мож-
220
ния тесно связаны с общим метафизическим учением о Боге и мире и
представляют собой более или менее последовательный, более или менее решительный вывод
из посылок религиозной онтологии. Из материалистической философии может
быть сделан вывод, что личная смерть есть transcensus к небытию, а мировой
процесс — perpetuum mobile33*, или вечное круговращение; из религиозной философии
должен быть сделан вывод совершенно иного содержания и притом в соответствии
характеру данной религии. Вообще же эсхатология есть жизненный нерв
религиозных учений, и с этой сторо.ны наиболее любопытно и их
сравнительно-историческое изучение. Если в хилиазме человечество зидит впереди себя историческую
цель, то в эсхатологии оно усматривает над собою и за пределами этого мира с его
историей сверхприродную цель. Мир созревает для своего преображения творческой
силой Божества, и это сверхприродное, чудесное вмешательство deus ex machina34* в
представлениях человечества, которое своими силами делает свою историю,
чувствуя себя прочно устроившимся на этой земле, неизбежно получает характер
мировой катастрофы. Этот transcensus мира из одного зона в другой, невыразимый на
языке земных понятий, может быть выражен, очевидно, только символическими
образами о падении луны, солнца, звезд, о потрясении небесных стихий, о мировом
пожаре и т.п. Это преображение мира подготовляется происходящим в нем
духовным процессом борьбы противоположных сил. Мировой, а в нем и исторический
процесс и в эсхатологии рассматривается как процесс телеологический, ведущий к
разрешению мировой трагедии и тем установляющий ее цель и смысл, но для
человека цель эта остается совершенно трансцендентна и в этом смысле от него
независима. Человеку еще предоставлено самоубийством ускорить личную свою смерть,
но отстранить ее неотвратимое приближение ему уже не дано: по отношению же к
мировой смерти он не знает ни дня, ни часа, ибо она всецело есть дело воли и
всемогущества Небесного Отца. Поэтому эсхатология, в полную противоположность
хилиазму, никогда не может сделаться исторической целью, достигаемой
человеческим действием, и вообще остается вне человеческой досягаемости, почему многие
так легко выбрасывают и самую мысль о ней. Эсхатология дает совершенно иную
ориентировку в мире, нежели хилиазм. Насколько последний активен,
жизнедеятелен, настолько первая пассивна, квиетистична1, 35*. Пред лицом вечности
бледнеют и испаряются или же радикально переоцениваются все исторические
ценности. Андрей Болконский, с полным сознанием всей исторической важности
развертывающихся событий, участвующий в Аустерлицком бою, и тот же Андрей,
лежащий на Аустерлицком поле и всматривающийся в глубокое небо с плывущими
облаками, ярко выражает собой смену этих двух мироощущений, почти
исключающих, взаимно отрицающих друг друга36*. Трансцендентное как реальность
теперь мы переживаем только в глубине своего духа в общении с Церковью,
«Царством и не от мира сего»37*, живым организмом трансцендентного, и на основе
этого живого опыта мы стараемся религиозно осмыслить и почувствовать жизнь,
разгадать нумен истории. Но он туго поддается этому нашему интуитивному,
угадыванию, оставаясь закрыт от нас, насколько мы живем исторической
феноменологией, эмпирией. Хилиазм неизбежно исчезает из нашего поля зрения, когда мы
поднимаем голову вверх, но когда, утомившись созерцанием лазури и бесильные
надолго отдаться ему, мы опускаем голову и смотрим перед собой, то видим себя со
всех сторон окруженными и замкнутыми историческим горизонтом. После Преоб-
но судить по интересным и характерным очеркам: Ernst Troeltsch. Erlösung и Eschatologie (в
«Religion in der Gegenwart und der Geschichte»). Lief. 29-39. 1910. S. 484-487.
1 Возможно, что и сильно эсхатологическое настроение соединяется со своеобразной
активностью в жизни, но ее источник - в дополнительных мотивах, связанных с основным, так,
например, деятельность первохристиан по распространению христианства, по-видимому,
связывалась отчасти с надеждой ускорения конца, обещанного после проповедания Евангелия
всем народам.
221
ражения апостолы нашли себя в прежней обстановке на горе Фаворе, и
распахнувшаяся пред ними на мгновение высшая, подлинная действительность опять
закрылась38*.
Мы старались различить оба эти плана — эсхатологический и хилиастический -
и противопоставить друг другу оба порядка идей, чувств, представлений.
Возвращаясь снова к/иудейской апокалиптике, мы должны констатировать, что в круг ее
содержания входят оба эти порядка, но в состоянии безнадежной, хаотической
спутанности, и эта спутанность приводит к ряду подмен, смешений понятий,
придавая апокалиптике именно тот специфический характер, благодаря которому она
сыграла такую роковую роль.в истории иудейского народа, притупляя в нем
чувство действительности, исторического реализма, ослепляя утопиями, развивая в нем
религиозный авантюризм, стремление к вымогательству чуда. Благодаря -этой не-
дифференцированности представлений она в то же время могла сыграть роль и
бродильного чана, в котором вскисала новая закваска - христианство. В видении
апокалиптика, как в иконописи, сливаются в одно, притом плоскостное, а не
перспективное, изображение планы исторический, хилиастический, эсхатологический,
и получаются фантастические, иногда кошмарные, но иногда чарующие образы.
Стремлениям историческим приписывается непосредственно эсхатологическое
значение, хилиазм как совокупность земных надежд и исторических упований
проецируется тоже эсхатологически. Между тем человеческий план истории и
непостижимые для человека, т. е. для него иррациональные или сверхрациональные,
пути Промысла несоизмеримы, человеческие цели не адекватны целям Божиим.
Прямолинейный антропоморфизм в понимании истории был отвергнут и осужден
на пути в Кесарию Филиппову, когда апостолу, устами которого только что
впервые было произнесено исповедание веры во Христа, слово «не плоти и крови, а
Духа Божия»39*, этому апостолу, свои хилиастические представления
приравнявшему путям Божиим, было сказано: «отойди от Меня, сатана, ты Мне соблазн,
потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое» (Мф. 16, 23).
История человекосообразна лишь в том смысле, что она дает простор
человеческой активности и телеологии, и в этом смысле история делается людьми, точнее
сказать, при их участии, которое становится, таким образом, космическим
фактором, входит в общий космический миропорядок. Но при этом и личная воля
отдельного лица, и совокупное творчество человечества находят внешнюю границу в
объективно детерминированном, по существу своему таинственном и
иррациональном ходе вещей. «В это время пришли некоторые и рассказали Ему о галилеянах,
которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: думаете ли
вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет,
говорю вам... или думаете ли, что те восемнадцать человек, на которых упала башня
Силоамская и победила их, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме? Нет,
говорю вам» (Лк. 13, 1-4). И когда Тот, Который по Божественному естеству есть
Логос мира, в человеческой муке гефсиманского истощания как человек, как
индивидуальность, следовательно, как часть всего молился об избавлении от чаши,
то, противопоставляя свою частную человеческую волю благой, универсальной и
непостижимой для обособляющегося сознания воле Отца, прибавляет: «Впрочем, не
Моя воля, но Твоя да будет» (Лк. 22, 42). Человеческая воля и божественная
несоизмеримы как целое и обособляющаяся часть, ставящая себя в качестве целого. А
потому и пути человечески предначертываемой истории и пути руководимой
Высшею Силою эсхатологии не тождественны. Другими словами, хилиазм и
эсхатология не адекватны и не соизмеримы, принадлежат к разным
религиозно-метафизическим плоскостям (потому так резко и подчеркивается в Евангелиях видимая
независимость одного от другого: «день тот» придет, когда никто не ожидает, когда
все чувствуют себя особенно обеспеченно и спокойно занимаются обыденными
делами, женятся, покупают, как во дни Ноевы...)40*. Иудейская апокалиптика, на-
222
против, фактически признала эту соизмеримость, и хилиазм включила в
подробности эсхатологии. Но тогда оказалась возможность и даже необходимость мыслить
цели исторические, или хилиастические достижимыми средствами
эсхатологическими, т. е. при участии сверхчеловеческих сил, как deùs ex machina, и
эсхатологические образы стали наполняться человеческим, слишком человеческим
содержанием. Появилось напряженное и роковое для Иудеи ожидание исторического
чуда, сверхъестественной помощи для целей политических, национальных,
экономических. На этом фоне развивается иудейский мессианизм со всей
противоречивой сложностью своих представлений.
В представлении о мессии как в центральном узле скрещиваются различные
ходы апокалиптической мысли, и оно одновременно принадлежит всем разным
планам, смешанным воедино иудейской апокалиптикой. Мессия, иногда личный,
иногда коллективный образ иудейского народа (особенно в позднейшем иудаизме),
иногда человек, земной царь, иногда существо божественное и сверхмирное, иногда
смертный (III Эздра), иногда бессмертный, входит в различные представления,
принадлежит к различным эсхатологическим рядам. Он освобождает свой народ,
наказывает — иногда жестоко — врагов его и установляет земное царство с
Иерусалимом в качестве столицы. Но он же присутствует при воскресении мертвых и
участвует в страшном суде в качестве судии уже после окончания этого зона. В том
напряженном ожидании нового зона, которым живет апокалиптика, мессия играл
роль живого моста, соединяющего оба эона и переводящего за собою мир из
старого эона в новый. Это смешение нескольких перспектив сказывается во множестве
частностей, дробится в крупных и мелких подробностях и может быть прослежено
лишь при детальном исследовании подлежащих памятников1. Мы остановимся
только на самых крупных и основных штрихах.
IV
Мессианское царство
Апокалиптика с ее живой образностью, а вместе и необузданной фантастикой
не обещает, конечно, ясности философских различений. Граница, отделяющая
историческое от эсхатологического, то совершенно стирается, то углубляется до
непроходимости, то настолько расширяется, что дает место еще особому переходному
состоянию, вполне не принадлежащему ни к той, ни к другой области,
тысячелетнему царству мессии, так называемому хилиазму в собственном смысле слова.
Ввиду того, что большинство апокалипсисов составлялось из разных фрагментов и в
разные времена, все эти три возможности осуществляются иногда в пределах даже
одного апокалипсиса (таков, например, эфиопский Энох, отчасти III Эздра).
Поэтому систематическая разработка этого материала может вестись исторически приме-
1 С исчерпывающей полнотой работа эта, в значительной мере справочного характера,
исполнена в книге Р. Volz «Jüdische Eschatologie von Daniel bis Akiba» (1903), а в русской
литературе в цит. соч. прот. Смирнова. P. Volz (С. 61) дает следующую схему противоположных
«полюсов развития» представлений апокалиптики:
«Израиль - человек или мир.
Искушение Израиля - блаженство благочестивых.
Враги - злые вообще, слуги сатаны.
Уничтожающий суд Ягве - всемирный суд над отдельными лицами и конец мира.
Возобновление святой земли и народа - возобновление мира.
Продолжение существования общины - индивида с воскресением и бессмертием.
Человеческие силы и земные блага - сверхчеловеческие силы и потусторонние блага.
Палестина, Иерусалим - небо и рай».
223
нительно к отдельным памятникам или же классификаторски, путем
каталогизации отдельных суждений по установленным рубрикам. Мы ограничимся лишь не
сколькими наиболее яркими примерами, которые вместе с тем представляют и
наибольший религиозно-философский интерес. Изображение мессии как
национального вождя и освободителя, а вместе с тем и озаренного светом божественной
правды мы находим в Псалмах Соломоновых, именно в 17-м псалме, классическом
памятнике иудейского мессианизма. Сначала в нем изображается бедственное
состояние Израиля как наказание за грех его, во второй части дается выражение
мессианских надежд1.
«23. Воззри, Господи, и восставь им царя их, сына Давидова, во время, какое Ты,
Боже, избрал...
24. И препояшь его силою, чтобы он поразил начальников неправедных.
25. Очистил бы Иерусалим от язычников, попирающих в погибели».
«27. Истребил бы народы беззаконные словом уст своих... и изобличил бы
грешников словом сердца их.
28. И он соберет народ святый, которым будет предводительствовать в правде, и
будет судить колена народа...
29. И не допустит, чтобы неправда обитала в среде их».
«32. И будет он иметь народы языческие для служения себе под своим храмом».
«36. И нет неправды в дни его в среде их, ибо все святые и царь их - Христос
(мессия) Господь (κύριοφ».
«41. И сам он чист от греха, чтобы владычествовать над народом великим,
обличить начальников и истребить грешников силою слова...»
«46. В равенстве будет всех их вести, и не будет между ними надменности, чтобы
совершать насилие над ними».
Пс. 18, ст. 7. «Блаженны родившиеся во дни те, ибо они увидят блага Господни,
которые он сотворит роду грядущему. 8. Они будут под жезлом наказания Христа
Господня, в страхе Бога своего, в мудрости духа и правды и силы».
Эта картина мессианского царства, ветхозаветный Zukunftstaat41*,
проецируется в пределах исторического пространства и времени, оно отделяется от
современности лишь некоторым промежутком времени, по истечении которого открывается
царство, удовлетворяющее не только жгучим чаяниям алчущих правды, но и
униженному и оскорбленному национальному чувству. Мессианизм сливается с
национализмом - черта, характерная для всей апокалиптики. Ожидание мессианского
царства того характера, какой ему приписывается в 17-м псалме Соломоновом,
свойственно наряду с другими концепциями почти всей апокалиптической
литературе и составляло народную веру этого времени, как мы хорошо знаем это из
Евангельской истории, где мы непрерывно наблюдаем желание и апостолов, и народа
превратить Спасителя в ожидаемого мессию. Это ожидание разделяет как
палестинское иудейство, кругу которого несомненно принадлежат Псалмы Соломоновы,
так и иудейская диаспора, как бы ни были сильны эллинистические влияния на
нее. Мы встречаем эту надежду даже у Филона при всем его спиритуализме2. Она
1 Цитировано по переводу прот. А. Смирнова («Псалмы Соломона с приложением од
Соломона». Казань, 1896. С. 97 и ел.). Подлинный текст см. в издании: Gebhardt. Die Psalmen
Salomo's. С. 131 и ел. Нумерация gthxob в переводе Смирнова и издании Гебхарда не
совпадает, в цитатах мы придерживались нумерации Смирнова.
2 В de poenitentiis et de proemiis и в de execrationibus перечисляются блага, участниками
которых будет иудейский народ в мессианскую эпоху: мирное расположение животных,
всеобщий мир среди людей, обеспеченный победой Израиля и одолением врагов и выступлением
могучего властителя, избыток во всем, богатство, плодородие, уважение, детское счастье,
глубокая старость, полное здоровье.
224
проникла и в ежедневную, трижды читаемую молитву, так называемую шмоне-
эзре1, молитву габинену, представляющую сокращение шмоне-эзре, молитву кад-
диш2у а затем прочно укоренилась в талмудической письменности3.
То же мессианское царство в других случаях проецируется уже в конце
истории, но еще за ее пределами, на той самой порубежной черте, где соединяются
история и эсхатология, эмпирическое и сверхэмпирическое. Такой характер имеет
иудейский хилиазм, встречающийся в важнейших апокалипсисах у Эноха, у III
Эздры, у Варуха. Знакомство, с этим кругом представлений особенно интересно
потому, что они обладают необыковенной живучестью в истории и помимо ведома
многих имеют огромное значение и для нашей современности в форме социальных
утопий.
Во вступительных главах эфиопского Эноха4 следующими чертами
изображается состояние праведников (хотя и после суда, но, очевидно, еще не в
окончательную эпоху):
«Избранным же уделом будет свет, мир и радость, и они наследят землю (ср. Пс.
36, 11. Мф. 5, 5). Вас же, безбожники, поразит проклятие. Для избранных же дана
будет мудрость, все они будут жить и не будут грешить, ни из-за невнимания, ни из-
за гордости... Они не будут ни провиниться, ни грешить во все дни их жизни и не
будут умирать от гнева Божия, но будут исполнять число дней своих. Их жизнь
будет исполнена мира, а годы их мира будут многи в вечной радости и в мире все дни
их жизни» (I, 7-9)5.
О царстве мессии, предшествовавшем общему воскресению и суду, говорит и Ш
Эздра, писавший, не надо забывать, уже после разрушения Иерусалима:
1 Еврейский текст шмоне-эзре и других молитв мессианского содержания см.: Dalman. Die
Worte Jesu. 1898 (приложение). Немецкий перевод: Schürer, I. с, 11, 384-385. Приведем,
пользуясь этим переводом, некоторые прошения этой молитвы: «10. Возвести великой трубой
наше освобождение и водрузи знамя для наших рассеянных и собери нас с четырех концов
земли... 11. Восстанови наших судий, как и прежде, и наши советы, как и в начале, и удали
от нас скорбь и воздыхания; и царствуй над нами, Ты, единый Господи, в милости и
страдании... 12. И клеветникам да не будет никакой надежды, и все, делающие злое, да скоро
пойдут к погибели, и все они скоро будут истреблены; и ослаби, и раздроби, и сокруши, и сломи
гордых в наши дни. 13. Над праведными и благочестивыми и старейшими Твоего народа, дома
Израилева, и над остатком ученых книжников и прозелитов, и над нами да поднимется
милосердие Твое, Господь Бог наш. И дай богатую награду всем, воистину уповающим на имя Твое;
и дай часть нашу среди них вовеки, чтобы мы не посрамлены были, ибо уповали на Тебя. 14.
Ив Иерусалим, город наш, возвратись сжалившись, и живи посреди его, как Ты сказал, и
устрой его вскоре в вечное строение, и трон Давида скоро водрузи в середине его. 15. Отрасль
Давида, раба Твоего, скоро произрасти и возвыси род его помощью Твоей... 17. ... и восстанови
жертвенное служение в святая святых Своего дома. И жертву Израиля и его молитву прими в
любви с благоволением. И да будет Тебе благодарна ежедневная жертва Израиля, народа
Твоего. О, да узрят очи наши Твое возвращение в Сион с состраданием. Да прославлен будет
Господь, повелевающий возвратиться в Сион истине Своей».
2 См.: Volz, 1. с, 45.
3 См.: Volz, § 15 и passim.
4 Цитаты сделаны по немецкому переводу у Kautsch: Pseudepigraphen. Русского перевода
А. Смирнова (Книга Эноха. 1888) я не имел.
5 В гл. 62 находим еще такие черты: грешники «будут составлять для праведных и
избранных его зрелище, они будут радоваться на него, что Гнев Господа духов на них и Его меч
упился кровию их (12). Господь духов будет жить над ними, и они будут с тем «сыном
человеческим» (мессией) есть, садиться и вставать во всю вечность. Праведники и избранные
поднимутся от земли и перестанут опускать взор свой, а будут облечены в одежды славы (14)». В так
называемом 10-недельном апокалипсисе (91-93) читаем даже такие слова: «О вашем падении
(грешников) не будет сожаления, и творец ваш будет радоваться вашей погибели» (sic!).
Вообще апокалипсис Эноха содержт большой и разнообразный ассортимент эсхатологических
мотивов, в частности и о мучениях грешников в долине Иосафата в «геенне огненной»; чрез
посредство Нового Завета некоторые образы вошли во всеобщее употребление, их можно найти в
лубочных картинах страшного суда, столь излюбленных среди русского народа. Недаром Баль-
деншпергер назвал Псевдоэноха «иудейским прототипом католического Данте».
8 Зак. 487 225
«Откроется сын Мой мессия с теми, которые с ним, и оставшиеся будут
наслаждаться четыреста лет, а после этих лет умрет сын мой Христос (мессия) и все люди,
имеющие дыхание» (7, 28-29, ср. 12, 32, 34).
Псевдоэнох описывает необыкновенное плодородие земли, «обработанной в
справедливости» (10, 18-19), не щадит красок для описания блаженства этой
мессианской эпохи и автор сирского апокалипсиса Варуха, приблизительно
современник Ш Эздры. Приближение эпохи мессии сопровождается здесь следующими
признаками:
«И откроется бегемот на своей земле, и левиафан выйдет из моря, и оба могучие
морские чудовища, созданные мною в 5-й день сотворения мира и соблюдаемые на это
время, будут тогда пищей для всех остающихся. И будет земля в 10 000 раз давать
плод свой, и на одной виноградной лозе будет 1000 ветвей, и на каждой ветви 1000
кистей, а каждая кисть будет приносить 1000 ягод, а каждая ягода даст кору42* вина.
И те, которые голодали, будут роскошествовать, далее каждый день будут они видеть
чудеса. Ибо от меня будут исходить ветры, чтобы от утра к утру приносить с собой
запах ароматных плодов, и в конце дня облака будут орошать приносящей исцеление
росой. И в это время сверху опять будут падать запасы манны, и они будут есть ее в те
годы, ибо они пережили конец» (29-30)!.
В другом месте тысячелетнее царство изображается еще такими чертами:
«И когда он все, что в мире, покорит и воссядет навсегда на трон своего царства,
тогда откроется благодать и явится покой. И тогда здоровье сойдет с росой, и болезнь
удалится. И заботы, и тревоги, и вздохи исчезнут среди людей, и радость водворится во
всей земле, и никто преждевременно не умрет, и никогда не случится внезапно чего-
либо неприятного. И процессы, и жалобы, и споры, и месть, и кровь, и желания, и
зависть, и ненависть, и все тому подобное будет подлежать проклятию, так как они
будут искоренены... И дикие животные должны прийти из леса и служить человеку, и
ехидны, и драконы вылезут из своих нор, чтобы предоставить себя в распоряжение
маленьким детям (ср. Ис. 11, 6). Также и женщины будут рожать тогда безболезненно
и не будут страдать, неся плод в своей утробе. И в те дни жнецы не будут уставать и
стоящие утомляться от труда. Ибо сама собой будет продолжаться работа вместе с
теми, которые работают в полном покое» (73-74)2.
Но эти мечты о национальном Zukunftstaat'e и надежда на его чудесное
осуществление соединяются обычно с серьезными, мрачными эсхатологическими
перспективами воскресения мертвых, страшного суда, с сопровождающими его
мировыми и историческими катастрофами, после которых начинается все новое, новая
земля и новое небо. Бог явит себя в мире, и явление это естественно и неизбежно,
будет страшным судом для всего человечества, для одних источником
неизреченного блаженства, для других столь же неизреченной муки. Эсхатология составляет
важную часть содержания апокалиптики, притом в основных своих идеях она была
санкционирована христианством с тем конечным отличием, что центральное место
в ней занял Христос. Но согласно задаче этого очерка изучение собственно
эсхатологии в ее подробностях выходит за его границы.
Следует обратить внимание еще на такую черту апокалиптического восприятия
истории. Черта эта - чувство глубокого трагизма истории, сопровождающееся,
естественно, безнадежным, пессимизмом относительно настоящего и тем сильнее
настраивающее к ожиданию исторического чуда, которым «откроется» эра
мессианского царства. Нужно было это исключительное соединение, с одной стороны,
трагической судьбы иудейского народа с полной исторической безвыходностью его
1 Это место замечательно тем, что его приводит св. Ириней (Против ересей, V, 33) в
качестве изречения Папия, ученика св. Иоанна Богослова, причем усваивает ему авторитет слов
самого Господа, переданных его учеником. Впрочем, эта цитата, общая Псевдоваруху и Псев-
допапию, может происходить и из общего, хотя и утраченного, источника.
2 Ср. еще пророчества о мессианском царстве в сивиллинах, III, V.
226
положения, а с другой — его ни перед чем не сгибающегося религиозного
идеализма, веры во всемогущество и справедливость Божию и несомненную
богоизбранность Израиля, чтобы из взаимодействия этих факторов родилось такое
настроение. Без всякого преувеличения можно сказать, что ни одним народом не был
выдержан такой исторический экзамен, как иудейским в эту эпоху, и вся уродливая
чувственность представлений апокалиптики должна быть отнесена в значительной
мере на счет этих внешних условий, а вся изумительная и ни с чем не сравнимая
живучесть религиозной надежды должна быть приписана религиозному гению
народа, через осознание которого душа мира тянулась навстречу «Грядущему во имя
Господне»43*. И если Его узнали, по Его приходе, лишь немногие, то этот
общенациональный порыв все же создал духовную атмосферу для принятия Того, Кого
ждал престарелый представитель своего древнего народа Симеон Богоприимец как
«света во откровение языков и славы людей Твоих Израиля» (Лк. 2, 32).
Для апокалиптика мессианское царство представляется не как естественное
продолжение теперешнего состояния и его историческое развитие, но как
совершенно иное творение. «Этот эон» и «будущий эон» - вот основная антитеза,
которою он оперирует, таковы формальные категории, в которых он мыслит
историческую проблему. Не постепенная эволюция или прогресс, в конце которого после
всех исторических мытарств все кончается честным пирком да свадебкой, как в
представлениях современного социализма, но мировая и историческая катастрофа
отделяет настоящий эон от будущего. Только ради последнего и существует
настоящий век, в нем разрешение всех загадок, видимых противоречий,
несправедливостей существующего. В этом смысле особенно характерен наиболее
симпатичный и близкий для современности III Эздра. Душа автора вся разъедена
сомнениями, с силой, напоминающей книгу Иова, он вопрошает о смысле зла в мире и в
истории, о несовместимости погибели грешников с благостью Божией, о
незаслуженных страданиях еврейского народа, угнетатели которого отнюдь не отличаются
добродетелью. На все эти недоумения дается один ответ - указание на будущий
век: «Быстро век сей спешит к исходу своему и не может вместить того, что
обещано праведным в будущие времена» (4, 26-27)1.
Рождение нового зона сопровождается муками родов, историческими и
космогоническими. Апокалипсисы отводят много места описанию этих мессианских мук,
а вместе знамений в природе и в истории. Омрачение солнца, луны и непорядки в
звездном мире, появление на небе мечей, всадников и пешеходов, смятение в
природе, появление солнца ночью, луны днем, кровавая роса на деревьях, осоление
пресной воды и т. д., и т. д. ознаменуют наступление конца мира. В человеческом
обществе такое же расстройство и распад всех связей, торжество греха и безбожия.
Как бы охваченные безумием, люди начинают истреблять друг друга. Восстает
народ на народ, царство на царство, будут землетрясения и голод. Все эти бедствия
становятся тем сильнее, чем ближе конец; наконец, появляется личное
воплощение зла - антихрист, или Белиар, представление о котором имее?, как известно,
глубокие ветхозаветные корни2. Силы зла с наибольшим ожесточением ополчаются
против избранного народа и святого города. И лишь в последнюю минуту
окончательного отчаяния, невыносимой муки, полного торжества зла наступает развязка
исторической драмы. Появляется мессия, который побеждает антихриста, собирает
рассеянных сынов Израиля, восстановляет Иерусалим и открывает 1000-летнее
царство. На заднем плане этой картины помещается эсхатологическая перспектива:
1 На свои настойчивые вопросы о судьбе грешников Эздра получает такой ответ: «Этот век
Всевышний сотворил для многих, а будущий для немногих... Многие сотворены, но немногие
спасутся» (8, 1-3). А после настойчивых сетований своих он слышит: «Настоящее настоящим,
будущее будущим. Многого недостает тебе, чтобы ты мог возлюбить создание Мое более Меня»
(8, 46-47).
2 Ср.: W. Bousset. Der Antichrist.
ft*
227
воскресение мертвых, страшный суд и окончательный приговор над праведниками
и грешниками, обновление мира, царство Божие (малкут Ягве), ожиданием
которого проникнута вся эта эпоха. Было бы совершенно невыполнимо в рамках этого
очерка воспроизводить подробности необузданной апокалиптической фантазии, тем
более что это сопоставление не раз уже производилось в специальной литературе1.
Общий смысл всего этого изображения сводится к тому, что человеческие средства
бессильны там, где борются и бушуют изначальные мистические стихии. Нуме-
нальность мира глубже всякой исторической феноменальности, в которой находит
оплот и точки приложения деятельная человеческая воля. Мир зреет помимо нее,
по картинному сравнению в III Эздре: «Пойди, спроси беременную женщину: могут
ли по исполнении девятимесячного срока ложесна ее удержать в себе плод? Я
сказал: не могут. Тогда он сказал: подобны ложеснам и обиталища душ в
преисподней» (4, 41-42). Объективная закономерность мирового и исторического процесса
недосягаема для человеческой воли, ее цели совершенно неадекватны средствам.
Отсюда, впрочем, как мы уже знаем, может быть двоякий вывод как в сторону
полного квиетизма, так и в сторону исторического авантюризма, верующего в
поддержку чудесной силы, deus ex machina, и потому совершенно несоразмеряющего
своих сил поставленной задаче. Фатализм может быть двусторонен по своим
практическим выводам, и в истории Израиля получило преобладание именно второе его
истолкование (как позднее в истории Ислама). В революционном зелотизме
сочеталось историческое отчаяние с фаталистической самоуверенностью, соединенною с
тайной надеждой провоцировать, ускорить мировую и эсхатологическую
катастрофу. В мессианизме был центральный нерв всего духовного организма израильского
народа в эту эпоху.
Апокалиптика в Новом Завете
Понятия и настроения апокалиптики образуют исторический фон для
первоначального христианства, оно зародилось на почве апокалиптики, первоначально как
одно из ее течений. Уразумение этого значения апокалиптики составляет важное
приобретение современной исторической науки, которая соответственно общему
своему направлению склонна еще преувеличивать его, рассматривая Основателя
христианства как апокалиптика, ослепленного мессианским самосознанием2.
1 См.: Schürer, 1. с, 11, 440 ел.; W. Bousset, 1. с, XIII; Volz, 1. с. На русском языке см.:
Смирнов. Цит. соч., ч. И; кн. С. Трубецкой. Цит. соч., ч. И, гл. III. Из памятников укажем
хотя бы важнейшие места: Oracula Sibyllina, III, 63-74; И, 154-170, пришествие Белиара и
конец мира, последние знамения - III, 795-805, 512-531, 207-213. Енох Эфиопский: Дни
последней скорби I, 5-7, вся вторая часть гл. 37-71, 10-недельный апокалипсис 91, 12-17, 93.
Assumptio Mosis, 7 (последние времена), 10 (мессианское время, знамения в природе),
III Эздра: знамения конца и антихрист (V, 4-13; VI, 20-28;ХШ, 31-32), последовательность
событий и сроки (5-е, 6-е, 7-е видение). Сирский Варух: приближение конца 23 7, 24, 25 3-4.
Последние испытания разделены у Варуха на следующие 12 частей (гл. 27): 1) начало
беспорядков, 2) избиение великих мира, 3) смерть многих, 4) послан меч, 5) голод и засуха, 6)
беспорядки и ужасы, 7) .., 8) многие явления демонов, 9) ниспадение огня, 10) многое ограбление
и угнетение, 11) злодеяние и роскошь, 12) смесь всего предыдущего. - Последние испытания
снова описываются в гл. 48, воскресение мертвых - гл. 50-51. Видение 12-ти темных и
светлых туч с изображением последних времен - гл. 53, 56-57, 70, 72. - Завещание 12
патриархов, III, 3: описание 7 небес ( в завещании Левин), последний суд, III, 4. Ср. также очерки:
Realenzyclopädie f. prot. Theol. u. К., 3-te Aufl., 16; T. Gottschik. Reich Gottes, 5; ΛΓ. Kahler.
Eschatologie, 12; V. Orelli. Messias и др.
2 Отсюда проблема, столь занимающая современных представителей этого направления -
А. Швейцера, Йог. Вейсса, как понять тайну или загадку этого мессианского самосознания -
228
Мессию, Царя Израилева, имеющего «восстановить царство Израилю» (Деян. Ап.
I, 6), ожидали в народе во времена Христа, и такого именно мессию сначала
увидели и в Нем. От Него ждали поэтому соответствующих действий и
самообнаружений, и это ожидание было настолько укоренившимся, что даже ближайший
ученик, вслед за исповеданием Христа — этим подвигом веры, горячо начинает Ему
прекословить, когда перед ним стала обрисовываться перспектива грядущих
страданий и позорной смерти, т. е. отнюдь не мессианская картина будущего, чем и
вызывает против себя суровое осуждение со стороны Спасителя (Мф. 16, 22—23,
Марк. 8, 31—33). Это столкновение двух представлений о назначении мессии — на-
родноапокалиптического (точнее, хилиастического) и нового, христианского,
проходит через всю Евангельскую историю, и старое уступает место новому даже не
после Голгофы и Воскресения, когда ученики все еще продолжают ждать
восстановления царства Израилева, но лишь после Пятидесятницы. Окончательный
отрыв нового рождения - первохристианской общины от материнской пуповины
традиции происходит? лишь когда в первой проповеди ап. Петра крестные страдания
и смерть становятся центральным догматом новой мессиологии, притом считаются
предуказанными пророками (Деян. Ап. 2, 22—36), у которых до сих пор вычитыва-
лись лишь пророчества о земном прославлении мессии. Иудейство и христианство
столкнулись впервые непосредственно как две разных мессиологии, как две ветви
апокалиптики, хотя и выросшие из одного корня и прикрытые извне исходной,
иногда почти одинаковой, но глубоко различной по содержанию символикой. В
этой наиболее жгучей и вместе религиозно-интимной точке, в своих чаяниях
будущего, они столкнулись и разошлись непримиримыми врагами, одна с верой в
Мессию, уже пришедшего,- другая с враждой к Нему как самозванцу1. Ожидание
мессии грядущего в дальнейшей истории гаснет и покрывается пеплом, хотя едва
ли, думается нам, может когда-нибудь совсем угаснуть2.
Иисус не отвергал ни того, что Он — Мессия, ни того, что Он — Царь. Он
принимает исповедание Петра, и Сам свидетельствует пред Пилатом (Мф. 27, 11,
Марк. 15,2, Лк. 23, 38, Иоан. 19. 19-22), что Он - Царь. И Его мессианское
самосознание, как бы к нему ни относиться, есть центральный факт Евангельской
истории, все более признаваемый и рационалистической наукой. Но в то же время
царство Его - не от мира сего, и основная апрокалиптическая идея о том, что
Мессия сверхъестественную свою силу должен употребить на устроение земного
царства, на исторические и человеческие цели, решительно отвергается и осуждается
«das Messiasgeheimniss»44*. Конечно, при обсуждении и этого вопроса вся научно-историческая
перспектива уже предопределяется религиозно-философскими или догматическими
предпосылками, обосновывающимися вне науки. Очевидно, что в зависимости от того, видим ли мы в
Иисусе из Назарета воплощенное Слово Божие, Искупителя мира, или же энтузиаста,
впавшего в маниакальное самоослепление, применившего к себе все мессианские пророчества и
поплатившегося за это казнью (к чему, в сущности, сводится, например, концепция А.
Швейцера), вся евангельская история представится нам в различном освещении и поставит
совершенно разные проблемы. Свободной от догматических предпосылок, т. е. не философской истории
религии, и в особенности - христианской, в частности Евангельской, не существует и не может
существовать. Как на это справедливо указывает Швейцер в своей истории науки «жизни
Иисуса» (Von Reimarus zu Wrede, 1906), «не холодная любознательность, но любовь или
ненависть к Нему», и, мы добавим к этому, вера или неверие в Него направляют историческую
пытливость. И мне представляется даже прямо ненаучным скрывать или затенять
неизбежность этих необходимых догматических предпосылок.
1 Недаром в Талмуде встречаются такие враждебные легенды о Христе - см., например,
- знаменитый рассказ об Иисусе бен-Пантера, на который с таким легкомыслием и
антирелигиозным фанатизмом ссылается в «Мировых загадках» Геккель45*. Об этом рассказе см. хотя бы
у Friedländer: Die religiösen Bewegungen innerhalb des Judentums im Zeitalter Iesu. Berlin,
1905. Ср. также: Муретов. «Жизнь Иисуса» Ренана (приложение). Надлежащую отповедь Гек-
келю дал еще покойный Паульсен в сборнике «Philosophie militans» (1903).
2 В «Трех разговорах» B.C. Соловьев не упускает отметить, как эта мессианская вера
вспыхивает в еврействе с новой силой в самом конце истории46*.
229
Им вместе со всей концепцией иудейского хилиазма. Эта сверхъестественная
помощь отвергается Им и в страшную ночь Гефсиманского предательства: «Или
думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит Мне более нежели
12 легионов Ангелов? Как же сбудутся Писания, что так должно быть?» (Мф. 26,
53-54). Он говорит Пилату: «Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего
было царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был
предан Иудеям, но ныне царство Мое не отсюда» (Иоан. 18, 36).
Отвергая мессианскую идею в ее хилиастическом истолковании, Иисус в то же
время санкционирует эсхатологические идеи апокалиптики. Но при этом Евангелие
вносит ясное различение в сливавшиеся до сих пор хилиастический и
эсхатологический планы, и, устраняя первый, тем отчетливее вскрывает последний.
«Царствие Божие», это столь многозначное выражение, получает в Евангелии свой
специфический, именно двоякий смысл: во-первых, Царствия Божия внутри нас1, как
религиозного блага общения с Богом в Церкви, как непосредственного
переживания вечности в волнах временности, свободы в оковах необходимости и, во-вторых,
«Царствия Божия, приходящего в силе»49*, вследствие приближения нуменального,
а не эмпирического только переворота Бога к твари и преображения мира. Царство
Божие есть лично-религиозное, мистическое прикосновение души к религиозной
реальности — Церкви и в ней к Христу, но вместе с тем его окончательное
наступление обозначает прекращение теперешней эмпирии, переворот метафизического
характера, изменение самой основы мира в его отношении Богу. Далеко не
случайно, что одним и тем же именем — ап. Иоанна, надписываются2 и «пневматическое»
Евангелие от Иоанна80*, где наиболее ясно раскрывается имманентно-религиозный
характер Царствия Божия, и Апокалипсис, с его напряженной эсхатологией.
Между обеими концепциями нет противоречия, потому что они относятся к разным
планам. Но при этом совершенно не остается места мессианскому Царствию Божию
от мц^а сего, иудейскому хилиазму. Исторический процесс предоставляется здесь
естественным стихиям, история по-прежнему делается людьми и только людьми,
хотя как живые религиозные личности они вносят в историю и оплодотворяющее
начало Царствия Божия, насколько оно действительно есть внутри нас и руководит
нашими действиями, определяя наши чувства и настроения. Но для христианского
понимания истории невозможно и даже греховно, рассчитывая силы для
совершения данного исторического дела, для достижения определенной исторической цели
включать в их число, говоря фигурально, еще полки ангелов. Это все равно, что
строить расчеты при войне с японцами не на числе пушек и кадров, но на числе
икон, собранных Куропаткиным, даже при самом набожном их почитании.
Эсхатологические главы синоптических Евангелий, так называемый «малый
Апокалипсис» (Мф. 24, 3-44, Марк. 13, 3-32, Лк. 15, 22-37, 21, 7-36), по
внешней форме своей символики находятся в несомненной связи с апокалиптической
литературой, как это очевидно для всякого, кто только с нею знакомился. Эта
символика - те исторические чернила, которыми начертаны эсхатологические
письмена Евангелия. Отрицать или уменьшать эту связь одинаково недопустимо и
с точки зрения религиозно-исторической, научной, и с религиозной, ибо вечное
1 Текст «Царствие Божие внутри нас»47* (εντός υμών) в новейшее время часто толкуется
также в смысле эсхатологическом, как указание приблизившегося мирового переворота
(«между вами, среди вас». Ср., например: I. Weiss. Die Predigt Iesu von Reiche Gottes2, 1900. C. 85).
Но имманентное понимание его связывается, конечно, не с одним только этим текстом. Ср.
/. Gottschick. Reich Gottes (RE3, 16). На русском яз. см.: прот. Светлов. Идея Царствия
Божия. Киев, 1904.48*
2 Мы оставляем в стороне спорный вопрос о том, в какой мере Апокалипсис и Евангелие
могут быть приписаны, по соображениям исторической и литературной критики, одному
автору и притом ап. Иоанну, отметим лишь, что утвердительный ответ на этот вопрос возможен и
в настоящее время и дается, например, таким первоклассным знатоком истории новозаветного
канона,как Th. Zahn («Iohannes des Apostel» - RE3, 9).
230
содержание выражается в исторически данной, временной форме, облекается
исторической плотью1. Притом, конечно, представляется отнюдь не случайным
широкое развитие апокалиптических и эсхатологических представлений в
рассматриваемую эпоху. Душа мира в смутном сознании тянулась к свету нового откровения,
которое и явилось в Мессии из Назарета.
Лишь при специальном рассмотрении может быть установлена связь,
существующая между литературной формой иудейских апокалипсисов и евангельских. Но
как бы в деталях ни обрисовывалась эта связь, народный характер евангельского
апокалипсиса уже намекает на то, что ясно для философствующего ума, именно на
их символическое значение. Образы эти имеют значение символов для выражения
нуменальных сущностей трансцендентного для нас мира. Ибо так называемое
«светопреставление» и второе пришествие Сына Божия не принадлежит к числу
земных, исторических событий эмпирической действительности, протекающих во
времени, наступающих в таком-то году, как старается определить Бейнинген и
подобные ему адвентисты. Оно не совершится ни в каком году и вообще во
времени, ибо выводит за самую форму теперешней временности, оно совершится вне
времени или, если угодно, по окончании времени - «и Ангел клялся, что времени
уже не будет» (Апок. 10, 6) - после смерти мира и человечества, которая, как и
личная смерть, строго говоря, происходит вне времени, представляет упразднение
временности2. Тот мировой transcensus, который здесь, разумеется, предполагает
предшествовавшую смерть одних и моментальное, аналогичное смерти изменение
других: «Не все мы умрем, но все мы изменимся, вдруг, во мгновение ока, при
последней трубе» (I Кор. 5, 52). Такие идеи, касающиеся области
трансцендентного, совершенно недоступного эмпирическому восприятию, могут получить только
символическое выражение, образы для которого взяты были из обычного языка
апокалиптики. Потому всякое насилование в истолковании величественных и
массивных образов конца мира, второго пришествия и страшного суда с применением
к ним масштабов исторических событий и хронологических рамок, не
ограничивающееся лишь выяснением их общих религиозных идей, представляет не только
плод недолжного любопытства, стремления проникнуть взором в занавешенные и
приоткрытые лишь в меру надобности врата мировой (а в ней непременно и
личной) смерти, но и просто методологическую ошибку.
Прямая связь с апокалиптической литературой в Новом Завете установляется,
несомненно, «Откровением св. Иоанна». Для всякого, кто знакомился с
подлинными памятниками апокалиптики, не может возникнуть и сомнения о том, что
новозаветный Апокалипсис принадлежит к тому же литературному типу, что и другие
апокалипсисы, и представляет в этом смысле не единственное в своем
литературном роде, но одно из многих произведений этой апокалиптически настроенной
эпохи. Он не был единственным и в христианской письменности, ибо существовали и
другие, весьма читавшиеся, хотя и не имеющие канонического достоинства,
апокалипсисы (христианские части Сивиллиных пророчеств и Вознесения Исайи3,
Апокалипсис Петра4), наконец, сохранившийся и до нас Пастырь Эрма (в видениях).
1 Хорошо говорит этом Э. Шюрер: «Церковь всех времен настаивает на Его истинном
человечестве. Этим сама собою дана уже предпосылка исторической обусловленности. Ибо без нее
человеческая жизнь есть лишь призрак» (Е. Schürer. Das messianische Selbstbewusstsein Iesu
Christi. Göttingen, 1903. C. 4).
2 См. на эту тему глубокие рассуждения у блаженного Августина: О Граде Божием, кн.
XIII.
3 См. перевод с комментарием: Hennecke. Neutestamentliche Apokryphen. 1904. Tübingen
und Leipzig.
4 Зимой 1886/87 года в одной могиле в Верхнем Египте был найден отрывок этого весьма
распространенного апокалипсиса. Он подвергнут специальному исследованию: Diederich. Ne-
kyia. Beiträge zur Erklärung der neuentdeckten Petrusapokalypse. Leipzig, 1893. Ср. также:
Hennecke, 1. с
231
И по времени своего происхождения - в конце I века, куда относит его в
настоящее время самая придирчивая и вполне независимая критика1, он является почти
современным поздним иудейским апокалипсисам, напр<имер>, III Эздры, Варуха.
Но этим литературным средством еще сильнее подчеркивается все внутреннее
несходство, отчасти даже противоположность, существующая между новозаветным
Апокалипсисом и большинством произведений иудейской апокалиптики (может
быть, кроме канонической книги пророка Даниила). Различие это усматривается
уже при литературном их сравнении, при котором, естественно, выступает вся
единственность пламенных образов нашего Апокалипсиса, произведения притом
вполне индивидуального2. Но еще глубже и принципиальнее выступит это
различие, если мы обратим внимание на то, какие ответы в нашем Апокалипсисе даются
на вопросы, поставленные апокалиптикой иудейской, и в какой мере мессианские
чаяния ее молчаливо, но выразительно отвергаются и осуждаются новозаветным
Апокалипсисом. Лишь поняв и почувствовав это, мы убедимся, сколь разные миры
мы здесь пред собой имеем. Иудейская апокалиптика вся исполнена чаяний
относительно ожидаемого, но не пришедшего еще мессии, в центре новозаветного
Апокалипсиса стоит уже пришедший Мессия, Слово Божие, Господь Иисус. Первая от
пришествия мессии ожидала наступления мессианского царства и преодоления
мировой и исторической трагедии. Во втором изображается, уже после пришествия
Мессии, обострение мировой трагедии, новые усилия борьбы зла с добром и
огромные успехи зла, община верных гонима, мучима, должна вооружаться терпением.
Вся перспектива мессианского царства и покоя, царствия Божия на земле,
проваливается в эту вновь развернувшуюся и еще шире прежнего бездну мировой
трагедии. На самом заднем плане по-прежнему остается перспектива эсхатологии, но
уже с христианской ее определенностью — Апокалипсис и заканчивается
пламенным эсхатологическим призывом: «Ей, гряди, Господи Иисусе!» Очевидно, что вся
прежняя мессиология, все надежды, связанные с земным царством мессии, здесь
отвергнуты, освобождены от национальной ограниченности, преодолены в своем
чувственно-хилиастическом истолковании. С новой силой здесь утверждается
неразрешимость исторической трагедии в пределах истории. Объединяет иудейскую
апокалиптику и христианский Апокалипсис только эсхатология с предваряющими
ее образами: антихриста и последних мук и искушений. Таким образом, между
иудейством и христианством легла пропасть, и это выразилось скоро во взаимном
отчуждении, переходящем в преследование: в то время, когда наиболее активные
1 См., например: Wilhelm Bousset. Die Offenbarung Iohannis (Kritisch-exegetischer
Kommentar über das Neue Testament begründet von H. Meyer, XVI Abth. 6. Aufl.). Göttingen, 1906. C.
133-136. Это руководство представляет собой обзор свидетельств и научных теорий
относительно Апокалипсиса (нашему Морозову следовало бы познакомиться хотя бы с этим
учебником, чтобы оценить по достоинству свою «астрономическую» гипотезу51*). Составление
Апокалипсиса относится к эпохе Домициана, и, если принять гипотезу Рейнаха, его можно
приурочить к 92-94 гг. Как известно, признание Апокалипсиса каноническим произошло раньше
всех других новозаветных книг и притом оно совершилось при таком всеобщем единогласии,
какое не набюдается относительно других книг Нового завета (Bousset, с. 22 и ел.).
2 «Если мы... будем сравнивать Апокалипсис Иоанна с произведениями окружающей его
апокалиптической литературы, то можно с полным основанием сказать, что он есть лучшее и
зрелейшее произведение этого литературного рода. Ни одно произведение иудейской
апокалиптики не составлено столь выпукло и искусно, ни в одном окончательный автор не придал
переработанным фрагментам и воспринятому материалу столь объединяющую окраску и
тенденцию, как в этой книге... Как художественно здесь созидается целое!... Какой мастер он в
искусстве образования отдельных слов, мощных призывов и кличей!» (Bousset, с. 147-148). В
другом месте (с. 140) он же говорит, перечисляя особенности Апокалипсиса, что они, несмотря
ни на что, придают ему «einen zauberhaften Reiz und eine mächtige Kraft»52*. «Несравненно
красивы и нежны все образы, в которых ясновидец изображает будущий мир. Нужно эти слова
услышать над могилой или на поминовении усопшего, чтобы понять их непреходящее
очарование».
232
иудеи ожидали хилиастического мессию, подготовляя ему путь политической и
социальной революцией, первохристианские общины охвачены были не только
аполитическим, но и совершенно неотмирным настроением, желанием и
ожиданием немедленного конца мира, второго пришествия, окончательного
эсхатологического переворота. Эсхатология и мессиология были той пуповиной, которая
связывала сначала иудейство и христианство, но она же представляет собою место их
изначального и основного расхождения. Оно коренится, конечно, в мистических
глубинах религиозного мироощущения и осложняется, замаскировывается, но
отнюдь не преодолевается и до наших дней и вообще останется до тех пор, пока не
исполнятся времена и сроки и не прекратится, по непреложному пророчеству
ап. Павла, иудео-христианская распря53*.
Проблема Апокалипсиса вообще принадлежит к числу таких, которые
привлекали к себе внимание во все эпохи. Здесь не место останавливаться на истории
экзегетики Апокалипсиса1, в которой очень рано уже определились два основных
русла: чувственно-историческое понимание Апокалипсиса (примерно уже с
Монтана) и спиритуалистическое (родоначальником его был африканский епископ Тико-
ний, IV век). Изучаемый как литературный памятник своей эпохи (а этим для
большинства теперешних протестантских ученых2 теперь почти исчерпывается
значение его), он подвергается воздействию различных реактивов, обычно
применяемых в исторической критике: диссекциям, анализу
сравнительно-историческому, филологическому и т. д. Подвести какой-нибудь общий итог всему пестрому
многообразию научных мнений нет ни возможности, ни необходимости, тем более
что знакомство с историей вопроса убеждает, как мало действительно прочных
научных заключений и как много самых шатких, субъективных и предвзятых
взглядов сюда привносится. Никоим образом нельзя отрицать научного значения
этих исследований в их собственной области, если они не переходят за ее пределы
в своих заключениях. В научном изучении Апокалипсиса ранее всего
обнаруживается стремление понять его отдельные черты из обстоятельств и событий времени
его написания (Zeitgeschichte). Пря всяком отношении к Апокалипсису такое
изучение сохраняет свое значение, содействуя уразумению, по крайней мере, одного (а
для многих и единственного) из возможных значений его текста. Затем выступает
литературная критика, стремящаяся определить первоначальные источники
(иудейские или христианские) Апокалипсиса, его составление, тенденцию автора,
причем отсутствие точного литературного критерия, конечно, заменяется
субъективным глазомером. Это — работа того же типа, подобная которой производится
филологами над Гомером, Платоном, новозаветными авторами3. Этот метод сулит
1 Исторический очерк экзегезы Апокалипсиса см.: Bousset, 1. с. Einleit. IV.
2 Вот пример такого типичного суждения: «Откровение Иоанна есть исторически
разгадываемая книга, и, хотя она остается во многих отношениях загадочной, это зависит лишь от
того, что у нас отсутствует материал для разрешения вопросов; священной, лишь религиозно
воспринимаемой загадкой оно давно уже не является» (/. Geffken. Aus der Werdezeit' des
Christenthums, 1904. C. 28). «Наука уже давно перестала предъявлять к Откровению Иоанна
вопросы, как надо понимать его ожидания конца вещей, только еще несколько американских
и английских обскурантов (Dunkelmänner) хотят находить там кучу исполнившихся и
имеющих исполниться пророчеств» (ibid., 22). Равным образом, Геффкен считает необходимым
«совершенно оставить мысль, что Откровение Иоанна есть сверхъестественное видение» (ibid.).
Гораздо осторожнее судит Буссе, который видит в нем «компромисс между собственным
опытом апокалиптика и общим сознанием эпохи», между прочим, и потому, что Апокалипсис
Иоанна в отличие от остальных принадлежит автору «современной или только что истекшей
эпохи» (1. с, 14-15), в отличие от коллективной и анонимной псевдонимности других.
3 Первая работа в этом направльнияя принадлежит: D. Völter. Die Entstehung der
Apokalypse. 1882. В дальнейшем Фёльтер несколько раз менял свою гипотезу об источниках и
составе Апокалипсиса. Эти перемены в связи с другими гипотезами, поучительно сопоставлены у
Буссе (1. с, 108-118), который, впрочем, и сам считает незыблемым результатом
исследования, что «Апокалипсис нельзя понять как вполне единое сочинение» (1. с. 122). Из новейших
233
мало положительных результатов и нередко дает место критическим увлечениям
почти спортивного характера. В новейшее время, по почину Гункеля1 и Буссе2,
прошумел религиозно-исторический метод3, ищущий в апокалиптических образах
древние мифы старых религий. Поиски религиозных традиций и аналогий,
изучение религиозного синкретизма представляют собой в настоящее время самое
модное занятие, также превращающееся иногда в научный спорт4.
Задачей экзегетики и исторической критики остается при помощи разных
реактивов изучать Апокалипсис как исторический памятник со стороны
обстоятельств его происхождения, его поводов, литературной композиции, языка,
грамматики и синтаксиса и т. д. Однако, по нашему убеждению, каковы бы ни были
изменчивые и постоянно колеблющиеся результаты этого исторического изучения
Апокалипсиса (так же, как и других священных книг), не оно, но общие
религиозные предпосылки положительного или отрицательного содержания установляют
окончательную оценку и отношение к данному произведению. Исторические
обстоятельства происхождения памятника, те трость и чернила, которыми он
написан, вовсе еще не предопределяют ценность того, что записано, и в данной
исторической оболочке под данным феноменом слова может скрываться содержание
непреходящего, нуменального значения, не человеческое, но благодатное,
божественное вдохновение5. Общий вопрос о возможности такой боговдохновенности и
религиозного откровения связывается со всеми основными вопросами религиозно-
философского мировоззрения, учения о Боге, Христе, Церкви, космосе, и уж,
конечно, он не разрешается в узких пределах кропотливых религиозно-исторических
исследований, которыми теперь хотят исчерпать всю область религиозного созна-'
ния. И потому, каковы бы ни были результаты изучения Апокалипсиса как
исторического памятника, он остается для нас словом Божиим, боговдохновенным
откровением о судьбах мира и церкви. Однако этим отнюдь не устраняется
исключительно таинственный характер пророческой книги. Ее символы остаются загадкой
для ума и религиозного сознания, и всякая попытка их дешифрирования,
детального истолкования неизбежно сопровождается произвольностью и субъективизмом.
Очень важно установить поэтому общую точку зрения на значение и характер
апокалиптических символов. Апокалипсис по своей задаче отнюдь не представляет
собой социологического обобщения и символического изображения хода
исторических событий, как они доступны нашему опыту. Апокалипсис не есть ни
социология, ни философия истории в смысле обобщенного и символизированного в
понятиях изображения исторических событий, как это можно сказать про большинство
иудейских апокалипсисов. Предмет Апокалипсиса есть метаистория, нуменальная
сторона того универсального процесса, который одной из своих сторон открывается
для нас как история. Это — историческая онтология, в которой раскрывается
внутренний механизм мирового и исторического процесса. Апокалипсис есть
откровение не столько о будущем, сколько о подлинно существующем во вневременных
глубинах бытия и соответственно созреванию раскрывающемся в истории. Откро-
работ см. особенно: lohannes Weis. Die Offenbarung des lohannes. Ein Beitrag zur Literatur- und
Religion-geschichte. Göttingen, 1904.
1 Schöpfung und Chaos etc.
2 «Der Antichrist etc.» и другие сочинения.
3 См. серию «Religionsgeschichtliche Volksbücher», энциклопедию «Die Religion in der
Geschichte und Gegenwart» (Tübingen 1909-1910), ср. также сочинения, цитированные выше.
4 Ср. воодушевленную критику крайностей современного историзма в религии в
талантливом и искреннем очерке одного из крупнейших его представителей Bousset. «Der religiose
Liberalismus» в сборнике «Was ist liberal?»(München, 1910). Большой шум в научном и
литературном мире Германии вызвали дебаты, связанные с выступлением А. Древса, по-видимому,
окарикатурившего «религиозно-исторический» метод в глазах его сторонников.
5 Ср. об этом рассуждение в книге В. Джемса «Разнообразие религиозного опыта» (Пер. под
ред. С. В. Лурье. М., 1909.54*).
234
вение нужно не только для проникновения в будущее, но и для проникновения
через кору феноменов в область нуменов. События Апокалипсиса подготовляются и
развертываются в двух мирах, на небе и на земле, в мире сил духовных и в
человеческой истории, причем почти непроницаемая перегородка, разделяющая для нас
в теперешнем состоянии оба мира, не существует для таййовидца, прозирающего за
этими событиями порождающие их духовные силы. В центре внимания при этом
изображении остаются судьбы Церкви, и притом не в земной только истории, но и
за ее пределами. Эта метэмпирическая мировая трагедия выражена символами,
нередко заимствованными из ходячего апокалиптического лексикона, и по
характеру предмета они и не могут быть нами поняты до конца, но лишь намекают на
стоящее за ними содержание, которое усвояется не только соответственно
историческому возрасту эпохи, но и личному религиозному возрасту. Ибо эти же
духовные силы, раздирающие мир своим противоборством, опознаются и в личном
религиозном опыте, и в этом смысле можно сказать, что и индивидуальная душа имеет
свой личный Апокалипсис. И самая трагедия истории (а не внешние ее события,
составляющие предмет газетной регистрации или исторической науки) становится
нам понятна лишь в меру личного духовного опыта и способности к
проникновению в нее. Ведь что мог бы, например, рассказать о своем болезненном жильце
содержатель швейцарского отеля, в котором жил Ницше в период Заратустры,
может быть, кроме того, что он был скромный жилец и аккуратный
плательщик?55*
Из такого понимания общего содержания Апокалипсиса следует несколько
выводов, так сказать, методологического характера. Прежде всего, символы
Апокалипсиса совершенно не имеют в виду событий нашей эмпирической истории, по
крайней мере, ей не адекватны. Метафизическая картина истории не совпадает с ее
эмпирической картиной. Поэтому принципиально ошибочно дешифрировать их в
события конкретно-исторического, эмпирического содержания, чуть ли не такого,
о котором пишется в газетах, напр<имер>, в землетрясениях непременно видеть
революции, в хвостах саранчи - пушки и т.п. Таким истолкованием нередко
профанируется Апокалипсис, его толкование превращается в особое, фокусное
искусство. Любителей этого занятия было много во все времена, немало их и сейчас. То,
что символизируется в Апокалипсисе, совершается в мире душ, духов и духовных
сил, и эти духовные события могут, конечно, обнаруживаться в событиях и
эмпирической истории - в войнах, революциях, реформациях, экономических
переворотах, - но внутреннее, духовное, нуменальное их значение может совершенно не
соответствовать их эмпирически-историческому выражению. Величайшие
всемирно-исторические события в апокалиптической схеме могут оказаться совсем
незначительными, а еле замеченные в эмпирической истории могут иметь совершенно
исключительное значение (как, напр<имер>, казнь некоего назарейского плотника
при Понтии Пилате). Поэтому искание исторического гороскопа, внешнее
ориентирование данной исторической эпохи в символах Апокалипсиса в корне ошибочно.
Но в то же время в нем символизируется та самая действительность, к которой
реально причастны и мы со своей духовной жизнью и своей историей. Поэтому
нельзя принципиально отрицать возможности и того, что цепь апокалиптических
событий выходит в некоторых своих частях и на поверхность истории, и тогда
последняя непосредственно превращается в Апокалипсис. Апокалиптическое
переживание истории в этом смысле возможно, а в таком случае опять возвращается
потребность искать себя и свою эпоху в символах Апокалипсиса, вновь смотреться в
это мистическое зеркало, в котором видят себя все исторические эпохи. Однако
главная сила и ценность и этих попыток принадлежит все-таки не
рационалистическому (по мнению иных, почти научному) методу дешифрирования символов при
помощи ключа к пророческой азбуке, но освещению их на основе личного
религиозного опыта и вдохновения, личного апокалипсиса толкователя. Лишь где чувст-
235
вуется это живое дыхание подлинного религиозного опыта, живой трепет личного
апокалипсиса, там раскрываются апокалиптические глубины и дали (таковы,
напр<имер>, «Три разговора» Соловьева)58*. Там же, где это принимает характер
литературной эквилибристики и явного приспособления к предвзятым, нередко и
вовсе нерелигиозным темам и настроениям, там это лишь поддерживает то
предубеждение относительно Апокалипсиса, которое существует, я знаю, у многих
искренне религиозных и чутких людей. Во всяком случае, мудро поступает Церковь,
которая, относясь к Апокалипсису с полным признанием его боговдохновенности,
обнаруживает большую сдержанность в пользовании им (это выразилось, между
прочим, в том, что Апокалипсис не имеет литургического применения)57*.
Однако насколько спорны, таинственны и неразгаданны отдельные символы
Апокалипсиса, настолько же прозрачны, важны и существенны его основные
религиозные идеи относительно содержания истории и ее исхода с религиозной точки
зрения. И в этом смысле при всей своей таинственности и непонятности
Апокалипсис и теперь имеет совершенно исключительное значение в полноте христианского
вероучения. В нем дается учение относительно земной истории Церкви и характера
истории вообще. Основная идея Апокалипсиса в этом отношении состоит в
понимании мирового и исторического процесса как трагедии, притом не призрачной или
временной, но вполне реальной борьбы двух духовных начал, причем злому началу
принадлежит своя метафизическая реальность. Зло существует в мире как
положительная, самоутверждающаяся сила, а не только как отсутствие добра или плод
неведения, недоразумения и заблуждения. Согласно этому метафизическому
дуализму, трагедия не разрешается в истории, но лишь созревает в ней и потому к
концу ее достигает величайшего напряжения и полной зрелости. Разрешение же ее
отнесено лишь к эсхатологии, к новой мировой эпохе, когда князь мира будет
изгнан, зло связано и побеждено, и непорочная Невеста Агнца58*, спасенная от чар и
вражды вавилонской блудницы, приготовит себя к небесному чертогу1. Таково
метафизическое основание исторического процесса. Опять-таки, согласно общему
характеру Апокалипсиса, и эту идею нельзя непосредственно применять к
историческим событиям, видеть в нем путеводитель по всемирной истории. Исторические
события в том виде, как они доступны нашему непосредственному наблюдению,
могут являть иную, совсем непохожую на это картину, в истории возможен
«прогресс», рост цивилизации, материального благополучия, и, однако, внутренний итог
истории есть все-таки не гармония, но трагедия, окончательное обособление
духовного добра и зла и в нем последнее обострение мировой трагедии59*. Этим опять-
таки подчеркивается условность истории, ограниченность рамок нашего
исторического существования. Это отнюдь не есть осуждение истории, которая все же
представляет собой необходимый, хотя и трагический путь к высшей стадии бытия, это
даже не пессимизм в культурно-историческом смысле2, но это есть
принципиальный дуализм, отбрасывающий мрачный, трагический отблеск на всю историю, на
все историческое состояние человечества в плену у князя мира сего. Этим во
всяком случае устраняются мечты о земном эвдемонизме61*, потому что борьба добра и
1 Тот же трагический характер мирового и исторического процесса обрисовывается и в
эсхатологических речах Христа (в малом Евангельском Апокалипсисе).
2 Характерно в этом смысле изображение исторического прогресса в «Трех разговорах»
Соловьева, где предполагаются осуществленными в конце истории многие блага внешней
культуры и даже социализм. «Генерал» и «политик» сделали свое дело в истории, но силы их
оказались ограниченны. Поэтому вопрос о природе зла, призрачности его или реальности, и
делается центральной проблемой, мучающей Соловьева. «Есть ли зло только естественный
недостаток», несовершенство, само собою исчезающее с ростом добра, или оно есть действительная
сила, посредством соблазнов владеющая нашим миром, так что для успешной борьбы с ним
нужно иметь точку опоры в ином порядке бытия?» Этим вопросом начинается предисловие к
«Трем разговорам», и ответ на этот вопрос дается всем этим произведением, особенно же
«Повестью об Антихристе»60*.
236
зла и в личной, и в исторической жизни переживается как трагедия. И в конце
истории метафизическое зло получает свое высшее выражение — не политическое
или социальное, но духовное личное воплощение в Антихристе, скрывающем его
подлинную природу под личиною добра.
VI
Хилиазм и социализм
Преобладающим настроением первохристиан было радостно-эсхатологическое,
они ожидали скорого конца мира. В этом напряженном эсхатологизме почти
всецело растворялся иудейский мессианизм с его хилиазмом. Однако слишком
глубокие корни в человеческой душе имеют эти надежды, чтобы они могли быть надолго
или окончательно искоренены. Очень рано мы наблюдаем, уже в первохристиан-
ских общинах, как снова возрождается хилиазм, хотя и в новом обличье, однако
сохраняющий старые черты, причем хилиазм этот оказывается настолько силен и
живуч, что вступает в борьбу с христианским эсхатологизмом. Это явствует прежде
всего из того факта, что иудейская апокалиптика, после разрушения Иерусалима
взятая под подозрение, а затем и совершенно осужденная раввинской
талмудической теологией, становится теперь наследием христианских церквей. Хилиастиче-
ские представления проникают и в первохристианскую письменность (св. Иустин,
св. Ириней, Ипполит, Тертуллиан, Лактанций, Коммодиан и др.) и пользуются
широким распространением не только среди еретиков (последователей Керинфа и
Монтана), но и в церковных кругах — на востоке — до монтанистического кризиса,
на западе же и много дольше - до начала IV века1. Но при этом опирались на те
немногие таинственные слова о тысячелетнем царстве, которые имеются и в
Апокалипсисе Иоанна, в гл. 20.
«И видел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души
обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не
поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою.
Они жили и царствовали со Христом тысячу лет. Прочие же из умерших не ожили,
доколе не окончится тысяча лет. Это первое воскресение. Блажен и свят, имеющий
участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти; но они
будут священниками Бога и Христа и будут царствовать тысячу лет» (Откр. 20, 4—6).
На тысячу же лет сковывается сатана, чтобы не прельщал в течение этого
времени народы. К этому месту экзегетика присоединяет толкование целого ряда и
других новозаветных текстов и ветхозаветных пророчеств2. Если рассматривать
приведенный текст Апокалипсиса в сравнении с хилиастическими изображениями
иудейской апокалиптики, то невольно бросается в глаза, как побледнели здесь
краски, утончились образы, изменилась вся картина. Можно прямо сказать на
основании такого сопоставления, что в христианском хилиазме отрицается хотя и
молчаливо, но выразительно иудейский. Однако в то же время остается внешнее
сходство между ними, позволяющее утверждать, что иудейский хилиазм,
преображенный и измененный, сохранился и в христианстве. Однако благодаря этим
изменениям христианский хилиазм утратил всю определенность иудейского, как и
1 «Некоторые из ваших учителей, - говорит Дионисий, - считают за ничто закон и
пророков, пренебрегают исполнением Евангелия, мало ценят Апостольские послания, напротив,
объявляют учение, содержащееся в Откровении Иоанна, великою и сокрытою тайной» (24 гл.,
VII кн. Церк. Ист. Евсевия, цит. по Harnack. Dogmengeschichte, l3, 402, Note 1).
2 Полный ассортимент этого рода текстов читатель найдет в интересной в своем роде книге
Оберлена «Пророк Даниил и Апокалипсис св. Иоанна» (Тула, 1882).
237
его чувственный характер. Христианский хилиазм представляет собою некоторый
иероглиф, священный символ, допускающий различное, почти даже
противоположное толкование. Уже в первые века христианства обозначилось два основных
течения в понимании христианского хилиазма (а с ним и всего Апокалипсиса):
иудейское, чувственно-историческое, и спиритуалистическое. Для первого хилиазм
есть цель истории, идеал прогресса, достигаемый в историческом развитии,
следовательно, он всецело относится к будущему62*. Согласно второму, хилиазм
принадлежит столько же будущему, сколько прошлому и настоящему, ибо тысячелетнее
царство Христа и святых Его есть Церковь, и сатана связан еще при первом
пришествии Христа. Представителями иудейского хилиазма в первохристианской
письменности являются св. Иустин философ1 и св. Ириней, еп. Лионский,
который, как уже упомянуто выше, приводит отрывок из иудейского апокалипсиса
Варуха в качестве предания, идущего от Иоанна, ученика Господня2. Защитниками
спиритуалистического толкования явились представители эллинистических
философских влияний, сначала Ориген, а позднее блаж. Августин. Первый, в
соответствии общему своему спиритуализму и аллегорическому методу истолкования св.
Писания, мог только с негодованием отнестись к идее земного чувственного
царства3. Так же относится и Августин4, посвящающий вопросам эсхатологии 20-ю
книгу «De civitate Dei». Основная мысль его, легшая в основу мировоззрения
католической церкви и позднее средневековой католической иерократии, такова: «В
настоящее время церковь есть царствие Христово и царствие небесное. Поэтому и в
настоящее время святые Его царствуют с Ним, хотя иначе, чем будут царствовать
тогда»5.
1 В «Разговоре с Трифоном иудеем» последний спрашивает собеседника: «Истинно ли вы
признаете, что это место Иерусалима будет возобновлено, и надеетесь ли, что народ ваш
соберется и будет блаженствовать со Христом вместе с патриархами, пророками и уверовавшими
из нашего рода, равно как и с теми, которые сделались нашими прозелитами прежде
пришествия вашего Христа?» Ответ: «Я и многие другие признают это, как и вы совершенно уверены,
что это будет. Впрочем, есть многие из христиан с чистым и благочестивым настроением,
которые не признают этого... А я и другие здравомыслящие во всем христиане знаем, что будет
воскресение тела и тысячелетие в Иерусалиме, который устроится, украсится и возвеличится,
как объявляют то Иезекииль, Исайя и другие пророки» (Сочинения св. И у с тина философа* и
мученика, перев. прот. П. Преображенского. М., 1892. С. 264-266).
2 Сочинения св. Иринея епископа Лионского / Пер. прот. Преображенского. СПб., 1900.
С. 518. Там же приводится и аналогичное свидетельство Папия.
3 «Они хотят, - говорит он, - того, чтобы в будущей ожидаемой жизни все было
совершенно подобно жизни настоящей, т. е. чтобы снова было то, что есть. Так думают те, которые,
хотя и веруют во Христа, но понимают божественные Писания по-иудейски» {Ориген. О
началах / Русск. перев. изд. Казанск. Духовн. академ. Казань, 1899. С. 173). Ср. еще: Atzberger.
Geschiente der christlichen Eschatologie innerhalb der vornicälischen Zeit. Freiburg. 1896. С
398-399.
4 «Мнение это (о тысячелетнем царстве) могло бы быть до некоторой степени терпимо, если
бы предполагалось, что в эту субботу святые будут иметь некоторые духовные радости от
присутствия Господня. Когда-то и мы думали так. Но как скоро они утверждают, что воскресшие
в то время будут предаваться самым неумеренным плотским пиршествам, на которых будет
столько пищи и пития, что они не будут соблюдать никакой умеренности, но превысят меру
самого неверия, никто, кроме плотских, никоим образом этому поверить не может. Духовные
же называют их, верящих этому, греческим именем хилиастов» (Творения блаж. Августина /
Изд. Киевск. Духовн. академ. Ч. 5. Киев, 1882. С. 192-193).
5 L. с, 203. Под воскресшими «разумеются души мучеников, не получившие обратно своих
тел. Ибо души благочестивых умерших не отделяются от церкви, которая и в настоящее время
представляет собой царствие Христово... Итак, хотя они еще не со своими телами, однако,
души их царствуют уже с Ним, пока пройдут эти тысячи лет... Итак, в настоящее время
церковь царствует со Христом в первый раз в лице живых и умерших» (ibid., 204-205). Близко к
Августину стоит автор древнейшего из дошедших до нас толкований на Апокалипсис св.
Андрей, арх. Кесарийский (V или VI в.), в русском переводе Вл. Юрьева: Толкование на
Апокалипсис св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Москва, 1904. С. 117—118. Обзор
различных толкований хилиазма см.: Atzberger, op. cit. или Semitsch (Bratke), Chiliasmus (RE3, 3).
238
В этих двух толкованиях пророчества о хилиазме обозначились два
направления церковного сознания. В одном сильнее чувствуется и оценивается наличная
церковная данность, абсолютные религиозные блага, опознаваемые в
углубляющемся и расширяющемся религиозном опыте. Чувство этой полноты, которую
можно вмещать только личными усилиями, внутренним восхождением, не
располагает к ожиданию новых откровений. Но наряду с этим охранительным
направлением в Церкви всегда существовало и иное, выражающее собой жажду новых
откровений, несущее в себе, при всей верности Церкви, тревогу неотвеченных
вопросов, мечту о Граде Божием на земле, чаяния грядущего. Это настроение
классически выражается еще в учениях Иоакима дель-Фиоре (1145—1202). Для этих хилиа-
стов в религиозном смысле слова Апокалипсиса о тысячелетнем царстве есть
символ их религиозной надежды, светящаяся точка на мистическом горизонте.
Понимать цитированный текст, очевидно, вполне возможно и в том и в другом смысле,
и, конечно, здесь решает не то или иное текстуальное толкование, не та или иная
экзегеза, но лишь общее религиозное мировоззрение и настроение; поэтому едва ли
возможно окончательно остановиться на том или ином толковании на основании
соображений чисто экзегетических1. Церковь оставляет неразгаданным этот
иероглиф. Если в католичестве еще можно усматривать преобладание августинизма, то в
православии и до сих пор удерживается нейтралитет в понимании слов
Апокалипсиса о хилиазме и тем самым оставляется возможность разного их истолкования в
пределах церковного учения. К православию одинаково себя причисляют как более
или менее решительные хилиасты (В. А. Тернавцев в настоящее время63*, до
известной степени Вл. Соловьев, Η. Φ. Федоров, Достоевский), так и решительные
антихилиасты (преобладающее до сих пор течение в церковной мысли). Может
быть, еще не настала пора, когда в общецерковном сознании со всей ясностью и
отчетливостью мог бы формулироваться догмат о хилиазме (того или иного
содержания), но пока - нельзя этого с достаточной энергией подчеркнуть - по этому
вопросу существует не догмат, а только мнения.
Можно оставлять втуне или аллегоризировать обсуждаемый текст
Апокалипсиса, но кто же решится совсем вычеркнуть эти слова или же утверждать, что их
значение вполне для него ясно и устраняет всякие религиозно-хилиастические
перспективы, кто дерзнет на такое насилие над священным текстом, кто чувствует
себя уполномоченным на такое насилие! Вот почему на протяжении всей
христианской истории приковывают к себе внимание предрасположенных к тому душ эти
таинственные строки, и от Иоакима дель-Фиоре до наших дней не прерывается эта
хилиастическая традиция, не угасает эта религиозная надежда. Однако этого
религиозного хилиазма, жажды новых откровений все-таки не следует смешивать с
историческим хилиазмом иудейского мессианизма. Сам по себе религиозный
хилиазм отнюдь не сулит преодоления исторической трагедии, которое он лишь
подготовляет в качестве высшей и последней ступени религиозного развития,
осуществимого в этом мире. Согласно тексту Апокалипсиса, за ним последует
окончательное и грандиозное противоборство мирской стихии, очевидно, еще
непобежденной и неусмиренной, освобождается сатана с его последней злобой, и он будет
обольщать «народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и
собирать их на брань. Число их как песок морской. И вышли на широту земли и
окружили стан святых и город возлюбленный» (Апок. 20, 7-8). Религиозный
хилиазм может застигнуть Церковь в катакомбах, в гонении, он может быть совершен-
1 Гл. 20, в которой излагается учение о тысячелетнем царстве, можно рассматривать в
последовательной связи со всем предыдущим изложением, и тогда его наступление относится к
концу истории, после антихриста (как, например, принимается это в «Повести об антихристе»
Вл. Соловьева), но можно рассматривать и как вполне самостоятельную эпизодическую главу,
стоящую вне последовательной связи. Так толкует Августин и его последователи.
239
но незамечен извне в мировой истории, как не было сначала замечено и
зарождение первохристианской общины.
Наряду с этим возвышенным, духовным пониманием хилиазма вследствие
неудержимой потребности веры в исторический прогресс, по-видимому,
неискоренимой в человечестве1, очень скоро подымает голову и старое, иудейское, чувственно-
историческое понимание хилиазма, происходит возрождение идеала иудейского
мессианского царства, исторического преодоления трагедии, надежда на победу над
злом и осуществление земного рая в условиях эмпирического, исторического
существования. Старая апокалиптика иудейства оживает вновь, только меняя свою
фразеологию и внешнее обличив. На протяжении всей средневековой истории рядом с
основным руслом католицизма, в котором победило августиновское воззрение,
приравнивающее католическую церковь тысячелетнему царству, образуются
борющиеся с ним сектантские движения ярко-хилиастического и вместе с тем нередко
революционно-коммунистического характера2. Они принимают довольно рано
определенный социалистический или коммунистический, а иногда и анархический
характер и часто присоединяются к стихийным движениям народных масс. Так, в
Италии духовное учение Иоакима дель-Фиоре быстро превратилось в революцион-
но-хилиастическое учение Сегарелли и Дольчино, ставших во главе крестьянского
движения. Такую же роль сыграли хилиастические идеи в эпоху Реформации, где
агитаторы и главари крестьянских войн (цвиккауские пророки64*, Томас Мюнцер)
были охвачены хилиастической горячкой. Едва ли не самый острый ее пароксизм
мы наблюдаем среди перекрещенства, когда оно ярко окрасилось в Голландии и
Северной Германии хилиастическими идеями. Здесь была сформулирована (неким
Мельхиором) идея, что надвигается царство Нового Завета, но наступление
тысячелетнего царства должно быть подготовлено революционным восстанием. Самым
ярким эпизодом этого мельхиоритского движения является история города Мюн-
стера с оперной фигурой Иоанна Лейденского в качестве Давида, царя Нового
Иерусалима65*. Далее хилиастическое движение переносится на Британский остров и
там становится душой английской революции с ее многочисленными
социалистическими и коммунистическими ответвлениями3. Одним словом, вся средневековая
история революционно-социалистических, а вместе и религиозных движений
может быть изложена как продолжение истории иудейского хилиазма в
христианском переоблачении. Учение о хилиазме было и теорией прогресса и социологией
этого времени; вместе с тем оно было и теоретическим обоснованием социализма
для этой эпохи, как бы детской его колыбелью.
Английская революция вызвала последние вспышки народного хилиастическо-
го движения. После нее хилиазм в народных массах как будто замирает. Он
становится достоянием замкнутых кружков - пиетистов, методистов, всевозможных
сектантов, вплоть до современных народных сект (напр<имер>, наших
«бессмертников», уверовавших в свое бессмертие) или же интеллигентских (напр<имер>,
наших представителей «нового религиозного сознания»66*). Он перестает быть
исторической силой, теряет способность воспламенять массы, начинает затериваться в
1 Вера эта является почти всеобщей в историческом человечестве. Ср. на эту тему
поучительные сопоставления: Dieterich. Nekyia. С. 35-36.
2 История этих движений излагается в моем курсе истории экономических учений
(литографированное студенческое издание). Довольно полный и обстоятельный обзор их см. у
Каутского в коллективной «Истории социализма». Яркую характеристику средневекового
сектантского движения читатель найдет также в новейшем исследовании: Е. Troeltsch. Die
Soziallehren der christlichen Kirchen (Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, 1908-1910).
3 Историю английских хилиастических движений см. в превосходном исследовании:
Н. Weingarten. Die Revolutionskirchen Englands (в русском переводе: Народная реформация).
Ed. Bernstein. Sozialismus und Demokratie in der Grossen englischen Revolution. 2 Ausg.
Stuttgart. 1908. Ср. также мой курс по истории социальных идей в XIX веке (готовится к печати).
240
песках. Но живучесть иудейского хилиазма больше, чем можно думать по этому
внешнему впечатлению. Le roy est mort, vive le roy!67* В тот самый XVIII век, в
век рационализма, просветительства, скептицизма, под гром и грохот революции,
мнившей разрушить старый мир, из пламени ее вылетает возрожденным древний,
видевший уже двухтысячелетнюю историю феникс - старый иудейский хилиазм,
прежняя вера в земной рай1, но уже в новой оболочке, сначала как политический
демократизм («свобода, равенство и братство» и «права человека и гражданина»69*),
затем, как социализм. Политический демократизм очень скоро обманул
возлагаемые на него надежды и потерял хилиастический характер, который доселе еще
удерживается социализмом (разных оттенков). В пламени революционного костра,
из которого возродился неумирающий феникс, он, правда, потерпел значительное
перерождение, многое он растерял в течение своей длинной истории, оказался-таки
изрядно ощипан, но все-таки сохранил старую свою хилиастическую природу. При
общей секуляризации жизни, отличающей новую историю, секуляризовался и
старый иудейский хилиазм и в этой секуляризованной форме превратился в
социализм. В социализме следует различать «цель», или идеал, и движение, или
практику. Последняя составляет предмет научной политической экономии и
реалистической социальной политики, первая принадлежит к области верований и
упований религиозного (в широком смысле слова) характера. Конечно, сближая
социализм с иудейским хилиазмом, я отнюдь не имею в виду практическую сторону
социализма, обсуждение которой принадлежит политической экономии, но
исключительно его религиозную природу2. В основе социализма как мировоззрения
лежит старая хилиастическая вера в наступление земного рая (как это нередко и
прямо выражается в социалистической литературе) и в земное преодоление
исторической трагедии. Для этой веры, составляющей религиозную душу социализма,
сравнительно второстепенное значение имеет дальнейшая разработка частностей
доктрины. Мы знаем, что, в соответствии рационалистическому духу времени, и
социализм притязает теперь быть «научным», однако все меньше и меньше
остается людей, которых обманывает эта его наукообразность и которые действительно
так наивны, чтобы верить в возможность научного обоснования социалистического
хилиазма. Насколько наука компетентна при обсуждении реальных вопросов
социальной или социалистической практики, настолько же она, конечно, по самой
природе своей не способна к хилиастическим пророчествам. Эти последние и в
новейшем социализме иногда прямо соединяются с религиозными предпосылками, но
чаще всего они находят обоснование в нео-язычестве — религии человекобожия,
зарождающейся еще в гуманизме эпохи Возрождения, но развившейся в новое
время. Социализм есть апокалипсис натуралистической религии человекобожия.
Насколько эта последняя вообще знаменует собой религиозное оскудение и
аберрацию, настолько же и социалистический хилиазм наших дней, хотя он и бесконечно
много выиграл со стороны практической приложимости, представляет собою
упрощение, вырождение, даже опошление старого иудейского хилиазма. Социализм -
это рационалистическое, переведенное с языка космологии и теологии на язык
политической экономии переложение иудейского хилиазма, и все его dramatis рег-
sonae70* поэтому получили экономическое истолкование. Избранный народ,
носитель мессианской идеи, или, как позднее в христианском сектантстве, народ
«святых», заменился «пролетариатом» с особой пролетарской душой и особой
революционной миссией, причем избранность эта определяется уже не внутренним
самоопределением как необходимым условием мессианского избрания, но внешним
1 Даже престарелый 76-летний Кант в «Streit der Fakultäten» говорил о «философском
хилиазме», уверенность в котором родят в его душе впечатления великой французской революции»68*.
2 Уже давно, еще в «Проблемах идеализма» и затем в ряде статей сборника «От марксизма
к идеализму» (1903) указывал я на эту религиозную природу социализма. Знакомством с
историческими параллелями социализма это убеждение только углубилось и утвердилось.
241
фактом принадлежности к пролетариату, положением в производственном
процессе, признаком сословности. Роль сатаны и Велиара, естественно, досталась на долю
класса капиталистов, возведенных в ранг представителей метафизического зла,
точнее, заступивших их место в социалистическом сознании за свою
профессиональную наклонность к накоплению. Мессианским мукам и последним скорбям
здесь соответствует неизбежное и, согласно «теории обнищания», все
прогрессирующее обеднение народных масс, сопровождаемое ростом классовых
антагонизмов, а на известной ступени этого процесса происходит социальная революция,
осуществляемая или чрез посредство «диктатуры пролетариата» захватом
политической власти, или же «action directe»71* французского синдикализма. Хилиастиче-
ские чаяния и раньше присоединялись к стихийным движениям, порождаемым
политической или экономической необходимостью, и воодушевляли это дв.ижение.
Современный хилиастический социализм играет такую же роль относительно
социального движения пролетариата/которое коренится, конечно, в объективных
условиях капитализма и порождаемого им рабочего движения, в борьбе труда и
капитала, совершенно не зависимой от социализма. Роль deus ex machina,
облегчающего переход к хилиазму, в социализме, опять-таки соответственно духу времени и
его излюбленной наукообразной мифологии, играют «законы» развития общества
или роста производительных сил, которые сначала подготовляют этот переход, а
затем, при известной зрелости процесса, в силу его «внутренней и неизбежной
диалектики», вынуждают переход к социализму, повелевают сделать «прыжок из
царства необходимости в царство свободы»72*. Таким образом, роль эта, ранее
отводившаяся мессии или прямо Божеству, здесь приписана личному, в значительной мере
мифологическому абстракту, пантеистическому понятию «закона развития
производительных сил», причем, однако, и он служит прежнюю службу — локомотива,
который доставит исторический поезд из царства необходимости в царство свободы - в
Zukunftstaat или в столицу моровской Утопии.
При этой новой обработке старого хилиазма в наибольшей мере пострадала
эсхатология, как этого и следовало ожидать от натуралистической, всецело
имманентной религии человекобожия с ее отрицанием личного, сверхприродного Бога и
личного бессмертия. В иудейском хилиазме, даже в самых грубых его формах (а
уж тем более в его христианских рецепциях), обещания земного благополучия
мессианского царства никогда не исчерпывали всей апокалиптики, не заполняли всего
эсхатологического плана, но рассматривались лишь как звено в эсхатологической
цепи. На заднем плане здесь всегда раскрываются перспективы грядущего
воскресения мертвых, всеобщего суда и окончательного царства Божия. В социализме
хилиазм, естественно, заполнил собой весь исторический план и окончательно
заслонил всякий эсхатологический горизонт. Удел последних поколений, имеющих
сомнительное счастье наслаждаться социалистическим блаженством Zukunftstaat'a
на костях своих исторических предков, впрочем, тоже с перспективой
присоединить к ним и свои собственные кости, - таково здесь разрешение и
окончательный исход исторической трагедии, то, чем в представлениях социализма
гармонизируется и разрешается мучительный ее диссонанс. Необыкновенное
притупление чувства мировой трагедии, обусловленное страшно поверхностным,
механически-экономическим пониманием жизни сравнительно с религиозной
углубленностью и обострением чувства трагедии у иудейских апокалиптиков, здесь прямо
поражает. Социалистический хилиазм, конечно, не всегда мыслится грубо
материалистически и антикультурно, с ним могут соединяться все обетования
культурной утонченности, о которых и говорят теперь все, не удовлетворяющиеся
упрощенным, варварским пониманием социализма, но религиозная сущность дела от
этого нисколько не изменяется. Именно это духовное оскудение, которое вносится
в жизнь вследствие замены настоящей религии натуралистическим хилиазмом
242
«прогресса», В. С. Соловьев с такой едкостью и горечью охарактеризовал в самых
последних строках, вышедших из-под его пера:
«Ходячие теории прогресса - в смысле возрастания всеобщего благополучия
при условиях теперешней земной жизни кн. С. Н. Трубецкой справедливо называет
пошлостью. Со стороны идеала это есть пошлость или надоедливая сказка про
белого быка; а со стороны предполагаемых исторических факторов — это
бессмыслица, прямая невозможность»1.
Однако есть ли это лишь религиозная аберрация? Не содержится ли в этой
посюсторонней, земной социалистической эсхатологии и каких-либо новых
религиозных возможностей, которых уже не видел тогда Соловьев, раньше столь близкий и
доступный эсхатологическим идеям московского философа Η. Φ. Федорова2?
Последнее слово здесь еще не сказано...
VII
Основная антиномия христианской философии истории
В христианском сознании неизбежно борются две концепции, два восприятия
истории: оптимистически-хилиастическая и пессимистически-эсхатологическая.
Обе они имеют глубокие корни в христианстве и вместе с тем между собою так
несогласимы. Их взаимное отношение можно определить как антиномическую
сопряженность, здесь мы имеем религиозную антиномию, неразрешимую логически,
но, несмотря на это, переживаемую психологически. Между ними существует не
логическое противоречие контрадикторных, друг друга не выносящих
утверждений, но антиномизм суждений, природу которого разъяснял Кант в «Критике
чистого разума» при анализе неизбежных антиномий чистого разума. Такие
антиномии не могут и не должны быть примиряемы, ибо непримиримы, но они должны
быть поняты в своем происхождении и значении. Тогда они могут быть, по
крайней мере, объяснены как выражающие собой разные стороны или положения
единого бытия, которого, однако, не в силах вместить и понять без противоречий
разум с его теперешними силами. В антиномиях дается опытное, наглядное
доказательство сверхлогичности бытия или, что то же, недостаточности сил разума для
его адекватного восприятия. Наличность антиномии неизбежно приводит нас к
заключению, что теперешнее состояние бытия есть цереходное, неокончательное, и
в этой очевидности своей незаконченности она теперь уже открывает просветы в
иные возможности сознания3.
Для нерелигиозного сознания жизнь произошла, она есть случайность, для
религиозного же жизнь дана и, как данная свыше, она священна, полна тайны,
глубины и непреходящего значения. И жизнь дана для нашего сознания в форме не
1 «По поводу последних событий» (1910). В. С. Соловьев. Собр. соч. Т. VIII. С. 58573\
2 О Федорове см. ниже, в очерке «Философские характеристики», II.
3 Эта антиномическая природа сознания с поразительной силой философской интуиции
отмечена Достоевским (едва ли знавшим Канта74*) в материалах к Бесам, впервые напечатанных
в приложении к VIII т. 6-го издания (СПб., 1906). Ставрогин (князь) говорит здесь в разговоре
с Шатовым: «Не понимаю, для чего вы имение ума, т. е. сознания, считаете высшим бытием
из всех, какие возможны?.. Почему вы отрицаете всякие тайны? Заметьте еще, что, может
быть, неверие сродно человеку и именно потому, что он ум ставит выше всего, а так как ум
свойствен только человеческому организму, то и не понимает и не хочет жизни в другом виде,
т. е. загробной, не верит, что она выше. С другой стороны, человеку свойственно по природе
чувство отчаяния и проклятия, ибо ум человека так устроен, что поминутно не верит в себя, не
удовлетворяется сам собой и существование свое человек потому склонен считать
недостаточным. Мы, очевидно, существа переходные и существование наше на земле есть, очевидно,
процесс, беспрерывное существование куколки, переходящей в бабочку» (с. 604-605)75*.
243
изолированного индивидуального бытия, но родового, исторического,
общечеловеческого, мирового, она протекает в бесконечном потоке жизни, исходящем из
Источника жизни, Бога живых, не ведающего зависти и создавшего не смерть, но
жизнь. Обязанности перед этой общечеловеческой и космической жизнью, а
следовательно, и перед историй, вместе с «талантами», вверенными в наше
распоряжение, налагаются на нас одновременно с рождением. История для религиозного
сознания есть также священное тайнодействие, притом имеющее смысл, ценность и
значение во всех своих частях, как это глубоко было почувствовано в германском
классическом идеализме, особенно у Гегеля76*. Но вместе с тем она есть и наша
задача, наше дело, мы можем и должны относиться к истории «прагматически»,
как ее творцы. Действие же не может осуществляться вне личных целепо£тавле-
ний, вне исторических задач и идеалов, они встают в деятельном сознании с такою
же необходимостью, с какою мы, смотря вперед, видим перед собой горизонт. Мы
можем, конечно, совсем не смотреть вперед и тогда не будем видеть горизонта, но,
поднимая глаза, мы неизбежно имеем его перед собой, и даже более того, мы не
можем отделаться от чувства его достижимости, от иллюзии, что к нему можно
дойти, и от вполне уже трезвого сознания, что к нему можно, по крайней мере,
идти. Мы окружены историческим горизонтом, на котором с большей или меньшей
яркостью проецируются те или иные цели, предначертывается того или иного
содержания хилиазм. Пусть мы совершенно освободились от иудейского хилиазма, от
надежды на историческое чудо как deus ex machina, на вмешательство
сверхисторических и сверхприродных сил в истории, признавши исторический путь на всем
его протяжении совершенно открытым для человека. Пусть мы прониклись
прагматическим убеждением, что история есть всецело наше -дело и что
сверхприродные силы благодати действуют в истории не прямо чудесным образом, но лишь
орошая и питая корни человеческой души в тех ее глубинах, где зреют
человеческие стремления и решения. Но от формально-хилиастического восприятия
исторического горизонта, т. е. от фактической веры в достижимость идеалов прогресса,
мы освободиться не можем. Правда, при таком восприятии истории вместо целого
мы постоянно и сознательно подставляем только часть, вместо недоступного нам
нумена доступные нам феномены, но мы не в состоянии освободиться от этого
исторического феноменализма, не отказываясь от деятельно оптимистического
отношения к истории, от стремления к исторической гармонии, к разрешению
диссонансов, к прогрессу. Религиозное восприятие истории сильнее всего проявилось
ведь у пророков как плод их энтузиазма и вдохновения, оно неразрывно связано и
с христианством, а, стало быть, с ним же как-то связан и весь этот порядок чувств
и идей. Правда, если мы попытаемся последовательно продумать этот порядок
идей, навязываемый для нас практическим отношением к истории нашим
практическим историческим разумом, мы убедимся без труда, что горизонт есть лишь
необходимая оптическая иллюзия и потому недостижим, а прогресс разрешается
лишь в бесконечное движение, в дурную бесконечность. Мы убеждаемся, что перед
нами антиномия, тихо ускользающая из рук подобно тени, когда мы хотим ее
схватить. Нужно впасть в самоослепляющийся иллюзионизм, признать
действительностью фату-моргану77*, примириться с дурной бесконечностью, уверовать в
реальность горизонта, чтобы совершенно успокоиться на теории прогресса, впасть в
ее исторический гармонизм и, притупив свои чувства для иных идей и восприятий,
утвердиться на условном как на безусловном. В таком случае исторический
хилиазм, отрезанный от своих религиозных корней и переродившийся в столь
распространенную в наши дни гуманистическую теорию прогресса, приводит к
религиозной спячке, к бескрылости отяжелевшее и вполне довольное собой и миром
человечество. Конечно, в таком случае повелительно может говорить только язык
религиозного опыта и мистических переживаний, властно пробуждающих от сна и
дающих почувствовать иную, трагическую сторону бытия. Дневной шум временно-
244
сти чередуется с ночным шепотом вечности, и даже под зноем жизни порой
проносится ледяное дыхание смерти, и в чью душу хотя однажды вошли они, тот
слышит это молчание и среди базарного шума, чувствует этот холод и под палящим
солнцем. И кто опытно опознал реальную силу зла как основу мировой трагедии,
тот теряет былую доверчивость к истории и жизни. В душе глубоко поселяется
грусть, и в сердце появляется все увеличивающаяся трещина. Благодаря
реальности зла жизнь становится аутоинтоксикацией78*, и не только тело, но и душа
принимает много ядов, от которых бессилен со своими антитоксинами Мечников.
Чувством трагического в жизни, в истории, в мире окрашивается и историческое
самочувствие, оно лишается эвдемонической окраски, делается глубже, серьезнее и -
мрачнее. Идея эвдемонического прогресса с надеждой на конечную гармонию все
более вытесняется идеей трагического прогресса. Согласно этой идее, история есть
созревание трагедии и последний ее акт, последняя страница знаменуется крайней,
далее уже непереносимой напряженностью, есть агония, за которой следует смерть,
одинаково подстерегающая и отдельных людей, и человечество, и лишь за порогом
смерти ждет новая жизнь. Такое мироощущение перестает быть хилиастическим,
становится эсхатологическим.
Эсхатологизм может быть, соответственно двойственному его характеру, и
светлым, насколько в нем предощущается нездешняя гармония («воздух воскресения»),
и мрачным, насколько он окрашивается предчувствием приближающегося конца и
предшествующих ему бедствий. (Подобным же двойственным характером
отличается и личная эсхатология, личное отношение к смерти). В первохристианстве
преобладали тона радостного эсхатологизма, тогда пламенно молились: «Ей, гряди,
Господи Иисусе»79*, и с нетерпением ожидал« скорого Его пришествия. В эсхатоло-
гизме позднейшего христианства побеждают мрачные тона, преобладает ожидание
антихриста и последних испытаний. Но и в том и в другом мироощущении
одинаково силен антиисторизм, притуплено чувство эмпирической действительности и ее
непосредственных нужд, подобно тому как у человека, готовящегося к смерти,
естественно, пропадает вкус и интерес к обыденным делам и заботам и мысль
сосредоточивается на неподвижном и вечном. Чувство преображения мира,
непримиримой борьбы его стихий, условности истории и вообще теперешней жизни
выводит дух за пределы истории и даже мира и притупляет его чувствительность к
впечатлениям последнего, делает его неотмирным. Эсхатологическое
мироощущение иногда охватывает массы (как в нашем расколе при Петре)80*, наподобие
духовной эпидемии, иногда совсем ослабевает. Эсхатологическое мироощущение
борется с хилиастическим, но в то же время фактически соединяется с ним, хотя и в
различных пропорциях. Преобладанием тех или иных тонов и окрашивается общее
настроение. Однако если попытаться сделать и эсхатологизм единственным
руководящим началом философии истории и провести его до конца, то мы убедимся, что
и здесь имеем дело с антиномией. Эсхатология отрицает историю ради вечности,
эмпирическое ради трансцендентного. Но она делает это все-таки лишь в границах
временного и относительного и при этом неизбежно подпадает влиянию этих
границ. Насколько эсхатологизм есть интимное настроение личности, музыка души,
он остается живым и подлинным мистическим переживанием. Но стоит только
превратить его в отвлеченную норму, в догматическую идею, как он оказывается
тоже лишь исторической программой, притом насильственно, изуверски калечащей
живую жизнь, т. е. становится воплощенным противоречием. Непосредственно,
имманентно нам дана только эта жизнь, и только в ней и через нее мы можем
родиться к новой, лишь в ней ее перерастая. Между тем этот лжеэсхатологизм с
брезгливой гримасой, с холодной враждебностью относится именно к этой
плодоносящей жизни, отрицание истории возводя в историческую программу, проводимую
затем насильственными, т. е. самыми земными средствами. Этим и определяется
мрачное, «средневековое», «монашеское», «аскетическое» отношение к жизни, вы-
245
звавшее против себя в качестве естественной реакции столь же однобокий хилиа-
стический гуманизм. Этот лжеэсхатологизм зажигал костры инквизиции,
воздвигал гонения на человеческую мысль и свободу, оправдывая духовный деспотизм и в
конце концов возбудил против себя ненависть, живущую и до сих пор. И его
неправда заключается прежде всего в том, что эсхатологизм может быть только
личным мироощущением, личным настроением, а не исторической программой,
осуществляемой к тому же сплошь и рядом даже не на себе, а на чужой шкуре.
Именно таким путем создается лжеэсхатологическое ханжество, столь типичное для
этого направления.
Итак, попытка разрешить проблему христианской философии истории в свете
только имманентного или же только трансцендентного, хилиастически или
эсхатологически не может быть доведена до конца и обнаруживает антиномический
характер этих разрешений. Эта антиномия переживается в религиозном опыте
каждого в соответствии характеру и глубине этого опыта. В учении В. С. Соловьева мы
наблюдаем классический пример такого антиномизма: начав в «Чтениях о богоче-
ловечестве» и других произведениях своего раннего периода весьма
оптимистическим и гармоническим мировоззрением1, по которому отвлеченные начала
преодолеваются и примиряются в грядущем синтезе (под заметным влиянием Η. Φ.
Федорова), он кончает полным муки, раздирающим диссонансом «Трех разговоров» и
«Повестью об антихристе» с ее радикальным эсхатологизмом. Такое настроение
было поворотным и для самого автора, ибо после «Повести об антихристе» можно
было только или умереть для мира, скрывшись в пустыню, или же просто умереть,
и предисловие к «Трем разговорам» полно этим предчувствием близкой смерти.
Соловьев приподнял для себя покрывало Изиды82* и заглянул в такую бездну, в
которую смертному безнаказанно не дано заглядывать, так же как не дано ему
знать ни своего будущего, ни времени своей смерти, личного светопреставления.
Духовная биография Соловьева в этом смысле представляет совершенно
единственный в новейшей философии пример радикального обострения проблемы истории с
ее антиномизмом. В его духовной эволюции обнаружился именно этот антиномизм.
Нельзя просто сказать, чтобы Соловьев отказался от одного мировоззрения и
перешел к другому, нет, оба они органически принадлежат одному и тому же
христианскому мировоззрению, которое он всегда исповедовал, и, в сущности, ни того,
ни другого из них он никогда вполне и не отрицал, но в его религиозном опыте в
разное время жизни с переменной силой психологически сочетались оба члена
антиномии. Соловьев, однако, знал про эту антиномичность и с нею считался. Этого
нельзя, к сожалению, сказать про К. Леонтьева, выразившего настроение
одностороннего, радикального эсхатологизма с полным, почти обесценением земной жизни2
(или же Η. Φ. Федорова, представляющего противоположную крайность). Впрочем,
у Леонтьева это мировоззрение осложняется и окутывается еще его эстетизмом,
ницшеанством, индивидуальными особенностями его вкуса, даже его литературным
талантом. Он не замечает или игнорирует антиномический характер проблемы, но
это же самое делает и столь ненавистное ему христианство «розовое»83*, в котором
религия рассматривается преимущественно в качестве масла для смазки колес со-
1 Наиболее яркое выражение такого настроения мы находим в недавно опубликованных
(Русская мысль, 1910. V) юношеских письмах философа к Е. В. Селевиной. Здесь читаем,
между прочим: «Сознательное убеждение в том, что настоящее состояние человечества не
таково, каким быть должно, значит для меня, что оно должно быть изменено, преобразовано. Я
не признаю существующего зла вечным, я не верю в черта» (с. 171)81*.
* «Вместо христианских загробных верований и аскетизма явился земной гуманный
утилитаризм, вместо мысли о любви к Богу, о спасении души, о соединении со Христом, заботы о
всеобщем практическом благе. Христианство же настоящее представляется уже не
божественным, в одно и то же время и отрадным, и страшным учением, а детским лепетом, аллегорией,
моральной басней, дельное истолкование которой есть экономический и моральный
утилитаризм» (Леонтьев. Восток, Россия и славянство. Т. I. С. 164-165).
246
циального механизма или колесницы прогресса, расценивается как средство для
внешних целей. Если первое, при всей его серьезности и искренности, грешит
нечестивым отношением к жизни, то второе отличается, непозволительным
легкомыслием в отношении к мрачной стороне христианского эсхатологизма, к его
дуалистически-трагическому пониманию истории. Нельзя сделать единственным
руководящим мотивом жизни представление о неизбежной смерти, но изгнание из
мысли памяти о часе смертном есть верх религиозного легкомыслия. Надо жить с
полным уважением к жизни и заботливостью о ней, но жить, не забывая о смерти и
этой самой жизнью готовясь к ней.
Я закончу сравнением. В одном и своих весьма значительных по содержанию
писем к покойной А. Н. Шмидт1 В. С. Соловьев рассказывает следующий сон,
виденный о нем одной старушкой (А. Ф. Аксаковой): «Она видела, что ей подают
письмо от меня, написанное обыкновенным моим почерком, который она называла
pattes d'araignée84*. Прочтя его с интересом, она заметила, что внутри завернуто
еще другое письмо на великолепной бумаге. Раскрыла его, увидела слова,
написанные прекрасным почерком и золотыми чернилами, и в эту минуту услышала
мой голос: "Вот мое настоящее письмо, но подожди читать", и тут же увидела, что
я вхожу, сгибаясь под тяжестью огромного мешка с медными деньгами. Я вынул
из него и бросил на пол несколько монет, одну за другой, говоря: "Когда выйдет
вся медь, тогда и до золотых слов доберешься"85*.
Не у каждого в его сокровенном письме написаны золотые слова, но все носят в
себе некую живую тайну, хотя и не всегда это сознают, все имеют личный о себе
апокалипсис. Но он не может раскрыться, пока мы не израсходовали всех своих
медных денег, не отдали жизни всего, что ей должны...
1909-1910
1 В моем распоряжении имеется лишь копия этого письма, доставленная мне, однако, еще
самой А. Н. Шмидт. Оно помечено 23 апреля 1900 года.
РЕЛИГИЯ ЧЕЛОВЕКОБОЖИЯ
У РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
I. РЕЛИГИЯ ЧЕЛОВЕКОБОЖИЯ В РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ1
Мм. Гг.!
Приглашенный С.-Петербургской группой международной студенческой
христианской ассоциации выступить в ее торжественном годичном собрании и
поделиться со слушателями своими мыслями и чувствами по поводу современности, я
долго колебался, прежде чем принять это приглашение. Мне слишком ясны все
трудности и внешние и внутренние, которые неизбежно возникают, если в беглом
и случайном чтении приходится касаться наиболее интимных и мучительных
вопросов жизни современной души, и если я не без борьбы с собой преодолел это
замешательство и это колебание, то потому, что я считал особенным своим долгом
отозваться на этот призыв, как идущий непосредственно из среды студенчества,
ибо духовное воздействие на наше студенчество и идейное соприкосновение с ним
было и остается для меня постоянной заботой и светлой мечтой. И если речь моя
является случайной по своему поводу, то она не такова по содержанию, ибо в ней
найдут выражение медленно и трудно складывавшиеся убеждения, то, что я
считаю за истину в результате посильной научной работы, философских размышлений
и жизненного опыта, «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет»1*.
Некоторым из моих слушателей, может быть, небезызвестен и по моим предыдущим
научным и литературным работам пережитый мною духовный перелом, в
результате которого от атеистического мировоззрения, опиравшегося на известные научные
и философские посылки, проверяя их умом и сердцем, наукой и жизнью, отступая
шаг за шагом, я возвратился сознательно к вере детских дней, вере в распятого
Бога и Его Евангелие как к полной, высочайшей и глубочайшей истине о человеке
и его жизни2*. Способ усвоения Евангельского учения и путь к нему исторически и
индивидуально может быть чрезвычайно различен: сынам нашего века приходится
преодолевать особенно много препятствий, умственных и нравственных, для того
чтобы усвоить себе то, что открывается детскому или простому, но чистому сердцу
даром и, может быть, полнее и чище, чем нам. Христианство не есть религия
одних ученых, или философов, или только женщин, детей и невежественной черни,
Речь в собрании студентов и курсисток, устроенном христианским студенческим
кружком в Соляном Городке 27 января 1908 года. Повторена в Москве в Историческом музее 12
марта 1908 года. Напечатана в «Русской мысли» (1908, III) и отдельно под заглавием
«Интеллигенция и религия».
248
как думает полуобразованная толпа нашего времени, его всечеловечность и
всенародность открывается больше всего в том, что оно доступно в меру веры, личного
подвига и сердечного устремления и глубочайшему философу и ребенку, Августину
и пастуху, Канту или Гладстону и русскому крестьянину3*. Под корой внешнего
человека, внешней деятельности и суеты каждый хранит частицу своей детской,
изначальной божественной чистоты, о которой плачет чеховская героиня в
«Вишневом саде»: «О, мое детство, о, чистота моя!»4*. И это чувство глубже и потому
могущественнее всех эмпирических и исторических различий. Как переживание
оно дано в религиозном опыте каждого, кто ему не чужд, и тому не чуждо об этом
рассказывать. Но в то же время для интеллигенции это кажется столь чуждым,
непонятным, отвлеченным. Может быть, понятнее здесь окажется могучее слово и
признание поэта, притом типичного поэта-интеллигента с больной, разъеденной
жизненными противоречиями душой, родного нашего Некрасова, коего
тридцатилетнюю тризну мы еще недавно праздновали. Не всем, может быть, памятны эти
дивные строки. Поэт описывает свое возвращение на родину и родные
впечатления. Я узнаю, пишет он:
Суровость рек, всегда готовых
С грозою выдержать войну,
И ровный шум лесов сосновых,
И деревушек тишину,
И нив широкие размеры...
Храм Божий на горе мелькнул
И детски чистым чувством веры
Внезапно на душу пахнул.
Нет отрицанья, нет сомненья,
И шепчет голос неземной:
«Лови минуту умиленья,
Войди с открытой головой!
Как ни тепло чужое море,
Как ни красна чужая даль,
Не ей поправить наше горе,
Размыкать русскую печаль!
Храм воздыханья, храм печали -
Убогий храм земли твоей:
Тяжеле стонов не слыхали
Ни римский Петр, ни Колизей!
Сюда народ, тобой любимый,
Своей тоски неутолимой
Святое бремя приносил -
И облегченный уходил!
Войди! Христос наложит руки
И снимет с волею святой
С души оковы, с сердца муки *
И язвы с совести больной...»
Я внял... я детски умилился...
И долго я рыдал и бился
О плиты старые челом,
Чтобы простил, чтоб заступился,
Чтоб осенил меня крестом
Бог угнетенных, Бог скорбящих,
Бог поколений, предстоящих
Пред этим скудным алтарем!5*
Вот слияние интеллигенции с народом, полнее и глубже которого нет. Но
многие ли из интеллигентов, читателей и почитателей Некрасова, склонялись пред
«этим скудным алтарем», соединяясь с народом в его вере и его молитве? Нет, не
многие. Скажу прямо: единицы. Масса же, почти вся наша интеллигенция,
отвернулась от простонародной «мужицкой» веры, и духовное отчуждение создалось
249
между нею и народом. Мне вспоминается по этому поводу одна случайная
картинка из жизни второй Государственной думы6*. В один из весенних солнечных дней,
когда во время думского заседания многие депутаты и журналисты прогуливались
в Таврическом саду, мое внимание привлекла собравшаяся группа нарядной
петербургской публики из депутатов и газетных сотрудников, к чему-то
прислушивавшаяся и время от времени покатывавшаяся со смеху: в средине толпы оказался
забредший туда волынский крестьянин, старик с чудным скорбным лицом, с
характерной головой, с которой можно было бы лепить статую апостола или писать
икону. Прислушавшись, я понял, что старик рассказывает про какое-то бывшее
ему видение, в котором Бог послал его возвестить народным представителям Свою
волю. Речь его была сумбурна, но всякий раз, когда он возвращался к своей
миссии и говорил о Боге, слова его покрывались дружным смехом, а он кротко и
терпеливо, скорбя о смеющихся господах, снова начинал свою повесть. Мне было
невыразимо грустно и больно наблюдать эту сцену, в которой так ярко отразилась
духовная трагедия новой России, и я с горечью отошел и лишь издали долго видел
благородную голову старика, старавшегося что-то разъяснить и убедить, и
смеющуюся толпу любопытных. Впрочем, может быть, я и не вполне точно воспроизвожу
эту сцену, но так я ее тогда воспринял. «Не строим ли мы Вавилонскую башню?» -
тихо сказал мне по этому поводу бывший здесь же католический священник-депутат.
Я не обманываю себя и теперь и тоже чувствую себя отчасти в положении
думского старика. Всякому, кто в наши дни перед русской интеллигенцией рискует
говорить не только о текущих, главным образом политических, делах, а об общих
целях жизни и религиозном смысле ее и кто в то же время находит его только на
почве христианской религии, тому приходится заранее иметь против себя
безличного, но могущественного и в высшей степени реального противника в духе
времени. Атмосфера безрелигиозности вообще отличает новое время, особенно конец
XVIII и XIX век. Отличительные черты нашей эпохи в этом отношении с
неподражаемой силой и сжатостью переданы нашим поэтом-философом Тютчевым в
стихотворении «Наш век»:
Не плоть, а дух растлился в наши дни.
И человек отчаянно тоскует...
Он к свету рвется из ночной тени
И, свет обретши, ропщет и бунтует.
Безверием палим и иссушен,
Невыносимое он днесь выносит...
И сознает свою погибель он,
И жаждет веры... но о ней не просит.
Не скажет век с молитвой и слезой,
Как ни скорбит перед закрытой дверью:
«Впусти меня! - Я верю, Боже мой!
Приди на помощь моему неверью!»
Конечно, при общей характеристике эпохи нельзя не делать различия между
разными странами европейской культуры, нельзя не отметить, например,
религиозности англо-саксонской расы, которая в значительной мере сохранилась и до
наших дней, причем она перенесена англо-саксами и за океан, и в Новую
Зеландию, и в Соединенные Штаты.
Самое замечательное в этой англо-саксонской религиозности то, что она не
является только простонародной, каково по преимуществу наше русское благочестие,
и не рассматривается английской интеллигенцией как «религиозные
предрассудки». Проф. Шульце-Геверниц говорит в своем новейшем труде1, что «религия и до
1 G. υ. Schulze-Gävernitz. Britischer Imperialismus und englischer Freihandel zu Beginn des
zwanzigsten Jahrhunderts. Leipzig, 1906.
250
сих пор есть нерв англо-саксонской культуры». «Внешние факты,- продолжает
немецкий экономист, — подтверждают это континентальному туристу на каждом
шагу. До сих пор воскресение кладет еще свою печать на всю страну. Наряду с
духовенством всюду выступают светские проповедники: »врачи, юристы, вожаки
рабочих не только в закрытых молельнях, но и по преимуществу на открытом
воздухе, например, в парках больших городов, в которых в качестве кафедр
употребляются экипажи или тумбы. Здесь идет по стране миссионерский вагон, покрытый
изречениями из Библии и дающий приют странствующим проповедникам, там
сестры милосердия проникают в винные лавки и берлоги преступников, являясь
носительницами «агрессивного христианства». Мостовые кишат солдатами «армии
спасения» и т. д., и т. д. .
Руководящие умы нации, ее духовные вожди, разделяют в большей или
меньшей степени эту национальную религиозность. Знаменитые государственные
деятели Англии Дизраэли (лорд Биконсфильд) и Гладстон были ревностными
христианами и ежедневными читателями Библии. Гладстон, перу которого принадлежит
сочинение «Незыблемая скала Священного Писания», как известно, любил
выступать проповедником в Гавардене и вообще высказывал такое убеждение (в письмах
к жене): «... я убежден, что благополучие человечества теперь не зависит от
политики, действительная борьба ведется в области мысли, в которой происходит
убийственная атака против величайшего сокровища человечества, веры в Бога и
Евангелие Христа».
И недавний премьер Англии Артур Бальфур тоже написал книгу в защиту
христианского учения под заглавием «Основы веры». Мне достаточно только
напомнить далее имена Рёскина и Карлейля, у которых нельзя ничего понять, не
принимая во внимание их исключительной религиозности, так называемых
христианских социалистов Кингсли, Людлоу, Морриса и других и их современных
продолжателей среди английского духовенства. Конечно, нельзя сказать, чтобы и Англия
осталась чужда отрицательному движению нового времени. В кузнице английской
мысли и науки были выкованы едва ли не злейшие и не сильнейшие аргументы
против религии. Гоббс и Юм, Бентам и своеобразно понятый Дарвин и Бэкон с
другими мыслителями оказали свое влияние, но, может быть, в большей степени
на континенте, нежели у себя дома. Тем не менее и в Англии тот дух времени, о
котором я сказал, начинает чувствоваться все более, но еще сильнее проявился он
на европейском континенте, особенно в некоторых странах и в отдельные эпохи,
например, во Франции во время великой французской революции, да в
значительной степени и теперь в протестантской части Германии и т. д. Но все же можно
сказать, что ни в одной стране в Европе интеллигенция не знает такого повального
массового индифферентизма к религии, как наша. В истории русской мысли
сыздавна обозначились и борются до сих пор два течения. Одно насчитывает на своей
стороне немногих представителей, но зато в этом числе цвет нашего национального
ума и гения, предмет нашей национальной славы и гордости. Это те, которые или
остались духовно с народом в его мужицкой церкви, или, во всяком случае, не
отделялись от него в его верованиях в живого Бога. В числе этих немногих мы
считаем Жуковского, Пушкина, Тютчева, в известном смысле Лермонтова, Гоголя,
Хомякова, Киреевского, Чаадаева, Аксаковых, Вл. Соловьева, Достоевского, Пиро-
гова, Фета, А. Толстого и Льва Толстого, насколько он вообще стоит на
религиозной почве.
Противорелигиозное идейное течение, считающее в своих рядах большинство
прогрессивных публицистов и общественных деятелей от Белинского до наших
дней, усвоило себе рационалистически-атеистическое мировоззрение, которое
широкой волной разлилось и составляет господствующую веру русской
интеллигенции. Я не обмолвился: это неверие есть действительно вера, вера в научность, в
рационализм. Масса нашей интеллигенции с необыкновенной легкостью в самый
251
ранний период развития ума, отроческий или юношеский возраст, принимает
догматику атеизма, усвояя ей предикат научности. Не раз было замечено, что
предубеждение более удалено от истины, чем полное незнание. Относительно религии у
нас существует наследственный предрассудок, что наука и философия исключают
религию. Подобное мнение может объясняться только полным незнакомством с
научной и философской работой, которая кипела и кипит до настоящего дня по
вопросам истории и философии религии, ее догмы, культа, с нескончаемыми и по
существу, понятно, бесконечными спорами об этих вопросах. Повторяю, наше
русское неверие обычно остается на уровне слепой догматической веры. Эту
особенность русского духовного развития, конечно, имеющую свои исторические и
бытовые причины, с обычной своей проницательностью указал Достоевский, сделавший
изучение русского да и мирового атеизма как бы своей специальностью.
Достоевский влагает в уста князю Мышкину (в «Идиоте»), своему alter ego7*, следующую
его характеристику:
«Атеистом же так легко сделаться русскому человеу, легче, чем всем
остальным во всем мире! И наши не просто становятся атеистами, а непременно уверуют
в атеизм, как бы в новую веру, никак и не замечая, что уверовали в нуль», - и,
прибавляет Достоевский, происходит это «не все ведь от одних скверных,
тщеславных чувств», «а из боли духовной, из жажды духовной, из тоски по высшему делу,
по крепкому берегу»8*.
Много раз задумываясь над двоящимся и доселе не разгаданным и не
определившимся обликом русской интеллигенции, я обращался мыслью к этому тезису
Достоевского о религиозной ее тоске, о жажде крепкого берега, праведной жизни,
нового неба и новой земли. И если порой нельзя не усомниться в правильности
этой характеристики, то нельзя ее и отвергнуть. И во второй Государственной
думе, в раркаленной атмосфере политических страстей, прислушиваясь и
присматриваясь вокруг себя и силясь разгадать подлинную природу русской интеллигенции,
иногда я ясно видел, как в сущности далеко от политики в собственном смысле,
т. е. повседневной прозаической работы починки и смазки государственного
механизма, отстоят эти люди. Это психология не политиков, не расчетливых реалистов
и постепеновцев, нет, это нетерпеливая экзальтированность людей, ждущих
осуществления Царствия Божия на земле, Нового Иерусалима, и притом чуть ли не
завтра. Невольно вспоминаются анабаптисты и многие другие коммунистические
сектанты Средневековья, апокалиптики и хилиасты, ждавшие скорого наступления
тысячелетнего царства Христова и расчищавшие для него дорогу мечом, народным
восстанием, коммунистическими экспериментами, крестьянскими войнами,
вспоминается Иоанн Лейденский со свитой своих пророков в Мюнстере. Конечно,
сходство это касается лишь психологии, а не идей. В области же идейной, хорошо это
или плохо, счастье или несчастье для нас, но Россия отражает идеи и настроения
века решительнее и прямолинейнее, чем даже Запад, отражает на себе и ту
духовную драму богоборчества и богоотступления, составляющую нерв новой истории;
перед нею бледнеют и отступают на задний план все великие политические и
социальные интересы, вздымающие волны и рябь на груди исторического моря.
В чем же тут борьба и почему это драма? Духовная борьба, составляющая
основную тему и основное содержание новой истории начиная с Ренессанса и
особенно явственно с XVIII века, определяется усилиями культурного человечества
«устроиться без Бога навсегда и окончательно», как выразился Достоевский9*, или
«умертвить Бога», как еще смелее выразился один из яростнейших богоубийц
Ницше10*, свести жизнь исключительно к имманентному без всякой связи с
трансцендентным, лишить землю неба, не коперниковского, холодного,
астрономического неба, но Моисеева, библейского или хотя бы даже кантовского неба, престола
Божия. В мыслях, в чувствах, в интимной жизни, во внешнем ее устроении, в
науке, в философии идет эта борьба, столь ясно предуказанная в Евангелии и Апо-
252
калипсисе, и величайшие усилия употребляются, употреблялись и будут
употребляться как для того, чтобы подорвать, так и чтобы оправдать права религиозной
веры. В этом смысле наша историческая эпоха не имеет себе подобной в истории,
ибо всегда встречались отдельные антирелигиозные течения, но не было такого
сознательного и убежденного, такого фанатического и непримиримого стремления
свести человека на землю и опустошить небо. Если бы нужно было выразить
духовную сущность нашей эпохи в художественном образе, в картине или в
трагической мистерии, то эту картину или мистерию следовало бы назвать «Похороны
Бога, или Самоубийство человечества». И в этих образах следовало бы со всей
силой и наглядностью показать, на что покушается человечество и что оно над собой
делает. Как бы ни размещались фигуры на этом фантастическом полотне, но одно
несомненно, что общее содержание его будет не идиллия или пастораль,
изображающая триумф науки и знания, и не мещанская комедия, в которой в конце
концов все препятствия преодолеваются и дело кончается веселой свадьбой жениха-
человечества с невестой-государством или обществом будущего, но серьезная,
мучительная трагедия.
Почему же это такая трагедия, почему же похороны Бога неизбежно
обращаются в похороны самих похоронщиков? Да потому, что, хороня Бога в своем
сознании, они вынуждаются хоронить и божественное в своей душе, а божественное есть
действительная, реальная природа человеческой души. Можно думать о себе как
угодно, считать себя человековидной обезьяной, рефлексом экономических
отношений, автоматической машиной, куском материи, в силу механической
необходимости одаренной сознанием, — все это высказывается и высказывалось о
человеке, - но вопреки всем этим мнениям он не перестает быть тем, чем сделали его
«руки, сотворившие и создавшие его» и наделившие его запросами и свойствами
высшей духовной природы. Можно убедить человека голодного, что он сыт, и даже
настолько оглушить логикой аргументов, что он сочтет себя обязанным
постараться этому поверить, но он будет мучиться голодом, испытывать беспокойство;
можно уверять себя и других, что дикие рожки, которыми питался блудный сын на
чужбине, не хуже, а лучше тельца, уготованного для него у отца11*, но и это не
успокоит, не даст мира душе, не примирит ее ни с собой, ни с жизнью. Ибо «tu nos
fecisti ad te, cor nostrum inqueitum est, donec requiescat in te»12*, как восклицает в
своей «Исповеди» блаженный Августин. Человек рожден для вечности и слышит в
себе голос вечности, он слышит его тонким ухом своих величайших мыслителей,
ученых и поэтов, своим чистым сердцем праведников, творческим гением своих
художников. Жить во времени для вечности, переживать в относительном
абсолютное и стремиться дальше всякой данности, дальше всякого данного содержания
сознания, excelsior13*, всегда excelsior, к этому призван человек, и это стремление
excelsior само говорит о Том, Кто живет in excelsis14*, есть живое богооткровение в
нас. Сам для себя человек потому и не может, стать абсолютным, самодовлеющим,
что он никогда не удовлетворится собой, своим данным состоянием, если только не
ниспадет в низменную животность и не уподобится в действительности
неосмысленной твари. Но вместе с тем человек сознает в себе эту силу и эту волю вмещать
абсолютное содержание, расти и расширяться, становясь живым образом
абсолютного, образом и подобием Божиим. Эта незаглушимая жажда высшего содержания
жизни рождала и рождает религиозную веру.
«Многое на земле от нас скрыто (говорит Зосима у Достоевского), но взамен
того даровано нам тайное, сокровенное ощущение живой нашей связи с миром иным,
с миром горним и высшим, и корни наших мыслей и чувств не здесь, но в мирах
иных. Бог взял семена из миров иных и посеял здесь на земле и взрастил сад свой,
но взращенное живо и живет лишь чувствами соприкосновения своего
таинственным мирам иным; если ослабевает или уничтожается в тебе сие чувство, то
умирает и взращенное в тебе. Тогда станешь к жизни равнодушен, возненавидишь ее»15*.
253
Так Люцифер у Байрона, обогатив Каина множеством ненужных ему и мертвых
знаний, но тонкой клеветой отвратив его от прежней веры, приводит его лишь к
сознанию, что он - ничто. И подтверждает:
И это будет разум
Всех знаний человеческих - предел
Всей мудрости, доступной вам:
Что вы ничто с своей природой смертной.
Ты завещай науку эту детям16*.
Нашей эпохе свойственна чрезвычайно высокая оценка своих умственных
завоеваний, многим из наших современников представляется, что настоящая жизнь
человечества начинается только теперь, а вся предыдущая история есть пролог или
тьма дикости и варварства. Этот своеобразный исторический каннибализм, как
выразился когда-то Герцен, в наших глазах совсем не имеет оснований. Про наше
время нельзя повторить диалога Люцифера с Каином, когда последний спрашивает
Люцифера: «Вы счастливы? Нет, мы могучи. Вы счастливы? Нет»17*. И наш век
более могуч, чем счастлив. Представляя беспримерное богатство в благах внешней,
преимущественно материальной, но также ц духовной культуры, он в самом
существенном - в душевной силе, свежести и вере - не богаче, но беднее предыдущих,
и эта бедность рельефно выступает именно на фоне этого оглушительного прогресса.
Упразднив религию Бога, человечество старается изобрести новую религию,
причем ищет божеств для нее в себе и кругом себя, внутри и вне; пробуются
поочередно: религия разума (культ разума во время великой французской
революции), религия человечества Конта и Фейербаха, религия социализма, религия
чистой человечности, религия сверхчеловека в новое время и т. д. В душе
человечества, теряющего Бога, должна непременно образоваться страшная пустота, ибо оно
может принять ту или иную доктрину, но не может заглушить в себе голоса
вечности, жажды абсолютного содержания жизни. И, погасив солнце, оно стремится
удержать свет и тепло, делает судорожные усилия к тому, чтобы спасти и
удержать божественное и заполнить пустоту новыми богами, но зыбкая почва
проваливается под ногами, и духовная атмосфера становится все напряженнее и тяжелее.
В высшей степени трогательна эта борьба человечества за духовное свое
существование и мучительные его усилия искать твердую почву то там, то здесь.
В «Деяниях Апостольских» есть приснопамятный рассказ о проповеди ап.
Павла в Афинах, этом Париже древнего мира, средоточии наук и искусств, философов,
ученых и художников. Этот город был полон идолов, как и наша культура, так что
и великий апостол «возмутился духом». При виде их, однако, он усмотрел среди
этих алтарей жертвенник с надписью «Неведомому Богу», которая и послужила
внешней темой его проповеди18*. Следует искать, по примеру апостола, такого
жертвенника в современных Афинах, и, конечно, можно найти его и здесь и под
покровом отрицательных слов и разрушительных идей усмотреть тлеющую искру
веры и благочестивый жертвенник. Если спросить себя, чем живет современный
человек, во что он уверовал вместо Бога, ну хотя если спросить среднего русского
студента или взрослого гимназиста из «сознательных», то, конечно, он тотчас
ответит: хочу приносить пользу человечеству, затем, подумав, прибавит: выработав
себе научное мировоззрение. Вера в прогресс, в науку, в возможность разрешить
все жизненные противоречия в историческом развитии науки и человечества
составляет несложный катехизис современного человека. Это - общее, а затем
начинаются частности, различия: с.-р., с.-д., к.-д. (и другие комбинации букв). В
основу его положен догмат веры в разум, всесилие науки. Однако совместима ли эта
вера в разум с общим учением о человеке как двуногом животном, которое в силу
случайности, игры материальных атомов и борьбы за существование достигло
теперешнего состояния, а в будущем имеет достигнуть еще большего? Откуда у этого
254
«ощипанного петуха», как определил человека философский нигилист-циник
Диоген19*, берется разум и наука и на чем опирается такая вера в них? Что есть
истина, которую хочет познавать наука?
Этот пилатовский вопрос20*, обращенный к Тому, Кто, сказал о Себе: «Я путь,
истина и жизнь»21*, к самому божественному Логосу, звучит на всю историю
человечества и не находит ответа иначе, как в связи с религиозной верой. Как
возможна наука и знание законов мира? Вот вопрос, поставленный человечеству
критической философией в лице Канта. Как и почему комочек материи, хотя и известным
образом организованной, может познавать вселенную, воспроизводя ее в себе
идеально? Что это за таинственная сила идеальной репродукции? Иногда
отмахиваются от этих вопросов ссылкой на завоевания науки: да разве современная техника не
свидетельствует о силе ума и знания?
Но ответить так - значит неизвестное подтверждать известным, отодвигать
проблему, и не требует ли в таком случае уже самый этот факт объяснения? Орган
познания — головной мозг с нервной системой — и функция познания настолько
несоизмеримы и несоответственны между собой, что говорить о познании мозгом и
нервами мира и его законов - значит, впадать не только в мистическую, но прямо
мифологическую бессмыслицу или же утверждать громовое чудо, которого вообще
не допускают представители новейшей науки. Одно из двух: или человек
действительно есть такое ничтожество, ком грязи, каким его изображает
материалистическая философия, но тогда непонятны эти притязания на разум, науку; или же
человек есть богоподобное существо, сын вечности, носитель божественного духа, и
возможность научного познания объясняется именно этой природой человека.
Очевидно, что достоинство науки и ее права не ограничиваются, а только
утверждаются религиозным учением о человеке, а вместе с устранением последнего
подрывается и первое. Наука принципиально опирается на религию, а не противоречит ей,
как это странным образом сложилось в современных представлениях. Рассматривая
же разум и науку как продукт и орудие борьбы за существование при свете
своеобразно понятого дарвинизма, мы должны окончательно развенчать их. Если сила и
значение научной истины только в полезности, как говорят дарвинисты в биологии
и в гносеологии, то откуда взяли, что истина всегда полезна и что не полезнее
иногда, а может быть и всегда, заблуждение? Это сомнение, высказанное Ницше22*
и повторенное в некоторых сочинениях по теории познания, нечем обессилить.
«Нет ничего более нездорового, чем мышление», - вырвалось у О. Уайльда; вслед
за греческими софистами он вместе с другими модернистами считает возможным
«все доказывать», ничего не считая истиной, подсмеиваясь над тяжеловесным
благочестивым отношением к науке23*. Науке приставляют к горлу нож, ею же
отточенный, надвигается кризис научного и философского сознания, сходный с
кризисом, пережитым античным миром, и не придается ли еще науке искать опоры у
гонимой ею теперь религии? Назревающий кризис науки, софистико-пилатрвский
скептицизм, быть может, яснее установит действительное отношение между
религией и наукой, которое сознавалось и всегда великими учеными и мыслителями,
но не понималось полунаукой. Наука сама основывается на вере в разум, в
единство разумного начала в микрокосме и макрокосме, на религиозном и благочестивом
признании ценности истины и любви к ней.
В новое время часто раздаются голоса о кризисе и даже банкротстве науки,
причем иногда эти утверждения выставляются как аргументы в пользу веры. Я
считаю эти сетования и эти утверждения совершенно немотивированными и вижу в
них род недоразумения. Наука жива и здорова и, конечно, будет жить и
здравствовать. Vivat, crescat, floreat!24*. Под кризисом науки разумеется обыкновенно утрата
ею совершенно не принадлежащей ей компетенции, ее универсалистических
притязаний, которые ей приписываются лишь теми, кто хотел религиозную веру
заменить наукой. Задачи и значение науки вполне относительны и ограничены: она
255
имеет дело с определенным (логически и философски) кругом проблем опытного (в
кантовском смысле) знания, причем она способна к бесконечному прогрессу по
самой своей идее; горизонт постоянно отходит перед нею, новое знание раздвигает
шире область незнания, но остров знания по-прежнему окружен морем тайны и
вечности, по слову поэта:
Как океан объемлет шар земной,
Так наша жизнь кругом объята снами,
Настанет ночь - и звучным волнами
Стихия бьет о берег свой.
.То глас ее: он нудит нас и просит...
Уж в пристани волшебный ожил челн;
Прилив растет и быстро нас уносит
В неизмеримость темных волн.
Небесный свод, горящий славой звездной,
Таинственно глядит из вышины, -
И мы плывем, пылающею бездной
Со всех сторон окружены25*.
Таким челном, окруженным «пылающей бездной», несущимся по стихии тайны,
чувствует себя строгая наука, и этим чувством питается религиозная вера великих
ученых. Перед последними вопросами жизни и смерти, добра и зла наука стоит
безответно теперь, как и прежде.
Заслуживает внимания еще и то обстоятельство, что наука как конкретное
целое существует лишь в виде совокупности наук, беспрерывно разрастающихся
научных специальностей. Это машина, составленная из великого множества колес
или частей. Целое знание, мировой разум, или книга природы открывается
человечеству лишь в его истории, и конкретно каждая индивидуальность, как бы велика
ни была ее умственная сила, прочитывает в этой книге только страницы или
строки. Поэтому предположение, что наука действительно разрешает все вопросы,
может быть основано только на общей вере в силу науки, в научный метод, в
научный разум, но эта вера опытной проверки не допускает.
Итак, наука не в состоянии ни заменить, ни упразднить религиозной веры, ни
даже не может сама защитить свое существование против набегов бесшабашного
скептицизма без молчаливого или открытого признания религиозных предпосылок,
именно веры в объективный разум.
Сказанным я хотел определить только самые принципиальные отношения
науки и религии как отношения солидарности, соподчиненности. В частностях же
отдельные учения науки, касающиеся вопросов, то или иное решение которых не
безразлично и для религии, конечно, могут входить во временный конфликт с теми
или иными религиозными учениями. Развитие науки представляет бесконечное
количество таких примеров, хотя оно же представляет и немало примеров
разъяснения или устранения этих конфликтов с дальнейшим развитием науки... Работать
над выяснением этих вопросов есть уже дело религиозной мысли, которая поэтому
вовсе не представляет из себя догматическую и покойную подушку под головой, но
должна находиться в постоянном напряжении.
Но если даже наука со своей тяжелой артиллерией остается беззащитной
против ядовитого жала скептицизма, то тем беззащитнее оказываются современные
суррогаты религии, в которых роль божества отводится человечеству и основной
догмат которых состоит в учении о прогрессе. Мне лично приходилось уже много
говорить и писать на эту тему1, и потому я буду краток. Здесь мы попадаем в це-
1 Ср. в сборнике статей «От марксизма к идеализму»26*, далее предыдущие этюды о
Фейербахе и Марксе.
256
лый лабиринт противоречий и трудностей. Их легче вскрыть, если сопоставить с
основными чертами христианского учения о человеке. Согласно христианской вере,
человеку принадлежит нравственная свобода хотения добра и зла, причем
нравственная жизнь и состоит в склонении воли от зла к добру. Этой борьбой и ее
подвигом, аскезой, совершается возрождение личности при помощи свыше. Перед
человеком стоит абсолютный идеал самосовершенствования: «Будьте совершенны, как
совершенен Отец ваш Небесный»27* и «Бог есть любовь»28*. Христианский подвиг
есть поэтому подвиг любви и непрерывного самоотвержения. Человек не может ни
мыслить, ни чувствовать себя Έ разрыве или отъединении с своим ближним:
человечество, спасающееся во Христе и Христом, для него есть живое единство, тело,
коего он член. Потому любовь к Богу и любовь к ближнему и находятся здесь в
такой неразрывной связи между собою. Эта задача не превышает того, что
доступно возрожденному человеку, ибо он носит образ Божий, печать божественной
любви. «Образ есмь неизреченный Твоея славы, аще и язвы ношу прегрешений», как
поется в величественных погребальных песнопениях перед лицом открытого гроба
и разлагающегося в нем трупа: смерть в силах только временно исказить этот
образ, но не может навсегда его уничтожить. Поэтому в качестве разрешения
мировой драмы христианством обещается действительное сохранение всех ценностей и
восстановление человечества для новой, вечной жизни. Человек, стало быть, здесь
не самозванный человекобог, но действительно обоженная тварь, бог по благодати.
Можно ли больше возвеличить человека? Недаром в обряд православного
богослужения введено каждение не только иконам, но и молящимся, которые
приравниваются иконам. И действительно, если человек почтен образом Божиим, как бы ни
искажал он его в себе, разве он не есть живая икона, живой «образ»?
Современное мировоззрение отвергло всю религиозную основу этого учения, но
удержало те его стороны, которые непосредственно относятся к человеку:
удержало любовь к ближнему, обозвав ее альтруизмом, веру в божественность человека,
возведя его в человекобога, веру в спасение человечества, настаивая на учении о
прогрессе. Удалены, казалось бы, лишь религиозные суеверия, осталось все
существенное, по крайней мере для современности. Но не рушится ли без фундамента и
постройка, не ползет ли почва из под ног современного человечества, не ускользает
ли из рук, как бледный призрак, как дух земли, явившийся Фаусту29*, это
человечество, когда мы хотим обнять его? Есть много признаков, что это так, и много
причин, почему это иначе быть и не может.
Человеку внушается, что он есть высшее в мире, что он автономен, что
прекрасен, что он разумен, самодовлеющ, что он бог, если не в единичности и
обособленности своей, то в своем целом, вместе с другими. Но Богу свойственна жизнь, а
этот бог есть разлагающийся труп, дни его и годы есть постепенное умирание,
приближение к могиле, в которой, как известно, «и гения череп наследье червей»30*.
Когда Платон схоронил своего Сократа, божественного мужа, бывшего для него
светом жизни, каким кладбищем стал для него этот мир, и не становится ли он
таким для каждого из нас, когда мы опускаем в могилу самое любимое и дорогое,
то, что любим более себя! И когда столько жизней вокруг отдается ради верно или
неверно понятых идей, не становится ли это противоречие особенно жгучим,
мучительным! Можно ведь силой закаленной воли подавлять в себе эти чувства или
привычкой дисциплины оставаться в строю, когда падают кругом близкие и
дорогие, но пересилить боль напряжением воли, стиснув челюсти, не значит победить
ее. Смерть вносит диссонанс в мир, которого не может не слышать и глухой;
отсюда и постоянная борьба со страхом смерти то мечниковской прививкой, то слабыми
утешениями а 1а Фейербах31*.
Итак, смертен бог в отдельности, смертен и в целом, поколение за поколением
неспешной чередой тянутся в могилу, оставляя все дела и заботы. И нас хотят
уверить, что служение этим делам и этим заботам само ради себя способно не
9 Зак. 487 257
только наполнить, но и осмыслить жизнь. Эта, религия человечества есть какая-то
кладбищенская философия; неудивительно, что она все больше теряет кредит,
уступая место культу гордого, обособленного Я, в свою очередь раскалывающегося на
отдельные переживания, или, в конце концов, культу этих переживаний! Зачем
мне искать какого-то кумира вне себя, в другом, в таком же, как я, или хуже
меня, вообще в толпе, во многих (Viel zu Viele), когда я сам себе довлею и сам себе
могу поклоняться, когда я «единственный» (der Einzige)32*? Зачем святыня, зачем
добро и зло, когда можно стать и выше - точнее, вне этого различия? Оставим
мораль попам и филистерам, перестанем быть колпаками, станем свободными
личностями. Независимый живет в свободе абсолютной пустоты, повелительного
своеволия момента. Почему обязательна и последовательность, зачем даже внутреннее
единство личности, логика настроений, когда ведь есть только отдельные,
разорванные переживания? Умей проложить себе дорогу, умей устроиться, и горе
погибающим.
Нигилистический индивидуализм, к которому приводит наша культура,
подобно и античной, составляет самое серьезное явление духовной жизни современности.
В борьбе с индивидуализмом изощряют все свои усилия общественники, чтобы
как-нибудь сплотить рассыпающееся, амортизирующееся человечество господством
сплоченного большинства, анархический индивидуализм обуздать
социалистической муштрой. Но какие же орудия для этого сплочения имеются, чем
побеждается разлагающий яд индивидуализма?
С того времени, как отвергнута была религиозная санкция морали, перед
сознанием стал вопрос о природе морали. Поскольку философия в лице Канта и его
школы делала и делает отчаянные усилия спасти мораль долга, над чем изощряет
свою логику в настоящее время и немецкий идеализм, она приходит к религии как
необходимой предпосылке нравственности. В системе Канта практический разум
приводит к постулатам бытия Бога и бессмертия души, т. е. к религиозной опоре.
Напротив, в тех мировоззрениях, которые лишены всякой религиозной окраски,
проблема морали принимает характер совершенно безнадежный: мораль
приводится к самоупразднению с отвержением идеи долга и заменой ее идеей интереса,
личного или группового, инстинктом звериного самосохранения. Подобно тому как
в медицине развитие литературы об известной болезни есть лучшее свидетельство
ее распространенности и серьезности, так и кризис морали в новое время, так же
как и в эпоху античного декаданса, вызывает необыкновенное развитие литературы
по нравственной философии: каждый изобретает свою мораль и доказывает ее по-
своему.
Но нас уверяют, что этот кризис непродолжителен, что близится золотой век не
только свободы и равенства, но и братства; на чем же опираются эти радужные
надежды: на духовном перевороте, на возрождении личности, на новой вере? Нет,
говорят нам, это произойдет в силу исторической, по преимуществу экономической
необходимости. Об этом говорит экономическая наука, это предсказывает
социология. Позвольте на это заметить, что наука, оставаясь наукой и обладая присущей
ей осторожностью и скромностью, вовсе не предсказывает таких вещей, об этом
говорит вера, а не наука. Во-первых, самая способность социальной науки делать
предсказания вообще многими не без основания оспаривается, и именно новейшие
логические исследования о природе социальной науки (назову хотя бы Риккерта)
как раз приводят к этому заключению33*; во-вторых, и это самое главное, если
экономическая наука и может еще кой-что предусмотреть о характере
экономического строя в ближайшую эпоху, то ведь этим ничего еще не сказано о том, какова
будет духовная жизнь этой эпохи, какова будет человеческая личность. Ведь
поверить, что экономическая реформа приведет к духовному возрождению, можно,
только приняв предварительно такое учение о человеке, по которому он «есть
только то, что ест»34*, есть вполне рефлекс экономической обстановки или классо-
258
вого положения. Да и при принятии всех этих неприемлемых положений остается
еще вопрос, какие именно перемены в психологии, в чувствованиях, в самооценке
вызовет перемена экономической обстановки и будет ли эта перемена именно
такова и совершится ли в том направлении, как это представляют себе теперь.
Позволительно думать, что человеческая личность хотя и зависит от еды, экономической
обстановки, вообще условий своей материальной жизни, но есть прежде всего то,
во что она верит, чем живет, чего хочет, что чтит; исходя же из такого понимания,
правильнее заключить, что и в новом строе личность тоже может оказаться
опустошенной и морально разлагающейся. Потому сколь бы высоко мы ни ставили
заботы о материальных нуждах обездоленных классов, нельзя забывать и о
духовных нуждах человека. В современном человечестве не только у нас, но и на Западе
произошел какой-то выход из себя вовне, упразднение внутреннего человека,
преобладание в жизни личности внешних впечатлений и внешних событий, главным
образом политических и социальных. Отсюда такая потребность суеты, внешних
впечатлений. Современный человек стремится жить, как бы не бывая дома наедине
с собою: сознание заполнено, но достаточно приостановиться этому калейдоскопу
внешних впечатлений, и можно видеть, как бедна или пуста его жизнь
собственным содержанием. История сохранила нам ослепительной яркости и глубокого
значения образ, символизирующий наше теперешнее духовное безвременье,
поучающий и предостерегающий. Один из крупнейших представителей раннего
гуманизма, носивший уже в себе противоречия нашей теперешней эпохи позднего
гуманизма, Петрарка, рассказывает в описании одного из своих путешествий, как он,
взойдя на высокую гору, откуда открывался чудесный вид, раскрыл наудачу
Исповедь Августина, которую всегда имел при себе, и в ней прочел следующие слова:
«И вот люди идут и с удивлением смотрят на высокие горы и далекие моря, на
бурные потоки и океан и небесные светила, но в это время забывают о самих себе».
Петрарка погрузился в глубокое раздумье35*.
Эпохи упадочные, сопровождающиеся высоким уровнем развития культуры,
отличаются вообще господством философии эпикуреизма, наслаждения жизнью в
ее утонченных, эстетически облагороженных формах. Этот культ наслаждений
разработало античное язычество в эпоху своего упадка, в эту же колею вступает и
современное неоязычество.
Итак, добилось ли, начинает ли добиваться человечество счастья и радости,
гармонии и покоя? Приближается ли оно к нему? Едва ли кто, наблюдая симптомы
духовной жизни европейского человечества, решится это сказать. Напротив,
морщины напряженной тревоги, мучительной тоски, замалчиваемого, но тем не менее
грозного, ибо непобедимого, страха смерти легли на его челе. «Уныние народов и
недоумение»36* — этими евангельскими словами может быть характеризовано
настроение века. Или, как сказано в Апокалипсисе: «Ангел вылил чашу свою на престол
зверя: и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания»37*.
Леденящий пессимизм и какой-то страх жизни, смешанный со страхом смерти,
заползают в душу, маловерные легко становятся суеверными, чувство тайны,
живущее в душе, разрешается в искании таинственного, потребность в религии ищет
выразиться в беспредметной религиозности, утолиться хотя музыкой религиозного
чувства, создается мистицизм в религии, демонизм без веры в Бога. Муки
современной души, тоска современного сердца о Боге яснее всего, конечно, отражаются
в искусстве, которое не может лгать, не может притворяться. Но красноречивее
всяких книг эпидемические самоубийства, которые, по поводу и без повода, просто
от тоски и бесцельности жизни становятся чаще и чаще, особенно среди нашей
нервной, оторванной от почвы молодежи и даже детей; конечно, влияют и внешние
события и поводы, но они нередко только обостряют назревавший кризис.
Уже Достоевский с обычной своей проницательностью отметил
симптоматическое значение этого явления, теперь так усилившегося, и связал его с потерей ре-
о. 259
лигиозной веры38*. Эпоха упадка Римской империи, насыщенная неверием и
пессимизмом, отличалась эпидемией самоубийств. Киренский философ Гегезий
получил даже прозвище оратора смерти и был выслан из Александрии за успешность
своей проповеди самоубийств39*. «Против бедствий жизни есть благодеяние
смерти», — учил Сенека40*, у которого находим настоящий гимн добровольной смерти. У
одних смерть была введена в систему эпикурейского использования жизни, у
других была выходом для отчаяния. И тогда эпикуреизм оказывался столь же
смертоносен, как и теперь. Но на небе уже восходила тогда Вифлеемская звезда, и на нее
взирали ученые и неученые, волхвы и пастухи, рождалась в мире великая радость,
радость навеки. «Да радость Моя в вас пребудет и радость ваша да будет
совершенна»41*. Теперь сумерки снова надвигаются над человечеством, уходящим в
удушливое подземелье и изнемогающим там от ига жизни, и с этим лучом каждому
раскрывающемуся сердцу приносится тихий зов: «Приидите ко Мне, все труждающие-
ся и обремененные, и Я успокою вас»42*. Пессимизм, раз он появился и осознан,
непобедим иначе как религиозной верой, ибо он питается сомнением в смысле
мира и в возможности мировой гармонии. Зло в мире и дисгармония настолько
реальны и непобедимы внешними средствами, что пессимизм безысходен, если не
откроется в душе целебный родник веры и надежды, который «иго» жизни сделает
«благим и легким»43*, хотя оно и не перестанет быть игом. Не безболезненный
праздник, о котором так тщетно мечтают земные устроители человечества, сулит
религия, напротив, тяжелый подвиг и крест, но она дает и силы его нести, указуя
его высший смысл и цель, и скорбь и труд напояя радостью, той чистой радостью,
которая утеривается человечеством.
Какое поразительное сопоставление получается, если мы сравним духовное
состояние античного общества в I веке нашей эры с его культурой, но и с его
развращенностью и пессимизмом и духовное состояние первых христианских общин,
описанное в «Деяниях Апостольских»! Каким небесным светом озарено это
повествование, нельзя его читать без радостного волнения! Я думаю, что никогда в
истории люди не жили радостнее, нежели эти бедные общины, состоявшие из рыбаков,
рабов, пастухов и лишь немногих представителей образованного класса. Они не
имели тех культурных благ, с которыми влачило свои дни античное общество, но в
их душе бил живой ключ радости и веры — благодатная жизнь детей Божиих!
Мне, однако, представляется этот современный пессимизм здоровой и даже
благородной реакцией души на попытку развенчать человека, лишить его веры в
высшее добро и заставить его удовлетворяться самим собой. Ибо это
самоудовлетворение, самодовольство и равновесие в таком положении, в котором невозможно
человеку оставаться в равновесии, есть уже извращение человеком своего естества,
угашение духа, продажа прав первородства за чечевичную похлебку. Это есть то
мещанство, от которого так задыхался наш Герцен44*. Человек не в силах вынести
земного благополучия, ему дана только борьба, только крест, и когда он землю
проклятия, которая так глубоко пропитана потом и кровью, превращает для себя в
удобную постель и покойную подушку, забывая о всех противоречиях своего·
бытия, он опускается и пошлеет. Нет, в современном пессимизме залог того, что
человек создан для вечности и для Бога, но, потеряв это, страдает и тоскует тем
напряженнее, чем выше он сам. Вот почему «царство зверя», т. е. цивилизация,
воздвигнутая без Бога и против Бога, неизбежно должна быть мрачной, когда люди
начинают кусать языки от боли. И как бы ни ломали головы ученые и философы,
какие бы суррогаты религии они ни придумывали, они не дадут человеку того
покоя, который дает лишь живая вера в Того, Кто обещает: «Приидите ко Мне и
обрящете покой душам вашим»45*.
Что в неверующем человечестве не умерли, а только замерли религиозные силы
души, доказывается в моих глазах тем значением, которое получает в такие эпохи
эстетический интерес, чувство и служение красоте. Красота - божественна, ею Бог
260
облек мир при создании его, и божественное в красоте действует на душу
непосредственно или, как удачно выразился Соловьев, магически, помимо
рефлектирующего рассудка46*. В восприятии красоты человек дышит божественным, хотя
бы он головой его и отрицал. И в искусстве с его особым миром современной душе
открывается единственная возможность, так сказать, религиозного питания,
которого она лишена непосредственно путем молитвенного и религиозного подвига. В
силу такого исключительного значения искусства естественно ожидать, что в
неверующие эпохи люди особенно дорожат эстетикой, так жадно ищут они красоты,
так ревностно отдаются служению ей. Чувство красоты природы чрезвычайно
развито в наш век, едва ли не больше, чем когда-либо ранее: музыка сфер небесных,
высоты гор, бездна моря, красота органических форм, цветов — все это интимно сродняет-
ся с душой современного человека, ищущей лучей божественной любви в мире:
И, порознь их отыскивая жадно,
Мы ловим отблеск вечной красоты;
Нам вестью лес о ней звучит отрадной,
О ней поток гремит струею хладной,
И говорят, качался, цветы47*.
Настроение эстетического пантеизма Гете вообще очень сродно современности.
Этим чувством природы, скрыто-религиозным, спасается современная душа от
сухости и мертвенности своего рационализма, как и великими произведениями
искусства. «Святым Духом всяка душа живится» - поется в церковном песнопении, и
красота есть дар Св. Духа и якорь спасения для обнищавшего духовно
человечества. Когда я думаю об этом животворящем действии красоты, мне вспоминается
больная, страдальческая душа Гл. Успенского, который подобно Гаршину и
некоторым другим, несомненно страдал от несоответствия своего интеллигентского
мировоззрения религиозным запросам души. Успенский рассказывает, как в деревне
глухой зимой вспомнились его герою (т. е. ему самому) впечатления от Венеры
Милосской, виденной им в Париже, и как это воспоминание «выпрямило» душу
(очерк так и называется «Выпрямила!»). Это трогательные признания
интеллигентской души, тоскующей о Боге и не сознающей действительной природы своей тоски.-
«С первого момента, как только я увидал статую, я почувствовал, что со мною
случилась большая радость. До сих пор я был похож (я так ощутил вдруг) вот на
эту скомканную в руке перчатку. Похожа ли она видом на руку человеческую?
Нет, это просто какой-то кожаный комок. Но вот я дунул в нее, и она стала
похожа на человеческую руку. Что-то, чего я понять не мог, дунуло в глубину моего
скомканного, искалеченного, измученного существа и выпрямило меня,
мурашками оживающего тела пробежало там, где уже, казалось, не было чувствительности,
заставило всего хрустнуть именно так, когда человек растет, заставило также
бодро проснуться, не ощущая признаков недавнего сна, и наполнило расширившуюся
грудь, весь выросший организм свежестью и светом... Где и в чем тайна этого
твердого, покойного, радостного состояния всего моего существа, неведомо как
лившегося в него? Я решительно не мог ответить себе ни на один вопрос, я
чувствовал, что нет на человеческом языке такого слова, которое могло бы определить
животворящую тайну этого каменного существа. Разбить это! - продолжает он, -
да ведь это все равно, что лишить мир солнца, тогда жить не стоит, если нельзя
будет хоть раз в жизни ощущать этого».
Искусство покоряет себе даже и в таких чувствах и настроениях, которые
совершенно не соответствуют современному мировоззрению. Современный человек
может вместе с Беклином видеть нимфу в сыром гроте и наяд в морских волнах, он
может в молитвенном экстазе восторгаться Сикстинской мадонной и всем
искусством Возрождения1, ему доступна сумрачная мистическая величавость готического
Я никогда не забуду того неотразимого и потрясающего впечатления, которое испытал от
Сикстинской мадонны в пору полного еще увлечения марксизмом48*
261
храма, он может хвалить Творца вместе с Бетховеном, загораясь от пламенного
гимна радости и любви к Творцу в девятой симфонии. Многое из того, чего не
позволяет себе современный человек логически и за личной своей ответственностью,
он может вместить эстетически; благодаря красоте у него вырастают крылья, он
чувствует себя не комком материи или двуногой обезьяной, но бесконечным духом,
питающимся абсолютным и божественным.
Однако в этом переводе религиозной жизни на язык исключительно
эстетический и выражается ограниченность нашей эпохи, ее однобокость и бедность.
Эстетические эмоции еще не создают возрождающей веры, эстетизм энциклопедичен,
он уподобляется пчеле, перелетающей с цветка на цветок, он может совмещать
совершенно несовместимое.·
Кроме того, эстетические восприятия пассивны: они не требуют подвига,
напряжения воли, они даются даром, а то, что дается даром, способно развращать. В
настоящее время часто уже провозглашается эстетика и ее критерии выше
этики49*, благодаря господству эстетизма получается впечатление, что наша эпоха, как
и вообще высококультурные эпохи, исключительно художественна, между тем как
это объясняется ее односторонностью, разрушением остальных устоев
человеческого духа и даже в чисто художественном отношении является вопросом, способна ли
внутренно подгнивающая эпоха декаданса создать свое великое в искусстве или она
преимущественно коллекционирует и регистрирует старое. Некоторые держатся
именно этого последнего мнения. Во всяком случае, при оценке современного
эстетизма следует иметь в виду эти обе стороны: гипертрофия его, развитие эстетики
за счет мужественных и активных свойств души отмечает упадочный и
маловерный характер нашей эпохи, но в то же время в ней пробивает себе дорогу через
пески и мусор вечная стихия человеческой души, ее потребность жить, касаясь
ризы Божества если не молитвенной рукой, то хотя <бы> чувством красоты и в
ней - нетленности и вечности. Много значений имеет вещее слово Достоевского о
том, что «красота спасет мир»50*; оставляя в стороне его, так сказать,
апокалиптический смысл, можно сказать, что и теперь красота спасает мир от отчаяния, от
рационализма, от самодовольного мещанства, и теперь она поит жаждущего
больного и, может быть, поддерживает силы его до выздоровления.
В самом деле, так ли уж решительно и окончательно утвердилось
вышеописанное направление умов в культурном человечестве или это только полоса,
настроение, которое может миновать как изжитое? Ведь ярко обозначилось оно с XVIII
века, а особенно резко во второй половине XIX, причем в пределах этого
направления успело смениться несколько волн: можно считать уже пережитым и изжитым
так называемое просветительство XVIII века с его прямолинейным рационализмом
и упрощенным отрицанием. Век Мефистофеля сменился веком Фауста, торжеством
немецкого спекулятивного идеализма, начавшегося с Канта, а он, каков бы он ни
был, не может считаться эпохой только разрушительной. Затем последовало
кратковременное торжество поверхностного материализма и позитивизма с его
отрицанием всякой философии. Но материализм и позитивизм в настоящее время
безусловно пережиты. Вновь возрождается религиозный идеализм вместе с философским
и религиозным интересом, получающим в настоящее время такую обильную пищу
от научных исследований по истории христианства и других религий. В центре
этих научных исследований религиозно-философского и исторического характера
стоит изучение всего, относящегося к личности Спасителя. «Можно сказать, -
говорит проф. Вейнель, - что никогда еще ни одно столетие столь интенсивно не
занималось Иисусом и не вопрошало об его значении, как истекшее»1, — и добавим
к этому: интерес этот в начале XX века не ослабевает, а все увеличивается. По-
видимому, мы снова вступаем в эпоху христологических споров, хотя и ведущихся
Heinrich Weinel. Jesus im neunzehntuem Jahrhundert. Tübingen und Leipzig, 1904. S. 3.
262
в иной плоскости и в иной постановке, нежели в период вселенских соборов
(современные споры об исторической личности Иисуса), и, по нашему убеждению,
эта новая эпоха только начинается. Наблюдающие духовную жизнь Запада
констатируют, что религиозному омертвению приходит конец1.
Охарактеризованный кризис личности и мировоззрения нигде не переживается
с такой трагической мучительностью и роковой силою, как у нас, хотя, может
быть, он и слабо еще сознается. Это объясняется отчасти общими свойствами
русской души и той особенной жгучестью, с которой она относится к вопросам
религиозного (в широком смысле) сознания, затем специфическими чертами
интеллигентской психологии с ее слабостью традиций и исторических связей, ее
теоретичностью и доктринализмом. Но особенно обостряющее значение имело здесь то
историческое потрясение и кризис, который мы пережили последние годы и
переживаем теперь. Если духовная анемия имеет скрытый или хронический характер и в
обычное время, то она обостряется в эпохи исключительные.
Я не позволю себе ни описывать, ни характеризовать всего пережитого нами,
слишком это близко и свежо для всех, и не настало еще время для объективного,
беспристрастного к этому отношения. В настоящее время русское общество, по
крайней мере, та его часть, которая способна размышлять и учиться, находится в
тяжелом раздумье и силится извлечь исторические уроки из пережитого в области
политической, экономической, культурной, готовая набираться новых сил для
творческой работы. Выдержала ли огненное испытание духовная личность нового
человека, все ли в ней благополучно? Нет никакого сомнения, что политическое и
общественное движение последних лет было всецело интеллигентским - не по
своим участникам, которыми сделались и массы народные с их многоразличными
социальными интересами, но по своим идеям, идеалам, вообще по всей своей
идеологии. Сила идей и идейных настроений в истории обнаружилась здесь со
стихийной мощью. Выяснилось с полной очевидностью, что интеллигенция в России
теперь уже есть историческая сила, значение которой в дальнейшем историческом
развитии может только увеличиваться, и несомненно, что это растущая сила
будущего. И такая оценка исторической роли интеллигенции, как и вообще значения
идей в истории, заставляет считать идеи и настроения интеллигенции имеющими
особенную историческую важность, а положение ее сугубо ответственным. Я
полагаю, что историческое будущее России, ее процветание или разложение, рост или
гниение - в руках и на ответственности интеллигенции именно как растущей силы
будущего. Исходя из такой оценки, с тем большей осторожностью и с тем большей
тревогой спрашиваешь себя: все ли благополучно в душе интеллигенции, не
сдвинута ли интеллигентская душа со своих устоев и не больна ли она? Я больше всего
не хотел бы, чтобы суждения мои были приняты как осуждение или желание кого
бы то ни было обвинить и свалить ответственность за ужасы, в которых мы все, за
круговой порукой, виноваты. Я пытаюсь, как и все, разобраться в причинах той
едкой горечи, которая заползла в душу последние годы, оглядеться в той мгле,
которая нас окутала. Многие искренние люди из интеллигенции, которые не
связывают своих суждений доктриной или программой, признаются, что и у них на
душе остается осадок горечи и тяжелого недоумения. Граница между добром и
злом, дозволенным и недозволенным, свободой и деспотическим или анархическим
своеволием, партийной дисциплиной и общечеловеческой моралью слишком часто
утрачивалась и слишком легко переступалась за это время, чтобы это не могло не
оставить впечатления, не заронить в душу сомнения и тревоги. Эксцессы
партийности и напряженная атмосфера политической междоусобицы ставили под
сомнение самую возможность взаимного понимания и соглашения, необходимого в целях
1 Ср., напр.: Rudolf Eucken. Hauptprobleme der Religionsphilosophie der Gegenwart. Berlin,
1907. S. 113 и ел.
263
практической созидательной работы, ради общего национального дела, грозили
сделать невозможной вообще какую бы то ни было созидательную работу. Такие
опасения мучительно угнетали меня лично во второй Государственной думе под
влиянием непосредственных впечатлений от думской жизни и думской работы. В
какой степени наши исторические неудачи последних лет вызваны неотвратимыми
историческими обстоятельствами и темными историческими силами, а в какой
степени указанными обстоятельствами нашего интеллигентского настроения, учесть в
точности нельзя. Но несомненно, что и доля участия последних значительна. И не
столько отдельные программные положения тех или иных партий делали несогла-
симыми и ожесточенными врагами всех против всех, но именно их моральное
обличив возбуждало настроение не примирения, а распри и раздора, создавало
атмосферу политических страстей, не растворенную ничем примиряющим. Человека не
было, были только члены разных партий или представители разных интересов,
которые могли только размежевываться между собою. Но общество не может
развиваться и жить без известного этического минимума солидарности и взаимного
понимания, как бы ни было сложно и многоразлично оно по своему составу, иначе
оно распадется на несколько враждующих тел, а в конце концов атомизируется. И
потому то, что Достоевский в «Бесах» и «Преступлении и наказании» описывал
лишь как возможность, как предостережение, многим казалось даже как
политический пасквиль, все это у нас вошло в обиход51*. То, что мы пережили и
переживаем горького, морально-отрицательного в нашей интеллигенции, есть в моих
глазах экспериментальная проверка слабости распространенного антирелигиозного
мировоззрения и доказательство от противного в пользу религиозного. Отсутствие
духовного здоровья отражается, во всех проявлениях жизни, во всем ее тоне.
Вообще в новое время умаляется историческое значение нравственной личности и ее
здоровья; я склонен, напротив, считать его одним из непосредственных факторов
исторической жизни, а в самоопределение личности необходимо входит и то, что
она думает о себе, во что верует, все ее вероучение. Нельзя даже представить себе,
как изменилась бы вся жизнь, насколько иначе сложились бы и протекли
минувшие события, как осветилось бы и темное настоящее, если бы мы сами стали
другие. В этом смысле философско-религиозное credo русской интеллигенции,
объединяющее большинство ее молодых и старых представителей без различных
политических оттенков, именно ее атеистический нигилизм я признаю одним из важнейших
факторов русской истории и одной из основных причин, определивших течение
событий последних лет в России.
Это положение, может быть, покажется менее парадоксальным для не
разделяющих нашей точки зрения, если мы остановим внимание еще на одной
особенности нашего времени. До девятисотых годов мировоззрение и настроение
интеллигенции оставалось замкнутым, или кружковым, и можно было думать, что
народная душа недоступна и непроницаема для интеллигентской проповеди. Последнее
десятилетие, в частности же последнее трехлетие, показало иное, именно, чтр
народ, особенно молодое поколение деревни и городские рабочие, оказывается
восприимчивым к интеллигентскому воздействию и постепенно обынтеллигенчивается
или, как это называется, становится «сознательным». Я оставляю совершенно в
стороне те или иные политические или экономические положения различных
программ, излагавшихся народу, ибо не они нас интересуют, и не они имеют в моих
глазах первостепенное значение, и вовсе не они действительно революционизируют
сознание и совершают в народной душе глубокий переворот. Нет, всякое такое
приобщение народа к «сознательности», или его обынтеллигенчивание, начинается
безразлично во всех интеллигентских партиях и по всем их программам
разрушением религиозной веры и прививкой догматов материализма и философского
нигилизма. Конечно, необразованный простолюдин совершенно бессилен отнестись
критически и безоружен, как ребенок, пред наплывом новых учений. И с той же лег-
264
костью, с какой уверовали в неверие некогда его просветители, принимает и он
безрадостную, мертвящую веру в неверие. Разумеется, не приходится
преувеличивать сознательности и прочности этой его старой веры, разлагающейся иногда от
первого прикосновения. Конечно, это детская, наивная вера, но ведь все-таки она
давала ему различие между добром и злом, учила жить по правде, по долгу, по-
божески. Она воспитывала ту дивную красоту народной души, которая запечатлена
и в русской истории, и в житиях русских святых, и в русской литературе, и в
искусстве. Благодаря ей народ вынес и выносит на плечах своих крест своего
исторического существования, и татарщины, и московской государственности, и
петербургского периода, и свой идеал, свое представление о праведной жизни выразил,
дав себе наименование «святая Русь», т. е., конечно, не почитая себя святым, но в
святости видя идеал жизни. Неужели заблуждался сердцевед и народолюбец
Достоевский, который изучал народную душу не только в здоровье, но и в болезни, не
только в родной деревне, но и на каторге?
И вот эта старая вера и связанный с ней духовный строй рушатся, дичку
народной души делается совершенно новая прививка. Такой силы, столь
исключительной важности прививки, которую теперь делает народу наша интеллигенция,
не делала и не могла сделать ему ни Москва, ни Петербург, только Владимир
Святой совершил равного значения дело, крестив Русь, которую интеллигенция теперь
постепенно раскрещивает. С крещения Руси началась история России,
христианское семя пало здесь на совершенно девственную почву, на невозделанную целину,
с раскрещиванием начинается совсем новая эпоха истории. Чем же заменяется
старая вера, какими правилами жизни, какими нормами? Мы знаем, что по этому
поводу значится в интеллиге-нтском катехизисе: Бентам, Маркс, Конт и Фейербах
(в русской переработке Лаврова или Михайловского), Штирнер: преследование
своих интересов отдельно или преследование тех же интересов сообща с другими,
как классовых или групповых, или же свобода самоутверждающейся личности,
анархическое «все позволено». Но для интеллигенции все эти понятия интереса
суть чистая идеология, псевдоним этических и даже религиозных настроений; она
борется не за свой, а за чужой интерес, интерес угнетаемых классов. Кроме того,
самые разрушительные выводы самых разрушительных доктрин далеко не всегда и
не вполне переходят здесь в действие, но парализуются задерживающими
центрами, влиянием среды и общественного мнения, культурными навыками, вообще
привычкой обращаться с теориями и принимать разные страшные слова и формулы
бездейственно и безбоязненно. Правда, последние годы и интеллигенция потеряла
равновесие, но нет никакого сравнения с тем впечатлением, которое должен
производить кодекс атеистической догматики на народную душу. Людям, изболевшим и
исстрадавшимся и без того в силу своего классового положения склонным к
враждебности по отношению к привилегированному меньшинству, людям, не имеющим
ни умственной подготовки, ни цивилизованных навыков, вообще стоящим в самых
неблагоприятных культурных условиях, сообщают в качестве догматов для
жизненного руководства положения, которые явились, во всяком случае, продуктом
длинного философского и культурного развития, выросли на культурно богатой и
насыщенной почве. Вообще русская история богата крайностями, но едва ли можно
себе представить крайность большую, чем это сообщение неграмотному, бедному
крестьянину, не выходившему из своей деревни или за пределы своей фабрики,
результатов работы мысли Юма и Вольтера, энциклопедистов и просветителей,
Фейербаха и Ницше и т. д., и т. д. В этом есть нечто поистине
головокружительное. Я не возьмусь учитывать, насколько плодотворна и в политическом и
социальном отношениях оказалась эта замена просвещения агитацией, но морально-
психологическое и общечеловеческое значение этого учесть можно и теперь.
Результат этот - разложение личности, глубокий паралич воли и нравственного
чувства - мы имеем теперь в скорбной и нескончаемой эпопее quasi-идейных преступ-
265
лений, от которых с ужасом открещиваются все интеллигентские группы и все
направления52*. И, конечно, они правы, поскольку действительно никто не хотел
всего этого, и это явилось непредусмотренным результатом тех потрясений в
народной душе, тех опустошений в сокровищнице его веры, которые внесла доктрина
атеизма в связи с тяжелыми событиями и испытаниями нашего времени. Я
совершенно убежден в том, что чрезвычайное развитие преступности, и притом в
патологической обстановке своеобразной идейности, есть симптом болезни народной
души, острая реакция духовного организма на ту нездоровую пищу, которая была
введена в него в виде новых учений, объединявшихся отрицанием религиозных
ценностей и абсолютной морали. И иных всходов на русской ниве при всей
исторической совокупности обстоятельств все это и не могло дать. Я никоим образом,
конечно, не забываю ни тех ужасов, среди которых приходилось жить последние
годы, ни той политической обстановки и экономической нужды, которые и сами по
себе выбивали из духовного равновесия и обостряли, как и, в свою очередь, были
обострены указываемым мною духовным кризисом. Он имел еще и другое, хотя и
побочное, но очень важное последствие: создал и обострил междоусобицу, придав
ей оттенок религиозного фанатизма, сделав ее борьбой не только разных
политических мнений, но и разных вер. Этим обстоятельством объясняются многие черты
прискорбных и трагических событий осени 1905 года, каковы бы ни были причины
их во всей сложности53*. Эта религиозная междоусобица и в настоящее время
чрезвычайно туманит русские горизонты и затрудняет наше положение. Народ наш
нуждается в знаниях, нуждается в просвещении, однако таком, которое не делало
бы его беднее духовно, чем он был, и не разлагало бы его нравственную личность.
Христианское просвещение, развивающее и воспитывающее личность, а не
случайное усвоение обрывков знания, употребляемых как средство агитации, - вот в чем
нуждается народ наш. Историческое будущее России, возрождение и
восстановление мощи нашей родины или окончательное ее разложение, быть может
политическая смерть, находится, по моему убеждению, в зависимости от того, разрешим ли
мы эту культурно-педагогическую задачу: просветить народ, не разлагая его
нравственной личности. И судьбы эти история вверяет в руки интеллигенции. Опыт
последних лет показал, что она находит доступ к душе народной и в то же время
она всегда имела страстное, неудержимое, жертвенное стремление к служению
народу в той форме, как она его понимает. В этом-то понимании и все дело, и вот
почему мировоззрение самой интеллигенции приобретает такую исключительную
важность, как состояние нервов и мозга всей страны. В сердце и голове русской
интеллигенции происходит борьба добра и зла, животворящего и смертоносного,
зиждительного и разрушительного начала в России, а поскольку происходящее у
нас имеет несомненно также и мировое значение, то и борьба эта мировая. Но это
понимание своей исторической миссии и своего значения должно удесятерить
чувство ответственности за свои действия. Ведь нигде больше нет такего положения:
великий народ, беспомощный, беззащитный духовно, как ребенок, находящийся на
уровне просвещения почти что эпохи св. Владимира, и интеллигенция, которая
несет просвещение Запада преимущественно с разными последними словами,
сменяющимися с быстротою моды, и которая, как ее ни удерживают и ни отстраняют,
находит и, конечно, будет находить дорогу к этому ребенку. Два электричества:
когда они соединяются, что дадут они - благодетельный свет и тепло или
разрушительную и испепеляющую молнию?
Если мировоззрение самой интеллигенции, которое она несет народу, останется
тем же, что и теперь, то и характер влияния ее на народ не изменится; оно будет
только расти количественно. Но нельзя, конечно, и думать, чтобы интеллигенции,
по крайней мере в обозримом будущем, удалось обратить в свою веру всю народную
массу, часть ее во всяком случае останется верна прежним началам жизни. И на
почве этого разноверия неизбежно должна возникнуть такая внутренняя религиоз-
266
ная война, подобие которой следует искать только в войнах реформационных. При
этом духовная и государственная сила народа будет таять и жизнеспособность
государственного организма уменьшаться до первого удара извне54*. От этого пути
достаточно предостерегают нас пережитые события. Но неужели напрасно
возгремели над нами небесные громы? Неужели мы, немного поотдохнув да
поправившись от пережитого, заживем опять по-старому, старыми чувствами, старыми
мыслями, старым легкомыслием, так, как будто ничего не случилось, ничего не
раскрылось, ничего не нажито? Просто сорвалось, да и все тут, а могло бы и не
сорваться, если б оказалось немного больше сил; надо стараться, чтобы другой раз
уже не сорвалось. Русский интеллигент склонен к такой беспечной лени души, и
сейчас уже начинает складываться такое успокоительное, доосвободительное
настроение и в печати, и в кружках, как будто бы мы не увидали голову Горгоны,
как будто бы мы просто просчитались и остается только отступить несколько
шагов назад, вернуться на старые позиции. Нет, вернуться на старые духовные
позиции нельзя, мы отделены пропастью, полной мертвецов, мы выросли и
исторически постарели, бесполезно и недостойно нам молодиться. Надо начать что-то новое,
учесть исторический опыт, познать в нем самих себя и свои ошибки, ибо иначе, если
мы будем видеть их только у других, на противной стороне, то мы останемся
загипнотизированы своей враждой к нему и ничему не научимся. Потребно
самоуглубление, самоисследование, потребно накопление духовных сил, творчество культуры.
Разных сторон должно коснуться это самообновление, но если опуститься на
самое дно, в глубину души, то это создание новой личности и новой жизни должно
начаться религиозным самоуглублением, новым и более сознательным религиозным
самоопределением. Новый человек, новый тип общественного деятеля может
родиться лишь на почве этого самоуглубления, это будет то новое русской жизни, о
чем, умирая, мечтал Достоевский в последнем своем романе55*, то новое, чего не
было в русской жизни последних лет и что, может быть, и загубило последнее
общественное движение и обрекло его на бессилие. Россия, в противоположность
Англии, за единичными исключениями, не видала еще христианской
интеллигенции, которая, пыл своей души, жажду своего служения людям и крестного подвига
вложив в христианский подвиг деятельной любви, победила бы ту тяжелую
атмосферу вражды и человеконенавистничества, в которой мы задыхаемся и в которой
ничто, кроме разрушения, не может спориться. В нашей интеллигенции так много
потенциальной религиозной энергии, она так неотступно приносит жертвы на
своем алтаре «неведомому богу» — неужели же навсегда это неведение? Я знаю, как
далека от действительности, как смешна может казаться эта мечта о христианской
интеллигенции и прекращении того разрыва между интеллигенцией и народом,
который поддерживается теперь религиозным разноверием. Но слишком прекрасна
эта мечта, чтобы можно было с нею расстаться, и слишком нужно для жизни ее
осуществление, нужен новый свет, новая влага, изливающаяся на иссохшую и
растрескавшуюся землю. В этой духовной опустошенности нашей эпохи, в этой ее
безысходности заключается наша величайшая надежда, духовная смерть может
оказаться кануном духовного воскресения, как это было и девятнадцать веков
назад, как это неоднократно бывало потом в истории, когда христианский пламень с
новой силой вспыхивал из едва тлеющего костра.
С развитием исторических событий все яснее раскрывается религиозный смысл
русской драмы, которая, выражаясь в политическом и социальном кризисе,
коренится в духовном распаде и внутреннем раздоре русского народа. И, несмотря на
столько жертв и испытаний, она не разрешилась. Болезнь вогнана внутрь, из
острой лишь перешла в хроническую. Мы опытно познали, что нельзя безнаказанно
нарушать заповеди: «Ищите прежде всего Царствия Божия и правды Его, и вся
прочая приложатся вам»56*. Мы заботились исключительно об этом прочем,
оставляя в небрежении духовный мир человека, эту подлинную творческую силу исто-
267
рии. И мы потеряли духовное равновесие и разбрелись в разные стороны в погоне
за этим «прочим», которое все более дробилось и разъединяло людей. И в этом
лежит подлинная причина нашего исторического бессилия, слабости творчества
при такой энергии разрушения. Только обновленному человеку посильна задача
устроения расстроившейся жизни, но обновление это создается не пересмотром
программ или тактики или новой политической комбинацией (как бы ни были
важны сами по себе и эти последние). Рождение нового человека, о котором
говорится в беседе с Никодимом57*, может произойти только в недрах человеческой
души, в тайниках самоопределяющейся личности. Подвиг исторического
творчества не может быть отделен от духовного подвига возрождения человеческой
личности, которое не совершается помимо нашей воли. Прав был Гладстон: не в
парламентах или народных собраниях происходит теперь самое решительное
столкновение добра и зла, но в душах людей, и исторические судьбы России взвешиваются
ныне в той незримой внутренней борьбе, которая происходит в русской душе. К
ней, к этой борьбе, и к нам, в которых она совершается, применимо поэтому
грозное слово Моисея, предсмертное завещание пророчественного вождя Израиля к
своему народу, предопределившее его земные судьбы: «Призываю во свидетели
небо и землю: жизнь и смерть положил я тебе, проклятие и благословение. Избери
же жизнь, да живешь ты и семя твое!»58*
1908
П. ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТА И СОВРЕМЕННОЕ СОЗНАНИЕ1
В книге «Деяний Апостольских», в которой рассказывается, как апостолы
проповедовали открывшуюся им веру во Христа, Своей смертью и воскресением
совершившего дело человеческого спасения, особенно близок и понятен
современности эпизод проповеди ап. Павла в Афинах, столицы культуры того времени, центре
философии, искусства, литературы (Деян. Ап., гл. 17). Кто и в наше время, приняв
в сердце истину Евангелия, захотел бы громко заговорить об этой вере, тот
чувствует себя пришедшим с дикой и странной для современных ушей «ненаучной» и
ненужной проповедью, представляющей «безумие для эллинов», как бы в Афины,
«этот город, полный идолов», вступая в который, «возмутился духом» даже
великий апостол. По части изобретения идолов современность оказалась даже острее,
изобретательнее, тоньше, нежели греческие Афины, ибо создала еще абстрактных
идейных идолов в виде всевозможных «научных» и ненаучных теорий, в которых
запуталась беспомощно современная душа: в пантеоне современных афинян
имеются идолы политические, социалистические, эстетические, научные. И это уже не то
наивное, простодушное идолопоклонство, которое было свойственно
дохристианскому миру, здесь чувствуется более редкий, сознательный и упорный дух
противления и идолопоклонства, вооружившийся силой знания, отвлеченной мысли,
тонких чувствований. Поздний предрассветный час кладет более резкие и густые тени,
нежели час ранний, сумеречный.
«Афиняне же все и живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили
время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое»1*, — черта,
целиком сохранившаяся и у теперешних афинян, столь падких до всяких как
эстетических, так и умственных развлечений. Поэтому афиняне привели ап. Павла в
ареопаг и говорили ему: «Можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое
тобой, ибо что-то страшное ты влагаешь в уши наши. Посему хотим знать, что это
такое?»2* Однако, когда ап. Павел изложил пред ними учение о Боге и о Христе, в
достаточной степени удовлетворившие свое любопытство афиняне, услышавши о
воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: «Об этом послушаем
тебя в другое время», так что ап. Павел «вышел из среды их», и только некоторые,
«приставши к нему, уверовали»3*.
Не иного приема следует ждать и от современных афинян, если серьезно и
искренно заговорить с ними о воскресении Христа, в котором вся сила, вся
сущность, все содержание христианства («Если Христос не воскрес, тщетна вера
наша»4*). Однако и в современных Афинах найдутся некоторые, уже потерявшие
душевное равновесие и смутно ищущие выхода из лабиринта современной мысли,
Было напечатано в пасхальных номерах киевской газеты «Народ» (1906) и
петербургского еженедельника «Век» (1907) и в отдельном издании.
269
хотя и не сознающиеся в этом, иногда даже пред самими собой. И о них можно
сказать то, чем начал свою проповедь афинянам ап. Павел, который говорил так:
«Афиняне, по всему вижу я, что вы как-то особенно набожны. Ибо, проходя и
осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано:
"Неведомому Богу". Сего-то, которого вы не зная, чтите, я проповедую вам»5*.
Современные афиняне, нам близкие, именно родная нам, дорогая, кровной
связью связанная с сердцем нашим русская интеллигенция действительно «особенно
набожна». Своей вере, своей религии она служит беззаветно, до мученичества, до
героизма. Она свята относительно своей веры, но заблудилась именно в этой вере,
потеряла путь в дремучем лесу и, не находя тропинки, не зная, к чему беззаветно
и окончательно прилепиться, куда отдать жар своей души, она вся превратилась в
томление, в боль, в муку, в истому. В своем больном и мятущемся сердце она
постоянно воздвигает алтари, на которых творится непрерывное жертвоприношение,
но сама не знает, кому посвятить свой алтарь, не знает имени своего Бога. И
алтарь ее оказывается посвящен «неведомому Богу», Богу - но неведомому,
неведомому, но - Богу. Так соединяется эта подлинно религиозная жажда со скудостью
религиозного знания и веры, соединяется до того времени, когда, наконец,
откроется истинное имя неведомого. Поклонение неведомому Богу выражается в наши
дни в служении одной смутной идее, одному духовному идолу: идее прогресса,
представляющего как бы частный случай мирового закона эволюции. Бесконечный,
а следовательно, и неведомый, неисследимый для человека прогресс, бесконечная
эволюция - вот Зевс и Олимп современных афинян. И относительно этой идеи,
этого алтаря «неведомому Богу» можно также сказать словами ап. Павла: «Сего-то,
которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам». Ибо учение о прогрессе и мировой
эволюции есть смутная, бессознательная проповедь Христова Воскресения, а
проповедь Христова Воскресения включает в себя ту истину, которая содержится в
учении об эволюции и прогрессе, если только поставить эти учения в надлежащие
их границы, дать правильное истолкование. Как это?
Человечество никогда не считало и не считает свою, лежащую во зле и грехе,
отравленную ненавистью и преступлением, искаженную слабостью и
ограниченностью жизнь должным, нормальным уделом человеческого рода. Не веря в
Спасителя, оно сохраняет потребность в спасении и веру в спасение. Оно верит теперь, что
если не спасется и не может быть спасен отдельный человек, отдельное поколение,
зато спасется человечество в целом в лице будущих поколений, составляющих
собой как бы цель истории, исход из ее трагического лабиринта. Путь прогресса есть
путь спасения человечества, прогресс — его спасение. Так мыслит, так чувствует,
так верит современное человечество. Во имя этой веры, во имя спасения
человечества путем прогресса приносятся жертвы, отдается жизнь, покой, свобода.
Спасение человечества в прогрессе есть путеводный огонь современного человечества;
лишите его этой веры, погасите этот огонь - и оно останется в непроглядной тьме, и
этой тьмы не выдержат именно самые доблестные, самые чистые, самые верующие1.
Но есть ли в прогрессе действительно спасение? Спасается ли им человечество
от мрака, скорби, унижения, падения? Спасается ли и может ли спастись им одним
кто-либо? — На эти вопросы мы троекратно отвечаем: нет, нет и нет.
Что представляет собой живую реальность, что живет: человеческая
индивидуальность или отвлеченное человечество? Можно ли говорить о человеке как о
существующей реальности, если при этом постоянно уничтожаются или
обесцениваются личности, если само человечество превращается лишь в простое чередование
поколений и личностей? Между тем понятие человечества имеет в современных
Не подтверждается ли это за последние годы эпидемией самоубийств, в числе которых
многие вызываются именно утратой веры в старые идеалы, а в связи с этим и жизненной
устойчивости?
270
глазах только такое значение. Проклятие бездомности и взаимной чуждости
поколений неизбежно ложится на людей, как только мы начинаем так мыслить
человечество. Часть не может заменять целого — ведь если в теперешнем обществе
капиталисты пользуются всеми материальными благами, мы не можем же говорить, что
современное общество благоденствует, и если действительно в конце времен будут
благоденствовать последние поколения и они окажутся счастливыми наследниками
всего исторического прогресса, то одинаково нет оснований думать и говорить, что
в лице их спаслось человечество, побеждена историческая трагедия.
Самодовольный капиталист, не заботящийся о своих близких, в частности, о своих рабочих,
всего менее может считаться воплощением идеала, но столь же мало может
послужить им и гражданин Zukunftstaat'a, если он самодовольно забудет о наших
страданиях, о той цене, которой был куплен этот Zukunftstaat6* в истории. В
представлениях о государстве будущего, о спасающемся прогрессом человечестве неизбежно
приходится колебаться между двумя возможностями: или будущие люди с более
чуткой совестью, с более развитым чувством общечеловеческой солидарности и
любви будут терзаться от сознания, что их благополучие куплено такою дорогой
ценой, и тогда они в тысячу раз жальче нас и несчастнее, и уж совершенно не
годятся для роли увенчивающих мировую историю счастливцев будущего, или, в
обратном случае, если они обо всем забудут и все припишут себе самим, то мы
имеем отталкивающее безобразие, от которого тошнит и мутит при мысли, что
ради мещанского довольства и благополучия этих господ была заплачена такая
цена, пролита была мученическая кровь. Меня всегда поражает, как исповедующие
религию прогресса, чающие Zukunftstaat'a не замечают всей внутренней
безысходности своего положения, всей призрачности своего идеала. Нет, идея прогресса не
дает и не может дать исхода из трагических противоречий жизни, человек не
может спастись от них в прогрессе.
Но прогресс не есть спасение еще и потому, что он не побеждает главного
врага, обесценивающего и обессмысливающего жизнь, - смерть, страшным
нигилизмом уничтожающую все ценности. Иногда пытаются одержать мещанскую победу
над смертью, притупив ее трагическое острие, изобретая средство сделать ее
возможно безболезненной и покойной7*. Факт существования смерти обесценивает
жизнь не только тем, что превращает ее в нечто временное и случайное, он
уничтожает и самую связь человечества, кладет печать разорванности на всю его
духовную жизнь. То, что мыслится в понятии «вечная жизнь», предполагает новый,
качественно отличный способ восприятия бытия, в отличие от разорванности
временного. И жажда полного абсолютного познания и чувства, которую мы испытываем
в своей душе, требует для своего удовлетворения именно особой, качественно иной
жизни, чем та, какую мы знаем, жизни вечной, и только в ней может разрешиться
загадка человеческого духа. Утолить это алкание вечности мы не можем,
заглушать его мы не должны, ибо это значило бы погасить в себе огонъ Прометея,
совершить величайшее духовное преступление, измену Духу Святому. И для
будущих поколений остается та же дилемма: или эта загадочность, противоречивость,
ненасытность и ненасыщаемость духа, какая и у нас, только больше, острее,
мучительнее, или мещанское тупое самодовольство, чего да не будет!
Что же дает нам учение о воскресении Христа и основанном на нем грядущем
всеобщем воскресении, о преображении мира и нас в нем, о новом небе и новой
земле, о Новом Иерусалиме, в котором «ничего уже не будет проклятого», в
котором «отрет Бог всякую слезу, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни
болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (Апок. XXI, XXII), и «времени уже не
будет»8*? Оно дает единственно возможный и мыслимый исход из указанных
трагических противоречий, оно утверждает единственную разумную и приемлемую
«теорию прогресса», и те намеки, которые робко и нерешительно прорываются в
271
чаяниях современного человечества, оно торжественным победным гимном:
«Христос воскресе!» - возвещает миру.
Христос воскрес — в мистическом центре мира произошло уже решительное
столкновение добра и зла, жизни и смерти, добро, жизнь одержали уже
решительную и безусловную победу, и Христос воскрес - таков абсолютный факт, который
возвещает миру христианство, в котором кладет свое основание9*. Воскресение
Христа это завет и обетование сохранения всех ценностей10* и прежде всего
абсолютной ценности человеческих индивидуальностей, безжалостно косимых смертью,
а с ними восстановление всего вечного и ценного, что творилось в истории; это -
спасение духовных благ, истинных ценностей культуры, приобщение
исторического человечества к мировому творчеству, к учению в мироздании. Этим дается ответ
и на вопрос, к чему же человеческая история после Христа, зачем осуждены мы
мучиться и томиться в этой юдоли скорби, когда вечная правда одержала
окончательную победу и уже было сказано: «Мужайтесь, Я победил мир» (Иоан. XVII, 33).
Мироздание с центром своим, человечеством, душой мира, с его историей, является
делом богочеловеческим, не только божеским, но и человеческим. Человечество не
может ни спастись, ни преобразить себя и мир своими силами, но оно и не должно
быть спасено насильно, как ребенок, оно должно достигнуть внутренней зрелости
путем свободы искушений, должно совершить исторический процесс. И этот
процесс в вере христианской получает абсолютную, хотя и вне себя лежащую цель, -
оно подготовляет мир и человечество к всеобщему преобразованию, к сретению
Грядущего во славе и силе. Каков бы ни был этот процесс по своему
непосредственному содержанию и земным результатам, но он, во всяком случае, по своей
конечной цели является прогрессом, ибо есть путь вперед к абсолютной цели, к
Новому Иерусалиму. И, следовательно, участие в историческом делании и
осуществлении прогресса есть задача не только обязательная, но и полная глубокого,
непререкаемого смысла, хотя и неопределяемого земными непосредственными
результатами. И никакое деяние творческого подвига, дар Духа Святого, не
отметается, не уничтожается смертью, но соблюдается как мост к будущему, как
подлежащее увековечению и росту в предстоящем Преображении и Воскресении. И
воскреснут народы в своей исторически-психологической индивидуальности с тем, что
в них бессмертно, что от Духа Святого, и восстановятся умершие
индивидуальности, без которых мир пустеет, все вопросы разрешатся, и мы поймем не как
«зерцалом в гадании, но лицом к лицу».
Мечта о Новом Иерусалиме, предчувствие спасения мира и всеобщего
воскресения и преображения глубоко залегла в душе и у тех, которые отвергли веру в
Спасителя. Спасение есть реальный совершившийся факт, и его присутствие в жизни
людей нельзя устранить. Отсюда рождаются теории прогресса, мечты о Zukun-
ftstaat'e, этот слабый отблеск неземного света Нового Иерусалима, но как бледны
и извращены эти идеалы, после того как они оторваны от своего религиозного
корня и превращены из идеалов всеобщего сохранения и восстановления всех
ценностей в скучную, бесцельную мечту о кратковременном земном счастье позднейших
поколений, купленном ценою крови, страданий и жизней предыдущих людей. Как
все самое заветное и дорогое вырождается и вянет, оторванное от родимого ствола!
Поистине «без Меня не можете творить ничего»11*.
Но мы слышим уже, как против нас выдвигается главный логический идол
нашего времени — «научность», перед которым пасуют, склоняют свои колени
многие даже смелые умы, слышим хриплый, скрипучий, мертвенный голос ее
оракулов, говорящий: как можно говорить о воскресении, о чудесах, вообще о таких
вещах, которые давно упразднены наукой и отнесены к числу отживших суеверий!
Поищем убежища под сению одного из самых главных умственных идолов,
помещающихся в кумире научности, — идеи эволюции. Это учение, также
представляющее отголосок забытого Откровения, гласит, что все развивается, создаются
272
новые формы бытия, новые формы жизни. Путем эволюции возникла из мертвой
материи первая живая клетка, а сложением этих клеток образовался животный
мир, а эволюция животного мира создала Платона и Дарвина, Ньютона и
Шекспира. Эта теория, как и все научные теории отрицающая чудесное, - хотя в
истинный, философский смысл этого понятия сторонники ее не углубляются, считая
чудом, по лености мысли, лишь прямое отрицание законов природы, - выводит
нас, сама того не замечая, в мир чудес, в мир нового непрерывного творения, в
мир постоянных преображений. Именно теория эволюции подводит нас вплотную к
идее всеобщего воскресения и преображения. Теория эволюции устанавливает
лишь порядок становления нового создания и, описывая эти условия, она делает
нас нечувствительными к тому, что мы живем в атмосфере непрерывного чуда.
Разве не чудо, не новое творение - появление жизни на нашей планете, новых
видов, наконец, культуры? Протрите свои глаза и смотрите кругом. Разве не чудо,
что от темной матери и отца, темною стезей утробного развития, прорывается в
мир вдруг великий гений и светильник человечества, несущий ему новую весть?
Наше время больше всего любит употреблять идею «естественной
необходимости», научно познаваемой и формулируемой в законах природы, противопоставляя
ей понимание мира как воплощения творческих идей, как непрерывного чуда.
Философы этого направления проглядывают при этом только один вид естественной
необходимости - естественную необходимость... чуда, нового творения, новой
жизни. Например, в марксизме утверждается, что в силу научно познанной
естественной необходимости - развития производительных сил на известной ступени этого
развития совершается чудо: наступает общественное преображение, кончается
Vorgeschichte и начинается Geschichte12*, или, как эта мысль иначе формулируется
у того же Маркса, за царством необходимости наступает царство свободы13*. Вместо
злобного, несчастного, раздираемого враждой человеческого мира создается вдруг
светлое, полное гармонии и радости царство человекобогов, начинается история,
из грязного безобразного кокона вылетает чудная бабочка, грязное яйцо лопается и
в нем оказывается райская птица...
И вот на основании того же самого понятия естественной необходимости, с
каким оперирует современная научная мысль и в дарвинизме, и в марксизме, и
вообще в эволюционизме, мы и постулируем, утверждаем необходимость чуда -
Воскресения Христова, а за ним и всеобщего воскресения и преображения как
высшего и заключительного звена космической эволюции. Центр вопроса состоит именно
в том, где же искать мирового демиурга, творящего эту «естественную
необходимость»? Видеть ли его в полуфантастическом, полумифологическом, совершенно
чуждом нашему внутреннему, непосредственному опыту представлении о косной
материи или же видеть ее в светлой силе человеческого и мирового духа? Эти
исходные философские и религиозные предпосылки не могут быть даны наукой14*, их
почерпает человеческий дух в недрах своих, в философском и религиозном
сознании. Для христианства смерть не есть физическая, но нравственная необходимость,
следствие греха, недолжного разделения тела и духа, соответственные же
физические процессы суть только внешнее осуществление внутренней нравственной
необходимости15*. И если смертным неизбежно оказывается грешный человек, то
безгрешному человеку, совершенной святости, с «естественной необходимостью»16*
принадлежит бессмертие. «Смерти было невозможно удержать Его», так говорили в
проповеди о Воскресшем апостолы, после сошествия Св. Духа17*.
«Одно из двух: или Евангельский Христос - миф, т. е. Его или совсем не было,
или же исторический Христос в действительности очень отличается от Христа
Евангельского (оба мнения широко распространены в наше время), или же такой
Праведник, если только он когда-нибудь ходил по этой земле, не мог уже
сделаться добычей тления, и признать противное, значит, вообще утверждать бессилие
нравственного начала в мире, впадать в такой безграничный пессимизм, при кото-
273
ром жизнь кажется дьявольским измышлением, а мечты о прогрессе — глупым
ребячеством. «Если бы Христос не воскрес, если бы Каиафа оказался правым, а
Ирод и Пилат — мудрыми, мир оказался бы бессмыслицей, царством зла, обмана и
смерти. Дело шло не о прекращении чьей-то жизни, а о том, прекратилась ли
истинная жизнь, жизнь совершенного праведника. Если такая жизнь не могла
одолеть врага, то какая же оставалась надежда в будущем?»1
В воскресении Христа решался вопрос о смысле жизни, истории, о правде
мира. В Нем все бы умерло, и с Ним все воскресает, исполняется разума, становится
светоносным, и даже та теория эволюции и прогресса, которою теперь человечество
отгораживается от религии,· получает высший смысл и значение.
«Если Христос не воскрес, тщетна вера наша»18*, тщетна история, тщетен
прогресс, тщетна культура - все тщета, тлен, бессмыслица.
Христос воскрес!
1906
1 Вл. С. Соловьев. Пасхальные письма. «Христос воскрес!» // Собр. соч. Т. VIII. С. 107. Ср.
письмо его к Л. Н. Толстому, напечатанное в «Вопросах философии и психологии» (1905. IV).
III. ГЕРОИЗМ И ПОДВИЖНИЧЕСТВО1
(Из размышлений о религиозной природе русской интеллигенции)
I
Россия пережила революцию. Эта революция не дала того, чего от нее
ожидали. Положительные приобретения освободительного движения все же остаются, по
мнению многих, и по сие время, по меньшей мере, проблематичными. Русское
общество, истощенное предыдущим напряжением и неудачами, находится в каком-то
оцепенении, апатии, духовном разброде, унынии. Русская государственность не
обнаруживает пока признаков обновления и укрепления, которые для нее так
необходимы, и, как будто в сонном царстве, все опять в ней застыло, скованное
дремой. Русская гражданственность, омрачаемая многочисленными смертными
казнями2*, необычайным ростом преступности3* и общим огрубением нравов, пошла
положительно назад. Русская литература залита мутной волной порнографии и
сенсационных изделий. Есть отчего прийти в уныние и впасть в глубокое сомнение
относительно дальнейшего будущего России. И, во всяком случае, теперь, после
всего пережитого, невозможны уже как наивная, несколько прекраснодушная
славянофильская вера, так и розовые утопии старого западничества. Революция
поставила под вопрос самую жизнеспособность русской гражданственности и
государственности; не посчитавшись с этим историческим опытом, с историческими
уроками революции, нельзя делать никакого утверждения о России, нельзя повторять
задов ни славянофильских, ни западнических.
После кризиса политического наступил и кризис духовный, требующий
глубокого, сосредоточенного раздумья, самоуглубления, самопроверки, самокритики.
Если русское общество действительно еще живо и жизнеспособно, если оно таит в
себе семена будущего, то эта жизнеспособность должна проявиться прежде всего и
больше всего в готовности и способности учиться у истории. Ибо история не есть
лишь хронология, отсчитывающая чередование событий, она есть жизненный
опыт, опыт добра и зла, составляющий условие духовного роста, и ничто так не
опасно, как мертвенная неподвижность умов и сердец, косный консерватизм, при
котором довольствуются повторением задов или просто отмахиваются от уроков
жизни в тайной надежде на новый «подъем настроения», стихийный, случайный,
неосмысленный.
Вдумываясь в пережитое нами за последние годы, нельзя видеть во всем этом
историческую случайность или одну лишь игру стихийный сил. Здесь произнесен
Напечатано в сборнике «Вехи»1*.
275
был исторический суд, была сделана оценка различным участникам исторической
драмы, подведен итог целой исторической эпохи. «Освободительное движение» не
привело к тем результатам, к которым должно было привести, не внесло
примирения, обновления, не привело пока к укреплению государственности (хотя и
оставило росток для будущего - Государственную думу4*) и к подъему народного
хозяйства не потому только, что оно оказалось слишком слабо для борьбы с темными
силами истории, нет, оно и потому еще не могло победить, что и само оказалось не
на высоте своей задачи, само оно страдало слабостью от внутренних противоречий.
Русская*'революция развила огромную разрушительную энергию, уподобилась
гигантскому землетрясению, но ее созидательные силы оказались далеко слабее
разрушительных1. У многих в душе отложилось это горькое сознание как самый
общий итог пережитого. Следует ли замалчивать это разочарование и не лучше ли
его высказать, чтобы задаться вопросом, отчего это так?..
Выше было уже указано, что русская революция была интеллигентской.
Духовное руководительство в ней принадлежало интеллигенции, с ее
мировоззрением, навыками, вкусами, социальными замашками. Сами интеллигенты этого,
конечно, не признают - на то они и интеллигенты - и будут каждый в соответствии
своему катехизису называть тот или другой общественный класс в качестве
единственного двигателя революции. Не оспаривая того, что без целой совокупности
исторических обстоятельств (в ряду которых первое место занимает, конечно,
несчастная война) и без наличности весьма серьезных жизненных интересов разных
общественных классов и групп не удалось бы их сдвинуть с места и вовлечь в
состояние брожения, мы все-таки настаиваем, что весь идейный багаж, все духовное
оборудование вместе с передовыми бойцами, застрельщиками, агитаторами,
пропагандистами были даны революции интеллигенцией. Она духовно оформляла
инстинктивные стремления масс, зажигала их своим энтузиазмом, словом, была
нервами и мозгом гигантского тела революции. В этом смысле революция есть
духовное детище интеллигенции, а следовательно, ее история есть исторический суд над
этой интеллигенцией.
Душа интеллигенции, этого создания Петрова, есть вместе с тем ключ и к
грядущим судьбам русской государственности и общественности. Худо ли это или
хорошо, но судьбы Петровой России находятся в руках интеллигенции, как бы ни
была гонима и преследуема, как бы ни казалась в данный момент слаба и даже
бессильна эта интеллигенция. Она есть то прорубленное Петром окно в Европу,
через которое входит к нам западный воздух, одновременно и живительный, и
ядовитый. Ей, этой горсти, принадлежит монополия европейской образованности и
просвещения в России, она есть главный его проводник в толщу стомиллионного
народа, и если Россия не может обойтись без этого просвещения под угрозой
политической и национальной смерти, то как высоко и значительно это историческое
призвание интеллигенции, сколь устрашающе огромна ее историческая
ответственность перед будущим нашей страны, как ближайшим, так и отдале-нным! Вот
почему для патриота, любящего свой народ и болеющего нуждами русской
государственности, нет сейчас более захватывающей темы для размышлений, как о природе
русской интеллигенции, и вместе с тем нет заботы более томительной и тревожной,
как о том, поднимется ли на высоту своей задачи русская интеллигенция, получит
ли Россия столь нужный ей образованный класс с русской душой, просвещенным
Освободительные движения у нас нередко смешивается со специфической русской
революционностью, о которой идет речь в этих очерках. В действительности - и нельзя этого
достаточно подчеркнуть - между ними скоро обнаружилась противоположность, и притом
настолько глубокая, что революцией, можно сказать, загублено было или парализовано
освободительное движение, духовно капитулировавшее перед возобладавшей революцией. И это
кратковременное возобладание ввергло страну в теперешнюю затяжную реакцию (ср. вообще
об этом наш очерк «Революция и реакция», Моск. еженед. 20 февраля 1910 г.).
276
разумом, твердой волею, ибо в противном случае интеллигенция в союзе с
татарщиной, которой еще так много в нашей государственности и общественности,
погубит Россию. Многие в России после революции, в качестве результата ее опыта,
испытали острое разочарование в интеллигенции и ее исторической годности, в ее
своеобразных неудачах увидали вместе с тем и несостоятельность интеллигенции.
Революция обнажила, подчеркнула, усилила такие стороны ее духовного облики,
которые ранее во всем их действительном значении угадывались лишь немногими
(и прежде всего Достоевским), она оказалась как бы духовным зеркалом для всей
России и особенно для ее интеллигенции. Замалчивать эти черты теперь было бы
не только непозволительно, но и прямо преступно. Ибо на чем же и может
основываться теперь вся наша надежда, как не на том, что годы общественного упадка
окажутся вместе с тем и годами спасительного покаяния, в котором возродятся
силы духовные и воспитаются новые люди, новые работники на русской ниве.
Обновиться же Россия не может, не обновив (вместе с многим другим) прежде всего и
свою интеллигенцию. И говорить об этом громко и открыто есть долг убеждения и
патриотизма5*.
Характер русской интеллигенции вообще складывался под влиянием двух
основных факторов, внешнего и внутреннего. Первым было непрерывное и
беспощадное давление полицейского пресса, способное расплющить, совершенно уничтожить
более слабую духом группу, и то, что она сохранила жизнь и энергию и под этим
прессом, свидетельствует во всяком случае о совершенно исключительном ее
мужестве и жизнеспособности. Изолированность от жизни, в которую ставила
интеллигенцию вся атмосфера старого режима, усиливала черты «подпольной»
психологии6*, и без того свойственные ее духовному облику, замораживала ее духовно,
поддерживая и до известной степени оправдывая ее политический моноидеизм
(«Ганнибалову клятву» борьбы с самодержавием7*) и затрудняя для нее возможность
нормального духовного развития. Более благоприятная внешняя обстановка для этого
развития создается только теперь, и в этом, во всяком случае, нельзя не видеть
духовного приобретения освободительного движения. Вторым, внутренним,
фактором, определяющим характер нашей интеллигенции, является ее особое
мировоззрение и связанный с ним ее духовный склад. Я не могу не видеть самой основной
особенности интеллигенции в ее отношении к религии. Нельзя понять также и
основных особенностей русской революции, если не держать в центре внимания
этого отношения интеллигенции к религии. Но и историческое будущее России
также стягивается в решении вопроса, как самоопределится интеллигенция в
отношении к религии, останется ли она в прежнем, мертвенном, состоянии, или же в
этой области нас ждет еще переворот, подлинная революция в умах и сердцах.
II
Многократно указывалось (вслед за Достоевским), что в духовном облике,
русской интеллигенции имеются черты религиозности, иногда приближающиеся даже
к христианской. Свойства эти воспитывались прежде всего ее внешними
историческими судьбами: с одной стороны - правительственными преследованиями,
создававшими в ней самочувствие мученичества и исповедничества, с другой -
насильственной оторванностью от жизни, развивавшей мечтательность, иногда
прекраснодушие, утопизм, вообще недостаточное чувство действительности. В связи с этим
находится та ее черта, что ей остается психологически чуждым — хотя, впрочем,
может быть, только пока, — прочно сложившийся «мещанский» уклад жизни
Зап<адной> Европы, с его повседневными добродетелями, с его трудовым
интенсивным хозяйством, но и с его бескрылостью, ограниченностью. Классическое
выражение духовного столкновения русского интеллигента с европейским мещанст-
277
вом мы имеем в сочинениях Герцена1 . Сродные настроения не раз выражались и в
новейшей русской литературе. Законченность, прикрепленность к земле, духовная
ползучесть этого быта претит русскому интеллигенту, хотя мы все знаем,
насколько ему надо учиться, по крайней мере, технике жизни и труда у западного
человека. В свою очередь, и западной буржуазии отвратительна и непонятна эта бродячая
Русь, эмигрантская вольница, питающаяся еще вдохновениями Стеньки Разина и
Емельки Пугачева, хотя бы и переведенными на современный революционный
жаргон, и в последние годы этот духовный антагонизм достиг, по-видимому,
наибольшего напряжения.
Если мы попробуем разложить эту «антибуржуазность» русской интеллигенции,
то она окажется mixtum compositum8*, составленным из очень различных элементов.
Есть здесь и доля наследственного барства, свободного в ряде поколений от забот о
хлебе насущном и вообще от будничной, «мещанской» стороны жизни. Есть
значительная доза просто некультурности, непривычки к упорному, дисциплинированному
труду и размеренному укладу жизни9*. Но есть, несомненно, и некоторая, впрочем,
может быть, и не столь большая доза бессознательно-религиозного отвращения к
духовному мещанству, к «царству от мира сего», с его успокоенным самодовольством.
Известная неотмирность, эсхатологическая мечта о Граде Божием, о грядущем
царстве правды (под разными социалистическими псевдонимами) и затем
стремление к спасению человечества - если не от греха, то от страданий - составляют,
как известно, неизменные и отличительные особенности русской интеллигенции.
Боль от дисгармонии жизни и стремление к ее преодолению отличают и наиболее
крупных писателей-интеллигентов (Гл. Успенский, Гаршин). В этом стремлении к
Грядущему Граду, в сравнении с которым бледнеет земная действительность,
интеллигенция сохранила, быть может, в наиболее распознаваемой форме черты
утраченной церковности. Сколько раз во второй Государственной думе в бурных
речах атеистического левого блока мне слышались - странно сказать! - отзвуки
психологии православия, вдруг обнаруживалось влияние его духовной прививки.
Вообще, духовными навыками, воспитанными Церковью, объясняется и не одна
из лучших черт русской интеллигенции, которые она утрачивает по мере своего"
удаления от Церкви, напр<имер>, некоторый пуританизм, ригористические нравы,
своеобразный аскетизм, вообще строгость личной жизни; такие, напр<имер>,
вожди русской интеллигенции, как Добролюбов и Чернышевский10* (оба семинаристы,
воспитанные в религиозных семьях духовных лиц), сохраняют почти нетронутым
свой прежний нравственный облик, который, однако же, постепенно утрачивают
их исторические дети и внуки. Христианские черты, воспринятые иногда помимо
ведома и желания через посредство окружающей среды, из семьи, от няни, из
духовной атмосферы, пропитанной церковностью, просвечивают в духовном облике
лучших и крупнейших деятелей русской революции. Ввиду.того, однако, что
благодаря этому лишь затушевывается вся действительная противоположность
христианского и интеллигентского душевного уклада, важно установить, что черты
эти имеют наносной, заимствованный, в известном смысле атавистический
характер и исчезают по мере ослабления прежних христианских навыков, при более
полном обнаружении интеллигентского типа, проявившегося с наибольшей силою в
дни революции и стряхнувшего с себя тогда и последние пережитки христианства.
Русской интеллигенции, особенно в прежних поколениях, свойственно также
чувство виновности перед народом, это своего рода «социальное покаяние»,
конечно, не перед Богом, но перед «народом» или «пролетариатом». Хотя эти чувства
«кающегося дворянина»11* или «внеклассового интеллигента» по своему
историческому происхождению тоже имеют некоторый социальный привкус барства, но и
1 Ср. об этом мой очерк «Душевная драма Герцена» в сборнике «От марксизма к
идеализму» и в отдельном издании.
278
они накладывают отпечаток особой углубленности и страдания на лицо
интеллигенции. К этому надо еще присоединить ее жертвенность, эту неизменную
готовность на всякие жертвы у лучших ее представителей и даже искание их. Какова
бы ни была психология этой жертвенности, но и она укрепляет настроение неот-
мирности интеллигенции, которое делает ее облик столь чуждым мещанству и
придает ему черты особой религиозности.
И тем не менее, несмотря на все это, известно, что нет интеллигенции более
атеистической, чем русская. Атеизм есть общая вера, в которую крещаются
вступающие в лоно церкви интеллигентски-гуманистической, и не только из
образованного класса, но и из народа. И так повелось изначала, еще с духовного отца
русской интеллигенции Белинского. И как всякая общественная среда
вырабатывает свои привычки, свои особые верования, так и традиционный атеизм русской
интеллигенции сделался само собою разумеющеюся ее особенностью, о которой
даже не говорят, как бы признаком хорошего тона. Известная образованность,
просвещенность есть в глазах нашей интеллигенции синоним религиозного
индифферентизма и отрицания. Об этом нет споров среди разных фракций, партий,
«направлений», это все их объединяет. Этим пропитана насквозь, до дна, скудная
интеллигентская культура, с ее газетами, журналами, направлениями, программами,
правами, предрассудками, подобно тому как дыханием окисляется кровь,
распространяющаяся потом по всему организму. Нет более важного факта в истории
просвещения, чем этот. И вместе с тем приходится признать, что русский атеизм
отнюдь не является сознательным отрицанием, плодом сложной, мучительной и
продолжительной работы ума, сердца и воли, итогом личной жизни. Нет, он берется
чаще всего на веру и сохраняет эти черты наивной религиозной веры, только
наизнанку, и это не изменяется вследствие того, что он принимает воинствующие,
догматические, наукообразные формы. Эта вера берет в основу ряд некритических,
непроверенных утверждений, именно, что наука компетентна окончательно
разрешить и вопросы религии и притом разрешает их только в отрицательном смысле; к
этому присоединяется еще подозрительное отношение к философии, особенно
метафизике, тоже заранее отвергнутой и осужденной.
Веру эту разделяют и ученые, и неученые, и старые, и молодые. Она усвояется
в отроческом возрасте, который биографически наступает, конечно, для одних
ранее, для других позже. В этом возрасте обыкновенно легко и даже естественно
воспринимается отрицание религии, тотчас же заменяемой верою в науку, в
прогресс. Наша интеллигенция, раз став на эту почву, в большинстве случаев всю
жизнь так и остается при этой вере, считая эти вопросы уже достаточно
разъясненными и окончательно порешенными, загипнотизированная всеобщим
единодушием в этом мнении. Отроки становятся зрелыми мужами, иные из них
приобретают серьезные научные знания, делаются видными специалистами и в таком
случае они бросают на чашку весов в пользу отрочески уверованного, догматически
воспринятого на школьной скамье атеизма свой авторитет «людей науки», хотя бы
в области этих вопросов они были нисколько не более авторитетны, нежели
каждый мыслящий и чувствующий человек. Таким образом создается духовная
атмосфера и в нашей высшей школе, где формируется подрастающая интеллигенция. И
поразительно, сколь мало впечатления производили на русскую интеллигенцию
люди глубокой образованности, ума, гения, когда они звали ее к религиозному
углублению, к пробуждению от догматической спячки, как мало замечены были
ндши религиозные мыслители и писатели славянофилы Вл. Соловьев, Бухарев, кн.
С. Трубецкой и др., как глуха оставалась наша интеллигенция к религиозной
проповеди Достоевского и даже Л. Н. Толстого, несмотря на внешний культ его имени.
В русском атеизме больше всего поражает его догматизм, то, можно сказать,
религиозное легкомыслие, с которым он принимается. Ведь до последнего времени
религиозной проблемы, во всей ее огромной и исключительной важности и жгуче-
279
сти, русское «образованное» общество просто не замечало и не понимало, религией
же интересовалось вообще лишь постольку, поскольку это связывалось с
политикой или же с проповедью атеизма. Поразительно невежество нашей интеллигенции
в вопросах религии. Я говорю это не для обвинения, ибо это имеет, может быть, и
достаточное историческое оправдание, но для диагноза ее духовного состояния.
Наша интеллигенция по отношению к религии просто еще не вышла из
отроческого возраста, она еще не думала серьезно о религии и не дала себе сознательного
религиозного самоопределения, она не жила еще религиозной мыслью и остается
поэтому, строго говоря, не выше религии, как думает о себе сама, но вне религии.
Лучшим доказательством всему этому служит историческое происхождение
русского атеизма. Он усвоен нами с Запада (недаром он и стал первым членом символа
веры нашего «западничества»). Его мы приняли как последнее слово западной
цивилизации, сначала в форме вольтерьанства и материализма французских
энциклопедистов, затем атеистического социализма (Белинский), позднее материализма
60-х годов, позитивизма, фейербаховского гуманизма, в новейшее время
экономического материализма и - самые последние годы - критицизма. На
многоветвистом дереве западной цивилизации, своими корнями идущем глубоко в историю,
мы облюбовали только одну ветвь, не зная, не желая знать всех остальных, в
полной уверенности, что мы прививаем себе самую подлинную европейскую
цивилизацию. Но европейская цивилизация имеет не только разнообразные плоды и
многочисленные ветви, но и корни, питающие дерево и до известной степени
обезвреживающие своими здоровыми соками многие ядовитые плоды. Потому даже и
отрицательные учения на своей родине, в ряду других могучих духовных течений, им
противоборствующих, имеют совершенно другое психологическое и историческое
значение, нежели когда они появляются в культурной пустыне и притязают стать
единственным фундаментом русского просвещения и цивилизации. Si duo idem dicunt,
non est idem12*. На таком фундаменте не была построена еще ни одна культура.
В настоящее время нередко забывают, что западноевропейская культура имеет
религиозные корни, по крайней мере, наполовину построена на религиозном
фундаменте, заложенном средневековьем и реформацией13*. Каково бы ни было наше
отношение к реформационной догматике и вообще к протестантизму, но нельзя
отрицать, что реформация вызвала огромный религиозный подъем во всем
западном мире, не исключая и той его части, которая осталась верна католицизму, но
тоже была принуждена обновиться для борьбы с врагами. Новая личность
европейского человека в этом смысле родилась в реформации (и это происхождение ее
наложило на нее свой отпечаток), политическая свобода, свобода совести, права
человека и гражданина были провозглашены также реформацией (в Англии);
новейшими исследованиями14* выясняется также значение протестантизма, особенно
в реформатстве, кальвинизме и пуританизме, и для хозяйственного развития, при
выработке индивидуальностей, пригодных стать руководителями развивавшегося
народного хозяйства1. В протестантизме же преимущественно развивалась и
новейшая наука, и особенно философия. И все это развитие шло со строгой
исторической преемственностью и постепенностью, без трещин и обвалов. Культурная
история западноевропейского мира представляет собою одно связное целое, в котором
еще живы и свое необходимое место занимают и средние века, и реформационная
эпоха наряду с веяниями нового времени.
Уже в эпоху Реформации обозначается и то духовное русло, которое оказалось
определяющим для русской интеллигенции. Наряду с реформацией в
гуманистическом ренессансе, возрождении классической древности возрождались и некоторые
черты язычества. Параллельно с религиозным индивидуализмом реформации
усиливался и неоязыческий индивидуализм, возвеличивавший натурального, невозро-
жденного человека. По этому воззрению, человек добр и прекрасен по своей при-
Ср. очерк «Народное хозяйство и религиозная личность».
280
роде, которая искажается лишь внешними условиями; достаточно восстановить
естественное состояние человека, и этим будет все достигнуто. Здесь — корень
разных естественноправовых теорий, а также и новейших учений о прогрессе и о
всемогуществе внешних реформ для разрешения человеческой трагедии, а
следовательно, и всего новейшего гуманизма и социализма. Внешняя, кажущаяся
близость индивидуализма религиозного и языческого не устраняет их глубокого
внутреннего различия, и поэтому мы наблюдаем в новейшей истории не только
параллельное развитие, но и борьбу обоих этих течений. Усиление мотивов
гуманистического индивидуализма в истории мысли знаменует эпоху так называемого
«просветительства» (Aufklärung) в XVII, XVIII, отчасти XIX веках. Просветительство
делает наиболее радикальные отрицательные выводы из посылок гуманизма: в
области религии через посредство деизма оно приходит к скептицизму и атеизму; в
области философии через рационализм и эмпиризм — к позитивизму и
материализму; в области морали через «естественную» мораль - к утилитаризму и гедонизму.
Материалистический социализм тоже можно рассматривать как самый поздний и
зрелый плод просветительства. Это направление, которое представляет собою
отчасти продукт разложения реформации, и само есть одно из разлагающих начал в
духовной жизни Запада, весьма влиятельное в новейшей истории. Им
вдохновлялась великая французская революция и большинство революций XIX века, и оно
же, с другой стороны, дает духовную основу и для европейского мещанства,
господство которого сменило пока собой героическую эпоху просветительства. Однако
очень важно не забывать, что хотя лицо европейской земли все более искажается
благодаря широко разливающейся в массах популярной философии
просветительства и застывает в холоде, мещанства, но в истории культуры просветительство
никогда не играло и не играет исключительной или даже господствующей роли;
дерево европейской культуры и до сих пор, даже незримо для глаз, питается
духовными соками старых религиозных корней. Этими корнями, этим здоровым
историческим консерватизмом и поддерживается прочность самого дерева, хотя в той
мере, в какой просветительство проникает в корни и ствол, и оно тоже начинает
чахнуть и загнивать. Поэтому нельзя считать западноевропейскую цивилизацию
безрелигиозной в ее исторической основе, хотя она действительно и становится все
более таковой в сознании последних поколений. Наша интеллигенция в своем
западничестве не пошла дальше внешнего усвоения новейших политических и
социальных идей Запада, причем приняла их в связи с наиболее крайними и резкими
формами философии просветительства. В этом отборе, который произвела сама
интеллигенция, в сущности даже и не повинна западная цивилизация в ее
органическом целом. В перспективе ее истории для русского интеллигента исчезает
совершенно роль «мрачной» эпохи Средневековья, всей реформационной эпохи с ее
огромными духовными приобретениями, все развитие научной и философской
мысли, помимо крайнего просветительства. Вначале было варварство, а затем воссияла
цивилизация, т.е. просветительство, материализм, атеизм, социализм, - вот
несложная философия истории среднего русского интеллигента. Поэтому в борьбе за
русскую культуру надо бороться, между прочим, даже и за более углубленное,
исторически сознательное западничество.
Отчего же так случилось, что наша интеллигенция усвоила себе с такою
легкостью именно догматы просветительства? Для этого может быть указано много
исторических причин, но в известной степени отбор этот был и свободным делом
самой интеллигенции, за которое она постольку и ответственна перед родиной и
историей.
Во всяком случае, благодаря этому разрывается связь времен в русском
просвещении, и этим разрывом духовно больна наша родина.
281
Ill
Отбрасывая христианство и установляемые им нормы жизни, вместе с атеизмом
или, лучше сказать, вместо атеизма наша интеллигенция воспринимает догматы
религии человекобожества, в каком-либо из вариантов, выработанных
западноевропейским просветительством. Основным догматом, свойственным всем ее
вариантам, является вера в естественное совершенство человека, в бесконечный прогресс,
осуществляемый силами человека, а вместе с тем и механическое его понимание.
Так как все зло объясняется внешним неустройством человеческого общежития, и
потому нет ни личной вины, ни личной ответственности, то вся задача
общественного устроения заключается в преодолении этих внешних неустройств, конечно,
внешними же реформами. Отрицая Провидение и какой-либо изначальный план,
осуществляющийся в истории, человек ставит себя здесь на место Провидения и в
себе видит своего спасителя. Этой самооценке не препятствует и явно
противоречащее ей механическое, иногда грубо материалистическое понимание
исторического процесса, которое сводит его к деятельности стихийных сил (как в
экономическом материализме); человек остается все-таки единственным разумным,
сознательным агентом, своим собственным провидением. Такое настроение на Западе,
где оно явилось уже в эпоху культурного расцвета, почувствованной мощи
человека, психологически окрашено чувством культурного самодовольства
разбогатевшего буржуа. Хотя и для религиозной оценки это самообожествление европейского
мещанства - одинаково как в социализме, так и в индивидуализме —
представляется отвратительным самодовольством и духовным хищением, временным
притуплением религиозного сознания, но на Западе это человекобожие, имевшее свой
Sturm und Drang15*, давно уже стало (никто, впрочем, не скажет, надолго ли)
ручным и спокойным, как и европейский социализм. Во всяком случае, оно бессильно
пока расшатать (хотя с медленной неуклонностью и делает это) трудовые устои
европейской культуры, духовное здоровье европейских народов. Вековая традиция
и историческая дисциплина труда практически еще побеждают разлагающее
влияние самообожения. Иначе в России, при происшедшем здесь разрыве связи
исторических времен. Религия человекобожия и ее сущность - самообожение в России
были приняты не только с юношеским пылом, но и с отроческим неведением
жизни и своих сил и получили почти горячечные формы. Вдохновляясь ею,
интеллигенция наша почувствовала себя призванной сыграть роль Провидения
относительно своей родины. Она сознавала себя единственной носительницей света и
европейской образованности в этой стране, где все, казалось ей, было охвачено
непроглядной тьмой, все было столь варварским и ей чуждым. Она признала себя духовным
ее опекуном и решила ее спасти, как понимала и как умела.
Интеллигенция стала по отношению к русской истории и современности в
позицию героического вызова и героической борьбы, опираясь при этом на свою
самооценку. Героизм - вот то слово, которое выражает, по моему мнению, основную
сущность интеллигентского мировоззрения и идеала, притом героизм
самообожения. Вся экономия ее душевных сил основана на этом самочувствии.
Изолированное положение интеллигента в стране, его оторванность от почвы,
суровая историческая среда, отсутствие серьезных знаний и исторического опыта -
все это взвинчивало психологию этого героизма. Интеллигент, особенно временами,
впадал в состояние героического экстаза, с явно истерическим оттенком. Россия
должна быть спасена, и спасителем ее может быть и должна явиться
интеллигенция вообще и даже имярек в частности, и помимо его нет спасителя и нет
спасения. Ничто так не утверждает психологии героизма, как внешние преследования,
гонения, борьба с ее перипетиями, опасность и даже погибель. И - мы знаем -
русская история не скупилась на это, русская интеллигенция развивалась и росла
в атмосфере непрерывного мученичества, и нельзя не преклониться перед святыней
282
страданий русской интеллигенции. Но и преклонение перед этими страданиями в
их необъятном прошлом и тяжелом настоящем, перед этим «крестом», вольным или
невольным, не заставит молчать о том, что все-таки остается истиной, о чем нельзя
молчать хотя бы во имя пиетета перед мартирологом интелдигенции.
Итак, страдания и гонения больше всего канонизируют героя и в его
собственных глазах, и для окружающих. И так как вследствие печальных особенностей
русской жизни такая участь постигает его нередко уже в юном возрасте, то и
самосознание это тоже появляется рано, и дальнейшая жизнь тогда является лишь
последовательным развитием в принятом направлении. В литературе и из
собственных наблюдений каждый^ без труда найдет много примеров тому, как, с одной
стороны, полицейский режим калечит людей, лишает их возможности полезного
труда, и как, с другой стороны, он содействует выработке особого духовного
аристократизма, так сказать, патентованного героизма у его жертв. Горько думать,
как много отраженного влияния полицейского режима в психологии русского
интеллигентского героизма, как велико было это влияние не на внешние только
судьбы людей, но и на их души, на их мировоззрение. Во всяком случае, влияния
западного просветительства, религии человекобожия и самообожения нашли в
русских условиях жизни неожиданного, но могучего союзника. Если юный
интеллигент — скажем, студент или курсистка — еще имеет сомнение в том, что он созрел
уже для исторической миссии спасителя отечества, то признание этой зрелости со
стороны м<инистерства> вн<утренних> д<ел> обычно устраняет и эти последние
сомнения. Превращение русского юноши или вчерашнего обывателя в тип
героический по внутренней работе, требующейся для этого, есть несложный, большей
частью кратковременный процесс усвоения некоторых догматов религии
человекобожия и quasi-научной «программы» какой-либо партии и затем соответствующая
перемена собственного самочувствия, после которой сами собой вырастают
героические котурны. В дальнейшем развитии страдания, озлобление вследствие
жестокости властей, тяжелые жертвы, потери довершают выработку этого типа, которому
тогда может быть свойственно что угодно, только уже не сомнения в своей миссии.
Героический интеллигент не довольствуется поэтому ролью скромного
работника (даже если он и вынужден ею ограничиваться), его мечта — быть спасителем
человечества или, по крайней мере, русского народа. Для него необходим (конечно,
в мечтаниях) не обеспеченный минимум, но героический максимум. Максимализм
есть неотъемлемая черта интеллигентского героизма, с такой поразительной
ясностью обнаружившаяся в годину русской революции. Это - не принадлежность
какой-либо одной партии, нет — это самая душа героизма, ибо герой вообще не
мирится на малом. Даже если он и не видит возможности сейчас осуществить этот
максимум и никогда ее не увидит, в мыслях он занят только им. Он делает
исторический прыжок в своем воображении и, мало интересуясь перепрыгнутым путем,
вперяет свой взор лишь в светлую точку на самом краю исторического горизонта.
Такой максимализм имеет признаки идейной одержимости, самогипноза, он
сковывает мысль и вырабатывает фанатизм, глухой к голосу жизни. Этим дается ствет и
на тот исторический вопрос, почему в революции торжествовали самые крайние
направления, причем непосредственные задачи момента определялись все
максимальнее и максимальнее (вплоть до осуществления социальной республики или
анархии). Причем эти более крайние и явно безумные направления становились все
сильнее и влиятельнее и при общем полевении нашего трусливого и пассивного
общества, легко подчиняющегося силе, оттесняли собою все более умеренное
(достаточно вспомнить ненависть к «кадетам» со стороны «левого блока»).
Каждый герой имеет свой способ спасения человечества, должен выработать
свою для него программу. Обычно за таковую принимается одна из программ
существующих политических партий или фракций, которые, не различаясь в своих
целях (обычно они основаны на идеалах материалистического социализма или, в
283
последнее время, еще и анархизма), разнятся в своих путях и средствах. Ошибочно
было бы думать, чтобы эти программы политических партий психологически
соответствовали тому, что они представляют собой у большинства парламентских
партий западноевропейского мира; это есть нечто гораздо большее - это религиозное
credo, самовернейший способ спасения человечества, идейный монолит, который
можно только или принять, или отвергнуть. Во имя веры в программу лучшими
представителями интеллигенции приносятся жертвы жизнью, здоровьем, свободой,
счастьем. Хотя программы эти обыкновенно объявляются еще и «научными», чем
увеличивается их обаяние, но о степени действительной «научности» их лучше и не
говорить, да и, во всяком случае, наиболее горячие их адепты могут быть, по
степени своего развития и образованности, плохими судьями в этом вопросе.
Хотя все чувствуют себя героям, одинаково призванными быть провидением и
спасителями, но они не сходятся в способах и путях этого спасения. И так как при
программных разногласиях в действительности затрагиваются самые центральные
струны души, то партийные раздоры становятся совершенно неустранимыми.
Интеллигенция, страдающая «якобинизмом», стремящаяся к «захвату власти», к
«диктатуре» во имя спасения народа, неизбежно разбивается и распыляется на
враждующие между собою фракции, и это чувствуется тем острее, чем выше
поднимается температура героизма. Нетерпимость и взаимные распри суть настолько
известные черты нашей партийной интеллигенции, что об этом достаточно лишь
упомянуть. С интеллигентским движением происходит нечто вроде самоотравления. Из
самого существа героизма вытекает, что он предполагает пассивный объект
воздействия - спасаемый народ или человечество, между тем герой - личный или
коллективный — мыслится всегда лишь в единственном числе. Если же героев и
героических средств оказывается несколько, то соперничество и рознь неизбежны,
ибо невозможно несколько «диктатур» зараз. Героизм как общераспространенное
мироотношение есть начало не собирающее, но разъединяющее, он создает не
сотрудников, но соперников1.
Наша интеллигенция, поголовно почти стремящаяся к коллективизму, к
возможной соборности человеческого существования, по своему укладу представляет
собою нечто антисоборное, антиколлективистическое, ибо несет в себе
разъединяющее начало героического самоутверждения. Герой есть до некоторой степени
сверхчеловек, становящийся по отношению к ближним в горделивую и
вызывающую позу спасителя, и при всем своем стремлении к демократизму интеллигенция
есть лишь особая разновидность сословного аристократизма, надменно
противопоставляющая себя «обывателям». Кто жил в интеллигентских кругах, хорошо знает
это высокомерие и самомнение, сознание своей непогрешимости и пренебрежение к
инакомыслящим, и этот отвлеченный догматизм, в который отливается здесь
всякое учение.
Вследствие своего максимализма интеллигенция остается малодоступна и
доводам исторического реализма, и научного знания. Самый социализм остается для
нее не собирательным понятием, обозначающим постепенное
социально-экономическое преобразование, которое слагается из ряда частных и вполне конкретных
реформ, не «историческим движением», но надисторической «конечной целью» (по
терминологии известного спора с Бернштейном16*), до которого надо совершить
исторический прыжок актом интеллигентского героизма. Отсюда недостаток
чувства исторической действительности и геометрическая прямолинейность суждений и
оценок, пресловутая их «принципиальность». Кажется, ни одно слово не вылетает
так часто из уст интеллигента, как это, он обо всем судит прежде всего «прин-
Рознь наблюдается, конечно, и в истории христианских и иных религиозных сект и
исповеданий. До известной степени и здесь наблюдается психология героизма, но эти распри
имеют, однако, и свои социальные причины, с нею не связанные.
284
ципиально», т. е. на самом деле отвлеченно, не вникая в сложность
действительности и тем самым нередко освобождая себя от трудности надлежащей оценки
положения. Кому приходилось иметь дело с интеллигентами на работе, тому известно,
как дорого обходится эта интеллигентская «принципиальная» непрактичность,
приводящая иногда к отцеживанию комара и поглощению верблюда17*.
Этот же ее максимализм составляет величайшее препятствие к поднятию ее
образованности именно в тех вопросах, которые она считает своею специальностью, в
вопросах социальных, политических. Ибо если внушить себе, что цель и способ
движения уже установлены, и притом «научно», то, конечно, ослабевает интерес к
изучению посредствующих, ближайших звеньев. Сознательно или бессознательно,
но интеллигенция живет в атмосфере ожидания социального чуда, всеобщего
катаклизма, в «хилиастическом»18* настроении1.
Героизм стремится к спасению человечества своими силами и притом
внешними средствами; отсюда исключительная оценка героических деяний, в
максимальной степени воплощающих программу максимализма. Нужно что-то сдвинуть,
совершить что-то свыше сил, отдать при этом самое дорогое, свою жизнь - такова
заповедь героизма. Стать героем, а вместе и спасителем человечества можно
героическим деянием, далеко выходящим за пределы обыденного долга. Это мечта,
живущая в интеллигентской душе, хотя выполнимая лишь для единиц, служит
общим масштабом в суждениях, критерием для жизненных оценок. Совершить такое
деяние и необыкновенно трудно, ибо требует побороть сильнейшие инстинкты
привязанности к жизни и страха, и необыкновенно просто, ибо для этого требуется
волевое усилие на короткий сравнительно период времени, а подразумеваемые или
ожидаемые результаты этого считаются так велики. Иногда стремление уйти из
жизни вследствие неприспособленности к ней, бессилия нести жизненную тягость
сливается до неразличимости с героическим самоотречением, так что невольно
спрашиваешь себя: героизм это или самоубийство? Конечно, интеллигентские
святцы могут назвать много таких героев, которые всю свою жизнь делали подвигом
страдания и длительного волевого напряжения, однако, несмотря на различия,
зависящие от силы отдельных индивидуальностей, общий тон здесь остается тот же.
Очевидно, такое мироотношение гораздо больше приспособлено к бурям
истории, нежели к ее затишью, которое томит героев. Наибольшая возможность
героических деяний, иррациональная «приподнятость настроения», экзальтированность,
опьянение борьбой, создающее атмосферу некоторого героического авантюризма, -
все это есть родная стихия героизма. Поэтому так и велика сила революционного
романтизма среди нашей интеллигенции, ее пресловутая «революционность». Не
надо забывать, что понятие революции есть отрицательное, оно не имеет
самостоятельного содержания, а характеризуется лишь отрицанием ею разрушаемого,
поэтому пафос революции есть ненависть и разрушение19*. Но еще один из
крупнейших русских интеллигентов, Бакунин, формулировал ту мысль, что дух разру-
шающии есть вместе с тем и дух созидающий*" , и эта вера есть основной нерв
психологии героизма. Она упрощает задачу исторического строительства, ибо при
таком понимании для него требуются прежде всего крепкие мускулы и нервы,
темперамент и смелость, и, обозревая хронику русской революции, не раз
вспоминаешь об этом упрощенном понимании...
Психологии интеллигентского героизма больше всего импонируют такие
общественные группы и внешние положения, при которых он наиболее естествен во
всей своей последовательности прямолинейного максимализма. Самую
благоприятную комбинацию этих условий представляет у нас учащаяся молодежь. Благодаря
молодости с ее физиологией и психологией, недостатку жизненного опыта и
научных знаний, заменяемому пылкостью и самоуверенностью, благодаря привилегиро-
Ср. очерк «Апокалиптика <и> социализм. (Религиозно-философские параллели)».
285
ванности социального положения, не доходящей, однако, до буржуазной
замкнутости западного студенчества, наша молодежь выражает с наибольшей полнотой тип
героического максимализма. И если в христианстве старчество является
естественным воплощением духовного опыта и руководительства, то относительно нашей
интеллигенции такую роль, естественно, заняла учащаяся молодежь. Духовная
педократия1 есть величайшее зло нашего общества, а вместе и симптоматическое
проявление интеллигентского героизма, его основных черт, но в подчеркнутом и
утрированном виде. Это уродливое соотношение, при котором оценки и мнения
«учащейся молодежи» оказываются руководящими для старейшин, перевертывает
вверх ногами естественный порядок вещей и в одинаковой степени пагубно и для
тех, и для других. Исторически эта духовная гегемония стоит в связи с той
действительно передовой ролью, которую играла учащаяся молодежь со своими
порывами в русской истории, психологически же это объясняется духовным складом
интеллигенции, остающейся на всю жизнь - в наиболее живучих и ярких своих
представителях - тою же учащеюся молодежью в своем мировоззрении. Отсюда то
глубоко прискорбное и привычное равнодушие и, что гораздо хуже, молчаливое
или даже открытое одобрение, с которым у нас смотрят, как наша молодежь без
знаний, без опыта, но с зарядом интеллигентского героизма берется за серьезные,
опасные по своим последствиям социальные опыты, и, конечно, этой своей
деятельностью только усиливает реакцию. Бдва ли в достаточной мере обратил на себя
внимание и оценен факт весьма низкого возрастного состава групп с наиболее мак-
сималисткими действиями и программами. И, что гораздо хуже, это многие
находят вполне в порядке вещей. «Студент» стало нарицательным именем интеллигента,
в дни революции.
Каждый возраст имеет свои преимущества, и их особенно много имеет
молодость с таящимися в ней силами. Кто радеет о будущем, тот больше всего озабочен
молодым поколением. Но находиться от него в духовной зависимости, заискивать
перед ним, прислушиваться к его мнению, брать его за критерий — это
свидетельствует о духовной слабости общества. Во всяком случае, остается сигнатурой целой
исторической полосы и всего душевного уклада интеллигентского героизма, что
идеал христианского святого, подвижника здесь сменился образом революционного
студента.
IV
С максимализмом целей связан и максимализм средств, так прискорбно
проявившийся в последние годы. В этой неразборчивости средств, в этом героическом
«все позволено» (предуказанном Достоевским еще в «Преступлении и наказании» и
в «Бесах») сказывается в наибольшей степени человекобожеская природа
интеллигентского героизма, присущее ему самообожение, поставление себя вместо Бога,
вместо Провидения, и это не только в целях и планах, но и путях и средствах
осуществления. Я осуществляю свою идею и ради нее освобождаю себя от уз
обычной морали, я разрешаю себе право не только на имущество, но и на жизнь и
смерть других, если это нужно для моей идеи. В каждом максималисте сидит
такой маленький Наполеон от социализма или анархизма. Аморализм, или, по
старому выражению, нигилизм есть необходимое последствие самообожения, здесь
подстерегает его опасность саморазложения, ждет неизбежный провал. И те
горькие разочарования, которые многие пережили в революции, та неизгладимая из
памяти картина своеволия, экспроприаторства, массового террора - все это явилось
1 Педократия - господство детей.
286
не случайно, но было раскрытием тех духовных потенций, которые необходимо
таятся в психологии самообожения1 .
Подъем героизма в действительности доступен лишь избранным натурам и
притом в исключительные моменты истории, между тем жизнь складывается из
повседневности, и интеллигенция состоит не из одних только героических натур. Без
действительного геройства или возможности его проявления героизм превращается
в претензию, в вызывающую позу, вырабатывается особый дух героического
ханжества и безответственного критиканства, всегдашней «принципиальной»
оппозиции, преувеличенное чувство своих прав и ослабленное сознание обязанностей и
вообще личной ответственности. Самый ординарный обыватель, который нисколько
не выше, а иногда и ниже "окружающей среды, надевая интеллигентский мундир,
уже начинает относиться к ней с высокомерием. Особенно ощутительно это зло в
жизни нашей провинции. Самообожение в кредит, не всегда делающее героя,
способно воспитывать притязательность22*. Человек, лишаясь абсолютных норм и
незыблемых начал личного и социального поведения, заменяет их своеволием и
самодельщиной. Нигилизм поэтому есть страшный бич, ужасная духовная язва,
разъедающая наше общество. Героическое «все позволено» незаметно подменяется
просто беспринципностью во всем, что касается личной жизни, личного поведения,
чем наполняются житейские будни. В этом заключается одна из важных причин,
почему у нас при таком обилии героев так мало просто порядочных,
дисциплинированных, трудоспособных людей, и та самая героическая молодежь, по курсу
которой определяет себя старшее поколение, в жизни так незаметно и легко
обращается или в «лишних людей», или же в чеховские и гоголевские типы и кончает
вином и картами, если только не хуже2. Пушкин со своей правдивостью гения
приподнимает завесу над возможным будущим трагически и безвременно
погибшего Ленского и усматривает за нею весьма прозаическую картину. Попробуйте
мысленно сделать то же относительно иного юноши, окруженного ореолом героя, и
представить его просто в роли работника после того, как погасла аффектация
героизма, оставляя в душе пустоту нигилизма. Недаром интеллигентский поэт
Некрасов, автор «Рыцаря на час», так чувствовал, что ранняя смерть есть лучший
апофеоз интеллигентского героизма.
Не рыдай так безумно над ним:
Хорошо умереть молодым!
Беспощадная пошлость ни тени
Положить не успела на нем и т. д.23*
Из этой же героической аффектации, поверхностной и непрочной, объясняется
поразительная неустойчивость интеллигентских вкусов, верований, настроений,
меняющихся по прихоти моды. Многие удивленно стоят теперь перед переменой
настроений, совершившейся на протяжении последних лет, - от настроения
героически революционного к нигилистическому и порнографическому, а также пред
этой эпидемией самоубийств, которую ошибочно объяснять только политической
реакций и тяжелыми впечатлениями русской жизни24*.
Но и это чередование и эта его истеричность представляются естественными
для интеллигенции, и сама она не менялась при этом в своем существе, только
полнее обнаружившемся при этой смене исторического праздника и будней;
лжегероизм не остается безнаказанным. Духовное состояние интеллигенции не может не
Разоблачения, связанные с именем Азефа, раскрыли, как далеко может идти при
героическом максимализме эта неразборчивость в средствах, при которой перестаешь уже
различать, где кончается революционер и начинается охранник или провокатор21*.
Продолжающиеся новые расследования это все более подтверждают.
«Людей нет» - вот стон, который несется по необъятным равнинам многомиллионной
России (ср. в цит. очерке «Революция и реакция»).
287
внушать серьезной тревоги. И наибольшую тревогу возбуждает молодое,
подрастающее поколение и особенно судьба интеллигентских детей. Безбытная,
оторвавшаяся от органического склада жизни, не имеющая собственных твердых устоев
интеллигенция, со своим атеизмом, прямолинейным рационализмом и общей
развинченностью и беспринципностью в обыденной жизни передает эти качества и
своим детям, с той только разницей, что дети наши даже и в детстве остаются
лишены тех здоровых соков, которые получали родители из народной среды.
Крайне непопулярны среди интеллигенции понятия личной нравственности,
личного самоусовершенствования, выработки личности (и, наоборот, особенный,
сакраментальный характер имеет слово общественный). Хотя интеллигентское
мироотношение представляет собой крайнее самоутверждение личности, ее
самообожествление, но в своих теориях интеллигенция нещадно гонит эту самую
личность, сводя ее чаще всего без остатка на влияния среды и стихийных сил истории
(согласно общему учению просветительства). Интеллигенция не хочет допустить,
что в личности заключена живая творческая энергия, и остается глуха ко всему,
что к этой проблеме приближается: глуха не только к христианскому учению, но
даже к учению Толстого (в котором все же заключено здоровое зерно личного
самоуглубления) и ко всем философским учениям, заставляющим посчитаться с нею.
Между тем в отсутствии правильного учения о личности заключается ее
главная слабость. Извращение личности, ложность самого идеала для ее развития есть
коренная причина, из которой проистекают слабости и недостатки нашей
интеллигенции, ее историческая несостоятельность. Интеллигенции нужно выпрямляться
не извне, но изнутри, причем сделать это может только она сама свободным
духовным подвигом, незримым, но вполне реальным.
V
Своеобразная природа интеллигентского героизма выясняется для нас полнее,
если сопоставить его с противоположным ему духовным обликом - христианского
героизма или, точнее, христианского подвижничества1, ибо герой в христианстве -
подвижник. Основное различие здесь не столько внешнее, сколько внутреннее,
религиозное.
Герой, ставящий себя в роль Провидения, благодаря этой духовной узурпации
приписывает себе и большую ответственность, нежели может понести, и большие
задачи, нежели человеку доступны. Христианский подвижник верит в Бога-Про-
мыслителя, без Которого волос не падает с головы25*. История и единичная
человеческая жизнь представляются в его глазах осуществлением хотя и непонятного для
него в индивидуальных подробностях строительства Божьего, пред которым он
смиряется подвигом веры. Благодаря этому он сразу освобождается от героической
позы и притязаний. Его внимание сосредоточивается на его прямом деле, его
действительных обязанностях и их строгом, неукоснительном соблюдении. Конечно, и
определение и исполнение этих обязанностей требует иногда не меньшей широты
кругозора и знания, чем та, на какую притязает интеллигентский героизм. Однако
внимание здесь сосредоточивается на сознании личного долга и его исполнения, на
самоконтроле, и это перенесение центра внимания на себя и свои обязанности,
освобождение от фальшивого самочувствия непризванного спасителя мира и
неизбежно связанной с ним гордости оздоровляет душу, наполняя ее чувством здорово-
Карлейль в своей книге «Герои и героическое в истории» под именем героизма описывает
духовный склад, который, по принятой нами терминологии, приближается к типу
подвижничества и, во всяком случае, значительно отличается от атеистического героизма. Ср. выше
очерк «О социальном морализме».
288
го христианского смирения. К этому духовному самоотречению, к жертве своим
гордым интеллигентским «я» во имя высшей святыни призывал Достоевский
русскую интеллигенцию в своей пушкинской речи: «Смирись, гордый человек, и
прежде всего сломи свою гордость... Победишь себя, - усмиришь себя, и начнешь
великое дело и других свободными сделаешь, и узришь счастье, ибо наполнится
жизнь твоя...»1.
Нет слова более непопулярного в интеллигентской среде, чем смирение, мало
найдется понятий, которые подвергались бы большему непониманию и
извращению, о которые так легко могла бы точить зубы интеллигентская демагогия, и это,
пожалуй, лучше всего свидетельствует о духовной природе интеллигенции,
изобличает ее горделивый, опирающийся на самообожение героизм. В то же время
смирение есть, по единогласному свидетельству Церкви, первая и основная
христианская добродетель, но даже и вне христианства оно есть качество весьма ценное,
свидетельствующее во всяком случае о высоком уровне духовного развития. Легко
понять и интеллигенту, что, например, настоящий ученый по мере углубления и
расширения своих знаний лишь острее чувствует бездну своего незнания, так что
успехи знания сопровождаются для него увеличивающимся пониманием своего
незнания, ростом интеллектуального смирения, как это подтверждают биографы
великих ученых. И, наоборот, самоуверенное самодовольство или надежда достигнуть
своими силами полного удовлетворяющего знания есть верный и непременный
симптом научной незрелости или просто молодости.
То же чувство глубокой неудовлетворенности своим творчеством,
несоответствие его идеалам красоты, задачам искусства, отличает и настоящего художника,
для которого труд его неизбежно становится мукой, хотя в нем он только и
находит свою жизнь. Без этого чувства вечной неудовлетворенности своими
творениями, которое можно назвать смирением перед красотой, нет истинного художника.
То же чувство ограниченности индивидуальных сил перед расширяющимися
задачами охватывает и философского мыслителя, и государственного деятели, и
социального политика, и т. д.
Но если естественность и необходимость смирения сравнительно легко понять в
этих частных областях человеческой деятельности, то почему же так трудно
оказывается это относительно центральной области духовной жизни, именно -
нравственно-религиозной самопроверки? Здесь-то и обнаруживается решающее значение
того или иного высшего критерия, идеала для личности: дается ли этот критерий
самопроверки образом совершенной божественной личности, воплотившейся во
Христе, или же самообожествившемся человеком в той или иной его земной
ограниченной оболочке (человечество, народ, пролетариат, сверхчеловек), т. е. в конце
концов своим же собственным «я», но ставшим пред самим 'собой в героическую
позу. Изощряющийся духовный взор подвижника в ограниченном, искаженном
грехом и страстями человеке и прежде всего в себе самом открывает все новые
несовершенства, чувство расстояния от идеала увеличивается, другими словами,
нравственное развитие личности сопровождается увеличивающимся сознанием
своих несовершенств или, что то же, выражается в смирении перед Богом и в
«хождении пред Богом» (как это и разъясняется постоянно в церковной, святоотеческой
литературе). И эта разница между героической и христианской самооценкой
проникает во все изгибы души, во все ее самочувствие.
Вследствие отсутствия идеала личности (точнее, его извращения) все, что
касается религиозной культуры личности, ее выработки, дисциплины, неизбежно
остается у интеллигенции в полной запущенности. У нее отсутствуют те абсолютные
нормы и ценности, которые для этой культуры необходимы, и даются только в
1 Достоевский Ф. М. Собр. соч. 6-е изд. Т. XII. С. 42526*.
10 Зак. 487 289
религии. И прежде всего отсутствует понятие греха и чувство греха, настолько,
что слово грех звучит для интеллигентского уха так же почти дико и чуждо, как
смирение. Вся сила греха, мучительная его тяжесть, всесторонность и глубина
его влияния на всю человеческую жизнь — словом, вся трагедия греховного
состояния человека, исход из которой в предвечном плане Божием могла дать
только Голгофа, все это остается вне поля сознания интеллигенции, находящейся
как бы в религиозном детстве, не выше греха, но ниже его сознания. Она
уверовала, вместе с Руссо и со всем просветительством, что естественный человек добр
по природе своей и что учение о первородном грехе и коренной порче
человеческой природы есть суеверный миф, который не имеет ничего соответствующего в
нравственном опыте. Поэтому вообще никакой особой заботы о культуре
личности (о столь презренном «самоусовершенствовании») быть не может и не должно,
а вся энергия должна быть целиком расходуема на борьбу за улучшение среды.
Объявляя личность всецело ее продуктом, этой же самой личности предлагают и
улучшать эту среду, подобно барону Мюнхгаузену, вытаскивающему себя из
болота за волосы.
Этим отсутствием чувства греха и хотя бы некоторой робости перед ним
объясняются многие черты душевного и жизненного уклада интеллигенции и - увы! -
многие печальные стороны и события нашей революции, а равно и наступившего
после нее духовного маразма. Многими пикантными кушаньями со стола западной
цивилизации кормила и кормит себя наша интеллигенция, вконец расстраивая
свой и без того испорченный желудок; не пора ли вспомнить о простой, грубой, но
безусловно здоровой и питательной пище, о старом Моисеевом десятисловии, а-
затем дойти и до Нового Завета!...
Героический максимализм целиком проецируется вовне, в достижении
внешних целей; относительно личной жизни, вне героического акта и всего, с ним
связанного, он оказывается минимализмом, т. е. просто оставляет ее вне своего
внимания. Отсюда проистекает и непригодность его для выработки устойчивой,
дисциплинированной, работоспособной личности, держащейся на своих ногах, а не на
волне общественной истерики, которая затем сменяется упадком. Весь тип
интеллигенции определяется этим сочетанием минимализма и максимализма, при
котором максимальные притязания могут выставляться при минимальной подготовке
личности как в области науки, так и жизненного опыта и самодисциплины, что
так рельефно выражается в противоестественной гегемонии учащейся молодежи, в
нашей духовной педократии.
Иначе воспринимается мир христианским подвижничеством27*. В полной
противоположности гордыне интеллигентского героизма христианское подвижничество
есть прежде всего максимализм в личной жизни, в требованиях, предъявленных к
самому себе; напротив, острота внешнего максимализма здесь значительно
смягчается. Христианский герой, или подвижник (по нашей, конечно, несколько
условной терминологии), не ставя себе задач Провидения и не связывая, стало быть, со
своим, да и чьим бы то ни было индивидуальным усилием судеб истории и
человечества, в своей деятельности видит прежде всего исполнение своего долга пред
Богом, Божьей заповеди, к нему обращенной. Ее он обязан исполнять с
наибольшей полнотой, а равно проявить возможную энергию и самоотверженность при
отыскании того, что составляет его дело и обязанность; в известном смысле он
также должен стремиться к максимализму действий, но совершенно в ином
смысле. Одно из наиболее обычных недоразумений относительно смирения (впрочем,
выставляемое не только bona, но и mala fide28*) состоит в том, что христианское
смирение, внутренний и незримый подвиг борьбы с самостью, с своеволием, с са-
мообожением истолковывается непременно как внешняя пассивность, как прими-
290
рение со злом, как бездействие и даже низкопоклонничество1 или же как
неделание во внешнем смысле, причем христианское подвижничество смешивается с
одною из многих его форм, хотя и весьма важною, именно — с монашеством. Но
подвижничество как внутреннее устроение личности совместимо со всякой внешней
деятельностью, поскольку она не противоречит его принципам.
Особенно охотно противопоставляют христианское смирение «революционному»
настроению. Не входя в этот вопрос подробно, укажу, что революция, т. е.
известные политические действия, сама по себе еще не предрешает вопроса о том духе и
идеалах, которые ее вдохновляют. Выступление Дмитрия Донского по
благословению преподобного Сергия псотив татар есть действие революционное в
политическом смысле, как восстание против законного правительства, но в то же время,
думается мне, оно было в душах участников актом христианского подвижничества,
неразрывно связанного с подвигом смирения. И, напротив, новейшая революция, как
основанная на атеизме, по духу своему весьма далека не только от христианского
смирения, но и от христианства вообще. Подобным же образом существует огромная
духовная разница между пуританской английской революцией и атеистической
французской, как и между Кромвелем и Маратом или Робеспьером, межу Рылеевым
или вообще верующими из декабристов и позднейшими деятелями революции.
Фактически при наличности соответствующих исторических обстоятельств,
конечно, отдельные деяния, именуемые героическими, вполне совместимы с
психологией христианского подвижничества, — но они совершаются не во имя свое, а во
имя Божие, не героически, но подвижнически, и даже при внешнем сходстве с
героизмом их религиозная психология все же остается от него отлична. «Царство
небесное берется силою, и употребляющие усилие восхищают его» (Мф. 11, 12), от
каждого требуется «усилие», максимальное напряжение его сил для осуществления
добра, но и такое усилие не дает еще права на самочувствие героизма, на духовную
гордость, ибо оно есть лишь исполнение долга: «Когда исполните все повеленное
вам, говорите: мы рабы ничего не стоющие, потому что сделали то, что должны
были сделать» (Лк. 17, 10).
Христианское подвижничество есть непрерывный самоконтроль, борьба с
низшими, греховными сторонами своего «я», аскеза духа. Если для героизма
характерны вспышки, искание великих деяний, то здесь, напротив, нормой является
ровность течения, «мерность», выдержка, неослабная самодисциплина, терпение и
выносливость - качества, как раз отсутствующие у интеллигенции. Верное
исполнение своего долга, несение каждым своего креста, отвергнувшись себя (т. е. не во
внешнем только смысле, но еще более и во внутреннем), с предоставлением всего
остального Промыслу — вот черты истинного подвижничества. В монастырском
обиходе есть прекрасное выражение для этой религиозно-практической идеи:
послушание. Так называется всякое занятие, назначаемое иноку, все равно, будет
ли это ученый труд или самая грубая физическая работа, раз оно исполняется во
имя религиозного долга. Это понятие может быть распространено -и за пределы
монастыря и применено ко всякой работе, какова бы она ни была. Врач и инженер,
профессор и политический деятель, фабрикант и его рабочий одинаково при
исполнении своих обязанностей могут руководствоваться не своим личным интересом,
духовным или материальным - все равно, но совестью, велениями долга, нести
послушание. Эта дисциплина послушания, «светский аскетизм» (по немецкому
выражению: «innerweltliche Askese»), имела огромное влияние для выработки личности и
в Западной Европе в разных областях труда, и эта выработка чувствуется до сих пор.
Конечно, все допускает подделку и искажение, и именем смирения прикрываются и
прикрывались черты, на самом деле ничего общего с ним не имеющие, в частности - трусливое и
лицемерное низкопоклонство (так же точно, как интеллигентским героизмом и
революционностью прикрывается нередко распущенность и хулиганство). Чем выше добродетель, тем злее ее
карикатуры и искажение. Но не по ним же следует судить о существе ее.
10*
291
Оборотной стороной интеллигентского максимализма является историческая
нетерпеливость, недостаток исторической трезвости, стремление вызвать
социальное чудо, практическое отрицание теоретически исповедуемого эволюционизма.
Напротив, дисциплина «послушания» должна содействовать выработке
исторической трезвости, самообладания, выдержки; она учит нести историческое тягло,
ярем исторического послушания, она воспитывает почвенность29*, чувство связи с
прошлым и признательность этому прошлому, которое так легко теперь забывают
ради будущего, восстановляет нравственную связь детей с отцами.
Напротив, гуманистический прогресс есть презрение к отцам, отвращение к
своему прошлому и его полное осуждение, историческая и даже просто личная
неблагодарность, узаконение духовной распри отцов и детей. Герой творит историю
по своему плану, он как бы начинает из себя историю, рассматривая существующее
как материал или пассивный объект для воздействия. Разрыв исторической связи в
чувстве и воле становится при этом неизбежен.
Проведенная параллель позволяет сделать общее заключение об отношении
интеллигентского героизма и христианского подвижничества. При некотором
внешнем сходстве между ними не существует никакого внутреннего сродства, никакого
хотя бы подчиненного соприкосновения. Задача героизма - внешнее спасение
человечества (точнее, будущей части его) своими силами, по своему плану, «во имя
свое», герой - тот, кто в наибольшей степени осуществляет свою идею, хотя бы
ломая ради нее жизнь, это - человекобог. Задача христианского подвижничества -
превратить свою жизнь в незримое самоотречение, послушание, исполнять свой
труд со всем напряжением, самодисциплиной, самообладанием, но видеть и в нем,
и в себе самом лишь орудие Промысла. Христианский святой - тот, кто в
наибольшей мере свою личную волю и всю свою эмпирическую личность непрерывным
и неослабным подвигом преобразовал до возможно полного проникновения волею
Божией. Образ полноты этого проникновения - Богочеловек, пришедший «творить не
свою волю, но пославшего Его Отца»30* и «грядущий во имя Господне»31*.
Различие между христианством (по крайней мере, в этическом его учении) и
интеллигентским героизмом, исторически заимствовавшим у христианства
некоторые из самых основных своих догматов - и прежде всего идею о равноценности
людей, об абсолютном достоинстве человеческой личности, о равенстве и братстве,
теперь вообще склонны скорее преуменьшать, нежели преувеличивать. Этому
содействовало прежде всего интеллигентское непонимание всей действительной
пропасти между атеизмом и христианством, благодаря чему не раз «исправляли» с
обычной самоуверенностью образ Христа, освобождая его от «церковных
искажений», изображая его социал-демократом или социалистом-революционером. Пример
этому подал еще отец русской интеллигенции Белинский1. Эта безвкусная и для
религиозного чувства невыносимая операция производилась не раз. Впрочем, сама
интеллигенция этим сближением как таковым нисколько и не интересуется,
прибегая к нему преимущественно в политических целях или же ради удобства
«агитации».
Гораздо тоньше и соблазнительнее другая, не менее кощунственная ложь,
которая в разных формах стала повторяться особенно часто последнее время, именно
то утверждение, что интеллигентский максимализм и революционность, духовной
основой которых является, как мы видели, атеизм, в сущности отличается от
христианства только религиозной неосознанностью. Достаточно будто бы имя Маркса
Белинский писал в знаменитом письме своем к Гоголю, этом пламенном и классическом
выражении интеллигентского настроения: «Что вы нашли общего между Христом и какою-
нибудь, а тем более православною церковью? Он первый возвестил людям учение свободы,
равенства и братства и мученичеством запечатлел, утвердил истину своего учения... Но смысл
Христова учения открыт философским движением прошлого века» (В. Г. Белинский. Письмо к
Гоголю. С предисловием С. А. Венгрова. СПб., 1905. С. 13).
292
или Михайловского заменить именем Христа, а «Капитал» Евангелием или, еще
лучше, Апокалипсисом (по удобству его цитирования), или можно даже ничего не
менять, а нужно лишь еще усилить революционность интеллигенции и продолжить
интеллигентскую революцию, и тогда из нее родится «новое религиозное
сознание»32* (как будто уже не было в истории примера достаточно продолженной
интеллигентской революции, с обнаружением всех ее духовных потенций, именно -
великой французской революции). Если до революции еще легко было смешивать
страдающего преследуемого интеллигента, несущего на плечах героическую борьбу с
бюрократическим абсолютизмом, с христианским мучеником, то после духовного
самообнажения интеллигенции во время революции это стало гораздо труднее.
В настоящее время можно также наблюдать особенно характерную для нашей
эпохи интеллигентскую подделку под христианство, усвоение христианских слов и
идей при сохранении всего духовного облика интеллигентского героизма. Каждый
из нас, христианин из интеллигентов, глубоко находит у себя эту духовную
складку. Легче всего интеллигентскому героизму, переоблачившемуся в христианскую
одежду и искренне принимающему свои интеллигентские переживания и
привычный героический пафос за христианский праведный гнев, проявлять себя в
церковном революционизме, в противопоставлении своей новой святости, нового
религиозного сознания неправде «исторической» церкви», всего легче чувствует себя
Мартином Лютером или, еще более того, пророчественным носителем нового
религиозного сознания, призванным не только обновить церковную жизнь, но и создать
новые ее формы, чуть ли не новую религию33*. Также и в области светской
политики самый обыкновенный интеллигентский максимализм, составляющий
содержание революционных программ, просто приправляется христианской
терминологией или текстами и предлагается в качестве истинного христианства в политике.
Это интеллигентское христианство, оставляющее нетронутым то, что в
интеллигентском героизме является наиболее антирелигиозным, именно его душевный
уклад, есть компромисс противоборствующих начал, имеющий временное и
переходное значение и не обладающий самостоятельной жизненностью34*. Он не нужен
настоящему интеллигентскому героизму и невозможен для христианства.
Христианство ревниво, как и всякая, впрочем, религия; оно сильно в человеке лишь
тогда, когда берет его целиком, всю его душу, сердце, волю. И незачем этот контраст
затушевывать или смягчать.
Как между мучениками первохристианства и революции, в сущности, нет
никакого внутреннего сходства при всем внешним тождестве их подвига, так и между
интеллигентским героизмом и христианским подвижничеством, даже при внешнем
сходстве их проявлений (которое можно, впрочем, допустить только отчасти и
условно), остается пропасть, и нельзя одновременно находиться на обеих ее сторонах.
Одно должно умереть, чтобы родилось другое, и в меру умирания одного возрастает
и укрепляется другое. Вот каково истинное соотношение между обоими мироотно-
шениями. Нужно «покаяться», т. е. пересмотреть, передумать и осудить свою
прежнюю душевную жизнь в ее глубинах и изгибах, чтобы возродиться к новой
жизни. Вот почему первое слово проповеди Евангелия есть призыв к покаянию,
основанному на самопознании и самооценке. «Покайтеся (μετανοείτε), ибо
приблизилось царство небесное» (Мф. 3,1-21; 4,17; Мр. 1,14-15). Должна родиться новая
душа, новый внутренний человек, который будет расти, развиваться и укрепляться
в жизненном подвиге. Речь идет не о перемене политических или партийных
программ (вне чего интеллигенция и не мыслит обыкновенно обновления), вообще
совсем не о программах, но о гораздо большем - о самой человеческой личности,
не о деятельности, но о деятеле. Перерождение это совершается незримо в душе
человека, но если невидимые агенты оказываются сильнейшими даже в физическом
мире, то и в нравственном могущества их нельзя отрицать на том только основании,
что оно не предусматривается особыми параграфами программ.
293
Для русской интеллигенции предстоит медленный и трудный путь
перевоспитания личности, на котором нет скачков, нет катаклизмов, и побеждает лишь
упорная самодисциплина. Россия нуждается в новых деятелях на всех поприщах
жизни: государственной — для осуществления «реформ», экономической — для
поднятия народного хозяйства, культурной - для работы на пользу русского
просвещения, церковной - для поднятия сил учащей церкви, ее клира и иерархии.
Новые люди, если дождется их Россия, будут, конечно, искать и новых практических
путей для своего служения и помимо существующих программ, и — я верю - они
откроются их самоутвержденному исканию1 .
VI
В отношении к народу, служение которому своею задачею ставит
интеллигенция, она постоянно и неизбежно колеблется между двумя крайностями - народо-
поклонничества и духовного аристократизма. Потребность народопоклонничества в
той или другой форме (в виде ли старого народничества, ведущего начало от
Герцена и основанного на вере в социалистический дух русского народа, или в
новейшей, марксистской форме, где вместо всего народа такие же свойства
приписываются одной части его, именно «пролетариату»), вытекает одна из самых основ
интеллигентской веры. Но из нее же с необходимостью вытекает и
противоположное - высокомерное отношение к народу как к объекту спасительного воздействия,
как к несовершеннолетнему, нуждающемуся в няньке для воспитания к
«сознательности», непросвещенному в интеллигентском смысле слова.
В нашей литературе много раз указывалась оторванность нашей интеллигенции
от народа. По мнению Достоевского, она пророчески предуказана была уже
Пушкиным, сначала в образе вечного скитальца Алеко, а затем Евгения Онегина,
открывшего собой целую серию «лишних людей»36*. И действительно, чувство
почвенности37*, кровной исторической связи, сочувственного интереса, любви к своей
истории, эстетического ее восприятия поразительно мало у интеллигенции, на ее
палитре преобладают две краски, черная для прошлого и розовая для будущего (и,
по контрасту, тем яснее выступает духовное величие и острота взора наших
великих писателей, которые, опускаясь в глубины русской истории, извлекали оттуда
«Бориса Годунова», «Песню о купце Калашникове», «Войну и мир»). История
является чаще всего материалом для применения творческих схем, господствующих в
данное время в умах (например, теории классовой борьбы), или же для целей
публицистических, агитационных.
Известен также и космополитизм русской интеллигенции2. Воспитанный на
отвлеченных схемах просветительства, интеллигент естественнее всего принимает
позу маркиза Позы, чувствует себя Weltbürger'oM39*, и этот космополитизм пусто-
Post-scriptum pro domo sua.3** По поводу суровой характеристики интеллигентского
уклада души (гл. III-V) мне может быть сделан упрек, что я произношу здесь суд над людьми
самоотверженными, страдающими, гонимыми, по крайней мере, я сам не раз задавался этим
вопросом. Но независимо от того, сколь бы низко ни думал я о себе самом, я чувствую
обязанность (хотя бы в качестве общественного «послушания») сказать все, что я вижу, что лежит у
меня на сердце как итог всего пережитого, перечувствованного, передуманного относительно
интеллигенции, это повелевает мне чувство ответственности и мучительная тревога и за
интеллигенцию, и за Россию. Но при критике духовного облика и идеалов интеллигенции я отнюдь
не имею в виду судить отдельных личностей, равно как, выставляя свой идеал, в истинности
которого я убежден, я отнюдь не подразумеваю при этом, чтобы сам я к нему больше других
приблизился. Да и можно ли чувствовать себя приблизившимся к абсолютному идеалу?.. Но
призывать к нему, указывать его невидящим не только можно, но и должно.
2 О том своеобразном и зловещем выражении, которое он получил во время русско-
японской войны, лучше умолчим, чтобы не растравлять этих жгучих и больных
воспоминаний38*.
294
ты, отсутствие здорового национального чувства, препятствующее и выработке
национального самосознания, стоит в связи с вненародностью интеллигенции.
Интеллигенция еще не продумала национальной проблемы, которая занимала
умы только славянофилов, довольствуясь «естественными» объяснениями
происхождения народности (начиная от Чернышевского, старательно уничтожавшего
самостоятельное значение национальной проблемы1, до современных марксистов, без
остатка растворяющих ее в классовой борьбе).
Национальная идея опирается не только на этнографические и исторические
основания, но прежде всего на религиозно-культурные, она основывается на
религиозно-культурном мессианизме, в который с необходимостью отливается всякое
сознательное национальное чувство. Так это было у величайшего носителя рели-
гозномессианской идеи — у древнего Израиля, так это остается и у всякого
великого исторического народа. Стремление к национальной автономии, к сохранению
национальности, ее защите есть только отрицательное выражение этой идеи,
имеющее цену лишь в связи с подразумеваемым положительным ее содержанием.
Так именно понимали национальную идею крупнейшие выразители нашего
народного самосознания - Достоевский, славянофилы, Вл. Соловьев, связывавшие ее с
мировыми задачами русской церкви или русской культуры. Такое понимание
национальной идеи отнюдь не должно вести к националистической
исключительности, напротив, только оно положительным образом обосновывает идею братства
народов, а не безнародных, атомизированных «граждан» или «пролетариев всех
стран», отрекающихся от родины. Идея народности, таким образом понимаемая,
есть одно из необходимых положительных условий прогресса цивилизации2. При
своем космополитизме н.аша интеллигенция, конечно, сбрасывает с себя много
трудностей, неизбежно возникающих при практической разработке национальных
вопросов3, но это покупается дорогою ценою омертвения целой стороны души,
причем непосредственно обращенной к народу, и потому, между прочим, так легко
эксплуатируется этот космополитизм представителями боевого, шовинистического
национализма, у которых оказывается благодаря этому монополия патриотизма.
Но глубочайшую пропасть между интеллигенцией и народом вырывает даже не
это, поскольку это есть все-таки лишь производное различие; основным различием
остается отношение к религии. Народное мировоззрение и духовный уклад
определяется христианской верой. Как бы ни было далеко здесь расстояние между
идеалом и действительностью, как бы ни был темен, непросвещен народ наш, но идеал
его - Христос и Его учение4, а норма — христианское подвижничество. Чем, как не
1 В своих примечаниях к «Основам политической экономии» Д. Ст. Милля40*.
2 См. ниже очерк «Из размышлений о национальности».
3 Поэтому и настоящее движение «неославизма»41* остается пока принципиально
необоснованным.
4 «Пусть в нашем народе зверство и грех, но вот что в нем есть неоспоримо: это именно то,
что он в своем целом, по крайней мере, никогда не принимает и не захочет прингть своего
греха за правду... Грех есть дело преходящее, а Христос вечное. Народ грешит и пакостится
ежедневно, но в лучшие минуты, в Христовы минуты, он никогда в правде не ошибется. То
именно и важно, во что народ верит, как в свою правду, в чем ее полагает, как ее
представляет себе, что ставит своим лучшим желанием, что возлюбил, чего просит у Бога, о чем
молитвенно плачет. А идеал народа — Христос. А с Христом, конечно, и просвещение, и в высшие,
роковые минуты свои народ наш всегда решает и решал всякое общее и народное дело свое
всегда по-христиански» (Достоевский Ф. М.. Поли. собр. соч. Т. XXI. С. 441)42\ Интересно с
этим пониманием души народной, которое Достоевский разделяет с крупнейшими русскими
художниками и мыслителями, сопоставить интеллигентское воззрение, выраженное в
цитированном уже письме Белинского: «Приглядитесь попристальнее и вы увидите, что это по натуре
глубоко атеистический народ. В нем еще много суеверия, но нет и следа религиозности (sic) ...
мистическая экзальтация не в его натуре; у него слишком много для этого здравого смысла,
ясности и положительности в уме, и вот в этом-то, может быть, огромность исторических судеб
его в будущем» (Письмо к Гоголю, с. 14).
295
подвижничеством, была вся история нашего народа, с давившей его сначала
татарщиной, затем московской и петербургской государственностью, с этим
многовековым историческим тяглом, стоянием на посту охраны западной цивилизации и
от диких народов, и от песков Азии, в этом жестоком климате, с вечными
голодовками, холодом, страданиями. Если народ наш мог вынести все это и сохранить
свою душевную силу, выйти живым, хотя бы и искалеченным, то это лишь потому,
что он имел источник духовной силы в своей вере и в идеалах христианского
подвижничества, составляющего основу его национального здоровья и жизненности.
Подобно лампадам, теплившимся в иноческих обителях1, куда на протяжении
веков стекался народ, ища нравственной поддержки и поучения, светили Руси эти
идеалы, этот свет Христов, и, поскольку он обладает этим светом, народ наш, -
скажу это не обинуясь, — при всей своей неграмотности просвещеннее своей
интеллигенции. Но именно в этом-то центральном пункте, ко всему, что касается веры
народной, интеллигенция относилась и относится с полным непониманием и даже
презрением.
Поэтому и соприкосновение интеллигенции и народа есть прежде всего
столкновение двух вер, двух религий, а влияние интеллигенции выражается прежде
всего в том, что она, разрушая народную религию, разлагает и народную душу,
сдвигает ее с ее незыблемых доселе вековых оснований. Но что же дает она
взамен? Как сама она понимает задачи народного просвещения? Она понимает их
просветительски, т. е. прежде всего как развитие ума и обогащение знаниями.
Впрочем, за недостатком времени, возможности и, что еще важнее, образованности у
самих просветителей эта задача заменяется догматическим изложением учений,
господствующих в данное время в данной партии (все это., конечно, под маркой
самой строгой научности), или же сообщением разрозненных знаний из разных
областей. При этом сказывается сильнейшим образом и вся наша общая
некультурность, недостаток школ, учебных пособий и прежде всего отсутствие простой
грамотности. Во всяком случае, задача просвещения в интеллигентском смысле
ставится впереди первоначального обучения, т. е. сообщения элементарных знаний
или просто грамотности. Для интеллигентских просветителей задачи эти
связываются неразрывно с политическими и партийными задачами, для которых
поверхностное просвещение есть только необходимое средство.
Все мы уже видели, как содрогнулась народная душа после прививки ей в
значительной дозе просвещения в указанном смысле, как прискорбна была ее реакция
на эту духовную опустошенность в виде роста преступности сначала под идейным
предлогом, а потом и без этого предлога. Ошибочно думает интеллигенция, чтобы
русское просвещение и русская культура могли быть построены на атеизме как
духовном основании, с полным пренебрежением религиозной культуры личности и
с заменой всего этого простым сообщением знаний. Человеческая личность не есть
только интеллект, но прежде всего воля, характер, и пренебрежение этим жестоко
мстит за себя. Разрушение в народе вековых религиозно-нравственных устоев
освобождает в нем темные стихии, которых так много в русской истории, глубоко
отравленной злой татарщиной и инстинктами кочевников-завоевателей. В
исторической душе русского народа всегда боролись заветы обители преп. Сергия и
Запорожской Сечи или вольницы, наполнявшей полки самозванцев, Разина и
Пугачева2. И эти грозные, неорганизованные, стихийные силы в своем разрушительном
1 Компетентную и мастерскую характеристику нравственного значения монастыря в
русской истории см. в речи проф. В. О. Ключевского «Благодатный воспитатель русского
народного духа (преп. Сергий)» (Троицкий цветок. № 9). Ср. также: В. А. Кожевников Христианское
подвижничество в его прошлом и настоящем. Изд. «Религ.-философской библиотеки», два
выпуска. М., 1910.
2 См. характеристику казачества и Запорожья у проф. Ключевского (Курс русской
истории. Ч. III. М., 1908)43\
296
нигилизме только по-видимому приближаются к революционной интеллигенции,
хотя они и принимаются ею за революционизм в собственном ее духе; на самом
деле они очень старого происхождения, значительно старше самой интеллигенции.
Они с трудом преодолевались русской государственностью, полагавшей им внешние
границы, сковывавшею их, но они не были ею вполне побеждены.
Интеллигентское просветительство одной стороной своего влияния пробуждает эти дремавшие
инстинкты и возвращает Россию к хаотическому состоянию, ее обессиливающему и
с такими трудностями и жертвами преодолевавшемуся ею в истории. Таковы уроки
последних лет, мораль революции в народе.
Отсюда понятны основные причины глубокой духовной распри, раздирающей
Россию в новейшее время, раскол ее как бы на две несоединимые половины, на
правый и левый блок, на черносотенство и красносотенство. Разделение на партии,
основанное на различиях политических мнений, социальных положений,
имущественных интересов, есть обычное и общераспространенное явление в странах с
народным представительством и в известном смысле есть неизбежное зло, но это
разделение нигде не проникает так глубоко, не нарушает в такой степени духовного и
культурного единства нации, как в России. Даже социалистические партии
Западной Европы, наиболее выделяющие себя из общего состава «буржуазного»
общества, фактически остаются его органическими членами, не разрушают целости
культуры. Наше же различение правых и левых отличается тем, что оно имеет
предметом своим не только разницу политических идеалов, но и в подавляющем
большинстве разницу мировоззрений или вер. Если искать более точного исторического
уподобления в истории Западной Европы, то оно гораздо больше походит на
разделение католиков и протестантов с последовавшими отсюда религиозными войнами
в эпоху Реформации, нежели на теперешние политические партии. Достаточно
разложить на основные духовные элементы этот правый и левый блок, чтобы это
увидеть. Русскому просвещению, служить которому призвана русская
интеллигенция, приходилось бороться с вековой татарщиной, глубоко въевшейся в разные
стороны нашей жизни, с произволом бюрократического абсолютизма и
государственной его непригодностью, ранее с крепостным правом, с институтом телесных
наказаний, в настоящее время с институтом смертной казни, с грубостью нравов,
вообще бороться за лучшие условия жизни. К этому сводится идеальное
содержание так называемого освободительного движения, трудность и тяжесть которого
приняла на свои плечи интеллигенция и в этой борьбе стяжала себе
многочисленные мученические венцы. Но, к несчастью для русской жизни, эту борьбу она
связала неразрывно со своим отрицательным мировоззрением. Поэтому для тех, кому
дорого было сокровище народной веры и кто чувствовал себя призванным его
охранять, - прежде всего для людей церкви — создалась необходимость борьбы с
интеллигентскими влияниями на народ ради защиты его веры. К борьбе
политических и культурных идеалов примешалась религиозная распря, всю серьезность
которой, вместе со всем ее угрожающим значением для будущего России, до сих
пор еще не умеет в достаточной степени понять наша интеллигенция. В
поголовном почти уходе интеллигенции из церкви и в той культурной изолированности, в
которой благодаря этому оказалась эта последняя, заключалось дальнейшее
ухудшение исторического положения. Само собою разумеется, что для того, кто верит в
мистическую жизнь Церкви, не имеет решающего значения та или иная ее
эмпирическая оболочка в данный исторический момент; какова бы она ни была, она не
может и не должна порождать сомнения в конечном торжестве и для всех явном
просветлении церкви. Но, рассуждая в порядке эмпирическом и рассматривая
русскую поместную церковь как фактор исторического развития, мы не можем
считать маловажным тот факт, что русский образованный класс почти поголовно
определился атеистически. Такое кровопускание, конечно, не могло не отразиться на
культурном и умственном уровне оставшихся церковных деятелей. Среди интелли-
297
генции обычно злорадство по поводу многочисленных язв церковной жизни,
которых мы нисколько не хотим ни уменьшать, ни отрицать (причем, однако, все
положительные стороны церковной жизни остаются для интеллигенции непонятны
или неизвестны). Но имеет ли интеллигенция настоящее право для такой критики
церковной жизни, пока сама она остается при прежнем индифферентизме или
принципиальном отрицании религии, пока видит в религии лишь темноту и идиотизм?
Церковная интеллигенция, которая подлинное христианство соединяла бы с
просвещенным и ясным пониманием культурных и исторических задач (чего так
часто недостает современным церковным деятелям), если бы таковая народилась,
ответила бы насущной и исторической необходимости. И даже если бы ей и на этой
череде пришлось подвергнуться преследованиям и гонениям, которых
интеллигенция столько претерпевает во имя своих атеистических идеалов, то это имело бы
огромное историческое и религиозно-нравственное значение и совершенно
особенным образом отозвалось бы в душе народной.
Но пока интеллигенция всю силу своей образованности употребляет на
разложение народной веры, ее защита с печальной неизбежностью все больше
принимает характер борьбы не только против интеллигенции, но и против просвещения,
раз оно в действительности распространяется только через интеллигенцию, —
обскурантизм становится средством защиты религии. Это противоестественное для
обеих сторон положение, обострившееся именно за последние годы, делает
современное состояние наше особенно мучительным. И к этому присоединяется еще и
то, что борьбой с интеллигенцией в защиту народной веры пользуются как
предлогом своекорыстные сторонники реакции, аферисты, ловцы в мутной воде, и все это
сплетается в один исторический и психологический клубок, вырабатываются
привычные ходы мысли, исторические ассоциации идей, которые начинают
рассматриваться и сторонниками и противниками их как внутреннеобязательные и
нерасторжимые. Оба полюса все сильнее заряжаются разнородным электричеством.
Устанавливаются по этому уродливому масштабу фактические группировки людей на
лагери, создается соответствующая психологическая среда, консервативная,
деспотическая. Нация раскалывается надвое, и в бесплодной борьбе растрачиваются ее
лучшие силы.
Такое положение создалось всем нашим духовным прошлым, и задача времени
состоит в том, чтобы преодолеть это разделение, возвыситься над ним, поняв, что в
основе его лежит не внутренняя, идеальная необходимость, но лишь сила
исторического факта. Пора приступить к распутыванию этого Гордиева узла нашей истории.
VII
Из противоречий соткана душа русской интеллигенции, как и вся русская
жизнь, и противоречивые чувства в себе возбуждает. Нельзя ее не любить, и
нельзя от нее не отталкиваться. Наряду с чертами отрицательными, представляющими
собою симптом некультурности, исторической незрелости и заставляющими
стремиться к преодолению интеллигенции, в страдальческом ее облике просвечивают
черты духовной красоты, которые делают ее похожей на какой-то совсем особый,
дорогой и нежный цветок, взращенный нашей суровой историей; как будто и сама
она есть тот «красный цветок», напитавшийся слез и крови, который виделся
одному из благороднейших ее представителей, великому сердцем Гаршину44*.
Рядом с антихристовым началом в нашей интеллигенции чувствуются и
высшие религиозные потенции, новая историческая плоть, ждущая своего
одухотворения. Это напряженное искание Града Божия, стремление к исполнению воли Бо-
жией на земле, как на небе, глубоко отличаются от влечения мещанской культуры
к прочному земному благополучию. Уродливый интеллигентский максимализм с
298
его практической непригодностью есть следствие религиозного извращения, но он
может быть побежден религиозным оздоровлением.
Религиозна природа русской интеллигенции. Достоевский в «Бесах» сравнивал
Россию и прежде всего ее интеллигенцию с евангельским бесноватым, который был
исцелен только Христом и мог найти здоровье и восста'новление сил лишь у ног
Спасителя45*. Это сравнение остается в силе и теперь. Легион бесов вошел в
гигантское тело России и сотрясает его в конвульсиях, мучит и калечит. Только
религиозным подвигом, незримым, но великим возможно излечить ее, освободить от
этого легиона. Интеллигенция отвергла Христа, она отвернулась от Его лика,
исторгла из сердца Его образ, лишила себя внутреннего света жизни и платится
вместе со своею родиной за эту измену, за это религиозное самоубийство. Но странно -
она не в силах забыть об этой сердечной ране, восстановить душевное равновесие,
успокоиться после произведенного над собой опустошения. Отказавшись от Христа,
она носит печать Его на сердце своем и мечется в бессознательной тоске по Нему,
не зная утоления своей жажде духовной. И эта мятущаяся тревога, эта нездешняя
мечта о нездешней правде кладет на нее свой особый отпечаток, делает ее такой
странной, насупленной, неуравновешенной, как бы одержимой. Как та прекрасная
Суламита, потерявшая своего жениха: на ложе своем ночью, по улицам и площадям
искала она того, кого любила душа ее, спрашивала у стражей городских, не видали
ли они ее возлюбленного, но стражи, обходящие город, вместо ответа, только
избивали и ранили ее (Песнь песней, 3,1—31; 4,1). А между тем Возлюбленный, Тот, о
Ком тоскует душа ее, близок. Он стоит и стучится в это сердце, гордое, непокорное
интеллигентское сердце... Будет ли когда-нибудь услышан стук Его?..
1909
ФИЛОСОФСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
I. ВЕНЕЦ ТЕРНОВЫЙ
Памяти Ф. М. Достоевского1
Достоевский закончил свою бессмертную речь о Пушкине следующими
словами: «Жил бы Пушкин долее, так и между нами было бы, может быть, менее
недоразумений и споров, чем видим теперь. Но Бог судил иначе. Пушкин умер в
полном развитии своих сил и бесспорно унес с собой в гроб некоторую великую тайну.
И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем»1*.
Эти глубокие слова приложимы и к самому Ф. М. Достоевскому. В известном
смысле и всякий человек есть неразгаданная тайна, хотя мимо нее обыкновенно
проходят не замечая, в особенности же это ясно относительно тех людей, которые
раскрывали свою душу, на чем больше они ее раскрывали, тем загадочнее и
таинственнее она оставалась, и неразгаданными сходили они в могилу. Последнее
слово, тайна живой индивидуальности, ее духовная сущность, оказывалась все-таки
невысказанной, творческий замысел, вызвавший к бытию эту живую душу,
нераскрытым, и о том, что же действительно было самым важным, подлинным,
существенным в человеке, приходится только гадать и спорить. И в высочайшей степени
все это приходится сказать об индивидуальности такой мощи, богатства и
сложности, какою был Ф. М. Достоевский. Найдется ли во всей русской и, быть может,
даже мировой литературе большая сложность, причудливая изломанность души,
чем у Достоевского, и вот почему печатью особенно глубокой тайны запечатлена
его индивидуальность. Эту-то тайну нам и приходится теперь разгадывать. В чем
же душа Достоевского, где проявилась ее подлинная первозданная стихия, не то,
что он сам думал и писал о себе, но чем он действительно был? Ответить на
подобный вопрос вообще можно только субъективно: это значит рассказать о том, что
видит в нем наше собственное внутреннее око, почему нам нужен и дорог
Достоевский, во что мы верим в Достоевском (ибо в конце-концов здесь, как и везде,
самый основной и центральный вопрос решает только акт веры, внутреннего
ясновидения, интуитивного чувства). Ответить на вопрос, в чем тайна личности, значит
духовно познать ее, а это познание есть такой интимный внутренний акт, который
основывается только на духовном слиянии, на сокровенном касании души, скорее на
непосредственном восприятии, нежели на рефлектирующей деятельности рассудка.
1 Читано на вечере в память Ф. М. Достоевского в Киеве 25-го февраля 1906 г. и было
напечатано в № 1 журнала «Свобода и культура».
О Достоевском см. еще наши следующие очерки: «Иван Карамазов как философский тип»
(в сборник «От марксизма к идеализму», 1903), «Васнецов, Достоевский, Соловьев и Толстой.
Параллели» (в сборник «Литературное дело»), «Чрез четверть века» (Вступительный очерк о
Ф. М. Достоевском к 6-му изданию его сочинений).
300
В отношении к Достоевскому, в познании его со стороны русского общества и
русской критики, существует двоякое течение. Одна часть - я не преувеличу, если
скажу, что к этому разряду принадлежит большинство1, - относится к
Достоевскому с грубым равнодушием, его в сущности не замечая или же отделываясь от
него дешевыми приемами азбучного обличения политических заблуждений
Достоевского. Вся проблема Достоевского, если таковая и есть, исчерпывается для них
тем, что Достоевский неправо мыслил о самодержавии и о других политических
вопросах, был в прогрессивном смысле политически неблагонадежен. Наклеить
ярлык реакции и сдать в архив — это так просто, настолько потакает сложившимся
привычкам и умственной лени, что нечего удивляться, если и до сих пор не
прекращаются подобные упражнения. Критиками своего времени (за совершенно
единичными исключениями) Достоевский был мало понят, и даже проницательный
Михайловский отнесся к нему поверхностно-публицистически, увидев в нем лишь
«жестокий талант»2*.
Такому духовному равнодушию к Достоевскому и оценке его лишь под
политическим углом зрения в новейшее время как будто положен конец. Начинается
более серьезное изучение Достоевского. Через четверть века после его смерти
Достоевского, наконец, заметили и начинают понимать. Достоевского вообще можно не
замечать, и против этой духовной слепоты нечем пособить, но тому, кто однажды
его заметил, уже не оторваться от «жестокого таланта», для него Достоевский
становится спутником на всю жизнь, мучеником, загадкой, утешением. Средины
здесь быть не может. Заметив Достоевского, нельзя уже от него оторваться. Только
это не значит, что он может быть воспринят легко и просто, что он ясен и этим
успокаивает противоречия. Нет, проблема Достоевского действительно трудна,
сложна и мучительна. Ибо в душе этого человека происходила великая,
непрерывная борьба, и из кратера этого клокочущего вулкана извергались и огонь, и
расплавленный металл, и лава, смешанная с горячей грязью. Нельзя скрывать, что в
Достоевском, действительно, есть нечто непросветленное и неумиренное, а есть и
такое, от чего нужно отказаться, — и это делал, напр<имер>, такой ближайший
его единомышленник, как В. С. Соловьев3*. В этом живом конгломерате, который
представляет душа Достоевского, чистейшее золото спаялось с золою и шлаком,
окончательного отделения их не произошло, и оборвавшаяся жизнь унесла в
могилу тайну разрешения синтеза, примирения и последнего разделения добра и зла. И
эту видимую противоречивость каждый тоже толкует по-своему, у одних ложатся
на верх одни страницы из Достоевского, у других - другие; одни видят лишь
случайный болезненный нарост в том, от чего им приходится отказываться в
Достоевском, напротив, другие в этом-то и видят выражение потаенной сущности, как бы
приговор над всею индивидуальностью Достоевского. И каждый, повторяю,
интимно воспринимая Достоевского, выражает в сущности то, во что он верит и во что не
верит в нем, обнаруживая вместе с тем, что и сам он имеет в своем внутреннем
опыте. И в этом смысле отношение к Достоевскому более, чем многое другое,
характеризует собственную индивидуальность человека, определяет, так сказать, его калибр.
Когда хоронили Достоевского, многочисленная толпа провожала траурную
колесницу на кладбище и, по описаниям современников, она была самого различного
состава: учащаяся молодежь, студенты и курсистки разных специальностей,
офицеры и дамы, юноши и старики - такая же разнообразная толпа, как та, которая
восторженно рукоплескала за полгода перед тем Пушкинской речи, когда общее
напряжение восторга разрядилось обмороком неизвестного молодого человека близ
кафедры у ног Достоевского4*. Что же соединило эту толпу и породило этот до боли
доходящий, мучительный энтузиазм любви и благодарности за речь, которая во
многом шла в разрез всем ходячим мнениям и предрассудкам, которая кичливых и
самодовольных звала к покаянию (Смирись, гордый человек! Смирись праздный
человек!» так восклицал в ней к русской интеллигенции Достоевский)5*. Конечно,
По крайней мере, так было еще лет 10 назад.
301
и в похоронной процессии, и на Пушкинском празднике всего менее было
политических единомышленников Достоевского, да и вообще были, вероятно,
представители различных политических мнений. Были сломаны, значит, политические
перегородки, обычно разделяющие людей, всеобщий энтузиазм испепелил их
кажущуюся крепость! Мало было, надо думать, и таких, которые подозревали весь
действительный размер литературного и философского гения Достоевского. Конечно,
его без преувеличений следует причислить к наилучшим писателям и мыслителям
всех времен и народов. Ведь пред легендой о Великом инквизиторе и вообще
философскими главами «Братьев Карамазовых» (и многими страницами из других его
произведений) бледнеют - говорю это с полным убеждением - мистерии Байрона,
и, может быть, даже и Фауст, а в романах Достоевского, нужно прямо сказать,
заключено больше подлинной философии, нежели во многих томах ее школьных
представителей. Достоевским были предугаданы и такие своеобразные и
симптоматические явления европейского сознания, как Ницше ( вспомните галерею
ницшеанских типов: Раскольников, Кириллов, Ставрогин и Иван Карамазов). Понимание
общего значения Достоевского в этом смысле до сих пор остается уделом немногих
и, кроме того, в этом я тоже глубоко убежден, вполне раскроется лишь будущим
временам. Мы уже видели, как вырос для нас Достоевский после революции,
относительно которой он обнаружил такую поразительную прозорливость.
Чем же, стало быть, был дорог Достоевский этой разношерстной толпе, какая
интимная связь породнила его с теми, кто, не разделяя вовсе его веры, его мнений,
не может проникнуть и во всю сложность его духовной жизни? Очевидно, эта
привязанность относится более к человеку, чем к литератору и художнику, очевидно,
она основывается на более глубоком фундаменте, нежели литературные симпатии
или политические мнения. От сердца к сердцу и от совести к совести идет эта
незримая связь, она проходит в тех глубинах, где скрыта связь матери и ребенка,
брата и сестры, ближайших друзей. И, мне кажется, в этом покоряющем обаянии
именно и нужно искать разгадки тайны души Достоевского, не в писательстве, а в
том, что стоит за ним и иногда им даже заслоняется и маскируется, - в его сердце.
Больное, любящее и страдающее сердце — вот святыня, пред которой
преклоняются все колени, и вот то, что влечет к Достоевскому чрез все разногласия с ним,
непонимание и предрассудки. Достоевскому был дан страшный, истинно
человеческий и единственно человеческий дар - дар страдания во имя любви к людям, дар
страдания и крест страдания. Если бы мы не были такие эгоисты, если бы мы не
были заняты постоянно своими мелкими личными делами, то покой и счастье
стали бы навсегда невозможны для нас. Стоит только открыть глаза и уши,
прислушаться к голосам этого мира, мы услышим от всех времен и народов, от прошлого
и настоящего нестерпимый стон, проклятия, жалобы, плач детей, мы почувствуем,
что земля под нами пропитана кровью и весь этот мир и вся история есть одна
мучительная трагедия. Мы не можем вынести и вместить этого сознания, мы
слишком любим себя и свой покой, и только потому мы живем в относительном
равновесии. Притом же лишь в меру своего собственного развития мы способны
понимать не только физические, но и духовные страдания, которых, может быть, и
не подозревали ранее: неразвитому человеку муки Фауста, Раскольникова или
Ивана Карамазова представляется блажью. Слышать и понимать, а следовательно,
и разделять, и нести на себе все скорби и грехи всего мира есть дело Бога, и мы
приближаемся здесь к страшной тайне Гефсиманской ночи, кровавого борения и
пота. Но к священной ограде Гефсиманского сада, из которого есть только один
путь - на Голгофу, приближается всякий в меру своего страдания за других,
бескорыстной, самоотверженной скорби и боли за.человека. И близко, ближе многих
других подошел к ней Достоевский, и это-то и почувствовала в нем своими неока-
меневшими еще сердцами молодежь. Достоевского, который принял в свою душу и
муки Раскольникова, и страдания Сони, стыд Мармеладова, и горе Екатерины
Ивановны, и слезы замученных деток, и тоску Карамазова, и «бедных людей», и
302
«униженных и оскорбленных», и каторжников и аристократов, Достоевского,
«жестокий талант» которого мучит этой своей мукой, исторгает слезы, жжет своим
огнем, этого Достоевского не в состоянии искренно отвергнуть человек, он может
от него заслониться, не допустить его до своего сознания, но святыни этого
человеческого страдания и любви к человеку он не может сознательно отвергнуть, как
не может он сознательно отвергнуть Того, Кто мучился за людей и молился во тьме
Гефсиманского сада. И Голгофа, которая была в сердце у Достоевского, крест,
который был в нем воздвигнут, вот что повелительно склоняет нас перед Достоевским.
Крестным путем, чрез страдание каторги, чрез грязь и черноту жизни, чрез
распахнувшиеся для него .бездны человеческого сердца пришел Достоевский к
Тому, Кто весь есть Любовь, и , однажды увидав и поняв тайну подвига распятого
Бога, всю его единственность и святость, он утвердился на Нем как на основании
для веры и в людей, и в Бога, и в спасение человечества. Христос занял всю его
душу, да иначе этого быть не может: Его можно отвергнуть, но если принять, то
только всей душой. В посмертных заметках Достоевского значится, между прочим,
план «написать книгу об Иисусе Христе»6*. Мы не знаем, написал ли бы он такую
книгу, но в известном смысле все его книги, особенно последних лет, написаны о
Христе, во всех Он является истинным, хотя и незримым центром, иногда
выступая открыто. Величайшее торжество гения Достоевского состоит именно в том, что
он, сняв церковную позолоту и византийскую традиционность, по-новому, по-
своему сумел в своих произведениях дать почувствовать живого Христа, он ставит
Его как бы среди нас и, приближая Его, научает любить Его. Неотразимой силы и
пафоса достигает поэтому Достоевский именно в тех местах своих произведений,
где появляется у него — зримо или незримо — Христос. Вспомните потрясающую
сцену чтения Евангельского рассказа о воскресении Лазаря в «Преступлении и
наказании», где «убийца и блудница сошлись за чтением вечной книги»7* и где до
глубочайшего дна распахиваются вдруг глубины грешной и скорбной человеческой
души, вспомните главу о Кане Галилейской в «Братьях Карамазовых», где тоже
описывается момент такого душевного подъема, когда человек определяется на всю
жизнь8*. Поразительно и то, что говорит в «Бесах» на своеобразном своем языке
воинствующий атеист Кириллов перед самоубийством, предпринимаемым, чтобы по
ницшеански «зажать своеволие».
«Слушай большую идею: был на земле один день ив середине земли стояли три
креста. Один на кресте до того веровал, что сказал другому: "Будешь сегодня со
мною в раю". Кончился день, оба померли, пошли и не нашли ни рая, ни
воскресения. Не оправдывалось сказанное. Слушай: этот человек был высший на всей
земле, составлял то, для чего ей жить. Вся планета, со всеми, что на ней, без этого
человека - одно сумасшествие. Не было ни прежде, ни после Ему такого же и
никогда, даже до чуда. В том и чудо, что не было и не будет такого же никогда. А
если так, если законы природы не пожалели и Этого, даже чудо свое же не
пожалели, а заставили и Его жить среди лжи и умереть за ложь, то, стало быть, вся
планета есть ложь и стоит на лжи и глупой насмешке. Стало быть, самые законы
планеты - ложь и дияволов водевиль. Для чего же жить, отвечай, если ты человек?»9*
Какая, казалось бы, странная и дикая идея — дать почуствовать Христа в
проникновенно-предсмертном бреде неверующего человека пред самоубийством, и
между тем потрясающая правда этого изображения сама говорит за себя.
«Вспомните, наконец, как описано появление Христа в «Легенде о Великом
инквизиторе», - вы как будто присутствуете при этом появлении. И этой пламенной
любовью к Христу и определялось, в сущности, так называемое, миросозерцание
Достоевского, его вера. Охарактеризуем ее лучше всего словами В. С. Соловьева,
сказанными над могилой Достоевского.
«Окончательная оценка всей деятельности Достоевского, — говорил Соловьев, -
зависит от того, как мы смотрим на одушевлявшую его идею, на то, во что он
верил и что он любил. А любил он прежде всего живую человеческую душу во всем и
303
везде, и верил он, что мы все род Божий, верил в бесконечную силу человеческой
души, торжествующую над всяким внешним насилием и над всяким внутренним
падением. Приняв в свою душу всю жизненную злобу, всю тяготу и черноту жизни
и преодолев все это бесконечною силою любви, Достоевский во всех своих
творениях возвещал эту победу. Изведав божественную силу в душе, пробивающуюся чрез
всякую человеческую немощь, Достоевский пришел к познанию Бога и
Богочеловека. Действительность Бога и Христа открылась ему во внутренней силе любви
и всепрощения, и эту же всепрощающую благодатную силу проповедовал он как
основание и для внешнего осуществления на земле того царства правды, которого
он жаждал и к которому стремился всю жизнь»1.
Не нужно думать, что лег'ко и безболезненно давалась Достоевскому эта его
вера. Напротив, ценою жесточайшей борьбы, отчаянных сомнений, мук богоостав-
ленности («Боже мой, векую мя еси оставил»)11* далась ему она, и часть - конечно,
только часть, ибо самого главного здесь рассказать нельзя, - рассказывает он в
своих романах. В человеческой душе ему были открыты такие глубины содомского
греха, от которых кружится голова, но зато он постигал и вершины святости с
белеющими снегами вечности; ведомы были ему и подполье, и притон, и тюрьма, и
монастырь. Все это проходило, конечно, чрез его собственную всеобъемлющую
душу, откуда он мучительно извлекал эти страшные образы. Может быть, ему в
тысячу раз легче было бы не знать о человеке того, что он знал, и не понимать
того, что он понимал, но ему надо было это знать и понимать, это входило в
тяжесть креста его. И вот в причудливом и фантастическом соединении чередуются
эти типы: Соня и Свидригайлов, старик Карамазов и старец Зосима, Грушенька и
юродивая (из «Бесов»), Алеша и Иван Карамазов, Великий инквизитор и черт в
кошмаре Ивана Федоровича, и все это клокотало и боролось в нем самом в
мучительной борьбе. Также и в философских размышлениях перед Достоевским
открывались такие бездны сомнений, которые и не снятся ходячему, беззаботному и
поверхностному отрицанию, так что на этом основании иные считают Достоевского
атеистом, хотя и страстно жаждавшим веры, но ее не нашедшим. Достоевский не
был философом-систематиком, он не противопоставлял аргументов аргументам,
побивая одни другими и приходя затем к тому или другому окончательному
выводу. Он клал на одно и тоже полотно художественное изображение чувств и
настроений, иногда взаимно исключавших друг друга. Сказать, возвысился ли он сам
над этой борьбой, победитель ли он или побежденный, значит тоже делать попытку
раскрыть неразгаданную тайну его, может быть самую роковую и страшную
тайну. Пред концом жизни Достоевский дал последний, самый жестокий и
решительный бой противоположным началам, боровшимся в его душе, в романе «Братья
Карамазовы», где «бунт» и «Легенда о Великом инквизиторе» чередуются с
поучениями старца Зосимы и «Каной Галилейской», где все вопросы обострены в
ужасающей степени. Этот роман остался незаконченным, его окончательная развязка и
последнее слово автора унесены в могилу, и смерть поставила свое обычное
многоточие. Как бы это ни было, ответить на вопрос, что побеждало в душе у Достоевского,
чем он был сам, Иваном или Алешей, с бесспорностью, устраняющей всякие
возражения, нельзя, и в этом своеобразие, но и мучительность творчества Достоевского12*.
Я лично не сомневался и не сомневаюсь, что положительные начала все-таки
торжествовали в душе Достоевского, и вера побеждала в нем сомнения, хотя и не
всегда уничтожала их остроту. Основной и существенный аргумент в пользу такого
мнения я вижу в том, что иначе Достоевскому и не давалось бы изображение такой
силы положительных религиозных переживаний, в его сочинениях не появлялось
бы того лика Христова, который присутствует в них теперь, иначе, быть может,
они просто не были бы написаны, и весь тон, план, дерзания проповеди были бы
иными. Весь окровавленный, Достоевский тем не менее оставался победителем. Так
я чувствую Достоевского, и мне не пришло бы даже в голову особенно на этом на-
1 В. С. Соловьев. Собр. соч. Т. III. С. 169-17010*.
304
стаивать, если бы противоположное мнение столь настойчиво не повторялось
некоторыми современными скептиками (как, напр<имер> Шестовым)13*.
Перехожу теперь к той категории взглядов Достоевского, которые принято
называть общественным мировоззрением. Очевидно, что у Достоевского оно было
вследствие сложного его общего мировоззрения сложнее, нежели у большинства
его - да и наших - современников, обыкновенно довольствующихся упрощенным
механическим и материалистическим мировоззрением, при полном отсутствии
философского и религиозного углубления и даже с отрицанием такового. Там, где
кончаются для него все вопросы, для Достоевского, в сущности, они только
начинаются. Обычные теории прогресса не чувствуют мировой трагедии или, вернее,
чувствует ее только до настоящего момента, сравнительно холодны к ней в
прошлом и совсем не дают ей места в будущем, для которого рисуется перспектива
земного рая грядущих поколений. Очевидно, здесь не сомневаются в том, что это
есть уже достаточное разрешение мировой трагедии, с которым благодушно
примирятся счастливые человекобоги будущего. Однако справедливо усомниться, можно
ли видеть истинно человеческий прогресс в таком типе развития. Устами Ивана
Карамазова Достоевский выразил это сомнение о цене прогресса и о приобретении
чьего бы то ни было счастья хотя бы слезинкой ребенка. Вы помните, что Иван
бунтует против Бога и Его мира и отрицает возможность гармонии и прощения
даже в будущем веке. Одно из двух: или каждая человеческая личность, как
считал Достоевский, есть высшая ценность, которая не может рассматриваться как
средство, и в таком случае вся эта теория, основанная на историческом
«унавоживании» почвы трупами одних для будущего счастья других, если
последних не стошнит от такого счастья, не дает никакого выхода из мировой трагедии;
или же люди, действительно, не равны в своем человеческом достоинстве, и
будущие исполины или человекобоги и представляют собой истинную ценность и цель
истории, а мы относимся к ним примерно так же, как обезьяны или еще более
отдаленные зоологические виды к людям. Но, очевидно, такое воззрение отнимает
почву вообще у всяких идеалов, по крайней мере, демократического и
социалистического характера. Поэтому, если только признать в каждом человеке личность,
образ Божий, то приходится принять, что или совсем нет разрешения мировой
трагедии и теория прогресса есть фальшь и самообман, или же это разрешение
возможно только там, где видел его и Достоевский, т.е. в христианской вере в
восстановление всех ценностей, всех индивидуальностей, в учении о будущем веке,
короче, о всеобщем воскресении. При этом воззрении и исторический процесс с его
относительным и условным прогрессом получает свое значение и смысл как
необходимое звено общего богочеловеческого процесса.
Но, оставляя в стороне эти конечные и мировые вопросы, даже и в рамках
относительного исторического прогресса, у Достоевского не могло не быть, конечно,
серьезных пунктов разногласия с господствующим позитивизмом. Совестно было
бы и излишне уверять, что автору «Униженных и оскорбленных» не были чужды
социальные вопросы, вопросы богатства и бедности, то, что в широком смысле
можно назвать проблемой социализма. Не может быть также сомнения в том, что и
для него она разрешалась лишь в одном смысле, в каком она только и может
вообще разрешаться, идеалом и для него было устранение социальной неправды и
установление всеобщей солидарности. Но он находил и, оставаясь верен всему
своему мировоззрению, конечно, не мог не находить, что в материалистических
теориях социализма вопрос ставится слишком просто и недостаточно глубоко и что
для достижения всеобщей солидарности одного механического соединения людей
слишком мало. Он не отрицал правды социализма (как это может показаться
иному читателю ввиду его обычных нападок на социализм, в которых он имеет в виду
лишь определенную его версию, именно материалистическую как наиболее
распространенную), но он хочет эту относительную правду поставить в связь и подчинить
высшей религиозной правде, согреть и оживить холодные и мертвые стены религи-
305
озным огнем14*. В этом смысле и следует понимать слова его, написанные в
последнем выпуске «Дневника писателя»: «Не в коммунизме, не в механических
формах заключается социализм народа русского: он верит, что спасется лишь в
конце-концов всесветлым соединением во имя Христово. Вот наш русский
социализм»15*. Конечно, это требование рассматривать правду социальную лишь в свете
правды религиозной само по себе не препятствует признавать все великое значение
и внешних реформ, так сказать, внешнего социализма, который является тоже
исполнением внутренней правды, и из-за того, что он еще не есть все, не следует
отрицать или умалять его значения как исторически данного средства. В
обострении полемики Достоевский не соблюдал этого масштаба и перегибал палку в
сторону, противоположную той, в которую она была перегнута его противниками, и
приближался иногда к толстовскому индивидуализму, вообще столь ему чуждому.
Мы не хотим закрывать глаза на эту социологическую аберрацию у Достоевского,
укажем только в его защиту, что он не был ни реальным социологом, ни
политиком, ни экономистом, ставил всегда вопросы в их принципиальную ширь, но
вместе с тем и с высоты птичьего полета, в некотором отвлечении от непосредственной
практики жизни.
Интересна и глубока его критика общественно-механического разрешения
социальных вопросов, как оно рисуется в головах тех, кто считает человека всецело
продуктом или рефлексом экономических и других причин, пустым местом,
предназначенным быть складом для всяких влияний. В одном из самых своих ранних
произведений, написанном до ссылки (еще 1864 года), в «Записках из подполья»16*,
он указывает на упускаемое при этом из виду иррациональное и слепое даже
своеволие человеческой природы, которое может сломать всякое «целесообразное» и
«выгодное» устройство.
«Тогда - читаем мы здесь - настанут новые экономические отношения, совсем
уже готовые и тоже вычисленные с математической точностью, так что в один миг
исчезнут всевозможные вопросы собственно потому, что на них получатся
всевозможные ответы. Тогда выстроится хрустальный дворец. Тогда... Конечно, никак
нельзя гарантировать, что тогда не будет, напр<имер>, ужасно скучно (потому
что - что же и делать-то, когда все будет расчислено по табличке), зато все будет
чрезвычайно благоразумно. Конечно, от скуки чего не выдумаешь!.. Ведь я,
напр<имер>, нисколько не удивлюсь, если вдруг ни с того ни с сего среди
всеобщего будущего благоразумия возникнет какой-нибудь джентльмен с неблагородной
или, лучше сказать, ретроградной и насмешливой физиономией, упрет руки в боки
и скажет нам всем: а что, господа, не столкнуть ли нам все это благоразумие с
одного разу, ногой, прахом, единственно с той целью, чтобы все эти логарифмы
отправились к черту и чтобы нам по своей глупой воле пожить! Это бы еще ничего,
но обидно то, что везде непременно последователей найдет: так человек устроен. И
все это от самой пустейшей причины, о которой бы, кажется, и упоминать не
стоит: именно от того, что человек всегда и везде, кто бы он ни был, любил
действовать так/ как хотел, а вовсе не так, как повелели ему разум и выгода; хотеть же
можно и против собственной выгоды, а иногда и положительно должно. Свое
собственное вольное и свободное хотение, свой собственный, хотя бы самый дикий
каприз, своя фантазия, раздраженная иногда хоть бы до сумасшествия, - вот это
все и есть та самая пропущенная, самая выгодная система, которая ни под какую
классификацию не подходит и от которой все системы и теории постоянно
разлетаются к черту. И с чего это взяли все мудрецы, что человеку надо какого-то
нормального, какого-то добродетельного хотения? С чего это непременно вообразили
они, что человеку необходимо непременно благоразумно-выгодное хотение?
Человеку надо одного только самостоятельного хотения, чего бы эта
самостоятельность не стоила и к чему бы ни привела»17*.
Но еще более мрачные и трагические тоны слышатся у Достоевского, когда он
говорит о нравственных опустошениях, связанных с утратой веры и высшего смыс-
306
ла жизни, которые неизбежно ощутит человечество вместе с социальными
успехами в «государстве будущего», устроившись без Бога18*, Проблема атеизма,
настоящего и будущего, постоянно волновала Достоевского. Вспомните это потрясающее
место из разговора «Подростка» с Версиловым и слова этого последнего, глубоко
западающие в душу.
«Я представляю себе, мой милый, - начал он с задумчивой улыбкой, - что бой
уже кончился и борьба улеглась. После проклятий, комьев грязи и свистков
настало затишье, и люди остались одни, как желали; великая прежняя идея оставила
их, великий источник сил, до сих пор питавший и гревший их, отходил, как то
величавое зовущее солнце в картине Клода Лоррена, но это был бы уже как бы
последний день человечества. И люди вдруг поняли, что они остались совсем одни,
и разом почувствовали великое сиротство. Милый мой мальчик, я никогда не мог
вообразить себе людей неблагодарными и оглупевшими. Осиротевшие люди тотчас
же стали бы прижиматься друг к другу теснее и любовнее; они схватились бы за
руки, понимая, что теперь лишь они одни составляют все друг для друга. Исчезла
бы великая идея бессмертия, и приходилось бы заменить ее; и весь великий
избыток прежней любви к Тому, Который и был Бессмертие, обратился бы у всех на
природу, на мир, на людей, на всякую былинку. Они возлюбили бы землю и жизнь
неудержимо и в той мере, в какой постепенно сознавали бы свою преходимость и
конечность и уже особенною, уже не прежнею любовью. Они стали бы замечать и
открыли бы в природе такие явления и тайны, каких и не предполагали прежде,
ибо смотрели бы на природу новыми глазами, взглядом любовника на
возлюбленную. Они просыпались бы и спешили бы целовать друг друга, торопясь любить,
сознавая, что дни коротки, что это - все, что у них остается. Они работали бы друг
на друга, и каждый отдавал бы всем все свое и тем одним был бы счастлив.
Каждый ребенок знал бы и чувствовал, что всякий на земле ему как отец и мать.
'Пусть завтра последний день мой, — думал бы каждый, смотря на заходящее
солнце, - но все равно, я умру, но останутся все они, а после них дети их" - и эта
мысль, что они останутся, все так же любя и трепеща друг за друга, заменила бы
мысль о загробной встрече. О, они торопились бы любить, чтобы затушить великую
грусть в своих сердцах. Они были бы горды и смелы за себя, но сделались бы
робкими друг за друга; каждый трепетал бы за жизнь и за счастье каждого. Они стали
бы нежны друг к другу и стыдились бы того, как теперь, и ласкали бы друг друга,
как дети. Встречаясь, смотрели бы друг на друга глубоким и осмысленным
взглядом, и во взглядах их была бы любовь и грусть...»19*.
Достоевский сам не выдерживает безмерной, трагической и безысходной грусти
картины, она кончается все-таки появлением Христа: «Я не мог обойтись без
Него, - говорит Версилов, - не мог не вообразить Его, наконец, посреди осиротевших
людей. Он приходил к ним, простирал к ним руки и говорил: "Как могли вы
забыть Его?" Тут как бы пелена спадала со всех глаз и раздавался бы великий и
восторженный гимн нового и последнего воскресения...»20*. Вот думы, которые
волновали Достоевского относительно «государства будущего»...
Нам необходимо теперь сказать несколько слов о политических мнениях
Достоевского1. Известно, что он был политическим славянофилом и отрицал
конституционализм во имя идеального самодержавия. Исходя из этого общего принципа, в
роли политического публициста, которую по странному пристрастию он охотно
брал на себя, он развивал идеи внешней и внутренней политики, приближающиеся
к тому, что можно назвать националистическим империализмом. Каждая основная
ошибка имеет свою логику и, пройденная до конца в своих отдаленнейших
заключениях, приводит к явному абсурду. Подобные абсурды, наряду с глубочайшими
прозрениями, встречаются й в публицистике Достоевского, и они представляют
1 Вопрос о политическом мировоззрении Достоевского в связи с религиозным требует
внимательного и непредубежденного исследования и доселе остается трудным и малоразъяснен-
ным21*.
307
благодарный материал для враждебной и поверхностной критики, пользующейся
ими, чтобы посредством политического изобличения скомпрометировать и
ненавистное не только в этих внешних проявлениях, но и еще более во внутренних
основах мировоззрения. В отношении Достоевского к внутренним вопросам русской
жизни, как и у всего славянофильства, от которого он здесь не отличается,
проявляется фактическая историческая ошибка, преувеличение действительных
способностей, идеализация самодержавия. Эта ошибка, столь невозможная для нас, в
атмосфере 60-х годов, после крестьянской реформы, вся недостаточность которой
выяснилась не сразу, после либеральных реформ, сменивших мрачный режим
предшествующего царствования, была гораздо допустимее и понятнее, и многие
тогда отдавались этому настроению1; идеалы демократического, свободолюбивого
самодержавия тогда не звучали таким явным и режущим абсурдом, как в
новейшую эпоху бюрократического самовластия под предлогом самодержавия. Конечно,
если бы Достоевский, И. С. Аксаков и другие славянофилы дожили до наших дней
внутренней и внешней Цусимы23*, они примкнули бы - я в этом совершенно
убежден - к общему антибюрократическому движению, хотя, конечно, имея свой
собственный голос, не затерялись бы в этом разноголосом хоре. Но такого объяснения,
конечно, мало. В отрицательном настроении Достоевского к освободительному
движению 60-х и 70-х годов сказывается и своеобразный душевный вывих,
некоторая аберрация, слепота. В чем ее источник? Я вижу его - и не только у
Достоевского, но и для всего славянофильства - в той религиозно-философской
противоположности, какая существовала по разным историческим причинам, о которых
говорить здесь не место, между славянофильством и западничеством.
Освободительное движение шло под флагом философского нигилизма и материализма,
ставшего как бы его религией. И, отталкиваясь всем своим внутренним существом
от этого нигилизма, Достоевский отталкивал от себя и все, что казалось с ним
неразрывно связано, а в том числе и конституционализм. От философской лжи
противников Достоевский не сумел отделить его относительную политическую правду
и связать ее с своей религиозной правдой. Обеим сторонам казалось, что, только
отрицая религию, и можно отрицать бюрократическое самовластие, гипноз
исторического факта заслонял ту истину, что такое самодержавие можно и должно
отрицать и во имя религиозной правды и что именно религиозная критика
абсолютизма, инстинктивно хватающегося за авторитет религии, может быть для него самой
убийственной. Достоевский с своим мировоззрением в духовной атмосфере базаров-
ского нигилизма оставался в страшном, подвижническом одиночестве, а бремя
исторического одиночества, даже возлагаемое на могучие плечи, нельзя нести без
всякого вреда для себя, не платясь за него тем или иным духовным уродством. И
если Достоевский отстоял себя в том, что было для него самым важным, именно в
области религиозно-философской, то исказилась и отчасти изуродовалась, так
сказать, политическая сторона его души. Здесь надо видеть следы не личного распада,
но исторического раскола в русском обществе, поистине, saeculi vitia, non
hominis24*. На некоторые несоответствия и частные противоречивости в
мировоззрении Достоевского указывал еще В. С. Соловьев, духовно столь близкий
Достоевскому. И на нас, на тех, кто считает себя духовными наследниками и Достоевского,
и Соловьева и продолжателями их исторического дела, лежит теперь задача
вправлять вывих, вводить относительную правду освободительного политического и
социального движения в религиозное сознание, а это последнее вносить в это движение,
мирить этот духовный раскол, засыпать пропасть, которая образовалась, кажется,
еще с петровской реформы и особенно углубилась в XIX веке и в начале XX.
Возвращаясь к политическому мировоззрению Достоевского и других
политических славянофилов, следует указать, что их приверженность самодержавию ничего
общего не имеет с вожделениями теперешних охранителей и реакционеров.
Достоевский отстаивал самодержавие во имя свободы народной - это факт. Будучи по
1 Вспомним Герцена: «Ты победил, Галилеянин»22*.
308
непосредственному опыту знаком с отрицательными сторонами западного
парламентаризма, он не верил в его плодотворность в России, противопоставляя этому,
конечно, не идеальному, но все же исторически пока лучшему режиму идеальное,
но в действительности не существующее самодержавие и, подобно всем
славянофилам, плохой, но все же живой ломовой лошади предпочитая кровного, но лишь
нарисованного арабского скакуна. Отношение царя к народу он конструировал как
отца и детей, отводя в этой конструкции место и совещательному народному
представительству: «оказать доверие» народу призывал он в последнем «Дневнике
писателя», почти накануне 1-го марта25*. «У нас гражданская свобода, - писал он здесь
же, - может водвориться самая полная, полнее, чем где-нибудь в мире, в Европе
или даже в Северной Америке... Не письменным листом утвердится, а созиждется
лишь на детской любви к царю как к отцу, ибо детям можно многое такое
позволить, что и не мыслимо у других, у договорных народов, детям можно столь
многое доверить и столь многое разрешить, как нигде еще не было видно»26*. Вот о
каком самодержавии мечтал Достоевский, оттолкнувшись от западнического
конституционализма. Здесь можно видеть оптический обман, историческую иллюзию,
но не ошибку нравственного суждения.
Как известно, Достоевский верил в исключительную миссию русского народа,
народа-богоносца27*, как называл он его, ему он приписывал в своей Пушкинской
речи черты всечеловека, искание всечеловеческой правды, всечеловеческого
примирения28*. Вера в народ, эта почти религиозная вера Достоевского, находившаяся
в связи с его эсхатологическими представлениями, есть вообще в высшей степени
важный фактор в его проповеди. Иногда она вводила его на соблазн национализма
(в какой не вводила уже Вл. Соловьева, всецело ее разделявшего), но вообще
духовно грела его и была совершенно неотделима от всего его существа. В эти
мучительные дни нравственного падения русского народа, в этой атмосфере всеобщего
озверения и одичания я часто думал последние годы о Достоевском. Что он
чувствовал бы и говорил, если бы был жив теперь? Выдержала ли бы его вера эти
мучительные испытания? В конце концов я ответил себе на этот вопрос все-таки
утвердительно. Кто скажет, каких мук это бы ему стоило - врезались бы еще глубже
морщины и еще более искривились бы сосредоточенным страданием уста, но он
справился бы с собой, ибо звериного образа, смрадного греха, беспомощности
против искушений, даже виртуозной жестокости он и не отрицал за своим народом. В
том же последнем «Дневнике писателя»29* он писал между прочим (и это
повторяется у него в разных местах):
«Пусть, все-таки, пусть в нашем народе зверство и грех, но вот что в нем
неоспоримо: это именно то, что он в своем целом, по крайней мере (и не в идеале
только, а в самой заправской действительности), никогда не принимает, не примет и не
захочет принять своего греха за правду! Он согрешит, но всегда скажет, рано ли,
поздно ли: я сделал неправду. Если согрешивший не скажет, то другой за него
скажет, и правда будет восполнена. Грех есть смрад, и смрад пройдет, когда
воссияет солнце вполне. Грех есть дело преходящее, а Христос вечное. Народ грешит
и пакостится ежедневно, но в лучшие минуты, во Христовы минуты, он никогда в
правде не ошибется. То именно и важно, во что народ верит как в свою правду, в
чем ее полагает, как ее представляет себе, что ставит своим лучшим желанием, что
возлюбил, чего просит у Бога, о чем молитвенно плачет. А идеал народа -
Христос. А с Христом, конечно, и просвещение, и в высшие, роковые минуты свои
народ наш решает и решал всякое общее дело свое всегда по-христиански».
Вот что отвечал на аналогичные вопросы Достоевский в свое время и что
ответил бы теперь. После горя и позора последних лет ослабела ли духовная связь,
внутренняя солидарность наша с народом, стали ли мы ему более чужды, меньше
ли мы любим и верим в этот народ, темный, растлеваемый, столь легко
становящийся орудием темных сил? Нет, но мучительней. Есть кровная привязанность,
при которой причиняемые муки только сильнее приковывают, только окончатель-
309
нее покоряют, научают любить и прощать, любить не за что-нибудь, но как
будто, - хотя это на самом деле и неверно, — вопреки всему. Такой любовью
Достоевский любил народ русский и ей он не изменил бы до конца. Но как нужен был бы
он нам теперь, в те дни, когда немело даже могучее перо Толстого, как со всей
правдой и пламенеющим гневом пророческого обличения ударил бы он по сердцам
своим словом, как разил бы он врагов правды, врагов русского народа; но
приходится нам роковой час нашей истории переживать без Достоевского, да с него-то
было довольно и того, что он уже пережил. Позвольте мне заключить эту
характеристику проникновенными словами В. С. Соловьева, указывающими самую
драгоценную особенность духовной индивидуальности Достоевского:
«В том-то и заслуга, в том-то и все значение таких людей, как Достоевский,
что они не преклоняются перед силой факта и не служат ей. Против этой грубой
силы того, что существует, у них есть духовная сила веры в истину и добро, в то,
что должно быть. Не искушаться видимым господством зла и не отрекаться ради
него от невидимого добра - есть подвиг веры. В нем вся сила человека. Кто не
способен на этот подвиг, тот ничего не сделает и ничего не скажет человечеству.
Люди факта живут чужою жизнью, но не они творят жизнь. Творят жизнь люди
веры. Это те, которые называются мечтателями, утопистами, юродивыми, - они же
пророки, истинно лучшие люди и вожди человечества. Такого человека мы сегодня
поминаем»1.
К этой характеристике от себя я прибавлю еще одну только черту. Современное
человечество, которое лелеет золотые сны о покое и счастье будущих поколений и
ради этих снов приносит столько жертв, все же в глубине своей души, в
интимнейших своих порывах чтит только страдание, вольное, жертвенное и даже
невольное. Отчего так дороги нам, так повелительно склоняют наши почтительные
головы освобожденные шлиссельбуржцы и другие страдальцы, мученики
освободительного движения? Достоевский как никто почувствовал и выразил эту коренную
общечеловеческую черту. Вспомните мучительную сцену Раскольникова с Соней,
когда он вдруг опускается на колени и целует ей ногу.
« - Что вы, что вы это? Передо мною! - пробормотала она, побледнев, и
больно-больно сжалось вдруг ее сердце.
Он тотчас встал.
- Я не тебе поклонился, я всему страданию человеческому поклонился, - как-
то дико произнес он и отошел к окну»31*.
Вы помните также, как святой старец кланялся Дмитрию Карамазову в ноги,
предчувствуя, на какое страдание он обречен32*. Можно поразному объяснять это,
но в этих чувствах, в этих переживаниях содержится какая-то глубокая и
значительная правда. Поклонимся же и мы святыне человеческого страдания в лице
нашего писателя, чело которого вместе с лучом бессмертия венчает самый высший
венец, какого может удостоится человек, венец терновый!..
1906
1 Соловьев Вл. С. Собр. соч. Т. III. С. 18530*.
И. ФИЛОСОФИЯ КНЯЗЯ С. Н. ТРУБЕЦКОГО И
ДУХОВНАЯ БОРЬБА СОВРЕМЕННОСТИ1
(По поводу собрания сочинений кн. Сергея Николаевича Трубецкого1*)
Появление Полного собрания сочинений кн. С. Н. Трубецкого представляет
собой важный факт в истории русского философского просвещения. В нем наше
общество получает в концентрированной и даже чересчур сжатой форме целое
богатство глубоко продуманных и интимно пережитых философских идей и мотивов, не
только способных послужить материалом для философского образования, но и - что
гораздо важнее — содержащих плодотворнейшие начала для дальнешего развития.
Проф. Л. М. Лопатин в своем очерке философского мировоззрения кн. С. Н.
Трубецкого2 с горечью отмечает печальную судьбу русских философов, стоящую в
связи с особенностями нашей жизни, а отчасти и с особенностями нашего
национального гения, именно, что они, глубоко охваченные исканием истины, не успевают
придать своим идеям законченной систематической обработки, как это делает
средний немецкий профессор философии, и это приходится сказать про наиболее
оригинальных русских мыслителей - одинаково как про Хомякова, Киреевского и
других славянофилов, так и про Вл. Соловьева3 и его друга и философского
единомышленника кн. С. Н. Трубецкого, хотя последний из всех обладал в наибольшей
мере качеством ученого исследователя, систематика, вообще был наиболее
«профессором» в хорошем смысле этого слова, и хотя его перу принадлежат две
законченные философские «диссертации», философско-богословское учение кн.
С. Н. Трубецкого — а он, несомненно, имел свою, оригинальную систему, которую
можно было бы излагать в длинном ряде томов, «von Buch zu Buch»2* — имеет
характер эскиза, и это затрудняет даже ее понимание, особенно для
малоподготовленного читателя. Некоторые ходы мысли приходится скорее угадывать» хотя и
ясно, что они пройдены до конца в голове автора, нужны реконструкции,
комментарии или популяризация4.
Из всего Собрания сочинений наиболее важное, принципиальное значение
имеют философские статьи второго тома, печатавшиеся в разные времена в «Вопросах
1 Критическое обозрение. 1909. I.
2 Вопросы философии и психологии. 1906, январь-февраль.
3 Ср. наш очерк: «Что дает современному сознанию философия Вл. Соловьева?» в сборнике
«От марсизма к идеализму». СПб., 1903 (ранее в «Вопросах философии и психологии», 1902).
4 Общую характеристику духовной личности кн. С. Н. Трубецкого см. в моей речи,
сказанной в торжественном заседании студенческого общества его имени - в сборнике речей,
изданном обществом. М., 19093*.
311
философии и психологии», и прежде всего обширные статьи «О природе
человеческого сознания» (1890) и «Основания идеализма» (1896). В этих статьях дается
ключ к пониманию всей научной и философской деятельности С. Н., раскрывается
центральный ее нерв. Исходя из них, легко понять, почему он должен был
написать и «Метафизику древней Греции», и «Учение о Логосе», и ряд статей
общефилософского характера (особенно важны «Этика и догматика» и «Вера в
бессмертие»), и этюды по истории религии и истории древней философии, и этюды о
Пифагоре и о Гегеле, каково было объединяющее мировоззрение, направлявшее эту
научную пытливость. И интересно отметить в сочинениях кн. С. Н. Трубецкого,
последние годы отдавшего себя преимущественно публицистике, ту переоценку
ценностей, которую производит история даже на протяжении немногих лет: уже
потеряли значительную долю своего интереса политические и публицистические
статьи первого тома, хотя они, свидетельствующие о живой отзывчивости их
автора к текущей жизни, при своем появлении возбуждали внимание и одни только и
были известны широкой публике, но зато философские и богословские труды его,
посвященные интересам вечности и позлащенные ее зарею, становятся как будто
ценнее, свежее, значительнее, нужнее, чем в то время — относительной молодости
автора, когда были написаны.
Попытку изложить философское мировоззрение кн. С. Н. Трубецкого в
короткой заметке мы считаем совершенно неосуществимой1. Задача ее может состоять
только в том, чтобы побудить к непосредственному с ним знакомству,
заинтересовать им, указать некоторые основные его мотивы и их связать с теми ценностями и
проблемами, по поводу которых происходит особенно горячая духовная борьба в
наше время. К философии кн. С. Н. Трубецкого менее всего «дет определение
«школьной», т. е. отвлеченной, самозамкнувшейся мысли; не об отвлеченной мысли, но о
духовной жизни и ее жгучих потребностях - веры, знания, действия - идет здесь
речь.
Мировоззрение кн. С. Н. Трубецкого, как и В. С. Соловьева, к которому он
приближается, сохраняя, однако, полную от него независимость в выработке и
обосновании, отличается широким, синтезирующим характером. История
философии, значение которой он так высоко ценил и так глубоко истолковывал, не
прошла для него бесследно. Богатство разнообразных философских мотивов древнего и
нового, восточного и западного мира, пветворенных в органическое единство,
находим мы в его мировоззрении. Умея показать относительную и ограниченную
правду явно однобоких учений, с диалектической необходимостью выдвигавшихся в
истории философии, мыслитель тем самым должен был возвыситься над ними и
взглянуть на них с более общей и широкой точки зрения. Против позитивизма и
эмпиризма он защищал права умозрения, но против универсальных притязаний
гегелевского панлогизма он защищал опытную науку, научный позитивизм,
наконец, против того и другого вместе он отстаивал самостоятельное значение веры или
непосредственной, «мистической» интуиции как особого фактора познания, но
однако при этом оспаривая правомерность замены мысли и знания одним
мистическим самоуглублением. В «Основаниях идеализма» исследуются три ступени
идеализма: сущее как «являющееся», т. е. явление, входящее в состав «опыта» (в кан-
товском смысле слова), «как идея» и «как предмет веры».
«Источник нашего познания о сущем лежит в конкретной деятельности нашего
духовного сознания, нашего чувствующего, мыслящего, волящего духа, и нельзя
его искать в какой-либо одной способности его, не вступая в противоречие с
другими, не вступая в противоречия с самыми фактами познания... Эмпиризм, рацио-
1 См. цит. очерк проф. Л. М. Лопатина «Кн. С. Н. Трубецкой и его общее философское
миросозерцание» («Вопросы философии и психологии», кн. 81); Б. Мелиоранский
«Теоретическая философия С. Н. Трубецкого» («Вопросы философии и психологии», 1906, кн. 82, III); статья
Лапшина в энц. словаре. Н. Лосский «Обоснование интуитивизма», СПб., 1906, гл. V, 54*.
312
нализм и мистицизм являются нам как условные, отчасти искусственные точки
зрения... Подобное отвлечение неизбежно и законно как единственно возможный
эксперимент в области онтологии и теории познания... Но мы должны помнить об
условности этого способа познания и о неизбежной отвлеченности его результата»
(Собр. соч., III, 260-262).
Таким образом, гносеология кн. С. Н. Трубецкого (как и Вл. Соловьева)
строится на совмещении трех начал, которые в истории философии нередко признаются
взаимно исключающими и враждующими.
При всей плодотворности этой постановки гносеологической проблемы,
освобождающей ее от односторонности, вопрос о самостоятельном значении мистического
пути познания, который кн. С. Н. Трубецкой изучает лишь на основании
свидетельств буддийской мистики и средневекового предреформационного
пантеистического мистицизма (Мейстера Экгарта и Себастиана Франка), при этом игнорируя
совершенно незаконно творения православной святоотеческой литературы, остается
и у него недостаточно исследованным - на долю будущих продолжателей его
работы. Православная мистика вообще остается еще совершенно незатронутой областью
для гносеологического исследования, конечно, неразрывно связанного с
религиозной философией1.
Кн. С. Н. Трубецкой открыто строит свою гносеологию на онтологических
предпосылках, точнее, его гносеологический анализ с внутренней необходимостью
приводит его к реалистической онтологии и с нею связан. Он борется с новейшим
«иллюзионизмом», этим выражением «протестантского принципа абсолютизма
личности», в котором «германский идеализм сошелся с английским эмпиризмом» (III,,
5-7). Субъективному идеализму он противопоставляет реалистическую онтологию,
с точки зрения которой познание есть действительный выход из себя,
самоощущение себя в связи со всем. В этом смысле «и природа составляет часть нашей
чувствующей организации» (III, 270), а стало быть, и критерий нашего знания
заключается «в соотношении нашего познающего субъекта ко всей совокупности
познаваемого сущего»: «сознание всецело обусловлено реальной метафизической
соотносительностью существ» или «внутренним соотношением вещей, в основании которого
лежит абсолютное всеединство сущего» (III, 266—267).
В основе познания лежит всеобщая соотносительность всего сущего, а в том
числе субъекта и объекта, сознания и вещей.
«Нет мысли, опыта, чувства, восприятия, представления, понятия без
отношения», нет вещей в себе, - нет и безотносительной сферы сознания». «Сознание
имманентно, оно существует в субъекте и для субъекта; и вместе оно трансцендентно,
поскольку оно заключает в себе отношение к отличным для него объектам» (364-365).
Вслед за В. С. Соловьевым, отчасти продолжающим здесь и лучшие традиции
немецкой метафизики, наш философ стремится разорвать (и, по нашему
убеждению, вполне успешно) ту гносеологическую паутину, которую сплетает с таким
трудолюбием теперешняя неокантианская философия, завешивая ею мир сущего,
«вещи в себе» от субъекта. Борьба за реализм (конечно, критический) против
«идеализма» трансцендентального, представляющего собой нередко маску
скептицизма, агностицизма или просто позитивизма, становится все больше основным
содержанием философии нового времени; это — гносеологическое и метафизическое
выражение основной религиозной антитезы, человекобожия с его мэонистической
пустотой иллюзионизма и притязанием творить мир хотя бы и «явлений» из
субъективного содержания, и богочеловечества с обоженною, реальною, живою плотию
1 Между тем эта область представляет целый ряд интереснейших тем и параллелей:
например, сравнительная характеристика опытно-мистического познания у свв. Макария, Исаака
Сирина и Симеона Нового Богослова и учение Канта о вещи в себе, далее их же учения о
разных путях познания в свете современной гносеологии и под.
313
мира, философская борьба за мир и жизнь с духом отрицания и сомнения. Кн.
С. Н. Трубецкой был полон пафосом этой борьбы.
Уже в 1890 году в статье «О природе человеческого сознания» были им
написаны следующие знаменательные строки о неокантианстве:
«Кант имеет до сих пор наибольшее, несметное множество последователей в
лице неокантианцев, учение которых всего более преобладает теперь в
университетах и на книжном рынке. Это Метафизика эмпиризма, трансцендентальный
скептицизм с весьма характерными особенностями. Во многих отношениях это учение
глубоко отличается от философии Канта. Ибо если первоначальное учение Канта
заключало в себе зародыш всех последующих философских построений, то неокан-
тизм есть кантизм без Канта, выхолощенный критицизм, из которого удалены все
живые плодотворные побеги. Возвращение к Канту знаменует здесь отрицание всех
учений, вытекающих из Канта, а следовательно, и всех плодотворных
метафизических элементов, которыми была переполнена его система» (42).
Однако не следует думать, чтобы сам он остался не затронут критицизмом. Все
мировоззрение самого С. Н., как оно ни отличается от патентованного кантианства
по выводам, проведено, однако, чрез очищающее горнило критики Канта, которого
он глубоко чтил, как создавшего эпоху в философии своей критикой знания.
«Великое открытие Канта состояло в том, что он признал все явления точно так
же, как и самые идеи и необходимые идеалы человеческого разума, -
обусловленными a priori трансцендентальным сознанием. Ошибка его состояла в том, что он
смешал это трансцендентальное сознание с субъективным» (III, 57).
На основании утверждения, что формы всего чувственного, пространство и
время, априорны и трансцендентны, а также и причинная связь вещей и некоторые
другие формы объективного бытия являются тоже априорными формами или
категориями этого сознания, следует заключить, что «есть, стало быть,
трансцендентальная чувствительность и трансцендентальное сознание, обусловливающее мир.
Это - положительное, бессмертное открытие Канта, которое медленно, но прочно
завоевывает себе общее признание и которому суждено было произвести коренную
реформу философии» (III, 56,170).
В полемике с Чичериным С. Н.5* высказывается определеннее, говоря прямо,
что субъект трансцендентальной чувствительности - это Мировая Душа, о которой
учил еще Платон. Нам это, к сожалению, совершенно недоразвитое учение1
кажется необыкновенно интересным как оригинальное истолкование Канта и
значительным и плодотворным для метафизики. Трансцендентальное логическое сознание,
обусловливающее мир, также не может быть только субъективным. Логическое
начало, обусловливающее познание, имеет силу не только в нас, но и вне нас, есть
объективный принцип. Логос есть мировое начало. Без этого наше познание «было
бы призрачным и мнимым, нелогичным в самом своем корне. Ибо для того, чтобы
логично налагать на вещи те или другие понятия, мы должны иметь на то
положительное основание в самих вещах» (II, 183).
Гегель, к которому вообще С. Н. относится с особенной теплотой и
сочувственным вниманием, был прав, раскрывая онтологическое значение логического
начала, он заблуждался лишь, объявляя его началом единственным и универсальным.
Анализируя противоречивость кантовского учения о вещи в себе автор
объясняет его развитие послекантовской философии по двум руслам: «абсолютного
рационализма, завершившегося в Гегеле, и философии бессознательного,
иррационального (Шеллинг 2-го периода, Шопенгауэр, Гартман)». Неокантианство,
отказавшееся от послекантовского философского наследия, медленно и тяжело
возвращается к нему: пока добрались до Фихте, и - самые последние дни - возобновля-
1 Оно есть и у Соловьева, хотя в космологическом, а не в гносеологическом истолковании,
но, конечно, оба они могут быть легко согласованы.
314
ется интерес к Шеллингу и Гегелю. До последнего времени абсолютный идеализм
«классической» философии рассматривался как грехопадение, аберрация мысли.
Принять весь ход развития немецкого идеализма и осмыслить его в целом с целью
творческого претворения составляет задачу русской философии в лице
Вл. Соловьева, кн. С. Н. Трубецкого, Л. М. Лопатина (а на германской почве -
уединенно стоящего Гартмана, этого крупнейшего мыслителя Германии второй
половины 19 в.).
Борьба с иллюзионизмом необходимо связана с более общей и принципиальной
борьбой с индивидуализмом, этим воистину «протестантским», обособляющим,
дезорганизующим началом, во имя начала соборности6*, «церковности», кафоличности. Эту
борьбу в философии, следовательно, средствами критического анализа ведет С. Н. в
своих философских статьях, доказывая действительную соборность природы нашего
сознания, «метафизический социализм», по его характерному определению.
«Доступна ли истина личному познанию человека, и если да, то лично ли самое
познание вообще?» И отвечая на этот вопрос, он говорит: «Я думаю, что
человеческое сознание не есть мое личное отправление только, но что оно есть
коллективная функция человеческого рода, что это живой и конкретный, универсальный
процесс... Фактически я держу по поводу всего внутри себя собор со всеми... Мы
имеем одну общую вселенную, одну правду, одну красоту. Мы все знаем одним
общим здравым смыслом, верим одной вселенской непоколебимой верой, что есть
реальный мир, в пространстве и времени, совершенно независимый от нас...
Истина, добро, красота не суть продукты внешнего эмпирического соглашения и
недосягаемы индивидуальному уму как таковому, они не суть также идеи какого-то
абсолютного, трансцендентального "я"... Сознание не может не быть ни безличным,
ни единичным, ибо оно более чем лично, будучи соборным» (II, 13, 16, 95).
Признание соборности природы сознания отнюдь не значит, что идеальная
норма, масштаб должного осуществлен в каждом индивидуальном сознании. Оно
сознается лишь как формальное требование, постулат, с которым не гармонирует
своевольное, обособленное, греховное состояние личности. Внутренняя
неустроенность и неорганизованность человечества препятствует полноте соборности
сознания и отсутствию противоречий в нем. Одной из заслуг критики Канта наш автор
считает установление антиномий, неустранимых логически, но находящих свое
объяснение в природе самого разума в его теперешнем состоянии. Эта-то антино-
мичность разума, его теперешнее естественное состояние есть следствие
незавершенности человечества, имеет корни не в сознании, но в бытии; она не победима
личными, субъективными усилиями, ибо «человеческий дух может быть вполне
объективным лишь в совершенном, абсолютном обществе. И можно сказать, что
стремление к такому обществу есть стремление к истинной жизни духа,
бессмертию и воскресению».
Идеал стоит пред человеческим сознанием как закон, судящий и обличающий
его, и как императив, указующий должное, — живое единство теоретического и
практического разума. И чем глубже сознает человек зло своей природы, тем
сильнее в нем потребность к оправданию, искуплению, примирению с Высшей
Правдой. Вместе с тем он сознает, что конечного примирения и оправдания он не
может достигнуть сам собою, ибо он должен искать его в совершенной любви.
«Только совершенная любовь может оправдать человека, - полнота
всеобъемлющей любви. Но эта любовь, полная и совершенная, заключающая в себе больше,
чем все, не есть природный инстинкт человека или личный подвиг его воли, а
благодать, независимая от него и вместе дающая ему» (109). «Если истинно веруешь в
совершенную любовь, то нельзя не любить на деле. Совершенная любовь есть
единство всех в одном, состояние всех в себе и себя во всех. Но такая совершенная
божественная Любовь не может быть осуществима в каком-либо естественном человече-
315
ском союзе: царство ее не от мира, она предполагает совершенное общество, богоче-
ловеческий союз или Церковь» (109).
Совершенная Любовь, искупление, благодать, Церковь — вот те
последовательные понятия, к которым приводит онтологическая гносеология, в которые она
упирается. Не сознанием определяется бытие, но бытием, именно теперешним
греховным, разорванным, неорганизованным состоянием мироздания и человечества
определяется сознание с его антиномиями, скажем мы, переводя на
метафизический язык знаменитую фразу Маркса7*. К сожалению, этот в высшей степени
верный и плодотворный круг идей только намечен как бы пунктирной линией и
остался без должной разработки. Нельзя не отметить бросающейся в глаза близости
философских идей кн. С. Н. Трубецкого (как и В. С. Соловьева) с основными
идеями славянофильства (у Хомякова, Киреевского), как это замечено и Лопатиным
(1. с). Будущему историку русской философской мысли придется установить во
всей глубине и силе эту своеобразную философскую традицию, которую он в
противоположность «протестантскому принципу индивидуализма» обозначит как
православно-церковное начало свободной соборности... Завлекательная и
невыполненная еще задача...
В религиозной области позитивизму и скептическому эмпиризму соответствует
религиозный индифферентизм или атеизм, субъективному же
(трансцендентальному) идеализму соответствует «религия в пределах только разума» (как Кант
озаглавил главное свое религиозно-философское произведение) от самого
неопределенного бесцветного деизма до новейшего пиетизма ричлианского богословия8*, с его
воинствующим адогматизмом (по существу же дела, как и всегда,
представляющего собой лишь одну из разновидностей догматизма, догматику, но навыворот).
Господствующее в настоящее время в протестантском мире ричлианское богословие,
устранившее за ненадобностью и недопустимостью - как философской, так и
исторической - основной догмат христианства - веру в Богочеловека и Его
воскресение, представляет собой последовательное и сознательное приложение
неокантианства в области богословия (несколько лет тому назад по поводу юбилея Канта связь
эта, очевидная и сама по себе, была засвидетельствована в ряде речей и брошюр
разных философов и богословов Германии9*). Свои метафизические предпосылки
ричлианское богословие одновременно связывает и с выводами исторического
исследования, в области которого германская наука стяжала себе такую заслуженную
славу. Конечно, для положительного христианского воззрения разрушительная
(хотя и в высшей степени добросовестная) работа германского богословия
представляет собой несравненно более серьезного и опасного врага, нежели вульгарный
атеизм или ходячий позитивизм, и, нельзя отрицать этого, борьба с ним
несравненно затруднительнее, ибо здесь надо, признавая всю правду и все права
исторической науки и ее критики, отстаивать христианство одновременно и средствами
исторической науки и философии. Мало таких, кто способен был бы выступить на
эту борьбу с полным вооружением. Кн. С. Н. Трубецкой принадлежал к этим
немногим. В борьбе за полноту христианской истины, за веру в воплотившееся Слово,
выступил он со своей работой о Логосе, которая, будучи научным исследованием по
истории и философии христианства, по существу своему представляет не что иное,
как научную, философскую, религиозную защиту самого основного догмата
христианства против ричлианства, другими словами, современную апологию
христианства. Если древним апологетам приходилось защищать христианство от нападок
языческой философии и языческого политеизма, опираясь иногда на языческую же
философию и мифологию, то современному апологету приходится служить тому же
делу применительно к духовному состоянию современности и вести защиту
христианской истины против ее отрицателей среди представителей науки и философского
критицизма, опираясь на данные науки и этого же самого критицизма. Форма
меняется, но сущность дела остается та же.
316
Апологет христианства - это выражение, примененное нами к кн. С. Н.
Трубецкому, определяет, по нашему убеждению, самый интимный и основной мотив
научной и философской его работы. Раскрывать религиозную истину и защищать
ее от лжетолкований и отрицания — такова последняя цель ее. Да иначе и быть не
могло, если только не подвергать сомнению искренности и глубины религиозной
веры автора. Сердце и воля, отданные религии, не допускают деления души на
департаменты и требуют цельности, единства, отсутствие которого может быть
объяснено только слабостью, грехом.
Но не уничтожает ли такая «предвзятость» самой ценности исследования,
научной и философской? На это недоразумение можно ответить словами самого кн.
С. Н. Трубецкого, сказанными им о В. С. Соловьеье и приложимые к нему самому:
«Основная идея Соловьева, проникающая его метафизику, этику, эстетику и
самую публицистику, есть религиозная христианская идея... Оригинальна ли такая
философия? Не обращается ли здесь философия в "служанку богословия"? Нет, и в
этом-то все дело... Философия (а также и наука. — Авт.) не подчиняется религии
внешним образом; она сама собою интимно совпадает с ней» (I, 358-360).
Задача и значение апологетики ограничены: нельзя вообще научить религии, а
поскольку можно передать другому полноту религиозных переживаний, богатство
религиозного опыта, этого поучения надо искать не у христианских апологетов,
философов или ученых, как бы ни были они велики в своей области, но в писаниях
христианских подвижников, людей опытного, а не теоретического христианства.
Но и задача апологета в наше трудное для религии время, полное всевозможных
теоретических соблазнов, весьма важна. И тем, кто стремится найти нить в
лабиринте современной мысли и знания, или хотя бы точнее ориентироваться в нем, и
особенно той части нашей молодежи, в которой начинает пробуждаться
потребность религии, наряду с другими апологетами христианства следует остановить
внимание и на философских и исторических исследованиях кн. С. Н. Трубецкого.
1909
ПРИЛОЖЕНИЕ
(Из некролога кн. С. Н. Трубецкому)1
На ниве народной за тяжелым плугом застала его нежданная смерть, и не в
кругу семьи или друзей смежил он усталые очи.
Он умер от того незримого, но могущественного духовного яда, которым
отравлена наша жизнь и всего более самые любящие, благородные сердца.
Воистину dulce et decorum est pro patria mori1*, и смертью pro patria окончилась
здесь патриотическая жизнь. Если вообще бывает прекрасная смерть — смерть как
апофеоз жизни, не потухание, но яркое ее просияние, то здесь совершилась
прекрасная смерть2*. Страшно завидовать смерти, но этой смерти могут завидовать
многие, в чьем сердце жива гражданская доблесть.
Смерть эта для всех раскрыла всю крепость, всю интимность той связи,
которая существовала между матерью и прекрасным сыном, между родиной и ее
гражданином. Обнаружилось вместе с грубо эмпирической, медицинской ясностью, что
это сердце, больное болью страны, опечаленное ее печалью, билось одним биением
с сердцем матери, горело тем же огнем и отравлено было единою отравой. И со
стихийною силою и с исторической необходимостью похоронный обряд
превратился в торжественное, всенародное празднество свободы, гигантский язык
освободительного пламени метнулся к небу из погребального костра, а пение погребальных
ликов неудержимо переходило в гимн созидающейся жизни... Разве же не завиден
удел умереть в таком глубоком единении с родиной и своим народом, и притом
когда он переживает величайшую годину своей истории, когда до высшей точки
поднялась историческая волна и все, кто имеет душу живу, стар и млад, богач и
бедняк, воспламенены одной страстью, одним томлением, одной тоской о свободе. И в
такую-то минуту имени кн. С. Н. Трубецкого суждено стать было лозунгом
свободы, так же как несколько месяцев до этого он выступил глашатаем народным в
Петергофском дворце. Смерть почтительно опустила свой траурный факел, и над
ним победно взвилось всенародное знамя.
Такие минуты и такая смерть не изглаживается из памяти потомства. Многое
скоро забудется (да и забывается уже) из этой эпохи, но эти национальные
похороны, этот народный траур останутся в истории как символ, как художественный
образ, как памятник эпохи.
Не случайным, но глубоко знаменательным явилось то, что такая историческая
роль выпала на долю одного из немногих, следует прямо сказать, из нескольких
всего друзей и последователей Владимира Соловьева. Дух великого русского мыс-
Вопросы жизни. 1905, октябрь-ноябрь.
318
лителя царит над этими похоронами, тень ученика встречается с тенью учителя. И
невольно просятся в память скромные и безвестные похороны, когда опускали в
могилу смертные останки Вл. Соловьева, и кажется, что теперь вместе творятся
поминки и ученика и учителя: кн. С. Н. Трубецкого и Владимира Соловьева.
Пусть другие, кто соприкасался с кн. С. Н. Трубецким в различных внешних
сферах деятельности — в политике, по университетским делам и т. д., рассекают
живую индивидуальность и видят в нем, с одной стороны, политика, с другой -
профессора философии, а с третьей, может быть, что-нибудь еще. Я же могу
оценивать жизненное дело кн. С. Н. Трубецкого только в его целом, и, хотя лично
совсем не знал покойного3*, но, кажется мне, с достаточным основанием могу
утверждать, что общий смысл этого дела, сложного и многообразного, был целен и
неразделен, и дело это при всей громадности индивидуальных различий было то
же, что и Владимира Соловьева, - служение христианской идее, воплощение ее во
всех сферах жизни, в научном и философском творчестве, в политической жизни, в
университетской автономии. Соловьев учил универсальному пониманию
вселенского христианства, и в своей жизни дал как бы художественное воплощение этого
понимания. Как философ он создал — конечно в общих чертах — систему
современной христианской философии. Он показал в ней, как вековое развитие научной и
философской мысли с внутренней необходимостью приводит к признанию
умозрительных истин христианства. Он указал, далее, позабытую или нераскрытую
общественную сторону христианства, выясняя призвание христианства в этой области
как силы организующей, собирающей человечество и устрояющей его на началах
равенства и свободы. Наконец, в своей эстетике, как, впрочем, и в метафизике, он·
пролагал путь апокалиптическим чаяниям христианства, едва начинающим
вмещаться в религиозное сознание.
Таковы были заветы, воспринятые богато одаренным учеником от почившего
учителя. Среди разнообразных даров, которыми наделен был ученик, на первое
место следует поставить крупный и оригинальный философский талант, в свое время
один из первых не только в России, но и в Бвропе. Свой философский дар кн.
С. Н. Трубецкой не расточил на праздные и никому не нужные мудрствования ох-
влеченной и бессильной кабинетной мысли, но применил к разрешению самых
основных проблем философии, связанных с миром христианских идей.
Лебединой философскою песнью кн. С. Н. Трубецкого оказался его
глубокомысленный этюд «О бессмертии души». Конечно, не случайно - ничего нет
случайного! - мысль его остановилась на этой вечной загадке, уже пора ему было ее
разгадывать...
Как известно, за последнее время освободительный ураган совершенно отвлек
кн. С. Н. Трубецкого, который и всегда обладал блестящим пером и темпераментом
настоящего публициста, от философии к политике. Признаюсь, я с ревнивой
недоброжелательностью наблюдал, как политика все больше и больше отнимала кн.
С. Н. Трубецкого от философии и готов был чуть не благодарить цензуру, когда по
милости ее не состоялся выход редактируемой им «Московской недели» и князь
освободился от литературного самопожертвования. Здесь он, думалось мне,
рядовой каменщик, чернорабочий, а там — философский зодчий, облеченный вдобавок
почетной миссией продолжать философское дело Соловьева и в этом не имеющий
себе равного заместителя... В роли политического деятеля, по неопытности всегда
подвергавшегося опасности сделать неверный шаг, совершить какой-нибудь lapsus,
который не прощается в политике, кн. С. Н. Трубецкой представлялся мне кем-то
вроде Платона, проданного в рабство, Шопена, дающего уроки музыки,
Антокольского, строящего вокзал. Для политики найдутся многие, для этого не надо
философских даров, которые здесь скорее мешают. И до конца я не терял надежды, что
мы дождемся и второго тома «Логоса» и многого другого.
319
Но мог ли кн. С. Н. Трубецкой, оставаясь собой, не ринуться в самую
сумятицу, в свалку политической борьбы, без оглядки, не щадя себя, не заботясь о том,
что скажут, не останавливаясь перед самыми рискованными ставками...
*
* *
В разгаре практической работы в разгоряченную атмосферу, полную шума и гама
общественного движения, тихо вошла позабытая смерть и, остановив свой перст на
одном из лучших сынов России, сказала: мое\ Мое, все здесь мое - и это
освободительное движение, и эта историческая даль, раздвинувшаяся, казалось, в
бесконечность, и это историческое созидание, все это - в бенефис могильного червяка. И пред
лицом великого и тихого таинства смерти тускнеют краски, обесцениваются
ценности, умолкает вражда, на все навевает тяжелое оцепенение смерть-уравнительница...
Странное замешательство овладевает современным человеком, когда он слышит
замогильный и как будто всегда нежданный призыв. В растерянных речах, полных
условной риторики или фальшивых образов, стремятся современные люди уверить
себя и других, что все обстоит благополучно и можно жить им по-прежнему, что есть
и бессмертие... в сердцах, есть и вечность... в воспоминании. И так много тягостной
фальши и горестной беспомощности в этих словах, которыми люди стремятся спасти
свои ценности, вырвать их у смерти, между тем как они никнут от одного ее
приближения.
Тщетно стремятся растворить индивидуальную потерю в жизни целого. Ведь
самое дорогое в человеческой личности - то, что делает человека человеком, - есть его
индивидуальность с ее абсолютной неповторяемостью. И эта-то индивидуальность
косится смертью нещадно и навсегда, и никакие соображения о жизни рода здесь не
помогают, звучат детским лепетом. Есть только одна надежда на сохранение
индивидуальности, на ее абсолютное утверждение. Это - христианская надежда на всеобщее
воскресение, предваряемое воскресением Одного: «Если Христос не воскрес, суетна
вера наша»4*. Жало смерти притупляется лишь подвигом веры.
Покойный не боялся смерти, ибо она побеждена была для него силою
христианского убеждения. В упомянутом своем этюде «О бессмертии души» он дал совершенно
зрелое и спокойное исповедание этой веры. Мы читаем здесь: «Чем глубже познаем
мы высшие духовные возможности человека, чем интимнее и глубже мы любим и
познаем человеческую личность, тем более проникаемся мы сознанием ее
безотносительной, божественной ценности, той умной красоты ее, которая как бы в видении
открывается взору любящего и запечатлевает собою человеческую личность. От
глубины, интенсивности этого сознания и зависит вера в бессмертие. Тот, кто увидел
«образ Божий» в человеческой личности, не верит ее уничтожению, не верит смерти
и самой физической смертью человека приводится к признанию бессмертия его
духовной личности. Когда умирает открывшаяся нам, понятая, любимая, чтимая нами
личность, смерть ее ощущается нами как невыносимое противоречие и неправда и
перед нами ставится вопрос: чему верить больше — материальному факту тления,
видимого уничтожения, исчезновения или же свидетельству нашего нравственного
сознания, для которого личность остается нетленной в своей воспринятой,
испытанной, пережитой нами духовности, в своей потенциальной или осуществляющейся
божественности у нами изведанной?» Отвечая на этот вопрос, кн. С. Н. Трубецкой в
стыдливо сдержанных выражениях высказывает свою христианскую веру:
«Конечное, абсолютное, внутренне-последовательное выражение веры в бессмертие
мы видим в христианстве, религии Богочеловека, которая признает не потенциальное
только, а осуществленное, актуальное единство божеского и человеческого в лице
Иисуса Христа, как живое откровение, в котором всякий, вступающий в общение
веры, убеждается путем личного нравственного опыта, личного сознания. Здесь для
320
действительно верующего Христос не может быть призраком, не может выражать
собою и отвлеченную идею жизни — той безличной жизни, о которой говорят иные
моралисты и в которой, в сущности, никто и ничто не живет, а все личное умирает.
Это - живая и бессмертная личность. «Начальник» той жизни, в которой все живо, в
которой упраздняется смерть и тление жизни полной, которая есть воскресение. И
тот, кто «познает» Христа, — познает Его не отвлеченно, а интимно, духовно, как
личность, — тот верит в Него, верит не как в призрак и не как в идею или догмат, а
верит как в личность и в этой вере имеет норму и основание веры в действительную
и личную бессмертную жизнь»1.
Вот язык живой и твердой веры, и такая вера побеждает страх смерти и
действительно притупляет ее жало. Почившему ясно теперь многое из того, что так угнетает
нас своей мучительной неразгаданностью здесь на земле, ясна и загадка смерти,
которую каждый по-своему разгадывает в своем внутреннем опыте. И опуская в
раскрывшийся зев могилы эту новую жертву, пред лицом великого и страшного
таинства смерти, без условной риторики, но со всей серьезностью, вдохновляясь огненными
надеждами и глубокими озарениями христианской веры, а не насилуя слова
«вечность», скажем ныне отшедшему: вечная память!
1905
1 Вопросы философии и психологии. 1904. Кн. V (75). С. 559-61.
11 Зак. 487
III. ЗАГАДОЧНЫЙ МЫСЛИТЕЛЬ1
(Η. Φ. Федоров)
Недавно появился в печати объемистый том сочинений Η. Φ. Федорова,
содержащий разнообразные статьи философского характера2. Имя Федорова, известное
при жизни лишь тесному кругу знавших и любивших его людей, появляется в
печати только теперь после его смерти, последовавшей в 1903 году на 78-м году
жизни. Оригинальнейший ум и оригинальнейший человек говорит с вами с этих
пестрых по темам, но проникнутых единством мысли страниц. Вас сразу
охватывает необычайное чувство - уважения и некоторой жути перед подлинным и
непоказным величием в наш рекламный и суетливый век. В литературной судьбе
Федорова все необычайно и исключительно: и это гордое и вместе смиренное нежелание
печататься от своего имени при жизни, и это посмертное издание хаотических
бумаг и заметок на далекой окраине преданными друзьями, не пощадившими ни
времени, ни труда для издания, притом, по мысли покойного, «не для продажи»2*.
Один из них, В. А. Кожевников3*, для появления и развития трудно усвояемых и
парадоксальных мыслей своего друга написал целое исследование, первый том
которого, печатавшийся на страницах «Русского архива», недавно появился в Москве
согласно правилу Η. Φ. Федорова также «не для продажи»3.
В. А. Кожевников уже в первой части этого труда свою выдающуюся и
многостороннюю научную, философскую и литературную эрудицию применил к
развитию и выяснению взглядов Η. Φ. Федорова, сливая себя с ним, так что
постороннему взгляду невозможно по временам различить, где кончается Федоров и
начинается Кожевников. Прекрасный памятник дружеской верности и любви!
Книга В. А. Кожевникова служит ключом к пониманию сочинений самого
Федорова, ибо я не встречал писателя более нелитературного, прихотливого,
мудреного, несистематического, и чтение подлинных его сочинений может быть доступно
или в качестве литературного «послушания» для тех, кто уже достаточно обломал
зубы о мудреные сочинения, или же становится возможно только после
общедоступного (конечно, в той мере, в какой вообще могут быть сделаны общедоступными
1 Напечатано в «Московском еженедельнике». 1908, 5 декабря.
2 «Философия общего дела». Статьи, мысли и письма Николая Федоровича Федорова,
изданные под редакцией В. А. Кожевйикова и Н. П. Петерсона. Т. I. С. 731. Верный. 1907. Не
для продажи1*.
3 Николай Федорович Федоров. Опыт изложения его учения по изданным и неизданным
произведениям, переписке и личным впечатлениям В. А. Кожевникова. Часть I. С
приложением писем Ф. М. Достоевского, В. С. Соловьева, А. А. Шеншина (Фета) и Л. Н. Толстого о
Н. Ф. Федорове и его учении (М., 1908).
322
такие сюжеты) изложения В. А. Кожевникова. И, однако, чтение это вполне
вознаграждается внезапными озарениями, вдохновенными мыслями, как искры,
загорающимися на этих корявых и нескладных страницах. Даже и тот, кто не разделит
ни одной мысли Η. Φ. Федорова, должен будет признать, что он имеет дело с
самородным, своеобразным, вполне независимым мыслителем, а тот, в чьей душе
найдутся созвучия для учения Η. Φ. Федорова, признает его и великим
мыслителем, каким признают его издатели. Во всяком случае, нельзя не согласиться, что в
книге Федорова, и еще больше в ее авторе, этом московском Сократе, мы имеем
одно из оригинальнейших явлений русской жизни нового времени.
В. А. Кожевников начинает свою книгу следующими словами:
«Не стало человека изумительного, редкого, исключительного! О возвышенном
уме Η. Φ. Федорова, о его разнообразных, обширных познаниях, о его
добросовестности как труженика и об идеальной нравственной чистоте его напоминать людям,
сколько-нибудь его знавшим, излишне: они без того все единогласно скажут: то
был мудрец и праведник! а более близкие к нему добавят: то был один из тех
немногих праведников, которыми держится мир!»
Такое суждение человека, столь вдумчивого и осторожного в оценках людей,
притом близко знавшего Η. Φ. в течение 28 лет (ср. еще вступительные очерки
В. А. Кожевникова и Н. П. Петерсона к I тому сочинений Федорова), находит
веское подтверждение и в суждении не кого иного, как Л. Н. Толстого, которое
можно прочитать в письме Фета, приложенного к книге Кожевникова (к нему же
присоединяется и сам Фет). Здесь читаем:
«Он (Л. Н. Толстой) говорил: я горжусь, что живу в одно время с подобным
человеком. Много надо иметь духовного капитала, чтобы заслужить такие отзывы,
ибо не знаю человека, знающего вас, который не выражался бы о вас в подобном
же роде. Если бы я не считал этого неловким, то смело включил бы себя в число
таких людей»4*.
Сам Л. Н. Толстой в письме к Ив. М. Ивакину просит: «Передайте ему (Η. Φ.)
мою любовь»1·5*. Наконец, В. С. Соловьев пишет Η. Φ. Федорову: «Я со своей
стороны могу признать вас своим учителем и отцом духовным», «дорогой учитель и
утешитель»6*. Уже одних этих отзывов достаточно, чтобы привлечь внимание к
тому, к кому они относятся. И если он остался чужд широкой известности при
жизни, то, по свидетельству В. А. Кожевникова, «причиной тому была отчасти
удивительная скромность покойного, не только полное в нем отсутствие тщеславия, но
даже боязнь похвалы и известности... Как в материальном отношении этот бедняк
отрешился от всякой собственности и при самых скудных средствах (по
достижении 70-летнего возраста, после 35-летней службы он имел пенсию в 17 р. 51 к. в
месяц) отдавал все, что имел, первому нуждающемуся или просившему, так же он
не знал и чувства авторской собственности. Вот почему этот неутомимый,
оригинальный писатель решительно не признавал никакого авторского права, и если
соглашался на печатное выражение своих мыслей, то не иначе как анонимно, или же
еще охотнее под чужим именем, отдавая первому желающему свое духозное
достояние» (Кожевников, 1).
Η. Φ. служил сначала преподавателем в уездных училищах, затем помощником
библиотекаря Чертковской библиотеки, далее дежурным чиновником при
читальном зале Румянцевского музея и, наконец, при библиотеке Московского архива
иностранных дел. Среди занимающихся он был известен как необыкновенный
библиограф, готовый прийти на помощь всякому в ней нуждающемуся.
1 В записной книжке Л. Н. Толстого в 80-х годах в Москве под впечатлением личного
знакомства с Η. Φ. Федоровым было занесено следующее: «Николай Федорович - святой.
Каморка. "Исполняет? Это само собой разумеется". Не хочет жалованья. Нет белья, нет постели»
(Я. Бирюков. Лев Николаевич Толстой. М., 1908. Т. И. С. 404.).
11*
323
«Своим положением вблизи книг и людей, литературного и умственного труда,
он был вполне доволен; никаких перемен и улучшений он не желал; от повышений
по службе и чинов упорно отказывался, удивляя этим подчас начальство;
предлагаемые ему прибавки жалованья отклонял, прося перенести их на долю кого-либо
из своих семейных сослуживцев» (Кожевников, 3).
Аскет по жизни, поражавший своею непритязательностью его знавших, хотя
при этом и принципиальный противник аскетизма, он поражал своею просто
огнедышащей жизненностью. «Кто из бывавших в 70-х и 80-х годах в читальном зале,
а позднее в так называемом «каталожном», - пишет Кожевников, - не помнит
высокой, высохшей, слегка согбенной, но полной энергии фигуры этого одетого в
ветхое рубище старика, в глазах которого сверкал огонь целомудренной юности...»
Во всякое занятие, и прежде всего в любимое библиотечное дело, он вкладывал
жизнь и энергию и самоотверженность, «добровольность», сверхобязательность, и в
других умел возбуждать их.
Изложить хотя бы в самых общих и кратких чертах, в короткой заметке
учение Η. Φ. - дело совершенно невозможное. Здесь на каждом шагу мысль делает
столь необычные, резкие движения, столь крутые повороты, а вместе с тем так
своеобразна по содержанию, что нужно бы много говорить в отдельности по
каждому пункту. Эту задачу исполнил В. А. Кожевников в своей книге о Федорове, и к
ней мы отсылаем любознательного читателя. Здесь мы имеем в виду не изложить
это учение, а лишь заинтересовать им, наметить для мыслящего и вдумчивого
читателя его тему. Потому мы совсем обойдем молчанием интереснейшие идеи
Η. Φ. Федорова о Православной Церкви, коей ревностным и убежденным сыном он
был, о музее и университете, о воспитании, его оригинальную концепцию
самодержавия и критику конституционализма (несколько славянофильскую), его
политико-экономические взгляды с резкой критикой городского индустриализма и
промышленного капитализма.
Многосторонность составляет отличительную черту учения Η. Φ.: богослов и
философ, историк и экономист, государствовед и естествоиспытатель найдут здесь для
себя пищу. Насколько велика была библиографическая осведомленность и
начитанность нашего полигистора, настолько же многообразны были темы его размышлений.
Основным грехом философии и науки Η. Φ. считает ее обособление от «общего
дела», признание знания самостоятельной, самодовлеющей задачей, самоцелью, и
это отделение мысли от дела, внешне выразившееся в выделении ученого сословия
в корпоративно замкнутую среду и в противопоставлении его сословию неученому,
привело философию к субъективизму, иллюзионизму, дуалистическому разделению
человеческого духа на теоретический и практический разум. Мысли Η. Φ. об
истории философии древней и новой, от Сократа до Ницше, блещут оригинальностью и
проницательностью (ср.: Кожевников. Цит. соч., гл. IV, 2, 3). Особенно велика его
антипатия к Канту, узаконившему разделение на практический и чистый разум, и
к Ницше, в котором он видел последнее слово развития философии сословного
обособления, раздробления, мысли без дела.
«Все должны быть познающими и все должно быть предметом знания, не
отделяемого от дела, ибо без второго не может быть и первого. Совокупность
познающих разумных существ, относясь к цельности (совокупности) всего познаваемого,
приведет мир или природу к самопознанию и самоуправлению через разумные
существа, которые во всеоружии знания и объединенной волевой и нравственной
энергии получат силу и мощь, пределов коим в настоящее время даже и
предугадать невозможно. При такой постановке вопроса о задачах мудрости предметом
первого разума, теоретического, была бы уже не мысль о мысли, а мысль о деле и
о проекте всеобщего дела, тогда как практический разум стал бы исполнителем
его; третий же разум, как творение подобий, явился бы введением во второй,
создавая образцы («модели») того, что должно быть воссоздаваемо»7*.
324
Есть одна универсальная, исчерпывающая тема для философии — о
человеческом родстве и неродственности.
«Несмотря на свое отрицательное, не вполне и неотчетливо сознаваемое
отношение к родству и неродственности, философия есть, однако, не что иное, как
наука о родстве и неродственности, изложенная в недоступной большинству, то
есть неродственной форме, отвлеченной, умозрительной, лишенной чувства, в
форме "чистого мышления", а не в проекте практического действия».
Идея родства как модели, и проекта родства всемирного, организации всего
человечества есть одна из центральных религиозно-социальных идей Η. Φ. В эгоизме
человек живет для себя, отторгаясь от других, в альтруизме человек для других
приносит собственную личность, которая перед Богом дороже целого мира, и
только родство есть единство всех «я» в полном «мы».
«Должно жить не для себя только и не для других только, а со всеми (братство)
и для всех (отечество); потому что жить не со всеми, а для других только, то есть
для некоторых хотя бы и многих, значило бы, делая добро одним, причинять зло
другим. Должно жить со всеми живущими, потому что большего уже и сделать
невозможно, а все меньшее безнравственно»8*.
Эта связь человечества во всемирном родстве, при котором все сознают себя
братьями, чувствуя себя сынами, выражается в наименовании «сын человеческий»,
так часто применяемое к себе Спасителем1. «Человек, общечеловек, всечеловек,
сверхчеловек — все эти понятия только бесплодное искажение единственного
животворного и плодотворного понятия сын человеческий». Исходя из этого понятия,
Η. Φ. дает сильную, порой неотразимую критику основных понятий современного,
неоязыческого гуманизма, материалистического социализма (см. у Кожевникова,
гл. 4) и прогресса.
«Прогресс есть самовозвышение... состоит в сознании превосходства, во-первых,
целым поколением (живущими) над своими предшественниками (умершими), и, во-
вторых, младшими над старшими; самое же превосходство - предмет гордости для
младшего поколения - будет состоять в увеличении знаний, в улучшении,
возвышении мыслящего существа; даже выработка нравственных убеждений будет
предметом превозношения младшего поколения над старшим... Торжество младшего
поколения над старшим - существенная черта прогресса. Биологически - прогресс
состоит в поглощении младшим старшего, в вытеснении сынами отцов,
психологически он — замена любви к отцам бездушным превозношением над ними,
презрением к ним. Социологически — прогресс выражается в достижении наибольшей меры
свободы, доступной человеку... Социология есть наука не общения, а разобщения
или порабощения... Прогресс как отрицание отечества и братства есть полнейший
нравственный упадок, отрицание самой нравственности»9*.
Каково же то общее дело, к которому призвано человечество, если оно примет в
основание своих отношений родственное многоединство, норма и идеал которого
дан в основном догмате христианств - о святой Троице, а предначертание котррого
мы имеем в Церкви? Дело это — борьба и победа человеческого сознания над
бессознательной природой, «регуляция природы». Причина бедности, ограниченности
лежит не в условиях распределения, где нередко ищет их социализм, но в рабстве
природе и слепым ее стихиям, которое выражается непосредственнее всего в
господстве смерти.
«Задача человечества решается не вопросом о богатстве и бедности, а вопросом
о жизни и смерти, вопросом, почему живущее умирает? Задача человечества состо-
1 Конечно, это философское толкование мало считается с данными филологически-
исторических исследований по поводу выражения «сын человеческий», впрочем, тоже до сих
пор не приведшими к бесспорному выводу (историю этой контроверзы см.: А. Schweizer. «Von
Reimarus zu Wrede». Ср. также: Dalman «Worte Jesu»).
325
ит в обращении мира несвободного, где все определяется физической
необходимостью, бессознательной и невольной причинностью, в мир сознательный и
свободный, который теперь мы можем представить себе лишь мысленно, но который
должны осуществить действительно, активно и реально, потому что это не идеал
только, а и проект, в котором сходятся, примиряются и объединяются высшие
требования знания и нравственного чувства, истины, красоты, блага или добра и
всеобщего счастья и блаженства. Естественная бедность есть причина вражды между
людьми и возрастания страдания, и исходом может быть только перемена
отношений людей к природе».
Здесь мы подходим к самому центральному пункту «проекта» Федорова.
Родственное человечество, «сыны человеческие», печалующиеся об умерших отцах,
неизбежно должны поставить своей задачей в победе над природой - воскрешение
умерших.
«Разумные существа, истинно (в полноте знания и силы) владея настоящим,
получают власть и над прошедшим, власть воссоздавать то, что было, а вместе с
тем и определять будущее во всевозможном совершенстве. Требуется,
следовательно, рай не всемирный, Царство Божие не потустороннее, а посюстороннее;
требуется преображение посюсторонней, земной действительности, распространяемое на
все небесные миры и сближающее нас с неведомым нам потусторонним миром...
Царство Божие, в этой своей полноте постигнутое, в исполнении воли Божией,
Богом направляемое, Им через нас осуществляемое, есть произведение всех благих
сил, всех благих способностей людей в их совокупности, результат полноты знания,
глубины, и чистоты чувства, могущества благой воли» (Кожевников, 279-280).
«Воскресение Христа требует всеобщего воскрешения... Христианство есть общее
дело воскрешения, а не мысль только, и никаким другим делом оно заменено быть
не может». «Проповедь жизни, бессмертия и воскресения - вот сущность
проповеди Спасителя, Отца Небесного Он называет «Богом Отцов», т. е. умерших, но в то
же время не мертвых, а живых» (Марк. 12, 26-7), т. е. имеющих ожить,
воскреснуть, ибо «Бог смерти не создал» и не хочет погибели ни единого (Иоан. 6, 39),
хочет «всем спастися и в разум истины прийти» (I Тим. 2, 4). Заповедь Божия есть
жизнь вечная (Иоан. 12, 50); соответственно сему и «обетование» Спасителя также
есть жизнь вечная (Иоан. 2, 25). Оттого Он говорит о Себе: «Я есть воскресение и
живот» (Иоан. 11, 25)».
Долг любви к отцам, долг воскрешения становится «общим делом» сынов
человеческих, а воскресение становится из трансцендентного имманентным. Если сыны
человеческие не исполняют этого своего долга, «дело спасения может быть
совершено и одною Божеской силой! Спасение не только может, но и произойдет помимо
участия людей, если только они не объединятся в общем деле, но это спасение
будет только для избранных; в отношении же остальных оно будет выражением
гнева; а потому вся наша забота, все наше внимание должны быть обращены на то,
чтобы не прогневить Господа, на то, чтобы согласно Его желанию можно было всем
в разум истины прийти... Ведь и по самому Евангелию конец мира настанет в том
только случае, если объединение не состоится, если проповедь Евангелия окажется
безуспешною; глад же и болезни лишь начало конца!.. Если же объединение в
общем деле состоится, в таком случае и конца не будет, потому что в этом случае
конец мирового процесса, совершающегося в нас и вне нас, будет превращение
слепого хода земли и всех миров в управляемый совокупным разумом всех
оживших, воскресших поколений».
Ни одна идея Η. Φ. не подвергается такой опасности лжетолкования,
искажения, вульгаризации, как этот головокружительно смелый его «проект». Особенно
велика опасность истолковать религиозную идею Η. Φ. в духе современных
научных позитивистов 'а 1а Мечников10* и религиозный идеал превратить в
невыносимую пошлость, оставляющую далеко позади уже циркулирующие. Прав был Η. Φ.,
326
делая свои идеи в такой степени «эзотерическими» и чуждаясь типографского
станка. Я не могу воздержаться, чтобы не привести суждения о «проекте» Н. Ф-ча
Ф. М. Достоевского и В. С. Соловьева, которые содержатся в письмах,
приложенных В.А.Кожевниковым. В этих письмах мы имеем» литературно-исторические
памятники первостепеннейшего значения, проливающие свет на интимнейшие и
затаеннейшие чаяния и мысли обоих наших мыслителей.
Ф. М. Достоевскому краткий очерк идей Н. Ф. (анонимно) был сделан Н. П. Пе-
терсоном. Ответ Ф. М. Достоевского помечен 24 марта 1878 года (С.-Петербург).
Вот что пишет здесь, между прочим, Ф. М. Достоевский:
«Первым делом вопроси кто этот мыслитель, мысли которого Вы передали?
Если можете, то сообщите его настоящее имя... Затем скажу, что в сущности
совершенно согласен с этими мыслями. Их я прочел как бы за свои. Сегодня я прочел
их (анонимно) В. С. Соловьеву, молодому нашему философу, читающему теперь
лекции о религии — лекции, посещаемые чуть не тысячною толпою. Я нарочно
ждал его, чтоб ему прочесть Ваше изложение идей мыслителя, так как нашел в его
воззрении много сходного. Это нам дало прекрасных два часа. Он глубоко
сочувствует мыслителю и почти то же самое хотел читать и в следующую лекцию1. Но вот
положительный и твердый вопрос, который я еще в декабре положил Вам сделать:
в изложении идей мыслителя самое существенное, без сомнения, есть долг
воскресения прежде живших предков, долг, который, если б был выполнен, то остановил
бы деторождение и наступило бы то, что обозначено в Евангелии и Апокалипсисе
воскресением первым. Но, однако, у Вас, в Вашем изложении, совсем не
обозначено: как Вы понимаете это воскресение предков и в какой форме представляете его
себе и веруете ему? Т. е. понимаете ли Вы его как-нибудь мысленно,
аллегорически, как, например, Ренан, понимающий его прояснившимся человеческим
сознанием в конце жизни человечества до той степени, что совершенно будет ясно уму
тех будущих людей, сколько такой-то, например, предок повлиял на человечество,
чем повлиял, как и проч. до такой степени, что роль всякого прежде жившего
человека выяснится совершенно ясно, дела его угадаются (наукой, силой аналогии) -
и до такой все это степени, что мы, разумеется, сознаем и то, насколько все эти
прежде бывшие, влияв на нас, тем самым и перевоплотились каждый в нас; а
стало быть, в тех окончательных людей, все узнавших и гармонических, которыми
закончится человечество, - или: Ваш мыслитель прямо и буквально представляет
себе, как намекает религия, что воскресение будет реальное, личное, что пропасть,
отделяющая нас от душ предков наших, засыплется, победится уже побежденной
смертью, и они воскреснут не в сознании только нашем, не аллегорически, а
действительно, лично, реально, в телах. (Но, конечно, не в теперешних телах, ибо уже
одно то, что наступит бессмертие, прекратится брак и рождение детей,
свидетельствует, что тела в первом воскресении, назначенном быть на земле, будут иные
тела, не теперешние, то есть такие, может быть, как Христово тело по воскресении
его, до вознесения в Пятидесятницу?).
Ответ на этот вопрос необходим — иначе все будет непонятно. Предупреждаю,
что мы здесь, то есть я и Соловьев, по крайней мере верим в воскресение реальное,
буквальное, личное и в то, что оно будет на земле...»12*.
Невольный трепет охватывает при чтении этого письма теперь, через 30 лет
после его написания. Как будто мертвые уста ушедшего от нас раскрылись, и он до-
1 Из этого указания, впрочем недостаточно отчетливого (именно в установлении близости
мировоззрения В. С. Соловьева и Η. Φ. Федорова в эту эпоху), можно заключить, что начало
сближения их и влияния Η. Φ. на Соловьева относится к весьма ранней поре жизни Соловьева,
к концу 70-х годов, когда составлялись и читались «Чтения о богочеловечестве». В «Письмах
В. С. Соловьева» (вып. I), доселе изданных, упоминание о Η. Φ. находим в письмах к
H. H. Страхову из Москвы, около 1881 года: здесь говорится о свиданиях с «Федоровым,
который меня совершенно очаровал, так что я даже думаю, что и его странные идеи недалеки от
истины» (с. 12)11*.
327
говорил определенно то, о чем намеками говорилось в разных местах его творений.
Тем не менее все-таки письму недостает окончательной ясности; очень важно было
бы иметь в руках посланную ему рукопись, ответом на которую является это
письмо, чтобы вполне уразуметь его содержание13*. Идет ли речь о воскресении или о
воскрешении, и не смешивает ли здесь Достоевский свои хилиастические надежды
о первом воскресении и тысячелетнем царстве, за которым следует все-таки общее
и окончательное, «трансцендентное» воскресение, с «проектом» всеобщего и
окончательного, «имманентного» воскресения, долженствующего заменить и устранить
трансцендентное? (Замечания самого Η. Φ. по поводу этого письма см. в
«Философии общего дела», 485-488)14*.
Однако такие сомнения и недоумения, уместные еще по отношению к
Достоевскому, совершенно недопустимы относительно Соловьева, который при личном
общении с Η. Φ. Федоровым, без сомнения, отлично понимал, что хочет, куда клонит
и что разумеет своенравный мыслитель (это подтверждается и личными
воспоминаниями В. А. Кожевникова). И вот что читаем в письме В. С. Соловьева к Н. Ф-чу
(относится к началу 80-х годов, подлинники хранятся у В. А. Кожевникова):
«Прочел Вашу рукопись с жадностью и наслаждением духа, посвятив этому
чтению всю ночь и часть утра, а следующие два дня, субботу и воскресенье, много
думал о прочитанном. "Проект" Ваш я принимаю безусловно и безо всяких
разговоров: поговорить нужно не о самом проекте, а о некоторых теоретических его
основаниях или предположениях, а также и о первых его практических шагах к его
осуществлению... Со времени появления христианства Ваш "проект" есть первое
движение вперед человеческого духа по пути Христову. Я, со своей стороны, могу
только признать Вас своим учителем и отцом духовным. Но Ваша цель не в том,
чтобы делать прозелитов и основать секту, а в том, чтобы общим делом спасать
человечество, а для того прежде всего нужно, чтобы Ваш проект стал
общепризнанным. Какие средства могут к этому повести - вот о чем, главным образом, я
хотел бы поговорить с Вами при свидании»15*.
В другом письме (без даты) В. С. Соловьев высказывает некоторые замечания
по вопросу о воскресении:
«Дело воскресения не только как процесс, но и по самой цели своей есть нечто
обусловленное. Простое физическое воскресение умерших само по себе не может
быть целью. Воскресить людей в том их состоянии, в каком они стремятся
пожирать друг друга, - воскресить человечество на степени каннибализма было бы и
невозможно, и совершенно нежелательно1. Значит, цель не есть простое
воскресение личного состава человечества, а восстановление его в должном виде2, именно в
таком состоянии, в котором все части его и отдельные единицы не исключают и не
сменяют, а напротив, сохраняют и восполняют друг друга. С этим Вы, конечно,
совершенно согласны, это Ваша собственная мысль. Но вот что, кажется мне,
отсюда следует: если должный вид человечества (каким оно будет и в жизни
будущего века) есть еще только желанный, а не действительный, то о действительном
человечестве никак нельзя рассуждать по образу должного, потому что, если
должное человечество (в котором Бог есть все во всех) вполне творит волю Отца, так что
здесь в человеческих действиях прямо и нераздельно действует сам Бог, так что
нет надобности ни в каких особенных действиях Божиих, то совсем не то в
естественном человечестве, которое вовсе не творит воли Отца и никак не есть прямое
выражение и форма Божества; поскольку наши действия не соответствуют воле
Божией, постольку эта воля получает для нас свое собственное особое действие,
которое для нас является как нечто внешнее. Если бы человечество своею деятель-
1 Сбоку рукой Η. Φ. Федорова приписка: «Воскрешать каннибализм, т. е. воскрешать
смерть! Вот нелепость!»
2 Сбоку рукой Η. Φ. Федорова приписка: «Против кого Вы пишете, нельзя и понять!»
328
ностью покрывало Божество, тогда действительно Бога не было бы видно за
людьми; но теперь этого нет, мы не покрываем Бога, и потому Божественное действие
(благодать) выглядывает из-за нашей действительности и притом в тем более
чуждых (чудесных) формах, чем менее мы сами соответствует своему Богу. Если
взрослый сын настолько внутренно солидарен с любимым отцом, что во всех своих
действиях прямо творит волю его, не нуждаясь ни в каких внешних указаниях, то
для ребенка по необходимости воля отца является до известной степени внешней
силой и непонятной мудростью, от которой он требует указаний и руководства. Все
мы пока дети и нуждаемся в детоводительстве внешней религии. Следовательно, в
положительной религии и церкви мы имеем не только начаток и прообраз
воскресения и будущего царствия Божия, но и настоящий (практический) путь и
действительное средство к этой цели. Поэтому наше дело и должно иметь религиозный, а
не научный характер и опираться должно на верующие массы, а не на
рассуждения наших интеллигентов»16*.
Обширные выдержки из письма В. С. Соловьева, нами сделанные,
свидетельствуют о сильном впечатлении, произведенном на него идеями Федорова, «первым«-
движением вперед человеческого духа по пути Христову». При такой оценке этих
идей естественно искать следов их влияния и в произведениях самого философа, и
мы, действительно, их находим. В наибольшей степени, как это указывает и
В. А. Кожевников (с. 277-278), это сказалось в знаменитом реферате Соловьева в
Московском психологическом обществе в 1891 году «Об упадке средневекового
мировоззрения»17*. Если перечитать этот реферат после сочинений Федорова,
получается определенное впечатление, что основное содержание этого реферата —
недоговоренные, с большой уклончивостью, осторожностью, с непонятными для
непосвященных намеками выраженные федоровские идеи. И сам Федоров признает их
за свои, но сурово упрекает Соловьева за его уклончивую, двусмысленную
формулировку, за их недоговоренность (см.: Федоров, I, 479—490). Под общим
христианским делом, как заявляет здесь Федоров, Соловьев «разумеет именно воскрешение
человеческого рода», но он «не только не высказывается нигде ясно и открыто, а
так постарался скрыть свою мысль, что в последовавших за рефератом прениях не
было даже упомянуто ни об общем деле, ни о воскресении». «19 октября 1891
года18*, - заключает поэтому Федоров, - могло бы сделаться величайшим днем,
когда было бы положено начало христианству как общему всеотеческому делу», если
бы Соловьев не поопасался «больше всего быть смешным» (487-488). Мы, со своей
стороны, полагаем, что кроме соображений внешнего и внутреннего исторического
и религиозного такта, а может быть и тактики, вполне оправданной
соображениями педагогическими, Соловьев при всей принципиальной близости и даже
зависимости от Федорова в признании конечных задач весьма расходился с ним в
понимании их непосредственности и средств к ним приближения. У Федорова же в
другом месте встречаем полемику с Ф. М. Достоевским (по поводу известного нам его
письма) и В. С. Соловьевым, причем он замечает там: «Достоевский, говоря о.долге
воскресения... вероятно, полагает, что осуществление этого долга возможно лишь в
самом отдаленном будущем, не ранее как через 25 000 лет примерно, т. е. так же,
как думал об этом и Соловьев; а что Соловьев так думал, это мы знаем наверно»
(440). Из этого свидетельства мы можем косвенно судить, между прочим, об
эсхатологии Соловьева в 80-е и 90-е годы, когда она значительно и до известной
степени принципиально даже отличалась от той, которая выражена в «Трех разговорах»,
где чувство близкого конца, как deus ex machina19* обрывающего неудавшуюся
историю, этой пассивностью ожидания значительно отличается от бодрой, актуальной
эсхатологии предыдущего периода. Возвращаясь к взаимоотношениям Соловьева и
Федорова, прибавим еще, что и помимо названного реферата при перечитывании
сочинений Соловьева после трудов Федорова или наряду с ними получают новое
освещение многие неясности и недоговорки у Соловьева. Для меня впервые только
329
после знакомства с идеями Федорова стало понятно, что значит, например, или, по
крайней мере, что может значить основная идея соловьевской эстетики о конечных
задачах искусства (в статьях 1889-1890 гг. «Красота в природе» и «Общий смысл
искусства», собр. соч., т. VI20*). Искусству ставится здесь следующая задача:
«Совершенное искусству в своей окончательной задаче должно воплотить
абсолютный идеал не в одном воображении, айв самом деле, - должно одухотворить,
пресуществить нашу действительную жизнь. Если скажут, что такая задача
выходит за пределы искусства, то спрашивается: кто установил эти пределы?
Разумеется, это будущее развитие эстетического творчества зависит от общего хода истории;
ибо художество вообще есть область воплощения идей, а не их первоначального
зарождения и роста»21*.
Слова Достоевского «красота спасет мир»22*, взятые эпиграфом первой из этих
статей, истолковываются в смысле творчески-преобразовательного воздействия на
мир и, мне кажется, нетрудно узнать здесь выраженную на языке эстетики
федоровскую идею «регуляции природы» с «долгом воскрешения» в качестве
нравственного центра. Можно было бы еще привести примеры зависимости Соловьева от
Федорова (напр<имер>, в суждениях об отношении к природе по поводу голода, о
сверхчеловечестве в статьях о Ницше и Лермонтове, и др.23*), которая ослабевает
и, быть может, даже прекращается к концу 90-х годов, когда, по свидетельству
В. А. Кожевникова, и личные отношения их ухудшились. Во всяком случае, оба
они, каждый по-своему, отстаивают идеал активности в христианстве и ведут
борьбу с пассивностью аскетической метафизики, причем у Федорова это переходило
иногда в отрицание или недооценку значения личной аскетики. Христианство
призывает нас к активному отношению к природе и указывает ему высшую
нравственную цель.
«В учении, призывающем всех к свободе («К свободе призваны вы, братья», Гал.
5, 13; «познайте истину и истина сделает, вас свободными», Иоан. 8, 32) и всех к
разуму истины («Да все в разум истины приидут»), активное участие человечества в
деле его спасения не может подлежать ни малейшему сомнению. Оно необходимо
не по физической необходимости, ибо могло бы быть совершено и одною
божественной силой; оно необходимо как выражение величайшей мудрости и высочайшей
нравственности, как выражение полноты любви и благости Бога, Отца нашего, к
людям». «Превращение мира еще несовершенного (лишь потенциально
предназначенного к совершенствованию) в совершенный Богом чрез нас, ничуть не умаляя
Творца, неизмеримо возвышает творение исполнением воли Отца Небесного на
земле и на небе (в иных мирах) исполнением заповеди Сына Единородного
уподобляться Ему делами, которые Он творил, делами спасения и возвращения жизни.
Осуществление человеком христианского плана всеобщего спасения не будет ли
осуществлением полноты любви и к Богу и к ближним, к Отцу Небесному и к
земным отцам и братьям? А мир, такой любовью преображенный, не станет ли
выражением самого Бога любви и согласия, Бога Триединого?»
Непонимание активных заветов христианства, по мнению Федорова, привело к
материализму XIX века, который есть «прямое последствие разделения небесного
от земного, т. е. полного искажения христианства, завет которого заключается
именно в соединении небесного с земным, божественного с человеческим»
(Федоров, I, 32). «Мир дан не на поглядение, не миросозерцание - цель человека.
Человек всегда считал возможным действие на мир, изменение его согласно своим
желаниям»24*. По убеждению Федорова, Бог создал не наилучший, законченный
уже мир, а лишь потенциально наилучший, который может стать наилучшим,
но при участии человеческого труда. «Бог воспитывает человека собственным его
опытом. Он - Царь, но Царь, делающий все не только для человека, но и чрез
человека. Потому-то и нет (еще) целесообразности в природе, что ее должен внести
сам человек, и в этом-то и заключается высшая целесообразность»25*. Ничего даро-
330
вого, все - трудовое, - таков высший принцип, и даровое, нами полученное, мы
должны заменить трудовым, заплатить долг, и в этом великое нравственное
основание идеи регуляции природы.
«У нас нет ничего своего, нами произведенного, а все даровое, вернее, долговое.
Жизнь наша вовсе не наша; она отъемлема, отчуждаема, смертна. Мы получили ее
от своих отцов, кои в таком же долгу у своих родителей, и т. д. Рождение только
передача долга, а не уплата его. От родителей же, как и вообще от предков, мы
получили не только жизнь, но и средства к жизни, состоящие в тех способах
работы, в которых почти все принадлежит нашему предшественнику и только весьма
мало и лишь в исключительных случаях — нам». «Мы живем не только на чужой
счет, на счет неродственной нам природы, - мы живем также и на счет себе
подобных, даже самых близких, заменяя, вытесняя их, и такое существование делает
нас уже <не только> недостойными, но и преступными... Существенною,
отличительною чертою человека являются два чувства: чувство смертности и стыд
рождения. Можно догадываться, что у человека вся кровь должна была броситься в
лицо, когда он узнал о своем начале, и как он должен был побледнеть, когда увидал
конец себе подобного, единокровного!.. Животноподобное рождение есть наказание;
но тому, кто вдумывается в процесс рождения, открывается нечто еще более
ужасное - смерть...» «Содержание долга - всегда одинаково; содержание его всегда -
жизнь в той или иной форме своего проявления, в целом или по частям, в
совокупности или отдельными ее сторонами, материального или духовного... а потому
и погашение долга может быть только восстановлением жизни, воскрешением»26*.
Достижимо же это только освобождением от всемирного рабства человечества у
стихий природы, регуляцией ее, которая и должна быть «всеобщим тяглом
человеческого рода». Отсюда следует, что «завершающее полноту знания и полноту
нравственной и разумной власти человека над природой бессметрие и воскрешение есть
труд, обращающий даровое в собственное, очищающий долг». «Этот долг есть
единственный общий всем людям, как обща всем людям смерть. Все обязанности,
налагаемые на нас учением о Триедином Боге, выражаются в одной заповеди, в
заповеди о долге воскрешения. В противоположность Исламу мы можем сказать: «Нет
иного Бога, кроме Триединого, и воскрешение — Его заповедь!»27*.
В предыдущих строках я преследовал одну лишь цель - приведя некоторые из
мыслей Η. Φ. Федорова, заставить почувствовать важность и серьезность его идей
и настроений и тем призвать к более серьезному знакомству с ним. Последнее
нелегко и потребует терпения и усидчивости. От размена на фельетонное графоманст-
во и повседневное легкомыслие Федоров, не печатавшийся при жизни, огражден и
теперь иероглифом своего стиля и изданием «не для продажи» согласно завету
мыслителя, благочестиво соблюдаемому его друзьями-почитателями. Но и при
более внимательном его чтении едва ли легко найдется такой, кто разделит все его
идеи, кто не остановится, запнувшись пред самыми его смелыми и* последними
выводами и чаяниями, о которых, быть может, уместно вспомнить слова Гамлета:
«the rest is silence!» (остальное - молчание!)28*. Но вряд ли он после этого чтения
не почувствует себя окрыленным, оплодотворенным, обогащенным. И то вещее,
загадочное и страшное, но вместе с тем великое и зажигающее, что он там
прочитает, заставить его заглянуть в самые глубины и своей души, и матери-природы,
Божьего мира. И, может быть, даже не чувствуя себя во всем и до конца
учеником, он тоже, однако, назовет почившего праведника, вслед за Соловьевым, не
только «учителем», но и - что гораздо больше - утешителем! 29*
1908
ИЗ ФИЛОСОФИИ КУЛЬТУРЫ
I. РАЗМЫШЛЕНИЯ О НАЦИОНАЛЬНОСТИ1
I
В отношении к проблеме национальности, как и к другим проблемам
философии культуры, необходимо проявляется характер общего мировоззрения или тех
общефилософских предпосылок, которые неизменно соприсутствуют — иногда даже
помимо сознания судящих, - а отчасти предопределяют ход рассуждения. Вопрос о
национальности — это надо прямо сказать и решительно утвердить — отнюдь не
принадлежит к числу таких вопросов, которые рассматривались бы и изучались бы
вне этих предпосылок, voraussetzungslos1* (если только и вообще существуют такие
вопросы), одним только строгим применением научных методов. Как ни важно
научное изучение разных проявлений национальности, однако в нем не ставится и не
вмещается общая метафизическая проблема нации, т. е. вопросы об ее природе,
ценности, идее. Как и в других случаях, наука лишь подводит к этим вопросам,
дает свой материал для их постановки, но на этом и останавливается, если только
она критична, т. е. находится в сознании своей действительной компетенции. Что
национальность вообще существует как совершенно особая, своеобразная
историческая сила, об этом, конечно, никто не спорит, ни даже тот, кто желал бы этот факт
уничтожить. О том, как выражается нация в истории, в быте, в нравах, в
учреждениях, об этом мы все более узнаем из расширяющегося жизненного
исторического опыта и из научного изучения. Но вопрос о том, что есть нация, переводит
обсуждение на еще более общую почву. При ответе на этот вопрос неизбежно должны
проявиться и основные метафизические разногласия. Два основных направления,
естественно, обозначились в истории философии, принимая в ней разные
формулировки: номинализму и реализму средневековой философии2* в новейшей
соответствуют позитивизм, эмпиризм или идеализм (конечно, «трансцендентальный») в их
противоположности реализму мистическому или спиритуалистическому. Для
первого воззрения бытие исчерпывается непосредственной данностью состояний
сознания, которая в своем выражении и логической обработке облекается в символику
общих понятий и суждений. Для другого воззрения действительность несравненно
глубже опытной данности, показания опыта суть только касания подлинных res3* о
нашу субъективность, ее изменчивые и несовершенные, неадекватные символы
(«alles Vergängliche ist nur ein Gleichniss»4*). Если первое воззрение, номинализм,
неизбежно разрешает мир в субъективный иллюзионизм замкнутого, имманентного
опыта (притом искусственно ограниченного и отпрепарированного), то второе
воззрение постулирует и стремится постигать в доступной нам теперь форме мир
вещей, сущего (το δντως δν). В применении к вопросу о нации это раздвоение фило-
1 Напечатано в «Вопросах философии и психологии», III, 1910 (кн. 103).
332
софского мышления дает такие результаты. Для позитивистического или
идеалистического номинализма и иллюзионизма нация всецело разрешается в
совокупность фактов, так или иначе связанных с национальной жизнью, и есть только
абстракция от этих фактов, или собирательное понятие в том смысле, в каком,
напр<имер>, лес есть совокупность многих деревьев. Совокупностью национальных
черт и проявлений, определяемой через возможно полную enumerationem simpli.
сет5*, принципиально исчерпывается здесь содержание понятия нации, а
объяснение ее происхождения средствами, доступными истории, вполне разрешает ее
проблему. Такова точка зрения 'философии просветительства, старого и нового; так
рассуждал о нации еще Чернышевский6*, приблизительно так рассуждает теперь
Милюков7*. Так должны бы рассуждать, оставаясь последовательными, и
теперешние сторонники неокантианского идеализма8*, хотя, по некоторому недоразумению,
иные из них и говорят о создании национальной культуры. Совершенно иначе
вопрос о нации освещается философией реализма. Для нее нация есть не только
совокупность феноменологических своих обнаружений, исчисляемых и изучаемых
наукой, но прежде всего некое субстанциальное начало, творчески производящее
свои обнаружения, однако всецело не вмещающееся ни в одном из них и потому не
сливающееся с ними. Идея «национального духа», которой оперировала
историческая школа права, не была продумана ею именно с этой метафизической стороны,
но действительное соотношение вещей было формулировано в ней (впрочем, в
применении к частному вопросу о правообразовании) совершенно верно, хотя и в
терминах позитивистического историзма. Нация есть не как коллективное понятие
или логическая абстракция, но как творческое живое начало, как духовный
организм, члены которого находятся во внутренней живой связи с ним. Когда мы
переживаем национальное чувство, ощущаем в себе нацию или себя в нации, мы
познаем бытийственное, а не эпифеноменальное9* лишь свое определение. Обычное
сравнение отношения к отечеству с отношением к матери становится особенно
интересно и поучительно при сопоставлении двух этих противоположных
мировоззрений. Что такое представляют собою отношения сыновства, отцовства,
материнства или же столь излюбленная естествоиспытателями, столь таинственная и
загадочная сила, именуемая наследственностью? Для одних это - половое зачатие,
затем развитие организма в чреве матери, «девятимесячная квартира», затем
совокупность отношений бытовых, воспоминаний детства, привычки и пр. и пр., и,
кроме того, передача по наследству вместе с болезнями и предрасположениями к
ним иногда мельчайших черт характера. Для других — здесь тайна из тайн, почти
непосредственное самообнаружение запредельного. Ни в чем, может быть, тайна и
глубинность жизни и реальное единство человека так не обнаруживается, как
здесь. Отечество (patria, patrie, Vaterland, fatherland, πατρίς) есть только
расширенное понятие отцовства и сыновства, собрание отцов и матерей, породивших и
непрерывно порождающих сыновство1. Эта идея нации как реального, кровного
единства получила пластическое выражение в языке Библии (впрочем, и не в ней
одной) в том, что племена и народы здесь обозначаются как лица по именам их
родоначальников или вождей (имена колен Израилевых, Ассур, Моав, Гог и др.), и
эта персонификация национальностей, конечно, не есть только художественный
образ или способ выражения, но подразумевает определенную
религиозно-метафизическую идею.
Итак, оба философские воззрения, номинализм и реализм, необходимо
приводят и к различной метафизике нации, в одном случае разрешая ее всецело в
феноменологию, в другом утверждая ее как трансцендентную реальность, интуитивно
опознаваемую в непосредственном переживании. Эти метафизические разногласия
совершенно не касаются опытного изучения нации, науки о нации которая при
верности своим методам может вестись до известной степени независимо от фило-
1 Величайшей заслугой Η. Φ. Федорова является это указание огромного философского
значения идеи отцовства и сыновства.
333
софских предпосылок. Но они становятся очень чувствительны, когда обсуждаются
вопросы о ценностях, и вообще в таких случаях, когда человек выступает не
только как научный регистратор, но и как деятель, руководимый известными идеями,
настроениями, волевыми импульсами. Исходя из предпосылок мистического
реализма, мы должны мыслить и чувствовать национальность лишь как некоторое
субстанциональное бытие, существующее прежде сознания и составляющее его бы-
тийственный prius10*. Мы сознаем себя членами нации, потому что мы реально
принадлежим к ней как к живому духовному организму. Эта наша
принадлежность совершенно не зависит от нашего сознания; она существует и до него, и
помимо него и даже вопреки ему. Она не только есть порождение нашего сознания
или нашей воли, скорее, наоборот, само это сознание национальности и воля к ней
суть порождения ее в том смысле, что вообще сознательная и волевая жизнь уже
предполагают для своего существования некоторое бытийственное ядро личности
как питательную органическую среду, в которой они возникают и развиваются,
конечно, получая затем способность воздействовать и на самую личность. Как бы
мы ни определяли это ядро личности - как инстинкт вместе с Бергсоном, или суб-
лиминальное сознание вместе с.Джемсом, или в каких-либо иных
рационалистических понятиях, созданных при свете дневного, уже проявленного сознания, все это
будут практически, для ориентировки в целях «инструментальных», более или
менее пригодные, но, по существу, конечно, одинаково неадекватные попытки
выразить словом, логизировать то, что алогично или сверхлогично или даже антило-
гично, но служит в то же время субстратом для логоса. Сознание проходит по
грани между бытием и небытием; оно есть различение, или, как показал Гегель,
всякое Werden синтезировано из Sein и Nichtsein11*, omnis definitio est negatio12*.
Поэтому эмпирическое «я» не только не выражает нашу подлинную, субстанциальную
личность, но и не может на это притязать, неадекватно ей; оно ее только
обнаруживает, выявляет, притом в состоянии аффекции иным бытием и в соответствии
характеру этой аффекции. Однако человек, хотя получил вместе с образом Творца
и творческие силы, все же есть тварь, а не свой собственный творец; он в этом
смысле и сам для себя есть данность, т. е. создание. И создается человек, по
непреложному определению Творца, как сын и вместе отец, как дочь или мать, не в
вербальном только, но в реальном смысле, так как ветки деревьев не растут в лесу
прямо из воздуха или из земли, но вырастают из ствола. И в этой реальности
опять-таки бессильно что-либо изменить по существу наше сознание, так же точно,
как русскому нельзя переродиться в иностранца, хотя бы он был такой же француз
в душе, как фонвизинская бригадирша13*.
В научном мышлении, живущем в мире отвлеченностей, абстрактное и потому
более общее становится привычнее реального и конкретного, наука как бы только
снисходит/ Дозволяя существовать отдельному экземпляру данного вида или рода
во всей его бунтовщической и непослушной индивидуальности, во всяком случае,
для науки индивидуальность это accidentia, общие же, видовые признаки -
essentia. Нельзя, конечно, упрекать науку за эту условность, которая проистекает из ее
«прагматических» целей и ограниченности познавательных сил человека,
заставляющей его прибегать к помощи абстракции, но следует в то же время всегда
бороться с распространением этой привычки мысли и за пределы науки. Согласно
этой привычке принято думать, что непосредственно существует человечество или
человек вообще (homo sapiens - тоже характерное видовое определение
естествознания), хотя этот человек, между прочим, принадлежит к известной нации,
говорит определенным языком (до изобретения эсперанто), наконец, состоит членом
семьи. Действительное же соотношение как раз противоположно так
изображаемому. Существует в действительности конкретный человек, индивид, он родится в
определенной семье, в определенном племени, нации, причем в каждую из этих
более широких группировок он вступаем лишь чрез посредство своей
непосредственной конкретности, не уничтожая ее, но лишь в известном смысле перерастая.
334
Абстрактных, космополитических всечеловеков, из которых состоит абстрактное
же всечеловечество, вообще не существует; в действительности оно состоит из
наций, а нации составляются из племен и из семей. Стоит только переложить
абстрактный язык науки на конкретный язык действительности, как вся проблема о
соотношении общечеловеческого и национального или индивидуального получает
полную перестановку, и проблематичным становится уже не существование
национального рядом с общечеловеческим, как прежде, но, наоборот, возможность
общечеловеческого в национальном, всеобщего в конкретном.
Итак, действительность конкретна, и эта конкретность ее и переживается в
опыте. В нем, если мы не будем произвольно суживать его и закрывать глаза на
его показания, мы находим и такие изначальные чувства, как отцовство, сыновст-
во, национальность. Это именно прежде всего чувства, или, если угодно,
инстинкты, и лишь в моменте рефлексии они сознаются как идеи. Здесь, как и в других
случаях, не сознанием порождается бытие или инстинкт, но бытием порождается
сознание. Национальности нельзя выдумать или создать сознательной,
рефлектирующей идеологией, она существует раньше нее как ее основа. Можно искать
различных объяснений генезиса этого чувства, напр<имер>, господствующая
эволюционная доктрина стремится разрешить вопрос допущением нечувствительных,
бесконечно малых изменений, приспособлений, которые, удерживаясь
«наследственностью», и создают потом объясняемое явление. Этого типа объяснением
совершенно уничтожается, растворяется в эволюции сущность вопроса. Как бы мы
ни изъясняли эволюционно генезис человека, все-таки остается неопровержимым,
что люди родятся, т. е. что существует какой-то неисследимый научно transcensus,
за которым внезапно получается новая индивидуальность, новый человек. Стирая
всеми силами эту роковую грань, эволюция думает разрешить вопрос его
упразднением. Подобным же образом и национальности, хотя они исторически возникают
из сложных этнографических смешений, но в то же время остается верным и то,
что национальности род яте я у т. е., что существует историческая грань, за которой
этнографическая смесь превращается в нацию с ее особым бытием, самосознанием,
инстинктом, и эта нация затем ведет самостоятельную жизнь, борется, отстаивая
свое существование и самобытность. И весь логический фокус теории
«происхождения человека от обезьяны» в ее грубой форме только и сводится к молчаливому
уничтожению именно этой предельной грани, которая человека от обезьяны
разделяет, так что не дается объяснения происхождения человека от обезьяны, но
происходит лишь уничтожение их различия, подставляемое в качестве такого объяснения.
Итак, национальность опознается в интуитивном переживании
действительности или в мистическом опыте, в котором обнаруживается нуменальное бытие как
сущее, лежащее в основе своей феноменологии. Но эта последняя не содержит
самого этого сущего, а только обнаруживает, выявляет его. Национальный дух не
исчерпывается никакими своими обнаружениями, не сливается с ними, не
окостеневает в них. Ни к одному из них, как бы ни было оно ценно, нельзя окончательно
приурочить национальный дух, начало живое и творческое. В этом лежит
осуждение бескрылого, исключительно консервативного отношения к национальности,
ибо в нем живое фактически мыслится мертвым или омертвевшим, но в этом же
заключается и осуждение легкомысленного и непочтительного отношения к
прошлому, ибо в нем исторически выражается та же духовная субстанция.
Нуменальное опознается нами в мистическом опыте как сущее, но познается
оно нами лишь в своей феноменологии. Познавать самих себя в национальном
смысле мы можем не заглядыванием себе за пазуху или рассматриванием себя в
лупу, но изучением национального творчества, объективированного в отдельных
его продуктах. Это изучение индуктивно, а не интуитивно, хотя без этой
первоначальной интуиции оно было бы слепо. Сделать его зрячим может только сильное
непосредственное чувство. Вот почему в эпохи возбужденного, обостренного
национального самосознания открываются глаза и на национальную феноменологию,
335
изучается народный язык, лирика, эпос, искусство, обычаи и т.д. и все то, что не
замечалось или не различалось дремлющим национальным самосознанием,
оживает, становится красочным и колоритным. Самый поворот внимания в эту сторону,
его изощрение, пробуждение любви к родному есть уже заслуга перед
национальным самосознанием, ибо на этом оно воспитывается. Инстинкт переходит в
сознание, а сознание становится самопознанием. А отсюда может родиться и новое
национальное творчество. Конечно, нельзя быть национальным на заказ или
преднамеренно, ибо в основе своей национальность есть подсознательный или, лучше,
сверхсознательный инстинкт, а все инстинктивное непреднамеренно и в этом
смысле наивно (потому как приторны и неприятны всякие преднамеренные потуги
к национальничанью), но национальное сознание и чувство может известным
образом воспитываться и, конечно, также и извращаться.
Инстинкт национальности, из слепого становясь зрячим, переходя в сознание,
переживается как некоторое глубинное, мистическое влечение к своему народу,
как любовь не в скудном, моралистическом понимании рационалистической этики
(как, напр<имер>, у Толстого), но в мистическом смысле, как некоторый род
эроса, рождающего крылья души14*, как нахождение себя в единстве с другими,
переживание соборности, реальный выход из себя, особый transcensus. Конечно, это
натуральное единство или соборность принципиально отлично от единой, истинно
кафолической соборности в царстве благодатном, Церкви, и, насколько всякая
такая натуральная соборность (народ, класс, человечество, государство) ставит себя
на место этой кафолической соборности15*, она становится лжесоборностью, во имя
низшего и стихийного отрицая высшее и благодатное. В порядке соборности также
существует некоторый иерархизм, последовательность ступеней которого
безнаказанно не может быть нарушаема. Но уже всякое преодоление своего
индивидуалистического отъединения от целого, своего естественного «протестантизма», всякое
чувство соборности человек переживает как некоторый эротический пафос, как
любовь, которая дает любящему особое ясновидение относительно любимого. Чем
крепче любовь, тем крепче и вера: одно на другое опирается и одно другое
поддерживает. Не из рассуждений родятся наши основные и наиболее глубокие чувства,
они возникают прежде рассуждений из темной глубины нашей личности. Потому и
доказательства имеют здесь второстепенное значение. В них стремится осознать
себя, полнее раскрыться почувствованная любовь, но ошибочно было бы думать,
что из-за них она родится1.
Таким образом, зарождается и крепнет идея национального призвания.
Национальный мессианизм, помимо всяческого определенного содержания, в него
влагаемого, есть прежде всего чисто формальная категория, в которую неизбежно
отливается национальное самосознание, любовь к своему народу и вера в него16*.
Содержание это вместе со славянофилами можно видеть в церковно-религиозной
миссии - в явлении миру «русского Христа», можно вместе с Герценом и
народничеством видеть его в социалистических наклонностях народа, можно, наконец,
вместе с революционерами последних лет видеть его в особенной
«апокалиптической» русской революционности, благодаря которой мы совершим социальную
революцию вперед Европы, - эти противоположные или различные содержания имеют
формальное сходство, суть разные выражения национальной миссии. И этот мес-
1 «Кто действительно любит, верит, не может не верить, что любимый человек обладает в
каком бы то ни было отношении исключительными достоинствами, представляет собой
индивидуальную и в таковом качестве незаменимую ценность. Мало того, он видит эти
достоинства, он чувствует эту ценность. Это не значит, чтобы любимому лицу приписывались
всевозможные совершенства и полное отсутствие недостатков, нет, но в нем усматривается нечто и
такое, чего нет ни у кого в мире. И то, что происходит в индивидуальной любви, бывает и с
любовью к родине, из которой и родится вера в национальное призвание». (Так писал я в
очерке «Душевная драма Герцена», напечатанном в «Вопросах философии и психологии», 1902,
IV-V, перепечатанном в сборнике «От марксизма к идеализму», СПб., 1903 и изданном
отдельно: Киев, 1905, с. 34).
336
сианизм появляется во все эпохи и у всех народов в пору их национального
подъема; это общая форма сознания национальной индивидуальности.
Национальный дух стихийно выражается в разных сторонах национального
творчества, но не отверждается ни в какой из них в особенности, как на это
справедливо указывается. Но совершенно ошибочно, однако, отсюда делается иногда
еще дальнейшее заключение, что и не должно стремиться к его осознанию.
Стремление найти логос национального чувства, понять и привести к возможной
отчетливости идеал национального призвания неистребимо коренится в самом этом
чувстве, которое, как и всякое глубокое чувство, не довольствуется инстинктивным
самосознанием, но ищет своего логоса. Пусть все попытки его определения
относительны и изменяются в истории, это нисколько не есть возражение против их
правомерности. Работа национального самосознания идет безостановочно вместе с
историческим ростом нации, причем в этом своем росте она делает все новые
попытки самоопределения. Здесь происходит нечто подобное тому, что мы наблюдаем
при росте личного самосознания17*.
Это самоопределение бывает органически связано со всем
религиозно-философским мировоззрением и представляет собой одно из его частных приложений.
Поэтому при общем различии мировоззрений, обусловливающем разность восприятия
и оценок, никоим образом не может получиться одинаковая национальная
идеология. Так, напр<имер>, у религиозного мыслителя типа Соловьева, Хомякова,
Достоевского, конечно, не может быть одинаковой философии русской истории как у
рационалистического, безрелигиозного интеллигента, и то, что для одного
представляется пережитой аберрацией ума, для другого как раз явится наиболее
ценным. Поэтому при всей стихийности национального чувства едва ли может быть
одинаковая философия нации, но в то же время едва ли можно только поэтому
воздерживаться от такой философии.
Идеал национального мессианизма требует своего выражения в некоторой
идеальной проекции, в то же время неизбежно становится и нормой для суда над дей-
ствительностыо. Народность представляет собой идеальную ценность не как
этнографический материал, не своей внешней оболочкой - плохо для национального
самосознания, если только к этому и сводится оно, - но как носительница
идеального признания высшей миссии. Поэтому чистейшее выражение духа народности
представляют собой его «герои» (в карлейлевском смысле) или «святые» (в
религиозном смысле). Вот почему каждый живой народ имеет и чтит, как умеет, своих
святых и своих героев. Они те праведники, ради которых существует сырой
материал этнографической массы, в них осуществляется миссия народа. Они сами
прекрасный и нежный цветок, расцветающий на ветвях дерева, которое имеет толстый
и грубый ствол и глубоко уходящие в землю корни. Эта мысль, что самое
существование народа оправдывается лишь его праведностью, верностью своему
призванию и своему служению, получила свое классическое выражение у еврейских
пророков; это противопоставление всего народа как этнографического материала и
«святого остатка», ради которого Бог избрал этот народ, получает у них
исключительно трагический характер. Все понимание внешней истории еврейства, его
трагических судеб концентрируется в этом противопоставлении массы народа,
изменившего своему призванию, и «святого остатка», для которого сохраняют силу
непреложные обетования. Высоким призванием своим не только возвышается народ,
но им он и судится. Национальная вера находится в трагическом конфликте с
печальной действительностью; она колеблется, порою как будто гаснет, опять
возрождается под волнами разных впечатлений. Такому огненному испытанию
подвергается теперь и наша национальная вера в «Святую Русь», в тот «святой остаток»,
ради которого - в высшем смысле - только и существует «Россия». Национальная
вера, как это показали на своем примере иудейские пророки, не только не
уполномочивает к самодовольству и самовосхвалению, но она обязывает быть
требовательным, неумолимым, жестким, она понуждает к самобичеванию и самообличе-
337
нию. Те, сердце которых истекало кровью от боли за родину, были в то же время
ее нелицемерными обличителями. Но только страждущая любовь дает право на это
национальное самозаушение, там же, где ее нет, где она не ощущается, поношение
родины, издевательство над матерью, проистекающее из легкомыслия или
духовного оппортунизма, вызывает жгучее чувство, всегда колеблющееся между
надеждой и отчаянием, полное страха, тревоги, ответственности. Оно не только не
закрывает неприглядной действительности, стоящей в таком противоречии с высокой
миссией, но ее сильнее подчеркивает. «О недостойная избранья, ты избрана», -
вырвалось однажды у Хомякова18*. И это чувство недостоинства в избрании,
которое все-таки остается неотменным для верующего сердца, наполняет душу
смятением, ее волнует и терзает. В национальном чувстве есть поэтому страшная и
всегда подстерегающая опасность изменить ради него кафоличности, всечеловечности,
так же как национальной церкви легко отъединиться от церкви вселенской,
«единой, соборной и апостольской». Национальность есть хотя и органическая, но
не высшая форма человеческого единения, ибо она не только соединяет, но и
разъединяет. И национальный мессианизм, особенно в годину исторического
благополучия, слишком легко переходит в национальную исключительность, т. е. в то, что
зовется, обыкновенно, национализмом. Классический пример такого национализма
дает нам та же история еврейства; но его можно наблюдать и повсеместно.
Национальное чувство поэтому нужно всегда держать в узде, подвергать
аскетическому регулированию и никогда не отдаваться ему безраздельно. Идея
избрания слишком легко вырождается в сознание особой привилегированности, между
тем как она должна родить обостренное чувство ответственности и усугублять
требовательность к себе. При правильном развитии национального чувства, им должно'
порождаться историческое смирение, несмотря на веру в свое призвание, так же
точно, как высота христианского идеала и возвышенность обетовании не надмева-
ет, но смиряет их подлинных носителей. Одним словом, национальный аскетизм
должен полагать границу национальному мессианизму, иначе превращающемуся в
карикатурный отталкивающий национализм.
II
Однако, идя далее и в этом направлении, мы наталкиваемся на своеобразную
трудность. Дело в том, что национальность не только необходимо смирять в себе, но
в то же время ее надо и защищать, ибо в этом мире все развивается в
противоборстве. И насколько предосудителен национализм, настолько же обязателен патриотизм.
Нации не существуют без исторического покрова или облегающей их скорлупы.
Эта скорлупа есть государство. Конечно, есть нации, не имеющие своего
государства; нация в этом смысле первичнее государства. Именно она родит государство как
необходимую для себя оболочку. Национальный дух ищет своего воплощения в
государстве согласно красивому выражению Лассаля в речи о Фихте (употребленного
в применении к германскому народу)19*. В высшей степени знаменателен тот факт,
что государства создаются не договором космополитических общечеловеков и не
классовыми или групповыми интересами, но самоутверждающимися
национальностями, ищущими самостоятельного исторического бытия. Государства
национальны в своем происхождении и в своем ядре — вот факт, на котором неизбежно
останавливается мысль. Даже те государства, которые в своем окончательном виде
состоят из многих племен и народностей, возникли в результате государствообра-
зующей деятельности одного народа, который и является в этом смысле
«господствующим» или державным. Можно идти как угодно далеко в признании
политического равенства разных наций - их исторической равноценности в государстве
все же не установить. В этом смысле Россия, конечно, остается и останется
русским государством при всей своей многоплеменности даже при проведении самого
338
широкого национального равноправия. Совместное существование многих наций
под одной государственной кровлей создает между ними не только отношения
солидарности, но и соревнования, борьбы. В этой борьбе напрягается чувство
национальности, и оно, конечно, всегда угрожает перейти в национализм, хотя внешние
проявления последнего могут весьма различаться в разные эпохи истории.
Нравственное сознание современного человека все менее мирится с угнетением более
слабых национальностей господствующею; в этом оно видит прежде всего унижение
для этой последней и вопиющую несправедливость. Однако рядом с этими
политическими отношениями существуют еще и нравственные отношения между
национальностями, и эти отношения не всегда распределяются в соответствии
политическим. Вследствие рационалистического космополитизма нашей интеллигенции,
задающей тон в печати и общественном мнении, у нас как-то получилось такое
положение вещей, что русская национальность в силу своей одиозной политической
привилегированности в общественном сознании оказывается под некоторым
моральным бойкотом; всякое обнаружение русского национального самосознания
встречается недоверчивостью и враждебностью, и этот бойкот или самобойкот
русского самосознания в русском обществе отражает его духовную слабость. Вся
ненормальность этого положения, которая достаточно чувствуется из
непосредственного повседневного опыта, ярко обнаруживается при самом даже деликатном
прикосновении к этому вопросу1.
Рост индивидуализма, по-видимому, приносит с собой обострение и
национального чувства, а вместе с тем и его дифференциацию. Рядом с общенародным или
общегосударственным самосознанием развивается местный, племенной патриотизм,
ковер национальностей становится все пестрее и многоцветнее, а борьба их
принимает более сложный, притом не только политический, но и культурный характер.
Во всяком случае, будущим государствоведам предстоит еще много поработать для
удовлетворительного разрешения политической стороны этих вопросов, о чем с
прозорливостью думал еще в прошлом веке наш замечательный политический
мыслитель Драгоманов2.
При всей борьбе и соревновании национальностей в пределах одного
государства это последнее все же является общим их домом, и сознание этой общности
тем выше, чем больше их политическая самодеятельность. Таким образом, из
отдельных проявлений национального патриотизма образуется общегосударственный
патриотизм. Государство или власть содержит в себе самостоятельное мистическое
начало, власть есть как воля к власти и способность к повиновению в человеке.
Эмпирическим государством не вызывается к жизни, а только выявляется это
сверхэмпирическое начало власти как Божьего установления, по определению ап.
Павла22*. Поэтому было бы поверхностно и антиисторично рассматривать
государство как средство, кем-либо изобретенное и созданное для определенной цели по
общественному договору, как это казалось рационалистам XVIII века. Государство
есть в нас и потому только существует вне нас, иначе, без этого предположения
существование власти вообще было бы совершенно непостижимым -чудом3, и госу-
1 Это недавно случилось, напр<имер>, в характерном эпизоде с полемикой о
«национальном лице». Достаточно было П. Б. Струве высказать ту простую мысль, что русские суть
русские и имеют право и обязанность чувствовать себя русскими, так же как евреи чувствуют
себя евреями, чтобы по поводу этого признания элементарного духовного равноправия наций
поднялась газетная буря20*. Между тем именно еврейский вопрос, в котором проблема русского
национального самосознания ставится в чрезвычайно остром, но вместе с тем и
замаскированном виде, требует особенно искреннего обсуждения. От этого обсуждения могли бы выиграть
внутренние взаимные отношения той, по крайней мере части русской и еврейской
интеллигенции, которая ищет правдивого и ничем не замаскированного самоопределения21*.
2 См. Собрание сочинений М. И. Драгоманова (т. I), и вступительный очерк Б. А. Кистя-
ковского, превосходно ориентирующий в идеях Драгоманова.
3 Ср. на эту тему вдумчивый очерк С. Л. Франка «Проблема власти» в сборнике
«Философия и жизнь» (СПб., 1910).
339
дарство было бы всегда побеждаемо анархией или, точнее, из анархии никогда не
родилось бы государства. Но это не мешает, однако, тому, что в иерархии ценностей
государство стоит ниже нации, служит для нее органом или средством.
Хотя и не существует жизни внегосударственной, однако самостоятельное
национальное государство не есть единственно возможная форма существования
нации, как это слишком убедительно показывает история еврейского народа (а в
новейшее время и польского). Но самостоятельное государство представляет собой
огромнейшую национальную ценность, а потому патриотизм распространяется
неизбежно и на государство, на политическое тело народа. Русское государство
дорого мне не как государство, или известная определенная форма организации
правового порядка вообще (мы знаем, как велики его несовершенства в этом
отношении), но как русское государство, в котором моя народность имеет свой
собственный дом. И насколько в нем могут чувствовать себя как дома и другие народности,
стоящие под Российской державой, и насколько они исторически связаны с
русскою народностью, это же чувство разделяется и ими, хотя и в разной степени. Это
чувство не остается платоническим, оно выражается в заботе о государстве, о его
внешней безопасности и мощи, внутреннем благосостоянии. Потому во время
внешней войны с такою силой вспыхивает патриотическое чувство, и отсутствие его
можно объяснить или дефектами гражданственности, или же преобладанием
разных рационалистических настроений над инстинктами. Патриотический же
характер усвояется при нормальных условиях и освободительному движению с
программой внутренних реформ. Со здоровой и крепкой государственностью связано и
народное хозяйство, которое развивается лишь в национально-государственной
организации, хотя и перерастает со временем эту форму. Нельзя не желать своей
стране, чтобы она успешно развивалась экономически (нужно ли это еще особо
доказывать!) и крепла политически, чтобы национально-государственное тело было
здорово и сильно. А это обозначает целую государственно-экономическую программу
здорового национального эгоизма, как это следует прямо и не лукавя сказать. Ибо,
если вдуматься в характер современной политической и экономической борьбы, в
ее историческое развитие, начиная от эпохи меркантилизма" , этого наивного, а
вместе и классического выражения национального эгоизма, и кончая современным
империализмом, то нельзя не видеть здесь напряженной мировой борьбы, в которой
отстающий или слабый неизбежно падает и выбивается из строя. Поэтому
национальный эгоизм, чувство национально-государственного самосохранения (так же как,
если взять более узкую сферу, забота о благосостоянии своей семьи), неизбежно
становится руководящей нормой политики, политической добродетелью. Ибо на нас
лежат и обязанности, и ответственность как перед своими близкими, так и перед
своими потомками.
Но и здесь нас предостерегает конфликт высших и низших норм. Ибо в заботе
о национальном теле, в служении национальному эгоизму слишком легко перейти
границу, и тогда политика становится просто международным разбоем, а сама
побеждающая нация вырождается в хищника. Следовательно, и здесь необходим
корректив, и здесь национальное самоограничение, аскетизм национальности должен
быть всегда настороже. Но и помимо этих конфликтов, сама по себе задача
создания или поддержания государственного могущества и экономической мощи хотя и
бесконечно важна, но не есть все-таки первая. Не ради того, чтобы жиреть и
собирать жир, угрожая бронированным кулаком всякому сопернику, существует
национальность в истории. Если здоровье есть благо и забота о нем необходима, то
нельзя ведь заботу о сохранении здоровья сделать высшей или единственной
нормой поведения. И если подобные цели становятся господствующими, происходит
нравственное, а затем и государственное вырождение. При этом идеальные цели
уходят вдаль, а совсем неидеальные их заслоняют в сознании. Конфликт духа и
«плоти» воспроизводится и здесь в национально-государственном масштабе.
Рядом с национальным и государственным единением людей стоит еще
экономическая их группировка, основанная на «классовых» интересах. Существует рас-
340
пространенное мнение, ставящее выше нации классы. «Пролетарии не имеют
отечества», «пролетарии всех стран, соединяйтесь» — кому не знакомы в наши дни эти
лозунги. Нельзя уменьшать силы классовой солидарности и объединяющего
действия общих экономических интересов и борьбы на этой почве. И, однако, при всем
том национальность сильнее классового чувства, и в действительности, несмотря
на всю пролетарскую идеологию, рабочие все-таки интимнее связаны со своими
предпринимателями—соплеменниками, нежели с чужеземными пролетариями, как
это и сознается в случае международного конфликта. Не говоря уже о том, что и
экономическая жизнь протекает в рамках национального государства (указание
этой связи составляет бессмертную заслугу Фр. Листа24*), но и самые классы
существуют внутри нации, не рассекая ее на части. Последнее если и возможно, то
лишь как случай патологический. Экономические группировки коренятся в
изменчивых внешних условиях жизни, в исторической эмпирии; национальность же ну-
менальна, корни ее заложены глубже данного эмпирического фундамента. Люди не
родятся, но делаются пролетариями или капиталистами; они могут перемещаться
на социальной лестнице, сынами же данного народа люди родятся, но не делаются.
Существует национальная культура, национальное творчество, национальный
язык, но мир не видел еще классовой культуры. Нервы национальной
солидарности проникают через броню классового отъединения. Если это не сознается при
обычных условиях жизни, то лишь по той же самой причине, по которой низкий
пригорок может заслонять на близком расстоянии высокую гору, но она становится
видна, стоит отступить от него на несколько шагов. Класс есть внешнее отношение
людей, которое может породить общую тактику, определять поведение в
соответствии норме классового интереса, но оно не соединяет людей изнутри, как семья или
как народность. Между индивидом и человечеством стоит только нация, и мы
участвуем в общекультурной работе человечества как члены нации1.
III
Национальность проявляется в культурном творчестве. Культуру не следует,
конечно, отождествлять с новейшей образованностью, ибо культурное творчество
изначальнее и древнее ее. Самое могучее орудие культуры, в котором
отпечатлевается душа национальности, есть язык (недаром по-славянски «язык» прямо и
обозначает народ, и не напрасно Фихте в «Речах к немецкому народу» чистоту и
первоначальность языка считает основным признаком национальности). В языке
мы имеем неисчерпаемую сокровищницу возможностей культуры, а вместе с тем и
отражение, и создание души народной. Вот почему, любя свой народ, нельзя не
любить прежде всего свой язык. Вот почему при всем своем скептицизме и
западничестве такой мастер русского языка, как Тургенев столь ясно осознавал, что
«великий русский язык может быть дан лишь великому народу»26*. Столь же
национальна, как язык, на ранних ступенях истории оказывается народная вера, что
отражается и в народном словоупотреблении: христиане или православные как
синоним русских. Внехристианские, натуральные религии зарождаются в темной
глубине религиозного инстинкта исключительно как национальные. Они выражают
собой религиозное самосознание целого народа. Национальный характер религий
есть, конечно, нечто общеизвестное, и, тем не менее, думается нам, эта связь
религии и национальности все еще недостаточно оценивается. Явления религиозного
синкретизма27* и предполагаемой миграции религиозных верований, с таким
увлечением и даже азартом отыскиваемые современной наукой, отнюдь не отрицают
этого факта, скорее даже можно сказать по поводу их, что исключения лишь под-
1 Ср. об этом меткие суждения Н. А. Бердяева в предисловии к его книге «Духовный
кризис интеллигенции» (СПб., 191025*).
341
тверждают общее правило. Кроме того, даже и несомненные, а не предполагаемые
только явления религиозного синкретизма предполагают вовсе не механическое
заимствование заграничной новинки, но некоторую ассимиляцию, процесс
органический, чего не принимают во внимание в достаточной мере современные
историки. С точки зрения этого реалистического понимания нации, которого мы
придерживаемся, эти национальные религии представляют собой ступени естественного
откровения, касания мира божественного, лучи которого преломляются через
призму национальной души и ее своеобразных восприятий. И богословие этих
религий или их мифология является символическим выражением этих своеобразных
переживаний и откровений. Конечно, если видеть в нем только мифологемы или
басни, тогда явления религиозного синкретизма получают очень простое
объяснение: оно сводится почти к констатированию литературных заимствований и
влияний. Если же отказаться от этого совершенно ненаучного и вместе религиозного
понимания природы естественных (или «языческих») религий и видеть в них
прежде всего известный религиозный опыт и систематизацию этих переживаний,
тогда проблема религиозного синкретизма приобретает совершенно иной характер и
на первый план выдвигается самостоятельный вопрос о внутренних условиях этого
усвоения или ассимиляции одной религией элементов другой. Есть одна только
сверхнародная, воистину кафолическая религия - Воплощенного Слова, она и
обращается поэтому ко «всем языкам». Она содержит откровение абсолютной истины
и потому свободна от национальной ограниченности. Однако и она, будучи
сверхнародна по своему содержанию, остается не безнародна по способу усвоения. Она
обращается к личности, к какой бы нации она ни принадлежала, с одной и той же
благой вестью, она создает этим сверхнационального общечеловека. Но человек
этот остается живой конкретной личностью, облеченной в
национально-историческую плоть и кровь. Единое благовестив каждый слышит по-своему в переводе на
язык своей национальной души и отзывается на нее также по-своему. Вселенская
проповедь Евангелия не делает человека абстрактным обезличенным существом;
душа каждого по-своему вибрирует в ответ на зов Воскресшего. Поэтому мы и
наблюдаем в истории, что христианство воспринимается и осуществляется в жизни
тоже национально; у станов ляется — и очень рано — особый национальный характер
поместных церквей, и это различие приводит впоследствии к великому расколу
между восточной и западной церковью. Мы отнюдь не хотим вероисповедных
разногласий (в особенности в таких основных противоречиях, как между церковным
христианством и протестантизмом) сводить всецело к различию национальных
типов, тем более что различные вероисповедания можно, хотя, правда, лишь в виде
исключения, наблюдать в пределах и одного народа (немцы). Но, несомненно, что
они все же находятся в некотором соответствии национальным характерам. Даже в
пределах одного и того же вероисповедания чувствуются эти национальные черты.
Поэтому славянофильское выражение «русский Христос» можно понимать, между
прочим,- и в смысле констатирования того факта, что разные народности, как
реально различные между собою, каждая по-своему воспринимает Христа и
изменяется от этого приятия. В этом смысле можно говорить (вполне серьезно и без тени
всякого кощунства) не только о русском Христе, но и о греческом, об итальянском,
о германском, так же как и о национальных святых. Конечно, непосредственно,
изнутри, по характеру собственного религиозного опыта нам, русским, ближе и
доступнее именно наш русский Христос, Христос преп. Серафима и преп. Сергия,
нежели Христос Бернарда Клервосского или Екатерины Сиенской или даже
Франциска Ассизского. Мы отнюдь не превращаем этим религию в атрибут народности,
скорее, наоборот, народность становится здесь атрибутом религии, точнее, той
индивидуальной формой, в которой воспринимается вселенская истина, ее
приемником. И именно эта способность совершенно особого восприятия божественной
полноты, выделение своего особого луча из божественной плеромы и есть то, что для
религиозного воззрения представляется в природе национальности наиболее цен-
342
ным и важным. «Святая Русь» - это та сторона души русского народа, которой он
воспринимает Христа и Церковь и которая по отношению ко всей народной жизни
есть свет, светящийся во тьме.
Глубоко ошибочно то противопоставление, которое вообще делается нередко
между национальным и общечеловеческим. Общечеловеческое может иметь
двоякий характер.- абстрактно-человеческого, безличного и вненационального или
конкретно-человеческого, индивидуального и национального. В первом смысле
общечеловеческим будет всякое техническое изобретение, пущенное во всеобщий
оборот, научная истина, однажды установленная и сделавшаяся общим достоянием. И
техника жизни, то, что называется внешней культурой, и теоретическая и
прикладная наука одинаково 'принадлежат к этому типу, суть безличное анонимное
достояние единого человечества, многорукого Бриарея28*, в своем коллективном
бытии порождающего и развивающего и эту «технику», и эту «науку». Здесь
национальность проявляется сравнительно слабо, как степень общей одаренности или
специальных способностей, и гораздо большее значение имеет при этом
культурный возраст, ступень исторического развития.· Во втором смысле общечеловеческое
мы получаем при наиболее полном выявлении своей индивидуальности, личной
или национальной: когда Ницше выбрасывает из себя запекшиеся куски крови и
желчи, раскрывает свою истерзанную душу, когда Гете творит такое до последней
степени национальное по языку и по духу произведение, как «Фауст», мы не
сомневаемся, что это — общечеловеческое достояние, которое в то же время могло
родиться только из недр индивидуального и национального духа. Несомненно, что
на языке эсперанто никогда не будет написан ни «Фауст», ни ему подобное
произведение. Замена конкретного абстрактным гомункулом, к счастью, совершается не
так легко, и гомункулизм торжествует преимущественно в области внешней
культуры, техники жизни. Все же культурное творчество, создающее духовные
ценности, конкретно и национально. Это положение может считаться в настоящее время
общепризнанным относительно искусства, мистические корни которого для всех
явно уходят в матернюю землю и прямо питаются ее соками. Гораздо сложнее и
спорнее обстоит дело с той деятельностью человеческого духа, которая
принадлежит обеим областям, т. е. как абстрактно-человеческого, так и
конкретно-человеческого. Мы разумеем философию. Бесспорно, есть отделы или проблемы
философии, которые совершенно отходят в область науки, напр<имер>, логика,
методология, частные проблемы теории познания (однако кроме основной и центральной -
о природе знания и об истине). Здесь имеют значение только различия культурного
возраста, и более молодые нации, естественно, становятся в отношение ученичества
к старшим. В этом смысле следует, конечно, прямо признать (да, насколько мне
известно, никем и никогда не отрицалось), что молодой русской философии
приходится учиться у более зрелой западной и вообще следует приобщиться к движению
мировой философской мысли. Однако исчерпываются ли этим задачи философской
мысли? В ответе на этот вопрос неизбежно скажется то основное различие
философских мировоззрений - реалистического и идеалистического, с. котором мы
говорили вначале. Для идеалистического иллюзионизма («трансцендентализма»)
задача философии исчерпывается логической обработкой предельных понятий опыта
и проблемами теории познания. В этом смысле философия объявляется наукой и,
конечно, она лишена в качестве таковой особых национальных черт29*. Но
философия имеет и иные, творческие задачи, сближающие ее с религией и искусством.
Она стремится к построению целостного мировоззрения, которое имеет в своей
основе своеобразное мироощущение. Она также питается мистическими корнями
бытия, и в ее творчестве неизбежно проявляется и качественно определенная
национальная индивидуальность. Это скажется и в преобладании излюбленных проблем,
и особых способов к ним подхождения, в особом направлении философского
интереса. Пользуясь выражением марксизма, можно сказать, что философия есть
идеология метафизического бытия, которым и определяется философское сознание. Ко-
343
нечно, все значительные произведения национальной философской мысли
неизбежно становятся общечеловеческим достоянием, но это не мешает Платону или
Плотину оставаться настоящими греками, а Канту (или даже Риккерту) типичным
немцем, так же как Джемсу - с ног до головы американцем. При таком
понимании задач философии и ее природы вполне уместно говорить и о русской
философии, хотя бы она была еще и очень молода по сравнению с европейской, и в ее
первых шагах и ранних зачатках любовно отыскивать и внутренне опознавать ее
национальные черты. Это отнюдь не значит, что не существует единой
философской истины. Но она иной природы, чем научная; она не отвлеченна, но
конкретна, и в разных аспектах может быть доступна познанию. Нельзя отрицать
возможности того, что это любовное сосредоточение внимания на своем родном отвратит
или ослабит внимание к работе западной мысли в ту пору, когда еще так
необходима заморская школа, но не менее естественно и другое опасение, что ученики
той школы превратятся в «вечных студентов», не желающих или уже неспособных
духовно возвращаться на родину. Сила западной культуры, очевидное старшинство
ее возраста до такой степени располагают и к внутренней перед ней капитуляции,
что пока приходится бороться скорее с наклонностью к этой последней, нежели с
культурным национализмом. И потому, обращаясь мыслью к старому спору
славянофилов и западников, мы с невольной признательностью вспоминаем, как об
особой заслуге славянофилов перед русской культурой, именно об их подвиге
национальной веры. Нашему поколению следовало бы унаследовать их широкое и
основательное философское образование, но затем, чтобы, вооружившись им, продолжать
их же национально-культурную работу.
До сих пор нашему обществу не удается достигнуть духовного равновесия в
своем национальном самочувствии. По-прежнему оно страждет от
рационалистического космополитизма своей интеллигенции и от воинствующего национализма
правящих сфер и руководящих партий. В вопросах культуры, где пора бы
проникнуться стремлением к национальному самоопределению и самосознанию, мы
пробавляемся космополитическими или западническими настроениями, напротив, в
вопросах государственности и политики, где давно уже пора выходить на путь
свободы и равноправия народностей, мы опять вступили на путь реакционного
национализма (как показывает и законопроект финляндский и вся новейшая польская
политика30*). Между тем путь, который повелительно указывается нам историей,
должен бы вести нас к подъему культурного патриотизма и ослаблению
политического национализма. Русская народность, конечно, останется и должна остаться
державной в русском государстве, но пусть это будет положение первого среди
политически равноправных и свободных народностей, соединенных общей
государственностью, общим домом. Национализмом у нас убивается патриотизм и косвенно
поддерживается космополитизм, а в этом последнем, в свою очередь, находит свою
духовную опору воинствующий национализм. Получается порочный круг.
Однако в этом отношении за последнее время обозначается некоторое
улучшение. В образованном обществе как будто начинает пробуждаться национальное
самосознание. Ему приходится прокладывать себе дорогу среди предубеждений,
воспитанных нашим официальным национализмом и космополитическими или
западническими предрассудками, главною же трудностью при этом остается все-таки
слабость нашей культурной традиции. Но тем больше должны мы дорожить хотя и
слабыми, но своими культурными ростками, ибо только искренно любя родное и
стремясь быть ему верными, можем мы плодотворно работать для создания
национальной культуры и, насколько есть сил, подготовлять постановку высоких задач,
для которых, мы верим, призван наш великий народ31*.
1910
IL ЦЕРКОВЬ И КУЛЬТУРА1
Тому, кто привык вдумчиво относиться к окружающей действительности и
прислушиваться к подлинному голосу жизни, потаенному и интимному ее шепоту,
обычно заглушаемому для рассеянного уха площадным шумом и гамом, едва ли
покажется неожиданным и спорным то утверждение, что в духовном обиходе
современного человечества давно уже что-то неладно, что назревает какой-то кризис,
быть может, предвестие грядущего перелома. Этот кризис подготовлен всей новой
историей. Начиная с конца средневековья, духовная жизнь человечества,
произведшего еще невиданные в истории чудеса техники и вообще материальной культуры,
развившего в небывалой степени научное знание, в особенности точные науки,
обнаружившего невиданный размах социального творчества, изощрившего до
чрезвычайной остроты и тонкости философскую мысль, создавшего могучее искусство в
разных его разветвлениях, — вся эта духовная жизнь развивалась под знаком
светского, внерелигиозного и даже антирелигиозного начала жизни, утверждала
односторонне-человеческий, противобожеский принцип, культивировала заветы
одностороннего или отвлеченного гуманизма. В этом смысле всему так называемому
новому времени должно быть усвоено название, которым окрещена лишь одна из
начальных его эпох: века гуманизма, в чисто натуралистическом, языческом
смысле, в смысле бунта осознавшего свои силы человечества против средневекового
аскетического мировоззрения, ошибочно смешиваемого с истинным, т. е.
универсальным христианством, против средневекового инквизиционного клерикализма,
ошибочно принимаемого за церковь Христову. (Для нашей родины эта эпоха
гуманизма наступает лишь в 19-м веке, особенно во второй его половине, отчасти как
естественное отражение западного гуманизма, отчасти же как неизбежный протест
против филаретовского катехизиса1*, принимаемого за полное и точное
изображение учения христианства, и против полицействующего победоносцевского
клерикализма2*, смешиваемого с истинной церковностью). Человечество порвало с
патриархальной опекой и навсегда оставило давящие, хотя и величественные своды
средневековой готики. Сын берет свое наследство и оставляет дом отца,
отправляясь в «страну далеку»3* пожить на свободе.
И вот свобода испытана, приобретенная опытом духовная зрелость достигнута,
но унесенное из дома наследство уже иссякает, начинается время питания
горькими рожками и духовного голода, в которое невольно вспоминается и покинутый
отчий дом. Современный блудный сын только едва начинает втихомолку, в глубине
души вздыхать о покинутой родине и, может быть, не близко еще время, когда он
1 Из сборника «Вопросы религии». Вып. I. M., 1906.
345
совершит подвиг духовного самоотречения, победит свое напряженное
самоутверждение и скажет: «Отче, согрешил я перед небом и пред Тобою»4*.
Но уже несомненным становится и теперь, что современное человечество
духовно питается не ожидавшимися роскошными яствами, но горькими и тяжелыми
рожками, только обманывающими, а не утоляющими голод. «Уныние народов и
недоумение» - вот пока окончательный итог современной культуры, который
незримо откладывается в интимной жизни, в глубине глубин общечеловечекого
сознания. Отдайте только себе отчет в высших и последних ценностях, которые все
собирается переоценивать самодовольный, хотя и растерявшийся век. Не горькие
ли рожки - импотентность современной философский мысли, ушедшей на
формальную схоластическую работу, или же беспомощная умственная и нравственная
нейрастения ее более требовательных представителей, как Ницше, со скептическим
адогматизмом, возведенным в догмат, с аморализмом, превращенным в систему
морали, или, наконец, развеселый, разухабистый скептицизм Ренана с
эстетически-религиозным гарниром и с бульварным романом вместо Евангелия5*. Также и
современная наука необыкновенно обострила духовное зрение человечества во всем,
что касается внешней коры явлений, но ни на один дюйм не подняла покрова Изи-
ды, закрывающего природу явлений. Теперешняя техника сделала человека
удивительным ремесленником, отточила и утончила его рабочий инструмент, но человек,
живущий в этом ремесленнике, остается по-прежнему с протянутой рукой.
Современное искусство при всем богатстве и роскоши новых форм художественной
техники опускается до мертвого натурализма или самоубийственной тенденциозности;
мистическое по самому своему существу, оно больше всего страдает от религиозной
беспочвенности века. Вся современная культура, разросшаяся в пышное и
могущественное дерево, начинает чахнуть и блекнуть, лишенная глубоких корней
религиозно-мистического питания. Наибольшую горечь пришлось вкусить современному
человечеству во взаимных отношениях. Век гуманизма выставил великие
христианские заветы, старое отцовское наследие - идеалы свободы, равенства и братства,
но выставил их как свое создание и свою собственность, оторвав прекрасный
цветок от родимого ствола. Для воплощения этого идеала он мобилизовал величайшие
социальные силы, сплотив целую международную армию социализма, ведущую
правильную и успешную войну за эти идеалы. Создаются новые, все более
совершенные формы общения и внешнего объединения людей, стены здания социализма
возводятся на крыше, и не особенно далеко то время, когда принципиальная
победа социализма станет (и уже становится) совершившимся фактом и когда
капиталистический мир рухнет, уступив место социалистическому. Но вот роковой и
страшный вопрос, который ставится уже в человеческом сознании: не окажутся ли
плоды и этой победы лишь горькими рожками, создаст ли внешняя победа
социализма действительно человеческую солидарность?
Становятся ли люди ближе между собою, установляется ли между ними не
только равенство, но и братство, больше ли стало любви на земле, теснее ли
соединяются внутренней связью люди, принадлежащие даже к одному союзу, к одной
партии и ставящие себе задачей облагодетельствование человечества посредством
внешних реформ? Мы думаем, что искренний и добросовестный ответ на этот
вопрос не может быть положительным. Не сближение хотя бы внешне и
объединяемых людей характеризует нашу эпоху, но отъединение и уединение, какая-то
стеклянная, прозрачная, но ощутимая стена разделяет человеческие сердца. Не
солидарность, а духовное одиночество, не братство, а убийственный, безысходный
индивидуализм, и не равенство, основанное на внутреннем смирении отдельных лиц,
но самомнение и жажда власти (Wille zur Macht!6*) - таково истинное духовное
состояние человечества.
Прочтите гениальный рассказ одного из самых тонких психологов нового
времени Мопассана под заглавием «Solitude» (Одиночество) - вот исповедь современ-
346
ной души7*. И когда уединившиеся (по выражению Достоевского) люди8*, весьма
способные к святой (а рядом и не святой) ненависти, но утратившие представление
о том, что такое святая любовь, говорят о будущем «рае на земле», который
наступит сам собою после уничтожения капитализма, то не знаешь, чему больше надо
удивляться, их наивности или духовной слепоте. Должна произойти величайшая
духовная революция, люди должны восстановить утраченный секрет объединения
не только внешнего, механического, но и внутреннего, мистического, не только в
общей ненависти или интересе, но и в общей любви, чтобы действительно мог
воцариться мир на земле и благоволение в людях. Иначе же при всем стремлении к
соединению люди будут только ударяться друг об друга головами (по выражению
того же Мопассана)9*, достигнут благоустроенного муравейника, в котором за
отсутствием социальной борьбы будет царить еще большая пустота и растерянность
(рядом с самодовольным мещанством), но не будет побеждено уныние и
теперешний демонический или же нейрастенический индивидуализм. Внешнее
объединение в определенных целях сравнительно легко установляется принудительной или
даже добровольной дисциплиной, своего рода социалистической муштрой, но она
нисколько не устраняет ужасов одиночества и разъединения и в царстве
социализма и экономического коллективизма. Действительное объединение людей может
быть только мистическим, религиозным, и, насколько стремятся достигнуть этого
вне религии, это есть совершенно недостижимая цель. Нельзя отрицать полезности
и значения благородных усилий современных гуманистов уничтожить все внешние
причины зла и вражды, но они глубоко заблуждаются, если думают, что
устранением внешних препятствий положительным образом разрешается вопрос о свободе
и равенстве. Экономический союз, социалистическое государство, может устранить
внешние перегородки, существующие между людьми и грубо нарушающие
справедливость, но он лишен творческой силы объединения, какую имеет только
религиозно-мистический союз веры и любви, утверждающийся на реальном
мистическом единстве, т. е. Церковь. Только Церковь может ставить себе и способна
разрешать задачу, за которую берется социализм, задачу объединения и организации
человечества на основе благодатных даров, данных Спасителем, на основе любви к
Нему, одновременно и личной и общей1. Те же, которые заранее отрицают religio11*,
т. е. единственно реальную внутреннюю связь между людьми, устанавливаемую
общею их связью со Христом, строят свое здание на песке, не понимая
действительной природы человеческого общения.
Всемирно-историческое удаление блудного сына из дома отца, эпоха гуманизма,
в течение которой человечество испытывает свои силы и делает отчаянную
попытку устроиться и прожить без Бога, имеет свой смысл и свою необходимость. В
устроении Царствия Божия, которое есть процесс богочеловеческий и основывается на
самодеятельном усвоении человечеством божественного содержания жизни,
необходимо свободное развитие чисто человеческой стихии, проба сил на стороне;
поэтому гуманистический, внерелигиозный, даже антирелигиозный период
исторического творчества необходим для богочеловеческого дела. Представляя собой явную
односторонность и обнаруживая окончательное свое бессилие, он в то же время
осуществляет собой диалектический момент развития, религиозный антитезис,
ведущий к высшему синтезу12*.
Но не все человечество ушло из отчего дома, там оставался старший брат,
который все время был при отце и с таким ревнивым недоброжелательством встретил
возвратившегося брата. Что было с ним, что было с церковью в этот внецерковный
И даже антицерковный гуманистический век? Нельзя отрицать, что она приняла за
это время некоторые черты духовного облика старшего брата, как он изображен в
1 Недаром в этом смысле Ф. М. Достоевский называл Православную Церковь нашим
русским социализмом10*.
347
евангельском рассказе13 . При верности и строгости своего служения она вместе с
тем усвоила высокомерно-недоброжелательное и фарисейски-мертвенное отношение
к младшему брату, который хотя и «согрешил пред небом и пред отцом» во время
своих странствий, но сохранил открытую живую душу.
Помирятся ли внутренне и поймут ли друг друга оба брата? Вот великий и
роковой вопрос, который становится теперь историей.
Раскол жизни на «светскую» и церковную - внецерковность и внерелигиозность
(отчасти же и антицерковность и антирелигиозность) современной культуры и вне-
культуность (отчасти же и антикультурность) современной церкви вносят разлад и
двойную бухгалтерию даже в души тех, кто сознает всю историческую
относительность и внутреннюю ненормальность этого раздвоения. Создать подлинно
христианскую церковную культуру и возбудить жизнь в церковной ограде, победить
противоположность церковного и светского - такова историческая задача для
духовного творчества современной церкви и современного человечества.
Высказанная мысль, вероятно, оскорбит многих церковных людей старого
закала. Церковь мыслится ими как совершенная полнота благодатных даров,
которую нужно только хранить согласно преданию, и поэтому речь о новом творчестве,
по мнению их, будет неуместна. Такому воззрению на церковь, согласно которому
ей приписываются лишь функции охранительные, консерватизм предания, мы
противопоставляем идеал церкви творящей, растущей, развивающейся. Как
учреждение богочеловеческое, она имеет неподвижную мистическую основу в лице своего
Божественного Главы и, конечно, церковно-догматического учения о Нем и
человеческую стихию, развивающуюся исторически в границах пространства и
времени. Взаимодействием мистической основы и человеческой стихии и
обусловливается исторический прогресс церкви, призванной ввести историческое человечество в
сферу Царствия Божия. Поэтому было бы также ошибочным ограничивать и
область влияния церкви, а следовательно, и церковной жизни, или, точнее, жизни в
церкви, какой-нибудь одной узкой сферой, напр<имер>, богослужения или
храмового благочестия. Благодаря этому неправомерному сужению понятия церкви в
привычном словоупотреблении она обычно понимается лишь как церковь-храм, но не
как церковь-человечество, церковь-культура, церковь-общественность, и это сужение
сферы влияния и жизни церкви и является главной причиной, а вместе и
симптомом ее исторической слабости в данный момент. По идее религия, а следовательно,
и церковь как область религиозной жизни должна быть всем, распространяясь на
все области жизни верующих. Не должно быть ничего, принципиально «светского»,
не должно быть никакой нейтральной зоны, которая была бы религиозно
индифферентна, не имела бы тоге или иного религиозного коэффициента. Духовная
деятельность исторического человечества, т. е. культура, овеществляющаяся и во
внешних материальных объектах и в продуктах духовного творчества, должна
вырастать также на духовной почве церкви, в церковной ограде, ею должны
святиться, находясь в интимном общении с ней, все стороны жизни. До известной степени
осуществлялось это требование в средние века, но ценою духовного деспотизма,
пора которого навсегда миновала. За свое отрицание прав свободного творчества
средневековая церковь поплатилась, с одной стороны, гуманистическим
отторжением от нее наиболее деятельной ее части, а с другой — своим собственным
оскудением14*. Следствием угашения духа и враждебного противопоставления стихий
светской и церковной и явилось вырождение, извращение церковной жизни и
деятельности и за пределами храма. Церковная организация стала не творческой, но
консервативной и даже реакционной силой истории, оказавшись в естественном и
прискорбном союзе с темными историческими силами, при этом унижаясь до роли,
совершенно уже не соответствующей ее достоинству15*. Но если церковная
организация не должна остаться навсегда крепостью обскурантизма и реакции и быть
приютом лишь для усталых и отсталых, не для работников и мужей, то необходи-
348
мо должна начаться, рядом с общей молитвой, и общая, соборная жизнь в церкви,
жизнь, полная духовных даров, в том размахе и диапазоне, от которого не может и
не должен отказаться современный человек, даже если б этого хотел, а
следовательно, должно начаться и культурное творчество. Церковная ограда должна
вместить в себе не один только дом для инвалидов и богадельню, для которых в ней
находилось место до сих пор, но и рабочую мастерскую, и ученый кабинет, и
художественную студию. Должна вновь возродиться церковная жизнь, но не на
основе инквизиционного режима, а на основе свободного общения и соборного
творчества, так чтобы для участия в творчестве культуры не нужно было удаляться в
«страну далеку», за пределы соборной жизни и церковного общения16*.
Итак, христианская культура, церковное творчество, направленное ad extra17*,
такова всемирно-историческая задача, которая ставится нашему веку. Не наше
дело спрашивать, в какой мере осуществима эта задача - это решит за нас Вышняя
воля, мы только должны определить, действительно ли она существует, и, если да,
должны посильно работать для ее разрешения.
Трудно себе представить, насколько изменилась бы вся наша жизнь, какими
радужными красками расцветилась бы она, как стала бы легка и благостна, если
бы вспыхнуло подлинное пламя христианского творчества и вдохновения, если бы
в церкви восстановилась та полнота жизни, которой жаждет современный человек.
Ожила бы внутренне наука, которая перестала бы томить мертвой и безыдейной
специальностью, оторванной от целого, или же муками Фауста, следствием пустого
и нелепого притязания поставить часть вместо целого, заменить одной наукой и
философию, и религию. Сколько праздных вопросов, навязанных ей этой
несвойственной функцией и связанных с ними праздных теорий, отвлекающих так много
умственных сил, отпало бы вследствие этого освобождения науки из тисков
позитивизма и материализма, вследствие восстановления связи с религиозными
корнями. И философия, оплодотворившись религией, получила бы силы выйти из
трясины импотентного скептицизма и бесплодности, в которой она теперь находится.
Одно из двух: или европейская философия совершила уже свой цикл развития и
сказала последнее слово (как думал в последние годы жизни Вл. Соловьев18*), или же
возрождение ее может совершиться только на почве нового религиозно-мистического
углубления. Лишь при этом условии может быть снова испытана радость
метафизического творчества, дело великих мыслителей найдет себе новых продолжателей,
и творческий разум, Логос, победит «отвлеченные начала» современной философии
и произнесет над ними суд19*.
Еще большую важность должно иметь христианское искусство. Ведь, может-
быть, именно в направлении искусства и лежат новые откровения, ибо неложно
90*
слово, что «красота спасет мир»'5" , что «совершенное искусство в своей
окончательной задаче должно воплотить абсолютный идеал не в одном воображении, но и
в самом деле, — должно одухотворить, пресуществить нашу действительную
жизнь»1. Но, конечно, эта задача не только не по силам, но просто даже не
вмещается в сознание теперешнего искусства, в котором господствует бескрылый
натурализм, утилитарная тенденциозность или же бессильный эстетизм. Новые сферы
действия и новые задачи искусства под силу только новому, религиозному
искусству, мистерии будущего. Если бы создалась, наконец, эта христианская,
церковная общественность, то и социализм потерял бы свой мертвенный, классовый
характер, какой он имеет теперь, приуроченный к узкой классовой основе; он стал
бы живым воплощением вселенской евангельской любви и перестал бы
соединяться с духовным опустошением, которое узостью своей проповеди он вносит в сердца
1 В. С. Соловьев. Общий смысл искусства. Собр. соч. Т. VI. «Если скажут, - добавляет
он, - что эта задача выходит за пределы искусства, то спрашивается, кто установил эти
пределы?»21* Ср. предыдущий очерк о Η. Φ. Федорове.
349
своих адептов теперь. Вся вообще политическая и социальная жизнь потеряла бы
тот нудный, прозаический оттенок, какую-то бескрылость, которая чувствуется
особенно на Западе, и получила бы вдохновенный и пророческий характер. И вся
культура, освещенная внутренним светом, оказалась бы светопроницаема, полна
света и жизни. Задача эта превышает не только силы, но и разумение одного
поколения, это идеал, а не практическая программа. Но этот идеал дает вполне
определенные указания, создает соответственные настроения и чувства и заставляет
бороться с настроениями, чувствами, мнениями, ему противоречащами.
Противоречит же ему тот дух отрешенности, который просто утвердился в современном
церковном сознании и который питается самодовольным, но безосновательным
мнением, что в «культуре» всецело царит темное, сатанинское начало. Между тем там
ключом бьет жизнь, которой не нашлось места в церковной ограде, накопляется
всемирно-исторический и общечеловеческий опыт, который необходим и для
церковного сознания; ведь даже и со строго догматической точки зрения допустимо
так называемое «естественное» откровение, и кто же поставит ему границы и
пределы, кто скажет, что нет ему места в теперешней «светской» культуре22*. Поэтому
нужно любовно, без кичливости, но с христианским смирением открыть свое
сердце «светскому» миру и, может быть, тогда и старший брат вместе с Отцом дождется
радостного дня, когда увидит, что блудный сын был мертв и ожил, пропадал и
нашелся23". И с той, и с другой стороны должна быть признана обоюдная вина и
принесена духовная жертва, и тогда, естественно, возникнет взаимное притяжение
и воссоздастся живая, творящая, взыскующая грядущего града, воистину
воинствующая церковь. «Се стою у дверей и стучу...»24*.
Расширение церковного самосознания необходимо и для завершения всемирно-
исторической трагедии, для окончательного выявления сил добра и зла и грани, их
разделяющей. Пока существует обширная религиозно-нейтральная зона «светской»
культуры, последнее решительное столкновение добра и зла не созрело для
последней жатвы, ибо не может быть осознано во всей своей широте и непримиримости.
«Ничто в мироздании не должно остаться двусмысленным» (Шеллинг). Лишь при
внесении света в неосвещенные доселе области обнаружатся светопроницаемые
точки. Пока облаченная в солнце жена скрывается в пустыне, не раскрыта еще вся
противоположность между невестой Христовой, в брачном убранстве ждущей
Жениха, и женой, сидящей на одре багряном, облеченной, в порфиру и багряницу, с
именем на челе: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным
(Апок. 17, 5).
Пусть же загорится скорее этот пламень религиозного вдохновения, который
озарит собой мир и культуру, и тогда поднимется человечество на высшую,
последнюю ступень всемирно-исторического и религиозного сознания. Ей, гряди,
Господи Иисусе!25*
1906
ПРИЛОЖЕНИЯ
I
Монахиня ЕЛЕНА
ПРОФЕССОР ПРОТОИЕРЕЙ СЕРГИЙ БУЛГАКОВ
(1871-1944)
1. Детство. Истоки формирования личности и духовного призвания
Детство - это неповторимый, ни с чем не сравнимый период человеческой
жизни, когда чистая душа доверчиво открыта благодатным воздействиям Духовного
Мира и непосредственно воспринимает красоту и любовь. Впечатления и
переживания детства часто предопределяют будущее направление и содержание
человеческой жизни. Это особенно типично для глубоких и незаурядных натур.
Протоиерей Сергий Николаевич Булгаков родился 16 июня (ст. ст.) 1871 г. в
древнем историческом городке Ливны1* Орловской губернии, расположенном на
высоком берегу реки Сосны. Его отец - протоиерей Николай Васильевич Булгаков -
был кладбищенским священником в Ливнах и принадлежал к исконному
священническому роду. Отец Сергий унаследовал «левитскую» кровь шести поколений,
восходящих примерно к эпохе Иоанна Грозного.
Отец Николай был смиренным и скромным священником, прослужившим 47
лет в своей кладбищенской бесприходной церкви с каждодневным служением, на
панихидные гроши вскормившим н воспитавшим всю семью (семь человек детей,
из которых осталось в живых только двое). В молодости он учился в семинарии.
Главным достоинством отца Николая была его добросовестность и ответственная
точность во всех делах.
Мать отца Сергия - Александра Косминична Азбукина — любила читать,
особенно стихи, но по причине недостаточной образованности круг ее знаний был
ограничен. В основном ее силы и время были посвящены семье.
Родители отца Сергия были проникнуты церковной верой с простотой и
наивной цельностью, которая не допускала никакого вопроса и сомнен*ия, а вместе с
тем никакой вольности и послаблений. Типикон был домашним уставом в постах и
праздниках, богослужениях и молитве. Дети любили храм и благолепную красоту
богослужений.
Отец Сергий унаследовал от матери поэтичность и окрыленность души, но у
него духовный полет был неизмеримо высшего порядка и граничил, можно сказать, с
вдохновенным пророческим духом.
Соединение в его натуре контрастных свойств характера, наследственных по
отцовской и материнской линиям, проявлялось в видимой внешней замкнутости и
12 Зах. 487
353
даже суровости отца Сергия, вызванной, по существу, лишь врожденной
застенчивостью, под которой скрывались искренняя теплота и чуткость сердца. Эта
деликатная застенчивость явилась впоследствии причиной того, что отец Сергий,
принявший священство исключительно ради служения, то есть по преимуществу
совершения литургии, был лишен своего собственного храма на протяжении всего
своего пастырского служения. Он всегда сослужил архиереям или настоятелям,
иногда имел лишь случайные службы, но во всяком случае не в великие
праздники. Он никогда «не знал церковной заботы со стороны епископов» относительно его
постоянного места служения. И это положение было для него «самым тяжелым
крестом и скорбью на путях священства»1.
С другой стороны, благодаря природному сочетанию ответственности, окрылен-
ности и благодатных озарений отец Сергий никогда не шел ни на какие
компромиссы в своем богословствовании и проповеди, в которых он с одинаковой силой
проявлял свободу духа и благоговение перед Богом, смирение и дерзновение. В
этой области он был поистине неутомимым борцом и глашатаем, призывающим
Церковь не оставлять «первой любви своей» и «творить прежние дела», чтобы «не
сдвинул господь светильника ее» (Откр. 2, 4—5). Все богословие отца Сергия есть
пламенный призыв к преодолению теплохладности, рутины и духовного рабства,
призыв к возрождению в Церкви и в жизни огненного духа и мужества первохри-
стианского, высоких традиций мудрости и свободы патристической эпохи, призыв
к глубокому пониманию смысла истории и культуры, которые должны активно
соучаствовать в приуготовлении и встрече грядущего Царства Христа.
Поэтому так близок был отцу Сергию святой Иоанн Богослов — апостол любви и
«сын громов». Всей своей жизнью, богословским творчеством и церковным
служением отец Сергий осуществлял слова апостола Павла: «Духа не угашайте» (1 Фес. 5,
19). И этот огонь, и свет, и любовь были зажжены еще в детской душе Сергия в Ли-
венской церкви и сокровенно жили в нем на протяжении всей его жизни.
Отец Сергий развился и вырос под кровом Сергиевского храма, который он
полюбил всем сердцем, вдохновляясь его красотой, и это навсегда определило его
природу. Этот храм сохранился еще с давних времен татарских нашествий, когда в
Ливнах была крепость. Он представлял собой остаток старинного монастыря и был
построен в древнем стиле наподобие удлиненной базилики. «Сергиевская церковь
была прекрасна, - вспоминает отец Сергий, - тихой и смиренной красотой...
вокруг колокольни — с разными звонами, ближними и дальними. Это была
благородная музыка, которою освящался воздух и неприметно питалась душа»2. Эта
церковь была для отца Сергия «родиной его родины, ее святыней». Здесь неприметно
для него самого зародилось в нем духовное призвание. С раннего детства
благочестивый, он впитывал духовное благоухание церковных богослужений, особенно
литургии, прикасался в моменты благодатных озарений к мистическому опыту
Церкви. И эти неизреченные переживания хранились в сокровенных глубинах его души,
лишь временно приглушаясь в юношеский период его жизни, чтобы с новой силой
властно зазвучать впоследствии и заставить его навсегда вернуться в лоно Церкви.
В его памяти сохранился светлый образ отца, совершавшего с детским восторгом
таинство Евхаристии в Пасхальную ночь, запечатлелось в сердце пение двух ливен-
ских «столпов церковной эстетики» - прекрасного благородного баса и музыкального
задушевного тенора. Его детская «душа уходила тогда в небеса, горела и трепетала в
Божественном сиянии; Премудрость Божия смотрела в душу во Славе Своей»3.
А много, много лет спустя сам отец Сергий оставлял неизгладимый след в
душах молящихся в храме Сергиевского подворья в Париже, когда служил утреню и
1 Булгаков С, прот. Автобиографические заметки. Париж, 1946. С. 53-54.
2 Там же. С. 10.
3 Там же. С. 13.
354
литургию в Пасхальную ночь, сияющий, вдохновенный, устремленный всем
существом к Воскресшему Христу.
Вспоминая рождественские и крещенские службы в Ливнах, холодную церковь,
мороз и звезды, отец Сергий пишет: «Словно хоровод небесных светил зажжены
были в душе эти звезды, и они не могли погаснуть... но всегда они звали к Небу»1.
Так неистребимо входили в душу Сергия вдохновенные религиозные
переживания детства, определившие навсегда его священническое призвание.
Детство отца Сергия отмечено и рядом других впечатлений и чувств, которые
ярко отразились в его богословском творчестве. В Сергиевском храме в праздник
Успения Божией Матери благочестивый мальчик вдыхал благоухание от гроба
Пречистой вместе с ароматом возложенных на него цветов. Он «любил и чтил
больше всего в жизни некричащую, благородную скромность и правду, высшую красоту
и благородство целомудрия»2. И эта чистота, впитанная глубинами детской души,
позволила отцу Сергию впоследствии создать замечательные по своей духовной и
художественной красоте образы Пречистой Девы Марии и святого Иоанна
Предтечи, раскрыть во всей полноте и силе подвиги их смирения и целомудрия: «Купина
Неопалимая»3 и «Друг Жениха»4.
«Ничего у нас не было в детстве из области культуры, - вспоминает отец
Сергий, - ни музыки, ни другого искусства, которого так жаждала душа. Но она была
полна, потому что все дано было в церкви, истина через красоту и красота в
истине»5.
«Вместе с церковью я воспринял в душу и народ русский... как свое
собственное существо, — пишет отец Сергий. — Родина — святыня для всякого... она всегда
дорога и прекрасна. И моя родина есть прекрасный дар Божий, благословение и
напутствие на всю жизнь... Поистине родину можно - и должно - любить вечною
любовью. Это не только страна, где мы впервые вкусили сладость бытия; это -
гораздо большее и высшее; это страна, где нам открылось небо, где нам виделось
видение лествицы Иаковлей, соединяющей небо и землю»6.
И это видение стало первоисточником, из которого зародился впоследствии
одухотворенный труд отца Сергия, посвященный Ангельскому миру, под заглавием
«Лествица Иаковля»7.
«Образ существования человека дается в его рождении и родине... — утверждает
отец Сергий. — Нужно особое проникновение и, может быть, наиболее трудное и
глубокое, чтобы познать самого себя в своей природной индивидуальности, уметь
полюбить свое, род и родину, постигнуть в ней самого себя, узнать в ней свой
образ Божий»8. И отцу Сергию дано было осуществлять это на протяжении всего
подвига его жизни.
Укорененность отца Сергия с самого детства в русской действительности, в
стихии Православия и русской жизни создали ту «почвенность», которая всегда
характеризовала личность, жизнь, пастырское служение и творчество отца Сергия.
«Здесь я определился как русский сын своего народа и матери русской земли,
которую научился чувствовать и любить на этой горке преп. Сергия»9.
Мальчик Сергий жил в благодатной атмосфере дома, как будто продолжавшего
собою храм; он с детства почувствовал неразрывную связь между религиозным
1 Там же. С. 16-17.
2 Там же. С. 8.
3 Париж, 1927.
4 Париж, 1927.
5 Автобиографические заметки. С. 15.
6 Там же. С. 8, 14, 23.
7 Париж, 1929.
8 Автобиографические заметки. С. 7.
9 Там же. С. 15.
12*
исповеданием и его осуществлением в личной и общественной жизни. Вдохновение
на этом пути он черпал в действиях отца, деда и в подвигах людей первохристиан-
ской эпохи, которая навсегда осталась в центре его внимания и любви. И это
наложило неизгладимый отпечаток на весь внутренний облик отца Сергия —
мужественный и стойкий, дерзновенный в вере, детски доверчивый по отношению к Богу,
всегда смиренно и добровольно приемлющий Его святую волю, безгранично
любящий и преданный Христу, пламенный, с духовно-орлиным полетом, возносящим
его к созерцанию и постижению тайн Божественной жизни.
Вместе с идеалами первохристианства отец Сергий с ранних лет впитал и
образы православной святости, прежде всего преподобного Сергия Радонежского в его
простоте и смирении, соединенных с горением и дерзновением. Именно эти черты
унаследовал отец Сергий от своего духовного покровителя. Горение, смирение и
дерзновение духа неизменно сопутствовали ему на протяжении всего творческого
пути и пастырского служения. Невозможно забыть его вдохновенные проповеди в
храме и доклады на различных конференциях, его лекции на апологетических
курсах, беседы на религиозных семинарах и те мгновения, когда явно ощущалась
нисходящая на него Божественная благодать. Речь отца Сергия лилась тогда
огненно, вдохновенно, с невыразимой поэзией и духовной силой, раскрывая глубины
и богатства Божественного Мира; в такие минуты менялся даже тембр его голоса,
приобретавшего звучание неземной красоты.
Наряду со смирением и горением великого угодника Божия аввы Сергия
мальчик возлюбил и святость его общественного подвига, осознал его духовную
мудрость в созидании русского национального единства. От него Сергий научился
«народолюбию»; подвиги преподобного пробудили в нем первые переживания
«социального покаяния». «Себя мы чувствовали все-таки привилегированными, как
бы ни было в действительности скромно наше существование, — вспоминает отец
Сергий свое детство, - и это сознание вносило острое чувство стыда и социального
покаяния, хотя и бессильного... Народничество Сергия зародилось именно здесь»1.
И поэтому неудивительно, что в юношеские годы в поисках нравственных и
общественных идеалов Сергей Николаевич посвятил свои силы социальной проблематике.
Благодаря сочетанию мистических озарений, накопленных еще с детства, с
интеллектуальной силой отец Сергий умел разграничить и сочетать в своем
творчестве, с одной стороны, Божественные тайны, непостижимые для тварного
человеческого сознания, которые он благоговейно относил к апофатическому богословию, и,
с другой стороны - проблемы, доступные человеческому постижению, то есть
принадлежащие к области катафатического богословия, которые, с его точки зрения,
подлежат свободному интерпретированию в Церкви, но обязательно в полной
согласованности со словом Божиим, Священным Преданием и учением Церкви.
Для мальчика Сергия вся любимая им церковная жизнь была обрамлена
жизнью природы. Благодаря этому он воспринял навеки свод небесный, распростертый
над землей, и навсегда запала в душу тема - Небо и земля, Бог и мир,
развившаяся впоследствии в целую богословскую систему «Богочеловечество», в основу
которой была положена идея Премудрости Божией.
Воспоминания, связанные с детским узрением Софии, Премудрости Божией,
лучше всего выразить словами самого отца Сергия: «Природа в Ливнах являлась
царственно, тихо и прекрасно и приносила поэзию душе, будила в ней ее грезы.
Как царица София, она являлась мне, вдохновляя и не объясняя, лаская и не
устрашая, сокровенная в своей Красоте и прекрасная Ею. И детская душа навсегда
услышала, узнала, возлюбила и отдалась этому видению. И все эти детские
радостные грезы были осенены небесной музыкой церковного звона. Наши Ливны были
для меня Китежем»2.
1 Там же. С. 14-15.
2 Там же. С. 11.
356
В Сергиевской церкви душа маленького Сергия дышала красотой. Эта церковь
несла в себе следы старинного стиля: «голубая с белыми колоннами, древняя ее
часть была трогательная своей интимностью и прелестью; она и была -
Сергиевская, и к ней была пристроена главная часть, с престолом Успения... Я не знал и
не понимал тогда, — вспоминает отец Сергий, — что это был столь же Софийный
храм, как и Успенский собор' в Лавре; я не знал тогда, что я получил имя, был
крещен и духовно рожден в Софийном храме, причтен к лику служителя Софии,
Премудрости Божией... Я не знал, что все мои вдохновения, которым в будущем
суждено было развиться в целую богословскую систему, в корне своем были
всеяны в душу Промыслом Божиим в этом умильном храме. Только теперь, в
старости, я постигаю этот дар Божий»1. «Здесь я принял в сердце откровение Софии,
здесь в мою душу была вложена та жемчужина, которую искал я в течение всей
своей жизни, искал умом и сердцем, больше умом, чем сердцем, и когда обрел, то
узнал ее как сокровище, данное мне, как дар Божий в духовном моем рождении»2.
Эти воспоминания отца Сергия показывают, как незримо подготавливалась в
нем с детства почва для богословия, неразрывно связанного с идеей Софии.
Таким образом, тема Софии не была философским или богословским
вымыслом отца Сергия. Она была воспринята им как данность от Бога и как заданность
перед Ним, которую он со всей ответственностью, усердием, смирением и
дерзновением осуществлял на протяжении всей своей жизни.
Но это осуществление требовало от него непрерывного трудного подвига
духовной борьбы, так как его учение о Софии подвергалось и до сих пор подвергается
острой критике. И эта неизбежность борьбы ложилась непосильной тяжестью на
душу отца Сергия, который — по наследственности от отца — был к ней не
приспособлен и не расположен. По поводу такой вынужденной, но необходимой
богословской самозащиты он писал: «Я всегда чувствую это как тяжелую, на меня извне
как бы наложенную необходимость, связанность, бремя. Мне труден мой удел»3.
Совершенно особое место в детстве отца Сергия занимали переживания,
связанные с откровением смерти. «Смерть была наша воспитательница в этом доме;
как много было в нем смерти...»4. Прежде всех умер от паралича дедушка Сергия с
материнской стороны — Косма Сергеевич Азбукин, чистый и благообразный старец,
с ясным любящим сердцем и каким-то прирожденным духовным достоинством. Он
был педагогом, хотя и светским, но до дна церковным. В своей жизни был
безупречен и строг. Оставшись один, он посвятил себя всецело воспитанию дочери
Саши - матери отца Сергия. Внуков он любил безгранично, но Сергия меньше, чем
старшего его брата, из-за его видимой суровости (которая на самом деле была
застенчивостью). Он был как патриарх. С его кончиной смерть впервые вошла в
детское сознание будущего богослова.
Умерли два любимых брата - Миша и Коля - и другие родные и близкие.
Смерть младшего Миши, робкого и кроткого ребенка, погибшего от чахотки, была
«святой и прекрасной». «Как ангел он был послан отряхнуть сокровище своей
смерти в мою душу пред тем, как уйти из мира... - пишет отец Сергий. - Но
самая тяжелая рана была смерть Коли, прелестного, умного, одаренного мальчика в
пятилетнем возрасте, общего любимца. Никогда не могу забыть этой кончины...»5.
Воспоминания о похоронах усопших овеяны духовным светом в душе отца
Сергия: «Хорошо в Ливнах хоронили... И прежде всего никакого страха перед
смертью... Особое вдохновение смерти входило в нем... Софийно хоронили: печать
вечности, торжество жизни, единение с природой: земля еси и в землю отыдеши...»6.
1 Там же. С. 12.
2 Там же. С. 13.
3Там же. С. 19.
л Там же. С. 20.
5 Там же. С. 20-21.
6 Там же. С. 18.
357
Эти переживания смерти в период детства вошли в самые глубины души
одухотворенного мальчика и позволили отцу Сергию впоследствии с глубокой
искренностью назвать смерть не уничтожением жизни, а сокровенным «актом жизни».
«Смерть, как момент в диалектике жизни, должна быть понята в свете грядущего
воскресения, восстанавливающего прерванную жизнь, и в связи с тем не
умирающим началом в человеке, которое живет и в загробном состоянии»1. Неудивительно
поэтому, что проблеме смерти посвятил отец Сергий ряд своих вдохновенных
произведений: «Проблема условного бессмертия»2, «Софиология смерти»3 и другие.
Переживания и постижения смерти вместе с безграничной любовью к
Спасителю, захватившие душу отца Сергия с раннего детства, стали источником его
обращенности к Грядущему Христу, его «эсхатологичности», которые нашли свое
окончательное воплощение в глубоко разработанных им проблемах апокалиптики,
грядущего «тысячелетнего Царства Христа» на земле, Парусин и эсхатологии с ее
всеобщим воскресением и преображением мира в жизни будущего века, когда «будет
Бог все и во всем» (1 Кор. 15, 28): «Невеста Агнца», «Апокалипсис Иоанна»4 и т. п.
Так сложилось детство отца Сергия, заронившее не одну жемчужину в его
чистую и благородную душу, жаждавшую целомудренной Любви, Истины и Красоты.
2. Отрочество. Юношеские искания. Утрата веры
Воспитанный в благочестивых традициях пастырской семьи, одаренный отрок
Сергий поступает в возрасте 10 лет в Ливенское четырехклассное духовное
училище, а в 1884 г. - в Орловскую духовную семинарию. Здесь его ожидал
религиозный кризис, положивший начало его трагической судьбе в течение многих лет.
Рано развившийся духовный и интеллектуальный критицизм его не
удовлетворяется семинарской апологетикой. Встающие в процессе обучения религиозные
вопрошания не находят убедительных ответов. Интеллектуальный примитивизм и
формальная религиозность раздражают, становятся невыносимыми для
правдолюбивого мальчика, обладающего горячим сердцем и живым умом. Поэзия детских
религиозных переживаний вытесняется прозой семинарской жизни. Отрок Сергий
духовно томится, видя несоответствие между окружающим его образом
религиозной жизни и его личными и культурными запросами и идеалами. Свободолюбивый
и искренний, он не может и не хочет мириться с «обывательством и духовным
порабощением, которые изнутри проникали поры церковности, его окружавшей»5. В
его душе растет потребность борьбы с религиозным формализмом семинарской
жизни, с принудительным обрядовым благочестием. Продолжительные церковные
службы уже не вызывают в его душе мистических переживаний, они утомляют,
будят внутреннее противление и постепенно уводят от веры.
Вместе с тем возвышает свой голос и юная гордость, которая не хочет
«разделить общий образ бытия, не хочет стать как все»6. Внутренний разлад все
углубляется и переходит в религиозный кризис. Духовно цельный и мужественный, не
мирящийся с компромиссами совести, 17-летний Сергий приходит к
бесповоротному решению «бежать из семинарии, не откладывая и без оглядки»7, бежать в
светскую сначала среднюю, а потом и высшую школу, где он сможет идейно служить
людям, приобщаться к высотам человеческой культуры. Юный Сергий еще не в
1 Невеста Агнца. Париж, 1945. С. 383.
2 Путь. 1936. № 52, 53.
3 Вестник РХД. № 127, 128.
4 Париж, 1948.
5 Автобиографические заметки. С. 26.
6 Там же.
7 Там же. С. 35.
358
состоянии осознать, что в детстве его вера обогащалась благодатными озарениями
и утверждалась на стихийно-мистических и эмоционально-эстетических началах, а
не являлась прочным религиозным мировоззрением. Ему недостает того глубокого
и живого, личного религиозного опыта, который дает непоколебимое и достоверное
знание о Боге, более убедительное и непреложное, чем любые интеллектуально-
логические доказательства. Надо пережить во всей глубине эту личную встречу с
живым Богом, чтобы до конца постигнуть ее несокрушимую силу. Сергий еще не
понимает, что с подвигом веры должно сочетаться и доверие к Промыслительной
Любви Божией, не позволяющее «бежать» от трудностей и испытаний, а требующее
мужественно и долготерпеливо бороться с ними в добровольном принятии воли
Божией даже тогда, когда смысл испытаний еще не понятен. Этот смысл
раскрывается в результате любви и доверия к Богу, в процессе внутренней борьбы,
молитвенного единения с Богом и духовного возрождения. Сергий слишком горд и юн,
чтобы постигнуть, что смирение перед Богом является не слабостью человека, а его
духовной силой, которая увенчивается стяжанием благодати Святого Духа.
Итак, Сергий принимает решение уйти из семинарии. Однако на пути
реализации этого плана сразу встают большие трудности: для родителей, и особенно для
отца, это — глубокая драма; в семинарии стараются удержать одаренного юношу
перспективами дальнейшего обучения в Духовной академии. Но Сергия никто и
ничто не может остановить. Будучи убежденным в своей правоте, подстрекаемый
юным эгоцентризмом и свободолюбием, он непреклонен в своем решении.
Нарушение намеченного плана расценивается им как малодушие и недопустимый
компромисс. Идя на все жертвы, он, наконец, порывает в 1888 г. с семинарией и
поступает в Елецкую гимназию, которую заканчивает через два года.
Этот период отмечен жгучей потребностью познания Истины и приобщения к
культурной жизни, которой он был лишен в детстве и в семинарии. Но культура и
доминирующее мировоззрение молодежи той эпохи характеризуются
атеистическим гуманизмом с его самоутверждением человека, культом «научности»,
материалистическим миропониманием и остротой социально-политической
проблематики. Попадая в вихрь этих новых течений и не имея религиозно-культурной
закалки, юноша окончательно отрывается от родной почвы. Влекомый живой
критической мыслью, склонный к науке и социальным идеалам, он с воодушевлением
воспринимает настроения, господствовавшие в кругу молодой русской интеллигенции,
увлекается идеей прогресса и становится непримиримым антимонархистом. Но от
духовного порабощения юношескими увлечениями его удерживают врожденная
одухотворенность, моральная принципиальность и пламенная любовь к литературе
и искусству. Поистине, спасает его Бог, «испытующий сердца и внутренности»
(Откр. 2, 23), зрящий скрытые корни веры даже в неверии своего блудного сына и
провидящий его будущее возвращение в Отчий дом.
Понять сущность своеобразного неверия Сергея Николаевича, вникнуть в его
юношеское мировоззрение и духовные переживания помогает его собственней
самокритичный анализ, осуществленный в последние годы жизни. «Я оказался
отрочески беспомощен перед неверием и по наивности мог считать (на фоне, конечно, и
своего собственного отроческого самомнения), что оно есть единственно возможная
и существующая форма мировоззрения для "умных" людей. Мне нечего было
противопоставить и тем защититься от неверия. При этом те, довольно примитивные
способы апологетики, вместе с не удовлетворявшими меня эстетическими формами
способны были содействовать этому переходу от Православия к... нигилизму.
Словом, он совершился в какой-то кредит, умственно безболезненно, ребячески.
Вероятно, я сразу испугался твердыни "научности", а вместе с тем сразу почувствовал
себя польщенным тем, чтобы быть "умным" в собственных глазах. В этом была
своя правда и честность, искание истины, хотя и беспомощное и ребяческое. Я
сдал позиции веры, не защищая. Впрочем, моя вера и не была никогда ранее (да и
359
не могла быть по моему возрасту) моим мировоззрением, которое допускало бы для
себя и интеллектуальную защиту. Она была для меня жизнью, мироощущением
гораздо больше, чем учением, хотя, конечно, Святое Евангелие, некоторые жития
святых (например, Марии Египетской) трогали сердце и исторгали из него сладкие
звуки. Однако это был мой переход не от веры к неверию, а от одной веры к
другой, имеющей для себя свои собственные святыни. Эта верность вере, призвание к
вере и жизнь по вере (если и греховная даже в отношении к ней)... есть основной
факт моей жизни, который мне хотелось бы установить и утвердить именно пред
лицом моего неверия»1.
С тех пор Сергей Николаевич уже не мог вернуться в Православную Церковь,
которая была когда-то такой любимой и родной. Помимо юношеской гордости
этому «мешал, - согласно его личному признанию, - зрак раба» исторической
Церкви, ее «культурное убожество и историческая бескрылость»2. Одним из наибольших
и непреодолимых для него соблазнов (не только политических, но и религиозных)
была «связь Православия с самодержавием»3. Сергей Николаевич не мог и не хотел
примириться с порабощенностью русской, и в частности церковной, жизни,
характерной, как он полагал, для его эпохи. Эту непримиримость он считал «своей
правдой», которую он обязан был отстаивать и которой он впоследствии частично
оправдывал свое неверие.
Здесь необходимо понять и индивидуальные особенности Сергея Николаевича,
который уже в юности проявлял зачатки интеллектуальной одаренности. Подобно
тому как трудно богатому, по словам Спасителя, войти в Царство Небесное, так и
человеку, обладающему интеллектуальными талантами, глубоким критицизмом и
высокими эстетическими требованиями, но не имеющему достаточного
религиозного опыта, что было характерно для юного Сергия, не менее трудно узреть под
покровом видимого «культурного убожества и бескрылости исторической Церкви»
подлинные ее величие и святость, которыми она богата была во все времена.
Деяния исторической Церкви зримы для каждого, а подвиги святости ее чад
осуществляются в незримом, сокровенном молчании. Сергей Николаевич был слишком юн
духовно, чтобы постигнуть за пределами «зрака раба» эти подвиги святости и
смирения, которые таят в себе могучую духовную силу, способную и «горы
переставлять». Лишь впоследствии сила мысли отца Сергия перерастает в мощь духа, которая
налагает неизгладимый отпечаток на его личность, жизнь и богословское творчество.
Итак, внутренняя потребность жить верой и «народолюбие», которому юный
Сергий бессознательно научился от преподобного Сергия, побуждают его теперь
окончательно увлечься социальной проблематикой, поверить в социальные идеалы
и в культурный прогресс.
Перед Сергеем Николаевичем встает проблема: как самоопределиться в вопросе
высшего образования? Природные дарования влекут его к философии, филологии,
литературе, искусству; мировоззрение побуждает его посвятить себя изучению
политической экономии и других смежных дисциплин. Сергей Николаевич остается
верен себе. Стремление к познанию истины до самого конца и жажда единства
между мировоззрением и жизнью, которую он воспринял еще в доме своего отца,
побуждают его пойти на своеобразный подвиг: он приносит в жертву новому
мировоззрению и свои таланты, и свою любовь к искусству, и врожденную
целеустремленность. В 1890 г. в возрасте неполных 20 лет он поступает на юридический
факультет Московского университета и посвящает лучшие годы своей юности изучению
чуждых его духовному складу наук: политической экономии, статистики и т. п. На
первых порах новизна и логическая обоснованность диалектического метода иссле-
1 Там же. С.29-31.
2 Там же. С. 32.
3 Там же. С. 28.
360
дования, будущие возможности творческого приложения своих богатых
интеллектуальных и духовных сил увлекают студента.
В 1894 г. он оканчивает Московский университет и оставляется на два года при
кафедре политической экономии и статистики для подготовки к профессорскому
званию.
Однако несмотря на избранный путь, идущий вразрез с врожденной
религиозно-философской и литературной одаренностью, Сергей Николаевич остается до
конца жизни верен своей любви к гуманитарным наукам и искусству. Его язык
даже в религиозно-философских и богословских трудах звучит поэтично; его
любовь к филологической изысканности и литературным тонкостям пронизывает все
его творческое наследие.
3. Педагогическая работа в Москве. Первые научные труды.
Духовные озарения. Женитьба
Закончен университет. Впереди несколько свободных летних дней, затем
педагогическая работа в Москве — интересная, увлекательная — и долгожданный
самостоятельный научный труд... Но на душе нет радости, нет мира, не утихает
внутренняя тревога, и лишь изредка едва слышно звучат отголоски давних поэтических
грез и воспоминаний. По мере того как потухает свет детства, воцаряются серые
сумерки в душе...
Сергей Николаевич в возрасте 24 лет едет на Кавказ. И вдруг неожиданно, как
вспоминает он, «зазвучали в душе таинственные зовы, и ринулась она к ним
навстречу»...
«Вечерело. Ехали южной степью, овеянные благоуханием медовых трав и сена,
озолоченные багрянцем благостного заката. Вдали синели уже ближние
Кавказские горы. Впервые видел я их, - говорит Сергей Николаевич. - И, впивая в себя
свет и воздух, внимал я откровению природы. Душа помимо собственного сознания
не мирилась с природой без Бога. И вдруг в тот час заволновалась, зарадовалась,
задрожала она: а если есть... Он, благой и любящий Отец, Его риза, Его любовь...
Сердце колотилось под звуки стучавшего поезда, и мы неслись к этому
догоравшему золоту и к этим сизым горам. И я снова старался поймать мелькнувшую мысль,
задержать сверкнувшую радость... А если... если мои детские святые чувства,
когда я жил с Ним, ходил перед лицом Его, любил и трепетал от своего бессилия к
Нему приблизиться, если мои отроческие горения и слезы, сладость молитвы,
чистота моя детская, мною осмеянная ...если все это правда?.. Но разве это возможно,
разве не знаю я еще с семинарии, что Бога нет ...могу ли я в этих мыслях
признаться даже себе самому, не стыдясь своего малодушия, не испытывая
панического страха перед "научностью"?..
...Закат догорал. Стемнело. И То погасло в душе моей вместе с последним его
лучом, так и не родившись, - от мертвости, от лени. Бог тихо постучал в мое
сердце, и оно расслышало этот стук, дрогнуло, но не раскрылось... И Бог отошел»1.
Скоро забылись светлые переживания степного вечера...
Москва. 1895 год. Начинается педагогическая деятельность Сергея
Николаевича: он - преподаватель политической экономии в Московском техническом
училище. Красноречивый, логически последовательный, обладающий даром точной
научной речи, он ведет преподавание на высоком уровне.
В 1896 г., когда Булгакову исполняется 25 лет, выходит в свет его первая
научная статья «О закономерности социальных явлений»1.
1 Свет Невечерний. М., 1917. С. 7-8.
361
В 1897 г. появляется его теоретический этюд «О рынках при
капиталистическом производстве»2, а затем две статьи: «Закон причинности и свобода человеческих
действий»3, «Классическая школа и историко-этическое направление в политической
экономии»4, свидетельствующие о своеобразном направлении молодого социолога.
В том же году Сергей Николаевич сдает магистерский экзамен и как молодой,
многообещающий ученый получает в 1898 г. двухлетнюю командировку за границу -
сначала в Германию, затем в Париж и в Лондон - для продолжения научной
работы и подготовки к званию профессора.
Но чем напряженнее шла в эти годы неутомимая научная работа Сергея
Николаевича, тем интенсивнее разгорался пламень сердца, жаждавшего Горнего мира,
красоты природы, живого общения с ними. И перед поездкой в Германию Сергей
Николаевич снова едет на юг.
И вот вскоре опять зазвучало «То, но уже громко, победно, властно. И снова
вы, о горы Кавказа! - вспоминает впоследствии отец Сергий. - Я зрел ваши льды,
сверкающие от моря до моря, ваши снега, алеющие под утренней зарей; в небо
вонзились эти пики, и душа моя истаивала от восторга. И то, что на миг лишь
блеснуло, чтобы тотчас же погаснуть в тот степной вечер, теперь звучало и пело,
сплетаясь в торжественном дивном хорале. Передо мной горел первый день
мироздания. Все было ясно, все стало примиренным, исполненным звенящей радости.
Душа просила радостно, восторженно изойти в то, что высилось, искрилось и
сияло красотой первоздания. Но не было слов, не было имени, не было "Христос Вос-
кресе!", воспетого миру и горным высям. Царило безмерное и властное Оно, и это
"Оно" фактом бытия своего, откровением своим испепеляло в этот миг все
преграды. Но жизнь дала новый поворот, духовные ощущения стали превращаться во
впечатления туриста, и тонкой пленкой затягивалось пережитое.
Но то, о чем говорили мне в торжественном сиянии горы, вскоре снова узнал я
в робком и тихом девичьем взоре у новых берегов, под иными горами. Тот же свет
светился в доверчивых, кротких, полудетских глазах, полных святыни страдания.
Откровения любви говорили об ином мире, мною утраченном»5. Эта девушка,
поразившая Сергея Николаевича своим духовным обликом, была одаренным
литератором - Еленой Ивановной Токмаковой, ставшей 14 января 1898 г. его женой.
4. Командировка в Германию. Увлечение Кантом и Шеллингом.
Встреча с «Сикстинской мадонной»
В Германии Булгаков пишет свою магистерскую диссертацию -
фундаментальный труд «Капитализм и земледелие»6. В то же время он публикует на родине две
статьи: «О некоторых основных понятиях политической экономии» (1898 г.)7 и «К
вопросу о капиталистической эволюции земледелия» (1899 г.)8.
Общее знакомство с жизнью и общественными интересами Европы, особенно во
Франции и Англии, вносит в душу Булгакова элементы разочарования в культуре
Запада. Но два года пребывания в Германии сыграли существенную роль в
формировании мировоззрения и в жизни Сергея Николаевича. Исключительно одаренный
способностью к философскому мышлению, он глубоко изучает немецкую филосо-
1 Вопросы философии и психологии. 1896. № 35.
2М., 1897.
3 Новое слово. 1897. № 8.
4 Там же. № 11.
5 Свет Невечерний. С. 8.
6 СПб., 1900 (в 2 т.).
7 Научное обозрение. 1898, № 2, 9, 10.
8 Начало. 1899. № 1-3.
362
фию, горячо увлекается Кантом, его критицизмом и мировоззрением Шеллинга.
Эти занятия накладывают неизгладимый отпечаток на философскую мысль
Булгакова. Следы увлеченности немецкой философией можно обнаружить в его
творчестве на протяжении многих лет.
В ту эпоху «весь комплекс многоцветной и многообразной европейской
культуры слишком часто воспринимался русской интеллигенцией в его немецком
преломлении, - пишет Л. А. Зандер1, — и отсюда та гегемония германского духа,
которая неизменно давала себя чувствовать в творчестве русских мыслителей: и
тогда, когда они ей подчинялись, и тогда, когда они с нею боролись. Поддался этому
одностороннему влиянию и Сергей Николаевич... Германия преследовала его во
всех областях его творчества и властно требовала своего преодоления; а это было
связано с огромной научной и литературной работой, в которой легко было утерять
общеевропейскую перспективу и забыть, что немецкая наука составляет только
часть, и притом не главную, в духовной сокровищнице Западной Европы... Ссылки
на немецкие источники, полемика с немецкими учеными, преодоление немецких
заблуждений занимают в творчестве отца Сергия огромное и, может быть,
несоразмерное место». Но впоследствии, через многие годы, он освобождается от этого
одностороннего влияния благодаря глубокому знакомству с духовной культурой и
жизнью христианской Европы.
Несмотря на страстное увлечение Кантом и Шеллингом, Сергей Николаевич
порою остро ощущает в себе духовный кризис, начавшийся еще в 13-летнем
возрасте. Сам он сознается, что после бурных сомнений и кризисов в душе воцарялась
духовная пустота. Душа стала забывать религиозные переживания, угасла сама
возможность сомнений. Но порою снова возрождалось глубокое религиозное
волнение, потеря веры воспринималась как тяжелый жизненный кризис, остро
ощущалась утрата смысла жизни.
Однако энергия молодости, личное семейное счастье, новизна первой
непосредственной встречи с Западом и его культурой гасили эти настроения и вызывали
бурный жизненный подъем, временно заслонявший духовную пустоту.
Возрастающее же разочарование от неумения согласовать свое новое мировоззрение и идеалы
с личной жизнью снова властно вскрывало зияющую бездну в глубине души.
К счастью, несмотря на неверие и растущее духовное опустошение Сергея
Николаевича, Господь не оставлял его Своею благодатью. Ему одному ведомы были
грядущие пути нового Савла, его будущее покаяние и пламенное служение Богу и
Церкви. Бессознательное религиозное вдохновение подавалось Сергею Николаевичу
даже в период его изверия, особенно в те мгновения, когда ощущалось веяние
смерти, благодатные откровения потустороннего мира. Его вера в «прогресс
человечества» включала не только определенную этику, но и эсхатологию. Его неверие
знало свои восторги веры. «То было, — вспоминает впоследствии отец Сергий, -
бессознательное ведение истины богочеловечества, которое во мне всегда просилось
наружу, искало для себя выхода. Но выход этот должен был быть найден дострйно,
а этого я не сумел найти. И так создавался духовный плен, из которого мог спасти
только зов Неба. И этот зов пришел неожиданно и благодатно, в самой
непредвиденной обстановке»2.
Однажды, осенним утром 1898 г., совершая туристическое путешествие по
Германии и приехав в Дрезден, Сергей Николаевич решил посетить Цвингер с его
знаменитой художественной галереей. «И вдруг неожиданная чудесная встреча, -
. свидетельствует отец Сергий, - Сикстинская Богоматерь в Дрездене, Сама Ты
коснулась моего сердца, и затрепетало оно от Твоего зова... Мне глянули в душу очи
1 Зандер Л. А. Бог и мир. (Миросозерцание отца Сергия Булгакова). Париж, 1948. Т. I.
С. 24-26.
2 Автобиографические заметки. С. 32.
363
Царицы Небесной, грядущей на облаках с Предвечным Младенцем. В них была
безмерная сила чистоты и прозорливой жертвенности, знание страдания и
готовность на вольное страдание, и та же вещая жертвенность виделась в недетски
мудрых очах Младенца. Они знают, что ждет Их, на что Они обречены, и вольно
грядут Себя отдать, совершить волю Пославшего: Она - ''принять оружие в сердце",
Он - Голгофу... Я не помнил себя, голова у меня кружилась, из глаз текли
радостные и вместе горькие слезы, а с ними на сердце таял лед, и разрешался какой-то
жизненный узел. Это не было эстетическое волнение, то была встреча, новое
знание, чудо... Я невольно называл это созерцание молитвой и всякое утро, стремясь
попасть в Zwinger, пока никого еще там не было, бежал туда, пред лицо Мадонны,
"молиться" и плакать, и немного найдется в жизни мгновенний, которые были бы
блаженнее этих слез...»1.
В душе Сергея Николаевича закипает новая жизнь, встают воспоминания
далекого детства, отроческого искания Истины. Возвышает свой голос его
«почвенность», укорененность в родной действительности. Одаренная горящая
душа рвется к живой Правде. Философские концепции кажутся отвлеченными;
возрастает тяга к конкретной исторической реальности, к действительной религии.
Пробуждается русская душа с ее глубокими надмирными проблемами, с ее
неукротимым стремлением к познанию живой Истины и подчинению всей жизни
непреложным высшим идеалам.
5. Защита магистерской диссертации.
Переезд в Киев. Начало духовного возрождения.
Первые религиозно-философские труды
Булгаков возвращается на родину потерявшим почву под ногами, с
надломленным состоянием души. С одной стороны, углубленное изучение философии Канта и
Шеллинга подрывает в нем веру в прежние идеалы; с другой стороны, пережитые
за последние годы духовные озарения, «зовы и встречи» вызывают жгучие искания
живой Истины, которая, вспыхивая на мгновения перед его духовным взором,
быстро гаснет и ускользает. Однако несмотря на внутреннюю борьбу, благодаря
ценному свойству своего характера - доводить до конца начатое дело, Сергей
Николаевич завершает в Германии свою успешную научную работу и в 1900 г.
публикует двухтомный труд «Капитализм и земледелие». В 1901 г. он блестяще защищает
магистерскую диссертацию на эту тему. В процессе ее разработки четко
выявляются характерные черты Булгакова: исключительная научная честность,
самостоятельность мышления, глубокий критицизм и духовное мужество в отстаивании
своих научных позиций.
В этот период Булгаков уже приобретает известность как выдающийся
публицист, глубокий знаток политической экономии и аграрного вопроса. В 1897-1901
гг. он публикует ряд статей второстепенного значения в изучаемых им областях.
За эти годы он становится отцом двух детей: 17 ноября 1898 года рождается
его дочь Мария, а 12 марта 1901 года - сын Федор, впоследствии талантливый
художник-пейзажист, женатый на Наталье Михайловне Нестеровой, младшей
дочери знаменитого художника М. В. Нестерова.
Получив звание магистра, Сергей Николаевич в 1901 г. переезжает с семьей из
Москвы в Киев, где он избирается ординарным профессором политической
экономии Киевского политехнического института и приват-доцентом Киевского
университета. Обширная педагогическая деятельность Сергея Николаевича в Киеве по-
1 Свет Невечерний. С. 8-9.
364
глощает много сил и времени, но его напряженная внутренняя работа становится
все интенсивнее. Мощный интеллект Булгакова ставит философские и религиозные
проблемы одну за другой и напрягает все силы для их глубокого творческого
решения. Но прочно воспринятые в юности тиски «научности» продолжают
тормозить внутренний процесс, не давая долгое время мимолетным духовным озарениям
одержать окончательную победу над его душой.
Под влиянием этих мучительных, ложнонаучных, сдерживающих начал душа
Сергея Николаевича порою исчерпывается до дна; ему не хватает уже сил ни
верить, ни жить, ни любить... Но Господь не попускает соблазнов и страданий выше
сил человеческих: когда безысходное разочарование в прежних идеалах пытается
разрушить смысл жизни Сергея Николаевича и внутренняя опустошенность
достигает последних пределов, начинают чувственно оживать под лучами Божественной
благодати давние, забытые чувства и духовные переживания. Каждый зов из
Горнего мира оставляет свой благодатный след в его сердце. Небесные звуки словно
ждут, когда отверзется духовная темница, чтобы ворваться к задыхающемуся
узнику с вестью об освобождении; начинает все явственнее и настойчивее звучать
один неизреченно-радостный мотив: «А что, если... если есть Бог, если реально
существует любящий и всепрощающий Отец?!»
По своему духовному складу С. Н. Булгаков не мог удовлетворяться только
земными горизонтами, как бы перспективны они ни были; его душа всегда
жаждала Горнего мира. Но этот путь решительного поворота к вере, и особенно к Церкви,
был тернист и чрезвычайно сложен.
Сергей Николаевич оставался мыслителем, невольно принявшим на себя
ответственность за истинность своего нового мировоззрения перед философами,
литераторами, художниками, молодежью своего времени и своей страны. И эта
ответственность требовала разумного обоснования каждого движения души,
исчерпывающего раскрытия смысла человеческой жизни, творчества, культуры, истории,
глубокого выяснения сущности христианской веры и мировоззрения, задач и судьбы
исторической Церкви, участия Промысла Божия и Небесной Церкви в судьбах всей
истории человечества. Поэтому наряду с мистическими озарениями и самыми
возвышенными порывами сердца с этим внутренним динамизмом работала неустанно
научно строгая философская и богословская мысль Булгакова.
Проблематика, захватывавшая Сергея Николаевича, была грандиозна, ее
масштабы раздвигались до бесконечности; вопрошания, сомнения, внутренняя борьба
превосходили самые незаурядные человеческие силы. Но Булгаков любил и всем
существом искал Истину, а не славу, хотел подчинить служению ей всю свою
жизнь, и это давало ему силы мужественно справляться со всеми трудностями.
Чем напряженнее была неутомимая работа его мысли, тем сильнее горело сердце и
пламенел дух, тем меньше удовлетворяло одаренную душу Сергея Николаевича его
прежнее отвлеченное мировоззрение; он жаждал не философской спекуляции, а
действенной религии, не абстрактной идеологии, а духовной жизни, живой веры.
И эта жажда духовного самоопределения, эта динамическая устремленность к
Горнему миру вознаграждались все более устойчивым воцарением Божественной
благодати в его сердце.
«То, что загорелось в душе впервые со дней Кавказа, — вспоминает отец
Сергий, - все становилось властнее и ярче, а главное - определеннее: мне нужна была
не "философская идея Божества", а живая вера в Бога, во Христа и Церковь. Если
правда, что есть Бог, значит правда все то, что было мне дано в детстве, но что я
оставил. Таков был полусознательный религиозный силлогизм, который делала
душа: ничего или... все... И безостановочно шла работа души, незримая миру и
неясная мне самому...»1.
1 Автобиографические заметки. С. 64-65.
365
Обращение Сергея Николаевича к вере требовало от него грандиозной работы
мысли и духа - переоценки всех ценностей. Он должен был критически
пересмотреть все свои давние идеалы, убедительно обосновать свой отход от прежних
философских и социальных позиций. Он понимал, что необходимо начать перестройку
своего мировоззрения от самого фундамента. Для этого нужны были духовное
мужество и безукоризненная принципиальность в мыслях, чувствах и делах, глубокое
изучение культуры, истории религий, христианства. С огромным волевым
упорством и творческим дерзновением начал Сергей Николаевич этот труд.
Каждую проблему он изучал от основания, стремясь постигнуть, как она
становилась и разрешалась до него. Если это решение его не удовлетворяло, он прилагал
все усилия своей мысли и духа, чтобы найти творческие пути для ее решения в
свете своего нового мировоззрения.
В процессе этой напряженной работы Сергей Николаевич развивал свои
ценнейшие качества: мощь духа и интеллекта, всесторонний критицизм, глубину
чувств и бескомпромиссную честность, умение в каждом явлении, каждом учении,
каждом человеке выделить отрицательные черты и заблуждения и в то же время
увидеть и оценить положительные стороны и достоинства.
Достаточно упомянуть хотя бы три статьи в первом томе книги Сергея
Николаевича «Два Града»1: посвященные Л. Фейербаху (с. 1-68), Т. Карлейлю (с. 106-149) и
исключительно глубокую статью «О первохрйстианстве» (с. 234-303), или,
например, данную отцом Сергием характеристику Аполлинария младшего, епископа
Лаодикийского, в его замечательном труде «Агнец Божий»2.
Переживая и осмысливая все поставленные проблемы до конца, Сергей
Николаевич достиг исключительной способности к философскому и историческому
обобщению, к религиозному и психологическому синтезу, выковал в себе
бесстрашную свободу и высокую дисциплину мысли, чувств и действий.
Он сумел мужественно вскрыть и изжить заблуждения своей юности,
обосновать свое новое религиозно-философское мировоззрение и начал смело выступать с
ним в печати, не считаясь с острой критикой его противников, а руководствуясь
лишь своей ответственностью перед Богом и Родиной.
Его первые выступления в печати относятся к 1901-1902 гг. Благодаря своей
многосторонней одаренности и широким интересам в области философии,
литературы и психологии Сергей Николаевич готовит одновременно две талантливые
статьи: «Иван Карамазов как философский тип» и «Душевная драма Герцена»,
которые выходят в свет в 1902 г. в журнале «Вопросы философии и психологии»3.
На протяжении киевского периода творчества (1902-1905 гг.) Сергей
Николаевич опубликовал множество различных статей, пронизанных, однако, единым
новым духом. Их можно разбить на три категории: 1) статьи, посвященные вопросам
философии, религии, публицистики и политики4; 2) статьи, посвященные русским
1 М., 1911 (в 2 т.).
2 Париж, 1933. С. 9-30.
3 № 61 и № 54.
4 Основные проблемы теории прогресса // Проблемы идеализма. М.,1902; Об
экономическом идеале // Научное слово. 1903. № 5; О социальном идеале // Вопросы философии и
психологии. 1903. № 68; От марксизма к идеализму: Сб. статей, СПб., 1903; О реалистическом
мировоззрении // Вопросы философии и психологии. 1904. № 73; Новогодний подарок нашим
славянофилам // Освобождение. 1904. № 17; «Идеализм» и общественные программы // Новый
путь. 1904. № 10-12; Очерки по крестьянскому вопросу // Там же. 1904. № 11; Нет на свете
мук сильнее муки слова // Вопросы жизни. 1905. № 1; «Вопросы жизни» и вопросы жизни //
Там же. 1905. № 2; Политическое освобождение и церковная реформа // Там же. 1905. № 4/5;
Совместимо ли христианство с любовью к жизни? // Там же. 1905. № 6; Связь аскетизма и
трагизма // Там же; Позитивная и трагическая теория прогресса // Там же; Афродита
простонародная и Афродита Небесная // Там же; Неотложная задача // Там же. 1905. № 7.
366
и иностранным мыслителям, поэтам и художникам1 и 3) рецензии и заметки2.
Эти статьи С. Н. Булгакова обнаруживают широкий диапазон его интересов и
его живую реакцию на многообразные явления окружающей жизни. В
подавляющем большинстве статей отразился глубокий философский и религиозный перелом
С. Н. Булгакова, положивший начало новому периоду его жизни.
Публичные лекции и статьи Сергея Николаевича получили в этот период
широкий отклик в русском обществе. Осенью 1904 г. Булгаков начинает участвовать в
редактировании журнала «Новый путь», который издавался с 1903 г. В 1905 г.
Булгаков принимает активное участие в издании нового журнала «Вопросы
жизни», впервые отразившего новые духовные течения того времени. Этот журнал
просуществовал в течение всего лишь одного 1905 года.
Булгаков становится в этот период наиболее видным и влиятельным лидером
той части русской интеллигенции, которая искала религиозно-философского
обновления.
1905 год ознаменован важнейшим событием в личной жизни Сергея
Николаевича: 25 декабря (ст. ст.) появляется в его семье второй сын - Ивашечка.
6. Возвращение в Москву. Профессура.
Участие в Религиозно-философском обществе В. Соловьева.
Избрание во Вторую Государственную Думу
В 1906 г. Сергей Николаевич переезжает из Киева снова в Москву, где
избирается приват-доцентом Московского университета, а в 1907 г. - одновременно
профессором политической экономии Московского коммерческого института,
директором которого был П. И. Новгородцев (1863-1924). Это был выдающийся юрист с
широким философским кругозором, профессор Московского университета,
возглавивший с 1917 г. русский юридический факультет при Пражском университете в
Чехии.
После переезда в Москву Булгаков принимает активное участие в деятельности
Религиозно-философского общества Владимира Соловьева, организованного по его
инициативе в 1905 г. небольшой группой лиц с серьезными духовными запросами.
Кратковременное пребывание в этом обществе окончательно утвердило Сергея
Николаевича в его новом религиозном миропонимании и в его давней высокой оценке
трудов Соловьева. Еще в 1903 г. в своей статье «Что дает современному сознанию
философия Вл. Соловьева?» Булгаков вскрыл ее глубокое духовное значение.
1 Иван Карамазов как философский тип // Вопросы философии и психологии. 1902. № 61;
Душевная драма Герцена // Там же. 1902. № 54; Васнецов, Достоевский, Вл. Соловьев,
Толстой (параллели): Сб. Литературное дело. СПб., 1902; Что дает современному сознанию
философия Вл. Соловьева? // Вопросы философии и психологии. 1903. № 66; Чехов как мыслитель //
Новый путь. 1904. № 10, 11; Карлейль и Толстой // Там же. 1904. № 12; По поводу выхода в
свет шестого тома Собрания сочинений В. С. Соловьева // Вопросы жизни. 1905. № 2;
«Трагедия человечества» Эмериха Мадача // Там же; О пути Соловьева. Ответ кн. Е. Н.
Трубецкому // Там же. 1905. № 3; По поводу письма Л. Н. Толстого в Times и слова епископа
Антония в «Московских ведомостях»// Там же; Из некролога кн. С. Н. Трубецкому // Там же.
1905, № 10/11; Религия человекобожия у Фейербаха // Там же. 1905. № 10/11, 12.
2 Литературные заметки. Н. Г. Чернышевский // Новый путь. 1904. №11; Рец. на книгу
К. К. Арсеньева «Свобода совести и веротерпимость» // Там же; Рец. на «Вопросы философии и
психологии в 1904 году» // Вопросы жизни. 1905. № 2; Рец. на книгу Л. А. Сулержицкого «В
Америку с духоборами»// Там же. 1905. № 3; Рец. на книгу Куно Фишера «История новой
философии» // Там же; Несколько замечаний по поводу статьи Г. И. Чулкова о поэзии
Вл. Соловьева // Там же. 1905. № 6; Рец. на статью К. Каутского «Национальность нашего
времени»// Там же. 1905: № 7; Рец. на «Научно-популярные статьи проф. С.-Петербургского
университета Ф. Зелинского» (СПб., 1905) // Новый путь. 1905. № 11.
367
«Философия Соловьева, - писал он, — дает современному сознанию целостное и
последовательно развитое христианское мировоззрение».
Однако вскоре утопическая религиозно-общественная программа Общества В.
Соловьева была развенчана жизнью, и мечты его членов оказались несбыточными.
Последние годы участия Сергея Николаевича в общественной жизни России
были связаны с его избранием (в начале 1907 г.) во Вторую Государственную Думу
от Орловской губернии в качестве беспартийного «христианского социалиста».
Сравнивая деятельность Первой и Второй Дум, Булгаков пишет:
«Промелькнула Первая Государственная Дума: она блеснула своими талантами, но
обнаружила полное отсутствие государственного разума, и особенно воли и
достоинства...»1. Вся бесперспективная и нездоровая атмосфера Государственной Думы
потрясла Булгакова и разрушила окончательно его былой интерес к политической
и общественной деятельности.
Глубочайшее одиночество охватило душу Сергея Николаевича. Он оказался
«между двух миров, чужой среди своих... и нигде не свой». Он был уже за бортом
политики, но еще не подошел окончательно к ограде Церкви.
7. Возвращение в «Отчий дом»
«Почвенность» Сергея Николаевича, стремление сочетать мировоззрение с его
реализацией в жизни, усвоенное с детства примером отца, - все это властно
призывало его вернуться в «Отчий дом». Но он все еще томился за оградой и не
находил в себе сил сделать решительный шаг - приступить к таинствам Покаяния и
Причащения Святых Тайн, которых все больше и пламеннее жаждала душа.
«Помню, - писал он потом, - как однажды, в Чистый Четверг, зайдя в храм,
увидел я (тогда "депутат") причащающихся под волнующие звуки: "Вечери Твоея
Тайныя...". Я в слезах бросился вон из храма и плача шел по московской улице,
изнемогая от своего бессилия и недостоинства'. И так продолжалось до тех пор,
пока меня не восторгла крепкая рука...
Осень. Уединенная, затерянная в лесу пустынь Зосимы. Солнечный день и
родная северная природа. Смущение и бессилие по-прежнему владеют душой. И сюда
я приехал, воспользовавшись случаем, в тайной надежде встретиться с Богом. Но
здесь решимость моя окончательно меня оставила... Стоял вечерню бесчувственный
и холодный, а после нее, когда начались молитвы "для готовящихся к исповеди", я
почти выбежал из церкви, "изшед вон, плакался горько". В тоске шел, ничего не
видя вокруг себя, по направлению к гостинице и опомнился... в келье у старца.
Меня туда привело: я пошел совсем в другом направлении ■ вследствие своей
всегдашней рассеянности, теперь еще усиленной благодаря подавленности, но в
действительности - я знал это тогда достоверно - со мной случилось чудо... Отец,
увидев приближающегося блудного сына, еще раз Сам поспешил ему навстречу. От
старца услышал я, что все грехи человеческие как капля перед океаном
милосердия Божия. Я вышел от него прощенный и примиренный, в трепете и слезах,
чувствуя себя внесенным словно на крыльях внутрь церковной ограды. В дверях
встретился с удивленным и обрадованным спутником, который только что видел
меня, в растерянности оставившего храм. Он сделался невольным свидетелем
совершившегося со мной. "Господь прошел", - умиленно говорил он потом...
И вот вечер, и опять солнечный закат, но уже не южный, а северный. В
прозрачном воздухе резко вырисовываются церковные главы и длинными рядами
белеют осенние монастырские цветы. В синеющую даль уходят грядами леса. Вдруг
1 Автобиографические заметки. С. 78.
368
среди этой тишины откуда-то сверху, словно с неба, прокатился удар церковного
колокола, затем все смолкло, и лишь несколько спустя он зазвучал ровно и
непрерывно. Звонили ко всенощной. Словно впервые, как новорожденный, слушал я
благовест, трепетно чувствуя, что и меня зовет он в церковь верующих. И в этот
вечер благодатного дня, а еще более на следующий, за литургией на все глядел я
новыми глазами, ибо знал, что и я призван, и я во всем этом реально соучаствую:
и для меня и за меня висел на древе Господь и проливал Пречистую Кровь Свою, и
для меня здесь руками иерея уготовляется святейшая трапеза, и меня касается это
Евангелие, в котором рассказывается о вечери в доме Симона прокаженного и о
прощении много возлюбившей жены-блудницы, и мне дано было вкусить
Святейшего Тела и Крови Господа моего...»1.
8. Смерть Ивашечки. «Небо раскрылось...»
Лето 1909 г. ознаменовано трагическим событием в семье Булгаковых: 27
августа младший сын Ивашечка расстался в возрасте менее четырех лет с этим земным
миром, оставив в сердцах родителей глубочайшую скорбь...
Но в таких драматичных обстоятельствах, когда скорбные переживания,
казалось бы, превышают возможности человеческой выдержки, Господь — по великой
любви Своей - посылает Сам, даже до обращения к Нему, столь обильный поток
благодати, который дает не только силы мужественно устоять в постигшем горе, но
в то же время поднимает человека на такую духовную высоту, что он становится
способным воспринять в душе новое Божественное Откровение.
Так и Сергей Николаевич, наряду с величайшей скорбью, узрел неизреченный
свет, о котором он повествует на вдохновенных страницах своего труда «Свет
Невечерний»2. «Нелегка ты, жертва Авраама, - читаем мы здесь, - не из
благополучной, но из растерзанной души исторгался пред лицом невинной жертвы вопль мой:
прав Ты, Господи, и правы суды Твои! Я говорил это всем сердцем своим! О, я не
бунтовал и не роптал, ибо жалок и малодушен был бы бунт, но я не хотел
мириться, ибо постыдно было бы и примирение. Отец молча ответил мне: у изголовья его
тела стояло Распятие Единородного Сына. И я услышал этот ответ и склонился
перед ним, но неповинные страдания и чей-то сарказм густым, непроницаемым
облаком легли между Распятием и его телом... Только подвигом, крестом целой
жизни могу я рассеять это облако... оно есть тень моего собственного греха... И об
этом говорил мне Ивашечка в ту голгофскую ночь: "Неси меня, папа, кверху, -
пойдем с тобой кверху!"
Но здесь начинается не выразимое словом...
...В новом, никогда доселе неведомом ясновидении сердца — вместе с крестной
мукой - сходила в него небесная радость, и с тьмою богооставленности в душе
воцарялся Бог. Сердце мое отверзлось на боль и муку людей — пред ним
раскрывались доселе чуждые и потому закрытые сердца с их болью и горем. Единственный
раз в жизни понимал я, что значит любить не человеческой, себялюбивой и
корыстной любовью, но Божескою, какой Христос нас любит. Как будто завеса,
отделявшая меня от других, спала, и мне открылся в сердцах их весь мрак, горечь,
обида, озлобление, страдание... И Бог говорил мне тогда... и я уразумел, что
значит "Бог сказал". Тогда раз навсегда я узнал, что Бог действительно говорит, а
человек слышит и — не испепеляется... Я знаю теперь, как Бог говорил
пророкам... и знаю неизмеримую бездну между мною и ними... Но Бог - один, и Его
безмерное к нам снисхождение одинаково, и пусть между моей темной, греховной
1 Свет Невечерний. С. 10.
2 Там же. С. 12-14.
369
душой и святой душою пророка лежит великая бездна, но ведь еще неизмеримее та
бездна, которая лежит между Богом и всякою тварью, и как тварь ведь и я, и
пророки - одно, и Он говорил твари... Забыть это и усомниться после этого значит
для меня умереть духовно...»'.
Здесь Сергей Николаевич вспоминает слова святого апостола Павла: «Знаю
человека во Христе, который... восхищен был до третьего неба» (2 Кор. 12, 2). «Что
это значит для видевшего?! - восклицает Сергей Николаевич. — Каким взором
должен был он смотреть на мир после виденного, когда небо открылось!..»2. И
далее продолжает он о погребении Ивашечки: «О мой светлый, мой белый мальчик!
Когда несли мы тебя на крутую гору и затем по знойной и пыльной дороге, вдруг
свернули в тенистый парк, словно вошли в райский сад; за неожиданным
поворотом сразу глянула на нас своими цветными стеклами ждавшая тебя, как ты,
прекрасная церковь. Я не знал ее раньше, и как чудесное видение предстала она,
утонувшая в саду, под сенью старого замка. Мать твоя упала с криком: "Небо
раскрылось!" Она думала, что умирает и видит небо... И небо было раскрыто, в нем
совершался наш апокалипсис. Я чувствовал, видел почти восхождение твое... Все
становилось понятно, вся мука и зной растворились, исчезли в небесной голубизне
этой церкви... Шла литургия. Не знаю, где она совершалась, на земле или небе...
"Ангельскими невидимо дориносима чинми" — привычные, уже примелькавшиеся
святые слова... Но кто это в алтаре направо?.. Разве не сослужитель небесный?..
Слушаю "Апостол" о воскресении и всеобщем внезапном изменении и впервые
понимаю, что это так и будет и как это будет.
Нужно ли верить, что литургия совершается в сослужении ангелов, когда я
это... видел?.. Не так же ли видел ангела священник Захария около кадильного
алтаря, или сослужащий с преподобным Сергием видел ангела, литургисающего с ,
ним? Но и здесь не дерзновенно ли, возможно ли делать такие сопоставления?
Должно! Ибо не себя ведь, не темноту свою греховную сравниваем мы, но виденное
по Божественному усмотрению...»3.
Читающему эти проникновенные слова Сергея Николаевича становится вполне
понятным, почему он так дерзновенно и убедительно написал свое вдохновенное
произведение «Лествица Иаковля»4, посвященное ангельскому миру.
В заключение Сергей Николаевич делает обобщающий вывод, несомненный для
всякой верующей души, обладающей личным религиозным опытом: «Если бы люди
веры стали рассказывать о себе, что они видели и узнавали с последней
достоверностью, то образовалась бы гора, под которой был бы погребен и скрыт от глаз
холм скептического рационализма»5.
•
9. Религиозно-философское творчество в период с 1906 по 1911 г.
Со времени переезда в Москву и возвращения в «Отчий дом» начинается новый
период в жизни Сергея Николаевича, отличающийся бурным развитием его
религиозно-философского творчества, в котором он открыто исповедует свою веру.
Наряду с профессиональными лекциями по политической экономии Сергей
Николаевич читает публичные лекции философского содержания и публикует их в
виде статей или книг. Богатство и разнообразие затронутых в них проблем
свидетельствуют о необыкновенной широте и глубине интересов Сергея Николаевича, о
1 Там же. С. 13.
2 Там же.
3 Там же. С. 13-14.
4 Париж, 1929.
5 Свет Невечерний. С. 14.
370
его высокой и разносторонней культуре. С одной стороны, он откликается на все
духовные запросы своих современников; с другой стороны, он ставит и решает
задачи, выходящие далеко за рамки своей эпохи и даже за пределы истории.
Стремясь преодолеть отвлеченность философских систем и ограниченность
общественных идеалов, он основывается на историческом опыте и достижениях
Церкви в эпоху первохристианства, когда жизнь Церкви отличалась подвигами,
творчеством и благодатным вдохновением. Благодаря своим знаниям в области
политической экономии, своему пониманию хозяйственных, общественных,
культурных и политических интересов своей страны Сергей Николаевич глубоко осознает
реальность и важность насущных вопросов истории, культуры и жизни. Но в то же
время он способен к орлиным взлетам, к созерцанию мира с горней высоты, откуда
его взору открываются не только исторические горизонты, но и дальние духовные
перспективы, уводящие его в область апокалиптики, эсхатологии и вечной жизни.
Таким образом, его обращенность к первохристианской Церкви не ставит своей
целью непосредственно восстановить историческое прошлое, а стремится найти в
нем вечные основания для обновленного мировоззрения, согласного с вечно живой
традицией Церкви, для подвижнического служения в современном реальном мире
и для подлинно христианского преображения жизни.
Сергей Николаевич убежден, что трагедия человека в любую историческую
эпоху не исчерпывается его экономической неустроенностью и недостаточным
приобщением к культуре, эта трагедия «уходит своими корнями в онтологию бытия».
На протяжении 1906-1911 гг. Сергей Николаевич публикует ряд трудов и
статей, в которых он выступает с позиций совершенно сложившейся новой
религиозной идеологии, развенчивающей его предшествовавшее мировоззрение.
Их можно разделить на три основные группы: 1) труды и статьи по вопросам
экономики, публицистики и политики1; 2) религиозно-философские статьи2 и 3)
статьи, посвященные русским и иностранным мыслителям и поэтам1.
1 Религия и политика // Полярная звезда. 1906. № 13; Духовенство и политика //
Товарищ. 1906. 6 дек.; О необходимости введения общественных наук в программу духовной
школы // Богословский вестник. 1906. № 2; Кабинет министров и обер-прокур Св. Синода // Дума.
1906. № 24; Краткий очерк политической экономии. Вып.1. Основные черты современного
хозяйственного строя. М., 1906; О смертной казни: Сб. Против смертной казни. М., 1906;
Церковный вопрос в Государственной Думе // Век. 1907. № 10; Из думских впечатлений. Прения
о-военно-полевых судах // Там же; История политической экономии. Лекции, читанные в
Московском коммерческом институте в 1907 г. М., 1907; Аграрный вопрос. Лекции, читанные
в Московском коммерческом институте в 1907-1908 гг. М., 1908; Из размышлений о
национальности // Вопросы философии и психологии. 1910. № 103.
2 Церковь и культура // Вопросы религии. 1906. № 1; Церковь и государство // Там же;
Церковь и социальный вопрос // Там же; Под знаменем Университета // Вопросы философии и
психологии. 1906. № 85; Горе русского пастыря // Новь. 1906 29 дек.; Временное и вечное //
Век. 1906. № 7; Социальные обязанности Церкви // Народ. 1906. № 5; Индивидуализм или
соборность // Там же. 1906. № 6; К вопросу о Церковном Соборе // Московский еженедельник.
1906. № 13; Средневековый идеал и новейшая культура // Русская мысль. 1907. № 1;
Воскресение Христа и современное сознание // Век. 1907. № 16; Интеллигенция и религия // Русская
мысль. 1908. № 3; Народное хозяйство и религиозная личность // Московский еженедельник.
1909. № 23; О первохристианстве // Русская мысль. 1909. № 5; Первохристианство и
новейший социализм // Вопросы философии и психологии. 1909. № 98; Героизм и
подвижничество // Вехи. Сб. статей о русской интеллигенции. М., 1909; Спор о прагматизме (среди других
участников) // Русская мысль. 1910. № 5; Апокалиптика, социология, философия истории,
социализм (религиозно-философские параллели) // Там же. 1910. № 6; На смерть
Л. Н. Толстого // Там же. 1910. № 12; Революция и реакция // Московский еженедельник.
1910. № 8; Рец. на книгу В. Кожевникова «О значении христианского подвижничества в
прошлом и настоящем» (М., 1910) // Там же. 1910. № 22; Рим и Восток // Русская мысль. 1911.
№ 3; Религиозная мысль на Западе. «Hat Jesus gelebt?» // Там же. 1911. № 6; Христианство и
мифология // Там же. 1911. № 8; Кризис христианства в современном протестантизме // Там же.
1911. № 9.
371
Здесь необходимо отметить, что в 1909 г. С. Н. Булгаков принял активное
участие в создании и деятельности книгоиздательства «Путь», основанного М. К.
Морозовой и представлявшего единственное начинание, в котором духовная свобода
сочеталась с высокой культурой и ярко выраженным духовным направлением.
Благодаря влиянию Сергея Николаевича и других религиозных мыслителей это
предприятие обеспечивало вплоть до 1918 г. издание многих замечательных
религиозно-философских произведений.
Так, в 1911 г. вышел в свет обширный труд Булгакова «Два Града», состоящий
из двух томов, в состав которых вошли основные религиозно-философские статьи
киевского и особенно московского периодов его творчества. В этом труде Сергей
Николаевич исследует исключительно интересные, актуальные и в наше время
проблемы; в нем проявились его выдающийся ум, исторические и духовные прозрения.
Здесь проблемы экономической, политической, социальной и культурной жизни не
только получают новое освещение, но ставятся на новом фундаменте, который
определяется сознанием человека, предстоящего пред Лицом Живого Бога.
Л. А. Зандер совершенно справедливо отмечает, что при чтении всех этих статей
поражает та глубокая честность, с которой Сергей Николаевич относится к
изучаемым и критикуемым доктринам и мыслителям; она выражается, во-первых, в
беспристрастном научном подходе, во-вторых, в желании понять противника in bonam
partem, в-третьих, в неизменном выделении всего того, что имеет вечное значение.
Благодаря таким качествам статьи Булгакова о «других» всегда являются
прекрасными характеристиками изучаемых авторов и произведений. В этом
заключается энциклопедическое значение творчества Сергея Николаевича, который был в
известном смысле и историком культуры.
10. Начало дружбы с П. А. Флоренским.
Защита и публикация докторской диссертации
В 1910 г. Сергей Николаевич знакомится с Павлом Александровичем
Флоренским (1882-1943), и сразу завязывается между ними духовная дружба - глубокая,
на всю жизнь. Булгаков пленен тихим величием и красотой духовного образа
своего друга. «В его научном облике, - вспоминает Сергей Николаевич, - всегда
поражало полное овладение предметом, чуждое всякого дилетантизма, а по широте
своих научных интересов он является редким и исключительным полигистром, всю
меру которого даже невозможно определить... Он более всего напоминает
титанические образы Возрождения: Леонардо да Винчи и др., может быть, еще Паскаля,
а из русских — больше всего В. В. Болотова. Я знал в нем математика и физика,
богослова и филолога, философа, историка религий, поэта, знатока и ценителя
искусства и глубокого мистика... Однако все, что может быть сказано об
исключительной одаренности отца Павла (после его рукоположения в 1911 году) как и об
его самобытности, в силу которой он всегда имел свое слово, как некое откровение
1 Очерк о Ф. М. Достоевском. Чрез четверть века (1881-1906) // Юбилейное издание
Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского. Т. 1. СПб., 1906; Карл Маркс как религиозный
тип // Московский еженедельник. 1906. № 22, 23, 24, 25; Венец терновый // Свобода и
культура. 1906. № 2; Князь С. Н. Трубецкой как религиозный мыслитель // Московский
еженедельник. 1908. № 1; Загадочный мыслитель (Η. Φ. Федоров) // Там же. 1908. № 48; Рец. на
книгу Сельмы Лагерлеф «Легенды о Христе» (М., 1907) // Критическое обозрение. 1908. Вып. II;
Социальное мировоззрение Джона Рёскина // Вопросы философии и психологии. 1909. № 100;
Философия кн. С. Н. Трубецкого и духовная борьба современности // Критическое обозрение.
1909. Вып. I; Профессорская религия // Русская мысль. 1910. № 12; Природа в философии
Вл. Соловьева //Вопросы философии и психологии. 1910. № 105; Толстой и церковь //
Русская мысль. 1911. № 1; Социальная философия Роберта Оуэна // Вопросы философии и
психологии. 1911. № 107.
372
обо всем, является все-таки второстепенным и несуществующим, если не *знать в
нем самого главного. Духовным же центром его личности, тем солнцем, которым
освещались все его дары, было его священство»1.
В свою очередь и отец Павел Флоренский неоднократно светло и поэтично
вспоминает своего дорогого друга в замечательной книге «Столп и утверждение
Истины»2: «Один за другим падали листья. Как умирающие бабочки медленно
кружились по воздуху, слетая наземь... О мой далекий, мой тихий Брат! В тебе
весна, а во мне - осень...» (с. 10) «...Помнишь ли ты, далекий и вечно близкий
Друг, наши проникновенные беседы? Дух Святой и религиозные антиномии — вот
что, кажется, интересовало нас более всего. А находившись по заповедной роще,
мы шли на закате озимями, упивались пылающим западом и радовались, что
вопрос выясняется, что мы врозь пришли к одному и тому же. Тогда мысли текли
пылающими, как небосвод, струями, и мы ловили мысль с полуслова. Во
вдохновенном, холодном и пламенном вместе восторге шевелились корни волос, и
мурашки щекотали спину. Помнишь ли ты, Брат мой единодушный, тростник над
черными заводями? Молча стояли мы у обрывистого берега и прислушивались к
таинственным вечерним шелестам. Несказанно ликующая тайна нарастала в душе, но
мы безмолствовали о ней, говоря друг другу молчанием...» (с. 109).
Образы обоих друзей были запечатлены в замечательной картине «Философы»
их общим другом - Михаилом Васильевичем Нестеровым майским вечером 1917 г.
По замыслу художника это был не только портрет двух друзей, но и духовное
видение эпохи. Оба лица выражали для художника одно и то же постижение, но по-
разному: в лице Сергея Николаевича виден глубокий трагизм и волевое
напряжение; облик отца Павла преисполнен мира, радости, победного преодоления.
В этот период жизни Булгаков был увлечен софиологической концепцией
о. Павла Флоренского, изложенной им в вышеупомянутом "груде (с. 319—392).
В. В. Зеньковский в своей «Истории русской философии»3, характеризуя
Булгакова и его увлечение идеей Флоренского, пишет: «По типу своей мысли, по
внутренней логике своего творчества Булгаков принадлежит к числу "одиночек" - он
собственно не интересовался мнением других людей, всегда прокладывая себе
дорогу сам, и только Соловьев и Флоренский вошли в его внутренний мир властно и
настойчиво. В мужественном и даже боевом складе ума у Булгакова — как ни
странно - жила всегда женственная потребность "быть в плену" у кого-либо;
потому-то живая, многосторонняя личность Флоренского, от которого часто исходили
излучения подлинной гениальности, имела столь глубокое влияние на Булгакова,
что софиологическая концепция, развитая Флоренским, пленила впервые ум
Сергея Николаевича именно в редакции Флоренского». В приведенной характеристике
Зеньковского содержится, с нашей точки зрения, много поразительно меткого и
глубокого. Однако трудно согласиться с приписываемой Булгакову «женственной
потребностью быть в плену у кого-либо».
Действительно, Сергей Николаевич обладал выдающимся философским
дарованием, самостоятельностью мышления и строгой дисциплиной научной мысли.
В то же время он весь был устремлен к познанию Абсолютной Истины, к
созданию цельной, всеобъемлющей религиозно-философской системы. И только
Владимир Соловьев и отец Павел Флоренский оказались по силе и глубине дарований
соразмерны Булгакову, созвучны ему в основной целеустремленности их духа к
Богу в широком синтезе христианских начал с данными философии и науки в
целом. Поэтому Сергей Николаевич, всегда требовательный к себе в смысле
бескомпромиссного осуществления своего духовного и философского призвания, свободно
1 Письмо П. Струве // Вестник РСХД. 1971. № 101/ 102. С. 128-129.
2 М., 1914.
3 Париж, 1950. Т. II.
373
и радостно принял Соловьева и Флоренского в свое сознание и сердце. Но «в плену» у
них он не был, ибо безгранично ценил духовную свободу. Можно сказать, что
Булгаков был всегда «в плену» только Живой Истины, а после перехода к чисто
богословскому творчеству он был в «добровольном плену» у Бога, у Живого Христа, Которого
он постигал и любил всем своим разумением, всем своим горящим сердцем.
Глубоко воспринятая Булгаковым идея Соловьева о «всеединстве», а также его
незаконченное учение о Софии, которое необходимо было продолжить в истинном
направлении, - все это оживает вновь в сознании Сергея Николаевича в связи с
принятием религиозно-философских концепций Флоренского и находит свое
отражение и самостоятельное развитие в его большом труде «Философия хозяйства».
Этот труд появляется в печати в 1912 г. (вскоре он был опубликован в Японии
на японском языке). Первая его часть - «Мир как хозяйство» - была представлена
в качестве докторской диссертации по политической экономии и защищена
Булгаковым в Московском университете в 1912 г.
В книге «Философия хозяйства» подведен, с одной стороны, итог первого этапа
идейного пути Сергея Николаевича; с другой стороны, намечены новые философские
проблемы, требующие разрешения в настоящем и будущем. В этом труде сделан
первый опыт систематического изложения религиозно-философского мировоззрения
Булгакова, представлена его социальная философия и дан первый набросок софиологии.
Сергей Николаевич отмечает, что наряду с этической стороной христианства
необходимо выделить в нем онтологическую и космологическую стороны.
Исходным положением космологии является антиномия абсолютного и относительного,
единого и многого, Бога и мира, Творца и творения. Вместе с тем Булгаков
стремится постигнуть Бога в Его обращенности к миру, а мир· познать в его предстоя-
нии Богу. В этом смысле Бог и мир не противопоставляются, а связываются воедино.
Этот принцип всеобъемлющего единства носит в мышлении Сергея
Николаевича имя Премудрости Божией, сущность которой раскрывается в Богочеловечестве.
Булгакову чужды в равной мере как односторонняя, так сказать, обезбоженная
культура, так и односторонняя идеология мироотрицающего христианства. Он не
приемлет альтернативу «Бог или мир»; для него всегда предстоят «Бог и мир» в их
творческом Богочеловеческом единстве. Человек должен быть ответственным за
свои дела в мире; он должен вкладывать в них силу своей мысли и пламень своей
любви. Если аскетизм выражается в освобождении себя от ответственности за мир,
то он носит ложный, нигилистический характер. Подлинный аскетизм является
величайшей культурной и творческой силой в мире. Сергей Николаевич
приписывает глубокое религиозное значение всему культурному творчеству в каждой
области, в том числе и в хозяйственной.
11. Религиозно-философское творчество Булгакова
в 1912-1918 гг.
За указанные семь лет Сергей Николаевич опубликовал многочисленную серию
статей, которые целесообразно разделить на три группы: 1) статьи религиозно-
философского характера и по церковным вопросам1; 2) статьи в области публици-
1 Природа науки: Сборник, посвященный Л. М. Лопатину. М., 1912; Три идеи // Русская
мысль. 1913. № 2; Предисловие к книге И. Зейпеля «Хозяйственно-этические взгляды отцов
церкви». М., 1913; Афонское дело // Русская мысль. 1913. № 9; Смысл учения св. Григория
Нисского об именах // Итоги жизни. 1914. № 12/13; Трансцендентная проблема религии //
Вопросы философии и психологии. 1914. № 124, 125; «Отрицательное богословие» // Там же.
1915. № 126, 128; О тварности // Там же. 1915. № 129; Характер германской философии //
Утро России. 1915. 30 марта; Основные мотивы философии хозяйства в платонизме и раннем
христианстве // История экономической мысли. М., 1916. Т. 1. »Вып. 3.; Софийность твари
374
стики и политики1 и 3) статьи, посвященные русским и иностранным писателям и
художникам2.
Этот период творчества Булгакова исключительно богат, так как наряду с
докторской диссертацией «Философия хозяйства» и вышеуказанными статьями он
опубликовал фундаментальный религиозно-философский, поэтически оформленный
труд «Свет Невечерний» в 1917 г. и сборник религиозно-поэтических статей «Тихие
Думы» в 1918 г.
В «Свете Невечернем» Сергей Николаевич со свойственной ему глубиной и
широтой охвата затрагивает основные проблемы философии и намечает пути их
решения в рамках единой религиозно-философской системы. «Здесь, — отмечает
Л. А. Зандер, - в первый раз дается последовательное развитие идеи Софии,
каковая становится отныне центральным понятием всего философского и богословского
творчества Булгакова»3.
«Тихие Думы» содержат серию оригинальных и глубоких по анализу статей,
охватывающих различные области литературы, религиозной философии, поэзии,
искусства, и меткие, тонкие характеристики авторов соответствующих произведений.
12. Участие во Всероссийском Поместном Соборе 1917 г.
Принятие священного сана
Наступает 1917 год, ознаменованный грандиозными политическими и
церковными событиями в России: после падения царской власти и осуществления
пролетарской революции возникает Советская Россия. В том же году созывается
Всероссийский Поместный Собор, на котором восстанавливается Патриаршество и
Патриархом Московским и всея Руси избирается митрополит Московский Тихон.
Сергея Николаевича призывают к активному участию в деятельности Собора:
он избирается его членом как представитель духовных учебных заведений Москвы.
По поручению Патриарха Тихона Булгаков выступает с речью на первом
Всероссийском съезде духовенства и мирян, готовит доклад о правовом положении Церк-
(Космодицея) // Вопросы философии и психологии. 1916. № 132/ 133; Пол в человеке //
Христианская мысль. 1916; Человечность против человекобожия. Историческое оправдание
англорусского сближения // Русская мысль. 1917. № 5/6; О даре свободы // Русская свобода. 1917.
№.2; Из мира религиозных созерцаний // Русская мысль. 1917. № 5/6; Церковь и демократия.
М., 1917; Смысл патриаршества в России// Деяния Священного Собора Православной
Российской Церкви. М., 1918. Т. III.; Проект воззвания к русскому народу // Там же; Доклад о
правовом положении Церкви в государстве // Там же. Т. IV; Доклад об отношении Церкви к
государству // Там же.
1 Самозащита В. И. Экземплярского // Русская мысль. 1912. № 8; «Экономический
материализм» как философия хозяйства // Там же. 1912. № 1; На выборах. (Из дневника) // Там
же. 1912. № 11; Философия хозяйства. (Речь на докторском диспуте) // Там же, 1913. № 5;
Ответ В. И. Соколову // Там же; История социальных учений в XIX в. Лекции. М., 1913;
Очерки по истории экономических учений. Вып. 1. М., 1913; Война и русское самосознание.
М., 1915; Христианство и социализм. М., 1917.
2 Л. Н. Толстой - человек и художник // О религии Льва Толстого: Сб. статей. М., 1912;
Л. Толстой. Простота и опрощение // Там же; Человекобог и человекозверь (По поводу
последних произведений Л. Н. Толстого: «Дьявол» и «Отец Сергий») // Вопросы философии и
психологии. 1912. № 112; Русская трагедия // Русская мысль. 1914. № 4; Стихотворения
Вл. Соловьева// Там же. 1915. № 2; Тоска. На выставке А. С. Голубкиной // Там же. 1915. № 4;
Моцарт и Сальери // Там же. 1915. № 5; Труп красоты. По поводу картин Пикассо // Там же.
1915. № 8; А. Н. Шмидт и Вл. Соловьев // Биржевые ведомости. 1915. 29 дек.; Победитель-
Побежденный (судьба К. Н. Леонтьева) // Там же. 1916. 9,6 и 22 дек.; Искусство и теургия //
Русская мысль. 1916. № 2; Заметка по случаю смерти Ф. Д. Самарина // Богословский
вестник. 1916 № 10/12; Памяти В. Ф. Эрна // Христианская мысль. 1917. № 11/12; Памяти
В. А. Кожевникова // Там же.
3 Зандер Л. А. Бог и мир. Т. 1. С. 40.
375
ви в государстве, об отношении Церкви к государству и т. п. Все его выступления
появляются в печати.
В том же 1917 г. Булгаков избирается ординарным профессором политической
экономии Московского университета, к чему он когда-то с таким энтузиазмом
готовился. Перед ним открываются интересная научная карьера и широкие
возможности общественно-политической деятельности.
Но в душе Сергея Николаевича все более возрастает стремление встать на иной
путь. Все более дает о себе знать тоска по Церкви, неуклонное желание полностью
вернуться в Отчий дом, вплоть до принятия священства, чтобы непосредственно и
активно участвовать в богослужении и жизни Церкви. Творения философской
мысли уже не могут удовлетворить ум жаждущего познания Живой Истины, которая
могла бы стать путем и жизнью. В душе растет ничем не истребимая потребность
такой веры в Живого Бога, такой пламенной молитвы, такого сильного
мистического богообщения, которые захватили бы все существо и подчинили бы себе всю
жизнь. И потому все явственнее звучит в душе голос об «измене алтарю». «Мне
становилось недостаточно смены "мировоззрения", - вспоминает впоследствии
Булгаков, - "левитская" моя кровь говорила все властнее, и душа жаждала
священства, рвалась к алтарю»1. И не случайно Е. Н. Трубецкой - в духовном
прозрении - сказал однажды Сергею Николаевичу, что он рожден в епитрахили.
Но много еще препятствий стояло на этом пути; одни из них могли быть
преодолены личной волей и мужеством, другие - только благодатью Божией.
В интеллигентской, и особенно в университетской среде, «принятие
священства, по крайней мере, в состоянии профессора Московского университета, доктора
политической экономии, являлось скандалом, сумасшествием или юродством и, во
всяком случае, самоисключением из просвещенной среды»2.
Сергей Николаевич собирался с мужеством и, наконец, обрел его в себе...
Но вставало другое препятствие - идейное, непреодолимое собственными
силами: «то была связь Православия с самодержавием, приводившая к недопустимой
зависимости Церкви от государства». Этого препятствия Сергей Николаевич
перешагнуть не мог и не хотел. Но вот революция 1917 г. устрнила его: "Церковь
оказалась свободной, она потеряла свой государственный авторитет, она получила в
лице Всероссийского Патриарха Тихона достойного Главу". Вместе с Церковью
свободным становится и Сергей Николаевич...
В январе 1918 г. он узнает об обстреле Крымского побережья, где в то время
находилась его семья; появляются даже основания предположить о ее гибели. «Я
оставался один пред лицом Божиим, - вспоминает впоследствии отец Сергий. - И
тогда я почувствовал, что меня уже ничто не удерживает и нет оснований
откладывать то, что я вынашивал в душе, по крайней мере десятилетие»3.
Оправившись с трудом от тяжелого ночного приступа аппендицита, Булгаков
решает энергично действовать и в первую очередь обращается к одному из
Московских викариев - к Преосвященному Феодору, епископу Волоколамскому, ректору
Московской Духовной академии, который несколько лет тому назад рукополагал
отца Павла Флоренского и лично знал Сергея Николаевича.
Заручившись его согласием, Булгаков обращается за благословением к
Патриарху Тихону, который недавно - в Рождественские дни - поручил Сергею
Николаевичу составить текст первого послания Патриарха, возвещающего о его
вступлении на Патриарший Престол. Сергей Николаевич достойно выполнил это
поручение, и послание было оглашено во всех храмах в праздник Крещения Господня.
Патриарх Тихон, выслушав Булгакова, заметил, смеясь: «Вы в сюртуке нам
нужнее, чем в рясе!» Он сам имел желание рукоположить Сергея Николаевича, но
1 Автобиографические заметки. С. 37.
2 Там же. С. 37-38.
3 Там же. С. 38.
376
по своему смирению и доброте во избежание большого шума вокруг этого события
согласился поручить Преосвященному Феодору рукоположить Булгакова в
Троицын день во диакона в Даниловом монастыре (где пребывал епископ Феодор), а в
Духов день - во иерея в кладбищенском храме Святого Духа.
Наступает Страстная седмица 1918 г. Сергей Николаевич готовится к принятию
священного сана. Он стремится пожертвовать Богу всем - своим разумом, волей,
сердцем, всем существом, всей своей жизнью, отдать Ему свою любовь.
О намерении Булгакова знают только ближайшие его друзья, которые
разделяют его волнения, его радости, с которыми соединяют понимание и любовь... Дома
Сергей Николаевич один о 17-летним сыном Федей, который является в эти дни
его радостью, поддержкой и утешением.
«Страстная седмица перед рукоположением состояла для меня в умирании для
этой жизни, которое началось для меня с принятием моего решения, - вспоминает
впоследствии отец Сергий. — ...Это умирание есть вольное, но и неизбежное... Это
была как бы длительная агония, каждый день приносил новые переживания, и то
были муки, которых невозможно описать. Но не было ни одного мгновения, когда
мелькнула бы мысль об отступлении... Это умирание явилось для меня тогда
совершенно необходимым и важным, каким-то духовным заданием... Оно для меня
неожиданно и непроизвольно возникло и как-то тлело и, тлея, жгло меня. Эта
мука духовного рождения была великая милость Божия...»1.
Духовные переживания Булгакова во время его рукоположений в чины диакона
и иерея, а также некоторые бытовые детали в эти памятные дни лучше всего
передать его собственными словами.
9 июня 1918 г., «в канун Троицына дня, я отправился в Данилов монастырь,
неся с собой узел с духовным платьем, к Преосвященному Феодору, там я и
ночевал... В день Святой Троицы я был рукоположен во диакона. Если можно
выражать невыразимое, то я скажу, что это первое диаконское посвящение пережито
мною было как огненное. Самым в нем потрясающим было, конечно, первое
прохождение через царские врата и приближение к святому престолу. Это было как
прохождение чрез огонь, опаляющее, просветляющее и перерождающее. То было
вступление в иной мир, в Небесное Царство. Это явилось для меня началом нового
состояния моего бытия, в котором с тех пор и доныне пребываю...
Когда я шел домой по Москве в рясе2, вероятно, с явной непривычностью
нового одеяния, я не услышал к себе ни одного грубого слова и не встретил грубого
взгляда. Только одна девочка в Замоскворечье приветливо мне сказала:
"Здравствуйте, батюшка!" И буквально то же самое повторилось и на следующий день, когда я
возвращался уже священником.
В день Святого Духа епископ Феодор решил служить в кладбищенском храме
Святого Духа, и туда мы шли из Данилова монастыря крестным ходом; я шел в
стихаре с дьяконской свечой рядом с епископом. То было немалое расстояние, но
прошли его спокойно и беспрепятственно. К рукоположению пришли в храм и
друзья мои, бывшие тогда в Москве. Вспоминаю прежде всего отца Павла
Флоренского (со своим Васей), участвовавшего и в литургии... Переживания этого
рукоположения, конечно, еще более неописуемы, чем диаконского, - "удобее молчание".
Епископ Феодор сказал мне в алтаре слово, которое меня потрясло... Была общая
радость, и сам я испытывал какое-то спокойное ликование, чувство вечности.
Умирание миновало, как преходит скорбь страстных дней в свете пасхальном. То, что я
переживал тогда, и была та пасхальная радость»3.
1 Там же. С. 40-41.
2 «Бог помог мне с тех дней всегда сохранять "духовный облик", хотя были времена, когда
от меня требовали ему измены под угрозой опасности смертной» ( Там же. С. 40).
3 Там же. С. 41-42.
377
13. Первые литургии отца Сергия. Углубление дружбы
с отцом Павлом Флоренским. Отъезд к семье в Крым
Отец Сергий совершал свои первые литургии в храме в честь иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость», в детском приюте на Зубовском бульваре, где
он и поселился вместе с отцом Павлом Флоренским. Булгаков был приписан к
храму Ильи Обыденного в Обыденном переулке, вблизи храма Христа Спасителя,
где он также отслужил несколько литургий до своего отъезда в Крым. Отец Павел
остался в Москве на некоторое время после рукоположения отца Сергия, чтобы
поруководить его начальными богослужениями.
В течение последних лет, и особенно в Москве, их дружба углубилась еще
больше и закрепилась на всю жизнь. Отец Сергий вспоминал об отце Павле с
исключительной любовью и почтением: «Из всех моих современников, которых мне
суждено было встретить за мою долгую жизнь, он есть величайший... Он отошел,
озаренный ореолом исповедника имени Христова... Отец Павел был для меня не
только явлением гениальности, но и произведением искусства: так был гармоничен
и прекрасен его образ. Нужно слово или кисть или резец великого мастера, чтобы
о нем миру поведать. При этом он сам не только родился таким, но был и
собственным произведением духовного художества, для чего ему была присуща вся
тонкость духовного и художественного вкуса... Я был свидетелем этой его
аскетической самодисциплины, как и его трудового научного подвига... Все в нем было не
только голосом его духовной стихии, но и делом железной воли и самообладания...
В его лице было нечто восточное и не русское (мать его была армянка). Мне же
духовно в нем виделся более всего древний эллин, а вместе еще и египтянин; обе
духовные стихии он в себе носил, будучи их как бы живым откровением... У него
был нежный, тихий голос, большая прелесть. Однако в этом голосе звучала и
твердость металла, когда это требовалось. Вообще, самое основное впечатление от отца
Павла было впечатление силы, себя знающей и собою владеющей. И этой силой
была некая первозданность гениальной личности, которой дана самобытность и
самодовлеемость при полной простоте и естественности... И в путях духовного
развития и самоопределения мы наблюдаем в отце Павле эти же самые черты. Можно
сказать в известном смысле, что отец Павел сам себя сделал, подойдя своим
собственным путем»1.
«...До отца Павла священство являлось у нас наследственным,
принадлежностью "левитской" крови, вместе и известного психологического уклада жизни, но в
отце Павле встретились и по-своему соединились культурность и церковность,
Афины и Иерусалим, и это органическое соединение само по себе уже есть факт
церковно-исторического значения... Отец Павел имел призвание и к пастырству, и
к учительству, но прежде всего и больше всего его влекло к предстоянию Престолу
Господню, к служению литургически-евхаристическому... Голос вечности звучал в
нем сильнее зовов временности... Для меня минувшие, вместе прожитые годы дали
навсегда сохранить в душе его образ, как бы отлитый из бронзы, подобно
памятнику...»2.
Не успел отец Павел уехать из Москвы, как немедленно после рукоположения
отец Сергий вышел из состава профессоров Московского университета.
В это же время пришла тревожная весть из Крыма от семьи, и отец Сергий,
оставив временно Федю в Москве, в июле 1918 г. отправился туда, чтобы встретиться -
теперь уже священником - с остальными членами своей семьи, а через месяц
вернуться к Феде. Однако возвращение в Москву, несмотря на многочисленные
энергичные попытки отца Сергия, оказалось абсолютно невозможным2*.
1 Священник о. Павел Флоренский // Вестник РСХД. 1971. № 101/102. С. 126-128.
2 Там же. С. 131, 132, 134.
378
14. Жизнь и творчество в Симферополе (1918-1922 гг.).
Выезд из СССР
После приезда в Крым и свидания с семьей отец Сергий обосновывается в
Симферополе, где он начинает священствовать.
Здесь он сближается с одним католическим священником литовской
национальности, получившим духовное образование в Риме, человеком просвещенным и
глубоко убежденным в истовости своего вероисповедания. Пользуясь его книгами,
отец Сергий с живым интересом изучает католичество, даже увлекается им и
проводит критическую проверку церковного воззрения на устройство исторической
Церкви и папское главенство.
Вскоре он приходит к убеждению, что римо-католикам особенно свойственно
абсолютизировать относительное и историческое. Отсюда проистекает и
вероисповедная исключительность, которая не признает права на существование
исторических различий в Церкви. Отец Сергий не раскаивается в своем увлечении, так как
считает его неизбежным этапом в диалектике своего церковного самосознания, и
даже спасительным, поскольку он «навсегда потерял духовный вкус к папизму» и
еще более утвердился в абсолютной верности Православию в его мистической и
догматической сущности.
Глубокие размышления отца Сергия над судьбами исторической христианской
Церкви с ее вероисповедными различиями приводят его постепенно к идее
«экуменического православия»1. Он понимает, что не настало еще время для
справедливых взаимных отношений между восточным и западным христианством и для
объективного признания и уважения каждого вероисповедания в его исторически
сложившемся своеобразии. Однако он полагает, что живая церковность должна
ставить своей задачей церковную любовь во взаимном общении во имя грядущего
воссоединения христианских Церквей.
В течение этого сложного периода жизни отца Сергия в Крыму, в постоянных
волнениях за старшего сына в Москве отец Сергий пишет следующие труды: 1) «На
пиру богов». Статья издана в России в 1918 г.2; 2) «Трагедия философии». Статья
написана в 1920 г., впервые опубликована на немецком языке в 1927 г.3. (Одна
глава ее - «О природе мысли» — вышла из печати на русском языке в 1971 г.4);
3) «Философия имени». Книга написана в 1920 г., издана в 1953 г. в Париже; 4) «У
стен Херсониса». (Неопубликованный диалог, написан в 1922 г.)3*
30 декабря 1922 г. отец Сергий выезжает из СССР вместе с женой - Еленой
Ивановной, дочерью Марией и младшим сыном Сергием, родившимся в 1911 г., и
направляется в Константинополь.4*
15. Гимн Булгакова храму Святой Софии.
Размышления о будущей Вселенской Церкви
Константинополь. Отец Сергий в храме Святой Софии. Все жизненные драмы в
его сердце замирают, тонут в блаженстве лицезрения храма непревзойденной
красоты. Он воспринимает его как «Храм безусловный, Храм вселенский». В его душе
звучит пасхальная радость, безграничное благодарение Богу, что Он удостоил его
увидеть такое чудо красоты.
1 Автобиографические заметки. С. 50.
2 В сб.: Из глубины. М.; Пг., 1918.
3 Die Tragödie der Philosophie. Übers, von AI. Kresling. Darmstadt, 1927.
4 Вестник РСХД. № 101/102.
379
«Эта непередаваемая на человеческом языке легкость, ясность, простота,
дивная гармония, при которой совершенно исчезает тяжесть купола и стен, это море
света, льющегося сверху и владеющего всем этим пространством, замкнутым и
свободным, эта грация колонн и красота их мраморных кружев, эта царственность
золотых стен и дивного орнамента - пленяет, умиляет, покоряет, убеждает...
Ощущается потеря собственной тяжести... Это чувство крылатости, как птицы в
синем небе, дает не счастье, не радость даже, но блаженство - какого-то
окончательного ведения мира в единстве... Это — и не небо, и не земля, а свод небесный
над землей. Здесь не Бог и не человек, но сама Божественность, Божественный
покров над миром. Как правильно было чувство наших предков в этом храме, как
правы были они, говоря, что не ведали они, где находятся: на небе или на земле...
Святая София есть последнее, молчаливое откровение в камне греческого гения,
завещание векам... В святой Софии складывалась и зазвучала во всей полноте и
красоте Божественная, софийная симфония православного богослужения.
...Ныне здесь молятся Аллаху, святыня отнята от Христа... Однако и теперь
здесь молятся достойно... Бог сдвинул светильник и отдал храм чужому народу,
как некогда отдал святыню перзого Храма завоевателям... София есть Храм
вселенский и абсолютный, она принадлежит вселенской Церкви и вселенскому
человечеству, вселенскому будущему Церкви. А теперь, пока нет явления вселенской
Церкви в ее силе и славе, в век раскола церковного, внешнего и внутреннего, в век
распадения и обособления, отнят этот храм у христиан и отдан местоблюстителям.
...Было бы делом величайшей слепоты и исторической неблагодарности
отделить святую Софию от породившей ее Византии. Ибо тот же самый эллинский
гений, который породил и богословие Вселенский Соборов* воздвиг над Церковью
купол христианской догматики и покорил мир церковною сладостью
богослужения. И вне эллинства не мог зазвучать с такой победной чистотой голос Софии, зов
вселенского христианства... Но не вселенская власть утверждает вселенскую
Церковь, а вселенская любовь... София - всенародна и сверхприродна, она -
Вселенская Церковь, все народы зовущая под свой купол... София была создана раньше
великого церковного раскола и возвращена она может быть христианскому миру,,
лишь когда последний исцелеет от этой раны... Раньше конца истории должна
явиться полнота Церкви. О ней пророчествует святая София. Это - голос истории,
это - превозмогающая сила Церкви...»1.
С такими глубокими идеями об экуменическом вселенском Православии отец
Сергий покидает храм святой Софии и Константинополь, унося в душе
несокрушимое намерение осуществлять эти идеи - по мере сил - на протяжении всей своей
дальнейшей пастырской деятельности.
16. Переезд отца Сергия в Чехословакию.
Профессура, религиозно-общественная деятельность
и труды в Праге
В 1922 г. чешское правительство разрешило въезд в Чехословакию русским
ученым и предложило им материальную помощь, обеспечивающую их скромное
существование в Праге. Благодаря активности П. И. Новгородцева 18 мая 1922 г.
при Пражском государственном университете был организован Русский научный
институт.
В связи с этим отец Сергий - после полугодичного пребывания в
Константинополе - переезжает с семьей в мае 1923 г. в Чехословакию. Он сразу становится
1 Автобиографические заметки. С. 94-102.
380
профессором церковного права и богословия на юридическом факультете Русского
научного института в Праге (с весны 1923 г. до лета 1925 г.). 30 мая 1923 г. он
выступает со вступительной лекцией на тему «Церковное право и кризис
правосознания»1.
В то же время он объединяет вокруг себя русскую молодежь с серьезными
религиозными запросами и, становясь ее духовным руководителем, ведет
систематический богословский семинар, посвященный новозаветному учению о Царствии
Божием, принимает самое активное участие в ряде важнейших религиозно-
общественных предприятий молодежи. В октябре 1923 г. он становится главным
организатором Братства святой Софии в Чехословакии.
Параллельно с этой многогранной деятельностью отец Сергий пишет ряд
статей, которые публикуются в регулярно выходящем журнале «Духовный мир
студенчества» и в других международных и пражских изданиях2.
Исключительно важно отметить, что именно в Праге отец Сергий впервые
работает над чисто богословской книгой «Святые Петр и Иоанн. Два первоапостола»,
которая выходит в свет в Париже в 1926 г.
28 апреля 1924 г. происходит знаменательное событие в жизни отца Сергия -
его встреча с профессором В. В. Зеньковским и доктором Джоном Моттом, на
которой обсуждается проект создания Православной Духовной академии в Париже, где
отец Сергий должен занять ведущее место.
В связи с этим проектом Булгаков едет в декабре 1924 г. на конференцию в
Лондон, чтобы произвести сбор средств на создание Духовной академии. Эту
миссию он выполняет весьма успешно.
,17. Новая встреча с «Сикстинской мадонной».
Размышления отца Сергия о православной иконописи
и искусстве западного Ренессанса
Отец Сергий по пути в Лондон спешит побывать в Германии и посетить
Дрезденскую галерею, чтобы еще раз встретиться с «Сикстинской мадонной».
С трепетом, но без прежней радости входит он в Zwinger и устремляется прямо
в заветный зал. Входит и не узнает - или это не она, или он уже не тот. Не
дрогнуло сердце, осталось спокойным, ибо увидел он дивную человеческую красоту,
но... с религиозной двусмысленностью и безблагодатностью. И понял: молиться
перед этой картиной нельзя... Без вдохновения, со щемящей болью от пустоты в
сердце, от разочарования созерцал он загадочный образ с его магическим
очарованием, силясь разгадать причину глубокого изменения впечатления... Я уразумел:
Рафаэлевская картина Богоматери не есть икона Пречистой Приснодевы. В образе
Мадонны явлена дивная женственность, выражающая жертвенную
самопреданность, чудная женщина, полная обаяния, красоты и мудрости. Но нет здесь девст-
1 Ученые записки Русского юридического факультета в Праге. 1924. № 3.
2 At the Feast of the Gods. Contemporary Dialogues. Trans, by A. G. Pashkov // The Slavonic
and East European Review. 1922-1923. Vol. 1. N 1, 2, 3; В Айа-Софии (Из записной книжки) //
Русская мысль. 1923. № 6/8; Об особом духовном призвании нашего времени // Духовный мир
студенчества. 1923. № 3; О путях и формах христианской активности // Там же; Новозаветное
учение о Царствии Божием. Протоколы семинара проф. прот. С. Н. Булгакова // Там же; Две
встречи (1894-1924). (Из записной книжки) // Русская мысль. 1923/1924. № 9/10; The Old and
the New. A Study in Russian Religion // The Slavonic and East European Review. 1923/1924. N 2;
Ипостась и ипостасность (Scolia к «Свету Невечернему») // Сб. статей, посвященных П. Б. Струве
ко дню 35-летия его научно-публицистической деятельности. Прага, 1925; Новозаветное учение
о Царствии Божием. Протоколы семинария проф. прот. С. Н. Булгакова // Духовный мир
студенчества. 1925. № 5.
381
ва и наипаче приснодевства. «В выражении Приснодева — αει παρθένος слово
αεις 5* - не временное определение в смысле состояния, но онтологическое в
смысле существа: в Приснодеве Марии отсутствует женственность, сопричастная греху в
женщине, но всецело царит только девство, в женском образе. Вот почему
бессильным, ибо ложным, оказывается всякий натурализм при Ее изображении: он
владеет лишь природностью, а последняя знает только женщину. В ведении этого
соотношения содержится ослепительная мудрость православной иконы. Это она, -
говорит отец Сергий, — обезвкусила для меня Рафаэля вместе со всей
натуралистической иконографией, она открыла глаза на это вопиющее несоответствие средств и
заданий. В аскетическом символизме строгого иконного письма ведь заключается
прежде всего сознательное отвержение и преодоление этого натурализма как
негодного и неуместного и просвечивает видение сверхприродного, благодатного
состояния мира. Поэтому икона не имеет отношения и к портретности, ибо и в ней
неизбежно таится натурализм, к которому роковым образом и влечется
религиозная живопись. И вот почему последняя никогда не достигнет цели, если видит свое
достижение не в религиозном, а в живописном эффекте.
Этим определяется судьба всего Ренессанса как в живописи, так и в скульптуре
и архитектуре. Он создал искусство человеческой гениальности, но не
религиозного вдохновения. Его красота не есть святость, но то двусмысленное, демоническое
начало, которое приоткрывает пустоту, и улыбка его играет на устах леонардов-
ских героев.
Творение Рафаэля отличается своим особым напряжением; оно ищет средствами
этой двусмысленной и — уже в этой двусмысленности - греховной красоты явить
Богородичное начало... И я увидел и почувствовал нечистоту, нецеломудрие
картины Рафаэля, сладострастие его кисти и кощунственную ее нескромность.
...И снова думается невольно: как мудро, с какой безошибочностью поступает
здесь церковная иконография, не делая уступок сентиментальности и не давая
никакого поощрения чувственности - все прикровенно и недоступно взору, кроме
лика и рук, но и они неизменно прикрыты трансцендированным стилем,
стилизованы. Икона не дает места похоти и ее тончайшим услаждениям, поэтому она суха
и бессодержательна для их любителей, но потому на икону и можно молиться
трезвенно и без соблазна.
...Эта фамильярность с Божеством, это мистическое обмирщение подготовили
то общее обмирщение, торжество языческого мироощущения, жертвою, а вместе и
орудием которого сделались деятели Ренессанса. Красота, двусмысленная и
обольстительная, розовым облаком застилает здесь мир духовный, искусство же
становится магией красоты.
И этой магией зачарованный, завороженный, сидел я на этом самом месте
четверть века назад, не умея понять, что же со мной происходит. Но тогда я трепетал
от религиозного восторга: не зная молитвы и не умея молиться, я пред нею
молился. Теперь же я, сохраняя полное самообладание, созерцал лишь художественное
произведение. И это было качественно иное, нежели испытанное тогда... То, что с
такой остротой я почувствовал в Сикстине, это же самое имеет силу для всей
религиозной живописи Ренессанса. Вся она есть очеловечение и обмирщение
Божественного: эстетизм - в качестве мистики, мистическая эротика — в качестве
религии, натурализм - как средство иконографии. Если выразить это в терминах
богословия, то здесь восторжествовало некое художественное арианство или же моно-
физитство. Была почувствована только человеческая стихия в Боговоплощении,
Божественное потускнело и заслонилось человеческой красотой, обольстительно-
двусмысленной, как улыбки на картинах Леонардо да Винчи, и человеческое без
духа перестало быть человеческим, стало плотским. Это оплотянение человечества
и ведет к религиозному упадку нового времени.
...Отрыв Запада от Востока, роковой церковный раскол духовно обездолил
Запад более существенным образом, нежели Восток.
382
...Но если отказаться от заблуждения, что картина Рафаэля является иконой и
вообще «Мадонной», то своей обаятельности и силы картина от этого не утратит.
Напротив, освобожденная от ложных притязаний, она предстает пред нами как
могучая и прекрасная человечность, как героическое искусство. Здесь даны образы
дивной красоты младенца и матери, чтобы выразить трагическую жертвенность и
волю к ней, высший amor fati6*, и то, что здесь явлено, влечет к себе и волнует,
художественно пленяет и покоряет. Эту картину нужно воспринимать как
изображение пути человеческого восхождения, который есть вместе с тем трагическая
судьба. Трагедия волнует нас высшим художественным волнением, она дает
очистительное просветление, сила ее — катарсис. Здесь явлена человеческая трагедия,
и то, чего отрицаемся мы в порядке религиозном как кощунства, это приемлемо
как трагическое постижение человеческих судеб в искусстве. Только в религии
разрешается трагедия, и ею она превозмогается, но трагический путь необходимо
ведет к религии. Трагедия может быть религиозно омыслена как духовное
рождение, рассечение плотского сердца к воспламенению в нем Божественного огня.
...Так и мое давнее переживание перед «Сикстинской мадонной», не будучи еще
религией, оно к ней внутренне вело, становилось путем религиозного восхождения.
И верный религиозный инстинкт за трагическим прозревал религиозное... Та же
человеческая напряженность, которая меня тогда потрясла, она и теперь сохраняет
силу и внутреннюю убедительность, если не приписывать ей несоответственного
значения и не смешивать человеческого и благодатного. Разумеется, теперь и для
меня эта переоценка явилась разочарованием; я почувствовал себя потерянным,
навсегда похоронившим нечто дорогое. Но при этом и радостно было ощущать
вечную природу духа, который никогда не остается на месте, но всегда живет; трудно,
но вразумительно было вдруг в одном мгновении почувствовать какой-то огромной
значительности итог прожитой жизни и, несмотря на все, нельзя не подивиться
благодарным удивлением силе творения, которое, словно не подвластное времени,
смотрит в душу со своего холста и собою меряет времена и сроки души. Я
удалился в волнении и задумчивости»1.
18. Православный Богословский институт в Париже.
Протоиерей Сергий Булгаков - профессор
догматического богословия
Наступил знаменательный для зарубежных приходов Русской Православной
Церкви 1925 год. Митрополит Евлогий (Георгиевский; 1868-1946), назначенный
Патриархом Тихоном для возглавления Русской Православной Церкви в Западной
Европе, решил создать в Париже новый приход (кроме существовавшего Александ-
ро-Невского приходского храма) и осуществить проект организации Духовной
академии, намеченный им еще в 1924 г. в Праге совместно с В. В. Зеньковским,
отцом Сергием Булгаковым и Дж. Моттом. Благодаря благодатной помощи Божией,
дерзновенной вере митрополита Евлогия, огромной энергии его сотрудников и
обильным пожертвованиям русских и иностранных друзей, удалось в праздник
Преподобного Сергия Радонежского приобрести на аукционе подходящую усадьбу
по улице Крымской, № 93. На высоком холме, в глубине двора, среди ветвистых
деревьев находилось очень запущенное двухэтажное здание бывшей немецкой
школы внизу и протестантской кирхи вверху. Это было удивительно уединенное,
тихое место, подобное некоей пустыни в шумном Париже. На той же территории
находилось еще четыре небольших заброшенных домика. Вся эта усадьба получила
название Сергиевского Подворья.
1 Автобиографические заметки. С. 105-113.
383
Безвозмездными трудами талантливого русского художника-иконописца
Д. С. Стеллецкого немецкая кирха была вскоре преобразована в чудесный
древнерусский храм. Стены и своды покрылись росписью по образцу замечательных
фресок XVI в. знаменитого Ферапонтова монастыря. Был воздвигнут многоярусный
иконостас с царскими вратами XIV в., приобретенными у одного антиквара.
Множество пожертвованных икон украсило весь храм.
Обширное помещение на нижнем этаже, под церковью, было преобразовано в
аудитории для организованного Православного Богословского института с
прилегающими к ним спальнями для студентов. Во время некоторых больших
праздников в более обширной аудитории ставился небольшой иконостас, что придавало ей
вид домашней церкви. Здесь часто служил вдохновенно утреню и литургию отец
Сергий Булгаков, зажигая сердца своим победно ликующим видом.
Два ближайших к церкви флигеля были отремонтированы и отведены для
квартир священнослужителей и профессуры. В левом флигеле (если обратиться
лицом к церкви), на втором этаже жил в скромной трехкомнатной квартире отец
Сергий Булгаков с семьей.
В состав профессуры Богословского института вошли съехавшиеся в Париж из
разных стран специалисты, обладающие большой богословской эрудицией и
высокой профессиональной культурой.
Митрополит Евлогий в своих воспоминаниях «Путь моей жизни»1 дает яркую
характеристику представителей этой профессуры.
«Отец Сергий Булгаков (1871-1944) занял кафедру догматического богословия.
Он - крупная величина, богослов большой образованности и дарования. Истину
Православия он выносил долгим и тяжким жизненным опытом... Булгаков отдался
служению Церкви Божией со всем пламенем очищенной страданиями души. Он
сделался ревностным пастырем-молитвенником, прекрасным проповедником и
духовником, священником, с трепетным благоговением совершающим таинство
святой Евхаристии. В области богословской науки он оказался плодотворнейшим
писателем. Им написано несколько замечательных богословских книг. На всех
богословских трудах о. Сергия лежит печать большого таланта.
Курс патрологии был поручен Георгию Васильевичу Флоровскому (1893-1979),
протоиерею, принявшему священство в 1931 г. Он с большой ревностью занимался
своей специальностью и путем усидчивого труда достиг широких знаний. За годы
преподавательской деятельности в Богословском институте он издал большой труд
«Вселенские отцы церкви» (в двух томах) и «Пути русского богословия».
На смену прежним профессорам приходили наиболее одаренные молодые
преподаватели, окончившие Богословский институт.
С июля 1925 г. отец Сергий окончательно обосновался в Париже. Этот год
знаменует собой новый, исключительно плодотворный период в его жизни, связанный
на протяжении почти 20 лет с его многогранной - богословской, педагогической,
пастырской, общественной и экуменической - деятельностью. Наряду с
преподаванием догматического богословия отец Сергий до конца своей жизни остается
бессменным деканом Богословского института.
Он ведет жизнь подвижника, но его аскетизм никогда не становится
нарочитым; на нем лежит печать естественности и православной трезвенности.
Обстановка его личной комнаты предельно убога: в правом углу у него лишь
несколько любимых икон, в том числе Новгородской Софии, Премудрости Божией,
и Ангела Хранителя - письма иконописицы сестры Иоанны. На стене у икон -
четки, по которым отец Сергий всегда молится, совершая свое утреннее и вечернее
правило. Перед иконами - подобие малого аналоя в виде треугольного столика, на
котором лежат молитвенники и некоторые богословские книги.
1 Митрополит Евлогий (Георгиевский). Путь моей жизни. Воспоминания, изложенные по
его рассказам Т. Манухиной. Париж, 1947. С. 446-453.
384
В комнате — простой рабочий стол, сколоченная из досок книжная полка,
железная кровать со скромнейшей постелью, два железных стула с деревянными рейками
(какие обычно встречаются в садах). Только в последние годы жизни, уже
ослабленный и больной, отец Сергий соглашается — после настойчивых уговоров ближайших
друзей - принять от них два кресла: деревянное к столу и мягкое для отдыха.
Если к отцу Сергию приходит близкий ему человек, он принимает его в своей
комнате. Если его посещает большое число друзей или молодежь, он устраивает в
своей скромной столовой гостеприимное чаепитие, во время которого становится
непосредственным, радостным, лучезарным, полным любви, смеющимся со
свойственным ему юмором.
Рабочий день отца Сергия строго распределен. Вечером он ложится
сравнительно рано и засыпает, а ночью страдает от наследственной бессонницы, которая
становится особенно мучительной в последние годы жизни; под утро засыпает, но
никогда не может позволить себе отдохнуть: рано звенит беспощадный будильник,
и отец Сергий, преодолевая усталость и сон, немедленно встает и идет в церковь,
так как считает себя обязанным присутствовать на утрени, которая совершается
ежедневно для студентов перед завтраком и началом лекций. Два раза в неделю
отец Сергий сам служит раннюю литургию.
После службы и утреннего чая, если у него нет лекций, он садится за свою
богословскую работу, которую продолжает и днем; вечером и ночью он не пишет
научных трудов. Вообще весь день отца Сергия занят непрерывным напряженным
трудом: сверх упомянутых богослужений и богословского творчества — лекции и
воспитательская работа в Богословском институте, выступления с речами и
докладами на различных конференциях и съездах, частые поездки - близкие и дальние,
преследующие экуменические цели, разнообразные пастырские обязанности,
проповеди в устной и письменной форме (для публикации в так называемых
«Сергиевских листках»), беседы с духовными детьми и т. п.
Духовное влияние отца Сергия на друзей и учащуюся молодежь очень глубоко.
Его облик и воздействие ярко запечатлены в воспоминаниях его почитателей и тех
одаренных студентов, которые впоследствии внесли свой посильный вклад в
православное богословие и пастырское служение.
19. Воспоминания о протоиерее С. Булгакове,
характеризующие его личность
Среди почитателей и друзей отца Сергия прежде всего следует упомянуть
профессора Л. А. Зандера (1893—1964), человека высокой духовной и философской
культуры, который до самых тонкостей постиг и изложил все его творчество как
целостную богословскую систему в двух фундаментальных томах под заглавием «Бог
и мир» (Париж, 1948).
«В течение двадцати лет, - пишет Л. А. Зандер, - мне было дано жить и
работать в свете мудрости и вдохновений о. Сергия. Это лучшее время моей жизни
было увенчано единственным и редким счастьем: возможностью писать о любимом
учителе еще при его жизни, беседовать с ним по поводу написанного, слушать его
собственные слова о моем труде, полные смирения и любви...»1
«Ничто не поражает в о. Сергии так сильно и глубоко, как слияние воедино
двух стихий: священства, связанного со всем богатством церковного прошлого, и
пророчества, устремленного к грядущему. Но этот порыв ввысь, эта ненасытность
его духа в принятии Божества сообщает всему его творчеству силу огненного
потока, сжигающего сердца и увлекающего за собой к своему первоисточнику - Богу»2.
1 Зандер Л. А. Бог и мир. Т. 1. С. 7.
2 Там же. С. 18.
13 Зак. 487
«Церковный характер мысли о. Сергия мы должны определить как
"церковность изнутри": он церковен не потому, что хочет быть в согласии с тем или иным
признанным или утвержденным учением, но потому, что любит Христа, потому,
что Церковь для него — высшая Реальность, Правда и Красота»1.
Н. С. Арсеньев (1888 — 1977) - профессор православного факультета
Варшавского университета (с 1926 по 1938 г.) - делится такими воспоминаниями: «В о.
Сергии Булгакове было большое горение духовное и большая сила веры, и этим
своим пламенем духовным он часто зажигал души других... Его горящий интерес к
великому обетованию о преображении твари через подвиг Христов я высоко ценю и
чту... Он многим указал путь ко Христу; у многих раскрыл глаза на действие
Слова Божия в мире и истории. Имя его займет почетное место в истории русской
духовной жизни и духовной культуры как ревностного и пламенного служителя и
проповедника Воплощенного Слова»2.
Профессор В. Н. Ильин (1891-1974), трудившийся в Богословском институте в
Париже вместе с протоиереем Сергием Булгаковым многие годы, свидетельствует:
«С творчеством С. Н. Булгакова я познакомился еще в 1905-1906 гг. Он прогремел
тогда на всю Россию серией своих превосходных лекций о Чехове и рядом статей,
вошедших впоследствии в великолепнейший сборник "Тихие думы"... Самым
сильным и глубоко действующим во всем духовном облике протоиерея С. Булгакова в
эпоху моей первой встречи с ним в 1924 году был его общий благостный стиль
православного священника... С первых же шагов общения с ним переживался
священник-левит, которому дана власть вязать и решить, совершать литургию и
данной ему благодатью от Бога уводить за собою в ограду огня. Такова же была сила
его проповеднического и духовнического дара. Удивителен был его богословско-
метафизический и философский гений и широчайший, глубочайший опыт его
иерейского служения. Тот, кто имел радость присутствовать на его служениях или
быть его духовным сыном, тот никогда не забудет этого и унесет счастье "по ту
сторону огненной преграды". А сколько было грозы в его черейской благодати,
грозы, прогонявшей всякого рода темные силы... И в наше время никто (за
исключением старца Алексея Мечева), никто так высоко и так благоговейно не нес над
своей главой "Кивот и Крест - символ святой", как именно отец Сергий Булгаков.
Быть может, именно по этой причине постиг он в такой глубине две таких
величайших церковных ценности, без которых Церковь не стоит в наших сердцах, -
молитвы и чуда»3.
Для полноты обрисовки личности протоиерея Сергия Булгакова следует
привести воспоминания двух его учеников - бывших студентов Богословского института
в Париже.
Протоиерей Александр Шмеман вспоминает своего незабвенного учителя в
статье4, написанной к столетию со дня рождения отца Сергия Булгакова: «Что дал мне
о. Сергий? - Дал тот огонь, от которого только и может возгореться другой огонь;
дал почувствовать, что только в прикосновении к Божественному Свету, к Его
исканию и созерцанию - единственное подлинное назначение человека; окрылил своим
горением и полетом, своей верой и радостью; приобщил меня к кому-то самому
лучшему и чистому в духовной сущности России... Почвой о. Сергия было несомненно
русское Православие... Но открыт он был и ко всему подлинному и на Западе. У него
было подлинно вселенское вдохновение веры. И все же из всех исторических
воплощений христианства кровно и органически любил он воплощение русское...
Его творчество направлено не только вовнутрь - к Церкви, но и вовне - к
миру, тоскующему по целостной вере, которую созерцает о. Сергий именно в русском
1 Там же. С. 21.
2 Арсеньев Н. С. Памяти о. Сергия Булгакова // Вестник РСХД. 1971. № 101/102. С. 61.
3 Ильин В. Н. Памяти о.Сергия Булгакова // Там же. С. 61-64.
4 Шмеман Α., προτ. Три образа // Там же. С. 9-24.
386
Православии как "данность" его и одновременно — "заданность". Вот откуда
сочетание в его образе некоего "почвенного" русского священника с безостановочным
полетом мысли, с неутомимым желанием поведать - какую глубину, какую
красоту, какую всеобъемлющую истину находит блудный сын, вернувшийся в Отчий дом.
...Навсегда врезалось в память воспоминание о всенощной на Сергиевском
Подворье под Вербное Воскресение... Вот открываются царские врата, и посредине
храма начинают читать медленно и проникновенно Евангелие... И вот навсегда, на
всю жизнь запомнилось мне лицо, лучше сказать - лик о. Сергия, на которого я
случайно взглянул в этот момент. Никогда не забуду его светящихся каким-то
тихим восторгом глаз, и слез его, и всего этого стремления вперед и ввысь, - туда,
где уготовляет Христос последнюю Пасху с учениками Своими... Тогда поразил и
всегда поражал меня больше всего в о. Сергии его "эсхатологизм", его всегдашняя
радостная, светлая обращенность к концу. Из всех людей, которых мне довелось
встретить, только о. Сергий был "эсхатологичен" в прямом, простом, первохристи-
анском смысле этого слова, означающем не только учение о конце, но и ожидание
конца... Сколько христиан действительно ждет Господа и живет этим
ожиданием?.. А о. Сергий действительно жил ожиданием Господа, был не только
сознательно, именно светло и радостно обращен к смерти, и для него все в этой жизни
уже светилось светом грядущего Царства. И Вербное Воскресение он так
переживал именно потому, что для него (как и для Церкви) оно было праздником
эсхатологическим, вспышкой в этом мире, "уверением" на земле вечного Царства Божия,
сверкнувшими лучами славы его... Только любовь ждет и живет ожиданием...
Только любовь побеждает страх смерти... И именно эта любовь ко Христу
струилась из образа о. Сергия, и она, конечно, поразила меня за той Вербной
всенощной. Не случайно каждая "из больших книг его последней трилогии заканчивается
первохристианским призывом: "Ей, гряди, Господи Иисусе!" Не поняв этого, не
ощутив пронизанности эсхатологическим ожиданием всего творчества о. Сергия,
невозможно ни правильно понять, ни правильно оценить его богословской мысли.
Наконец, протоиерей Алексий Князев вспоминает: «Отец Сергий Булгаков
поразил нас, студентов, смелостью своей проблематики во всех областях богословия.
Его одаренность как мыслителя, его незаурядная философская культура, его
богословский и научный опыт сочетались у него с глубокой церковностью и
несомненной харизмой служения у алтаря. Он показал, что знание о Боге может при
известных условиях стать знанием Бога. Собственным примером он явил, что бого-
мыслие может стать одним из привходящих моментов религиозной жизни. Он
пробудил во мне богословское призвание и направил меня по научно-богословскому и
по пастырскому пути»1.
20. Пастырское служение протоиерея Сергия Булгакова
Отец Сергий был всегда с неиссякаемым энтузиазмом обращен всем своим
духом, всем сердцем и разумом к первохристианству, ибо именно оно, вопреки всем
человеческим ожиданиям, всем естественным закономерностям, оказалось могучей
обновляющей силой, животворящей и созидающей в историческом процессе.
Булгаков был убежден, что первохристианство - несмотря на неисторичный,
эсхатологический характер своего миропонимания, на постоянную обращенность к
близкому концу и к радостной встрече с Живым Христом - в высшей степени
успешно и энергично выполнило ту историческую миссию, которая была завещана
ему Христом. Поэтому первохристианство является нормой деятельности и для
всего исторического христианства в любую эпоху до скончания века.
Князев Α., προτ. Памяти отца Сергия Булгакова // Там же. С. 56-57.
Булгаков не только изучал первохристианство, но непрерывно поучался и
вдохновлялся подвигами первохристианского служения, запечатленными кровью
мучеников, страданиями исповедников, трудами апостолов; он неизменно
просвещался светом, зажженным от лампады, теплившейся в катакомбах и знаменующей
радостную зарю нового дня.
Поэтому в душе отца Сергия всегда горел огонь первохристианской любви ко
Христу и не ослабевало восхищение первохристианским мужеством, его блаженной
радостью о Духе Святом, обилием его благодатных даров, подлинностью его живого
Богообщения. По этой причине и все пастырское служение Булгакова было
пронизано первохристианским духом. Это ярко отражалось в его богослужении, особенно
евхаристическом, в его пламенных проповедях и выступлениях, в его духовниче-
ском подвиге, полном первохристианской любви.
Так, протоиерей Борис Старк вспоминает, что «о. Сергий не служил, а горел, и
это особенно чувствовалось в Пасхальную ночь, когда, совершая каждение в храме
или же в его ограде, он, казалось, не шел по земле, а было явное ощущение того,
что он летит по воздуху, и его лицо озарялось светом такой радости, что черты
лица совершенно пропадали».
Протоиерей Александр Шмеман вспоминает об отце Сергии, служащем
литургию: «О. Сергий действительно литургисал. Что-то было в его служении, в самой
его угловатости и порывистости первобытное и стихийное... Он до конца, до
предела растворялся в нем, и впечатление было такое, что литургия служится в первый
раз, падает с неба и возносится от земли впервые»1.
Отец Сергий Булгаков, как мы уже упоминали, страдал, что у него не было
своего храма, своего прихода. Но в последние годы его жизни ему устроили придел
на Сергиевском Подворье, где он мог один служить ранние литургии. Естественно,
что вокруг него сформировалась группа его духовных детей, которую он часто
приглашал к себе на чай после богослужения. Эти встречи напоминали первохристи-
анские «агапы» - «вечери любви»; на них велись оживленные богословские,
церковные и вообще духовные беседы.
Проповеди и поучения протоиерея Сергия Булгакова обладали исключительной
духовной силой. Некоторая часть их — по просьбе членов студенческого братства.
Преподобного Сергия - публиковалась в так называемых «Сергиевских листках», а
затем была издана в 1938 г. в сборнике «Радость церковная».
В предисловии к сборнику отец Сергий подчеркивал, что «идеальная проповедь
должна являться произведением религиозного искусства, как икона или
священный гимн». Он глубоко сожалел, что не имел никакой возможности довести свои
проповеди и поучения до совершенного вида, однако не считал себя вправе
отказать настоятельным просьбам в их напечатании. Приводим их заглавия (по
сборнику «Радость церковная»):
1. Сила Крестная. (На Воздвижение Креста Господня).
2. Светлый Покров над миром.
3. Храм храма. (Слово в день Введения во храм Пресвятой Богородицы).
4. Пречистое Материнство.
5. Небо - вертеп. (Слово на Рождество Христово).
6. Издалече пришли мы. (Слово на Рождество Христово).
7. Дары волхвов.
8. Знамение пещеры Вифлеемской.
9. Вечность и время. (Слово на Новый год).
10. Угль пламенеющий. (Слово в день памяти преп. Серафима Саровского).
11. Вода, скачущая в жизнь вечную. (Слово в Навечерие Богоявления).
12. Разводящиеся небеса.
1 Шмеман Α., προτ. Три образа // Там же. С. 9-24.
388
.13. Сретение Господа в храме.
14. Неделя о Страшном Суде.
15. Двери покаяния.
16. О светлой печали. (В преддверие Великого поста).
17. Архангельский глас.
18. Страстное Благовещение.
19. Крестное воцарение. (Слово в день Входа Господня в Иерусалим).
20. Благословен Грядый, Царь Израилев. (Размышления в день Входа Господня
в Иерусалим).
21. Сия есть благословенная Суббота. (Размышления перед Святой Плащаницей).
22. Веселимся Божественне! Христос Воскресе!
23. Смертию смерть поправ.
24. Радость разлучения.
25. Пятидесятницу празднуем и Духа пришествие.
26. Зов апостольства.
27. Велелепная слава (2 Петр. 1, 17).
28. Слово в Неделю пятнадцатую.
29. Сотница молитв.
Некоторые проповеди не вошли в этот сборник и публиковались порознь, чаще
всего в «Сергиевских листках».
Духовнический дар отца Сергия был изумительным. Он имел много духовных
детей - в Париже и за его пределами, и даже вне Франции. Обладая большим
мистическим опытом, редкой глубиной души, богатым интеллектом, широким
историческим и жизненным кругозором, отец Сергий являлся мудрым и чутким
духовным отцом, понимавшим с полуслова самые сложные события, ситуации,
переживания. Сколько раз он спасал своих духовных детей от непоправимых проступков,
от отчаяния и даже от смерти.
Он не требовал послушания, предоставлял своим духовным детям свободу, но
умел с такой мудростью повести их за собой, призвать, зажечь, что они сами, в
духовной свободе выбирали наилучшие христианские пути. Зато и любовь к нему
его духовных детей была поистине безмерной и неугасающей до конца жизни.
Великую любовь, ответственность, доброту и чуткость вкладывал протоиерей
Сергий Булгаков и в выполнение всех церковных треб, приходившихся на его
долю. И хотя (например, во время молитв об исцелении больных или при
поминовении усопших) слова отца Сергия в конце его жизни - из-за отсутствия голосовых
связок — были недостаточно разборчивы, однако излучавшиеся из всего его облика
любовь и духовная радость приносили молящимся глубокое утешение и мир.
21. Трагичные стороны в священстве протоиерея С. Булгакова
В пастырском служении отца Сергия были свои драматические стороны,
причинявшие ему глубокие страдания, которых он не имел возможности преодолеть.
Прежде всего, это касалось совершения служб. Он был безгранично церковен и
верен всем своим существом учению Церкви в самом строгом смысле. В то же
время он глубоко понимал и высоко ценил церковную свободу, запечатлев навсегда в
своем сердце слова святого апостола Павла: «Где Дух Господень, там свобода»;
«Стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу
рабства... К свободе призваны вы, братия» (2 Кор. 3, 17; Гал. 5,1, 13).
Священство Булгаков принял исключительно ради того, чтобы служить, литур-
гисать. Но с первых же пор своего священства он понял, что для полноты и
свободы развития литургического служения необходимо иметь свой храм или, по край-
389
ней мере, свой престол. Между тем за четверть века своего церковного служения
он почти никогда не имел ни того, ни другого. Он всегда лишь сослужил
архиереям или настоятелям и должен был в известном смысле применяться к ним. А если
изредка удавалось получить право на самостоятельное служение — в частном
помещении или в церкви, - то это добывалось в результате ходатайства его друзей и
личной самозащиты. Такое отсутствие заботы со стороны епископов о его
церковном устройстве и составляло тяжелый крест и скорбь отца Сергия Булгакова на
пути его священства.
Вторая трагичная сторона в церковном служении отца Сергия заключалась в
его одиночестве, возникавшем вследствие существенных расхождений в понимании
им и окружающими церковнослужителями воплощения в русской православной
среде некоторых сторон первохристианства.
Прежде всего, это касалось понимания церковной свободы. С точки зрения отца
Сергия Булгакова, свобода - это высший дар Божий. Потому грех против свободы
является грехом против Православия и Церкви, а духовное самопорабощение, во
имя чего бы то ни было, есть хула на Духа Святого, которая не простится ни в сем
веке, ни в будущем. Такая принципиальная духовная установка отца Сергия
отделяла его от той духовной среды, в которой он жил и которая была проникнута
абсолютизированием относительного, угашением духа и его творческой стихии
ради привязанности к второстепенным ценностям в церковной жизни, ради
властолюбия, с одной стороны, и раболепства - с другой. Вот почему отец Сергий
чувствовал себя всегда «чужим среди своих».
И это происходило не по причине его самомнения или притязательности, а из
глубокой любви к истине и верности Церкви, в свете которых всякий компромисс
и рабство переживаются как измена. Так, Булгаков был убежден, что любовь к
Церкви рождает и предполагает послушание, но послушание любви, а не страха,
почитания, а не лести. Между тем во взаимоотношениях церковных людей часто
бывало обратное.
Отец Сергий признавал мистическое содержание церковных форм и
установлений, их ценность и необходимость, но считал, что в исторической Церкви,
существующей и развивающейся в пространстве и времени, следует выделять элементы
различной важности и вносить в их оценку некоторый исторический коэффициент.
Поэтому в некоторых обоснованных случаях необходимо изменять те или иные
формы. От своеволия в этой области предохраняет любовь к Церкви, инстинкт
церковности, который склоняет всегда уступить Преданию.
Опыт священства научил отца Сергия Булгакова постигать историческую
относительность внешних форм, особенно в иерархическом строении Церкви. С
иерархией связана сакраментально-мистическая жизнь Церкви, и это - истина
незыблемая; мистическое значение епископата и вообще сила хиротонии безусловно
непоколебимы. Но Православие, по мысли отца Сергия, сначала в византийском, а
затем и в русском преломлении содержит некоторые элементы «папизма», не в плане
догматическом, как в католицизме, а в плане фактическом и психологическом.
Православная Церковь предполагает соборность, а не только епископат, она есть
тело церковное, а не только глава или главы. Существует особый гиперболизм,
усвоенный епископатом в Русской Церкви. Возвышая в этом направлении свой
мужественный голос, лишенный какой бы то ни было личной заинтересованности,
Булгаков выступает не против епископата, а за него, ибо стремится восстановить
его в подлинном первохристианском достоинстве, освободить его от приражений, с
одной стороны, от уступок кесарю, с другой - от деспотизма в отношении к клиру,
который связан с епископом каноническим послушанием. Отец Сергий выступает
против такого культа епископства, который придает богослужению некоторый
оттенок «архиереослужения». Такое «внедрение декоративного парада под предлогом
благочестия во святая святых» переживается Булгаковым с тяжелейшей скорбью.
390
«Неизменно, - пишет он, - читая в церкви гневные речи Господа с обличением
"Моисеева седалища", голос мой бессильно дрожал от затаенного страдания.
Такова горькая истина об этой стороне моего священства»1.
Есть еще одно важное расхождение отца Сергия с «историческим
Православием». Оно относится к будущему, к эсхатологии, к тому трепетному ожиданию
Грядущего Христа, которое, по мнению Булгакова, если не догматически, то
фактически утеряно Православием под непосильным бременем его историзма. «Предание, -
говорит он, — перестало быть, живым и живущим, но стало "депозитом" веры,
который надо хранить, а не жизненно творить. Православие же есть не только
обладание данным богатством веры и жизнью в ней, но и пророчество, апокалипсис,
история - не только прошлого, но и настоящего и будущего, зов обетования. «Оно
не имеет града зде пребывающего, но грядущего взыскует». Оно есть поэзия, эрос
церковный, чаяние Жениха, чувство Его Невесты. Оно есть творчество,
направленное к концу и цели, чаяние Конца. Это не малодушный страх жизни и бегство от
нее к смерти, но преодоление всякой данности, чаяние Нового Неба и Земли, новой
встречи и жизни со Христом»2.
В этих чувствах и чаяниях отец Сергий Булгаков остался в Церкви одинок.
22. Богословское творчество
Протоиерей Сергий Булгаков рассматривал свое богословское творчество как
основную задачу своей жизни, как осуществление своего духовного призвания. Но
если в пастырском служении. ему приходилось иногда идти на компромиссы во
избежание недоразумений с окружавшей его церковной средой, то в своем
богословском труде он всегда сохранял свободу, чистоту совести и ответственность
перед Богом вплоть до самой смерти.
В беседах с учениками и друзьями он неоднократно говорил, что «богословие
надо пить со дня Евхаристической Чаши». Отец Сергий неразрывно связывал
алтарь и рабочую келью богослова, утверждая, что вдохновения богословского
творчества в своих глубочайших первоисточниках должны исходить из алтаря.
Признавая свободу и дерзновение духа в богословской мысли, он в то же время считал,
что абсолютными критериями истинности богословия являются: слово Божие,
церковные догматические определения и предстояние пред алтарем. Эти убеждения
были неизменным живым руководством в его богословском творчестве.
Целью богословия отца Сергия является раскрытие и углубление оснований для
подлинного христианского мировоззрения - оснований не абстрактных, а
жизненных. Он стремился дать не только учение, но показать и его осуществление,
начертать конкретную и реальную историю и славу Церкви.
Но ввиду того, что жизнь Церкви есть в первую очередь ее молитва, богословие
отца Сергия приобретает характер литургического и иконографического богомыс-
лия. Протоиерей Александр Шмеман подчеркивает, что «богословие отца Сергия на
последней своей глубине прежде всего литургическое; в нем - раскрытие опыта,
данного в богослужении, передача той таинственной"славы", что пронизывает его,
того "таинства", в котором оно укоренено и "эпифанией" которого оно является»3.
Литургическое богатство Церкви никогда не используется отцом Сергием в
качестве иллюстрации для богословских построений; напротив, оно представляет
собой канон церковный, жизнь, норму духовной деятельности, от которой следует
исходить при построении системы православного богословия, так как Православие
1 Автобиографические заметки. С. 53.
2 Там же. С. 55-56.
3 Шмеман Α., прот. Три образа // Вестник РСХД. 1971, № 101/102, С 9-24.
391
- не теория, а жизнь. Такая церковная установка сливает воедино умозрение и
молитву, науку и богословие, философию и веру.
Булгаков стремится строить свою богословскую систему на твердом основании
церковной реальности. Объективные церковные истины, богослужебные тексты,
иконографические созерцания, мистические откровения переживаются Булгаковым
как религиозные реальности, как личный духовный опыт, как первозданная
Божественная красота, которые он стремится дать понять и почувствовать
окружающим. Отсюда исходит та сила его сочинений, та «глубоко проникающая в душу
интимность его слов, которая заставляет биться в унисон с церковной жизнью
сердца его читателей, слушателей, учеников»1. Вообще тайна богословского творчества
отца Сергия и его воздействия заключается в том, что церковное всегда
воспринимается им как личное озарение, а индивидуальный духовный опыт в свою очередь
преобразуется и возносится до кафолической высоты.
Церковь, по слову святого Иоанна Златоуста, остается всегда «юнеющей», то
есть творческой, свободно развивающейся. Но в то же время Церковь ответственна
за каждое сказанное ею слово, причем ответственность эта высшего порядка — не
только перед людьми, перед историей, но и перед Богом. Поэтому богословское
творчество требует сочетания свободы и аскетической дисциплины, смирения и
дерзновения, молитвенного подвига и мистического вдохновения. Весь
литургический, молитвенный и жизненный подвиг отца Сергия устремлен к тому, чтобы
удовлетворить этим условиям. И в результате внутренний динамизм, присущий
духу и мысли отца Сергия Булгакова, делает его богословие волнующим,
захватывающим, перерождающим.
«В мировоззрении о. Сергия, - пишет Л. А. Зандер, - нет области, чуждой
религиозной реальности: от всего протягиваются нити к откровенным истинам о
Боге, все возвещает о Его премудрости, благости и славе... Все научное и
философское творчество о. Сергия есть не что иное, как раскрытие этой истины в
диалектических формах, как усмотрение печати Творца во всем многообразии Его творения»2.
Творчество и жизнь отца Сергия скреплены неразрывными узами. Поэтому
отличительными чертами его богословского творчества являются те же особенности,
которые были отмечены ранее относительно его жизни: «почвенность», эсхатоло-
гичность, мастерство доводить каждую мысль, как и каждое дело, до четкого
завершения, искусство широкого философского и богословского синтеза.
Его эсхатологизм, непрерывно обращенный к первохристианству и ко Христу
Грядущему, не противоречит его «почвенности», напротив, тесно сочетается с ней,
ибо только тот, кто по-настоящему умеет стоять на земле, способен к горним
взлетам. С другой стороны, лишь созерцание мира с высоты позволяет узреть его
первозданную красоту и его эсхатологическое завершение. «Все богословие о. Сергия
исполнено трепетом и ожиданием, — свидетельствует Л. А. Зандер, — все оно
пронизано лучами иного незаходимого света; все оно есть молитва Христу... Самая
глубокая укорененность в жизни церковной самая сознательная законопослушность ей
никогда не делает о. Сергия ее рабом, не лишает его той пророческой свободы, с
которой он говорит о тайнах будущего века, к которым устремлена его душа»3.
Чисто русское стремление отца Сергия во всем доходить до конца одинаково
касается его жизни и мысли. В результате своих исканий он приходит к выводу,
что религия есть высшая и абсолютная Истина, и поэтому ей должны быть
подчинены все области знания и жизни. Эта черта мышления отца Сергия ярко
отразилась и на всем его творчестве; она выражается не только в последовательности его
мысли, но и в той удивительной Свободе и одновременно железной дисциплине, с
1 Зандер Л. А. Бог и мир. Т. 1. С. 68.
2 Там же. С. 19.
3 Там же. С. 18.
392
которыми он подходит к исследованию философских и богословских проблем. В
своей работе отец Сергий беспощадно строг и предельно точен. И если свобода
мысли делает его независимым от авторитетных влияний, то возложенная на
самого себя дисциплина придает его мысли характер научнсгцерковный.
Исключительный дар мышления отца Сергия Булгакова, позволяющий ему
осуществлять широкий философский и богословский синтез, заключается не
только в многообразии его интересов к различным проявлениям истории, культуры,
философии и жизни, но и в способности выделить в каждом явлении и учении
положительные стороны, отделяя их от ошибочных и отрицательных, и
рассматривать их как отдельные звенья единой цепи человеческих исканий высшей Истины.
Благодаря этому дару отец Сергий никогда не отбрасывает полностью своих
личных и чужих осознанных взглядов, а, выделив в них частичную истину, включает
их в общий синтез своей мысли. Этот типичный для Булгакова процесс философ-
ско-богословского мышления создает тот положительный пафос, который
утверждает, что жизнь человечества есть не ряд недоразумений и ошибок, но и полное
трагических неудач стремление к единой и всеобъемлющей Истине. Такая
установка имеет кардинальное значение для его понимания Церкви и вечной Истины.
Л. А. Зандер глубоко и правильно формулирует основную богословскую точку
зрения отца Сергия: «Если Церковь есть "полнота Наполняющего все во всем"
(Еф. 1, 23), то она действительно должна быть понимаема как высший синтез,
включающий в себя все добро, всю мудрость, всю красоту - все, чем прекрасна
природа и богата человеческая история. В этом смысле жизнь в Церкви означает
не отрицание человеческих исканий, но их просветление и преображение, не
осуждение заблуждений, но их понимание и исправление... Именно эта способность к
высшему синтезу дала о. Сергию возможность рассматривать богословие как
высший венец всего человеческого знания, как увенчание всех наук и искусств»1.
Богословские труды протоиерея Сергия Булгакова можно классифицировать
следующим образом:
1) пастырские сочинения в форме проповедей и поучений, которые приведены
были ранее;
2) богословские книги и статьи с ярко выраженной экуменической
направленностью, которые мы рассмотрим в главе об экуменической деятельности отца
Сергия;
3) богословские труды, характеризующие основные положения так называемой
«богословской системы» протоиерея Сергия Булгакова, которыми мы теперь и
займемся.
Эти труды можно, в свою очередь, разбить на две группы:
I. Две фундаментальные трилогии:
1. 1) Купина Неопалимая. Опыт догматического истолкования некоторых черт
в православном почитании Богоматери. 19277*; 2) Друг Жениха. О праьославном
почитании Предтечи. 1927; 3) Лестница Иаковля. Об ангелах. 1929.
2. 1) Агнец Божий. О Богочеловечестве. Часть I. 1933; 2) Утешитель. О Бого-
человечестве. Часть П. 1936; 3) Невеста Агнца. О Богочеловечестве. Часть III. 1945.
К этим трилогиям можно присоединить еще 2 книги: 1) Святые Петр и Иоанн.
Два первоапостола. 1926, предваряющую первую трилогию, и 2) Апокалипсис
Иоанна. (Опыт догматического истолкования), завершающую вторую трилогию8*.
II. Книги и статьи, посвященные различным догматическим, церковно-истори-
ческим, евангельским темам и т. п.
1 Там же. С. 19.
393
I
В книге «Святые Петр и Иоанн» протоиерей Сергий Булгаков последовательно,
с исчерпывающей полнотой исследует вопрос о примате авторитета апостола Петра
и примате любви апостола Иоанна. С первого дня своего служения Христу Петр
является несомненным первостоятелем среди апостолов, первоапостолом,
выражающим исповедание веры, силу и духовный авторитет от лица всего собора
апостолов, в соединении с ним, но не единолично. Из всех слов Спасителя,
обращенных к Петру и апостолам, ясно следует, что идет речь не о примате власти, а о
примате авторитета. Самоотверженное и грандиозное по масштабам благовествова-
ние святого Павла, призванного на апостольское служение Самим Спасителем,
представляет границу примата Петра. Оба они первоверховные апостолы, взаимно
дополняющие друг друга. Образ святого Иоанна как первоапостола наряду с
Петром выводится из всего содержания Евангелия. Иоанн - боговдохновенный автор
дивного пролога Евангелия, первый - вместе с Андреем - призванный Христом
апостол, принявший в свое сердце Божественные глаголы Учителя и сохранивший
для всего христианского мира навеки речи Христа. Его учение о Себе, об Отце, о
Духе Утешителе, прощальную беседу Спасителя, Его первосвященническую
молитву, бесстрашно сопутствовавший Христу - единственный из апостолов - вплоть до
Голгофы. Этот ученик поистине есть первоапостол. Его, единственного
девственника, усыновил Распятый Спаситель Своей Пречистой Матери, Царице Неба и земли,
и в его лице усыновил Ей весь апостольский лик и весь человеческий род.
Иоанн как автор Апокалипсиса есть новозаветный пророк между апостолами и
единственный апостол между пророками. Святому Иоанну, несомненно
принадлежит примат любви и вместе с Петром примат авторитета.
В этой первой небольшой книге Булгаков сразу выступает как богослов,
захватывающий читателя своим глубоким анализом, яркой речью и мастерством в
обрисовке живых образов апостольского века. В то же время он дает убедительное
обоснование одного из важных вопросов православной экклезиологии. Здесь
уместно подчеркнуть, что современный католический богослов Е. Котэнэ, профессор
Католического института в Париже, в своем фундаментальном исследовании «Иоан-
нова традиция» («La Tradition Johannique»), посвященном святому Иоанну
Богослову и его школе в Ефесе, сопоставляет аналогичным образом подвиги и значение
святых апостолов Иоанна, Петра и Павла, выдвигая на первое место Апостола
любви, и высказывает почти одинаковые со взглядами отца Сергия воззрения на
примат любви и примат авторитета, противопоставляя им примат власти,
недопустимый в Церкви Христовой.
Обе созданные вслед за этим трудом трилогии, несомненно, принадлежат к
выдающимся творениям Булгакова. Первая из них имеет единую общую тему о
Премудрости Божией в творении, которую возвещают Пречистая Дева Мария и святой
Иоанн Предтеча в человеческом мире и Ангелы на небесах.
Протоиерей Сергий Булгаков основывает свои исследования на библейских
текстах, в частности на евангельских повествованиях, святоотеческой письменности,
на богослужебных текстах, литургическом и иконографическом богословии.
Выражая основную тему трилогии иконографически, можно сказать, что ее предметом
является центральная часть «деисусного ряда» в иконостасе - Деисус, икона
прославленного Христа-Пантократора с молитвенным предстоянием Богоматери и
Предтечи в окружении Ангелов.
«Купина Неопалимая» была сначала задумана как критический разбор
католического догмата 1854 г. о Непорочном Зачатии Богоматери; однако эта скромная
задача была расширена, и появилось исследование о первородном грехе и
одновременно подлинный гимн Приснодеве Марии, раскрывающий сущность Ее
православного почитания. Отец Сергий Булгаков убедительно показал - вопреки като-
394
лическому учению, - что Богоматерь, подобно всем людям, тоже унаследовала от
родителей первородный грех и была освобождена от него лишь искупительной
жертвой Своего Сына на Голгофе. Но, несмотря на наличие первородного греха,
Она обладает абсолютной личной безгрешностью, благодаря чему Православная
Церковь величает ее Приснодевой, «Честнейшей Херувим и Славнейшей без
сравнения Серафим».
В процессе этого исследования Булгаков не только доказал несостоятельность
католического догмата, но, используя в качестве основополагающих элементов
Священное Писание и Священное Предание, а также всю мудрость и высоту
мистических созерцаний Церкви, дал такое всестороннее и вдохновенное освещение
образа Богоматери, которое наполняет душу православного читателя безграничной
любовью и преклонением перед Пречистой Царицей Неба и земли, всесильной
Заступницей, Помощницей и Утешительницей в скорбях всего человечества. В это
исследование отец Сергий вложил все свое личное благоговение, безграничную
сыновнюю любовь к Богоматери, свой молитвенный восторг и восхищение Ее при-
снодевственной чистотой, и книга эта читается как церковная поэма, посвященная
Пречистой Деве Марии.
Своим богословским размышлениям Булгаков придает значение только личных
теологуменов — догматических гипотез - в трудных и малоисследованных
областях. Богатый, оригинально разработанный им материал, отражающий мудрость
вдохновений Церкви и неисчерпаемую поэзию ее молитв, обращенных к Пресвятой
Богородице, представляет собой богословскую литературу, наподобие той, которая
в святоотеческую эпоху использовалась на Вселенских Соборах для подготовки
новых догматических определений в исследованных ранее проблемах.
Вторая часть трилогии — «Друг Жениха», посвященная святому Иоанну
Предтече, внутренне связана с первой частью как духовным содержанием Деисуса, так
и единством подвига смирения, послушания воле Божией, целомудрия и
самоотверженной любви Девы Марии и святого Иоанна.
Можно только поражаться, как на основе краткого евангельского
повествования отец Сергий сумел создать произведение, редкое по своей духовной силе,
богословскому синтезу, мистической глубине и внутреннему прозрению. В каждой
главе явно ощущается, что ее содержание зародилось и выросло из молитвенных
озарений служителя алтаря Господня.
С большим мастерством и богословской глубиной раскрыты: святость Предтечи
на всех этапах его жизни, величие его девства, преданное и сознательное участие в
осуществлении Божественного плана спасения мира, его духовная зрелость с
первого момента выхода на проповедь по сравнению со всеми апостолами,
позволившая ему в самой каконичной форме - «вот Агнец Божий» (Ин. 1, 36) - прозреть и
выразить всю сущность подвига Спасителя на Голгофе и с этим напутствием отдать
Иисусу своих учеников Иоанна и Андрея, первых апостолов. Удивительно
обрисован апофеоз победно-радостного смирения и самоотвергающейся любви Предтечи
ко Христу в его речи к своим ученикам: «Имеющий невесту есть жених; а друг
жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-
то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умаляться» (Ин. 3, 29-30). С
мистической проникновенностью повествует отец Сергий, как исключительная
благодатность Предтечи позволила ему узреть Свято-Троицкое Богоявление во
время Крещения Господа.
Дар отца Сергия к духовным прозрениям достигает своего апогея в главах о
внутреннем борении Предтечи и речи Спасителя о нем перед народом. Используя
опыт своих личных духовных мук и мистических озарений, отец Сергий вскрывает
суть огненного искушения и трагизма Предтечи в темнице, когда благодатный
свет, бывший для него от самого рождения источником веры и духовного ведения,
неожиданно гаснет и он посылает двух учеников к Спасителю спросить: «Ты ли
395
Тот, Который должен прийти, или ожидать нам другого?» (Мф. 11, 3; Лк. 7, 19).
Не может быть более потрясающего своей неожиданностью и трагизмом вопроса,
как бы зачеркивающего подвиг всей жизни Предтечи... Спаситель не дает прямого
ответа Иоанну, а лишь напоминает через учеников о Своих делах милосердия,
хорошо известных Предтече. Но после их ухода Спаситель обращается к народу с
ублажением Иоанна за верность и торжественно возвещает: «Истинно говорю вам:
из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя» (Мф. 11, 11).
Никто из богословов до отца Сергия не мог убедительно объяснить ни причины
этого посольства учеников (мотивируя его страхом смерти или сомнением), ни
непонятного поведения и речи Спасителя. Отец Сергий решительно отверг
общепринятую точку зрения, утверждающую, что святой Иоанн и в темнице остался
бесстрашным и не усомнился. Напротив, его подвиг достиг высочайшего напряжения
и апофеоза: Предтеча оказался в состоянии богооставленности, вследствие чего
обнаружилась вся немощь человеческого безблагодатного существа, обремененного
первородным грехом; потребовалось предельное напряжение подвига веры для
преодоления потрясающего искушения; и Предтеча вышел победителем в этом
борении после ухода своих учеников ко Христу. Спаситель знал духовную мощь Своего
Друга и узрел его победу. Поэтому Он не дал святому Иоанну прямого ответа, в
котором он уже не нуждался, а послал ему лишь прощальный привет любви.
Без этого огненного искушения и его преодоления в полном одиночестве
личным подвигом веры и воли не была бы достигнута полнота величайшего подвига
Предтечи.
При такой экзегезе труднопостигаемого отрывка евангельского повествования
становится обоснованной и убедительной речь Спасителя .к народу, ублажающая
стойкость святого Иоанна и превозносящая его выше всех сынов человеческих.
Возвышаясь до завершающего синтеза, Булгаков заключает: «И на пути
отдельного человека лежит такая скорбь, когда он оставляется своим человеческим
силам, познает до глубины свою немощь, но вместе с тем своими собственными
силами отдает свою жизнь Богу... Посему в жизни ли, в смерти ли человеку
суждено приблизиться к священной ограде гефсиманского сада и себя в нем обрести»1.
Без такого огненного испытания не может явиться полнота человеческого подвига.
В своем исследовании, посвященном святому Иоанну Предтече, отец Сергий
Булгаков использует данные Ветхого и Нового Завета, литургического богословия
и иконографии. Учитывая пророчество Малахии (3, 1), слова Самого Спасителя,
ссылающегося на это пророчество (Мф. 11, 10), церковные хвалебные слова,
обращенные к Предтече: «Проповедниче Христов и Крестителю, Ангеле, апостоле,
мучении е...» и частое изображение окрыленного Предтечи на иконах, отец Сергий
высказывает дерзновенное предположение, что святой Иоанн Предтеча был ангело-человек.
Обе части первой трилогии завершаются рядом экскурсов, каждый из которых
представляет собой вполне законченное исследование по отдельному вопросу.
1) Купина Неопалимая:
Экскурс I. О славе Божией в Ветхом Завете.
Экскурс II. Ветхозаветное учение о Премудрости Божией.
Экскурс III. Учение о Премудрости Божией у св. Афанасия Великого.
2) Друг Жениха:
Экскурс I. О взаимном отношении ангельского и человеческого мира.
Экскурс II. Св. Иоанн Предтеча и св. Иоанн Богослов.
Экскурс III. Св. Иоанн Предтеча и св. Иосиф Обручник.
Третья часть первой трилогии - «Лествица Иаковля» - посвящена ангельскому
миру, и это объединяет ее особенно со второй частью. В этом произведении отец
1 Друг Жениха. О православном почитании Предтечи (Ио. 3, 28-30). Париж, 1927. С. 138.
396
Сергий Булгаков вводит читателя в тихую обитель, далекую от борений, овеянную
любовью ангелов.
Ангелы — «зерцала Божественного света» — обращены к Богу всей силой своей
самоотвергающейся любви, но в то же время они осуществляют в своем соборном
единстве жертвенное служение миру, с которым они связаны неразрывными
духовными узами. Особое значение для человечества имеют Ангелы-хранители. При
самом сотворении своем человек получает Божественный дар любви и возможность
любви — не только земных друзей, но и своего Ангела-хранителя, который
является единственным, всецело личным другом человека, но не принадлежащим к
человеческому миру.
Отец Сергий запечатлел удивительные духовно-поэтические воспоминания об
Ангеле-хранителе из своего личного религиозного опыта1.
«Когда стихает шум жизни и умолкают нестройные ее голоса, когда душа
омывается тишиной и исполняется молчанием, когда обнажается детская ее стихия и
отнимаются давящие ее покровы, когда освобождается душа от плена этого мира и
остается наедине с Богом, когда разрешаются узы земного естества и душа себя
самое обретает, когда отделяется она от земной оболочки и находит себя в новом
мире, когда она наполняется светом и омывается лучами бессмертия, - тогда
чувствует она над собой склонившееся с невыразимой любовью существо, такое
близкое, такое родное, такое нежное, такое тихое, такое любящее, такое верное, такое
кроткое, такое ласковое, такое светлое, — что радость, мир, блаженство, неведомые
на земле, закипают в душе. Она чувствует тогда свое неодиночество и вся
устремляется навстречу к неведомому и близкому другу. Ибо узнает душа того Друга, о
котором всю жизнь грезила и томилась, ища слиться с другим до конца, в нем
обрести свое другое "я". Этот другой для каждого человека, этот Друг, Богом
данный и созданный для него, есть его Ангел-хранитель; всегда бдящий над ним,
живущий с ним одной жизнью. Он - самый близкий, хотя и далекий, ибо невидный,
неслышный, недоступный никакому телесному или даже душевному восприятию».
В заключение своей книги отец Сергий приводит такие радостные слова: «Мир
осенен ангельскими крыльями. Ангельские очи бдят неусыпно над нами. Между
небом и землею восходят и нисходят непрестанно святые ангелы. Они соединяются
с нами в наших молитвах. Ангельские воинства непрестанно славят Творца миров.
Ангелы, предстоящие престолу Божию, живут общей жизнью с нами, соединенные
узами любви»2.
Не имея возможности резюмировать здесь, даже в самой лаконичной форме,
вторую трилогию, отметим лишь, что ее первая часть — «Агнец Божий» —
представляет собой вершину богословских, философских и практически-религиозных
постижений протоиерея Сергия Булгакова как по широкому охвату и разработке
христологических проблем, всеобъемлющему изложению трудностей и достижений
патристической эпохи в форме догматической диалектики, в которой раскрываются
«халкидонское богословие» и «халкидонская философия», так и* по мистической
глубине, молитвенному вдохновению, по безграничной любви ко Христу, к
Триединому Богу и миру, которые нашли свое полноценное выражение в
заключительной главе «Дело Христово».
Когда в 1943 г. в Париже появился французский перевод «Агнца Божия» - «Du
Verbe incarne» («Agnus Dei»), - этот труд протоиерея Сергия Булгакова получил
высокую оценку со стороны представителей римско-католического богословия.
Епископ Р. Боссар (R. Beaussart) посетил отца Сергия и, приветствуя его, с
восхищением сказал: «Какие сокровища богословской мысли Вы дарите нам!»
1 Лествица Иаковля. Об ангелах. Париж, 1929. С. 21-22.
2 Там же. С. 229.
397
π
Вторую группу богословских трудов протоиерея Сергия Булгакова можно
разбить, следуя классификации Л. А. Зандер1, на четыре категории: 1) статьи
догматического содержания2, 2) богословские статьи по новозаветной тематике3, 3) экк-
лезиологические и эсхатологические статьи4 и 4) разные богословские статьи,
некрологи, письма5.
1 Зандер Л. А. Бог и мир. Т. 1. С. 100-101.
2 Ипостась и ипостасность (Scolia к «Свету Невечернему»): Сб. статей, посвященных
П. Б. Струве ко дню 35-летия его научно-публицистической деятельности. Прага, 1925; Главы
о троичности // Православная мысль. 1927. № II; 1928. № I; Слово на день Введения во храм
Пресвятой Богородицы // Сергиевские листки. 1928. № 11; Евхаристический догмат // Путь.
1930. № 20, 21; Догматическое обоснование культуры (Речь на съезде лиги Православной
культуры 17-19 мая 1930 г.) // Вестник РСХД. 1930. № 7; Икона и иконопочитание. Париж,
1931; На путях догмы (После семи Вселенских соборов). Актовая речь в Православном
Богословском институте в Париже в 1932 г. // Путь. 1933. № 37; О Софии, Премудрости Божией.
Докладные записки, представленные митрополиту Евлогию весной 1927 г. и в октябре 1935 г.
Париж, 1935; При реке Ховаре (Речь на акте в день десятилетия Парижского Богословского
института) // Путь. 1935. № 47; Догма и догматика // Живое предание. Православие в
современности (Сб. статей). Париж, 1937. Посмертно опубликованы: Трагедия философии. О
природе мысли // Вестник РСХД. 1971. № 101/102; Центральная проблема софиологии // Там же.
3 О царствии Божием. Доклад // Путь. 1928. № 11; Иуда Искариот - Апостол-предатель//
Путь. 1931. № 26, 27; Храм и град // Вестник РСХД. 1931. № 1; Радость Креста // Вестник
РСХД. 1931. № 2; Слово на Рождество Христово. 1930 // Сергиевские листки. 1931. № 2; О
чудесах Евангельских. Париж, 1932; О Царствии Божием // Сергиевские листки. 1932. N° 5;
Креститель и Иродиада (Размышления на день Усекновения главы Предтечи) // Сергиевские
листки. 1933. № 8; О молитве Св. Духу // Сергиевские листки. 1935. № б; Христос Воскресе! //
Вестник РСХД. 1935. № 6/7; Праздник богословия (День собора свв. Василия Великого,
Григория Богослова и Иоанна Златоуста) // Сергиевские листки. 1938. № 1; Благовещение - Гроб
Господень // Сергиевские листки. 1939. № 2; Крест Богоматери (Из размышлений Страстной
седмицы) // Богословская мысль. 1942. № 4. Посмертно опубликованы: Слово на Успение
Пресвятой Богородицы // Вестник РСХД. 1952. № 3; День преп. Серафима // Вестник РСХД.
1953. № 26; Вхождение во храм со Пресвятой Богородицей // Вестник РСХД. 1969. № 93;
Слово Пасхальное // Вестник РСХД. 1971. № 99; Восхождение ко Христу // Вестник РСХД.
1971. № 100; Мариология в Четвертом Евангелии (7-я глава «Богословия Иоанна Богослова») //
Вестник РСХД. 1971. № 101/102; В преддверии Великого поста // Там же; Вечеря Агнца //
Там же; У гроба Господня // Там же; О подвиге радости // Там же; Два избранника: Иоанн и
Иуда, «Возлюбленный» и «Сын погибели» // Вестник РХД. 1977. № 123; Богословие Евангелия
Иоанна Богослова // Вестник РХД. 1980. № 131; 1981. № 134-137.
4 Очерки о Церкви. I // Путь. 1925. № 1; Очерки о Церкви. И. Обладает ли Православие
внешним авторитетом догматической непогрешимости? // Путь. 1926. № 2; Очерки о Церкви.
III. Церковь и «инославие» // Путь. 1926. № 4; Развитие церковного самосознания. Доклад
(Изложение Е. Скобцовой) // Вестник РСХД. 1927. № 12; Очерки учения о Церкви. IV. О
Ватиканском догмате // Путь. 1929. № 15; Творческий лик Церкви // Вестник РСХД. 1929. № 1/2;
Святой Грааль (Опыт догматической экзегезы. Ио. XIX, 34) // Путь. 1932. № 32; Иерархия и
Таинства // Путь. 1935. № 49; Эсхатология и прогресс // Вестник РСХД. 1935. № 3; Проблема
«Условного бессмертия» (Из введения в эсхатологию) // Путь. 1936. № 52; 1937. № 53; Сила
Церкви // Вестник церковно-общественной жизни. 1937. № 1/2; 1938. № 1. Посмертно
опубликованы: Православие. Очерки учения православной Церкви. Париж, 1965; Этика в
Православии // Церковный вестник. 1978. № 9, 10/11; Софиология смерти // Вестник РХД. 1978. N° 127;
1979. N° 128; Мистика в Православии // Церковный вестник. 1979. № 3. Готовятся к печати:
Евхаристическая жертва; Страшный Суд над человечеством как разделение в нем; Христос в
мире.
5 Благодатные заветы преподобного Сергия русскому богословствованию // Путь. 1926. N°
5; К вопросу о дисциплине покаяния и причащения (По поводу тезисов проф. прот. о. Т. На-
лимова // Путь. 1929. № 18, 19; Церковь, Мир, Движение. Доклад // Вестник РСХД. 1929. N° 11;
Православный Богословский институт в Париже // Церковный вестник западноевропейской
епархии. 1930. N° 1; Московскому университету ко дню его 175-летия // Россия и славянство.
1930. № 61; Князь Г. Н. Трубецкой // Церковный вестник западноевропейской епархии. 1930.
№ 3; Памяти кн. Г. Н. Трубецкого // Вестник РСХД. 1930. № 2; Новый соблазн в
христианском мире // Воскресное чтение. 1930. N° 12; Православие и культура (Доклад на съезде Лиги
Православной культуры. Сокращенная запись) // Вестник РСХД. 1931. N° 10; О почитании св.
398
Эти труды протоиерея Сергия Булгакова свидетельствуют, как обычно, о его
богословской одаренности и живой реакции на важнейшие события окружающей
жизни.
23. Обвинения протоиерея Сергия Булгакова
в модернизме и ереси и его самозащита
Завершая обзор трудов протоиерея Сергия Булгакова, вошедших в состав его
богословской системы, необходимо упомянуть о некоторых тяжелых событиях его
жизни в период 1927-1936 гг., которые принесли ему глубокие скорби.
В марте 1927 г. Архиерейский Синод Русской Православной Церкви в Карлов-
цах направил митрополиту Евлогию (Георгиевскому) послание с обвинением
протоиерея Сергия Булгакова в том, что своим учением о Софии — Премудрости Божи-
ей он «вносит модернизм в учение Православной Церкви», и с требованием
расследовать этот вопрос.
В сентябре 1935 г. поступило аналогичное, но еще более резкое послание от
Заместителя Патриаршего Местоблюстителя Сергия, Митрополита Московского с
обвинением, что «учение Булгакова о Софии - Премудрости Божией нецерковно и
противоречит церковному учению, иногда повторяя ереси, уже осужденные
Церковью». Богословская система Булгакова, построенная на этом основании, «настолько
самостоятельна, что может или заменить учение Церкви, или уступить ему, но
слиться с ним не может». Это послание содержит ряд существенных аргументов
против богословских трудов отца Сергия.
В 1936 г. митрополит Евлогий получил новое извещение, что Карловацкий
собор вынес постановление признать учение протоиерея Сергия Булгакова ересью и
организовать Комитет для охраны православной веры от лжеучений.
Митрополит Евлогий, отстаивавший — согласно учению апостола Павла —
«внутреннюю духовную свободу в Церкви», выступил на защиту протоиерея Сергия
Булгакова, «зная драгоценнейшие качества этого одаренного, высокодуховного
пастыря»1. Всякий раз митрополит Евлогий собирал Епархиальный Совет в Париже
и предлагал отцу Сергию дать ответ на все выставленные против него обвинения.
Обстоятельные ответы последнего2, доказавшие перед высококвалифицированной
мощей // Сергиевские листки. 1932. № 6; Душа социализма // Новый град. 1932. № 1, 2;
1933. № 7; О. Александр Ельчанинов // Путь. 1934. № 45; Идея «Общего дела» (Η. Φ.
Федоров], // Вестник РСХД. 1934. № 10; Нация и человечество // Новый град. 1934. № 8; Сотница
молитв ко Святой Троице и Господу Иисусу с созерцанием дел Божиих миру и человеку //
Сергиевские листки. 1934. № 3; Христианство и штейнерианство // О переселении душ. Сб.
статей. Париж, 1935; Жребий Пушкина // Новый град. 1937. № 12; Некоторые черты
религиозного мировоззрения Л. И. Шестова // Современные записки. 1939. № 68. Посмертно
опубликованы: Автобиографические заметки. Париж, 1946; О моих похоронах // Православная
мысль. 1951. № 8; Видения и Откровения Господни // Вестник РСХД. 1955. № 37; Небо на
земле (Прага, май 1925 г.) // Вестник РСХД. 1958. № 48, 49; Письмо Н. А. Бердяеву //
Мосты. 1961. № 8; Письмо Л. И. Шестову // Там же; Письмо Н. О. Лосскому // Лосский Н. О.
Воспоминания, Мюнхен. 1968. С. 273-274; Памяти Е. Н. Трубецкого // Вестник РСХД. 1970.
№ 97; Письма М. О. Гершензону (12-20 апреля 1897 г.) //Вестник РСХД. 1971. № 101/102;
Из переписки с Л. А. и В. А. Зандер // Там же; Священник о. Павел Флоренский // Там же;
Письмо П. Струве // Там же; Письмо Е. Герцык (по случаю смерти А. Герцык) // Герцык Е.
- Воспоминания. Париж, 1973. С. 152-153; Россия, Эмиграция. Православие // Вестник РХД.
1975. № 116; Из дневника // Вестник РХД. 1979. № 129, 130; Письмо М. С. Шагинян //
Новый мир. 1973. № 6.
1 Митрополит Евлогий. Путь моей жизни. С. 656.
2 Объяснение, данное митрополиту Евлогию по поводу послания Архиерейского Синода
Русской Православной Церкви за границей от 18 (31) марта 1927 г. // Церковные ведомости.
1927. № 17/18; О Софии, Премудрости Божией. Докладные записки, представленные митропо-
399
аудиторией богословскую несостоятельность выставленных против его системы
аргументов и выяснившие, в частности, что обвинение митрополита Сергия (Стра-
городского) было вынесено лишь по «донесению», единолично, без
непосредственного ознакомления с его богословскими трудами и без всякого церковного
обсуждения, - убедили Епархиальный Совет. Протоиерей Сергий Булгаков был
полностью оправдан и продолжал до конца жизни оставаться профессором
догматического богословия в Православном Богословском институте в Париже.
Детальное освещение всех обвинений, выставленных против Булгакова, и его
самозащита будут представлены во второй части нашей работы после подробного
изложения его учения о Премудрости Божией, второй трилогии и его богословской
системы в целом. Здесь отметим лишь, что трудности богословского подвига
протоиерея Сергия Булгакова и связанные с ними скорби коренятся прежде всего в
том, что не настало еще время для полного понимания и беспристрастного
общецерковного обсуждения его богословской системы в духе вселенской любви,
истины и свободы9*.
24. Экуменическая деятельность
протоиерея Сергия Булгакова
Прежде чем осветить труды протоиерея Сергия Булгакова в области
экуменизма, следует упомянуть о ряде интересных работ некоторых авторов, посвященных
экуменическому движению.
Наиболее видное место по широте охвата проблемы занимают две статьи
игумена Тихона и В. Никитина, опубликованные в «Журнале Московской Патриархии» (
1984. № 11-12; 1983. № 1-2). Первая из них под заглавием «Экуменическое
движение и Русская Православная Церковь до ее вступления во Всемирный Совет
Церквей» содержит сжатый, но достаточно исчерпывающий обзор экуменизма со
времени его зарождения и проникновения в Россию до начала второй мировой
войны. Эта статья распадается на две главы. Первая ( № 11, с. 59-68) посвящена
вопросам экклезиологии в русском богословии XIX в. и практическому экуменизму
на рубеже XIX-XX вв. Вторая глава (№ 12, с. 60-66) непосредственно примыкает
к изучаемой нами теме: она рассматривает экуменическое движение и участие в
нем Русской Православной Церкви в период между двумя мировыми войнами и
уделяет большое внимание той роли, которую сыграли в этом движении
зарубежные русские богословы и мыслители, в первую очередь протоиерей Сергий
Булгаков и Н. А. Бердяев; глубоко и всесторонне резюмируются в статье их
выступления на различных съездах и всемирных конференциях. Вторая статья игумена
Тихона (ныне архимандрит) и В. Никитина («Экуменизм в 1945-1961 годах и
вступление Русской Православной Церкви во Всемирный Совет Церквей») дает
обозрение экуменизма в 1945-1961 гг. и повествует о вступлении Русской
Православной Церкви во Всемирный Совет Церквей.
Митрополит Евлогий (Георгиевский) в своей книге «Путь моей жизни» (с. 572-
602) посвящает обширный раздел экуменическому движению. Он интересно
повествует и о своих паломнических путешествиях (например, в Лурд), и об
экуменических контактах с выдающимися представителями инославных Церквей,
например, с епископом Нью-Йоркским Брентом, англиканским епископом Турским Фри-
ром (Вальтером) и особенно с известным примасом Бельгии - кардиналом Мерсье,
«смиренным подвижником с подлинным величием духа», посвятившим всю жизнь
литу Евлогию весной 1927 г. и в октябре 1935 г. Париж, 1935; Еще к вопросу о Софии,
Премудрости Божией (По поводу определения Архиерейского Собора в Карловцах) // Путь. 1936,
№ 50.
400
подвигам любви и милосердия по отношению к жертвам первой мировой войны и
открывшим свое христианское сердце обездоленным русским детям и молодежи. В
своих воспоминаниях митрополит Евлогий уделяет большое внимание своему
участию - вместе с отцом Сергием Булгаковым и другими профессорами
Богословского института в Париже - во всемирных экуменических конференциях в Лозанне в
1927 г., в Оксфорде и Эдинбурге в 1937 г. С особой любовью и очень подробно
характеризует он выступления протоиерея Сергия Булгакова и его многолетнюю,
неутомимую и самоотверженную борьбу за признание почитания Божией Матери и
святых представителями протестантских Церквей.
Наконец следует упомянуть главу «Экуменические писания» в книге Л. А. Зан-
дера «Бог и мир» (Т. 1, с. Ί59-173), в которой он приводит список 36
экуменических трудов протоиерея Сергия Булгакова и раскрывает значение его выступлений
на Всемирной Лозаннской конференции в 1927 г. и на съездах Содружества
святого Албания и преподобного Сергия Радонежского.
Протоиерей Сергий Булгаков обосновался в Париже с твердым намерением не
только преподавать догматическое богословие в Православном Богословском
институте и осуществлять свое литургическое служение и богословское творчество, но
одновременно трудиться над реализацией своей идеи об экуменическом,
вселенском Православии, которая зародилась в его душе в храме Святой Софии в
Константинополе. В Париже он явился одним из наиболее ярких и вдохновенных
инициаторов экуменической работы.
Впервые отцу Сергию удалось полностью включиться в эту работу на
Всемирной христианской конференции «Вера и церковное устройство» («Faith and Order»),
проходившей в Лозанне (Швейцария) с 3 по 21 августа 1927 г. Эта конференция
вместе с Всемирной Стокгольмской конференцией «Жизнь и деятельность»,
проходившей в 1925 г. под председательством известного примаса Швеции,
архиепископа Упсальского Натана Сёдерблома, положила прочное основание великому делу
духовного сближения христиан различных исповеданий, получившему
наименование «экуменическое движение».
В Лозанну прибыло свыше 400 делегатов — представителей около 90 церковных
объединений: митрополит, архиепископы, епископы, пастыри, профессора,
богословы, мыслители и т. д. Восточное православие было всесторонне представлено
делегатами от Константинопольского, Александрийского, Иерусалимского,
Сербского и Румынского Патриархатов и от Церквей: Греческой, Русской
Западноевропейской (в лице митрополита Евлогия (Георгиевского), протоиерея Сергия
Булгакова), Болгарской (в лице H. H. Глубоковского, бывшего профессора Московской
Духовной академии), Польской и Грузинской. Англиканская Церковь и
протестантский мир прислали также большое число делегатов, только Римско-Католиче-
ская Церковь не откликнулась на приглашение. Председателем Лозаннской
конференции был Нью-Йоркский епископ Брент - человек широкой культуры,
любвеобильный, чуткий, внимательный и смиренный, заслуживший всеобщее уважение и
симпатию; именно ему принадлежала инициатива созыва в Женеве в 1920 г.
конференции по вопросам веры, жизни и деятельности с целью объединения
христианских Церквей.
На Лозанннской конференции была поставлена сложная и трудная проблема о
соединении различных христианских исповеданий в единую Вселенскую Церковь.
В процессе работы, которая проходила в духе братской любви, свободы и
терпимости, выяснилось, однако, что на данном этапе исторического развития Церквей
этот вопрос неразрешим. Противоречия резко обнаружились со стороны протестан-
ских делегатов, когда отец Сергий Булгаков выдвинул предложение о почитании
Богоматери и святых. Он всемирно стремился, чтобы на этой конференции
прозвучало единогласное исповедание Божией Матери как мистической Объединительни-
цы всех христиан. Между тем председатель секции доктор Garvie откладывал в
401
течение недели выступление отца Сергия. Наконец, когда слово было ему
предоставлено и прозвучало со всей пламенностью, свойственной отцу Сергию, оно тем не
менее было выслушано присутствующими равнодушно; они обнаружили полную
духовную неподготовленность и неспособность понимания этой важной темы.
Протестанты соглашались в лучшем случае на признание Богоматери в качестве
эмблемы христианского единения.
Но в то же время на Лозаннской конференции выявилось одно высокое
неоспоримое достижение: произошло благодатное соборное переживание веры во Христа и
любви к Нему. Эти чувства запечатлелись в соборном исповедании, что Иисус
Христос, согласно свидетельству Евангелия, есть Сын Божий и Человеческий,
исполненный благодати и истины, воплотившийся в полноту времен для спасения рода
человеческого. Духовный подъем и единение в братской любви, пережитые
участниками конференции, остались в их душах и закрепились сознанием
ответственности за начатое дело, которое следует продолжить и довести до конца.
На Лозаннской конференции выявилась особая близость между Православием и
Англиканством, что привело в очень скором времени к знаменательным событиям.
С 28 декабря 1927 года по 2 января 1928 года был организован дружными
усилиями английского и русского Христианских Движений англо-русский
религиозный съезд в Сент-Албансе (St, Albans, вблизи Лондона), на котором было пережито
исключительно вдохновенное единство на лекциях, беседах, дискуссиях и особенно
на литургиях, совершившихся поочередно православными и англиканами в
присутствии всех членов съезда. В процессе этого общения раскрывались самые
интимные духовные стороны обоих исповеданий, зарождалась прочная взаимная
любовь, в результате чего организовалось Содружество святого Албания (первого
англиканского мученика) и преподобного Сергия Радонежского (The Fellowship of St.
Alban and St. Sergius). Президентом Содружества был избран англиканский
епископ Дербийский, вице-президентом и секретарем - H. M. Зернов (1898-1980).
Дружными усилиями англиканской молодежи и профессуры и
самоотверженными трудами отца Сергия Булгакова и H. M. Зернова, к которым присоединились
впоследствии В. Н. Лосский (1903-1958), Л. А. Зандер, г. П. Федотов (1886-1951),
г. В. Флоренский (1893-1939) и другие, Содружество бурно развивалось и
приносило весомые плоды.
Достижения, трудности и нужды, выявившиеся на Лозаннской конференции
при организации Содружества святого Албания и преподобного Сергия и в его
дальнейшей деятельности, побудили протоиерея Сергия Булгакова опубликовать
две статьи экуменического характера: 1) К вопросу о Лозаннской конференции.
(Лозаннская конференция и энциклика папы Пия XI: Mortalium animos), 1928 и 2)
У кладезя Иаковля (Ин. 4, 23). (О реальном единстве разделенной Церкви в вере,
молитве и таинствах). Эта статья издана в сборнике «Христианское воссоединение»
(1933) и переведена на английский язык by Jacob's Well (John IV, 23). (On the
Actual Unity of the Divided Church in Faith, Prayer and Sacraments, 1933).
Резюмируем здесь вторую статью, которая, несомненно, является
основополагающей в освещении проблем экуменизма, поскольку определяет его данность и
заданность в Церкви. Во вступительной части отец Сергий противопоставляет
формальное и свободно-благодатное понимание Православия. Многие думают, что есть
только одна Церковь, именно - Православная, а за ее пределами нет Церкви.
Между тем церковность существует и вне церковной ограды, ибо сказано в
Евангелии, что там, где двое или трое соберутся во Имя Христово, там и Он посреди них.
Между Церковью и Церквами существует отношение не только взаимной исклю-
чаемости, но и взаимной сопряженности. Христианству, и в частности
Православию (также и католицизму), присуще непосредственное откровение о
существующем единстве Церкви, которое есть одновременно данность и заданность, факт и
постулат. Ни одна историческая Церковь не должна замкнуться в себе настолько,
402
чтобы не чувствовать христианского мира за своими пределами; иначе она проявит
ограниченность церковного сознания. Можно различно понимать пути к
церковному единению, но сама постановка такой цели уже предполагает наличие
единства, существующего ранее объединения. Церковь едина, как едина жизнь во Христе
Святым Духом, только причастность к этому единству имеет разные степени и
различную глубину. Поэтому и в отношениях Православия и инославия естественно
имеются два аспекта: отталкивание в борьбе истины с полуистиной, искажением и
в то же время взаимное влечение любви церковной. Воля к разделению — это злой
гений, который расколол сначала западный и восточный мир и продолжает дальше
свое недоброе дело. Он живет иногда и в таких иерархах (как и мирянах), которые
почитают себя самыми ревностными хранителями ортодоксии, но к которым,
однако, относится слово Христово: «Не знаете, какого вы духа». Путь «экуменической»
церковности, ищущей церковного единства, сопровождается одновременно
сознанием и уточнением конфессиональных различий, но в то же время и растущим
сознанием единства. «Экуменизм» есть опыт такого единства. Дух Божий, Его
благодать может снять антиномию этого «да» и «нет», тезиса и антитезиса, в некоем
новом синтезе, его же чаем. Различия исповеданий, проявляющиеся прежде всего
в догматических разногласиях, а затем и в вытекающих из них
религиозно-практических различиях, лежат на поверхности и всеми ощутимы. Но то, что составляет
единство церковное как данное, уже существующее основание стремления к
единению, лежит в глубине, и оно должно быть найдено. Это — одновременно долг
любви церковной и практической целесообразности. Последнее нам дано опытно
переживать как благодатное веяние Духа Божия, когда «разноязычные» люди
начинают взаимно понимать друг друга. Эта положительная основа существующего
единства христианского мира проявляется: 1) в молитве, 2) в отношении к Слову
Божию, 3) в духовной жизни и 4) в таинствах. Каждый из этих четырех аспектов
глубоко и подробно рассматривается в данной статье.
Остановимся здесь, в заключение, лишь на нескольких моментах, касающихся
таинств, особенно святой Евхаристии.
Отец Сергий утверждает, что Церкви, сохранившие преемственность
апостольского священства, хотя и разобщены, но не разделены в жизни таинств, то есть
разделение Церкви не проходит до глубины, β своей таинственной жизни Церковь
остается едина; по крайней мере, это можно утверждать об отношениях между
Православием и католичеством. Обычно считается, что для действительного
соединения, которое могло бы выразиться в общении в таинстве (interkommunion) и в
особенности в общении Евхаристическом, требуется прежде всего каноническое
общение, то есть взаимное признание юрисдикции. Господствующая формула
гласит: единение в таинственной жизни должно иметь для себя условием
предварительное догматическое соглашение. Но так ли бесспорна эта мнимая аксиома,
которая никогда не проверялась? А почему не наоборот: не в единстве ли таинства
надо искать пути к преодолению не ереси учений, а ереси жизни, каковою является
разделение? Ни гордый и властный Рим, ни застывший в вековой самообороне
Восток не могли и не могут до сих пор сделать этого шага к единению, забыться в
порыве любви церковной.
При такой духовной установке отца Сергия Булгакова неудивительно, что он,
указывая на взаимную церковную любовь членов Содружества и единение в
догматических вопросах, предложил им обратиться с просьбой к соответствующим
церковным властям - одобрить и благословить «частичный интеркоммунион». Таким
образом, православные и англикане, достигшие согласия в вере и преодолевшие
психологические трудности, могли бы причащаться от одной чаши, осуществляя
таким путем практическое церковное единение. Это предложение отца Сергия
вызвало у одних членов Содружества бурный восторг, у других - острое
противодействие. Меньшинство видели в этом шаг вперед, большинство опасались общецер-
403
ковных трудностей и возможного раскола. После подробного обсуждения этот
вопрос был снят с программы.
В 1934 г. протоиерей Сергий Булгаков выехал на два месяца ( с 4 октября по 3
декабря) в Северную Америку. В основном он пребывал в США и посетил главные
города Нью-Йорк, Бостон, Чикаго, Эванстон, Филадельфию, Кембридж и другие. В
Канаде - в Торонто — он пробыл лишь 3 дня. Автобиографические заметки о.
Сергия1 содержат подробный дневник, характеризующий Американскую Церковь, ее
священство, интересные встречи с людьми, города, их достопримечательности,
общий уровень духовной и светской культуры народа.
Эта поездка отца Сергия преследовала цели как экуменические, так и
практические (сбор средств для Православного Богословского института в Париже). В
Америке отца Сергия встретил, сопровождал и активно помогал ему П. Ф.
Андерсон, искренне преданный Православию, русской культуре и Богословскому
институту при Сергиевском Подворье. Во время пребывания в Северной Америке отец
Сергий трудился с предельным напряжением, часто до полного физического
изнеможения. Он совершил множество богослужений в разных храмах, монастырях,
семинариях, произнес большое количество проповедей, лекций о Православной
Церкви, экуменизме, содружестве, речей и бесед о Богословском институте в Париже и
на другие темы - в зависимости от потребностей и интересов аудитории. Но по
богословским вопросам ему пришлось беседовать очень кратко, поверхностно и
всего лишь два раза, так как богословский уровень американской интеллигенции и
священства был слишком низким. Отец Сергий констатировал также отсутствие
экуменического духа у священнослужителей. Принимали протоиерея Сергия
Булгакова с удивительным почтением, сердечным гостеприимством, большой
симпатией, иногда даже с восторгом и любовью. Однажды в римско-католической газете в
Америке он был назван как «великий богослов и самый ученый человек в мире»
(«the great theologian and the most learned man in the world»). Очень светлые
воспоминания остались у отца Сергия от личных встреч с греческим архиепископом
Афинагором, с американским епископом Реггу и с примасом Канады, почтенным
старцем, в котором «искренность и скромность соединяются с какой-то
христианской мудростью».
Нельзя не сказать хотя бы кратко о впечатлениях и размышлениях отца
Сергия о Ниагаре и океане.
«Ниагара — это видение Божественной Софии в могучей хаотической стихии...»,
как бы «до первого дня творения, - стихии, в которой уже содержатся и борются
за существование безобразность и образы».
«...Сегодня произошла моя первая встреча с океаном, и я пленен тобою, океан.
Это незабываемый день жизни - первое откровение океана... Я ощутил его сегодня
как враждебную, надменно-презрительную и нечеловеческую стихию, которую
человек, насилуя, покоряет и отнюдь не убеждает...» Этот огромный пароход из
стали бороздит своими винтами грудь океана и прокладывает свой путь вопреки
его воле, и чувствуется оскорбление мощи океана, за которое он мстит при первой
возможности. А на следующий день - «я полюбил тебя, океан, полюбил этот до-
первый день творения, воды его, которые сохраняются в бытии, чтобы явить силу
Божию и всю многоступенность бытия. Я увидел океан в его встрече с солнцем...
бездну, приемлющую свет Логоса и ей отвечающую Духом Божиим, одевающуюся
Красотою... И прежде всего океан есть откровение неба, небесного свода... Этот
гигантский купол, в котором нет бездны, но есть бесконечная глубина... И стихия
засияла светом, изнутри просияла Красотой. Это дух Святой, Который носился — и
носится - над нею, просветляя ее Красотою. И здесь нет стихии... есть
ограниченная бескрайность силы бытия, есть Божия сила и Премудрость...».
1 Автобиографические заметки. С. 114-135.
404
Вернувшись из Америки, протоиерей Сергий Булгаков снова включается с
энтузиазмом в свое экуменическое служение. Одна за другой выходят его статьи на
русском и иностранных языках, посвященные экуменическим темам и
предназначенные для англикан, старокатоликов и протестантов. Одновременно отец Сергий
продолжает принимать самое деятельное участие во всемирных экуменических
конференциях, а также в съездах и деятельности Содружества святого Албания и
преподобного Сергия Радонежского.
Православных и англикан в этом Содружестве соединяют по-прежнему молитва
и любовь как основание их духовного единения. Англикане широко открывают
двери своих храмов для православных богослужений и в свою очередь радостно
пользуются ответным гостеприимством своих православных друзей. Так, под
Новый 1935 год прибывают на Сергиевское Подворье представители Содружества во
главе с глубокочтимым епископом Турским Фриром, и здесь устраивается
непродолжительная конференция. Утром на следующий день православные и англикане
собираются в Александро-Невском храме в Париже и служат вместе панихиду по
скончавшемся Константинопольском патриархе Фотик. Затем епископ Фрир
испрашивает у митрополита Евлогия благословение, облачается в свои одежды и
служит в середине храма молебствие по англиканскому чину в сопровождении
смешанного хора, который исполняет несколько рождественских англиканских
песнопений. В храме ощущается атмосфера первохристианского единения в любви
и молитве. В заключение епископ Фрир благословляет молящихся, а митрополит
Евлогий лобызает его на клиросе. Таким образом, епископ Фрир становится
первым англиканским клириком, служившим в православном храме.
Итак, на протяжении многих лет православные и англикане взаимно делились
и обменивались духовными сокровищами церковной жизни, что имело для o6eii*
сторон огромное значение. Православные открыли англиканам бездонную
мистическую глубину и необъятную широту православной веры, неизъяснимую красоту и
благолепие православного богослужения. Англикане показали православным
крепкую церковную дисциплину, благоговейное, чуткое отношение к тому, что
происходит в церкви, что говорят, что поют, а также умение воплощать христианские
идеалы в практической жизни. Одним словом, православные явили глубину
проникновения в тайны христианства, англикане показали мудрость в устроении
христианской жизни.
«Во взаимообщении с Англиканской Церковью, - пишет митрополит Евлогий, -
мы хорошо узнали друг друга, полюбили и научились вместе молиться. Я считаю
это важным достижением в деле сближения наших Церквей. Таял лед того
взаимного непонимания, которое ведет к отчуждению, разрушались перегородки,
укреплялись братские чувства во Христе, — в этом несомненно большое значение,
великая заслуга экуменического движения, и за это слава Богу, а будущее в руках Бо-
жиих»1.
С лютеранами и кальвинистами у православных тоже установились хорошие
отношения, хотя встречаться с ними удавалось редко. Однажды кальвинисты во
главе с пастырями Бёгнером, Монье и другими устроили в своем большом храме
торжественное собрание, на котором звучали речи и молитвы о соединении
Церквей, после чего митрополит Евлогий преподал присутствующим свое
благословение. На собрании было много русских, сочувствующих экуменическому движению,
однако близкого единения не произошло.
Но было одно предприятие, которое неожиданно сблизило православных с
протестантским миром: было решено организовать русский студенческий хор,
разучить с ним цикл древнерусских церковных песнопений и отправиться по городам
разных стран Европы с концертами духовной музыки.
1 Митрополит Евлогий. Путь моей жизни. С. 600-601.
405
Благодаря этим концертам между православными и протестантским миром
возникли новые дружественные отношения: православных начали узнавать, любить и
почитать. Студентам это также принесло большую пользу, и прежде всего
расширило их кругозор. Так Господь благословил из малого и чисто экономического
предприятия сотворить большое миссионерское дело, оказавшее влияние на
взаимоотношения с протестантским миром при следующих экуменических встречах.
В июле 1937 г. в Оксфорде состоялась вторая Всемирная экуменическая
конференция «Жизнь и деятельность», на которой присутствовало свыше 400 человек из
40 стран, в том числе и русские зарубежные богословы. Председателями
поочередно были: архиепископ Кентерберийский доктор Косма Ланг, митрополит Фиатир-
ский Герман и другие. Конференция проходила под девизом «Господь - Свет мой»
(«Dominus - illuminatio mea») и была посвящена выработке христианского
воззрения на насущные социальные проблемы. На этой конференции было принято
следующее определение: «Термин "экуменический" относится к выражению в истории
единства Церкви. Сознание и деяния Церкви экуменичны, поскольку они
направлены на осуществление "Единой Святой" Церкви, братства христиан, признающих
Единого Господа»1. Важнейшим решением Оксфордской конференции было
создание Комитета, который должен был разработать условия и способы объединения
движения «Жизнь и деятельность» с движением «Вера и церковное устройство»,
возникшим на первой Всемирной конференции в Лозанне в 1927 г.
В августе 1937 г. в Эдинбурге (Шотландия) состоялась новая Всемирная
конференция «Вера и церковное устройство», в которой принимали участие 414 делегатов
из 122 христианских объединений и 43 стран; в основном здесь были
представители Православных Церквей, англикан и старокатоликов. На· этой конференции
чувствовалась большая близость между Церквами, чем в Лозанне. Работа проводилась
в секциях. Обсуждались четыре основные богословские темы: 1) о благодати,
данной через Господа Иисуса Христа; 2) о Церкви Христовой и слове Божием; 3) о
Церкви Христовой, священстве и Таинствах; 4) о единстве Церкви в жизни и
богослужении.
Митрополит Евлогий выступил с докладом о культе святых, которые являются
«солью земли, светом мира», по слову Евангелия. Он подчеркнул также
необходимость почитания Богоматери, Которая является «драгоценнейшим сокровищем,
самым сердцем, самой душой Православия», и сказал, что протоиерей Сергий
Булгаков продолжит его слово о возвышенном православном культе Богоматери. Отец
Сергий говорил, что почитание Богоматери не является вопросом личного
благочестия; в истинах мариологии усматривается сама церковность, поскольку Божия
Матерь есть Царица Неба и земли, Матерь рода человеческого и личное
воплощение Церкви. Почитанием Божией Матери определяется и испытывается поэтому
вера в Церковь. Богочеловек Иисус Христос ~по Своему человечеству был Сыном
Марии и неотделим от Своей Матери. Поэтому является противоречием верить во
Христа и не почитать Приснодеву. Правильное учение о Церкви немыслимо без
мариологии. Божия Матерь есть сама Церковь в ее тварно-человеческом лике. И
Она является Матерью всего человеческого рода, который — в лице возлюбленного
ученика Христова - был усыновлен Ей, как Церкви, Самим Господом со креста.
Преодолев все трудности, отец Сергий добился того, что вопрос о почитании
Божией Матери был включен в программу обсуждений и, несмотря на количественное
превосходство протестантов, по этому вопросу была вынесена резолюция о
«высоком уважении, которое должно принадлежать Матери Божией в
христианском сознании».
1 Игумен Тихон и В. Никитин. Экуменическое движение и Русская Православная Церковь
до ее вступления во Всемирный Совет Церквей // Журнал Московской Патриархии. 1983. № 12.
С. 65.
406
Эдинбургская конференция приняла рекомендацию своего Комитета,
избранного на Оксфордской конференции, о слиянии с движением «Жизнь и деятельность».
В результате был избран «Комитет 14», которому было поручено оформить
организационно слияние обоих экуменических движений - «Вера и церковное
устройство» и «Жизнь и деятельность».
В мае 1938 г. «Комитет 14» созвал в г. Утрехте (Нидерланды) консультативную
конференцию, на которой и было принято историческое решение о создании
Всемирного Совета Церквей как межцерковного экуменического органа.
На Утрехтской конференции был принят следующий богословский базис:
«Всемирный Совет Церквей является содружеством Церквей, приемлющих Господа
нашего Иисуса Христа как Бога и Спасителя». Председателем «ВСЦ в процессе
подготовки» был избран архиепископ Йорский д-р Уильям Темпл, а генеральным
секретарем - пастор Реформатской Церкви Нидерландов д-р В. А. Виссер'т Хоофт.
В январе 1939 г. руководство ВСЦ решило созвать I Генеральную Ассамблею
ВСЦ в августе 1941 г., но по причине второй мировой войны она состоялась лишь в
1948 г. в Амстердаме1.
Протоиерей Сергий Булгаков не дожил до этой Ассамблеи. Но на протяжении
свыше 10 лет он был энергичным экуменическим деятелем, идеологом,
организатором, проповедником и — особенно — писателем.
Труды протоиерея С. Булгакова по экуменическим вопросам целесообразно, с
нашей точки зрения, разбить на группы по языковому принципу:
1) Труды на русском языке2.
К сожалению, мы не имеем возможности привести здесь все доклады и
выступления протоиерея Сергия Булгакова, сделанные на многочисленных съездах и
конференциях Содружества святого Албания и преподобного Сергия Радонежского, в
которых о. Сергий принимал деятельное участие (о которых мы даже не
упоминали) во время двух поездок в Америку и на собраниях Лиги православной
культуры, которая просуществовала с 1930 по 1935 г., и т. п.
2) Статьи на английском языке3.
1 Игумен Тихон и В. Никитин. Экуменическое движение и Русская Православная Церковь
до ее вступления во Всемирный Совет Церквей // Журнал Московской Патриархии. 1983. № 12.
С. 66.
2 Очерки учения о Церкви I. // Путь. 1925. № 1; Очерки учения о Церкви.II. Обладает ли
Православие внешним авторитетом догматической непогрешимости? // Путь. 1926. № 2; Очерк
учения о Церкви. III. Церковь и «инославие» // Путь. 1926. № 4; Письмо профессору Гансу
Эренбергу (По вопросу о православии и протестантизме) // Путь. 1926. № 5; О Царствии Божи-
ем. Доклад // Путь. 1928. № 11; К вопросу о Лозаннской конференции (Лозаннская
конференция и элциклика папы Пия XI «Mortalium Animos») // Путь. 1928. № 13; Очерки учения о
Церкви. IV. О Ватиканском догмате // Путь. 1929. № 15; К вопросу о дисциплине покаяния и
причащения (По поводу тезисов проф. прот. о. Т. Налимова) // Путь. 1929. № 18;
Евхаристический догмат // Путь. 1930. № 20, 21; Икона и иконопочитание. Париж. 1931 10*; Святой
Грааль (Опыт догматической экзегезы. Ио. XIX, 34) // Путь. 1932. № 32; Иерархия и Таинства //
Путь. 1935. № 49; Епископ Вальтер Фрир // Путь. 1938. № 56; Una Sancta (Основание
экуменизма) // Путь. 1938/1939. № 58. Опубликованы посмертно: Небо на земле (Прага, май 1925 г.) //
Вестник РСХД. 1958. № 48; Зов Апостольства (Слово на день памяти св. первоверховных
апостолов Петра и Павла, 29 июня) // Русско-американский православный вестник. 1963. № 7;
Православие. Очерки учения Православной Церкви. Париж, 196511*; Радость разлучения //
Русско-американский православный вестник. 1966. № 5; Россия. Эмиграция. Православие //
Вестник РСХД. 1975. № 116; Этика в Православии// Церковный вестник. 1978. № 9, 10/11;
Мистика в Православии // Церковный вестник. 1979. № 3. Готовятся к печати:
Евхаристическая жертва; Православный Восток и Епископальная Церковь; Христос в мире12*.
3 The Guardian of the House of the Lord (To the memory of the Most Holy Patriarch Tikhon.
An address delivered at Prague 27 Apr. 1925. Traus. by D. Mirsky // The Slavonic and East
European Review. 1925. Vol. 4. N 10; On Original Sin // Journal of the Fellowship of St. Alban and
St. Sergius. 1929. N 7; One Holy, Catholic and Apostolic Cheirch (Conference adress - High -
Leigh, - 21 April 1931) // Journal of the Fellowship of St. Alban and St. Sergius. 1931. N 12; On
407
Большая часть статей, предназначенных для англиканского мира,
опубликована в изданиях Содружества святого Албания и преподобного Сергия Радонежского
и выявляет всестороннюю заботу отца Сергия о духовном росте его членов. Здесь -
раскрытие глубин Православия с его догматической и мистической сущностью,
указание путей к единению Англиканской и Православной Церквей в таинствах и
в жизни, призыв к величественному прославлению Божией Матери и святых, к
братской возвышенной любви и к углублению молитвенной жизни, освещение
подвигов первохристианства и выяснение всех интересующих англикан вопросов
духовной жизни.
3) Статьи на немецком языке1.
princtive Christianity// Journal of Fellowship of St. Alban and St. Sergius. 1931. N 14; The
Church - Holy - «Soboruy (Catholic)» // The American Church Monthly. 1932. Vol. 32. N 6; On
the Veneration of the Blessed Virgin // Ashram Poona, Christa Seva Sangha Review, Special
Women-s Number. 1932. N 2: The Work of the Holy Spirit in Worship // The Chistian East. 1932.
Vol. 13. N 1; By Jacob's Well (John IV, 23) (On the Actual Unity of the Divided Church in Faith,
Prayer and Sacraments ) // Journal of the Fellowship of St. Alban and St. Sergius. 1933. N 22;
The Eucharist and the Social Problems of Modern Society // Journal of the Fellowship of St.
Alban and St. Sergius, 1933. N 23; Religion and Art // The Church of God. An Anglo-russian
Symposium by Members of the Fellowship of St. Alban and St. Sergius. London, 1934; On Prayer of
the Holy Spirit in the Orthodox Church // Journal of the Fellowship of St. Alban and St. Sergius.
1934. N 23; The Church Universal // Journal of the Fellowship of St. Alban and St. Sergius.
1934. N 25; Social Teaching in Modern Russian Orthodox Theology // Seabury western Theological
Seminary. 1937. N 7; Spiritual Intercommunion // Sobornost. 1934. N 4; A Prayer. Composed...
for a special service of the Fellowship of St. Alban and St. Sergius at High-Leight, 25-27 June,
1935 // Sobornost. 1935. N 3; Ways to Church Reunion // Sobornost. 1935. N 3; Freedom of
Thought in the Orthodox Church // Sobornost. 1936. № 6; The Veneration of the Virgin and the
Edinburgh Conference // Sobornost. 1937. N 12; From marxism to sophiology // Revue of
Religion. 1937. Vol. 1. N 4; A Brief Statement of the Place of the Virgin Mary in the Thought and
Worship of the Orthodox Church. Presented to Section IV of the Edinburgh Conference //
Sobornost. 1937. N 12; The Incarnation and the Virgin Birth // Sobornost. 1938. N 14; On Past and
Future (Notes of a paper of the Fellowship conference. July, 1938) // Sobornost. 1938. N 15; The
Spirit of Prophecy. A paper read in S. Bulgakov's absence at the Fellowship conference 1939 //
Sobornost. 1939. N 19; Hoc Signo Vinces. An open letter to the members of the Fellowship of St.
Alban and St. Sergius. Paris, 23 nov. 1939 // Sobornost. 1940. N 21; On Love (An extract from
Jacobs Ladder) //Sobornost. 1946. N 33; A collection of Articles... for the Fellowship of St.
Alban and St. Sergius and now reproduced to commemorate the 25-th Anniversary of the death of
this great Ecumenist (S. Bulgakov). (Introduced by N. Zernov) // The Fellowship of St. Alban and
St. Sergius. 1969. N 4; A Bulgakov Authology. Edited by J. Pain and N. Zernov. London, 1976;
The Church's Ministry // The Orthodox Church in the Ecumenical Movement. Documents and
Statements 1902-1975. Geneva, 1970. P. 166-171. Переведены с других языков: The Old and the
New. A. Study in Russian Religion // The Slavonic and East European Review. 1923/1924. N 2; Does
Orthodoxy possess an outward Authority of Dogmatic Infallibility? // The Christian East. 1926. N 1;
The Papal Eucyclical and the Lausanne conference // The Christian East. 1928. N 3; On original
Sin // Journal of the Fellowship of St. Alban and St. Sergius. 1929. N 7; A Sermon on Pentecost //
Journal of the Fellowship of St. Alban and St. Sergius. 1930. N 7; Judas or Saul? // The Slavonic
and East European Review. 1931. N 27; The Problem of the Church in Modern Russian Theology //
Theology. 1931. N 134; The Church and Non-Orthodoxy // American Church Monthly, 1931. N 6;
1932. N 1; On the Sacrament of Penance in the Russian Orthodox Church // Journal of the
Fellowship of St. Alban and St. Sergius. 1932. № 18; Behold the Blessed Saturday (Meditations
before the cerements of Our Lord) //American Church Monthly. 1933. N 4; The Bible and
Tradition // The Student world. 1934. N 2; The Lamp of God. A review by the Author // Theology
(London). 1936. N 136; The wision of God. A Brief Summary of Sophiology. N. Y. - London, 1937;
The Ministry and Sacraments // Report of the Theological Commission appointed by the
Continuation Commitce of the Faith and Order Movement. London, 1937; The Orthodox Church.
London, 1938; Heaven - A Cave // Journal of the Fellowship of St. Alban and St. Sergius. 1938.
N 3; The Vatican Dogma. South Canaau, 1959; The Eucharistie Dogma // Sobornost. 1960. № 2;
The Church as Tradition. New York, 1966.
1 östliches Christentum. Dokumente. Hrsg. von N. V. Bubnoff and H. Ehrenberg. München,
1925; Östliches Christentum und Protestantismus. Stuttgart, 1928; Das Geistliche Amt // Die
Weltkonferenz für Glauben und Kirchen - Verfassung. Berlin, 1929; Das Selbstbewusstsein der
Kirche // Orient und Occident, 1930. N 3; Die Wesensart der Russischen Kirche // Internationale
408
В. этих трудах, предназначенных для представителей протестантского
исповедания, отец Сергий уделяет основное внимание вопросам о сущности и самосознании
Церкви, о догматах, таинствах, о православном почитании Богоматери и святых,
наконец, об апостольском преемстве священства.
4) Статьи на французском языке1.
Характер работ отца Сергия, опубликованных на французском языке (в
основном переведенных на этот язык), отличается большим своеобразием. По-видимому,
французский католический мир проявляет исключительный интерес к личности
отца Сергия и ко всей его богословской системе, особенно к проблемам,
разработанным с глубоким богословским и философским мастерством в его двух трилогиях.
Завершая перечень экуменических трудов протоиерея Сергия Булгакова,
следует упомянуть, что некоторые из них были переведены не только на три
вышеуказанных языка, но и на многие другие. Особой популярностью пользовалась книга
«Православие», переведенная (в целом или в отдельных главах) на греческий,
румынский, сербский и другие языки. Избранные главы «Автобиографических
заметок» и труда «Икона и иконопочитание» появились в польском переводе2.
Таким образом, «в своей встрече с христианством Запада, — пишет Л. А. Зан-
дер, - о. Сергий нашел подлинно вселенский язык и явил перед ним лик России не
под углом той или иной культурной традиции, но как лик выразителя вселенской
мудрости и всеобъемлющей полноты Православия»3.
Kirchliche Zeitschrift. 1930. Ν 3; Apostolische Sukzession, Eucharistie und Kirchliche Einheit //
Hochkirche. 1931. N 8; Die Gottesmutter und die Ökumenische Bewegung // Hochkirche. 1931.
№ 6/7; Das Dogma in der Östlichen Orthodoxen Kirche // Eine heilige Kirche. 1935. N 4/6; Zur
Frage nach der Weisheit Gottes // Kyrios. 1936. N 2; Die Christliche Anthropologie. Kirche, Staat
und Mensch // Russisch-orthodoxe Studien und Forschungen des Oekumenischen Rates für
Praktisches Christentum. Genf, Д937; Thesen über die Kirche // Procès verbaux du premier
congrès de théologie orthodoxe a Athènes, 29 nov. - 6 déc, 1936. Athènes, 1939; Über die
Verehrung der Gottesmutter in der Orthodoxie // Die Schildgenossen. 1939. N 146-157; Was ist
die Wirtschaft? // International Bibliothek für Philosophie. 1942. Bd. 5. № 4; Meine Ordination //
Kirche im Osten. 1966. N 9; Meine Heimat // Kirche im Osten. 1975. N 8; Sozialismus in
Christentum? Göttingen, 1977. Переведены или написаны на основе трудов на русском языке:
Die Verwandlungslehre im Eucharistischen Dogma der Orthodoxen Kirche des Morgenlandes //
Internationale Kirchliche Zeitschrift. 1932. N 3; Das Lamm Gottes. Selbstanzeige // Theologische
Blätter. 1934. N 7; Judas Ischarioth - der Verräter- Apostel // Orient und Occident. 1932. N 11;
Das Sakrament der Busse in der Orthodoxen Kirchen des Ostens // Eine heilige Kirche, 17 Jg. der
Hochkirche. 1935. N 7/9; Lasset uns Göttlicherweise freuen // Eltheto. 1936. N 7; Die
Heiligenverehrung in der Orthodoxen Kirche des Osten // Eine heilige Kirche. 1936. N 10/12; Die
Lehre von der Kirche in Orthodoxer Sicht // Internationale Kirchliche Zeitschrift. 1957. N 3; Das
Eucharistische Dogma // Kyrios. 1963. № 1, 2; Grundsätzliches über die Heiligenverehrung in der
Orthodoxen Kirche des Ostens // Orthodoxe Stimmen. 1969. N 62.
1 L'Ancien et le Nouveau // Cahiers de la Nouvelle Journée. 1927. N 8; Le Ministère de
l'Église // Actes officiels de la conférence mondiale ed Lausanne. 3-21 août, 1927. Paris, 1928; Un
théologien russe sur l'Église // Yrénikon. 1931. N 6; L'Orthodoxie et la vie économique. Stokholm,
1931, N 3; Voies pour la Reunion de l'Église // Instina. 1969. N 2; l'Église comme organisation
sacramentelle et hiérarchique (fragment) // Le Messager orthodoxe. 1969. N 46/47; La Vénération
de Saintes Reliques // Le Messager orthodoxe. 1981. N 89. Переведены с других языков: Le Ciel
sur la Terre // Die Ostkirche. Sonderheft, 1927; L'orthodoxie. Paris, 1932; Du Verbe Incarne
(Agnus Dei). Paris, 1943; Le Paraclet. Le Sagesse Divine et la Théanthropie. Paris, 1946; Mon
ordination // Bulletin mensuel du séminaire académique de la Faculté catholique. 1948. N 1; Le
jour Sabbat Béni (Meditation devant le Sépulcre) // Le Messager orthodoxe. 1959. N 1; Le Dogme du
Vatican // Le Messager orthodoxe. 1959. N 6-8; 1960, N 10; Les Miracles de l'Évangile // Le
Messager orthodoxe. 1965. N 31; La résurrection // Le Messager orthodoxe. 1966. N 36; L'Ami de
l'Époux // Le Messager orthodoxe. 1968. N 42/43; Sur l'Ami Céleste. Extrait de l'Échell de Jacob
// Le Messager orthodoxe. 1972. N 57; Deux rencontres (1898-1924) // Ibid.;* Picasso on «Le
Cadavre de la beauté» (1914) // Ibid.; La Vénération des Icônes // Ibid.; Le Saint Graal (Jean 19,
34) // Contacts. 1975. N 28; La Fiancée de l'Époux // Le Messager orthodoxe. 1982. N 90.
2 Choroba - Smieré - Zycie. Trad. H. Paprocki // Novum. 1979. N 11.
3 Зандер Л. А. Бог и мир. Т. 1. С. 26.
409
За всю совокупность своих богословских трудов и самоотверженную
деятельность протоиерей Сергий Булгаков получил признание и в православном, и в ино-
славном мире. В 1943 г. Православный Богословский институт в Париже присудил
ему степень доктора церковной истории13*.
25. Болезнь и операции протоиерея Сергия Булгакова
Огромный труд, который нес отец Сергий в различных сферах, постепенно
истощал его сильный от природы организм. Он жил и работал, чувствуя над собой
руку и любовь Божию.
Но вот пришла болезнь - впервые в 1929 г., в день памяти преподобного
Серафима Саровского. Два дня отец Сергий не сдавался и продолжал работать, на
третий изнемог: высоко поднялась температура, начались тяжелые страдания,
предвещавшие серьезную болезнь. Бессонные ночи привели к потере ощущения
времени. Отец Сергий жил со всей напряженностью и интенсивностью своего духовного
существа, «переживая просветы в вечность» и сознавая ответственность перед
Богом. В течение этой продолжительной болезни он испытал длительные минуты
умирания, духовные моменты прохождения через порог смерти и возвращения к
жизни. Он изложил эти чувства и опыт в статье христологического типа
«Софиология смерти», примыкающей к первой части его трилогии «Агнец Божий».
«Навсегда я познал, - вспоминает отец Сергий, - что. есть только Бог и
милость Его, что жить надо только для Бога, любить только Бога, искать только
Царствия Божия, и все, что заслоняет Его, есть самообман. Я призывал и
чувствовал близость Пречистой Матери Божией, но у меня не хватало силы для
восхождения. Затем я двинулся, словно по какому-то внутреннему велению, вперед, из
этого мира - к Богу. Я несся с быстротой и свободой, лишенный всякой тяжести. Я
знал каким-то достоверным внутренним чувством, что я прошел уже наше время и
теперешнее поколение, прошел еще следующее поколение, и за ним уже начал
светиться конец. Загорелись неизреченные светы приближения и присутствия
Божия, свет становился все светлее, радость неизъяснимее: "несть человеку глагола-
ти". И в это время какой-то внутренний голос спутника — то был Ангел-хранитель -
сказал мне, что мы ушли слишком вперед и нужно вернуться. И я понял и
услышал внутренним слухом, что Господь возвращает меня к жизни, что я
выздоравливаю. Я не могу теперь постигнуть, как это было, но один и тот же зов и
повеление, которое освободило меня от жизни этого мира, одновременно и тем же самым
словом определило мне возвращение к жизни. Внутренне я уже знал, что я
выздоровею»1.
И отец Сергий действительно пошел на поправку и был совершенно спокоен,
потому что реально услышал Божие повеление. В то же время он почувствовал
себя освобожденным от тяжести грехов и даже не держал их больше в памяти. Он
чувствовал себя как новорожденный, потому что в его жизни произошел реальный
перерыву через нее вошла «освободительная рука смерти».
«Ты еси Бог творяй чудеса!» - такими словами заканчивает отец Сергий свое
повествование. Так завершился светлый, радостный духовный опыт протоиерея
Сергия Булгакова за время первой болезни, обогативший его прозрением
подлинного смысла жизни, процесса умирания и смерти.
И вот в 1939 г., ровно через десять лет, отца Сергия посетила новая, более
серьезная и опасная болезнь: это был рак гортани, требовавший немедленной двой-
1 Автобиографические заметки. С. 138-139.
410
ной операции с наиболее вероятным смертным исходом или — в благоприятном
случае — с потерей голоса навсегда. Господь помог отцу Сергию встретить и пережить
эту весть без страха, с мужеством и даже с радостным возбуждением в ответ на зов
Божий. Операция, которую должны были делать без общего наркоза, сулила
тяжелые страдания. От страха спасало также свойственное отцу Сергию любопытство.
Перед первой операцией он исповедался, причастился Святых Животворящих
Тайн и на всякий случай попрощался с родными и друзьями, хотя все верили в
положительный исход операции. В последние часы отец Сергий еще вспоминал,
кого надо обласкать добрым словом. В клинику он явился бодрым и
мужественным, с полной готовностью принять волю Божию.
Первую операцию горла он наблюдал в зеркало, подвешенное на потолке. После
нее отец Сергий сразу потерял речь. Вторая операция, которую уже невозможно
было наблюдать по многим причинам и которая состояла в удалении голосовых
связок, была проведена через две недели после первой, в Великий Вторник. Вся
Страстная седмица прошла в страшных страданиях, в состоянии мучительного
удушья, которое иногда протекало бурно, но сравнительно коротко, а порой очень
длительно, сопровождаясь полубредовым состоянием сознания. Это было умирание
с перерывами, но без просвета, безрадостная-ночь без зари, без утра.
Оставалось чувство физических страданий с утратой силы духа, с богооставлен-
ностью, что было самым страшным. Но оставалась еще одна действенная сила в
страждущей душе - любовь. Отец Сергий любил всех родных и друзей, перебирал
в памяти мыслью всех любимых и нелюбимых в прошлом, всех тех, кого радостно
или трудно было любить в настоящем. Он любил всех, кого помнил. И близость
Божия стала ощутима, поскольку никто и ничто не отделяло отца Сергия от Бога.
Эта близость Божия, стояние пред Богом лицом к лицу были трепетны. В своей
болезни никогда и ни в чем он не противился воле Божией, не роптал, не просил
Бога о помиловании и освобождении от страданий, принимая их как неизменное и
несомненное Божие определение. «Я умирал во Христе, и Христос со мною и во
мне умирал»1. И эти переживания принесли «страшное, потрясающее, невыразимое
откровение»: прошло «не поддающееся исчислению времени мгновение между бого-
оставленностью Христа и Его смертию. Но оно содержало в себе безвременную
длительность и полноту умирания для всякого человека... Я ведал Христа в своем
умирании, мне была ощутима Его близость ко мне, почти телесная, но... как
лежащего со мной «изъявлена и ранена мертвеца»... Он мог помочь мне в моем
страдании и умирании только сострадая и умирая со мной. Я видел этот образ
внутренним зрением...»2. «Этому Христу я не мог - или не умел тогда - молиться, я
лишь мог Его любить и с Ним сострадать, поскольку и Он сострадал со мною. Чрез
мое, человеческое, умирание для меня открывалось умирание Богочеловека,
которое было мукою всех человеческих мук. Оно совершилось в предельном кенозисе...
В этом самоуничижении Богочеловека и заключается спасительная сила Его
смерти. Христос умирал нашей человеческой смертью, чтобы принять чрез нее смерть
Богочеловека. Поэтому и наше умирание, как со-умирание с Ним, есть откровение
о смерти Христовой, хотя еще не об Его славе»3.
Жизнь отца Сергия окуталась мраком, тяжело лежал на нем крест немоты.
Главное страдание было от сознания, что он не сможет уже стоять у престола и
совершать литургию. Правда, даже и это не встречало в душе его ропота и
разрешалось в покорное приятие воли Божией: «Бог дал, Бог и взял, да будет
благословенно имя Господне». От врача пришла весть, что он не может рассчитывать на
восстановление речи. Между тем приближались дни Святой Троицы и Святого Ду-
1 Там же. С. 143.
2 Там же.
3 Там же. С. 144-145.
411
xa - годовщина рукоположения отца Сергия, - и он думал о них, таких всегда
торжественных и светлых, со страхом и тоскою, как мертвый... В этом чувстве
сосредоточилось безмерное страдание, умирание без смерти.
И вдруг оно неожиданно прервалось по милости Божией. Совершилось чудо —
через любимого друга, который принес весть от доктора, что голос восстановится.
Как будто свет прорвался через мрак... Бог явил отцу Сергию Свою милость, и он,
потрясенный до основания, рыдал радостными слезами, как никогда в жизни. В
канун и день Святой Троицы отец Сергий был в храме, а в день Святого Духа
исповедался и причастился Святых Тайн.
Память о рукоположении стала для него радостной как никогда. Друзья отца
Сергия наполнили весь его дом цветами, горячо приветствуя его возвращение к
жизни.
Отец Сергий в первую половину своей болезни был объективно на волоске от
смерти, а субъективно был почти всецело охвачен смертностью и потому познал ее,
познал как крестное умирание Господа в Его богооставленности даже до смерти, от
вопля: «Для чего Ты Меня оставил?» до последнего приятия воли Божией: «В руки
Твои предаю дух Мой».
Умирание, по словам отца Сергия, не содержит откровения о самой смерти,
которое дается только ее вкушением теми, кто безвозвратно оставляет этот мир. За
гранью смерти следует откровение о загробной жизни как начале нового бытия.
Умирание не знает откровения ни о загробной жизни, ни о воскресении. Оно есть
ночь дня, сам первородный грех.
Не следует заполнять жизнь одним предчувствием смерти, но нельзя и
забывать о ней, отворачиваясь от нее, ибо рано или поздно она придет к каждому
человеку и надо быть готовым достойно принять ее1.
26. Последние годы жизни
Здоровье протоиерея Сергия Булгакова стало понемногу восстанавливаться. Ог*
ромными усилиями воли он научился говорить (хотя и не особенно внятно) без
голосовых связок. Он служил ранние литургии в пределе во имя Успения Божией
Матери (на них приходили преданные ему духовные дети), продолжал читать
лекции по догматическому богословию (не касаясь на них своего учения о Софии),
осуществлять свои пастырские заботы и писать свои труды. Все замечали, что
после операции у отца Сергия появилась в отношениях с людьми особая мягкость и
ласковость, а улыбка его сопровождалась удивительным сиянием глаз.
Но недолго продолжались мирные дни его жизни и труда. Вторая мировая
война коснулась вскоре Парижа. Многие покидали столицу и уезжали на юг Франции.
Отец Сергий вместе с семьей твердо решил оставаться на месте и переносить любые
страдания, которые выпадут на их долю.
Один из учеников отца Сергия так вспоминает это время своего обучения в
Богословском институте в Париже: «Профессора читали, а студенты слушали лекции
в нетопленых аудиториях, на голодный желудок. До сих пор помнятся лиловые от
холода руки о. Сергия Булгакова и вся обстановка его последних лекций... Он
читал свое толкование Апокалипсиса, и даже больше, чем его слова, запомнился весь
его облик, тот необычный свет, горение, сияние, которые исходили от него в эти
последние годы... И на фоне "грохотавшей" действительности сохранилось сильное
впечатление служения "единому на потребу" и нашего духовного единства».
Война возбуждала во всех и в самом отце Сергии непрестанные вопрошания, но
он не мог прикрывать бездну неизвестности призрачным покрывалом. Поэтому он
1 Там же. С. 147.
412
часто отвечал на эти вопросы безответностью. Однако вера и любовь помогали ему
решать встающие трагические проблемы; он искал ответы в своем личном
духовном опыте, в откровении о страданиях Христа. Об Этом страждущем в мире Христе
он писал в своем неопубликованном труде «Христос в мире». Особенно мучительно
переживал отец Сергий страдания невинных детей - жертв беспощадной войны.
Однажды он поделился с одним из своих близких скорбями по этому поводу,
говоря: «Сегодня во время литургии я себя вопрошал: как я могу возносить Богу
Евхаристическое благодарение, как я могу благодарить Господа за эти ужасы, за этих
бедных детей? И вот во мне вдруг прозвучал ответ: да, могу благодарить, ибо
чувствую Христа, сострадающего в них и с ними!»
В эти военные годы с особой остротой вставал вопрос о необходимости
активного протеста против насилий и злоупотреблений фашизма.
Отец Сергий давно вынашивал в своем сердце идею «монашества в миру», то
есть такого типа монашества, который осуществляет напряженный молитвенный
подвиг одновременно с самоотверженным служением Богу, Отечеству, людям,
культуре - не скрываясь в уединенной обители, а оставаясь в «гуще мира». Именно
теперь эта идея становится особенно актуальной. И отец Сергий вдохновляет и
благословляет своих духовных детей на такой христианский творческий путь. В
первую очередь следует упомянуть здесь его духовную дочь - мать Марию
(Елизавету Юрьевну Кузьмину-Караваеву), ее юного сына Юрия, друга и
сподвижника, духовного сына отца Сергия, священника Димитрия Клепинина, которые
прославили свои имена (вместе с другими участниками французского
Сопротивления) неустанными самоотверженными подвигами любви по отношению к
страждущим людям вплоть до своей героической смерти в фашистских лагерях.
Так, в драматических событиях подошел постепенно 1943 год. Отец Сергий,
всегда преданный России, внимательно, с глубокими патриотическими чувствами
следил за ходом военных событий на Отечественном фронте, радовался всей душой
каждой одержанной победе. К сожалению, ему не удалось дожить до торжества
окончательной победы в 1945 г.14*.
В духовной собранности, с возрастающим вдохновением продолжал отец Сергий
служить ранние литургии, читать свои лекции, общаться с духовными детьми,
углубляться и писать «Опыт догматического истолкования Апокалипсиса святого
Иоанна Богослова»1, но он все острее предчувствовал приближение конца своей жизни.
Поэтому, когда в самом начале июня 1944 г. Л. А. Зандер принес ему одну из
глав своей книги «Бог и мир», отец Сергий спросил его: «Придешь в Духов день?»
Зандер, живший за пределами Парижа, ответил: «Постараюсь». Отец Сергий с
мягкой настойчивостью сказал: «Приходи, это в последний раз...»2.
Наконец наступила памятная для всех его духовных детей годовщина
рукоположения отца Сергия - 5 июня 1944 г., день Святого Духа. Он служил с большим
подъемом Божественную литургию на греческом языке. Все его духовные дети
причащались, а после богослужения, как обычно, пошли к отцу Сергию пить чай,
продолжить общение в беседе.
Многие из них вспоминали потом, как особенно значительна для них была эта
последняя исповедь, как бы прощальная, будто в ней отец Сергий дал свое
завещание и выражал главное, что хотел сказать каждому...
Предчувствие отца Сергия сбылось в ту же ночь — его постиг удар с 5-го на 6-е
июня... Прибывший доктор сказал, что ни сознание, ни центр речи не поражены
ударом. Несмотря на такой утешительный диагноз, четыре духовные дочери отца
Сергия решили неотлучно пребывать у постели больного.
Первые два дня отце Сергий был очень слаб, однако проявлял некоторые
признаки жизни; в течение следующих дней его сознание стало постепенно угасать.
1 Париж, 1948.
2 Зандер Л. А. Бог и мир. Т. 1. С. 61.
413
Но лицо его выражало напряженную духовную жизнь, и все время менялось его
выражение. Все четверо почувствовали, что присутствуют при таинстве перехода
души отца Сергия в Горний мир.
И вдруг в субботу утром 10 июня 1944 г., когда сестра Иоанна сидела одна у
постели отца Сергия, она поразилась: так непрестанно стало изменяться
напряженное выражение его лица, как будто вел он какой-то таинственный
потусторонний разговор. Неожиданно лицо его начало становиться светлее и радостнее.
Выражение мучительной напряженности стало всецело преображаться в выражение
мирной детской невинности. Сестра Иоанна немедленно позвала остальных, и они
вчетвером были свидетельницами необычайного просветления лица отца Сергия.
Однако это просветление не стирало черт лица и выражения его радости. Эта
удивительная озаренность длилась два часа, как сказала мать Феодосия, взглянувшая
на часы. Она промолвила: «Отец Сергий приближается к Престолу Господню и
озарен Светом Его Славы».
Приведенную документальную запись передала автору настоящей статьи сестра
Иоанна в 1963 г. - после ее переезда из Парижа на постоянное жительство в СССР -
с просьбой опубликовать это сообщение, когда представится возможность15*.
В 1971 г. совершенно независимо от этого вышло из печати замечательное
свидетельство матери Феодосии «О последних днях о. Сергия»1, которое полностью
сходится с записью сестры Иоанны.
Агония у отца Сергия началась во время всенощной под праздник святых пер-
воверховных апостолов Петра и Павла и закончилась 13 июля 1944 года, в
праздник Собора 12 апостолов. Отца Сергия облачили в ризу, которую он привез из
России. В гроб согласно его завещанию2 положили горсть родной русской земли,
взятой отцом Сергием с могилы его сына Ивашечки, и горсть Святой Земли из Гефси-
мании, которую отец Сергий хранил под образами.
Похоронили отца Сергия 15 июля 1944 года на русском православном
кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа (Sainte Geneviève des Bois), недалеко от храма,
освященного в 1939 г. в праздник Покрова Пресвятой Богородицы.
Митрополит Евлогий (Георгиевский) сказал над могилой следующее слово:
«...Ты был не понят, обвинен. Быть может, это было вписано в твою судьбу, так
как твое богословие являлось плодом не только твоего мышления, но также и
скорбных испытаний твоего сердца... Дух Святой преобразил в душе твоей Савла в
Павла. Ты был истинным христианским мудрецом, учителем жизни, поучавшим не
словом только, но и всем житием своим, в котором — дерзаю сказать — ты был
апостолом»3.
Отец Сергий претерпел от людей много непонимания, незаслуженных скорбей и
несправедливых обид. Но несомненным фактом остается то, что Бог прославил
Своего сына - мыслителя, труженика и подвижника - в присутствии четырех
свидетельниц, его духовных дочерей, необъяснимым озарением его лица.
Так светло и радостно отошел отец Сергий в жизнь вечную - ко Христу,
Которого безгранично любил и к живому единению с Которым всегда стремился смиренным
подвигом своей самоотверженной жизни, богословского труда и священства.
1 Вестник РСХД. 1971. № 101/102. С. 85-86.
2 Православная мысль. 1951. № 8. С. 8-9.
3 Митрополит Евлогий. Сб. памяти о. Сергия Булгакова. Париж, 1945.
и
Ю. Давыдов
АПОКАЛИПСИС АТЕИСТИЧЕСКОЙ РЕЛИГИИ
(С. Булгаков как критик революционистской религиозности)
Хотя в центре внимания автора предлагаемой статьи будут булгаковские
работы, включенные в двухтомник «Два Града», в ней не ставится целью дать их более
или менее подробную характеристику. По-видимому, время простого
информирования читателя о русской философии «серебряного века» уже прошло. Она порядком
«пораздергана» на впечатляющие цитаты, а потому представляется «достаточно
известной» нашей читающей публике. Что и подтверждают всезнающие
книготорговцы, свидетельствующие о резком падении «покупательского спроса» на книги
российских философов, вошедшие в общественное сознание еще в первые десять-
пятнадцать лет нашего века. В такого рода «падении» есть и своя позитивная
сторона: время сбора цитат-«цветиков» проходит - значит, приходит наконец пора
собирания плодов. Пора узнавания наших российских мыслителей по их
действительному вкладу в философскую культуру, а не по их обещаниям. А это возможно
лишь при переходе от «инвентаризации» идей того или другого из философов,
произведших на нас более или менее сильное «впечатление», к осмыслению связи этих
идей, их внутренней сопряженности друг с другом.
Подход этот представляется перспективным в применении к творчеству именно
таких мыслителей, как С. Булгаков, кстати, не очень-то обласканного вниманием
«просвещенного читателя» даже в последние годы, отмеченные «издательским
бумом», распространившимся и на нашу дореволюционную философскую литературу.
Дело в том, что булгаковские работы, внутренне сопротивляющиеся их
поверхностному «расцитачиванию», начинают открывать богатство и нетривиальность своего
содержания лишь при неспешном, вдумчивом чтении, исключающем ту
судорожную, захлебывающуюся торопливость, на какую, судя по типичным комментариям
нынешних «квалифицированных читателей», настраивают, например, профетиче-
ски-лихорадочные тексты Н. Бердяева. Явно проигрывая им в афористической
суггестивности, работы С. Булгакова тем более выигрывают (особенно на бердяев-
ском фоне) с точки зрения глубоко продуманной сопряженности содержащихся в
них идей. Причем даже в начале «постмарксистского» периода философского
творчества С. Булгакова за этой связью уже прорисовываются контуры обобщающих
концепций.
415
Ведь С. Булгаков принадлежал. к тому типу философов, редкому даже (а быть
может, в особенности?) для нашего духовного ренессанса начала века, которые
воспринимали свой отказ от одной идеологии, в данном случае марксистской,
совсем не как отпущение их теоретических грехов и право на «свободный полет
мысли», временами так напоминающий «легкость в мыслях необыкновенную». Для
него такой отказ означал - прежде всего и главным образом - нравственную
обязанность предложить взамен отвергнутого нечто существенно новое. А именно -
другой тип миросозерцания, выработать который можно лишь в том случае, когда
до конца, до их последних «начал», прослеживаются корни и истоки отвергнутой
идеологической системы. Иначе есть риск остаться под властью «отвергнутой»
системы взглядов и идей — властью тем более опасной, что она будет неосознанной, а
потому тайной: властью «начал», скрытых в глубинах мировоззрения, кажущегося
себе таким новым, таким свободным.
Как свидетельствуют статьи С. Булгакова, о которых пойдет у нас речь, этот
путь «трудной работы мысли» (Гегель) был для него единственной гарантией от
превращения философии в то самое - воистину головокружительное ! — «свободное
парение», которое делало философа «человеком ниоткуда» даже в области
теоретического мышления. Человеком, способным так легко жонглировать мыслями, о
подлинной связи которых он ничего не знает лишь потому, что это - чужие мысли,
а не его собственные, где ему самому принадлежит лишь тон (как правило,
пророчески-риторический), с каким они поданы читателю или слушателю. Ибо
собственником своих мыслей может по праву считаться лишь тот, кому ведома их
внутренняя связь, взыскующая целостности общего мировоззрения мыслящего. Если этого
знания нет - философское мышление исчезает, тонет в «потоке сознания», который
неизбежно превращается в «апофеоз» своей собственной беспочвенности.
Результатом именно такой «работы мысли» С. Булгакова было постепенное
выстраивание им - именно на путях глубинного теоретического самоанализа, ибо
речь шла о критическом анализе той самой «марксистской веры», в которую он
крестился еще в ранней юности, — своей собственной версии православной социальной
философии (и философии истории как ее стержня). Движение в этом направлении,
цель которого все более отчетливо прояснялась для самого С. Булгакова по мере
приближения его к фактическому результату, и получило свое удовлетворение и
закрепление в «Двух Градах». Поскольку же нас в данном случае интересует общее
движение, на пути которого и этот двухтомник обозначает лишь одну из «вех»,
постольку он и не является для нас предметом специального рассмотрения - как
«сборник», состоящий из таких-то и таких-то статей. Тем более что многое, очень
многое в этой книге, отличающейся глубоко продуманной внутренней
целостностью и (по крайней мере, отчасти) ставшей открытием для самого автора, позволив
обозреть наконец здание, сооружавшееся им на протяжении почти десятка лет, -
противится тому, чтобы назвать ее «сборником».
То, что собрано в этой книге, отчетливо обозначившей и определившей целый
этап в духовной эволюции С. Булгакова, является для нас лишь поводом для того,
чтобы проследить ее «ход и исход» (на том этапе), более отчетливо оттенив
прорисовывающееся в ней целое социально-философского построения мыслителя. При
этом нам хотелось бы дать понять читателю, что это «построение» было для автора
не самоцелью, а, как это ни парадоксально, лишь средством — способом ответить
на «злобу дня»: на вопрос о том, что же такое русская интеллигенция, к которой
он принадлежал, в «среде» которой сформировался духовно, но которая начала
«выталкивать» его из своей «среды» с того момента, как он во всеуслышание
объявил о своем неприятии марксизма. Причем — и именно по этой причине — вопрос о
русской интеллигенции оказался его глубоко личным вопросом
(«экзистенциальным», как будут говорить впоследствии): его собственной трагедией. Говоря о
российской интеллигенции, он говорил и о себе самом. Прикасаясь остро отточенным
416
скальпелем социально-философского анализа к ее мировоззрению и
мироощущению, он препарировал тем самым и свой собственный духовный мир. Отказываясь
от того, что он считал опасным и вредоносным в ее духовно-душевном складе, он
отрекался и от части своей собственной души. Поэтому его познание не могло не
быть в то же самое время и покаянием. Самоочищением. «Катарсисом».
* * *
Чтобы понять своеобразие социальной философии С. Булгакова, контуры
которой отчетливо проступают, в статьях 1904—1910 годов, собранных в двухтомнике
под названием «Два Града», недостаточно ни общей ссылки на то, что это -
христианская социальная философия, ни конкретизирующего уточнения, что речь
идет о православной версии философствования о социальных материях. Важнее
обратить внимание на основной выводу который делается С. Булгаковым из
христианской веры в то, что человек — существо религиозное1. А вывод этот, который
кладется автором в основу всех последующих его рассуждений, заключается в том,
что хотя и «могут быть нерелигиозные или даже антирелигиозные люди», однако
нет и не может быть людей «внерелигиозных» в точном смысле этого слова.
Людей «внерелигиозных» не может быть в силу «самой метафизической
природы человека», ее фундаментальной противоречивости. А именно — в силу того, что
человек, с одной стороны, существо духовное и, стало быть, свободное, так как
«природа... духа есть свобода», с другой же — существо «тварное», а потому
ограниченное (I, VIII). Духовность этого «тварного» существа исключает для него
возможность «религиозного солипсизма» — полного замыкания в рамках конечного
существования. Она выталкивает человека за пределы своего «я», заставляет
выносить свой собственный «центр» вовне — туда, где находится источник этой
духовности. То есть заставляет его искать и находить свою связь с Богом, как бы ни
именовал человек Всевышнего. И только через эту связь — а она и является
религиозной - партикулярный индивид может установить осмысленную связь с мировым
целым, со всем, что его окружает, обрести смысл своего бытия.
И сам этот основополагающий вывод, и булгаковский способ аргументации не
так просты и тривиальны, как может показаться на первый взгляд. Если истинная
природа человека религиозна, то это значит для Булгакова, что даже проблема
атеизма — отрицания Бога - оказывается в конечном счете не вне-, а внутрирели-
гиозной проблемой. И потому также и социально-философски она должна
осмысляться именно в качестве внутри-, а не внерелигиозной проблемы, в точке
пересечения социальной философии и теологии. На место прежней противоположности
религии и атеизма приходит другая: «религиозности противоположен не атеизм,
или отрицание личного Бога, но иррелигиозность, точнее, религиозная
невменяемость...» (I, IX). А это состояние, которое находится за гранью человеческого и
представляет собой некоторую патологию, ущербность человеческой природы в
индивиде. Ибо речь идет о «параличе» (если не полном омертвлении) одной из ее
сторон - ее духовной определенности. Поскольку же даже антирелигиозное
богоборчество все-таки чуждо этой «духовной спячке», этому «духовному мещанству»,
под которым С. Булгаков имеет в виду отказ человека «от своей свободы» и «от
своей духовности», то есть чисто животное служение «своим низшим инстинктам», -
постольку и такой «демонизм» все-таки должен рассматриваться как явление
религиозного порядка, хотя он и представляет собой «религию навыворот» (I, IX).
1 Сергей Булгаков, Два Града. Исследования о природе общественных идеалов. T. I-II. М.,
1911. Т. I. С. VIII. В дальнейшем в тексте в скобках будут указываться только том и страница
этого издания.
14 Зак. 487
417
Это — далеко идущий вывод. Отныне то, что раньше (в особенности - со времен
Просвещения) рассматривалось в качестве внерелигиозного противоборства, -
борьбы атеистов как внешних врагов религии вообще, представлявшейся им
воплощением всяческой темноты и невежества, с одной стороны, и теистов, считающих их
людьми, «отпавшими от Бога», «выпавшими из лона религии» и т. д. — с другой,
предлагается рассматривать в контексте внутрирелигиозной борьбы. Ибо речь, по
убеждению С. Булгакова, идет о противоборстве «двух основных путей», двух
взаимоисключающих «путей религиозного самоутверждения». Имеется в виду «теизм,
находящий свое завершение в христианстве, и пантеизм, находящий его в религии
человекобожия и антихристианстве» (I, IX).
При этом автор делает здесь оговорку, вводя еще одно различение, в известном
смысле аналогичное различению «атеизма»1 и полного «религиозного
индифферентизма»2 («духовного мещанства»). «Религия человекобожия» - это не чистое само-
божие, самоутверждение своей тварности в качестве «абсолюта», так как последнее
«есть сатанизм, состояние, непосредственно недоступное для человека» (I, X).
Учтем это различение на будущее и пойдем дальше.
1. Пантеистическое богоборчество
как способ религиозного самопределения
Отправляясь от указанных выше религиозно-философских предпосылок,
С. Булгаков причисляет к «пантеизму и космотеизму» материализм
энциклопедистов и гилозоизм Геккеля, «спиритуалистический атеизм» Э. Гартмана и
Шопенгауэра, «экономический материализм» Маркса и, наконец, «агностический
позитивизм» Конта и Спенсера (I, X). Причем, констатируя объединяющее их «всебожие
или миробожие», он подчеркивает, что «в религиозном переживании» то и другое
«неизбежно принимает черты человекобожия» (I, X). Тезис этот принципиально
важен для автора, который не просто повторяет, но и доказывает его не только
своими «монографическими» анализами (статьи «Религия человекобожия у Л.
Фейербаха» и «Карл Маркс как религиозный тип»), но и рассмотрением целых пластов
коллективного сознания, препарируемых с помощью метода очной ставки -
сопоставления удаленных друг от друга исторических эпох («Первохристианство и
новейший социализм», «Воскресение Христа и современный социализм», «Религия
человекобожия в русской революции»).
Логическую неизбежность превращения «анонимной» религиозности «пан-» и
«космотеизма» - через обожествление Человечества (или Народа, Класса, либо еще
какой-нибудь коллективной структуры, скажем Партии) - в обожествление либо
самообожествление «вот этого человека», взятого во всей его «единичности» и
«единственности», С. Булгаков выводит из того факта, что «человечество
существует только в личностях и все высшее в человеке необходимо получает личное
воплощение» (I, X). Внутренняя логика «религии человекобожия», «задача»,
поставленная ею перед человечеством: породить «сверхчеловека», «Бога», точно так же,
как мир породил человека, - с необходимостью превращает гуманистическую веру
в человека и человечество в поклонение антихристу. Ибо как раз так именуется в
христианстве «единичный сверхчеловек» (вспомним ницшеанского «сверхчеловека»),
претендующий на роль Бога, не обладая, однако, фундаментальнейшей
божественной мощью - силой творить бытие.
1 Даже «воинствующего», а, быть может, именно «воинствующего» в первую очередь.
2 Любопытно, что к этому последнему - в отличие от атеистического богоборчества -
склонялись не столько крайние материалисты, сколько умеренные позитивисты (о своем
религиозном индифферентизме говорил, например, вождь левых кадетов и противник «веховцев»
П. Н. Милюков).
418
Лишенному этой способности, но тем не менее претендующему на роль
Всевышнего, ему не остается ничего, кроме способности разрушать - то есть творить
небытие, выдавая его за бытие. «Это путь сатаны, который, не имея своей силы
бытия и в своем отпадении от Бога становясь духом небытия, может проявлять эту
силу только метафизическим воровством...» (I, XI). Опять в качестве последнего
вывода «религии человекобожия» выступает все тот же «сатанизм» - как
абсолютная противоположность веры в «личность Бога»: негативный абсолют
религиозного (все еще религиозного? все-таки религиозного?) сознания.
Если же перейти от этого — чисто теологического — уровня рассуждения на
уровень религиозно-философский, открывающий перспективу христианской
философии истории и социальной философии, то проблема, в «развилке» которой
человеческая мысль впала в соблазн «человекобожества», будет выглядеть так:
является ли история человечества «откровением о человеке», или она есть «сдлооткрове-
ние человека»? «Есть ли она человеческое самотворчество, или же в ней только
раскрываются вложенные при творении человека силы?...» (I, XI). Утверждая
принцип «самооткровения» и «самотворчества», то есть приписывая себе «историю в
онтологическом смысле», человек вступает на «путь сатаны». Подобно ему, он
«просто хочет, — по словам С. Булгакова, -' украсть и присвоить ему не
принадлежащее, сын превращается в взбунтовавшегося раба» (I, XI). Стало быть, основная
религиозная антиномия, столкнувшись с которой, разошлись два пути
религиозного самоутверждения: «пути христианства и человекобожия, теизма и пантеизма», -
это антиномия «самоопределения к Богу и против Бога» (I, XI).
Вот эта двойственность, согласно С. Булгакову, и определяет собой «весь путь
развития христианской Европы». Она «просвечивает во всей ее культуре»,
обусловливая не только раскол последней на два потока, но и различные оттенки и
переливы в каждом из них. Она получает отражение также и в общественных идеалах,
природу которых С. Булгаков исследует в «Двух Градах». Противоборство этих
двух способов религиозного самоутверждения человека обнажает всю глубину
трагизма человеческой истории, давая нам понять, что если ее и можно толковать
как «прогресс истинной и высшей человечности», то это не что иное, как «прогресс
трагедии, ее внутреннее созревание» (I, XII). И развязка этой трагедии (ее
подлинный катарсис) возможна только «на новой земле и под новым небом, за вратами
личной и мировой смерти» (I, XII).
Такой подход, усматривающий свою «точку опоры» в точке пересечения
теологии и социальной философии, теологии и социологии (все еще в значительной мере
остававшейся философией истории1), не только позволяет С. Булгакову втянуть в
сферу религиозно-философского рассмотрения целый пласт истории идей культуры
в целом, который до него рассматривался как «запредельный» религиозной сфере,
«нейтральный» по отношению к ней, во всяком случае к внутреннему аспекту
христианского сознания. Отправляясь от неожиданно обнаружившихся
«соприкосновений» теологии и социологии, христианского понимания истории с его идеей
апокалипсиса (откровения о грядущем «конце времен») и светской философии истории с
ее идеей прогресса как поступательного движения человечества к идеальному
общественному состоянию, автор открывает в высшей степени плодотворную
перспективу взаимного перевода теологической проблематики на
социально-философский, а социально-философской - на теологический язык, язык христианской
онтологии и мистики.
В результате открывается возможность «укрупнения» социально-философской,
а особенно связанной с нею политико-экономической и социологической
проблематики, позволяя высветить ее «неэмпирические» истоки и импульсы. С другой же
стороны, обнаруживает свои конкретизирующие «корреляты» многое из того, что
См: Барт П. Философия истории как социология. СПб., 1902.
казалось постижимым лишь на путях теологически ориентированного «умозрения».
Обретает свою первозданную свежесть и остроту, что позволяет вести разговор на
русском языке начала XX века, центральная проблема христианской европейской
культуры, над которой бился еще Августин, посвятивший ей свой колоссальный
труд «О Граде Божием», — проблема отношений этого Града и «града земного». И
здесь С. Булгакова поджидали немаловажные открытия, связанные с осмыслением
парадоксальной - ибо атеистической - религии, окончательно оформившейся в
прошлом веке, чтобы сыграть свою поистине роковую роль в XX столетии.
Прослеживая процесс формирования в культуре XIX века идеи «человеко-
божества», С. Булгаков обращает внимание на «поразительное совпадение» идей
немца Л. Фейербаха и француза О. Конта, одновременно поставивших, а затем
«посильно разрешивших» «вопрос религии без личного Бога», но с «богом -
человечеством» (I, 8). Оба они «дали философское выражение стремлению новейшего
человечества, по выражению Достоевского, «устроиться без Бога», притом вполне и
окончательно» (I, 8). Суть этого «философского выражения» сводилась к тому, что
и первый и второй предложили одну и ту же идею, заключавшую в себе
глубочайшую внутреннюю антиномию: «атеистической религии» (или религиозного
атеизма). Атеистической - потому, что была религия без личного Бога, вера в которого
изначально составляла незыблемый фундамент теизма в строгом смысле этого
слова. Но тем не менее - религии, ибо она, эта идея, была проникнута волей к
обоготворению, стремлением к обожествлению, желанием заполнить зияющую пустоту,
образовавшуюся на том месте, где прежде возвышался Бог теистических религий.
Л. Фейербах и О. Конт оказались едиными и в том, каким образом они решали
вставшую перед каждым из них задачу заполнения пустоты, образовавшейся после
«ликвидации» Бога теизма, к которому верующий в Него обращался как к
Личности. (Правда, «ликвидация» эта состоялась не для всех европейцев, а лишь для
узкого слоя интеллектуалов, и потому была не столько практической, сколько
теоретической.) И тот и другой поспешили заполнить эту пустоту обоготворенным
Человечеством - предельной абстракцией от множества сменявших друг друга
людских поколений, попытавшись наделить ее всеми атрибутами «ликвидированного»
Бога. Так атеизм западных интеллектуалов, затосковавших перед устрашающим'
видением пустоты1, образовавшейся на месте Бога, устраненного ими (или под их
одобрительные рукоплескания, или при их молчаливом попустительстве),
превратился в антропотеизм с его обещанием земного блаженства взамен небесного.
Особенностью этой новой религии, утверждавшей себя в самом акте такого
обоготворения и одновременно себя же и отрицавшей в содержании этого акта (ибо
человечество, возведенное в ранг Бога, не только не имело личной определенности,
но и не обладало абсолютной способностью творить бытие), было то, что она
оказалась религией лишь по форме - по способу изначального человеческого
переживания., вызвавшего ее к жизни, тогда как по содержанию оставалась атеизмом.
Различение формы и содержания религиозности подобного типа было существенно
важным теоретическим открытием С. Булгакова; оно позволило ему понять
своеобразие социальных движений, вдохновлявшихся «человекобожескими»
воззрениями такого рода. Это были социалистические движения, возникшие и
развившиеся (как теоретически, так и практически - политически) на Западе, однако
решающую - причем роковую - роль сыгравшие на Востоке, и прежде всего в
России, которая и здесь оказалась «мостом» между Западом и Востоком2.
Нам еще предстоит вернуться к российским судьбам антропотеистской
религии в связи с рассмотрением булгаковских статей, специально посвященных первой
1 Ср. «религиозно-атеистические» переживания таких персонажей Достоевского, как Иван
Карамазов и Свидригайлов.
2 Лет десять спустя Макс Вебер также будет говорить о «религиообразном» характере
российского социалистического движения.
420
русской революции, и прежде всего статьи, опубликованной под названием «Героизм
и подвижничество» в знаменитых «Вехах». Пока же обратим внимание на то, что
та в высшей степени значительная (хотя и роковая) роль, какую сыграл этот новый
тип религиозного сознания именно в России, была связана с особой
напряженностью, какой достигли к последней трети прошлого века религиозные искания
русского народа. Не случайно еще Ницше, ознакомившись с некоторыми из
произведений Ф. Достоевского, писал о том, что в «русском романе» воссоздана атмосфера,
совершенно аналогичная той, в какой однажды уже стало возможным появление
Христа, которого в России можно ожидать «в любой момент».
Вернемся, однако, к одному из основоположников этой «религии человекобоже-
ства» - Л. Фейербаху. Читаем у С. Булгакова: «Две великие и важные истины
высказаны с огромным ударением и энергией в учении Фейербаха: первая, что
человек и человечество имеют безусловное религиозное значение, иначе, что человек
для человека или человечества для индивида есть и должно быть религиозной
святыней, пользуясь выражением Фейербаха, быть земным богом, как бы абсолютом,
вторая истина состоит в том, что человечество есть единое целое, в котором
индивиды суть только отдельные части, вне его теряющие всякий смысл и всякое
значение, и это единство есть не абстракция, существует не в отвлечении только, но
вполне реально, человечество есть живой и собирательный организм» (I, 43). Как
автор специально подчеркивает, «взятые в их нерасторжимом единстве, истины
эти и представляют собой положительную часть учения Фейербаха» (I, 43).
Однако это учение имеет и свою «отрицательную сторону». Связана же она с
тем, что упомянутые «великие истины», вытекающие из подлинно религиозного
источника, - ведь одна из.них утверждает человеческий род в его «высшем
достоинстве», а другая указывает на его «реальное единство»1 — представлены
основоположником антропотеизма «в качестве необходимых выводов из философии атеизма»
(I, 43). Но «полагая» таким образом сущность своего мировоззрения именно в атеизме,
Фейербах вступает в коллизию с самим собой; фейербаховское мировоззрение
предстает как клубок непримиримых противоречий, буквально «раздирающих» его
создателя. В качестве атеиста он усматривает религиозное значение человека и
человечества не в том, в чем видит его христианство, считающее людей божественными
лишь в смысле их «потенциальных способностей» и «конечного предназначения»,
но совсем в ином. И это «иное» - именно сам факт отсутствия
(«несуществования») Бога: коль скоро Его нет, то, стало быть, Бог человеку — другой человек,
каждый «другой». Но почему, спрашивается, этот «другой» именно Бог, а не дьявол? И
на каком основании в рамках такого рассуждения здесь вообще появляется Бог?
«Антропотеизм в качестве вывода из атеизма, - резюмирует С. Булгаков эту
«интеллектуальную ситуацию», - содержит в себе внутреннее противоречие, ибо
относительно частностей утверждает то, что отрицает в общем и целом, именно,
уничтожая Бога, стремится сохранить Божественное, святыню. Внутренняя и
необходимая диалектика атеизма ведет поэтому от антропотеизма к религиозному
нигилизму, к отрицанию всякой святыни, всякой ценности» (I, 43—44). От
антропотеизма к «религиозному нигилизму» — один шаг. Его не мог сделать Фейербах, не
мог в силу изначальной двойственности созданной им «атеистической религии»,
парадоксальным образом утверждавшей Бога, отрицая его, и отрицавшей —
утверждая. Но этот шаг не преминули сделать другие: Штирнер и Ницше, с одной
стороны, Маркс (ученик Фейербаха) и российские «воинствующие атеисты»
(учившиеся сперва — одновременно у Фейербаха и Конта, а затем — у Маркса и
Ницше) - с другой.
1 В понимании этой второй «истины» С. Булгаков, как нам предстоит убедиться, в общем и
целом следует за Вл. С. Соловьевым (см. работу последнего «Идея человечества ν Августа
Конта» в кн.: В. С. Соловьев. Собр. соч. СПб., б. г. Т. VIII.).
421
Учитывая фундаментальный анализ, какому С. Булгаков подверг фейербахов-
скую (а параллельно и контовскую) «религию человекобожия», не приходится
удивляться названию другой работы С. Булгакова, в которой получает дальнейшее
развитие и углубление та же тема атеистически-богоборческой религиозности:
«Карл Маркс как религиозный тип»1. К тому же уже подзаголовок этой статьи:
«Его отношения к религии человекобожия у Л. Фейербаха» - сразу вносит
разъясняющие ограничении. Вопрос становился не о Марксе - «учителе мирового
пролетариата», а о Марксе — ученике, ученике Фейербаха - основоположника той самой
атеистической религии, в русле которой марксизм оказывается лишь одним из
«рукавов», хотя и очень мощных и влиятельных, если оценивать его с политико-
идеологической точки зрения. То есть как определенный способ утилизации того,
что можно было бы назвать новым религиозным сознанием, если бы
Мережковский и Бердяев не использовали это словосочетание в иных целях, о которых у нас
еще пойдет речь.
Этот подход дает С. Булгакову право задаться нетривиальным (во всяком
случае, по тем временам) вопросом: не воспринял ли Маркс от автора «Сущности
христианства» нечто неизмеримо большее, чем от «могучего диалектика Гегеля»,
превратившего учение о формах человеческого мышления в «алгебру революции»
(формула Герцена, так импонировавшая и российским демократам, и российским
социалистам). Ведь от Фейербаха Маркс получил новую религию, то есть нечто
гораздо более существенное и фундаментальное, чем «диалектический метод»,
который он не мог даже просто позаимствовать от Гегеля, не перетолковав его на
фейербахианский манер. А раз это действительно так, то «великий
основоположник научного социализма» вовсе не случайно оказывается — в рамках бул1*аковской
постановки вопроса — лишь одним из целого ряда мыслителей, чьи творения
умещались в общем русле «атеистической религии» обожествленного человечества. И
столь же неслучайным оказывается, с точки зрения булгаковского анализа Мар-
ксова «типа сознания», и другое превращение: воинствующего атеизма этого
Пророка пролетарской революции - в религию российской интеллигенции конца
прошлого-начала нынешнего века.
2. «Религиозный центр» марксовой души
Отправляясь от убеждения, что «определяющей силой в духовной жизни
человека является его религия - не только в узком, но и в широком смысле этого
слова, т. е. те высшие и последние ценности, которые признает человек над собою и
выше себя» (310), С. Булгаков стремится прежде всего «определить» у признанного
в всем мире, а в России - особенно, «основоположника научного социализма» его
«религиозный» центр, «найти его подлинную душевную сердцевину» (310). А это и
значит - узнать о Марксе «самое интимное и важное, после чего будет понятно все
внешнее и производное» (310). «Кто он? Что он представляет собой по своей
религиозной природе? Какому богу служил он своей жизнью?» (311) - вот вопросы,
поставленные на первых страницах булгаковской статьи, которые, конечно же,
должны были звучать для «безбожных» марксистских ушей не просто абсурдно, но
и... кощунственно. Как поругание главной атеистической святыни.
Понимая, с какой толщей интеллигентских предрассудков ему придется иметь
дело, С. Булгаков сразу же заостряет проблему, отказываясь принимать всерьез
«прописной и незамысловатый ответ» на все упомянутые вопросы, «способный
1 Булгаков С. Н. Карл Маркс как религиозный тип. (Его отношение к религии
человекобожия у Л. Фейербаха) // Булгаков С. Н. Философия хозяйства. М., 1990. С. 310-342. В
дальнейшем при ссылках на это издание в тексте в скобках указывается страница.
422
удовлетворить разве что ретивых марксистов из начинающих» (311). Ответ,
заключающийся в заверении, исполненном марксистского благочестия, согласно
которому «душа Маркса вся соткана из социалистических чувств» — чувства любви и
жалости к «угнетаемым рабочим», ненависти к «угнетателям-капиталистам» и
беззаветной веры в «наступление светлого царства социализма» (311). Вспоминая в
высшей степени многозначительный вопрос отца Карла Маркса, заданный им в
письме к своему сыну—студенту: «Соответствует ли твое сердце твоей голове, твоим
дарованиям?» - автор статьи подвергает сомнению уже саму возможность того, что в
мире «социалистических чувств», владевших душой Маркса (как в молодости, так и
в зрелом возрасте), на первом месте стояла любовь или хотя бы жалость.
Если же попытаться опереться на более или менее объективные свидетельства
преобладающего душевного состояния Маркса, какими являются его собственные
печатные труды, то станет совершенно очевидным, что «душе его вообще была
гораздо доступнее стихия гнева, ненависти, мстительного чувства, нежели
противоположных чувств» (312). Правда, в иных случаях это был, что называется, «святой
гнев», «заслуживающий всякого сочувствия» (например, «когда Маркс мечет громы
на жестокость капиталистов и капитализма» — 312). Но гораздо чаще гнев, каким
дышат Марксовы тексты, вовсе не «святой» - это гнев совсем иного,
противоположного, качества и свойства. Ярким свидетельством такого рода «неправедного
гнева» являются для автора статьи «высокомерные и злобные выходки против
несогласно мыслящих» (312), обнаруживающие в Марксе «демократического
диктатора», как метко охарактеризовал его в своих воспоминаниях Анненков.
Диктаторские свойства натуры Маркса отразились не только в стиле изложения
его текстов (в особенности когда речь заходила о неприятных ему персонажах,
какие явно преобладали в его произведениях), но и в содержании его
основополагающих концепций. Здесь также проявляется «диктаторски-прямолинейное» и
«довольно бесцеремонное отношение к человеческой индивидуальности», при
котором люди превращаются «как бы в алгебраические знаки, предназначенные быть
средством для тех или иных, хотя бы весьма возвышенных целей» (314). Душевная
узость и ограниченность (если не пользоваться здесь более сильными эпитетами),
выражающаяся в простом «недостатке внимания к конкретной, живой
человеческой личности» (314), оборачивается серьезным теоретическим пороком, который
таит в себе возможности тем больших несчастий для человечества, чем с более
«крупномасштабной» фигурой мы имеем дело. Речь идет о «теоретическом
игнорировании личности», устранении «проблемы индивидуального под предлогом
социологического истолкования истории», что, по словам С. Булгакова, «необыкновенно
характерно... для Маркса» (314). (Все это было сказано более чем за полвека до того,
как марксистский структуралист Л. Альтюссер пытался оправдать Маркса, ссылаясь
на его «теоретический антигуманизм», чем почти убедил французскую публику.)
Так как Маркса «не беспокоит судьба индивидуальности», а «личности
погашаются в социальные категории», то он, по словам С. Булгакова, «остается
малодоступен религиозной проблеме» (316). Его «распорядительному» уму1, его
притуплённому душевным догматизмом «духовному обонянию» остается недоступным
«настоящий аромат религии», озабоченной проблемой индивидуального бессмертия
человека — судьбой его личности «по ту сторону» земного человеческого
существования. «У него не зарождается сомнения, что социологическое спасение
человечества, перспектива социалистического "Zukunftstaat'a", может оказаться
недостаточным для спасения человека и не может заменить собой надежды на спасение
религиозное» (317).
1 Характеристика, данная Вл. Соловьевым русскому гегельянцу Чичерину, но, пожалуй,
еще более подходящая для Маркса.
423
И тем не менее его никак невозможно назвать равнодушным к религии,
религиозно индифферентным или иррелигиозным человеком. Достаточно вспомнить о
ярости, какой начинают клокотать Марксовы тексты, как только в них заходит
речь об иудаизме или христианстве1. Вот почему С. Булгаков специально
подчеркивает: «Хотя Маркс был нечувствителен к религиозной проблеме, но это вовсе
еще не делает его равнодушным к факту религиозности и существованию религии.
Например, внутренняя чуждость, как это часто бывает, вызывает не
индифферентизм, но прямую враждебность к этому чуждому и непонятному миру, и таково
именно было отношение Маркса к религии. Маркс относится к религии, в
особенности же к теизму и христианству, с ожесточенной враждебностью, как боевой и
воинствующий атеист, стремящийся освободить, излечить людей от религиозного
безумия, от духовного рабства» (317-318).
Более того: в этом «воинствующем атеизме» Маркса автор статьи видит
«центральный нерв его деятельности, один из главных ее стимулов» (318). И не только
деятельности: «Борьба с религией... - согласно основополагающему булгаковскому
тезису, - истинный, хотя и сокровенный практический мотив и его важнейших,
чисто теоретических трудов» (318). В общем, основоположник теории научного
коммунизма «борется с Богом религии и своей наукой, и своим социализмом,
который в его руках становится средством для атеизма, оружием для освобождения
человечества от религии» (318).
Именно - средством, а не самоцелью, как это пытался представить Маркс своим
читателям (а может быть, и себе самому). В обосновании этого общего вывода и
заключался основной пафос «марксоведческой» булгаковской работы, вновь
заставляющий нас вспомнить о статье, посвященной Фейербаху. (Тем более что пафос
этот находил свое выражение в почти идентичных формулировках.) Но если у
Фейербаха и Конта, которых сопоставлял С. Булгаков в этой статье, внутренняя
сопряженность «между атеизмом и социализмом» проступала в еще не вполне
определенных контурах (так сказать, пунктирно, причем у первого на
общефилософском, а у второго на общесоциологическом уровне, без дальнейшей
конкретизации), то в случае Маркса дело обстояло иначе. У него эта связь представляет
«подлинную душу его деятельности» (318), как теоретической, так и политико-
идеологической, а потому и обнажается со всей возможной определенностью,
резкостью и брутальностью. Поскольку же в основе этой интимной сопряженности
лежал, как уже отмечалось, вполне определенный тип религиозного сознания,
окончательно откристаллизовавшийся у молодого Маркса именно под влиянием
Фейербаха, постольку С. Булгаков, со всей серьезностью принявший этот «основной
факт», продумав все вытекающие отсюда следствия, смог предложить совершенно
новый способ истолкования внутреннего смысла, генеалогии и эволюции Марксовых
воззрений и идей. Говоря сегодняшним языком, это был целый переворот в
тогдашней «марксологии», который до сих пор не оценен по достоинству.
На фоне догматической «марксоидности» тогдашнего интеллигентского
сознания это был ошарашивающе смелый шаг. В противоположность господствовавшим
в те времена (как, впрочем, и до сих пор) представлениям об определяющей роли
гегельянства в философском развитии Маркса, в общий контекст которого
вписывается и влияние фейербахианства (и это казалось тем более естественным, что
ведь и Фейербах, как известно, тоже прошел «школу Гегеля»), С. Булгаков
решительно настаивает на первостепенной, более того - исключительной роли в этом
развитии именно специфического фейербаховского атеизма. Речь идет как раз о
специфичности этого атеизма, а не о «материализме Фейербаха», взамен которого
некоторые наиболее догматические приверженцы «марксистского материализма»
1 К религиям языческим, ориентированным - в отличие от мировых религий - скорее
эстетически, нежели морально, Маркс относился более терпимо.
424
готовы были бы уступить С. Булгакову даже «диалектику Гегеля». Но в свете
атеистической религии «человекобожества», которая определила ядро
миросозерцания Маркса, вопрос о его материализме становится, как полагает С. Булгаков, столь
же «вторичным», сколь и вопрос о его диалектике. И там^ где вопрос вставал перед
Марксом во всей его радикальности: эта религия или материализм, эта религия или
диалектика, — выбор автоматически делался в пользу человекобожеской религии.
Впрочем, как и всякое большое открытие, целиком захватывающее автора, это
булгаковское открытие не могло «состояться» без тех или иных преувеличений.
Так, С. Булгаков утверждал, что «гегельянство» Маркса «не идет дальше словесной
имитации своеобразного гегелевского стиля, которая многим так импонирует, и
нескольких совершенно случайных цитат из него» (320). И это было ошибкой.
Работы «раннего Маркса», а также его подготовительные работы к «Капиталу»,
которые стали теперь широкодоступными, но о которых в начале века С. Булгаков
мало что мог слышать, достаточно убедительно свидетельствуют о том, что
гегелевских цитат в Марксовых текстах было совсем не «несколько» и они были вовсе не
«случайными». Маркс штудировал Гегеля и серьезно, и основательно, во всяком
случае, основательнее, чем это могло бы показаться на первый взгляд.
Но вот в чем С. Булгаков глубоко прав, так это в том, что на
мировоззренческое - атеистически-религиозное или религиозно-атеистическое — становление
Маркса «человекобожеский» фейербахианский атеизм оказал неизмеримо более далеко
идущее воздействие, чем гегелевский идеализм, равно как и гегелевская
идеалистическая диалектика^ к которым он оставался не только нечувствителен, но
враждебен до конца жизни. Здесь сказалось «избирательное сходство» между фейерба-
ховским богоборчеством, с одной стороны, и, с другой — «бурсацкой» оппозицией
Маркса к религии его отца. Оппозицией, которая возникла, по-видимому, довольно
рано и углублялась по мере того, как обострялась глухая «пря» между студентом-
сыном, вырвавшимся из родительского гнезда, и «традиционалистом»-отцом, с
тревогой наблюдавшим за своим детищем издалека. Эта оппозиция, по всей
вероятности, и подготавливала Маркса к безоговорочному (и, как известно, в высшей
степени энтузиастическому) приятию фейербаховского атеизма еще до того, как
молодой Маркс прочитал «Сущность христианства». С. Булгаков был совершенно прав,
когда, акцентируя именно глубинно-мировоззренческую суть дела, утверждал:
«Между классическим идеализмом и марксизмом стал Фейербах и навсегда
разделил их непроницаемой стеной» (326). Природа этой «стены» была религиозная, ее
краеугольным камнем было «отрицание религии богрчеловечества во имя религии
человекобожия, богоборческий воинствующий атеизм» (326)1.
Впитывая «избирательно сродственное» ему атеистическое мировоззрение
Фейербаха и в то же время пытаясь освободить фейербаховский атеизм от его
«религиозной оболочки», Маркс осознает наконец и свою основную задачу —
«эмансипировать» человечество от религии. Ибо только такое освобождение, по убеждению
молодого Маркса-фейербахианца (убеждению, которое, согласно С.· Булгакову, он
пронес через всю жизнь), могло бы обеспечить действительную, то есть
«практическую», «эмансипацию человечества», а по сути дела, уже было такой
«эмансипацией», поскольку «практике» предстояло быть лишь исполнительницей того, что
уже решила и предначертала теория. «Практический» атеизм, становящийся
«делом масс», должен был лишь поставить последнюю точку в процессе
самоосуществления «теоретического» атеизма, открыв перед массами перспективу «подлинно
человеческой эмансипации».
«Дело философии, т. е. учения Фейербаха, - резюмирует С. Булгаков основной
смысл Марксовой статьи «К критике гегелевской философии права», — именно тео-
1 Даже понятие «отчуждение» Маркс воспринял не от Гегеля, а от Фейербаха, для которого
Бог олицетворял отчужденное Человечество.
425
ретическое освобождение человечества от религии, и дело пролетариата
объединяются здесь в одно целое — пролетариату поручается миссия исторического
осуществления дела атеизма, т. е. практического освобождения человека от религии1. Вот
где подлинный Маркс, вот где обнаруживается настоящая "тайна" марксизма,
истинное его естество!» (329). Причем, как специально подчеркивает автор статьи во
избежание недоразумений, какими кишели благочестивые интерпретации молодого
Маркса (от которых мы до сих пор недалеко ушли), «на языке Маркса
"человеческая эмансипация" значит в это время именно освобождение от религии. Эта точка
зрения особенно выясняется в споре с Бауэром по еврейскому вопросу. Он указывает
здесь на недостаточность чисто политической эмансипации, потому что при ней
остается еще религия» (330).
3. Тоталитаристкий подтекст религии «Человекобожества»
С. Булгаков не забывает напомнить своему читателю о внутренней связи,
обнаруживающейся между Марксовой «глухотой» к судьбе индивидуальной
человеческой личности и воинственно-атеистическим толкованием «человеческой
эмансипации» в ранних статьях Маркса, - интимной связи, которая, уходя в «подтекст» его
более поздних работ, продолжала там свое анонимное существование. «...Когда
человек упразднит свою индивидуальность и человеческое общество превратится не
то в Спарту, не то в муравейник или пчелиный улей, тогда и совершится
человеческая эмансипация» (331-332); индивид освободится от своей «партикулярности» и
сольется со своей «родовой сущностью». Марксова «любовь к дальнему» и еще не
существующему оборачивается презрением «к существующему "ближнему", как
испорченному и потерянному» (331), обнажая ранний «порок сердца» Маркса -
недостаток доброты и сострадания.
«С той легкостью, с которой Маркс вообще перешагивает через проблему
индивидуальности, и здесь он во имя человеческой эмансипации, т. е., — напоминает
С. Булгаков, - уничтожения религии, готов растворить эту эмансипированную
личность в темном и густом тумане, из которого соткано это "родовое существо",
предносившееся воображению Фейербаха и растаивающее в воздухе при всякой
попытке его осязать» (332). Это — опять перекличка с первой статьей из «Двух
Градов», с тем местом, где идет речь о двух «великих и важных» истинах,
высказанных в учении Фейербаха, — о «высшем достоинстве» человечества и его «реальном
единстве».
Вновь возвращаясь ко второй из них, автор книги акцентирует «бессилие
атеистического гуманизма», который, заявив о единстве человеческого рода, не смог,
однако, обосновать этот важнейший тезис, будучи «не в состоянии удержать
одновременно и личность, и целое», а потому постоянно попадая «из одной крайности...
в другую» (332).
Вот почему в русле «атеистического гуманизма» то «личность своим бунтом
разрушает целое», отрицая вид во имя прав индивида, как это происходит у Штирнера
и Ницше, то, наоборот, «личность упраздняется целым, какой-то социалистической
Спартой, как у Маркса» (332). Решить же эту антиномию «атеистического
гуманизма» можно, по глубокому убеждению самого Булгакова, «только на религиозной
почве, где высшее проявление индивидуальности роднит и объединяет всех в
сверхиндивидуальной любви и общей жизни» (332). Ибо «только соединение людей через
Христа в Боге, т. е. Церковь, личный и вместе сверхличный союз, способен пре-
1 Что это означает «на практике», мы теперь хорошо знаем по кровавой истории гонений
на Церковь в условиях нашего «отечественного» тоталитаризма (в общем-то, не без основания
именовавшего себя социализмом).
426
одолеть эту трудность и, утверждая индивидуальность, сохранить целое» (332).
(Это — очевидное развитие идеи Богочеловечества, которую Вл. С. Соловьев
утверждал, в частности, и в полемике с О. Контом, - кстати, довольно мягкой.)
Точно так же, как агрессивный атеизм Ницше, о котором в начале нашего века
много писалось в том же ключе, какой С. Булгаков подобрал теперь к Марксу,
«воинствующий атеизм» основоположника «научного коммунизма» был в такой же
степени «отталкиванием» от религии, в какой и формой связи с нею. Это была
чисто негативная связь, связь через «анти-». И тем не менее — связь; сопряженность
отрицающего с отрицаемым, лучше всего свидетельствовавшая, согласно булгаков-
ской концепции, что последнее вовсе не мертво для отрицающего (Бог не «умер»,
вопреки широковещательному заявлению Ницше), а, наоборот, живо для него. И,
быть может, живо в гораздо большей степени, чем, скажем, для верующих по
привычке: иначе — откуда такая ярость по отношению к «трупу»? Зачем столько
усилий, чтобы снова и снова «разоблачать» его?
Если для Ницше основным орудием «тотальной войны» с «мертвым» (!) Богом
был зоологический индивидуализм — одичавший инстинкт самосохранения,
ослепляющий личность и превращающий ее в безличное орудие этого инстинкта,
предстающего в виде «воли к власти», подавляющей все, что представляет опасность
для инстинктивного самоутверждения живого существа, - то для Маркса тем же
орудием был совершенно анонимный и абстрактный коллективизм.
Коллективизм, изначально враждебный самому принципу индивидуально определенной
личности, а потому — потенциально — ориентированный на ее «ликвидацию» (коль
скоро не удастся растворить ее в лоне обожествленной Коллективности).
Теоретическая недодуманность проблемы личности в фейербахианской (как, впрочем, и
контовской) религии Человечества - недодуманность, диалектически «снятая» в
идее коммунизма Марксом (хотя и не превратившаяся от этого в решение
«проклятого вопроса» человекобожества), — заключала в себе постоянную
возможность практической «ликвидации» самих носителей личностного начала — в
случае, если они вдруг не пожелают «каплей» «литься с массами»1.
Но во всем этом был и свой «религиозный» смысл: ликвидация индивидов,
оказавшихся «неконформными» по отношению к обожествленному Человечеству,
которое у Маркса персонифицировал обожествленный Пролетариат, а у его
российских последователей олицетворяла Партия (возглавляемая Вождем), с
неизбежностью должна была вылиться в ритуал жертвоприношения новому божеству. Ведь
оно, как посюстороннее и «живое», в отличие от Бога, объявленного «мертвым»,
должно было потребовать — и, как мы в этом убедились, таки потребовало —
кровавых человеческих жертв. «Теоретический» атеизм, который возвел на место
«убитого» и «разоблаченного» Бога обожествленное Человечество или Коллектив
(кем бы он ни персонифицировался) и с логической непреложностью обернулся при
своем «практическом осуществлении» тоталитаризмом, преследовавшим свободную
личность повсюду, где она оказывалась «неконформной» его тотальной
«всеобщности», явно смахивал на тот самый сатанизм, каковой С. Булгаков относил уже к
нечеловеческому (вне- и античеловеческому) состоянию.
Настаивая на том, что уже у раннего Маркса, Маркса-фейербахианца, автора
статей в «Немецко-французских ежегодниках» (1844), окончательно сложилась
атеистическая «философская вера», каковой он был привержен до конца своих
дней, С. Булгаков пишет: «Никаких принципиальных перемен и переворотов после
этого в своей философской вере он не испытал. В этом смысле общая духовная
тема его жизни была уже дана, основной религиозно-философский мотив ее вполне
1 Предчувствие этого «исхода» религии Человекобожества и обусловило булгаковскую
«жесткость» полемики с нею, бросающуюся в глаза при ее сравнении с соловьевской
полемикой.
427
осознан. Речь могла идти не о что, а о как, и в этом как и явился марксизм,
представляющий собой в наших глазах лишь частный случай
(разрядка моя. - Ю. Д.) фейербахианства, его специальную социологическую
формулу» (335). То, чего не сделал Фейербах (в отличие от создателя другой версии
атеистической религии «человекобожества» - Конта, предпославшего ей целую
«систему социологии»), доделал Маркс, создав свою теорию «научного
коммунизма». Однако марксизм, согласно С. Булгакову, - это лишь «усложнение, если
хотите, обогащение, дальнейшее развитие фейербахианства, но не его религиозно-
философское преодоление» (335).
Возражая Энгельсу, который в своей брошюре «Людвиг Фейербах и конец
немецкой классической филооофии» пытался «отстоять оригинальность Маркса даже
в такой области, где он был совершенно не оригинален, именно в философской»,
ссылаясь при этом на его «экономический материализм» как нечто,
фейербахианство «принципиально превосходящее» (335), С. Булгаков строит свою аргументацию
следующим образом. По его утверждению (кстати, вполне резонному и
основательному), доктрина «экономического материализма» способна указать лишь
«известный социологический субстрат для того исторического процесса, который имеет
окончательным результатом осуществление фейербаховско-марксовского
постулата...» (335). Постулат известен: это «человеческая эмансипация», которая у Маркса
сразу же принимает более радикально-атеистическую форму, чем у его учителя, -
«эмансипация человечества» от религии. Способом этой «эмансипации», на котором
настаивает философ-практик (социальный философ) Маркс в отличие от философа-
теоретика (теологизирующего философа) Фейербаха, является практическое
«обобществление» человечества, превращаемого в «родовое существо» на почве
социалистического хозяйства (335).
Социализм здесь лишь средство «эмансипации человечества», понятой - и это,
по С. Булгакову, самое важное — как освобождение человечества прежде всего и
главным образом от религии. А пролетариат, которому Маркс отводит роль
титана-богоборца, или атеистического Мессии, — основное орудие осуществления этой
«всемирно-исторической задачи». Причем ни рассмотрение этого средства, ни
анализ этого орудия, предложенные в Марксовой теории «научного коммунизма», не
прибавляют ничего нового к той конечной цели, которую сформулировал молодой
Маркс под первым впечатлением от прочитанных им работ Фейербаха. Но и не
колеблют ее, предлагая лишь «научно обоснованный» путь к ее достижению.
«Человеческая эмансипация» - в чисто фейербахианском духе - и в этой теории
одновременно и предполагает освобождение человека от всякой религиозности, и
рассматривает таковое в качестве своей последней задачи, раскрывая суть и
сакраментальную «тайну» подобной «эмансипации». Воистину свободный человек, по
Марксу, это титан, люто ненавидящий «всех богов»... кроме самого себя. Это нарциссизм,
который прячется от самого себя, так как «титан» видит себя уже не в качестве
индивидуально определенного - «вот этого», а в образе «родового» существа.
«Общая концепция социализма, выработанная Марксом, - подытоживает
С. Булгаков свой анализ, - конечно... отвечает потребностям воинствующего
атеизма; он придал ему тот тон, который, по поговорке, делает музыку, превратив
социализм в средство борьбы с религией» (339). «Вся доктрина Маркса, как она
вытекала из основного его религиозного мотива - из его воинствующего атеизма:
и экономический материализм, и проповедь классовой вражды a outrance1, и
отрицание общечеловеческих ценностей и общеобязательных норм за пределами
классового интереса, наконец учение о непроходимой пропасти, разделяющей два мира
- облеченный высшей миссией пролетариат и "общую реакционную массу" его
угнетателей, - все эти учения могли действовать, конечно, только в том направле-
1 Доведенной до крайности (франц.).
428
нии, чтоб огрубить, оземлянить, придать более прозаический и экономический
характер социалистическому движению, сделать в нем слышнее ноты классовой
ненависти, чем ноты всечеловеческой любви» (340).
Сам русский философ, близкий по своим тогдашним воззрениям к точке зрения
христианского социализма1, не считает, разумеется, что социалистическая идея
непременно должна вылиться в форму, какую ей придал воинствующий атеист
Маркс. По его мнению, «социалистическая деятельность Маркса как одного из
вождей движения, направленного к защите обездоленных в капиталистическом
обществе и к преобразованию общественного строя на началах справедливости,
равенства и свободы, по объективным своим целям, казалось бы, должна быть
признана работой для созидания Царствия Божия» (341-342). Цели такого
преобразования, которые связывались в начале нашего века с понятием социализма (причем
не только российской, но и западной интеллигенцией), С. Булгаков готов был
приветствовать. «Но, - тут же утверждает он со всей возможной решительностью, - то
обстоятельство, что он (Маркс. - Ю. Д.) хотел сделать это движение средством для
разрушения святыни в человеке и поставления на место ее самого себя2 и этой
целью руководился в своей деятельности, с религиозной точки зрения должно
получить отрицательную оценку; здесь мы имеем именно тот тонкий и самый опасный
соблазн, когда добро и зло различаются не снаружи, а изнутри» (342).
Понять этот «опасный соблазн» социалистической идеи, взятой в ее Марксовой
версии, различив зло, притаившееся в самом темном «углу», прикрывшись «личиной
добра», и попытался С. Булгаков в статье «Карл Маркс как религиозный тип».
4. Сакраментальная тайна идеи прогресса
Однако при всем этом его интересовала не одна только
религиозно-психологическая генеалогия некоторых наиболее распространенных идей, ставших опиумом
российской (да и не только российской) интеллигенции уже «на переломе»
прошлого и настоящего столетий. Не менее внимательно и напряженно вглядывался он и
в религиозно-историческую их генеалогию, что привело его к ряду выводов и
открытий, которые сохраняют свой нетривиальный и возбуждающий характер до сих
пор. Среди них, пожалуй, наиболее важной для нас, вовлеченных в процесс
«сведения счетов» со своей теоретической совестью, является идея генетической
связи просветительских представлений о Прогрессе (претендовавших, как
известно, на сугубую научность), на почве которых и родились проекты превращения
утопического социализма в «научный»3, с одной стороны, и религиозных (сперва
иудаистских, а затем и христианских) представлений об истории, движущейся по
направлению к «концу времен» (Апокалипсис с его идеей «конца света» и
«последнего суда») и «тысячелетнему царству» Бога на земле (хилиазм с его специфически
иудаистским учением о «тысячелетней субботе», отчасти — и в существенно
преобразованном виде — ассимилированным христианским сознанием), с другой стороны.
Установление этой генетической связи не только дает С. Булгакову основание
рассматривать «научный социализм», подобно утопическому, в общем русле более
1 Он приобретает у С. Булгакова православный оттенок.
2 Хотя в России к этому стремились многие политики «марксистской закваски», достичь
.здесь полного успеха удалось одному только Сталину, который оказался для этого достаточно
хитер и коварен и в то же время груб и примитивен.
3 Сперва это был, как ни парадоксально, проект Сен-Симона, зачисленного
основоположниками «научного социализма» в социалисты-утописты, который выдвинул идею научного
обоснования социализма. Затем - проект его ученика О. Конта, разработавшего с той же
целью целую науку - социологию, дав ей и это имя. Наконец - К. Маркса, рассматривавшего
свое учение как «единственно научную» теорию социализма.
429
чем двухтысячелетнего развития религиозного сознания (сперва в древней Иудее, а
затем главным образом в христианской Европе). Он получает право ставить вопрос
о религиозности или, пользуясь более осторожным выражением Макса Вебера, «ре-
лигиообразности», этого новейшего варианта социалистического учения как раз
там у где его основоположники претендовали на максимум научности - в «святая
святых» не только социалистической научности, но и социальной теории вообще.
А именно — в лаборатории, в «подтексте» самой идеи Прогресса, в сугубой
научности которой не сомневался ни один из тех, кто ощущал себя основоположником
социальной науки во времена ее активного созидания, пришедшиеся на первую
половину прошлого века. Ведь речь шла о некоем «корреляте» идеи Эволюции,
каковой было обязано столькими достижениями естествознание, обогнавшее на
поприще научности обществознание, а потому выступавшее для последнего в
качестве образца подлинной Науки, которому обществоведы должны неукоснительно
следовать.
Надо сказать, что мысль о ненаучной родословной идеи Прогресса,
выступавшей в рамках теории научного социализма (и контовской социологии) как своего
рода «столп и утверждение истины»1, возникла у С. Булгакова гораздо раньше, чем
она отлилась в форму развернутого религиозно-философского исследования под
названием «Апокалиптика и социализм» (1909—1910). «Уже давно, еще в "Проблемах
идеализма" и затем в ряде статей сборника от "Марксизма к идеализму", 1903 г., -
напоминал он в одном из примечаний к этой работе, - указывал я на эту
религиозную природу социализма. Знакомство с историческими параллелями социализма
только расширило и углубило это убеждение»2. И действительно, как
свидетельствует, например, статья «Основные проблемы теории прогресса», опубликованная во
втором из названных сборников, С. Булгакову еще в 1903 году удалось достаточно
убедительно показать, что теория прогресса «призвана заменить для современного
человека умеренную метафизику и религию, точнее, она является для него и тем и
другим» (269). А что «роль божества» в «религии прогресса» играет человечество,
являющееся «субъектом бесконечного прогресса» (277).
Рассматривая содержание «веры в прогресс», автор статьи приходит к выводу,
что «по своему объективному содержанию вера эта есть бессознательный и
непоследовательный или, вернее, нерешительный и частичный теизм» (297). Не
понимая саму себя, «своего действительного генезиса» (297), а потому и своих
собственных посылок, которые «в своей совокупности входят как неустранимая часть в
философию теизма, именно христианского теизма» (296), религия прогресса
пытается «опереться на науку». И естественно, терпит здесь неудачу, оказываясь
«недоказуемой, иррациональной и потому ненаучной» (297).
Главный вопрос, к которому приходит автор статьи на основании этого вывода,
выглядит так: «...должна ли теория прогресса всегда оставаться на таком уровне,
или же она, будучи приведена в связь со своими действительными философскими
основами (то есть осознав себя частью философии «христианского теизма». - Ю. Д.),
может сделаться рациональной, доказуемой аргументами разума теорией?» (297).
Впрочем, и это была лишь предварительная постановка вопроса. Работа
«Апокалиптика и социализм» существенно углубляла ее.
Однако в отличие от того, что написано в процитированном выше примечании
к работе «Апокалиптика и социализм», в ней, как и в других примыкающих к ней
1 «Столп» этот казался настолько незыблемо-священным, что уже сама мысль о попытке
проверить его на прочность должна была представляться святотатственной просветительски-
атеистическому сознанию.
2 Булгаков С. Я., Апокалиптика, социология, философия истории, социализм (Религиозно-
философские параллели) // «Русская мысль». 1910. № 6, 7. Другое название статьи -
«Апокалиптика и социализм».
430
статьях «Двух Градов»1, был сделано значительно больше, чем позволил о себе
сказать сам С. Булгаков в этой своей мимолетной автохарактеристике. «Знакомство» с
«историческими параллелями социализма» не просто «расширило и углубило» его
представление о «религиозной природе» этого учения, не только «овладевшего» (в
точном смысле этого слова) умами российской интеллигенции, но уже
проникавшего в умы «трудящейся массы». Осмысление «исторических параллелей
социализма» (которое лишь чрезмерная научная скромность С. Булгакова заставила
обозначить словом «знакомство»), предстало в «Двух Градах» как хорошо продуманный
и обоснованный метод - его можно было бы назвать методом очной ставки
«избирательно сродственных» эпох и культур.
5. Социализм как секуляризованный хилиазм
В работах «Апокалиптика и социализм» и «Первохристианство и социализм» и
других, ориентированных на такого рода сопоставление, С. Булгаков
существенным образом уточняет и корректирует свои прежние представления о
соотношении христианства и социализма, отмеченные чертами переходности — следами
движения от марксизма к идеализму и от идеализма к православию. Генетический
анализ составляющих идеологии «научного социализма», и прежде всего основного
устоя социалистической идеологии - идеи Прогресса, осуществленный методом
«очной ставки», этого идеологического комплекса с соответствующим комплексом
иудаистских и раннехристианских воззрений, приводит С. Булгакова к
необходимости более строго различать две тенденции, в разных «пропорциях» сочетающиеся
в рамках иудаизма и христианства и находящиеся в различной степени «сродства»
с идеей социализма, в особенности «научного».
Речь идет о различении двух способов истолкования хилиастической идеи
«тысячелетнего царства». Согласно первому из них, иудаистскому, представление об
этом царстве имеет, выражаясь философским языком, по преимуществу имманен-
тистский, внутримирской характер. Это - царство Мессии, предстающего в
качестве некоего «земного Бога», дарующего своему «избранному народу» тысячу лет
сплошной «субботы» — отдыха от трудов и лишений в качестве воздаяния за
страдания и несчастья, какие ему пришлось пережить в прошлом. В этом своем виде
хилиастическая идея мало чем отличается от идеи социализма, озабоченного
построением «рая на земле», которая вновь и вновь всплывала как в иудаистском,
так и в христианском (главным образом сектантском) народном сознании, чтобы в
XIX столетии отлиться наконец в форму целиком и полностью интеллигентской по
своему происхождению идеи «научного социализма».
Согласно же второму истолкованию (скорее уже эсхатологическому2, чем хи-
лиастическому), для которого характерно стремление «разомкнуть» внутримирские
горизонты «тысячелетнего царства», оно предстает как последнее предугртовление
человечества к потустороннему существованию, внемирскому в точном смысле
этого слова. Сопоставляя «те немногие таинственные слова о тысячелетнем
царстве», которые имеются в Апокалипсисе Иоанна (в главе 20-й), с древнееврейским
толкованием хилиазма, С. Булгаков пишет: «Можно прямо сказать на основании
такого сопоставления, что в христианском хилиазме отрицается, хотя и молчаливо,
1 В первом томе «Двух Градов» это статьи «Христианство и социальный вопрос» и «О пер-
вохристианстве», во втором - прежде всего «Первохристианство и социализм» - статья,
открывающая том, прямо продолжает тему статьи, замыкающей том предыдущий.
Первохристианство, взятое в отношении к современности, оказывается, таким образом,связующей темой всего
двухтомника.
2 Ибо конечная цель человеческого существования перемещается здесь за пределы земной
истории человечества, что бросает иной свет и на цели его земного «благоустройства».
431
но выразительно, иудейский... Христианский хилиазм утратил всю определенность
иудейского, как и его чувствительный характер. Христианский хилиазм
представляет собою некоторый иероглиф, священный символ, допускающий различное,
почти даже противоположное толкование»1.
Так как важнейшие различия в русле христианской интерпретации хилиасти-
ческого мотива опять-таки зависят, согласно С. Булгакову, в конечном счете от
степени влияния древнееврейской традиции его толкования, т. е. необходимость
несколько подробнее рассмотреть булгаковское сопоставление иудаистского и
христианского истолкований «тысячелетнего царства». Для «иудейского, чувственно-
исторического» воззрения «хилиазм - есть цель истории, идеал прогресса,
достигаемый в историческом развитии, следовательно, он всецело относится к
будущему» (7, 14), причем прежде всего и главным образом - к земному будущему2.
Согласно же христианскому - «спиритуалистическому» - переосмыслению этой идеи,
«хилиазм принадлежит столько же будущему, сколько прошлому и настоящему»
(7, 14). Это - нечто потустороннее, пребывающее в эмпирической истории
человечества, «явление» трансцендентного в имманентном, «ибо тысячелетнее царство
Христа и святых Его есть Церковь, и сатана связан еще при первом пришествии
Христа» (7, 14-15). Ощущение связи с вечностью, являющейся залогом перехода
человечества в абсолютно иной «зон», присутствует здесь постоянно.
И хотя в христианском сознании наряду с мотивами «этого религиозного
хилиазма» подспудно живут, время от времени прорываясь на «авансцену» христианства,
мотивы совсем не спиритуалистические, воплощенные в эстетически-чувственных
образах «земного рая», «религиозный хилиазм» такого рода, со всею свойственной
ему жаждой «новых откровений», по словам С. Булгакова, «все-таки не следует
смешивать с историческим хилиазмом иудейского мессианизма» (7, 17). И об их
коренном, принципиальном различии следует помнить тем более, что «наряду с
этим возвышенным, духовным пониманием хилиазма вследствие неудержимой
потребности веры в исторический прогресс (выделено мной. — Ю. Д.), по-видимому,
неискоренимой в человечестве, очень скоро подымает голову и старое, иудейское,
чувственно-историческое понимание хилиазма, происходит возрождение идеала
иудейского мессианского царства, исторического (то есть в земной истории, а не по
ту ее сторону осуществляемого. - Ю. Д.) преодоления трагедии, надежда на победу
над злом и осуществление земного рая в условиях эмпирического, исторического
существования» (7, 17-18).
Автор «Апокалиптики и социализма» ссылается на многочисленные примеры
возрождения на почве христианского сознания традиционно-иудаистского
толкования хилиазма, которые вновь и вновь приводились - особенно на рубеже XIX-XX
веков - всеми, кто хотел бы прямо и непосредственно «вывести» социализм из
христианства (что либо предполагало тождество того и другого, либо вело к такому
отождествлению). «Старая апокалиптика иудейства, — пишет С. Булгаков, -
оживает вновь, только меняя свою фразеологию и внешнее обличив. На протяжении
всей средневековой истории рядом с основным руслом католицизма, в котором
победило августиновское воззрение, приравнивающее католическую Церковь
тысячелетнему царству, образуются борющиеся с ним сектантские движения ярко хи-
лиастического и вместе с тем нередко революционно-коммунистического
характера. Они принимают довольно рано определенный социалистический или коммуни-
1 Булгаков С. Н. Апокалиптика, социология, философия истории, социализм // Русская
мысль. 1910. № 7. С. 14. В дальнейшем ссылки на эту работу даются в тексте с указанием в
скобках номера «Русской мысли» и страницы.
2 Мотив эсхатологический, связанный с идеей духовного преображения человечества и
перехода от земного существования к потустороннему, при этом явно заглушается. Все сводится
к тому, как устроиться человечеству «здесь и теперь», продлив до бесконечности свое
посюстороннее существование, «остановив» историю (ср. «остановленное мгновенье» гетевского
Фауста), но не выводя ее за эмпирические пределы.
432
стический, а иногда и анархический характер и часто присоединяются к
стихийным движения народных масс» (7, 18).
Напоминая о том, что «такую же роль сыграли хилиастические идеи в эпоху
реформации» (7, 18), автор этого в высшей степени примечательного исследования
приводит пример «агитаторов и главарей» крестьянских войн («цвиккауские
пророки, Томас Мюнцер»); движения перекрещенцев, «когда оно ярко окрасилось в
Голландии и Северной Германии хилиастическими идеями»; хилиастического
движения, ставшего «душой английской революции с ее многочисленными
социалистическими и коммунистическими ответвлениями» (7, 18). Иначе говоря, «вся
средневековая история» (куда С. Булгаков включает и эпоху Реформации) «революционно-
социалистических, а вместе и религиозных движений может быть изложена как
продолжение истории иудейского хилиазма в христианском переоблачении» (7, 18-19).
Так же как и в свое время в Иудее, в средневековой Европе «учение о хилиазме
было и теорией прогресса, и социологией этого времени; вместе с тем было и
теоретическим обоснованием социализма для этой эпохи, как бы его детской
колыбелью» (7, 19). По сути дела, эту («теоретическую») роль христианское учение
продолжает играть после того, как погасли «последние вспышки народного
хилиастического движения» (7, 19), связанного с английской революцией, и хилиазм
сохранился лишь как достояние «замкнутых кружков — пиетистов, методистов, всевозможных
сектантов, вплоть до современных народных сект (напр<имер>, наших
«бессмертников», уверовавших в свое бессмертие) или же интеллигентских (напр<имер>, наших
представителей «нового религиозного сознания»)» (7, 19)1.
Но если в своем «первобытном» виде хилиастической идее и не суждено было
больше выйти за сектантско-кружковые пределы после английской революции, то
это вовсе не означало, что идея эта вообще умерла, «выпав» из социокультурного
обихода. «Живучесть иудейского хилиазма» оказалась гораздо большей, чем можно
было подумать, после того как он, пережив в этой революции свой очередной
взлет, казалось, навсегда утратил «способность воспламенять массы», затерявшись
«в песках» сектантства и интеллигентской кружковщины. Именно «в тот самый
XVIII век», казалось, покончивший со всеми и всякими «религиозными
предрассудками», «под гром и грохот революции, мнившей разрушить старый мир, из
пламени ее вылетает возрожденным древний, видевший уже двухтысячелетнюю
историю феникс - старый иудейский хилиазм, прежняя вера в земной рай...» (7, 19).
Правда, теперь он явился миру «уже в новой оболочке, сначала как политический
демократизм («свобода, равенство и братство» и «права человека и гражданина»),
затем как социализм» (7, 19).
Поскольку «политический демократизм очень скоро обманул возлагаемые на
него надежды», он утратил и свой «хилиастический характер», который сохранил,
таким образом, один лишь «социализм (разных оттенков)» (7, 19). Однако и здесь,
хилиазм, многое растерявший «в течение своей длинной истории», оказался-таки
«изрядно ощипан» (7, 19). По мере «общей секуляризации жизни, отличающей
новую историю, секуляризовался и старый иудейский хилиазм», который именно в
этой секуляризованной форме «превратился в социализм» (7, 19) — сперва тот, что
сам нарек себя «Утопией», а затем другой, именовавший себя «научным
социализмом», решительно противопоставив себя социализму «утопическому». Пафосом
1 Напомним: в этом последнем случае С. Булгаков не преминул намекнуть прежде всего на
пророка «нового религиозного сознания» Д. Мережковского, чье имя он уже потревожил
страницей раньше, когда, характеризуя хилиастические мотивы «перекрещенства», взял в качестве
иллюстрации связанное с ним «мельхиористское движение», весьма колоритно представленное
«оперной фигурой Иоанна Лейденского», объявившего город Мюнстер «Новым' Иерусалимом» и
соответственно себя самого - его новым «царем Давидом». «Новейшие идеи Мережковского, -
добавил С. Булгаков в скобках, приведя этот «яркий эпизод», - поражают своей близостью к
старому мельхиоритству, конечно,.без зажигательной силы и влияния последнего» (7, 18).
433
этого нового социализма стала научность, которую приверженцы «научного
социализма» (сначала Сен-Симону - ему принадлежит сама эта идея1, а уж затем и
Маркс) усматривали в открытии закона «общественного прогресса», каковой можно
было бы считать столь же фундаментальным в социальной науке, как в физике -
закон всемирного тяготения, а в биологии — «закон эволюции».
Но, как засвидетельствовал С. Булгаков еще в начале нашего века, хотя «в
соответствии рационалистическому духу времени и социализм притязает теперь быть
"научным", однако все меньше и меньше остается людей, которых обманывает эта
его наукообразность и которые действительно так наивны, чтобы верить в
возможность научного обоснования .социалистического хилиазма» (7, 20). Хилиастические
пророчества «и в новейшем социализме иногда прямо соединяются с религиозными
предпосылками...2, но чаще всего они находят обоснование в новейшем
неоязычестве - религии человекобожества, зарождающейся в новое время. Социализм
есть апокалипсис натуралистической религии человекобожества» (7, 20), и в той
мере, в какой уже сама она «знаменует собой религиозное оскудение и аберрацию,
этот социализм также «представляет собою упрощение, вырождение, даже
опошление старого иудейского хилиазма» (7, 20).
6. Персонажи социалистической эсхатологии
Переводя содержание хилиастического учения «с языка космологии и теологии
на язык политической экономии», новейший социализм дает «экономическое
истолкование» персонажам хилиастической драмы. «Избранный народ», носитель
мессианской идеи, получивший в христианском хилиастическом сектантстве
звание народа «святых», теперь был переименован в «пролетариат» - «с особой
пролетарской душой и особой революционной миссией» (7, 20). Причем сама эта
«избранность» определяется теперь уже не внутренним самоопределением личности
как «необходимым условием мессианского избрания», а «внешним фактором
принадлежности к пролетариату, положением в производственном процессе,
признаком сословности» (7, 20). Соответственно и «роль сатаны» отводится отныне классу
капиталистов, «возведенных в ранг представителей метафизического зла», точнее,
заступивших место носителей этого зла «за свою профессиональную наклонность к
накоплению» (7, 20). Ну а что касается «мессианских мук» и «последних скорбей»,
то им в теории «научного социализма» «соответствует неизбежное и, согласно
"теории обнищания", все прогрессирующее обеднение народных масс, сопровождаемое
ростом классовых антагонизмов», которые должны привести к социальной
революции и «диктатуре пролетариата» (7, 21).
Если же взять самое главное, что относится к научному «ядру» новейшего
социализма и в чем его создатели видят главное открытие социалистической теории*
(а именно «законы Прогресса», или «поступательного развития» общества), то в
рамках булгаковского сопоставления с «иудейским хилиазмом» оно выглядит
следующим образом. «Роль deus ex machina, облегчающего переход к хилиазму, в
социализме, опять-таки соответственно духу времени и его излюбленной
наукообразной мифологии, играют "законы" развития общества или роста
производительных сил, которые сначала подготовляют этот переход, а затем, при известной
зрелости процесса, в силу его "внутренней и неизбежной диалектики" вынуждают
переход к социализму, повелевают сделать "прыжок из царства необходимости в
1 Разработать ее он поручил, как известно, -своему ученику и секретарю Конту, чья
социология замышлялась первоначально как «научное обоснование» сенсимоновского социализма.
2 Имеется в виду христианский социализм.
3 Открытие, выводящее социальную науку на уровень последних достижений естествознания.
434
царство свободы". Таким образом, роль эта, ранее отводившаяся мессии или прямо
Божеству, здесь приписана безличному, в значительной мере мифологическому
абстракту, пантеистическому понятию "закона развития производительных сил",
причем, однако, и он служит прежнюю службу - локомотива, который доставит
исторический поезд из царства необходимости в царство свободы - в Zukunftstaat,
или столицу моровской Утопии» (7, 21).
Достаточно сравнить такую «новую обработку старого хилиазма» в духе
«натуралистической, всецело имманентной религии человекобожества»,
отрицающей «личного, сверхприродного Бога» и личное бессмертие (7, 21), с самим
«иудейским хилиазмом», взятым в его изначальном контексте, то есть на более широком
фоне древнееврейской и раннехристианской эсхатологии, чтобы убедиться в том,
насколько пострадало от подобной «обработки» не только хилиастическое учение,
но также и эсхатологическое видение конца света и основывающееся на нем
понимание смысла истории, конечных судеб человека и человечества. «В иудейском
хилиазме, даже в самых его грубых формах (а уж тем более в его христианских
рецепциях), обещания земного благополучия мессианского царства никогда не
исчерпывали всей апокалиптики, не заполняли всего эсхатологического плана, но
рассматривались лишь как звено в эсхатологической цепи. На заднем плане здесь
всегда раскрываются перспективы грядущего воскресения мертвых, всеобщего суда
и окончательного царства Божия» (7, 21). Совсем не то в социализме, исполненном
атеистических притязаний на «до конца последовательную научность», не
признающую реальным того, чего нельзя было бы «пощупать».
Читаем у С. Булгакова: «В социализме хилиазм естественно заполнил собой
весь исторический план и окончательно заслонил всякий эсхатологический
горизонт. Удел последних поколений, имеющих сомнительное счастье наслаждаться
социалистическим блаженством Zukunftstaat'a на костях своих исторических
предков, впрочем тоже с перспективой присоединить к ним и свои собственные
кости, - таково здесь разрешение и окончательный исход исторической трагедии,
то, чем в представлениях социализма гармонизируется и разрешается мучительный
ее диссонанс. Необыкновенное притупление чувства мировой трагедии,
обусловленное страшно поверхностным, механически-экономическим пониманием жизни
сравнительно с религиозной углубленностью и обострением чувства трагедии у
иудейских апокалиптиков, здесь прямо поражает» (7, 21—22)1.
Идее «эвдемонического прогресса с надеждой на конечную гармонию» (7, 25),
которую «научный социализм» воспринял от самых примитивных форм «иудейского
хилиазма» (доведя этот примитивизм до совершенного абсурда с помощью
«диалектического материализма», позволяющего «объединять» необъединимое), С. Булгаков
противопоставляет идею трагического прогресса. «Согласно этой идее, история есть
созревание трагедии и последний ее акт, последняя страница знаменуется крайней,
далее уже непереносимой напряженностью, есть агония, за которой следует смерть,
одинаково подстерегающая и отдельных людей, и человечество, и лишь за порогом
смерти ждет новая жизнь» (7, 25). Но это уже не хилиастическое мироощущение, а
эсхатологическое, для которого смысл человеческой истории не в том, чем она
закончится здесь, на земле (если даже предположить, что концом ее будет земное
1 «Нужно впасть в самоослепляющийся иллюзионизм, - развивает С. Булгаков ту же
мысль в несколько иной связи, - признать действительностью фату-моргану, примириться с
дурной бесконечностью (эмпирической истории. - Ю. Д.), уверовать в реальность горизонта
(линию которого, отдаляющуюся от нас по мере того, как мы к ней приближаемся, и
олицетворяет для нас общественный идеал. - Ю. Д.), чтобы совершенно успокоиться на теории
прогресса, впасть в ее исторический гармонизм и, притупив свои чувства для иных идей и
восприятий, утвердиться на условном как безусловном. В таком случае исторический хилиазм,
отрезанный от своих религиозных корней и переродившийся в столь распространенную в наши
дни гуманистическую теорию прогресса, приводит к религиозной спячке» (7, 24-25).
435
«тысячелетнее царство»), а в том, что произойдет после того, как она полностью
«исчерпает» себя, и времени больше не будет, как нет его для умерших людей.
Однако если хилиастическое воззрение неизбежно впадает в грех антропомор-
физации (если не человекобожества), коль скоро оно пытается распространить свои
имманентистские, ewz/трцисторические представления на то, что уже выводит за
границы истории и времени, то эсхатологическое воззрение рискует впасть в грех
диаметрально противоположного свойства. Оно рискует вовсе потерять
человеческую индивидуальность, если будет упрямо пытаться постичь исторического
человека в категориях сверхисторического порядка, сколь бы истинными они ни были
сами по себе. «Насколько эсхатологизм есть интимное настроение личности,
музыка души, он остается живым и подлинным мистическим переживанием. Но стоит
только превратить его в отвлеченную норму, в догматическую идею, как он
оказывается тоже лишь исторической программой, притом насильственно, изуверски
калечащей новую жизнь, т. е. становится воплощенным противоречием» (7, 26).
В этом, согласно общему выводу автора исследования «Апокалиптика и
социализм», и заключается основная проблема христианской философии истории,
которая не может, даже будучи убежденной в истинности эсхатологии, полностью
отказаться от той правды, что заключена в хилиастическом учении, сколь бы
относительной она ни была. «...Попытка разрешить проблему христианской философии
истории в свете только имманентного или же только трансцендентного, хилиасти-
чески или эсхатологически, не може*г быть доведена до конца и обнаруживает
антиномический характер этих разрешений» (7, 26-27). А это означает, что и
«научному социализму» с лежащим в его «подтексте» хилиазмом не может быть
теоретически грамотно противопоставлен «догматический» эсхатологизм. Успешно
противостоять ему мог бы только эсхатологизм, способный почувствовать правду хи-
лиастической идеи, а вместе с тем не только ее границы, но и свои собственные.
Так в булгаковских работах первого десятилетия нашего века шаг за шагом
складывается православная социальная философия (и философия истории как
важнейшая ее часть), по-своему преломляющая традицию, заложенную еще
Августином. И книга, в которой эти шаги предстали в качестве взаимосвязанных звеньев
единой концепции, совсем не безосновательно получила название, намекающее на
заглавие знаменитого трактата крупнейшего христианского философа Запада, - «О
Граде Божием».
Резюмируя в предуведомлении «От автора» результаты предшествующего
анализа, оправдывающие само название двухтомника «Два Града», С. Булгаков пишет:
«На протяжении всей всемирной истории можем мы наблюдать это зрелище. Один
за другим создаются эти земные идеалы, мысленно построяется земной град,
разрабатывается его план и чертеж. В античном мире мечта эта всего ярче выразилась
в "Политейе" Платона, построившего земной град по типу языческого монастыря и
в философском клерикализме нашедшего ключ к заветным дверям. И та же мечта
в образе иудейского хилиазма ослепила глаза еврейству и помешала ему в Царе не
от мира сего распознать истинного мессию. В христианский мир она проникает
сначала в учении о папской иерократии, из которого выросла вся система папизма,
завершившаяся в догмате о папской непогрешимости... Римская церковь на
протяжении средних веков утверждала себя как земной град, земную теократию... Через
папизм иудейский хилиазм, мечта о земном граде, возродилась в западном
христианстве и послужила причиной многих для него несчастий» (I, XIV-XV). «То, чем был
папоцезаризм, теперь стал социализм в разных его формах — мечтой о земном
граде. Достоевский верно угадал и отметил эту связь между папизмом и социализмом
как порождениями одной и той же сущности, которая классически выразилась в
иудейском хилиазме» (I, XV).
Но как это ни парадоксально на первый взгляд, построение православной
социальной философии (с православной философией истории в центре), которую фак-
436
тически осуществил С. Булгаков, не было его первоначальной задачей. Об этом
свидетельствуют не только первые работы из тех, что были собраны впоследствии в
«Двух Градах», но и только что процитированный текст «От автора»,
предпосланный этому двухтомнику, в котором С. Булгаков наносил последние мазки картины,
впервые представшей перед ним как целое, лишь когда он оглянулся на «одиссею»
своего духа, проделанную им за десятилетие.
То, что он сделал на самом деле, представив как целое православно
ориентированную социальную философию, оказалось заранее не предусмотренным результатом
решения гораздо более узко обозначенной, но и гораздо более насущной и
животрепещущей для самого С. Булгакова задачи теоретического осмысления феномена
российской интеллигенции. Речь идет о том парадоксальном - одновременно
социальном и «чисто» идеологическом — «образовании», причастным которому он считал и
себя самого, хотя причастность эта оценивалась им по-разному на разных этапах его
бурно протекающей мировоззренческой эволюции: сперва — под знаком «плюс»,
затем - под амбивалентным «плюс-минус» и наконец - под однозначным «минусом»1.
«Откол» от российской интеллигенции (а значит, и от самого себя как ее
«типичного представителя»), который С. Булгаков все острее ощущал по мере
перехода от материализма к идеализму и от марксизма к православию, превращал
для него в загадку, столь же неразрешимую, сколь и мучительную, сам «факт» и
«способ» ее бытия. Но чем дальше он продвигался по пути построения своей
собственной версии православной социальной философии, тем яснее виделась ему
перспектива решения этой животрепещущей проблемы. Взятые в аспекте этой
проблематики, два уже рассмотренных нами цикла статей, собранных в булгаковских
«Двух Градах», могут быть различены следующим образом. Первый из них
посвящен структурному анализу атеистической интеллигентской религии человекобо-
жия, как она предстала у ее создателей - Фейербаха и Конта, а также у
крупнейшего из фейербахианцев - Маркса. Второй - генетическому анализу этой
парадоксальной религии, углубляющемуся в самые отдаленные истоки, восходящие к
более чем двухтысячелетней хилиастической традиции, вернее, той «линии» в ней,
которая была отмечена чертами завороженности «миражем земного града,
манящим и дразнящим, но обманывающим» (I, XIV).
Теперь же нам предстоит рассмотреть третий цикл булгаковских работ, в
которых обнажается то, что составляло наиболее чувствительный (и больной) «нерв»
булгаковских исследований, образовавших два предыдущих цикла. На него
указывает в высшей степени злободневная цель, подспудно определяющая общее
направление булгаковской мысли, объясняющее многие «очные ставки», проведенные
С. Булгаковым, их единую направленность и совсем не случайную взаимосвязь. А
заключается эта цель в том, чтобы осмыслить — во всей его «метафизической»
глубине - трагическое событие первой русской революции и ту роковую роль,
какую сыграла в ней российская интеллигенция.
7. Социализм как атеистическое вероучение
российской интеллигенции
Об этой цели впрямую говорится в одной из речей, произнесенных С.
Булгаковым в начале 1908 года перед христиански настроенной частью московского сту-
1 Впоследствии это усугубляющееся дистанцирование С. Булгакова от той самой
интеллигенции, к которой он поначалу причислял себя с такой безоглядной гордостью, нашло свое
«институциональное закрепление» в принятии им священнического сана, что
свидетельствовало о его переходе в качественно иное «общественное состояние».
437
денчества1. Вот как прорисовывается она в одном из наиболее автобиографически и
доверительно звучащих мест этой речи: «Много раз задумываясь над двоящимся и
доселе не разгаданным и не определившимся обликом русской интеллигенции, я
обращался мыслью к... тезису Достоевского о религиозной ее тоске, о жажде
крепкого берега, праведной жизни, нового неба и новой земли... И во Второй
Государственной думе, в раскаленной атмосфере политических страстей, прислушиваясь и
присматриваясь вокруг себя и силясь разгадать подлинную природу русской
интеллигенции, иногда я ясно видел, как, в сущности, далеко от политики в
собственном смысле, то есть повседневной прозаической работы починки и смазки
государственного механизма, отстоят эти люди. Это психология не политиков, не
расчетливых реалистов и постепеновцев, нет, это нетерпеливая экзальтированность
людей, ждущих осуществления Царствия Божия на земле, Нового Иерусалима, и
притом чуть ли не завтра»2.
Воплощая в своем безоглядно-революционном устремлении «идеи и настроения
века», причем делая это (как, впрочем, и во многих иных случаях) гораздо
«решительнее и прямолинейнее, чем даже Запад», Россия, а точнее, российская
интеллигенция, играющая, как показала революция, судьбоносную роль в своей стране,
«отражает на себе», по словам С. Булгакова, «духовную драму богоборчества и бо-
гоотступления». Драму, составляющую нерв всей «новой истории» и образующую ее
«основную тему и основное содержание» начиная с Ренессанса «и особенно
явственно с XVIII века». Драму, перед -которой «бледнеют и отступают на задний план все
великие политические и социальные интересы, вздымающие волны и рябь на
груди исторического моря» (215).
Смысл этой драмы автор определяет в тех же словах Достоевского, которые он
уже дважды воспроизвел в двухтомнике в связи с проблематикой как первого, так
и второго цикла помещенных в нем статей: стремлении «культурного человечества
«устроиться без Бога навсегда и окончательно». Или, добавляет теперь С. Булгаков,
«умертвить Бога», как еще смелее выразился один из яростнейших богоубийц
Ницше» (215). А это есть не что иное, как стремление «свести жизнь
исключительно к имманентному без всякий связи с трансцендентным, лишить землю неба, не
коперниковского, холодного, астрономического неба, но Моисеева, библейского,
или хотя бы даже кантовского неба, престола Божия» (215).
Уникальную особенность эпохи, основным содержанием которой стала эта
драма, образует не столько даже сам факт богоборчества («ибо всегда встречались
отдельные антирелигиозные течения»), сколько его новое качество — тотальность
войны, объявленой Богу. В истории атеизма еще «не было такого сознательного и
убежденного, такого фанатического и непримиримого стремления свести человека
на землю и опустошить небо», когда богоборчество предстает как картина («или
мистерия») «похорон Бога», равнозначных «самоубийству человечества» (215). Но
еще более парадоксальной и трагической особенностью эпохи явилось то, что в
кульминационный момент тотальной войны с Богом эстафету атеистического
богоборчества у Запада перехватила Россия - ее интеллигенция, усмотревшая свою
всемирно-историческую миссию именно в том, чтобы довести эту тотальную войну
с Богом «до победного конца», подключив к ней «трудящиеся массы». А это была
ведь та самая — в высшей степени религиозная по своему психологическому
складу - российская интеллигенция, которая привыкла принимать за аксиому (и соот-
1 Под названием «Религия человекобожия в русской революции» она была перепечатана в
«Двух Градах», где и вошла (вместе со статьями «Героизм и подвижничество» и «Воскресение
Христа и современный социализм») в третий из рассматриваемых нами
проблемно-тематических циклов двухтомника.
2 Булгаков С. Н. Религия человекобожия в русской революции // Новый мир. 1989. № 10.
С. 215. В дальнейшем при ссылках на данную работу в тексте в скобках указываются
страницы этого номера «Нового мира».
438
ветственно «руководство к действию») то, что на Западе считалось еще гипотезой, и
воспринимать вопросительный знак, под которым живет любая гипотеза, как
восклицательный знак фанатического утверждения веры.
«Нет никакого сомнения, - акцентирует здесь С. Булгаков свою мысль,
которую разовьет затем в статье «Героизм и подвижничество», — что политическое и
общественное движение последних лет было всецело интеллигентским - не по
своим участникам, которыми сделались и массы народные с их многоразличными
социальными интересами, но по своим идеям, идеалам, вообще по всей своей
идеологии. Сила идей и идейных настроений в истории обнаружилась здесь со стихийной
мощью. Выяснилось с полной очевидностью, что интеллигенция в России теперь
уже есть историческая сила, значение которой в дальнейшем историческом
развитии может только увеличиваться, и несомненно, что это растущая сила будущего.
И такая оценка исторической роли интеллигенции, как и вообще значения идей в
истории, заставляет считать идеи и настроения интеллигенции имеющими
особенную историческую важность, а положение ее сугубо ответственным» (224-225).
Так что же это за идеи? И каково состояние души российской интеллигенции,
буквально живущей этими идеями и нетерпеливо стремящейся «воплотить их в
жизнь»? «...Все ли благополучно в душе интеллигенции; не сдвинута ли
интеллигентская душа со своих устоев и не больна ли она?» (225). Вот вопросы, которыми
автор «Двух Градов» задается «с тем большей тревогой», что как раз на фоне
растущей «исторической силы» российской интеллигенции - и в резком диссонансе с
нею - обнаруживается слабость ее «задушевных идей», их болезненная спутанность
и непродуманность. Что и свидетельствовало, наряду с ее лихорадочным нетерпением
и маниакальным стремлением тут же и «во что бы то ни стало» «воплотить в жизнь»
полюбившуюся идею, о явном неблагополучии состояния «интеллигентской души».
Но больше всего тревожила С. Булгакова общая направленность «излюбленных
идей», с которыми самоотождествилась российская интеллигенция, подпавшая под
их гипнотическую власть. Направленность, отчетливо проявившаяся уже в том, что
доминирующей среди этих идей, вобравшей все остальные и по-гегелевски
«снявшей» их в себе, оказалась в конце концов идея «научного социализма»,
воспринятая интеллигенцией со всем свойственным ей религиозным энтузиазмом.
В этой идее получило концентрированное выражение «философско-религиозное
credo» российской интеллигенции — ее «атеистический нигилизм», который, по
убеждению С. Булгакова, стал «одним из важнейших факторов русской истории» и
был «одной из основных причин, определивших течение событий последних лет
России» (225). Относясь достаточно терпимо к тому, что (хотя, как оказалось, не
без больших натяжек) можно было считать научной стороной
социал-демократической версии социализма, коль скоро она (как тогда представлялось не одному
С. Булгакову) опиралась на выкладки экономической науки, автор «Двух Градов»
был тем более нетерпим ко всему тому, что относилось к «религиозно-философским»
предпосылкам социалистической теории, но упорно расценивалось российскими
марксистами как образец «до конца последовательной» научности.
«Научность» же эта проистекала из тех самых источников, которые, как уже
целый ряд лет аргументированно доказывал С. Булгаков, были чисто
религиозными и по свои истокам, и по своему содержанию и к науке в точном смысле
отношения не имели. При этом главное и решающее, что сбивало с толку защитников
подобной «научности» (позволяя им обманывать как самих себя, так и других),
заключалось в «антирелигиозности» марксистских постулатов, положенных в
основание «научного социализма». Между тем это была все та же религиозность, но
только взятая со знаком «минус»: богоборчество, выданное за «строгую науку»;
нигилистически-атеистическое ерничество, выданное за «научную объективность».
А ведь, строго говоря, безбожие той или иной социальной или экономической
теории, взятое само по себе, еще никак не может рассматриваться как доказательство
439
ее научности1. И все-таки именно эта - атеистически-религиозпа.я, или религиоз-
«о-атеистическая, - сторона социалистической идеологии, к которой российская
интеллигенция, в общем-то достаточно равнодушная к «академической» стороне
«научного социализма», была наиболее восприимчива, оказалась более всего
доступной для «массового» интеллигентского восприятия и пропаганды в «народных
массах». А это делало социализм, утверждавший свою «бескомпромиссную
научность» с воистину профетическим пафосом, крайне опасным орудием в руках
российской интеллигенции, и без того поражавшей Запад своей революционностью -
столь же беззаветной, сколь и безоглядной.
«Последнее десятилетие - констатирует С. Булгаков, — в частности же
последнее трехлетие (то есть 1905-1907 годы. - Ю. Д.) показало... что народ, особенно
молодое поколение деревни и городские рабочие, оказывается восприимчивым к
интеллигентскому воздействию и постепенно обынтеллигенчивается, или, как это
называется, становится "сознательным"... Всякое такое приобщение народа к
«сознательности», или его обынтеллигенчивание, начинается безразлично во всех
интеллигентских партиях и по всем их программам разрушением религиозной веры и
прививкой догматов материализма и философского нигилизма. Конечно,
необразованный простолюдин совершенно бессилен отнестись критически и безоружен, как
ребенок, перед наплывом новых учений. И с той же легкостью, с какой уверовали
в неверие некогда его просветители, принимает и он безрадостную, мертвящую
веру в неверие» (226).
«Такой силы, столь исключительной важности прививки, которую теперь
делает народу наша интеллигенция, не делала и не могла сделать ему ни Москва, ни
татарщина, ни Петербург; только Владимир Святой совершил равного значения
дело, крестив Русь, которую интеллигенция теперь постепенно раскрещивает».
«...С раскрещиванием начинается совсем новая эпоха (разрядка моя. -
Ю. Д.) истории» (226). Таков здесь общий вывод Булгакова.
8. Прорехи атеистического образования
(Парадокс российского западничества)
Та же проблема - проблема российского социалистического атеизма, тем
яростнее и воинственнее настаивавшего на своей «строгой научности», чем глубже в
психологии его приверженцев коренился оживотворявший ее религиозный пафос, -
стоит в центре статьи «Героизм и подвижничество», перепечатанной в «Двух
Градах» из «Вех». Она не случайно оказалась (вместе со статьей П. Струве
«Интеллигенция и революция») наиболее заметной в этом последнем сборнике, вызвавшем
столь же широкий, сколь и негативный интерес подавляющего большинства
российской «читающей публики» - всей, как тогда любили выражаться «мыслящей
России». В «подпочве» булгаковской статьи лежала, как свидетельствуют уже только
что рассмотренные исследования, в большинстве своем непосредственно ей
предшествовавшие, крайне напряженная и фундаментальная «предварительная работа». И
не было ни одного из более или менее важных результатов этих исследований,
который не получил бы отражения в ходе осмысления проблематики, волновавшей
автора статьи «Героизм и подвижничество».
1 Надо сказать, что сознательное или бессознательное отождествление атеизма и
научности вообще лежало в основе российских (впрочем, как мы убедились и все еще убеждаемся, не
только российских) интеллигентских представлений о научности социально-гуманитарного
знания, «научной честности» и т. д. — предрассудок, возникший под влиянием французского
просветительства, догматизированный в марксизме и ницшеанстве.
440
Все они так или иначе присутствуют в ней, обнажая обостренно-«злободневный»
интерес, руководивший исследовательской мыслью С. Булгакова в его экскурсах в
даже самую древнюю историю - и в предысторию - современных идей. При этом
тысячелетняя история осмысляемой им идеи каждый' раз представала таким же
образом, каким, согласно древнеиудейским представлениям, представало
тысячелетие для Бога, - как «один день». Ибо речь шла об одной и той же идее, сколь бы
ни отличались ее древние одеяния от тех костюмов, какие она меняет сегодня. А
это, в свою очередь, сообщало большую предсказательную силу булгаковским
анализам истории идей, как древней, так и современной. (Причем как бы вопреки его
решительному отрицанию- возможности научного предсказания будущего,
опирающегося на эмпирически фиксируемые «законы», связывающие (якобы) настоящее и
будущее.;
Дело в том, что, отвергая возможность предсказания на эмпирическом уровне
рассмотрения «законов развития общества», С. Булгаков признавал такую
возможность на умопостигаемом («трансцендентном») уровне постижения смысла идей,
открывающего возможность для смыслового анализа истории, каким и является
всякая философия истории. Поскольку речь идет об одной и той же идее (или одной и
той же «конфигурации» идей), вполне логично предположить также и одни и те же -
важнейшие, принципиальные — исторические последствия ее воздействия на умы
людей в контексте различных эпох. Отсюда - поражающие наше воображение
предсказания, которые мы встречаем как в «веховской» статье С. Булгакова, так и в
примыкающих к ней текстах, также перепечатанных в «Двух Градах».
С. Булгакову (как и другим авторам «Вех», близким к нему по общей
религиозно-философской установке) Ήβ нужно было повторения факта русской революции
десять лет спустя после событий 1905-1907 годов, чтобы уже в том, что явило
себя в них, постичь едва ли не всю «тематику» и «проблематику» как философско-
религиозной, так и общественно-политической жизни новой эпохи. Ибо
историческое своеобразие этой эпохи заключалось в повторении, хотя и «на новых витках»,
стремительно раскручивающейся спирали, многого — очень многого! — из того, что
уже однажды вызвала к жизни «конфигурация идей», лежащая в основе факта
первой русской революции, которая совсем не случайно была названа «репетицией»
другой, уже нетерпеливо (о, это историческое нетерпение российской
интеллигенции!) спешившей ей на смену.
Говоря в своей речи о религии человекобожества в русской революции (в речи,
которая была дважды произнесена в том же 1908 гиду, когда писалась для «Вех»
статья «Героизм и подвижничество») о том, что с «раскрещиванием начинается
совсем новая эпоха русской (а мы имеем право сегодня добавить: и не только
русской. - Ю. Д.) истории», С. Булгаков не бросал слов на ветер. Этот тезис, получив
обоснование, углублявшее его смысл, в «веховской» статье, открывал возможность
в том, что произошло в России в 1905-1907 годах, увидеть и то, что с поднятым
топором гражданской войны поджидало россиян как за ближайшим углом
истории, так и за целым рядом последующих ее «поворотов». Причем все это было
усмотрено им в феномене «раскрещивания», как тот предстал в ужаснувших С.
Булгакова событиях первой русской революции, в конце концов повергших в уныние и
значительную часть ее «руководящей силы» - российской интеллигенции.
«Атеизм, — читаем мы в этой булгаковской статье, — есть общая вера, в
которую крещаются вступающие в лоно церкви интеллигентски-гуманистической, и не
только из образованного класса, но и из народа. И так повелось изначала, еще с
духовного отца русской интеллигенции Белинского. И как всякая среда
вырабатывает свои привычки, свои верования, так и традиционный атеизм русской
интеллигенции сделался как бы само собою разумеющеюся ее особенностью, о которой
даже не говорят, признаком хорошего тона... Нет более важного факта в истории
русского просвещения, чем этот. И вместе с тем приходится признать, что русский
441
атеизм отнюдь не является сознательным отрицанием, не есть плод сложной,
мучительной и продолжительной работы ума, сердца и воли, итог личной жизни.
Нет, он берется чаще всего на веру и сохраняет эти черты наивной религиозной
веры, только наизнанку, и это не изменяется вследствие того, что он принимает
воинствующие, догматические, наукообразные форм ы»1.
А далее идут фразы, звучащие в устах бывшего марксиста С. Булгакова как
признание автобиографического характера: «Она (эта атеистическая вера. — Ю. Д.)
усвояется в отроческом возрасте, который биографически наступает, конечно, для
одних ранее, для других позже. В этом возрасте обыкновенно легко и даже
естественно воспринимается отрицание религии, тотчас же заменяемой верою в науку, в
прогресс» (В, 35). «Наука» и «прогресс» не случайно идут здесь, что называется,
«через запятую», отождествляющую их. Ведь, как упорно и настойчиво показывал
С. Булгаков еще в своих статьях периода его «перехода» от марксизма к
идеализму, а затем к религии, Прогресс - это, так сказать, «столп и утверждение
истины» социальной науки, а вместе с тем и социалистической, или «социологической»
(в момент возникновения «науки об обществе» это было одно и то же), Научности.
Так что вера в Прогресс означала веру в Науку, а вера в Науку - веру в Прогресс.
То, что содержание этой Науки менялось, и подчас довольно существенно (в одном
случае это была, скажем, социология Конта, а в другом - теория «научного
социализма» Маркса), не играло здесь решающей роли: в обоих случаях сама
атеистическая вера в Научность была одной и той же.
«В русском атеизме, - констатировал С. Булгаков, - больше всего поражает его
догматизм, то, можно сказать, религиозное легкомыслие, с которым он
принимается» (В, 36). И лучшее тому доказательство - это полнейшая непросвещенность
российского интеллигентского атеизма в смысле его способности дать себе отчет в
корнях и истоках своего собственного - конечно же «подлинно научного» -
антирелигиозного просветительства. А сама эта изначальная непросвещенность, в
свою очередь, была связана с границами того основного русла, в каком протекала
(и каким замыкалась!) вся история «русского атеизма».
Дело в том, что хотя он и «усвоен нами с Запада» (В, 36), но даже относительно
его реального места в западной культуре, не говоря уже об этой культуре, об этой
духовности, взятой как целое, наши атеистические обожатели Запада были
«просвещены» очень плохо. Ситуация, заметим, к сожалению, до сих пор изменилась не
так существенно, как того хотелось бы. Главный же недостаток западнической
интеллигентской «просвещенности» заключался тогда (как во многом заключается
и теперь) в крайней односторонности. Из колоссального и многообразно
разветвленного древа западной культуры и духовности наши отечественные
атеисты-западники выломали только одну ветвь, причем не самого лучшего качества, и потом
носились с нею, как с писаной торбой.
«Его, - пишет С. Булгаков, имея в виду наш российский атеизм, - мы приняли
как последнее слово западной цивилизации, сначала в форме вольтерьянства и
материализма французских энциклопедистов, затем - атеистического социализма
(Белинский), позднее - материализма 60-х годов, позитивизма (социология Конта. -
Ю. Д.), фейербаховского гуманизма, в новейшее время - экономического
материализма (то есть «научного социализма» Маркса. - Ю. Д.) и - в самые последние
годы - критицизма» (В, 36). И вот, облюбовав «на многоветвистом дереве западной
цивилизации, своими корнями идущем глубоко в историю», лишь одну эту ветвь,
наша атеистически-западническая интеллигенция и зажила своей провинциальной
жизнью, не желая ничего знать ни о других ветвях этого дерева, ни о его широко
1 Булгаков С. Н., Героизм и подвижничество. (Из размышлений о религиозной природе
русской интеллигенции) // Вехи. М., 1990 (Репринт). С. 34-35. (В дальнейшем в ссылках на
эту статью в тексте в скобках указываются: В и страница; разрядка в цитатах здесь и далее моя.)
442
разветвленных корнях. Зажила «в полной уверенности, что мы прививаем себе
самую подлинную европейскую цивилизацию» (В, 36-37), а соответственно — и в
полной самоудовлетворенности.
Между тем, согласно концепции автора статьи «Героизм и подвижничество»,
именно те ветви западной цивилизации, которые игнорировались односторонне-
атеистической ассимиляцией ее идей российскими западниками, давали плоды и
побеги, «до известной степени обезвреживающие своими здоровыми соками многие
ядовитые плоды» (В, 37).
А по этой причине «даже "и отрицательные учения на своей родине, в ряду
других могучих духовных течений, им противоборствующих, имеют совершенно
другое психологическое и историческое значение, нежели когда они появляются в
культурной пустыне и притязают быть единственными, становятся фундаментом
русского просвещения и цивилизации... На таком фундаменте не была построена
еще ни одна культура» (В, 37).
При таком подходе вообще упускается из виду или расценивается как нечто
несущественное, чем можно и пренебречь, тот колоссальной важности факт, что
«западноевропейская культура, по крайней мере наполовину, имеет религиозные
корни, построена на религиозном фундаменте, заложенном Средневековьем и
Реформацией» (В, 36). В эпоху реформации обозначилось в этой культуре и то
«духовное русло», в котором давно уже начала замыкаться (пока не замкнулась
целиком и полностью) мысль российской интеллигенции, припозднившейся со своим
мировоззренческим самоопределением, а затем ухватившейся за то, что всплыло на
поверхность западного сознания. В конце концов то, что плавало на этой
поверхности западной культуры, вылилось в «материалистический социализм» как самый
поздний и зрелый плод просветительства» (В, 38).
Но ведь само просветительское направление вообще представляет собой, если не
целиком, то, по крайней мере, отчасти, «продукт разложения Реформации» - не
случайно оно было и до сих пор остается одним из «разлагающих начал в духовной
жизни Запада» (В, 38). И это - на Западе, который давно уже вырабатывал
противоядия от просветительски-атеистических «ядов». Что же говорить о России, где
эти яды впитывались формирующейся интеллигенцией еще в младенческом
возрасте, как говорится, с молоком матери, где затем, уже сознательно
«самоопределившись», она стала воспринимать их как «живительный бальзам»... Привычка -
вторая натура. Элемент философской осмысленности и рефлективности сыграл в этом
процессе ассимиляции идеологии просвещения минимальную роль.
Отсюда С. Булгаков и делает резонный вывод, что «наша интеллигенция в
своем западничестве не пошла дальше внешнего усвоения новейших политических и
социальных идей Запада, причем приняла их в связи с наиболее крайними и
резкими формами философии просветительства» (В, 39). А «самым зрелым» плодом
этой философии, как логически, так и хронологически, оказался именно
марксистский «материалистический социализм» — последнее слово «воинствующего
атеизма». В качестве такового он и был воспринят российскими интеллектуалами.
И тем не менее едва ли не самым существенным здесь для христианского
социалиста С. Булгакова было то, что акт этого «усвоения» вовсе не был фатально
необходимым. Сколь бы малую роль ни играло в процессе ассимиляции западных
идей критически-рефлексивное начало, она была делом свободы российской
интеллигенции - в ситуации, когда та имела возможность выбирать между различными
тенденциями и устремлениями западной культуры и цивилизации. А там, где в
принципе существует такая возможность, пассивность, проявленная в деле выбора
отправных мировоззренческих начал, - это тоже выбор. Вот почему С. Булгаков
был прав, когда говорил, что «отбор этот был и свободным делом самой
интеллигенции, за которое она постольку и ответственна перед родиной и историей» (В, 39), и
что «в этом отборе, который произвела сама интеллигенция, в
443
сущности даже и неповинна западная цивилизация в ее органическом целом»
(В, 39).
А там, где есть свобода, возможность свободного выбора, там есть и
ответственность. Человек ответствен за свой выбор, неверный выбор - его вина, искупить
которую можно лишь в чистосердечном ее осознании, то есть - покаянии. Эту
проблему и поставил С. Булгаков в своей «веховской» статье, вызвав единодушное (за
редчайшими исключениями) негодование российской интеллигенции, лучше всего
свидетельствовавшее о том, что она не считала себя виновной за свой
мировоззренческий выбор. Она продолжала настаивать на том, что этот выбор — единственно
верный, а призыв к его пере.смотру — гнусное «ренегатство» (обвинение, чаще всего
бросаемое в ответ на призыв к покаянию).
Российская интеллигенция не желала вставать на путь
нравственно-философски ориентированной самокритики, на котором она добралась бы наконец до
религиозных оснований своей общественно-политической позиции. Акт ее подлинного
самоосознания не состоялся. Для этого оказалось недостаточно «эксцессов» одной
революции. Потребовалась вторая, завершившаяся октябрьским переворотом,
гражданской войной и установлением тоталитарного политического режима,
стоившего России десятков миллионов человеческих Жертв, чтобы «правопреемники» этой
интеллигенции начали мало-помалу понимать, что действительно радикальное
самоосознание российского интеллигента было и остается немыслимым без того
(тысячу раз оплеванного и оклеветанного) покаяния, к которому призывал С.
Булгаков в своей «веховской» статье.
Пока же такого действительного самоосознания российской интеллигенции не
произошло, ее философское сознание продолжало вращаться, подобно белке в
колесе, в заколдованном кругу примитивнейшей схемы: «Вначале было варварство, а
затем воссияла цивилизация, т. е. просветительство, материализм, атеизм,
социализм, - вот несложная философия истории среднего русского интеллигента» (В, 39).
А потому сохраняла всю свою важность и задача: «в борьбе за русскую
культуру... бороться, между прочим, даже и за более углубленное, исторически
сознательное з а п а д н и ч е с τ в о» (В, 39).
9. Интеллигентский революционизм и
«новое религиозное сознание»
Экспансия «атеистической религии», которая уже на ранних этапах ее
проникновения в сознание российской интеллигенции стремилась утвердить социализм на
месте вытесняемого ею христианства, имела одним из своих, совсем не невинных,
согласно С. Булгакову, результатов глубоко укоренившееся «интеллигентское
непонимание всей действительной пропасти», существующей «между атеизмом и
христианством» (В, 60). Непонимание, питаемое, кроме всего прочего, внутренней «ре-
лигиообразностью» самого атеизма, особенно российского — экстатически-хилиасти-
ческого. По этой причине как у нас, так и за рубежом не раз «исправляли» с
обычной самоуверенностью образ Христа, освобождая его от «церковных искажений» и
даже изображая его, как это часто случалось (и порой все еще случается) в России,
«социал-демократом или социалистом-революционером» (В, 60). «Пример этому
подал еще отец русской интеллигенции Белинский» (В, 60), увидевший в Христе
провозвестника учения, смысл которого был «открыт» просветительским
движением XVIII века.
Ту же подтасовку, только гораздо более тонкую и потому соблазнительную,
автор статьи «Героизм и подвижничество» усматривает в «не менее кощунственной
лжи», которая в разных формах стала «повторяться особенно часто последнее вре-
444
мя» (В, 60). Ложь эта заключается в утверждении, что «интеллигентский
максимализм и революционность, духовной основой которых является... атеизм, в
сущности отличается от христианства только религиозной неосознанностью» (В, 60). И
получается так, будто бы достаточно имя Маркса или Михайловского заменить
именем Христа, а «Капитал» - Евангелием «или, еще лучше, Апокалипсисом (по
удобству его цитирования), или можно даже ничего не менять, а нужно лишь еще
усилить ее революционность и продолжить интеллигентскую революцию», чтобы
из нее родилось «новое религиозное сознание (В, 61). Здесь, как видим, в качестве
объекта саркастически-резкой критики вновь фигурирует Мережковский —
провозвестник этой модной идеи в элитарных интеллигентских кругах России первого
десятилетия нашего века.
Прежде С. Булгаков упоминал его в связи с рассмотрением хилиастически-
сектантских тенденций в христианстве, давая, таким образом, общую
характеристику «нового религиозного сознания». Теперь же, возражая Мережковскому с его
«апокалиптическим» революционизмом1, автор статьи напоминает, что случай
«достаточно продолженной» (цитата из Мережковского) интеллигентской революции, в
которой проявились все ее «духовные потенции», уже имел место в истории. Это -
французская революция, от которой вряд ли можно «отмыслить» кровавый
якобинский террор. Что же касается попытки выдать (используя возможности,
открываемые отождествлением атеистического революционизма с религией Христа)
«страдающего и преследуемого интеллигента» за христианского мученика, то, как не без
сарказма констатирует С. Булгаков, «после духовного самообнаружения2
интеллигенции во время революции это стало гораздо труднее» (В, 61).
«Легче всего, — продолжает он далее, опять-таки прозрачно намекая на
Мережковского, — интеллигентскому героизму, переоблачившемуся в христианскую одежду
и искренне принимающему свои интеллигентские переживания и привычный
героический пафос за христианский праведный гнев, проявлять себя в церковном
революционизме, в противопоставлении своей новой святости, нового
религиозного сознания неправде "исторической церкви"3. Подобный христиан-
ствующий интеллигент, иногда неспособный по-настоящему удовлетворить средним
требованиям от члена "исторической церкви", всего легче чувствует себя Мартином
Лютером или, еще более того, пророчественным носителем нового религиозного
сознания, призванным не только обновить церковную жизнь, но и создать новые ее
формы, чуть ли не новую религию» (В, 61). «Интеллигентское христианство»
такого рода оставляет нетронутым как раз то, что в интеллигентском героизме
«является наиболее антирелигиозным», а именно — «его душевный уклад» (В, 62),
вырастающий из человекобожеской, то есть принципиально атеистической
установки, в основе которой лежит грех гордыни.
Но, пожалуй, самое главное, чем глубоко тревожили С. Булгакова, рождая у
него самые мрачные предчувствия, подобные интеллигентски-снобистские игры с
переодеванием Христа в костюм социалиста-революционера, а
социалиста-революционера - в рубище Христа, - это не просто зыбкость нравственно-философской
установки, скрывающейся под вполне осознанным стремлением таких «властителей
дум» российской интеллигенции, как Мережковский, размыть грань, разделяющую
религию и атеизм. За кокетничанием пророка «нового религиозного сознания» с
идеей Революции, возведенной на уровень Абсолюта, отменяющего нравственные
императивы и априори оправдывающего все эксцессы революции 1905—1906 годов,
1 В нем было очень много от Марксовой идеи «перманентной революции», пущенной в
«новый оборот» Троцким во времена первой русской революции.
2 Слово, которым «заместилось» напрашивающееся здесь саморазоблачение.
3 Словосочетания, введенное Мережковским, зачислившим на счет «исторической церкви»
все, что не отвечало революционизму его «нового религиозного сознания», предлагаемого им в
качестве обновленного христианства.
445
в том числе и эсеровский терроризм,1 скрывались и менее «отвлеченные» вещи. За
его «образом» Христа-Революционера недвусмысленно проступала бесовская мысль
о благотворности новых и новых повторений этой роковой для России революцио-
нистской «игры».
«Но неужели, — спрашивал С. Булгаков еще в своей речи, посвященной
«религии человекобожия» в русской революции, - напрасно возгремели над нами
небесные громы? Неужели мы, немного поотдохнув да поправившись от пережитого,
заживем опять по-старому, старыми чувствами, старыми мыслями, старым
легкомыслием, так, как будто ничего не случилось, ничего не раскрылось, ничего не
нажито? Просто сорвалось, да и все тут, а могло бы и не сорваться, если б
оказалось немного больше сил; надо стараться, чтобы другой раз уже не сорвалось.
Русский интеллигент склонен к такой беспечной лени души, и сейчас уже начинает
складываться такое успокоительное, доосвободительное настроение и в печати и в
кружках, как будто мы не увидали голову Горгоны, как будто бы мы просто
просчитались, и остается только отступить несколько шагов назад, вернуться на
старые позиции» (228).
Между тем первое, что должно было бы открыться в «эксцессах» первой же
русской революции, вовсе не случайно потерпевшей поражение, это, по убеждению
С. Булгакова, тот колоссальный нравственный урон, какой нанесла народу
интеллигентская «революционно-социалистическая» пропаганда и агитация, которую
сами пропагандисты-агитаторы воспринимали как истинное просвещение от
религиозной «темноты и невежества». «Я не возьмусь учитывать, - говорил он именно в
данной связи, - насколько плодотворна и в политическом и в социальном
отношениях оказалась эта замена просвещения агитацией, но морально-психологическое и
общечеловеческое значение этого учесть можно и теперь. Результат этот -
разложение личности, глубокий паралич воли и нравственного чувства — мы имеем
теперь в скорбной и нескончаемой эпопее quasi-идейных преступлений, от которых с
ужасом открещиваются все интеллигентские группы и все направления. И,
конечно, они правы, поскольку действительно никто не хотел всего этого и это явилось
непредусмотренным результатом тех потрясений в народной душе, тех
опустошений в сокровищнице его веры, которые внесла доктрина атеизма в связи с
тяжелыми событиями и испытаниями нашего времени. Я совершенно убежден, что
чрезвычайное развитие преступности, и притом в патологической обстановке
своеобразной идейности, есть симптом болезни народной души, острая реакция
духовного организма на ту нездоровую пищу, которая была введена в него в виде новых
учений, объединявшихся отрицанием религиозных ценностей и абсолютной
морали» (227).
Печальные «плоды просвещения», обернувшиеся «эксцессами» революции 1905
года, свидетельствовали, по убеждению С. Булгакова, о двух разнопорядковых
вещах. С одной стороны, о том, что «народная душа», которая до начала нашего
века оставалась недоступной и непроницаемой для интеллигентской проповеди,
теперь стала откликаться на нее. Опыт последних лет - а это были прежде всего
годы революции — показал, что интеллигенция находит наконец «доступ к душе
народной» (227). Однако, с другой стороны, тот же самый опыт показал, насколько
1 В своих воспоминаниях 3. Н. Гиппиус (при всех многочисленных «умолчаниях») все-таки
свидетельствует о достаточно далеко зашедшем (и весьма двусмысленном в аспекте идейном)
сближении Д. С. Мережковского, настаивавшего на «праведности» революции «как таковой», с
главой «боевой организации» эсеров Савинковым. Последний, информирует она с воистину
снобистской небрежностью, «принимал ближайшее участие в убийстве Плеве, вел. князя
Сергея в Москве и еще кого-то» (как говорится в анекдоте: «кто вам считает...»), а затем, как
видим, вел душеспасительные беседы на тему о «христианской сущности» террористического
революционизма с властителем интеллигентских дум (см.: Мережковский Д. С. 14 декабря;
Гиппиус-Мережковская 3. Я. Дмитрий Мережковский. М., 1991. С. 410).
446
опасное, насколько разрушительное воздействие на эту душу оказывало (и
продолжает оказывать) само содержание этих проповедей, исполненных атеистического
богоборчества и социалистического революционизма. Воздействие, чреватое тем
более роковыми последствиями для страны и народа, чем более религиозным
пафосом, взыскующим Нового града, они исполнены. Ведь религиозная энергия и сила
этого пафоса поставлены на службу антирелигиозной -
«воинственно-атеистической» - идее, разлагающей открывшуюся им навстречу христианскую душу народа.
Поэтому историческая встреча русского народа и российской интеллигенции,
так давно ею чаемая, никак не могла быть идиллической. Это - как «два
электричества», тождественные в силу их одинаковой религиозности, однако имеющие
диаметрально противоположные «заряды». «...Когда они соединятся, что дадут они -
благодетельный свет и тепло или разрушительную и испепеляющую молнию?»
(227) - вот главный вопрос, который мучил автора третьего цикла статей,
опубликованных в «Двух Градах». Речь идет о встрече - в пределах одной и той же формы
религиозного сознания - двух взаимоисключающих вер: веры в Христа и веры в
неверие.
Веры в творческую силу Любви и - «научно-атеистической» веры, готовой
вести истребительную «священную войну» против всех, кто не согласится принять ее
безбожного бога - «научный социализм».
Отсюда и исполненное трагизма предчувствие того, что «на почве этого
разноверия неизбежно должна возникнуть» в России «внутренняя религиозная война,
подобие которой следует искать только в войнах реформационных» (227). Ибо
«нельзя, конечно, и думать» чтобы интеллигенции, по крайней мере в обозримом
будущем, удалось обратить в свою веру всю народную массу, часть ее, во всяком
случае, останется верна прежним началам жизни» (227).
Но что же тогда делать? С. Булгаков видел лишь один выход из этой поистине
трагической ситуации: коренное изменение всего мировоззрения российской
интеллигенции, начиная с глубинных его оснований. Она должна наконец полностью
осознать свою собственную религиозность,.которая, оставаясь неосознанной, делает
столь же двусмысленным и противоречивым, сколь и крайне опасным (причем не
только для народа, но и для нее самой) ее «воинствующий атеизм». При этом ей
предстоит разобраться в самих этих религиозных истоках вдохновляющих ее
«научно-социалистических» идей, отличив «живую воду» христианской
религиозности от «мертвой воды» пантеизма с его неизбежным человекобожием. И только
проделав эту - требующую колоссальных духовных усилий — внутреннюю работу
по просвещению самой себя, интеллигенция оказалась бы способной исполнить
высокую миссию (возлагаемую на нее, в частности, и колоссально возросшими
возможностями ее интеллектуального влияния) подлинной, а не мнимой
просветительницы народа. Ведь в этом случае свет, который она несла бы народу, не
делал бы его «беднее духовно, чем он был», не разлагал бы его нравственно (227).
Это был бы не искусственный свет, разлагающий и убивающий душу, а свет
естественный в высшем смысле этого слова - оживотворяющий и одухотворяющий
ее. Это было бы «христианское просвещение, развивающее и воспитывающее
личность, а не случайное усвоение обрывков знания, употребляемых как средство
агитации», - просвещение, понятое как просветление души и духа, в котором
действительно «нуждается наш народ» (227). «Историческое будущее России, —
пророчески говорил С. Булгаков в своей речи перед студентами-христианами, -
возрождение и восстановление мощи нашей родины или окончательное ее разложение, быть
может политическая смерть, находятся, по моему убеждению, в зависимости от
того, разрешим ли мы эту культурно-педагогическую задачу: просветить народ, не
разлагая его нравственной личности. И судьбы эти история вверяет в руки
интеллигенции» (227).
447
Но ведь этот единственный «шанс спасения», еще остававшийся тогда для
России, предполагал столь решительное преобразование (подлинную реформацию)
всего мировоззрения российской интеллигенции, что спасение становилось
немыслимым без ее покаяния, идею которого отстаивал С. Булгаков в своей «веховской»
статье. Сопровождаемый самыми презрительными и язвительными выпадами по
поводу автора этой идеи, единодушный отпор, который она вызвала у нашей
отечественной интеллигенции, определеннее всего говорил о выборе, каковой
последней тем самым уже и был сделан, а вернее — подтвержден.
Интеллигенция предпочла «внутреннюю религиозную войну», уже начавшуюся
в России под личиной «политической борьбы» (которая велась, однако, с
фанатической страстью и нетерпимостью), а после октября 1917 года вылившуюся в войну
гражданскую - радикальному духовному самоизменению, трансформации своего
миросозерцания. В результате энергия реформации, накопившаяся, как видим, не
только в русском народе, но и в российской интеллигенции (о чем
свидетельствовала специфика ее «атеистической религии» и фанатическая вера в свою Идею),
уже однажды выплеснувшаяся в чуждых ей формах первой русской революции,
окончательно вошла в революционное русло и была «канализирована» в нем,
преобразившись до неузнаваемости.
Потребовались долгие - мучительные и кровавые - десятилетия для того,
чтобы понять, что это были за «каналы», по которым - под «мудрым руководством»
Партии и ее Вождя - была направлена энергия нашего многострадального народа,
и какова была истинная природа, какими были изначальные истоки этой, таким
чудовищно извращенным образом «утилизованной», энергии. И вот теперь, уже на
исходе нашего проклятого Богом века, мы, в сущности, вновь оказались перед тем
же самым выбором, перед которым Россия стояла еще в начале столетия:
насильственная политическая революция или нравственно-религиозная реформация?
С. Булгаков был тогда одним из очень немногих, кто осознавал всю радикальность,
а потому и всемирно-историческую значимость этого выбора. Возвысимся ли мы до
булгаковской ясности и отчетливости .сознания непреложности такого выбора
именно сегодня — «здесь и теперь»?..
КОММЕНТАРИИ
Печатается по изданию:
Сергей Булгаков. Два Града.
Исследования о природе общественных идеалов.
Т. I—II. М.: Путь, 1911
* В качестве эпиграфов ко всей книге С. Н. Булгаков избрал две цитаты из VI книги
знаменитого произведения Августина Аврелия «О Граде Божьем»:
«Итак, когда человек живет по человеку, а не по Богу, он подобен диаволу»;
«Образовались два различных и противоположных между собою града потому, что одни
живут по человеку, а другие по Богу» (Августин Аврелий. Творения. Ч. 5 // Библиотека
творений св. отцов и учителей Церкви западных, издаваемая при Киевской духовной академии.
Кн. 14. Киев, 1882. С. 7, 8),
- и цитату из «Сущности христианства» Л. Фейербаха:
«Человек человеку бог» (Фейербах Л. Избранные философские произведения. М., 1955.
Т. И. С. 308).
Понятие «Града Божьего» восходит к терминологии Послания к Евреям ап. Павла: «...вы
приступили к горе Сиону и ко »Граду Бога живого, к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов»
(12, 22), «Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего» (13, 14). Несколько иначе
эта же мысль об отсутствии у христиан своего «града» выражена в Послании ап. Павла к Фи-
липпийцам: «Наше же жительство - на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа
(нашего) Иисуса Христа» (3, 20).
Тема идейной борьбы «двух градов», из которых один «создан любовью к самим себе,
доведенной до презрения к Богу», а другой - «любовью к Богу, доведенной до презрения к себе»
(De civ. Dei. XIV, 28), - и составляет основное содержание исследования С. Н. Булгакова.
ОТ АВТОРА
С. 7.
1*. Имеется в виду определение человека, данное Аристотелем в первой книге
«Никомаховой этики»: «Человек - по природе [существо] общественное» (Аристотель.
Сочинения. М., 1984. Т. 4. С. 63).
2*. Перечислим наиболее крупные и существенные статьи, написанные С. Н. Булгаковым в
указанный период:
1) О реалистическом мировоззрении // Вопросы философии и психологии. 1904. № 73.
2) Новогодний подарок нашим славянофилам // Освобождение. 1904. № 17(41).
3) Чехов как мыслитель // Новый путь. 1904. № № 1-11.
4) Идеализм и общественные программы // Новый путь. 1904. № 10-12.
5) Очерки по крестьянскому вопросу // Новый путь. 1904. № 11.
6) Литературные заметки. Н. Г. Чернышевский // Там же.
15*
451
7) Нет на свете мук сильнее муки слова // Вопросы жизни. 1905. № 1.
8) «Вопросы жизни» и вопросы жизни: несколько слов о задачах журнала. Жизнь и ее
истинный объем и вопросы. Исторические задачи нашего времени // Вопросы жизни.
1905. № 2.
9) «Трагедия человечества» Эмериха Мадача // Там же.
10) О пути Соловьева. Ответ кн. Е. Н. Трубецкому // Вопросы жизни. 1905. № 3.
11) По поводу письма Л. Н. Толстого в Times и слова епископа Антония в «Московских
ведомостях» // Там же.
12) Политическое освобождение и церковная реформа // Вопросы жизни. 1905. № 4/5.
13) Несколько замечаний по поводу статьи Г. И. Чулкова о поэзии Вл. Соловьева //
Вопросы жизни. 1905. № 6.
14) Совместимо ли христианство с любовью к жизни? // Там же.
15) Связь аскетизма и трагизма // Там же.
16) Позитивная и трагическая теория прогресса // Там же.
17) Афродита простонародная и Афродита Небесная // Там же.
18) Неотложная задача // Вопросы жизни. 1905. № 9.
19) Очерк о Ф. М. Достоевском. Чрез четверть века (1881-1906) // Юбилейное издание
Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского. СПб., 1906. Т. 1.
20) Религия и политика // Полярная звезда. 1906. № 13.
21) Духовенство и политика // Товарищ. 1906.
22) О необходимости введения общественных наук в программу духовной школы //
Богословский вестник. 1906. № 2.
23) Кабинет министров и Обер-прокурор Св. Синода // Дума. 1906. № 24.
24) Церковь и государство // Вопросы религии. 1906. № 1.
25) Церковь и социальный вопрос // Вопросы религии. 1906. № 1.
26) Под знаменем Университета // Вопросы философии и психологии. 1906. № 85.
27) Горе русского пастыря // Новь. 1906. 29 дек.
28) Временное и вечное // Век. 1906. № 7.
29) Социальные обязанности Церкви // Народ. 1906. № 5.
30) Индивидуализм и соборность // Народ. 1906. № 6.
31) К вопросу о Церковном Соборе // Московский еженедельник. 1906. № 13.
32) О смертной казни // Против смертной казни: Сб. статей. М., 1906.
33) Церковный вопрос в Государственной думе // Век. 1907. № 10.
34) Из думских впечатлений. Прения о военно-полевых судах // Век. 1907. № 12.
35) Князь С. Н. Трубецкой как религиозный мыслитель // Московский еженедельник. 1908.
№ 14.
36) Социальное мировоззрение Джона Рёскина // Вопросы философии и психологии. 1909.
№ ЮО.
37) На смерть Л. Н. Толстого // Русская мысль. 1910. № 12.
38) Профессорская религия // Русская мысль. 1910. № 12.
39) Природа в философии Вл. Соловьева // Вопросы философии и психологии. 1910. № 105.
40) Революция и реакция // Московский еженедельник. 1910. № 8.
Кроме перечисленных статей С. Н. Булгаков в течение 1904-1910 гг. опубликовал
несколько рецензий и две книги: Краткий очерк политической экономии. Вып. I: Основные
черты современного хозяйственного строя. М., 1906; История политической экономии. Лекции,
читанные в Московском коммерческом институте в 1907 г. М., 1907.
3*. Книга «Два Града» по форме представляет собой такой же «сборник статей», как и
указанный Булгаковым сборник «От марксизма к идеализму». Но принципы построения обоих
сборников отличаются друг от друга: если в книге «От марксизма к идеализму» статьи
расположены в хронологическом порядке, то книга «Два Града», напротив, построена вопреки
хронологии, по тематическому признаку. Тема противоборства «двух градов» позволила Булгакову
расположить статьи сборника в таком логически безупречном порядке, благодаря которому
ощущение того, что перед читателем все-таки сборник статей, а не целостная и специально
написанная монография, совершенно пропадает. Этого эффекта Булгакову удалось достигнуть
еще и благодаря тому, что в тот период его творчества, когда была написана книга «Два
Града», его философская эволюция вошла в гораздо более спокойное и строгое русло, нежели в
«марксистско-идеалистическом» его периоде. Подробнее об этапах «творческой эволюции»
С. Н. Булгакова см. в моей статье «Ç. Н. Булгаков: от марксизма к "христианской
социологии"» (Социологические исследования. 1990. № 4).
С. 8.
4*. Булгаков использует здесь этимологическое определение религии, согласно которому
слово religio (от лат. religare - собирать) буквально означает «собираю».
452
5*. Ср. с точкой зрения А. Шопенгауэра: «"Нормальный", средний человек вынужден
искать жизненных наслаждений вне себя: в имуществе, чине, жене и детях, друзьях, в обществе
и т. п., и на них воздвигает свое счастье; поэтому счастье рушится, если он их теряет или в
них обманывается. Его положение можно выразить формулой: центр его тяжести - вне его.
Только гений избирает абсолютной темой своего бытия жизнь и сущность предметов и
глубокое их понимание стремится выразить, в зависимости от индивидуальных свойств, в
искусстве, поэзии или философии.
Только для такого человека занятие собою, своими мыслями и творениями насущно
необходимо, одиночество — приятно,' досуг — является высшим благом, - все же остальное - не
нужно, а если оно есть, то нередко становится в тягость. Лишь про такого человека можно
сказать, что центр его тяжести - всецело в нем самом» (Шопенгауэр А. Афоризмы житейской
мудрости. СПб., 1914. С. 36-37).
С. 9.
6*. Вольнодумец (φρ.).
7*. Сатана в системе Шеллинга олицетворяет зло как таковое. «Зло, как и болезнь, -
писал Шеллинг в «Философских исследованиях о сущности человеческой свободы...», - не есть
нечто сущностное, собственно говоря, оно — не более чем видимость жизни, как бы мимолетное
ее явление, подобное метеору, колебание между бытием и небытием; тем не менее для
чувства оно вполне реально» (Шеллинг Ф. В. Й. Сочинения. М., 1989. Т. 2. С. 114-115).
8*. Третьего не дано (лат.).
С. 10.
9*. Проблема «радикального зла» (и само это понятие) была впервые сформулирована
И. Кантом. В отличие от гуманистов нового времени, полагавших, что человек по природе
добр, сторонники концепции «радикального зла» считают, что зло коренится в самой природе
человека. Склонность ко злу принадлежит человеку как таковому. Подробному анализу этой
проблемы посвящена специальная статья К. Ясперса «Радикальное зло у Канта» (в сб.
переводов «Философия Канта и современность» (М., 1976. Ч. II. С. 59-88)). Об «изначальном зле в
человеке» писал в «Философских исследованиях о сущности человеческой свободы» Шеллинг
(см.: Шеллинг Ф. В. Й. Сочинения. М., 1989. Т. 2. С. 133-134).
10*. Понятие трагедии занимает одно из центральных мест в философии С. Н. Булгакова.
Этой теме посвящена его статья «Русская трагедия» (в сб. статей «Тихие думы » (М., 1918);
перепечатана в сборнике статей «О Достоевском. Творчество Достоевского в русской мысли
1881-1931 годов». М., 1990. С. 193-214).
11*. Победа «едкой пошлости» над «лучшими порывами и заветными мечтами» среднего
человека составляет, по мнению С. Н. Булгакова, главное содержание творчества А. П. Чехова,
«писателя наибольшего философского значения» после Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого
(см. его лекцию «Чехов как мыслитель» (Киев, 1905)).
12*. Заключительные строки «Фауста» И. В. Гете:
Все быстротечное —
Символ, сравненье.
Цель бесконечная
Здесь - в достиженье»
(Гете И. В. Фауст. М., 1969. С. 472; пер. Б. Пастернака)
13*. Выражение из Откровения св. Иоанна Богослова (10, 6).
С. 11.
14*. Об «иудейском хилиазме» см. в статье С. Н. Булгакова «Апокалиптика и социализм»
(наст, изд., с. 219-225).
15*. Иерократия - букв.: «власть святых». В данном случае имеется в виду учение о
святости папской власти. Впоследствии С. Н. Булгаков разработал концепцию православной иеро-
кратии. В неопубликованном диалоге «Пир», являющемся продолжением диалога «На пиру
богов», опубликованном в Киеве в 1918 г. и в сб. «Из глубины» (Париж, 1967), он изображает
православное царство, которое представляет собой «подготовление Царствия Божия на земле,
начало того тысячелетнего царства святых, которое обосновано Апокалипсисом... Это
преображение власти, власть святых, иерократия явится вместе с тем и растворением
государственности в Церкви» (цит. по: Новгородцев П. И. Об общественном идеале. М., 1991. С. 60).
16*. О «теории двух мечей» см. с. 97, 99, 100 наст. изд.
453
17*. См. «Краткую повесть об антихристе» из «Трех разговоров» Вл. С. Соловьева, а также
его книгу «Россия и Вселенская Церковь» (М., 1911).
18*. Религиозно-политическая система, при которой глава светской власти (цезарь)
является фактически и главой Церкви (папой). Термин «цезарепапизм» был изобретен в XIX веке
немецким историком Й. Хергенретером для характеристики политической системы Византии,
но впоследствии приобрел расширительное значение.
19*. В своей поздней работе «Православие. Очерки учения православной Церкви» (Париж,
1989) Булгаков объяснял происхождение этой «мистической связи» теми трудностями, которые
возникли в процессе превращения языческой Руси в христианское государство. «Революция, -
пишет здесь Булгаков, - страшною ценой неисчислимых жертв навсегда (надо думать)
освободила православие от чрезмерной связи с монархической государственностью» (указ. соч. С.
340-341).
20*. «Церковь в параличе с Петра Великого», - заметил Ф. М. Достоевский в набросках к
«Дневнику писателя» за 1881 г. {Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. Л., 1984. Т. XXVII.
С. 49). Впервые эти материалы были опубликованы в кн.: Биография, письма и заметки из
записной книжки Ф. М. Достоевского. СПб., 1883.
21*. Система, обратная цезаре папизму: глава Церкви (папа) является фактически главой
государства (цезарем).
22*. Впервые о «связи между папизмом и социализмом» Ф. М. Достоевский писал в 1873 г.
в хронике иностранных событий, которую он вел в журнале «Гражданин»: «Папа сумеет выйти
к народу, пеш и бос, нищ и наг, с армией двадцати тысяч бойцов иезуитов, искусившихся в
уловлении душ человеческих. Устоят ли против этого войска Маркс и Бакунин? Вряд ли:
католичество так ведь умеет, когда надо, сделать уступки, все согласить. А что стоит уверить
темный и нищий народ, что коммунизм есть то же самое христианство и что Христос только
об этом и говорил» {Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. Л., 1980. Т. XXI. С. 202-203). Эту
мысль он затем неоднократно повторял и на страницах того же «Гражданина» (см. указ. том, с.
229-230, 243), и в «Дневнике писателя» за 1876 (март, гл. I, пар. V) и 1877 годы (май-июнь,
гл. III, пар. 3; ноябрь, гл. III, пар. 3) {Достоевский Ф. М. Указ. изд. Т. XXII. С. 88-89; Т.
XXV. С. 157-158; Т. XXVI. С. 89-91). В романе «Бесы» Достоевский вложил ее в уста Петра
Верховенского: «...я думал отдать мир папе. Пусть он выйдет пеш и бос и покажется черни:
"Вот, дескать, до чего меня довели!" - и все повалит за ним, даже войско. Папа вверху, мы
кругом, а под нами шигалевщина. Надо только, чтобы с папой Internationale согласились; так
и будет. А старикашка согласится мигом. Да другого ему выхода и нет» (Там же. Т. X. С. 323).
С. 12.
23*. Правильнее: «ноумен» (от греч. νόυμενον) - умопостигаемая сущность, в отличие от
«феномена» - объекта чувственного созерцания. В философии И. Канта «ноумен» - синоним
«вещи в себе».
24*. Православная церковь признает семь Вселенских соборов, которые происходили до
разделения церквей (I собор - Никейский, 325 г., VII - II Никейский, 787 г.). Следующий
Собор, который состоялся в Константинополе в 869-870 гг., католицизм признает Вселенским,
православие же не считает его таковым, как и все последующие Вселенские соборы, которые
созывались уже римскими папами. Подробнее см.: Карташев А. В. Вселенские соборы. М.,
1994.
25*. Цитата из статьи Вл. С. Соловьева «Мицкевич (Речь на обеде в память Мицкевича 27
дек. 1898 г.)». Обращаем внимание читателя, что здесь и далее Булгаков цитирует
Вл. С. Соловьева по первому (9-томному) собранию сочинений.
С. 13.
26*. «Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции» - классическое произведение
русской религиозно-идеалистической философии. Авторы статей, помещенных в сборнике, -
Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков (его статью «Героизм и подвижничество» см. в наст, изд.),
М. О. Гершензон, А. С. Изгоев, Б. А. Кистяковский, П. Б. Струве, С. Л. Франк. С марта 1909
по март 1910 г. было выпущено пять изданий сборника, что само по себе свидетельствует о его
успехе. За этот же период времени появилось более 200 критических статей о «Вехах» и две
книги: «Вехи» как знамение времени. М., 1910; Интеллигенция в России. СПб., 1910, не
считая при этом сб. статей «В защиту интеллигенции» (М., 1909), представляющего собой
«дайджест» ранее опубликованных материалов. Не будет преувеличением назвать «Вехи» главным
литературным событием 1909 г. Критика в основном носила отрицательный, а чаще всего -
резко отрицательный характер. С полным одобрением о нем отозвались не более десятка
человек: архиепископ Антоний, Андрей Белый, кн. Е. Н. Трубецкой, В. В. Розанов, М. С. Шагинян
и некоторые другие авторы.
454
Сейчас, может быть, полемика, развернувшаяся в свое время вокруг «Вех», более
интересна и поучительна, чем сам сборник. В отрицании выраженных в нем идей дружно сошлись
кадеты и эсеры, социал-демократы и черносотенцы. Подробнее см. примеч. 1* к статье «Героизм
и подвижничество».
27*. Преступление, состоящее в оскорблении величества, т. е. оскорбление коронованной
особы: короля, царя и т. п. (лат.).
28*. Покаяние (греч.). См. также С. 293 наст. изд.
29*. О «Кающемся дворянине» см. популярную в свое время статью Н. К. Михайловского
«Разночинцы и кающиеся дворяне» (Поли. собр. соч. СПб., 1907. Т. 2. С. 640-675.).
С. 14.
30*. Цикл лекций «Речи к немецкой нации» Фихте читал в 1807 г. в оккупированном
французами Берлине. В то время, когда среди немцев царило чувство апатии и потери
национального суверенитета, Фихте говорил о необходимости перевоспитания народа, необходимости
привить немцам чувства единства нации, любовь к родине и т. п. (см.: Гулыга А. В. Немецкая
классическая философия. М., 1986. С. 205-206).
31*. Ханаан - доизраильское наименование Палестины, Сирии и Финикии, «земля
обетованная» древних евреев. Моисей, водивший евреев сорок лет по пустыне, умер, доведя их до
границы Ханаана.
РЕЛИГИЯ ЧЕЛОВЕКОБОЖИЯ У Л. ФЕЙЕРБАХА
С. 15.
1*. В небольшой деревне Брукберг в Тюрингии, где Фейербах поселился в 1836 г., он
прожил почти безвыездно в течение двадцати пяти с лишним лет. После того как фарфоровую
фабрику в Брукберге, принадлежавшую его жене, пришлось закрыть, Фейербах с семьей
переселился в Рахенберг, недалеко от Нюрнберга (в 1859 г.). В последние годы жизни он изучал
социалистическую литературу (в частности, «Капитал» К. Маркса), а в 1870 г. вступил в
германскую социал-демократическую партию. Лекции «О сущности религии», - признавался
впоследствии Фейербах, - «были единственным проявлением моей общественной деятельности в
так называемую революционную эпоху» (Фейербах Л. Избранные философские произведения.
М., 1955. С. 491).
2*. Первое издание «Сущности христианства» на рус. языке было осуществлено в 1861 г. в
Лондоне, но это неполное издание не получило широкого распространения в России. В 1906 г.
был издан перевод этой книги В. Д. Ульриха, в 1907 г. - под ред. Я. В. Швырева, в 1908 г. -
под ред. Ю. М. Антоновского. В дальнейшем последний перевод неоднократно переиздавался (в
1926-1955) и по настоящее время считается лучшим. «Мысли о смерти и бессмертии» - самое
раннее произведение Фейербаха, опубликованное им анонимно в 1830 г.
С. 16.
3*. Страшно произнести (лат.).
4*. Слова Кириллова из романа Ф. М. Достоевского «Бесы» (ч. 1, гл. 3, VIII: Поли. собр.
соч. Л., 1974. Т. X. С. 94) Булгаков цитирует не вполне точно.
5*. Ср.: Фейербах Л. Избранные философские произведения. Т. И. С. 498.
С. Н. Булгаков цитирует Фейербаха по его первому Полному собранию сочинений в 10-
ти т., которое вышло в 1846-1866 гг. в издании О. Виганда. Цитаты переведены самим
Булгаковым. В настоящем издании все они сверены с новейшими русскими переводами и соотнесены
с новейшими отечественными изданиями Фейербаха, но, за исключением явных опечаток,
тексты переводов остались в авторской редакции. В ряде случаев перевод Булгакова не вполне
точен; все неточности указаны и исправлены в соответствующих местах комментариев.
С. 17.
6*. См. наст, изд., с. 33.
7*. Об отношении к Л. И. Шестову см.: Булгаков С. Н. Некоторые черты религиозного
мировоззрения Л. И. Шестова // Современные записки. 1939. № 68.
8*. Ин. 20. 24-29.
9*. Ср.: Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 21. С. 281.
455
10*. В 4-й части «Былого и дум» А. И. Герцен пишет: «Месяца два-три спустя (в 1842 г. -
B. С.) проезжал по Новгороду Огарев; он привез мне "Wesen des Christentums" Фейербаха,
прочитав первые страницы, я вспрыгнул от радости. Долой маскарадное платье, долой
косноязычие и иносказания, мы свободные люди, а не рабы Ксанфа, не нужно нам облекать истину в
мифы!» (Герцен А. И. Сочинения. М., 1956. Т. 5. С. 24).
C. 18.
11*. «Религия человечества» О. Конта изложена им в «Системе позитивной политики»
(Т. 1-4. 1851-1854; на рус. яз. не переводилась). Самое краткое и содержательное изложение
ее дает Вл. С. Соловьев в своей статье о Конте, написанной для Энциклопедического словаря
Брокгауза и Ефрона (см.: Собр. соч. СПб., б. г. Т. X. С. 391-396). См. также ниже примеч. 12*
и 47*·
С. 19.
12*. Роль первосвященника новой религии О. Конт сохранил за собой. За поддержкой и
предложениями он обращался к русскому императору Николаю I, великому визирю Решид-
паше и к ордену иезуитов. Переговоры эти не дали результатов и прекратились из-за смерти
«реформатора» в 1857 г.
13*. Эта мысль повторяется у Ф. М. Достоевского неоднократно. Иван Карамазов,
например, говорит: «...надо всего только разрушить в человечестве идею о Боге <...> и человечество
устроится окончательно» [Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. Л., 1976. Т. XV. С. 83). См.:
Кудрявцев Ю. Г. Три круга Достоевского (Событийное. Социальное. Философское.). М., 1979.
С. 94.
14*. В настоящее время приходится констатировать обратное соотношение: в 1926 г. в нашей
стране были изданы «Сочинения» Л. Фейербаха в 3-х т., в 1952 г. - «Избранные философские
произведения» в 2-х т., в 1967 г. - «История философии. Собрание произведений в трех томах»;
издавались и отдельные сочинения Л. Фейербаха. Что касается О. Конта, то ему в последующие
десятилетия XX века в России «повезло» гораздо меньше, чем Фейербаху: последний раз он
издавался у нас в 1912 г. Таким образом, в 1997 г. можно будет отметить своеобразный
юбилей: исполнится 85 лет с тех пор, как сочинения Огюста Конта не издаются в России.
15*. В письме к Ф. Энгельсу от 7 июля 1866 г. К. Маркс писал: «Я мимоходом изучаю
теперь Конта, потому что англичане и французы так много кричат о нем. Их подкупает в нем
энциклопедичность, синтез. Но по сравнению с Гегелем это нечто жалкое (хотя Конт
превосходит его в качестве специалиста - математика и физика, т. е. превосходит в деталях, ибо в
целом Гегель бесконечно выше даже здесь). И этот дрянной позитивизм появился в 1832 году!»
(Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 33. С. 138). Этот «пинок» впоследствии был
отчасти смягчен, а отчасти даже и возвращен «автору» ближайшим его другом и сподвижником:
«Все свои гениальные идеи, - писал Ф. Энгельс в 1895 г., - Конт заимствовал у Сен-Симона,
но, группируя их по своему собственному разумению, он изуродовал их: сорвав свойственный
им мистицизм, он в то же время опошлил их, переработал их на свой собственный
филистерский лад» (Там же. Т. 39. С. 327). Нетрудно заметить, что оба эти высказывания
основоположников «научного коммунизма» находятся, по крайней мере, в частичном противоречии друг с
другом, - вероятно, по этой причине в советских («критических», разумеется) исследованиях,
посвященных О. Конту, они, как правило, одновременно не цитировались.
С. 20.
16*. Ср.: Фейербах Л. Избранные философские произведения. Т. I. С. 136.
17*. Ср.: Там же. С. 108.
18*. В своем «возражении» Ф. Эшельс писал: «Совершенно неверным является
утверждение Фейербаха, что «периоды человечества отличаются один от другого лишь переменами в
религии». Великие исторические перевороты сопровождались переменами в религии, лишь
поскольку речь идет о трех доныне существовавших мировых религиях: буддизме, христианстве,
исламе» (Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 21. С. 294).
19*. Ср.: Фейербах Л. Избранные философские произведения. Т. I. С. 265.
20*. «Религия коренится в существенном отличии человека от животного: у животного
нет религии» (Там же. Т. 2. С. 30).
21*. Ср.: Там же. Т. 2. С. 31.
С. 21.
22*. Ср.: Там же. Т. 2. С. 40. Последняя фраза переведена здесь следующим образом:
«Зачем же ты создаешь помимо этой сущности еще новое предметное существо, вне твоего
чувства?».
456
23*. Слово «Wesen» имеет два главных эквивалента в рус. языке: «сущность» и «существо».
В современных русских переводах чаще употребляется «сущность», Булгаков предпочитает
переводить «Wesen» как «существо». В ряде случаев такой перевод приходится признать
неточным (иногда это приводит к чрезмерной онтологизации тех или иных утверждений
Фейербаха), что и оговаривается каждый раз в комментариях.
24*. Здесь, конечно, требуется замена слова «существо» словом «сущность»; кроме того, и
вся фраза как бы вывернута наизнанку. Ср. совр. перевод: «Собственная сущность человека
есть его абсолютная сущность, его бог...» (Фейербах Л. Избранные философские
произведения. Т. II. С. 34).
25*. Ср.: Фейербах Л. История философии. М., 1967. Т. I. С. 44.
26*. Ср.: Фейербах Л. Избранные философские произведения. Т. II. С. 42.
27*. Ср.: Там же. С. 43.
28*. Ср.: Там же. С. 64.
29*. Ср.: Там же. С. 47-48.
С. 22.
30*. Ср.: Там же. С. 75.
31*. Ср.: Там же. С. 404.
32*. Ср.: Там же. С. 137.
33*. Ср.: Там же. С. 219; Булгаков указал страницу неправильно.
34*. Ср.: Там же. С. 308-309.
35*. Ср.: Там же. С. 807.
36*. «Корень религии, - пишет Фейербах в «Сущности религии», - в чувстве зависимости
от природы; упразднение этой зависимости, освобождение от природы составляет цель
религии» (Там же. С. 448).
37*. «...Если я раньше выразил свое учение в формуле: теология есть антропология, то
теперь для полноты я должен прибавить: и физиология» (Лекции о сущности религии: Третья
лекция // Фейербах Л. Избранные философские произведения. Т. И. С. 515.
38*. Ср.: Там же. С. 513-514.
С. 23.
39*. Ср.: Там же. С. 426-427.
40*. Ср.: Там же. С. 515.
41*. Ср.: Там же. С. 590-591.
42*. Идею «человекобога» развивает в романе Ф. М. Достоевского Кириллов
(Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. Л., 1974. Т. X. С. 189). Комментируя это место романа,
B. А. Туниманов отмечает, что идея «человекобога», антропотеизма, обсуждалась в свое время
в кружке Петрашевского, участником которого был и Ф. М. Достоевский. Например, Н. А. Спе-
шнев писал в одном из писем к К. Э. Хоецкому: «...немецкая философия начиная с Фихте
<...> метит лишь в антропотеизм, пока она, достигнув в лице своего последнего знаменосца и
корифея - Фейербаха - своей вершины и называя вещи своими именами, вместе с ним не
восклицает: Homo homini deus est - человек человеку бог» (Там же. Т. XII. С. 222).
C. 24.
43*. Ср.: Фейербах Л. Избранные философские произведения. Т. II С. 185-186.
44*. Ср.: Там же. С. 414.
45*. Ср.: Там же. С. 203.
46*. Ср.: Там же.
С. 25.
47*. Высшее существо (фр.) - бог «позитивной религии», которым объявляется общество
или совокупное человечество и которое должно почитаться каждым отдельным человеком.
48*. Ср.: Фейербах Л. Избранные философские произведения. Т. II. С. 307.
49*. Божественный Цезарь (лат.).
С. 26.
50*. Ср.:: Фейербах Л. Избранные философские произведения. Т. I. С. 111-112.
457
51*. Ср.: Там же. С. 132. В совр. переводе первая фраза выглядит так: «Человек есть
"единое и все" {εν και παν) государства». Разночтение с оригиналом объясняется тем, что
«Предварительные тезисы к реформе философии» С. Н. Булгаков цитирует и переводит по Полному
собр. соч. Л. Фейербаха в 10-ти томах под ред. В. Болина и Ф. Иодля, в котором редакторы в
числе прочих вольных переработок авторского текста произвели замену латинских и греческих
цитат соответствующими немецкими эквивалентами.
52*. Ср.: Там же. С. 110-111.
С. 27.
53*. Ср.: Там же. Т. II. С. 517.
54*. Достоевский Φ. Μ. Поли. собр. соч. Л., 1974. Т. X. С. 94.
55*. Ср.: Фейербах Л. Избранные философские произведения. Т. II. С. 46.
56*. Мф. 5, 48. Этими словами Иисус Христос заканчивает Нагорную проповедь.
57*. Имеется в виду знаменитая «формула» из романа Φ. Μ. Достоевского «Идиот»: «Мир
спасет красота» (ч. 3, V). Слова эти иногда приписывают непосредственно Достоевскому, что не
совсем правомерно, если не забывать о «полифонической» природе художественного творчества
писателя. К тому же и в романе авторство этой формулы устанавливается довольно сложным и
опосредованным путем. «Правда, князь, - спрашивает Ипполит Терентьев, - что вы раз
говорили, что мир спасет "красота"? Господа... князь утверждает, что мир спасет красота! А я
утверждаю, что у него оттого такие игривые мысли, что он теперь влюблен... Какая красота
спасет мир? Мне это Коля Иволгин пересказал...» {Достоевский Φ. Μ. Поли. собр. соч. Л., 1973.
Т. VIII. С. 317). В романе «Братья Карамазовы» Митя Карамазов говорит: «Красота - это
страшная и ужасная вещь! Страшная потому, что неопределима, а определить нельзя, потому
что Бог загадал одни загадки. Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут»
{Достоевский Ф. М. Указ. изд. Т. XIV. С. 100). Подробнее о красоте у Φ. Μ. Достоевского см.:
Кашина Н. В. Эстетика Ф. М. Достоевского. М., 1975. С. 168-178).
С. 28.
58*. Ср.: Фейербах Л. Избранные философские произведения. Т. I. С. 190.
59*. Ср.: Там же. С. 203.
60*. Ср.: Там же. Т. И. С. 192.
61*. Ср.: Там же. С. 192.
62*. Ср.: Там же. С. 192.
63*. Ср.: Там же. С. 31.
64*. Ср.: Там же. С. 191-192. В совр. переводе начало цитаты звучит так: «Другой есть
моя объектированная совесть...».
С. 29.
65*. Ср.: Там же. С. 188-189.
66*. Ср.: Там же. С. 190-191.
С. 30.
67*. Здесь: потусторонний мир {нем.).
68*. Ср.: Фейербах Л. Избранные философские произведения. Т. И. С. 804-805.
69*. От греч. SavaSoç - смерть. Смерть - одна из важнейших тем философии начиная с
античности. «Истинные философы, - по словам Платона, - много думают о смерти, и никто на
свете не боится ее меньше, чем эти люди» (Федон 67е // Платон. Сочинения. М., 1970. Т. 2.
С. 26). С. Н. Булгаков незадолго до кончины написал одно из самых проникновенных своих
произведений, в котором подвел итоги своим размышлениям о жизни и смерти, - «Софиоло-
гию смерти». «Человек, - пишет здесь Булгаков, - и в нем все творение, есть нетварно-тварная
София, сотворенное божество, тварный бог по благодати. Ему дана Богом жизнь, однако Им не
дана смерть - "смерти Бог не сотворил" (Прем. Сол. I, 13), но лишь попустил. Смерть вошла в
мир путем греха, который разрушил устойчивость человеческого существования, и как бы
отделила в нем нетварное от тварного» (Вестник РХД. 1978. № 127. С. 18).
С. 31.
70*. Ср.: Фейербах Л. Избранные философские произведения. Т. II. С. 801.
71*. См.: Мечников И. И. Этюды оптимизма. М., 1903 (переиздание: М., 1987), особенно
помещенные здесь очерки «О старости», «О естественной смерти», «Следует ли пытаться прод-
458
лить жизнь человека». См. также его книгу «Этюды о природе человека» (с 1903 по 1908 г.
вышло три ее издания).
72*. См. примеч. 67*.
73*. Ср.: Фейербах Л. Избранные философские произведения. 1955. Т. II. С. 800-801.
74*. «Единственный и его собственность» (нем.). Последнее издание на рус. языке.
Харьков, 1994. См. также примеч. 87*.
С. 32.
75*. В себе и для себя (нем.).
С. 33.
76*. Верховное существо (φρ.).
77*. «Я основал мое дело на Ничто» (нем.) - слова, которыми М. Штирнер начинает и
заканчивает свою книгу. Это выражение он заимствовал из стихотворения Гете «Vanitas!
Vanitatum vanitas!»: «Я сделал ставку на ничто...» (Гете И. В. Собр. соч. М., 1975. Т. I.
С. 273), который, в свою очередь, повторил начало изречения из собрания Михаэля Неандера
(1585). В современном издании эта фраза переведена неправильно: «Все в мире для меня
ничто» (Фейербах Л. Избранные философские произведения. Т. И. С. 406).
78*. См.: Фейербах Л. Избранные философские произведения. Т. II. С. 406-407.
С. 34.
79*. Ср.: Там же. С. 409.
80*. Ср.: Там же. С. 410-411.
81*. Ср.: Там же. С. 413.
82*. Ср.: Там же. С. 407.
83*. Посюстороннее, этот свет (нем.).
С. 35.
84*. Не существует никакого права помимо меня (нем.).
85*. «...Все позволено... ибо коли Бога бесконечного нет, то и нет никакой добродетели, да
и не надобно ее тогда вовсе» (Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы. Ч. 4. Кн. II. Гл. VIII //
Поли. собр. соч. Л., 1976. Т. XV. С. 67). Вторая цитата приведена не совсем точно; у
Достоевского: «Где стану я, там сейчас же будет первое место» (Там же. С. 84).
Достоевский, возможно, «никогда не знал» Штирнера, хотя на этот счет существует и
другая точка зрения. Например, Г. А. Покровский пишет: «Из иностранных влияний на
Достоевского следует отметить еще философию Макса Штирнера, с которой он познакомился еще до
каторги и которая... находит свое несомненное отражение в его творчестве» (Покровский Г. А.
Мученик богоискательства (Ф. Достоевский и религия). Изд-во «Атеист», б/м, б. г. С. 10).
Далее Покровский приводит яркую цитату из Штирнера, в которой он с полным основанием
усматривает «явную параллель между эгоистом Штирнера и Раскрльниковым Достоевского» (Там
же. С. 26). Поскольку эта цитата пропущена С. Н. Булгаковым; приводим ее целиком:
«Я вывожу всякое право и всякое полномочие из себя; я имею право на все, что в моей
власти. Я могу низвергнуть Зевса, Иегову, Бога и т. д., если только могу... Я уполномочен
мною убивать, если сам себе это не запрещаю, если сам не отступаю в страхе перед убийством,
как перед неправым делом... Я сам решаю - вправе я или нет, вне меня нот правды. Что для
меня правильно, то и есть право. Возможно, что для других это не будет правильным,
справедливым; это их забота, а не моя; они могут защищаться. Будь что-либо несправедливо для
всего мира, а по-моему справедливо, то я бы желал этого, я бы не посмотрел на весь свет. Так
поступает каждый, умеющий ценить себя, каждый, поскольку он эгоист, ибо сила выше права,
и при этом с полным правом».
Что касается Л. Фейербаха, то, судя по цитатам Φ. Μ. Достоевского, он хорошо был
знаком с его философией. В «Дневнике писателя» 1873 г. он вспоминал о Белинском: «Был тоже
один немец, перед которым тогда он < Белинский > очень склонялся, - Фейербах.
(Белинский, не могший всю жизнь научиться ни одному иностранному языку, произносил: Фиербах)»
(Достоевский Φ. Μ. Поли. собр. соч. Л., 1980. Т. XXI. С. 11). Другой источник знакомства
Достоевского с Фейербахом - кружок Петрашевского (см. примеч. 42*). Во всяком случае,
знаменитая формула Ивана Карамазова, несомненно, заимствована из «Сущности
христианства»: «Атеизм считался и до сих пор еще считается отрицанием всех моральных принципов,
всех нравственных основ и связей: если нет бога, нет никакого различия между добром и
злом, добродетелью и пороком·» (Фейербах Л. Избранные философские произведения. Т. II.
С. 238). Стремясь обосновать «автономию» морали, Фейербах отрицает эту формулу и заявляет:
459
«Напротив, вера в бога как в необходимое условие добродетели есть вера в ничтожество
добродетели самой по себе» (Там же).
86*. Ср.: Фейербах Л. Избранные философские произведения. Т. II. С. 546-547.
Последняя фраза (после знака вопроса) переведена Булгаковым не вполне вразумительно. Должно
быть: «Любовь индивидуума к самому себе лишь постольку, поскольку всякая любовь к
предмету, к существу есть косвенно любовь к самому себе, потому что я ведь могу любить лишь то,
что отвечает моему идеалу, моему чувству, моему существу» (Там же. С. 547).
87*. В течение 1906-1910 гг. книга М. Штирнера издавалась в России четыре (!) раза в
разных переводах:
1) Единственный и его собственность / Пер. В. Ульриха. Лейпциг; СПб., 1906 (2-е
изд.: 1922);
2) Единственный и его собственность / Пер. Г. Федера. СПб., 1907 (2-е изд.: М.,
1918);
3) Единственный и его собственность. Ч. 1-2 / Пер. Б. В. Гиммельфарба и М. А. Гох-
шиллера. СПб., 1907-1909 (переизданием: Харьков, 1994);
4) Единственный и его достояние / Пер. под ред. А. И. СПб., 1910.
С. 36.
88*. Соловьев В. С. Сочинения. М., 1989. Т. 2: Чтения о Богочеловечествве. Философская
публицистика. С. 618. См. примеч. 25* к статье «От автора».
89*. Ср.: Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 1. С. 593-594. «Игра слов»,
отмеченная Булгаковым, в совр. переводе звучит так: «безбожие» - «богопреисполненность».
С. 37.
90*. Ср.: Фейербах Л. Избранные философские произведения. Т. II. С. 233.
С. 40.
91*. Аргумент от противного (контрарного) суждения (лат.). Если данное суждение
истинно, то контрарное суждение ложно; если же данное суждение ложно, то контрарное суждение
может быть истинным, а может быть и ложным.
92*. Носитель звания, титула (нем.) = «свадебный генерал».
93*. Противоречие в определении (лат.); например, «круглый квадрат».
94*. «...Никакое око не увидело бы солнца, если бы само не пребывало солнцезрачным, и
никогда душа не увидела бы прекрасного, если бы сама не стала прекрасной» (цит. по кн.:
Лосев А. Ф. Античный космос и современная наука. М., 1927. С. 271).
95*. Будь несолнечен наш глаз -
Кто бы солнцем любовался?
Не живи дух божий в нас -
Кто б божественным пленялся?
(Пер. В. А. Жуковского) -
четверостишие, которое Гете приводит во вводной главе к своей книге «Учение о цвете»
(Гете И. В. Собр. соч. М.; Л., 1932. Т. 1. С. 651). Эту мысль Гете повторил в одном из разговоров
с Эккерманом: «...Вне нас не существует ничего, что не существовало бы в нас, и цвет,
который имеется во внешнем мире, имеется также и в нашем глазу» (Эккерман И. П. Разговоры с
Гете в последние годы его жизни. Ереван, 1988. С. 214: 11 февраля 1827 г.).
С. 4L
96*. Познай самого себя (греч.).
С. 42.
97*. Цитата из стихотворения С. Я. Надсона «В толпе (памяти Ф. М. Достоевского) 1881»
(Надсон С. Я. Полное собрание стихотворений. М.: Л., 1962. С. 148). Впервые было
опубликовано в журнале «Русская мысль» (1887. № 5. С. 1) без заглавия и посвящения.
С. 43.
98*. Правильнее: «объективированная совесть»; см. выше примеч. 64*.
99*. В «Философии хозяйства» (М., 1990. С. 13) С. Н. Булгаков назвал Г. Зиммеля
«скептическим импрессионистом философии». Выражение «импрессионизм мысли»
принадлежит Вл. С. Соловьеву, применившему его для характеристики поэзии К. К. Случевского.
«Всякое, даже самое ничтожное впечатление, - писал Вл. С. Соловьев, - сейчас же переходит
у него в размышление, дает отвлеченное умственное отражение и в нем как бы растворяется.
460
.Это свойство... я назвал бы импрессионизмом мысли» (Соловьев В. С. Собр. соч. 2-е изд. СПб.,
б. г. Т. IX. С. 77).
С. 44.
100*. Я - человек, и ничто человеческое мне не чуждо (лат.). Выражение из комедии
римского драматурга Публия Теренция (ок. 195-159 до н. э.) «Самоистязатель» (I, 1, 25).
101*. Вся скорбь людей скопилась надо мною (Гете И. В. Собр. соч. М.; Л., 1947. Т. V.
С. 248).
С. 45.
102*. Наиболее ярко эта истина высказана Ф. М. Достоевским в романе «Братья
Карамазовы»: «...Всякий перед всеми и за все виноват» (Ч. 2. Кн. 6. Гл. II, а). «Ибо все, как океан, все
течет и соприкасается, в одном месте тронешь, в другом конце мира отдается» (Ч. 2. Кн. 6. Гл.
II, ж). (Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. Л., 1976. Т. XIV. С. 262, 290).
103*. Карма - одно из главных понятий индийской философии, обозначающее в самом
широком смысле совокупность всех человеческих поступков и их последствий.
С. 46.
104*. Имеются в виду К. Маркс и Ф. Энгельс. О «скачке» человечества «из царства
необходимости в царство свободы» писал Ф. Энгельс в «Анти-Дюринге» (Маркс К., Энгельс Ф.
Сочинения. 2-е изд. Т. 20. С. 295).
С. 47.
105*. Замена одних слов другими (как правило, грубых и резких - более мягкими).
С. 48.
106*. Духовные вожди (нем.).
С. 49.
107*. Имеются в виду события начавшейся первой русской революции 1905-1907 гг.
Революционные события 1905 г. начались с «кровавого воскресенья» 9 января, достигли
кульминации в дни октябрьской политической стачки, за которой последовал Манифест 17 октября, и
закончились декабрьским вооруженным восстанием. Последнее событие, впрочем, произошло,
видимо, уже после завершения Булгаковым работы над статьей.
С. 50.
108*. Ср. с глубоким наблюдением Романа Гуля: «Подпольщики-большевики, в
октябрьские дни захватившие власть над Россией, в большинстве своем носили псевдонимы:
...Бронштейн -Троцкий, Джугашвили - Сталин, Радомысльский - Зиновьев, Скрябин -
Молотов, Судрабс - Лацис, Баллах - Литвинов, Оболенский - Осинский, Гольдштейн -
Володарский и т. д. По-моему, в этом есть что-то неслучайное и страшное. Тут дело не только в
конспирации при "царизме". Псевдонимы прикрывали полулюдей. Все эти заговорщики-
захватчики были природно лишены естественных человеческих чувств... Жизни псевдонимов
были вовсе не жизнью людей. Их жизнью была исключительно партия. В партии интриги,
склока, борьба, но главное - власть, власть, власть, власть над людьми» (цит. по: Гуль Р.
Ледяной поход; Деникин А. Я. Поход и смерть генерала Корнилова; Барон Будберг А. Дневник.
М., 1990. С. 6). Список «псевдонимов» доложен открывать, конечно, Ульянов-Ленин,
целомудренно замененный в цит. издании многоточием.
КАРЛ МАРКС КАК РЕЛИГИОЗНЫЙ ТИП
С. 52.
1*. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 40. С. 621: письмо Генриха Маркса от
2 марта 1837 г.
2*. Имеются в виду «Личные воспоминания о Карле Марксе» П. Лафарга и «Из
воспоминаний о Марксе» В. Либкнехта (см.: Воспоминания о К. Марксе и Ф. Энгельсе. М., 1983. 4.1).
3*. В предисловии к первому изданию «Капитала» К. Маркс писал: «...если Ф. Лассаль все
вообще теоретические положения своих экономических работ, например об историческом
характере капитала, о связи между производственными отношениями и способом производства и
т. д., заимствовал из моих сочинений почти буквально, вплоть до созданной мною терминоло-
461
гии, и притом без указания источника, то это объясняется, конечно, соображениями
пропаганды» (Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 23. С. 5-6).
Ср. со словами Женни Маркс: «Что касается "лассалевского учения", то оно состояло из
бессовестного плагиата доктрин, разрабатывавшихся Карлом в течение 20 лет, и нескольких
собственных добавлений прямо реакционного характера, из чего получилась весьма
своеобразная смесь правды и вымысла» (Беглый очерк беспокойной жизни // Воспоминания о К. Марксе
и Ф. Энгельсе. М., 1983. Ч. 1. С. 105).
4*. В первом издании «Капитала» в конце XXIII главы к словам «...и против старой
владычицы морей все более и более грозно поднимается исполинская юная республика» (Маркс
К. , Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 23. С. 724) было сделано обширное примечание - под
номером 188а, - которое К. Маркс в последующих изданиях устранил. Приводим из него
обширную выдержку, непосредственно касающуюся А. И. Герцена:
«...В "Liberté", органе Эмиля Жирардена, за 18 марта 1867 г., читаем: "Богатые классы
относительно воспроизведения расы - самые худшие. Действительно, статистика доказывает,
что аристократия вымирает сама собою и что по прошествии немногих столетий даже
королевские расы доходят до кретинизма и наследственной глупости". Если на европейском
континенте влияние капиталистического производства - которое подкапывается под человеческую расу
посредством чрезмерного труда, деления труда, подчинения его машинам, калечения незрелых
и женских организмов, дурной жизни и т.п., - будет развиваться, как это было до сих пор,
рука об руку с конкуренцией en grand на поприще народной солдатчины, государственных
долгов, налогов, изящного ведения войны и т. п., - то все это может наконец сделать
неизбежным обновление Европы посредством кнута и насильственного смешения европейской
крови с калмыцкой, о чем так ревностно пророчествует полурусский и вполне "москвич" Герцен.
Заметим мимоходом, что этот беллетрист сделал свое открытие "русского" коммунизма не в
России, а в сочинении прусского регирунгсрата Гакстгаузена» (Маркс К. Капитал. СПб.: Изд.
Н. П. Полякова, 1872. Т. I. С. 612-613).
С. 53.
5*. «Святое семейство» (совместно с Энгельсом, 1844); «Нищета философии. Ответ на
"Философию нищеты" г-на Пру дона» (1847); «Господин Фогт» (1860).
6*. В этом примечании Маркс характеризует «Опыт о законе народонаселения» Мальтуса
как «ученически-поверхностный и поповски-напыщенный плагиат из Дефо, сэра Джемса
Стюарта, Таунсенда, Франклина, Уоллеса и т. д.» И далее: «...хотя Мальтус - поп высокой
английской церкви, тем не менее он дал монашеский обет безбрачия. <...> Это обстоятельство
выгодно отличает Мальтуса от других протестантских попов, которые <...> усвоили заповедь
"плодитеся и множитеся" как свою специфически-библейскую миссию в такой мере, что
повсюду поистине в неприличной степени содействуют увеличению населения и в то же время
проповедуют рабочим "принцип народонаселения"» (Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е ивд.
Т. 23. С. 630).
7*. О взаимоотношениях К. Маркса и М. А. Бакунина см.: Дюкло Ж. Бакунин и
Маркс. Тень и свет. М., 1975.
8*. П. В. Анненков, познакомившийся с Марксом весной 1846 г. в Брюсселе, писал о нем:
«Маркс представлял из себя тип человека, сложенного из энергии, воли и несокрушимого
убеждения, - тип, крайне замечательный и по внешности. С густой черной шапкой волос на
голове, с волосистыми руками, в пальто, застегнутом наискось, - он имел, однако же, вид
человека, имеющего право и власть требовать уважения, каким бы ни являлся перед вами и что бы
ни делал. Все его движения были угловаты, но смелы и самонадеянны, все приемы шли
наперекор с принятыми обрядами в людских отношениях, но были горды и как-то презрительны, а
резкий голос, звучавший, как металл, шел удивительно к радикальным приговорам над
лицами и предметами, которые он произносил. Маркс уже и не говорил иначе, как такими
безапелляционными приговорами, над которыми, впрочем, еще царствовала одна, до боли резкая
нота, покрывавшая все, что он говорил. Нота выражала твердое убеждение в своем призвании
управлять умами, законодательствовать над ними и вести их за собой. Предо мной стояла
олицетворенная фигура демократического диктатора, как она могла рисоваться воображению в
часы фантазии» (Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1989. С. 277-278).
Психологическому портрету, нарисованному Анненковым, вполне соответствует одно из
юношеских стихотворений Маркса:
...Я с презрением бросаю перчатку
В широкое лицо мира,
И ничтожный исполин рухнет со стоном,
Но мое пламя не погаснет под его обломками.
Подобно богу, я буду расхаживать,
Победоносно ходить по царству развалин.
462
Каждое мое слово станет огнем и действием,
Моя грудь будет подобна лону творца.
(Цит. по: Ойзерман Т. И. Формирование философии марксизма. М., 1974. С. 42).
Другой русский современник Маркса - А. О. Пржецлавский - рассказывает, что в 1875 г.
в Карлсбаде Маркс будто бы сказал ему: «Мы только разрушители, мы ничего не созидаем, и
когда совершенно уничтожим то, что ныне существует, и что уже присуждено к уничтожению,
то вы, господа философы-филантропы, вольны будете создать что захотите, конечно, если мы
это разрешим».
Пржецлавский, осуществлявший прокурорский надзор за делом С. Г. Нечаева, замечает,
что в этих словах Маркса заключается «буквальная программа нечаевского заговора 1868-1870
года» {Философов А. Д. Разоблачение великой тайны Франкмасонов. М., 1909. С. 88).
9*. Буквально (φρ.).
С. 54.
10*. Это утверждение С. Н. Булгакова не соответствует действительности: критике
М. Штирнера посвящена большая часть «Немецкой идеологии», написанной К. Марксом и
Ф. Энгельсом в 1845-1846 гг., но впервые опубликованной в Советском Союзе в 1932 г.
11*. Достоевский Φ. М. Поли. собр. соч. Л., 1973. Т. V. С. 113.
12*. Э. Маркс-Эвелинг в своих «беглых заметках» «Карл Маркс» пишет следующее:
«Шекспир был нашей домашней Библией, всегда у нас в руках или на устах...» (Воспоминания
о К. Марксе и Ф. Энгельсе. М., 1983. Ч. 1. С. 111).
13*. Шейлок, персонаж пьесы У. Шекспира «Венецианский купец», помянут Марксом в
«Капитале» на с. 297 и 696 (Сочинения. 2-е изд. Т. 23); цитата из «Жизни Тимона Афинского» -
там же. С. 143.
К. Маркс в «Капитале» кроме указанных выше цитирует или упоминает следующие пьесы
Шекспира: «Гамлет», «Король Генрих IV», «Много шума из ничего», «Сон в летнюю ночь». Об
эстетических взглядах и вкусах К. Маркса см. подробнее в кн.: Маркс и Энгельс об искусстве.
М., 1966. Т. 1-2.
С. 55.
14*. Государство будущего (нем.). См. также примеч. 6* к статье «Средневековый идеал и
новейшая культура» и примеч. 52* к статье «Первохристианство и новейший социализм».
15*. Достоевский Φ. Μ. Поли. собр. соч. Л., 1976. Т. XIV. С. 223.
16*. О понятии «практика» у К. Маркса см.: Ярошевский Т. Размышления о практике. По
поводу интерпретации философии К. Маркса. М., 1976.
17*. Последний довод (лат.).
18*. Цитата из «Тезисов о Фейербахе» К. Маркса (Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е
изд. Т. 42. С. 266).
С. 56.
19*. См. примеч. 13* к статье «Религия человекобожия у Л. Фейербаха».
20*. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 19. С. 323.
21*. Имеется в виду диссертация К. Маркса «Различия между натурфилософией
Демокрита и натурфилософией Эпикура», за которую ему была присуждена учения степень доктора
философии (в 1841 г.) (Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведении. М., 1956). О
мировоззрении молодого Маркса и его отношении к философии Гегеля см.: Ойзерман Т. И.
Формирование философии марксизма. М., 1974. С. 62-779; Лапин Н. И. Молодой Маркс. М., 1986.
С. 64-72.
С. 58.
22*. Ср.: Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т, 23. С. 21-22.
23*. Перевод Булгакова неточен; в послесловии ко второму изданию 1-го тома «Капитала»
К. Маркс писал: «У Гегеля диалектика стоит на голове. Надо ее поставить на ноги, чтобы
вскрыть под мистической оболочкой рациональное зерно» (Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-
е изд. Т. 23. С. 22).
С. 59.
24*. Ср.: Там же. Т. 13. С. 7.
463
25*. Ср.: Там же. Т. 23. С. 21.
26*. Ср.: Там же. Т. 13. С. 5.
27*. К. Маркс действительно намеревался после завершения «Капитала» написать
«Диалектику», но из-за недостатка времени этот замысел не был осуществлен. Что касается
других замыслов Маркса, которые перечисляет С. Н. Булгаков, то далеко не все из них можно
отнести к разряду «отдаленных мечтаний». «Наряду с поэтами и романистами, - пишет
П. Лафарг в «Личных воспоминаниях о К. Марксе», - у Маркса было еще одно весьма
примечательное средство для умственного отдыха - математика, к которой он питал особое
пристрастие. Алгебра служила ему даже нравственным утешением: он прибегал к ней в самые
мучительные минуты своей беспокойной жизни. <...> Он написал работу по исчислению
бесконечном алых величин, которая, по отзывам знавших ее математиков, имеет большое значение и
должна быть опубликована в собрании его сочинений. В высшей математике он находил
диалектическое движение в его наиболее логичной и в то же время простейшей форме. Он считал
также, что наука только тогда достигает совершенства, когда ей удается пользоваться
математикой» (Воспоминания о К. Марксе и Ф. Энгельсе. М., 1983. 4.1. С. 144). Подробнее см.:
Маркс К. Математические рукописи. М., 1968. Здесь уместно обратить внимание читателя на
статью Евгения Майбурда «Прометей прикованный, или история болезни» (Из книги «Тайна
стоимости Карла Маркса»), опубликованную в 10-м номере журнала «Даугава» за 1990 г. Автор
с большой тщательностью и даже, можно сказать, "с любовью" собрал из переписки Маркса
все упоминания о его болезнях, от геморроя до карбункулов возле пениса. Пафос статьи
состоит в том, что Маркс, по сути дела, был... лентяй и притворщик, и по этой причине не
закончил «Капитал», оставив после своей смерти ворох сырых и полусырых рукописей. "Чем же
действительно занимался Карл Маркс в последний период своей жизни?" - задается вопросом
Е. Майбурд и, отвечая на него, называет в числе прочих (не очень серьезных) занятий
"математические занятия: какие-то не опубликованные еще исследования по алгебре и анализу -
говорят, дифференциальное исчисление (кто говорит?)" (Указ. соч. С. 54). И далее: "Еще были
какие-то разработки по высшей математике. Труды эти до сих пор, кажется не изданы,
поэтому судить о них можно только косвенно. Так, известно, что... Карл Маркс сделал ряд
открытий в области дифференциального исчисления. От кого это известло, если труды Маркса не
опубликованы? От Энгельса и Лафарга. Откуда такое мнение взялось в кругу лиц, из которых
единственным, кто предположительно разбирался в математике, был Карл Маркс?
...Пусть каждый разбирается сам, но нам почему-то кажется, что Маркс, возможно, не
умел отыскать производную от самой простой функции" (Там же. С. 56-57).
Итак, совершенно очевидно, автор даже не подозревает о существовании «Математических
рукописей» К. Маркса, о том, что они изданы более 20 лет назад и составляют солидный том
объемом около 700 страниц. «Книга "Тайна стоимости Карла Маркса", - сообщает редакция, -
создавалась в 1978-1985 гг.» За семь-то лет можно было ознакомится с библиографией своего
героя! То, что было простительно С. Н. Булгакову, непростительно современному исследователю.
Подобная научная "небрежность" может привести к тому, что в ближайшее время - так
это, увы, наверное, и будет - появится исследование на тему "А не делатель ли он <К. Марко
фальшивых денег?", в котором по всем правилам "ученого незнания" будет доказано, что - да,
делатель.
28*. Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. С. 6-16.
С. 60.
29*. Период «бури и натиска» (нем.).
30*. См. наст, изд., с. 17 и примеч. 9* к ней.
С. 61.
31*. «Немецко-французский ежегодник» (нем.).
32*. По поводу этого утверждения С. Н. Булгакова П. И. Новгородцев полагает, что он
был введен в заблуждение «внешней формой выражений Маркса». «На самом деле, - считает
Новгородцев, - отрицая религию в принципе и на словах, Маркс, однако, всецело усвоил ту
религию общественности, которую проповедовал Фейербах, правда «без пасторского
благочестия и внутренней проникновенности» своего учителя, но еще с большей верой в безусловное
значение общественного начала. Употребляя собственное выражение Маркса, он хотел, чтобы
человек вращался около себя, как около собственного своего солнца. В другой статье того же
сборника [Два Града. Т. 1, с. 41. - см. наст, изд., с. 39]. С. Н. Булгаков определяет позицию
марксизма как «антропотеизм», противополагая его более радикальному атеизму Ницше и
Штирнера; этот взгляд более соответствует действительности» (Новгородцев П. И. Об
общественном идеале. М., 1991. С. 146).
Недоразумение возникло здесь, очевидно, из-за противоречивости самого понятия
«атеизм». Если «чистый» (или абсолютный) атеизм возможен, то прав П. И. Новгородцев;
464
если невозможен - прав Булгаков. Начало наст, статьи позволяет утверждать, что
С. Н. Булгаков возможность такого атеизма исключал и, следовательно, со своей внутренней
точки зрения совершенно прав: Маркс «стремился к полному и окончательному упразднению
религии», другое дело, что он этой цели не достиг.
33*. Вопрос чести (φρ.).
С. 62.
34*. Ср.: Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 1. С. 414-415.
35*. Применительно к данному человеку (лат.).
36*. Ср.: Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 1. С. 422.
37*. Ср.: Там же. С. 428-429.
С. 63.
38*. Ср.: Там же. С. 593-594
39*. Ср.: Там же. С. 387-389, 397.
40*. Родовое существо (нем.). «Сознание в самом строгом смысле имеется лишь там, -
писал Л. Фейербах,- где субъект способен понять свой род, свою сущность». (Избранные
философские произведения. Т. И. С. 30).
С. 64.
41*. Ср.: Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 1. С. 406. Forces propres (лат.) -
собственные силы.
С. 65.
42*. Ср.: Там же. Т. 1. С. 407-411.
43*. Письма Ф. Лассаля к С. Солнцевой опубликованы в воспоминаниях последней в
«Вестнике Европы». 1887. Кн. 11.
44*. Барышничество, торгашество (нем.).
45*. Имеется в ьиду статья Вл. С. Соловьева «Еврейство и христианский вопрос» (1884),
которая начинается словами: «Взаимные отношения иудейства и христианства в течение
многих веков их совместной жизни представляют одно замечательное обстоятельство. Иудеи
всегда смотрели на христианство и поступали относительно него согласно предписаниям своей
религии, по своей вере и по своему закону. Иудеи всегда относились к нам по-иудейски; мы
же, христиане, напротив, доселе не научились относиться к иудейству по-христиански»
(Соловьев В. С. Сочинения. М., 1989. Т. 1: Философская публицистика. С. 206). «Говорят о
еврейском вопросе, - пишет далее Вл. С. Соловьев, - но, в сущности, все дело сводится к
одному факту, вызывающему вопрос не о еврействе, а о самом христианском мире. Этот факт
может быть выражен и объяснен в немногих словах. Главный интерес в современной Европе -
это деньги; евреи - мастера денежного дела, естественно, что они господа в современной
Европе. После многовекового антагонизма христианский мир и иудейство сошлись наконец в одном
общем интересе, в одной общей страсти к деньгам. Но и тут между ними оказалось важное
различие в пользу иудейства и к стыду мнимо христианской Европы, различие, в силу
которого деньги освобождают и возвеличивают иудеев, а нас связывают и унижают. Дело в том, что
евреи привязаны к деньгам вовсе не ради одной их материальной пользы, а потому, что
находят в них ныне главное орудие для творчества и славы Израиля, т. е., по их воззрению, для
торжества - дела Божия на земле. Ведь кроме страсти к деньгам у евреев есть и другая еще
особенность: крепкое единство всех их во имя общей веры и общего закона. Только благодаря
этому и деньги идут им впрок: когда богатеет и возвеличивается какой-нибудь иудей -
богатеет и возвеличивается все иудейство, весь дом Израилев. Между тем просвещенная Европа
возлюбила деньги не как средство для какой-нибудь общей высокой цели, а единственно ради тех
материальных благ, которые доставляются деньгами каждому их обладателю в отдельности»
(Там же. С. 207-208).
Подробнее об отношении С. Н. Булгакова к еврейскому вопросу см. его брошюру «
Христианство и еврейский вопрос» (Париж, 1991).
46*. Имеется в виду «Критика Готской программы» К. Маркса (Маркс К., Энгельс Ф.
Сочинения. 2-е изд. Т. 19).
С. 66.
47*. В состоянии зарождения (лат.).
465
С. 67.
48*. Ср.: Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 23. С. 89.
49*. Ср.: Там же. С. 90.
50*. Ср.: Там же. С. 383.
С. 68.
51*. В первом издании: «фирмой»; вероятно, опечатка или случайная описка
С. Н. Булгакова.
С. 69.
52*. До крайности, беспощадно (φρ.).
53*. Имеется в виду «Краткая повесть об антихристе» в «Трех разговорах» Вл. С. Соловьева
(Сочинения. М., 1988. Т. 2. С. 736-761). «Окончательным решением социального вопроса», -
«по антихристу», - является «установление во всем человечестве самого основного равенства -
равенства всеобщей сытости» (Указ. соч. С. 747). С. Н. Булгаков опирается здесь на понятие
социализма, которое Вл. С. Соловьев развивает и в ряде других своих произведений. Наиболее
близко к «антихристову» определение социализма, данное им в «первой речи в память
Достоевского»: «Европейские социалисты требуют насильственного низведения всех к одному чисто
материальному уровню сытых и самодовольных рабочих...» (Там же. С. 300).
54*. Слова молитвы Господней: Мф. 6, 10.
О СОЦИАЛЬНОМ МОРАЛИЗМЕ
С. 71.
1*. Имеется в виду кн.: Яковенко В. И. Карлейль, его жизнь и литературная деятельность.
СПб., 1891.
2*. Книга вышла под названием «Прежде и теперь» (М., 1906). См. также: Карлейль Т.
Теперь и прежде. М., 1994.
3*. Отец Т. Карлейля был каменотесом: что касается «бедности» - то это вообще понятие
относительное: Джеймс Карлейль имел свой собственный двухэтажный дом (который он
построил сам) нижний этаж он сдавал пекарю, а половину верхнего занимал его брат.
«Каменотес» имел «некоторые познания в математике и даже отменный почерк» (Саймоне
Дж. Карлейль. М., 1981. С. 36).
С. 72.
4*. Русский переводчик сочинений Т. Карлейля Н. Горбов писал по этому поводу: «Язык
Карлейля - трудный, капризный, неправильный язык... При переводе предстояло сделать
выбор: или передать мысли Карлейля своими словами, но зато правильно по-русски, или
перевести близко к подлиннику, но разделить участь Карлейля, которого обвиняли в том, что он
пишет "не английским и непонятным языком". Переводчик избрал последнее» (Карлейль Т.
Речь, произнесенная при вступлении в должность лорда ректора Эдинбургского университета,
2 апреля 1866 г. М., 1902. С. 4-5).
5*. Влияние Карлейля было преобладающим в течение всей Викторианской эпохи (англ.).
«Викторианская эпоха» - период правления в Англии королевы Виктории (с 1837 по 1901 г.),
т. е. практически две трети XIX в.
С. 73.
6*. Эта речь (в сокращении) напечатана в приложении к книге И. В. Костиковой «Фило-
софско-социологические взгляды Томаса Карлейля» (М., 1983).
7*. Карлейль Т. Французская революция. История. СПб.: Издание В. И. Яковенко. 1907.
С. 74.
8*. Иеремия Бентам развивал этическую теорию, согласно которой в основе морали лежит
понятие «пользы», понимаемой как наибольшее счастье для наибольшего числа людей. Из
этого учения вырос утилитаризм. В 1861 г. вышло эссе Дж. Ст. Милля «Утилитаризм», в
котором помимо внешнего побуждения (как у Бентама) формулируется принцип внутреннего
веления совести. Согласно Миллю, желание индивида быть в хорошем обществе является
основным побуждением счастья и нравственности.
466
9*. Сим победиши! (лат.). В «Житии императора Константина» Евсевия рассказывается о
том, что Константин накануне сражения с Максенцием в 312 г. видел на небе крест с
греческой надписью: «Этим победишь!» Это видение побудило его объявить христианство
государственной религией Рима.
С. 75.
10*. От имени Бафомета, мистического божества, которому поклонялись практиковавшие
церемониальную магию Тамплиеры, возможно заимствовавшие это божество у арабов.
11*. Небесная механика (φρ.).
С. 76.
12*. Черт побери! (нем.).
13*. Мертвая голова (лат.).
14*. Фаларис (2-я пол. VI в. до н. э.) - древнегреческий тиран в Агригенте, отличавшийся
исключительной жестокостью. Сжигал людей в медном быке, издававшем при этом мычание.
По сохранившемуся преданию, первым был сожжен изобретатель «аппарата».
15*. Правильное название книги Л. Н. Толстого - «Так что же нам делать?».
С. 79.
16*. Шекинах, Шехина (арам.: пребывание вблизи) - термин иудейского богословия,
означающий пребывание бога в мире; мистическое присутствие Бога в мире. Подробнее см.:
Булгаков С. Н. Свет Невечерний. М., 1994. С. 121-122; «Раби Шимон». Фрагменты из трактата
«Зогар». М., 1994.
17*. Точнее: «Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря: и там рука Твоя поведет
меня...» (Пс. 138, 9-10).
С. 81.
18*. Добродетель есть откровение, героизм есть свет, совесть - философия, а самая
краткая формула этого морального мистицизма, согласно Карлейлю, гласит, что Бог есть тайна, и
идеал - ее единственное имя (φρ.).
19*. Просто, бес стеснения (φρ.).
С. 82.
20*. См.: Энгельс Ф. Положение Англии. Томас Карлейль «Прошлое и настоящее» //
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 1. С. 589-597.
С. 86.
С. 87.
21*. Критике гегелевской философии посвящены «Логические исследования» А. Тренде-
ленбурга, который вообще считал диалектику Гегеля «громадным заблуждением». Сочинение
Тренделенбурга было переведено на русский язык Ε. Φ. Коршем (1811-1897) и издано в
Москве в 1868 г. в двух частях. Подробнее о Тренделенбурге см.: Малинин В. А. Диалектика Гегеля
и антигегельянство. М., 1983. С. 203-214.
На основании слов С. Н. Булгакова трудно судить, на чьей стороне он в полемике
Тренделенбурга с Гегелем. Во всяком случае, можно заключить, что ему было неизвестно мнение
высоко чтимого им Φ. Μ. Достоевского о Гегеле, высказанное им в «Записной тетради 1875-1876
гг.»: «Отрицание необходимо, иначе человек так бы и заключился на земл'е, как клоп.
Отрицание земли нужно, чтоб быть бесконечным. Христос, высочайший положительный идеал
человека, нес в себе отрицание земли, ибо повторение его оказалось невозможным. Один Гегель,
немецкий клоп, хотел все примирить на философии и т. п.» (Литературное наследство. М.,
1971. Т. 83: Неизданный Достоевский. С. 404).
22*. Обыгрывается название популярной брошюры Ф. Энгельса «Развитие социализма от
утопии к науке».
23*. Субъективная социология сформировалась в России в 60-70-х гг. XIX в. Согласно
этому учению, «единицей» общественной структуры является личность, социальная
деятельность которой определяется ее целями и субъективными «помыслами». Высшим методом
исследования в субъективной социологии считается оценка социальных фактов и явлений с
точки зрения нравственного идеала. Наиболее крупными представителями этого направления в
России были Н. К. Михайловский и П. Л. Лавров, близок к ним был Н. И. Кареев. О «научном
способе» обоснования социализма в рамках «субъективной социологии» см., например:
Михайловский Н. К. Поли. собр. соч. 4-е изд. СПб, 1909. Т. 4. С. 172.
467
24*. «Критике социологического разума» посвящено немало страниц у Булгакова (по-
видимому, и сам термин принадлежит ему). Для правильного понимания этой критики следует
учесть, что под «социологией» он понимал прежде всего позитивистскую социологию, которая
в конце Х1Х-начале XX в. почти безраздельно господствовала как в России, так и на Западе.
«Если понимать закономерность в смысле однообразия, типичности, в том смысле, как
понимает ее, например, социология, - писал Булгаков в «Философии хозяйства», - то надо прямо
сказать, что история незакономерна, хотя это и не значит, что в ней не действует закон
причинности» (Булгаков С. Я. Философия хозяйства. М., 1912. С. 113). «В основе
социологического детерминизма, - по его мнению, - лежит притязание науки «на безграничную способность
предвидения» (Там же. С. 196). В другом месте он мимоходом иронизирует над безуспешными
попытками «позитивных социологов» «эмпирически обосновать» закон прогресса (Там же. С. 157).
С. 88.
25*. Об «отвлеченных началах» Вл. С. Соловьев писал: «Будучи результатом собственной
работы личного сознания, опираясь на исследование нашего разума, они не могут иметь и не
требуют никакой высшей, сверхчеловеческой санкции. Даже по отвлеченному характеру своего
содержания эти принципы не могут содействовать всем жизненным потребностям цельного
человеческого духа, а по своему происхождению, как общие результаты дискурсивных
процессов, как обусловленные продукты рассудочной деятельности самого человека, они не могут
иметь действительной силы и верховной власти над его сознанием и волей и еще менее - над
субстанциальным чувством и глубокими инстинктами народных масс: а потому эти принципы
являются только как бессильные и бесплотные тени живых идей, не могущие воплотиться в
действительной жизни и ограниченные стенами учебных кабинетов и школ» (Соловьев В. С.
Собр. соч. Б.г. Т. 2. С. 13). «Отвлеченным началам» Вл. С. Соловьев противопоставлял начала
«положительные или субстанциональные», «которые являются для сознания как готовые, уже
данные, существенно независимые от разума, принимаются, следовательно, верой, а не
разумным исследованием, и отношение к ним личного сознания есть первоначально и
преимущественно пассивное» (Там же. С. 12).
С. 89.
26*. Цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Пророк» (1826).
27*. Манчестерская школа политэкономии возникла в 30-х гг. XIX в. в Англии;
возглавляли ее Р. Кобден и Дж. Брайт, возродившие принципы фритредерства (невмешательства
государства в частнопредпринимательскую деятельность) и возглавившие борьбу за их претворение
в жизнь (в 1838 г. они организовали «Лигу борьбы против хлебных законов», пытались
привлечь на свою сторону чартистов). Впоследствии «манчестерцы» образовали левое крыло
либеральной партии Великобритании.
28*. В своей статье «Положение Англии. Томас Карлейль "Прошлое и настоящее"»
Ф. Энгельс писал, что в книге Т. Карлейля «Прошлое и настоящее» по сравнению с его же
«Чартизмом» «несколько сильнее выражена торийская окраска» (Маркс К., Энгельс Ф.
Сочинения. Т. 1. С. 57). Типичным тори считал Т. Карлейля и К. Маркс (см.: Там же. Т. 23. С.
266).
С. 90.
29*. Согласно биллю о парламентской реформе, разработанному вигским правительством
лорда Грея, число избирателей и парламентских представителей от городской и сельской
буржуазии было значительно увеличено; сокращено было число представителей от так
называемых «гнилых местечек». Однако рабочие избирательных прав не получили.
30*. Поводом к волнениям послужил тот факт, что 12 июля 1839 г. палата общин отвергла
петицию о народной хартии. Петиция, в которой содержалось требование о предоставлении
рабочим избирательного права, собрала 1 млн. 280 тыс. подписей и в июне 1839 г. была
торжественно доставлена в парламент.
С. 91.
31*. Место в Австралии, неподалеку от Сиднея, куда прибывали лица, приговоренные
английским судом к ссылке и каторжным работам.
32*. Имеется в виду «Капитал» К. Маркса.
33*. Термин принадлежит Т. Карлейлю и происходит от имени бога богатства у древних
сирийцев - Маммона. В христианстве это имя сохранилось в значении идола богатства. Иисус
Христос учил своих слушателей: «Не можете служить Богу и маммоне» (Мф. 6, 24; Лк. 16, 13).
34*. Быт. 4, 9.
468
С. 92.
35*. «Laisser faire laisser aller» (фр.) - «Пусть делает кто что хочет» - принцип
«невмешательства» экономистов-фритредеров, сторонников свободы торговли и невмешательства
правительства в сферу хозяйственной жизни и экономических отношений. Первоначально принципы
фритредерства были разработаны в трудах французских физиократов, а позднее теоретически
обоснованы А. Смитом и Д. Рикардо. В 30-е гг. XIX в. движение фритредеров усилилось, а
его принципы получили дальнейшее развитие в трудах «манчестерцев» (см. выше примеч. 27*).
36*. См. примеч. 14*.
37*. Гурт и Кедрик (Цедрик) Саксонский - персонажи романа В. Скотта «Айвенго».
С. 94.
38*. См.: Платон. Государство. 457Ь; о «платоновском идеале» см. также статью
С. Н. Булгакова «Основные мотивы философии хозяйства в платонизме и раннем
христианстве» (в кн. : История экономической мысли. М., 1916. Т. 1. В. 3. С. 26-37).
39*. Бму посвяшзда специальная статья С. Н. Булгакова «Социальное мировоззрение Джона
Рёскина», в которой в качестве специфической особенности «Рёскина... Карлейля, Толстого и
других мыслителей этого склада», отмечено «стремление этизировать политическую экономию,
сделать ее наукой не только технической, исследующей специальные вопросы и технику средств,
но и заставить ее принимать во внимание потребности этического сознания. Это стремление к
этизированию политической экономии и вообще социальной науки, если оно не заходит дальше,
чем следует, если оно не приводит к разрушению самых основ науки, бывает только полезным,
потому что действительно политическая экономия по своим задачам и основаниям может быть
наукой этической, как бы прикладной этикой». (Вопросы философии и психологии. 1909. Кн. V
(100). С. 413).
СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ИДЕАЛ И НОВЕЙШАЯ КУЛЬТУРА
С. 95.
1*. За прошедшие с той поры, как была написана статья С. Н. Булгакова, девяносто лет
отечественная медиевистика обогатилась десятком ценнейших исследований, посвященных
различным аспектам западноевропейского средневековья. Назовем лишь некоторые из них:
Карсавин Л. П. Основы средневековой религиозности в ХН-ХШ веках, преимущественно
в Италии. Пг., 1915.
Бицилли П. Элементы средневековой культуры. «Гносис», 1919.
Бахтин М. М. Творчество Ф. Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М.,
1965.
.Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977.
Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. М., 1978.
Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1970; Проблемы средневековой
народной культуры. М., 1981.
Из переводных работ следует отметить, по крайней мере, две:
Хейзинга Й. Осень средневековья. М., 1988.
Броделъ Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм XV-XVIH в. Т. 1-3. М.,
1986-1992.
В 1996 г. в Москве переиздана книга Я. Буркхарта «Культура Италии в эпоху
Возрождения» в новом переводе А. Е. Махова.
С. 96.
2*. «Ибо Господь, Бог твой, есть огнь поядающий, 13ог ревнитель» (Втор. 4, 24). «Вот имя
Господа идет издали, горит гнев Его, и пламя его сильно, уста Его исполнены негодования, и
язык Его, как огнь поядающий...» (Исайя 30, 27). «Потому что Бог наш есть огнь поядающий»
(Евр. 12, 29).
3*. Цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Жил на свете рыцарь бедный...» (1829).
В романе Φ. Μ. Достоевского «Идиот» это стихотворение читает Аглая Епанчина (ч. 2,
VII); там же дается глубокая и оригинальная трактовка образа «бедного рыцаря»: «...в стихах
этих прямо изображен человек, способный иметь идеал, во-вторых, раз поставив себе идеал,
поверить ему, а поверив, слепо отдать ему всю свою жизнь...
469
Поэту хотелось, кажется, совокупить в один чрезвычайный образ все огромное понятие
средневековой рыцарской платонической любви какого-нибудь чистого и высокого рыцаря;
разумеется, все это идеал. В "рыцаре бедном" это чувство дошло уже до последней степени, до
аскетизма; надо признаться, что способность к такому чувству много обозначает и что такие
чувства оставляют на себе черту глубокую и весьма, с одной стороны, похвальную, не говоря
уже о Дон-Кихоте. "Рыцарь бедный" тот же Дон-Кихот, но только серьезный, а не
комический» (ч. 2, VI).
Именно в этой трактовке понимает Булгаков стихотворение А. С. Пушкина.
4*. См. примеч. к эпиграфам.
5*. См. примеч. 38* к статье «О социальном морализме (Т. Карлейль)».
6*. Государство будущего (цен.). «Представление социал-демократии о Zukunftstaat'e», -
писал С. Н. Булгаков, - является «типичнейшим примером утопизма» (Булгаков С. Н.
Душевная драма Герцена. Киев. 1905. С. 10).
С. 97. ▲
7*. «Весь мир лежит во зле» (1 Ин. 5,19).
8*. Букв.: «прекрасное» и «доброе». В классической античной философии «калогатия»
означает «соразмерность» (гармонию) души и тела. Подробнее см.: Лосев А. Ф., Шестаков В. П.
История эстетических категорий. М., 1965. С. 100-110.
С. 98.
9*. Цистерцианцы - члены католического монашеского ордена, основанного в 1098 г.
бенедиктинским монахом Робертом из Шампани в местечке Цистерциум во Франции. В 1125 г.
был основан женский орден цистерцианцев. Группа монахов, признавшая новый устав ордена,
разработанный Бернардом Клервосским, выделилась в отдельный орден бернардинцев.
С. 100.
10*. Точнее: в «Легенде о Великом инквизиторе» из романа Ф. М. Достоевского «Братья
Карамазовы».
11*. Неточная цитата из книги пророка Иеремии: «Проклят, кто дело Господне делает
небрежно, и проклят, кто удерживает меч Его от крови!» (Иер. 47, 10).
12*. Орден премонстрантов был основан во Франции в 1120 г.
13*. Альбигойцы - сторонники еретического течения, распространившегося на юге Фран-*
ции в XII-XVII вв.; альбигойцы отрицали троичность Бога, ад и чистилище, католические
таинства, требовали реформы Церкви. В 1167 г. сформулировали свое учение и организовали
свою церковь. Папа Иннокентий III провозгласил в 1209 г. крестовый поход против
альбигойцев, которые окончательно были истреблены инквизицией в начале XIV в.
С. 101.
14*. Картузианский орден был основан во Франции в 1084 г.
15*. Что угодно повелителю, то имеет силу закона (лат.).
С. 102.
16*. Клерикализация - превращение Церкви и духовенства в руководящую силу общества;
лаицизация - обратный процесс: освобождение государства и общества от влияния религии.
17*. Надпись, появившаяся на стене во время пира царя Валтасара и предвещавшая конец
его царствования: «МБНБ - исчислил Бог царство твое и положил конец ему; ТЕКБЛ - ты
взвешен и найден очень легким; ПЕРЕС - разделено царство твое и отдано Мидянам и
Персам» (Дан. 5, 26-28).
18*. Имеется в виду знаменитый афоризм П. Ж. Прудона: «Собственность есть кража»,
сформулированный им в книге «Что такое собственность. Изыскания о принципе права и
государства» (Париж, 1840; рус. пер.: 2-е изд., М., 1919).
С. 104.
19*. Об античных и средневековых представлениях о природе исторического времени см.:
Лосев А. Ф. Античная философия истории. М., 1977; Барг М. А. Эпохи и идеи. Становление
историзма. М., 1987.
20*. В России похожую мысль впервые сформулировал П. Я. Чаадаев в начале 30-х гг.
прошлого века в «отрывке» «Об архитектуре»: «...Сопоставьте вертикальную линию, характер-
470
ную для этих построек (имеются в виду египетские пирамиды и готические храмы. - В. С. ), с
горизонтальной, лежащей в основе эллинского зодчества, - и вы тем самым вполне определите
все разнообразные архитектурные направления всех времени и всех стран. И эта глубокая
антитеза сразу укажет вам отличительную черту всякой эпохи и всякой страны, где только она
обнаруживается. В греческом стиле, как и во всех более или менее приближающихся к нему,
вы найдете чувство оседлости, домовитости, привязанность к зем'ле и ее утехам; в египетском
и готическом - монументальность, мысль, порыв к небу и его блаженству; греческий стиль со
всеми производными от него оказывается выражением материальных потребностей человека,
вторые два - выражением его нравственных устремлений; другими словами, пирамидальная
архитектура является чем-то освященным, небесным, горизонтальная же - человечным и
земным» (Чаадаев П. Я. Поли. собр. соч. и избр. письма. М., 1990. Т. 1. С. 441).
Близкие чаадаевским взгляды на архитектуру высказывал приблизительно в то же время
Н. В. Гоголь (в статье «Об архитектуре нынешнего столетия» // Гоголь Н. В. Поли. собр. соч.
М., 1958. Т. 8. С. 56-75). Подробнее см.: Кириченко Е. И. Архитектурные теории XIX в. в
России. М., 1986. С. 60-64).
С. 105.
21*. Пиетизм (от лат. pietas - благочестие) - здесь употребляется в общем значении
слова, означающем направление в религии, ставящее религиозное чувство выше религиозных
учений.
22*. «Аугсбургское вероисповедание» - краткое изложение лютеранского вероучения,
выполненное в 1530 г. Ф. Меланхотоном под наблюдением М. Лютера.
С. 106.
23*. 2 Кор. 3, 17.
24*. Все полно богов (греч.) - это утверждение приписывает Фалесу Аристотель («О душе»,
А 5.411а 7). См.: Фрагменты ранних греческих философов. М., 1989. Ч. 1. С. 114.
25*. «Душа православия, - писал С. Н. Булгаков, - есть соборность. По справедливому
замечанию Хомякова, "одно это слово соединяет в себе целое исповедание веры". Русское
церковное словоупотребление и русское богословие употребляют это выражение в таком обширном
смысле, какого оно не имеет в других языках, причем оно выражает собой самую силу и дух
православной церковности. В символе веры член о Церкви переводится так: "во единую святую
соборную и апостольскую Церковь". Здесь словом соборная передается κα9ολικην.
кафолическая. В различном произношении этого греческого слова выражается разница между
православием и католичеством: первые суть кафолики, вторые - католики. Прямое значение слова
соборность, соборный (от слова собор) указывает на связь Церкви с соборами... определяет
Церковь как содержащую учение вселенских и поместных соборов или же, в более обширном
смысле, как имеющую орган своего самоопределения в соборе. Далее, внешнее определение
(непосредственно вовсе и не содержащееся в греческом слове καθολικός, как и во всех его
переводах) включает в себя мысль и о том, что Церковь собирает, включает в себя все народы и
простирается на всю вселенную, и в этом смысле соборность означает и вселенскость... Это
понимание можно определить как количественное; это доселе остается характерным для
римского католицизма.
Однако возможно еще качественное определение соборности, или кафоличности. Это и
соответствует подлинному значению этого понятия в истории философии, именно у Аристотеля,
у которого το κα3ολον означает общее, что существует в частичных явлениях - το καθεκατου.
Это есть (в аристотелевском понимании) платоновская идея, существующая, однако, не над
предметами и, в известном смысле, прежде предметов (как у Платона), но в предметах, как их
основа и истина. В этом смысле кафолическая Церковь означает: сущая в истине, причастная
истине, живущая истинною жизнью Церковь <...> Церковная соборность по отношению к
индивидуальному знанию соответствует тому, что теперь называется подсознанием, а точнее,
должно быть названо свердг-сознанием... Противоположный полюс соборности как духовного
единства составляет стадность как душевно-телесное единство. Противоположным же
полюсом церковного многоединства, в котором личность возводится к высшей действительности,
является коллектив, при котором личность, оставаясь сама в себе, вступает в соглашение с
другими, которое имеет для нее далее принудительный характер, между тем как свободное
единение в любви есть самое существо церковности. В жизни это духовное содержание
облекается известной душевной оболочкой, национальной, исторической. Однако под разными
покровами содержится одна и та же единая жизнь в Духе Св., и в этом именно смысле Церковь по-
всюдна и всевременна, самотождественна и кафолична» (С. Булгаков. Православие. Очерки
учения православной Церкви. М., 1991. С. 145-147, 155-156).
Ср. с точкой зрения П. А. Флоренского: «Слово καθολικός не встречается, собственно, в
тексте Священного Писания, а Церковь названа этим именем впервые у св. Игнатия... В
Священном Писании оно попадается в надписаниях посланий Иакова, Петра, Иоанна, Иуды, како-
471
вым термином характеризуется, что данные послания направлены ко всей Церкви, а не к
отдельной общине... Поэтому καθολικός означает всеобщий, universalis, generalis, das Ganze
betreffend, allgemein и сообразно содержанию слова όλος - целостный, целокупный, имеет
логическое ударение на всецелостности объекта, к которому относится. Кафолический есть все-
единый... Замечательно, что славянские первоучители св. Мефодий и Кирилл перевели -
καθολική чрез "соборная", конечно разумея соборность не в смысле количества голосов, а в
смысле всеобщности бытия, цели и всей духовной жизни, собирающей в себя всех, независимо
от местных, этнографических, исторических и всех прочих особенностей. "Соборный" Символа
веры, или καθολικός, есть нечто подобное тому, что в Кантовой философии называется
"объективный", "сверхиндивидуальный". "Церковь соборною называется потому, что
находится во всей вселенной от концов земли до концов ея, что повсеместно и в полноте преподает все
то учение, которое должны знать люди, учение о вещах видимых и ^невидимых, небесных и
земных, что весь род человеческий приводит к истинной вере, начальников и подчиненных,
ученых и простых людей, и что повсеместно врачует и исцеляет все роды грехов, душою и
телом соделываемых, имеет в себе всякий вид совершенства, являющегося в делах, словах и во
всех духовных дарованиях" [Св. Кирилл Иерусалимский. Огласит, поучения, XVIII, п. 23. С.
424-425].
Кафоличность Церкви яснее всего указуется, и притом во всем ее объеме, в словах Иисуса
Христа: "Где двое или трое собраны во Имя Мое, там Я посреди них" (Мф. 18, 20). Тут не
указано, ни к какой национальности, ни к какой эпохе, ни к какой стране, ни к какому
общественному и прочим нарочитым состояниям должны принадлежать собирающиеся. Нужно одно
только, чтобы они собрались во имя Христово. Этого достаточно, и Он, как сказал, будет среди них.
Весьма понятно, что непризнание кафолического характера Церкви Христовой ведет за
собою тяжкое искажение самого понятия о Церкви и создает особую филетическую ересь,
желающую национальным и прочим человеческим отличиям дать место не служебное, а
главенствующее, вводящую в сферу Божественного человеческое как таковое и своим экскоммуника-
тивным отношением ко всем инородным элементам Церкви вносящую в нее племенные
деления и распри. Византинизм, русизм, болгаризм, грузинизм и проч. - все эти направления
церковной жизни или, лучше сказать, эти болезни, которыми "врата адовы" пытаются поколебать
кафоличность Церкви, конечно, не поколеблют и не одолеют ее твердыни, ибо "твердое
основание Божие стоит, имея печать сию: «познал Господь своих» и: да «отступит от неправды
всякий, исповедующий имя Господа». 2 Тим. 2, 19." Но несомненно, что доселе слишком мало
сознается нелепость и еретичность словосочетаний вроде "византийская церковность" и проч.
Но при действительной кафоличности формы Церкви содержание ее кафолично не в
действительности, а только в возможности. В действительности же для вещества Церкви -
верующих - кафоличность есть такая же задача, как и единство и нравственное совершенство»
(Флоренский П. Понятие Церкви в Священном Писании // Богословские труды. М., 1974.
Сб. 12. С. 128-129).
Подробнее о «соборности» см.: Русская философия: Словарь. М., 1996. С. 452-453.
С. 107.
26*. См.: Соловьев В. С. Сочинения. М., 1988. Т. 1. С. 590.
27*. 2 Езд. 4, 41.
28*. Ин. 14, 2.
29*. «Под отвлеченным началом, - писал Вл. С. Соловьев, - я разумею те частные идеи
(особые стороны и элементы всеединой идеи), которые, будучи отвлекаемы от целого и
утверждаемы в своей исключительности, теряют свой истинный характер и, вступая в противоречие
и борьбу друг с другом, повергают мир человеческий в то состояние умственного разлада, в
котором он доселе находится» (Соловьев В. С. Сочинения. Т. 1. С. 586). См. также примеч. 25*
к статье «О социальном морализме».
30*. См.: Соловьев Вл. С. Идея человечества у Августа Конта (Там же. Т. 2. С. 562-581).
См. также примеч. 11* к статье «Религия человекобожия у Л. Фейербаха».
С. 108.
31*. Калокагатия (от calos - красота и agathos - добрый, хороший) - специфический
термин античной эстетики, который на русский язык можно перевести приблизительно как
«прекрасно-добрый», «прекрасный во всех отношениях». Подробнее см.: Лосев А. Ф., Шеста-
ков В. П. История эстетических категорий. С. 100-110.
32*. «Наивность» в том смысле, какой придал этому понятию Ф. Шиллер в своем трактате
«Наивная и сентиментальная поэзия». «...В наивном, по Шиллеру, мы находим следующие три
существенные черты. Оно есть 1) идея, данная как природа. В ней мы видим 2) превосходство
идеи над внешним выражением. 3) В нас оно вызывает усмешку, соединенную с уважением к
нему и с грустью по поводу нашего собственного несовершенства в сравнении с ним» (Ло-
472
сев А. Φ. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1930. Т. 1. С. 18).
Противоположность античной наивной поэзии, по Шиллеру, представляет собой новая поэзия, которую он
характеризует как чувствительную (или сентиментальную). «Тут всегда двойство предмета и
идеи, и - не обладание их исконным единством, но лишь искание его» (Там же. С. 19).
33*. Левиафан - по библейской преданию, морское чудовище; в одноименном трактате
Т. Гоббса олицетворяет государство: «...искусством создан тот великий Левиафан, который
называется государством (по-латыни civitas) и который является лишь искусственным
человеком...» (Гоббс Т. Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и
гражданского. М., 1936. С. 37). «...Множество людей, объединенных таким образом в одном лице,
называется государством... Таково рождение того великого Левиафана или, вернее (выражаясь
более почтительно), того смертного бога, которому мы под владычеством бессмертного Бога
обязаны своим миром и своей защитой» (Там же. С. 146). «Я обрисовал... природу человека... и
одновременно и огромную власть его властителя, которого я сравнивал с Левиафаном, взяв это
сравнение из последних двух стихов сорок первой книги Иова, где Бог, рисуя великую силу
Левиафана, называет его царем над всеми сынами земными. Нет на земле, говорит Бог,
подобного ему, он сотворен бесстрашным. На все высокое смотрит смело; он царь над всеми
сынами гордости» (Там же. С. 245).
Б'^шая ироническая подборка литературных и исторических (и вместе с ними
псевдолитературных и псевдоисторических) сведений о Левиафане предваряет роман Г. Мелвилла «Моби
Дик, или Белый кит».
С. 109.
34*. От греч. ήδονη - наслаждение; учение в этике, считающее наслаждение высшим
благом, а стремление к наслаждению - принципом поведения. В античной философии принципы
гедонизма пропагандировали киренаики; в эпоху Возрождения - Лоренцо Валла (диалог «О
наслаждении»). С. Н. Булгаков употребляет здесь этот термин в «бытовом» значении.
35*. В «Философии хозяйства» С. Н. Булгаков углубил эту мысль: «В природе научного
знания есть одна основная и неустранимая антиномия: все научное знание только и может
существовать в предположении Истины, но вместе с тем оно же само дробит эту самую Истину
на множество частных, специальных истин, или между собою несовместимых, или же, чаще
всего, просто не имеющих между собою никакого соотношения... Разные науки хотя и
считаются лишь частями одной науки, однако, ввиду необходимости разделения труда и
специализации, фактически ведут вполне самостоятельное и обособленное существование. Возможность
этой столь далеко идущей специализации знания и проистекающая отсюда условность и
относительность научных положений в силу их специального характера - вот проблема, которая
требует философского разъяснения. Иначе здесь открывается слишком широкая возможность
для набегов самого бесшабашного скептицизма, вопрошающего пред лицом этого бесконечного
ряда специальных истин: что есть Истина? и пред лицом длинного ряда наук: что есть Наука?
Оправдание науки - такова одна из важнейших проблем философского наукословия. Слишком
легко и даже соблазнительно отвергать (еще по-базаровски) Науку ради наук и Истину ради
истин» {Булгаков С. Н. Философия хозяйства. М., 1990. С. 129). В последней фразе С. Н.
Булгаков имеет в виду утверждение главного героя романа И. С. Тургенева «Отцы и дети»: «Что
такое наука - наука вообще? Есть науки, как есть ремесла, знания; а наука вообще не
существует» (Тургенев И. С. Собр. соч. М., 1968. Т. 2. С. 334).
«Наука софийна, - утверждает далее Булгаков, - вот ответ, который можно дать
скептическому прагматизму и догматическому позитивизму. Она чужда Истине, ибо она - дитя этого
мира, который находится в состоянии неистинности, но она - и дитя Софии, организующей
силы, ведущей этот мир к Истине, а потому на ней лежит печать истинности, Истины в
процессе, в становлении» (Булгаков С. Н. Указ. соч. С. 146).
36*. «...Философское отношение к знанию, - писал в этой статье С. Н. Булгаков (точнее,
во вступительной лекции в Московском университете к курсу «Критическое исследование
проблем и идеалов политческой экономии»), - и философствование в пределах специальности,
борьба с чрезмерностью специализации, которая неизбежно отразится и на самой успешности
работы, - вот то стремление, которое следует .вносить в науку во имя идеала университета и
цельного знания» (Булгаков С. Н. Сочинения: В 2-х т. Т. 2: Избранные статьи. М., 1993.
С. 277.
37*. Имеется в виду Слово-Логос, чрез которое все «начало быть, и без Него ничто не
начало быть, что начало быть» (Ин. I, 3).
38*. Ср. со словами Ивана Карамазова из романа Φ. Μ. Достоевского «Братья
Карамазовы»: «...церковь должна заключать сама в себе все государство, а не занимать в нем лишь
некоторый угол и... если теперь это почему-нибудь невозможно, то, в сущности вещей,
несомненно должно быть поставлено прямою и главнейшею целию всего дальнейшего развития
христианского общества» (Достоевский Φ. Μ. Поли. собр. соч. Л., 1976. Т. XIV. С. 56-57).
473
С. 110.
39*. «И увидел я новое небо и новую землю; ибо прежнее небо и прежняя земля
миновали...» (Откр. 21, 1).
40*. Понятие «план» или «мировой план» - общее понятие всей рационалистической
философии XVIII-XIX вв. О плане писал И. Г. Гердер в Предисловии к «Идеям к философии
истории человечества» (М., 1977. С. 9). Большую роль играет это понятие и в философии Фихте.
«...Понимание всей совокупности времен, как и всякое философское понимание... предполагает
понятие единства этого времени, понятие наперед определенного, хотя и постепенно
развивающегося заполнения этого времени, в котором каждый член обусловлен предыдущим; или,
выражаясь короче и общепринятым способом, такое понимание предполагает мировой план,
который был бы вполне постижим в своем единстве и из которого можно было бы полностью
вывести главные эпохи человеческой земной жизни и выяснить их происхождение и связь
друг с другом. Этот мировой план есть понятие единства всей земной жизни человечества...»
(Фихте. Основные черты современной эпохи. СПб., 1906. С. 5). Гегель и Шеллинг не
употребляют понятие «план», предпочитая ему традиционный термин «Провидение». См.: Гегель.
Сочинения. М.; Л., 1935. Т. VIII. С. 14-15; Шеллинг. Сочинения. М., 1987. Т. 1. С. 464-465.
НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЕЛИГИОЗНАЯ ЛИЧНОСТЬ
С. 111.
1*. Утилитаризм - этическое учение, согласно которому основой нравственности и
главным критерием человеческих поступков является польза.
2*. Об «экономическом человеке» см. диалог с Ю. Н. Давыдовым «Homo economicus» в
журнале «Диалог». 1990. № 14, а также: Вайзе П. Homo economicus и Homo sociologicus:
монстры социальных наук // THESIS. 1993. Т. I. Вып. 3. С. 115-130.
3*. См. примеч. 27* к статье «О социальном морализме (Т. Карлейль)».
С. 112.
4*. Мысль о том, что марксизм является продолжением «духовной традиции» И. Бентама,
разделяли с Булгаковым если не все, то, по крайней мере, большинство мыслителей
«веховского» направления. А. С. Изгоев, например, писал: «Теперь уже доказано, что идейно
своими наиболее глубокими корнями марксизм связан, с одной стороны, с утилитаризмом
Бентама, с другой - с органическими теориями французской реакционной школы начала XVII
века» (Изгоев А. С. Русское общество и революция. М., 1910. С. 6).
5*. Назидательный жанр западноевропейского театра XV-XVI вв., построенный главным
образом на принципе типизации отдельных человеческих страстей.
6*. Ср.: Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 23. С. 605-608.
С. ИЗ.
7*. Заключительные строки 7-го параграфа XXIV главы 1-го тома «Капитала»
(«Историческая тенденция капиталистического накопления») (Там же. С. 772-773).
8*. .«Труд ремесленников и мануфактуристов решительно ничего не добавляет к стоимости
всего годового сырого продукта земли, - писал А. Смит. - ...Непроизводительный класс, класс
купцов, ремесленников и мануфактуристов содержится и получает занятие за счет двух других
классов: класса землевладельцев и класса земледельцев... Тем не менее непроизводительный
класс не только полезен, но и очень полезен для других двух классов... Благодаря
непроизводительному классу земледельцы избавлены от многих забот, которые отвлекли бы их внимание
от возделывания земли» (Смит А. Исследование о природе и причине богатства народов. М.;
Л., 1935. Т. 2. С. 214-216).
У К. Маркса, который считает такое определение производительного и
непроизводительного труда «совершенно недостаточным для капиталистического процесса производства»,
поскольку, например, и «школьный учитель... является производительным рабочим, коль скоро
он не только обрабатывает детские головы, но и изнуряет себя на работе для обогащения
предпринимателя», тем не менее, отсутствует, как показал это Б. П. Вышеславцев, «идея какого-
либо "одухотворения" труда», поскольку для него «сравнительно сложный труд означает
только возведенный в степень или, скорее, помноженный простой труд...» См.: Маркс К., Энгельс
Ф. Сочинения. 2-е изд .Т. 23. С. 192, 517, 53; Вышеславцев Б. П. Сочинения. М., 1995. С. 201.
9*. Согласно теории народонаселения Мальтуса, население имеет тенденцию расти в
геометрической прогрессии, а средства существования - лишь в арифметической. С помощью это-
474
го «естественного закона» Мальтус объяснял практически все существенные социально-
экономические катаклизмы.
С. 114.
10*. Ермолов А. Народная сельскохозяйственная мудрость в пословицах, поговорках,
приметах. СПб., 1902-1905. Т. 1-4.
С. 115.
11*. Название сочинения Генриха Эйкена указано Булгаковым не совсем точно.
Правильное его название: «История и система средневекового миросозерцания» (Пер. В. Н. Линда.
СПб., 1907). Примеры, заимствованные Булгаковым, - на с. 436-437 этого сочинения.
12*. Трудиться - значит молиться (лат.).
С. 116.
13*. Ключевский В. О. Курс русской истории. Ч. 2. Лекция XXXIV. Цитируется неточно.
С. 117.
14*. См.: Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 61-272.
15*. Ср. соврем, перевод: «Этот народ <англичане> лучше всех народов мира сумел
воспользоваться тремя элементами, имеющими великое значение: религией, торговлей и
свободой» (Монтескье Ш. Избранные произведения. М., 1955. С. 437).
С. 118. ^
16*. Вестминстерское вероисповедание, принятое в 1647 г. так называемым «великим
собранием богословов», лежит в основе пресвитерианства, разновидности кальвинизма, которая
существует в Англии, Шотландии и США.
С. 119.
17*. Вебер М. Избранные произведения. С. 142.
18.* Пиетизм - здесь: антиинтеллектуалистическое течение в лютеранстве, возникшее в
Германии в XVII в. См. также примеч. 21* к статье «Средневековый идеал и новейшая
культура».
19*. Ср.: «Джон Беллерс, истинный феномен в истории политической экономии (Маркс К.,
Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 23. С. 499.
С. 120.
20*. Вебер М. Избранные произведения. С. 184.
21*. Там же. С. 190-191.
22*. «Аскетизм - буржуазная добродетель; таковою он. является особенно до
возникновения собственно крупной промышленности, когда новые капиталы, и в самом деле, нередко
возникают благодаря бережливости» (Бернштейн Эд. Социализм и демократия в Великой
английской революции. М.; Пг., 1924. С. 275).
С. 121.
23*. См.: Мф. 25, 14-28; Лк. 19, 12-26.
24*. «К вящей славе Господней» (лат.) - девиз ордена иезуитов.
25*. Вебер М. Избранные произведения. С. 206.
С. 122.
26*. Понятие «экономизм» играет большую роль в «Философии хозяйства» С. Н.
Булгакова. «Жизнь, - пишет он здесь, - есть процесс прежде всего хозяйственный - такова аксиома...
современного экономизма, получившая самое крайнее и даже заносчивое выражение в
экономическом материализме» (Булгаков С. Н. Философия хозяйства. М., 1990. С. 8). «То или иное
истолкование экономизма, по его мнению, - может явиться лишь на почве целого
философского мировоззрения и в связи с ним, другими словами, философия хозяйства силою вещей
развертывается в философскую систему...» (Там же. С. 256).
С. 123.
27*. В систематическом виде эта мысль развита Н. А. Бердяевым в статье «Философская
истина и интеллигентская правда», опубликованная в сборнике «Вехи» (1909).
475
ХРИСТИАНСТВО И СОЦИАЛЬНЫЙ ВОПРОС
С. 126.
1*. Быт. 3; 19, 17-18.
2*. Имеется в виду «учение о милостыне» Иисуса Христа: «Смотрите, не творите
милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца
вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в
синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают
награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что
делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе
явно» (Мф. 6, 1-4).
С. 127.
3*. Слова молитвы Господней: Мф. 6, 11.
4*. О св. Франциске Ассизском см.: Цветочки святого Франциска Ассизского. М., 1990
(репринт с издания 1913 г.). Эту книгу перевел с латинского и снабдил предисловием
С. Н. Дурылин (1886-1954) - писатель, искусствовед и религиозный мыслитель, близкий к
С. Н. Булгакову в период его работы над книгой «Два Града». Письма С. Н. Булгакова к
С. Н. Дурылину, написанные в период с 1912 по 1916 г., опубликованы в журнале «Вопросы
философии». 1990. № 3 (публикация М. А. Рашковской и Е. Б. Рашковского). В одном из этих
писем - от 23 мая 1913 г. - упоминается о книге «Цветочки Св. Франциска Ассизского»:
«Спасибо Вам за оттиск о св. Франциске, - пишет С. Н. Булгаков С. Н. Дурылину. - Буду
читать "Цветочки" в теперешнем уединении (Булгаков каждое лето проводил в Крыму на станци
Кореиз, в имении своего тестя И. Ф. Токмакова, известного винодела. - В. С), но сомневаюсь,
что напишу, все труднее раскачиваться, особенно на такую трудную тему» (С. 161).
С. 128.
5*. Имеется в виду притча о талантах, рассказанная Иисусом Христом: раб, получивший
от господина пять талантов (мера веса серебра у древних греков; отсюда, между прочим, наше
современное слово «талант»), «пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов; ...
получивший же один талант пошел и закопал его» (Мф. 25, 16-18).
6*. Эту мысль С. Н. Булгаков всесторонне обосновывает в шестой главе «Философии
хозяйства»: «Хозяйство как синтез свободы и необходимости» (Указ. соч., М., 1990. С. 165-190).
7*. Человек есть то, что он ест (нем.). - слова Л. Фейербаха из его критической статьи о
книге Я. Молешотта «Физиология пищевых продуктов».
С. 130.
8*. Относительной «правде социализма» посвящен специальный раздел в брошюре С. Н.
Булгакова «Христианство и социализм» (М., 1917; перепечатана в журнале «Социологические
исследования». 1990. № 4). «...Мы должны, - пишет здесь Булгаков, - не обинуясь, сказать, что
социализм прав в своей критике капитализма, и в этом смысле надо прямо и решительно признать
всю правду социализма». «Однако, - пишет он далее, - можно, признавать правду социализма как
отрицание неправды капитализма... но наряду с этим видеть и его ограниченность и неправду,
которая есть тонкое или грубое воспроизведение ограниченности и неправды капитализма.
Социализм верит вместе с капитализмом, что человеческое общество построяется только на
экономическом интересе, известным образом регулированном, и что иных сил не существует.
Социализм разделяет с капитализмом его неверие в духовную природу человека, и это несмотря на то,
что он же предрекает для него такое радужное будущее. Для социализма общественное
преобразование исчерпывается внешней, прежде всего экономической реформой, и он без всякого
внимания проходит мимо того, что совершается в человеческом сердце. Социализм интересуется
человеком одновременно и слишком много, и слишком мало, сулит ему земной рай и одновременно
его не уважает, не признавая в нем нравственную личность. Прав был Вл. Соловьев, говоривший,
что социализм дает человеку не слишком много, а слишком мало» (Социологические
исследования. 1990. № 4. С. 124-125).
В. С. Соловьев, на которого ссылается здесь Булгаков, писал в «Чтениях о Богочеловечест-
ве»: «...Мы можем свободно говорить о правде социализма. И прежде всего он оправдывается
исторически, как необходимое следствие, как последние слова предшествующего ему западного
исторического развития» (Соловьев В. С. Собр. соч. СПб., б. г. Т. III. С. 3).
Следует отметить, что в 1920 г. С. Н. Булгаков, будучи членом Высшего Церковного
Управления на юге России, составил «проект вероучительного определения о природе
социализма». Позже он вспоминал: «Внешним поводом к его постановке (имеется в виду «вопрос о
природе социализма». - В. С.) явилось настойчивое ходатайство прот. Востокова, домогавшего-
476
ся церковного осуждения («анафемствования») социализма как такового. В своем
предварительном докладе ВЦУ я высказывал, что для такового осуждения социализма вообще как
известной системы экономической и социальной политики нет никакого основания ни в
Евангелии, ни в православном предании. И даже наоборот, здесь мы находим заповедь социальной
любви и справедливости, попечения о трудящихся и обремененных, о чем со всех спросится на
страшном суде Христовом. В социализме же подлежит отрицанию и преодолению не система
социально-экономических идей, но то воинствующее безбожие, с которым он нередко
соединяется, в особенности же теперь в России...
Социализм (во-^ей многозначности этого термина) для христианина имеет лишь
прикладное значение, иными словами, это .есть вопрос не мировоззрения, но лишь практической этики -
практической целесообразности. Цель социализма, понятая как осуществление социальной
справедливости, защиты слабых, борьбы с бедностью, безработицей, эксплуатацией - в такой
степени нравственно самоочевидна, что разногласие может быть только относительно
практической целесообразности или осуществимости тех или иных мероприятий.
...Согласно сказанному, социализм как социально-экономическая доктрина вовсе и не
является вопросом вероучения. Превращать его в таковой означало бы повреждать и само
христианское учение. Насколько он соединяется с богоборством, суждение и осуждение должно
относиться только к последнему. Однако связь эта - фактическая, историческая, но не
внутренняя. Считать же эту связь неразрывною является опасной ошибкой и близорукостью,
потому что это означало бы отдавать дело христианской правды в руки ее врагов. Поэтому и
церковное "анафемствование" социализма и превращение его в «жупел» не только не имеет для
себя никаких оснований, но и явилось бы подлинным религиозным соблазном» (Булгаков
С. Н. Православие и социализм // Социологические исследования. 1990. № 3. С. 110-111).
Все эти рассуждения о социализме С. Н. Булгаков обобщил в прекрасной по своей
выразительности и глубине формуле: «И в социализме, как и по всей линии нашей культуры, идет
борьба Христа и антихриста...» (см. наст. изд. с. 69).
9*. Саваоф - буквально: бог-воитель, имя-эпитет иудейского бога Яхве как «воителя» или
«бога воинств»; в христианстве отождествлен с Богом Отцом.
10*. В нужде - единение, в сомнении - свобода (лат.).
11*. Имеется в виду католическая партия «центра», созданная в Германии католическими
деятелями в канун объединения страны под гегемонией Пруссии. Партия объявила о
самороспуске после прихода к ъ.ТТппти Гитлера.
С. 131.
12*. Здесь: прожиточный минимум (нем.).
13*. «Учение 12 апостолов» (или «Дидахе») - раннехристианское сочинение, не вошедшее в
канон Нового Завета и найденное в 1873 г. в Константинополе. Перевод «Дидахе» на рус. язык
выполнен Л. Н. Толстым (Поли. собр. соч. М., 1937. Т. 25) и М. С. Соловьевым (братом фило
софа); введение к его переводу написано В. С. Соловьевым (см.: Соловьев В. С. Собр. соч. СПб.,
б. г. Т. X. С. 196).
Небольшой отрывок из «Дидахе» помещен в книге: Ранович А. Б. Первоисточники по
истории раннего христианства. Античные критики христианства. М., 1990. С. 197-198. См.
также: Писания мужей апостольских. Рига, 1992.
14*. Последний решающий довод (лат.).
15*. Имеется в виду Иуда Искариот, один из учеников Иисуса, предавший его за 30
сребреников. В данном случае точка зрения С. Н. Булгакова о причинах предательства Иуды
совпадает с мнением Э. Ренана, согласно которому «Иуда, сам того не замечая, мог усвоить себе
узкие взгляды своей должности. По странности, весьма обыкновенной у людей, занимающих
ответственные должности, он, быть может, готов был ставить интересы кассы выше »самого
дела, для которого она существовала» (Ренан Э. Жизнь Иисуса. СПб., 1906. С. 272-273). О
предательстве Иуды Булгаков написал впоследствии специальную статью «Иуда Искариот -
Апостол-предатель» (Путь. 1931. № 26, 27).
16*. Секта ессеев (или эссенов) - иудейская полумонашеская секта II в. до н.э. - I в. н. э.,
возникшая и существовавшая в условиях завоевания Палестины македонянами и римлянами.
Секта насчитывала около 4 тыс. человек. Основной характер секты, по мнению К. Каутского,
«состоит в резко выраженном коммунизме». Для доказательства своего тезиса Каутский
ссылается на Иосифа Флавия, который писал об ессеях следующее: «Они жили все вместе,
организованные в корпорации, гетерии, братства, и все заняты были работами для общины. Никто у
них не имеет собственного имущества, ни дома, ни раба, ни земли, ни стада, ничего вообще,
что приносит богатство. Но, соединяя вместе все свое имущество без различия, они все
пользуются им сообща... Не только пища, но и одежда у них общая... Что принадлежало одному,
то принадлежало всем... Рабство они отрицали».
477
«Основой всей этой коммунистической системы, - заключает К. Каутский, - являлась
общность потребления, а не общественное производство... Это - коммунизм общего
домашнего хозяйства, но он требует отказа от отдельного домашнего хозяйства, от отдельной семьи, а
следовательно, и от индивидуального брака» (Каутский К. Происхождение христианства. М.,
1990. С. 289-291).
17*. В 313 г. византийский император Константин Великий издал эдикт о легализаци
христианской церкви (но при нем еще сохранялись и языческие культы). См. также примеч. 9* к
статье «О социальном морализме (Т. Карлейль)».
С. 132.
18*. Неплюевское братство - правильное название: Крестовоздвиженское православное
Трудовое Братство, основанное Николаем Николаевичем Неплюевым (1851-1907 гг.) в
местечке Ямполь Черниговской губернии в 1881 г. Сам Неплюев происходил из родовитой
дворянской семьи, окончил юридический факультет Петербургского университета, после чего был
командирован в Мюнхен. В результате нравственного переворота, происшедшего в нем,
Неплюев «понял, что от нас, людей образованных и самостоятельных, зависит многое в святом
деле умственного и нравственного преобразования русского народа». Начало Трудовому
братству положила Воздвиженская школа, в которой Неплюев приютил 10 бедных детей.
Впоследствии в состав Братства вошли учителя (одинокие и семейные) и их воспитанники. Все члены
братства пользовались одинаковыми имущественными правами. Официальное торжественное
открытие Братства состоялось 22 июля 1895 г.. Подробнее см.: Митараки П. Г. Доброй
памяти H. H. Неплюева. Одесса, 1911; H. H. Неплюев - «подвижник земли Русской». Сергиев
Посад, 1908; Неплюев Н. Мысли и советы искреннего друга. СПб., 1882.
О «толстовских колониях» см.: Воспоминания крестьян-толстовцев. 1910-1930-е годы. М.,
1989.
С. 133.
19*. Другое название этой секты - «пневматики», или «истинные гностики»; секта была
основана во II в. Карпократом, по имени которого и названа. Карпократиане составляли одно
из самых последовательных коммунистических течений в раннем христианстве. «Божественная
справедливость, - по словам сына Карпократа Бпифана, - все создала для общего пользования
живущих».
20*. Ошибочно, неверно (лат.).
21*. Терапевты (от греч. θεραπεύω - служу, поклоняюсь) - иудейская религиозно-
аскетическая секта в греко-римском Египте, близкая к ессеям. Члены секты осуждали рабство,
отвергали частную собственность, брак, проповедовали равенство и бедность. Единственный
источник сведений о терапевтах - трактат Филона Александрийского «О созерцательной жизни».
С. 135.
22*. О «скачке человечества из царства необходимости в царство свободы» писал
Ф. Энгельс в «Анти-Дюринге» (Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 20. С. 295).
Булгаков неоднократно иронизировал в своих сочинениях по поводу этого «скачка» (или «прыжка»,
как он предпочитает переводить). «...С учением о научности социализма, - писал
С. Н. Булгаков в «Философии хозяйства», - может связываться и такое представление, будто
наукою обосновывается наступление земного рая, идеального состояния жизни отдельных
личностей и общества, приносящего с собой разрешение всех жизненных вопросов и обозначающее
«прыжок-из необходимости к свободе»... В этом смысле социализм имеет, конечно, столько же
общего с научностью, как и картины магометова рая» (Булгаков С. Н. Философия хозяйства.
М., 1990. С. 212).
С. 138.
23*. Смысл, разумное основание (φρ.).
С. 139.
24*. Рим. 14, 17.
С. 140.
25*. Эпизод со смоковницей рассказывается в Евангелии от Матфея: возвращаясь поутру в
Вифанию, Иисус Христос «взалкал». «И увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и,
ничего не нашед на ней, кроме одних листьев, говорит ей: да не будет же впредь от тебя плода
вовек. И смоковница тотчас засохла. Увидевши это, ученики удивились и говорили: как это
тотчас засохла смоковница?
Иисус же сказал им в ответ: истинно говорю вам: если будете иметь веру, и не усомнитесь,
не только сделаете то, что сделано со смоковницею, но если и горе сей скажете: "поднимись и
478
ввергнись в море", - будет; и все, чего ни попросите в молитве с верою, получите» (Мф. 21,
19-22).
О ПЕРВОХРИСТИАНСТВЕ
С. 142.
1*. Деян. Ап. 1, 7.
2*. «...Не плоть и Кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах» (Мф. 16, 17).
3*. Богословская школа в" рамках немецкого либерального протестантизма, названная так
по имени своего основателя Альбрехта Ричля (Ритчля). Критике этой школы посвящена статья
С. Н. Булгакова «Современное арианство» (в сб. его статей «Тихие думы ». М., 1917).
С. 143.
4*. Какие бы мнения на сей счет ни существовали - победу христианства следует отнести
к разряду исторических чудес, о причинах ее мы никогда не узнаем и эта тайна всегда будет
притягивать нас, как и сущность Самого Иисуса Христа (нем.).
5*. Наша проблема - из числа тех, конечные причины которых история не в состоянии
обнаружить (нем.).
С. 145.
6*. Койне - язык, общий для всех греков эллинистически-римского периода; сложился на
основе аттического диалекта и после походов Александра Македонского распространился по
всему восточному Средиземноморью. Характерно, что в современном греческом языке
сохраняется различие между разговорным языком (димотика) и литературным (кефаревуса), хотя в
XX в. между ними наблюдается некоторое сближение.
7*. См.: Рим. 1, 21-27. Далее ап. Павел перечисляет целый «букет» нравственных пороков
и извращений, присущих римлянам «эпохи упадка»: «Как они не заботились иметь Бога в
разуме, то предал их Бог превратному уму - делать непотребства, так что они исполнены всякой
неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей,
обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды,
изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбивы,
непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны
смерти; однако не только их делают, но и делающих одобряют» (Рим. 1, 28-32).
С. 147.
8*. 1 Кор. 2, 4.
9*. Точнее: «некнижные и простые» (Деян. Ап. 4, 13). Апостолам Петру и Иоанну
посвящено исследование С. Н. Булгакова «Святые Петр и Иоанн. Два первоапостола». Paris, YMCA-
Press, 1926.
10*. Помимо четырех канонических евангелий существуют так наз. евангелия
апокрифические. Подробнее см.: Апокрифы древних христиан. М., 1989; Свенцицкая И. С. Раннее
христианство. Страницы истории. М., 1988.
С. 148.
11*. Апологеты - религиозные писатели II—III вв., которые в своих сочинениях,
обращенных главным образом к римским языческим императорам, доказывали лояльность
христианской церкви к властителям и защищали христианство от языческой и иудаистской критики.
Наиболее крупными апологетами были Юстин (Иустин), Татиан, Афинагор, Тертуллиан и др.
12*. Ср. с мнением английского теолога: «Мала, слаба, безнадежна, - презрением,
уничижением и отчаянием убита была Христова церковь в день его смерти. Она состояла из очень
небольшого числа робких последователей, из которых отважнейший с клятвою отрекся от
Господа, и наиболее любимый покинул и убежал в час печали. Уделом их была безвыходная
нищета и лишения без всяких надежд на будущее... Они были так слабы и так незначительны,
что предсказания для них будущности даже самой ничтожной галилейской секты показалось
бы за пристрастие. Каким же образом эти телесные люди восторжествовали над страшным
ослеплением чувственной мифологи, овладели царями и их войсками и учение их прошло из
края в край всю вселенную? Какая власть могла такое крайнее бессилие обратить в
величайшую силу? На это существует один ответ: воскресение из мертвых, которое было причиною
всех этих великих переворотов» (Фаррар Ф. В. Жизнь Иисуса Христа. М., 1901. С. 418-419).
479
С. 149.
13*. Точнее: «О сладчайшем Иисусе и горьких плодах мира» - доклад В. В. Розанова на
заседании Религиозно-философского общества 21 ноября 1907 г. Доклад был полемически
направлен против Д. С. Мережковского, который, по словам Розанова, «думает, что Евангелие
совместимо со сладкою преданностью музам <...> со всем, что так любил человек в своей
многотысячелетней культуре» {Розанов В. В. Религия и культура. М., 1990. Т. 1. С. 580).
С. Н. Булгаков имеет в виду следующие слова Розанова: «Павел в театре - невозможное
зрелище!.. Да, Павел трудился, ел, обонял, ходил, был в материальных условиях жизни: но он глубоко
из них вышел, ибо ничего уже более не любил в них, ничем не любовался» (Там же. С. 561).
Отношения Булгакова и Розанова изучены еще недостаточно. Несомненно, что они имели
точки и взаимного «притяжения», и взаимного «отталкивания». «Из авторов "Вех", - писал
B. В. Розанов, - только двое - Гершензон, Булгаков - не разочаровали меня» (В. В. Розанов.
Уединенно. М., 1990. С. 58).
Несмотря на многолетнюю и довольно интенсивную переписку (хранится в РГАЛИ, ОР
РГБ, часть ее опубликована в «Вестнике РХД». 1979. №148. С. 168-176), Булгаков относился к
Розанову с некоторой настороженностью. Как раз в год издания книги «Два Града» - летом
1911 г. - у Булгакова возникла мысль пригласить В. В. Розанова для участия в «толстовском»
сборнике, который-готовило издательство «Путь». «Конечно, - писал он М. К. Морозовой, - по
многим мотивам это нежелательно, но он даст интересную статью» (ОР РГБ, ф. 171, оп. 1,
ед. хр. 7, л. 4 об.). В ответном письме Морозова, по-видимому, высказалась против Розанова, и
Булгаков писал в свою очередь: «На Розанове я не настаиваю, потому что мне и самому была
сомнительная эта комбинация. Надо было бы ее, во всяком случае, долго обсуждать, прежде
чем принять» (Там же, л. 5 об.).
Тем не менее, С. Н. Булгаков, несомненно, ценил неизменную «антимережковскую»
позицию Розанова, близкую к той, какую он занимал сам. О своей боязни «мережковщины»
Булгаков писал в одном из писем С. Н. Дурылину (см.: Вопросы философии. 1990. № 3. С. 161).
14*. Апостол Павел в Послании к Галатам: «Я сороспялся Христу, и уже не я живу, но
живет во мне Христос» (2, 20).
C. 150.
15*. Эсхатология (от греч. έσχατος - крайний, последний и λόγος - учение) - учение о
конце света, в христианстве - о пришествии Мессии и окончательной победе над силами зла.
16*. Во 2-м послании к Фессалоникийцам ал. Павел писал: «Не спешить колебаться умом
и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже
наступает день Христов... Но слышим, что некоторые из вас поступают бесчинно, ничего не
делают, а суетятся» (2, 2; 3, 11).
17*. Монтанистическая секта основана фригийцем Монтаном в сер. II в. Монтанисты
отвергали церковную иерархию и ожидали скорого второго пришествия, призывали верующих к
отказу от собственности и к умерщвлению плоти (длительными постами). Во главе монтанистических
общин стояли «пророки» и «пророчицы» (Монтан, Теодот, Прискилла и Максимилла).
Сторонником монтанистов под конец жизни стал Тертуллиан. Секта просуществовала до VIII в.
18*. Адвентисты (от лат. adventus - грядущее) - возникшая в первой трети XIX в. на
основе баптизма разновидность протестантизма. В основе их учения - утверждение о
непосредственной близости «второго пришествия» Иисуса Христа. Адвентисты предсказывали точные
сроки этого события дважды - в 1843 и 1844 гг., после чего перешли к учению о повседневном
ожидании верующими конца света.
19*. Анабаптисты, индепенденты (или конгрегационалисты), квинтомонархисты («люди
пятого царства») - протестантские течения, возникшие в XVI в. в Германии, во 2-й половине
XVI в. и в XVII в. - в Англии. Существенной чертой этих течений была вера в близкое второе
пришествие и тысячелетнее царство Христа («пятое царство»).
20*. О пришествии (лат.).
С. 151.
21. Христианские гностики (1-Ш вв.) истолковывали христианство в духе языческой
(неоплатонической) философии: Иисус Христос считался одним из эонов, иудейские элементы
в христианстве резко отрицались. Подробнее см.: Трофимова М. К. Историко-философские
проблемы гностицизма. М., 1979; Апокрифы древних христиан. М., 1989.
С. 152.
22*. «Кто имеет ум, тот сочти число зверя, η6Ό это число человеческое; число его шестьсот
шестьдесят шесть» (Откр. 13, 18). О Нероне как носителе «звериного числа» см.: Энгельс Ф.
Бруно Бауэр и первоначальное христианство. К истории первоначального христианства //
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 19. С. 22. В романе Л. Н. Толстого «Война и мир»
Пьер Безухов обнаруживает «звериное число» в имени Наполеона. Все позднейшие вычисления
480
такого рода не имеют под собой какого-либо реального смысла, кроме, пожалуй, одного, но
зато важнейшего: они выражают крайнюю степень негативного восприятия того или иного
исторического деятеля (как правило, деятеля крупнейшего масштаба) в общественном мнении.
Разумеется, все эти вычисления достигают своей цели, поскольку методика их никоим образом
не задана и никаки^-ч правилами не ограничена. Например, фамилию «Ленин» и число «666»
можно сложить из одинакового количества спичек.
С. 153.
23*. Образ жизни (лат.).
С. 154.
24*. Откр. 22, 20.
С. 155.
25*. Бар-Кохба (букв.' «сын звезды») - почетное имя самаритянина Симона, вождя
антиримского восстания в Иудее (132-135 гг.).
С. 156.
26*. Книга Цельса «Правдивое слово» как самостоятельное литературное произведение не
сохранилась. Почти вся она приводится в цитатах и перифразах в сочинении Оригена «Против
Цельса». Сохранившийся текст трактата Цельса см. в кн.: Ранович А. Б. Первоисточники по
истории раннего христианства. Античные критики* христианства. М., 1990. С. 270-331;
приведенная Булгаковым цитата - на с. 330.
27*. «Каждый оставайся в том звании, в котором призван» (1 Кор. 7, 20).
С. 157.
28*. Пренебрежительное бездействие (лат.).
29*. Солдаты-христиане из двенадцатого (мелитенского) легиона Марка Аврелия во время
войны против квадов (173-174 гг.) своими молитвами вызвали дождь, когда войско
изнемогало от жажды. Об этом событии известно со слов Тертуллиана (Ad Scapulam, IV). См.: Ранович
А. Б. Первоисточники по истории раннего христианства. Античные критики христианства. М.,
1990. С. 174; Каутский К. Происхождение христианства. М., 1990. С. 139.
30*. Третья книга «Пастыря» Эрма («Подобия») цитируется (не совсем точно) в русском
переводе прот, П. Преображенского по изданию: «Писания мужей апостольских». СПб., 1895.
С. 201.
С. 159.
31*. «...Нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба,
свободного, но все и во всем Христос» (Гал. 3, 11).
32*. 1 Тим. 6,5: «... пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждых истины,
которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйтесь от таких».
С. 160.
33*. Цит. по: Писания мужей апостольских. Рига, 1992. С. 347-348.
34*. Ср. современный перевод свящ. В. Асмуса: «Не отвергай нуждающегося, но во всем
будь общник с братом твоим и «ничего» не называй своим. Ибо если вы общники в
бессмертном, то тем более в смертном!» («Ученики двенадцати Апостолов», 4, 8 // Там же. С. 24-25).
35*. В «Подобии втором» третьей книги «Пастыря» Эрма, которое носит название «Как
виноградное дерево поддерживается вязом, так богатому помогает молитва бедного», читаем
следующее: «Бедный благодарит Бога за богатого, дающего ему. Тот и другой делают дело. Так
люди думают, что вяз не дает плода, - не знают они и не понимают того, что во время засухи
вяз, имея в себе влагу, питает виноградную лозу, а виноградная лоза, имея постоянную влагу,
дает двойной плод, и за себя и за вяз. Так и бедные, моля Бога за богатых, бывают услышаны,
и умножают богатства их, а богатые, помогая бедным, ободряют их души. Те и другие
участвуют в добром деле» (Там же. С. 24-1).
36*. См.: Каутский К. Происхождение христианства. М., 1990. «Ввиду... резко выражен-
rioro пролетарского характера христианской общины, — пишет здесь Каутский, — вполне
естественно, что она стремилась к коммунистической организации... Речь идет о первоначальных,
коммунистических тенденциях христианства. У нас нет ни малейшего основания сомневаться в
их существовании... Все возражения, которые приводятся против существования
древнехристианского коммунизма, представляют только ряд недоразумений, отговорок и построений, не
имеющих никакой опоры в действительности.
16 Зак. 487
481
Коммунизм, к которому стремилось ранее христианство, в полном соответствии с
условиями своего времени, был коммунизмом средств потребления, коммунизмом раздела и общего
потребления. Примененный в области сельского хозяйства, этот коммунизм мог также стать
коммунизмом производства, общего и планомерного труда» (Указ. соч. С. 310, 322-323).
С. 161.
37*. Имеется в виду «тюбингенская» (точнее, ново-тюбингенская) школа
либерально-протестантского богословия, представители которого (Д. Штраус на первоначальном этапе своей
деятельности, Ф. X. Бауэр - глава и основатель школы, А. Швеглер, Э. Целлер, Г. Фолькмар
и др.) во второй трети XIX в. выпустили ряд книг по истории первоначального христианства.
«В критическом исследовании, - по словам Ф. Энгельса, - она <тюбингенская школа> заходит
настолько далеко, насколько это возможно для теологической школы... Она вычеркивает из
исторического повествования как непримиримое все чудеса и все противоречия», но из
остального она пытается «спасти то, что еще можно спасти» {Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е
изд. Т. 22. С. 437).
О «ричлианской школе» богословия см. примеч. 3*.
38*. Т. е. в период с 325 по 787 гг., когда состоялись 7 вселенских соборов, признаваемых
таковыми как католической, так и православной церковью. Об идеологической борьбе внутри
христианства в этот период см.: Болотов В. В. Лекции по истории древней церкви. Т. IV:
История церкви в период вселенских соборов. Пг., 1918.
39*. Открыто, явно; в скрытом состоянии, неявно (лат.).
С. 162.
40*. Православный символ веры (устанавливающий триединство бога, признание загробной
жизни, воскресение Иисуса Христа после смерти, исхождение Святого Духа от Бога Отца; в
католичестве и от Бога Сына) был принят на Никейском соборе в 325 г. и дополнен на
Константинопольском соборе в 381 г.
41*. Мф. 28, 19.
42*. Харизма - греческое слово, которое в Новом Завете означает «милость», «дар».
С. 163.
43*. Клир -» совокупность всех служителей церкви; в более узком смысле - причт,
священнослужители и церковнослужители одного церковного прихода. Священнослужителями
называются те, кто «рукоположен»: дьяконы, священники, епископы; к церковнослужителям
причисляются псаломщики, пономари, дьячки, причетники.
44*. Старейшины («пресвитеры») и новообращенные (греч.).
С. 164.
45*. Пневматики - гностический термин, означающий класс людей, в которых имеется
перевес Божественного духа. Два других класса: психики, у которых имеет место смешение
духовного начала жизни с материей, и соматики (или гилики), в которых господствует
материальное начало.
46*. Тайное учение (лат.)
47*. 3 первом издании: «приобщения», что, по-видимому, является опечаткой или
случайной опиской С. Н. Булгакова.
С. 165.
48*. Ср. перевод В. Асмуса: Писания мужей апостольских, Рига, 1992. С. 29-31.
Относительно «благодарения» здесь в примечании сказано: «Вопрос о том, описывается ли в Дидахе
собственно евхаристия или агапа, ей предшествовавшая, - породил большие дискуссии» (Там
же. С. 29).
С. 166.
49*. Там же. С. 74-75. Исправлены неточности, допущенные автором при указании
источника цитаты.
50*. Цитата из X главы Послания св. Игнатия к Ефесянам (Там же. С. 312).
С. 168.
51*. «О смерти Перегрина», 13 (Лукиан. Избранная проза. М., 1991. С. 254).
52*. «Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна»
(Ин. 15, 11).
482
С. 169.
53*. Писания мужей апостольских. Рига, 1992. С. 230-232: «Заповедь десятая», а не
вторая, как ошибочно указывает С. Н. Булгаков.
С. 171.
54*. Там же. С. 329-332.
55*. Ср.: «К мученикам», 2 (Тертуллиан. Избранные сочинения. М., 1994. С. 273-274; пе-
рев. Э. Юнца).
С. 172.
56*. Скрупулезное исследование (нем.).
57*. Ин. 14, 6: «Я есмь путь и истина и жизнь».
С. 173.
58*. Природа, или Бог (лат.).
59*. На вопрос Наполеона, почему он в своей небесной механике не отвел
соответствующего места Богу, Лаплас ответил, что он "не нуждается в этой гипотезе".
С. 174.
60*. Еф. 1, 23.
61*. Переход (лат.)
62*. Мф. 4, 17; цитируется неточно.
С. 175.
63*. В древнеиранской религии - зороастризме - признаются два божественных начала:
добрый бог Ахурамазда (Ормузд) и злой бог Анхра-Майнью (Ариман), которые ведут
непрерывную борьбу друг с другом.
С. 176.
64*. Откр. 22, 20.
65*. Бог из машины (лат.), в переносном смысле - развязка вследствие непредвиденного
обстоятельства.
С. 177.
66*. «Сердце, - по словам П. Д. Юркевича, - есть средоточие душевной и духовной жизни
человека». Подробнее см.: Юркевич П. Д. Сердце и его значение в духовной жизни человека,
по учению слова Божия // Философские произведения. М., 1990. С. 69-103;
Вышеславцев Б. П. Сердце в христианской и индийской мистике // Вопросы философии. 1990. № 4.
С. 62-87.
С. 178.
67*. Евангелие от Фомы, 3 // Апокрифы древних христиан. М., 1989. С. 259; Поэтические,
гностические и апокрифические тексты христианства. Новочеркасск, 1994. С. 111.
ПЕРВОХРИСТИАНСТьО И НОВЕЙШИЙ СОЦИАЛИЗМ
С. 181.
1*. См. примеч. 26* к статье «Народное хозяйство и религиозная личность».
С. 182.
2*. См. эту главу (точнее - заключительный параграф пятой главы) в новейшем издани:
Каутский К. Происхождение христианства. М., 1990. С. 426-439.
С, 183.
3*. «Посмотрите, братия, кто вы призванные: не много из вас мудрых по плоти, не много
сильных, не много благородных» (1 Кор. 1, 26).
4*. «При сборах же для святых поступайте так, как я установил в церквах Галатийских: в
первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему
состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду» (1 Кор. 16, 1—2).
16· 483
С. 184.
5*. Остракизм (от греч. ostraka - черепок) - установленное Клисфеном в Афинах
специальное голосование путем подачи черепков, посредством которого можно было удалить в
десятилетнее изгнание политического деятеля, заподозренного в намерении установить тиранию.
«Каждый человек, взяв черепок (как наиболее дешевый и всем доступный материал для
письма. - В. С.) и написав на нем имя того из граждан, кого хотел изгнать, относил его в одно
место на площади, огороженное кругом перилами. Должностные лица прежде всего
подсчитывали общее количество черепков. Если число писавших оказывалось менее шести тысяч,
остракизм был недействителен. Затем каждое из имен откладывали отдельно, и того, чье имя
написано было большинством, объявляли изгнанным на десять лет, но при этом он сохранял право
пользоваться своим имуществом» {Плутарх. Аристид, 7). Подробнее см.: Аристотель.
Афинская полития. Государственное устройство афинян. М., 1937. С. 33, 107, 188-191.
С. 185.
6*. Букв.: присутствие (греч.); в философии Платона означало присутствие идей в вещах.
7*. В журнальном варианте статьи это примечание находилось в составе основного текста и
заканчивалось словами: «Вообще в настоящее время историко-критическое изучение делает
решительный поворот в сторону церковного предания, так, например, кроме указанного, в
прошлом году проф. Гарнак подобным же образом восстановил в историческом достоинстве
"Деяния Апостолов", значение которых тоже долго и упорно отрицалось критикой».
8*. В этих словах заключается основной пункт полемики Булгакова с марксистской
интерпретацией первохристианства, особенно с тем ее вариантом, который представлен в
«Происхождении христианства» К. Каутского. Последний писал, что все «возражения, которые
приводятся против существования коммунизма в древнехристианской общине... собраны
критиком, который выступил против моего изображения раннего христианства, поскольку я дал
его в своих «Предшественниках социализма».
Этот критик, г-н А. К., доктор теологии, опубликовал свои возражения в статье в «Neue Zeit»
о «так называемом древнехристианском коммунизме» (Каутский К. Происхождение
христианства. М., 1990. С. 314-315). Далее Каутский приводит направленные против него аргументы
«критика А. К.», некоторые из которых (особенно те, где речь идет о секте ессеев и иерусалимской
общине христиан) обнаруживают поразительное сходство с аргументами С. Н. Булгакова. Не
являются ли «критик А. К.» и Булгаков одним и тем же лицом? Ответить на этот вопрос
утвердительно побуждает не только сходство аргументов обоих «критиков», но и еще одно, пожалуй
самое важное, обстоятельство: некоторые свои статьи, опубликованные в издаваемом П. Б. Струве в
Штутгарте журнале «Освобождение» Булгаков подписывал псевдонимом «Ак» (См., например,
Письма из России // Освобождение. 1902. № 3-6; на принадлежность Булгакову псевдонима «АК»
указано в кн.: Bibliographie des oeuvres des Serge Boulgakov. Paris, Institut d'Etudes Slaves. 1984).
Скрыть свое авторство Булгаков счел нужным, вероятно, в силу нескольких причин. Помимо
чисто цензурно-политических сображений, им руководила, видимо, и свойственная ему нелюбовь
к открытой полемике (в указанной выше статье Булгакова в «Освобождении» имеется весьма
резкий выпад против Д. С. Мережковского, чего Булгаков никогда не позволял себе без
«прикрытия» псевдонимом). Кроме того, между Булгаковым и Каутским существовали и личные
отношения, что послужило, надо думать, психологической причиной нежелания Булгакова обнаружить
свое авторство. С Каутским (и А. Бабелем) Булгаков познакомился в 1900 г. в Германии по
рекомендации Г. В. Плеханова. Видимо, Каутский до такой степени был уверен в «марксизме»
Булгакова, что при известии о религиозности своего бывшего соратника он якобы воскликнул: «Und
Boulgakoff ist fromm geworden» (букв.: «И Булгаков облагочестивел!», но сам Булгаков переводит
с максимально допустимой резкостью: «...обыдиотел!» - Булгаков С. Н. Автобиографические
заметки. Париж. 1946. С. 37). Выступив с критикой своего бывшего единомышленника, Булгаков
хотел, видимо, избежать в числе прочих возможных обвинений самого обидного: в ренегатстве.
С. 186.
9*. В результате крестьянской реформы 1861 г. в России установился полукрепостной
аграрный строй. Помещикам принадлежало более половины всего фонда частновладельческих
земель; 1155 земельных магнатов владели огромными латифундиями, составлявшими более
1/5 всего частного земельного фонда. В то же время крестьянские наделы уменьшались (к
1900 г. до 2,6 дес. на муж. душу), вследствие чего крестьянские земли оказались более
выпаханными и истощенными, чем помещичьи; к тому же в деревне сохранялись все пороки
дореформенного крестьянского землепользования - чересполосица и дальноземье, уменьшилось
количество лесов и лугов в наделе. В результате наступил аграрный кризис, сильно
обострившийся в неурожайные - 1889, 1891 и 1892 годы, сопровождавшиеся массовым голодом.
Аграрный кризис Римской империи, действительно, во многом напоминает аналогичный
кризис в России и, если брать шире, экономический процесс, происходивший в Европе в конце
Х1Х-нач. XX вв. Мы замечаем «в Римской империи, - пишет К. Каутский, - экономический
процесс, поражающий своим внешним есходством с современным: гибель мелкого производст-
484
ва, развитие крупного хозяйства и еще более быстрый рост крупного землевладения,
латифундий, экспроприирующего крестьянство и всюду, где оно не может его заменить плантациями
или другого рода крупными предприятиями, превращающего крестьян из свободных
землевладельцев в зависимых арендаторов» (Каутский К. Происхождение христианства. М., 1990. С. 71).
С. 187.
10*. «В старину полагали, что прежде всего надо ограничить размеры имения, считая, что
лучше меньше сеять и лучше пахать... Говоря по правде, латифундии погубили Италию, а
также и провинции: половина Африки принадлежала шестерым владельцам к тому времени,
когда император Нерон казнил этих последних» (Плиний Старший. Естественная история.
XVIII, 35 // Катон. Варон. Колумелла. Плиний. О сельском хозяйстве. М., 1957. С. 271).
11*. «Вывоз рабов, доставлявший очень большие выгоды, наичаще подавал повод к
насилиям; действительно, рабы ловились легко, а обширный богатый рынок для сбыта их
находился на Делосе, который мог ежедневно принимать и отпускать десятки тысяч рабов, благодаря
чему сложилась даже следующая поговорка: "Приставай, купец, и выгружай: все продано".
Причина этого в том обстоятельстве, что по разрушении Карфагена и Коринфа, римляне стали
очень богаты и пользовались большим числом рабов. Ввиду такой легкости сбыта пираты
нападали толпами, производили разбои на море и продавали рабов» (Страбон. География. М.,
1879. С. 683-684 / Пер. Ф. Г. Мищенко: XIV. 5, 2).
12*. Первое сицилийское восстание (1367-132 до н. э.) вспыхнуло в г. Энна под
руководством раба-сирийца Эвна, провозглашенного восставшими царем под именем Антиоха; другим
очагом восстания был. г. Агригент, где движение* возглавил раб-киликиец Клеон. Число
восставших доходило до 200 тыс. Второе сицилийское восстание (104-99 до н.э.) также имело два
центра: в юго-западной части и центре острова его возглавил раб-италик Сальвий,
провозглашенный царем под именем Трифона, в западной части - раб-киликиец Афинион. Оба
восстания были подавлены с большим трудом и привели к страшному опустошению острова.
Под «войной с гладиаторами» Булгаков имеет в виду известное восстание
рабов-гладиаторов под предводительством Спартака (74-71 до н. э.).
Отметим и неточность, допущенную Булгаковым: Публий Рупилий руководил подавлением
и казнью участникоь^первого, а не второго сицилийского восстания.
С. 188.
13*. «"Крестную казнь рабу!" - "Разве он заслужил наказанье? В чем преступленье?
Свидетели кто? Послушай: Если на смерть посылать человека, - нельзя торопиться". - "Что ты,
глупец? Разве раб - человек? Пусть он не преступник - Так я хочу, так велю, вместо довода
будь моя воля!"» Так она мужу велит...» (Ювенал. Сатира VI, 219-224 // М.; Л., 1937. С. 40).
14*. «Сколько рабов, столько врагов» (Сенека Л. А. Нравственные письма к Луцилию.
Письмо XLVII, 5. М., 1977. С. 77). Сам Сенека характеризует эту пословицу как «бесстыдную»
и далее от себя добавляет: «Они (рабы. - В. С.) не враги. Мы сами делаем их врагами... Разве
он, кого ты зовешь своим рабом, не родился от того же семени, не ходит под тем же небом, не
дышит, как ты, не живет, как ты, не умирает, как ты? Равным образом и ты мог бы видеть
его свободнорожденным, а он тебя - рабом» (Там же. С. 77-78).
15*. Раб, или иное животное (лат.). Впрочем, Ульпиан, как и Сенека, считал, что рабство
противоречит природе вещей (естественному праву), но оправдывал его с точки зрения
цивильного и общенародного права.
16*. О казни рабов Педания Секунда рассказывает Тацит в «Анналах». XIV, 42-43 (Тацит К.
Сочинения. Л., 1969. Т. 1. С. 269-271).
17*. «Душевные свойства рабов, - говорил Гай Кассий в сенате, доказывая необходимость
казни 400 рабов убитого Педания Секунда, - внушали подозрения нашим предкам и в те
времена, когда они рождались среди тех же полей и в тех же домах, что и мы сами, и с
младенчества воспитывались в любви к своим господам. Но после того, как мы стали владеть рабами
из множества племен и народов, у которых отличные от наших обычаи, которые поклоняются
иноземным святым или не чтят никаких, этот сброд не обуздать иначе, как устрашением»
(Тацит К. Сочинения. Т. 1. С. 271: Анналы. XIV, 44).
18*. Этот случай рассказывает Сенека Старший в сборнике риторических упражнений
(Seneca Senior). Controversia. Ill, 21).
19*. В эти коллегии (букв.: коллегии слабейших, коллегии меньшой братии) входили люди
разной социальной принадлежности: свободная беднота, вольноотпущенники, рабы.
Неофициально их называли также «погребальными коллегиями», так как в них вступали те, кто не мог
иным образом рассчитывать на приличное погребение. Подробнее см.: Кубланов M. M.
Возникновение христианства. Эпоха. Идеи. Искания. М., 1974. С. 112-113).
485
С. 189.
20*. Слово «пролетариат» употребляется здесь в исконно римском смысле: proletarius -
букв, «человек, имеющий детей»; в переносном смысле - человек, не имеющий ничего, кроме
детей. Римский «пролетариат» - это «столичная чернь, для которой истинная свобода
заключалась в бесплатной раздаче хлеба» (Моммзен Т. История Рима. М., 1941. Т. III. С. 8).
21*. Хлеба и зрелищ! (лат.)
22*. От лат. optimus - наилучший; здесь употребляется в широком смысле: римская
знать.
23*. Булгаков допускает неточность: Нарцисс был вольноотпущенником императора
Клавдия; о нем рассказывает К. Тацит в «Анналах» (XI. 29-31, 33-35, 37, 38; XII, 1, 2, 57, 65, 66;
XIII, 1) и Светоний Транквил в «Жизни двенадцати Цезарей» (Клавдий, 28, 37).
Светоний упоминает также о вольноотпущеннике Палланте, которому Клавдий поручил
заведовать финансами и чей денежный капитал составлял 300 млн. сестерциев. «Выше всех он
ставил Нарцисса, советника по делам прошений, и Палланта, советника по денежным делам, -
рассказывает Светоний об императоре Клавдии. - Этих он с удовольствием позволял сенату
награждать не только большими деньгами, но и званиями квесторского и преторского
достоинства, а сам попускал им такие хищения и грабежи, что однажды, когда он жаловался на
безденежье в казне, ему осторожно было сказано, что у него будет денего вдоволь, стоит ему
войти в долю с двумя вольноотпущенниками» {Светоний Транквилл. Указ. соч. М., 1990. С. 144).
Об этих миллионерах-вольноотпущенниках рассказывает также Аврелий Виктор в
«Извлечениях о жизни и нравах римских императоров» (Вестник древней истории. 1964. № 1). См.
также: Федоров Е. В. Люди императорского Рима. М., 1990. С. 28-29, 131-132.
С. 190.
24*. «Идеалом трудящегося пролетария, - пишет К. Каутский, - точно так же, как и
идеалом бедняка, являлось в то время добиться беззаботного существования за счет богачей,
которые должны выжать необходимое количество продуктов из своих рабов» (Каутский К.
Происхождение христианства. С. 431).
С. 191.
25*. Т. е., на пятидесятый день после Пасхи (воскресения Иисуса Христа), когда апостолы
в результате сошествия^ на них Св. Духа получили пророческий дар для проповеди
христианства (Деян. Ап. 2, 1-18)/
26*. См.: Каутский К. Происхождение христианства. С. 303-307.
27*. «Анания с женою своею Сапфирою, продав имение, утаил из цены, с ведома и жены
своей, а некоторую часть принес и положил к ногам Апостолов. Но Петр сказал: Анания! для
чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены
земли?.. Услышав сии слова, Анания пал бездыханен; и великий страх объял всех,
слышавших это». Так же была изобличена и жена Анании, которая тоже «испустила дух» (Деян. Ап.
5, 1-10).
28*. Здесь, как и в некоторых других случаях, С. Н. Булгаков допускает ряд неточностей
в ссылках на тексты Св. Писания. Эти неточности исправлены и в дальнейшем специально не
оговариваются.
29*. О Прискилле см.: Деян. Ап. 18.2, 18.21; Рим. 16, 3 и 2 Тим. 4, 19. О ней и ее муже
Акиле («сотрудники мои во Христе Иисусе», - называет их ап. Павел - Рим. 16, 3) сообщается
только, что «ремеслом их было делание палаток» (Деян. Ап. 18, 3). Люди «высшего класса» не
занимаются «деланием палаток» и едва ли для этого нужно иметь «выдающееся образование».
30*. «Множество людей всякого возраста, всякого звания и обоих полов» (Письма Плиния
Младшего. М., 1984. С. 205-206). Дале Плиний сообщает Траяиу: «Зараза этого суеверия
<имеется в виду христианство - В. С.> прошла не только по городам, но и по деревням и
поместьям... (Там же. С. 206).
31*. В журнальном варианте статьи к этому месту было сделано примечание: «Каутский
говорит по поводу послания Иакова о "классовой вражде" в первохристианской общине и
притом даже в более резкой форме, нежели в настоящее время. Не говоря уже о том, как мало это
утверждение соответствует его же собственному объяснению происхождения христианства, как
движения пролетарского, достаточно прочитать послание ап. Иакова целиком, а не вырывать
отдельные места из контекста, чтобы убедиться, как далеко отстоит это послание от проповеди
классовой вражды или даже от ее выражения. В этом мы видим один из ярких примеров
крайней тенденциозности в изложении Каутского». Булгаков имеет здесь в виду следующее
утверждение К. Каутского по поводу процитированных последним слов из послания ап. Иакова (1, 9-2, 5-
7): «Вряд ли когда-нибудь классовая вражда принимала такие фанатичные формы, как классовая
вражда христиан-пролетариев» (Каутский К. Происхождение христианства. С. 308).
32*. «Приветствуют вас все святые, - пишет здесь ап. Павел, - а наипаче из Кесарева дома».
486
С. 192.
33*. От греч. diaspora - рассеяние: область расселения древних евреев за пределами
Палестины.
34*. См.: Ин. 21 и Деян. Ап. 1-2.
С. 193.
35*. Этому вопросу посвящена 3-я глава первого отдела: «Борьба за образ Христа»
(Каутский К. Происхождение христианства. С. 49-54). В другом месте Каутский пишет: «Мы уже в
первом отделе показали, что нет никакой возможности утверждать что-нибудь определенное о
предполагаемом основателе христианской общины. Мы можем теперь... прибавить, что и нет
никакой необходимости знать о нем что-нибудь определенное» (С. 306).
36*. См. примеч. 37* к статье «О первохристианстве».
С. 194.
37*. Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. Л., 1974. Т. X. С. 471.
С. 195.
38*. Неточная цитата из послания ап. Павла к Колоссянам (3, 11).
39*. Ср. с утверждением В. И. Ленина: «В классовую борьбу пролетариата, стихийно
развивающуюся на почве капиталистических отношений, социализм вносится идеологами»
(Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 6. С. 363: Письмо «Северному Союзу РСДРП». 1902).
С. 197.
40*. «Всякая душа да будет покорна высшим властям; ибо нет власти не от Бога...»
(Рим. 13, 1). «Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям...» (Тим. 3, 1).
«Каждый оставайся в том звании, в котором призван» (1 Кор. 7, 20). «Рабы, во всем
повинуйтесь господам вашим по плоти,, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в
простоте сердца, боясь Бога» (Колос. 3, 22).
С. 198.
41*. Букв.: «ремесленническим» или «ремесленным». В восьмой книге «Политики»
Аристотель пишет: «Поскольку все занятия делятся на такие, которые приличны для
свободнорожденных людей, и на такие, которые свойственны несвободным, то, очевидно, следует
участвовать лишь в тех полезных занятиях, которые не обратят человека, участвующего в них, в
ремесленника. Ремесленными <банаусическими> же нужно считать такие занятия, такие
искусства и такие предметы обучения, которые делают тело и душу свободнорожденных людей
непригодными для применения добродетели и для связанной с нею деятельности. Оттого мы и
называем ремесленными такие искусства и занятия, которые исполняются за плату: они
лишают людей необходимого досуга и принижают их» (Polit. VIII 2, 1337b 4-15 // Аристотель.
Сочинения. М., 1984. Т. 4. С. 629; Ср.: Лосев А. Ф. История античной эстетики. Аристотель и
поздняя классика. М., 1975. С. 360).
42*. 2 Фес. 3, 10: «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь».
43*. «Теперь, - пишет К. Каутский, - речь идет о первоначальных, коммунистических
тенденциях христианства. У нас нет ни малейшего основания сомневаться в их существовании.
О них говорят свидетельства Нового Завета, пролетарский характер общины, и они же
доказываются сильным коммунистическим течением в пролетарской части иудейства, в последние два
столетия до разрушения Иерусалима, течением, которое нашло себе такое яркое выражение в
ессействе.
Все возражения, которые приводятся против существования древнехристианского
коммунизма (здесь Каутский непосредственно полемизирует с «критиком А. К.», т. е. с Булгаковым;
см. выше примеч. 8*. - В. С), представляют только ряд недоразумений, отговорок и
построений, не имеющих никакой опоры в действительности» (Каутский К. Происхождение
христианства. С. 322-323).
С. 199.
44*. Частичный социализм (нем.).
45*. Вероятно, лорд Асквит Г. Г. (1852-1928), один из лидеров Либеральной партии,
премьер-министр Англии в 1908-1916 гг.
46*. См. примеч. 8* к статье «Христианство и социальный вопрос».
47*. Различие между научным и утопическим социализмом подробно анализируется
Ф. Энгельсом во введении и Ш-м отделе «Анти-Дюринга». В 1880 г. по просьбе П. Лафарга,
487
Энгельс переработал три главы «Анти-Дюринга» в самостоятельную популярную брошюру
«Развитие социализма от утопии к науке».
Об утопических элементах марксизма писали С. Л. Франк в статье «Ересь утопизма»
(«Ересь утопизма можно... определить как искажение христианской идеи спасения мира через
замысел осуществить это спасение принудительной силой закона». - Родник. 1989. № 6.
С. 55), П. И. Новгородцев: «Значительность и глубина пережитых в XIX веке испытаний
заключается... в том, что здесь потерпели крушение не столько отдельные политические
средства, сколько те конечные цели, которые связывались с ними... Потерпели крушение не
временные политические средства, а утопические надежды найти безусловную форму общественного
устройства. Нет такого средства в политике, которое раз и навсегда обеспечило бы людям
неизменное совершенство жизни.
1) Надо отказаться от мысли найти такое разрешительное слово, которое откроет
абсолютную форму жизни и укажет средства осуществления земного рая.
2) Надо отказаться от надежды в близком или отдаленном будущем достигнуть такой
блаженной поры, которая могла бы явиться счастливым эпилогом пережитой ранее драмы,
последней стадией и заключительным периодом истории.
Так можно выразить основные положения современной мысли» (Новгородцев П. И. Об
общественном идеале. М., 1991. С. 33).
Неоднократно с критикой утопических элементов марксизма выступал и С. Н. Булгаков
(см., например, заключительную - девятую - главу его «Философии хозяйства»:
«Экономический материализм как философия хозяйства» (Указ. соч. М., 1990. С. 229-250)).
Из современных авторов отметим М. П. Капустина (Конец утопии? Прошлое и будущее
социализма. М., 1990 и его же статья «Судьба интеллигенции - судьба России» в кн.: Из
глубины. Сб. статей о русской революции. М.: Новости, 1991).
Увенчать эту подборку цитат хочется словами П. Б. Струве: «На русской революции
оправдалась идея одного из величайших умов России, одинокого Чаадаева: «Мы как будто живем
для того, чтобы дать какой-то великий урок человечеству». Мы в нашей социалистической
революции дали такой великий урок: опытное опровержение социализма» (Струве П. Б.
Размышления о русской революции. София, 1922. С. 17).
С. 200.
48*. Эту мысль С. Н. Булгаков также повторяет неоднократно. «Вопрос о возможности
исторического предсказания, столь остро стоящий в марксизме и вообще научном социализме,
был всегда для меня очень тревожным, и одна из главных брешей в марксизме была пробита
для меня именно его осознанной невозможностью». Ср.: Капитализм и земледелие. 1900. Т. II.
С. 457-458: «Маркс считал возможным мерить и предопределять будущее по прошлому и
настоящему, между тем как каждая эпоха приносит новые факты и новые силы исторического
развития, - творчество истории не оскудевает. Поэтому всякий прогноз относительно
будущего, основанный на данных настоящего, неизбежно является ошибочным. Строгий ученый берет
здесь на себя роль пророка или прорицателя, оставляя твердую почву фактов. Поэтому, что
касается предсказаний на будущее, то честное ignoramus <не знаем> мы предпочитаем
социальному знахарству и шарлатанству. Завеса будущего непроницаема. Наше нынешнее солнце
освещает лишь настоящее, бросая косвенный отблеск на прошлое. Этого достаточно для нас,
для нашей жизни, для злоб нашего дня и его интересов, но мы тщетно вперяем свои глаза в
горизонт, за который опускается наше заходящее солнце, зажигая там новую зарю грядущему
неведомому дню». К словам этим, написанным 12 лет назад, теперь я многое имею прибавить,
но ничего не могу убавить» (Булгаков С. Н. Философия хозяйства. С. £04).
49*. Об этом эпизоде, имевшем место в 1898-1900 гг., Булгаков рассказывает также в
брошюре «Хистианство и социализм» (Социологические исследования. 1990. № 4. С. 123).
50*. См. сборник статей С. Н. Булгакова «От марксизма к идеализму» (СПб., 1903). В
предисловии «От автора» он подробно анализирует истоки и смысл своей (и некоторых других
«пасынков марксизма») «капитуляции под сень идеализма».
С. 201.
51*. Увеличить свой заработок (нем.).
52*. «Государство будущего» (Zukunftstaat) - название брошюры А. Бебеля, представляющей
собой извлечение из его книги «Женщина и социализм». Брошюра «Государство будущего» под
разными названиями («Будущее общество», «Общество будущего», «Социалистическое общество»)
неоднократно издавалась в дореволюционной России. Чтобы читатель мог составить
представление о том, что такое «государство будущего» по Бебелю, приведу небольшой отрывок: «В будущем
не будут знать никаких политических и уголовных преступлений и проступков. Воры исчезнут,
так как не станет больше частной собственности и каждый в состоянии будет в новом обществе с
легкостью и удобством удовлетворять свои потребности трудом. Точно также не будет более
"босяков и бродяг", они - продукт общества, основанного на частной собственности, и исчезнут
вместе с последней. Убийства? Из-за чего? Никто не может обогатиться за счет другого; даже
убийство из ненависти или мести находится в прямой или косвенной связи с современным соци-
488
альным положением общества. Клятвопреступление, подделка документов, обман, присвоение
чужого наследства, злостное банкротство? Но ведь нет частной собственности, по отношению к
которой и против которой можно было бы совершать эти преступления. Поджог? Но кто станет
искать в нем радости или удовлетворения, раз общество лишает его всякого повода к ненависти?
Фабрикация фальшивых денег? "Ах, деньги - только химера", и весь труд был бы напрасен.
Религиозные преступления? Предоставим "всемогущему и всеблагому" богу самому наказывать того,
кто его оскорбляет, предполагая, что и тогда еще будут спорить и о существовании бога.
Так все основы существующего "порядка" станут мифом. Родители будут рассказывать о
них детям как о старых сказочных временах. И рассказы о преследованиях и гонениях,
которым ныне подвергаются представители новых идей, будут звучать в их устах так же дико, как
теперь для нас - рассказы о сожжении еретиков и ведьм» (Бебель А. Женщина и социализм.
М., 1959. С. 512-513).
О том, с каким энтузиазмом воспринимались в России наивные и утопические мечтания
Бебеля, сохранилось интересное свидетельство Н. Валентинова. В начале своей политической
деятельности он вместе с одним своим товарищем - Виктором - вел пропагандистскую работу
среди религиозных сектантов в Киеве. «Для показа, какую благодарную почву для будущего
расцвета людей дает строй, где уничтожена частная собственность, Виктор очень любил
пользоваться картинами из книги Бебеля "Женщина и социализм", - вспоминает Валентинов. -
...Опираясь на авторитет Бебеля, Виктор поучал сектантов, что раз частная собственность
уничтожена, немедленно пропадает деление общества на классы, нет ни богатых, ни бедных,
нет насилия государства, все свободны, равны, материально обеспечены. Социализация средств
производства создает новые небеса и новую землю, она настолько изменяет человеческую
природу, что бедствия, зло и пороки прежней жизни будут казаться "мифом". Из киевских
пропагандистов того времени, кажется, лучше всех эту веру излагала Катя (Рерих, племянница
художника. - В. С.) Недаром же рабочий Иван о ней говорил: "Когда Катя рассказывает нам о
социалистическом строе, глаза ее как звезды светятся, и все, о чем она говорит, так прекрасно,
что я чувствую себя, как в раю". Если бы Кате в то время предложить вопрос - будут ли в
социалистическом обществе кошки есть мышей, а петухи драться, она, наверное, ответила бы -
нет!» (Валентинов Н. Встречи с Лениным// Волга. 1990. №11. С. 130). Катя не дожила до
торжества «идеала»: при нелегальном переходе границы она сильно простудилась и умерла.
Зато дожил «рабочий Иван» Мячик. «С Иваном, - рассказывает Валентинов, - ... я встретился
через 25 лет (в 1928 г.) в Москве, уже в эпоху, когда существующий строй было приказано
считать "социалистическим". Он поразил своей пугливостью. Сидя у меня и оглядываясь по
сторонам, он прежде всего спросил, можно ли говорить громко, и из осторожных слов его я
понял, что он не чувствует себя находящимся в раю... Он остался, как прежде, простым
рабочим. Почти шепотом он мне поведал, что, несмотря на сокращение рабочего дня, работать...
стало много труднее, чем в 1901-1902 гг.» (Там же. №10. С. 96). В указанной книге Н.
Валентинова несколько страниц посвящено теплым воспоминаниям о С. Н. Булгакове, участником
философских семинаров которого он был в Киеве.
53*. См. примеч. 22* к статье «Христианство и социальный вопрос».
54*. В книге «От марксизма к идеализму» (СПб., 1903) С. Н. Булгаков писал: «Бернштей-
нианство есть марксизм, обрезавший себе духовные крылья, лишенный прежнего религиозного
воодушевления и идеалистического размаха, сведенный к проповеди малых дел социальной
политики» (Указ. соч. С. XIV). Ср. также с отзывом о Бернштейне в «Философии хозяйства» (с. 212).
С. 202.
55*. Государство будущего (нем.). См. выше примеч. 52*.
С. 203.
56*. См. примеч.27* к статье «О социальном морализме».
57*. Имеется в виду следующее высказывание Лассаля:
«...Буржуазия определяет нравственную цель государства так: она состоит исключительно
и единственно в охранении личной свободы и собственности индивидуума. Это идея ночного
сторожа, потому что государство представляется здесь только в образе караульщика, все
назначение которого предупреждать разбой и грабежи. К сожалению, эту идею можно довольно
часто встретить не только среди настоящих либералов. Но даже и среди многих так наз<ывае-
мых> демократов, благодаря недостаточному умственному развитию...
Совершенно иначе понимает цель государства четвертое сословие... Цель государства -
положительно развивать и неустанно совершенствовать человеческое существо; другими
словами - осуществлять в действительности назначение человека, т. е. культуру, к которой
человеческий род способен; цель государства - воспитание и развитие человечества в направлении к
свободе» (Лассаль Ф. Программа работников. М., 1917. С. 28-29).
58*. См. примеч. 4* к статье «Народное хозяйство и религиозная личность».
489
С. 204.
59*. Ср. современный перевод: Каутский К. Происхождение христианства. М., 1990.
С. 439. Утверждение Каутского сродни более известным «директивам» классиков марксизма,
таких, например, как: «Марксизм есть абсолютная истина, которую уже не отнимет никакой
рок» (Г. В. Плеханов), «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно» (В. И. Ленин), и т. п.
В этой связи интересен устный отзыв Булгакова о Ленине. «Ленин, - говорил Булгаков Н.
Валентинову, - нечестно мыслит. Он загородился броней ортодоксального марксизма и не желает
видеть, что вне этой загородки находится множество вопросов, на которые марксизм бессилен
дать ответ. Ленин их отпихивает ногой. Его полемика с моей книгой "Капитализм и
земледелие" такова, что уничтожила у меня всякое желание отвечать. Разве можно серьезно спорить с
человеком, применяющем при обсуждении экономических вопросов приемы гоголевского Ноз-
древа.
Получив от меня «Что делать?» Ленина, Булгаков, возвращая книгу, воскликнул:
- Как Вы можете увлекаться этой вещью! Брр! До чего духовно мелко! От некоторых
страниц так и несет революционным полицейским участком» (Валентинов Н. Встречи с
Лениным // Волга. 1990. № 10. С. 111).
60*. «Первому искушению Христа в пустыне» посвящен специальный раздел брошюры
С. Н. Булгакова «Христианство и социализм» (см.: Соц. исследования. 1990. № 4. С. 111-113).
Заканчивая брошюру, Булгаков писал: «Еще блаженный Августин, бывший очевидцем
величайшего мирового потрясения - падения Рима, выразил с полной ясностью мысль о том, что
два града строятся в человеческой истории, два начала строительства противоборствуют. Одно
начало - Христово, которое содержится в христианской церкви, а другое - царство
человеческое, причем, когда человек остается без Бога, то царство его становится дьявольским,
антихристовым. И чем дальше совершается история, тем отчетливее и резче вырисовывается эта
двойственность духовных начал европейской истории. В сердцах человеческих идет эта борьба,
решается вопрос о том, кому поклониться и поверить: Христу, царство Коего не от мира сего,
или же князю мира сего. Эта же борьба идет и в душе социализма» (Там же. С. 130).
С. 205.
61*. О Дж. Рёскине см. примеч. 39* к статье «О социальном морализме».
62*. Эту мысль подробно развивал П. Я. Чаадаев в первом «Философическом письме».
«Разумеется, - писал он, - в странах Европы не все исполнено ума, добродетели, религии,
совсем нет. Но все там таинственно подчинено силе, безраздельно царившей на протяжении
столетий; все является результатом того продолжительного сцепления актов и идей, которым
создано теперешнее состояние общества, и вот, между прочим, тому пример. Народ, личность
которого ярче всех обозначилась, учреждения которого всего более отражают новый дух, -
англичане, - собственно говоря, не имеют истории помимо церковной... И поэтому, невзирая на
все незаконченное, порочное и преступное в европейском обществе, как оно сейчас сложилось,
все же царство Божие, в известном смысле, в нем действительно осуществлено...» (Чаадаев
П. Я. Поли. собр. соч. и избр. письма. М., 1991. Т. 1. С. 335-336).
С. 206.
63*. Плач Иеремии 3, 41: «Вознесем сердце наше и руки к Богу, сущему на небесах», т. е.
возвысимся духом. «Нет лозунга более освободительного - даже политически, - чем призыв
sursum corda <Горе имеем сердца>», - писал М. О. Гершензон в своей книге «П. Я. Чаадаев.
Жизнь и мышление» (Гершензон М. О. Грибоедовская Москва. П. Я. Чаадаев. Очерки
прошлого. М., 1989. С. 108)
АПОКАЛИПТИКА И СОЦИАЛИЗМ
С. 207.
1*. По определению св. Андрея Кесарийского, «апокалипсис есть такое откровение
сокрытых тайн, которое бывает во время озарений ума или в видениях во время сна, или в бодрст-
венном состоянии при помощи Божественного осияния» (Андрей Кесарийский. Толкования на
Апокалипсис. 1,1// Литературная учеба. 1991. Кн.1. С. 102).
С. 208.
2*. Маккавейское восстание (названное так по имени одного из предводителей, Иуды
Маккавея) против владычества Селевкидов проходило под знаменем сохранения традиций и
самобытности еврейского народа. Ему посвящены три апокрифические книги Ветхого Завета
(так. наз. книги Маккавеев), последняя из которых считается псевдоисторической.
490
С. 209.
3*. Иерусалим был взят и разрушен римскими войсками в августе 70 г. н. э. после
пятимесячной осады. Событие это писано в соч. Иосифа Флавия «Иудейская война».
4*. Перевод на лат. язык Ветхого Завета, выполненный ок. 400 г. Иеронимом Блаженным.
Иероним переводил с греческого текста Ветхого Завета (так наз. перевода «семидесяти
толковников», или «Септуагинты»).
5*. Перевод «Завещания, или Учения двенадцати апостолов» («Дидахе») см. в кн.: Толстой
Л. Н. Поли. собр. соч. М., 1937. Т. 25. Другой перевод выполнен К. Д. Поповым: Учение
двенадцати апостолов. Недавно открытое сочинение времен апостолов. М., 1898. См. также:
Писания мужей апостольских. Рига, 1992.
6*. «День гнева, этот день обратит мир в пепел, как предсказывали Давид и Сивилла»
(лат.). - слова католического церковного гимна, известного с XIII в. Этот гимн (без последней
строчки) поет хор в сцене «Собор» в первой части «Фауста» Гете. Далее следует:
Judex ergo um sedebit
Quidquid latet, adparebit,
Nil inultum remanebit.
Quid sum miser tunc dicturus?
Quem patronum rogaturus,
Cum vix Justus sit securus?
(«Когда воссядет судия, откроется все сокровенное, и ничто не останется без возмездия.
Что я скажу тогда, несчастный, какого покровителя я буду умолять, когда и праведник едва
спасется?») - (Гете И. В. Фауст. М., 1969. С. 175-176).
Вариацию на эту тему придумы вает Ламберт в романе Ф. М. Достоевского «Подросток»
(ч. 3. Гл.5, III).
С. 210.
7*. Шемоне Эсре - основная литургическая молитва в иудаизме, которую читают
ежедневно в утренних, дневных и вечерних богослужениях. Название сохраняется по традиции (букв.:
«18 славословий», хотя в действительности их 19). По характеру и содержанию она делится на
три части: первые три славословия - прославления, следующие тринадцать - прошения, в
последующих трех - высказывается благодарность Богу.
Габинену - начальное слово и название молитвы, вкратце содержащей тринадцать средних
славословий из Шемоне-Эсре. Содержание молитвы следующее: «Вразуми нас, Господи, Боже
наш, дабы мы познали пути Твои, и внуши сердцам нашим благоговение пред Тобою. Прости
нам (грехи наши), чтобы мы были спасены, и удали от нас страдания; даруй нам обильный
урожай на пажитях земли Твоей. Собери нас рассеянных с четырех концов (земли). Пусть
заблудившиеся будут судимы по воле Твоей, а на нечестивых простри руку Свою. Да
возрадуются праведники построением града Твоего, восстановлением Твоего Храма, реставрацией
царства Давида, раба Твоего, и воссиянием светильника сына Иессея, помазанника Твоего. Прежде
чем мы взываем к Тебе, услышь нас. Слава тебе, Господи, внемлющий молитве».
Каддиш - главная поминальная и погребальная молитва. Начало погребального каддиша
гласит: «Да возвеличится и да освятится великое имя Его в мире, который Он вновь создает,
когда Он воскресит мертвых и призовет их к вечной жизни и когда Он вновь выстроит град
Иерусалим и воздвигнет в нем Свой храм, и искоренит с лица земли ложное служение
(идолопоклонство), и восстановит служение истинному Богу. Да царствует Святый, благословен
Он в Своем величии и славе в дни нашей жизни» и т. д.
Мусаф - добавочная молитва (первоначально - добавочное жертвоприношение), которая
читается в субботние, праздничные и новомесячные дни. Состоит из семи славословий (со
вставками в различные дни). В среднем славословии содержится сетование по поводу
разрушения храма и упразднения культа жертвоприношений и мольба о восстановлении того и
другого; здесь упоминается о Синайском откровении, сопровождавшемся трубными звуками, и
цитируется десять библейских стихов, где встречается слово «трубный рог».
8*.'Крупнейшие открытия памятников христианской литературы были сделаны уже после
смерти С. Н. Булгакова. В 1945 г. В Египте, вблизи Наг-Хаммади, были обнаружены коптские
рукописи, принадлежавшие христианам-гностикам. Большое количество фрагментов рукописей
было найдено в 1947 г. в одной из пещер местности Вади-Кумран (Египет). В переводе на
русский язык эти тексты опубликованы: Амусин И. Д. Тексты Кумрана. М., 1971; Старкова К. Б.
Литературные памятники Кумранской общины // Палестинский сборник. Л., 1973. Вып.
24/87; Трофимова М. К. Историко-философские вопросы гностицизма. М., 1979; Апокрифы
древних христиан. М., 1989. Среди апокалиптических рукописей Кумрана имеется сочинение
под названием «Война сынов света против сынов тьмы».
9*. Здесь: верхушка общества (нем.).
491
10*. Набожные люди и учителя пестрого и многочисленного слоя населения ам-хаарец, в
эпоху хасмонеев подлинно народные пророки последних двух веков до Р.Х., а самый великий
апокалиптик - Иисус (нем.).
Ам-хаарец (евр.) — «народ земли, простонародье», в евангельскую эпоху презрительная
кличка деревенщина, невежда.
Хасмонеи - династия иерусалимских царей, основанная братьями Иуды Маккавея,
правившая с 140 по 63 г. до н. э.
11*. Иисус - это продукт эпохи... и так как он принадлежал нам, нам принадлежит и
Евангелие (нем.).
12*. От греч. «синоптики» - вместе смотрящие, т. е. одинаково отразившие жизнь Иисуса
Христа, в отличие от Евангелия*от Иоанна, написанного совершенно иначе.
Синоптические Евангелия неоднократно соединялись в общее повествование. Одна из
последних попыток этого рода предпринята о. Леонидом Лутковским. См.: Досье. Приложение к
«Литературной газете». Апрель 1990 г.
С. 211.
13*. Зелоты (или «канаиты» - ревнители) - партия воинствующих мессианистов,
отрицавших любую власть, кроме власти Бога, и призывавших к вооруженной борьбе против
Римской империи; возникла в первые годы н. э. Наиболе радикальные зелоты - сикарии
(«кинжальщики») - избрали путь террористических действий.
С. 212.
14*. Религиозный сикретизм (от греч. syn - «вместе» и лат. cresco - «расту») - слияние
верований и обрядов разных религий.
С. 214.
15*. Экзегеза (греч.) - толкование библейского текста. С. Н. Булгаков выделяет два метода
экзегетики Апокалипсиса: чувственно-исторический и спиритуалистический (с. 238), далее он
причисляет к ним еще один метод - иудейский (с. 240). В данном случае Булгаков
противопоставляет буквальный и аллегорический методы экзегезы, объявляя себя сторонником
последнего.
16*. Так называют безымянного проповедника, деятельность которого происходила в
самом конце Вавилонского пленения и в начале послепленного периода и чьи проповеди были
присоединены к книге пророка Исайи (главы 40-55). Подробнее см.: Шифман И. И. Ветхий
Завет и его мир. М., 1987. С. 58-62.
17*. В Апокалипсисе Варуха «гибель Иерусалима представлена как наказание за грехи
народа; божьи ангелы разрушают стены города, чтобы врагам было легче в него ворваться.
Пришествие Мессии сопровождается воскресением из мертвых и возрождением Иерусалима. В
книге появляется загробный суд и посмертное воздаяние: грешники в ужасающих обличиях
будут помещены в место скорби, а праведники - среди ангелов» (Там же. с. 208).
Книга Варуха входит в состав Септуагинты (см. примеч. 4*). Русский перевод «Откровения
Варухова», см.: «Поэтические, гностические и апокрифические тексты христианства».
Новочеркасск, 1994. С. 37-41.
С. 215.
18*. Пророк Исайя играл первостепенную политическую роль в Иерусалиме при царях
Ахазе и Езекии. В царствование Езекии началась религиозная и социальная реформа, в
проведении которой Исайя играл значительную роль. Подробнее см.: Шаг за шагом по Библии.
Толкование на книгу пророка Исаи // Символ. Париж. 1980. № 4. С. 131-164; Шифман И. И.
Ветхий завет и его мир. С. 45-54.
19*. Желающего судьба ведет, нежелающего - тащит (лат.) - слова Сенеки («Послания»,
107).
20*. Предсказание задним числом.(лат.).
21*. С позволения сказать (лат.).
С. 216.
22*. Об отношении С. Н. Булгакова к социологии см. примеч. 24* к статье «О социальном
морализме (Т. Карлейль)».
492
С. 217.
23*. В предисловии к «К критике политической экономии» К. Маркс писал: «...буржуазной
общественной формацией завершается предыстория (Vorgeschichte) человеческого общества»
(Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 13. С. 8).
С. 218.
24*. Сапожник, суди не выше сапога (лат.) - цитата из «Естественной истории» Плиния
Старшего (XXXV, 10, ЗЬ).
С. 219.
25*. С. Н. Булгаков, по-видимому, ошибается: эта идея высказана И. Кантом в статье
«Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане» (1784). «Историю человеческого
рода в целом можно рассматривать как выполнение тайного плана природы - осуществить
внутренне и для этой цели также внешне совершенное государственное устройство как
единственное состояние, в котором она может полностью развить все задатки, вложенные
ею в человечество... Мы видим, что философия также может иметь свой хилиазм, но такой,
проведению которого сама ее идея может, хотя и весьма отдаленно, содействовать, и который
вовсе не фантастичен» (Кант. И. Сочинения. М., 1966. Т. 6. С. 18-19).
С. Н. Булгаков еще раз ссылается на «философский хилиазм» Канта и на его работу «Спор
факультета» ( с. 241, примеч. 1). Причем, по его мнению, эту работу Кант написал в возрасте
76 лет, т. е. в 1800 г., тогда как на самом деле «Спор факультетов» был написан в 1794, а
издан в 1798 г.
26*. «Дурная, или отрицательная, бесконечность, - по Гегелю, - есть не что иное, как
отрицание конечного, которое, однако, снова возникает и, следовательно, не снимается; или,
иными словами, эта бесконечность выражает только долженствование снятия конечного»
(Гегель. Энциклопедия философских наук. М., 1974. Т. 1. С. 232). «Относительно бесконечного
прогресса верно прежде всего то, что мы раньше заметили относительно качественного
бесконечного прогресса, а именно, что он не есть выражение истинной бесконечности, а есть та
дурная бесконечность, которая не выходит за пределы долженствования и, таким образом, на
деле остается в конечном» (Там же. С. 252).
27*. «Идеал, - согласно И. Канту, - служит первообразом для всестороннего определения
подражаний ему; у нас нет иного руководства для наших поступков, кроме поведения этого
божественного человека в нас, с которым мы сравниваем себя, оцениваем таким образом себя и
улучшаемся, никогда, однако, не будучи в состоянии стать на один уровень с ним. Хотя и
нельзя допустить объективной реальности (существования) этих идеалов, тем не менее, нельзя
вследствие этого считать их химерическими: они дают необходимое руководство разуму,
который нуждается в понятии совершенного представителя своего рода, чтобы оценивать и
измерять соответственно этому понятию степень и недостатки несовершенного. Но попытки
реализовать идеал на примере, т. е. в явлении <...> неосуществимы, мало того, они, в известной
степени, абсурдны и мало назидательны.<...>
Все это относится к идеалу разума, который всегда должен основываться на определенных
пойятиях и служит правилом и первообразом для подражания или оценки» (Кант И. Критика
чистого разума. СПб., 1907. С*. 333-334).
28*. Правильнее: ноумен — умопостигаемая сущность, предмет интеллектуального
созерцания, в отличие от феномена - объекта чувственного созерцания..
С. 220.
29*. Противоречие в определении (лат.) (между определяемым словом и определением),
напр.: «круглый квадрат».
30*. См. статью С. Н. Булгакова «Основные проблемы теории прогресса» (впервые
опубликована в сб. «Проблемы идеализма». (М., 1902. С. 1-47); затем: Булгаков С. Н. От марксизма к
идеализму. СПб., 1903. С. 115-160; Булгаков С. Н. Философия хозяйства (Приложения). М.,
1990. С. 261-309).
31*. Напр., «Прежнее небо и прежняя земля миновали... се, творю все новое» (Откр. 21,
1-5).
Эон - в иудео-христианской традиции означает «мир», но не в пространственном смысле
(космос), а в историческом и временном аспекте («век», «эпоха»).
32*. Переход (лат.). О тождестве и transcensus'e жизни и смерти см.: Булгаков С. Н.
Философия хозяйства. М., 1990. С, 66-67.
493
С. 221.
33*. Вечный двигатель (лат.).
34*. Бог из машины (лат.). В греч. трагедиях - появление «божества» (при помощи
механического приспособления), которое приводило конфликт к неожиданной развязке.
35*. Квиетизм (от лат. quies - покой) - склонность к мистическому созерцанию Бога,
отказ от активной деятельности, принятие любой судьбы как предопределенной свыше.
36*. Имеется в виду эпизод из 3-й части 1-го тома романа Л. Н. Толстого «Война и мир»
(гл. XII, XVI и XIX). Накануне Аустерлицкого сражения князю Андрею «представилось
сражение, потеря его, сосредоточение боя на одном пункте и замешательство всех
начальствующих лиц. И вот та счастливая минута, тот Тулон, которого так долго ждал он, наконец,
представляется ему. Он твердо и ясно говорит свое мнение и Кутузову, и Вейротеру, и
императорам. Все поражены верностью его соображения, но никто не берется исполнить его, и вот он
берет полк, дивизию, выговаривает условие, чтоб уже никто не вмешивался в его
распоряжения, и ведет свою дивизию к решительному пункту и один одерживает победу. А смерть и
страдания? - говорит другой голос. Но князь Андрей не отвечает этому голосу и продолжает
свои успехи. Диспозиция следующего сражения делается им одним. Он носит звание
дежурного по армии при Кутузове, но делает все он один. Следующее сражение выиграно им одним.
Кутузов сменяется, назначается он... Ну, а потом? - говорит опять другой голос, - а потом,
ежели ты десять раз прежде этого не будешь ранен, убит или обманут; ну, а потом что же?
"Ну, а потом... - отвечает сам себе князь Андрей, - я не знаю, что будет потом, не хочу и не
могу знать; но ежели хочу этого, хочу славы, хочу быть известным людям, хочу быть
любимым ими, то ведь я не виноват, что я хочу того, что одного этого я хочу, для одного этого я
живу. Да, для одного этого! Я никогда никому не скажу этого, но, боже мой! Что же мне
делать, ежели я ничего не люблю, как только славу, любовь людскую. Смерть, раны, потеря
семьи, ничто мне не страшно. И как ни дороги, ни милы мне многие люди - отец, сестра, жена -
самые дорогие мне люди, - но, как ни страшно и ни неестественно это кажется, я всех их
отдам сейчас за минуту славы, торжества над людьми, за любовь к себе людей, которых я не
знаю и не буду знать, за любовь вот этих людей...'*» (Толстой Л. Н. Собр. соч. М., 1979. Т. 4.
С. 333-334).
Этот строй мыслей кдязя Андрея резко сменяется на противоположный в самый момент
его ранения: «Над ним не было ничего уже, кроме неба, - высокого неба, не ясного, но, все-
таки, неизмеримо высокого, с тихо ползущими по нем серыми облаками. «Как тихо, спокойно
и торжественно <...> - подумал князь Андрей... - Как же я не видал прежде этого высокого
неба? И как я счастлив, что узнал его наконец. Да! все пустое, все обман, кроме этого
бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме его. Но и того даже нет, ничего нет, кроме тишины,
успокоения. И слава Богу!..» (Там же. С. 354).
На Праценской горе происходит встреча истекающего кровью князя Андрея с его кумиром -
Наполеоном и развенчание этого кумира. «Он чувствовал, что он исходит кровью, и он видел
над собою далекое, высокое и вечное небо. Он знал, что это был Наполеон - его герой, но в эту
минуту Наполеон казался ему столь маленьким, ничтожным человеком в сравнении с тем, что
происходило теперь между его душой и этим высоким, бесконечным небом с бегущими по
нему облаками... Ему так ничтожны казались в эту минуту все интересы, занимавшие
Наполеона, так мелочен казался ему сам герой его, с этим мелким тщеславием и радостью победы, в
сравнении с тем высоким, справедливым и добрым небом, которое он видел и понял, - что он
не мог·отвечать ему.
Да и все казалось так бесполезно и ничтожно в сравнении с тем строгим и величественным
строем мысли, который вызвали в нем ослабление сил от истекшей крови, страдание и близкое
ожидание смерти. Глядя в глаза Наполеону, князь Андрей думал о ничтожности величия, о
ничтожности жизни, которой никто не мог понять значения, и о еще большем ничтожестве
смерти, смысл которой никто не мог понять и объяснить из живущих...
«Хорошо бы это было, - подумал князь Андрей,.. - ежели бы все было так ясно и просто,
как это кажется княжне Марье. Как хорошо бы было узнать, где искать помощи в этой жизни
и что ждать после нее там, за гробом! Как бы счастлив и спокоен я был, ежели бы мог сказать
теперь: Господи, помилуй меня!... Но кому я скажу это? Или сила - неопределенная,
непостижимая, к которой я не только не могу обращаться, но которой я не могу выразить словами, -
великое все или ничего, - говорил он сам себе, - или это тот Бог, который здесь зашит, в этой
ладанке, княжной Марьей? Ничего, ничего нет верного, кроме ничтожества всего того, что мне
понятно, и величия чего-то непонятного, но важнейшего!"» (Там же. С. 367-370).
37*. «Царство Мое не от мира сего» - слова Иисуса Христа (Иоан. 18, 36). О соотношении
понятий «Церкви» и «Царства» в христианстве см. в работе П. А. Флоренского «Понятие
Церкви в Священном Писании» // Богословские труды. М., 1974. Сб. 12. С. 171-175.
494
С. 222.
38*. О чуде Преображения рассказывают евангелисты Матфей (17, 1-13), Марк (9, 2-13) и
Лука (9, 28-36). По церковному преданию, Преображение происходило на горе Фавор в Гали-
ле. «Но почти несомненно, - замечает Ф. В. Фаррар, - что Фавор не был местом этого
великого события». Сами евангелисты, рассказывая о Преображении, указывают на «гору высокую»
или просто на «гору». По мнению Фаррара, дело происходило на горе Ермон (см.: Фаррар
Ф. В. Жизнь Иисуса Христа. СПб., 1893. С. 296-297). В настоящее время эта версия считается
общепринятой. См., напр.: Мень А. Сын Человеческий. М., 1991. С. 396-397.
39*. На пути в Кесарию Филиппову «произошел случай, который, - по словам Фаррара, -
можно считать поворотным пунктом в земном служении Христа» (Фаррар Ф. В. Жизнь Иисуса
Христа. С. 288).
«Пришед же в страны Кесарии Филипповой, - говорится в Евангелии от Матфея, - Иисус
спрашивал учеников Своих: за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали:
одни за Иоанна Крестителя, другие - за Илию, а иные - за Иеремию или за одного из
пророков. Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты -
Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин,
потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах; и Я говорю тебе:
ты Петр - камень, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее, и дам
тебе ключи Царства Небесного; а что свяжешь на земле, то будет связано на небесах; и что
разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах» (16, 13-19).
Комментируя ответ апостола Петра, прот. А. Мень отмечает: «Здесь мы вступаем в область
наиболее таинственного и решающего во всем Новом Завете, здесь внезапно разверзается
пропасть между Сыном Человеческим и всеми философами, моралистами, основателями религии...
В самом деле, трудно предположить, что в Израиле был Человек, Который осмелился сказать:
"Я и Отец - одно"; куда легче представить себе, каким образом греки или сирийцы соткали
легенду о Сыне Божием из обрывков восточных поверий...
Парадокс явления Иисуса в том, что Он - невероятен и, в то же время, Он - историческая
реальность. Тщетно бьется над Его загадкой плоский "эвклидов" рассудок...
Богочеловечество Христа есть откровение и о Боге, и о человеке.
Уже пророки знали, что Первопричина всего - не безликая Мощь или космический
Порядок, равнодушный, как любая из сил мироздания, но - Бог живой, говорящий с людьми,
даровавший им Свой образ и подобие. Он ищет согласия с человеком, призывает его к высшей
жизни. Но если в Ветхом Завете замысел Божий и лик Божий оставались прикровенными, то
явление Иисуса приближает Творца к людям. Через Мессию мир должен познать, что Сущий
"есть люоовь", что Он может стать для каждого Отцом. Блудные дети земли призываются в
дом Отчий, чтобы там обрести потерянное сыновство.
Ради этого в мир рождается Сын Человеческий и Сын Божий, Который в самом Себе
примиряет небо и землю. В Новом Завете стало реальностью то, что было лишь неясной надеждой
Ветхого. Отныне духовное единение с Иисусом есть единением с Богом.
"Бог стал человеком, чтобы мы стали богами", - эти слова св. Афанасия передают самую
суть Таинства Воплощения» (Мень А. Сын Человеческий. С. 160-169).
40*. Кратко излагается содержание так наз. «малого Апокалипсиса» из 17-й главы
Евангелия от Луки (26-31). Ср.: также Мф. 24, 36; Мк. 13, 32. О «малом Апокалипсисе»
синоптических Евангелий см. с. 230-231.
С. 224.
41*. Государство будущего (нем.). См. также примеч. 52* к статье «Первохристианство и
новейший социализм».
С. 226.
42*. Κόρα (букв.: мешок) - мера сыпучих веществ, равная 395,5 литра.
С. 227.
• 43*. Мф. 21, 9.
С. 229.
44*. Тайна Мессии (нем.).
45*. Имеется в виду следующее место из XVII главы «Мировых загадок» Э. Геккеля: «В
одном из <...> апокрифических писаний имеются исторические данные <...> вполне простым и
естественным образом объясняющие "мировую загадку" о сверхъестественном зачатии и
рождении Христа. Летописец откровенно сообщает такую вещь, заключающую в себе решение за-
495
гадки: "Иосиф Пандерра, римский капитан калабрийского легиона, стоявшего в Иудее,
соблазнил Мариам из Вифлеема, еврейскую девушку, и был отцом Иисуса" (см.: Цельсус, 178 г.
по Р.Х.). Другие рассказы того же автора о Мариам (еврейское имя Мари) делают довольно
сомнительной репутацию "пречистой царицы небесной"!
<...> Свидетельство древних апокрифических писаний, что истинным отцом Иисуса был
римский капитан Пандерра или Пантер ас, представляется еще более правдоподобным, если
критически рассмотреть личность Христа с чисто антропологической точки зрения.
Обыкновенно его считают чистокровным евреем. Однако именно характерные черты, особенно
отличавшие его возвышенную и благородную личность и придававшие особый отпечаток его
"религии любви", положительно не семитичны, скорей, это черты высшей арийской расы и,
главным образом, благороднейшей ветви ее - эллинов. Но имя настоящего отца Христа,
"Пандера", несомненно, эллинского происхождения, в одной рукописи оно даже пишется
"Пандора". Пандора же, как известно из греческой мифологи, была первая женщина,
созданная Вулканом из земли и наделенная от богов всеми женскими прелестями, вышедшая замуж
за Эпиметея и посланная отцом богов к людям с ужасным "сундуком Пандоры", заключавшим
в себе все бедствия, в виде кары за то, что Прометей похитил с неба божественный огонь
(«разума\»)» (Геккель Э. Мировые загадки. М., 1920. С. 305-306).
«Апокрифическое писание», на которое ссылается Геккель в начале приведенной цитаты, -
«Правдивое слово» Цельса, сохранившеся в составе апологи Оригена «Против Цельса». О
рождении Иисуса здесь сказано: «Она <Мария>, была уличена в прелюбодеянии и родила от
какого-то солдата по имени Пантера» (Ранович А. Б. Первоисточники по истории раннего
христианства. Античные критики христианства. М., 1990. С. 274).
В Талмуде Иисус также назван Иошуа бен Пандира (Там же. С. 211).
46*. Об этом рассказывает в «Трех разговорах» «г-н Z», передающий слушателям недопи-
санное отцом Пансофием окончание «Краткой повести об антихристе». См.:
Соловьев В. С. Сочинения. М., 1988. Т. 2. С. 760-761).
С. 230.
47*. «Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17, 21). О двояком смысле этих слов см. у
П.А.Флоренского «Понятие Церкви в Священнном Писании»// Богословские труды. М.,
1974. Сб. 12. С. 172-173. Там же - с. 173-174 - раскрыт троякий смысл понятий Царства
Божия в Новом Завете.
48*. Определение П. Я. Светлова: «Царство Божие в общем или широком смысле есть
постепенно устрояемый Провидением совершенный порядок вещей в природе и истории, в
котором возглавляемое Христом человечество участвует во всех благах осуществляемого Им
Божественного Совета об искуплении мира» (Светлов П. Я. Идея Царства Божия и ее значение для
христианского миросозерцания Богословско-апологетическое исследование) Свято-Троицкая
Сергиева Лавра. 1906. С. 113).
49*. По-видимому, контаминация двух цитат: «От дней же Иоанна Крестителя доныне
Царство „Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Мф. 11, 12);
«Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него» (Лк. 16, 16).
50*. Поскольку автор четвертого Евангелия в отношении Иисуса Христа употребляет слово
Логос, хорошо известное в античной философии, это дало повод некоторым исследователям
считать его греческим писателем, близким к идеям гностиков. «Истинные гностики» называли
себя «пневматиками»; кроме того, основное требование автора этого Евангелия к
последователям Иисуса Христа - обрести в себе дух («пневма») (Ин. 3, 5-6); отсюда - название Евангелия
от Иоанна. См. также примеч. 19* к статье «Христианство и социальный вопрос».
С. 232.
51*. Имеется в виду исследование Н. А. Морозова «Откровение в грозе и буре. История
возникновения Апокалипсиса», изданное в 1907 г. Третья часть книги называется «Когда
написано "Откровение в грозе и буре?" Определение времени по заключающимся в нем самом
астрономическим указаниям». В 1906 г. Н. А. Морозов выступил с докладом «Апокалипсис с
астрономической точки зрения».
52*. «Очаровательнейшую прелесть и мощную силу» (нем.).
С. 233.
53*. Имеются в виду слова ап. Павла из Послания к Колоссянам: «Не говорите лжи друг
другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись нового, который обновляется в
познании по образу Создавшего его, где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни
необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос» (3, 9-11).
496
С. 234.
54*. С. H. Булгаков имеет в виду следующие рассуждения У. Джемса (при этом название
книги и ее выходные данные указаны им неточно):
«В современной логике установлено различие двух путей в исследовании какого бы то ни
было предмета. С одной стороны, возникает вопрос о его природе, образовании, его
организации, начале и истории. С другой - о его значении, его смысле, его ценности. Ответ на первый
вопрос дается в так называемом экзистенциальном суждении, которое констатирует
существование предмета. Ответ на второй - в суждении о ценности, которое заключает оценку
предмета... Эти два суждения не могут быть непосредственно выведены одно из другого. Они
вытекают из двух совершенно различных запросов нашего духа, и необходимо рассмотреть их
отдельно раньше, чем сопоставлять одно с другим.
По отношению к религии нетрудно разграничить эти два порядка вопросов. Каждое
религиозное явление имеет свою историю, своих естественных предшественников. То, что теперь
называется библейской критикой, сводится просто к изучению ее <Библии> с исторической
точки зрения, к изучению, которым Церковь слишком пренебрегала до последнего времени.
При каких биографических условиях каждый из авторов создавал то, что вошло в состав
священной книги? Что именно происходило в сознании каждого из них, когда они
воспроизводили свои переживания? Вот вопросы, касающиеся фактической стороны дела. И никакой ответ
на них не разрешает другого вопроса: какова ценность этой книги как руководства в жизни и
как откровения? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно построить сначала общую теорию о
том, каковы должны быть свойства явления, благодаря которым оно становится откровением.
Эта теория была бы тем, что я называю суждением о ценности. И если бы из нее вытекало, что
книга для того, чтобы иметь ценность откровения, должна быть свыше вдохновенной, чуждой
элемента свободного творчества самого писателя или не должна заключать научных и
исторических ошибок и не отражает никаких случайных личных настроений, то значение ее сильно
упало бы в наших глазах. И, наоборот, оно останется во всей прежней силе, если наша теория
установит, что книга может быть откровением несмотря на ошибки, случайные настроения и
свободное человеческое творчество, лишь бы только она была правдивым изображением
внутреннего опыта, приобретенного духовно одаренными людьми в горниле великих кризисов их
жизни. Нужно признать, что исторические факты сами по себе недостаточны для определения
их внутреннего значения. И лучшие представители" библейской критики, действительно, никогда
не смешивают экзистенциальной проблемы с проблемой ценности; приходя к одинаковым
выводам относительно исторического происхождения Библии, они различно оценивают ее как
откровение, сообразно различным суждениям о ценности, которые они себе составили» (Джемс В.
Многообразие религиозного опыта. М., 1910. С. 2-3).
С. 235.
55*. География странствий Ф. Ницше в период создания книги «Так говорил Заратустра»
(1883-1884 гг.) подробно описана К. А. Свасьяном в «Хронике жизни Ницще» (см.: Ницше Ф.
Сочинения. М., 1990. Т. 2. С. 822-823). Большую часть книги Ницше написал в Италии. См.
также: Ферстер-Ницше Е. Возникновение «Так говорил Заратустра» (в кн.: Ницше Ф. Так
говорил Заратустра. М., 1990. С. 285-298).
С. 236.
56*. Речь идет о «Повести об антихристе», в которой В. Соловьев, по словам его
племянника и биографа о. Сергия Соловьева, «истолковывает священное Писание с помощью
современных наук и наблюдений над политической жизнью, и во всей мощи развертывает свой
художественный талант, соединяя черты Халкидонского собора с чисто гофмановской фантастикой и
демонизмом <...> Часть публики аплодировала Соловьеву, но Розанов демонстративно
свалился со стула, газеты наполнились глумлением, а студенты Московского университета прислали
Соловьеву письмо, смысл которого сводится к следующему: "скажите, сумасшедший Вы или
нет?"» (Соловьев С. Жизнь и творческая эволюция Вл. Соловьева // Логос. Paris; Bruxelles,
1975. № 21-24. С. 73).
В. Л. Величко передает свой разговор с умирающим В. С. Соловьевым по поводу «Повести
об антихристе». Соловьев говорил:
«- А как вы думаете, что будет мне за это?
- От кого?
- Да от заинтересованного лица! От самого*.
- Ну, это еще не так скоро.
- Скорее, чем вы думаете».
Во второй половине 1900 г. Соловьев объяснял Величко, почему не ходит теперь в
церковь:
«Боюсь, что я вынес бы из здешней церкви некоторую нежелательную
неудовлетворенность. Мне было даже странно видеть беспрепятственный, торжественный чин Богослужения.
Я чую близость времен, когда христиане будут опять собираться на молитву в катакомбах, по-
497
тому что вера будет гонима - быть может, менее резким способом, чем в нероновские дни, но
более тонким и жестоким: ложью, насмешкой, подделками, да мало ли еще чем! Разве ты не
видишь, кто надвигается? Я вижу, давно вижу!» (Там же. С; 76).
В этих словах В. С. Соловьева, как и в «Повести об Антихристе», несомненно чувствуется
«живое дыхание подлинного религиозного опыта».
57*. Т. е. не читается во время богослужения.
58*. Невеста Агнца - Церковь. В Новом Завете Агнец символизирует Иисуса Христа.
Образ Церкви-Невесты с наибольшей последовательностью развит в Апокалипсисе. Напр.:
«Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу: ибо наступил брак Агнца, и жена Его
приготовила Себя» (Откр. 19, I). Подробнее см.: Флоренский П. А. Понятие Церкви в Св.
Писании // Богословские труды. М.·, 1974. Сб. 12. С. 157-170; а также трилогию С. Н. Булгакова
«О Богочеловечестве»: Агнец Божий. Париж, 1933; Утешитель. Париж, 1936; Невеста Агнца.
Париж, 1945.
59*. О понятии трагедии у С. Н. Булгакова см. примеч. 10* к статье «От автора».
60*. Соловьев В. С. Соч. Т. 2. С. 636.
61*. Эвдемонизм (от греч. ευδαιμονία - счастье) - принцип жизнепонимания, согласно
которому высшей целью человеческой жизни является счастье.
С. 238.
62*. Т. е. это не что иное, как привнесение в христианство основных идей израильского
мессианизма, который, согласно С. Н. Трубецкому, «заключается в идеале царства Божия,
осуществляющегося на земле через избранный народ и предзаложенного в союзе живого Бога с
этим народом» (Трубецкой С. О некоторых особенностях религии древних евреев. Мессиани-
стический идеал евреев в его отношении к учению о Логосе // Символ. Paris. 1983. №9.
С. 153).
С. 239.
63*. Валентин Александрович Тернавцев - один из учредителей и активных деятелей
Религиозно-философских собраний в Петербурге (1901-1903), друг В. В. Розанова.
«Чернобородый, большой, крепкотелый Тернавцев и рыженький, маленький, слизью
обмазанный Розанов, сев в одно кресло, друг друга нашлепывали по плечам: и, называя друг друга
"Валею", "Васею", пикировались без злобы», - пишет А. Белый (Начало века. М., 1990.
С. 495).
«Мы стоим на краю истории», - говорил Тернавцев. Первым докладом, прочитанным на
собраниях, был доклад Тернавцева «Русская Церковь пред великой задачей». «Великую задачу»
докладчик сформулировал так: «Для всего христианства наступает пора не только словом в
учении, но и делом показать, что в Церкви заключается не один лишь загробный идеал.
Наступает время открыть сокровенную в христианстве правду о земле - учение и проповедь о
Христианском государстве. Религиозное призвание светской власти, общественное во Христе
спасение, - вот о чем свидетельствовать теперь наступает время» (Цит. по: Флоровский Г.,
прот. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991. С. 470-471).
С. 240.
64*. В Цвиккау в первые десятилетия XVI в. сложилась анабаптистская община Николая
Шторха, членом ее был Томас Мюнцер (хотя он и не признавал идеи «второго пришествия»).
Во время Реформации «христианские братья», как называли себя анабаптисты, представляли
радикальное крестьянско-плебейское ее крыло; проповедовали свободу совести и близкое
второе пришествие.
Ниже, говоря о «перекрещенцах» Голландии и Северной Германии, С. Н. Булгаков имеет в
виду меннонитов и мюнстерскую коммуну, созданную в 1534 г. и представлявшую собой
примитивную христианско-коммунистическую общину, которая в глазах городского плебса и
крестьянства того времени представлялась прообразом «тысячелетнего царства Христова на
земле». См. также: Шафаревич И. Р. Социализм как явление мировой истории // Есть ли у России
будущее? М., 1991. С. 55-58.
65*. В журнальном варианте статьи за этими словами следовало в скобках: «Новейшие
идеи Мережковского поражают своей близостью к старому мельхиоритству, конечно, без
зажигательной силы и влияния последнего».
О «новейших идеях» Д. С. Мережковского см. примеч. 19* к статье «Героизм и
подвижничество».
498
.66*. «Новое религиозное сознание» - течение русской религиозно-философской мысли,
возникшее в первое десятилетие XX в. и связанное с именами Д. С. Мережковского, Д. В. Фи-
лософова, В. В. Розанова, А. В. Карташева, Н. А. Бердяева (последний - автор книги «Новое
религиозное сознание и общественность». СПб., 1907).
С. 241.
67*. Король умер, да здравствует король! (φρ.).
68*. См. примеч. 25*.
69*. «Декларация прав человека и гражданина исторически имеет религиозное
происхождение, - писал Н. А. Бердяев... - Иеллинек в своем исследовании о происхождении прав
окончательно показал, что декларация эта зачалась в религиозных общинах Англии и имела
своим источником религиозное сознание свободы совести и безусловного значения
человеческого лица, ограничивающего всякую власть государства. Из Англии декларация прав человека и
гражданина была перенесена в Америку, а затем уже во Францию» (Бердяев Н. А. Новое
религиозное сознание и общественность. С. 43).
70*. Действующие лица (лат.).
С. 242.
71*. Прямое действие (φρ.). Один из видных деятелей французского синдикализма
Г. Лагардель писал: «Прямое действие предполагает деятельное вмешательство отважного
меньшинства. Не масса, тяжелая и неповоротливая, должна здесь высказываться, чтобы
начать борьбу, как это имеет место в демократии; не число составляет здесь закон и не
количество является правилом - образуется избранная группа (une elite), которая, в силу качества,
увлекает массу и направляет ее на путь битвы» (Цит. по: Новгородцев П. И. Об общественном
идеале. М., 1991. С. 473-474).
72*. См. примеч. 22* к статье «Христианство и социальный вопрос».
С. 243.
73*. Статья В. С. Соловьева, написанная им незадолго до смерти, является ответом на
рецензию С. Н. Трубецкого на «Три разговора», опубликованную в журнале «Вопросы философии
и психологи» (1900. Май-июнь). Эта небольшая статья тесно примыкает к «Трем разговорам» и
является своего рода «последним словом» В. С. Соловьева. Вот ее окончание, процитированное
по десятитомному изданию Собрания сочинений Соловьева (напомню, что С. Н. Булгаков
пользовался 9-томным собранием): «Что современное человечество есть больной старик и что
всемирная история внутренно кончилась - это была любимая мысль моего отца, и когда я по
молодости лет ее оспаривал, говоря о новых исторических силах, которые могут еще выступить
на всемирную сцену, то отец обыкновенно с жаром подхватывал: "Да в этом-то и дело, говорят
тебе: когда умирал древний мир, было кому его сменить, было кому продолжать делать
историю: германцы, славяне. А теперь где ты новые народы.отыщешь? Те островитяне, что ли,
которые Кука съели? Так они, должно быть, давно от водки и дурной болезни вымерли, как и
краснокожие американцы. Или негры нас обновят? Так их хотя от легального рабства можно
было освободить, но переменить их тупые головы так же невозможно, как отмыть их черноту".
А когда я, с увлечением читавший тогда Лассаля, стал говорить, что человечество может
обновиться лучшим экономическим строем, что вместо новых народов могут выступить новые
общественные классы, четвертое сословие и т. д., то мой отец возражал с особым движением
носа, как бы ощутив какое-то крайнее зловоние. Слова его по этому предмету стерлись в моей
памяти, но, очевидно, они соответствовали этому жесту, который вижу как сейчас. Какое
яркое подтверждение своему продуманному и проверенному взгляду нашел бы покойный историк
теперь, когда вместо воображаемых новых, молодых народов нежданно занял историческую
сцену сам дедушка-Кронос в лице ветхого деньми китайца и конец истории сошелся с ее
началом!
Историческая драма сыграна, и остался еще один эпилог, который, впрочем, как у Ибсена,
может сам растянуться на пять актов. Но содержание их в существе дела заранее известно»
(Соловьев В. С. Собр. соч. Т. X. С. 225-226).
74*. Вопрос о том, «знал ли» Ф. М. Достоевский Канта, - довольно сложный. Прямых
свидетельств об этом нет, тем не менее большинство современных исследователей считают, что
Достоевский не только знал Канта, но и глубоко продумал его систему. См.: Голосовкер Я. Э.
Достоевский и Кант. Размышления читателя над романом «Братья Карамазовы» и трактатом
Канта «Критика чистого разума». М., 1963; Гулыга А. В. Кант. М., 1981. С. 119-125, 287-293.
При этом Голосовкер ссылается на единственное документальное свидетельство, которое
можно было бы истолковать в пользу такого предположения, - на письмо Φ. Μ. Достоевского
к брату от 30 января-22 февраля 1854 г. «Пришли мне Коран, - пишет здесь Достоевский, -
499
"Critique de raison piere" Канта и... "Гегелеву «Историю философии". С этим вся моя
будущность соединена!» {Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. Л., 1985. Т. XXVIII. Кн. 1. С. 173).
Известно, что писателю книги были высланы, но до него не дошли (Там же. С. 455). Правда,
книга Гегеля, каким-то образом попала к Достоевскому и, по утверждению А. Б. Врангеля,
они собирались ее вместе переводить (см.: Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников.
М., 1990. Т. 1. С. 378), но, как сообщает H. H. Страхов, - «книга осталась нечитанною и он
<Достоевский> подарил ее мне вскоре после первого знакомства» (Там же. С. 378).
Не исключено, конечно, что «Критика...» И. Канта могла, как и книга Гегеля, тогда же
попасть к Достоевскому неведомым нам путем, как, впрочем, не исключено и то, что он мог
познакомиться с ней раньше (в кружке Петрашевского) или позже, но, как было уже сказано,
прямых доказательств этого нет. В сохранившейся библиотеке Достоевского также нет
сочинений Канта; есть только книга А. В. Грубе «Биографические картинки» (М., 1877), в которой
одна глава посвящена «Эммануилу Канту» (Гроссман А. П. Семинарий по Достоевскому. М.;
Пг., 1922. С. 37).
Имя Канта упоминается Достоевским один раз в «Записной книжке 1860-1862 гг.» в
полемике с Н. Г. Чернышевским, где оно фигурирует в довольно ироничном перечне «всех великих
мира сего», куда Достоевский включает «Канта, Гегеля, Альбертини, Дудышкина»
(Достоевский Ф. М. Поли. собр. Т. XX. С. 154).
Дважды встречается имя Канта в «Дневнике писателя» (за 1880 и 1881 гг.): «Представьте,
что в будущем обществе есть Кеплер, Кант и Шекспир: они работают великую работу для всех
и все сознают и чтут их» (Там же. Т. XXVI. С. 163); «...У нас в Росси могут родиться... и
гении, руководители человечества вроде Бэкона, Канта и Аристотеля» (Там же. Т. XXVII. С. 35).
Эти упоминания, разумется, не могут служить доказательством знакомства Достоевского с
сочинениями Канта, но они тем не менее свидетельствуют о его уважительном отношении к
философу.
А. В. Гулыга вслед за Н. Вильмонтом считает, что идеи Kaifra могли приходить к
Достоевскому «обходным путем через Шиллера, которым он восхищался» (Кант. С. 288).
Проблема же соотношения мировоззрений Достоевского и Канта решается Я. Э. Голосовке-
ром и А. В. Гулыгой диаметрально противоположным образом. По Голосовкеру, «Кант <...>
предстал перед Достоевским как главный противник» (Голосовкер Я. Э. Достоевский и Кант.
С. 96), А. В. Гулыга считает непреложным факт, что «Кант и Достоевский -
единомышленники» (Кант. С. 288). При этом он считает, что «они сходились в главном - в концепции
свободной личности» (Там же).
Едва ли Я. Э. Голосовкер согласился бы с последним утверждением. С точки зрения
религиозного сознания, «главное» для Достоевского и Канта - «не концепция свободной личности»,
а проблема Бога: «Признавал ли хоть один философ Бога?» - так сформулирует ее Л. И.
Шестов (см. также его интересные рассуждения о религиозности И. Канта: «Власть ключей».
Берлин, 1923. С. 60-64).
Проблема «Достоевский - Кант» нуждается в дальнейшем исследовании, и в этой связи
следует обратить внимание на то, что наблюдение С. Н. Булгакова позволяет, более того -
требует, включить в поле зрения исследователя, занимающегося этой проблемой, роман «Бесы»
(который упускают и Я. Э. Голосовкер, и А. В. Гулыга - первый вполне сознательно, так как
круг его размышлений заранее ограничен, второй - неизвестно по какой причине, см.: Указ.
соч. С. 124}. «Антиномическая природа сознания», «концепция свободной личности» и
проблема «Бог и Мир» поставлена и решена здесь Достоевским не менее остро, чем в «Братьях
Карамазовых». Может быть, здесь и будет найден ключ к решению проблемы «Достоевский -
Кант».
75*. Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. Т. XI. С. 183-184.
С. 244.
76*. «Всемирная история, - писал Гегель, - есть выражение божественного, абсолютного
процесса духа в его высших образах, она есть выражение того ряда ступеней, благодаря
которому он, осуществив свою истину, доходит до самосознания» (Гегель. Философия истории //
Сочинения. М.; Л., 1936 т. VIII. С. 51).
Ср. со словами H. M. Карамзина из Предисловия к «Истории государства Российского»:
«История в некотором смысле есть священная книга народов: главная, необходимая; зерцало
их бытия и деятельности; скрижаль откровений и правил; завет предков их потомству;
дополнение, изъяснение настоящего и пример будущего» (Цит. по: Эйделъман Н. Я. Последний
летописец. М., 1983. С. 164).
77*. Особая форма причудливого миража, при котором отдаленные предметы видны
многократно и с разнообразными искажениями. «Fata morgana» - название повести украинского
писателя M. M. Коцюбинского (1-я часть была издана в 1904 г., вторая - в 1910).
500
С. 245.
78*. Т. е. самоотравлением. Термин принадлежит И. И. Мечникову, на которого чуть ниже
и ссылается С. Н. Булгаков.
Мечников считал естественную смерть «крайне редкой у человека» «Гораздо вероятнее, -
писал он, - что причина ее — самоотравление организма» (Мечников И. И. Этюды оптимиста.
М., 1987. С. 108).
В качестве средства борьбы с самоотравлением он предлагал вводить в организм
«антитоксические сыворотки» и др. антитоксины (Там же. С. 140 и ел.).
О Мечникове см. также примеч. 71* к статье «Религия человекобожия у Л. Фейербаха» и
примеч. 7* к статье «Воскресение Христа и современное сознание».
79*. Откр. 22, 20.
80*. Многочисленные проявления этого мироощущения описаны С. Князьковым в его
книге «Очерки из истории Петра Великого и его времени» (М., 1990. С. 511-536; очерк
«Старообрядчество во времена Петра Великого»).
С. 246.
81*. Цитируется письмо к Е. В. Розановой (в замужестве Селевиной) от 2 августа 1873 г.
(Письма В. С. Соловьева. СПб., 1909. Т. III. С. 87; Соловьев В. С. «Неподвижно лишь солнце
любви...». Стихотворения. Проза. Письма. Воспоминания современников. М., 1990. С. 173).
82*. Изида - древнегреческая богиня плодородия, которой приписывали изобретение
различных магических формул и тайнознание.
Возможно, это сравнение навеяно С. Н. Булгакову исследованием Вс. С. Соловьева (брата
философа) «Современная жрица Изиды. Мое знакомство с Е. П. Блаватской и теософским
обществом». СПб., 1904.
83*. Понятие «розового христианства» принадлежит К. Н. Леонтьеву и употреблено им
применительно к Л. Толстову и Ф. М. Достоевскому в предисловии к брошюре «Наши новые
христиане. Ф. М. Достоевский и гр*. Лев Толстой: По поводу речи Достоевского на празднике
Пушкина и повести гр. Толстого "Чем люди живы?"» (М., 1882). «Как ни разнятся между
собой Толстой и Достоевский, - писал в этом предисловии К. Н. Леонтьев, - и по складу
творчества своего, и по столикому другому, но они сходятся в одном: они за последнее время стали
проповедниками того одностороннего христианства, которое можно позволить себе назвать
христианством сентиментальным или розовым... Этот оттенок христианства очень многим
знаком; эта своего рода ересь, неформулированная, не совокупившаяся в организованную
еретическую церковь, весьма распространена у нас теперь в образованном классе».
С возражениями Леонтьеву выступил Н. С. Лесков, который в своей статье «Граф
Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский как ересиархи» (Новости. 1883. 1 и 3 апреля),
систематизировав обвинения Леонтьева против Ф. М. Достоевского («Ересь первая: Ф. М. Достоевский
верит в прогресс человечества, в будущее блаженство всех народов, в воцарение на земле
благоденствия и гармонии, в торжество любви, правды и мира <...> В космополитической любви,
которую Достоевский считает уделом русского народа... состоит, по мнению г. Леонтьева,
вторая ересь Достоевского». - Н. С. Лесков о литературе и искусстве. Л., 1984. С. 113-116),
пришел к категорическому выводу о том, что «голос совести велит нам стоять на стороне
Достоевского, а некоторое малое знание духовной литературы поневоле заставляет сомневаться в
богословских и церковных познаниях г. К. Леонтьева» (Там же. С. 117).
Точка зрения К. Н. Леонтьева неожиданно находит поддержку у современного
исследователя: «Понимание христианства у него <К. Н. Леонтьева> было жестче и церковнее, нежели у
современных ему писателей, что так гуманно-жидко христианствовали: Толстой, Достоевский - в
них "ересь" христианства "сантиментального" или "розового" <...> Слишком уж в угоду
человеку и его слабости, без священного трепета и чувства своего греха. Да, Бог есть Любовь - но
это в итоге долгого труда и аскезы, а "начало премудрости - страх Господень". И наивно, и
еретично желать устроения рая на земле: "мир во зле лежит" - ясно сказано» (Гачев Г.
Русская дума. М., 1991. С. 52).
Из контекста, в котором С. Н. Булгаков употребляет термин Леонтьева, очевидно, что он
понимает под «розовым христианством» «словесно-ритуальное» исповедание веры и ни в
малейшей степени не относит его к Ф. М. Достоевскому.
С. 247.
84*. Букв.: длинные костлявые пальцы; здесь: размашистые закорючки (φρ.).
85* Соловьев Вл. Письма. Пг., 1923. Т. IV. С. 11-12.
501
РЕЛИГИЯ ЧЕЛОВЕКОБОЖИЯ В РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
С. 248.
1*. Цитата из посвящения к «Евгению Онегину» А. С. Пушкина.
2*. Теоретическое обоснование« этого «перелома» дано С. Н. Булгаковым в книге «От
марксизма к идеализму» (СПб., 1903). О своей духовной эволюции он подробно рассказывает в
своих «Автобиографических заметках» (Париж: Ymca-press, 1946). «Примерно до 12-13 лет, -
пишет он здесь, - я был верным сыном Церкви по рождению и воспитанию. (Напомню, что
Булгаков родился в семье потомственного кладбищенского священника. - В. С.) учился в
духовной школе, сначала в Духовном училище (четырехклассном) в родном городе Ливны, а
затем в Орловской Духовной семинарии (3 года). Уже... в первом-втором классе семинарии
наступил религиозный кризис, который, - правда, хотя и с болью, но без трагедии, -
закончился утратой религиозной веры на долгие, долгие годы, и с 14 лет, примерно до 30, блудный сын
удалился в страну далеку...» (Там же. С. 34). В 1898-1900 гг. Булгаков вместе с женой Еленой
Ивановной (урожд. Токмаковой) находился в научной командировке в Германии. Здесь, по его
словам, «наперекор ожиданиям, началось быстрое разочарование и мое "мировоззрение" стало
трещать по всем швам. В результате, когда я вернулся на родину... я был в состоянии полной
резинъяции, в которой сначала робко и неуверенно, а затем все победнее стал звучать голос
религиозной веры. Ее я начал исповедовать с тех пор в своих сочинениях с 1901-1902 года»
(Там же. С. 36-37).
Свой переход «от марксизма к идеализму» С. Н. Булгаков объясняет двумя причинами:
любовью к Иисусу Христу, привитой ему с детства, и духовным влиянием Ф. М. Достоевского
и В. С. Соловьева. К числу этих причин следует отнести и его «чудесную встречу» с
Сикстинской мадонной, которую он пережил в Дрездене. Вот как он сам об этом рассказывает: «Это
было не эстетическое волнение, нет, то была встреча, новое знание, чудо... Я (тогда марксист)
невольно называл это созерцание молитвой и всякое утро... бежал туда, пред лицо Мадонны,
«молиться» и плакать, и немного найдется в жизни мгновений, которые были бы блаженнее
этих слез...» (Там же. С. 64).
Следует отметить еще одно существенное обстоятельство, сыгравшее свою роль в духовной
биографии Булгакова, - его общение с Л. Н. Толстым. А. Б. Гольденвейзер в своем дневнике в
записи от 20 марта 1897 г. (Москва) рассказывает: «Был у Толстых, там был С. Н. Булгаков -
марксист. Л. Н. был в ударе и очень горячо, страстно спорил с Булгаковым, яро отстаивавшим
свои марксистские положения. Диалектика Л. Н. одержала верх, и Булгаков аргументировал к
концу все слабее и слабее... Я глубоко убежден, - пишет в примечании к этой записи
Гольденвейзер, - что эта беседа была одним из сильнейших толчков, заставивших Булгакова вскоре
отказаться от марксизма и пойти по совершенно иному, хотя и весьма далекому от Льва
Николаевича, пути» {Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого. М., 1922- Т. 1. С. 7-8).
Окончательное возвращение «блудного сына» произошло в начале 1905 г.: Булгаков -
впервые за долгие годы - исповедуется в церкви.
Но на этом его духовная эволюция не закончилась: в 1918 г. Булгаков принял сан
священника и вскоре отказался от философского творчества вообще, хотя и во всех его последующих
богословских сочинениях совершенно отчетливо просматривается философская «закваска». Для
понимания теоретических причин этого «второго перелома» в мировоззрении Булгакова важное
значение имеет его книга «Трагедия философии». «Философ, - пишет здесь С. Н. Булгаков, -
не может не летать, он должен подняться в эфир, но его крылья неизбежно растаивают от
солнечной жары, и он падает и разбивается. Однако при этом взлете он нечто видит, и об этом
видении и рассказывает в своей философии. Настоящий мыслитель, так же как и настоящий
поэт (что, в конечном счете, одно и то же), никогда не врет, не сочиняет, он совершенно
искренен и правдив, и, однако, удел его - падение. Ибо он восхотел системы: другими словами,
он захотел создать логически мир из себя, из своего собственного принципа - "будьте как
боги", - но эта логическая дедукция мира невозможна для человека» (Вестник РСХД. 1971.
№ 101-102. С. 90). «История философии, - утверждает Булгаков, - есть трагедия. Это -
повесть о повторяющихся падениях Икара и о новых его взлетах» (Там же. С. 89).
Религии и церковности Булгаков придавал чрезвычайно большое значение как в плане
личном, так и в общем. «Вместе с церковью, - писал он в «Автобиографических заметках», - я
воспринял в душу и народ русский, не вне, как какой-то объект почитания и вразумления, но
из нутра, как свое собственное существо, одно со мною. Нет более народной и, так сказать,
народящей, онародивающей стихии, нежели церковь, именно потому, что здесь нет "народа", а
есть только церковь, единая для все и всех единящая» (цит. по: Новый мир. 1989. № 10.
С. 207).
И, наконец, в диалогах «На пиру богов» устами «Светского богослова» С. Н. Булгаков
высказал истину, которую в наше время можно рассматривать как пророческую: «Надо
возрождать церковную жизнь - это сейчас самая важная патриотическая, культурная, даже полити-
502
ческая задача в России. Только отсюда, из духовного центра, и может быть возрождена Россия...
В России имеет культурную будущность только то, что церковно, конечно, в самом обширном
смысле этого слова» (Из глубины: Сб. статей о русской революции. М.: Новости, 1991. С. 141).
С. 249.
3*. Эта мысль, по-видимому, общая для всей русской религиозно-идеалистической
философии. Например, П. Я. Чаадаев на форзаце принадлежащей ему Библии записал: «Какая
радость для христианского философа иметь возможность сказать, что эти... святые истины,
которые ему дано постичь, составляют также счастье простого человека...» {Чаадаев П. Я. Поли,
собр. соч. и избр. письма. М., 1991*. Т. 1. С. 584).
4*. Точнее: «О, мое детство, чистота моя!» — слова Л. А. Раневской из первого действия
«Вишневого сада» (Чехов А. П. Собр. соч. М., 1961. Т. 10. С. 620). В дальнейшем
незначительные неточности, допущенные Булгаковым при цитировании, специально не оговариваются и не
исправляются.
5*. Из стихотворения Н. А. Некрасова «Тишина» {Некрасов Н. А. Собр. соч. М., 1979. Т. 1.
С. 259-260).
С. 250.
6*. С. Н. Булгаков был избран депутатом II Государственной думы от Орловской губернии
как беспартийный «христианский социалист». Он девять раз поднимался на ораторскую
трибуну: 24 февраля (3-е заседание), 6 марта (5-е заседание), 7 марта (6-е заседание), 12 марта (8-е
заседание), 15 марта (10-е заседание), 27 марта (17-е заседание), 7 мая (34-е заседание), 15 мая
(38-е заседание) и 17 мая 1907 г. (40-е заседание) (См.: Государственная дума. Второй созыв.
Стенографический отчет. СПб., 1907. Т. I. Стб. 27-28; 84-85; 210-212; 397-401; 546-548;
1245-1249; Т. II. Стб. 281-284; 577-580; 749-753).
Особенно интересными и значительными были выступления Булгакова на 8-м и 40-м
заседаниях. На 8-м заседании, посвященном обсуждению деятельности военно-полевых судов, он
сказал: «Я вижу, что та междоусобная война, та пропасть, которая разъединяет Россию, влечет
к величайшей опасности, если не к гибели. Государственная Дума, народное представительство
должно возложить на себя эту нелегкую задачу: создание права вместо бесправия. С этой точки
зрения, как член народного представительства, а не как член какой-нибудь партии,
сознательно возвышаясь над отдельной партийной точкой зрения в эту минуту, я должен сказать, что
прежде всего народное представительство должно в целях умиротворения заявить
правительству: будьте же тем сильным, мужественным правительством, которым вы хотите быть. Если вас
нельзя запугать в смысле физическом (намек на знаменитые слова П. А. Столыпина: «Не
запугаете!», произнесенные 6 марта 1907 г. на заседании Государственной думы . - В. С), то
найдите в себе мужество быть правительством христианским, т. е. прежде всего воплотите в право
все требования христианской морали, которые на словах вы признаете. Несчастие России за
последнее время состоит в том, что у нас нет права...» (Государственная дума... Т. I. Стб. 398-
399).
На 40-м заседании Булгаков предложил свой проект «выхода» из состояния «кровавого
боя», в котором находилась в то время Россия, - «выход, не состоящий в том, что победит та
или другая сторона и затем растопчет противную сторону, а в том, что произойдет какое-то
высшее примирение на какой-то высшей, чем теперешняя борьба, моральной и правовой почве...»
(Там же. Т. I. Стб. 750; это выступление было удостоено аплодисментов «центра и справа»).
«Высшего примирения», к которому призывал Булгаков, как известно, не получилось:
страна уверенно шла к национальной катастрофе. Вообще деятельность Гос. думы (особенно
первой) разочаровала его «отсутствием в ней государственного разума». II думе посвящены
две статьи С. Н. Булгакова: «Церковный вопрос в Гос. думе», «Из думских впечатлений.
Прения о военно-полевых судах» (Век. 1907. № 10 и № 12). Об участии С. Н. Булгакова в работе II
Гос. думы и о его встрече (вместе со Струве, Челноковым и Маклаковым) с П. А. Столыпиным
накануне ее закрытия см.: Маклаков В. А. Вторая Государственная дума. Воспоминания
современника. London, 1991. С. 246-247.
В 1912 г. Булгаков принимал участие в двухступенчатых выборах в IV Гос. думу в
качестве выборщика от Орловской губернии. О своих впечатлениях он рассказал в статье «На
выборах. Из дневника» (Русская мысль. 1912. № 11; перепечатано: Новый мир. 1989. N° 10. С.
234-238), в которой, между прочим, отметил: «Величайшее несчастие русской политической
жизни, что в ней нет и не может образоваться подлинного («английского») консерватизма...»
(Новый мир. 1989. № 10. С. 235).
С. 252.
7*. Другое Я {лат.).
8*. Достоевский Ф. М. «Идиот». 4, VII.
503
9*. См. примеч. 13* к статье «Религия человекобожия Л. Фейербаха».
10*. «Бог, который все видел, не исключая и человека, - этот Бог должен был умереть!
Человек не выносит, чтобы такой свидетель жил» (Так говорил Заратустра // Ницше Ф.
Сочинения. М., 1990. Т. 2. С. 192). «Мы отрицаем Бога, мы отрицаем ответственность в Боге: этим
впервые спасаем мы мир» (Сумерки идолов // Там же. С. 584). «Бог умер! Бог не воскреснет! И
мы его убили!» (Веселая наука // Там же. Т. 1. С. 593). «Величайшее из новых событий - что
"Бог умер" и что вера в христианского Бога стала чем-то не заслуживающим доверия, -
начинает уже бросать на Европу свои черные тени» (Там же. С. 662). И множество других мест.
С. 253.
11*. См.: Лк. 15, 12-23: «И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели
свиньи, но никто не давал ему» (16). «А отец сказал рабам: ... приведите откормленного теленка и
заколите: станем есть и веселиться» (22-23).
12*. Ты сотворил нас по Себе, наше сердце неспокойно, пока не успокоится в Тебе (лат.).
13*. Вперед и выше (лат.) - название баллады г. Лонгфелло, в которой этот призыв
повторяется как рефрен. Ср. со словами Заратустры: «Горе имейте сердца ваши, братья мои,
выше, выше» (Ницше Ф. Поли. собр. соч. М.ё 1900. Т. 1. С. 323.
14*. В вышних (лат.).
15*. Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы. Кн.6. Гл. III: Из бесед и поучений старца Зо-
симы; ж) О молитве, о любви и о соприкосновении мирам иным.
С. 254.
16*. Байрон Дж. Каин. / Пер. Е. Зарина. Акт 2, сцена 2. Любопытные параллели между
творчеством Байрона и А. П. Чехова С. Н. Булгаков проводит в статье «Чехов как мыслитель»
(Киев, 1905): «Чехов и Байрон, - по его мнению, - оба певцы мировой скорби, скорби о
человеке, оказываются и в художественном и философском трактовании человека антиподами:
одного занимали исключительно судьбы сверхчеловека, высших экземпляров человеческой
природы, другого - духовный мир посредственности, неспособной даже стать вполне человеком»
(с. 19).
17*. Байрон Дж. Каин. Акт 1, сцена 1.
18*. Деян. Ап. 17, 16-23.
С. 255.
19*. Когда Платон выступил с определением: «Человек есть животное с двумя ногами и без
перьев» - и заслужил всеобщее одобрение, Диоген ощипал петуха и принес его в платоновскую
школу со словами: «Вот человек Платона». Тот прибавил к своему определению: «и, кроме
того, с плоскими ногтями» (Антология кинизма. Фрагменты сочинений кинических мыслителей.
М., 1984. С. 148; источник: Диог. Лаэрт., VI, 40).
20*. Ин. 18, 38.
21*. Ин. 14, 6.
22*. «Положим, мы хотим истины, - отчего же лучше не лжи?» «Признать ложь за
условие, от которого зависит жизнь, - это, конечно, рискованный способ сопротивляться
привычному чувству ценности вещей, и философия, отваживающаяся на это, ставит себя уже одним
этим по ту сторону добра и зла» (Ницше Ф. По ту сторону добра и зла // Сочинения. М., 1990.
Т. 2. С. 241, 243).
23*. Мысль, в тех или иных вариациях довольно часто встречающаяся у О. Уайльда. Ср.,
например: «Высоко развитый интеллект уже сам по себе некоторая аномалия...» «Все грехи
мира совершаются в мыслях...» (Портрет Дориана Грея. Гл. И, III). В незавершенном
автобиографическом отрывке «Пять лет» Булгаков называет «Дорианом Греем от профессуры»
Г. Г. Шпета (Булгаков С. Н. Тихие думы . М., 1996. С. 340).
24*. Пусть живет, растет, процветает! (лат.).
С. 256.
25*. Стихотворение Ф. И. Тютчева «Сны» (Тютчев Ф. И. Сочинения. М., 1980. Т. 1. С. 56-
57).
26*. Особенно в статье «Основные проблемы теории прогресса», опубликованной впервые в
сб. «Проблемы идеализма» (М., 1902), затем включенной С. Н. Булгаковым в состав его книги
«От марксизма к идеализму» (СПб., 1903). См. также: Булгаков С. Н. Философия хозяйства.
М., 1990 (Приложения).
504
С. 257.
27*. Мф. 5, 48.
28*. 1 Ин. 4, 8.
29*. Имеется в виду «дух земли», «деятельный гений бытия», явившийся Фаусту в сцене
«Ночь», которой открывается первая часть трагедии, и который говорит о себе:
Я в буре деяний, в житейских волнах,
В огне, в воде,
Всегда, везде,
В извечной смене
Смертей и рождений.
Я - океан,
И зыбь развитья,
И ткацкий стан
С волшебной нитью,
Где времени кинув сквозную канву,
Живую одежду я тку божеству.
(Гете И. В. Фауст. М., 1969. С. 51; пер.
Б. Пастернака)
30*. Цитата из стихотворения Е. А. Баратынского «На смерть Гете».
31*. О Мечникове см. С. 31, 245 наст, издания. Говоря о «слабом утешении Фейербаха»,
Булгаков имеет в виду рассуждение немецкого философа о «нормальной смерти», которое он
приводит в статье «Религия человекобожия у Л. Фейербаха» (см. с. 30-31 наст. изд).
С. 258.
32*. Намек на Ф. Ницше («Неужели для жизни нужна толпа? Нужны отравленные
источники, зловонные они? грязные сны и черви в хлебе жизни?»// Ницше Ф. Так говорил Зарату-
стра. М., 1990. С. 85) и книгу М. Штирнера «Единственный и его достояние», об оценке
которой Булгаковым см. в статье «Религия человекобожия у Л. Фейербаха».
33*. О невозможности исторического предсказания, по Булгакову, см. примеч. 48* к статье
«Первохристианство и новейший социализм». Интересное рассуждение на эту тему см. в
«Философии хозяйства». М., 1990. С. 272-274.
Ссылаясь на исследование Г. Риккерта здесь и в «Философии хозяйства», С. Н. Булгаков
имеет в виду его книгу «Границы естественно-научного образования понятий. Логическое
введение в исторические науки» (СПб., 1903), в частности - на рассуждение на с. 442-443,
которое, ввиду того, что книга Риккерта практически недоступна современному русскому
читателю, привожу полностью: «...мы можем, наконец, формулировать и наше отношение к
вызывавшему много споров вопросу о том, в состоянии ли история сказать что-либо относительно
будущего. Важно выяснить себе, что эта проблема находится в тесной связи с проблемой истории как
науки, формулирующей законы, так как, если бы существовали исторические законы, история
должна была бы быть в состоянии не только понять прошлое, но и заранее предвидеть будущее.
• И естественнонаучному мышлению абсолютно недоступно всякое познание
индивидуальности какого-нибудь будущего события, т. е. мы всегда можем знать наперед лишь то, что
наступят события, которые подходят, как экземпляры, под то или иное общее понятие, но
остается навсегда неизвестно, какие индивидуальности они будут иметь. Мы знаем, что вишневое
дерево зацветет весной и на нем появятся цветы, плоды летом, т. е. появятся объекты,
подходящие под общие понятия о вишневых цветах и вишнях, но никакая наука не осведомляет нас
о том, чем отдельные цветы и плоды отличаются друг от друга. Итак, тот вид, который будет
иметь абсолютно историческое событие даже ближайших часов, принципиально непознав.аем.
И в повседневной жизни мы ориентируемся всегда лишь благодаря применению общих
понятий и можем предсказывать лишь будущее появление их экземпляров.
Итак, в истории некоторое знание относительно будущности мыслимо лишь постольку,
поскольку она подходит под относительно исторические понятия. Однако и это знание не давало
бы нам ничего, кроме совершенно ненадежных предположений во всех тех случаях, где мы не
способны оказывать при посредстве нашей воли влияние на ход событий и, следовательно,
известным образом изолировать его, как естествоиспытатель в эксперименте изолирует вещи.
Даже если бы можно было применять те понятия законов, которые могут иногда встречаться в
каком-либо историческом изложении, и тогда говорить о "тенденциях развития", все-таки
вследствие реальной исторической связи различных событий всегда получалась бы лишь
возможность того, что наступит определенное событие, подходящее под некоторое относительно
историческое понятие. Абсолютно не допускающее предвидения воздействие каких-либо
других исторических объектов всегда может нарушить "тенденцию развития" и поэтому
исключает всякую достоверность предсказания.
505
При всем этом и такие чаемые возможности не вполне лишены значения, раз только они
не признаются исторически научными прозрениями или даже подлинною целью истории, коль
скоро они оказывают влияние на нашу волю и побуждают нас действовать для их
осуществления, и отсюда понятно, почему историю изучают и практические деятели, чтобы чему-то
научиться из нее. Но именно то, что должно побуждать наше хотение и действование, должно
оставаться всего лишь возможностью для нашего интеллекта. Если бы мы могли действительно
предвидеть будущее в его индивидуальности и если бы мы, стало быть, точно знали, что
должно наступить, все хотение и действование тотчас утратило бы смысл. Итак, мы имеем
основание только радоваться тому, что не существует никаких исторических законов.
Иррациональность действительности, полагающая предел всякому естественнонаучному пониманию,
принадлежит, в то же время, к числу высочайших благ для того, кто, всегда стремясь, делает
усилия. Если бы и будущее в его индивидуальности было объектом нашего знания, оно
никогда не оказывалось бы объектом нашего хотения. В совершенно рациональном мире никто не
может действовать».
34*. Высказывание Л. Фейербаха (см. примеч. 7* к статье «Христианство и социальный
вопрос». О еде как «натуральном причащении, приобщении плоти мира» см.: Булгаков С. Н.
Философия хозяйства. М., 1990. С. 71-72.
С. 259.
35*. Эпизод, о котором рассказывает Петрарка, имел место весной 1336 г. и описан им в
сочинении «Familiarium rerura libri» (Письма о делах личных. IV, I). Вместе со своим младшим
братом Герардо Петрарка поднялся на вершину Мон Ванту в окрестностях Авиньона. «Я
закрыл книгу, - рассказывает далее Петрарка, - возмущенный самим собой за то, что не
прекращаю дивиться на вещи земные, в то время как у самих языческих философов я должен
был научиться тому, что ничему не следует удивляться более, нежели человеческой душе, с
величием которой ничто не может сравниться» (цит. по: Хлодовский Р. И. Франческо
Петрарка. М., 1974. С. 60).
36*. Лк. 21, 25.
37*. Откр. 16, 10.
С. 260.
38*. В очерке «О самоубийстве и высокомерии», помещенном в 1-й главе декабрьского
выпуска «Дневника писателя» за 1876 г., Ф. М. Достоевский, анализируя причины самоубийства
17-летней дочери А. И. Герцена Елизаветы, писал: «Я выразил предположение, что умерла она
от тоски... и бесцельной жизни - лишь вследствие своего, извращенного теорией воспитания в'
родительском доме, воспитания с ошибочным понятием о высшем смысле и целях жизни, с
намеренным истреблением в душе ее всякой веры в ее бессмертие» {Достоевский Ф. М. Пола
собр. соч. Л., 1982. Т. XXIV. С. 54). В первой главе октябрьского выпуска «Дневника
писателя» за тот же год Достоевский поместил два очерка о причинах самоубийства: «Два
самоубийства» и «Приговор». Последний очерк представляет собой письмо, написанное Достоевским
якобы от лица «одного самоубийцы от скуки, разумеется, матерьялиста» (Там же. Т. XXIII.
С. 146) и повторяющее в краткой и заостренной форме предсмертную исповедь Ипполита Терен-
тьева - «Мое необходимое объяснение», - одного из персонажей романа «Идиот» (ч.З, V-VII).
39*. Известный афоризм Гегесия гласит: «Нет полного счастья. Тело мучимо
многообразными страданиями, и душа страдает вместе с ним; поэтому безразлично, выберем ли мы жизнь
или смерть». Его лекции действительно вызывали во многих слушателях такое равнодушие к
жизни, что они кончали самоубийством. Об этом рассказывает Цицерон в «Тускуланских
беседах» (1, 34). См. также: Гегель. Сочинения. М., 1932. Т. X. С. 114-115).
40*. Источник цитаты не установлен, и нет уверенности, что Булгаков цитирует вполне
точно: во всяком случае, немало подобных рассуждений в оправдание самоубийства можно
найти у Сенеки в «Нравственных письмах к Луцилию». Например: «Кто захочет, тому ничто не
мешает взломать дверь и выйти. Природа не удержит нас взаперти; кому позволяет
необходимость, тот пусть ищет смерти полегче... Разум... учит, чтобы ты умирал, как тебе нравится,
если это возможно, а если нет - то как можешь, схватившись за первое попавшееся средство
учинить над собой расправу» (LXX, 27-28). Ср. XII, 10 и XXX, 15 и множество других мест.
41*. Ин. 15, 11. См. также примеч. 52* к статье «О первохристианстве».
42*. Мф. 11, 28.
43*. Мф. 11, 30: «... иго Мое благо, и бремя Мое легко».
44*. «.Мещанство, - писал А. И. Герцен в статье «Концы и начала» (1862-1863), -
последнее слово цивилизации, основанной на безусловном самодержавии собственности...С
мещанством стираются личности, но стертые люди сытее. С мещанством стирается красота
природы, но растет ее благосостояние... Во имя этого мещанство победит и должно победить...
506
Пора прийти к покойному и смиренному сознанию, что мещанство - окончательная форма
западной цивилизации, ее совершеннолетие...» (Герцен А. И. Сочинения. М., 1986. Т. 2. С.
354-355, 394). Мировоззрение Герцена С. Н. Булгаков подробно анализирует в статье
«Душевная драма Герцена», включенной им в состав сборника «От марксизма к идеализму».
СПб., 1903.
45*. Мф. 11, 28.
С. 261.
46*. См. Соловьев В. С. Общий смысл искусства Сочинения. М., 1988. Т. 2. С. 399.
47*. Цитата из стихотворения А. К. Толстого «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...».
48*. Отметим, что в своем восприятии Сикстинской мадонны (и, по-видимому, вообще в
сфере художественного вкуса) "С. Н. Булгаков был конгениален Ф. М. Достоевскому, который
признавал творение Рафаэля «за высочайшее проявление человеческого гения». «...Я видела, -
вспоминает А. Г. Достоевская, - что мой муж мог стоять пред этою поразителеьной красоты
картиной часами, умиленный и растроганный» {Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1987. С.
169). В рабочем кабинете Достоевского висела фотография, на которой был воспроизведен
значительный фрагмент картины. В его художественных произведениях отношение того или
иного персонажа к Сикстинской мадонне является своеобразным критерием его нравственных
качеств. Свидригайлов, например, в «Преступлении и наказании» говорит, что «у Сикстинской
мадонны лицо фантастическое, лицо скорбной юродивой» (Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч.
Л., 1972. Т. VI. С. 369). В «Бесах» Степан Трофимович Верховенский называет Сикстинскую
мадонну «идеей вечной красоты» и собирается писать о ней «что-то». (Там же. Т. X. С. 25,
235). Еще более существенную роль в характеристике персонажа играет его отрицательное к
ней отношение. Юлия Михайловна Лембке в тех же «Бесах» рассуждает: «О дрезденской
Мадонне? Это о Сикстинской?... Я просидела два часа пред этой картиной и ушла
разочарованная. Я ничего не поняла и была в большом удивлении. Кармазинов тоже говорит, что трудно
понять» (Там же. С. 235).
Подобное же отношение к любимому творению Достоевского продемонстрировал и
Л. Н. Толстой. Вспоминая свою встречу с ним в Гаспре в 1902 г., С. Н. Булгаков писал: «Я
имел неосторожность выразить свои чувства к Сикстине, и одного этого упоминания было
достаточно, чтобы вызвать приступ задыхающейся, богохульной злобы граничащей с одержанием.
Глаза его загорелись недобрым огнем, и он начал, задыхаясь, богохульствовать. "Да, привели
меня туда, посадили на Forterbank <скамью для пыток>, я тер ее, тер ж..., ничего не высидел.
Ну что же: девка родила малого, девка родила малого, только всего, что же особенного?" И он
искал еще новых кощунственных слов, тяжело было присутствовать при этих судорогах духа»
(Булгаков С. Н. Автобиографические заметки. Париж, 1946. С. 109).
Правда, когда в 20-х гг. у Булгакова состоялась его «вторая встреча» с Сикстинской
мадонной, он, по его словам, «увидел и почувствовал нечистоту, нецеломудрие Рафаэля,
сладострастие его кисти и кощунственную ее нескромность» (Там же).
Об увлечении С. Н. Булгакова марксизмом см. примеч 2*.
С. 262.
49*. С. Н. Булгаков имеет в виду, в частности, и О. Уайльда, который писал в «Замыслах»:
«Эстетика выше этики. Уразуметь красоту вещи - высшее, что мы можем достигнуть» (цит.
по: Абрамович Н. Я. Религия красоты и страдания. О. Уайльд и Достоевский. СПб., 1909.
С. 74).
50*. Цитата из романа Ф. М. Достоевского «Идиот» (ч. 3, V) (Достоевский Ф. М. Поли,
собр. соч. Л., 1973. Т. VIII. С. 317). См. также примеч. 57* к статье «Религия человекобожия у
Л. Фейербаха».
С. 264.
51*. О «пророчествах» «Бесов» Ф. М. Достоевского написано достаточно много, поэтому
ограничусь указанием на самые новейшие исследования: Сараскина Л. «Бесы»:
роман—предупреждение. М., 1990; Твардовская В. А. Достоевский в общественной жизни России (1861-1881).
М., 1990. О пророческом сне Раскольникова, который и имеет в виду С. Н. Булгаков,
вспоминают в последнее время реже, хотя в нем содержится символическая картина истории мира и
особенно России на протяжении всего XX в. Поэтому позволю себе привести длинную цитату:
«Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей.
Но эти существа были духи, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя,
становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя так
умными и непоколебимыми в истине, как считали эти зараженные. Никогда не считали
непоколебимыми своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и
верований. Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали. Все были в
тревоге и не понимали друг друга, всякий думал, что в нем одном заключается истина, и му-
507
чился, глядя на других, бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки. Не знали, кого и как
судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром. Не знали, кого обвинять, кого
оправдывать. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг на
друга целыми армиями. Но армии, уже в походе, вдруг начинами сами терзать себя, ряды
расстраивались, воины бросались друг на друга, кололись и резались, кусали и ели друг друга. В
городах целый день били в набат: созывали всех, но кто и для чего зовет, никто не знал того,
а все были в тревоге. Оставили самые обыкновенные ремесла, потому что всякий предлагал
свои мысли, свои поправки, и не могли согласиться; остановилось земледелие. Кое-где люди
сбегались в кучи, соглашались вместе на что-нибудь, клялись не расставаться, - но тотчас же
начинали что-нибудь совершенно другое, чем сейчас же сами предполагали, начинали обвинять
друг друга, дрались и резались. Начались пожары, начался голод. Все и все погибало. Язва
росла и подвигалась все дальше и дальше. Спастись во всем мире могли только несколько
человек, это были чистые и избранные, предназначенные начать новый род людей и новую
жизнь, обновить и очистить землю, но никто и нигде не видал этих людей, никто не слыхал
их слова и голоса» (Достоевский Ф. М. Преступление и наказание. Эпилог, II).
С. 266.
52*. Имеется в виду волна террористических убийств в России в первое десятилетие XX в.;
самыми «громкими» из них были: убийство министра народного просвещения Боголепова
(февраль 1901 г.), убийство министра внутренних дел Сипягина (15 апреля 1902 г.), убийство
министра внутренних дел Плеве (28 июля 1904 г.), убийство великого князя Сергея
Александровича (17 февраля 1905 г.), самочинная расправа с Рапоном (10 апреля 1906 г.), наконец, в
сентябре 1911 г. (год издания книги «Два Града») - убийство в Киеве министра внутренних дел
П. А. Столыпина.
53*. В сентябре 1905 г. в крупнейших городах России (особенно в Москве и Петербурге)
произошел ряд крупнейших забастовок, предшествовавших началу Всероссийской октябрьской
«стачки», которая парализовала всю экономическую и политическую жизнь страны. 17
октября 1905 г. был издан царский Манифест, провозгласивший гражданские свободы в России.
С. Н. Булгаков вспоминал впоследствии, что при известии о Манифесте 17 октября он в толпе
студентов, нацепив красный бант, вышел на демонстрацию, но в какой-то момент
«почувствовал совершенно явственно веяние антихристова духа» и, придя домой, выбросил красный
бант в ватерклозет (Булгаков С. Н. Автобиографические заметки. Париж, 1946. С. 76).
С. 267.
54*. Подобное пророчество уже изрекал один «русский философ» в беседе с маркизом де
Кюстином: «Русская империя погибнет от религиозных разногласий» (К юс тин. Николаевская
Россия. М., 1930. С. 213). Возможно, этим философом был П. Я. Чаадаевым (см.: Чаадаев П. Я.
Поли. собр. соч. М., 1991. Т. 1. С. 735-736), хотя это предположение отвергается рядом
зарубежных и отечественных исследователей.
55*. См.: Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы. Кн. 6, III: из беседы и поучений старца
Зосимы. д) Нечто об иноке русском и о возможном значении его. «...От сих кротких и
жаждущих уединенной молитвы, выйдет, может быть, еще раз спасение земли Русской... Образ
Христов хранится пока в уединении своем благолепно и неискаженно, в чистоте правды Божией,
от древнейших отцов, апостолов и мучеников, и когда надо будет, явят его поколебавшейся
правде мира. Сия мысль велика. От востока звезда сия воссияет... От народа спасение Руси.
Русский же монастырь искони был с народом. Если же народ в уединении, то и мы в
уединении. Народ верит по-нашему, а не верующий деятель у нас в России ничего не сделает, даже
будь он искренен сердцем и умом гениален. Это помните. Народ встретит атеиста и поборет
его, и станет единая православная Русь. Берегите же народ и оберегайте сердце его. В тишине
воспитайте его. Вот вам иноческий подвиг, ибо сей народ богоносец».
56*. Мф. 6, 33.
С. 268.
57*. Беседу Иисуса Христа с фарисеем Никодимом см. в Евангелии от Иоанна 3, 1-21.
58*. Втор. 30, 19.
ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТА И СОВРЕМЕННОЕ СОЗНАНИЕ
С. 269.
1*. Деян. Ап. 17, 21.
2*. Там же, 17, 19, 20.
508
.3*. Там же, 17, 32-34.
4*. 1 Кор. 15, 17; цитируется неточно.
С. 270.
5*. Деян. Ап. 17, 22-23.
С. 271.
6*. Государство будущего (нем.). См. также примеч. 52* к статье «Первохристианство и
новейший социализм».
7*. В журнальном варианте статьи после этих слов следовало: «Это значит, как
справедливо выразился когда-то (в личном разговоре) Л. Н. Толстой по поводу теории проф. Мечникова,
добиваться, чтобы человек жил как корова». О «теориях» И. И. Мечникова см. примеч. 71* к
статье «Религия человекобожия у Л. Фейербаха».
Сохранилось несколько других отрицательных отзывов Толстого о научной деятельности
Мечникова, да и о самом ученом. В дневнике Л. Н. Толстого имеется запись, датированная 1
марта 1903 г.: «Читал статью Мечникова опять о том же: что если вырезать прямую кишку, то
люди не будут более думать о смысле жизни, будут также глупы, как сам Мечников» (Толстой
Л. Н. Собр. соч. М., 1985. Т. XXII. с. 152).
В другой записи, от 4 мая 1905 г., читаем: «Саша от боли вспрыснул морфий. Няня не
одобрила: пострадать надо, когда Бог посылает. А Мечников хочет уничтожить не только
страдания, но и смерть.
Разве он не жалкий, испорченный ребенок в сравнении с народной мудростью старушки?»
(Там же. С. 197).
В мае 1909 г. Мечников приехал к Толстому в Ясную Поляну. Первое впечатление
Толстого: «Мечников приятен и как будто широк» (30 мая. Там же. С. 314). На следующий день:
«Мечников оказался очень легкомысленный человек - арелигиозный. Я нарочно выбрал
время, чтобы поговорить с ним один на один о науке и религии. О науке ничего, кроме веры в то
состояние науки, оправдания которого я требовал.
О религии умолчания, очевидно, отрицание того, что считается религией, и непонимание и
нежелание понять того, что такое религия. Нет внутреннего определения ни того, ни другого,
ни науки, ни религии. Старая эстетичность гегелевско-гетевско-тургеневская. И очень болтлив»
(Там же. С. 315).
Незадолго до смерти (24 июня 1910 г.) Толстой еще резко высказался в адрес Мечникова:
«А разве не безумный этот знаменитый ученый, как его - Мечников?., у него только и есть на
уме эти испражнения и ретирады...» (Булгаков В. Л. Н. Толстой в последний год его жизни.
М., 1989. С. 267).
Заметим, однако, что в своем отрицании танатологических идей И. И. Мечникова
Булгаков и Толстой исходят из разных посылок. В Толстом говорит всегдашнее его раздражение и
несправедливость по отношению к науке и ученым, что однажды отметил и сам Мечников (см.:
Мечников И. И. Этюды оптимизма. М., 1987. С. 90). «Ведь это не парадокс, - признался как-
то Л. Н. Толстой, - как это про меня говорят, а мое истинное убеждение, что чем ученее
человек,, тем он глупее» (Булгаков В. Указ. соч. С. 61). С. Н. Булгаков отрицает идеи Мечникова с
точки зрения христианской танатологии, разработанной и изложенной им впоследствии в
очерке «Софиология смерти» (см. примеч. 15*).
8*. Откр. 10, 6.
С. 272.
9*. В журнальном варианте статьи после слов в скобках следовало: "«а вовсе не в новом
моральном учении, как хотят истолковать его современные толстовцы России и Запада, где
такое понимание, вернее непонимание, христианства все более распространяется среди
представителей протестантизма».
10*. В противоположность ницшевской «переоценке всех ценностей» (см.: Ницше Ф. Собр.
соч. М., б. г. Т. V: «Переоценка всего ценного))). Возможно также, что Булгаков имеет здесь в
виду Л. И. Шестова, использующего это выражение Ницше в своей книге «Достоевский и
Ницше (Философия трагедии)». СПб., 1903. С. 93.
11*. Ин. 15, 5.
С. 273.
12*. «Предыстория» и «история» (нем.). К. Маркс в предисловии к «Критике политической
экономии» писал: «...буржуазной общественной формацией завершается предыстория
человеческого общества» (Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 13. С. 8).
509
13*. О «скачке человечества из царства необходимости в царство свободы» писал не
К. Маркс, а Ф. Энгельс в «Анти-Дюринге» (Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 20. С.
295). См. также примеч. 22* к статье «Христианство и социальный вопрос».
14*. Проблеме «науки» и «научности» посвящена седьмая глава «Философии хозяйства»
(М., 1990. С. 191-212).
15*. О проблеме смерти с христианской точки зрения см. статью С. Н. Булгакова
«Софиология смерти» (Вестник РХД. 1978. № 127 и 128. См. также примеч. 69* к статье
«Религия человекобожия у Л. Фейербаха».
16*. Понятие «естественной необходимости», которое. Булгаков старательно закавычивает,
должно, видимо, по его предположению, вызвать у читателя ассоциации с рассуждениями
И. И. Мечникова «О естественной смерти» {Мечников И. И. Этюды оптимизма, М., 1987. С.
90-127) и знаменитым утверждением К. Маркса из предисловия к первому изданию
«Капитала»: «Я смотрю на развитие экономической общественной формации как на естествен-
ноисторический процесс...» (Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 23. С. 10).
17*. Деян. Ап. 2, 24.
С. 274.
18*. См. выше, примеч. 11*.
ГЕРОИЗМ И ПОДВИЖНИЧЕСТВО
С. 275.
1*. О «Вехах» см. примеч. 26* к статье «От автора». Об истории создания сборника
рассказал С. Л. Франк:
«Идея и инициатива "Вех" принадлежала московскому критику и историку литературы
М. О. Гершензону. Гершензон, человек чрезвычайно талантливый и оригинальный, по своим
идейным воззрениям был довольно далек П.' Б. Струве и мне, как и большинству остальных
участников "Вех". Он исповедовал что-то вроде толстовского народничества, мечтал о
возвращении от отрешенной умственной культуры и отвлеченных политических интересов к некой
опрощенной органически целостной духовной жизни; в его довольно смутных воззрениях было
нечто аналогичное немецкому романтическому прославлению "души", как протесту против
засилия иссушающего интеллекта. Но он нашел сообщников в своем замысле критики
интеллигентского миросозерцания только в составе бывших соучастников сборника "Проблемы
идеализма": это были Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, Б. А. Кистяковский, П. Б. Струве и я, к
которым был присоединен еще близкий П. Б. и мне публицист А. С. Изгоев. Общая тенденция
главного ядра сотрудников "Вех" была, в сущности, прямо противоположна тенденции Гер-
шензона. Если Гершензону миросозерцания и интересы русской радикальной интеллигенции
представлялись слишком сложными, утонченными, отравленными ненужной роскошью
культуры, и он призывал к "опрощению", то наша задача состояла, напротив, в обличении
духовной узости и идейного убожества традиционных интеллигентских идей. Позднее я, шутя, как-
то сказал Гершензону, что мы, собственно, имели намерение напасть друг на друга и что
только потому, что в промежутке между нами стояла "русская интеллигенция", мы принялись
совместно, но с разных сторон, наносить ей удары. Разногласие это обнаруживалось тотчас же по
выходе в свет "Вех": П. Б. дал в "Русской мысли" уничтожающе резкий отзыв о статье Гер-
шензона. Сама возможность сотрудничества основного ядра участников "Вех" с их
инициатором Гершензоном была определена тем, что Гершензон - вообще человек чудаковатый и
капризный - решил в интересах независимости суждения отдельных участников не знакомить
никого из нас до напечатания со статьями остальных сотрудников, так что каждый из нас
ознакомился с содержанием "Вех" только после их опубликования; не было и никакого
предварительного редакционного сговора и обмена мнений.
Но это разногласие прошло в общем незамеченным: индивидуальный голос Гершензона
как-то потонул в солидарном хоре голосов остальных участников "Вех". Несмотря на то, что
замысел их принадлежал Гершензону, и несмотря на отсутствие всякого сговора, "Вехи"
выразили духовно-общественную тенденцию, первым провозвестником которой был П. Б. Эта
тенденция слагалась из сочетания двух основных мотивов: с одной стороны, утверждалась -
против господствующего позитивизма и материализма - необходимость религиозно-
метафизических основ мировоззрения - в этом отношении "Вехи" были прямым
продолжением и углублением идейной жизни "Проблем идеализма"; и с другой стороны, в-чих
содержалась резкая, принципиальная критика революционно-максималистических стремлений русской
510
радикальной интеллигенции. Я участвовал в "Вехах" статьей "Этика нигилизма", в которой
пытался свести в систему "нигилистический морализм" интеллигентского мировоззрения и
вскрыть его безвыходную противоречивость; статья моя кончалась призывом к замене
"нигилистического морализма" "религиозным гуманизмом" (под этим несколько туманным
термином мне тогда представлялась христианская идея богочеловечности). Более открыто и
отчетливо этот призыв был выражен С. Н. Булгаковым (который уже тогда был верующим
православным христианином) в статье "Героизм и подвижничество", в которой идеалу революционного
героизма противопоставлялся идеал христианской святости. П. Б. написал для "Вех" статью
"Интеллигенция и революция"; помню, что мы с ним, не сговариваясь, чрезвычайно близко
сошлись в духе и идейных мотивах критики интеллигентского миросозерцания и что и он сам,
и Н. А.1 мне это с удовольствием высказали.
"Вехи" имели шумный, сенсационный успех. Они были главной литературно-общественной
сенсацией 1909 г. В течение полугода они выдержали пять изданий (первое в 3000
экземпляров, последнее, помнится, в пять тысяч); к последнему изданию был приложен составленный
Гершензоном большой библиографический список журнальных и газетных откликов на них.
Успех этот был, по существу, успехом скандала. Если идеи "Проблем идеализма" уже
воспринимались как еретические, то ересь подобного рода - критика позитивизма и материализма,
пропаганда "идеализма" - все же снисходительно прощалась радикальным общественным
мнением как относительно невинное, хотя и не безопасное, чудачество. Иное дело - критика
основного, священного догмата радикальной интеллигенции - "революционизма"; она
рассматривалась как дерзновенная, безусловно нестерпимая измена вековым священным заветам
русской интеллигенции, как измена традиции, завещанной "пророками" и "святыми" русской
общественной мысли - Белинским, Грановским, Чернышевским, Писаревым, как
предательство векового стремления к свободе, просвещению и прогрессу и переход на сторону черной
реакции. Против "Вех" восстали не только революционеры и крайние левые; не менее, пожалуй,
были шокированы и возмущены ими и умеренно-либеральные круги. Противники "Вех"
придавали им, очевидно, очень большое - бесспорно преувеличенное - политическое значение:
опасались, что они будут содействовать росту консервативных течений и ослаблению
либеральных и радикальных сил. Только этим можно объяснить, что такой практический политик, как
П. Н. Милюков, лидер партии и член Думы, счел необходимым совершить лекционное турне
по России, чтобы перед большими аудиториями громить "Вехи". Господствующее общественное
мнение восприняло из духовной тенденции "Вех" только эту, политическую сторону, которая
для нас самих была, хотя и "существенной", но все же лишь производной от более основной
нашей задачи - пересмотра самих духовных основ господствующего миросозерцания.
Это соотношение ярко сказалось в прениях о "Вехах", устроенных тотчас же после выхода
сборника, в апреле 1909 г., петербургским Религиозно-философским обществом. <...>
Застрельщиками в критике "Вех" были нераздельные тогда Д. С. Мережковский, Зинаида
Гиппиус и Д. В. Философов (бывшие главными руководителями Общества). Философов в своем
докладе сопоставлением цитат из статей ненавистного оппозиционному общественному мнению
Меньшикова и из статьи П. Б. в "Вехах" пытался скомпрометировать идеи "Вех" простым
утверждением солидарности их идей с черносотенством публициста «Нового времени».
Мережковский прочитал свою (потом напечатанную в «Речи») статью, против "Вех" под ядовитым
заглавием "Семь смиренных" (он уподоблял участников «Вех» семи «смиренным« иерархам,
членам Святейшего Синода, отлучившим Льва Толстого от церкви). Из участников "Вех" в
собрании выступали П. Б. и я, и несмотря на то что массовое настроение аудитории было против нас
и на стороне наших противников, нам без труда удалось все же обличить поверхностность этой
критики и иметь некоторый успех. Вообще идеи "Вех"/вопреки солидарному хору яростной
критики, которой они были встречены или отчасти даже благодаря рекламе, созданной этой
критикой, не остались без влияния по крайней мере на избранное меньшинстве русской
интеллигенции. Они, во всяком случае, сделали одно дело - пробили толщу заносчивой цензуры
общественного мнения, не позволявшей говорить иначе, чем с благоговением об освященных
традицией радикализма идеях. И если "Вехам" не суждено было иметь определяющее влияние
на ход русской политической жизни - их идеи потонули во вновь нараставшей в более
широких массах общества и народа волне политического радикализма, особенно усилившейся во
время войны 1914-1917 гг., - то в дружном и энергичном отпоре, которым общественное
мнение интеллигенции встретило большевистскую революцию, как и в возникших после
революции симптомах покаяния и возрождения - идеям "Вех" по праву можно приписать
существенное влияние» (Франк С. Л. Биография П. Б. Струве. Нью-Йорк, 1956. С. 81-86).
Ниже приведены отрывки из наиболее интересных статей о «Вехах», появившиеся в печати
в 1909-1910 гг. и полностью.
1 Нина Александровна - жена П. Б. Струве.
511
Открытое письмо авторам сборника «Вехи»
Архиепископа Антония Храповицкого
«Истекающая неделя была для меня праздником: в эти дни, точнее - в эти ночи, я читал
"Вехи". Я читал слова любви, правды, сострадания и веры в людей, в наше общество. В людей
я всегда верил, но в наше современное общество я терял веру. Я начинал думать, что
нравственное возрождение и вразумление отныне возможно лишь в отношении к отдельным людям,
но общество истины знать не хочет, слушать ее не будет и с 1904 года исполняет печальное
пророчество апостола Павла: "...будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по
своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины
отвратят слух и обратятся к басням" (2 Тим. 4, 3-4). Юноши поддаются заблуждению, оно льстит
страстям, страсти озлобляют душу, сокрушают тело болезнями, озлобление растет от болезней,
и всякий, кто напомнит озлобленному о совести, является в его глазах врагом. Нужно или
осудить себя, или крепко держаться нигилизма и в нем находить забвение. Юноши теряют
целомудрие, а взрослые деятели - честность: новый водоворот честолюбия сделал их лжецами,
лишил их последней добродетели предыдущих поколений. Как они заглушают голос совести?
Конечно, нигилистическими теориями последних лет. Возможно ли их увещевать? "Обличай
нечестивого, опорочишь себе, обличения бо нечестивому рана ему; не обличай злых, да не
возненавидят тебе" (Прит. 9, 7). Впрочем, отдельного человека все-таки можно нравственно
отрезвить, но когда в упорном заблуждении соединилось большинство общества и объявило зло
добром, а добро глупостью, то идти против них хотя бы со словом самого искреннего
доброжелательства - это подвиг. Да, это подвиг великий и прекрасный. Такой подвиг приняли на себя
авторы "Вех". Они обратились к обществу с призывом покаяния, с призывом верить, с
призывом к труду и к науке, к единению с народом, к завещаниям Достоевского и славянофилов.
Читатели, которым все это дорого, с восторгом приветствуют вас, русские писатели! Мы не
знаем, чем больше восхищаться: научностью ли, разумностью ли ваших доводов, или
примиренным любящим голосом вашего обращения к инакомыслящим, или вашею верою в силу
человеческой совести даже у тех, кто ее отрицает и в теории, и на практике, или, наконец,
вашей суворовской храбростью, вашим восторженным мужеством, с которым вы, подобно
уверовавшему Савлу, обращаетесь в своим собратьям по бывшему ложному увлечению. Все эти
свойства речи может внушить только возвышенная, благородная душа, широко просвещенный
светлый ум и русское открытое сердце. Я знал вас заочно и прежде, а о некоторых спрашивал
теперь: вы не пылкие юноши, смотрящие на жизнь сквозь розовые очки, вы люди опыта и
разочарований, но вы сохранили душу юношескую, - как это радостно видеть сквозь строки
ваших творений! Конечно, не во всех теоретических положениях я с вами согласен, но тем
отраднее, пожалуй, приветствовать провозвестников общественного возрождения из другого
лагеря. Вот когда последний даст русскому обществу действительную духовную весну,
открывающуюся теперь вместе с весной природы. Да! с нею оживают теперь многие русские души.
Ваша книжка раскупается нарасхват; она возбуждает бледный страх среди упорных
поборников нигилизма, но искренних между ними заставляет с радостным трепетом возвращаться к
разумной и праведной жизни. Можно опять радоваться за русских людей, можно снова взирать
на их заблуждения и падения как на временное безумие и болезнь, можно снова надеяться на
русское общество, на Русь. Вспоминаю притчу Щедрина. Русский мальчик-оборванец говорит
немецкому буржуйчику: "Вы душу за грош черту продали; мы, правда, отдали ему душу свою
даром, но зато мы ее и назад взять можем." Выходи же, русская душа, из дьявольских сетей,
куда ты зашла без всякой корысти, следуя за обманщиками! Пусть не говорят лучшие люди о
сынах русского общества: "Уж не пародия ли они?" Пародия - это тот нигилистический
дурман, который отогнал тебя от пути Христова в дебри лжи, злобы и разврата, но вот раздался,
понятный тебе, чуждый гордости и злобы, но исполненный любви и правды призывающий
голос, и ты радостно идешь к нему навстречу. Вспоминаю слова великого народолюбца пророка
Иеремии: "Возвратитеся дети отступившие, говорит Господь, потому что я сочетанное с вами"
и пр. - "Вот мы идем к Тебе, ибо Ты Господь наш" ( Иер. 3, 14, 22).
Да, сказалась русская душа, любящая правду, отзывчивая на голос любящих сердец: наше
общество вновь склонило уши к слушанию правды нравственной и религиозной, которая одна
только и сродни его душе, притворно зарывающейся в вопросы жизни внешней, по существу,
ей вовсе чуждой, как справедливо утверждал француз Леруа-Болье и как теперь разъясняете
это вы, дорогие наши писатели.
Вы пошли на правое дело без расчета, не подумали о том, сколько нравственных заушений
придется вам принять за правду. Пошли, убив в себе всякое тщеславие, следуя только совести
и любви. Вы знали, что если и не поймут вас на земле люди, то будут приветствовать с неба
ангелы. Ваше дело, ваша книга есть событие, событие чистое, христианское, русское! Знаю,
что и эти сочувственные строки вам вменяют в укор, а не в честь, но любовь не ищет чести, а
взаимного отклика. И без смущения свидетельствую я, что ваш высокий духовный подъем
заставит и меня с седеющею уже бородою взглянуть более примирительным взором на жизнь
512
нашего ренегатского от народа и родины общества и не считать его окончательно погибшим
для царства Божия. Поклон же вам и привет, и Божие благословение, добрые русские
писатели. Не ради привета вы издали свою книгу, а потому, что душа переполнилась воплем
любящей скорби, но в этом и ценность вашего слова, как той песни древнего барда в описании
нашего отечественного поэта:
Она, как река в половодье, сильна,
Как росная ночь благотворна,
Тепла, как душистая в мае весна,
Как солнце приветна, как буря грозна,
Как лютая смерть необорна.
Охваченный ею не может молчать:
Он раб ей чуждого Духа,
Возжглась ему в грудь вдохновенья печать,
Неволей иль волей он должен вещать,
Что слышит подвластное ухо.
Архиепископ Антоний А мая 1909 г.»
(Слово, 10 (23) мая 1909 г. № 791. С. 3).
Андрей Белый «Правда о русской интеллигенции»: «Вышла замечательная книга "Вехи"...
она должна стать настольной книгой русской интеллигенции» (Весы. 1909. № 5. С. 65-68).
Я. Василевский (He-Буква) «Сказки жизни»: «...как ни относиться к "Вехам", но в них
много правды - этого нельзя не признать! Не так, не тогда, не по адресу, не ко времени
высказана эта правда» (Всемирная панорама. 1909. № 7: 5-го июня).
Д. Левин «Наброски»: «Я держусь того мнения, что если бы исполнилось законное, хотя и
самонадеянное желание авторов "Вех", и об этой книге стали бы судить исключительно "по
существу", то, вероятно, очень скоро открыли бы, что она не заслужила... ни восторженного
одобрения, которым ее встретили справа, ни горячего негодования, постигшего ее слева» (Речь.
1909. № 133: 17/30 мая).
Я. Г. «Литературный дневник»: «Это старое, давно набившее оскомину воззвание -
обратиться к себе и сосредоточиться в себе, отвернувшись от всего окружающего. В сущности это
старая реакционная проповедь личного самосовершенствования...» (Одесские новости. 1909. №
7788: 12/25 апреля).
Д. В. Философов. Доклад на заседании религиозного философского общества: «...Россия до
сих пор жила своим лозунгом, держалась на своих "китах": православии, самодержавии,
народности... "Вехи" указывают поворот к означенным "китам", но обновленным и
прикрашенным» (Речь. 1909. № 109: 23 апреля/б мая).
Я. М. Бикерман. Доклад на заседании литературного общества: «"Вехи плохи не потому,
что они реакционны, а вернее, реакционны потому, что они плохи... Констатировав факт
неудачи революции, авторы "Вех" превращаются в судей над виновниками ее -
интеллигенцией... Авторы "Вех" вскоре переходят к роли проповедников признания первенства внутренней
жизни человека и господства ее над всеми внешними проявлениями человеческого общежития.
Проповедь эта... не только не верна, но даже глубоко вредна, так как она равносильна призыву
к равнодушию, к политическому ничегонеделанию» (Речь. 1909. № 139: 24 мая/б июня).
Г. С. Петров «Обвиненные судьи»: «Сборник "Вехи" можно бранить, и следует бранить, но
все же необходимо прочесть... Авторы сделали не все, что должны были сделать, а что и
сделали - сделали не так, как могли бы. Великое дело суда над великими ошибками великого
страдальца, русской интеллигенции, они сделали во всех отношениях неряшливо и потому
сами из судей над интеллигенцией обратились в обвиняемых ею» (Русское слово. 1909. № 111:
17/30 мая).
Посторонний. «Бей интеллигенцию!..»: «С криком "бей" кинулись на интеллигенцию
«бывший радикал Струве, философ Бердяев, профессор Булгаков, писатели Изгоев, Гершензон и др.
Они выпустили тоненькую книжку "Вехи", в которой один старается перекричать другого,
ругая интеллигенцию...
А... Дубровин сидит и ухмыляется.
- Старайтесь, миленькие! - говорит он. - Старайтесь. Еще немного покричите, и я вас в
"Союз" (Союз русского народа. - В. С.) возьму и по рублю на брата из кассы выдам»
(Всемирная панорама. 1909. № 4: 15 мая).
Ф. Дан «Руководство к куроводству»: «...мы имеем дело с трусливо-лицемерным
пересказом... апологетического провозглашения "разумности всего действительного"» (Возрождение.
1909. № 9-12).
А. К. Дживелегов «На острой грани»: «Интеллигенция дождалась самого настоящего
обвинительного акта. Это - "Вехи", плод коллективного творчества целой компании растерянных
людей, где интеллигенции ставится в вину все, что угодно, кончая чуть ли не землетрясением
в Сицилии» (Северное сияние. 1909. № 8).
17 Зак. 487
513
Д. С. Мережковский. Доклад в религиозно-философском обществе: «Когда читаешь "Вехи",
вспоминаешь сон Раскольникова: маленькую лошаденку запрягли огромные мужики в
огромную телегу. Телега - Россия, лошаденка - русская интеллигенция. Лошаденку бьют, она
лягается: русская интеллигенция утверждает, что есть у нее всеочищающий огонь — революция.
Тогда начинают бить уже не кнутом, а оглоблею. Это делают авторы "Вех". Но лошаденка все
еще не подохла: из последних сил дергает, чтобы везти. Наконец, добивают ее железным
ломом» (Русские ведомости. 1909. № 94: 25 апреля).
Д. Кольцов.«Кающиеся интеллигенты»: «Покаяние ныне не есть смирение. Люди каются с
остервенением, полные злости на кого-то, полные желания своим покаянием причинить
возможно более жестокую боль этому кому-то. Покаяние переходит в проповедь, полную
ханжества и лицемерия и производящую отталкивающее впечатление на всех людей более или менее
искренних» (Возрождение. 1909. № 5-6: апрель; № 7-8: май).
Фома Опискин (А. Аверченко). «Вехи» (фельетон): «Тимошкин приложил палец к носу и,
приставши немного, с глухой таинственностью шепнул:
- "Вехи" твои читал. Усладительная книжонка. Многого не понял но, одначе, кое-что
мозгом выдавил. А Гершензон-то, Гершензон!.. Смехотушка! Фамилия жидовская, а туда же...
Ндас... Понимаем-с.
Д-р Дубровин: Вы думаете, мы не поняли, почему вы книжку назвали "Вехи"?..
- Как почему?.. "Вехи" - палки, указующие путь...
- Ага, да... палки. Хо-хо-хо! Понимаем-с, какие палки. А наверху перекладина-с, а на
перекладине верев...» (Сатирикон. 1909. № 21: 23 мая).
В. В. Розанов «Мережковский против "Вех"»: «Это - самая грустная и самая благородная
книга, какая появлялась за последние годы. Книга, полная героизма и самоотречения. Кто
знает Достоевского и помнит его "Бесов", тому я все объясню, сказав, что авторы "Вех" с
поразительной подробностью и точностью повторили судьбу и исповедание благородного Шатова,
который, залезши в саму гущу революционеров и революции, потом отошел от нее, грустно, в
раздумьи...» (Новое время. 1909. 27 апреля).
В. В. Розанов «Между Азефом и "Вехами": «Но куда же зовут эти мыслители? К работе в'
духе своем, к обращению читателей, людей, граждан внутрь себя и к великим идеальным
задачам человеческого существования, зовут в другую сторону, чем та, где сидит Азеф и
азефовщина... они призывают в ту сторону, куда Азеф никогда не может получить доступа...
Книга эта не обсуждает совершенно никаких программ; когда вся публицистика целые
годы только этим и занята! "Вехи" говорят только о человеке и об обществе.
"Прочь от Азефа"... Но Митрофанушке легче было бы умереть, чем выучиться алгебре.
Зовут к сложности, углублению. Критика на "Вехи" ответила:
- Нам легче с Азефом, чем с "Вехами"... Углубляться - значит перестроиться, переменить
всю структуру себя\ Значит родиться вновь или возродиться. Лучще уж пусть Азеф посылает*
нас на виселицы, или мы его убьем. Это элементарно и мы можем. Но углубиться... мы всю
жизнь, вот уж сорок лет идем в сторону от углубления: куда же и как мы повернемся, когда
на вражде-то к углублению и базирован весь русский радикализм!
Вот историческое положение дела» (Новое время. 1909. 3 августа/2 сентября).
B. В. Розанов «К пятому изданию "Вех"»: «Ее (книгу «Вехи». - В. С.) следует назвать
настолько же подчеркнуто славянофильской, как и подчеркнуто западнической. В полном
слиянии славянофильства и западничества, в личном духе ее авторов лежит лучшая ее черта,
главная прелесть. Они не примиряют'идеи славянофильства и западничества между собой, не по-
строяют для этого умственные комбинации за письменным столом - но сами и лично они
являются столько же русскими, славянами, сколько и западными, германцами или кельтами.
И. В. Киреевский, первый славянофил у нас, начавший литературную деятельность изданием
журнала "Европеец", мог бы быть назван их прототипом и литературным родоначальником...
Они суть русские по крови, по духу, по заветам, по воспитанию; и западники - по вкусам,
или, точнее, по мерилу в них добра и зла, по оценке развития и прогресса.
Этот факт, вполне точный, тем удивительнее, что из авторов "Вех" трое (почти
половина) - евреи» (Новое время. 1910. № 10).
Резолюция собрания исторической учебной комиссии Общества распространения
технических знаний: «Признавая сборник "Вехи" продуктом романтическо-реакционного настроения
известной части русской интеллигенции, вызванного временным упадком общественных
интересов, историческая комиссия констатирует наличность в упомянутой книге грубых
внутренних противоречий, шаткость основных точек зрения авторов и крайне несправедливое
отношение к прошлым и настоящим заслугам лучших элементов русской общественности,
самоотверженно и неустанно стремящихся к высшим социально-политическим идеалам» (Русское слово.
1909. № 85: 15/28 апреля).
C. Северный <С. Н. Дурылин> «"Вехи" и Чехов»: «Недавно вышли из печати "Письма
А. П. Чехова" (М., 1904). В одном из этих писем мы находим беспощадное слово, вырвавшееся
из уст кроткого Чехова по адресу русской интеллигенции. Пусть же за него судят Чехова
вместе с авторами "Вех". И, как бы ни были строги судьи, они не смеют отказать этому слову в
514
искренности и правдивости, не посмеют увидеть за ним никаких "мотивов", которые
некоторые из судей пытались увидеть за словами некоторых авторов "Вех".
Вот это слово Чехова, которое можно было бы поставить эпиграфом к "Вехам":
"Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную,
ленивую, не верю даже, когда она страдает и жалуется, ибо ее притеснители выходят из ее же
недр. Я верю в отдельных людей, я вижу спасение в отдельных личностях, разбросанных по
всей России там и сям, хотя их и мало..." (Письмо к И. И. Орлову от 22 февраля 1899 г., стр.
53-54).
Если же судить скорым судом авторов "Вех", то надо судить и Чехова... Но не себя ли
осудят скорые судьи, осудив его?» (Слово. 1909. № 825. 13/26 июня).
Л. Н. Толстой о сборнике «Вехи»: «...Внимание Л. Н. Толстого привлекла статья г.
Булгакова "Героизм и подвижничество". У Л. Н. есть свое слово по этому поводу, которое он хочет
высказать...» (Русское слово. 1909. № 106; 12/25 мая).
Л. Н. Толстой о «Вехах» (корреспонденция С. Спиро): «...я разочаровался, не найдя того,
чего искал... Читая все.это, мне невольно вспомнился старый умерший друг мой, тверской
крестьянин Сютаев... Он ставил себе тот самый вопрос, который поставили авторы сборника
"Вехи". На вопрос этот он отвечал своим тверским говором тремя короткими словами: "Все в
табе», - говорил он, - "в любве"» (Русское слово. 1909. N° 114: 21 мая/3 июня).
А. Столыпин «Интеллигенты об интеллигентах»: «Появление такого сборника, как "Вехи",
есть акт бунтовщический и дерзко революционный в том своеобразном духовно-умственном
царстве, которое именуется русскою интеллигенциею, и его революционная сила направлена
против тирании того идола, которому приносилось столько человеческих жертв, имя
которому - политика.
...Беспощадное и суровое зеркало интеллигентской сущности осталось налицо. Оно
отшлифовано терпеливыми и мастерскими руками людей правдивых и бесстрашных, а в такое
зеркало всегда тянет заглянуть, хотя бы тайком и урывками. Бедная интеллигенция - у ней нет
способов изъять "вредную" книгу из обращения!» (Новое время. 1909. № 11893: 23 апреля/б мая).
Кн. Евгений Трубецкой «"Вехи" и их критики»: «Сборник "Вехи", о котором теперь так
много говорят и пишут, имел действие камня, брошенного в болото. Вот уж два с лишним
месяца... не прекращается о нем кваканье и кряканье. Видно, камень был большой и тяжелый...
В основном упреке, который делается "Вехам", - мало логики, но зато много
раздражения. Тут, как и всегда, оправдывается пословица: "Юпитер, ты сердишься, следовательно, ты
виноват". Своими разоблачениями составители сборника попали не в бровь, а прямо в глаз...
Вере в народ они противополагают веру в ту сверхчеловеческую истину, которая одна делает
людей свободными... Призыв к самоуглублению и самосовершенствованию личности, который
мы находим в "Вехах", прозвучит как призыв к свободе: ибо без свободы нет ни совершенства
личности, ни даже самой личности...» (Московский еженедельник. 1909. № 23: 13 июня).
М. Горький. Из письма Е. П. Пешковой, апрель 1909 г. Капри: «...А то еще есть альманах
"Вехи" - мерзейшая книжица за всю историю русской литературы. Черт знает что! Кладбище,
трупы и органическое разложение» (Архив А. М. Горького. М., 1966. Т. IX. С. 65).
Он же. Из письма Е. К. Малиновской. Март-апрель 1909 г. Капри: «...Приятно ли читали
"Вехи" Струве и К0? Давно уже не было в нашей литературе книги столь фарисейской,
недобросовестной и сознательно невежественной» (Там же. Т. XIV! С. 330).
Кн. Д. Шаховской «Слепые вожди слепых»: «Сборник... носит на себе все черты показателя
именно общественной реакции, т. е. того, что во много раз страшней всяких внешних
репрессий. К счастью, реакция эта едва ли глубока и долговечна. Во всяком случае, разбираемый
сборник не производит особенно грозного впечатления» (Голос. [Ярославль]. 1909. № 32: 3/17
апреля).
Кн. В. П. Мещерский «Дневники»: «У меня в руках интересная и курьезная книжонка,
изданная в Москве и озаглавленная "Вехи". Она курьезна в двух отношениях: во-первых, тем,
что содержание ее - несколько статей весьма либеральных интеллигентов-писателей...
посвященных задаче доказать несостоятельность нашей интеллигенции; во-вторых, тем, что мне
сообщили за достоверное, что успех этой книги — невзирая на то, что она требует усилий ума
от читателей в такую минуту, как теперешняя, когда ничто не читается, кроме газет,
похабных книжонок и рассказов про Шерлока Холмса и Люпена, - огромный и разошлась будто бы
она в десятках тысяч экземпляров. Если это правда, то интересен вопрос: что этот успех
доказывает - естественное? сочувствие идее авторов книжки - низвергнуть в прах нашу
интеллигенцию, или, наоборот, только сочувственное интеллигенции желание ознакомиться с
нападками на нее?» (Гражданин. 1909. № 51-52: 16 июля).
Что такое интеллигенция: «Поднявшийся в печати шум по поводу сборника "Вехи"
окрылил некоего А. А. Штамма написать доклад на тему "Что такое интеллигенция, ее быт и
уклад", который он вчера и прочел на 1-м женском клубе. Докладчик предупредил, что будет
очень краток и, действительно, так добросовестно выполнил это обязательство, что, собственно
говоря, ничего не сказал ни об интеллигенции как таковой, ни об ее укладе и быте, если не
считать десятков двух фраз, выхваченных наспех у авторов названного сборника. Так как по-
17*
515
еле доклада были разрешены прения, то несколько ораторов великодушно взяли на себя труд
по мере сил исполнить задачу докладчика» (Русское слово. 1909. № 92: 23 апреля/б мая).
С. Я. Мегульнов. Выступление на заседании исторической комиссии учебного отдела ОРТЗ
(«Соляной городок»), 14 апреля 1909 г.: «Авторы сборника... сказали то, что проповедует ок-
тябризм... Участники сборника проявили духовный маразм. Вместо того чтобы поддержать
русскую интеллигенцию в ее общественных стремлениях, они только осыпают ее упреками,
хотя, быть может, и заслуженными» (В защиту интеллигенции. М., 1909. С. 157).
В. Я. Потемкин. Выступление на том же заседании: «От сборника отдает нестерпимым
зловонием реакции. Главный недостаток - это нерешительность авторов. Они не сказали всего
того, что хотели, - убоялись. Стоят на реакционно-политической точке зрения, но хотят это
скрыть. Все у них не оригинально, все заимствовано, все не доказано» (Там же. С. 158).
Ник. Иорданский «Творцы нового шума»: «Книга, задуманная как новое евангелие,
оказалась просто альманахом, сборником нескладных памфлетов.
Московские "Вехи" и никого не спасут, и никому не укажут даже дороги ко спасению.
Православие и атеизм, славянофильство и западничество, мистика и буржуазная расчетливость
спутываются в них безнадежным клубком, который, как клубок ведьмы в русских сказках,
способен завести только в лихое место. Но при всех своих противоречиях, при всем бессилии
положительной мысли в этом сборнике есть единое политическое настроение, которое делает
его в общественном смысле значительной отрицательной величиной» (Современный мир. 1909.
№ 5).
М. Бикерман «"Отщепенцы" в квадрате»: « Самое характерное в разбираемой нами книге -
это огромное преувеличение роли интеллигенции и неустойчивое значение этого слова. То
расширяющегося до понятия "образованное общество", то суживающегося до понятия
"политическая интеллигенция", то, чаще всего, еще более суживающегося до "социалистической
интеллигенции". И в этой черте - объяснение появления этой сумбурной, плоской и недостойной
книги» (Бодрое слово. 1909. № 8).
И. Игнатов «Интеллигенция на скамье подсудимых»: «Г. Булгаков - человек глубоко
верующий, и потому все упреки его вращаются около одного главного пункта: безверия
интеллигенции. В этом безверии он видит не только огромный ущерб для -собственного душевного
уклада интеллигенции, но и ту стену, которая отделяет интеллигенцию от народа» (Русские
ведомости. 1909. № 69).
Н. Валентинов «Наши клирики» : «В конце концов вот какова дорога, указываемая
"Вехами". Идти от марксизма и дойти до октябризма. Начать за здравие, а кончить за упокой.
Начать с высоких истин самой высокой пробы, а кончить "асемитизмом". И знаете, что самое
главное в этом правдоискательстве, в этом постоянном ежегодном и ежедневном линянии?
Самое главное - это никогда не думать, даже не задаваться мыслью, что это не
правдоискательство, а нечто совсем другое...» (Киевская мысль. 1909. № 107, ПО: 19 и 22 апреля).
П. Боборыкин «Подгнившие "вехи"»: «Авторы "Вех" придают этому термину
"интеллигенция" (действительно мною пущенному в русскую журналистику в 1866 году)
совсем не то значение, какое я придавал ему, когда защищал "русскую интеллигенцию" от
тогдашних ее обличителей, - к началу XX века.
Для меня (да и для всех, кто смотрит на дело трезво и объективно) под "интеллигенцией"
надо разуметь высший образованный слой нашего общества, как в настоящую минуту, так и
раньше, на всем протяжении XIX и даже в последней трети XVIII в.
А по уверению некоторых авторов сборника выходит, что к "интеллигенции" нельзя
причислять ни Тургенева, ни Толстого (когда он не был еще вероучителем), ни одного из русских
знаменитых писателей!..
...Словом, сумбур чрезвычайный» (Русское слово. 1909. № 11: 17 мая).
А. Пешехонов «Новый поход против интеллигенции»: «Перед нами не альманах, не
случайный сборник, каких теперь появляется много; это - книга, написанная по определенному
плану. Наперед была поставлена задача, и заранее были распределены роли.
Г. Бердяев взялся опорочить русскую интеллигенцию в философском отношении.
Г. Булгаков должен был обличить ее с религиозной точки зрения.
Г. Гершензон принял на себя труд изобразить ее психическое уродство.
Г. Кистяковский взялся доказать ее правовую тупость и неразвитость.
Г. Струве - ее политическую преступность.
Г. Франк - моральную несостоятельность.
Г. Изгоев - педагогическую неспособность.
<...> Семь писателей потрудились не напрасно. Задачу свою они выполнили блестяще:
много пороков и преступлений нашли они у русской интеллигенции - так много, что, кажется,
нет греха, в котором она не была бы виновата. Можно сказать, вконец ее ошельмовали...
Некоторые из них спешат теперь уверить, что они это "любя" сделали» (Русское богатство.
1909. № 4).
Я. Геккер «Реакционная проповедь»: «Сборник "Вехи" составляет хотя и не единственный,
но зато наиболее типичный образец.., самопоедания интеллигенцией интеллигенции же... Весь
516
ее <интеллигенции> подвиг и старания - кровавый путь, пройденный до сих пор, - одна
сплошная и непоправимая ошибка. Надо сейчас остановиться и вернуться вспять. Надо
вернуться к Чаадаеву, к Достоевскому и Толстому, к Толстому 80-х годов. Вот к кому надо
обратиться. Остальное и остальных надо забыть и похерить» (Одесские новости. 1909. № 7788).
П. Кара-Мурза «Борьба идей»: «Чувствуется приближение нового великого раскола
интеллигенции, этой основной, если не единственной, носительницы духовной культуры и
умственной жизни великой России. Было славянофильство и западничество; было народничество и
марксизм; наступает новый водораздел. И это, конечно, в интересах нашей духовной
культуры, так как только идейный спор и честная борьба идей обеспечивают прогресс культуры.
На смену холодному позитивизму, черствому утилитаризму, грубому материализму,
поверхностному радикализму в философии, науке, политике и в области социальных идеалов
готовятся воцариться идеи и учения в духе идеалистической этики и метафизики, широкого и
глубокого либерализма и здорового национализма.
<...> Шаг сделан. Появился сборник статей об интеллигенции - "Вехи". Это, собственно,
второй шаг, так как первым шагом следует считать появившийся лет восемь-десять тому назад
другой сборник статей, под названием "Проблемы идеализма". Тогда был брошен вызов
теоретическому разделу русской интеллигенции, а теперь то же самое делается в отношении его
практической деятельности» (Каспий <Баку>. 1909. № 80: 12 апреля).
А. Волков «Новая религиозность и неонационализм» : «Революционное движение 1904-
1907 годов, происходившее под флагом космополитизма и международного пролетариата, не
могло в итоге не разбудить религиозного и национального чувства в некоторых представителях
той части русского общества, которая принимала участие в "освободительном движении".
<...> Авторы статей в сборнике Вехи отрицают теории исторического и экономического
материализма и выдвигают религиозное и национальное начала.
<...> Под флагом национализма неонационалисты пропагандируют космополитизм,
который наши "освободители" клали в основу революционной пропаганды. Они взяли новые слова
для своей пропаганды, но цели ее остались прежние» (Московские ведомости. 1909. № 249 и
250: 30 и 31 октября).
Вл. Боцяновский «Нечто о ."трусливом интеллигенте"»: «Никогда еще, кажется, вопрос об
отношении народа и интеллигенции не ставился так остро, так несправедливо, как сейчас. И
никогда еще наша интеллигенция не выступала в такой не свойственной ей роли, как теперь, в
сборнике "Вехи" - сборнике, от которого истинные интеллигенты открещиваются и будут
открещиваться еще долго.
Чем-то дряблым, жалким, беспомощно-трусливым веет из каждой строки этой печальной
книги. Чем больше вчитываюсь я в нее, тем ярче рисуется мне картина... полного отчаяния,
страха, полной растерянности.
<...> Как известно, А. Блок один из первых испугался народа... В течение целого года он
<...> везде и всюду кричал: "Перед нами «чудище обло» - народ. Народ этот нас не пощадит:
"спасайся, кто может" <...>
И успел напугать. Большинство "смиренных" сразу спрятались под сень тюрем и штыков.
- Делайте, что хотите, посадите всю Россию в тюрьму, только спасите нас! - закричали
они.
<...> Если бы кто-нибудь сказал, что для следующего выпуска "Вех" прислал свою статью
Меньшиков или Дубровин, это нисколько не было бы ни странно, ни удивительно.
<...> Как вам, господа "смиренные", должно быть стыдно за себя сейчас и как стыдно
будет потом!..» (Новая Русь. 1909. № 124: 8 мая).
А. Басаргин <А. И. Введенский> «Течение встречное» : «Вскоре по выходе в свет Вех
появилась в ответ их авторам книжка "В защиту интеллигенции", сборник статей гг. Арсеньева,
Бикермана (?), Боборыкина и многих др., до какого-то Мускатблита и бывшего отца Гр.
Петрова включительно. Характерный и весьма симптоматичный продукт интеллигентской мысли!
Не знаю, как на чей взгляд, но на мой - это наилучшая рекомендация "Вехам"»
(Московские ведомости. 1910. 6 января).
Д. Булатович «Антихристово наваждение» : «Опять этот злобесный Бердяев! Изобрел
Бердяев, вкупе с Булгаковым и Струве, "неохристианство" и скромно оповестил о том весь свет в
сборнике "Вехи".
<...> С самого начала я имел смелость предсказать веховцам полное фиаско (в статьях
"Вехи" и нововременский вестовой // Русское знамя. 1909. 5 мая; и в цикле статей "Вехи или
дымящиеся головешки" // Там же. № 143, 145, 149, 154, 157, 165, 169, 171, 175. - В. С).
<...> Но понеже основоположники "неохристианства" суть известные шарлатаны и понеже
изобретение "неохристианства" сделано ими с политическими целями, то не приходится
удивляться, что равнодушие публики нисколько не смутило и не подвигнуло их к критическому
пересмотру своей универсальной галиматьи, но подстрекнуло прибегнуть к обычному
шарлатанскому приему - завлечению в свои сети <...> какого-нибудь видного представителя
враждебного политического лагеря.
517
Облюбовали они некоего архиепископа Α., о котором утвердилось в жидовской печати
одновременно три славы: черносотенца, "неправославного" и кандидата в патриархи... Облюбовав
- принялись обрабатывать. <...> Вероятно, тотчас по выходе "Вех" архиепископу презентовали
экземпляр книги с сопроводительным письмом лестного содержания... Что-нибудь в этом роде
было, наверное, иначе положительно нельзя объяснить появление восторженного "Открытого
письма авторам сборника «Вехи»".
<...> Не зная архиепископа Α., я имею право ввиду очевидного несоответствия
восторженности его приветствия ни духу "Вех", ни личностям их авторов, предположить только одно,
что преосвященный, будучи незнаком с типами вроде Струве и Бердяева и не придавая
значения совместному выступлению "неохристиан" с Изгоевыми и Гершензонами, поддался первому
впечатлению, навеянному сравнительно приличной статьей С. Булгакова» (Русское знамя.
1909. № 192: 29 августа).
В. Ильин <В. И. Ленин> «О "Вехах"»: «..."Вехи" выразили несомненную суть
современного кадетизма. Партия кадетов есть партия "Вех" <...> "Вехи" - крупнейшие вехи на пути
полнейшего разрыва русского кадетизма и русского либерализма вообще с русским
освободительным движением, со всеми его основными задачами, со всеми его коренными традициями.
Энциклопедия либерального ренегатства охватывает три основные темы: 1) борьбы с
идейными основами всего миросозерцания русской (и международной) демократии; 2)
отречение от освободительного движения недавних лет и обливание его помоями; 3) открытое
провозглашение своих "ливрейных" чувств (и соответствующей "ливрейной" политики) по
отношению к октябристской буржуазии, по отношению к старой власти, по отношению к старой
России вообще.
<...> В русской интеллигенции "Вехи" бранят именно то, что является необходимым
спутником и выражением всякого демократического движения.
<...> "Вехи" - сплошной поток реакционных помоев, вылитых на демократию. Понятно,
что публицисты "Нового времени", Розанов, Меньшиков и А. Столыпин, бросились целовать
"Вехи". Понятно, что Антоний Волынский пришел в восторг от этого произведения вождей
либерализма.
<...> "Вехи" хороши тем, что вскрывают весь дух действительной политики русских
либералов и русских кадетов в том числе. Вот почему кадетская полемика с "Вехами", кадетское
отречение от "Вех" - одно сплошное лицемерие, одно безысходное празднословие» (Новый
день. 1909. № 15: 13 декабря).
Ив. Петрушкевич «Интеллигенция и "Вехи"»: « В "Вехах" затронуты вопросы огромной
важности и уклонение от их решения тем более невозможно, 'что общественное мнение
несомненно заинтересовано ими» (Интеллигенция в России. СПб., 1910. С. XIV - XV).
Я. А. Гредескул «Перелом русской интеллигенции и его действительный смысл»: «...С. Н.
Булгаков <...> наиболее пространно выражает <...> ту мысль о "неудаче" или "крушении"
освободительного движения, которую и все остальные авторы "Вех" прямо высказывают или
молчаливо подразумевают.
<...> В настоящем споре с авторами "Вех" мы вообще оставим в стороне "будущее";
предположим, что оно для нас, как и для них, совершенно закрыто. Предоставим этому
"будущему" самому произнести свой окончательный приговор над русским освободительным
движением.
"Вехи" - книга малодушных и испуганных; малодушных - до забвения всякой
справедливости, испуганных - до полной умственной паники. Это - зрелище людей, всецело отдавшихся
аффекту и вообразивших, что надо непременно вопить и кричать, чтобы тем же аффектом
заражать и всех окружающих. Отсюда этот постоянный refrain каждой статьи сборника:
"Покайтесь - иначе погибните!"» (Там же. С. 27, 46, 54).
Я. Я. Милюков «Интеллигенция и историческая традиция» : «Я думаю, что семена,
которые бросают авторы "Вех" на чересчур, к несчастию, восприимчивую почву, суть ядовитые
семена, и дело, которое они делают, независимо, конечно, от собственных их намерений, есть
опасное и вредное дело... Положительная сторона "Вех" и объяснение вызванного ими
интереса заключается именно в этой страстности, интеллигентском "максимализме" их размаха,
которым подняты с самого дна решительно все вопросы, подняты смело и дерзко, без всякой
оглядки на то, какой возможен на них ответ» (Там же. С. 187).
* * *
В полемике, развернувшейся вокруг «Вех», приняли участие и авторы сборника - все,
кроме М. О. Гершензона и С. Н. Булгакова (чем, вероятно, и объясняется позднейшая высокая
оценка их В. В. Розановым; см. примеч. к статье «О первохристианстве»).
Мотивы неучастия того и другого, скорее всего, были разными, а один из этих мотивов
применительно к Гершензону и Булгакову носил даже противоположный характер.
Представители разных партий и направлений одинаково единодушно (за редким исключением) осудили
518
«злополучную» фразу из статьи Гершензона: «Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о
слиянии с народом - бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту
власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной»
(Вехи. Сб. статей о русской интеллигенции. М., 1909. С. 88; та же страница во всех
последующих изданиях 1909-1910 гг.; М.: Новости, 1990. С. 92).
В то же время противоположные стороны нередко сходились в признании справедливости
некоторых утверждений, содержащихся в статье Булгакова. Таким образом, Гершензону
вступать в полемику с многочисленными критиками «Вех» практически было бесполезно;
Булгакову же — не нужно. Если учесть еще и всегдашнюю нелюбовь Булгакова к полемике, то
молчание его становится вполне объяснимым. Но, возможно, все дело объясняется сугубо личными
мотивами: летом 1909 г. Булгаков пережил тяжелое горе - умер от нефрита его трехлетний
сын, и эту утрату он воспринял «не только как личное горе, но и как религиозное откровение»
{Булгаков С. Н. Автобиографические заметки. Париж, 1946. С. 69).
«С тех пор как нас постигло наше горе, - писал он в письме к Г. А. Рачинскому 27
сентября 1909 г., — я оказался в каком-то благодатном облаке любви, незаслуженной и иногда
неожиданной, это - ток, идущий оттуда... Как изобразить Вам пережитое? Скажу одно: я еще
никогда не переживал такой муки в своей в общем благополучной, хотя и не свободной от
утрат жизни» (РГАЛИ, ф. 427, оп. 1, ед. хр. 2689, л. 2).
Любопытны в этой связи воспоминания о С. Н. Булгакове русского философа
В. Н. Ильина, относящиеся к периоду с 1905 по 1909 г. «С творчеством о. Сергия, - пишет
Ильин, - я познакомился в первый раз в бытность мою еще молодым пятиклассником
Киевской 1 гимназии, ибо тогда (в 1905-1906 гг.) о. Сергий был молодым приват-доцентом
Киевского политехнического института. Тогда же о. Сергий прогремел на всю Россию серией своих
превосходных лекций о Чехове и рядом статей, которые впоследствии вошли в состав
великолепного сборника "Тихие думы "<...> Залы, в которых читал в Киеве о. Сергий, были
переполнены. Содержание и стиль этих лекций, равно как их успех, показывают, что
действительно свершался некий крутой поворот от жалких и бедных идей 60-х и 70-х годов, даже полный
разрыв с ними ради роскошной и многообещающей зари новых дней. И это несмотря на то, что
официально о. С. Булгаков <...> и многие его слушатели пребывали в стане народников и
марксистов. Но именно тем важнее было быть свидетелем совершавшегося и неизбежного
переворота "от марксизма к идеализму". И тогда же "Вехи" покупались нарасхват (в них одной
из лучших статей была статья о. Сергия), а сочинения Ленина <...> вызывали гомерический
хохот своей отсталостью, некультурностью и глупостью» (Вестник РСХД. 1971. № 101/102. С.
62-63).
Как бы то ни было, участие С. Н. Булгакова в сборнике «Вехи» означало завершение
эволюции его политических взглядов и предопределило дальнейшую его судьбу. П. Б. Струве в
июле 1918 г. в предисловии к сборнику «Из глубины» писал: «Сборник "Вехи", вышедший в
1909 г., был призывом и предостережением <...>. Историк отметит, что русское образованное
общество в своем большинстве не вняло обращенному к нему предостережению, не сознавая
великой опасности, надвигающейся на культуру и государство» (Из глубины. Сб. статей о
русской революции. М.: Новости, 1991. С. 5).
Символическим можно считать почти одновременный выход в свет сборника «Вехи» (март
1909 г.) и книги В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» (май). Одна книга была
пророческим предупреждением против закамуфлированных обещаний второй. «От этой книги, -
писал Н. Валентинов о «Материализме и эмпириокритицизме», - идет уже прямая, хорошо
выглаженная бульдозерами дорога к государственной философии, опирающейся на ГПУ-НКВД-
МГБ» (Валентинов Я. Встречи с Лениным // Волга. 1990. № 12. С. 126).
Из семи авторов «Вех» пятеро - кроме М. О. Гершензона и умершего в 1920 г. Б. А. Кис-
тяковского - в 1922 г. были высланы из Советской России.
Итак, читая «Вехи», в частности статью С. Н. Булгакова, будем помнить: с начала 1910 г.
до октябрьской революции 1917 г. оставалось 7 лет 9 месяцев 25 дней...
2*. Список приговоренных в России к смертной казни (далеко не все из них были
приведены в исполнение) за период с 1825 по 1906 гг. включительно (612 человек) опубликован в
сборнике статей «Против смертных казней»). М., 1906; С. Н. Булгаков участвовал в этом
сборнике статьей «О смертной казни» (перепечатана в сборнике «Смертная казнь: за и против». М.,
1989. С. 210-213). «Всякое убийство, - писал он в этой статье, - есть дело ненависти. Не
может быть, чтобы человек убивал человека из любви к нему. Смертная казнь есть один из
самых ужасных видов убийства, потому что она есть холодное, расчетливое, сознательное,
принципиальное убийство - убийство без всякого аффекта, без всякой страсти, без всякой цели;
убийство ради убийства. И в этом главный ее грех и ужас... При смертной казни нет убийцы в
смысле живого лица, есть отвлеченный убийца - закон или государство» (Указ. соч. С. 210).
3*. Статистика уголовной (и уголовно-политической) преступности времен первой русской
революции: «За 1905-1906 гг. было сожжено и разграблено около 2000 усадеб... грабили,
разбирали по бревнышкам, тащили нужное и ненужное, ломали и грабили... Ломали даже боль-
519
ницы, тащили из-под больных тюфяки... Социалистическая пропаганда, так популярно
объяснившая, что Бога нет и что все богатство есть плод воровства и грабежа бедных, пускала
глубокие корни и в самом крестьянстве.
<...> С 1905 по 1909 г. ежедневно от рук левых политических бандитов погибало от 12 до
18 человек. «Обычный тер. акт: 14 мая 1906 г. днем на Соборной площади в Севастополе от
взрыва бомбы погибло 8 человек на месте, из них 2 детей, не менее 40 получили ранения...
При взрыве столыпинской дачи на Аптекарском острове погибло на месте 27 человек»
(Острецов В. М. Черная сотня и красная сотня. М., 1991. С. 11, 37).
«С конца 1905 г. <...> за год ограблены <...> казначейства на сумму более полумиллиона
рублей, совершены экспроприации на сумму около 200 тысяч рублей; убиты: военный генерал-
губернатор, помощник генерал-губернатора, один полковник, два подполковника, два
помощника пристава, воинских чинов 20, жандармов - 7, полицейских - 56; ранено военных - 42,
жандармов - 12, полицейских -42, а всего - 179 человек; произведено 10 взрывов бомб,
причем убито 8 и ранено 50 лиц; разгромлено и ограблено 149 казенных винных лавок»
(Столыпин П. А. Нам нужна великая Россия...// Полн. собр. речей в Гос. думе и Гос. совете.
1906-1911. М., 1991. С. 200).
С. 276.
4*. Первая Гос. дума была созвана 27 апреля 1906 г. и заседала 8 июля (9 июля был
опубликован царский манифест о ее роспуске).
Вторая Гос. дума (20 февраля-2 июня 1907 г.) распущена 3 июня (так наз.
«третьеиюньский переворот). Об участии С. Н. Булгакова в работе II Гос. думы см. примеч. 6*
к статье «Религия человекобожия в русской революции».
В дальнейшем были созваны еще две думы - третья (1 ноября 1907-9 июля 1912 г.) и
четвертая (15 ноября 1912-6(19) октября 1917 г.).
С. 277.
5*. В сб. «Вехи» за этим словом следовало: «Критическое отношение к некоторым сторонам
духовного облика русской интеллигенции отнюдь не связано даже с" каким-либо одним
определенным мировоззрением, ей наиболее чуждым. Люди разных мировоззрений, далеких между
собою, могут объединиться на таком отношении, и это лучше всего показывает, что для
подобной самокритики пришло действительно время и она отвечает жизненной потребности хотя бы
некоторой части самой же интеллигенции».
6*. То есть «психология» главного героя «Записок из подполья» Ф. М. Достоевского. Эта
психология характеризуется, с одной стороны, крайней «раздвоенностью», «разорванностью»
сознания, и с другой - чрезвычайной углубленностью и остротой самосознания. В
совокупности эти свойства мешают личности реализоваться. Вот собственные слова «подпольного» героя:
«Я не только злым, но даже и ничем не сумел сделаться: ни злым, ни добрым, ни подлецом,
ни честным, ни героем, ни насекомым» (Достоевский Ф. М. Записки из подполья. 1,1. Полн.
собр. соч. Т. V).
7*. «Ганнибалову» клятву на вечную борьбу с крепостным правом дал себе в юности
И. С. Тургенев, о чем позднее рассказывал в своих «Литературных и житейских
воспоминаниях» (Тургенев. И. С. Полн. собр. соч. и писем. Л., 1965. Т. 14. С. 9). Подобную же клятву
летом 1827 г. произнесли два подростка: А. И. Герцен и Н. П. Огарев. Герцен впоследствии
описал это событие в поэтических строках, вдохновлявших не одно поколение русских
революционеров: «Садилось солнце, купола блестели, город стлался на необозримое пространство под
горой, свежий ветерок подувал на нас, постояли мы, постояли, оперлись друг на друга и,
вдруг, обнявшись, присягнули, в виду всей Москвы, пожертвовать нашей жизнью на
избранную нами борьбу» (Герцен А. И. Былое и думы .4.1. Гл. IV). Напомним, что в момент
произнесения этой клятвы одному из «ганнибалов» было 15, другому - 14 лет.
С. 2 78.
8*. Сложная смесь (лат.).
9*. Ср. с характеристикой П. Я. Чаадаева: «Взгляните вокруг. Разве что-нибудь стоит
прочно? Можно сказать, что весь мир в движении. Ни у кого нет определенной сферы
деятельности, нет хороших привычек, ни для чего нет правил, нет даже и домашнего очага, ничего
такого, что привязывает, что пробуждает ваши симпатии, вашу любовь; ничего устойчивого,
ничего постоянного; все течет, все исчезает, не оставляя следов ни вовне, ни в вас. В домах
наших мы как будто определены на постой; в семьях мы имеем вид чужестранцев; в городах
мы похожи на кочевников, мы хуже кочевников, пасущих стада в наших степях, ибо те более
привязаны к своим пустыням, нежели мы к нашим городам...
В лучших головах наших есть нечто, еще худшее, чем легковесность. Лучшие идеи,
лишенные связи и последовательности, как бесплодные заблуждения парализуются в нашем моз-
520
гу. В природе человека теряться, когда он не находит способа связаться с тем, что было до
него и что будет после него; он тогда утрачивает всякую твердость, всякую уверенность; не
руководимый ощущением непрерывной длительности, он чувствует себя заблудившимся в
мире. Такие растерянные существа встречаются во всех странах; у нас это общее свойство»
{Чаадаев П. Я. Поли. собр. соч. и избр. письма. М., 1991. Т. 1. С. 323-324, 328).
10*. Вспоминая свои школьные и юношеские годы - «годы тьмы и отпадения», -
С. Н. Булгаков писал: «Думаю, что моя внешняя судьба здесь аналогична судьбам также
семинаристов Добролюбова и Чернышевского» {Булгаков С. Н. Автобиографические заметки.
Париж, 1946. С. 26, 29).
11*. См. примеч 29* к статье «От автора».
С. 280.
12*. Если двое говорят одно и то же, это не одно и то же {лат.). Текст латинской
поговорки слегка изменен; должно быть: «Если двое делают (facient) одно и то же...».
13*. Сходных взглядов придерживался и П. Я. Чаадаев: «Окиньте взглядом всю картину
развития нового общества и вы увидите, что христианство претворяет все интересы людей в
свои собственные, заменяя везде материальную потребность потребностью нравственной... так
что жизнь народов превращалась в великую идею и во всеобъемлющее чувство; вы увидите,
что в христианстве, и только в нем, разрешалось все: жизнь частная и жизнь общественная,
семья и родина, наука и поэзия, разум и воображение, воспоминания и надежды, радости и
горести» {Чаадаев П. Я. Поли. собр. соч. и избр. письма. Т. 1. С. 338).
В статье «Об экономическом идеале» С. Н. Булгаков писал: «Нормальная или идеальная
цивилизация, синтез средних веков и ренессанса, прав духа и прав плоти, еще впереди. Кому
же из исторических народов суждено совершить этот синтез?» {Булгаков С. Н. От марксизма к
идеализму. СПб., 1903. С. 285).
14*. Булгаков имеет в виду исследования В. Зомбарта· и М. Вебера; помимо статьи
«Народное хозяйство и религиозная личность», см. также: Булгаков С. Н. Философия
хозяйства. М., 1990. С. 187, 224.
С. 282.
15*. Буря и натиск {нем.) - литературное движение в Германии 70-х годов XVIII в.,
получившее свое название по одноименной драме Ф. М. Клингера. В переносном смысле - бурный,
романтический период в истории народа или судьбе отдельного человека.
С. 284.
16*. Имеется в виду знаменитый тезис Э. Бернштейна «Движение - все, конечная цель -
ничто». Об отношении Булгакова к берштейнианству см. примеч. 54* к статье
«Первохристианство и новейший социализм».
С. 285.
17*. Выражение из Евангелия от Матфея: «Вожди слепые, отцеживающие комара, а
верблюда поглощающие!» (23, 24).
18*. В «Вехах» было напечатано «эсхатологическом», а в подстрочном примечании
объяснялось: «нет нужды показывать, насколько эта атеистическая эсхатология отличается от
христианской эсхатологии».
19*. По поводу этого утверждения в полемику с Булгаковым вступил Д. С. Мережковский.
Процитировав слова Булгакова в своей статье «Семь смиренных», он писал: «В этих словах
Булгакова - основная мысль книги, та скрытая ось, вокруг которой все вращается; тот белый
цвет, в котором слиты семь цветов радуги.
Революция - одно отрицание без всякого утверждения; ненависть без всякой любви;
разрушение без всякого творчества; зло без всякого добра.
Булгаков отсюда не делает вывода, но вывод ясен: если революция - разрушение,
ненависть и отрицание, то реакция - восстановление разрушенного - созидание; угашение
ненависти - любовь, отрицание отрицания - утверждение; и, наконец, если революция -
антирелигия, то реакция - религия, а может быть, и обратно, религия - реакция: вывод, давно уже
сделанный врагами религии.
Продолжая этот вывод, мы придем от "страшного суда" над русской интеллигенцией,
русской революцией, к "страшному суду"» над всей европейской культурой, ибо вся она вышла из
горнила революционного, вся она - застывший сплав металла, кипевшего некогда на
революционном огне. Если революция - одно "отрицание, ненависть и разрушение", то и вся
культура тоже; так ведь и думали те христианские подвижники, на которых ссылается Булгаков как
на обладателей совершенной истины Христовой; для св. Серафима Саровского все европейское
просвещение -антихристово.
521
Существует два понимания всемирной истории: одно, утверждающее бесконечность и
непрерывность развития, ненарушимость закона причинности; для этого понимания свобода
воли, необходимая предпосылка религии, есть метафизическое и теологическое суеверие,
другое - утверждающее "конец", "прерыв", преодоление внешнего закона причинности
внутреннею свободою, то вторжение трансцендентного порядка в эмпирический, которое кажется
"чудом", а на самом деле есть исполнение иного закона, высшего, несоизмеримого с
эмпирическим: свобода Сына не нарушает, а исполняет закон Отца.
Первое понимание - научное, эволюционное; второе - религиозное, революционное.
В последнем счете, но именно только в последнем, одно не противоречит другому: всякий
"прерыв" есть предел, конец развития - цель - в порядке телеологии; всякое развитие есть
подготовление, назревание, начало прерыва - "начало конца" - причина - в порядке
детерминизма. В этом смысле эволюция и революция - две стороны, имманентная и трансцендентная,
одной и той же всемирно-исторической динамики.
В Апокалипсисе дано это, по преимуществу, христианское, предельное и прерывное,
"катастрофическое", революционное понимание всемирной истории. Стоит раскрыть Апокалипсис,
чтобы пахнуло на нас "чувством конца", как жаром лавы из кратера. Что означают на самом
деле эти молнии, громы, пожары, землетрясения; эти чаши гнева Господня, битвы восстания и
поражения народов; кровь, текущая до узд конских; эти трупы царей, пожираемые хищными
птицами; это падение великого Вавилона, подобное падению жернова, брошенного с неба в
море, - что означает все это, если не величайшую из революций - ту последнюю грозу, чьи
бледные зарницы - все революции бывшие?
Неужели же для Булгакова и эта последняя - только отрицание, только ненависть и
разрушение?? - Но ведь ежели царство Зверя, Вавилон, тут, действительно, разрушается, то
царство Божие, Иерусалим, созидается; тут, воистину, "восторг разрушения - восторг созидания",
гнев Агнца - гнев любви.
Отвергать положительное религиозное содержание не только в эмпирике, но и в мистике
революции - значит отвергать Апокалипсис - всю христианскую эсхатологию, всю
христианскую динамику - Христа Грядущего, а, следовательно, и Пришедшего, ибо Грядущий и
Пришедший - один.
Где же и зародилось революционное понимание всемирной истории, как не в
христианстве? Все революции древнего мира имеют смысл национальный, политический; только у
христианских народов начинается и продолжается, уже никогда не прекращаясь, а лишь переходя
от одного народа к другому, всемирное революционное движение, как вечное искание Града
Божьего, как сознательно или бессознательно воплощаемая эсхатология.
На Западе, в папстве, абсолютизме духовном, на Востоке, в кесарстве, абсолютизме
светском, иссякла, исказилась и окаменела она; но огненный родник ее доныне бьет в сердце рус·,
ского народа - в расколе - сектантстве и в освобождении, в интеллигенции - во всех русских
отщепенцах, "настоящего Града не имеющих, грядущего Града взыскующих". Это
бессознательное эсхатологическое самочувствие и делает интеллигенцию народною, во всяком случае',
более народною, чем народники Вех.
Освобождение кончено для них, найден Град: "17 октября 1905 года мы подошли к
поворотному пункту, - утверждает Изгоев. - Мы - на пороге новой русской истории,
знаменующейся открытым выступлением, наряду с правительством, общественных сил". - Это ведь и
значит: найден Град.
Вот с чем никогда не согласится русская интеллигенция: она может быть раздавлена,
похоронена заживо, но не смешает настоящего Града с грядущим, Вавилона с Иерусалимом. И в
этом, без имени Божьего, она ближе к Богу, чем те, у кого Он с языка не сходит, и для кого
чаяние. Града, по откровенному заявлению Струве, есть "апокалипсический анекдот"»
(Мережковский Д. С. Поли. собр. соч. СПб.; М., 1911. Т. XII. С. 73-76).
С. Н. Булгаков никак не отреагировал на выступление Мережковского. Семью годами
ранее он писал о своем «негодовании, даже омерзении, какое испытал, читая
разглагольствования г. Мережковского, этого Иудушки новейшей формации», по поводу русской церкви в его
статье о Л. Н. Толстом и Достоевском (Освобождение. 1902. № 6. С. 86).
Ответили Мережковскому кн. Е. Н. Трубецкой на страницах своего журнала «Московский
еженедельник» и С. Л. Франк (в статье «Мережковский о "Вехах"» // Слово. 1909, 28 апреля).
Мережковский, пишет Е. Н. Трубецкой, видит одно из «любопытных доказательств»
«реакционности» сборника «Вехи» в словах Булгакова <следует цитата - комментируемая
фраза С. Н. Булгакова>. Далее он пишет: «Тут Булгаков не делает вывода; но, по словам
Д. С. Мережковского, «вывод ясен: если революция - разрушение, ненависть и отрицание, то
реакция - восстановление разрушенного - созидание; угашение ненависти - любовь;
отрицание отрицания - утверждение; и, наконец, если революция - антирелигия, то реакция -
религия, а, может быть, и обратно: «религия - реакция», вывод, давно уже сделанный врагами
религии».
Из посылок Булгакова можно сделать сколько угодно других выводов: можно вместо
реакции взять понятие «мирного прогресса», которое также противоположно понятию революции.
522
Тогда в качестве «отрицания отрицания» прогресс, а не реакция будет равен религии. Вообще,
способом Мережковского можно доказать что угодно; но элементарная логическая ошибка,
заключающаяся в его рассуждении, уже в достаточной мере разоблачена г. Франком.
Силлогизм, который кажется Мережковскому' чрезвычайно убедительным, в
действительности, по своей формально-логической природе тождествен со следующим: если верблюд не
есть слон, а противоположность слона есть муха, то, следовательно, верблюд есть муха; или:
кто не удовлетворен красным цветом, тот, следовательно, любит черный, ибо черный цвет есть
«отрицание» красного. В элементарной логике такая ошибка зовется смешением
контрадикторной противоположности, не допускающей ничего третьего, с противоположностью
контрарной, в пределах которой допустимо многое третье. И именно эта логическая ошибка есть опорная
точка всего рассуждения Мережковского» (Московский еженедельник. 1909. № 23. С. 4-5).
20*. Правильный перевод этого бакунинского афоризма - Die Lust der Zerstörung ist auch
eine schaffende Lust - «Страсть к разрушению есть вместе с тем и творческая страсть». Слова
из статьи М. А. Бакунина (опубликованной в 1842 г. по-немецки под псевдонимом «Жюль Эли-
зар») «Реакция в Германии. Очерк француза». (Рус. пер. см.: Корнилов А. А. Молодые годы
Михаила Бакунина. М., 1915. С. 198).
Эти же слова Бакунина цитирует в «Вехах» и С. Л. Франк, который замечает по поводу их
следующее: «Из этого афоризма давно уже исчезло ограничительное "auch" - и разрушение
признано не только одним из приемов творчества, а вообще отождествлено с творчеством или,
вернее, целиком заняло его место. Здесь перед нами отголосок того руссоизма, который вселял
в Робеспьера уверенность, что одним лишь беспощадным устранением врагов отечества можно
установить царство разума. Революционный социализм исполнен той же веры. Чтобы
установить идеальный порядок, нужно "экспроприировать экспроприирующих", а для этого -
добиться "диктатуры пролетариата", а для этого - уничтожить те или другие политические и
вообще внешние преграды. Таким образом, революционизм есть лишь отражение
метафизической абсолютизации ценности разрушения» (Вехи. М.: Новости, 1990. С. 168).
С. 287.
21*. Ε. Φ. Азеф (1869-1918) - известный провокатор, «человек, свыше 15 лет состоявший
на службе в качестве тайного полицейского агента для борьбы с революционным движением и
в то же время в течение свыше пяти лет бывший главою террористической организации
партии эсеров - самой крупной и по своим размерам, и по размаху ее деятельности, какую только
знает мировая история; человек, предавший в руки полиции многие и многие сотни
революционеров и в то же время организовавший ряд террористических актов, успешное проведение
которых остановило на себе внимание всего мира; организатор убийств министра внутренних
дел Плеве, великого князя Сергея Александровича и ряда других представителей власти;
организатор покушения против царя - покушения, которое не было выполнено отнюдь не по
недосмотру "доброго" желания у его главного организатора, - Азеф является поистине еще
непревзойденным примером того, до чего может довести последовательное применение
провокации как системы.
Действуя в двух мирах - в мире тайной политической полиции, с одной стороны, и в мире
революционной террористической организации, с другой - Азеф никогда не сливал себя
целиком ни с одним из них, а все время преследовал свои собственные цели и соответственно с
этим предавал то революционеров полиции, то полицию революционерам. В обоих этих мирах
его деятельность оставила заметный след... Роль Азефа в обоих этих мирах была настолько
значительна, что, не поняв ее, не проследив ее во всех ее деталях, историк не сможет понять
многого в истории первой русской революции...» (Николаевский Б. История одного предателя.
Террористы и политическая полиция. М., 1991. С. 18-19).
Азеф был разоблачен в самом начале 1909 г., что получило огромный резонанс в
общественной жзни России. Со специальной речью в Гос. думе выступил глава правительства П. А.
Столыпин (11 февраля 1909 г., см.: Столыпин П. А. Нам нужна великая Россия...: Поли. собр.
речей в Гос. думе и Гос. совете. 1906-1911 гг. М., 1991. С. 188-206).
С тех пор имя "Азеф" стало синонимом предательства и провокации. У Маяковского,
например, в поэме "Облако в штанах" (1914) есть строки:
Эту ночь глазами не проломаем,
Черную, как Азеф!
(Маяковский В. В. Соч. М., 1978. Т. 1. С. 242).
Между тем в деле Азефа сокрыта некая "психологическая тайна" не только первой
русской революции, но и всей истории России XX века. Эта "тайна" впервые была разоблачена и
обнародована В. В. Розановым в его гениальном очерке «Между Азефом и "Вехами"».
«В истории Азефа, - пишет В. В. Розанов, - мало обратила на себя внимания следующая
сторона дела. Первые вожди революции в течение десяти лет вели общее, одно дело с этим
человеком, говорили с ним, видели не только его образ, фигуру, но и манеры, движения;
слышали голос, тембр голоса, эти грудные и горловые звуки; видели его в гневе и радости, в
523
удаче и неудаче; слыхали и видели, как он негодовал или приветствовал... И все время
думали, что он - то же, что они. Как известно, подозрения закрались только тогда, когда были
арестованы некоторые лица, о "миссии" которых исключительно он один знал: доказательство
такое математическое, с помощью простого вычитания, что силу его оценил бы и гимназист 3-
го класса. "Азеф один знал о таком-то Иване, о его покушении; не Азеф ли выдал?" Это -
умозаключение из курса 3-го класса гимназии. Но ранее этого, но кроме этого... решительно
не приходило в голову! Но и перед наличностью такого математического доказательства
революционеры - не какие-нибудь, а вожди их, с целою историей за своей спиной - колебались.
Например, Азеф бросился в ресторане на какого-то господина с записною книжкою, о котором
"эс-эры", бывшие тут, подумали, не шпион ли это? Они подумали, а Азеф уже бросился с
кулаком на этого господина, и его едва оттащили. Он кричал: "Предавать святое дело
революции!"
Так убедительно! Он называл революцию "святым делом": "как же он мог быть
провокатором?"
Об этом случае писали в свое время. Не обратили внимания, до какой степени все это
значительно... крайней элементарностью!
Степень законспирированности, т. е. потаенности, укрывательства революции -
чрезвычайна. Когда в "Подпольной России" Кравчинского читаешь о "знаках", какие ставились
вокруг конспиративной квартиры, и как по этим знакам сторожевых людей узнавали, что она
свободна от надзора, и, идя в нее, не нарвешься на западню, - то удивляешься
изобретательности и, так сказать, тонкости механизма. "Хитрая машинка". Да, но именно машинка. Все
меры предосторожности - механичны, осязаемы, геометричны и протяженны. Видишь
западню и контр-западню. Все это в пределах темы о мышеловке. Мышеловка гениальна. Да, но
самая-то тема - ловли мышей и убегания от ловли - мизерна, ничтожна, мелка. Просто это
ниже человека. Если бы задать такую тему поэту или философу, Белинскому, Грановскому,
Станкевичу, Киреевскому, задать ее Влад. Соловьеву, - они бы не разрешили ее или устроили
бы вместо мышеловки какую-то смешную и неудачную вещь, которую только бросить. Но если
бы в комнату, где сидели эти.люди: Станкевич, Тургенев, вошел Азеф...
Поэты и философы, художники и сердцеведы посторонились бы от него.
Им не надо было бы осязательных доказательств, кто он; чтобы он "кричал" о том-то,
махал руками при другой теме. Просто они "нутром", говоря грубо, а говоря тоньше -
музыкальностью своею, организациею, художественным чутьем неодолимо отвратились бы от него,
не вступили бы с ним ни в какое общение, удержались бы звать его в какое бы то ни было
общее дело или откровенно говорить при нем, посвящать его в задушевные, тайные свои
намерения.
Азеф и Станкевич несовместимы.
Азеф не мог бы войти в близость со Станкевичем.
Чудовищной и ужасной истории с русской провокациею не могло бы завязаться, не могло
бы осуществиться около людей не только типа, как Станкевич или Грановский, или как
Тургенев, - но и около кого-нибудь из людей типа любимых тургеневских героев и героинь. Это
замечательно, на это нужно обратить все внимание. То, что "обрубило голову революции",
сделало вдруг ее всю бессильною, немощною, привело к "неудаче все ее дела", - никоим образом
не могло бы приблизиться и коснуться не только прекрасных седин Тургенева, но и волос
неопытной, застенчивой Лизы Калитиной.
Лиза Калитина сказала бы: "нет".
Тургенев сказал бы: "нет".
И как Дегаев, так и Азеф, никак не подкрались бы к ним, не выслушали бы ни одного их
разговора, и им не о чем было бы "донести".
Что же случилось? Какая чудовищная вещь? Как мало на это обращено внимания!
Революционеры сидят в своей изумительной, гениальной "мышеловке". Это их
"конспирация" и потаенные квартиры. Как они писали о своих «законспирированных» типографиях -
это такая тайна и "неисповедимость", что ни друзья, ни братья и сестры, ни отец и мать, ни
сами революционеры, так сказать, на других "постах" стоящие, никогда туда не проникали.
"Немой, отрекшийся от мира человек, работает там прокламации". Он полон энтузиазма и
проч., и проч.
Великая тайна.
В нее входит Азеф.
"Рядового" революционера туда, конечно, не пустят. Но нельзя же отказать в "ревизии"
приехавшему из Парижа куда-нибудь на Волгу "товарищу", который имеет пароль Члена
центрального комитета. Все им руководится. Как же от руководителя что-нибудь скрывать?
С потаенными знаками, в безвестной глухой квартире собираются товарищи, оглядываясь,
не идет ли за ними полицейский, не следит ли шпион. Идут безмолвно, "на цыпочках".
На цыпочках же, оглядываясь, не следит ли за ними полицейский или шпион, входит в
это собрание Азеф. Здоровается, садится, говорит и слушает. У него спрашивают советы. Он
дает советы.
524
Величайший враг, самый злобный: единственный, который им может быть опасен,
который все у них сгубит и всех их погубит, - постоянно с ними.
И они никак его не могут узнать!
В этом - суть провокации.
На этом сгублена была, прервана революция.
На неспособности узнавания: не правда ли, поразительно!
Сидят в ложе театра мудрецы, как кн. Кропоткин, Вера Фигнер, В. Засулич, Лопатин.
Перевидали весь свет. Век читали, учились - правда, все особливые и однородные книжки. На
сцене играется "Отелло" Шекспира - и главную роль играет Сальвини. Они смотрят на сцену,
внимательно вслушиваются: и никак не могут понять, что на ней происходит, по странной
причине не могут различить Отелло от Яго и Сальвини от Ивана Ивановича!
Как не могут? Весь театр понимает.
Но они не понимают.
Весь театр состоит из обыкновенных людей. А они - ложе террористов - необыкновенные
люди. Они "отреклись от ветхого мира": и в то время, как весь театр читал Шекспира, задумы
вался над лицом и философиею Гамлета, читал о нем критику и во все это вдумы вался
свободно, внимательно, не торопясь, не спеша, - пять, семь "членов центрального комитета"
никогда не имели к этому никакого досуга, а еще главное - ни малейшего расположения, точь-в-
точь как (беру специальности) Плюшкин, копивший деньги, или Скалозуб, командовавший
дивизией. Все равно, в чем специальность: дело - в специализации. Зрители партера -
свободные люди, не специалисты. Но в "ложе террористов" - специалисты. Нужно бы здесь
цитировать те замечательные слова о печатнике конспиративной типографии, которые собственно
вводят в душу революции. Они не лишены поэтичности, потому что вдохновенны; но смысл
этого вдохновения сводится к черной точке - полному разобщению с людьми и их интересами,
с человеком и его заботами, с мудростью человеческой, ошибками, глупостями, шутовством,
смешным и возвышенным.
Ничего. Одна "печатная прокламация"... Типографский шрифт и конспиративно
переданный оригинал.
Вполне Плюшкин революции.
У людей есть песни, сказки, у людей есть вот Шекспир. Они, смотрят Сальвини, плачут,
смотря на его игру. Все это развивает, одухотворяет, усложняет, утончает нервы, утончает
восприимчивость. Люди сердцем переживали Шопенгауэра и Ницше - в тридцать лет одного и
в сорок - другого, и, чтобы перейти от Шопенгауэра к Ницше, сколько надо было продумать,
да и прямо переволноваться. Ведь так не сродны оба философа.
Зачитывались Тютчевым. Строки Фета, Тютчева, Апухтина ложились на душу все новым
налетом. Сколько налетов! Да и под ними сколько своей ползучей, неторопливой думы . К 40-
50 годам, с сединами в голове, является и эта поседелость души, при которой, подняв глаза на
Азефа, с его узким четырехугольным приплюснутым лбом, губами лепешкой, чудовищным
кадыком, отшатнешься и перейдешь на другой тротуар.
После первого же посещения, которое он навязал, скажешь прислуге:
- Для этого господина меня никогда нет дома.
Лицо Азефа чудовищно и исключительно. Как же можно было иметь с ним дело? Лицо
само себя показывает - именно у него. Но весь партер узнает Сальвини, знает, где Яго и где
Отелло, одни террористы никак не могут этого узнать.
Они вообще не узнают людей, не распознают людей.
Но отчего? От психологической неразвитости - чудовищной, невероятной, в своем роде,
поистине "азефовской", если это имя и историю его неузнания можно взять в пример и символ
такого рода заблуждений и ошибок.
Как Азеф был в своем роде единственное чудовище - и имя "сатаны" и "сатанического"
часто произносилось в связи с его именем: так террористы дали пример совершенно
невероятной, нигде еще не встречающейся слепоты к лицу человеческому, ко всей натуре человеческой.
Как булыжники. Тяжелые, круглые, огромные. Валяются валом и на чем лежат - давят.
Но какое же у булыжника зрение, осязание, обоняние?
Азеф, растолкав этот булыжник, вошел и сел в него. И стал ловить. "Они ни за что меня
не узнают не могут узнать. Механику свою я спрячу, а чутья у них никакого. Они меня
примут за Гамлета".
Они, действительно, его приняли за Гамлета, страдавшего страданиями и пришедшего к
сознанию, что иначе как террором - нельзя ему помочь.
* * *
Как это могло случиться?
А как бы этого не случилось, когда к этому все вело? Над великой ролью "Азефа в
революции", "введения Азефа в социал-демократию" работали все время "Современник", "Русское
525
слово", "Отечественные записки", "Дело", "Русское богатство"...Ему стлали коврик под ноги
Чернышевский, Писарев, критик Зайцев, публицист Лавров; с булавой, как швейцар,
распахивал перед ними двери, стоя «на славном посту», сорок лет Михайловский... Сколько
стараний! Могло ли не кончиться все дело громадным, оглушительным результатом? Сейчас
Пешеходов, Мякотин и Петрищев изо всех сил стараются подготовить второго Азефа "на место
погибшего".
Как?!
Да ведь все дело в неузнании. Будь они способны узнавать, имей они чуткость, кто же бы
послал им такую грушу, как Азеф? Провокация, или так называемое "внутреннее освещение"
конспирации, основана на возможности войти в комнату к зрячим как бы к незрячим, т. е.
которые имеют физический глаз и не имеют духовного. Не яблоко глазное видит, а мозг видит.
Механизм зрения есть у конспираторов, а ума видящего у них нет; и на этом все основано,
базировано и рассчитано. А ум видящий, глаз духовный...
Боже, да ведь в атрофии его вся суть радикальной литературы, вся ее тема.
Все устремлено было к великой теме: создать революционного Плюшкина.
Когда писал Писарев свое "Разрушение эстетики" - он работал для Азефа.
Когда топтал сапожищами благородный облик Пушкина - он целовал пальчики Азефа.
Ничего, кроме этого, не делал Чернышевский, когда подымал ослиный гам и хохот около
философских лекций проф. Юркевича.
Вся сорокалетняя работа, борьба против "стишков", "метафизики" и "мистики" - все
затаптывание поэзии Полонского, Майкова, Тютчева, Фета - весь Скабичевский со своею
курьезною "Историею литературы, по преимуществу, новой" - ничего иного и не делали, как
подготовляли и подготовляли великое шествие Азефа. "Приди и царствуй"... и погубляй.
Последнее, конечно, было от них скрыто. Всякая причина, развертываясь во времени,
входит в коллизию с другими, непредвиденными. Да, но эти "непредвиденные" никак не могли бы
начать действовать этим именно способом, не встреть они "гармонирующее" условие в этой
первой причине.
Влезть в самую берлогу революции могло прийти на ум только тому или тем, кто с
удивлением заметил, что там сидящие люди как бы атрофированы во всех средствах духовного
зрения, духовного ощущения, духовного вникания.
Но корень, конечно, в слепоте\
А вытыкали глаза, духовные глаза, у читателей, у учеников, у последователей и, в
завершении и желаемом идеале - у практических дельцов политического движения, решительно
все, начиная с левого поворота нашей литературы и публицистики, начиная с расщепления
литературы на правое и левое движение. Все левое движение отшатнулось от всего духовного.
Тут я имею в виду вовсе не содержательную сторону поэзии или философии, мистики или
религии - которым, признаюсь, и не интересуюсь, или сейчас не интересуюсь, а
методологическую сторону, учебную, умственно-воспитательную, духовно-изощряющую,
сердечно-утончающую. Имею в виду "очки", а не то, что "видно через очки". Между тем весь радикализм
наш боролся против "средств видения", против изощрения зрения, против удлинения зрения.
Разве Чернышевский опровергал Юркевича, делал читателей свидетелями спора себя с ним?
Кто не помнит, когда, вместо всяких возражений, он, сказав две-три насмешки, перепечатал
из Юркевича в свою статью целый печатный лист - сколько было дозволительно по закону, -
перервав листовую цитату на полуслове и ничем не кончив? "Не хочу спорить: он дурак". И
так талантливо, остроумно... Публика, читатели, которые всегда суть "средние люди",
захохотали. "Как остроумен Чернышевский и какой mauvais ton этот Юркевич".
Так все и хохотали. Десятилетия хохотали. Пока к хохотуньям не подсел Азеф.
- Очень у вас весело. И какие вы милые люди. Я тоже метафизикой не занимаюсь и
стишков не люблю. Не мистик, а реалист.
Азеф совершенно вплотную слился с нигилистами, и они никак не могли различить его от
себя, потому что и сами имели это грубое, механическое, антиспиритуалистическое,
антирелигиозное, антимистическое, антиэстетическое, антиделикатное сложение, как и он. Разница в
калибре, в задушевности, в честности, в прямоте. Но, впрочем, во всем остальном составе
души, "убеждений", "мировоззрения", какая же разница между ним и ими?
Никакой.
Тон души один. А по "тону" души мы общимся, сближаемся, доверяем один другому. Азеф
был не прям, и эту машинку скрыл от людей, "в метафизику не углублявшихся": а, впрочем,
во всем духовном костюме своем или, скорей, бескостюмности, он был так же гол, наг, дик,
был таким же "отрицателем", как и они.
Они отрицали не мыслью, а хохотом. И он. На мысли можно поймать оттенки; в мотивах
спора можно словить ум, тонкость его, подметить знания, подметить науку, на которую нужно
было время потратить и способности иметь. И на всем этом можно было бы выделить
неискренность. Но когда все хохочут над метафизикой, религией, поэзией - когда все
сопровождается только саркастическою улыбкою, то как и кого тут различить? Все так элементарно!
526
Но элементарность-το и была методом русского радикализма! «Высмеивай, вытаптывай!
Не спорь и не отвергай, но уничтожай». Как тут было не подсесть Азефу? Как Азефа было
узнать?
* * *
«Который Гамлет, который Полоний? Где Яго, где Отелло? Где Сальвини и Иван
Иванович?» Но разве к этому же уже не подводил всех Скабичевский, которого историю литературы
единственно было прилично читать в этих кругах? Не подводила сюда критика Писарева и
публицистика Чернышевского? Не подводили ли сюда дубовые стихи с плоской тенденцией?
Повести с коротеньким направлением?
Все вело сюда, все... к Азефу! "Они разучились что-нибудь понимать".
Около этого прошло сколько боли русской литературы! Отвергнутый в его
художественный период Толстой, Достоевский, загнанный злобою и лаем в консервативные издания
официозного смысла, с которыми внутренно он ничего не имел общего... Да и мало ли других,
меньших, менее заметных! В широко разливавшемся и торжествующем радикализме ничего не
было принято, ничего не было допущено, кроме духовно- элементарного, духовно-
суживающего, духовно-оскопляющего!
"Ничего, кроме Плюшкина", - вот девиз. "Плюшкина, т. е. узенькой, маленькой, душной
идейки. Идейки фанатической, как фанатична была страсть Плюшкина к скопидомству.
Радикализм сам себя, убил, выкидывая из себя всякий цветочек, всякий аромат идейный и
духовный, всякое разнообразие мысли и разнообразие лица человеческого. Неужели я говорю что-
нибудь новое, что не было бы известно решительно каждому? Но какой ужасный всего этого
смысл, именно для радикализма!... Конечно, радикал пред собою и даже перед своею партиек»
обязан вдыхать в себя все цветочное из мировой истории, все пахучее, ароматное, лучшее,
воздушное. Пусть он не молится, но должен понимать существо молитвы; пусть будет атеистом,
но должен понимать всю глубину и интимность религиозный веяний; пусть борется против
христианства, против церкви, но на основании не только изучения, но талантливого
вникания в них. И все прочее также и в политике, в семье, в быте. Я не об изучении, которое может
быть слишком сложно и поглощает жизнь, отвлекает силы; я за талант вникания, который
решительно обязателен для каждого, кто выходит за сферы частного, домашнего
существования и вступает с пером в руке или с делом в намерении - на арену публичности, всеслышания
и всевидения.
Но выступают, как известно, хохотуны. Талант острословия, насмешки, а больше всего
просто злобного ругательства был господствующим качеством и ценился всего выше. Самая
сильная боевая способность. Была ли какая другая способность у Писарева, Чернышевского и
их эпигонов? Смехом залиты их сочинения. Победный хохот, который все опрокинул.
Смех по самому свойству своему есть не развивающая, а притупляющая сила. Смех, может
быть, и талант смеющегося, но для слушателя это всегда притупляющая сила. Смех не зовет к
размышлению. Смех заставляет с собою соглашаться. Смех есть деспот. И около смеха всегда
собираются рабы, безличности, поддакивающие. Ими, такими учениками, упился радикализм
и подавился. Ибо какого, даже талантливого, учителя не подавят тысячи благоговейных ослов!
В самом успехе своем радикализм и нашел себе могилу; пил сладкий кубок "признания" и
в нем выпил яд лести, "подделывания" к себе, впадения в свой "тон", поддакивания... Он не
боролся, как должен бороться всякий борец: он парализовал сопротивление ругательством и
знаменитою коротенькою ссылкою на "честно мыслящих" и "нечестно мыслящих". Он
объявлял негодным человеком того, с кем должен был вести спор, и этим прекращался спор. Все
разбежались. Победитель остался один. В какой пустыне!
Все это до того известно! Но все это до чего убийственно!
Ни малейше никто не боялся радикализма как направления, как программы, как
действия. Он - гость или соработник среди всех званых всемирной цивилизации. Но это его
варварство, варварство нашего русского радикализма, мутило все лучшие души: он явно вел страну к
одичанию, выбрасывая критику (художественную), выбрасывая "метафизику" или, собственно,
всякое сколько-нибудь сложное рассуждение, посмеиваясь над наукою, если она не была
"окрашена известным образом", растаптывая всякий росток поэзии, если она "не служила
известным целям". Он задохся в эгоизме - вот его судьба. На конце этой судьбы все направления
оказались богаче, сложнее - наконец, оказались талантливее его. Просто оттого, что ни одно
направление не было враждебно собственно таланту, а радикализм, начавшийся очень
талантливо век или почти век назад, шел систематически к убийству таланта в себе, через грубую
вражду к свободе лица человеческого. Какая тут свобода, когда стоит лозунг: "одна
нечестность может не соглашаться со мною!"
Полувековой лозунг. А в полвека много может сработать идея. Капля точит камень... Все
разбежались в страхе быть обвиненными в "бесчестности"... Вокруг радикализма образовалась
527
печальная пустыня покорности и безмолвия... Пока к победителю не подсел Азеф» (Розанов В. В.
Между Азефом и «Вехами»// Новое время. 1909, 20 августа).
Феномену «азефовщины» посвящены также статьи В. В. Розанова «Загадки русской
провокации» (Новое слово. 1910, № 16. С. 34-38), «Почему Азеф-провокатор не был узнан
революционерами» (Розанов В. В. Черный огонь. Париж, 1991. С. 37-63).
Глубокий социологический анализ этого явления произвел Б. А. Кистяковский,
пришедший к такому выводу: «История наших политических партий показала, что естественное
развитие всякой подпольно-революционной, а тем более террористической организации приводит
ее к тому, что она, в конце концов, необходимо попадает в руки провокатора..» (Кистяковский Б.
Страницы прошлого. К истории конституционного движения в России. М., 1912. С. 4).
К сказанному В. В. Розановым и Б. А. Кистяковским почти нечего добавить. Можно
только расширить, так сказать, «поле действия» открытого ими феномена, и поле это, вероятно,
охватит всю нашу новейшую отечественную лсторию.
Свой «Азеф» - Р. В. Малиновский (1876-1918) - имелся и у большевиков (любимец В. И.
Ленина, член ЦК!), разоблаченный лишь в 1917 г. А сколько всего было таких азефов и
Малиновских, «работавших» во имя нашего «светлого будущего» - это мы вряд ли узнаем когда-
нибудь с абсолютной точностью.
Где истоки «духовной незрячести», открытой Розановым? Кажется, здесь мы стоим перед
таким загадочным сфинксом - перед самым интимным ядром человеческой личности,
проникнуть в которое никому не дано. Тем не менее разгадка здесь настолько элементарна, что с
непривычки можно впасть в отчаяние: нет никакой загадки, нет никакого «интимного ядра»!
Там, где у всякого нормального человека душа, у них - дырка, нет ничего] «Я хотел однажды
узнать, - рассказывает Н. Валентинов о Ленине, - читал ли он Шекспира, Байрона, Мольера,
Шиллера. В ответ ни да, ни нет не получил, все же понял, что никого из них он не читал и
дальше того, что слышал в гимназии, не пошел... Кроме "Фауста", ни одну другую вещь Гете
Ленин не знает, он делит литературу на нужную ему и ненужную, а какими критериями поль- '
зуется при этом различии, мне неясно (зато нам теперь вполне ясно! - В. С). Для чтения всех
сборников "Знания" он, видите ли, нашел время, а вот Достоевского сознательно игнорировал.
"На эту дрянь у меня нет свободного времени". Прочитав "Записки из Мертвого дома" и
"Преступление и наказание", он "Бесы" и "Братьев Карамазовых" читать не пожелал.
"Содержание сих обоих пахучих произведений, - заявил он, - мне известно, для меня этого
предостаточно". "Братьев Карамазовых" начал было читать и бросил: от сцен в монастыре
стошнило. Что же касается "Бесов" - это явно реакционная гадость, подобная "Панургову
стаду" Крестовского, терять на нее время у меня абсолютно никакой охоты нет. Перелистал книгу
и швырнул в сторону. Такая литература мне не нужна - что она мне может дать?"»
(Валентинов Н. Встречи с Лениным // Волга. 1990. № 10. С. 115-116).
Удивительно ли после этого, что рядом с Лениным был Малиновский, был Сталин и проч.,
и проч., и проч.? Он был такой же, как и они, - «мыслящий камень» (выражение А. И.
Куприна). Ближний измеряется одним критерием: «Все уходящие от марксизма - мои враги,
руку им я не подам и филистимлянами за один стол не сажусь» (Валентинов Н. Встречи с
Лениным // Там же. 1990. № 12. С. 117). Конечно, такие духовно зрячие люди, как Достоевский,
Розанов, Бунин, Куприн и др., распознавали этих бесов с первого взгляда. Следовательно, их
надо было уничтожить. А остальному «населению» внушить мысль, что все происходящее есть
результат «естественно-исторической закономерности», лишь бы скрыть свою самую страшную
и последнюю тайну - отсутствие души.
Ср. также интересные наблюдения Н. А. Бердяева в его рецензии на автобиографию
Л. Д. Троцкого «Моя жизнь» // Соц. исследования. 1990. № 5.
22*. В «Вехах» вместо «притязательность» было «аррогантов». Аррогант - наглец,
самоуверенный нахал (от лат. arrogantia - наглость, высокомерие).
23*. Стихотворение Н. А. Некрасова «Не рыдай так безумно над ним...» (1868) навеяно
смертью Д. И. Писарева и посвящено его гражданской жене М. А. Маркович (Некрасов Н. А.
Соч. М., 1979. Т. 2. С. 211).
В вышеупомянутой Булгаковым поэме Некрасова содержатся строки, ставшие своего рода
девизом русской революционной молодежи:
От ликующих, праздно болтающих,
Обагряющих руки в крови
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви!
Все это, однако, сон; а проснувшись, «лирический герой» слышит «насмешливый
внутренний голос»:
Вы еще не в могиле, вы живы,
Но для дела вы мертвы давно,
528
Суждены вам благие порывы,
Но свершить ничего не дано...
(Некрасов Н. А. Соч. Т. 1. С. 316, 317).
24*. В «Вехах» далее следовало: «Боюсь, что черты вырождения должны проступить при
этом с растущей быстротой».
С. 288.
25*. Лк. 21, 18: «Но и волос с головы вашей не пропадет».
С. 289.
26*. Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. Л., 1984. Т. XXVI. С. 139.
С. 290.
27*. В «Вехах» после этих слов следовало: «Я не буду много останавливаться на выяснении
того, что является целью мирового и исторического развития в атеистической и христианской
вере: в первой - счастье последних поколений, торжествующих на костях и крови своих
предков, однако, в свою очередь, тоже подлежащих неумолимому року смерти (не говоря уже о
возможности стихийных бедствий), во второй - вера во всеобщее Воскресение, новую землю и
новое небо, когда "будет Бог все во всем"».
Очевидно, никакой позитивно-атеистический максимализм в своей вере даже отдаленно не
приближается к христианскому учению. Но не эта ctoj она дела нас здесь интересует, а то, как
преломляется то и другое учение в жизни личности'и (.е психологии».
28*. Не только добросовестно, но и лицемерно (лат.).
С. 292.
29*. В «Вехах» слово "почвенность" отсутствует.
30*. Иоан. 6, 38.
31*. Мф. 21, 9.
С. 293.
32*. О «Новом религиозном сознании» см. примеч. 66* к статье «Апокалиптика и
социализм».
33*. Имеется в виду Д. С. Мережковский; см. примеч. 19*.
34*. В «Вехах» к этим словам было сделано примечание: «Я беру все эти вопросы в их
психологической постановке, оставляя в стороне рассмотрение их по существу».
С. 294.
35*. Примечание в свое оправдание (лат.).
36*. В своей «Пушкинской речи» (1880) Ф. М. Достоевский сказал: «В типе Алеко, героя
поэмы "Цыгане", сказывается уже сильная и глубокая, совершенно русская мысль,
выраженная потом в такой гармонической полноте в "Онегине", где почти тот же Алеко является уже
не в фантастическом свете, а в осязаемо реальном и понятном виде. В Алеко Пушкин уже
отыскал и гениально отметил того несчастного скитальца в родной земле, того исторического
русского страдальца, столь исторически необходимо явившегося в оторванном от народа обществе
нашем... Тип этот верный и схвачен безошибочно, тип постоянный и надолго у нас, в нашей
Русской земле, поселившийся. Эти русские бездомные скитальцы продолжают и до сих пор
свое скитальчество и еще долго, кажется, не исчезнут» {Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч.
Т. XXVI. С. 137).
37*. В «Вехах» слово «почвенности» отсутствовало.
38*. В своих воспоминаниях «Роковые годы» П. Н. Милюков пишет о получении
революционерами денег от японцев, с которыми в то время шла война (Русские записки. 1938. № 6).
В статье «Интеллигенция и историческая традиция», написанной по поводу «Вех«, он называет
это «раздвоением патриотического чувства во время последней японской войны»
(Интеллигенция в России. СПб., 1910. С. 160).
В статье «Падение Порт-Артура» В. И. Ленин писал: «Дело русской свободы и борьбы
русского (и всемирного) пролетариата за социализм очень сильно зависит от военных поражений
самодержавия... Русский народ выиграл от поражения самодержавия. Капитуляция Порт-
Артура есть пролог капитуляции царизма...» (Вперед. 1905. № 2: 14/1 января; Поли. собр. соч.
Т. 9. С. 157-159). Но, пожалуй, самый «зловещий» факт следующий: «В 1905 г. в разгар
русско-японской войны группа русских студентов отправила в Токио телеграмму микадо с
искренним приветом и пожеланием скорейшей победы над кровавым русским царем и его нена-
18 Зак. 487 529
вистным самодержавием» (Устрялов H. Patriotica (статья из сб. «Смена вех») // Вестник
высшей школы. 1990. № 12. С. 80).
39*. Гражданин мира, космополит (нем.). Маркиз Поза - персонаж драматической поэмы
Ф. Шиллера «Дон Карлос» (1787), называющий себя «посланником человечества» (действ. 1,
явл. 2).
С. 295.
40*. См. Чернышевский Н. Г. Поли. собр. соч. Т. 9. М., 1952.
41*. Изобретателем термина «неославизм» является чешский политический и
государственный деятель Карл Крамарж (1860-1937). См.: Милюков П. Н. Воспоминания. М., 1990. Т. 2.
С. 36-37.
42*. Цитата из «Дневника· писателя» за август 1880 г. (Гл. 3, I). - Достоевский Ф.М.
Поли. собр. соч. Т. XXVI. С. 152-153.
С. 296.
43*. Ключевский В. О. Собр. соч. М., 1988. Т. 3. С. 98-103.
С. 298.
44*. В рассказе В. М. Гаршина «Красный цветок» (1883) в аллегорической форме
изображена революционная жертвенность народника 70-х годов прошлого века.
С. 299.
45*. См.: Лк. 8, 32-36; эти слова Ф. М. Достоевский взял эпиграфом к своему роману
«Бесы».
ВЕНЕЦ ТЕРНОВЫЙ
С. 300
1*. Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч.: В 30 τ Т. XXVI. С. 148-149.
С. 307.
2*. Так называется знаменитая статья Н. К. Михайловского, опубликованная в 1882 г.
(см.: Михайловский Н. К. Литературная критика. Л., 1989. С. 153-234).
3*. См.: Соловьев В. С. Три речи в память Достоевского. Сочинения. М., 1988. Т. 2. С. 290-
322.
4*. Об этом эпизоде рассказывают многие мемуаристы. «Тотчас по окончании речи, -
пишет Г. И. Успенский, - г. Достоевский удостоился не то чтобы овации, а прямо идолопоклоне-
ния; один молодой человек, едва пожав руку почтенного писателя, был до того потрясен
испытанным волнением, что без чувств повалился на эстраду» (Φ. Μ. Достоевский в воспоминаниях
современников. М., 1990. Т. 2. С. 401).
Д. Н. Любимов рассказывает более подробно: «Последние слова своей речи "И вот мы
теперь без него эту тайну разгадываем" Достоевский произнес каким-то взволнованным шепотом,
опустил голову и стал как-то торопливо сходить с кафедры при гробовом молчании. Зала точно
замерла, как бы ожидая чего-то еще. Вдруг из задних рядов раздался истерический крик: "Вы
разгадали!", - подхваченный несколькими женскими голосами на хорах. Вся зала
встрепенулась. Послышались крики: "Разгадали!" "Разгадали!", гром рукоплесканий, какой-то гул,
какие-то женские визги. Думаю, никогда стены московского Дворянского собрания ни до, ни
после не оглашались такою бурею восторга. Кричали и хлопали буквально все - и в зале, и на
эстраде. Аксаков бросился обнимать Достоевского, Тургенев, спотыкаясь, как медведь, шел
прямо к Достоевскому с раскрытыми объятиями. Какой-то истерический молодой человек,
расталкивая всех, бросился к эстраде с болезненными криками: "Достоевский, Достоевский!" -
вдруг упал навзничь в обмороке. Его стали выносить...
Председатель отчаянно звонил, повторяя, что заседание продолжается и слово
принадлежит Ивану Сергеевичу Аксакову. Зал понемногу успокаивается, но сам Аксаков страшно
волнуется. Он вбегает на кафедру и кричит: "Господа, я не хочу, да и не могу говорить после
Достоевского. После Достоевского нельзя говорить! Речь Достоевского - событие! Все разъяснено,
все ясно. Нет более славянофилов, нет более западников! Тургенев согласен со мною..."
Слышны крики: "Перерыв! перерыв!.." Председатель звонит и объявляет перерыв на полчаса» (Там
же. С. 418-419).
5*. См. примеч. 26* к статье «Героизм и подвижничество».
530
С. 303.
6*. Имеется в виду запись в рабочей тетради Ф. М. Достоевского от 24 декабря 1877 г.:
«Memento. На всю жизнь.
1) Написать русского Кандида.
2) Написать книгу о Иисусе Христе.
3) Написать свои воспоминания.
4) Написать поэму "Сороковины".
(Все это кроме последнего романа и предполагаемого издания "Дневника", т. е. minimum на
10 лет деятельности, а мне теперь 56 лет)» (Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. Т. XVII С. 14).
7*. Достоевский Ф. М. Преступление и наказание. Ч. IV, гл. IV.
8*. Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы. Ч. III, кн.7, гл. IV.
9*. Достоевский Ф. М. Бесы. Ч.З, гл. 6, II (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Л., 1974.
Т. X. С. 470, 471).
С. 304.
10*. Из слов, сказанных на могиле Ф. М. Достоевского, которые В. С. Соловьев цитирует в
предисловии к «Трем речам в память Достоевского» (Соловьев В. С. Сочинения. Т.2. С. 290-291).
11*. Слова Иисуса Христа, распятого на кресте: «Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня
оставил?» (Мф. 27, 46).
12*. Проблема соотношения мировоззрения Ф. М. Достоевского с мировоззрением героев
его произведений - была решена M. M. Бахтиным в книге «Проблемы творчества
Достоевского» (1929; позднейшие переиздания: «Проблемы поэтики Достоевского»). В основе этого
решения лежит выдвинутая Бахтиным концепция полифонического романа Достоевского. Согласно
Бахтину, нельзя ответить на вопрос, «не понимая новой формы видения» (Бахтин M. M.
Проблемы поэтики Достоевского. М., 1963. С. 52), созданной Достоевским. «Множественность
самостоятельных и неслиянных голосов и сознаний, подлинная полифония полноценных голосов
действительности является основной особенностью романов Достоевского», — пишет M. M.
Бахтин (с. 6). Поэтому «Достоевский в художественной форме дает как бы социологию сознаний»
(с. 38), и мы должны «рассматривать идеи самого Достоевского - мыслителя как идеи-
прототипы некоторых образов в его романах» (с. 105).
В числе своих предшественников Бахтин называет Б. М. Энгельгардта, Л. П. Гроссмана; к
правильному пониманию «полифонизма» Достоевского пришли А. В. Луначарский, В. М.
Шкловский, В. Я. Кирпотин.
Необходимо указать также еще одного предшественника M. M. Бахтина, который
независимо от Бахтина и несколькими годами ранее его пришел практически к тем же выводам о
характере художественно-философского творчества Достоевского, - А. 3. Штейнберга. В
изданной им в 1923 г. в Берлине книге «Система свободы Ф. М. Достоевского» читаем: «Следует
иметь в виду, что все герои Достоевского, как и все герои Платона, говорят за него, или, что
то же, он всегда говорит за себя. Пусть не пугают нас противоречия. Система есть система
систем. Потому именно Достоевский и есть систематик, что в мысли его господствует
симфоническая диалектика, что движения его мысли - ритмические взмахи волшебной палочки
дирижера: он, как настоящий дирижер, поворачивается спиною к публике и безмолвно повелевает
всему многоразличию голосов, из них создавая оркестр и хор. Но Достоевский не только
дирижер, он и композитор. Какой у него самого голос: низкий, высокий? Да разве он непременно
сам должен превратиться в хориста, исполняющего наряду с многими другими простыми
исполнителями свое собственное произведение? Его голос - в смене тем и мотивов, в ритме, в
инструментовке, в согласном звучании всех голосов; его голос - в стиле и манере целого. Он
заставляет позитивизм развиться до смердяковщины, субъективный идеализм - до
преступления и "бунта", он заставляет коллективизм говорить языком шигалевщины, а христианство -
воплотиться в безоружное рыцарство: он мыслит за тех и за других, и за третьих; он извлекает
последние выводы из общих посылок и он систематизирует все противоборствующие в
современности мировоззрения, воплощая их в жизнь, превращая идеи в действующие монады и
прослеживая судьбу каждой из них в последней ее конкретизации; он, одним словом, создает
"мир из миров" и "мыслит мирами, целыми созданиями". В этом его глубочайшая связь с
Платоном, но и большое его отличие от всех бывших до него, не исключая и Платона»
(Штейнберг А. 3. Система свободы Ф. М. Достоевского. Берлин, 1923. С. 35).
Добавляю от себя, что каждый «профессиональный читатель» Достоевского знает, конечно,
что страницы его книг буквально «усеяны» «идеями» (не «идеологическими построениями» -
это само собой разумеется, а именно словом «идея» и производными от него). В истории
мировой литературы и даже философии нет другого такого автора, который бы так же любил слово
«идея», как Достоевский. В этом смысле он оставляет далеко позади даже основателя
философского идеализма Платона. Вот лишь небольшой «фрагмент» собранной мною статистики: в
18*
531
«Преступлении и наказании» слово «идея» употребляется 23 раза, в «Идиоте» - 38 раз, в
«Бесах» - 79 раз, в «Братьях Карамазовых» - около 100 раз (для сравнения: у Л. Н. Толстого
слово «идея» в первом и втором томах «Войны и мира» встречается по три раза). Есть лишь
одно произведение Ф. М. Достоевского, где слово «идея» не встречается ни разу - это «Бедные
люди». Разумеется, статистика сама по себе ничего не доказывает. Тем не менее она помогает
понять то особое и, пожалуй, ни с чем не сравнимое искушение дать «системно-
монологическую» однозначную интерпретацию, которую испытывает почти каждый
исследователь творчества Ф. М. Достоевского.
Конечно, в свете всего вышеизложенного ничего не стоит показать, что Булгаков,
интерпретируя Достоевского, совершает «типичную методологическую ошибку: от мировоззрения
автора он непосредственно переходит к содержанию его произведения, минуя форму» (Бах
тин M. M. Указ. соч. С. 12). Тем не менее с фактической стороны мы, кроме, пожалуй,
некоторой незавершенности и неопределенности его окончательных выводов, не находим никаких
других последствий этой ошибки. И тому есть несколько причин; укажем хотя бы две из них.
Во-первых, будучи очень чутким и внимательным читателем Достоевского, Булгаков прекрасно
чувствовал сугубую специфичность русского писателя и в ряде случаев интуитивно весьма близко
подходил к осознанию «полифоничности» его творчества. «Всякий настоящий читатель
Достоевского, - писал M. M. Бахтин, - который воспринимает его романы не на монологический
лад, а умеет подняться до новой авторской позиции Достоевского, чувствует это особое
активное расширение своего сознания, но не только в смысле освоения новых объектов
(человеческих типов, характеров, природных и общественных явлений), а прежде всего в смысле
особого, никогда ранее не испытанного диалогического общения с полноправными чужими
сознаниями и активного диалогического проникновения в незавершимые глубины человека»
(с. 80). Сказано как будто именно о Булгакове, недаром ниже в своей статье он пишет: «Так я
чувствую Достоевского...». Во-вторых, глубоко сочувственное проникновение Булгакова в мир
Достоевского объясняется, пожалуй, их некоторой «конгениальностью», явным созвучием
душевных «струн», которые сразу же бросаются в глаза даже при поверхностном чтении булга-
ковских статей о Достоевском. Это духовное сродство обоих мыслителей сразу же заметила
такая проницательная читательница, как А. Г. Достоевская. Прочитав в 1906 г. изданные к
тому времени статьи Булгакова «Иван Карамазов как религиозный тип» и «Венец терновый»,
она прислала ему письмо с «благоприятным отзывом» и предложением написать вступительный
очерк о Достоевском для шестого («юбилейного») издания его полного собрания сочинений, тем
самым отдав предпочтение Булгакову перед Д. С. Мережковским, который в то время домогался
поместить в качестве такового предисловия свою известную статью «Пророк русской революции».
В ответном письме 16 июля 1906 г. С. Н. Булгаков писал А. Г. Достоевской: «Я был искренне
счастлив прочесть столь благоприятный отзыв о своих статьях, посвященных Ф. М.
Достоевскому, из уст столь близкого и компетентного лица, как Вы. Думаю, что Вы поймете и
поверите тому, зная мое общее отношение к деятельности Федора Михайловича, которого я лично
причисляю к числу своих духовных отцов» (ОР РГБ, ф. 93/П, к.1, ед. хр. 120, л. 1).
И, наконец, в-третьих, С. Н. Булгаков, выступив со своей интерпретацией творчества
Ф. М. Достоевского, продолжил ту духовную традицию, основу которой заложил В. С.
Соловьев в своих «Трех речах в память Достоевского».
В силу указанных причин статьи Булгакова о Достоевском (в том числе и
комментируемая) не потеряли своего значения и актуальность по сей день.
С. 305.
13*. Имеется в виду книга Л. И. Шестова «Достоевский и Ницше (Философия трагедии)»
(СПб., 1903), в которой на основе произвольной «монологической» интерпретации творчества
Достоевского отождествляются взгляды писателя со взглядами его героев-«ницшеанцев». Все
его «герои», - пишет Шестов, - «плоть от плоти самого Достоевского...» (с. 108). «Дело ясное:
между словами Ивана Карамазова и самого Достоевского нет никакой разницы» (с. 117).
«Достоевский... уже не верит во всемогущество любви и не ценит слез сочувствия и умиления.
Бессилие помочь является для него окончательным и всеуничтожающим аргументом. Он ищет
силы, могущества. И у него вы открываете как последнюю, самую задумчивую, заветную цель
его стремлений Wille zur Macht волю к власти, столь же резко и ясно выраженную, как у
Ницше! И он мог бы в конце любого из своих романов напечатать, как Ницше, эти слова
огромными черными буквами, ибо в них смысл всех его исканий!» (с. 118-119). «Если бы
потребовалось, он готов был бы разрушить весь мир, обречь человечество на вечные страдания -
только бы доставить торжество своей идее, только бы снять с нее подозрение в ее
несоответствии с действительностью» (с. 129).
В несколько «смягченном» варианте \Л. И. Шестов еще раз изложил свою точку зрения в
статье «О "перерождении" убеждений у Достоевского» (1937).// Шестов Л. Умозрение и
откровение. Paris: Ymca-press, 1964. С. 173-196.
532
См. также: Латынина А. Н. Достоевский и экзистенциализм // Достоевский - художник и
мыслитель. Сб. статей. М., 1972. С. 210-259.
С. 306.
14*. О традиции признания «правды социализма» в русской религиозно-идеалистической
философии см. примеч. 8* к статье «Христианство и социальный вопрос».
Достоевский писал о социализме: «Социализм, коммунизм и атеизм - самые легкие три
науки. Вбив их себе в голову, мальчишка считает уже себя мудрецом. Кроме того, поддаются
эти науки легче всякой на популярное изложение» {Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч.
Т. XXI. С. 300). «Ясно и понятно др очевидности, что зло таится в человечестве глубже, чем
предполагают лекаря-социалисты, что ни в каком устройстве общества не избегнете зла, что
душа человеческая останется та же, что ненормальность и грех исходят из нее самой и что,
наконец, законы духа человеческого столь еще неизвестны, столь неведомы науке, столь
неопределенны и столь таинственны, что нет и не может быть еще ни лекарей, ни даже судей
окончательных, а есть Тот, который говорит: "Мне отмщение и Аз воздам"» (Т. XXV. С. 201).
15*. Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. Т. XXVII. С. 19.
16*. Ошибка С. Н. Булгакова: «Записки из подполья» были написаны и опубликованы
Ф. М. Достоевским в 1864 г. Булгаков повторяет здесь ошибку (опечатку?) редактора «Полного
собр. соч.» Ф. М. Достоевского (СПб.: Издание А. Ф. Маркса, 1894. Т. 3. Ч. 2. С. 711),
допущенную им в подстрочном примечании.
17*. Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч.
С. 307.
18*. О «государстве будущего» см. примеч. 52* к статье «Первохристианство и новейший
социализм».
Об «устройстве человечества без Бога» у Ф. М. Достоевского см. примеч. 13* к статье
«Религия человекобожия у Л. Фейербаха».
«Женевские идеи, - говорит Версилов в «Подростке», - это добродетель без Христа <...>
идея всей теперешней цивилизации» (Ч. 2. Гл. 1, IV). «...А жить без Бога, - говорит там же
Макар Иванович Долгорукий, - однна лишь мука» (Там же. Ч. 3. Гл. 2, III).
19*. Достоевский Ф. М. Подросток. Ч. 3. Гл. 7, III.
Картина, которую упоминает Версилов, - «Морской пейзаж с Азисом и Галатеей»
К. Лоррена (1657) в Дрезденской галерее. Сюжет картины извлечен из XIII книги
«Метаморфоз» Овидия - любовь Галатеи к юноше Азису. В центре композиции - шалаш Азиса
и Галатеи, на заднем плане на горе - одноглазый циклоп, влюбленный в Галатею и
преследующий ее. Н. Н. Страхов в своих «Воспоминаниях о Ф. М. Достоевском», рассказывая о
пребывании писателя в 1867 г. в Дрездене, отмечает, что Ф. М. любил ходить в Дрезденскую
галерею, «но останавливался преимущественно на своих любимых картинах. Это были:
"Сикстинская мадонна", "Ночь" Корреджио, "Христос с монетой" Тициана, "Голова Христа"
Аннибала Караччи и "Abendlandschaft" Клода Лоррена» (Ф. М. Достоевский в воспоминаниях
современников. М., 1990. Т. 1. С. 497). Об увлечении Ф. М. Достоевского картиной К. Лоррена
сообщает и А. Г. Достоевская (Там же. Т. 2. С. 62). Картина К. Лоррена имеет важное
символическое значение в образно-понятийной системе мировоззрения Достоевского. Она
упоминается в «Исповеди» Ставрогина {Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. Т. XI. С. 21-22) и почти теми
же словами рассказывает о ней Версилов: «Здесь был земной рай человечества, боги сходили с
небес и роднились с людьми... Золотой век - мечта самая невероятная из всех, какие были, но
за которую люди отдавали всю жизнь и все свои силы, для которой умирали и убивались
пророки, без которой народы не хотят жить и не могут даже умереть!» {Достоевский Ф. М.
Подросток. Ч. 3. Гл.7, II).
20*. Там же. Ч. 3. Гл. 7, III).
21*. В том же 1906 г., когда была написана статья С. Н. Булгакова, была издана брошюра
Н. Онтлика «Достоевский и социальный вопрос (Социальное значение христианства по
Ф. М. Достоевскому)». (СПб., 1906). В этой брошюре как раз решается «вопрос о политическом
мировоззрении Достоевского»; по-видимому, она осталась неизвестной Булгакову и, к
сожалению, не привлекает внимания современных исследователей.
С.308.
22*. Предсмертные слова, приписываемые римскому императору Юлиану-Отступнику и
обращенные к Иисусу Христу, названному так по месту его рождения - Галилее. А. И. Герцен
употребил эти слова по отношению к Александру II в статье «Через три года» {Герцен А. И.
Собр. соч.: В 30 т. Т. XIII. С. 197). Впоследствии Герцен неоднократно повторял их: «Когда
государь признал в принципе освобождение крестьян с землей, мы без малейшей непоследова-
533
тельиости и совершенно искренно сказали наше "Ты побеждаешь, Галилеянин!", за которое нас
столько порицали с обеих сторон» (Герцен А. И. Порядок торжествует! Сочинения: В 2 т. М.,
1986. Т. 2. С. 491); «Мы <...> последовательно говорили: "Ты победил, ГалилеянинГ', когда
государь стал открыто со стороны освобождения крестьян...» (К концу года// Герцен А. И.
Сочинения: В 9 т. М., 1958. Т. 8. С. 253).
23*. Под «внутренней Цусимой» С. Н. Булгаков подразумевает революцию 1905-1907 гг.
См. его статью «Две Цусимы» (Слово. 1909. 19 марта).
24*. Порок поколения, а не отдельного человека (лат.).
С. 309.
25*. 1 марта 1881 г. - убийство царя Александра II.
26*. Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. Т. XXVII. С. 22.
27*. «Сей народ богоносец», - пишет старец Зосима в романе Ф. М. Достоевского «Братья
Карамазовы» (Ч. 2. Кн. 6. Гл. III (г)).
28*. «Русская душа, - писал Ф. М. Достоевский в «Объяснительном слове по поводу...
Речи о Пушкине», - <...> гений русского народа, может быть, наиболее способны, из всех
народов, вместить в себе идеал всечеловеческого единения, братской любви, трезвого взгляда,
прощающего враждебное, различающего и извиняющего несходное, снимающего противоречия.
Это не экономическая черта и не какая другая, это лишь нравственная черта, и может ли кто
отрицать и оспорить, что ее нет в народе русском?» (Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч.
Т. XXVI. С. 131). «Русский идеал, - писал Достоевский в 1861 г. во введении к «Ряду статей о
русской литературе», - всецелостность, всепримиримость, всечеловечность» (Достоевский
Ф. М. Поли. собр. соч. Т. XVIII. С. 69).
29*. Булгаков ошибается: приведенные им слова Ф. М. Достоевского написаны в
августовском (и единственном) выпуске «Дневника писателя» на 1880 г. (последний выпуск вышел в
январе 1881 г.). (Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. Т. XXVI. С. 152-153).
С. 310.
30*. Из второй речи в память Достоевского: Соловьев В. С. Сочинения. Т. 2. С. 303-304.
31*. Достоевский Ф. М. Преступление и наказание. Ч. 4, IV.
32*. См.: Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы. Ч. 1. Кн. 2. Гл. VI.
ФИЛОСОФИЯ КН. С. Н. ТРУБЕЦКОГО И ДУХОВНАЯ
БОРЬБА СОВРЕМЕННОСТИ
С. 311.
1*. Имеется в виду Собрание сочинений С. Н. Трубецкого в 6 т. (М., 1906-1912). К
моменту написания статьи С. Н. Булгакова вышли в свет три тома этого издания:
т. 1 (1906): Публицистические статьи (1896-1905); т. 4 (1906): Учение о Логосе в его
истории; т. 2 (1908): Философские статьи.
В последующие годы были изданы:
т. 3 (1910): Метафизика в Древней Греции; т. 5-6 (1912): Курс истории древней
философии.
2*. От книги к книге (нем.).
3*. Имеется в виду «Сборник речей, посвященных памяти кн. С. Н. Трубецкого» (М.,
1909), состоящий из выступлений, прозвучавших 16 марта 1908 г. на заседании, посвященном
памяти С. Н. Трубецкого. Среди выступающих были: В. И. Вернадский, А. А. Мануйлов,
С. Н. Булгаков, Н. В. Давыдов, В. И. Хвостов, С. А. Котляревский, П. И. Новгородцев,
Б. А. Фохт, Е. Н. Трубецкой, С. А. Муромцев, студенты Е. А. Ефимовский и Н. И. Русов. Речь
приват-доцента С. Н. Булгакова «Кн. С. Н. Трубецкой как религиозный мыслитель» (с. 16-26),
в том же году была напечатана в № 14 «Московского еженедельника».
С. 312.
4*. Помимо перечисленных С. Н. Булгаковым трудов о С. Н. Трубецком можно назвать
следующие: Чичерин Б. Н. Вопросы философии. М., 1904. С. 146-222; Кн. С. Н. Трубецкой
первый боец за правду и свободу русского народа. СПб., 1905; Смирнов К. А. Религиозные
воззрения кн. С. Н. Трубецкого. Харьков, 1911; Лопатин Л. М. Современное значение философ-
534
ских идей кн. С. Н. Трубецкого// Вопросы философии и психологии. 1906, кн. 131 (1); Котля-
ревский С. Миросозерцание кн. С. Н. Трубецкого // Там же; Рачинский Г. Религиозно-
философские воззрения кн. С. Н. Трубецкого // Там же; Блонский П. П. Кн. С. Н. Трубецкой и
философия. М., 1917; Лосский Н. О. История русской философии. М., 1991. С. 173-178; Зенъ-
ковский В. В. История русской философии. Париж, 1950. Т. II. С. 331-343; Трубецкой Е. Н.
Воспоминания. София, 1921; Трубецкой Е. Н. Из прошлого. Вена, 1925; Трубецкая О. Я. Кн.
С. Н. Трубецкой. Воспоминания сестры. Нью-Йорк, 1953; Радлов Э. Л. Голоса из невидимых
стран // Дела и дни. Историч. Журнал. СПб., 1920. кн.1.
С. 314.
5*. Полемика между Б. Н. Чичериным и С. Н. Трубецким разгорелась по поводу
возражений Чичерина на статью С. Н. Трубецкого «Основания идеализма», в частности, на его учение о
«вселенском сознании» или «универсальном субъекте».
Субъектом универсальной чувственности, утверждал С. Н. Трубецкой, «может быть только
такое психо-физическое существо, которое столь же универсально, как пространство и время,
но вместе с тем подобно времени и пространству, не обладает признаками абсолютного бытия:
это - космическое Существо или мир в своей психической основе - то, что Платон называл
Мировой Душой» (Трубецкой С. Н. Собр. соч. Т. П. С. 298).
С. 315.
6*. См. т. 1, примеч. 25* к статье «Средневековый идеал и новейшая культура».
С. 316.
7*. Имеется в виду знаменитая формула К. Маркса из Предисловия к брошюре «К критике
политической экономии»: «Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их
общественное бытие определяет их сознание» (Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения 2-е изд. Т. 13. С. 67).
8*. О «ричлианском богословии» см. примеч. 3* к статье «О первохристианстве». См.
также: Керенский В. А. Школа ричлианского богословия в лютеранстве. Казань, 1903.
9*. К столетней годовщине со дня смерти И. Канта (1904) в Германии были изданы
следующие книги:
Troeltsch Ε. Das Historische in Kants Religionsphilosophie. Berlin, 1904; Valentiner Th.
Kant und die Platonische Philosophie. Heidelberg, 1904; Simmel G. Kant. Sechszehn
Vorlesungen... Leipzig, 1904; Weber H. Hamann und Kant. München, 1904; Windelband W.
I. Kant und seine Weltanschauung. Heidelberg, 1904; Kalischer A. Ch. I. Kants Staatsphilosophie.
Berlin, 1904; Kügelgen С Die Bibel bei Kant. Leipzig, 1904; Martinus G. Kant. Kiel, 1904;
Messer A. Kant Ethik. Leipzig, 1904; Rihl A. I. Kant. Rede zur Feier des hundertjahrzigen
Todestages Kant gehalten in der Aula der Univ. Halle. 1904; Zur Erinnerung an I. Kant. Halle,
1904; Zu Kants Gedächtnis. Zwölf Festgaben zu seinem 100 Jahrigen Todestage. Von O. Liebmann,
W. Windelband, F. Paulsen u. a. Berlin, 1904.
ПРИЛОЖЕНИЕ (ИЗ НЕКРОЛОГА КН. С. Η. ТРУБЕЦКОГО)
С. 318.
1*. Приятно и почетно умереть за родину (лат.) - цитата из Горация («Оды», III, 2, 13).
2*. С. Н. Трубецкой умер в возрасте 43 лет в самом начале революции 1905-1907 гг.
(немногим более чем за две недели до манифеста 17 октября). Незадолго до смерти он
приобрел широкую популярность как видный общественный деятель. 6 июля 1905 г. в Петергофе в
присутствии императора Николая II в качестве члена делегации земства и городских органов
он произнес речь о необходимости реформ.
В начале сентября он был выбран ректором Московского университета (первый выборный
ректор), а через 27 дней - 29 сентября 1905 г. - внезапно скончался от кровоизлияния в мозг
во время заседания комиссии по выработке университетского устава, происходившего на
квартире министра народного просвещения В. Г. Глазова. Похороны состоялись 3 октября 1905 г. и
приобрели характер политической манифестации (за гробом шло около 50 тысяч человек).
«Памятен день похорон Трубецкого, - пишет Андрей Белый. - Никитская, солнце, толпа
из знакомых (казалось - незнакомые - примесь лишь): М. К. Морозова, Г. А. Рачинский, все
Астровы, Л. М. Лопатин, Хвостов, Кизеветтер, и "аргонавты", и все писатели, все художники,
все композиторы, профессора; и вчерашняя сходка филологической и большой юридической;
535
за гробом два чернобородых брата - высокий Евгений, завтра же заместитель Сергея по
кафедре, и малорослый Григорий, ответственный дипломат: хоронили - министра, ректора,
философа, "либерала", профессора; гроб стянул партии: от будущих декабристов до анархистов;
процессия тронулась; вспыхнули в солнце и красные ленты венков, и золотые трубы, заряв-
кавшие марсельезу; московский "протест" впервые вышел на улицу; стало это бесспорно; руки,
тащившие груду венков или - гроб, перевалили за Каменный мост; из боковых улиц,
расстраивая ряды Трубецких, Морозовых и Рачинских, ввалились рабочие; отовсюду приткнулись
в лазурь острия ярко-красных знамен; заворчало - оттуда, отсюда: "Вы жертвою пали",
пьянил теплый день; веселились: не похороны - светлый праздник, которого ждали.
...Такова прелюдия к дням, стоившим столько жизней; процессия пухла, растягиваясь на
версту: за гробом впервые шло - пятьдесят тысяч; и - не знали: через недели две пройдет
двести тысяч: за гробом Баумана» (Белый А. Между двух революций. М., 1990. С. 38-39).
Похороны С. Н. Трубецкого А. Белый описал также в посвященном ему некрологе (Весы.
1905. № 9-10).
Другой современник С. Н. Трубецкого вспоминал: «Я не думаю, чтобы С. Н. по природе
или по склонности был политиком. В нем слишком ярко были выражены этические
тенденции, и он не мог помириться с воззрением Леонтьева, что подлецы в политике полезнее
честных людей. Учение Леонтьева он назвал "безнравственным и нерелигиозным". Л. Лопатин
говорил, что Трубецкой избрание в ректоры принял "грустно, но покорно: по-видимому, он
чувствовал, что это избрание есть смертный приговор для него, и, все-таки, он не решился от него
отказаться. Этому помешало необыкновенно развитое в нем чувство гражданского долга". По
чувству гражданского долга он принял участие в общественной и политической деятельности и
оказал общественному движению незаменимые и незабываемые услуги. Его речь государю,
произнесенная 5 июня при приеме делегатов от земств и городов, сделала его знаменитым во
всей России, и когда он 20 сентября 1905 г. внезапно скончался, то во всех некрологах
восхвалялась его политическая деятельность и были забыты его ученые и философские работы...
Помню день грандиозных проводов тела покойного, за гробом которого следовала
многотысячная толпа, сделавшая из похорон политическую демонстрацию» (Радлов Э. А. Голоса из
невидимых стран // Дела и дни. Пг., 1920. Кн. 1. С. 198-199).
С. 319.
3*. Это не совсем так. В своей речи «Кн. С. Н. Трубецкой как религиозный мыслитель»
С. Н. Булгаков сказал: «Я мало знал покойного С. Н., но тем не менее должен
засвидетельствовать, что немало ему духовно обязан. Его звезда ярко светила на моем духовном небосклоне,
указуя путь, радуя, ободряя» (Московский еженедельник. 1908. № 14. С. 11).
Булгаков был хорошо знаком с братом С. Н. - Е. Н. Трубецким, участником сб.
«Проблемы идеализма» (М., 1903), инициатором книгоиздательства «Путь», хотя, как
утверждает Э. Л. Радлов, «кн. Евг. Ник. отмежевывает себя от представителей мистического
алогизма, т. е. от Флоренского, В. Эрна, С. Булгакова и Н. Бердяева» (Дела и Дни. Пг., 1920. Кн.
1. С. 207). Некоторые подробности взаимоотношений С. Н. Булгакова и Е. Н. Трубецкого см. в
публикации А. Носова: «Трубецкой Е. Н. О христианском отношении к современным
событиям. Статьи. Письма» (Новый мир. 1990. № 7. С. 195-229).
С. 320.
4*. «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна...» (1 Кор. 15, 17).
ЗАГАДОЧНЫЙ МЫСЛИТЕЛЬ
С. 322.
1*. В последующие годы были изданы следующие сочинения Η. Φ. Федорова:
Философия общего дела. Т. II. М., 1913; «Фауст» Гете и народная легенда о Фаусте //
Контекст-1975. М., 1979; Проективное определение литературы о «Мертвых душах» //
Литературная учеба. 1982. № 3; Отечествоведение. Об изучении местной истории // Контекст-1988. М.,
1989; Сочинения. М., 1982; Собр. соч.: В 4 т. М., 1995. Т. 1-2.
О Н. Ф. Федорове см.: Львов В. Загадочный старик. Л., 1977; Семенова С. Г. Николай
Федоров. Творчество жизни. М., 1990.
2*. «Святость дела, - писал Н. Петерсон в предисловии к 1-му тому «Философии общего
дела», - которому, как мы верим и надеемся, полагается начало изданием предлагаемой кни-
536
ги, и убеждения автора собранных в книге произведений, возмущавшегося торговлею
произведениями мысли, называвшему такую торговлю продажею души, величайшим из святотатств,
исключает возможность продажи этой книги, и, конечно, никаких авторских прав к ней не
предъявляется. Всякий, кто это найдет нужным, может переводить, делать выписки,
перепечатки, не стесняясь обширностью их, может и вновь издавать эту книгу. ...Книга напечатана
лишь в 480 экземплярах, предназначенных для рассылки в публичные библиотеки, ученые
общества и т.п. учреждения; остающиеся немногие экземпляры будут (бесплатно) высылаться
желающим по их заявлениям об этом...» (Указ. изд. С. XII).
3*. О своем личном знакомстве с В. А. Кожевниковым («литературным душеприказчиком»
Н. Ф. Федорова) С. Н. Булгаков сообщал в письме к С. Н. Дурылину от 13 июня 1913 г.
(Вопросы философии. 1990. № 3. С. 162).
С. 323.
4*. Кожевников В. А. Николай Федорович Федоров. С. 320. Письмо А. Фета написано в
1887г.
5*. Письмо от 12 ноября 1891 г. (Толстой Л. Я. Собр. соч. М., 1984. Т. XIX. С. 235).
Об отношениях Н. Ф. Федорова с «великим современником» (Ф. М. Достоевским,
Л. Н. Толстым и В. С. Соловьевым) см.: Семенова С. Г. Указ. соч. С. 94-111).
6*. Цитата из письма В. С. Соловьева от 12 января 1882 г. (Письма В. С. Соловьева. СПб.,
1909. Т. II. С. 345). Ниже на с. 328-329 это письмо цитируется С. Н. Булгаковым почти
полностью.
С. 324.
7*. Неотмеченные цитаты заимствованы Булгаковым из указанной им книги В. А.
Кожевникова, который, в свою очередь, пользовался сочинениями Η. Φ. Федорова, не вошедшими в
1-й том «Философии общего дела».
С. Н. Булгаков в своей статье нередко соединяет цитаты из обеих книг по принципу
тематического единства. Эти случаи в дальнейшем специально не оговариваются. Источник ряда
цитат установить не удалось.
С. 325.
8*. Ср.: Федоров Я. Ф. Сочинения. М., 1982. С. 166.
9*. Федоров Я. Ф. Философия общего дела. Т. 1. С. 19-20; то же: Сочинения. С. 76-78.
С. 326.
10*. Имеется в виду учение И. И. Мечникова об увеличении продолжительности жизни.
См. примеч. 71* к статье «Религия человекобожия у Л. Фейербаха», а также примеч. 7* к
статье «Воскресение Христа и современное сознание».
Сохранился отзыв самого Η. Φ. Федорова о Мечникове: «Интеллигенция Европы, - писал
он в одном из своих фрагментов, - четыре века старалась, все усилия употребляла на то,
чтобы уверить себя, как и Толстой, что смерть - хорошая вещь, но, очевидно, не имела в этом
успеха, если понадобилось учение Мечникова, доказывающее, что смерть была бы желанною,
если бы жизнь достигала нормальной продолжительности. Назначая жизни срок, предел,
обрекая ее смерти, сравнивая смерть со сном, т. е. отдыхом, и не ставя смерти предела, делают
смерть, т. е. отдых, бессрочной. Смерть и сознание - два непримиримых врага, ибо смерть есть
слепота» (Федоров Η. Φ. Сочинения. С. 637).
С. 327.
11*. Отношения В. С. Соловьева и Η. Φ. Федорова прервались при не совсем понятных
обстоятельствах. Помимо идейных расхождений, которые в скором времени обозначились между
ними, имел место и какой-то личный инцидент, о котором В. С. Соловьев упомянул в письме к
брату Михаилу от 16/28 декабря 1888 г.:
«Помнишь нелепое происшествие с Η. Φ. Федоровым? Надеюсь, ты не заподозришь меня в
каком-то дурном чувстве к этому "воскресенья ради" юродивому. Но его вздорный поступок
своей неожиданностью перевернул все мое конкретное представление о человеке и сделал
прежние отношения реально невозможными» (Соловьев Вл. Письма. Пб., 1923. Т. IV. С. 218).
• По мнению А. Ф. Лосева, «после сильного увлечения Η. Φ. Федоровым, Вл. Соловьев
хорошо распознал грозный и ужасающе недуховный характер его учения о физическом
воскрешении покойников» (Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. М., 1991. С. 488).
12*. Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. Л., 1988. Т. XXX. Кн.1. С. 13-15 (Булгаковым
цитируется не вполне точно).
537
С. 328.
13*. Письмо H. П. Петерсона до сих пор не найдено, и рукопись в декабрьском недописан-
ном «письме» <имеется в виду первое письмо от Н. П. Петерсона; затем от него же
последовало письмо от 3 марта; оно, по словам Достоевского, «все объяснило» и вызвало его ответное
письмо, процитированное Булгаковым> неизвестна; вероятнее всего, это была рукопись самого
Петерсона, в которой излагалось учение Η. Φ. Федорова.
14*. Ошибка С. Н. Булгакова: на указанных им страницах Η. Φ. Федоров подвергает
критическому разбору реферат В. С. Соловьева «О причинах упадка средневекового
мировоззрения». О Ф. М. Достоевском речь идет на с. 439-442. Поскольку эта часть «Супраморализма» не
вошла в состав «Сочинений» Н. Ф. Федорова (М., 1982), позволю себе привести из нее
обширную выдержку, так как она важна для понимания вопроса, поставленного Булгаковым, и
вообще для решения проблемы «Достоевский-Федоров».
«Мистицизм, - пишет здесь Федоров, - есть принадлежность еще недозревших народов,
слабых в познании природы, или же народов отживших, отчаявшихся достигнуть путем
естественного знания разрешения вопроса "о жизни и смерти", т. е. мистицизм не дает
действительных средств для разрешения вопроса о возвращении жизни умершим. И вот, благодаря
этому-то мистицизму, Достоевский ни в письме своем от 23-го марта (24! -B.C.) 1878 года...
в котором он говорит о долге воскресения как самом существенном, ни во всех других своих
сочинениях не дает ни малейшего указания на путь, на ход дела, которым должен быть
исполнен этот долг, т. е. долг воскрешения. В письме говорится, что оно, воскресение, "сбудется на
земле", - но одно уже это "сбудется" показывает, что, по мысли Достоевского, воскресение
как будто само собою совершится, что оно не есть дело человеческого рода; а между тем в том
же письме воскресение называется долгом и, казалось бы, - что и долг воскрешения, как
всякий долг, должен быть исполнен, должен стать делом... Признающий долг воскресения
Достоевский не дает никакого ответа на вопрос, что нужно делать для исполнения этого долга?!.. И
о самом долге воскресения Достоевский говорит не как о требовании безусловной, нравствен^
ной необходимости, Достоевский не говорит, что никакие обязанности не идут в сравнение с
этим долгом, что этот долг выше всех других обязанностей и все их в себе заключает...
Достоевский не говорит также, что долг воскрешения есть долг сынов прежде всего к их отцам, а не
к отдаленным предкам, потому что долг этот, - если исполняется не сверхъестественно, -
исполняется постепенно, начиная с ближайших и восходя к отдаленнейшим. Если между сынами
и отцами существует любовь, то переживание возможно только на условии воскрешения; без
отцов сыны жить не могут, а потому они должны жить только для воскрешения отцов, - и в
этом только заключается все. Если бы Достоевский понимал долг воскрешения (а не
воскресения) во всей глубине и широте его, то он не мог бы не говорить и о деле, ведущем к исполне·
нию долга. Достоевский, говоря о долге воскресения как о таком, который стоит в ряду
многих других обязанностей, и даже не в числе первых, а, скорее, последних, вероятно, полагал,
что осуществление этого долга возможно лишь в самом отдаленном будущем, не ранее как
через двадцать пять тысяч лет, примерно, т. е. так же, как думал об этом и Соловьев: а что
Соловьев так думал, это мы знаем уже несомненно. Поэтому-то, говоря постоянно о настоящем, о
современных интересах и вопросах, о самых животрепещущих задачах времени, Достоевский
не говорит, в каком отношении эти задачи находятся к долгу воскрешения, какое влияние
имело бы на исполнение этого долга то или другое разрешение этих задач. - В наш век, век
таких частых убийств, и когда убийцы не только почти постоянно оправдываются, но само
убийство возводится, можно сказать, в героизм, в доблесть, когда Раскольниковы сравнивают
себя с Наполеоном, в наш век, когда жизнь теряет всякую ценность, а ценность богатства
неизмеримо растет, -Достоевский не взглянул на вопрос о богатстве и бедности с точки
зрения долга воскрешения и потому не увидал, что вопрос о богатстве и бедности - с этой точки
зрения - должен замениться вопросом о жизни и смерти, т. е. о всеобщем возвращении жизни
общим трудом; а в этот последний вопрос входит и вопрос о насущно-необходимом (санитарно -
продовольственный вопрос). Не увидал Достоевский и того, что преступность убийства с точки
зрения воскрешения достигает степени, выше которой нет, а Раскольниковы и существовать не
могли бы, если бы был признан долг воскрешения. Оставляя без разрешения вопрос о двух
разумах (4-й пасх, вопрос), мистицизм создает особую непонятную способность принадлежать
только немногим (сензитивы, медиумы, гипнотезеры, сверхчеловеки), постигать
непостижимое, т. е. сверхъестественное, и управлять потусторонним миром; причем всеобщее воспитание
для всеобщего познавания и управления слепою силою оказывается совсем ненужным;
поэтому-то, вероятно, Достоевский и отнесся весьма равнодушно к школе, о которой ему сообщалось
и которая прямою целию имеет - осуществление долга воскрешения. При мистицизме не
требуется объединения ни разума, ни чувства, ни воли, - слепая сила сознает себя не в человеке,
т. е. не в объединенном роде человеческом, - она и сама не слепа, слышит и видит, так что к
ней можно обращаться, нарушая вторую заповедь.... Достоевский, хотя и признавал долг
воскрешения предков, но никогда, по-видимому, никого к исполнению его не призывал, никогда
о нем, кроме письма... не писал, никогда, вероятно, и не думал о нем серьезно, считая, как
538
выше сказано, вместе с Соловьевым, что воскресение совершится через 25 тысяч лет, а потому
с призывом к долгу воскрешения можно и подождать, чтобы заняться задачами своего
времени, которые, как надо догадываться, по понятию Достоевского, никакого отношения к долгу
воскрешения не имеют... Достоевский, как уже сказано, был мистик и как мистик был
убежден, что человечество находится "в соприкосновении мирам иным." и не видит их, не живет в
этих мирах, или, по крайней мере, не сознает своей жизни в них благодаря лишь настоящей
своей организации; но как только эта организация расстраивается или, вернее, - с точки
зрения Достоевского, - заменяется тем, что мы называем болезнью, а также, - можно прибавить, -
приемами алкоголя, гашиша, опиума, и пр., т. е. пороками, - так и начинаем мы видеть этот
иной мир, начинаем ощущать его. Отсюда легко заключить, что смерть, к которой ведут
болезни и пороки, и есть переход в иные миры. Но если иные миры достигаются пороками, то
это уже не Царство Божие, и они, эти иные миры, гораздо дальше от Царства Божия, чем
даже наш мир... С этой точки зрения - долг воскрешения является пустым звуком, потому что
ни к чему не обязывает, никакого дела не указывает; - все делается само собою, без участия
человека, без участия его ума, чувства, воли; — все способности его и сам он оказывается ни на
что не нужными, все преподносится человеку даром. Что Достоевский представлял себе долг
воскрешения именно так, как сказано выше, это видно и из следующей фразы в письме:
"пропасть, отделяющая нас от душ предков, засыплется, победится побежденное смертью, а они
(т. е. наши предки) воскреснут"... Мы же о пропасти и победе побежденной смерти ничего не
знаем, но полагаем возможным для нас, - как орудий Бога Отца, вдохнувшего в нас жизнь, -
возможным и необходимым, с одной стороны, достигнуть чрез всех, конечно, людей познания
и управления всеми молекулами и атомами внешнего мира так, чтобы рассеянное собрать,
разложенное соединить, т. е. сложить в тела отцов, какие они имели при своей кончине; а с
другой, - полагаем возможным и необходимым, достигнув и внутреннего управления
психофизиологическим процессом, заменить рождение детей, подобных себе, своим отцам и предкам
(атавизм), возвращение отцам полученной от них жизни» {Федоров Η. Φ. Философия общего
дела. Верный. 1906. Т. 1. С. 439-442).
15*. Письма В. С. Соловьева. СПб., 1909. Т. II. С. 345 (Письмо приблизительно датировано
«серединой 80-х годов»).
С. 329.
16*. Там же. С. 346-347.
17*. Соловьев В. С. Сочинения. М., 1988. Т. 2. С. 339-350.
18*. Дата чтения реферата В. С. Соловьева.
19*. Бог из машины (лат.).
С. 330.
20*. Соловьев В. С. Сочинения. М., 1988. Т. 2. С. 351-389; 390-404.
21*. Там же. С. 404.
22*. См. примеч. 57* к статье «Религия человекобожия у Л. Фейербаха».
23*. Имеются в виду статьи В. С. Соловьева «Идея сверхчеловечества» (Сочинения. М.,
1988. Т. 2. С. 626-634) и «Лермонтов» (Собр. соч. СПб., б. г. 2-е изд. Т. IX. С. 348-367). В
последней из указанных статей Соловьев, явно под влиянием идей Η. Φ. Федорова, писал:
«Человек, думающий только о себе, не может примириться с мыслью о своей смерти; человек,
думающий о других, не может примириться со смертью других; значит, и эгоист, и
альтруист... одинаково должны чувствовать смерть как нестерпимое противоречие, т. е. одинаково не
могут принимать этот видимый итог человеческого существования за окончательный. И вот
куда должны бы, по логике, с особенным вниманием смотреть люди, желающие подняться
выше данной действительности - желающие стать сверхчеловеком» (С. 350).
24*. Федоров Н. Ф. Сочинения. М., 1982. С. 427.
25*. Там же. С. 360.
С. 331.
26*. Там же. С. 164.
27*. Там же. С. 162.
28*. Последние слова Гамлета в заключительной сцене трагедии:
Гораций, я кончаюсь. Сила яда
Глушит меня. Уже в живых
Из Англии известья не застанут.
Предсказываю: выбор их падет
На Фортинбраса. За него мой голос.
Скажи ему, как все произошло
539
И кончилось. Дальнейшее - молчанье.
(Умирает).
(Шекспир В. Трагедии. Сонеты. М., 1968. С. 244;
пер. Б. Пастернака).
29*. Статья С. Н. Булгакова, несомненно, дает некоторые основания причислять его к
числу сторонников учения Η. Φ. Федорова. Недаром Э. Р. Радлов впоследствии вспоминал, что
«С. Булгаков провозгласил Η. Φ. Федорова величайшим философом чуть ли не всех времен и
народов» (Дела и Дни. Пг., 1920. Кн. 1. С. 190).
Но следует иметь в виду, что данная статья - не единственное и не окончательное его
суждение о Федорове. Впоследствии его оценка федоровского «проекта» стала более суровой и
критической. В 1917 г. в статье «Христианство и социализм» С. Н. Булгаков писал, что
«социализм, пожалуй, мог бы быть завершен и восполнен смелою мыслью... Η. Φ. Федорова,
знаменитым его "проектом"... Этот "проект" вызывает, конечно, немалые недоразумения
именно с религиозной точки зрения: можно ли научно-механическим средством возвратить в тело
душу, которая пребывает в неведомом для нас состоянии, в руке Божией? Не являются ли
жизнь и смерть как бы новыми творческими актами Божества, которые вовсе не находятся в
распоряжении человека? Однако как бы ни были справедливы эти сомнения и возражения,
которые могут быть выдвигаемы против федоровского "проекта" со стороны религиозной, они
не имеют силы для нерелигиозного, материалистического социализма, если бы он направил в
эту сторону свое внимание. Но характерно, что мысль эта, насколько известно, ни разу не
появлялась в социалистическом кругозоре...» «Мысль об искусственном воскрешении
бессмертного человека излишня, - заключает свою мысль Булгаков, - ибо воскресит его Бог Своею
властью в назначенный срок, мысль же о воскрешении смертного ложна и прямо чудовищна»
(Социологические исследования. 1990. № 4. С. 119-120).
Отмеченное Булгаковым внутреннее «сродство» федоровского «проекта» и идей социализма
(и, вообще говоря, материализма, причем в самой вульгарной его форме, хотя сам Федоров
неоднократно и очень резко отзывался о социализме) позволяет понять, почему идеи
«утешителя» оказали то или иное влияние на таких разных людей, как В. Соловьев,
М. Горький, В. Хлебников, В. Я. Брюсов, В. В. Маяковский, А. Патонов, и др. (Подробнее см.:
Семенова С. Г. Указ. соч. С. 346-381). Увлечение проектом «общего дела» свидетельствует о
синдроме или рецидиве «идеи социализма», пережитой или исповедуемой тем или иным
лицом. См. в этой связи меткие замечания Ю. Карабчиевского в его исследовании «Воскресение
Маяковского» (Театр. 1989. № 9. С. 186-188).
Последний раз С. Н. Булгаков высказался по поводу Η. Φ. Федорова в одной из своих
последних статей (опубликована посмертно) - «Софиология смерти», в которой проблема смерти
решается «с точки зрения софиологии» и где Булгаков противопоставляет федоровскому
«проекту» свои собственные танатологические идеи. Здесь читаем: «Нельзя не преклониться
перед энтузиазмом великого мыслителя, почувствовавшего смерть как главную, средоточную,
неустранимую задачу для всего человечества и не допустившего здесь никакой уклончивости
мысли. В центре человеческого творчества им была поставлена именно победа над смертью,
как всеобщее воскрешение. Если быть точным, речь идет о воскрешении мертвых тел через
собирание и оживление (сперматозоидами?) их распавшихся частиц. Здесь мыслится, в
известном смысле, техническая победа человеческой жалости, родственной любви сынов к отцам. Но
при этом отсутствует победа над смертностью в свободе, попрание смертью смерти. Для
Федорова так и осталась до конца не осознана проблема победы над смертью в свободе, она всегда
мыслилась в пределах механически-натуралистического достижения, как "регуляция
природы". Федоров негодовал по поводу того, что ему приписывалась (Вл. Соловьевым) мысль о
воскрешении предков в том состоянии, в котором они жили на земле. Он понимал, что такое
воскрешение не было бы воскресением, как новой бессмертной жизнью. Однако он не имел в
своем распоряжении средств для преодоления смерти иначе как механической "регуляцией", а это
не было воскресением, которое должно совершиться не извне, но внутри, не телесной победой,
но духовным одолением. Сила смерти есть сила первородного греха, который сказался через
свободу принятием неволи мира и, в конце концов, рабством смертности и смерти. Одоление
смерти может совершиться только через восстановление свободы, через поединок между
рабством смерти и свободой от нее. Эта свобода есть возвращение к безгрешному и догреховному
состоянию человека, хотя уже наступающему в состояние греховности человека после его
греха. Христос, приняв грехом отягченное и порабощенное тело, не подчинился этому рабству, но
исполнил волю отца подвигом свободы духа во плоти. Эта свобода осуществлена была
принятием смерти, которое явилось, однако, делом свободы, а не рабства плоти: "смертию смерть
поправ". По употребительному у отцов сравнении, диавол восхотел хищнически поглотить
живого Мертвеца, но сам оказался пойманным на удицу. Из гроба воссиял свет бессмертия, новая
сила жизни, которая дана была всему человечеству. Поэтому и стала вовсе не нужна
"регуляция природы", потому что уже ничего и не для чего* было регулировать. Тяжелый по-
540
кров смертности, который тяготел над миром, уже снят, хотя до времени еще являет бывшую
утраченную силу» (Вестник РХД. 1979. № 128. С. 28-29).
РАЗМЫШЛЕНИЯ О НАЦИОНАЛЬНОСТИ
С. 332.
1*. Лишенный предпосылок, произвольный, необоснованный (нем.).
2*. Два основных направления средневековой философии, которые в споре об
«универсалиях» (общих понятиях) стояли на противоположных позициях. Номиналисты
утверждали, что универсалии существуют не в действительности, а только в мышлении;
реалисты, напротив, считали, что универсалии существуют реально и независимо от сознания.
3*. Вещей {лат.).
4*. См. примеч. 12* к статье «От автора».
С. 333.
5*. Простая энумерация (лат.) - логическая операция, позволяющая классифицировать и
обозревать предметы или явления, но не позволяющая перейти к теоретическому обобщению.
Термин «энумерация» (перечисление) принадлежит Р. Декарту, который понимал под ней
«столь тщательное и точное исследование всего относящегося к тому или иному вопросу, что с
помощью ее мы можем с достоверностью и очевидностью утверждать: мы ничего не упустили в
нем по нашему недосмотру» (Декарт Р. Избранные произведения. М., 1950. С. 102).
6*. В «Очерке научных понятий по некоторым вопросам всеобщей истории»
Н. Г. Чернышевского имеется специальный раздел «О различиях между народами по
национальному характеру», в котором он пишет: «Качества какой бы то ни было группы людей -
совокупность качеств отдельных людей, из которых она состоит. Поэтому знания о качествах
этой группы - только совокупность знаний об индивидуальных качествах людей,
составляющих ее. Таким образом, наши сведения о качествах народа не могут быть ничем иным, как
соединением наших знаний о качествах отдельных людей, составляющих этот народ»
(Чернышевский Н. Г. Избранные философские сочинения. М., 1951. Т. III. С. 580).
7*. Строго говоря, в своей «антивеховской» статье «Интеллигенция и историческая
традиция», на которую ссылается С. Н. Булгаков (см. примеч. 17*) и которую он, видимо, имеет в
виду и в данном случае, П. Н. Милюков рассуждал не о «понятии нации», а о «национализме и
патриотизме», но в этом рассуждении имплицитно содержится определение нации и сводится
оно к следующим пунктам: 1) «чувство родовой принадлежности»; 2) «вечно живая и вечно
развивающаяся волевая и целесообразная совместная же деятельность», «объединение воли
народа на очередной, одинаково понимаемой всеми национальной задаче»; 3) «расчленение
однородной этнографической массы, ее внутренняя организация при помощи выделяемого ею
социального "чувствилища", ее интеллигенции», каковое («чувствилище») только и «может
связать массу единым чувством взаимной связи, общего интереса и общего блага» (Вехи.
Интеллигенция в России. Сборники статей. 1909-1910. М., 1991. С. 346-347).
8*. Имеются в виду русские сторонники неокантианства (трансцендентализма), прошедшие
школу В. Виндельбанда, Г. Риккерта, Г. Когена, П. Наторпа, Гуссерля, которые, вернувшись в
Россию, основали русскую секцию журнала «Логос». Это прежде всего С. Гессен, Г. Гурвич,
Ф. Степун, Б. Яковенко Г. Шпет и др.
В 1910 г. организационно оформились два ведущих направления русской философии
начала XX в., которые с некоторой долей условности можно назвать неославянофильством и
неозападничеством. Объявление о предстоящем выходе первого номера русского «Логоса»
(параллельно журнал издавался в Германии, а позднее - в Италии и Литве; планировались
французское и английское издания) было помещено в газете «Русские ведомости» 10 апреля
1910 г.
«На днях, - сообщалось в объявлении, — книгоиздательство «Мусагет» выпускает первый
номер международных философских выпусков Логос, выходящих приблизительно в те же
сроки в Германии. Идея таких выпусков возникла в Германии в кружке молодых ученых
(русских и немцев), сгруппированных главным образом вокруг Риккерта; Риккерт, которому
принадлежит идея назвать выпуски «Логосом», и является их вдохновителем; задача
выпусков - связать проблемы отвлеченной философской мысли с живыми потребностями
национальных культур; Логос, оставаясь чисто научным журналом, не является, однако, журналом
академическим; вечные ценности европейской культуры, как и волнующие нас проблемы
современности, найдут свое освещение в Логосе. Материал для выпусков, распределенный
международной редакцией, утверждается и пополняется национальными редакциями (русской и
541
немецкой); в скором времени отделения Логоса возникнут во Франции и Италии. В числе
ближайших сотрудников такие крупные имена, как имена Риккерта, Виндельбанда, Когена,
Гуссерля, Зиммеля, Христиансена, Кона, и др.; к русскому отделу Логоса примыкают Лос-
ский, Струве, Франк, Кистяковский и др.». Далее в газете излагались важнейшие пункты
программы журнала из редакционной статьи его первого номера.
«В ... приобщении русской культуры и выраженных в ней оригинальных мотивов, -
говорилось в этой статье, - к общей культуре Запада русское издание Логоса видит одну из своих
главных международных задач. ...Логос будет, однако, резко отмежевываться от всякой
ненаучной философии».
Книгоиздательство «Мусагет», официальное открытие которого состоялось в марте 1910 г.,
возглавляемое Э. К. Метнером, ориентировалось на «германскую культуру, что было
обусловлено, помимо идейно-эстетических симпатий Э. Метнера, непременным условием, выдвинутым
Ядвигой Фридрих, финансировавшей издательство... Э. Метнер писал в этой связи Эллису (26
августа 1909 г.): "Направление журнала (по желанию издателя) должно быть германофильское
(в широком неполитическом, нефанатическом, культурном смысле слова) и отнюдь не
враждебное Вагнеру"» (РГБ, ф. 167, к. 6, ед. хр. 13). (Цит. по: Белый А. Между двух революций.
М., 1990. С. 539). Э. Метнер, Ф. А. Степун и С. И. Гессен составляли официальную редакцию
«Логоса», заявленную на титуле. (Редакция помещалась в конторе «Мусагета» в Москве, на
Пречистенском бульваре, д. 31, кв. 9).
На следующий год - отчасти и в противовес «Логосу» - в Москве было организовано
книгоиздательство «Путь» (М. О. Гершензон, Е. Н. Трубецкой, С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев и
др.), финансирование которого взяла на себя известная меценатка М. К. Морозова. Сотрудники
«Пути» и сотрудники «Логоса» «зажили, - по словам А. Белого, - в натянуто-дружественном,
но тайно-враждебном (по устремлениям) соседстве». {Белый А. Начало века. М., 1990. С. 507).
Идейные взаимоотношения между «Логосом» и «Путем» составляют интереснейшую, но пока
еще практически не исследованную страницу истории русской философии и общественной
мысли. Эти взаимоотношения осложнялись тем, что практически между всеми ведущими
сотрудниками «Логоса» и всеми «путейцами» существовали и сохранялись дружеские отношения.
Знаменателен и тот факт, что «Логос» и «Путь» поделили поровну участников «Вех» (за
исключением Изгоева, не примкнувшего ни к тем, ни к другим). Кроме того, в обоих «станах» не
было полного единодушия. «Мусагетцы» весьма скоро начали бороться с засилием у себя
«риккертианцев»; обозначились идейные расхождения и между С. Н. Булгаковы и
Н. А. Бердяевым (которые одно время отождествлялись в глазах современников до полного
слияния: «обоих мы звали: "Булдяевы" или "Бергаковы"», - вспоминал А. Белый. - Там же. С.
493).
Первым «камнем», который трансценденталисты бросили в сторону еще не сорганизовав-,
шихся «путейцев», была статья Б. Яковенко «О задачах философии в России» (см. о ней
примеч. 29*). Ответный «удар»нанес В. Ф. Эрн статьей «Нечто о Логосе, русской философии и на:
учности. По поводу нового философского журнала «Логос» (Московский еженедельник. 1910.
№ 29-32; затем статья вошла в состав его книги «Борьба за Логос. Опыты философские и
критические». М., 1911), на которую, в свою очередь, ответил А. Белый, опубликовав в газете
«Утро России» 15 октября 1910 г. статью «Неославянофильство и западничество в современной
русской философской мысли». «В своей устной и письменной полемике, - вспоминал
впоследствии Ф. Степун, - Эрн пытался доказать, что мы, представители научной философии,
порвавшие с древней христианской традицией, не имеем ни малейшего права оперировать
понятием Логос, взятым у Иоанна Богослова, и профанировать его. Этот тезис находил живейший
отклик в православных умах» (Цит. по: Вопросы философии. 1989. № 9. С. 88).
В целом идейное противоборство «Логоса» и «Пути» значительно обогатило русскую науку,
несмотря даже на то обстоятельство, что порой борьба выходила за пределы чистого
академизма и приобретала излишне крохоборческий характер. Так, например, в составленную В. Эрном
библиографию трудов о В. С. Соловьеве (в «Первом сборнике о Владимире Соловьеве». М. :
Путь, 1911) вкралась ошибка: статья Н. К. Михайловского «О г. Соловьеве как моменталисте-
трансформисте и о развязном человеке вообще», указанная Эрном, на самом деле была
написана о Евгении Соловьеве. Бдительный «Логос» тем не менее этой ошибки не простил. Суть
происшедшего затем хорошо проясняет письмо С. Н. Булгакова к М. К. Морозовой от 23 июня
1911 г. из Кореиза. «Вы, конечно, уже прочли в "Письме в редакцию" Русских ведомостей от
21 июня, - писал Булгаков, - некоего Павла Попова (очевидно, псевдоним), касающееся
библиографии в соловьевском сборнике и заключающее в себе тонко рассчитанный и попадающий
в цель удар по Пути. Единственный способ, которым «Русские ведомости» считают нужным
знакомить своих читателей с Путем, это выходки Козловского, бравады новоявленного
"философа" (в том же номере, - ведь не может же быть это Яковенко!!!) и это открытое
письмо. Так или иначе, но я испытал, читая его, наибольшую боль за Путь, чем от всех до сих пор
случавшихся злоключений, и могу объяснить эту, вообще говоря, непростительную ошибку
Эрна только его болезнью, в которой он составлял свою библиографию, но при этом остается
непонятным, как это произошло... Боюсь, что ответить здесь нечего и остается лишь распи-
542
саться в получении... Я тоже стал думать, что лучше нам держаться поскромней и по одежке
протягивать ножки... Надо учиться у этого опыта. Но из этого, конечно, не следует, чтобы
можно было раскисать и ослаблять энергию. Будем делать то, что мы можем, и больше с нас
не спросится» (ОР РГБ).
Начавшаяся в 1914 г. мировая война положила конец этому интересному диалогу двух
мировоззрений и двух систем философской «ориентации»: русский «Логос» прекратил свое
существование, через три года за ним последовал и «Путь». Характерно в этой связи, что
«предводители» обоих станов - Э. К. Метнер и С. Н. Булгаков - в самый разгар войны обменялись
теплыми дружескими письмами. «Очень рад я был Вашему письму, - писал Э. К. Метнеру
Булгаков 19 мая 1915 г., - в такую годину, когда события разделяют даже и близких по
симпатиям людей, заочно, отчасти по слухам, отчасти по интуиции, я представлял себе и Ваше
настроение, и Ваше понимание текущих событий. Многого в них я не могу ни принять, ни
разделить, но в то же время ощущал всю неразрывность Вашей связи с Россией, а
следовательно, моей верой и любовью... Я считаю себя чуждым германофобства (хотя и думаю, что к
духовному воскресению Германия должна прийти путем покаяния, не того только покаяния,
какое для всех народов нужно, но культурно-исторического покаяния), однако я не думаю при
этом, что и о миссионизме Германии, особенно для России, можно было говорить: германская
"Kultur" последних десятилетий была Tüchtigkeit <добротна>, не гениальна по самому своему
стилю. Эта Tüchtigkeit, вероятно, сохранится, и мы через некоторое время опять потянемся к
научной немецкой литературе-(иные профессора втайне и теперь о ней вздыхают!), здесь, по-
видимому, без "немцев" не обойтись, - я этого просто не знаю и не вижу, но знаю, что если
' воскреснет, то должна быть разбита эта удобная, полезная, но все-таки самодовольная и
ограниченная Tüchtigkeit» (OP РГБ, φ. 167, к. 13, ед. хр. 21, л. 1-2).
Интересную оценку этого идейного противоборства дает активный его участник Ф. Степун.
«В пику "Весам" <журнал, выходивший под ред. В. Я. Брюсова>, находившимся под
односторонним влиянием французских символистов, зародился на Пречистенском бульваре, против
памятника Гоголя, определенно германофильский "Мусагет", - пишет он в своих мемуарах
«Бывшее и несбывшееся», - тут царствовали тени Гете, Вагнера и немецких мистиков.
Главный редактор "Мусагета" Эмилий Карлович Метнер... подписывал руководимый им отдел
Вагнериана" псевдонимом Вольфинг.
В противовес обоим европейским, но отнюдь не западническим, в старом смысле этого
слова, издательствам, сразу же выдвинулся на старые, но заново укрепленные славянофильски-
православные позиции морозовский "Путь" с Булгаковым, Бердяевым и Трубецким в качестве
редакторов и главных сотрудников. Позднее, уже, кажется, перед самой войной, появились в
витринах книжных магазинов необычно большие обложки "Софии", богато
иллюстрированного, роскошного журнала, ставившего своею задачею ознакомление русской публики с Россией
14-го и 15-го веков...
Все эти издательства и журналы... не были, подобно издательствам Запада,
коммерческими предприятиями, обслуживающими запросы книжного рынка. Все они осуществлялись
творческим союзом разного толка интеллигентских направлений с широким размахом
молодого, меценатствующего капитала. Поэтому во всех них царствовала живая атмосфера
зачинающегося культурного возрождения. Редакции "Весов", "Мусагета", "Пути" и "Софии"
представляли собою странную смесь литературных салонов и университетских семинарий...
В годы этой дружной работы облик русской культуры начинал видимо меняться.
Провинциальная психология старотипного русского интеллигента, воспитанного на Чернышевском и
Михайловском, начала постепенно перерождаться...
Еще десять-двадцать лет дружной упорной работы - и Россия, бесспорно, вышла бы на
дорогу окончательного преодоления того разрыва между "необразованностью народа и
ненародностью образования", в котором славянофилы правильно видели основной грех русской
жизни. К величайшему, лишь в десятилетиях поправимому несчастью России, этот
оздоровительный процесс был сорван большевистской революцией...» (Степун Ф. Бывшее и небывшее-
ся. Лондон, 1990. Т. I. С. 207-210).
Оказавшись в эмиграции, ведущие лидеры различных направлений пытались с разной
степенью успеха в новых условиях и с новых позиций продолжить процесс, столь плодотворно
начатый в России. В Париже выходил журнал «Путь», в Праге в 1925 г. Б. Яковенко
предпринял попытку возродить журнал «Логос», но это - уже другая страница истории.
9*. Т. е. лишенное собственной сущности.
С.,334.
10*. Нечто более раннее, первичное; повод, основание (лат.).
11*. С. Н. Булгаков здесь не совсем точен: «Становление (Werden), - писал Гегель, - есть
нераздельность бытия (Sein) и ничто (Nichtigkeit)» (Наука логики. М. 1970. Т. 1. С. 166); хотя
в данном случае «ничто» и «небытие» (Nichtsein) почти тождественны. У Гегеля имеется и
такое утверждение: «В сфере бытия в противоположность бытию как непосредственному возни-
543
кает небытие равным образом как непосредственное, и их истина - становление» (Там же.
Т. 2. С. 17).
12*. Всякое определение есть отрицание {лат.). - не совсем точная цитата из письма Б.
Спинозы Я. Иеллесу от 2 июня 1674 г. (у Спинозы вместо definitio - determinatio: Спиноза Б.
Избр. произведения. М., 1957. Т. 2. С. 568). Выражение это встречается у Гегеля, благодаря
которому и получило широкую известность (Гегель Г. В. Ф. Наука логики. М., 1970. Т. 1. С. 174).
13*. Имеется в виду, конечно, не «бригадирша», которая говорит о себе: «Я церковного-то
языка столько же мало смышлю, как и французского... Я, грешная, и по-русски-то худо
смышлю», а ее «сын», который в разговоре с отцом произносит «историческую» фразу: «Тело
мое родилося в России... однако дух мой принадлежит французской короне» (Фонвизин Д. И.
Бригадир // Собр. соч. М.; Л., 1959. Т. 1. С. 65, 72). В журнальном варианте статьи далее
следовало: «или уж столь же- ожесточенно поносили Россию, как последнее время
Д. С. Мережковский». Булгаков, вероятно, имеет в виду сборник статей Мережковского
«Большая Россия» (СПб., 1910).
С. 336.
14*. Образ Платона, который он развивает главным образом в диалогах «Пир» и «Федр».
«Эрот - это любовь к прекрасному» (Пир 204Ь). «...Изо всего, что связано с телом, душа
больше всего приобщилась к божественному - божественное же прекрасно, щедро, доблестно и так
далее; этим вскармливаются и вращиваются крылья души, а от всего противоположного - от
безобразного, дурного - она чахнет и гибнет» (Пир. 246 d-e) (Платон. Сочинения. М., 1970.
Т. 2. С. 134, 182).
15*. О «соборности» см. примеч. 25* к статье «Средневековый идеал и новейшая культура».
16*. Здесь С. Н. Булгаков, несомненно, выступает как сторонник одной из любимых идей
Ф. М. Достоевского, который писал: «Всякий великий народ верит и должен верить, если
только хочет быть долго жив, что в нем-то, и только в нем одном, и заключается спасение
мира, что живет он на то, чтоб стоять во главе народов, приобщить их. всех к себе воедино и
вести их, в согласном хоре, к окончательной цели, всем им предназначенной» (Достоевский Ф. М.
Поли. собр. соч. Л., 1983. Т. XXV. С. 17: Дневник писателя за 1877 год. Январь. Гл.2, I).
Ср. с утверждением С. Н. Трубецкого: «Истинный религиозный мессианизм Израиля
заключался в идеале царства Божия, осуществляющегося на земле через избранный народ и
предзаложенного в союзе живого Бога с этим народом. В таком союзе Бог открывается
Израилю, сообщает ему Себя; сам Израиль "помазан" Богом на царство, и Дух Божий почиет на нем,
наставляет его в его путях, учит его Богопознанию и ведет его к высшей цели. Это идеал чисто
религиозный, проникающий собою всю веру Израиля... В этом смысле можно сказать, что все
Священное Писание проникнуто мессианической верой» (Трубецкой С. О некоторых
особенностях религии древних евреев // Символ. Париж. 1983. № 9. С. 153).
См. также интересные мысли Н. А. Бердяева о русском «миссионизме» (от слова «миссия»,
а не «Мессия») в сборнике его статей «Духовный кризис интеллигенции» (СПб., 1910. С. 10, 32,
124-127, 232).
С. 337.
17*. В журнальном варианте статьи к этому месту сделано примечание:
«Для П. Н. Милюкова достаточно констатировать, что старые попытки русского
национального самосознания решились (конечно, это также ничем не доказано), чтобы вывести
отсюда, что национальное сознание в России начинается чуть ли не с интеллигенции новейшей
формации того рассудочно-просветительского типа, ярким представителем которого является
сам П. Н. Милюков (Ср. сборник «Интеллигенция в России», статья П. Н. Милюкова, пар. VI
«Безнациональность интеллигенции»)».
Неизвестно, какими соображения руководствовался Булгаков, снимая это примечание, но
некоторые критические замечания Милюкова нельзя не признать справедливыми. Например:
«Мессианизм обязуется из "воспоминаний" вывести "пророчество" - известную
телеологическую тенденцию универсального характера. Это и требовала сделать единственная пока
попытка русского мессианизма - попытка славянофилов и Герцена. И мы понимаем тех, кто
принимает на себя это обязательство. Булгакову, например, с его мистической верой в церковь, это
даже совсем нетрудно сделать: стоит лишь последовать совету Гершензона и Бердяева и
вернуться к Хомякову. Но как поступить тем, кто, по крайней мере в принципе, не согласен
связывать себя "воспоминаниями"?
Обратиться все-таки к прошлому и поискать в нем не интуитивно, не мистически, а
эмпирически элементов русского мессианизма?.. Русский мессианизм постоянно оказывается
основанным не на православии, а на католицизме. И никакие попытки нового синтеза, никакие
соображения наших новейших мессианистов о "сверхнационализме русского православия",
544
никакие перепевы о посредничестве России между Востоком и Западом не избавят их от
подобного же рокового исхода их поисков вселенской веры.
Какой же вывод вытекает?.. "Сознательное национальное чувство" может "отливаться в
культурный мессианизм" только при соблюдении известной пропорции между прошлым и
будущим, между "воспоминаниями" и "пророчествами". У нас эта пропорция слишком для нас
невыгодна. "Воспоминаний" непропорционально мало, а чистому "пророчеству", хотя бы оно
было и герценовское, никто не поверит. Вероятно, поэтому у огромного большинства нашей
интеллигенции оказывалось достаточно здравого смысла и самокритики, чтобы не тешить себя
и не смешить других национально-мессианистскими настроениями» (Вехи. Интеллигенция в
России. Сборники статей. 1909-1910. М., 1991. С. 349-352).
Недаром М. О. Гершензон в своем письме к Б. А. Кистяковскому от 3/16 апреля 1910 г.
отмечал:
«Милюков решительно интересен, еще хороша статья Овс<янико>-Кул<иковского>. Я
имел усердие прочитать весь сборник <имеется в виду сборник «Интеллигенция в России«>,
М. Б.1 говорит: "подвиг"» (ОПИ ГИМ, ф. 108, ед. хр. 1, л. 62).
С. 338.
18*. Цитата из стихотворения А. С. Хомякова «России» (1854). Хомяков А. С.
Стихотворения и драмы (Л., 1969. С.137).
19*. Имеется в виду речь Ф. Лассаля, произнесенная 19 мая 1862 г. на праздновании
столетнего юбилея Фихте, - «Философия Фихте и значение немецкого народного духа» (Берлин,
1862). См.: Лассаль Ф. Сочинения. СПб., 1908. Т. 3. С. 36.
С. 339.
20*. Имеется в виду статья П. Б. Струве «Интеллигенция и национальное лицо»,
опубликованная в газете «Слово» (№ 731, 1909). (Затем вышла в кн.: По вехам... Сб. статей об
интеллигенции и «национальном лице». М., 1909).
Статья была написана по поводу так называемого «инцидента с г. Чириковым», суть
которого сам Е. Чириков передает следующим образом: «В гостях у артиста Ходотова читалась
пьеса г-на Шолома Аша "Белая кость"'. Пьеса... вызвала среди русских писателей и журналистов
некоторое недоумение тенденцией автора - идеализировать одно из главных действующих лиц,
Розу, на наш взгляд, самую заядлую мещанку из мелкобуржуазного еврейского мирка,
способную вызвать одну лишь антипатию.
Начались споры. Недоумение русских писателей еще более усилилось, когда автор пьесы
сказал искреннюю горячую речь, смысл которой сводился к тому, что мы , русские, не можем
понять этой бытовой пьесы, и, чтобы Роза предстала пред нами в надлежащем ореоле героини
фанатического склада, спасающей аристократическую кровь, - необходимо быть евреем или
прожить с ними 5000 лет. Никто из присутствующих евреев, писателей и журналистов, на это
Ш. Ашу не возразил. Когда очередь дошла до меня, я, отдав должное достоинствам пьесы и
указав на ее недостатки, перешел к затронутой автором теме. Я сказал, что если мы, русские,
оказываемся неспособными понять еврейскую бытовую пьесу, то отсюда следует, что и вы,
еврейские писатели и художники, не сможете вполне понять и почувствовать наш русский быт.
Затем я высказал свое недоумение, почему некоторые из присутствующих писателей с
"модернистским пошибом"... совершенно забыли о провозглашенной ими же смерти быта... Не
следует ли отсюда, что умер только русский быт, а еврейский остался?.. Далее я говорил о
том, что такое отношение к быту несовместимо с идеей национальности, что национальность и
быт неразрывно связаны друг с другом, что я сожалею только о том, что среди части
еврейской интеллигенции за последнее время идея национальности начинает превалировать над
другими идеями; говорил, что началось это с отделения от с.-д. партии; что на меня, русского
интеллигента, воспитанного на бесплотных идеалах братства и равенства, это произвело весьма
грустное впечатление; что если мне, русскому интеллигенту, торопятся прежде всего и громче
всего сказать, что "мы - евреи", то мне позволительно вспомнить, что я - русский...
В этом месте со стороны слушателей-евреев послышался не одобряющий шорох и шепот,
который, задев мое национальное самолюбие, заставил меня сказать:
- Да! Русский, не "истинно русский", а просто русский... Впрочем, мне все равно, как вам
будет угодно это признать... И если вы заявляете, что мы, русские, неспособны понимать
ваших бытовых пьес, то мне остается пожалеть, что меня критикуют не русские, так как
большинство критиков петербургской пьесы - евреи...
Вот весь материал, на котором должен делаться тот или другой вывод...» (По вехам.
С. 167-169).
«Инцидент с г. Чириковым» получил широкую огласку и вызвал целую бурю газетной и
журнальной полемики.
1 Мария Борисовна - жена М. О. Гершензона.
545
«Сам по себе, - писал П. Б. Струве в статье «Интеллигенция и национальное лицо», - он
мало интересен и будет, вероятно, скоро забыт. Но этот случай показал, что нечто поднялось в
умах, проснулось и не успокоится. Это проснувшееся требует, чтобы с ним считались и
посчитались.
Это нечто есть национальное лицо.
Есть Российская империя и есть русский народ.
Русскую "интеллигенцию" упрекают и обвиняют - и пишущий эти строки принадлежит к
самым решительным обвинителям - в том, что в ней слабо развит "государственный" смысл.
Это верно вообще, но в одном отношении в русской интеллигенции "государственное"
решительно возобладало над "национальным". Не знаменательно ли, что рядом с "Российской
империей", с этим... официальным, казенным чудовищем - Левиафаном, есть тоже "российская"
социал-демократическая рабочая партия. Не русская, а именно "российская". Ни один русский
иначе, как слегка иронически, не скажет про себя, что он "российский" человек, а целая и
притом наирадикальнейшая партия применила к себе это официальное, ультра -
"государственное", ультра - "имперское" обозначение. Это что-нибудь да значит. Это значит: она хочет
быть безразлична, бесцветна, бескровна в национальном отношении.
Вот чего - во имя государственности! - захотела русская интеллигенция.
Я не буду ставить здесь проблемы национального государства. Меня сейчас интересует не
эта сложная и громадная проблема.
Для меня важно сейчас лодчеркнуть, что ради идеала человечной, справедливой и
разумной государственности русская интеллигенция обесцвечивает себя в "российскую". Этот
космополитизм очень "государственен", ибо "инородцев" нельзя ни физически истребить, ни
упразднить как таковых, т. е. нельзя сделать "русскими", а можно лишь воспринять в единое
"российское" лоно и в нем упокоить. Но позвольте мне, убежденному стороннику
"государственности", восстать против обнаруживающейся в этом случае чрезмерности культа
государственного начала. Позвольте мне сказать, что так же, как не следует заниматься "обрусением" тех,
кто не желает "русеть", так же точно нам самим не следует себя "оброссиивать". Прошу
прощения за это варварское слово, но его нужно было выдумать, ибо на самом деле
интеллигенция давно "оброссиивает" себя, т. е. занимается тем, что во имя своего государственного
идеала безнужно и бесплодно прикрывает свое национальное лицо.
Безнужно и бесплодно, ибо его нельзя прикрыть.
Когда-то думали, что национальность есть раса, т. е. цвет кожи, ширина носа ("носовой
указатель") и т. п. Но национальность есть нечто гораздо более несомненное и в то же время
тонкое. Это духовные притяжения и отталкивания, и для того, чтобы осознать их, не нужно
прибегать ни к антропологическим приборам, ни к генеалогическим разысканиям. Они живут
и трепещут в душе.
Можно и нужно бороться против того, что в холодные и бесстрастные веления закона,
которые должны быть основаны на государственном начале правового равенства, вторгаются и их
суровый строй нарушают эти притяжения и отталкивания.
Это само собой понятно.
Но "государственная" справедливость не требует от нас "национального" безразличия.
Притяжения и отталкивания принадлежат нам, они - наше достояние, в котором мы вольны,
мы все, в ком есть органическое чувство национальности, какова бы она ни была. И я не вижу
ни малейших оснований для того, чтобы отказаться от этого достояния в угоду кому-либо и
чему-либо, даже в угоду государственному началу.
Необходимо размежевать эти две области: область правовую и государственную, с одной
стороны, и, с другой стороны, - ту область, в которой правомерно действуют национальные
притяжения и отталкивания. Специально в еврейском вопросе это и очень легко, и очень
трудно. Очень легко потому, что еврейский вопрос формально есть вопрос правовой, вопрос простой
государственной справедливости. Очень трудно потому, что сила отталкивания от еврейства в
самых различных слоях русского населения фактически очень велика и нужна большая
моральная и логическая ясность для того, чтобы, несмотря на это отталкивание, бесповоротно
решить правовой вопрос. Но трудность не только в этом. При всей силе отталкивания от
еврейства широких слоев русского населения из всех "инородцев" евреи всех нам ближе, всего
теснее с нами связаны.
Это культурно-исторический парадокс, но это так. Русская интеллигенция всегда считала
евреев своими, русскими, и не случайно, недаром, не по "недоразумению". Сознательная
инициатива отталкивания от русской культуры, утверждения еврейской, "национальной"
особенности принадлежит не русской интеллигенции, а тому еврейскому движению, которое известно
под названием сионизма. Пусть оно порождено юридическим положением евреев в России, но
это факт. Я не сочувствую нисколько сионизму, но я понимаю, что проблема "еврейской"
национальности существует, что она есть, пожалуй, в настоящее время даже растущая проблема.
А в то же время нет в России других "инородцев", которые играли бы в русской культуре
такую роль, какую играют евреи. И еще другая трудность: они играют ее, оставаясь евреями.
Неоспорима роль немцев в русской культуре и в особенности в русской науке. Но немцы, оп-
546
лодотворяя русскую культуру, без остатка растворились и растворяются в ней не
индивидуально, à именно в культурном смысле. Не то евреи, если в самом деле есть еврейская
"национальность", как утверждают сионисты. Допустим, что Брюллов был великим живописцем (в чем я
сомневаюсь). Можно говорить о том, какая национальность - немецкая или русская - вправе
претендовать на эту честь, но совсем не тот смысл имеет вопрос, был ли Левитан русским или
еврейским живописцем. Если бы я даже был "антисемитом" и если бы конгресс сионистов со-
борно и официально провозгласил его еврейским художником, я бы продолжал твердить: а все-
таки Левитан был русский (не "российский"!) художник. И хотя я вовсе не антисемит, я
скажу: Левитана я люблю именно за то, что он русский художник. Может быть, есть великие
еврейские художники, но они в моей душе не шевелят и не могут шевелить ничего такого, что
в ней поднимает Левитан.
Эти чувства - национальные русские чувства, - которые связывают меня с Левитаном и
могут меня отталкивать от г. Шолома Аша (с произведениями которого я, впрочем,
совершенно незнаком и который есть для меня одно лишь "имя"), не имеют ничего общего с вопросами
о черте оседлости и о проценте еврейских студентов. И это нужно понять.
Я и всякий другой русский, мы имеем право на эти чувства - право на наше национальное
лицо.
Чем яснее это будет понято и'нами, русскими, и представителями нерусских
национальностей, тем меньше в будущем предстоит недоразумений. Решение национальных вопросов
может быть основано лишь на моральных и политических принципах и не должно зависеть от
чувств.
В тяжелых испытаниях последних лет вырастает наше национальное русское чувство. Оно
преобразилось, усложнилось и утончилось, но в то же время возмужало и окрепло. Не
пристало нам хитрить с ним и прятать наше лицо» (Там же. С. 32-36).
Одним из первых, кто откликнулся на статью П. Б. Струве, был П. Н. Милюков.
«Национализм против национализма!» - писал он в так и озаглавленной статье. «Идет старый
спор о том, откуда ведьма - из русского Новгорода или жидовского Киева... Я боюсь, что... это
лицо <«национальное лицо»> будет больше походить на изнанку. Мы видели такое лицо,
искаженное и тоже больное, почти лицо сумасшедшего и маньяка. Мы видели его недавно на
трибуне Гос. Думы. То ли это яйцо, которое П. Б. Струве открывает еврейскому
национализму?» (Там же. С. 38-40).
Н. Минский в статье «Национальный лик и патриотизм» писал, что «в нем <"патриотизме"
г. Голубева (корреспондент газеты "Слово", поддержавший Струве) и г. Струве> прежде всего
нет исторической плоти. Это - зачатая в сумерках аналогий и рожденная в потугах логики
мысль». (Там же. С. 59).
«Известно ли Струве, - вопрошал в своих очередных «Набросках» Д. Левин, - что эти
поэтически-трепещущие в душе, неосязаемые "притяжения и отталкивания" на деле выражаются
очень часто в грубых толчках и подзатыльниках - и в не менее грубых медвежьих объятиях?»
(Там же. С. 69).
М. Винавер в «Открытом письме П. Б. Струве» с «полной откровенностью» сказал «сразу»:
«Я считаю ваше отношение к чрезвычайно острой проблеме крайне поспешным и
непродуманным до конца» (Там же. С. 81).
Как всегда, досталось Струве и от Homo novus'a, назвавшего его в своем фельетоне «22
несчастья» «благонамеренным зайцем». «Дяденька-черносотенец» в этом фельетоне благодарит
«Зайца-Струве» такими словами: «Вот это хорошо, заяц! Давно пора... Царьград - он далеко-
то... Опять же воевать нам никак невозможно. А жидов - это здорово! Молодец, заяц!» (Там
же. С. 107).
«... Г. Струве придется винить самого себя, - предупреждал А. Максимов, - если читатели
поставят его в близкое соседство с такими группами, от которых он готов отшатнуться» (Там
же. С. 121).
Из своего «прекрасного далека» прогремел и «крестный отец» русской интеллигенции
П. Боборыкин, который по своему обыкновению «никого из живых не называть по фамилии»
«воздержался» и на этот раз. «...Разве это не курьезный факт, - удивлялся Боборыкин, - что в
данную минуту ярыми великорусскими националистами являются люди заведомо немецкой
расы!" (Там же. С. 58).
И т. д., и т. д.
Впрочем, не все участники полемики выступили против П. Б. Струве, немалое число из
них высказались либо в нейтральных тонах, либо в поддержку его. Тем не менее приведенных
высказываний вполне достаточно, чтобы согласиться с горьким признанием, сорвавшимся
однажды с пера Н. А. Бердяева:
«Очень характерно для наших нравов несправедливое, неблагодарное, безобразное
отношение к П. Б. Струве, одному из самых крупных русских людей, так много сделавшему для дела
русской свободы, человеку исключительного нравственного мужества и искренности и
интенсивной духовной жизни» ( Бердяев Н. Духовный кризис интеллигенции. СПб., 1910. С. 56).
547
21*. В статье «Расизм и христианство», написанной С. Н. Булгаковым в 1942 г. и лишь
сравнительно недавно изданной, имеется специальный раздел, большая часть которого
посвящена «Вопросу еврейскому».
«Между Россией и еврейством, - пишет здесь С. Н. Булгаков, - очевидно, существует
взаимное влечение и предустановленная связь, которая проявляется, несмотря на всю внешнюю
разность и даже чуждость, как будто бы естественно существующую между русской
женственностью и еврейской волей. Это есть связь по контрасту...
Главное, конечно, завоевание еврейства совершилось на почве русского большевизма, и в
этом была перейдена - нельзя этого отрицать - всякая мера. Поэтому и вместе с крахом
большевизма, очевидно, не может не наступить крах и этого завоевания, так или иначе, в той или
другой степени и форме. Но как бы это все ни совершилось, тогда-то и встанет еврейский
вопрос как внутренняя проблема духовной судьбы русского народа во всей ее остроте и глубине.
Отношение между еврейством и Россией тогда освободится от насильственного характера и
перейдет в область духовную, религиозную. Это и является одним из свершений
Апокалипсиса... Вся трагическая история Израиля за все времена его существования до наших дней
предстанет как путь к спасению во Христе, призывающего к Себе народ Свой. В самом Израиле и
над ним самим происходит борьба между еврейством, семенем Авраамовым, и
поклоняющимися золотому тельцу и ждущими земного царства земного мессии, настанет время, когда
"воззрят нань, его же прободоша".
Об этом-то и идет вековой спор в душе еврейского народа, и одновременно с ним решаются
и судьбы мира, который, созревая, приближается к своему концу...
История, как апокалипсис нашего времени, ставит нас перед лицом новых свершений и в
чаянии новых сил, в этом смысл исторических чудес и становлений Божиих. Это относится в
первую очередь к судьбам России и Израиля в их совместном свершении, а в них последние в
нашем историческом зоне судьбы избранного народа Божия перед наступлением 1000-летнего
Царствия Христова после "первого воскресения". А это есть, хотя еще и не последняя, но
предпоследняя глава истории ранее конца этого мира. Времена и сроки находятся в руках
Божиих, и их наступление не открыто человеку, но их приближение, знамение конца, становится
ему ведомо, и оно уже ныне предначертывается, и в грядущих событиях центральное место
принадлежит России и еврейству. И та, и другое пребывают еще во мраке и под испытанием:
Россия находится под игом большевизма, которое сменяется игом гитлеризма, еврейство же
претерпевает еще раз в своей истории гонение. Но само же оно доселе остается в состоянии
поклонения золотому тельцу и отпадения от веры, даже и в Бога Израилева. Все эти новые
бедствия являются для него не только как последние, может быть, испытания перед его
обращением ко Христу и духовным воскресением, но и как неизбежная кара за то страшное
преступление и тяжкий грех, который им совершен над телом и душой русского народа в
большевизме. Он не может остаться неискуплен. Еврейство в самом своем низшем вырождении,
хищничестве, властолюбии, самомнении и всяческом самоутверждении через посредство
большевизма совершило если — в сравнении с татарским игом - и непродолжительное хронологически
(хотя четверть века не есть и краткий срок для такого мучительства), то значительнейшее в
своих последствиях насилие над Россией и особенно над св. Русью, которое было попыткой ее
духовного и физического удушения. По своему объективному смыслу это была попытка
духовного убийства России, которая, по милости Божией, оказалась все-таки с негодными
средствами. Господь помиловал и спас нашу родину от духовной смерти...
В этом злоумышлении против родины нашей есть великое и страшное, опасное для нее
искушение, новые сети сатаны, расставленные им на путях России к ее высшим свершениям.
Насилие, соединенное с презрительным надругательством над святыней души народной,
воспламеняет чувства непримиримости и мести, создает опаснейшее искушение. Погром,
учиненный над Россией, используется, конечно, не только друзьями ее, но также и недругами - под
предлогом борьбы со злом большевизма - как духовная и политическая провокация мести,
ответного погрома. Ведь можно сказать, что еврейство в России, находясь под еврейской же
властью, вернее, именно в силу этого, благодаря этому, не имеет искреннего друга даже в
собственных недрах ее самой. Сталин, как глава советской власти, есть лишь звериная маска,
которая прикрывает собой то, что находится за этой маской и под нею. И инстинктивно вся
сила ненависти и презрения сосредоточена не на нем. И это искушение мести, провокация
междоусобицы есть величайшая опасность, возникающая теперь на путях истории, в судьбах
русского народа, которые неразрывно соединены с еврейским.
Русский погром над еврейством, как ответный на еврейский погром над русским народом,
угрожает утопить в крови, растоптать нежные, под почвой скрывающиеся ростки Грядущего.
Из мстительного он может явиться самоубийственным, если не будет применена
заблаговременно и действенно вся аскетика воздержания против мстительных чувств и действий в час,
когда наступит время исторической ассенизации, расчистки русской почвы к свободному
творчеству. И эта опасность вдвойне увеличивается еще и тем, что сатана в качестве орудия для
своей провокации зла, наряду с еврейской властью большевистских комиссаров, имеет
союзников и в гитлеризме, систематически испытывающим низкие чувства и зверские навыки в
548
отношении к еврейству, прежде всего в собственных своих пределах, а затем и в других
странах (Франция). Христианское отношение к еврейству на нашей родине требует для себя
настоящего духовного героизма.
Итак, эта страшная опасность приближается как очередное искушение и испытание для
обоих народов, между собою связанных в своих судьбах. Чрез нее предстоит перейти, ее из
себя извергнуть, если, может быть, не целиком и не из всего народного тела, то, во всяком
случае, из "святого остатка" в обоих народах. Тогда лишь расчистится путь к "тысячелетнему
царству". Но таковы исторические препятствия, которые предстоят к преодолению на этом
пути. Таково отрицательное предусловие новых откровений Грядущего в Христовой Церкви, ее
апокалипсиса.
Лишь после этого преодоления нас ждет положительное ее откровение: новая творческая
эпоха в истории. Очевидно, ни один из исторических народов не призван в такой мере к
религиозному творчеству, как русский, и, конечно, нет иного избранного самим Богом народа, как
Израиль, которому даны были "закон и пророки". Из его же среды явятся и два "свидетеля", о
которых говорит Откровение (II, 3-7) и пророк Илья, предтеча Второго и Славного
пришествия Господня. На месте духовного опустошения в самом еврействе произрастает лилия
Грядущего, воссияет благодать и сила Богоматерняя, почувствуется сила пророков и Предтечева, и
избрание и призвание святого остатка наконец совершится. Таковы не гадания лишь или
постулаты, но таково пророчество истории, которое ныне над нами в предначатках своих уже
совершается. И сие буди, буди... И это будет новое христоявление во Израиле, которое
сольется с "первым воскресением". "Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих во
тьме и сени смерной свет воссияет". (Ис. IX, 1-2). 'В историческом христианстве явится новая
сила, которая и станет духовным его средоточием, как было это и в первые дни его: иудео-
христианство» (Вестник РХД. № 158. С. 190-199).
22*. Имеются в виду слова ап. Павла из Послания к Римлянам: «...Противящийся власти
противится Божию установлению» (13, 2).
С. 340.
23*. Эпоха меркантилизма (2-я дол. XVI в.-нач. XVIII в.) характеризуется системой
активного торгового баланса, что достигается путем вывоза готовых изделий и денег своей
страны за границу; при этом торговля осуществляется по принципу: покупать дешевле в одной
стране и продавать дороже в другой.
С. 341.
24*. См.: Лист Ф. Национальная система политической экономии. СПб., 1891.
«Если желают остаться верными логике и сущности вещи, - пишет здесь Ф. Лист, —
необходимо противопоставить частную экономию социальной экономии и в этой последней
различать: экономию политическую, или национальную, которая... учит, каким образом данная
нация при современном положении всего света и при наличности особых национальных
отношений может сохранять и улучшать свое экономическое положение, и экономию
космополитическую, или мировую, которая исходит из гипотезы, что нации всего земного шара образуют
собою одно общество, пребывающее в вечном мире» (Указ. соч. С. 174).
25*. «Предлагаемый сборник моих статей, - писал Н. А. Бердяев во «Введении» к указ.
Булгаковым книге, - по темам и направлению близок к критической задаче сборника "Вехи"»;
в примечании к этому месту Бердяев отметил: «Задолго до появления "Вех" я разрабатывал в
своих статьях вопросы, поднятые этим сборником, и, думается мне, <он> может внести свою
лепту в тот капитал, который пойдет на открытие путей исхода из духовного кризиса, ныне
переживаемого русской интеллигенцией. Я твердо стою на том, что всякий серьезный кризис с
социальной и политической своей стороны является лишь поверхностью, лишь производным,
корни же лежат в духовной и таинственной глубине бытия, а потому и выход из кризисе
связан с перерождением этих глубин. Политическая реакция - явление производное,
поверхностное, скоропреходящее, и близоруко было бы слишком на ней фиксироваться, как то склонна
делать теперь традиционно-радикальная интеллигенция. Духовно зрячий видит, что в глубине
нашей жизни совершается подземная работа, последствия которой еще не выявлены и
значение которой еще впереди. И в русской "интеллигенции", и в русском "народе" происходит
сдвиг воли и сознания, который ведет к иному чувству жизни и иному пониманию мира. У
интеллигенции незримо нарождается новая душа. Но всякий глубокий кризис - прежде всего
кризис веры, всякий обновляющий перелом ведет от поклонения идолам к возрожденной вере
в живого Бога. Ныне радикалом и революционером (в глубоком, духовном смысле этого слова)
может быть назван тот, кто по мере сил своих способствует радикальному перерождению
интеллигенции, утверждает сознательно новый строй души и не идолопоклонническую веру в
Бога; тот же, кто задерживает этот процесс перерождения, кто охраняет интеллигентское ста-
роверие, интеллигентские предрассудки и оправдывает старые грехи, тот именно должен быть
назван консерватором (в другом <по-видимому, должно быть: «дурном». - В. С> - смысле
549
этого слова) и реакционером. Трагедия русской революции обострила давно уже
нарождающийся кризис, и тот, кто глубоко пережил эту трагедию, тот не может уже отстаивать старую
интеллигентскую идеологию, старую, деморализующую тактику. Я глубоко пережил тот
перелом, который условно называю духовным кризисом интеллигенции. И если, с одной стороны,
пережитое и испытанное порождает субъективную страстность тона, которая может внушить
подозрение в недостатке объективного беспристрастия, то, с другой стороны, в этой печати
жизни я вижу главное оправдание для появления моего сборника. Оставляю нетронутым то,
что непосредственно вылилось как реакция на жизнь.
Сборник "Вехи" объединил людей разных положительных идей и верований, но в чем-то
важном все-таки объединил. Кажется, я могу формулировать то положительное, к чему
призывают все участники "Вех" взамен традиционных идеалов интеллигенции. Все мы хотим
положить в основу общественного миросозерцания идею личности и идею нации взамен идеи
интеллигенции и классов (и «народа» в классовом смысле), которым всегда вдохновлялась
традиционно настроенная русская интеллигенция. Личное самочувствие и национальное
самочувствие должны взять верх над самочувствием интеллигентским и классовым. Для
возрождения России существенно важно, чтобы каждый сознал себя человеческой личностью в
абсолютном ее значении и членом нации в абсолютном ее предназначении, а не интеллигентом или
представителем того или иного класса. Эта перемена в самочувствии и в сознательных идеях
предполагает совсем иную философию, чем та, что до сих пор господствовала в
интеллигентской среде. Господствующие у нас идеи "интеллигенции" и "класса" (также и «народа»)
опираются на феноменализм и эмпиризм; идеи личности и нации философски предполагают
признание их субстанциональности. Личность - субстанция и нация - субстанция.
Субстанциональность их дана не в философском только умствовании, но и в живом опыте. Мы должны
пережить несостоятельность феноменалистического иллюзионизма и опытно постигнуть
субстанциональность нашей личности и нашей нации. Реализм должен победить номинализм как в
жизни, так и в мышлении. Классы, в том числе и класс "интеллигенции", имеют значение фе-
номеналистическое, эмпирически выводное и подчиненное, в то время как личность и нация
имеют значение субстанциональное и реальное и потому им принадлежит центральное место* в
нашем миросозерцании. И личность, и нация - живые организмы, корни которых заложены
бездонно глубоко, они неистребимы, классы - преходящие образования. Поэтому духовная
реформа, за которую ратуют сборник "Вехи" и мой сборник, переносит центр тяжести жизни, с
одной стороны, вглубь переживаний личности, в повышение ее творческой энергии, в ее
религиозный опыт, ее моральную, эстетическую и философскую культуру, с другой стороны, вширь
национальной, всенародной жизни с ее историческими перспективами и связью этих
перспектив с историческим прошлым.
Новая интеллигенция с этой точки зрения не может быть социальной группой,
принадлежность к ней не может определяться особенным общественным направлением и особой
моральной настроенностью. Новая интеллигенция может состоять лишь из подбора личностей
более высших качеств: принадлежать к интеллигенции должны лишь те, кто обладает
высокими качествами умственными, нравственными или эстетическими, особенно знаниями,
энергией или творчеством, талантом, гением или пророческим даром. Могут быть избранные
личности, но не может быть избранных классов, избранных социальных групп. Возможно ли
сказать, что у нас принадлежность к интеллигенции определяется гением, способностями,
знанием, энергией, вообще подбором качеств личности? Интеллигенты далеко не всегда бывают у
нас интеллигентны. Психологический тип интеллигенции покоится на социально-групповых
особенностях, а не на духовной мощи. Тогда лишь изменится отщепенский характер
"интеллигенции", сотрется стародавняя ее противоположность "народу", когда интеллигенция станет
духовным цветом народа, избранными его личностями, а не кружковщиной, претендующей
спасать отечество независимо от своих качеств. Широкие слои нашей исторической
"интеллигенции", должны слиться с "народом", с "обывателями", войти в гущу национальной жизни
и расти из недр народной жизни личными своими качествами, или поднимать обывательскую
жизнь вверх. Старая интеллигенция должна уступить место личности и ее творческому
почину. "Интеллигент" в старом, социально-групповом смысле этого слова, с традиционным
душевным укладом и традиционными взглядами в среднем ничем не выше купца, помещика,
чиновника и иного обывателя. Лучше быть хорошим купцом, чем плохим интеллигентом. И пора
перестать себя кичливо выделять из всенародной, национальной жизни, пора перестать и
поклоняться "народу" как идолу и противопоставлять себя "народу", как избранную группу. Сам
же "народ", конструированный интеллигентским отщепенством, должен уступить место нации -
народу в религиозно-реальном смысле этого слова.
Хотелось бы еще подчеркнуть, что реформаторская работа "Вех" стремится к созданию
такой духовной атмосферы, в которой навеки станет невозможной "азефовщина"» (Бердяев Н. А.
Духовный кризис интеллигенции. Статьи по общественной и религиозной психологии (1907-
190£ гг.). СПб., 1910. С. 1-4).
26*. Точнее: «...Нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу»
{Тургенев И. С. Сочинения. М., 1968. Т. 5. С. 510).
550
27*. См. примеч. 14* к статье «Апокалиптика и социализм».
С. 343.
28*. Персонаж древнегреческой мифологии - сторукий великан огромной силы, сын Геи-
земли и Урана-неба.
29*. В журнальном варианте статьи к этому месту было дано примечание: «С наибольшей
прямотой эта точка зрения недавно была выражена г. Яковенко в статье «О задачах философии
в России» (Русские ведомости, 30 апр. 1910 г.)».
Эта статья явилась своего рода провозвестником того направления философии, которого
придерживалась группа русских неокантианцев, выпускающих журнал «Логос» (см. выше
примеч. 8*), хотя далеко не все из них мыслили и выражались столь категорично. Основной
смысл статьи сводился к следующему:
«Говорят о национальном лице русской философии, - писал Б. Яковенко. - Это в двух
отношениях противоречит истине. Первым делом, философия как таковая не может иметь
национального лица. Если бы философия могла быть приурочиваема к национальности, она была
бы лишена рациональной возможности претендовать на какое-либо постоянство. Ибо наций
много, и каждая из них живет различными настроениями в различные эпохи. В этом смысле
философией пришлось бы одинаково признавать и английский эмпиризм, и немецкий
идеализм, и нарождающийся у нас в России мистицизм, и т. п. А это противоречило бы более всего
претензиям этого последнего, который согласно своим стремлениям собирается просветить мир
открытием абсолютной истины. Абсолютная истина находится вне связи с нацией, вне связи с
национальной жизнью. И если философия должна быть вещательницей абсолютной истины, то
она никак не может быть национальна, а лишь интернациональна, т. к. она должна быть
философией каждого, кто философствует. И в этом смысл, если нам, русским, и выпало бы на
долю счастье первыми сознать философию абсолютной истины, то от этого последняя ни на
ноту не сделалась бы нашей русской и не встала бы ни в какие отношения к нашему
национальному лицу.
Однако та абсолютная истина, о произнесении которой вещает наше националистически-
религиозное течение, потому ц не является интернациональным предметом философии, что она
в данном случае покрыта национальной одеждой. Будучи продуктом национальных стремлений
и переживаний, она диаметрально противоположна философии-«науке», ибо знаменует собою
философию-«вещание», религиозно-мистическое миросозерцание. И как таковая она
представляет одно из возможных мировоззрений, а в настоящий момент живет бок о бок с другими
национальными мировоззрениями, нисколько не превышая их в истинности.
Национальная философия есть уклонение от философии, есть уклонение от исторического
пути философского развития и от научных задач философской мысли. Философия, сознающая
свои задачи, может видеть в ней только врага, только пережиток старых религиозных
мотивов, уже побежденных ею и изгнанных из ее области окончательно. Философия всей силой
своего развития стремится достичь и достигла самостоятельного положения науки. И говорить
теперь о национальной принадлежности философии становится так же трудно, как говорить о
национальной принадлежности любой другой науки. Что бы сказал ученый-математик, если бы
ему сообщили, что тригонометрия имеет национальное лицо французов, а учение о комплексах
является национальным немецким учением? Философия достаточно созрела, чтобы и по
отношению к ней подобный способ выражения был более чем несоответствующим. Как нет и не было
никогда национальной математики, так нет и не было никогда национальной философии...
Но не только поэтому следует с отрицанием отнестись к нашему' русскому религиозно-
философскому пробуждению "национальной философии". Помимо того что это пробуждение
вредно философии, противоречит ее существенным потребностям, оно лишено у нас, русских,
истинно национальных основ, поскольку оно претендует на философское значение. У нас нет
и никогда не было в сфере философии в прямом смысле слова национальной, русской
традиции. Я не знаю, зачем поборники этой последней ссылаются на имена Вл. Соловьева,
Чичерина, Лосского. Как будто первый и второй из них выросли не на почве немецкого идеализма!
Как будто бы Лосский не является гораздо более их еще питомцем некоторых современных
течений в Германии! Как будто бы то, что у нас есть философского, не пришло к нам с Запада!
И как будто бы, уж если говорить о философской традиции в России в настоящий момент, не
правильнее будет называть ее не российской традицией, а немецкой!
Особенно уверен в самостоятельности русской традиции г. Бердяев1...
Теоретически философия не может стать национальной русской, так как ее задачи научны,
лежат вне национальности; практически философия не может стать национальной русской, так
как она живет в России на счет Запада; чтобы стать истинно национальной, ей надо
удовольствоваться только религиозным мотивом, т. е. перестать быть философией совсем...
1 См. его статью о Лосском в Вопросах философии и психологии, кн. 93-я, и его же статью
в сборнике «Вехи» (Примеч. Б. В. Яковенко).
551
Да! Философия должна быть и только и может быть интернациональна. И в том, чтобы
культивировать такую философию, заключается наша философская задача в России. Не по-
зитивистическое течение, не религиозно-метафизический мотив должны мы развивать; как
философы мы должны вычеркнуть мировоззрение из числа основных философских вопросов,
предоставляя его нациям, эпохам, индивидуальностям. Как философы мы должны "делать"
науку. Труд великий, гораздо более тяжелый, чем в других науках! Труд, к которому еще
только приступлено в Европе, но которому не видать ни конца, ни края» (Русские ведомости.
30 апреля 1910 г.).
Мысль о подражательном характере русской философии не покидала Б. В. Яковенко до
конца его дней. Будучи уже в эмиграции, он выпустил в 1922 г. книгу «Очерки русской
философии», в которой, между прочим, писал: «Все, что Россия имела и дала философского, все это
родилось либо из прямого подражания, либо из бессознательного подчинения себя чужим
влияниям, либо из эклектического стремления слепить воедино несколько чужих мыслей»
(Указ. соч. С. 5; цит. по: О России и русской философской культуре. Философы русского
послеоктябрьского зарубежья. М., 1990. С. 386).
С. 344.
30*. Имеется в виду законопроект, оглашенный в Гос. думе 17 марта 1910 г. о порядке
издания касающихся Финляндии законов общеимперского значения. Все левые фракции и
кадеты требовали предоставить Финляндии фактически «государственную автономию»
(Финляндский сейм должен был утверждать законы, касающиеся Финляндии). Против этого
неоднократно в Гос. думе и Гос. совете выступал П. А. Столыпин, т.к. считал, что «этим будет
нанесен... большой ущерб России, в державном обладании которой находится Финляндия»
(Столыпин П. А. Нам нужна Великая Россия... Поли. собр. речей в Гос. думе и Гос. совете. 1906-
1911 гг. М., 1991. С. 313); см. также его речи о Финляндии на с. 130-150, 288-305, 305-314).
О «новейшей польской политике» красноречиво говорит эпизод с епископом бароном Ро-
опом, который за агитацию Польской автономии был Высочайшим указом от 4 сентября
уволен от должности (см.: Столыпин П. А. Указ. соч. С. 279-20).
Справедливости ради следует сказать, что при чтении речей П. А. Столыпина не создается -
вопреки утверждению Булгакова - впечатление, будто «мы опять вступили на путь
реакционного национализма». Вместе с тем надо заметить, что С. Н. Булгаков ни в коем случае не был
и политическим противником П. А. Столыпина; он, как и П. Б. Струве, довольно сочувственно
отнесся к его идее «Великой России» (см. его статью «Две Цусимы» // Слово. 19 марта 1909), и
здесь же в статье, говоря о том, что «русская народность, конечно, останется и должна
остаться державной в русском государстве», он фактически повторил мысль, которую неоднократно,
в той или иной форме высказывал и Столыпин. Если вообще слова С. Н. Булгакова о «пути
реакционного национализма» не являются данью его прежним «левым» убеждениям, то их
следует расценивать как проявление его «тактических» разногласий с правительственным
подходом к решению национального вопроса.
31*. Статья С. Н. Булгакова подверглась острой критике в реферате Е. Н. Трубецкого
«Старый и новый религиозный мессианизм» (Русская мысль. 1912. № 3. Перепечатка:
Трубецкой Е. Н. Избранное. М., 1995.
ЦЕРКОВЬ И КУЛЬТУРА
С. 345.
1*. Имеется в виду «Пространный катехизис», составленный митрополитом Московским
Филаретом (Дроздовым), в котором излагается вероучение православия. В дореволюционной
России филаретовский «Катехизис» был обязательным предметом изучения в школах на
уроках Закона Божия. Последний раз «Катехизис» Филарета опубликован в «Православном
церковном календаре на 1991 г.» (М., 1990).
2*. Политика К. П. Победоносцева, обер-прокурора Св. Синода в 1880-1905 гг. была
направлена на искоренение светских школ и подчинение всего народного образования церкви.
«Какая основная черта Победоносцева, - писал Н. А. Бердяев в статье «Нигилизм на
религиозной почве», - его "умопостигаемый характер?" Неверие в силу добра, неверие чудовищное,
разделяемое русской официальной церковью и русским государством. Сила Победоносцева,
непостижимая власть этого человека над русской жизнью в том и коренилась, что он был
отражением исторического русского неверия, исторического русского нигилизма сверху»
(Бердяев Н. А. Духовный кризис интеллигенции. Статьи пр общественной и религиозной
психологии (1907-1909 гг.). СПб., 1910. С. 201-202).
552
3*. Цитата из притчи о блудном сыне: «Младший сын, собрав все, пошел в дальнюю
сторону и там расточил имение свое, живя распутно» (Лк. 15, 13).
С. 346.
4*. Лк. 15, 18.
5*. Имеется в виду книга Э. Ренана «Жизнь Иисуса» (1863), написанная в форме
исторического романа. Ренан отрицал божественность Иисуса Христа, изображая его галилейским
проповедником.
б*. Воля к власти (нем.) - название посмертной книги Ф. Ницще, сфабрикованной его
сестрой Э. Ферстер-Ницше из разрозненных заметок, оставшихся после смерти философа.
Подробнее см.: Свасьян К. А. Фридрих Ницше: Мученик познания // Ницше Ф. Сочинения.
М., 1990. Т. 1. С. 39-42).
С. 347.
7*. Ср. с мнением Л. Н. Толстого: «Я не знаю более хватающего за сердце крика отчаяния
сознающего свое одиночество, заблудившегося человека, как выражение этой мысли в
прелестнейшем рассказе "Solitude" (Толстой Л. Н. Поли. собр. соч. Т. 30. С. 21).
8*. Здесь С. Н. Булгаков имеет в виду типы «мечтателя», «подпольного» и «гордого
человека», которые Ф. М. Достоевский разрабатывал на протяжении всего своего творчества.
Для этого типа характерны внутренняя раздвоенность («разорванность») сознания, крайний
эгоцентризм и повышенный уровень самосознания." Таковы герои повести «Двойник» Голядкин,
«подпольный парадоксалист», Раскольников, Версилов - вплоть до «гордого человека» Алеко
из поэмы «Цыганы» А. С. Пушкина в трактовке, данной ему Ф. М. Достоевским. Подробнее
см.: Одинокое В. Г. Типология образов в художественной системе Ф. М. Достоевского.
Новосибирск, 1981. С. 41-140.
9*. «Из всех загадок человеческого бытия, - говорит герой рассказа Мопассана, - я
разгадал одну: больше всего страдаем мы в жизни от вечного одиночества, и все наши поступки, все
старания направлены на то, чтобы бежать от него... Мучительная потребность полного слияния
томит нас, но все усилия наши бесполезны, порывы напрасны, признания бесплодны...
Стремясь слиться воедино, мы устремляемся друг к другу и лишь ушибаемся друг о друга»
(Мопассан Ги де. Жизнь. Милый друг. Новеллы. М., 1970. С. 710-712; пер. Н. Касаткиной).
10*. «Не в коммунизме, не в механических формах заключается социализм народа
русского, - писал Ф. М. Достоевский, - он верит, что спасется лишь в конце концов всесветным
единением во имя Христово. Вот наш русский социализм!» {Достоевский Ф. М. Поли. собр.
соч. Л., 1984. Т. XXVII. С. 19). В журнальном варианте статьи после слов «Православную
Церковь» в скобках было: «конечно в идеале, а не в победоносцевском извращении».
11*. См. примеч. 4* к статье «От атора».
12*. В журнальном варианте статьи далее следовало: «Внутренняя необходимость и смысл
этого диалектического процесса была достаточно обнаружена в учении Владимира Соловьева».
И - ссылка: «См. мои статьи "Религия человекобожия у Л. Фейербаха" (Вопросы жизни,
октябрь-ноябрь-декабрь 1905 года)».
С. 348.
13*. В притче о блудном сыне рассказывается, что, когда младший брат вернулся в отчий
дом, старший брат «осердился и не хотел войти, Отец же его вышед звал его. Но он сказал в
ответ отцу: вот, я столько лет служу тебе и никогда не преступал приказания твоего; но ты
никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими: а когда этот сын
твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного
теленка» (Лк. 15, 28-30).
14*. В журнальном варианте статьи далее следовало: «сведение церковной жизни только к
общей молитве и к забвению великого принципа, что "Laborare est огаге"».
15*. В журнальном варианте статьи далее следовало: «Достаточно напомнить наболевшую у
всех, глубоко прискорбную роль официальных представителей русской церкви относительно
самодержавия, от которого пропитались они его полицейским духом, усвоив вместо
христианского - победоносцевско-катковское мировоззрение, исповедуемое не токмо за страх, но и за
совесть. И когда блеснули первые лучи русского освобождения, ему радовался русский гений,
русский народ, но на нем не почило благословения этих официальных представителей церкви
(ибо таким мы не можем считать официального служения молебнов по приказу начальства). И
не только по отношению к освободительному движению, но и к науке и к искусству, ко всей
области человеческого творчества у многих представителей теперешней церкви установилось
принципиальное недоверие, смешанное с недоброжелательством».
553
С. 349.
16*. В журнальном варианте статьи далее следовало: «И чем шире будет внешнее поле
жизни и деятельности церкви, тем прочнее и многообразнее будет церковное общение, и в этом
общении, в общем творчестве и в общей любви соборному разуму церкви откроется, может
быть, то, что еще имеет открыться в конце времен, и тесно сплотившаяся община окажется
готова встретить последнего врага и последнюю битву».
17*. К последнему пределу (лат.).
18*. О последних годах В. С. Соловьева см. примеч. 56* к статье «Апокалиптика и
социализм».
19*. В журнальном варианте статьи далее следовало: «Об этом красноречиво говорил еще
Соловьев в предисловии к своей "Критике отвлеченных начал": «Великая истина и
превозмогает! Всеединая мудрость божественная может сказать всем ложным началам, которые суть все
ее порождения, но в раздоре своем стали врагами ее, - она может сказать им с уверенностью:
'идите прямо путями вашими, доколе не увидите пропасть перед собою; тогда отречетесь от
раздора своего и все вернетесь обогащенные опытом и сознанием в общее вам отечество, где
для каждого из вас есть престол и венец, и места довольно для всех, ибо в дому Отца Моего
обителей много"» (В. С. Соловьев. «Критика отвлеченных начал», предисловие. Собр. соч., т. П.
с. VI)».
20*. См. примеч. 57* к статье «Религия человекобожия у Л. Фейербаха».
21*. Соловьев В. С. Сочинения. М., 1988. Т. 2. С. 404.
С. 350.
22*. В журнальном варианте статьи к этому месту была сделана сноска: «Вл. Соловьев
говорил по поводу неверующих прогрессистов нового времени, которые действовали, по его
мнению, в Духе Христовом, следующее: "Те, которые ужаснутся мысли, что Дух Христов
действует чрез неверующих в Него, будут неправы даже с догматической точки зрения.
Когда неверующий священник правильно совершит обедню, то Дух Христов присутствует в
таинстве ради людей, в нем нуждающихся, несмотря на неверие и недостоинство
совершителя. Если Дух Христов может действовать чрез неверующего священнослужителя в
церковном таинстве, почему же он не может действовать в истории через неверующего деятеля,
особенно когда верующие изгоняют его? Дух дышит, где хочет. Пусть даже враги служат
Ему. Христос, нам заповедавший любить врагов, конечно, Сам не только может любить их,
но и умеет пользоваться ими для своего дела. А номинальным христианам, гордящимся
своей бесовской верой, следовало бы вспомнить еще кой-что из Евангелия - историю двух
апостолов: Иуды Искариота и Фомы" (Собр. соч. Т. VI, 357-358).
23*. Лк. 15, 32.
24*. Откр. 3, 20.
25*. Откр. 22, 20
Монахиня Елена
ПРОФЕССОР ПРОТОИЕРЕЙ СЕРГЕЙ БУЛГАКОВ
Печатается по тексту:
Богословские труды. М., 1986. Т. 27. С. 101-178.
С. 353.
1*. Город Ливны (в настоящее время насчитывающий более 40 тыс. жителей) известен с
конца XII в., во время татаро-монгольского нашествия был разрушен, но в XVI в. возрожден
как крепость, был одним из центров восстания под руководством И. Болотникова. В 1918 г.
был почти полностью разрушен частями Красной армии. По этому поводу В. И. Ленин
направил в Ливны телеграмму следующего содержания:
«Ливны. Исполкому.
Копия: военкому Семашке и организации коммунистов.
Приветствую энергичное подавление кулаков и белогвардейцев в уезде. Необходимо ковать
железо, пока горячо, и, не упуская ни минуты, организовать бедноту в уезде, конфисковать
весь хлеб и все имущество у восставших кулаков, повесить зачинщиков из кулаков, мобилизо-
554
вать и вооружить бедноту при надежных вождях из нашего отряда, арестовать заложников из
богачей и держать их, пока не будут собраны и ссыпаны в их волости все излишки хлеба.
Телеграфируйте исполнение...
Предсовнаркома Ленин»
(Цит. по: Рыжкин Г. Кровавый август // Центральная Россия. 1991. №11: 19-26 дек.
С. 7).
Зная Ливны лишь как родину С. Н. Булгакова, трудно отделаться от мысли, что
большевистское истребление этого города было отнюдь не случайно.
О современном состоянии «булгаковских» мест в Ливнах хорошее представление дает
заметка J5. Любимова «По улице Ленина - к площади Сергия Булгакова» :
«29 июня 1996 года в городе Ливны состоялись торжества, посвященные 125-летию со дня
рождения отца Сергия Булгакова.
"Моя родина, носящая священное для меня имя Ливны, небольшой город Орловской
губернии, - кажется, я умер бы от изнеможения блаженства, если бы сейчас увидел его", - эти
слова отца Сергия не раз звучали в юбилейный день.
Утром в единственном (из 14!) уцелевшем ливенском храме, но зато том самом - "родина
моей родины, ее святыня была Сергиевская церковь", - состоялась панихида, которую
возглавил архиепископ Орловский и Ливенский Паисий с сонмом орловских священников и
диаконов. На панихиде помимо большого числа верующих, присутствовали местные власти во главе
с руководителем администрации г. Ливны Юрием Коростелкиным и гости из Парижа и
Москвы: Н. Струве, директор издательства "Русский путь", В. Москвин, редактор журнала "Путь
православия", В. Никитин, директор издательства "Крутицкое подворье", М. Соловьев и автор
этих строк.
Среди многих сильных впечатлений этого дня (одно из них - "Вечная память",
провозглашенная протодьяконом и пропетая хором и прихожанами) - дощечка "Площадь Сергия
Булгакова" на церковной стене; впечатление тем более сильное и символическое, что шли мы
к этой площади по улице Ленина, современника и оппонента отца Сергия (бывшей "Соборной",
что тоже символично), перекрещивающейся с другими улицами, посвященными по-своему не
менее известным именам - Дзержинского и Свердлова...
Затем крестный ход направился из собора на улицу Пушкина, где находится бывшее
духовное училище, в котором учился Булгаков (ныне там расположен лицей). Здесь состоялось
открытие мемориальной доски, носящей имя С. Булгакова. После речей архиепископа Паисия,
Ю. Коростелкина, Н. Струве, учительницы и ученицы лицея заместитель главы
администрации г. Ливны А. Максимов, немало сделавший для того, чтобы этот юбилей мог состояться,
сообщил жителям о переименовании Пролетарской улицы в площадь Сергия Булгакова и об
учреждении пяти Булгаковских премий для лучших ливенских выпускников-гуманитариев;
получение такой премии дает право на зачисление в Орловский пединститут без экзаменов.
А в краеведческом музее г. Ливны открылась юбилейная выставка. Бюст отца Сергия, его
автограф, подаренный Сергиевским богословским институтом, его прижизненные издания,
более года назад переданные музею Никитой Струве, фотография отца Сергия, его соратников и
учеников... «Какие прекрасные лица», - написал Георгии Иванов не о них, а все же именно
эти строчки вспоминались при виде фотографий о. Александра Ельчанинова и о. Александра
Шмемана, отнюдь не «безнадежно» смотрящих со стен краеведческого музея г. Ливны.
И уж совсем обнадеживающе выглядит книга «С. Н. Булгаков. Моя родина», выпущенная
в Орле, включившая в себя часть автобиографических заметок Булгакова, его статьи о
Достоевском, Пушкине и Чехове, сопровожденная хорошо подобранными составителем А.
Олейниковой фотографиями отца Сергия, его родных и близких.
Праздничный концерт был длинным и разнообразным - что неизбежно в городе и стране,
живущей на перекрестке дорог Ленина и Свердлова, Пушкина и Булгакова. Счастье, что есть
выбор».
(Русская мысль. 1996. № 4135. 18-24 июля. С. 16).
С. 378.
2*. Отъезд С. Н. Булгакова носил отчасти и вынужденный характер. «Однажды поздно
вечером, - пишет он в «Автобиографических заметках», - я получил от кн. Евг. Н. Трубецкого
дружеское извещение по телефону, в котором он меня на латинском (!) языке предупредил, что
я этой ночью буду арестован» (Булгаков С. Н. Тихие думы. М., 1996. С. 347). О причинах,
препятствовавших его возвращению в Москву, рассказывается в письме, которое С. Н.
Булгаков 10/23 августа 1918 г. из Киева направил М. М. Замятниной (домоправительнице семьи В.
И. Иванова): «Дорогая Мария Михайловна! Так как д<окто>р М. О. Г<ершензо>н вкупе с
Вяч<еславом> Ив<ановичем> и другими медицинскими авторитетами находят невозможным
для моего здоровья приезд сюда, то пока прошу Вас зайти на мою квартиру и справиться, все
ли там благополучно, а также, что можно, сделать для сохранения вещей. Там должна
находиться Аннушка и мой брат, если только он не уехал. Будьте добры оставить для него прила-
555
гаемую записку и попросить ответа с этим же посланцем. Мне оч<ень> трудно подчиняться
мнению новоявленных д<окто>ров, и я еще надеюсь чрез нек<ото>рое время явиться к Вам.
Сердечный привет Вяч<еславу> Ив<ановичу> и Вере К<онстантиновне>, о всех вас имел
весть от Тат<ьяны> Ф<едоровны> <Шлецер? - вдова А. Н. Скрябина>. Очень мне хочется
знать что-н<ибудь> об отце Павле и его семье. Тревожусь о них бесконечно. Передайте при
случае им мою сердечную память.
Летний отпуск я провел очень хорошо, но с августа все еду. Прошу Вас также при случае
через посредство "Пути" доставить эту записку кн. Евг<еник» Н<иколаевичу> Трубецкому, а
также записку Марии Ивановне Хорошко (Остоженка, 8). Туда может ее отнести Аннушка, и
достаточно ее занести на мою квартиру. Простите за беспокойство, но я не знаю другого
способа, п<отому> ч<то> не уверен, что брат мой на квартире. Жму руку. Ваш св. С. Б.» (ОР РГБ,
ф. 109, к. 14, ед. хр. 6, л. 1).
С. 379.
3*. Сборник «Из глубины», как известно, не был издан в 1918 г. (см.: Вехи. Из глубины.
М., 1991. С. 553-556). Однако Булгакову удалось издать свои «диалоги» дважды: в 1918 г., в
Киеве, и в 1920 г. - в Софии (Там же. С. 560-561). Книга «Трагедия философии» впервые
полностью на русском языке издана в России в 1993 г. ( Булгаков С. Н. Сочинения. М., 1993. Т. 1.
С. 309-518). Основной корпус книги «Философия имени» (без авторских примечаний и
комментариев) перепечатан весьма небрежно, хотя и на том спасибо! - в рижском журнале
«Родина» (1993. № 1-3). Диалоги «У стен Херсониса» впервые опубликованы (по «самиздатской»
копии) в парижском журнале «Символ», 1991, № 25. С. 169-342. (Общее число диалогов -
шесть. Первый носит название «Чаадаевское», пятый и шестой - соответственно - «Позитивы
и негативы» и «Третий Рим»). Помимо этих диалогов известны по названиям ненапечатанный
диалог «Трое» (где дано изображение царства духа и любви и который является как бы
продолжением и заключением диалога «На пиру богов», (см.: Новгородцев П. И. Об
общественном идеале. М., 1991. С. 60), и диалог «Ночью», написанный в 1919 г., где излагается
мистическая концепция «Белого Царя», свойственная, по мысли С. Н. Булгакова, русскому
православию {Булгаков С, прот. Апокалипсис Иоанна. Опыт догматического истолкования. М.,
1991. С. 189; упомянут также в «Автобиографических заметках» - См.: Булгаков С. Н. Тихие
думы. М., 1996. С. 322.) Входят ли эти диалоги в состав диалогов "У стен Херсониса" или
являются вполне самостоятельными - непонятно.
4*. Точнее было бы сказать ( a la M. Осоргин) «отца Сергия выслали из СССР» (на ту пору,
впрочем, еще РСФСР). В октябре 1922 г. С. Н. Булгаков был арестован большевиками и
доставлен из Ялты в Симферополь, где ему сообщили о принятом решении выслать его за
границу. Эта акция входила в общую программу «очистки земли российской от всяких вредных
насекомых» (по выражению Ленина), в число каковых попали (помимо Булгакова) Н. А.
Бердяев, С. Л. Франк, Н. О. Лосский, Ф. А. Степул, Б. П. Вышеславцев, И. И. Лапшин, П. А.
Сорокин, Л. П. Карсавин, А. Изгоев и др. (общим числом до 300) - крупнейшие мыслители и
ученые России. На сегодняшний день существует уже довольно солидная литература о депортации
1922 г., из которой укажем лишь немного: Геллер М. «Первое предостережение» - удар
хлыстом (К истории высылки из Советского Союза деятелей культуры в 1922 г. // Вестник РХД.
1978. № 127; Салов В. В. Высылка 1922 г.: попытка осмысления // Социс. 1990. № 3.
Вместе с С. Н. Булгаковым уезжали: его жена Елена Ивановна (1868-1945), писательница,
младший сын Сергей, дочь Мария Сергеевна (1898-1979), в эмиграции вышедшая замуж за
Константина Болеславича Родзевича (1895-1988), героя «Поэмы Горы» и «Поэмы Конца» М. И.
Цветаевой (1924), участника гражданской войны в Испании и Французского Сопротивления.
Старший сын Булгаковых, Федор Сергеевич (р. 1902г.) навсегда остался в России, жил и
воспитывался в семье художника М. В. Нестерова (на дочери которого позднее женился) и сам
стал художником. О процедуре высылки см.: Булгаков С. Н. Тихие думы. М., 1996. С. 351 —
389.
С. 382.
5*. Всегда вечно (греч.).
С. 383.
6*. Любовь к судьбе, року (лат.)
С. 393.
7*. Репринтное переиздание: Рига, 1991.
8*. Репринтное переиздание: Москва: Православное Братство Трезвости "Отрада и
Утешение", 1991.
556
С. 400.
9*. На самом деле все обстоит не так идиллично, как изображает монахиня Елена.
Обвинение в ереси не снято с о. С. Булгакова и по сей день. Подробности о богословском учении
Булгакова см. в «Воспоминаниях» Н. О. Лосского (Вопросы философии. 1991. № 12. С. 119—
124). См. также: Лосский Вл. Спор о Софии. Статьи разных лет. М., 1996; Архиепископ
Серафим (Соболев). Протоиерей С. Н. Булгаков как толкователь Священного Писания. София,
1936; его же. Новый ученик о Софии, Премудрости Божией. София, 1935.
Ниже приводится (без сокращений) Указ Московской Патриархии преосвященному
митрополиту Литовскому и Виленскому Елевферию:
«СЛУШАЛИ: предложение ЕГО" БЛАЖЕНСТВА следующего содержания: «Ко мне
поступали сведения, что профессор догматического Богословия в русском Богословском институте в
Париже, известный писатель,протоиерей С. Н. Булгаков в своих печатных сочинениях и в
лекциях развивает особое учение о Софии - Премудрости Божией. Одни увлекаются этим
учением и сами начинают понимать и истолковывать христианское учение по-"софийному";
других же оно смущает своей своеобразностью и часто очевидным несогласием с учением
церковным. Я просил Управляющего нашими заграничными церквами в Зап. Европе Преосвященного
Митрополита Литовского доставить мне сведения об учении Булгакова. По поручению
Владыки Митрополита подробный очерк учения Булгакова составил А. Ставровский. Имеется также
предварительный отзыв Зам. Начальника Братства св. Фотия Лосского с сообщением, что
Братство поставило себе задачей систематическое выяснение мнений Булгакова. Доставленный
материал дает возможность сделать нижеследующее заключение об учении Булгакова.
Прежде всего представляется нецелесообразным указывать отдельные пункты учения
Булгакова, где оно явно противоречит церковному учению, иногда повторяя ереси, уже
осужденные Церковью. Не в таких частных противоречиях характеристика Булгакова. Это лишь
подробности его системы, лишь прямые следствия основного начала, на котором построено все его
учение о Софии - Премудрости Божией. Самое это начало не церковно, и система, построенная
на нем, настолько самостоятельна, что может или заменить учение Церкви, или уступить ему,
но слиться с ним не может. Нужно сказать, что и сам Булгаков как будто не настаивает на
«церковности» своего учения. Наоборот, как истый интеллигент, он смотрит на церковное
предание несколько свысока, как на ступень, уже пройденную и оставшуюся позади. Омертвевшая
в Византии богословская мысль для Булгакова в последнее время забила снова живой струей
на инославном Западе, в частности в протестантском, так называемом кенотическом
богословии («кеносис» - истощение Божества). От этого возрождения богословской мысли Булгаков и
хочет исходить, чтобы сделать дальнейший (сравнительно с так называемой школьной
догматикой, а пожалуй, и с самим православием) шаг в развитии христианского учения. При всем
том и по своему сану (протоиерей), и по своей должности (профессор догматики в
Православном Богословском институте) Булгаков является в некотором роде официальным
представителем Православной Церкви, и последней отнюдь не безразлично, что проповедуется в качестве
Ее учения.
В общем система Булгакова напоминает собою полуязыческие и полухристианские учения
первых веков, гностиков и др. Тем более что учение о Премудрости, о Логосе или о посредстве
между Богом и тварным миром составляло основную проблему и гностиков.
Приходя к христианству с остатками языческой философии, гностики не могли не
столкнуться с церковным учением. Верная евангельскому слову: «Бога никто не видел никогда»
(Ин. 1, 18), Церковь не требовала: «Покажи нам Отца» (14, 18), чтобы познать Его нашим
земным познанием. Слава Божия в том, что он есть «Бог неизреченен, невидим, непостижим»
(евхаристическая молитва Литургии св. Иоанна Златоуста). Откровение о Небесном Отце
нельзя низводить на уровень обычной любознательности, тем паче бесцеремонно переправлять его,
мешая пшеницу с плевелами (Иер. 23, 28-29). Для верующего - это святыня, к которой
приблизиться можно только «иззув сапоги» (Исх. 3, 5), очистив себя не только от греха, но и от
всяких чувственных, вещественных образов («неприступный мрак в видении»). Гностики же
искали философского познания, а так как откровенное учение о Боге непостижимом не давало
конкретного материала для их философских построений, то недостающее гностики заполняли
воображением, придавая невидимому, безобразному бытию воображаемые чувственные образы.
Получалась иногда грандиознейшая по размаху поэма, поражающая глубиной и красотой. Но
это была не истина, а воображение, «прелесть», обман и самообман («прельщающе и прелыцае-
ми», 2 Тим. 3, 13). Особая опасность этой прелести была в том, что она прикрывалась
терминами и понятиями, заимствованными от Церкви. Нужна была осмотрительность, чтобы не
увлечься красивым миражем и от «здравого учения» не уклониться в «суесловие» (1 Тим. 1, 10;
6, 10). Осязательным обличением прелести было то, что привычка придавать духовному бытию
чувственный образ и духовные отношения представлять под видом чувственным заходила
иногда так далеко, что в собственном смысле плотские движения принимались за духовные и
даже за внушенные Богом. Конечно, далеко не все доходили до этого; но уже самая возможность
таких плодов говорит о том, каково было дерево.
557
Система Булгакова создана тоже не только философской мыслью, но и творческим
воображением. Это тоже есть поэма, увлекающая и высотой, и своим внешним видом: она
оперирует терминами и понятиями, обычными в православной догматике, в Св. Писании и под. Но вот
вопрос: церковное ли содержание влагает Булгаков в эту новую форму? Может ли наша
Православная Христова Церковь признать учение Булгакова своим учением? Для решения этого
вопроса не нужно излагать и разбирать всю систему Булгакова. Чтобы не быть ею
загипнотизированными, подойдем к ней со стороны: возьмем несколько основных положений православной
догматики и посмотрим, во что они превращаются в толковании Булгакова.
1. Бог един по существу и троичен в Лицах. Как единый чистый, абсолютно несложный и
неделимый Дух может иметь три Лица, т. е. три сознания или три «я», не сводимые одно на
другое, - для нас пребудет тайной. Точно так же и положение: «Единое начало Божества в
Троице - Отец рождает Сына и изводит Святого Духа», скорее едва уловимый намек на новые
тайны внутри Божества, чем попытка их раскрыть.
По учению Булгакова, во Св. Троице кроме трех ипостасей нужно различать Софию -
Премудрость Божию. София есть от века присущая Богу мысль Божия о тв ар ном мире,
идеальный образ мира. А так как мысль Божия не может оставаться только мыслью без
осуществления, только призраком бытия, то и София есть духовная реальность, существо и притом
живое. София не только предмет любви Божией, но и отвечает Богу любовью, любит Бога. Как
живое существо, способное духовно любить, София должна бы иметь сознание, ипостась.
Булгаков сначала так и учил, всячески оговаривая, что это ипостась иного рода, отличная от Трех
Ипостасей Божества. Но и при всех оговорках это значило уже явно отрицать христианское
учение о Пресвятой Троице. Теперь Булгаков отождествляет Софию с не-ипостасной «усиа», с
существом Божиим. Как не-ипостасная, София отвечает на любовь Божию лишь пассивно,
лишь отдающейся, или женственной любовью. Она есть «вечная женственность» в Боге;
«Небесная Афродита, как ее именовали Платон и Плотин». Имена Платона и Плотина довольно
ясно показывают подлинную природу системы Булгакова. По христианскому же воззрению,
любовь, хотя бы и женственная, пассивная, чтобы быть духовной, тем паче Божественной,
должна быть сознательной, т. е. принадлежать Ипостаси, а не безипостасному существу в
природе. Иначе это будет уже инстинкт, неуправляемое разумом «бессловесное» движение,
совершенно немыслимое в Абсолютном Духе. Даже Еве такая бессознательная, естественная любовь,
«влечение к мужу» (Быт. 3, 16), послана была лишь после грехопадения.
Говоря об отношении Трех Ипостасей к Софии («усиа»), Булгаков считает Софию присущей
всем трем Ипостасям, однако различает самооткровение Второй Ипостаси, когда София
является Логосом, или Премудростью в собственном смысле, и самооткровение Третьей Ипостаси,
когда София является Славой Божией, радостью Божией о Себе Самом. Далее, обосновывая
свою антропоцентрическую точку зрения, на которой он строит всю свою систему (как бы
забывая, что история человечества не исчерпывает даже жизни всего тварного мира, например
ангелов, тем более жизни Божества), Булгаков утверждает, что «исходная аксиома
откровения» - «сообразность между Божеством и человечеством». Отсюда София есть «предвечное
Человечество в Боге как Божественный первообраз и основание бытия человека». Различие Сына
и Духа Святого в отношениях к Софии как Человечеству в Боге Булгаков опять-таки хочет
понять как различие двух духовных начал в Боге по аналогии двух начал в человеке:
мужского и женского. «Как ипостась Логоса есть ипостась Христа, воплотившегося в младенце
мужского пола и ставшего в возраст "мужа совершенна", так и ипостась Духа полнее всего
раскрывается для нас в Богоматери и становится для нас действительностью в Церкви, которая и
есть Дух и Невеста».
Для православного сознания неожиданно это присвоение Софии как Славы Божией Духу
Св. (ведь и Сын Божий называется «сиянием славы» Отца), неожиданно и то, что Дух Святой,
Совершитель дела Христова, эта «сила самоповелительная», «самовластно исходящая» в мир
(служба Пятидесятницы), глаголавшая во пророцех, действующая в таинствах Церкви,
называется пассивным, или женственным, началом в Боге. Вообще, трудно сказать, какую
конкретную пользу в смысле уяснения для нас тайн жизни непостижимого Божества дает нам это
неизвестно откуда взятое различение в простом существе Божием двух начал: мужского и
женского. Рискованность же подобных рассуждений о Боге и их крайняя соблазнительность
подчеркивается тем, что образ Божий в человеке Булгаков хочет видеть именно в
двойственности полов. Отсюда не тек уже далеко и до обожествления половой жизни, как это было у
некоторых из гностиков, или у так называемых «духовных христиан», или у некоторых наших
светских писателей вроде В. В. Розанова. Мы отнюдь не хотим сказать, что Булгаков так учит.
Но всему свойственно развиваться: то, чего не договорил учитель, может договорить ученик,
может прийти к выводам, от которых с ужасом старался отклониться учитель. В этом и
состоит соблазн.
Едва ли нужно добавлять, что учение Булгакова о существе Божием ничего общего с
церковным преданием не имеет и Православной Христовой Церкви не принадлежит.
II. О вочеловечении Сына и Слова Божия. Мы веруем, что падение человека, исправить
которое пришел Сын Божий, отнюдь не входило в планы Создателя. Человек создан был,
558
правда, с теоретической возможностью падения, как свободный, но эта возможность более чем
уравновешивалась положительной возможностью устоять в первозданной безгрешности,
причем в последнем первозданных людей всегда ожидала поддержка особого о них промышления
Божия. Если бы человек устоял, вся история человечества сложилась бы совершенно иначе,
чем теперь. Подобно несогрешившим ангелам, человек нормально возрастал бы в подобии
Богу, беспреткновенно раскрывал бы все добрые начала, положенные в его природу, и неуклонно
изживал бы теоретическую возможность падения, пока она, как у ангелов, не превратилась бы
в невозможность. Будучи «здравым», человек «не требовал бы врача» (Мф. 9, 12), и потому
вочеловечение Сына Божия не имело бы места. Таков был изначальный план устроения
земного мира, предложенный Творцом свободе человека и ею не осуществленный. Конечно, как
всеведущий, Господь от века предвидел падение человека, предусмотрел и план спасения -
вочеловечение Сына Божия. Но предвидеть - не значит хотеть или преопределить. В этом смысле с
точки зрения намерений или желаний Божиих падение человека и вызванное им
вочеловечение Сына Божия можно назвать случайностью, внесенной в первоначальный план мироздания
свободной тварью.
Не возлагая на Творца ответственности за падение человека, Откровение и человека не
считает инициатором падения. «Диавол исперва согрешает» (1 Ин. 3, 8); человек же пал
«завистью диавола», павшего раньше и потом обольстившего людей. Это, с одной стороны,
напоминает нам, что наш земной мир с человеком во главе отнюдь не составляет всего мироздания;
что рядом с нашим миром есть еще мир других разумных существ, что, следовательно,
первоначально человек отнюдь не создан был занять такое исключительное, центральное положение
в творении и промышлении Божием, какое он занял лишь потом, с вочеловечением Сына
Божия. Отсюда особая теплота православного учения в раскрытии милосердия Божия, «не воз-
гнушавшагося последней моей нищеты» (Октоих), снизошедшего спасти одну из ста
подробностей Своего мироздания. С другой стороны, вмешательство диавола делает нашу язву не такой
неисцелимой, какова язва самого злоначальника. Вот почему, предоставляя уже
неисправимого злоначальника его свободе и его судьбе, Сын Божий пришел к человекам, чтобы в них
«разрушить дела диавола» (1 Ин. 3, 8), чтобы отвоевать у него по возможности всех людей,
уловленных в его сети. Эта война и будет продолжаться до тех пор, пока не исполнится число
«предустановленных» (учиненных) «для вечной жизни» (Деян. 13, 48), пока они все не
покорятся Сыну. «Тогда и Сам Сын покорится, предаст царство Богу и Отцу... и будет Бог все
(всяческая во всех) (1 Кор. 15, 24-28).
Нельзя, однако, забывать, что диавол уже не может обратиться, а равно и все ему всецело
предавшиеся. Значит, рядом с «градом Божиим» и «вне» его (Откр. 22, 15) на веки останется
область отвержения, «смерть вторая» (21, 8). Откровение не знает апокатастасиса всей твари, а
лишь обожание тех, кто будет со Христом. «Бог будет все» лишь в «сынах Царствия», все во
всех, чья воля сознательно и всецело отождествилась с волей Божией. Это и есть бытие в Боге,
христианский энтеизм.
По Булгакову, вочеловечение Сына Божия не только не случайность в плане мироздания,
но, наоборот, «ради воплощения Бог и сотворил мир». Влекомый «необходимостью любви», Бог
творит мир из ничего, т. е. из Своего же естества, так как другого материала не было. В акте
творения Бог «истощавается» (кеносис), исходит из свойственной ему вечности в чуждую,
неестественную для него область бывания, времени. Рядом с вечной Софией Божией является
София тварная, страдающая тварной ограниченностью, однако тоже Божественная. Та же
необходимость любви влечет Бога избавить тварную Софию от тварных несовершенств и возвратить
к полноте Божественной жизни. Это и совершается в Боговоплощении. Логос, Ипостась Софии
Божией, воспринимает в себя человека, ипостась Софии тварной, и, постепенно обожествляя
через это всю тварь, приводит к конечному «Бог все во всех». Заметим, что рассуждая о
способе соединения в лице Господа Иисуса Христа двух естеств, Булгаков сознательно повторяет
осужденную Церковью ересь, приписываемую Аполлинарию (правильно илг· неправильно
приписывают, спорить здесь не будем).
Возможность и даже необходимость вочеловечения Бога заложена в самой природе вещей,
поскольку существует сообразность между Божеством и человечеством. «Божественная София
как организм идей есть предвечное человечество в Боге». Выходит как будто бы, что
Божественный Логос не вполне осуществил бы Себя, если бы не вочеловечился на земле. Логос стал
плотию совсем не потому, что пал человек. Правда, в числе целей Боговоплощения Булгаков,
конечно, указывает и спасение падшего человека. Но эта какая-то побочная цель совершенно
тускнеет перед главной и бесконечно более грандиозной целью - возвратить всю тварную
Софию в Божество (что не загипнотизированный системой Булгакова может назвать только
исправлением ошибки, допущенной Творцом при миротворении).
Весьма неясно решается в системе Булгакова и вопрос о возможности падения человека.
Одно дело, если вместе с Церковью понимать уничижение Бога при творении (кеносис) в том
смысле, что Всемогущий нисходит до самоограничения, полагая рядом с Своею творческой
волей свободу самоопределения тварных духов. И совершенно другое дело, когда мир есть
София, хотя и тварная, но по-прежнему Божественная, когда человек «ипостасный центр» твар-
559
ной Софии, «даже сотворенный Бог». По Булгакову, «человеческий дух (душа) имеет не твар-
ное, но божественное происхождение», божественная природа этого духа «совечна Богу». Он
даже сам участвует в своем творении: библейское «сотворим» (в котором предание Церкви
видит указание на Троичность Лиц Божества) Булгаков обращает к творимому. Творец как бы
спрашивает у него, согласен ли он быть сотворенным, и дух своим ответным «да» сам
осуществляет намерение Творца. На почве церковного учения малопонятно, как дух сотворен, т. е.
начинающий свое бытие только с определенного момента может раньше своего появления
выбирать и волеизъявлять. Но Булгаков, очевидно, и здесь не считается с Церковью, осудившей
гипотезу о предсуществовании душ. Вообще в системе Булгакова человек не только «не умален
малым чим от ангел» (да и то, по Апостолу, здесь указание не на обыкновенного человека, а на
Богочеловека, Евр. 2, 8-9), но поставлен далеко выше всех их.
Еще менее понятно наличие в мире, т. е. в Софии тварной, диавола, духа высшего и более
могущественного, чем человек; хотя последний и «ипостась Софии тварной». Неясна и
конечная судьба диавола. Если он навеки остается диаволом, значит, конечный апофеоз всего (Бог
все во всем), если его понимать по системе Булгакова, не осуществится. Если же в этой
системе покаяние диавола признается возможным, значит, опять-таки Булгаков с учением Церкви,
на V Вселенском Соборе осудившей оригенизм, не считается.
III. Об искуплении. Сущность учения об искуплении кратко можно выразить так, что
Господь Иисус Христос принес Своими страданиями Богу Отцу некоторую ценность, которая с
избытком покрыла требования Правды Божией за грехопадение, принес «эквивалент» (слово
Булгакова) наказания за грех.
Но неужели допустима мысль, будто Правда Божия может помириться с грехом самим по
себе, т. е. со злом, лишь бы за него получено было нечто равное? Потом: если все дело в
эквиваленте, а он получен и даже с избытком, почему для нераскаянных грешников вечные
мучения остаются?
Значит, Правда Божия удовлетворяется лишь тогда, когда грешник кается, т. е. перестает
быть грешником . Отсюда искупительную силу Христовых страданий можно искать в том, что
Он ими изгнал грех из человеческого естества и сделал его не подлежащим гневу Божию. Но
если дело в обновлении человеческого естества, почему же потребовались для этого Христовы
страдания на кресте, хотя Всемогущий мог избрать и другой путь," менее позорный?
Откровенное учение объясняет это историческими или фактическими условиями, в каких
должно было совершиться искупление. Придя в мир, Искупитель нашел здесь «власть тьмы»,
царство, возглавляемое «князем мира сего» с его рабами - людьми. Искупление приняло
конкретную форму избавления людей «от работы вражия» (рабства врагу), причем враг, конечно,
сделает все, чтобы не допустить этого избавления. Творец мог бы уничтожить это царство
«духом уст Своих», но Он остается верен самоограничению, по которому Он благоволил как бы
связать Себя при создании свободных тварей. Он принял условия жизни мира такими, какими
они сложились чрез злоупотребление своей свободой диаволом и людьми. Именно чтобы не
быть выше наличных условий жизни, а подчиниться им, Он - Господь всего - принял и «зрак
раба» и в земной жизни называл Себя не иначе как «Сын Человеческий», представляя этим
диаволу свободу и возможности действий против Себя. Диавол же, ничего не успев при
искушении, «искал убить Его» через своих «детей» (Ин. 8, 40-41), пока не довел Его до позорной
крестной смерти, чтобы сделать Его проклятием в глазах людей и тем сохранить свою власть.
Страдания и смерть на кресте, таким образом, зависели от наличных условий жизни мира,
которым Господь ради спасения людей добровольно подчинился. Это и есть «Себя умалил» -
истощил (Флп. 2, 7), подлинный «кеносис» Сына Божия.
Если угодно, подвиг Искупителя начинается с самых первых мгновений Его земной жизни
и даже с самой вечности (почему Господь Иисус Христос и назван «агнцем, закланным от
сложения мира»). Но важнейшим совершительным актом этого подвига была, несомненно, смерть
на кресте; потому что только доведя взятое на Себя послушание раба до смерти, Человек Иисус
«исполнил всякую правду», положенную Творцом человеку после грехопадения. Как все люди
телесною смертью (т. е. разлучением души от тела) порывают с землею и нисходят в тление,
чтобы душою праведникам ожидать «нового неба и новой земли» (2 Петр. 3, 13) с их новыми
условиями жизни, так и Человек Иисус только телесною смертью освобождался от земного
мира с царством диавола и пр., чтобы как Начальник жизни, Которому «не бяше мощно дер-
жиму быти тлением» (Литургия Василия Великого), стать началом Воскресения для
обновленного человечества. Только как умерший, сойдя душою в ад, Иисус разорвал на Себе Самом узы
власти диавола и мог возвестить: «Изыдите вернии в Воскресение» (Октоих). Поэтому смерть
(или кровь Христова) и является по преимуществу тем выкупом, который дал нам свободу от
рабства диаволу; и как добровольная, она была со стороны Богочеловека искупительной
жертвой за спасение людей.
Кому была принесена эта жертва? Не диаволу (как высказывались некоторые в отеческой
Церкви), потому что не диавол установил закон, осудивший зло на «смерть вторую» и
утвердивший вечную жизнь за добром. Диавол только воспользовался этим законом, чтобы
властвовать над грешниками. Голгофская жертва принесена Законодателю Богу Отцу, пославшему в
560
мир Сына, или, точнее, вечной Божественной Правде, поскольку и Отец пожертвовал Своим
Сыном в удовлетворение этой Правды.
В подвиге Искупителя Господь действовал отнюдь не в качестве какого-нибудь духовного
возглавителя всей твари, ни даже в качестве возглавителя всего человечества (этому и не
соответствовал бы и «зрак раба») так, чтобы плоды Его подвига распространились как-нибудь
механически или хотя бы формально юридически на весь мир и всех людей. Он был лишь
«Новым или Вторым Адамом», родоначальником нового человечества. Он искупил, обожил
прежде всего Свое личное «восприятие», чтобы тем положить начало нового рода «Христовых»
(1 Кор. 15, 3). Поэтому и плодами Его дела могут воспользоваться лишь те, кто возродится
Духом в новое человечество и будет во всем един со Христом. Только таким «приступна
неприступная радость», потому что только с ним «Бог примирися» (Канон Богоявления).
Если Булгаков не считает падение единственной причиной вочеловечения Логоса, если эти
причины заложены, можно сказать, в самых «глубинах Божиих», то и искупление падшего
человека может быть лишь некоторым придатком к вочеловечению. «Надо, — говорит
Булгаков, - принять"кеносис" Боговоплощения во всей ужасной серьезности этого акта, как
метафизической Голгофы самораспятого Логоса при воплощении» (Он ведь и тогда должен был
понести тяготу мира, не только тварно-ограниченного, но и зараженного уже грехом),
переживания Его на исторической Голгофе были для Логоса и не новыми, и не самыми тяжелыми.
Неясная вообще в системе Булгакова личность злоначальника - диавола, неясной остается
и в искуплении. Борьба добра со злом, представляемая в Церкви как борьба Искупителя с
личностью диавола, Булгаковым переносится из объективной области во внутренний мир
Искупителя, становится борьбой Его с Самим Собою, борьбой, например, сострадающей любви,
призывающей на подвиг, и абсолютной святости, ужасающейся перед принятием на себя греха
и под. Конечно, все такие описания и внутренних переживаний Богочеловека, при всей их
психологической глубине и содержательности, не идут дальше догадок от малопонятного к
непостижимому, т. е. дают опять-таки воображение, а не откровенную истину.
Между прочим, пытаясь раскрыть психологическое содержание «Гефсиманской Чаши»,
Булгаков рисует воображаемую картину нового совещания Пресвятой Троицы, подобного
бывшему при создании человека. При этом вольно или невольно высказывается мысль, туманно
носившаяся в других частях системы Булгакова: за падение отвечает не один человек, но и
Сам Творец, сотворивший его так, а не иначе. «Бог во Святой Троице как бы снова говорит в
Божественном совете о человеке: сотворив человека, в тварности своей удобопревратного и
ныне падшего, воссоздадим его, на Себя приняв удовлетворение о Правде. А эта Правда в том,
что Виновник бытия человека Сам принимает на Себя последствия Своего акта творения.... С
Сыном Божиим страждет от греха и вся Св. Троица; Отец, как праведный Судия, судящий
Своего Сына, а в Нем и Себя Самого, как Творец мира»... Мы подчеркиваем места, где
делается нажим именно на тварность человека как причину его падения, на несовершенство
природы, данной ему Творцом. Отсюда получается как будто вывод, что человеку, поставленному
творцом в такие условия, было почти невозможно не пасть. Но не то ли говорит и Адам:
«Жена, которую Ты дал мне, она дала мне от дерева, и я ел» (Быт 3, 13)? Однако Церковь в
этой попытке Адама сделать и Бога участником в падении видит признак уже искажения
человеческой совести, произведенного грехом...
Для. искупления Богочеловек, по Булгакову, переносит две смерти: духовную и телесную.
Так как место человеческого духа в Богочеловеке занял Сам Божественный Логос, то духовная
смерть для Него есть «Божественная», состоящая в некотором как бы разрыве Сына со Св.
Троицей, Его «Богооставленность». «Новый безгреховный Адам Своей сострадающей любовью
самоотождествляет Себя с греховным ветхим Адамом». «Единородный Сын Возлюбленный
принял на Себя грех, с ним и в нем принял на Себя и гнев Божий на грех, вражду Божию, и в
ней как бы разлучился с Отцом». Так эта «Божественная смерть» произошла в Гефсиманскую
ночь, когда Христос «перестрадал и изжил все грехи всего человечества и каждого человека,
совершенные в настоящем, прошедшем и будущем», чем «Правде Божией было дано
удовлетворение, принесен был «выкуп» («эквивалент адских мук»), совершилось примирение», то
естественно, что Гефсимания выступает на первый план и почти заслоняет Голгофу. На долю
Голгофы остается лишь смерть телесная, смерть человеческой природы Богочеловека (без
духа), как акт дополнительный к Гефсиманской смерти духовной.
Эту замену традиционно-церковной Голгофы Гефсиманией опять-таки нельзя не назвать
произвольной и малообоснованной. Вся евангельская история, можно сказать, направляется,
как к своему фокусу, к смерти на кресте и последующему за ней воскресению. На Тайной
вечери, прощаясь с учениками, Господь ясно говорил, что Ему предстоит «принять муки» (Лк.
22, 15), что им пора идти, потому что «грядет мира сего князь» (Ин. 14, 30). Наконец, самое
учреждение Таинства Тела и Крови именно в «воспоминание смерти» телесной (1 Кор. 11, 6).
Откуда же тогда и «соблазн креста» (Гал. 5, 11) во всей апостольской проповеди? Откуда и
столь распространенная в Церкви вера в силу креста и крестного знамения, данного «нам
оружия на диавола, трепещет бо и трясется, не терпя взирати на силу его» (Октоих)?
19 Зак. 487
561
Да и по существу говоря, для всякого страдальца приготовления к страданию, какими бы
мучительными думами и переживаниями они ни сопровождались, все-таки не то, что самые
страдания. Не забудем, что страдал Сын Человеческий и, конечно, по-человечески; потому что
Он «по Божескому естеству от всякого страдания свободен» (Чин исповедания архиерейского).
Беспомощность «раба» пред торжествующей злобой и весь ужас этого ее торжества над
невинным со всею их осязательностью представились Иисусу Христу, конечно, не в Гефсимании (в
мыслях), а на Голгофе (на деле). Поэтому и «Богооставленность» т. е. то, что Бог не
вмешивается в торжество злобы над невинным, Он пережил не в Гефсимании, а именно на Голгофе, где
и возопил: «Боже, Боже Мой, векую оставил Меня еси». Замена Голгофы Гефсиманией
возможна для Булгакова только потому, что у него страдает Сам Логос, и даже вся Св. Троица,
как страдала Она при воплощении Слова и даже при творении мира. Поэтому-то у Булгакова
возможны и такие рельефные изображения «разрыва» во Св. Троице при страданиях. Поэтому
и «предаде дух» (для Церкви - Человеческий) Булгаков готов относить к Божеству Сына и
даже говорит, что после этого «Божественная Троица снова смыкается в нераздельное
единство». Допустим, что в качестве простой поэтической вольности или художественной картины
такие рассуждения и возможны; но когда мы их встречаем в богословском сочинении, которое
к тому же хочет дать православное учение, невольно приходит на память церковная песнь:
«Божеству страсть (страдание) прилагающий, зауститеся вси чуждемудреннии» (Октоих).
Вышеизложенным мы и закончим испытание системы профессора прот. С. Н. Булгакова.
Испытание это с достаточной убедительностью показывает, что учение Булгакова: 1) по
замыслу своему не церковно, не намерено считаться с учением и преданием Церкви, в
некоторых же пунктах и явно становится на сторону лжеучений, соборно осужденных Церковью; 2)
по содержанию своему вносит в понимание основных догматов веры столько своеобразного и
произвольного, что напоминает скорее гностицизм (также осужденный Церковью), чем
христианство, хотя и оперирует (как и гностицизм) привычными для христиан понятиями и
терминами; 3) по возможным практическим выводам из него тем опаснее, чем оно
привлекательнее кажущейся глубиной своих домыслов и общим своим вдумчиво-благоговейным тоном.
Давая мысль о возможности ответственность за падение перенести на Творца, это учение
понижает в человеке сознание греховности, т. е. колеблет самое основание .духовной жизни.
Представляя же человеческое спасение в виде некоего мирового Божественного процесса в тварной
природе и, в частности, в человеке, оно открывает дверь и прямым искажениям этой жизни.
СПРАВКА: учение проф. протоиерея С. Н. Булгакова о Софии - Премудрости Божией
излагается в его сочинениях: Свет Невечерний,М., 1917; Петр и Иоанн, Париж, 1927; Купина
Неопалимая (о почитании Богоматери), Париж, 1927; Друг Жениха (почитание Предтечи),
Париж, 1929; Лествица Иаковля (об ангелах), Париж, 1929; Икона и иконопочитание, Париж,
1931; Агнец Божий (о Богочеловечестве), Париж, 1933.
Определением своим от 24 августа 1935 г. № 93
ПОСТАНОВИЛИ: I. Учение проф. прот. С. Н. Булгакова своеобразным и произвольным (со-
фианским) истолкованием часто искажающее догматы Православной веры, в некоторых своих
пунктах и прямо повторяющее лжеучение, уже соборно осужденные Церковью, в возможных
же из него выводах могущее быть даже и опасным для духовной жизни, признать учением
чуждым Святой Православной Христовой Церкви и предостеречь от увлечения им всех Ее
верных служителей и чад.
II. Православных Преосвященных Архипастырей, клириков и мирян, имевших
неосторожность увлечься учением Булгакова и следовавших ему в своих поучениях, в письменных
или печатных трудах, призвать к исправлению допущенных ошибок и к неуклонной верности
«здравому учению».
III. О самом прот. С. Н. Булгакове, как состоящем вне общения с Православной Церковью
Московского Патриархата, особого суждения в настоящее время не иметь, но в будущем в
случае возникновения дела о принятии прот. Булгакова в общение поставить условием такого
принятия, равно и разрешения священнодействий, письменный его отказ от своего софианско-
го истолкования догматов веры и от других своих вероучительных ошибок и письменное же
обещание неизменной верности учению Православной Церкви.
О чем и посылается ВАШЕМУ ПРЕОСВЯЩЕНСТВУ настоящий указ.
Сентября 7 дня 1935 г.
№1651.
Заместитель Патриаршего Местоблюстителя,
СЕРГИЙ, М<итрополит> Московский.
Управляющий делами Московской Патриархии
Протоиерей Александр Лебедев».
562
(Из книги «О Софии, Премудрости Божией. Указ Московский Патриархии и докладные
записки проф. прот. Сергия Булгакова митрополиту Литовскому и Виленскому Елевферию».
Париж, 1935, с. 5-19).
С. 407.
10*. Переиздание: М.: Крутицкое Патриаршее Подворье «Крестный путь», 1996.
11*. Переиздание: М.: «Политиздат», 1991.
12*. Впервые опубликовано в журнале «Звезда», 1994. № 1. С. 148-178.
С. 410.
13*. В тексте «Богословских трудов» после этой главы сделано примечание «От редакции»
следующего содержания: «Нашим богословам и читателям необходимо ознакомиться здесь с
несколько иной оценкой экуменических взглядов отца Сергия Булгакова, принадлежащей
профессору протоиерею Владимиру Мустафину». Далее следует текст статьи прот. В. Мустафина.
Протоиерей Сергий Булгаков об экуменизме
Экуменическая концепция протоиерея Сергия Булгакова сочетает в себе элементы строгой
православной церковности и в известной мере экклезиологического либерализма. Строгая
церковность проявилась в разрешении проблемы «Православие и инославие». Прежде всего,
постулируется положение, что Православие есть истинная Церковь, находящаяся в обладании
полноты и чистоты церковной истины в Духе Святом. Отсюда вытекает отношение
Православия к другим исповеданиям, как отколовшимся, непосредственно или посредственно, от
церковного единства. Следовательно, Православие своей экуменической идеей может иметь лишь
одно - стремление «оправославить весь христианский мир так, чтобы все исповедания влились
в единое русло вселенского Православия». Это не есть дух прозелитизма, но сама логика
вещей, ибо истина едина, неумолима и непреклонна, и она не терпит компромиссов. Процесс
оправославления представляется, конечно, не в виде единичных присоединений к
Православию; таким путем вопрос об экуменических взаимоотношениях церковных общин и
исповеданий решить невозможно. Истинный метод разрешения проблемы межконфессиональных
отношений состоит в том, что инославные «общины, сохраняя свои исторические, национальные и
местные черты, чрез приближение к Православию в учении и жизни оказывались бы способны
вступить в единство Вселенской Церкви в качестве одной из Автономных или Автокефальных
Церквей». С точки зрения этого метода, оказывается, таким образом, вполне осуществим
экуменический идеал «соединения Церквей». Правда, следует непременно учесть то чрезвычайно
важное обстоятельство, что такое «соединение Церквей» может состояться не на минимуме, а
на максимуме общего достояния, то есть на совершенном взаимном сближении христианских
общин в вероучении и церковной жизни (дисциплине), берущем в качестве основы
православное вероучение (истинный максимум христианства). Выделение же абстрактного минимума,
относительного которого требуется согласие всех христианских Церквей, не способно привести
к единению, хотя и может составить первый шаг на этом пути. В этом пункте протоиерей
Сергий Булгаков заканчивает анализ проблемы отношения Православия к инославию и переходит
к рассмотрению причин участия Православия в современном экуменическом движении под
углом зрения последовательного церковного реализма.
С самого начала следует предупредить, что участие Православия в экуменическом
движении ни в коем случае не означает, чтобы оно отказалось от своего самосознания, от своего
предания и согласилось принять принцип компромисса в своих экуменических связях.
Православие может и должно иметь пред собой следующую очень важную практическую задачу на
экуменическом поприще: оно присутствует здесь для свидетельства истины. Любовь церковная
повелевает свидетельствовать о своей вере, по слову Апостола: для всех быть всеми, дабы
спасти некоторых (1 Кор. 9, 22). Несмотря на очевидные соблазны экуменизма, в первую очередь,
конечно, опасность религиозного синкретизма, православное сознание усматривает в этом
христианском стремлении к единству пророческий дух, противящийся конфессиональной
исключительности и признающий во всех христианах действительных братьев во Христе, членов
мистического Тела Христова. В результате искренних экуменических взаимоотношений
возникает братская церковная любовь, единение во Христе последователей Евангелия,
принадлежащих к разным исповеданиям. Эта любовь требует и практического единения, которое, хотя и
не может достигнуть чаемого общения церковного, однако ищет возможной полноты в
молитвенном общении, исповедании, взаимном познании и понимании. Открываются новые пути
экуменического благочестия и экуменического богословия. Преодолеваются постепенно
границы церковного провинциализма. Однако точка зрения последовательного церковного реализма
вынуждает сделать очень важное, даже драматическое, признание: на основной, самый труд-
19*
563
ный и острый вопрос экуменизма - существует ли возможность действительного преодоления
вероисповедных различий и противоречий? - прямого положительного ответа дано быть не
может. Не заключается ли в этом признании приговор экуменическому движению как делу
бесплодному, как пути ложному? - Отнюдь нет. Ибо если основная проблема экуменизма не
разрешается рационалистически, если на вопрос о возможности примирения вероисповедных
различий нет прямого человеческого ответа, то этот ответ следует искать на путях
совершающейся Пятидесятницы, ожидать как церковное чудо: «невозможное человекам возможно
Богу». Долг же христианина состоит в том, чтобы прояснить в себе сознание безусловной
невозможности мириться с христианскими разделениями, ища их преодоления на путях веры,
надежды и любви. Надлежит также воспитывать в себе своеобразный «конфессиональный
аскетизм», состоящий в том, чтобы не позволять себе мыслей и чувств, противящихся признанию
инославных за христиан, сохраняя при этом, однако, сознание чистоты своей православной
веры и осторожность по отношению к опасности конфессионального индифферентизма.
До сих пор экуменические рассуждения протоиерея Сергия Булгакова состояли из
элементов строгой церковности. Однако в его экуменическом богословствовании имеются суждения и
либерального характера. Развертываются они в границах того аспекта экуменической
концепции отца Сергия, который формулируется им самим двояко: и как «реальное единство
разделенной Церкви в вере, молитве и таинствах», и как «основания экуменизма». Прежде всего
ставится вопрос: как соотнести определение Церкви как мистического Тела Христова и
представление о Церкви как эмпирической данности? Объединяются ли обе эти реальности в
некоем высшем синтезе или же сохраняют непримиримую двойственность? В случае
отрицательного ответа экуменическое стремление к единению Церквей есть ложная задача, поскольку
существует лишь единая истинная Церковь, видимая часть мистического Тела Христова. В случае
положительного - мы утверждаем единство Церкви как Тела Христова, как жизни во Христе
и в Духе Святом, для которой не существует конфессиональных границ и нет ничьей
монополии на экклезиологическую истину. Ясно, что только положительный ответ плодотворен в
экуменическом смысле. Мы не имеем права отрицать наличия церковной жизни как у
отдельных лиц, так и целых общин и организаций, исповедующих Христа Иисуса Господом и
Спасителем, призывающих Имя Небесного Отца и взыскующих Духа Святого. На основании
евангельского предписания и обетования: «Просите, и дано будет вам; ищите и найдете; стучите, и
отворят вам» (Мф. 7, 7) - мы не имеем права сказать, что инославные не принадлежат к
Церкви, не суть члены Тела Христова, не находятся в единении с нами, хотя и на недоступной
нашему взору глубине. «Осуществление видимого единения уже должно предполагать сущее,
хотя еще не проявленное, не осознанное единство». Последнее утверждение является
центральным в данной части экуменической позиции отца Сергия. Это его самое либеральное в
данном контексте суждение. Все дальнейшие его рассуждения на взятую тему сводятся к
выявлению существенных элементов постулированного им «реального, но не осознанного
единства» Церквей в мистическом теле Христовом как первооснове. Эти элементы он обретает в
духовной жизни различающихся конфессий, в их молитвенной практике и даже в таинствах.
Естественно, что наибольший интерес вызывает аргументация в пользу утверждения о
реальном единстве в Таинствах. Вопрос ставится следующим образом: в какой зависимости
находится мистическая действительность Таинств от канонической действительности? Или в более
подробном виде: какое значение имеют канонические разделения и догматические различия
для действенности Таинств? Относительно канонической стороны дела вопрос разрешается в
том смысле, что канонические разделения лишь устраняют возможность прямого и
непосредственного общения в Таинствах, но не упраздняют их действенности, а следовательно, и
невидимого общения видимо разобщенных. Точка зрения, ставящая действенность Таинства в
зависимость от канонических условий, богословски не может быть поддерживаема без
существенного извращения учения о Церкви и Таинствах в сторону канонического формализма.
Напротив, «разделившиеся части Церкви, по крайней мере при наличии апостольского преемства,
находятся в невидимом таинственном общении между собою чрез видимые, хотя и
сделавшиеся взаимно недоступными Таинства, совершаемые в пределах каждой из разделившихся
Церквей; иными словами, совершившееся разделение не проходит до дна, оно ограничено и не
разделяет Тела Христова, Церкви Его». Сложнее дело обстоит с влиянием догматических
отклонений на действительность Таинств. Можно ли говорить, например, о Таинствах в
протестантизме? Отрицательный ответ небезусловен. Основание этого можно усмотреть в том факте, что
Церковь признает действительность протестантского крещения, ибо она его не повторяет в
случаях присоединения протестантов. Факт этот свидетельствует, что по крайней мере в
Таинстве духовного рождения мы пребываем в общении с протестантами как христиане, как члены
единого Тела Христова. Крещение же как общая возможность благодатной жизни в Церкви
есть в определенном смысле потенциал и всех дальнейших Таинств. Правда, в протестантизме
они реализуются лишь частично, имеют лишь обедненное бытие как по причине сокращения
числа Таинств, так и в особенности чрез отсутствие священства. Однако отсюда вовсе нельзя
заключать, что протестантские таинства совершенно ничтожны. Этот вывод неправомерен не
только по чувству христианской любви, но и потому, что не удовлетворяет христианской прав-
564
де: «клир не есть магический аппарат для совершения таинств, но церковное служение,
существующее в Церкви и для Церкви». В этом и аналогичных случаях необходимо проникнуться
пониманием того, что Господь не оставляет своей благодатью никого из Своего стада, в том
числе и тех, кто историческими судьбами отторгнут от полноты церковно-благодатной жизни.
Догматические повреждения, так же как и канонические уклонения, разумеется до известных
пределов, не уничтожают действительности Таинств, и даже если они и умаляют их
действенность, то степень этого умаления не дано определить человеку. Итак, мы вновь подходим к
выводу, что разделение Церкви не проходит до глубины, что в своей таинственной жизни
Церковь остается едина, во всяком случае, в тех ее сферах, которые наиболее приближены к
Православию. Какие следствия можно вывести из этого? Прежде всего, что требуется для полного
соединения, с чего начать? Обычно считается, что видимое общение в Таинствах, то есть
открытое единение в таинственной жизни, должно иметь для себя непременным условием
предварительное догматическое соглашение. Но так ли это бесспорно? - спрашивает отец Сергий.
Здесь на одной чаше весов обретается различие некоторых вероучительных догматов,
богословских мнений и веками сложившееся и закрепившееся отчуждение, но на другой - единство
таинственной жизни и, прежде всего, Трапезы Господней. Почему же смысл проблемы и ее
разрешение полагается в предварительном согласии во мнениях, а не наоборот - в единстве
таинства? «Почему не искать преодоления ереси учения чрез преодоление ереси жизни,
каковою является разделение?» Вполне возможно, что путь к единению Церкви лежит не через
богословские прения, а через единение пред алтарем. Сие да буди, буди. Следующим же
шагом, возможно, будет достигнуто и догматическое единение, точнее, взаимопонимание друг
друга в своих свойствах, особенностях и даже различиях, если таковые останутся. А пока, в
ожидании разрешения вопроса, о конкретных способах которого нам не дано ведать, мы
должны твердо помнить, что само единение в Таинствах уже существует и оно-то и есть
положительное основание к внешнему единству, коего чаем и ищем.
Таким образом, можно говорить о наличии у протоиерея Сергия Булгакова двух
экуменических концепций. Одна строго православно-церковная, основные пункты которой:
Православие обладает полнотой церковной истины; экуменическое единение есть «оправославление»;
ближайшей, практической задачей Православия на экуменическом поприще должно быть
свидетельство истины; основная цель экуменических устремлений может быть достигнута, по-
видимому, не реализацией рационально составленных планов преодоления вероисповедных
различий, а путем чаемого непосредственного вмешательства Бога, то есть церковного чуда, по
обетованию: «невозможное человекам возможно Богу». Основная идея другой экуменической
концепции протоиерея Сергия Булгакова - стремление к церковному единству есть
практическое выявление уже существующего, хотя и не осознанного, реального единства -
квалифицирует ее (концепцию) как, по существу, богословски либеральную.
С. 413,
14*. В последние годы жизни С. Н. Булгаков написал статью «Размышления о войне»
(Звезда. 1993. № 5. С. 138-162).
С. 414.
15*. «Отрывки из воспоминаний об о. Сергии» сестры Иоанны Рейтлиннер опубликованы в
«Вестнике РХД» (1990. № 159. С. 51-79).
1990-1991, 1996
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ1
Август Гай Юлий Цезарь Октавиан (69 до н. э. - 14 н. э.)» римский император (с 27 до н. э.),
основатель принципата - формы монархии, при которой сохранялись республиканские
институты - 145, 146, 154, 189
Августин Аврелий (354-430), христианский теолог и философ, представитель христианской
патристики - 5, 11, 96, 103, 130, 231, 238, 239, 249, 253
De civitate Dei (О Граде Божием) - 5, 209, 231, 238.
Исповедь - 253, 259
Авель {библ.), второй сын Адама и Бвы, «пастырь овец», убитый своим старшим братом
Каином (Быт. 4, 2-8) - 91
Авраам (библ.), родоначальник еврейского народа - 171, 209
Аврелий Марк (121-180), римский император (с 161) из династии Антонинов, философ-
стоик - 145, 157, 190
Адам (библ.), первый человек, сотворенный Богом и после грехопадения вместе с Евой
изгнанный из рая - 126, 209, 216
Адлер (Adler) Георг (1863-1908), нем. экономист - 53
Die Grundlagen der Karl Marx'sehen Kritik der bestehenden Volkswirtschaft. Tübingen,
1878 (Основания Марксовой критики современного народного хозяйства) - 53
Адонис, в финикийской мифологии бог плодородия, с V в до н. э. его культ распространился в
Древней Греции - 146
Адриан Публий Элий (76-138), римский император (с 117) из династии Антонинов - 155, 188
Азеф Евно Фишелевич (1869-1918), провокатор, секретный сотрудник департамента полиции
с 1892 г., один из руководителей боевой организации партии эсеров - 287
Акила и его жена Прискилла, сотрудники во Христе Иисусе апостола Павла (Деян. Ал. 18, 2-3),
изгнанные из Рима как иудеи по приказанию императора Клавдия, занимались
деланием палаток (Деян. Ап. 18, 21); упомянуты также в посланиях ап. Павла (1 Кор. 16, 19;
2 Тим. 4, 19) - 183
Аксакова Анна Федоровна (1829-1889), старшая дочь Ф. И. Тютчева, жена И. С. Аксакова - 247
Аксаковы: писатель Сергей Тимофеевич Аксаков (1791-1859) и его сыновья Иван Сергеевич
(1823-1886), поэт, публицист и общественный деятель, и Константин Сергеевич (1817-
1860), публицист, историк, филолог и поэт - 251, 308
Алварий Пелагий, Альварус Пелагиус (Alvarus Pelagius) (ум. 1352), средневековый теолог,
епископ, выступающий против Людвига Баварского в защиту папского престола;
высказал ряд оригинальных экономических идей, привлекавших внимание позднейших
исследователей - 101
Александр Македонский (356-323 до н. э.), царь Македонии (с 336 до н. э.), полководец и
завоеватель, воспитанник Аристотеля - 145
Аллард (Allard) Поль (1841-1916), фр. историк, специалист по истории раннего
христианства - 160, 188, 197
Les esclaves chrétiens. 1875 (Рабы-христиане) - 160, 188, J97
Амос (VIII в. до н. э.), древнееврейский пророк и проповедник, обличавший ростовщиков,
судей и чиновников; Книга Пророка Амоса входит в состав Ветхого Завета - 214
Ананий и его жена Сапфира - члены раннехристианской общины, утаившие часть денег от
продажи имения; будучи уличены в этом ап. Петром, оба умерли от великого страха
(Деян. Ап. 5, 1-Й) - 191
1 Составил В. В. Сапов.
566
Андрей Кесарийский (2-я пол. V в.), епископ Кесарии, церковный писатель, автор первого
толкования на Апокалипсис - 239
Толкование на Апокалипсис. М., 1904 (пер. Вл. Юрьева) - 239
Анисим, Онисим, раб колосского христианина Филемона, о котором упоминает ап. Павел в
своем послании к последнему (1, 10-17) - 160, 197
Анненков Павел Васильевич (1813-1887), рус. критик и мемуарист, лично знакомый с
К. Марксом и состоявший с ним в переписке - 53
Антиох IV Епифан (букв.: «явленный»), царь государства Селевкидов (175-165/164 до н. э.),
пытавший осуществить насильственную эллинизацию Иудеи, что вызвало восстание под
руководством Маккавеев - 208
Антокольский Марк Матвеевич (1843-1902), рус. скульптор - 319
Анубис, в древнеегипетской мифологии бог - покровитель мертвых - 146
Аргайл (Argyll) Арчибальд Кэмпбэлл (1598-1661), маркиз, глава шотландских ковенанторов
(сторонников Реформации), казненный правительством Карла II после Реставрации - 72
Аристид Марциан (II в.), раннехристианский апологет, автор Апологии, адресованной
императору Антонину Пию - 166
Аристотель (384-322 до н. э.), древнегреч. философ - 7, 198
Арно, цистерцианский аббат, один из участников войны против альбигойцев - 100
Ассур (библ.), второй сын Сима (Быт. 10, 11), от имени которого получила свое название
Ассирия - 333
Афинагор, Афенагор (II в.), раннехристианский апологет, один из родоначальников
спекулятивной христианской теологии - 156, 167, 209
Байрон (Byron) Джордж Ноэл Гордон (1788-1824), англ. поэт - 83, 254, 302
Бакунин Михаил Александрович (1814-1876), рус. революционер, мыслитель, теоретик
анархизма - 53, 285
Бальфур (Balfour) Артур Джемс (р. 1848), англ. политич. деятель, премьер-министр (1902-
1903), философ - 251
Основы веры (The foundation of belief. 1895) - 251
Бар-Кохба (букв.: «сын звезды»), почетное имя, данное Симону, вождю антиримского
восстания в Иудее (132-135) - 155, 208
Бауэр (Bauer) Бруно (1809-1882), нем. философ, младогегельянец - 53, 57, 59, 60, 65, 194
Бебель (Bebel) Август (1840-1913), один из руководителей Германской социал-демократии и
II Интернационала - 196
Бёклин (Bocklin) Арнольд (1827-1901), швейц. живописец, чье творчество повлияло на
формирование немецкого символизма - 193, 262
Бекстер, Бакстер (Baxter) Ричард (1615-1691), англ. теолог и проповедник в армии
Кромвеля, после реставрации капеллан короля; автор многих теологических сочинений, один
из предшественников пиетизма - 120
Белиар, Велиар, Велиал (букв.: «ничтожный, негодный»), слово, встречающееся в Ветхом
(Втор. 13, 13 Пс.40, 9; Суд. 19, 22 и др.) и Новом Завете (2 Кор. 6, 15); означает собаку
как главного виновника зла - 227, 228, 242
Белинский Виссарион Григорьевич (1811-1848), рус. революционный демократ, литературный
критик, философ - 49, 251, 279, 280, 292, 295
Письмо к Гоголю (1847). СПб., 1905 - 292,295
Беллерс (Bellers) Джон (1654-1725), англ. экономист, автор «Опыта о бедных,
промышленности, торговле, колониях и бесправности» (1699) и «Предложения об учреждении
трудового колледжа всех полезных ремесел и сельского хозяйства» (1696), в которых
подчеркивал значение труда в создании богатства - 119
Белох (Beloch) Карл Юлиус (1854-1929), нем. историк античности; представитель теории
цикличности; на рус. язык переведена его «Греческая история» (т. 1-2. М., 1905) - 188
Бенедикт Нурсийский Святой (ок. 480-ок. 543), основатель первого в Зап. Европе
монашеского ордена, названного его именем (орден бенедиктинцев) - 115
Бентам (Bentham) Иеремия (1748-1832), англ. философ, основоположник утилитаризма - 74,
111, 122, 203, 204, 251, 265
Бергсон (Bergson) Анри (1859^-1941), фр. философ, представитель интуитивизма и философии
жизни - 334
Бердяев Николай Александрович (1874-1948), рус. религиозный философ - 341
Духовный кризис интеллигенции. СПб., 1910 - 341
Бернард (Бернар) Клервосский (1090-1153), деятель католической церкви, канонизированный
в 1174 г., теолог-мистик, чьи взгляды оказали большое влияние на мистический
психологизм позднего средневековья - 97, 100, 115, 343
Берншейн (Bernstein) Эдуард (1850-1932), нем. социал-демократ - 120, 240, 284
Sozialismus und Demokratie in der Grossen englischen Revolution. Stuttgart, 1908
567
(рус.пер.: Социализм и демократия в Великой английской революции. М.; П., 1924) -
120, 240
Вертолет (Bertholet) Альфред (1868-1951), нем. протестантский теолог, специалист в области
историии религий, проф. ряда германских ун-тов, с 1945 - в Базеле - 208, 213, 214
Daniel und die griechische Gefahr. 1907 (Пророк Даниил и греческая угроза) - 208, 213,
214
Бетховен (Beethoven) Людвиг ван (1770-1827), нем.композитор - 193
Девятая симфония - 193, 2В2
Библия. Книги Св.Писания - 46, 121, 250
Книги Ветхого Завета:
Псалтирь - 225
Псалмы Соломона.- 224
Песнь Песней Соломона - 299
Пророка Исайи - 226
Книги Нового Завета:
Евангелие от Матфея - 126, 127, 155, 173, 177, 185, 210, 222, 225, 229, 230,
291, 293
Евангелие от Марка - 155, 173, 185, 210, 229, 293, 326
Евангелие от Луки - 126, 138, 155, 164, 173, 174, 178, 185, 195, 210, 222, 227,
230, 291
Евангелие от Иоанна - 50, 155, 185, 229, 230, 272, 326, 330
Деяния Святых Апостолов - 132, 133, 152, 155, 161, 165, 168, 191, 198, 229,
254, 260, 269
Послание Иакова - 130, 185, 191
Первое послание Петра - 155
Первое послание Иоанна - 174
Послание к Римлянам - 145, 155, 169, 183
Первое послание к Коринфянам - 131, 137, 149, 163, 164, 165, 183, 231
Второе послание к Коринфянам - 148, 169
Послание к Галатам - 137, 330
Послание к Ефесянам - 134
Послание к Филилпийцам - 191
Первое послание к Фессалоникийцам - 169
Второе послание к Фессалоникийцам (Солунянам) - 126, 183
Первое послание к Тимофею - 131, 134, 155, 164, 326
Второе послание к Тимофею - 134, 164
Послание к Титу - 155
Послание к Филимону - 159, 197, 198
Послание к Евреям - 14
Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис) - 127, 150, 151, 154, 164, 185, 207,
231-240, 253, 259, 271, 293, 327, 351
Бирюков Павел Иванович (1860-1931), рус. писатель и общественный деятель; в 1884
познакомился с Л. Н. Толстым и стал пропагандистом его религиозного учения - 323
Л. Н. Толстой. М., 1908. Т. II - 323
Блан (Blanc) Луи (1811-1882), фр. утопический социалист, историк и журналист; деятельно
революции 1848 г. - 196
Бландина - христианская мученица, потерпевшая мученическую кончину в 177 г. при Марке
Аврелии, была отдана на растерзание диким зверям в амфитеатре; тело ее было
сожжено - 159
Бласс (Blass) Фридрих Вильгельм (р. 1843), нем. филолог-классик, профессор в Киле - 210
Болин (Bolin) А. В. (1853-1924), финский философ, личный друг и поклонник Л. Фейербаха,
издатель его сочинений - 15, 20, 33
Ludwig Feuerbach, seine Werke und seine Zeitgenossen. Stuttgart, 1881 (Людвиг
Фейербах, его труды и современники) - 33
Бонвеч (Bonwtsch) Натаниель (р. 1848), нем. протестантский историк церкви, проф. Дерптско-
го (1882-1891) и Геттингенского (с 1891) ун-тов - 144
Бонифаций VIII (у Булгакова ошибочно Бонифаций III), папа римский в 1294-1303; один из
наиболее видных борцов за папскую теократию - 100
Борджиа, Борджа - знатный род испанского происхождения, игравший значительную роль в
XV-Ha4.XVI в. в Италии - 29
Бриарей (миф.), сторукий великан огромной силы, сын Геи-земли и Урана-неба - 343
Буасье (Boissier) Гастон (1823-1908), фр. историк античности - 153, 170
Катакомбы - 153
Падение язычества. Исследование последней религиозной борьбы на Западе в четвертом
веке. М., 1892 - 170
568
Будда (624-544 до н. э.), основатель мировой религии, царевич из рода Сакьев Сиддхартха
Гаутама, в возрасте 29 лет ушедший в отшельники, чтобы найти путь к спасению - 194
Булгаков Сергей Николаевич:
Васнецов, Достоевский, Соловьев и Толстой. Параллели // Литературное дело. СПб.,
1902 - 300
История социальных учений в XIX веке. Лекции. М., 1913 - 240
Капитализм и земледелие. Т.1-2. СПб., 1900 - 93
Классическая школа и историко-этическое направление в политической экономии //
Новое Слово. 1897. № 9 - 112
Краткий очерк политической экономии. Вып. I. M., 1906 - 189
От марксизма к идеализму. СПб., 1903 - 7, 84, 89, 241, 257, 278, 300, 311, 336
Иван Карамазов как религиозный тип - 300
Основные проблемы теории прогресса // Проблемы идеализма (1902) - 84, 241
Что дает современному сознанию философия Вл. Соловьева - 311
Душевная драма Герцена (Отд. изд.: Киев, 1905) - 278, 336
О социальном идеале - 89
Под знаменем университета// Вопросы философии и психологии. 1906. № 5 - 109
Революция и реакция // Московский еженедельник. 1910. № 3 - 276
Социальное мировоззрение Дж. Рёскина // Вопросы философии и психологии. 1909.
№ 5 - 72
Церковь и государство // Вопросы религии. Вып.1. М., 1906 - 158
Через четверть века (Вступительный очерк о Ф. М. Достоевском к 6-му изд. его
сочинений). СПб., 1906 - 300
Буркхардт (Burckhardt) Якоб (1818-1897), швейцарский историк и философ культуры - 95,
104
Культура Италии в эпоху Возрождения. Т. 1-Й. СПб., 1904-1906 - 95
Буссе (Bousset) Вильгельм (1865-1920), нем. протестантский теолог, проф. в Геттингене
(1896) и Гисене (1916) - 153, 182, 207, 210, 212, 227, 228, 232-234
Die Offenbarung Iohannais // Kritisch-exegetischer Kommentar über das Neue Testament.
XVI Abth. 6. Aufl. Göttingen, 1906 (Откровение Иоанна) - 233
Der Antichrist in der Ueberlieferung des Judenthums, des Neuen Testaments und der alten
Kirche. Ein Beitrag zur Auslegung der Apokalypse. Göttingen, 1905 (Антихрист в
преданиях иудейства, Нового Завета и древней церкви. К истолкованию
Апокалипсиса) - 212, 227, 228, 234
Apokalyptik // Realenzyklopädie für protestantische Theologie und Kirche. 3-te Aufl. Bd.l
(Апокалиптика) -207
Hauptprobleme der Gnosis. Göttingen, 1907 (Основная проблема гнозиса) -153
Die Judische Apokalyptik. 1903 (Иудейская апокалиптика) - 207
Die Religion des Judentums in neutestamentlichen Zeitalter. 1906 (Иудейская религия во
времена Нового Завета) - 207
Der religiose Liberalismus // Was ist liberal? München, 1910 (Религиозный либерализм) -
234
Sybillen und sybillinschen Bücher (Сивиллы и сивиллины книги) - 210
Was wissen wir von Iesus? Tübingen, 1906 (Что мы знаем об Иисусе?) - 182
Бухарев Александр Матвеевич (архимандрит Феодор; 1822-1871), церковный деятель,
писатель-богослов - 279
Бюхер (Bucher) Карл (1874-1930), нем. экономист, представитель исторической школы,
теоретик катедер-социализма - 187
Происхождение народного хозяйства и образования общественных классов (Две
публичные лекции). Пер. под ред. С. Н. Булгакова. СПб., 1897 - 187
Бэкон (Backon) Роджер (ок. 1214- ок.1294), англ. философ - 103
Вайс, Вейсс (Weiss) Иоханнес (1814-1890), евангелический теолог, историк религий - 194,
210, 229, 230, 234
Die Predigt Jusus vom Reiche Gottes. Göttingen, 1900 (Учение Иисуса о Царстве Божи-
ем) - 211, 230
Jesus von Nazareth, Mythos oder Geschichte?. 1910 (Иисус из Назарета. Миф или
история?) - 194
Вайцзеккер, Вейссеккер (Weizsächer) Карл Генрих фон (1822-1899) - нем. протестантский
теолог, проф. церковной истории в Тюбингенее, автор работ о раннем христианстве -
144, 163, 164, 166
Das apostolische Zeitalter (Апостольский период христианской церкви) - 144, 163, 164
Варавва (букв.: сын отца), узник, которого, по евангельеккой легенде, иудейские
первосвященники и старейшины отпустили на свободу в день Пасхи, предпочтя его Иисусу
Христу и обрекая последнего на распятие - 154
569
Варнава (Иосия), спутник апостола Павла, продавший свою землю и деньги отдавший
апостолам (Деян. Ап. 4, 36-37) - 159
Варух (VII-Ha4.VI в. до н. э.), древнееврейский пророк, сподвижник Иеремии - 209, 214, 216,
228, 232
Апокалипсис Варуха - 209, 225, 232
Вебер (Weber) Макс (1864-1920), нем. социолог - 117, 119, 120, 121, 192
Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus // Archiv für Sozialwissenschaft
und Sozialpolitik. 1904. № 1; 1905. № 1 (Протестантская этика и дух капитализма -
Вебер М. Избранные произведения. М., 1990) - 117. 119-121
Вейнель (Weinel) Heinrich (1874-1936), нем. протестантский теолог - 150, 155, 157, 163, 164,
194, 195, 263
Ist das «liberale» Iesusbild widerlegt? 1910 (Опровергнут ли «либеральный» образ
Иисуса?) - 194
Iesus im neuzenthem Jahrhundert. Tübingen; Leipzig, 1904 (Иисус в девятнадцатом
столетии) - 263
Die Stellung (Das Verhälthiss) des Urchristentums zum Staat. 1908 (Отношение первых
христиан к государству) - 155, 157, 163, 164
Die urchristliche und die heutige Mission. 1907 (Раннехристианское и современнное
миссионерство) - 155
Die Wirkungen des Geistes und der Geister im nachapostolischen Zeitalter bis Irenäus.
Freiburg, 1899 (Соотношение души и духа со времен апостолов до Иринея) - 150,
164, 195
Вельгаузен (Wellhausen) Юлиус (1844-1918), нем. востоковед, исследователь древней истории
евреев - 207, 211, 213
Israelitische und judische Geschichte. 1909 (Израильская и иудейская история) - 207, 211
Skizzen und Vorarbeiten. VI Heft. Berlin, 1899 (Эскизы и наброски) - 207, 213
Венгеров Семен Афанасьевич (1855-1920), историк литературы, библиограф - 292
Вендланд (Wendland) Пауль (1864-1915), нем. филолог-классик, проф. в Киле (1902), Бреслау
(1906) и Геттингене (1909) - 144-147, 149, 164, 166
Die hellenistisch-romische Kultur in ihrem Beziehungen zu Judentum und Christentum.
Tübingen, 1907 (Эллинистически-римская культура в ее отношении к иудаизму и
христианству) - 144, 145, 147, 149, 164
Вергилий (Vergilius) Марон Публий (70-19 до н. э.), римский поэт - 145
Вернле (Wernle) Пауль (1872-1939), нем. протестантский теолог, специалист в области
истории церкви - 144, 194
Die Anfänge unserer Religion. 1904 (Возникновение нашей религии) - 144
Веспасиан Тит Флавий (9-79), римский император (с 69), основатель династии Флавиев - 145
Вехи. Сборник статей о руской интеллигенции. М., 1909 (5-е изд. - 1910) - 13
Вилламовиц-Меллендорф (Willamowitz-Moellendorf) Ульрих (1848-1931), нем. филолог-
эллинист - 154
Geschichte der griechischen Religion. 1901 (История греческой религии) - 154
Виллих (Willich) Август (1810-1878), участник нем. рабочего движения, глава ультралевой
фракции в союзе Коммунистов - 53
Владимир Святославович (ум. 1015), князь Киевский, равноап. святой, креститель Руси -
265, 266
Вольтер (Voltair) (наст, имя и фамилия: Франсуа Мари Аруэ) (1694-1778), фр. философ,
писатель и публицист - 266
Габлер (Gabler) Георг (1786-1853), нем. философ-правогегельянец, проф. Берлинского ун-та -
59
Гален (129-199), древнеримский врач и философ греческого происхождения - 168
Ганс (Ganz) Эдуард (1798-1839), нем. юрист и философ-гегельянец - 59
Гарнак (Harnack) Адольф фон (1851-1930), нем. протестантский теолог, крупнейший
представитель ричлианской школы либеральной протестантской теологии - 115, 118, 130, 131,
133-135, 144, 150, 151, 153, 154, 157, 160, 161, 163, 165, 168, 169, 182, 190-192, 194,
203, 208, 237
Die Apostolgeschichte, Leipzig, 1908 (История апостолов). Т. 1. - 168
Dogmengeschichte. Bd.l, 1886 (рус.пер.: История догматов//Общая история европейской
культуры. Т. VI. СПб., 1910) - 150, 161, 237
Kirchliche Verfassung und kirchlichen Recht in 1. und 2. Jahrhundert // Realenzyklopädie
für protestantische Theologie und Kirche. Bd. 20. Leipzig, 1908 (Церковная традиция
и церковное право в 1-Й вв.) - 163
Die Lehre der 12 Apostol. 1884 (Учение двенадцати апостолов) - 163
Militia Christi. 1905 (Христово воинство) - 150, 157
570
Die Mission und Ausbreitung des Christenthums in den ersten drei Jahrhunderten. Leipzig,
1902 (Миссионерство и распространение христианства в первые три века) - 131,
133-135, 154, 160, 163, 165, 169, 190-192
Das Monöchtum // Reden und Aufsatze. Bd.l (Монашество) // Статьи и речи. Т. 1) - 115
Сущность христианства. Пер. с нем. с предисловием Вл. Эрна. М., 1907 (другой пер. в
кн.: Общая история европейской культуры. Т. VI. СПб., 1910) - 203
Гартман (Hartmann) Эдуард фон (1842-1906), нем. философ - 8, 194, 314, 315
Гаршин Всеволод Михайлович (1855-1888), рус. писатель - 278, 298
Гвиго, Гвицо (разночтение у Г. Эйкена) Гренобльский - картузианский приор - 101, 115
Гебхардт, Гебгарт (Gebhard) Эдуард фон (1838-1925) - 151, 208, 224
Die Psalmen Salomo's. Leipzig, 1895 (Псалмы Соломона) - 208, 224
Гегезий Киринейский (кон. IV-нач. III до н. э.), древнегречески философ, представитель ки-
ренской школы, прозванный проповедником смерти - 260
Гегель (Hegel) Георг Вильгельм Фридрих (1770-1831), нем. философ - 15, 19 23, 41, 56-61,
67, 75, 87, 219, 312, 314, 315, 334
История философии - 60, 104, 244
Гейстербах -102
Геккель (Hackel) Эрнст (1834-1919), нем. биолог, популяризатор основ естественнонаучного
материализма - 8, 229
Мировые загадки - 229
Геннерт, нем. ученый-классик - 59
Геродот (490/480 - ок. 425 до н. э.), древнегреч. историк, «отец истории» - 84
Герц Иоганн, пастор из Хемница, участник и рабочий секретарь XIX
Евангелически-социального конгресса в Дессау (1908) - 182, 196
Герцен Александр Иванович (1812-1870), рус. революционер, писатель и философ - 10, 17,
52, 53,
Былое и думы - 17, 53, 129, 254, 260, 278, 308, 337
Герье Владимир Иванович (1837-1919), историк, проф. Московского ун-та - 95, 98
Средневековое мировоззрение, его возникновение и идеал // Вестник Европы. 1891.
№ 1-4 - 95
Торжество теократического начала на Западе (XII век). Папа Иннокентий III // Вестник
Европы. 1892. № 1-2 - 98
Гете (Goethe) Иоганн Вольфганг (1749-1832), нем. поэт и мыслитель - 40, 261, 343
Фауст - 10, 44, 257, 343
Геффтер (Heffter) Август Вильгельм (1796-1880), нем. юрист, проф. ун-тов в Бонне, Галле и
Берлине - 59
Гидулянов П. В. Митрополиты в первые три века христианства. М., 1905 - 144, 163
Гладстон (Gladstone) Вильям Юарт (1809-1938), премьер-министр Великобритании в 1868-
1874, 1880-1885, 1886, 1892-1894, лидер либеральной партии с 1868 - 73, 249-251, 268
Гоббс (Hobbes) Томас (1588-1679), англ. философ-материалист - 251
Гог и Магог, в иудействе и христианстве два диких народа, нашествие которых должно
предшествовать страшному суду - 239, 333
Гоголь Николай Васильевич (1809-1852), рус. писатель - 10, 251, 292
Гольман, проф., участник XIX Евангелически-социального конгресса в Дессау (1908) - 182
Гольц (Goltz) Александр Георг Максимилиан (1835-1906), нем. протестантский теолог, проф.
в Базеле и Бонне - 156, 164
Das Gebet in der ältesten Christenheit. Leipzig, 1901 (Молитва в древнем христианстве) -
156, 164
Гомер, легендарный древнегреч. поэт, которому приписывается авторство Илиады и Одиссеи -
234
Гораций (Квинт Гораций Флакк) (65-8 до н. э.), римский поэт - 145
Горбов Николай Михайлович, рус. педагог, ученик С. А. Рачинского, журналист и
переводчик, деятель народного образования - 71, 73, 123
Горгона (миф.), в древнегреч. мифологии крылатая женщина-чудовище, от взгляда которой все
живое превращалось в камень - 267
Готгейн, Готейн (Gothein) Эберхард (183-1923), нем. историк, автор работ по культурной и
хозяйственной истории, проф. ряда германских ун-тов - 117, 118
Wirtschaftsgeschichte des Schwarzwaldes. (История хозяства Шварцвальда) - 117
Готшик (Gottschik) Иоганн Фридрих (1847-1907), нем. протест, теолог проф. в Гессене и
Тюбингене - 228, 230
Reich Gottes // Realenzyclopädie für protestantische Theologie und Kirche. Bd. 16
(Царство Божие) - 228, 230
Готфрид Младший (XI в.), лотарингский герцог - 100
Гракх Гай (Кай) Семипроний (153-121 до н. э.), римский народный трибун (123 и 122 до н. э.),
погибший вместе с братом Тиберием в борьбе с сенатской знатью Древнего Рима за
осуществление своих демократических аграрных реформ - 187, 189
571
Гревс Иван Михайлович (1860-1941), историк, проф. Петербургского ун-та - 95
Грессман (Gressmann) Хуго (1877-1927), нем. протестантский теолог, проф. в Киле и Берлине -
212, 215
Der Upsprung der israelitisch-judischen Eschatologie. Göttingen, 1905 (Происхождение
израильско-иудейской эсхатологии) - 212, 215
Григорий Великий (ок. 540-504), папа римский с 590, уделявший большое внимание
организации хозяйства на папских землях — 115
Григорий VII, Гильдебранд (ок. 1021-1085), римский папа с 1073 - 100, 101
Григорий IX, в миру - Уголино ди Сеньи (ок. 1145-1241), папа римский с 1227 - 102
Гринберг. Несвободное состояние труда // История труда в связи с историей некоторых форм
промышленности. Статьи из Handwörterbuch der Staats Wissenschaften. Пер. под ред.
С. Н. Булгакова. СПб.,-1897 - 187
Гункель (Gunkel) Герман (1862-1932), нем. протестантский теолог, проф. ряда германских
унтов - 118, 150, 164, 209, 211, 212, 234
Schöpfung und Chaos in Urzeit und Endzeit. Eine Religionsgeschichtliche Untersuchung
über Gen. 1 und Ap. loh. 12. Mit Beiträgen von H. Zimmern. Göttingen, 1896 (Творение
и хаос в начале и конце времен. Религиозно-историческое исследование первой
главы книги Бытия и двенадцатой главы Откровения Иоанна Богослова) - 212, 234
Die Wirkungen des heiligen Geistes nach der populären Anschauung der apostolischen Zeit.
Göttingen, 1899 (Влияние Святого Духа на народное мировоззрение в апостольский
век) - 164
Zum religionsgeschichtlichen Verständniss des Neuen Testaments. Göttingen, 1904 (К
Религиозно-историческому ттолкованию Нового Завета) - 212
Давид (библ.), царь Израильско-Иудейского государства (кон. XI в. - 972/950 до н..), автор
Псалмов) - 164, 165, 171, 225, 240
Дайсман, Дейсман (Deissmann) Густав Адольф (1866-1937), нем. протестантский теолог,
проф. в Гейдельберге и Берлине - 144, 152, 182-185, 194, 196, 198
Das Licht vom Osten. 1908 (Свет с Востока) - 144, 152, 183, 185
Дальман (Dalman) Герман Густав (1855-1941), нем. протест, теолог и востоковед, проф. и
директор Немецкого Протестантского ин-та в Иерусалиме - 210, 225, 325
Die Worte Jesu. Leipzig, 1898 (Слова Иисуса) - 210, 225 325
Даниил - древнееврейский пророк, автор Книги пророка Даниила, вошедшей в состав Ветхого
Завета - 208, 214, 216, 232
Данте Алигьери (1265-1321), итал. поэт, философ, политич. деятель - 226
Дарвин (Darwin) Чарлз Роберт (1809-1882), англ. естествоиспытатель, основатель
эволюционного учения - 15, 58, 273
Демокрит (ок. 460-370 до н. э.), древнегреч. философ-материалист - 57
Демосфен (384-322 до н. э.), афинский оратор и политич. деятель - 145
Джемс (James) Уильям (1842-1910), амер.философ и психолог, один из основателей
прагматизма - 234, 334, 344
Многообразие религиозного опыта. М., 1910 - 234
Дизраэли (Disraeli) Бенджамин, лорд Биконсфильд (1804-1881), англ. гос. деятель и
писатель - 251
Диоген Синопский (ок. 400 - ок. 325 до н. э.), древнегреч. философ, основатель школы
киников - 255
Дионис (миф.), в древнегреч. мифологии сын Зевса и фиванской царевны Семелы, покровитель
виноградарства и виноделия - 146
Дионисий Ареопагит (Псевдо-Дионисий Ареопагит), христианский мыслитель V или нач. VI в.,
представитель поздней патристики - 191
Дионисий Великий, епископ Александрийский в 248-265 гг. -189, 237
Дитерих (Dieterich) Альбрехт (1866-1908), нем. филолог-классик, проф. в Гессене и
Гейдельберге, специалист в области истории религии - 232
Nekyia. Beiträge zur Erklärung der neuentdecten Petrusapokalypse. Leipzig, 1893 (Ne-
kyia1. К истолкованию вновь открытого Апокалипсиса Петра) - 232
Дмитрий Иванович Донской (1350-1389), великий князь Владимирский и Московский,
организатор победы над татарами в Куликовской битве (1380) - 291
Добролюбов Николай Александрович (1836-1861), рус. литературный критик и публицист -
278
Добщюц, Добшитц (Dobschutz) Ε. фон - нем. протестантский теолог - 143, 144, 149, 153,
186, 188, 194
По-греч. - жертва, приносимая мертвым для того, чтобы вызвать их из подземного
царства; заглавие XI песни «Одиссеи».
572
Das Christenthum (Христианство) -149, 153, 165, 166
Problemen des apoistolischen Zeitalters. Leipzig, 1904 (Проблемы апостольского века) -
143, 144, 149, 166
Die urchristlichen Gemeinden. Sittengeschichtliche Bilder. Leipzig, 1902
(Раннехристианские общины. Исторический очерк нравов) - 144, 165, 166
Sclaverei und Christenthum (Рабство и христианство) - 186, 188
Дольчино (Dolcino) (ум. 1307), вождь крестьянско-плебейского восстания в сев.-зап. Италии
(1304-1307), ученик и последователь Г. Сегарелли - 240
Домициан Тит Флавий (51-96), римский император (с 81) из династии Флавиев - 155, 156, 232
Домицилла, жена Тита Флавия Климента, римлянка, обращенная в христианство - 191
Достоевский Федор Михайлович (1821-1881), рус. писатель и мыслитель - 11, 16, 19, 23, 27,
35, 45, 54, 56, 83, 100, 194, 239, 243, 251-253, 260, 262, 264, 265, 267, 277, 279, 286,
289, 294, 295, 299-309, 322, 327, 328-330, 337, 348
Униженные и оскорбленные (1861) - 305
Записки из подполья (1864) - 54, 306
Преступление и наказание (1866) - 264, 286, 303
Идиот(1868) - 252
Бесы (1871-1872) - 27, 194, 243, 264, 286, 299, 303, 304
Подросток (1875) - 307
Братья Карамазовы (1879-1881) - 35, 302, 304
Дневник писателя - 306, 309
Пушкинская речь (1880) - 289, 300, 301
Письмо к Н. П. Петерсону (24. III. 1878) - 327
Драгоманов Михаил Петрович (1841-1895), украинский историк, публицист и общественный
деятель - 339
Собрание политических сочинений. Т.1-2. Париж, 1905-1906 - 339
Древе Артур (1865-1935), нем. философ, популяризатор мифологической школы в
религиоведении - 194, 234
Die Christusmythe. Jena, 1910 (рус. пер.: Миф о Христе. Т. 1-2. М., 1923-1924) - 194
Дюшен Л., фр. католический теолог-модернист, проф. Парижского ин-та - 144
История древней церкви. 1908 - 144
Еврипид (ок. 420-406 до н. э.), древнегреческий поэт-драматург - 59
Евсевий Кесарийский (Памфил) (260/265- 38/339), римский церковный историк, епископ
Кесарии Палестинской -155, 237
Церковная история - 237
Ездра (Эздра), книжник, происходивший из династии первосвященников - потомков Моисея,
канонизатор Пятикнижия - 209, 215, 220, 223-226, 228, 232
Апокалипсис Эздры (III книга Эздры) - 209, 220, 223, 224, 228, 232
Екатерина Сиенская, Св. (1347-1380), итал. монахиня, духовидица - 97, 343
Енох (Энох), автор апокрифической книги - 208, 212, 216, 224, 225, 228
Книга тайн Еноха (Смирнов А. Книга Еноха. 1888) - 208
Славянская книга Еноха праведного // Соколов М. И. Материалы и заметки по
старинной славянской литературе. М., 1910 (Пер. на совр. рус. язык: Златоструй. Древняя
Русь Х-ХШ веков. М., 1990. С. 267-275) - 212
Ермолов А. Народная сельскохозяйственная мудрость в пословицах, поговорках, приметах.
Т. 1-4. СПб., 1902-1905 - 114
Жуковский Василий Андреевич (1783-1852), поэт, переводчик - 251
Жуковский Дмитрий Евгеньевич (1868-1943), издатель, переводчик философской
литературы - 51
Зан (Zahn) Теодор фон (1838-1933), нем. протестантский теолог, проф. ряда германских
унтов, специалист в области изучения Нового Завета - 156, 164, 165, 171, 188, 230
Iohannes des Apostel // Realenzyklopädie für protestantische Theologie und Kirche. Bd. 9
(Апостол Иоанн) - 230
Skizzen aus dem Leben der alten Kirche. Leipzig, 1908 (Очерки из жизни древней
Церкви) -156, 164, 171
Sklaverei und Christenthum in der alten Welt (Рабство и христианство в древнем мире) -
188
Захария - отец Иоанна Крестителя - 164, 209
Зевс - верховный бог в мифологии Др. Греции, бог неба, света, грозы и молнии, глава
Олимпийского пантеона, отец ряда богов и героев - 270
Зелинский Фаддей Францевич (1859-1944), филолог-классик, проф. Петербургского ун-та с
1885 по 1921, с 1921 - проф. Варшавского ун-та - 148, 209
573
Из жизни идей. СПб., 1905 - 209
Зиммель (Siramel) Георг (1858-1918), нем. философ и социолог - 28, 43
Зом (Sohm) Рудольф, нем. протестантский теолог - 143, 144, 163
Das Kirchenrecht. 1892 (Церковное право) - 144, 163
Церковный строй в первые века христианства. Пер. А. Петровского и П. Флоренского.
М., 1906 (первая глава Das Kirchenrecht) - 143
Зомбарт (Sombart) Вернер (1863-1941), нем. экономист, философ и социолог - 116, 117, 123, 192
Der kapitalistische Unternehmer // Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik.
B. XXIX. 1909 (Капиталистический предприниматель) - 123
Der moderne Kapitalismus (рус. пер.: Современный капитализм. Т. 1-2. M., 1903-1905) -
117
Иаков, апостол, автор послания, вошедшего в канонический текст Нового Завета - 130, 149
Ивакин Иван Михайлович (1855-1910), учитель старших детей Л. Н. Толстого - 323
Игнатий Богоносец (кон. I - нач. II в.), епископ Антиохийский, в своих посланиях
отстаивавший необходимость церковной иерархии ("без церкви нет епископата") - 151, 155,
159, 160, 166, 170, 171
Послание к Поликарпу - 160
Послание к Бфесянам - 151, 166
Иегова, искаженная форма имени бога (Яхве) в иудаизме - 96, 120, 214
Иеремия, Иеремиас (Ieremias) Альфред (р. 1864), нем. протестантский теолог, востоковед - 212
Das Alten Testament im Lichte des Alten Orients. Leipzig, 1906 (Ветхий Завет в свете
древнего Востока) - 212
Babylonisches im Neuen Testament. 1904 (Вавилонизмы в Новом Завете) - 212
Иеремия (кон. VII - нач. VI в. до н. э.), древнееврейский пророк, чьи проповеди вошли в
Ветхий Завет - 100
Изида (Исида), в древнеегипетской мифологии богиня плодородия, воды и ветра, волшебства,
мореплавания, покровительница умерших - 146, 246
Иисус, сын Сираха (III в. до н. э.), иудейский религиозный писатель, которому приписывают
авторство Екклезиаста, одной из книг Ветхого Завета - 118
Иисус Христос - 25, 45, 49-51, 64, 69, 72, 96, 97, 99, 100, 105, 106, 115, 118, 131, 136, 139,
142, 143, 147-150, 153, 155, 159,161, 162, 165, 166-168. 170-174, 177, 182, 193-196,
198, 204, 210, 222, 226, 229, 230, 232, 234, 237, 245, 246, 257, 263, 269-274, 289, 292,
295, 299, 303, 304-307, 309, 310, 320, 321, 327-329, 337, 343, 348, 351
Илия {библ.), ветхозаветный пророк - 209
Иннокентий III, в миру Лотарио Конти (1160-1216), римский папа с 1198 - 98, 100
Иннокентий IV, в миру Синибальдо Фиески (ок. 1195-1254), папа римский с 1243; в июне
1245 на Вселенском Соборе объявил низложенным германского императора Фридриха II
Штауфена - 101
Иоаким дель Фиоре, Иоахим Флорский (1145-1202), калабрийский монах, основавший в
горах близ Козенцеи монастырь; автор мистических сочинений, в которых три лица
Троицы толковал как три мировые эры в истории человечества, развивающейся от
рабства к свободе - 239, 240
Иоанн Богослов, один из апостолов, автор Евангелия, трех посланий и Откровения
(Апокалипсиса) - 147, 149, 155, 170, 226, 230, 238
Иоанн Златоуст (ок. 347-407), деятель вост. христ. церкви, ритор и богослов, в 398 и 404 был
Константинопольским патриархом, но был низложен и сослан; властно вмешивался в
деятельность имп. Аркадия, пытался создать послушную патриарху вселенскую церковь -
133
Иоанн Лейденский (Jan van Leiden), Ян Бокельзон (ок. 1509-1536), вождь нем. анабаптистов,
глава Мюнстерской коммуны, находившийся под влиянием идей Т. Мюнцера - 240, 252
Иоанн Салисбюрийский (Солсберийский) (1115-1180), философ и церк. деятель, родом из
Англии - 101
Иов - библейский проповедник, безропотно переносивший посланные ему свыше страдания,
главный персонаж Книги Иова, вошедшей в Ветхий Завет - 120, 227
Иодль (Jodel) Фридрих (1849-1914), австрийский философ, последователь антропологической
концепции Л. Фейербаха - 15, 19, 20
Л. Фейербах, его жизнь и учение. СПб., 1905 - 15, 19
Иона (библ.), пророк - 153
Иосиф Флавий (37-после 100), древнееврейский историк - 211
Иудейские древности. T. I-II. СПб., 1900 - 211
Иудейская война. СПб., 1900 - 211
Ипполитт Римский (кон. И-нач. III в.), раннехристианский ученик Иринея, пресвитер и
идеолог церкви в Риме, автор соч. «Философумены, или Опровержение всех ересей» - 237
574
Ириней Лионский, св. (ок. 130- ок. 202), епископ Лионский, один из ранних отцов церкви -
151, 160, 161, 163, 226, 238
Против ересей (Сочинения св. Иринея. СПб., 1900) - 226, 237, 238
Ирод I Великий (ок. 73-4 до н. э.), царь Иудеи, отличавшийся жесткостью и властолюбием;
при известии о рождении Иисуса Христа организовал "избиение младенцев" - 274
Исаак Сирин (Сириянин), христианский писатель, один из отцов церкви - 169, 313
Исайя (VIII в. до н. э.), древнееврейский пророк - 73, 214, 215, 232
Исидор Севильский (ок. 560 - 636), архиепископ Севильи (с 600), автор исторических
сочинений «Этимология», «История королей готов» и др. - 97
Иустин (Юстин) Философ - раннехристианский писатель-апологет, умерший мученической
смертью - 151, 156, 161, 164, 165, 209, 237, 238
Разговор с Трифоном иудеем// Сочинения св. Иустина, философа-мученика. М., 1892 -
151, 238
I Апология // Там же - 156, 164, 165
Каиафа, глава малого синедриона, осудившего Иисуса Христа - 274
Каин (библ.), старший сын Адама и Евы, убивший из зависти своего младшего брата Авеля - 254
Калигула Гай Цезарь (12-41), римский император (с 37) из династии Юлиев-Клавдиев,
требовавший почитать его как бога - 29
Каллист (Калликст) I (155-222), вольноотпущенник в царствование римского императора
Коммода, затем священник и (с 217) папа римский - 159
Кальвин (Calvinus) Жан (1509-1564), крупнейший деятель Реформации, основатель
кальвинизма - 48, 71, 117
Кальтгоф (Kaltgof) Альберт (1850-1906), нем. протестантский теолог, автор трудов о
происхождении и сущности христианства - 182, 184
Das Christusproblem. Grundlinien einer Sozialtheologie. 1902 (Проблема Христа. Очерк
социальной теологии) - 182
Die Entstehung des Christenthums. Neue Beiträge zum Christusproblem. 1904
(Возникновение христианства. Новая постановка проблемы Христа) - 182
Кант (Kant) Иммануил (1724-1804), нем. философ, родоначальник немецкой классической
философии - 8, 10, 23, 54, 56, 58, 59, 73, 83, 173, 219, 241, 243, 249, 255, 258, 262,
313-316, 324, 344
Критика чистого разума - 243
Streit der Fakultäten (Спор факультетов) - 219, 241
Карлейль (Carlyle) Томас (1795-1881), англ. философ и историк - 59, 71-75, 77-86, 89-94,
115, 122, 123, 251, 288, 337
Chartism. 1839 (Чартизм) - 90, 92
Condition - of Enland Question - 90
Last day pamphlets. 1850 (Современные памфлеты) - 89
Past and present. London, 1843 (Прошлое и настоящее; рус. пер.: Прежде и теперь. М.,
1906) - 71-74, 80, 92, 123
Sartor Resartus. Жизнь и мысли герр Тейфельсдрека. Т. 1-3. М., 1904 - 71, 73-75, 79,
80, 92
Герои, почитание героев и героическое в истории. СПб., 1908 - 71, 76, 79, 80, 83, 84,
288
Жизнь Кромвеля - 73
История Фридриха Великого. 1858-1865 - 73
Речь, произнесенная при вступлении в должность лорда ректора Эдинбургского
университета 2 апреля 1866 года. М., 1902 - 73
Французская революция. Пб., 1907 - 73, 86
Карнеджи, Карнеги (Carnegie) Эндрю (1835-1919), американский миллионер, филантроп -
121, 189
Kaufmanns Herrschaft - empire of business. Berlin, 1904 (Господство коммерсантов -
империя бизнеса) - 121
Карпократ (II в.), один из основоположников гностицизма, глава секты истинных гностиков
(пневматиков) - 160
Кассандра (миф.), дочь Приама, прорицательница, получившая дар пророчества от Аполлона;
однако, когда она отвергла его любовь, Аполлон сделал так, что люди перестали верить
пророчествам Кассандры, хотя они и были всегда правдивы; после падения Трои была
взята в плен Агамемноном и погибла вместе с ним от рук Клитемнестры и Эгиста - 206
Кассий Гай, римский сенатор при императоре Нероне - 188
Каутский (Kautsky) Карл (1854-1938), нем. социал-демократ, философ и историк - 144, 160,
182-184, 190, 191, 193, 196, 198, 202, 204
Der Ursprung des Christenthums. Stuttgart, 1908 (рус. пер.: Античный мир, иудейство и
христианство. 1909) - 144, 182, 202, 240
575
Кауч, Каутч (Kautsch) (1841-1910), нем. богослов, исследователь Ветхого Завета, проф. ряда
германских ун-тов - 207-212, 225
Die Apokriphen und pseudepigraphen des Alten Testaments. 2 Bde. Tübingen, 1900 (Pseudepi-
graphen) (Ветхозаветные апокрифы и псевдэпиграфы) -«207-209, 211, 212, 225
Келер (Kahler) Мартин (1835-1912), нем. протестантский теолог, проф. в Бонне и Галле - 190,
192, 228
Eschatologie // Realenzyclopädie für Protestantische Theologie und Kirche. Bd. 12
(Эсхатология) - 228
Sozialistische Irrelehren von der Entstehung des Christenthums und ihre Widerlegung.
1899 (Социалистическая ересь первохристианства и ее опровержение) - 190, 192
Кенэ (Quesnay) Франсуа (1694-1774), фр. экономист, основатель школы физиократов - 68
Керинф (ок. I в. н.), один из первых гностиков, уроженец Эфеса - 237
Кибела, в древних малоазийских религиозных верованиях - богиня, Велкая мать, мать богов,
оживотворяющая природу и приносящая плодородие - 146
Кингслей, Кингсли (Kingsley) Чарлз (1819-1875), англ. писатель и публицист,
христианский социалист - 72, 122, 251
Киприан (ок. 200-258), христ. теолог, епископ Карфагена, автор сочинений, в которых
выступал за создание сильной церковной иерархии - 131
Киреевский Иван Васильевич (1806-1856), рус. философ, литал. критик и публицист - 251,
311, 316
Кистяковский Богдан Александрович (1868-1920), правовед и социолог, участник сборников
«Проблемы идеализма» (1902) и «Вехи» (1909), главный редактор журнала
«Юридический Вестник» - 339
Клемен (Clemen) Карл Христиан (1865-1940), нем. протестантский теолог, проф. в Бонне -
Religionsgeschichtliche Erklärung des Neuen Testament. Gessen, 1909
(Религиозно-историческое толкование Нового Завета) - 212
Климент Александрийский Тит Флавий (ок. 150 - ок. 215), христианский теолог, писатель,
один из видных представителей раннехристианской апологетики - 137, 156, 157, 209
Quis dives salvetur (Какой богач спасется) - 137
Климент I Римский (ок. 30-97), раннехристианский писатель, один из первых легендарных
римских епископов (с 88/89), включенный в официально принятый католической
церковью список пап - 155, 164, 166
Первое послание к Коринфянам - 155, 164, 166
Ключевский Василий Осипович (1841-1911), историк, проф. русской истории Московского
унта - 116, 296
Благодатный воспитатель русского народа (преп. Сергий) // Троицкий цветок. № 9 - 296
Курс русской истории. М., 1908. Ч. III - 296
Книга Юбилеев (Лептогенезис, Малое Бытие), апокрифическая книга, в которой
повествуется о событиях, изложенных в книге Бытия и в начале книги Исход;
опубликована Кнопфом, нашедшим ее в Абиссинии - 208
Кнопф (Knopf) 3., нем. протестантский теолог, на рус. язык переведено его исследование
«Происхождение и развитие христианских верований в загробную жизнь». СПб., 1908 -
144, 149, 156, 163, 164, 166, 168
Das nachapostolische Zeitalter. Tübingen, 1905 (Послеапостольский век) - 144, 149, 156,
163, 164, 168
Кожевников Владимир Александрович (1852-1917), рус. философ и поэт, издатель
«Философии общего дела» Η. Φ. Федорова - 296, 322-326, 328, 329
Η. Φ. Федоров. Опыт изложения его учения по изданным и неизданным произведениям,
переписке и личным беседам. 4.1. М., 1908 - 322, 324-326, 329
Христианское подвижничество в его прошлом и настоящем. М., 1910 - 296
Коммодиан, христианский поэт и писатель III в. - 237
Конрад Марбургский (ум.1233), нем. инквизитор, прославившийся своей жестокостью - 100
Константин I Великий Флавий Валерий (ок. 285-337), римский император (с 306),
поддерживал христианскую церковь, сохраняя языческие культы - 101, 131
Конт (Comte) Огюст (1798-1857), фр. философ и социолог, основоположник позитивизма - 15,
19, 25, 35, 44, 47, 58, 107, 154, 204, 217, 254, 265*
Конфуций, Кун-цзы (ок. 551-479 до н. э.), древнекитайский философ, основатель
конфуцианства - 194
Коперник (Kopernik) Николай (1473-J543), польский астроном и мыслитель, создатель
современной гелиоцентрической картины мира - 28, 129
Корелин Михаил Сергеевич (1855-1899), рус. историк-медиевист, проф. Московского ун-та (с
1892) - 104
Ранний итальянский гуманизм. Т. 1-4. М., 1892 (2-е изд. 1914) - 104
Кромвель (Cromwell) Оливер (1599-1658), вождь английской буржуазной революции XVIII в.,
с 1653 - лорд-протектор Англии, Шотландии и Ирландии - 73, 120, 291
576
Лавров Петр Лаврович (1823-1900), рус. философ и социолог, публицист, идеолог
революционного народничества - 265
Лайпольдт (Leipoldt) Иоханнес (1880-1965), нем. протестантский теолог, проф. церковной
истории в ряде германских ун-тов - 147
Geschichte des neutestamentlischen Kanons. Leizig, 1907 (История новозаветного
канона) - 147
Лактанций Луций Целий Фирмиан (ок. 250-325/330), христианский теолог, автор сочинений,
в которых противопоставлял христианство язычеству - 209, 237
Ламберт фон Герсфельд (Герсфельдский, Ашаффенбургский) (ум. в 80-х гг. XI в.), нем.
хронист, автор Герсфельдских анналов (опубл. в: Schard Simon. Gernamicorum rerum
quatuor celebriores vetustioresque chronographi. Francoforti ad Moenum. 1566. P. 168-
224) - 100
Ланге (Lange) Фридрих Альберт (1828-1875), нем. философ и экономист, представитель
неокантианства - 19, 25
Geschichte des Materialismus (рус. пер.: История материализма и критика его значения в
настоящее время. СПб., 1899) - 19
Лаплас (Laplas) Пьер Симон (1749-1827), фр. астроном, математик и физик - 173
Лапшин Иван Иванович (1870-1952), рус. философ и психолог, неокантианец, проф.
Петербургского ун-та; в 1922 выслан за границу - 312
Лассаль (Lassalle) Фердинанд (1825-1864), деятель нем. рабочего движения,
мелкобуржуазный социалист - 52, 54, 57, 58, 65, 68, 102, 111, 196, 201, 203, 204, 339
Программа работников (1863) - 201
Речь о Фихте - 339
Лафарг (Lafargue) Поль (1842-1911), деятель французского и международного рабочего
движения - 52
Левиафан, в библейской мифологии огромное чудовище, напоминающее крокодила; после
одноименного сочинения Т. Гоббса - олицетворение государства - 25, 108
Левий, родоначальник одного из племен Израильского племенного союза - 228
Лентул, римский авгур (жрец) - 189
Леонтьев Константин Николаевич (1831-1891), рус. писатель, философ, публицист и
литературный критик - 246
Восток, Россия и славянство. Т. 1-2. 1885-1886 - 246
Лермонтов Михаил Юрьевич (1814-1841), рус. поэт - 251, 330
Песня о купце Калашникове - 294
Лессинг (Lessing) Готхольд Эфраим (1729-1781), нем. филоософ, литературный критик, один
из вождей немецкого Просвещения - 52, 211
Лист (List) Фридрих (1789-1849), нем. экономист, представитель вульгарной политэкономии -
68, 341
Лопатин Лев Михайлович (1855-1920), рус. философ и психолог - 311, 312, 315
Кн. С. Н. Трубецкой и его общее философское мировоззрение // Вопросы философии и
психологии. Кн. 81 - 311, 312
Лоррен (Lorrain) Клод (1600-1682), фр. живописец - 307
Лосский Николай Онуфриевич (1870-1965), рус. философ, представитель интуитивизма и
персонализма - 312
Обоснование интуитивизма. СПб., 1906 - 312
Лука, последователь и спутник ап. Павла, автор Евангелия и Деяний апостолов, вошедших в
канонический текст Нового Завета - 168
Лукиан (ок. 120-ок. 190), греч. писатель-сатирик, уроженец Самосаты (Сирия) - 153, 168, 172
Peregrinus (Перегрин, О кончине Перегрина) -168
Луначарский Анатолий Васильевич (1875-1933), рус. философ, эстетик, художественный
критик и драматург - 64
Лурье Семен Владимирович (1867-1927), литератор, журналист, сотрудник редакции журнала
Русская мысль в 1908-1911 - 234
Людлоу, Лэдлоу Э., англ. христианский социалист - 72, 251
Лютер (Luther) Мартин (1483-1546), основатель нем. протестантизма - 48, 105, 106, 118, 293
Люцифер (букв.: «светоносец»), падший ангел, обозначение диавола; персонаж драматической
мистерии Дж. Байрона «Каин» - 254
Магомет, Мухаммед (ок. 570-632), арабский рел. и гос. деятель, основатель ислама, автор
Корана - 194
Макарий Египетский (301-391), один из основателей христианского монашества, автор
сочинений нравоучительного характера - 169, 313
Маккавеи, представители рода Хасмонеев, возглавившие борьбу за освобождение Иудеи (167-
142 до н. э.), династия правителей Иудеи (167/152-37 до н. э.) - 211
577
Мак-Куллох (MacCulloch) Джон Рамси (1789-1864), англ. экономист - 52
Маколей (Macaulay) Томас (1800-1859), англ. историк, публицист и политический деятель - 72
Максимилла (сер. II в.), сторонница Монтана, пророчица, стоявшая во главе монтанистской
общины - 150
Мальтус (Malthus) Томас Роберт (1766-1834), англ. экономист, священник, автор «Опыта о
законе народонаселения» (1798) - 52, 53, 113
Мансгольд фон Лаутербах, средневековый философ (XI в.), критик Макробия - 101
Марат (Marat) Жан Поль (1743-1793), деятель великой французской революции, ученый и
публицист; один из вождей якобинцев: т. 2: 197 - 291
Мария Эфесская (?) (точнее: Мариям), благочестивая римская христианка во времена ап.
Павла, о которой, кроме его слов «много трудилась для нас» (Рим. 16, 6), ничего
неизвестно; Булгаков ошибается, называя ее Эфесской - 183
Маркс (Marx) Генрих (1782-1838), отец К. Маркса, советник юстиции в Трире -52
Маркс (Marx) Карл Генрих (1818-1883) - 8, 15, 17-19, 39, 51-70, 91, 111, 112, 119, 122,
196, 201, 217, 265, 273, 293, 316
Die Heilige Familie. 1845 (Святое семейство) - 17, 53, 61
Zur Judenfrage. 1843 (К еврейскому вопросу) - 61
Zur Kritik der Hegeischen Rechtsphilisiphie. 1844 (К критике гегелевской философии
права. Введение) - 17, 61, 217
Zur Kritik der politische Oekonomie. 1859 (К критике политической экономии) - 59
Капитал. Т. 1 (1867; 2-е изд. 1872) - 52, 53,. 57-59, 67, 112, 293
Манифест коммунистической партии (1848, совм. с Ф. Энгельсом) - 68
Письмо к отцу (1837) - 60
Различие между натурфилософией Демокрита и Эпикура - 60
Маркс-Эвелинг (Marx-Aveling) Элеонора (1855-1898), младшая дочь К. Маркса, жена Э. Эве-
линга - 54
Масарик (Masaryk) Томаш Гарриг (1850-1937), чешский философ-позитивист, гос. деятель,
первый президент Чехословацкой республики (1918-1935) - 18, 56
Die philosophischen und soziologischen Grundlagen des Marxismus. Wien, 1889 (рус. пер.:
Философские и социологические основания марксизма. 1900) - 18, 56
Мейер (Meyer) Эдуард (1855-1930), нем. историк древности - 186, 188, 189
Рабство в древности. СПб., 1899 - 186
Мелиоранский Б. М. Теоретическая философия С. Н. Трубецкого // Вопросы философии и
психологии. 1906. Кн. 82 (III) - 312
Меринг (Mehring) Франц (1846-1919), нем. публицист, издатель и комментатор наследия
Маркса и Энгельса, биограф Маркса - 56, 59, 60
Aus dem literarischen Nachlass von К. Marx, F. Engels und F. Lassalle. Herausgegeben
von F. Mehring. Bd.l. 1902 (рус.пер.: Из литературного наследия К. Маркса, Ф.
Энгельса и Ф. Лассаля. Под ред. Ф. Меринга. Одесса, 1908. Т. 1) - 36, 56, 82
Мессалина (ок. 22-48), жена римского императора Клавдия, прославившаяся своей
жестокостью и распутством; нарицательное имя для властолюбивых распутниц - 29
Мефистофель, наименование одного из духов зла, падшего ангела, сатаны; персонаж многих
произведений мировой литературы (Мильтон, Гете, Байрон, Лермонтов и др.) - 262
Мечников Илья Ильич (1845-1916), рус. биолог и патолог, заложивший основы комплексного
подхода к проблемам старения - 31, 245, 326
Микеланджело Буонаротти (1475-1564), итал. скульптор, живописец, архитектор и поэт - 209
Милль (Mille) Джон Стюарт (1806-1973), англ. философ-позитивист и экономист - 15, 72-74, 295
Основания политической экономии и некоторые приложения их к социальной
философии (рус. пер.: т. 1-2, 1865) - 295
Мильтон (Milton) Джон (1608-1874), англ. поэт, мыслитель, публицист и политический деятель,
автор поэм «Потерянный рай» (1667) и «Возвращенный рай» (1671), памфлетов «Ареопаги-
тика» (1644), «Иконоборец» (1649), «Защита английского народа» (1650 и 1654) и др. - 119
Милюков Павел Николаевич (1859-1943), рус. историк, публицист и политический деятель - 333
Минуций Феликс (ум. ок. 210), римский адвокат, апологет христианства - 167
Октавий - 167
Митра, в древневосточных религиях бог дневного света и олицетворение мира между людьми,
один из главных индоиранских богов - 146
Михайловский Николай Константинович (1842-1904), рус. публицист, социолог,
литературный критик, один из идеологов народничества - 13, 265, 293, 301
Моав (библ.), сын Лота от его старшей дочери, родоначальник моавитян, населявших
территорию на востоке от Мертвого моря по обе стороны реки Арион (Быт. 19, 30-37) - 333
Моисей (библ.), предводитель израильсских племен, который вывел их из египетского плена,
пророк и законодатель - 112, 129, 209, 252, 268, 290
Восшествие Моисея (Assumptio Mosis) - 209, 228
Моммзен (Mommsen) Теодор (1817-1903), нем. юрист и историк античности - 186-188, 190
578
Römische Geschichte. Berlin, Bd. I, 1854, 1886 (Римская история, рус. пер.: т. 1-3, 5,
1936-1949) - 188, 190
Монтан (сер. II в.), основатель раннехристианской секты, выступавшей против засилья
епископов и ожидавшей скорого второго пришествия (секта просуществовала до VIII в.) -
150, 233, 237
Монтескье (Montesquieu) Шарль Луи (1689-1755), фр. философ-просветитель, историк и
социолог - 117
О духе законов (1748) (рус.пер.: Избранные произведения. М., 1955) - 117
Мопассан (Maupassant) Ги де (1850-1893), фр. писатель - 347, 348
Одиночество - 347
Mop (More) Томас (1478-1535), англ. государственный деятель и писатель, один из
основоположников утопического социализма - 242
Утопия (1516) - 242
Морган (Morgan), Джон Пирпонт Морган-младший - глава крупнейшей финансовой группы
США в кон. XIX в. - 189
Морозов Николай Александрович (1854-1946), революционер-народник, поэт и ученый - 232
Моррис (Morris) Уильям (1834-1896), англ. поэт, художник и теоретик искусства,
христианский социалист - 72, 122, 251
Муретов М. Д. (1852-1917), проф. Московской Духовной академии - 229
Ренан и его Жизнь Иисуса. СПб., 1907 - 229
Мюнцер (Münzer) Томас (ок. 1490-1525), нем. революционер, один из главных вождей
Крестьянской войны 1524-1526 в Германии - 240
Надсон Семен Яковлевич (1862-1887), рус. поэт - 42
Наполеон I Бонапарт (1769-1821), фр. полководец и государственный деятель, император
(1804-1814) - 286
Нарцисс (ум. 54/55), вольноотпущенник, ближайший советник римского императора
Клавдия - 189
Науманн (Naumann) Фридрих,- проф. - участник XIX Евангелически-социального конгресса в
Дессау (1908) - 118, 182, 185
Beruf // Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Tübingen, 1909 (Профессиональное
призвание1) - 118
Некрасов Николай Алексеевич (1821-1877), рус. поэт - 249, 287
Рыцарь на час - 287
Нерон Клавдий Цезарь Август Германик (37-68), римский император (с 54) из династии
Юлиев-Клавдиев, при котором репрессиям подвергались все слои римского общества -
152, 155, 188, 189
Никодим (библ.), фарисей, член Иудейского синедриона, вставший на сторону Иисуса
Христа и, по преданию, принявший крещение от апостолов (Иоан. 3, 1-2; 7, 46, 50-
52; 19, 38-42) - 268
Ницше (Nietzche) Фридрих (1844-1900), нем. философ и поэт - 9, 10, 16, 17, 28, 35, 36, 37,
64, 83, 108, 235, 252, 255, 266, 302, 324, 330, 343, 347
Ной (библ.), десятый и последний из допотопных патриархов, спасенный Богом за праведную
жизнь от потопа (Быт. 6-8) - 223
Норберт Св. (XII в.), основатель ордена премострантов - 100
Ньютон (Newton) Исаак (1643-1727), англ. физик, астроном, математик, основоположник
классической и небесной механики - 273
Оберлен Карл Август (1824-1864), нем. теолог - 237
Пророк Даниил и Апокалипсис св. Иоанна. Тула, 1882 - 237
Овидий (Публий Овидий Назон) (43 до н. э. - 18 н. э.), римский поэт - 188
Огерий, цистерцианский аббат - 98
Ориген (ок. 185-253/254), христианский теолог, философ и ученый, представитель ранней
патристики - 148, 161, 220, 238
О началах. Казань, 1899 - 238
Орфей, мифический фракийский певец, изобретатель музыки и стихосложения - 153
Оуэн (Owen) Роберт (1771-1858), англ. утопический социалист - 56, 111, 112, 122
Павел, апостол, автор 14 посланий, вошедших в канонический текст Нового Завета - 126, 131,
133, 134, 136, 145, 147-150, 152, 153, 155-157, 159, 160, 163, 165, 183, 188, 191, 195,
197-199, 233, 254, 269, 270, 340
1 О толковании слова «Beruf» см.: Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 96-98;
122-125. «...В немецком слове Beruf, — пишет М. Вебер, - ... звучит религиозный мотив -
представление о поставленной Богом задаче...» (Указ. соч. С. 96).
579
Павленков Флорентий Федорович (1839-1900), рус. книгоиздатель; издавал биографическую
серию Жизнь замечательных людей, Энциклопедический словарь Павленкова и др. - 71
Папий Иерапольский, св. (II в.), один из младших современников апостола Иоанна Богослова,
его «слушатель» (ученик); сочинение Папия, посвященное «изъяснению Господних
изречений», сохранилось в передаче св. Иринея Лионского (Против ересей. Кн.5) и у св. Ев-
севия (Церковная история. III) - 226, 238
Паульсен Фридрих (1846-1908), нем. педагог и философ неокантианского направления - 229
Philosophie militaus. Berlin, 1903 (Философия воинствующая) - 229
Педаний Секунд (ум. 61), римский политический деятель, префект Рима, убитый своими
рабами - 188
Пени (Penn) Уильям (1644-1718), англ. политический деятель; в 1681 получил от короля
Карла II хартию на право феодального владения значительной территорией в Сев. Америке, на
которой основал колонию, получившую впоследствии название Пенсильвания - 119
Петерсон Николай Павлович (1844-1919), последователь и пропагандист учения
Н. Ф. Федорова, вместе с В. А. Кожевниковым издавший его Философию общего дела -
322, 323
Петр (Симон), апостол, первый епископ Рима - 142, 147, 161, 229, 232
Петр Во-Сернейский (Пьер де Во из Серне), католический монах, участник и летописец войн с
альбигойцами (нач. XIII в.) - 100
Петр Дамиан (Petrus Damiani) (ок. 1007-1072), итал. теолог, представитель схоластики,
выдвинувший формулу «философия - служанка богословия» - 100
Петр I Великий (1672-1725), русский царь (с 1682), первый российский император (с 1721) -
245, 276
Петрарка (Petrarka) Франческо (1304-1374), итал. поэт, родоначальник гуманизма - 259
Петровский Алексей Сергеевич (1881-1958), переводчик, сотрудник библиотеки Румянцевско-
го музея - 143
Пий, «епископ» (так официально именовался папа римский до V в.) Рима в 140-155, брат
писателя Герма (Эрма) - 159, 197
Пирогов Николай Иванович (1810-1881), рус. хирург, педагог и общественный деятель - 251
Пирожков Михаил Васильевич (1867-1926 или 1927), издатель, глава изд-ва М. В. Пирожкова
(у Булгакова ошибочно: М. И. Пирожков) - 95
Пифагор Самосский (2-я пол. VI-нач. V в. до н. э.) - древнегреч. мыслитель, математик,
религиозно-нравственный реформатор - 312
Платон (427-347 до н. э.), древнегреч. философ - 11, 94. 145, 173, 209, 234, 257, 273, 314,
319, 344
Федр (Phaedrus) - 209
Государство («Политейя») - 11
Плеханов Георгий Валентинович (1856-1918), философ и публицист, пропагандист марксизма,
один и создателей РСДРП - 57
Плиний Старший (23/24-79), римский писатель, ученый, политич. деятель, автор
Естественной истории в 37 кн. и др. сочинений - 187, 189, 191
Плотин (204/205-270), греч. философ-неоплатоник - 40, 344
Эннеады - 40
Плутарх (ок. 46 - ок. 127), древнегреч. писатель, историк и философ-моралист - 145
Поза, маркиз - персонаж драмы Ф. Шиллера «Дон Карлос», прообразом которого послужил,
по-видимому, нидерландский посол в Испании Монтиньи, который пытался привлечь к
восстанию Карлоса, но был тайно казнен по приказу Филиппа II, отца Дона Карлоса -
29, 295
Поликарп (2-я пол. II в.), священно-мученик, ученик ап. Павла, епископ Смирнский, автор
двух Посланий и др. соч. - 155, 165, 170, 171
Послание к Филиппийцам - 155
Понтий Пилат (ум. ок. 37), римский наместник Иудеи (26-36), утвердивший смертный
приговор Иисусу Христу - 229, 235, 255, 274
Преображенский Петр Алексеевич (1828-1893), протоиерей, в 1875-1891 редактор журнала
«Православное обозрение» - 238
Приска (прав.: Прискилла) (сер. II в.), «пророчица», последовательница Монтана, одна из
руководительниц общины монтанистов - 150
Прискилла, жена иудея Акилы, изгнанного из Рима по приказанию императора Клавдия,
«сотрудника» апостола Павла - 191
Прометей (миф.), древнегреч. герой, титан-провидец, защитник и покровитель человеческого
рода - 50
Прудон (Proudhon) Пьер Жозеф (1809-1865), фр. мелкобуржуазный социалист, теоретик
анархизма - 52, 53, 102, 196
Птолемей Клавдий (II в.), древнегреч. астроном, разработавший геоцентрическую систему
мира - 129
580
Пугачев Емельян Иванович (1741- или 1742-1775), донской казак, предводитель
Крестьянской войны 1773-1775 - 278, 296
Пушкин Александр Сергеевич (1799-1837) - 85, 96, 193, 251, 287, 294, 300
Борис Годунов - 294
Евгений Онегин - 287, 294
Скупой рыцарь - 137
Пфлейдерер (Pfleiderer) Otto (1839-1908), нем. протестантский теолог - 16, 144, 212
Geschichte der Religionsphilosophie von Spinosa bis auf die Gegenwart. Berlin, 1893
(История религиозной философии от Спинозы до нашего времени) - 16
Das Urchristentum. I—II. Berlin, 1902 (Первохристианство) - 144, 212
Радомысльский Г. Ε., псевдоним Г. Е. Зиновьева - 64
Разин Степан Тимофеевич (Стенька) (1630-1671), предводитель восстания в Крестьянской
войне 1670-1671 - 278, 296
Раймунд Сабундский (ум. 1436), испанский философ и теолог - 102
Естественная теология - 102
Ревилль Альбер (1826-1906), фр. либеральный теолог - 148, 207
Иисус Назарянин». СПб., 1909 - 148, 207
Реймарус Герман Самуил (1694-1762), нем. ученый, философ, теолог, гебраист - 211
Вольфенбюттелевские фрагменты - 211
Рейнах, Рейнак Теодор, фр. историк-гебраист - 232
Ренан (Renan) Жозеф Эрнест (1826-1892), фр. писатель, историк религии,
филолог-востоковед - 41, 229, 347
Dialogues et fragment philosophiques. Paris, 1895 (Философские диалоги) - 41
Жизнь Иисуса - 229
Рёскин (Ruskin) Джон (1819-1900), англ. теоретик искусства, критик, историк и публицист,
последователь Т. Карлейля - 72, 94, 122, 205, 251
Рикардо (Ricardo) Давид (1772-1823), англ. экономист - 68, 111
Риккерт (Rickert) Генрих (1863-1936), нем. философ, один из основателей Баденской школы
неокантианства — 344
Риль Алоиз (1844-1924), нем. философ-неокантианец - 28
Риттер (Ritter) Карл (1779-1859), нем. географ, проф. Берлинского ун-та (с 1820), один из
создателей геополитики - 59
Ричль (Ritschi) Альбрехт (1822-1889), нем. теолог, основатель школы либерального
протестантского богословия, названного его именем («ричлианство»), представляющей ветвь
«тюбингенской школы» - 142, 316
Роберт Вискард, средневековый поэт, автор героической поэмы о папе Григории VII - 100
Робертсон (Robertson) Джон Маккиннон (1856-1933), шотл. ученый-атеист, один из
крупнейших представителей мифологическоой школы в историографии христианства - 194
Christianity and Mythology. London, 1900 (Христианство и мифология; рус. пер. части
III: Евангельские мифы. М., 1923) - 194
Робертсон-Смит (Robertson-Smith) Уильям (1846-1894), англ. историк, библеист и востоковед -
194, 214
Der vorchristliche Jesus. 1906 (Дохристианский Иисус) - 194
The prophets of Israel and their place in history. 1907 (Израильские пророки и их место в
истории) - 214
Робеспьер Максимилиан (1758-1794), деятель великой французской революции, один из
лидеров якобинцев - 291
Родбертус-Ягецов (Rodbertus-Jagetzow) Карл Иоганн (1805-1875) - нем. экономист, один из
основоположников теории государственного социализма - 58, 68
Роде (Rohde) Эрвин (1845-1898), нем. историк греческой религии и литературы - 146
Psyche. Seelekult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen. Bd. 1-2. Tubingen; Leipzig,
1903 (Псюхе. Культ души и вера у греков) - 146
Розанов Василий Васильевич (1856-1919), писатель, критик, публицист, философ - 149
О Сладчайшем Иисусе и горьких плодах мира // Русская мысль. 1908. № 1 - 149
Рокфеллер (Rockfeller) Джон Дейвисон (1839-1937), американский финансист, основатель
одной из крупнейших финансовых династий в США - 189
Ротшильд (Rothschild), династия англ. и французских финансовых магнатов - 189
Руге (Rüge) Арнольд (1802-1880), нем. философ и публицист, младогегельянец - 61
Руссо (Rousseau) Жан-Жак (1712-1778), фр. писатель, философ, публицист, композитор - 74,
290
Рылеев Кондратий Федорович (1795-1826), рус. поэт-декабрист - 291
Савиньи (Savigny) Фридрих Карл фон (1779-1861), нем. юрист, глава исторической школы
права - 59
581
Саводник Владимир Федорович (1874-1940), историк литературы, критик - 35
Ницшеанец 40-х годов, Макс Штирнер и его философия эгоизма. М., 1902 - 35
Салтычиха (Салтыкова Дарья Николаевна; 1780-1800/1801), помещица Подольского уезда
Моск. губ., замучившая насмерть более 100 человек крепостных; в 1768 была
приговорена к смертной казни, замененной пожизненным заключением в монастырской
тюрьме - 85
Светлов Павел Яковлевич (1861-?), выдающийся русский богослов, проф. богословия
Киевского ун-та и Нежинского лицея - 230
Идея Царства Божия. Киев, 1904 - 230
Сегарелли (Segarelli) Герардо (ум. 1300), основатель секты апостоликов в Италии,
выступавший с проповедью равенства и обличениями католического духовенства в алчности;
сожжен на костре по распоряжению папы Бонифация VIII - 240
Сенека Луций Анней (ок. 4 до н. э.-65 н. э.), римский политический деятель, философ-стоик,
писатель - 145, 146, 188, 260
Сениор (Senior) Haccay Уильям (1790-1864), англ. экономист - 52
Сен-Симон (Saint-Simon) Клод Анри де Рувруа (1760-1825), фр. мыслитель, социолог,
социалист-утопист - 56, 58, 82
Серапис, синкретическое божество, имя которого представляет грецизированное соединение
имен бога Осириса и свящ. быка Аписа, почитание которого было введено царем
Птолемеем Сотером (305-285 до н. э.) в Александрии, где в честь этого бога соорудили храм
Серапеум с целью слить в его культе верования египтян и завоевателей-македонян - 146
Серафим Саровский (1760-1833), монах Саровской'пустыни, русский святой - 168, 343
Сергий Павел, проконсул острова Кипр, обращенный в христианство апостолом Павлом, с
этого времени Савл начал именоваться Павлом (см. Деян. Ап. 13, 7-12) - 191
Сергий Радонежский (Преподобный) (1321-1391), церковный и политический деятель,
основатель Троице-Сергиевой Лавры, в которой ввел для монахов общежитийный устав,
уничтожив тем самым существовавшее до того раздельное жительство монахов; оказал
значительную идеологическую и политическую поддержку великому князю Дмитрию в
период подготовки к Куликовской битве; «Житие Сергия Радонежского» описано Епифа-
нием Премудрым - 115, 116, 291, 296, 343
Симеон Богоприимец, благочестивый старец, которому было предсказано, что он не умрет,
пока не увидит Иисуса Христа (Лук. 2, 25-32) - 164
Симеон Новый Богослов (949—1022), византийский религ. писатель и философ-мистик - 169, 313
Смирнов Александр Васильевич (1843-1896), духовный писатель, протоиерей - 207, 208,
223-228
Мессианские ожидания и верования иудеев около времени Иисуса Христа (от маккавей-
ских войн до разрушения Иерусалима римлянами). Казань, 1899 - 207
Книга Еноха. 1882 - 225, 228
Псалмы Соломона. Казань, 1896 - 208, 223, 224
Смит (Smith) Адам (1723-1790), англ. экономист и философ - 68, 111, 113
Соден фон, проф. - участник XIX Евангелически-социального конгресса в Дессау (1908) -
182, 194
Соколов Павел Ильич, протоирей, ректор Тамбовской семинарии, магистр богословия - 164
Агапы или вечери любви в древнехристианском мире. Сергиев Посад, 1906 - 164
Сократ (ок. 470-399 до н. э.), древнегреч. философ - 28, 257, 324
Солнцева Софья Адриановна (по мужу Аренд), рус. писательница, знакомая и корреспондент
Ф. Лассаля, автор воспоминаний «Романтический эпизод из жизни Ф. Лассаля»
(Вестник Европы. 1887. Кн. II. С. 119-186) - 65
Соловьев Владимир Сергеевич (1853-1900), рус. религиозный философ, публицист и поэт - 9,
11, 12, 36, 41, 55, 65, 69, 83, 87, 106, 107, 122, 229, 236, 237, 239, 243, 246, 247, 251,
261, 274, 279, 295, 301, 308-310, 312, 313, 315-317, 319, 322, 323, 327-330, 337, 250
Критика отвлеченных начал (1877-1880) - 106
Чтения о богочеловечестве (1877-1881) - 41, 246, 327
Три речи в память Ф. М. Достоевского (1881-1883) - 310
Красота в природе (1889) - 330
Общий смысл искусства (1890) - 330, 350
Об упадке средневекового миросозерцания (1891) - 329
Идея сверхчеловека (1899) - 36
Три разговора (1899-1900) - 9, 229, 236, 237, 239, 329
Пасхальные письма (прав.: Воскресные письма) (1900) - 274
По поводу последних событий (1900) - 243
Письма: Е. В. С еле викой - 246
Я. Я. Страхову - 327
Л. Я. Толстому - 274
Я. Ф. Федорову - 328
582
Α. Η. Шмидт - 247
Соломон, царь Израильско-Иудейского государства (965 - ок. 928 до н. э.), автор Книги
притчей Соломоновых, Песни песней, а также Еклезиаста, вошедших в Ветхий Завет - 208,
224
Софоний, Софония - один из 12-ти малых пророков - 209
Спасский Анатолий Алексеевич (1866 - ?), проф. Московской Духовной академии - 144, 161
История догматических движений в эпоху вселенских соборов. Т. 1, 1906 - 144. 161
Спенсер (Spenser) Герберт (1820-1903), англ. философ и социолог, один из родоначальников
позитивизма - 8, 15
Спиноза (Spinosa) Бенедикт (1632-1677), нидерланд. философ - 173
Стерлинг Джон, англиканский священник, второстепенный поэт и автор дидактического
романа, сын редактора газеты «Тайме», рано умерший от туберкулеза, близкий друг Т. Кар-
лейля, который написал о нем книгу «Жизнь Джона Стерлинга» (1851) - 73, 78, 83
Стефан, первый мученик за Иисуса Христа, архидиакон - 170
Стефенс (Steffens) Генрих (1773-1845), нем. естествоиспытатель, философ и литератор; по
происхождению - норвежец - 59
Страбон (63/64-23/24 до н. э.), древнегреч. географ и историк, автор соч.: «География» и
«Исторические записки» - 187
Страхов Николай Николаевич (1828-1896), рус. философ, публицист, литературный критик -
327
Струве Петр Бернгардович (1870-1944), рус. экономист, философ и общественный деятель -
53, 57, 67, 339
Суламита, Суламифь (библ.), возлюбленная таинственная невеста в кн. Песни Песней (7, 1) -
299
Сфинкс (миф.), у древних египтян существо с телом льва и головой человека; по греч. мифу
Сфинкс является дочерью Ехидны, чудовищем с головой и грудью женщины и
крылатым телом льва; неподалеку от Фив оно подкарауливало путников и пожирало всех, кто
не мог отгадать его загадку - 13
Тернавцев Валентин Александрович (1866-1940), писатель-богослов, деятель Религиозно-
философского об-ва в Петербурге, чиновник особых поручений при обер-прокуроре
Синода - 239
Тертуллиан Квинт Септимий Флоренс (ок. 1-60-после 220) -христианский теолог и писатель,
один из основателей христианского богословия - 150, 153, 156, 157, 160, 161, 171, 237
De idolatria (Об идолопоклонстве) - 153
Апология - 156, 157, 160
Послание к мученикам (217) - 171
Тиконий - африканский епископ, родоначальник спиритуалистического понимания
Апокалипсиса - 233
Тициус, проф., участник XIX Евангелически-социального конгресса в Дессау (1908) - 182
Токмаков Иван Федорович (1836-1909), тесть С. Н. Булгакова, крымский винодел, в имении
которого (ст. Кореиз) Булгаков с семьей обычно проводил летние месяцы - 111
Толстой Алексей Константинович (1817-1875), поэт, писатель и драматург - 251
Толстой Лев Николаевич (1828-1910), рус. писатель и мыслитель - 74, 76, 77, 81-83, 89, 93,
94, 122, 135, 251, 279, 288, 322, 323, 336
Война и мир - 221, 294
Так что же нам делать - 76
Письмо к И. М. Ивакину - 323
Траян Марк Ульпий (53-117), римский император (с 98) из династии Антонинов - 155, 170,
190, 191
Трёльч (Troeltsh) Эрнст (1865-1923), нем. протестантский теолог, философ, социолог и
историк религии - 103, 115, 142, 144, 158, 192, 221, 240
Die Absolutheit des Christenthums und die Religionsgeschichte. 1902 (Абсолютность
христианства и история религии) - 142
Erlösung // Religion in Gegenwart und der Geschichte. Lief. 29-39 (Спасение) - 221
Eschatologie // Ibid. (Эсхатология) - 221
Die Soziallehren der christlichen Kirchen //Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik.
1908-1910 (Социальные учения христианских церквей и групп) - 103, 115, 192, 240
Die Trennung von Staat und Kirche. Tübingen, 1907 (Разделение государства и церкви) -
158
Тренделенбург (Trendelenburg) Фридрих Адольф (1802-1872), нем. философ и логик, критик
диалектики Гегеля - 86
Трехов - нем. социал-демократ - 53
Трубецкой Евгений Николаевич (1863-1920), князь, рел. философ, правовед, общественный
деятель - 100
583
Религиозно-общественный идеал западного христианства в XI веке. Киев, 1897 - 100
Трубецкой Сергей Николаевич (1862-1905), рус. религиозный философ, публицист,
общественный деятель -81, 207, 228, 243, 279, 311-320
Вера в бессмертие - 312
Метафизика Древней Греции - 312
О бессмертии души - 319
О природе человеческого сознания (1890) - 312, 314
Основания идеализма (1896) - 312
Учение о Логосе в его истории, философско-историческое исследование. М., 1906 -207,
228, 312, 320
Этика и догматика // Вопросы философии и психологии. 1895. Собр. соч. Т. III - 81, 312
Тургенев Иван Сергеевич (1818-1884), рус. писатель - 342
Тэн (Taine) Ипполит (1828-1893), фр. литературовед, философ и историк - 71, 72
Histoire de la littérature anglaise. 1863-1864 (рус. пер.: История английской
литературы. 1876) - 71, 73, 80, 82
Тютчев Федор Иванович (1803-1873), рус. поэт - 250, 251
Наш век - 250
Уайльд (Wilde) Оскар (1854-1900), англ. писатель, поэт, драматург, эссеист - 255
Ульман, нем. теолог, неандоровой (ортодоксальной) школы - 133
Ульпиан Домеций (Dometius Ulpianis) (ок. 170-228), римский юрист, считавший, что рабство
противоречит природе вещей (естественному праву), но оправдывавший его с точки
зрения цивильного и общенародного права - 188
Успенский Глеб Иванович (1843-1902), рус. писатель - 261, 278
Выпрямила! - 261
Учение двенадцати апостолов - 131, 150, 151, 159, 160, 163, 164
Фаларис (VI в. до н. э.), тиран из Акраганта, прославившийся своей жестокостью - 76, 92
Фалес Милетский (ок. 624-547 до н. э.), первый древнегреческий философ, один из семи
мудрецов - 106
Фауст (Faust), герой нем. легенды, возникшей в период Реформации; ученый, заключивший
союз с дьяволом ради знания, богатства и мирских наслаждений, персонаж многих
литературных произведений - 10, 44, 257, 262, 302, 350
Федоров Николай Федорович (1828-1903), рус. философ-космист -12, 239, 243, 246, 322-
331, 333
Философия общего дела. Т. 1. Верный, 1905 - 322, 323, 328-330, 350
Фейербах (Feuerbach) Людвиг (1804-1872), нем. философ-материалист и атеист - 15-48, 50,
54, 56, 57, 60—68, 82, 107, 108, 154, 204, 254, 257, 265, 266
Ergänzungen und Eläuterungen zum Wesen des Christentums (Добавления и комментарии
к Сущности христианства - 20
Gedanken über Tod und Unsterblichkeit <Todesgedanken> (Мысли о смерти и
бессмертии) - 15, 16, 30, 31
Grundsätze der Philosophie der Zukunft (1843) (Основные положения философии
будущего) - 20, 24, 28
Notwendigkeit einer Reform der Philosophie (1842) (Необходимость реформы
философии) - 20, 26
Vorläufige Thesen zur Reform der Philosophie (1842) (Предварительные тезисы к реформе
философии) - 26
Vorlesungen über das Wesen der Religion (1848-1849) (Лекции о сущности религии) -
16, 20, 22, 23, 27, 30, 31
Das Wesen des Christenthums (1841) (Сущность христианства) - 15, 16, 17, 20, 24, 25,
27, 28, 34, 37, 41, 61
«Das Wesen des Christenthums», in Beziehung auf dem «Einzigen und sein Eigenthum»
(1845) (О «Сущности христианства» в связи с «Единственным и его достоянием») -
Теогония - 16
Фельтер (Völter) Даниэль (р. 1855), нем. протестантский теолог, исследователь Библии - 234
Die Entstehung der Apokalypse. 1882 (Происхождение Апокалипсиса) - 234
Феодор Студит (739-826), византийский церковный деятель и писатель, с 798 настоятель
Студийского монастыря в Константинополе; в своих сочинения проповедовал
общежительный монастырь, основанный на строгой дисциплине занятых производительным трудом
монахов -115
Добротолюбие Т. IV - 115
Феофил, св., епископ антиохийский, писатель-апологет III в.1 - 209
1 Возможно, богослов IV-V вв. Феофил (ум. 412), автор многочисленных сочинений. Из
контекста Булгакова трудно судить, о каком именно Феофиле идет речь.
584
Фет Афанасий Афанасьеви (1820-1892), русский поэт - 251, 322, 323
Филимон, колосский христианин, адресат Послания и сотрудник апостола Павла - 159, 160
Филон Александрийский (ок. 25 до н. э.-ок. 50 н. э.), иудейско-эллинистический философ, идеи
которого пользовались большой популярностью в христианской патристике - 210
De praemiis et de poenitentiis (О наградах и наказаниях) - 210, 225
De execrationibus (О проклятиях) - 210, 225
Фихте (Fichte) (1762-1814), нем. философ - 14, 54, 56, 58, 73, 314, 342
Речи к германскому народу - 14, 342
Фишер (Fischer) Куно (1824-1907), нем. историк философии - 40
История новой философии. Т. VII. СПб., 1905 - 40
Фишер (Vischer) Эберхард (р. 1865), нем. протестантский теолог - 182, 207
Apokalyptik christliche // Die Religion in der Geschichte und Gegenwart. 1903
(Христианкая апокалиптика) - 207
Флавий Климент Тит (ум. 95), римский консул, двоюродный брат императора Домициана,
казненный им - 156
Флоренский Павел Александрович (1882-1937), рус. религиозный философ,
ученый-энциклопедист, священик - 143
Фогт, Фохт (Vogt) Карл (1817-1895), нем. естествоиспытатель, философ, один из
представителей вульгарного материализма — 53
Фома, апостол, прозванный Неверующим за то, что отказался поверить в реальность явления
Иисуса Христа после Вознесения (Ин. 20, 24-29) - 17
Фома Аквинский (1225/1226-1274), крупнейший представитель средневековой схоластики,
богословия и философии католицизма - 103, 115
Франк Себастьян (1499-1543), нем. религиозный писатель и историк -313
Франк Семен Людвигович (1877-1950), рус. религиозный философ и психолог - 340
Проблема власти // Философия и жизнь. СПб., 1910 - 340
Франциск Ассизский (1182-1226), религиозный проповедник и поэт, основатель ордена
францисканцев - 127, 139, 168, 343
Фридлендер (Friedländer) Людвиг (1824-1909), нем. историк, специалист по классической
филологии - 144, 188, 207, 210, 229
Darstellungen aus der Sitttengeschichte Roms in der Zeit von August bis zum Ausgang der
Antonine. 7-te Auflage. 1902 (Сцены нравственной жизни Рима в период от Августа
до Антонина) - 144, 188
Die religiösen Bewegungen innerhalb des Judenthums in Zeitalter Jesu. Berlin, 1905.
(Религиозные движения в Иерусалиме во времена Иисуса) - 207, 210, 229
Фридрих I Барбаросса (ок. 1125-1190), германский король с 1152, император с 1155 из
династии Штауфенов - 101
Фридрих II Великий (1712-1786), прусский король с 1740, полководец и реформатор - 73
Фридрих II Штауфен (1194-1250), германский король с 1212, император с 1220; ожесточенно
боролся с папами (Григорием IX и Иннокентием IV), потерпев в этой борьбе поражение:
в 1245 созванный Иннокентием IV Вселенский собор объявил Фридриха II
низложенным с императорского престола - 101
Фукидид (ок. 460-400 до н. э.), древнегреческий историк - 84
Фурье (Fourier) Франсуа Мари Шарль (1772-1837), фр. утопический социалист - 56
Хатч (Hatch) Эдвин (1835-1889), англ. теолог - 144
Griechentum und Christentum (Эллинизм и христианство) - 144
Хомяков Алексей Степанович (1804-1860), рел. философ, публицист, критик и поэт, один из
основоположников славянофильства - 251, 311, 316, 337, 338
Христос, см. Иисус Христос
Цвингли (Zwingli) Ульрих (1484-1531), швейцарский реформатор католицизма,
предшественник кальвинизма - 48
Цезарь Гай Юлий (102/100-44 до н. э.), римский политический деятель, полководец и
писатель - 84, 145
Цельс (II в.), философ-эклектик, автор сочинений («Правдивое слово» и др.), направленных
против христианства - 153, 156, 168, 172, 183
Цецилия, св. (ум. ок. 230), рим. христианка, мученица, чье имя стало символом
целомудрия - 29
Циммерн (Zimmern) Г. (1862-1931), нем. историк ближневосточных религий и филолог в
области семитских языков - 194, 212
Zum Streit um die Christusmythe. Das babilonische Material in seinen Hauptpunkten
dargestellt. Berlin, 1910 (К спору о мифе о Христе. Как изображает его вавилонский
материал) - 194,
Цицерон Марк Туллий (106-43 до н. э.), римский политич. деятель, оратор, писатель - 189
585
Чаадаев Петр Яковлевич (1794-1856), рус. философ, автор «Философических писем» - 251
Чернышевский Николай Гаврилович (1828-1889), революционер-демократ, писатель,
публицист и литературный критик - 18, 278, 295, 333
Чехов Антон Павлович (1860-1904), рус. писатель - 44
Ионыч - 29
По делам службы - 44
Чичерин Борис Николаевич (1828-1904), рус. общественный деятель, юрист, историк и
философ - 55, 314
Швейцер (Schweizer) Альберт (1875-1965), нем.-фр. протестантский теолог и миссионер, врач
и музыкант - 210, 211, 228, 325
Von Reimarus zu Wrede. Geschichte der Leben-Jesu-Forschung. Tübingen-Leipzig, 1906
(От Реймаруса к Вреде« История исследования жизни Иисуса) - 210, 211, 229, 325
Das Messianitats-und Leidensgeheimniss. Eine Skitzze des Lebens Jesu. Tübingen, 1901
(Тайна мессианизма и страдания. Очерк жизни Иисуса) - 210
Шекспир (Shakespeare) Уильям (1564-1616), англ. драматург и поэт - 54, 273
Гамлет - 331
Тимон Афинский - 54
Шеллинг (Schelling) Фридрих Вильгельм Йозеф (1775-1854), нем. философ - 9, 10, 40, 41, 58,
142, 314, 315, 351
Philosophie der Mythologie (Философия мифологии) - 142
Шестов (наст, фамилия Шварцман) Лев Исаакович (1866-1938), философ и литературный
критик - 17, 305
Шлейермахер (Schleiermacher) Фридрих (1768-1834), нем. философ и теолог - 22
Шмидт Анна Николаевна (1851-1905), нижегородская журналистка, корреспондент В. С.
Соловьева - 247
Шмидт (Schmidt) Карл (1812-1895), нем. протестантский теолог, исследователь
раннехристианских текстов - 164
Gnostische Schriften in koptischer Sprache. Leipzig, 1892 (Гностические писания на
коптском языке) - 164
Шопен Фредерик (1810-1849), польский композитор и пианист - 319
Шопенгауэр (Schopenhauer) Артур (1788-1860), нем. философ - 8, 10, 314
Штауфены, Гогенштауфены - династия германских королей и императоров Св. Римской
империи в 1138-1254; см. Фридрих I, Фридрих II - 102
Штейн (Stein) Лоренц фон (1815-1890), нем. юрист, государствовед и экономист - 58
Штирнер (Stirner) Макс (наст, имя и фамилия - Каспар Шмидт) (1806-1856), нем. философ-
младогегельянец - 17, 24, 25, 31-39, 46, 54, 61, 64, 108, 265
Der Einzige und sein Eigenthum. 1882. (Единственный и его собственность) - 31, 32, 34, 35
Штраус (Straus) Давид Фридрих (1808-1874), нем. философ-младогегельянец - 57, 194
Шульце-Геверниц (Schulze-Gävernitz) Герхард (1864-1943), нем. экономист, представитель
исторической школы политэкономии - 72, 94, 117, 119J 120, 121, 123, 250
Britischer Imperialismus und Englischer Freihandel. Zu Beginn des zwanzigsten
Jahrhunderts. Leipzig, 1906 (Британский империализм и англйское фритредерство к началу XX
века) - 117, 119-121, 123, 250
Биография Карлейля - 72
Шюрер (Schürer) Эмиль (1844-1910), нем. протестантский теолог - 190, 192, 207, 209-211,
225, 228, 331
Geschichte des judischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi 2-te Aufl. I—II Teile (История
иудеев во времена Иисуса Христа) - 190, 207, 209, 210
Das messianische Selbstbewusstsein Jesu Christi. Göttingen, 1903 (Мессианское
самосознание Иисуса Христа) - 211, 225, 228, 231
Эдип - в древнегреч. мифологии царь Фив; персонаж драмы Софокла «Царь Эдип», которому
оракул предсказал убить своего отца и жениться на собственной матери - 13
Эйкен (Eucken) Гейнрих, нем. историк - 95-99, 101-107, 110, 116
История и система средневекового миросозерцания. СПб., 1907 - 95-99, 101-107, 116
Эйкен (Eucken) Рудольф (1846-1926), нем. философ, последователь И. Г. Фихте, лауреат
Нобелевской премии по литературе (1908) - 263
Hauptprobleme der Religionsphilosophie der Gegenwart. Berlin, 1907 (Основные проблемы
современной религиозной философии) - 263
Экхарт Иоганн (Мейстер Экхарт) (ок. 1260-1327), нем. религиозный философ-мистик и
проповедник - 313
Энгельс (Engels) Фридрих (1820-1895) - 17, 18, 20, 36, 37, 39, 56, 59, 60, 62, 63, 66, 67, 82,
87, 89, 200
586
Die Lage Englands. 1844 (Положение Англии. Томас Карлейль. Прошлое и настоящее) -
17, 36, 63, 82
Ludwig Feuerbach und Ausgang der klassischen deutschen Philosophie. 1886 (Людвиг
Фейербах и конец классической немецкой философии) - 17, 20, 66
Анти-Дюринг (1876-1878) - 67
Энкелад (миф.), один из гигантов, враг олимпийских богов, на которого Афина обрушила
остров Сицилия; согласно мифу, извержение вулкана Этна является следствием
мучительного дыхания погребенного под островом Энкелада - 91
Эпиктет (ок. 50-ок. 138), римский философ-стоик - 57, 145, 168
Эрбрехт Рудольф, нем. юрист - 59
Эрма, Герма (Hermas) (II в.), раннехристианский писатель, вольноотпущенник, брат
руководителя римской христианской общины Пия - 151, 157, 159, 60, 169, 232
Пастырь (рус. пер.: Памятники древней христианской письменности. Мм 1860. Т. II). -
151, 157, 169, 232
Эшенмейер (Eschenmayer) Карл Август (1768-1852), нем. философ, проф. философии и
медицины в Тюбингене - 40
Эшли (Ashley) Уильям Джеймс (1860-1927), англ. историк и экономист - 102
Экономическая история Англии в связи с экономической теорией. М., 1897 - 102
Ювенал (55/60-ок. 130), римский поэт-сатирик - 188
Юлихер (Julicher) А. - нем. протестантский теолог, на рус. язык переведено его соч. «Религия
Иисуса и начало христианства до Никейского собора» // Общая история европейской
культуры. СПб., (1910). Т. V. - 144, 194
Юм (Hume) Давид (1711-1776), англ. философ, историк и экономист -251, 266
Ягве, Яхве - непроизносимое имя Бога в иудаизме - 214, 223, 228
Яковенко Валентин Иванович (1859-1915), рус. писатель и переводчик, автор ряда книг,
изданных в библиотеке Φ. Φ. Павленко «Жизнь замечательных людей» - 71
Atzberger L. Geschichte der Eschatologie innerhalb der vornikaischen Zeit. Freiburg/Br. 1896
(История эсхатологии в доникейский период) - 150, 238, 239
Baldensperger W. Die messianisch-apokalyptischen Hoffnungen des Judenthums. Strassburg, 1903
(Мессианско-апокалиптические ожидания иудейства) -207, 226
Das messianische Selbstbewusstsein Jesu im Lichte der messianischen Hoffnungen seiner
Zeit. 1903. (Мессианское самосознание Иисуса в свете мессианских надежд его
времени) - 208, 210, 217
Baur A. Johann Calvin. Tübingen, 1909 (Жан Кальвин) - 117
Beer G. Pseudepigraphen des Alten Testaments // Realenzyclopädie für protestantische Theologie
und Kirche. 3-te Aufl. Bd. 16 (Ветхозаветные псевдэпиграфы) - 207, 208, 211
Below V. Die Unfreiheit - 186
Bigelmair. Die Beteiligung der Christen am öffentlichen Leben in vorkonstantinischer Zeit.
München, 1902 (Участие христиан в общественной жизни доконстантиновского
периода) - 157
Böklen Ε. Die Verwandtschaft der jüdisch-christlichen mit der parsischen Eschatologie. Gottingen,
1902 (Родство иудейско-христианской и персидской эсхатологии) - 212
Buddensieg R. - 119
Charles R. N. Eschatology hebrew, Jewish and christian. London, 1899 (Еврейская, иудейская и
христианская эсхатология) - 207-209, 213, 214
Das Christum. 1908 (рус. пер.: Христианство в освещении протестантских теологов. Сб.
статей К. Корниля, В. Штэрка, Е. фон-Добшитца, Е. Трёльча, В. Германа. СПб., 1914)
Cornill. Die Einleitung in das Alte Testament. 1908 (Введение в Ветхий Завет) - 207, 208
Der israelitische Prophetismus. 1906 (Израильские пророки) - 214
Das Christentum. 1908 (Христианство) - 144
Cumont Fr. Les religions orientales dans le paganisme romain. Paris, 1907 (Восточные религии в
римском язычестве) - 146
Feiten Jos. Neutestamentliche Zeitgeschichte oder Judentum und Heidentum zur Zeit Christi und
der Apostel. Bd. I-II., Regensburg, 1910 (История новозаветного периода или иудейство
и язычество во времена Христа и Апостолов) - 207
Fiebig Р. Apokaliptik-Judische // Die Religion in der Geschichte und Gegenwart
(Handwörterbuch hrsg. von F.M. Schiele) (Апокалиптика иудейская)
Die Offenbarung Johannis und die romische Apokalyptik der romischer Keiserzeit. 1907
(Откровение Иоанна и римская апокалиптика в период империи) - 207
587
Friedlieb (hrsg.) Χρησμοί Σφυλλιακοι. Die sibillynische Weissagungen. Leipzig, 1852 (Сивиллины
пророчества). - 210
Geffcken I. Aus der Werdezeit des Christenthums. Leipzig, 1Q04 (Из времни возникновения
христианства) - 143, 154, 161, 166, 169, 171, 233
Komposition und Entstehundszeit der Oracula Sybillina. Leipzig, 1902 (Композиция и
время происхождения Оракула Сивиллы) - 210
Giesebrecht Fr. Die Grundzüge der israelitischen Religionsgeschichte. Leipzig, 1908 (Основные
черты израильской религиозной истории) - 207
Hauck А. - 117, 119
Heinrizi. Das Urchristentum. 1-902 (Первохристианство) - 144
Henneke Ε. Neutestamentliche Apokryphen und Handbuch zu den neutestamentliche Apokryphen.
Tübingen und Leipzig, 1904 (Новозаветные апокрифы и Справочник к ним) - 207, 208, 232
Herzog J. J. - 117, 119
Hilgenfeld. Die Ketzergeschichte des Urchristenthums. Leipzig, 1884 (История ересей во времена
первохристианства) - 150, 153
Hollman G. Welche Religion hatten die Juden als Jesus auftrat. 1905 (Какая религия относится
к евреям так, как учил Иисус) - 207
Hundesgagen К. В. - 119
Iensen. Gilgamesch-epos in der Weltliteratur. 1907 (Поэма о Гильгамеше в мировой
литературе) - 194
Moses, Iesus, Paulus. Frankfurt a/M. 1909 (Моисей, Иисус, Павел) - 194
Marquardt. Privatleben der Römer (Частная жизнь римлян) - 188
Maurenbrecher M. Von Nazareth nach Golgotha. 1909 (От Назарета до Голгофы) - 182
Von Ierusalem nach Rom. 1910 (От Иерусалима до Рима) - 182
Meyer H. - 232
Orelli V. Messias // Realenzyclopädie für protestantische Theologie und Kirche. Bd. 12 (Мессии) -
228
Scheel O. - 118
Schiele Fr. - 118, 144, 207, 212
Schneckenburger. Vorlesungen über die Lehrbegriffe der kleineren protestantischen
Kirchenparteien. Frankfurt/Main, 1863 (Лекции об учениях малых протестантских
церковных партий) - 119
Semitsch (Bratke). Chiliasmus // Realenzyclopädie für protestantische Theologie und Kirche. Bd. 7
(Хилиазм) - 239
Stahlin - 117
Staerk W. Neutestamentliche Zeitgeschichte. Leipzig, 1907 (Новозаветная история) - 207, 211
Uhlhorn. Die christliche Liebeshältigkeit. 1882 (Христианская деятельная любовь) - 188
Die Vorhandlungen des XIX Evangelisch-Socialen Kongresses abgehalten in Dessau am 9-11.
Juni 1908. Göttingen, 1908 (Протоколы XIX Евангелическо-социального конгресса,
состоявшегося в Дессау 9-11 июня 1908) - 182
Volz Р. Judische Eschatologie von Daniel bis Akiba. Tübing. u. Lpzg., 1903 (Иудейская
эсхатология от Даниила до Акибы) - 207, 210, 223, 225, 228
Vorländer К. Die sozialistischen Pfarrer // Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. 1910.
N 5 (Социалистический приход) - 196
Weingarten H. Die Revolutionskirchen Englads (рус. пер.: Вейнгартен Г. Народная реформация
в Англии XVIII в.. М., 1901) - 119, 176, 240
Windisch H. Der messianische Krieg und das Urchristentum. Tübingen, 1909 (Мессианская война
и первохристианство) - 211
Ziegler Th. Geschichte der christlichen Ethik. Strassburg, 1902 (История христианской
этики) - 117
С.Н.Булгаков
ДВА ГРАДА.
Исследование о природе общественных идеалов
Составитель: Сапов В.В.