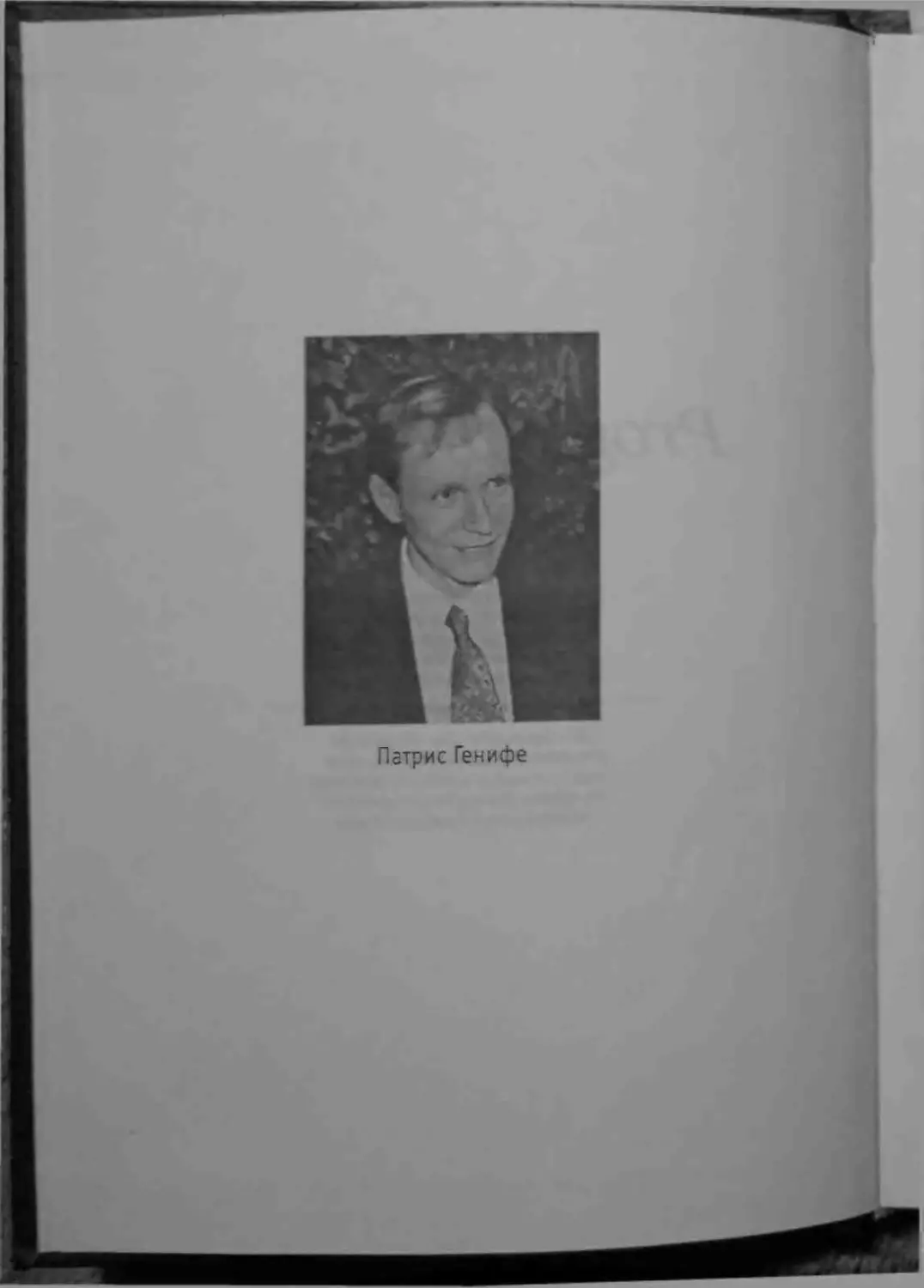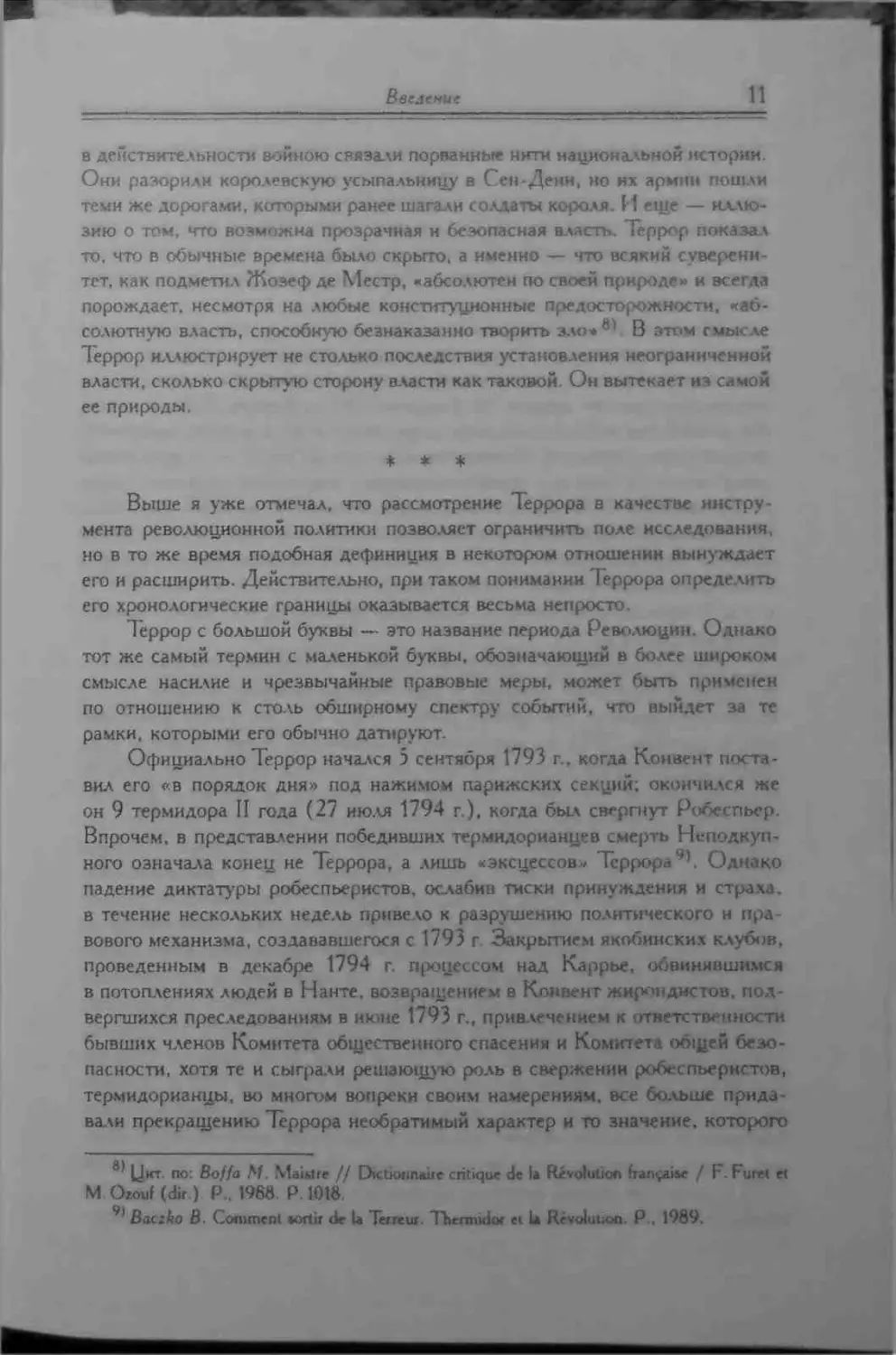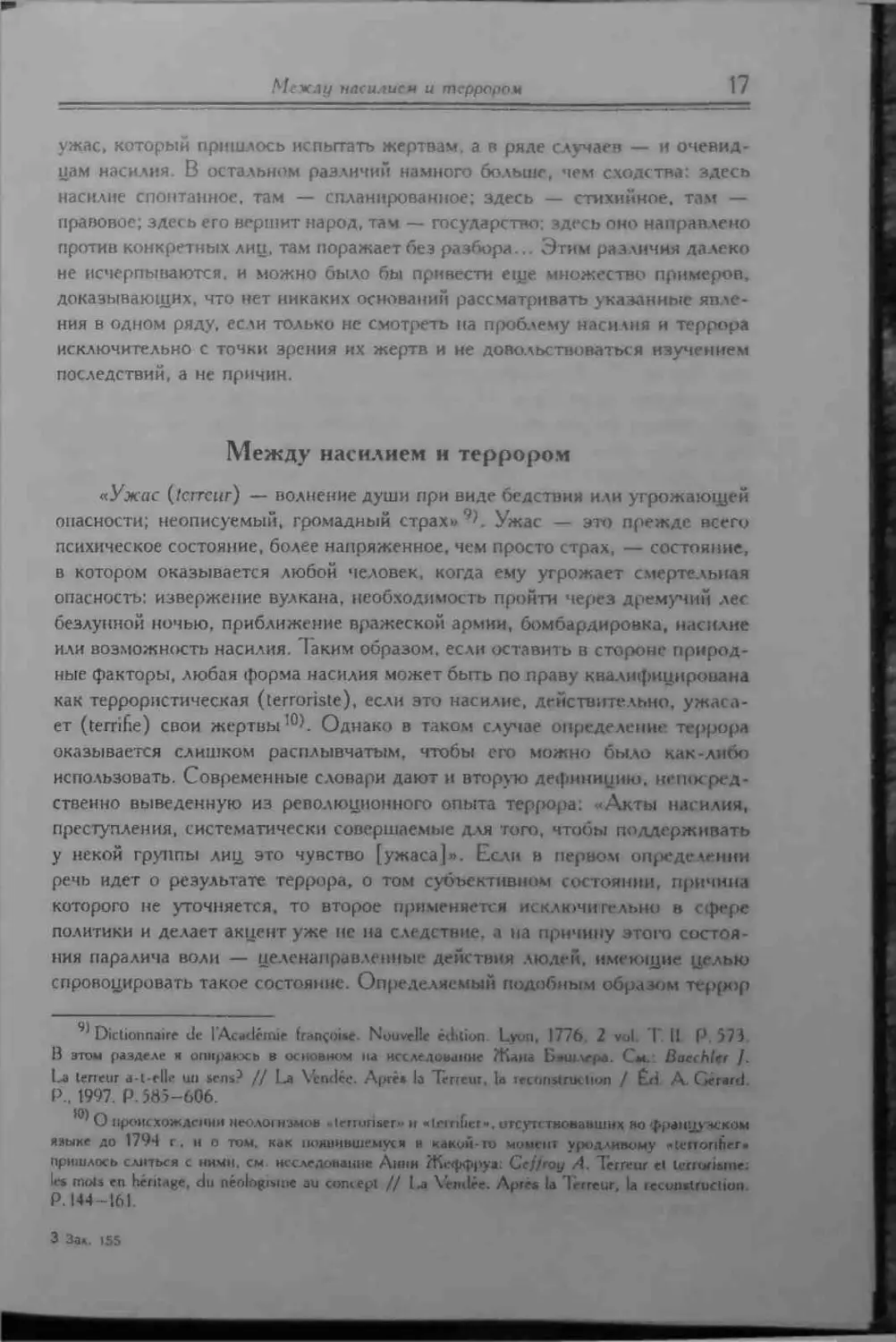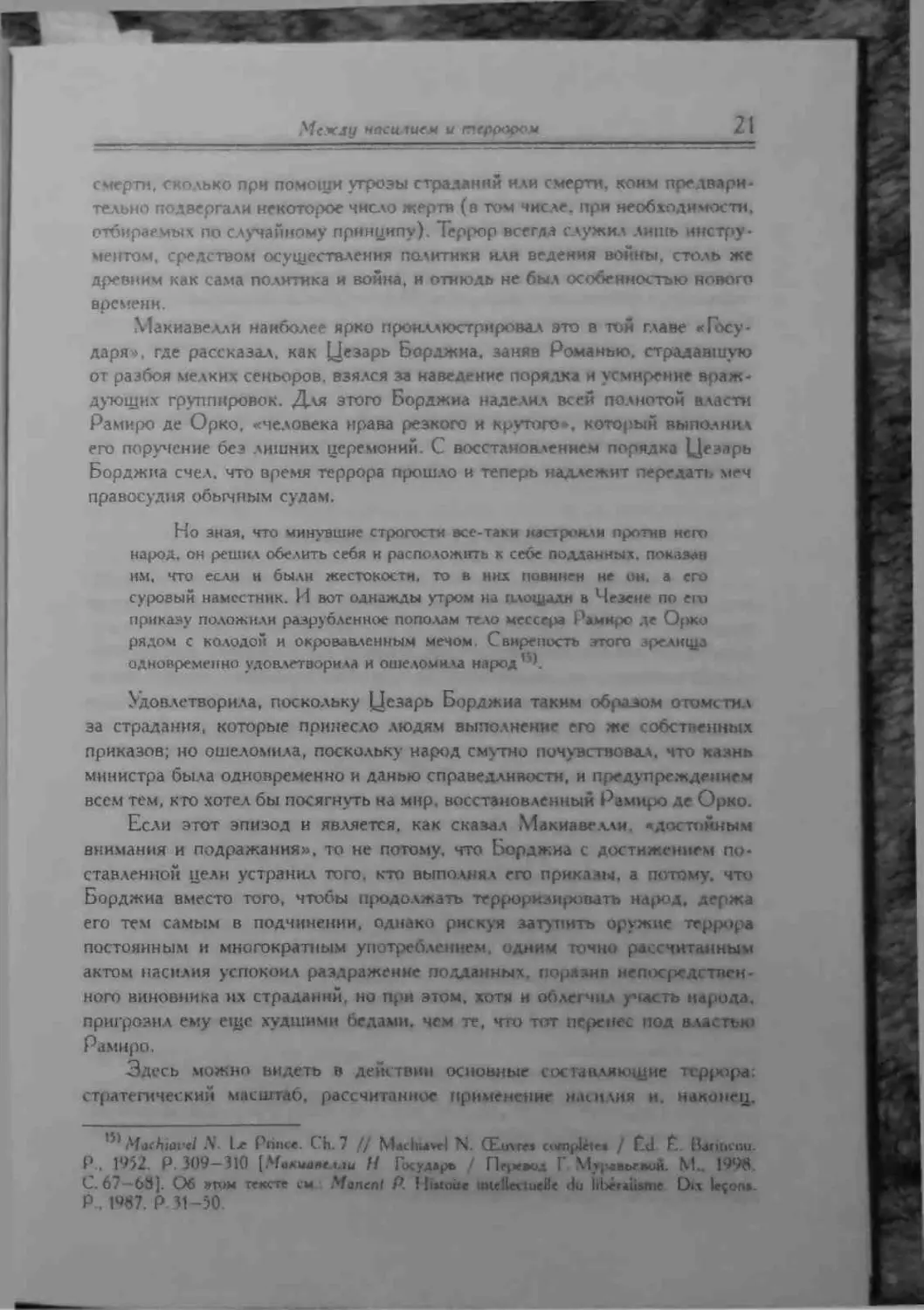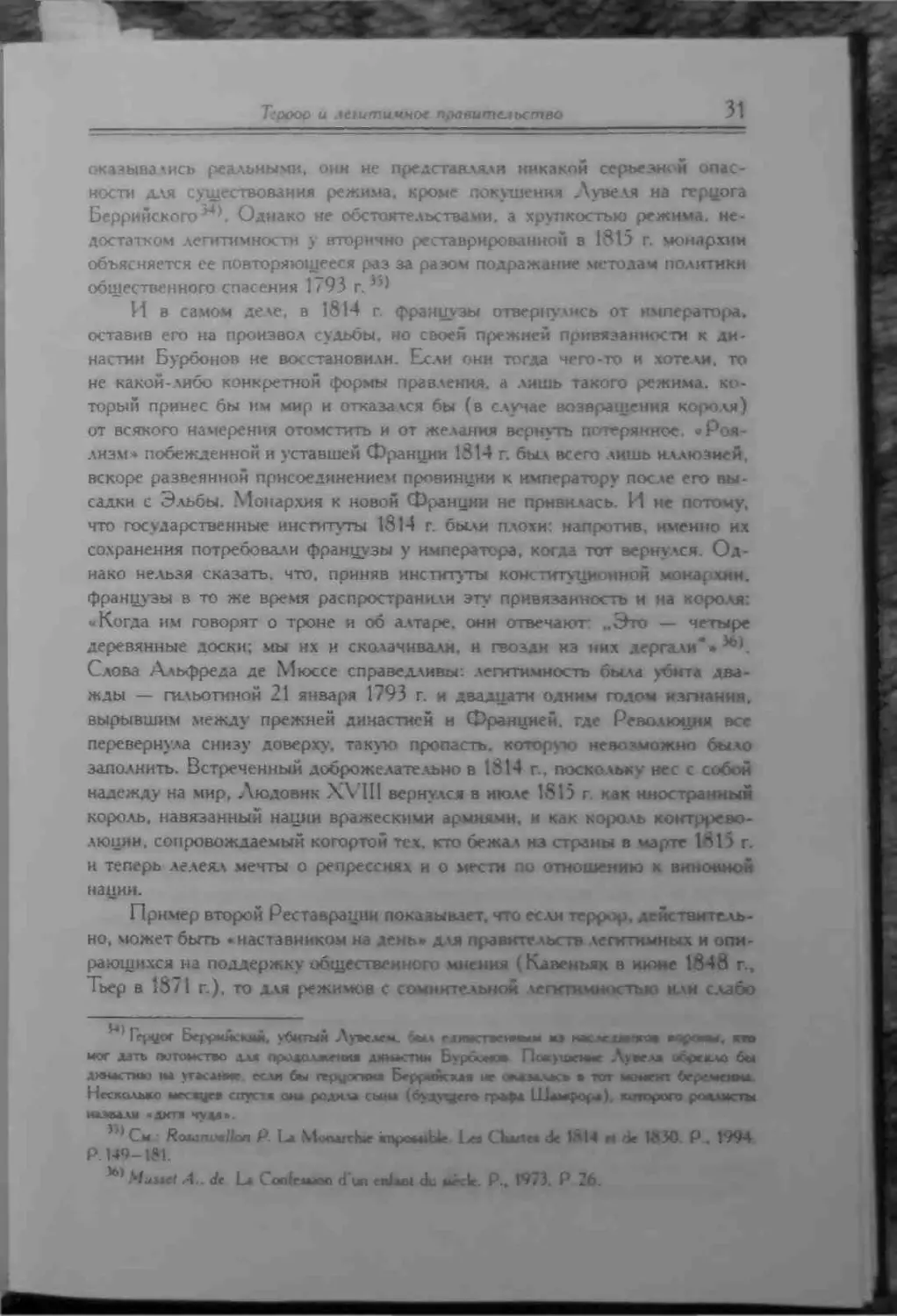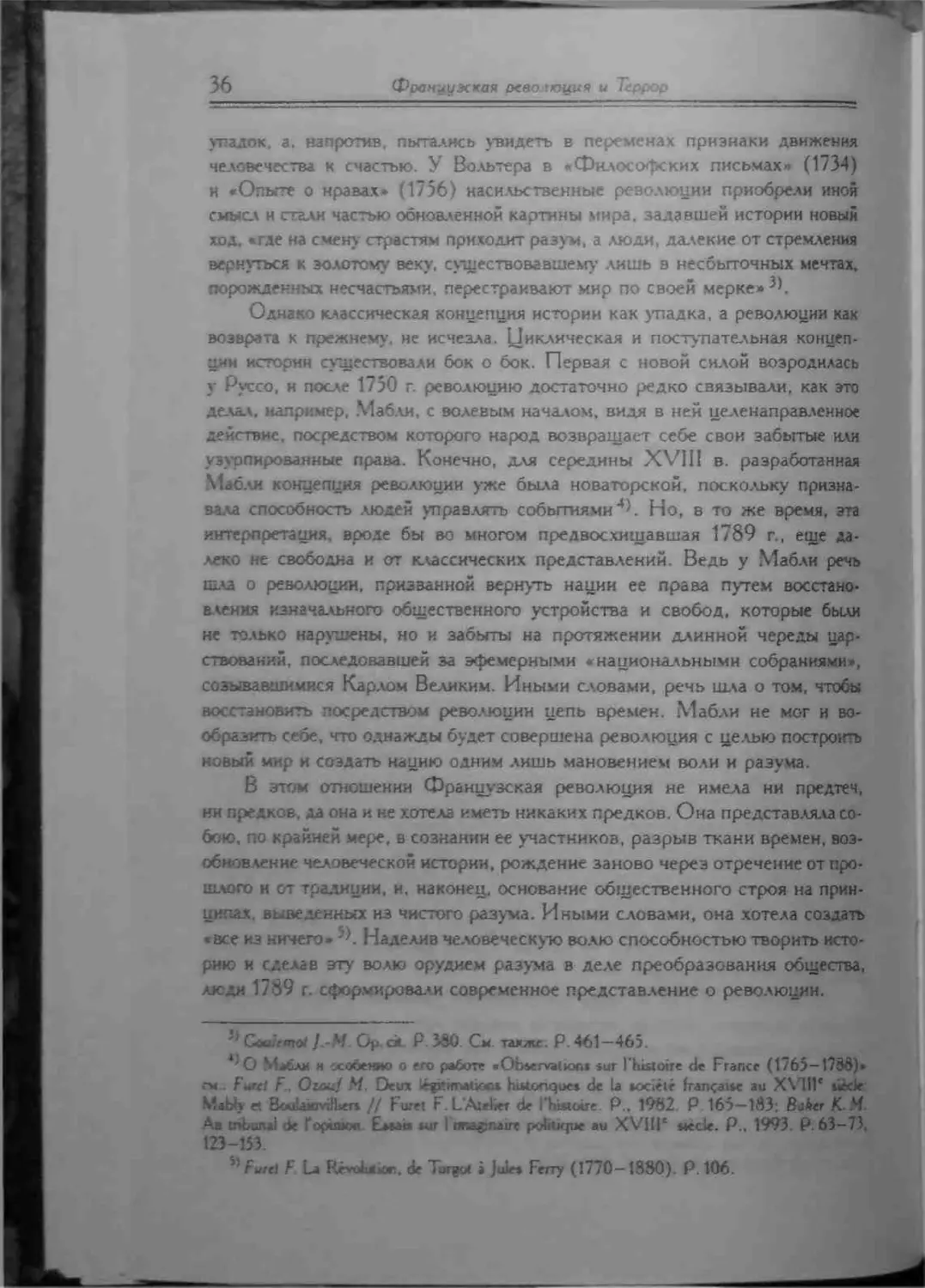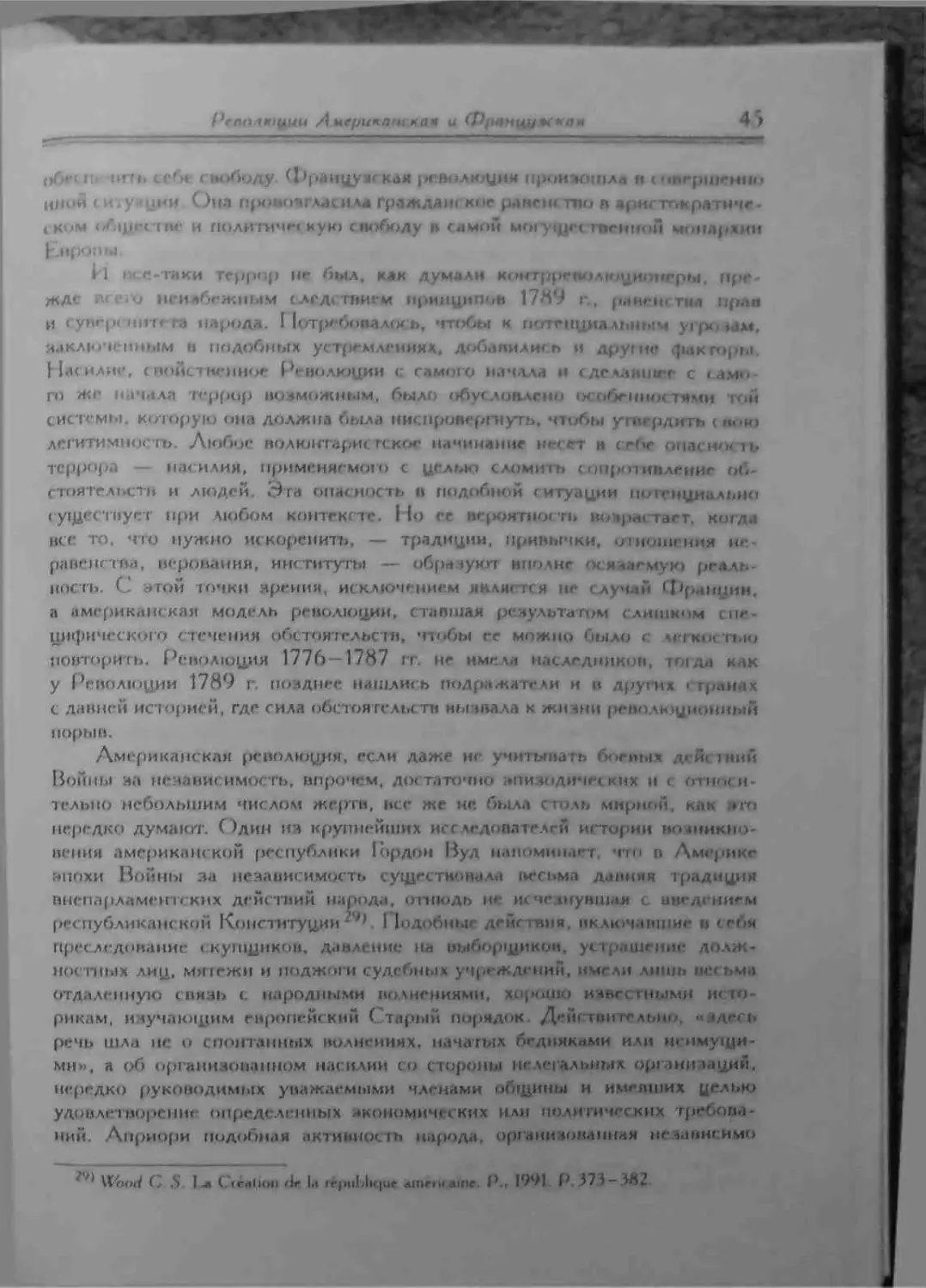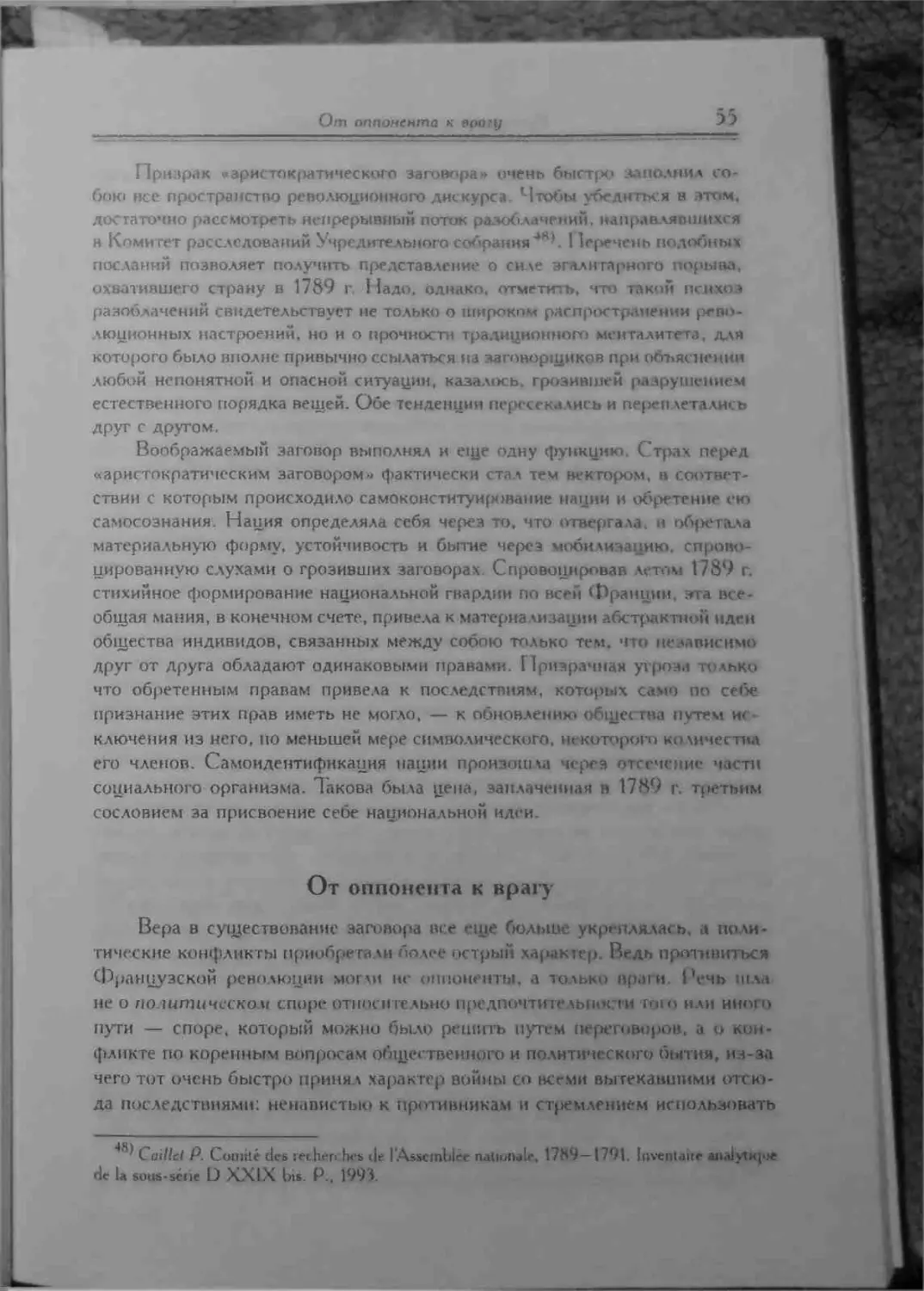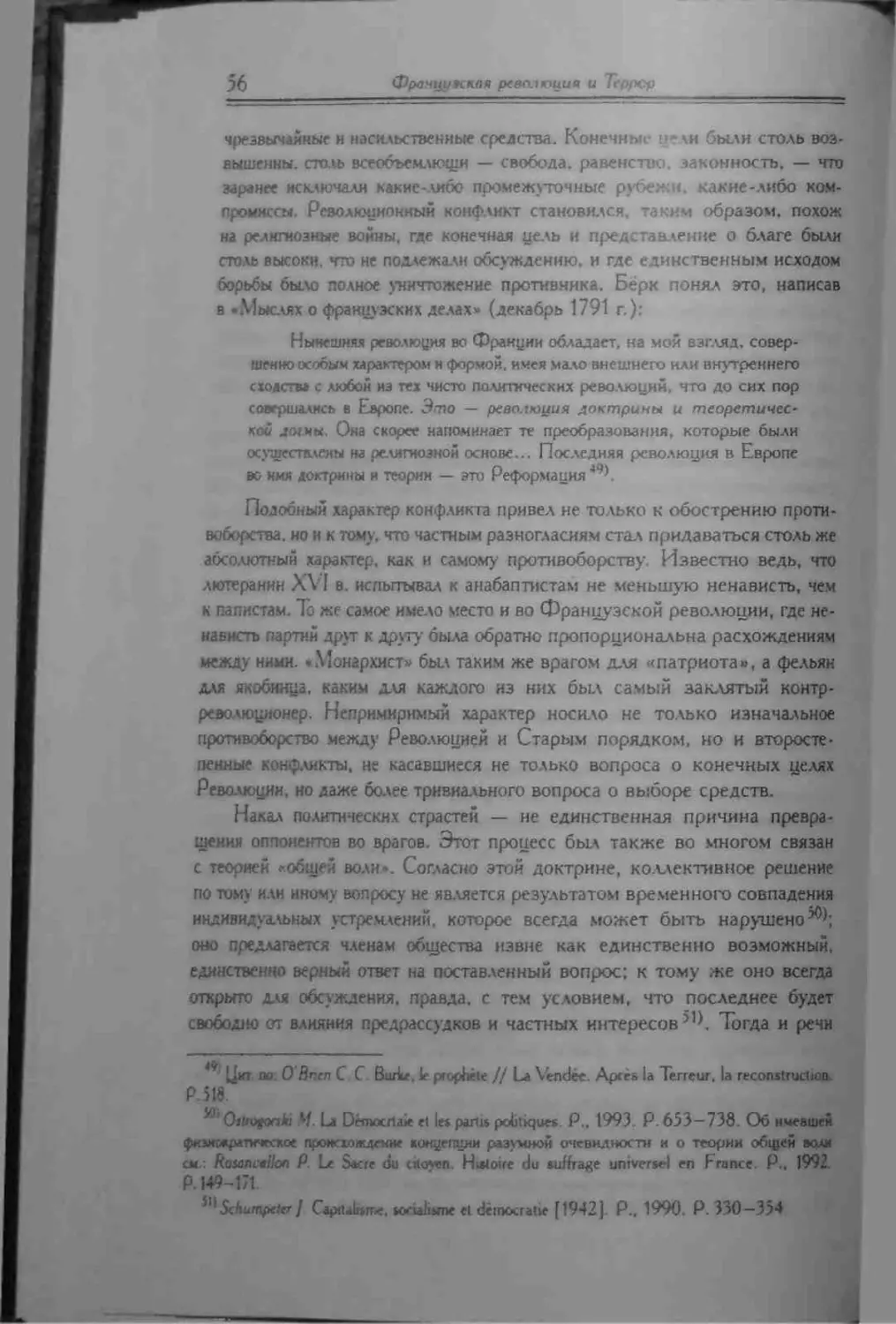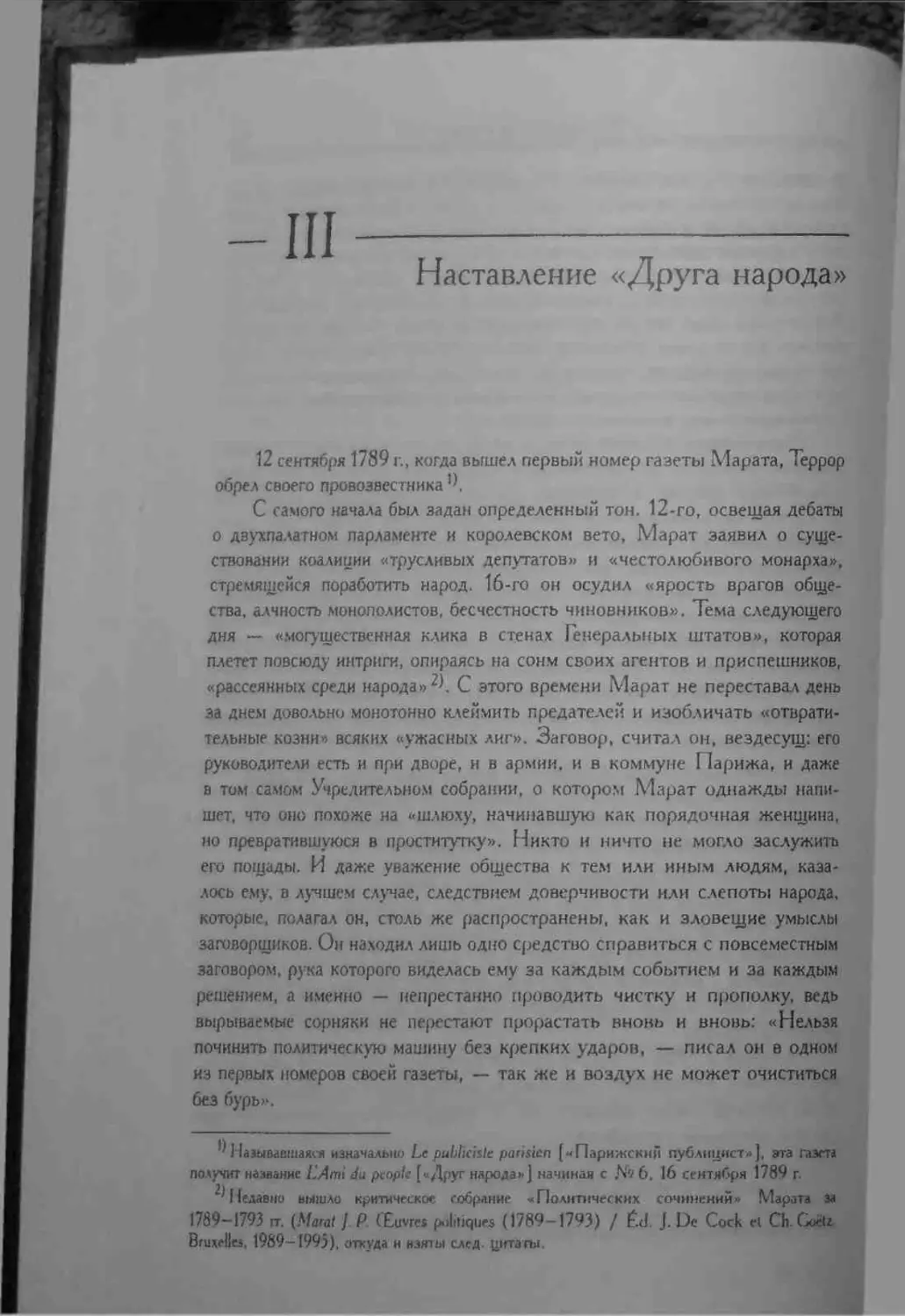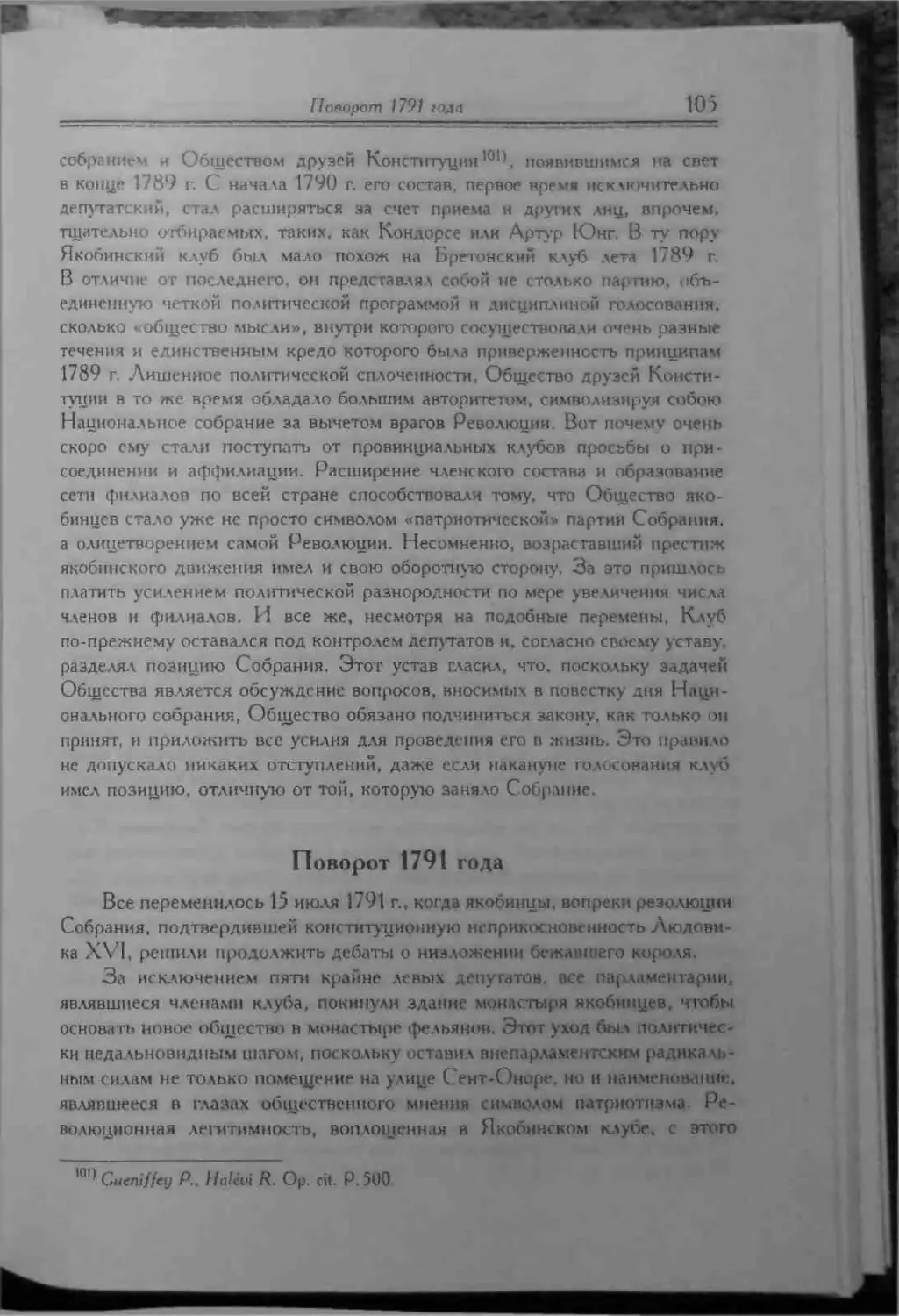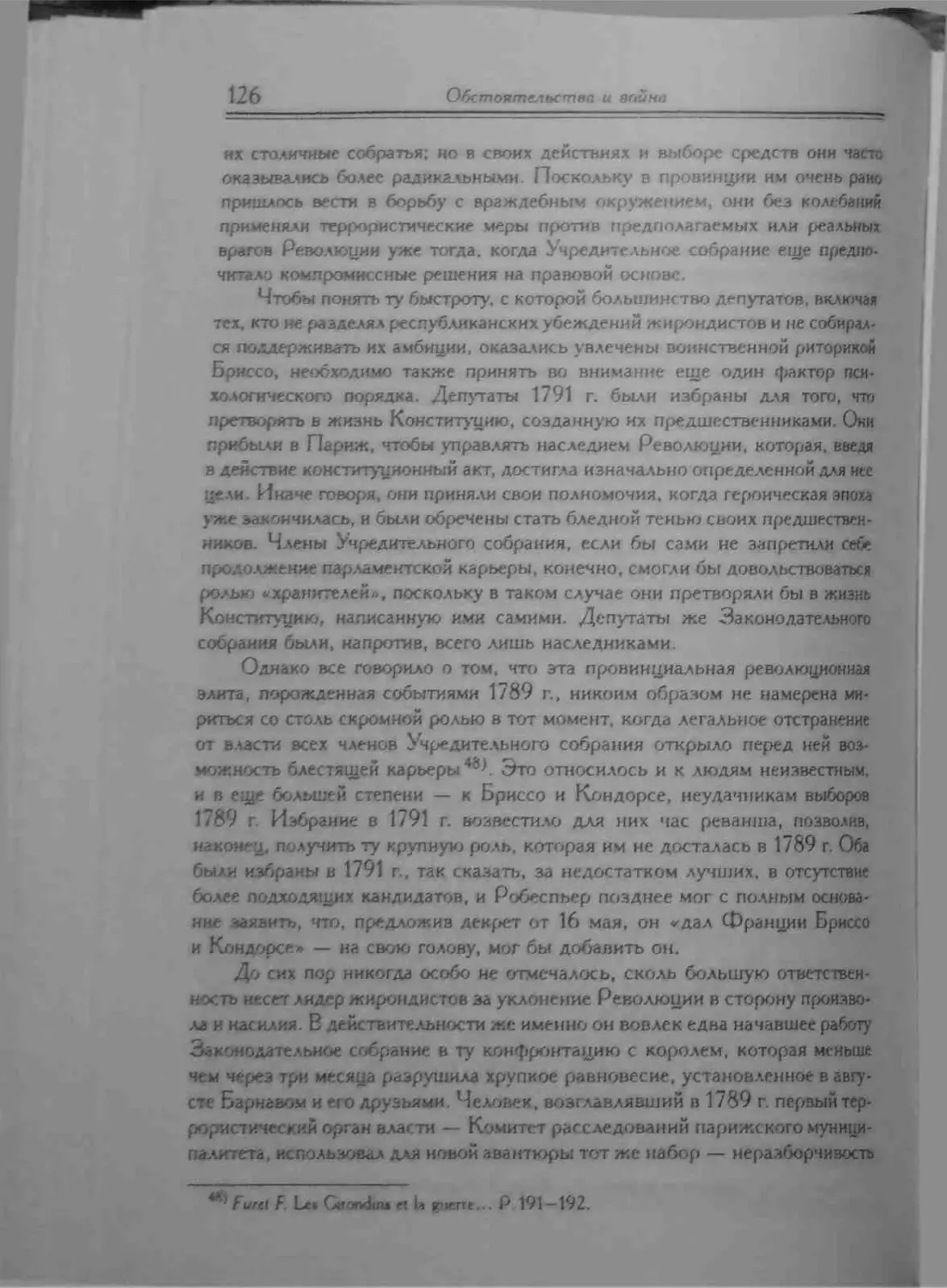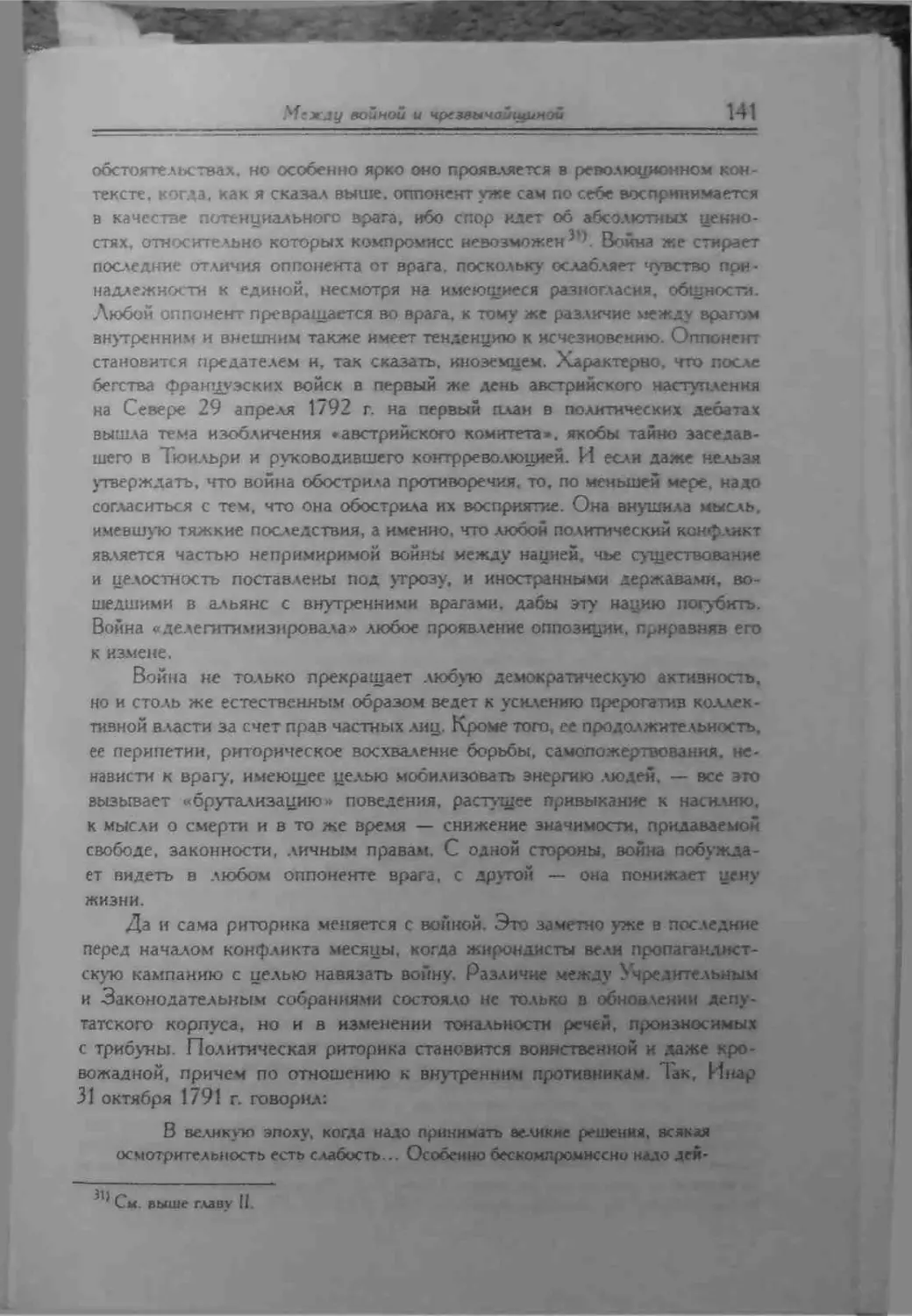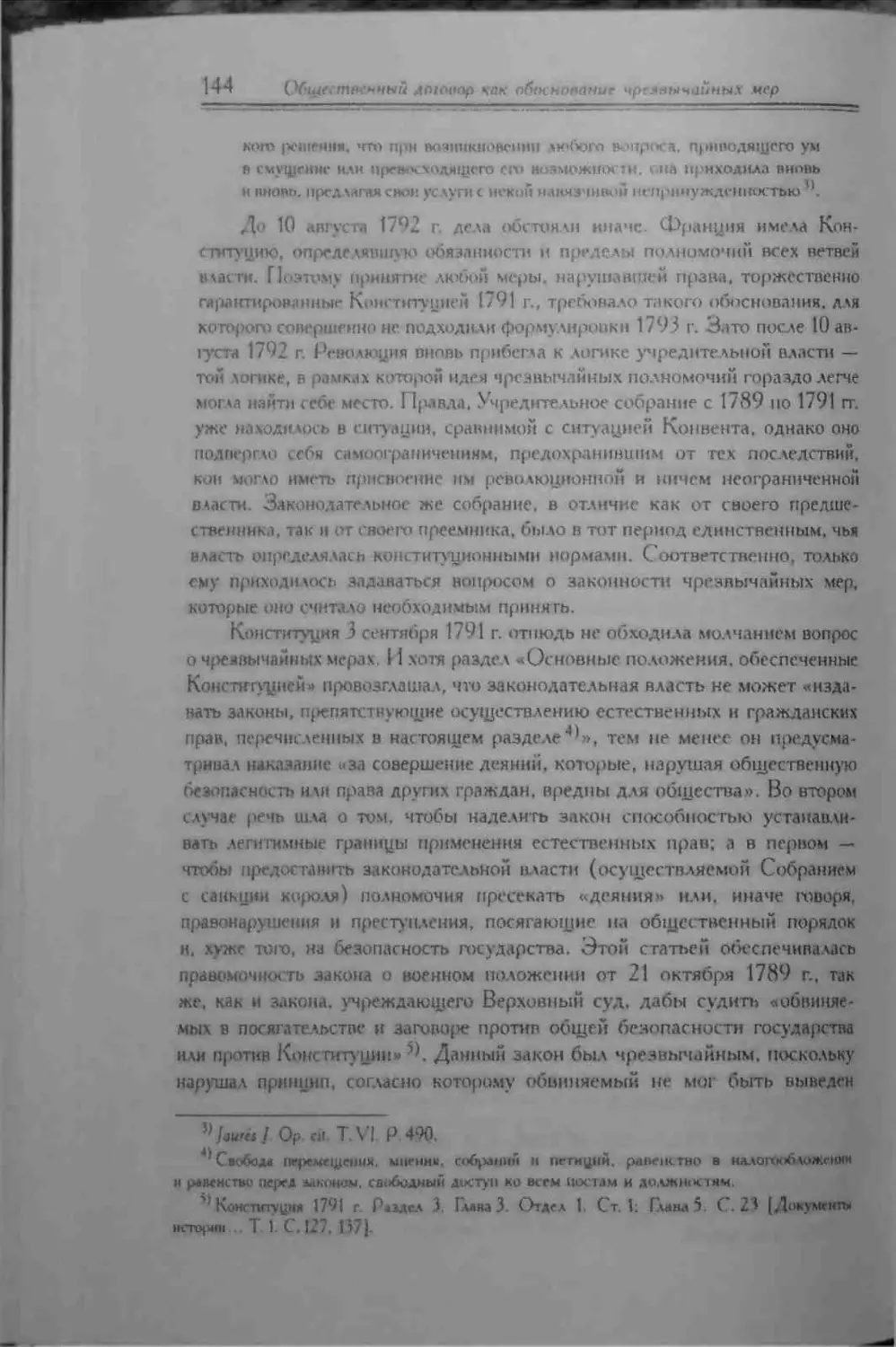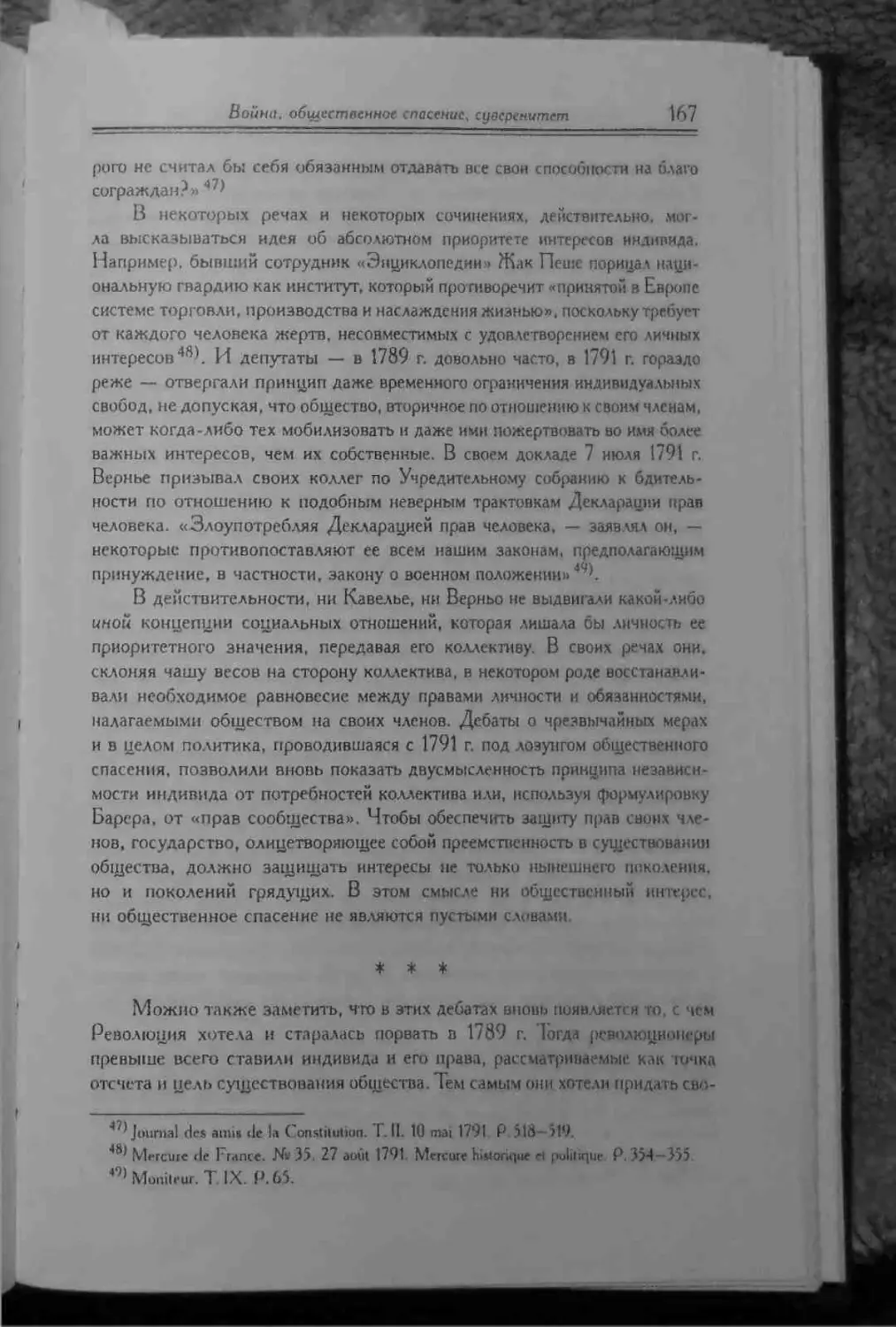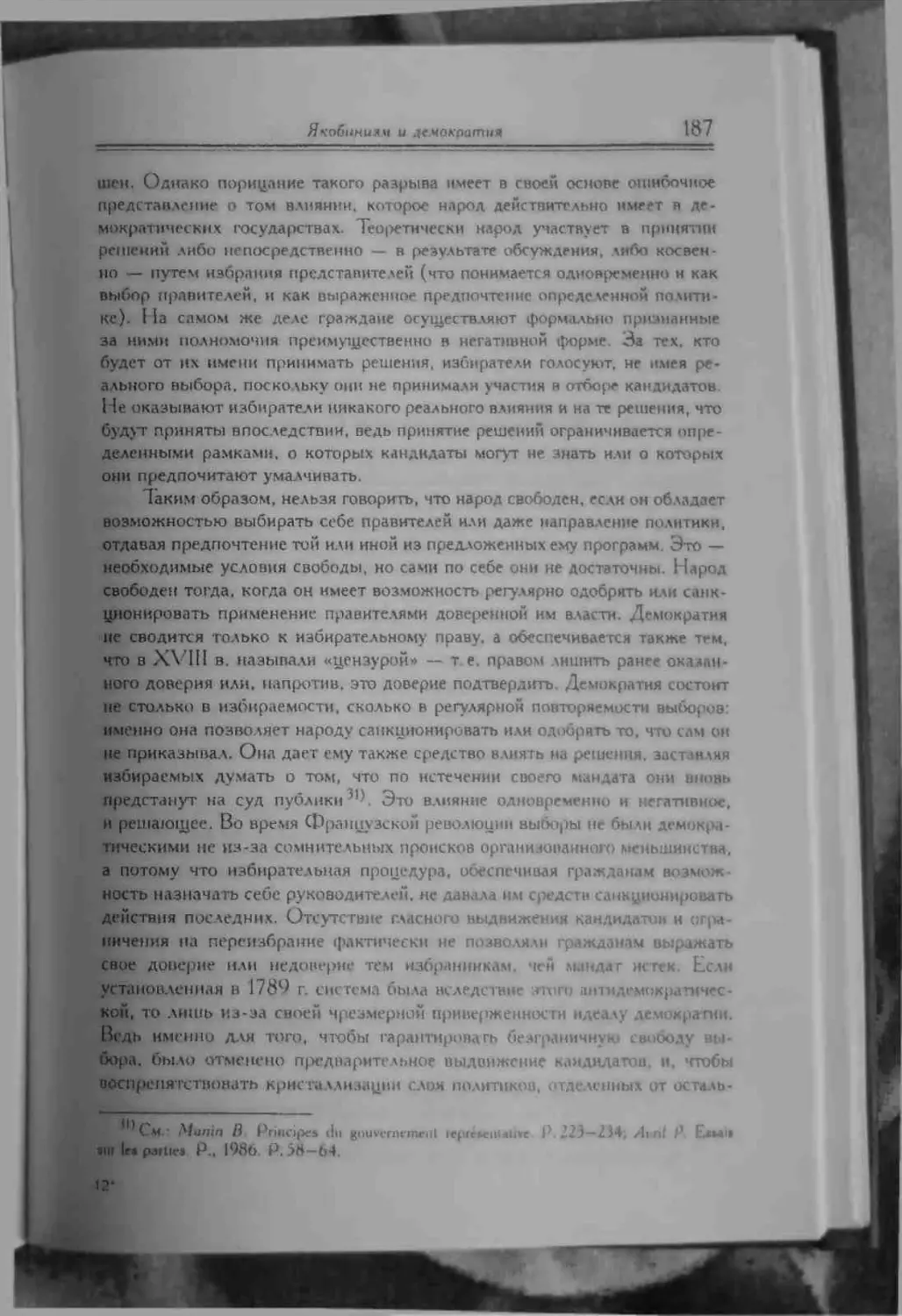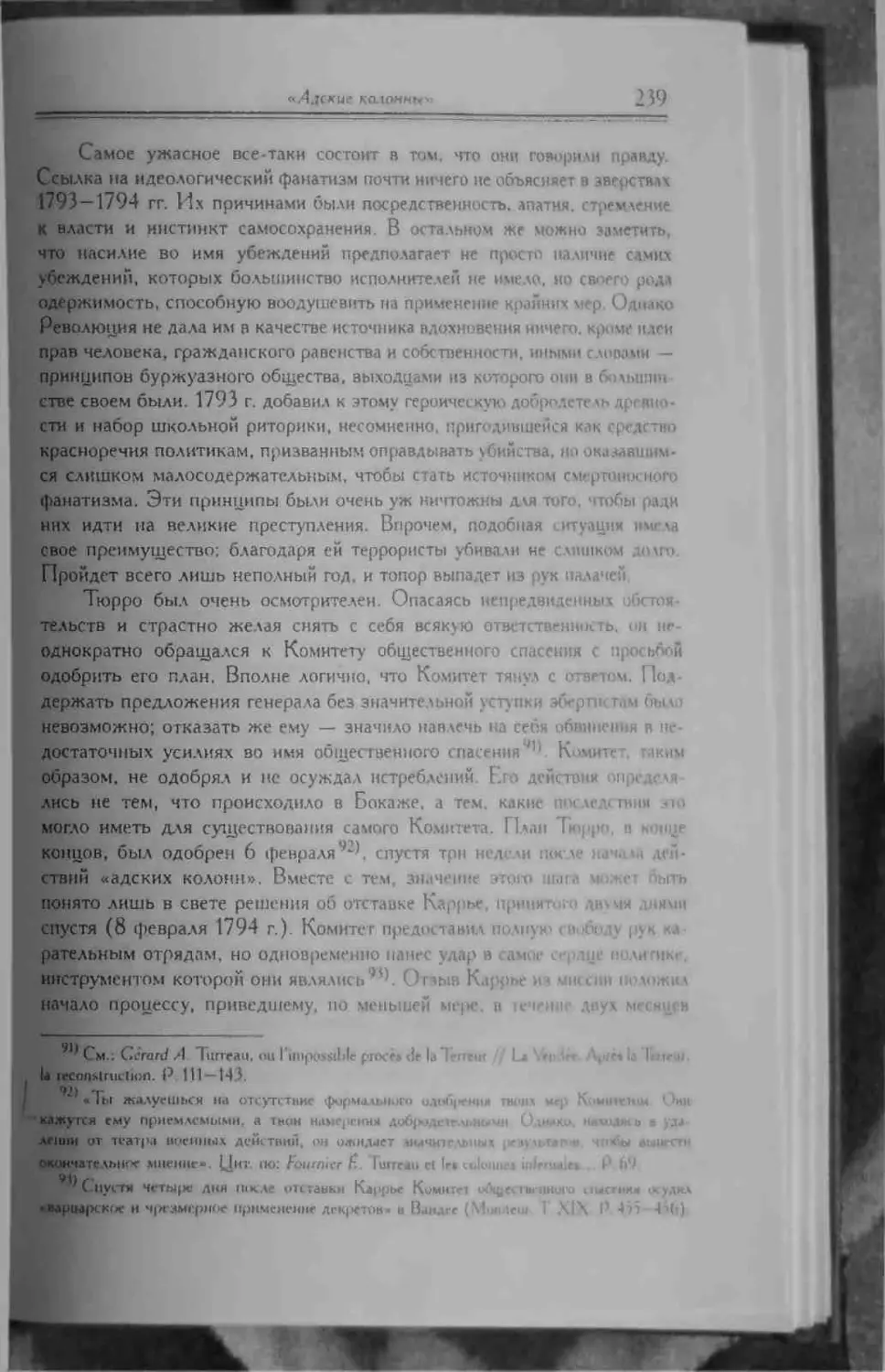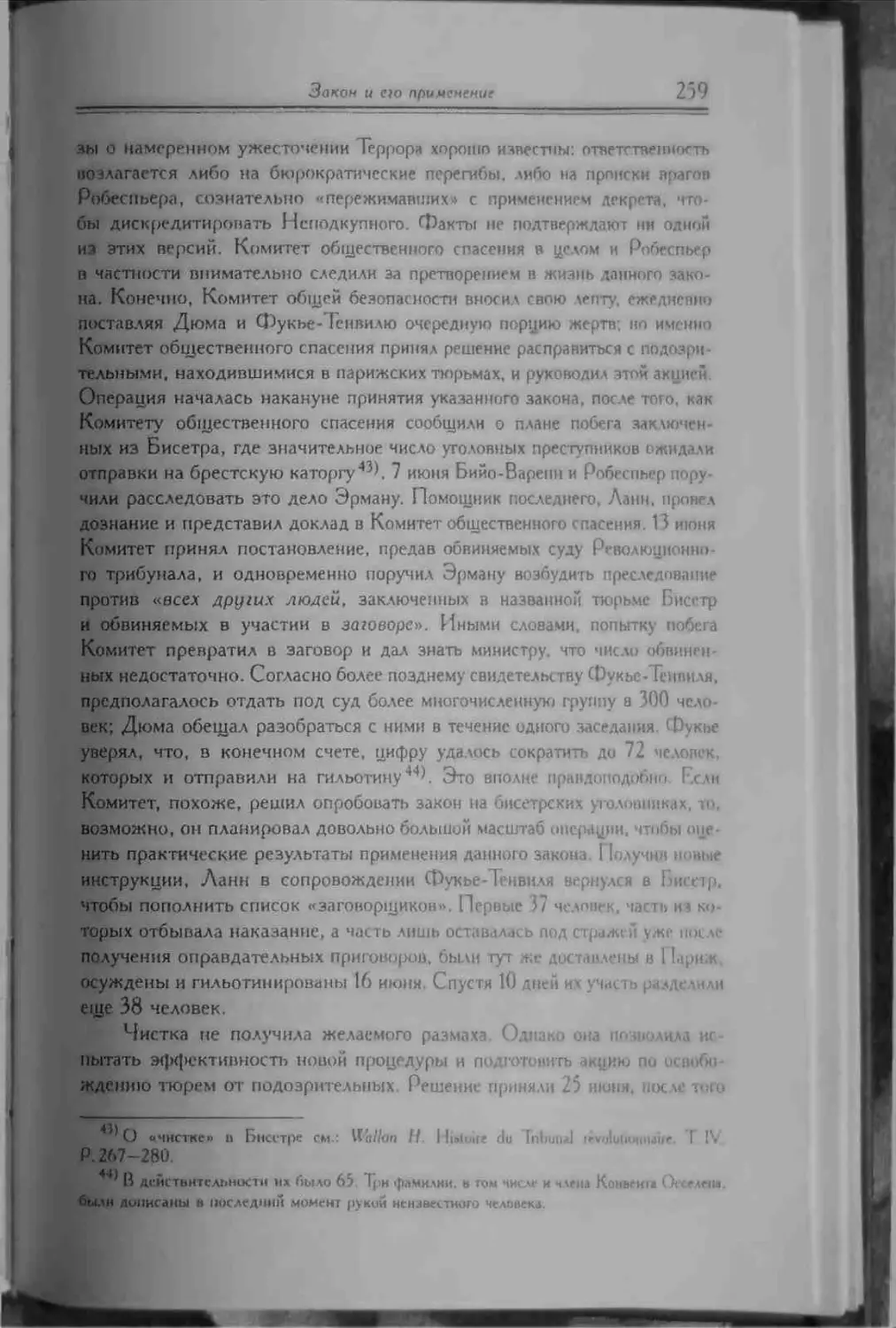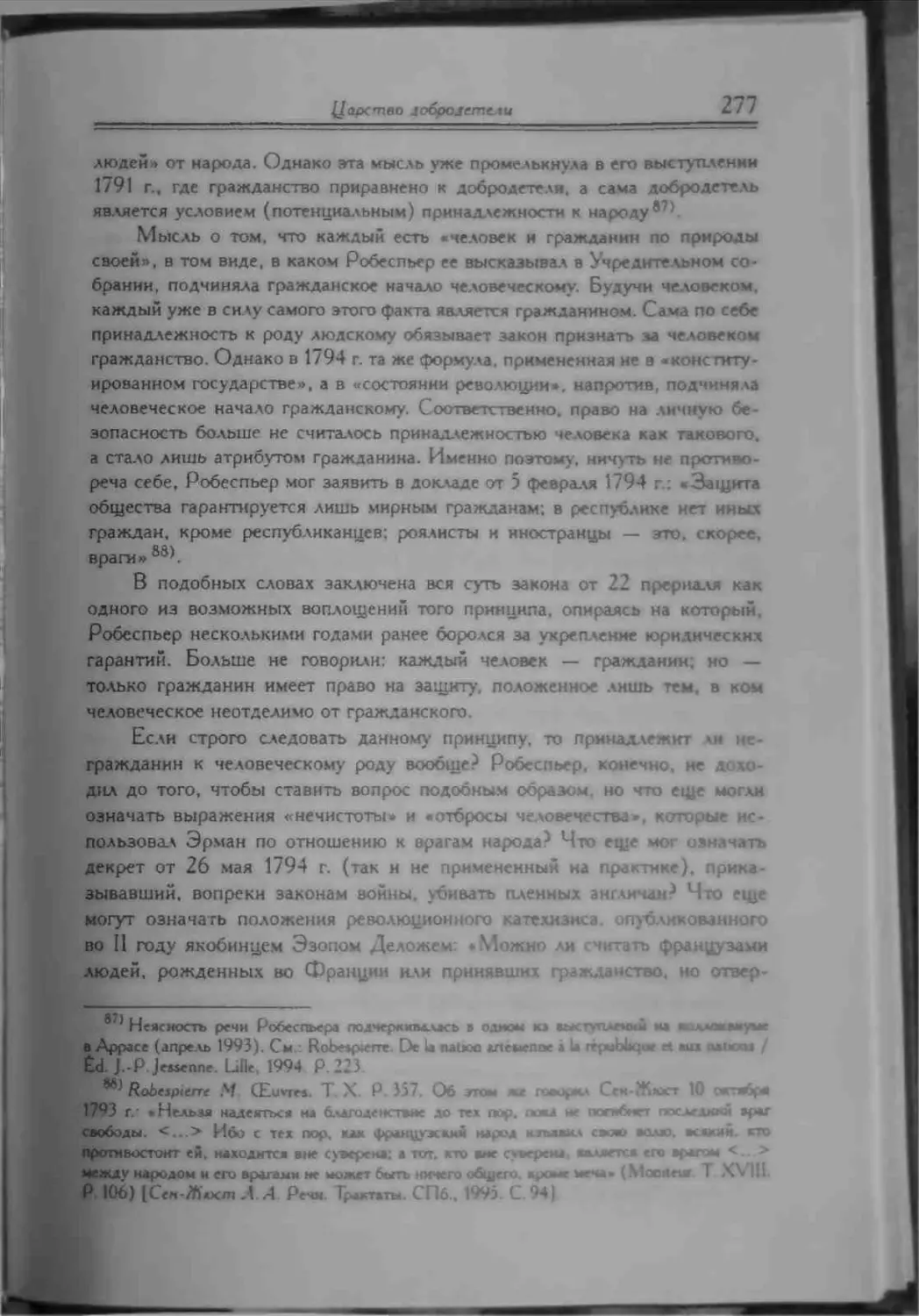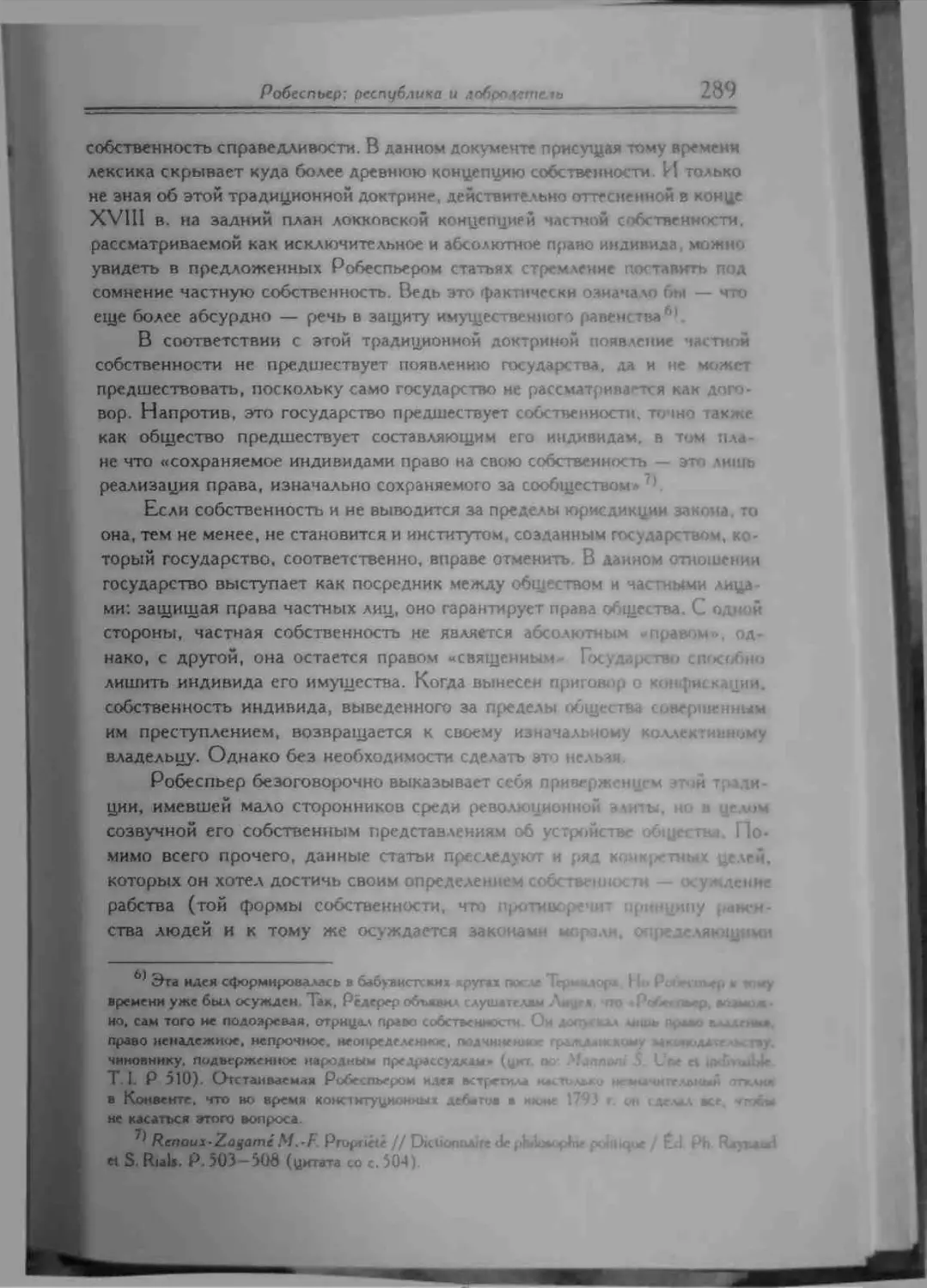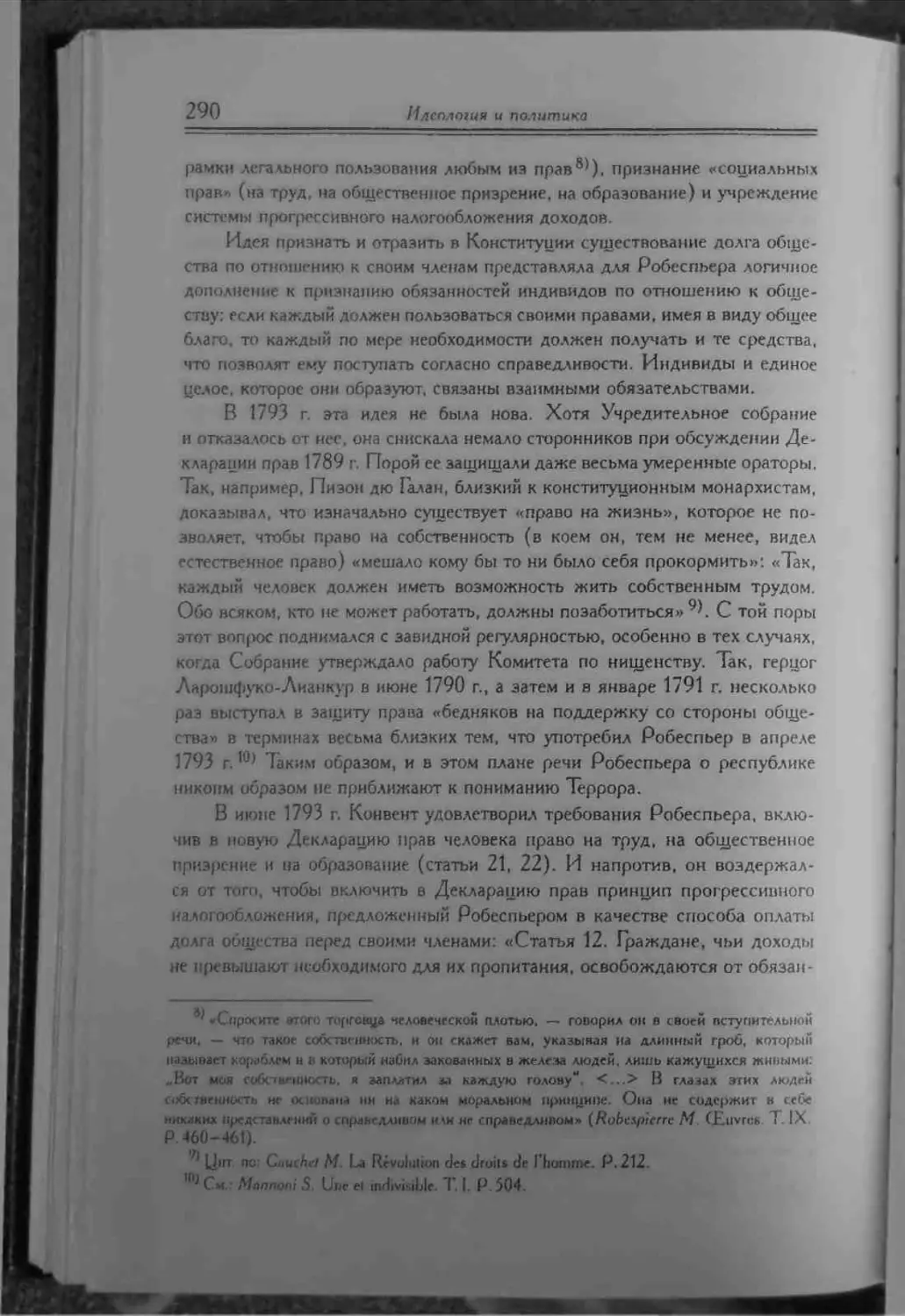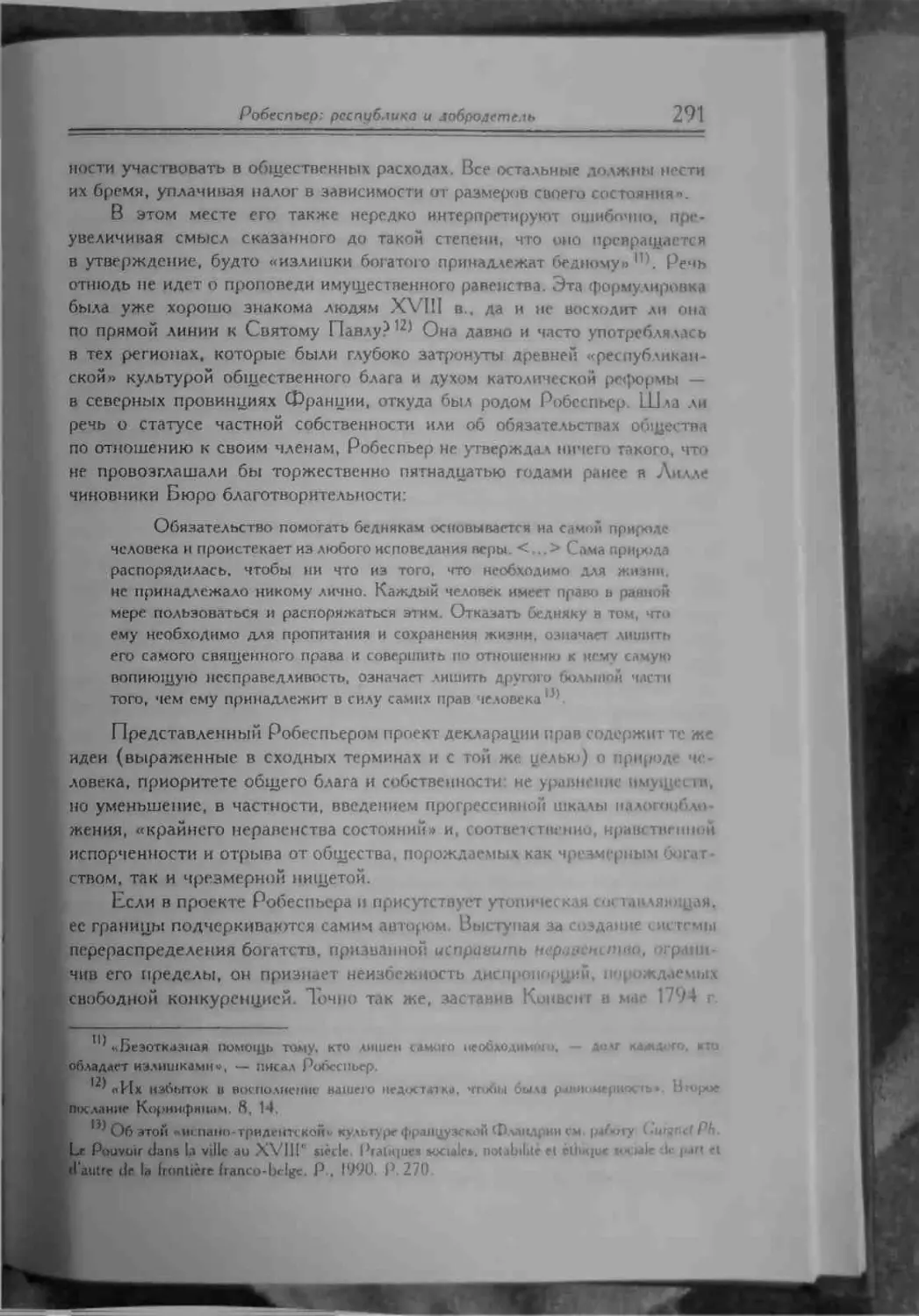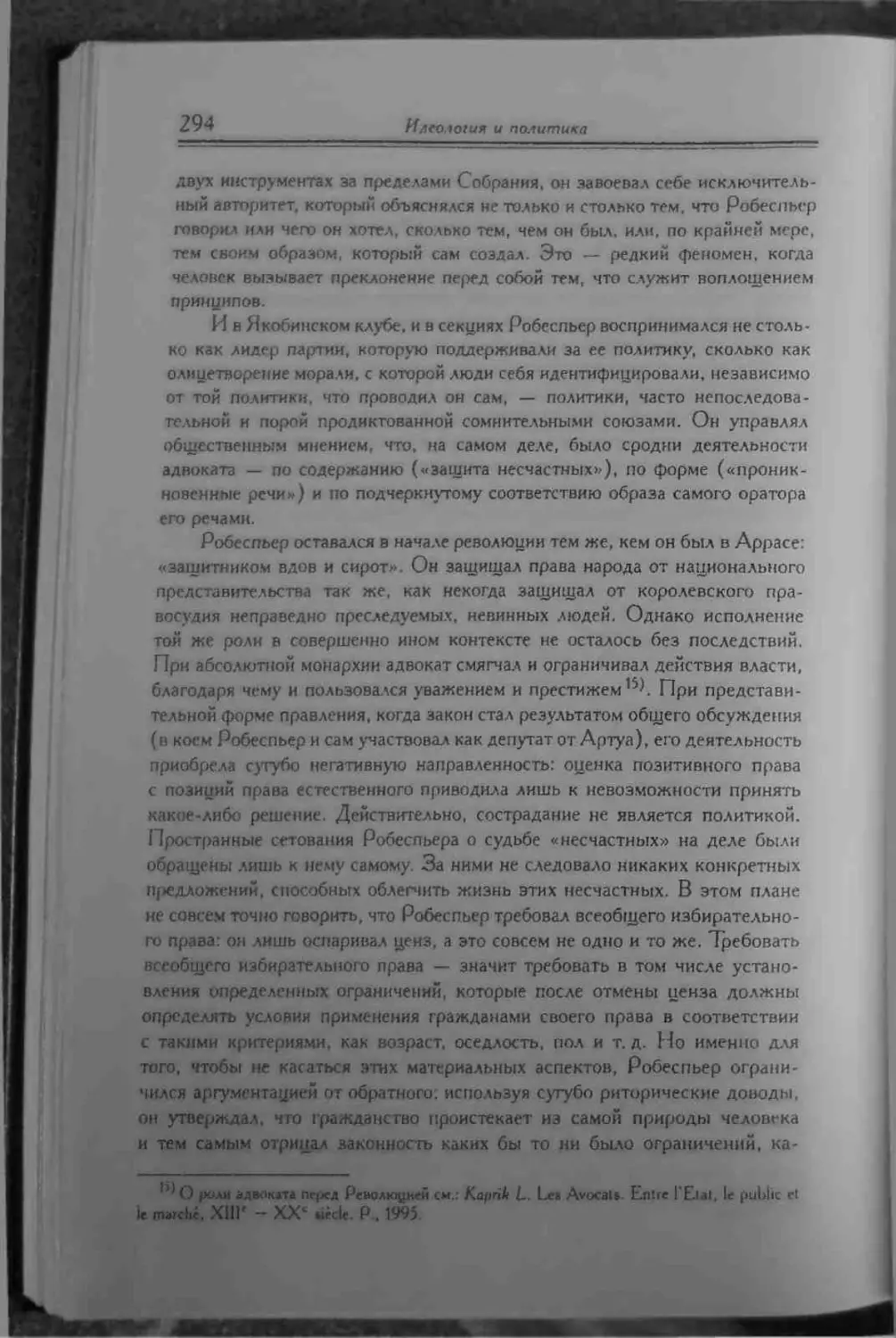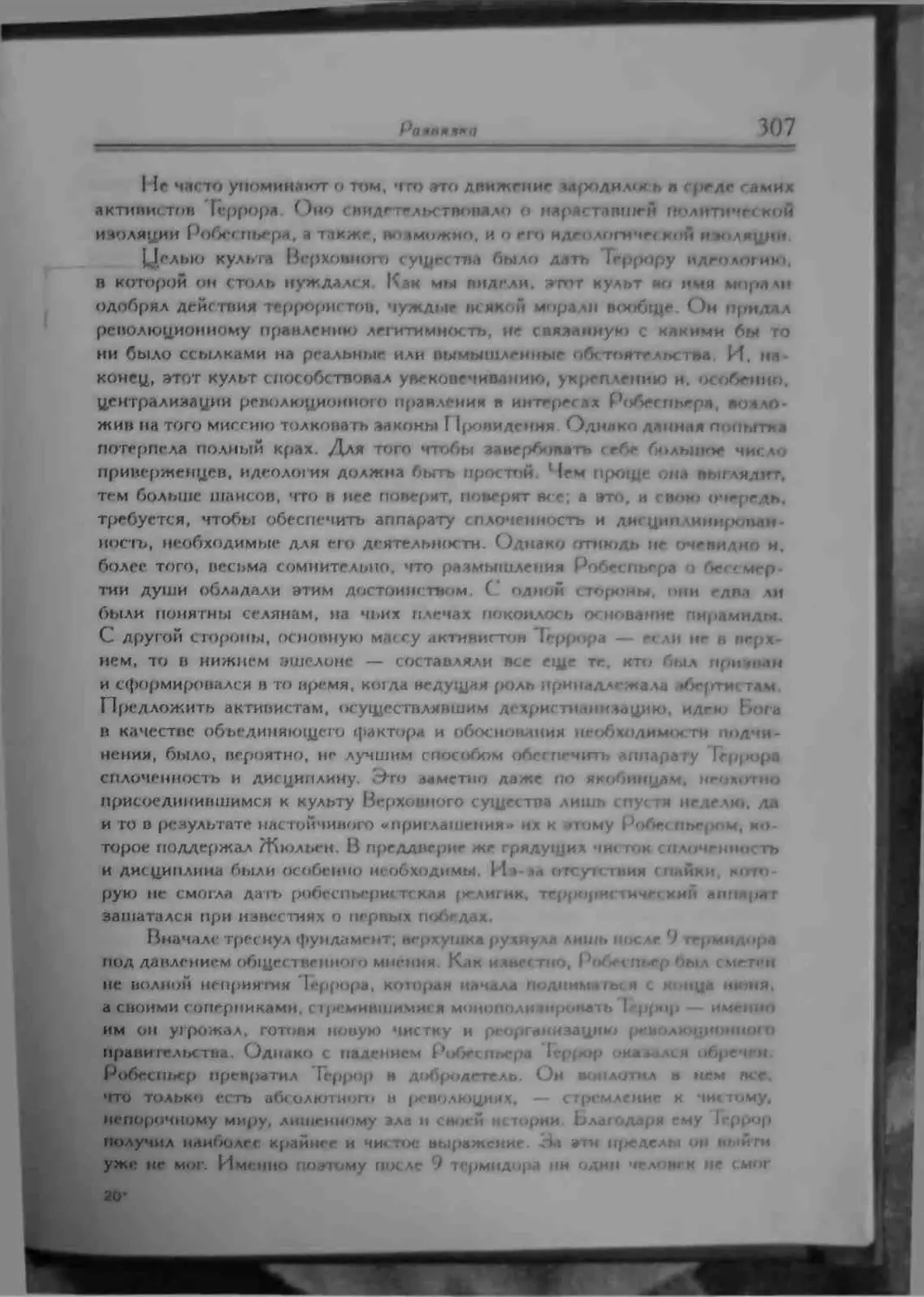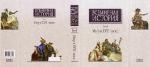Автор: Генифе Патрис
Теги: новая история (1640 - 1917 гг) история франции события революции террор французская революция
ISBN: 5-354-00221-4
Год: 2003
Текст
Патрис Генифе
Patrice Gueniffey
LA POLITIQUE DE LATERREUR
ESSAISUR LA VIOLENCE
REVOLUTIONNAIRE
1789-1794
Artheme Fayard • 2000
Патрис Генифе
ПОЛИТИКА
РЕВОЛЮЦИОННОГО
ТЕРРОРА
1789-1794
Перевод с французского
Под редакцией
А. В. Чудинова
Москва . 2003 УРСС
ББК 63.3(0)5. 66
Геяифе Патрис
Политика революционного террора 1789—1794: Пер. с фр. / Под ред.
А. В Чудинова. — М . Едиториал УРСС. 2003. — 320 с
ISBN 5-354-00221-4
Книга известного историка Патриса Генифе, вызвавшая во Франции ши-
рокий общественный резонанс, посвяшена феномену революционного террора.
На примере событий 1789—1794 гг. автор подробно анализирует социологический,
психологический, политический и дискурсивный аспекты политики террора, раз-
венчивая многочисленные мифы, существующие в историографии Французской
революции.
Перевод с французского А. В. Чудинова (Введение, гл. 1-8), Е. М. Мягковой (гл. 9—10).
Д. Ю. Бовыкииа (гл.11).
Ихмгсльстао •Едиториал УРСС* 117312, г. Москва, пр-т 60-летим Октября. 9
Лицензия ИД ,4051’5 от 25.06.2001 г Подписано к печати 26.03.2003 г.
Формат 60x90/16. Тираж 3000 экз. Печ. л. 20. Зак .4 155
Опечатано в ГУП «Облиют». 248640. г. Калуга, пл. Старый Торг, 5.
ISBN 5-354-00221-4
С Editions Arthdme Fayard, 2000
© Перевод на русский язык:
Едиториал УРСС, 2003
© Оригинал-макет, оформление:
Едиториал УРСС, 2003
ИдаАТЕЛЬСТВО УРСС
НАУЧНОЙ И УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Е лъм URSS^URSS ги
Каталог издан**
• totomet hnp/AiRSS.fV
Телефакс 7(095)135—44-23
Телефакс 7(095)135-42-46
От редактора перевода
Группа российских историков Французской революции XVIII в., при-
нимая решение об издании на русском языке книги Патриса Генифе, одного
из ведущих сотрудников Центра политических исследований Раймона Аро-
на (Париж), при переводе руководствовалась следующими соображениями.
Во-первых, научной актуальностью книги. На протяжении последних деся-
тилетий и отечественная, и французская историография обходили стороной
тему революционного Террора XVIII в. И хотя П. Генифе, не претендуя
на исчерпывающее освещение сюжета, предложил не столько исследова-
ние, сколько одни из возможных вариантов интерпретации Террора, именно
его работа, вышедшая в 2000 г., пробила брешь а этой стене молчания
и вызвала всплеск самого живого интереса к, казалось бы, «забытой» теме.
Во-вторых, мы хотели дать нашему читателю некоторое представление
о круге проблем, активно обсуждаемых сегодня в среде французских интел-
лектуалов. П. Генифе берет в качестве исходной точки историю Француз-
ской революции и поднимается в своих размышлениях на высокий уровень
обобщения, рассматривая данный сюжет в широком контексте современ-
ных споров о природе и ценностях демократии, ее истоках и традициях.
Неудивительно, что его эссе дало повод для острой дискуссии, которая
продолжается и по сей день.
А. В. Чудинов
Введение
О Терроре теперь почти не пишут Тем не менее, этот центральный
эпизод Французской революции, один из наиболее загадочных и вызыва-
ющих наибольшие споры, никуда не исчез из нашей новейшей истории'.
Долгое время он находился в центре внимания историков. Сочинения, по-
священные таким темам, как политическая карьера, риторика и взгляды
его деятелей, составляют целые библиотеки. Едва ли вся остальная исто-
рия Революции до и после Террора была предметом, по крайней мере,
до последнего времени столь же многочисленных изысканий; особенно —
эпоха, последовавшая за свержением Робеспьера, куда историки соверша-
ли лишь редкие вылазки. Еще не так давно leppop рассматривался как
наиболее важный момент Французской революции, ее вершина и суть:
период до 1793 г. считали полуреволюцией, после 1794 г. — преданной
революцией.
Ситуация изменилась накануне 200-летнего юбилея Революции (1989),
когда исследования Франсуа Фюре и других авторов показали радикальный
характер и глубину революционного разрыва в 1789 г. С той поры звезда
Террора существенно потускнела. Об этом свидетельствует малое число
работ о нем за последнее время. 1793 год уступил 1789-му привилегию
разрыва со Старым порядком и. более того, свою прежнюю репутацию
как раскрывающего глубинный смысл Французской революции. Отныне,
чтобы понять, как Франция покончила со своим прошлым, надо изучать
историю не Национального конвента, а Учредительного собрания. Иными
словами, смысл Революции исчерпывается 1789 г., тогда как 1793-й траги-
чески показывает невозможность ее «завершить» — проблема, с которой
столкнулись члены Учредительного собрания в конце 1789 г. Террор те-
перь служит иллюстрацией не принципов Французской революции или ее
результатов, а лишь ее бурных перипетий.
Утрата историками интереса к этой теме имеет и другие причины —•
упадок социальной истории, долгое время игравшей ведущую роль в объяс-
нении якобинского эпизода Революции, и, в еще большей степени, круше-
ние вместе с коммунизмом надежд, возлагавшихся на революционный путь
развития. «Санкюлотерия» исчезла из книг по истории, когда пролетариат
перестал быть их излюбленной темой; так же и интерес к Террору сошел
на нет по мере того, как угасли революционные настроения. В эпоху, когда
' Ф|>анцуасмя историография начинает новейшую или современную историю (hislotre
СОГПСЛЦЮГАЯ1Г) с 1789 Г. — Прим ПСрС8.
Введение
7
единственной перспективой развития современного общества становится
демократия, общественное внимание неминуемо обращается к моменту ее
зарождения — к 1789 г. — и. напротив, избегает мрачных дней 1793-го.
в коих некогда видели первый акт революции будущего, которая однажды
покончит с буржуазией и с такими уловками, прикрывающими ее господ-
ство. как демократия и права человека. Кто ныне осме\ится прославлять
Террор с искренностью Альбера Матье за. называвшим его «кровавым гор-
нилом. в котором вырабатывалась будущая де^юкратия на развалинах всего
того, что было связано со старым порядком'*?
Цитируя этот текст, нельзя также не вспомнить, насколько история
Террора искажалась многими ее исследователями Сделанное в данном
отношении Матъезом весьма характерно для той историографии, где эруди-
ция всегда сочеталась с истолкованием на свой лад всех спорных моментов.
От Альбера Матьеза до Жоржа Лефевра и Альбера Собуля революци-
онной историографии часто принадлежал решающий вк*ал в установлении
фактов, но при этом открытие этих фактов никогда нс сопровождалось
изменением интерпретации, даже если они доказывали ее ошибочность,
а то и абсурдность. Яркий пример тому — диссертация Альбера Собуля
о парижских санкюлотах, ставшая бесподобным опровержением той са-
мой марксистской интерпретации, бдительным стражем которой старался
быть автор. Несправедливо забытая книга Даниэля Герена /Классовая
борьба при Первой республике в 1793—1797 гт.», впервые опубликован-
ная в 1946 г. и переизданная с исправлениями в 1968 г. была, без
сомнения, последней, которую можно отнести к этой, долгое время до-
минировавшей традиции. Конечно, анархист Герен предложил совершенно
иное объяснение Террору, чем коммунист Собуль, и ин в коей мс^>е иг раз-
делял обожествления Матъезом Робеспьера, предпочитая Неподкупному
Жака Ру и Бабефа. а якобинцам — «бешеных» и участников <<Загово-
ра равных». Но, подобно предшественникам и собратьям-оппонентам, он
поставил свою эрудицию на службу трактовке, по меньшей мерс, фанта-
стической. В данном отношении его сочинение знаменует собою итоговый
рубеж этой историографической традиции. Продолжая свое существование
и после 1960—1970-х гг.. она утратила свое фактологическое наполнение,
в определенной степени «искупавшее» тенденциозность выводов.
Книга Даниэля Герена, ставшая важным вкладом в научение нередко
слабо освещавшейся борьбы за вхасть во II году Республики, продемонстри-
ровала в утрированном виде и такую общую черту многочисленных трудов
о leppopc, как сознательное замалчивание его политического содержания.
В действительности же изложенные в этих работах факты доказывают
"Maihici А. Ь Revolution franchise (1922). Р.. 1978 Т. 2. Р 301-302 [Матье» А
Французская революция. Ростов-на-Дину. 1995. С. 5111
Смелn D 1-а ItJUe de rlawe sous Ь Рпчниме Republique. 1793—1797. Р., 1968. 2 vol
6
Введение
наличие последнего. Террор — это. прежде всего, событие политическое,
в котором действия отдельных лиц приобретают такую значимость, какую
редко когда-либо еще можно наблюдать с подобной очевидностью. Однако
указанные авторы далеки от того, чтобы делать отсюда ссютвстствующие
выводы, а П{>сдпочитают, даже пренебрегая реальностью, наполнять этот
театр теней, где считанные индивиды за кулисами власти борются друг
против друга, неисчислимыми массами и могучими социальными силами,
лишь бы только придать происшедшему видимость присущей революциям
объективности
Справедливость обязывает заметить, что история Террора ничуть
нс меньше искажалась и авторами, враждебными Революции. Здесь 7эн
продолжает пользоваться авторитетом, а Террор рассматривается, в лучшем
случае, как захват власти толпой негодяев, мятежников и фанатиков,
а в худшем — как неизбежный результат не столько самой Революции,
сколько ее принципов. В то время, как одни ссылаются на обстоятельства,
другие осуждают идеи равенства и суверенитета народа, для одних во всем
виноваты эмигранты, для других — Руссо. Понятно, что такой диалог
глухих не спосогктвует спокойному обсуждению и не позволяет установить
истину. Тема Террора как предмет исторического исследования напоминает
опустевшее поле боя двух непримиримых армий — разрушения повсюду.
Битва закончилась с гибелью сражавшихся, и на развалины опустилась
тишина. Тсперь-то, может быть, и настал подходящий момент вынести
беспристрастное суждение об одной из величайших трагедий французской
истории.
* * *
Таким образом, при написании этого эссе о политике Террора поле-
мика меньше всего входила в мои намерения. Заглавие достаточно точно
определяет цели исследования Это — не новая история Террора. Ее,
в основном, еще только предстоит написать. Если не брать в расчет об-
щие работы о Французской революции, то со времени появления давней
и весьма неровной книги Мортимера Герно никто из историков не пы-
тался детально проследить перипетии Террора и нарисовать его более или
менее полную ка|ггину. А ведь некоторые из его эпизодов до сих мало
изучены. Например, «Великий террор*, начало которому положил закон
от 22 прериаля (10 июня 1794 г) и который, как заметил Франсуа Фюре
в 1992 г. до сих пор не стал предметом сколько-нибудь убедительного
монографического исследования или статьи. Также еще многое предстоит
сделать дли изучения истории Террора в провинции. Я не говорю здесь
Tcrnaux М I Luotrr de la Ter/rur, 1792—1794 Р.. 1862 1869. 7 vol
Furd F La Revolution de lurgot a Jules berry (1770-1880). P., 1992. T. I P 511
Введение
9
о тех весьма мнагочисле иных историках, кто считает возможным описывать
развитие событий на местах по аналогии с тем. что происходило в столице.
Механическое перенесение на провинцию истории Irppopa в Париже мл \о
что дает для понимания этого феномена. Я мечтаю скорее о другой истории.
Отб|юсив тезис о мнимом единстве нации, она бы изучала опыт каждой
из местностей со всеми его характерными особенностями Отказавшись
от того, чтибы априори идентифицировать людей я качестве 1>е пьянив
и якобинцев, жирондистов и монтаньяров, и от того, чтобы де мпъ историю
на периоды в соответствии со сменой правительств и законодательных
собраний, она старалась бы выявить стимулы, сияли и интересы, которые
реально определяли принадлежность людей к различным П|книвоб<урс гву-
Ю1ним группам и лежали в основе конфликтов того В(м-м*-ни 1акую работу
еще только предстоит провести. Отравным пунктом для подобной истории
могла бы послужить книга Колина Лукаса о миссии члена Конвеи: » Жа-
вога в департамент Луара, представляющая собою одну из редких попыток
понять местные особенности Террора и выявить стоявшие ча ним интересы
и политические устремления
Итак, читатель найдет здесь не историю Террора, а нечто Ьилее
скромное — размышления о политике Террора и о революционном насилии
Слово «Террор» в данном контексте обозначает не период Революции
от сентябрьских убийств 1792 г. до падения Робеспьера в июле 1794 г.,
а тип революционной политики — применение насилия и принуждения
в политических целях при попустительстве закона. Подобная дефиниция
позволяет следующим образом очертить поле исследовании: здесь будет
рассматриваться больше Париж, чем провинция; больше центр, чем пери-
ферия; больше законодательные собрания, чем местные комитеты, больше
верхушка, чем низы; больше вдохновители, чем исполнители; и. наконец,
больше гонт ели и палачи, чем жертвы.
Г 1иследний пункт требует небольшого пояс нения Описание совершен-
ных революционерами жестокостей и страданий их жертв долг (*• время было
любимой темой контрреволюции. Трагический конец принцессы Ламбаль
и оскорбления, нанесенные королеве. принадлежат к числу непременных
обвинений, выдвигавшихся против Революции. Пет и речи о том. чтобы
отрицать ужасы, выпавшие на долю обеих. Однако исследование, пр</моли-
мое с единственным наме^юнисм вызвать сострадание, имсс один больший
недостаток: оно избавляет и автора, и читателя «>г ц(хш мысам г единых
усилий. Эго — одна из причин того, почему, рассказывая о жгегокик
временах, лучше придерживаться боле*- или менее бесстрас того тона. I 1о
следнес тем более необходимо, что о жертвах, на которые долин? в|х*мн
ссылались как на свидетельство »П(>сступнуго«» характера Революции, сс-
Luca» С La вниегше dr 1в Геогиг L example de Javckuc* et tin .nrtemeui de Ik Loire /
Tied. C. l-^uluau Saint (.Itrnne, 1940
10
8ведение
годяя упоминают, доказывая ее невиновность. Я имею в виду недавнее
освоение темы Террора культурологической историей. Подчеркивая пре-
имущественно антропологические корни насилия и акцентируя внимание
на сопровождавших его в определенную эпоху и в определенном контексте
ритуалах, подобный способ рассмотрения Террора превращает совершен-
но реальные преступления, где, согласно знаменитой фразе, кровь пахнет
кровью, в представления, «образы» и даже галлюцинацииХуже того,
при изучении такого предмета, как Террор, культурологический подход,
смягчая, подобно своеобразной пуховой перине, трагический характер этого
явления, затеняет и его политическое содержание. Связь Террора с вопро-
сами власти, суверенитета исчезает, а на смену ей приходят россказни
о проявлениях нового образа жизни и мысли, о возрождении искусства,
об углублении равенства, о решаюших успехах социальной интеграции и по-
литики исключения всяких отличийТеррор — это феномен не культуры,
а политики. Может быть, он даже является крайним выражением самой
сути политики.
Историки слишком часто объясняли Террор страхом или фанатизмом.
Страхом — считая, что опасность разбудила в людях скрытые инстинкты,
вылившиеся в стремление перебить всех, кого считали виновными, или
принудить их к бездействию посредством запугивания. Фанатизмом —
рассматривая Террор как средство перекроить реальность в соответствии
с требованиями системы, рожденной в заоблачном мире идей. Но пер-
вое объяснение ничего не говорит о том, почему революционеры боялись
опасностей, порою воображаемых. Второе точно так же умалчивает о том.
почему после того, как наиболее фанатичные, в конце концов, пришли
к власти, одни из них устранили других. Как мы увидим далее, Террор
не является ни продуктом идеологии, ни реакцией на обстоятельства. В нем
не надо винить ни идею прав человека, ни заговоры эмигрантов в Коблен-
ца ни даже якобинскую утопию добродетели. Он — результат динамики
французской революции, как и динамики любой революции. В данном
отношении он составляет саму суть данной Революции, как и любой рево-
люции вообще. Но он также служит моментом истины для Французской
резолюции. Не потому, что он, как полагал Огюстен Кошен, разоблачил
лживость демократии, но потому, что стал трагическим опровержением
ряда иллюзий, возникших в 1789 г. Прежде всего — иллюзии разрыва.
Революционеры 1789 г. верили в возможность создания нового мира. Ре-
волюционеры 1793 г., сами того не желая и не понимая, под обманчивым
прикрытием риторики, доведшей идею разрыва до самой крайней степени,
Как пример подобного подхода см.: De Baecque A., de La Cloire et feffruL Sept morU
too» la lerreuc P. 1997
б См . нлпрмиер. Bianchi S La Revolution cdlurelk de Гап II. Elite» el people. 1789-1799
P, 1982
Введение
И
в действительности войною связали порванные нити национальной истории.
Оми разорили королевскую усыпальницу в Сен-Дени, но их армии пошли
теми же дорогами, кегторыми ранее шагали солдаты короля. И еще — иллю-
зию о том, что возможна прозрачная и безопасная власть. Террор показал
то. что в обычные времена было скрыто, а именно — что всякий суверени-
тет, как подметил Жозеф де Местр, «абсолютен по своей природе» и всегда
порождает, несмотря на любые конституционные предосторожности, «аб-
солютную власть, способную безнаказанно творить зло**0 В этом смы<.ле
Террор иллюстрирует не столько последствия установления неограниченной
власти, сколько скрытую сторону власти как таковой. Он вытекает из самой
ее природы.
♦ * *
Выше я уже отмечал, что рассмотрение Террора в качестве инстру-
мента революционной политики позволяет ограничить поле исследования,
но в то же время подобная дефиниция в некотором отношении вынуждает
его н расширить. Действительно, при таком понимании Террора определить
его хронологические границы оказывается весьма непросто.
Террор с большой буквы — это название периода Революции. Однако
тот же самый термин с маленькой буквы, обозначающий в более широком
смысле насилие и чрезвычайные правовые меры, может бьггь применен
по отношению к столь обширному спектру событий, что выйдет за те
рамки, которыми его обычно датируют.
Официально Террор начался 5 сентября 1793 г., когда Конвент поста-
вил его *в порядок дня» под нажимом парижских секций, окончился же
он 9 термидора II года (27 июля 1794 г.), когда бык свергнут РгХ'хспьср
Впрочем, в представлении победивших термидорианцев смерть Неподкуп-
ного означала конец не Террора, а лишь «эксцессов^ Террора9'. Однако
падение диктатуры робеспьеристов, ослабив тиски принуждения и страха,
в течение нескольких недель привело к разрушению политического и пра-
вового механизма, создававшегося с 1793 г Закрытием якпбинских клубов,
проведенным в декабре 1794 г. процессом над Каррье. обвинявшимся
в потоплениях людей в Нанте, возвращением в Конвент жирондистов, под-
вергшихся преследованиям в июне 1793 г., привлечением к ответственности
бывших членов Комитета общественного спасения и Комитета общей безо-
пасности. хотя те и сыграли решающую роль в свержении робеспьеристов,
термидорианцы, во многом вопреки своим намерениям, все больше прида
вали прекращению Террора необратимый характер и го значение, которого
Цкт по: Boffo М Mai&tre // ЕХс1юпл<ке critique de la Revolution (гал^аюе / F. Furet et
M OW(dir ) P. 198a P. 1018
Baczko В Comment »orttr de la Terreux "Ibrnnwloc ei la Revolution. P . 1989.
12
Введение
оно скачала не имело. * Термидорианская реакция*, развивавшаяся без ка-
кого-либо продуманного плана, но все больше укреплявшаяся в 1795 г.,
должна была, в конце концов, привести Революцию к решению задачи,
которая стояла перед ней с 1789 г. и выполнение которой прервал период
leppopa, а именно — дать Франции новые государственные институты.
В таком, строго ограниченном смысле 9 термидора, действительно, означает
конец Террора.
Но если Террор как государственная система с этого времени стал
достоянием прошлого, то Террор как средство управления отнюдь не исчез.
Есть многочисленные примеры совершения актов террора и в дальнейшем:
ссылка без суда, по декрету от 1 апреля 1795 г., Барера. Бино-Варенна,
Колло д’Эрбуа и Валье, решение о расстреле взятых в плен эмигрантов
на Кибероне, принятое Конвентом 27 июля 1795 г. — в тот самый
день, когда он отмечал первую годовщину свержения «тирана»; закон
от 25 октября 1795 г., подтвердивший акты 1792 и 1793 гт. против
непрнсягнувших священников и восстановивший по отношению к дворянам
закон о подозрительных от 17 сентября 1793 г.; депортации без суда
после аитипарлачентского государственного переворота 4 сентября 1797 г.
и т. д. 9 термидора перевернуло лишь одну из страниц в истории Террора,
но не завершило ее.
Таким образом, имеет место некоторая неопределенность относитель-
но времени окончания Террора, и еще большая неопределенность — от-
носительно времени его начала. Хотя Террор был поставлен в порядок
дня в сентябре 1793 г., механизмы, позволившие привести его в дей-
ствие, существовали к тому моменту уже в течение нескольких месяцев.
Революционный трибунал, комитеты бдительности на местах и Комитет
общественного спасения были учреждены в марте—апреле 1793 г. Но и со-
здание их тоже не может считаться исходным пунктом Террора. «Первым
Террором» называют события августа-сентября 1792 г., последовавшие
за свержением королевской власти, — создание «Чрезвычайного уголов-
ного трибунала*, домашние обыски и резня заключенных. Фактически же
Террор начался еще раньше. Чрезвычайные меры Законодательного собра-
ния в 1791 и н 1792 гт. против эмигрантов и тех священников, кто отказался
принести присягу в соответствии с гражданским устройством духовенства,
продемонстрировали стремление запугать сопротивлявшихся Революции.
Однако можно пойти дальше и обратиться к еще более раннему периоду,
чем начало работы Законодательного собрания 1 октября 1791 г., а имен-
но — к 1789 г., т. с к самому началу Революции, чтобы увидеть первые
расправы и услышать первые призывы к принятию чрезвычайных зако-
нов в виду «грозящих отечеству опасностей*. Действительно, уже в июле
1789 г возникли первые точечные проявления насилия, сопровождавшиеся
убийствами, как в Париже, так и в провинции; в сентябре Марат выпу-
Введение 13
стил первый номер * Друга народа*; в октябре Парижский муниципалитет
учредил Комитет расслел<жаний для розыска заговорщиков
Задолго до первого террора 1792 г и Террора 1793—1794 гг. имел
место так называемый «Террор, предшествующий Террору» w\ которым
совпал по времени с началом Революции или. по меньшей мере последовал
за ним столь скоро (Генеральные штаты собрались в мае 1789 г . а взрыв
насилия произошел в июле), что можно сказать: история Террора началась
с историей Революции и закончилась с нею же. Принимая во внимание
одновременное начало Революции и насилия, необходимо сразу же отка-
заться от двух ошибочных положений: 1) что Террор — результат внешних
по отношению к Революции обстоятельств; 2) что он — плод последующе! »
развития Революции. И хотя мы отсюда не можем без преувеличения сде-
лать вывод, что Террор пронизывает собою всю Французскую революцию
или, иначе говоря, что она сама по себе имеет целиком террористиче-
ский характер, все же надо признать: между Террором и Революцией,
начавшимися почти синхронно, сразу же возникла тесная связь, каковую
н требуется внимательно исследовать
♦ ♦ ♦
Прежде чем перейти к самому эссе, я хочу поблагодарить всех, кто
имел любезность прочитать рукопись и позволил мне своими замечаниями
и предложениями ее улучшить — по крайней мере, я на это надеюсь.
Пусть Бронислав Бачко. Оливье Шопен, Ян Фошуа, Марсель Гошг,
Стефано Маннони, Мона Озуф, Жак Ревель и Пьер Розанна длин найдут
здесь свидетельство моей благодарности. Я признателен Рану Але ни за его
терпение, советы и требовательное внимание. И. наконец, спасибо Роберто
Мартуччи, который, пригласив ч<еня читать весною 1997 г секции о Ггррорс
студентам университета в Мачерата (Macerate), подал мне идею этой книги.
1П< Baczbc В The Terror brftxr ihr Conditwc* 4 ромаЫйу. iogjr ol геа1.лэ»;пп //
Tk- Terror Oxford. 1994 Р 19-38
Насилие и Террор
♦ Революции в человеческом обществе вызываются людьми, обсто-
ятель'. 'мми и\и идеями, но все они скреплены кровью», — писал Рабо
Сент-Этьен в «Кратком очерке Французской революции», опубл вкованном
в 1792 г. о
Не переставая скорбеть о неизбежных для революции актах насилия
н. прежде всего, о тех. которые сопутствовали Французской революции
с первых ее дней. Рабо, тем не менее, полагал: Франция может гордиться
тем что. пролив так мало крови, осуществила величайшие преобразова-
ния. каких никогда не совершала ни одна нация. «Если чти и должно
вызывать удивление иностранцев. — добавляет он, — так это то бла-
го, которое принесла» Французская революция В конце 1791 г., когда
бывший депутат Учредительного собрания писал эти строки, наСмлне еще,
действительно, могло казаться преходящим злом — достойным, конечно,
сожаления. но неизбежным следствием пережитых Францией потрясений.
С 1789 г. произошло уже довольно много вооруженных стычек и мятежей.
Об их жертвах скорбели, но вспышки насилия имели локальный, точечный
характер, а потому еще можно было думать, как это делал Рабо, что речь
идет лишь о «нескольких тучках», которые вскоре рассеются 9.
Рабо Сент-Этьена обезглавили 5 декабря 1793 г. Таким образом,
до смерти v него еще было время убедиться, что развитие событий не оправ-
дало его оптимистических надежд на счастливое и быстрое завершение
Революции. К тому времени. когда его гильотинировали, множество его со-
отечественников утке приняли насильственную смерть; многих других такая
участь еще только ожидала. Эта бойня покончи ла с иллюзией о безобидном
характере Революции, которым той еще можно было приписать в 1791 г.
Когда после 9 термидора общество вновь обрело свободу мнений,
оно оказалось одержимо желанием знать все о количестве жертв, датах,
местах, обстоятельствах и способах казней. Начавшиеся с сентября 1794 г.
’’ Ruhaut Saini-fliennc ].P. Precis de I'liisKure Je la Revolution franchise. P-, 1827. P 315
2) Ibid. P 99 -100.
M Ibid P 106
HilCU-tUC и Террор 15
публичные п|юце<,<ы над вдохновителями и исполните тми преступлений
1еррП|м сопровождались появлением на стиль мрачную гему обильной
литературы. стремившейся удовлетворить любопытство общественмости.
«Эти была. — писал Мишле о процессе Кдррде. — обширная поама
в духе Данте. которая вновь заставила Францию круг за кругом спуститься
в преисподнюю, тогда еще мало известную даже тем, кто через нес
прошел. Люди вновь увидели и пересекли сен мрачный край, великую
пустыню террора, мир руин и призраков. Широкая публика, совершенно
равнодушная к политическим дебатам, была потрясена этими процессами
Мужчины, женщины, дети — все, от мала до велики. представ \чкк себе
картину потоплений, видели подернутую дымкой ночную Луару, ее пучины,
слышали крики медленно погружавшихся туда людей*4).
Нс понимая, почему Революция, совершенная в 1789 г во имя сво-
боды, терпимости и справедливости, в 1793 г. опустилась в бездну насилия
и деспотизма, французы, воскрешая в памяти преступления 1793 1794 гт..
старались, по меньшей мере, осознать величину постигшего их несчастья
и превратить тысячи личных трагедий, происшедших в ту мрачную эпоху,
которая только что осталась позади, в коллективный опыт, способный дагь
уроки на будущее.
« Общая и беспристрастная история заблуждении, ошибок и прсступ
леннн, совершенных во время Французской революции* была впервые
опубликована в 1796 г. .Луи-Мари Прюдомом и также претендовала на то,
чтобы стать «печальным списком всех тех деяний, на которые способна
человеческая порочность, когда ей все дозволено»5К В шести объеми-
стых томах подсчитывались людские потери за шесть лет Рсиолюцин
3 540 человек, утверждал Прюдом, погибли при Учредительном сибр.шнн
8 044 — при Законодательном собрании. 18 613 — гимнпицнр' ваш при
Конвенте, к которым надо еще прибавить 16 603 погибших в граждан^ной
войне на Юге. 32 000 утопленных и расстрелянных в Ндмте. 900 000
жертв войны в Вандее, и это не считая 124 000 белых людей и 60 000
черных, убитых в колониях. 800000 солдат, павших на Фронте, а гзкже —
косвенные потери по причине Революции 20 000 французов, умерших
от голода, 4 790 покончивших жизнь самоубийством. 3400 женщин, сион-
чавшмхея при родах, н 1 550 человек, «сведенных Рююлюцисн < ума ».
В итоге получалась очень точная цифра в 2 022 903 человека, ганшнх
жертвами событий 1739— 1794 гг
Цмт. пи. ВыгЬи В. CcHiuitetU м'ни 4с U Зепсш. Р 20^-210
Prur/бо/пптг /г М Hutoire generic Н impanwie 4га гпгш$, »1га Mulra еч enntrt
аюипк la Rrvolulkm л daUr du 24 деш 1747; cpnitfuai k nnnihre del ihdnuiiu.
qui ool pen par l« Rrwluhdil. de erm qui ont mntgri, cl let иип<ип des 1мЬ<>1И qui |X4iUn< ce
irinp» ши devoir la France P . 1797. 6 vj T III P, 4
T VI. P. 522 -521
16
Насилие и Террор
Не важно, что цифры этой похоронной бухгалтерии в основном фанта-
стичны; ее значение в другом. Она свидетельствует об общем потрясении,
о смятении разума при столкновении с опытом, так и оставшимся непости-
жимым. и, наконец, о пятне ужасного подозрения, которое схлынувшая
волна насилия оставила на Революции в целом. Безусловно. в 1793 г. это
наем \ие достигло своего пика, однако и первые его проявления отныне рас-
сматривамкь как прецеденты, предвещавшие эпоху Террора. Нужно ли
было винить в случившемся саму Революцию, как, похоже, считал один
из самых первых ее историковили скорее следовало возложить ответ-
ственность за пролитую кровь на порочную природу людей? *9
Прюдом видел в истории Французской революции непрерывную или
почти непрерывную череду актов насилия, где каждое восстание ведет
к смертоубийству и где обычные уголовные преступления шествуют бок
о бок с политическим насилием на том долгом пути через круги преисподней,
что начался в 1789 г и вывел на уровень 1793—1794 гг.
Это было, несомненно, вполне законное желание создать мартиролог
Революции, чтобы заставить услышать голос ее жертв. С таким намерением
Прюдом и написал субъективную, т. е. с позиции жертв, историю рево-
люционного насилия и террора. Однако возникает вопрос, правомерно ли
объединять под одной рубрикой — собственно террора — многочисленные
проявления насилия, в изобилии сопутствовавшие Французской револю-
ции? В действительности, совершенно не факт, что история насильственных
актов на протяжении революционного десятилетия способна дать удовлетво-
рительный ответ на вопросы, поставленные развитием Революции: почему
та приобрела столь жестокий характер и так быстро-* И почему насилие,
в конечном счете, приняло столь специфическую форму, как в 1794 г.?
Существует опасность, отождествляя террор и насилие, произволь-
но смешать воедино разные по своей природе явления. Действительно,
что общего между линчеванием людей толпой в 1789 г. и высылками
1797 г. в Гвиану, между целенаправленно организованными и управляемы-
ми восстаниями 1792—1793 гг. и сентябрьской резней 1792 г.? Па каком
основании сравнивать «заварушку» 1790 г. в 11име и систематическое
истребление врагов народа», предусмотренное законом от 22 прериаля
(10 июня 1794 г). преследование священников и ибелый террор» 1795 г.?
Единственное, что объединяет все приведенные здесь примеры, это —
^«.Свобода! Какие только преступления нс совершались во имя тебя! — восклицал
Фаитгн-Дезюдоар — Разве это в природе вещей. чтобы ступени твоего храма были покрыты
грудами трупов, или сама ты всего лишь бесполезный идол, к которому напрасно взывает
разумный человек?» (Fanlin-Dtsodoardi A Histoire phitosopluque dr ia Revolution dr France
P.. 1797.4 vol. T.l. P.X.).
«’Имея намерение стать лучше, люди все больше ведут себя как алоден <...> и когда
они уже почти гюбратались. выпускают друг другу кишки! Так не поступают даже звг|»и*
(РшМатте L. М. Op. ol Т !. Р. 7)
Между насилие* и террюрои
ужас, который пришлось испытать жертвам, а в ряде случаев — и очевид-
цам насилия В остальном различии намного больше, чем сходства: здесь
насилие спонтанное, там — спланированное; здесь — стихийное, там —
правовое; здесь его вершит народ, там — государство; здесь оно направлено
против конкретных лиц. там поражает без разбора.. Этим различия далеко
не исчерпываются, и можно было бы привести еще множество примеров,
доказывающих, что нет никаких оснований рассматривать указанные явле-
ния в одном ряду, если только не смотреть па проблему насилия и террора
исключительно с точки зрения их жертв и не довольствоваться научением
последствий, а не причин.
Между насилием и террором
«Ужас (jerreur) — волнение души при виде бедствия или угрожающей
опасности; неописуемый, громадный страх» Ужас — это прежде всего
психическое состояние, более напряженное, чем просто страх. — состояние,
в котором оказывается любой человек, когда ему угрожает смертельная
опасность: извержение вулкана, необходимость пройти через дремучий лес
безлунной ночью, приближение вражеской армии, бомбардировка, насилие
или возможность насилия. 1аким образом, если оставить в стороне природ-
ные факторы, любая форма насилия может быть по праву квалифицирована
как террористическая (lerroriste). если это насилие, действительно, ужаса-
ет (terrihe) свои жертвы Однако в таком случае определение террора
оказывается слишком расплывчатым, чтобы его можно было как-либо
использовать. Современные словари дают и вторую дефиницию, непосред-
ственно выведенную из революционного опыта террора: «Акты насилия,
преступления, систематически совершаемые для того, чтобы поддерживать
у некой группы лиц это чувство [ужаса]»». Если в первом определении
речь идет о результате террора, о том субъективном состоянии, причина
которого не уточняется, то второе применяется исключительно в сфере
политики и делает акцент уже нс на следствие, а на причину stoiti состоя-
ния паралича воли — целенаправленные действия людей, имеющие целью
спровоцировать такое состояние. Определяемый подобным образом террор
Die lion noire de lAcedcmie fran<o«*c- Nouvelle edition Lyon. 1776 2 vol. Г I! P 573
В атом разделе и опираюсь в основном на исследование Жана Бмни'рд. См. Bacchter
1-а lerreur a-l-ellr un sens? // La Vendee. Aprrs la lerreur. la reconstnx liun / Ed /V Gerard
P.. 1997. P. 585-606.
О происхождении неологизмов ulrnuriser» и «trinfiur-, досуге т издавшим »o фраиц>зеком
яяыке до 1794 г. и о том. как поямнник'муся в какии-го момент уродливому ntenonhere
пришлось слиться с ними. см нсследоманнс Анин Жеффруа; Се//п?у ,4. "lerreur el ten «ипипе.
Irs rrwHs еп heritage, du neologixne au comept // l,a Vcmlre. Apres la Irrreur. la reconstruct ion
P. 144-161.
3 3a«. i55
18
Насилие и Террор
требует, по меньшей мере, двух действующих лиц — террориста и террори-
зируемого — и представляет собою определенное отношение между ними,
которое устанавливает террорист.
Ровно через месяц после смерти Робеспьера член Конвента Тальен,
хорошо знакомый с террором, поскольку сам осуществлял его, находясь
в миссии в Бордо, произнес важную речь о той ужасной эпохе, из которой
Франция тогда только что вышла. В этом выступлении Тальен дал доста-
точно точную дефиницию террору: разделение общества «на два класса»,
пусть и неравных по численности, — «тех, кто заставляет бояться, и тех,
кто боится» 1Т Дефиниция точная, но все же недостаточная, поскольку
не позволяет провести четкое различие между разными формами насилия,
ведь каждая из них неизбежно предполагает присутствие таких протаго-
нистов, как палач и жертва. Здесь надо заметить, что лишь один из этих
двух протагонистов — жертва — остается в таковом качестве вне зави-
симости от характера действия, от которого пострадал: был ли то удар
саблей, нанесенный участником восстания, или постановление Революци-
онного трибунала. Напротив, терроризирующей стороной в зависимости
от ситуации могут выступать разные субъекты (толпа, ограниченная груп-
па лиц, индивид или государство), так же, как могут разниться способы
и интенсивность применяемого ими насилия. Именно эти различия и позво-
ляют установить характерные особенности террора по сравнению с более
широким феноменом насилия.
Террор не сводится к насилию. Конечно, любое насилие вызывает
чувство ужаса (terreur), а террор всегда требует применения той или иной
степени насилия. Тем не менее, не все акты насилия в революционную эпоху
были по своей сути террористическими. Террор .можно отличить от обычного
насилия по двум критериям: во-первых, носит ли акт предумышленный
характер или нет; и, во-вторых, отождествляется ли жертва, против которой
направлено действие, с реально преследуемой целью или, напротив, между
ними проводится различие. Толпа применяет насилие против тех. кого опа
в силу случайности или, по меньшей мере, без предварительного умысла
сделала своей мишенью; тогда как особенность террора состоит в том, что
насилие сознательно применяется против заранее намеченной жертвы ради
достижения определенной цели.
Отличительной чертой беспорядочного коллективного насилия, много-
численные примеры которого Революция дала, начиная с убийства Фулона
и Бертъе де Совнньи 22 июля 1789 г. и заканчивая резней в тюрь-
мах в сентябре 1792 г., было то, что оно возникало стихийно. Первые
линчевания в Париже произошли без чьего-либо приказа; и, по крайней
мере, нет убедительных доказательств того, что такой приказ имел место
^Archives padenwnuirti. Pemicre serie, 1789—1799. P., 1867 96 vol. Parus. T XC\ 1.
P. 57 (речь от 28 августа 1794 г).
Между насилием и террором
19
во время сентябрьских убийств 1792 г. Последними партии того времени,
конечно, воспользовались в политических целях; одна — для того, чтобы
бросить тень на всех парижских революционеров, другая — для того, чтобы
подавить всякое сопротивление, играя на вызванном убийствами чувстве
страха. Но эта двойственная эксплуатация насилия революционными пар-
тиями относилась к событию, которое не было ими заранее запланировано
с целью создания обстановки страха настолько сильного, чтобы нейтрали-
зовать любую оппозицию Это коллективное и стихийное насилие, часто
доходившее до крайности а изощренном и продолжительном издеватель-
стве над жертвами, как до, так нередко и после их смерти, но при этом
являвшееся точечным и локальным, не имело каких-либо далеко идущих
целей. Неожиданность его возникновения имела своей оборотной стороной
быстрое восстановление спокойствия. Смерть жертв оставляла убийц и зри-
телей одурманенными и в некотором роде пресыщенными, убежденными
в том, что определенное правосудие свершилось, но неспособными, когда их
спрашивали, дать своим действиям сколько-нибудь разумное объяснение.
Хотя это стихийное насилие и лежало в основе некоторых наиболее драма-
тических эпизодов Французской революции, оно имело долгую историю,
в которой 1789 — 1794 гг. составляли лишь одну очень короткую главу.
Подобные рецидивы варварства, смысл которых, так сказать, ис-
черпывался самим пролитием крови, означали возвращение к архаической
традиции убийства в условиях, когда возникало ощущение смертельной
опасности для существования сообщества, а способность государства со-
хранять монополию на применение насилия ослабевала. Усиление государ-
ственной власти в XVII— XVIII вв. сдерживало проявление этой традиции
и в то же время снижало порог терпимости по отношению к насилию.
Однако, когда государство оказывалось в кризисе, как в 1789 г. или после
отречения Наполеона в 1815 г., древние инстинкты вновь брали верх.
Речь идет о феномене, хорошо известном историкам ментальности: насилие
становится реакцией на тревогу, охватывающую общество, когда оно стал-
кивается с опасностью, которая угрожает самому его существованию или
воспринимается как таковая, причем ситуация усугубляется упадком закон-
ной власти и крушением традиционных ориентиров Это — время самых
иррациональных слухов, дающих, однако, непонятным вещам объяснение
убедительное и. стало быть, рациональное в том отношении, чти оно указы-
вает на объективный. идеи гифицнруемый и внешний источник смертельной
опасности, которая, как кажется, угрожает обществу. Слух, разоблачение,
прот1июпа.иняшях тсанса — о стихийном характере убийств (что ни исключает
ответственность за них. пи крайней мере моральную, руководителей Коммуны) и об их
предумышленном характере — выдвигаются соывектвенно Пьс^юм Карином и Ф|Я!дернком
Блюшгм. См Camn Р, Les Manacres de scpteiiibrc P , 1935. Blache F. Srptcnibre 1792.
IjJHMjues d’un manacre. P., 1986.
3*
20
Насилие и Террор
опознание. кара: насилие в данной связи представляется средством, спо-
собным предотвратить ниспровержение естественного порядка вещей путем
устранения виновного, которого физически убивают, а символически оттор-
гакгт как чужеродный и вредный элемент, дабы этой жертвой восстановить
сплоченность и онтологическую целостность общества В этом слунае смысл
насилия сводится к уничтожению виновного
It#
Нет сомнения, что эти действия терроризировали людей. Но их
нельзя считать террористическими актами, поскольку стихийное насилие
толпы не имело таких характерных черт террора, как стратегический расчет
и несовпадение реального адресата насилия с жертвой.
Террор можно определить как стратегию, опирающуюся на насилие,
интенсивность коего варьируется от простой угрозы прибегнуть к нему
до безграничного применения, и имеющую явно выраженное намерение
вызвать ту степень страха, какая считается необходимой для достижения
политических целей, которых, по мнению террористов, они не могут до-
стичь без насилия или доступными им легальными средствами. Кроме того,
террор отличается от остальных форм насилия своей осознанной, а значит
рациональной, природой. Он осуществляется в соответствии с расчетом
и направлен на то, чтобы вызвать определенный эффект ради намеченной
цели. Не важно, рациональна эта цель или нет. а также то, что обра-
щение к терроризму, как показывает опыт, имеет результаты совершенно
противоположные желаемым, или даже то, что это средство по сути своей
не способно когда-либо привести к цели, во имя которой применяется.
• Не понятно. — замечает Жан Бэшлер. — как убийство нескольких
капиталистов может привести к исчезновению капитализма» То же са-
мое относится к «'аристократам* или к «контрреволюционерам». Террор,
независимо от его реальных последствий, рационален в том отношении,
что террористы прибегают к нему после оценки эффективности всех до-
ступных для достижения своей цели средств (предполагая, что таковые
существуют). Начиная с распятия сторонников Спартака и заканчивая
уничтожением жителей Хиросимы и Нагасаки, террор являлся стратегией,
отмеченной печатью рационализма. Он был направлен на то, чтобы пода-
вить или подчинить людей не столько путем причинения им страданий или
,ИСы.: СогЬпЛ Le Village des -cannibals- P , 1995 P 121—139; Delumeuu ]. La Prur en
Occident (XIV* — XVIIIе oeclefe) One cue issiegee. P.. 1980. P. 188—256; Sojsky W Traiie
de la vjJence [1996] / Trad. В Lortholary P 1998. P 155 — 170 Дея периода Революции
см ; Cun-etn fl Le tribunal e! la lemur du 14 jwllet 1789 aux massacres de septrmbre //
La Revokes logiquei 1979-1980. № 11, hrver, Lucas C Revolutionary violence, the people and
the Tenet // The Terror. P 57—79. Roche D La violence viw d en has Reflextons sur les mosvns
de la polruque en penode rnoluuonnainr // Anuales ESC. 1989. Janvier-fevrier. P 47-63.
W Bacchltr I Li teneur a-t-efle un sens? P 591
Mc^rju носи tutM и се/фором
21
смерти, сколько при помощи угрозы страданий или смерти, коим предвари-
тельно подвергали некоторое число жертв (а том числе, при необходимости,
отбираемых по случайному принципу). Террор всегда служил лишь инстру-
ментом, средством осуществления политики или ведения войны, столь же
древним как сама политика и война, и отнюдь не был особенностью нового
времени.
Макиавелли наиболее ярко проиллюстрировал это в тон главе к Госу-
даря^, где рассказал, как Цезарь Борджиа, заняв Романью, страдавшую
от разбоя мелких сеньоров, взялся за наведение порядка и усмирение враж-
дующих группировок. Для этого Борджиа наделил всей полнотой власти
Рамиро де Орко, «человека нрава резкого и крутого*, который выполнил
его поручение без лишних церемоний. С восстановлением порядка Цезарь
Борджиа счел, что время террора прошло и теперь надлежит передать меч
правосудия обычным судам.
Но зная, что минувшие строгости все-таки настроили против него
народ, он решил обелить себя и расположить к себе подданных, показав
нм, что если и были жестокости, то в них повинен не он. а его
суровый наместник. И вот однажды утром на площади в Чеэене по епэ
приказу положили разрубленное пополам тело мессера Рамиро де Ofuco
рядом с колодой и окровавленным мечом. Свирепость этого зрелища
одновременно удовлетвори ха и ошело.мнеа народ®).
Удовлетворила, поскольку Цезарь Борджиа таким образом отомстил
за страдания, которъге принесло людям выполнение его же собственных
приказов; но ошеломила, поскольку народ смутно почувствовал. что казнь
министра была одновременно и данью справедливости, и предупреждением
всем тем. кто хотел бы посягнуть на мир. восстановленный Рамиро де Орко.
Если этот эпизод и является, как сказал Макиавелли, «достойным
внимания и подражания», то не потому, что Борджиа с достижением по-
ставленной цели устранил того, кто выполнял его приказы, а потому, что
Борджиа вместо того, чтобы продолжать тер^юри.мцюватъ на>юд. держа
его тем самым в подчинении, однако рискуя затупить оружие террора
постоянным и многократным употреблением, одним точно рассчитанным
актом насилия успокоил раздражение подданных поразив нелос(и-дстпгн-
ного виновника их страданий, но при этом, хотя и облегчил участь народа,
пригрозил ему еще худшими бедами, чем те, что тот перенес под властью
Рамиро.
Здесь можно видеть в действии основные составляющие тер^юра.
стратегический масштаб, рассчитанное применение насилия и. наконец.
} Час hitrcl A L-e Pome Ch. 7 // Machu и-1 N CEuvm citnplitet / Cd C tUnucnu.
P. 1952. P. 309—310 [AfuKiMiftt им H Государь Передел Г Мураадедей. М<, POfl
С. 67—68). Об тексте см Afanenf Р. Hiuouc ntcllmiwcik du ЙЬегаЬмпе Dit le^on»
P. RJ7. P 51-50
22
Насилие и Террор
возникающие в результате косвенные отношения между раз яичными про-
тагонистами. В самом деле. если при акте коллективного насилия на сце-
не присутствуют лишь два демепгьтощих лица (толпа и ее жертва), то д\я
террора их нужно, как минимум, три террорист. по^жжаемая нм жертва
и объект, который зрелище казни должно достаточно запугать, чтобы он
подчинился требованиям террориста. В приведенном Макиавелли примере
Рамиро де Оркп веет лишь жертва, тогда как народ Чеэены является
истинным адресатом этого акта террор. Эти неизбежно косвенные отно-
шения .между террористом н его реальной мишенью могут быть даже двух
уровней, когда, как в случае с современным терроризмом, политическая
группа или государство, нс разбираясь, наносят удар по большей или мень-
шей части населения, чтобы запугать весь народ целиком и через него тем
самым опосредованно поразить и его правительство.
Польза великих примеров
Если свести суть террора исключительно к применению насилия с це-
лью запупшання или принуждения. то это означало бы, что он не только
существовал но все времена, но и то. что беззаконие и произвол, с ко-
торыми его обычно ассоциируют, не являются его непременными чертами.
11 действительно, нс предполагает ли уголовное наказание, помимо жела-
ния покарать правонарушение и возместить ущерб, намерения преподать
урок и предотвратить повторное преступление показательным характером
кары? 11акаэание и, прежде всего, смертная казнь являются одновременно
и санкцией. и назиданием. Уже в 1640 г. Ла Менардьер утверждал в споем
трактате «Поэтика». что «праведный ужас, которым наказание преступни-
ков вызывает в душах людей, оказывает благотворное воздействие»
Расчет на устрашение карой, изначально присущий любому акту
правосудия, приобрел еще большее значение в Х\ 111 в., когда утилита-
ристский подход к уголовной санкции начал вытеснять прежний порядок
наказаний Последний делал упор на искуплении, на воздаянии, иа при-
мирении виновного с Богом и ст^мился продемонстрировать «проявление
правосудия во всей его мощмм казнь, несь ход которой был за|>анее
расписан до мельчайших деталей, являлась также уроком, преподавае-
мым властью'^. После 1750 г. движение за реформу уголовного процесса
Цвгт no jenny L L> Trrrtur el lei lignri. Poeliqiie de mplure. I1.. 1982. P. 9.
См , и чжггжхлм Schntippcr B. \oirs miuwllrs en hi^Coire du dtuil L-a jiifllke, la Uinille.
UrtprsDOhpeBik (XVF -XX* lin k*) P , 1991 I1 187 — 205 ( •Распространение iw Ф^шв-
ним нивы* пргдгташлемий уголовной ответственности в последнее десятилетие Спцюп*
порядна*)
См. ставший уже клдсгнчесиим анакил аюй пр/жемы и кн : Aoucc>u/f М Surveillei el
purtir NavAame dr la рпмят P.. 1975 P 36-72.
По нма вешкиx примеров
нс только добивалось индивндуа чиллцин. фиксированности и смягчения
наказаний, но н оказывало решающее клиянне на юридическую практику,
отныне озабоченную не столько наказанием преступника, сколько пресе-
чением преступления. и стремившуюся определить тяжесть кары, исходя
нс столько из характера преступного деяния, сколько на ее предполагаемой
способности предотвратить по повторение. Вред, причиняемый обществу
преступлением, — замечает Мишель Фуко. — состоит в том, что оно вносит
беспорядок, вызывает скандал, подает дурном пример и, если не наказано,
побуждает к повторному совершению . Likmm образом. чтобы принести
пользу, наказание, публично налагаемое на виновного, «должно произвести
наиболее сильный жрфгкт на тех, кто нарушения не совершал ». лабы еще
хоть немного укрепить их заинтересованность в том. чтобы избегнуть кары,
риском которой чревато преступление г Ужас, вызываемый традицион-
ным способом казней, имплицитно отвечал атому требованию, и рефор-
маторы, полностью согласные между собой в том, что пашням критерием
меры наказания должна быть общественная польза, имели р.ммы* мнения
относительно средств, лучше всего ведущих к этой цели Если Беккариа,
стремясь согласовать интересы общества с правами личности, стал ратовать
за отмену смертной казни (кроме как за политические преступления), это
отнюдь не означало. чти в данном вопросе он имел много последователен.
Гак, юрист Мюмар де Вуглан, посвятивший значительную часть своего пра-
вового трактата опровержению доводов Беккарин, пришел к диаметрально
противоположным выводам, исходя из того же самого утилитаризма;
Наказания были введены, прежде всего, с назидатг \ьиой целью,
а потому о степени нх суровости надо судить нс столько по тому, ключ*
воздействие они оказывают на виновных, сколько ио тем внеч.и мнпнм.
которые они вызывают у зрителей*01.
(\‘чъ шла не только о том, чтобы наказывать лая воздаяния, но и в го-
раздо большей степени о том. чтобы наказывать Л'Я предотнращення
Террористы 179i г. говорили го же сам<и Разумеется, они нмс\н иную
не>ь, чисто политическую, однако опрамдынахи внелени» суровых мер, за-
имствуя артюигацию у тех тоор’тнков. кто при Старом порядке защищал
принцип смертной казни ссылкой на ес общее им i*h\ю пользу К.^к и эгн
т<ч)ретнки. как и Мюйар де Вуглан. террористы верили н пользу -ш хнкнх
примеров»: скорое н самое строгое наказание лаговорщнкон должно пре-
дотвратить будущие заговоры, все чин н души уверенное ль в цеотерстгимостн
наказания и страх перед эшафотом,
В дебатах о пользе торрора широко применялись аргументы, которые
на протяжении века ныдвигачи сторонники н противники смертной казни,
,9>1Ы Р. 95-97
" Mmjort de VoMg/<uu Р F les Loh crnninellrs <hn« leur <vrlrr nMiirel 117ЯЧ] Ц1П 1Ю:
Mullet D. Magistrals el fWMiie Je nuwt au Will* »u?ck // Dix-bulirme wrcle 1972 P 8b
24
Насилие и Террор
споря о се назидательности и способности устрашать. Если инициаторы
создания Революционного трибунала говорили то же самое, что Мюйар
де Вутлан, то те. кто боролись против Террора. особенно после Термидора,
заимствовали своя доводы у всех противников смертной казни, от Беккариа
до Дюпора и Робеспьера. Так, Робеспьер 30 мая 1791 г. ратовал за ее
отмену утверждая, что смерть осужденного не только не служит назида-
нию. но и прямо противоречит поставленной цели: с одной стороны, она
вызывает сочувствие к казнимому, а потому отвращение от казни заглушает
отвращение от преступления, пробудить которое собственно и должно пра-
восудие; с другой стороны, зрелище казни ожесточает и развращает души
тех, кто ее наблюдает, а его неоднократное повторение притупляет страх
перед карой, обесценивая человеческую жизнь. Смертная казнь, никого
не путая и ничуть не способствуя снижению преступности, дает народу по-
чувствовать вкус крови и скорее ведет к росту числа преступлений, чем к их
предотвращению2^. Конечно, спустя год или два Робеспьер уже не будет
произносить подобных речей, но именно этими его аргументами на рубеже
1793-1794 гт. воспользуется Камилл Демулен для осуждения Террора,
заявив, что тот лишь развращает нравы, хотя и введен под предлогом их
возрождения. «Я. — писал он. — вижу в республике *ишь неподвиж-
ную гладь деспотизма, ровную поверхность стоячих болотных вод; я вижу
здесь лишь равенство страха, нивелировку мужества и принижение самых
благородных душ до уровня самых заурядных» 22\
Те же самые мысли развивал Тальен, утверждая после 9 термидора, что
террор никоим образом не может сделать общество добродетельным, по-
скольку развращает народ до такой степени, что тот становится «неспособен
принять свободу», ибо страх приучает люден к рабству и, в конце концов,
приводит к разрыву в обществе всех тех связей, без которых добродетель
там существовать не может25).
Одиако не следует делать поспешных выводов из внешнего сходства
дебатов о смертной казни и о терроре. Даже если правосудие и стремилось
к поучительности, оно не являлось террором, и наоборот. Чтобы понять
это. побудем еще в компании Тальена. Взяв слово ровно через месяц после
смерти Робеспьера, он, похоже, выдвигает два противоречащих друг другу
требования: сохранить «революционное правление» и восстановить право-
судие. И действительно, одно противоречит другому, ибо правление может
считаться «революционным» лишь постольку, поскольку оно стоит выше за-
конов и обладает правом действовать, руководствуясь лишь необходимостью
общественного спасения. Правосудие, напротив, требует, чтобы власть зако-
на распространялась на нее, только так можно гарантировать прана каждого.
Robespierre М. (Euvree Р„ 19(2—1967. Т. VII. Р. 432-446.
Desmoulins С. Le Vieui Cordelier Р., 1987. Р. 113.
Archives padementaires, Т XCVl Р 58.
Польза великих примеров
25
Тем не менее, Тальен совершенно не представлял себе возможности суще-
ствования некоего «террора на основе правосудия», вроде того, который за-
думывал Робеспьер накануне своего падения, или того, к которому, похоже,
призыва ли термидорианцы из Комитета общественного спасения, пытавши-
еся сохранить орудие после того, как был низвергнут его наиболее красно-
речивый защитник Потребовав у Конвента восстановить применение норм
правосудия в борьбе с врагами Революции, Тальен призвал коллег отказать-
ся от произвола террора. Но он совершенно не собирался возобновлять кам-
панию в пользу политики «снисхождения», проводившуюся в начале 1794 г.
Камиллом Демуленом. Эта кампания привела Камилла на эшасрот. и. чтобы
избежать обвинения в «умеренности», Тальен настаивал на сохранении ре-
волюционного правления. Впрочем, такой подход диктовался не только эле-
ментарным благоразумием. Отвергать снисходительность не означало от-
вергать правосудие. К тому же многие тогда считали, что снисходительность
чужда правосудию. «Если помилование оказывается справедливым. — пи-
сал Бриссо в работе начала 1780-х гг., — то закон плох. Там. где законо-
дательство хорошее, помилование. — это преступление перед законом»
Хотя правосудие не является синонимом милосердия, его нельзя сме-
шивать и с террором, даже если оно. действительно, пробуждает ст^мх
(terrorise). Разница между ними в том, что правосудие направлено против
действий, тогда как террор направлен против лиц, вне зависимости от их
поступков. Гаким образом, те виды страха, который вызывает каждый
из них. фундаментальным образом различаются между собой. Правосудие,
поясняет Тальен. порождает «страх, связанный с определенной ситуаци-
ей, <...> предчувствие того ужаса, который последует за преступлением.
<...> разумный страх перед законами»; террор же вызывает «непре-
станную душевную муку <...>, несмотря на ощущение невиновности»
Правосудие вызывает «разумный» страх потому, что наказание применяется
по фиксированным и заранее принятым нормам, в случаях, предусмотрен-
ных законом, н по приговору, вынесенному в соответствии с правовой
процедурой. Закон дает виновному почувствовать неотвратимость кары,
благодаря чему обеспечивается спокойствие и безопасность невинного.
Этим и только этим правосудие вызывает страх. Напротив, террор рас-
пространяет всеобщий страх, поскольку представляет собою проявление
насилия, освобожденного от каких-либо законных ограничений. Он угро-
жает каждому, виновен тот или нет. угрожает всем и всегда; он разит наугад,
без мотивов и доказательств. Террор — это повсеместное и неограниченное
царство произвола. Даже когда террор заимствует формы у правосудия, как
при создании Революционного трибунала 10 марта 1793 г., он сохраняет
произвол в осуществлении правовых актов как свою главную движущую
Brissot J. Р Thcocie des lois crinimcUe* [ 17811 P . 18 MS T I. P. 2U()
Archives parlnnenlanes. T. XCVI P. 56.
2 Зак >55
26
Насилие и Террор
силу, поскольку чувство неуверенности, распространяемое террором, слу-
жит условием его эффективности. В самом деле, можно лк представить себе
систему террора, которая поражает только действительно виновных? Даруя
спокойствие невинным, она не достигла бы своей цели. Для порабощения
всех надо, чтобы каждый жил в постоянном страхе, которъ?й бы вызывали
и поддерживали наглядные примеры, в достаточной степени отмеченные
печатью произвола и достаточно частые. Тогда все проникнутся страхом,
чувствуя, что смерть, постигшая человека, чья «вина,' неясна, может завтра
постигнуть их самих и тоже без лишних формальностей.
Чрезвычайные законы и законы террористические
Террор отличается от правосудия произволом в правовых актах и фор-
мах, всеохвал4остью и отсутствием четко обозначенных пределов. Ничуть
не меньше отличается он и от тех жестких мер, к которым государство
порою вынуждено прибегать в случае опасности. Так, закон против сборищ,
принятый Учредительным собранием 21 октября 1789 г. сразу после убий-
ства. ставшего продолжением других убийств, не может рассматриваться
как террористическая мера, даже если предшествующая ему преамбула,
на первый взгляд, интерпретирует его именно таким образом. Действитель-
но, законодатель в ней объявляет, что на смену «спокойным временам»,
когда, чтобы обеспечить соблюдение законов, достаточно обычной обще-
ственной власти, могут приходить «трудные эпохи», «периоды кризиса»,
которые «на какое-то время создают потребность в чрезвычайных мерах
для поддержания общественного спокойствия и обеспечения прав всех».
Этот чрезвычайный закон наде,\ял муниципальные власти правом в случае
беспорядков объявлять военное положение и требовать вмешательства во-
оруженных сил. Как только разворачивалось красное знамя, всякое сборище
считалось «преступным» и по манифестантам после трех предупреждений
мог быть открыт огонь, даже если они не имели оружия. Столь же суров был
этот закон в налагаемых им наказаниях: смертью карались «подстрекатели»
вооруженных сборищ (даже если бунтовщики подчинились после сделан-
ных им предупреждений) и те, кого уличили в совершении насилия; три
года тюрьмы получали зачинщики невооруженных сборищ, рассеявшихся
после вынесения предупреждений (в таком случае преследованию подле-
жали только подстрекатели); такая же санкция налагалась на вооруженных
манифестантов, не уличенных в применении своего оружия; и, наконец, год
тюрьмы давали невооруженным участникам вооруженных сборищ
Если я и останавливаюсь столь подросЗно на конкретном содержании
этого закона, который собственно и привел к бойне на Марсовом поле
Collection de» luis. dfcrek, ordonnanew... de 1788 a 1824 / Ed. J. B. Duvrrgicr. T I
P. 52-53
Чрезвычайные законы и законы террористические
27
17 июля 1791 г., то лишь потому, что оно позволяет понять его нетерро-
ристический характер: закон начинал действовать лишь в период волнений;
им устанавливалась шкала ответственности и соответствующие санкции; он
наказывал за строго определенные действия; и хотя рассмотрение подобных
правонарушений передавалось чрезвычайному суду, чей приговор не подле-
жал ни обжалованию, ни кассации 27\ такой трибунал должен был не только
«уличить» обвиняемого, но и сделать это в соответствии с нормами публич-
ной и состязательной процедуры, которую ввел закон от 8 октября 1789 г.,
реформировавший уголовный ордонанс 1670 г. 2S> Таким образом, закон
от 21 октября 1789 г., в соответствии с установленными (формальностями,
наказывал за деяния.
Сразу же по другую сторону этой границы начинается террор, когда
закон карает за нарушения, определяемые столь расплывчато, что под
наказание попадают не только поступки, но намерения и даже само без-
действие, или когда закон направлен уже не против деяний, пусть даже
нечетко определенных, а против лиц. Редактору Annales palriofiquea ci
litferaires Жану-Батисту Салавилю пришлось обратить особое внимание
на этот пункт после Термидора, дабы напомнить, что нельзя считать «тер-
рористическим» любой жесткий или чрезвычайный закон. Он отмечал, что
закон может, например, ограничить свободу слова ради «общественного
спасения или даже общественной пользы», не нарушив тем самым этой
свободы, поскольку в таком случае он будет направлен не против самого
мнения, а лишь против его публичного выражения и тех волнений, которые
оно способно вызвать. Но в то же время закон может что-либо запрещать
лишь при условии точного определения того, о каком именно мнении идет
речь. «Без такой строжайшей точности права нарушаются, а закон служит
тирании», как это было во II году, когда закон карал смертью «оскорбление
должностных лиц», «разложение нравов» или «проявление себя врагом
народа» — преступления, определение которых было столь растяжимо, что
любой оказывался уязвим для произвола властей 29).
С этой точки зрения закон от 19 марта 1793 г. был полной противопо-
ложностью октябрьскому 1789 г. о военном положении Репрессивные
меры, применение коих против индивидов, нарушавших закон, в данном
В тот же день Учредительное собрание поручили временно вести дела о <преступле-
ниях против нации» (crime* du lese-nation) и нарушениях общественного порядка прежнему
трибуналу 11 laiAt* в Париже до тех нор. пока нс будет создан новый суд (Ibid. 1.1 Р. 53)
Делегации муниципалитета Парижа потребовала, чтобы убийц булочника Франсуа суди-
ли по ускоренной процедуре, но Учредительное собрание отвергло их требование, и обвиняемых
судили п соответствии с законом от 8 октября. Двоих на них приговорили к смерти и повесил»»,
третьего — к девяти годам ссылки (Ades de la Conuriune de Paris pendant la Revolution /
Ed. S. Lacroix. P.. 1894-1914 Т.П P 375-376. 379)
2 В 9 Aimales palrioliqucs et buerairesdc la France. № 597 21 auut 1794. T. IX. P. 2607-2608.
50) Collection des lois... T V. P 253-255.
28
Насилие и Террор
случае — о военной повинности, было само по себе вполне лепггимно,
вышли далеко за пределы, предусмотренные законом о военном положении
1769 г (каковой, заметим, как раз и мог быть применен в указанной
ситуации). Закон от 19 марта 1793 г. не ограничивался введением смертной
казни для повстанцев захваченных с оружием в руках, и для подстрекате-
лей, но распространял эго наказание н на всех, кто носил белую кокарду
или • любой другой знак мятежа». Объявленные вне закона, они лишались
возможностей защиты, которые давали обычным подсудимым процедура
судебного разбирательства или суд присяжных. В определенных случаях
вынесение приговора доверялось военным комиссиям, чей вердикт под-
лежал исполнению в течение двадцати четырех часов, если подсудимые
признавались виновными в мятеже на основании «либо протокола, заве-
ренного двумя подписями, либо протокола, заверенного одной подписью
и подтвержденного показанием свидетеля, либо устных и совпадающих
показаний двух свидетелей*. Лица, захваченные без оружия, предавались
суду обычных уголовных трибуналов, но те в подобных обстоятельствах
должны были судить в соответствии с чрезвычайной процедурой военных
комиссий.
Статья 6 закона от 19 марта предусматривала еще и отягчающие
обстоятельства, связанные не с характером совершенных деяний, а с лично-
стью обвиняемого Согласно этой статье, из числа обвиняемых — т.е. тех
кто оказался под арестом, и вне зависимости от вердикта суда, — «свя-
щенники. бывшие дворяне, бывшие сеньоры, служащие или домашняя
прислуга всех этих людей, иностранцы, а также лица, выполнявшие пу-
бличные обязанности при старом правительстве или во время революции»,
подлежали такому же наказанию, как «руководители, подстрекатели* и те.
кого «уличили в убийстве, поджоге и грабеже». Грабители и поджигатели,
еднако. карались смертной казнью за свои деяния, тогда как священникам
и дворянам такой же приговор выносился лишь в силу их статуса или
происхождения. Они должны были умереть, даже если не носили оружия,
не побуждали никого к волнениям н не совершили никакого конкретного
преступления. 11х личного статуса оказывалось достаточно для того, чтобы
признать виновными и вывести нз под действия нормы, предусмотренной
для тех, кто был арестован, но не совершил никакого преступления, —
те должны были «всего лишь* находиться в заключении до тех пор. пока
Конвент не решит их участь.
И наконец, закон требовал конфискации имущества осужденных,
распространяя, таким образом, вину и на их семьи. Это — чрезвычайный
закон, но также — закон террористический, поскольку давал широкий
простор для толкования и устанавливал весьма расплывчатые критерии
виновности. что позволяло его использовать против кого угодна, а стало
быть — и против КАЖДОГО
Террор и легитимное правительство
29
Мартовский закон (793 г был принят, как только Конвент получил
первые сведения о беспорядках и еще не знал об их истинном размахе. Этот
чрезмерный закон, способный скорее раздуть пожар, чем его потушить. был
ограничен 10 мая по требованию Дантона, добившегося принятия декрета
о том, что «.наказанию, предусмотренному законом от 19 марта против
мятежников, подлежат лишь их руководители и подстрекатели* Если
закон от 19 марта был террористическим, то положения декрета от 10 мая
приблизили его к тем чрезвычайным мерам, которые обычно применяются
для пресечения нарушений общественного порядка.
Террор н легитимное правительство
Террор или другая чрезвычайная мера могли быть для легитимных пра-
вительств. говоря словами Цицерона, лишь «^наставником на день*. С этой
точки зрения Французская революция не была монополистам по чрезвы-
чайным законам или применению насилия против врагов правительства.
Напротив, она открывает долгий, почти вековой период, на протяжении
которого все сменяющие друг друта режимы будут более или менее часто
и в течение более или менее длительного времени использовать чрез-
вычайные меры млн насилие, чтобы отразить атаки своих противников
нли уменьшить нх возможности сопротивления. Здесь я имею в виду
не столько чрезвычайные меры, введенные при Первой и Второй империях,
и не ужасные репрессии, обрушившиеся на повстанцев в июне 1348 г.»
а затем в 1871 г., сколько выходящие за рамки обычного права законы,
которые стали привычной опорой дчя правительств второй Реставрации
и Июльской монархии. В данном отношении вторая Реставрация 1815 г.
служит хрестоматийным примером’4*). В конце 1815 — начале 1816 гг.
были один за другим приняты закон об общественной безопасности, ко-
торым предусматривалось тюремное заключение без приговора суда д.хя
лиц. подозреваемых в заговоре против королевской семьи или безопасности
государства, что воскрешало практику закона о подозрительных 1793 г.
закон, вводивший цензуру хся газет; и, наконец, закон о создании в каждом
департаменте превотального суда.
Эпизод Ста дней, завершившийся поражением при Ватерлоо, поставил
в порядок дня контрреволюцию, которую до того времени позволял сдержи-
вать компромисс, заключенный между имперскими элитами и окружением
Людовика Х\ III после первого отречения Наполеона в 1814 г. Тогда ярые
роялисты, эмигранты и вес тс, кто удвоенным усердием старался ком-
пенсировать новизну своих монархических убеждении, не поняли, как это 11
11' Annales parnotiques... Т V Р.347
'^О лиу* Ресгалрацмжх — 1814 и 1613—1630 гг. — см.. Bertie Зе Зил^пу С. Ла миг
de k monarchic Li ResUuralxxi. Р , 1974.
30
Hecutue u 7e#*x>
победившая монархия смоги проявить снисходите хьность по отношению
к наследникам Революции. Они предпочли бы. чтоб король заставил нацию
мсмяитъ 1789 г и способствовал восстановлению всего низвергнутого Ре-
всллхшгн. но нм пришлось сдерживать свои порывы. После же Ватерлоо
к rmpxo возвращения .\юловика XVTI1 сложилась иная ситуация: король,
уже менее склонный к милосердию. вынужден был согласиться с тре-
бованиями ультрароялисттких лидеров «Бесподобной палаты». избранной
в августе 1815 г
• Настал час правосудия, — заявил тогда Лабурдонэ с трибуны. —
Оно должно быть скорым н ужасающим, чтобы повсюду восстановить
тип ниу и спокойствие. <..<> Лишь вселив спасительный ужас (terreur)
в души мятежников, вы предупредите их преступные намерения» Ла-
тордонэ в некотором роде представлял собою подобие Марата — та-
юя же одержимый контрреволюцией. как тот — Революцией. Не бы-
ло ни одной чрезвычайной меры, которая не находила в нем горячего
защитника, если только она была карательной и. по возможности, кро-
вавей Он к его друзья-ультра защищали трон, используя язык И го-
да. Впрочем даже роспуск > Бесподобной палаты > в сентябре 1816 г.
и формирование большинства. поддержавшего Деказа в его стремлении
• национализировать монархию» и тем самым • монархизировать нацию»,
не означало конца чрезвычайных законов, принятых в 1815 г. Они еще
несколько раз продлевались (в феврале и декабре 1817 г.). Если Де-
каз и был убежден в необходимости принять Францию такой, какой она
выххка из 1789 г., и защитить порожденные Революцией интересы. —
го столь же рел1ите_сьнс он был настроен бороться без малейшей по-
оыжкм против революционных воззрений. Отсюда — противоречивый
характер этой эпохи, которая отмечена принятием либеральных законов,
упрочивших компромисс 1814 г., я в то же время — чрезвычайными
мерами Последние свидетельствовали о глубине противоречий в стра-
не. но сами также способствовали их сохранению н даже радикализа-
ции Эти законы лишь увеличивали число противников того режима,
который, как предполагалось, они защищают. Позже, в 1818 г., Дека-
эу пришлось отказаться от подобного использования чрезвычайных мер.
ставшего почти обыденным, но убийство 13 февра.<я 1820 г. герцога
Берряйск юс немедленно привело к принятию новой серии чрезвычайных
законов.
Как показало покушение, режиму, несомненно, приходилось сталки-
ваться с рядом опасностей Начиная с 1816 г. не раз становилось известно
о заговорах к-<и восстаниях В некоторых случаях речь шла о делах, со*
стряпанных полмцней и явно направленных на то. чтобы заставить власти
ужесточить свое отношение к наследникам 1789 г. Когда же эти заговоры
и лештммное праяипшьство
31
оказывались реальными, они не предстаачяли никакой серьезней опас-
ности д.чя существования режима, кроме покушения Лувеля на герцога
Беррийского Однако не обстоятельствами, а хрупкостью режима, не-
достатком легитимности у вторично реставрированной в 1815 г. монархии
объясняется ее повторяющееся раз за разом подражание методам политики
общественного спасения 1793 г.
И в самом деле, в 1814 г. французы отвернулись от императора,
оставив его на произвол судьбы, но своей прежней привязанности к ди-
настии Бурбонов не восстановили. Если они тогда чего-то и хотели. то
не какой-либо конкретной формы правления, а лишь такого режима, ко-
торый принес бы им мир и отказался бы (в случае возвращения короля)
от всякого намерения отомстить и от желания вернуть потерянное. «Роя
лизм* побежденной и уставшей Франции 1814 г. был всего лишь иллюзией,
вскоре развеянной присоединением провинции к императору после его вы-
садки с Эльбы. Монархия к новой Франции не привилась. И не потому,
что государственные институты 1814 г. были плохи: напротив, именно их
сохранения потребовали французы у императора, когда тот вернл^ся Од-
нако нельзя сказать, что. приняв институты конституции иной монархии.
Французы в то же время распространили эту’ привязанность и на короля:
Когда им говорят о троне и об алтаре, они отвечают ..Это — четыре
деревянные доски; мы их и скачачмвалм. и гвозди из них лергали"» 561
Слова Альфреда де Мюссе справедливы: легитимность была )битд два-
жды — гильотиной 21 января 1793 г. и двадцати одним годом изгнания,
вырывшим .между прежней династией н Францией, где Революция все
перевернула снизу доверху, такую пропасть, котпр неможно бы то
заполнить. Встреченным доброжелательно в 1814 г., посхочьку нес с собой
надежду на мир, Людовик Х\ 111 вернулся в июле 1815 г как иностранный
король, навязанный нации вражескими армиями, и как король контррево-
люции. сопровождаемый когортой тех. кто бежал из страны в марте 1815 г.
и теперь лелеял мечты о репрессиях и о мести пи отношению к виновной
нации.
Пример второй Реставрации показывает, что если террор. действитель-
но, может быть «наставником на день» для правительств легитимных и опи-
рающихся на поддержку общественного мнения (Кавенывм в ниже 1848 г,
Тьер в 1371 г.), то хчя режимов с сомнительной легитимностью или слабо
Irpyor 6е|хрммснмм. убитым Лухе.мм. был е^ммствемымй мя нм ыимсы мревм. см»
мог дзтъ гютоыство xui прмаачмгнкя дмийсгш* Ьурбиыов П<ж>шсмме Лухел* бы
дннмтшм IM ътклнме еелм бы гтрусгми» Беррыйскм мг • тон мошпет бгреыеммд
Нескачыко ЫГСХЦГЛ гпусгв ОМА родим сын* (будущего Шлыфор*). «лгторого ргжлмсты
,1>См Р La МмпшгЬг апрсыаЬи L« Скале» de н de Н50 Р . Г>94
Р 149-Ш
101 МимгГ A., df L* Conf с woo dm еЫаы du 0ede. P., H73. P 26.
32
Нйсилие и Террор
поддерживаемых обществом он — скорее неизбежность. которая рано или
поздно обречена превратиться в привычное средство управления. В схо-
жей ситуации летом 1793 г. находился монтаньярский Конвент, не имевший
иного источника легитимности, кроме антнпарллментского государственного
переворота 31 мая *793 г., и иной опоры, кроме сфабрикованного одобрения
референдумом Конституции 24 нюня 1793 г., введение в действие которой
Конвент, к тому же, поспешил отложить. чтобы избежать возвращения
к своим избирателям.
Я не хочу сказать, что режимы 1793 — 1794 гг. и 1815 г. сопоставимы.
Второй имел в своей основе Конституцию, определявшую его устройство
и пределы, тогда как д\я первого не было другого права, кроме силы.
Конечно, режим 1815 г. так же. как и 1793 г., прибегал к чрезвычайным
средствам, но делал это в гораздо более ограниченном масштабе: 1 500
арестованных в 1816 г. по закону об общественной безопасности от 29 ок-
тября 1815 г. — цифра, не выдерживающая никакого сравнения с примерно
500 000 подозрительных, находившихся в тюрьмах в соответствии с зако-
ном от 17 сентября 1793 г. Между двумя режимами существовало и то
различие что реставрированная монархия 1815 г. была властью легитимной,
но слабо укорененной, тогда как монтаньярская республика 1793 г. пред-
ставляла собою автократический режим, установленный насильственным
путем и не имевший иного способа продлить свое существование, кроме
постоянного и неограниченного применения силы 37\
Террор, ставший «наставником* политики или режима, — это оружие
меньшинства. Для чегитнмной власти, — замечает Тк^ьен. — которую
признает подавляющее число людей, такого признания (так сказать си-
лы закона и общественного мнения) достаточно, чтобы восторжествовать
и преодолеть сопротивление отдельных лиц. Террор может быть полезен
лишь меньшинству, которое стремится угнетать большинство я \ При-
нимая во внимание эту характеристику и выводя за пределы собственно
террора те чрезвычайные законы, которые большинство может краткосроч-
но использовать дкя сдерживания угрожающего ему меньшинства, террор
можно определять как стратегию группы частных лиц или носителей госу-
дарственной власти, прибегающих к насилию и произволу с целью вызвать
чувство страха и неуверенности, каковое они считают необходимым, либо
чтобы добиться выполнения своих требований, либо чтобы захватить власть,
либо чтобы удержать ее вопреки воле меньшинства. Ни насилие толпы,
ни жесткие меры, к которым обстоятельства могут принудить легитимную
власть, не относятся, строю говоря, к истории террора.
' 'Что совершгяно не отсутстжме всякого согласия с эгой властью у тел. кто ен
подчинялся к ддже тех. мто стад «х См ниже главу V II.
АкЬлт» pariemroiiuts Т. XCVL Р 57.
Истребление — высшая сталия Террора
33
Истребление — высшая стадия Террора
Перечень форм революционного насилия не будет полным, если не под-
черкнуть особый характер отдельных эпизодов, которые нельзя отнести
ни к стихийному насилию, ни к собственно террору. Здесь я имею в виду
уничтожение жителей Вандеи «адскими колоннами» генерала Люрро в янва-
ре 1794 г., а также, хотя и в меньшей степени, систематическую ликвидацию
«врагов народа», предусмотренную законом от 10 июня 1794 г., который
положил начало «Великому террору». Эти события не являются проявле-
нием ко.клектнвного и спонтанного насилия; не вписываются они и в рамки
террора. При нем. как уже было показано, цель насилия не сводится
к убийству жертвы: оно — лишь иистру-мент для выполнения другой, более
отдаленной задачи. Иначе говоря, мы оказываемся за пределами террора,
когда речь заходит уже не о распространении страха. а о том, чтобы
по заранее составленному плану уничтожить без разбора все население
целиком или определенную его категорию. В таком случае речь идет об ис-
треблении. Оно предпринимается не для того, чтобы кого-нибудь напутать,
и не служит какой-либо отдаленной цели, поскольку его задача coctoict
в уничтожении без остатка всех тех. кто д\я него одновременно является
и жертвами, и целью. Утопления в Нанте производились по ночам; не при-
сутствовала публика н при кровавой бонне, устроенной людьми Тюрро; да
и в Париже при закрытых дверях заседали народные комиссии обязанные
отбирать заключенных для того, чтобы одних выслать. а других направить
в Революционный трибунал, оттуда —- на эшафот.
Впрочем, пример Вандеи лучше всего позволяет рассмотреть последо-
вательное возникновение этих форм насилия В период с начала восстания
в марте 1793 г. и до разгрома вандейских армий в декабре 1793 г. гра-
жданская война была отмечена актами стихийного насилия, присущими
подобного рода конфликтам; подавление же восстания армией сопровожда-
лось террористическими мерами, призванными повысить эффективность ее
действий. В первом случае это были многочисленные убийства и проявлении
варварства, сопровождавшие развитие военных действий, во втором — за-
кон от 19 марта 1793 г. Речь не идет о том. чтобы, кимстатнруя жесток'ють
противоборства, возложить за нее ответственность поровну на обе стороны.
Действия их не были симметричными, поскольку они вели разную войну
Вандейцы, несомненно, подняли бунт, но к войне ид принудили — войне,
которой они не хотели. 11 менно Революция своей непримиримостью, своей
неспособностью трактовать конфликты в понятиях политики, что позволя-
ло бы искать им политическое решение, и своей склонностью видеть в любой
форме оппозиции посягательство на принципы превратила в марте 1793 г.
бунт против рекрутского набора в войну. Вандейцам ничего не оставалось,
как поднять флаг контрреволюции, потому что выбирать мотивы борьбы
им не позволили революционеры. Именно последние определили характер
34
Насилие и Террор
конфликта. Поскольку. на их взгляд. никакой оппозиции, кроме контррево-
люционной. быть не могло, постольку вандейцы неизбежно оказывались для
них контрреволюционерами или, иными словами, иностранцами и врагами
внутри самой нации Вояка во имя принципов, изначально исключавших
всякий компромисс, война непримиримая, которая могла закончиться лишь
уничтожением противника, — такая тотальная война велась только со сто-
роны Революции. Но даже эта ужасная гражданская война была еще
ясе же войной. А вот начавшиеся с января 1794 г. действия адских колонн
уже означа.ш сознательный переход к стратегии сознательного истребле-
ния всего местного населения. Если ее осуществление оказалось ужасно,
то исключительно потому, что сама по себе задача была чудовищной. После
разгрома вандейцев в декабре 1793 г. подобные действия уже никак не были
связаны ни с целями устрашения, ни с военной необходимостью.
В масштабе же всей Франции проявление трех форм революционного
насилия в целом связано с тремя последовательными периодами времени.
Коллективным и стихийным насилием особенно отмечены первые го-
ды Революции. Оно достигло кульминации в 1792 г., прежде чем пойти
на убыль в 1793 г., а затем пережить последний всплеск в жерминале
и прериале 111 года. Террор как средство вошел в революционную политику
с 1789 г., а именно — с создания в октябре Комитета расследований
муниципалитета Парижа. Но лишь два года спустя, в октябре 1791 г.,
центральная власть в лице Законодательного собрания решилась террор
применить (против эмигрантов). Весной 1793 г. он институализировался
одновременно и как политика Революции, и как система. И. наконец, с вес-
ны 1794 г. и на протяжении периода в несколько долгих недель, который
был насильственно прерван 9 термидора, террор опирался на идеологию как
фундамент системы власти и источник легитимации политики истребления
врагов народа», для которой опустошение Вандеи, задуманное и осуще-
ствленное в совершенно ином контексте в январе 1794 г., стало генеральной
репетицией. С этого времени террор использовал насилие как средство
уже не с целью вызвать страх, а для того, чтобы полностью уничтожить
врагов. Реальный ход событий был, конечно, сложнее, чем эта схема, но она
нужна лишь для того, чтобы показать в самом начале нашего исследова-
ния различие феноменов, представленных в истории террора Французской
революции.
Французская революция
и Террор
Французская революция в зеркале революций
Год 1789, по выражению Алена Рея, «революционизировал* по-
нятие революции11. До сих пор употреблявшееся лишь во множественном
числе — «революции», оно в дальнейшем стало произноситься в единствен -
ном, означая конкретное событие, получившее универсальное значение. —
(Французскую революцию.
В XV111 в. революции не казались диковинкой. Перипетиям револю-
ций в Римс, Англии, Швеции и даже в Сиаме была посвящена обширная
литература. Некоторые авторы, как, например, аббат Верти, даже спе-
циализировались на этом жанре истории. Однако подобные потрясения,
внезапные и жестокие, рассматривались как проявление свойственно!о при-
роде неудержимого, фатального хода вещей, ни вызнать, ни контролировать
который люди не в силах и согласно которому государства, как и вооб-
ще всё на свете, периодически возвращаются через разные катаклизмы
в свое исходное состояние. 1аким образом, считалось, что любое изменение
связано с движением по некоему, заранее очерченному кругу и о*птнгстну
ет изначально установленному порядку, постоянство коего подтверждают
даже вызываемые им перемены к лучшему или худшему: революции хоро-
ши, когда возвращают государств») к изначальной чистоте его икс негу тон;
революции плохи, когда приближают общество к конечной гибели, кото-
рая его неизбежно ожидает. В любам случае изменение представлялось
возвращением к старому
К середине XVIII в. идея циклического развития истории утратила
прежние позиции, будучи потеснена новыми представлениями, согласно
которым историю уже не воспринимали как постепенный и неизбежный
11 Rcy A. «Revolution* HUioire «Tun mol. P . 1989.
Guu/emal J.-M Dlbcoutb, tevokibnn* e< hwioue (representation» de llnuloue el diftcour* »ur
let revolutions de I rtRe daMique aux Liiniieret. P . 1^75, Ozou/ M Revdubon // Dictionnarre
critique de la Rrvulutum fnuityiwe. P. 847-859.
36
Французская z>eeo нация и Террор
упадок. а. напротив, пытались увидеть в переменах признаки движения
человечества к счастью. У Вольтера в « Философских письмах* (1734)
и «Опыте о нравах* (1756) насильственные революции приобрели иной
смысл и ctclvh частью обновленном картины ч!ира, задавшей истории новый
ход. «где на смену страстям приходит разум, а .люди, далекие от стремления
вернуться к золотому веку, существовавшему лишь в несбыточных мечтах,
порожденных несчастьями, перестраивают мир по своей мерке*
Однако классическая концепция истории как упадка, а революции как
возврата к прежнему не исчезла. Циклическая и поступательная концеп-
ции истории существовали бок о бок. Первая с новой силой возродилась
у Руссо, и после 1750 г. революцию достаточно редко связывали, как это
делал, например, Мабли. с волевым началом, видя в ней целенаправленное
действие, посредством которого народ возвращает себе свои забытые или
узурпированные права. Конечно, для середины XV1I1 в. разработанная
Мабли концепция революции уже была новаторской. поскольку призна-
вала способность людей управлять событиями Но, в то же время, эта
интерпретация. вроде бы во многом предвосхищавшая 1789 г., еще да-
леко не свободна и от классических представлений. Ведь у Мабли речь
ши о революции, призванной вернуть нации ее права путем восстано-
вления изначального общественного устройства и свобод, которые были
не только нарушены, но и забыты на протяжении длинной череды цар-
ствований, последовавшей за эфемерными «национальными собраниями*,
созывавшимися Карлом Великим. Иными словами, речь шла о том, чтобы
восстановить посредством революции цепь времен. Мабли не мог и во-
образить себе, что однажды будет совершена революция с целью построить
новый мир и создать нацию одним лишь мановением воли и разума.
В этом отношении Французская революция не имела ни предтеч,
ни предков, да она и не хотела иметь никаких предков. Она представляла со-
бою, по крайней мере, в сознании ее участников, разрыв ткани времен, воз-
обновление человеческой истории, рождение заново через отречение от про-
шлого к от традиции, н, наконец, основание общественного строя на прин-
ципах, выведенных из чистого разума. Иными словами, она хотела создать
«все кз ничего* Наделив человеческую волю способностью творить исто-
рию и сделав эту волю орудием разума в деле преобразования общества,
люди 1789 г. сформировали современное представление о революции.
Смеггнх J.-M. Gy at Р 380 См тамле. Р. 461—465.
'О Мабли н особенно о его работе Observance** swr ПиЯоие de France (1765—1736)»
гм Furd F. Ouauf M Deux hulonqucs de La socielc francaue au X\4He liede
MabK el BoulaKJviiberx // Fwet F. LAirher de I’huitotre P.. 1982 P 165—183; fidfrer K. .4
Ab inbonal de Горшкж Бма» *ur I orM^inaire pobuque au XVUl* **ede. P.. 1993. P. 63-73,
123-153
Fw/c! F La RrvUiiwri. de Torgut a Jule* Ferry (1770-1880). P. 106.
Французская лдео.иоция а эср«але ремдеций
57
Но уже с конца 1790 г. Бёрк вабил тревогу, одним из первых осознав,
в какую бездну насилия и деспотизма могло привести чисто волюнтаристское
намерение перестроить общество на основе абстрактных пран индивида без
учета каких-либо социальных или исторических реалий61, Ом не находил
во французских событиях ничего, что заслуживало бы сравнения с англий-
ской Славной революцией 1688 г., являвшейся я Англии XVII! в. предметом
всеобщего почитания. Совершенная во имя традиции, «благотворная рево-
люция» 1688 г ценой смены династии восстановила традиционные свободы,
исторические права и равновесие властей, временно нарушенные королев-
ской властью. В данном случае революция приняла форму реставрации.
Однако Бёрк, придерживаясь выборочного подхода, характерного для
национальной памяти в целом, забывал о другой Англине кой революции —
революции 1640-х — 1650-х гг. с казнью короля в 1649 г. и протекто-
ратом Кромвеля* 7^. То, что в XVIII в. называлось «Великим мятежом*
имело гораздо больше сходных моментов с Французовой революцией Как
и во Франции 1789 г., в Англин тогда были свин радикалы. Очи вовсе
не требовали восстановления прежних порядков, которым угрожал королев-
ский деспотизм или папизм Стюартов, а желали глубоких п^ ^образовании
общества и государства. Подобно своим далеким последователям 1789
и 1793 гг.. английские республиканцы (commonu-eallhrncn) хеггели перестро-
ить общество снизу доверху; но не на основе исторически существующих
свобод, а исходя из того, что их вожаки Уайльдмен, Лхльберн и Овертон
называли «прирожденными правами* людей. Авторитету истори'гггк'го
прецедента они противопоставляли незыблемые права разума, а институ-
там. складывавшимся на протяжении веков. — необходимость заключения
письменного договора, где перечислялись бы права народа и обязанности
правителей8^. И все же было бы ошибкой трактовать в духе философского
рационализма XVIII в. их убеждение в верховенстве разума по отношению
к истории, а договора — по отношению к традиции «Разум» х\я англий-
ских радикалов — это не что иное, как Бог, характерная черта радикального
дискурса — неразрывная связь с религией. В то время Библия, особенно
Евангелие от Иоанна, была первым из «учебников политики»9*. Верность
христианскому учению служила основой и источником л\я требований
радикалов так же, как в сфере теологии для требовании и рот ест ашс кия
реформаторов это бы\ вызов существовавшей власти и традиции во имя
61 Burke. Е. RcdexMXM rat La Яе*окмюп de France P. I'WJ
7) О почитаинм в Ангчми XVIII в событий г к о мыхччижаямм тех. «т»,
в 1640 — 1660 гт. см.- CoHrei В La GUneoae Rrv^Ktoon d An^rrrrre IfcKn P .
Об англмиском раД(жа.игэме XVH в см * О Lea Deva НгизКимжа d An^irtme
(Dncumcnu poiibquea, sociaua. геЦпси»), P., 1978 P. 67-91 230-245.
(тежст -Майсжпго соглашения*, консгмгуфаомиого проекта. пгуЪхмксФаннгхо мягдлерыш
в мае 1649 г.)
9| Itad Р 19. О &.АМИНММ четвертого Еламтлж см : Р 67
38
Французская революция и Террор
более древней и более высокой власти и традиции Священного Писания
Английский радикализм проповедовал установление порядка, соответству-
ющего природе, которая древнее права, но он никогда нс предполагал, что
революция призвана усилием воли явить на свет новый порядок, не имею-
щий иных истоков, кроме человеческого разума.
* * *
Возможно, сочинения английских республиканцев XVI! в. оказали
важное и во многом еще слабо изученное влияние на деятелей Француз-
ской революции. Мунье, бывший лидер «умеренных» в 1789 г., позднее
признает этот факт, заметив, что в начале Революции «принципы некото-
рых писателей XVJII в (Мунье имеет в виду Руссо. — П. Г.) и особенно
Долгого парламента Англии приобрели пагубное влияние» В действи-
тельности, мысль о том, что Французская революция опирается на англий-
ский прецедент, появилась в 1790 г. Контрреволюционеры использовали
этот аргумент, осуждая принципы и политику, которые, по их мнению,
должны были привести к уничтожению монархии Сходство двух рево-
люций проявилось особенно ярко во время суда и казни Людовика XVI.
Тогда как защитники трона переиздали истории смерти Карла 1, впервые
опубликованные сразу после цареубийства 30 января 1649 г. то респу-
бликанцы ответили им новыми изданиями переводов «Защиты английского
народа» Дж. Мильтона (1651), сделанного в 1789 г. Мирабо, и сочинения
Эдварда Сексон «Лишение жизни — не убийство» (Killing no Murder)14).
И хотя цареубийство 1793 г. дало дополнительный повод вспомнить
об Англии XVII в., оно лишь усилило ощущение, довольно сильное уже
с 1789 г., что в опыте двух стран есть много общего. Так, в 1792 г.
переводчик «Истории Англии», написанной Кэтрин Маколей (1772), счел
возможным утверждать, что существует «столько точек соприкосновения
,0/См.; Chau пи Р. £gli se. culture el aocieie. Essais sur Reforme et Conlre-Reforme.
1517-1620 P., 1981.
111 Mourner /.-J. De Г influence aitribuee aux philosopher, aux francs-ma^ons el aux illumines,
•ur Ij Revolution de France [1801] P . 1822. P 108. Долгин парламент с перерывами заседал
с ноября 1640 по март 1660 гг.
См. Lc Long Parlement el ses crimes, rapprochements faciles a faire. P„ 1790; Essais
histonques sur ia dissolution el le retablissemeni de la monarchic anglaise. P., 1791.
!3j Histoirc enliere ei veritable du process de Charles Stuart, roi d’Angleierre. P.. 1792; Relation
veritable de la mort cruelle el barbare de Charles ler, roi d’Angleterre. P., 1792. Это сочинение
было переиздано в 1793 г под новым заголовком. L'Angk’^rre inMruisant la France, ou Tableau
hulonque el politique du rtgne de Charles Iе el Charles IL
Опубликованное в 1657 г. сочинение Сексби. направленное против Кромвеля, было
переведено на французский язык год спустя. Об апих публикациях см,- Lutaud О Des revolu-
tions d’AnglHerre a la Revolution lran;aise. Lr tyrannicide el • Killing no murder* (Cromwell.
«Athalie». Bonaparte). Eisai de la literature politique compare. La Haye, 1973. P. 225—239.
Французская регюлюкия и зеркале рсоолкщий
39
и связей между этими событиями, этими персонажами и нами. что. огра-
ничившись указанием на них в обычных сносках, можно получить историю
двух революций*.
Все новые переводы или переиздания вышедших незадолго до то-
го сочинений Юма. Голдсмита, Маколеи по истории Англии множились
на протяжении нескольких лет, знакомя Французскую публику с событиями
XVII в.ъ1 Английская история была актуальна, но столь же актуаль-
ны были и английские идеи. Известно, каким престижем на протяжении
/ь\ительного времени пользовалась в XVII] в. английская * Конституция »,
ставшая результатом событий 1683 г., и как философы, вслед за Монтескье
и Вольтером, описывали и анализировали ее. Но другую английскую по-
литическую традицию — традицию английских республиканцев 1640 х гт.,
которая так ужасала французских монархистов XVII в., благоразумные ан-
глофилы века Просвещения, похоже, обрекли на забвение, и лишь события
1789 г. позволили ее открыть вновь161. В конце 1788 г. Мирабо сделал
достаточно свободный перевод «Ареопагитнки« Мильтона (1644), а затем
в 1789 г. вышла «Защита английского народа* того же автора (1651)
Правда, переиздания или скорее новые переводы сочинений, принадлежав-
ших к республиканской традиции английской революции, были не слишком
многочисленны и касались лишь наиболее известных авторов: конечно же.
Мильтона, но также и Олжерона Сиднея, чье «Рассуждение о прави-
тельстве», переизданное в 1794 г., и раньше регулярно перепечатывалось
по первому переводу 1702 г. Публикация «Мемуаров* Эдмунда Людло
в 1794 г., учитывая меньшую известность автора, убедительно свидетель-
ствовала о всплеске интереса к английскому революционному опыту, но и это
произведение было переведено еще в конце XVII в.16 * *’ То же относится
и к трактату М. Нидэма «Превосходство свободного государства>• (1656).
перевод которого, опубликованный в 1790 г. Геофнлом Ман даром. впервые
был издан еще в 1775 г.19 *
’’’ Сочинение Данила Юма История династии Стюартов на трюке Аигким». переведенное
аббатом Прево в 1760 г., была переиздано в 1788 г.: HumcD. L Нн>ш»ге > U ma»vr. dr Sluari
sur le irone d'Angletcrre L.. P . 1788 6 vd. В 1786 г, а затем в 17^0 г Бриссо дважды
издал Историю Англии» Оливера Голдсмита (Leitrrb »ui ПиМшге
de ГАиякгегге. L.. Р.. 1786 (1790) 2 vol.). И. наконец, сочмч'нне Катрин Маколей 1р»«.«м
было опубликовано Мирабо и Туссеном Жироде: Macaulay'Graham С HiMOue ТАгцНнепг,
depws l avencnienl de Jacques 1° jusqua la Revolution P.. 1791—1792 5 vol.
]b)Coulemol I -M. Op. al. P. M-119.
1,1 Mirabeau /7 C. R._ de. Areopag»tica Sur la liberie de la pres^, inuie de I’anglaii, de Milv n
L.. 1789, Tlirorie de la royaute. d’apres la doclrine de Millon S.I., 1789.
,bl В 1699 — 1707 гт Они было переиздано в 1794 г. под заголовком НыЫге dr la rrpuLlique
d’Aritdelerre, d'apres les Memoires d Edniond Ludlow. P., an II.
’9 Ncdharn M De la aouveraineie du people et de ['excellence d'un Llxe [1656] /
Trad, fh Madar P , 1790. 2 lomei rn 1 vol. (cm. Ltlaud O. Les deux Revolution d'Angkrterre
P 226-227)
40
Французская революция и Террор
Сочинения же, ставшие известными французам непосредственно в кон-
це Х\ III в., были немногочисленны. Произведения Уолвииа, Овертона,
Лильбериа, Ноллиса или Айртона не переводились ни тогда, ни потом.
Но из этого отнюдь не следует, что принципы английского республиканиз-
ма нс имели распространения во время Французской революции. Прежде
всего во Франции XVIII в. распространялись идеи Джеймса Гаррингто-
на. хотя его работы и не переводились. Некоторые читатели знакомились
с его текстами на языке оригинала, как, очевидно, делали люди, подобные
Барнаву или Синесу; другие, составлявшие большинство, узнавали о них
косвенными путями: из рецензий, опубликованных в научных изданиях,
из работ других авторов, таких как Джон Адамс, на которых Гаррингтон
оказал сильное влияние* 2^. К тому же влияние какого-либо произведения
или теории почти никогда нельзя измерить количеством прямых и дословных
заимствований из них.
Темы, почерпнутые в английской республиканской традиции XVII в.,
несомненно, всплывали в политических дебатах 1790-х гг., например, ко-
гда речь шла об определении таких способов и средств демократического
контроля за деятельностью представителей, которые позволили бы пре-
одолеть противоречия традиционно предлагаемых решений, или когда речь
шла о об активном надзоре, осуществляемом народом, либо о прямой
демократии. Но если такое влияние могло существовать без непосредствен-
ного знакомства с текстами, то это потому, что изложенные в них идеи
стали в некотором роде общими местами для радикально политической
мысли XV111 в. После 1700 г. они были унаследованы виггизмом. Позд-
нее, во время борьбы американцев за свою независимость, это наследие
напью применение в Новом Свете. В конце концов, будучи модифициро-
ваны и адаптированы к новым целям, эти идеи вернулись в Старый Свет
в ходе развернувшейся накануне Революции дискуссии о природе и фор-
мах республиканской властиТакими, чаще всего косвенными путями
устанавливались связи между Французской революцией и ее английской
предшественницей И хотя преемственность здесь очевидна, тем не ме-
нее, эти идеи воспринимались в чисто секуляризированной форме, будучи
лишены какой бы то ни было связи с трансцендентным. Французские ре-
J,,0 распространении во Франции идей Гаррингтона см.: Lahmer М. Volume general et
separation drs pouvoirs cliez Jean-Jacques Rousseau 1 hese pour le doctoral en droit public P.. 1998.
2 vol. T. I. P. 288-334. Сочинение Джона Адамса «Защита американской Конституции»
после появления в 1787 г стало предметом широкою обсуждения, в котором примяли
участие Кондорсе. Бриссо и Филиппо Мадзен (Mazzei). В 1792 г. оно было переведено
на французский язык z4c/ams J Defense des Constitution! amcricaines, ou De la necessile d une
balance dans les pouvoirs d un gnuvernemeni fibre. P , 1792 2 vol.
«политической науке вигов* XVIII в, см.: Wbod C.S. La Creation dr la repubbquc
amencainc [196Ч| P.. 1991 P. 37-79. О франко-американских дебатах относительно ptc
публиканизиа см.: Letomc D. L'Invention de la republique. Le rnodelc amrricain. P., 1991,
P 149-204
Французская революция в зеркале революций
41
волюцнонгры стремились перевернуть существующий мир не во имя Бога,
а во имя человека
★ * *
Таким образом, современное представление о революции появимчгь
на свет в бурном 1789 г. Оно строилось на вере п ряд факторов: прежде
всего. — в безграничные возможности человеческой ноли, далее. — п си-
лу разума, и, наконец, — в бесконечную податливость реального. Виля,
поставленная на службу разуму для преобразования реальности. — такова
суть современной революции, и именно поэтому на ее пути зияет пропасть,
где таятся насилие и террор. Подобное сочетание основанных на вере убе-
ждений позволяет вынашивать проект преобразования общества по заранее
составленному плану, никак не связанному с традицией и историей Иначе
говоря, нет такой утопии, пусть даже экстравагантной, которая, будучи
вооружена политической волей, не могла бы претендовать на и гмгпгние
реальности по своему образу и подобию. Соответственно, террор оказыиа-
ется почти неизбежным следствием усилим по приведению н соответс свис
идеального и реального, поскольку для успешного завершения этого пла-
на необходимо подчинить себе реальное и сокрушить все тс препятствии,
которые неизбежно возникают на пути идеального^.
Разумеется, само по себе преобразование реальности по<редсгном
волевого воздействия отнюдь не обязательно сопряжено с террором. 11рсд-
положив обратное, нам пришлось бы отвергнуть политику вообще. так как
суть ее собственно и состоит в применении воли по отношению к реальному.
Зато террор оказывается возможным, а в отдельных случаях и фатально
неизбежным, когда политическая воля, исходя из неправильной оценки
тех пределов, которые ей ставят обстоятельства, пытается достичь всех
намеченных ею целей. Переставая, таким образом, стремить» я чини к ком
промиссу между рационально постигаемым благом и силой сопротивления
реалий, политика покидает сферу возможного и устремляется к абсолюту
Гак, Мильтон писал в «Арсинлпп'нкг» «Дон «иуя нгчл гор *н * мнжно уо»пь хорошую
книгу, а это почти то же, что убить человека! 1ит. кто убивает челсигил. % нодгт |м «умное
существа. соэдлниое по образу Бога, а тот. кто убнтмст хорошую кишу убиодгт сам ра«ум,
т с образ и подобие Бига» (Milton /. AreopagHica ou Dimoutb рои» la lilerio I пиринг» мп»
аШопьлОоп nt censure//l^rs Liberaux / f.d P Maneot P.. 1986 2 vol. 1 I P 481 Mtipafr* <*«
переел: «Убить <1?А0века — значит убить ражумиое существо; но погубил» х<»|>»н1ую нишу —
значит убить сам |лазумн (Mirabrau Н С. К., с/е. AitopagtHce. Р 10). Не будучи совсем
неправильным, ле|»евол Мирабо ло смыслу отличается от тега i а Мильтона.
Внес hits I La Lcrreur a belle on «сив? P, 586 -606
‘4Hbid Подробнее о философских истоках распространения полиляюп» «HppraxHwu*
в политике пол влиянием научного мышления см . Tercilchefiko М 1л Vio|e«» e de I slmiiacikin
P.. 1992
42
Фиаща!аскан революции и Itppup
Соединение «волюнтаризма»» и « конструктивизма -' стало первоосновой
для революционного террора. С ягой точки зрения история террора Фран-
цузской революции начинается не в 1793 и даже не в 1791 или 1792 гг.:
она неотделима от истории собственно революции, которая с самого своего
начала в 1789 г. была чисто волюнтаристским предприятием.
Характерное слово эпохи, выражающее притязания революции, —
«'возрождение» (regeneration). Эта идея, пишет Мона Озуф, с самого на-
чала находилась в центре внимания революционерок как олицетворение
утопии, ставшей политикой в то необыкновенное, небывалое время, ко-
гда все вдруг показалось возможным, даже невозможное2^. Революция,
именно потому что никто не мог се предвидеть и тем более оценить размах
н последствия, ликвидировала прежде непреодолимый разрыв между тем,
что есть, и тем, что могло бы быть. Отсюда оставался уже один только
шаг до мысли: то. что могло бы быть, может и даже должно случиться.
Конечно, этот шаг был сделан очень быстро. Гем не менее, имели место
различные интерпретации идеи возрождения: далеко не все доводили се
до той грани, за которой политика превращается в потенциально смерто-
носную утопию. Это явно относилось к тем. кто рассматривал возрождение
королевства и граждан как своего рода чудо, свершившееся н результате
отказа от абсолютизма и отмены привилегий. Согласно их точке зрения,
народное восстание 14 июля и ночь 4 августа 1789 г. возродили нацию:
тем самым возрождение уже достигнуто, и если оно должно иметь про-
должение, то нм станет разработка Конституции, призванной установить
институты свободного государства для общества свободных людей. Имен-
но такой. «умеренной» трактовкой возрождения Мирабо руководствовался
в своей политической деятельности начиная с 1789 г. Ее же придержива-
лось и Учредительное собрание, когда попыталось в 1791 г. «закончить»
революцию установлением конституционной монархии.
Но не все думали так. и .многие отказыва \ись считать, что с круше-
нием Старого порядка свобода установилась в полном объеме. Например,
по убеждению Кондорсе, свободу еще только предстояло утвердить пу-
тем создания того нового человека, того народа, состоящего из граждан,
без чего свободная конституция останется всего лишь пустой скорлупой.
Для формирования же гражданственности. каковую Кондорсе определял
как способность к самостоятельным суждениям, требовалось не допускать
«существования никакого неравенства, порождающего зависимость»
Такое освобождение через обретение независимости, полагал Кондорсе,
Diouf М La Revolution (ran^aise et I’idce de I’hommc nouveau // The Polibcal vullutt
of the French Revolution / Ed. C. Lucas. Oxford, 1988 P. 213—232; Idem. Regeneration II
Dictionnaire rriuque. P 821 -831
Condorcet J A N Cinq шепкмггя sur Г instruction publiquc / Ed Ch Coutel, C.KinuIrt
P.. 1994 P 61
Французская революция в зеркале эволюций
43
изначально является целью развития цивилизации, которое в ходе исто-
рического процесса, воспринимавшегося преимущественно как прогресс,
избавляет человека от подчинения природе. Революция. внося прогресс
и в законы, и в нравы общества, должна ускорить это движение, чтобы
не пропадало даром ни одно усилие, ни одно волевое действие, направленное
на то, чтобы поднять людей на высоту причитающихся им прав. Гак им дей-
ствием, согласно Кондорсе, является, прежде всего, воспитание» а именно
то, которое достигается путем просвещения. В данном отношении оно оста-
ется политикой, предполагая, несомненно, идею принуждения, поскольку
речь идет о том. чтобы оторвать людей от всего, что делает их пленни-
ками всевозможных отношений зависимости. Однако было бы абсурдным
отождествлять эту идею с террором. Возрождение в понимании Кондор-
се предвосхищало проводившуюся Жюлем Ферри и Третьей республикой
политику в сфере образования; оно достигалось не через установление ра-
венства при помощи гильотины, а путем длительного, терпеливого труда
по моральному преобразованию, это была перспектива, горизонт, который
открывала мысль о способности человеческой натуры совершенствоваться.
Совершенно по-другому звучал иной дискурс, появившийся уже в са-
мом начале Революции. Этот дискурс имел в своей основе прямо противо-
положный постулат: здесь речь шла не о том, что когда-нибудь произойдет
совмещение в одном лице человека рационального и человека реального,
а о том, что такое совмещение уже существует, или, точнее, что их совпаде-
ние было бы полным, если бы человек не был разделен со своей подлинной
сущностью, со своей истинной природой веками деспотизма. неравенства
и рабской жизни в испорченном мире. Согласно этой радикальной ин-
терпретации возрождения, проблема состояла не в том. чтобы история,
понимаемая как прогресс, освободила человека от природы, а в тпм, «ггобы
здесь и сейчас восстановить власть природы вопреки истории. Переходя
от Кондорсе к Робеспьеру к Бино-Варенну, мы покидаем сферу поли
тики, основанной на опенке возможностей, предоставляемых конкретной
ситуацией для политической волн, и попадаем во владения политики, наде-
ленной неограниченной властью раздвигать пределы возможного и менян,
реальность.
Если главным источником террора стала типичная для современно-
сти претензия на перестройку социального порядка ab novo, то можно ли
из этого заключить, что террор — неотъемлемая черта современности, как
утверждает контрреволюционная обществен тая мысль? Во Франции рево-
люционная идея tabula rasa прямым ходом привела к террору, и если бросить
общий взгляд на путь от 1789 к 1793 тт., то можно признать правоту Бёрка,
предрекавшего французам в 1790 г. долгую дорогу «через мрак и хаос».
Он находил в идее общества индивидов логическое противоречие, по-
скольку гипотеза о том. что индивида определяют его субъективные прана,
предполагала независимость, несовместимую с жизнью в обществе. В этом
АЛК prAwiyu* U /нр/. , .
Ьгрк ни дел опасны гь того. что р»т*рСИГненньн’ таким обрядом индивиды
не (MOiyr ВОССТАНОВИТЬ СПОЮ общность, иначе КИК ГК'., М’ГЛЛГИХ 1ПНГМ 1ШГШ-
МСЙ и стоящей над ними силы п форме н< смогут» го м»< ударе :твл. которое
теоретически будучи СОЗДАНО и результате ня соглас ин. практически обретгг
над НИМИ нбсоАЮТИуЮ ИААГП. не имеющую ир< 1,!ГД» иг* Н Н истории^). Бу-
дущее одновременно н опровергло и подтиердило 1П Г кинетический прогноз
Берка Опроверг м». потому что свобода прогресс ирпилла вместе с индиви-
дуализмом 11одтверлмло, причем п первый рлм уже ц 1793 г. показав, что
деспотизм, даже самый абсолютный и самый жестикий. не только иг от-
рмцдет современную демократию, ио и является одним ич гс возможных
следствий.
Революции Американская и Французская
I |<|до заметить, что, хотя XIX н. н был tw-ком рсиолюций, террор
до начала ддадцатоги столетня оставался, гак < камать, французе кой специ-
фикой. Впрочем, так же дело обстояло и в конце XVIII в. Американская
революция, начавшаяся в 1776 г. во имя тех же принципов гг нч твгннаго
прана. что и Французская, завершилась в 1787 г.. нс будучи в своем
развитии запятнана ничем, что предвосхищало бы те формы, которые
принял тер|юр в 1793—1794 гг. Различие в результатах Американской
и Французской революций связывают в основном с различием в положе-
нии этих стран Американская революция произошла в новой стране,
почти не имевшей пришлого; Французская — в одной из старейших стран
I .вропы. В отличие от французов, американцам не надо было ниспровер-
гать аристократичен кое общее ию, чтобы объявить себя ранными (они итак
ими были): им не требовалось разрушать абсолютную монархию, чтобы
ирпвомглАСИТь суверенитет народа (британский минарх, с которым они
поркали. находился далеко). Рождение нового общества в Соединенных
Штатах произошло вез большого напряжения. Оно выглядело скорее как
отдаленное следствие той революции, которую совершал каждый будущий
американец, когда, покидая старую Европу, поргянал с государственной
религией, монархией и аристократией. Болес того, на подошвах своих
башмаков пилигримы принесли с собой малую толику той самой Европы»
от чьей н<терпимости они бежали в Новый Свет. Англия подарила им
(гюбоды и ингтнтупя, которые достаточно было только приспособить к их
jjecпублика!к кпм принципам, чтобы на дол/ ни срок конституционным путги
* / Нитке ай U hn d une will* luntoiie de ГЕигорс // Drbel 1986». Nv 39
Мнп пин Р % 66
( м. Oruirui* dr In Rrvuluhou j ful I . I wet el К. I Ulcvi 1 I. l-c« CuirHiluMih
P. 1989 P I.XXVI I.XXIX; Ini'll I.KIrr hdn;Aur tlr Id Rrvolutioll // Lf Dcb»l. 1997
№%. SepirmU-Otiobrr 1997 P.13- 31
Ргппялщии A *ал и Ф/Ммщ/*< 4 >
g0i —==Г--------------------------------------------------------— "- — — AL-^L ’
(/>( 1 ИШ, ссбг с нободу Французе кая рГНоЛЮЦНМ ПрмИ'ЮШЛД В ( <'1»Г{Л1ГННО
иной < мху ’иии Она л |и*ноя гласила граждан' кое ранен* тип л дригтпкратичг
i к-'М < ' цнч тнс и политическую свободу в самой могущее твснноП ммнлрчни
1*Л1рОШ»1
И и< е-тики террор не был, как думали контрреволюционеры. Пре*
ждс пг< о неизбежным след* гнием принципов 1789 г., ранги* тил прли
и с уъгр. Hirer га парода. I 1<хтргб<тал(м to, чтобы н потенциальным угрим.
заключенным в подобных угт^и-млеииях. добаиилигъ и другие факторы
Насилие, с нойстнениог Революции с самого начала и сделавшее с «эмо
го же начала террор возможным, было обусловлено <к • и>нн<и тямн юн
системы, которую она должна была ниспровергнуть, чтобы ути* рдмть < *юю
легитимность. Любое волюнтаристское начинание несет и себе опасно* п,
террора нас илия» применяемою с целью сломип> (опр<пиилениг об-
стоительсти и людей. Эта опасность и подобной ситуации потенциально
существует при любом контексте. Но ее вг|м>игио* ть во »растает, когда
все то. что нужно искоренить. — традиции, привычки. отношения иг
равенства, верования, институты — образуют вполне осязаемую реаль-
ности. С этой точки ярения, исключением является иг случай Франции,
а американская модель революции, статная результатом слишком епг
пифического стечения обстоятельств, чтобы се можно было с мягкостью
повторить. Революция 1776-1787 г г. не имела наследников, тогда как
у Революции 1789 г. позднее нашлись подражатели и в других • гранах
с Данией историей, гдг сила обстоягелытн вызвала к житии революционный
порыв.
Американская революция, если даже и< учитывать богиых д» *ь иши
Войны за нгиашк имое гь, впрочем, достаточно »пи юдине* кнх и с отпоен
тельпо небольшим числом жертв, все же нс была ст»»\ь мирной, к.тк жго
нередко думают. Один на крупнейших нсслелователгй истории ночникп*)-
вения американский республики !ордон Вуд нлппмина** г. что п Америке
нппхи Войны за неэдднсимостъ существовала весьма давняя градиция
внеплрламгнг< ких действий народа, отнюдь нс нсчелнунпмя с явгдгмшчи
республиканской Конституции I 1одобныг действия. НКЛЮЧЛВ1ПИГ I) < ГОМ
преследование (купщиков, давление на выборщиком, устрашение долж-
ностных лиц. мятежи и поджоги судебных учреждений, имгли линп» весьма
отдаленную связь <. народными волнениями, хорошо мчвг< гнымН и< го-
рикам. изучающим европейский Старый порядок Дсчитоитгльио, «здесь
речь шла нс о спонтанных волнениях, начатых бедняками или неимущи-
ми», а об оргапизопапном насилии со стороны нелегальных организаций,
нередко руководимых уважаемыми членами о(>щин1я и имевших целью
удовлгтнорснис определенных акономичгских нам политических требошь
пни. Априори подобная активность народа, орг авизованная пс зависимо
‘ С 5 1лв С crrthoii dr l.i frptiblique ameruaine. Р.» !99| P 37 i- ЗЛ2
46 Ф/ЯЖЦуЭОЛЯ революция U 7<‘м,М4р
пт тосуда|и твгнных hhcthtvtvb и часто иалрав меняля против них. ско-
рее налс^поиет секционное движение Французской рсп.^юцик. Парадок-
глянио. но провозглашение независимости только увеличило число таких
организаций: *В течение первых 12 лет после провозглашения независи-
мости появилось больше групп подобного рода, чем за весь колонна хьный
перилл». Этот феномен немедленно вызнал враждебную реакцию респу-
бликанцев находившихся теперь г власти Так. Сэмюэль Адамс, когда-
то поддерживавший такие организации, заяви я в 1784 г, что в свобод,
нпм г* уллр-тве они утратили ту полезность, котором обладали, когда
южно бы to дать почувствовать королевским чиновникам и лоялистам
тяжелою дчань народа. "Поскольку у нас теперь есть конституционная
и упорядоченная систем* государственных органон, ежегодно обнов.хяс-
мы1 наполем на свободных выборах. — заявлял Адамс. — безопасность
нам ги<спечгна н без них [этих нелегальных групп]». Па данный аргу-
мемт (яязыяавшнн гарантии личной безопасности с коллективной свобо-
дой. зл’цмтннкн подобных комитетов. также называвшихся «конвентами»,
0ТНСЧ1М1 те. что оказалось полезным при колониальном владычестве, оста-
ется tjkhm же по его окончании и даже при выборной власти. В числе
сторонников непосредственного вмешательства народа в государственные
дела был и Джефферсон. 13 ноября 1787 г. он писал относительно во-
орхжскн'зго восстания крестьян-должников под руководством Дэниэля
Шейса:
Калля страна сумеет сохранить свои свободы, если ее руководителям
иернидмчески не напоминать о способности народа к сопротивлению?
Пусть он возьмтя за оружие! Что значит потеря нескольких жизней
м течение одного-двух веков? В$>емя от времени необходимо орошать
древо свободы кровью патриотов и тиранов Она для него — естественное
удобрение
Не апология ли это террора, судя по жестокости слов? Насилие
здесь легитимизируется правом на сопротивление гнету' или. иначе говоря,
здоуштрсблснням и узурпациям, совершенным правителями. В свою оче-
редь, революционеры 1793 г. включили этот принцип в свою конституцию,
но уже с 1789 г. постоянно использовали его в политическом обиходе, чтобы
лрзадынать восстание против узурпации власти и борьбу' с противниками
Революции
Впрочем, данная параллель не должна заводить нас слишком далеко.
Предпринятая Джефферсоном в 1787 г. апология насилия была, в конеч-
ном счете, лишь выражением принципа, согласно которому, «окончательное
и полное вхождение народа во власть* ч’ невозможно и даже несовмести-
Wl Цхт пы Ltfcow D. Ор. ги Р. 112.
n’UwC.Opai Р.ЭТ7.
Революции Аысрикеъскач и Фрсну^^ская
мо с планами самого народа Отсюда следовало, что пос ледний должен
при чмжкЛ <|юрме власти иметь средства оказывать. если нужно, сопроти-
вление своим представителям либо применяя easy, хнбо путем легальной
и конституционной процедуры, которая, институализируя эту. невбюди*
мую для свободных государств функцию надзора и контроля, покю*ист
избегать насилия. Именно здесь берет свое начало система конвентов —
чисто американское изобретение, которую, как подчеркивает Горлом Вуд,
нельзя понять без учета опыта организованной нс^егалыюй акппыюстп
1776-1787 гт.
Французским революционерам, по крайней игре, некоторым из них.
была известна и эта идея, и даже подобный способ ее осущг твхення
Идею обсуждали в дебатах о пределах компетенции представительных
органов, особенно между 1789 и 1793 гт.. а такой сп‘хоб ее реализа-
ции нашел себе горячих защитников в лице жирондистов*’* 11 нс г же
во Франции эта общая для обеих сторон Атлантики проблем* получила
совершенно иное решение. Америка инст|гг>’имоналкзкроавла нгэаьн» и-
мое вмешательство народа в государственное управление, революционна*
Франция провозгласила в 1793 г. право народа на восстание Амери
ка оказалась вынуждена гарантировать посредством системы конвентов
верховенство народа над представителями. Франция попыталась соылгъ
условия, в которых народ и власть не могли бы не действовать вме-
сте. Один из наиболее важных для американской политический культуры
текстов — л Политические рассуждения Джеймса Бурча — позволяет
очень точно оценить различия в опыте обеих стран «Составляя пчлп
представительного правления, — пишет Бург, — народ должен принять
меры, чтобы не потерять всякое значение Он должен установить кон-
ституционную и упорядоченную процедуру, чтобы лейстн<»иато самое точ
только, без своих представителей и даже вопреки им если сиг нижется
необходимом Эти несколько строк выражают все то, чти Токвим> на
звал «новой политической наукой для «совершенно нотюто \iuk,i Н)
с одной стороны, «негативная антропология властиисточник н»и гннк-
тивного недоверия ко всему, будь то люди ячи институты чти i ттогт над
народом; с другой — убеждение, что между социасыг н и пплмтнчес
кой сферами имеет место столь серьезна разшчне. »гто даже шктитуг
прч’лстаэнтельства нс способен его уменьшить и уж тем (и *ег чи^нили
ровать, а потому главной политической пргслемой являетоя нг уствни-
Об <Tv*i джмч енм см Gaur/>d М. La Rr>UiUhm’ к» рсцч.и.1 La мя.-тмпеи U рец4с
el la reprrsrntaiux). 1789—1799 Р., 1995 О жмгАиимстаг см нглмгма выиклитоп с>гт
рдбиту. поемцгюпю Брисго 4az:anh Ptpt F II \t>^u пюгмй di Ijtmr г
ir«j лыки rrgmie e revJuaxHw Тосию, 1996.
(Jirr по К»*/ C Op at P 377.
Toc^ueuiWr A de. De U drnwentir en Агооивг. P !%t> P 44
48 Французская революция и Тсрасэ
вление коллективной свободы, а обеспечение ; .мантий индивидуальных
свобод
Наследие абсолютизма
В данном отношении Франция находилась в иной ситуации, из которой
также берут начало истоки террора. Во Франции 1789 г., как и в Америке
несколькими годами ранее, речь шла об установлении политического строя,
гарантирующего личные права. Имея одинаковую цель, каждая из стран до-
бивалась ее, однако, разными средствами. Франции, пытаясь использовать
для этого наследие абсолютизма, попала в ловушку. Революция фактичес-
ки взяла из наследия Старого порядка унитарную концепцию суверенитета
и представительства, причем еще больше ее усилила, ликвидировав в 1789 г.
все то. что ограничивало ее практическое применение.
Когда 17 июня 1789 г. третье сословие провозгласило себя представи-
телем нации в целом, оно отменило исторические права привилегированных
сословий — духовенства и дворянства, которыми те обосновывали соб-
ственные притязания. Тем самым третье сословие положило в основу своего
права принцип нации, стоящий выше всех внутренних делений и юридиче-
ского партикуляризма сословного общества. Несколькими неделями позже,
9 июля, новое Национальное собрание з развитие этой основополагающей
декларации назвало себя Учредительным, иначе говоря, присвоило себе
право дать конституцию нации, органом которой являлось. Начиная с этого
момента Собрание оказалось обречено на борьбу с абсолютной монархией.
Конечно, несколько десятилетий наладок парламентов на корону ослабили
монархию, но та по-прежнему оставалась олицетворением суверенитета,
символы и прерогативы которого Учредительному собранию предстояло
у нее отнять, чтобы сделать безвозвратным тот переход власти к нации,
который оно собиралось обеспечить. Это было не противоборство двух
различных концепций суверенитета, а соперничество двух ветвей власти,
из коих одна хотела удержать, а другая — присвоить себе тот сувере-
нитет, что был создан абсолютной монархией. Иными словами, борьба
развернулась вокруг разделяемой обеими сторонами идеи суверенитета,
одной из характерных черт которой было априорное отрицание какой бы то
ни было плюралистичное™ представительства. При Старом порядке дей-
ствительно считалось, что единственным олицетворением единства нации
служит личность короля и что нация мс может иметь иной воли, кроме
воли монарха. Людовику XV пришлось напомнить это в своей знаменитой
'^Об «американской политической науке» см.: Raynaud Ph, Revolution amencaine //
Dictionnaire critique. P. 860-871; Idem L’idee republicaine et Le Federalist // I-e Siede
de I'avencrncni republican / Sous dir. F. Furst et M. Ozouf P.. 1992. P. 57-79.
Наследие абсалютилча
49
речи от 3 марта 1766 г.: «Только моя персона является носителем суверен-
ной державности <..♦>, только мне принадлежит законодательная класть
<... > Прана и интересы нации, которую кое-кто осмеливается изображать
как нечто отдельное от монархии (король имеет в виду старые парламен-
ты. — П.1.), неизбежно совпадают с моими и охраняются только мною».
Забывать эти принципы — значит посягать на «истинно фундаментальные
законы государства»
После конституционной революции 1789 г. нация стала выражать свои
мысли и волю устами избранных представителей, как когда-то делала это
устами наследного представителя. Подобно королю, депутаты считали. что
- они некоторым образом облечены «даром» выражать общую волю. Иначе
говоря, представительный орган не был представителем нации, существу-
ющей вне его н независимо от него. а. напротив, олицетворял собою всю
нацию, выражая ее волю. Таким образом. Революция забрала у абсолютно-
го монарха суверенитет только затем, чтобы, ничего не меняя в содержании
последнего, вручить его нации, отождествляемой с национальными пред
ставителями. Сменился лишь обладатель суверенитета, концепция которого
в своих фундаментальных основах осталась прежней, поскольку революция
ограничилась лишь тем. что нашла иное применение монархическом кон-
цепции. передав избранному представительству ту же неделимую власть,
которая раньше была атрибутом короля. Разрыв с абсолютизмом в 1789 г.
завершился созданием столь же абсолютной формы власти *7L
Революция пошла и еще дальше. Она не удовлетворилась смещением
короля Старого порядка, ио также провозглас ила гражданское равенство
и уничтожила прежнее сословно-корпоративное общество. Сделав это. она
разрушила все то, что на практике ограничивало применение сувереном его
власти. Если теория абсолютизма рассматривала нацию как совокупность
подданных в равной степени, независимо от их происхождения и статуса,
подчиненных воле короля, то в реальности дело обстояло совершенно иначе
Так называемая корпоративная организация общества, с ее иерархией, при-
вилегиями и частными правами, представляла собою почти непреодолимый
оплот против применения суверенной власти в полном объеме. 11рави-
Remon trances du pademet de Paris au XVIIГ riede 11888 — 1898] Geneve, 1978. J vol.
Т.П. P.557-558.
Cauclief M La Revolution des dioita de Пютте. P., 1989 В l79() г. при обсуждении
вопроса о »преступлениях пригни нация» (crimes de lose-nation), Франсуа де I Ьнж выступил
против переноса в новую ситуацию понятий. свойственных ранге суверенитету монарха, считая,
что под видом восстановления нации н ее правах ато увековечило бы яидчннгнние положение
индивидов по отношению к власти. «Когда после многих веков угнетении французская нация
возвращает себе узурпированные монархами нрава, люди хопп. ’стобы она получила все
атрибуты суверенитета, ну а поскольку ранее существовал закон о преступлениях против
лс-ти честна (crimes de lese-majcsle), некоторые желают видеть теперь на ею месте закон
о преступлениям против нации» (De Рипце F Observations sur le crime de lese-nalion. S I
Octrjbrr 1790 P.11).
5 Зав. 155
Ф/шнуинслая режмюцин и Tfpfwp
тслы'тигиныс решения чаще всего принимались в результате переговоров
между королевской бюрократией и опосредующими корпорациями. которые
вмешивались в теоретически прямые отношения монарха и подданных
Нсц>ол. несомненно, был инкорпорирован в государство, но люди были
независимы от него.
Уничтожение сословий и корпораций 4 августа 1789 г. разрушило
препятствия, на которые когда-то наталкивалась королевская власть; это
создало общество юридически равных индивидов, отныне подверженных
прямому воздействию государства. Абсолютный монарх, символическое
олмцетно|К'нис единства нации, должен был отказаться от управления ею;
власть, вышедшая из народа, правила теперь индивидами. 7 сентября 1789 г.
Синес заявил прежде во Франции царил «хаос обычаев, правил и запре-
тов, особых для каждом местности»; отныне управление станет «всеобщим»:
«гхущгстнляемие из единого центра, оно будет одинаково распространяться
на все, даже самые отдаленные части государства»; а законодательный ор-
ган, -который, будучи составлен из людей, избранных всеми гражданами,
об(к»л высоким стату* IЧапионального собрания и исключительное право
трактовать общую нолю <...> готов всей своей несокрушимой мощью
крушиться на пах, кто стремится ее выражать, исходя из своих частных
интересов’ , н Разумеется, Синес употребил столь сильный образ прежде
всего, чтобы подчеркнуть универсальность права. Однако сама по се-
бе подобная речь показывает нечто большее: она свидетельствует о том.
что в 1789 г. идея юридического равенства была тесно связана с верой
в возможность установления такой власти, которая, будучи по своему про-
исхождению выборной, могла бы выражать интерес и волю общества, ее
спадавшего и сю управляемого. Поскольку деспотизм привел к образованию
глубокой пропасти между обществом и государством, считалось, что свобо-
да и безопасность могут 61»ггь обеспечены п/кюдоленнсм подобного разрыва
и созданием власти, кото/мя представляла бы собою нс что иное, как власть
общества над самим собою. Соответственно, проблема состояла не в том,
чтобы защитить себя от злоупот|)гблснип правителей, а в том. чтобы уста-
новилъ власть, которая сама по себе была бы гара>пх>м сткяЗоды. Речь шла
нс о возведении, как в Америке, барьеров для ограничения возможностей
власти, пусть даже исходящей от народа, а о создании такой абсолютно
НЛ/М1ДНОН власти, каковая естественным образом, в силу самой своей при-
роды, уважительно относилас ь бы к правам каждого человека. Если все зло
произошло из-за отчуждения власти от общества, то нее благо должно спать
1>езультатом объединения политического и социального путем выборов.
1 Маппнт S. Uue ri riuinistble. Sttria dell acrulramrahi ammmiMialivo in Fr inc ia 2 vol
T. I l-а (опиаты ilrl м»1ппи (16bf-1Я15). Milwno. 19*M
Anliivet pMicmcniaireji. Г \’111 P. 593
Hoc.ieiut о6сс*<1птияно
.Люди 1789 г. возлагали на принцип ныборнсхти большие надежды
Слишком большие... Они ниделн в нем защиту и гарантию. полагай,
что ом может обеспечить единство интересов избираемых и избирате-
ле»*». Они даже приписывали ему способность устранить любые различии
между представляемыми и представителями, чтобы первые мере» вторых
могли бы реально распоряжаться властью: таким образом им мыслились
представительное правление в истинно демократическом понимании
Подобная вера в мнимое совпадение интересов народа и власти не оста-
ется без последствий; она одновременно ослабляет прочность пи удархтигн-
нмх институтов и угрожает безопасности индивидов. Миф этот обречен
на постоянное разоблачение, ибо выборы всегда и неизбежно создают
реальные различия между народом и теми, кого он выбирает. Краткий
срок депутатских полномочий и избрание людей «добродетельных и га*
лантливых» не способны сколько-нибудь существенно исправить ситуацию.
Если теоретически, согласно принципу выборности властей, народ — их
единственный источник, то акт голосования уже сам по себе ведет к новому
различию, ведь избрать — значит выделить40^. Однако такое различие
носит временный характер, ибо обусловлено предпочтением избирателей,
которое может и поменяться, тогда как различия, основанные на промсхо-
ждении, по сути своей постоянны и неизменны, Народ на выборах впош»
и вновь создаст временную аристократию. «Политическое равенство. —
заметила мадам де Сталь, — есть не что иное, как восстановление тс’ге-
ственного неравенства» 41\ Наследственные привилегии, добавляет они.
плохи потому, что создают «искусственное неравенство*», которое часто
не совпадает с тем «естественным неравенством•>. что освящено народ-
ным голосованием, доверившим власть «наилучшимл. Нет ничего более
противоречащего реальности, чем стремление видеть в представительной
демократии своего рода «редукцию», в ссютвгтгтвин с которой избираемое
собрание являлось бы «малым подобием народи в целом»4*1
7см нт менее, именно такое, по определению мадам де С таль, ^абсурд-
ное» понимание П|»едст«|вительноги правления преобладало в 1789 г. Оно
пита\о заблуждение о позитивном характер- власти, избрание которой на»
родом якобы гдрантируст от того, чти она когда цибуль сможет шк я»нуть
ил свободу граждан. В конечном счете, зги создавало опасную иллю-
зию о возможности сущее гвииания безвредной власть» Эп) противоречие
между идеен н реальностью в значительной степени обусловим’ ход н<>\и
гической истории Французской революции, который определил’ н борьбой
4,4 См А/атя В Principe* Ли goavenwinent rcprttciHitil. Р.. 1995
4|,5/«н7 'I.L.G., г/г. Det circunstanirs dcturliea uhi pruwiii irnnuirr 1л Rrvuhilmn H ilrs
principal qui doivviil lander L гсриЫк|»е rn France / r <l pAi L. Oin«U'inr Genewr. Pai»» 1979
P. 10.
421 Ibid. P 15-24.
5*
52 Фрахцукхая рс&м/пумя и Teppw
между представительной властью, изо вс ех сил старавшейся доказать свою
идентичность с народом, и приверженцами демократии, постоянно стре-
мившимися преодолеть существовавшее в дейстинтгльмости расхождение
между тем и другим, чтобы воплотить в жизнь идеал власти, одновременно
н представительной, и чисто демократической. Деспотизм парламентский
и деспоткам ультрадемократмческий — две крайности, в которые поочгред-
но впадала Революция — имели общий источник, а именно — представление
о том, что государственная власть основана на полном совпадении соци-
ального и политического, тогда как англо-саксонская модель, напротив,
строилась на институционализации их различия.
Подобное видение власти, носившее общий характер, позволяет также
понять истоки феномена, достаточно рано проявившегося в истории Револю-
ции, а именно — почти всеобщего безразличия к посягательствам на права
индивидов, особенно когда жертвы таких посягательств были реальными
или предполагаемыми противниками народного дела. В апреле 1792 г., после
обвинения и ареста министра иностранных дел Делессара, которого Бриссо
обвинил в недостатке твердости, проявленном в переписке с иностранными
дворами, редактор Mercure de France Мале дю Пан счел сноим долгом вы-
ступить с предостережением относительно определенных, по меньшей мерс,
тревожных, последствий установления в 1789 г. выборной демократии:
Как вы думаете, хоть одни парижский буржуа, видя, как г-на Делес-
сара обимнили и бросили в тюрьму, не соблюдая дажг тех формальностей,
которые нужны при обычном опротестовании векселя, испытал опасение,
что столь впепешное правосудие может таким же образом обрушиться
на него самого, как и на министра? Нет. напротив. действия своих
доверенных лиц (commettaiiu) [яс) он воспринял как акт собственной
власти, и его самолюбию тайно льстила мысль, что и сам он, так же как
Бриссо, может отправить в темницу члена правительства 4,\
Назначая должностных лиц на все листы, народ прннык видеть в них
своих ставленников, а в их действиях — проявление своей воли. Вот почему
каждое нарушение властью прав индивида, сегодня — члена правительства,
а завтра — рядового гражданина, народ ягкпринимал как подтверждение
сгАтвенного могущества. Индивиды находились п опасности, но народ
чувствовал себя сы^бодиым. К тому же он был твердо убежден: если
кыда-нибудь над ним напи<нет угроза того, что сегодня он одобряет как
временное беззаконие, то ему, конечно же, удастся с этим справиться.
Будущее, однако, показало об/мтное.
41 * Мггсшт de |*>ыке. № 17. 1792. 7 avnl // Мсгсше politique Р 49—50. Бриссо, депутат
Замонодэтедыглт с'4ф*иия т ГЦ*мжа. проводил кдмпдяию, амаг/шжшяуихя мыиесгмм^м
/Irxftcajiy fifamieMN*
'’/Зриггпоргдопучесгом товар»
«Аристократический заговор»
К этапу перечню причин надо лкАтнить и еще одну — воображаемый
.wofjop. <трах перед которым стел сжхго рода движущей сидок тгр|х>ра
Мания мгож>(Х)0 — характерная черта революционного менталитете В их
существовании революционный разум, убежденный в собственной правоте
и всесилии, находил удобный ответ на ту непостижимую д\я себя загадку,
каковой для него являлось сопротивление, которое сама природа вещей ока*
навала его планам Если Револк>ция пользуется единодушной поддержкой
народа. почему же она никак не увенчается успехом? Откуда берутся все сти
вновь и вновь вози икающие противоречия^ Почему на ее пути вианикают
всё новые препятствия, новые трудности, если не мэ-да происков врагов?
Ссылка на заговор выглядела убедительной. поскольку благодаря ей любое
сопротивление, любая трудность или, иначе говоря, все то. чти должно
было заставить революционера умерить свои притязания и даже отказа»вся
от своих планов, приписывалось пагубным усилиям прс/тхвидемствующей
воли, которая представлялась по образу воли революционной, ко с обратным
знаком, как се зеркальное отражение, ее двойник. ее отрицание Предпола-
галось, что власти народа, замечает Франсуа Фюре, П|ютм|юстоит «некая
анти власть, абстрактная, вездесущая; столь же могущественная, как и на*
ция. но тайная, тогда как та открыта, имеющая частный интерес. тогда как
та универсальна, пагубная, тогда как та благотворна Это — ее негатив, ее
изнанка, ее антипод* 44h Объявленный срок завершения революции ото-
двигался по мере приближения к нему Революция, начертавшая на своем
знамени призыв ко всеобщему счастью, проливала потоки Ирмой Идея
заговора, позволяя перекладывать ответствен кость за насилие на чужую,
внешнюю волю, стала спасительным снадобьем. Она защищала иллюзии
революционера от развенчания при столкновении с действительностью и по-
зволяла, в случае необходимости, убивать, оставаясь невиновным Дгягсля
революции даже невозможно себе представить без его врага — тайного
загонорщика-ки1гтрре1юлюционера Они образуют неразлучную пару. 11ер-
вому жизненно необходимо существование второго, пос кальку голько оно
позволяет ему вновь и вновь со слепым упоре тпом бороться против труд
костей, уже одно только повторение которых доюнывагг бессммслсшик гь
или несоразмерность поставленной им цели
В данном отношении Французская революция обладала тгм преиму-
ществом, что сразу же идентифицировала итого вездесущего врага как
«аристократа*. I Ьнятию пнация в трактовке 1789 г. придавалась ос<Хю
важная значимость. Оно имело одновременно и юридическ<»г. и эмоцио-
нальное содержание Юридически нация представляла собою совокупное гь
индивидов, принявших свободное и осознамние решение жить под сенью
44) Fufd F levreuf // Dicoonvuire <Ык^х Р. 157
54 Французская революция и Террор
общего закона, защищающего их права. В эмоциональном же плане понятие
нации связывалось с отказом от привилегий. 1ем самым его смешивали
с равенством, в результате чего идея нации получала расширенное, универ-
сальное толкование, противоречившее прежнему ее пониманию как истори-
чески сложившейся общности людей, живущей на определенной территории.
Таким образом, нация становилась уже чем-то большим, нежели просто
населением Франции. У нации теперь не было истории, а была одна лишь
общность прав. Конечно, преимущество обладания этими правами обычно
все еще связывали с получением французского гражданства по рождению
или в результате натурализации, однако в августе 1792 г. нескольким
иностранцам» известным своей преданностью принципам Французской ре-
волюции. дали гражданство декретом Законодательного собрания, хотя они
и не имели на то законных оснований. Это доказывало универсализацию
идем нации. Но в то же время новая нация не включала в себя все население
Франции. Можно было быть французом по крови или месту жительства,
но не быть полноправным гражданином. А что еще могло означать пред-
ложение Сийеса вернуть «в леса Франконии» дворянство, пытавшееся
оправдать свои привилегии гипотетическим франкским происхождением?
Или реплика Барнава, ответившего тем, кого возмутило линчевание быв-
шего министра Фулона: «А была ли чиста пролитая кровь?» Согласно
букве закона, ни происхождение, ни взгляды человека не входили в число
условий, определявших его статус гражданина. Данным статусом обладал#
все французы, кроме тех. кто лишился его по приговору суда, хотя воз-
можность пользоваться политическими правами и была обусловлена цензом
оседлости и имущественным цензом. Однако именно двойным критерием
происхождения и политических взглядов руководствовались местные власти
в Бретани, когда в январе 1790 г. согласились допустить дворян к участию
в формировании нового муниципалитета, только если они торжественно
отрекутся от своей прежней оппозиции созыву Генеральных штатов и при-
несут клятву на верность конституции* 4В 1790 — 1791 гт. все тот же
двойной критерий лежал в основе разнообразных манифестаций, посвящен-
ных символическому возвращению дворян в состав нации, откуда они были
исключены из-за своих прежних привилегий и из-за противодействия ре-
волюционной политике46^. Французская революция установила настоящую
границу внутри самого общества, разделявшую равенство и привилегии,
а точнее — народ и привилегированных47^. Революция нашла себе козлов
отпущения.
Dupuy R. De la Revolution e la ehnuannene. Paysans en Bretagne, 1788 — 1794 P., 1^88
Об органиэованных в сентябре 1791 г. народным обществом Минпазъс (Дордонь)
церемониях реинтеграции дворян см Cardinal L.. de. La Socifiie populate de Monipaxier
P.. 1924.
4 Nora P. Nation // Dichonnairc critique. P. 801 — 812.
От оппонента к еоо?у
Призрак «аристократического заговора» очень быстро заполнил со-
бою нее пространство революционного дискурса. Чтобы убедиться в этом,
достаточно рассмотреть непрерывный пеггик разоблачений, направлявшихся
н Комитет расследований Учредительного собрания^. 11сречень подобных
посланий позволяет получить представление о силе эгалитарного порыва,
охватившего страну в 1789 г. 11адо. однако, отметить, что тиком психоз
разоблачений свидетельствует не только о широким распространении |>евп-
моиконных настроений, но и о прочности традиционного менталитета, для
которого бьгло вполне привычно ссылаться на заговорщиков при объяснении
любой непонятной и опасной ситуации, казалось. грозившей разрушением
естественного порядка вещей. Обе тенденции Пересекл чись и верен четались
друг с другом.
Воображаемый заговор выполнял и еще одну функцию. Страх перед
«аристократическим заговором»* фактически стал тем вектором, в соответ-
ствии с которым происходило само конституирование нации и обретение ею
самосознания. Нация определяла себя через то. что отвергала. и обретала
материальную форму, устойчивость и бытие через мобилизацию. спрово-
цированную слухами о грозивших заговорах Спровоцировав мп-.м 1789 г
стихийное формирование национальной гвардии по всей Франции, эта все-
общая мания, в конечном счете, привела к материализации абстрактной идеи
общества индивидов, связанных между собою только тем. что независимо
друг от Друга обладают одинаковыми пранами. Призрачная угроза только
что обретенным правам привела к последствиям, которых само по себе
признание этих прав иметь не могло, — к обновлению общества путем и<
ключения из него, по меньшей мере символического, некоторого кохичестиа
его членов. Самоидентификация нации произошла через отсечение части
социального организма. Такова была цена» заплаченная в 1789 г. третьим
сословием за присвоение себе национальной идеи.
От оппонента к врагу
Вера в существование заговора нее еще больше укреплялась, а поли-
тические конфликты приобретали более острый характер. Ведь противиться
Французской революции могли н< оппоненты, а только враги. Речь шла
не о по тптчсскоч споре относительно предпочтите лынк.ти гою или нн<чо
пути — споре, который можно было решить путем переговоров. .» <> кон-
фликте по коренным вопросам общественного и политического бытия, из-за
чего тот очень быстро принял характер войны со всеми вытекавшими отсю-
да последствиями , ненавистью к проч ивнякам и стремлением использовать
4R) Catlid Р. Camtie des rwhert Iks de ГАмстЫее natiufMie, 1789— 1791, hwenteire шл1уощ*е
de la sous-sene D XXIX Ins. P . 199J
56 Фрамцуллйя революция и Теорср
чрезвычайные н насильственные средства. Конечны- • \и были столь воз-
вышенны. столь всеобъемлющи — свобода, равенств» . законность» — что
заранее исключали какие-либо промежуточные рубежи. какие-либо ком-
промиссы. Революционный конфликт становился, таким образом. похож
на религиозные воины, где конечная цель и представление о благе были
столь высоки, чти не подлежали обсуждению, и где единственным исходом
борьбы было полное уничтожение противника. Берк понял это, написав
s «Мыслях о французских делах» (декабрь 1791 г.):
Нынешняя революция во Франции обладает, на мой взгляд, совер-
шенноособым характером н формой, имея мало внешнего или внутреннего
сходства с любой из тех чисто политических революции, что до сих пор
совершались в Европе. Это — революция доктрины и теоретичес-
кой дог мы. Она скорее напоминает те преобразования, которые были
осуществлены на религиозной основе... Последняя революция в Европе
во имя доктрины и теории — зто Реформация40).
Подобный характер конфликта привел не только к обострению проти-
воборства. ио и к тому, что частным разногласиям стал придаваться столь же
абсо.иотнын характер, как и самому противоборству. Известно ведь, что
лютеранин XVI в. испытывал к анабаптистам не меньшую ненависть, чем
к папистам. То же самое имело место и во Французской революции, где не-
нависть партий друг к другу была обратно пропорциональна расхождениям
между ними. * Монархист» был таким же врагом для «патриота», а фельян
для якобинца, каким для каждого из них был самый заклятый контр-
революционер. Непримиримый характер носило не только изначальное
противоборство между Революцией и Старым порядком, но и второсте-
пенные конфликты, не касавшиеся не только вопроса о конечных целях
Революции, но даже более тривиального вопроса о выборе средств.
Накал политических страстей — не единственная причина превра-
щения оппонентов во врагов. Этот процесс был также во многом связан
с теорией «обшей воли*. Согласно этой доктрине, коллективное решение
по тому или иному вопросу не является результатом временного совпадения
индивидуальных устремлений, которое всегда может быть нарушено
оно предлагается членам общества извне как единственно возможный,
единственно верный ответ на поставленный вопрос; к тому же оно всегда
открыто для обсуждения, правда, с тем условием, что последнее будет
свобо^ю от влияния предрассудков и частных интересов’1). Тогда и речи
Цю по: О'Впеп С С BmV. рщМле // La Vendee. Apces ia Terreur, la rrconstnKttcn.
P.515
z’ Oilrvfariki M La Democnax ei kx parus pobnques P.. 1993 P 653—738 Об имевшей
фк1№Ирапег».*хое происхождение концепции разумной очевидности и о теории общей воли
см/ Rcaanceilafi Р Lr Sacre du cnoven. Hialoire du wHra^e untversel en France P.. 1992
P. 149-171
5,1 Schurnpeter] СарйЛагпе. kxulwne el democrat* [1942] P.. 1990. P. 330—354
пл л олеита w fipaiy
57
не чюгхо идти о деятельности на политическом поле раз чинных партий.
кмп'| ме выражали бы несовпадающие. но раянп легитимные точки зрения
о бл<ие общества и боролись бы между собой за большинство на выСюрах,
Ad бы добиться приоритета для своих взглядов или интересов. Проблема
была не в том, чтобы получить больше голосов нзгнрлтгчгн и тем са-
мым способствовать разделению общества на большинство и меньшинство.
Любое разделение внутри полнтичсскогт организма рассматривалось как
симптом его болезни. Напротив, речь шла о том. чтобы, приняв реше-
ние путем обсуждения, преодолеть первоначальное разнообразие мнении,
освободив людей от всего того, что вводило их в заблуждение, мешая их
стремлениям найти выражение в общей воле.
Иначе говоря, в задачу обсуждения не входило выявить >шотоб|мгзие
взглядов. Решение, соответствующее общей воле, д.хтигалось не путем
объединения мнений, а выражачо единство, существующее независимо
от частной воли избирателей. Оно. по опре лечению. должно было нести
к единогласию. Разумеется, конкретно общая воля проявлялась в решении,
принятом большинством, однако это трактовалось как суррогат едино глас ия,
достичь которого не позволяло лишь неравенство у разных людей способно-
стей выносить верное суждение. Неравенство способностей или даже нечто
хуже: от предположения об ошибке до подозрения в злонамеренности быч
только шаг, а там уже недалеко было и до обвинения в преступлении Робе с -
пьер проделал весь этот путь, когда обрушился 10 нюня 1791 г на тех.
кто противился решению об увольнении должностных чип дворянского
происхождения:
Я скажу со всей нскреныхтью. котщжя может несколько походить
на грубость, но к которой обязывают нынешние обстоятгльсты всякий,
кто не видит этой необходимости [увольнения]. — глупец, всякий, кто
ее видит, но отрицает и не следует ей, — предатель
Подобная абсолютизация политического конфликта. открывшая доро-
гу всем эксцессам, как и всем отклонениям характерна для Революции
в целом. Наряду с революционным волюнтаризмом и «коиструктивнчмом-,
с унитарной концепцией суверенитета и стремлением к слиянию общества
н государства, с манией заговора и уравнительным порывом она показывает,
что уже с первых дней Революция несла в себе потенциальную опасность
насилия и террора.
Начиная с 1789 г. террор присутствует во Французской революции,
подобно тому, «как темное пятнышко на кожуре фрукта выдает причутствне
червя, который гложет его изнутри» Террор не водник неожиданно, как
рок или печальная случайность
Robespierre .4 CEuvrea, Т \ II. Р 471—472.
1 Выражение Алессандро Макцонн унт по. Btlthhi Сол/а/ои<еп L. biugrt dr Rob«p*enT
danb les rents de Мапахи // linagr* de Robespietre / £d. J. Ehrard Napoli. 1996. P 400.
4 3as <55
— Ill
Наставление «Друга народа»
12 сентября 1789 г., когда вышел первый номер газеты Марата, Террор
обрел своего провозвестника
С самого начала был задан определенный тон. 12-го, освещая дебаты
о двухпалатном парламенте и королевском вето, Марат заявил о суще-
ствовании коалиции «трусливых депутатов» и «честолюбивого монарха»,
стремящейся поработить народ. 16-го он осудил «ярость врагов обще-
ства, алчность монополистов, бесчестность чиновников». Тема следующего
дня — «могущественная клика в стенах Генеральных штатов», которая
плетет повсюду интриги, опираясь на сонм своих агентов и приспешников,
«рассеянных среди народа» *). С этого времени Марат не переставал день
эа днем довольно монотонно клеймить предателей и изобличать «отврати-
тельные козни» всяких «ужасных лиг». Заговор, считал он. вездесущ: его
руководители есть и при дворе, и в армии, и в коммуне Парижа, и даже
в том самом Учредительном собрании, о котором Марат однажды напи-
шет. что оно похоже на «шлюху, начинавшую как порядочная женщина,
но превратившуюся в проститутку». Никто и ничто не могло заслужить
его пощады. И даже уважение общества к тем или иным людям, каза-
лось ему, в лучшем случае, следствием доверчивости или слепоты народа,
которые, полагал он, столь же распространены, как и зловещие умыслы
заговорщиков. Он находил лишь одно средство справиться с повсеместным
заговором, рука которого виделась ему за каждым событием и за каждым
решением, а именно — непрестанно проводить чистку и прополку, ведь
вырываемые сорняки не перестают прорастать вновь и вновь: «Нельзя
починить политическую машину без крепких ударов, — писал он в одном
из первых номеров своей газеты, — так же и воздух не может очиститься
без бурь».
Называвшаяся изначально Le publicisle parisien [«Парижский публицист»], эта газета
получит название LAmi du people [«Друг народа*] начиная с № 6. 16 сентября 1789 г.
^Недавно вышло критическое собрание «Политических сочинений* Марата за
1789-1793 гт. (Мага! / Р (Euvres poliirquw (1789-1793) / £j. J. De Cock el Ch Goetz
Bruxelles 1989-1995), откуда и нэяты след цнтагы.
Наставление ъДрула нарсма*
59
Как хорошо понял Мншлг» Марат выдвинулся так рано потому, что
занял позицию на высочайшем пике революционного рдднка чизма и ни-
когда ее не уступал, обладая верховным авторитетом а густом.we ленном
? королевстве» изобличителей. Ведь Марат был не единственным, кто взял
на себя миссию выявлять и разоблачать заговоры и преступные махина-
ции правителей. « Аргусы «, «Надзирателя». «РаЭвблйчители*>. «Часовые»
и даже «Прозорливые слепцы» — так назывались издания, ллполнкю-
щие сегодня полки библиотек. Все они свидетельствуют о стремлении
к прозрачности политики, которую, казалось, требовал разрыв с абсо-
лютизмом и с секретностью, служившей ему оружием 51 Оригинальность
Марата была в другом — в его театральном, иступленном н безапел-
ляционном стиле, в размерах изобличаемых им заговоров, в численности
их предполагаемых участников, и, наконец, п жестокости предлагавшихся
им мер. В том, что касается наказаний, рекомендуемых для искоренении
зла. Марат оставался человеком старого времени. Не страдая сентимен-
тальной филантропией, вдохновившей доктора Гильоттна на его проект,
Марат предпочитал другие, испытанные средства. Он призывал своих
читателей пропускать врагов родины через строй*, побивать камнями,
закалывать кинжалами, расстреливать, вешать, сжигать, сажать на кол
или четвертовать, а при невозможности сделать это советовал отрезать
им уши или отрубать большой палец на руке, чтобы потом было легче
опознать.
Этот бред убийцы не исключал и высокой точности при определении
числа голов, которые должны пасть. «Несколько вовремя отрубленных
голов, — писал он в 1790 г.. — надолго остановят врагов общества»
Означало ли это, что Марат предлагал устроить несколько показательных
казней, чтобы избежать необходимости проведения более массовых чисток?
Когда он говорил о том. чтобы отрубить «несколько голов-, он вкладывал
в эти слова смысл, отличный от общепринятого. Для него «несколько
голов» с таким же успехом могли означать несколько тысяч. В июле 1790 г
он сожалел, что в жертву не принесены 500 преступников, чья смерть
позволила бы, хоть на некоторое время, обеспечить счастье нации Месяц
спустя число жертв, подлежащих закланию, поднялось до 600. к концу
года подскочила до 20 тыс., после паления монархии удвоилось и к ноябрю
1792 г. достигло весьма точной цифры в 270 тыс. предан- чей, подле -жавших
уничтожению. Такое насилие прискорбно, полагал Марат, но неизбежно
и даже гуманно, если вспомнить о 20 тыс. патриотов, уже убитых, как
уверял он, контрреволюцией, и еще о 500 тыс., приговориных ею к смерти.
? См . Labrosxe С. Rc(at Р Na usance du |ошпа! revJuijonnaiTC (1789). I.yun. I9ft9
P 195—203; Baecquc A . de. Le Curpi de I hiwUnrc Mriaphwea el (xihti'iuc (1770- 1800).
P.. 1993. P. 266-286
‘ Старинное накшниг, при котором ’н-ловску. принодм.чиыу через строй солдат, каждый
из них наносил удар шпагой плашмя. — Прим, перев.
4*
60
Постамент «Друга пароле
--------------,--------------------—JL—.—:-----------------------
Начиная c 1789 г. многие другие журналисты также сделали разо-
блачение смен специальностью. 11о большинство из них довольствовалось
тем, что отравляло политическую жизнь ядом подоз^юннй. Марат же всегда
шел дальше этот. Если те приучали народ к недоверию, то Марат» говоря
словами Бриссо, дал почувствовать народу «вкус крови»В портрет-
ной галерее революционеров Марату принадлежит место «бесноватого» Ч
II хотя в этом отношении он не сравнится ни с одним из своих совре-
менников и даже ни с одним из своих подражателей, ему, тем не менее,
улилось выразить нечто, свойственное Революции в целом. Его пример,
отмечает М.Оэуф, по-своему показал, какую власть над общественным
мнением приобрела новая сила — пресса. Он лучше других освоил уме-
ние — возможно. именно потому, что придал ему форму пароксизма —
влиять на умы людей как «журналист — дирижер и творец, общественно-
го мнения Он был настолько поглощен выполнением этой миссии, что
с 1789 г. вся история его жизни уже неотделима от истории его газеты 9,
Деспотизм, диктатура. Террор
Марат выделялся среди других не столько своими политическими
идеями, сколько силой слова, которое очень часто заменяло для него план
действий. Он — человек слова, а нс дела, обвинитель, а не теоретик.
Пет ничего более ординарного, чем «идеи» Марата: это — всегда идеи
его времени. Неистощимый на слова, когда речь шла о препятствиях,
стоящих на пути к благу, он ничего или почти ничего не говорил о том
счастливом состоянии общества, к коему должна привести Революция. По-
следним биограф Марата, Оливье Кокар, посвяти \ пространную главу его
взглядам на революционные действия и всего лишь — что весьма показа-
тельно! — полторы страницы представлениям об «идеальном обществе».
И действительно, на сей счет немногое можно заметить, кроме того, чти
Марат по конституционным вопросам не сказал ничего, что отличало бы
его от других или носило бы оттенок оригинальности I Впрочем, харак-
терная особенность терроризма, включая его современные проявления, как
раз и состоит в том. что применяемое средство — насилие — выглядит
несоразмерным по сравнению с целью, которая в большинстве случаев
определяется банально. Настолько банально, что даже возникает вопрос,
а почему для ее достижения требуются такие крайние меры. Похоже, для
«’й.-шЫ / Р Мтоюч (1754-1793) / Ы Cl Perroud Р.» s. d Т I. Р 207.
Oiottf М Mrtrat // Dirlioniuire critique dr Id RevoluhOfi francaiar. P. 282—284.
6> Ibid. P. 278
7|Cm. Coqunrd 0. Mural P.. 1993. P. 315—354, 355—356. См. также весьма скромные,
несмотря на явно явидогетичеекке и.1л«'|)ения. |хэу.льтаты подробного анализа. П|М>ведеиногп
шднгглхми |и16от Марата: Mural ] Р CEuvrea pdiliquca Т \’l Р. !О45—1061
Деспотиям диктатура. Террор
террориста средство, в действительности, важнее цели. Он может приме-
нять его для достижения вообще любой поставленной себе задачи, сколь бы
мало рационально это ни было.
Две основные темы доминировали в дискурсе Марата несокруши-
мость деспотизма к доверчивость народа, что придает взглядам Друга на-
рода отдаленное сходство с идеями Макиавелли («искренний и неистовый
Макиавелли». напишет о нем Луи Блан) и с «Рассуждением о добро-
вольном рабстве» Ла Боэсиа\ «Повсюду монархи движутся к деспотизму,
а народы — к рабству», — писал Марат в «Цепях рабства» Ни эта
идея, ни определение им деспотизма не оригинальны1^. Это — распро-
страненная в его век концепция, которую он почерпнул из * Размышлений
о причинах величия и падения римлян» Монтескье. Однако особенность
Марата состоит в навязчивом обращении к данному вопросу, а также —
в идее о фатальной неизбежности деспотизма. Скорее Макиавелли, нежели
Монтескье, убедил его в том, что власть всегда приобретается силой или
хитростью и не может быть сохранена, кроме как при помощи силы или
хитрости. В определенной форме эта мысль присутствует и у Монтескье,
но тот высказывает ее только для того, чтобы искать решение данном
проблемы в таком сочетании государственных институтов, которое не по-
зволило бы властям злоупотреблять своей силой. По мнению же Марата,
напротив, ни легитимность власти, независимо от того, лежит в ее основе
наследственность или народное голосование, ни государственное устрой-
ство не способны обеспечить никакой гарантии безопасности. Деспотизм
не является возможным уделом какого-либо определенного политического
режима; это — неизбежная, неотвратимая судьба всех режимов.
С этой точки зрения у демократии нет никакого преимущества перед
аристократией, а у республики перед монархией. Поскольку Марат считал,
что форма правления — не более чем обман, ом станет столь же равнодуш-
ным гражданином Республики, каким был подданным при монархии Гак,
всеобщее избирательное право, разделение и равновесие властей для него —
лишь прикрытие угнетательском сущносгн любой власти. Ни участие Г|*а-
ждан в политике, нм государственное устройство не могут дать гарантий
свободы. Она обеспечивается единственно и исключительно проявлени-
ем бдительности, вскрывающей и разоблачающей покушения на свободу,
/. HiMoire de U Revolution (гнили* P., Ш47-1Н62 T \ P Вкнинне
Ла Болен на Марата подчеркнуто О. Кок<*(юм См Coqudo/ О, Op til. Р '44
Marat J. Р. Les Charnel de rcsckvige. ouvrage dtsime a dmlopper let noin aitcnuii
des princes contre les peuples. les rrssurts secrets, l« ruses, lei iiieiicet. les aruhuei. ki coups d’Llals
qu’ili emploieitl pour del rune la liberie el k« icenei sangknies qiu accurnpapieiH le despuUwne
P , 1793. p. 19 Опубликованное u 1774 г. на «ныииском жхыке. jtv сочинение было переведено
на французский и 1793 г.
101 См.: Marat J.P. CEtivres politique» Т. Ill Р. 569-570. н особенно: Coquurd О Op ciL
Р. 341-351.
62
Наступление «Друга народа
которые любая власть, даже если и говорит языком закона. не может
иг предпринимать для поддержания и укрепления своего могущества. Если
участие н политике всего лишь обман, а закон — ложь, то проявление бди-
тельности становится единственно важной для народа функцией, средством
осуществления которой служит пресса, а исполнителем — собственно Друг
народа. Миссия надзора и разоблачения не может эффективно выполнять-
ся самим народом. «В пылу острых споров, — замечает Марат в номере
от 23 сентября 1789 г. — народу следует опасаться уловок своих врагов,
и здесь не стою надеяться на его силы и храбрость. Он попадет в западню,
если се не заметит». Но разве он может ее заметить, такой просто душный,
такой наивный и. в конечном счете, такой испорченный? «А значит, ему
нужны искушенные в политике люди, которые бы денно и ионию блюли его
интересы, защищали его права, заботились о его благе. Я посвящу этому
каждое мгновение своей жизни».
Народу нужен «Друг». Марат исполнен глубокого пессимизма, кото-
рый побуждает его делить всех люден на две категории: с одной стороны,
заговорщики, стремящиеся угнетать народ, с другой — сам «народ, пустой
и легкомысленный», к коему, по мнению Бриссо, Марат испытывал глубо-
кое презрение, — народ, дремлющий на краю пропасти, куда его собираются
столкнуть враги. «Между спящими и негодяями нет никого, кроме Марата,
одиноко исполняющего роль часового народа, охраняющего Революцию,
пока все спят, неустанного изобличителя преступников... Марат — это око
народа»
Согласно подобному представлению, на политической сцене присут-
ствуют лишь угнетатели-правители и доверчивый народ. Отрицая какое бы
то ни было значение имеющихся у граждан легальных средств — начиная
с организации регулярных выборов и заканчивая свободным осуществле-
нием права подачи петиций — для защиты себя от злоупотребления
правителей властью, данная доктрина сводила всю политику к постоян-
ному проявлению бдительности. Это было непосредственно связано с гем
пониманием политики, что существовало при Старом порядке и имело
в своей основе представление о чисто внешнем характере власти по отноше-
нию к обществу^). «Важно отметить, — справедливо указывает Патрис
Роллан. — насколько вся политическая активность гражданина сводилась
к контролю. Эта на самом деле политическая пассивность показывает,
насколько <...> власть оставалась внешней и чуждой по отношению к гра-
жданину. Подобная политическая культура была свойственна абсолютной
монархия, однако Марат совершенно не изменил своего подхода даже
тогда, когда граждане стали участвовать в управлении. Он сохрл-
,0Ozou/A/. Marat Р. 283-284
1‘J Этими страницами я во многом обязан работе Rolland Р. Marat ou Ь polinqitf
du soupcon // Le Debar № 57. Noveinbre—deccmbrc 1989.
Деспотия*. ликтптура. Г'ррор
63
нил прежнее представление о власти как о чем-то чуждом, враждебном,
подавляющем. Он не оставлял м<хта для политической культуры участия
в ответ* твенностн В конечном счете, его политическая культура целиком
была пронизана духом Старого порядка».
Этим Марат отличался от Бриссо, хотя и тот придавал ничуть не мень-
шее значение функции надзора и разоблачения недобросовестных прнш-
телсн — функции, которая должна принадлежать прессе, пока народ
не просветится и не повзрослеет в достаточной степени для того, чтобы
самому забоиггься о собственной безопасности. Однако Бриссо всегда
видел в функции надзора лишь средство помешать возможным злоуяотрг
бдениям в,ласти, которую признавад легитимной. если она установлена
народом. По его мнению, всенародные выборы, разумеется, не могли дать
абсолютной гарантии от узурпации, ибо иг могли помешать правителям
в дальнейшем злоупотребить доверием народа. Тем не менее, выборы,
считал он, обеспечивают легитимность власти, дажг «ели для гарантии
свободы необходимо. чтобы деятельность любого нрелстапитгльипгп органа
находилась под демократическим контролем граждан или. за отсутствием
такового, под контролем со стороны органа, выражающего мнение народа,
т. е. прессы13).
Политическая же концепция Марата заранее отвергала всякую воз-
можность установить царство свободы на сколько-нибудь легитимном осно-
ве. Неминуемым следствием подобного сведения политики к проявлении»
бдительности оказывался террор. Этот постоянный террор неизбежно дол-
жен был иметь при демократии еще более широкий и всеобъемлющий
размах, нежели при монархии, в силу того, что увеличение при демократии
количества органов власти и числа участвующих в их работе граждан значи-
тельно расширяло круг лиц, подлежащих надзору: здесь спи запшо(>ою
могли охватывать все общество. И. наконец, террор становился неизбеж-
ным, так как считая разоблачение единственной по -настоящему полезной
формой политической активности и отрицая, ‘сто подобную функцию над-
зора можно осуществлять легальным образом, Марат иг мог иг призывать
к применению насилия — народного насилия. прливопостивлгиио1о наси-
лию правителей. Ведь поскольку имеющие власть — нс важно, получили
они ее по наследству или в |я?эультаге всеобщею гплоссимнни управляют
при помощи силы, народ тоже должен защищать сы»н прайм аналогич-
ными средствами. Однако направленное им против угнетигелей насилие
справедливо, благотворно и полезно, ибо совершается ими свободы. На-
силие же правителей, творимое ради угнетения, нес щдавгдливи, вредоносно
и губительно. Марату, честно говоря, акты насилия, совершаемые пародом,
не очень нравились, ибо им слишком уж был присущ случайный выбор
' Cucnij/cy Р. Brissol // La Gironrb rl lee Girondin» / £d. Г Furei el M < P , 1991
P. 437-464.
64
Наставление "Друга народ-:
жертв, кпими маралу с виновными становились и невинные люди. Войдя
в проскрипционный раж. правда, чисто словесный, он мечтал о некой раци-
онализации насилия. дабы оно применилось по слравел'1'пости, в нужный
момент и с точным расчетам.
Исходя из того понимания политики, коим он в большей степени
был обязан Старому порядку, чем Революции, Марат уже в своих ранних
работах 1790 г. наметил в общих чертах будущую динамику террора —
превращение из политического инструмента в систему, что показывало
невозможность достижения постааленной самим же Маратом цели.
Если народу из-за его * непросвещенности» и «доверчивости» нель-
зя доверить меч справедливого и необходимого для блага человечества
наси-лия, то кому же тогда этот меч следует вручить? Марат, который и сам
лично не люби* крови, и не мог. не противореча самому себе, допустить,
чтобы функция контроля была доверена правителям, пусть даже вышедшим
из народа. — ведь надзор и наказание предназначались именно для них —
призвал в начале 1790 г. установить на строго ограниченный срок должность
диктатора для проведения террора против виновных. Диктатура, однако,
непременно должна была быть добродетельной, ибо следовало считаться
с риском, что осуществление ее способно, в свою очередь, породить
такую власть. которая, став постоянной. неминуемо обратится против
народа, чью свободу обязана защищать. Лишь добродетель диктатора
способна обеспечить справедливость наказания виновных и гарантировать,
что человек, облеченный столь громадной властью, сложит ее в назначенный
срок. Вот почему Марат стал во время Революции одним из первых
приверженцев Робеспьера, в ком он, без сомнения, угадал такую же
склонность к подозрительности, какой облада-л и сам. Однако прежде всего
в его лиуе ои восславил ^единственно честного человека в сенате» —
единственного, в ком любовь к народу была достаточно сильной, чтобы
удержать в узде собственное честолюбие.
В данном отношении логика Марата весьма примечательна, поскольку
показывает, что обращение к террору однажды непременно приведет к дик-
татуре наиболее добродетельного человека. Кроме того, она показывает
нам, что террор не может не стать безграничным. Конечно, сам Марат »
уверял, что у террора будет свой предел и что. если раньше насклие всегда
приводило к появлению плохих правительств, то насилие народа, напротив,
породит власть, избавленную от пороков власти. Но здесь скрыто явное
противоречие, ведь система Марата не оставляла места для добродетельно-
го правительства Деспотическая сущность любой власти не допускгька,
чтобы когда-либо могла иметь место власть столь положительная, что
террор оказался бы бесполезен и исчез бы с установлением свободы.
1 Зто occZu гмэлчеркмАамп Л. Де Кил и Ш Гёц, См.: Mara! /. Р. CEuvrrx politique*.
T/V. Р.636
Наролине пони иомие суаелените^а
65
Тачмм образом, уже в 1790 г. Марат описал будущую историю II голо:
переход г террора как политического средства, вызванного обстоятельства-
ми. к достоянному и безграничному применению насилия и к диктатуре,
основанной на добродетели наделенного ею лица. Однако такая логика
была обусловлена еще старой, дореволюционной концепцией политики,
построенной на принципе полной экстерриториальности народа и власти
по отношению друг к другу. Марат не задавался собственно политическими
проблемами или, иначе говоря, вопросами установления н гарантии свободы
при помощи определенных средств, таких как выборы или Конституция.
Он не занимался разработкой механизмов и процедур, призванных снимать
противоречия и не допускать злоупотребления властью, т. е. вопросами,
о которых сторонники представительной системы спорили с теми, кто
поддерживал либо прямую демократию, либо изобретенную Кондорсе или
Бриссо «демократию представительную». Марат оставался в стороне от их
дебатов Они для него не имели никакого смысла, поскольку, считал он,
устройство государственных институтов ничего не решает. И хотя в данном
отношении он оставался одиночкой, все же у него была своя аудитории
Его дискурс в действительности выражал концепцию политического поряд-
ка. которая существовала задолго до Революции, но сохранилась и после
1789 г. Именно она лежала в основе большинства стихийных расправ
в июле 1789 г. и даже нескольких великих революционных • дней* (с 1789
по 1795 гт.).
Народное понимание суверенитета
Несколько поколений историков видели в предпочтении массами кол-
лективного и прямого действия стремление преодолеть ограниченность
принципов («формальное» политическое равенство) и средств (представи-
тельство) буржуазной демократии, попытку народа взять на себя прямое
осуществление своего суверенитета с целью радикализировать Революцию.
Таким образом народ показывал, что хочет сам осуществлять власть через
подчиненных его воле и отзываемых в любой момент должносптгых \иц,
дабы окончательно ликвидировать всякое различие между управляемыми
и управляющими.
Недавно Колин Лукас приступил к переоценке роли толпы во Фран-
цузской революции Вопреки классическим положениям Джорджа Рюде
и Жоржа Лефевра он, опираясь на исследования по истории ментально-
стей и социальной активности масс, подчеркнул важное значение элементов
преемственности в поведении толпы при Старом порядке и при сме-
нивших его после 1789 г. режимах15’ Преемственность просматривается
1,1 Rude С La Foule dans Ь Revolution (rau{ai*c / Trad. A. Jordan. P.. 1982; Le/cburc C. La
Grande Peur de 1789. tuivi de Les Fouiee revolubunnaires / Avec unc preface de J. Revel. P.. 1988.
66
Hacrnaaicnuc vjpyia народа
во многих аспектах: в механизме возникновения бунтов. в организации
то мин — от состава действующих лиц до роли зрителей. от подбора во-
жаков до деления толпы на разные части соответственно коммунальным
традициям, — в способе действий и. наконец, цангюлсе очевидна преем-
ственность в ритуалах. в частности, карательных. Однако по сравнению
с XVII и большей частью XVIII вв. у революционной точны существовали
и два кардинальных отличия: организующая роль политических активистов,
особенно в 1793 , и выражение требований через политический дискурс,
характеризовашшшея таким уровнем обобщения и абстракции, какой был
неизвестен до 1788-1789 гт Начиная с 1789 г. мишенью восставших был
уже нс тот или иной конкретный представитель власти и нс тот или иной
индивид считавшийся виновным в бедствиях народа, а сама центральная
власть либо какая-либо социальная группа в целом, такая как эмигранты
или нг присягнувшие священники 1б\
Это — фундаментальное изменение, поскольку оно способно ото-
двинуть на второй план элементы преемственности и стать основанием
для вывода о существовании у народа политического сознания, сформи-
ровавшегося в лоне новой политической культуры. Однако надо заметить,
что применение политических понятий и лексики Революции, обращение
к суверенитету народа во многом было связано с присутствием в толпе
политических активистов, привносивших в нее свои ценности н свою рито-
рику. Эти два подхода к политике существовали бок о бок и, в то же время,
не совпадали друг с другом; одни провозглашался открыто, другой — нет;
они сосуществовали, но не смешивались, о чем свидетельствуют, например,
массовые движении в марте и, особенно, в сентябре 1793 г., когда активисты
приложили недюжинные усилия, чтобы придать требованиям участников
волнений приемлемое политическое выражение.
Еще более важно то, что, несмотря на все изменения, конечная цель
народного движения и после 1789 г. оставалась той же, что и ранее.
Речь по-прежнему иш либо о наказании правителей и их прислужников,
считавшихся виновными в неприемлемой ситуации, либо о принуждении
их поступать в соответствии с потребностями общественного блага, каким
счо представлял себе народ. Именно в этой сфере и действовал Марат,
успешно исполняя во время Революции роль «голоса» народа. Парод, дей-
ствительно. бунтовал для того, чтобы оказать давление на политическую
власть, которую по отношению к себе изначально воспринимал как внеш-
нюю. Толпа вторгалась в ccjjepy, занимаемую в обычной ситуации власть
имущими. нс для того, чтобы эту власть захватить, а для того, чтобы за-
ставить их поступать должным образом. Восстание было исключительным
ответом на исключительную ситуацию; оно не предполагало каких-либо
притязаний на власть, а, напротив, служило имплицитным подтверждением
f,‘' Lucas С. Crowd and politics // The Pohlical Culture of the French Revolution. P. 259 285
Нарллнос ппничлнис смлерснитето Ь/
ее независимости и автономии Колин Лукас в *тон связи также отме-
нят. что неизменно наступал момент. koi да толпа, считая, что не может
заходить далее определенной черты, переклады»** чд задачу, например. нл-
казакин виновных. на представителей законной а части, предоставляя нм
большую или меньшую свободу де йсгнин. но угрожая вмешаться, если они
уклонятся от выполнения этой задачи 1ак. 31 мая 1793 Г ВОССТАВШИХ*
окружили Конвент, не проникая внутрь и позволяя депутатам самим при-
нять решение об изгнании жирондистов. А когда два .гни спустя hoik ганцы
вторглись н Конвент, фактически захватив власть, то можно было 1шл<*ть,
насколько они оказались обескуражены и неспособны действовать н той
сфере, за которой они. даже уг^южая власть имущим, всегда признавали
автономность.
Подобные действия народа, в коих порою видят предвестие прямой
демократии и «антипарламситарнзма», были обусловлены на ымом деле
весьма давним представлением о взаимоотношениях правите о й н упранляг
мых. Хотя восстание могло использоваться политический группой в качестве
решающего средства борьбы за власть, его динамика определялась оргл
ническнм представлением об обществе, согласно которому народ и его
правители связаны контрактом, налагающим на них ряд взаимных обяза-
тельств, несоблюдение коих правителями оправдывает восстание народа.
Народ не столько боролся за суверенитет, сколько отстаивал свое право
не быть угнетаемым.
Для того старинного понимания политического порядка, которое опре-
деляло действия санкюлотов, легальность и. в частности, выборность hmi чн
второстепенное значение. Избирательное право служило народу нс столь
ко средством участвовать в управлении, сколько защитой от ynicгения
давая возможность общаться с властями через своих упо i но коченных,
которые, будучи тесно связаны с избирателями и находясь под ужином
отзыва, не могли иметь интересов, отличных от иютрпов народа. Важно
не столько избирать правителей, разделяя таким образом и огьи ти беря
на себя ответственность за принятые ими решения, сколько иметь право их
наказывать, если они нарушат основополагающий договор, связывающий
их с народом. Введенные в 1791 г. ограничения На подачу коллективных
петиций были сочтены неприемлемыми именно потому, что они имя
единства интересов нации и избранных ею аре дета и и геле Г» ставили под
сомнение право народа защищаться от посягат^лытв со < тороны его пра-
вителей. Зато отказ на неопределенный срок от выбе^ров в конце 17(Н г
не вызвал каких-либо особых волнений, так же как и восстановление их
в 1795 г. не сопровождалось взрывом энтузиазма. Радикализм революци-
онных секций был мало совместим с парламентаризмом, но в своей основе
определялся траднцшшным пониманием политики. Приверженная архаиче-
ской модели противопоставления собственно парода и магжтратоо, далекая
от демократической модели общества, которая построена на взаимоаави-
63
марина
снмостм граждан и предполагает периодическое выл вмжг мне некоторых
из них во алзсть. толпа восставала. чтобы наказывать своих правителей,
не не брала на себя тру* избирать их.
Корни террор*. понимаемого как форма коллективного карательно-
го насилия, идеологом которого выступал Марат, уходят, таким образом,
а политическую культуру Старого порядка Однако было бы ошибочно
рассматривать, подобно Эдгару Кинэ. террор в це\ом как уступку нового
старому или как иллюстрацию живучести черт прошлого в настоящем. Ра-
зумеется, взрыв насм_кня. произошедший в 1789 г., во многом схож с теми,
что случались ранее в ситуациях кризиса и стремительного осла бдения го-
сударственной власти и имели целью восстановление естественного порядка
впцей Тем не менее, этому взрыву «архаического» насилия сопутствовал
w новый тип насилия — собственно революционного, которое пропаган-
дировалось и использовалось как средство, выходящее за рамки права,
но оправданное предполагаемыми заговорами контрреволюции. Необходи-
мость проводить различие между массовым насилием и террором никоим
образом не препятствует начинать историю последнего не с 1793 и даже
we с 1791 —1792 гг., а с 1789 г., когда он стал одновременно порождением
и Старого порядка, и Революции.
IV
Учредительное собрание:
между принципами и средствами
«Одна из главных заслуг \ чредительного собрания, которую нельзя
оспорить, — писала мадам де Сталь. — неизменное уважение к про-
возглашенным им самим принципам свободы* Но не все историки
судили столь же благосклонно о повелении первого революционного собра-
ния. В частности, Тэн отстаивал прямо противоположную точку вренмя
утверждая, что оно без стеснения присваива_чо себе полномочия прави-
тельства, несмотря на свое обязательство уважать принцип разделения
властей: принимало законы, являвшиеся издевательством над индивиду
альными свободами; и даже создало свой полицейский орган — Комитет
расследований, деятельность которого предвосхищала деятельность -яко-
бинской инквизиции» -L Выбранным Тэно.м пример не слишком убедителен,
поскольку приписывает Комитету расследований Учредительного собрания
те неблаговидные деяния, в коих был виновен аналогичный комитет Париж
ского муниципалитета. Однако досье. на основе которого Тэн сделал свои
выводы, этим далеко не исчерпывается. Откроем его.
Комитет расследований
23 июля 1789 г в Учредительное собрание бычо внесено два пред-
ложения: одно — создать комитет, уполномоченный .принимать лон<кы
на врагов общественного блага», и второе — ввести •спецна.чьнын трибу-
нал, дабы судить лиц. арестованных по подозрению в преступлении прогни
нации (lese-nation)»Собрание не приняло какого- чибо немедленного
П Slael А / L de. CoawderatKJca iur la RevUuboa (ггп<аде (1818) / fxl J Codec Ык
P . 1983 P t91
Гате H Let Onjnne* de la France conUtnporawx (1875—1893) / Ed F Legri P_. 1986.
2 vd. T I. P 409.
Mcltn A. Lea orient du Cocnrte de turtle gmeraie de I* Cor vtoikwi rwjooak // La Rrvd^xm
franc due 1895 P 259.
/О Учредительное собрание: между принципами и < реле швами
решения, однако двумя днями позже, пос %е того, как Коммуна Парижа
попросила его ознакомиться с содержанием нескольких писем, захваченных
у корреспондента графа Артуа, дебаты возобнови пись
Инициатива городских властей вызвала продолжительный спор, в ко-
тором обозначились две стороны, отстаивавшие прямо противоположные
мнения
Первая, наиболее многочисленная, отказывалась согласиться с ка-
ким бы то ни Сняло посягательством на принцип неприко< новен мости частной
переписки. Камю, Дюпор и Мирабо поочередно поднимались па трибуну,
чтобы осудить «незаконный», а неконституционный» и политически нера-
зумный характер предложенной меры. Эта мера незаконна, поскольку про-
тиворечит миссии, которую нация возложила на своих представителей, —
утвердить и гарантировать личные права и фундаментальные свободы;
яга мера неконституционна, поскольку противоречит принципу разделения
властей, который запрещает Собранию вмешиваться в вопросы полиции
и текущего управления, являющиеся уделом исполнительной власти; и на-
конец. эта мера политически неразумна, поскольку принять ее — значит
усилить противоречия под предлогом их преодоления и создать атмосферу
недоверия, превратив чисто личные послания, вещь эфемерную. предпола-
гающую выражение сиюминутных чувств и мнений, в «улики», способные
послужить основой для обвинения. Хотите ли вы, спрашивал Мирабо,
чтобы «гражданин, товарищ, сын. отец, сами того не зная, стали, таким
образом, судьями друг для друга; чтобы однажды они погубили друг друга,
если Национальное собрание сочтет, что может принимать свои решения
на основе перехваченных подозрительных посланий»?
Противники вскрытия писем, стремясь очертить пределы полномочий
Нлциыылыюго собрания, особый упор делали на таком представлении
о Революции. согласно которому она, помимо передачи народу суверенных
прав, должна также привести средства политики в максимальное соответ-
ствие с принципами и нормами морали: разве может Революция иметь свой
«черный кабинет», не отрекаясь от себя и не восстанавливая фактически то
самое прошлое, с коим она намерена порвать?
Сторонники изучения перехваченных Коммуной писем придержи-
вались противоположного мнения. <<В ходе войны, — заявлял маркиз
Гун д’Арси. — допускается вскрывать письма; а мы в период волнений
и бурь, наговоров и интриг можем считать себя находящимися в состоянии
войны и, действии льни, в таковом находимся», чти соответственно позво-
ляет использовать «тс же средства», как и на войне., и н силу чрезвычайных
обстоятельств и настоятельной необходимости избавляет от строгого со-
4‘ 1рлф А|луа. h-UmIwwu браг Людышма XVI, ыиигри/лнкЕч 16 июля
^Агг 1н¥« parletncniatres. Т VII/ Р 273—279 (25 и 21 »моля 1789 г).
6)1Ы<1 Т VIII Р 275
Комитет рж следпаи
блюде и ич принципов и (рор.мл чьи остей. R *тгягг на довод л необходимости
подчинить политику морали Гун д'Арен. Фрето дс Сен-И$юст и Робес-
пьер ссылались на обстоятельства и потребности обц|ествит<1ГС1 «пасения.
С их точки зрения, нельзя было отказываться от использования в< е.г
средств, необходимых для общественного спасения, не подвергая опасности
личные свободы, 8(|»4**ктиВ1ыя гарантия которым обг.лг читается .креплени-
ем коллективной свободы. «Можно ли сопоставить эту иенрнжкнавешюсть
со спасением родины?» 7j — спрашивал Ребель.
Революция как состояние войны и верховенство закона как нечто
вторичное по отношению к необходимости одержать победу над привер-
женцами Старо1*о порядка — подобный дискурс стал в 17^3 г политикой
Конвента. Он не сводился лишь к поддержке временной приостанов-
ки свобод, вызванной необходимостью избавления от уцюмы Речь шла
об обосновании гораздо более опасных положений, чем те. которыми в ок-
тябре 1789 г. будет мотивироваться принятие закон* о военном положении.
Здесь предполагалось лишать «подозрительных граждан • защиты со сти-
роны закона не только в тех случаях, когда предусмотренный им порядок
предъявления доказательств и предписанные нм формально,. ш препятству-
ют надлежащему наказанию заговорщиков, но и на гк«< тчяиной псионе,
поскольку Собранию предлагалось вскрывать письма цмждан нс в мигам
с каким-либо конкретным делом и нс в течение какого-либо опргделенного
срока, а шпионить за перепиской любого подозрительного лица, на которого
ему когда-либо донесут. Тем самым утверждался дискурс террора прогни
«врагов народа», построенный на отождествлении революционной гюробы
с войной, так что на другой стороне оказывались не пркти противники,
<i настоящие чужеземцы» против которых могу! н дяижнм исяодышвагы я
любые средства, в зависимости только от их эффективности Ц< |н нн1ь-
<я с заговорщиками. — уже тогда заявлял Робеспьер, — «начит нр< данать
народ». До сих пор не обращали достаточно внимания на то, что уже
начиная с лета 1789 г. в стенах Учредительного собрания з.чнучллл ги ь
пощадная и кровожадная риторика 11 года Так на пар\лменг< кую лгну
вышел дискурс чрезвычайщины и терро|мв
1 1редложсния Ребеля и Роскчиыра ш ириж.» - » мп чим (я>лмннн> iна
депутатов, и после двукратного обсуждения. 25 и 27 нюкн. те перешли
от рассмотрения запроса Коммуны Парижа к повестке дня. показав тем
самым, чти не намерены поступаться принципами ил-зи <лр.»хов и»р<д
заговором, более или менее химерических и уж но жимом случш- iлишком
слабо обоснованных, чтобы оправдать принятие чр» лнычлннмх мер.
Однако уже заседание следующего дни, 28 июля. л<н пример пн* .,ni-
ной перемены иастроснин. стиль свойс твенных многолюдным ксачи v ям.
Учредительное собрание 1|мктмчгскн совершило решающий шаг, Голдам
7)1Ы Т VIII. Р.2<В-294
Учредигпыънгье собрание. мемлу принципами и ере т< тнами
последснательни Комитет донесений и Комитет расе \гклиним. Первый,
учрежденным по предложении) Впльнгя. состоял из тридцати депутатов,
обязанных знакомиться с весьма многочисленными Делами полицейского
и административного характера, поступавшими на расл к трение Собрания,
и докладь’лать ему о них. «когда сочтет нужным*Е 'mi первоначаль-
ной целью формирования данного комитета было освободить Собрание
от заботы, поглощавшей у законодателен то время, которое они должны
были ггскнящатъ работе над Конституцией, то следствием такого тага стало
наделение Уч/бдительного собрания правом выносить решения но админи-
стративным делам, а потом следить за действиями министров, обязанных
выполнять эти постановления. Создание Комитета донесений фактически
представляло собою серьезное покушение на принцип разделения властен.
Едва было принято решение о формировании данного комитета, кан-
на трибуну поднялся Дюпор, чтобы потребовать учреждения «комитета
расследований» из четырех депутатов, обязанных обобщать всю информа-
цию о заговорах, день за днем изобличаемых в Собрании. 11енэвестно, чем
руководствовался Дюпор, еще накануне решительно выступавший против
любых мео. нарушающих принципы. Может быть, хаос, охвативший страну
после 14 июля, мятежи, сообщения о заговорах и угроза новых народных
расправ убедили его в необходимости прибегнуть к средствам, без со-
мнения. предосудительным, но способным покончить с этими бедствиями,
а именно — передать Собранию надзирательную и репрессивную функции,
которые королевская власть и ее представители, сами по себе подозри-
тельные и почти парализованные, едва ли могли исполнять9^ Если эта
гипотеза имеет под собой какое-либо основание, то предложение Дюпора,
часто изображаемое как капитуляция перед настроениями народа и даже
как популисте кий шаг, оказывается, напротив, попыткой разорвать роковой
в) Archives pajlcmenuirrs. Т VIII. Р. 84.
Каь бы то ия было, такова точка зрения Баранана. с той поры связанного с /\дрненом
Димюрим (см Baznure .4 Dr la Revolution cl de la Constitution (1792] / Ed. P Gucinffey.
Grenublr. 1988 P 119-121). Может быть, Дюпор также опасался, что созданный накану-
не Комитет донесений излишне многолюден (30 депутатоп), чтобы действовать эффективно,
н особенно, что способ его составлении был слишком выгоден для умеренных Действительно,
постановление предусматривало, что тридцать членов Комитета будут избираться тридцатью
бюро Собрания В этих бюро, по которым были распределены все депутаты, проводились
различные выборы (п^тедседателя, секретарей, членов комитетов) и готовились решения пле-
нарных заседании. Заседания бюро, куда доступ! зрителей был сознательно запрещен, были
особенно выгодны наиболее умеренным из депутатов. Отсюда — нх приверженность этой
системе 29 июля. т. е. на следующий лень после учреждения Комитета расследований, Со-
брание приняло кнутрешгнй регламент, усиливший роль бюро, однако 31-го контрнаступление
• патриотов» восстановило полномочия общего заседания депутатов и предопределило судьбу
бюро, которые быстро захирели. (См Oraieurs de la Revolution kan^aise / Ed b.Furel
ft R. Halevi P. XUI, LV-LV1I. Casfj/Jc A. Les Methodes de travail de la Constttuanir.
Les technique* deliberative* de I'Assemblee nationalc. 1789- 1791. P., 1989).
Комитет расследований
73
круг стрзхл и мести 10Г Действительно, бывают времена, когда невозможно
быть добрым. Рассматривая происхождение чрезвычайных мер. этот мотив
нельзя упускать из виду, поскольку он имел место даже в 1793 г., когда
Революционный трибунал учреждался. по крайней ме(и. некоторыми иэ его
создателей, с аналогичным намерением, проиллюстрированным знаменитой
фразой Дантона: «Будем сами применять террор, »ггобы избавить народ
от необходимости его применения».
Тем не менее, предложение Дюпора вызвало дискуссию, аналогичную
гой. что шла накануне по вопросу о тайне переписки 11 Одни, например. Гун
д'Арси, приветствовали проект, другие, такие как Вирье, осудили создание
инквизиции, которая, подобно венецианской, самостоятельно и втайне ре-
шала бы судьбы граждан. «После бурных споров»», отмечается в прото-
коле, Учредительное собрание приняло предложение Датора, увеличив,
однако, число членов Комитета расследований с четырех до двенадцати,
постановил обновлять его каждый месяц и обязав, «получая информацию
о подозрительных лицах», передавать ее затем компетентным юридическим
органам
Комитет расследований Учредительного собрания неоднократно под-
вергался критике на протяжении всей своей работы15', Альбер Me ген,
первым посвятивший ему специальное исследование, изобразил гго как
предшественника Комитета общей безопасности Конвента. Такое сопо-
ставление, несомненно, является преувеличением. В отличие от Комитета
1793 г., тот, что существовал в 1789 г., не имел полномочий ни арестовы-
вать, ни отдавать обвиняемых под суд. Речь шла скорее, если пользоваться
терминологией декрета от 28 июля, о «комитете по сбору информации »
который помогал органам правосудия, дабы повысить эф<рективность и бы-
строту их действия, непосредственно не вмешиваясь в саму процедуру.
И все же между установленной законом компетенцией Комитета
расследований н его реальной деятельностью существовали значительные
расхождения. Так, будучи уполномочен собирать сведения о «подозри-
тельных лицах», он быстро — постановлением от 7 ноября 1789 г —
Ю) Этот тезис Александр Адмет защищал в свсжх мемуарал: «Учреждение Комитета
расследований, поднергшгеся всевозможным нападкам со стороны прагтмвникин Редплюции,
боявшихся надзора, было задумано совершенно с ИНОЙ целью. чем U. котирую ему при»
писывали его хулители. Намерение состояло совсем не в том чтобы воабудить грешку
у народа. а, напротив, ее успокоить» (см Lameih Л.. de. Н Moire de I Assemble* cuniuiuanle.
Р., 1828-1829. 2 vol. Т.1. Р.82-84).
Archives parlrmentaires Т. V111. Р. 293-295.
Ком>гтет (мсследоианни обновлялся каждый месяц до декабря 1789 г., а ааггм ь послед-
ний раз — 26 ап|М»ля 1790 г. (CatiMo Л- Op.cii. Р. 228).
™MeiinA Op.au Р. 263-270.
Формулировка Лустало в газете Reuotufionj de Аапл (8~!4 ноября 1789 г) Цнт г.п
Actes de la commune de Paris. Г. il. P. 376.
74
Учредительное собрание* л«е»гду приниипл.ми и средствами
отказался от данного Ле Шапелье обещания уважить тайну переписки.
Кроме того, хотя Комитет непосредственно не илданал постановлений
об аресте, фактически пн имел возможность приводить в действие юри-
дическую процедуру, направляя изученные дела либо министру юстиции,
если они входили в компетенцию обычных судов, либо в трибунал Шатле,
если речь шла о преступлениях против безопасности государства. 11 даже
после передачи дел в другие инстанции, Комитет не бездействовал: он
продолжал наблюдать за ходом процедуры по возбужденным им делам
и контролировал деятельность министра юстиции Существовала также
еще одна сфера, куда реальная практика внесла свои коррективы. Будучи
по закону обязан подучить сообщения и доносы. Комитет вскоре начал
их требовать, вознаграждал их авторов и, не довольствуясь спонтанными
доносами, использовал сеть платных агентов16). Бесспорно, деятельность
Комитета выходила за рамки его полномочий, однако он далеко не обладал
тон неограниченной властью, которую ему так часто ставили в вину.
* * *
Если кто-то хочет найти в 1789 г. предшественника Комитета общей
безопасности, то ему лучше обратить внимание на Комитет расследований,
созданный Коммуной Парижа 21 октября 1789 г.
Уже накануне волнений 5—6 октября один из дистриктов столи-
цы *- Сен-Рош — призвал Коммуну разоблачить «ужасные заговоры»,
затеваемые против свободы, и, более того, обеспечить себе возможность
арестовывал) виновных для «наказания их со всей строгостью, какую только
заслуживают подобные посягательства» 21 октября, когда Париж вновь
обагрился кровью из-за линчевания толпой булочника Франсуа, Комму-
на про< ила Учредительное собрание принять закон о военном положении,
который позволил бы ей пресекать подобные беспорядки. В то же время,
не ставя в известность Национальное собрание, она по собственной ини-
циативе решила создать твоя Комитет расследований. По данному вопросу
были приняты два постановления Первое, оговаривая, что члены Комитета,
не имея никакой иных административных полномочий, ограничатся полу-
чением доносов и свидетельских показаний», казалось, определяло функции
этого органа по аналогии с тем, чти был создан в июле Учредительным
собранием. Однако тут же в этом постановлении уточнялось, что члены
Комитета «в случае необходимости могут арестовывать изобличаемых лиц.
их допрашивать и собирать вещественные доказательства <...> для обес-
печения базы следствия Коммуна, таким образом, наделила свой Комитет
’^СмйЛ/оА Op ей. Р. 237.
,6|СшЛнР. Op сп Р 12-18
171 Цит. по Talnc Н. Op.cil. Т. 1. Р 409 Ку 5.
Кпчитееп расследований
75
таком властью, какую Учредительное собрание не сочло возможным дать
даже сноси собственной исполнительной комиссии, а именно — задержи
вать и допрашивать. Второе постановление дополняло первое, обеспечивая
условия эффективной деятельности Комитета: оно предусматривало возна-
граждение для доносчиков «в соответствии с характером и значимостью
сообщенных ими фактов» и предлагало королю даровать помнлпнднис «• лю-
бому лицу. изобличающему интригу или заговор, автором или соучастником
которых оно является»1®).
Таким образом. Коммуна не просто «подражала* Национальному со-
бранию, как позднее станет утверждать Бриссо VM. А потому противникам
Комитета было совсем нетрудно находить аргументы в пользу ликвида-
ции этого «незаконного трибунала, который, не имея четко определенного
устройства и полномочий, присвоил себе право вторгаться в наши дома
и семьи» 2<^). Однако первым против решения Коммуны поднялся край-
не радикальный Лустало, осудивший в своей газете Les Revolutions de Ptins
от 14 ноября 1789 г. учреждение этой «гражданской инквизиции >, ’мметив,
что при ее полной независимости данное ей право арестовывать граждан
по определенным мотивам означает конец какой бы то ни было личной бе-
зопасности для частных лиц21). Вскоре и другие авторы включилм< ь в эту
войну статей и брошюр, продолжавшуюся на протяжении всего существо-
вания Комитета расследований. Все настаивали на незаконности института,
не предусмотренного никакими законами, и даже не санкционированного
ими уже после его создания2 *’).
Незаконным было происхождение, но еще более незаконной была
деятельность. Парижский Комитет, не довольствуясь тем, что взял на себя
функции суда, фактически не соблюдал никаких законов: он определял
по своему усмотрению, устраивать или не устраивать очные ставки свидете-
лям и обвиняемым; некоторых, арестованных по его приказу, он сн иабожддл
без решения суда об их опрандании, тогда как других тайно держал под
арестом и т. д.2^) Учреждение Комитета расследований, считал < Прайс va
1,4? Actes de L Commune de Paris. T II P. 366 - 367 I Id следующим день муницииа лпиый
совет избрал шесть членов Комитета расе ледова инн. в том чюлг Бриссо (Ibid Р. 389)
u)Bri.ssof ]. Р. Lettre а М le chevalier de Pangr. виг »а bfxhue nihtulre Ке|1гх«он< «и»
la delation cl sur le Cumrtfc des rccherchrs // Le Patnote Irancaii. № 173 30 |.mbh r 1700 P I I
№ 182. 6 frvrier 1790. P.5-6
2°) Выступление делегации дистрикта Минны (Mmune*) перед Коммлний 3 марта 1790 г
(Actes de la Commune dr b^ns. 1 IV. P. 278)
2,1 Ibid. Т.П. P. 376-377
*'t) Cm.4 Clermont-Tun л ere 5.. de. Nouvellcs nberrva lions ahi lea cumites <lea ret hmhrt.
P., 1790 [arjUrrnbre I P. 7—9; Ainge F. de. Lctlre a M. de Ixi 1 tape, мя le conuie de recherche*.
[P.. 27 алы 1790]. P.4-5.
. например, еммдетельства» приведенные Станисласом Клермон-luiuicpnw Clermont
Tvnnere S.. de. Keflexicmi sur 1‘ouvragc intitule * Projet de <omre-revolution par ks Mmmambuhsin.
76
Учредительное собрание: между принципа ми и средствами
ле Панж24\ было подобно возведению новой Бастилии »<п центре столицы,
восставшей против деспотизма» н фактически восстз на нлинало практику
применения leltrcs de cachet* *, поскольку привело к нелегальному появле-
нию органа власти, круг полномочий к порядок действия которого не был
определен ни одним законом2-5).
Бриссо, руководителю и преданному защитнику Комитета рассле-
дований, пришлось вести длительную баталию против его критиков. Он
не пренебрегал ни одним из аргументов, то утверждая что Коммуна лишь
вдохновлялась решением Учредительного собрания, то, день спустя, что
Комитет является французским аналогом жюри присяжных в английской
судебной системе, своего рода «первичным или предварительным трибу-
налом», чья деятельность ни в малой степени не предваряет конечный
вердикт"?6\ С бесстыдством, присущим данному персонажу, выдвигались
и другие лживые доводы, такие, как утверждение, что Комитет всегда
«весьма тщательно соблюдал права человека» и видел в обвиняемых лишь
«братьев и себе подобных», а единственный упрек, который может быть
ему адресован, это — проявление «чрезмерной чувствительности» 27).
Также Бриссо постоянно использовал против своих оппонентов тот же
аргумент, к которому прибегли Ребель и Гун д’Арсм в июле 1789 г.. —
общественное спасение. В момент кризиса, утверждал Бриссо, обычные
суды оказываются бессильны:
Им, связанным формальностями, трудно задерживать виновных,
которые из-за применения таких формальностей всегда оказываются
предупреждены. Полиция, комитеты безопасности или расследований
создаются для того, чтобы преодолеть этот недостаток. Они получают
чрезвычайные полномочия, чтобы иметь возможность предотвратить
бегство заговорщиков 2Ч
Бриссо взывал и к авторитету Макиавелли. «Вспомните, — обращался
он к Клермон-Тоннеру, — аксиому столь же тривиальную, сколь правиль-
ои гаррол dans Г affaire de ММ. d’Hosier et Petit-Jean»; aux comiles de г cc benches de I’Assemblee
nalwnale e( de la municipalite de Paris, le 29 juillet 1790. Pans, aout 1790 P. 13 — 16.
‘4) Франсуа де Панж (1764-1796), близкий друг братьев Шенье, был членом Общества
1789 г., куда весной 1790 г. вошли те революционеры, кто, подобно Кондорсе или аббату
Синесу, держался в стороне от якобинцев.
* Уты прямого действия, издававшиеся при Старом порядке королевской властью, в
частности об аресте тех или иных лиц без соблюдения положенных по закону юридических
формальностей — Прим ntptfi
ftirige F., de. Reflexion* sun la delation, rt *ur le Connie des recherche*. P., janvier 1790.
P. 16-17.
Le patnoie francais. Nv 201. 1790. 25 fevner P. 5-8; Brissot J. P. A Stanislas Clermont,
bui la drainbe de ct dernier coiitre ks comites de* rccherches. et sur son apologie de Mw Jumilliac,
el des lUuminb. P., 28 aout 1790. P. 12 -13
2 ' Впмо/ /. P. Lritre a M. It chevalier de Pan^e. P. 3—4.
281 Ibid. P. 6.
Комитет расследпмний
77
ную: кто желает цели, желает и средств» -<4h Поднятая Бриссо проблема
состояла нс столько в том, что некая цель оправдывает использование неких
средств, а в том, чтобы решить, подходит ли применение данных средств
для достижения поставленной цели. Уже Панж в ответ иа эти рассуждения
указывал, что результаты, которые должна была повлечь за собой деятель-
ность Комитета, противоречили заявленным целям. Введенная в действие,
чтобы успокоить «брожение народа», практика повторяющихся разобла-
чений заговоров властями не могла не выэватъ одержимости заговором
и не повлиять на возникновение атмосферы всеобщей подозрительности,
которая именно и провоцировала те вспышки насилия, возобновлению коих
вроде бы и должен был воспрепятствовать Комитет Клермон-Тоннер
так же замечал, что Комитет стал скорее «памятником тем прискорбным
страстям, от коих мы страдаем», чем средством с ними совладать, и что,
в конечном счете, применяя те диктаторские средства, «которыми ненависть
вооружила нас пропив деспотизма», Революция, если не будет настороже,
«пойдет тем же путем, коим следовали наши угнетатели, и добавит новые
звенья к разбитой ею цепи»^.
Подобный аргумент уже использовался в дебатах о тайне переписки,
когда говорилось, ч то разрыв с абсолютизмом вызывает необходимость ре-
формировать методы управления. Эта благородная мечта разбилась, однако,
о су^ювую реальность будней, когда нетал вопрос о том, чтобы сдержать
рост насилия и анархии, дав возможность законным властям осуществлять
те самые репрессии, коих требовала улица. Подобный мотив уже упоми-
нался в связи с инициативой Дюпора. В не меньшей степени он имел место
и при создании Комитета расследований мэрии Парижа, что признавали
даже самые решительные критики данной меры. С этой точки зрения
образованный Коммуной Комитет может наряду с Комитетом. созданным
ранее Учредительным собранием, и с Верховным судом 1791 г. рассматри-
ваться как одна из многих попыток обуздать массовое насилие, которое
революционные элиты, приученные своим веком к чувствительности, всегда
воспринимали крайне болезненно, даже если в силу своих убеждений, или
идя на уступку, признавали его неизбежный и даже вполне объяснимый ха-
рактер. Вполне вероятно, что такие люди, как Дюпор, Варнав и даже Брис-
со, рассматривали институционализацию насилия как своего рода «повязку
на нарыве», способную остановить распространение массового насилия,
воспринимавшегося как варварское и дикое, хотя, в конце концов, предло-
женное ими средство скорее усугубило лихорадку, нежели избавило от нее.
Сам Робеспьер в ту пору проявлял стремление обезвредить уличное
насилие путем чрезвычайных мер. Уже тогда для него, несомненно, был
Brosot I Р. A Stamsh* Clermont.. Р. IL
'°' Pungc F., de. Reflexions sur l<i dchlion... P. 17.
Clcnnant-Tunncre 5 , de. Nouvelles observation.*.., P.4.
78 Учредительное собрание чежду принципами и гпедствами
характерен абстрактный взгляд на веши, не придающий большого значения
пролитой крови. На другой день после убийства Фулона Бабеф писал жене:
«Всякого рода казни <...>, далачи. которых развелось повсюду так мно-
го, — все это развратило наши нравы! Наши правители вместо того, чтобы
цивилизовать нас, превратили нас в варваров» Робеспьер же высказался
более лаконично; «Г-н Фулон был вчера повешен по приговору народа» 33).
Насилие, по мнению Робеспьера, легитимно, поскольку вершится народом,
и осуждать его — значит выдвигать обвинение против народа, а стало
быть — начинать процесс против Революции, которая не смогла бы побе-
дить без актов насилия 14 июля34). Однако оправдание революционного
насилия не мешало ему разделять озабоченность своих коллег и призывать
Учредительное собрание как носителя новой легитимности взять на себя мис-
сию ^возмездна и наказания преступлений» путем создания чрезвычайного
трибунала3*). По этому вопросу между политическими лидерами существо-
вал достаточно широкий консенсус, несмотря на то, что к революционному
насилию они относились по-разному. Некоторые считали его законным,
тогда как большинство более или менее открыто от него отмежевывались.
* * *
История Комитета расследований мэрии Парижа позволяет раскрыть
еще одну из сторон происхождения террора, отмечаемую гораздо реже,
а именно — интерес политический и материальный. В самом деле, Коми-
тет расследований не довольствовался разоблачением заговоров, которые
с большим или меньшим основанием считал угрожающими Революции (бы-
вали и таковые36^)- но, когда ощущался их «недостаток», фабриковал их
сам. Послушаем Тэна:
За неимением заговоров, он их изобретает. Для него пожелание
равнозначно поступку, неясные планы превращаются у него в совершен-
ные преступления. Из доноса слуги, подслушавшего у дверей, из сплетен
прачки, нашедшей клочок бумаги в кармане пеньюара, из превратно
истолкованного письма, из смутных намеков, которые он собирает, до-
полняя силой воображения, он создаст государственный заговор37).
Babeu/ С. (Euvres. Т I Babeuf avant la Revolution I Ed. V. Daline, A. Saitta el A. Soboul.
p, 1977. P. 340 [Ь’а&ф Г Сочинения. T. 1. №.. 1975. С. 232].
''' CorresponJancc de Maximdien et Augustin Robespierre / Ed. G. Michon. P., 1926. P. 50
[Переписка Робеспьера Л., 1929 С 57].
'4) См., в частности, его речь от 20 июля 1789 г . Robespierre М. CEuvres. Т. VL Р. 39-42.
»)См речи Робеспьер* от 31 июля (Ibid. Р. 48—51) н 21 октября 1789 г. (Ibid
Р. 121-130).
См.; Saini-Victorde. La Chute des ansi ос rates. 1787—1792 La naissance de la droite
P.. 1992.
37; Taint H. Op ril T. I. P. 409 Напомним, что Тэн ошибочно говорит здесь о Комитете
расследований Учредительного собрания, котя его анализ полностью относится к Комитет)
Комитет расыглолачий
79
Красноречивый факт: в больвгинстве случаев трибуналы снимали
с жертв Комитета выдвинутые против них обвинения, а в обвинительных
досье порою настолько ощущалась нехватка убедительных доказательств,
что Комитет считал более благоразумным не отправлять задержанных в суд.
По сути, он столкнулся лишь с одним настоящим заговором — заговором
маркиза Фаэраса, но оказался даже не способен его раскрыть.
Это стремление бесконечно изобретать все новые заговоры объясня-
лось просто: от их частоты зависело само существование Комитета. Именно
для того, чтобы доказать свою необходимость и сохранить приобретенную
политическую власть, Комитет без устали выдумывал все новых врагов.
Этот институциональный фактор имеет важнейшее значение, поскольку то,
что в 1789 г. можно видеть в ограниченном масштабе, с большим размахом
повторилось в 1793—1794 гт. Институционализация средств борьбы с вра
гами Революции не уменьшала их численности. а. напротив, увеличивала»
создавая мнимых врагов, с единственной целью оправдать сохранение си-
стемы и после прекращения действия тех обстоятельств, которыми могло
быть обусловлено ее возникновение. С этого времени речь шла о защите
как власти, так и интересов, порожденных политикой репрессии
Надо заметить, что своим существованием Комитет расследований му-
ниципалитета Парижа был особенно обязан политическим амбициям Брис-
со, которого предшествующей весной избиратели не допустили в депутаты
Генеральных штатов, лишив возможности сделать карьеру в национальном
масштабе и заставив довольствоваться менее престижным поприщем
Будучи членом временной Коммуны, созданной в июле, он использовал
Комитет расследований в чисто политических целях, как средство повысить
свое влияние внутри .муниципального совета и ограничить, с одном стороны,
власть мэра Байи, с другой — претензий дистриктов. требовавших себе
права осуществлять «суверенитет»» без посредников 17Г С ноября 1789 г
газета Revolutions de Paris изобличает в создании Комитета расследований
политическую акцию, имеющую целью заставить дистрикты замолчать,
подвесив над их активистами дамоклов меч преследования по расплывча
тому и растяжимому' обвинению в «преступлении против нации » (епгпе
de lese-nation) Комитет расследований, в первую очередь, нме \ зада-
чу обеспечить Бриссо решающее политическое влияние, предоставив ему
ведущую роль а столь исключительно важной сфере, как нои нм вре- * * * * * * 41
расследомннй мэрии Парижа. См., например. авалях дела /Тимямика К керм»и? 1:н»1Г|>пы,
раскрывшим «монтаж» этого дела. прон.шеденный Брнсхо и его подручными
Об этом см.: Martucxi R. Qii‘c8t-ce que la icse-naiktn? A ptupoa Ju pfulikinc lr Г infraction
puliiiqtir sous la Constituante (1789—1791) // Deviance ri aocieti |990. X- 4 P.
',?Об этих конфликтах см.: Cen/y М l^ns I789-I79S. L apprenUaMgc de la ctlnvrnnelr
P1987.
41 Ц|гг. no: Aclex de la Commune de Рапа T. II. P 377
80
Учредительное собрание, мсжлу принципами и cpej< тнами
мя (игволюцик является борьба против ее врагов (и^> г х. кто таковыми
считается).
Однако охота на заговорщиков была не только литическим сред-
ством, но также «ремеслом», источником, приносившим доходы, прежде
всего посредством утечек информации в печать и продажи сообщений 41\
Деятельность Комитета расследований хорошо вписалась в контекст жест-
кой конкуренции на рынке доносов и обвинений. Журналисты и сочинители
брошюр, боровшиеся за читателя, жаждали сенсационных разоблачений
и указании на жертвы, которых можно пригвоздить к позорному стол-
бу. Помимо простого извлечения прибыли, вполне, впрочем, реального,
существовал также немаловажный фактор, заставлявший многочисленных
последователей Марата соперничать с ним в кровожадности, пытаясь пере-
тянуть к себе его круг читателей. В этой конкуренции находила отражение
та динамика, которая в конечном счете приведет к пролитию потоков крови:
в революции легитимность, а значит и власть, принадлежит тому и только
тому, кто находится на острие борьбы с врагами и предателями. Далее мы
к этому еще вернемся42^.
Таким образом, деятельность Комитета расследований не была всего
лишь эпизодом в бурной истории 1789 г. Его история, слишком часто
оставляемая без внимания, показывает уже обозначившиеся тенденции
и напрямую связывает момент провозглашения прав человека с наиболее
мрачным периодом эпохи. Но эта история показывает также и то, что
их разделяет: несмотря на все сомнительные аспекты, все же не Комитет
расследований Учредительного собрания предвосхищал собой комитеты
эпохи Террора, а тот, что был создан Коммуной Парижа4^.
Преступления против нации
Создание Учредительным собранием Комитета расследований 28 ию-
ля 1789 г. тесно связано с преследованием «преступлений против нации».
Поручая своему Комитету сбор всей поступающей информации о заговорах,
4 ' F de Reflexion sur la delation. P. 8. См. также Clermont-Tonnerre S., de.
Reflexions.. P 10 Публикация этих докладов сп{М)Вои,ировала ряд первых критических
выступлений против Комитета. См. выдвинутое в Коммуне 26 декабря 1789 г предложение
запретить Комитету что-либо публиковать без разрешения (Actes de la Commune de Paris.
T III P. 286. 292-293). еще ОДНО выступление 8 февраля 1790 г. (Ibid. Т. IV. Р. 23. 37-38)
и демарши дистриктов Premonlres» и Sainl-Philippe-du-RouIe 16 феврали (Ibid. Т. IV. Р 126).
42/ См ниже главу IX.
Этот Комитет завершил свое существование с обновлением состава муниципалитета
в августе—сентябре 1790 i Из 144 бывших членов муниципального совета лишь 46 было
переизбрано. Все члены Комитета расследований, за исключением никому не известного
Перрона в новый состав совета нс попали (Actes de la Commune de Pans. 2r serie. T I
P.XX1X-XXX1V)
Преступления против нации
81
Собрание стремилось» с одной стороны, рассеять страхи, вызываемые мни-
мыми заговорами, с другой — ускорить наказание инициаторов заговоров
реальных. 1ем самым оно признало обоснованность обвинений в преступ-
лениях против нации и поставило в порядок дня введение соответствую-
щею правосудия. 23 июля оно установило ряд следующих принципов 44 \
исключительная компетенция Национального собрания на преследование
за те преступления, что нарушают, в отличие от обычных, права не от-
дельных лиц, а общества в целом; осуществление этого национального
права особым трибуналом: применение к обвиняемым правовой процедуры,
предполагавшей презумпцию невиновности и предписывавшей судить их
«в соответствии с законом и после публичного расследования».
Два ключевых момента вызвали непреодолимые трудности и оказа-
лись в центре критики: дефиниция преступления протии нации и провоз! ла-
щенное намерение не отступать от принципа беспристрастной процедуры
даже в отношении государственных преступлений. Пак отмечает Робер-
то Маргуччи4^, преступление против нации так и не получило никакого
юридического определения, способного обеспечить основу для судебного
преследования и очертить пределы применения данного понятия Уголовный
кодекс 1791 г. не содержит статьи, посвященной преступлениям подобного
рода. Хотя уголовный ордонанс 1670 г. и предусматривал преследование
за преступления против величества (lese-majeste), он тоже не давал км
определения, придавая тем самым данному понятию почти безграничную
растяжимость.
Разработанное в эпоху Римской республики понятие преступления
против величества, теоретически относившееся к посягательствам на внеш-
нюю и внутреннюю безопасность Рима, с самого начала и, особенно,
в эпоху Империи применялось аля уничтожения оппозиции и защиты инте-
ресов, не имевших отношения к жизненно важным интересам государства.
Заимствованное французским правом понятие преступления против вели-
чества получило широкое толкование начиная с царствования Людовика
XIII. Оно включало в себя уже не только покушение на цареубийство или
на монархический строй, а было расширено формулировкой «преступление
против божественного и человеческого величества» (Icse-majeate divine el
humain), что позволяло во многих случаях использовать его для наказания
за сочинения или предложения, сочтенные святотатственными или подстре-
кательскими. Одной из последних его жертв стал шевалье де Ла Барр
в 1766 г.46>
«Эта зловещая формулировка» — преступление против нации, пола-
гал Франсуа де Панж, была порождена гибельным духом подражания,
Metin A. Op. ch. Р. 260.
Martucci R Qu’eM-ce que la leae-nalioti? P. 377—393.
461 Laingui A.. L.eblgrt A. 1 listoirr du rlroil penal P.. 1979 2 vol T I. P 199-204.
7 За». 155
82
Учредите »ьм»х сс'бдомме
м< аду лумнииплмм и средствами
ме сютгобнмм пред сталметь национальный гуигргнмтгт ина ie, нежели обла-
ДЛЮЩНМ ТГМИ ЖГ ЧГ|ГГАМИ. ЧТО И гувпм*нитгт королек» кий 4 1 А поскольку
К<*|Х>ЛИ НММН П * ноем pni пори ЖГ НИ И ГТОЛЬ туманную Н|М1>(М1уЮ норму, как
преступление против ле мгитлш. дабы оправдывать литы илнболгг нопи-
нчугго про извод д, тп считалось, что и нация иг может обладать полным
сунерекнтстпм, иг овладев атмм привклггм(>о1мнным С|эедгпюм подлнленмя.
Начавшаяся с Х\'П и. критика гели не самого понятия «преступление
против пгчичеепио*. то его незаконного применения, в XV III в. < оставила
сх нону требований |м*формы уголовного законодательства4^. Однако идеи
наказания ял преступления против величества столь тесно ассоциирова-
лась с понятием сунг^жггета и столь ярко демонстри|ювлла обладание
верховной властью. что нация должна была присвоить ее себе как сим-
вол супер нитета, который она пыталась отнять у короля. Поэтому идея
преступления П[ютнн нации и появилась в тот момент, когда, по словам аб-
бата Ьаррюэля. написанным в инваре 1789 г , монарх «уронил дрожавший
в сп» рука* скипггр>» Уже в 1788 г. Ожар обвинил хранителя печати
Ламуаньомл в том, что. проведя в мае 1788 г. судебную реформу, напра-
вленную против парламентов, тот совершил преступление против нации
иг менее «одмотос». чем преступление против величества. Л янсенистский
публицист [абрмлль де Мольтро тогда же заявил, что сами короли могут
совершать по отношению к папин преступления против величества или
«против государства» (lrsc-£tatp0\
Присвоение Революцией понятия преступление против нации, являв-
шего» я наследием Старого порядка и принятого к применению без точной
дефиниции, по мюстью подтверждает тезис Гэиа о нарушении членами
Умилительного собрания своих же собственных принципов. Если при-
держиваньем Декларации пран человека 1789 г., которая предусматривает
и статье 7, что «никто не мпжет подвергнуты я обвинению, задержанию
или паклК’чению иначе, как в случаях, предусмотренных законом», то,
очевидно, любые юридические действия по отношению к обвиняемому
в преступлении прении нации оказываются противозаконны, поскольку
в вину вменяется преступление, не определенное законом. Однако про-
блема носила нс столько юридический, сколько политический характер.
Исходя именно из втогт» и следует рассматривать решении, принимавши-
еся Учредительным собранием. 1Ьчное соблюдение статьи 8 Декларации
</с. К г fir Mon 1л (klftiion Р 33- Ч. Idem. Observations ми lr crime de lr»e«
nation.
4Н,См. Мамтикьс Ш.Л Дул jUkohoh. Кн 12. 1л 7—18.
Статья и га ян г Itwnat ccdcstasfiqut Janvier 178е) Цит. no: Riqucl М. Augustin
de Barrurl Un jbuitr (лее eux Jacobins hance nitons. 1741- 1820. P.. 1989. P. 52
сНм дна примера приведгя1й н кн. Van Kley D.V. llie Ие1»км»им (3rig)iiM cd the I rrnch
Rrvulutiun Fnmi Calvin <•» ilir Civil ConMituiian, 1560- 1791. Nrw Haven Ixindon. 1996.
P. 325-326.
Приступ протии nimuu
пран* фактически привело бы х запрету не чюблг прес хедондпие м де-
яния. совершенные до обмА^юдовання будущего закона о приступ чемнях
против нации, а мель трибуналу Шатле бычо временно поручено счлнгь
чл такие преступления только и октябре. С другпб гтгцхним. стропи* со-
блюдшие статьи 7 Декларации прав, даже сои нргдналсякнтк что данное
преступление получим» бы свою дефиницию, привело бы к иекчючгиню
Hi числа исследуемых большинства деяний, осуждаемы* революционным
общественным мнением, которое имело склонность рас<ШТ|твить любое
несогласие с собой как государственное преступление. На практике понятие
преступления против нации служило для обвинении политических против
ников, превращаемых таким обралом во врагов госуллргпм Вот почему
дать точное определение подобному преступлению было равносильно для
Учредительною собрания отказу подчиниться T]ic6omiihmm улицы, что ю-
зла л о бы для него опасность подвергнуться осуждению и последующим
репрессиям 5,) Проблема состоит не в том. чтобы <казать, спраиедчиы, бы-
ло или нет легализировать это орудие произвола, эти средство прекращении
политической оппозиции в преступников, а н том, чтобы понят», достатич
но ли было сильно Учредительное собрание летом 1789 г. особенно в як •••
для сопротивления нажиму, который на него окааымлея Власть Собрания
была еще слишком слабо обеспечена, чтобы ему не приходилось моги бы
делать вид, будто оно разделяет господствующие страсти. Оно вынуждено
было подчиняться. приспосабливаться к окружавшей его истерии, изо тех
сил стараясь сдерживать ее проявления и надеясь, что ре«|я»рма ннгтгутоп
и время успокоят страсти.
Сделанное 23 июля признание, что существуют нрегтупченнм прочив
нации, и наделение 21 октября трибунала Шатле ст типе шующимм пол
номочиями — это решения, принятые под давлением .ни п.ктелы тн Г,и<«
в проекте создании Верховного суда, окончательно внесенном 2 фгнра*.н
1790 г., понятие преступления против нации прямо ши де и. утшминл мн в,
а компетенция трибунала сводилась к ряду четко определенных деянии. что
означало разрыв с логикой революционных активистов, о гож дес гн лявшнч
любую оппозицию с преступлением.
Верховны»! суд был уполномочен заниматься •пр»ктупклм1< министров
и главных агентов исполнительной власти, а тнкже преступлениями. vip«
жакяпнмн общей безопасности государства, пи вынс< сини мкмн.дяп чьным
корпусом постановления об обвинении» Будучи эм грдордюыриым три
буналом. Верховный суд не был чрезвычайным судом в привычном с мы< ле
•( тагпк «ЗакЗД может устанйьлиидгь н*к«»лиия лишь стрпси и бдопцмп. игпЛт
днмыс. н ннкги не можгт быо. нйкдлдн иначе, хяк в iM-чу мк>ж«. н<длгжмуг пр»<мгнен».'но
надаюкик и обн..|м)ди|мн|«<.гь ди гопершеиня гц-лиьнарушгнич• (Д.жумг»пи и< горни Вглинии
ф|*лмцуж КОЙ pCXQAHlQHn I. I М.. 1^90 С 112) — Прим, перел
Murtuaci R Qu’e»i-cc que 11 Icte-rwUUMp Р 588
Конституция 179| г Раамл 3. Глава 5 Ст 23.
7’
84
Учреди тельное собрание между принципами и средствами
этого слова — в том смысле, в соответствии с которым Революционный
трибунал, согласно положениям закона от 22 прериаля II года (10 июня
1794 г), будет судом чрезвычайным. Верховный суд был судом экстраорди-
нарным, поскольку его приговоры нс подлежали ни апелляции, ни кассации.
В то же время он подчинялся нормам, гарантировавшим беспристрастность
вердикта. Кассационный трибунал направлял туда судей из своего состава;
все 166 присяжных большого жюри избирались народным голосованием.
Обвиняемый должен был предстать перед национальным представитель-
ством. выполнявшим функцию обвинительного жюри, а затем — перед
высокими судьями, обязанными вести расследование. Он мог пользоваться
помощью защитника и обладал правом без указания мотивов дать отвод
40 из 166 присяжных, а по мотивированному заявлению — еще части при-
сяжных, которые, в конце концов, должны были назначаться по жребию.
И, наконец, он имел право приглашать свидетелей защиты в неограниченном
количестве
Тем самым Учредительное собрание высказалось в поддержку норм,
максимально обеспечивавших презумпцию невиновности и право на защиту,
в это при том, что Верховный суд не мог быть по-настоящему независимым
трибуналом. Один из аргументов, выдвинутых де Панжем, гласил, что
ни один суд не может обладать большей легитимностью и более высо-
ким авторитетом, чем есть у Национального собрания, уполномоченного
выступать обвинителем, в результате чего обвинение неизбежно предрешит
приговор Сомнения в беспристрастности — таков, в действительно-
сти. удел любого суда по политическим делам. Суд пэров, судившим
в 1815 г. маршала Нея, а в 1816— 1835 гг. — многочисленных заговорщиков
и организаторов покушений, едва ли проявил больше справедливости и бес-
пристрастия, чем это мог сделать Верховный суд 1791 г., если бы довел
до конца дела, которыми занимался. К тому же Верховный суд 1791 г.
обладал такой характерной чертой, как более медленное ведение следствия,
чем у экстраординарных судов XIX в. Эта особенность, по крайней ме-
ре отчасти, определялась сложностью процедуры, порядок которой Туре
позаимствовал в проекте Синеса. Роберто Мартуччи полагает, что такая
сложность была избрана сознательно, дабы поставить дополнительное пре-
пятствие перед соблазном простого и быстрого политического правосудия
и. тем самым, фактически помешать преследованию за преступления против
нации, судопроизводство по которым увязло бы в трясине процедурных
формальностей Гипотеза правдоподобная. Учреждение Верховного суда
стало, таким образом, одним из первых образцов тех суровых и даже
ужасных законов, которые на самом деле принимались для того, чтобы
Collection det lob... Т. 11. Р 436—437
Pang* F.. de. Observations sur le crime de lese-nalion.
Martucci R. Qu'est-ce que la lese-nation? P 392—393
О миянии аристократических нравов
85
никогда не быть примененными. Так, закон от 20 апреля 1825 г. предусма-
тривал отсечение головы или вечную каторгу за святотатство по отношению
к П|>едметам культа. Это была уступка наибо,хее крайним требованиям
ультрароялистов эпохи Реставрации, однако применение закона было об-
ставлено столь драконовскими условиями, что он фактически оказался
не применим, ла никогда и не применялся.
Защита, которую Учредительное собрание обеспечило обвиняемым
в преступлениях против нация, как посредством установления открытой
и состязательной судебной процедуры, так и усложненностью всех эта-
пов следствия и суда, вызвала многочисленные критические высказывания,
особенно с весны 1792 г. Однако Законодательное собрание, пришедшее
на смену Учредительному в октябре 1791 г., уступило этой критике только
после 10 августа 1792 г., когда приняло небольшие дополнения, сокра-
тившие срок, в течение которого обвиняемый мог воспользоваться своим
правом на отвод присяжных и составлял список приглашаемых свидете-
лей защиты *6). Как известно, проблема была окончательно решена, когда
обвиняемых, готовившихся предстать перед Верховным судом, перерезали
в Версале 9 сентября 1792 г., через несколько дней после убийств, обагрив-
ших кровью парижские тюрьмы. Верховный суд, созданный в соответствии
с Конституцией 1791 г. и фактически закончивший свое существование
одновременно с нею 10 августа 1792 г., был официально ликвидирован
25 сентября.
О влиянии аристократических нравов
Первые три года Революции характеризовались разительными контра-
стами. С первых же месяцев террор поднимался повсюду, словно морской
прилив. Он шел снизу и отнюдь не был исключительно парижским фено-
меном, появившись одновременно и в провинции.
Это свидетельствовало о силе репрессивного порыва революционной
толпы в 1789 г. Он проявлялся в распространившейся повсюду навяз-
чивой идее заговора, которая, в свою очередь, подпитывала стремление
к показательным и быстрым карам, свободным от правовых ограничений
и призванным «вселить ужас в души преступников». Он выражался так-
же в предложениях создать органы чрезвычайной юстиции, что находило
отклик и в Учредительном собрании. Как мы видели, Комитет общей безо-
пасности еще не появился, но его прообразом стал Комитет расследован ни,
учрежденный в октябре Коммуной Парижа во имя общественного спасе-
ния. Террор не был делом одной лишь парижской толпы и революционных
активистов столицы: требование его ввести, порождаемое мнимыми или
См. доклад, представленный Жансонне 25 августа 1792 г.. Rcitnpre&Mon de I andrn
Moiiiicur (далее — Moniteur). P.. 1863—1870. 32 vol T. XIII. P. 532—533.
86 Учредительное собрание между принципами и средствами
реальными заговорами. выдвигалось во всех провинциях, как показывает
список разоблачений, поступавших в Комитет расследований Учредитель-
ного собрания s7\ Хотя поток террора, действительно, представляется неот-
делимым от революционных событий, тем не менее, надо подчеркнуть, что
первое время террор был делом рук толпы, чья способность мобилизоваться
с целью наказания v виновных», если и приводилась в действие мотивами,
связанными с Революцией, то своими глубинными корнями уходила в «ре-
прессивную» культуру, существовавшую задолго до Революции. И лишь
затем террор стал требованием революционных активистов в дистриктах,
Коммуне и, прежде всего, в клубах. Сначала он представлял собою народ-
ное действие, потом сюда же добавились устремления активистов, и лишь
затем нижние эшелоны революционной власти — муниципалитеты, дис-
трикты, реже администрации департаментов — взяли на вооружение его
методы для ликвидации оппозиции.
Это распространение террора происходило, в основном, с начала
1791 г.. когда предъявленное священнослужителям требование присяги
спровоцировало разрыв между Революцией и значительной частью обще-
ства. Местные революционные власти, часто по наущению клубов, предпри-
няли тогда первые террористические меры по отношению к неприсягнувшим
священникам или их сторонникам. Этот провинциальный прецедент объ-
ясняется рядом причин. Первая — удаленность от центральной власти,
которая к тому времени имела мало возможностей повлиять на местные
инициативы, поскольку сама была ослаблена. Вторая — дополнительные
обстоятельства, усугублявшие остроту конфликтов: к разногласиям, свя-
занным исключительно с революционными событиями, добавлялись споры
и соперничество местного происхождения. К двум указанным факторам
первостепенной важности надо добавить и то, что в провинции революцио-
неры находились в большей изоляции, чем в Париже, что вело к стихийному
формированию у них осадной психологии, побуждавшей к радикальным ре-
шениям И, наконец, надо заметить, что в ту пору идеи, в столице еще
остававшиеся высокой теорией, по мере удаления от центра превращались
в примитивные и грубые лозунги.
* ♦ *
Итак, связанный вначале с «архаизмом» народной ментальности, тер-
рор вскоре стал одним из средств революционной политики. Однако, имея
точечное и локальное применение, он по меньшей мере до лета 1791 г.
еще не превратился в политику Революции как таковой. После первых
месяцев, в ходе которых была достигнута весьма относительная и хруп-
кая стабилизация, и до того, как произошел великий поворот, вызванный
57>См.: Coillet Р. Op. ciL
О влиянии аристократически* нравов
бегством Людовика XVI в ночь с 20 на 21 нюня 1791 г., Учредительное
собрание в ответ на поступавшие со всех сторон требования чрезвычайных
мер против «предателей» и прочих «подозрительных* подчеркивало свою
приверженность законности и уважение к принципам. Это происходило
либо потому, что исчерпала себя политика уступок (криминализация оп-
позиции при помощи растяжимого понятия преступления протии нации),
на которые Собрание вынуждено шло. пока нс укрепило свою власть;
либо потому, что оно решило больше не прислушиваться к требованиям
радикалов. Так, узнав 24 февраля 1791 г. об аресте в Арне-ле-Дюк те-
ток Людовика XVI, покидавших Францию под предлогом празднования
Пасхи в Римс, оно постановило освободить их, заявив, что «ин один
из существующих законов королевства не щ>епятствует их свободному пу-
тешествию», и напомнило о праве каждого гражданина свободно выезжать
из страны. Распространяясь вширь, террор натолкнулся на преграду в лице
Учредительного собрания; он растекался понизу, не захватывая верхушку
государства и революционной власти.
Такая ситуация тем более уникальна, что Учредительное собрание
обладало властью для принятия тех мер. которых требовала улица Альбер
Матьез справедливо заметил, что оно было суверенным революционным
собранием, присвоившим себе «неограниченные полномочия во всех без
исключения сферах» Оно в равной степени обладало и законодатель-
ной, и исполнительной властью: министры обращались в его комитеты
вместо того, чтобы получать приказы от короля. Его полномочия были
не менее обширны, чем у будущего Конвента. Как и он. Учредительное
собрание реализовывало конституционные права, принадлежавшие нации,
оно было устами суверена, вернувшего себе независимость для заключении
нового общественного и политического договора. Поэтому оно не было
связано ни той законностью, что была унаследована от Старого порядка,
ни даже той, которую ему самому предстояло создать и которая долж-
на была связывать конституционные власти, признанные прийти ему
на смену. Если Учредительное собрание и подчинялось правовым нор-
мам. им самим установленным, и даже тем. что были созданы Старым
порядком (по крайней мере до того времени, пока их не отменило), то
делало это исключительно в силу самоограничения своем власти. Оно
могло все, но не позволяло себе хотеть всего. В качены иллнч трацин
можно привести предложение, внесенное Дюпоном де 1{смуром после
избрания его председателем Собрания 16 августа 1790 г. Это предло-
жение относится к регламенту Собрания, однако свидетельствует также
о позиции, добровольно занятой депутатами по отношению к законно-
сти:
Malhiez A I^a Revuluhon lraii<,atse cl la theorie de la dklature // Revue hittorique 1929
88 Учредительное собрание: между принципами и средствами
Руководствуясь исключительно уважением к себе. вы. 1ос1тола.
ввели за правило подчинение законам. без каст ни одно государство
не может существовать. Вы обязали меня следить за соблюдением тех
на них, которые вы. следуя этим благотворным убеждениям, установили
для себя самих. Я добросовестно исполню свой дом. В этом я буду
руководствоваться не собственной нолей, а постлракхъ подняться на вы-
соту нашей, коей вы меня облекли Вы выразили ее в своем регламенте;
именно там изложена ваша законная воля. Вы не собираетесь управлять
ни Францией, ни самими собой, следуя переменчивым и произвольным
прихотям. Если наш регламент <...> потребует каких-либо дополни-
тельных исправлении, я вынесу на ваш суд предложение о том, что
надо сделать для его исправления Вы примете решение и, если внесете
изменения, это будет уже новый закон, отвечающий духу вашей Консти-
туции. Это не будет акт произвола и деспотизма; вы можете отменить
закон, но не можете его нарушить <...> А пока ны не внесли изменений
в свой регламент, вы обязали себя и вы обязали меня не допускать его
нарушения посредством какого-либо рода исключений’^.
Подобное добровольное ограничение собственных полномочий особен-
но примечательно потому, что чем прочнее демократическая легитимность
власти, тем больше у той соблазна выйти за рамки права и законности,
когда к этому побуждают обстоятельства.
Обычно террор невольно ассоциируют с деспотизмом, и это справед-
ливо, поскольку деспот удержииает свою власть исключительно благодаря
порождаемому им страху. Поэтому ему необходимо терроризировать обще-
ство, дабы постоянно, как говорит Монтескье, убивать мужество и душить
в зародыше всякое честолюбие. Но и законные правительства, причем
даже те. которые имеют демократическую основу, также могут прибегать
к террору, хотя бы в виде исключения и в строго ограниченных преде-
лах и сроках. Однако чем более демократическую основу имеет власть,
использующая этот точечный террор, тем большей степени интенсивности
он способен достичь: ведь в таком случае применение силы фактически
опирается на всеобщую, по определению, волю нации и оказывается на-
правленным против устремлений, неизбежно имеющих частный характер,
сколь бы широка не была оппозиция. Республика, по крайней мере, согласно
французской традиции, берущей начало в Революции, является одним из та-
ких режимов, которые наиболее предрасположены к применению террора
против своих врагов Иллюстрацией этому служит Революция 1848 г.
В февральские дни Луи-Филипп, исчерпав все комбинации, имевшие це-
лью прийти к политическому разрешению кризиса, обратился к маршалу
Бюжо. Тот, имея богатый опыт «умиротворения» Алжира, предложил вос-
становить порядок в столице и хладнокровно сообщил цену, которую надо
Цит. по: Castuldo A Op cit. Р. 36—37.
60) См главу VII
О ллиямии аристократических нравов
89
заплатить за спасение короны, — двадцать тысяч убитых. Луи Филипп
отказался и потерял трон. Узнав несколько месяцев спустя <> кровавых
репрессиях, которые Вторая республика обрушила на восставших рабо-
чих «чнаининальных мастерских)», низложенный король в сердцах просил:
«•Везет же Республике! Она может приказывать стрелять в народ!
И действительно, республика (а Франция н 1789 г. была республикой
с монархической формой исполнительной власти) — иго та же нация, по от-
ношению к которой любая оппозиции есть не что иное, как частная ноля,
противопоставляющая себя общей воле. Во имя подобной легитимности
Коммуна 1871 г. будет утоплена в к^юви с такой свирепостью, позволить
себе которую какой-нибудь король тогда, конечно, мог, но лишь на свой
страх и риск.
Пытаясь объяснить самоограничение, наложенное на себя Учреди-
тельным собранием, нам могут напомнить о ситуации, которая между 1789
и 1791 гг., мол, никогда не была столь драматичной, как ситуация Конвента
в 1793 г. Но может ли различие в обстоятельствах объяснить разни-
цу в поведении этих двух собраний? Подобное объяснение не подходит
по нескольким причинам. 11режде всего, оно предлагает судить об остроте
ситуации 1789 г. через сопоставление с ситуацией, действительно, бо-
лее острой, но которая сложится позже. Далее, не следует заблуждаться
относительно влияния, которое могут оказывать «обстоятельствам на по-
литические решения. Поведение действующих лиц определяется нс объек-
тивными обстоятельствами, которые устанавливаются историком уже после
происшедшего события, а тем, как данные обстоятельства воспринимались
современниками, т. е. фактором исключительно субъективным. Важно знать
не то, существовала ли реальная опасность, а то, считали ли протагонисты
опасность реальной, или даже — было ли им полезно притворяться, что пни
верят в существование большой опасности. Объективно в 1789 г положение
не было столь тяжелым, как в 1793 г., когда страна подверглась иностран-
ному вторжению сразу с нескольких направлений, а власть столкнулась
с двойной угрозой — вооруженного восстания и недоверия народа. 11о рево-
люционеры 1789 г., естественно, не могли сравнивать свою ситуацию с тон.
в которой окажутся их преемники. Они чувствовали, что борются против
очень могущественных противников и что окружены опасностями (это и бы-
ло так, по крайней мерс, до 14 июля). Фактически в течение долгих ме< яцев
они жили с ощущением шаткости и ненадежности своего положения
Если чао и делает случай Учредительного собрания столь уникальным,
так эго именно то. что, несмотря на тревогу, периодически охватывавшую
его членов, оно ни разу не уступило этому чувству и нс пошло на те
60 Цит. no: Antoinclli С. Louie-Philippe. Р.. 1994. Р 919.
'•'См. Tuctatt 7 «Par la vulolite <lu people.: Comment le» deputes de 1789 «ml rievemi,
rcvnluJionnairee [1996]. P., 1997 P. 141-145.
6 Зак 1S5
90
Учредительное собрание.- между принципами и средствами
крайние решения, к которым его мог подтолкнуть страх и властью для
принятия которых оно обладало. Впрочем, в его рядах имелись сторонники,
и довольно многочисленные, принятия исключительных мер. предназначен-
ных для того, чтобы либо сломить оппозицию Революции (как предлагали
крайне левые), либо подавить брожение народа и пресечь популистскую
агитацию (как предлагали крайне правые). В этом Робеспьер и аббат Мори
были едины, объективно образуя союз крайностей, ставший с этого времени
почти неотъемлемой частью политической жизни Франции. В парламенте
призывы к исключительным мерам носили экстремистский характер. Наи-
более непримиримые из числа якобинцев и контрреволюционеров хотели
одних и тех же мер (хотя и с противоположными целями), таких, которые
помешали бы стабилизации политического положения и способствовали бы
продолжению революционной смуты, каковую большинство Собрания, на-
против. стремилось «закончить» как можно быстрее. 11оэтому-то прежде
всего из политических соображений Учредительное собрание к не позволяло
себе хотеть того, чего оно могло бы захотеть.
Из этого, однако, отнюдь не следует, что существовало умеренное
большинство. Учредительное собрание не было умеренным ни по своим
принципам, ни по своей политике. Овладев суверенитетом, оно в течение
нескольких недель разрушило существовавший строй к де-факто свергло мо-
нарха Старого порядка, чтобы затем восстановить его в качестве своего рода
наследного президента монархической республики, носителя ограниченной
власти, которая учреждена всеобщей волей и в осуществлении которой он
обязан следовать Конституции6^. А потому отнюдь не «умеренностью»
Учредительного собрания (противопоставляемой «радикализму» Конвента)
объясняется его принципиальное следование закону. Если Учредительное
собрание, действительно, в чем-то и проявляло «умеренность», так ис-
ключительно в выборе средств: существовал разительный контраст между
политической радикальностью Собрания и в то же время присущей ему
умеренностью методов.
Чтобы понять этот феномен, нужно, в действительности, взглянуть
на самих депутатов. Работы Эдны Аемэй поставили точку в продолжи-
тельных спорах историков Революции о характере Собрания, избранного
весной 1789 г.64^ Согласно историографической традиции, выражавшейся
Бёркам, а затем — Тэиом, депутаты Учредительного собрания, включая
политическом радикализме Учредительного собрания см.: Furd F., Halevi R
La Monardne republicans La Constitution de 1791. P.t 1996: Martucci R. 1789, la RepubUu
de» foglianli. Dal re danlico ггюте al pnmo luwiiwio dello Stalo // Stona. ammiiuMrazicn*
CofMftilttriooe. Annals delllrtitulo per la scknza dell'arnministrazione publkca. 1993. P. 61—106
Cm. Lemay L H La composition de I'Assemblee nationals conMiluanie: les hcmnwi
de ia continuHr? // Rcsue dluHoire moderns et contrmporainr. 1977. P. 341 — 363, Dictiunnaue
des constituent! / Sous dir E. H l^may P . 1991 2 vol ; Lemay F. 11 . Patrick A.. Fela j
Revolutionaries al Work. Tlir Constituents Assembly. 1789-1791 Oxford. 1996.
О влиянии арисгпокдотпичссних нрлгюп
кюре, дворян и представителей третьего сословия, были людьми посред-
ственными. как по своему социальному положению и политическому ппьггу,
так и по своему интеллектуальному уровню; привыкшие к отвлеченным раз-
мышлениям, несвязанным с практическими делами, они руководствовались
маниакальной приверженностью к принципам, из-за чего Пыли склонны
выносить и вещах абстрактные и безапелляционные суждения там. где
требовалось проявлять такт, чувство меры и склонность к компромиссу,
а потому строили свое поведение в соответствии скорее с принципами, неже-
ли обстоятельствами. «Подавляющее большинство [депутатов от третьего
сос/ловия], — утверждал Тэн вслед за Бёрком, — состояло из безвест-
ных адвокатов и юристов низшего ранга <...>, простых исполнителей,
замкнутых с юности в узких рамках повседневной судебной практики или
канцелярской рутины и не имевших оттуда иного выхода, кроме фило-
софских прогулок по воображаемым мирам в сопровожден»™ Руссо иди
Рейналя». Ни представители духовенства (меньшинство из примерно тпи-
десяти епископов не имело никакого влияния иа десятки приходских кюре,
питавших к ним ненависть), ни представители дворянства («большинство
провинциальных дворян было избрано в противоборстве с придворными
грандами») не могли изменить столь печального зрелища6^.
Новейшие исследования, по крайней мере отчасти, ставят под сомне-
ние эту мрачную картину. И не только потому, что депутаты от третьего
сословия не были в своем большинстве убогими сельскими стряпчими —
напротив, речь шла о людях, хорошо устроенных в обществе Старого по-
рядка, — но и потому, что в их рядах насчитывалось значительное число
лиц, занимавших различные должности в центральных или местных орга-
нах власти, т. е. тех, кого никак нельзя признать далекими от практической
деятельности. Дворянство также не было представлено лишь обедневшими
владельцами мелких поместий: там находился весь цвет общества Ста-
рого порядка, причем в такой степени, что список депутатов фактически
воспроизводил официальный перечень французской аристократии, рядом
с которой, действительно, находились многочисленные дворяне ис столь
известного происхождения 6г>) Генеральные штаты 1789 г. были в основном
собранием городским и даже слишком парижским собранием людей
в большинстве своем богатых, а если они до того времени н не имели
65) 'Лллс/7. Op. dt. ТЛ. Р.397.
Oraleurs de 1л Revolution (гап^адо Р. XV—XVIII, Это же подтперждает Ъккет три
четверти депутатов от дворянства косили титулы пэроь королевства, герциплв. мармиэиа.
|рафив или ба(юнов. которыми обладали лишь 4 % француз* кил дворян Титулы более 80%
депутатов второго сословия были получены до 1600 г , и в целом зпи люди обладали весьма
значительными состояниями. (Tackett Т Op, c»l Р. 34—40)
67И Jo меньшей мере 211 из 1315 депутатов в основном лили и столице, в том числе
половина предс гавителен днормнгтиа 75 % депутатов проживали в городах, тогда иэ* население
Франции на 82% были сельским (Ibid. Р. 29-30).
6*
92 Учредительное собрание: между принципа ни и средствами
опыта непосредственного участия о управлении государством, то уже про-
шли политическую школу в бурные 1787—1788 гг. (а иногда значительно
раньше), ставшие для нации или, по крайней мере, для ее элит в некотором
роде ускоренным курсом обучения тому, чего они ранее не знали66). Кроме
того, пословица не обманывает: дело формирует человека, по крайней мере,
в той же степени, в какой особенности человека оказывают влияние на вы-
полнение дела. Ни Наполеон, ни Тьер не выказывали гения, дремавшего
н них, пока обстоятельства не предоставили им возможность проявить себя
и не пробудили в них способности, о существовании которых они долгое
время и сами не подозревали.
Тезис о посредственности Учредительное собрания не только не под-
тверждается конкретными данными, но и связан с ошибкой, характерной
для ретроспективной оценки того или иного собрания и даже любой группы
людей, когда их членов рассматривают в совокупности. Нет ничего более
губительного, чем такой абстрактный и квантитативный подход, который
оперирует цифрами там, где речь идет о людях, особенно когда его применя-
ют к демократии. Скажем честно: «демократическая» история демократии
не имеет ни малейшего смысла. Однако именно такую погрешность допу-
стили Бёрк и Тэн (что в их случае имело определенный резон), а совсем
недавно — и Гнмоти Таккет, который в своей истории Учредительного
собрания провел статистическое исследование происхождения, образования
и уровня культуры депутатов. Конечно, демократия может устанавливать
равенство прав и возможностей влияния для членов политического объ-
единения, но она не может устранить того неравенства, которое природа
установила .между людьми. Если каждый из них как гражданин обладает со-
вершенно равными возможностями участвовать в выработке коллективного
решения, которое должно быть принято путем голосования, то естественные
и реально существующие различия в характерах, авторитете, красноречии,
влиятельности сохраняют свое значение в момент дискуссии, предшеству-
ющей голосованию. Здесь различия в происхождении, состоянии, прести-
же. таланте, обаянии, обходительности играют важную роль... Мирабо,
Ле Шапелье, Дюпор, Дюваль д'Эпремениль или герцог д’Эгийон — это
нс такие же депутаты, как остальные, не пять одинаковых атомов, которые
можно было заменить любым из их коллег. Мирабо, как справедливо писал
Олар, сам по себе был партией. В древних Афинах граждане считались
настолько равными, что многие должности заполнялись путем жеребьевки,
однако реальное управление было, тем не менее, уделом Перикла. В Гене-
ральных штатах, а затем в Учредительном собрании, заседало более 1300
депутатов, но история сохранила имена от силы сотни из них; остальные
*l^Tackell Т. Op al, Р. 74—110. См также Oiateurs de la Revolution fran^aisc; биогра-
фические сведения о Бсргассе, Буажелене, Клермон-Тоннере. Дювале д Эпрсмениле, Лалли-
Тшядале, Ле Шапелье, Мирабо. 1урэ и др.
О п.тянии ариетакратическил нраппя
93
молчали, слушали и, в конце концов, действовали, голосуя в соответствии
с мнением (оказавшимся решающим), которое, таким образом, становилось
законом.
Именно здесь, а также в социальном происхождении депутатов надо
искать объяснение способности Учредительного собрания к самоограни-
чению
В январе 1789 г. был объявлен порядок выборов в Генеральные штаты
по трем сословиям. На заседании Национального собрания 27 июня де-
путаты всех трех сословий постановили, что в результате их объединения,
произведенного по инициативе третьего сословия от 17 июня, депутатам
последнего отныне принадлежит половина мест, а духовенству и дворян-
ству — другая половина69). Это означало, что, несмотря па объединение
и превращение депутатов, избранных как от сословий, так и по отдельным
округам, в представителей всей нации, в Собрании сохранился изначаль-
ный депутатский состав трехсословных Штатов. Иными словами, и после
своей гибели Старый порядок в некотором роде находил отражение в ор-
ганизации национального представительства, которое, будучи юридически
организовано на основе принципов Революции, материально — по своему
составу — осталось слепком с прежнего сословного общества.
Подобная ситуация, созданная чисто случайным стечением обстоя-
тельств, имела фундаментальные последствия с точки зрения политики
Национальное собрание, олицетворявшее и осуществлявшее Революцию,
несло в себе свой «негатив», то, против чего оно боролось и с чем хотело
покончить, — общество Старого порядка. Оппозиция или, иными слова-
ми, контрреволюция, находилась не где-то вне Собрания, а в нем самом,
поскольку оно боролось с аристократией, имея аристократов в своих рядах.
Такое положение, определенное способом избрания депутатов Генеральных
штатов, создавало внутренние ограничения для полной реализации рево-
люционной воли, являвшиеся сдерживающим фактором. Благодаря этому
Учредительное собрание действовало в некотором роде как двухпалатный
парламент, где обе ветви власти — аристократическая и народная —
находились под одной крышей.
Против этого можно возразить, чго депутаты привилегированных < о-
словий почти не щюявляли уме; темности: большинство из них очень рано
стали прибегать к политике «чем хуже — тем лучше»» и даже, в донерше
нис всего, в 1791 г. блоки(ювались с наиболее радикальными якобинцами,
чтобы сорвать наметившийся конституционный компромисс между Собра-
В середине июля в Собрание входило 27ft депутатов от дворянства из 1177 депутатов,
чьи полномочия получили подтверждение, т. е. от силы 24 %. Однако, в действительности,
дворян там было гораздо больше, поскольку многие ил них были избраны <п духовенства
и даже от третьего сословия. Из 1 315 де путал ж, заседавших и 1789—1791 гг., не менее 465
вышли из рядов дворянства, т.е. 35 % (Tackdl Т. Op. cit. Р 27—31)
Q4
Учредительное собрание: нежлр прининпами и срслстналт
мигм и королем7*)). В частности. большинство депутатов от дворянства
относилось в|>аждсбно к новому порядку вещей, и лишь меньшая их часть
(около четверти) принадлежала к так наживаемому < хибсрлльиому дно-
рянству». столь дорогому для мадам дг С таль. Можно также добавить,
что уели, реально преследовавшиеся либеральными дворянами — лафпйе-
тами, мирабо. ламетами. лароиируко и прочими дюпорами — по меньшей
мерс. подозрительны. Похоже, глубинные мошны их деятельности, до-
поднявшиеся искренним желанием принести пользу и заменить даруемое
происхождением превосходство иным — основанным на заслугах и об-
щественном признании, состояли я том, чтобы взять реванш у монархии,
которая со времен Людовика XIV далеко отстранила их от управления госу-
дарственными делами. Возможно, ликвидации привилегий представлялась
им средством восстановить утраченное политическое влияние. Легальная
отмена их привилегии н почетных отличии, в действительности, нс должна
была помешать реальному политическому влиянию этих люден и могла
даже, благодаря ликвидации юридически закрепленных преимуществ, по-
высит!» их моральный авторитет. коему угрожало широко распространенное
в обществе раздражение против отличий, основанных на пронсхождеИНи.
В этом-то и состоит суть нашей мысли. Можно заметить, что влияние
дворян в Учредительном собрании значительно превосходило их числен-
ную пропорцию, когда речь шла о выборах председателя пли об участии
в дебатах. Хотя дворяне составляли около трети всех депутатов, из их
числа вышло 38 % председателей. Третье сословие дало наиболее часто
выступавших ораторов, в значительной степени потому, что из его рядов
назначались докладчики от комитетов; зато из дворян вышло большинство
наиболее ярких ораторов. тех. кто блестяще владел искусством красноречия
и устраивал настоящие спектакли для теснившейся па трибунах публики,
любившей ораторские поединки71). Аромат духов, напоминавший об изы-
сканности манер Старого порядка, плавал над парламентскими скамьями.
Ъ же относится к парламентской и политической жизни, обедам, прие-
мам, собраниям в салонах, где бывали депутаты от дворянства и третьего
сословия2). Все. вплоть до пристрастия Баранава к дуэлям на пистолетах
См : StfirH-Vicfof x/i‘. Op. cil. P 246—248
lacked Г Op, at P. P 20>. 214—222. 295-294. Бариав, депутат от третьего сослонни
я вдохновенным оратор огрюмного таланта, казался почти исключением по сравнению с Ми-
рабо, Дюпаром, Казалссом, Клермон- 1Ьннером и другими, вроде 1д\гйрлна. С церковной
кафгдры также сошли некоторых из великих ораторов эпохи, подобных Мори. См также:
Filii J П1Р limitR о/ Revolution: the opposition // Lemay E. I I . P.tlrkk A . Felix J. Rrvohitiondrica.
P 47-53. Дж. Феликс подчеркивает контраст между важным вкладом, внешшым дгсутл-
тамн-дворинамц в работу Учредительного собрании, и негативным политическим имиджем
дворянства из-за позиции последнего и маг—июне 1789 г.
См Dodu С Le Parlcnwntarisme rt It pdrleinentaiics sous !a Rcvolutiun (1789 -1799)
Onginrs du regime rcprcsehtaiil cn Frazier. P., 1911. P. 50 -62.
(*) нлмяннн тикрвтмческит нрлдпи
со своими главными оппонентами, спидгтсльстпбпа ю о сохранившемся пли
янин и притягательности аристократических ценностей и модели поведения
в этом С ибранни, кгггорпе в то же время методически рлзрушалп аристо-
кратическое общество но имя принципов демократии7^ 1лкнм i образом,
равенство, которое вне стен Собрания устанавливались «сличу» — путем
уничтожения аристократических нравов и ниспровержения прежнего по-
рядка. в с амом Собрании осуществи мкь «наверху»: это иг дворяне сочли
себя подобными третьему сословию, а наоборот, оно встало пл один уровень
с ними, исполнив гем самым мгчпу Целого поколения Дворянство явля-
лось одновременно и антиподом (antiprincipe) Революции, совершавшейся
во имя равсмстпн, и идеальной социальной моделью. 1 .го отмена привела
в сЦи-ре политики нс столько к ниспровержении} его ценностей, сколько к их
восприятию другими. Учредительное собрание сочетало с дсмокртгической
политикой внешний «аристократам в тоне. манерах, в тщательно соблюда
смой дистанции между общественной деятельностью и своим поведением,
привязанностями в частной жизни. 11одобпос заимствование никоим обра-
зом нс вело к умеренности н принципах7^, но располагали к умеренности
в средствах, к соблюдению той относительной учтивости в политических
спорах, которая в дальнейшем нашла продолжение в установлении сер-
дечных отношении между бывшими депутатами Учредительного собрания,
пуст даже принадлежавшими к нротиноборствующим партиям. Этим они
являли собой полную противоположность бывшим членам Конвента, не при-
мирившимся друг с другом и при Реставрации, поскольку их разделяли
слишком много трупов7*).
Иностранны не имеют понятия о столь хваленом шарме и б.мчке
парижского общества, — вспоминала мадам ле Сталь. — rt \н не мидели
Францию Двадцать лет назад. Однако можно Но прану скачать. что
никогда это общество не было столь блнетатгльным в имшовремгнно
Эта притягательность арнстокрлпгпчких мпнгр и усинскгген для гргтьнп сословии
ОДНОирСМГННП НЫЗЫГШЛД у ТОГО Р<!ЗД|Ч1ЖГН11С и комплекс 1<СПОЛН0иГНН>И.?М См Fwrl F.
BiHci'i R. La Monarchic rcpublitairw. P. 131 - 134
/4> Hr обходимо отказаться от двух симметрично npoiHNunuAtimHNX друг другу телиспи.
предложенных сеютнгте тнгнно 1знлм. который делал вывод п 1нн ргл« гцгикосгн итвх милей,
всходя из радикализма их принпипон, и 1иккетпм, который дглал выпнд об умцк*нн«»тн их
юг \ндпн, in ходя in принадлежнехти биштнктпа чм’ипв Учргдни львиго < <i6p.iitioi. дворикты
и перхушки третьего cin ишия. к Ahrr п6|цсггйа Crap^in порядка
•« После бурных дгпигналца nt м*т. - iuu вл лпб*п Грггуар и .М(-чуа|Юх". • синтип я
в живых члены Уч|и*лительного гобрлння считали себя одной irowM Свн»н между ними
крепли по мс|м- того, как они пн де ли. что смерть собирает и их рядах < нои? жатву 11 каноны бы
ни были различия п их убеждениях, их всех обг»сдиимло чуне тип \иажсг«ик и прньм.мнности друг
к другу. В згом отноигенин Конвент был П|хлиаололиж»н*стъю Уч|и ли(г чыюму собранию»
(Gregoire II В Mrinoiies. t <1 Н. Carnot. Р., 18П. 2 vol. Т I Р.425) О членах Кошч-гпа
н ссылке lm : Luztirto .S Mrruoire tie la Irnrur Vieux <4 iruuet republicащм
au XIXе Mrtle. L.yon, 1991.
96 У‘оч4umcif»Nt»e собрание: между npi/HnunrtMw и г рсд< ггппгии
столь же серьезным. как в течение первых трех мчи чггьци-х чет Револю-
ции — с 1788 и до конца 179 I гт. 11осхел1*ку пгдгнмг политических дгл
ш г еще находилось и руках иыешето класса, одни и тс же лица объеди-
няли к себе нею энергию свободы к иге и.чяшггпи» сырнпного политеса.
Люди третьего ссх лопин. <и чичлнпнкч я просит(ценнос тью и талантом,
присоединились к ятмм даорнпдм, которые бочыис гордились собствен-
ными м< лугами чем прхтиегнямн своего сословии <...>. Что делало
французское общество несколько легком ысленным, так эго развлечении
при монархии И вдруг к элегантности пристократни добавилась сила
свободы <.,.>. Это было, увы. в последний раз. когда французский
ум проявил себя во всем своем блеске. Эти было в последний раз.
а в некоторых отношениях и в первым, когда парижское общество сумело
продемонстри|х>мть подобное единение лучших умоя76).
В 17R9—1791 гг. перед нами предстает демократия, пак сказать, смяг-
ченная аристократическими обычаями и ценностями. В подобной ситуации
нет ничего исключительного. Она станет определяющей для французской
политики, по мгиъшен мере, до середины 1870-х гг. со всеми этими Ри-
шелье. Пакъс, Моле н Брольи (рядом с которыми какой-нибудь Тьер или
Гиво окажутся почти чужаками) — искренними приверженцами аристо-
кратии, даже если они и будут отрекаться от нее по имя демократии 77\
Это смягчение демократии аристократическими ценностями не помешает
н чрезвычайной ситуации отдать приказ стрелять п народ, если тот восста-
нет, однако в обычных обстоятельствах оно будет умиротворяюще влиять
на политические отношения, поскольку нравы будут уздой для демократи-
ческих страстен. Вот и террор, быстро набирая силу за стенами парламента
(где такой узды больше не существовало и где дне партии стояли лицом
к лицу, как армии воюющих стран), долгое время сдерживался внутри него
(где такая узда сохранялась в силу чисто конъюнктурных обстоятельств,
а именно благодаря формированию Генеральных штатов из трех сословий,
что заставляло обе партии, если и не соглашаться друг с другом, то,
по меньшей мере, сосуществовать).
Собрание под надзором?
Утверждение, что Учредительное собрание никогда не прибегало к тер-
рору, равносильно констатации, что к этому его не принудили ни мснь-
Slacl А /..С., с/г. ('onsi<leoth«His wn la Revolution [ 18181. I\ 228—229
7;^ Лучше iRfiot McuiaHiiiMH характер nctAinirirc кий жимнн XIX н ШЖ&мн Шлрчем Рсмкш
(Я/rnuiof Ch. Мгпкнгга tic ma vic / f • । CI'i Poulhas P , 1958 5 vol ) Вп|н»чсм. демикрл-
DincrKiix пбщегп» оообщг х»1|мктг).«1ю ппс хищение лрк тпкрлхилмом. как енкдгге чышугг счшт
отношений Амермк.нщсис маркизом Лафайетом к период его учат гин и Воине ди немш».пм«*п
(см Кгнтег L. Lafayrilr ш luo World* Рп!»1и Culture* and iVraobul Identifies in An
of Revolution. ( haj>el I Ы1 l.onduii. 1996).
Соб/чтнне fh>j надлп^и'м-1
цпшетно ci4> гобстяешпях членпн. ни даялсниг ИАпне Сопротивление С о-
браним нажиму, который оказывался на нет с целью заставить принять
жесткие меры по отношению к противникам Революции, злетанляет наг
более подробно рассмотр’тъ вопрос о влиянии на его работу актнниого
парламентского меньшинств* и запплиянтсн трибуны публики. .*4го вопрос
прогиноречинын. Многие историки подчеркивали. что члены Учредительно
го собрания, непрестанно подвергаясь давлению и даже утро адм, обсуждали
и принимали законы «под гнетом» горсти радикальных депутаток, силь-
ных поддержкой своры крикунов, которую они по своему желанию могли
удержать или спустить на оппонентов. Снова обратимся к Теку:
Лсныс приняли свое решение; их фанаткам чужд какой-либо щепе-
тильности; pe»ib идет о принципах. об абсолютной истине; необходимо,
чтобы она восторжсстновалп любой ценой. Впрочем, рачы можно со
мнеплтын п том. обращаться ли к идрилу в народном деле? Некоторое
принуждение будет пплсаио для правого дела: Вот почему си лда СпЦчшия
возобновляется день яа днем ;н|.
Чтобы проиллюстрировать роль активного меиыцкнетна. можно рас
смотреть деятельность Бретонского клуба на протяжении первых месяцев
Революции, с начала работы Генеральных штатов в мае и до пргдпол.ндс
мого роспуска этого клуба в августе.
Основанный депутатами от третьего сословия |м Вретдни, клуб ироне л
снос первое заседание в Версале 30 апреля, т. с. за неделю до официаль-
ного открытая Генеральных штатов, назначенного на 5 мая ?ЧГ Речь шла
не о простой неформальной встрече депутатов от провинции, подобной
тем. которые стали проводить по приезде в Версаль некоторые другие
делегации, например, из Дофине, Оверни или Анжу, а о структурирован
нон организации. И хотя сразу дело нс дошло до принятии устава или
протоколирования выступлений, очень скоро стали избирать председателя,
а обсуждение различных вопросов велось с целью создать условия д*н
солидарного голосования к,4 Бретонский клуб не бьи «обществом мысли*»,
от черт которого Якобинскому клубу так до конца в не удалец ь избавиться,
а организованной парламентской паргигй. сплоченной на осниие общих
принципов и заранее намеченной стратегии Ограничив св» й состав одними
лишь депутатами, Клуб ус граи и д\ заседания нескольких видов ил тех что
lainc Н Les Ohkhws Jc L Hancr сои1г|П|1пглпи* 1 I P 404 40S
Чм. пшь.ма Дгчаинмн Лг Py (Dclsvillc l.< Hiiul.x), впубАШатаЮШК Pc»w Kq•nn.w (Rene
Kcrvilri). Kethriiho rl holier* mn Irs drptilrs dr la B;< higne an’ rUO grnriaux н 41 -kurinbUr
Hdlinndlr coiishluaiitr dr 1789 Ц Rrvur luMoiiqur dr I Onewi 188 » -1389 I . II P И6 - 42.
MH v r .
I’blAil ДОС гмгнугл ДП1 OtUipriIHlKTY» ДЦОЫ hlUAi'AKlt. II* Ml Г Данн С I HiqkM bill'll
нпатпа с единым мнением депутатин нт П|1<тннц>1н. каприсы, поднимагмЫе я I гиграАЪиых
штатах, и rv»r же день ынуждно» па соСццншн брстницев П|Л*<Я»хлдшющее мнение будет
НЫ|»amcit»i |в IrHqmxhHbix mtairti] одним на членов юых> .••И|-лнмм н нпддгпжацо другими*
(№)
Учредительное собрание: между принципами и средствами
посвящались делам провинции, присутствовали только депутаты-бретонцы;
на те, что посвящались делам королевства в целом, бретонцы приглашали
депутатов и на других провинций: и, наконец, остальные заседания были
открыты для всех депутатов, кто пожелает. Именно на собраниях второго
типа определялась позиция по различным вопросам и намечалась общая
стратегия, реализуемая затем на пленарных заседаниях. Кроме того, по-
добная структура, состоявшая из двух кругов участников — замкнутого
и открытого, позволяла Бретонскому клубу сохранять свою политическую
целостность, даже несмотря на то, что проведение открытых заседаний,
всегда посещавшихся большим числом депутатов, было чревато для него
риском утраты внутреннего единства и эффективности действий, т. е. имен-
но того, что и привлекало к нему внимание SI\ Состав этого узкого круга
недостаточно изучен. В него входило, естественно, большинство бретон-
ских депутатов, в том числе Ланжюине, Ле Шапелье и Королле. но также
и представители других провинций, которые, похоже, менялись по мере
развития событий. Сийес, Мунье и Мирабо, чье участие было весьма за-
метным в середине мая. позднее отдалились от клуба, когда там появились
Барнан, возможно, Робеспьер, а позднее — Ламеты и герцог д’Эгийон8^.
Эта своеобразная организация сыграла важную роль в ключевые мо-
менты тех событий. которые в течение трех месяцев привели к захвату
народом суверенитета и к ликвидации общества Старого порядка. 10 июня,
когда третье сословие решило начать общую проверку полномочий депутатов
всех трех сословий и потребовало от двух первых, чтобы они присоеди-
нились к нему; 17 июня, когда депутаты третьего сословия провозгласили
себя «Национальным собранием»; 23 июня, когда после королевского за-
седания депутаты отказались разделиться по сословиям, как им приказал
король; и, наконец. 4 августа, когда произошла отмена привилегий. Каждое
из этих решений было намечено и стратегия выверена на подготовительных
заседаниях Бретонского клуба8,\
Из целенаправленного характера революционного разрыва не следу-
ет ли сделать вывод, что организованное меньшинство в Собрании вело
за собой большинство, используя как манипулирование, так и запугива-
ние, дабы навязать свою точку зрения? Некоторые свидетельства говорят
в пользу этого. Наиболее известное принадлежит аббату Грегуару, который
Дюбуа-Крансе утосржддсг. что н начале июня Бретонский клуб стал ветром иГгьгдн-
неяня «всех депутатов, считавших себя защитниками >гарода»> Цнт. no: Recueil d<‘ dociiimiits
pour ГЬыойе du dub des Jacobins de Paris / Ed A Aulard. P., 1889- 1897 6 vol Г. I.
P Xl-Xll.
О членах Клуба бретонского происхождении см Ktrvilcr R Op. ci! Присутствие
Робеспьера предполагается. если нс утзсрждл^ся, первым помощником Нсккера Коттером
12 м.ы в дневнике, который он пел по заданию министра (Ксзьс! Р La Nutt du 4 aoiih
P.. P69. P.88).
яодтотойке ночного заседания 4 августа см.: Ibid Р. 119 — 132.
Собрание пол надпорет)
99
вспоминает в своих «.Мемуарах*», как накануне ко^юлгш кого заседания
человек 15 членов Бретонского клуба собрались и решили. что Собрание
не разделится по сословиям, несмотря на приказы короля: *Нп каким обра-
зом, — спросил кто-то, — желание 12— Г) лиц может определить поведение
12 сотен депутатов? Ему ответили, что безличные обороты обладают маги-
ческой силой (la particule on a une force magique) Мы скажем „Вот, что
должен сделать двор, а среди патриотов уже условлено принять такие-то
меры (parmi les patriots, on est convenu de idles measures).. * Усюнясио
может предполагать и четыреста человек, и десять. Уловка удалась» ft4*
Свидетельство откровенное, но сделанное много лет спустя... К то-
му же современники этого события все. равно утверждают, что решение
было принято на проведенном накануне в Бретонском клубе со6(>анми,
которое было более многолюдным, чем упоминает Г|»егуарм^. Болес убе-
дительны свидетельства относительно заседаний 15-17 июня, на которых
депутаты третьего сословия провозгласили себя Национальным собрани-
ем: члены Бретонского клуба циркулировали по залу, оказывая давление
на колеблющихся, побуждали трибуны оскорблять и запугивать сторон-
ников компромисса с двумя первыми сословиями, а накануне решающего
голосования распространили списки «плохих депутатов» Именно подоб-
ные способы устрашения, по мнению Мунье. и привели к тому, что
число депутатов, как и он выступавших против того, чтобы именовать-
ся «Национальным собранием», сокращалось прямо на глазах: 16 ню-
ня их насчитывалось две сотни, а в момент голосования - не более
90 человек 86 \
Почти не вызывает сомнений то, что устрашение колеблющихся и оп-
понентов имело место, особенно при содействии трибун. Вот почему члены
Бретонского клуба, желая иметь возможность для максимального исполь-
зования этого ресурса, выказывали особую приверженность тем способам
обсуждения, которые обеспечивали наибольшую огласку индивидуальным
мнениям и позволяли более эффективно контролировать депутаток. 1ак.
они предпочитали обсуждать вопросы на общем собрании, а не по от-
дельным бюро, голосовать устно и поименно, а нс вставая с мест8'1.
Н4) Gregoire Н В. Op. cil. Т I. Р. 380
80 Kcw/P. Op. di. Р. 349-150.
4/11 Ibid. Р. 101. См. ТНКЖГ свидетельства Ж. Ж. Мунье. Ж. С Ьнйи м ') Дюмона.
Mourner ] J Expose de ma conduitc dans I Assembler nalEnalc [ 17891 // Orale.urs dr Ь Reviihiikm
fran^aise P. 911—912, Mailly J.S. Mrmows dun (rniom de la Revolution. ou jotirn.d dee bits
qui se sonl pasers sous men yeux et qtti »nl pirpare et Gxr la Coushhilinn irtuifanl. P.. «ш XII
[ 1803- 1804] 3 vol T. I P. 179-180; Dumont £. Souvenirs wr Mirabeau el sur les deux
premiere's rtssemblces legislatives / Cd. J Bcnehuy. P.. 1950. P 68. 256 note.
8 Об изначальном делении Собрания на бюро и упадке arvw системы, счмтаыоейся
слишком благан(л1ятной для умеренных, в |>сэультаге кглгршетунленмя чных а конце июля
1789 г см. выше сноску 9. По мнении» Мунье, упадком системы бюро сбъмняскй, ио меньшей
100 Учредите.*! иное собрание иемдр принципами । • рблггиж)ми
«Наиболее разумным и действенным средством н<-пользовавшимся патри-
отами н Учредительном собрании. — ясломипа* позднее Дюбуа-Крансе,
член Бретонского клуба, а затем якпбинсц, — <>ыл« т|>е(ювание поименного
голосования по всем важным декретам. <...> Поименное голосование —
средство законное н безупречное, оно пресекает колебания и является
противоядием от позорной продажности и от опасной анонимности, кото-
рая ей так хорошо служит*» ОД. Иными слонами, своего рода террор без
насилия.
Гипотеза, объясняющая революционные решения Учредительного со-
брания запугиванием и манипулированием, базируется, однако, на одном
постулате — убеждении, что члены Собрания имели в большинстве своем
умеренные взгляды, а потому их необходимо было запугивать и на них
необходимо было влиять, чтобы заставить следовать за радикальным мень-
шинством. Это радикальное меньшинство, действительно, существовало.
Одной из причин его возникновения стал тот особенно острый характер,
который в П|юдшествующую зиму приобрел в Бретани конфликт по про-
цедурным вопросам созыва и работы Генеральных штатов1*9). С одной
стороны, спор шел о том, выбирать депутатов от провинции как в 1614 г.,
т. е. — на штатах Бретани, или, напротив. — в городах и сельских приходах;
с другой стороны, — удваивать ли представительство от третьего сосло-
вия и как голосовать депутатам в Генеральных штатах — индивидуально
или по сословиям. Этот конфликт, вызвавший ожесточенные столкновения
на улицах Ренна в январе 1789 г. и заставивший патриотов самоорга-
низоваться, весьма радикализировал позиции обеих партий. Бретонское
дворянство решило не участвовать в Генеральных штатах, тогда как па-
триоты для обоснования своих требований использовали идеи, развитые
аббатом Сийесом в брошюре «Что такое третье сословие?», и заявили,
что нацию образует лишь третье сословие, а потому депутаты, избранные
в Бретани только им. могут законно представлять всю провинциюБре-
тонские депутаты прибыли в Версаль, имея гораздо больше опыта борьбы
мере отчасти. сентябрьское пораженке монархистов в вопросе о королевском вето (Mounter/ /
Rccherrhes sur les causes qui ont empeche les Fran^ais de devenir hbre, et sur les moyens qui leur
festrnt pour acquerir la libertt Geneve; P . 1792. 2 vol T. 11 P. 13).
в8) Цнт. no: lung Th L’Armce et la Revolution: Dubois-Crance. 1747-1814. PM 1884. 2 vol
T. I. P 213-214. О последствиях применения поименного голосования см. также письмо
а(>бата Шевалье, депутата от духовенства Нанта: Keruiler R. Op. cit. Vol. 1. P. 489-490.
8^См.. Dupuy R. Op cit.
*»Cm наказ третьего сословия Ренна. отредактированный Лаижкжне: <»В силу пагубного
заблуждения, то. что называют третьим сословием (tiers flat) и что составляет более 99%
нации, квалифицируется как сословие (otdnj и приравнено к двум классам привилегированных
С атим заблуждением должно быть покончено, и то, что до сих пор называлось третьим
сословием, станет в королевстве (вместе с привилегированными или без) народом или нацией
и будет называться именно так, ибо только такие наименования правильны и отвечаюг
достоинству народа» (Kerviler R. Op. al. Vol, IV. P. 131).
Собрание под мадаодом?
и навыков формирования революционной организации, чем большинство
их коллег У них была также готовая политическая программа, содержание
которой они заимствовали из памфлета Снисса и которая представляла
собой стратегию риэрыпа с привилегированными сословиями. 3 мая, те.
еще до открытия работы Генеральных штатов. б|итонским депутат Де-
лавнлль Ле Ру писал, что он и его коллеги решили «испробовать все
Средства убеждения, чтобы уговорить два (первых) сословия поддержать
предложение [третьего] об индивидуальном голосовании, и, если тг будут
упорствовать в своем сопротивлении столь важному требованию, дей-
ствовать решительно, объявив, что депутаты третьего сословия, которое
в основном и составляет нацию, обеспечат в Гейера \ьных штатах подлинное
представительство всему королевству»9^ Это вредное хищение сценария,
развивавшегося на протяжении долгих недель, начиная с открытия Штатов
5 мая и до принятия 10 июня третьим сословием решения качать общую
проверку полномочий депутатов даже при отсутствии представителен пер-
вых двух сословий. Хотя бретонские депутаты никогда не ставили под
сомнение авторитет королевской власти, и хотя, по их мнению, прана нации
нс могли аннулировать особые права и привилегии их Провинции, тем нг мг
нее, претензиям привилегированных они противопоставили именно идею
Синеса, вероятно, даже не представляя всех последствий этого92).
Возможно, когда Штаты собрались 5 мая, среди депугагон третьего
сословия не существовало никакого большинства, настроенно! о на конфликт
и разрыв с привилегированными. Большине гво склонялось к поиску догово-
ренности, к взаимному согласию, символом которого вскоре станет Муны
Из двух имевшихся моделей проведения политических преобразований —
бретонской, основанной на конфронтации и разрыве, и до» | »ин уа ас кой, осно-
ванной, напротив, на сотрудничестве кегх трех сословий, — большинство
депутатов склонялось ко второй. В мае Ле Шапслье, один из лидеров
Бретонского клуба, дважды потерпел неудачу (14-го, а затем 28-го числа),
ратуя за разрыв, случившийся, в конце концов, 10 июня.
(1а самом деле, именно непреклоншитъ большинства депутатов от дво-
рянства и значительной части депугагон от духовенства, а затем 9 июня
провал попыток прийти к договоренности на конференциях представите-
лей трех сословий вынудили отойти в сторону сторонников компромисса
М1ИЬк1. Vol II Р 317
' Бретонские депутаты т(»етье|т> сословия получили от своих нзби|>агглен поручение
«тщательно охранять прана и свободы Б|>етлнн». * Таким образом, ври оежнмиии Бретон* косо
клуба унажгпне к традиции тесно соседствовало со стремлением к ношонг. особые прапа
корпорации н сообщес тв — с прпаол» нации. Старый порядок — с Революцией • (C^ucnilfcy Р..
Halevi R Clubs ct eocietcs populaircs // Dtclioniiaire critiqiie de la Revolution franchise. P. 495)
Эта изначальная двусмысленность, несомненно, способе питала сохранению относ отельной
сплоченности бретонской делегации, часть ч^чсноа kotojxjh была далеко нс стиль решительно
наст|юена, как Ланжюнне и Ле Шаиелье (Ibid ),
Учредительное собрание, иежду принципа чи и средства ми
и оставили лицом к лицу непримиримых из обоих лагерей, что спровоциро-
вало переход большинства депутатов третьего сословия на сторону партии
разрыва. Неудача примирительных конференции поставила представителей
третьего сословия в такое же положение, в котором находились их бре-
тонские коллеги в янва(>е. В письме от 5 июня Булле правильно объясняет
рост посещаемости Бретонского клуба «ситуацией, 8 которой мы находимся
и которая не отличается от той. что была создана в Бретани дворянством
и духовенством» 93\
Таким образом, эффективность действий Бретонского клуба 10-го,
а затем 17 июня определялась не столько его способностью к манипулиро-
ванию или запугиванию, сколько тем, что логика конфронтации, в конечном
счете, возобладала над логикой переговоров. Это не меньшинство силой или
хитростью увлекло за собой большинство, а само большинство радикали-
зировалось. Кроме того, когда Мунье оценивает число своих сторонников
16 нюня как 200 из 600 депутатов третьего сословия, он признает сла-
бость умеренной партии и подтверждает, что большинство уже склонилось
в пользу провозглашения третьим сословием себя в качестве Национального
собрания. Основная причина успеха Бретонского клуба скрывается в со-
четании частного опыта и общенационального контекста. Первый, в силу
того, что имел место ранее, несомненно, дал Клубу возможность обер-
нуть ситуацию к своей выгоде, но не он создал ее. Более того, члены
Бретонского клуба сумели, благодаря своему опыту; своей организации и,
надо признать, отсутствию щепетильности, воспользоваться радикализаци-
ей третьего сословия, независимо от какого-либо манипулирования. «Тот,
кто хочет объяснить революцию действиями тайных махинаторов, соверша-
ет большую ошибку, — справедливо замечает Этьен Дюмон. — Это не они
создали общее умонастроение, они лишь воспользовались им»94\
Следовательно, проблема, связанная с актами запугивания, вполне ре-
альными — дело даже дошло до подстрекания к забрасыванию камнями
парижского архиепископа Жюинье 24 июня95\ — состоит не в том, что
большинство подавлялось организованным меньшинством, а в подавлении
меньшинства большинством. Посягательству подверглось право меньшин-
ства свободно выражать свое мнение. Депутат от Бар-ле-Дюк Дюкенуа
констатировал это 16 июня «К тому же, — писал он своим избирате-
лям, — необходимо соблюдать величайшую осторожность, и, если кто-то
нс разделяет мнения подавляющего большинства, возможно, ему лучше
^KeruilcrR.Op.cit ШП. Р.323.
Dwnvffl Ё, Op. СИ, Р. 101
Об этом деле см ; Kessel Р. Op. cil Р. 104-105. о роли бретонского депутата Кирилле
см. показания, полученные при расследовании октябрьских беспорядков 1789 г.: Procedure
crim me Ik, intfruite au Challei de Paris, sur id denunciation drs fails arrives a Versailles dans
la jouniee du 6 octobre 1789 P.. 1790. Pi !, P 182-183, 191, 235
Собрание по J мал лором? 103
промолчат!», нежели перчить. не имея надежды на успех и компрометируя
себя лично»
Устрашение (шиканье, угрозы, публичные обвинения и даже акты
агрессин) имело целью не столько принудить большинство к чему-либо,
сколько помешать меньшинству выражать свое мнение. 1г кт прибегал
к запугиванью, хотели представить то ихн иное решение, пусть лаже
поддержанное большинством, как единодушное, выражающее волю народа,
которая неизбежно едина. В данном отношении нажим и запугивание,
реально имевшие место, отражали общее для того времени проставление
о целостности и неделимости политического пространства, исключавшее
или, по меньшей мере, ставившее под сомнение легитимность расхождений
во взглядах. Здесь Бретонский клуб предвосхитил одну из основных
черт якобимизма — неприятие во имя единства народа ли Aim различия
во взглядах, что находило воплощение в стремлении доминирующей партии
к гегемонии.
♦ * *
В этом давлении на меньшинство важную роль играли трибуны97^.
Публика активно участвовала в парламентских дебатах аплодисментами,
выкриками, угрозами и даже побоями, которые наноси \ш ь порой некоторым
правым депутатам при выходе из зала. Происходившее в Умилительном
собрании часто являло собою зрелище, имевшее мало общего с обстановкой
спокойной рассудительности, в коей проходили прения в филадельфийском
Конвенте. Так, Г. Моррис писал Вашингтону в январе 1790 г..
Большая часть времени уходит на крики и вопли (такова их ма-
нера ГОВОрИТь). Те. КТО ХОЧеТ ВЫСТУПИТЬ. ВНОСЯТ СНОГ ими н список.
Их заслушивают в том порядке, в kotojxjm написаны н.х имена, < » хи.
конечно, другие желают их слушать. Ио те ч»сго .*пко не хотят и < по-
йми разговорами создают непрерывный шум. пока оратор не п кин» г
трибуну...<JB)
Не надо, однако, абсолютизировать влияние публики и 6г< порядка
на ход пренийШумные заседания проходили бел каких \нбо правил,
и хотя теснившаяся на трибунах публика. д< ш тин ггчию, ц<- штгдл со-
блюдала тишину, необходимую для свободной) обсуждении. • •поделенный
беспорядок, определенное волнение были неизбежны для собрания, впервые
) Цицишюу A Journal мп I Assemble conslUuaule. 3 дни 1789 1 он! 17’10 /
Ed. dr Crcvecouer. Р., 1Н94 2 vol. Т. 1. Р. КН (ну^кио мой. — // Г)
*' ‘ Оганы» de la Revuluuun Iraacaise. P.XXX -XXX\ II
f>l [Mdrrii G.] Jmmial de Gouvrrneur Mums pen Jani les anneet 1789, 1/90. 1791 н 1792 /
Ed. E РапмЧ. P.( 1901. P. 345.
Cm Caslaldo .4. Op. cil. P 303-306.
Учрелктсльмос собрание: между принципами и к . сдствалт
обретавшего опыт демократических и публичных прении иК>>. К тому же си-
стемати ’егкая поддержка, оказываемая публикой .v-ныч ораторам, никогда
не препятствовала ораторам правых высказывать свое мнение. Можно даже
подумать, что шиканы1 публики только распаляло таких бойцов с правой
стороны. как Мирабо-Тон но или Мори С другой стороны. тот с|*акт. что
с начала 1791 г. публика стала оказывать шумную поддержку крошечной
группе крайне левых, никак не повлиял на распределение голосов в Со-
брании: отныне трибуны освистывали Варнава, но большинство депутатов
продолжало его поддерживать, тогда как Робеспьер или I 1етион, несмотря
на аплодисменты, не могли провести даже самого незначительного предло-
жения. Правда, в последние месяцы работы Собрания Робеспьеру удалось
одержать две крайне важные парламентские победы: первую — 7 апреля
1791 г., когда он провел декрет о невозможности совмещать обязанно-
сти депутата и министра в о запрете депутатам занимать министерскую
должность в течение четырех лет после истечения их полномочий; вто-
рую — 16 мая 1791 г., когда он добился запрета депутатам Учредительного
собрания избираться в следующее Законодательное собрание. Это были
решающие политические победы, но они были достигнуты нс благодаря
поддержке трибун. а благодаря голосам правых, сделавших тогда выбор
в пользу политики усугубления ситуации.
Ограниченное влияние трибун на парламентские решения объясняется
несколькими факторами. Если Собрание по-прежнему было местом, где
разворачивалось действо Революции, то совсем не обязательно, что оно.
по крайней мере, с осени 1790 г. оставалось реальным центром власти.
На самом деле он постепенно смещался в комитеты I Национального собра-
ния. Наделенные вначале техническими функциями и ежемесячно обновля-
емые, комитеты мало-помалу присваивали себе политические полномочия,
пока не стали фактически бессменными, состоявшими из специалистов,
с коими депутаты должны были обсуждать готовившиеся доклады и зако-
нопроекты, прежде чем вынести те на одобрение Собрания, повестку дня
которого также определяли комитеты. Члены наиболее важных комитетов,
особенно Конституционного, вскоре образовали настоящее правительство
Франции, занимаясь как законодательной деятельностью, так и вопросами,
входившими в компетенцию исполнительной власти. В конце 1790 г. уже
в полной мерс установилось «правление комитетов», которое позже осудил
Робеспьер и при котором роль Собрания часто сводилась к функциям
регистрационной палаты. Реальная власть постепенно сосредотачивалась
за пределами пленарных заседаний Собрания.
Имела место и другая причина относительного бессилия трибун,
а именно — сохранявшаяся до июля 1791 г. связь между Учредительным
См замечания Мирабо на сем счет: Caslaldo A Op cit. Р. 373.
Поворот 1791 года 105
собранием и Обществом друзей Конституции101 \ появившимся на свет
в конце 1789 г. С нача\а 1790 г. его состав, первое время нскмочнтельно
депутатский, стал расширяться за счет приема и других лиц, впрочем,
тщательно отбираемых, таких, как Кондорсе или Артур Юнг. В ту пору
Якобинский клуб был мало похож на Бретонский клуб лета 1789 г.
В отличие от последнего, он представлял собой не столько партию, объ-
единенную четкой политической программой и дисциплиной голосования,
сколько ^общество мысли», внутри которого сосуществовали очень разные
течения и единственным кредо которого была приверженность принципам
1789 г. Лишенное политической сплоченности. Общество друзей Консти-
туции в то же время обладало большим авторитетом, символизируя собою
Национальное собрание за вычетом врагов Революции Вот почему очень
скоро ему стали поступать от провинциальных клубов просьбы о при-
соединении и аффилиацми. Расширение членского состава и образование
сети филиалов по всей стране способствовал и тому, что Общество яко-
бинцев стало уже не просто символом «патриотической* партии Собрания,
а олицетворением самой Революции. Несомненно, возраставший престиж
якобинского движения имел и свою оборотную сторону. За это пришлось
платить усилением политической разнородности по мере увеличения числа
членов и филиалов. И все же, несмотря на подобные перемены. Клуб
по-прежнему оставался под контролем депутатов и, согласно своему уставу,
разделял позицию Собрания. Этот устав гласил, что. поскольку задачей
Общества является обсуждение вопросов, вносимых в повестку дня Наци-
онального собрания, Общество обязано подчиниться закону, как только он
принят, и приложить все усилия для проведения его в жизнь. Это правило
не допускало никаких отступлений, даже если накануне голосования клуб
имел позицию, отличную от той, которую заняло Собрание.
Поворот 1791 года
Все переменилось 15 июля 1791 г., когда якобинцы, вопреки резолюции
Собрания, подтвердившей конституционную неприкосновенность Люде ни-
ка XVI, решили продолжить дебаты о низложении бежавшего Короля.
За исключением пяти крайне левых депутатов, асе парламентарии,
являвшиеся членами клуба, покинули здание монастыря якобинцев, чтобы
основать новое общество в монастыре фельянон. Этот уход был политичес-
ки недальновидным шагом, поскольку оставил внепарламентским радикаль-
ным силам не только помещение на улице Сент-Оноре, но и наименование,
являвшееся в глазах общественного мнения символом патриотизма Ре-
волюционная легитимность, воплощенная в Якобинском клубе, с этого
Ю|) Cneni//ey Р.. Haliui R. Op. cit. Р. 500
Учредительное собрание: между принципами и средствами
— . ----------------------------- -------------- —=ag
ячмени отделяется от революционной законности, олицетворявшейся На-
циональным собранием10-). Правда, ситуация оставалась неопределенной
на протяжении всего лета, пока Якобинский клуб, подвергшийся чистке
и реорганизации под руководством Робеспьера и Бриссо, не приступил
к восстановлению контроля над сетью филиалов. К концу сентября, ко-
гда Законодательное собрание готовилось начать свою работу, сложилась
совершенно новая расстановка сил. Собрание как носитель легальности
противостояло Якобинскому клубу, который был уже не вспомогательным
инструментом национального представительства, а как бы контр-Собра-
нмем. обладавшим правом не только обсуждать «подлежащие принятию
законы», но н полномочиями осуществлять цензуру над принятыми закона-
ми и следить за их исполнением. Национальное представительство обрело
своего цензора и хозяина, хотя доминирование жирондистов одновремен-
но и в клубе на улице Сент-Оноре, и в Законодательном собрании еще
в течение нескольких месяцев позволяло скрывать следствия этой новой
ситуации Но происшедший в апреле 1792 г. разрыв между жирондиста-
ми и Якобинским клубом выявил все результаты подобного разделения
легальности и легитимности и положил начало динамике, которая привела
10 августа 1792 г. к ниспровержению Конституции и монархии, а несколько
позже — к разгулу террора.
В истории террора лето 1791 г. стало поворотным моментом: почти
одновременно были разрушены барьеры, стоявшие на пути распространения
в общественной жизни насилия и террора. Декрет от 16 мая 1791 г., запре-
тивший членам Учредительного собрания переизбираться в новое Собрание,
привел к полному обновлению руководящего персонала и к политической
смерти аристократии, игравшей, как мы видели, умиротворяющую роль
в политике парламента. Раскол же Якобинского клуба 15 июля вызвал окон-
чательное расхождение между легальностью и легитимностью. Так рухнули
дне плотины. Третьим решающим событием стало бегство Людовика XVI
21 нюня, последовавший затем его арест в Варение и приостановка его
полномочий до принятия Конституции. В среднесрочной перспективе это,
по сути, предполагало политическую и символическую гибель королевской
власти, вместе с которой исчезала последняя твердая точка опоры, еще
сохранявшаяся среди всеобщего распада. Однако не менее важными оказа-
лись и ближайшие последствия. Поскольку полномочия Людовика XVI как
главы исполнительной власти были официально приостановлены, Учреди-
тельное собрание фактически взяло на себя руководство правительством
Олар использует выражение «малый террор» по отношению к этому пери-
оду, когда Собрание занималось окончательной доработкой Конституции
в самой неблагоприятной ситуации для тех, кто еще пытался завершить
^Halevi R FeJIanu // Dictionnaire critique de la Revolution francaise. P. 366—373
,05,МйтЛОр. си. P 340-351.
Поворот 1791 i<ua 107
Революцию Хотя после 17 июля оно и отклонило предложение о со-
здании чрезвычайного трибунала для суда над участниками беспорядков
на Марсовом поле 105\ тем не менее, 9 июля приняло закон, предписавший
эмигрантам вернуться в течение месяца под угрозой быть подвергнуты-
ми и случае отказа тройному налогообложению, а при неприятг м>с ком
вторжении быть объявленными предателями родины w'
Ранее, 28 февраля того же года. Ле Шапелье уже предлагал анало-
гичный законопроект, но Собрание тогда пошло за Мирабо и отказалось
ограничить свободу перемещения и выезда из страны ,07h Поске же Варен-
ка Учредительное собрание решилось нарушить принципы, которые до того
времени служили ему правилом поведения. Таким образом. 9 июля 1791 г.
знаменует собой негромкое начало истории геррора.
Il!4) Aulard А Histoire politique de la Revoluhon Inm^aise Origuie* el divekppeinenl
de la democratic el de la Republiqne (1789-1804) P.. 1901. P 157
1051 I la заседаниях 22 и 23 июля 1791 г. Ведение этих дел были, в конечным fir те. huji/hmiu
гражданскому трибуналу 6-го округа, что стало компромиссом между предложением Салам
создать чрезвычайный трибунал, не сляланиый процедурными фо|>мл.\ьм<хтячи и mikmmujhh
приговор без права апелляции, дабы -мной мог карать быстро, если мы сотни *ш<6м t.n
мог карать л, и предложением Ланжюнне отправить обвиняемых в обычные суды (Moiuieur
Т IX Р 201, 206-207)
,W)- Порядок применения был принят голосованием I августа 1791 г. По амнистии 14 сен-
тября применение этого закона было приостановлено; -Ст V. < > Декрет [от 1 августа]
относительно эмигрантов отменяется; и, в сиответстнни с Кс«мс1нтуцнен больше нс будет
чиниться никаких препятствий для осуществлении права всех французских «раздан свободно
путешествовать внутри королевства и. по желанию. его покидать* (Ibid. Г. LX. Р 662).
, ,7) Archives parlementatres. Т. XXIII Р. 568-574.
Обстоятельства и война
Террор и теория обстоятельств
Связь между Террором и «обстоятельствами» была, по меньшей .мере,
непростой. Если, с одной стороны, историю Террора невозможно отделить
от сопровождавших его обстоятельств, то, с другой стороны, из наличия
между ними связи отнюдь не следует, что она носила каузальный характер,
который вся историографическая традиция считает очевидным. Согласно
этой традиции, Террор был защитной реакцией, вызванной многочислен-
ными опасностями, угрожавшими Революции, прямым следствием (скорее
вынужденным, чем желанным) необходимости, как еще называют обсто-
ятельства. Простота подобного объяснения, где обстоятельства и Террор
выглядят логически неразделимыми, имеет много преимуществ, наиболее
значительным из которых является освобождение Революции от всякой
реальной ответственности за события 1793 г. Представление о Терроре как
порождении обстоятельств фактически ведет к превращению революционе-
ров в пассивных агентов необходимости, чья деятельность никоим образом
не определялась провозглашенными ими принципами, поскольку революци-
онеры не могли не подчиняться непреодолимой силе обстоятельств. Такое
объяснение удобно для оправдания Революции ее защитники, в отсутствие
какой-либо альтернативы, принимали Террор, как принимают неизбеж-
ность.
Честно говоря, подобное объяснение никогда не объединяло всех сто-
ронников теории обстоятельств. У разных историков, а иногда и у одного
и того же интерпретации колебались, как справедливо заметила Мона
Озуф, между двумя полюсами, противоположными и по исходным посыл-
кам, и по выводам из них. На одном из этих полюсов, где преобладало,
так сказать, стыдливое объяснение Террора, он изображался «несчастьем,
ставшим ответом на другое несчастье, репликой в трагедии». На другом же
полюсе Террор — это «предвосхищение революций будущего сред-
ство, усилившее энергию, укрепившее патриотическое чувство». С одной
стороны, подчинение необходимости, с другой — торжествующий волюн-
Террор и теорий обстойтыьстп
109
таривм. С одной стороны — Олар, с другой — Матьез... Для первого
из них Террор был жестоким средством, примененным в момент крайней
опасности, но принципиально чуждым духу Революции, которая несла
освобождение, провозглашая права человека и всеобщее избирательное
право. Второй, нс отрицая, что Террор носил ответный характер, также
видел в нем, особенно в вантозских декретах, средство, при помощи ко-
торого Революция поднялась над собой, чтобы достичь «величия»2). Если
историки долгое время были единодушны в вопросе о непосредственных
истоках Террора, то, как только речь заходила о природе предполагаемой
связи между Геррором и Революцией, сразу же возникали разногласии
согласно Олару, эта связь была чисто случайной, согласно Матьезу. —
необходимой.
Подобно большинству простых объяснений, то. которое представляет
Террор непосредсгвенным и исключительным следствием обстоятельств,
скорее уводит от проблемы, нежели ее проясняет. Это — удобное объяс-
нение, которое говорит всё и ничего. Всё. поскольку очевидно, что оценка
благоприятных или неблагоприятных обстоятельств входит в число пара-
метров, на основе которых принимается любое политического решение.
Но в то же время — и ничего, поскольку эти предполагаемые причинно-
следственные отношения между опасностью и Террором маскируют важней-
шее звено в цепи, связывающей обстоятельства и политику, направленную
на их изменение, а именно — людей, которым приходится принимать реше-
ния. Нс само по себе поражение при Маастрихте (9 марта 1793 г.) породило
Революционный трибунал (10 марта); и не сами по себе захват Дюнкерка
англичанами (21 августа) или предательская сдача Гулона (27 августа)
вызвали к жизни закон о подозрительных от 17 сентября. В обоих случаях
это сделал Конвент, который, руководствуясь определенными мотивами,
часть из коих не имела никакого отношения к военной ситуации, принимал
решения усилить репрессивный арсенал и ужесточить борьбу с внутрен-
ними врагами. Уже Эдгар Кинэ выступал против этого, действительно,
банального желания возложить ответственность за последствия человечес-
ких решений на так называемую объективную необходимость. «Считаете ли
вы, — отвечал он критикам своего сочинения о Революции (1865), — что
больше моего возвеличиваете революционеров, если делаете их до такой
степени механическими игрушками в руках судьбы? Разве вы не видите,
что, напротив, лишаете их всякого подлинного величия, поскольку великий
человек — это тот, кто побеждает, казалось бы, неизбежную судьбу и сам
становится новой судьбой?»^
" Ozou! М. Guerre et Terreur dans 1c discuurs fevoluiioimaire: 1792-1794 // L tcoie
de h France. P„ 1984. P. 111-112,
Mathiez A I-a Revolution fraiicaise. T II. P. 301—302.
Quinci E, Critique de La Revolution // Quinel E. La Revolution [1865] P„ 1987 P 55
110
Обстоятельства и воина
Но. даже предполагая, что обстоятельства послужили непосредствен-
ной причиной Террора, необходимо признать, что и с ними дело обстоит
совсем не просто: их объективное содержание отличается от их отражения
в сознании участников. Всякое событие обладает своей логикой, определя-
ющей его реальные последствия. Однако современники могут приписывать
ему то или иное значение, коего оно в действительности не имеет. Чаще
всего именно в соответствии с этой субъективной оценкой очевидцы и участ-
ники судят о событиях и принимают решение о том, как на них реагировать.
Представление о событии играет более важную роль, чем само событие,
если, конечно, не приписывать революционной политике ос>ъективность,
каковом политика вообще никогда не обладает. События действуют не сами
по себе, а через дискурс, в котором их воспринимают, интерпретируют и тем
самым «осмысливают», чтобы в случае необходимости использовать как
основание для принимаемого решения. Это и определяет тщетность споров
о реальности тех обстоятельств, на которые ссылались современники и еще
чаще историки, объясняя или оправдывая Террор. Была ли опасность дей-
ствительно столь велика? Были ли внутренние конфликты столь глубоки,
чтобы угрожать самому существованию нации? Был ли Террор надле-
жащим ответом и способствовал ли он исправлению ситуации? Вопросы
подобного рода не представляют большого интереса, поскольку между про-
блемой и ее предполагаемым решением нет прямой связи: не сама проблема,
а представления о проблеме определяют соответствующую реакцию.
Заметив, что привычное стремление связать воедино поражения. Тер-
рор и победы наталкивается на опровержение фактами и хронологией,
Эдгар Кинэ некоторым образом продемонстрировал бесплодность гипоте-
зы о том, что какое-либо решение может быть прямым и непосредственным
следствием какого-либо факта. В Лионе сопротивление города сломил
«штурм высот на правом берегу Сонны», а террор начался с приездом
Фуше и Колло д'Эрбуа спустя довольно значительное время после побе-
ды над мятежниками; город Нант был спасен в июне 1793 г. генералом
Канкло. а Каррье и его приспешники организовали массовые потопления
в декабре, много времени спустя после снятия осады; Марсо наголову
разбил вандейскую армию при Ле Мане в декабре 1793 г., и вновь Террор
начался лишь после победы, когда в начале 1794 г. «адские колонны»
приступили к истреблению населения. Террор, заключает Кинэ. «почти
повсюду начинался после побед. Мог ли он их обеспечить? Станем ли
мы утверждать, что в нашей системе следствие предшествует причине?
Нам придется это сделать, если мы по-прежнему будем утверждать, что
Террор был необходим для обеспечения республиканских побед, которые
ему' предшествовали»Неоспоримое возражение, которое приверженцы
теории обстоятельств чаще всего игнорируют, поскольку не могут опроверг-
Quinel Е. Critique de La Revolution... P. 55.
Террор и теория обстоятельств
111
нуть, показав, что Террор всегда был результатом поражения и опасности.
Он так часто следовал за победами, что уже становится почти невозможно
объяснять его неминуемой опасностью.
Итак, возражение бесспорное, но его основное достоинство состоит
в том, что оно показывает отсутствие связи между событием и решением,
которое, как предполагалось, должно его нейтрализовать — между мя-
тежом в Лионе и восстанием в Вандее, с одной стороны, и расстрелами
и потоплениями, с другой. Хронология показывает, что между этими двумя
рядами событий не было никакой причинно-следственной связи. Болезнь
уже исцелена, когда специалисты по экспериментам in anima ь*Шэ' ре-
шают применить к ней свое средство. Расстрелы в Лионе были лишь
косвенным следствием лионского восстания, так же как и опустошение
Вандеи имело весьма относительную связь с восстанием крестьян. И в том,
и в другом случае резня была непосредственным результатом инициативы
представителей Конвента на местах — инициативы, основанной на расче-
тах. в основном, политических, в которых оценка ситуации играла ничуть
не более важную роль, чем борьба за власть, амбиции, личные интересы
или характер различных действующих лиц.
Кроме того, разве доказано, что именно обстоятельства и даже наибо-
лее серьезное из них — война — положили начало тем этапам, по которым
шло развитие Террора в 1792—1793 гт.? Являлись ли они той движущей
пружиной, на которую прямо указывали действующие лица? «Надо ска-
зать, — замечает Мона Озуф в исследовании, посвященном выявлению
связей между войной и Террором в революционном дискурсе. — что вза-
имозависимость войны н Террора, нередко упоминаемая как сама собой
разумеющаяся, совсем не очевидна»
Сделав упор на трех эпизодах, разделенных между собой интервалами
в год или около того (сентябрь 1792 г., сентябрь 1793 г., июнь 1794 г.),
исследование Моны Озуф показало, что тема войны часто занимала вто-
ростепенное место в дебатах, предшествовавших принятию мер, которыми
ознаменовалось в сентябре 1793 г. наступление царства Террора, а в ню-
не 1794 г. — «Великого террора» То же самое относится и к 1792 г.,
«На живом материале* — выражение, использованное гм» итиптенню к террористам
Клтремером де Кинси. См.: Qualrcmcre de Quincy A Ch La Veritable Lr’e de Candida:*,
precedve d’observaiions sur la nature de I’institution des candidates el sou application ли gouvetnemeiit
representatif. P., an V [1797]. P 6.
Ozouf M. Guerre cl lerreur. P 110.
'1 Из первой главы можно увидеть, что сентябрьские убийства нс относятся к истории
Террора в строгом смысле слова, если определять тер|юр как стратегию, преднамеренно
осуществляемую партиен или государством и состоящую в том, чтобы подвергнуть показа-
тельному насилию некоторое количество жертв. Повторим, сентябрьские убийства не могут
рассматриваться как эпизод Террора до тех пор, пока не будут найдены доказательства
предумышленного и спланированного характера этих действий. Еще Бенжамен Констан иод-
112
Обстоятельсгпеш и война
когда лишь значительное время спустя после происшедшего — уже в но-
ябре — Робеспьер одним из первых создал хсгенду о том. что сентябрьские
убийства были средством законной самообороны, победой, одержанной
народом на внутреннем фронте в тот момент, когда граждан призвали про-
вести массовую мобилизацию д\я защиты нарушенных врагами границ* 8).
Год спустя толпу повстанцев привели в Конвент также не военные неудачи,
а экономические требования. И когда якобинцы вместе с Коммуной не без
труда сумели направить движение в более привычное для себя политическое
русло, призывы к террористическим мерам также обосновывались не со-
ображениями, связанными с военной ситуацией, а ссылками на внутренние
заговоры. « Никто в Конвенте, — замечает Мона Озуф, — не рассматривал
Террор ни как средство обеспечить победу на фронте, ни как вынужденный
ответ на военные неудачи. Похоже, в нем прежде всего видели средство
направить революционный поток в нужное русло»9).
Связь между войной и Террором была еще более сомнительной и, даже
можно сказать, отсутствовала, когда 10 июня 1794 г. Кутон и Робеспьер
заставили принять ужасный закон от 22 прериаля. Действительно, разве
это происходило не в разгар «весны побед» и завоеваний, когда главную
опасность для революционного правительства стало представлять уже само
улучшение военной ситуации?
Имели, правда, место и другие эпизоды, когда война оказывала бо-
лее заметное влияние на дебаты, как. например, 9—10 марта 1793 г.
при создании Революционного трибунала. Именно сделанный 8 марта,
по возвращении из Бельгии, доклад Дантона и Делакруа об ухудшении
военной ситуации в результате опрометчивого вторжения Дюмурье в Гол-
ландию побудил Конвент направить своих членов в парижские секции,
чтобы ускорить набор 300000 рекрутов, объявленный несколькими днями
ранее. На следующий день руководители города пришли в Конвент, чтобы
сообщить о «восторженном» приеме, оказанном столицей представителям
народа. Прокурор Коммуны Шометт открыто связал вопрос мобилизации
с социальными требованиями и с Террором Он предложил, чтобы осо-
бые стипендии на учебу «были введены для детей тех. кто ушел на фронт»
и чтобы во имя национальной солидарности был установлен военный налог
на бога гых. Наконец, он потребовал создания «революционного трибунала
без апелляций», чтобы, «пока одни пойдут добывать победу Республике
вовне, другие заставляли бы уважать законы внутри». Его требование
было поддержано членами Конвента Бентаболем и Жанбоном Сен-Андре,
черкивал принципиальное различие актов насилия в сентябре 1792 г. и в 1793 г. (Constant В
Des eHets de la terrem [1797] / fid. Ph. Raynaud. P., 1988. P. 174-175).
8) См. его речь от 5 ноября 1792 г. (Robespierre М. CEuvres. Т. IX. Р. 91—94).
9) Ozouf М. Guerre et Terreur. Р 122
,0) Moniteur Т. XV Р. 663.
Террор и теория обстоятельств
113
также призвавшими к Террору, ссылаясь на войну. Каррье оформил это
предложение как законопроект, который после недплгого сопротивления
со стороны жирондистов был принят Конвентом за основу11*.
Связь между войной и Террором здесь гораздо более отчетлива.
Однако надо заметить, при создании трибунала 10 марта принималась
во внимание не только война. Фактически уже накануне, а затем и соб-
ственно 10 марта, когда Конвент прорабатывал детали организации нового
судебного органа, в Париже зарождалось повстанческое движение, имевшее
целью, как считал Мишле, произвести чистку Конвента и в некотором роде
предвосхищавшее анти-жирондистское восстание 31 мая 121. Что касается
самих членов Конвента, то они скорее боялись повторения сентябрьский
резни 1792 г. Вечером 9-го Дантон распорядился освободить арестованных
за долги. 10-го. увидев, что противники нового трибунала возымели не-
которое влияние на колебавшуюся ассамблею, которая задалась вопросом,
не стоит ли усилить те слабые гарантии, что предоставлялись обвиняемым,
и даже была готова сделать это, Дантон вмешался снова и, дабы сломить
предубеждения своих коллег, подчеркнул, что им самим грозит такая же
опасность, как и подозрительным:
Необходимо принять меры судебного порядка для наказания контр-
революционеров. так как именно в их интересах необходимо спадание
трибунала: именно для них этот трибунал должен заменить верховный
суд народного мщения. <...> А так как в этом собрании осмелились
напомнить те кровавые дни [сентября 1792 г.]. о которых скорбят все
добрые граждане, то я скажу, что если бы тогда существовал трибунал, то
народ» который так часто и жестоко упрекали за те дни, не запятнал бы
их кровью... Сделаем то, чего не сделало Законодательное собрание;
будем сами применять террор, чтобы избавить народ от необходимости
его применения
Здесь вновь присутствует идея институционального террора как «по-
вязки на нарыве», как уступки требованиям улицы — уступки, направленной
одновременно на то, чтобы их обезвредить Это — тот же самый мотин,
который вновь возникнет 5 сентября 1793 г., когда Конвент поставит террор
«в порядок дня». Но если некоторые, подобно Дантону, надеялись таким 111 * * * * * * * * *
111 Жанбон Сен-Андре. посетивший вместе с Давидом секцию Лувра, заявил, чти гражда-
не «поклялись броситься на защиту родины, но, выполняв этот священный долг, сообщили
о своих опасениях за спокойствие внутри страны. Они сказали нам: „Мы требуем* что-
бы. пока мы будем сражаться с внешними врагами, Конвент внутри покарал предателей
и уничтожил интриганов**. И. наконец, они потребовали создать трибунал, который бы карал
контрреволюционеров и возмутителен общественного спокойствия и (Ibid. Р. 665)
1 Michele! I Htstoirc de la Revolution francaise / Ed G. Walter. P., 1952 2 vol T II.
P. 239-260.
111 Monil«*ur. Г W P. 683 [Документы истории Нглик"й фрлк( •< волюции.
М, 1990 Т.1. С. 210].
9 Зак 155
114
Обспюителм'тва и воина
обрезом разоружить народ, то другие, как Клмбассрес или Робеспьер,
хотели воспользоваться случаем. чтения п/юичнести своего рода государ-
ственный перепорот, стремясь обновить состав министров (Камбасерес)
или ликвидировать разделение властей, поставил министров под более сте-
гни контроль Конвента (Робеспьер) В данном отношении мартовские
дни 1793 г. являют собой показательный пример. Они демонстрируют со-
четание различных факторов, ощ>еделнвших каждый шаг по направлению
к Террору: неблагоприятные обстоятельства, побуждавшие принимать меры
общественного спасения; давление секционных активистов. которое должна
была нейтрализовать институционализация террора; стратегические расчеты
радикалов, стремившихся использовать созданное этими двумя факторами
напряжение, чтобы изменить расстановку политических сил в свою пользу.
Если и существовала какая-либо неоспоримая связь между Террором
и фактором «о^стг.1ятельств», то лишь и том, что lippop во многом носил
ситуативный характер. Нс было никакого плана, никакого долговременно-
го расчета. Чрезвычайные законы и институты, кровавые постановления,
действительно, объясняются прежде всего обстоятельствами — обстоя-
тельствами ожесточенной борьбы между партиями и занесенного над ними
на родного топора, а не каким-либо обдуманным планом тон системы власти,
к созданию ко горой эти меры приведут на рубеже 1793—1794 гг. Мысль
о том, что, вводя Террор, Франция «уступала необходимости усилить во сто
крат свою силу и энергию путем их концентрации» 16\ т. е. тезис, предпо-
лагающий существование осознанного, почти спланированного и в любом
случае целенаправленно осуществляемого проекта, — эта мысль не имела
места ни в 1792, ни в 1793, ни даже в 1794 гг., поскольку обстоятель-
ства не входили в число мотивов, по которым требовалось всю власть
сосредоточить у Комитета общественного спасения
Доктрина Террора как неизбежного порождения обстоятельств, в дей-
ств ителы юс ти. появилась в пост-iермидприанскин период, будучи создана
выжившими членами Комитета общественного спасения в тот момент, ко-
гда, свергнув Робеспьера, они d свою очередь подверглись обвинениям как
сообщники - тирана", соучастники преступлений, ответственность за кото-
рые им почт в течение месяца удавалось возлагать на него одного. Между
26 и 29 августа 1794 г., ровно месяц спустя после казни Робеспьера,
Фрсрон, Тальен и Лскуаитр предприняли атаку на Комитет общественного
спасения, превратив тем самым процесс над Робеспьером в процесс над
Террором. В ответ Барер, Бийо-Варемя и их коллеги представили историю
Террора как ответ на внешние и внутренние опасности, угрожавшие (Юдине.
В защитных речах, вместе иля по отдельности публиковавшихся члена- 141
141 Monllt'ur. Г XV. Р 681.
,$) Ro^^erre М (Euvrn. Т. IX. Р. 308 313
Blanc L, Hbtouc Ии 1л Revolution (rancaiie. P., 1868. 2 vol. I I. P. XVI
Террор и теории об(тоятелы.тв
115
ми Комитета, это запоздалое объяснение получило наиболее законченную
форму. однако в общих чертах оно было намечено уже в самом начале
разоблачений; 28 августа Шарль Дюваль, член Конвента и преданный Ба-
реру журналист, выпустил весьма эмоциональный памфлет в защиту режима
революционного правления Франция, заявлял он, обязана этому правитель-
ству и проводившейся им политике «тон славой и тем процветанием, кото-
рые знает и которыми восхищается вся Европа»», а также — возвращением
гражданского мира и восстановлением положения на фронтах благодаря
Герреру, павшему на головы всех виновных Робер Ленде, член Коми-
тета, пощаженный, однако, «деятелями реакции» («reacteurs*), несколько
позже подхватил тот же мотив, хотя при этом и более откровенно, чем
Дюваль, признавал реальность совершенных преступлений, ответственность
за которые он, правда, возлагал на «разрушительный гений» Робеспьера 1Й\
В основных чертах концепция обстоятельств была сформулирована осе-
нью 1794 г. Барсром и Бнио-Варенном, каждый из которых в соответствии
с собственным нравом изложил ее в своих сочинениях Барер тщатель-
но проводил различие между исполняемой работой, включая применение
по необходимости орудия Террора, и преступлениями, совершенными «мни-
тельным и жестоким триумвиратом» Робеспьера, Сен-Жюста и Кутина,9).
Бийо-Варснн, как всегда непреклонный, отказался выражать хоть малейшее
сожаление и лишь с большим трудом признал, что имели место некоторые
«эксцессы». По его мнению, Комитет всего лишь старался быть на вы-
соте ситуации, держа «бразды правления твердой и сильной рукой»
Когда Саладсн от имени комиссии парламентского расследования спро-
сил: «Л существует ли ситуация, способная оправдать подобные эксцессы
и жестокости?» ^9 — Карно, который сам преследованию не подвергал-
ся, выступил в защиту своих бывших коллег с подробным изложением
концепции обстоятельств:
11е следует ля, наконец, сопоставить факты с теми ужасными
обстоятельствами, которые их вызвали? Разве обстоятельства, и кото-
рых находилась Франция, были обычными? <...> Неприятель вторгся
со всех сторон; в арсеналах Не имелось ни пушгк. ни пороха для защиты
1/1 Journal des honnnea lihres, uu le Republican!. №251 11 FrurlidiH (28 aotit 1794) T II
P. 1017-1018.
Речь от 20 сентября 1794 r. (Muniteur Т. XXII. Р. 18-26).
См Barerc IT, fttlliiud-Varenne ) N.. Colic»! <1 Herbots j.M. Second memwre «le* member
dr I’aucicn Cornitc de ьаЬн public, dcivonce* par 1-aufriH Lecnintre. P., 24 janvier 1795.
Billaud- Vareime / N. Mcincnre nirdn nut lea eveiieintMits du 9 tlicinu<lor / Ed. Ch Vellay
P. 1910. P. 30
Sabidiii J.Ii.M. Rappor! au nom de la Cfirmuion de« Vtugl-rt-un, crerr |мг decret du
7 nivone an III, pour Гежагнеп de la conduile des reprttentonis du peuplc Billaud-Vrucrjne. Collnt
d'Herboia et Barerc. rnrnd^rs dr I’ancien Comite de ealut f»ublic, et Vadirr mrinbre de 1 aucich
( ouutc de burrte grnerule, (art k 12 vcnldsc P., an III P. 97.
9*
116
Обстоятыы' тм и пойма
крепостей, мы обладали малочисленными, п лохо дисциплинированными
войсками с генералами-предателями но главе; надо было призвать мил-
лион солдат в тот момент. когда уже первый набор и 300 000 человек
вызвал восстание» вооружить иж. хотя склады были пусты, нкнпировать
при недостатке сырья, наконец, прокормить мл в границах Республики
продовольствием с ее же территории при том, что часть этом территории
бьсла опустошена вражескими армиями и повсюду ощущалась нехватка
провиямн; и все это происходило в обстановке самого упорного соп/юти-
анемия н в окружении активно денстнующих фракций. 14е считаете ли вы.
граждане, что все это можно было сделать без средств принуждения?^
Может быть, сам Карно и соглашался на террористические меры,
будучи убежден, что «угрожающая отечеству опасность» делает их необ-
ходимыми. Однако подобная трактовка не может служить универсальным
объяснением, справедливым для всех террористов или даже для всех
членов Комитета общественного спасения. Возможно, Робер Ленде руко-
водствовался в своей деятельности .мотивами, близкими к мотивам Карно:
но Робеспьер, Ко.лло д’Эрбуа или Блрср проводили политику террора,
исходя из идеологических, политических или партийных соображений без
какой-либо реальной связи с действительным положением Республики.
На протяжении двух веков многие поколения историков довольствова-
лись воспроизведением того, что обвиняемые террористы говорили в свое
оправдание. Их защита, несомненно, определила первые вехи в истории
Французской революции и Террора, поскольку дала им первое объяснение
по горячим следам; тем не менее, ина практически никоим образом не спо-
собствует, и не без оснований, пониманию того феномена, который она,
как предполагалось, должна объяснить.
От Варенка к войне
Невозможно исследовать роль обстоятельств, не вернувшись к истокам
наиболее серьезного из них — войны.
По мнению Мишле, бегство короля в ночь с 20 на 21 июня 1791 г.
получило мощный отклик «в широких слоях населения Франции, трудя-
щихся и молчаливых» <чОнн поняли, что Революция поставила их в особое
положение среди им подобных в этом мире <...> и что они, прежде всего,
сами должны позаботиться о своей защите. Именно это они и сделали.
<...> И вот осенью и зимой по всей Франции прокатилось сдержанное
и приглушенное многоголосое ira!*; „за этим звуком таилось нечто
могучее, роковое, неудержимое — волнение огромного революционного
2’* Opinion de Latare Сапки suf ГасгшМюн ргородее cuntre Billaud- Varenne. Collot d Heibois.
Вагёге el Vadier. par la Commission des Vingt-el un. сгёсе pour l examcn de la coiidiiite de ces
rrprexnUnis. Р.» germinal an HI [1795 J. P 9- 10.
От Варении к войне
117
океана. который нот-вот выйдет из берегов*»Война, которую пред-
п<и«лн вьиов, брошенный миру в 1789 г., стала неизбежной из-за угроз
европейских монархов и из-за того, что ее хотела вся Франция — хотела
не из смирения перед неотвратимостью, а с вдохновенной решимостью
народа, почувствовавшего себя призванным к выполнению некой миссии.
Из той героической поэмы, которую сочинил Мишле, превративший
воинственную прозу 1791 г. в поэзию, сегодня сохраняет значение лишь
оцдуц&енис грандиозности события, учитывая, какие оно имело последствия.
Со вступлением н 1792 г. Франции в войну поток Революции, можно
сказать, покинул свое русло и уже никогда туда не вернулся.
Подобно другим историческим событиям, сопровождавшимся непред-
сказуемыми последствиями, начавшаяся в 1792 г. война имела довольно
малозначительные причины Большинство историков сегодня согласно
с Жоресом в том, что война, ни в коей мере не будучи спровоцирова-
на из-за рубежа, была начата самой Революцией и что это произошло
не в соответствии с единодушным желанием всей нации, воспетым Мишле,
а по воле революционеров, руководствовавшихся мотивами, среди кото-
рых мессианизм занимал довольно скромное местоПожар, бушевавший
по всей Европе на протяжении четверти века, возник в результате расчетов
и интересов разных партий. В данном отношении, конечно, необходимо
проводить различие между непосредственными причинами войны и со-
вокупностью факторов, сделавшей ее возможной. Некоторые историки,
исходя из этого различия, выдвигали идею о том, что война, хотя рево-
люционеры и желали ее без какой-либо реальной и прямой угрозы извне,
была неизбежна; в гаком случае партии оказывались всего лишь орудием
необходимости. Этот тезис выдвигался гХльбером Сорелем, который ннтер
претировал конфликт конца Х\ Ill столетия в свете многовековой борьбы
Франции и Австрии за гегемонию на европейском континенте. Объявив
по своим собственным соображениям войну монархии Габсбургов, Револю-
ция. сама того не осознавая, пошла по стопам Старого порядка, преследуя
фактически ту же цель, к коей неустанно стремились и короли. — устано-
вление и естественных границ». Таким образом, война, которая должна быка
способствовать разрыву со Старым порядком, параллельно 1ккстанавлнвлла
связь времен Концепцию Сореля можно признать правильной, если при
*)} Miihelct J Histoiie de L Revolution fran^aise T. I. P 758—762
‘41 Франсуа Фк»рс сделал «то наблюдение относительна Первой мировой войны: -Чем
более тяжкие последствия имело событие, гем труднее его понять. игхиди из ело причин*
О'иге/ F Le jMssce d’unc illusion. Essai sur I’idce coninuiiustc .in XX' <кч1е. P.. 1995. P. 49)
^ИСм.; Jaures/ Hutoire socialist? de la Revolution tran^ne Ed A.Soboul P , 1968-19/5
7 vol. ]. 11. P 53—246 (*La guene on la pan»)
Sorel zl. L Europe el la Revolution P. 1885-1904 8 vol. Об ограниченности
применения концепции /kiboqa Сореля см. Riihci D Fronlieres Ml art Им :/ Dktiunnairr
cribtiqur de la Revolution fraii;aise P. 742 -750.
118 Обстоятельство и воина
этом уточнить. что идея расширения национальной территории до Рейна,
возникшая задолго до Революции, стала государственной политикой уже
после начала поенных действий и сочеталась с другими мотивами, такими,
как создание братских республик или просто желание продлить конфликт,
чтобы не позволить армии, оставшейся без дела, поддаться искушению
вмешаться я раздиравшую Париж борьбу за власть И если война,
действительно, в конце концов, заставила Революцию принять наследие
прошедших веков, от которого та отреклась в 1789 г., то этот брак между
революционным чувством и национальной историей оказался следствием
войны, но не ее мотивом.
Революция 1789 г. также сама по себе не объясняет вступление Фран-
ции в войну Провозгласив новое политическое право, общее для всех времен
и народов, Французская революция, действительно, представляла угрозу
для всех существовавших режимов. Даже если бы революционная Фран-
ция воздерживалась от какого бы то ни было активного прозелитизма, ее
принципы уже в силу своей универсальности должны были способствовать
повсеместному распространению за ее пределами происходивших внутри
нее конфликтов и расколов. Послушаем Гокпиля:
Все революции — как гражданские, так и п<1Л1Ггическис — имели
свое отечество н ограничивались им. У Французской революции нс было
определенной территории. Болес того, в известном смысле в результате
et были стерты старые границы на карте. Она сближала и разводила лю-
дей. не взирая на законы, традиции, характеры, язык... 1очнес сказать,
поверх жех национальностей она создала единое* интеллектуальное оте-
чество, гражданами которого могли сделаться люди любого государства.
В анналах истории вы не найдете ни одной политической революции,
сходной в этом отношении с французской — подобный характер мож-
но обнаружить только в некоторых религиозных революциях. <...>
Таким образом, Французская революция представляет собой политиче-
скую революцию, в искоторюм отношении принявшую вид революции
религиозной и действовавшую ее приемами. Вот специфические черты,
довершающие сходство: как и революции религиозные, французская ре-
волюция выходит далеко за пределы своей страны и делает это при
ПОМОЩИ проповеди и пропаганды. Взгляните на это новое зрелище: по-
литическая революция, вдохновляющая прозелитизм, столь же страстно
Пропоят дуемая иностранцам, сколь ревностно приводимая у себя. Средн
всех диковинок, что Французская революция продемонстрировала миру,
это явление, без сомнения, самое ноасх,2н\
‘7| *Надо. чтобы тысячи людей, поставленных нами под ружье, были отправлены так
далеки. куда только смогут донести нх ноги, — заявлял жирондист Рола к, п то пр»емя министр
внутренних дел, — иначе им ла хочется перерм-аать нам глотку- (Sorel A. Op. cil. 1. III. Р. 155)
^Tocqueville A.. de. L’Ancien Regime et la Revolution / £<1. F. Mclonio. P .. 1986
P. 958-959 [ Томит»/4 . де. Старый порядок и Революции. М , 1997. С 16-17].
От Маренна к войне 119
Ничуть не меньше Революция угрожала сутцегпювавшнм правитель-
ствам тем, что заявила о своем желании порвать с обычаями. которыми ре-
гулировались международные отношения. Провозгласив 22 мая 1790 г., что
«нация отказывается от ведения каких-либо завоевательных войн и ни в ка-
ком случае не станет обращать свои вооруженные сиды против свободы
какого-либо народа», Учредительное собрание не простодушно отреклось
от использования оружия на веки вечные, а скорее показало, что отвергает
правила традиционной дипломатической игры, и фактически дало понять,
что окажет поддержку, по крайней мерс моральную, усилиям народов
обеспечить свое единство, завоевать независимость или определить свою
национальную принадлежность на основе прана самоопределения При-
менение подобных принципов вызвало в ряде случаен заметную напряжен-
ность в международных отношениях: сначала это было связано с правами
немецких князей, имевших владения в Эльзасе, — эти права Умилительное
собрание отменило как частные во имя единого для всех закона; затем —
с аннексией Аниньона и графства Венессен, решение о которой было приня-
то 14 сентября 1791 г. И наконец, посягательства на королевскую власть
во имя суверенитета народа ставили под сомнение сам принцип монархии;
в то время, как унижения и оскорбления, которым подверглась королев-
ская чета, особенно в октябре 1789 г., побуждали иностранные державы
к вмешательству во французские дела во имя династической солидарности.
Несомненно, что без этих многочисленных факторов, создававших се-
рьезные трения между революционной Францией и Европой, инициативы
и расчеты партий не получили бы продолжения; но столь же несомненно,
что при отсутствии подобных инициатив и расчетов вступление в вооружен-
ный конфликт с Европой так и осталось бы в области вероятного как одна
из тех возможных перспектив, которые таит в себе любая историческая
ситуация и каждая из которых имеет не больше шансов стать реально-
стью. чем любая другая. То. что случилось, это с овеем не то. что должно
было случиться. 11е существует никакого непреложного закона историче-
ской необходимости, а есть лишь цепь решении, принимаемых на основе
имеющегося выбора возможностей, которые, будучи чреваты определен-
ными, часто непредвиденными последствиями, способны в свою очередь
создать новый веер возможностей. Согласно глубокому замечанию Токвиля,
«человек могущественен и свободен в широких пределах».
В действительности, распространение революционных идей в Евро-
пе оставалось ограниченным, и если не считать фанфаронства России
и Швеции, с большим пылом призывавших к организации а1гп<француэ-
Эта декларация дошла а Раздел 6 Кипспггуцнн 1791 г. [см Д«<ъумгкты история
Великой французе кой ^м*Пилк»инн. Г I С 139—1401
( м /lf/ог F l-a devolution fratl^ftisa declare U киепе а Г Г I. гтЬгаидепеЫ de I Europe
a la fin du X\ IIP M&le. Btuxrlke. 1992. P. 16-21
120
Обстоя тс ихтва и воина
ского крестового похода, поскольку их удаленность делала этот проект
скорее гипотетичным, то Австрия, Пруссия и Англия благоразумно зани-
мали выжидательную позицию. Державы внимательно следили за тем, что
происходит на западе, но заняты были прежде всего ситуацией на восто-
ке Европы. Русско-турецкая война или участь Польши гораздо больше
привлекали их внимание, чем беды французской монархии. К тому же
ослабление французской дипломатии их отнюдь не огорчало, и совсем
нс очевидно, что другие правительства видели в Революции феномен,
отличный по сути своей от тех разнообразных кризисов, которые перио-
дически потрясали королевство Бурбонов. Кроме того, новые французские
руководители не выг.шдели столь непреклонными, столь невосприимчивыми
к любой идее компромисса, чтобы всеобщая война показалась неизбежной.
Учредительное собрание предложило выплатить эльзасским князьям ком-
пенсацию; а если оно после нескольких месяцев колебаний и провозгласило
присоединение .Авиньона, то это произошло только после того, как Пий VI
уступи.^ наиболее непримиримым из своих советников и осудил гражданское
устройство духовенства Ни Европа, ни Франция не хотели в тот мо-
мент открытого конф.игкта, и хотя австрийский император вынужден был
официально поддержать протесты своих эльзасских вассалов, он твердо
отказал эмигрантах!, предлагавшим ему начать интервенцию.
Вареннский эпизод, несомненно, положил начало периоду роста на-
пряженности. Европейские монархи выступили с протестами против «пле-
нения» короля. что ускорило австро-прусское сближение, начатое несколь-
кими месяцами ранее по инициативе Берлина. Два монарха встретились
27 августа в Пнльнице, чтобы заявить о возможности своего совместного
военного выступления против Франции. Однако они обусловили реали-
зацию такой возможности установлением европейского согласия, которое
было настолько недостижимо, что эта воинственная декларация, по сути,
означала, что Европа решила ничего не предпринимать
После ареста Людовика XV I и вежливых европейских протестов
во Франции создается пугающий призрак неминуемого вторжения. В то вре-
мя как парижская пресса призывала к оружию, Учредительное собрание
приняло ряд законов, одни из которых были направлены против эмиграции,
другие должны были укрепить защиту границ Были ли эти меры продик-
тованы чувством опасности или политическими соображениями? Потому ли
^SambVidorl.. Jc Op.ctt. Р. 189-229.
развитии международной ситуации см.: /Attar Fr. Op. cil. Р. 24—82.
Закон 28 нюня 1791 г. регламентировал условия выезда из страны; законы от 9 июля
и 1 августа устанавливали х\я тех, кто покинул королевство после I июля 1789 г., месячный
срок лиг возвращения под угрозой подвергнуть их тронному налогообложению и <«в случае
вражеского вторжения объявить предате \ями отечества» (Moniteur. 1 IX. Р. 79—83, 280),
закон от 22 июля объявлял о мобилизации на добровольной основе 100 000 национальных
гвардейцев для усиления войск на северо-восточной границе
От Варемна к войне
121
Национальное собрание приняло их. что .действительно опасалось воору-
женной интервенции или же с каким-либо иным намерением, понимая, что
державы довольствуются воинственными словами, лабы еще крепче дер-
жаться за свой нейтралитет? Именно это Бриссо, через три месяца сам став-
ший горячим сторонником войны, и подозревал, когда 10 июля заявил. что
Франции угрожают «пустые фантомы . Бессильные эмигранты и европей-
ские державы, разобщенные ссорами, разоренные своими королями и обре-
ченные на бездействие своим «общественным мнением», — эти воображае-
мые угрозы, по его мнению, раздуваются Учредительным собранием, чтобы
не позволить ставить под сомнение неприкосновенность короля и чтобы
заставить умолкнуть оппозицию во имя грозящей отечеству* опасности.
При помощи этих воображаемых страхов надеются сплотить добро
детельных. но робких и мало просвещенных патриотов вокруг постыдной
партии. <...> Уже не в первый раз. господа, используется эта уловка,
чтобы сбить с толку Национальное собрание: всякий раз, когда хотя?
расшатать и нарушить его принципы, ему рисуют в отдаленной пер-
спективе воины и неисчислимые бедствия. <,..> И сейчас это средство
используется, чтобы без суда оправдать человека [Людовика XVI],
проявившего себя врагом Французской конституции М1.
Использование международной напряженности и даже ее прямое
и откровенное нагнетание для проведения чрезвычайных мер. преследую-
щих внутриполитические цели, — этот урок Брнссо не забудет н применит
его в своих интересах в октябре, когда международная ситуация будет
столь же мало располагающей к войне, как и в июле. Возможно даже, срыв
побега королевской четы устранил реальную утрозу. ес\и верна гипотеза
некоторых историков, что Леопольд II обещал свою военную помощь в слу-
чае успешного осуществления плана бегства551. В любом случае, осенью
1791 г., когда депутаты Учредительного собрания готовились уступить место
своим преемникам, угроза конфликта была менее вероятна, чем когда-ли-
бо: поражение сторонников республики в июле, пересмотр в течение лета
Конституции в более благоприятном для короля смысле, затем принятие
ее королем 14 сентября — все это способствовало климату умиротворения
и сопровождалось отливом революционной волны, который 6ы\ отмечен
всеми очевидцами. Однако вскоре все перевернулось с ног на голову.
Международная ситуация осенью 1791 г. оставалась прежней, но с от-
крытием 1 октября Законодательного собрания произошла смена основных
действующих лиц Революции. Как известно, это была совершенно новая
ассамблея. Принятый 16 мая 1791 г запрет переизбираться депутатам Учре-
дительного собрания не позволил войти в новый орган авторам Конституции, * 35
Bnssal J.P. Discour» sur la question de savoir si it rvi pent tire jugr. pronounce а Г assembler
des Amis de la Constitution. dans la seance du 10 itiillcl 1791. Ps d. P. 15—lb
35Uf/ar Fr Op. ей. P. 45
6 Зак 155
122
Обстоятельства и война
которые после Варения пытались под руководством фельянского триумвира-
та «восстановить»» короля, чтобы «завершить Революцию» Вместе с их
уходом должна была растаять и иллюзия о прекращении Революции с вве-
дением новых институтов Прежде чем разойтись. Учредительное собрание
декретировало окончание Революции но это официальное постановление
утратило всякую значимость вместе с роспуском Собрания 1789 г., что дало
Робеспьеру основание накануне дня, когда депутаты должны были сложить
свои полномочия, бросить им: а Я не думаю, что революция закончилась»^.
Несомненно, результаты выборов в Законодательное собрание, начав-
шихся в конце августа, скорее подтверждали мнение конституционалистов
о нараставшей стабилизации политической ситуации, нежели пророчества
якобинцев о необходимости «дополнить» революцию. В Париже исход
выборов оказался благоприятен в основном д.\я фельянон, тогда как Бриссо
и Кондорсе, поддержанные Якобинским клубом, были избраны лишь в са-
мом конце и то после длинной серии неудач В то же время результаты
выборов в департаментах не дали преобладания фельянам. сравнимого с тем.
что можно было наблюдать в столице. И все же эта относительная неудача
не принесла никакой выгоды их соперникам — якобинцам. Соотношение
сил двух партий известно. В момент открытия Законодательного собрания
124 из 745 депутатов принадлежали к якобинцам, 189 — к фельянам,
остальные — примерно 6 парламентариев из 10 — держались между
соперничающими группами 40\ Однако политический ландшафт Собрания
в начале его работы не должен вводить в заблуждение: он не имел ни ма-
лейших признаков стабильности, и не было никакой уверенности даже
в том, что он отражает реальное соотношение сил на данный момент.
Различные течения должны были мало-помалу оформиться в ходе дебатов
и в соответствии с эволюцией стоявших на повестке дня задач. Ситуация
оставалась переменчивой в течение всех первых недель. В 1791 г., как
это будет и в случае с Конвентом год спустя, новые депутаты, за ис-
ключением меньшинства, уже достаточно давно игравшего активную роль
*0 пине фельянов и его крушении см Cucnlffey Р. Terminer la Revolution: Bamave el
la revision de la Constitution (aoul 1791) // Terminer la Revolution. Mounier el Bamave dans
la Revolution (len^aise / Ed. F. Fun»l et M. Ozouf Grenoble, 1990. P. 147—170.
Закон об амнистии от 14 сентября 1791 г гласил: « Национальное собрание, считая,
что целью Французской революции было дать стране Конституцию н что, соответственно,
революция должна закончиться в тот момент, когда Конституция завершена и принята коралем
<...> настало время прекратить распри и т д.> (Monileur. 1 IX. Р. 662).
Речь от 29 сентября 1791 г. о политических обществах (Robespierre М. CEuvrcs. Т VII.
Р 747).
Cueni//ey Р. Lt Nombre el la raison. La Revolution fran;aisc el les elections. P„ 1993
P. 366-373
401 О якобинцах см . Milchclt С /. The French Legislative Assemly of 1791. Leyde, 1988
P 14; о фельянах см Challamel A. Les Clubs contre-revolutionnaires. Cen.les, comiles. socletes.
salons, reunions, cafes, restaurants et libraries. P., 1895. P. 286—323.
От Варенка к войне
123
на парижской сцене, в большинстве своем были нотаблями, поднаторевшими
в управлении местными делами. Перебравшись в Париж, они. так сказать,
попали в другой мир. Парижская политика с ее секретами была им еще
не знакома. Правда, примерно половина избранников народа принадлежала
к различным политическим обществам, но совсем не обязательно, что д\я
всех из них без исключения это свидетельствовало о четко выраженных
убеждениях. В числе 124 депутатов, вступивших в Якобинский клуб, было
много членов провинциальных клубов, которых не могли не оттолкнуть
порядки, принятые в парижском обществе, и качества, необходимые д\я
того, чтобы там блистать. Поэтому они не замедлили его покинуть. Уже
через несколько недель после начала работы Законодательного собрания
среди депутатов насчитывалось не более 52 якобинцев Также снизилось
и влияние фельянов, чье общество к концу года вообще исчезнет42!.
Непрочность членства в клубах отражала неопределенность личных
позиций депутатов во время первых заседаний. Члены Законодательного
собрания, вспоминает Юа, представитель от Сены-и-Уазы. «по прибытии
рассаживались на скамьях вперемежку». Но обучение шло быстро «через
два дня они уже занимали определенные места: вот правая сторона, нот —
левая, вот — центр». Юа немного спешит. Далее он сам признает, что для
выявления политической принадлежности потребовалось больше времени:
депутаты постепенно группировались в различных частях зала в зависимости
от своих политических пристрастий43!.
Если сначала имела место относительная недифференцированность
позиций депутатов, за исключением тех нескольких фигур «нациока ньно-
го» политического масштаба, которые стали для остальных ориентирами,
то уже на протяжении последующих нескольких недель сформировались
фракции. Результаты этого процесса, в основном завершившегося месяц
спустя, отчетливо проявились в тех столкновениях, коими сопровождались
ноябрьские дебаты о неприсягнунших священниках44!.
Та чрезвычайная быстрота, с которой происходила радикализация
политической ситуации после созыва Законодательного собрания, отчасти
обусловлена особенностями начального периода его работы, когда определя-
ющее влияние принадлежало тем. кто уже был сведущ в хитросплетениях па-
рижской политики, даже если и принадлежал к меньшинству, как, например,
'"Mikheil CJ. Op. at. Р. 14-15.
4‘) В декабре 1791 г. членами Клуба фельянов оставались 144 депутата (тремя местами
ранее их было 189). См: Lisle des members de I’Asscmblec national* reunis dan’s I eghse
des PcHillants, le dimanchc 4 decern bre 1791. el qui onl pns la resolution Jr *c presenter a la Sociele
des amis de la Constitution seanie aux FeuilLinls (Archives nationalea. I*7 4186)
4,1/7u<] E. Л Memoires d un avoeal au parlemenl de Paris, depute a (Assembler legislative,
publics par sou prills-his E. M. F. Saint-Maur Poitiers, 1871 P. 74, 81.
44i Mikheil C.J. Op. dt. P. 16-17.
8*
124
Обстоятельства и вой ни
Бриссо и Кондорсе. Однако это тактическое преимущество, это превосход-
ство в понимании целей и в ораторском искусстве объясняет далеко не все.
Бриссо не сумел бы увлечь Собрание на путь, ведущий к войне, если бы
его речи встретили решительную оппозицию со стороны того большинства
депутатов, которые, как показало их нежелание записываться в парижские
клубы, не хотели служить интересам партий. Действительно, якобинское
меньшинство в Законодательном собрании, поддерживаемое клубом на ули-
це Сен-Оноре и почти всей столичной прессой, воспользовалось упадком,
в котором фельяны пребывали с конца лета из-за того, что не смогли при-
влечь на свою сторону провинциальные филиалы якобинского движения,
а также из-за бездействия своих руководителей, ошибочно поверивших в то,
что одержанной в августе пар/каментской победы будет достаточно, дабы на-
долго отбросить на обочину своих якобинских конкурентов. Находившийся
на момент открытия Собрания в полудреме, Клуб фельянов в декабре впал
в глубокую кому’ после того, как большинство его членов покинуло высту-
павшего за мир Барнава и последовало за Лафайетом, выбравшим войну.
Этот раскол фельянской партии свидетельствует о слабости оппозиции яко-
бинским интригам, а также показывает, с какими смешанными чуъствами
была встречена на депутатских скамьях кампания Бриссо в пользу войны.
Люди, пришедшие в октябре 1791 г. к руководству политически-
ми делами, отличались от своих предшественников и по происхождению,
и по опыту, и даже по темпераменту. По опыту, поскольку Законодатель-
ное собрание не имело в своих рядах ни одного из представителей тон
небольшой когорты людей, кто находился в постоянной близости к коро-
левской власти до 1789 г., а затем оказывал большое влияние как на прения
в Учредительном собрании, так и на работу его комитетов. Время всех
этих !уре и Демснье осталось в прошлом. Более половины парламентариев
1791 г. вышли из органов управления дистриктом или департаментом; около
1/5 — из гражданских и уголовных судов, 1/10 — из муниципалитетов4^.
Не менее 610 депутатов из 745 вышли из рядов местных кадров, которые
в 1790 г. были созданы выборами в административные и судебные органы.
1аким образом, выборы в Законодательное собрание завершили то гигант-
ское перемещение власти и полное обновление руководящего персонала,
начало которому положили события 1789 г. Люди, принявшие на себя
полномочия, были сведущи в делах местной администрации, но не имели
ни малейшего опыта в том, что касалось средств и ресурсов управления
огромной страной. Революция позволила им как бы перескочить через
несколько ступенек и начать управлять до того, как они этому научились.
В этом одна из причин начавшегося вскоре взлета Бриссо, обладавшего тем
преимуществом, что уже достаточно долго участвовал в «большой полити-
ке». Бриссо принадлежал не к этому, второму поколению революционеров,
KuClitlthy A Lc* Depute* а ГАалетЫее lrgi»lalivc de 1791. Р., 1900. Р. 31—107,
От Ьареина к войне
125
а к первому — поколению 1789 г., и с таким запозданием выдвинулся, хоть
и лишь 'лгодаря декрету от 16 мая о запрете иа перевыборы членов Учре-
дительна о собрания, без чего ни он, ни Кондорсе не могли бы надеяться
на благосклонность парижских избирателей
Эго собрание новых людей было также собранием бея дворян и свя-
щенников — этих еще сохранившихся осколков Старого порядка Дво-
рянские фамилии, как и сутаны, встречались там редко. Так что характер
данной ассамблеи весьма отличался от характера Учредительного собрания,
которое в социологическом плане оставалось отражением Старого порядка
даже после его юридической ликвидации. Без дворянства и духовенства За-
конодательное собрание оказалось лишено внутренней оппозиции. Правда,
оно разделилось на правое и левое крыло, но отныне якобинцы и фельяны
спорили между собой о средствах осуществления Революции, а не о ее
целях. Им, если не считать тех, кто находился вне стен парламента,
больше не противостоял ни один защитник Старого порядка, прав уеркэи
или ушедшего в прошлое аристократического общества. Это было полно-
стью демократическое и «патриотическое» (в том смысле, который данное
понятие носило в 1789 г.) собрание, не имевшее больше никаких внутрен-
них сдержек. Поэтому, не подвергаясь никаким ограничениям и никаким
влияниям, определявшим поведение Учредительного собрания. Законода-
тельное собрание не могло не проявлять гораздо меньше склонности к учету
нюансов и к компромиссу. К тому же для него гораздо меиьшей привлека-
тельностью обладали прежние ценности и нравы, оказавшиеся чуждыми для
тех «людей без прошлого», которые стали его членами. Их воспоминания,
замечает Франсуа Фюре, «были связаны уже не со Старым порядком,
а с Революцией. Депутаты Учредительного собрания, прибывшие из балья-
жей, воодушевлялись горячим желанием преобразовать старую монархию;
эти же вышли из департаментских центров, из администраций дистриктов
или из парижских клубов, будучи детьми 1789 г. <...> Революционный
разрыв воспринимался ими как событие почти естественное, уже довольно
давнее и во многом независимое от деятельности их предшественников —
членов Учредительного собрания; к тому же ни одного очевидца этого
собы гия в их рядах не было. Соответственно, они восприняли скорее мифо-
логию, чем традицию, и были в большей степени склонны поддерживать дух
происшедшего, нежели изучать его опыт»47). Депутаты Законодательного
собрания, действительно, были порождением Революции. В большинстве
своем они вышли из рядов провинциальных якобинцев. По своим идеям
и дискурсу якобинцы в провинции отличались большей умеренностью, чем
4 1 Законодательное собрание насчитывало в своих рядах чншь 18 представителей
духовенства.
4'1 Furet F. I^ee Girondms cl U guerre: lea debull de ГАмегпЫёе legislative // La Gronde el
let Girondtn». P. 191
126
Обстоятельства и впйна
их столичные собратья; ио в своих действиях и выборе средств они часто
оказывались более радикальными. Поскольку в провинции им очень рано
пришлись вести в борьбу с враждебным окружением, они без колебаний
применяли террористические меры против предполагаемых или реальных
врагов Революции уже тогда, когда Учредительное собрание еще предпо-
читало компромиссные решения на правовой основе.
Чтобы понять ту быстроту, с которой большинство депутатов, включая
тех. кто не разделял республиканских убеждений жирондистов и не собирал-
ся поддерживать их амбиции, оказались увлечены воинственной риторикой
Бриссо, необходимо также принять во внимание еще один фактор пси-
хологического порядка. Депутаты 1791 г. были избраны для тоги, что
претворять в жизнь Конституцию, созданную их предшественниками. Они
прибыли в Париж, чтобы управлять наследием Революции, которая, аведя
в действие конституционный акт, достигла изначально определенной для нее
цели Иначе говоря, они приняли свои полномочия, когда героическая эпоха
уже закончилась, и были обречены стать бледной тенью своих предшествен-
ников. Члены Учредительного собрания, если бы сами не запретили себе
продолжение парламентской карьеры, конечно, смогли бы довольствоваться
ролью ^хранителей», поскольку в таком случае они претворяли бы в жизнь
Конституцию, написанную ими самими. Депутаты же Законодательного
собрания были, напротив. всего лишь наследниками.
Однако все говорило о том, что зга провинциальная революционная
элита, порожденная событиями 1789 г., никоим образом не намерена ми-
риться со столь скромной ролью в тот момент. когда легальное отстранение
от власти всех членов Учредительного собрания открыло перед ней воз-
можность блестящей карьеры Это относилось и к людям неизвестным,
и в еще большей степени — к Бриссо и Кондорсе, неудачникам выборов
1789 г. Избрание в 1791 г. возвестило для них час реванша, позволив,
наконец, получить ту крупную роль, которая им не досталась в 1789 г. Оба
были избраны в 1791 г., так сказать, за недостатком лучших, в отсутствие
более подходящих кандидатов, и Робеспьер позднее мог с полным основа-
ние заявить, что, предложив декрет от 16 мая, он «дал Франции Бриссо
и Кондорсе» — на свою голову, мог бы добавить он.
До сих лор никогда особо не отмечалось, сколь большую ответствен-
ность несет лидер жирондистов за уклонение Революции в сторону произво-
ла и насилия В действительности же именно он вовлек едва начавшее работу
Законодательное собрание в ту конфронтацию с королем, которая меньше
чем через три месяца разрушила хрупкое равновесие, установленное в авгу-
сте Барнавом и его друзьями Человек, возглавлявший в 1789 г. первый тер-
рористический орган власти — Комитет расследований парижского муници-
палитета. использовйл для новой авантюры тот же набор — неразборчивость
Furci F Let G<rondiru et U guerre».. P 191 — 192.
От Rape» но г мине
127
В ЯыГи’рС средств и пространные [ХЧИ С декларациями о добрым намерениях.
Бриссо, прайда, не был популярен никто не забыл о его роли в движении,
имен'пем целью свержение королевскля власти после Варениа 1 1е скрывлч
пн и св<х-10 неприятия Конституции. а также той судьбы, которую уптгоянт
для нее. как только получит спегня-тствуияцую ш^мпжнпсть. 8 августа
1791 г., когда Учредительное собрание приготовилось принять вмтнатель-
кую редакцию конституционного акта, Бриссо в сыти га м*тг определил
его как сугубо временный. Осудив «значите \ьныс лакуны . и «яд. ловко
запрятанный среди отличных статей-, пн добавлял • Однако подобные не-
достатки, в конце концов, можно со временем исправить... Мы же не будем
упорствовать, требуя этого совершенства уже сейчас: поспешим ж* восполь-
зоваться тем, что уже есть к не станем терять драгоценнее время в пустых
дискуссиях>: 49). Если же учесть, что замечание п «недостатках* относилось
ко всем или почти ко всем разделам конституционного акта — от изби-
рательной системы до организации исполнительной власти, то нетрудно
догадаться: он считал возможным позволить фельянам завершить их труд,
поскольку был убежден, что, когда -еггцыл Конституции отойдут от дел, их
творение вскоре подвергнется не {^работке Бриссо заранее облекал новый
законодательный орган учредительными полномочиями, и. став депутатом,
он будет без устали пытаться наделить ими Законодательное собрание, для
управления которым нспс^ьэует два рычага — Якобинский клуб и прессу.
Уже с первых своих заседаний Законодательное собрание, подстре-
каемое небольшой группой жирондистов, отмежевалось егт Учредительного
и воскресило революционный дух 1789 г., несмотря на попытку фельянов
«закончить Революцию» и на то, что шел уже 1791 г Ойо начало с тот.
что отказалось от принятого Учредительным собранием порядка шк ещеиия
королем зала заседаний. затем посягнуло на гарантированный Конституци-
ей принцип разделения властей и таким образом реформировало смстгму
парламентских комитетов, чтобы они могли жестко контролировать прави-
тельственные департаменты 1аким образом, Зам'»нодлтельи1|е собрание
утверждало свое превосходство, покалывая, что считает себя не одним и ч ко-
лес конституционного механизма, а защитником Конституции и народный
суверенитета от происков подозрительной королевской власти.
Революция, которую фельяны полагали завершившейся, тем не менее,
продолжалась. В последующие дни За кош? да гелыкс собрание ы?л/шовнао
ее п[югив внутренних врагов, аристократического заговора и его зарубеж-
ных пособников. 7 октября Кугой, в то время близкий к жирондистам,
1^г f^ainrHe 1га<цзи. /\w729 Н дой 1791. Р 1Ы.
Внутренний |МТ.ЧЛМГНТ ЗаигжоДательного был 1ft октября Е/n яагдеиме
в дгйгтине фамт1г<г<нн Г1одчмкя.м> жпомштельнтю влд» гъ Со^мни* Танлл не «эггувукя.
П(»авдА, имел* место и м Уч{>елитгл»»х/м д/wmu м «(itma еще не 6ы.и
примята Кмжтитуцня. ин|«делмдшлм Гк/л>м/и<пия рдлАНчммх влдстем. Перлинь 21 мошитеп
3jMLrttf>AjrtAJi>*Kxo <.и6[»4мн;4 см. Мопнеш Т. X Р.124
128
Обстоятельства и война
потребовал принять меры против священников, отказавшихся принести
присягу Двумя днями позже настала очередь /Лансонне поставить во-
прос об их ответственности за вспыхнувшие в Вандее волнения 20-го
Лекиньо, Крестен и Бриссо по очереди поднимались на трибуну, что-
бы осудить эмигрантов, а также немецких князей. принявших их у себя
и потворствующих их заговорам Развернулась агитационная кампания
в пользу войны?4). В ходе ее была поднята тема громадного заговора,
затеянного священниками в сговоре с эмигрантами из Кобленца, фи-
нансируемого пр и рей иск ими князьями и тайно инспирируемого великими
державами с Австрией во главе Так Законодательное собрание, по под-
сказке жирондистов, нашло себе троянского коня, который позволил ему
выйти за пределы очерченных Конституцией полномочий и присвоить себе
столь желанный статус революционной власти.
Как мы видели, вероятность агрессии извне в то время была равна
нулю иди близка к нему: поджигателям войны в 1791 г. крайне не доставало
врагов. А потому им приходилось использовать все риторические средства,
чтобы сохранять реальность смутно маячившей впереди опасности, когда
даже за малейшей угрозой тут же следовал примирительный жест. То они
говорили о необходимости потребовать изгнания эмигрантов и уверяли, что
Европа уступит, то извлекали на свет идею превентивной войны... Вой-
ны наступательной или оборонительной? Цель ее долгое время оставалась
не ясна, и жирондисты воспользовались этой неопределенностью, чтобы
навязать войну в качестве центральной темы политических дебатов и вы-
звать подвижки в общественном мнении, необходимые для того, чтобы
сломить последнее сопротивление.
Возможно, что в тот момент Бриссо еще не предполагал ни вовлечь
Революцию в авантюру настоящей войны, ни экспортировать ее принципы
за рубеж. 22 октября, накануне того дня, когда он развернет кампанию
в пользу войны, он и в самом деле писал своему родственнику, уехавшему
жить в США, что вероятность войны равна почти нулю: «Спокойствие,
которым мы, похоже, вскоре будем наслаждаться, побуждает меня принять
участие в предложенном моим другом Лантена проекте создания сельскохо-
зяйственного предприятия в Нормандии... С тех пор как король утвердил
Конституцию, иностранные державы отказались от всякой идеи нападения
51'Moni(eur. Т.Х Р 56-57.
5^lbid. Р. 329-332. 345-346.
Я*1Ы. Р 159-161. 162-164. 171-173.
Впервые эта кампания наметилась в августе, прежде всего в прессе. Гак, Брного,
еще в июле осуждавший «напрасные страхи*», которые Учредительное собрание пытается
вызвать у французов, в августе стал говорить о неизбежности возникновения аитифранцузскон
коалиции Эта радкка.\ышя смена курса объясняется стремлением обострить обстановку в тит
момент, когда фельяны сделали ставку на успокоение и стаби.шзацию.
речь, произнесенную Бриссо 20 октября 1791 г. (Monrteur. Т. X. Р. !71).
От Варснна к войне
129
на нас; ip.kwm образом, нам нечего опасаться извне. Эго побуждает нас
приобрс тать собственность и укрепляться здесь»
Бриссо совершенно не собирался подвергать Революцию и особен-
но свои личн ые планы риску войны с Европой. Он хотел только грозишь
Европе. Агитационная кампания в пользу’ войны, точно так же. как декреты
от 9 ноября против эмигрантов и от 29 ноября против отказавшихся при-
сягнуть священников, была направлена на достижение чисто политических
целей внутри страны. Враг, в которого метили, находился не в Вене и да-
же не в Кобленце, а в Тюильри; исход борьбы должен был решиться
не на берегах Рейна, а на берегах Сены. Избрав в качестве мишени сначала
священников н эмигрантов, а затем — австрийского императора, обвиня-
емого в подстрекательстве их к совершению контрреволюции, пытались
вынудить короля разоблачить себя и самому представить доказательства,
что он никогда не согласится с 1789 годом. Бриссо ошибочно думал, что
Людовик XVI ни за что не захочет начать войну против своих братьев,
против части своего дворянства и против Австрии, с которой был связан
браком и договором 1756 г. Нагнетание военной угрозы должно было
показать, что Людовик остался королем Старого порядка, инородным для
нации телом, которое сохранилось, благодаря Конституции, как яд, убива-
ющий нацию. Бриссо рассчитывал таким путем отделить короля от нации,
заставить его выступить в роли врага Революции, чтобы добиться, наконец,
того, что не удалось после Варенна — установить республику
Двойное вето, наложенное Людовиком XVI на декреты об эмигран-
тах (11 ноября 1791 г.) и о неприсягнувших священниках (19 декабря),
стало первым успехом стратегии Бриссо^. Однако примкнув 14 декабря,
по инициативе своего министра Нарбонна, к партии войны, король сделал
конфликт неизбежным, вынудив тем самым Бриссо идти гораздо дальше,
чем тот ранее рассчитывал. И как Бриссо предвидел, война, объявленная
20 апреля 1792 г., должна была вскоре привести к республике 11о он не мог
и предполагать, что установление республики произойдет без его помощи,
а сам он даже станет одной из ее первых жертв.
Brissot J.P CaiTesponchnce et papim / Ed Cl Penoud P„ 1912. P 27-* О «сельско-
хозяйственном предприятии упомянутом Бриссо. см. PcrrQud Cl. Un pr*>tct dr ponr
une association agucolc // La Revolution fran^aise. 1902 P. 260-265
О развитии милитаристской стратегии жирондистов есть богатое фактами же v домине
отмеченное, однако, наивностью оценок, побудившей автора восславить жирондистов как
«пионеров циничнзацин». См.: Co/z-fiemjlrin НА. La politique exteneure de ВгкмЯ el
des Girondins. P., 1912.
Приняв 8 апреля 1792 г. закон от 9 февраля того же голь определявший условия
секвестра на доходы эмигрантов. Людовик XVI фактически ото знал свое вето 19 декабря
Г) ** Об эскалации с середины декабря 1791 г. событий, сделавших конфликт неизбежным,
и о важной роли. которую в этом сыграло восшествие 1 марта 1792 г на императорский трон
Франца II, см. Alto! Fr. Op. cit. P 34-58. 82-121
-VI
Начальные шаги leppopa
(1791-1792)
Первые чрезвычайные законы
Террор предшествовал воине. Можно даже установить точную дату
начала применения Террора, причем уже не в «революционной политике»,
где он на и словах, и на деле использовался еще с 1789 г., а в «политике
Революцию». Это — 9 июля 1791 г., когда Учредительное собрание предъ-
явило эмигрантам ультиматум. решив наложить денежное взыскание на тех,
ктп не вернется в течение месяца, и пригрозив также привлечь их к су-
ду по обвинению в государственной измене, если произойдет иностранное
вторжение 9.
Этот декрет выходил за рамки чрезвычайного законодательства. Если
не по содержанию, то по своему духу он относился к террористическим
мерам. В отличие от уже упоминавшегося октябрьского закона 1789 г.
о чрезвычайном положении, этот, несмотря на умеренность предусмотрен-
ных им санкций, не наказывал за какое-то определенное преступление,
когда органы юстиции обязаны предъявить доказательства вины. Он был
направлен против целой категории населения — против всех тех, кто
покинул территорию страны начиная с 1 июля 1789 г. Во внимание не при-
нимались даже различия в мотивах отъезда, которые неизбежно в разных
случаях были разными. Несомненно, избранная дата показывала, что име-
ются в виду только те, кто покинул Францию из враждебного отношения
к Революции, но при этом не делалось никакого формального исключения
для тех, кто уехал вне связи с политическими событиями. Закон оставлял
исключительно на усмотрение административных органов решать, кто имен-
но из эмигрантов должен попасть под действие указанных санкций. Более
того. закон от 9 июля объявлял преступным деяние, которое до сих пор
не только не запрещалось, но даже признавалось одной из фундаменталь-
Momteur. 7 IX. Р. 2Л0
Первые чрезвычайные законы
13!
пых свобод. Отныне факт выезда из королевства в ситуации, пригнанной
исключительной, рассматривался как преступление
Мипир относил момент вторжения Террора в парламентскую практи-
ку к cine более раннему времени. Он связывал его с дебатами по вопросу
об эмиграции в феврале 1791 г., ставшими, по его мнению, -первым шагом
к Герреру» Дис куссия 24 февраля об отъезде теток короли в Рим.
а затем 28 февраля — по представленному Ле Шапел1*е проекту аакона
об эмиграции, где предлагалось созда ть * диктаторскую комиссию* для вы-
дачи разрешений на выезд из страны, была. писал Мишле, «почем великом
битвы, ма котором сошлись и вступили м»*жду собой в борьбу два ириниигм.
дна подхода. Один — основополагающий и естественный принцип, j «ди
которого была совершена Революция. — справедливость или рааемегтшо
людей; другой — принцип практическом пользы, выгоды называемый об-
щественных спасением и сгубивший Францию <...>, столкнув се в ноток
смертоубийств» В действительности же эти два «принципа ♦. эти дна
«подхода» столкнулись на парламентской арене еще раньше — в июле
1789 г,, во время дебатов о неприкосновенности частной коррп пондгнции.
Однако в арсенал законодательной власти принцип общественного спасения
вошел лишь н июле, а не в феврале 1791 г. В феврале большинство членов
Учредительного собрания пошло за Мирабо и отклонило предложенные
чрезвычайные меры. В июле же они открьии ящик Пандоры. проголосован
за чрезвычайные законы.
Таким образом. leppop в форме мер, принятых во имя чрезвычайных
обстоятельств и практической целесообразности, начален раньше. чем вой-
на, Но отсюда отнюдь не следует, что война нс имела никакого отношении
к его появлению. Однако члены Учредительного собрания, к > ди примима \и
в июле решение ударить по эмигрантам, более или менее искр< икс и по тем
или иным причинам опасались войны. Их же преемники из Законодатель-
ного собрания к ней стремились, когда и ноябре 1791 г вновь ноаобнинили
Закон от 29 ноября 1791 г. П|ютир нелртк я гнувши» < втценннмж. в mxm.v мы обратимся
чуть позже, носил Волге ярко выраженный тсмм>ригп1чг< кин .хл^мккр. чем декрет .жт 9 мюх*
1791 г., однако оба были И(юннк1пты одним духом К кал.дому н<» ник м<»жн" отнесп<
сказанные н ноябре слона Жансоиие: «Это — закон (ман<>й стгпнж v< •днмй. oiuuiu.m
и неконституциониын <...> Дгклдрацрей прав установлен., чъ/щ ннл<яп >и» a|M4'i<ihhb4»h
и иг содержали нол стражей, кроме как в <.<ютвстстъин с <цлг.и»н» вм»м»н |\<и« ;гнуннгп
процедурой; — чтобы никого иг 11<*днг{>галн наклмниич к^м«мг «ал на <к1м)»апни ыь »и.п
предварителыю опублмконаниых в легальным образом примененных Тем нс менег. ми
предлагаете закон всеобщей ироскриПЦИВ по отношению к гражданам, которые лллгкч не все
виновны в ранной степени. И наконец, в «к ниву Конституции положено разделение влаепгй,
из-за чего знконодателыыя власть никогда нс должна 6jHTb на егбн судебную функцию,
будучи ибнллна лишь оирс делить на кала пни. ио миюжм образом ие тцжмгнгть их в маком либо
частном случае пли 1Ю отношению к какому-либо конкретном} индивиду» (Ibid Г. X. Р 2Н6)
" Michelet J. I libhiue de la Revolution 1гащ^нас Г. I. P. 536-552
P.544-5451 Momteur T. VII. Р.5ОЗ-5И.
132
Начальные шаги Террора (/79/- Г?Ч2,)
в еще более жесткой форме ранее принятые, но сие. чинные на пет амнистией
от 14 сентября меры против эмигрантов и одновременно вступили на путь
репрессий против неприсягнувших священников. Борьба с предполагаемыми
врагами Революции пошла по нарастающей, что особенно ярко проявилось
в отношении священников.
Первыми под удар попали эмигранты. 9 ноября 1791 г. Законода-
тельное собрание объявило французов, участников <сборищ» за границей,
«подозреваемыми в заговоре против Франции», а если эти сборища не рас-
сеются до 1 января 1792 г., — «виновными» в указанном преступлении.
Надо заметить, что этот закон давал некоторое послабление по сравнению
с законом от 9 июля, ибо карал, по сути, за конкретное действие — участие
в «сборище» или, иными словами, за эмиграцию в Кобленц, а не за один
лишь факт выезда из страны. Закон от 9 ноября не касался той эмигра-
ции по политическим мотивам, которая нс сопровождалась враждебными
действиями в отношении Франции. Однако, с другой стороны, переда-
ча обязанности наказывать виновных трибуналам, подобным Верховному
суду, ужесточала предусмотренные этим законом санкции, поскольку вме-
сто введенных Учредительным собранием денежных штрафов предполагала
смертную казнь и конфискацию имущества Законодательное собрание
наносило удар более прицельно, а значит, и допуская меньше произвола, чем
его предшественник, но било гораздо больнее. Закон от 9 ноября был менее
«террорнстичным», чем закон от 9 июля, поскольку точнее формулировал
вину, но зато превосходил его по жестокости налагаемых санкций.
Эскалация репрессии продолжалась и далее. 9 февраля 1792 г. Зако-
нодательное собрание наложило секвестр на доходы эмигрантов; 27 июля
конфисковало их собственность; и, наконец, 1 марта 1793 г Конвент, объ-
явив их «навсегда изгнанными» н «мертвыми в гражданском отношении»,
приказал казнить тех, кто вздумает вернуться или, вернувшись, не захочет
снова уехать Начиная с этого времени эмигрантов уже не преследовали
как виновных в преступлении против нации: они были отделены от нации.
врагами которой стали, покинув страну.
Здесь необходимо отметить не столько усиление вводившихся с 1791
по 1793 гг. наказаний, сколько преемственность в настроениях до и после
начала войны. Принятые после открытия боевых действий июльский закон
1792 г. и мартовский 1793 г. карали ту категорию лиц, из которой лишь
отдельные индивиды подняли оружие против своей страны; июльский же
и ноябрьский законы 1791 г., аналогичным образом трактуя эмиграцию как
5)Moni(eur. ТХ Р 332-333. Закон наказывал также должностных лиц, военных
и приравненных к должностным лицам принцев — братьев Людовика XVI и Конде —
за выезд из страны без разрешения правительства немедленной конфискацией их доходов
и жалования, а также — отрешением от должности.
611Ш. T.XV. Р. 595-596.
Первые чрезвычайные законы
133
Преступление, были направлены против тех, кто еще не был врагом, а лишь
находился в оппозиции.
А вот в том, что касалось неприсягнувших священников, между по-
зициями Учредительного собрания и Законодательного скорее имел место
разрыв, чем преемственность. В начале мая 1791 г. члены Учредительного
собрания рассмотрели постановление, принятое 11 апреля директорией де-
партамента Париж. Почти ежедневно сталкиваясь с актами агрессии по от-
ношению к монахам, оставшимся верными своим обетам, и по отношению
к неприсягнувшим священникам, директория во имя свободы совести и сво-
боды культа разрешила верующим арендовать здания, даже религиозные,
для отправления культа по своему выбору7). Талейран и Сийес, депутаты
Учредительного собрания, но также члены директории и возможные авто-
ры постановления от 11 апреля, добились принятия декрета, одобряющего
действия властей департамента: «Национальное собрание, — говорится
в преамбуле, написанной Синесом, — заявляет, что акт директории про-
диктован теми же принципами религиозной свободы, которые оно признало
и провозгласило в Декларации прав»8). Далее декрет запрещал чинить
препятствия нсприсягнувшнм священникам в служении мессы и признавал
за верующими, не согласными с гражданским устройством духовенства,
право создавать «частные общества» для аренды не используемых госу-
дарственными священнослужителями церквей, дабы там отправлять свой
культ и даже причащаться святыми дарами. Этим декретом Учредительное
собрание подтвердило свою нерушимую верность принципу религиозной
свободы. Сийес напомнил, что свобода не может быть «лишь принципом
без применения»; она не хранится «на складе абстракций, ключ от которого
законодатель держит при себе, постепенно, в зависимости от обстоятельств
выдавая се малыми дозами по собственному усмотрению»9).
Некоторые историки, тем не менее, замечают, что Учредительное со-
брание, хотя и нашло принципам применение, но существенно ограничило
его пределы, ведь декрет от 7 мая 1791 г. устанавливал полную религи-
озную свободу лишь в границах департамента Париж Таким образом.
Учредительное собрание не пожелало отменить ряд постановлений, вы-
держанных в прямо противоположном духе, как. например, постановление
от 22 апреля администрации департамента Финне тер, приказавшей из-
гнать неприсягнувших священников из их прежних приходов. Критика эта
не вполне обоснованна. В самом деле, торжественно объявляя, что раздела-
7,Ibid. T.VIIl. Р. 126—127.
Moniteur. T.VIIl. Р 343. О роля Талейрана к Сийеса в этом обсуждении см/. Lacour-
Cayet G. Talleyrand [1928-1931]. P.. 1990. P 142-144. Br'din'j.D. Siyee. La de
de la Revolution Iranqaist. P., 1988. P, 192-198.
9) Moniteur. T.VIIl. P.339
19 ’ На этим настаивал в своем докладе Талейран (Ibid. Р.338).
134
Начальные iuaiu Террора (1791 - 17‘/2)
ст принципы администрации департамента Париж. Уч|кдмтельное собрание
предписывало местным властям линию поведения, противоположную тем
репрессивным мерам, которые кое-кто из них уже принял и к которым
склонялось большинство остальных. Оно напоминало нм, что обязанность
карать преступления, совершенные под «предлогом религии», нельзя трак-
товать как право подавлять какие-либо религиозные взгляды или запрещать
их выражение.
Но даже если критика в адрес Учредительного собрания нс справед-
лива и если нельзя согласиться с тем, что результатом его декрета стало
установление религиозник свободы в столице при одновременной отмене ее
от Бреста до Кимпера’’\ то все же решение депутатов было в некотором
роде соломоновым Хотя они и воздали должное принципам, тем не ме-
нее, принятый под предлогом верности этим принципам декрет от 7 мая,
в действительности, закреплял не столько религиозную свободу для не-ка-
тпликов, провозглашенную в 1789 г., сколько раскол внутри католической
церкви, вызванный гражданским устройством духовенства. Он. по словам
Трейяра, весьма оппозиционно настроенного по отношению к этому «эдикт)’
о веротерпимости», санкционировал существование «двух [католических]
культов там, где сейчас есть лишь один», и где, полагал Чрейяр, их вообще
не может быть больше одного Постановление властей департамента
Париж поставило Учредительное собрание перед недвусмысленным выбо-
ром. либо отменить гражданское устройство духовенства, либо установить,
в случае необходимости — силой, чисто внешнее единство католического
культа, признанного и материально поддерживаемого государством. Собра-
ние должно было либо капитулировать, либо приступить к репрессиям. Оно
не желало и не могло капитулировать, а к репрессиям испытывало отвра-
щение. В результате оно предпочло придерживаться наиболее удобного для
себя кредо, которое на самом деле никоим образом не могло разрешить
созданную его же собственной религиозной политикой ситуацию, близкую
к гражданской войне. К тому же декрет от 7 мая 1791 г. не положил ко-
нец ни религиозным волнениям в столице, ни репрессивным устремлениям
местных властей
И вот в обстановке подобной анархии, когда провозглашение свободы
вероисповедания даже внутри самого католического культа ничуть не пре-
пятствовало все более широкому ее подавлению на практике, Законо-
дательное собрание, в свою очередь, приняло соответствующий закон
1!'Таконо ошибочное, на мой взгляд, мнение Ладана Борумана См.: Boroumand L
L Homme мгн aouveraincir Drotts de ГЬяшпе et druit de la nation dans lee assemble*
de la Revolution fran^aur These de doctoral. P.. 1995. 2 vol T. I P. 357 — 363.
Moniteur T.VIIl P. 165.
Auiard A Les ongines de la separation des Egiisea et de Г£са( // La Rrvolufioft
йапсаье 1905 P 134-136. 227-228.
Первые чрсявычайные яачаны 1 5 5
от 29 ноябри 1791 г. Это был решительным разрыв, если и не с Практиком,
которую данный декрет ско(>ге продолжал чем начинал. то с действни-
щими правовыми нормами. Новый закон не оспаривал принцип свободы
вероисповедания и. стало быть, не запрещал кятоанклм сохранявшим вер-
ность римской церкви, отправлять свой культ, Казались даже, что он идет
по пути уступок, отменяя вызвавшую в начале 1791 г рас кол среди клира
клятву на верность гражданскому устройству дух листва к нвпдя вместо
нее обычную присягу на верность Конституции государства Но зтп 6ым<
чисто формальные уступки. Хотя Законодательное собрание и ш дгы-рднлп
свободу вероисповедания, оно постановило запретить доступ к приходским
церкпям — даже к тем, что не использовались служителями rot улар» тисн-
ного культа — приверженцам неприсигнувшего духовенства и тем самым
обрекло их на полуподпольное существо ван я»- Что касается зммгны преж-
ней клятвы политической присягой, то хотя это. казалось, я упрощало, хак
считал Оларн,« отправление культа папистами, все тлки, гця-жде всего,
этот шаг вел к превращению служителей всех культов в государственных
чиновников, обязывая их поддерживать принимаемые законы. включая те.
что противоречили их совести.
Под предлогом восстановления гражданского мира злкмн or 29 ноябри
1791 г. создавал, в действительности, условия д\я флктичг. юн и запрета
негосударственного культа. В декрете оговаривалось, что священнослу-
жители, отказавшиеся присягнула на верность Конституции. лишаются
жалования и пенсий и «становятся подозреваемыми в несоблюдении за-
конов и в дурных намерениях против отчизны • В случае возникнове-
ния беспорядков, даже если сами эти люди оказались бы их жертв,imh
администрация департамента получала право после консультации с адми-
нистрацией соответствующего дистрикта высылать их -»с меч гл <юычнпт»>
проживания», а в случае «неповиновения* отдавать под суд, который мгн
дать нм два года тюрьмы,7) Фактически местные власти получали и. \н\ю
свободу действий для того, чтобы нанлучшнм поразим найти выход м-м
подозрениям или даже просто сомнениям, к-иорыг не не ны+ыплп.
вынужденно полуподпольное существование hci-икорного думай ж nw Л»
кон от 29 ноября отменил «Нантский эдикт», шестью м<ч яц.<ми рю»»*
принятый Учредительным собранием.
17 ноября докладчик законопроекта Франсуа д» I ta;>:.n»vn (.irona\
за лишение нсприси! нхнпш.х священников ЖАДОваИМЖ иашллэув (ак».й
образ: «Какие возражения выдвигаются против этого пункта-1 ( 1ьманюя
на Конституцию, защищая тех. кто не хочет се прн н .п^ль > lor да
я сравнил бы нацию с отцом семейства, кеюрый, обнаружив у себя
в поле ядовитых рептилий, лишает своих детгй пищи, чтобы кормить
M4l>.d Р.215.
^Collection ha.. T.IV P 23-20.
136 Начальные cuaiu Терргюа (1791 — 1792)
«тих насекомых [jic]»,fT Этот образ нес в себе гораздо более сильный
заряд, нежели того требовала цель. для достижения которой Нефшато mi
использовал; и Торне, епископ Шера, отвергавший идею любых репрессии,
хотя сам и принадлежал к конституционному духпвеис тву, показал, к каки*
последствиям, в конце концов, может привести подобное сравнение:
Может лк отец семейства позволить существовать на своем по-
ле (<птклиям, которые бесконечно наносят его детям ядовитые укусы?
Такое довод, предлагаемый нам сторонниками политической нетерпи-
мости, но это не более чем софизм. Надо щадить тех. кого щадит
Конституция. или. по меньшей мерс, не возлагать на них более тяжкое
бремя. чем возлагает она сама. Нельзя без нарушения общественного
договора ужесточать обязанности, налагаемые им на граждан. Сравнение
с рептилиями привело бы к высылке из страны всех врагов Револю-
ции uiu к их истреблению внутри самой страны, поскольку отец
семейства обязан истребить гадюк но своем поле г7\
Именно по такому п\ти вскоре н отправилось Законодательное со-
брание. Людовик XVI наложил вето на закон от 19 декабря 1791 г.
В мае 1792 г Собрание вернулось к этому вопросу. 27-го оно разрешило
властям департаментов высылать неприсягнувших священников, если того
потребуют двадцать граждан Людовик XVI отклонил и этот закон,
как предыдущий. но после свержения монархии Законодательное собрание
нанесло непокорному духовенству смертельный удар: 26 августа 1792 г.
оно приказало неприсягнувшим священникам покинуть территорию страны
в течение 15 дней под угрозой депортации в Гвиану, а тех. кто был болен
или был старше 60 лет. распорядилось взять под стражу
Эскалация репрессий, имевшая место в 1792 г.» происходила в духе
декрета от 29 ноября 1791 г. Так же. как и в случае с законодательством
об эмигрантах, война и сопутствующие ей обстоятельства могли оказывать
некегто/юе влияние на ужесточение санкций, но не меняли самого Л.ТО.
которым были проникнуты уже первые репрессивные меры, принятые jo
начала военных действий п(ютив Австрии.
Между войной и чрезвычайщиной
Относительно первых дискуссий об эмиграции в феврале 1791 г.
.Мишле заметил, что «это якобинские бастарды — Барнав. Дюпор и Ла-
^Мопкгш.Т.Х. Р 403
^Цкт. гю fioroumand L. Op cil Г I Р 379 (курсив мои. — П.Г.).
В апреле 1792 г., судя по докладу министра внутренних дел Ролана, этот мной
применялся в половине департаментов, несмотря на королевское вето (Aulard А Lee оп©п«
tie la aeparaiw/n de* Lglite* ef de l Elal P 140).
,9)CoBea>nn det 1он... T IV P. 209-210
201 Ibd T IV P 423-424.
Afe»/*/ »ои*юы u чрс **»*•**№ цсмхед
137
мет — г ?хгтнво[кх тзвнаи справеххмвостн прело, основанное на практи-
ческой лъиьяе — право оби^гсглвенною спасения. смертоносное оружие,
клинок без рукояти, который поразил ил самих» *:>. Действительно, именно
Е)армав первым додумался предложить 25 февраля 179| г чречяычаннме
меры против эмигрантов, заявив, что «в критические времена» нация впра-
ве предпринимать любые шаги, диктуемые •необхолилюстью» и только ею
одной Таким образом, в Учредительном собрании инициативу по при-
нятию чрезвычайных мер проявили отнюдь не бугутцие члены Конвента,
уже тогда занимавшие крайне радикальные позиции, а их б^дутцие жгрт
вы — лидеры фелъянов, ставшие летом 1791 г. умеренными. Ни Робеспьер,
ни Приер, ни Ребель ничем не отличились в этих дебатах Почему же —
спрашивает Мишле, — Барнав и братья Ллметы «защищали право прак-
тической выгоды? Можно гадать, искренне они это делали или нет. однако
надо заметить, что они имели в этом вполне конкретную за интере*. «»лан-
ность» И в самом деле, искренность их довольно сомнительна, нигере» же
очевиден. Александр и Шарль Ламеты только что пережили жестокую
схватку в Якобинском клубе, где Бриссо добился того, *гп» из списка
филиалов был исключен за недостаточный патриотизм клуб, основанный
их братом Теодором в Лон-ле-Сонье. Ламетам. чьи по сиу нм на улице
Сент-Оноре оказались ослаблены, требовалось, как говорит Митче, «про-
демонстрировать рвение» перед трибунами Учредительное обрания Они
должны были подтвердить свою революционную чистоту, постай семную под
сомнение23). Схожие мотивы имел и Барнав. Он сам признал это в очерке
о Революции, который написал в 1792 г., находясь в тюрьме Гренобля. На-
помнив, что в последние месяцы 1790 г. он и его друзья п<н пятили бпсьпцю
часть своего времени подготовке важных законопроектов (о судьях, о пра-
вилах продвижения по воинской службе и т д.) и пренебрегали посещением
заседаний и Собрания, и Якобинского клуба, Барнав ссхющагт. что когда
они вновь смогли регулярно бывать на этих заседаниях в начале 1791 г.,
то обнаружили, насколько изменилась ситуация и, прежде всею, их соб-
ственное положение. «Доверие, которым мы подь^.нллисъ в Собрании. —
пишет он, ослабло, а моя популярность вне его стен заметно снизилась-
Ситуация весьма болезненная для человека, столь об»/ж^ашего «чары попу-
лярности», как Барнав. «-Как только слабый человек ч>н< гнуп что теряет
популярность, — пишет Барная в заметке, явно относящейся к данному
эпизоду, — то начинает предпринимать массу усилий, чтобы ее удержать.
Обычно в такой момент он меньше всего руководствуется своими убежде
ниямн и может позволить себе совершить самые большие глупости и самые * 22
* ’’ Muhcld I Hifiloire de Ь Revolution 1га(ци*с Т I Р 545
22) Monitor. Т VII Р. 479
1 Michetel ] HiMoae de la RevohitMm fr»a^4U»e T L P 546.
Bamaue A. Op. al. P. 136
138
Начальные шаги Террора (1791—1792)
ужасные нелепости»» Именно в такой момент, когда он. как сам скажет
позднее, перестал быть «полностью» самим собой, каждая совершенная
им ошибка подталкивала к совершению новой. Чтобы вернуть потерянные
популярность и влияние, он прибег к радикализму, признав к жестким
мерам против нгприсягнувших священников, к роспуску Общества друзей
монархической Конституции, к принятию закона против эмигрантов...
«Эти инициативы отнюдь не означали, что Барнав стал приверженцем ради-
кализма Он действовал исключительно по расчету, пытаясь стремительным
рывком выдвинуться на первый план. К принятию репрессивного закона он
призывал отнюдь не потому, что считал отъезд теток короля представляю-
щим серьезную угрозу для безопасности государства, а потому что проблема
эмиграции имей большую значимость для революционного общественного
мнения и давала хорошую возможность восстановить утраченную популяр-
ность. В этом смысле вторжение Террора в сферу парламентских дебатов
в феврале 1791 г. никоим образом не диктовалось реальной ситуацией,
а стало результатом тактического использования обстоятельств, которые
сами по себе были малозначимы, но искусственно раздуты в политических
целях, непосредственно с ними не связанных. Барнав н его друзья думали
таким образом восстановить свое влияние на улице Сент-Оноре в тот
момент, когда на горизонте уже наметились дебаты (об организации ветвей
власти, о регентстве и о колониях), в коих они не могли выступать с по-
зиции слабого, поскольку собирались отстаивать там именно «умеренную»
точку зрения. Им нужно было казаться радикальными, чтобы повысить
шансы на обеспечение поддержки большинства проекту, в основе своей
умеренному.
Такой же стратегический расчет, как в февральских дебатах 179! г.,
имел место фактически на протяжении всей истории Террора. Так, ноябрь-
ские законы 1791 г. против эмигрантов и неприсягнувших священников
не были ответом на столь реальную или, по меньшей мере, столь конкрет-
ную угрозу, как можно было бы предполагать, судя по строгости принятых
мер. Эти законы не пресекали какой-либо уже существующий заговор. Они
превращали в заговор поведение и поступки, такие, как эмиграция и отказ
принести клятву на верность гражданскому устройству духовенства, —
поступки, конечно, выражавшие оппозиционное отношение к Революции,
но совершенно не означавшие наличие заговора. Именно репрессии против
подобных проявлений оппозиции и создали из этих разрозненных действий
образ всеобщего и единого заговора.
Нечто похожее произойдет и во время «Великого террора» 1794 г.,
когда жертвы Революционного трибунала будут отправлены на гильотину
не потому, что виновны, а, напротив, их станут считать виновными как
Manuscnts de Bamave Biblioilieque muniopak de Grenoble. Cahier 2. f. 93.
261 ВотаиеЛ Op. dt. P. 136—137
Между войной и чрезвычайщиной
139
раз потому, что они отправлены на гильотину. В 1791 г. репрессии не бы-
ли ответом на угрозу, они сами создали ее как фантастический роман,
слепленный из предположений, разрозненных деяний и актов бессильного,
в действительности, сопротивления. В 1794 г. речь пойдет уже не о том,
чтобы использовать обстоятельства в репрессивных целях, а о том, чтобы
изобретать такие обстоятельства, фабриковать их для оправдания репрес-
сий. проводимых без какой-либо связи с реальной опасностью, хотя бы
минимальной. В 1791 г. последствия еще не были кровавыми, ни механизм
уже был тот же, что и в 1794.
Разумеется, нельзя исключать, что революционеры, как пол а га к Кннэ,
верили, будто «объединившееся за границей дворянство является ужасной
силой. Им рисовался пугающий призрак армии Конде и всех этих сборищ
в Вормсе» 27). Воображение вкупе с весьма неточной информацией, несо-
мненно, могли сыграть злую шутку с многочисленными активистами секций
и клубов. Однако сами депутаты черпали информацию отнюдь не из « Дру-
га народа». Они имели доступ к докладам правительства и парламентских
комитетов, и наиболее влиятельные из членов Собрания, конечно же. обла-
дали гораздо более точным представлением о реальной ситуации Бриссо
знал, насколько маловероятна война, которую он публично объявлял неиз-
бежной. А Верньо, боровшийся тогда же за ужесточение законодательства
против эмигрантов, даже находил неуместным аргументировать свои требо-
вания ссылками на обстоятельства: «Нет, — говорил он, — эти мятежники
не ужасны, а столь же смешны, сколь дерзки <...>; с каждым днем их
ресурсы тают». И. в конце концов, он, чтобы убедить своих коллег, не на-
шел ничего лучшего, чем заявить: «Их нынешнее бездействие, возможно,
скрывает тайные замыслы»
Изобличаемый заговор являлся, в действительности, чисто риториче-
ской конструкцией, созданной с определенной целью Ноябрьские законы
1791 г. были неотъемлемой частью общей стратегии, имевшей целью пред-
ставить воину, для которой не было никаких оснований, как необходимое гь.
Речь шла о том, чтобы принятием репрессивных законов яродеминстри-
ровать: существует внутренний заговор, затеянный нс присягнувшими свя
щенниками и руководимый из-за рубежа эмигрантами, которых, в < вою
очередь, укрывают немецкие князья и поддерживает Австрия, действую-
щая в тесной связи с «австрийским комитетомн Тюильри С тавилась цель
убедить, что нет другого решения, кроме войны, и создать при помощи
чрезвычайных мер видимость того, что отечество находится в смертельной
опасности и необходима политика общественного спасения. Эго позволи-
ло бы Законодательному собранию и его жирондистским лидерам изба-
виться от конституционных ограничений своих полномочий и присвоить
Quinel Е La RevolutifMi. Р. 263.
2М) Moniteur. Т X. Р. 210.
140
Начальные uiaiu Террора (J791—1792)
себе столь желанную х\я них революционную, учредительную власть^1.
Для подобной политической операции Террор был всего лишь инструмен-
том. Если даже эмигрантам и неприсягнувшкм священникам и предстояло
стать его жертвами, метили, прежде всего, не в них. Людовик XV], мо-
нархия. Конституция — вот главные мишени, поразить которые можно
было лишь в условиях общего кризиса. Подавляя предполагаемые загово-
ры, жирондисты сами их выдумывали. Они нуждались в заговорах так же.
как нуждались в изменах и поражениях. Бриссо почти не скрывал этого,
когда 30 декабря 1791 г. заявил в Якобинском клубе; «Признаюсь, господа,
я опасаюсь лишь одного — что нас не предадут. Нам нужны великие изме-
ны*, как единственное средство избавиться от «больших доз яда», до сих
пор таятцихся в теле Франции Таким образом, в 1791 —1792 гг. Террор
и война вписывались в логику политической радикализации, имевшей целью
совершение государственного переворота.
♦ ♦ *
Наличие подобного тактического расчета в применении Террора от-
нюдь не означает, что он никак не был связан с войной или, иначе говоря,
с обстоятельствами. Война, особенно если она сопряжена с поражениями
н неприятельским нашествием, как это произошло в 1792 г., всегда и в лю-
бом контексте создает новую ситуацию, управлять развитием которой,
по меньшей мере, сложно.
Даже когда власть опирается на поддержку граждан, уважающих ее
институты, война не благоприятствует свободе политических дебатов и бес-
препятственном}' выражению различных интересов и мнений, имеющих
место в обществе. Потребность в мобилизации усилий, военная необхо-
димость, угроза — пусть даже ограниченная — основам существования
политического организма, гибель солдат на фронте — все это естествен-
ным образом застаакяет умолкнуть внутренние распри и безоговорочно
принять священное единение, к которому вынуждает ситуация. Те же. кто
отказываются пожертвовать своими интересами и мнениями, представля-
ются уже не конкурентами или оппонентами, как это было еще накануне,
а плохими гражданами и даже подкупленными врагом предателями. По-
добное следствие войны можно наблюдать во все времена и при любых
2?J Жирондист Делона из Анжера в дебатах 30 июня 1792 г об • опасности для отечества»
откровенно признаках: «У нас трудное положение, и народ, требу-югунн от вас спасения,
предоставляет вам все полномочия для осуществления своего суверенитета, Везде и во асе
времена его власть абсолют**, и < ...> он умоляет вас отринуть все, что сдерживает и тормозит
реализаиию решений, которых от вас требует угрожающая общественному делу опасность»
(Ifcd .Т.ХШ. Р 12)
501 Brittol J. Р. Second ducoura tur la neceuite de faire la guerre aux pnneet ahemandi
ргопшюё a la Socieie [det Апил de la Conabtution], dana ia seance du vendredi 30 decembre 1791
P . [1792] P 15
Mexjy войной u чр^звычайи^иной
141
обстоятельствах, но особенно ярко оно проявляется в революционном кон-
тексте. когда, как я сказал выше, оппонент уже сам по себе воспринимается
в качестве потенциального врага, ибо спор идет об абсолютных ценно-
стях. относительно которых компромисс невозможенВоина же стирает
последние отличия оппонента от врага, поскольку ослаб.чяет чувство при-
надлежности к единой, несмотря на имеющиеся разногласия, общности.
Любой оппонент превращается во врага, к тому же различие между врагом
внутренним и внешним также имеет тенденцию к исчезновению. Оппонент
становится предателем и, так сказать, иноземцем. Характерно, что после
бегства Французских войск в первый же день австрийского наступления
на Севере 29 апреля 1792 г. на первый план в политических дебатах
вышла тема изобличения •австрийского комитета», якобы тайно заседав-
шего в Тюильри и руководившего контрреволюцией. И если даже нельзя
утверждать, что война обострила противоречия, то. по меньшей мере, надо
согласиться с тем, что она обострила их восприятие. Она внушила мысль,
имевшую тяжкие последствия, а именно, что любой политический конфликт
является частью непримиримой войны между нацией, чье существование
и целостность поставлены под угрозу, и иностранными державами, во-
шедшими в альянс с внутренними врагами, дабы эту нацию погубить.
Война «делепггнмиэнровала» любое проявление оппозиции, приравняв его
к измене.
Война не только прекращает любую демократическую активность,
но и столь же естественным образом ведет к усилению прерогатив коллек-
тивной власти за счет прав частных лиц Кроме того, ее продолжительность,
ее перипетии, риторическое восхваление борьбы, самопожертвования, не-
нависти к врагу’, имеющее целью мобилизовать энергию .молей, — все это
вызывает «брутализацию •> поведения, растущее привыкание к насилию,
к мысли о смерти и в то же время — снижение значимости, придаваемой
свободе, законности, личным правам. С одной стороны, война побужда-
ет видеть в любом оппоненте врага, с другой — она понижает цену
жизни.
Да и сама риторика меняется с войной. Это заметно уже в последние
перед началом конфликта месяцы, когда жирондисты вели пропагандист-
скую кампанию с целью навязать воину. Различие между Учредительным
и Законодательным собраниями состояло не только в обновлении депу-
татского корпуса, но и в изменении тональности речей, произносимых
с трибуны. Политическая риторика становится воинственной и даже кро-
вожадной, причем по отношению к внутренним противникам Так, Инар
31 октября 1791 г. говорил:
В великую эпоху, когда надо принимать великие решения, всякая
осмотрительность есть слабость... Особенно бескомпромиссно надо дей-
См выше главу II.
142
Начальные шаги Террора (1791—1792 )
стаивать по отношению к мятежникам их надо уничтожать, как только
они появляются,.. Деспотизм всегда употребляет такие методы; именно
поэтому одни человек может держать в оковах целую нацию. Если бы
Людовик XVI использовал такие сильные средства, когда о Революции
еще можно было только помышлять, мы бы здесь не сидели, а нация
находилась бы в упадке и под ярмом. Применение столь суровых мер
есть великое злодеяние, когда деспот хочет таким образом увековечить
тиранию. Но когда эти средства используются нацией в целом, они
не являются преступными, а представляют собой великий акт справедли-
вости. Законодатели же, которые к ним не прибегают, сами совершают
преступление. Ибо в условиях политической свободы простить преступ-
ление, это почти то же самое, что и стать его соучастником. Я знаю, что
подобная суровость приведет к кровопролитию, но если вы ее не приме-
ните, разве не прольется еще больше крови? <... > 1{собходимо отсечь
пораженную гангреной часть организма, чтобы он не погиб песь32Ь
Кровопролитие становится актом справедливости и собственно источ-
ником добродетели. Война, уничтожающая врагов свободы, должна тем
самым «возродить» тех, кто ее ведет, кто убивает и сам погибает. Война,
восклицает Бриссо, «очищает души». Она подавляет эгоизм и превращает
массу разделенных между собой в мирное время граждан в единый орга-
низм, в единый народ. Вонна учит свободе: «Смешивая людей всех званий,
она возвышает плебея и принижает утонченного патриция; одна лишь вой-
на может научить равенству и возродить души». Пролитая кровь — это
горнило, где люди освобождаются от прошлого, где появляется «возро-
жденная. новая, высоконравственная нация» 33\ это — средство выполнить
обещанное Революцией.
Террор возник в русле чисто политической и узкопартийной логики;
однако он приобрел более общее значение в рамках обусловленной войной
логики расширения и радикализации политического конфликта. Террор
привел к войне, а война привела к Террору.
32) Moniteur. Т.Х. Р. 375.
33) Bristol /. Р. Discours биг la necessity de declarer la guerre aux princes allemands qui
prolegent lee emigres; prononce le 16 decembre 1791. (P-. J 1791. P. 14-16. Автор этой похвалы
войне, возрождающей людей, вдохновлялся опубликованным в 1784 г. сочинением Мабли.
где тот. обращаясь к американцам. беспокоился о недостаточной прочности их независимости
и республиканских институтов: «Не был ан слишком />езкнм переход от того положения,
в котором вы находились под властью англичан, к тому, в котором вы находитесь сегодня?
Я боюсь, что умы к этому еще недостаточно готовы; и я часто говорил некоторым из вашим
соотечественников, что слишком заинтересован в их судьбе, чтобы не желать им воины
которая, будучи продолжите.ль ной. могла бы исправить их предрассудки в наделить их каче-
ствами, коими должен обладать свободный народ. <...> Уже долгое время политика в Европе
строится на деньгах, а коммерция вытеснила античные добродетели: и я не знаю, способны ли
нх возродить в Америке семь лет войны » (Mably С. В. Observations sur le gouvememenb el
les lois des Elate-Unis d’Amenque. Amsterdam. 1784 P. 23—24, 27).
-VII------------------:-----
Общественны» договор
как обоснование чрезвычайных мер
Конституция и чрезвычайное положение
21 января 1793 г. член Конвента Мор официально сообщил своим кол-
легам о смерти «Лепелстье де Ссн-Фаржо, убитого этим вечером бывшим
телохранителем короля. Возбуждение было велико, прошло всего нес колько
часов после казни Людовика XVI на площади Революции, н дебаты между
монтаньярами и жирондистами быстро приобрели резкий тон. Между зал-
пами взаимных обвинений депутаты требовали принятия мер общественного
спасения. «Представители народа, — говорил Барер. — во все времена
и для всех народов существует общий принцип: национальной верховной
власти принадлежат все права <...> в моменты кризиса и опасности,
включая право принимать все меры общей безопасности/» 'К
Членам Конвента на протяжении последующих двадцати месяцев при-
дется часто слышать подобные, почти ритуальные формулировки, которые,
как считалось, доказывали легитимность предлагавшихся им чрезвычан
ных мер. Депутаты станут спорить о характере подобных мер, о границах
и продолжительности их действия, но никогда или почти никогда не будут
задаваться вопросом об их соответствии принципам, провозглашенным Ре-
волюцией. В данном отношении закон от 22 прериаля (10 июня 1794 г.)
оказался исключением. Вводя господства судебного произвола и угрожая
даже са.мим законодателям, он настолько противоречил правовым нормам,
что предлагавшему его Кутину не хватило н длинного доклада, чтобы до-
казать его «соответствие» принципам справедливостиО принкмавшихг я
в 1793—1794 гг. чрезвычайных мерах можно сказать, перефразируя слива
Жореса: они стали настолько обычным средством, что принятие их уже
не требовало размышлений.
Вот в чем состоял ужасный урок эшафота: смерть так чаете
на протяжении месяцев выступала в качестве ьраншчх» средства, вели-
'* Moniteur. Т. XV Р.259.
2>См ниже сыну X.
06q«vmяснннй докн»п|л общ мотание чрезвычайных мер
КОГО |КП1СМ!1И. ЧТО При №'4>П(К|НМ*СП1Ш любого вопроса. приводящего ум
я смущение нлн прежктодяцкто его ниаможшх тн. на приходила вновь
и инояь. продлятя спои услуги с некой навязчивой непринужденностью,l.
До 10 августа 1702 г. деда обстояли иначе Франция имела Кон-
пгтупню, определявшую обязанности и Прелем»! полномочий всех ветвей
власти. Поэтому принятие любой меры. нарушавшей прана, торжественно
гарантированные Конституцией !7(?1 г., требовало такого обоснования. для
которого сон» ршеино не подходи ли формулировки 1793 г. Зато после 10 ав-
п’стл 17^2 г. Революция вновь прибегла к логике учредительной власти —
той логике, в рамках которой идея чрезвычайных полномочии гораздо легче
могла найти себе место. Правда. Учредительное собрание с 1789 по 1791 гг.
уже находилось в ситуации, сравнимой с ситуацией Конвента, однако оно
подвергло себя самоограничениям, предохранившим от тех последствий,
кин м. • ю иметь присвоение им революционной и ничем неограниченной
власти. Законодательное же собрание, в отличие как от своего предше-
ственника. так и от своего преемника, было в тот период единственным, чья
нласть определялась конституционными нормами. Соответственно, только
ему приходилось задаваться вопрком о законности чрезвычайных мер.
которые они считало необходимым принять.
Конституция 3 сентября 1791 г. отнюдь не обходила молчанием вопрос
о чрезвычайных мерах. 11 хотя раздел «Основные положения, обеспеченные
Констигуцией» провозглашал, что законодательная власть не может «изда-
вать законы, препятствующие осуществлению естественных и гражданских
прав, перечисленных в настоящем разделе41», тем не менее он предусма-
тривал наказание «за совершение деяний, которые, нарушая общественную
безопасность или права других граждан, вредны для общества». Во втором
случае речь шла о том. чтобы наделить закон способностью устанавли-
вать легитимные границы применения естественных прав; а в первом —
чтобы предоставить законодательной власти (осуществляемой Собранием
с санкции короля) полномочия пресекать «деяния» или. иначе говоря,
правонарушения и преступления, посягающие на общественный порядок
к. хуже того, на безопасность государства. Этой статьей обеспечивалась
правомочность закона о военном положении от 21 октября 1789 г., так
же, как и закона, учреждающего Верховный суд. дабы судить «обвиняе-
мых в посягательстве и заговоре против общей безопасности государства
или против Конституции • Данный закон был чрезвычайным, поскольку
нарнтпал принцип, согласно которешу обвиняемый не мог быть выведен
Ор сп Т VI Р 490.
Свободы перемещения, мненны. собрании н нггмций, равенство в на.\апмхииж<‘нян
в рамнегше перед даконам. саьбадный доступ ко всем неким и долж1ич1ям.
**'Конституций 1791 г Раздел 1 1ллва 3. Отдел I. Ст. I; Глава 5. С. 2Я (Документы
истории Т 1. С. 127, В7).
Конституция и чреэякчойное паюкемне 145
из-под юрисдикции положенных ему по закону сулей, однако Конегитуцнк
он не противоречил. поскохьку она предусматривала возможность принятия
законов против покушений на безопасность государства 6*. Совокупность
этих правовых норм наде,хяла общественную власть расширенными пол-
номочиями для защиты внутреннего порядка местные власти или король
могхн привлекать вооруженные силы дхя подавления волнений7*; лаки-
нлдательный корпус нмеч право предавать посягнувших на Конституцию
юрисдикции Верховного суда и мог принимать законы против «обществен
но вредных » деяний, что явно включало в себя возможность ограничивать
и даже приостанавливать использование индивидуальных прав в особо
опасной ситуации.
Впрочем, представляя 7 июля 1791 г. свой проект закона об эми-
грантах, Всрнье ссыхался на принципы Конституции Диапазон действия
этого текста был шм|)е, нежели того требовала его непосредственная цель.
Перечисляя меры, предусмотренные против эмигрантов, отказавшим* я вер-
нуться в страну, закон содержал также ряд статен о действиях, которые
следует предпринять. если обстоятельства потребуют принятия чрезвычай-
ных мер. Первая статья проекта форму хнровала предмет этого закона,
напоминая о гарантированном Конституцией принципе, в данном слу-
чае — пране выезда из страны, которое п|)едгтоялп ограничить Статъя
2 определяла условия, при которых использование данного права мог-
ло быть приостановлено (декрет законодательного органа, вступающий
н силу после публикации его королем). Статья 3 предписывала собхю-
дение тех же (рормальностей для прекращения действия чрезвычайного
положения. И. наконец, статья 4 уточняла, что “цель закона состоит
в ограничении на некоторое время к опреде хенным ниже образом [сга
тъи 5—11] использования права, промозгла шейного в первой статье на-
стоящего декрета» *9, Фактически данный проект предлагал щюцедуру,
подходившую для принятия любой чрезвычайной меры, рамки прнменгннн
каковой Вернье постарался очень точно определить, чтобы максимально
снизить опасность произвола и злоупотребления. А именно, согласно та-
кон процедуре закон должен называть то право. кипчюс предполагается
ограничить; точно мотивировать причины такого ограничения, натюми
нать об исключительно временном характере принимаемых мер и, наконец*
предусматривать обязательное сотрудничество двух основных кг нс гиту
циопных властен — Собрания к короля. Законопроект Верны об эми
грации предлагал модель органического закона, который бы определи х
ь| Впрочем. Коигтитуццм уточним, что «граждеке ir могут быть инигиы ыычнюм
ПОДСУДНГСТИ МНКЛКММИ СИГиНЛЧЬНЫМИ уМАМММ. НН И И гимн (W11* КИЯМИ и fiqVAAMC ИМ»
клъяткн дел. кроме лредукмагреттых .мконпм* (Раядсх Гшы 5 Ст 4 [ Глм жг С. 1341).
'Ч. м. Ралдел ). Гм»л 4 Ст. !. Раядса 4 Ст 10 II fl<M же С Bl, B»S).
Monilrui Т 1\ Р 6Ъ.
146 Обшсстаенный ictoeop как обоснование чрезвычайных мер
условия применения чрезвычайной власти, предусмотренной в Консти-
туции.
9 июля 1791 г. Учредительное собрание частично приняло этот проект
в качестве закона, ужесточив, однако, его положения и отклонив ста-
тьи. имевшие целью ограничить возможность обращения к чрезвычайным
мерам. Отвергнув те положения, что служили хоть какими-то гарантиями
от произвола. Учредительное собрание приняло закон скорее в соответствии
со своими революционными полномочиями, нежели с будущем Конститу-
цией Для подобного шага имелись свои причины: сохраняя возможность
применения чрезвычайных мер. Конституция требовала, чтобы они были
направлены на пресечение «деяний*. тогда как закон от 9 июля наказывал
не за какие-то конкретные преступные действия, а за сам факт эмиграции
после 1 июля 1789 г., даже еа\и такой отъезд не был связан с каким-либо
действием против Революции. Этот закон карал определенную категорию
населения без какого-либо разбора и лишь на основании предполагаемых
у нее враждебных намерении.
По той же самой причине Законодательное собрание посвятило
в 1791 — 1792 гг. столь продолжительные дебаты обоснованию легитим-
ности принимаемых им чрезвычайных мер. Конституция, как мы толь-
ко что видели, оставляла возможность дся подобных мер, но те, что
предлагались. создавали такую же проблему, как и закон от 9 ию-
ля. Что касается эмигрантов, то теперь речь шла уже не о том. что-
бы наказывать за сам факт эмиграции, как в июле, а лишь о том.
чтобы покарать эмигрантов, участвовавших в ^сборищах* на границе
Столь туманное определение предполагало, что репрессия*! подвергнут-
ся не те, кто признан виновным в откровенно враждебных действи-
ях. а все, у кого предполагаются враждебные намерения. То же са-
мое имело место и во втором случае — с неприсягнувшими священ-
никами. Ставилась задача наказать целую категорию населения, подо-
зреваемую в оппозиционном отношении к Конституции, — наказать
за убеждения, независимо от каких бы то ни было фактов и доказа-
тельств, и. более того, сделать это в административном, а не в судеб-
ном порядке. Если дебаты и оказались столь оживленными, то лишь
потому, что проект встретил возражения как неконституционный, ведь
Конституция считала лишь действие основанием для обвинения в пре-
ступлении и необходимым условием д>\я того, чтобы в определенной
ситуации пользование каким-либо из прав могло быть сочтено про-
ступком.
Конституция 1791 г. не пренебрегала потребностями «общественной
безопасности* (как это делала Хартия 1830 г.9)), но она их достаточно
Х^/тил 30 г. сюхолила эттн иодчамнем С млрт^ по июнь 1832 г. праылгль-
стъу пршдАОСЬ бортткя предка рши висстамий Ордонамс. с/гъяеляыини сгкггветстлуюцрк
Общественный и чрезвычайные обслтскгпельслпво
147
строго очерчивала — гораздо более строго, чем какие бы то ми было из по-
сле дукяя их конституций. которые предполагали либо временную отмену
конституционного порядка, как Хартия 1814 г или Конституция 1958 г.
либо отмену гарантий личной безопасности в условиях осадного положения,
как Конституция 1848 г.
Не слишком ли строго? Когда Законодательное собрание нс нау-
дило в Конституции необходимой гибкости, чтобы поразить тех. кого
считало врагами государства, оно фактически приостанавливало действие
самой Конституции, каждый раз совершая своего рода государственный
переворот* 12). Принятые в 1791 — 1792 гг. чрезвычайные законы были рсво-
яюииомны.чн актами такой власти, которая объявила себя наделенной всей
полнотой ^национального суверенитета». если использовать выражение Ба-
ре ра. В этом была главная причина столь необычных для революционной
эпохи дебатов, сотрясавших Законодательное собрание
Общественный договор и чрезвычайные обстоятельства
Развернувшиеся в 1791 — 1792 гг. дебаты о легитимности чрезвычай-
ных мер проходили под знаком теории обшеспвенного договора 111 Тезис
о договорном создании обшества ритуально воспроизводился и сторонни-
ками чрезвычайных мер. и их противниками. Восхитительна пластичность
департаменты на осадном положении ссылался на нмлграторскмм декрет от 24 декабря
1Ы1 г., согласно которому полномочия гражданских властей передавались воечыым Поветам-
цы предстали перед военным судом, но обжаловали сто решение в в мт «цистном суде воторыш
отменил приговоры на том основании, что Хартия не предусматривает вожяржнлети хиного
положения. Это было прискорбное решение в плайе поддержднма об^ствекмого порклма,
но оно полностью итвечдмз положениям Конституция. авторы мотором гкитаралакь иг оставит»
в нем ничего, что напоминало бы о произволе последних днем царствования Клрлд X
,f > См ст. 14 Хартии 1614 г. и ст. 16 Конституции 1956 г,
П) Конституция 1848 г. ст 106. Осадное положе мне рстлдментврвеялскь законом от 9 ав-
густа 1849 г. в котором усдовив введения н претра-^rt— оедд/мхо гжмшглныл были сложи
с условиями июльского лаяомолроектв Вериьс 179! г. Тевет гтехт» маи*<а и дожил гтсуаар-
ственнссо советника Буде см CofiecUoci <1е» 1ша Nouwlle ьепе Т XLIX Р 268—27?
12) 5 июля 1792 г. Законодательное собрание примяло д?ц*-т г^реллмг ыжмлагкм г^ммять
о<тредсле»<иые меры «в случае, еечм иеожмдямиые ми» чрешычндми Ухтыгпе«ветвя смиддр
опасмостъ для гюмгтичесмои свободы* Декрет предполагал, ото Нлфи4«в.^мое сг/рв1ви
торжественно провоэгласит «отечество в ольсмостм* и. в силу тм дгжмрацкм. гтлучмт прево
понимать любые меры, придмктобвниыс обстоите мхотмми (Доялал ?К*ма Дебри М) икчм
1792 г см Мопаеш. Т. XIII. Р 42—43. текст декрета см Itmi Р >4-55) Хотя игтт деьрет
и о6стае_\ял приме не ине чрезвычайные средств опрсде.м-юеыим формальностями. он, '.<иасо.
не предполагал нм одной из тех мер предисгорожжстм. ото предусматривал томе рвмыж
чьюжопроемт Вернее. Зам оно да тельный орган получал право Помнима г» чрезвычайные меры,
«и будучи обязан ухяиэывдтъ их цель, фэшеи^лжать их цридолителыюстк и вапросиммтв
осласис на нит короля.
'' Первое обобфлюфее мссчедсжакие тех дебетов провел ~\аддм Борумдм в своем днссер-
тацим См. BocGumand L. Op. ей. Т. I. Р. 296—393
148 Общественный jotoBop как обоснование чрезвычайных мер
принципов, на которые каждый мог ссылаться в подтверждение свой точки
зрения Но разве не был Руссо святым покровителем как Революции, так
и контрреволюции? Причем, отнюдь не факт, что противники чрезвычай-
ных законов отличались наибольшей преданностью принципам договорной
теории, к коим апеллировали обе стороны. В действительности, как раз
представление о договорном устройстве общества и послужило оправда-
нием репрессивных законов 1791 —1792 гг., впервые включивших Icppop
в арсенал законодателей. В данном отношении эти законы оказались обо-
ротной стороной Декларации прав человека, которую они явно отрицали,
но с которой имели общее происхождение.
Вернье, о чьем выступлении 7 июля 1791 г. уже говорилось выше,
также развернул эти принципы соответствующим образом, пытаясь убедить
своих коллег. Он счел полезным напомнить им некоторые «истины»:
То. что свобода в общественном состоянии абсолютно отличается
от независимости в состоянии естественном; что нельзя даже считать
жертвой отказ в обществе от этой жестокой и дикой независимости,
которая должна быть всего лишь кратковременным этапом на пути к об-
щественному состоянию; <...> что общество, ради которого совершен
такой отказ, преумножает наши права, нашу собственность, наши блага,
и в нем, благодаря замечательной взаимосвязи причин и следствий, все
преимущества оказываются столь уравновешены, что под защитой закона
самый слабый оказывается на одном уровне с самым сильным
Нет необходимости доказывать, что подобные комментарии к главе
«Общественного договора», посвященной «гражданскому состоянию» |6),
не соответствуют идеям Руссо. Он не писал о том, что вступление в обще-
ство не только не уменьшает естественную свободу, но, напротив, позволяет
людям расширить свою реальную свободу, обеспечивая им поддержку зако-
на Речь здесь идет о широко распространенной в то время «теории», кото-
рая рассматривала переход от естественного состояния (где свобода состояла
в «неограниченном праве» на все) к состоянию общественному (где свобода
«ограничена общей волей») как своего рода континуум, в коем утрата изна-
чальной независимости компенсирована каждому участнику договора обес-
печением гарантии реального обладания им своей свободой. Закон, защищая
членов общества от угрозы права сильного, которая делает столь зыбкой
естественную свободу, обеспечивает всем обладание равной свободой и воэ-
наблюдения Бернара Манена: Manin В Rousseau // DiclioniiHire critique... Т-I.
Р 298-393.
t5) Momteur. T. IX. P. 65.
Rousseau /.-J. Du central social. I. 8.
Общественный договор и чремычаиныс <>6стпяте,п<твп
149
мощность в безопасности развивать полученные от природы способности *\
Общественное состояние увеличивает свободу, ограничивая ее.
Устанавливая легитимные рамки применения свободы, закон ни в коей
мере не предписывает, как имении ею пользования. Он указывает людям
не то, что они должны делать, а лишь то, чего они не могут делать, не на
ручная права других: закон позволяет все, что прямо не запрещено. Таким
образом, он негативно определяет обязанности каждого по отношению
к другому: обязанности граждан во взаимных отношениях одновременно
являются их правами. Но если каждый член общества обладает права-
ми. границы которых очерчивают круг его обязанностей по отношению
к согражданам, то на таком же основании он имеет обязанности и пс|к»д
защищающим его обществом. Закон не является источником индивидуаль-
ных прав, которые он не создает и не наполняет объективным содержанием.
Но он должен обеспечить их защиту Следовательно, нет ничего абсурд-
нее иногда предпринимаемых попыток законодательного вмешательства
в сферу естественных прав, поскольку права человека, по определению,
не могут мыслиться вне общей волн, которая только и способна обеспе-
чить их реальное применение. Каждый индивид, без сомнения, обладает
правами, независимо от принадлежности к коллективу, но только такая
принадлежность позволяет ему реально пользоваться ими. Иными слова-
ми, индивидуальная свобода обусловлена свободой коллективной, Когда
последней угрожает агрессия извне или внутренние беспорядки, личные
права каждого гражданина также оказываются под угрозой. Тогда на-
ступает момент сказать вместе с Монтескье и со всеми политическими
мыслителями того времени, что «спасение народа есть высший закон»,
перед которым временно отступает на задний план все остальное Если
в обычные времена общество несет в основном обязанности по отноше-
нию к своим членам, то в момент опасности граждане должны, в свою
очередь, исполнять обязанности по отношению к обществу, которое их
защищает: они должны оказать ему помощь и поддержку. Именно это
Барнав уже говорил во время первых дебатов об эмиграции в феврале
1791 г.:
Каждый, будучи человеком, хочет наслаждаться неги полнотой l по-
беды. Будучи гражданином, каждый должен исполнить свои <юяэашюстн
Они определены законом, и, выполняя их, мы «издаем благоднрниегь
обществу в обретаем возможность в пачкой мерс наслаждаться гра-
жданскими пранами, которые общественный договор обеспечивает всем
индивидам его [общество] составляющим. Но когда обществу требуются
силы и помощь каждого и поскольку эю следует иэ договора, согласно
которому оно ласт вам все, чш может, вы обязаны дать ему шг, что
См/. Gauchd М l-a Revolution des droju dr fhomiue P. 75—87. 220—226.
,8) Monlciquitu Ch L S. De I’ripiit des leu. XXVI 23
1>0 Обще JKMtWW -Ж» обоГАЮАвММГ 4P<JM'Etf4tfxi«t«X *tp
шаяпт вы 3 столь крнтн^гсхжг времена тике* лар является ничем ммым,
как мере* необжюхжяоег» 7‘,
Посмолькл речь идет о спасении ко к гектила. государство может да-
же «ременко (пгкт индивидуальную свободу, чтобы надежнее защн-
tv-t себя ст врагов. В обычные времена закон запрещает. но ничего
не предгвк*мьает. Он wnovae может запретить хождение без дороги, но он
не шхе.ет приказать каждому идти именно этой дорогой, а не тон. В кри-
зисные зреыена все на<х5ор г он предпнсыме* и указывает каждому,
что -ст должен сделать для государства. Таким образом. чрезвычайный
характер обстоятельств выявляет гт следствия общественного договора,
которые в мирное время не бросаются в глаза. Временная приостансв-
кд гарантии кмчьюн бе^чисностм — это возможность, предполагаемая
и д ттясюаемая договорной теорией Подобная аргументация характерна
не только для Французской революции XVIII в. И в 1S49 г. Госу-
дарс-эенный совет провозгласил те же самые принципы. высказавшись
в пс-ихэу здлонолроекта от 9 августа того же года об осадном поло-
жеямм.
Еслм обычного прммгнекжя законов. осуществляемых бычными
органами, ояазываетсл не достаточно, чтобы обетпенить общественное
спкжомствме к у*лжнне всех гражданских прав; если правительство
« общество оцикрслАГгся нападению к если трсбчэотся энергичные меры
хчд их за^х-ы. тогда действие органов власти, прав м гарантий граждан
времена пржчтанаддевается Каждый обязан проявить самоотвер*
жгяностъ в вгтересд-я обфествеяяого спасения, чтобы дать возможность
с бскшшй свободой в решагтелыюстью вести обш>-к? защиту. Отказаться
в столь тяжких сюстогг^чьствах пожертвовать применением своих прав
а доАГгмчесгжх гарантий, устаноаченмьа Конституцией ххя обычного,
мирного иреявгям. — яиачи* неправильно понимать свой .гражданским
долг Требовать ю чтобы вегюлвэовать как оружие в борьбе, оггрждм)-
цеа общество — значит г^хдать свою страну и оказаться недистоинш
ттх с ниша свибси. которыми длсутютре6и.ч л>.
Барер. несомненно, лучше всех в 1791 г. выразил суть связи между
общественным дотесром как гарантией индивидуальной свободы и эре-
иенным отказом от гмлльэованкя свободой как условием ее сохранения при
опрежелеиных обстоятельствах Когда * свободной стране» приходится
•W Мяеяеж Т Ml. Р 479
^ОЛеа^оехкж TXUXP.271.
* Б эти вишпт ревпмс^мжрь сгмлкдесь не спхихо яа Руссо, схолыи» на SUhtr-
жзм • а частнот» «в ту «Дуы эааонов*. г ле Монтескье утверждает чти <шакг
мокме^гж а а гиаг обст»ельсгва жегда цркюляпся маружггь закон • я отнэшеяхм одного v-
мжгжа. ч^обы аоцрамгть [слободу] хм всех», в «временно нвброогтъ ни свободу mw мая
lilf иг тгтуы богов- (О хпхе законов XJL )9 -Кад в реслублмже а^емпме
O6i£f<'наемный jworinp tt чрелвшчжммме 151
сталкиваться co смертельной опасностью. «спасение народа становится
выси гм*» законом» Это — важное уточнение Дейстшгг? чыю. иыеныэ на-
личие с яг «боды, обеспеченной государственными институтами. определяет
исключительный характер прдаудительных игр и требует е го же время
ограничения срока их действия н сдержанности в применении, для чего
оно поручается законным властям Перед не^тб ходимостью обществе инпгт
спасения, продолжает Ьарер, права человека «почтительно склоняются»;
• общество же в целом требует преданности от всех, застав, миг жертвовать
всем, временно отменяет гражданские права, каждый человек отказьтается
от всех иных забот, кроме общей обороны» Все это происходит в силу
положения составляющего основу общественного договора «Гражданин,
говорят общество, именно я связано защищать твою лнчичю 6езопасз*ктъ.
твой покой и твою собственность Что получаю я взамен вл гго постоянное
благо? Если я окажусь в опасности, разве покинешь ты меня в трудный
час. отказав мне в защите <...>? Конечно, нет Это будет как раз такой
момент, когда я потребую от тебя пожертвовать теми самыми правами
той самой собственностью и даже жизнью, которые я столь неуклонно
оберегала»
Могут возразить, что Барер находился на крайне ьевоы фланге Учре-
дительного собрания. Однако он чкшь более цветисто изложил тезис, еще
раньше защищавшийся Барнавом, коего нельзя заподозрить в идеологиче-
ском экстремизме. В Законодательном собрании аргумент общественного
спасения также не был уделом исключительно левых Последние, конеч-
но. единодушно или почти единодушно восдваллси жесткие меры, ио тут
они получили неожиданную поддержку со стороны фельяжкой правой.
Очень умеренный и монархически настроенным Пасторе протянул ру-
ку помощи Бриссо и Верны*, не побоявшись, например, заявить что
«допустимы крайние средства, когда имеют место крайние беды - Та-
ким образам, в вопросе о потребностях (Хк^ественмоп^ спасе ник сот час не
пр<ос.чадало над партийными разногласиями. Барнав и Барер, Пасторе
и Верньо приходи.ки к одинаковым выводам опихиттльио действия .тхг
верных принципов в чрезвычайных обстоятельствах. Этим дебаты 1791 г.
решительно отличались от дебатов лета 1789 г. кос да в спо^мг по во-
просу об общественном спасении сошлись две не при миримо настроенные
партии, одна, возглавлявшаяся Мирабо, отвергай мм < нарушение ир*<н
ципоа, другая, поддерживавшая Ребеля к Гун д’А^си. уже тогда ссылать
на обстоятельства, выступая за принятие чрезвычайных мер-1' Ины-
ми словами, начиная с 1791 г. спорили уже не столько о легитимности
чрезвычайных мер — хотя большинство ораторов н считхчо полезным
Prw, 9 июлл 1791 Г (XUmuw TJX Р 52).
IUA Т X Р 212
кышр главу Л*
152 Общественный jaioeop как обоснование чрезвычайных мер
ее продемонстрировать, ссылаясь на Конституцию или на теорию, —
сколько об их своевременности, их последствиях или о реальной тя-
жести обстоятельств, на которые ссылались те, кто требовал принятия
таких мер. «Где война? <.,.> Кто наши враги?» — уже спрашивал
маркиз де Буфлер летом 1789 г., возражая против создания Комитета
расследований-^. Тот же вопрос в Законодательном собрании задал Бэ-
ньу. но его выступление показывает, сколь широким согласием пользовался
сам принцип:
Если мне возразят, что свобода гражданина ехать, куда ему заблаго-
рассудится. может быть временно отменена, когда отечество в опасности;
то я. признавая за вами, господа, право временно отменять действие лич-
ных свобод, замечу, что с вашей стороны было бы разумно сначала
изучить, продиктован лн предлагаемый вам закон высшими интереса-
ми Прежде всего, нн одному человеку, который спокойно поразмыслит
о нынешнем состоянии дел. и в голову не придет, что нации в целом
угрожает опасность, вынуждающая ее прибегнуть дш своей защиты
к крайним мерам. Не является ли та угроза, о коси нам твердит, чистым
вымыслом? 261
То, насколько реальны были обстоятельства, на основании которых
требовали принятия чрезвычайных мер, это — вопрос одновременно и ва-
жен, и относительно малоинтересен. Важен, если вести речь о моральной
легитимности подобных мер. Относительно малоинтересен, если рассматри-
вать только политическую их легитимность. В первом случае, действитель-
но. важно знать, была ли опасность такова, чтобы допустить отступление
от закона. Во втором достаточно спросить, существовало ли обществен-
ное «согласие» на принятие подобных мер, даже если они практически
не оправдывались обстоятельствами. В самом деле, не реальная острота
опасности придала легитимность этим чрезвычайным мерам, а одобрение
их «общественным мнением» или тем, что его заменяло.
Локк и чрезвычайные полномочия
Локк некоторым образом разрабатывал эту проблему в той главе сво-
его Второго трактата о правлении», которая посвящена «прерогативе» или
«власти действовать сообразно собственному разумению ради обше-
ственного блага, нс опираясь на предписания законов Я упоминаю
этот текст не для того, чтобы, назвав ранее Монтескье и Руссо, пополнять
Archwes parlemeniairea. ТЛП1. Р. 294
Цит по: Bomumand L. Op. cil, Т. I Р 313
Locke J. Deuxieme traile du gouvemernent. Ch. XIX. «De la prerogalivc» // Locke J. Deux
iraiiH du gouvememenl / Trad B. Gilson P., 1997. P. 229—234 [Локк Д* Два трактата
о правлении // Локк Дж Сочинения В 3 т. М.. 1988. Т. 3. С. 357)
Локк и чрезвычайные псыночочич
153
еще одним именем список авторов, на чей авторитет постоянно ссылаются
для оправдания мер общественного спасения, а потому, что революционеры
для подкрепления своей аргументации порою обращались к этой редко ци-
тируемой главе книги автора, которого чаще всего связывают с либеральной
философией.
11рерогатива, как говорит нам Локк, это — власть действовать по соб-
ственному разумению, которую в интересах самого же коллектива следует
предоставить исполнителю законов. Первая причина, делающая подобную
уступку необходимой и даже неизбежной, состоит в невозможности за-
конодателю «предвидеть все и создавать соответствующие законы на все
случаи, когда это может быть полезно обществу»». Прерогатива нужна всем
политическим режимам, независимо от формы правления, но чем более
демократично государство, тем острее потребность в ней. Действительно,
в этом случае власть создавать законы и власть их исполнять находятся
в разных руках, а потому орган, обязанный заниматься законодательством,
т. е. отвечать на запросы коллектива, не обладает непосредственным знани-
ем этих запросов, которое возникает исключительно в результате прямого
управления вещами и людьми. Более того, законодательную власть народ
здесь доверяет многолюдному собранию, из-за чего она «слишком громозд-
ка н поэтому поворачивается слишком медленно, а для исполнения законов
необходима быстрота». Это приводит к следующему парадоксу: сфера дей-
ствия власти «по собственному разумению»* имеет тенденцию расширяться
прямо пропорционально тому, как народ возводит конституционные барье-
ры для защиты себя от злоупотреблений и покушений со стороны своим
правителей. Чем больше последние оказываются подчинены правилам, тем
сильнее необходимость позволить им игнорировать эти правила н интересах
самого же народа. Действительно, нельзя же рассчитать, чтобы потребность
в тех или иных действиях во имя «общественного блага» возникала точно
во время парламентских сессий. Поэтому необходимо позволить правитель-
ству в тех случаях, когда «позитивное право молчит*, принимать меры,
хотя бы временные, пока законодатели не соберутся, чтобы новым законом
закрыть эту правовую лакуну.
Надо также разрешить правительству интерпретировать исполняемый
им закон и даже обходить его положения. В самим деле, применение закона
в конкретных случаях способно вызывать не предвиденные законодателем
проблемы н трудности. Соответственно, применение закона может войгтн
в противоречие с задачами гражданской власти, каковые состоят в «защи-
те всех». Правительству, непосредственно имеющему дело с бесконечным
многообразием таких частностей, должно быть позволено модифицировать
применение общего правила, приспосабливать его к обстоятельствам и даже
обходить его требования, если выясняется, что выполнение их влечет за со-
бой больше вреда, чем пользы. Надо, как говорит Локк, «щадить даже
виновных, когда это не наносит ущерба невинным*. И. наконец, в чрез-
10 Зак 155
154 Общественный логовор как обоснование чрезвычайных .мер
вычанной ситуации правительство должно иметь максимальную свободу
действий, включая и такие, что нарушают предписания закона. Об этом
Локк пишет:
Ведь может возникнуть целый ряд обстоятельств, когда строгое
и неуклонное соблюдение законов может принести вред (как. например,
нельзя снести дом невинного человека, чтобы прекратить пожар, когда
горит соседний дом).
Разрушение такого дома есть зло, ибо посягает на одно из наиболее
священных прав гражданина — неприкосновенность собственности; однако
данный шаг оправдан необходимостью остановить распространение пожа-
ра ради спасения коллектива. Власти нарушают закон, но того требует
общественное спасение, и если какой-то гражданин оказывается ущемлен
в своих правах, то это, говоря словами Монтескье, делается для того, чтобы
сохранить их для всех.
Итак, мы вновь возвращаемся к теме общественного спасения и к во-
прос), всякий раз неизбежно возникающему при учреждении чрезвычай-
ной власти, которое оправдывают крайней необходимостью: кто должен
судить □ такой необходимости? На ком будет лежать обязанность про-
верять и решать, действительно ли обстоятельства таковы, что должна
быть использована прерогатива, и действительно ли способ се примене-
ния отвечает общественному благу? «В том. что касается прерогативы, —
замечает Локк, — будет задаваться старый вопрос: „Но кто будет
судьей, определяющим правильность применения этой власти?’*» Точно
также можно было бы спросить: кто будет судьей, который решит, что
опасность со стороны эмигрантов достаточно серьезна, чтобы оправдать
объявление их вне закона, или который подтвердит, что существует необхо-
димость помещать людей в тюрьмы по одному лишь подозрению, без суда
и на неопределенный срок? Строго говоря, можно считать совершенно бес-
спорным, что решение снести дома, коим угрожает огонь, оправдано лишь
в том случае, если риск распространения пожара действительно реален.
Но, полагает Локк, в лаком деле ^на земле не может быть судьи», т. е.
о действиях правительства не вправе судить ни конституционные власти,
ни даже народ, по крайней мере, если он не обладает «по конституции
этого общества высшей властью для определения и вынесения действенного
приговора в этом случае».
Причина подобной неправомочности состоит в том, что прерогати-
ва полностью вынесена за пределы конституционного пространства. Она
включает в себя такую деятельность правительства, которая не может быть
ни заранее предусмотрена законом, ни подчинена правовым нормам, неред-
ко лишь .мешающим достишуть стоящей перед нею цели. Соответственно,
о прерогативе нельзя судить на основании тех норм, которые ей позволе-
но игнорировать и даже нарушать. Гем не менее, эта власть действовать
Локк и чрезвычайные полномочия
155
по своему разумению отнюдь не абсолютна, н тому есть две причины.
11ерпая состоит в том, что прерогатива есть атрибут власти, а не пра-
во. принадлежащее обладателю власти и позволяющее ему использовать
ее по собственному усмотрению на пользу или во вред народу. Втором
причиной является то, что применение прерогативы подчинено той цели,
ради которой и создано само общество — обеспечению взаимной выгоды
граждан. Прерогатива — это власть действовать по собственному разу-
мению ради общего блага и только ради общего блага. Всякое действие,
направленное на удовлетворение частных интересов какого-либо лица или
группы лиц, исключается из области прерогативы. Она. по крайней мере,
дает возможность, чтобы все. совершаемое за чертой правовых норм, дела-
лось в интересах народа. Она, при всем разнообразии в продолжительности
и размахе применения, есть результат разрешения, которое действует до тех
пор, пока не отменено или не ограничено. «Прерогатива, — пишет Локк. —
не может представлять собой что-либо иное, кроме как разрешение со сто-
роны народа его правителям делать некоторые вещи по их собственному
свободному выбору, когда закон молчит, а иногда также и поступать во-
преки букве закона ради общественного блага; и народ соглашается с этим,
когда это сделано».
Кроме того, прерогатива не является результатом прямой и форма-
лизованной передачи полномочий, подобной, например, вручению пред-
ставителям народа полномочий на осуществление законодательной власти.
Правительство обладает полной свободой проявлять инициативу по при-
менению прерогативы, а разрешение народа на действия властей и его
согласие с их актами имеет место лишь в том смысле, что считается,
будто он молчаливо согласен со всем, против чего открыто не возража-
ет. Передача полномочий осуществляется здесь чисто негативно: народ
в данной сфере не вручает никакой власти, но может ее отнять. Локк это
подчеркивает: народ либо предоставляет своим правителям самый широкий
простор, не пытаясь «установить границы прерогативы тех королей или
правителей, которые сами не преступали границ общественного блага»,
либо, в противоположном случае, может прямо отказать в этом молчаливом
согласии или «посредством определенных законов ограничить прерогативу
в тех ее проявлениях, в каких народ терпел от нее ущерб».
Действительно, бывает так, что правительству приходится против вну-
тренних или внешних врагов государства принимать меры, запрещаемые
законом и осуждаемые моралью. В таком случае речь идет не о праве, коим
оно обладает, а о долге, который ему надлежит выполнить в определенных,
особо тяжких обстоятельствах во имя интересов того самого коллектива,
что наделил его полномочиями. Подобные решения не могут быть преду-
смотрены в перечне законных обязанностей правительства, их выполнение
не регламентируется правилами и, тем более, не может быть обусловлено
предварительным получением формально выраженного разрешения. Пра-
10-
156 Общественный логолор как обосноеами- ч»’с?«ычайных мер
жительство должно иметь возможность дей тновлтъ в надлежащий момент
со всей необходимой для этого свободой Народ. как говорит нам Локк,
не может не одобрить действия, пусть да.-че незаконные и достойные
осуждения если понимает, что они совершены ради его же блага: «На-
род. имея основание быть довольным этими государями. в тех случаях,
когда они поступали не по закону или вопреки ' >кве закона, соглашался
с содеянным <...>, справедливо считая, что они этим не наносили ущер-
ба законам, поскольку они поступали в соответствии с основой и целью
всех законов — общественным благом*. Но если правители используют
средства защиты общественного блага, предоставленные им посредством
молчаливого согласия. для преследования личных врагов, достижения част-
ных цечей или угнетения мирных граждан, тогда народ может отозвать свое
согласие и принять законы, устанавливающие строгий контроль за дей-
ствиями. совершаемыми под предки том защиты государства. Последнее
будет защищаться не столь эффективно, но граждане окажутся в большей
безопасности.
Таким образом, сфера применения прерогативы расширяется или сужа-
ется в зависимости от того, считает народ ее использование соответствую-
щим к.хи противоречащим своим интересам. Это позволило Локку заявить
что «правление хороших государей всегда было наиболее опасным для сво-
бод их народа». Прерогатива существует благодаря молчаливому согласию
народа и прекращает существование в результате открытого отказа в та-
ком согласии. В этом смысле речь здесь идет не о «полномочиях* (pouvoir).
порядок передачи и содержание которых регламентируются правом, а о вру-
чении власти, контролировать которую может лишь сам народ. Именно это
Локк имел в виду, говоря, что в таком деле «на земле не может быть судьи».
Ведь народ, имеющий вполне реальную возможность судить о применении
прерогативы, выносит свой приговор не в соответствии с юридическими
нормами и не как магистрат, облеченный конституционными полномочиями,
а согласно «закону, предшествующему н превосходящему' все положитель-
ные законы .моден», — закону, оставляющему за ним «окончательное
определение». Народ, по мнению Локка, всегда сохраняет за собой пра-
во «воззвать к небесам» в случае использования прерогативы во вред
общественному благу.
Подобный призыв к небесам был. в действительности, не чем иным,
как правом на восстание, риск которого Локк старался минимизировать,
подчеркивая, что оно может быть реализовано, только когда большинство
народа убедится в покушении на свою свободу. Однако, на деле, это
право тем самым получало небывало широкое толкование: речь теперь шла
не о праве народа восстать против незаконной власти, а о признании за ним
права выступить с оружием против любого политического решения. Этот
меч оказывался постоянно подвешен над головами правителей с того самого
момента, как только они обретали всю полноту положенной им власти.
Ричеры народною colwcum «о II iwy Республики
157
Размеры народного согласия во II году Республики
рассуждения Локка время от времени воспроизводились вплоть
до II г м не только для обоснования легитимности чрезвычайных мер,
но так^е с целью напомнить, что легитимность таких мер определяется
лишь согласием народа, которое всегда может быть отозвано Илиострацией
том) v ъет послужить статья, опубликованная очень солидным и серьез-
ным изданием Conserucleur decadairc в день казни Робеспьера, однако
написанная еще до термидорианского кризиса. .Автор статьи, восхваляя
террор* тическую политику Комитета общественного спасения, намека-
ми — к чему обязывала скторожность — дает понять, что народ постоянно
сохраняет за собой право отменить то, на что дал свое сот час нс. и это прав*»
обусловлено гем, что именно он дал такое согласие
Принцип, непременно действующий в свободном государстве <...>,
г час ит. что в случае угрозы безопасности народа нужно, как говорив
сам Монтескье, пожертвовать свободой одного, чтобы спасти ее хчл
всех... При революционных обстоятельства! общая eatt гтручает
и позволяет. -молчаливы* согласием или открыто ради сохранения
свободы всех граждан проведение жестких мер против отдельных лиц,
желающих эту свободу погубить. Нельзя сказать, что имднамду альмая
свобода нарушается даже при заключении в тюрьму тех, косо считают
всего лишь подозрительными. Эта мера безопасности справедлива по от-
ношению к тому, кто своим поведением и.чм речами заслужил ксдовгрне
находящегося в опасности отечества, ведь ест он невиновен, -он теряет
свою свободу лишь на время, чтобы сохранить ее навсегда -
Заявить, как это сделал издатель Consenatcur dccadaire, что <-’бщзя
воля поручает и позволяет», означало 8 принципе утверждать. что она
может также отозвать свое одобрение, запретить то. что ранее разрешала,
отменить передачу полномочий, на которую ранее молчаливо соглашалась,
ограничить прерогативу, предоставленную ею правителям. Софизмы. ска-
жут нам: доктрина прерогативы предоставляет правительству широчайший
простор дхя действий, коим ставит гишь чжто теоретические, фиктивные
ограничения, поскольку решительно настроенное правит л>.тво может по-
сягать на свободы граждан под предлогом «чрезвычайных обстъятельстэ»
не опасаясь, что народ, силой принужденный к молчанию, сумеет ко-
гда-либо отменить свое мнимое согласие, которого он в дейспигттлыюсти
не давал. Иллюстрацию тому можно найти в событиях 1792—1794 гг.
когда аргумент общественного спасения позволил меньшинству постгпенно
отменить свободы, овладеть государственной а частью и удерживать ее без
Le CooMrvatrur deodaut dr* prmopn гп«1Ыклю1 « de U awiie pUaltqur 1793-1794
2 rd. T II (1794] 5Й9 10 ihrnn«i<x ад (| p 132—133 (курсив *мж — П Г j. Посжллм*
^мпна ыт «Дум ыдсное*
158 Обшесгглбнный aoioeofi кок обоснлнсное чрс’ычлйныг .мер
какого-либо разрешения или согласия. Но соответ- гругт ли реальности ятот
сценарий, нарисованный 1 эном?
Известно, что 9 термидора Робеспьер был свер. нут отнюдь нс народ,
ным восстанием, а в результате заговора, созревшего в верхах государства
н осуществленного при поддержке широкого парламентского большинства.
Казалось бы, народ или общественное мнение не сыграли никакой роля
в данном эпизоде. Однако если заговорщики и получили поддержку в пар-
ламенте, в частности, со стороны депутатов <. Равнины . то именно потому,
что общественное мнение уже начало восставать против Террора. Действи-
тельно. во время военных побед и с прекращением гражданских волнений
для него уже не оставалось оправданий. Это было настоящее восстание
общества, волна которого начала подниматься уже с июня 1794 г., т. е. еще
за месяц до термидорианского кризиса, и которое в течение нескольких
недель после свержения Робеспьера снесло прочь всю систему Террора
Именно эта мощная волна н позволила заговорщикам одержать победу
9 термидора. Но разве слова о ниспровержении общественным мнением
чрезвычайного режима, постепенно создававшегося с 1792 г„ не наводят
на мысль о том, что власть, осуществляемая во имя общественного спасе-
ния, до того времени пользовалась одобрением, по меньшей мере, некоторой
части общественности, которая, отозвав в конечном счете свое молчаливое
согласие, спровоцировала крушение данной власти? Это возможное согла-
сие с Террором является великой тайной эпохи. Уже современники видели
здесь загадку, перед которой останавливались в недоумении, ограничива-
ясь констатацией того, что не могли объяснить. Вот, например, мнение
Катремера де Кинси, человека умеренных взглядов, бывшего депутата
Законодательного собрания:
Какая смесь гордыни и презрения к самому себе побудила на-
род. столь кичащийся собой при сравнении с другими, пасть ниже самого
убогого племени дикарей? Разве нам не довелось увидеть времена, когда,
став, нс знаю под какими чарами, пособником собственного уничтожения,
он рукоплескал своим самым жестоким палачам и в поистине самоубий-
ственном браду рушил все свои государственные институты, отрекался
от всех своих обычаев и соглашался на самосожжение, чтобы воскреснуть
нз пепла29’.
Суждение, несомненно, утрированное. Не весь народ поддерживал
якобинцев. Некоторые даже подняли оружие против них. Различные груп-
пировки, сменявшие друг друга у власти с 1792 по 1794 гг., всегда могли
опираться на активную поддержку лишь более или менее узкого меньшин-
ства. Последнее, однако, формировало «мнение», то самое общественное
мнение, на которое находившиеся у власти люди не переставали ссылаться,
стремясь легитимизировать свои, даже самые предосудительные решения.
9) Quelremin Jc Quincy A. Ch. Op.cil P. 6.
Ратнеры нлроднто сомвсия ап II голу Республик
Клждия !П)вая чистка, каждый новый декрет немелченнп приветствовались
чередой депутаций в Конвент и лавиной ал|эсов Конечно же. jm> мобнли-
луг мое по команде «общественное мнение * не выражало ям мцы бпльшнп
стал французов. Подобные манифестации поддержки не лаки* оснований
для вывода, сделанного Катремером де Кинси, о согласии народи» на свое
угнетение Тем не менее, лаже в самые мрачные дин 1793—17(Ц гг. П|м>дл v
жал существовать своего рода остов пбщггты-нного мигни*, ckaimiwhumm
влияние на решения и поступки повителей Это мнение ва^идкло откмж
в окружении главных лидеров; его голос был слышен в Конвс нтг, в пре« се
(пусть на нее н надели намордник, ио (эедакторы быстро овладели л»«юп.
вым языком), в клубах, где продолжали спорить. хотя ни и находились
под надзором, в секциях, наконец, без поддержки которые оказывались
невозможны ни государственный переворот, ни успешна» патриотическая
церемония. Все это составляло свой мирок, насчитывавший. шммйжш».
лишь несколько тысяч человек, действовавших либо ча кулисами, либо
на узкой, чисто парижской сцене. Провинция нс участвовала в зт>»м пред
ставлении. Ничего удивительного тут нет Можно счесть жестокими слове
Гейне, но они истинны: «Во Франции я слышу Париж, но не прошшция'
Го, что думает провинция, имеет так же мало значения, как и то что думают
наши ноги, [олова является вместилищем наших мыслен* То что еще
оставалось верно для Франции 1830 г., тем более было верно в 1793 г
Общественное мнение тогда существовало лишь в Париже. 11льх<> от нггп
одного зависела судьба страны и будущее Революции. Здесь количество
не имело никакого значения: достаточно было одному Марку Ангулну
Жюльену свистнуть в театре, чтобы Комитеты приказали \братъ пьесу
из репертуара как не отвечающую «желаниям публики* М}. Общгстнен1юг
мнение представляло собою нс социологическое явчгиие. a npiiuijiui нлнт п<
Согласно формулировке того времени, оно было трибуналом-. »«•< кшси»
решений которого не измерялась числом судей. Нд|юд в своем полапли-
юще.м большинстве безмолвствовал, но правителы тжъ по крайней м< рг.
могло опираться на «общественное мнение»•
Кроме того, правительства опираются ведь нс только на ока.и.ом(мую
нм активную поддержку Пассивжкть к 6< ^^злнчие бнлыпиисгвд таюю-
могут ж рать нм на руку. В данном отношении якобинцы ошибались, юн да
стремились наказывать беэразличнык чья масса я инерпнкть служили им
защитным валом.
Я полагаю, что уже в 17(В 1794 гг между пюм францу чми
и (Эволюционной властью существовали отношения, следующим гюраюм
описанные Тжвилем лея периода Директории' «Франция <•..> презира
W) Нме Н De ГАИетчяе (I83Sj / Cd Р Gn^m. Р . Р 42.
LicbyA L dilefrvptrur <k Ь Иггам re rrpfe«raUlKKide UCjcneiLr F г** » 1793//
l-A RevUu(«ua 1905. P 501 — 520
160 Обществ ними до/онлр кил обоенп/шнне чр« •-♦-^чимных мер
ла н ненапидс \а правительство. которому подчинялась». Пли: «Это был
уникальный феномен: Революция, похоже, становилась для нации все до-
роже по мере того, как заставляла ее все больше страдать» Народ
ненавидел революционеров. но поддерживал их. по меньшей мере, своей
пассивностью, потому что питал еще более ск\ьную ненависть к Старому
порядку и потому что не видел иной альтернативы, :риме как поддерживать
якобинцев, их эпигонов и их наследников или вернуться под иго тех, кого
свергли в 1789 г. Токвиль приводит слова одного роялиста о голоде 1796 г.:
«Народ стонет н клянет Республику. Но поговорите с ним здраво, скажите
ему. что когда-то он был более счастлив; и он ответит, что аристократы
хотят голодом и страхом заставить его призвать короля, однако он скорее
бугег есть камни мостовой, чем сделает это» И). Такие же настроения
уже имели место в эпоху Террора. Свобода народа была поругана, бе-
зопасность находилась под угрозой, но интересы, порожденные 1789 г.,
оставались защищены. Поэтому враждебность по отношению к террори-
стам могла вполне сочетаться с несокрушимом преданностью Революции, ее
идеалам н завоеваниям, что нейтрализовало любые попытки сопротивления
или оппозиции. С этой точки зрения, закон от 22 прериаля (10 июня
1794 г.) и <гВеликий террор», установив абсолютное господство произвола,
стали хуже, чем преступлением, — непоправимой политической ошибкой.
Покинутое общественным мнением, которое до тот времени его поддержи-
вало, иногда активно, чаше пассивно, революционное правительство рухнет.
11ными словами, надо согласиться с тем. чти существование даже наиболее
деспотических режимов тоже зависит от согласия общественного мнения.
Легитимность политике общественного спасения обеспечила не какая-
либо реально существовавшая опасность — она и не могла ее обеспечить,
а исключительно согласие общественного мнения, выраженное открыто или
молчаливо, пусть даже посредством бездействия.
Эмиграция: от преступления к обязанности
Вопрос о реальности предполагаемой угрозы не имеет никакого зна-
чения и по еще одной причине, во всяком случае, если речь идет не о том,
чтобы судить, а о том, чтобы разобраться в побудительных мотивах ре-
шений, принимавшихся революционерами. Сегодня нам очень хорошо из-
вестно, да и в то время это многие подозревали, что в 1791 — 1792 гг.
Революция не сталкивалась с какой-либо опасностью, которая могла бы
заставить ее нарушить свои принципы. Однако политику общественного
Tocqueville A. L'Ancirn Regime е( la Revolution. Р. 1110, 1115.
Ibid Р. 1118 Это замечание Токвиля относительно состояния опщегтпеннпгп мнения
при Дм|*кп)рни подтверждается противоречитктью достижений роялистов на выборах 1795
и особенно 1797 гт.
Эишрпиия: от поступления к обязанности
161
спасения необходимо рассматривать не столько в свете объективного состо-
яния пп< ^неполитической ситуации, сколько в связи с внутриполитической
ситуацией, с интересами и притязаниями различных партий Вероятно,
о 1791 левое крыло Законодательного собрания ие боялось находившихся
а Кобленце эмигрантов, понимая их бессилие; но этот призрак позволял
левым добиваться принятия чрезвычайных мер, которые, r свою очередь,
должны были создать ситуацию опасности, благоприятную для достижения
ими своих политических целей. В данном случае, отнюдь не существование
какой-либо опасности заставляло революционеров кричать о ней. На самим
деле, они кричали об опасности, манипулируя искусственно раздутыми мел-
кими фактами, которые, хотя и не представляли собою реальной угрозы,
но, по меньшей мере, создавали вполне реальное О1цущсние такой утро*
эы. И если правое фельянское крыло пошло вслед за левым якобинским,
то лишь потому, что понимало всю ту выгоду, которую можно извлечь
из существования измены, олицетворяемой собравшимися на берегах Рейна
эмигрантами Фельяны считали, что смогут перехватить у левых наме-
ченную теми добычу и спасут Конституцию, на которую их временные
союзники нападали, используя тот же предлог.
Действия партий представляли собою искусственное нагнетание си-
туации и манипулирование доктриной общественного спасения. Не часто
обращали внимание на то, что применение принципов общественного до-
говора имело неожиданный результат: сначала с их помощью эмигрантов
принуждали вернуться на родину, а несколько месяцев спустя заставляли не-
присягнувших священников ее покинуть. Эти дебаты, действительно, дают
весьма яркий пример того, как принципы использовались в политических
целях.
Я уже говорил, что ссылки на Руссо доминировали в дебатах об эми-
грации и что к его авторитету взывали как для того, чтобы защитите свободу
выезда из страны, так и для того, чтобы ее временно отменить. Заключение
общественного договора, создающего «гражданскую а<социацию», а также
голосование, отменяющее изначальный акт или вносящее в него изменения,
требуют, по мнению Руссо, единодушного согласия граждан; ничто не мо-
жет заставить человека отказаться, вопреки его волг, от своей естественной
независимости. «Если после заключения общественного соглашения ока
жется, что есть этому противящиеся, то их несогласие не лишает Договор
силы, оно только препятствует включению их в число его участников: это —
чужестранцы средн граждан», — резюмирует Руссо м). Согласие должно
быть формально выражено в момент заключения общественного договора,
в дальнейшем оно предполагается самим фактом проживания на территории
страны: Когда Государство учреждено, то согласие с Договором заключа-
Ruuueuu /.-/ Du contrat social IV. 2 [Руссо Трактаты. M . 1969 С. 230)
162 Обшег mwrxHwu f<»/onnp мл* пб.»<н »uj»<ue ммчвинм.» мер
етгя уже р самом выборе местопребывании гражданина; жить на данной
территории — это значит подчинить себя суверену ’ 1 ’*
11з этих принципов, заимствованных у 1 1уфсндн|>фа и Бурламаки
следовали, что согласие должно быть дано в момент создания обще-
ства (или при изменении основополагающего пакта, но решению народа,
1куществляю!пего свои учред)птлы<ые полномочия) и что это согласие
а дальнейшем может быть r любом момент отозвано каждым из членив
ассоциации в одностороннем порядке *.1роцнй даже полагает, — писал
Руссо. - что каждый может отречься от 1осударства. членом которого он
являете я, и вновь возвратить <ебе естественную свободу и свое имущество,
если покинет стран) \ Каждый гражданин имеет право эмигрировать
по любой из причин Эти принципы вдохновили Кондорсе на прсдста*
пленный нм в октябре 1791 г. п|юект закона об эмиграции. Природа, по
сто мнению, *’Дает каждому человеку право покинуть свою страну <..,>
по делам, для поправки здоровья и даже для отдыха или удовольствия»
Более того, она ему даст право нс только покинуть страну и вернуться
в нее. когда он захочет, но и «сменить отчизну», «отказаться от той, где
он родился. и выбрать себе другую». Общество, как полагал Кондорсе,
не должно препятствовать осуществлению данного права. Самос большее,
что оно может, это рейдировать его применение, требуя, например, от уез-
жающего. чтобы он объявлял о добровольном отказе от своего отечества,
или же устанавливая испытательный срок, в течение коего экспатриант
остается под юрисдикцией законов покидаемой им страны Нс следу-
ет ли отсюда, что теории Руссо противоречило предусмотренное законом
от 9 июля 17(Ч г. наказание для тех. кто покинул страну после I июля
1789 г и своим отъездом показал, что отказывается подписаться пол но-
вым общественным договором? Таков был ударный аргумент противников
чрезвычайных законов. Однако сторонники таких законов, в свою очередь,
отвечали им с < Общественным договором» в руках, что Руссо, установив
право каждой) отказываться в любой момент от признания подобного пак-
та, сделал оговорку относительно приостановки этого прапа в зависимости
01 (й5стояте.мх*тв:
Конечно, ее нельзя покинуть, чтобы уклонит1»ся от своего долга
и избавиться от служения отечеству в ту минуту. когда оно в нас
нуждается. Бегство тогда было бы преступным и наказуемым; это
были бы уже нс отступлением, но дезертирством
' ' Ишшаи J.J. Duconir<H tonal. IV 2 (Руссо 2К.-/И. Трактаты. М . 1969 С. 230J.
1м См Kou>$edM J / CEuvretccimplries/ Ed В Cagnebm гг M Raymond. 1 III Ducwiilrat
social Если p^liiiqueb. P . 1964. P. 1493. notes 3-4 de la P 440
Rouleau j ‘!t Du contidi siKial ill 1Я [Руссо Указ», соч. С. 227].
Выступление 25 октября 1791 г. (Mimilrur. Г X. Р. 205-207)
Rousmqu J / Du conlial мч-ial. Ill. !8, note [Руссо Ж.-Л*. Указ. соч. С. 227 j
Э чицтцип: огп чрссггшплеммя к пбямнчости 16 J
В ситуации опасности. когда существует прямая угрела пп Аишчсскому
орглнн ам\ . применение этого права может быть яременнл запрещено, л мо-
бос нпрумгнме подобного запрета подлежит наказанию как преступлемнг
Ес ан п обычную пору э*1игрЛ1гг является гражданином, реализующим сяпе
пряно, то п чрезвычайное нремя ои становится «дезертиром* Сторонни
кн репрессий не преминули напомнить об этим отяорие. еде миной Руссо,
тем. кто доканывал сущестновакме ♦абсолютного* и неогъемчемого полна
на эмиграцию. Чрезвычайный характер обстоятельств пправдмплА. таким
образом, требование к эмигрантам вернуться в страну к принять участие
в ее защите.
А теперь перенесемся на несколько месяцев вперед. к тому времени,
когда непрнсягиуишее духовенство займет место эмигрантов в качестве
главного врага Революции. I la трибуне без перемен Де же с мим. те же
доводы. те же ссылки на "Общественный договор» или на «Дух ялкинояг
что и осенью 1791 г.. однако вывод из них следует совершекно иной Речь
идет уже не о том, чтобы по имя обязанностей, налагаемых общеетпеиным
договором. заставить врагов вернуться под юрисдикцию непризнавлемого
ими закона, а о том. чтобы подвергнуть ич высылке ил страны, т. е.
эмиграции, во имя непременного единодушия, которое должно царить
при образовании общественного организма и при всяком изменении или
обновлении пакта. Именно об этом говорит 26 апреля 1792 г. Франс*
из Нанта в своем докладе о депортации иепрнсягнувших священников
Разумеется, когда общество организован»» в еттгнетстшт с принци-
пами своСюды. каждый из членив ассоциации берет перед геч-уоди, гнпм
обязательство уважать и поддерживать мконм, а государство, в сыч»»
очередь. обязывается сохранить за членим ассоциации все П|моа, <гт кон а
он ис отказался. 1е. кто не хотят принимать участия и ассоциации, могут
или должны покинуть государство, я зависимости ст топ», чту ,*»ЛЫИИН-
стпо членов ассоциации сочтет наиболее полезным для общих интересом
Когда великая семья французов установила дм» себя в 1769- 17*^0 гг.
новые законы, нспрнсяniymui« < жпценники откл«мли<ь их примысь.
I 1оэтому общество получает право нс признавать и дажг изпыть »и сио
их рядов тех, кто сам его пс признает4,).
Попутно можно заметить, что наш 0(>атир весьма < п-(ч».анп интер-
претирует Руссо, выводя из отказа подписать обще< темный дип.ьор пра-
во политического организма изпгать несогласны*. Однако, прежде ыего,
необходимо подчеркнуть, что. оправдывая репрессии, он пс’>рлщл» п я и*
ключ1гге льни к принципам, совершенно не упоминая сии тпяггды. гм. г< ылки
на которые столь активно использовались предыдущей осенью против лмн
• С |»гд|1 прли чглоиска. %ыа\яА Всрньо. — не г пран опичать на при«ыв nrrtertwi
ЖМГрЯЦМГЙ. котири епш бы труелнным демрпчхтвим» (Мшигш. Т X Р 207)
4|>1Ьп1. TXI1 Р.232.
164 тканный диншор иак мгщ«нмг чр. «ам'ыйнмл мер
Г(МНП»Н Между IVM. ПНАПЮСТЬ II ДАННОМ AV’i.- и Г11ИГСЛЫ10, СТАЛЛ
реальной, к.ванюн она не бы\л ранге Фр.шннн ипп.г • находилась и со-
стоиннн 1»“нпы. в ей уже не «угрожали- П|киню< н по лишь горстки
IKK ТАЛЫ МрУКХЦНХ НО (. тлрпму порядку. I 1рМ‘Н ’I ill . >'»Н(Н(> умолчании
четко понять: речь шла нс о том. чтобы пака hi п» < 'шщгнников за отказ
ПОМОЧЬ нации. а о том. чтобы принудмп» ИХ К Г? Л\ Ь НГр!» II отношении
СВАЩСННИКОЬ было НЫТОДНГГ ССЫЛАТЬСЯ н<1 го же < . Мог право НАВСЕГДА
покинуть территорию < граны пр.шо, врс нращ< hi i чд<чь и • ноего ролл
<||.1ЯЧ,11ПНН’ТГ> нмнгрнрина ГЬ. КОП'рОС СЧ ПАрИВАММ b \ <МИ1 PdllTOU ( гороипнкн
репрессий применили весной 1792 г, те же аргументы, чы н<_пользовались
и копие 1791 । мм оппонентами.
Война, общественное спасение, суверенитет
Усиление власти общества над его членами, вызнанное необходимостью
обще< твгннпгс) спасения. рлс< могрнвалось как аномамог большиш гном да-
же тех люден, кто соглашался с этим в теории. Они остана\нсь верны
провозглашенным н 1789 г. принципам ннлнвндуали.чмл, хотя и ратовали
за временную приостановку пран, вытекавших ил укачанных нрннцнпиь.
Суть их К|>гдо по-прежнему составляло убеждение в первичности прав инди-
вида но отношению к обществу. которое рассматривались клк искусе тнгнное
образование, основанное на согласии его членов. I 1гключсние, сделанное,
как подчеркивались, в силу обстоятельств. только подтверждало принцип:
общество с уществует по воле индивида и ради него, и если индивидуальная
спободл может быть временно ограничена, то лишь в с хучие «абсолютной
необходимы тн* . когда «пр собственно надо дхн сохранения самой свободы.
Likuh «либеральный» подход имел достаточно широкое распространение,
ин ми чего (мч поле лно пытаться прочертит!. иоображ*1смую демаркационную
линию, которая сидглкла бы рснолюциоиерон, верных принципам 1789 г,,
от тех, чьи П|н'драсположг11ностъ к крайним мерам спиде гельствопала бы
об антнлибсральных настроениях и нраждебиосчи к индивидуа хмаму.
Однако в дебатах 1791—1792 гг. о чрглнычанных мгрлх. возможно,
проявляло! ь и друг»1Н концепция от1кш1гннн между личное иио и коллекти-
вом. В ходе них время от времени у некоторых ораторов, чья привержен-
ноегь духу 1789 с не пызывает сомнений, проскальзывала мысль о том.
что. поскольку общество имен свои собственные прана и интересы, более
высокие и более весомые, чем тг, что есть у нндивндоп, оно должно за-
щищать интересы, имеющие значение нс только для настоящего, но и для
такого будущего, когда его нынешних членов ужг нг будет в жнных.
Гак, когда Каксльг требовал наказания для «мигрантов, ымечая. чти
«главный долг каждого грвждалнни — служи гь огеч<ч гну, шх нищать ему
все свои таланты, псе спин способности, а нгсоплюдгннг .чгон еннщепнон
обннанностн. котирую вы пршшнагм < рокде/^шм!, ужг является большим
Мойнп. общее тменнпс сл<н енис. сулгргнинкт 165
пргс ni мигм < то разве он не иодрАяумевлл. что каждый че-мтек доч
ЖГИ 1Ой||'< MINI I» обяяиннгм ГМ» Возложенные НА нгт ьгч РП» СОГЛ«1< НЯ И ЧТО
прнннлл» т JHH~Th К опрсдг \Г1|||ому пбщГСТНУ НИКОИМ обраАОМ иг ЫНН1 »п
m д(»6|и»и<>и.ш)П1 к нему присоединты? I 1е хсптл ли он этими гмшами
покачан. ни общестш» пргдсIan\ягт собой некое обрахованке по • ути
сшк-н отличное от с.< к та паяющих его членов? Наложенная адггь Кавелье
концепции о1ноиич1НЙ между индивидом и обще( тиом. рлзумеетгя, уже
не яимкчхн кпнцгнуцгй «( кнцгеспешимо договора» тут иг воля индивида
пргднлрнг г иопннкнонгние социального организма, а социальный прошвам
предннч'ti’vtt появлению чмчшктн, ил-за чего его потребности иенчбеж-
но ок.1 льшнюпл нажиге пран любого человека. Подчинение общей нам*
обу< лонлгно тут Hr допиюром, который заключен между всеми и потому
в любой момент может быть рас горгнут, а с амим фактом рождения п гой.
а иг и другой стране.
Верны» говорил О ТОМ Ж САМОМ, КОГДА, ОТВеЧАЯ Кондорсе, ОГСГ.1И-
павшему со сноси радикальной оривержеиноетью договорным принципам
нерушимое право каждого человека на расторжение уч. < называющих со»
г отсчгс 1HUM. упомянул о тех «обядате \ьс гнах с лужить, мботнтьсн, трудить-
ся, защищать и даже любить»» которые существуют» Нгзлаж нмо in какого
либо волензьяпленин. как и отношениях между гражданами, гик и а от-
ношениях любого гражданина с нацией Эти ораторы утверждали, что
недси га гочио одного лишь желания, длбы стать (или nrpci гать быть) гра-
жлапкном; что суть принадлежности к нации не исчерпывается легитимным
стремлением получить защиту со с гороны закона и июбодно пальяошгпнн
своими правами; н, наконец, что общество целили сранпнвап». как нтп
сделал Синес п I7H9 г., с коммерческим предприятием, а гражданина
с «акционером», вступающим в асснцшщню исключительно ради личном
щнишн и имеющим право в любой момент ее покннуп». унося с собой гною
долю общего капитала. Верны» продолжал:
I ItKin.iH на чту фу и да ментальную истину нм», схерсе, на »го чужгш»
взаимных обя ынн<1стгй, лгжлщге и «х н«шс счщналыюй гармонии, яы даггг
полную нолю всем лощ иекх кнм пирьпмм. ны ралрушаг »е иинь м< .кду
индивидом и обществом, обществом н нндинндом nr»! дел л < тс чгмтек.»
(юдее Г1ю(м1дным, но побуждаете его к прслАтелкству, вернлпметпу.
Неблагодарности; ны глушите в нем нрАВстш-ниыс чу<и ни, которые часто
ему по чмо vi mi находить н глубине пюгй души То сча, ты*, к.пирм пи
ТЩГ1НО искал и окружающем м»цм\ Вы длстг ему к • нражллне iu» *
моден на i мете, но учите его не верить нм*^
Цю пи. HiMnunuinJ Op. cil Р.186.
I X. P 207.
44)11эм1 P.20H.
Общественный договор как обоснование чрезвычайных мер
Наиболее решительные критики революционного индивидуализма мог-
ли бы предъявить свои авторские права если не на выводы из этих речей,
прославлявших репрессивные меры, то, по меньшей мере, на использо-
ванную аргументацию. Верньо говорил почти как Берк, порицавший идею
абстрактного человека, свободного от всех социальных связей и от истори-
ческого наследия, или как позднее — Леопарди, заклеймивший в универ-
сализме прав крайнюю форму эгоизма и безразличия к другим4^. Однако,
быть может, Верньо хотел опровергнуть прежде всего то определение сво-
боды, как чистого наслаждения, не связанного ни с какими обязанностями
или жертвами, которое, как полагал Мишле, содержалось в трудах аббата
Сийеса. — «свободы пассивной, инертной, эгоистической, оставляющей че-
ловека в эпикурейском одиночестве, свободы исключительно наслаждаться,
свободы ничего не делать, мечтать или спать, подобно монаху в келье или
кошке на кухне»?46)
Подобная критика, несомненно, утрирована. Французская революция
не делится на два периода, в один из которых (1789 г.) гражданина рас-
сматривали только через призму его собственных интересов, а в другой
(1793 г.) — лишь с точки зрения интересов отечества, благодаря коему
он существует. Еще задолго до 1789 г. в дискуссии о древних и новых
авторах высказывались соображения о том, что для обеспечения индивиду-
альной свободы надо не полагаться на такую мало предсказуемую вещь, как
порывы добродетели, а предпочтительнее и надежнее создать институты,
способные свободу защитить, оставив обращение к добродетели граждан
на случай крайней опасности. Впрочем, если речь и шла о том, чтобы
свобода опиралась на нечто более надежное, чем приверженность граждан
добродетели, это никоим образом не означало, что добродетель или хотя бы
ее минимум не предполагались в качестве одного из необходимых условий
сохранения свободы. Размышления новых авторов о свободе противопоста-
влялись ее трактовке «классическим республиканизмом», но не были его
опровержением: никто не считал, что индивидуальная свобода предполагает
отказ от гражданственности и от принесения жертв во имя сохранения сво-
боды коллективной. Так, в мае 1791 г. один из корреспондентов якобинской
газеты (будущий фельян) напоминал критиковавшим институт националь-
ной гвардии: «Каждые индивид, отдающий себя под защиту общества,
самим фактом вступления в него [или, согласно Верньо, своего рождения]
берет на себя обязательство всеми силами защищать общественный договор
от любых посягательств... Что стало бы с обществом, каждый член кото-
4/)См.: Leopardi С. Le Massacre des illusions / Trad. M. A Rigoni. P.. 1993. P 50-76.
vВсеобщая любовь. — насмешливо замечает Леопарди, — это теория, которая, на самом
деле, состоит в том, чтобы никому не помогать»
Michelet I Histoire de la Revoluhon fran^aise. 7 I. P. 647.
Война, общественное спасение, суверенитет
167
рого нс считал бы себя обязанным отдавать те свои споссю1гости на благо
сограждан? » 47^
В некоторых речах и некоторых сочинениях, действительно, мог-
ла высказываться идея об абсолютном приоритете интересов индивида.
Например, бывший сотрудник «Энциклопедии» Жак Пешс порицал наци-
ональную гвардию как институт, который противоречит «принятой в Европе
системе торговли, производства и наслаждения жизнью», поскольку требует
от каждого человека жертв, несовместимых с удовлетворением его личных
интересов И депутаты — в 1789 г. довольно часто, в 1791 г. гораздо
реже — отвергали принцип даже временного ограничения индивидуальных
свобод, не допуская, что общество, вторичное по отношению к своим членам,
может когда-либо тех мобилизовать и даже ими пожертвовать во имя более
важных интересов, чем их собственные. В своем докладе 7 июля 1791 г.
Всрнье призывал своих коллег по Учредительному собранию к бдитель-
ности по отношению к подобным неверным трактовкам Декларации нрав
человека. «Злоупотребляя Декларацией прав человека, — заявлял ок, —
некоторые противопоставляют ее всем нашим законам, предполагающим
принуждение, в частности, закону о военном положении»
В действительности, ни Кавелье, ни Верньо не выдвигали какой-либо
иной концепции социальных отношений, которая лишала бы личность ее
приоритетного значения, передавая его коллективу. В своих речах они.
склоняя чашу весов на сторону коллектива, в некотором роде восстанавли-
вали необходимое равновесие между правами личности и обязанностями,
налагаемыми обществом на своих членов. Дебаты о чрезвычайных мерах
и в целом политика, проводившаяся с 1791 г. под лозунгом общественного
спасения, позволили вновь показать двусмысленность принципа независи-
мости индивида от потребностей коллектива или, используя цюрмулировку
Барера, от «прав сообщества». Чтобы обеспечить защиту прав своих чле-
нов, государство, олицетворяющее собой преемственность в существовании
общества, должно защищать интересы не только нынешнего поколения,
но к поколений грядущих. В этом смысле ни общественный интерес,
ни общественное спасение не являются пустыми словами
* * *
Можно также заметить, что в этих дебатах вновь появляется го, чем
Революция хотела и старалась порвать в 1789 г. 1огда революционеры
превыше всего ставили индивида и его права, рассматриваемые как гичка
отсчета и цель существования общес тва 1ем самым они хотели придать сво-
4 Journal des anna de la Constilutiun. Г. IL 10 mai 1791 P 51Й- И9.
Mercure de France. № 35. 27 aoiil 1791 Mercure historique r! pulibquc P. 354-355.
49)Moniirur. T IX. P. 65.
Обцдесгпм’мжгй jotoeop мак о6оснг явные ч>* «*v< ><а:7ных мер
им тенгтвмям более высокую легитимность, чем v мностъ традиции*^.
Одилко в 1791-1792 гг динамика все более ужесточаемой борьбы против
• внутреннего врага». войны и политики обществен/' >п спасения заставила
Революцию еаснтъо. пригнав права коллектива и ^‘/пикающее во время
войны * таинство» нации. с тем. чего она прежде стыдилась. — с п ре дета-
в гением по «бщегтве. как результате созидательно^» труда на протяжении
многих веков Вос пользовавшись в своих целях историей. Революция, не-
гомнеино. пошла по стопам Старого порядка, но тем самым лишила его
опоры нн прошло? и на традицию, служивших ему основными источниками
легитимности. Вторжение идеи общественного спасения в революционную
политику привело к экспроприации у Старого порядка его родовых грамот
н передаче их новолгу суверену.
Политика общественного спасения означала также, что политические
потребности взя»н реванш у принципов. В 1789 г кое-кто полагал, что
только принципы могут быть единственным надежным руководством для
действии правителей. Эта мечта о прозрачности политики и ее соответ-
ствии морали быстро испарилась. Появление в 1791 г. идеи общественного
спасения в качестве центральной темы дебатов с грубой откровенностью
nf" Демонстрировало невозможность постоянно руководствоваться в дей-
ствиях правовыми нормами. Потребности власти со свойственной им долей
секретности, скрытности, с необходимостью принимать решения, противо-
речащие праву, но продиктованные «общественным благом», вновь про-
явились в одной из тех крайних ситуации, в коих государство, как творит
Кар* Шмит, разоблачает свою истинную сущность^, Идея общественного
спасения, которая освобождает государство от узды конституционных норм
и процедурных формальностей, направляющих его действия и решения
в обычное время. < выявляет не только логическую независимость решения
от нормы но и. прежде всего, его первичность, его основополага-
ющим характер» Ситуация общественного спасения или чрезвычайного
положения вынуждает признать истинным сувереном не «нацию» или
государство в целом, а тот государственный орган, который принимает
окончательное решение о чрезвычайном характере обстоятельств н соответ-
гтхнцкх нм мер: • Сувереном является тот, кто принц част решение
о вдслении чрезвычайного паюженпя [Шмит], поскольку, чтобы ввести
чрезвычайное положение, надо иметь власть отменить действующий за-
^Об гтч «обрА^енкн к умиверелмйюму» как стратегии, имеющей целью лжпнтъ
трмншпо .М7ИТИМ1ЮС гч. см Caurhel М La Revolution des droHs de I’hommc. P >8
Ш C Lj dfiUtwa Dalle otipne deD xiea modcrrui di aovramU alia kxu di <Lux
prdcUTM. Rome, Btn. 1975 Эпэ — др иля проблема, нежели мекуеггъенное совдлние и ж-
памкжжлнме во &я>-трипииггмчссккх иш партийных интересах гак.ж крайней ситлдцми
" Кспсвяя / F- £ui d'exceptMMj // ЭмгижпАие de phdowpbe politique / Ed Ph. RawmimJ
et S Ruk P.. 19% P. 251
Rvuh.3. (»6щеспикетное спасение, сцяереммли** 169
кон, а значит — и власть его восстановить и даже установить* Идее
общественного спасения, наделяя суверенную в клеть в нгкагэрим роде
тем. что Локк назвал •прерогативой», т. е почномочиямн •действовать
сообразно собственному разумению ради общественноп? 6мга. не чшражь
на предписания закона, а иногда даже вопреки ем\»лЛ) показывает. кто
именно является сувереном, и в то же время, приостанавливая действие
права, демонстрирует всю полноту этого суверенитета
Именно в этом смысле следует трактовать обмечавшееся Мишле
и Кинэ сходство между революционным террором и абсолютизмом Старого
порядка. Возникновение Террора означало, по их мнению, эпзвра? Фран-
цузской революции к абсолютистской традиции. Проект закона об эми-
грации, представленный Ле Шапельс 28 февраля 1791 г. быч. как писал
Мишле, «первой статьей кодекса Геррера и копировал другой Террор —
связанный г отменой Нантского эдикта» Со своей стороны Ким < ниже
замечает
В эти гиды имело место никогда более не вндлнное jumo с од-
ной стороны — высокий идеал общественного блага в справедливости
обещание золотого века, начертанное при входе, с другом стороны,
в реальности. — царство беспощадной Немезиды Можно ска.мгь.
XVIII век воплощал свои идеи в жизнь средствами ХМ века Две апоме
сосуществовали, объединившись в чудовищном сокче. семтммскткчьнля
мысль Руссо использовала в качестве инструмента толп». Варфолом^»
с кон ночи^.
Топор Варфоломеевской ночи или драгонады последующа.. <п,»г
тия... Свободно перелагая восхитительный текст Кина, можно • казать, что
это было почти так. по крайней мере, посче 1 АХ) г как если бы пн»•во г*. -
нувшийся семнадцатый век заговорил языком в*> г мналиатого Эп *.ьпр
связь между Революцией и Старым порядком, состояв илю в том. что Рево-
люция, провозглашая свои цели, нс пользе на. \а его eg* детва д<я дсстнжения
их. открыла отнюдь не историография второй половины XIX а . одержимая
идеей неизбежного возврата к деспотизму газалси-ь. пожтвержддемч'Ю фхин
1Ы. Р. 232.
Loth I Deuuirme ианё du gouwnirtnrni P 229 J> У«а> cr^ C 3>'|
И О 1кишленнм ДГ»КТ)ЖНЫ пх ум pc гвекисоз КНТРн.» (гши«) dL.ff) • аочг 1 •
к о мритнкг ее я W ill а см С«п»<К</ Ч L’Lmi au t£»rvu de U -ммлп <f f . / Bjm» о
drraibon d f’.ui ThronoetM ei (heorm de la twfl d fhai jui XVT i X\l!* v*. p
P 193-244, Cai4it//e / -Р Dr U corururikja <irs de L • «хцмигект
S<mula(u>n el dmimuUlMW! mire U XVf* c< le Will1 ые<к // ljHr*4iurca «Ummqmti
P. 73-102.
x 1 'ficAe/el /. Hisioue dr U Re«UuU<xi йап^аме T 1 P
4 Qmnd E Le СЪпМктыпе e< U Rrvduboo 1тал<лжг p 19*5 P M9
^70 Общественный договор кок обоснование чрезвычайных мер
цузской историей Террора и двух Империй 1R\ Мысль о применении Рево-
люцией методов абсолютизма была сформулирована еще в революционную
эпоху. Это сходство, разумеется, гораздо раньше историком подметили про-
тивники чрезвычайных законов. Еще до Мишле и Кннэ они увидели, что над
новыми временами простерлась тень Великого века. «Вам предлагают закон,
отвечающий обстоятельствам, — заявлял некий Дарнода, — [но] как только
вы вступите под власть обстоятельств, возникнет нужда в диктатуре. Имен-
но диктатуры потребуют от вас и будут взывать к тени Людовика XIV»
Однако еще удивительнее то, что подобное сходство не только от-
мечалось противниками какой бы то ни было приостановки действия ин-
дивидуальных свобод, но и признавалось даже теми, кто проявил себя ее
сторонниками. На сей счет можно привести несколько особенно красно-
речивых примеров. 9 июля 1791 г. Барер, не без ораторских ухищрений
и оговорок, так трактовал свободу выезда из страны:
Обсуждаемый нами вопрос не раз поднимался и в государственных
советах тиранов. Установив варварские законы, Людовик XIV и Иосиф
II приняли еще более варварские меры против эмиграции; однако вам
здесь осмеливаются предлагать законы отнюдь не такого рода... Сегодня
речь идет всего лишь о полицейских мерах
А вот что 14 ноября 1791 г. говорил Инар о неприсягнувших священ-
никах:
Если бы Людовик XVI использовал такие сильные средства,
когда о Революции еще можно было только помышлять, мы бы здесь
не сидели... Применение столь суровых мер есть великое злодеяние,
когда деспот хочет таким образом увековечить тиранию. Но когда эти
средства используются нацией в целом, они не являются преступными,
а представляют собой великий акт справедливости * 60 61 62\
И снова Барер. предлагающий 1 августа 1793 г. от имени Комитета
общественного спасения опустошение Вандеи:
История осудила Лувуа за разорение Палатината, и Лувуа должен
быть осужден; он служил деспотизму, он грабил для тиранов. Палатинат
Республики — Вандея, и свобода, нащ>анляющая теперь руку истории,
вознесет хвалу вашему смелому решению, потому что вы будете карать,
дабы утвердить права человека, и вы послужите уничтожению двух самых
больших недугов наций — религиозного фанатизма и монархического
суеверия
Fitrd F. La Gauche el la Revolution franchise au milieu du XIXе siecle. Edgar Quinct el la
question du jacobinisme (1865-1870). P., 1986.
Выступление 9 июля 1791 г (Moniteur. T. IX. P. 79).
60) Ibid. P.81.
61) Ibid. T.X. P. 375.
62)lbid. T.XVI1. P.339.
Вайно, общественное спасение, суверенитет
171
И, наконец, Робеспьер с его докладом от 5 февраля 1794 г. «О прин-
ципах политической морали»:
KiBopwr, что террор составляет движущую силу деспотического
правления Разве ваше правление похоже на деспотиям^ Да, так же,
как меч. сверкающий в руках героев свободы, похож на меч, которым
вооружены прислужники тиранов Деспот прав как деспот в том, тго
управляет своими забитыми подданными посредством террор; обуздайте
при помощи террора врагов свободы, н вы будете правы как основатели
Республики. Республиканское правление — это деспотизм свободы,
направленный против тирании
Можно без труда множить цитаты из речей, развивающих тот же
тезис: Революция не должна стесняться использовать против своих врагов
те насильственные средства, которые деспотизм использовал против своих,
безусловно плохие, когда применялись во имя плохой цели, эти средства,
если и не стали теперь хорошими, то, по меньшей мере, оправданны
той хорошей и справедливой целью, которой отныне служат. Однако
в подобном, ранее немыслимом признании общности методов с деспотизмом
скрыта и еще одна идея, а именно — что народ может использовать
аналогичные методы и точно так же применять насилие против своих
врагов, поскольку завоеванный им суверенитет ничуть не слабее и не меньше
того, коим когда-то обладали короли. Следовательно, развязывая против
своих врагов такое же насилие, как и короли, народ демонстрирует свой
суверенитет. Таким образом, с этой точки зрения Террор предстает как
один из способов присвоения суверенитета народом.
Ранее уже говорилось о том, что в июне 1789 г. депутаты тре-
тьего сословия, образовавшие Национальное собрание, провозгласили себя
представителями всей совокупности граждан независимо от каких-либо раз-
личий по происхождению и статусу, дабы противопоставить привилегиям
и званиям, на коих те основывались, высшую легитимность, опирающуюся
на универсальные принципы63 64*. Однако, присвоив себе право оглашать во-
лю нации, они вступили в конфликт с королем, являвшимся до того времени
единственным «представителем», единственным хранителем суверенитета.
Эта борьба за обладание суверенитетом продолжалась около года. Переход
суверенитета от короля к нации окончательно состоялс я не в июле 1789 г.,
когда восстал Париж, и даже нс в сентябре, когда Учредительное собрание
установило пределы полномочий монарха, а лишь в мае 1790 г, когда око
передало нации право объявлять войну и заключать мир (по предложе-
нию короля) На этот счет современники не обманывались. Если верить
газетам того времени, тысячи граждан толпились на подступах к Собра-
нию в течение всех шести дней, пока шла дискуссия. Когда стал известен
63) Robespierre М. CEnvres. Т.Х. Р.357.
См. главу И.
/2 Обшег г леем/t мй доеолор как обогмоллние чрезвычайных мер
f результат. они встретили рукоплесканием Варнава и Д юпора. защищав-
ших верховенство нации, и освистали Мирабо, который. ио нх мнению,
слишком заботился о «части короля65). Без юмиення, декрет от 22 мая
1790 г. стал плодом компромисса, поскольку предоставил представите-
лям нации право объявлять воину при условии внесения монархом такого
предложения. С технической точки зрения, декрет не полностью завершил
переход суверенитета: за королем сохранилась более важная роль в по-
литическом устройстве, нежели просто «первого приказчика нации», как
говорил Робеспьер66^. Однако с точки зрения символики лишение короля
власти производило на умы большее впечатление, нежели то довольно зна-
чительное влияние, которое он сохранил. Уже утратив власть давать законы
н власть вершить правосудие, он потерял и последний символ своего былого
могущества — меч67).
Действительно, право объявления воины — это не просто один из атри-
бутов суверенитета. Это именно тот аспект, где суверенность власти про-
является в высшей степени. Как показал Жоэль Корнет, в XVII веке —
веке почти непрерывных конфликтов — война была главным движителем
эволюции абсолютизма^). Создавая по определению чрезвычайную ситуа-
цию. в которой речь шла о самом существовании нации (даже в случае чисто
наступательной войны и без какого-либо неприятельского вторжения на на-
циональную территорию), война тогда вела к беспрецедентному усилению
власти, обязанной защищать жизненно важные интересы страны. Война
позволяла власти принимать любые меры, продиктованные обстоятельства-
ми. в силу древнего принципа общественного спасения: Necessilas legem
non habet («нужда нс знает законов»). Власть становилась абсолютной,
поскольку действие процедур контроля и регистрации решений монарха
суверенными судами — процедур, ограничивавших королевскую власть. —
во время опасности приостанавливалось. 1ак уполномоченный короля при
штатах Лангедока заявлял в 1650 г.: «Несомненно, что в монархическом
государстве король — хозяин собственности и людей, являющихся его под-
данными. и что он может распоряжаться их свободой и жизнью по своем)
усмотрению, особенно в общественных делах» °у).
° ) См : Michelet } Hisioire de la Revolution franchise. T. I P. 350—351
Robctpierre M (l£uvres. T. VI. P. 364—365.
67) а Вы уже отняли у короля два его основных прана. — заявлял во bjx-мн дискуссии
Казалес, — право на внутреннее управление и право на осуществление правосудия. Если bn
постановите отнять у него и третье, то придется открыть народу большой секрет: с клто дю»
у него больше не будет короля». Цнт пи: Oraieurs de la Revolution han^aise / Ed. F. Furet el
R. Halevi. P 214
Cornell* J. Le Ro< de guerre. Elude sur la souveramete dans la Fiance du Grand Seek
P.. 1993.
69)JUd P. 319.
Вонна, общественное спасение. суверенитет
173
Это была абсолютная власть, но изначально временная, поскольку она
должна была заканчиваться с исчезновением опасности для королевства.
Однако в XVII в. монархия использовала чрезвычайные полномочия,
чтобы значительно усилить свои прерогативы в мирное время и ослабить
для себя ограничения со стороны традиционных корпораций7^ Винна
служила не только средством материального усиления монархии, но и.
кроме того, вела, замечает Ж. Корнет, к возрастанию ее символического
значения, создавая образ «воюющего короля».
Аналогичную роль играла война и во время Революции, поскольку
здесь также стоял вопрос о суверенитете. Начиная с 1792 г. война — хотя
это проявилось еще во время подготовки к ней, частью которой стали атаки
в предшествующую зиму на эмигрантов и непрнсягнувшмх священников —
создавала ситуацию общественного спасения к влекла за собой, как к в пре-
дыдущее столетне, подчинение законов и права нуждам текущего момента.
Она так же освободила революционеров от рамок Конституции, как ко-
гда-то позволила королю уменьшить прерогативы парламентов. Тем < амым
война способствовала наиболее полному раскрытию могущества суверена.
Так же. как ранее она позволила Людовику XIV посягнуть на тради-
ционную «Конституцию», она позволила Революции, низвергнув трон,
ликвидировать последние руины Старого порядка, оставленные 1789 г.
Кроме того, именно в ходе войны, объявленной внутренним врагам
так же, как и внешним, народ почувствовал себя настоящим сувереном
Вонна лишила понятие суверенитета абстрактного характера и наполнила
конкретным содержанием, придав суверенитету такую реальность, которую,
по меньшей мере, трудно ощутить в мирное время, когда гражданин при-
меняет его, только голосуя на выборах. Нация почувствовала суверенитет
благодаря войне и благодаря тон мощи, которую война позволила ей обра-
тить против своих врагов. В 1793 г. новый суверен обрушил на восставшую
Вандею всю мощь своего суверенитета, как когда-то короли применяли
его против своих врагов или мятежных подданных. Революция опусто-
шала Вандею так же. как некогда Ришелье морил голодом Ла-Рошель.
Это позволяет лучше понять параллель, проведенную Борером а августе
1793 г.: Вандея — это Палатинат Республики, потому чю Республика
ничуть не менее королей имеет право применять насилие, причем, в самой
жестокой форме, чтобы уничтожать своих врагов. Палатинат стал жерпюй
нс только стратегических расчетов, но и желания Людовика XIV нагляд-
но продемонстрировать собственное могущество. Король, как справедливо
написал Вольтер, «приказал <...> опустошить целую страну, поскольку
для него не существовало н этом мир? ничего, кроме его власти и ужас-
О найме как «повивальной пайке абсолютной монархия* си.. /омиене/ fl. de. Du pouvwr
Histoirr naiurelie dr sa cruissance [1945]. P„ 1998. P. 229—254
Общественный логавор как обоснование чрезвычайных нер
кого права войны» 7^. По убеждению революционеров 1793 г. стратегия
требовала опустошения Вандеи но Вандею надлежало опустошить и для
того, чтобы она искупила свое преступление, так же. как Лион должен
был быть стерт с лица земли за восстание против Конвента, органа власти
народа-суверена. Новый суверен, совершенно очевидно, нс давал пощады
своим врагам или тем. кого считал таковыми.
Однако, в конце концов, нужно ли вместе с Эдгаром Кинэ уди-
вляться этому' противоречию между стремлением к прекрасным целям
и применением жестоких средств, из-за чего тень XVII в. простерлась над
человеколюбивым восемнадцатым столетием? Революционеры были деть-
ми века Просвещения, но разве не были они также н детьми абсолютной
монархии?
’"Corndle/. Op.cit. Р. 325.
-VIII
Якобинизм, демократия
и Революция
Подобно тому, как наблюдателю у подножья горы простирающаяся
перед ним долина видится иначе, чем тому, кто стоит на вершине, так же
существуют и два способа рассматривать ход Французской революции.
Если воспринимать ее в целом, сверху, то неизбежно складывается впеча-
тление о некой фатальности ее движения к Террору, как будто к худшему
развитию событий ее вело действие некой непреодолимой логики История
Французской революции с 1789 по 1794 гг. демонстрирует рост насилия
и политической нетерпимости, постоянную радикализацию, день за днем
оттеснявшую на обочину наиболее умеренных и выводившую на авансцену
экстремистов. Впрочем, своего историка Террор обрел еще до того, как
ушел в прошлое. Его будущую историю, действительно, можно найти в тех
предварительных ежедневных зарисовках, где трезвомыслящий и пессими-
стически настроенный Мале дю Пан1) изображал скрытую за внешним
блеском изнанку происходящего и показывал еще юной Революции т»\
чего она не хотела видеть, — ее скорую и жуткую дряхлость-1 Вновь
воспользовавшись известным образом, можно сказать, что Революция, по-
добно Сатурну, пожирала своих детей, но не только пигому. что нч убшм ч.*,
но и потому, что властвовала над ними.
Есть, однако, и другой, имеющий нс меньшее право на существо-
вание способ изучать ход Французской революции Он состоит н том.
чтобы охватывать ее взглядом не всю целиком, а рассматривать снизу
в более скромном масштабе, ее протагонистов и ее перипетии, так сказать,
день за днем. Другая перспектива, другое зрелище* то, что издали кала*
С 1789 по 1791 гт. Мале дю Пан редактировал полюнчеекчя раздел «гиги* V;r. de
France.
Я перефразирую здесь на свои лад выражение Бронт ива Бачи- писавшего гцмвдк.
о Термидоре: «Революции достаточно быстро старекп. 11х старое it ужасна .И Термидор
является тем зеркалом, в коп^юм кажддн новорожденная революция может беа всякий нагон
увидеть то. чего она видеть не хогеча бы. — зрелище [«спада и дряхлости, в коих нашли
смерть былые мечты» (Baciho В Comment ыэгЫ de la fen-еш Р 353)
176
Я*г<<>имиям ленократын и Ределкщия
лось широким потоком, увлекающим за собой людей и события, вблизи
распадается на множество ручейков, пересекающихся друг с другом, време-
нами с чикающихся. чтобы затем разделиться, исчезающих из вида в одном
месте, чтобы появиться в другом, иногда спокойных, иногда бурных. (
бытия и действующие лица приобретают свой неповторимый облик; самые
значительные из обстоятельств порою теряют свое величие, уступая место
тем мелким расчетам и мелким мотивам, которые их порождают. Если при
взгляде сверху Революция кажется мчащейся к пропасти, то при взгляде
снизу можно увидеть, как она следовала извилистыми путями, которые без
какой либо предопределенности привели ее. в конце концов, туда, где она
оказалась. Ее сценарии не был написан заранее.
До тех пор. пока не доказано обратное, история остается делом рук
людей чей характер страсти, интересы и выбор оказывают немаловажное
влияние на ее развитие. * Род людской, — заметил Проспер де Барант еще
в 1828 г. — не является лишенным воли и жизни объектом, который дни
жется по предопределенному ему пути в соответствии с законами моральной
гравитации . Напрасно нам пытаются доказать, что люди и народы выпол-
няют некую, им неведомую миссию; их моральный характер определяете я
их личными качествами, их осознанными действиями*^. Продравшись че-
рез этот хаос осознанных действии и событий, мы можем вернуть случаи .
вероятности и непредвиденности принадлежащее им место в историческом
процессе История непредсказуема. Однако в конце XX в. историку невоз-
можно не принимать во внимание то, что в XIX в. его предшественникам
или. по крайней мере, большинству из них было простительно не знать
из-за недостатка опыта: а именно — то, что любая революция, независим-
от ее принципов, причин и целей, ведет к трагедии. Хотя историк сеп».ъ
не может подкалить к этим вопросам, игнорируя опыт прошлого, он,
нами, должен следить за тем, чтобы на смену убеждению, что все завя. «•
от обстоятельств, нс прииска мысль, что все подчинено необходима
Помять сочетание случайного и необходимого — такова задача кажд.?-
кто пытается найти объяснение Террору.
Случайность и необходимость: гипотезы
Существуют различные взгляды на соотношение случайного я ?
днмого Можно вообще отрицать всякую связь между ними, лисю </г
‘л ль случайного иллюзорной как это делали контрреволюционер;
тавшие 1793 г неизбежным счедствием и даже сутью принципов 174
либо и-члргая саму' идею необходимости, как это делали рев> к
ры. видевшие в 1793 г. печальный инцидент, результат чисто
rtn MotcJm р Barante // ГЛсСюолигс Jet klircs Lz d.x j
Sound, c Gran* P 1971 T.l P 91
Случайность и меобхолмлнхгль.- гипотезы
177
обстоятельств, никоим образом не связанный с принципами Революции
Контрреволюционеры смешивали воедино ход Революции и ее принципы,
а революционеры слишком жестко отделяли одно от другого Сложность
состоит в том. чтобы рассматривать в совокупности все, что в Терроре было
случайного и что — необходимого.
Опубликованный в 1988 г. Франсуа и Моной Озуф -Кри-
тический словарь Французской революции представляет собой попытку
увидеть, в чем между 1789 и 1793 гг. была преемственность и в чем
разрыв; — попытку, равноудаленную от противостоящкх друг другу ре-
волюционной и контрреволюционном традиций. Основная идея состоит
в следующем: деспотизм 1793 г. может быть понят лишь в свете про-
тиворечий революционной политической культуры, изначально обладав-
шей определенным антилиберальным потенциалом. который обстоятельства
превратили в реальность 1793 г. Из существовавших в 1789 г различ-
ных вариантов возможного развития событий ни один, в том числе худший,
не имел больше, чем другие, шансов воплотиться в жи.чнь. Дальнейшее раз-
витие Революции, зависевшее исключительно от стечения обстоятельств,
определила чрезвычайная ситуация. Однако, поскольку с самого начала
Революция была чревата как свободой, так и деспотизмом, различные ее
периоды отмечены печатью преемствен мости Послушаем Франсуа Ф*>ре
В этой книге проводится мысль о том. что диктаторским характер
революционного правления не был просто илм исключительно результа-
том защитной реакции перед лицом опасности. а стал также проявленлгы
некоторых потенций политической культуры Французской революции
Террор не был с неиэбежн<хтью предопределен принципами 1789 г
но обстоятельства, действительно чрезвычайные « 1793 г приеме
в действие те идеи и страсти, которые не сгксобствовали устаноалентг»
политической свободы4 ’
Тезис, развиваемый Франсуа Фю^ и Моной Озуф -\ичам:я
от сформулированного в свое время Жюлем Мишле. Последний, вопреки
мнению большинства историков, высказал мыскь, что к знфлнкт межл жи-
рондистами и якобинцами был вызван нс только личным соперничеством,
но»расхождением в принципах, проявившимся иа процессе над Людовиком
XVI. По мнению Мишле, именно в силу своей щ иве жени у -и , тип*
народного суверенитета Жиронда предлагала передать на нар ла
вердикт. вынесенный Конвентом. «Дочь философии XVH1 н , она г.р»
ела ее логику в стены Конвента. Принципы заставили ее н> суть
монархию, и принципы же заставляли ее пощадить короля Напротив,
•Гора Открыто защищала право меньшинства < мила, ь с г. зет и .... .-.д,
не считаясь с его суверенитетом Искренняя патриотичная. гг| ичесхая
она. однако, пошла опасным путем. Если большинстве ничего иг значит
^Furtl F La Revolution, de TurgU л Jukn Ferry T I. P 50*-509
’•3 155
178
демократия и Революция
если преобладать должны лучшие, независимо от их количества, то эти*
лучших может быть минимальное число <...>, и даже всего лишь один
человек — король, папа. Гора карала короля, опираясь на тот же принпи--
на который опирается монархия. — принцип авторитета, способный при-
вести к восстановлению королевской власти. Она положи \а сей принцип
е основание эшафота, но на нем же можно было возвести и трон
.Мишле, а затем и Кямэ связывали антклибералъную сторону Революции
с существованием особого якобинского мировосприятия, для которого бы?
характерен дискурс, берущий начало в философском наследии одновремен-
но абсолютизма и католицизмаякобинизм — это демократия, мыслимая
в понятиях Гоббса н Боссюэ7'.
Никто здесь не собирается отрицать того, что «чистый аист» 1789 f
ткрывал возможность для любых девиаций под лозунгом равенства, и\и
того, что радикальный индивидуализм 1789 г. был чреват вероятностью
возникновения -новой суверенной власти столь же абсолютной
и столь же автономной, как и воля любого из создавших ее индивидов Ч
Тем более, речь не идет о том. чтобы оспаривать существование «якобинско-
го дискурса» или отрицать глубочайшие различия, например, между разра-
ботанной Кондорсе математической теорией представительства и созданной
якобинцами эссенциалистгкой» доктриной. Истоки 1793 г., действите\ь
но, утсодят в 1789 г. И перед нами уже не стоит задача понять, какие
революционные принципы или настроения сделали Террор возможным
Нас сейчас занимает более узкая проблема — проследить пути перехода
от 1789 к 1793 г, установить, каким образом скрытые в 1789 г. потении
альные возможности антилиберального развития смогли, в конечном счете,
осуществиться
Трактовка Террора как реализации антнлиберального потенциала,
державшегося в латентном состоянии внутри революционной лолитичесн i
культуры, вполне обоснованно заставляет искать в последней объяснении
мотивов насилия и форм, принятых Террором. Однако такой подход не и
аваляет понять пути, приведшего к подобному результату, если не счипп
ссылок на непредвиденные обстоятельства. Такая интерпретация прид.»»•
идеологии решающее значение в объяснении происшедшего, а обстоите '
ствам — не менее решающее функциональное значение. Предполагаю
что обстоятельства вызвали всплеск насилия, а идеология, в широком смы-
*' M cAc/xf J. } Ьм<д>е de U Revolution fran^aisc Т. 11 Р. 166.
Ь>0 Кинэ и об его гюннмаими вкобнинэма как возврата в рамках Революции •
порядку см. /иге/ F La Gauche el la Revolution. P. 61-72.
' He елмшххш отличается от зггого м тезис Люсьена Жома. См jaumc L 1 I- I
i Hid ftpnrttouitve гшх1егги Р., П&6; Idem Lr Discuu/e jacobin el la demoerdtir P
Furr/ F Li Rev<.tutK>q de Turgot a Julea Ferry P. 106.
Об otqm гм выше главы II м Ш.
Якобинизм u jfMQ^pamun
179
еле слова, объясняет формы, в которые оно вылилось. Террор предстает
здесь как возможный продукт революционной политической культуры.
Следует ли считать, что если бы не инерция вещей н не сопротивление,
оказанное людьми тем переменам, что совершались, как предполагалось,
ради их же блага, то Революция не нарушила бы своего обещания дать
свободу? Возникновение Террора, несомненно, было обусловлено уже су-
ществовавшей к тому моменту совокупностью различного рода условий,
делавших его возможным: принципов, применение которых было чрева-
то опасностью; ожесточения коллективных страстей, интеллектуального
и культурного наследия, мало совместимого со свободой и с уважением
к праву; освобождения деятельности от любых моральных ограничений
и т. д. Помимо этой плодородной для Террора почвы, его появлению спо-
собствовали также конфликты, инциденты — т е . те факторы, которые
привели его в действие и без которых он и далее пребывал бы в латентном
состоянии. Это — обстоятельства, скажут нам. Однако, как мы уже видели,
хотя обстоятельства и вызывали последствия, которых никто не мог пред-
видеть и которыми никто не мог управлять, очень часто они не имели ничего
общего с неожиданными событиями чисто внешнего происхождения Начи-
ная с наиболее важного из них — войны, обстоятельства во многих случаях
сознательно создавались революционерами в своих стратегических целях,
объяснение которым надо искать не столько в противостоянии Революции
и контрреволюции, сколько в конфликтах между самими революционерами.
Обстоятельства были не причиной этих распрей внутри революционного
лагеря, а одним из их следствий. А потому можно выдвинуть и другую
гипотезу, определив террор как неизбежное порождение революции самой
по себе. т.е. революции как особой формы исторических изменений неза-
висимо от ее принципов и даже от того места и времени, где и гдд она
происходит. Иными словами, если идеология позволяет определить, кого
принести в жертву, то революции, независимо от своих принципов и целей,
требуют жертв и требуют непременно
Якобинизм и демократия
Якобинизм. в коем историки часто искали разгадку Террора, пред-
ставляет собою сложный феномен, различные ипостз и которого далеко
не полностью совпадают между собой. Определение якобинским* отно-
сится и к одной из форм социабильностн, и к деятелям Революции, и и ее
периоду, н к дискурсу, и к традиции В социологическом плане якобинизм
выступает как метафорическое обозначение демократии, ее принципа и се
пределов. При рассмотрении в политическом и о идеологическом планах
его история во многом совпадает с историей бурного потока Революции.
Ш>Об этой гипотезе см. след главу.
13*
180 Якпбмнмщ. ЛСЫОК/ЙРП11Я U /\дл
И. наконец, в философском плане он является ватчцаннем Франц лаек и
революции якобнниэм — это. прежде всего, другое имя Француз» к.ч
революции
Что касается традиции, то. замечает Фухшеуа Фюрс, посмср-нмя
история якобиннямл «началась сразу же после его гибели как пслик.-е
и побуждающее к действиям воспоминание, вызывающее восхищение »иг
ненависть, как олицетворение всего лучшего или худшего, что было п сам а
Революции»1”. Вскоре одной лишь приверженности принципам 178” г
окажется достаточно. чтобы быть названным якобинцем. «Теперь. кон
статмрсмып в 1806 г бывший член Конвента, жирондист Пагане чп.
слово «кобинеь имеет лишь относительное значение. Для тех, кто лор -
жиг старыми образами к лелеет давние заблуждения, все французы —
якобинцы» Затем в «багаже республиканской партии»* якобинизм не
ребра и:* в XIX н где стал весьма растяжимым обозначением для обще
достояния наследников Революции, вКгЛючаншего в себя суверенность, нс
делимость и независимость нации, равенство прав, секуляризацию и т д
Якобиниэм был отделен от Террора н претерпел «обуржуазиванме . к
в целом завершилось к 1880 г., когда республиканцы положили в осн в
своей власти «экуменическую версию Французской революции, где яко-
бинское нас ледие было очищено от крови и насилия» 13\ Однако со времгн
Директории существовала и другая якобинская традиция, имевшая в <в » ।
основе историю якобинской «партии». Берн начало и бабупистскоп ин-
тгрП|)стацим якобинского опыта, она выводила из этой истории докт. »•••>
за л вата власти и революционного, волюнтаристского преобразования ( <
щсства организованным меньшинством. Через тайные общества. Бл.шьн
и активистов Коммуны этот якобинизм приводит к Ленину и к те. : »
диктатуры революционной партии ,4/
Что касается •якобмнмзма» как метафоры для именования дем»
тин. то его социологическая интерпретация в таком качестве с<»< ъп
главный вклад Огюстена Кошена в изучение Революции Честно
вора, исследование Кошена представляет более широким интерес, не
только как работа о Революции. Препарирование якобинизмл, ь гм.
лосаэтнл свои труды, является также препарированием демократии. I 1г
Гап1 F J^cbniumc /7 Экл.олпаие critique de U Revolution franvaiie. P 757.
Aitf-j'ie! P £»•> hiHonque et critique tux la Revolution bancaise; set c«nisr> >
лггс lei puftrailt de» bununet Ira piua teiebfM [1806|. P-, 1815. 1. II. P. 355
fwrtx F J«rvbfno<nr P 759
^Cmj fiuoaerruli Ph de l egaliie iLlc dr Babeu! 11828] P . Ilr’/ I.
P«xnu Ф Запмк4> ас ине рамжгтм. имеиуемши ыгиворим БабеЦн М . Л . PMS l 1
ирггметиеяиогтм си: Т. ВокЬемк* el Jacobins hinerairc des лплк^и*^
Т [клъшсммкН жжибинцп и прмараж термидора М., 1993].
'5 ОодмА амачм» незавершенной работы Кошен* nui мбшгги на фреше? в >
см Г.огГ F Prnacf la Revoluttuo Ьагндиде. Р. 212 —259
Як обучи am и демпчритиа
181
всрженец католическом и консервативной традиции, Кошен не испытывал
ни m«lm*hiiiiix симпатий к современному обществу. Именно это о6|цество он
изобличал своим исследованием якобипнзма. рассматривая последний как
высшую форму и саму суть демократии, где та раскрывает свой обман.
Важно, однако, не то, что Кошен вновь воспроизвел контрреволюционную
теорию заговора, коей остался верен, но то. что сделал это при помо-
щи социологического исследования — средства, чуждого защищавшейся
им традиции и принадлежавшего к ненавистной ему современности. Его
работу, действительно, невозможно понять, если, видя лишь откровенно
выраженное намерение автора, не замечать то. что связывает ее со своим
временем и отчасти лишает ее этой причудливой оригинальности Кошен,
ностальгировавший по обществу, где каждый занимал отведенное ему ме-
сто. был также критичным приверженцем Дюркгейма и социологии. —
т. е. «науки», ставившей себе целью открыть законы, которые управля-
ют этим миром, лишенным естественных основ, и где ни у кого боль-
ше нет заранее отведенного ему места, т е. современным обществом
Кошен жил также в период формирования массовой демократии и воз-
никновения первых политических партий, и если он изучал якобинизм.
то лишь как предвестие вторжения масс в сферу политики — «ре иомен,
механизм которого старались понять и другие его современники, чтобы
ответить на вызовы, порожденные данным явлением' К тому време-
ни, когда в 1904 г. Кошен опубликовал свои первые труды, уже вышли
в свет работы Джеймса Брайса «Американское государство» (1889)
Монсея Острогорского — «Демократия и организация политических пар-
тий» (1903), Эдгара Мишо — ^Германская социал-демократия* (1903)
и еще предстояло появиться книге Роберто Мишели -Социология поли-
тической партии в современной демократии» (1911) Из всех этих трудов
наибольшее значение имела работа Острогорского, есхн не выводы, то
предмет н метод которой оказали сильное влияние на Кошена1** Послед-
ний применил метод Острогорского к изучению Французской революции.
См на этот счет замечания Франсуа Фире Ibid Р 222 244 246
Р Об этом свидетельствует н К чю-г. и j.a,..**-' п -п • -<.. • и •
ГЙ» и СЛЭОКуПЖСТЪЮ НСХАНТНЧес KIU И П|МЧ|ч HKUIIUX ОрГбНИАЛцнЙ О ДГ
того времени (см : Сск/пл ,4. La Сп<е de 1Ъ»:онт revdultonuaire P 1909) .’>m рдолцчноп)
рада организации представляй* собою, по его мнению, всего ляша пркхцмю -Сюхыпого*
об|цг<~пм. частные примеры применения П|1МНцнна демомратим Уже ГЮ7 г ом ооргд* ’•<.«
истинную цель своего исследования о мхоокннлме. ыявнв -Отнюдь иг тюс.мммл аяибнкца
будет последним с ломок* в разгадывании |*в..>чюцниык»н ян адки * гм uwo
кратнн ♦ (Cochin .4. La Rox»lubon el la libre pen*ee la u-.mIi Ml ion :le U реньее [17 10 - !7S9|.
k 9м.*й1|«А1юп de U репюппе [1789— ]79^|, U «а»лЬм1юп Iwn* (1791— 17941 P , H24
P XXVII)
Эти влияние подчгркнвамчь Франсуа Фюре (Funl F J*ol»<niiune P. 7б1) i также
Пьером Аврилем н его предисловии к пг^илдаиню юшгм М (Аг}ч>п%х*шо (Chinyonhi М
Op al. Р. 7).
182
Якоби ни ли. демократия и Ре/ю.чюиия
так сказать, одной из двух колыбелей современной демократии, и поста р»«
такой же вопрос, какой Острогорский адресовал англосаксом'ом) • :
РУ: существует ли демократическая политика, соответствующая принчш •.
демократии*
Кошен исследовал проблему содержания демократии и ее у стан
вления на примере того, что он назвал «обществами мысли > (акадсмю-
литературные кружки, масонские ложи, клубы)- Подобные доб|и.»»плыг
объединения были проявлением новой формы социабнлыих г и. какы и
начала распространяться с 1750 г. одновременно с упадком традиии н
ных Цюрм. противоположностью которых выступали эти новые обивч. :п<.
При социальном строе со столь высокой степенью интеграции, каким б.н
Старый порядок, любые ассоциации могли создаваться лишь по инипиа и?
иля с согласия монарха. Принадлежность к ним регламентировала't ю{
дичгскн и являлась общественным долгом. Любое объединение (гх ; г
корпорацию и создавалось независимо от воли включаемых туда люл и
Напротив, общество мысли представляло собою добровольную а* сиги,
цию. обязанную споим появлением исключительно договоренности м'-ж...
ее членами Оно не только не вписывалось в иерархию корпораций и <»<>>,.•
нений, составлявших пирамидальную структуру традиционного о6:п< ст-,
но н способствовало подрыву его основ, ибо воспринимало своих член
исключительно как равных людей, вступивших в него добровольно, и< >
из общности убеждений, взглядов и вкусов, без какого-либо юриди-.'ч
млн социального принуждения. Таким образом, общество мысли г г
вляло собою после 1750 г альтернативную форму социальной свичи
было результатом добровольного соглашения между равными членами а<
циации и не принимало во внимание неравенство и различия, раздг '
их 8 реальной жизни. В результате общество мысли историчес ки
тгм закрытым анклавом, где демократическая форма отношений .........
еще до того, как распространилась на все социальное пространство
В данном ракурсе якобинизм рассматривался как конечный р<
этого завивания . бшестна демократией: «Все французы, — писал К.,
о 1793 г.. — (.оставляли отныне одну ложу» J<^. Гаким образом, якобини
выступал как типичный, почти идеальный образчик установления дг п
тин. разрыв социальных связей между членами общества предпю
распаду соинума на совокупность абстрактных индивидов, освобож/с
от каьн* бы то ни было конкретных обязательств и осущее чиляв л
мпупраьление путем достюкгния согласия между собой через вц--? г
сборням работ Коимма: С<кЫп A. L E^ril du jacobirinnH / Г 1
Р W/ ( 41» хмг/л^нс/ прамгнення 1ЯШМТЯМ •дгм'жр^тичггкой социлбидышс I.*- С
ГУМу viH R Ixi LcMjri жниляфе* dies b France d‘An<irn /б-кш:.
or b P.. 1934
Я кабими дм и леиожроти»
183
каждым своей ноли, которая провозглашалась автономной и строго равной
другим.
Существует. однако, замечал Кошен в работе * Кризис |>ево моци-
окном истории», два способа писать историю демократического режима
Первый исходит из «правовых норм, признанных принципов. заявленных
программ». 1акук» историю легко излагать, ибо пишущий находится ••пе-
ред сценой», перед «хороню драпированной, хорошо освещенной и хорошо
украшенной моделью». Второй способ состоит в рассмотрении не сцены,
а ее кулис, не «фасада официальной истории», а * практики и реальной
истории демократии»'20^. Кошен в высшей степени обладал качеством, ко-
торое редко даруется историкам и которое имели также его учитель Тан
и Острогорский, а именно — ярко выраженным интг[>есом к худшей сто-
роне вещей, к тому, что никто не хочет добровольно признавать, особенно,
когда речь идет о режиме, основанном на великих принципах. Демократия
любит рассматривать себя в зеркале своих принципов, но ей не нравится
свое отражение в зеркале политики Кошен не только увидел в якобинизм?
сущность демократии, но и показал в нем политику и реальность демо-
кратии: власть олигархии, скрытую за ритуальным прославлением власти
народа, равенства граждан и добровольного согласия каждого с налагаемы
ми на него законом обязанностями I Iменно в политике нэилучшнм образом
проявилось то, что Кошен считал обманом демократии: свобод л, теоре-
тически даруемая абстрактному индивиду, оборачивалась порабощением
конкретной личности. Человек отказывался от той относительной свободы,
коей он реально обладал в прежнем обществе, и получал взамен независи-
мость, которая в действительности приводила его к подчинению абсолютной
власти — абсолютной, прежде всего, потому, что она, как предполигалос ь.
возникла в результате согласия всей совокупности индивидов. Демократия,
по мнению Кошена, — уловка для простофиль, а ее установление - не чт
иное, как добровольное порабощение себя
Представление Кошена о Старом порядке имело мало общего с ре-
альностью. Однако оно, по крайней мере, обладали тем достоинством,
что восстановило идею о существенных p.i иичиях между гем. что было
создано временем, и тем. что делала абсолютная монархия В прежнем
обществе, как писал он, различной) рода совещательные собрания состояли
нс из абстрактных индивидов, имевших определгнные нрава, а из кон
кретных людей, попавших туда в соответствии со своими интеркамн
Неравные по происхождению, они обладали и неравным влиянием, но оно.
даже если и было небольшим, было вполне реальным, тем более что оно
проявлялось только в тех аспектах, в которых каждый из ?ггих людей
Cochin A. i,/E»pni <hi jrtf.obuminc Р 111
*См-. м частности’ Сос/ип A. Comment furr.nl rhu 1г.ь depute» jua f lat genrreux [1912] //
CiKhm A L i .&pm du jucoliinibme. P 79 —9}
184
Якобинизм. демократия и Революция
имел конкретную заинтересованность. Все они были компетентны в обе;-
ждавшихся вопросах. При демократическом режиме, напротив, субъекюм
похитикн является индивид, обладающий только волей; его реальные ин-
тересы не принимаются во внимание. Теоретически за новым гражданином
признаются полномочия участвовать в принятии государственных реше
ний — полномочия, не идущие ни в какое сравнение с тем небольшим
влиянием, которое он когда-то мог иметь. Однако в реальности он оказы
мет меньше влияния на принятие решений, чем когда бы то ни было22’
Действительно, принцип демократического участия в управлении строится
на предположении о всеобщей компетенции, которое, как и тезис о спон-
танном формировании коллективной волн, является фикцией. В результате
власть, теоретически принадлежащая всем индивидам, передается олигар-
хии, состоящей из профессиональных политиков. Эта олигархия разбирает
проблемы н определяет условия их решения, выступая в роли необходи-
мой) посадника для преобразования множества индивидуальных решении
в коллективную волю» Всевластие «механизма» или партии — такова
реальность свободы современного гражданина. Так же, как и в обществ^
мыс ли или в якобинском движении, где реальная власть находилась в руках
лиц, составлявших -внутренний круг», народ в большом обществе рсальн
не имеет власти, коей обладает партия, необходимая для функциониров.ши
демократии.
«Нет свободы без организации», соглашался Огюстен Кошен, при-
знавая таким образом функциональную необходимость посредничаю; .
структур, приводящих множество индивидуальных устремлений к един-
ству. Однако он тут же добавлял, что «нет свободы и с оргашп и
ей», поскольку в действительности именно аппарат, механизм формн|
единственное мнение абстрактного народа23). Олигархическое функы
пирование демократии предстает, таким образом, неизбежным слсдсп-
изначальной иллюзии демократии — попытки сконструировать сопиа.н
идя от абстракции, не имеющей конкретного содержания, — от Индии
Вот почему якобинизм имел для Кошена значение символа. Высг
в силу своего основополагающего принципа, олицетворением демокр
якобинизм на апогее собственного влияния раскрывал также ее обман,
монстрирун диктатуру меньшинства, претендующего на выражение - ь ;
волн от имени народа и вместо народа. Тирания II года представлял i
демократию без маски.
Диагноз, поставленный Кошеном, не слишком отличался
что поставил Острогорский: демократическая политика в ее к<»нкг ••
проявлении ведет к «подавлению индивидуальности во всех
щественной жизни», противореча основополагающему принципу д,
^См.. Gutnnijjey Р Lr number el la raison. P 208-213.
Coc/iin A La Revolution cl la litre penser P 174
Якобинизм и демократия
185
тин. согласно которому индивид — источник и цель всего общественного
устройства
Однако, несмотря на сходство выводов, цели обоих авторов ради-
кально различались Кошен резко осуждал демократию и ее основной
принцип — индивидуализм, тогда как Острогорский критиковал прак-
тическое функционирование демократии с целью напомнить ей то, что
она обещала, и добиться выполнения этого обещания Таким образом,
если первый называл правление олигархии политических активистов самой
сутью демократии, то второй видел в этом ее искажение. Первый счи-
тал невозможным исправить данную ситуацию, не порван с философским
индивидуализмом, что позволило бы увидеть за гражданином чгювска
и вернуть тому пусть ограниченную, но реальную свободу. когй он когда-то
обладал. Второй же хотел восстановить полномочия индивида во всей той
полноте, которую обеспечивают принципы демократии В отличие от Ко
шена, который из предосудительного применения демократии делал вывод
о порочности самого ее принципа. Острогорский был либералом, принимав-
шим демократическое общество Он выступал одновременно и Прокурором,
и адвокатом этого общества, и если порицал его функционирование, го
лишь для того, чтобы еще активнее ратовать за углубление демократии.
Для этого он предлагал покончить с постоянными партиями, созданны-
ми для завоевания власти и ее использования, — партиями, щк*/слагавшими
программы, где выдвигались «многочисленные и разнообразные проблемы,
подлежавшие решению в настоящем и будущем» . Он мечтал о том, чтобы
заменить их эфемерными объединениями, «котор псалн
и видоизменялись в зависимости от выдвигаемых жизнью проблем и вы-
званного этим состязания мнений», — объединениями, имевшими целью
уже не завоевание власти, а организацию свободного обсуждения текущих
вопросов. Это был бы «союз вместо единства . согласие вместо ирмнпия
навязанного сверху решения, свободное применение индивидуального ра
зума вместо диктата «кукловодов 25\ Средство, • онечни, утопическое
Острогорский остался верен классическому идеалу > мок| ш как • «мы
принятия решений путем обсуждения, требовавшей от каждого у «и/твика
компетентности и способности принимать рациональное решение, и при
этом хотел применить ее в рамках массовой демократии Впрочем, кишу
свою он завершил меланхоличным и пессимистическим замечанием, обусло-
вив достижение высшей степени развития демократии предыри льмымн
успехами во всеобщем обучении рациональным началам
* Oslronoraki М. Op.Cll Р. 324
П,1Ш. Р. 679-696.
Оо • утопическом либерализме * Ocipoiu^KKuoi _м <дн< л»е»иг к i --крэщенн' >му ю.и-
кню его книги (Гкрнж. 1979). написанное Пьером Ролаиюллином.
12 За» 155
186 Якобинизм. деыпк/мтия u Рето опция
Чп/ж стать реальном. эта победа над политическим ^юрмалнзмпм
дпчжил быть । начала одержана I» душе нэбн|штеля. Нигде нс существует
темой вчастм. кс*тирля могла бы принять и исполнить следующий декрет:
1) постоянные партии рас пп каются нмясегда: 2) партиям категоричен км
мп|>гфлгт1м .км'.нмт> ч власти. 1) вбщестненног мнение отныне будут
юм|>ажать избиратели. Чтобы сделать такие положения осуществимыми,
нужно изменить менталитет избирателей 2 .
Если есть необходимость подчеркнуть здесь утопический характ^
предложенных Острогорскнм решений, то лишь потому, что в этот ту-
пик его самым непосредственным образом привело моральное осуждение.
вынесенное мм. как и Кошеном, функционированию той самой демокра-
тии, которую они оба анализировали со скрупулезностью энтомологов
В некотором po.v тот и другой проявили одинаковую наивность, пытаясь
судить о демократии по ее практическому применению, однако оба они
были более нск)>енни, чем те. кто делает вид. будто верит, что демо-
кратическая политика, действительно, соответствует провозглашаемым ею
принципам Отрицать роль активных меньшинств и фактическое лншенн?
народа возможности осуществлять свое теоретическое право на самоупра-
вление столь же абсурдно, как и видеть в этом опровержение или узуриащи.
демократии
Отсутствие прозрачности не является симптомом испорченности ,
узурпации демократии, но свидетельствует о неизбежно существуютюм
разрыве между идеалом равного к всеобщего участия в управлении, с од-
ной стороны, и необходимыми условиями принятия решений — с другой
Демократия предполагает участие большого числа людей, тогда как для
управления их требуется мало. Эта проблема не зависит от эпохи об-
устройства институтов2<^ Она столь же актуальна для прямой дем«»кр
тми, как и для представительного правления. Просто в первом сл\ча<
не стом, очевидна, как во втором: власть олигархии возрастает с р<к ’.ти
пнем демократии ю’ Чем больше граждан теоретически наделено влл
тем мвям иямне они имеют в реальности. Это хорошо нонил Ни
*O>frnfiwiJr; М Op. cil. Р. 731.
Имгйнс *то хоггавлдгт ддбую стирону проведенного Кошеном анализа ипик г в
» Бргтпкн и Lvofvk.ihh См. С<х7нп A. Les Socieles de реплее el la Revolution < 1
(1. - ’,7h^ i Г 1925 2 vub.; Idem. La санцнапе elcciurale de 1789 on E^ourgoKu l/:
Idw L’Etpm du деоЬмныпг P. 49-78.
Cm Hun for M Un l»r* prht notnbre. De« ubgafchies clans Husloirc <k I 1
P 1W4
Л’Т«. Моем справедливо влигчлг-, «т» •финская демократия была по сути ии<хГ-
тем>ми доДфашюй м гллхио ^кажмиимой олигархией Цмт пи: Mdscl / // II..-
of R.Ju.r Chsa GuiriAfjo Muaca and the Ehle Ann Arbor. 1962. 1M4 ( )
TC.^x. олигармгчесвом Ж4|ыктгрг афинской демократии в эпоку се манвыинг и
см HifUfn М jnr i l epoque de Demoathenr Structure ,
►Й..1(”N:j ; .: s Hsnlri e. Ph Gwtluer P I99J P 307-330
Якобнмиям и дгчаксылтия
187
шск. Однако порицание такого разрыва имеет в гноен основе ошибочное
представление о том влиянии, которое народ действительно имеет н де-
мократических государствах. Теоретически народ участвует в принятии
решений либо непосредственно — в результате обсуждения, либо косвен-
но — путем избрания представителей (что понимается одновременно и как
выбор правителей, и как выраженное предпочтение определенной полити-
ке). I ia самом же деле граждане осуществляют формально признанные
за ними полномочия преимущественно в негативной форме. За тех. кто
будет от их имени принимать решения, избиратели голосуют, не имея ре-
ального выбора, поскольку они не принимали участия в отбсцх кандидатов
Не оказывают избиратели никакого реального влияния и на те решения, что
будут приняты впоследствии, ведь принятие решений ограничивается «по-
деленными рамками, о которых кандидаты могут не шать или о которых
они предпочитают умалчивать.
1акнм образом, нельзя говорить, что народ свободен, если он обладает
возможностью выбирать себе правителей или даже направление политики,
отдавая предпочтение той или иной из предложенных ему программ Это —
необходимые условия свободы, но сами по себе они не достаточны. Народ
свободен тогда, когда он имеет возможность регулярно одобрять или санк-
ционировать применение правителями доверенной нм власти. Демократия
не сводится только к избирательному праву, а обеспечивается также тем.
что в XVIII в. называли «цензурой» - те. правом лишить ранее оказан-
ного доверия или. напротив, это доверие подтверд»пъ Демократия состоит
не столько в избираемости, сколько в регулярной повторяемости выборов:
именно она позволяет народу санкционировать или одыЗрятъ то. что сам он
не приказывал. Она дает ему также средство влиять ми решения, заст ш\яя
избираемых думать о том, что по истечении своего мандата они вновь
предстанут на суд публики м>, Это влияние одновременно и негативное,
и решающее. Во время Французской революции выборы не были демокра-
тическими не из-за сомнительных происков организованного меньшинства,
а потому что избирательная процедура, обеспечивая гражданам возмож-
ность назначать себе руководителей, не давала им средств санкционировать
действия последних. Отсутствие гласного выдвижения кандидатов и огра-
ничения на переизбрание фактически не позволяли гражданам выражать
свое доверие или недоверие гем избранникам. чей мандат истек Если
установленная и 178^ г. система была вследствие зтого ан1мдемок|>атнчес-
кой. io лишь из-за < »< геалу демократии.
Ведь именно для того, чтобы гарантнровагь безграничную свободу вы-
бора. было отменено предварительное выдвижение кандидатов, и. чтобы
оосп(.м?пятстнонать кристаллизации слои политиков, отделенных от осталь-
° См Мшип fl Prittcipes chi guumnrmriil ivprr«eiiuu*e Г 223-234 4ml P Ьдми
tur let раН1Г« P.. P. 56—64.
12*
188
Якобимияи, •гу ^рптия и Революция
ного общества. были установлены строгие ограничения на перенабрали:
Похвальное стремление к демократической прозрачности на деле прив<
до к установлению господства олигархии на всех уровнях политичен кои
жизни •’ ’
Таким образом, рассматриваемый в социологическом плане якобини-м
воплощает в себе основополагающий принцип демократии и одновремен-
но, выявляя роль активного меньшинства, демонстрирует нсизбежногп
«аристократического» компонента для любой политики, включая демпкра
гнческую
Якобинский дискурс и Революция
Если же рассматривать якобинизм в историческом плане, то его нельзя
смешивать с демократией. Основная слабость Кошена как раз и состояла
в том. что он построил свой анализ на отождествлении демократии и яко
бияизма. Вопреки его утверждению. ВКТ', избирательное объединение
(caucus) в Бирмингеме или американские политические партии имели лие.ъ
весьма отдаленное отношение к Якобинскому клубу и, тем более, к яко-
бинской организации периода Террора. Кошен, как пишет Жан Бэшле[
«совершенно ничего не понял в либеральной демократии, находившейся
у него перед глазами». Заметив, что у этих разных организаций есть общие
черты, правда, лишь «технического» порядка, он, не принимая во внимание
их идеологических различий, сделал вывод об идентичности соответству-
ющих км политических режимов. Но если Кошен, добавляет Бэньм
не понял того, что отличало современные ему режимы от революционн-
демократки, то он зато «прекрасно понял большевизм, которого никогд.:
не знал»:
Там было все: и авангард, подменивший народ Народом; и удиви-
тельная изощренность в тактике и стратегии, основанная, прежде вссг
на нарушении правил игры, соблюдавшихся их противниками; и полити-
ка, «ггмечгнная нррсалнетичеекями чертами и паническими настроениями;
и террор как средство управления; и постоянные чистки; и демонизация
соперника, и преобладающая посредственность человеческого материал.:
я т д Есть нечтп < вгргыстсственпое в подобной интуиции
Параллель, проводимая между якобнниэмом и большевизма*.’ v 1
но, преувеличена, даже если последний и подпитывался воспомин . :
о якабин > >м 'пьгге. Сходство между двумя феноменами также в ос =
пхническос В действительности, якобинцы представляли собой не ста
CwcniJ'/ry Р Le nambre a la raiioh. Ch. III. Vlll. IX.
* ВКТ — Всеобща* Кьыфслсрацк» трудл. крупнейшее профсоюзное <Z i ед 1
Qc^iwMOf в WT/5 г. — Прим перса
Йаес/iw/ // ( мЬ;п А I ! i.| г, du pcohimeme Р. 29—30
Якобинский дискурс и Революция
189
партию, сколько ее отдаленный прототип, и если существовал * якобински»!
дискурс», то он никогда не выражал идеологию, враждебную представитель-
ной демократии Якобинцы 1793 г. проводили «чистки», репрессировали
и убивали во имя принципов 1789 г., чем явно уступа\и своим далеким
последователям 1917 г.
«Если что и заслуживает интереса в обществе мысли (а значит и 8 яко-
бинизме. — П.Г.), — писал Франсуа Фюре, — то это <...’> не какая-
либо демократическая практика, а чистая, почти предельная демократия
Это — однозначное выражение коллективности как таковой <...>: чистая
демократия без руководителе»! и без избранников» и' По и здесь нуж
на осторожность. Она требует тщательно различать «архетип», заданны»!
якобинцами, и реальные действия якобинской «партии». Как архетип яко-
бинизм представлял собой партию, выдвигавшую претензию на гегемонии»
Объявив себя выразителями воли народа, обладая сетью филиалов по всей
стране, формируя Национальное собрание, якобинцы стремились занять все
общественное пространство, отрицая какую бы то ни было легитимность
организованного плюрализма мнений и политического представительства
В данном отношении якобинизм выступал как образ чистой демократии:
он олицетворял собой народ, представляющий сам себя и единодушно
выражающий свою волю без каких-либо посредников. Таким образом, ои
казался отрицанием установленного в 1789 г. представительного правления,
порождением иной концепции демократии, и его историю очень рано стали
трактовать как соперничество двух форм демократии — представительно»!
и прямой.
В то же время нет ничего более ошибочного, чем изображать события
как бескомпромиссную борьбу между двумя типами демократии, между
двумя принципами легитимности. В действительности имел место конфликт
между двумя концепциями демократии, принципиальные основы которых
во многом совпадали. Сторонники представительного правления и якобин-
цы были детьми одной политической! культуры Они опирались на одни
и те же принципы. В частности, они испытывали одинаковую антипатию
к различиям во мнениях и к посредничеству в выражении воли народа,
питая одинаковое почтение к чистой демократии, даже если и считали ее
технически неосуществимой. Среди сторонников представительства нс было
своего Мэдисона, который признавал бы, пусть даже скрепи сердце, прак-
тическую пользу партийного деления; антиякобинизм фельянов в 1791 г i ак
и не привел их к поддержке политического плюрализма Если в сентябре
1791 г. Ле Шапелье и осуждал монополию на выражение общественного
мнения, присвоенную себе якобинцами, то не для того, чтобы заявить о су-
ществовании права на свободную борьбу мнений, а чтобы напомнить, между
«общественным организмом» (представленным Национальным собранием
Ш Furet F Penser la Revolution P. 227
190
Якобам*/л и, деиьк/мгтья и Реао.иииия
и королем) к индивидами не может существовать никаких посредник- ф ' ’ч
признавал, что якобинизм. несомненно, был полезен, когда нация свергав
Старый порядок В условие! революции. как он заявлял. «каждый гражда-
нин является должностным лицом: все обсуждают и должны пбсуждлн.
общественные дела... Это временное брожение необходимо поддержи -юь
и деже нагнетать, чтобы Революция не оставила своим противникам
каких шансов, чтобы ока встретила меньше препятствии и скорее достиг.*, г
своем цели- Прямая демократия представала здесь скорее как олицетв-•-
ремне Революции, а не собственно демократии. Однако, когда Революция
закончена, спешил уточнить Ле Шапелье. и «когда принята Конституция
королевства <...>. тогда необходимо, ради сохранения самой этой К ч
туцня. чтобы все пришло в надлежащий порядок, чтобы ничто не меню-»
деж тяиям конституционных властей, чтобы принятие решений и примене-
ние власти происходили там, где это положено по Конституции» Ъ) Дш ха.:
Ле Шапелье никоим образом не имел целью увеличить число поли г и ?
ких обществ, что привело оы к институциональному закреплению раз хим; i
во мнениях, к признанию представительного правления системой свободн- ю
обсуждения и к превращению общественного мнения в действенный факто|
упраачения. Напротив, он имел целью запретить клубы или. по мешен-';
мере, устранить их из публичной сферы, вытеснив в сферу исключите\г
частном социабяльности
Противоборство между якобинцами и антиякобинцами, сторонни’-
мн представительства, не выходило за рамки концепции полным, ч
пространства как пространства унитарного и гомогенного. Критика яь
биниама развивалась в том же русле, в каком и сам якобинизм *
Аарактгрнзивзлесь точно такой же «враждебностью к любом у
лг)ичеекоиц гыюро ’маму» и точно таким же «восхвалением цч
/с по.iwTiuческою пространства* Соответственно, конфликт м._т
ду якобинцами и ил противниками развернулся по другому t :.ч .
ил-sa того, кто — представительный орган или сам народ. \шу i
расмый якобинцами» — уполномочен выражать един>ю волю г ди-,
ндрнда.
П-хколику сторонники н прямой демократии, и предошш* 1
стояли на этой ос н гй почве, противоречия между двумя лагерями ш
«и столь глубоки, как казались [оворя простым языком, реви иц
ш иблада-лм присущим современности пониманием представителе»', и
содьиу ни у кото на н»п размышления об этом предмете не bk.v-
а себя идеи посредничества необходимого с философской и т. •
Аг Шамам 29 П91 г. О народных обществах Цит пи Oiau
de м FUoJuu- Р 4И-4И,
i'1 "уп «4г4^)эг. .Л^мгт» ocjr*)<uv* Б [мчи. Buctko В Comment vjrt.r le i,
P J54-i*
Якобинский дискурс и Революция 1^1
точки зрения для демократического регулирования (в современном смысле
слова) представительной системы Среди сторонников представительного
правления тогда в данном отношении существовало лишь одно исключе
ние — небольшой кружок приверженцев американского республиканизма,
сплотившихся в 1789 г, вокруг Бриссо. Несмотря на ту зловещую по-
литическую роль, которую сыграли Бриссо и его друзья они ока.чались
единственными, кто действительно размышлял о практическом функциони-
ровании представительства и не уходил от рассмотрения вставшей уже тогда
проблемы демократических основ этой системы Это был оригинальный
подход, опередивший свое время, ибо можно сказать, что демократия утвер-
ждалась во Франции, обращаясь к вопросам (хотя и не всегда к решениям),
поставленным жирондистами еще в начале Революции. Но их одинокие го-
лоса заглушил рев большинства, облачившего представительство в одежды
чистой демократии.
Марсель Гоше называл подобную интерпретацию представительного
правления в понятиях, характерных для прямой демократии, интеллектуаль-
ным господством «представительного руссоизма» несомненно. сто»ъ же
чуждого учению Жан-Жака, как и теориям представительной системы. Од-
нако наших революционеров извиняет то, что они не были философами Ес \и
они утверждали, подобно Рабо Сент-Этьену, что депутаты «представляют
народ во всем и ни в чем от него не отличаются* 39). ескн они считали, как
Рёдерер, будто «суть представительства состоит в том, что представитель
живет и мыслит за каждого представляемого индивида, что, добровольно
оказывая доверие, гражданин растворяет свою индивидуальную волю в воле
представителя» — то делали это отнюдь не из философской эксцен
тричностн. Они отождествляли народ с представителями, чтобы укрепить
свои позиции, сначала против коронованного соперника, затем — против
атак якобинцев. Однако в глобальном плане эта отождествляющая кон-
цепция показывала, сколь сильна была надежда на слияние социального
и политического, народа и его представителей — надежда. . х га
одну из характерных черт эпохи 41 h
| Сторонники и противники представите хьепм боролись друг г другом,
придерживаясь общей системы воззрений, к частичному рач л шенин ка -
рой привел п 1795 г. лишь опыт Террора, ретроспективно i ров шировавший
серьезное обсуждение истоков насилия и ответствен»! «ч ги. политической * 40
^См.: Cueni//ey Р. Cordeliers el Girnndms La prehistoirr la • *рн' // Le bin lr
de Гкмёпегиен! republican P 197-224
CauJutl M La Revolution de» drujls de ГЬсмшис. P XIV
Archives parlrmrnlatrrb T VIII P 570
40) Moniirur. T IX. P. 361
г - См. ЛмшичЯ/ил P Le People nirou>abU •:< 1еяик * к en
han , , p . 1998 P 27-56.
192
Якобимиви аемократия и Революция
и даже интеллектуальной, за происшедшую катастрофу4"*. Якобинизм
и похитичсскин «либерализм* 1789 г. были враждующими собратьями
Они отражали две возможные версии одной концепции политического про-
странства. относительно которой можно заметить, что более логичным для
нее все же был якобинский вариант чистой демократии. Именно этим,
по крайней мере отчасти, объясняется то, что Якобинским клуб вскоре
одержал верх в борьбе против парламентского представительства.
Якобинская партия?
Если якобинизм и сформировал архетип партии-монополиста, то в ре-
альности он был далек от этой модели.
Кошен предпринял попытку исследовать якобинизм как «механизм
(machine). Образ якобинского «механизма» имел уже долгую историю
к тому времени, когда Кошен им воспользовался. Если само слово впер-
вые использовал Мишле4‘\ а потом подхватил Тэн, то образ появился
еще у первых историков Французской революции. Мысль о том, чт
якобинцы сформировали общенациональную партию, обладавшую идео-
логической гомогенностью и политической дисциплиной, встречалась уч
у Тьера в 1823 г. и у Монгайяра в 1827 г. Последний даже упомнил/
о •сети электрических проводов», опутавшей Францию44^. В свою очередь
Ламартин писал в 1847 г.;
Общественное мнение, организованное таким образом э постоян-
ную ассоциацию во всех пунктах страны, давало электрический толчок,
которому ничто не могло противиться. Движение, сделанное в Париже,
отражалось от одного пункта в другой до крайних оконечностей провин-
ции. Одна н та же искра воспламеняла одну и ту же страсть в миллионах
людей 45\
Цитаты можно было бы множить и далее. Как видим, образ м \
ма» получил отражение нс только в контрреволюционной исторнс • i *
Это было общее представление различных историографических тралн
*^См.: С»мт//еу Р Li fevcJutu>n anibijfue de Гап 111: la Convention. Ге!ес1нг
ei Le pioblrnx dei canditbiurea // 1795 Pour one Repubhque sans Revolution / Ld >< >
ci M Mtraba Rennet, 1996 P 49-78
' J неимением доброваммки* ассицкацнв. которая обеспечила бы Револ^;..
сАИм.7ж» и»! о но-хствеиная о|1гэднмдоя, лига, крут сообщников, которые ,
ал бы ei ue«r мгыкхческое елкисгво Необжодим был политический механизм» (М ;
Hitfwe de U RtvoiutMXi кзпу^шг T II Р. 35)
4t^lfatllord С. И R. HiMfxrt de Funce depuii la fin du regne de Louis 4 1
Г«де 1825 P. 1827. T ill P 30
4^/ишмгШп« Л, Ниимге dea Camodina [W47J P , 1984 T. I. P 60
СПб Ml. T I C. 25- 26J.
Якобинская партия J
193
формировавшееся начиная с первых лет Революция в аптнякобимгких ре-
чах Андре Шенье и Ле Шапелье в 1791 г.. Бриссо — в 1793 г.4М.
в термидорианских выступлениях о Терроре Создавая фантом ужасного
механизма, приводимого в действие по приказу его хозяев, тер. идо. ианцы
старались снять с себя ответственность за события II тда. перем жив ее
на некую злую волю, опиравшуюся на материальную мощь якобинской
организации. Подобное объяснение имело двойное П|»е имущество. будучи
одновременно и надежным, и простым Надежным. потому что снн^ы
вая якобинизм и Террор, оно позволяло избежать вопр-са о в» можня>й
связи между Террором и Революцией. Простым, потому чти. иэ<хЗражая
Террор как сознательный акт злой воли, оно давало эт t загадке и> голкова-
ние. соответствовавшее революционной психологии Призрак якобинского
«механизма» оказался термидорианским аналогом созданного якобинцами
призрака контрреволюционного заговора. Этот образ был порожден своей
эпохой, однако, благодаря ему, потомство получило такое представле-
ние о якобинизме (централизованная система, обладавшая идеологическим
единством и политической дисциплиной), которое в действительности ста-
ло. прежде всего, из-за своего анахронизма, серьезным препятствием для
понимания террористического феномена.
В первую очередь заметим, что сеть якобинских обществ охватывала
далеко не всю территорию страны. Политические революционны! ющ ва.
которые не стоит отождествлять с якобинизмом, представ.шли собою пре-
имущественно городской и относительно ограниченней реноме и \1нш\е
называл цифру в 44 000 клубов, более осторожный Гзн - -600’»
Бутъе и Филипп Бутри насчитали таких обществ с 1 / 4 ) и до « ч .ггщг-»ии
в 1795 гг. — 6 0274'* 1. Цифра довольно значительная днак на ipu о
общую численность подобных образований Львиная юля таких це*
возникла после лета 1793 г., так что 6 тыс. клубов однок • i > ннмг,-.;
не существова \о. Когда в октябре 1793 г Конвент пг.пы <•« ч i. чи
народные общества, он насчитал их только ! 831, бон - \
созданных с 1789 г., к тому времени уже исчезли 1 lu xv< ( • ла
был характерен плюрализм. Якобинизм. в действ ^льн юл.чдлч
никакой монополией, так как только 798 кд и j i 5 и. i.>< <»ы_’ и
филиалами Якобинского, т. е 4 3 %Лишь в г % ы 1794 г. т,е.
довольно поздно и на короткий период, якобинизм г j ' п< * м
создания новых клубов (около 3000) охватит i е । । . за* м ы
См., в частности В
•ьг Гтйиепсе Леэ anarchibis et les niaux qu elle a causes, su/ U ncrr*u и aneaiHir чгн - mliuan
pxn wuwr la F<cpubhquc. P.. [22 <ruw 17^3]
I Boulter Boulry P. Aiks dr la Revolution Irani .u ies I' HN2
Uwn I-a JiffuiHin dr» tocieies politique» en France (1789 — an III) L ne euquete /
Aimaks hislonque» de la Revolution fran^aise 1986 -S9 2'*b P 36? *98
Miimlenunl G. Let Jacobins P., 1984 P 64
Якобинизм. демократий и Революция
политическими обществами. Это была запоздалая гегемония якобинизм<
имевшая весьма относительное распространение: 6 027 клубов, созданные
С 1789 по 1795 гг.. действовали в 5510 коммунах, что составляло меньше
14 % от 40680 коммун Франции. До конца 1793 г. только 5% коммун
имели клубы Данный феномен имел ограниченное распространение и но-
сил исключительно или почти исключительно городской характер, и что
в стране, где S/10 насе чения жило в сельской местности. Если все ад-
мнни< гратинньи центры департаментов и около 60 % административны?
центров дистриктов и кантонов имели хотя бы по одному обществу, то среди
сельских коммун таковых было лишь 7 %, да и то в основном довольно
лозднм, когда создание таких обществ происходило уже не по местной
инициативе. а под давлением центральной власти и ее агентов.
Если якобиииэму и удалось лишь очень поздно — в период рево-
люционного правления — занять собой все политическое пространство
то к этому надо также добавить, что он никогда не представлял из себя
партии в современном смысле слова49). Общество друзей Конституци
размещавшееся в монастыре якобинцев на улице Сент-Оноре в Париже,
возник ло в декабре 1789 г. по инициативе левых депутатов Учредители ют
собрания. Ведя борьбу с хорошо организованными правыми, они хотечи
вернуть себе то влияние, которое им с июня по август 1789 г. обеспечи-
вал бывший Бретонский клуб^\ Таким образом, это была парламентская
организация, имевшая двойное назначение: готовить обсуждение вопрос г
стоявших в повестке дня Учредительного собрания, и создавать условия
для сплндарн” ‘ голосования. Однако быстрое расширение состава ки-
па за счет парламентариев и. особенно, не-депутатов, все более и 6<»л<•<
многочисленных, вскоре привело к изменению им своего характера. Опп
не Общество якобинцев выступало как проекция «патриотической/ ча
Наци ояальмот собрания, но также — как объединение всех патриот»
внутри парламента и вне его. т. е. как олицетворение нации. Эта бы» г>
служившаяся репутация обусловила первые предложения об аффилиац1ш
гик ппившие от пат(1И1Лическнх обществ провинции.
I ’<.< ширяя свой состав и превращаясь в центр все более и более
[хжой сета филиалов, ^материнское общество" в Париже утрачивал*
4 *' ГЬ днг.»чс< кук> м<г<4>мх) Якобнксног»; клуба ТОЛЬКО Предстоит liailHCdi !
ги-.р г*’»ц-аш<ст раЬгга Жерара В^мгсра (Waller С. Н»51ойе drs Jacobins Р
^’TtHaauiu й« >>м4и>м1 лп и»» пир остаеття Крнйи Бриитон (см Linnlnn (
'и.мЬ.гч Ан »л N Y. 1930) См. также мгдаянюю работу // .: •
Ikv' iid .Imif Dwvig the French Revolution L, Cambridge. 199b. I
Лум ас Клрдгн&лл (Cardinal L La Province prodanl la RevoJution. HiMoire d< s Jul>s
17^9—!795. P., 1929) On истпрни якшшшвэма а пронинцим вышли мншочне \< нш if м
фн»> я|->< а./ппл. i%(.<„ .и ., м> пюсги ।м • Kennedy М L Пи-Jacobin С1н1>ъ in il. 1 i
.......... 1982-19^ 2«.b
M>1 См. Г. kdi I Риг u w4oiH< do игф1е. P 176 -207
Якобинская партия
195
политическое единство и сплоченность, которые обеспечили ему влияние
и престиж С первых месяцев 1790 г. оно являлось не столько руково-
дящей верхушкой партии, объединенной общей доктриной и дисциплиной,
сколько олицетворением легитимности. что было обусловлено присутствием
в его рядах главных «патриотических* ораторов Л поскольку те, буду-
чи объединены лишь общим неприятием Старого порядка, расходились
во взглядах относительно применения принципов 1789 г., разнообразие
мнений и конфликтное сосуществование различных политических тенден-
ций стали характерными чертами раннего якобннизма. как в национальном,
так и в локальном масштабе. Единодушие и ортодоксия были *ценностями
якобинского дискурса, но не имели места в реальности, тогда как идео-
логическая и политическая гетерогенность представляла собою реальность,
не будучи «ценностью». Так что и в этом отношении якобинским «ме-
ханизм», где каждый клуб разделяет идеи, выдвинутые узким кругом*,
н подчиняется идущим оттуда импульсам, есть не что иное, как фикция
Движение обладало не политическим единством, а только администра-
тивным Если парижский клуб на протяжении всей своей истории стре-
мился строго контролировать образование новых филиалов, чтобы сохра-
нить административно? единство движения, то обеспечением политического
единства он занимался гораздо меньше. Разнобой бросался в глаза Фили-
алы не были секциями партии, в такой степени объединенными идеаленней
и общими целями, чтобы действовать по приказу из центра В значительной
степени цели каждого из их оставались автономными по отношению к це-
лям «материнского общества». Единый дискурс часто служил прикрытием
для различных устремлений, в чем-то тесно связанных с местной борьбой
за власть, в чем-то имевших отношение к национальной политике Каждое
общество преследовало свои цели, но все придерживались одинаковою дм
курса. И это главное. Не имея возможности заставить филиалы след г.-.гг
за всеми колебаниями переменчивой и противоречивой шлитичечкой ки-
пим, парижские якобинцы старались сохранить административное единство,
на котором строилось их политические влияние, Фактически нмешп ио,
чисто формальное одобрение сотнями клубов постановлений. принимав-
шийся на улице Сент-Оноре, придавало единому якобинскому мнению
ту силу, которая позволяла парижским якобинцам говорить от имени всею
народа.
Раскол в июле 1791 г., за коим последовала |»-«.|,ыпиыция движения
его наиболее радикальным крылом, вызвал большие изменения Избавив-
шись от руководства со стороны парламентариев, которое до гою времени
позволяло сохранять хотя бы хрупкую связь между конституционной закон-
третью и революционной легитимностью, парижский клуб гнынг был уже
втом и п том. что отсюда следует, см Cucmllttj Р. Hnlhi К Club, ct wcu’ri
Р. 492-507
196 Ясобонии м. демлк/хтшя и Революция
нг помощником 11ауионального собрания, а своего рода альтернативным
собранием. над лиратглем и цензором пп отношению к представительному
органу Тем не менее, r самом облике якобиннэма ничего не измени
лось: он так до конца своих дней и будет пытаты я обрести оставшееся
недостижимым доктринальное и политическое единство. Много говори
Aix'b об объединяющей роли чисток, начатых с 1791 г. Несомненно, их
проведение свидетельствовало о стремлении к единству, разделявшемся
нкобин< кнми активистами всех уровней. Но все же чистки так никогда
и не подпалили обеспечить, хотя бы частично, политическое единство всего
движения и даже одного парижского общества, которое с 1791 по 1794 гг,
«мне тнлось*, как минимум, четырежды, но даже в поздний период остава
лось политически неоднородным, — конечно, в меньшей степени, нежели
тремя годами ранее, но все же гораздо больше, чем это нередко считает-
ся Неоспоримое сужение спектра мнений, представленных в парижском
клубе, компенсировалось увеличением числа фракций и клиентел. По-
вторяющиеся чистки никоим образом не свидетельствовали о прогресс*
в дгкгтнженнн какой-либо идеологической монолитности. Они вызывали
все новые и новые разногласия, показывая, что механизм установления
единомыслия буксует, столкнувшись с динамикой политической фрагмен-
тации и растущего популизма, которая собственно и составляла динамику
самом революции. Так, 4 июня 1794 г., когда Конвент избрал своим пред
селателем Робеспьера, чтобы тот мог играть ведущую роль на празднике
Всрхопиого существа 8 июня, якобинцы, со своей стороны, предложили
Фуше председательское кресло в клубе — человеку, заявившему в I leurpr.
что «смерть есть вечный сон». Эго был для них способ продемонстрируйп
свою враждебность к новому культу. Аналогичная ситуация и меха ме< ь
и в провинции, где многочисленные чистки, осуществлявшиеся находивши
мися в миссиях членами Конвента, лишь воспроизводили, в зависимо!
от пристрастии приехавшего, те разногласия, что раздирали парижских
якобик^в Введение революционного правления в конце 1793 г., а зат» м
г го консолидация в начале 1794 г. привели к установлению политически
монополии якобиниэма в стране, однако политического единства п/
обществ, отныне интег рироианных в государственный аппарат, достичь :
и нс удалось. В тот период якобинизм стал заменой народа, своего (><
фиктивным народом, и одновременно инструментом мобилизации обще < ! г
кинт(юАя н надзора за ним, но при этом остался столь же разворотип
как н до 1793 г.
На самом деле, якобинизм никогда не был ни партией, ни д
фракцией. Он яв.хялся прог транстлом. 1Дс соперничали фракции, счрсм
присвоить егбг олицетворяемую нм легитимность, чтобы с ее ш-моип
дскгичь своих сейм тынных, политически разнородных целей. Якобини-
не был одной из фигур на шахматной Диске революционной пили гики
«Якобинский дискурс*? 19/
сам был этой доской, сценой, на которой до 1794 г. определялась судьба
Революции.
В этом смысле неправильно говорить, как Кошен, о том. что «ме-
ханизм» доминировал нал действующими лицами, де чая их взаимозаменя-
емыми. Напротив, поражает относительная автономия действующих лиц
по отношению к «механизму». Разумеется, поскольку данный механизм *•
олицетворял собою революционную легитимность, от него нельзя было
отдаляться без риска для себя — Бариав и Бриссо заплатили за это свои-
ми жизнями. Однако, поскольку он обеспечивал гарантию революционной
ортодоксальности, те. кто умел им овладеть и его удержать, получали
возможность использовать его в собственных целях, в том числе весьма
далеких от лозунгов якобинской риторики Из всех якобинских лидеров
Робеспьер лучше и дольше других сумел использовать данный ресурс.
«Якобинский дискурс»?
Якобинизм был средством создания революционной легитимности при
помощи дискурса. Можно ли говорить о существовании особого якобин-
ского дискурса, обладавшего характерными формулировками, ес хи те были
столь же отличны друг от друта, как и их авторы? Мишле так определяет
периоды развития якобинизма:
Существовал первоначальный якобинизм, парламенте кий н дворян
скин, — якобинизм Дюпора. Варнава и Ламста погубивший Мирабо.
Существовал смешанный якобинизм — якобинизм |ччп уликам* них жур-
налистов. орлеанистов, Бриссо, Лакло и др., где ведущую ри\ь игра*
Робеспьер. И. наконец, когда эта вторая когорта н 92 году как Пм
растаяла, уйдя на места в администрации и в |м^мыного р>лл миссии,
начался якобинизм 93 года — якобинизм Кутою. Сен Жюста Дюма
и др., который должен был использовать Робгст.гра и ым и* попи-
вался им52*.
Бариав, Бриссо, Робеспьер — три *похн якобинизма >рн <с н<ж ка
не имели между собой почти ничего общего. кр»ме ненависти к Старому по
рядку и привилегиям. За исключением столь лабого ex* i п* н о., тальн<»м
преобладали различив. Варнав предвосхитил кон* < • чмгннный либерализм
первой половины XIX в.; Бриссо сочетал философию 11р< ы щенки аф-
риканским республиканизмом, Робеспьер соединил в нгн-м багаже ггорш*
Руссо, классический либерализм и Контрре^и-рм. дню !'> ч нч разделила
На. It М Не М< Ш *
и применяли его методы Либеральные убеждения не помета \н Ьлунаву
призвать к общественному спасению в 1789 з затем и в 1791 г., когда его
' Mi Jiclcl I Huiioirr de h Revaluucn franc***** I II P. ’*
198
Якобинизм. лемокрптия и Революция
временный республиканизм позволил ему занять доминирующие позиции
на улице Сент-Оноре и обзавестись сертификатом революционной орто-
доксии под прикрытием кото(юго он мог проводить умеренную по своей
сути политику Бриссо, горячий защитник индивидуальных свобод, тем
не менее, председательствовал на заседаниях Комитета расследований па-
рижского муниципалитета и организовал в 1791—1792 гг. репрессии против
эмигрантов и нсприсягнунших священников. Наконец. Робеспьер уста но
вил во имя добродетели кровавую диктатуру, имевшую, по меньшей мере
весьма отдаленную связь с его собственной концепцией республики
Все т|>ое проповедовали, оправдывали или использовали террористические
методы, независимо от тех своих целен, что выходили за рамки их общей
приверженности идеям 1789 г
Выявление особенностей специфически якобинского дискурса предпо-
лагает. что нужно отдать предпочтение кому-то из людей (скорее Робес
пьеру, чем Барнаву), какой-то из эпох (скорее 1793 г., чем 1791), каким-то
из речей (скорее посвященным революционной борьбе, чем институтам)
или что созданные якобинцами институты надо рассматривать в свете прин-
ципов якобинизма Именно так, например, происходило с Конституцией
24 июня 1793 г., в которой историки, юристы и философы часто, a поел?
Каре де Мальберга очень часто, пытались найти иллюстрацию якобин
ских принципов или якобинское видение социально-политического порядка
Конституция 1793 г. по своей форме и содержанию, конечно же. была про-
дуктом своего времени. Ее предварительный текст, представленный 10 июня
1793 г. в Конвент Эро да Сешелем, начал обсуждаться уже на другой день
и был принят 24-го Двух недель оказалось членам Конвента достаточна
для того. чтобы выполнить работу, на которую депутаты Учредительное
собрания потратили два долгих года. Хотя этот проект и стал предмет
обсуждения пусть недолгого, но реального, ибо в него были внесены мно-
гочисленные поправки, все же очевидно, что несколько дней спустя после
переворота 2 июня внимание Конвента занимали более насущные проб лемм
Кроме того, вполне возможно, что уже тогда, в ситуации неясной и г:и
тнюречиной. было решено отложить введение в действие данного текста,
ибо оно повлекло бы за собой роспуск Конвента и проведение новых вы
[юо а самый неблагоприятный момент, когда десятки департаментов б(1о
или менее открыто бунтовали против парижской власти. Ускоряя при? >
тне повой Конституции. Комитет общественного спасения стремился л-,и ь
организовать побыстрее конституционный референдум, чей предсказуемып
резульЕат должен был узаконить антнжирондистскую чистку, пронеденну:о
2 июня.
В еще большей степени продуктом сноего времени Кон<. тнту i ня 1793 г.
была по содержанию. Если предложенный н <|>еврале тот же года i
ниже 1Л4им X и XI
Якобинский дискурс •».->
199
ект Кондорсе пытался найти институциональные решения конфликтам
между народом н его представителями, расширил практику обращения
ко всеобщему голосованию я предусмотрев более частое использование
референдумов то якобинская Конституция лово лы тона \ась тем. что
придала юридическое значение насильственной конфронтации между на
родом н его представителями, которая в 1792 г. уже примела к ниспро-
вержению прежней Конституции. Новая Конституция нюня 17(В г скорее
легализировала право на восстание, нежели давала законные возможности
избежать обращения к этому крайнему средству В этом она была точным
отражением своей эпохи, ибо нормативно закреп ляи автономичэцию по
лнтНки по отношению к институтам или, используя формулгрг»вь\ 11ырл
Розанваллона, «деинституционализацию политики Уч которую восстание
31 мая — 2 июня подняло на беспрецедентный уровень ( уть зтп: явхеннн.
в нескольких словах, состояла в следующем
Все были озабочены гг.м, как обеспечить безграничный < упг|»снмтгг
на[юда. <...> Наиболее часто звучали слова единство н простата —
единство суверена, в коем сливались воедино народ и представители
народа, н простота средств выражения и применении зтого суверены
тста. Если и существовала какая-либо проблема u\aiTn то опа - то
яла в том. как согласовать практическую необходимость г,'цестг-'мннн
представительства — ее признавали нее — с макенмсъхын iiiii^imiu,
по возможности, участием народа в управлении Эти • з.мнля н.пытка
синтеза или, скорее, преодоления принципа нрглставительстпа мни• кн
подталкивала к двум противоречившим друг другу вынь м < < юн
стороны, она побуждала к наиболее полному, чем к«г ы-лно»» х»ыли
нению представителей с подставляемой нацией. *• • !!•>. с н
стороны, подобное объединение, делавшее полегании ; ; нти»
ннем всей совокупности народа подвергало их потенциалы.' hi и
незаконного воздействия. Они одновременно быки и ikvm и и
зрения всех, ничем
Таким образом, текст 1793 г. отражал протмногц.р...............< рп
денцяй — парламентской узурпации и узурпации u in । п it, чм
которой с 1789 г. была д<
отметить и другой признак пре имущее т пенно полити” • । ,1( .,h- । а д m
кого текста. Речь идет о неустойчивом кимпромн • । । • • hihhmh
тех, кто получил власть, и тех. кто совершил । у л., - в « и ш ( • ин
2 июня. т. е. между якобинцами Конвента и Ku.mmvH' < - । » ч । 'и.,
проекте Кондорсе см.: Baker К.М Coiukari !<. . <1 , к [l4 | Ь I
М Nobile. Р., 1988, Jaumt L. Le Disctnum piulun et In ilrmw < •
W Cm. Rdfanuallon P LX’inoiratic uui lirvre I In* -
P. 2000.
Cauchd 14. La Revolution <lci fiouvoiis P 108 109
200
Якабинилч. демократия и Ревоиония
начавшееся сразу же после завершения чистки Конвента, стало решающим
фактором, определившим смысл, приданный Конституции.
Одним словом» именно подчинение институтов политическим и<
лям скорее может быть определено как признак якобиниэма, нежели
принципы, использованные в новой Конституции и начертанные на ее фа-
саде. Эти ы никоим образом не предполагали замену философии
интересов философией добродетели, либо Индивида — Народом. Члены
Конвента 1793 г. сами были детьми 1789 г. и оставили многочисленные
свидетельства тон общности идеалов, что связывала их с предшественни-
ками Гак. они внесли свой вклад в пронизывавшие всю революционную
эпоху размышлении о надлежащей организации суверенной власти путем
создания ее третьей ветви ? 7Г Именно они. открыв для себя после пери
ода Террора необходимость ввести политику' в институциональное рус хи,
создам* термидорианскую Конституцию III года. Конституция 1793 г. за-
служивает названия якобинской из-за своего крена в политику, а не из-за
принципов, в которых нет ничего, что было бы характерно исключительно
для 1793 г. или для одних только якобинцев.
Якобинизм не являлся идеологией — неким сводом принципов, опредс
АЯШП1Ш специфическое представление об антидемократическом и антиинди-
нкдуа хиекком социально-политическом порядке, который бы противоречил
духу 1789 г Он был политикой. основанной на замене права силой. Якоби-
нкэм не содержал сколько-нибудь гомогенного представления о демократии
Рассматриваемый с этой точки зрения, он был всего лишь совокупность-
воззрений якобинцев, воззрений весьма разнообразных, которые отражали
существовавшее в политической культуре Французской революции оес
численное множество представлений о возможной реализации приищи. 1
1789 г Робеспьер оказывался ближе к герцогу Ларошфуко-Лианкуру. е
к Сен-Жюсту, когда говорил о будущем обществе, но — ближе ко второму
чем к первому, когда речь шла о выборе средств. И все же якобинский
дискурс существовал (его изучал Люсьен Жом), однако его объектом ы.
ступала не демократия, а революция, причем, скорее ее методы, чем ।
Если в нем и получила развитие особая концепция соотношения лич
сти и сувг(>снитета, подчинявшая первую второму, то это никоим оерг -
не имело целью определить основы того общества, которое пред! и
создать Революции.
Уже Бенжамен Констан призывал отличать в истории револн >п
ного времени «то, что относилось к управлению, от того, что относил-
к террору». «управленческуюл составляющую от «жестокостей»5^. Biii
чем. если присмотреться к действиям самой террористической влаги-,
можно констатировать удивительное расхождение между принципами, при
J‘1 Cauchel М La Revniuhon det pauvoin. P. 107 — 121
Conj/unl В Dre rffeti de L lerreur. P. 167—171.
«Якобинский дискурс
менявшимися ею для оправдания террора, и теми, что она выдвигала для
обоснования пользы мер, относившихся к «управ чем чес к ой» стороне се
деятельности. Так, в тот самый момент, когда закон от 22 прериа чя (10 ню-
ня 1794 г.) позволил революционному правительству толпами отправлять
«врагов народа» на смерть, оно предложило Конвенту законодательным
путем решить различные проблемы, вызванные введением в действие су-
дебной системы, созданной Учредительным собранием. 7 нюня Конвент
регламентировал порядок дачи свидетельских показаний военными в уго-
ловных и исправительных судах; 9 июня он рассматривал вопрос о том,
можно ли привлекать обвиняемого, освобожденного вердиктом присяжных
уголовного суда, к ответственности перед исправительным судом по тому же
обвинению; 4 июля, когда узаконенная бойня находилась в полном разгаре.
Конвент изучал запрос властей Майенна о точном истолковании «22 и 24
статей 1 раздела 2 части закона от 29 сентября 1791 г.» о вынесении при-
сяжными своих постановлений; 22 июля Конвент принял закон о неявках
в суд>91 и т. д. В сфере обычного правосудия, в отличие от «правосудия
революционного», Комитет общественного спасения и Конвент исходили
из принципов, ничем не отличавшихся от принципов 1789 г. Все эти
разнообразные меры должны были гарантировать подсудимому его пр«ва.
В то же время власть, ссылаясь, правда, на другие принципы, отказывала
в пользовании этими правами тем. кого считала «врагами народи
В том, что касается соотношения личности и сувереннт»а. якобинский
дискурс был дискурсом революции, а именно — революции, понимаемой
как тотальная война, имеющая лишь два возможных исхода — «побе-
де или смерть». Этот дискурс, в действительности, является дискурсом
демократии в состоянии войны. Он доводит демократически’ принцк
пы — индивидуальность, свобода, господство закона, разделение пуплич
кого и частного — до такой точки накала, в которой они преж n.ning
в свою противоположность. Война, как замечает Гоквиль • ииаст дсчн
Кратию. И не только потому, что влечет за собой расширение ючий
гражданского правительства», но также потому, что. приуча- н •< к на
силию и рабству, «мягко» подводит его к деспотизму* Вейна означает
милитаризацию всей жизни, отказ от всякой индивидуальной аг юмии
и самостоятельности суждений; она создает атакой < щ*ч шым i
где личности больше нет», однако в котором индивиды. х каи< ь и ;
себя, отказываясь от всего, что в обычное время их разделяет и ичдет
одного от другого, лишаясь всякого своеобразия, достигав т абсолютной»
равенства61). «Якобинский дискурс» — это теория дем к> атическ» й ичн<
*Collection des !□»... T VII. P. 228-230. 259. 284 286
I Tocqueville 4. De la democratic en Amenquc. P 61) I ,! . на в мерипг
M. 1992]
W Furel F Le Passe d une illusion. P 49—78
202
Яхпбиннзч. ленократия и Революция
сти. ввергнутой в такую войну, откуда нельзя выйти путем переговоров. —
п ту тотальную войну, каковой является Революция.
♦ ♦ *
Леррор не был ни продуктом якобинизма как идеологии, ни ре
зультатом деспотического потенциала 1789 г., реализовавшихся благодари
обстоятельствам Объясняя Террор идеологическим ослеплением, разве мы
нс придаем ему некое подобие невинности и не признаем за ним своего рода
поэтичность? Террор, как я уже сказал, это фатальная неизбежность, нет.
не Французской революции, а любой революции как разновидности сопи
альных преобразований. В данном плане якобинизм задает архетип Все
революции имеют своих якобинцев. Если революции чаще всего оказыва-
ются несопоставимы в идеологическом плане, то в политическом отношении
они вполне сравнимы. «При изучении какого-либо периода истории, — за-
мечает Эдм Шампион, — нужно не только постоянно фиксировать взгляд
на нем. но и посмотреть, что было раньше, что было потом. Очень ча-
сто оказывается, что некоторые вещи, считавшиеся новыми, необычными,
таковыми совсем не являются, и то, что выглядит особенным, хараккр-
ным лая данной эпохи, можно найти и в другом месте, при совершенно
иных обстоятельствах И тогда станет понятно, что одинаковые следствия
могут вызываться противоположными причинами и что то явление, кото-
рое пытались объяснить определенными факторами, не раз имело мг то
и в отсутствие подобных факторов»
В данном отношении пример якобинизма показателен. Якобинизм
это революционная динамика в действии, революция, выраженная в лозун-
гах (mise en mots), не столько скрытое лицо демократии, сколько жесток
реальность любой революции.
С tampion L Le I jy.uw e< L Revolution (пмцлдо // La Revolution froi^aisc. 1905 Г b’
IX
Движущие силы Террора
Революционная динамика
Террор есть неизбежный результат революции, рассматриваемой н ди-
намике Радикализация Французской революции может быть объяснена
отнюдь не внешними обстоятельствами и внутренними противоречиями,
с которыми она столкнулась, а братоубийственной борьбой между ее ст<.
ронниками, соперничеством между самими революционерами. 1ак. нельзя
сказать, что перегибы вызвала война, расширив революционное простраи-
ство и выведя весь процесс за рамки изначальных, органично присущих му
целей. Напротив, именно радикализация революционной политики породила
войну и террор.
Определение политической культуры, предложенное Китом Бенкером
в работе, посвященной политическим и конституционным спорам в послед
ние десятилетия Старого порядка, представляется полезным для понимании
того, что произошло в ходе Революции. Он писал, что полшп/mii —
«это деятельность, посредством которой индивиды и группы формулиру-
ют, согласовывают, применяют и заставляют уважать взаимные пре - нзин
и требования, предъявляемые друг другу и всем вместе»; политик. нч
культура. следовательно, есть «совокупность дискурсов или символиче-
ских практик, через которые эти требования выражаются Ганой лми-
гвистический подход придает наиболее важное значение двум элементам,
задающим содержание дискурса в любой организованной с ист ме Первый
представляет собой совокупность норм, определи ji гь или
нелегитимность дискурса с точки зрения общих для данною коллектива
ценностей, признание которых — необходимое услщии прмнндлсжно ги
к нему. Второй элемент состоит в «наличии государе гневных органов
и .Процедур, способных преодолевать сопротивление указанным требова-
ниям,! утверждать их приоритет и приводить в исполнение» Эти дна
начала четко очерчивают поле дискурсов и средств, которые действующие
Btilrcr КМ Au tribunal de Г opinion I* 14
204
Лижущие ctctN Гсргсж
лица могут соответственно иметь ши использовать в пределах организован-
ной политической системы Действительно, они нс могут выдвигать какое
угодно притязание н тем более навязывать его любыми средствами.
Во время революции все изменяется. Само происхождение революций
остается во многом загадочным Более или менее отдаленные причины
ретроспективно приписываемые им историками, представляют собой лишь
частичное объяснение, поскольку революции возникают внезапно Обычнг
говорят что они «вспыхивают». Действительно, они часто вспыхивают
без предупреждения Изумленным современникам остается только конста-
тировать резкий разрыв обычного хода вещей, неизбежно включающий
в себя два следующих фактора. С одной стороны, это — превращение
множества индивидов, совсем недавно разобщенных по своим интересам,
в толпу, движимую общими чувствами, надеждой и ненавистью, готов} ь?
рисковать всем для выхода из ситуации, которая вдрут стала восприни-
маться как неприемлемая С другой — распад власти, лишившейся всякой
жизненной силы, парализованной в своей способности как подчинять се
6с так и выступать примиряющей силой. Революции 1789, 1830. 1848
и даже 1917 г в России имеют общий сценарий: с одной стороны
распад власти. с другой — мобилизация масс, как будто энергия и мощь
покидали государство, чтобы напитать собой революционное движение
Вместе с государством прежде всего разрушался и консенсус относителы
норм, определявших содержание политического дискурса, а также характер
процедур обсуждения и принятия решении. Действительно, революция есть
тот самым момент, когда возможным кажется даже то. что еше накан}
не оставалось утопией; она есть тот самый момент, где все постигаем
че ховеческнм раз чмом пространство оказывается в границах досягаемое и
К принципу распада власти революция добавляет и принцип исчезновение
^реальности
Начало революции знаменуется быстрым и бесконтрольным расп
стране и нем новых дискурсов Впрочем, казалось бы. Французская рее
аюция опровергает это утверждение, ведь появление множества соперннч
ющих дискурсов, из коих некоторые носили весьма радикальный характ-
можно было наблюдать еще за несколько месяцев до созыва Генера ч
штатов-' Однако принятое разделение между собственно Револнм
и «пред-Революцией* достаточно произвольно и первое время не i
сило столь определенного характера. Это потом революционеры s.i.un
числом сочли необходимым установить символическую дату смерти Ст.
рого порядка и рождения нового. Историография и национальная на\<ч
закрепили сделанный ими выбор, который, впрочем, абсолютно не с<>>
ветствует действительности Разумеется, определить с точностью, и как
См ' Гмге/ F Ha«cvi R Li Morwurhw гёриЫка/пе Cb.11 L'cducalion гг.Л
«patnoce»». P 81-111.
Рсволюциомная динпиика
205
момент времени ситуация революционизируется, невозможно Очевидно,
что качественный скачок проиэоше ч в промежутке между двумя событиями
заявлением правительства 1 мая 1788 г. о судебной реформе и последо-
вавшей 23 сентября капитуляцией, которая выразилась в провозглашенном
королем отказе от этой реформы и утверждении нм решения Королев-
ского совета от 8 августа о созыве Генеральных штатов к 1 мая 1789 г.
В указанный период, однако» современники испытывали отнюдь не ощу-
щение наступившей «пред-Революцни*. а чувство начинающейся новой
эпохи, полной опасностей и неопределенности. Далеко не враждебный от-
дельным переменам аббат Баррюэль, вероятно, одним из первых осознал,
насколько этот политический кризис отличен от тех. в которых прежде
сталкивались интересы королевской власти и парламентов. Так. 14 июня
1788 г. он писал, что король не может уступить настойчивым требованиям
своих противников отменить судебную реформ)-, не совершив тем самым
отречения от своих прав и властных полномочий. «В таком случае лучше
сразу бросить и скипетр, и корону*. Спустя несколько месяцев, в январе
1789 г., он констатировал, что события подтверждают его опасения. -Этот
скипетр находится в потерявших твердость руках монарха, к» чеблющепчя
между добротой и властью» которой он из любви к своему народу позволил
ускользнуть от себя. Все сословия добиваются ее для себя, и наиболее
многочисленный класс [третье сословие] играет здесь главную роль»
Возможно ли найти более красноречивое подтверждение тому, то идея су
вереннтета была сформулирована еще до оглашения избирательного закона
24 января 1789 г.? Революция, в действительности, уже началась
Прежде чем пролить кровь революционеры создали свой язык дне
курсы, целый поток дискурсов, которые отчитались ГГМ большей ; ;ДИ
кальностью, чем менее отвечали необходимости юбраэ вымть я тре-
бованиями реальности. Они в некотором смысле с 'адалн сл -вечн -и
держанием Этот ураган слов не говорил ни о чем лрмхм. кром- ути
и целей революции. В результате развитие дискурсов моею идти чишь
в одном направлении — постоянном расши^нин гр? • ц. Действительно,
понятие «революция» не поддается четкому определению. Она есть емг
ное обещание свободы и счастья, открывающее шире * ногти лчя
умозрительных построений. Ни одна ее дефмни^ • и и м л ••• гытъ п,*
обладающей. Едва оформившись, одно определение рев»мг ни т^гыс г
подвергается конкуренции со стороны других, yi •чбшющнх > ч <.держание
и радикализирующих его значение. Именно лго и ичтаел/ т движущую
пружину революционной динамики, которая по мсгкг выдвижения все новых
целен и предложения все новых средств достигает крайних пределов и пн
I Цнт. но: Riqucl М AuguMin Зе Вигтис» Р 41. 2 8 tv ыянч.мл
Journal cccirsuHique
206
Аыъишис си.in Террора
самым через процесс наростаюидсй радикадизпиии дискурса неизбежно
приводит к насилию
Мишле чувствовал силу этого «взаимного воздействия», описывая
«дорогу к смерти*, по которой с самого начала Революции устремились
газеты и клубы:
Здесь каждый звук находит отклик: неистовство толкает к не-
истовству Одна статья порождает другую, еще более ожесточенную
Горе томе, кто «гаметел позади!. Марат почти всегда опережает других
Иногда Фрерон. его подражатель, выступает на первый план. Умеренный
Прюдом, и тот опубликовал несколько яростных номеров. Марат в этом
случае отвечал тем же.
Схожее соперничество обнаруживается и в клубах, и даже в лагере
роялистов, газеты и брошюры которых состязались в «злобе, оскорблениях
и иронии с Личные интересы и амбиции играли в этом соревновании, нес »
мненно, важнейшую роль Эбер был бы никем, если бы не превосходил Ма-
рата в дерзости, неистовстве и циничности стиля, по сравнению с которым
стиль Марата выглядел довольно пресным, почти «аристократическим
Но личный интерес здесь не единственная причина. В действительности
целью подобного движения влево были легитимность и власть, которые
получал тот, кто говорил от имени Революции и тем самым определял
ее суть. Быстрое распространение дискурсов, соперничавших между собой
в радикализме, было связано с желанием занять ведущие позиции, дабы
опередить других конкурентов в борьбе за легитимность и присвоить с-бе
оставшуюся ничейной власть. «Экстремизм идей», «непрестанная болтов-
ня* и «мания простых принципов , обрекавшие на крах любые попытки
остановить революционный поток, были не признаком заговора 6), как
утверждал Дюпор в мае 1791 г., а проявлением динамики самой револ
ции. той самой динамики. что привела на смену монархистам сторонников
Дюпора. а впоследствии смела не только Дюпора. но и его победите м
Ведь в революционном процессе сегодняшний радикализм есть завтрашняя
умеренность здесь всегда найдется кто-то еще более радикальный. Барн .
очень точно описал угу неодолимую тенденцию к смещению влево:
Партия умеренных, которую <...> когда-то можно было считатг
тождественней нации, практически потеряла Влияние И она. в дометни-
тельжхтн. чтобы добавить себе веса, отшатнулась от тех, кто стремился
аамедлить движение .. С тех пор. как события, которых она больше
Понятие <нлрлстАЮц|ей радммд.и1Ацр1И дискурса» заимствовано мной у .Ханса \ i
на Mt v-nглася Н Le Nabanak-Soaahwne et ia tcciece allemande P.. 1997 P. 67 — 91Ц
Je Hitler dam la lyiirtne de puuvuir nalkKAaLsoaaiiOf *)
J HaIouf de L Revolution hancaise T. I P 534—535.
Речь Ддиоора 17 мая 1791 г о оереняцными членов мконод ягель кого норпу а
de U Iw^bc.. Р 286—300).
Реваиоиионная динамика 207
всего боялась, совершились, она полностью прилил м ил и. отказавшись
от своих прежних руководите \си и принципов попита члеь пристроиться
хоти бы в арьергард нового движения н хотя бы сдерживать шествие
революционной колонны, в самом хвосте которой она плелась вопреки
собственному желанию
Непрерывная радикализация с 1789 по 1794 гг Францумкой рево-
люции стала результатом динамики, органично присущей революциям как
типу общественных изменений, независимо от принципов, провозгчашае
мых самими революционерами. Одновременно именно эта динамика часто
порождала «обстоятельства», провоцировавшие, в свою очередь. новую
радикализацию дискурсов и целей. И если политическая культура Фран-
цузской революции, в силу своей многозначности, сказамсь для Т- ,-jpa
топливом, то динамика, как составляющая часть иобой революции. стала
для него искрой.
* * *
События, последовавшие за 1789 г. создали, таким .4ра?«»м.
менный образ революции: революции непрерывной, независим» й от п»•• .м
довательно или одновременно преследуемых ею целей, наконец, революции,
признающей легитимность лишь за самыми радикальными х св»»их дей-
ствующих лиц. В этом своем проявлении ее динамика аналогична описанной
Клаузевицем суровой логике воины, подобно которой револю ц и ней* еж-
но «впадает в крайности»Действительно, то. что Клаузевиц пиюрнл
о войне, можно слово в слово повторить и по отношению к револн цми
Война есть акт насилия, и лея проявления полезного нленчин шп
границ. <...> В делах, столь опасных, ьак война. шибки, ц кл
ющие из доброты душевной, являются наихудшим ва.илг м из в. л
возможных Поскольку использование физической силы а цг мн я
Не исключает присутствия разумного начача, тот. кто йе н г.->с ,г\
силу без жалости и не гнушается чюбого к(хч>»|цм»*юии мм-* г ^ецму
щество над противником, если, конечно, тот не отнечле* анмм г
В сущности, воюющий диктует свою вил> нгирнмтг • .«-м ...дгт
до конца, и единственной прггралой дли него ив>нт <т
другой стороны 9).
Разумеется, подобное, продиктованное логикой ситуации ^чмченне
к крайностям, в действительности, может быть прии i - ъ м- п чти
всегда — на войне, и очень части — в революциях. В последних, од-
нако, никаких препятствий для следования под* ной логике иг остает» я,
Manus*.тн» vie Вапыче. Cdhiet 2 Р 7 (мпнкь n 1 ". i )
Claufeivill С. ьюл. De ia guerre. 18)2—1834 / Trail D Nwvillc. P »95> P 55
Ibid. P. 52-53.
208
Дяилсугрие силы Террора
когда происходит одновременное совпадение ряда факторов, а именно —
когда расхождение в нс члх враждуют их группировок оказывается на-
столько глубоким, что исключает яюбые компромиссы; когда расторжение
общественного договора возвращает противников и конкурентов в своего
рода естественное состояние, где сила замещает право; когда, наконец,
затянувшееся отсутствие власти открывает неожиданную возможность для
возвышения даже самым маргинальным политическим течениям
При несомненном сходстве революций, имевших место после 1789 г,
сочетание или отсутс твие указанных условий обусловили заметные разлн
чия в механизмах развития этих революций. Революции 1830 и 1848 гг,
например, не привели к террору. Вместе с тем. и в них проявился хотя
и в заметно меньших, чем в 1789 г., масштабах, феномен «стремления
к крайностям*. Как н в конце XVIII в., эта динамика подпитывалась
быстрым развитием дискурса, использовавшего темы преданной или «укра-
денной* революции. Создание 30 июля 1830 г. сторонниками республики
* Общества друзей народа* с целью помешать приглашению герцога Ор-
леанского Тьером и Лаффитом. равно как и происходившая 24 февраля
1848 г гонка за властью умеренных и радикальных демократов’ с целью
захвата власти в равной степени иллюстрируют этот неизбежный для ре-
волюций процесс движения влево. Однако в обоих случаях радикализация
была быстро пресечена: в эпоху Июльской монархии — после апрельских
восстаний 1834 г., при Второй республике — после гражданской войны
в нюне 1848 г. Роль личностей в этом нельзя преуменьшить. Июльская
монархия нашла в лице Казимира Перье решительного министра, которого
конституционная монархия 1789—1792 гг. не хотела или не могла имс1ь.
Вторая же ।республика в июне 1848 г. осмелилась предпринять то, г
Учредительное собрание не решалось или не смогло осуществить дажг п - •
расстрела на Марсовом поле — подавить силой революционное дниж- ।j
Однако, вопреки той роли, которую в 1830 и 1848 гт. сыграли соответ
ственно Перье и Кавеньяк. события, несомненно, приняли бы аналоги
Французской революции оборот, если бы не иной контекст. В 1789 j
речь шла о том, чтобы ниспровергнуть древнюю легитимность, а в 1ЧИ1
и 1848 гт — легитимность, которая имела слишком недавнее пр и
жденне, чтобы не быть хрупкой. Краткой и локальной вспышки и
оказал<к:ь достаточно для последовательного низвержения Карла X и Л ,г
Филиппа. В 1789 г яростным нападкам подвергалась сама г пи
организация; в 1830 и 1848 гг. — лишь государственные институты: m
10) Сы BoahUt J. РЬепаайлех ievduiionn*iret. Р.. 1970. Р. 40-44. 125- 12 ;
Речь мде* и ддуж мапрДААеикяд респуфлмкднемон оппозиции, возникших в i . -
скон манар«мм П!..м»тмчс >.ид дгмокр^тлж. близких к газете National, и социальных дем -
ввгллди которсаа кырижам гээггл La K'e'/rxme После отречения Лун Филиппа 2-
1446 Г. ДДИчЛпе из Пил направлений гждтыталось организовать свое временное правит
Прим, лгрев.
Зловещий итог 209
дучн социальными, революции жкичк здесь сугубо политический характер*.
Летом 1789 г. совершилось абсолютно беспрецедентное, до сих пор остаю-
щееся загадкой событие: в течение нескольких недель общество пи м питью
распалось Все было снесено: древние обычаи и верования. прежние мно-
говековые институты, правительство, администрация элиты . В 1830 г
как и 1848 г., ничего подобного нг происходило. Революционна* полна
практически не затронула общество, тогда как весьма незначительно . бнп-
вленная администрация обеспечила переход от одного |>ежима к другому
с наименьшими из возможных издержками. Главное же состоит в т**м. что
отсутствие власти в 1830 и 1848 гг. не исчислялось, подобно Францу v кой
революции, месяцами и годами, а только днями и даже часами Об.чнч пнчр
иые группы, пришедшие на смену прежней элите, существовали рсачьно
и были готовы принять властные полномочия, заполнив сюра юнапшуюся
на государственной вершине пустоту. И если в 1830 г гктоятельствл
не давали ни малейшей надежды Бланки, то в 1789 г. они открывали
Робеспьеру или Марату, как, впрочем, и Ленину в 1917 г., шир< । .< нщ
перспективы для выдвижения.
Уловить глубинное сходство, объединяющее, несмотря на различие
ситуаций, принципов, целей и особенностей развития, происшедшие и* и де
1789 г. революции, можно, только если рассматривать их в политическим
ракурсе. Огюстен Кошен первым почувствовал, что секрет Французский
революции заключается в ее внутренней динамике. Покинув мир в 1916 г ,
он так и не узнал, что открыл секрет всех революций современности
В этом аспекте, но только в нем одном, его исследование по якобиш im*,
вносит вклад в анализ большевизма: отнюдь не в силу сходства идеоло-
гий и режимов, которое отсутствует, но в силу общей логики p.i-житии
конкурирующих в революции дискурсов, которые, развивая* ь ,w сп- , - mi,
неизбежно приводят к кровопролитию.
Зловещий итог
Прежде чем стать политиков сж темой власти или наго о »гнгв 1ер-
pop был повседневной действительностью, к п* р)м> < •< ивл> • . пне
обыденными доносы, акты произвола, жестокости н м<...... <’ о -.> и м
описанные Тэном”-. Реальностью Геррера были и убий .*
Сколько их произошли? Статистическая точное rt и ?:м г.» «просе не-
возможна. Мы никогда не узнаем точного чис ча жертв pt чолюцнпншм •
насилия. Здесь приходится довольствоваться приблизительными падсчг
тами, определяющими лишь вероятные границы. Американский историк
Дональд !риР насчитал 16 600 человек, казненных по припяюрам [/гво-
bine Н. Lee Ongiiies de la France GorttempoMtfie l.ll 47 309
15 3a* 155
210
CU1N TcppOfM
люцнонных судов Цифра, разумеется, возрастет. если включить в н* •
убитых бе * суда и следствия — расстрелянных в Аноне, утопленных э Нан-
те и г. д, * И хотя Грир предлагает прибавить к 17 тыс. жертв «легального
Терроре 23 тыс убитых беззаконно, Жорж Лефевр убежден, что подобные
цифры. несомненно. ниже реальных 14Г Помимо этих предположитгльн
40 тыс погибших, нужно. бесспорно, учитывать и убитых в граждане к- >"•
войне ча западе Франция, в частности, на территории Вандеи.
Человеческая цена этой гражданской воины долгое время была пред-
мстим более или менее фантастических оценок 15\ Последнее скрупулезна
демографическое исследование Жака Гюссеие позволяет с достаточно вы-
сокой долей точности оценить размеры трагедии В целом, согласи-
(ни гене, военная Вандея* пгперяла между 1793 и 1796 гт. от 140 до 19'<
тыс мужчин, женщин и детей, что составляло 1/4 —1/5 ее населения,
местами — 1/3 а часто и половину, как. например, в дистриктах Шиле.
Вине. I Штмйон-сюр ( евр. Этот итог включает «синих» и «белых -,
главным образом, все же «белых*, ставших жертвами войны и репрес-
сий, — вандейцев. убитых при переправе через Луару и уничтожению
• адскими колоннами» генерала Тюрро. Последствия ужасающих людских
потерь ощущались здесь вплоть до середины следующего столетия. 11н о,:
нп событие Французской революции в этом аспекте не может сравни; *-•. я
с Вандеей. Сходные примеры трудно найти и в истории совре.мснн
Франции. Напоминая о департаменте Мёз, понесшем аналогичный (
в годы Первой мировой войны, Жак Гюссеие справедливо отмечие
применявшиеся а 1914—1913 гг. средства массового уничтожения
были несравнимо эфЩкгктмннес имевшихся в 1793 г. Это касается и я.
* C/rer D The Inoience of the Tent* During the French Revolution A Stall-. ,
Uslton. New York, 19)5
U)Oihm4» 2500 •v.-^гв ft Лн*»1г примерно 5 000 в I Занте (см.. Herrtol Ё Lyon r.'rsi K i
P., 19)7 —4 У-.Я . Lalltc /1. Let Ncry-vlet de Nol let. Name», 1879).
l4> /z/ib.rc C. l^r Gouvern/ment rrvobiionnaire. Court fxdycopie. P,. 1947 P 17b 177
'Loh давняя Т|мдицмя ;л»ял>«. кк< А историографии исчисляла жертвы ш< |. -ми
до c’H.i т>4' . F./H.U \лдп>«/н «ентп», н<ицхгги0. стремились снизить этих (^улЪТд-Т!»
|'гммгло.А (. гиг *4- »нл низшую (117 257), з Жан-Клеман Мартын — иыси:уь 1 .7.'
пи< ) грАниух* ч»«сла пглгмбщих. См ЛесЛег Л. Le Genocide hanro-lraiii,ai‘. L
\Лп|г Р . 1W. Р 245-264, Mart.n J С7 La t L France P . 1987 P ЯИ.
См //иддепе/ / La gurrre de Vendee cornLen de moru? // Krcbrr i -
P 39-89. Nt2 1W5 (Maine-ti-Luirr) p 31 95. № 3 P
AlUmupM) P 501-366 См пкже /Irchri P Guerre de Vendee et sources d<ri> r
fendtwr L RrtUuhun г* ГI rnpire F«Mti critique tur les Deux-Scvrci // Ibid ' •
162» HwiteneJ /. irurrre de Vendee: • ^hi»Lh n dr oi-jf i ' // Ibid. P. 163
’ > Вхкмм Вдндел» (Vender гл4иаие) сг<ьи, имо^м царица г г льны м д-.я р
глг • мдрг 179* . (ьддыриулдсъ oKMCTirfriHUH Граждане кам война О
trui/.jnn м нр-дг ма vAHuHMCHi го дгц.^/таментл, включая помимо сибстиекнс. 1 •. .
14-<нмцни Иил^ггп »ьдту). нты Мэц и-Лудра (Анжу) и Дс ( I
э уавте Едоам*. — Прил, перги
Зллкецдий umnt
211
сражений, и жестокости репрессий Чтобы иметь наиболее полное пред-
ставление о проблеме, необходимо прибавить к атому зловещему итогу
потери воевавших против вандейцев республиканских армий, составлявшие,
по оценкам историков, от 30 до 200 тыс. человек! Первая цифра слишком
занижена, вторая — просто абсурдна!7).
Общий итог Террора насчитывает, следовательно, минимум 200 и мак-
симум 300 тыс. смертей, или примерно 1% населения на 1790 г. (28 млн
жителей)
Этот баланс может показаться относительно скромным в масштабах
страны. Вместе с тем, он означает, что во Франции конца XX а, подобное
событие привело бы, по меньшей мере, к полумиллионным жертвам Дей-
ствительно. наш век во многом преуспел в деле истребления люден, однако
было бы неправомерно судить о произошедшем сквозь призму более по эд
них событий, ибо развитие способов уничтожения лишает нас необходимого
критерия. Европа и Франция прошлых эпох знали жестокие бедствия
и насильственная смерть была для них привычным явлением. Начиная
с семнадцатого столетия — «века холодного оружия», непрерывно шедшие
войны становились все более опустошительными. С Тридцатилетием войны
до Войны за испанское наследство (с 1618 по 1713 гт.) они. по подсчетам
Чарльза Тилли, стоили жизни 4 500 тыс. европейцам К середине XVIII в.
Война за австрийское наследство унесла еще 360 тыс а Семилетняя
война (1755 — 1763 гг.) — около миллиона новых жертв 4' Привычность
смерти равным образом объяснялась эпидемиями и голодом: последняя его
массовая вспышка (1693—1694 гт.) унесла в могилу 10 % французского
населения19^. Иными словами, преждевременная смерть бы/л o r , пл д-я
этого общества, в результате чего оно весьма терпимо относилось к на-
силию. XVIII в. стал временем значительного смягчения разрушительных
последствий голода и эпидемий и. по крайней мере во Франции, иг мс
нее существенного ослабления насилия, сопряженного с войной Фран-
цузская революция прервала этот длительный период снижения уровня
насилия, начавшийся в XV4I1 в. и виз< 'повившийся лишь крушением
Империи20*. Чувство ужаса, охватившее революционные нты при виде
сцен «варварского» зве^ктна народа, сеидегельстьовало об yiuii (ипригм.
относительной и весьма ограниченной) гтр высшими слоями общества
привычки к жестокости. Однако оказалось, что прогресс 1рашН1 и усиле-
ние государственного контроля вовсе не помешали сохраниться, п линей
Жя» Дюкапде предлагает разброс от АО до Н)0 тыс смертей (А11аж 4е h Hr.nluiian
fnui^aiac. Population P., 1995. P У0). О количестве солдат. погибшим в Влидге. см наблюдения
I юс сене (Huiscntl ] Op. cit. // Rechtrchea vendecnnei Nr 4 1997 P 194—197).
Tilly Ch. Cuhlramte el capital dana U fonnaiion le Г Europe (990-1990) / Trad
D-A. Canal P. 1992
Cnrncltc I Le KN de «йене P 2bb
В целом Революция и ивпилеоновскне воинм умгелк 2 млн жнэоей
212
Движущие силы Террора
мере в остаточной форме, прежнего ощущения привычности насильствен-
ной смерти Вызванное политическим насилием отвращение, проявившееся
после Термидора, резко усиливалось тем обстоятельством, что деспотизм
и произвол стали порождением революции, совершавшейся во имя свободы
Парадоксальность данного феномена, возможно, производила на умы даже
более сильное впечатление, чем само сопряженное с ним насилие.
Сентябрьские убийства 1792 г. с этой точки зрения весьма показа-
тельны Так. если несколько газет, выпускавшихся преимущественно жи-
рондистами. сразу же выразили сожаление, то совершенно иначе обстоял >
дело с теми немногочисленными очевидцами, чья реакция на происшед-
шее нам сегодня известна Хотя никто из них. действительно, не одобрял
этого «ужасного варварского правосудия», вместе с тем, они не выражали
и ни малейшего негодования по поводу «разгрузки тюрем от балласта»
Разве убитые не были виновны, к смерть их, в самом деле ужасная, разве
не стала сна следствием их несомненных преступлений? Генерал Тьсбо
рассказывает в своих мемуарах о том, как вечером 2 сентября 1792 г.
возвращавшаяся с прогулки семья одного буржуа оказалась перед зданием
монастыря кармелитов, откуда доносились крики убиваемых людей. По-
просив свою жену и двух дочерей прибавить шагу, глава семейства сказ,
супруге «с чувством искреннего убеждения: „Все это. без сомнения, слип
ком печально, но они — заклятые враги, и те, кто освобождает от них
родию, спасают жизнь тебе и нашим бедным детям*»21). Многие, а воз
можно, и большинство парижан, похоже, реагировали на происшеди-
подобно этому доброму буржуа. Некоторые из них заперлись на все замки,
но многие все же продолжали вести себя так, будто ничего не происходи *
каждый вечер театры собирали полные залы22). Годом позже несметны*
толпы присутствовали при казни Байи, Марии-Антуанетты, а потом Эбп
и Робеспьера: это были отнюдь не </вязальщицы», а буржуа подобные т j
который проходил со своим семейством мимо Кармелитского монастыря
Если у гражданских смут и есть отличительная особенность, то она сос юг
именно в полном исчезновении чувства всякого сострадания в сердцах дзл/
наиболее емн^нных в обыденной жизни людей. Токвиль замети,\ это в св-
их • Воспоминаниях-, рассказывая о встретившихся ему в дни восстав
1848 г национальных гвардейцах:
Общалсь с ними, я обратил внимание на то. с какой ошеломляющ
быстротой, даже в середин? нашего цивилизованного столетня, самы-
мнролюбккые душ вливаются, так сказать, в общий поток гражданской
войны; как неожиданно в это тяжелое время в них развивается вкус
Цмт. по Caron Р Lai MaaKfFfc de *cp4e(Tib(e. Р. 146, fiotr 1
»>lbd. Р. 121-153.
учжлрхиы? примеры см 0 р^лпт Даниеля Арас с а Агаш D. La Gudli i
Гстмчрпаиг de U Тепеог. P.. 1967
Злояецлим и moi
213
к насилию и пренебрежение к человеческой жизни. Люди, с которыми
я тогда разговаривал, были тихими, рассудительными ремесленниками,
чей добрый и немного медлительный нрав был гораздо более чужд же-
стокости. чем героизму. Вместе с тем, они только и мечтали о разрушении
и истреблении24'.
Эта метаморфоза объясняет одновременно и удивительное безразличие
революционной эпохи к самым чудовищным злодеяниям, и ретроспективно
возникавшее, с самого момента возврата к нормальной жизни, чувство
отвращения, вызванное все теми же актами насилия.
* ♦ ♦
Человеческая цена Террора должна определяться по двум критериям —
географическому и хронологическому.
Террор действовал избирательно: в одном регионе — с потрясающей
жестокостью, в другом — очень слабо либо отсутствовал вовсе. Вандейцы
подверглись массовым истреблениям, тогда как гренобльские «подозри-
тельные», к великому разочарованию юного Стендаля, чувствовали себя
в полной безопасности. «Можно еще отметить, и благоразумие дофи-
нуазского характера. — писал он. — Отец мой [внесенный в списки
подозрительных], чтобы, так сказать, спрятаться, переходил через улицу
и ночевал у своего тестя, где, как всем было известно, он обедал и ужи
нал в течение 2—3 последних лет. Террор в Гренобле оставался, таким
образом, очень мягок, я бы даже осмелился сказать, весьма разумен 25Г
Жители этого города лишь дважды лицезрели казнь на гильотине. Весь
регион был пощажен: в департаменте Изер насчитывалось только 3 жерт-
вы, в Дроме — две, в Савойе — пять, в Верхних Альпах — ни одной26'
А неподалеку, в Оранже, народная комиссия в течение 3 месяцев (май-
июль 1794 г.) отправила на гильотину 332 заключенных, в Лионе Террор
унес 2 тыс., а в Тулоне — около тысячи жизней Напротив, Лангедок
долгое время оставался не затронут репрессиями, член Конвента Буассе
успешно противодействовал местным властям, которые только после его
отзыва в Париж в феврале 1794 г получили полную свободу действий21.
Западнее, на тулузском Юге, обнаруживаем не менее 337 погибших, не-
равномерно, правда, распределенных по 5 департаментам региона; более
сотни в Авероне, лишь 4 в Фуа и 5 в 1арбе2к' Чем дальше на Запад,
24' Tocqueville A. de. Souvenirs. Р. 822.
™ Stendhal. Vie de Henry Bruhrd. P.. 1973 P.127.
^Nicolas J l^a Revolution (ran; .иле dans lea Alpes Dauphine cl Savoie 1789-1799.
Toulouse, 1989. P. 247.
Laurent R., Cai^ifnuud C. La Revolution lran;aifcc dans le Languedoc mediterranean
TouIuum, 1987. P. 187-188.
CodechЫ /. La Revolution lnn;a>se dans le Midi loulousain. Toulouse. 1986 P. 190-192.
тем выше цифры wn''’ жертв в Жиронде, несколько десяти- ••
» Рсчифоре и в Кипр* В целом, за исключением Вандеи, департамент,
?-’vx (<-н мд гь-ттряхм 9 гыс человек Зато трибуналы Въены исчезли ч<
9/10 hi тех. кто бых к ним направлен* \ Жозеф Лебов i устрой \ ।
Хромее и Каыбрэ. одьи департамента Ори тоже не сидели без дела
а во* нл кохлегн из Кальвадоса за нечь период Террора вынес \н i з
I с мереных приговора®
История Террора, таким образом. должна быть написана пщи|ы.
нично, тем более что даже яги географические различия исчезают, если
гчитывыгь нс только погибших. но и пострадавших от лишения своск ль
я конфискации Hw.^ecTBa Действительно. Террор не является синонимом
гильотины Чаще всего он представ мп собою неясную угрозу. довлевши
над самыми ординарными действиями и намерениями. Каждый ч\всп « .
< V я беззащитным перед доносами и произволом чиновников, опаса \ся бы t
птянугым в во д о вс-| ют с с «бытии. исход которых мог быть совершенно нс
гц.<дскаэ>емым от простых проверок и штрафов до тюремного заключен»!
и хуже Этомх повседневному Террору подвергались все французы.
Но там. где он носил смертоносный характер, его размах злв.
от многих фляггоречв. средн которых импульс* исходивший от центрам,
нчзгтк оказывался наименее важным Глубина конфликтов, персона чаш/
состав представителен в миссиях и местных уполномоченных, соперннч
сто: их друг с другом н острые социальные антагонизмы имели гс
более сильна в\ияниг Нет ничего случайного в том, что Террор был t .
вязам, прежде вс^то. в Лионе. Бордо и Нанте, богатых торговых г
с ярки иыраженной иерархией общества, окруженных деревенскими г
х хллмн. чье нищемежое существование резко контрастировало с город л
и-кэбилнем 1ак в Нанте социальная напряженность подпитывала в
начат»? Kappte и революционным комитетом против ^богатых*, а п|ч
чие горожан к деревне заставляло их равнодушно относится к страд, hi
мндемцев
Географическая раэноликость Террора особенно ярко показьи -
цгьпральная власть дачлх время была слишком слаба и далека д\я
чт1К\ы чнмф«'^кровать действия своих агентов и сонма революционных зл
аистов Дееспособность государства не есть, впрочем, единственная г
том отиов итглы.к /й автономии, о которой свидетельствуют противо^
итоги Irppcpa Сама природа вецкм препятствовала тотальном^
центра над страной. Фернан Броде *ь ато подчеркивав, отмечая, что f I ’
уия no того времени бькчд столь хв велика, как сегодня м»
J ->f L« RcwUhwjc. навете ев Наш*Ловом ci f**v* сЬ*гетз»» 1 ’ *"
rar, р
£МмН G, 1л №ч«1ийм Ьшцдй» 9 NcmAnd« 1789 — !ЖЮ I <xJo<x%r ’ ’'
ВтмШ F L'McaMr de U Fraecc T. I Елфмсс « koiuirr Р 1^90 P Ю> I
3. ыгтю/
215
Имевшиеся у правительства средства никоим образом не ссмп-ветствова ли
протяженности пространства, которх было необходим!'» контролировать.
Пестрое, необъятное, со своими локальными местечками*, на^хчнямн
н традициями, оно было унифицировано в 17Я9 г. лишь на бумаге Такое
положение составляло н силу, и слабость государства Силу, поскольку
угрожавшие ему мятежи неизбежно носи mi изолированный к локальный
характер. 1зк. вандейское восстание не смогло выйти ад гцедехм Луары,
чтобы соединиться с бретонской шуанернгм С другой стороны, госуллр*
ство не могло повсюду навязывать свою волю, чему неизбежно мешали
непреодолимые препятствия, создаваемые географией н традицией. 11нымм
словами, партикуляризм. погубивший Вандею, равным же образом бе^гах
значительную часть Франции от чудовищной гекатомбы Поэтому г миг
Террора 1793—1794 гг. не определяется его размерами
Второй критерий хронологический. История Террора распадается
на три периода в соответствии с тремя принципиальными законами, onjvде-
лившими порядок репрессий. Начало первому периоду поле жнчо создание
9 марта 1793 г. Революционного трибунала; новую эпоху открыл л ь|-*т
о подозрительных от 17 сентября, а законом от 22 пр-рилхя I! год* Ре
публики (10 нюня 1794 г.) ознаменовался последний, наиболее краткий
период, завершившийся 27 июля падением Робеспьера Цифры гоь*ч хт
сами за себя. Революционный трибунал за первые 7 месяцев своей» супце
ствовакия. с апреля по октябрь 1793 г., выноси.! в среднем по 50 приганорпв
в месяц; с ноября 1793 г. по нюнь 1794 г. этот показатель им--до 'ПО.
а в последние семь недель — до 700 осужденных Усиление интеменнн ти
правосудия полностью совпадало с ростом чме ла смертных пригож
6! и 80% соответственно‘-1.
Вместе с тем, впечатление о непрерывной прогрессмм обманчиво
В общенациональном масштабе наиболее губительным каза*. я иг период,
названный историками «Великим тер^юром*. а промежуток вре^гни с чета
1793 по весну 17^4 гт Увеличение числа приговоров, вынесенных в 11 ^н.г.с
начиная с весны 1794 г., стало результатом мер по централиэац|мн похити»
ческнч репрессий и сопровождалось заметным а«кжг»чнгм в \ны на»,
на территории страны в целом. Эти ос.чаблг иие хо. Ш1р"Ч* м. н гную
б&орону — шансы п« избежать гильотины y wroam*»
Каждый из перечне 'енных выше репрессивных >н н был (ннмн
с внешними и внутренними обстоите хьетвами. ссютиошенме «отрыт ог.ре-
делало значительные различия между тремя пер’ О.иыи
Как уже быхо показано выше И). создание Революционного трибунала
9—10 марта 1793 г. стало результатом сочетанно трех факторов одного
внешнего — равгром французских войск в Бельгии — к дау ж внутренним:
U^/trr G. Ас1г» <к> ТлЬипд) гт*сЙ1жк*1ЛЛ1ге Р . 14<Ч>3 Р Will— XXI
И| См. глм> V.
216 Дни Ki/шис силы Террора
вызванного казнью короля перераспределения сил и Конвенте в пользу
монтаньяров и мятежного движения 10 марта, имевшего целью вы-
нудить Собрание к ужесточению мер. Схожая ситуация обнаруживv--н.
и в сентябре 1793 г. когда Конвент 5-го числа поставил Террор «в ш
рядок дня«, а 17-го принял декрет о подозрительных: Вандея тогда еще
казалась неуязвимой Лион продолжал сопротивление, 27 августа жители
Ту хона сдачи город англичанам, а поражение при Дюнкерке открыло север-
ную границу5, государства для иностранного вторжения. Эти драматические
г <-ытня сопровождались очередной перегруппировкой парламентских сил
в результате изгнания жирондистов 2 нюня 1793 г. и нового выступления
секций 4-5 сентября.
Таким образом, средн непосредственных причин нарастания Перр s
в 1793 г мы видим неблагоприятную военную и политическую обстановку,
давление на Конвент парижских революционеров и резкое изменение бадан
са парламентских сил в пользу наиболее радикальных течении и фракции.
Совершенно иной была ситуация в 1794 г., когда закон от 22 прериаля
вызвал новую радикализацию Террора. Соотношение сил внутри Конвент.!
к концу марта, с устранением дантонистов и эбертистов. вновь прсп.т.г*
изменения Однако на этом сходство заканчивается. Никакое воэдейстш:
извне больше не играло определяющей роли: казнь эбертистов. hji р
тнв, вызвала спад секционного движения. С друтой стороны, поло ж» ч и
на фронтах кардинально изменилось: в октябре 1793 г. был отвоеван Ли»
в декабре — Тулон, вандейские армии потерпели сокрушительнее п .
жеяие Весна 1794 г стала временем побед и на внешнем фронте в v г
французы вошли в Каталонию, в нюне Журдан выбил австрийцев и < Б'
гни Следовательно, оба прежних объяснения Террора — потребно
обществе иного спасения и давлением «низов» — нс могут быть при;
всерьез к том\ моменту, когда он стал делом самого государства О>.
следует, что дчя терророа 1793 и 1794 гт. различие заключаемся нг
темснвностм. а в содержании. I 1о прежде чем исследовать феномен 17 -
вернемся к предыдущему году, точнее, к восстанию 10 августа 17,JJ
с которого все и начались.
Анархия и разгул насилия
*Не? такой долгий войны, которая бы в демократичней 7(
Не не пре*'звлила бы большой опасности для свободы», —
Гокпнлъ. Дгйстн»ггелг>но, затянувшиеся военные действии «нешб*
дут к расц н,н’иии» в таких странах полномочий гражданской в vic
практически час-товлмют сосредотачивать в ее руках управление
людьми и всеми С|>едствамм* Французская революция <;?.•
S*’ A d< (.W U ск’июсг*** <•« Ameriqur Р 613
Лнортия а разгул насилия 217
исключением из этого правила. Войны Х\ И в. способствовали усилению
королевской власти и се отождествлению с государством Год 1792 привел
к утверждению идеи народного суверенитета, но ни государство, ни власть
имущие выгоды от этого не получили. Напротив, поражение до(юго стоило
королю, жирондистам и Законодательному собранию, которых всех сразу
заподозрили в сговоре с генералами. Как уже было сказано, любая военная
ситуация вызывает ослабление законности ради общественного спасения.
Неудачные войны, вроде той, что была развязана в 1792 г., дополняют по-
добное ослабление законности постепенной утратой ъепггимностм. причем
не только монархией, но и национальным представительством, вступившим
с мая месяца в состояние медленной агонии. Сложилась беспрецедентная
ситуация. Учредительное собрание часто становилось объектом нападок
и разоблачений, однако оспаривалось лишь влияние отдельных люден,
но не Собрания в целом. Так. самые радикальные критики непременно
отделяли «мятежное» меньшинство от благонамеренного - большинства
представителей, которому предлагали взяться за ум. Тем самым чегиым
ность законодательного органа подтверждалась даже при осуждении его
политики.
В 1792 г. весь депутатский корпус оказался дискредитирован. Утрата
доверия бросила тень и на жирондистов, занимавших тогда левый фчанг
в Законодательном собрании. Некоторое время им удавалось сохранять
свои позиции при помощи ожесточенной кампании против тайного «ан
стрийского комитета» в стенах Тюильри, а впоследствии — благодаря
действиям самого Людовика XVI. отправившего в отставку нч министров
(12 июня) и мэра Парижа (6 мюля). Но как только Верны« и Бриссо
24—25 июля выступили с обвинениями против сторонников отрешения
короля от власти на жирондистов также пала тень подозрения. Никогда
до того времени еще не было более грубых выпадов против представителей
и представительного органа, чем те, что стали множиться тогда с удиви
тельной быстротой и достигли апогея 8 августа, когда Собрание отклонило
решение о привлечении к суду Лафайета36* По окончании мседания
в адрес умеренных депутатов посыпались оскорбления и уз лы Т Таким
образом, если война и способствовала повышению значим! к ти суверенлте
та. то представительный орган перестал быть его источником. О «
своего рода ставкой в борьбе за власть, развернувик я между Собранием,
якобинцами, секциями, а затем и появившейся 10 августа пов< . анчсской
Коммуной, суверенитет приобрел тенденцию к раздроблению. * 28
Moiuirur. Г. XIII Р. 227. 241—24 J
28 нкиш 1792 г. Лафайет покинул армию. чтобы ьгроты и ' lajHim длбы предостеречь
.моден, отпеггтвенных м восстание 20 нюни иг .илЫгейших пиоыгок пост ательетва на корим».
См. их рассказы MunHeur 1 Kill. Р 369-376
215 Jeu лицеи силы Террора
Восстание 10 августа 17^2 г оказалось ключевым событием С тсч^-
л, *>«! интересу жцем нас проблемы ппреде лякнцес значение имеет отнюдь
иг ггг ктнк(<п<ый рг м ’ат. т е. nepev-.д от монархии к республике I лм.
гк- <г> гмеиа помегичсаюпэ ,'<чца не объясняет разгула насилия в 1793 с
Д»» . .г у м....,.ts ф п;..н«. ниедшнй переворот, действительно. стал эпохаль-
Мц МЫЛ вплоть ДО варсимсхого кризиса никто всерьез не предполагал,
что ♦.••» -'Ikk.iu 1'клсть мн.*ет быть упразднена уже в ближайшее время
Ол^ко |узльн .•..чдение республики датируется отнюдь не 10 август-
Французская революция с самого начала имела республиканский
Провозглашение ивового равенства, общественной природы суверенно
'' *аМИМЖ iMfcpBBro правите листва н ограничение королевских о..--
чнй. инласденныл отныне лишь ДО уровня вспомогательных функций, ул
с t/W г. обоммилм становление республиканского строя, хотя и н
минного до имени В 1792 г. произошла лишь смена фирм нспилнит>-ч <
власти, революция вкугпри республики.
Гхдаио балсе важным следствием данного события стало ни:-,
веркеше вместе с троном и принятой в сентябре 1791 г Коне г'
Именно «тот с большим трудом создававшийся начиная с 1789 г г
мяррыок и опрокинули вместо с монархией участники восстания К
густа Еще хуже то, что они разрушали само понятие законности
была отброшена не только Конституция, но принцип любой К.",
ции ikkm'Uw, как бывшей, так и будущей, состоящий в том. чо
Вбмгтомм и не «южет быть изменен, фоые как посредством зак» .
«.г.—ни 1'1 августа установили господство сиды вместо права, д.
меньшинства вместо власти большинства. Насильственно ниспров.
К^мсппуцию — означало обесценить всякую законность к в бу iy
npt<>MMi в качестве основополагающего принципа то. что воля нар л
смрее. те*, кто считал, что говорит от его имени. — выше ль/
го*4<а н обямтельепм Те. кто ниспровергает сегодня, завтра *
илсврмвергнутм в с.хпветгткни с той же логикой, ибо всякое v ’
имст .<иь временный мрактер и в любой момент может быть и •
н нс путем законной процедуры, но силой, опирающейся на я.-
ММ0>. После 10 августа Конституция в закон стали всего лишь
щ магм т.
Угшчтижеж всех правовых норм неизбежно должно бы \
wwo rpanwcuHt последствия во многим сферах обшествень -й
•ММНИ1ЯС ДППГЛЪНОСТИ ЗДКОНОДЙТе хьнин власти Коксткп’цнонный
вмемшем место с ссмтябрА !792 по август 1793 гт. <тп р« »чк<< i
8 АМ.М1>МГ?. 1 сше* П^А0(ТГ|КЖГ»«и ШОАММЖ«0 КоМЛО}** ° г
tfA ним гуым 9 МГПТД КОГЯн МОГГЖНМКм л ’
; r^prrwt (А го Q' > wsrzumn I MAU Р О -olo I Дс KflMCmryuii' (шц
уТ'рвкдеча с ыхмМ} -»'. Хг»,г । мм Ко»еги1\м1 21 семтвбрг» 1792 г
Анархия и рам ул насилия
219
е действие новой Конституции «до заключения мира» стимулировали не-
контролируемое и ничем не ограниченное законотворчество. Указы и поста-
новления обосновывались отнюдь не их соответствием ранее установленным
принципам, но легитимностью власти, принимавшей эти декреты. Тот, кто
имел или захватил в борьбе частичку верховных полномочий, тотчас на-
чинал издавать собственные «законодательные* акты. Законотворчеством
занимались Конвент и его представители в миссиях. Коммуна и комиссары,
посылаемые ею в провинции, многом меченные комитеты, появившиеся прак-
тически повсюду после августовского политического переворота 1792 г. Это
была неконтролируемая активность, которую и невозможно было контро-
лировать: отсутствие Конституции почти неизбежно провоцировало рост
чне\а отдельных правовых актов, которые, в отсутствие общих правя.л.
были направлены на решение множества частных вопросов, возникавших
в огромных количествах каждый новый день. Ниспровержение воэведен-
ной в 1789 г. структуры открывало, в буквальном смысле этого слова,
эпоху политики по обстоятельствам. Начиная с осени 1792 г декреты,
постановления и циркуляры множились с удивительной быстротой, но при
этом отнюдь не заполняли юридического вакуума. создана го восстанием
10 августа.
Это полное обесценивание законности проявилось даже ею внешней
форме политических баталий. С 1789 г. борьба между Революцией и контр-
революцией часто принимай характер войны, в коей сходились друг против
друта скорее враги, чем оппоненты. — войны настолько беспощадной. что
применение в ней средств, находившихся вне правовой сферы. счнт1ло<&
полностью оправданным. Подобная логика нс распространялась, однако,
на конфликты между самими революционными фракциями Врскм от вре
цени эта грань все же преступалась, как. например, 27 января 171И г.
когда был разграблен особняк Клермон•Тэннера Ни тш'аш mu/unj.i
революционеры не подвергались насилию. Они использовал» еги по от. -
шению к реальным или мнимым противникам Революции, н* не по июля
себе применять его в своем кругу, ('.редпочктая арбитражные ' ;.юц*.:уры.
предотвращавшие насилие
Все перевернулось в августе 1792 г В действительности. днако.
изменения можно было заметить н мдолп: до этой даты, когда - лы
поражения на фронтах к концу апреля вызвали конституционный кризис,
нашедший логическое завершение 10 августа Так жкро*<листы Брксс
и Инар встали на путь, с которого не было возврата Ю июля 1792 г. • клу-
Нагимкн котомкам nuuiefrauKb елгдгимм деттэгы Кямттштм
(и*. Танк Н Lri Online, dr I* Fraixe racrttmportme. T 1 P. *05 4<J7). ибъаемвлмо
МФ ЦрМН«лмжнмстьк> л ко«тррееол«К|мм Эго мхмлг есэЬсы. опра&лыьдАшея пути
ненис яепрам-ш! средств. Одийко ^тмэоспмкнмс Мнраоо в Л^гга. Емрмш в Робестсрв
не Эмам вторжения маскмы См твкж* ммечаима ЛЧорелв /амгс» J. Ншыгг «огшЬнс
de U Rfvo^uiu^i hancaix Т \ I. Р. 466-46?
Ма
220
Дзджушиг ruiN Терроре
бе Reunion они обрушились на Робеспьера и объявим! о своем намерении
предать его Верховною суду40* Речь» несомненно, шла об устрангнн-
конкурент! правовым путем вместе с тем, правило решения конф\нкт-4
путем пометимте к ого арбитража оказалось здесь частично нарушенным
Ниспровергнув «чконмостъ. восстание 10 августа снесло и преграды, пре
гггтс^^вапшме утоленюо личном мести и скрытой ненависти. 15 августу
после обнаружения в Тюильри документа о связях Барнава и А\ексан
дра Ламгта с теми министрами. отставки которых жирондисты добились
в марте 1792 г., оба прежних члена Учредительного собрания, коих Брис-
со критиковал еще с 1790 г., были привлечены к суду4П. 2 сентября
с началом убийств в тюрьмах, наступила очередь Робеспьера потребовать
> Коммуны ареста Бриссо -Акт холодной н расчетливом жестокости
неизбежно завершился бы смертью \идера жирондистов, если бы на таны
вмешз-глъсттю Дантона
И вторжение насилия в отношения между самими революционер / .
н попытки вместо изобличения и оттеснения конкурентов устранять их
физическим путем объясняются в равной мере той новой ситуацией
была создана событиями 10 августа.
Отныне ни одна процедура не регламентировала присвоение вл
о чем свидетельствовали многочисленные нарушения в ходе сентябрьских
выборов Полномочия теперь не были четко «локализованы», они при-
лежали тому Н.ХИ тем. кто смог представить себя носителем револнши
легитимности После отмены монархической формы правления отк. \ а
достхп не просто к отдельным государственным функциям, но ко всей с.
х.?пе бивстц. Непреодолимое искушение! До тех пор, пока король зани . \
вершину институциональной пирамиды, обладание властью не могло r'h,
быть полным. Центром структуры оставалась в некотором смысле
тральная н недостижимая по определению сила, сдерживавшая чре <.
честолюбие и смягчавшая непримиримость конфликтов. Вот почему
жденный республиканец Синес благосклонно относился к монархии .*
абсолютно прав Сохранение наследственной монархии, действии
ограничивало пространство, открытое д.ля борьбы амбиций, но гл<
ограждал/, от притязаний одну из важнейших ветвей власти — исполни
йух». — располагавшую военной силой и значительными матери и
ресурсами4,). После 10 августа крушение законности наряду с поя
без: раничного простора лля корыстных притязаний открыло п\ть к i
ненню насилия, fкаждая группировка теперь получала шанс сорва г
См.; М. CEuvm. Т VIII Р 423-424
Момеш.ТХШ. P.43L
С Р 19*1 2 vd. Т I. Р 350-352
4^См гшеъма Сммее* ж Ломму Пекку 6 и 16 июля 1791 г.: Momteur Т IX Р •*’
137-139
Ляаршя v раму л насиш*
221
но победитель отнюдь не маг быть уверен в там, что закон обеспечит ему
гарантию нспрнкосновенжхтн В результате, не имея во •можжхтн придать
своему лидерству не«хпоримый официальный статус, претенденты на иметь
вынуждены были уничтожать конкурентов
Надо признать, что жирондисты несут полную ответственность к за те
события, которые завершились нх падением 44> Именно Бюзо предложил
16 декабря 1792 г. изгнать герцога Орлеанского из Конвента; именно Жи-
ронда добилась 13 апреля 1793 г. предания Марата суду Революционного
трибунала, нанеся тем самым непоправимый удар легитимности всеобщих
выборов (хотя та и так была уже поставлена под сомнение нарушениями
на выборах в сентябре 1792 г.). Период, последовавший за 10 август*,
стал временем появления в политических дебатах агрессивных, угрожаю-
щих смертью речей. 2 июня 1793 г. бывший мясник Лежандр крикнул
Ланжюине: «Спускайся, или я прикончу тебя!». Оставшись на трибуне, тот
парировал: «Сначала декретируй, что я бык, а уж тогда забей» 4’\ Такой
обмен репликами — не менее важный симптом трансформации средств
политического конфликта. Учредительное собрание знало многочисленные
бурные заседания, однако ни один из его членов не воспринимал своего
оппонента как отправляемый на убой скот.
Чистка Конвента в результате антипарламентского государстве иного
переворота 31 мая — 2 нюня 1793 г. усугубила последствия 10 августа,
дополнив разрушение законности тем. что представительный орган пере
стал быть средоточием легитимности. 10 августа убило законность. 2 июня
привело к перемещению легитимности. С созданием Коммуны в 1792 г ,
орган парижского самоуправления, несомненно, оспаривал правомочность
Конвента. После же восстания 2 июня 1793 г. и голосования об аресте
32 депутатов и 2 министров, Конвент фактически оказался заложником
той части депутатов, что поддержала государственный перевозки; и ре
волюциоиных активистов столицы, желавших получить вознаграждение
за физическое осуществление данной операции 46j Конвент, которому те
перь угрожали новые и новые сокращения его состава, стал >ишь одной
из многих властей. Впрочем, выжить он смог благодаря усилиям самого
Робеспьера. Согласившись с тем. что число репрессированных депутатов
с июня по октябрь удвоилось, он все же сохранил жизни еще 73 пред-
ставителям. которые открыто протестовали против 2 поня* 47). Заменив
См. размышления Э Берка на сен счет в его прсджлоямм к аш шмекому кииишо
•Обращения Жака Пьера Брнело к сьонм нэёнрагелям» (ман 1793 г), опулчюиммиииго
В январе 1794 г.: Burkt Е Writings and Speech*. 9 vol Oxford. 1981 T.VIIl P 500-521
Mkhclcl J. Hiitotre de la Resolution (тапфше. T IL P. 385—386.
событиях 31 мая — 2 нюим 1793 г см . Skvin М The Making о/ an Inaurrexlion
Parisian Section» and the Gironde. Cambridge; L.. 1986
47J 2 июня 32 депутата были арест»вдпы 8 июля Сен-Жюст потребым.^ предания суд/
Раволюционног о тр иду на. и лишь 14 человек и ычаращенкя дспутапэнах оолномочмм octa.w
222
Движущие силы Террора
угрожавший им обвинительный декрет простым постановлением об арест*5
он спас Конвент, нем и подчинил его себе
С того момента, хак 2 июня 1793 г. открыло новую, еще боле<
кровавую фазу истории Террора. Революция отказалась от всяких рам )
законности. В результате власть лишилась каких бы то ни было ограни
чений. но ми один из институтов нс обладал ею в полной мере, поскольку
за разрушением законности последовало раздробление легитимности II
следствия этого оказались особенно серьезны, потому что в то же самое
время значительно выросло число в\астных структур. Их неуклонное уве-
личение сопровождалось расширением сферы действия государственных
органов и нарушением вертикальных связей между периферией и центром
2 нюня 1793 г., следовательно, знаменовало собой начало «анархически
Террора»
Централизация травления. достигнутая путем Террора к начал >
1794 г.. отнюдь не являлась результатом целенаправленных мер. Будущий
механизм поддержания революционного порядка II года стал складывать/
с весны 1793 г. но скорее как результат обстоятельств, нежели воплощен'.ч-
дсмгосрочных проектов законодателей Вместе с тем, создание Революци-
онного трибунала (9 марта), Комитета общественного спасения (6 ai.pt-
ля), комитетов бдительности, уполномоченных наблюдать за иностранцами
и подозрительными (2! апреля) и отправка в департаменты представите- v
в миссиях (9 марта) имели долгосрочные и непредвиденные последе-» ।
Первым из них стало складывание политического и административно! < .
парата, существовавшего параллельно выборным органам, унаследованш ч
от предии*ствующего периода. Историки полагают, что создание этого : (
раллельного государства позволило монтаньярам осуществлять более но
кий контроль над страной, где власть на местах начиная с 1790 —17GI
нередко принадлежала весьма умеренным нотаблям. В результате, ни
ние новых структур способствовало распространению на провинцию
власти, которой радикалы обладали в Париже. Появление многомис \
комитетов в сочетании с чистками, проводимыми по инициативе
вителей в миссиях, действительно, способствовало формированию :
более демократического по происхождению и мировоззрению ног
руководителей не имевшего ранее сколько-нибудь значительной
на выборах Впрочем, отправив в миссии большинство монтаньяр ч
иым (Muaiieur Т Х\ II Р. 146 — 158) 28 июля Конвею объявил виг закон.» i
и писг<*>ювнА гцжплечь л суду еще 9 депутатов (Ibid. Р. 268). 3 октября Ам^. ни* .
лоиаяиг 4] депутат^ по подозрении] в мговоре П(Ю1кв Республики и 21 других •»'
в иаыене родине (Ibid i XK'III Р. 60) Рост агрессивности налицо 32 н.ннанш !
14 — 8 НН1АЛ. 25 — 28 июля, 115 — 3 октября. Высшгтельстш» Робеспьера лозпим:
эту цифру до 62
Bnulohiau М La Rcpubhque jacoljfcie 10 асин 1792 — 9 thennidor an I)
Анархия и рллги i насилия лэ
ронлнсты сами посодействовали этому противоречившему их интересам
обновлению. Удалив из Конвента часть соперников, пни надеялись иа уси-
ление своего парламентского влияния. Однако, если для Жиронды эти
шаги обернулись потерей сторонников на местах, то и парламентская Горл
в сложившейся ситуации нс о6(*еда дополнительной поддержки в стране
Самым очевидным результатом подобного умножения органон власти, ком
петенция которых мепрерывнн расширялась и о сфере |>спрессмп. и >< < «ртр»
контроля над экономикой, стала развернувшаяся на всех уровнях жестокая
борьба за приобретение, удержание, защиту и укрепле»п«е полиций в этих
органах.
Тот надзор, который в принципе осуществляли представители в мисси-
ях, отнюдь не спасал ситуацию4"1 Действительно, депутуты, направленные
в провинции, не могли восприниматься в качестве комиссаров. действу ющнч
на основании предоставленных нм Конвентом полномочий. Они сами бы ш
Конвентом, непосредственно в их лице посещавшим департаменты. Нале
ленные, следовательно, неограниченной властью. принадлежавшей .гн- к»,
Конвенту, освобожденные от обязанности отчитываться о принимаемых
мерах, они обладали практически полной свободой действий, ии ильзус-
мой каждым из них в соответствии со своим характером убеждениями
и интересами. Окружавшие их многочисленные агенты с более или мгнге
значительными должностными функциями еще больше у угуолнлн не-
разбериху, порожденную беспорядочным увеличением адмнннстрагинн»
политических звеньев. Теоретически всесильные представители в \...
являлись на практике в такой же степени заложниками. как и пн по-
дами тех, за кем они должны были наблюдать и кем признаны ыли
руководить. Часто будучи слабо информированы о соси-ши»- деч м м«
стах, являясь для существовавших там кланов объекнм длин инн. ич ih
и манипуляции, они нередко принимали одну из г торон в тг.х де-рач
и конфликтах, которые имели весьма отдаленную связь с (-св<| чюцнчннымц
целями. Подчиненность региональных властей представите‘>»ч в миссиях
оставалась скорее, теорией, чем практикой, до такой . о ih u . -и.. рахти
чески администрации департаментов обладали порою полной нгммт-имп-
стью.
Автономизация полвтико-адмпнмсгратмт|о1>> ч»парата был» обусло-
влена не только появлением многочнел»’нных и p i ’(ii » мн • кмилгегт
н слабой осведомленностью эмиссаров цгш[шлыюн мл.> гн н . клм ных
событиях. Она равным образом была снизана нет» м. по анархия, царив-
шая даже на самой вершине государства, давала щ^лставитсАнм н миссиях
НОЗ.МОЖН(КТЪ проводить собственную политику в июТВСТСТШШ си воимн
субъективными пристрастиям. Революционные комитеты, ю.-одпыс обще-
Н Lri ReprrarnUuilB du j»cu| le en лимит i U jtubce rr*< Im.опгмцт Jan»
lei cicpmlemenlt tn Глп II P . 1889-1890 5 vol
224
Деи Yj/qjt/e силы Террора
стад. комиссары и выборные должностные лица в провинции находи м«ь
к постоянном соперничестве, пытаясь расширить имевшиеся у них участ-
ки власти Париж и Конвент перестали быть центром правите \ьствсньы\
нниумапш. Коммуна, якобинцы и отдельные министерства (прежде вест
военное) оформились в независимые фьефы, успешно оспаривавшие пел-
номочня Конвента. Одним словом, анархия царила у основания пирамиды
только потому, что царила и на самой ее вершине
♦ Все хотят управлять, но никто не хочет быть гражданином». Эти
слова Сен-Жюста очень точно описывают сложившуюся к концу 1793 г
ситуацию, которая характеризовалась усилением интенсивности полити-
ческих схваток за власть, провоцируемых в свою очередь ростом чт ла
государственных функционеров. а следовательно, и расширением реальных
возможностей преследовать личные цели в условиях распада государствен-
ной власти и мощного спада революционного движения51 \ Пассивность
мас< — одна из характерных черт эпохи. «Революция утомляет: она слиш-
ком затянулась , — говорит Анатоль Франс устами своего персона*.:
в р>манс Боги жаждут» И если в 1793 г. новое поколение захвати-
ло командные должности, то это свидетельствует отнюдь не о расширении
сферы гражданской активности, как утверждали сторонники Террора, а. на-
против. о ее сужении. Профессионализация и бюрократизация Революции
шли обратно пропорционально народной мобилизации,
<• Достаточно было немного образования и некотором видимости
жданского сознания, чтобы приобрести частицу власти. Домен государства
раздробился, таким образом, на множество частных владений. В лоне пну
Ллрства стад формироваться бюрократический менталитет. Обладание пг
чгтью. гербовыми бланками и получение официальных изданий придана
общественным служащим ореол превосходства и ощущение вседозволен
некто. Они использовали свое положение и злоупотребляли им. приним.-
решения, оставляя документы, выдавая различные справки, визирована?
когорыл уподобляло их подпись награде, а отказ ее поставить
казанию <...> Каста выскочек, часто путавшая собственные- ишп|
с революционными убеждениями, распоряжалась страной»5^. В це?см.
в масштаба* страны, несколько сот тысяч человек вели межд\ сиг',
на ограниченном п,м- транстве конкурентную борьбу, сопровождавши'
Исч*мм«4ъе«ш<> в- акиго легалымио соподчинения спьсобствова-ч» формирование
Алмейд’’нм I 1 митингчим реальность 1793 г. опредгля.\асс) сопериннсспюм ЭТИХ » \<1
структур м а&чинмис частицей власти
демдаы СммЖвт от 10 «жтября 1793 г (Moniteur Т. XV1H Р W6
»• 26 1794 г. (Ibid. Т XIX Р 565 ’569), беа прикрас им^брАжакирН'
пролежали «пего
4 Lt. «4 ми! {19121. Р.. 19в9 Р.67.
Bauloircu М L. Republique рсо)4М... Р 218-219
.Анархия и роэ/ул насилия
125
усилением показательных репрессий против * подоприте \ьных< .< богачей
и других «фанатиков»
Свободная конкуренция в сфере властных структур дополнялась и еще
одним аспектом. В 1793 г Революция не поставила себе никакой определен-
ной цели: опрокинув Констмгуцию 1791 г., она отложила «до заключения
мира» ту. что была принята Конвентом в июне 1793 г. Революция, если так
можно сказать, теперь совершалась ради себя самой. Эта беспрецедентная
ситуация должна была иметь драматические последствия. Действительно,
если захват и применение власти не подчинялись более строгим правилам,
то и власть в то же время была лишена каких-либо гарантии устойчи-
вости. Действующие лица политических баталий боролись друг с другом
за приобретение абсолютной, но эфемерной власти. Юридическое основ,,
ине режима зависело от способности существующего руководства навя зать
свою собственную интерпретацию смысла революционных событии, как
единственна верную и легитимную. Это была, и мы в этом убедимся,
не слишком надежная правовая основа, ибо она была открыта для пося-
гательств со стороны тех, кто претендовал на более истинное и более
«законное» истолкование Революции. Отныне, чтобы обойти других, ка-
ждый владелец должностной концессии, как и каждый из его соперников,
должен был непременно занимать самую радикальную позиции» они бы-
ли вынуждены бесконечно доказывать своими речами \ибо дейс’пнями,
что являются более революционными, чем самые революционные из их
оппонентов. Демагогия стала общим правилом. Адриан Лезэ-Марис зиа
великолепно описал эту динамику, проявлявшуюся в основном через отно-
шение к вымышленным врагам Революции
Популярность есть самое сильное оружие народных партии, а пре-
следование оппонентов — лучшее средство достичь этой популярна ти
Они. следовательно, сражаются за нее. и такое соперничество делам
войну против врагов Революции все более напряженной. Чтобы сделать
себя почитаемым более своего конкурента. каждый желает <цм«нюГпм
его в жестокости по отношению к врагам Революции в тгм •. лмым его
победить, сняв с себя одновременно подоз)жния в поем «-ичн пи- км
в чем могут обвинить другие конкуренты. пытающиеся пр налить еще
большую взыскательностьs5).
Эти слова кратко резюмируют всю истории : “рнодл начанше <
2 июня 1793 г. Агитация Жака Ру и «бешеных» за принятие максим ма
и введение жестких мер против «спекулянтов». открытие соперничество
у») » •
сна оощая цифра иг отражает дс нспм< гель иск ти на у|юьне Д'^ртамгнта «»н ксымуны
где непосредственно и протекала политическая жилнь. п лучшем случае мы можем говорил»
лишь о нескольких гысячах, сотнях или даже десятках чслоеы-ь. дгнс гпъющнж на ограни тиним
i ЦС1И- революционного театра в 1793- 179-1 гг
Ш Lcsay-Murncsia A De» cause» de la Rrvuluciun el de и» resultaU. P.r 1797. P. 22
226
силы Террора
между IV Леклерком и Эбером за право считаться наследниками Марат л
убитого 13 июля, распад вг-х сдерживающих механизмов вмггрн сам
Кошинта где Бнй -Вл|^нн. заимствовав лозунги Жака Ру, однпвремгн
но выступил за его изгнание из рядов якобинцев; изво|Ютдивая политик,!
Робеспьера, с одной стороны, защищавшего Конвент от новых чист»
с другой — предоставившего свободу действий экстремистам из К'.убл
корлельсров (• ^бертистэм*)... Восстание 4 — 5 сентября 1793 г., поднят*
на с«й раз исполнителями пк\дарственного переворота 2 июня против сто
вдохновителей. это — н личное поражение Робеспьера, в тот момент являв-
шегогя пи дседлтолем Конвента, и новая капитуляция Конвента в углом,
уже однажды обескровленного. Полностью парализованный депутатский
корте вынужден был поставить Ъррор *в порядок дня», принять эа
кон о максимуме, декретировать необходимость тюремного заключения для
«подозрительных* и учредить «революционную армию», благодаря коте,
рой х'ц’рти. и «ая Коммуна постепенно стала государством в государстве
Нс учитывая этой динамики, невозможно понять начавшуюся с сентября-
октября 1793 г вакханалию разоблачений, арестов и казней. Разгул Террора
объясняется. прежде всего, упадком государственной власти. Драматиче-
ская ситуация, сложившаяся к лету, несомненно, ускорила весь проц*
Одн«ко уже 9 октября капитулировал Лион. 16-го — Бордо, в тот же лен
Журдан одержал победу при Ватгииьи, 17-го вандейцы потерпели с-жр\
шитг \hnue поражение при Шоле, после которого им уже не суждено бьг
оправиться Осень принесла с собой улучшение внутреннего и внешне:
помы»чшк Республики, но одновременно и волну насилия.
Сами по себе обстоятельства и революционная идеология не объж : >
крайних проявлений жестокости осенью—зимой 1793 г., основная причин
здесь — борьба за власть. Эти конфликты касались проблем ahceyj
(разные трактовки понятий «правосудие», «гуманность», «милосердие
символики (споры о дехристнанизации и прямой демократии) и полип. •
(контроль за экономикой, война, преследования «подозрительных••) Я1, (
тнегы со ьонм экстремизмом логически оказывались на самых крпйн-
позициях во всех этих сферах. Они двигались во главе «револн>ци
колонны' з их соперники вынуждены были идти следом и cot тя
ними ь ;^дм^лизме. пытаясь перехватить инициативу. Требуя смг.
казни для нее Очлынего числа мнимых врагов Революции, эбертигть
вывали соос право на власть Комитет общественного спасения и К i io ।
подражали >. ( кмеру Чтобы избегнуть фатального в тон ситуации о< i
ним н ми1 кисти или «снисходительности». Комитету приходилось } • г
отдавай под гуд Революционного трибунала тех, на кого ему ук.»
Oaioiko Нельзя было ограничиться принесением в жертву только п х
О ргводтидмниой • R Ln AnnrcsrevululiunriaJrrs. Histrumrnf J
Avi.J 1741 - ап II. P . 1961-1961 2 vol.
Анархия и ра мул насилия 22 /
требовали конкуренты «слева»: Комитет и сам должен пыл принимать со-
ответствующие постановления, добиваясь популярности Это были для нет
средством занять ведущее положение и оправдать свое сущггпювлние чи-
слом наказанных врагов. Подобное соревнование в жестокости имс so пе *ью
исключительно удержание власти и устранение конкурента; его правилом
стал отказ от любых ограничений, а за все расплачивались своими голо-
вами побежденные: генералы. королева, жирондисты, « подозрительные»,
лионцы и вандейцы. Eke они оказались жертвами борьбы и kohtj <’\ь над
распадающимся государством, заложниками чужой игры.
♦ # *
Значение нараставшего распада легитимности между 1792 и 179^ гт
невозможно переоценить. Смысл ее принципов (наследственность или
выборность, монархия или демократия) состоит в обеспечении права по-
велевать и обязанности повиноваться. То и другое зачастую является
непрочным и, с точки зрения здравого смысла, довольно сомнительным,
однако сохранение того и другого зависит не от официально выражен-
ного согласия народа, от той внешней формы, в которую облечено \кс-е
согласие и которая обеспечивает долговечность вещам, ставшим привыч-
ными и почти естественными. Время укрепляет легитимность: почтение,
которое та вызывает, «есть не столько убеждение, сколько привычка,
унаследованная от предков пассивность, своего рода смирение перед ли-
цом неизбежности»57^. Следовательно, попытка изменить существующий
принцип легитимности несет в себе риск и походит на безрассудство
Так, Руссо замечает по поводу проектов реформ, предложенных аббатом
Сен-Пьером: нельзя не признать, «сколь страшен в большом государстве
момент анархии и кризиса, неизбежно предшестнующни м|юрмлсиию но-
вого порядка. <...> Пусть представят себе опасность единонрг.мгч.и s )
возбуждения несметных масс, составляющих Францу ' кую мошц хиь»’ Кт
сможет помешать потрясениям или предвидеть их возможные г < тлстннк ‘
Даже если преимущества иного устройства бесспорны, какой обладай । ций
здравым рассудком человек посмеет упразднить старые тралпиии. измениib
прежние максимы и придать государству с]юрму отличную от тон. н<» по-
следовательно создавалась историей на ирошжении трич* ,гц<г । ш-к< < '
Действигельно. всякая новорожденная легитимность имеет хрупкие эдор<>
вье. Ее происхождение слишком очевидно, ее механизмы • лишком Пинятмы
для того, чтобы не стать легкой мишенью для критики н н< ражс1нн* 1аь« • -
во здание, выстроенное Учредите льпы.м собранием Его крушение нощнгкк
утнержденням Гэна, было вызнано отнюдь не невеж»•.твеннпгтью архитек
торов, а тем, что члены Учредительного собрания не захотели или смогли
57) Аггего С. Pouvoir Lrt grinr» invisible! tie la cile P.. W86. P 41
Rouleau I -J. JugemeiHs sur h polysyniMhe // CEuvrea c<un(>lclei I III P 637 6)8
Дячжуцхие CM-itx Терроре
поддержать его на первых лорах, в том числе путем применения силы пре -
тив тех. кто на него покушался. *Предлегитимный« режим, установленный
в 1789 г., просуществовал слишком недолго, чтобы достичь зрелости. Эта
неудача не могла не вызвать самых ужасных последствий, ибо подчине-
ние существующему порядку, сколь бы мало тот не отвечал требованиям
разума, составляет главное условие всякой свободы и безопасности. Кру
шемие легитимности влечет за собой нестабильность, насилие и жестокость
По справедливому замечанию Ферреро, оно приводит к установлению
«власти страха- — единственного суверена в обществе, где нет больше
ми правил, ни признаваемых властей. Депутаты национального Конвента
как писал он. «были ослегъчены ужасом и повсюду искали врагов, в Евро-
пе. Франции, в самом Конвенте, внутри правительства и партий. Страх
толкал индивидов и целые социальные группы к актам насилия, а насилие
увеличивало страх, мало-помалу ожесточавший умы» Если же к этому
добавить открытое соперничество за обладание вакантной властью, правда,
лишенной защиты со стороны закона, то мы получим достаточно точную
картину беспрецедентной ситуации 1793 г.
То. что происходило в Конвенте и Париже, повторялось повею,ю
где только имелась возможность урвать хотя бы малую толику влас ги
Причина тому вполне очевидна: когда уничтожен закон, никто не уверен
в собственной безопасности, а потому лишь обладание властью, сколь бы
малли та ни была, обеспечивает минимальную защиту, или, как скача \
Баррас, нужно рубить головы, чтобы самому не оказаться на гильотине.
«Адские колонны»
Долгое время стыдливо или пренебрежительно не замечавшаяся реею,
бликанской историографией вандейская трагедия стала с тех пор объектом
многочисленных научных трудов, но все же и сегодня продолжает оста-
ваться предметом острых разногласий. Пекле дине касаются всех аспект :
явления нггиков восстания, вандейской исключительности, контрреволн>
цмонной природы мятежа, реальности истреблений и числа жертв... Эи
проблемы не нашли своего полного разрешения ни в бесспорно разг
вающихся исследованиях, ни. как нетрудно догадаться, в периоднч
вспыхивающих спорах между потомками двух народов — католич^
и республиканского, которые «сила обстоятельств свела в Вандее лип '
к лицу»Остается, однако, и другой, быть может, наименее ясн
вопрос — об ответственности за произошедшее. Действительно, да
не просто дать оценку политике Конвента и мерам, принимавшимся п(
ставитсчями в миссиях, военными и местной администрацией. По ш м
Ftnrrc С. Op ct Р 99
еЛ) F // CXcUuutuac critique de U Revoluiwc P. 195.
*Лдские кол о к нм *
229
заплаченной человеческими жизнями, по характеру совершенных преступ-
лений и по сложному' переплетению намерений действующих лиц Вандея
занимает особое место в широком спектре насилия эпохи Террора Вместе
с тем. она дает наилучший материал для понимания того, как возникали
и сталкивались различные требования и решения, каким образом притязания
на власть и приступы страха вели к катастрофе.
— Вплоть до решающих поражений при Люсоне (14 августа 1793 г ) и,
особенно, при Шоле (17 октября) Вандея казалась неу* *вимой Конвент
одобрил использование крайних средств и 1 августа, по предложении
Барера, принял декрет, предписывавший опустошение области. Этот приказ
был повторен 1 октября 1793 г.
Декрет Конвента от 1 августа 1793 г. полностью укладывался в ло-
гику военного времени. Речь шла о насильственной эвакуации насечеиия
(статья 8) и опустошении мятежного департамента (статья 6-7). чтобы
полностью изолировать восставших, которых предполагалось лишить вся
кой возможности найти себе еду и кров, а затем истребить. Призывая
к этим «суровым мерам», Барер не побоялся сослаться в к icctbc преце-
дента на опустошение Пфальца армиями Людовика XIV в 1689 Обычно
склонный ко лжи, здесь он говорил правду: это была точно такая же
оборонительная стратегия. Именно так в 1689 г. Лувуа понял приказ
защищать французскую границу, а именно — дополнив оборонится, ---е
линии широкой зоной опустошенных, выжженных и лишенных - । тате й
земель, «таким образом, чтобы не осталось камня на камне и чтобы у
фюрста, которому в мирное время можно будет доверить эту тер; чтори
не возникла даже мысли построить из них новое здание В '3
Конвент избрал аналогичную тактику выжженной земли- т п я
того, чтобы покончить с восстанием, но и чтобы предупредит
любую возможность его повторения.
Вместе с тем. между двумя эпизодами . * т -
личне: опустошение 1793 г. было предпринято в граждан> i
ней войне. Впрочем, и в данном отношении Вандея, e-jзм
собой далеко не уникальный случай Решение Ко в/
очень напоминает события 1861—1865 гг в США. * < з ч- •
противоборстве двух обществ. ДВУХ миров Лмгрн л-
ше людей (около 650 тыс.), чем во в<е\ х - :
С Другой стороны, неправильно говорить о полис и i
гражданских конфликтов. Федераты н к он Федера к д тъ очлнсь * t .г
собой о правилах ведения войны гарантии кза с см . злм « к..
Ы1Мапиеш Т XVII. Р. 287-288. Т Will Р 16
Цит по: Соачмсг A. Louvou Р
de U (гяс bnike: le см du PaUi.cut «х lt><-4 // ши ГКш Г J. Л. U л
Г Н.сЬшш. Р.. 19SM Р 193-206
230
Дни лцщис CM ft* Тср/Ю/MJ
ту военных законов*’. Если же отдельные эпизоды американской историк
1861 — 1865 гт. и могут быть сопоставлены с Вандеей, то они все же предста-
вляют собою исключение. Средн них можно назвать применение стратегии
опустошения с конца 1864 г. После захвата Атланты 2 сентября 1864 г.
генерал северян Шерман убедил Линкольна в неэффективности традицион-
ных средств, использовавшихся до того времени в борьбе с конфедератами
Последние, как заметил он. несмотря на поражения, всегда находили новые
ресурсы для продолжения военных действий благодаря поддержке насе-
ления В результате решено было прибегнуть к новой тактике. Шерман
отдал приказ □ наступлении на Джорджию и Южную Каролину, 11ри
этом речь шла уже не о преследовании противника и поиске благоприятных
возможностей для решающего сражения, а о том, как писал сам генерал,
чтобы «дать почувствовать старым и молодым, богатым и бедным тяже-
лую длань войны*. Солдатам предписывалось разрушать заводы, изымать
урожай, жечь фермы и города. Поскольку «привлечь сердца» населения
не удалось и его сочли неисправимым, было решено при помощи террора
дать ему понять, что «независимость не так сладка, как ее представляют»
Шерман предпринял длинный кровавый марш от Атланты до Саванны
* Иногда. — сообщает современник, — солдаты. останавливаясь, говорили
мне, что им жаль женщин и детей, но что Южная Каролина должна быть
разрушена»
Особенность Вандеи заключалась, однако, в систематическом харак-
тере истребления людей, начатого с января 1794 г. «адскими колоннами
генерала Тюрро, н в том, что расправа над областью н ее обитателями
началась уже после завершения военных действий Даже если в августе
1793 г. Барер и говорил об «уничтожении этой расы мятежников», то де-
крет воспрещал убивать население и даже оговаривал вопрос о возмещении
убытков тем сторонникам Республики, чье имущество пострадает от прово-
димых операцийСледовательно, качало тотальному и систематическому
истреблению людей положили отнюдь не августовские постановления Кон-
вента. Это уже на месте было принято решение покончить с восстание м
раз и навсегда путем истребления не только тех. кто взял в руки оружие,
но и всего остального населения, обвинявшегося отныне в пособиичес гве
VcP/кпол J М La Gurne de Sec ем «on (1861-1865) [1988] I Trad В V кпк P l‘M)|
P. 885-912.
Вандейская армия персдравшлилмся черед Луару после поражения при 11 low 17 ок н .»
1793 г., потерпела повторную неудачу у Мана 14 декабря. 23 декабря при Сащ’Не -ли
были окончательно уничтожены Вестерманам 14 толюко на wit от Луары иге еще н|-л
сопр>/тмиление отрады Шаретта.
° “Ст 8 утопила, что «женщины, дети и старики» будут и выведены воине...
Пэвпрл. депоргн^ваны с территории, подлежащей разрушению. Статьи о возмещении убы ;к-
республиканцам была добаам-ма по просьбе дантинкстл 1юрнп (Moniteur I XVII. Р 294)
<Л.КМ4е колонны**
231
непокорности и неисправимости Однако и Конвент небезгрешен в ок-
тябре Комитет общественного спасения, похоже, прида\ бодее широкое
толкование декрету от 1 августа, а в начале февраля 1794 г одобрил резню.
Репрессии, обрушившиеся на вандейцев после завершения военных
действий и без какой бы то ни было связи с военной необходимостью,
это — преступление, не имеющее аналогов в истории Французской ре-
волюции. Сегодня его по праву можно назвать преступхенмгм против
человечества Вот почему республиканская традиция, не желая оправ
дывать сен бесславный эпизод, случившийся при се становлении. обходила
его молчанием или отрицала.
Поскольку значение описываемых событий все еще ос т к г. я предметом
споров, уместно небольшое уточнение. Речь здесь идет не о гражданской
войне марта—декабря 1793 г., которая с обеих сторон характеризовал лсь
зверствами, органически присущими данному типу конфликтов, л минь
о действиях «адских колонн» в 1794 г. после завершен» * * военных дей-
ствий. Чтобы выявить специфику событий в Вандее, можно попытаться
сравнить их с репрессиями против участников Парижской Коммуны 1871 г.
28 мая 1871 г. версальская армия вступила в Париж. Вплоть до 7 июня
тысячи восставших расстреливались без суда или по приговору по\епых
трибуналов, организованных 23 мая. Эта первая фаза может быть до-
ставлена с тем насилием, которое последовало за поражением вандейских
Отрядон 14 декабря 1793 г., и с тысячами смертных приговоров, нынестп
пых военной комиссией Мана. Вместе с тем, можно заметить, что дал.,
после окончательного разгрома вандейцев при Савене 23 декабря рию-
люционеры прибегали не только к помощи военных комиа ни, подобных
трибуналам 1871 г., но и к таким жестоким средствам, как нототения,
что. конечно, составляет отличие. В 1871 г. 40 гък повстанцев окамжгь
в тюрьме, а впоследствии предстали перед военными судами ( rt < тн
обвиняемых были осуждены, но только 270 получили > мергн ь г>
ры, из них большинство заочно. За исключением того крап, то i гр»юдз
(28 мая — 7 июня), когда возмездие не знало границ, ргщ •• । ни i .. ли
скорее умеренный характер. Все признанные вниинными были < ждепы
за активное участие в восстании: эти были тс. кто э.ишм t г нцпис кн-
L‘ ) О дНктонях «адсхн\ ко.мшн** <.м. Fvafftia Е Turtr.* > е»'г н< ' г. . .
clc 1л violence, Р . 'Г s Iх!1
|*rtiKipe d'huilttuite. • La lermir c< la Vender. P P и» ) ..................
в Люке эддееянни. ltoiuhucm жияик 564 человгь i.-.vi к< ыч 1 'i ч
сч Mjrambaud l-cs Lucs. I.i Wndre. b Rrvrui el L t;r»u • i пипсы 4 '
ЬТ) V
* ?головное |цмно onixrAr.vicr nptTrvitwMHv п|ю;ни ч- .. • . •/< ч t i м >„ < v,*
щепнг в рлбгпю или Практику магсоьых и <шлема:и к» кн\ m ,> с.шй л -ммг «м деН,
С(1Прмтжл.1Ю1Ц|11кн их п»к \еду*’|уен смертью, пытки и*- i-t-ггмлнпые i ... п-ин пы чмн
МЫС ItfXAHТНЧГС НИМИ, фаСМКоЦк КНМН. рАСОНЫМП ИЛИ ЛИШ. .*НЫ»«Н - MUiMH .• । именгнныс.
Согласно Ы>думанному плану, против группы цч»-кданског ч ь .
Двимущие си Террора
мчи военные должности. совершал убийства или умышленные поджоги
Б случае с Вандеей имели место тотальные репрессии, направленные к то-
му же против мирного населения В этом и состоит преступление. Если
подавление Коммуны и бычо произведено без какого-либо снисхождения,
то с окончанием боевых действии репрессии применялись лишь в судебном
порядке и при наличии обоснованного обвинения В отличие от Каррье
н Тюрро, Тьер не приказывал из-за того, что Париж восстал, предать
мечу весу парижан — как инсургентов, так и мирных граждан, женщин
и детей.
Спорным до настоящего времени остается вопрос н о том, были ли ван-
дейцы подвернуты истреблению как мятежники или как народ. Территория
«военной Вандея* нн в географическом, ни в культурном плане не пред-
ставляла собою единой и однородной «области* И в этом смысле
революционеры П гола не уничтожали народ, который бы уже существовал
до восстания и независимо от него имел свою идентичность. Не понятие
* Вандея- объясняет события 1793 г., а. напротив, мятеж создал Вандею,
эту «особую область . это .другое население», олицетворявшее в XIX в
иную Францию — Францию побежденных в 1789 г. /0) Объявленная
в 1794 г чужой землей, Вандея в некотором смысле стала ею. Из с неве-
роятной коалиции недовольных* поднявших оружие в 1793 г., «адские
колонны- сотворили народ Отныне принципам Революции он противопо-
ставлял верность памяти, наиболее глубокой из всех возможных — памяти
о трагедии Вместе с тем. гипотеза о расправе с вандейцами как с «народом
находит свое обоснование не только в обдуманном характере преступления
но ранным образом и в смертоносной риторике, сделавшей это преступлен»'
возможным и заранее его оправдавшим. Как показал Ксавье Мартен, ре-
волюционеры после начала восстания в марте 1793 г. очень быстро начали
изображать Вандею проклятой землей, а ее жителей — особым наро-
дом. видя в них лишь «свинский сброд», «отвратительную расу», которая
не может похвастаться ни добродетелью граждан, ни даже человеческим
достоинством Если вандейцы и не представляли собой особого народ;
то революционеры. напротив, воспринимали их именно как таковой, внося
тем самым свою лепту в формирование их идентичности.
Не претендуя на исчерпывающее объяснение той бесчеловечной [ с
торикм, что сопровождала истребление, можно сделать несколько замечи
нии, способных помочь в определении ее смысла к значимости. Перны i
Сы Setълл U' lu Commune de Раю*. Р . 1986.
6/>См Gemzrf A Pouiquot U \eadee? Р.. 1990
f-nd £ V«bdct .РЛ89.
711 Cenrd A Li Vender 1789-1793 Seyuel. 1993 Р 146
X. Li Dec Uni i uo tie* droeli de ГЫмшпе el U Vendee // La Vendee сЬпь :
P 253-273
«Лдскис колонны
233
далеко выходит за рамки собственно Вандеи Революционный дискурс,
насыщенный самыми ужасающими выражениями, несомненно, вооружил
убийц. Но он сделал и больше — позволил им убивать Впрочем, все
это вполне укладывается в дискурсивную традицию, свойственную всем
гражданским войнам и. в частности, тем из них. где цель столь абсолютна,
что исключает любые компромиссы. Таковы религиозные распри XV I в.
таковы же и социальные конфликты 1793 г., в которых противостояние
Революции и Старого порядка аналогичным образом вынуждало вандейцев
занять равно непримиримую позицию. В такой борьбе нс бывает оппонен-
тов. есть только враги. Вместе с тем как бы глубок ни были раскол, как бы
слепа ни была ненависть, те, кто убивали друг друга, все же оставались
согражданами, объединенными общностью истории, языка, обычаев, преж-
них отношений и интересов, иначе говоря, объединенных самой тканью
общества. Какую бы природу не имела сила. разводившая их по разные
стороны, противники никогда не являлись совершенно чуждыми друг ipv
гу. Напротив, для каждого из них неприятель оставался в какой-то мере
подобием собственной сущности или даже другим •Я*. Возможно \и было
уничтожить его без отрицания этой идентичности? И чем, как не отказом
от признания человеческого начала в противостоящей стироне убедить
себя в полной взаимной несхожести3 Лишение противников несветского
сущности есть неизбежная черта гражданских войн.
Мое второе замечание также выходит за пределы частного случая
Вандеи. Осуждение «негодной расы», состоящей из ►диких животных
которых нужно преследовать, стало частью риторики, отражавшей иеп< > •
мание, презрение и страх, о чем свидетельствует знаменитое зм •
Барера о «необъяснимой Вандее»''1. Подобные формулы г. клзык:
презрение, которое революционеры, являвшиеся в осно;> м жин ми,
испытывали по отношению к крестьянам, упорно отрицавшим г' ... > ,
иостъ освободительной Революции. А как было объяснить схож\ю < -их »
хотя и еще более трудную загадку вандейцев, чье сопрггинлеси
показывало, что они не были лишь обмануты дворянами и г»- мни* а
ми, возглавлявшими этот политический альянс^ Опредг хенне t <с их
жителей как неразумных, невежественных и ослеплен *.ы,х ( - рз* \д .ми
существ, которые ближе к животным, чем к людям, гюэволл .о дагъ очень
удобный и одновременно привычный ответ. XVIII в и не * и . :о прсд-
гтавдения о народе, массе, «черни «Звери. к- . j
нечто вроде скота», — писал Вольтер ♦ Подобие крупного животного,
лишенного глаз, ушей, вкуса и чувств». — вторил с* . Ргп<ф ле ла Бретон
То, что было всего лишь социальным различив
Mun Не и г Г-XVIII. Р,50 ,-не ч .
писем представителен в миссии Геицм н Франюктож Цит ecud . I -FW frjxipe
li.uiwanilc.. » P 407
234
Движущие силы Террора
Щал в различие антропологическое, сущностное74 75 76L Подобный дискурс
презрения нс исчез в 1789 г., однако отчасти изменил свою направлен-
ность 1789 г., — замечает Пьер Розанваллон, — внешние iренины
общества, если так можно сказать, переместились. Теперь представителя
привилегированного сословия <...> наделяли чертами, ранее считавшимися
достоянием черни, его воспринимали как совершенно отличное существо,
отвергнутое природой, хишенное гражданских прав и изгнанное за пре-
делы общества» 7^ Вместе с тем утверждение образа аристократии, как
чужеродного элемента, не повлекло за собой признания за народом че-
ловеческой сущности. Революция, действительно, обожествляла «народ»,
но она поклонялась абстрактному народу, представляя его то как юриди-
ческий принцип (суверен), то как литературный образ (добродетельный
землепашец и честный ремесленник), не имевший ничего общего с реаль-
ными людьми. Когда последние напоминали о себе актами насилия или
восстаниями против Революции, старые представления мгновенно ожива-
ли. Это относится и к таким наследникам Просвещения, как Кондорсе
и Ривароль, принадлежавшим к противоположным политическим лагерям;
это относится и к якобинцам, когда тем приходилось сталкиваться с инер
циен или сопротивлением крестьян, отказывавшихся жертвовать своими
традициями Якобинцы характеризовали «разбойников» Вандеи в выраже-
ниях, напоминавших высказывания Ривароля о городских революционных
«канальях‘. Поре тому, кто расшевелит самое дно общества! — писал
он в октябре 1789 г. — Для черни не существовало века Просвещения
она не может называться ни французами, ни англичанами, ни испанцами.
Во все времена и во всех странах толпа была одинакова: вечно звероподоб-
ная и каннибальская»
Однако Вольтер и Ривароль никогда не помышляли о необходимости
уничтожить эти «отбросы общества». Для них было достаточно, чтобы
за темя тщательно надзирали и не позволяли нм покидать свое место.
В этом и состоит принципиальное отличие случая с Вандеей. Здесь Ре-
волюция. действительно, убивает. Она идет даже еще дальше, истребляя
в 1794 г не только захваченных в плен, заподозренных в органика
ции вооруженного сопротивления или оказывавших помощь восставшим,
но и мирное население всех возрастов, равно мужчин и женщин, вплоть
до республиканцев, чей патриотизм вызвал сомнение, а происхождеш
указывало на связь с мятежным регионом. 15 января 1794 г. Тюрро поиро
сил военного министра высказать его мнение об «участи женщин и детей
«Если их всех необходимо предать мечу, то я не имею права осуществи г.
подобную меру без специального постановления, снимающего с меня от
'4? Сн Rotanualfon Р Le Sacre du chuyen... P. 55— 70.
75) Ibid P.63.
76) Riwol A fEuvres cpini.lrte* P . 1НП8. 5 vd T. IV P 286
Лдские колонны
235
ветственностъ». 24 числа он коснулся щекотливого вопроса о жителях
Вандеи, оставшихся верными Революции. Если цель состоит в том. чтобы
«опустошить регион в указанное время», как писал он. то не нужно ли
в таком случае распространить это решение «и на тех людей, которых
мы принимали за революционеров, но чей патриотизм. возможно, ятияется
лишь лживой маской?» Подвижные колонны, приведенные в действие
21 января 1794 г., истребляли население, вся вина которого состояла в самом
факте своего существования Расправа над женщинами и даже республи-
канцами составляла важнейший момент, выводивший действия адских
колонн» далеко за пределы обычных репрессий. Конкретное исполнение,
впрочем, не всегда соответствовало диспозициям первоначального плана,
утвержденного Тюрро 17 января. Оно зависело от обстоятельств, харлюера
офицеров, различного рвения отрядов. В одном месте женщин убивали,
в другом — насиловали; в одном — уничтожали все население, включая
местных чиновников и национальных гвардейцев, в другом - доволь
ствовалнсь лишь казнью изобличенных врагов, или. как говорил гею рал
Гриньон, «всех тех, кого мы сочли нашими недругами» 1см не менее,
несмотря на эти отступления от плана, проект предполагал такие бьн трые
и решительные действия, чтобы не осталось больше «ни домов, мн пр<»ии
анта, ни оружия, ни населения, кроме тех. кто сможет укрыться от самых
тщательных обысков в глухой чаще леса 79) Раатрсмшать женщин
значит наказывать не только настоящее, но и будущие поколения; казнь же
республиканцев означала, чго принадлежность к населению данной «и i-
сти являлась более веским доказательством виновности, чем убеждения
и поступки. Декрет от 1 августа не заходил так далеко он беи ал см<( । •
мятежникам, а не населению. В плане же Тюрро вместо караемой ми ином
толпы присутствует «народ», осужденный на истребление н силу самого
своею существования. Можно, однако, сказать, что тем самым ••рри
продемонстрировал, какие крайние выводы следовали ил варварской риш-
рикн Барера. — уничтожение «мятежной расы,. т. с. народа, по лрщю.ь;
своей мятежного и не поддающегося ассимиляции Республикой
I ♦ ♦ *
1 Действительно, Тюрро ничего навито не изс»6р<’>. Он адлптнр
к частному случаю порученной ему миссии политику, уж : •ли чн|цц\> а
на западе Франции. Сам Ба(х*р I октября 1793 г придал болге широкое
толкование декрету от 1 августа, отождестнин повстанцев ни чаи л пи-
гм «Разбойники в возрасте от 10 до 66 лет признаны под знамена своими
Цнт ио: Fournier F. lurrcau ct Its colvmiei inkmalo P.43. 115
7rt)llnd P.51.
i I hicbMO Тюрро от 24 нниаря (Ibid P 59).
236
^Jfunyutue cutw Террора
командирами. Женщины занимают среди них заметное место. Все насе-
ление мятежного региона вооружено и находится в состоянии бунта « L
К«тнечно. высказывания Барера и систематические убийства, начатые спустя
несколько месяцев солдатами Тюрро. разделяет целая пропасть Одна к
лроеозгсасив «виновными, всех без исключения вандейцев. Конвент с дела»
еще один омг к практике их поголовного истребления.
7 ноября Конвент подтвердил эту мысль. отклонив предложение Мер-
лена из Тжжвмля о • возвращении Вандеи в лоно общества». т. е о пре-
образовании ее силами тех. кто не принимал участия в военных действиях
и не сопровождал королевскую и католическую армию в ее походе на север
от,Vа,чмИз ужесточения позиции Конвента и Комитета обществен^
спасения Каррье сделал всего .ишь практические выводы, уже 1! декабря
предложив основные пункты будущего плана Тюрро. В письме, адресован-
ном Комитету, он указывал. что для полного подавления последних очаге э
сопрстмаленмя необходимо «по всей восставшей об.хастн предать смерти всех
жителей без различия паса а в завершение все выжечь <...>. Это — отрс
дье. стокцеевие закона. ибо средн них не найдется и одного человека,
не поднимавшего оружия против Республики; необходимо полностью и по-
всюду очистить от них землю» . Несколько дней спустя вандейская армуя
□стерпела поражение у Мана и Савене5^. Военная комиссия, создаю
в день сражения, очень быстро «избавилась» от пленных Прибывший
в октябре Кшрье занялся теми, кому удалось спастись и кто. в беси эсяд
бежав х Луаре, заполнили собой тюрьмы Нанта Первое массовое потопч
не их произошло 17 декабря; в течение месяца имели место еще семь, уш?
щие за декабрь 179> — январь 1794 гг. не менее 3 тыс. жизней На с<т -
ве Нуармутъе. захваченном Аксо 4 января 1794 г., армия приня
методично расплавляться как с воевавшими, так и с мирным насе-чением
Тюрро, следовательно, не привнес никакого новшества Он постут
по отношению к восставшем об-хастм так. как уже неоднократно обходи
с поастаю^ами Мс-жно даже сказать, что. приказав убивать всех -
назначенных к выселению из нее. он примени.» на практике прел,
декрета ст 1 августа, так как статья, принятая депутатами, не знавшим,
длнй. фактически 6ы_»а неосуществима. Как произвести такое Пересе
w Моык» Т ХМВ. Р 51.
Ш ₽37< -Э77
*'' уяг ао Ргяе-гла £ Тагтгм « io colonoa «1егьа1сч .. Р. 32
И«М па мьлеярж wjirupMi—mri череэ • октябуг 1793 г . б..
(Lr ftKWW С Lr GowrTMKfll Р 2Ю)
Ц лмя ио «г бшм около 1600 м 6
Сж 4 Loa F ^4iiin at 179У—179Ч N^aunu 1662
' шесто ркмее. В мресш кз мил. 17 н л -
eErW-w Ч; емцрматм См L^At A Le <ie Клме»
«Ллские колонны*
237
Куда отправлять людей и как обеспечить мм средства к существованию^
Подобно Каррье в Нанте. Тюрро в Вандее счел ист рей хение единственным
сгксобс’м выполнить декрет теми средствами, что имелись в на_чмчни
ЭТИМ он радикально изменил смысл и формулировки самого документа
Вместе с тем, независимо от объективной ситуации выбор Гюрро
диктовался и местными политическими условиями Демспштельнп% свое
решение генерал принимал, исходя из имевшихся у него представле-
ний о намерениях доминирующей в регионе политической группировки,
но и не забывая учитывать ту линию, которую. по его мнению, проводил
Комитет общественного спасения. Необходимо было также четко просчи-
тать. какой окажется политическая диспозиция в ближайшем будущем,
поскольку в нестабильной обстановке января 1794 г. она могла меняем я
каждый день. В конечном счете, именно осторожность и погодила генерала,
дорожившего своей безопасностью, приступить к нстре<лгнкю Имевший
сомнительное происхождение (он был дворянином), обладавший п-хрто
ственными способностями как военачальник и однажды уже лмшакгнГкя
додж кости из-за своих неудачных действий, Тюрро ощущал угрозу с обей*
сторон и примкнул, разумеется, к тон, которую считал сильн/ -..хл Ведь
местную администрацию тогда еще контролировали сторонники (радикаль-
ных решений во главе с Каррье Продолжение мятежен на Западе ждо
для них жизненно важным, ибо обеспечивало им власть и влияние власть
на региональном уровне, влияние — на обще на цис на. * ьиом EU- им гг* и
настоящей находкой для ультралевых эбертистов, к клич примыкал Каррье
Радикальный фланг был заинтересован в сохранении вандейского к-рыв
поскольку тот служил оправданием лхя пропагандируемой ю-н гюо.
доктрины крайнего террора во всех сферах — общественной мн
скон, военной, что. в конце концов, должно было привести < к ей-
Впрочем., в докладе 1 октября Е спахьлжь
ние гражданского конфликта а политических xanj клг ж • t
точки зрения, против Комитета общественного спасения ТО<
говорил он. — превратили ужэсн ю войны в печени > про
фессню, в коммерческую операцию Они емгот мяп'г-ъ । . ** -
продолжения войны еще в течение двул чет.
С другой стороны, е тот мс-мент. когда у. < ас
эбертнетъ и в столице находились на саысм пике . * *то влю Им
удалось добиться освобождения двух своих вожак»* Вемсл и Ронсег.
н казалось, они близки к тому, чтобы заполнить то игг<чистое
>аМ — сильным стиму \ Как мог не ытрспстато > ла из уст
представителей в миссии Гениа и Франигкастелд ст >н ив * < <н на ужс-
лисьих •
•МВ Мюссе от 6 фсара.<л г Цхт ох Асмпмсг £. Тмпш п in ТВ
^Мвмеш Т. XVIII. Р 53
238
Лиижуц^ис си 1ы Террора
сточение курса, «что нет оправдании д\я тех. кто с твоими возможностями
не сумел бы освободить этот регион в течение двух месяцев. <...> Поду-
май о том. что. к какой бы партии ты не принадлежал, любой исход, кроме
победы, ляжет на тебя тяжелой ответственностью и подвергнет опасности,
которую ты можешь себе представить без особого труда» Тюрро жил.
чувствуя нож у самого горла Он стал варваром скорее на осторожности,
чем на фанатизма Все. впрочем, находились в одинаковом положении. 1ак,
генерал Дюкснуа, обвиненный одним из своих коллег в сомнениях отно-
сительно плана, предложенного главнокомандующим, спешил оправдаться,
клятвенно заверяя в своем твердости: «Я сжег все дома, я вырезал всех
попавшихся мне на глаза жителей, а потому не заслуживаю упрека»
Нам могут заметить, что тут речь идет о военных, вынужденных
вести «грязную войну», не приносившую славы. Однако то же относится
и к политикам. И здесь можно видеть такое же сочетание высокомерия и хо-
лодной жестокости по отношению к поверженным и униженного, пугливого
раболепия перед теми, кто в данный момент наверху. Они убивают, но сами
трепещут, едва лишь на них падет взгляд Робеспьера. Огюстен Кошен —
единственным, по моему' убеждению, из историков, кто по достоинств}
оценил значение этих жестокостей, совершавшихся из страха:
Никакое политическое рвение не заставило бы так дешево ценить
человеческие жизни. Что же касается силы убеждении, то и она отнюдь
не возрастает пропорционально жестокости: напротив, она ничтожна.
Взгляните на великих убийц, представших перед судом. Ни один из них
не имел смелости прямо заявить: «Что ж! Я. действительно, разорял,
терзал, убивал без соблюдения формальностей, ограничений и пощады
во имя идеи, которая мне казалась прекрасной Я ни о чем не сожалею,
не беру обратно своих слов и ничего не отрицаю. Поступайте со мной
так, как вы считаете нужным». Ни один из них не произнес подобных
слон <...>, никто не любил и даже не знал того, чему он служил. Они
защищали себя, как заурядные преступники, давая лживые показания,
споря и возлагая вину на своих собратьев. Их главным аргументом,
законным, но жалким с точки зрения обывательской морали, была
невозможность щадить других, нс подвергая угрозе себя90).
Письмо от 20 марта 1794 г. написано н тот момент, когда операции должны были •
уже давно завершиться Генц и Фрлнкастель сообщали в докладе Комитету общестнеин*
спасения . дг топ», лак сами явно посмеялись над происшедшим: • Генерал [Тюрро], ели • » »
получил послание, делылившись. прибежал к нам объявить о своей «обеде над разбойнике мн
<...> Г-играл клятвенно обгцим не щад!ггъ себя для достижения Цели Ему не уйти » tn । -г.
перед которым мы его ноставнчи Он отправился, и мы рассчитываем, что гши.му.1 в ги
необходимое действие- Цмт. пс: Fournier Ё. Turrrau el les coionnes mfernales. P 14N — 14^
Письмо or 6 февраля 1794 r. (Ibid P. 67—68)
Cochin A, Le palnolisme humaniiaue // L'Esprit du jacubiniMne. P 188 ( yi^c .»•
однако, и исключение: Бимо-Варенн. не выразив ни малейшего сожаления, взял nqx-д
своих суден полную ответственность эа совершенное.
.4дскце КОЛОНН ЬС'
239
Самое ужасное все-таки состоит в том. иго они говорили правду.
Ссылка на идеологический фанатизм почти ничего не объясняет в зверствах
1793-179-4 гг. Их причинами были посредственность, апатия, стремление
к власти и инстинкт самосохранения В остальном же можно заметить,
что насилие во имя убеждений предполагает не просто наличие самих
убеждений, которых большинство исполнителей не имело, ио сп»ег род»
одержимость, способную воодушевить на применение крайних мер, Однако
Революция не дала им в качестве источника вдохновения ничего, кроме идеи
прав человека, гражданского равенства и собственности, иными словами —
принципов буржуазного общества, выходцами из которого они в с мчшт
стве своем были. 1793 г. добавил к этому героическую добудете\ь д. чи<>-
сти и набор школьной риторики, несомненно, пригодившейся как средство
красноречия политикам, призванным оправдывать убийства. н;юк« мшим-
ся слишком малосодержательным, чтобы стать источником емгртоны кого
фанатизма. Эти принципы были очень уж ничтожны для того, чтобы । дди
них идти на великие преступления. Впрочем, подобная ситуации имела
свое преимущество: благодаря ей террористы убивали не слишком д.»тп>
Пройдет всего лишь неполный год. и топор выпадет из pvx палачей
Тюрро был очень осмотрителен Опасаясь непредвиденных к п'ч
тельств и страстно желая снять с себя всякою ответственность. .. н не
однократно обращался к Комитету общественного спасения с просьбпГ»
одобрить его план. Вполне логично, что Комитет тянул с * * м. Под
держать предложения генерала без значительной уступки эберп - там бы
невозможно; отказать же ему — значило навлечь на себя обвинения в не-
достаточных усилиях во имя общественного спасенияц К- >м>пс «м
образом, не одобрял и нс осуждал истреблений Его действия : •»
лнсь не тем, что происходило в Бокаже. а тем. какие шклеж тннн ип
могло иметь для существования самого Комитета. План [и , пне
концов, был одобрен 6 февраля9^, спустя три н< д ш пекл дей-
ствий «адских колонн». Вместе с тем значение «того и< м । ь
понято лишь в свете решения об отставке Карр»^, нррчяу - пн
спустя (8 февраля 1794 г.). Комитет предоставил пелнуь . n ( ।
рателькым отрядам, но одновременно нанес удар и < ам< i п ш i><
инструментом которой они являлись9Отзыв Кароье > мр*«< и । мл. ’
начало процессу, приведшему, по меньшей Mtpr н •• i д ммн н
См.; Gerard /1 Turreau. пи Гнпрсп^Ые рккё» L Ьнг»к U t.. I fr p
la ।ееnn>lruction. P til —143.
* «Ты жалуешься на отсутствие tpOfjMxu.ihn-> ило'чп ннм гн< л К ни
• кажутся ему приемлемыми, а твои нлмс^ синя добр.м, ,.•» 1 <о мим ь ..и
лепим от теаТ|М ноенших дснстнии. он ожидиет шачнтельных и < «еынгг»»'
смсончательное мнение» Цнт. но: Fournier f lurreau el lr* u.luiu. ir i,r. l‘ t»9
^ ^(.tiycTH Чстьцк! дни после отставки Карры- Ku-mhpч пкин ии она - ,днл
•вариар* к -е н Ч|м*эмп)н«е применение лгкретии* а Вандге (Mumteuf i Xl\ Р 4и 4 4i)
« ун-’хт -«'чмя1. ж—ь и чьтгчмоыу. мгч^.уректГ'С Комитет? общественного-
спасения » восстакмде-имо эггоюитетя госчддрспм
Революционное правление
С осень CQS ?. х-pocxu вшж-ъ от эсяаок связи с обстоятельствами
Trf.pv поучает f«*M<»r-we в р-амжач борьбы м власть, не имевшей какон-
.чмбе маижой .хюры. и во ниа лчществ.ченни революции. утратившей
скакько-ю<с'<дь определенней" цель. Связанному с этим состоянию анар-
ом был положен конец на рубеже марта-апречя 1Г<34 г., когда Комитет
об-еестоеччмого спасения и К.логгет общей бекхпасности добились ареста,
осуждгнкя и казни поочередно лидеров эбертистов и депутатов-дантон и
сто® . Гибечь фракций* симею.чкзмроаала начало последнего этапа ист»,-ни
Террэра. самого яркого и противоречивого
Если лазу ч Тг, у>эра в последние месяцы 1793 г. был вызван распад м
государства тс весной 17°4 г. он превразцается в инструмент его восстав -
вченмя и уу оченек, чтобы затем стать средством его сохранения В этом
мкхючы-ся ®се различие с пред-эествуччцнм периодом. С этим же связан
и та с-уенка эпохи = Великого террора». коей Напочеон С теми или иным»
нюансами ..f идее -ивлмл вплоть л? своего заюмочення на острове Сзят
Елены: ес.км в !7’М г. я существовали «несправедливые и жестокие :
бу малы». говорил он. то это все же было гораздо лучше предшествуй то
ситтжани. когда «просто опух каки фонарь и вешали на нем человека. [чт.
бычо] кист?г«->вер.чтением стерильного порядка»В 1793 г. Террор бык
CKW.TTOUOM а.чаримг. в 1794 г. — признаком реставрации в.части.
Такая пе-.кыгяа. прзмешедшая к апрелю 1794 г., представал кд с-
.когичеоиое завершение лрсуесса. начавшегося шесть*"» месяцами ранее, в са-
мый кркзмсяь» момен' Ю октябре 1793 г. Сен-Жюст заставил К.>н".-
гринг-х д-крет в,-сменнообъявлявший «.правление в Республике» «рев-? чю
цменмым до змьлк-чемкя мира- 4 декабря Бнйо-Варенн предложил заг.
рег.чакнти^хававааий организацию этого революционного правления 9>)
Выражение «ревачюимоннос правление» означало не какой-лисю
ряде* действия собственно нсполнитс.чьной власти, а форму оргаии.^с
ж правила функционирования всей совокупности властей, прогивопост.;
емуто .коне-пг-у-ряоиномч правлению* «Революционное правление» -д.,
де.«дчо система миститутое в ситуации юридического вакуума * 1 Однлк
сехантнка не до.чжна заслонять сущности. Проблема состоит не п. чь.к
* Цж МкЛАя L Lm Cm-jeM» Ч'яшЬ^ Р . 1954 Р JJ6
r- Т ХМН Р Kto-1»o. МО-613 См тыже >»ui. пр»||спв.мн»<ы>1 Б.-,.,
Вцмшмм 16 мЫкм 179) г (Ibd Р 472-479)
^См Амы F Garitnif iff »e«ok»UMMMc // Ок*азшамг cnlaque de U Rc^J-
Ьжи-е ₽.574-365
Релги^И*****'*'* >ммя.«<*>ме
241
м не столько в отмене прмнцмпа раздехения властей. осущестменнлй де-
кретом от 4 декабря. хотя именно такое упразднение и выналкш управление
м рамки конститх-цжзнной сферы и помюхяло определить его как «рево-
люционное». Закон. в>?тнрхпанный 4 декабря 17'}’’ г олначал п^мктмчесхи
полный разрыв с утвердившимися пос хе 1789 г представкениямк о вмн*к
отношениях законодательной и исполнительной властей. а именно — о не-
обходимости подчиненно!- положения второй по отношению к перк>й при
четкой фиксации сфер их компетенции. Устамоахекие революционного лрм-
вленкя перестрачивало всю конструкцию с мог на голову, передам* нспсо
ннтельной власти тот приоритет, что ранее принадлежал мгонодатт льном.
Принципы организации революционного правления лороию извест-
hnq "Теоретически Конвент занимал центральную позицию по огмлик-
нию ко всем институтам, так как оба Комитета (обцхствгиного спасения
и общей безопасности). уполномоченные осуществлять всеобъеи чинций
контроль за политическим курсом. избирались из числа его депутатов,
и состав их каждый месяц должен бык обнов, хггы я самим же Контентом
В реальности же декрет перенес «единственный центр управления* из Кон-
вента в Комитет общественного спасения, венчавший отныне «трммкд-
государственных органов. ответственных за исполнение законов к внутрен-
нюю администрацию Одновременно данный Комитет ведах военными,
дипломатическими и экономическими делами (л. уцхггаление его директив
в пос хеднен из этих сфер было возложено иа созданную мм Кпмисс •
продовольственного снабжения). Подобная юр* дикция (Чспространдхасъ
на все млн почти на все сферы общественн й жизни Гак. .м\кт*’
репрессии не входили в его компетенцию, поемхчму л-тява ись в f-
ре ведения Комитета общей безопасности. Однако ммж от 4 дем ря
предоставил Комитету общественного спасения гцм*> мчгп- ваг •
в случае необходимости, наказывать чобых должностных *и. Д л • л
некия этой новой обязанности было организовано Б*ч» црн >\и*. ли.
возглавлявшееся последовательно ( ен-Жюстчм и Робо м *г •
чему оно очень быстра) распространило свои пилночоч-< и на х и частных
лиц. подведомственные ранее Комитету общи пезоамн.сш Прел - га
вленне таких прерогатив обеспечило Комитету ибци-1 <-hh<jto nj тм-
бсспрецедентно широкую власть. Заком от < дг з. т»ладмьая
ры на неопределенным срок, фактически пениех к *. •** *><м
системы государственных должностей Создавая « ьг-« же - м
при каждой администрации дистрикта мнепгту» «и - ^ныхьных аггипм. ***
*** Эют аспект н*иы.>.мч ыюк> ««учти • *• ' ! l.« 1 .«лггьыпгы
1ммм1кжс (10 «out IT'JJ — 4 bnaruin *л IV) I' Л *•' Я • А»
U Теныж L anner du Сотый de мМ рмЫк Trod I4 Dx мк G L^*< *ср-»
^КмЙМЬМогяЫю .4. U сыпагкк* nef*xo Rhu^kwk- 1шке« < ^иег» 'wcuuxe \Кн4мм Bur>
«t Rome. 1997.
242
Ляижуфие гмлм Террора
назначаемых и отзываемых Комитетом, декрет предоставил тому реальную
возможность контролировать исполнение своих постановлений.
Происшедшая таким образом централизация противоречила духу
1789 г н часто вынуждала историков соглашаться с идеей Эдгара Кин?
г» том, что во властных структурах II года проявились характер и механизмы
абсолютной монархии. Действительно, в тот момент Комитет обществен-
ного спасения обладал властью, сравнимой с властью короля при Старом
порядке и даже превосходившей ее. Ни божественное право, ни основные
законы, кн Конституция, ни даже сословия-посредники, привилегии или
всенародные выборы — ничто не ограничивало его деятельности Комитет
нс был даже подчинен никаким нормам, очерчивающим сферу его действий.
Он руководствовался лишь теми нормами, которые сам устанавливал и из-
менял в соответствии с насущными потребностями ситуации. Все ветни
власти оказались соединенными в одних руках. Заставляя Конвент прини-
мать подготовленные им проекты, Комитет выступал в качестве законода-
теля. Он имел право интерпретировать содержание декретов, обеспечивая
их исполнение при помощи подчиненной ему бюрократии. И. наконец,
посредством революционных трибуналов он осуществлял судебную власть
в отношении правонарушителей.
Иными словами, Комитет обладал буквально абсолютной властью
властью, так сказать, беспредельной, не имевшей никаких ограничений
и никакой вышестоящей инстанции. С этой точки зрения Комитет обще-
ственного спасения был не столько коллективным монархом, сколько ды-на-
дцатиглавым тираном. Конвент же во многом оказывался слабее парламента
Старого порядка. Он «регистрировал» законы, разработанные Комите
не располагая в реальности ни малейшей возможностью представлять i
г<ремонстрации-». Чрезвычайный характер ситуации, на который ссь >
лись при уставовлении революционного правления, открыл, таким образ >м
возможность — непомерной, правда, ценой — для появления и утке,
жденкя идеи сильной исполнительной власти, противоречившей принцн; :
и иллюзиям 1789 г.
Вместе с тем, это впечатление о могуществе революционной .
должно быть нюансировано. Прежде всего, речь идет о «временном пра-
влении. срок действия которого был официально определен и заканчива \
с подписанием мирного договора. Одна только необходимость обеспечш
его легитимность. Оправдываемое исключительно стечением обстоите м,с т?
его существование оказывалось в некотором смысле от них зависим!
Кроме того, эта абсолютная власть оставалась рассредоточенной < >>дг
ные пре/югативы, фактически или формально, ему не принадлежали, и
же он был вынужден ими делиться. Комитет финансов. возглав мч г.
Камбоним, обеспечивал эффективность финансовой политики; Комитет <х
щен безопасное in отвечал за большинство репрессивных мер Напои
Комитет общественного спасения теоретически получал свои полном» ।
Революционное правление
243
от Конвента, назначавшего его членов н имевшего, пусть эфемерное, право
ежемесячно продлевать нм полномочия либо их отменить.
Действительно, если это и была диктатура, то она имела юридически
узаконенный статус. Конвент, конечно, шел навстречу и автоматически про
длевал полномочия прежнего состава Комитета, но существование последне-
го зависело, тем не менее, от его возможности подчинять себе парламентское
большинство . Таким образом, для сохранения революционного правления
требовалось не только продолжать войну, но и держать Конвент в страхе.
Ведь тот подчинялся власти Комитета ровно в той степени, в какой был
запуган. Но что произошло бы. избавься он от страха? В данном отношении
нельзя считать революционное правление прообразом режима Консульства,
где исполнительная власть была полностью свободна от парча менте кого кон-
троля. Во 11 году политическое ослабление законодательной власти все же
не помешало ей сохранить теоретическое право на избрание исполнительных
структур и контроль за ними. Диктатура, осуществлявшаяся Комитетом
общественного спасения от имени Конвента, скорее напоминает режим гене-
рала Кавеньяка после июньского восстания 1848 г. н Тьера в 1871 — 1873 гт.
Получив в феврале—марте 1871 г., после катастрофы 1870 г. и во время
Парижской Коммуны, чрезвычайные полномочия от Национального собра-
ния. Тьер был лишен власти вотумом недоверия в 1873 г после того, как
преодолел последствия парижских событий и добился завершения немецкой
оккупации. I Зодобным же образом 9 термидора был свергнут и Робеспьер,
как только политическая и военная ситуация в стране стабилизировалась
Именно эта потенциально присущая Комитету слабость, происте-
кавшая, впрочем, из его реального могущества, дает ключ к пониманию
движущих сил общественной жизни весной 1794 г С одной стороны
Скрытая борьба между Комитетами общественного спасения н общей безо
пасности за руководящую роль в сфере репрен ин; с другой применение
Террора, чтобы компенсировать исчезновение внешней угрозе»» и держать
Конвент в страхе.
В конце 1793 г все это имело место еще гольк на бумаге 1ак икон
от 4 декабря предписал расформировать ргиолюцишшун^ армию. v иную
вслед за сентябрьским восстанием, что, однако. прпижнило лишь спустя
3 месяца. В этой ситуации представленный 5 февраля 1794 । доклад Рнб» -
пьера «О принципах политической морали» ста’ пжпгйтим событт м
Обосновав в нем теорию террора, 1{епидкупный также намерив < на чать
этой речью контрнаступление Комитета щютив зкетремизма эбертиетии.
одновременно осуждая курс на смягчение политики, проповедуемый Дему-
леном в газете «Старый кордельер», Отзыв Карры 8 февраля 1794 г. стал
Mtrhme-Gucteivtdi В Lr GouvernemciH pailemrntatre ijl* Ls I .downturn // Cdh*r«
dr 'a Revolution brtiipiur. 1937. P. 47 -91.
Robespierre Л/ <Euvrc*. Г. X. P 550-367
244 Дж/жушне силы Террора
первым прлктнчегким саглстяигм данной речи ,,м’} Конечный же ргзу
известен псх ас месяца тонких маневров, н ночь с Н на 14 марта. 6ы\и
я|хчтоланы лидеры эбертнетон. а с 30 на 31 марта — дантонисты
Началась нонля эпоха Ее особенности определялись ж ключи г мн
нлруп/гмнгм политического раяноягсия в I 1арижг и продолжавшимся в аире
ле 1794 г. систематическим укреплением власти, что позволило или-• аир ,
декреты от 10 октябри »? 4 декабри 1793 г. реальным содержанием i
во анименная армия была распущена (27 марта). Коммуна — подвергнуi
чистке (28 марта), мэр Панг арестован (10 мая). Народным обществам
цнй «предложи * *и- самораспуститься (19 апреля). Исполнительный < и
упразднялся с последуин^ей его заменой двенадцатью «админштратиши
ми комиссиями», находившимися под контролем Комитета обпрттнеин'ни
спасения (1 апреля) Декр^ет от 15 апреля предусматривал согрело? >ч< и
революционного правосудия в Париже, ликвидировав, кроме оговоренных
иск лючений, ж е чрезвычайные трибуналы в провинции. 19 апреля предста-
питгли п миссиях, связанные с эбертистами. были отозваны в столицу1' '
Гибель фракций ознаменовала начало личного правления Робесны
Lro сторонники овладели большинством ключевых мест: Клод Франсуа
Пенам получил пост национального агента Коммуны (2fi марта), егп бр..г
Жозеф Франсуа, 18 апреля взял в смой руки управление админш тр
нов комиссией, ответственной за народное просвещение (т. г пун u p/)
Эрман возглавил объединенное Министерство внутренних де а и ю тн-
ник (8- 18 апреля); Дюма стал председателем Революционного трш*ун •
(8 апреля); наконец, Флсрко-Леско заменил Паша в должиогги м.
Парижа (10 мая).
Комитеты совместно приняли решения об аресте эбертистов, ю
дантоиистпв. Однако Робеспьер располагал уже столь широким гг
мнем, что общественное мнение возложило на него всю ответствен^
ьа про»к и гдш#с; сочтя, что именно он извлек максимальную выгоду и «.
жившей, я ситуации. Уничтожение Дантона и Демулена, с коим Робе и j
долгое время дружил, было одним из тех жестоких политических i <
что возносят на вершину власти людей, способных использовать \
малейшего колебания
Каждый смог убедиться в этом, когда наутро после <>р<•< т..
Росгсп!>ер выступил Перед Конвентом, осадив депутатов, волн.тм» рг
лащищ<11ъ томбуна ,0*Г Конвент обрел своего повелителя и при и
*01м 1Ъл»тг<1ч дня inaiopin, мачлыиини м фа»р«»-м, озиамгнпиалс л итлымом в I 1 ।
« И Ф|Х|Я>НЖ, ОТаНЧМЫНМ»' М hd К )l * JfcCtTOKCKTMU II ВЫМОГА1СЛЬСПЫМII
гтнж сибпстнв см: Sabvul A Ltt SAnt-CdoUci panttrnn de ГАп II
ририЦю м #ou»»Tn<,ifKTiV rcvolulicuu>4ire> 2 juin 1795 9 tlicriuidof an II P , l^r’S, I)
1x4 ( jminiJBr cU I Г П Vie rt ГНИ.: <Гиги MArrilHfr IcrviillH1ГГ. P , 1946
ID‘) Ч|ьгтуим>1жи Pl МП|< ‘or/ C 1.3 'Ictrri,! II .
*2 ПВ) P 11-42
Рела1»)уионное правление
245
стало время, когда депутаты уже не осмеливались посещать заседания
Если же они появлялись, опасаясь, как бы их отсутствие не привлекло
к ним внимание властей, то испытывали еще больший страх, боясь, как бы
их не заметили. lie которые постоянно меняли место в аале, набегали опас
ного круга общения, иные же предпочитали раствориться среди публики
па трибунах Казнь могущественного Дантона. действительно, тиноля*
лл предвидеть сходную учемть и д\я других депутаток, чья известность
не могла обеспечить им ни малейшей защиты
Робеспьер, впрочем, правил не только благодаря внушаемому нм
страху. 11о мнению некоторых, он был необходимым н данной ситуации
человеком. Объединив в своих руках все нити власти, он получил позмож-
кость найти выход из тупика, н котором оказалась Революция с момента
свержения жирондистов. И если одни депутаты отныне плели запнюры
против Неподкупного, другие, напротив, горячо приветствовали диктатуру.
Он также пользовался определенным доверием тех, кого Валье называл
«его жабами болота». Они помнили, как в октябре 1793 г. Робеспьер вое -
противился осуждению 73 представителей, высказавшихся против чистки
2 июня. В тот день он спас Конвент. Они помнили и про 21 ноября
1793 г. — дату, когда был положен конец дсхрнстианнзацин и подтвержден
принцип свободы культов. Для всех них. монтаньяров или депутатов -Бо-
лота,’, чувствовавших необходимость преодоления кризиса. Неподкупный,
действительно, мог казаться человеком, необходимым в данной ситуации
Именно так думал депутат-монтаньяр от дспартамс|гга Ланды. Дизс. пи-
савший 23 марта 1794 г. одному из своих корреспондентин.
Свобода, конечно, нс заботит его. однако пмридьк н i ппкойи пмг
находятся в его руках. Все фракции и парны умолкают П|>сд ним Он
направляет все дискуссии. Общ<чтпенние мнение облекает его властью
и возлагает надежды только на него. В< е. тп» ом гинорит — ме.пр< южная
истина, а то, что он осуждает — заблуждения. < > 11>к щггрнм нлкук»
пользу ОН сможет извлечь из итоги уникально!» момента i < mi v нем et гь
план, хороший план, мы быстрым тиатом наврамнм* н к чаигршзющем’,
рубежу и обретем желанный покои
Подобно Дкзе, многие члены Конвента t тремя ииь к никою* я ради
этого готовы были следовать за Робеспьером Впрочем, не без опаски
иЕслн он способен только к разрушению без юшг грумгитюго нлча^.т
добавлял Диэе, — то мы находимся лишь накануне не нких бурь* нв>
Жорес с наслаждением мечтал о политике, кот ю i кнодкупный ол
жен был — и, но его мнению, мог — проводить после разгрома фракции
поиск условий для заключения мира г иностранными н ржавями, шхтенсн
ное смягчение внутренней политики, что позволило ы в скгцюм времени
н<чстанонить законность, ннедя и дейс твие Кош тмтуцню 1793 г иц^ Люди.
Цю но Е« Bevue de France. Nnvriubtc- <ircrtt)b/e NJb Г VI P 512
I Hisloire sucialiMr. <Je U Rcvoliaiuo T \ I P 4ЯЭ 4#6
246
Двыгодше си in Террора
подобные Дизе, вероятно, ожидали, что он сам воспользуется планом, кот
рын. как предполагали, вынашивал Дантон накануне своем гибели. Однако
Жорес писал (юлее чем столетне спустя. В апреле 1794 г. проблема стоя\г
иначе Кратко резюмируя ее. можно сказать, что Террор сдал однепргмш н
и нгчюэмлжен. и не<юходим Невозможен, ибо оправдание его потреби.
(тями общественного спасения слабело по мере того, как революционное
правительство П[>еодоАевало внутренние трудности, а внешние опасности
отходили на второй план. Невозможен также и потому, что продол/кение и
добкого курса неизбежно привело бы к возрождению влияния террориста,
вынужденных после смерти эбертнетов на время умолкнуть. Дсйствителы:
lepix^p стал системой власти с разветвленным бюрократическим anna
и собственными интересами. Революционное правительство, следовать ыю.
нс могло вести прежнюю политику без опоры на ту бюрократию, проги?
которой оно изначально направляло свои усилия.
Однакп в то же время Террор н не мог быть остановлен. Посколь-
ку его происхождение и обоснование были обусловлены чрезвычайным?
обстоятельствами, последние имели для него жизненно важную необхедн
мость Он не мог. следовательно, обходиться без врагов, вынужденный,
в отсутствие реальных противников, создавать их средствами самого ?•
Террора. Далее, обстановка все еще оставалась революционной, и г .
вительству приходилось держаться на острие революционной поли гики,
чтобы не позволить никому себя превзойти в радикализме, из-за чего ч;
нс могло, по крайней мере гласно, позволить себе какой-либо полить и
милосердия. Дантон поплатился за это жизнью. Тем более что и пкч
уничтожения лидеров эбертнетов многие функционеры террорис тин и
аппарата по-прежнему разделяли идеи эбертизма. Правительство
гтвительно, оказалось в тупике; закончить Революцию без Террор? <
невозможно; а его продолжение, в свою очередь, препятствовало -
шению Революции. Террор стал абсурден, но его продолжение осп
необходимым и даже неизбежным. Правительство, где ведущую роль и
Робеспьер, нуждалось в борьбе за общественное спасение и, соотвг
но, в создании новых upaioe, чем и объясняется государственный 1
весны-лета 1794 г. Одновременна оно использовало его для сох,.a ।
своей; лидерства и удержания контроля над обществом.
Ответом на этот двойной вызов и стало оформление револ?
идеологии в 1794 г., смысл и назначение которой заключались в том.
найти иное обоснование Террору взамен постепенно исчезавших кри i
обстоятельств. Одним словом, отнюдь не идеология привела Франы
революцию к Террору, а. напротив, именно его осуществление на i ,
имело своим результатом установление господства идеологии в тог
когда Террор стш среде гвом ней t издания власти и государства
Прериаль
Принятый через два дня после праздника Верховного существа, закон
от 22 прериаля II года (10 июня 1794 г.) внес изменения в организацию
и формы работы Революционного трибунала Парижа, положив начало
периоду «Великого террора». С момента своего возникновения (6 апреля
1793 г.) и вплоть до 10 июня 1794 г Грнбунал рассмотрев 2 277 дел н вынес
I 216 смертных приговоров. За те 7 недель, что разд'1 \яют принятие данного
закона и падение Робеспьера (27 июля), Революционный трибунал признал
виновными егце 1 784 человек, из которых 1 409 получили высшую меру
наказания 0, Число казней, в первые 14 месяцев его существования едва
достигавшее 100 в месяц, поднялось отныне до 200 в неделю, то есть
выросло почти в 10 раэ2\
Происхождение закона от 22 прериаля
Если в целом историки проявляли единодушие, резки .кужллм .«гот
смертоносный закон, то его происхождение и последствия, напротив. ' шли
предметом жарких споров Обычно закон от 10 июн 1/М г. < им-
Ют ответной реакцией на дна неудачных покушении на Кооп д Эр(г
и Робеспьера 23 и 24 мая. Разделенные интервалом всего н несколько
часов, эти покушения продемонстрировали уязвимость власти даже пе-
ред лицом убийц-одиночек и вызвали тем самым не . • > • панический
ужас в правящих кругах и общенье, но и постановку в щмнетху дня
экстренных мер, имевших целью немедленно наказать виновных и устра-
шить их возможных последователей В пользу данного гмиса говорит
К этпй цифре надо добавить 107 робссньери* пж * ; кины . ‘ 1,1 июля Ли. •
от 1() июня 1794 г. был отменен I августа того же г&да
Waller С Асеев du TiiLunal revnlulunmaire de Ran* P Will-XXI \я|>и Валл\»н
пнюрнт о 1 220 осужденных в период до 10 июня 1794 г w I 376 — после (ОД/Ьл Н. Hisluirr
du Inbuna) tenJutiunnaii e de Pans P. 1680-1882 6 vol I IV P 157) Другие н*п:чммяи
называют I 231 жертву для первою mila
248 Прериаль
мнопч*. срочный вызов (си-Жюста с фршгта в Париж 25 мая, «сю-
>-'рампы» » речи Робеспьера 25 к 26-го; эмоции, охватившие Коннел г
с момента объявлении о происшедшем, и поток депутации, наперебой тре-
бивавших кд|>атгчыпг.х мер и *<с пятого очищения. которое приведет на»
к счастью», СопМЮЮ ЖорХ^у Лефевру, наиболее послсдшытг *ьно »»т
станшнием) подобную точку зрения. закон пт 10 июня новее не 6ы\
поворотным пунктом в истории Irppopa. а лишь добавил новую I хану
в дчинное ионгстиоолмне о революционном насилии, стан еще одним по-
рождением революционного менталитета * 4). Однако, смешивая н единый
нгра.чдг ленный поток слишком разнородные формы насилия и считая их
hi г 1Ю|к>жденигм страха. Ле<ревр затушевывал уникальные черты закона
• а 10 июня 1794 г В частности. упускалось из виду, что тот стал не я; к <
реакцией на обстоятельства, но. в действительности. представлял собою
часть политического плана1' Внося 10 июня проект закона в Конвент
1\пш< отнюдь не •|ювал внимание на покушениях. Ограничивши» г
кратким упоминанием о «дерзости без конца возобновляемых заговоры» .
он — а вслед за ним и Робеспьер — настойчиво повторяли, что Конвент
ждал решения вопроса о Революционном трибунале в течение двух а и-
шх .месяцев6). Неудавшиеся террористические акты, несомненно. сыумм*
решающую роль в появлении закона. Но, став отличным предлог м, и
никоим образом нс являлись его непосредственной причиной: текст доку
мента был готов еще до того. как Амкраль выстрелил и Колло д J 1 \ »
23 мая 1794 г.
, р-н тиигглвио, двумя месяцами ранее, 16 апреля, Конвент ш-»
ноши, что впредь *виновные в организации заговоров должны д
в литы я в Революционный трибунал Парижа из любой точки Реы \ - '
км* 8 мая данная мера была дополнена упразднением сущгствон.и i
в департаментах революционных трибуналов7L Все это потребила \ » в <
ста изменения в механизм функционирования парижского трибуна .<
торсе • принять поток подсудимых из провинции. 1 !.
с середины мая административный персонал этого трибунала пгч i i-
' Конычгт принял 2Ш днптяцин и подучил 244 одобрительных адреса. См /h<
'*ч Пн-brave Locksmiih GcHroy. I
Нм (Ireai Teniu // 1Ъс Tenor P 165-166.
4) a C Sw h ««»» du 22 pMirial an II // Annaln hiMonqurs dr la RcvidiK)
1951 P 225-256
'41q<i>g»KHA joam менталитета в радикализацин Тгррора привела нмгстг с тгм
4**4^ * меийаидямостк яанятъ наиболее 6-мпл млонную среди негх нсслсдопатг ^.1
по utHCUjiMHM? к яамон) Ю нюим «Елли он имел целью ускорить принятие ргшгш»}
прч1’лур>. п» иг должен <яял нснМмяию гмтлечь за собой тт крайние и
жатн|.п1г »му <цм|письи|ампся* (Ibid. Р. 244)
м.М»»ш1еи? 1 XX Р 69б. 69$ [см.. Kj/гпом Zfi. Иэбранжие проиакгдгннн I.
М , |ШМ с 26»!
’’Collwi.un Je. I.,u. . Т VII Р 171- 173. 193-194
Прайс ломлена закона от 22 прериаля 249
НО увеличивался, Однако закон от 10 июня предполагал нечто большее,
чем чисто техническое усовершенствование: он име\ четкие помгтмчгс
КНС ПСЛИ И ПОЛНОСТЬЮ верееМАТрНВЛ \ нормы революционного П|ИВОСУ-
дия. В данном отношении он отвечал не столько ожиданиям Конвента,
сколько намерениям Робеспьера к. возможно. Комитета общественного
спасения.
Реформа Революционного трибунала стала Робеспьера одним
из приоритетов сразу после того, как в июле 17(?3 г. он вошел в состав
Комитета. Уже 12 августа 1793 г. он с пылом прилил проявлять больше
энергии и допускать меньше проволочек. «Возможно м< пресечь действия
эагонор1пнков. если они уверены п безнаказанности. н если л\н их <н ужде
ния требуются целые месяцы? <...> Необходимо стимулировать рвение
Революционного трибунала; следует обязать его выносить притворы пи
копным в течение 24 часов после предоставления доказательств, более
тот. нужно усилить его активность...» Н). 25 августа Рыччпьср вернулся
к этой теме, выступая в Якобинском клубе, и заклейми х «адвокатские «|юр-
мальности» и «преступную медлительность* *. парализующие Трибунал'9
Конечно, он преследовал вполне конкретные цели вскоре д,ч тнгнупш
с казнью Кюстина 28 августа и назначением б никого Робеспьеру урмана
в руководство Трибунала. Однако, несмотря на эти опдтнмыс резудьта
ты, ревизия закона от 10 марта 179? г. оставалась для Робеспьера < дной
из первейших забот. В записной книжке, где с сентября по декабрь 171Н
он отмечал вопросы, стоявшие, по его мнению, в порядке дим, он ном||м-
щался к переустройству революционного правосудия едва \и не на каждой
странице: «Революционный трибунал безнадежен . । ганн ..щии Г ноль
ционного трибунала и всех мер по наказанию заговорщик >н контроль
за Революционным трибуналом, реформа его структун.! > и т. д 1 Первый
успех был достигну! 29 октября 1795 г: по декрету Конилита Прсдседи
те.м> Трибунала получил право заканчивать рассм< , <шп м череч »•
дня, если присяжные считают себя < достаточно ниформн| < н.«иными
Но главное, по просьбе Робеспьера, Конвент 25 декабря н< k \ «и* Комитету
общественного спасения представить кратчайший срок доклад ерс
стах повысить эффективность ^нчюхюцкннно! • грн* m\i • видим,
к июню 1794 г. Конвент ждал н«нюго чакона \жс в н * / " н ч
долгих месяцев.
Robespirrrr М (Euvrcs. 1 X Р 6(>-Ь7
91 Ibid Р 79 81
* ) Molhitz .4 1л? САП1Г( tie RobcapirfH’ I d’ediiion сгиирк ГI о. le* ми 16 1хцчггсс
Р.. 1988 Р. 200 219.
м Robetpicrrc М CEuvre* I X . 159—161
Moiulew I XIX Р 54
H) Заа
В&МТЖДМПЙЧ* Нргмм. ОДШКМ. ИИЧ<ЧЧ> ИС И вмени ЛО< I’ I IpMHH I Hr print ниц
усхорнл лишь прицеп Дантона (2 * вгцч'ля 17^4 г.) Дантон не был -ы
хрядмнм ноДбДОШВММ и и к м<л такое сопротивление . что отдельные члены
Комнгь.н вши:v.v п»кн при 4h»mwi лмгь. чти почунс пюгм ли опасение. кик бы
он «к пышгл живым из сто ль опасного и< пьгглння 1 к>. 1рибунал. рллумггпя
moi в.*’иц|н -wm декретом ci ?9 октября 1791 г. и прсрнагь растра-
те мн гни in истечении |М \ дней, однвко н ЭТОТ пепродо джипе чьный отре.юк
кремгнн он иг нм< л ннклмсл длконных ере дсп», чтобы помешан» под< д
дюиим n.iii.pjm. Н ДОКЛЧЫИДТЪ СПОЮ неннновность. 1 1гДЛИВ1ЧНЫЙ Фуки
IcHhHXb ргнИЖЛЧ. Я Н СсЖТНГННОМ беечмлми, и Сен-Жюст При поддержке
Гнию !Цчч|на с большим трудом вырвал 4 апреля у Конвента чакон, пи
’•ширпатн лдллнтЬ нВ ла ла СУЛЛ * ЛЮОО1ЧЛ ПОДСУДИМОГО, который окалываю
<<Ш|К.тин\< ние лнГр H.uiiKifi оскорбление национальному правосудию 4
Bi тряска 6ыла столь сильна, что Дюма, возглавивший Грнбунал сра<\
шч ле кляни Дантона (8 апреля), обратился к Робеспьеру, убеждая ст
в нгаТАожжчш f>eij4ipMM, которая позволила бы. наконец, ^законным
плптм Поразить всем врагов ЛИШИВ ИХ ВОВМОЖНОГГей чщшгы. пре-
дусмотренных г ’риднчгч кнмн процедурами 1 Л С этого момента Робеспьер
и Клтон приеппичи к под го пилке проекта реформы, текст которого был • »
тон к концл лпрг лн и ли, самое позднее, к началу мая. Дене гни те лыю. 10 о »
Комитет »>бц)ес 1веиь.мх» сплегнин принял по инициативе 1 1сподклиного по
• нис о созданнч И4|юднон комиссии в Оранже. состоявшей из н и
i удгй и лп0М1иЛ1(>менним вышкнть нс подлежащие обжалопанию прш
ПО делам *ггл Hpat^m PtMuuoy |ут обнаружены на близи
и .tp»nopiui< Г«и ‘з.гинн и д\.\ а- гановлсння предвсм мпцалн
(ГГ 10 июня
Уже гппипай документ остался, однако, лежать под елкном Д
wc ш«|мничнмаж*ь лишь ми» аспектами, он имел стол п<к-'
идушш* iioKHtii'i». ми- цели, что мог ььмвагь нолражения Конвента и К
Muivia 0О1ЦГИ бс<»niaiи«»сгн I Армий стороны, на следукиций д<тн
у< танинлеиня культа Вермтноп» ел щестна (7 мая) реформ.» могли О'
(.я мг|кт. илпрлн ленной на усиление личной власти 1\>б<ч пьсра 1 1г < \
1М < м Х»мп el wiHiWflUt lU <lr Г/\ц1»с. iltputr i 1л ( uiuhiImi u
Нгм4и4ЮЛ IM}7, P.filn.
,4jMv-f.lrui I XX P. IM.
tU КоДЛГЛ!*-n.) Д.ММА 1ГГ)«-Д Г-<1 ПГм^ЮМ СМЖЛМЬ ЛгпкарДПМ IaAWA
Д» ii Л. nahtwkalr dирге» rlk mime i‘ ISM- 1848 8 vol I. \ II 1’
П|Ь*44Ж>.Г1 Г» I HU* • lllNlimi КОМ Л\ЛТ)е в день Прими П1М ГЖПН IMJ МЮМОЧНН И
о тмм. ЧП» <41 дг и. т>м Гг \Ь<» ТВЧ НМнЦМ • п »,н»м блЛЛ'ТЦГГк» Э*ХО»М Ю МЬ’ИЧ (
•1г <кч 4П>еЬ»1 >wull Г1и.<»Ц1Г «1м chib lift JmoIhiu 1 VI Р S7)
Ll Rr^urd ilt» *• lr* Jt» Стине dr uliH pulilu. aw U iiweafMMuUiicr ollu u Hr «I
ГС 1МК4МЯ1 <-l k II. CtfitcJ rvrtuuf p»J4bme / f 4. A Aulard P . ISS’» I'1
T.X1H P 4Ю-4Ш.
wwлсние апконп огя 22 прфш к 251
оычо, следовательно. выждать и. во всяком случае. тщательно ппдготошггь
ннесение в Конвент соответствующего предложения. чтобы не появолиггъ
нозможным оппонентам помешать принятию реформы. В данной саяяи
покушения 23 24 мая пришлись весьма кстати’* *1 Комитет общественного
спасения воспользовался удобным мпмептим сразу после открытия ъке-
Ланин 24 мая. Барер и Кутой пооче[Ч‘дно изхожили официальную версию
Происшедшего и указали на выводы, которые надлежит сделать^. Если
второй настойчиво подчеркивал взаимосвязь между счастливым исходом
событий и недавно проновглашенным культом Верховного существа. то
первый дал равпернутое наложение политических агпеенж дела Саяяла
покуикпие Амирали на Колло д Эрбуа с «иностранным заговором*. за
мышляемым английским правите хьелюм, он прнзпал к усилению Террора
♦ Наши враги. — говорил Барер. — подобны тем ядовитым растениям,
которые вновь прорастают. если земле делец нс искореняет из до конца.
Нам следует вновь взяться за это деки самым ревностным образом».
I 1ными слонами, гибель фракций эбертиствв и дантоннс - ж а конце марта
1794 г. отнюдь нс привела к спокойствию; напротив, -на усилила «ярость»
Предателей, с которыми предстояло вести бсспощадипо борьбу, обеспечив
себя ссютветс гвующнми средствами. Реформе Ргно опционного трибунала
был дан ход.
Вопреки тому, что утверждал Жорж Лефевр. отнюдь не народ
мый гиги, вызванный покушениями. заставил Комитет пойти на принятие
репрессивных мер. Как раз наоборот. Именно прш < .и лащенное прави-
тельством намерение вызвало согни петиций. которые клюн ь ишь
аспектов, что рассматривались в речах Кугона и Баргрч '• чжс<’пг.’ное
покровительство Революции и новый всплеск Ity-ч1*’'4 Дичь секции
и народные общества отнюдь не опсрежакн Комитет, а ими м ним ущеми
за собою Конвент и вынуждая его одобрить намечгшч :й л
ми политический курс. В целом эти носсщснмн К’ИВе>П\ дсяегацнямм.
ВТО оглашение призывающих к мести петиций вьнюлня\н фикцию лшгг
Принадлежавшую лстихмйных!и Qbicryn кгиням н.цп ’.л Tak.i>-• •'• м ш-
нп хения общественного мнения ста ха сыч го ролл »в ч станисч» • i ныхида
на ухнпх' и без выкагывлннн пушек. прглнлмычгш1ых для > угтмнин
депутатов.
4)дрно лс Летипн высьамл, МЛ ВЛГМД. МАММ>..Щ.М1|"11Г к ^х-нкм с
покушпнш ИЛ КмЛ\О д'ЭрбуЯ U Ыири 4 \иЫШ 1г .м la ' : > V . W-' «4
dr U RrvtJulwn IQ57 Р. 6 18 klrm VJhi.oI г I a.k ..ыкр? (< рлн»«1
«И II | // Ibid I4)59. P. 209 —22b) Нд|цк'П<1*. ..м»мпсч.'«4 J ( PfhM ix-r
iui PiAecilhqu 24 мам m уьмшыгг hvA-h .ч« чгд » н*
ArvinpaHemmUiit4! 1 XV P 577—^82 Hw. n«.\r» b ,n*4
• MvMHfeur
Oft yiA'ii Ппмц||1чп1(|й кймнанни гм . .4 dr П* (Htcvtan *4 « wwmI
16-
254
Прериаль
вопрос. Собрание проявило такую враждебность, что Робеспьеру, занимав-
шему кресло председателя, пришлось подняться на трибуну и потребовать
у депутатов проголосовать за проект, который, по его словам, «не содержит
нм одного положения, ранее не одобренного всеми друзьями свободы» 2<J)
Тон Робеспьера показывал, что он не потерпит никаких возражений.
И их действительно не последовало: Конвент единогласно принял декрет
На другой день, 11 июня, немного осмелев в отсутствие членов Комитета,
занятых внутренними распрями. Конвент попытался фрондировать — зре-
лище. давно уже забытое. Однако поводом для сопротивления депутатов
стад не произвол, устанавливаемый данным законом, а лишь некоторые
из статей декрета, представлявшие угрозу для них самих. Например, статья
10, давшая по отде.!ъности Конвенту’ и обоим Комитетам право предавать
суду, не предполагала или. по крайней мере, специально не оговаривала ни-
каких исключений для членов Конвента. Депутатская неприкосновенность
оказывалась под вопросом, и статья 20 ничуть в этом не разубеждалч
Отменяя «все положения ранее вышедших законов, не соответствую-
щие настоящему декрету», она могла аннулировать и закон от 5 апреля
1793 г. Дав общественному обвинителю право привлекать к суду напря-
мую* он предусматривал исключение для парламентариев, коих нельзя
было предать суду Революционного трибунала без специального декрета
Конвента Депутаты были так убеждены в реальной угрозе для себя,
что забыли о своем обычном страхе и приняли декларацию, напомни а ни: у т
об «исключительном праве национального представительства приним
декреты относительно обвинения своих членов и привлечения их к суду -
12 нюня Комитет перешел в контрнаступление. Робеспьер и Кутон клят-
венно заверили в отсутствии намерения покушаться на неприкосновенное
парламентариев. Первый сделал это так искусно и в столь угрожающей
• контрреволюционных лицемеров» Конвента манере, что депутаты пошли
на попятную и отменили принятый ими накануне документ . Они еда \нс
но не получили никаких гарантий.
Возможно, закон имел целью чистку Конвента без запроса о'
тельного декрета, давать который после смерти Дантона депутаты
мало расположены Стоит, впрочем, заметить, что и с введением
а действие Комитет общей безопасности демонстративно лродолж i
доживаться старых правил, попросив, например, принять декреты о
дании суду покушавшихся на Колло и Робеспьера (14 нюня), a aav •.
тклелователей * Богоматери» (15 июня). Напротив. Комитет оби
ного спасения широко использовал открывшиеся возможное in.
293 ЧойНеш ТХХ Р 698
lou... Т, V. Р 296.
’HWeur Т.ХХ Р. 700
P.7H-7I8
Достичь «слинстна и правления >
255
на гильотину участников «заговора в тюрьмах» без согласования с Конвен-
том. Речь здесь, разумеется, iirxa не о депутатах Но как повернулись бы
события, если бы Комитет согласился отдать Робеспьеру тел. чьи голо-
вы он потребовал несколькими днями позднее — Дюбуа-К ранее. Ллкье
к Гадьена? Стали бы тогда просить у Конвента декрет об нх аресте, как
в случае с Дантоном, или обошлись бы без этого? 34)
Если небольшое сомнение в реальности иависигей над К он вендом угро-
зы все же остается, то участь, уготованная Комитету общей безопасности
авторами закона от 10 июня, нс вызывает разногласий Действительно,
в первоначальном варианте законопроекта этот Комитет упоминался среди
институтов, уполномоченных возбуждать судебное преследование (ста-
ТЬЯ 10). однако только Комитет общественного спасения получал право
давать ход делам по представлению местных властей, прекращать судебное
преследование н разрешать дачу показаний в письменном виде Валье и ст
коллеги сразу же поняли, что декрет угрожает им оттеснением на второй
план и лишает их большей части влияния в сфере проведения репрессий
Валье организовал сопротивление н, использовав недовольство депутатов,
все же добился того, чтобы во всех спорных статьях его Комитет получил
такие же полномочия Таким образом, маневр, имевший целью сосре
доточить бразды правления в руках Комитета общественного спасения»
провалился. Правительство осталось двуглавым
Это, конечно, была неудача, но неудача относительная ГЬч w разгрома
фракций в марте 1794 г. Комитет общественной) спасения дейсттптль-
ко, усилил свое влияние на репрессивный аппарат Обязанный пчнлч.мьно
осуществить контроль лишь за «органами государственной власти и народ-
ными представителями», он затем добился права вместе с Комитет м <ющсй
безопасности проверять списки «подозрительных > (13 март), а к концу
апреля получил в свое прямое подчинение Бюро общей полиции Б- .л-
главлявшееся сначала Сен-Жюстом, затем — Робеспьером оно гястро
распространило свою компетенцию на дела, касавшиеся |чь~п- граждан,
а к середине мая уже перестало согласовывать свои д icthi с Комин том
общей безопасности, теоретически отвечавшим за эту е|*’рУ Тогда же Комн*
тет общественного спасения начал осуществлять над «р и за дсятс ьностъю
Об этом эпизоде CM.- Lei ij-S< hnrider L Let «jcnirlo dan? Ir < !r • и > .r •
le 9 (bennidor // La Revolution (гагцаие. 1900 P 97- 112
12 ноября 1793 Г Коивснт отменил дскг<т. Ail.vt,4 Д.мми i»u Прд --
Шабо, где специально оговаривалось. что депутаты не м.яут 'дггъ прьоечены • к уду
без прелварктслыюго выступления перед вннми »м> (Mvnatui Т XVI11.P w-m.
418 — 419). С этого дня дарлзмгнтская не принос новенжк гь i «'a. i ста.м
^Только 14 икжя Комитет общей 6e:<uiiat ыктм ч
прекращать разбирательство за отсутствием состава прес суплснмя (Cd)e iko loo I VII
Р. 2)5). О «наступлении» на Комитет см Lt/ebt-fc С Sui U 1см Ju 11 pfauul ал II
Р. 252 -253.
256
Прериаль
Фукье-Тенвнля К тому моменту Комитет (или точнее Робеспьер) взял пол
свай контроль важнейшие рычаги репрессивного аппарата: Революционным
трибуналом руководил Дюма (с 8 апреля); во главе объединенного Мн
нистерства внутренних дел и юстиции встал Эрман (18 апреля), Коммуна
была в руках национального агента Пейана (с 28 марта), а пост мэра
занимал Флёрио-Лсско (с 10 мая) Подобный контроль над единствен»!'
значим, й для такого режима, какой тогда был установлен, властью -
репрс< си Ви*эй — оказался бы еще значительнее, если бы принятые по пред-
ложению Сен-Жюста законы от 8 и 13 вантоза (26 февраля и 3 марта
1794 г.) пыли полностью воплощены в жизнь.
Вантозскке декреты предусматривали создание шести народных ко-
миссий, уполномоченных разделить содержавшихся в тюрьмах «подозри-
тельных» на три категории: первая освобождалась, вторая подлежала вы-
сылке. третья предавалась суду Революционного трибунала. Имуществ
«вратв Революции». высланных или осужденных, подлежало конфискации
и распределению среди -неимущих патриотов» Теоретически руковод-
ство данной операцией поручалось обоим Комитетам. однако постановление
от 22 мая подчинило две созданные несколькими днями ранее (13 — 14 мая)
комиссии одному лишь Комитету общественного спасения37). Не касаясь
намеченных Сен-Жюстом целей38), необходимо, прежде всего, подчг,
путь, насколько вти декреты усиливали позиции Комитета обществен:с <
спасения Ему предстояло контролировать деятельность комиссий, не п;
сто «сортирующих» заключенных, но определяющих в администрируй -
порядке их участь: освободить или выслать. Следовательно, впили»’ ь
можно, что закон от 22 прериаля задумывался как часть этой политик:
Упрощение судебной процедуры, вероятно, было связано с сокращуи.
полномочий Трибунала, которые сводились лишь к утверждению реш
уже принятых комиссиями и Комитетом. Вантозские декрета должны
способствовать установлению ‘'единства управления», обеспечивая К
теп »х5щес таенного спасения главенствующую роль в сфере репрсло
Характер самих репрессий также изменился бы: вместо эпохи <-в<
примеров и, призванных поразить ужасом заговорщиков, настало бы
мя систематических чистик, приводимых при закрытых дверях. 1 1о<ы
вантозские декреты открывали путь к диктатуре Комитета обще» :
спасения, опирающейся на армию оплаченных сторонников39), во.зм
Cuflerimn de. fa» Г. VII Р. 101. 108
' Нэдк*«1 4е» лгИ> du Canute de taiul public. 1 XIII. P. 484, 513,
Метъез вистсчитал нгккжкне декреты прообразом клвссоиий
iti A La Ke million banoibc Т 2 Р. X) 1—302). но более правдоподобно, mi
1кмш.ткин сосиib rwupufernbQpKcrixyw партию, онланива* мун» за счет ииуии
Пвдодафеделениг мжфис>нимИМ0Го кмущестиа. однажи, нс имела, как о
ттх режульгакл. нн м.гтнрые jiaccsHiojoa_\o руководство. См.. Sc/mcrb f\
Заком и ело применение 257
именно поэтому Конвент и не спешил с их реализацией л Комитет 'Ччцсй
безопасности всеми силами пытался ее сорвать, ибо в противном случае его
существование потеряло бы всякий смысч4П|.
Закон и его применение
Гипотеза о связи вантозских декретов с законом от 10 июня осо-
бенно дорога историкам-робеспьерис там Причина достатгч». > шичта* ока
позволяет развести по разные стороны сам закон к его ирактче»
применение. То, что последнее приобрело столь губительный характер,
объясняется отсутствием необходимого для осуществления данного чк >
иа условия — административных комиссий. Предполагает.я. «го над лор
власти за репрессиями, как это и предписывалось вантизехимк декретам.*,
позволил бы использовать «жестокий закон- более умерен^ Напрата*.
именно отсутствием такого контроля и объясняют бойню начавшуюся
11 июня. Предположение не лишено логики. История, как и.чнес’но лмйе
множество примеров «политических^ законов, внешним т г.юк > ►
рых отнюдь не предназначалась для реализации на практик ( .такс ч ...пн
от 10 июня не относится к их числу. Это беспоща.ъ-ми - <, чанный
для столь же беспощадного применения. Беек s ;rV. > t. н
для репрессий и возводимый в норму произвол нет»--жич -.им пь и
привести к тому, чтобы, не глядя, сеять, как сказал Гг - ль. мгрть хлад
нокровно и обыденно, придавая ей не больше значения, че < - г нж»мч
кочану капусты или выпитому глотку воды»
Без предварительного допроса (статья 12) подсудим >
перед трибуналом, состоявшим из судей и сменяемым припыл
лей. Лишенный права защиты (статья 16), он им1ра1ъиыич * < м
судебного заседания (статья 13). на чем Bl я процедура мигла C|mi3V же
и закончиться, поскольку наличие ^доказатслы ™. 1 л» .................
димости заслушивать свидетелей, за исключенном. i । гы. .<<• ы
ЭТО ПОЗВОЛЯЛО ВЫЯВИТЬ СОООЩНИКОН. ИНаЧ* Г , Я. Н’ЧТЪ I и
обвинения; но при этом не предполагалось чикл»-. \
гелями защиты и обвинения (статья 13). Накингг н vimn- .ч • > »
громко и публично совещались, решая и< в ли 4
нести ему смертный приговор. ибо других ж*, ди- j ш • • -ь
Обвиняемый, следовательно, лишался к тех писи. .др: и» це
de ventose el Irur applicAtiun dans Ic deptiiemeni du I ' !/•<«* -Uiiielri I
dr la Revdiiliun fraucaiw. 1934 P. 403-4 34
^Только 22 II|KpHrtA* (4 TCpJUH.r.pa) a K« MHI-- . , . . : Il( .. . u-nj,* r
других |Щр<)ДНЫХ KUMHCtHH 3 io ГП> было ОТНЮДЬ fH MniXV.ft • АГ . '.X га < U .Г(ЧПМ
мручктъея поддержмон Сен ?Кмк-га и мж бирЫж с Гпъг. м •/ д/цг’ ,4 ! мип
det 4 cl 5 dbcriuulor ан 1! лих deux Coinilet de 'alut pui h . . > air •jinalrt
lutiunque de la Revolution Егап^айе. 1927 P 193 222
258
Прериаль
сохранялись после учреждения Революционного трибунала в марте 1793 г
I! с \н рост числа проц» сгон объясняется сосредоточением революционно! о
Правосудия н Париже, то увеличение лепи смертных приговоров — пря-
мое следствие самого закона. Вплоть до октября 1793 г. такие приговоры
сотгавляли лишь четверть от общего количества (26%). В промежутке
с октября 1793 г. и до конца мая 1794 г. их доля удвоилась и достигла
58 %, а после Принятия закона от 10 июня — 79 %. Оправдательные
приговоры выстраиваются в прямо противоположной прогрессии: 64 %,
затем — 37 % и. наконец, 21 %. Закон от 10 июня, в действительности,
лишь усилил уже имевшую место тенденцию. Именно н феврале—марте
1794 г. соотношение оправдательных и смертных приговоров, доселе скло-
нявшееся в пользу первых, изменилось на прямо противоположное. С этой
точки зрения закон от 10 июня привел право в соответствие с практикой.
11о он и ужесточил ее. запретив любые более нюансированные приговоры
Он ин< гитупноналиэировал насилие, развязанное уничтожением фракций
в марте 1794 г.
Могут, однако, возразить, что число освобожденных за отсутствием
состава преступления (21 %) не так уж ничтожно. Цифра эта, однако,
не с \ужит доказательством стремления судей и присяжных вершить право
судке, карая преступников и милуя невиновных. Оправданные, разумеется,
были невинны, но и вина осужденных состояла лишь в приписанных им
мнимых преступлениях. Этим оправдательным приговорам можно предло-
жить другое объяснение; они являлись для присяжных способом успокоить
свою совесть, что совсем немаловажно. Более глубоким мотивом могло
стать желание присяжных выразить подобным образом недовольство за-
коном, на их взгляд, весьма малопривлекательным 49. И, наконец, учтем
также долю случайности, по которой одни попадали на гильотину, а другие
оказывались на свободе, имея для этого ничуть не больше оснований, чем
первые. Впрочем. могло также статься, что оправдания умышленно план/,
ровались. как необходимое условие для создания доверия к разыгрываемой
судебной комедии. Разгадку, возможно, дол сам Пейан в письме от 10 ав
густа 1794 г . адресованном его другу Вьо. судье Народной комиссии
н Оранже •< Разве народ не взирает с удовлетворением на расправу с чудо
вищами? Не в том ли и заключается мудрость политики, чтобы, привлек
к ответственности отъявленных злодеев, примешивать к ним оклеветанны*
• ан молотов. дабы сделагь еще более очевидной их невиновность» и вин.
других?42)
«Великий террор» стал прямым результатом закона от 10 июни
Но был ли это предумышленный результат? Аргументы проп ив гиш t
1,1 Присяжные алкдателл, декстшпглънч. ныроанли Дюма протест накануне .
soxttHd Cd/ - I L HuUrfie de C Convrnlion naUunak. T.VIl. P. 84, note 1.
ПИСЬМО, ОПублИКОНанЯ*.* В Лшш/п Г,’ии/м/КК1ЯШГ<5. 1908. Р. 113—115.
Заком и ею применение 259
зы О Намеренном ужесточении Террора хороню известны: отяетстяетютть
ио^лагается либо на бюрократические перегибы, либо на происки врагов
Робеспьера, сознательно «пережимавших* с применением декрета, что-
бы дискредитировать Неподкупного. Факты не подтверждают ни одной
из этих версий. Комитет общественного спасения в целом и Робеспьер
в частности внимательно следили за претворением н жизнь данного зако-
на. Конечно, Комитет общей безопасности вносил свою \епту. ежедневно
поставляя Дюма и Фукье-Теивилю очередную порцию жертв; но именно
Комитет общественного спасения принял решение расправиться с подари-
тельными, находившимися в парижских тюрьмах, и руководил чтой акцией
Операция началась накануне принятия указанного закона, после того, как
Комитет}' общественного спасения сообщили о плане побега закмочен-
ных из Бисетра, где значительное число уголовных преступников ожидали
отправки на брестскую каторгу4^. 7 июня Бийо-Варени и Робеспьер пору
чили расследовать это дело Эрману. Помощник последнего, Ланн, провел
дознание и представил доклад в Комитет общественного спасения 13 июня
Комитет принял постановление, предав обвиняемых суду Революционно
го трибунала, и одновременно поручил Эрману возбудить преследование
против «всех других людей, заключенных в названной тюрьме Бнсетр
и обвиняемых в участии в заговоре». Иными словами, попытку побега
Комитет превратил в заговор и дал знать министру, что число обвинен-
ных недостаточно. Согласно более позднему свидетельству Фукьс-Тенпнля.
предполагалось отдать под суд более многочисленную группу в 300 чело-
век; Дюма обещал разобраться с ними в течение одного заседания. Фукье
уверял, что, в конечном счете, цифру удалось сократить ди 72 человек,
которых и отправили на гильотину44\ Это вполне правдоподобии Р.сли
Комитет, похоже, решил опробовать закон на исетрских угол» пшика к.
возможно, он планировал довольно большой масштаб операции, чтобы • i<*
нить практические результаты применения данного закона I Ьмучнн ноные
инструкции, Ланн в сопровождении Фукье-1енвиля гернулся в I : tip.
чтобы пополнить список «заговорщиков». Первые 37 ч часть ко-
торых отбывала наказание, а часть лишь останалхн ъ под стражей уже п<н м?
получения оправдательных приговоров, были тут т,г ,и ставлены в 11.щи г.
осуждены и гильотинированы 16 июня Спусти 10 лиги и • учжтг» рилд« чили
еще 38 человек.
Чистка не получила желаемого размаха Однако о» а н<июлила иг
пытать эффективность новой процедуры и подготовить акцию пи исвобп
жденню тюрем от подозрительных. Решение приняли 25 нюня, после ты о
О «чистке»» в Бмсстре см: U4//<m Н I btluire du Tribunal trvoluin^.uur I IV
Р. 267-280
В Действительное! •• Их было 65 Три фамилии. и том чн. л»- и члена Конвею а ' ; мена
были дописаны в последний момент рукой неизвестного человека.
260 Прсриа in
как Комитет одобрил доклад Эрмана. просившего Позволения о6следоп<иь
iHiphMhi для состанАгния списка тех. кто «помогал или мог помогать рлчлич
нмм фракциям и наговорам данная акция имела целью <«11гэамедлитг м»ны
очищение тюрем и избавлены свободной страны от этих нечистот, от этих
отб^нои чемтг честна - *4 Р«Х)еспьер. Барер, Бино-Влренн и Карно иод
писали постановим лис. приказав Эрману «искать в тюрьмах 1 1арижа тех.
кто особо замешан и деятельности различных фракций <...>, тех. кто
< янлчлея сообщником, агентом этих фракций и заговоров и до \ж< н
был стать главным действующим липом в многократно замышлявшихся рас-
правах над патриотами и п уничтожении свободы, а по завершении поиска
представить доклад Комитет) общественного спасения в самые кратчай-
шие < |*окм-»Начались чистки в Люксембургской тюрьме, монлетыр
Кармелитов, в тюрьме Сен-Лазар.
Четы^ дня спустя, 29 нюня. Робеспьер, уже переставший бывач
й Конвенте, решил после последней стычки с Карно и Бийо-Варенн \:
не посещать и Комитет. Робеспьеристская историография использует эт.п
как аргумент для освобождения Робеспьера от ответственный
-м последующие события Люди, действительно, погибали уже пост эг н
но в результате решения, принятого до того и по инициативе Роб»ч пы
рл. К тому же реальность подобного самоустранения, по менынен мг р
сомнительна Если Робеспьер и не появлялся больше ни в Конкен
мн к Комитете, это не означало его ухода с политической сиены ( ।
продолжал влиять на Комитет че|>ез Кутона, на репрессивный аппар-.г
через Jp.M.iHd и Дюма, па Коммуну — через Пенала... Кроме того, он н
шипев \ в Якобинском клубе речи, в частности, в поддержку политиче к- .
курса взятого 10 июня 1ак, 1 июля, на другой день после сносы
МОП» у’Хнда, »'Н >»клсймил * каннибалов*, проявляющих снисходите М;.:-,
к межникам и ‘occcq дсчность к добродетельным патриотам»:
Перед чгст1|ыми людьми я изобличаю здесь гнусную систем1.
H4itp40\гниую на ш. чт<бь| снасти арнсюкратип иг национального прл-
ьхуди» н пигуоигь OifKcr^f, »ioryt>HH naTfiHOTOB <...> Сегодня, к.чч
и ж» все И|С'мгя1 ксг-кто пыглгпя изображать защитников Республики
нс» hpdiw-данными к ,-ъе» iokmmh. t у^ювость ни огношашю к заговорщикам
ни/>|*яслют к-c и киигс.сь* пю на гуманность* 47^.
9 мюля, п'х.лг того как w предыдущие дна дня пали головы
ы»рщико1«г I под пи ржд.-ет, чп> «мудрые институт ы* pecin f
могут быть 8омишы1ы только «на останках неисправимых враг»»
Л1..* И СОН ПИ С •« )*.Д» нмгм уипмяяул О ПСНСГСМГ Trppopd’-. то !•<
Ц-Г- a<L Ла//оа If. Ныоие du ХпЛмлиГ rrvUuihxioairt Г IV Р. 406
*’ Згш Л«А Логумнлв Вллльном. П|*ДГГ>ВЛЯНЛ собой ЛЫЛГр^*.Н
прмо^шмежото acmjuju и*пл К«<в®*нт1 Cbuatwa (документы № 24 и 25).
47^>^Л. М Т Х р 5U
Закон и сю применение
261
не о политике, согласно его директивам проводившемся в жизнь Револю-
ционным трибуналом, а о начинавшейся я тот момент кампании протеста
против репрессий Последняя речь, прочитанная им я Конвенте 26 ню\я
(8 термидора), никоим образом не отступает от этой линии41’'. Робес-
пьер предстал перед Собранием я той же ипостаси, я какой покидал его
12 июня, — поборника Террора. Не следует воспринимать чту [>счь как
осуждение нарастающего числа казней Робеспьер, действительно. пори-
цал «эксцессы» при репрессиях, но подобная критика уравновешивала ь
столь же резкими нападками на «снисходительных», стремящихся окле-
ветать Революционный трибунал и закон от 10 июня Непонятно ил его
заявлении и то, кого он имел в виду, говоря об «оклеветанных патрио-
тах», коих он желал бы вырвать из когтей своих нратв. II любом случае,
речь нс шла о невинных жертвах Бисетра и Люксембургской тюрьмы
снова названных «предателями»», поплатившимися за свои злодеяния»
Единственное более или менее определенное упоминание о пострадавших
от «эксцессов» Геррора вызывает улыбку: оно относится к послед «Пате-
лям Екатерин!»! Тео, той самой «Богоматери», которую арестовал Комитет
общей безопасности, попытавшись использовать ее дело против Робес-
пьера, в коем эти безобидные визионеры нашли нового Мести» Что же
касается преступников, защищаемых «снисходительными . то здесь, вг
роятно. имелись в виду Буллай, арестованный < публично чтение вслух
доклада Вадье о деле «Богоматери . и демннстрлтнвно посетившие еп»
в тюрьме Тальен и Колло д’Эрбуа>0К Возможно ,-ечь шм также о и мм
дельцах, освобожденных накануне по распоряжению Комитета «и\це< •• н
ногр спасения, дабы возвратить сельскому хозяйству необходимые р е «чнг
руки,..
^Непростительная снисходительность. с одном тор<шь«. .. , н к
перегибы — с другой. В действительности. Робеспьер вновь п ,нин в п<
рядок дня борьбу на два фронта, развязанную гще а начале 17'-4 ; nt»iHini
эбертистов и дантонистон. Объявив войну фракциям, щ отнюдь ш ипи и а \
принятого двумя месяцами (>анее политическ их) к\ |к а I норя. шши
время «обеспечить безопасность пароду». он т ’ же уточнял, н । г-
носится к «его врагам». Фактически он призвал к н -читке, па с» « а
в отношении тех, кого довольно абстрактно обвинил н мюгрго-
ях»>, — именно это он имел н виду, говоря о вознращемкн Iityp»»p.i и. ее»
первоначальным принципам - Иногда его план Т|мк!> • т как ли^ -рнч ю
попытку еде чать Террор добродстс |ьны и. ;ммечая. что Р.*десп»и. и знал
М)1Ы Р.51Й -524
*>1Ы t>.543~57(>
См. Cubb R LancHAliou Je BoJbnJ ея теше- an 11 uuia.r, ha< ' -ivrs
de U Rrvuluinui (гжцоде N51. P. 82-84
».<*«. -кг реальиосп» npw ылнвшгп Разу-мте п.»
.<м нс «Ччтлца* т*к*ч и не г^*кутх-п,<»вах при кмявь. Но, нмо тг с тем
.«*. .*• ru>m> V « НЖ ХОДИТЬ О' 1«OhU!h» ДГ А К МАЛЫМ. 1лК. В 1>ЮрО ООЦ'"
•«.'‘Луи*. « »ГХ» С ШОМГНТД СОЛД4ММ* н ДО КОНЦА Л1|Г ХЧ.
я»* г\«1лж cfcwp jXMi* •nauutrm кии бЛЦрсМфйЭДМ•, Ч|Ч*эмымлнно деген’ньи
ч'-avwto нмч*'шхы останна помпсвои пометки к
сгм*е> авторов... С) С. м, он и НС ирммннал актнвноп v
спм в мать. «а\ьм»хм чч нцех твхенни собственных предписаний. го хор -
*Ы4 ' О HKVT 'ЖНО. Т» П|ХХ‘ГМ1А<Ш. К*|.»4СМЫХ 1 ГррОрОМ, H О СК|Ч'МН0*1 <
цшаммл'*». Г,. .. хлччдгнын многих жертв репрессий. Он иыех гцмхтнче! \ '•
ОПЫТ В «КуХЦеч’ПЛХСНИИ 1»ркШ*Ы? АЛ
Декм.ж^ня Робгхтшера имели лишь одно. очень простое похитнч-г
мх е/пмк немме- они означали, что репрессии отныне должны обру.ии : •
на годжы асррврпстив. вйшмеимык * пособничестве тем. кото
и течение двух месяцев подвергали массовому истреблению В тот момент,
когда. намереваясь гюкомчить со своими соперниками по борьбе за вл-i т?
РоЛч 'ьер принял решение о чистке Конвента и Комитетов, длб;- .
средоточить ап б^иллы прддхеш» в руках «возрожденного К •
. .'s,e. твемн., писеннл в тот момент, когда военные успехи выэвлхн ।
д.чнкм<ттю пучадохженнгм Террора, он как никогда нуждался в noxv .
бомопмсты да В Остепенить этой политике поддержку леи.-
«Бохотв» можно было, хкшь посулим им безопасность, осу лив не.
.ора и обязав •очистить-, кхи. иначе говоря, дав понять,
км нечего боггыа. РалоОлдченме «эксцесса*» Террора имело т\>льк j
<мьк А
• Ве хикян террор» не бых следствием бюрократических лх. v :
МЖЙ Оя с ’ХЛ пре д на мт р< иным рерх хьтчтоы закона от 10 июня, нзн.о-. '
мд«.х»ь»м»юг<> как инструмент снстгматнческшо уничтожения «вр.хгон и
М» Кряш*. амроиЩ)См*«Цель не в том. чтобы сю» хь«.
*^»»чятъ. — предупреждал он. — а в том. чтобы истребить бе .«ж л'
гоюзижкем тирании мхя же погибнуть вместе с Республикой»
ххНакамть врагов народа»
Нытгрл|ктирсикать мкон от 22 прернахя весьма н<'п(чч
му бжаьшме дмаы маечххогмь СМММЫ в нем с политичен к и мн '
Облекав чж*то пякхмтнчехкw намерения, которые, по к^мннгй м,
ui'atcni быам обозначены в мем самом (достижение единства
ЫМВВММйаМмв дискурс (умквпоавняае «врагов народа»), этот
м •а.-фч-_. fl Сямжяы «миг 4г к Гкттж Р SJ i>
S«A«r с Яабмвмш TUP IB7-W7
^'Мвмм Т XX f ^>5 Д Ук«* <о» С Zb5]
яде га* мжммя» 2бЗ
ov нонан не для прямо противоположных тракта» ж. смнач<1 vh он подчм
пение похнти.чн идеологии май. напротив. идеология ъ нгм слч.жшла опш>
прикрытием политики * Был ки он денспигте чьно ияпракм^ -тн* .^мпгт
народе*. безвестных жертв, массами предаваемых .мертч rum
порядке, или же пропев личных недругов Робеспьере* FV> цл см гк» <дн~»<
в tv. что ему удастся наиболее \етхим путем осуще^ить ск-и камере
мня игре* умышленную драматизацию революционных событий и н-г ..сиге
умышленную раднкл хизацию стоявшей пер*д ре во хи • > i
отныне становилось гик троение добредете сьннпэ <* щгкгкг н
от 22 прериаля не ограничив^ сея только режим разрывом с ч*омн <ци-
восудия (в чем состоит одна из его характерных ч- о Клее *• и
против каратов народа» с общим пересмотром сути и п хк-нэоа ф, ••
ской революции. leppop становился дш нее не временной мер й вылей. --к*«
хаотическим изменением обстоятельств. но нсобиллимдо х
образований. неразрывно связанным с новом мда* / т< • ‘ '
Революцией — созданием царства добродетели. Ес о* л<лы* .... .iq
ыть данную составляющую текста закона. то со мют-^ * це. *?
может восприниматься как кровавый дрей;. к 6<. era* тг • * •< •
сделать упор на статьях. П|*дусматриваршиг г * ir w>-в
в пользу Комитета общественного спасения и его
можно увидеть тактический маневр, як.хы
рора самыми жестокими средствами, попытку р. * i ' т
Террор от причин, сделавших его »мсч?61 дни>м
Чгобы понять сталь загадочный и п.^п. * ^^чиъп <
чать со статьи 4, определяющей предназначение
цшбунал учреждается дчи наказания врагов и. едл ’ • •” •
не был изобретением II гиде. Вместе с пин<п i лр k 1'
аамоциоиер» и лподпзрн^чьиь < и \т.г
словарь Революции. Он возник одн«Фре •<’
в качестве его нега пни. через отрмцдн»к копуч)
сш как нация В^мгн народа пияамьчь i
не в 1792 или 1793 гг, Иж круг ^ккшм, . «t
уже с самого начала 176е* г ^враг щ>юде« %я
Для 1талктнчгскс1ги жюОрджаемсю .. гн. *• '
эгачмгарнзма. с одной епчюны. и рсыо> • .и» а ”
гон .Утверждая оезграннчн\к а егь m mi
включила в систем* своих нредстаасечии юи 1
- м CV**1*** *
метрнчного противовеса пиЪм iu<^. < ыис * < *
Трудностей, всех прешт-пши, «с шоцри v , . v.
И мкон о |1одоз|чггг Kt>Mb>x и I сент» с '» '
17^4 г берут свои исюм< п рсммюцмйн«к»н v т
и Г Wur Р 157
*»’!**“* W-’" ’ олян»»*’-'- Плдозрительными по закону
|7 сг'Твсум 1'9 5 г. объев.*еиы все те. кто «своим поведением нчи
рем»» н'я соч*'-»~нн*м* 'р’ямин себя кек <...> враги свободы
( Т»тъ« ►) ' Звяимот to "«.’*<• считает врагами народ.) тех. «кто силой или
« > «етса умм-ттожмть общественную свободу. <...> любыми
средства** и жлд «юбыч о.«:А»огтм» (статьи 5—6) В обоих случаях
оарсдеч-н*™ ;-кр.лыгчагы и рмстх^нмы ДО бесконечности. Однако помимо
в»»-.и» «--.• r*амтва ’еасты содержат и существенные различия. Зак?н
17^5 г стх отделял катгтс^мпо «павзз^чпт.льных». предписывая заключать их
т»уьму зо педтт» и*» мир*» в сиху административного. а не судеби гг
><ww« Иных с.чте-мн статус гид с зрительного отличался от статуса
н д.щдм.»!- ... тем бехчее <х . ч :-'--ого Подозрительный не дохжен гыл
авт>МА»п-<-.«н л*лаааться е ,*хи революционного правосудия Кэнечн ,
см имел жы* осхтмти в разряд поасмимых. если в.састн. имевшие право
«а птс«!л**ггу дел. < сч.ш бы это уместным; однако точно так же он мог
• r>ie,•j’t» * в пороме нлх под д.маамнм арестом до отмены этого закона
1 -пгт- же ст 10 яь.чы 1~ М г. подобное различие исчезает Формуляров:-
vmj<M» a в ’795 г дся .неде.хенкя подозрительных, применяется зде’ч
* псьм.мямагм которые по завещаете упрощенном судебной Проце
• м«ло» уме не заклллченмяо в тюрьму а уничтожению. «Отсроч» i
мывшим «рогов романы. — заявлял Кутой. — не должна превь
олемгм меис: а.кмого дхя уетжмоалеим их .ххчностн. Речь идет не сто.хьк
• м. чтибе» н-с-гзап» их. сколько о том. чтобы уничтожить»
З хсь гал «лмится второе отличие Подозрительный, от которсг
судд,<тос 4>»g щается эоски-сь*видит в нем. обоснованно или нет. утр. -
для сжч« ‘мости летается гражданином, которым вновь обрето- св‘
isr-мхя в все* ял вохнете. когда исчезнет подозрение, застааивизе аз»->
его яо.г г-;м*у Враг народа. наг»р?ткв. бслысе не считается гражданн
» 'тому .гтзае-гг» всех .з.^нгвыд гарантий. Он теряет право на през\
^аяг"- «гв»*>в»юстм ьлГ’рым обладает каждый гражданин до тех nop. nc-s.i
и? бу лет п(ж.ммн вмновныы по приговору, вынесенному в соотве : -
с чрягювеж чр.щгдтрж. Нзмемекхл имели мести не только в фор >
роакм. Оми. в члспюсти. коснуиясь и условий содержания заключен
Зашн се 17 сентября ’?95 г тезахчя.* мм в соответствии с траднииом!
праэкилы. з»-чзыв*_ь < себе а мест* зак-хучения доставку мебели и
пбвтым и вещей. В апреле—мае 1794 г. тюремный режим был внез -
j*arнген эаярещеш все связи с назодмвкмымся на свободе, нзчя-
мгыь* веди, введен единым мгутреннжм распорядок,7>. Добавим
***< лйгч.ж ввв Ьй Т KI Р 2U—21* [Д.жушгатм ту Вечам»
с J45J.
**м—м: 7 XX ₽ 695\Г^ш, £ >«** с 265).
• Haiew'b eooiCHi чвралг» 265
также один незначительный. на первым взгляд, факт камеры арестантов,
носившие имена революционных героев, напримег «Брут» нам
в июне сменили назван не В дейстэитчьмоггн же ути акт кме v боль-
оюе символическое значение стае прямьм с»едгпм»гм изменения '.ц-авовых
норм, относившихся к предполагаемым врагам Рен -юш» к х <*< crwr.*..
•Тюрьмы. — пояснял Пенам 22 томя, — считаются ттрскгорией вне 1
Публики. Об их существовании заговорщикам надо напоминать только
тогда, когда на тех опускается меч закона*
Дабы преодолеть возможное медово мютэо депутатов вс.«вращением
в результате полной отмены права на защиту к уголовном. д>оис>
1670 г., что создавало дополнительную угрозу беэооао+стм Конвента.
Кутон представил закон от 10 июня как победу идд нес лвехишом су-
дебной системой Старого порядка, которую, по его сл вам • л .
из Учредительного собрания практически не рефор ми,-овали • «ый к»-
ИЬк, — убеждал он, — означает триумф реформаторских язей X
поскольку. с одной стороны, заменяет прежнюю сиг-ray о. --нъ дми
аггельств новой — системой «моральных доказательств • ! иныав» слова-
ми. современной системой. прммммачлцей во внимание все сэмдет^
улики и доказать хьства. способствующие установлению ж—ю г. » с ,*ч
^1 — делает внутреннюю убежденность единствениым критерием для
Вердикта присяжных Закон от 10 июне как это *-г» пмхдж с* па-
радоксальным, действительно, соответс-ы». * гк s - > м р ।
Фекдениням, признавая, например, что •че-хз-e.-'^-jw -..д < «'.
Народа доказательством яахяется любая вепкственнля к?и моральная «лика
В устной Н.ХН письменной форме, которая будет дх~.пк» пои-ч^.-•'>> к*.*/•.
го справе 1ХИВОП? и разумного человека- (тгэ’-'-я у)
•руководством при вынесении приговора <га.*летск сее<т
Однако в данном отношении закон ст 10 ни ня * -
ииям Кутона. лишь следовал в русле реформ 17 *' 1
а уточнении, что судопроизв* -д.-тв- отныне с
Способами, которые здравый смысл прись* ... «и ‘ *
Выяснения истины в предписанных законом ; । и
формальности отмена.лись. В этом закон -явал »« 11 ’ **
а с 178Я годом. Учредите.хьнсе собрание не г
«бразня доказательств и внутренней убеж_:.*нност-
^обходимые следствия из этих гаркначпов. устал ° ст
Шрантии свободы и право на защиту с Друп.ы — -’жэаг
фЮпроизаодств.а Увеличивая в.истъ схдек в * »л . I*’!**'4
Смысл лишь в сочетании с этими гараитничн
Г^Манаеш Г XV Р 90-91
у*’ См ыж.чкл Куттги ftmi Т XX р Ь**4-<> Ф
1^^ Си La Piruw / £d J. Heeerd Bruicle»
266
Прериаль
присяжных определяется весомостью доказательства, то юридическая цен-
ность последнего, в конечном счете, зависит от скрупулезного соблюдения
норм. обеспечивающих справедливость решения. Очевидно, что это явно
не относится к закону от 10 июня.
Кггон. впрочем, настаивал на его мнимых достоинствах только дли
того, чтобы придать видимость законности упразднению всех форм зашиты
и принципа презумпции невиновности. Задача была настолько безнадеж-
ном — ведь закон явно противоречил всякому представлению о спра-
ведливости. — что Купону пришлось прибегнуть к другому аргументу.
Отказавшись от намерения увязать этот закон с принципами справед-
ливости. он попытался вывести его из особой природы революционного
правосудия. В обычное время, — пояснял он, — закон карает за преступ-
ления, которые наносят прямой ущерб только индивидам и лишь косвенно
затрагивают общество в целом»: но во время революции правонарушения
пре дставляют абсолютную н непосредственную угрозу «существованию об-
щества и его свободен. Поэтому в первом случае правосудию позволительно
допускать «некоторую медлительность, несколько преувеличенное внима-
ние к формально тям и даже определенное снисхождение к обвиняемому».
Во втором же. напротив, оно должно вершиться быстро, без «чрезмерной
медлительности> . без «всякой щепетильности в соблюдении формальностей
и излишнего внимания к ним», ибо речь идет о выборе «между жизнью
негодяев и жизнью всего народа». Кутой упомянул два института, которые
были обязаны карать врагов нации, но не смогли в полной мере выполнить
свою задачу из-за соблюдения формальностей — Верховный суд, создан-
ный Учредительным собранием в мае 1791 г., и Революционный трибунал,
возникший в марте 1793 г.
Верховный суд, предназначенный для привлечения к ответственности
министров, был органом исключительной юрисдикции, однако Учредитель-
ное собрание обязало его строго соблюдать процедурные формальности, не-
обходимые для наиболее полного обеспечения презумпции невиновности 6,\
Чрезвычайный уголовный трибунал, который Законодательное собрание
вынуждено было создать 17 августа 1792 г. для суда над «заговорщиками
10 августа», также подчинялся комплексу подобных правил, хотя возмож-
ности использования права на защиту были здесь несколько ослаблены тем,
что судьи и присяжные заседатели избирались парижскими секциями6^
Революционный трибунал, основанный 9—10 марта 1793 г., более не удо
влетворял Кутона. Последний, впрочем, признавал «безупречность» самой
идеи создания такого суда, определение которого в качестве революционно
го как раз и предполагало освобождение его деятельности от всех правовых
ограничений. Однако большинство Конвента, следуя за жирондистами, ре-
011 См ГЛАВ) IV.
b2) Momieur. Т XJJl Р 443-445. 449-450. 467-468.
Наказать apatoa чарпла
267
шило назвать новый орган «Чрезвычайным революционным трибуналом»
и ввело в него присяжных. Далее оно сохранило и отдельные гарантии: при
сугствие защитника, выступления свидетелей защиты и право отвода судей
(статья 11). Но и сторонники более радикальных мер не оказались в пол-
ном проигрыше. Другие статьи закона сводили подобные гарантии почти
к нулю. Присяжные, назначаемые, как н судьи. Конвентом, были обязаны
«голосовать и оглашать свое решение публично, вслух, и на основании абп.
лютного [а не квалифицированного] большинства голосов * (статья 12)
«В этом условии. — справедливо заметил Мишле, - Террора больше, чем
во всем остальном проекте» * 64\ Обвиняемый уже почти перестал быть
или, напротив, едва-едва оставался гражданином * Революционное» су-
допроизводство, однако, еще сохраняло некоторую, хотя и весьма слабую
связь с принципами законности. Напротив, приравнивая накиалш» винов-
ных к военным действиям, закон от 10 июня 1794 г. порывал с идеей,
составлявшей общую основу всех форм правосудия, в том числе политиче-
ского. Возможно даже, что положения закона не до конца соответствовали
первоначальным намерениям его авторов. Он. конечно» лишал подсудимого
средств защиты, но сохранял институт присяжных Не слишком ли много
чести «врагам народа»? Кутон дает это понять, заявляя: .-Мы сиг.»ли
себя обязанными напомнить здесь некоторые элементарные истины н. ; in
того, чтобы немедленно применить их на практике с ибсо нотной точ-
ностью и в полном объеме, а чтобы нейтрализовать опасное влияние клики
снисходительных...»
Иллюстрируя негативные последствия «ложной гуманности эд
клюкавшейся в разрешении обвиняемым иметь защитников. К\г< н прш» \
в пример процесс над королем, показав тем самым <тп источником закона
от 10 июня 1794 г. была речь Робеспьера 3 декабря 1792 г с т| п о • .«-м
казнить Людовика XVI без суда06\ Историки и философы д их и д
спорят: был ли процесс над королем первым актом Террора?6^ 1: алии ими
от ответа речь Робеспьера и выступление СеН’Жихта В 1юябгч 2 г
уже отмечены духом Террора.
Как и Кутон 18 месяцев спусти, Робеспьер видех в аргументации
сторонников суда над королем лишь предрассудки и ошибочные предан
вления». «Поскольку МЫ привыкли К тому. ЧТО ||(м ryn ни г гс 'М
которых мы становимся, рассматриваются судим в со»,тв< нтеин .иными
Ibid Т. XV, Р.666. 681 684 [Докумеюы и ни В<
т 1. С. 212J
64Micheld J Hifitoire de la RcvolufHU] IrantaiM* TUP 260
Могшей. T. XX P. 696 [Кутон Ж. Указ, соч С 267J
66) Robespierre М (Euvret. Т IX. Р. 120-134
См.: \Xalzer М. Regicide el Revolution Le procea de Louis XVI (19741 / Tr.vl J I )ehauiy,
A Kupirc. P., 1989. В приложении к зтин работе с-.вгщлгг. я иМ и Ф 'I’r i.-, %
Р 351-400.
268
[IfKpulLtb
правилами, мы естественно считаем, что ни при каких обстоятельствах
народы, нс нарушая справедливости, не могут иным образом наказывать
человека, нарушившего их права; и там, где нет присяжных, трибунала,
судебной процедуры, мы не видим правосудия». Судить Людовика XVI —
означало подчинить Революцию старым законам; пытаться создать новое
государство на основании соглашений, соответствующих прежнему госу-
дарству; не понимать различия между «положением народа в момент
революции» и «положением народа при конституционном правительстве».
В последнем случае, — замечал Робеспьер. — все подчинено закону, опре-
деляющему и гарантирующему права каждого члена общества; в первом же,
напротив, упраздняется сам закон. Вернее, отменяется позитивное право;
и народ, ведущий войну против своих угнетателей, может руководствоваться
лишь необходимостью там, где речь идет о его собственном существовании
Революционный период подобен ситуации войны, и соответствующее ему
правосудие является не чем иным, как воплощением основополагающего
права на законную оборону. Нужно убивать или быть убитым. «С со-
жалением произношу я этуг роковую истину... — говорил Робеспьер,
но Людовик должен умереть, чтобы отечество смогло жить».
Король, следовательно, должен был умереть, но не мог быть судим
Организация процесса предполагала не только стабильную государственную
структуру, но и возможность его абсурдного исхода. Во время революции,
когда народ «возвращается в естественное состояние» по отношению к сво-
им врагам, оправдательный приговор не может не выглядеть абсурдным
оправдать короля, низвергнутого народом, — значит осудить народ. Не хо-
чет ли кто, — вопрошал Робеспьер, — «оспаривать саму Революцию?
«Действительно, если Людовика можно судить, то его могут и 'оправ-
дать; его могут признать невиновным; <...> но если Людовик окажется
оправдан, если можно предполагать, что он невиновен, то чем же тогда
становится Революция?» Карая своих врагов, народ не может связывать
себя никакими формальностями. Его правосудие, по словам Робеспьера
не выносит приговоров, а поражает молнией; оно не наказывает, а уни-
чтожает. оно имеет целью не восполнение вреда, исправление виновней
и предотвращение преступления, а ликвидацию противников Революции
leppop в революции — это форма правосудия.
Закон от 10 июня 1794 г. целиком и полностью вытекает из рент
1792 г., в которой Робеспьер отнюдь не предлагал посредством Террирг
запугать заговорщиков и их потенциальных сообщников, а видел в нем
средство уничтожить врагов народа. Здесь необходимо напомнить, п »
Робеспьер никогда не верил в воспитательное воздействие смертной казни
В мае 1791 г. он выступал за ее отмену, призывая Учредительное собран и<-
нс смешивать «эффективность наказаний с излишней жестокостью •
Выступление 30 мая 1791 г. (Мопйеиг. Т. VIII. Р. 547)
Unpcrrtno jo6pajeme.iu
269
Противоречие между такой позицией Робеспьера в 1791 г. н его террориз-
мом в 1794 г. не раз комментировалось. В действительности парадокс
здесь лишь кажущийся. В каждую из этих эпох Робеспьер говорил о раз
ных проблемах. В 1791 г. перед ним была перспектива сформировавшегося
конституционного порядка; в 1792 или 1794 гт. имела место ситуация
революции, воспринимавшаяся как некое подобие того естественного состо-
яния, которое предшествовало заключению общественного договора и где
изначальный закон самосохранения давал право убивать. о Вне граждан-
ского общества, — говорил он в речи 1791 г. против смертном казни, —
если жестокий враг посягает на мою жизнь или если он. двадцать раз
изгнанный, вновь возвращается разорить поле, возделанное моими руками,
то, поскольку его силе я не могу ничего противопоставить кроме ноги
собственной силы, мне придется или погибнуть, или убить ет и закон
естественной самозащиты меня оправдает и одобрит» Л Народ в рево-
люции сравним с этим естественным человеком, жившим до появления
общества и права: народ убивает не для восполнения урона и нс в назида-
ние, ибо смерть виновного, по убеждению Робеспьера, не может с лужить
ни компенсацией, ни уроком; он убивает, чтобы жить чэ- пы вехчтанп
вить разрушенное «тираном» царство закона. Есть и еще одно смол» гиг.
между народом и естественным человеком. Как и «тот человек, живущий
совершенно независимо и автономно от кого бы г. ни и и . > н
другого, представляющего для него угрозу, чужого, кем ин ш имг ника-
ких отношений; так и народ, тоже составляющий единое це
своих врагов не как правонарушителей. являющихся, тем не менее, его
неотъемлемой частью, но как чужих, не-граждан. лишая их возмож.
претендовать на защиту, положенную только членам с<н>б|ш-стъа.
Царство добродетели
Речь Робеспьера о революционном правосудии полностью хггвгт
ствует тому общему представлению о с>ти Революции к- v •, * в > м-.нныч
чертах сложилось у него очень рано и цюянимхь у ы-рн >. о
литических работах, опубликованных еще до ооыю пых ' и
Это представление приобрело ярко выраженный т» | ирис н < кин о- п кок
в эпоху провозглашения Республики и обогатилось новыми идеями которое
касались, в основном, целей Революции и нашли отр..л.ышг в ш ныл
докл<1дах, сделанных Неподкупным во II тду от имени Коми а
щественного спасенияЭти размышления о сути Революции, ставшие
69) Ibid. Р. 546.
70^См.. п частности, его доклады пт 25 декабря 17(В г «'J прмнцннлх ивыо
правления» (Robespierre М. (Tluvrri. Т. Х_ Р 273~2Й2), 5 фенила 1794 г «О пр«нци<шл
пам’тнческон морали» (Ibid. Р. 350—366) и 7 мая 1794 г. »О седгиишснкн релн<»ю*<(ых м ми-
270
Прериаль
весной 1/94 г. своего рода официальной идеологией режима* оставались
(на что недостаточно обращалось внимания) единственным постоянным
аспектом в политике Робеспьера, определявшейся скорее тактическим при-
способлением к изменчивой ситуации, нежели слепой приверженностью
к какому либо плану или идее Имевшаяся у Робеспьера «доктрина» Рево-
люции придавала связность его переменчивой и противоречивой политике.
В самом начале 1789 г., последний раз выступая на суде как аррасский
адвокат. Робеспьер впервые задался вопросом о целях возрождения, пред-
вещаемого созывом Генеральных штатов' \ Дело было весьма заурядным:
речь шла о защите бывшего дезертира из королевской армии, которого
семья пыталась лишить имущественных прав в судебном порядке. Одна-
ко в •. амый разгар избирательной кампании Робеспьер получил хорошую
возможность публично наложить свое политическое кредо, что сопровожда-
чось подчеркнутыми похвалами Людовику Х\ 1 и Неккеру и имело целью
обеспечить себе победу на выборах. В дальнейшем это кредо практически
не менялось. Робеспьер, конечно, не был ни философом, ни даже мыслите-
лем Нет никакой *философии Робеспьера». Адвокат из Арраса действовал
так же. как в ту пору поступали и другие претенденты на депутатские места.
В век, когда философия, по замечанию Токвиля, заменяла политику и по-
зволяла иносказательно обсуждать общественные дела72\ от Робеспьера
требовалось не выдвижение какой-либо программы, а обоснование легитим-
ности своем кандидатуры. Впоследствии он точно также будет постоянно
использовать принципы для оправдания своего политического выбора.
В начале речи он излагает свои представления, честно говоря, не слиш-
ком оригинальные, о возникновении общества: «Основа того общественного
договора, о котором столько говорят, — писал он, — <...> никоим образом
не создается свободным и добровольным соглашением между людьми»; его
^Фундаментальные условия начертаны свыше и во все времена определялись
тем верховным законодателем который воплощает в себе единственный ис-
точник любого порядка, счастья н справедливости». Этот естественный
порядок является творением того «бессмертного существа», которое «со-
здало человека для возвышенных целей» и «предназначило его к жизни
в обществе лишь потому, что подобное состояние в наибольшей степени
способствует развитию в нем лучших качеств», дабы он смог достичь со-
вершенства своей моральной сущности, Отходя в вопросе о происхождении
р«.им<ы1 принципов с респуб-чиклнсжнмя; о национальных праздниках* (Ibid Р 44)—4п >)
Пл чедуюфмм ана<и» прекмущестъснно баамругтся ив эти* документах.
Robrцйеггт М Мгпммге рош k sieur Loom Marie Hyacinthe Dupond . // CEuvr"
T.! CELuvtf» iinijciAiret P , 1910 P. 662—670.
'2l Tocq^cidie A de L'Anoen Regime el к Revolution P. 1035—1041 (Токвиль 4 I ;j r.
порядок и Реео.моцня Км 3. Га 1 -О том. каким образом к середине Х\ III в *jrrF
торен сделались главными гос>дв^ктвсиными деятелями и каковы были последствий
обстоятельства»)
Царство добралетели
271
общества от «Общественного договора» Руссо Робеспьер не присоединя-
ется н к Локку нчн к физиократам, равно считавшим общество п^рождением
самой природы н средой, где человек лучше всего может усовершенство-
вать свою сущность. Человек Робеспьера отличен от hc>r>w arc о потны
физиократов: он идет к совершенству развивая нс таланты. а добродетель
Фактически Робеспьер заимствовал большинств» своих прим 4ипов
из сочинения Пуфендорфа ^Обязанности человека н гражданина» (1673).
являвшегося «кратким изложением о главного труда того • г автора *Об есте-
ственном и международном праве» (1672) Первач нэ упомянутых раб*.т
гораздо более легкая для чтения, чем огромный трактат 1672 г . пользе
валясь в Will в. немалым успехом ее перевод, сделанный Б.уни-Гц лкгм
в 1707 г., издавался не менее 10 раз'3). Здесь Робеспьер г черпнхл идею
естественного закона, познаваемого разумом, Отсюда жг он воспринял
и мысль, отличную от руссоистской дог\(ы о врожденной ; * м< агй
о том. что человеческая натура неоднородна, дуалнегична. из-за чего до-
бродетельное поведение всегда есть результат победы над imhm соб^й
И, наконец, здесь же он заимствовал идею о том что естественна пред-
расположенность людей к жизни в обществе предначертана Бс ом. л лбы
они применяли мораль на практике В речи 1789 г Робеспьер лишь
перефразирует Пуфендорфа. Послушаем его
Человек, который, таким образом. <...> явшется сущестш-*м, весь-
ма озабоченным самосохранением, но при том ► <м и .*? < <ч
сути, нс способным выжить без помощи себе псл'бньо х. умг-т
делать нм добро и принимать его от них. Hv. ?, уг •• стороны. w
лукав, дерзок, легко раздражителен. готов чинить вред н л\м
этого достаточно возможностей Он не смог бы сущ^ттюватъ <
если бы не находился в обществе. иначе говоря, о * бы не < > нгь
в добром согласии с себе подобными <...> R<r в чем. с
основа естественного закона: каждый должен ст|м*митъ<« • • щ
своих к благу человеческого сообщества в цгчом . > И • м
применения подобных принципом несомненна тем иг п и»»
обрели силу закона, необходимо признать, что !
управляет всем на енгте. в-мстно предписа on .м L4- . -ъ
которые Он дал им возможность тхтичъ
<...> Бог. счедоваттлыю. желает, чтхбы и чи л» ... v«'..ммнемнв
использовали те способности, которые стиль ранги* \ьм<? ..инц. г их
от других живых существ, и. соответсп1екно, -«т».•< сч ,t... , че х
дикие звери. Поскольку <.ие невозможно б*, э cot u- .у ним - ьешн
закона, необходимо признать, что Соад^»**ь жвз'ожнл \
пременнук! обязанность подчиняты.я зтом\ «акии\ кап up 4лн.\у. »•
Pufcnd^f S. Lea Devoirs <le I'hotnme е( du oloyrn itL qu U ’ j uxh pcwni» U hu
naiurclle [1673] / Tud J Baihe^rac Caen, N64 2 w* { >6 v rvu «т.м -tn* cm Я
JrsnjAcquri Rousseau et U science politique dr lempt [ N >0| P W/9 I* MJ I, 4J7-42S
Pu/endo/5. Op. Cli Г 1. P. 91-1Q6 (1. ) *Об ВрШНЦ» МД <Ч ТСС ПК! СЖИХ •- шНйг)
272
Ilpcfiua.ih
НС ОНИ ШЮ<НК*ЛИ К ХГИЧ^ЮГ инн ПО сногму ХПТГННЮ НГ МОГУТ иямсннтъ,
ибо оно к«1тггч1|шчгскн Н|юдмхп>яанн снмше 7i).
В ятнх строках псе кредо Робеспьера. Однако в январской речи 178е? г.
можно, видимо, обнаружить гще и влияние Руссо. Но не как создателя
«I '.<г< уждгния о происхождении и причинах неравенства с|>еди людей» или
<•(Общественного лпгов1зрд»). но как автора «Исповеди савойского викария».
В ши бедней Руссо, действительно, отстаивает идеи — о существовании
естественного закона и естественной предрасположенности людей к обще-
ству. е дуалистической природе человека. — которые отрицает в других
работах Вместе с тем. в атом парадоксальном и зачастую неясном
тем те каждый мог найти подтверждение своим взглядам: «Верующие ис-
иольмжали его для наставления философов в религии, а философы —
д\я щюпонеди гуманизма С|Х’ди верующих»77?. И если савонский вика-
рий. нклпг с Пуфгндорфом, стал учителем Робеспьера, то последний явно
воспринял сто наставления только как «верующий». Это позволило ему,
гак сказать, сохранить верность Жан-Жаку, изменив Руссо. Но что он.
действительно, нашел в пространной речи савойского викария, так это
осознание, ощущение бытия человека как «творения и орудия верховного
Существа, которое желает блага к его дарует; которое подарит его и мне,
если M«'H желания совпадут с его желаниями и я правильно распоряжусь
своей свободой. я соглашаюсь [добавляет викарий] с установленным им
порядком, будучи уверен, что однажды этот порядок может оказаться по-
лезен мне самому и я обрету в нем блаженство. Что может быть отраднее
чувства причастности к системе, где все есть благо?»
* t *
Здесь важно нс столько проследить генеалогию подобных представу
ний об общгстне. сколько сделать акцент на их применении в политике.
Действительно, идея об естественной предрасположенности людей к жизни
в обществ? выводит права и обязанности индивидов из самой природы,
дехля их независимыми от какой бы то ни было человеческой воли. Таким
образом сфера действия политической ноли значительно сокращается. Вог
Анчмс от того, что утверждает руссоистская теория договора, считающая
Pujcndaf S Le> Devoirs de Khninme... Р 98—102 pessim.
'*' О Pv.<M И об «Исповеди САВОЙСКОГО ttHtUpWI *, включенной и 4 книгу «Эмили V,
см /Мднол Р Ч La RehgKMi de Jean-Jacques Rauwrau |19l6j. Grncvt. 1971. 3 vol . Melzer .1
RnuM^au la bonlr nalureile de I homme 11990J / Trad. J. Mouchard P-, 1998. О критике Ру<
доктрины естественной прс.цчи поло темности к тизнн в общестс и естественною saki»h<j
см/ Dcfdlhe R Op.ciL Р_ 142-171.
1 Vjqtfli У. Introduclum a i tnule dr Jetn-jacquei Rousseau. P., 1995 P. 193.
,th Rimijtmt I •] CEuvirj» completes. T IV. P 603
Царство лаброяетст
273
общество чисто искусственным образованием, функция законодате \я состо-
ит здесь нс в установлении, не в создании права, но лишь в провоагллшгнки,
в разъяснении при помощи закона тех отношений. что существовали до воз-
никновения любой коллективной воли Исходя из подобных представлений,
Робеспьер в январской речи 1789 г. впервые сформировал принцип,
который будет определять направленность большинства его выступлений
в Учредительном собрании — и против избирательного ценза. и протия
смертной казни, и против любых посягательств на юридические гарантии
граждан: «Все законы, все институты, несовместимые с [естественным
законом], полностью противоречат основной цели общества н заранее, так
сказать, кассируются нашим бессмертным творцом» 7М)
Могут возразить, что Робеспьер не всегда придерживался подобной
позиции: борясь за право подсудимых на защиту и за институт присяжных
в первые годы Революции, впоследствии он стал безжалостным обличите-
лем «судебных проволочек» и «адвокатских формальностей... Однако лто
лишь кажущееся противоречие: пределы применению волн, установлен-
ные высшей властью естественного закона, возможны только в обществе,
соответствующем требованиям природы. Таковых история не знала. Реаль-
ность же являет картину, не имеющую ни малейшего сходства с обществом,
устройство которого отвечает его естественному предназначению. I !ов*:юду
царят «страх, недоверие, тщеславие, подлость, эгоизм, ненависть, алчность
и все прочие пороки, далеко уводящие человека от цели, предначертанном
обществу бессмертным законодателем» Везде люди страдактт от угне-
тения, несправедливости, неравенства и живут по жестокому закону войны
всех против всех. Общественное состояние в изображении Робеспьера как
две капли воды похоже на описанное Гоббсом состояние естественное:
«Новый порядок вещей, установленный развращенным и деградирующим
человечеством, не является ни гражданским обществом, ни • стественным
состоянием; это воистину состояние войн» , угом
все возможные пороки и страсти, а вместо законов царят право оньнип»
и право хитрого»
Общества исторические или, иначе говоря. |>еа'ьнп существующие,
являют собою отрицание общества сстестченногп, . птвующеп бо-
жественному промыслу. Таким образом, революции т ; двн.т.гние. н>.
средством которого общество освобождается от привнесенной и«то»г-игй
испорченности, дабы восстановить нравственную чистоту согласно своему
естественному предназначению. Эту’ попытку восстановления, тогда еще
не названную «революцией». Робеспьер трактует следующим образом
79* Robespierre М М стоне |хшг le sieur Dupond Р 662.
801 Ibid Р 670
w> Ibid. Р. 664
19 Зад. 1Ь5
274
fk<TM людей к при пе>м<иуи добродит*’*м, 1 к лоб|*оде-
ТГЛИ при .г М'НЦЯ ммлмгт, гм М<*иННМХ МЛ НГЛыблеММ! ПрИИ^НГМЯ
Ж"/л^ГИ М'^ЪЗАЯ И Прмэпаниы! ВГриуПг Sr \'4Г*Ж ИОН МрН|ЮДГ Я/Г rr
П(мы и лгр1тлдм1й<> лгх гоикг тж>; м'х.г таиоямгть бессмертную свюф,
м/лпрвя дллжиг гогдкнгтъ чс><»нгжд г Ьогпм и < себе подобными. уни-
ЧТОЖМЯ Яг Г ГфИЧИНМ уп»гтгния И гирлмии < >; К//т, ( ир, ТО гдмнсж
илчммднне. В *frtttpr*fy ОН (Бог) ПрИ»М7ЫГ7 В«н
Исхлхнля обращение к монарху, Робеспьер говорил адггь то wc са-
мое, «по и в 1794 г. Если он и был усидчивым читателем Руссо, то нельзя
свалить, что он был читателем прилежным. Гочни так же, как он трактовал
Pyr.ro иерея Пу'|>енлорфа, а свою гюлнтику выводил из морали савойского
викария. так и из гиислезы п естественном состоянии ии делал выводы,
которых не было НИ В работе Руссо, ни в какой-либо другой теории
с/яцг< таенного договора Гигиггеза об изначальном естественном состоя-
нии. понимляи/гмгм как форма существования людей amCxj независимо друг
егт друга, либо в сообществе. представляла собой чистой воды вымысел,
используемый для наглядности. Это был ход и суждениях, необходимый,
чтобы сх мыслить легитимные основы политических обязательств, абстра-
гируясь от влияния социальных или культурных факторов*3). Объясняя же
революцию через сглихтввлгние егтегттгешюго и общественного состояний,
Робеспьер трактовал как историческое то. что в действительности были
продуктом отвлеченныхрассуждений 1олмсо при атом у'линии можно было
поверить я во *можяогтъ ыяхоедингиия человека социального с человеком
естественным что Руссо считал невозм »жиыммб Идея возрождения тако-
го союза могла '/х-рнутыя крайним радикализмом, если учесть, что для
'хущгстъления Т(хГнилом ь избавить и </лцгство в целом, и каждого из < jo
членов «л «(жгущей им вгем игторнчггки обусловленной испорченно’ти
Г1[МВДа. ТаГДЯ идеи могла быть Т НЯ 14Иа И С ПОЛИТИЧГГ КИМ пры-ктом, чуждым
духу Ггррх>ра Ехли и 1794 г Робеспьер жпольаоввл г# для обоггюнзиии
рггфеынй. То в начале 1/89 г. он, опираясь из иге, призывал ко(юли
"ГфуДНИ-мТЪ С !»’НералЫ1МЧИ ПГТаТЗМИ В ПОЛИТИК/' Правовых И ИНСТИТут;^’)-
нальных ^форн. в ч*м было очень мило радикализма — гораздо мсныис
чем у (.ийеса Нмег^г < тем, н сыкй основе робеспьсристс к ни дискуй ,
аг/ Ч Мг/тки/г U wur CXjprrfxi Р 670 Идти гвгамкой угон бктид
?Г*Л f |;->ЛГ1ЦГНнД См А С) Thr Cjffat of Brihfcfi
N Y. tw
8 J f fлм нм «• n </44r«i мдх! // 1)мыянмиг #lr рлн
Р 2J4 239
-*Утэ МГ7»4Л4«^ »4Я И«те{лц^та^д иг|ЖМ/дл <л <т irr тмч<1*Ы'» г/х.ТОЯНИЯ к (*/ц>мл>.и »«
vnef/Джг ЦЖ’*ИД «(л<л *ж«дгг«д гл Alt нгтглбкми примымиы XVIII в (гм . Fhraffl I i. I'lrr
dr вмцгг га f гвлге Одла U pfrn.^tr пуз)» Ф/ XVIII* it"k 11963) P . 1994 p 472 46 i /
И ДДЖ/ B^kfjTWM MtrKKF/ Py<//, ВМЙГГ TH W » WO ( / Ц/г/ / P.OtilBZJU //
Dhr/.f3< rl Ird«i (foui* Nmm dr b 1гт/Ь1ы^ 5^m-S/mon, rtwr/nl/rr )99'/
P И 9j
U<if* ты 275
нс мни* имо <rr iwjtлг/итпии его применения мл нрлмтмке или от тех гфсхпшм-
ГЮЛОЖНЫХ ПОАИГИЧС/ХИЖ ЯМ1ЮДОВ. которм' OH ГкмЫ»ЛЯА ГДГДЛТЬ, тирШЖЛЛ
ТО, что < <Л иВАМГТ Наиболее рвДИМалЬНуЮ И ГМГТенЦМЖАЬНС- МЛН^И.М’е Сгп>< иую
I. трону революционных уг томлений с оуцхмеммсх th - же Мни* зачеркнут?»
П|юшлое, даже если и данном диг курсе подобная гг|жтеижя н пре лг>/чг> »а
иг опережение истории, а Возврат к донггори чес мим з|^мги<м «Л{иимче
КЛЯя ПО форме ро6г< пнгрис TC К4Я идея рГВолИл^и - •,-нйп г ..< < 3
и своем стремлении Порвать с и<торите» м/.й мгнлбежжхтъю
Надо также отметить и еще одно слгдгтннг подобных рассужде-
ний Если гипагслл об естественной п лдрлс положе мн//* ти моден м жизни
и обществ/ логически ведет к преуменьшению jx»ah челг/в* че» * 4 моли. то
противопоставленме ЛОрОШСЙ природы И ПЛОХОЙ истории, в ИОНеЧМОЫ счете
завершается радикальным поворотом. в рхаультат? кот<ч>хо воля стано-
вится необходимым средством фОрМЛЛЬНО ДЛЯ ВГКС/ПанОЛ ИММЯ. в ьЛ'.-.л.
ски — дли репк/новления общества, отвечающего треСопаиимы природ*
11одобный поворот заслуживает особого внимания, посмолм/у дает млмл
К пониманию цельности дискурса Робеспьера. где на трвый л •ГЛЯД, суще-
ствопал разрыв между гемами прав человека и Тгрр ра Но гтот гащитиик
всеобщих прав — тот же самый человек, что и 'У вииит'чь ар >е н.» - •*
И Других «раЗПрЛ 1ЦВЯНЫХ АЮДГЙ». } {еЖ> «МОЖп ГЦ ТГМВОН. . л ВИТЬ [1 >>. ।
ра 1789 г. Робеспьеру 1794 г.. но еще абгурдигг отдавать кгыу w'- ив них
предпочтение. Оба (ПАИ рука об руку с 1789 । -ерими р • ‘ я 44 Всесбщее
избирательное право ио ими природы, второй — призывая к ч^и^ сзи.
ным мерам во ими революции, понимаемой кам б« пощади*я •ужнв между
ири;юдой и историей. .}ти два дискуй* разумеется не (<:нп*л<»//, л
иако имеют общую принципиальную огиплу. Они и|х*и^»л> г из едиж^
концепции революционного Г(р’>це»сл. применяемг й К pa HIMM у ^ЯИЯМ
к пост<революциоиной гитуации. когда |жчь идет <Л устаноа/'нмк т«я»яч
конституционного порядка, где »юмн/жнгхтм Ь”*и ’ мли (>ы г. >.
и к состоянию ревс>лк»цииг (уеття гм1(жл
Ния конечной цели, ДЛЯ чего НГГ//ХОДИМО Нр*-д^ 1<зьип> .>члг молиу*. C.v/ему
дей' гиий Робе< пьгристский ди/ курс. 1.1» -им ’ И V. М, t [рей I f » .,и по-
движен. поскольку в первом случ*' ч|>ед|юллг<1гт мжкопыльиое -tine
людей о общество, а во втором — радикальм»^ и» хлх>ч и« не • о»
ответстнеюю — нсе^щис выборы и и< Т|Хгбдени< в । -• Ъ-^я
ПОДВИ/КНО<ТЬ ог.г/я нно ярко IIJh.HHK <мь п л . г । мг-/ ЯТ. т . .- и
Р»/кчтн>гром Учредигтльнпму собранию в польэу (/гм in изб
цен гл. Если, как убеждал ОН С||бранис, человек действнтглькп явлжется
*чело|н’ком и г/»аж/1днином по прИ|К»де <гюенл (а не ^че.мчкю/М гю при(юдс
и гражданином по з«пюну«, члк imvhiah сторонними дгяоы^иий теории).
ТО нозкгмнное ПраМО не МОЖГТ Н1ЮДИП> ничего, что иг было бы .же Л|ЖД-
писано Природой. I |апримгр( оно не может огрлнечики□ нрпек rj,...? « ина
от» гаивигь л суде свою невиионн/х гь или ею гц ^»> . учас.^емгъ и^лд
lib
Прериаль
ним законов Таким образом, исходя из этой логики, Робеспьер защища\
введение института присяжных как в гражданском, так и в уголовном
суде, н боролся за отмену деления граждан на активных и пассивных.
В последнем случае он заявлял, что депутаты Учредительного собрания
не вправе вводить такие различия, которые естественный закон (примени-
мый как в отношениях между \юдьмн. так и между гражданами) априорно
исключает С точки зрения природы единственно легитимным шагом может
быть 1ишь провозглашение всеобщего избирательного праваВместе
с тем. дискурс, направленный на включение граждан в общество, легко
и без изменения терминологии превращался в дискурс исключения. Так,
в речи Робеспьера за отмену декретов, устанавливающих имущественный
ценз, четко выраженное требование всеобщего избирательного права под-
креплено пространной н язвительной критикой нравственной испорченности
богачей, которой протнвопостаачена добродетель народа:
Что касается меня, то я призываю всех тех. кто по влечению благо-
родной и чувствительной души сблизился с народом н оказался достоин
понять и полюбить равенство, подтвердить, что справедливее и добрее
народа нет вообще никого <...>, что именно в его среде за внешностью,
которую мы называем грубой, можно найти души честные и справедли-
вые здравый смысл м энергию, каковые тщетно искать среди класса,
взирающего на народ свысока. Народ требует лишь необходимого, он
хочет только справедливости и покоя; богатые же претендуют на все,
они желают все захватить н всем командовать. Пороки — порождение
и удел богатых, ди народа же — это бедствие. Интерес народа есть
обидим интерес, интерес богатых — частный, а вы хотите превратить
народ в ничто, сделав богатых всемогущими
Исключение пассивных граждан из политической жизни недопусти-
мо не только потому, что нарушает принцип, но и потому', что ущемлст т
тех, кто благодаря своим скромным потребностям, благодаря отсутств:
собственности к частных интересов лучше других способен сочетать сн_-
.хинные привязанности с «любовью к Отечеству». Иными словами, доверну
вершить судьбу родины самым богатым, закон лишает этой возможн
ттх. кто наиболее добродетелен в силу своего положения и нрава, т е н
тинных граждан, ибо гражданство неотделимо от добродетели. Впрочем
в апреле 1791 г. Робеспьер требовал отменить всякие различия между г.
жданами, как бедными, так и богатыми Нигде, во всяком случае открыт
он не предлагал сделать добродетель основанием для гражданства. Ли
в 1792 и,<я 1793 г. он потребует отделить «нравственно испорчг
а$)Ск.. в частности, его <Речъ о необходимости отмены декретов, приия
граждан » mate првмыж налогов мам опрсделенноАП' числу рабочих дней» (RobcspK^:
(Ъыт Т VII Р 156-174)
IW.
Ц ape me о jo6pajemc.tu
277
люден » от народа. Однако эта мысль утке промелькнула в его выступлении
1791 г., где гражданство приравнено к добродетели, а сама добродетель
является условием (потенциальным) принадлежности к народу
Мысль о том. что каждый есть «человек и гражданин по природы
своей», в том виде, в каком Робеспьер ее высказывал в Учредительном со-
брании, подчиняла гражданское начало человеческому. Будучи человеком,
каждый уже в силу самого этого факта является гражданином. Сама по себе
принадлежность к роду людскому обязывает закон признать за человеком
гражданство. Однако в 1794 г. та же формула, примененная не ч «конститу-
ированном государстве», а в «состоянии революции», напротив, подчиняла
человеческое начало гражданскому. Соответственно, право на личную бе-
зопасность больше не считалось принадлежностью человека как такового,
а стало лишь атрибутом гражданина. Именно поэтому, ничуть не противо-
реча себе, Робеспьер мог заявить в докладе от 5 февраля 1794 г.: •Защита
общества гарантируется лишь мирным гражданам; в республике нет иных
граждан, кроме республиканцев: роялисты и иностранцы — это. скорее,
враги» 88\
В подобных словах заключена вся суть закона от 22 прериаля как
одного из возможных воплощений того принципа, опираясь на который.
Робеспьер несколькими годами ранее боролся за укрепление юридических
гарантий. Больше не говорили: каждый человек — гражданин но —
только гражданин имеет право на защиту, положенное лишь тем, в ком
человеческое неотделимо от гражданского.
Если строго следовать данному принципу, то принадлежит ки не-
гражданин к человеческому роду вообще? Робеспьер, конечно :
дил до того, чтобы ставить вопрос подобным образом, но что еще могли
означать выражения «нечистоты» и « торосы «овечестьи •. к - г -
пользовал Эрман по отношению к врагам народа^ Что еще мо» сзн.плт* *»
декрет от 26 мая 1794 г. (так и не примененный на практике), прика
зывавший, вопреки законам войны, сбивать пленных англичан* Что еще
могут означать положения революционного катехизиса пуб нова иного
во II году якобинцем Эзопом Деложем • Можно ли считать Французами
людей, рожденных во Франции или принявших гражданство. но отэер-
8 1 Неясность речи Робеспьера подчерк »пм.\лсъ в одном о •ъитугиемми м» >
• Аррасе (апрель 1993). См Robetperre De U naboc ллемеппе a la ttpubUqur el am ui»xu /
Ed J.-P Jessenne. Lille, 1994 P. 223
88 Robcipicrve (Euvres. T. X- P 357. Об этзы жг гоеи»жл Сен-Жакт 10 октября
1793 г. • Нельзя надеяться на благоденствие до тем пор. гмжл не погибнет после ляни враг
Свободы. <...> Ибо с тех пор, кд» Французским народ млаяил евли волю. всякий, кто
противостоит ей. находится вне суверена: а тот. кто вне сверена является ело врагэм < >
между народом н его врагами не может быть ничего общеп» кроме меча» ( Moctteur Т XVIII.
Р 106) [Сек-Л)'*к/п Я. Л Речи. Трактаты. СПб., 1995. L 94)
278
Прериаль
тающих республиканскую конституцию? — Нет, они — животные»?
Это похоже, по крайней мере в своей тенденции, на античное смешение
человеческого и гражданского, приобретавшее в данной ситуации тем бо-
лее опасный характер, что принадлежность к человечеству определялась
принадлежностью не к государству (что привело бы к крайней форме
национализма), а к некоем)' гражданству, которое Робеспьер, во всяком
случае с 1792 г., интерпретировал в категориях морали. Добродетель —
основание для гражданства или. иначе говоря, право есть отражение мо-
рали. Речь идет не только о гражданской, но и о личной добродетели
в той мере, в какой последняя является условием первой. Если доброде-
тель состоит в «беззаветной любви к законам и родине», то, — вопрошал
Робеспьер, — разве «порабощенный жадностью или тщеславием смо-
жет пожертвовать своим идолом во имя отечества»? 90 > Нет добродетели
без борьбы, без победы над собой, без отречения от страстей, которые
разделяют людей, обрекая на одиночество. Таким образом, политическое
возрождение — это также и в первую очередь возрождение нравствен-
ное. Робеспьеристский революционный дискурс означает перенос политики
в с«1>еру морали Враг отныне определяется не по политическим, а по мо-
ральным критериям, неясным и удобным для бесчисленных манипуляций
Основной мотив риторики Робеспьера: враг — это «нравственно развра-
щенный человек», т. е. тот. кто проявг\яет себя чуждым добродетели, как
общественной, так и личной, или. скорее, кого признают таковым. Эта
тема становится доминирующей в дискурсе Робеспьера с момента провоз
глашения республики в сентябре 1792 г. Террор, таившийся до тех пор
в глубине робеспьеристского дискурса как потенциальная возможность,
открыто провозглашается как единственное решение проблем Революции
В октябре, будучи только что избран в Конвент, он писал в первом номере
своей новой газеты:
Свержения трона отнюдь недостаточно. Утвердить на его руинах
святое равенство и неотъемлемые права человека — вот что нам сей-
час нужно. Не пустые слова создают республику, а характер граждан
Добродетель — душа {>еспубликн, т. е. — любовь к родине, беззаветная
преданность, благодаря которой частные интересы сливаются единый
общин интерес. Трусливые эгоисты, честолюбивые и развращенные лю-
ди — вот враги республики. Вы изгнали королей; но избавились ли
вы от пороков, взлелеянных среди вас их пагубным влиянием? В массе
своей вы являетесь самым великодушным, самыми нравственным из всех
народов <...>; но какой еще народ вскармливает в своей среде такое
**' Цнт. по: Blum С. Rousseau and the Republic of Virtu» I be Language ol P< >i
m the French Revolution, Ithaca: L.. 1986 P. 216.
Доклад 5 февраля 1794 г (Rabeipierre M CEuvrea. T X. P. 353).
Царства лпбромгпсш
27Q
количество ловких мошенников w похитнчсскнх шарлатанов, способных
узурпировать и предать его доверие?Q"
Близится террор как война добродетельного народа против развра-
щенных индивидов — война во имя народа *в массе*» против народ*
в частности. Под видом преследования «нравственно развращенных лю-
дей» борьба за республику превращается в борьбу Илютин порочности
каждого из людей. Революция представляет собою движение, в котором
человек восстанавливает свое изначальное единство и целостность. Это —
движение, благодаря которому люди освобождаются от своей индивидуаль-
ности, от того, что Робеспьер обозначил напоминающем речь проповедника
формулировкой «мерзость собственного я». С этого момента Террор пе-
рестает быть просто средством преодоления обстоятельств и препятствии,
мешающих осуществлен ню революционного проекта Он становится не«»б-
ходимым инструментом войны, объявленной «порокам >. или, иначе говоря,
потенциально объявленной каждому человеку от имени добродетельного
народа. Робеспьер, как напишет позднее депутат Конвента Баш ль, «видел
возрождение общества в сугубо определенном аспекте В качестве «к новы
общества он предлагал равенство и демократию... Принципом демократии,
которую он хотел установить, была добродетель, но добродетель в самом
строгом смысле этого слова. А поскольку ее врагами, по его мнению, были
все те, кто получал выгоду от злоупотреблений порочного (нежима все
богатые эгоисты, все падшие бедняки, все честолнбцы. все враги н.цюда
и равенства и т. д. и т. п. — социальное возрождение, или революция,
предполагало очистку общества не только от всех этих потюкав, ни и от по
раженных ими людей... Рассматривая как врагов революции не только
противников священных принципов, но и врагов д-. юроде те ли. как он се
понимал, он придавал революционной деятельности беэцаничиый размах,
поражая без разбора все классы общества»9'
Террор стал необходимым средством для преодоления пути от старого
к новому, формой преобразования общества он слился с Революцией
Поглощение политики моралью, к которому в 1792 1794 it. робес<
пьеристский дискурс о революции прише л путем ж* тененного уточнения,
развития и разъяснения, обеспечило идеологи* 1- : кий фундамент i и ме
власти, установленной после смерти Дантона Прн.мгняшпий» ( итныш
выполнения нравственных задач Революции, Гсррор приобрел бе^гра
ничный характер. Он более не имел цели, объясняемой внешними или
объективными обстоятельствами, ибо к таковым не относилось то. чем
«Письма Максимилиана Робеспьере ж своим избирателям«. Письмо № I «гт 19 лкгяЛрш
1792 г (Rttbcspicrre М. (Euvrcb. Т \ I1 17)
I Bailleul ].-Ch. Esumrii сп|й|иг lea (.ипм<.1ега1нм)» <te M"* U Ixaronne de lUr
lea (irincipauM evrnenieiiit de In Revolution йаодмм. P.. 181b 2 vol. T II P- 23j-25H
280
Прериаль
теперь оправдывали его расширение: страсти, эгоизм индивидов, фрак-
ции... Постоянно требовалось все больше и больше Террора, чтобы «вы-
полнить предписания природы, осуществить предназначение человечества,
сдержать обещания философии, освободить Провидение от долгою гнета
преступности и тирании'-, и в один прекрасный день заменить «все пороки
и нелепости монархии всеми добродетелями и чудесами республики»
Этот творившийся во имя добродетели и теоретически не имевший ника-
кого предела Террор в то же время нуждался для своего осуществления
во все более и более концентрированной власти. Действительно, апелляция
к добродетели требовала наличия власти, способной определять содержа-
ние этой добродетели, и такая власть не могла не принадлежать лишь
одному человеку. Добродетель — понятие туманное и допускающее раз-
ные определения — нуждалась в том, кто должен был ее олицетворять.
И наконец, добродетельным leppop требовал абсолютной власти, не до-
пускающей ни сомнений, ни споров. Именно все эти разнообразные цели
и преследовал культ Верховного существа, учрежденный 7 мая 1794 г
по предложению Робеспьера. Представив Террор исполнением божествен
ной воли, новый культ оградил его от критики, подвергавшей сомнению
необходимость репрессий, ссылаясь, например, на исчезновение каких бы
то ни было реальных угроз. Объявив революцию войной с «нравственной
испорченностью», культ Верховного существа завершил поглощение поли
тики моралью. В данном отношении, помимо того, что он был призван
играть регулирующую роль в будущей республике (см. след, главу), он стал
идеологией Террора в тот самый момент, когда победы на фронте и пре-
одоление внутренних трудностей лишили репрессии всякого оправдания
ссылкой на обстоятельства, вызвав необходимость глобального пересмотра
целей и средств Революции. Во-первых, культ Верховного существа леги
тимизировал продолжение Террора независимо от тех обстоятельсгв (воина,
гражданские смуты, кризис государства), которые сделали его движущей
силой революционной политики, и поставил перед ним более широкую
задачу: не истребление явных или предполагаемых противников, а пресле -
дованне «порока» и «испорченности» в каждом отдельно взятом индивиде
Во-вторых, он придал легитимность власти террористической олигархии
(и личной власти Робеспьера), возложив на нее выполнение сей высок'
миссии. В-третьих, культ Верховного существа дал моральное оправдание
Террору, повседневная реальность которого противоречила всякой мора\и.
Наконец, в-четвертых, божественное поручительство обеспечивало пень-
грешимость действий революционеров, убеждая террористов в абсолютней
справедливости их поступков: Провидение, хранившее Французскую рев<
люцию. гарантировало, что враги народа, все враги народа и только врю и
народа, в конце концов, понесут кару.
Доклад от 5 фсьраля 1794 г. (Robespierre М. CEuvrn. Т. X. Р. 352)
Царстве добродетели
281
Нет оснований сомневаться в искренности многочисленных выступ-
лений Робеспьера, отражавших его веру в 11ровидекие. Он был убежден
в том. что оно вмешивается в дела люден. Дсйствитгльно. разве можно быйо
себе представить, что нация, развращенная деспотизмом, роскошью и не-
равенством, это «деградировавшее человечество’» сумеет вырваться «почти
что из объятий смерти и вновь об(>етет анергию молодости»? - Дряхлость*
не стряхнешь. Революция же предполагала первозданную «юность» и не
порочность. т 1тобы народ захотел разбить оковы, ему необходимо было
быть добродетельным. Объясняя необъяснимое, утверждая, что испорчен-
ный народ в душе своей остался добродетельным, Робеспьер ссылался то
на «добрый гений, хранящий Францию». то на «божественное Провиде-
ние»*.. 1ипотеза о вмешательстве Провидения имела большое неимуще -
ство, подтверждая, что Революция справедлива и что все совершаемое ради
достижения ею своей цели необходимо, даже если оно и выглядит проти-
воречащим ее идеалам и ценностям Провидение для Робеспьера играло
в некотором роде ту же роль, что и философия истории в последующем
столетии. Оно придавало событиям характер необходимости и оправды-
вало субъективные поступки революционеров объективным ходом вещей,
избавляя также от всяких моральных ограничений Если Франт ч< кая рено
люция предначертана свыше, то ради достижения ею своей цели допустимо
все. Включение в революционный дискурс ссылки на 11ровндсние гаран т -
ровало, что эта цель будет достигнута, независимо от р пмероп трудное тем.
которые предстоит преодолеть. Рассуждения Робеспьера о I Тривнденнн
это навязчивый бред о невиновности и о безграничном могуществе воли.
Повторим еще раз: облачение идеи исторической необходима тн н одежды
нового религиозного культа не должно от нас скрывать се современного
содержания94^. Именно через такие «архаические <|юрмы и щюн ходило
в огне тех событий становление современной идеи революции, а именно —
на первый взгляд странного и даже противоречивого сочетания игры н Сич
граничные возможности воли и веры во всемогущество нсы>ходимосп4
Согласно этой идее, и воля, и необходимость равно служат рождению
нового мира, свободного от проклятия прошлого.
* * *
Завоевание власти Робеспьером весной 1794 ». инлмсгсн, таким irfipa-
»ом. не просто новым эпизодом в истории Террора. 11.нц «пш, «ю спиде-
тельствует о глубинных изменениях в его сути, формах и целях. Осы/юдив
шись от всякой связи с политической ситуацией и будучи перенесен н с<|»сру
морали. Террор перестал 1юсприниматься как печальная случайность, как
В перппй половине XIX в. для Бюшг. Ламеннс и Кд < |н-.м<|нх пмлл ннструмнггим
ocMiMVAciiHM )К.нолк)ЦИ»1 См.: Bcniihou Р 1л Tempt <1еа pr.ijj|ir»r» IЛ«iniiet 4г I ще П)тапш|ие
Р., 1977
18 3»к 1$Ь
2Й2
Подо**»
иеомюдмотг no а основе г>пей чуждое Революции крайнее средство. Он
слпошесгвлягтся с Революцией. превращается в ее важнейший атрибут Он
сам стажжыггя фс^ягж революционного преобразования, отныне лонямае-
шап> не шг уттаяоем*нмг нового политического и социального порядка. а кам
соэдиже irtfuWMa условий для будущие per публикации* иис титулу
Гэе ни р смерть Дантона. даледе не случайная. стала важнейшим. сим-
волжским Уагги^м \г>дь трибуна гХсхаиэмила поворот. С нею T^pfxjp
оборвал в:г кип* гак или ина«** связывавшие его со Старым порядком —
с культурой насилмя и п(жнуипами г^шествемногс» спасения Оба эти фаг-
’эра. уимеммвж жестокостью реэолюуионных страстен, игреки до того
[«eoHoCHgyifj роль я вызревании, а с 1793 г. — в применении Террора
Стяммг. с апречя гю июль 1794 г., с пабсдн Дантона до гибели Робеспьера
Ф.лч ;7эсжая ревок/ухл вписывает новсж сас^во я с»н>й и так уже обширный
перечень сммаг-яческиз режимов — идеократмя.
-XI------------------------
Идеология и политика
Робеспьер: республика и добродетель
Града добродетели. к построению когоргхо. и» предполагалось, дол-
жен был привести Геррор. не су?цестъовало к природе де он и не мог
существовать. Речь не ии* даже о проекте. поскольку его нем/аможмо бы-
ло описать в рамках штъ бы (колысо-иибудь рациональной тормкноч/гим
В равной мерс не был он к утопией начиная с Пламли .tokwльном
чертой утопий было тщательное описание мгиюгмвое, подчас противоре-
чивых. которые должны были обеспечить вс^Лщге и вечжж счастье тогда
кэх в робеспьеристском дискурсе град добредет г дм не имел ми очертании,
ни содержания. Он был не политикой. а риторически* нсху'ствеимым
построением
И в самом деле, ког/u речь шла о добродетели. некто не говели чаде
ЛУЩего. о республике — разы- что косвенно. неогцх делеммо и с преувели-
чениями; говорили о Терроре и только о Терроре Его рассматривали не ми
конечный рубеж, а как средство. нег/люди***. ттс/еа достичь «той усдоль-
ааклцей цели. Это был разговор о Революции. оторванной ст своей цглн.
от Республики. К тому же при чтении докладов Рсбгспьгр* в Ксжвгмте
Складывается неприятное ощ/1цгние. что выбор столь крайнего средства,
как Террор, обусловлен не важнейшим и безусловным де^.мктером его цели
| HarifX/тии, именно выбор данного .редгты требовал. гг/лы • магт* ему
ЯфВВдани'*». приписать Р»-воли»ции ^>еусл<тный кы«с*ч<ый ^бкж. wnnpj
го Нереально достичь — словно средств*- еггиемяло угль, которой диллкмо
бмл> служить, словно оно прм^/рстало свои сг/гтвсишм цг\л под сенью
высокопарной риторики п воспеваемом буду
I Данный Тезис МОЖНО Прон / ’> < Д А, > л >М -.(*1<ЦИПЙ7 1«0-
^Лгчегуой морали», прочитаикь.* Робеспьером 5 }rep<ui 1794 г В гтой
вачпож речи Робеспьер, по сути де и, постарался рассш/трстъ в говоиуп-
хостн цели и С(*дстъа Революции «Пришло время — провод г кати * он, —
что обо значить цель Рсымк>ции < > пришло аргма дать себе отчет
264
Идеология и политика
н в тех препятствиях. которые ее отдаляют. и в тех средствах. которые
необходимо употребить дхя ее достижения»
Однако отнюдь не напоминание о целях было в центре его внимания
Cpazy после того. как Робеспьер дал краткое определение • демократичен ко -
го иля республиканского правительства», соответствутощего, впрочем, духу
конституции, принятой в июне 1793 г., он сразу же перешел к средствам
Прежде всего, было упомянуто всеобщее благо: с введением республикам
скит янститу-ов нужно подождать до тех пор, пока не будет закончена
-воина свободы против тирании». Знакомая терминология — она же лежа-
ла в основе политики революционеров начиная, по крайней мере, с 1792 г
И она же обязывала их перед лицом многочисленных и могущественных
противников утютребитъ дкя победы любые иосчючительные меры вопреки
собственным принципам. Однако постепенно природа аргументации меня-
ется. и именно с этого момента Робеспьер, если можно так выразиться,
становится Робеспьером Французская революция, объясняет он. должна
отразить атаки не только сторонников Старого порядка, но и <всех пороч-
ных честолюбивых к алчных .моден»; она — то поле, где разворачивается
великое сражение. которое должно определить «судьбы .мира» и ознамено-
вать полную и окончательную победу одной из «двух противоборствующих
ска <.,.>, оспаривающих между собой царство природы'*: порока и добро-
детели. В этом месте речь резко меняет свое направление, покидает сферу
по.мггики и отправляется блуждать по неясно очерченной сфере морали
С агнх пор и выбор средства (террор) не подчиняется более требованиям
всеобщего блага, поскольку сама цель определяется теперь по-другому,
что выводит ее далеко за пределы установления представительного строя,
дополненного прямым участием граждан в управлении (как и было узако-
нено Конституцией 1793 г.). Отныне считается, что Революция стремится
к возвышенной дели, которая, несомненно, лучше оправдывает применение
насилия, но которую значительно труднее обозначить.
Мы ютим, чтобы в нашем стране мораль пришла на смену эгоизму
честность — чеегк. принципы — обычаям. сбяланности — приличиям,
царство разума - тирании моды. презрение к порокам — презрению
в меехастъям. гордость — заносчивости, величие души — тщеслапи;
л№^еь в славе — лжбвн к деньгам, добрые люди — приличном;,
сбществу [ т д]. одмкы сльаоы. чтсбы все дсбродете.\и и чудеса
Ресгэ^лм» првльля на смену всем порокам и нелепостям монархии
Пустое красноречие, которое вызвало бы улыбку, если бы не име
столь зловещих последствии Нуткхалисъ ли до сих пор представит пл:
праалемме и даже впредставительиая демократия» 1793 г. в том «состояв,
из богов народе», который понадобится, чтобы рубить головы порочит
11 М Т К Р 350-366
285
распутным и алчным людям5 Нужно дм столько •чудес республике,
основанной на соответствующих институтах? И в особенности оляютг' *и
эти «чудеса* прелмрительхым условием. необходимым дал устжмоамчои
республики. или они станут следствием рсспубджн<«>*< иигнг-утов^
Добродетель позволяет учредить республику ней. напротив. республика
порождает добродетель?
Робеспьер не разделяет это. утверждая одновременно две раждячмме
(и противоположные) вещи: республика, кам-то скамл он «предполлг«тт
или порождает все добродетели* Однако вредлалдгатъ не оамачает поро-
ждать. Эти два слова имеют совершенно равную г рнчммно-оьелствгмму ▼>
связь.
Утверждая, что добродетель будет следствием ворошей конгпгтуцни.
мы остаемся на политическом поле. Эт означает ,-п сво/одд. окачадьмо
предоставленная людям, какими бы они ни были, делает кг лучше —
подобно тому, как Кондорсе полагал, что пользование свободой посте* «тио
нивелирует неравенство способностей тех граждан, к * ,^е рухс^од.-тг<-
ются разумом. Кондорсе ожидал, что постоям ж>е сущестыжанне г^ю
институтов вознесет граждан на верижну их раз
Напротив, если рассматривать добродетель, кая предварительное и не-
обходимое условие, предполагается, что она может бы~ъ гц/нгу^а ня
политическому организму в целом, так и каждому из оггавдлхлци к еп
членов — независимо от какого бы то ни бы о инсткп. » »ило иг
ханизыа, отвечающего за развитие добродетели к комле «рулщг-о ег
отсутствие. В конечном счете, это приводит в выл- лу о том. что клможн
такое положение вещей, при котором эти институты псгг%яют эсдмму иъ*
своего существования, что означает выгод за пределы пс тгмч - • <
и углубление в самую расплывчатую утоакю. которую толсло мол* -<<
представить
Таким образом, робеспьеристский дискурс фахтичесяи прелстимлст
собой сличав из двух дискурсов политнческпг акхпегс.ш рестгеблклл.
и морального, касающегося добродетели А ето мсткин?> хредндшоммн^
состоит в том, чтобы дать Террору малопсальн :ти - -. шнме
Вытеснение а 1794 г на второй ачан tuxipocoo постр^нмя
можно объяснить, вспомнив, что пио' того «ал а лягуттг 17'^3 г аеедемм^
в действие одобренной на рефрена уме Конспгтуцх* г ч жгмо. * орис
о форме государственных институтов утратил сыж? ад тух^п:<тт Vхорею
обсуждавшийся начиная с 17S9 г вопрос подучил с» вег < г?
имела Конституцию, которую, однако, каогго не с ремкм я аг^ а дх>*
Лаже в относительно 6лижай^>'м б^.ощем
Непродолжительные дебаты, орсамяммн ч .ые сюс м- евгрмгння жм
роялистов, икончэтекьно постдокам точку в хнскусгнаж о камгтиту^ш —
ВИТ ли удивляться, что с этого временя исчез с гориэомта а яоафог
о внутренней организации самой республк» Робеспьер, w пример оо-
286 ИДГОЛО/Ы и ПОТКПШКП
MX КОК МТ, .MTpAPHIMS ВОПрОС О бхДТЩМХ ИНСТИТуТЯХ ЛИШЬ МИМОХОДОМ
л именно потому, что тот был решек
11о главное было Совсем в другом Вплоть до 179} г. Робеспьер не раз
высказывал свое мнение о республике. ее принципах, природе и институтах,
которые, по его мнению, республику определяли. 11 делал он вто с завидным
постояпспюм Однако эти многочисленные выступления ни и коем мере
иг предвещали тг г.нояиьш1енные мыс хи», которые он выскажет в 171М г.,
чтобы подвести базу пнд свое требование интенсификации leppope. которым
должен был П|5гврлгнться к характерную черту республиканского правления.
Ре. публика по Робеспьеру (по крайней мерс, в тон степени» в какой он
каса.м« ее материального наполнения). не имела ни явном и ни. тем более,
неизбежной связи с Террором. Выло совершенно не очевидно, что leppop
окажется необходим д\я ее установления или. несколько позже, для ее
сохранения
Чтобы лучше оценить пропасть, которая разделяет цель и средство,
необходимое для ее достижения. стоит подробнее остановиться на доку-
менте, в котором Робеспьер наиболее точно обрисовал свою концепцию
публики — на г го декларации прав человека, представленной Конвенту
24 апреля 1795 г 9 Выбрал я ее отнюдь не случайно. поскольку оказа лось,
что этот документ чаете» цитируют в качестве примера, доказынающед»
существование тесной связи между идеями м политикой Робеспьера: терро-
ристический политикой на службе «тоталитарного» замысла. На самом же
деле все обстоит иначе: этот проект не имеет никакой связи с тотллитарнз-
мим и ни в коей мере не призывает к Террору (если полагать, что leppop
должен был народить «нового человека»).
Составленный Робеспьерам проект декларации представляет собой
винлоцкнныг в статьи правила и принципы, непрестанно высказывавшиеся
им с трибуны С1цс со времен Учредительного собрания и уже успевшие
прг»«ратитося в политический символ веры, опубликованный в 1789 г.,
о котором шла [*ечь в предыдущей главе. Бесспорно, до 1792 г. Pooei
пьер нс употреблял слова ^республика*, однако после падения монархии
ин стал использовать это новое слово. 1цн>лнктованног сменой формы
правления, для описания того порока вещем, к которому он стремил м.
начиная со своего появления на политический арене — установление р<
жима, сопутствующего природе сющсстиа, которое рассматривается кль
божественное творение, имеющее зярвнее определенную конечную цель
полное раскрытие человека как существа морального.
К примеру уже • *Ррчн притни Мх^левсыоп) «сто. ллл аСхч'.люпнй». Тик и ипикн*.' \*
»*оги» ОЛ¥Л\АМКМШ-«М1М.'И 8 crKTBVjV 17в^ Г- (|Ь»»1 I \1 Р.8б~9)) миЖНю нлигм
пршцмпы. рАжаяпяе в uv '0 ыде 179’3 г и Конституции (Ibid I L\ Р. 494—510)
’>!№ TJX Р.464 469
Робеспьер: республика и Аобро/сте^ъ
281
I 1риняп это определение происхождения и конечной цехи общества,
Робеспьер отделяет себя от тех. кто оставался верен теории договора. рас-
сматривавшем общество как искусственное создание объединившихся а него
членов. В то же время, он отнюдь не отделял себя от тех. кто — от Снйееа
до Кондорсе — считал, как и он. объединение людей в общество своего
рода природным (]»еиоменом. но смотрел иа это сквозь призму инте(испв
индивидов, видя здесь средство обретения теми, благодаря предоставляе-
мым в обществе возможностям и защите, лучшей доли. т. с достижения
их собственных целей.
Человек. по Робеспьеру. — эти не индивид физиократов, движимый
интересами, и не индивид Кондорсе, движимый свободным применением
разума. Природа предписала чс ловеку руководствоваться моралью, что есть
высшая ступень достижимого для него совершенства 11 если природа нале
ляст человека неотъемлемыми правами, то эти права нельзя ^ссматрнвагь
отдельно от высших законов справедливости, которые дают человеку право
ими пользоваться.
Отметим, например» что именно свобода (статья 2) п<х\е прана
на «самосохранение» (статья 2) и прежде равенства (статья 3). безопасно-
сти (статья 8) и сопротивления угнетению (статья 27) завершает перечень
неотъемлемых прав человека. Смысл, который Робеспьер вкладывал в по-
нятие личной свободы, очевидно не тот. что был принят в 1789 . Она
состоит не в праве «делать все. что не мешает другому», но в праве де
лать все. что не мешает другому, уязмая внешни *зкон спривед лшюмпи
(статья 4). Определение, весьма отличное от определения 1789 г. здесь
свобода не может рассматриваться нм как право на безразличие. ни как
право на этнзм. ин как право ил одиночество. «Не мешать другом^
отнюдь не означает утверждения, что свободой пользуются по справедчн
пости и по закону; кроме того, необходимо но ж?.лмйжшктн вшнить см» и
вклад в благо другого Свобода — это ннднвнд) >льнос право, пользование
которым должно быть согласовано с общей целью. Это не прел^ожен
мая каждому возможность свободно ра.ишнлться (при сл\члг. отдельно
от себе подобных) — это Недоставленная каждому в.>гм< л нить св<** /шо
развиваться, способствуя развитию о< тдльных
Необходимо подчеркнуть, что в проекте А- « л. к,?г jr-ц доо^гн
был прсдстанигь новую декларацию пран, видно ' шк “ан! г
наться как от текста 1789 г., так и от П|кикта. выдвинуто • Кондорсе
несколькими неделями ранее. Робеч’пьср |1|х-дюжнл < v \сние i в<чю-
ды, нацеленное, в конечном счете, на разрыв с ^>едс\сннсм, принятым
•СтМх1ДЛ. — писал Робеспьер в своем проект? Дгкицмунм пр*в — «н\> прммдд
ЧеЖЛЩАМ ЧСЛОНСКУ П.МГТЪ МСПОАЬЗОМТЪ ВСГ ВЬ'ЛМОЖЖЧ t-« 6.\^гл f •
cnpdicj luttiMHib, er Гранины • i^uiu др\гк1 er чд жчм rr миг — мои»
(iiirbii 4).
288
Идеология и политика
в 1789 г., — как абсолютного личного права, не уравновешенного обя-
занностями. В частности, он очертил пределы личной свободы, которую
в принципе не отрицал, но которую, как полагал, члены Учредительного
собрания 1789 г. недостаточно четко определили, поскольку не указали
обязательств, ограничивающих пользование ею. Своим настойчивым тре-
бованием справедливости его проект больше напоминает не «декларацию
прав», а <-декларацию обязанностей», к тому же идентичную по своему
духу истинной декларации обязанностей, которая появится в следующем
году, согласно декрету’ 7 мая 1794 г,, провозгласившему «существование
Верховного существа и бессмертие души»
Так все же прав или обязанностей? По большому счету, для Робес-
пьера это одно и то же. Право не отличается от морали, это — норма
ее применения. Если общество от природы призвано руководствоваться
добродетелью, моралью и справедливостью, разве права не превращаются
в единый миг в обязанности, которые каждый должен принять на себя
перед лицом единой общей цели?
Очевидно, что Робеспьер — не либерал. Может быть, он даже не со-
всем «современен»: его анафемы себялюбию, деньгам, роскоши, частным
интересам и страстям пропитаны религиозным чувством, характерным ско-
рее для проповедника, нежели для Руссо. Можем ли мы тогда выводить
террор из стремления поставить общее благо выше частных интересов или
даже из намерения открыть путь во имя всеобщего блага для вторжения
государства в частную сферу? Без сомнения, это государство регулирую-
щее, государство вторгающееся, однако это не Террор, по крайней мере,
если рассматривать его как средство морального обновления.
Запомним все это, чтобы лучше понять те статьи декларации, которые,
как часто считают, ставят под сомнение право собственности. Совершен-
но верно то, что Робеспьер не включал частную собственность в число
естественных прав. Он объяснял, что речь идет о «социальном институ-
те , о защищаемом законом «соглашении между людьми», однако тот же
самый закон может, если это необходимо, изменить условия этою согла-
шения:
Ст. 6. Собственность — право каждого гражданина пользоваться
и располагать по своему усмотрению той частью имуществ, которая га-
рантирована ему законом. Ст. 7 Право собственности ограничено, как
и все остальные, обязанностью уважать права других. Ст 8. Оно не мо-
жет наносить ущерб ни безопасности, ни свободе, ни существованию,
ни собственности нам подобных.
Отмстим, что статья 8 признает в собственности право, в равной мер-,
гарантированное всем людям посредством законов, подчиняющих, однак
*>См : Rcibcipterrc М. CEuvre* Т. X. Р 462-465.
Робеспьер: республика и добродетель
289
собственность справедливости. В данном документе присущая тому времени
лексика скрывает куда более древнюю концепцию собственности И только
не зная об этой традиционной доктрине, действительно оттесненной в конце
XVIII в. на задний план локковской концепцией частной собственности,
рассматриваемой как исключительное и абсолютное право индивида можно
увидеть в предложенных Робеспьером статьях стремхение поставить под
сомнение частную собственность. Ведь это фактически означам» бы — что
еще более абсурдно — речь в защиту имущественного (йвен*
В соответствии с этой традиционной доктриной появление части и
собственности не предшествует появлению государства, да и не может
предшествовать, поскольку само государство не рассматривая как дого-
вор. Напротив, это государство предшествует собственности, мно также
как общество предшествует составляющим его индивидам, в п>м пла-
не что «сохраняемое индивидами право на свою собственность м- о>
реализация права, изначально сохраняемого за сообществом
Если собственность и не выводится за пределы юрисдикции .на то
она. тем не менее, не становится и институтом, созданным государе твом, к
торый государство, соответственно, вправе отменить В данном отношении
государство выступает как посредник между обществом и частыми лица
ми: защищая права частных лиц, оно гарантирует права г/щестад. С од и й
стороны, частная собственность не является абсолютным раы>м од
нако, с другой, она остается правом «священным Пк.д.. г » ,п • н )
лишить индивида его имущества. Когда вынесен пригонки • -.-ири - чин
собственность индивида, выведенного за пределы ю т мым
им преступлением, возвращается к своему изначал.
владельцу. Однако без необходимости сделать нтч ,
Робеспьер безоговорочно выказывает себя при
ции, имевшей мало сторонников среди ре волю пр ин • • »м
созвучной его собственным представлениям об устройства г По.
мимо всего прочего, данные статьи преследуют и ряд к ,-тмых чей
которых он хотел достичь своим определи - осуждение
рабства (той формы собственности, что прги" ( г мпу ..мн
ства людей и к тому же осуждается законами
ЗНа идея сформировать ь бабувнеп юо г>. ! . к *
времени уже был осужден Так, Рёдерер объяви* душл.-uw-V ч - . % ,w. <
но, сам того не подозревая, отрнуол право сибсгкнхкп. ‘ -л мшш . f
право иеМММтюе. непрочное, иеоиредедеммие, подчиненна
чиновнику. пидьержен1юе нвродмым предрассудкам» ’ ,. ч .
Т I Р 510). Отстаиваемая Рибсспъг^.'м идеи вст|:<т\а «. • -. >*»<*
в Конвенте, что во время констигуии^нныi лебегов в июне 17 с»» uje.wA лег чрскля
не касаться этого вопроса
Rendu*-Za^ame' У -1 j •> i -
et S. RjaU. P. 503-506 (цитата lo c. 504)
290
Идсплптя и политика
рамки легального пользования любым из прав®)). признание «социальных
прав» (на труд, на общественное призрение, на образование) и учреждение
системы прогрессивного налогообложения доходов.
Идея признать и отразить в Конституции существование долга обще-
ства по отношению к своим членам представляла для Робеспьера логичное
дополнение к признанию обязанностей индивидов по отношению к обще-
ству: если каждый должен пользоваться своими правами, имея в виду общее
благо, то каждый по мере необходимости должен получать и те средства,
что позволят ему поступать согласно справедливости. Индивиды и единое
целое, которое они образуют, связаны взаимными обязательствами.
В 1793 г. эта идея не была нова. Хотя Учредительное собрание
и отказалось от нес. она снискала немало сторонников при обсуждении Де-
кларации прав 1789 г. Порой ее защищали даже весьма умеренные ораторы.
Так, например. Пизом дю Галан, близкий к конституционным монархистам,
доказывал, что изначально существует «право на жизнь», которое не по-
зволяет. чтобы право на собственность (в коем он, тем не менее, видел
естественное право) «мешало кому бы то ни было себя прокормить»: «Так,
каждый человек должен иметь возможность жить собственным трудом.
Обо всяком, кто не может работать, должны позаботиться» С той поры
этот вопрос поднимался с завидной регулярностью, особенно в тех случаях,
когда Собрание утверждало работу Комитета по нищенству. Так, герцог
Ларошфуко-Лианкур в июне 1790 г., а затем и в январе 1791 г. несколько
раз выступал в защиту права «бедняков на поддержку со стороны обще-
ства» в терминах весьма близких тем. что употребил Робеспьер в апреле
1793 г.Таким образом, и в этом плане речи Робеспьера о республике
никоим образом не приближают к пониманию Террора.
В июне 1793 г. Конвент удовлетворил требования Робеспьера, вклю-
чив в новую Декларацию прав человека право на труд, на общественное
призрение и на образование (статьи 21, 22). И напротив, он воздержал-
ся от того, чтобы включить в Декларацию прав принцип прогрессивного
налогообложении, предложенный Робеспьером в качестве способа оплаты
долга общества перед своими членами: «Статья 12. Граждане, чьи доходы
не превышают необходимого для их пропитания, освобождаются от обязан
•Спросит* «того торговца человеческом плотью. — говорил он в своей вступительной
речи, — что такое собственность, и он скажет вам. указывая на длинный гроб, который
называет кораблем и в который набил закованных в железа людей, лишь кажущихся живыми
..Вот моя собственность» я заплатил за каждую голову** <...> В глазах этих лк дгн
собственность не оежноим ни На каком моральном принципе. Она не содержит н себе
никаких представлений о справедливом и\м иг справедливом* (Robespierre М (Euvrt‘6. Т. IX
Р 460-461).
?| Ц»п по Cawhel М La Revolution de* drolls dr I'homme P.212
Cm Малпот S. (Joe el indivisible. T. I. P. 504.
Робеспьер: республика и добродетель
291
мости участвовать в общественных расходах. Все остальные должны нести
их бремя, уплачивая налог в зависимости от размеров своего состояния о.
В этом месте его также нередко интерпретируют ошибочно, пре-
увеличивая смысл сказанного до такой степени, что оно превращается
в утверждение, будто «излишки богатою принадлежат бедному» Речь
отнюдь не идет о проповеди имущественного равенства. Эта формулировка
была уже хорошо знакома людям XVIII в., да в не восходит ли она
по прямой линии к Святому Павлу?12) Она давно и часто употреблялась
в тех регионах, которые были глубоко затронуты древней «республикан-
ской» культурой общественного блага и духом католической ргЦюрмы —
в северных провинциях Франции, откуда был родом Робеспьер Шал ли
речь о статусе частной собственности или об обязательствах общества
по отношению к своим членам, Робеспьер не утверждал ничего такого, что
не провозглашали бы торжественно пятнадцатью годами ранее в Лилле
чиновники Бюро благотворительности:
Обязательство помогать беднякам основывается на самом природе
человека и проистекает из любого исповедания веры < . > Сама природа
распорядилась, чтобы ни что из того, что необходимо для жизни,
нс принадлежало никому лично. Каждый человек имеет пра»ч> в ранн к
мере пользоваться и распоряжаться этим. Отказать бедняку в том, что
ему необходимо для пропитания и сохранения жизни, означал лишить
его самого священного права к совершить ио отношению к нему самую
вопиющую несправедливость, означает лишить другого большой части
того, чем ему принадлежит в силу самих прав человека
Представленный Робеспьером проект декларации прав содержит те же
идеи (выраженные в сходных терминах и с той же целью) с природ* * и
ловека, приоритете общего блага и собственности не уравнение имущ- иг
но уменьшение, в частности, введением прогрессивной шкалы нл**г<цр м»
жения, «крайнего неравенства состоянии» и, соотиек тнгнне нрлштш- •<<н
испорченности и отрыва от общества, порождаемых как чрезмерным о им г
ством, так и чрезмерной нищетой.
Если в проекте Робеспьера и присутствует утопичес клн «и ын W” ц ы.
ее границы подчеркиваются самим автором Вы< гуная за < здание <с темы
перераспределения богатств, призванной исправить н л о, г ’ ’
чнв его пределы, он признает неизбежность днсп| н- рцин । ждагм.ых
свободной конкуренцией. Точно так же, заставив Конь, нт : м 1794 г.
111 «Безотказная помощь тому* кто лишен самого необходимыми. долг кали-кто
обладает излишками», — писал Робеспьер.
«Их избыток и восполнение вашею недостатка, toxhi быч р '•»«•мг»н<г>. B’vpoe
.послание Коринфянам. R. 14.
* Об этой «мспвно-тридгнтс кон»< культуре французской Ф'лкдрнн см рд» -ну (J РА.
Lr Pouvoir dans 1л vdlc аи XVIIIе tiecle PfalMjUts мхи1г». notabiliie H elhiquc ни ьИе de part et
il autrc dr la Ironliere francr»-lxlgc. P . 1990 P. 270
292
Мдео.юшя и птитикп
ввести гражданскую религию, признанную напоминать с воспитательными
целями о добродетели и ее поощрять, он фактически признал неиско-
ренимость страстей и невозможность когда бы то ни было уничтожить
расхождения между индивидом и обществом — иначе что за нужда обще-
ству, состоящему из добродетельных полубогов, поощрять каждую декаду
частные и гражданские добродетели?
Посвященные республике речи Робеспьера не рисуют нам картину со-
общества граждан, в равной мере, полностью и неизменно добродетельных;
они набрасываю эскиз общества где добродетельность институтов призвана
подавлять неизбежное несовершенство люден. Свобода нс требует добро-
детелей. она творит добродетель: свободе не требуются добродетельные
люди, она заставляет их быть добродетельными, а это уже совершенно
иное дело.
От республики к Террору
Два дискурса Робеспьера — республиканский и революционный —
проистекают из единого источника, из представлений о происхождении
и природе общества. Это источник позволяет Робеспьеру переходить из од-
ной тональности в другую без видимых противоречий, несмотря на то, что
пути этих дискурсов все более и более расходятся.
Начиная с 1789 г. они существуют параллельно, не противореча друг
другу и даже не пересекаясь. С одной стороны, Робеспьер придерживается
концепции Конституции, основные элементы которой быстро обозначились
и в дальнейшем продолжали подпитывать этот аспект его дискурса даже
после свержения королевской власти в 1792 г. С другой стороны, он раз-
рабатывает дискурс относительно содержания и способов революционных
преобразований, который примерно с 1791 г. ложится в основу доктрины
общественного спасения.
Окончательный поворот происходит после свержения монархии. С это-
го времени не перестает углубляться разрыв между представлениями о рес-
публике, ее сути и ее институтах, оставшимися неизменными с 1789 или
1790 г., и взглядами на революцию как таковую, которые приобретают
определенную автономию Это приводит к расхождению в представлениях
о цели революции (царстве добродетели) и о ее средствах (терроре как об-
новлении). После провозглашения и отсрочки Конституции 1793 г. и после
вхождения Робеспьера 27 июля 1793 г. в Комитет общественного спасения
революционный дискурс во многом начинает отодвигать на второй план
дискурс республиканский.
В качестве объяснения того, каким образом террор постепенно погло
тил ранее провозглашенные Революцией цели, можно выдвинуть несколько
гипотез. 11ервая состоит в том. что причиной всему стали выводы из тех
От республики ж Гспрору
29)
представлений об обществе, которые лежали у истоков эпи двух джкур-
сов. Будучи приведена в действие, неумолимая юшка uj* и все дальше
и дальше уводила Робеспьера на путь насилия. Мы вилеч. ню республика
в понимании Робеспьера не имеет в себе ничего ••либерального» свобо-
да там во многом отождествляется с моралью самопожертвования, л та»
в свою очередь, основана на ценностях, которые сегодня мы бы нлхнлан
•‘консервативными'». О подобном республиканизма можно скамтъ, 1гго г» и
порожден консервативным н буржуазным эгллитари амом
Однако этот «не либерализм» никак не объясняет переход к тер^юру
Достигло ли французское общество конца XVIII в гак .-и степени м v .
низании, что потребовалось прибегнуть к столь ужасным с^дсттам, i • "
насадить в нем робеспьернстскне ценности? Да и сами эти ценно, тн — труд,
семейные добродетели, ««почтенная усредненность» состояний. хме^ни.мтгъ
страстей, забота о благе общества — разве нс совпадали с представ нян-
ями своего века о «буржуазном счастье»?t4) Именно этим соответствием
дискурса культуре того времени н объясняется, по крайней мс,< частично,
то исключительное влияние на завсегдатаев Якобинского клуба, кот л
Робеспьер приобрел очень рано: эти несколько провинциальны буржуа
видели в его рассуждениях о добродетели, морали и утешн единых ли
рах религии те ценности, которые разделяли они сами, а . ют чу они
идентифицировали себя с этим человеком, чья подчеркнутая чмкуратж.»гь,
проникновенные речи и демонстративный аскетам н повседж •»- и
служили отражением их собственных, неисполненных мечтаний, ю,
чем они, как сами себе представляли, могли бы стать Pocxu-чр vin\
воплощением буржуазного идеала
Лишь учитывая эту роль, это умение воплощать ценности в нршкнпн
которое было ему дано, а не ища некую маловероятную .< Hif • •
логику идей, можно понять, как он пришел к те. , f \ С .м
прибытия в Версаль в мае 1789 г. Робеспьер обое. чя з ». i<r м
фланге политического спектра и далее придерживала ч
рекор всему и всем. Очень быстро он составил себе -п............. < г.шп
эксплуатируя две темы, в которых нашли отражение и ег ахвнмг п нн-
ципы. и его концепция революции критика с то« > i инн *• ' isrw
права принимаемых Учредительным собранием л.>• ми»в и । чм .ш - » <
оправдание народного насилия той ралумнктьк п , н •
цконным действиям. Однако такая стратегий ие ^ннесла С' цикл- и.
политического влияния в Собрании, а скирсе наоборот Играя на
' 'См.: Mauii R L’ldcc du bonheur <bni U luimiuic « । pen*-* ли \ * 11Г
xiede(1979J P . 1994 P. 269—269 Ье»и^4Н1«мФрАяшлмь •-• • и.иду«п»м<-,4.«
добродетелей, оиредсляншнх буржули.ый кдго жихм греинмт- и «имнг
жчждим, решительн.кть умереннистъ. усердие, «иришть, егч-о, имжп». -ы«<1лдд«
дкку(мп40стъ. душевное р4манжете, целомуД| . ‘ «
и не говорил.
294
Идеология и политика
двух инструментах за пределами Собрания, он завоевал себе исключитель-
ный авторитет, который объяснялся не только и столько тем, что Робеспьер
говорил или чего он хотел, сколько тем, чем он был, или. по крайней мерс,
тем своим образом, который сам создал. Это — редкий феномен, когда
человек вызывает преклонение перед собой тем, что служит воплощением
принципов.
И в Якобинском клубе, и в секциях Робеспьер воспринимался не столь-
ко как лидер партии, которую поддерживали за ее политику, сколько как
олицетворение морали, с которой люди себя идентифицировали, независимо
от той политики, что проводил он сам, — политики, часто непоследова-
тельной и порой продиктованной сомнительными союзами. Он управлял
общественным мнением, что, на самом деле, было сродни деятельности
адвоката — по содержанию («защита несчастных) ), по форме («проник-
новенные речи«) и по подчеркнутому соответствию образа самого оратора
его речами.
Робеспьер оставался в начале революции тем же, кем он был в Аррасе:
«защитником вдов и сирот> Он защищал права народа от национального
представительства так же, как некогда защищал от королевского пра-
восудия неправедно преследуемых, невинных людей. Однако исполнение
той же роли в совершенно ином контексте не осталось без последствий.
При абсолютной монархии адвокат смягчал н ограничивал действия власти,
благодаря чему и пользовался уважением и престижем При представи-
тельной форме правления, когда закон стал результатом общего обсуждения
(в косм Робеспьер и сам участвовал как депутат от Артуа), его деятельность
приобрела сугубо негативную направленность: оценка позитивного права
с позиций права естественного приводила лишь к невозможности принять
какое-либо решение. Действительно, сострадание не является политикой.
Пространные сетования Робеспьера о судьбе «несчастных» на деле были
обращены лишь к нему самому. За ними не следовало никаких конкретных
щ»едложгний, способных облегчить жизнь этих несчастных. В этом плане
не совсем точно говорить, что Робеспьер требовал всеобщего избирательно-
го права: он лишь оспаривал ценз, а это совсем не одно и то же. Требовать
всеобщего избирательного права — значит требовать в том числе устано-
вления определенных ограничений, которые после отмены ценза должны
определять условия применения гражданами своего права в соответствии
с такими критериями, как возраст, оседлость, пол и т. д. По именно для
того, чтобы не касаться этих материальных аспектов, Робеспьер ограни-
чился аргументацией от обратного, используя сугубо риторические доводы,
он утверждал, что гражданство проистекает из самой природы человека
и тем самым отрицал законность каких бы то ни было ограничений, ка-
роди адвоката перед Революцией <м. Kafirik L. Lea Avucaia. Entre I’Elai, le public r!
le nurche. XIIIе ~ XXе wdc. P.. 1995.
Оги республики к Террору
295
ких бы то ни было условий. Робеспьер не предлагал никакой политики* он
использовал политику. Сострадание ко всем и вся ни к чему не обязывало,
что позволило ему завоевать общественное мнение, ни разу не скомпроме-
тировав себя, и открыло перед ним широкое п<ие для применения таланта
мастера интриги.
В частности, именно для того, чтобы держаться в стороне си решении,
принимаемых Учредительным собранием, он практически глннствеиным
из находившихся на виду депутатов никогда нс входил ни н один из пар-
ламентских комитетов. Он оставлял за собой роль цензора. рвавшую м\
моральную власть вне Собрания, но обрекавшую на маргинальность вну
три него. Обычно не обращают внимания на то, сксмь уннк-* \ьна такая
стратегия. Если нас уверяют, что Робеспьер быпрежде но: п-интлк. м
к тому же весьма амбициозным, то это добровольное согласие на ни»
ляцию, на маргинальность, это добровольное дистанци^званне от раб<» ы
над созданием великой Конституции, которую все считали ъ то время
долговечной, выглядит, по меньшей мере, странно. Он*» протчо \ тзо •
ный характер, но оно также предполагает и неподдающуихя о6ъч« нению
глубокую убежденность в том, что когда-нибудь его страт?чня иг.лж» г я
вознаграждена н что в один прекрасный день Революция сама п.-мнчс
его над всеми. В таком случае не столь важно, что он всего ипиь одни
из многих представителен народа, поскольку он уже противиш?» гавил •< и
представительству, куда и сам был избран, — против»-и.•> - ,-.i - ели»-
ственньш представитель народа, как сто защитник в <тс-рниии
не имеющего никакого отношения к выборам.
Его влияние определяется речами, подкрег \ иными <• ч р< ш
ей. Это — речи, дающие институтам моральную оценку. »нг» т к< - и
зиждется на «неподкупности» Робеспьера, — речи от имени и
сомость которым придает нравственная чистота тот, к го гч . л
Иными словами, именно в этом, а отнюдь не в и г
ный терроризм Робеспьера, ибо подобная pt«ль и ч ..
даже самой демократии, если определять г -
необходимых для поиска единого решения с|*ди ч н>•: ,»н <
Его называют «Неподкупным^. однако это .
чает не только того, кого нельзя подкупить. • 1 лл. и<> < л
быть испорчен, кто неизменен, кто не умирает В си jmi
качествами обладает лишь суверен. Выр.. ь ।
рает» обозначало при Старом порядке вечшигь ( '>л< некий в л.** -
политического института, осношшного на sq сливам<; н
Нация также никогда не умирает. Принципы, им .чем юн» ' и > 'Ж-
ностные лица, неизменны, тогда как сами эти моди .дик другого,
непрестанно обновляясь. Именно поэтому основной приипян . ни
состоит а том, чти никто не может быть воплощение м < , . сн.ы
296
Илемтия и политика
Иными слонами, «неподкупность» Робеспьера поставила его вровень
с сувереном, выше избранных представителей. Они вскоре вновь вернутся
в лоно общества, которым им временно довелось управлять; они уйдут,
он — нет. В этом плане Робеспьер служит отрицанием самом демокра-
тии — системы, основанной на постоянном избрании временных правителей.
Ьдатдари неподкупности, придающей авторитет его речам, он встает над
демократией. Однак< эти речи в не меньшей степени антидемократичны,
чем титул. придающий им вес. Они дают опенку позитивного права с точ-
ки зрения выснгих моральных ценностей, что по определению исключает
всякую дискуссию и всякое несогласие. Робеспьер никогда не пытается
убедит своих слушателей в том, что он прав, а его противники не правы,
и что из разных мнений они должны отдать предпочтение его мнению.
Он не участвует в спорах, где сталкиваются по сути дела равноправные
точки зрения, среди которых надо выбрать одну или найти компромисс,
чтобы принять решение. Он — провозвестник истины, которая не вступает
ня в какие дискуссии и нс идет ни на какие компромиссы. Он изрекает «ис-
тину. — порой для того, чтобы указать представителям, чего они должны
желать, порой, чтобы напомнить им, чего они должны были бы пожелать,
если бы согласовывали свои действия с принципом справедливости. Эта
риторика справедливости отрицает всякие демократические дебаты. Она
объявляет разногласия незаконными, она превращает разнообразие мнений
не просто в ошибку — в преступление. «Всякий, кто не видит этой необхо-
димости, — заявляет он в ходе дебатов в июне 1791 г., — глупец; всякий, кто
се видит, но отрицает и не следует ей, — предатель» Кто не со мной —
тот против меня; кто против меня — тот враг справедливости; кто враг
справедливости — тот враг народа и Революции.
Несомненно, в Робеспьере не стоит видеть своего рода Савонаролу
века Просвещения, стремящегося подчинить общество своей концепции
добра. н< тины, справедливости и несправедливости. Савонарола был чело-
веком церкви, и хотя его вера заставляла его вмешиваться в дела общества,
она, а то же время, определяла формы и границы такого вмешательства. Он
и погиб из-за того, что. вопреки интересам своего дела, до конца продолжал
подчинять политику религии С другой стороны, требуя справедливости.
Савонарола обращался к традиции, хранителем, выразителем и гарантом
которой была церковь. В подобном контексте обращение к справедливости
не было пустым звуком. В применении к власти она способна была играть
сдерживающую роль, напоминая суверену об обязанности, которую тому
надлежало выполнять, а именно — не требовать ничего, что не было бы
М. (Euvrer Т. VII Р. 471-472.
См . Machiautl Diuourt ew la premiere decade de Tke-LiMe. Ill. 30 // Machiavcl. (ILuvrcs
complete». P 665; введение Жвма-Лун Фсрнеля и Жан* К-чода Заикарини к км.: Sauonurulc
Sermon», Р , 1993. Р.7— 44.
От республики < Тсмхюу
297
справедливым, что не было бы дозволено законом, внешним и высшим
по отношению к любой воле.
Но что же означали эти постоянные требования справедливости в устах
Робеспьера? В мире, где понятия справедливого и несправедливого не опре-
деляются более традицией, гарантом которой выступает власть, эти терми-
ны при использовании их в политических целях неизбежно превращаются
в политические софизмы, коими можно манипулировать по с поему усмотри
нию. Бенжамен Констан отмечал по поводу одного из Фрагментов «Духа
законов»:
Утверждать, что справедливость существовала до законна, озна-
чает утверждать, что законы и. соответственно, общая еюая, выраже-
нием которой они служат, должны быть подчинены спр
Но сколько же тогда потребуется уточнений, чтобы иметь возможшч гь
реализовать эту идею! И что же станет первым следствие м на г< го
высказывания Монтескье? То, что власть имущие нерелк< использовали
идею о том, что справедливость предшествовала законам для пи. чг - w
заставить индивидуумов подчиняться законам, имевшим обетную i юу
или же для того, чтобы лишить их возможности пользоваться благами
существующих законов, прикрывая притворным уважением к с пране л-
ливости самую вопиющую из несправедливостей 14
У Робеспьера же речь шла о сугубо риторическом довод- предназна-
ченным для того, чтобы навязать личное мнение н личный ыб ( пусть
даже вопреки самой справедливости и воле большинства. Фактически
это была стратегия перманентного государственного перг-.ц. , К..ь.уй
подобные риторические аргументы, он начиная с 1789 г •• шлд.г и >
бую попытку установить стабильный политический порядок, а в 1794 г
препятствовал всякому стремлению оспорить его соб hi н власть. 1лк.
обращение к справедливости вначале стало для него сред -м и.н нтъ •'*
цену, а впоследствии — инструментом господства
Для того чтобы составить себе полное подставление . \и
проводившейся под эгидой неподкупности и справедлив - н имо
упомянуть ее третий элемент — героизм Разуместсн, • . ; ». аг
реального поведения Робеспьера, а об еще одном фун- >
его дискурса, связанном, быть может, н даже о ч< в- • < » > । н ин
воспринимал свои обязанности. Тема «героизма . вс t заметная н сг
дискурсе, связывает его с революционерами нашего вы мени. - ждг-.-иыми.
что революция необходима (как проявление Г| < - ьн : д.зги*
тания), н в то же время неспособными предел гъ . ю она может
свершиться без их участия.
*8) Constant В. Pnncipct de politique applitAbki a (oui lee gtntvtfnanrnl» IIS! | I '
P 34-35.
298
/реология и псимгпика
Kai и будущим приверженцам исторических закономерностей, гряду-
щее виде ‘Л’ь f му одновременно определенным и неопределимым: опреде-
ленным. поскольку оно начертано в планах Провидения; неопределенным
поскольку его пришествию мешает столько противоречащих ему устрем-
лений и интересен. что вмешательство революционера оказывается просто
необ\ оно — единственное средство добиться свершения того,
чти 1л?м’ свершиться Соответственно, революционер — это не сугубо
пассивный служитель неизбежности. а герои. Он — инструмент судьбы,
он — тот человек, который, обладая смелостью, силой, добродетелью,
способен отказаться от всего, что столь привлекательно для обычных \ю-
ден. от денег, мобви. радостен мирной жизни... Благодаря своей жертве,
благодаря самопожертвованию он возносится над другими людьми, над их
желаниями. страданиями, нормами, которым подчинена вся их жизнь, он
не проя&кягт жалости, поскольку заботится о своем собственном благе;
он ехбречен на смерть, поскольку известно, что она суждена каждому, кто
сражается за благо людей, с чьей посредственностью и злобой ему прихо-
дится сталкиваться ежедневно10'. Задолго до эпохи Террора лейтмотивом
рсюеспьернстекого дискурса стала мысль о том. что трагическая судьба слу-
жит неизбежной платой за героизм и добродетель. Это отнюдь не фигура
речи, предназначенная ли восторженных н чувствительных душ тех дам,
которые лоемлн каждое его слово, начиная еще с выступлений в Якобин-
ском клубе. Тема жертвы неизбежно соединяет в себе два противоречивых
аспекта, составляющих идею революции: сугубо субъективная концепция
революционного действия под прикрытием объективности.
Радикальный субъективизм. власть, основанная на риторике спра
веддивотп мнф о неподкупности как средство идентифицировать себя
с народом-сувереном. Все это не робеспьеристская идеология града буду-
щего — это робеспьеристская политика, и именно она позволяет понять
роль Робеспьера в Терроре (если не происхождение самого Террора). Сто-
ит .хм тогда еде чать вывод о том, что Робеспьер изменил свое поведение •
влиянием ог'стояте чьств, что рост оппозиции и непрестанное возникновение
прс/тивоборствух»щмх фракций — добавим сюда также изоляцию власти —
неизменно уъодили его все дальше и дальше по пути насилия до тех псу
пока он не п.тгерял из виду изначально поставленную цель и не начал z •
нзтъ. что республика совершенно невозможна, пока «порок» и «коррупция
не стерты с лица эемли^ Именно это утверждает Эдгар Кннэ:
ПоАСмкгнне быю отчаянным, чем больше система противоречива
целям Робеспьера, тем упорнее он м нее боролся, до тех пор. пока
О режидзуяакжзм п^ъгжповимг « его связи с террормэмом см.. Raynmd Ph L-* ong
юг» ofrflrriurlWt du tr-f.nwne // Fire! F. Limers A. Raynaud Ph Tenontme ci den-*« - -
P . 1965. P 55-135 N. в особгхюсти. те стрямыцы на которых идет речь о работая Ир J
Сгтикра (•Адаочея iuro Тсттотшиа», 1981 -1962).
On? республики к Ttpfnog
299
не затупил свой гонор Вместо того чтобы осознать. что срелстыэ ни-
куда не годится он надумал усугубить Террор преркальскмм .мксикош
и перебить террористов < . > Поскольку на этом пути его прмотгпше
требовалось все меньше и меньше, он нашел убежище от ежедневных
просчетов н от нарастающего ужаса в идее добродетели ммжстьованнеД
у стоиков и Руссо. Он дошел до того, что убедил себе единственное,
что ему мешает, — это пороки, а воина, которую ом веч при помо
щи эшафота. — это воина добродетели против порока. < > Чем
больше он приближался к кризису, тем больше по мстмчеч. хи? i
превращавшись дшя него в моральные. Поглощенный тем. ~и он налы-
вал добродетелью, божеством свирепым неприступным, он ни во что
не ставил человеческие жизни, которые приносил в жертю чтобы при-
близить ее царствие. Витая в кровавых облаках он надел ы: а еггтмпрнтъ
не просто народ, но народ добродетт.шьиый без пороков и сч^бжттм
не принадлежащий к роду человеческому-ч 1
Эта трактовка находится на грани между политикой и психологмгч
Частично она, несомненно, верна и помогает понять постепенное исчез,
новение республиканского дискурса, на смену которому пряхе :ит другой
н единственный дискурс, посвященный утверждению добродетели посред-
ством Террора. Другое частичное объяснение касае* я влаин .
между насилием и идеологией: если невозможно вывести Тер<юр и? идее
логин, то возможно, напротив, вывести идеологию из Террора * насилия.
И в самом деле, постоянная интенсификация насилия в 1793 н ' '94 гг. v и-
.кивала нужду в вере и в идеале. Таким образом, идеология добро.-?-*?
общества выполняла компенсаторную функции
Именно такова гипотеза, выдвинутая Гюлельмо Фт.рер Н •- м
больше эти несчастные, мучимые страхом, проливали кровь, — • ^ч :•
о революционерах, — тем больше им нужно было верить в сэсж . ы.
как в абсолют. Только абсолют мог оправдать их перед с*жн с снастью
и поддержать их иссякающую энергию. Якобинцы прошли польке 'ровм
не потому, что они считали народный суверенитет ,эели .<
они были вынуждены видеть в народном су вгонит* - »мгмс • < :.
поскольку страх заставил их пролить столько н Ь-. гю.
понятий Французская революция оказл* кь ( j •« - >
гранной пьяными актерами <.. > Именно страх и - -
привели Революцию к тому, чтобы сделать „Общ инг дагшм» ,
Библией, а Руссо — своим Моисеем* В то Ву<мя кд» Зхг: Кян
Qwnef Е. La Revolution. Р. 575—576 Гкслг п?г*чжк <я
Прибег к аналогичным рассуждеммлы • <жмеми*м с А^— Пгйра
См.. Furtt F Jules Ferry el ГЬншге de U R/vohaion Тгап^мм h irw.-x au ->• Ute
d Edgar Qiunrt. 1665-1бб6 // Jule» Fem Modairur •? U R/,.. Ld F Fhtk P
P 15-22
Ferrero C Pouvou P 99—100.
300
Илео.юшя и политика
объясняет царство утопии в эпоху «Великого Террора» изоляцией власти,
Ферреро видит необходимость на фоне действительности, становившейся
с каждым днем все более кошмарной, постоянно выдвигать идеал все более
возвышенный, все более недостижимый.
Эти интерпретации разрешили бы проблему, поставленную робеспье-
ристским <Великим Террором», если бы речь шла о двух последовательно
существовавших дискурсах, если бы террористический дискурс пришел
на смену республиканскому как очевидное свидетельство кровавой переме-
ны курса. Однако речь идет совсем о другом: оба дискурса расходились все
дальше и дальше друг от друга, однако от начала до конца они существовали
одновременно. Именно поэтому, например, столь сложно интерпретировать
речь Робеспьера о культе Верховного существа: она соединяет в себе тему
революции с темой республики в то время (в мае 1794 г.), когда, следуя
за Эдгаром Кимэ, мы могли бы предположить, что Робеспьер должен был
уже покинуть берега политики и плыть по волнам смертоносной утопии.
Робеспьер развивает в этой речи обычный для XVII1 в. сюжет о соци-
альной пользе религии, и в ней можно найти немало следов приобретенных
им в коллеже знаний и немало параллелей с книгами, где ему встречались
эти темы: Роллема, Мабли, Руссо, Неккера22\ Однажды в Якобинском
клубе он уже вспоминал слова Вольтера о том, что «если бы Бога не бы-
ло, его стоило бы выдумать», чтобы поместить объединяющий общество
принцип в центр современной вселенной, поскольку ей постоянно угро-
жают разногласия в силу самой идеи, на которой она основывается. —
идеи автономии личности. Становясь необходимой из-за «недостаточности
человеческого разума», религия внедряет в сознание «идею о том. что
моральные заповеди узаконены силой, которая выше человека»: религия
составляет паллиатив воздействия законов на нравы (эффективность ко-
его весьма относительна), склоняя людей к добру, тогда как их желания
и интересы подталкивают их скорее в сторону зла. Поддержка религии по-
могает им вознестись «до небес», не позволяя сползать в «отвратительную
пропастю частных страстей. Религия для республики необходима.
Кажется, что. утверждая это, Робеспьер объявлял скорый конец Тер-
рора. Провозглашая религию не только полезной, но и необходимой для
сохранения республики, он признавал неустранимость частных интерес* н
и делал вывод о том, что даже после Революции понадобятся институты,
которые не позволят людям опуститься. Однако идея Бога не менее истин
на, чем полезна. Объявляя ее истинной, Робеспьер вызывает Бога из ег
изгнания, провозглашает возврат к обычному порядку вещей, прскращенн
революционных отклонений от магистрального пути, а также — социаль
ных распрей, отсюда проистекающих. Шарль Нодье справедливо отказался
присоединится к хору насмешек, которыми часто осыпали робеспьерж
Robcipicrrt М. CEuvrea. Т. X. Р. 442—465.
От республики к Тероооу
301
ский культ. Для того чтобы правильно оценить его. пишет он. необходимо
потрудиться перенестись во времени. Ничем более не сущссгчво*мло.
[И именно] тогда был заложен краеугольный камень нарождающегося
общества»
Без сомнения, Робеспьер не провозглашал ни возвращение священ-
ников, ни тем более возрождения церкви, несмотря на то что именно
в этом уверяет нас Олар, считая, что возвращение католическом Франции
Бога непременно влекло за собой возвращение к католицизму, что догма
порождала культ, а культ ~ своих служителем 24Скорее следует полагать,
что гражданская религия, предложенная Робеспьером, таг сказать свелемиг
различных догм к наименьшему общему знаменателю — к морали, имела
целью сохранить на службе государства все, что было в религии полезного
с социальной и политической точки зрения, готовя одновременно раз-
рыв иерархических связей между церковью и государством, уставов'ениых
гражданским устройством духовенства 1790 г. Не исключено, что культ
Верховного существа представлял собою решающий шаг на пути -делени
церкви от государства, которого многие требовали еще начиная 1791 г
и к которому благосклонно относилась часть депутатов-мешаньяров —
в особенности те, кто входил в Комитет общественного м ра* ва|ыя,
заседали Робеспьер и Ромм25\
Относительно же судьбы священников и католического культа по-
сле провозглашения новой гражданской религии Робеспьер высказывался
по меньшей мере, двусмысленно. С одной стороны, возможна л тог.
чтобы задобрить ту часть Конвента, которая приложи а руку к • > Ьто-
во время дехристианиэации, он обличал «-фанатизм и «шарлатането
священников, советовал предать старую религию забвению и пиицюннтъ
«заблуждения»... Но, в то же время, он заставил подтвердить дек^т о св«<
боде культов и поддержал, хотя н в завуалированной Тк имг г р
устройство духовенства 1790 г., напомнив что в опросах, моющих <
древнего и глубоко укоренившегося культа, следуй .•< тн • < < с» .<
и осторожно. Не встал ли он тем самым на путь примирения в т> м важней
тем вопросе, который разделял француз в начиная г 17S9 г J В ?. м «ми
речь от 7 мая не просто провозглашала чти лм« ветоющнх ,• а /щин . л ,н
наступят лучшие времена: она позволяла надтото. я, что л-и . г,.*< > <
ний рубеж близок. Казалось, что так око и есть. • • но и г.пн
закрытые с предыдущей зимы, после публикации декр- • и 7 ' я -кг ь
начали открывать свои двери. Современники ч «i •> к
Nodier Ch. Recherche» sur I -i (Euvres tw
Geneve. 1968 12 vol. T. VII. P. 262-263.
“^См., в частности: Aulard A L’fJoquence parlemeuiaur :<nL ь Hr- Lu us
de la LegiJalive el de la Convention. P , 1885- 18H6. 2 vol T II P 354-376
По этому вопросу см. у того же автора Les engines de la Mparatwn k a U ' <
302
Идеология и политика
Верховного существа. которым руководил Робеспьер 8 июня, пользовался
у народа успехом. Общественное мнение настолько жаждало хоть каких-то
признаков смягчения политики, что услышало лишь заверения а сохране-
нии свободы культов: казалось, что, возвращая Франции Бога. Робеспьер
провозглашал скорое наступление мира; казалось, что возвращая верующим
право верить, он обещал столь долгожданное «спокойствие»
Но. в то же время, сколько же было скрытых угроз в речи от 7 мая!
Убеждая, что здоровое общество не может основываться на неверии,
и показывая разлагающее действие атеизма, Робеспьер припомнил даже
гонения на Руссо. Особое внимание он уделил истории фракций, которые
с 1789 г. неустанно приходили на смену одна другой, разлагая общество
и не давая народу избавиться от деспотизма. Были названы и имена,
но только тех, кто потерпел поражение, кто погиб; о других же он умолчал —
о тех, кто еще был жив. Но многие из его слушателей могли разглядеть
свои имена за именами ушедших. Каждая проскрипция в прошлом сулила
проскрипцию в будущем; обещанный конец Террора превращался в угрозу.
Враги народа, кто бы вы ни были, никогда Национальный Кон-
вент не поощрял вашу порочность <...>, и национальное правосудие,
среди поднятых фракциями бурь, умело распознавать заблуждения за-
говорщиков: оно твердой рукой останавливало порочных интриганов
и не затронуло ни единого хорошего человека.
Это уже закон от 10 июня, это уже речь 26 июля, одновременно
успокаивающая и угрожающая. Робеспьер, с одной стороны, намекает
на близкий конец Террора, с другой — провозглашает его усиление;
одними и теми же действиями он делает его бесконечным, превращая
в этический критерий, позволяющий ему четко отличать добрых от злых,
добродетельных от испорченных, патриотов от контрреволюционеров, народ
от его врагов.
Для каждой аудитории свой дискурс. По сути дела, он выступает
в роли фокусника, отлично овладевшего великим искусством жонглирова-
ния словами, тактического использования различных значений своих речей.
Но разве революционер — не манипулятор словами, чьи речи нужно читать
между строк, связывая с требованиями текущего момента? Робеспьер —
отнюдь не вдохновенный фанатик; он, если можно так сказать, точно
такой же революционер, как и остальные; без сомнения, более умелый,
но столь же вовлеченный в бесконечную борьбу за власть наряду с осталь-
ными и против них. К психологическим факторам, о коих речь шла выше,
надо также добавить и сугубо политическое объяснение перехода к Тер-
рору (и особенно к «Великому террору» 1794 г.). Целью теоретического
осмысления Террора, которое Робеспьер давал в длинных речах, было
Nodier I h. Rc. hrгсhrs лиг l eloquence rcvehilionnaire. Р. 260—270.
От республики к Террору
301
достижение не царства добродетели как чего-то реального, а куда более
конкретные вещи — головы Эбера и Дантона, позднее — Талъсна. Футе,
его коллег и соперников по Комитетам...
У «нравственно испорченных людей»», проскрипции которых он тре-
бует. есть свое лицо: он не называет их имен, но они себя узнают.
Разработка все более и более экстремистской теории террора требовалась
не в силу постоянной радикализации цели, которой необходимо было до-
стичь. Ровно наоборот: Робеспьер устанавливал для Революции е более
и более абсолютные пели, чтобы умножить препятствия, драматизировать
обстоятельства, создать новые противоречия, которые позволили бы ему
покончить с противниками его собственной власти. Таким образом, речь
шла о власти и прежде всего о власти, а лишь затем куда в меньшей степени
о республике и добродетельном обществе.
Цель речей, проповедовавших искоренение порока и уничтожение кор-
рупционеров, — отрубить головы Фуше, Бийо-Варенну. Колло д’Эрбуа и
наконец, сосредоточить в своих руках всю полноту власти. Из»/., чтение
категории «враги народа», посредством чего политика обращалась в .мо-
раль, придавало Террору безграничный размах с вполне реальной целью
уничтожить ряд жертв, чья смерть должна была продемотт ристать су.
ществование огромного количества «врагов народа Ji tn ко ;= \я? »i
не следствием какого-либо идеологического фанатизма а ч^дсгвом ради-
кализировать конфликт, вызвать новые опасности и новые расколы, чтобы
усилить и упрочить власть.
Сценарий хорошо известен: он не перестает повторяться в»»т уже дн*
века. С этой точки зрения все революционные режимы похожи друг ил дру-
га. Достаточно бить наугад. Точно также Мао устроил а К » п г
баню так называемой «культурной революции . чтобы на самом \с вн.»
овладеть верховной властью, от которой его отстранили в i960 »
главить верхушку и подчинить себе подвергнутую чисткам партии Uk
и Робеспьер настаивал на уничтожении врагов народа, вновь и ви- н.
новляя Революцию и Террор, чтобы, намеренно ’дым. п । ш .. хлдин ,
устранить своих непосредственных конкур: чн и \ н . н *нн
жить остатки эбертистской и дантоннстскон фракций, само . j ».•♦» _
которых представляло дхя него угрозу.
В своей последней речи, произнесенной перед К «
(26 июля 1794 г.). Робеспьер, на самом деле, не скрывал сии к ымгрс
ний. Он без прикрас объявил о начале широкий чистки и рео »! ,ча «..ши
См.: Leys S. Les Habits neufs du ptesideitt Mau [19/11 Ley» S' \ \ u »ih.<-
P., 1998. P. 13—52. С тем же успехом я миг бы прим*™ о «мер гпамжкнх чипм.
подчинявшихся тем же механизмам См очень четкий анААНа а ним.- Buttix* Я НМл г
Staline. Vies parables [ 19911. Р.. 1994. 1 vol Т 1. Р. 499-560
304
Идеология и политика
революционного правительства, что должно было дать ему безграничную
власть:
Заявим же прямо, что существует заговор против свободы обще-
ства; что его сила в преступной коалиции, интригующей даже в стена*
Конвента; что у этой коалиции есть сообщники в Комитете общей бе-
^опас ности и в различных бюро этого Комитета, где они преобладают;
что враги Республики противопоставили этот Комитет Комитету обще-
ственного спасения и тем самым создали два правительства; что члены
Комитета общественного спасения замешаны в этом заговоре: что цель
этой коалиции — погубить патриотов и родину. Каково же лекарство
от этого зла? Покарать предателей, обновить бюро Комитета общей
безопасности, очистить сам этот Комитет и подчинить его Комитету
общественного спасения, очистить сам Комитет общественного спасения,
обеспечить единство управления под верховным руководством Нацио-
нального Конвента, который является его центром и его судьей, и тем
самым уничтожить все мешающие национальным властям фракции, дабы
воздвигнуть на их руинах власть справедливости и свободы28).
Можем ли мы предполагать, что, победив, Робеспьер отложил бы
топор и провозгласил установление в республике того «естественного и мяг-
кого правления», о котором он изначально говорил? Здесь мы прикасаемся
к тайне намерений, которую он унес в могилу. Речь о культе Верховного
существа позволяла надеяться на мирное будущее, однако после приня-
тия закона 22 прериаля (10 июня 1794 г.) на мгновение приоткрывшаяся
дверь закрылась вновь. И когда в своей последней речи он потребовал
диктатуры, то ничто не сказал о том. что за этим последует. Даже если
поверить, что попытка переворота, предпринятая им 8 термидора, имела
целью произвести последнюю чистку, не исключено, что та неизбежно
повлекла бы за собой новые «самые последние» чистки для уничтожения
врагов, которых каждая чистка ему бы создавала. Однако, вероятнее всего,
что, победив, Робеспьер был бы вынужден так же, как и его собственные
победители, постепенно демонтировать систему террора, которая позволяла
ему удерживаться у власти. Потому что в тот самый момент, когда борьба
за власть достигла своего апогея, поднялась волна, которая за несколько
месяцев после 9 термидора потрясла, а затем и разрушила все здание.
Развязка
Культ Верховного существа нашел своих приверженцев. Тем не менее,
он не успокоил Конвент относительно намерений Робеспьера. Тот, кто умел
понимать скрытый смысл в речах власть имущих, не находил для себя
ничего утеши тельного в словах, произнесенных после 7 мая, так сказать,
Robespierre М. CEuvree. Т. X. Р- 576.
Развязка
305
официальными интерпретаторами своего хозяина Истолкование сказанного
нм кутонами. пейянами и прочими жюльенами совершенно не предпола-
гало смягчения политики Марк-Антуан Жюльен, увлеченный юношеским
порывом, проявил в Якобинском клубе такую свирепость, потребовав про-
скрипций для всех атеистов, что Робеспьер вынужден был вмешаться, за-
метив, что, хотя это предложение и соответствует ипрово оглашенной Руч со
истине», его реализацию следует отложить, чтобы не вызвать ужа< v -мно-
жества слабоумных или морально испорченных людей Жюльен снял сяог
предложение, но, тем не менее, подал в Конвент полное угроз обращение,
предложив атеистам публично объявить о своем неверии -и 1 |о пусть тот. кто
осмеливается говорить, что он не верит, предстанет перед француз-
ским народом, перед человечеством и природой^ Угроза была иена, <
ясна, что вскоре даже такие видные дехристианизаторы. как Руане. Каррье
или Лекиньо, бросились публично каяться и заверять в ортодоксальности
своих религиозных B3rABAOB29L И несмотря на то. что через несколько
дней после покушений 23 — 24 мая Конвент сплотился вокруг Робеспьера,
уже было очевидно ослабление его поддержки со стороны час:»! депутатов
Так, Дизе, который в марте заверял, что он «со всем довернем идет* *
за Робеспьером, 25 мая писал: «Я скажу, что для спокойствия Кшшнта
необходимо, чтобы Робеспьер оставался жив. Другие считают по-иному
Однако он уже не столь уверен в искренней приверженности Робеспьера
к свободе и добавляет: «Возможно, он и не изменится, но повод уж ольно
соблазнителен»
Закон от 10 июня рассеял все иллюзии. вызнав у Конвента ужас.
И не только его депутаты поняли, что новый документ ози.гин-т не прост.,
расширение юридической базы Террора. В этом можно у' <‘ пиься. и; <х м<».
трев полученные Конвентом адреса Разителен кош pari между типы
требовавших мести петиции отправленных п» < ле покхшсиий киши m im,
и горсткой адресов, приветствовавших принятие закона < г 10 нюня 111
Можно, разумеется, выдвинуть гипоте зу о том. что шмлг прими ин ..очи
на власть совершенно не нуждалась в поддержке обп.чты-шюго мнения
и, соответственно, ее нс требовала. Но можно по мотреть на эгнт •[><-
номен и по-другому, увидев в нем гниде :елг>гпм» аотпночин пусть
даже весьма относительной — рс1и»люцнонн.ио </• . ин . мн* пня
по отношению к власти. 1 кхкольку тогда лишь [К и »л. г.кинг;и м ; mi
принимать участие в публичных дебатах (н то лшпь л » н»го, чп-ом
Rccueil de cloctiiiivnu |кдц Пн»||нге du club dr* J.koLuu / Г..I \ AuMid 1 VI.
P. 131-137.
Dyzci ] Cunгнршнlilllic. P. >17 - 518.
* Aeipi’Hp UdtMHTAA mx ficcru деиятъ. ими» и» xnr»|»«t стцмшлгиы н« лгнмрт.1мс»пов
Сонма-н-Луapd н Кат-д’Ор. ь «kuGouroctm из Семмдо-днЮнсул. нывшим м^м»м xutujMMu
был Дюма, председатель I’шммклципиииге грнбумдлл. /лД/ч/ге ( Sui U й du 22 pr^in^l ап II
Р. 249-250.
20 Зм IЬЬ
Им о uif ин и nu.iumund
продемонстрировать свое согласие с правительством). почти единодуш-
но? MUA'MHHr, ССЯЦЮИОЖДйИШГС принятие закона от К) июни, могло быт!>
знакам непде/«рении, по крайней мерс. со сторюны части революционных
активистов.
Вторую гипотезу подтверждает и то, что происходило и Париже, когда
там узнали о победах при Шарлеруа (25 июня) и Флерюссе (26 июня).
Одновременно с забастовками парижских рабочих, протестовавших против
установления революционным правительством максимума заработной пла-
ты, стало шириться движение в пользу отмены внутренних ограничений
и возвращения к законности 11оставитъ подпись н поддержку Конституции
1793 г., как стал предлагать гражданам с 19 июня комитет секции 1оры,
означало продемонстрировать желание отмены революционного правитель-
ства и Террора Хотя па этот призыв откликнулось две тысячи граждан,
инициатива исходила не от народных масс, которых давно уже застави-
ли молчать. Она исходила от революционеров, занимавших руководящие
посты, от тех самых людей, кто в 1793 г. заставил Конвент поставить
Террор «в порядок дня» 32). Движение было настолько мощным, что Колла
д’Эрбуа счел для себя выгодным 28 июня поощрить его, заявив с трибуны
Конвента: Тражданс представители, установленный нами порядок вещей
таков, что революция теперь состоит лишь в постоянном и ежедневном
проявлений строгих и плодотворных добродетелей»
Тем самым Колло дал понять, что Террор достиг своих целей. Как
и следовало ожидать. Робеспьер не разделил этого мнения. Поддержанный
Пейаном, он выступил несколько раз, добиваясь запрета братских трапез,
организованных в честь верной годовщины Конституции 1793 г. «Истинная
победа. — напомнил ин 9 июля. — это победа друзей свободы над
фракциями. Именно эта победа принесет народам мир, справедлижд ть
и счастье»/
Он вновь вернулся к этой теме 16-го, а затем и 26 июля, напомнив
о заговоре, имеющем своей целью «немедленное и буквальное исполне-
ние Конституции, неограниченную свободу прессы, уничтожение Револю-
ционного трибунала и освобождения заключенных», — иными словами,
окончание власти идеологии над политикой.
См Mulhicz A l-a cefnpagne ronUe Ip gouvrrnemtnt ttvoliftivnnaifr i Id vrillc du
titermid'X. L JL»ire I^guy // AHKL 1927 P. 307-319; а также о братских трапгым
орглижX'fctfHhWA f I'dpf^e x 14 ик>лл 1794 г., гы Sobuul A. I-е» S*i»*-C\ilofu •
de Гап IL P 980-W.
5ЪМгяпЬш TXXXI P 84-65
RubeifHenc M CEuvrei T. X P. 721 12 июля Пеиан, по сниму 6<мг-
грубый. рлх/>А4чмд а^>жТ')К(мтмчгский jMnjtMjp. имевший целью убедить народ, что (Ve*
АК»цнм окончен* «Лишь 6 лее длительными, лишь 6/».we гижкими ус илиями вы купите меч
< > отгулжмнш в налыкдгмых друягй мира» (Mulhtu A Li гшпра#ы cuuicr
le guuve/riPniriH revoluliofwitfwe. Р. 307- ЗОН)
Раялячиа 307
I It часто упоминают о том. что это движение мродил<х h п среде самих
активистов Террора Оно свидетельствовало о ияра ставня-и политической
ИЗОЛЯЦИИ Роб<4 ГТЬГрЛ. а ТИКЖ.Г, На 4МОЖНО. И О его ИДГ< »ЛГГГНЧе< ИОН »<*•«» ЛИГ НН
Целью культе ВгрХИННОГО СуЩгСТВ.Э быЛО ДДГЪ 7гр|Н>ру ИЛРПЫГИН».
н которой он столь нуждался Как мы видели, этот культ во ими морлм»
одобрял действия террормгтгя). чуждые шик Й море mi вообще < hi придал
революционному Правлении; легитимность, иг сияллнмун) КАКИМИ бы го
ни было ссылками на реальные или вымышленные обстоятельства И. на
конец, этот культ способствовал увековечиванию, укреплению и, особенно,
централизации революционного правления в интересах Робеспьера, яо«лг>*
жив на того миссию толковать законы 11рс>нидсния Одни»- ътоная попытка
потерпела полный крах. Для тот чтобы завербовать гебг бодыное чи< а
приверженцев, идеологии должна быть простой Ч*-м прощ» она выглядит,
тем больше шансов, что в нее поверит, поверят жт; а это. н нон; очередь,
требуется, чтобы обеспечить аппарату сплоченность и ди» цнп аини| иным-
иостъ, необходимые для его деятельности. Однако отнюдь не о невидно и.
более того, весьма сомнительно что размышления И»<.»•• оы-рл мгр
тин души обладали этим достоинством. ( одной <тп|м»ны они гдпз м<
были понятны селянам, на чьих плечах покоилось гмнованнг пирамиды.
С другой стороны, основную массу активистов 7rpj < .j Ли иг и ырк
нем, то в нижнем янслонс — составляли вег еще тг. кто был прнтолн
и сформиронался в то время, когда ведущая роль принадлежала »бгртм' там
Предложить активистам, осуществлявшим д<-христианч ыцию. идею Бога
в качестве объединяющего Ц»актори и обоснования необходимости подчи
нения, было, вероятно, не лучшим способом обггпгчито шилрагу Террора
сплоченность и дисциплину, Зто заметно даже по ятооннолм. мя, • г • <« >
присоединившимся к культу Верховного существа лиш? пу< ги иг к мо. /ха
и то в результате настойчивого «пригла1игния.> кд г ному Ро<>< r.rv ; , м,
торос поддержал Жюлычг В преддлсриг же гряду!них «н« о.»: ил<. ть
и дисциплина были особенно необходимы. И» л or- уо । иия ыыйки кою
рук; не смогла дать рЮсспьеристемам (религии, террор а нчг-хин липераг
зашатался при известиях о первых гюб» дал.
Вначале треснул (|>уидамгмт; ж’рхушкл рудиулл лишь нос аг 9 ггрмидмр.ь
под давлением общественное мнении Как и wet п»»>, Ры • i ' <ъ\.•> с мгт»»ц
не волной неприятия IrppofMi, которая начала гюднммаНэ я ► мцл к» ня
а своими соперниками стремившими# я моишныг н*. - > I , *»р именно
им он угрожал, готоля новую чистку и реорганизацию реш»АЮЦКОН1ЮГО
иравигельства Однако с падением Робеспьера 1ер(л>р сжазался обречем
Робеспьер прен(>атил Террор в добродетель. Ом воплотил » нем вег.
что только есть абсолютиоп» в революциях, — стремление к чистому,
непорочному миру, лишенному зла н сно« й истории, Ьлаюддря тму Ггрр«ф
получил наиболее крайнее и чистое выражение За эти |цнгделы он кыйги
уже не мог. Именно поэтому после 9 термидора ин один чгл»<ым не смог
20-
308
Илеолошя и политика
и даже не пожелал взять на себя ту же роль, которую играл Робеспьер
Никто не смог, поскольку Неподкупный не может иметь наследника —
я в самом деде, что такое новый Неподкупный? Никто не пожелал,
поскольку неподкупность — это по определению личная и абсолютная
власть, иными словами, устранение всех других претендентов на власть.
Таким образом, никто из термидорианцев не захотел подхватить этот
факел, поскольку все стремились договориться между собой на условиях,
гарантирующих хотя бы относительную безопасность, что невозможно без
установления определенных правил, а, значит, и без законности. С этого
времени, хотя новая ситуация и осознавалась лишь постепенно, Террору
приходит конец.
Смерть Робеспьера — больше чем смерть одной личности. Она.
по меньшей мере, обозначает конец целой эпохи, и даже (здесь я согла-
сен с Мишле) смерть Революции Многие историки останавливаются
на 9 термидора, некоторые, возможно, от скуки, но большинство навер-
няка погону, что считают цикл завершенным после казни Неподкупного
и его сторонников. Спору нет, 9 термидора не положило конец Террору
в один момент, поскольку выход из Террора» оказался долгим процессом,
растянувшимся на многие месяцы56^. В этом смысле событие, начавшееся
а 1789 г., продолжалось. Но, в то же время, смерть Робеспьера ознамено-
вала окончание наиболее неистового периода Революции. Она завершила се
наиболее утопическую и наиболее жестокую фазу, положив конец великой
мечте 1789 г. о полном переустройстве общества, абсолютном обновлении,
новом золотом веке.
Хотя 9 термидора и не одарило Революцию второй молодостью —
это меньшее, что можно здесь сказать, — оно одновременно стало и завер-
шением. и началом. Им завершилось царство утопии и поисков абсолюта,
начавшееся в 1789 г (с этой точки зрения, в 1789—1794 гт. имела место
едьная революция), и была открыта эпоха политики.
В данном отношении Термидор стал благотворным кризисом, сделав
шим революционеров циничными и усталыми. После пяти лет револю-
ционного опьянения опыт Термидора отрезвил их и заставил избавиться
от немалого числа верований и иллюзий 1789 г., свидетельством чему явля-
ется Конституция III года (22 августа 1795 г.). Она далека от того, чтобы
стать новой революционной Конституцией, дополнением к Конституциям
1791 и 1793 гт; напротив, она показывает, насколько те. кто пережил
Террор, порвали, благодаря этому опыту', с принципами, считавшимися
начиная с 1789 г. неприкосновенными и священными: от однопалатности
парламента до слабости исполнительной власти. Появляющиеся с 1795 г.
См.: SLcheld /. Hirtotre de h Revolution fran^aite. T. 11 P. 990
О постепенном демонтаже системы Террора сикле 9 терммлора см Baciko В. Comment
ютит de h Тепе иг
Po*RW<KG
309
идеи во многом ковы, хотя сама эта эпоха и началась довольно отвра-
тительно и даже жестоко, что было наследием революционных времен
Гибель Робеспьера — смертельным удар, нанесенный иллюзиям и мечтам
1789 г. И в этом плане ее последствия далеке выходят за пределы прстпго
разрушения системы власти
Именно здесь, без сомнения, и кроются причины нелюбви истори-
ков к Термидору: они слишком любят Революцию. Однако это и мешает
нм осознать оригинальность той эпохи, когда избавление от политические
иллюзий позволило перейти к реальной политике, с ее осторожностью, рас-
четом и компромиссами. В этом смысле 9 термидора можно рассматривать
не только как конец Революции. Помимо всего прочего, разве не начинает
Мишле с 9 термидора свою «Историю девятнадцатого века» — века,
по преимуществу, политического? 57)
Nuheld J. Hutuiredu db-neuvjemr tieclc P. 1872-№75. ) vol
Оглавление
От редактора перевода........................................ 0
Введение . . . ......... *................................ ®
I. Насилие и Террор.........................................
Между насилием и террором............................. 17
Польза великих примеров........................... 22
Чрезвычайные законы и законы террористические......... 26
Террор и легитимное правительство..................... 29
Истребление — высшая стадия Террора................... 33
II. Французская революция н Террор............................ 35
Французская революция в зеркале революций............. 35
Революции Американская и Французская.................. 44
Наследие абсолютизма.................................. 48
«Аристократический заговор»........................... 53
От оппонента к врагу ................................. 55
III. Наставление «Друга народа»............................... 58
Деспотизм, диктатура. Террор........................ 60
Народное понимание суверенитета....................... 65
IV. Учредительное собрание:
между принципами и средствами................................. 69
Комитет расследований . ............................... 69
Преступления против нации.............................. 80
О влиянии аристократических нравов..................... 85
Собрание под надзором? ................................ 96
Поворот 1791 года..................................... 105
V. Обстоятельства и война................................... 108
Террор и теория обстоятельств......., ,............... 108
От Варенна к войне.................................... 116
VI. Начальные шаги Террора (1791-1792)...................... 130
Первые чрезвычайные законы............................ 130
Между войной и чрезвычайщиной......................... 136
Оглавление
319
VII. Общественный договор
как обоснование чрезвычайных мер......................
Конституция и чрезвычайное положение...........
Общественный договор и чрезвычайные обстоятельства .
Локк и чрезвычайные полномочия ................
Размеры народного согласия во II году Республики . . .
Эмиграция: от преступления к обязанности.......
Война, общественное спасение, суверенитет......
VIII. Якобинизм, демократия и Революция
Случайность и необходимость, гипотезы.......
Якобинизм и демократия ........................
Якобинский дискурс и Революция..............
Якобинская партия .............................
«Якобинский дискурс»?.................... »
IX. Движущие силы Террора.....................• •
Революционная динамика .........................
Зловещий итог..................................
Анархия и разгул насилия....................
«Адские колонны»...............................
Революционное правление........ ...............
X. Прериаль.........................................
Происхождение закона от 22 прериаля .
Достичь «единства управления» ... .......
Закон и его применение...................
«Наказать врагов народа» .............. • • • •
Царство добродетели................ ........
XI. Идеология н политика.................
Робеспьер: (республика и добродетель ...
От республики к Террору........... . .
Развязка........................... * •
Именной указатель ....................
из
143
147
152
157
160
164
175
176
179
188
192
197
203
203
209
216
228
240
247
247
252
257
262
269
283
283
292
304
310